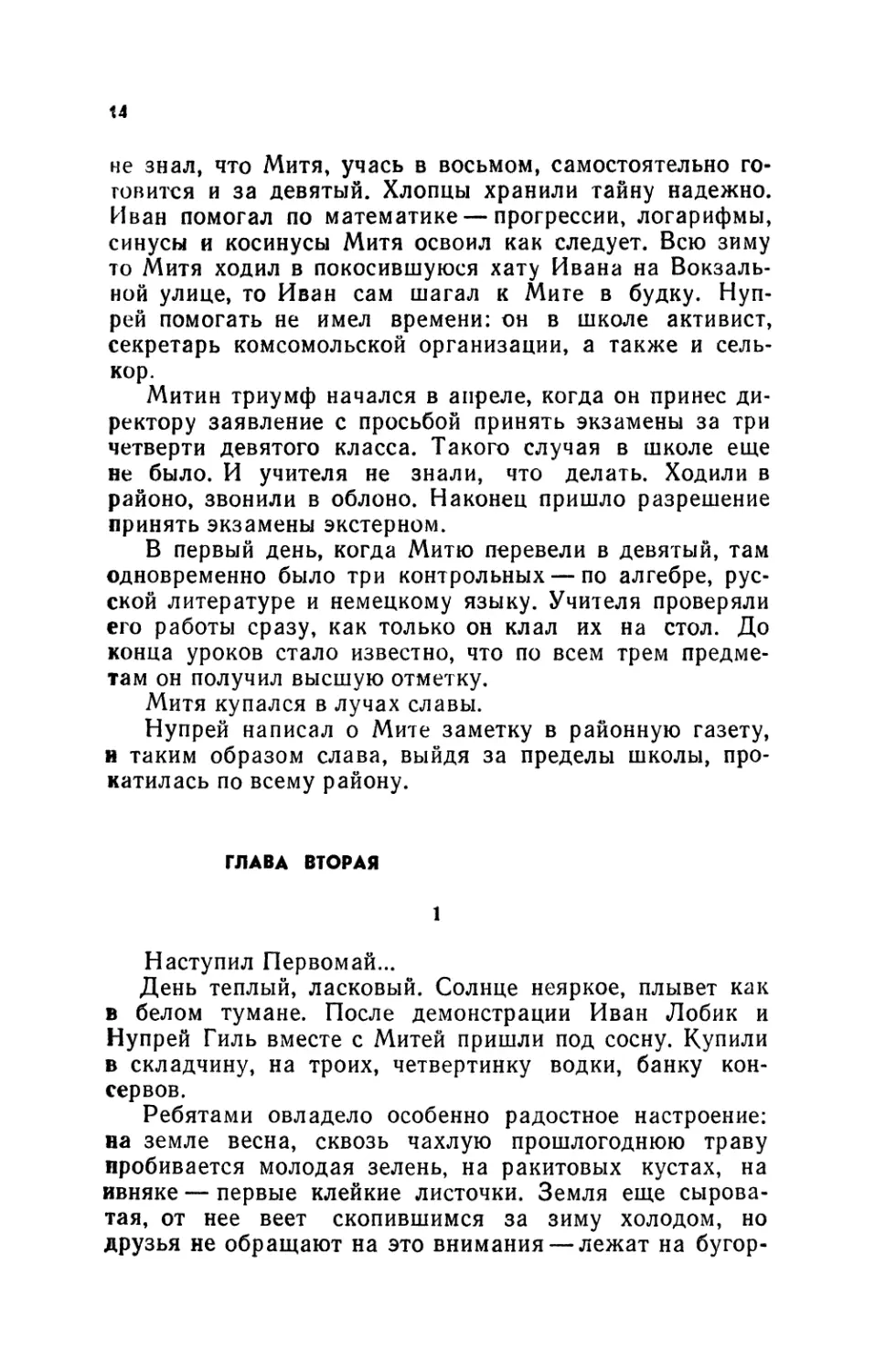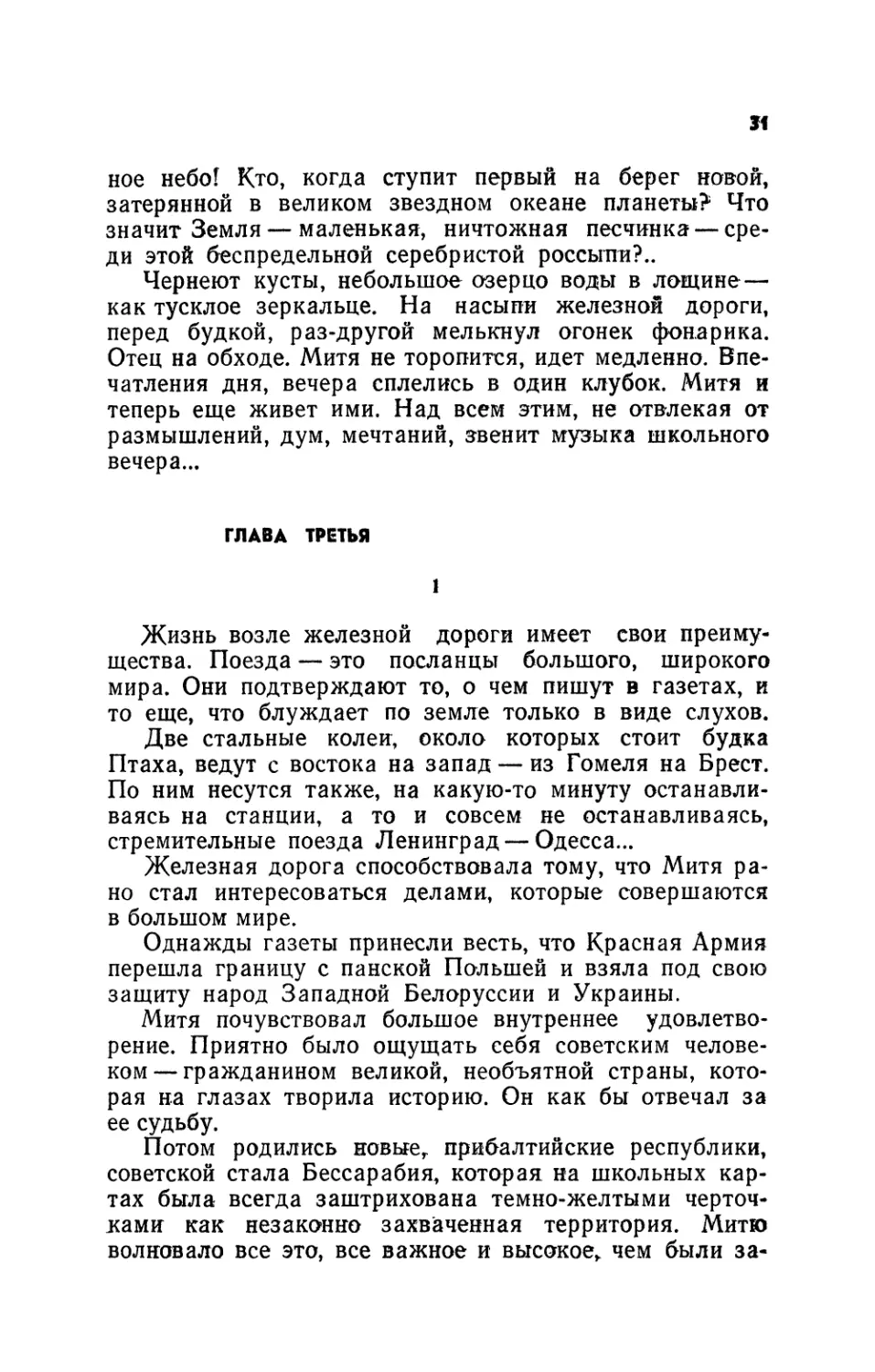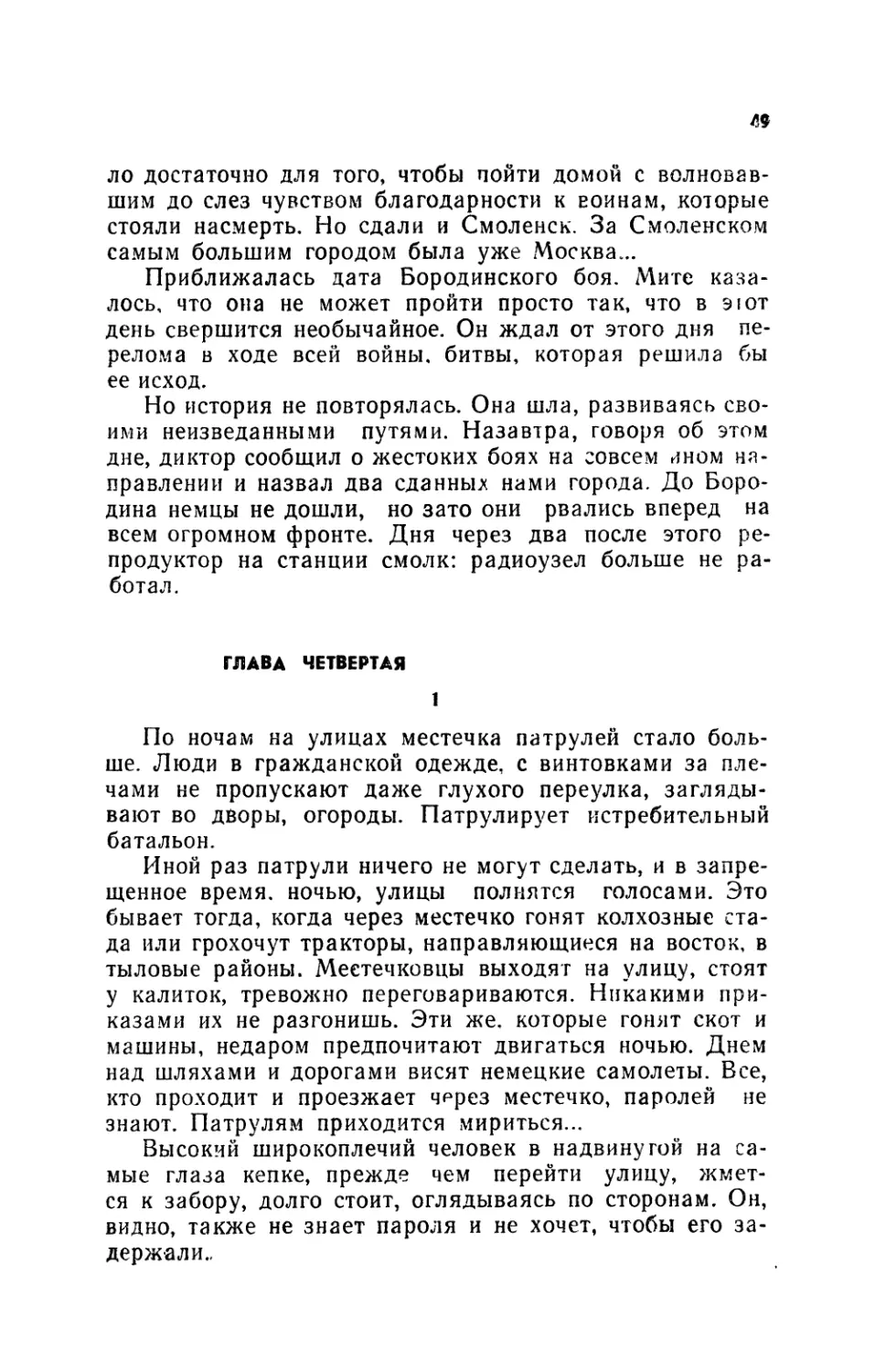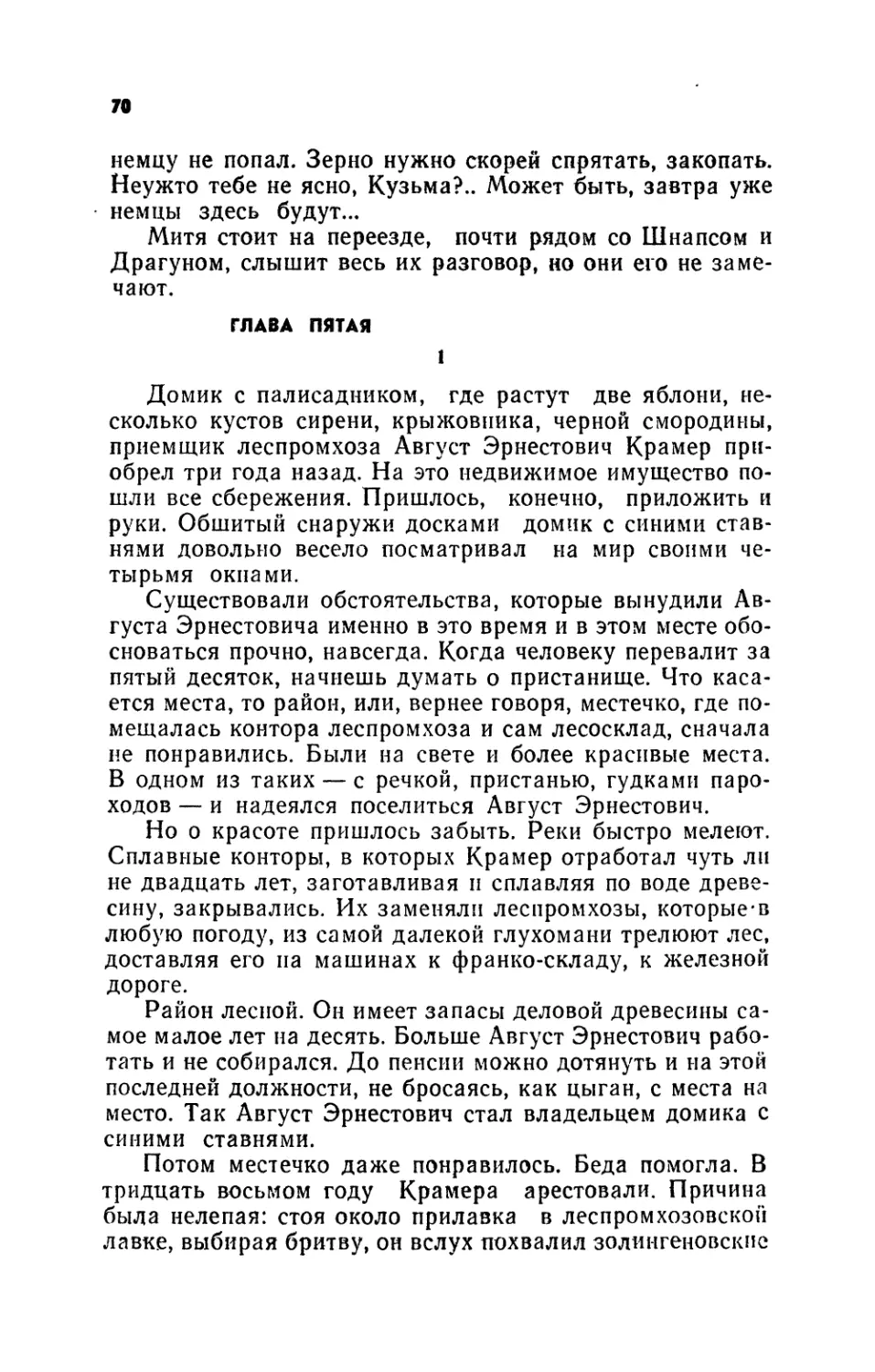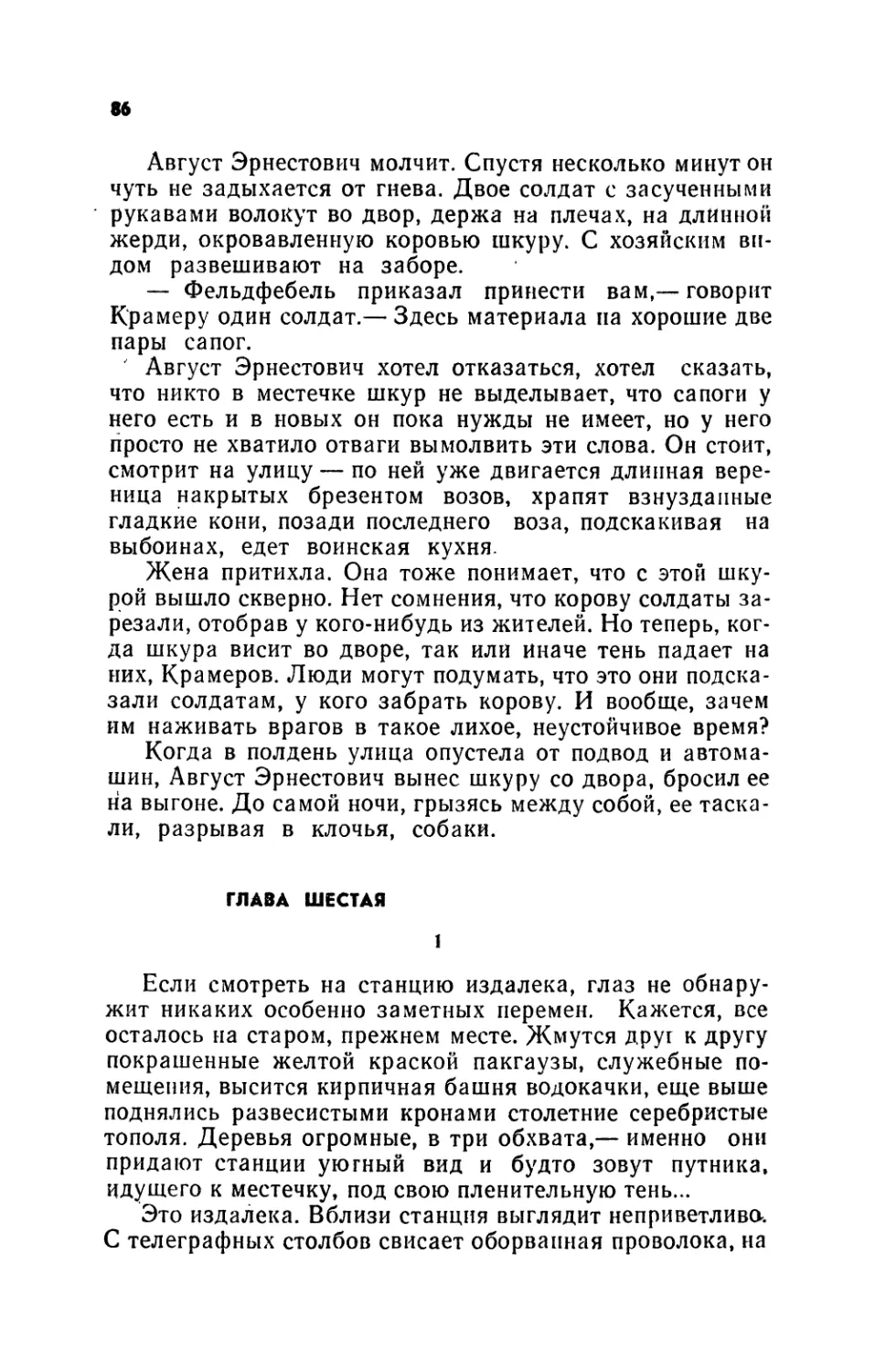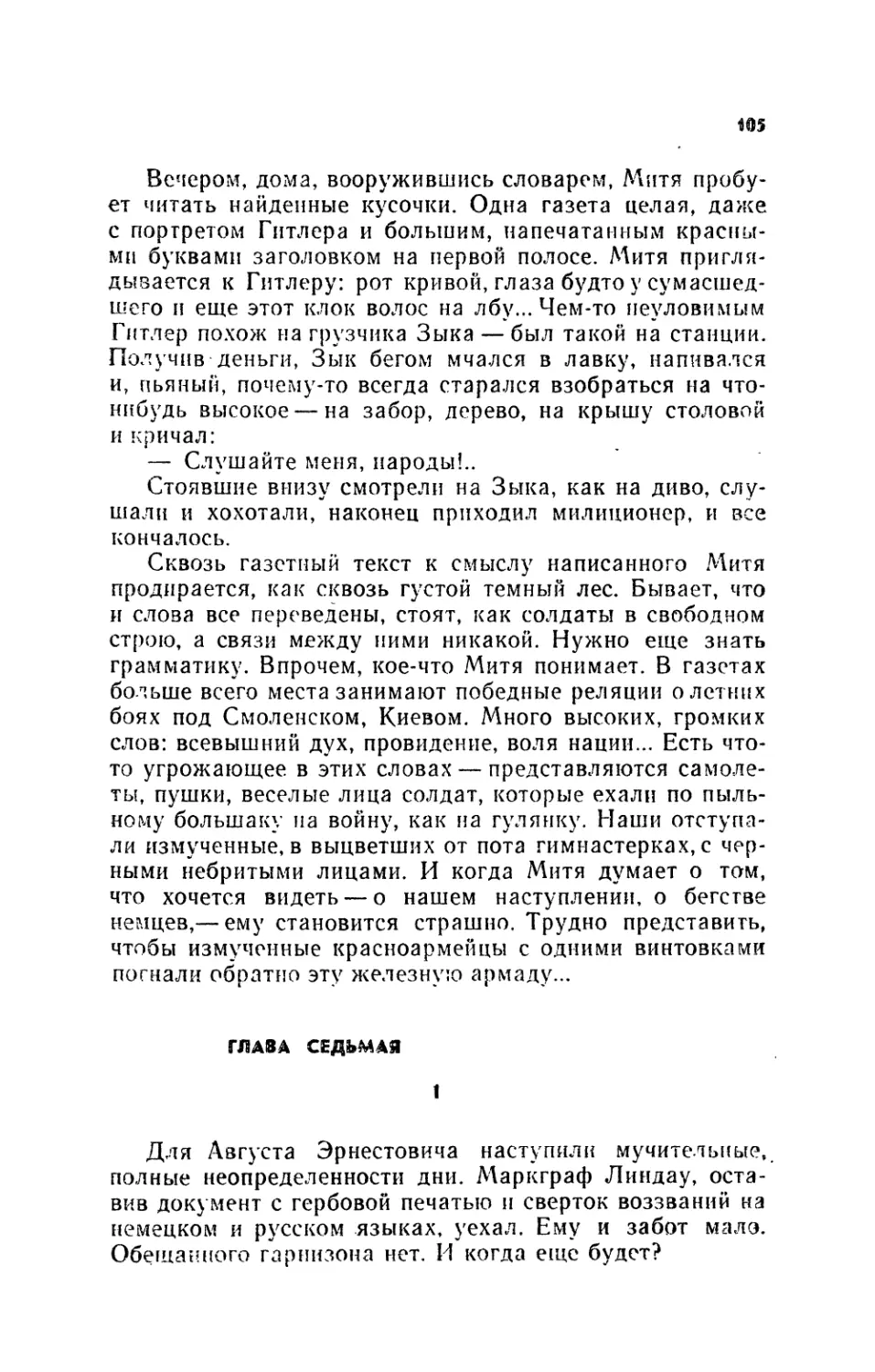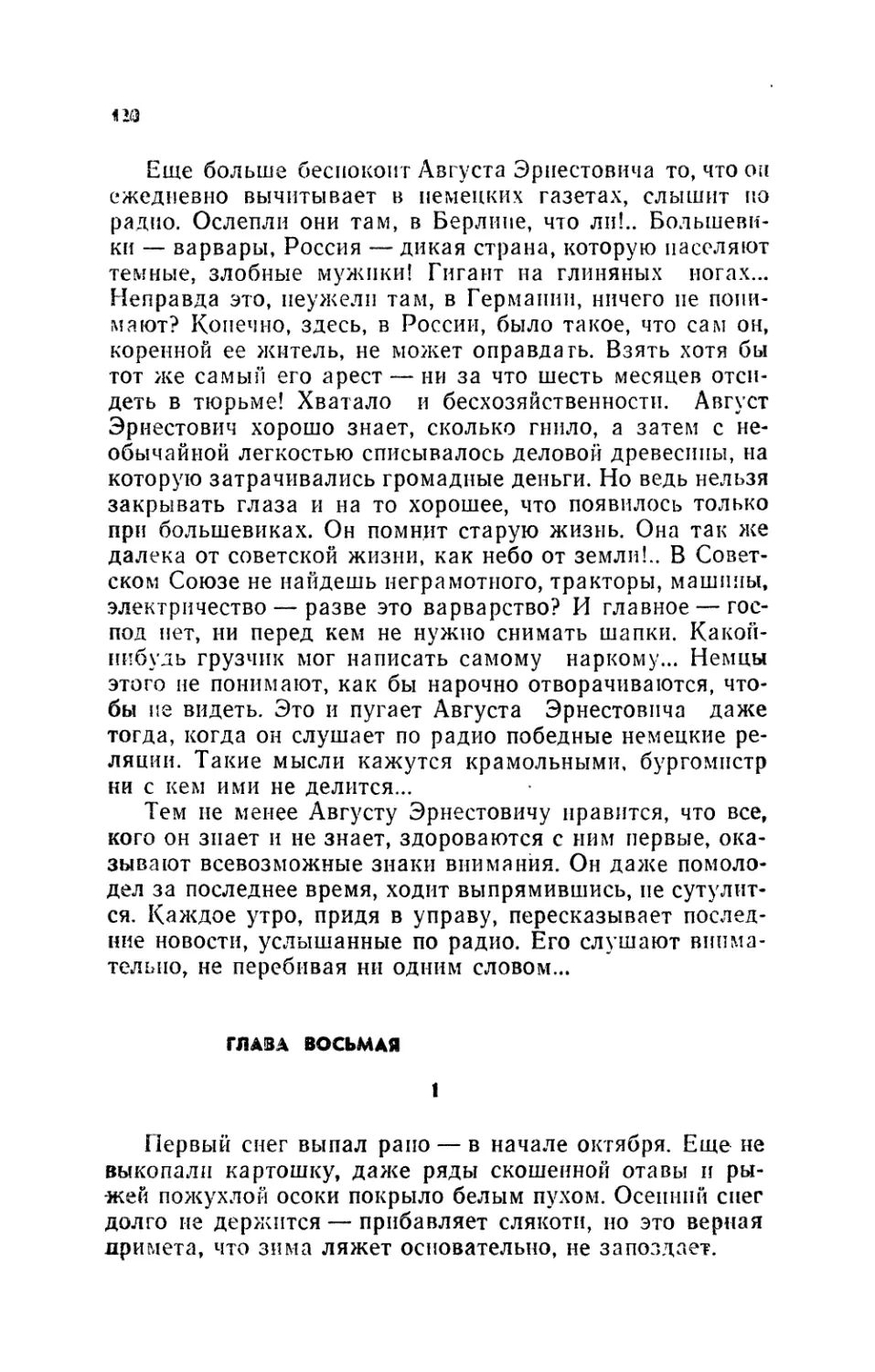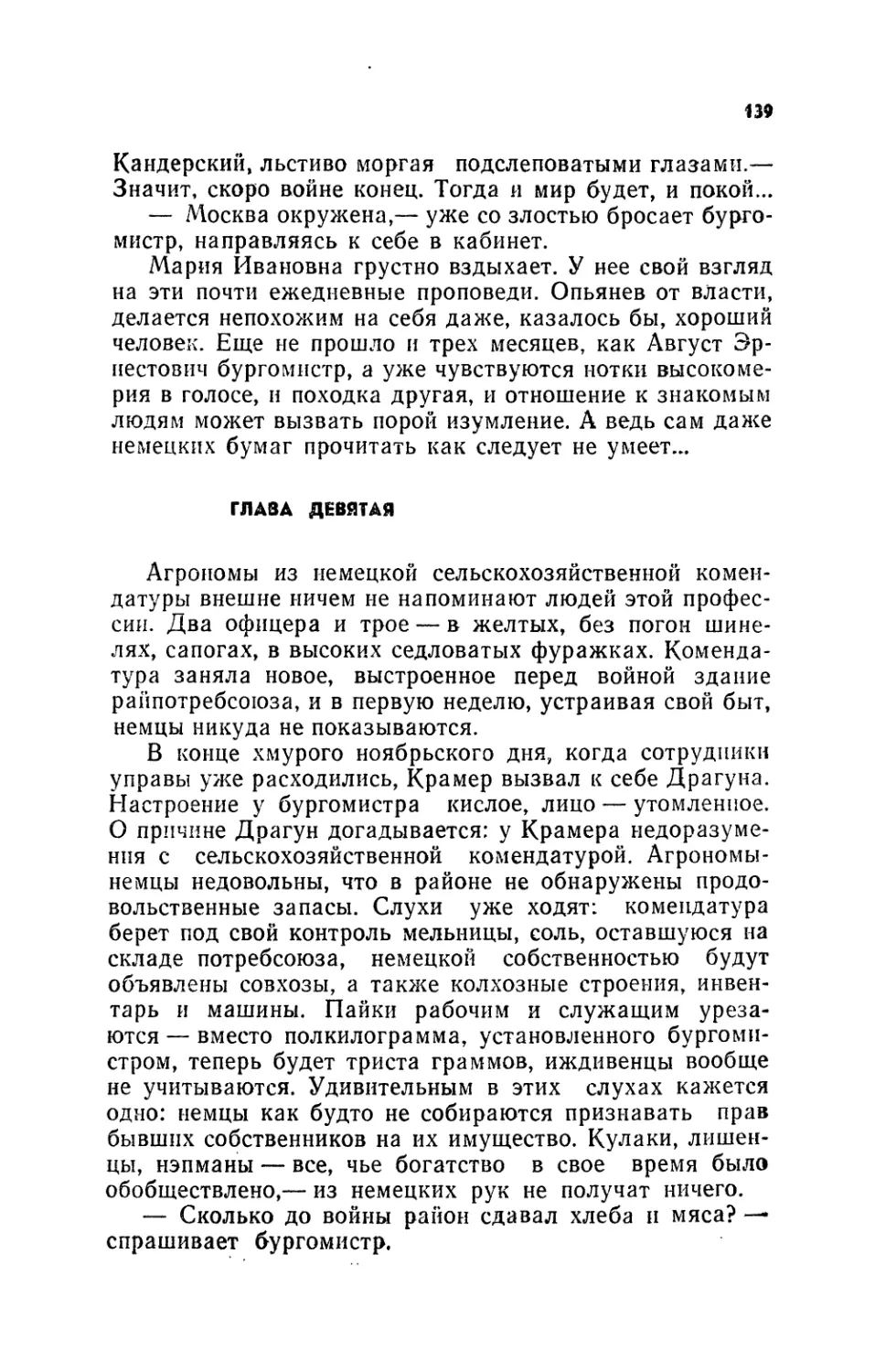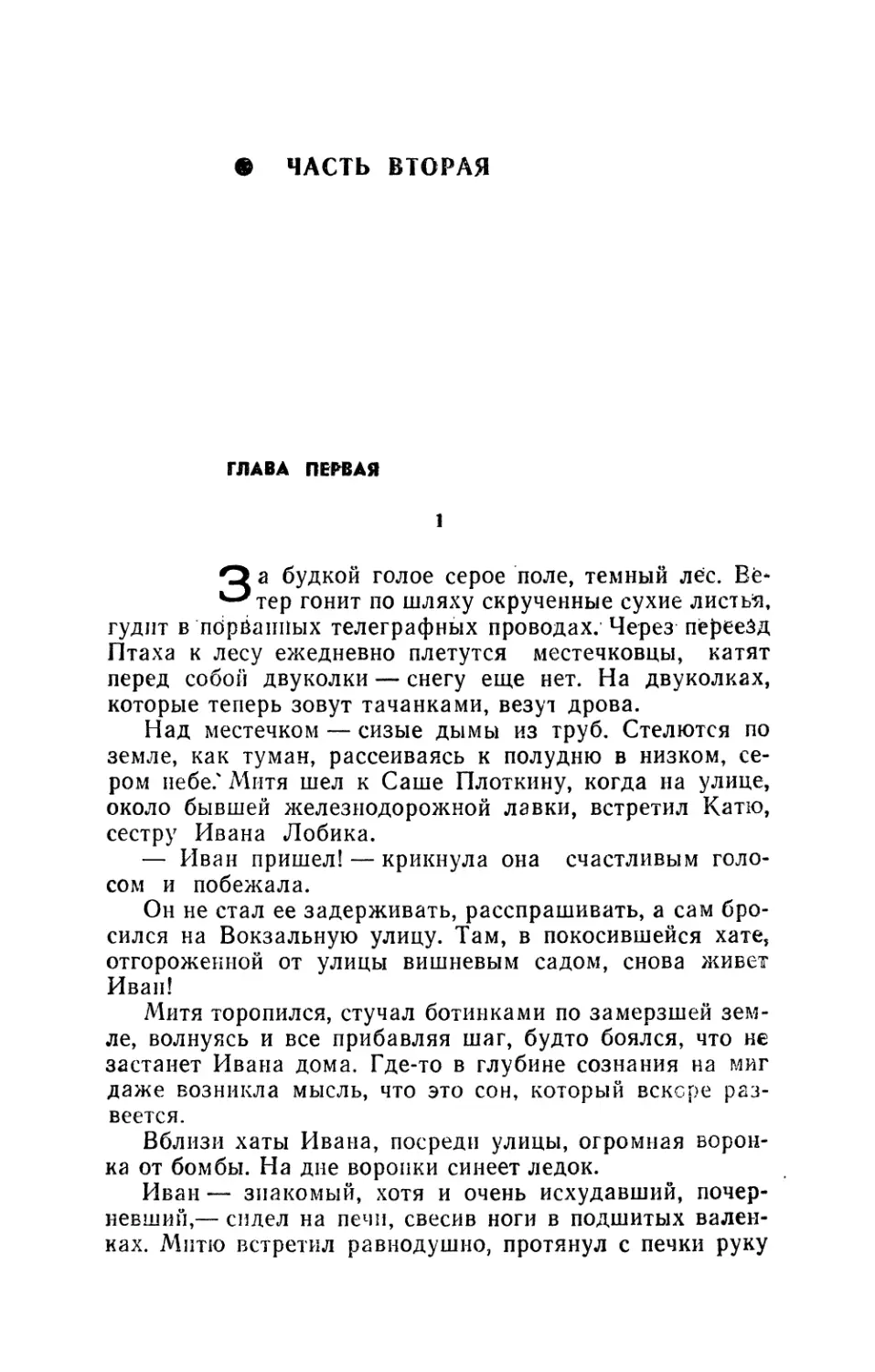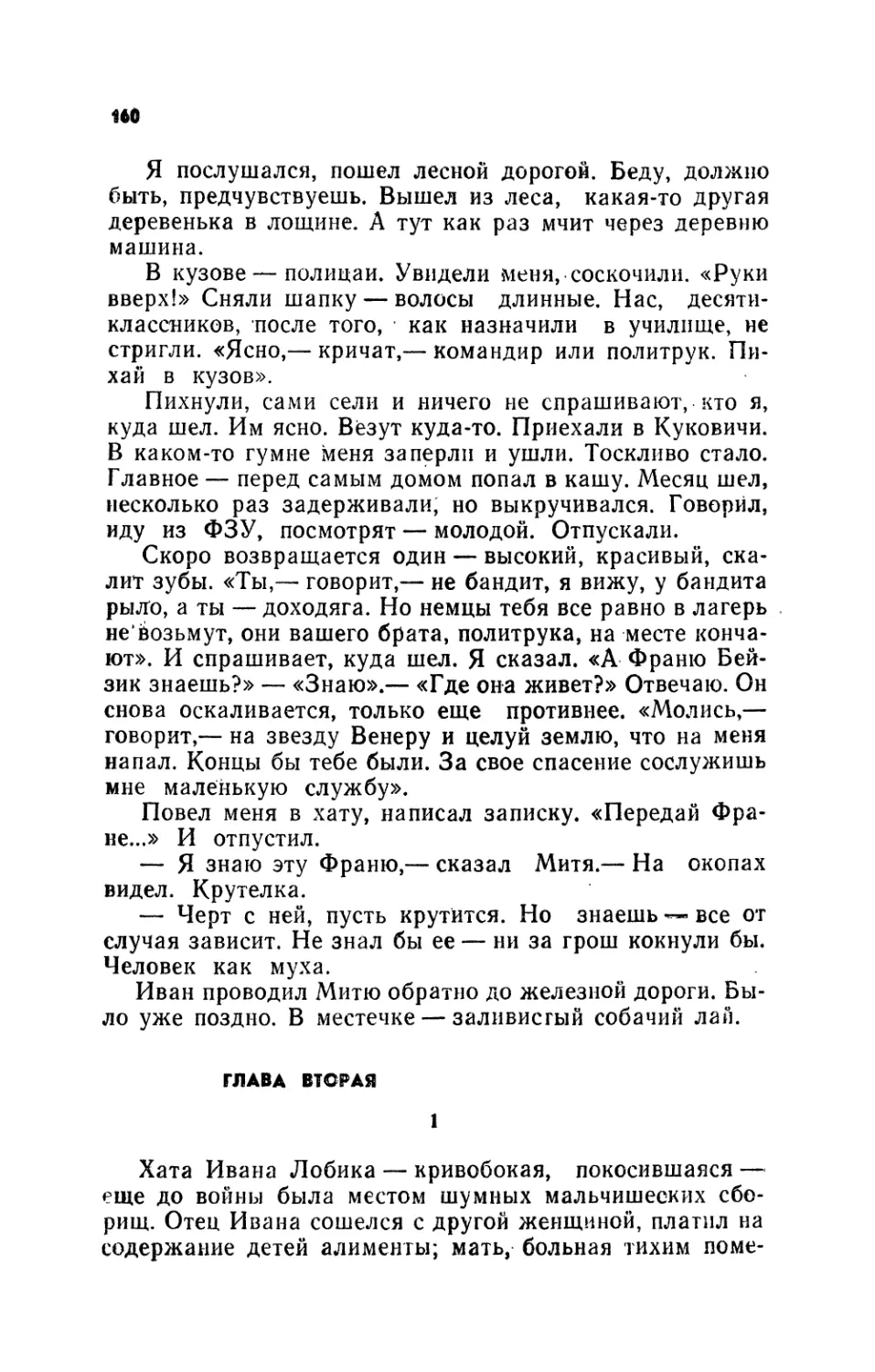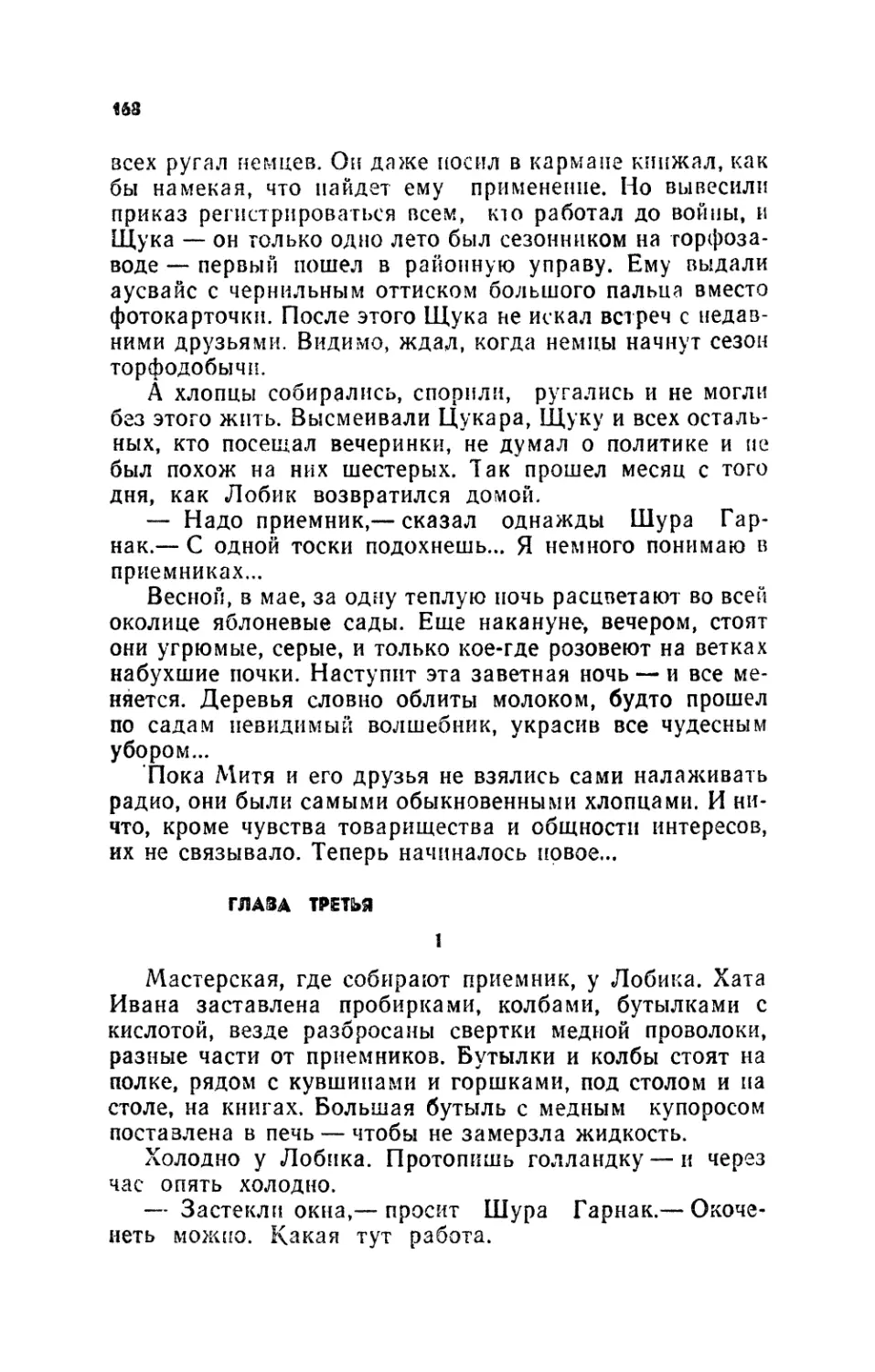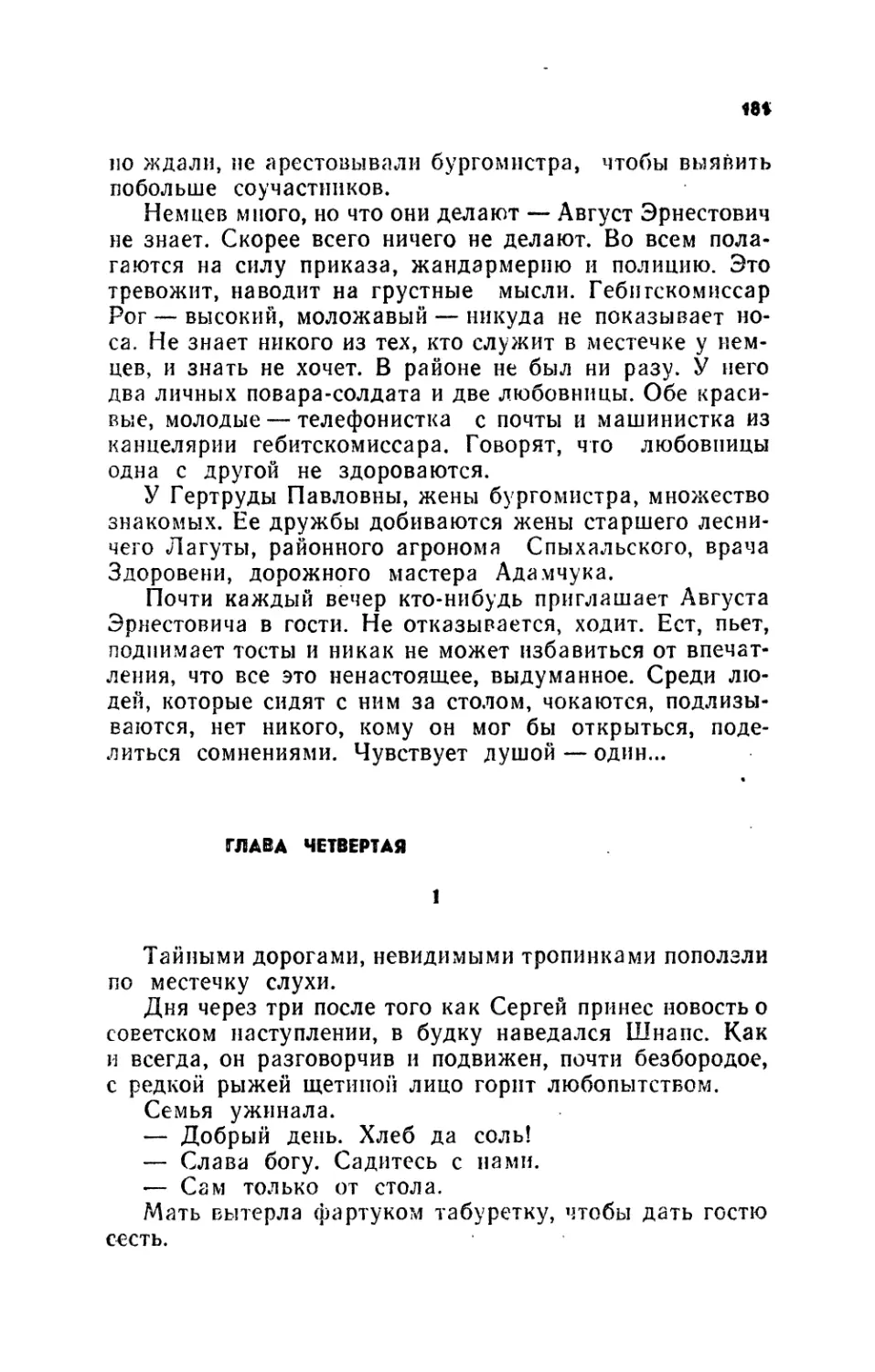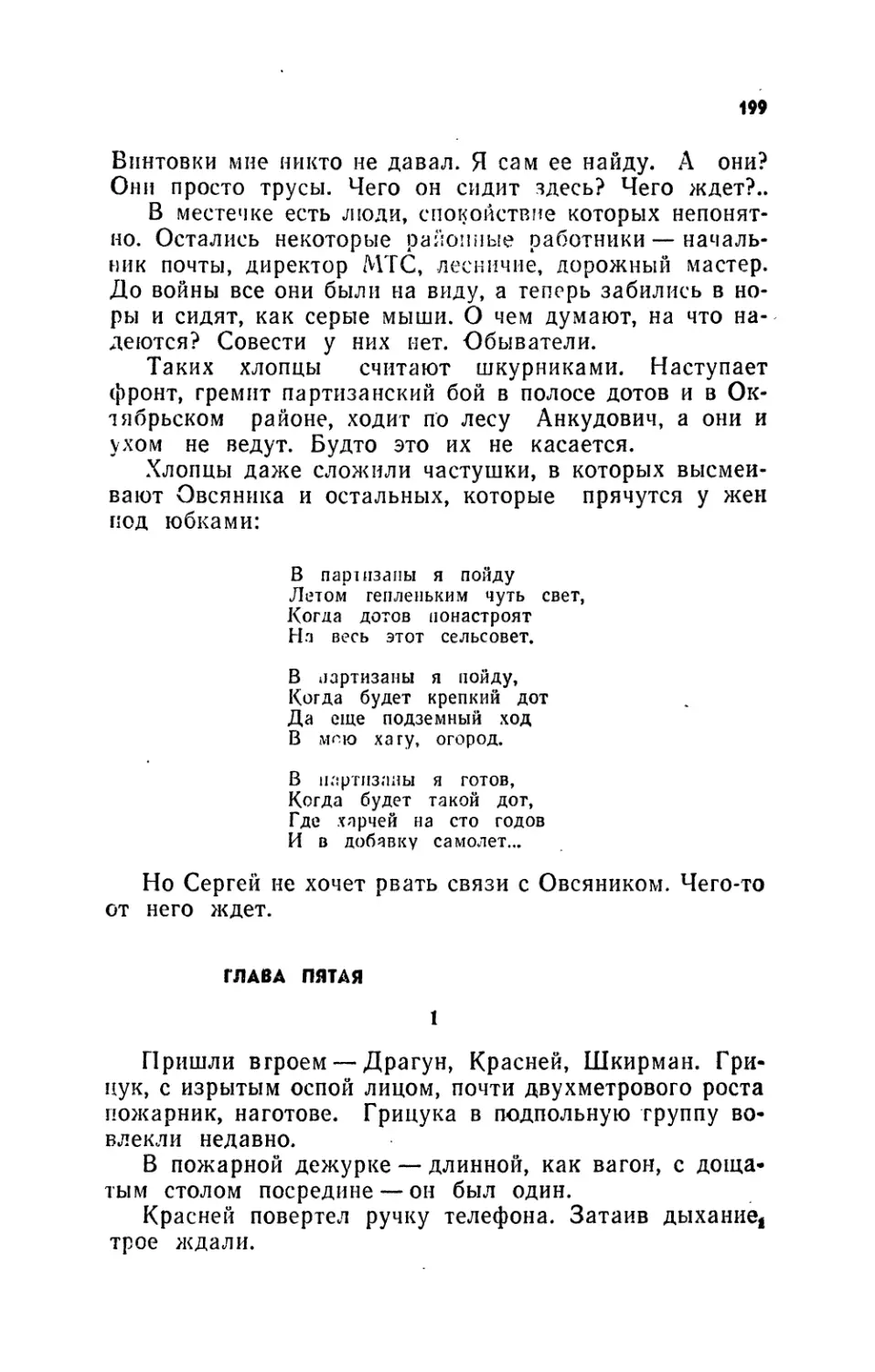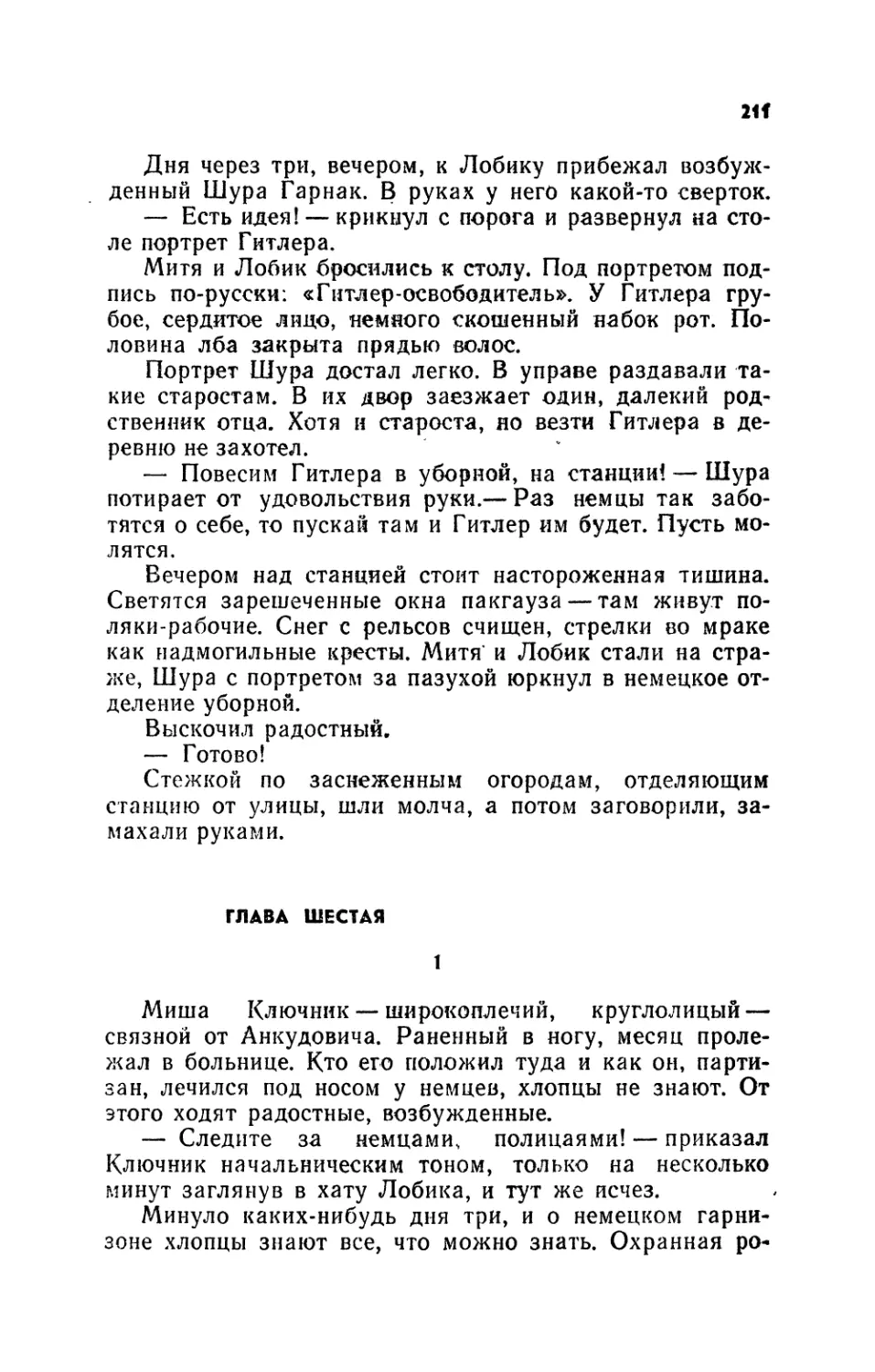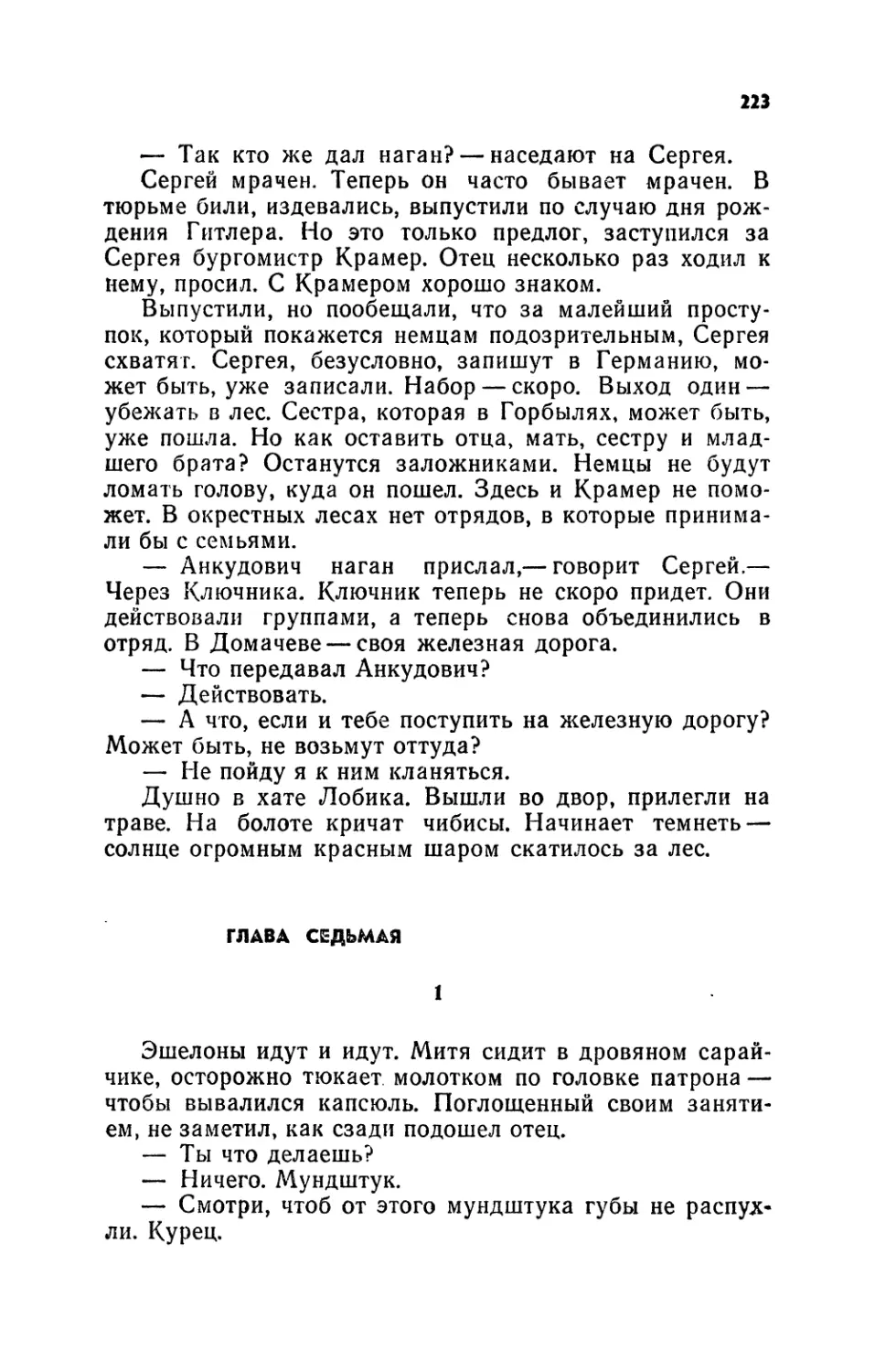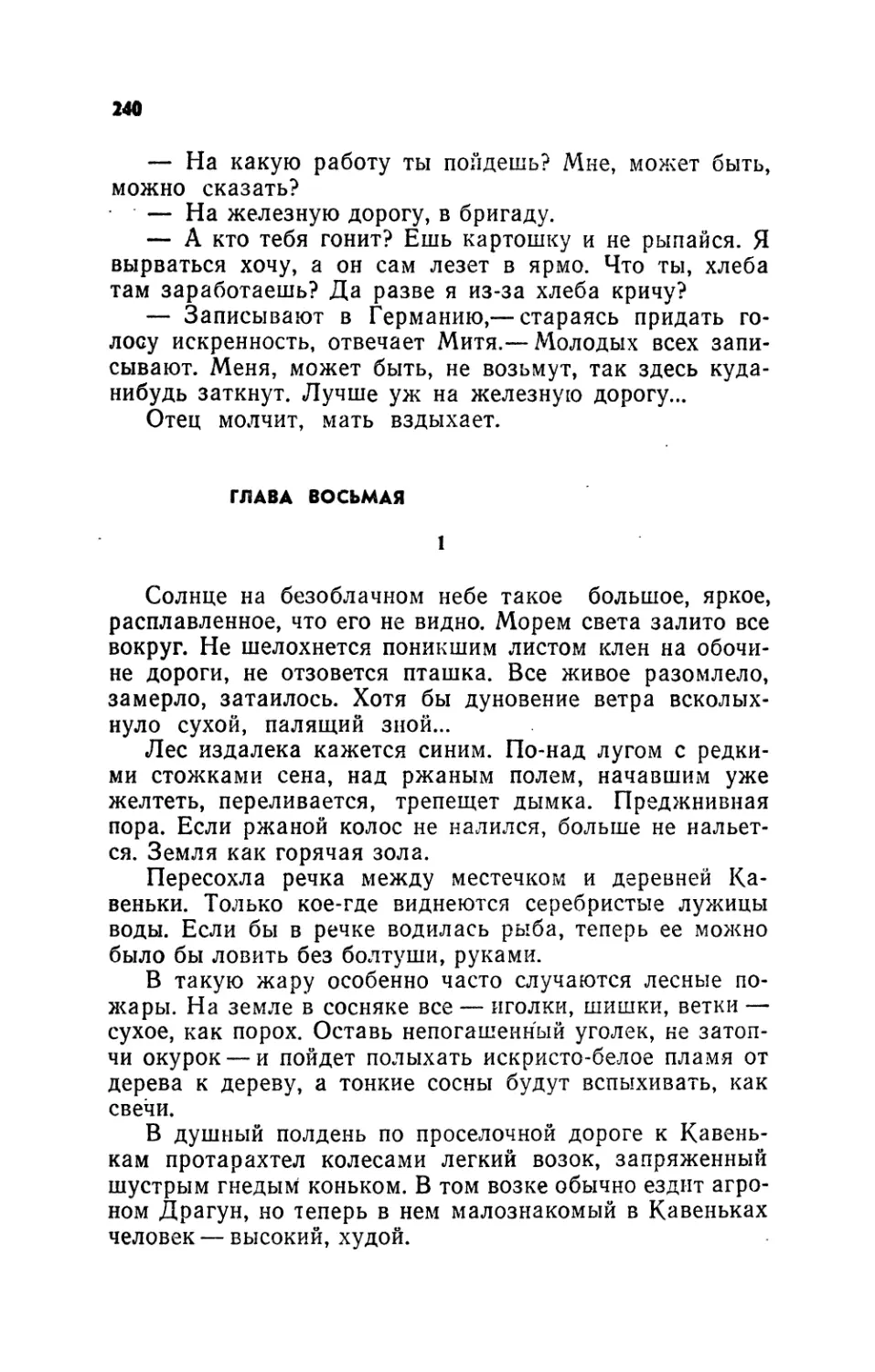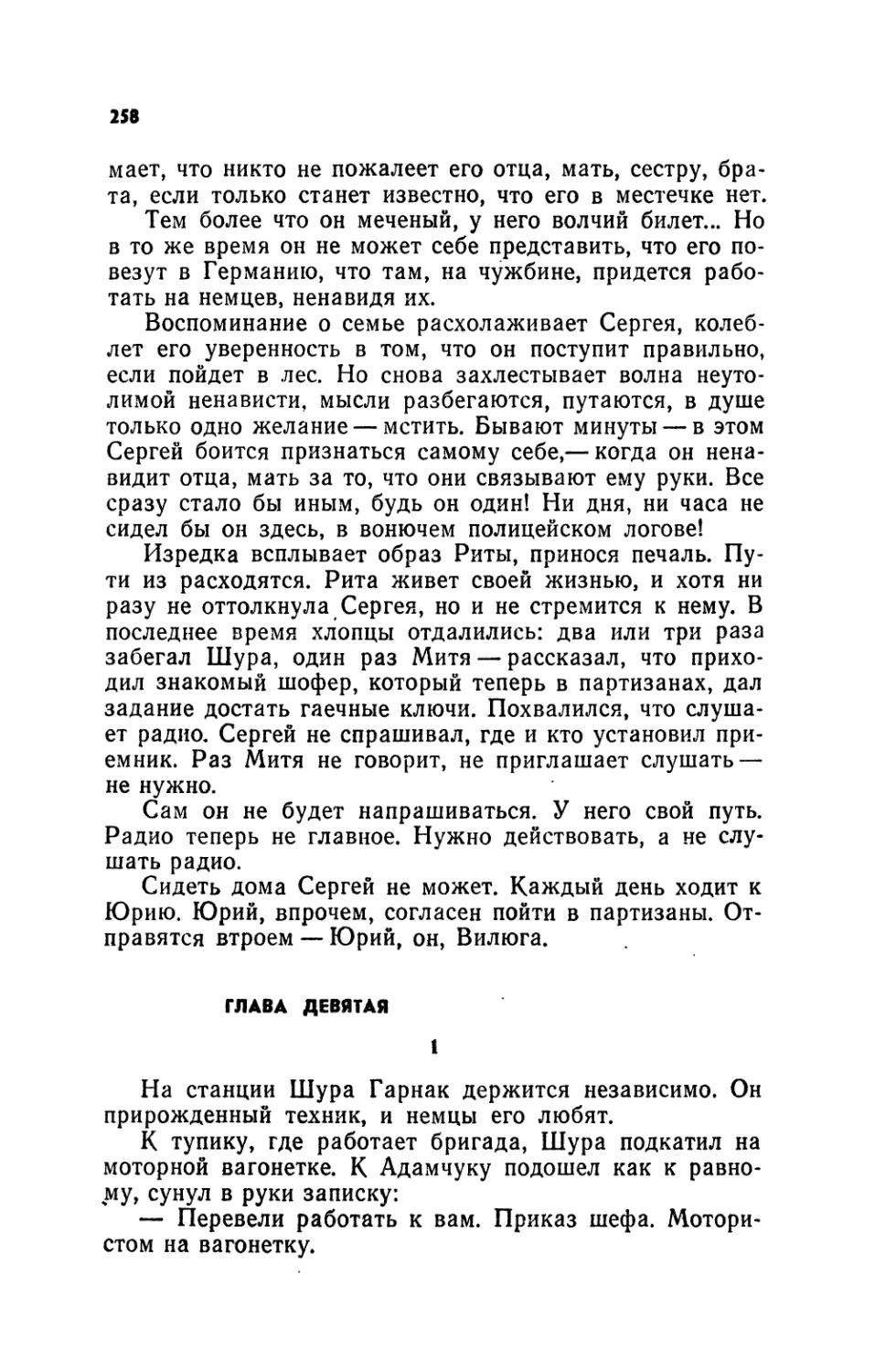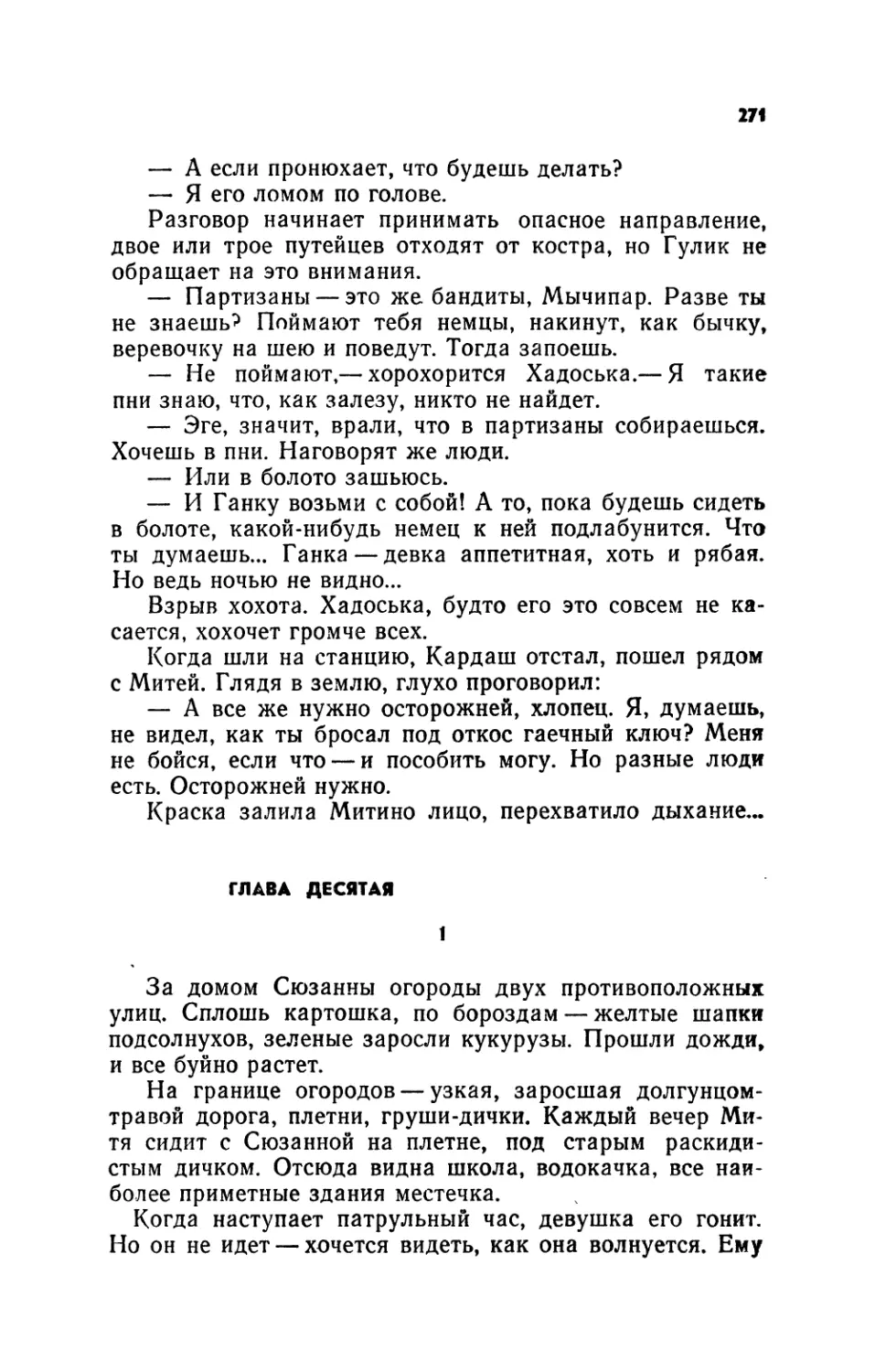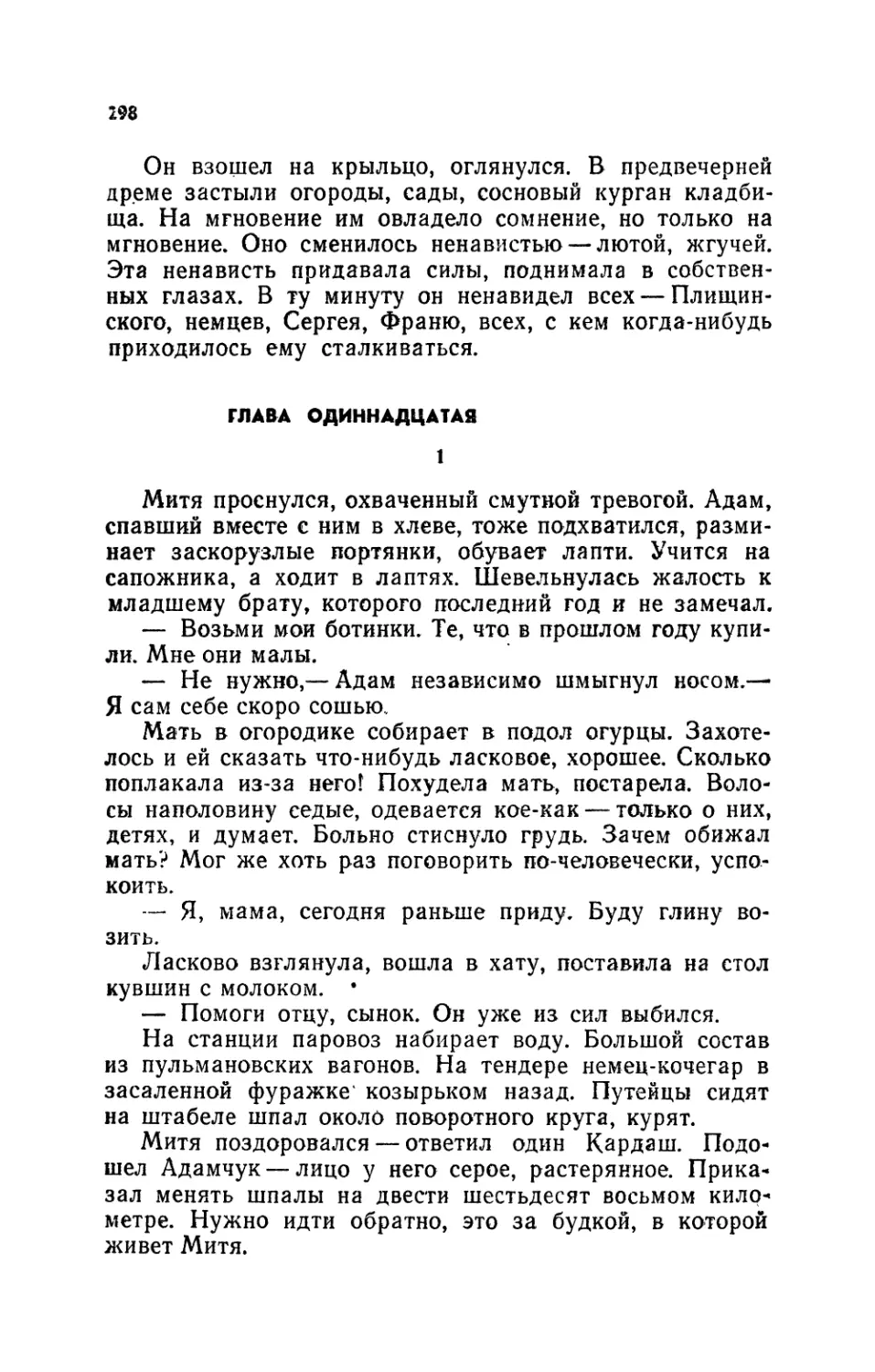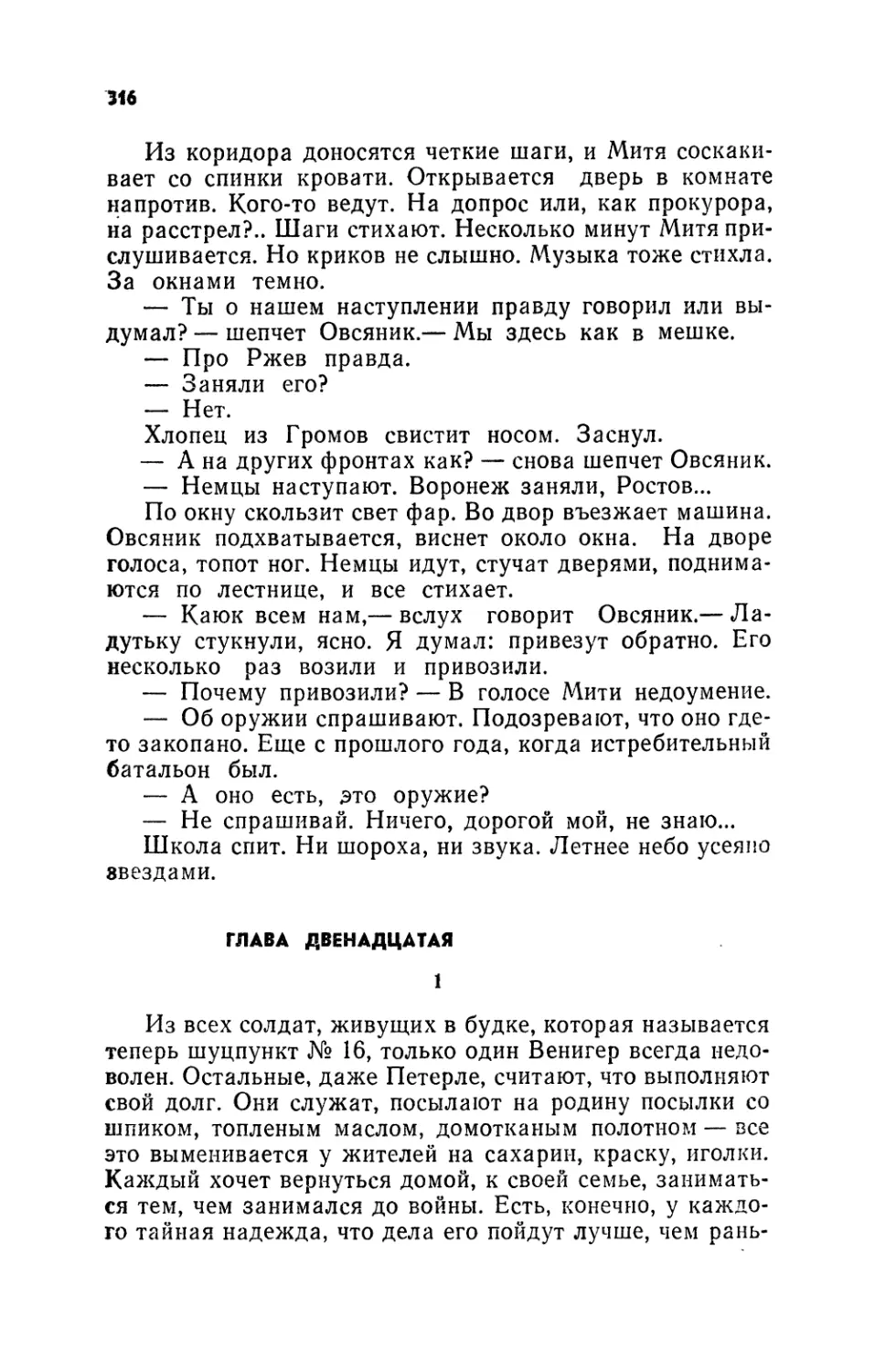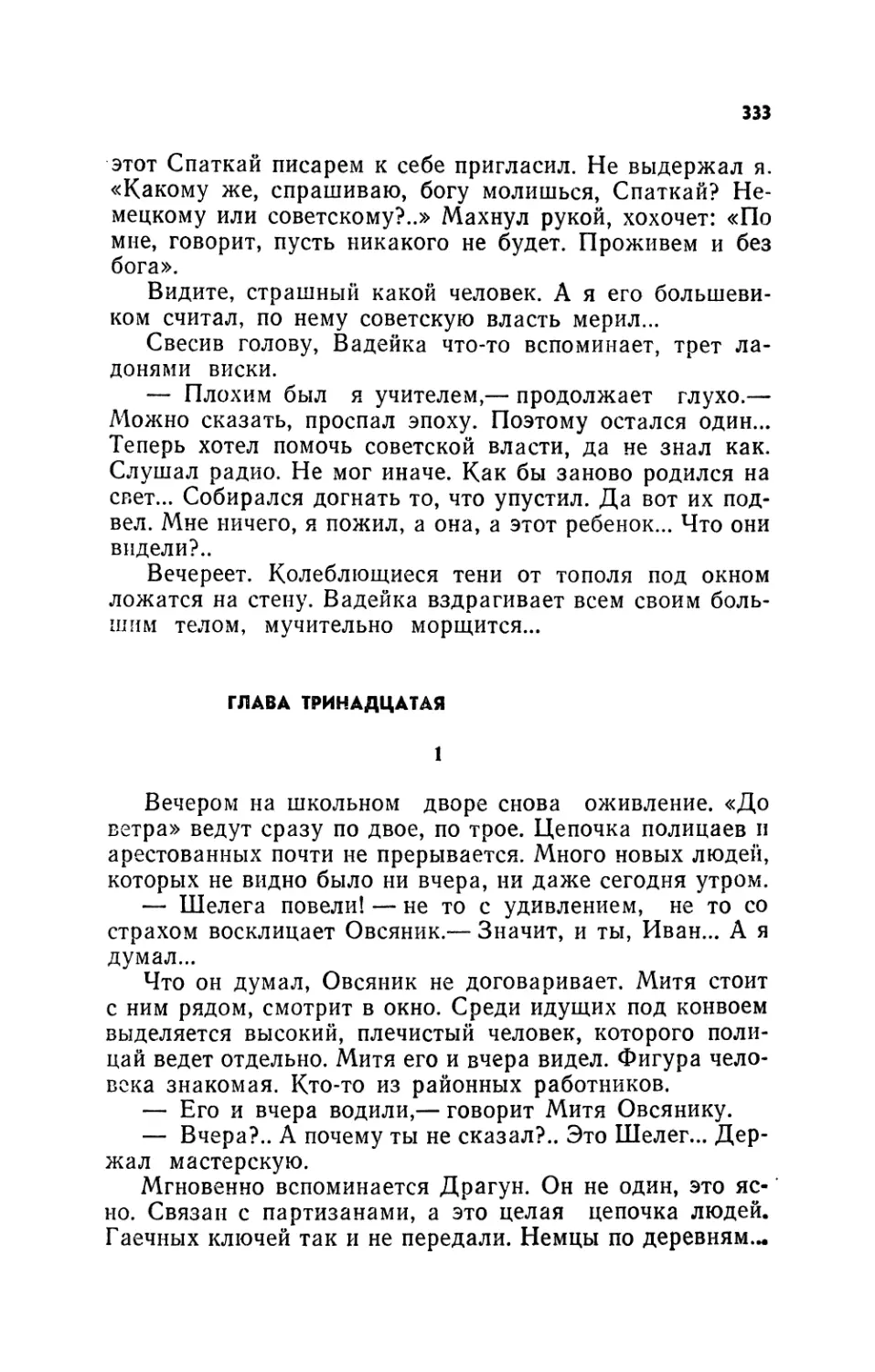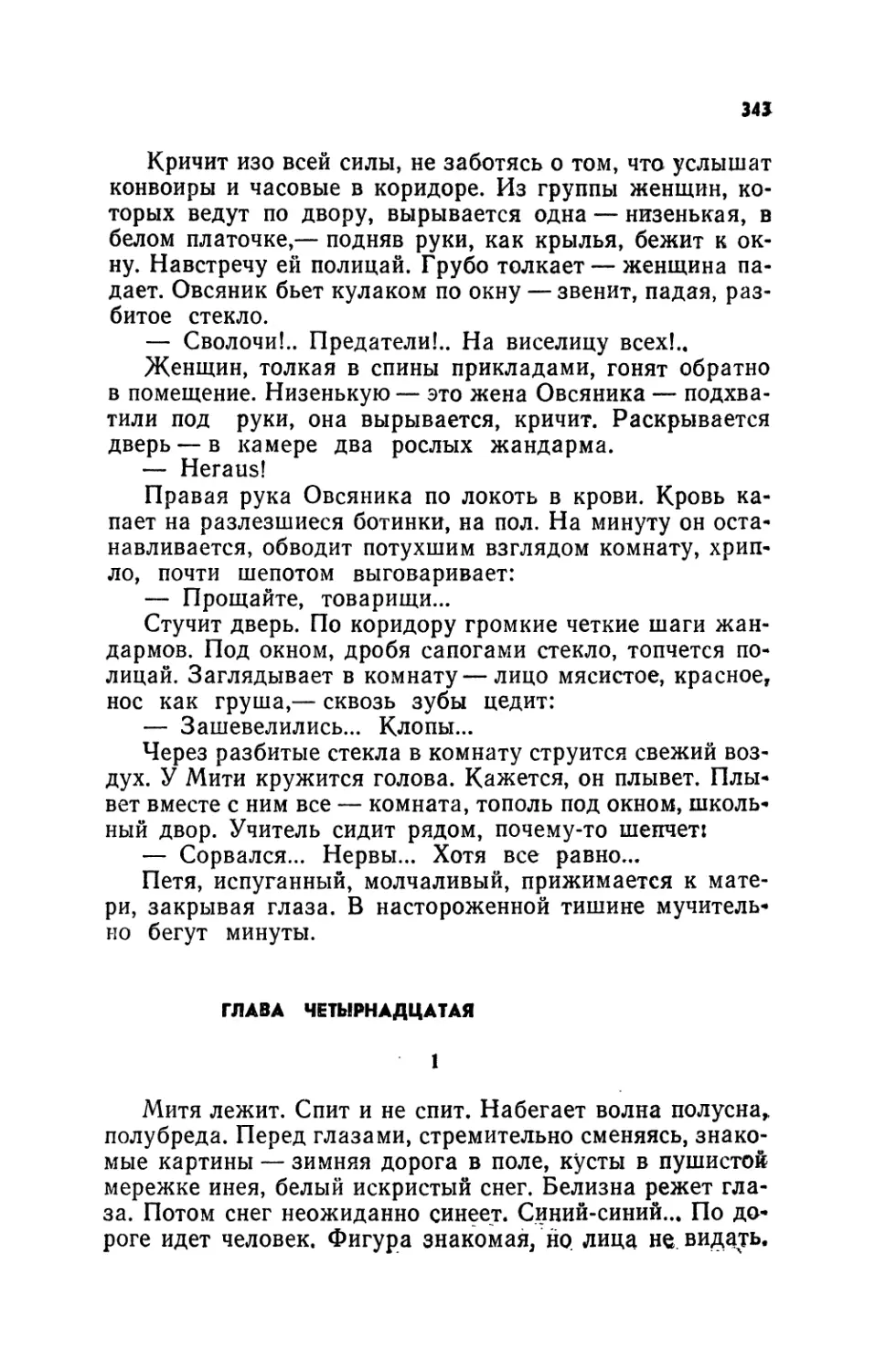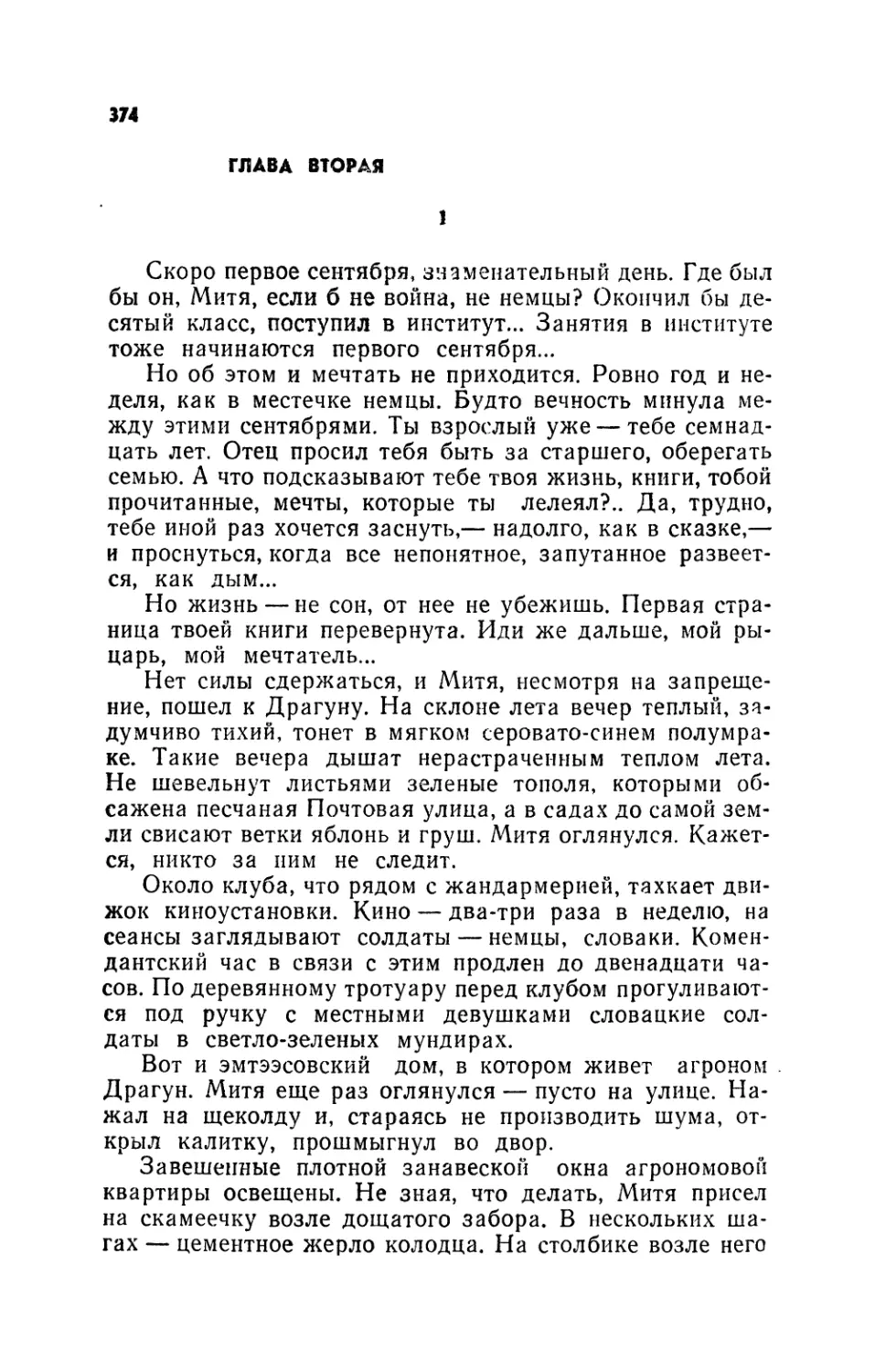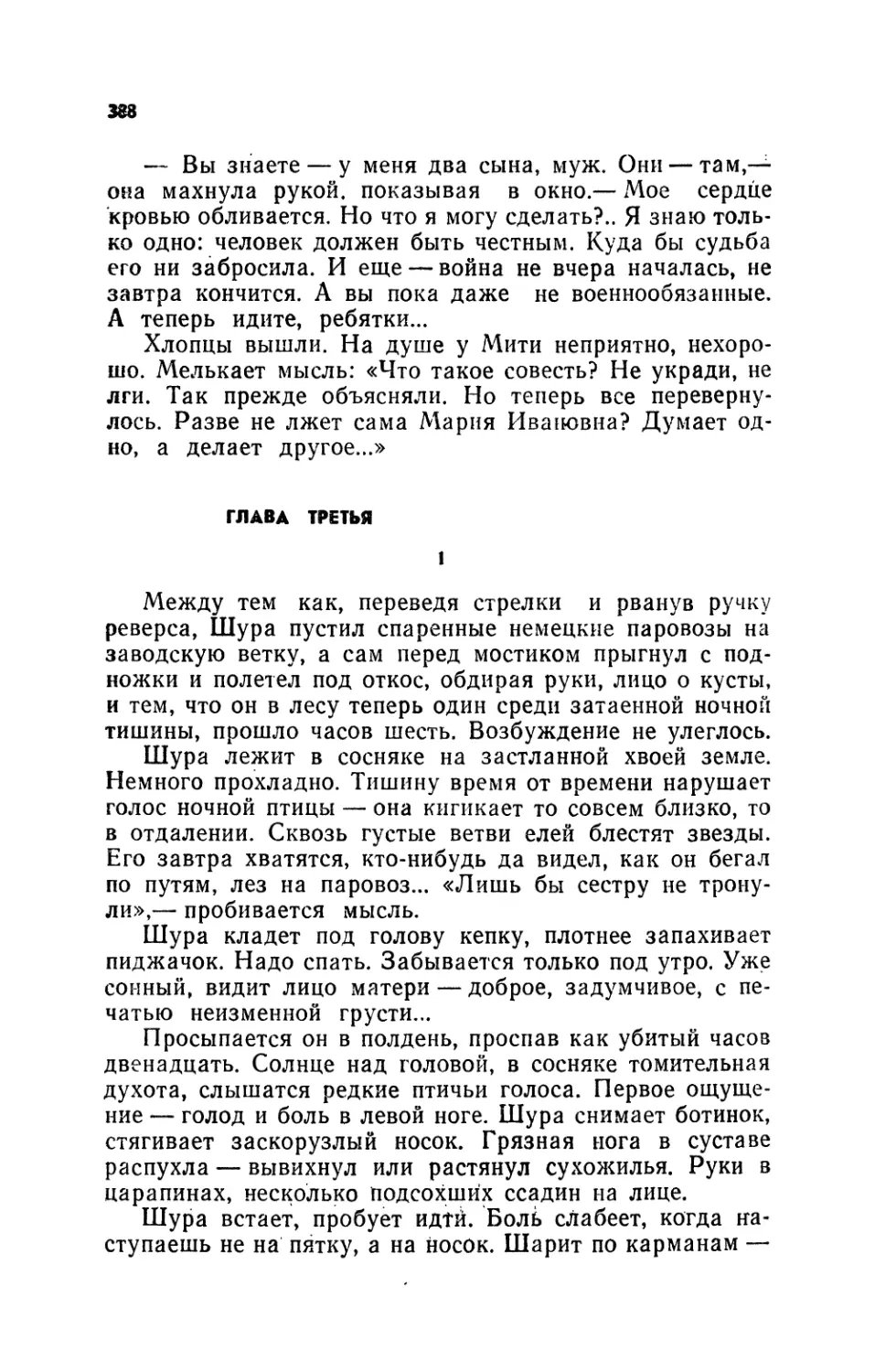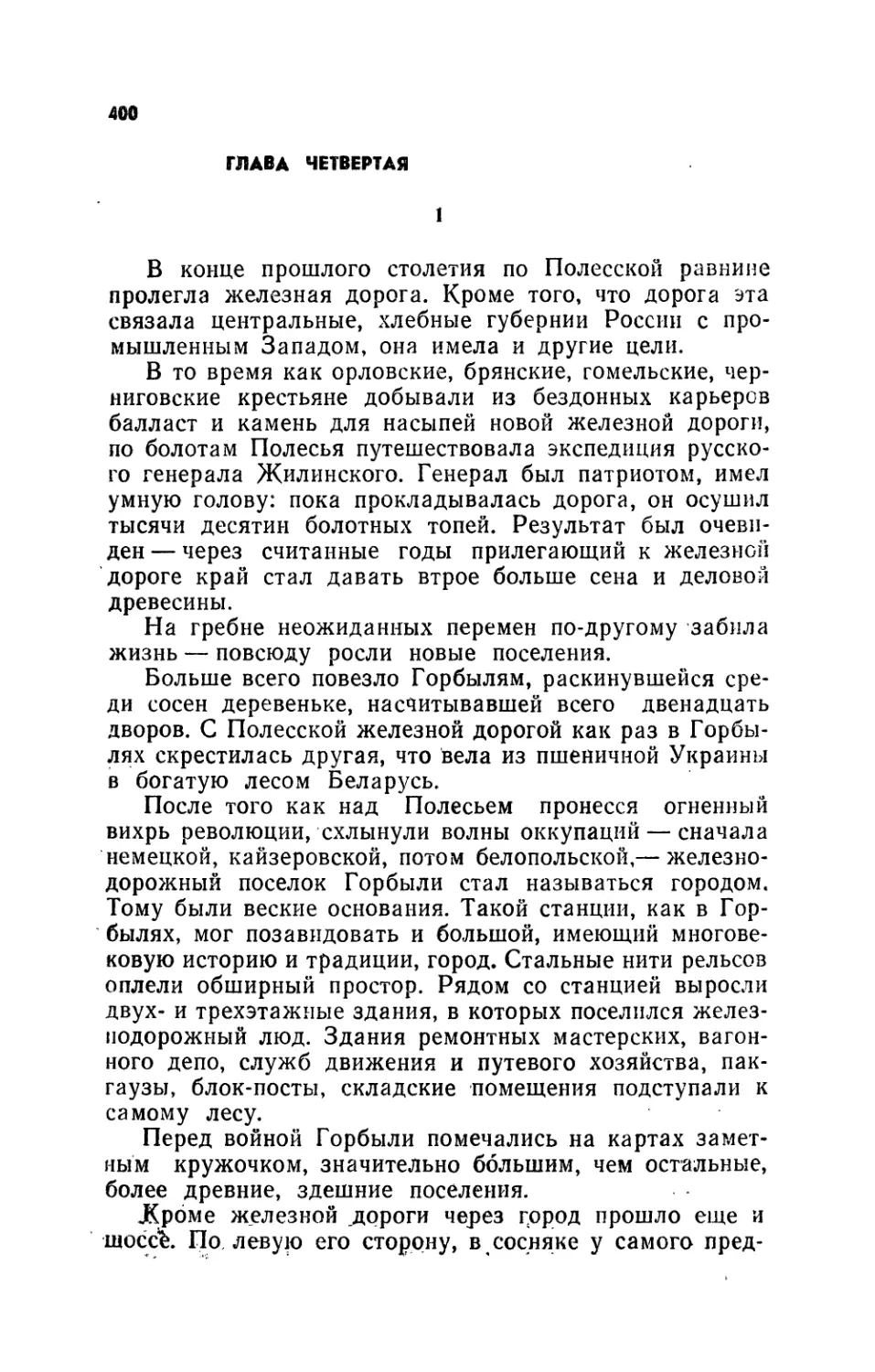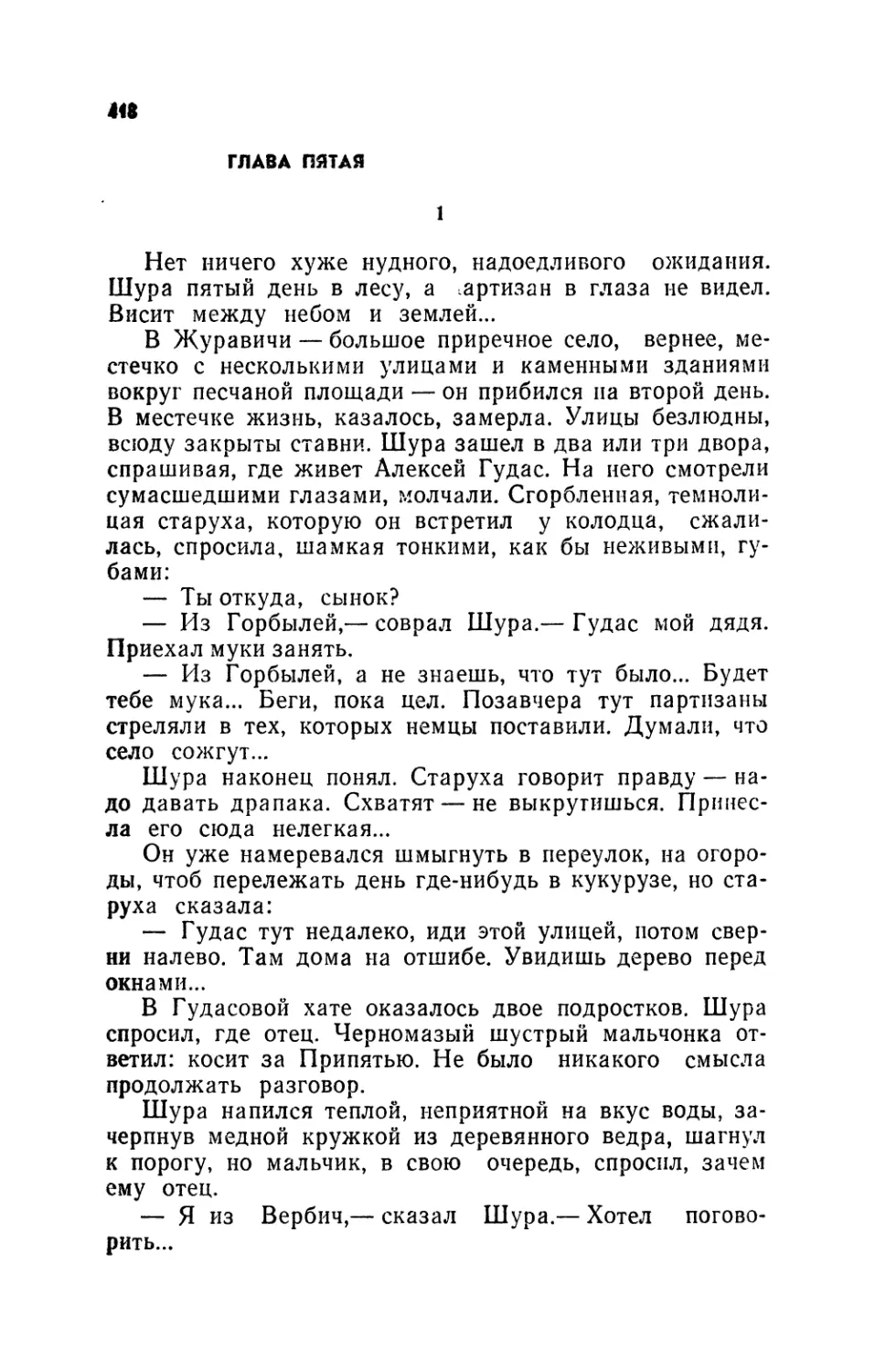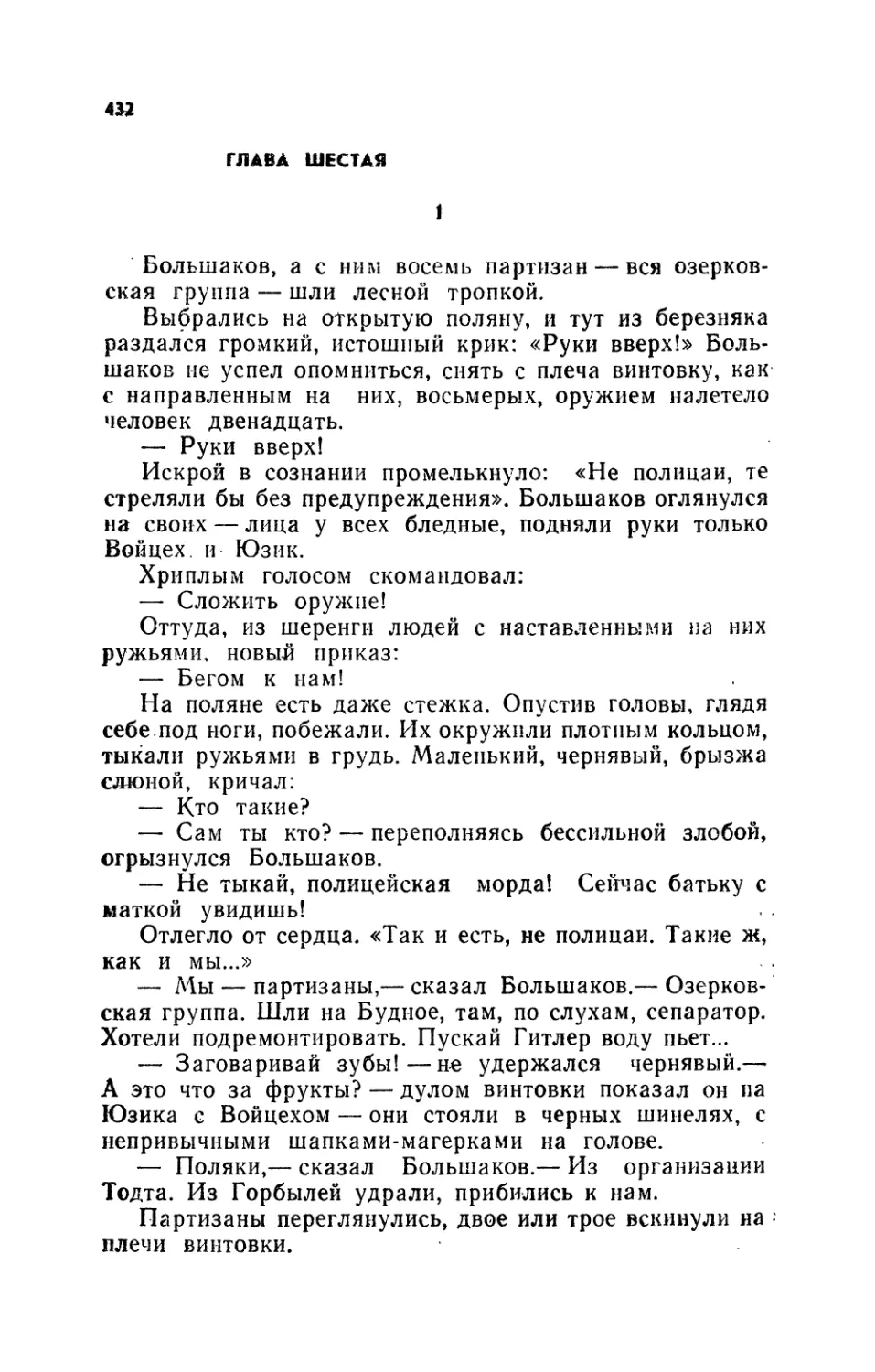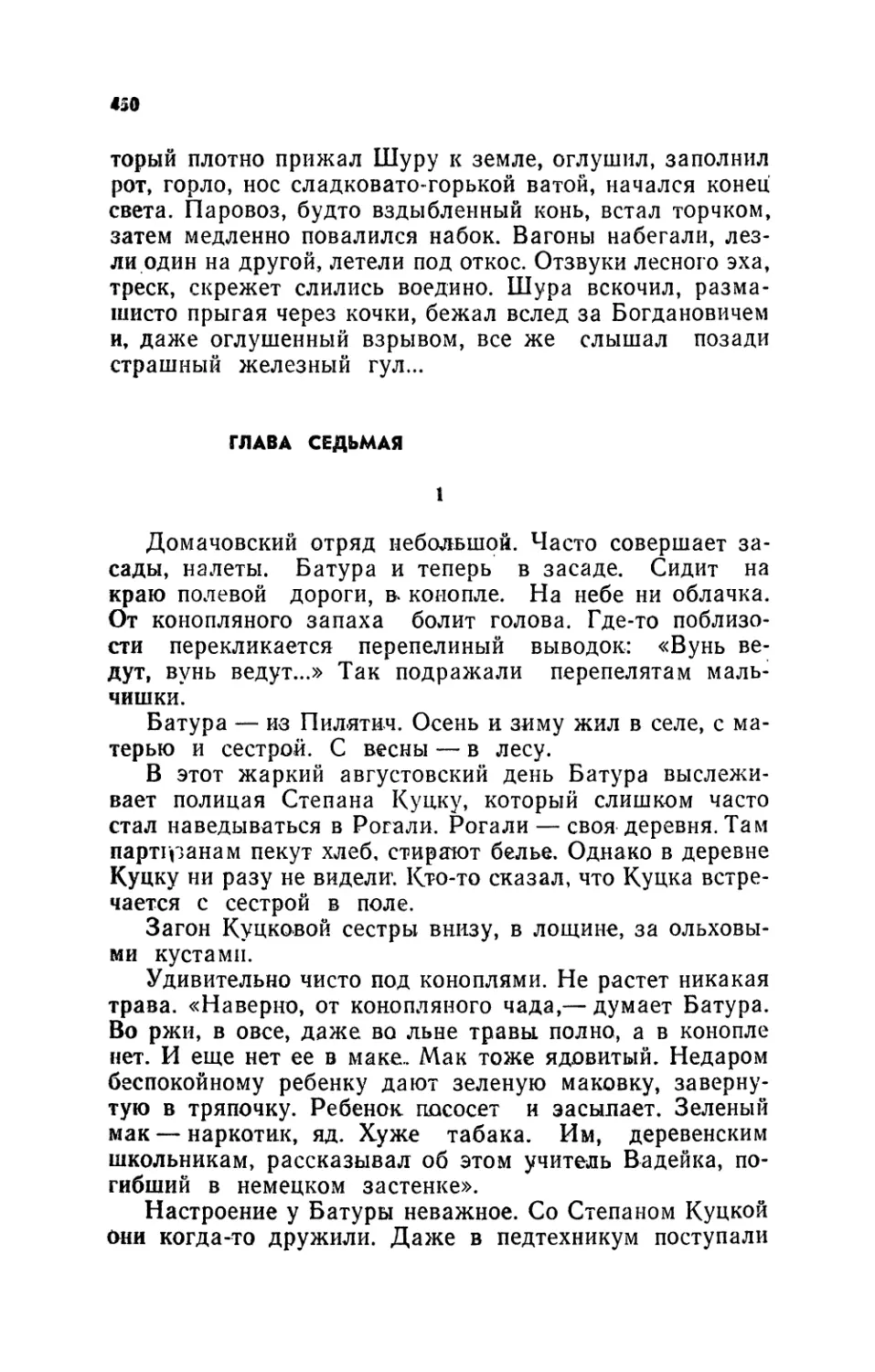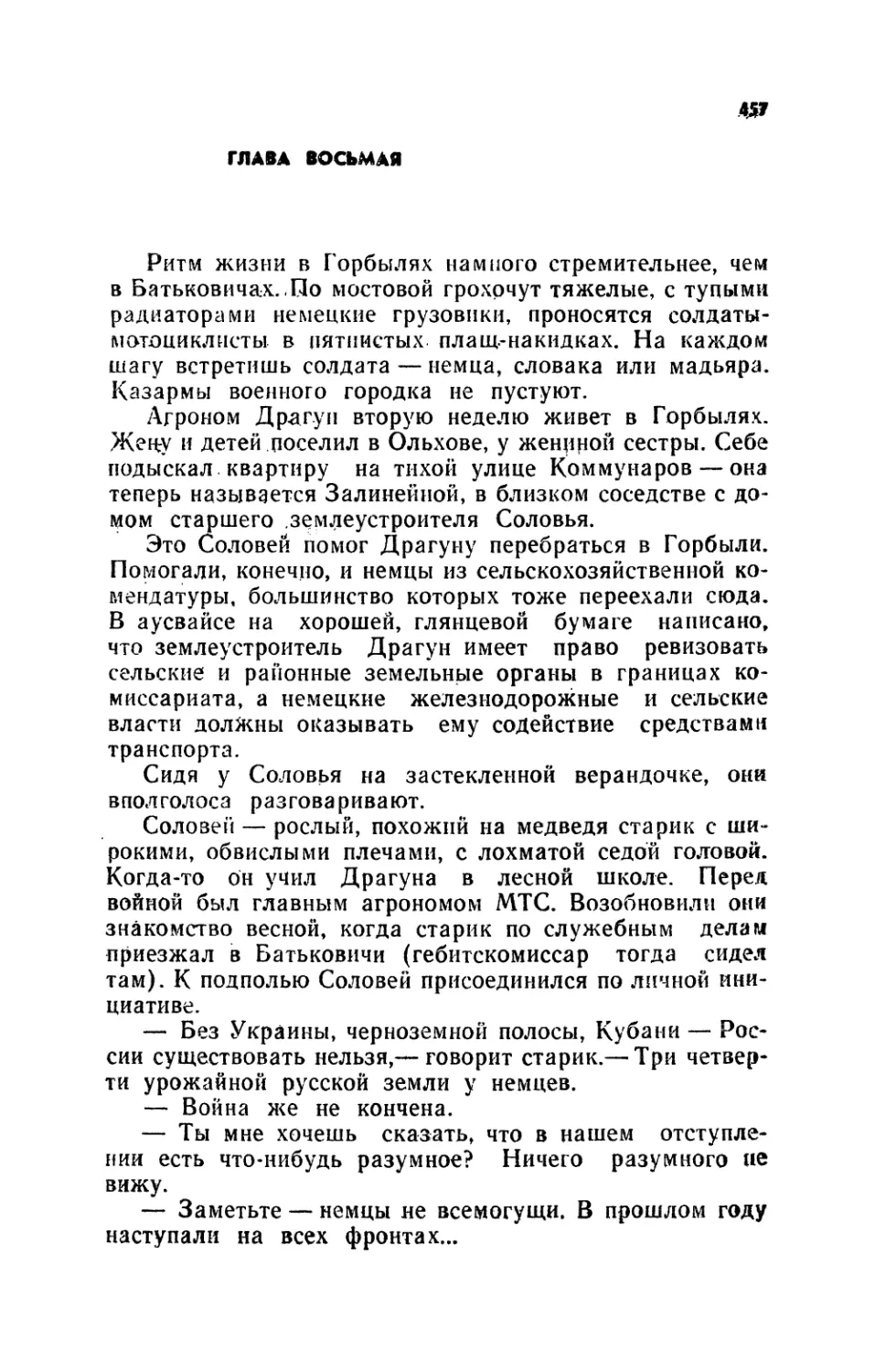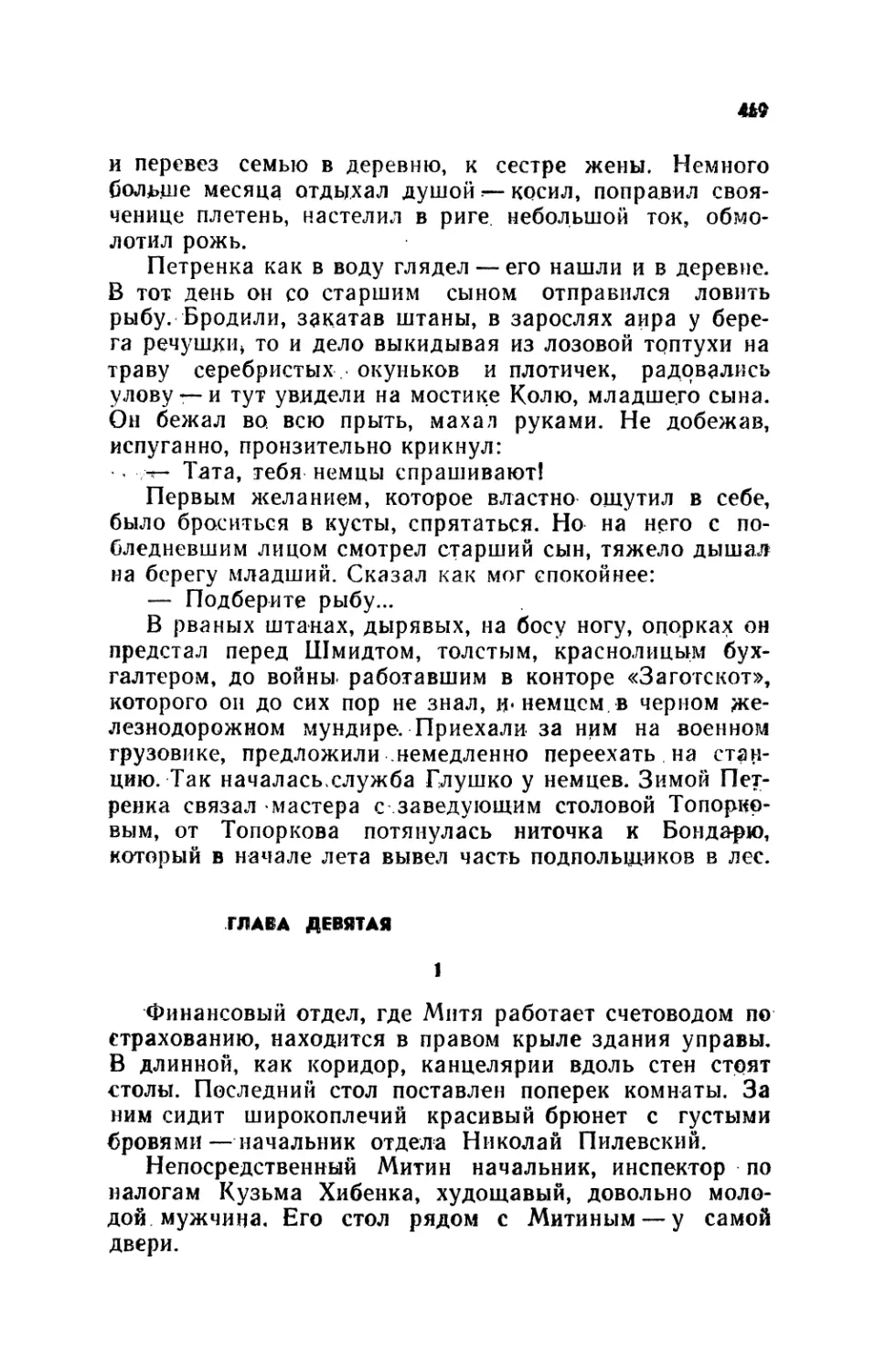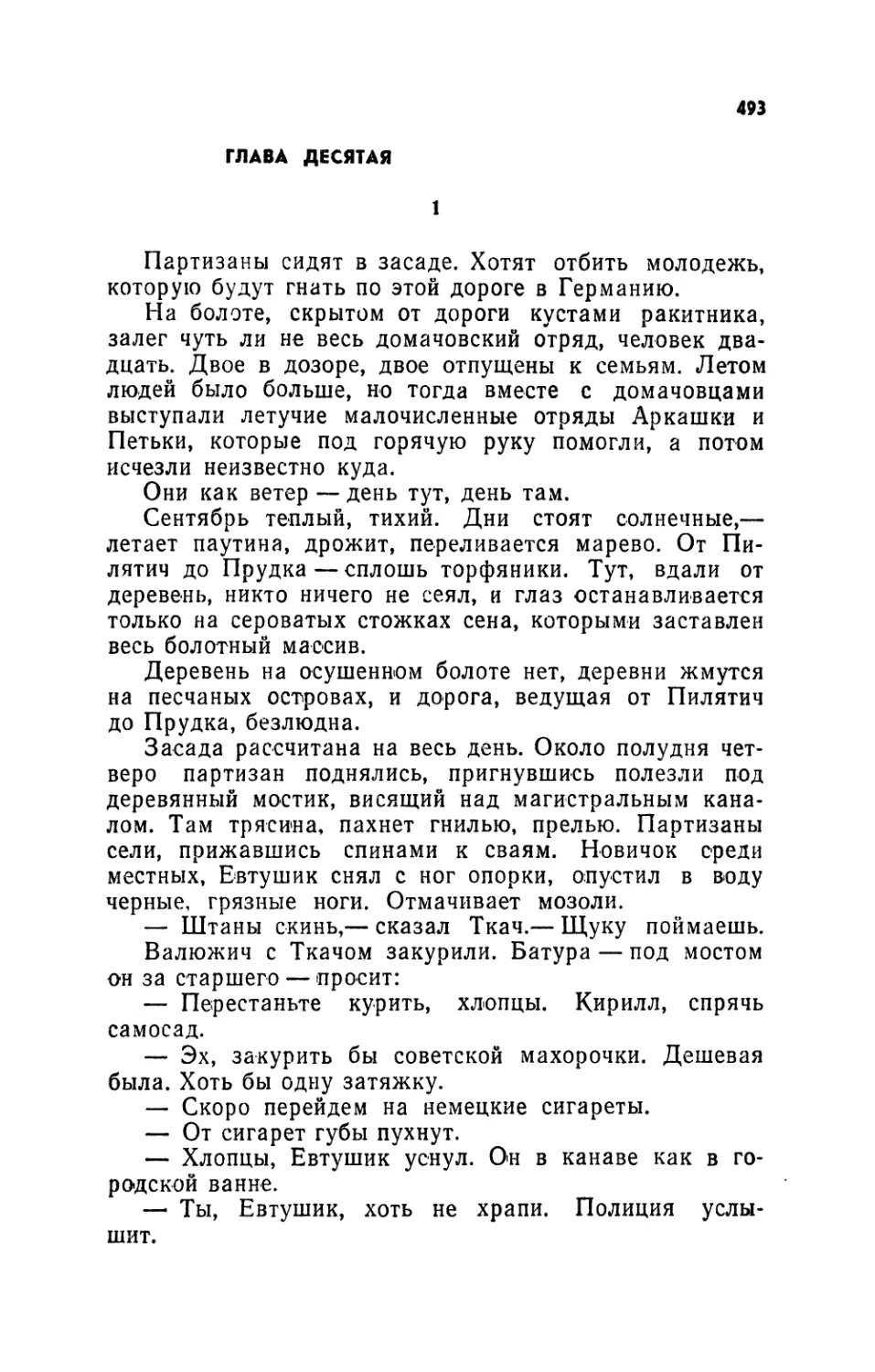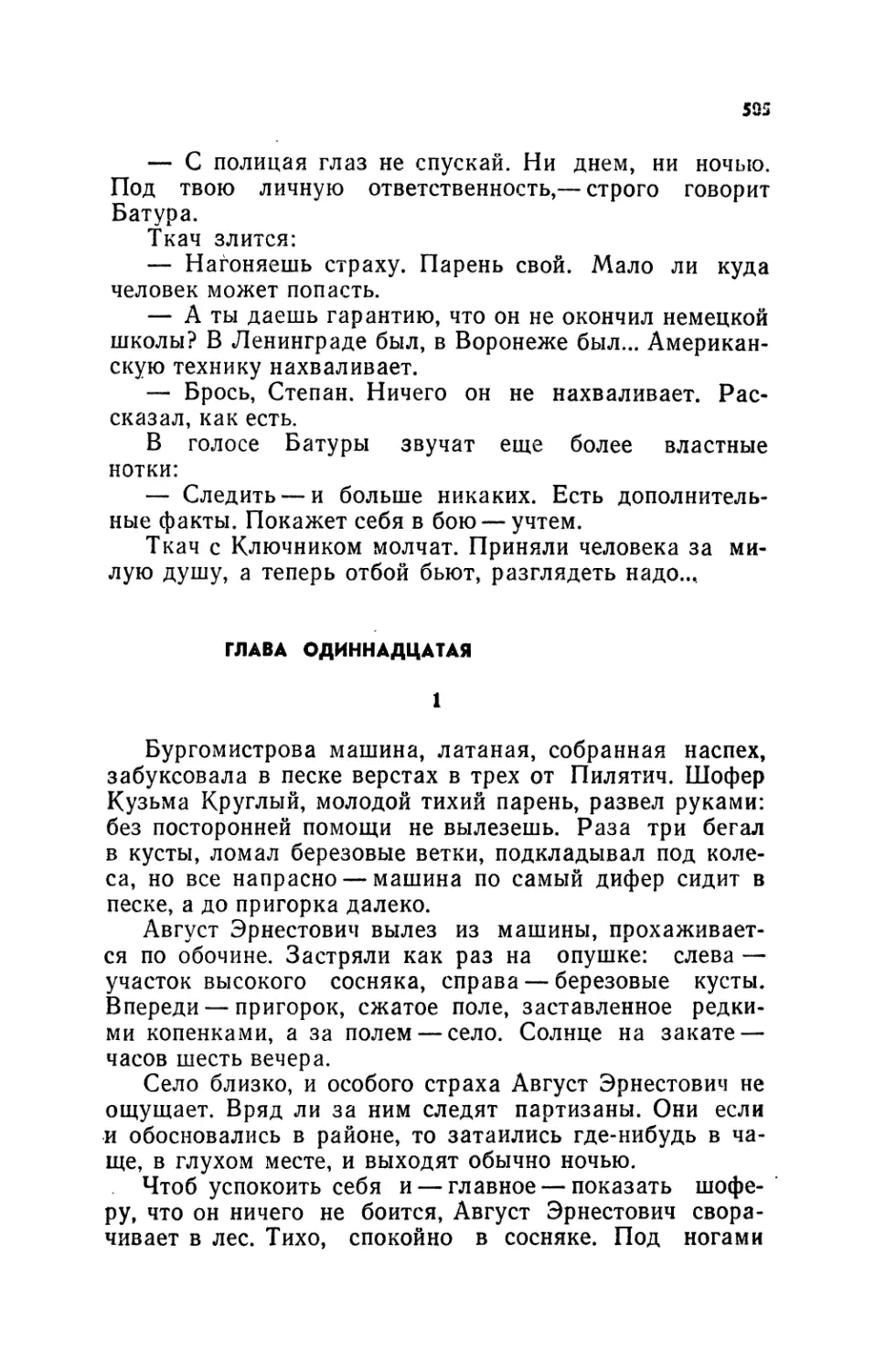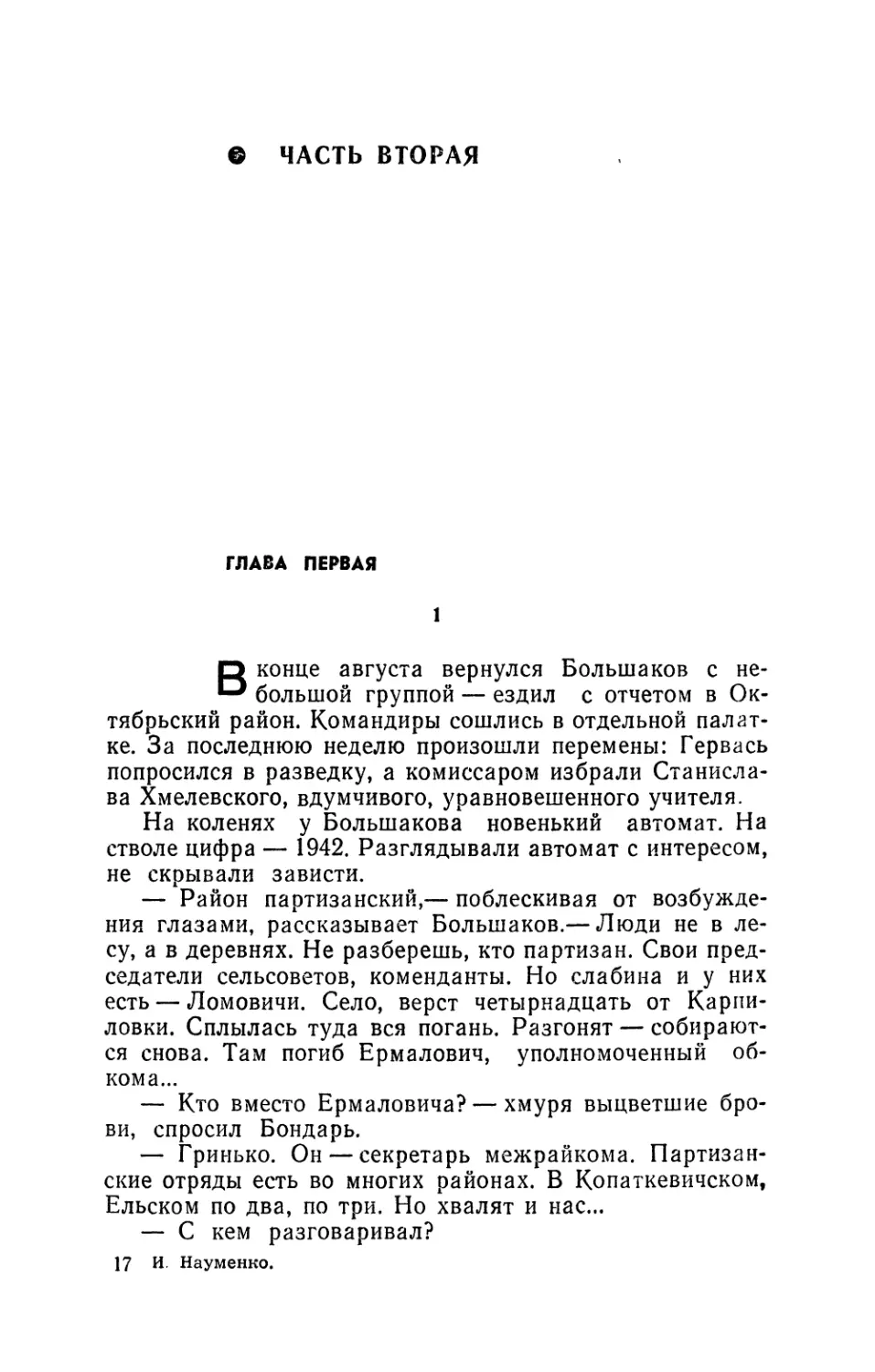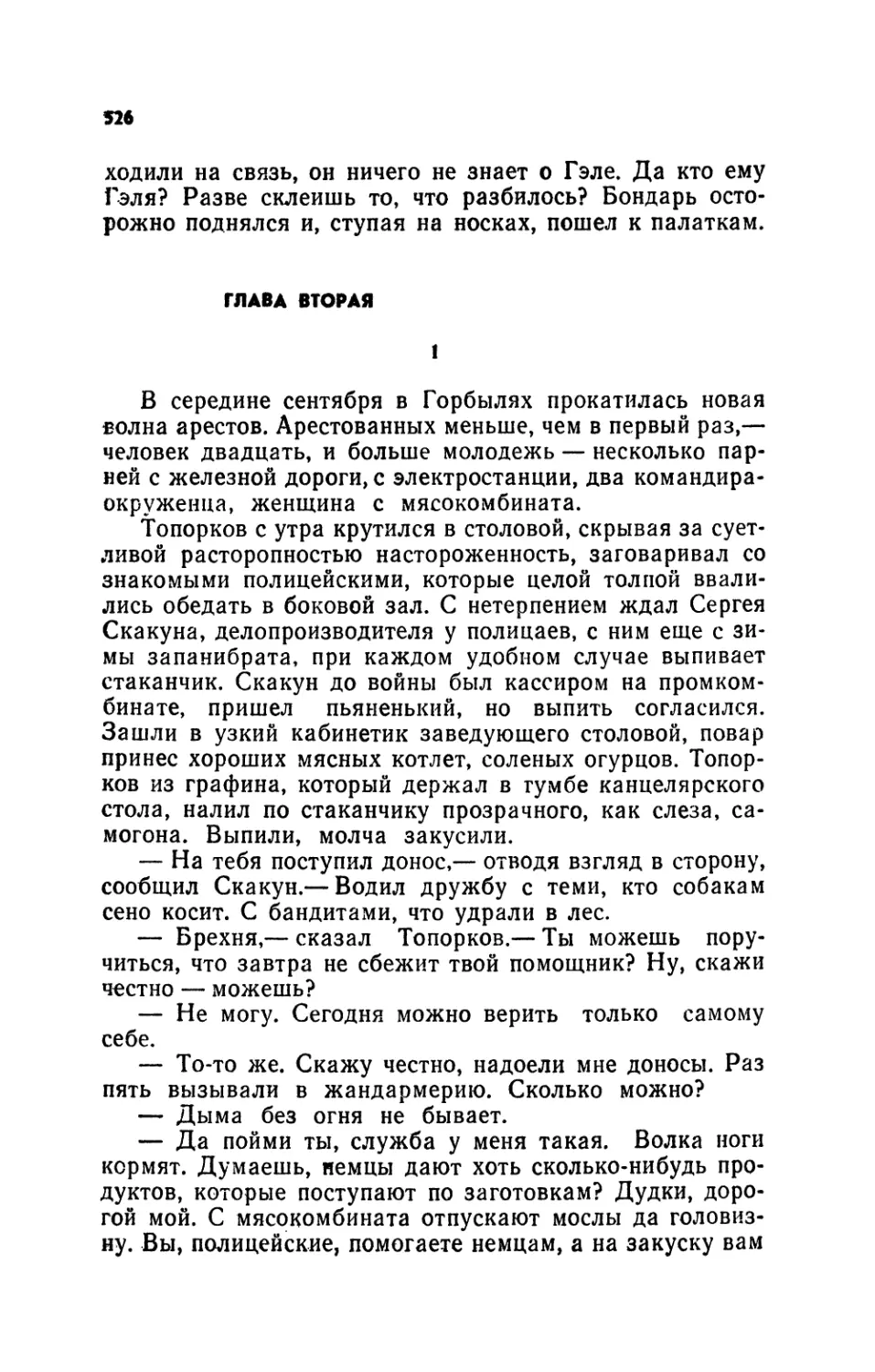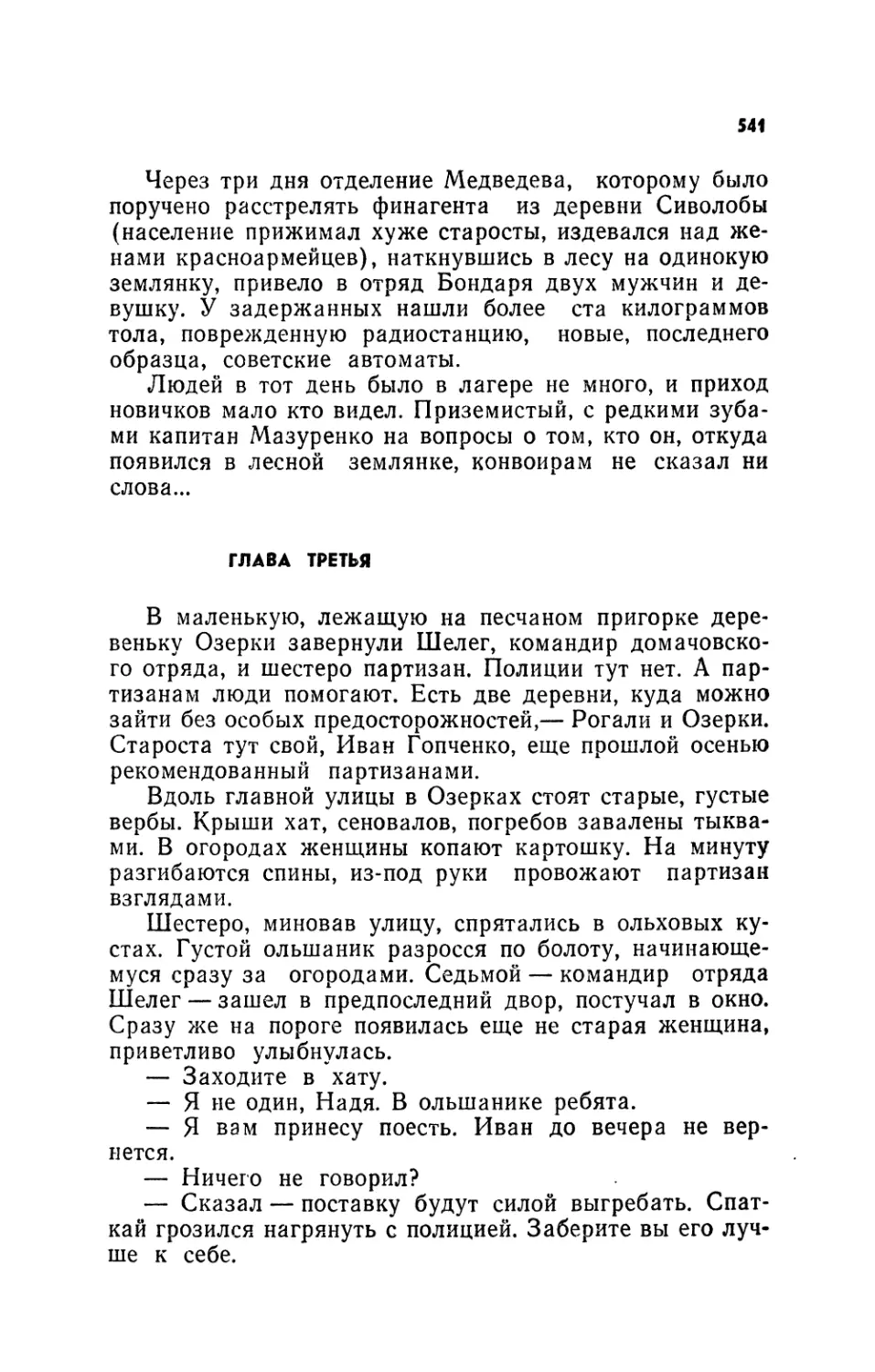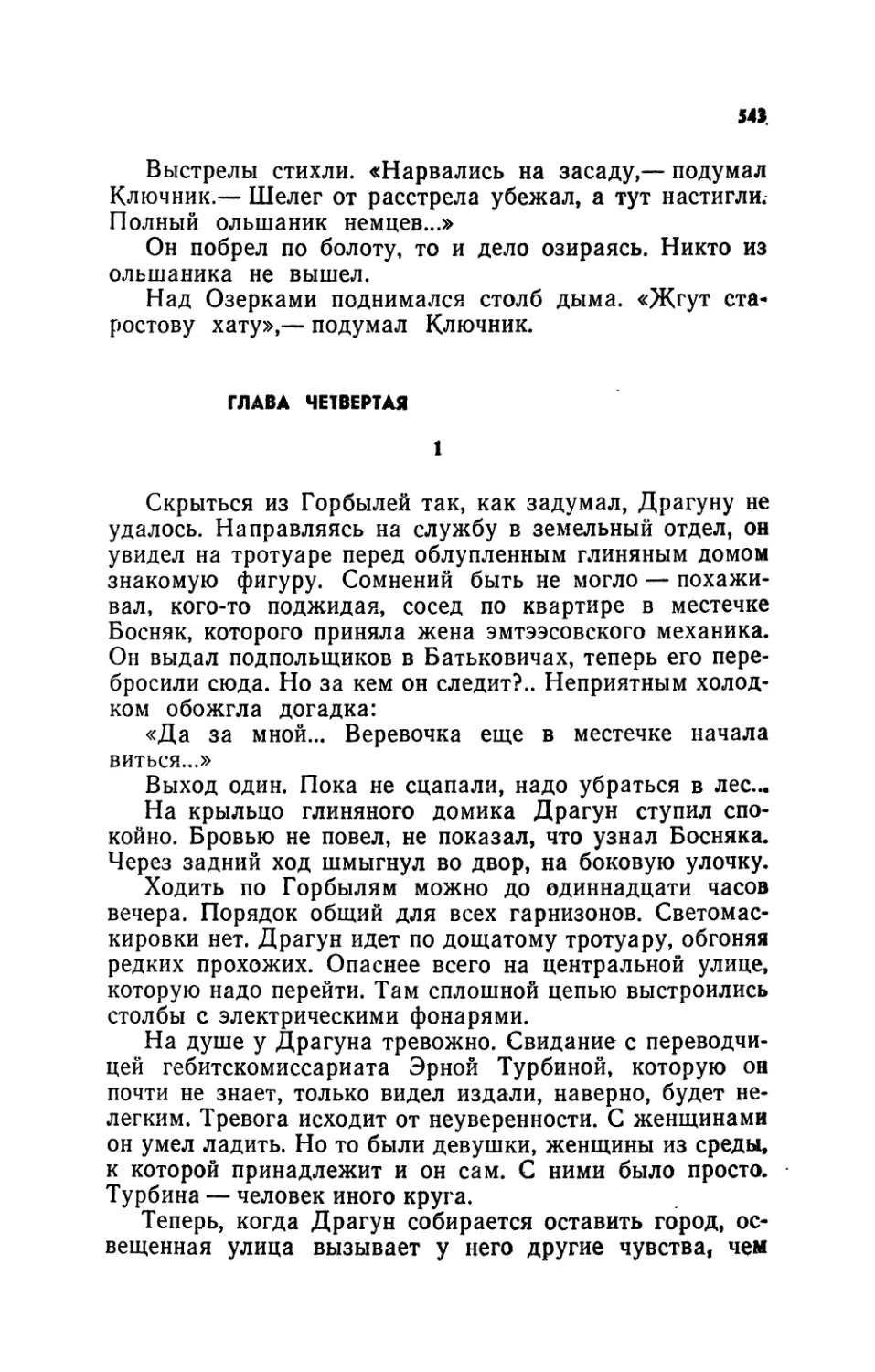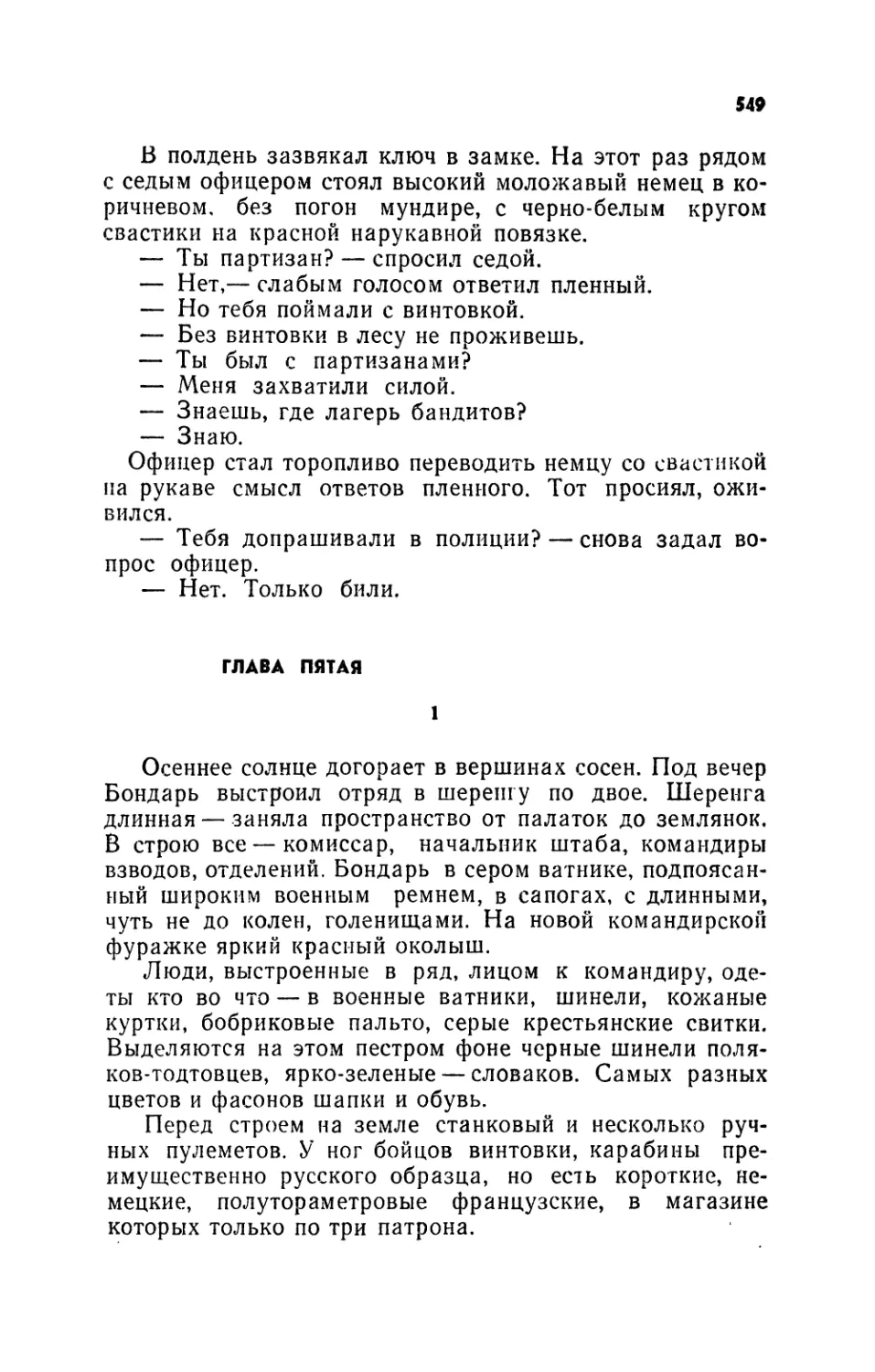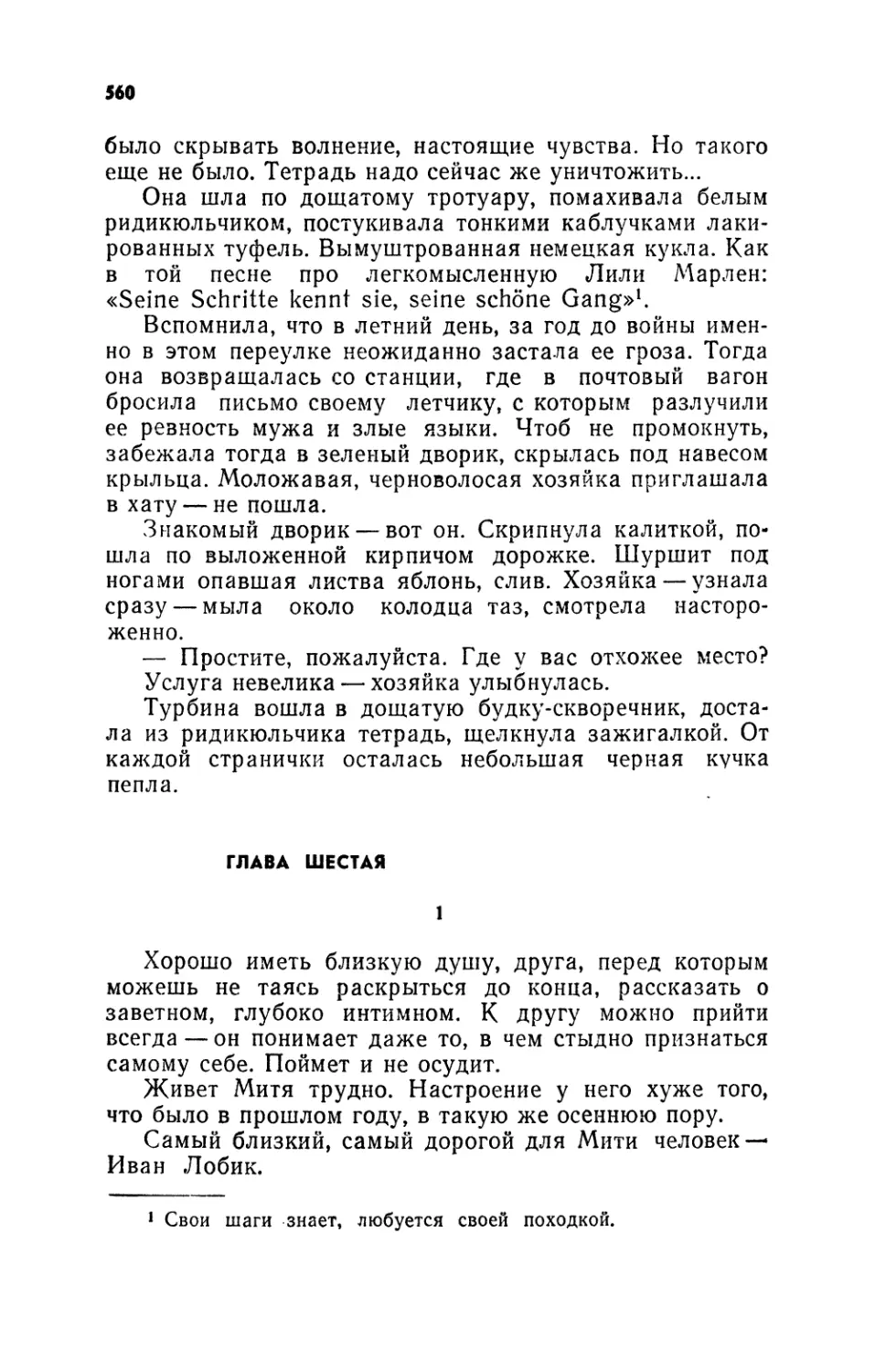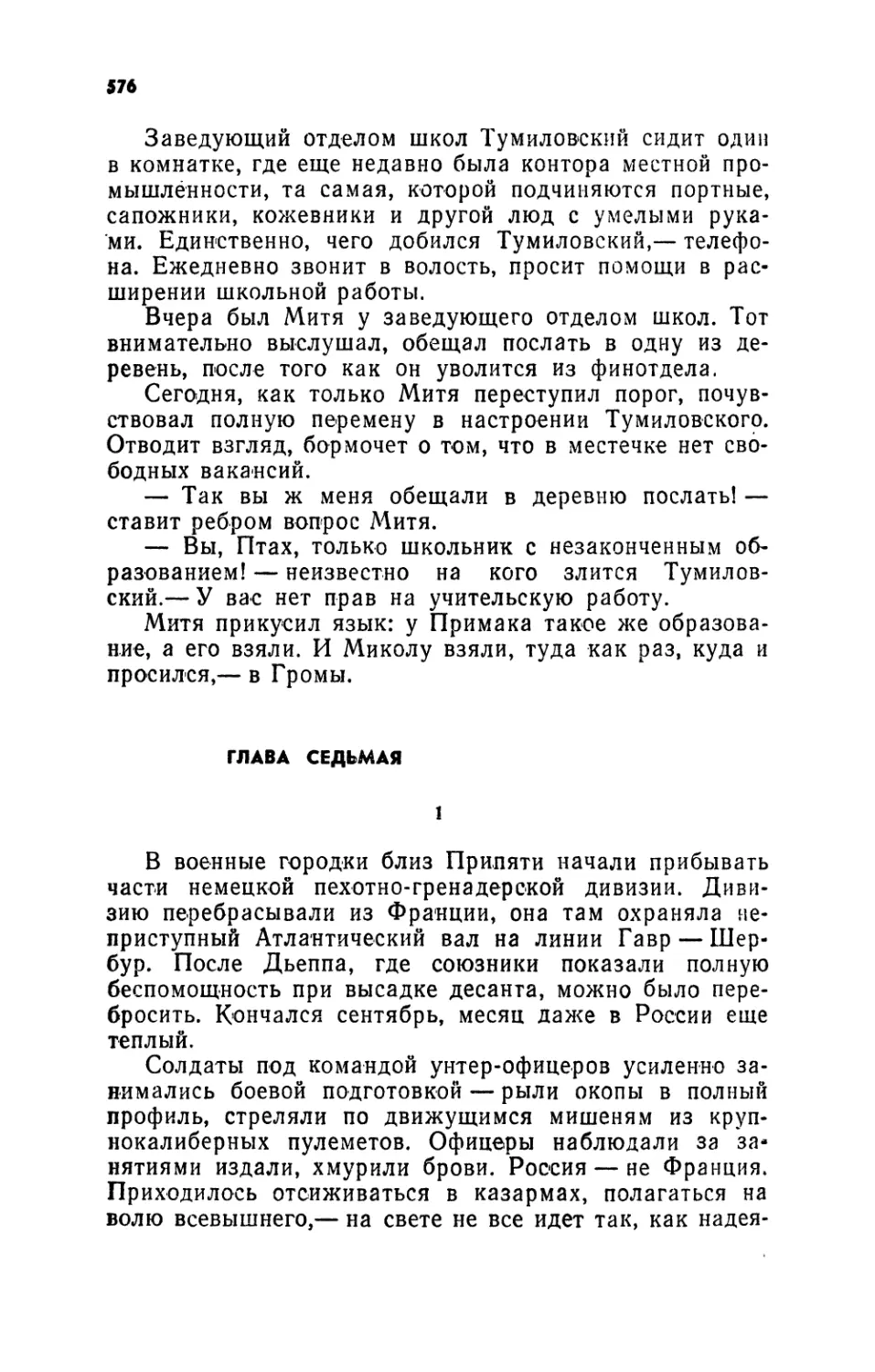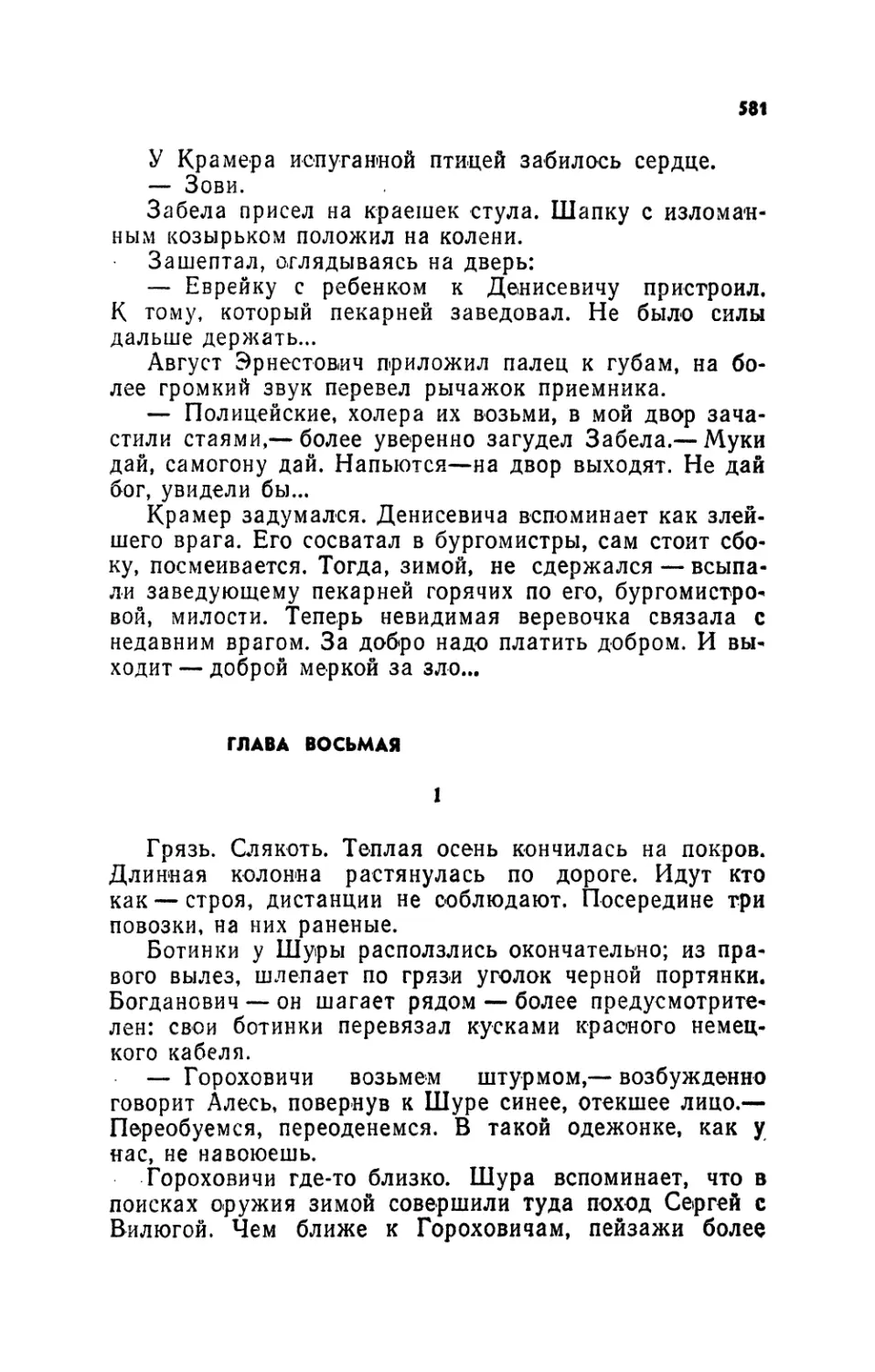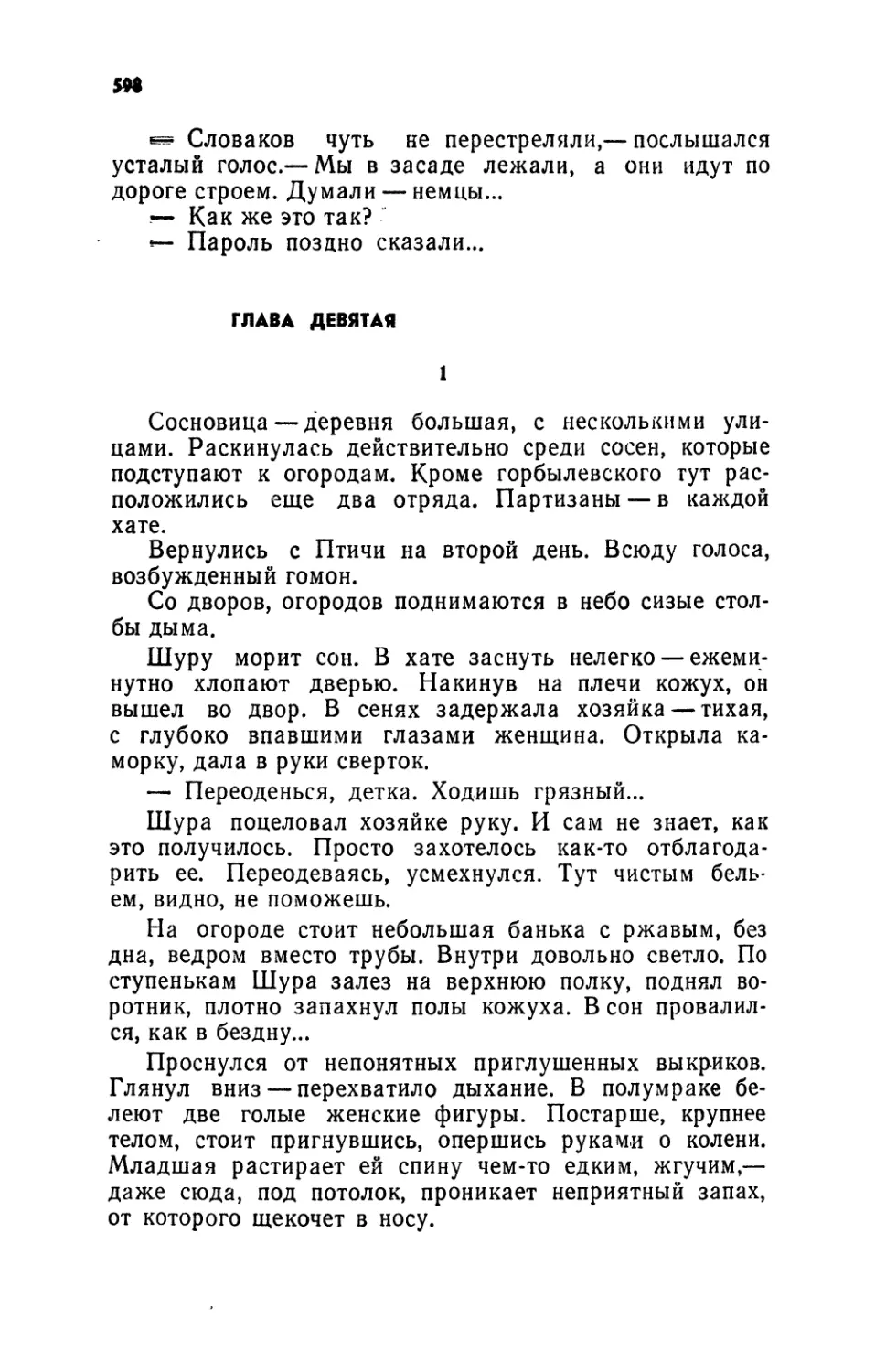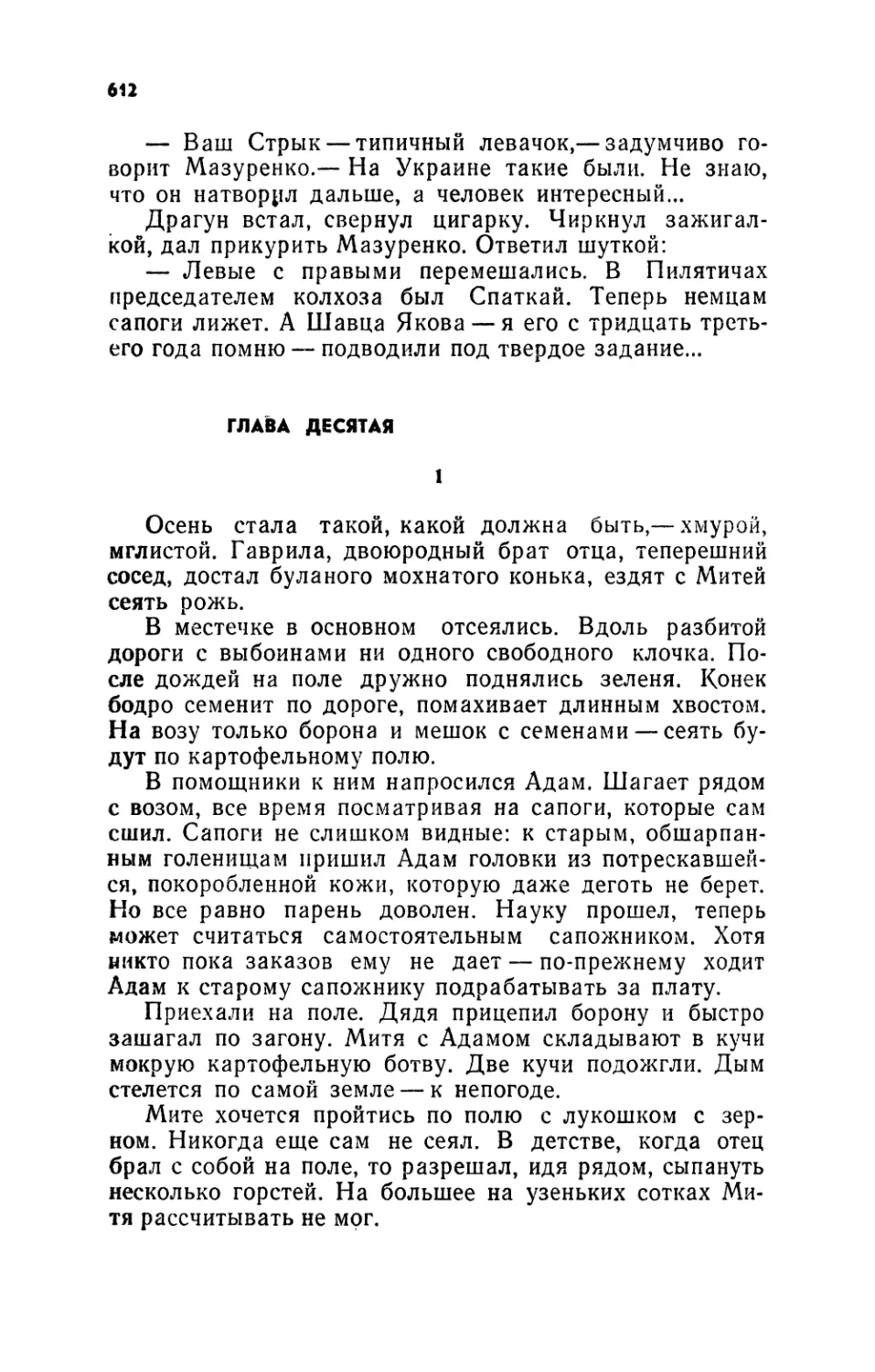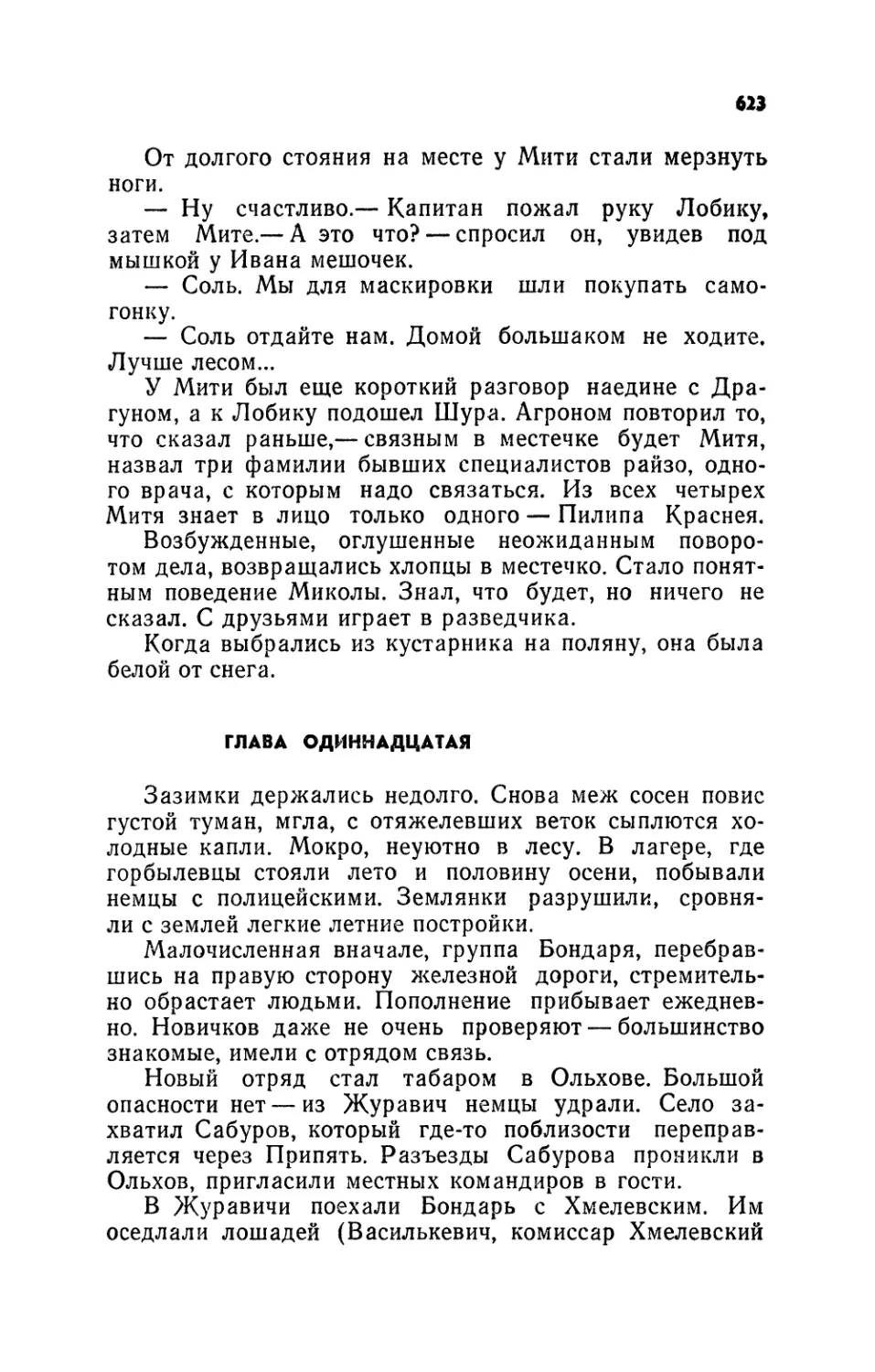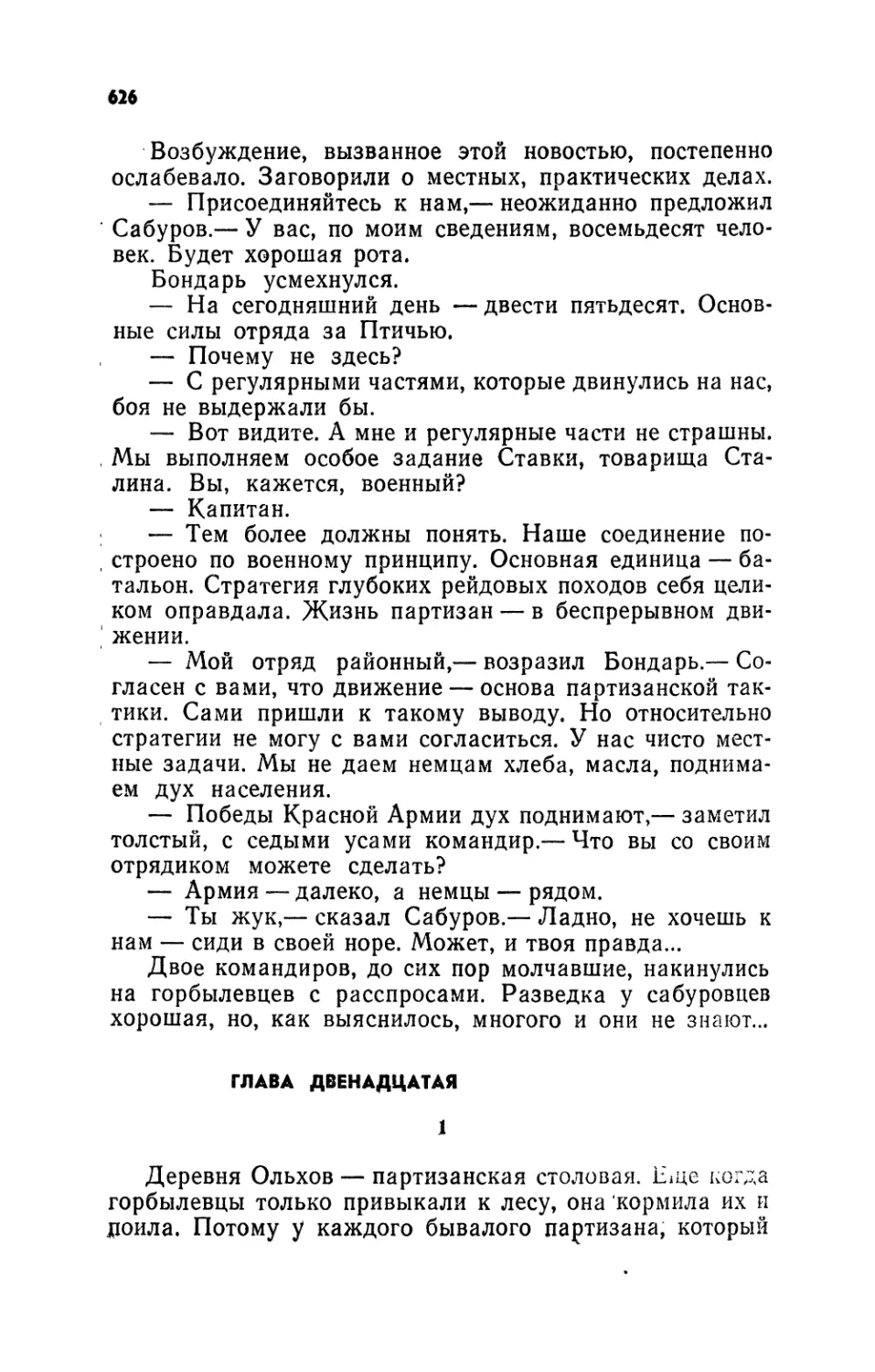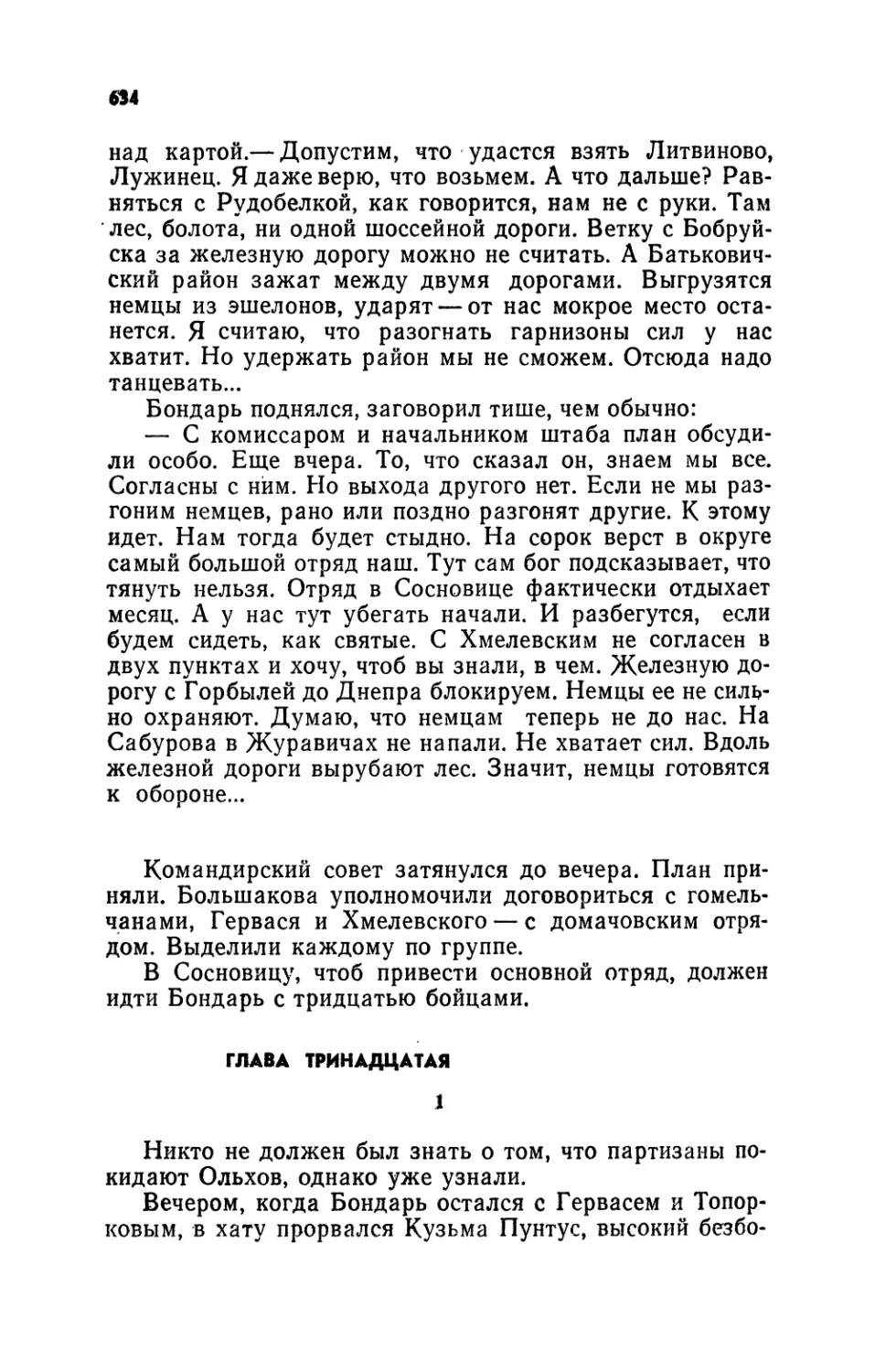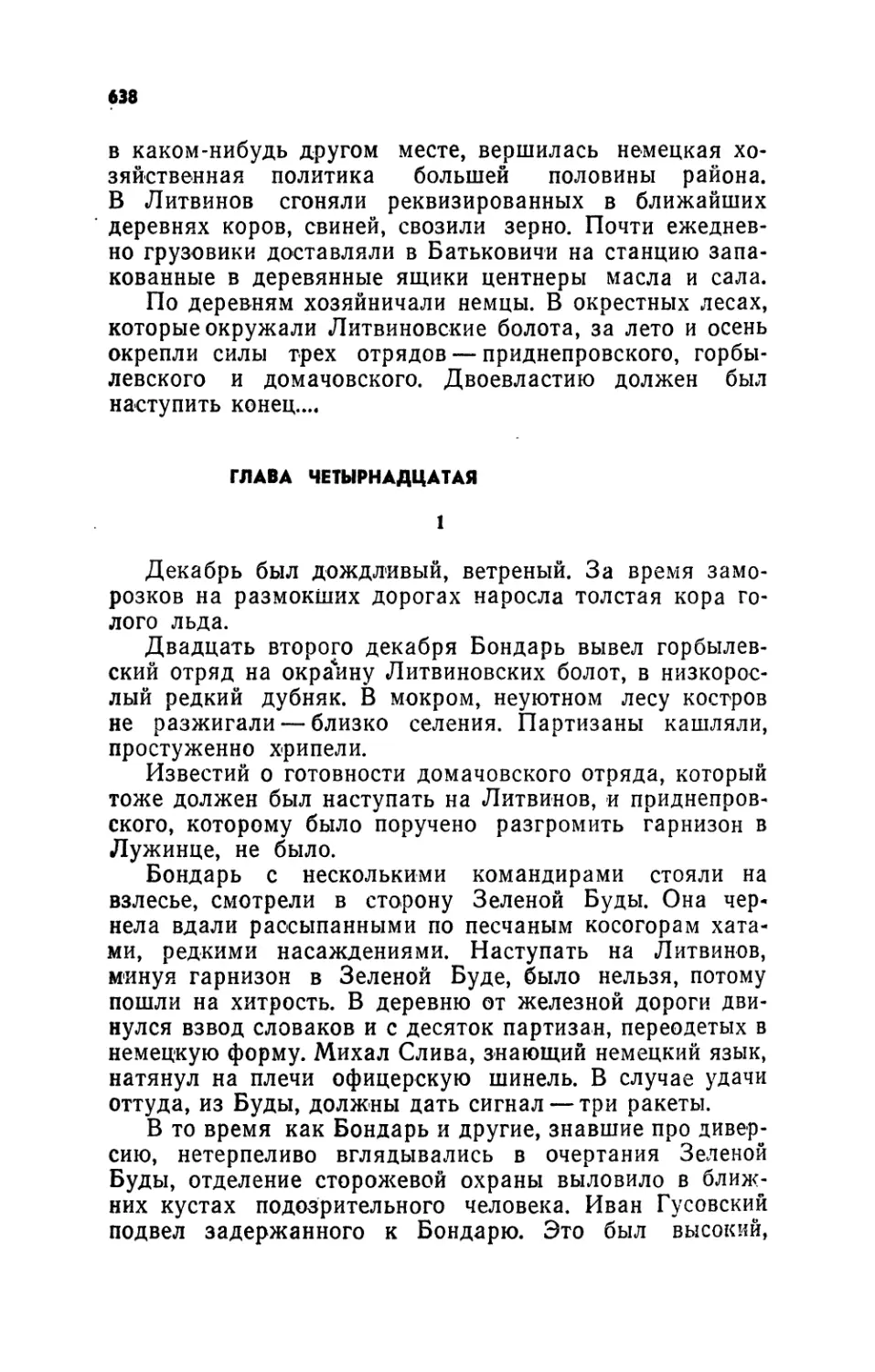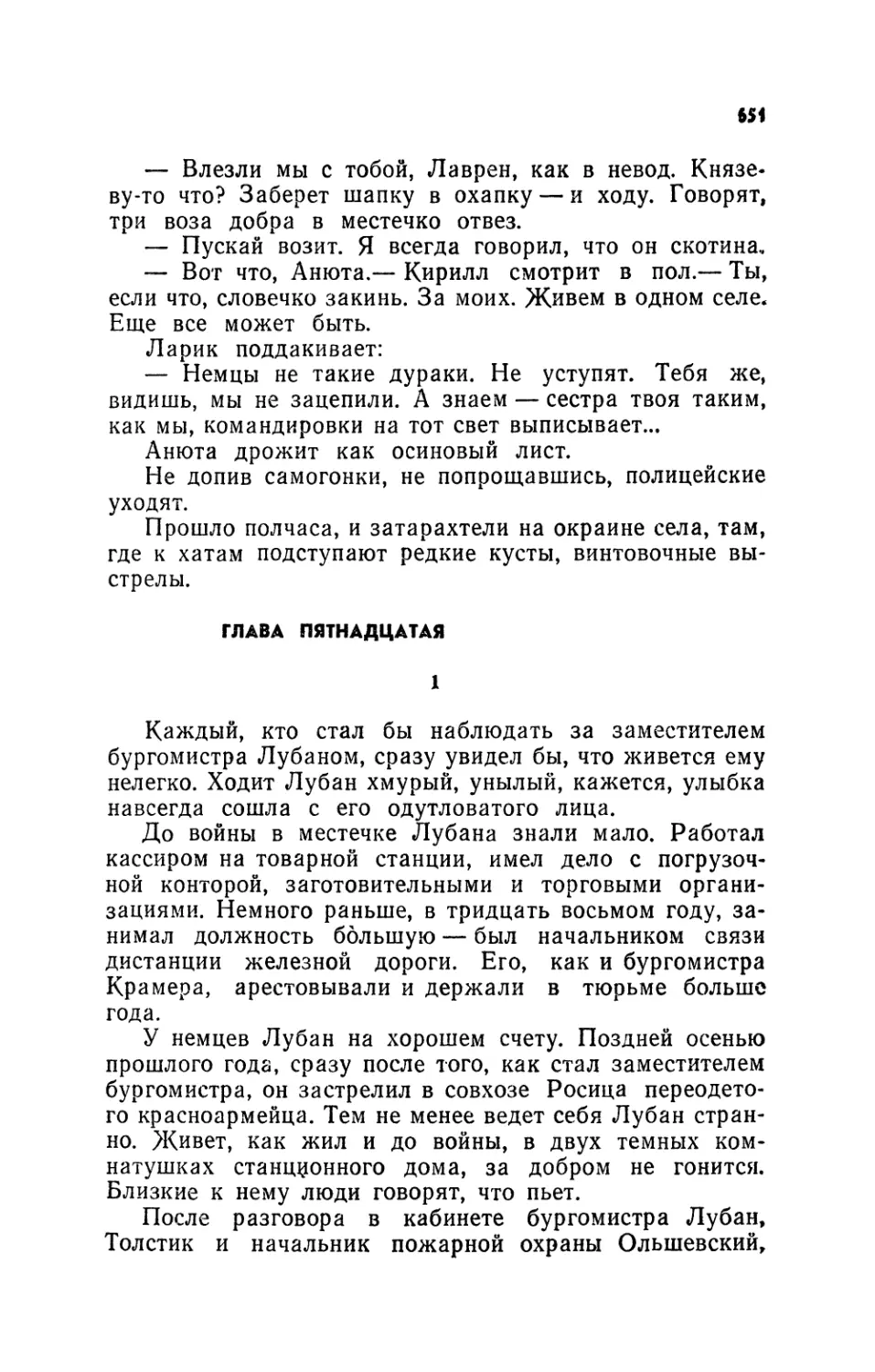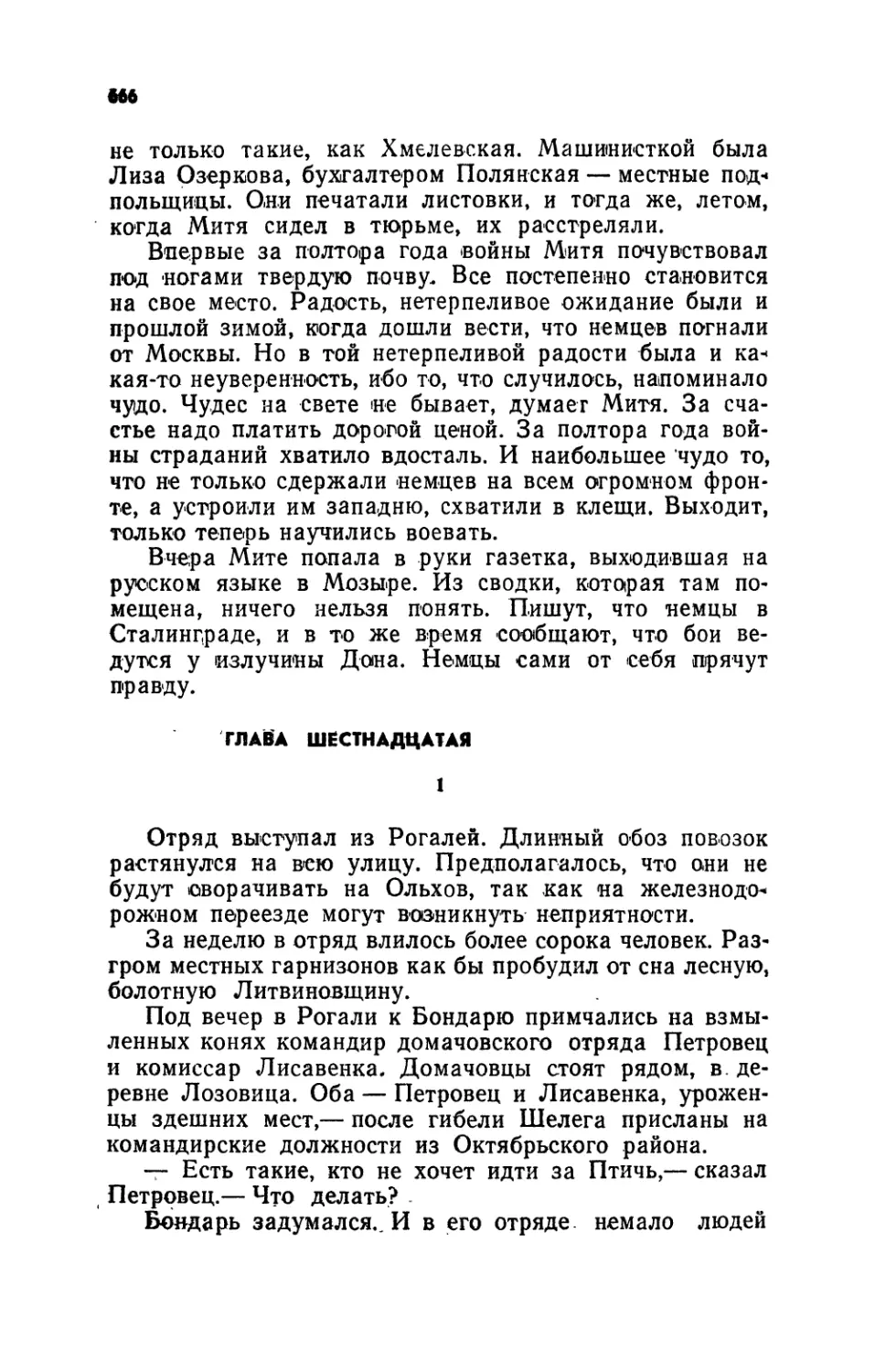Author: Науменко И.
Tags: художественная литература сосна при дороге науменко издательство известие
Year: 1971
Text
«Г ДРУЖБЫ НАРОД ОВ»
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ «БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Сурен Агабабян Ануар Алимжанов Сергей Баруздин Константин Воронков Леонид Грачев Мирза Ибрагимов Алим Кешоков Григорий Корабельников Леонард Лавлинский Георгий Ломидзе Юстинас Марцинкявичус Рафаэль Мустафин Александр Николаев Леонид Новиченко Валентин Оскоцкий Леонид Теракопян Иван Шамякин Людмила Шиловцева
БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ИВАН НАУМЕНКО
сосна при дороге
•
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» « МОСКВА # 1971
Художник В. СЕЛИВАНОВ
сосна при дороге
РОМАН
Авторизованный перевод с белорусского ЕВГ. МОЗОЛЬКОВА
• ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПАМЯТИ СЫНА ЖЕНИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Сосна растет на сухом бугорке у железнодорожного переезда. Здесь, можно считать, развилка и перекресток. Песчаный шлях, насыпанный рядом с железнодорожным полотном, ведет в лес и в местечко, проселочная дорога — в местечко и в поле. Вблизи более высоких деревьев нет, и сосна видна издалека. Раскидистая, с пышной кроной, она мало похожа на своих стройных сестер в бору.
Солнца сосне хватает. Дожди обмывают пыль, которая садится со шляха и железной дороги, поят сухой бугорок. Все четыре ветра ведут разговор с сосной.
С некоторого времени сосна перестала расти. Может, рост и есть, но незаметный, ничтожный, и люди его просто не замечают. Во всяком случае, Степан Птах — путевой обходчик, будка которого стоит на другой стороне переезда, почти напротив сосны,— все последние годы пользуется одной и той же суковатой жердью, чтобы вскарабкиваться на дерево, где стоит его улей.
Допотопный этот улей — выдолбленную дубовую колоду — привыкли видеть на сосне. Пчелы живут там самопасом, Степан выдирает перед осенью все, что наносили они за лето. Год на год не приходится: взятки меда зависят от того, что растет на ближних полях и как родят травы на заросшей кустарником пустоши. Если
а
кругом белеют молочные разливы гречихи, синеет озерцами лен, густо цветет на картофельном поле сурепка и бушует от щедрых дождей разнотравье, Степан радуется, зная, что пчелы своего не упустят.
Удивительно, как уцелела эта одинокая сосна и почему за долгие годы' не выросла рядом хоть одна маленькая сосенка? Земля на бугре ежегодно усеяна шишками. Их хватает будочнику, чтобы по весне коптить окорока, а в июньские вечера спасаться дымом от комаров и мошкары. Шишек — множество, а потомства сосна не оставила.
Должно быть, просто виновато место. Нерасколотые шишки, сорванные ветром, падая на дорогу, вдавливаются колесами в песок. Не видать следа и от тех, которые сыплются на бугорок, растрескавшись на сосне и разбросав семена. На сухом бугре трудно возникнуть жизни, потому что очень часто любят здесь останавливаться путники.
Одним словом, почему сосна одинокая, разобраться можно. А вот почему ее, ничью, придорожную, за долгие годы никто не срубил, ответить трудно. Тем более что людям всегда нужно дерево —на хаты, на доски, а смолистая лучина — на растопку.
Даже никто из старожилов не помнит, когда проложили железную дорогу. Каждому думается, что она была здесь всегда. И сколько времени блестят на солнце железные рельсы, сколько стоят возле переезда сложенные из гладкого красного кирпича будки, столько лет тихо покачивает зелеными ветками разложистая сосна.
2
От будки, в которой живет Степан Птах, полторы версты до станции и верста до местечка. Около переезда Степана две будки, но одна давно нежилая. В ней хранится разный путейский инструмент. Когда-то на переезде были шлагбаумы и сторож, который жил в другой будке. Но с той поры, как насыпали прямой песчаный шлях и сделали главный переезд в самом местечке, этот утратил значение. Сторожа перевели, шлагбаумы сняли. Машины мчатся по шляху, а через переезд, сворачивая на проселочную дорогу, только изредка протарахтит какая-нибудь подвода.
9
Перебрался сюда Степан давно, оставив старый отцовский двор младшему брату. Здесь появилось у него шестеро детей. Самый старший сын, Митя, родился еще в дедовском гнезде. Когда ему было три года, он упал с воза и сломал левую ногу. С того времени Митя слегка прихрамывает. Второго ребенка, тоже мальчика, переехал поезд.
Степан Птах — мужчина выше среднего роста, широкоплечий, рябой, с черными выпученными глазами — по натуре человек неплохой. Зла он не делает никому, если не считать толкотни и крика, которые учиняет во всех местечковых лавках. С некоторыми товарами бывали перебои, и, если хочешь что-нибудь достать, нужно выстоять в очереди. Стоять же в очередях Степану совсем не с руки, и когда он, заглянув в лавку, наталкивается на толпу женщин, то не спрашивает, кто последний, а лезет напролом к прилавку, расталкивая дюжими плечами взмокших женщин направо и налево.
— Ирод рябой! — кричат ему.— Опять прилетел!..
— Из-за вас разве по-человечески возьмешь? — уже около прилавка гудит обходчик простуженным басом.
Птах всегда шагает по железной дороге к своей будке с двумя буханками под мышкой. Меньше он не носит. Семья не малая и требует еды.
Впрочем, в будке Птаха господствует согласие и порядок. Хлопцы носятся в черных молескиновых штанах и сорочках, девочки — в ситцевых платьях. Свою службу обходчика Птах несет исправно, но не дает маху и на стороне. Сена он накашивает немного больше, чем нужно его корове и телушке, и зимою имеет за это барыш.
В дополнение к скромному заработку обходчика вдоль железной дороги на пролетах лопушится картошка, хорошо родят и просо, и ячмень, и мак.
Лес — рукой подать. Пройди на запад какую-нибудь версту по железной дороге или по пыльному шляху, лежащему рядом, и тут тебе сосновый бор, где черники, брусники и грибов не оберешься; немного левее — смешанный лиственный лес, в котором преобладают ольхи и береза, а трава кажется красной от земляники. А подайся в болотистые заросли — малины и ежевики там тьма.
10
Лучшая ягода — Степанова, первый гриб — тоже его. Дети умеют не только есть, они, будто пчелы, все волокут в дом.
Летним утром, когда густой, как молоко, туман еще висит над полями и железной дорогой, из будки выходят ребятишки с кринками да лукошками. Впереди, припадая на левую ногу, ковыляет старший, Митя, за ним два хлопчика почти одинакового роста — Адам и Петрусь — и две девочки — старшая, Катя, и меньшая, Татьяна. Дети идут стайкой, как гуси.
Птах, ко всему прочему, обеспечивает станцию вениками и метлами. За это особая плата. Не такая высокая, но ее хватает, чтобы купить школярам новые сорочки и штаны.
Птах не пьет. Выпивает только с одним человеком — леспромхозовским шофером Иваном Гусовским. Для Ивана в хате всегда хранится поллитровка. И Гусов- ский никогда не минет будки, когда едет из леса.
— Открывай! — кричит он, останавливая машину.
И независимо от того, выходит кто-нибудь из будки или нет, Иван сбрасывает несколько грабовых плах под сосну. Он искренне заботится о том, чтобы Птах зимой не мерз в своей каменной будке.
Вечером, делая последний рейс, Иван останавливает машину, глушит мотор и заходит к Птаху на огонек. Вот тогда-то и распивается поллитровка.
— Больше ста пятидесяти шоферу не положено,— говорит Иван, отводя руку Птаха с бутылкой.— Разобью машину и попаду за решетку. А я еще молодой, мне жить надо.
Ивану — ладному, широколицему парню — под тридцать, но он не женится. Не имеет ни своего дома, ни постоянного местожительства. Бросают его с участка на участок, и ездит он по всем дорогам района. Но обзавестись хатой Птаху помогает. Не только грабовые плахи сбрасывает около переезда, а в сумерках, когда не подстерегает чужой глаз,— и сосновые бревна. Эти бревна Птах перетаскивает в свой дворик, прячет под прошлогодней картофельной ботвой, а когда их набирается с десяток, с помощью того же Ивана переправляет на отцовский двор. Сам он стареет, подрастают дети, а служба и будка не вечны, нужно думать и о собствен-: ном пристанище.
11
Бревна и плахи Иван не сбрасывает только тогда, когда рядом с ним, в кабине, сидит леспромхозовский приемщик Крамер, высокий, молчаливый, с синим носатым лицом. Приемщик все же начальство, и его нужно остерегаться.
з
Вообще усадьба Птаха — на бойком месте. Разного люда здесь перебывает за день уйма. Еще на заре мимо будки торопливо шагают в лес местечковцы. Идут кто по ягоды, кто по грибы, кто нарвать мягкой травы на сенник, а кто незаметно, украдкой от лесникова глаза, накосить между кустов копенку сена. Часов в восемь с хохотом и криком подходит к переезду ремонтная бригада. Путейцы останавливаются, грузят на вагонетку инструмент, рельсы, шпалы и двигаются дальше.
Еще через час валом валят те, у кого есть какие-то дела в местечке. Колхозники на подводах везут заготовку — свиней, молоко в блестящих бидонах, овощи и фрукты. Пешие большей частью торопятся по личным нуждам: продать яйца и сушеные грибы, к прокурору или в райисполком с жалобой, в амбулаторию к врачу. Мальчишки и девчонки, которые, может, впервые в жизни отважились отмерить длинные километры от своей деревни до местечка, идут покупать учебники.
В этот утренний час переезд становится людным, бойким. Непрерывно гремит цепь, и в провал бездонного цементного колодца с грохотом летит окованное железными обручами деревянное ведро. Под сосной обуваются молодицы и девчата, которые, жалея обувь, до этого шли босиком. Те, кто едет, держатся обычно пыльного шляха, а пешие стараются свернуть на проселочную дорогу, которая весело вьется средь полей ржи и ячменя.
В полдень сталкиваются два встречных потока: местечковцы возвращаются из лесу, сельчане — из местечка. Часам к пяти завершает свой рабочий день утомленная и теперь более молчаливая ремонтная бригада. Она сгружает инструмент, оставляет несколько гнилых шпал — обходчику на топливо — и направляется к станции, на отдых. Наступает тишина...
12
Тишина эта, конечно, ненадолго. На восток и запад, почти каждые полчаса, по двум стальным колеям гремят поезда: товарные и пассажирские, длинные — до сорока вагонов с двумя локомотивами и короткие — паровоз и два-три вагона. Одни поезда проносятся мимо будки как ветер, поднимая перед семафором настойчивый железный крик, требуя «зеленой улицы». Другие, зная, что станцию им с ходу не проскочить, уже около будки начинают замедлять бег, колеса их вагонов громче лязгают на стыках, а кондуктор, сидевший до этого на тормозе заднего вагона, встает и протирает запорошенные пылью глаза.
Когда Степан Птах на обходе, при приближении поезда он сворачивает с колеи на край насыпи, достает из футляра желтый флажок и держит его над головой до тех пор, пока не пронесется последний вагон. И всегда в такие минуты его лицо серьезно.
К поездам в будке привыкли не только люди, но и скотина. Пестрая Рогуля обходчика, которая пасется около железной дороги, услыхав гул поезда, отходит от полотна всего на два-три метра. Телушка по неопытности отбегает немного дальше.
Не могут привыкнуть к железному грохоту только птицы. Где бы они ни сидели — на сосне, в кустах, на телеграфной проволоке,— почти всегда при приближении поезда взлетают в воздух.
Вечером, когда спадает летняя жара, на переезде появляется полевой сторож Кузьма Шнапс. Фамилия у Кузьмы другая, но его лучше знают под этим прозвищем, и он не обижается, когда его так зовут. Путь Шнапса к его владениям всегда лежит через переезд Птаха.
— Живешь, Степан? — приветствует он обходчика.
— Живу, а что мне сделается?
— Ну и живи. Только как ты выдерживаешь в таком грохоте и шуме? Я и дня не стерпел бы. Вот пойду лягу под копну — и вся моя служба. Не услышу ни дудки, ни шмудки.
— Тебе твое, а мне мое. Да и тихо тут, поезд прошел — и нету. Лучше здесь, чем в селе: бабы не ругаются, чистый воздух, покой.
— Может, и правда...
13
— Ты мне, Кузьма, подбрось какой-никакой воз соломы,— просит Птах.— Ее у вас столько пропадает. А я тебе к зиме немного керосина припасу.
— Можно подбросить...
В солнечную летнюю пору, когда все кругом повито тонкой синеватой дымкой, местечко, если смотреть с переезда Птаха, кажется необычайно красивым. Укрытое садами и палисадниками, оно словно зеленый остров среди золотистого ржаного разлива. Одно только здание выделяется на этом острове — школа. Ее молочно-белая громада выше хат и магазинов, выше самых высоких тополей и лип и потому невольно привлекает внимание каждого, кто добирается до местечка.
Митя любит смотреть на школу. Он знает место, с которого она видна лучше всего. Место это — бугорок под сосной — хлопец облюбовал еще тогда, когда школу только построили. И ходит Митя под сосну всегда с книгой...
Год назад, когда Митя закончил семь классов, отец спросил:
— Что будешь делать дальше? Я учился только две зимы — и ничего, семью кормлю. Может, и тебе хватит науки?
— Пойду в институт. Ты мне, тата, помоги эти годы. Летом гулять не буду, поступлю в ремонтники.
Степан Птах с уважением глянул на старшего сына, худенького, щупленького, который рассуждал так по- взрослому.
— Хорошо, сын,— промолвил он, отворачиваясь и стараясь проглотить горький ком.— Ты, должно быть, мудрей отца. Не журись, хлеба хватит...
Отцу Митя сказал правду. А вообще он замкнутый хлопец и своими планами делится не с каждым. Возможно, на его характере сказались хромота, жизнь на отшибе.
Тем не менее есть у Мити друзья, и они любят приходить в будку, под сосну. Самые близкие из них — Иван Лобик и Нупрей Гиль. Дружат они давно. Хлопцы учатся в десятом классе, Митя — в девятом. Когда начинался учебный год, Митя был только в восьмом, отставая от товарищей на целых два класса.
До последнего месяца никто, кроме Лобика и Гиля,
и
не знал, что Митя, учась в восьмом, самостоятельно готовится и за девятый. Хлопцы хранили тайну надежно. Иван помогал по математике — прогрессии, логарифмы, синусы и косинусы Митя освоил как следует. Всю зиму то Митя ходил в покосившуюся хату Ивана на Вокзальной улице, то Иван сам шагал к Мите в будку. Нуп- рей помогать не имел времени: он в школе активист, секретарь комсомольской организации, а также и селькор.
Митин триумф начался в апреле, когда он принес директору заявление с просьбой принять экзамены за три четверти девятого класса. Такого случая в школе еще не было. И учителя не знали, что делать. Ходили в районо, звонили в облоно. Наконец пришло разрешение принять экзамены экстерном.
В первый день, когда Митю перевели в девятый, там одновременно было три контрольных — по алгебре, русской литературе и немецкому языку. Учителя проверяли его работы сразу, как только он клал их на стол. До конца уроков стало известно, что по всем трем предметам он получил высшую отметку.
Митя купался в лучах славы.
Нупрей написал о Мите заметку в районную газету, и таким образом слава, выйдя за пределы школы, прокатилась по всему району.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Наступил Первомай...
День теплый, ласковый. Солнце неяркое, плывет как в белом тумане. После демонстрации Иван Лобик и Нупрей Гиль вместе с Митей пришли под сосну. Купили в складчину, на троих, четвертинку водки, банку консервов.
Ребятами овладело особенно радостное настроение: на земле весна, сквозь чахлую прошлогоднюю траву пробивается молодая зелень, на ракитовых кустах, на ивняке — первые клейкие листочки. Земля еще сыроватая, от нее веет скопившимся за зиму холодом, но друзья не обращают на это внимания — лежат на бугор¬
15
ке на животах. Откупорили бутылочку, нарезали хлеба, лука.
Выпивали впервые—водка с непривычки ударила в голову, они сразу опьянели. Запели. Голоса ни у одного не было, но им казалось, что поют они чрезвычайно хорошо.
В далекий край товарищ улетает,
За ним родные ветры вслед летят,
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...
Настроение, овладевшее хлопцами, можно вылить только в этой немного грустной, протяжной песне. Разве не всколыхнется, наполняясь тихой, приятной печалью, душа, не затрепещет сердце, не повеет холодком в груди при одном воспоминании, что скоро расставание. Они разъедутся, покинув школу, родное местечко, знакомые с детства места, ставшие как бы частью души. Ивану с Нупреем ехать в этом году, Мите — через год. Что ждет их, обыкновенных местечковых хлопцев, в тех неразгаданных далях, которые, несмотря на грусть расставания, манят и зовут? Чем одарят новые, неведомые пути-дороги?..
Об отъезде говорить не любят. Это как бы само собой разумеется. Может быть, сказывается в этом еще не развеянный, спрятанный в глубине души страх перед неизвестностью, а может, обычная юношеская застенчивость. Известно, что Нупрей собирается в артиллерийское училище, а Иван — в авиастроительный институт. Митя дороги еще не выбрал. Ему нравится лес, его зеленый шум и торжественное молчание. Не раз мелькала мысль — стать лесничим, сажать березы и сосны. Разве плохая это профессия? Но есть у Мити тайна, которую он даже друзьям не открывает. На самом дне его сундучка с книгами, завернутая в старую клеенку, лежит толстая тетрадь со стихами. Митя написал их сам. Он не знает — хорошие это стихи или плохие, и он охотнее дал бы отрубить себе руку, чем показать их кому-нибудь. Вот почему иной раз всплывает желание пойти учиться на литературный факультет.
Перестав петь, хлопцы начинают бросаться шишками. Метят в побеленный каменный столбик на насыпи, который служит каким-то железнодорожным знаком. Иван — с виду мешковатый, медлительный, с большой
1*
головой, широким лицом и толстым, как картошка, носом— бросает, долго прицеливаясь, но попадает редко. Шустрый, чернявый Нупрей торопится, размахивает руками, подскакивает — на своих немного кривоватых ногах он похож теперь на ветряную мельницу — и попадает в столбик почти каждой шишкой. Митя то и дело промахивается. Может, потому, что кружится голова.
До вечера далеко. Хорошо побыть одним, освободиться, хоть на один день, от надоедливой обыденности уроков, забыть о шуме, суматохе. Хлопцы садятся на бугорок. Местечко отсюда как на ладони — оно раскинулось и тянется через всю равнину от леса до леса. Железная дорога как бы делит его пополам. Меньшая часть приходится на левую сторону, большая — на правую. Нупреев дом в правой части,— если хорошо присмотреться, можно его увидеть: крытый черепицей, он довольно приметен. Хаты Ивана не увидишь,— покосившаяся, приземистая, она теряется среди таких же серых хаток левой части, которая некогда называлась Слободкой. Живет Иван без отца, с младшей сестрой и больной матерью.
Хлопцы любят местечко — ничем особенным оно не славится, нет в нем ни речки, не замощена пока ни одна улица, но все равно кажется, что лучшего места на свете нет. Носит местечко красивое название — Батьковичи и, думается, недаром. В книге «Живописная Россия» Адама Киркора, вышедшей почти сто лет назад, Батьковичи упоминаются в числе самых древних поселений этого края, начало которым положила еще Киевская Русь. Согласно преданию, где-то вблизи этих мест был убит князь Игорь, тот самый, который дважды за один год хотел поживиться данью у непокорных древлян. История развивалась так, что в дальнейшем Батьковичи ничем не прославились и потому не попали на ее скрижали. Не было около них ни одной великой битвы, среди знаменитых людей не найдешь фамилии ни одного местного жителя.
На географических картах местечко не отмечено даже маленьким кружочком, и друзьям это обидно. Батьковичи стали центром района уже три года назад, но составители карт этого не учитывают.
В местечке кроме школы еще два двухэтажных каменных здания, старый парк, неподалеку от него горо-
и
дище — заросший лесом пригорок, окруженный земляным валом. Была старинная церковь, построенная, как рассказывают старики, без единого железного гвоздя, но она сгорела, когда отступали немцы в восемнадцатом году. Другую церковь— новую — закрыли. Теперь в ней клуб.
Иван Лобик перевернулся на спину, лежит, глядя в затянутое белыми тучками небо.
— Как поверить в бесконечность Вселенной? — спра» шивает он.— По-моему, тут ошибка. Все, что имеет на» чало, должно иметь и конец.
— А где начало? — лениво возражает Нупрей, который философских разговоров не любит.
— Возьми атом. В нем протон, электрон. Куда дальше делить?
— Поделят, не волнуйся. Просто наука не дошла.
— Бесконечность противоречит здравому смыслу» Подумай — люди изучают природу, строят города, делают открытия. Страдают, радуются, пишут законы, кни- ги. И все это нуль в сравнении с бесконечностью... Сама Земля нуль, ничтожная пылинка, если количеству планет нет конца. Человек тем более... Он просто смешон... Что значит он среди бесконечного мироздания?..
— Это идеализм,— думая о своем, говорит Нупрей.
— Идеализм, идеализм... Рад, что слово знаешь. А ты подумай... Все сделанное человеком ничто, если миру нет конца.
— Бесконечна материя. Во времени и пространстве. Причем здесь человек?
— Ну как ты не понимаешь? — Медлительный Иван начинает злиться, говорит быстро, захлебываясь.— Жизнь — случайность или нет?.. Ведь нет же в ней смысла, если все без конца. Человек идет, идет, а куда дойдет?.. Должна же быть цель. А это всегда граница, рубеж, к которым люди стремятся. Нет границы — нет цели. Зачем тогда жизнь? В чем ее смысл?..
— Жизнь вечна,— заявляет Нупрей.— Известно также, что один дурак может задать столько вопросов, на которые не-ответят сто умников.
— Ты к умникам причисляешь и себя?
— О присутствующих не говорят.
Такие споры для Мити не новость. У Ивана отменный ум, любит он размышлять обо всем, что другие при¬
нимают на веру. Нет для него ничего раз навсегда данного, а чудес он вообще не признает. Оба они — Иван и Нупрей — большие книжники. Потому и тянется к ним Митя, пренебрегая дружбой тех хлопцев, которые учатся вместе с ним.
По складу характера Мите ближе Иван. Нупрей с его неугомонностью слишком много времени отдает школьным собраниям, кружкам, той ежедневной суете, которой Митя побаивается. Нупрей неизменный оратор на всех школьных сборах, и, оставшись вдвоем, Иван с Митей слегка над ним подтрунивают. Это не ме¬
19
шает всем троим дружить. Что касается учебы, то трудно сказать, кто идет лучше: Иван или Нупрей. Оба шагают в ногу, не зная двоек, троек, считая унизительной для себя даже четверку. Последний месяц Митя чувствует себя равным с друзьями и вдоволь пьет сладость этого чудесного ощущения. Не секрет, что они, посвященные в его тайну с самого начала, с того дня, как он перешел в девятый класс, смотрят на него с большим уважением.
Дружба девятиклассника с десятиклассниками — это совсем не то, что дружба человека, который отстает от товарищей на целых два класса.
23
— Поток электронов, который возникает в проводнике, введенном в магнитное поле,— вот начало материи,— говорит Лобик.— Тут и конец ее, ведь масса солнца, звезд не что иное, как сгустки энергии. Природа света, излучаемого звездами, близка к природе электричества. Фотон почти то же, что и электрон... Попробуй опровергнуть меня,— если есть граница в единице измерения материи, то и она сама должна быть ограничена...
— А кто тебе сказал, что электрон граница? Он также бесконечен...
— Попробуй делить секунду до бесконечности.
— Есть такие процессы, которые происходят за миллионные доли секунды. Вспомни скорость света.
— Ага. Ты сам себя бьешь. Почему свет распространяется с одинаковой скоростью?.. Триста тысяч километров— ни больше ни меньше. Предел. Граница. Во всем должна быть граница...
— Мы не знаем, как на других галактиках.— Нупрея сбить не так-то легко.— Человек имеет пока что очень ограниченные сведения о природе. Процесс изучения практически бесконечен.
Митя любит споры. Они как бы поднимают тебя над всем тем будничным, обычным, тысячи раз виденным, что лежит кругом, придавая всему глубокий, скрытый в своей многозначительности смысл. Камень-кругляк, сброшенный с железнодорожной насыпи под сосну, не просто камень, это сложное вещество, в которое входят десятки элементов, миллиарды миллиардов невидимых атомов, дремлет могучая, но скованная энергия. С другой стороны, отшлифованный кругляк как бы приподнимает завесу над событиями, происходившими в глубокой древности, когда по земле полз огромный ледник, стирая горные вершины, перекраивая заново ландшафт. Кто раскроет тайну тысячелетий, ушедших в небытие, напишет поэму о далекой, седой старине?..
В спор Митя не вступает: хлопцы знают больше, чем он. Лишний класс за их плечами, два лишних прожитых ими года — это целая эпоха. Они уже изучали и астрономию, и геологию с минералогией, и органическую химию. Митя пока что только приобрел эти учебники.
— Неизвестно даже, что такое человек,— возбужденно продолжает Лобик.— Думаешь, Дарвин своей теорией все сказал?.. Гейдельбергский человек, питекан¬
21
троп, синантроп... А может быть, люди прилетели с Марса? Почему обязательно думать, что только на одной Земле разумная жизнь?
— Никто и не думает. Но у науки явные доказательства, а то, что ты говоришь,— фантастика.
— Фантастика часто опережает науку. Без нее люди были бы слепые. Кто знает, что такое мечта?.. И что такое жизнь вообще? В чем ее смысл?..
Это говорит Иван Лобик, которого единодушно считают самым способным по математике. Они с Нупреем как бы поменялись ролями: теперь Нупрей защищает позиции точных наук.
— Жизнь есть форма существования белковых тел,— говорит Нупрей.— Это сказал Энгельс. На протяжении тысячелетий сложились определенные химические конструкции. Аминокислоты, нуклеин, пептоны, белки. Смысл в том, что тут есть самообмен вещества, обновление. В неживой природе этого нет...
— Ну, это химия, а возьми живого человека. Разве химией все объяснишь? Хотя бы любовь. Почему меня, например, тянет к этой девушке, а не в какой-нибудь другой?
— Любовь — обычная биология. Сексуальные эмоции. Тяга к размножению.
— Ну подумай, что ты говоришь,— Лобик начинает злиться.— С биологической стороны все одинаковы. Каждый организм выполняет те же самые функции. Но мне может понравиться только одна. Ну, например, красивая. Что такое красота?..
— Красота тоже биология. Одна из форм приспособления к окружающим условиям. Например, окраска у птиц. Зачем она? Чтобы обратить на себя внимание и продолжить род. Или взять цветы. Если бы они не цвели, пчелы их не замечали бы...
— Но ведь мне могут нравиться не все девчата, а только одна. С какой-нибудь я и род продолжать не хочу. Да вообще никто об этом не думает...
Митя совсем не согласен с тем, что говорит Нупрей. Спорит, должно быть, из одного упрямства,— недавно говорил другое.
— Ты ставишь человека в один ряд с животными,— вступает в спор и он.— А поэзия, музыка?.. Зачем они? Если жить по-твоему, все просто.
22
— Жили люди и без музыки,— Нупрей не сдается.— Думаешь, пещерный человек на скрипке играл? Я сказал о самом главном. Остальное — напластования более позднего времени.
Промчался, обдав хлопцев дымом, курьерский поезд. На красивых спальных вагонах таблички с надписью «Ленинград — Одесса». Поезд идет с юга, будка машиниста, должно быть по случаю Первого мая, щедро украшена березовыми ветками. Там, на юге, весна, молодая листва трепещет на ветру.
Солнце клонится к западу, вечереет. Длинная, еле заметная тень от сосны легла на серый песчаный шлях. После грохота поезда ощутимей становится тишина. Обычно ее не замечаешь.
— Красота существует,— задумчиво говорит Лобик, поддерживая Митю.— Я не знаю, что это... Может, умом здесь не дойдешь... Но что-то существует. По-моему, каждый человек чувствует... Красота — это когда посмотришь— и сразу радостно. Жить хочется... Хочется чего-то необычайного... Чего до тебя еще не было. И может, никогда не будет... Ты, Нупрей, не спорь. Сам знаешь. Почему читаешь Блока, Пушкина?..
— Я не спорю,— Нупрей идет на примирение.— Только об этом говорить не нужно. Иначе расслабляешься. Нужно учиться — и все. Кому кто нравится — личное дело. Одной мерки не может быть...
С этим согласны все. На минуту хлопцы смолкают — нет почвы для нового разговора. Бывает часто так: кричишь, доказываешь, а потом нехорошо на душе. Будто самого главного так и не сказал...
На насыпи, примерно в полверсте от будки, маячит длинная фигура. Человек идет важно, далеко забрасывая ноги, размахивая руками.
— Микола,— узнает Лобик и улыбается.
Миколу Тябута знают хорошо и считают чудаком. Вместе с Лобиком и Гилем он учился до десятого класса, пока не овладела им жажда собственной педагогической деятельности. Летом, во время каникул, поступил на месячные учительские курсы и, закончив их, был направлен директором начальной школы в лесную деревеньку Громы. Микола в Громах и директор, и заведующий учебной частью, и одновременно учитель, так как других педагогов в однокомплектной школе нет. В ме¬
23
стечке он появляется довольно часто и не упускает случая заглянуть к друзьям. Положение учителя мало изменило внешний вид Миколы: ходит он все в тех же огромных, смазанных дегтем сапогах, в сером, перешитом из солдатской шинели лапсердаке. Теперь — всегда с корзинкой, которая пока что заменяет портфель. Корзинка довольно вместительная — в ней Микола носит директивы из райоцо, тетради для своих учеников и сало, которым наделяет его сердобольная мать.
— Думал, куда вас черт унес,— подойдя, здоровается Микола с Гилем и Лобиком.— Пришел к одному — нет, к другому — нет. Хорошо, что догадался, где искать. А тебя поздравляю,— он долго трясет Мите руку.— Ты, брат, отличную мысль подал. Давай за лето вместе десятый класс грохнем. А?.. Догоним этих ученых дятлов. А то они от своей учености даже клювы позади- рали...
С приходом Миколы настроение компании сразу меняется. Микола не умеет тихо говорить, скучать, даже смеяться не умеет — хохочет. По случаю праздника на Миколе обновы: сорочка в крупную клетку и синий френч из толстого сукна — приметы его возросшего благополучия.
— Махнем завтра ко мне в Громы, профессора,— зовет Микола.— Три часа ходьбы — и там. У моего хозяина ружье... Побухаем в лесу, березового сока попьем. А обратно можно на товарняке. Там как раз подъем, поезд тихо идет, подцепитесь. Доедете, если не ссадят...
— Некогда, Микола, экзамены на носу,— отказывается Нупрей.— Мне половину тригонометрии надо повторить. Послезавтра вызовут, а за всю четверть еше ни одной отметки. Тебе что...
— Нужно вам вырваться на широкий простор, бра- ты! Берите пример с меня. Хватит прозябать, киснуть. Я своих стриженых через две недели распускаю — и до самого сентября вольный казак. Любота. Делай что хочешь. Хоть черт его знает, может быть, бросить мне эту педагогию. Неудобно как будто без десятилетки. Митрофанушка... Нужно поступить куда-нибудь, хотя бы заочно. В учительский институт, что ли? Туда берут и без десятого класса.
— Можно за десятый подготовиться летом,— безразличным голосом говорит Митя*
24
— А что ты думаешь!—Микола будто слышит это впервые.— Дадим дрозда. Вот тут под сосной и обоснуемся. Тенек, покой и мухи не кусают. Курорт... Сосновая академия!
Микола хохочет, бросает о землю кепку, будто пробуя пойти вприсядку, но тут его взгляд останавливается на пустой бутылке, спрятанной в прошлогодней траве.
— Братья алхимики!—деланно трагическим голосом орет он на все поле.— Что видят мои очи?.. Неужто ты, комсомольский секретарь, такое дозволил? Где же дисциплина? О, какое падение нравов!.. Друг о друге в газетах пишут, а тем временем... Не могу поверить.
Лобик смеется захлебываясь, до слез,— он всегда смеется искренне.
— Не дури, Микола,— нахмурившись, говорит Нупрей.— Мог раньше прийти. Мы тебя не ждали.
— Так в чем дело? — Тябут сразу меняет тон.— Десятка и у Миколы найдется. Он не то, что вы, дармоеды. Сидите у родителей на шее. За мой счет, а?.. В честь Первомая...
— Вечер в школе, Микола. Нельзя,— хмуро бросает Нупрей.
— Так чего же вы сидите, как пни? Поднимайтесь! Я же за этим и пришел.
Неуклюже выбрасывая ноги, потрясая белесой чуп- риной, Тябут наконец пускается в пляс — даже трещат сухие сосновые шишки под подошвами сапог. По всему вицно — Микола от души рад, что встретился с друзьями, что в школе, в которой он не учится скоро уже год, будет шумное сборище.
2
Медленно опускается на землю майский вечер. Сумрак мягкий, серовато-прозрачный, краски в нем смешаны в одной нераздельной гамме. Чернеет голая еще земля, синеют кусты, с околицы — из низины — тянет приятной влажностью. Там, в низине, пробует голос кулик. Тысячами шорохов наполнен майский вечер,— м>жет, пробудились от зимней спячки суслики и шелестит в прошлогоднем жнивье, может, жирует на первой кислой траве заяц...
25
Хорошо вот так, вчетвером, идти полевой дорогой, вдыхая полной грудью густые запахи разомлелой, цесен- ней земли. Над головой — высокое небо, местами, как пепел, серое, местами — светлее, и звезды на нем — как бесчисленные серебристые искорки.
Дорога подсохла, упругая, идти легко, впереди, в местечке, манящая цепочка огней, которые зажглись в хатах и на столбах — на улице, и самые яркие огни — в окнах школы, они господствуют надо всеми остальными, они — будто венец этой вечерней красоты. Нет большей радости, чем та, которую дает товарищество и дружба, единение молодых сердец, неискушенных, открытых всему прекрасному, благородному, что есть в жизни. Иди по земле, умножай богатство ее, красу, сей счастье людям! Цени друзей: без них ты —ничто, только с ними ощущаешь свою настоящую силу. Люби вот эту землю — серую, весеннюю,— она тебя взрастила, дала крылья для взлета. Никогда не забывай ее, где бы ты ни был, кем бы ты ни стал,— здесь ты сказал свое первое слово, познал первое счастье. Она — твоя мать.
Радостно, но почему-то и грустно в такую вечернюю пору; в душе подъем, неясное предчувствие чего-то огромного, значительного, что обязательно иридет, осуществится, закружит в сверкающем водовороте, и вместе с тем — непонятное беспокойство, тревога... Откуда они?.. О чем говорят?.. Неужели нет в жизни чистого, безоблачного счастья, без примеси огорчений, трецог? Чем навеяна неожиданная грусть, которая вдруг холодным ручейком заструилась в сердце? Может, это просто тревога расставания, когда дорогое, изведанное остается позади, а нового еще не видно — оно как бы спрятано за колеблющейся пеленой розовой дымки? Ты еще очень мало знаешь, молодость, и ты не ответишь, почему в мягкий, спокойный весенний вечер набегает задумчивая грусть на твое ясное лицо...
Хлопцы вышли на местечковскую улицу. Праздник еще чувствовался во всем — на каждой лавочке компания, звонкие голоса, смех, где-то во дворе скрипит гармонь, гулко бухает бубен, доносится не очень слаженна! песня — мужчины натужно тянут «Катюшу», женщины — «Посею огурочки». Мелькают белые платьица девчат— они и в серых сумерках вечера белые. Кто-то, совсем не ко времени, рубит дрова. Некоторые окна уже
26
темные, не светятся. Под ногами сухой песок, из палисадников веет терпким запахом — черемуха, сирень скоро зацветут.
— Слушай, стратег. Как ты оцениваешь международное положение? — спрашивает Микола у Лобика.
— Сам газеты читаешь.
— Мне, брат, читать некогда. Попробуй сразу четыре класса вести. Вечером успеть бы тетради проверить. Как там Роммель в Африке?
— Африка — не главное,— задумчиво отвечает Лобик.— По-моему, Германия нацелилась на Ближний Восток. Греция у немцев, Балканы — у немцев. Крит захватили. Ясно—хотят пробраться в Мессопотамию. К нефти. Если это удастся, Англии — конец...
— Так что — Гитлер полмира захватит?
— Никто не знает. Ясно одно — Германия теперь самая сильная из капиталистических стран. За полтора года Европы как не бывало...
Микола не спорит — из всех четверых Лобик наиболее компетентный в вопросах политики. С того времени как началась большая европейская война, он каждый вечер, после прихода пассажирского поезда, выстаивает в очереди возле киоска — там продают московские газеты за вчерашний день. Обычно газеты приходят через два дня, и основные новости Лобик, таким образом, знает первый. Он аккуратно читает все военные обозрения в журнале «Огонек», любит поговорить о войне с каждым, кто бы ни встретился.
Подошли к школе. Около парадного входа толпятся семиклассники,— их на вечер не пускают, он для старших классов — от восьмого до десятого. Нупрей, как только протиснулся в вестибюль, сразу исчез, оставив хлопцев втроем. Как секретарь комсомольской организации он должен вникнуть во все дела.
В длинном школьном коридоре шум, суета. Хлопцы- десятиклассники стоят особой группой, громче всех хохочут, не утихая даже при приближении учителей. Недолго им осталось быть школьниками. Митя подошел к своему девятому классу, с десятиклассниками стоять неудобно.
Программа вечера — художественная самодеятельность, потом танцы. Из полуоткрытых дверей клуба, который одновременно служит и классной комнатой, доно¬
27
сится тихое треньканье — там идет последняя репетиция. Первым будет выступать струнный оркестр. С озабоченными лицами бегают участницы танцевального кружка в вышитых, старинного фасона сорочках и юбках.
Митя стоит около окна, обводя взглядом длинный коридор, по которому взад и вперед прогуливаются девчата, не участвующие в самодеятельности. Они почти все пришли в обновках, платья и блузки весенних цветов — белые, синие, цветастые, и вид у девчат куда более праздничный, чем у ребят. Хлопцы, несмотря на весну, одеты в темное и серое.
Митя любит шум, суету больших школьных сборищ, совсем не похожих на размеренные учебные дни с дежурными в коридорах, строгими взглядами учителей, звонками. В такие вечера появляется особенное настроение: учеба, экзамены, отметки — все это отступает на задний план, кажется, незначительным, далеким перед целым морем веселья, знакомые хлопцы и девчата предстают в новом виде, и то, кто как учится, не имеет здесь никакого значения. «Есть другая жизнь»,— раз мелькала
мысль, порождая смутные, тревожные догадки, радуя и пугая. Школьные вечера будто вестники этой заманчивой, незнакомой жизни с ее особыми законами, с переоценкой всего того, что казалось привычным и твердым.
Не первый раз Митя наблюдает, как расцветают на шумных сборищах-вечерах девчата, какими остроумными, находчивыми становятся даже те, кто ни разу не имел в дневнике пятерки и, не стесняясь, переписывает из чужой тетради. Во всем этом, о чем Митя неясно еще догадывается, он чувствует себя беспомощным. Ему кажется, что никогда не наступит день, когда он станет своим в бурливом потоке веселья и праздничного возбуждения. Он не такой. Он часто смущается, всегда чем- то озабочен, о чем-то думает. Даже тогда, когда кругом смех, беззаботность — шумливое, молодое море...
Пустили в клуб, и, пока все рассаживались на низеньких партах первоклассников, раздвинулся занавес. Митя сел сзади, около стены, вместе с новыми своими одноклассниками Примаком и Плоткиным. Чернявый, с худощавым приятным лицом, Алексей Примак кажется подростком рядом с плечистым молчаливым Сашей Плоткиным, у которого ноги не умещаются под партой и он вытягивает их вдоль прохода. Алексей и Саша дру¬
28
жат и с того времени, как Митя стал девятиклассником, набиваются ему в друзья.
Струнный оркестр — полукругом усевшиеся на сцене девчата и хлопцы с мандолинами, гитарами, балалайками— заиграл. Мелодия знакомая — вальс «Над волнами»,— его всегда играют на школьных вечерах, и всегда в такие минуты Митю охватывает приятная грусть. Мелодия, как и все на этом вечере, уводит в иной мир, влекущий и непознанный, сама льется в душу. Сначала спокойная, немного печальная, она постепенно наполняется непонятной тревогой — будто слезы в ней, крик, настойчивое требование. Словами тут не скажешь — мягкие, чарующие переливы и звуки как бы затрагивают затаенные струны души, и они откликаются, грустя и радуясь, рождая созвучное музыке настроение. В полутемном зале, где все знакомо до мелочей — чучела птиц в застекленном шкафу, гербарии, минералы,— тишина. Остроты и смех давно стихли. Только музыка и тишина...
Митя смотрит на сцену. Там, среди склоненных над инструментами девичьих лиц, есть одно, которое он узнал бы среди тысячи.
Это вторая, после тетради со стихами, Митина тайна. Сам себе он давно признался, что любит Сюзанну, одну ее, но хлопцы, даже друзья, об этом ничего не знают, как и сама Сюзанна, и пока что не нужно, чтобы знали. Мите нравится само имя — Сюзанна, необычное, такое он только однажды встретил в книге.
Сюзанна учится в девятом классе, вместе с Митей, и теперь он видит ее ежедневно, слышит ее голос, смех. Раньше было иначе. Когда он сидел в восьмом классе, девушка представлялась таинственной и недосягаемой. Чтобы увидеть ее, он простаивал все перемены в коридоре, у окна, наблюдая за ней; тот день, когда хоть на мгновение не удавалось увидеть тоненькую девятиклассницу, казался серым и нудным. Он знал о Сюзанне все — как она ходит, смеется, как закидывает голову, поправляя волосы, как сидит, перелистывая книгу.
Митя никогда не интересовался, откуда Сюзанна, кто ее родители,— это не имело значения. Достаточно было того, что она существует, ходит в школу, что он может на нее смотреть, переполненный тщательно скрываемой ото всех радостью. Впрочем, он узнал, что Сюзанна приеха¬
2$
ла из другого, более известного местечка, которое могло считаться даже городом, что ее старший брат — летчик, а отец работает врачом в больнице. Сюзанна, таким образом, принадлежала к другому миру, совсем незнакомому Мите, и это еще более отдаляло ее, окружая ее жизнь вне школы особой таинственностью.
Когда это началось? Этого Митя точно сказать не может. Он, конечно, видел Сюзанну в школе, она в местечке уже три года—с тех пор как Батьковичи стали центром района, но впервые почувствовал ее власть над собой после седьмого класса, во время летних каникул, когда он работал на железной дороге, в ремонтной бригаде. День тот был жаркий, душный. Митю послали таскать со станционных путей шлак,— десятки серых куч повсюду дымились между рельсов. В напарники Мите дали молчаливую широколицую девушку, старше его. Работали они старательно — слаженно шаркали железными шуфлями, ссыпая шлак в деревянный ящик, и, не сговариваясь, брались за рукоятки носилок., Митя— спереди, девушка — сзади. До обеда устали.
Пообедав, уснули в тени, под штабелем деревянных щитов, друг возле друга. Проснулся Митя внезапно, будто от какого-то внутреннего толчка. Он вскочил, и его взгляд встретился со взглядом Сюзанны, проходившей мимо штабеля. И все. Но в тот день и во многие другие дни Мите было очень горько, стыдно оттого, что Сюзанна видела его сонного, босого, с потрескавшимися черными пятками... Позже он успокоился — вряд ли она обратила внимание на парня, которого не знала и, может быть, только мимоходом встречала в школе. Она, конечно, сразу забыла о нем. Митя не забыл...
Так вошла в Митину жизнь любовь. Ее можно было бы считать неразделенной, но Митя сам пока что не добивался ни знакомства, ни встреч. Ему казалось, что так просто, не сделав ничего, что возвысило бы его в собственных глазах, он не имеет права подойти к Сюзанне. С Сюзанной связано все самое лучшее, что наметил он сделать в жизни. Митины грезы, юношеские мечты, нацелены высоко, и его избранница занимает в них не последнее место. Он чувствует себя рыцарем, который совершает подвиг в честь своей дамы. Пусть даже -дама об этом ничего не знает. То, что Митя за один год одолел два класса, сравнявшись с Сюзанной, произошло
30
опять-таки не без ее помощи. Сюзанна невидимо присутствует во всем, что он делает, о чем думает...
Собственно, первая награда уже получена. В тот день, когда Митя пришел в девятый класс, он не раз ловил на себе любопытный взгляд Сюзанны. Сам он украдкой смотрит на нее все время. Мите кажется, что Сюзанна знает нечто такое, чего не знают другие, те, которые сидят с нею рядом, разговаривают, учат вместе уроки. Улыбается она загадочно, задумчиво, а когда отвечает на вопрос учителя, то всегда как бы недоговаривает что-то. Учится Сюзанна не лучше, чем многие другие, но и не хуже. Уже здесь, в девятом классе, Митя скорей почувствовал, чем понял,— Сюзанна необычайно красивая. Это открытие наполнило душу тихой радостью: его девушка могла быть только такой, как есть...
Концерт струнного оркестра окончился под дружные аплодисменты, и его участники, неся инструменты под мышками, прямо со сцены шмыгнули в коридор. Митя следит только за Сюзанной: сегодня она в синей шелковой блузке с отложным воротничком, в черной юбке, в туфлях на высоком каблуке. Лицо задумчивое, будто даже хмурое,— чем она недовольна?..
После оркестра — танцы на сцене, декламация. Это уже менее интересно. Время от времени Митя окидывает взглядом зал: Сюзанны нет, из коридора она не вернулась. Становится грустно, как бы чего-то не хватает. Митя знает: после того как окончится концерт, парты из зала вытащат в коридор, н начнутся танцы под баян. Для многих это самое интересное на вечере. Но Митя на танцы никогда не остается...
Простившись с Примаком и Плоткиным, он, пока на сцене объявляют следующий номер, пробирается в коридор. Сюзанны и там нет,— должно быть, ушла домой. От этого и тоскливо и приятно. Приятно потому, что Сюзанна не осталась танцевать и никто не пригласит ее на вальс.
Пройдя местечковую улицу, Митя вышел за околицу, в поле. В поле — серый полумрак, тишина. Звезды стали ярче, чем вечером, их больше. Сплошным серебристым поясом тянется по небу Млечный Путь, над самой головой— знакомый раскидистый черпак Большой Медведицы, справа, ниже,— неправильным треугольником синеватое созвездие Ориона. Какое огромное, бесконеч¬
71
ное небо! Кто, когда ступит первый на берег навой, затерянной в великом звездном океане планеты? Что значит Земля — маленькая, ничтожная песчинка — среди этой беспредельной серебристой россыпи?..
Чернеют кусты, небольшое озерцо воды в лощине — как тусклое зеркальце. На насыпи железной дороги, перед будкой, раз-другой мелькнул огонек фонарика. Отец на обходе. Митя не торопится, идет медленно. Впечатления дня, вечера сплелись в один клубок. Митя и теперь еще живет ими. Над всем этим, не отвлекая от размышлений, дум, мечтаний, звенит музыка школьного вечера...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Жизнь возле железной дороги имеет свои преимущества. Поезда — это посланцы большого, широкого мира. Они подтверждают то, о чем пишут в газетах, и то еще, что блуждает по земле только в виде слухов.
Две стальные колеи, около которых стоит будка Птаха, ведут с востока на запад — из Гомеля на Брест. По ним несутся также, на какую-то минуту останавливаясь на станции, а то и совсем не останавливаясь, стремительные поезда Ленинград — Одесса...
Железная дорога способствовала тому, что Митя рано стал интересоваться делами, которые совершаются в большом мире.
Однажды газеты принесли весть, что Красная Армия перешла границу с панской Польшей и взяла под свою защиту народ Западной Белоруссии и Украины.
Митя почувствовал большое внутреннее удовлетворение. Приятно было ощущать себя советским человеком— гражданином великой, необъятной страны, которая на глазах творила историю. Он как бы отвечал за ее судьбу.
Потом родились новые,, прибалтийские республики, советской стала Бессарабия, которая на школьных картах была всегда заштрихована темно-желтыми черточками как незаконно захваченная территория. Митю волновало все это, все важное и высокое* чем были за¬
32
полнены газеты, о чем писали в книгах, говорили по радио, в кино.
Митя ходил в школу напрямик, тропкой, проложенной прямо по колхозному полю. На этом поле осенью гнила незаскирдованная солома, ее растаскивали все, кто хотел, кое-где картошка оставалась невыкопанной до морозов. Но в газетах писали о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве, об успехах колхозов, и он, видя собственными глазами непорядок, не верил в него, считал пустяком, который не стоит того, чтобы о нем думать. Для него не существовало середины между большим и малым, события и вещи в его понимании имели четкое и только единственное название.
Когда шла война с белофиннами, Митя на некоторое время растерялся. Двое или трое раненых местечковцев приехали из госпиталя, они рассказывали кое о чем не совсем так, как писалось в газетах. Это приводило в смущение, злило. Впрочем, наши овладели Выборгом, в клубе показывали фильм «Линия Маннергейма», и Митя успокоился. Все стало на свое место.
А над миром полыхала уже большая война. Однажды учительница немецкого языка — низенькая, добрая Мария Ивановна, придя на урок, опустилась бессильно в кресло, сцепила на лбу маленькие сухие руки и, не раскрывая классного журнала, сообщила, что Гитлер напал на Югославию. Урок фактически сорвался. Митя не понимал волнения учительницы. И война и Югославия представлялись далекими, с Германией существовал договор о ненападении и даже дружбе, и все, что происходило на свете, не имело, кажется, никакого отношения к тихому местечку и школьным делам. Относительно Гитлера мнение было единодушное: он никогда не отважится напасть на Советский Союз, а если нападет, то фашизм будет уничтожен за считанные недели.
Подтверждение этому Митя видел воочию: к западной границе, по направлению к Бресту, днем и ночью шли эшелоны с артиллерией, танками и другой техникой. Их было намного больше, чем тогда, когда освобождали западных белорусов и украинцев.
И все-таки Гитлер напал...
День был ясный, солнечный, с утра через переезд громыхали подводы из далеких сел, направляясь в местечко на воскресную ярмарку; шли пешие, неся, кто что
33
имел, на продажу. Известие о войне Митя услыхал на станции в двенадцать часов — он зашел в зал ожидания, там на стене висел репродуктор, обычно в это время всегда передавались последние известия. В пустом зале, ожидая брестский поезд, сидели около узлов две или три женщины, прохаживался из угла в угол пожилой лейтенант в новеньком обмундировании.
До Мити не сразу дошел смысл торжественных, тяжелых слов. Поняв, что началась война, он обрадовался. Начиналось нечто великое, огромное — оно будет происходить на его, Митиных, глазах, оно — продолжение гой героической волны, которая давно захлестнула его сердце. Митя стоял, слушал, сгорая от возбуждения, от нестерпимого желания — скорей побежать, рассказать всем, кто еще не знает, эту страшную новость. Зал понемногу наполнялся: железнодорожники, в измазанных синих спецовках, стояли молчаливые, строгие; одна из женщин, оставив узел, крестилась, взмахивая дрожащей рукой; вторая, низенькая, с морщинистым худым лицом, видно ничего не понимая, с недоумением посматривала на присутствующих. Лейтенант, не дослушав передачи, бросился из зала, ощупывая на ходу нагрудные карманы.
Передача кончилась, заиграли «Интернационал», а железнодорожники все стояли, как бы ожидая продолжения, разъяснения. Как раз прибыл брестский поезд, все бросились к выходу, на перрон,— поезд пришел оттуда, где уже война, где все переменилось, перевернулось. Но из окон запыленных зеленых вагонов высовывались обычные, сонные лица, несколько пассажиров в полосатых пижамах выбежали в буфет, держа в руках пустые бутылки. Те, кто ехал в поезде, еще ничего не знали...
Митя, перескочив через тамбур вагона, напрямик, тропинкой, проложенной через картофельное поле, бросился на Вокзальную улицу к Ивану Лобику.
Иван был дома, что-то жевал, держа в руках раскрытую книгу; выслушав Митино сообщение, нахмурился.
— Ты что, испугался? — закричал Митя, оскорбленный в своих ожиданиях.— Наши уже, должно быть, под Варшавой. Две-три недели — и война окончится...
— Подожди,— Иван, заломив уголок страницы, положил книгу на стол.— Германия сильная. Не так все просто... Расскажи, где фронт? Что передавали?..
2 И. Науменко.
34
О фронте Митя ничего не знал. Он мог рассказать только, что началась война. Вдвоем они выскочили на улицу...
Весь тот день прошел как в тумане. Бегали к Нупрею, но дома не застали,— он уже все знал и побежал куда-то сам. Нашли его на базарной площади, гам на столбе репродуктор— снова передают сообщение о начале войны. Нупрей стоит, слушает, лицо сосредоточенно-упрямое, серьезное,— таким его Митя не видел ни разу.
— Пошли в райком,— сказал Нупрей, выслушав сообщение до последнего слова.— Там скажут, что делать.
Друзья двинулись в райком комсомола. В этОм учреждении, которое помещалось в деревянном доме прежней школы, Митя был только один раз, месяца четыре назад, когда получал комсомольский билет. Базарная площадь опустела, на улице творится непонятное: плача, женщины ведут под руки мужчин, захлебывается гармонь; обнявшись, надрывая до изнеможения голоса, поют два пьяных. Над всем этим, заглушая шум возбужденной улицы, гремит репродуктор, установленный у раскрытого окна, на втором этаже такого же каменного, как и школа, здания райисполкома. Передают марши и бодрые песни.
— Смертный час фашизма настал,— торжественно говорит Нупрей, меряя дощатый тротуар широкими шагами.— Эта война будет войной техники. Окончится быстро. Неделя, две — и все...
Лобик молчит; идя рядом с друзьями, Митя чувствует, как постепенно проходит возбужденность, вызванная необычайностью новости, а ее место в душе заполняет непонятная тревога. Откуда она идет — ему самому не ясно.
В небольшой комнате райкома тесно, накурено, стульев всем не хватает, и несколько хлопцев — курсантов автошколы—в синих комбинезонах сидят прямо на столах. Секретарь — тот самый, который выдавал Мите билет,— неистово крутит ручку телефона. Он в праздничном шевиотовом костюме, на лацкане пиджака серебряная медаль на красной колодочке — секретарь еще недавно был бригадиром тракторной бригады,— белая сорочка расстегнута, русые волосы сбились на потный лоб.
— Гиль! — увидев Нупрея, кричит он.— Школьни*
35
ков —на охрану железной дороги. Иди в райотдел Осо- авиахима, к товарищу Овсянику. Он тебе все скажет...
Звонит телефон, и секретарь хватается за трубку. О Нупрее он уже забыл.
Районный отдел Осоавиахима занимает комнату в двухэтажном каменном доме райисполкома. По коридору, несмотря на выходной день, бегают люди, в кабинетах стрекочут машинки. В отличие от райкомовского шума, в кабинете заведующего Осоавиахимом тишина, устоявшийся порядок. На стенах — плакаты и наглядные пособия по противохимической обороне, стрелковому и санитарному делу.
Овсяник — средних лет мужчина с круглым, приятным лицом — сидит за столом, что-то пишет.
— Относительно охраны железной дороги еще нет указаний,— приветливо говорит он, обращаясь к одному Гилю.— Создадим дружину из школьников. Наведайтесь через день-два. Есть дела более важные: возможно химическое нападение, а противогазов на всех не хватает.
Как бы в подтверждение своих слов Овсяник кладет руку на зеленую брезентовую сумку противогаза, который лежит у него на столе, рядом с телефоном.
Хлопцы выходят из райисполкома на площадь. Гремит репродуктор, просторный военкоматский двор в конце улицы запружен народом. На душе у Мити скверно. Лобик и Гиль тоже идут с хмурыми лицами. Настроение у всех одинаковое: в первый, может быть, самый ответственный день войны для них не нашлось никакого дела. Побродив по местечку, хлопцы расходятся.
2
Внешне переезд Птаха встретил войну спокойно. Почти ничто не изменилось ни в размеренном ходе его жизни, ни в окружающей обстановке. Первую неделю ехали на подводах, валом валили пешие — мобилизованные из далеких деревень. Но поток схлынул, и опять все стало на прежнее место.
По рельсам на запад по-прежнему несутся поезда. Их стало теперь еще больше, чем в мирное время. Везут они новые полки, дивизии, новую технику. Ночыо поезда идут <5ез огней. В трех километрах от будки Птаха к западу
2*
и
открыли блокпост. В нем дежурят сигналисты — профессия, раньше не слыханная на маленькой станции. Ходят слухи про шпионов и диверсантов, одетых в красноармейскую форму: будто взрывают они мосты, сбрасывают под откос поезда, ракетами дают знак своим самолетам, где нужно бомбить. На обходе у Птаха за первую неделю войны ничего особенного не случилось. Железнодорожное полотно и небольшой мостик кроме обходчика охраняют ночью школьники,— из них Осоавиахим создал боевую дружину. Хлопцы и девчата парами прогуливаются по полотну от будки до самого леса.
По лицу Птаха трудно догадаться, о чем он думает. Он шагает по своему участку с перевешенными через плечо гаечным ключом и молотком, обстукивает молотком с длинной ручкой стыки рельсов, подкручивает гайки, а когда работа кончается, поправляет деревянным скребком бровку. Когда проносится мимо тяжелый воинский эшелон, Степан отходит на три шага от рельсов, поднимает над головой желтый флажок. Потом снова берется за скребок или за гаечный ключ.
В один из таких дней, перед вечером, около переезда остановилась трехтонка Ивана Гусовского. Она без прицепа, с порожним кузовом. Вид шофера был таким, будто он отправляется в какой-то необычный рейс. На Иване новый костюм, хромовые сапоги, он курит папирос/ «Казбек».
— На войну еду, дядька Степан.
— Я думал, на свадьбу,— шутит Птах.— Этак выфрантился...
— Все свое забрал с собой. А кому оставлять? Мать умерла, жены не нажил. Вернусь с войны — справлю.
— Береги себя, Иван. Едешь не в гости.
— Да как придется. А хаты вы, дядька, так и не поставили,— последние слова шофер промолвил с грустью.
— Не поставил,— подтверждает Птах.— Не управился.
— Ну, так будьте здоровы. С фронта черкну как-нибудь.
— Погоди,— обходчик берет Ивана за руку.— Распрощаемся как люди. По теперешнему времени ее не достанешь, но у меня есть. Припас. Зайдем в хату.
Иван не противится и живо шагает во двор, а Птах идет в огород и, нагнувшись, вырывает из земли без раз¬
37
бора несколько пучков зеленого лопушистого лука. Из будки выходят они часа через два, слегка пошатываясь; Иван лезет в кабину, включает могор...
Вести с фронта нерадостные, но Митя не теряет бодрости духа, и этому можно только удивляться. Впереди неизвестность, неопределенность, а у хлопца больше стало энергии, подвижности и даже веселости. Он поступил в ремонтную бригаду, быстро ковыляет вслед за вагонеткой с красным флажком, большими, в половииу своего роста, железными клещами вытаскивает из-под рельсов гнилые шпалы, старательно бьет киркой, утрамбовывая под шпалами балласт, камни, и все говорит, говорит. Ремонтники внимательно слушают его — о Мигиных успехах в науке прошла слава, и им, сыном обыкновенного путейца, гордятся эти простые, не слишком грамотные люди.
Отсюда фронт еще далеко. На Полесье немцы юлкут- ся на месте. Митя большей частью разговаривает с путейцами об истории, вспоминае1 войны, которые вела Германия и которые проиграла, хотя ах начало можно было считать удачным. Он много знает, этот горбоносый, хромой парень, выросший у них на глазах. Они помнили, как он пас коров на склонах насыпи, как все последние годы, летом, вместе с ремонтниками толкал вагонетку. Митя доказывает, что наши победят. С ним соглашаются, никто парню не перечит, только в глазах бывалых дядек светится грусть. Тон газетных сообщений боевой, приподнятый, но путейцы больше верят слухам, чем газетам. Каждое утро кто-нибудь из них приносит обидную весть: проезжали беженцы из Бобруйска, немцы бомбили Гомель, и ни один наш самолет не поднялся в воздух, чтобы дать им отпор.
Митя вроде комиссара в ремонтной бригаде: он обнадеживает, ободряет путейцев, которые значительно старше его, они охотно слушают, но в их замечаниях, грустных улыбках, случайных вздохах есть что-го такое, от чего оп теряется сам. Они, кажется, знают нечто такое, о чем он, Митя, даже не догадывается, только они, скрытные дядьки, не хотят об этом говорить.
Вечером Митя попадает в другой, совсем иной мир. Под сосной, против будки Птаха, собираются школьники. К своей службе по охране железной дороги, несмотря на полную безоружность, они первую неделю относились
18
как к военному делу. Но этот туман быстро развеялся. Те, что окончили десятый класс, знают, что их вут-вог призовут в армию, и сборы под сосной стали для них своеобразным прощанием с родными местами и с девчатами, с которыми они учились вместе. Девчата, особенно те, которые только что перешли в десятый класс, под сосну могут и не приходить: в дружине они официально не числятся. Но они приходят.
Под сосной о войне говорят мало. Внешне все остается, как и раньше, в школе. По очереди высмеиваются хлопцы, придумываются разные случаи, которые будто бы с ними приключились. Под сосной стоит хохот до тех пор, пока не появится Овсяник и не разведет караульные пары по их участкам.
Митю хлопцы не трогают. Они, должно быть, не забывают, что он в некотором роде хозяин этой сосны, будки, участка, а хозяина обижать не стоит.
С Лобиком и Гилем Митя видится теперь каждый вечер, по эти встречи прежней радости не приносят. Друзья растворились среди тех, кто пойдет в армию, у них теперь совсем другие интересы, им не до Мити.
Как и девчата, Митя не ходит по рельсам всю ночь. Вскоре после первых петухов он прощается, идет домой. Ему нужно рано вставать, в восемь часов путейская вагонетка уже гремит мимо будки. Девчата собираются домой, смотря по обстоятельствам: немного раньше Мити или позже. Чаще бывает так, что они возвращаются позже, чем он. Они идут всегда вместе, полевой дорогой, вьющейся вдоль железнодорожного полотна, вполголоса разговаривая и смеясь. Митя, лежа в сарае на сене, всегда слышит, как они идут.
Охрана железной дороги продолжается недели три. Ночи стоят и дождливые и ясные, но ясных больше, и только они запоминаются. На небе высыпают звезды, в полночь всходит луна и висит над лесом круглым серебристым шаром. Ночной спокойный ветер шелестит в травах и кустах, серым немым курганом возвышается сосна. Еле уловимый шелест доносится и с поля: там уже открасовалось озимое жито и выходят в трубку яровы.е. Тихо и тревожно. Изредка, нарушая тишину ночи, проносятся черные без огней поезда.
Чаще всего хлопцы и девчата ходят по шпалам парами. Это случается тогда, когда Овсяник кончает инспек¬
39
цию и направляется на станцию. Установленный им порядок постепенно нарушается, караульные пары распадаются, вместо них по полотну прогуливаются ьросто парочки, чуть слышно разговаривая между собой.
Получается так, что Митя всегда остается в паре с Верой, серьезной, рассудительной девушкой, которая умеет заливисто, неожиданно для всех засмеяться, если услышит остроумное слово. Веру Митя помнит с первого класса, вместе росли, учились. Митя знает ее отца, пожилого, угрюмого колхозника. Чуть не в каждом классе—от первого до десятого — учились младшие Верины братья и сестры.
Они ходят и говорят о книгах, о разных местечковых делах, временами даже о войне. Вера смотрит на Митю как на героя, ловит каждое его слово, иной раз, будто случайно, касается плеча, и хлопцу приятно ощущение близости с девушкой. Но думает он в это время не о Вере, а о Сюзанне, которая также где-то рядом ходит с кем-нибудь по рельсам.
Вера обычная, простая, Мите кажется, что он знает о ней все. Та же, другая, будто пришла из иного мира...
Все вечера и ночи, пока продолжалась охрана железной дороги у стен его дома, странное, неведомое ранее чувство беспокоило и волновало Митю. Он ни разу не прошелся с Сюзанной, а ей, видно, и не нужна его компания.
Из восьми пар, марширующих по железной дороге, скоро выделилась одна, которая, пройдя туда и обратно железнодорожный километр, отмеченный столбами, ищет уединения. Двое — Микола Галемба и Сюзанна — садятся на холмике под сосной и все время, чуть ли не до самого рассвета, говорят. Тем, кто проходит мимо них по железной дороге, видна только белая блузка Сюзанны.
Дружба Сюзанны с этим парнем началась недавно. В школе Митя ее не замечал. Галемба — широкоплечий красавец, немного старше их всех он даже куда-го поступал, потом вернулся обратно, пропустив год в школе. Из-за Галембы Митя живет теперь беспокойными, Противоречивыми чувствами, не в силах от них избавиться. Произошло необычайное: Сюзанна каждый вечер приходит к будке, сидит под сосной, меряет своими шагами те самые шпалы, что и он, Митя. Но она да-
т
леко, она с каждым вечером как бы отдаляется от него еще больше; безжалостно разрывает, топчет то прекрасное, что он мысленно связывает с ее образом. Минутами Митя просто ненавидит Сюзанну. Но не думать о ней не может. Думает даже тогда, когда говорит о войне, когда вспоминает историю, разъясняя путейцам события на фронте.
Ему вдруг вспоминается, что мать постирала белье и повесила сушить на веревке среди двора. Мите хочется, чтобы его сняли оттуда до вечера, чтобы Сюзанна не увидела этих сорочек и подштанников, застиранных, заплатанных. Он стыдится, что девушка смотрит на его братьев и сестер, чумазых, крикливых, с черными от ягод ртами. Митя гонит от себя эти мысли, но они возвращаются снова.
Доходит до смешного. Даже в пронзительных звуках разгонки, когда сбивают пазы стыков, разогнанный лебедкой рельс, кажется, отчетливо выговаривает: «Сю-у- у-занна!», «Сю-у-у-занна!», «Сю-у-у-занна!». Тягучий, однообразный мотив звучит часами.
Потом набегает волна бессмысленной злости, образ Сюзанны мельчает, бледнеет, в груди растет мстительное чувство, хлопец весь наполняется презрением и даже ненавистью. Это находит на Митю тогда, когда он вспоминает белую блузку во мраке ночи под сосной и непонятные, долгие разговоры Сюзанны с Галембой.
И все же каждый день он ловит себя на желании увидеть Сюзанну, с нетерпением ждет вечера. Он ощущает в себе какую-то пламенную силу, которая рвется из груди, просится на свободу, требует выхода в словах, которые еще не сказаны, и в делах, которые еще ждут своего свершения... Тяжело ночью, когда те двое все никак не могут наговориться...
3
Не было ни вокзала, ни прощальных слов, ни музыки. Без всего этого уходили десятиклассники в армию. Мост на Днепре наши взорвали сами, и движение поездов прекратилось. Военкомат отправлял партии новобранцев пешком, по пыльным проселочным дорогам, которые вились в бледно-желтой ржи.
41
Утром рано, услыхав, что хлопцев отправляют, Митя пришел к Нупрею. Лобик был уже гам, сидел на ступеньке крыльца, держа на коленях посконную котомку с харчами. Нупрей налаживал походный рюкзак — из хорошего зеленого брезента, с ремнями,— один он мог достать такой. Митю удивило, что из многолюдной семьи Нупрея — у него три сестры и три брата — во дворе только мать, высокая, с худым, осунувшимся лицом.
— Где твои? — спросил Митя.
— Э-э, пошли по ягоды,— Нупрей махнул рукой.— Я специально не сказал, что сегодня пойду... Разведут тоску. Когда отец собирался, плакали, как бобры. Не хочу слез...
Он ходил по двору серьезный, задумчивый, делая вид, будто ничего не случилось. Укладывал в рюкзак вместе с сухарями и салом книги, чистые тетради, карандаши,— казалось, он собирается не на войну, а куда-нибудь в институт, на учебу. Наконец сборы кончились.
— Давайте перекрещу вас, хлопчики,— вытирая уголком фартука глаза, промолвила мать Нупрея.— Такая дорога... Пусть сбережет вас бог от напасти...
— Не нужно нас крестить.— Нупрей неловко коснулся губами материнской щеки.— Будет все хорошо, мама. Ты только не волнуйся. Ну, пошли...
Хлопцы двинулись со двора на улицу. Было еще довольно рано, залитая негорячим солнцем улица казалась безлюдной. В молчаливом раздумье стояли развесистые вербы, которых в местечке так много; на листьях яблонь, вишен, росших ближе к заборам, осела густая дорожная пыль. Митя, идя рядом с друзьями, чувствовал — нужно что-то сказать, но слов не находилось, и он молчал, как и они. Ясно было — рвется что-то дорогое, важное, расставание угнетало Митю своей тяжестью, и он хотел теперь только одного — чтобы все быстрей кончилось. Он оглянулся: мать Нупрея стояла возле калитки, приложив ладонь ко лбу, смотрела вслед хлопцам.
Митя дошел с друзьями до базарной площади.
— Ну, прощайте,— подал руку Ивану. Затем Нупрею.
— Прощай,— просто сказал Иван
— Мы тебе напишем,— проговорил Нупрей.— И ты нам пиши.
42
Никто из них не попытался обняться, поцеловаться — члопцы считали это ненужными сантиментами.
Наступил день, когда стало ясно, что немцы придут. На Западном фронте они захватили уже Смоленск, па Южном — Кривой Рог и Днепропетровск. Только При- днепровско-Припятское Полесье все еще оставалось нашим, глубоко, будто полуостров, врезаясь в полосу захваченной врагом территории.
Ремонтная бригада распалась. Мосты взорваны, движение остановилось, поэтому ремонтировать железною дорогу, а тем более охранять ее нет никакою смысла.
Местечковые лавки с утра еще торгуют хлебом, но через час-два закрываются, и никто не жалуется на продавцов. На дверях клуба и библиотеки висят замки. Колхозники из окрестных сел привозят овощи, раннюю картошку, но ее некому сдавать. Они с полными возами возвращаются обратно.
Есть что-то тревожно-настороженное, что-то беспомощное в самом облике зеленого местечка с его деревянным тротуаром на главной улице, с милиционером на переезде, который в такую жару стоит в полной экипировке: в зимней шинели, с противогазом, с наганом в сдвинутой на живот кожаной кобуре.
Еще в местечко, которое полностью отмобилизовалось, послав мужчин призывного возраста на сборные пункты, не пришло ни одной «похоронной»; еще его жертвы ограничиваются только одним убитым и одним раненым — результат четырех бомбежек железнодорожной станции; еще и наполовину не верят пожилые местеч- ковцы, которые видели солдат кайзера Вилыельма в восемнадцатом году, сообщениям радио и газет о бесчинствах немцев на захваченной советской земле,— но все равно тень глубокой тревоги, озабоченности легла на все, что здесь делается. С чужого, непонятного Запада надвигается страшное, надвигается как железная лавина, остановить которую не хватает сил. Местечко будто замерло в ожидании неизбежной беды.
Днем тяжело груженные немецкие бомбардировщики, заглушая своим гулом все остальные звуки, летят бомбить города. С севера то и дело доносятся раскаты орудийной канонады: там уже месяц стоят в обороне три наших бронепоезда, отбивая немецкие атаки.
Вечером звуки далекого боя затихают. Всходит луна,
43
круглая, серебристая, льет таинственный свет на сады, полные спелых вишен и слив, на палисадники с отцветшими кустами черемухи, сирени, на спрятанные в вишневых зарослях низкие домики с темными окнами. По улицам шагают суровые патрули. Старики, боясь немецких бомб, идут ночевать в блиндажи, выкопанные поодаль от строений, на огородах. Одеваются по-зимнему: в ватники и пальто. Девушки собираются на лавочках и, несмотря на приказы патрулей разойтись, сидят до поздней ночи, тихо, вполголоса разговаривая. Посреди улицы, поднимая горькую пыль и стараясь обратить на себя внимание девчат, озоруют мальчишки-подростки, которые начали уже отращивать чубы, но не набрались еще смелости, чтобы набиваться в кавалеры. Девчата грустят: хлопцев нет, и нет никакой надежды, что они скоро вернутся.
Митя, идя однажды вечером Вокзальной улицей и более обычного припадая под взглядами притихших девчат на непослушную левую ногу, услыхал:
— Хворый он, немощный. Поэтому и в армию не взяли. Тут только и остались такие — молокососы да хворые. Хромые, косые — женихи называется...
— А я бы, девочки, его приголубила. На войне не убьют и к чужим не полезет. Сидел бы со мной, меня любил. Он же красивенький, девочки, только и беды, что хромает...
Первая говорила злобно, насмешливо, с явным намерением оскорбить, обидеть, другая — мягко, словно с каким-то призывом в низком, грудном голосе. На девчат этих Митя в другой раз, может быть, даже не обратил бы внимания, но теперь их слова задели за живое. Нет, он не обиделся, смешно было обижаться на бала- болок с модными прическами, которые только и думали что о танцульках и кавалерах. Нечто большее, чем обычная обида, всколыхнулось у него в душе.
Митя шел домой, охваченный невеселыми мыслями. Никогда прежде не ощущал он так болезненно своей непригодности, ненужности, как в эти дни, когда зашатались все представления о жизни.
Митя чувствовал себя лишним, и жизнь теряла смысл...
В школе он никогда не ходил на занятия физкультуру, не лазил на турник, не мерялся с хлопцами силон.
44
Но там он мог взять другим — учебой, книгами,— вег зависело о г него самого.
Когда началась война, Митя надеялся, что найдет в ней пусть маленькое, незаметное, но свое место, лишь бы только не стоять в стороне. Иначе он не мог.
Он поступил в бригаду и, если бы потребовалось, смог бы работать сутками, пусть бы даже каждый день бомбили железную дорогу, взрывали рельсы и мосты диверсанты. Уверенность в том, что он не лишний, придавала силы.
Месяц назад, когда Иван и Нупрей уходили в армию, Митя еще держался. Он не мог ни перегнать друзей, ни даже с ними сравняться. Но он все еще тешил себя мыслью, что каждому свое.
Позже он узнал, что девчата тоже пытались вырваться из местечка. Они пристали к колхозникам, гнавшим на восток, в тыловые районы, гурты Пошла с девчатами и Сюзанна. Тяжело, невыносимо стыдно было представлять ее — тоненькую, нежную — с узлом за плечами в далекой, трудной дороге. Она могла набить ноги, заболеть, погибнуть от бомбежки. Она не побоялась опасности и смело пошла ей навстречу. А он, мужчина, спал на сене, завтракал, обедал, и ничто не угрожало его жизни. Потом девчата вернулись. Вырваться им не удалось. Гурт переняли где-то за Черниговым военные, реквизировав его для нужд фронта.
Митя не почувствовал никакой радости, когда узнал, что Сюзанна дома. Все было уже ясно. Бригады не существовало. Со дня на день могли прийти немцы. Они везде шли вперед — были пса Ленинградом, под Киевом, рвались к Москве...
В эти дни его стала навещать мысль о смерти. Такое находило и раньше, и Митя не знал причины. В хлеву, над его постелью, торчит ненасаженная коса, воткнутая в стену. Все можно сделать просто и хитро, так, что даже родители не догадаются о самоубийстве. Два или три раза у него появлялась острая потребность хотя 0ы рукой прикоснуться к косе, к ее лезвию, почувствовать ходод железа, представить ужас бели, за которой начнется небытие. Усилием воли он гнал от себя это желание, стараясь переключить свои мысли на другое, и когда поединок с самим собой кончался, вытирал с лица липкий, холодный пот. Казалось, и глубине его луши >::н-
45
вет какое-то другое, темное существо, временами очень опасное, и с ним приходится бороться.
Но даже в самые черные дни отчаяния Митя не верил, что его жизнь может кончиться именно так. Он узнал, вернее сказать, почувствовал и нечто иное: желание смерти может быть таким же влекущим, заманчивым, как и всякое другое желание. Он будто заглянул за таинственный занавес, который отделяет жизнь от небытия, растворенного в темной, беспросветной бесконечности. Дух не содрогнулся, запротестовало живое, здоровое тело.
Митя уже был под бомбежками и, кажется, мог считать себя не очень пугливым. Первый раз он попал под бомбы, когда еще ходили поезда и все станционные пути были запружены эшелонами. Никт из местечковцев, даже из железнодорожников, исключая разве бывалых машинистов, ничего не знал тогда о бомбежках. О них передавали жуткие слухи, и при приближении немецких самолетов люди разбегались кто куда. Но бомбардировщики первое время не трогали небольшую станцию, окруженную раскидистыми шатрами старых тополей. Натужно ревя моторами — в станционных окнах даже звенели стекла,— они, звено за звеном, плыли в безоблачной синеве бомбить большие города.
Бомбы упали на станцию неожиданно. Из-за леса, словно вор, вынырнул одинокий самолет и, чуть ли не задевая крыльями трубы хат, вершины деревьев, строча из пулемета, бросил в голове эшелона, метя, должно быть, в паровоз, две бомбы. Взвихрились два рыжих, окутанных дымом столба гравия, самолет дал еще пулеметную очередь на прощание, и все кончилось за считанные секунды. Паровоз стоял целый, пыхтел паром, ею только обсыпало песком. По-прежнему светило солнце, струился дымок от шлаковых куч, а в воздухе носились ласточки...
Никто из железнодорожников не успел даже отбежать от станции. Митю неожиданный налет застал прямо на путях — метрах в тридцати от того места, где упали бомбы. Он отчетливо видел черные с белыми разводами кресты на крыльях, на боку самолета, голову летчика в черном шлеме. Митю обдало взрывной волной, в носу защекотало от дыма, а во рту он ощутил неприятный, сладковатый вкус. Мгновенный, как электриче-
46
слип искра, испуг пронзил все его существо, а минутой позже, когда замешательство прошло, он испытал какое- то удовлетворение, даже радость оттого, что стоял близко от смерти, что стоять мог еще ближе и что все это, в сущности, очень просто и не так уж страшно.
Это убеждение не пошатнулось в нем и после настоящего налета, когда станцию бомбили несколько самолетов, Они прилетели летним вечером, и глухой, с перерывами гул их моторов железнодорожники услыхали издалека. Люди бросились на огороды, дальше от станции. Митя отбежал и лег в карьере, где местечковцы копали
47
глину. Рядом с ним, тяжело дыша, упал на землю толстый дорожный мастер Адамчук.
Митя видел, как от самолетов еще на подходе к станции начали отделяться черные точки, и понял, что это бомбы. Бомбы, казалось, летели на него, и он зажмурился. Их дикий визг заглушил на минуту железное гудение моторов.
Потом послышались глухие удары — справа, слева, впереди. Не все бомбы упали на станцию, большинство их отнесло на огороды, где в зеленой картошке лежали железнодорожники.
Над лесом бомбардировщики развернулись и нача-
46
ли заходить уже с северной стороны. Бомбы теперь ложились с большей точностью — на станцию и вдоль железнодорожного полотна. Раскололась, как игрушечная, и рухнула каменная баня, взрывной волной сбросило с рельсов вагон. В карьер бомбы не падали, и Митя чествовал себя в безопасности, радуясь, что нашел хорошее убежище. Вдруг рядом с собой он услыхал нидрьзв- ные всхлипы. Дорожный мастер, одетый в форменный суконный костюм, ползал по глине на животе, и его так трясло, что было противно смотреть. В горле у него что- то булькало, и при каждом взрыве он копал лицом землю.
Митю это неприятно поразило: он знал мастера другим. Адамчук казался суровым, неприступным. С рабочими разговаривал строго, держась рукой за блестящую пуговицу и посматривая куда-то в сторону. К тому же он был награжден медалью: об этом писали в железнодорожной газете.
Когда налет кончился и все вернулись на станцию, то увидели, что большого ущерба бомбы не причинили: разрушена баня, сброшен с рельсов вагон, в двух или трех местах повреждено железнодорожное полотно и вылетели из окон все стекла.
На станции, на высоком столбе, висит репродуктор, вынесенный из зала ожидания. Каждое утро Митя ходит сюда слушать сообщения с фронта. Он стоит, прислонившись плечом к столбу, молчаливый, задумчивый, сжав губы и стараясь не пропустить ни одного слова диктора.
Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — новой надеждой. Митя мысленно называет даты, определяет рубежи, на которых кончится отступление и немцев погонят назад. Еще в первые недели войны ему казалось, что главный бой будет дан на Березине. Но реку немцы форсировали так стремительно, что только однажды название ее промелькнуло в сводке. Тогда Митя перенес генеральную битву на Днепр. Этот рубеж казался надежным, будто дарованным самой природой великому народу для защиты от набега чужеземцев.
На Днепре немцы действительно задержались. Битва за Смоленск продолжалась месяц. Митя ощущал прилив бодрости, надежда росла. На остальных фронтах отступали, но здесь не двигались с места, и одного этого бы¬
А9
ло достаточно для того, чтобы пойти домой с волновавшим до слез чувством благодарности к Еоинам, которые стояли насмерть. Но сдали и Смоленск. За Смоленском самым большим городом была уже Москва*..
Приближалась дата Бородинского боя. Мите казалось, что она не может пройти просто так, что в эют день свершится необычайное. Он ждал от этого дня перелома в ходе всей войны, битвы, которая решила бы ее исход.
Но история не повторялась. Она шла, развиваясь своими неизведанными путями. Назавтра, говоря об этом дне, диктор сообщил о жестоких боях на совсем лном направлении и назвал два сданных нами города. До Бородина немцы не дошли, но зато они рвались вперед на всем огромном фронте. Дня через два после этого репродуктор на станции смолк: радиоузел больше не работал.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
По ночам на улицах местечка патрулей стало больше. Люди в гражданской одежде, с винтовками за плечами не пропускают даже глухого переулка, заглядывают во дворы, огороды. Патрулирует истребительный батальон.
Иной раз патрули ничего не могут сделать, и в запрещенное время, ночью, улицы полнятся голосами. Это бывает тогда, когда через местечко гонят колхозные стада или грохочут тракторы, направляющиеся на восток, в тыловые районы. Меетечковцы выходят на улицу, стоят у калиток, тревожно переговариваются. Никакими приказами их не разгонишь. Эти же, которые гонят скот и машины, недаром предпочитают двигаться ночью. Днем над шляхами и дорогами висят немецкие самолеты. Все, кто проходит и проезжает ч^рез местечко, паролей не знают. Патрулям приходится мириться...
Высокий широкоплечий человек в надвинутой на самые глаза кепке, прежде чем перейти улицу, жмется к забору, долго стоит, оглядываясь по сторонам. Он, видно, также не знает пароля и не хочет, чтобы его задержали..
50
Вот его фигура мелькнула на площади, окруженной магазинами, ларьками, киосками, и исчезла в тени акаций на аллейке, ведущей к спрятанному в глубине палисадника деревянному зданию. На крыльце человека останавливают.
— Товарищ Иван?
— Я.
— Вас ждут.
В узкой продолговатой комнате полумрак, на столе, с краю, лампа, окна завешены плотной черной бумагой. На диване, лицом к свету, полулежит чернявый полноватый мужчина, читает книгу. Он сразу вскакивает, здоровается:
— Товарищ Шелег, доброй ночи. Не задержали патрули?
— Прошел.
— Ну и хорошо. Присаживайтесь.
Шелег — заведующий районным коммунхозом — немного смущен. Рядом с ним, на диване, секретарь облает- ного комитета партии Ермалович, человек, которого он только однажды, прошлой осенью, видел здесь, на собрании партийного актива.
— Какая у вас семья? — спрашивает секретарь, закуривая, угощая Шелега.
— Жена, двое детей.
— Дети большие?
— Не очень. Сын перешел во второй класс, дочке — пять лет.
— Кто по профессии жена?
— Учительница.
— Хорошо живете? Ну, так сказать, в смысле взаимопонимания.
— Не жалуюсь.
— А здоровье как?
— Кажется, нормальное.
Голос у Ермаловича хриплый, усталый, да и вид утомленный: под глазами мешки, лоб в морщинах. Шелег догадывается, даже знает, зачем ночью, со всеми предосторожностями, его вызвали в райком, но ждет.
— Вы участвовали в подполье восемнадцатого года? Расскажите, это имеет значение.
— Какое там подполье, товарищ секретарь. Стихийно
51
все. Конечно, немного вредили немцам. Я работал в Борисове на станции. Дровокладом. Я и родом оттуда.
— Ну, а конкретно, как вредили?
— Сыпали песок в буксы, портили тормоза. Один раз развинтили рельсы, сбросили поезд. Начали старые рабочие, потом молодежь подключилась.
— Вели какую-нибудь работу?
— Распространяли листовки. Даже немецких солдат агитировали. Была забастовка. Бастовали депо, станция, за исключением служащих.
— Вы в партии с двадцать четвертого года? По ленинскому призыву?
— Да.
— Как думаете, ваш опыт может пригодиться?
— Он не такой большой...
Несколько минут в комнате царит тишина. Вокруг лампы, описывая стремительные петли, носится мотыль. Кажется, он невидимо привязан к лампе, к огоньку. В соседней комнате поскрипывают половицы: кто-то ходит.
— Иллюзий не может быть, Иван Прокопович. Немцы скорей всего придут. Бои в Смоленске. Народ остается, должен остаться кто-то и из руководителей. Могу перед вами открыться: я тоже остаюсь...
На душе у Ивана Прокоповича ледяной холодок. Первый раз, когда его вызывал секретарь райкома (это было почти месяц назад), он фактически отказался от предложения остаться в подполье. Мотивировка простая: он член партии, все об этом зкают. Остаться — значит сразу попасть немцам в лапы. Попросил направить его, командира запаса, в армию. Не взяли, дали броню. И все равно в глубине души жила надежда, что найдется другой, лучший, а его отклонят. Прошел месяц, он начал верить, что так и есть. Теперь вот...
— Вы считаете, что я именно тот человек, который нужен?
Ермалович отвечает не сразу. Берет со стола пачку папирос, снова закуривает. В лицо не смотрит, говорит тйхо, перейдя на «ты»:
— Не одного тебя оставляем, а пятерых. Люди примерно твоего положения. Уже дали согласие. Смысл во всем этом есть. Мы не просто партийных или советских работников оставляем, & специалистов. Все-таки меньше
52
подозрения. Для конспирации людей друг с другом не знакомим. Намечено тебе поручить руководство пятеркой. Тебе мы верим. Все, что я могу сказать...
Иван Прокопович как-то сразу успокаивается. Если признаться самому себе, то этот месяц он думал не только о том, что его отклонят. Жило в душе, порой прорываясь яркими вспышками воспоминаний, острое чувство беспокойства. Он из опыта знал, что воевать в подполье трудней, чем на фронте. На это способны исключительные люди, с крепкими нервами, сильной волей. И то, что все же остановились на нем, поднимало его в собственных глазах.
— Какие будут мои обязанности? — спрашивает Шелег.
— Подпольщик не я, а ты, дорогой Иван Прокопович,— улыбнуьшись, отвечает Ермалович.— В гражданской войне и я участвовал, но подполья не знаю. Могу дать самые общие директивы. Обстановка на фронте сложилась неблагоприятная, видишь сам. Отступаем. Но должны верить, что наступит перелом. Может быть, даже очень скоро. Отсюда возникает и задача: вредить фашистам и поддерживать в наших людях веру в победу. Организовывать их на борьбу. Твое положение здесь, в местечке, должно быть легальным. Как и у всех, кого оставляем. Найдешь себе какое-нчбудь занятие. Ты же в прошлом слесарь, рабочий. Дальше подскажет обстановка. Одним словом, вести политическую работу и вредить...
— С кем держать связь? Ну, кто руководить мной будет?
Лицо Ермаловича серьезное, даже злое.
— Не отвыкли еще от мирных представлений. Война есть война, и нужно соответственно мыслить. Мирной жизни нет, забудь... Ты в районе будешь партией и советской властью. Надейся на одного себя. Ваша пятерка — глубокое подполье. Связь держать только со мной и командиром партизанского отряда Матвеевым. Ни на какие другие голоса не отзываться. Будешь иметь запас оружия. Где склад, будешь знать ты и Матвеев. Ну, может, еще кто-нибудь. На случай провала. Пароли, явки уточним. Время еще есть. Постараемся «подмочить» твою репутацию. Чтобы тебе было легче здесь, у немцев. Что- нибудь придумаем...
53
— Понятно, товарищ Ермалович. А теперь что делать? Пока я на обычной работе?..
— Что хочешь. Можешь даже допустить растрату. Матвеев тебя накроет. Вот и испортим тебе биографию.
Ермалович задумывается, потом продолжает, снова перейдя на «вы»:
— Хочу высказать несколько политических соображений, Сделайте соответствующие выводы. В области есть районы, которые уже месяц как захвачены. Оттуда просачиваются сведения, хоть и скупые. Фашисты установили власть террора. Расстреливают, вешают. Ни о каких, как вы говорили, забастовках или выступлениях протеста мирными средствами не может быть и речи. Подпольная работа должна рассматриваться нами как глубоко законспирированная, скрытая. Никому не доверяйте. Если в мирных условиях мы мерили семь раз, прежде чем отрезать, то теперь нужно будет мерить по меньшей мере сто раз. Не исключено, что в районе работают немецкие агенты, не разоблаченные органами госбезопасности. Поэтому основное — бдительность...
За стеной размеренно скрипят половицы — в соседнем кабинете кто-то неутомимо ходит. Зазвенел будильник, Ермалович поднялся.
— Последнее, Иван Прокопович. Понимайте как государственную тайну. Вашего первого секретаря Вов- ницкого здесь не оставляем. Оказался недостаточно бдительным. В числе людей, рекомендованных в партизанский отряд, трое непроверенных. У одного родители вступили в колхоз только в тридцать девятом году. Фактически сын единоличника. У другого сестра замужем за репрессированным. Оказался трусливым ваш Вов- ницкий. Всех коммунистов с опытом партизанской борьбы отправил в армию. Они же здесь больше нужны. Ну, пока, браток.— Ермалович как-то неожиданно, рывком обхватил Ивана Прокоповича за плечи, коснулся губами щеки.— Мы ведь с тобой ровесники. Ты с девятисотого?
— С девятисотого.
— Ну что ж, воевали и еще повоюем... Будь здоров.
— До свидания.
На дворе уже светает, В палисаднике, под запыленными акациями, черная, с разбитой правой фарой «эмка», тут же возле машины, на разостланном брезенте, двое спят, накрыв головы плащами. Третий стоит на
54
крыльце, устало улыбается. Из окна молчаливо смотрит на Шелега Вовницкий. Лицо измученное, серое, как земля. Мелькает мысль: это он всю ночь бессонно шагал по комнате,
2
С утра Шелег ходит на службу. Коммунальный отдел не в здании райисполкома, а на краю местечка, в домике с зелеными ставнями, который когда-то принадлежал нэпману-мыловару. Кроме коммунхоза в нем еще отдел дорожного строительства — учреждение, которое в районе критикую! на всех совещаниях и собраниях.
В коммунхозе на работу являются двое: сам Шелег и счетовод Франя Бейзик, жена эмтээсовского механика. Франя долго не задерживается. Забежит, повернется возле своего стола, улыбнется заведующему:
— Ну, я пошла.
Он молчаливо кивает головой.
Делать в коммунхозе нечего. Всякое строительство, ремонт прекращены. Банк давно эвакуировался, денег никому не платят. Зарплата работникам выдана за два месяца вперед.
Сегодня Франя прибежала взволнованная.
— Меня берут на окопы,— сказала она и положила на стол перед Шелегом повестку.
Он поднял на молодую женщину грустные глаза:
— Ну и что?.. Делать вам все равно нечего.
— Как вы не понимаете? Нас на окопах могут, захватить немцы. Они близко... Тогда что? — Она заплакала.
— Всех захватят.— Шелег готов взорваться, сказать этой кукле что-нибудь колкое, оскорбительное, но сдерживается.— Ничем не могу вам помочь. Кто меня послушает?..
Франя окинула заведующего пренебрежительным взглядом, взяла со стола повестку, торопливо вышла.
Дверь дорожного отдела по коридору напротив. В нем тоже пусто — работники разбрелись кто куда. На место службы приходит только дорожный мастер Иван Буян, толстый моложавый старик, которому осталось всего три года до пенсии. Живет Буян в соседней деревне Кавень- ки, имеет хату, жену, но какое-то беспокойство гонит его в местечко.
55
Услыхав голоса, Буян заходит к Шелегу.
— Ну, как дела, товарищ заведующий?
— Да всё так же, Иван Петрович. Отступление на всех фронтах. Скоро гости заглянут и сюда. Не минут...
— А как же ты?
— А что я? У меня — белый билет,
— Однако же ты партейный.
— А куда я подамся? — Вид у Шелега возбужденный, злой.— Двое детей, жена больная. Да и не такой я молодой, чтобы прыгать, как заяц. Не может быть, чтобы не разбирались. Я специалист, строитель.
Буян опускает глаза, с минуту молчит.
— Оно-то так, но все ж... Каждый человек думает, как лучше. А тем временем...
На огороде за зеленым домиком — кирпичный погреб, довольно просторное помещение, ключи от которого в кармане у Шелега. Там — бумажные мешки с цементом, ящики гвоздей, лопаты, топоры, банки с олифой, краской. В углу стоит оплетенная лозовыми прутьями бутыль со спиртом-денатуратом.
— Выпить не повредило бы,— предлагает Шелег.— Настроение — лучше не спрашивай. Хочешь, налью бутылочку?
Буян испуганно оглядывается, но соглашается. Выпить он любит. Напиток из денатурата не очень важный, однако же это спирт. Тем более что дорожный мастер знает, как его очищать. Стоит только пропустить денатурат через коробочку обычного противогаза — пей, ничего не бойся.
Молча идут в погреб. Иван Прокопович знает, почему Буян нерешителен. От глаза дорожного мастера, видно, не укрылось, что со склада все исчезает и что казенное добро разбазаривает сам заведующий. И хотя мастер принимает в этом определенное участие,— считает за лучшее держаться в стороне. Засунув в карман бутылку со спиртом, Буян сразу исчезает.
Только вышел дорожный мастер, как в дверях появился широкоплечий, краснолицый промкомбинатовский мельник Забела.
— День добрый, товарищ заведующий. Я насчет гвоздиков.
Шелег молча показывает на ящик с гвоздями.
— Можно весь брать?
— Бери.
Мельник бросает ящик в большой крапивный мешок, но здесь, на складе, аппетит его разгорается. Сколько тут всего!
— Если можно, дорогой, то я еще пару баночек краски прихвачу. Ставни совсем облезли. Пронесу — ни один черт не увидит. Кто теперь будет его считать — это твое добро?
— Бери,— Шелег умышленно отворачивается.
Руки у Забелы трясутся; воровато оглянувшись, не видит ли заведующий, он грузит в мешок кроме краски банку олифы, топор, лопату. Еле поднимает на плечи тяжелый мешок.
— Я тебе, дорогой, пару пудиков муки подброшу.
— Неси. Сочтемся.
Иван Прокопович улыбается: подпольная работа фактически началась. Слух по местечку пополз, и клиентов хоть отбавляй. Летят, как осы на мед. Есть жадные, с загребущими руками, как этот Забела, есть более умеренные, которые берут по надобности, с оглядкой. Как ни удивительно, но он, Шелег, не очень жестоко судит этих людей. Он не может сказать, что все они ждут немцез. Нет, не может...
Он, Шелег, «районщик», низовой работник, долгие годы работает с людьми, которых не назовешь ангелами. Даже некоторые заядлые калымщики— люди не отпетые. Если нужно, день и ночь не слезут с лесов, заткнут прорыв, процент дадут. Хозяйственнику всегда приходится идти на компромиссы. Одному дай то, другому — это. Кто, когда хорошо обеспечивал район? Хорош тот «районщик», который из-под земли достанет. И начальство, если нужно, закроет глаза на все...
Заперев склад, Иван Прокопович пошел в контору. Он ждет телефонного звонка. Звонок — конспиративный, секретный — должен быть в половине двенадцатого. Если его не будет, значит, что-то у Матвеева сорвалось.
Старомодный, с никелированными звонками на крышке желтого лакированного ящика телефон зазвонил в условленное время. В трубке злой голос Матвеева, пока еще начальника милиции:
— Мне заведующего коммунхозом... Это гы, Шелег? Слушай, что это за свинство? У меня печь дымит, яич¬
57
ницу не зажаришь. А до вас не дозвониться, Приди, оторвись от бумаг, сам убедишься ..
Шелег кладет трубку. Грустно улыбается. Немцы еще далеко, кругом свои люди, а уже слова не скажи без конспирации.
3
За болотистой околицей, в четырех верстах от местечка, начинаются Нехамовские леса. Тянутся они далеко, до деревни Нехамова Слобода, и даже дальше, в пределы соседнего района. Пила и топор почти не тронули кварталы граба, тонкого дубняка, переспелой ольхи, *так как хорошей дороги здесь нет, один зимник. На опушке леса «стража» — большое здание, построенное еще в царское время. В нем должен жить лесничий, лесники, но никто не живет, давно переехали из глухомани в местечко.
Августовской ночью, когда уже начало чуть светлеть на востоке, возле «стражи» остановилась полуторка. Из кабины вылезли двое — Матвеев, коренастый, в кожаной тужурке, и Шелег. Подошли к самому забору, прислушались. На штакетинах развешено белье — детские рубашки, майки, трусы. Много — будто здесь остановился детский сад.
— Черт знает что! — злобно выругался Матвеев.— Звонил же в лесхоз, поинтересовался как бы между прочим: живет ли кто здесь. Говорят, нет. Пустая...
— От бомбежки прячутся,— высказал догадку Шелег.— А может, беженцы.
— Куда поедешь?
— Давай на Тимохову пристань.
Полуторка подскакивает на корнях, выбоинах. За баранкой Матвеев. Видно по всему: водить машину ему приходится не часто. Кое-как выбрались на большак. Летние звезды блекнут. Через какой-нибудь час рассвст. Снова свернули на узкую лесную дорогу. Машина продирается сквозь орешник.
Барабанят по кабине ветки — будто над ухом кто-то стреляет.
Тимохова пристань — глухое, заросшее густым чернолесьем место. В четырех верстах от него — осушенное болото, торфяные поля, карьеры. Поселок торфозавода
58
дальше, около местечка. Проехали просекой, выбрали сухой песчаный бугорок. Около него хорошая примета — развесистая, с расщепленной верхушкой береза. Схватив лопаты, начали быстро копать яму. Пока все кончили— застелили дно ямы соломой, опустили, укутав брезентом, два длинных, похожих на гробы ящика с винтовками. цинковые коробки с патронами,— уже совсем рассвело. На березе, с любопытством наблюдая за людьми, застрекотала сорока. С березы перескочила на осину, с осины — на ольху. Неотступно летала кругом, стрекотала все время, пока засыпали яму, утаптывали, разносили лишний песок по лесу, забрасывали мхом вскопанную землю.
— Нужно приказать, чтобы молчала,— показывая пальцем на сороку, проговорил Шелег.— Лишний свидетель.
От непривычки к тяжелой физической работе он задыхался, вытирал рукавом рубашки пот с лица.
— Лишних свидетелей не будет. Место знаем ты да я. Мы с тобой, одним словом. Приказано показать еще Овсянику, осоавиахимовцу. Военный человек!..
Матвеев мог ехать, но не торопился. Прилегли на росистой траве, закурили. День начинался ясный, солнце тронуло уже вершины берез и осин, но тут, внизу, еще царила тень.
— А на тебя писулька есть,— сказал Матвеев, улыб- нубшись.— Ждешь немцев, разбазариваешь народное добро.
— Глупая логика. Если бы ждал, то, наоборот, старался бы припрятать. Им в ручки отдал бы целенькое. Кто писал?..
— А зачем тебе знать? Один наш, из истребительного батальона. Хорошую мысль подал. Есть возможность тебя поколошматить. Ты спрячься, придем будто арестовывать, обыск сделаем. Дыму, одним словом, хватит...
— Когда прятаться?
— Ну, хотя бы завтра. Далеко не убегай. Попросись в какой-нибудь соседский хлев. Главное, чтоб были свидетели. Ночуй дома. На работу больше не ходи.
Приподнявшись на локти, Матвеев срывает неспелую, беловатую бруснику, бросает в рот. Загорелое лицо его с чуть раскосыми черными глазами не выражает ничего,
$9
кроме угрюмой сосредоточенности. Шелег почти не знает этого человека, хотя работают они вместе более двух лет. В деятельность коммунхоза милиция ни разу не вмешивалась. Матвеев воюет с самогонщиками, выдает паспорта, отбирает права у шоферов, если они в чем-ни- будь провинятся. Было два или три дела, которые нашумели на весь район, касающиеся махинаций в торговой сети, но Шелег не может с уверенностью сказать, кто их раскрыл — прокуратура, милиция или обычная ревизия.
Сорока, угомонившись, исчезла. Где-то вверху нудно звенит немецкая рама.
— Знаешь, не хочу я здесь оставаться,— вдруг начинает Матвеев.— Понимаю, что нужно, но не хочу. Не для меня такая работа. Скрывайся, таись, заметай следы. Как вор. Почему я на своей земле должен прятаться? Я понимаю войну так: видишь врага—стреляй. Ты его убьешь или он тебя. Это и есть война. Настоящая Судьба ее не здесь, в этом лесу, будет решаться, а там, где столкнутся армии, техника. И война эта, думается мне, не будет долгой. Ну, еще два-три месяца. До нового года кончится. Фронт растянулся на тысячи километров. Что ты, окопов накопаешь, как в империалистическую? Дудки, брат. Теперь все зависит от маневров, от количества войск, техники. А нас здесь оставляют для комариной работы Будто комариными укусами поможешь.
Шелег слушает, молчит. Что-то ему не нравится в словах Матвеева, в самом тоне его голоса. «С таким настроением нельзя оставаться»,— рождается мысль, но он сейчас же ее отгоняет. Можно ли всерьез принимать слова, сказанные в минуту раздражения? Вообще, все, что говорят люди, еще не может служить меркой их самих, их поступков, даже когда они спокойны, довольны жизнью. Матвеев же сегодня не в настроении.
— Сам я из Кулунды,— продолжает Матвеев.— У нас — степи, простор. Выйдешь — и все видно как на ладони. За сто верст видно. Может, потому и леса не люблю. Не могу привыкнуть. Небо у вас какое-то низкое, дожди, слякоть. У нас лето так лето — задохнешься от н>ары. А зимой без кожуха, валенок, не обмазав лицо салом, и носу не высовывай. Птицы на лету замерзают. А если буран поднимется,— держись. Столбы выворачи¬
60
вает, дома раскидывает. Какой-то начальник, эго в коллективизацию было, примчал в село к нам на легковой. Машину на улице оставил, а сам скорей в тепло. Назавтра машину в степи нашли, верст за десять. Ветром загнало...
— Ты напрасно это,— возражает Шелег.— Климат здесь хороший. Заметь, у вас если засуха, то выжжет все дотла. Клади зубы на полку. А здесь никогда не бывает, чтоб недород кругом. На низком вымочит, так вырастет на сухом. Рожь пропадет, зато уродится ячмень, картошка. И воевать в лесу лучше. Оборону держать. Вот топчутся немцы скоро два месяца на месте. И техника не помогает.
— Каждый кулик свое болото хвалит.
— Ты просто, Матвеев, не с той ноги встал. Воевать здесь можно. Я с гражданской знаю. Давали прикурить немцам, белополякам...
Матвеев лег на бок, хмуро глядит перед собой.
— От жены ни одного письма,— наконец говорит он.— Больше месяца, как выехала. Ясно, эшелон разбомбили. Где была моя голова — одну, с маленькими детьми отправлять. Теперь ночами не сплю. Не могу закрыть глаза...
— Почта виновата. Ты не вешай носа. Если бы что такое, сообщили бы. Вообще, твоя жена думает, что мы давно под немцами. Смоленск месяц у них, бои под Гомелем, Черниговом. Куда она будет писать?
— Может быть, твоя правда. Но мне, браг, от этого не легче. Что сделаешь... Война есть война. Нюни распускать нечего. Так жди, потрясем тебя. Пока...
Он вскакивает в кабину, запускает мотор и, осторожно выруливая, едет по просеке.
4
В небе одни немецкие самолеты. Они летят с запада на восток, с севера на юг, летят звеньями в ясной, безоблачной синеве и в одиночку — над дорогами, большаками, над самым лесом. Откуда-то издалека доносятся частые глухие раскаты. Немцы бомбят переправы на Днепре.
Только однажды гулко протарахтел фанерный почто¬
61
вый самолетик со звездами на крыльях. Чувствуя свою беспомощность, он прижимался к земле, летел так низко, что видна была голова летчика в черном кожаном шлеме. Но и фанерный самолетик заметили. Сверху на него набросились два юрких немецких истребителя. Сухо затрещали пулеметные очереди, и самолетик упал на лес. Каково же было удивление всех, кто наблюдал за этой баталией, когда минут через десять, дождавшись, пока истребители исчезнут с горизонта, фанерный самолетик поднялся откуда-то из лозы и снова гулко залопотал мотором, прижимаясь, как и раньше, к земле.
Митя второй день на окопах. Окопы роют на склоне огромного песчаного холма, заросшего редкими низкими сосенками, молодыми березками. Справа за пригорком — железная дорога, песчаный большак, которые пролегли почти рядом, слева — смолистый сосновый бор. Внизу, в лощине, деревня Вербичи. Деревня не малая и не большая—хат сто. Теперь она почти безлюдная. Кое-где на завалинках сидят старые деды и бабули. Остальные жители— с коровами, овцами, свиньями, с небогатым своим скарбом — в лесу.
Военных немного, человек десять, все, за исключением лейтенанта, в засаленных, местами побелевших гимнастерках, в разлезшихся ботинках, в истоптанных сапогах. Красноармейцы ведут себя удивительно. Почти каждый двор имеет огород, есть сады, всюду полно огурцов, помидоров, яблок, которые уже почти дозрели, но они всего этого будто не замечают, едят сухой, зачерствевший хлеб с консервами, варят в котелках пшенную кашу.
Зато местечковцы не стесняются, рвут яблоки, выбирают на чужих грядках помидоры, огурцы. На рытье окопов работает более сотни человек. Это преимущественно молодые хлопцы, девчата, которые ходили в школу или где-нибудь работали, есть и молодые бездетные женщины, мужья которых в армии. Тех, у кого маленькие дети, на окопы не брали.
Тон задают замужние. Весь пригорок белеет, синеет, краснеет, желтеет от косынок, кофточек, платьев. Хлопцев вдвое меньше, чем девчат, и одеты они более однотонно, во все серое.
Из группы девчат, где работает хоть одна замужняя, доносятся задорные выкрики, смех. Девчата копают на
62
одной половине пригорка, хлопцы — на другой, но молодые женщины не пропускают ни одного случая, чтобы как-нибудь не затронуть красноармейцев или парней. Особенно задирается Франя Бейзик, чернявая, шустрая, с золотым передним зубом. Фране можно дать но более двадцати лет, но все знают, что она давно замужем за эмтээсовским механиком. Механика мобилизовали, и Франя чувствует себя свободно.
— Мужчины, давай перекур! — кричит она, бросив несколько лопат песка.— Днем эксплуатация женщин не разрешается!
Женщины, подперев бока руками, хохочут, девчата краснеют, опуская глаза. Устало улыбаются красноармейцы, с интересом прислушиваются к выкрикам Франи хлопцы. Только лейтенант, фамилия его Якубовский, старается сохранить серьезность на молодом красивом лице. Лейтенант будто не слышит шуток Франи, хотя адресованы они в первую очередь ему. Он идет от окопа к окопу, проверяет их глубину, высоту брустверов, показывает, как маскировать желтые насыпи травой.
— Лейтенант! — кричит Франя.— Идите к нам. Мы луговым сеном окопчик застелем. Не война будет, а малина.
Якубовский хмурится, но внимательный глаз может заметить, что и у него в уголках губ таится улыбка. Лейтенант стройный, подобранный. Он аккуратно бреется, каждое утро пришивает подворотничок, начищает до блеска залатанные хромовые сапоги.
В полдень, когда начинает припекать солнце, Франя снимает с себя белую в крапинку кофточку, юбку, снимает все нижнее и остается в одних трусах и бюстгальтере. Босая идет за огороды купаться в пруду. Идти можно напрямик, но она умышленно делает крюк, чтобы продефилировать перед красноармейцами и хлопцами. Она красивая, Франя, и сама это знает.
Митя то и дело оглядывается. Там, в кучке девчат, Сюзанна. Она, как и все, повязывает до самых глаз платочек, выбрасывает лопатой желтый песок, слушает бесстыжие выкрики Франи. Издали, в толпе девчат, ее не узнаешь, но Мите кажется, что он ее видит, и во всем, что он делает, думает, присутствует Сюзанна. Теперь он хотел бы встретиться с нею наедине. Он не знает, что скажет девушке во время этой встречи, какие найдет слова.
63
Свидание наедине, в сосновом бору или на берегу заросшего кустарником пруда, рисуется таким заманчивым, желанным. Кажется, что оно развяжет все противоречия. Бывают часы, целиком заполненные мыслями о Сюзанне, будто, кроме нее, ничего другого на свете нет. Митя представляет, как, встретившись с Сюзанной, они возьмутся за руки, зеленой лесной просекой пойдут все дальше и дальше в глубь леса. Сюзанна ни о чем не спрашивает, понимая все без слов. Куда они идут?.. Об этом Митя не думает. Это не имеет значения. Их на свете только двое, и им нет никакого дела до того, что делается кругом...
Дивные, фантастические видения возникают перед ним, исчезают, всплывают снова. Они похожи на легкие белые облака, неслышно плывущие по синему августовскому небу. Волна мечтательности захлестывает парня, утрачивается чувство реальности. В такие минуты не существует ни окопов, ни войны, ни немцев. Есть только Сюзанна, лес, высокое небо. У них нет ни истории, ни будущего. И ничего им не надо...
Потом Митя возвращается к действительности. Долго блуждать в выдуманном мире нельзя. Рядом переговариваются парни, звенит, наткнувшись на камень, лопата. Нестерпимо печет солнце. Начинают болеть руки, плечи. Ноет спина. На ладонях зудят мозоли. Глаза заливает пот.
В обеденный перерыв Митя хочет только одного — есть. Зачерствевший кусок хлеба с огурцом кажется необыкновенно вкусным. Пообедав, хлопец ложится на сожженную солнцем сухую траву под куст и словно проваливается в пропасть. Дневной сон часто мучителен. Он как бред. Страшные картины сменяются одна другой. Митя видит то бомбежку, то немцев с рогатыми касками на головах. Они прыгают с самолетов прямо в окопы, потом раскладывают огромные костры и гонят местечков- цев на огонь. Около огня кружится полуголая Франя, заливисто смеется...
Митя просыпается. Он лежит на самом солнцепеке: тень переместилась. Хлопцы спят. По стежке идут девчата, что-то кричит, размахивая руками, Франя.
Взяться за лопату после короткого послеобеденного сна трудней, чем утром. Воздух будто расплавился от жары, тело разбитое, разморенное. Можно, как Франя, пойти к пруду, нырнуть в зеленую, покрытую ряской во¬
64
ду. Но обеденный перерыв только на час, а оп кончился. Лейтенант хмурится: многие не выполняют нормы.
Вечером, когда солнце склоняется за лес, силы возвращаются. Работать легко, приятно. Митя как бы совсем не чувствует лопаты. Знакомая стихия мечтательности захватывает его снова, реальность исчезает, он видит себя в разных необычных положениях. Чудится бомбежка. Самолеты с немецкими крестами бросают на окопы бомбы, все разбегаются, а он, Митя, остается в окопе. Он совсем не обращает внимания на свист и взрывы бомб. Наконец одна падает возле самого бруствера. Митю обдает горячей взрывной волной, засыпает песком. Но он не убит, он только ранен. Сбегаются красноармейцы, хлопцы, девчата. У них в глазах немое удивление. Никто раньше не догадывался, что Митя такой смелый. Над ним склоняется Сюзанна. На ее лице отчаяние, но он ее успокаивает. Он крепится, делает вид, что ему совсем не больно. Сюзанна перебинтовывает ему голову, плечо, грудь...
Вечером деревня полнится таинственными шорохами и звуками. Из лесу приходят женщины. Разговаривая вполголоса, они выбирают на грядках огурцы, копают картошку и тихо, как тени, исчезают. Война близко. Взрывов не слышно, но на западе время от времени полосуют небо короткие вспышки.
Девчата, даже Франя, ночью не подают голоса. С наступлением темноты они сразу становятся тише. Митя ночует в большом просторном гумне, на прошлогоднем утоптанном сене, вместе с Миколой Тябутом, Алексеем Примаком и Сашей Плоткиным. Миколу Тябута в армию не взяли, хотя он на год старше Нупрея Гиля и Ивана Лобика. Причина простая: он не окончил десятилетки. Микола притих, смеется редко, с Митей говорит почти исключительно о войне. Примак и Плоткин, как и в школе, держатся вместе, даже еда у них общая.
В гумне иной раз ночуют еще двое — Базыль Вилюга и Шура Гарнак. Вилюга учился в девятом, ходил к Ивану Лобику. Так что Митя его хорошо знает. Живет он на той же, что и Лобик, Вокзальной улице. Стройный, белобрысый Базыль — какой-то особенный, неистовый.
Митя помнит такой случай. В тот день, когда стало известно, что Красная Армия перешла границу с Польшей, начав освобождение западных белорусов и украин¬
65
цев, он еще до занятий прибежал в школу. На крыльце сидели Базыль ц еще несколько парией. Все были взбудоражены: они уже знали новость.
Вилюга неожиданно для всех заявил:
— Нужно и к нашим шляхтичам приглядеться. А то поналезли на железную дорогу и небось сигналят Пил- судскому...
На Вокзальной улице жило несколько семей поляков- железнодорожников. Они осели в местечке, приехав беженцами еще в империалистическую войну. Против этих поляков и направил свой гнев Вилюга.
Его высмеяли. Базыль и сам хохотал над своим предложением. Но когда под вечер возвращались из школы, он подбирал с земли камни и швырял их в телеграфные столбы.
— Вот вам, пане Драги-Миловский, вот тебе, кондуктор Сташевский, будьте ласковы, получите в зубы, пан Жвирбля,— приговаривал Базыль после каждого взмаха руки.
Хоть таким образом отомстил он железнодорожникам с Вокзальной улицы...
Широколицего подвижного Шуру Гарнака Митя знает меньше. Он тоже с Вокзальной улицы, работал на станционной водокачке кочегаром. Дневную школу оставил давно, учился в вечерней, но до последнего времени стоял вратарем футбольной команды дневной школы.
В гумне — острые смешанные запахи луговых трав. Чтобы светлей было, хлопцы дверь не закрывают. В ее проеме виднеется край неба, густо усеянный звездами. Красноармейцы спят в палатках, это совсем близко от гумна. Возле палаток ходит часовой с винтовкой. Но глухая тревога все равно не покидает Митю, Взбудоражены и хлопцы — переговариваются, ворочаются, долго не спят.
С Митей они держатся по-дружески, но в то же время таятся, как заговорщики. Митя знает причину. Они собираются отступать из местечка, как только станет известно, что его займут немцы, и просто не хотят его обижать* Ночью, думая, что Митя спит, они обсуждают свой маршрут. Они хотят дойти до Днепра, переправиться на другой берег и по железной дороге ехать на Ростов. Ростов они выбрали потому, что это хлебный край. Долго задер-
3 И Науменко.
66
живаться там они, однако, не собираются. Поработают, осмотрятся и, если удастся, поступят в военное училище. Оно в Ростове есть. Два года назад туда поступил один местечковый хлопец.
Митя не обижается на ребят. Он им не попутчик, и в военное училище его не возьмут. Ему только горько, что с ним играют в прятки. Зачем? Ни он, ни они не виноваты, что у него искалечена нога. Такая его судьба. Великая война пройдет мимо него. Он не может принять в ней участие и ничего не может изменить...
Митя начинает понимать, что все в жизни сложней, запутанней, чем об этом учили в школе, писали в газетах, книгах. О войне все было ясно. Если враг нападет, ему дадут уничтожающий отпор. Два месяца тому назад никто даже мысли не допускал, что немцы будут топтать нашу землю, за первый же месяц войны дойдут до Смоленска, захватят десятки других городов. Чем объяснить наше отступление? Неужто у нас не хватает сил, чтобы остановить немцев? И на каком рубеже их наконец остановят?
Хлопцы перешептываются. Митя не спит. На краешке неба, который виден через широкую дверь гумна, яркие, будто вымытые в росе звезды. Если на них долго смотреть, кажется, что они дрожат. Из лощины, от пруда веет влажной прохладой. Время от времени заливисто лают собаки. Их кто-то тревожит. Где-то рядом, на сеновалах, в сараях, гумнах, спят девчата. Вместе с ними Сюзанна. О чем она думает? Как смотрит на все, что происходит кругом?.. Сюзанна нежная, будто белый цветок. Слабая, беспомощная, она целый день наравне со всеми бросает тяжелой лопатой песок. Она скромная, добрая. Митя ни разу не слыхал, чтобы она сказала какое-нибудь скверное слово, как эта Франя. Мысли о Сюзанне успокаивают. Незаметно подкрадывается сон...
Сквозь сон уже Митя слышит далекие взрывы и совсем близко — частые винтовочные выстрелы. Ему кажется, что все это снится. Но выстрелы не утихают. Подхватываются хлопцы. Еще через минуту возле стены слышатся торопливые шаги.
— Можно к вам? — доносится несмелый девичий голос.— Мы одни боимся...
— Ложитесь, места хватит,— деланным бодрым голосом приглашает Микола.
ы
Парни лежат, не шелохнутся. Девчата ощупью пробираются к стене, где набросано сено. Натыкаясь на ноги хлопцев, они испуганно вскрикивают, пересмеиваются.
Митя чувствует, как рядом с ним, коснувшись его плечом, укладывается девушка. Плечо мягкое, горячее. Девушка легла и словно застыла. Тяжело, прерывисто дышит. Она как бы ждет. Одно мгновение отделяет Митю от того хмельного безрассудства, когда, забыв обо всем, он может припасть к незнакомке, которая сейчас так доверчиво здесь легла. Но в это мгновение вспыхивает мысль о Сюзанне. Где она? Может быть, здесь, рядом с ним? Может быть, это она ждет от него того, о чем он сам неоднократно думал, чего сам ждал, боясь и радуясь неизвестности, в которой таится нечто большое, чудесное. А если Сюзанна с другим?
Митя сразу трезвеет. Теперь ему больно, обидно. Если Сюзанне все равно, он или кто-нибудь другой, тогда все то, что он связывал с ее образом, фальшь, обман...
Мучительно тянутся минуты. В гумне настороженная тишина. Стрельбы не слышно. Закукарекал петух, ему ответили два или три на противоположном конце деревни. Звезды начинают бледнеть... Они еле-еле мерцают. Митя чувствует, что не заснет. Не спит никто, это он чувствует по затаенному сдержанному дыханию, которое выдает всех, кто лежит на этом утоптанном прошлогоднем сене.
Девчата прибежали, испугавшись выстрелов. Они боязливые и никогда не стыдятся своего страха. Они могут пищать, увидев обычную крысу, а после даже хвалиться тем, что ужасно испугались. Парни себе такого никогда не позволяют. Но почему девчата молчат? Почему с того времени, как они прибежали сюда, ни одна не отозвалась хотя бы словом?
Плывут настороженные минуты. Кто-то на сене зашевелился, и сразу послышался приглушенный девичий смешок. Потом снова тишина. Митя прислушивается, ловит каждый шорох. С неба, описав серебристую дугу, упала звездочка. Митя знает, что это не звездочка, а метеорит и он не упал, а сгорел в верхних слоях атмосферы. Но считать, что упала звездочка,— красивей. Вообще, что такое красота, любовь? Почему он думает только о Сюзанне, а не о какой-нибудь другой девушке? И все ли так думают?., я*
68
Отдавшись размышлениям, Митя не заметил, как в дверном проеме показалась серая фигура. Поднялась какая-то, из девушек.
— Пошли,— слышится обиженный, с нотками злости, голос.— Пусть спят.
Девчата встают и уходят. В дверях мелькают четыре фигуры.
Митя лежит с открытыми глазами, стараясь понять, что произошло. Мысли мечутся, разбегаются. Он не знался еще ни с одной из девушек. Не сидел даже наедине на лавочке. Хлопцы хоть танцевали на школьных вечерах, а потом прохаживались по улице...
Парни молчат. Никто не хочет первым отзываться.
— Давайте поспим,— подает голос Шура.— Скоро рассветет. Завтра сами к ним сходим.
— А ты знаешь эту? — спрашивает Вилюга.
— Знаю.
— Как ее зовут?
— Заткнись!—со злостью говорит Шура.— Пальцем тебе показать? Рыцарь!..
Митя захлебывается от смеха. Ответ Шуры ему нравится. Есть что-то мужское, солидное в его словах.
Заснуть не пришлось. На рассвете в гумно забежал лейтенант. Лицо его было встревоженно.
— По домам! — коротко приказал он.
— А как же окопы? — спросил Вилюга.— И половины еще не выкопали.
— Не разговаривать!
Хлопцы быстренько собрали вещи. Красноармейских палаток не было. Безлюдный пригорок желтел кучками песка. Издали казалось, что они нарыты кротами. Стежкой по направлению к местечку шли девчата.
— Прощай! — Первым к Мите подошел Микола Тя- бут.— Тебе нельзя с нами. Мы на большак свернем. Может, какая-нибудь машина подвезет. Здесь мы оставать* ся не будем. Пойдем.— И Микола показал на восток.
Хлопцы по очереди прощаются с Митей...
5
Солнце плывет в безоблачной голубизне, висит над подем легкая синеватая дымка..Жарко, тихо — коси, жни,, хлебороб. Вокруг переезда Птаха — от зеленых усадеб
69
местечка до самого леса — золотистый ржаной простор. Кое-где, на месте недавнего хутора, мелькнет одинокая груша-дичок да высоко задранный журавль забытого колодца. Жаворонок не поет уже; слабо попискивая, бегают по обмежкам маленькие птички, которых называют сыт- ками. Остро пахнет полынью, горьковато-сладкий запах густой, терпкий, как бы настоянный на испарениях разомлевшей от жары земли.
К войне — такая примета живет издавна — всегда урожай. Рожь и теперь как стена, такой не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом. Доспевают буйные овес и ячмень. Вечерами, когда заходит солнце и погуливает ветерок, на поле колышутся, набегая друг на друга, волны. Оттуда доносится тихий, еле уловимый шорох — осыпается рожь.
Днем на поле ни жнейки, ни комбайна. Только кое-где мелькнет белый или синий платочек. Нажав несколько снопов, женщины их здесь же, на подстилках, обивают и уже в полдень идут со своими ношами домой.
Вернувшись с окопов, Митя встретил на переезде Драгуна, агронома из райзо, подвижного, с тонкой талией человека. Рядом с ним понуро ковылял Кузьма Шнапс. Драгун — старый знакомый. Он то проезжал на бричке, запряженной шустрым гнедым коником, держа под мышкой обшарпанный желтый портфель и направляясь в дальние деревни, то трусцой, согнувшись, бегал по полю, ругаясь с бригадиром: Случалось, он забегал и в будку, просил напиться; однажды, возвращаясь из района крепко подвыпивший и, видно, не желая показываться в таком виде дома, даже переночевал в сарайчике на сене.
Оба — агроном и сторож — взволнованны и друг на друга не смотрят. Что-то между ними произошло серьезное.
— Я приказал, а ты делай как знаешь,— говорит Драгун.— Председателя и бригадира военкомат мобилизовал. Их нет здесь. Начальство теперь ты. Я тебе приказал. Ясно?
— Не буду ничего без правления делать,— отговаривался Шнапс.— Я ничего не знаю. Жги сам, если имеешь право. Где это видано, чтоб люди хлеб жгли?..
— Глупый ты, Кузьма. Хоть и старый, а глупый, как сапог. Я тебе только приказал, ясно?.. Не обязательно жечь, поделите хлеб по дворам и быстрей жните. Чтобы
70
немцу не попал. Зерно нужно скорей спрятать, закопать. Неужто тебе не ясно, Кузьма?.. Может быть, завтра уже немцы здесь будут...
Митя стоит на переезде, почти рядом со Шнапсом и Драгуном, слышит весь их разговор, но они его не замечают.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Домик с палисадником, где растут две яблони, несколько кустов сирени, крыжовника, черной смородины, приемщик леспромхоза Август Эрнестович Крамер приобрел три года назад. На это недвижимое имущество пошли все сбережения. Пришлось, конечно, приложить и руки. Обшитый снаружи досками домик с синими ставнями довольно весело посматривал на мир своими четырьмя окнами.
Существовали обстоятельства, которые вынудили Августа Эрнестовича именно в это время и в этом месте обосноваться прочно, навсегда. Когда человеку перевалит за пятый десяток, начнешь думать о пристанище. Что касается места, то район, или, вернее говоря, местечко, где помещалась контора леспромхоза и сам лесосклад, сначала не понравились. Были на свете и более красивые места. В одном из таких — с речкой, пристанью, гудками пароходов — и надеялся поселиться Август Эрнестович.
Но о красоте пришлось забыть. Реки быстро мелеют. Сплавные конторы, в которых Крамер отработал чуть ли не двадцать лет, заготавливая и сплавляя по воде древесину, закрывались. Их заменяли леспромхозы, которые*в любую погоду, из самой далекой глухомани трелюют лес, доставляя его на машинах к франко-складу, к железной дороге.
Район лесной. Он имеет запасы деловой древесины самое малое лет на десять. Больше Август Эрнестович работать и не собирался. До пенсии можно дотянуть и на этой последней должности, не бросаясь, как цыган, с места на место. Так Август Эрнестович стал владельцем домика с синими ставнями.
Потом местечко даже понравилось. Беда помогла. В тридцать восьмом году Крамера арестовали. Причина была нелепая: стоя около прилавка в леспромхозовской лавке, выбирая бритву, он вслух похвалил золингеновские
71
стали. За это держали в тюрьме, допрашивали чуть ли не полгода. Спасибо грузчикам, слыхавшим разговор, и особенно продавцу Змитру Амельченку. Они не сплоховали, не покривили душой и во время следствия очень хорошо доказали, что никакой антисоветской агитацией он, Крамер, не занимался. Всю жизнь будет благодарен Амельченку и этим людям Август Эрнестович.
Совсем новыми глазами смотрел на местечко, на его жителей Август Эрнестович после того, как его оправдали. Конечно, в груди щемило от незаслуженной обиды. После тюрьмы стал еще более осторожным. Кто знает, где оступишься? Но к месту, где пережил горе, прилипаешь душой. Да и район не бедный, в воскресенье на базаре покупай что хочешь: яйца, уток, кур, свиное сало, муку. Никто не запрещает иметь собственного поросенка и даже корову. Через какие-нибудь два года за домиком вырос довольно приличный сарайчик, сколоченный из сосновых горбылей складскими грузчиками. В конце концов Август Эрнестович доволен жизнью. Нигде, в сущности, он так не ощущал ее полноты, как в этом местечке, которое в первое время казалось неприглядным.
На работе Крамера уважают: он хороший специалист и своей репутацией дорожит. На выбракованный и отправленный им лес за все двадцать лет ни разу не пришло рекламаций.
Лес нужен людям не меньше, чем хлеб. Август Эрнестович знает, что некоторые из тех, кто пропускает через свои руки, так же как он, эшелоны древесины, при случае десяток-другой кубометров бросают «налево». У таких за считанные месяцы вырастают домики, видом и размером намного лучше, чем его, добытый честным трудом. Но дармовщины Крамер не хочет. Дармовщина вылезает боком. Покойник отец, который прожил век на лесопильном заводе, помогая наживать капиталы купцу, сыну капиталов не оставил, если не считать наказа: на работе быть честным.
Отец был прав. После революции капиталы купца пошли прахом, да и сам купец исчез без следа. А старый механик Эрнест Крамер служил у советской власти, пользовался с ее стороны уважением.
С людьми Август Эрнестович умеет ладить. Шоферы, грузчики, возчики, экспедиторы из погрузочной конторы ил него не обижаются. В распутицу, по непролазной осен¬
72
ней грязи шофер больше одного рейса не делает. Выпачканный, измученный, он зарабатывает в день не так уж много. Обычное чувство справедливости требует в таком случае принять меры. Ради хорошего дела приемщик Крамер моясет немного натянуть в шоферской путевке километраж (кто проверит длину объездов?). Но у кого просто руки загребущие, тот с Августом Эрнестовичем каши не сварит. Служба — не дружба. Приемщика Крамера считают работником принципиальным, неподкупным, и для этого есть основания.
Новые неприятности для Августа Эрнестовича наступили с началом войны. Все в леспромхозе знали, что он немец, сидел в тюрьме, и временами он ловил на себе брошенные исподлобья колючие взгляды. Он не очень обижался, понимая, что иначе и не могут вести себя люди, на страну которых напали его соплеменники. К счастью, дальше настороженных взглядов не пошло. Репутация его была все же безукоризненной, несмотря на то что он когда-то арестовывался.
Если говорить о самом Августе Эрнестовиче, то этих новых немцев, которые пошли за Гитлером и подняли такой тарарам у себя на родине и во всем мире, он не понимает. Фатерлянд, Германия — святые для него слова, хотя сам он и не стремится туда. Его отец, дед родились, умерли здесь, в России, и даже более далекие предки, согласно семейному преданию, происходят не из Германии, а из Курляндии, которая Германии не принадлежит. Крамер гордится тем, что он немец, в его представлении каждый, кто принадлежит к этой нации, хороший работник, фахман. И когда еще до войны, включив радиоприемник, он слышал не мелодичную немецкую музыку, а какие-то истерические выкрики, барабанный бой, перемешанный с медным ревом труб, ему становилось тошно. Нет, этих, новых немцев он не мог понять. Если бы Августа Эрнестовича спросили о родине, то, даже не задумываясь, назвал бы ею землю, где похоронены его отец, дед, страну, которая давала ему работу и хлеб, которой он сам честно служил. Женился Крамер на немке, но могло быть и иначе, две сестры жены вышли замуж за русских, и он не видел в этом ничего плохого. Он слышал, что те немцы, которые называют Гитлера фюрером, кричат о немецкой высшей расе, которая будет руководить миром. Крамер об этом никогда не думал.
п
Он помнит первую войну, видел Солдат кайзера Вильгельма — особогб впечатления они на него не произвели. Во всяком случае, у него, тогда еще молодого парня с развязанными руками, не возникло желания бежать вместе с ними. Русских он понимал лучше, чем своих соплеменников. В этом не было ничего удивительного: вырос среди них.
Он считал себя деловым человеком, политикой не увлекался, никогда не думал о высоких служебных должностях. Заработок приемщика равняется инженерскому, а иной раз и превышает его. Большего Август Эрнестович не хотел. Мясо, кофе — это он мог позволить себе каждый день. Он мог выпить, если хотелось, рюмку, имел квартиру, обувь, одежду. Что человеку еще нужно? Судьба обидела его только одним: не было детей. Несколько лет жена ходила по врачам, ездила на Курорты, бегала в отчаянии по шептухам, знахаркам. Ничто не помогло. Тогда, в молодом еще возрасте, обида обжигала сердце, было время, когда семейное счастье висело на волоске. Жены, которая не могла родить ему ни сына, ни дочки, он, одна- • ко, не оставил. С годами обиду развеяли, заглушили житейские заботы.
2
Дня за три до прихода немцев Матвеев перетряс в коммунальной квартире Шелега все его пожитки. О той работе, ради которой он остается в местечке, Иван Прокопович решил до поры до времени не говорить жене, и она, испуганная, оскорбленная неожиданным визитом милиции, вечером прибежала в соседский сарайчик, где он уже второй день отлеживался на чердаке.
— Что же это такое, Иван? Что ты наделал? К нам с обыском!
— Успокойся, Надя. Ничего серьезного. Просто я роздал со склада все, что там было. А кому — немцам оставлять?
— Ты сам, своей властью?
— Какая теперь власть? Дураку ясно — сделал правильно.
— А почему трясут?
— Живут старыми представлениями. Блюстителями порядка себя выставляют. Может, кто написал, что я сам руки погрел.
74
Жена ушла — успокоенная, но не убежденная. Он знает, что ее тревожит: для нее не остались незамеченными его ночные отлучки — службой их не объяснишь, приходилось плести что-то о дежурстве в райисполкоме. Жену очень жаль. Прожили вместе без малого двенадцать лет, пять раз переменив за это время местожительство, распродавая небогатое имущество — шкафы, стулья, детские кроватки и даже выращенные женой фикусы. Легче стало, когда его перевели на хозяйственную работу. Здесь, в местечке, они уже три года.
Дождавшись темноты, Шелег вылезает из своего тайника. Хватит маскарада. Идет в квартиру. На кухне занавешено окно, жена сидит у стола, шьет из цветных обрезков маленькой Саше сарафан. Детей уложила спать.
— Ты от меня что-то скрываешь, Иван?
— Перестань, Надя.
— Что-то слишком ты спокоен.
— А что мне — на стену лезть? Как люди, так и я. У меня белый билет.
— Не все, как ты, партийные.
— Остаются и такие. Что у меня, на лбу написано?..
— Но ведь известно, что ты коммунист. Думаешь, не скажут?..
— Что я кому плохого сделал! К тому же, видишь, с обыском приходили. Люди видели, скажут.
— Не понимаю я этого обыска. И прятанья твоего. Вдруг, ни с того ни с сего...
Он смолк, лег, не раздеваясь, на диван. Разговор бесполезный. Жили столько не таясь, друг друга хорошо знают. Жена, видно, догадывается, страдает от неизвестности. Но пусть пока будет так. Так лучше...
Он не выходил из дома еще дня два. На третий утром пришли немцы. Иван Прокопович стоял на крыльце, видел все с самого начала: по улице, поднимая густую пыль, пролетели три мотоциклиста с повешенными через шею черными автоматами. Через полчаса загудели машины, полные солдатни. Офицеры ехали отдельно, в легковых.
Иван Прокопович подался на улицу. Жена копалась в огороде — притихшая, растерянная. Мало кто из мес- течковцев был в это время дома, все в лесу. Там же в загородках стоят коровы, свиньи — подальше от войны.
Поток машин с солдатами, офицерами мчал по главной улице до полудня, вслед за мотопехотой двинулась
75
артиллерия, броневики. Танков не было видно, но и без них бросалось в глаза, что немцы вооружены до зубов — железная лавина катилась безудержно.
Страха Иван Прокопович не чувствовал, его охватило совсем противоположное чувство, оно чем-то напоминало любопытство охотника. Он уже видел немцев — хотелось убедиться, чем эти, которые пошли за Гитлером, отличаются от солдат кайзера Вильгельма. Форма у них немного иная, нет островерхих касок, офицеры в фуражках со впадинами-седловинами и блестящих погонах по-прежнему напоминают горделивых индюков. Солдаты перед ними, как и тогда, вытягиваются в струнку.
Шелегу именно это и бросилось в глаза: немцы без конца друг другу козыряют, пристукивают каблуками, кричат это свое «яволь». Они напоминают игрушечных солдатиков. Но лица их не бессмысленные. Смеются, кричат, играют на губных гармониках, горланят песни. Они воюют с радостью, опьяненные войной. Вряд ли следовало утешать себя тем, что этих веселых солдат с засученными по локоть рукавами, с расстегнутыми воротами мундиров погнали воевать насильно.
Во второй половине дня тупорылые, с огромными радиаторами грузовики, вместительные, с камуфляжем на бортах броневики, тягачи, мотоциклы, конные обозы запрудили все местечковые улицы. Солдаты бросились по магазинам, лавкам, складам, звенело оконное стекло, сбивались замки — все это под хохот, веселые выкрики. Немцы охапками тащили консервные банки, коробки с конфетами, печеньем, флаконы с духами, одеколоном, повязывали на шею шелковые женские косынки. Прямо среди улицы и во дворах задымили кухни, запылали костры, немцы жарили на длинных вертелах кур и гусей, тут же, оставшись в одних трусах, мылись, раскупоривали длинные, с блестящими этикетками бутылки, пили вино, ели. По отношению к местечковым жителям, которые прятались в хлевах и погребах, у них не было ничего враждебного,— наоборот, они как бы показывали широту своей натуры, угощали конфетками детей, подносили по рюмочке женщинам. Это был табор завоевателей, веселый и разгульный.
На площади, перед школой, Шелег встретил Забелу. Мельник стоял на дощатом тротуаре, заложив руки за спину, в старомодном черном сюртуке, в рубашке с ма-
п
нишкой, начищенных сапогах — вылитый купец, который вырядился ради святого дня, но лицо невеселое, хмурое.
— Дождались гостей,— равнодушно бросил он, подавая Шелегу руку.— Сколько наперло их. Сила...
— Техника,— подтвердил Шелег.
— А наша где? Столько кричали, вопили — шапками закидаем. Как в японскую войну. Так ведь тогда дурак царь был. А мы же, умники, самого бога за бороду схватили.
— Германия всегда была промышленной страной. Теперь у немцев чуть ли не вся Европа.
77
— Чужие люди,— махнул рукой Забела.— Пойми, что он лопочет. Смотри, парят, жарят, едят, пьют. Накорми такую прорву. Проглотит тебя и не оближется.
По расчетам Шелега, мельник один из тех, кто хоть в какой-то степени должен радоваться немцам. Но у него нет радости, или, может быть, он скрывает ее, не показывает. Нет, не скрывает. Скорей всего он полон настороженности, этот хитрый, алчный человек. Он уже что-то почуял, и горластая толпа немцев, которые с возами и кухнями разместились на площади, перед школой, не вы¬
78
зывает у него восхищения. Иван Прокопович внутренне улыбается: не знаешь, где найдешь. Меньше всего ожидал он, что в такой день не кто иной, как Забела, его порадует, утешит.
— Мельница исправна. Можно пускать? — спрашивает Иван Прокопович.
— Подожди ты, человек, с мельницей. Здесь день прожил — и то хорошо. Никто не знает, как будет.
И, как бы вспомнив что-то, более ласковым голосом мельник добавил:
— Спасибо тебе. Выручил из беды. Как-нибудь сочтемся, не забуду.
Подал руку и пошел, унося на широком красном лице настороженную озабоченность.
Дома тревожное беспокойство, ожидание. Жена связала в узлы одежду, белье, обед не готовила, сидит, держа на коленях пятилетнюю беленькую Сашу.
— Ты чего?
— Боюсь, Иван. Люди собираются на ночь в лес. Хоть бы эти дни перебыть.
— Никуда не пойдем.
— Пьют эти. Пьяные к женщинам пристают. А что ночью будет?
— Ничего не будет. Не бойся.
На улице шум, музыка, песни, зычные гортанные голоса. Скрипит, прогибаясь под коваными сапогами, дощатый тротуар, суетится солдатня, ревут моторы — вряд ли видело когда-нибудь деревянное местечко такой огромный наплыв чужеземных людей, железа, стали...
Прибегает Павел — босой, ворот рубашки, как всегда, нараспашку; кепка набекрень, усеянное веснушками лицо чем-то обеспокоено. Хочет что-то сказать, переминается с ноги на ногу.
— Папа, немец мне шоколадку дал.
— И ты взял?
— Все брали.
— Где она? Дай сюда.
— Я уже съел.
Отец и мать переглядываются, молчат. Насупленный Павел оправдывается:
— Немцы наше берут. А почему у них нельзя брать?
— Что они у тебя взяли? — сохраняя строгость в голосе, спрашивает Иван Прокопович.
79
— Не у меня. У Рубанихи корову зарезали. Прямо посреди двора. Ей только кишки отдали. Она плачет.
— Не ходи, Павел, туда,— просит Иван Прокопович.— Ты еще мал. Ничего не понимаешь.
— Я все знаю. Немцы нас забрали.
— Неправда. Это просто война.
— Немцы, папа, нас перевоевали? Они сильнее?
— Павел! — кричит мать.— Перестань. Ешь и ложись спать. Сегодня ляжешь раньше.
Павел с минуту колеблется, потом достает из кармана и кладет на стол обойму немецких патронов. Носики пуль с красно-черными ободками. Мать бледнеет. Иван Прокопович озабоченно разглядывает обойму — пули разрывные. Что скажешь сыну? Снять ремень, отхлестать? Не поднимется рука.
— Слушай, Павел. Тебе уже скоро десять лет. Ты перешел во второй класс. Я в твои годы хлеб зарабатывал. Должен понимать... Обещай мне — никогда больше не приносить домой ничего такого. Знай — найдут немцы хоть один патрон, меня в тюрьму посадят. Понимаешь?..
— Мне Сыса дал. У него много.
— Ни у кого ничего не бери. Это пули разрывные. Кинете в огонь — глаза выжжет.
— Я не буду брать, папа.
Швырнув обойму в помойное ведро и присев на диван, Шелег гладит сына по стриженой голове, прижимает к груди. Узенькие плечи, воробьиная грудь, потрескавшиеся ноги, хотя мать каждый день заставляет мыть. Летом сын не признает обуви. Носится в разодранных штанах, купается где попало, однажды до позднего вечера пропадал в лесу. Иван Прокопович не сентиментален, скуп на ласку. Но теперь иначе не может. Напряжение, неуверенность в этой его неумелой ласке. Но и ее достаточно, чтобы в доме наступил мир. К жене возвращаются живость, бодрость.
— Будем обедать. Люди давно ужинают.
Окно занавешено, на столе горит двенадцатилинейная лампа, и, если бы не шум на улице, не эти возгласы и крики, ничто не напоминало бы о том, что жизнь перевернулась и неизвестно, как пойдет...
Когда дети улеглись спать, Иван Прокопович подошел к этажерке с книгами.
80
— Давай, Надя, пересмотрим. Политические нужно припрятать.
Политических чуть не половина. Связали две стопки, Иван Прокопович вышел в сенцы, полез с ними на чердак, осторожно нащупывая ногой ступеньки лестницы. Ощупью добрался до края стены, вытащил из-под низу кирпич. Наган на месте. Про себя улыбнулся: «Сын приволок в дом обойму патронов, отец — наган...»
В фронтоне — окошечко, через него цедится на чердак скупой свет летней ночи, виден кусочек звездного августовского неба. Добрался до окна, посмотрел на улицу. Немцы угомонились, только на площади, перед школой, маячат фигуры патрулей. У околицы, за местечком, пылают костры. Там остановилась какая-то часть, и нападения немцы, видно, не боятся...
з
Домпк Крамера — не на главной улице, и всего потока немецких машин, танкеток, бронетранспортеров, тягачей, тащивших полевые пушки, длинных, похожих на железнодорожные платформы повозок с военной амуницией, всей массы солдат, офицеров, которые проехали или прошли через местечко, он не видел. За все три дня, пока катился этот вал, Крамер ни разу не вышел со двора. Самый злой недоброжелатель, который наблюдал бы эти дни за Крамером, не смог бы сказать, что он ждал немцев или радовался их приходу.
В первый день, когда поток солдатни, техники был особенно густым, напористым, Август Эрнестович сидел дома, ремонтировал ходики. Кое-что он понимает и в часах, и в других механизмах, переняв эту науку с малолетства от отца. Ходики испортились давно, висели на стене без дела больше года. Самому себе не ответил бы он, почему именно теперь, когда внутренне он был неспокоен и не мог быть спокойным, его потянуло взяться за эту работу. Может, просто хотел чем-нибудь занять руки^ или, может, это явилось результатом неосознанного стремления вспомнить полузабытое занятие, которое могло стать профессией, прокормить в трудное, неясное время.
Сдувая, смазывая смоченной в керосине ваткой колесики, шестеренки, он слышал гул моторов, железный лязг гусениц, многоголосые выкрики, смех, обрывки песен. Он
81
ловил себя на мысли, что боится этого гула, этих грлосов, песен, в которых, даже напрягая слух, он ничего не мог разобрать.
- .Наконец поток, не умещаясь на главной улице, хлынул и на боковые. Мимо окон Крамера, поднимая густую едкую пыль, натужно ревя моторами, мчались огромные черные машины с покрытыми брезентом кузовами, они неслись беспрерывно одна за другой.
В кабинах сидели похожие друг на друга шоферы в трикотажных рубашках и серо-зеленых пилотках, чуть не каждый из них держал во рту сигаретку и то и дело сигналил: казалось, хриплыми гудками шоферы хотели оглушить зеленую улицу.
После полудня пошли конные обозы: кони были хорошие, сытые, преимущественно черной и гнедой масти, вьь соко нагруженные фуры с окованными колесами скрипели в разбитых колеях, солдаты-возчики с серыми, запыленными лицами равнодушно смотрели на местечковую улицу с высоты. На выгоне, чуть ли не напротив дома Крамера, несколько подвод остановилось, возчики распрягли лошадей, повесили им на морды брезентовые мешки с овсом. Задымила кухня, солдаты с ведрами побежали по дворам. Один, пожилой, приземистый, с нахмуренным черным лбом, остановился возле калитки Крамера: закрытая со двора на задвижку, она не открывалась, он поддал плечом, и задвижка упала на землю. Испуганная Гертруда Павловна, жена Крамера, выплыла солдату навстречу и заговорила с ним по-немецки. На него это не произвело никакого впечатления. Он попросил луку и чесноку, женщина с несвойственным для ее раздобревшей фигуры проворством метнулась в огород, нарвала полный подол. Солдат даже не поблагодарил — так же угрюмо, неуклюже подался со двора. Гертруда Павловна вошла в дом, бессильно опустилась на стул. Ее широкое одутловатое лицо сердечницы стало белое как полотно.
— Как же с ними жить, боже мой,— шепчет она.
Крамер молчит. Он старается не смотреть в окно, делая вид, что занят колесиками и шестеренками. Давно минуло обеденное время, но за стол Крамеры еще не садились. На улице громко разговаривают немцы, теперь Август Эрнестович разбирает отдельные слова, выкрики, но впечатление такое, что все это — не настоящее, а выдуманное и исчезнет, как сон.
82
Через час солдат, который просил луку, вернулся в сопровождении двух соседок, и снова Гертруда Павловна выскочила навстречу. Она будто птица, оберегающая свое гнездо от непрошеных гостей. Глядя на хмурое, недоуменное лицо солдата, на сжатые губы соседок, трудна понять, кто кого привел: они солдата или он их.
— Павловна, переведи ты ему,— просит высокая худая женщина, которую по-уличному зовут Гага.— Никаких коней нет у нас. А он увидел в сарае хомут и пристал: конь, конь, на хомут показывает. Мол, коня своего я спрятала. Я забыла уже, с которой стороны к этому коню подходить. Еще грозится, живодер, «пуф-пуф», мол застрелю...
Гертруда Павловна, стараясь быть спокойной, объясняет солдату, что лошадей в личном пользовании крестьян нет, что они принадлежали колхозу, а всю скотину погнали на восток...
— Пропаганда! — неожиданно вопит солдат, брызжет слюной, лицо его синеет.— Ты — большевик. Коммунист. Тебя надо расстрелять...
Соседки, не оглядываясь, бросаются прочь, у Гертруды Павловны от страха подкашиваются ноги,— она медленно опускается на крыльцо. Солдат кричит, угрожает, пока из дома не выскакивает Август Эрнестович.
— Я — немец! — гремит он на весь двор.— Вы не имеете права издеваться над моей женой. Она тоже немка. Я буду жаловаться вашему начальнику!
При слове «начальник» солдат становится тише, но через минуту гнев охватывает его с новой силой.
— Ты — дезертир,— показывая пальцем на Крамера, кричит он.— Ты сбежал из армии, я теперь знаю... Тебя нужно арестовать...
Август Эрнестович немеет от замешательства. Хриплым, надорванным голосом солдат выкрикивает страшные угрозы, лицо его все больше синеет, на губах пена. Наконец во двор с улицы заскакивают еще два немца, молча подхватывают солдата под руки — он барахтается, хватая ртом воздух.
Крамер поднимает жену, ведет в дом. Все в нем кипит от возмущения. Снова бросается во двор,— по улице, позванивая котелками, громко переговариваясь, ходят солдаты. Там, около кухни, громкий хохот, кто-то играет на губной гармошке. Ржут лошади. Постояв минутку в нере¬
83
шительности, Август Эрнестович возвращается в дом, запирая за собой двери.
—* Нашла с кем связываться! Разве не видишь — идиоты, пусть что хотят делают. Сиди и носа не высовывай.
— Разве я виновата, Август,— пробует оправдаться жена.— Я же хотела как лучше. Это Гага его привела.
— Моя хата с краю. Знать ничего не хочу. Я ел хлеб с мозоля. Честно работал. Это не может быть виной. Мы русские, а не немецкие подданные, чтобы нас обвинять. Ещ« все может быть. Не такие слабые Советы. Большевики, не думай, так легко не уступят. Немцы и в восемнадцатом году приходили, а потом убегали без оглядки...
В эту минуту Крамер искренне желает, чтобы зеленый сброд, заполнивший местечко, покатился назад, на запад. Он совсем не думает теперь о том, что он немец, что те, кто с видом победителей ходят по улице,— его соплеменники.
— Идиоты! — нервно шагая из угла в угол, бормочет Август Эрнестович.
В дверь кто-то стучит. Жена подхватывается с постели, бросается к окну.
— Прячься,— шепчет она.— Опять вернулись. Они заберут тебя. О боже...
Прятаться в своем доме Крамер не хочет. Вытаскивает из потайного кармана бумажник, достает паспорт. Незнакомым, ломким голосом, не открывая двери, жена разговаривает с тем, кто стоит на крыльце. Наконец в чистую комнату заходит солдат — ие тот черный, который угрожал, а другой, в ладно скроенном мундире, лысоватый, с открытым, приветливым лицом. Гертруда Павловна стоят у него за спиной, делая мужу немые знаки — молчи...
— Прошу прощения,— начинает солдат, снимая пи- лотку.— Вам один наш сделал неприятность. Не обра- щайте внимания, он, как бы это вам сказать... Ну, ие совсем нормальный. Понимаете, два года на войне, контузия. Его и в обоз поэтому перевели. Извините, вы немец?
— Садитесь,— по-немецки отвечает Крамер.
Солдат садится на стул, пилотку кладет на колени.
— Просто досадная случайность. Обер-лейтенант послал меня к вам. Мы не хотим, чтобы вы плохо думали о немецкой армии. Я ротный писарь. Фельдфебель Барав- ске...
84
Фельдфебель встает, прищелкивает каблуками.
Крамер называет себя.
— Вы имели дело с лесом? О, у нас с вами близкие профессии. Я помощник лесничего. Работал в государственном заповеднике. Это были чудесные годы...
Фельдфебель действительно кажется интеллигентным человеком, говорит искренне, явно стараясь понравиться хозяевам, и у Августа Эрнестовича становится легче на сердце. В конце концов, он преувеличивал страхи. Немцы всегда были культурной нацией, это признано всеми. А что касается наскоков того сумасшедшего, то в семье не без урода. Война...
— Русские притесняли вас, издевались? — спрашивает фельдфебель.— Они же знали, что вы немец?
Хозяин в замешательстве. Ему хочется угодить гостю, такому вежливому, доброжелательному, тем более что его вопрос как бы таит в себе и ответ, который он должен дать. С другой стороны, он не хочет врать. Поэтому Август Эрнестович от прямого ответа уклоняется.
— Понимаете, было всяко. К счастью, все хорошо кончилось. Я маленький человек, специалист. Политикой не занимался. Вообще русские ценят специалистов, независимо от того, кто они.
— О, мы вас оценим лучше. Вам дадут высокую должность.
Снова Август Эрнестович в замешательстве. Солдат пришел и уйдет, а ему здесь жить.
— Поздно в моем возрасте гоняться за чипами. Кому нужны немолодые, больные люди?
— Вы еще совсем молодой,— говорит фельдфебель серьезно.— Такие люди очень ценны. Вы хорошо знаете местное население, и ваши услуги будут очень полезны.
Выручила жена. Она внимательно прислушивалась к разговору, ежеминутно делая разные предостерегающие знаки, но, видя, что одному ему из беды не выбраться, пришла на помощь.
— Поужинайте с нами, господин офицер. Извините, это так все неожиданно. Мы не думали, что будет такой гость.
— Не беспокойтесь. Немецкий солдат всегда сыт.
Лысоватый фельдфебель, которого назвали офицером,
поднявшись со стула, скромно отошел к окну, а Крамер
85
проворно взялся помогать жене. Скоро стол был застлан белой скатертью, а на нем появилась достаточно богатая и разнообразная закуска. Август Эрнестович радуется: жена — хороший политик, подготовилась заранее. Перед гостем положили, достав из комода, серебряную вилку, нож. Картину благожелательного хлебосольства завершили три пузатых графинчика с разными по цвету настойками и наливками, а также бутылка русской горькой.
Гость поражен. Окинув взглядом стол, растерялся. На лице его противоречивые чувства: радость, удивление и одновременно нечто похожее на страх. Возможно, ротный писарь боится, что его принимают не за того, кем он является.
— Айн момент,— наконец говорит фельдфебель и четким военным шагом выходит во двор. Со двора на улицу. Что-то пишет мелом на воротах. Вернувшись, весело говорит:
— Орднунг. Квартира занята для командира транспортной роты обер-лейтенанта Биндера. Вы будете довольны. Это чрезвычайно почтенный, уважаемый человек. Он поехал вперед, но завтра вернется...
Хозяин с женой переглядываются. Если бы гость был немного проницательней, он увидел бы, что его слова их не обрадовали. Видно, они не находят ничего приятного в том, чтобы угождать постояльцу.
Пить фельдфебель боится. Сидит, разговаривает. За весь вечер выцил по рюмке выставленных на столе напитков и даже от этой малости вышел пошатываясь.
Ночь прошла спокойно, но ни Август Эрнестович, ни Гертруда Павловна долго не могли уснуть. На рассвете их разбудил настойчивый стук в дверь. Вошел вчерашний фельдфебель с огромной, жестяной банкой в руках.
— Мой подарок вам. Здесь наш солдатский мед. Обер- лейтенант Биндер жить у вас не будет, к сожалению. Мы пойдем вперед. Война — ничего не сделаешь. Ауфвидер- зэйн...
Поставив на стол банку, взял под козырек, пристукнул каблуками, и, по-военному круто повернувшись, вышел. Гертруда Павловна метнулась было вслед, хотела дать что-нибудь гостю на дорогу, но тот деликатно отказался.
■— Какой культурный человек,— вздохнула жена.— Вежливый, простой.
86
Август Эрнестович молчит. Спустя несколько минут он чуть не задыхается от гнева. Двое солдат с засученными рукавами волокут во двор, держа на плечах, на длинной жерди, окровавленную коровью шкуру. С хозяйским видом развешивают на заборе.
— Фельдфебель приказал принести вам,— говорит Крамеру один солдат.— Здесь материала на хорошие две пары сапог.
' Август Эрнестович хотел отказаться, хотел сказать, что никто в местечке шкур не выделывает, что сапоги у него есть и в новых он пока нужды не имеет, но у него просто не хватило отваги вымолвить эти слова. Он стоит, смотрит на улицу — по ней уже двигается длинная вереница накрытых брезентом возов, храпят взнузданные гладкие кони, позади последнего воза, подскакивая на выбоинах, едет воинская кухня.
Жена притихла. Она тоже понимает, что с этой шкурой вышло скверно. Нет сомнения, что корову солдаты зарезали, отобрав у кого-нибудь из жителей. Но теперь, когда шкура висит во дворе, так или иначе тень падает на них, Крамеров. Люди могут подумать, что это они подсказали солдатам, у кого забрать корову. И вообще, зачем им наживать врагов в такое лихое, неустойчивое время?
Когда в полдень улица опустела от подвод и автомашин, Август Эрнестович вынес шкуру со двора, бросил ее на выгоне. До самой ночи, грызясь между собой, ее таскали, разрывая в клочья, собаки.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Если смотреть на станцию издалека, глаз не обнаружит никаких особенно заметных перемен. Кажется, все осталось на старом, прежнем месте. Жмутся друг к другу покрашенные желтой краской пакгаузы, служебные помещения, высится кирпичная башня водокачки, еще выше поднялись развесистыми кронами столетние серебристые тополя. Деревья огромные, в три обхвата,— именно они придают станции уюгный вид и будто зовут путника, идущего к местечку, под свою пленительную тень...
Это издалека. Вблизи станция выглядит неприветлива. С телеграфных столбов свисает оборванная проволока, на
87
железнодорожном полотне — воронки от бомб; искореженные, задранные, будто полозья саней, рельсы; опрокинутый товарный вагон. В зале ожидания, буфете, комнате дежурного ни одного стекла, двери настежь, ветер гоняет по перрону обрывки служебных бумаг. Прошла только неделя с тех пор, как железнодорожный люд оставил свои ежедневные, незаметные для непривычного глаза заботы, но печать великого запустения легла на все. Станция мертвая...
Через неделю после того, как пришли немцы, у железнодорожников кончился хлеб. Прежде по сравнению с остальными жителями местечка они были в привилегированном положении: имели собственную лавку, пекарню.
Людей осталось на станции не более половины. Машинистов, дежурных, составителей — всех непосредственно связанных со службой движения — эвакуировали еще тогда, когда не был взорван мост на Днепре. Немного позже двинулась на восток пешком еще одна группа. Но в пути ее перехватили немцы.
По утрам около железнодорожной лавки по старой привычке собираются мужчины, преимущественно те, кто живет в станционных домах. Сидя на дощатом крылечке, лениво переговариваются, курят самосад, то и дело цвиркая горькой слюной. В лавке открыты окна и двери, на полу битое стекло, стружка и совсем ненужные теперь большие весы, которые всегда мешали людям, толпившимся в очереди. Те обыкновенные, килограммовые, которые стояли на прилавке, кто-то утащил.
Никакой власти в местечке нет. Волна немецкого наступления схлынула, двинулась дальше, на юг и восток, оставив после себя разграбленные магазины, лавки, склады, разрушенный памятник Ленину на центральной площади. Вечерами еще доносятся приглушенные звуки далекой канонады, но днем ничего не слышно.
Сегодня железнодорожники возбуждены.
— Муки оставалось еще две тонны,— глядя в землю, говорит хмурый путеец Кардаш.— Я хорошо знаю. Немцы ее не забрали. На черта им. Печеный хлеб жрут.
Маленький, с острым личиком стрелочник Гулик сыплет словами как из мешка:
— Беги догони немцев. Пожалуйся, что Денисевич муку заграбастал. Ему хватит. Две тонны — это сто двадцать пудов. И свиньям хватит.
— А что тут1 жаловаться,— злобно возражает Кар- даш.— Кто такой Денисевич, чтоб перед ним шапку снимать?.. Прижать, как гниду, к ногтю — отдаст.
— Сволочь, наел пузо.
— Хочет на чужой беде в рай выехать...
— Что тут говорить, мужчины. Пойдем — все барахло перетрясем.
— Я его вот этими руками задушу. Не пикнет...
— Нечего тары-бары разводить. Пошли в пекарню
— Никуда не денется, если постращать. Пусть хлеб печет или мукой отдает.
Мужчины — их около лавки человек двенадцать — поднялись со ступенек крыльца, всей толпой двинулись к пекарне. Гулик впереди — мелко перебирает ножками в стоптанных, с кривыми задниками ботинках, чтоб не от* стать от быстро шагающих мужчин. До пекарни дошли за считанные минуты. Во дворе пусто. Никаких следов погрома не видно. Ставни закрыты, на них железные задвижки. Только дверь пристройки, в которой хранилась мука, сорвана с петель, стоит, прислоненная к стене. Тут же на траве разбитый замок.
— Смотрите, что он наделал, шкура! — нервничает Гулик.— Замок свернул. Чтоб тебе морду свернуло.
— Хочет, чтоб концы в воду...
— Мол, я не я и хата не моя...
— Пошли, мужчины, трясти...
— Мы у тебя из-под земли достанем!
Еще более возбужденная, полная злости толпа направляется к усадьбе заведующего пекарней Денисевича. Она недалеко, наискосок через улицу виден огороженный высоким забором двор, а в глубине его — крытый красной черепицей домик. Денисевич — приземистый, лысый, с хитрым, вытянутым, как у хорька, лицом — будто специально ждал гостей, сам выходит на улицу со двора.
— Давай муку! — еще издалека кричит Гулик и трясет поднятыми над головой кулачками.
Слов Гулика Денисевич как бы не слышит.
— Вы ко мне, мужчины? Я и сам приходил на станцию, думал — может, кого увижу...
— Украл муку,— захлебывается Гулик.
— Стихни.— Хмурый Кардаш дергает сзади стрелочника за ворот.— Как будет с хлебом, Денисевич? Мы знаем, что мука осталась. Немцы ее не забрали.
89
Толпа стоит посреди улицы, напротив двора Денисе- вича.
— Мука в сохранности, мужчины. Только не вся. Кто- то разбил замок, шесть мешков вытащил. Разве в такое время доглядишь? Остальные я домой перенес.— Денисевич окидывает быстрым взглядом мужчин,— Двенадцать мешков.
— Это сколько будет, если на вес? — допытывается Кардаш.
— Около тонны.
Гулика трясет как в лихорадке.
— Слышите, мужчины, слышите, Около тонны. Этот злодюга больше половины украл.
— Щенок ты! — Подняв кулаки, рассвирепевший Де- нисевич наступает на Гулика, тот прячется в толпе.— Поганый язык твой вырву. Ты видел, когда я крал?
Кардаш хватает заведующего за руки:
— Перестань. Спокойно нужно. Мы знаем, что было две тонны. Можно накладные проверить.
— Какие вам накладные!—тяжело дыша, кричит Денисевич.— Разбитый замок видели? Я вам не сторож... Скажите спасибо, что остальное припрятал. Берите по мешку — и концы в воду. Мне самому надоело с этой мукой валандаться.
Гулик вопит на всю улицу:
— Радуйтесь!.. Берите объедки и еще кланяйтесь в пояс ворюге. Он для вас милость сделал... Мы из тебя кишки выпустим, мурло!
Денисевич вырывается, бросается на Гулика, схватив за грудь, трясет. Голова стрелочника мотается, как у неживого.
В эту минуту слышится приглушенный гул мотора. Драка замирает. Денисевич испуганно отскакивает от Гулика. Мужчины смолкают, оглядываются. От переезда, окутанная клубами серой пыли, мчится легковая машина. На полном ходу она проносится мимо толпы, но метров через сто останавливается, разворачивается посреди улицы, подъезжает к мужчинам. Из лакированного «оппель- капитана» вылезает худощавый немецкий офицер. За ним вылезают еще двое, видно пониже чином, так как идут следом за офицером, держась на два-три шага сзади.
90
Офицер подходит к мужчинам. На голове у него выгнутая седловиной фуражка с орлом, с блестящим черным козырьком, на груди, на мундире, разные немецкие регалии, и удивительно, что этот человек из другого, чужого мира начинает говорить на чистом русском языке.
— Зачем собрались, господа? — улыбаясь, спрашивает офицер.
Мужчины молчат, переглядываются.
— Если не ошибаюсь, вы железнодорожники. Специфический запах...
— Есть нечего. Собрались, чтоб поделить муку. Мука наша, из железнодорожной пекарни.
Офицер обводит насмешливым взглядом настороженные лица мужчин.
— Вы работаете уже?
Кардаш, видя, что никто не осмеливается говорить, отвечает за всех:
— Какая, пане, работа? Ваши же самолеты разбомбили станцию. Теперь и за год железную дорогу не пустишь. Ни мостов, ни рельсов...
Офицер довольно переминается с ноги на ногу.
— Ну, на то была война, которая для вас уже окончилась. Благодарите немецкую армию — это она вернула вас к мирной жизни. Теперь нужно работать. У нас, у немцев, такое же правило, как и у вас, русских: «Кто не работает, тот не ест». Так что, прежде чем делить муку, нужно ее заработать. Власть теперь немецкая, и мука, естественно, принадлежит немцам.
— Нет у нас никакой власти,— сказав это, Кардаш растерянно передернул плечами, подавшись немного назад, в толпу.
Офицер улыбается:
— Начиная с сегодняшнего дня она будет. Я для того и приехал. Между прочим, кого бы вы посоветовали на пост бургомистра? Бургомистр — это, если пользоваться советскими понятиями, нечто вроде председателя райисполкома. Но о Советах забудьте, господа. Немцы — народ серьезный и игру в демократию не любят. Демократия — это анархия, беспорядок. Большевики потому и проиграли войну, что не смогли навести в стране порядок. Бургомистром должен быть преданный нам человек. Он будет отвечать за порядок.
91
Железнодорожники слушают. «Господа, бургомистр...» Странными кажутся им эти старые, вылинявшие слова. Как бы со дна давно минувших дней встает что-то забытое, о чем перестали думать, что развеяло, исчезло из памяти, как сон.
— Пан офицер,— осмелев, спрашивает Кардаш,— ответьте нам вот на что. У вас же, немцев, тоже есть рабочие. У рабочего человека одни руки. Он ими работает. Но и рук не поднимешь, если не поешь. Вы заняли нашу землю. Теперь ваша власть. Так сначала харч дайте, а потом спрашивайте работу. Нам нужно семьи кормить. Как же работать, если живот пустой? Ну хорошо — у нас пока картошка есть. А кончится — что тогда?
Офицер недовольно поводит плечами, мрачнеет его продолговатое выхоленное лицо. Те, что стоят у него за спиной, настораживаются, подступают ближе к начальнику.
— Вы не оттуда начинаете, господа. Германия ведет войну, ее ресурсы исключительно напряжены. Она теперь не может дать вам хлеба, но работу будет требовать. Каждый, кто в военное время уклоняется от работы, будет рассматриваться как саботажник и расстреливаться. Таковы законы войны. Для обеспечения населения, которое работает, продуктами питания, ну хотя бы хлебом, должна быть использована часть местных запасов. Остальное пойдет для целей войны. Регулировать вопрос с хлебом должна местная администрация. Военное командование, представителем которого я являюсь, такими вещами не занимается. Вот поэтому я вас и прошу назвать человека или нескольких, из которых одного мы назначим бургомистром...
Гулик, все время стоявший молча, оживает. Из толпы слышится его тонкий, взволнованный голос:
— Нет у нас таких. Где тут кого найдешь. Сбежали начальники...
Но неожиданно вперед выходит Денисевич. Он тоже волнуется — голос дрожит, срывается.
— Можно найти, почему же... Взять хотя бы Крамера. Он ваш, немец. В тюрьме сидел при большевиках. Может подойти.
Офицер сразу заинтересовался:
— Где живет этот Крамер? Покажите мне. Мы можем поехать на машине.
tl
Но Денисевич уже не рад, что выскочил: переминается с ноги на ногу, чешет затылок. Хитрые заплывшие глазки испуганно бегают.
Показывая пальцем на Денисевича, офицер повышает голос:
— Вы садитесь в машину. Рядом с шофером. Я вам приказываю... А вы, господа,— это уже к железнодорожникам,— по домам. Германия не любит, как это у вас называется... митингов, сборищ. Немцы — деловой народ...
Когда машина, в которую втиснулся Денисевич, отъехала, железнодорожники еще несколько минут стояли, растерянно поглядывая друг на друга.
. — Вот и поделили муку! — воскликнул Гулик.— Наелись хлеба. Деньги ваши стали наши. Слыхали, как подсек?.. Этот в лапти обует. Зубы на полку положишь.
— Денисевич и при немцах погреется, будьте покойны. Смотри, выскочил.
— Однако и немцы! Хлеба не дадим, а работать заставим. Слышали?
— А ты лучшего от них ждал? Пряников тебе навезут?..
— Чирей им в бок, а не работы. Залягу на печь, так ни один доктор не поднимет.
— Еще все может быть, мужчины.— Хмурое лицо Кардаша стало совсем мрачным.— Семейные как связаны. Не на добро здесь остались. К своим не прибились, и немец не брат.
Притихшие, растерянные мужчины начали расходиться.
2
Нашествие схлынуло. Август Эрнестович стал спокойнее. Несколько вечеров слыхал он далекую стрельбу, в душе радовался: может быть, большевики вернутся, все пойдет по-прежнему. Ей-богу, ему не нужны немцы, никакая они не родня. Но война покатилась дальше. В местечке тихо, как будто никому оно и не нужно...
Постепенно Крамер обретает необходимое душевное равновесие. Он тешит себя мыслью, что смог удержаться в стороне. Да и не в его годы бросаться в этот дьявольский водоворот, в котором так легко потерять голову.
93
Он, даже будучи молодым, не бросался. Золотое правило: тише едешь — дальше будешь.
.Впервые за все последние годы Крамер с наслаждением отдается чувству самостоятельности, независимости, которое пришло с концом его службы. С утра до вечера ходит по двору — доску прибьет, ветку обрежет на вишне. Главное — как-нибудь добыть сена. Будет сено корове — можно зиму прожить без забот. Картошка есть, мукой жена, будто зная все наперед, запаслась.
Когда возле ворот остановилась легковая машина и из нее вылез немецкий офицер вместе с толстым заведующим железнодорожной пекарней Денисевичем, Август Эрнестович почувствовал, что у него внутри что-то оборвалось. Как на беду, нет дома жены, пошла к знакомой. Денисевич сразу исчез, словно и не было его; высокий, с тонкой талией офицер в сопровождении двух солдат входит во двор.
— Вы Крамер?— спрашивает офицер по-немецки.
— Да, господин офицер.
— Это ваш дом, усадьба?
— Да.
— Вы фольксдойч?
— Немец.
— Фольксдойчами мы называем немцев, которые живут за пределами Германии. Что ж, приглашайте в дом.
— Биттэ.
Солдаты остаются во дворе, офицер идет вслед за хозяином, вытирает в сенях ноги, войдя в зал, снимает шапку, кладет на стол. Обводит взглядом комнату, остановившись на стопке книг и справочников по лесному делу, которые лежат на верхней полочке самодельной, из лозовых прутьев, этажерки. Зал в доме Крамеров только дощатой тонкой перегородкой отделяется от спальни, на раскрытых дверях которой висит салфетка с вышитым на ней немецким изречением. Офицер и это замечает, улыбается. Потом, не спрашивая разрешения, садится в крес-1 ло. Хозяин стоит.
— Вы при большевиках сидели в тюрьме. Интересно, за что?
Август Эрнестович растерян. Откуда офицер это знает? Он будто проглатывает звуки, целые слоги, так. что не сразу его поймешь. Солдат, фельдфебеля понять было легче.
94
— Это была ошибка, господин офицер. Я человек маленький. Мне пытались приписать то, чего я не делал.
— Ну, а что именно?
— Однажды я был неосторожен. Сказал при людях, что качество немецких товаров самое лучшее.
— Что ж, похвально. Вы патриот. Скажите, в этой местности кроме вас есть немцы? Я имею в виду мужчин,
— Не знаю хорошо, пан офицер. Русские этим мало интересовались
Офицер с минуту молчит, барабанит пальцами (на указ зательном — большой черный перстень) по застланному
95
белой скатертью столу, затем, будто что-то вспомнив, отчетливо произнося слова, говорит:
— Я из службы тыла. Обер-лейтенант Линдау. Маркграф. Маркграфы в Германии — старинные родовитые фамилии. Своей властью назначаю вас бургомистром этого района. Вы теперь гражданская немецкая власть. Это большая честь для фольксдойча. О вас высокого мнения местное население. Я учел пожелания жителей. Поздравляю вас, господин Крамер...
— Господин офицер, я не хочу...— У Августа Эрнестовича кружится голова, во рту пересыхает, заплетается язык.
96
— Господин Крамер, немец не говорит «не Хочу». История возложила на; нашу нацию великую миссию. Фюрер Адольф Гитлер ведет немецкий народ к тысячелетнему счастью.
— Не моГу я, господин офицер. Я слабый, больной человек.
— Каждый в меру своих сил должен служить отчизне.
— Не буду я бургомистром, господин офицер! — почти кричит Август Эрнестович, в отчаянии прижимая скрещенные руки к груди.— Я русский, а не немецкий подданный. Не имеете права...
Офицер смотрит на Крамера неподвижными, стеклянными глазами — блеск их холодный, жесткий, у него судорожно дергаются щека и левое веко, лицо бледнеет. Поднимается с кресла, говорит тихо, с ударением:
— Благодарите судьбу, Крамер, вам попался благородный человек. Я про себя говорю. В современной Германии так, как я с вами, мало кто разговаривает. Вы заметили, я даже не спросил о вашей профессии, о том, коммунист вы или нет....
— Я не коммунист, господин офицер...
— Это не имеет значения. То, что вы сказали, вас выдает. Большевистские настроения у вас сильные. Выкиньте их из головы. Забудьте все прежние представления, Большевизм полностью доказал свою нежизненность. Русское государство тоже. Ни большевистской России, ни какой-нибудь иной фактически нет и уже не будет. Россия побеждена. Здесь теперь Германия. Вы теперь немецкий подданный.
Голос офицера строгий, поучающий, лицо хмурое, и Крамер перед ним как ученик, который сильно провинился. Они оба стоят, оба немолодые, только офицер подтянутый, моложавый с виду, а у Августа Эрнестовича покатые плечи, немного сутулая спина и лицо исполосовано морщинами.
— Вы меня не так поняли, господин офицер. Я нико^- гда не занимал высоких постов.
— Теперь будете занимать. Поймите меня правильно'. Территория, занятая немецкой армией, будет очищена от, нежелательных, большевистских элементов. Вы еще не знаете, что такое гестапо. Скажу искренне: я не могу поручиться за дальнейшую ваШу судьбу в том случае, если
97
вы откажетесь стать бургомистром. Посмотрите на все со стороны — единственный в районе немец отказывается от должности, которую предлагает ему немецкая армия...
— Что я могу один сделать? — чуть не плача говорит Август Эрнестович.— Пожалейте меня, господин офицер. Я могу работать, служить у вас, но не бургомистром.
— Странный вы человек.— Голос офицера заметно смягчается.— Первый раз такого встречаю. Кто вам сказал, что вы здесь будете бдин? Через неделю-две у вас разместится гарнизон, жандармерия, гражданские немецкие власти. Понимаете, бургомистр — представитель .местной, общественной власти. Где возможно, на эти посты мы ставим немцев. Мы им больше доверяем. Это высокая честь. Вас просто запугали большевики, господи” Крамер. И вам нечего отказываться. Кто бы сюда ни приехал, если вы в районе единственный немец, он обратится к вам. Мы, немцы, должны держаться вместе. Это же так просто. Если вы откажетесь, тогда вы не наш, мы забудем, что вы — фольксдойч...
Как еще мог обороняться Август Эрнестович? С холодеющим сердцем, проклиная день, когда его занесло в эти места, он согласился. Через несколько минут один из солдат, сопровождавших офицера, внеся в дом пишущую машинку и поставив ее на стол, выстукал ему служебное удостоверение. Он же подал офицеру штемпельную коробку, печать. На бумаге красовался традиционный немецкий орел со свастикой в когтях и рядом с печатью крючковатая, неразборчивая подпись Линдау, маркграфа, обер-лейтенанта службы тыла.
Гертруда Павловна, возвратясь вечером домой, рассудила иначе: положение совсем не такое безвыходное и трагичное, как обрисовал его Август Эрнестович.
— Ну правда, Август, кого же, кроме тебя, они могли назначить? Ты же не кто-нибудь...
Поцеловав мужа в лысину, она весь вечер вздыхала, жалея, что не пришлось угостить высокого гостя.
3
Сентябрь — мягкий и тихий. Местечковны дожинают осыпавшиеся рожь, ячмень и овес, косят порыжевшие травы, копают колхозную картошку, теперь поделенную на полоски.
4 И. Науменко.
98
Медленно меняют зеленый убор на желтый и мед- но-багровый кусты орешника п волчьей ягоды, молодые осинки и березки, которые около телеграфных столбов, на полосе отчуждения имеют право расти только до тех пор, пока не достанут верхушками проводов. Дремлет поле, уставленное редкими крестцами. В молчаливой задумчивости стоит на кургане сосна. Теперь, перед осенью, когда солнце не такое щедрое, а ветры с дождями совсем близко, она еще зеленее. *
Фронта уже недели две не слышно. С востока на запад и с запада на восток с утра до вечера пыльным большаком и железной дорогой идут люди. Это окруженцы. беженцы и пленные, которым посчастливилось вырваться из лагерей. Они идут измученные и безразличные ко всему. Некоторые сворачивают на переезд напиться.
Степан Птах с семьей в будке. Железная дорога бездействует. Птах теперь ничего не охраняет, но выбраться из будки некуда.
Однажды, теплым вечером, Кузьма Шнапс свалил около переезда воз соломы.
— Степан! — крикнул во двор.— Выйди...
Птах вышел, поздоровался, и они с Кузьмой, закурив, присели на перильцах переезда.
— Как живешь?
— Живу. Только керосина за эту солому тебе не дам. Нет керосина. Могу заплатить деньгами...
— Ай, иди ты, человече,— замахал руками Шнапс.— Какие у тебя деньги. Что за них теперь купишь? Бери солому — и все. Я еще подвезу, если нужно...
— Деньги есть, зарплату наши вперед выдали, как отступали. Двести рублей за месяц...
— Война... Намучается народ. Неисчислимая у немца сила. Я ту войну видел, в плену у них был, но такого не было. И что будет?..
— Мы все теперь в плену,— грустно улыбнулся Птах.— Куда податься, за что зацепить руки? Чем жить? Ты хоть коняку раздобыл, картошки накопаешь, а я? Клади зубы на полку. С моих пролетов семейку не прокормишь.
— Рабочему классу трудней,— соглашается Кузьма.— Я это всегда говорил. Может, только и немец вам что-нибудь платить будет, как железная дорога начнет работать. Паек, может, даст?..
99
— Так ведь это же под ихней властью работать. Лопнет она, а тогда что? Неужто наши так легко уступят? А вернутся, по головке не погладят... Скажут: «Мы кровь проливали, а ты немцу помогал. Враг...» Вот увидишь...
— Все может быть,— вздыхает Шнапс.— Прольется еще русской крови. Эти немцы не такие, как в ту войну. И те на пленного, как на скотину, смотрели. Вот тебе гнилая брюква, картошка, но работай. Подыхай, а работай... А эти, кажется, еще хуже зверье. Что будет еще, что будет? А-я-яй!..
— И почему наши отступили? — со злостью говорит Птах.— Столько везли этих пушек, танков, и как в прорву все. Если бы хоть глаза мои не видели. А то день и ночь, день и ночь везли — ас одними винтовками тикали. Крику столько было: враг границы ие переступит, задушим, забросаем шапками. А пришлось: побежали, народ на мученье оставили. Если ты уж так кричал, если ты такой смелый, то землю грызи, а не отступай. Винтовка, она же стреляет, так чего же ты с нею тикаешь? Кого ты немцу оставляешь: отца своего, мать, семью?..
— Недосмотрели чего-то. А может, и предательство? Мы на Мазурских озерах немца погнали, а генералы, те, которые царю будто бы служили, в ловушку завели. Закрыли дверку — и все, пей ржавую воду, грызи землю. Землю грызя, не навоюешь, ум нужен. О-е-ей, что еще будет!
О чем могут говорить два человека, один из которых не знает, добудет ли он завтра кусок хлеба для семьи, а другой все пережил, все видел, но не утратил еще привычки всем интересоваться и всему удивляться. О войне, которая более всего горя несет тому человеку, который ест свой хлеб с мозоля, о том, что в такой заварухе человек сам себе не хозяин и его будет швырять, как щепку в море...
— Вот что, дядька Кузьма,— ломким голосом просит Птах.— Дай ты мне своего коня. Присмотрел я в лесу пару сосен, так, может быть, привезу. Кто его, тот л^с, теперь стережет?.. Может, как-нибудь хатку сложу. Немного запасся лесом, но еще маловато. Хотя бы стены вывести. Я потом тебя отблагодарю...
— Отблагодаришь, человече, отблагодаришь. Зачем об этом говорить? Разве я не вижу? Бери коня, я и сам помочь могу. Когда хочешь, бери...
4*
100
— Ну, спасибо, дядька, выручил из беды. Мне теперь эта будка как тюрьма...
Над полями, над лесом, над железной дорогой плывет мягкая осенняя тишина. Не слышно ни взрывов бомб; ни далекой стрельбы — война отошла далеко...
4
Домик, в котором живет Саша Плоткин, ветхий, старый, но со всеми атрибутами местечкового благообразия и даже шика — покрашенные в желтый цвет ставни, высокое крыльцо, фронтон с окошечком. Стоит он в тихом переулке, под сенью тополей. У самых окон разросся куст сирени. Митя чаще всего приходит сюда, к Плотки- ну. Хлопцы, которые подались на восток, далеко не ушли, война переняла их, пригнала домой. Микола Тябут забился куда-то в щель и носа не показывает, с Вилюгой и Гар- наком Митя не очень знаком. Поэтому, если выдается свободное время, он идет сюда и уже вместе с Плоткиным—к Примаку. Новые знакомые, с которыми в девятом классе учился Митя всего два месяца, теперь единственные друзья.
Плоткин — молчаливый, скромный, с живыми умными глазами. Живет Саша с матерью и младшей сестрой. Ему отведена комнатка-боковушка, отделенная от горницы фанерной перегородкой. В этой теплой, уютной боковушке Митя с Плоткиным играют в шахматы.
Мать шьет — работы ей хватает и теперь, однотонно, с короткими перерывами стрекочет ножная швейная машина, за окном пасмурно, мрачно, осыпается с тополей желтая листва. Хлопцы переставляют фигурки и молчат. Говорить не о чем.
Временами они перелистывают или перекладывают с места на место книги. Книг у каждого из них теперь пропасть, молено считать — целая библиотека. В то время когда местечковые хапуги волокли из магазинов и складов все, что осталось после немцев, хлопцы ринулись в библиотеки. Там тоже похозяйничали охотники поживиться: столов и шкафов не было, книги горой лежали на полу. Можно выбирать что хочешь. Несколько дней подряд Примак, Плоткин и Митя приходили то в районную, то з школьную, то в библиотеку бывшей лесной школы,
DC1
наиболее богатую редкими, еще дореволюционными из- даниями. Книги носили домой мешками.
У Мити — да и у хлопцев тоже все русские классики, много.иностранных, словари, энциклопедии и вообще все, что казалось им лучшим в трех местечковых библиотеках. До войны о таких книгах можно было только мечтать, а теперь — сиди и читай. Но не сидится, и не читается...
В местечке глухо как в склепе. Слухи невероятные, неизвестно, кто их пускает, но они разносятся быстро, от человека к человеку, сбивают с толку, рождают тяжелую, невыносимую тоску. Говорят черт знает что — немцы захватили Москву, Ленинград, приближаются к Уралу. В это невозможно поверить, с этим нельзя согласиться, хотя бы какой-нибудь просвет, хотя бы один человек сказал утешительное слово. Слышишь только одно — наши от* ступают...
К Примаку хлопцы наведываются, чтобы узнать что- нибудь новое. Он живет в городке — так называют поселок, который возник в самом центре местечка. Дома здесь новые, хоть и разбросанные в беспорядке. Большинство этих особнячков до последних дней пустовало, хозяева выехали с семьями. Теперь их занимают люди, которые неизвестно откуда выплыли,— начальник полиции, полицейские. Новая власть устанавливается...
Известия у Примака мрачные, нерадостные, но ом хоть что-то знает.
— Орел наши сдали,— сообщает Примак.— И Брянск тоже...
— Позавчера говорили о Москве, Урале, а сегодня только об Орле. Брехня...
— За что купил, за то и продаю. Полицейские плетут.
Алексей Примак проводит время не так, как его дружки: в эти пустые, унылые вечера он встречается с девушкой, которую все они называют летчицей. Ее уже видели и Митя и Плоткин — веселая, красивая, с хлопцами запанибрата, носит кожаный летный шлем. Алексей старше их на два года, ему уже восемнадцать. Нельзя сказать, чтоб он был очень красивый или остроумный, но девчата к нему льнут. Это было замечено еще до войны, и для Мити это неразгаданная тайна. Алексей всегда улыбается, его можно назвать симпатичным, но трудно поверить, что он знает какие-нибудь особенные слова, которых жа¬
ш
ждут девчата. Наоборот, Алексей говорит о самом обычном, ог умеет, когда нужно пошутить, вставить острое словцо,— но разве один он это умеет?..
— Слушай, тебя тянет к летчице? — допытываются хлопцы.
— Нет. Но ведь от тоски сдохнешь.
— О чем ты с ней разговариваешь?
— Ни о чем. Отстаньте...
О знакомых девушках Алексей не любит рассказывать, загадочно улыбается. Глядя на эту улыбку, можно подумать все, что придет в голову. В душе Митя завидует Примаку, больше всего тому, как легко, свободно держится он с девчатами. Кажется, он знает нечто такое, чего Митя знать никогда не будет, никогда не переступит границы, которая отделяет его от манящих и загадочных существ, которыми неожиданно стали девчата.
О Сюзанне Митя думает теперь мало, только изредка всплывает перед ним ее образ, оставляя в душе тихую", приятную грусть. После того, что случилось, она как бы отошла от него, отдалилась. Мите трудно даже представить, какая она, как говорит, улыбается. Сюзанна здесь, в местечке, но он боится даже случайно встретиться с ней. Что он ей скажет?..
В один из тех дней, взяв корзинки и лопаты, они втроем пошли на осушенное болото накопать сахарной свеклы— из нее в местечке учились варить повидло. День мглистый, хмурый. Клетка перекопана, лишь кое-где можно найти маленький, никем не замеченный корень. Покопавшись в жирной черной земле, сели на кучу ботвы, примолкли. Вдоль коллектора — проезжая дорога, но уже на расстоянии каких-нибудь ста метров ее не видно: теряется в густой серой мгле. Не видно ни местечка, ни березняка на краю торфяников, и впечатление такое, будто они втроем одни на болотной клетке под осенним низким небом. В этот мрачный день, как никогда за последнее время, почувствовали хлопцы свое одиночество.
На их глазах осушали болото. Должно быть, каждый из них, проваливаясь по пояс в топь, в рыжую, покрытую радужными пятнами воду, лазил сюда за яйцами диких уток, за стреляными гильзами после зимних красноармейских маневров. И все они гордились, когда читали в га¬
ш
зете об урожае ржи и картофеля на этом самом Гиблом, памятном и знакомом с детства. Весной посеяли здесь сахарную свеклу — кто раньше слышал о ней?.. Все это прошло. А что впереди?..
Саша Плоткин, приподнявшись с земли, начал читать стихи:
В минуту унынья, о Родина-мать,
Я мыслыо вперед улетаю,
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю...
Им троим стало хорошо от искренних, немного грустных строчек, оттого, что жил на свете великий поэт Некрасов, который словно угадал их сегодняшнее настроение. День этот Мите запомнился — один из вереницы однообразных, унылых...
С хлопцами легче, веселей, встреча с ними — праздник, но чаще всего Митя один. Чуть не каждое утро ходит в лес — осень грибная, грибов, блуждая по вереску и редколесью, набирает полную коробку-лубянку, но они не приносят прежней радости. Митя испытывает странное, неведомое прежде состояние, когда все окружающее кажется не настоящим, не реальным, а только сном, неясным отражением чего-то серьезного, большого, что скрывается под личиной обыденности и откроется со временем... Лес тот же самый, знакомый и близкий с детства, и вместе с тем он как бы затаился, прячет в полумраке что- то загадочное, небывалое; вершины сосен шумят тревожно и настороженно. Не верится, будто все вокруг такое, каким кажется на первый взгляд. Жизнь стала непонятной. Прежние представления перевернулись, оказались шаткими и неопределенными...
Думает Митя и о немцах. В их стране родились Маркс и Энгельс, были революции, забастовки. Где все это? Куда оно делось? Митя верил до войны, что рабочие всех стран — братья по классу, у них одинаковые интересы. Это было понятно. Однако в это уже нельзя верить, ведь все те пушки, танки, самолеты, которые он видел, сделали своими руками немецкие рабочие. Зачем они их сделали? Чтобы убивать таких же, как они сами, советских рабочих. Выходит, кусок хлеба для них, немцев, дороже братьев по классу...
Митя уже видел немцев*
№
В тот день, когда немцы занимали местечко, во ;ле будки остановились три грузовика, и солдаты, вылезшие из них, насыпав в котелки разных порошков, начали готовить обед. Они долго ели, потом пили кофе, добавляя в него вино. С виду это обыкновенные солдаты, преимущественно молодые, и Митю удивило, что они так роскошно питаются. Красноармейцы — среди них были и лейтенанты, и капитаны, и даже один майор,—когда шли на фронт, тоже однажды устроили привал возле будки и тоже готовили обед. Ели они обычную пшенную кашу с сухарями.
Один пожилой немец, лицо которого показалось Мите приветливым, добрым, дал сестре Тане конфетку. Девочка боялась брать, и он гладил ее по голове, ласково, с улыбкой уговаривая. Немец был самый обыкновенный человек. Митя не увидел в нем ничего звериного, такого, что связывалось в его представлении с образом фашиста. Митя наконец осмелел и, с трудом подбирая немецкие слова, спросил:
— Зинд зи арбайтер? 1
Лицо немца передернулось, глаза забегали; оглянувшись, он испуганно спросил:
— Бист ду юдэ?2
Митя понял, о чем спрашивает немец, до него не дошло только, почему тот боится. Но охота разговаривать пропала. Он ответил фразой, которую повторяли чуть ли не на каждом уроке немецкого языка:
— Ин дер щуле лернэн вир дойчэ шпрахэ 3.
— Гут, гут 4.— Немец залопотал еще что-то, но из его слов Митя уже ничего не понял.
Вдоль большака валяются банки из-под консервов, бутылки, серебристая бумага, обрывки газет. Газеты еще за летние месяцы, но Митя их подбирает — хочется знать, что лишут немцы для самих себя. Только немецкий язык он не знает — из десяти слов знакомо одно. От этого ему становится обидно, в школе за четыре года можно было язык изучить, об этом всегда говорила Мария Ивановна. Но кто ее слушал?..
1 Вы рабочий?
2 Ты еврей?
3 В школе мы изучаем немецкий язык.
4 Хорошо, хорошо.
ш
Вечером, дома, вооружившись словарем, Митя пробует читать найденные кусочки. Одна газета целая, даже с портретом Гитлера и большим, напечатанным красными буквами заголовком на первой полосе. Митя приглядывается к Гитлеру: рот кривой, глаза будто у сумасшедшего и еще этот клок волос на лбу... Чем-то неуловимым Гитлер похож на грузчика Зыка — был такой на станции. Получив деньги, Зык бегом мчался в лавку, напивался и, пьяный, почему-то всегда старался взобраться на что- нибудь высокое — на забор, дерево, на крышу столовой и кричал:
— Слушайте меня, народы!..
Стоявшие внизу смотрели на Зыка, как на диво, слушали и хохотали, наконец приходил милиционер, и все кончалось.
Сквозь газетный текст к смыслу написанного Митя продирается, как сквозь густой темный лес. Бывает, что и слова все переведены, стоят, как солдаты в свободном строю, а связи между ними никакой. Нужно еще знать грамматику. Впрочем, кое-что Митя понимает. В газетах больше всего места занимают победные реляции о летних боях под Смоленском, Киевом. Много высоких, громких слов: всевышний дух, провидение, воля нации... Есть что- то угрожающее в этих словах — представляются самолеты, пушки, веселые лица солдат, которые ехали по пыльному большаку на войну, как на гулянку. Наши отступали измученные, в выцветших от пота гимнастерках, с черными небритыми лицами. И когда Митя думает о том, что хочется видеть — о нашем наступлении, о бегстве немцев,— ему становится страшно. Трудно представить, чтобы измученные красноармейцы с одними винтовками погнали обратно эту железную армаду...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Для Августа Эрнестовича наступили мучительные, полные неопределенности дни. Маркграф Линдау, оставив документ с гербовой печатью и сверток воззваний на немецком и русском языках, уехал. Ему и забот мало. Обещанного гарнизона нет. И когда еще будет?
fG6
О том, что он назначен бургомистром, Август Эрнестович никому не говорит. И жене приказал, чтобы молчала. Немцы воюют, а им здесь жить... Тем более что по местечку ползут слухи о партизанах. Не все те, которые патрулировали на улицах с винтовками, и даже не все в военной форме двинулись вслед за армией. Некоторые остались здесь, скитаются в лесах. Три дня назад на шоссе— это от местечка каких-нибудь десять километров — разбили две немецкие машины, солдат и офицеров постреляли— страх... Гертруда Павловна слыхала об этом не однажды.
В доме Август Эрнестович fie ночует. Долго ли до беды? Кто помешает тем, что в лесу, прийти сюда... В сумерки, когда не следит чужой глаз, захватив дерюжку и кожух, Крамер отправляется на огород, в гущу кукурузных стеблей, где стоит небольшой соломенный шалашик. Конечно, и здесь не скроешься, но, если придут во двор, начнут ломиться в дверь, можно услышать, забиться куда-нибудь глубже.
Ночью он долго не спит. Не лето уже, с околицы тянет сырой прохладой. Сквозь дыру в шалашике виден кусок неба, на нем по-осеннему чистые звезды. Глухо, дико в местечке. Ночью ни огонька, ни громкого голоса. Август Эрнестович лежит, думает. Подхватила его жизнь как соломинку, закружила в бешеном водовороте, попробуй найди тихое пристанище. Разве он хотел быть бургомистром? Согласия не спрашивали, назначили, а что теперь будет?
Август Эрнестович перебирает в памяти большие и малые события своей прошлой жизни и не находит ничего похожего на сегодняшнее положение. Были и неудачи, и неприятности, но хоть ясно было, что делать. Жил честно. Вряд ли найдется человек, которого он крепко обидел. А что впереди?
Засыпает под утро. Сон мучительный, нервный...
Как бургомистр Крамер еще и пальцем не шевельнул. Воззвания, оставленные маркграфом, лежат в сенях, припрятанные в старом шкафу. Что в тех воззваниях? Приказ всем, кто где-нибудь работал, вернуться на прежнее место. Предупреждение населению не припрятывать огнестрельного оружия, не давать приюта переодетым красноармейцам, сдать немецким властям радиоприемники. За невыполнение любого приказа наказание одно—■
107
смерть. Круто берут, но все это пока что не более чем бумажка, пустой звук. Нужно, чтобы за словами стояла реальная сила, а ее нет, в местечке—ни одного немецкого солдата, поэтому Август Эрнестович и не расклеивает воззваний. Пока что лучше не высовываться...
Никто не должен был знать о назначении Августа Эрнестовича бургомистром, но каким-то образом многие все же узнали. Поползли слухи. Пришел поздравлять Забела, мельник, его Крамер меньше всего боялся — кое- какие связи с ним он имел еще до войны. Мельник довольным голосом загудел:
— Вы, значит, теперь наша власть. Вроде коменданта. Ей-богу, хорошо, что вас поставили. Все-таки наш человек. Людей знаете. Я боялся, приедет, думаю, какой- нибудь из Германии, попробуй вдолби ему, что и как...
— Да нет, Денис Панасович, какая власть. Еще вилами на воде писано...
— Правильно делаете, дорогой,— сразу понял Забела.— Поперед батьки в пекло не суйся. Еще все может быть. Я вам вот что скажу,— мельник снизил голос до шепота.— Ночуйте пока что у меня, неспокойно кругом. Недалеко до беды...
Вечером Крамер у Забелы. Дом у мельника — хоромы. Недаром ходил обсыпанный мучной пылью. Стол заставлен закусками, водкой, жарится на таганке яичница,— не таясь показывает мельник, что гость желанный. Ночь провели за чаркой, в приятной беседе.
— Опираться, дорогой, надо на умных людей,— как бы между прочим вставляет Забела.— Которые жизнь понимают и не подведут тебя. Есть такие. Поискавши, найдешь. Вот, скажем, Шелег — из коммунхоза. Человек видел далеко, еще когда большевики здесь были. Правда, чуть не уходили его. Спрятался. Теперь здесь, видел на днях.
— За что его?
— За то, что понимал, откуда ветер. На себя надеялся...
Впервые за все последние дни Август Эрнестович спал спокойно, снов не помнил, возвращаясь в полдень после похмелья, немного под мухой, куда веселей глядел на хмурые местечковые хаты.
У Забелы Крамер провел три ночи: неудобно было беспокоить, к тому же, видимо, перестали быть тайной для
ж
других вечерние визиты на чужую улицу. Разве от людей спрячешься? Но предложил свои услуги человек еще более знакомый — сторож склада Зуй, нестарый, угрюмый, с крючковатым, словно у турка, носом,—- неизвестно, как ему удалось спастись от призыва. Крамер Зуя недолюбливал— нечист на руку, тайком торговал лесом, но выбирать не приходилось. Пошел и к нему ночевать.
Зуй вместе с женой — черной, высокой и худой, как палка,— угощал, громко икая, подливая в стакан водки, хвалил необыкновенный ум гостя, его справедливый характер, но тут же, за столом, завел неприятный разговор:
— Значит, паие комендант, своим глупым умом я понимаю так: опять вернулась собственность. Немцы собственность любят, признают. Десять моих десятин отошли под колхоз, а теперь, значит, эта земля — моя... На трех моих десятинах картошка. Значит, могу ее я для себя выкопать? Я в колхозе не был, однако же земля моя...
— Подождать надо,— хмуро ответил Крамер.—Приедут немцы, тогда. Еще ничего неизвестно.
— Так ведь зима на носу. Пойдут дожди, слякоть. Добро пропадет...
Спал Крамер у Зуя плохо, почти всю ночь не сомкнул глаз, ворочался, думал. Откуда-то пришли мысли — делает не то, что надо. Прятаться — половина дела. Дай волю таким, как Зуй, с родного отца рубашку снимут...
Наутро, отказавшись от предложенного Зуем завтрака, прошелся по местечку, здороваясь со встречными, не будучи в силах отделаться от настойчивого желания поговорить с кем-нибудь, посоветоваться. Вспомнил слова Забелы про Шелега, обрадовался. Надо окружать себя людьми, искать помощников, иначе пропадешь. Заведующего коммунхозом он немного знал, приходилось раза два встречаться— деловой, сдержанный. Не знал, где живет. Расспросив, наведался к нему,— Шелег, стоя в палисадничке, замазывал на зиму стекла.
— Як вам, Шелег,— сказать «господин» не отважился.
— Рад вас видеть, господин бургомистр.
— Знаете уже?
• Слыхал. Меня лично новость обрадовала.
— Давайте, если имеете время, пройдемся. Хочу с вами поговорить.
№
— Пригласил бы в квартиру, ко там беспорядок. Ремонт...
— Спасибо, я обожду.
Несколько минут, пока Шелег мыл руки, переодевался, Крамер вышагивал по дощатому тротуару под окнами его дома. Потом пошли под акации, в школьный сквер, присели на скамеечку.
— Что вы думаете делать, Шелег?
— Как-то надо жить.
— А если я вам предложу работу?
— Ну что же, и работать надо.
— Моим заместителем.
— Нет, господин бургомистр. Заслуг перед немцами я не имею, и это будет непонятно. Я сам хотел зайти к вам. Отец мой еще при царе держал мастерскую, ну и я владею ремеслом. Ремонт швейных машин, жестяное дело— ведра, тазы. Теперь это особенно нужно. Думаю просить у вас разрешения на открытие мастерской.
— Ну что же.— В голосе бургомистра нескрываемое сожаление.— Не буду возражать. Я и сам, если говорить правду, думал этим заняться...
Иван Прокопович чувствует: Крамера что-то угнетает, беспокоит.
— Хотел я с вами посоветоваться,— наконец говорит бургомистр.— Мало осталось образованных людей. Да и мало кого я знаю... Как вы думаете? Некоторые хотят захватить колхозные посевы В личное пользование. На том основании, что посевы на земле, которая им раньше принадлежала...
— Думаю, это несправедливо, господин бургомистр. Нужно подумать обо всем населении. Оно осталось без хлеба. На мой взгляд, наилучший выход — разделить посевы. Не исключая семей рабочих, служащих. Чем они виноваты, что не занимались сельским хозяйством?
Иван Прокопович видит: бургомистр посерьезнел, задумался, на лице — нерешительность.
— Как посмотрят на это немцы? — неуверенно спрашивает он.
— Нет времени откладывать. Урожай может погибнуть. Да и люди, не спрашивая разрешения, его убирают. Кто как может.
— Может, пускай все идет, как идет?
«о
— Тогда один нахватают полное горло, а другим не останется ничего. Вы же сами видите. Начнется голод.
Подумав, Крамер соглашается:
— Вы правы. Однако кто это возьмет на себя? Официально отдать такое распоряжение я не имею права. Не имею инструкций.
— Пусть займется тот, кто занимался раньше. Я имею в виду агронома Драгуна. Добросовестный специалист. Бригадиров знает, колхозников. Я ему ваши слова передам.
— Передайте. Пускай Драгун. Немцы требуют, чтобы все вернулись на прежние должности...
Бургомистр поднялся и простился с Шелегом дружески, как с добрым знакомым.
2
Драгун живет в просторном доме, который принадлежал когда-то местному попу. Здесь поселились две семьи — агронома и директора МТС. Агроном считает себя местным жителем — работал здесь при МТС, когда еще не было района, и родом из деревни Громы, которая от местечка верстах в двенадцати.
Вечером в окно квартиры агронома кто-то постучал. Драгун вышел на крыльцо, присмотрелся. Возле калитки — высокая фигура.
— Кто там?
— Иди сюда, Алексей Иванович. Не бойся — свои.
Голос знакомый, а чей — разобрать трудно.
— Обождите, забегу в хату, наброшу пиджак.
Через минуту, подойдя к калитке, агроном узнает за-
ведущего коммунхозом.
— Вы не продаете медный самовар? — шепотом спрашивает тот.
Это пароль,— взволнованный агроном молчит.
Молчит и Шелег — ждет ответа.
— Какую хотите цену? — наконец, тоже шепотом, спрашивает Драгун.
Люди, знавшие друг друга обыкновенными районными работниками, чувствуют себя неловко. Выходят со двора, направляясь в переулок, который ведет к кирпичному заводу, а там дальше — за околицу. Ночь, безлюдье.
ttl
— He думал, что ты,— признается Драгун.
— Я и сам не думал.
— Много нас?
— Не спрашивай.
— Извини, я еще не привык.
За кирпичным заводом — карьеры, в которых копали глину. Невысокие курганы песка,— во мраке кажется, они выскакивают навстречу. Присели на один из них, осмотрелись. В местечке лают собаки, где-то позванивает колокольчиком спутанный конь. Ночь звездная, теплая.
— Завтра тебе надо идти на работу,— тихо говорит Шелег.— Как и прежде — агрономом. Договорился с бургомистром...
— Он тоже наш? — обрадованно восклицает агроном.
Шелег на минуту замолкает.
— Очень горячий. Все хочешь знать. Разве тебя не предупреждали?
— Ну молчу, молчу...
— Немец он. Можно было заранее предвидеть, что эти за него ухватятся. Но кто тогда думал?..
Где-то за железной дорогой гулкий, раскатистый взрыв. Оба вскакивают, настороженно прислушиваясь. Проходит несколько минут. Ничто больше не нарушает тишины.
— Дети, должно быть,— замечает Шелег.— Гранату бросили. Мой недавно обойму патронов приволок. С разрывными пулями...
Драгун достает пачку папирос, чиркает зажигалкой. Курят в ладонь.
— О Крамере я наводил справки,— вполголоса продолжает Шелег.— Ничего плохого не говорят. Полгода сидел в тюрьме, пока шло следствие. Оправдали... На службу пошел без охоты. По-моему, что-то советское осталось в нем. Но доверять не приходится. Поставлен немцами. Всю неделю дома не ночует. Значит, боится...
— Ты думаешь?..
— Ничего я не думаю. Будущее покажет. Главное, Крамер пришел ко мне сам. Создает аппарат. Важно подсунуть ему наших людей...
Оба молчат. Драгун выплевывает окурок,— описав огнистую дугу, тот падает в карьер. Где-то за железной дорогой еще один взрыв.
112
— А что мне делать у этого Крамера?
Шелег долго молчит.
— Директив пока что нет. Но будут. Надо легализовать положение и действовать. Момент удобный. По слухам, немцы не везде распускают колхозы. Почему, ты не думал?
— Признаться, не думал.
— Не очень хитрая арифметика... Будут фашисты грабить население? Будут. Нет никаких сомнений. А на артельное добро им просто легче наложить лапу...
— Правильно.
— Давай решать. Если две недели назад было правильно сжигать посевы, то теперь самое верное — раздать их по дворам, поделить. Чтобы немцам не досталось ни зерна...
— Верно. Я так и говорил! — восклицает Драгун.— Такую команду дал...
— Командуй теперь от имени бургомистра. Он боится, колеблется, но в случае чего обещал поддержать. Если удастся, мы двух зайцев убьем... Людям хлеб и немцам дулю под нос. Главное—быстрей. Посевы делить на всех — на колхозников, рабочих, служащих...
Оба взволнованы — обстановка необычная, впереди ничего определенного. Крамер — не немцы. Как все обернется, когда немцы осядут здесь?
— Про фронт ничего не слышно? — спрашивает Драгун.
— Ничего.
Уходят по одному. Фигура Драгуна растаяла во мраке, а Шелег еще сидит. Небо светло-серое, звездное, над лесом — серебристый серпок месяца. Местечковые хаты будто сплошная темная стена. Плывет, заглушая все запахи, терпкий аромат отавы. Скоро полночь. Шелег поднимается, идет следом за Драгуном. В темном переулке трещат под ногами сухие ветки. Переулок сырой, грязный, весной его загатили. Улица притаилась. Ни огонька в окнах. Пройдя метров полсотни, Шелег вдруг останавливается: в садике напротив приглушенные голоса, смех. Вынимает папиросу, закуривает. Будто веселей стало: не все спят...
Ill
В течение следующих двух недель в жизни Августа Эрнестовича произошло столько событий, столько пришлось принять решений, что всего этого хватило бы на целую жизнь...
Немцев прикатило семеро — шесть жандармов во главе с начальником, капитаном Швальбе, немолодым, худощавым, с желтым болезненным лицом. Жандармы пожилые, полные, за исключением одного, такого же длинного, тонкого, как и сам начальник. Фамилия у этого польская — Красовский, хотя назвался немцем и без запинки говорит по-немецки. У жандармов две машины — легковая и большой грузовик-фургон, набитый ящиками, мешками, винтовками и другими припасами. Не раздумывая, жандармы заняли под жилье и служебные помещения школу. На втором этаже каждый облюбовал себе комнату, а капитан занял две — для спальни и кабинета.
На другой день, устроившись, Швальбе вызвал Крамера. Классная комната стала довольно уютным кабинетом. Возле стены — застланный зеленым сукном стол. Мягкие кресла, диван, на стене портрет Гитлера и большая немецкая карта европейской части Советского Союза. Вид у Швальбе приветливый, голос мягкий, тихий, тон доверительный. Только в светлых, холодноватых глазах — огонек настороженности.
— Рад вторично встретиться с вами, господин Крамер. Простите, вчера просто не имел времени как следует познакомиться. Садитесь.
На столе большая черная бутылка и две серебряные рюмочки. Капитан налил.
— За знакомство, господин Крамер. Рад видеть в вашем лице соотечественника.
— Я здешний немец, господин Швальбе.
— Не имеет значения. Немцы, где бы они ни жили,— одна семья.
Выпили. Напиток терпкий, крепкий.
— Французский коньяк,— охотно объясняет капитан.— Франция — чудо. Солнце, вино и женщины...
Швальбе ни о чем не расспрашивает. Медленно, растягивая слова, рассказывает о службе, о себе.
— Я не солдат, господин бургомистр, а полицейский чиновник... Жандармерия — охрана порядка. Конечно, во «время войны н жандармы стреляют. Неприятная вещь — война... Я покинул в Германии пост шефа полиции, зеле¬
114
ный, полный покоя городок. Там у меня жена и две дочери. Дочерям пора выходить замуж. Но женихи на войне, а дочери в арбайтслагере. В Германии теперь или работают, или воюют... Жена одна дома..,
Швальбе достает портмоне, вынимает три фотокарточки.
— Фрау Марта,— по очереди передавая фотографии в руки Крамера, говорит он.— Это — Эльза, старшая дочь, а это — Ингеборг, младшая. Дочери — красавицы...
Не торопясь выпили еще по рюмке — за фрау, за дочерей.
— Рассчитываю на полное взаимопонимание с вами, господин бургомистр. Нам нужно крепко держаться за руки. Кстати, вам известно положение на фронте?
— Ничего не знаю.
— Охотно расскажу.— Жандарм встает, подходит к карте.— Вот это Киев, видите? Вчера он занят нашими войсками. Окружена и взята в плен большая армия. Советские генералы кончают самоубийством. Киевская операция — чудо...
По серебряной рюмочке — за Киев, за победу немецкого оружия.
Без привычной закуски в голове у Августа Эрнестовича слегка начинает шуметь. Швальбе стоит у карты с видом стратега, голос уверенный, с властными, стальными нотками.
— Ленинград — цитадель большевизма — окружен. Его на днях возьмут. Стрелы немецкого наступления,— жандарм как бы рубит рукой воздух,— нацелены на Москву. Через месяц война закончится. До наступления холодов.
Крамер озадачен. Он и мысли не допускал, что все кончится так быстро. На карте, которую он видит перед собой, приколоты кнопками немецкие орлы. С севера на юг протянулась целая цепочка. По направлению к Москве клин заостряется.
Швальбе поднимает рюмку за Москву, за скорую победу...
— Скажите, господин Крамер, много ли в этом селении коммунистов, советских функционеров и евреев? Жандармерии желательно иметь списки... Не обязательно их сейчас же арестовывать, заключать в концлагеря или уничтожать. Но знать нужно. Наша служба...
ш
«Вот куда клонишь,— мелькает в мыслях.— Мягко стелешь, но как положишь...» Мгновенно возникает неприязнь к Швальбе: «Подлаживался, выходит, специально, чтоб выведать, сделать доносчиком...»
— Не думаю, чтобы здесь было много таких,— отвечает Крамер.— Может, их вообще нет. Местечко, господин капитан, занято немцами спустя два месяца после начала войны. Все, кто хотел выехать, легко это сделали...
— Не исключено, что есть специально оставленные агенты.
— Возможно. Но что они значат перед силой германской армии? Вы сказали — через месяц войне конец.
— Это все так, господин Крамер. Однако...
— Хотел еще спросить вас, господин капитан. Для меня это очень важно. В воззваниях командования сказано, что все должны вернуться на прежнее место работы. Независимо от должности. Значит ли это, что немцы будут наказывать руководящих советских работников?
На лице жандарма — замешательство, которого он не может скрыть. Опустив глаза, выдавливает из себя:
— Скажу вам как немец немцу, господин бургомистр... Война еще идет... Великая Германия заинтересована в том, чтобы на занятых ею землях было спокойно. Нам невыгодно, чтобы здесь царил беспорядок... Поэтому мы возьмем на службу всех, кто к нам придет.
— Значит, прежняя деятельность ни для кого не может быть виной?
— Комиссаров и евреев мы будем наказывать.
— Но здесь нет таких.
— Вы, я вижу, слишком доверчивы, господин бургомистр.
— Я жил среди этих людей. Хорошо их знаю.
Тон разговора меняется.
Швальбе как-то сразу сник, сел в кресло,— воодушевления хватило ненадолго. Голос слабый, движения старческие, только глаза поблескивают. Снова так и расстилается:
— Вы для нас находка, господин Крамер. Мне будет очень приятно работать с вами. Вы знаете население, его настроения. Это очень ценно. Скажите, партизаны есть в лесах?
— Есть.
ш
Капитан растерян.
— В этой местности? Я хочу сказать — близко?
Близко, господин капитан. Неделю назад на шоссе
разбили две немецкие машины. Отсюда каких-нибудь десять километров.
— Так, так,— испуганно повторяет Швальбе.— По пути я что-то подобное видел. Машина совсем сгорела. Думал, фронт, бои.
— Русские здесь отходили без боя.
— Что делать, господин бургомистр? У меня только шесть жандармов. Нужно немедленно вызвать специальный отряд.
Крамер не может объяснить себе этого, но ему приятно видеть испуганное лицо жандарма.
— У вас есть оружие, господин капитан. Чего бояться? Я один сидел здесь чуть ие две недели. И ничего — живой.
Капитан встал, нервно шагает из угла в угол.
— Господин бургомистр, прошу вас... Помогите создать полицию для охраны порядка и борьбы с лесными бандитами. Пока полиции нет — прошу назначить ночных сторожей. По десять человек — на улицу...
На этом разговор кончается. Крамер ушел от жандарма довольный. Внутренне он чувствует: Швальбе струсил, а потому волей-неволей склонился перед ним. Радостно or мысли: «У Швальбе — жандармы, но он боится...»
3
Районная управа, хоть пока и без вывески, расположилась в помещении поселкового Совета. Здание новое, каменное, окруженное старыми березами, и место удобное— в самом центре местечка. Есть уже у Августа Эрнестовича собственный кабинет и кое-какие подчиненные. Переводчицей приглашена учительница немецкого языка, жена председателя поселкового Совета, ушедшего в армию. Она отказывалась, но Август Эрнестович настоял на своем — такой человек ему особенно нужен. Дело в том, что в немецких бумагах бургомистр чувствует себя не очень уверенно. По печатному разбирает, а рукописный текст — с большим трудом. Бывает, что и в печатном попадется Сгтово, которое никогда ие слыхал. . .
ni-
IS кресле заведующего общей канцелярией — седой, сгорбленный старик по фамилии Рак-Кандерский. Последние годы он был на пенсии. Теперь напросился на службу сам. Встретив на улице бургомистра, начал так поносить советскую власть, что даже Крамеру неловко стало. Рак-Кандерский приходит в канцелярию раньше всех, надев на нос перевязанные медной проволокой очки, копается в бумагах и весь день шипит на молодых секретарш и машинисток. Агроном Драгун, первый, кого бургомистр пригласил па службу, постоянного места в управе не имеет— ездит по деревням, налаживает работу мельниц. Хлеб — главное, что сейчас нужно бургомистру. Без хлеба, без этих ничтожных полкилограмма на день, никого работать не заставишь, какие грозные приказы ни вывешивай. А для того чтобы добыть зерно или муку, пока что имеется только один путь — мукомольный сбор на мелышцах.
В левом крыле здания — финансовый отдел, бухгалтерия. Деньги идут прежние, советские, но страшно упали в цене. Десять рублей приравнены к одной немецкой марке. Но и за марки ничего не купишь. Обмен вещевой, натуральный: метр миткаля — пуд картошки. Базара в местечке нет, и нет никакой возможности его восстановить. Никто ничего не везет продавать...
Больница — хоть нет ни одного врача — работает, а школы закрыты.
Август Эрнестович доволен: пусть еще ие прочный, все же порядок. Тысячи людей, населяющих местечко и ближайшие деревни, не могут жить, не соблюдая определенных правил поведения, не обслуживая друг друга. Разве можно представить себе жизнь без больницы, без аптеки, без коробки спичек и, если на то пошло, без пожарной команды?
Порядок постепенно начал налаживаться, все это благодаря его, Крамера, заботам.
Ежедневно с утра Август Эрнестович вызывает к себе жителей: железнодорожников, работников почты, бухгалтеров — всех, кто до войны занимал какую-нибудь должность. Некоторые идти на работу не хотят, ссылаясь на те или иные причины, но бургомистр не угрожает, не оскорбляет их криком или каким-нибудь грубым словом. Аргументы у него довольно веские, и он охотно выкладывает их перед каждым. Никто из жителей ие вн-
m
поват, говорит он, что началась воина и в местечко пришли немцы. Никто ничего не может изменить. Нужно жить,— значит, нужно работать. Тем более что немецкие законы суровые. Зачем накликать на себя беду, если ее молено избежать?
Крамер начинает внутренне гордиться собой и тем положением, которое он занял в местечке. Ему теперь кажется, что действительно в районе нет человека, который мог бы заменить его, стать бургомистром. Ну кто сумел бы так разговаривать с немцами, с тем самым Швальбе, как это делает он, Крамер? Швальбе он поставил на место, дав ему понять, что бургомистр — первая в районе фигура. Теперь начальник жандармерии ходит к нему, Крамеру, в управу, а не вызывает его, как в первые дни, к себе.
С полицией дело улажено. Не кто иной, как он, Крамер, нашел для Швальбе начальника полиции. Правда, человек, который сам пришел на квартиру к бургомистру, назвавшись Плищинским, не понравился Крамеру. Видать, врун, обманщик — сначала заявил, что вернулся из тюрьмы, из лагеря, потом, забыв об этом, начал похваляться, что лейтенант, добровольно сдался немцам, военную службу знает. Он просился на должность начальника полиции очень настойчиво, и бургомистр направил его к Швальбе. Тот вообще не допытывался — кто и откуда? Хочешь в полицию,— пожалуйста, бери винтовку, патроны, повязку на руку.
Крамера беспокоит такое легкомысленное отношение к делу. В полиции уже двенадцать человек, из них только шестеро местных. Остальные приблудшие. Попробуй разберись, что за люди. На местного все же скорее можно положиться, здесь его семья, имущество, хочет не хочет, а раз взял винтовку, будет отбиваться, если нападут те, из лесу. А пришлые? Разбегутся, как крысы, при первой опасности. Попробуй спроси с них...
Швальбе не такой уж плохой, как показалось в первые дни. Подарил приемник, новенький «телефункен», и Август Эрнестович имеет возможность каждый вечер слушать немецкие передачи из Берлина. Пока еще не укладывается это в сознании, но, видимо, большевики войну проиграли окончательно. Заняты уже и Брянск, и Орел, и Вязьма, окружена и взята в плен огромная сила, немцы под Москвой.
1! 19
Украдкой, боясь собственной теми, Август Эрнестович ловит иной раз волну Москвы. Гертруда Павловна в такие минуты выходит на крыльцо, на стражу, внимательно вглядывается в ночной мрак — не дай бог кто-нибудь прилипнет к окну, подслушает, чем занимается бургомистр.
Передачи из Москвы не убеждают Августа Эрнестовича в том, что дела у немцев пошатнулись. Факт остается фактом — отступление по всему советскому фронту, бои под Москвой, Ленинградом. Да и голос московского диктора еле слышен — весь эфир заполнен немецкими передачами. По-немецки говорят и Париж, и Варшава, и Прага, и Белград. Мир стал немецким. Невольно Августа Эрнестовича захлестывает восхищение, смешанное со страхом. Какая могучая Германия!.. Как далеко продвинулись нёмцы в своих притязаниях! Мало Европы им — они и в Африке, в далекой Ливийской пустыне, под самым Египтом... Кто мог подумать, что Германия, побежденная в первой войне, так возвысится! Видно, в самом деле необыкновенный человек этот Гитлер, объединил немцев, сделал их неодолимой железной силой.
У самого Августа Эрнестовича планы скромные. Он не собирается туда, в далекий, окутанный манящей завесой таинственности фатерлянд, останется здесь, здесь теперь также Германия. Он, можно считать, наполовину русский и проживает среди людей, которых знает лучше, чем немцев. Правда, его арестовывали, полгода держали в тюрьме, но все равно русские — хороший народ. Так говорил еще покойный отец. У них широкая душа и доброе сердце. Они не умеют долго помнить обиды, поделятся с тобой, если нужно, последним. И самое главное — они не смотрят свысока на людей другого происхождения: немец ты, еврей, цыган или татарин. Этого не понимают немцы, которые пришли сюда, не понимает тот же Швальбе.
Вообще, не все нравится Августу Эрнестовичу в поведении соплеменников. Они высокомерны, пренебрежительно относятся ко всему, что не соответствует их представлениям, взглядам. Даже по отношению к нему, немцу, который родился и жил тут, в России, иной раз допускают в разговоре нотки превосходства. И слово выдумали — «фольксдойч». Будто немцы, которые живут за пределами Германии, не такие, как там, в фатерляндё...
ш
Еще больше беспокоит Августа Эрнестовича то, что он ежедневно вычитывает в немецких газетах, слышит по радио. Ослепли они там, в Берлине, что ли!.. Большевики — варвары, Россия — дикая страна, которую населяют темные, злобные мужики! Гигант на глиняных ногах... Неправда это, неужели там, в Германии, ничего не понимают? Конечно, здесь, в России, было такое, что сам он, коренной ее житель, не может оправдать. Взять хотя бы тот же самый его арест — ни за что шесть месяцев отсидеть в тюрьме! Хватало и бесхозяйственности. Август Эрнестович хорошо знает, сколько гнило, а затем с необычайной легкостью списывалось деловой древесины, на которую затрачивались громадные деньги. Но ведь нельзя закрывать глаза и на то хорошее, что появилось только при большевиках. Он помнит старую жизнь. Она так же далека от советской жизни, как небо от земли!.. В Советском Союзе не найдешь неграмотного, тракторы, машины, электричество — разве это варварство? И главное — господ нет, ни перед кем не нужно снимать шапки. Какой- нибудь грузчик мог написать самому наркому... Немцы этого не понимают, как бы нарочно отворачиваются, чтобы не видеть. Это и пугает Августа Эрнестовича даже тогда, когда он слушает по радио победные немецкие реляции. Такие мысли кажутся крамольными, бургомистр ни с кем ими не делится...
Тем не менее Августу Эрнестовичу нравится, что все, кого он знает и не знает, здороваются с ним первые, оказывают всевозможные знаки внимания. Он далее помолодел за последнее время, ходит выпрямившись, не сутулится. Каледое утро, придя в управу, пересказывает последние новости, услышанные по радио. Его слушают внимательно, не перебивая ни одним словом...
ГЛАЗА ВОСЬМАЯ
1
Первый снег выпал рано — в начале октября. Еще не выкопали картошку, даже ряды скошенной отавы и рыжей полеухлой осоки покрыло белым пухом. Осенний снег долго не держится — прибавляет слякоти, но это верная лримета, что зима ляжет основательно, не запоздает.
т
Иван Прокопович последнее время невеселый. Ходит, повесив голову, лицо сосредоточенное, хмурое. Каждый, кто глянет на его высокую, слегка сутулую фигуру, увидит, что живет ои нелегко. Он не очень разгуливает. Подбирает инструмент, принимает кое-какие заказы. Мастерская, пока тепло, в сарайчике, зимой придется перебраться в хату. За весь месяц смог отлучиться только в Кавеньки. Старостой в Кавеньках бывший дорожный мастер Иван Буян, который так и не дождался пенсии. Занять эту должность уговорил его Иван Прокопович.
Вечером, когда Драгун дома, Иван Прокопович идет к нему. В сквере шумит ветер, наклоняя голые вершины тополей и акаций, под ногами опавшая мягкая листва. Тоскливо, глухо. Немцев и полицейских немного, они, видимо, боятся — всю ночь стреляют, стараясь запугать невидимого врага. Огни в окнах школы, где жандармерия, и в здании милиции, где теперь полицейский участок. Стража гражданская — по улицам, сбившись в кучу, ходят деды с палками в руках, громко, чтобы придать себе смелости, разговаривают. При таких патрулях может пройти кто захочет, и никто не остановит, не спросит документов. Но никого нет...
Весь последний месяц Иван Прокопович ждет посланцев из леса. Странно, обидно, что Матвеев забыл про местечко, про них, подпольщиков. Этого нельзя объяснить условиями конспирации, нельзя понять, и Шелега все чаще охватывает тревога. Об истребительном батальоне после боя на шоссе, который произошел еще в начале сентября,, ничего не слышно. Будто провалился сквозь землю. Еще хуже то, что сам он, Шелег, ничего не может сделать, потому что не знает, где искать Матвеева. Ему, ссылаясь на ту же конспирацию, не указали даже приблизительных ориентиров. На явочных квартирах в Прудке и Малковичах никого не было.
В который уже раз возвращается с пустыми руками хитрый, проворный Драгун. Оставив его в подполье, как раз попали в точку — такие особенно нужны. Но и Драгун об истребительном батальоне ничего не вынюхал, хотя, разъезжая по мельницам, облазил все закоулки. Надежно забился в лесную чащу Матвеев, а еще говорил, что леса не любит. На свой риск Шелег с Драгуном сделали так, что в двух деревнях свои старосты. Кроме Буяна в Ка-
122
веньках свой человек в Прудке — бывший председатель колхоза Гопченко. Бывших председателей, которые теперь старостами, человек пять, но остальных поставили немцы, и стоит присмотреться, что они за люди.
Драгун привозит новости нерадостные. В местечке не так еще, а в деревнях поднимает голову всякая шваль. Вылезают, выслуживаясь перед немцами, кулаки, лишенцы— идут в полицию, становятся бургомистрами волостей. Этого нужно было ожидать. В стране, где прошли великие классовые битвы, всегда найдутся недовольные — они многое потеряли и теперь жаждут вернуть. Непонятно другое: идут порой в полицию, берут в руки оружие и те, которые ничего ие могли иметь против советской власти. Среди них попадаются даже бывшие активисты. Зачем полиция им? Спасают шкуру, выслуживаются?.. Приставить бы к стенке, пулю в лоб—и весь разговор. Пусть не забывают, что советская власть здесь, в районе, она все слышит и видит. Но Матвеев прячется. Иначе не объяснишь его поведения.
Вечером навещают Драгуна бывшие специалисты из райземотдела — зоотехник Куницкий, приземистый, широкоплечий, но с хитрым, вытянутым, как клин, лицом и суетливыми движениями, и ветврач Шкирман — фамилия у него будто немецкая, но он местный, родом из лесной глухой деревни. Толстый, моложавый Шкирман старый товарищ Драгуна, вместе учились в семилетке, да и работать в последнее время пришлось вместе. К компании иной раз присоединяется Пилип Красней — перед самой войной его осудили за растрату на два года, но отсидеть не пришлось. Все трое уже числятся на службе — в конторе «Заготскот», хоть ни скота, ни работы пока что нет. Из всех этих людей только Шкирман был в армии, попал под Уманью в окружение, но, переодевшись в штатское, в лагерь не угодил, притащился домой.
В компании Драгуна, видать, свои люди, советские, все они встревожены событиями на фронте, которые день ото дня хуже и хуже. Немцы под Москвой. Трудно поверить, но это так — бургомистр Крамер, придя в управу* первым делом начинает пересказывать сводку. В руках у немцев и Вязьма, и Ржев, и городки, которые не нанесены на карту, по существу пригороды Москвы.
Настроение унылое, мрачное — опускаются руки. Бередят душу неотступные вопросы. Неужели Москва не
123
удержится? Какими причинами объяснить такое глубокое отступление, когда врагу отдана огромная территория, богатейшие районы, сотни городов? Тут не может быть речи ни о стратегии, ни о тактике. Так что же это — катастрофа? В гражданскую войну положение бывало еще хуже, но разве можно сравнивать? Воевали голые, голодные. Где же теперь сила и техника? Разве война с Гитлером— такая полная неожиданность?..
На это нет ответа. Мучительные мысли гудят роем, гнетут душу невыносимой тяжестью. Иван Прокопович чувствует: не все как нужно было и до войны, много было непонятного, но он гонит от себя это чувство, ища оправдание всему, что было и есть. Если исповедоваться перед самим собой, то он не верит и никогда не поверит, что все погибнет. Революция, гражданская война, советская власть — это не только события, это в уме, в сердце — новый мир. Он не может погибнуть, потому что с его судьбой связаны судьбы миллионов людей, смысл их жизни... Но все — и там, на фронте, и здесь, в глубоком вражеском тылу, идет не так, как нужно.
В подчинении у Шелега не четверо, как намечалось тогда, летом, а трое, и один из этих троих для дела совсем не подходит. Просто смех, как его законспирировали. Держа в памяти фамилию конспиратора — Лабуда — и адрес на окраине местечка, Иван Прокопович никогда бы не подумал, что эта фамилия принадлежит знакомому человеку.
К Лабуде пошел на другой день после встречи с Драгуном. Маленькая покосившаяся хатка в глубине двора за сараями,— таким оказалось жилище. В хате полно детей, кажется восемь, две женщины — жена конспиратора и ее сестра. Самого хозяина дома не было, отлучился, и пока Иван Прокопович разговаривал с женщинами, ему стало ясно, что они знали все. На обыкновенные вопросы отвечали с боязнью, ежеминутно переглядываясь, бледнея. Наконец пришел хозяин — низенький, растерянный, с бельмом на левом глазу,— для чего-то принес в хату охапку сена, и Иван Прокопович сразу узиал в этом человеке директора льнозавода Терещенко. Льнозавод в другом конце района, километрах в пятидесяти от местечка, но разве никто не знает в местечке директора? Приезжал сюда на совещание актива, пленумы райкома. Зачем же его перекрестили в Лабуду?
ш
Иван Прокопович пароля ие сказал. Чтобы оправдать свой приход и как-нибудь выручить незадачливого хозяина, не выдав себя, сказал, что набирает людей в свою мастерскую. Лабуда-Терещеико обвял на глазах.
— Я согласен,— залепетал побледневшими губами.— Вы должны меня помнить. Из Живоглодович я, со льнозавода.
— Вас я знаю как Терещенко.
— Фамилия двойная у меня. Но когда меняли паспорт, я попросил, чтобы записали последнюю...
Объяснение смехотворное. Бывший директор просто ошалел от страха.
— Вот что, Терещенко,— тоном приказа заговорил Шелег.— Не знаю и не хочу знать, почему вы теперь Ла- буда. Но шутки бросьте. Они дорого стоят. Новый паспорт сожгите... В мастерскую, может быть, возьму вас. Только позже, зимой...
Уходя, Шелег поймал благодарные взгляды женщин. Поняли они что-нибудь или нет, но тревога их уменьшилась.
Последний подчиненный Шелегу человек — инженер лесокультур Денисова. Живет она на частной квартире, и, не желая возбуждать ненужных разговоров, Иван Прокопович не отважился сам к ней пойти. Встретил вечером на улице. Денисова — высокая, стройная, со смуглым, нервным лицом. На ней старенькое, должно быть еще студенческое, пальто, стоптанные туфли, голова повязана синим платочком. Присели в скверике на скамейку. Тихо назвал пароль. Денисова встрепенулась, не в состоянии скрыть замешательства, ответила.
— Поступайте на службу. В тот же лесхоз,— приказал он.
— Работать на немцев? Ни за что!..
— Других учреждений, к сожалению, нет. Все немецкие.
— Как это?.. Помогать врагу?..
— Учреждения немецкие, люди советские.
— Не пойду!— Денисова вскочила, начала нервно ходить около скамейки.— Я не для этого оставалась. Наша задача—диверсионная работа.
Он схватил ее за руку, силой посадил рядом с собой.
— Какую же диверсию вы придумали?
Приблизив к нему лицо, она зашептала:
— Придумала... Хотела только посоветоваться. Хорошо, что нашли меня. Все очень просто. Я натолкла в ступе стекла. Хозяйка не заметила. Стекло мелкое, как мука. Теперь нужно пробраться в пекарню, высыпать его в тесто. Это нетрудно сделать...
Иван Прокопович сбоку глянул на Денисову: самое большее ей лет девятнадцать — горе-девчонка, которая только что окончила техникум. Внешняя решительность от внутренней растерянности. А может быть, прирожденная горячность и душевная неуравновешенность, так как в самих чертах лица что-то неистовое, неукротимое. Подавляя чувство раздражения, нараставшее в душе, подумал: «Таких вот оставляют...» Спросил как можно спокойней:
— Ты замужем, Надя?
Она ответила вопросом на вопрос:
— Разве это имеет значение? Я комсомолка, сама попросила оставить меня здесь...
— Я твой руководитель. Должен знать все.
Опустила голову, проговорила тихо, с болью:
— Была. Мы разошлись.
— Кто твой муж? Ну тот, что был...
— Негодяй. Я жила с ним только три месяца.
Задав еще несколько вопросов, он знал о ней все. Родом с Любанщины, отец — сельский активист, убитый кулаками во время коллективизации, дома мать с младшим братом. Оставлять ее здесь не хотели, но дошла до обкома и добилась. Муж обманул, у него уже была жена и даже ребенок.
Здесь, в местечке, ее мало кто знал, приехала за три месяца до войны...
— Прикажите, и я проберусь в пекарню. Назавтра все, кто ест этот хлеб, полягут...
— Не говорите глупости, Надя. Хлеб из пекарни немцы не едят. Могут погибнуть наши люди.
— Хлеб выдают тем, кто продался. На работу пошли изменники. Таких не жаль.
— Я тоже ем этот хлеб.
Она осеклась, виновато глянула на него, покраснела.
— Так вы же знаете. И кому нужно, скажете. Чтобы не ели...
Ему жаль ее. Видел: болеет, только, может, еще тяжелей, той же самой болезнью, что и он. Страдает от без¬
1126
деятельности, от неопределенности положения. Заговорил, чтобы подбодрить:
— Война пока что складывается неудачно, Надя. Сама понимаешь. Никто не думал, что будет так. Но нужно верить, что выстоим. Иначе нечего огород городить. Поверь мне, я помню еще гражданскую войну — и эта протянется долго. Нам хватит работы...
— Где теперь фронт? — тихо спросила она.
— Не знаю.
— Так что лее мне делать?
Мысль пришла неожиданно. Денисова с Любанщины. Там, по слухам, партизаны с первых месяцев войны. Может быть, там и областной отряд, Ермалович...
— Слушай, Надя. Почему бы тебе не проведать мать, брата? Пропуск достанем. Посмотришь, как там у вас. Может, завяжешь связь с партизанами. Я расскалеу, как и что делать...
Она удивленно вскинула глаза:
— Зачем далеко идти? Пошлите меня в наш отряд. Я туда просилась с самого начала...
— У кого просилась? — растерянно спросил он.
— В райкоме комсомола, военкомате, милиции.
Ему хотелось закричать, затопать на нее ногами — она знала то, что ей знать не нужно; но у него не хватило на это сил: девушка сидела, доверчиво прислонившись к не- лгу. В голосе просьба, укор. Проговорил сухо, по-начальнически:
— Вот что, Денисова. Анархию разводить нечего. Вы ничего не знаете, понятно? Начальник ваш я. Пойдете домой, и все. Инструкцию получите позлее...
Растерянная, сбитая с толку, она поднялась.
— Зайдешь через неделю. Ко мне в мастерскую...
Когда она пошла, снова пожалел ее — прямая, бескомпромиссная натура. Такой в подполье тяжело. Покажи ей врага — будет стрелять, стоять до последнего, но хитрить, выкручиваться не умеет. Молеет, вся молодежь такая? Так ее научили, воспитали. Хорошо это или плохо? Хорошо там, на фронте, где все открыто. Тут совсем другое. Вспомнив о толченом стекле, улыбнулся — душа у девушки полна ненависти.
У Драгуна — две комнаты. Мужчины, которые у него собираются, сидят за кухонным столом в передней, играют в карты, курят. Дверь в сени приоткрыта — чтобы выхо¬
127
дил дым. Говорят больше о пустяках—обсуждают местечковые новости, вспоминают случаи из прошлой жизни, но за всем этим таится большее: тревога, растерянность, немая мучительная неуверенность — чго будет завтра? Даже шутят иной раз, но настоящего веселья нет, его не вносит в мужскую компанию и подвижная, веселая жена Драгуна, которая любит гостей. Шкирман на первый взгляд апатичный, равнодушный, слова из него не выдавишь; Куиицкий шарит хитрыми глазами, затаив на тонких губах непонятную улыбку; Красней сыплет шутками,— люди не похожие друг на друга, разные. Что тянет их сюда, к Драгуну, сводит вместе?
Иван Прокопович чувствует: мужчины собираются не просто так. До войны компании этой не было, даже Драгун со Шкирманом встречались разве только по праздникам, раза два-три в год, а тут сборы каждый вечер. Появилось нечто такое, что всех объединяет, поднимая над повседневными заботами, семейными интересами. С этого начиналось и в восемнадцатом году. Люди каким- то внутренним чутьем узнают друг в друге единомышленников.
2
Уже который день спорый, как из решета, дождь, мгла, плывут над околицей туманы. На сером поле кое- где клочки ярко-зеленой озими, в ложбинах — плакучие, без листка вербы. Немного выше на пригорках — размытые рыжие плешины суглинка. Пусто, одиноко в поле: после Кузьмы-Демьяна стадо на пастбище не гоняют.
Есть что-то грустно-пленительное в осенней картине притаившегося за густой, колеблющейся пеленой дождя местечка. Солнце скрылось надолго за косматые тучи, низкое небо висит, кажется, над самыми крышами. Сена мало, коровы блуждают по огородам, грызут полусгнивший кукурузник, мычат. Над всем господствуют черносерые краски: мокрые стены деревянных строений, голые деревья, сады, вымытая, прибитая дождем песчаная улица. Звуки приглушенные, как и краски,—г однотонный шум дождя, ветра...
Иван Прокопович слег: тело как разбитое, огнем горит голова. Третий день в горячке. Засыпая, как бы проваливается в бездну, просыпается — в глазах красные круги.
128
Жена кладет компрессы, ходит озабоченная, мрачная, как тень. Притихшие дети — в кухне.
Вечером заявился Драгун, вид у него такой встревоженный, что жена не задержала, пустила к больному. Иван Прокопович слышит знакомые голоса в передней, потом над собой, но не может выйти из полубредового состояния. Наконец раскрывает глаза. На столе прикрученная лампа, полумрак, занавешенные окна, на табуретке около кровати — агроном. Почему-то не снял даже пальто и кепку.
— Беда,— как из-под земли доносится его голос.— Все пропало.
Сердце будто ныряет под лед. Перехватывает дыхание. Иван Прокопович произносит почти неслышно, одними губами:
— Москва? Немцы заняли?..
— Да не Москва. Тут, у нас. Матвеев убит. КосареБич и Адамчук сбежали. Немцам продались. Полиция уже разгромила базы...
Иван Прокопович с трудом поднимается на локтях. Страх отхлынул, дышать легче.
— Что еще слышно о батальоне?
— Немцы знают, кто в лесу. Бургомистр вызывает жен. Мол, пускай ваши приходят. А то будет хуже...
Электрической искрой вспыхивает мысль: «Об оружии кроме Матвеева знает Овсяник. Вдруг он вернется...»
Шелег встает, становится босыми ногами на пол. Ноги дрожат, руки непослушные, будто не свои. Во.всем теле пустота. В дверях, прислонившись к косяку, стоит жена, лицо бледное, смотрит с ужасом.
— Надя, выйди... Закрой двери...
Одевается, обливаясь потом, задыхаясь, натягивает сапоги.
— Вот что, Алексей... Сегодня или никогда. Есть оружие. Его нужно перенести в новое место... Могут захватить..,
— Далеко? — спрашивает Драгун.— Ты же больной, как ты?..
— Поведешь, как бычка на веревочке,— пробует шутить.— Или поползу...
Раскрываются створки дверей, с решительным видом входит жена, на руках у нее ватное пальто, зимняя шапка. Иван Прокопович смотрит на нее удивленно.
ш
Я все знала,— говорит она с обидой в голосе, отведя от мужа взгляд.— Еще с лета. Ты мне скажи... Эти, которые убежали, о тебе знают?.. Я не за себя боюсь, за детей...
Иван Прокопович чувствует, как на глаза невольно набегают слезы.
— Прости, Надя... Так нужно было... Никто ничего не знает. Не волнуйся. Даю слово...
Она смотрит недоверчиво:
— Так ты не насовсем?
— Завтра буду дома. Нужно по делу.
— Ты такой больной. Куда ты пойдешь?
— Мне легче. Ничего не думай... Спи.
Иван Прокопович действительно чувствует себя лучше. Во всяком случае, держится на ногах,— значит, пойдет. Он доволен, что одним махом рассечен запутанный узел в отношениях с женой. И раньше чувствовал, что догадывается. Разве могла, прожив с ним столько лет, так легко поверить, что стал безразличен к политике, ко всему, что делается кругом?.. Но о том, что она знает все, не думал. Не говорил, так как не хотел, чтобы дрожала, мучилась. Видно, нужно было сказать. Жаль ее. Он всегда с нею мало считался...
— Повяжи шею шарфом,— просит жена, глядя на него с жалостью.— Опусти у шапки уши... Плащ в сенях...
з
Выходят на крыльцо — хлестнул по лицу косой дождь. На- дворе темень, хоть глаз выколи. В сквере свищет ветер. По лужам дождь сечет с перерывами — будто невидимый сеятель бросает горсти капель взмах за взмахрм.. Пересиливая слабость в ногах, Шелег спускается с крыльца ощупью, держась за штакетник, идет к сарайчику. Там лопата.
Медленно идут дальше. Шелег опирается на лопату, как на палку. Около дома Драгуна снова остановка — лопату и фонарь ищет агроном. За железнодорожной насыпью темная мокрая пустота поля. Ветер валит с ног, дождь еще сильнее. Согнувшись, нащупывая грунт дороги, они молча хлюпают по лужам. Дорога ведет в ;лес. Иван Прокопович тяжело дышит; Драгун, который едет впг-цеди, замедляет шаг. . ... , ;V:
5 ii. Hs умен ко.
т
Сколько времени бредут, не знают. До леса не близко, самое малое версты четыре. Нет никаких ориентиров,, по которым можно было бы определять расстояние и время.
Лес, вернее кустарник перед ним, угадывают по шуму ветра, более приглушенному, густому, чем в чистом поле. К свисту и шороху дождя примешиваются однотонные тягучие вздохи. Пройдя метров пятьдесят кустами, Драгун останавливается, распахивает полы пальто, зажигает фонарь. И сразу мрак становится еще гуще, немного раздвигается в стороны, перед глазами пересеченная узловатыми корнями колея, заполненные черной водой колдобины, мокрые, блестящие стволы березок и ольх.
— Нужно идти до просеки,—хрипит Иван Прокопович.—Еще версты две.
Лес, начинающийся за кустами, вздыхает где-то вверху; внизу, на дороге, тише, тяжелые капли, падая с нависших веток, кажется, звенят. Светлая полоска фонаря словно вырывает из черной, как деготь, тьмы длинные, цепкие руки сучьев, мшистые бороды на гнилых пнях, чьи-то быстрые огненные глаза в нависших тяжелых ветвях сосен. Немного жутко в лесу: темень, холодная слякоть и эти унылые, как стон, вздохи. Иван Прокопович идет рядом с Драгуном, и у него теперь одна забота — не минуть просеки. По лесной этой дороге он шел только один раз, после того как с Матвеевым закопали оружие. Но тогда было утро, а теперь ночь, и никаких примет, кроме просеки, не увидишь. Он не думает о том, куда и как перенести винтовки, это потом, сначала нужно, их найти.
Внутренний голос подсказывает, что они погорячились, не стоило с вечера бросаться сюда, в темный мокрый лес, тайник скорей всего не найдешь. Лучше выйти на заре. Но в таком случае впереди была бы тревожная, мучительная ночь, ощущение своей беспомощности. Утром он, может быть, и не встал бы, а теперь идет своими ногами, несмотря на болезнь. В конце концов до утра можно подождать, разложить костер, обсушиться, решает Иван Прокопович и успокаивается. Он не любит сомнений, колебаний.
Они бредут еще с полчаса и наконец натыкаются т просвет в темной стене леса. Просека. Теперь нужно повернуть налево, идти километр или больше до Тимоховой пристани, там будет еще одна поперечная просека, неда-
t31
леко от нее примета — рассошистая береза — и шагов через тридцать — памятный песчаный бугорок.
— Налево или направо? — остановившись, спрашивает Драгун.
— Подожди. Ничего теперь не найдем. Нужен прожектор, а ие «летучая мышь».
— Заблудились?
— Кажется, нет, но пусть рассветет. Побудем здесь. Разложим костер, яму выкопаем.
Даже в осеннем, насквозь промокшем лесу можно найти относительно сухое место, где не льет за воротник и затишье. Они пошли по опавшей листве, мху и скоро выбрались в настоящий старый бор. Грунт здесь тверже, под ногами мелкий вереск, песок, иглы, шум ветра в вершинах тоскливей и протяжней. Кудрявые сосны там, наверху, будто спорят с невидимой злой силой. Наткнулись на сосну — ветви ее спускаются, как шатер. Сели под дерево, Драгун достал из потайного кармана коробок, чиркнул спичкой — и вот уже рядом с поставленным на землю фонарем, в полосе его света, весело трепещет огонек. Хворостинка к хворостинке, и огню нужна уже большая пожива. Отойдя несколько шагов от огня, держа в левой руке фонарь, Драгун собирает опавшие ветки, сучья. Иван Прокопович осторожно, пирамидкой, кладет их на огонь. И вот под сосной горит настоящий костер, который не погасит ни дождь, ни ветер. В ненасытное пламя можно бросать теперь все, что валяется на мокрой, застывшей земле. Темнота отступает глубже в лес, вырисовываются толстые, с потрескавшейся корой стволы сосен, темные вершины, серые кучи валежника. Драгун, сбив кепку на затылок, усердствует около кучи валежника, ломает о колено полуистлевшие ветки, таскает их к костру.
Есть что-то большое, радостное в таиисгвеино-пре- красной картине ночного костра. Пламя жадно лижет куски дерева, сыплет в небо золотыми искрами, полыхает во всю мощь. Согревается не только тело —* светлыми, торжественными чувствами полнится душа. Откуда это чувство красоты и всемогущей силы огня? И почему йз всего живого, что бегает, летает, дышит, имеет горячую кровь и сердце, не боится огня один только человек?..
Иван Прокопович вынимает похожие на луковицу карманные часы. Очень рано еще, самая глухая ночь* половина второго.
5*
ш
Дождь как будто стал тише.
— Наша первая партизанская ночь.— Иван Прокопович грустно улыбается.— Знаешь, я почти здоров.
— А я промок, как сукин сын. Только теперь почувствовал. Спине холодно.
— Сними пальто, сушись. У тебя закурить есть?
, — Есть.
Протяжно шумят сосны. Темень, когда огонь глохнет, подступает вплотную, потом отскакивает снова.
И всю ночь они говорят. Опасности, которая бы им угрожала, кажется, нет; Шелега знал один Матвеев, и если правда, что он убит, то теперь рвется нить, связывавшая местечковых подпольщиков с батальоном. Но разве удержится истребительный батальон? Случилось самое страшное, неожиданное — предательство.
— Косаревич, кажется, в маслопроме работал?
г— Да я его давно раскусил,— со злостью говорит Драгун.— В Пилятичском сельсовете мы с ним были уполномоченными. По отправке скота. Ночевали, помню, на болотной станции. Ну, я сказал — еще в райком не вызывали тогда,— что думаю эвакуироваться. А он щерит зубы — куда ты, мол, поедешь. Немец всюду будет...
— Так почему же ты молчал?
— А холера его знает. Думал, меня проверяет.
— А что об Адамчуке знаешь?
— То же, что и ты. Дорожный мастер... Заслуженный... Насыпь ему соли на хвост.
— К стенке их нужно,— внезапно наливаясь гневом, говорит Иван Прокопович.— Или лучше тихо. Дождутся...
— Поздно замахали кулаками. Немцы теперь все знают. Прижмут жен...
На минуту оба смолкают, щурятся на огонь. В памяти Ивана Прокоповича встает разговор с Ермалозичем — он кажется далеким, будто минуло с того времени много лет. Ермалович как раз говорил о бдительности, о том, что нужно почистить истребительный батальон. Чистили, да, видно, не очень. А может, выгнали кого не нужно?.. Бывало ж, что смотрели на человека сквозь бумажки, анкеты. Анкета, может быть, чистая, а душа — как у гада... Где Ермалович теперь?
— У тебя была когда-нибудь такая ночь? — спрашивает Драгун,
— Была.
т
— И у меня была. Такая же самая — осенняя, темная. Только, кажется, без дождя: А может, и дождь шел, черт его знает. Старший брат женился, и мы с отцом для свадьбы гнали самогонку. В двадцать седьмом это было, уже тогда за самогон прижимали. Заехали к одному хуторянину — аппарат у него сразу за домом, в лесу. Выгнали один затор, я хватил первача — и море по колено. Отец за водой послал, а я залез на сосну—пою... Выпить бы теперь по рюмочке...
Иван Прокопович улыбается. В характере Драгуна бесценное качество: что бы ни случилось, он сохраняет чувство юмора. Шелег всегда завидовал таким людям — их все любят, и жить им легче. Сам он шутить, смешить других не умеет.
— Рассказывай теперь ты. Твоя очередь,— просит Драгун.
— Что рассказывать. Хватало всякого. В двадцатом году я был на польском фронте. По мобилизации профсоюзов. Попал в самую кашу — под Волковыском полк разбили. Как раз осенью. Выбирались кто как мог — по. лесам, болотам. Но я мало помню. Забыл...
— Ты, выходит, из старой гвардии?
— Почему-то другое вспоминается. Из детства. Семья не сказать чтоб большая — четверо детей, бабка, отец- стрелочник. Я самый старший. Держали корову — на заработок отца не проживешь. Корова старая, с отвислым боком, давно бы пора сбыть, но очень молочная, симмен- талка. Семью кормила. Весной погнал ее на черноголовник, а она завязла в болоте. Плавал около нее по шею в тине, плакал, как человека просил — вылазь... Хотел сам утопиться — как без коровы прийти домой? Но все же пошел... Вытаскивали веревками— всю ночь* Знаешь, большей муки за всю жизнь не пережил. Даже сегодня страшно вспомнить...
— «Вышли мы все из народа»,— задумчиво декламирует Драгун.—Я теперь много думаю, Иван, и вот что надумал. Хоть это, как говорят, элементарно. Не может советская власть погибнуть. По той простой причине, что дала жизнь миллионам таких, как мы. Чем бы мы были, если бы не советская власть?
Иван Прокопович заговорил зло, с надрывом:
— «Кто был ничем, т<от станет всем...» Это ты верно... Однако же и слепые мы были, это тоже правда.;. Зачем
134
бы иначе нам здесь сидеть? Нашлись адамчуки, косаре- вичиу плюнули в лицо, предали. А ведь мы их своими считали. Да еще самыми передовыми. Посмотри в их анкеты.— пролетарское происхождение, заслуги. А копни глубже — гниль. Карьеристы, шкурники. О себе они только думали, а там хоть трава не расти... Так что из пролетариев паны и подпанки тоже растут. И заметь — ничего себе. Так задерет нос, что кочергой не достанешь. Думаешь, Косаревич с Адамчуком сегодня предали?.. Давно они предали.... Только мы не видели или не хотели видеть...
— Видел и я, не такой уж слепой. Из нашей деревни первый закончил техникум Дудка. Был такой человек. Как ты думаешь, что он сказал, приехав в деревню? «Лижите мне сапоги, я теперь агроном, а вы — навоз...» Так и сказал.
— Это дурак. Раскуси и выплюнь. Были и опаснее. G виду свой, вылезет на трибуну, Марксом и социализмом клянется, а в душе — кулачуга.
— Горлопанов хватало...
— И тихоходов. Много, брат, было тихоньких, осторожных людей. Думать не хотели, не умели, так как больше всего заботились о кресле. Не дай бог, если со службы прогонят... По-моему, в этой войне мы расплачиваемся за все, что недосмотрели, недоделали. За бюрократов, приспособленцев* шкурников... Но верь моему слову... Перепрячем винтовки, а люди найдутся. Не может быть, чтобы не нашлись. Нужно понемногу собирать людей.-.. Еще кому-нибудь тайник показать. На случай: если нас с тобой... Понимаешь, одним словом...
Еще до того, как наступил серый неприветливый рассвет, яма была готова. Они выкопали ее тут же, в нескольких шагах от костра,— песок, сухо. Просеки не минули, она привела их к Тимоховой, пристани, и довольно быстро они нашли рассошистую березу и песчаный,, засыпанный желтыми листьями пригорок. По всем приметам, с лета здесь никого ие было. Ящики с винтовками тяжелые, двоим не перенести, так как ходьбы не меньше версты. Они распаковали их — оружие смазано тавотом даже слишком. Винтовки — их двадцать штук — перенесли в два захода и еще один «рейс» сделали, чтобы забрать
133
цинковые ящики с патронами. Ходили к своей яме напрямик, лесом. К полудню все было кончено: на новом месте даже придирчивый глаз не нашел бы ничего подозрительного— засыпанный мокрыми листьями, хвоей костер, вблизи куча трухлявого хвороста...
Перед тем как разойтись, Иван Прокопович, отряхивая песок с плаща, глухо промолвил:
— Ты, Алексей, если будешь в районе, присматривайся к людям. И этим, которые у тебя собираются, намекай. Ие сразу, постепенно... По-моему, они свои...
— Свои в доску! — охотно подтвердил агроном.— Ручаюсь головой...
— Игру в прятки пора кончать. Я тебе раскрою секрет, только одному тебе, понял?.. Есть еще двое оставленных. Но один никуда не годен, а девушку я пока что пошлю домой, на ее родину. Она с Любанщины, там, по слухам, партизаны. Теперь для нас самое главное — связь с партизанами.
Лопаты спрятали в лесу, уходили по одному, разными дорогами.
4
До войны дорожный мастер Адамчук был толстый, солидный, с круглым лицом. Теперь, поскитавшись два месяца по лесу, совсем отощал, осунулся. Стоит перед бургомистром сгорбившись, с опущенными плечами, в испуганном выражении худого небритого лица ничего начальнического. Кабинет Крамера без особой роскоши: комната узкая, в ней покрытый зеленым сукном стол, два кресла,, около стены довольно старый диван. Но и в таком кабинете Адамчук чувствует себя как на угольях.
Бургомистр барабанит пальцами по столу, молчит.
— Я не виноват, Август Эрнестович,— простуженным голосом говорит Адамчук.— Могу поклясться детьми. Силком затащили. Вы же меня знаете...
— Ну, а в лесу вас никто не привязывал. Могли раньше прийти.
— Не так просто. У них ведь оружие. Достали бы, если на то пошло, и дома.
—г А теперь не достанут?
— Не боюсь я их теперь. Разбрелись кто куда.
136
Крамер, несмотря на хмурое выражение лица, в душе доволен. Опасность, которая висела два месяца над ним, миновала, теперь можно ездить по району, ночевать где захочется, не боясь встретить пулю. Без единого выстрела обещал он Швальбе вернуть тех, которые в лесу, домой, отдать жандармерии их оружие, амуницию, продовольственные запасы — и слово сдержал. Правда, в местечко вернулись только пятеро, с этими, которые сами убежали,— семь. Но отряд фактически не существует. Крамеру это известно. Командир Матвеев убит, труп опознали в соседнем районе, специально ездила полиция; наиболее заядлые подались на восток, хотят перейти линию фронта. Пусть идут хоть черту в пасть, лишь бы здесь, в районе, было тихо. Конечно, без Адамчука и Косаревича, который теперь в полиции, сделать это не удалось бы. Они показали склады, назвали фамилии...
— Садитесь, Адамчук,— наконец приглашает бургомистр.
Чувствуя себя неловко и поэтому опустив глаза, вполголоса спрашивает:
— Хотел бы я знать вот что. Этим, которые вернулись позже, после вас, можно верить? Ну, вы меня понимаете...
Адамчук испуганно заморгал веками.
— Я вам все как на исповеди рассказал, Август Эрнестович. Не утаил ничего. Зачем мне таить? Оружие они отдали все, святая правда. Об этом и в жандармерии спрашивали. А как там дальше, знает один бог. В чужую душу не залезешь. Сегодня только за себя самого можно ручаться...
Бургомистр молчит.
— Я не хочу крови, Адамчук,— наконец глухо говорит он, морщась, будто от боли.— За этих пятерых перед жандармерией поручился. Кем кто был до войны, меня не касается. Самое главное — сиди тихо теперь, работай, и ничего больше от тебя не нужно. Неужели люди не понимают? Я хочу, чтоб в районе был мир, покой. Вот и все...
— Святая правда. А между тем люди всякие попадаются.
Адамчуку бросается в глаза: Крамер в этот момент беспомощный, растерянный, как маленький ребенок, которого без всякой причины обидели. Кажется, ничего не осталось в нем от важного, надутого бургомистра, кото¬
ш
рый все эти дни его укоряя. Перемена такая неожиданная, что Адамчук не может собраться с мыслями.
— Вы вот живы, а одиннадцать человек расстреляли.
— Расстреляли?—ужасается Адамчук, меняясь в лице.
— Их не допрашивали даже. Поэтому об одном прошу: сидите тихо. Голову потерять очень легко. Зачем партизаны, доносы, подкопы? А ведь есть люди, которые приходят с заявлениями на активистов, коммунистов! Слушать ничего не хочу*.. Нет никаких коммунистов, беспартийных. Есть люди. Всякие — хорошие и плохие, злые и безобидные. Все хотят жить..
: Адамчук, от волнения не будучи в силах вымолвить слова, утвердительно кивает головой. Он готов принять теперь любую программу, отречься от всего, что знал, слышал, только бы остаться живым, дышать, видеть свет даже этого серого осеннего дня. В словах Крамера — избавление. Адамчуку кажется, что он сам думал так же, думал давно, еще в те безоблачные дни, когда гонялся за чинами, деньгами, наградами. Наконец до него доносятся слова, ради которых он уже несколько раз приходил сюда, в районную управу, исповедовался, каялся, надеясь заслужить доверие бургомистра.
. Пойдете на железную дорогу,— уже спокойно говорит Крамер.— Должность прежняя. Скоро приедут немецкие железнодорожники. Нужно их хорошо встретить. Отремонтировать квартиры, дров заготовить. Людей набирайте сами. Пока нет немцев, со всеми вопросами — ко мне.
— Век буду благодарен, Август Эрнестович,— растроганный Адамчук подхватился, шапку держит в руках, кланяется.— Не подведу. Как родной отец вы для меня.
После того как обрадованный дорожный мастер исчез за дверью, Крамер еще долго ходил из угла в угол, думал. Всю жизнь боялся он потасовок, драк, крови. Так сложилась судьба, что от него стали зависеть чужие жизни. Он сделал все, что мог, чтобы эти, которые вернулись из леса, не погибли. Погибли другие — те одиннадцать, которых схватила зондеркоманда, как тайных партизанских агентов. Видно, здесь Плищинский постарался. И Косаревича недаром сразу сделали заместителем Плищинского. Косаревич не нравится: лицо недоброе, острое, как клин. Таких людей цужно остерегаться*
138
Недаром с того дня, как убежал из партизан, пи разу •не наведался к нему, бургомистру. Со Швальбе шепчется. Пусть. Так или иначе, а заслуга в том. что партизаны разбрелись и в районе тихо, принадлежит ему, Крамеру. Это признает сам Швальбе, даже рапорт написал.
В душе Крамер все же доволен собой — могла быть большая заваруха и кровь. Привели мужчин из леса жены, стоило их позвать, пообещать, что все будет тихо и мирно, если те, кто прячется, вернутся к семьям. Жены — большая сила, часто они, а не их мужья делают политику.
Бургомистр, рывком открыв дверь, входит в общую канцелярию. Так он делает всегда, когда хочет, чтобы сказанное им дошло до ушей местечковцев. Не пройдет и дня, как каждое его слово пойдет по местечку, а затем и по району, будет на все лады обсуждаться. Бургомистр ловит на. себе любопытные взгляды подчиненных. Рак- Кандерский сиял очки, протер их платочком — приготовился слушать; отложила в сторону бумаги переводчица Мария Ивановна, секретарша и машинистка в новых, старательно отглаженных платьях прямо застыли в ожидании новостей.
— В районе теперь будет тихо,— с некоторой торжественностью начинает Крамер, откашлявшись в большой красный кулак.— Война еще идет, но она далеко. Здесь, в местечке, в окрестных деревнях, селах просто мирные люди. Они должны жить, работать, а не стрелять друг в друга. Партизан нет... Поэтому и у немцев не будет причин для арестов...
— Выпустят и тех, которых арестовали? — не скрывая волнения, спрашивает Мария Ивановна.— Я вас так поняла, Август Эрнестович? Конечно, ошибка может быть, на то война. Но эта девушка Денисова из лесхоза, старые евреи... Они же невинные люди...
— Тут я ничего не мог сделать.— Почувствовав, что его поймали на слове, Крамер злится.— Есть силы выше меня. Но я говорил и буду говорить — нужно сидеть тихо. Не молоть языками...
В широкой, заставленной канцелярскими столами комнате неловкая тишина. Входит какой-то мужчина, но, поняв, что попал не вовремя, торопливо пятится назад, в коридор. Рак-Кандерский, как всегда, приходит на выручку. ' . .
— Москву, слышно, немцы заняли,— говорит Рак-
ш
Кандерский, льстиво моргая подслеповатыми глазами.— Значит, скоро войне конец. Тогда и мир будет, и покой...
— Москва окружена,— уже со злостью бросает бургомистр, направляясь к себе в кабинет.
Мария Ивановна грустно вздыхает. У нее свой взгляд на эти почти ежедневные проповеди. Опьянев от власти, делается непохожим на себя даже, казалось бы, хороший человек. Еще не прошло и трех месяцев, как Август Эрнестович бургомистр, а уже чувствуются нотки высокомерия в голосе, и походка другая, и отношение к знакомым людям может вызвать порой изумление. А ведь сам даже немецких бумаг прочитать как следует не умеет...
ГЛАЗА ДЕВЯТАЯ
Агрономы из немецкой сельскохозяйственной комендатуры внешне ничем не напоминают людей этой профессии. Два офицера и трое — в желтых, без погон шинелях, сапогах, в высоких седловатых фуражках. Комендатура заняла новое, выстроенное перед войной здание райпотребсоюза, и в первую неделю, устраивая свой быт, немцы никуда не показываются.
В конце хмурого ноябрьского дня, когда сотрудники управы уже расходились, Крамер вызвал к себе Драгуна. Настроение у бургомистра кислое, лицо — утомленное. О причине Драгун догадывается: у Крамера недоразумения с сельскохозяйственной комендатурой. Агрономы- немцы недовольны, что в районе не обнаружены продовольственные запасы. Слухи уже ходят: комендатура
берет под свой контроль мельницы, соль, оставшуюся на складе потребсоюза, немецкой собственностью будут объявлены совхозы, а также колхозные строения, инвентарь и машины. Пайки рабочим и служащим урезаются— вместо полкилограмма, установленного бургомистром, теперь будет триста граммов, иждивенцы вообще не учитываются. Удивительным в этих слухах кажется одно: немцы как будто не собираются признавать прав бывших собственников на их имущество. Кулаки, лишенцы, нэпманы — все, чье богатство в свое время было обобществлено,— из немецких рук не получат ничего.
— Сколько до войны район сдавал хлеба и мяса? —- спрашивает бургомистр.
140
— Хорошо не помню, Август Эрнестович. Хлеба, кажется, ие больше тысячи тонн, Мяса что-то около трехсот тонн.
— Эти, из комендатуры,— бургомистр отчаянно машет рукой,—требуют две тысячи тонн зерна и пятьсот — мяса. Да .еще молока тысячу тонн.
— Нереальный подход.—Взволнованный Драгун старается говорить спокойно.— Нужно же смотреть на факты., Поставки в основном выполнялись колхозами. Колхозного скота нет — погнали на восток, урожай наполовину погиб. Теперь без всякой сдачи будет голод. Вы учтите: район не только сдавал, но и получал. Даже больше, чем сдавал. Хлеба только в местечке продавалось девяносто тонн в месяц. А мука, крупа, сахар...
Крамер трет ладонями виски, встает, нервно прохаживается около стола. Высокая, плотная его фигура кажется еще более сутулой — будто невидимый тяжелый груз гнетет бургомистра.
— Я-то могу учитывать, да они не хотят,— наконец глухо говорит, он.— Вы станьте на мое место. Думаете, с ними легко?.. Еде два центнера соли на месяц выпросил да еще несчастные пайки.
— Люди же работают, должны что-нибудь получать. Всякая власть... :
— Нужно их тоже понимать, Драгун. Война, немцы льют ,кровь. Солдату подай, он знать ничего не хочет. Германия — бедная страна. Придется сдавать...
Драгун прикусил губу — с губ рвалось злое, негодующее: кто просил немцев воевать? Заговорил, сдерживая внутреннее волнение:
— Это все правильно, Август Эрнестович. Но я всегда считал немцев практичными людьми, с трезвым умом. Даже половину того количества зерна и мяса, какое вы назвали, можно взять только конфискацией. Это будет означать, что сельское хозяйство разорится вконец. Учтите, что немецкие части, которые здесь, проходили, немало взяли. Сколько зарезано коров и свиней только в одном местечке? Если сдать еще это, весной нечем будет сеять, не будет коров и свиней. Немцы на будущий год не получат ничего. Я уже не говорю о голоде среди населения...
За окном совсем темно. В дверь стучит сторожиха — худая, изможденная женщина, одетая в мужской, до пят,
141
кожух,— она вносит зажженную лампу. Крамер еще более смущен, на продолговатом сером лице пятна. Смахивает со стола невидимую пыль, непослушными толстыми пальцами перебирает бумаги.
— Вы, Драгун, напишите мне это. Осторожно только. Вы правильно говорили, но нужно осторожней. О том, что два месяца стоял поблизости фронт и зерно осыпалось, что немецкие части много у населения забрали. Побольше цифр. Они любят цифры. У меня под руками ничего не было. Сдавать придется, но, может быть, уменьшат...
Вечером в окнах местечковых хат редкая цепочка огней. Местами огни бледные, мигающие — на камельках лучина. В переулках густая, как деготь, чернота. Надрывно воют собаки. Они на привязи теперь днем и ночью,— полицейские стреляют в собак, где бы их ни увидели. Таков приказ сельскохозяйственной комендатуры. За собак будет начисляться налог, а что возьмешь с бродячих?..
Выйдя от бургомистра и обогнув сквер, Драгун постоял под старым вязом, против окон квартиры Шелега, затем быстро двинулся через улицу.
Шелег дома. И он и жена чем-то взволнованы.
— Вогнал я Крамера в пот,— начинает Драгун, пересказывая разговор с бургомистром.
Шелег слушает невнимательно, барабанит пальцами по столу, думает о своем.
— Что ты на это скажешь? — наконец спрашивает Драгун, задетый равнодушием собеседника.
— Так должно и быть. Фашисты показывают зубы.
— А что нам делать?
Вместо ответа Шелег поднимает на столе клеенку, кладет перед Драгуном газетный лист. Агроном недоуменно посматривает то на Шелега, то на его жену— она не уходит, стоит, прислонившись спиной к печке, с интересом посматривает на мужчин. Будто что-то вспомнив, Драгун вдруг впивается глазами в заголовок. Перед ним «Правда», праздничный номер за 7 ноября. Больше Драгун ничего не слышит, не видит» торопливо щупает пальцами бумагу, будто желая увериться, что газета настоящая, присматривается к дате, которой помечен номер, наконец переворачивает газету, неслышно шевеля губами, долго не сводит глаз с того места, где обычно'
142
указывается адрес редакции и номера редакционных телефонов...
Полчаса или больше читает. Шелег молчаливо сидит напротив...
— Где ты взял? — оторвавшись наконец от газеты, спрашивает агроном.
— Наши с самолета сбросили. В лесу. Буян нашел.
— Можешь дать мне до утра? Завтра принесу.
— Есть десять штук. Я сказал Буяну, чтобы еще поискал.
Лицо у Драгуна сияет, глаза блестят. В эти освещенные нежданной, неведанной раньше радостью минуты он забыл обо всем. В сравнении с тем, что он знает и чувствует теперь, не такими непоправимыми кажутся здешние их неудачи: распад истребительного батальона, так и не ставшего партизанским'отрядом, предательство тех, кому до войны верили, расстрел Денисовой, которую выдал, видимо, Косаревич,— длинная цепь больших и малых событий, приведшая к сегодняшнему их положению. И вдруг из мрака пропасти.— сразу на вершину. Немцы Москвы не взяли, она живет, Красная Армия воюет с фашистами — вот главная правда, та вершина, откуда расходятся все дороги. Будет это, будет все...
Драгун будто видит перед собой просветленные лица людей, которые, так же как он, возьмут газету в руки, прочитают ее всю строчка за строчкой — запомнив, посмаковав каждое слово, напечатанное там, в Москве. Сколько их,— пятеро, шестеро? — тех, кому уже сегодня можно дать газету, веря, что она не попадет в фашистские руки, а отправится в поход, объединяя круг за кругом новых единомышленников...
— Мы организуем новый отряд,— вдруг говорит Шелег.— У нас все есть.
— Завтра же нужно пустить газеты по сельсоветам,— добавляет Драгун.— Самкову из Пилятич нужно дать, пилятичскому учителю Батуре, секретарю сельсовета Ва- люжичу... Знаю, говорил,— наши. Гопченко один экземпляр. Шкирману — само собой... Нужно собраться вместе...
Они удивленно смотрят друг на друга: каким ясным, простым кажется то, что минуту назад они вымолвили вслух. Но слово сказано, слово уже живет. Захваченные одним страстным порывом, захлебываясь горячим шепо¬
143
том, перебивая друг друга, они прикидывают, к кому нужно поехать в первую очередь, кому что сказать, кого проверить, принимают или тут же отводят кандидатуры тех, кто, по их мнению, готов или нет присоединиться к делу, которое является сегодня самым главным, неотложным. Они в это время совсем не думают о причинах, обстоятельствах, приведших к распаду истребительного батальона,— это прошло, это позади. Не думают о жертвах, которые еще могут быть. Так, поднятая командой, атакует вражеские позиции рота — мертвые, раненые падают, живые, охваченные ненавистью, жаждой жизни, прижимаясь под градом пуль к земле и снова поднимаясь,: неудержимо идут вперед...
Выпал и растаял октябрьский снег, а Митя по-прежнему ходит в лес. Теперь за зеленками, самыми поздними, последними грибами осени. Удивительные эти, невзрачные на вид грибы, начинают расти тогда, когда жизнь замирает, береза и клен роняют трепещущие желтые листья, а полноправным хозяином леса чувствует себя один дятел, который спокойно выковыривает козявок из их невидимых убежищ. Как раз в такую стужу и слякоть зеленки набираются силы, чтобы выторкнуться на бесплодных, сыпучих, как зола, лесных желтопесах.
В тот памятный пасмурный день Митя пришел, чтобы проститься с лесом,— зеленок почти не было. Попав в знакомый сосняк, он застыл от удивления: на ветках молодой сосны висело что-то белое. В первую минуту Митя подумал, что это снег. Но утро выдалось сравнительно теплое, мглистое, между деревьями стлался туман. Хлопец подошел ближе и увидел на сосенке газету. Он снял ее — газета была советская, праздничный ноябрьский номер. У Мити дух заняло и потемнело в глазах...
...Высоко-высоко в небе плыл самолет с пятиконечными звездами на крыльях. В самолете был летчик, а у него дома — мать, братья, сестры и, может, дети. Он летел через фронт, ночью. Его могли убить, и никто не знал бы, где его могила. Но он летел. Вез не бомбы, а вот эти газеты, чтобы люди, которые остались здесь, под немцами, знали, что Москва живет, держится, хотя враг под самыми ее стенами. Хотел летчик сбросить газеты над местечком, а сыпанул на лес, на вереск.
144
Ночью в тумане трудно правильно рассчитать. Сколько захватил враг городов и местечек и сколько нужно самолетов, чтобы сбросить над ними газеты? И все ли летчики вернутся назад?..
Митя прочитал газету всю, от начала до конца. Нашел еще несколько и спрятал в корзинку. Тут же, среди вереска, валялись небольшие красные листки, напечатанные по-немецки. Пробежав взглядом текст, Митя понял, что это листовки для немецких солдат и офицеров. Один листок положил в карман — дома, со словарем, интересно
145
прочитать... Короткий осенний день кончался. С Митиных глаз в этот день будто спала какая-то пелена. Знакомые, родные его сердцу вещи становились на прежнее место. Лес был тот самый, знакомый до мелочей, его только покалечила война. Летом, в июле, немецкие летчики бросали сюда, в сосняк, бомбы, думая, что здесь войска. Множество воронок осталось в лесу, больших и маленьких, по краям их желтел песок, свисали оголенные корни деревьев, кругом валялась покореженная жесть от стабилизаторов бомб. Были в лесу и окопы, но их вырыли позже, в августе: кавалерийская часть занимала здесь
ш
оборону. Она в бой не вступала, отошла раньше, чем явились немцы. Новые окопы были рядом со старыми,, которые остались еще со времен гражданской войны. Здесь шли бои с немцами, белополяками, стрекопытовца- ми и балаховцами. В старых окопах давно цвел вереск,; росли грибы, хитрые грибники прятали здесь от чужого глаза обрезанные коренья боровиков, чтобы не выдать другим богатых грибами мест. Около новых окопов кое- где валялись нерасстрелянные обоймы патронов, запалы, гранаты.
Митя прикрыл вереском найденные боеприпасы. Идя домой, он думал: показать или не показать отцу газету? Решил показать. Свернув с насыпи, прошел сначала в хлев, спрятал под стреху газеты, а с той, которая была, в кармане, направился в будку.
Новость отца не обрадовала.
— Москва далеко,— проговорил он хмуро.— А беда вот она, близко ходит. За что тех одиннадцать расстреляли? Не знаешь?.. А ты в семье не один. Если что-нибудь, такое, не помилуют никого. А чем они виноваты, что тебе газеты читать хочется? — повысив голос, отец показал из; сестер, которые, не понимая причины спора, удивленно посматривали на Митю.— Семью погубить хочешь? Чтоб, это было в последний раз. Мало ли что в лесу валяется, неужто все в хату надо тащить? Смотри, Митя.
Отец был злой. Скомкав газету, швырнул ее в печь.
Отец снова начал этот разговор через несколько дней, когда они шли на старую усадьбу тесать бревна. Лесу на сруб было уже почти достаточно. Три или четыре ночи подряд, прячась от чужих глаз, Птах со старым Шнапсом? возил на его лошади бревна из леса. Билета на порубку Птах не имел и разрешения ни у кого не спрашивал. Железная дорога бездействовала. Путейское начальство в лице прежнего мастера Адамчука семью не выселяло, даже не было разговора об этом. Но приказ был недву-. смысленный — беречь инструмент, сложенный в пустой будке, и снегозадерживающие щиты, несколько штабелей которых стояло на участке Птаха. Будто само собой разумелось, что плата за это — проживание в казенной будке..
— Ты, Митя, не маленький и должен понимать, что время настало трудное,— строго промолвил отец.—Может, оно все переменится и наши как-нибудь прогонят* немца. Дай бог скорей, разве же я враг. Но ведь и у нем¬
ца сила. Так что беречься нужно; Немцам народа нашего не жалко. Смотри, сколько постреляли Им лишь бы к чему-нибудь прицепиться. Нужно уметь жить, как набежит. Твоими этими газетами не поможешь, если танками не взяли. Вот если бы хату поставили, убегать нужно из этой будки. На черта служба эта, да и кому служить?
Митя чувствовал, что в словах отца есть своя правда, но с ней не хотелось соглашаться. Отец больше всего думал о семье, о том, чтобы как-нибудь прожить. Митя же не мог представить себе, что все останется так, как есть. Тогда не стоит жить. Такая жизнь была бы ужасна. Он уже слышал о тех расстрелянных. Их похватали из разных деревень. Среди погибших три местечковца, и все незнакомые. Особенно страшной, нелепой была смерть одиннадцатого, молодого, красивого хлопца из Пилятич, отку-^ да родом и Митина мать. Его взяли на дороге: шел в
местечко к родственникам. Немцам, видно, не понравилось, что был он по-праздничному одет — в новом костюме, туфлях, белой вышитой рубашке. Поманили пальцем — ком, ком, — он подошел к машине, а они очередью из автомата...
Митя с отцом ежедневно ходят на новую усадьбу. Венец за венцом растет сруб. Хата поднялась уже до окон, и Птах втайне тешится ею. Митя научился тесать бревна, умеет обращаться с тесаком, фуганком, долотом. Вечером идет к Плоткину. Газету прочитали втроем и листовку перевели. В ней говорилось, что наступает зима, а семьи немецких солдат и офицеров, которые воюют на фронте, голые, голодные. В конце призыв — сдаваться в плен Красной Армии. Хлопцы пожали плечами: кому должны сдаваться немцы здесь, за сотни километров от фронта? Листовка ведь здесь брошена.
Хмурым утром мимо будки к лесу проехала подвода.
Впереди нее важно шагали два немца в голубых шинелях, с черными автоматами. Сзади, понуря головы, с винтовками на плечах, шли три полицейских. Полицейские в обычной одежде, с белыми нарукавными повязками, на которых чернело что-то написанное по-немецки. Из троих знакомый только один Семен Телеш, высокий, угрюмый человек, до войны он работал на станции грузчиком. На телеге старый кузнец Лейба с толстой, неповоротливой женой Ханой. Они тепло одеты, будто собрались в дальнюю дорогу. .
— Степан, выйди, посмотри! — крикнула мать, вбежав в хату с пустым ведром в руках.— Боже мой, боже, что же это делается на свете?..
Митя с отцом вышли на порог и долго стояли, поглядывая на черный большак, по которому топали пять неуклюжих фигур.
— Расстреливать повезли,— вернувшись в хату, сказал отец.
— Так в чем же виноват хоть этот Лейба? Он же никому зла не сделал, воды не замутил.
— Всем то же будет.
— А Семен этот. Как же он поглядит в глаза Лейбе? Вместе жили...
— Разве мало сволочей на свете...
Мать плакала, отец, молчаливый и задумчивый, сидел на лавке. Митя со сжатыми губами и побледневшим лицом ходил по хате. Через полчаса из яеса донеслась автоматная очередь и несколько одиночных выстрелов.
• ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
О а будкой голое серое поле, темный лес. Be* ^тер гонит по шляху скрученные сухие листья, гудит в порванных телеграфных проводах. Через переезд Птаха к лесу ежедневно плетутся местечковцы, катят перед собой двуколки — снегу еще нет. На двуколках, которые теперь зовут тачанками, везут дрова.
Над местечком — сизые дымы из труб. Стелются по земле, как туман, рассеиваясь к полудню в низком, сером небе.' Митя шел к Саше Плоткину, когда на улице, около бывшей железнодорожной лавки, встретил Катю, сестру Ивана Лобика.
— Иван пришел! — крикнула она счастливым голосом и побежала.
Он не стал ее задерживать, расспрашивать, а сам бросился на Вокзальную улицу. Там, в покосившейся хате, отгороженной от улицы вишневым садом, снова живет Иван!
Митя торопился, стучал ботинками по замерзшей земле, волнуясь и все прибавляя шаг, будто боялся, что не застанет Ивана дома. Где-то в глубине сознания на миг даже возникла мысль, что это сон, который вскоре развеется.
Вблизи хаты Ивана, посреди улицы, огромная воронка от бомбы. На дне воронки синеет ледок.
Иван — знакомый, хотя и очень исхудавший, почерневший,— сидел на печи, свесив ноги в подшитых валенках. Митю встретил равнодушно, протянул с печки руку
150
и отвернулся. В хате полно женщин, они, когда Митя вошел, на минуту умолкли, а потом снова заговорили о своем — про сыновей и мужей, которые бог знает где, и о тех немногих, которые уже вернулись,— чего насмотрелись они„ сколько нагоревались...
Женщины вытирали уголками платков глаза, а Иван, будто бог со старинного образа, сидел с нахмуренным; застывшим лицом, поглядывая со своей высоты куда-то в окно. Он, казалось, не хотел ни слушать, ни говорить:
Митя примостился на скамеечке и не знал, как держаться. Иван его не замечал. Он ничего не спросил,—а не виделись они почти пол год а,— и то приподнятое настроение, с которым Митя летел к давнишнему другу, как рукой сняло.
Скрипнула дверь с улицы, и в сенях мелко затопали, зашептались. Пришли девчата. Несмело, одна за другой вошли в комнату — раскрасневшиеся от холода, сдержанные. Женщины, чтоб не мешать, отправились по домам. Иван соскочил с печи, растерянный, смущенный стоял посреди хаты, не зная, что делать. Митя тоже встал; только теперь он увидел, как измотала Ивана дорога — тощий, как жердь, одежда на нем висит. Иван, видно, сам стыдится своего вида. Девчата испуганно смотрят на него и не знают, что говорить. Первой нашлась Вера:
— Хорошо, что ты вернулся, Иван.
Он ответил хрипло, отводя взгляд в сторону:
— Садитесь.
Девчата — кроме Веры пришли Сюзанна и Нина Грушевская, тоже из девятого класса,— сели на скамейку, Иван и Митя стояли.
Разговор не клеится. Девчата сидят, чувствуя себя неловко. Они, должно быть, жалеют, что так рано пришли, не дав Ивану времени привыкнуть, успокоиться. Митя украдкой смотрит на Сюзанну, ловя себя на мысли, что совсем не волнуется. Прежнего замешательства* которое охватывало его при встрече с девушкой, нет.
— Ты убежал из плена? — спросила Вера.
— Не был я в плену,— ответил Иван, посматривая в пол и как бы силясь что-то вспомнить.— Был в боях. Два месяца. Двоих наших убили. Нупрея Гиля и Миколу Га- лембу. Нужно матерям сказать...
Девчата, Вера и Нина, плачут, у Сюзанны белое без кровинки лицо. «Нупрея убили»,— удивляясь своему спо-
151
койствню, думает Митя. Он тогда их проводил, Ивана и Нупрея, Нупрей просил писать. Куда писать?.. Больше Нупрея не будет, никогда не будет... Не укладывается в сознании — живой, подвижной Нупрей никогда не придет к нему, Мите, он исчез, как будто и не было его. Но он был: Митя видит лицо Нупрея, фигуру, слышит его голос.,.
Понурив голову, поводя будто от холода плечами, Иван ходит из угла в угол. Мать стоит, прислонившись спиной к печи. Она ничего ие понимает, больная женщина. Радуется, что вернулся сын. Сестры Ивана, Кати, нет дома. Где Катя? Должно быть, побежала к родне...
— Никому не говорите,— просит Иван.— Не нужно говорить. Скажу сам... Я пришел, а их нет...
О Галембе Митя забыл, только теперь до него доходит, что у Сюзанны тогда, летом, когда охраняли железную дорогу, что-то с ним было. Он смотрит на Сюзанну. Она уже совсем спокойна, поправляет рукой белую пуховую шапочку на голове, только взгляд смущенный. Кровь приливает к лицу Мити, перехватывает дыхание. Галембы нет, а она спокойна. Она была бы такой же спокойной, если бы погиб он, Митя. Удивительно, но о малознакомом Галембе, которому когда-то завидовал, ненавидел которого, Митя думает теперь с большим сочувствием, чем о Нупрее. Сюзанну прямо ненавидит.
Девушки поднялись — у Веры и Нины заплаканные глаза,— молчаливо вышли. Митя остался. Новое, неизведанное чувство родилось у него к Ивану. Он не может еще дать ему названия, но чувствует, что Иван не тот, каким он знал, помнит его. Он другой, с ним произошла перемена. Митя бежал сюда, как бы торопясь застать прежнее, то, что было до войны, хоть на минуту погреться в его тепле. Но прежнего нет. Он начинает понимать Ивана и не обижается на его равнодушие.
— Голова болит,— проговорил Иван, будто прося извинения.— Больше месяца шел, ел что попало, черт знает где ночевал — и ничего. А дома раскис.
— Тебе нужно поправиться.
— Поправлюсь. Отъемся. Никуда это не уйдет.
Было неудобно о чем-нибудь расспрашивать Ивана.
Он был еще где-то там, в плену трудной своей дороги. Митя стал прощаться.
— Я приду к тебе,— сказал Иван.— Нужно сначала сходить к родным Нупрея...
ш
2
Зима началась холодами и ветрами. Стонал и трещал недалекий лес, ошалело завывало в трубе и в телеграфных проводах. Ветер валил с ног, засыпал глаза снежной крупой.
. Из будки Птаха эти дни никто не выходил. Никто не прошел мимо нее из местечковцев. Было трудно предста^ вить, что лютая вьюга застанет кого-нибудь в дороге. И уже совсем нельзя себе представить, что там, на фронте, кто-то в это время лежит в засыпанных снегом окопах.
Вечером, когда на камельке догорал еловый пень, а неровные отблески огня прыгали по давно не беленным стенам, послышался настойчивый стук в дверь будки.
— Стучит кто-то,—сказал Митя. Он сидел у самого огня и читал. Отец плел лапти.
— Может быть, ветер,— проговорил отец.— Кого в такую ночь понесет?
Но стук повторился, теперь уже в раму заснеженного окна. В будку, к теплу, просился человек.
Отец вышел в сени и снял задвижку. На пороге появилось белое, обледеневшее привидение. У Мити по телу побежали мурашки, на печке громко заплакала младшая сестра.
— Боже мой, кто же это такой? — заохала мать.
— Не подходите ко мне,— натужно засипело человеческим голосом привидение.— Может, я вам тиф или холеру принес. Я Иван Гусовский, шофер, если не забыли. Убежал из плена...
— Топи печь,— приказал Птах хозяйке.— Грей воду...
Когда тот, кто назвался шофером, сбросил с себя обледеневшие лохмотья, перед взором предстал невероятно изможденный, измученный человек. Он весь был черный, худой —кожа да кости. Нельзя было поверить, что этот скелет своими ногами шел сквозь мороз и ветер. «Хорошо, что Иван Лобик не попал в плен»,— мелькнула у Мити мысль.
Лохмотья выбросили, Ивана немного помыли, одели в отцовское тряпье, и он сел на соломе, разостланной в углу возле печки. Ему дали есть. Смотреть на то, как он ест, больно. Иван весь сгибается, дрожит, в горле у него что- то булькает, рвется.
til
— Тебе нельзя много есть,— сказал отец и отобрал миску с картошкой.— Ложись спать. Завтра посмотрим.
— Еще чуть-чуть,— попросил Иван.
Ивана накрыли поверх одеяла кожухом, тем самым, который отец надевал в холод. Иван повалился на солому как убитый и сразу заснул.
В будке Птаха в ту ночь не уснули. Лютовал и бился о каменную стену ветер, стонал лес, а здесь, в тепле, по- грузившйсь в тяжелый обморочный сон, мучился человек: Он кричал, скрипел зубами, на минуту стихал, свисая простуженной грудью, будто кузнечным мехом. Потом все начиналось сначала. Такой бред продолжался всю ночь. Митя думал, что шофер заболел.
Назавтра, однако, Иван проснулся здоровым. Лицо его заросло густой щетиной, сам он как засохшее дерево, большие черные глаза запрятались под самый лоб, но теперь шофер был больше похож на человека, чем вчера'. Он умел даже смеяться.
— С того света вернулся, тетка,— сказал он, обращаясь к матери сиплым, совсем не похожим на прежний голосом.— Чертей видел, а бога — нет. Нет на свете бога, иначе он такого не позволил бы. А если есть да спрятался, я ему бороду вырву...
Мать отмахивалась от слов Ивана, а сам он пробовал смеяться.
Бритвой Иван соскреб с лица щетину, натер несоленым салом отмороженные руки и ноги, потом завтракал, стараясь есть спокойно. Под утро метель утихла, но Отец не пошел на усадьбу. Сделал он это ради Ивана. Иван начал рассказывать...
Когда режут скот, то стараются делать это так, чтобы животное не догадывалось о близкой смерти. Свинью, перед тем как заколоть, покормят, почешут ей бока, и она, разомлевшая от ласки, доверчиво ляжет. С ними, пленными, так не поступали. Их, тридцать или сорок тысяч, загнали на обычное осеннее поле, огороженное колючей проволокой. Раненых и больных добили по дороге, и никто не считал их, не записывал фамилий.
Первые два дня не давали ни еды, ни воды, и пленные лежали на голой земле. Но вначале умерло мало — тысяча или две, самые слабые. Потом начали кормить. Привезли* гречихи в снопах,— видно, поблизости осталась необмолоченная,— и делили по снопу на десять человек.
154
Некоторые пробовали жевать солому. Умерло еще несколько тысяч. Их вывозили, как дрова, голых, накладывая на длинные фуры штабелями.
Через неделю еду раздавали из котла, горячую. Раз в сутки. Что варили? Трудно было разобрать: картошку, брюкву, свеклу — все нечищенное, с землей. И гречиху варили, и ячмень, и овес. Лошадям это еще, может быть, и ничего, лошади бы ели, а люди... Но ели и люди. Даже ссорились, норовя урвать второй черпак.
Немцы любили, когда пленные ссорились. Они тогда стреляли в толпу, не разбирая ни правого, ни виноватого. Привезут дохлого коня, бросят на поле, на него налетят люди, целая толпа, а они стреляют. Экономия: одна пуля прошивала двоих.
Еще там, на поле, тысяча или больше пленных сговорились. Бросились на проволоку, передние упали на колючки, а по их телам полезли остальные. Пулеметами секли с вышек, собаками травили, но, может, кто-нибудь и убежал. В ту же ночь пленных подняли со снега, построили в шеренги и каждого пятого отволокли в сторону. Расстреливали. Правого соседа Ивана расстреляли. Иван оказался четвертым.
Через месяц пленных осталось только три тысячи. Нельзя было поверить, что они живые. Ночью их заносило снегом, и казалось, что в поле просто намело невысокие сугробы. Но каждое утро большинство сугробиков начинало шевелиться, люди еще жили. Скоро в этот лагерь — он был пересыльным — пригнали свежих пленных, а тех, кто выдержал, повели дальше По дороге Иван убежал...
Митя слушал Ивана не шелохнувшись. Что-то горячее, болезненное росло в груди. Отец курил, мать плакала, вытирая слезы фартуком.
— Такой войны еще не было,— сказал отец.— Бьют и лежачего, и раненого, и больного. Просто народ уничтожить хотят. Правду о них писали, фашисты...
— В бога не верили, а в святом писании сказано: пойдет народ на народ, и потекут реки крови,— промолвила мать.— Все так и вышло, как на ладони.
— Брось, тетка, о боге.— Иван сидел на скамейке, прислонившись спиной к печке.— Видел я, что делают те набожные. Одной рукой крестится, а другой человека штыком колет.
155
— И сказано было: встанет брат на брата, а сын на отца*— продолжала мать.— Потеряли люди веру, поэтому такое и пошло.
— Озверел народ,— сказал отец.
— Озверел,—подтвердил Иван.— Диво ли, что озверел? Если тебя бьют, и плакать не дают, и никто тебе не посочувствует, что тогда делать? Бить, резать, как и они... Нашлись такие из пленных, которые поступили в немецкие охранники, дали им винтовки и березовые палки. Стреляют они в своих не хуже немцев, разбивают палками головы. А потом проштрафился в чем-то один, пихнули его назад к нам за проволоку. Так в первую же ночь его разорвали на куски...
Митя молчит. Новое, неведомое чувство наполняет его. Он еще раньше думал о том, как это можно, глядя в лицо, в глаза человеку, стрелять в него. Война — это другое дело, там люди редко видят тех, кого убивают, в кого стреляют, а если и видят, то ими владеет в таких случаях инстинкт самосохранения: не убьешь врага — он убьет тёбя. Но стрелять в безоружного, беззащитного... Этого Митя не понимает. Он много читал о гражданской войне, знал о зверствах, об издевательствах над пленными красноармейцами. То была война классовая, те, которые издевались, убивали, были офицерами, панами, богачами, их ненависть можно понять. Кончалось их господство, и они лютовали. А немцы?.. На них никто не нападал, с ними торговали, возили им хлеб и масло, они сами пришли незваные-непрошеные. И кто в немецкой армии: не одни же лавочники и колбасники, есть же и рабочие и крестьяне...
— Неужто немцы так ненавидят нас? — спросил. Митя.— За что так издеваются?
— Ненавидят? — переспросил Иван.— Не знаю. На вид они спокойные. Застрелит человека — и хоть бы что. Курит сигарету, смеется. Но я их ненавижу. Все они сволочи и висельники. Одна с Гитлером банда. Если бы попал теперь который в руки, резал бы живого, не имел бы жалости ни одной капли.
— Грех так говорить, Иван,— проговорила мать Мити.— Не дай бог.
— Ну и что же ты, Иван, думаешь теперь делать? спросил отец.
156
— Нужно кости сначала поправить. Пойду в деревню, есть у меня одна тетка, хату ей помогал ставить. Может, пустит на печь. А нет, так свет не без добрых людей, как-нибудь перезимую. А там —бог батька, каждый куст.^аст ночлег. Крутить баранку к немцам не пойду. Негет
— Тебе что, один душою.
— Немецкого хлеба я попробовал уже, дядька. Горький хлеб, и вам не советую есть.
— .Я знаю сам. Но что сделаешь? Вот забрали тебя в плен, душили голодом и — молчал. Убежал — и все твое убежало.с тобой. А я куда убегу? Куда их дену? — отец показал на притихших детей, внимательно слушавших разговор взрослых.— Поставил кое-какие стены — и тебе спасибо, помогал,— до лета, может, приведу в порядок, выберусь отсюда. О чем же мне больше думать? Лишь бы как-то тише прожить...
—- Да, время лихое настало, дядька.
Иван ушел через денц переспав у порога на соломе две ночи. Его уговаривали пожить еще, отдохнуть, но он настоял на своем. Он стыдился своего вида, стеснялся много есть, хотя постоянно испытывал чувство голода, Отец дал ему свое белье, ватник. Мать — на дорогу — печеной картошки, кусок сала. Митя проводил Ивана до самого леса и долго колебался: дать ему газету или нет. Он взял одну из-под стрехи, из своего тайного хранилища, но разговора о фронте, о боях, которые велись под Москвой и о которых писала газета, в будке не было. Неловко было с Иваном — почерневшим, исхудавшим — начинать такой разговор. И все же Митя решился предложить газету. Хотелось чем-нибудь утешить, подбодрить измученного голодом и холодом шофера.
— Вот газета,— сказал Митя.— Наши с самолета сбросили.
— С самолета? — встрепенулся Иван.— Я, брат, с октября, как попал под Орлом в плен, никаких газет не читал. Давай посмотрим...
— Можете себе взять. У меня еще есть. Тут есть и о боях под Москвой.
Иван окинул парня быстрым, как бы испуганным взглядом и молча засунул газету за пазуху. Потом медленно зашагал, оставляя на снегу развалившимися, перевязанными проволокой сапогами неуклюжие следы. .... :
П7
3
Иван Лобик пришел дней через пять, вечером, одетый в то самое старенькое пальто, которое носил еще в школе. Митя ждал его все дни. Он предчувствовал, что хорошие отношения с Лобиком наладятся, однако неясная тревога закрадывалась в душу.
Лобик пришел, и тревога исчезла.
В Митиной семье Ивана любили.
— Горя повидал, детка.— Мать с грустью смотрела на хлопца.— Смотри, какой худой, одни глаза светятся.
Мать открыла сундук, который запирала от детей, достала полотняный мешочек — завязанный с двух концов рукав рубашки— и, хотя Иван противился, насыпала в карман семечек.
Отец поздоровался с Иваном, как со взрослым, за руку.
— Может, с тобой и Митя воспрянет духом. А то повесил нос, будто отца похоронил. Учились вы, учились, а оно смотри как...
Не забыли Ивана братья Мити — Адам и Петрусь. Адам, который в мирное время ходил бы в шестой класс, а теперь учился у сапожника, выглядел ладным детиной. Он будто стыдился Ивана. Петрусь, наоборот, носился по хате, показывая гостю свое добро — коньки, плоский немецкий штык, половину школьного глобуса. С лежанки с жадным любопытством следили за гостем девчата — Таня и Катя.
Мало что изменилось в доме у Мити. Та же деревянная перегородка делила будку на две комнаты. В большую, чистую комнату, как и прежде, выходила лежанка и печка-голландка. Здесь стояли никелированная кровать, комод, стол, деревянный ящик с Митиными книгами. Тикали на стене часы с нарисованным на циферблате трактором.
За окном сгущались синие сумерки. Митя затопил голландку. Снова, как в прошлые, мирные дни, трещали дрова, по стенам прыгали неровные отблески огня, а два друга, склонившись около печки, сидели и говорили... Через час Митя знал все, что случилось с Иваном, Нупреем и другими десятиклассниками, которых тогда, в июле, призвали. Шли пешком две недели, от Брянска ехали, в Ливнах их взяли на учет в военкомате. Направили в за*
158
пасный полк. Но полк ночью снялся, н они пристали к военной части, выступавшей на фронт, под Гомель. Обмундировали, дали винтовки. Из-под Гомеля отходили, стояли в обороне под Комаричами. Галембу убнло еще в Белоруссии. Пришел приказ — откомандировать десятиклассников в военное училище, которое находилось в Казахстане. Снова приехали в Брянск. Случилось так, что часть откомандированных отправили, а другая осталась. Из шестнадцати местечковых хлопцев остались Лобик с Нупреем Гилем. Неожиданно немцы захватили Орел. Брянск оказался в тылу. Иван с Нупреем попали в заградительный отряд. За ночь их сделали минометчиками— Гиля командиром расчета, Лобика первым номером. Миномет ротный, маленький, техника несложная. Держались два дня, но утром на третий немцы пустили танки. Противотанкового оружия, даже гранат, в отряде не было. Кого не убило, раздавили гусеницами—танки гладили окопы.
— Ты видел, как Нупрея убили? — спросил Митя.
— Нет. Меня контузило раньше. Немцы нас засекли, накрыли миной. Называется вилка. Запасной позиции не было.
— А убитого видел?
— Нет. Окопчик Нупрея был впереди. Танки его сровняли с землей.
— Ты и матери так сказал?
— А что я скажу?..
Митя с облегчением вздохнул: оставалась капля надежды, что Нупрей жив. В памяти прикидывал, что делал он сам в то время, когда хлопцы воевали. Бой под Брянском произошел в начале октября. Митя ходил тогда в лес, играл с Плоткиным в шахматы. Два года разницы, ио Иван видел все, а он, Митя, ничего...
— Может, Нупрей успел отойти?
— Чудак ты.— Иван грустно улыбнулся.— Куда отойти? Нас оставили специально, задержать немцев...
— Никого не осталось в живых?— Митя почувствовал, как в груди холодеет.
— Не знаю. Меня женщины подобрали. Восемь дней лежал в хлеву.
Худое лицо Ивана сосредоточенно. Говорит тихо, мучительно морща лоб, будто старается что-то вспомнить.
15*
— Что ты думаешь о фронте? — спрашивает Митя.
— Отступление.— Иван безнадежно махнул рукой,— У немцев танки...
— У меня есть «Правда» за седьмое ноября. Бой под Москвой.
— Я уже читал. Вилюга принес.
— А где он взял? — В голосе Мити обида.
— Кто-то в лесу нашел. Газета старая, больше месяца прошло. Немцы говорят, что Москва и Ленинград заняты.
Иван подавлен, на все смотрит с отчаянием. Кажется, его совсем не интересует то, что было, что будет. Во дворе отец разговаривает с Адамом — они ездили к Шнапсу резать сечку. Иван начал одеваться. Вместе с ним вышел Митя. Одинокая стоит на кургане сосна. Снег повис на ветках, пригнул их к земле.
Митя вспомнил Первомай, который они втроем отпраздновали здесь, под сосной, шумные сборы десятиклассников на переезде, и у него защемило в груди. Всплыли в памяти строчки из известного стихотворения о сосне — там, на далеком севере. Молчаливая, задумчивая, и эта, своя, казалось, тоже грезила о солнечных днях, неведомых далях...
Шли вдоль занесенной снегом железной дороги, молчали. Висело над землей бездонное звездное небо. Было светло. На снежную гладь полей ложились синеватые полосы. Кругом — над лесом, полем, железной дорогой — настороженная тишина.
На Вокзальной улице, почти напротив хаты Ивана, стоит дом, большой и красивый, окруженный садом. В нем живет полицай Семен Телеш. Друзья стояли около ворот и смотрели на дом. Окна в нем светятся, в саду то и дело поблескивает огонек папиросы. На станции прогремел выстрел, Иван вздрогнул.
— Я тебе хотел рассказать,— начал он глухим, ломким голосом.— Меня чуть не расстреляли. Здесь близко, около Кукович.
Митя молчит. Что-то страдальческое, мучительное слышит он в голосе Ивана.
Перед Куковичами я ночевал в одной деревне, и там мне сказали, чтобы не шел по шоссе. На шоссе подбили, немецкую машину, и всех,, кто попадался полицейским на глаза, хватали.
№
Я послушался, пошел лесной дорогой. Беду, должно быть, предчувствуешь. Вышел из леса, какая-то другая деревенька в лощине. А тут как раз мчит через деревню машина.
В кузове — полицаи. Увидели меня, соскочили. «Руки вверх!» Сняли шапку — волосы длинные. Нас, десятиклассников, после того, как назначили в училище, не стригли. «Ясно,— кричат,— командир или политрук. Пихай в кузов».
Пихнули, сами сели и ничего не спрашивают, кто я, куда шел. Им ясно. Везут куда-то. Приехали в Куковичи. В каком-то гумне меня заперли и ушли. Тоскливо стало. Главное — перед самым домом попал в кашу. Месяц шел, несколько раз задерживали, но выкручивался. Говорил, иду из ФЗУ, посмотрят — молодой. Отпускали.
Скоро возвращается один — высокий, красивый, скалит зубы. «Ты,— говорит,— не бандит, я вижу, у бандита рыло, а ты — доходяга. Но немцы тебя все равно в лагерь не'возьмут, они вашего брата, политрука, на месте кончают». И спрашивает, куда шел. Я сказал. «А Франю Бей- зик знаешь?» — «Знаю».— «Где она живет?» Отвечаю. Он снова оскаливается, только еще противнее. «Молись,— говорит,— на звезду Венеру и целуй землю, что на меня напал. Концы бы тебе были. За свое спасение сослужишь мне маленькую службу».
Повел меня в хату, написал записку. «Передай Фраке...» И отпустил.
— Я знаю эту Франю,— сказал Митя.— На окопах видел. Крутелка.
— Черт с ней, пусть крутится. Но знаешь— все от случая зависит. Не знал бы ее — ни за грош кокнули бы. Человек как муха.
Иван проводил Митю обратно до железной дороги. Было уже поздно. В местечке — заливистый собачий лай.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Хата Ивана Лобика — кривобокая, покосившаяся — еще до войны была местом шумных мальчишеских сборищ. Отец Ивана сошелся с другой женщиной, платил на содержание детей алименты; мать, больная тихим поме¬
т
шательством, хлопцам не мешала. Подростки, незаметно для себя самих становившиеся юношами, любили вольницу, поэтому с утра до вечера не закрывалась дверь в хате Ивана. Сюда наведывалась чуть ли не вся Вокзальная улица. Было время — года за четыре до войны,— когда в хате Лобика, занимая все свободное пространство, стоял даже большой клубный бильярд. Бильярд стащили из клуба автошколы как бы в отместку за то, что курсанты не пускали хлопцев гонять шары.
Позже, когда Иван учился в девятом и десятом классах, круг друзей сузился. Действовал более строгий принцип отбора, который требовал определенного единства стремлений и интересов. Но все равно шумно было в хате Лобика. Тем более что натура у Ивана мягкая, широкая, хочешь книгу — бери, и ие спросит, принесешь ли обратно.
С возвращением Ивана дружба возобновилась. Постепенно, день за днем хлопцы растопили лед в душе Лобика.
Митя не мог прожить дня, чтобы не сходить к дружку, не принять участия в спорах, которые каждый вечер разгорались между хлопцами. С утра они с отцом возятся на усадьбе деда, ставят хату. Поднялись стены, прорезались окна, двери. Вверху сплелись стропила. Сарайчик, а не хата, но отец радуется. Митя с нетерпением ждет вечера.
Хозяин из Ивана Лобика неважный. Сидя дома, мог бы хоть немного привести в порядок жилье. Выбитые взрывом бомбы окна мать еще с осени заткнула ветошью. Так осталось и при Иване. В хате страшно холодно. В ведре замерзает вода — лежит круглая ледышка. Но такой мелочи, как холод, Иван, кажется, не замечает. Каждый вечер кроме Мити приходят к Ивану Микола Тябут, Базыль Вилюга и Шура Гарнак. С тех пор как хлопцы простились с Митей, он вместе их не видел. Микола нигде не показывался.
Керосина у Ивана нет, дров тоже. Собравшись, хлопцы решают истопить голландку. Холодно сидеть в темной нетопленной хате, и друзья отправляются заготавливать дрова. Иван хочет — идет, хочет — сидит дома, в зависимости от настроения. На голом, как бубен, его дворе ничего деревянного нет, все давно порублено и сожжено. Вооружившись топором, хлопцы идут к железной дороге. Там — щиты для снегозадержания.
6 И. Науменко.
162
Щиты никто не охраняет, и хлопцы приступают к работе. Ивановым топором рубить нельзя, им можно только ломать и крошить*— этот топор, должно быть, не точили с тех пор, как попал он к своему беззаботному хозяину. Хлопцы лом®ш, крошат, и чере$ час в сенях Ивана лежит гора дохгок. Хорошему хозяину этих дров хватило бы на месяц, у Ив>ана они разойдутся за три дня. В голландке трещат смолистые доски, неровные отблески огня скачут по темным, давно не беленным стенам, по замерзшим окнам, по столу, заваленному книгами. Хлопцы пристраиваются возите печки, кто на чем — на скамейке, стуле, сам хозяин стдат на; корточках.
— Должна быть, брехня, что Москву взяли,— начинает Миколга.— Немцы тогда бы-. не так затрубили. Они умеют хвастать. В их газете было написано, еще когда они только Орел заняли, что нашей армии нет. Ничего нет — ни самолетов, шгтанкон. А война ведь идет...
— На Украине фронт в Донбассе, эго я знаю,— заявляет Шура Гарнак.— Донбасс не сдали. Недавно окруже- нец шел. Рассказывшг.
Иван Лобт ешзтртст на все более мрачно, чем остальные:
— Ммото1 они захватили. И н дует рттал ь н а я база на Украине в- их руках. Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровск. У них и так больше, чемг у нас, техники.
— Больше,— соглашаются хлопцы.— Германия раньше, чем Россия, вступила на капиталистический путь. Один Рур что. значит. А теперь у них чуть ли не вся Европа, Франция; Чехословакия... Это же развитые страны. Румынская нефть у них...
— А что- самое главное в войне? —спрашивают хлопцы Лобика-.— Он был на фронте, должен лучше знать.— Техника?
— Техника,— подтверждает Иван.
Хлопцы замолкают. Они все изучали экоиочтеческую географию, историю и знают, что побеждают те армии, которые лучше вооружены. Так бвото во времена Крымской войнъг, в войне России с Японией, в империалистической войне. То, что дала им школ-a, давит теперь тяжелым грузом. Они видели моторизованные колонны немцев, армады самолетов и вообще хорошо понимают, какая угроза нависла над их страной. Но доводам рассудка не хочется верить. Куда больше их удовлетворило бы какое-
163
нибудь чудо, что-нибудь такое, что поломало бы все .доводы скучной науки под названием экономика.
— В гражданскую войну с нами воевало четырнадцать держав,— задумчиво говорит Мита.— Техники у ыш было больше, чем у нас, в десять раз. А пойедшш мы. Значит, не самое главное техника...
— Не самое главное,— подтверждает Микола.
— Исход войны решает дух народа,— заявляет Митя.
Хлопцы удивленно смотрят друг на лруга. Перед их
глазами как бы встают не раз виденные на экрана красноармейские полки, буденновекие конники, голодные, измученные. Они гнали хваленых генералов, раайивсадш армии, вооруженные .первоклассной техникой. В самом деле, почему они победили? В чем была .их еила? Видимо., .существует что-то более значительное^ более важное, чем самолеты, бомбы, танки, чем все то, что называют обычно военным превосходством...
Это — выход, и они хватается за него. .Вспоминают «Войну и мир» Льва Толстого — именно те места, где речь идет о духе народа. Им нравится теперь это не очень ясно очерченное слово. Дух означает душу, а в нее они не верят и не знают, что это такое. Ни одна из школьных наук не говорила о душе. Они не изучали философии, но уже знают, что есть только то, что видишь, что можно ощупать, понюхать или выявить при помощи приборов. Мир заполнен материей, которая движется,...
Теперь они с жаром., с увлечением говорят о духе. Они как бы ощущают его в самих себе, хотят, чтобы произошло чудо, чтобы армия., которая отступала, сдала сотни городов, потеряла миллионы убитыми, -пленными, собралась с силой и погнала врага обратно. Этого они хотят больше всего на свете, и это можао назвать духом...
Дрова в голландке догорают, хлопцы сидят и разговаривают в темноте. От этого слова, которыми лани обмениваются, как бы приобретают еще большую весомость, особую таинственную значительность.
Невидимые подземные родники, бьющие где-то на самом дне, наполняют водой тихое лесное озерцо. Окруженное лозняком, раскидистыми ольхами, не пересыхает оно в самую сильную жару.
Ежедневно в знойный полдень со всех концов пастбища гонят сюда на водопой измученные пастухи свои ста-
6*
т
да. И озерцо это небольшое — сильный человек перепрыгнуть может,— но никогда не выпьет его скот, хоть сгони его сюда со всей округи...
Может, впервые за все тяжелые дни войны друзья почувствовали, что по-прежнему верят в то, что дали им книги, шкэла, их пока что еще небольшая жизнь. И когда среди сомнений, боли, разочарования с новой силой вспыхнуло это чувство, самое главное, без которого нельзя жить, они сразу ожили. Вера — невидимая, неуловимая сила — возвышает душу, наполняет ее переливным блеском, чудесной музыкой...
Собираются у Лобика свои, школьные ребята. Они не умеют ни хитрить, ни таиться друг перед другом. После мучительного одиночества каждый из них словно попал в знакомый школьный мир. Охмеленные радостью, начинают строить планы, спорить, мечтать.
— У немцев нет бензина! — кричит Вилюга, размахивая руками.-—Их наступление захлебнется. Ну, пусть займут Москву, до Урала еще далеко. Наполеон тоже был в Москве. Что из того?
— Дурень ты.— Рассудительный Лобик горячится, когда другие говорят то, что противоречит его мыслям.— Что ты равняешь Гитлера с Наполеоном? Наполеон узкой полосой шел. Занял Москву, ему дальше хода не дали, и конец... Гитлер наступает всем фронтом. Промышленные центры захватил. И хватит ему бензина, не волнуйся...
. За «дурня» Вилюга не обижается, но хватается за Другое.
— Вой что, ты за Гитлера! — кричит он так, что слышно во дворе.— Из-за таких, как ты, и отступление. Приплелись домой, валяетесь на печи!..
Скептицизм Лобика кончается, и он кричит так же, как и Вилюга:
— Из-за вас, горлопанов, отступление. Кричали — воевать будем на чужой территории, шапками закидаем... Где ваши танки, где самолеты? Подсчитай, сколько будет от Львова до Ростова. Две тысячи километров.
Лобик чересчур уж хватил, и на него набрасываются все.
— Ты о ком говоришь? — спрашивают его.
— О вас говорю... Все вы такие!
— А ты какой? Герой. Навоевал... День полежал в окопах...
165
— Плевал немец на Баши окопы. Месяц под Брянском копали, кричали: «Неприступная линия», а танки немецкие уже в Орле. Любуйтесь вашими рвами...
— Ваши, ваши, а твои где? Сам ты чей? В полицию иди. Там такие нужны1..
Накричавшись до хрипоты, хлопцы выходят на улицу. Бьет в лицо ветер, шумит в опустевших садах. Зимнее небо щедро усеяно звездами, из-за леса выплывает месяц, льет на темное местечко свой печальный свет. Однообразно гудят порванные телеграфные провода. Стреляют полицейские. Патрули по улицам не ходят, и можно бродить по местечку сколько захочется. И они бродят, проходя улицу из конца в конец, сворачивают на пустую, мертвую станцию, минуют школу, которая светится всеми окнами. В школе— немцы. Невыносимо от мысли, что здесь, в местечке, и на сотни верст вокруг — немцы...
На одной из улиц, в большом, как гумно, доме заливается гармоника, бухает бубен, с темного двора доносятся приглушенные голоса. Каждый вечер проходят хлопцы мимо этого веселого дома, где устраиваются вечеринки. Танцевать никто не умеет.
— Гитлер проиграет войну,—говорит Лобик, стараясь уточнить свои взгляды на войну и оправдаться перед друзьями.— Может быть, только она долго протянется. Против Германии Англия, Америка.
— В Америке и Англии — капиталисты,— не соглашается Вилюга.— Они Гитлера сами натравили на нас.
— Да пойми ты, что Британская империя пропадет, если мы проиграем. Думаешь, Англия такая глупая, не понимает? Наши войска вместе с английскими заняли Иран. Разве нам Иран нужен? Коммуникации...
— Гесс полетел в Англию договариваться с капиталистами,— стоит на сЕоем Вилюга.— Об этом в газетах писали.
Споры каждый вечер...
2
Их четверо, ходивших к Ивану Лобику еще до войны, но есть и пятый. Это Сергей Амельченко, хата его здесь же, на Вокзальной улице. Митя учился вместе с Сергеем до четвертого класса, потом тот бросил школу. Еще с да¬
166
леких детских лет помнит Митя случай. Учительница укоряла Сергея:
— Я шла по>улице п видела, как ты бил курицу. Нужно жалеть домашних птиц, а ты бьешь.
— Я за то ее бил, что она кукарекала, как петух,— мрачно ответил Сергей.
Перед войной Сергей, так же как Шура Гариак, учился в вечерней школе. Оба они сначала бросили науку, йотом, спохватившись* жадно потянулись к ней. Стараюсь во что бы то ни стало сравняться с хлопцами, обогнавшими его в учебе, Сергей читал книгу з-а книгой, из тех редких, которые были только у Лобика и которые читали все они. Дальнейшее для Мити не совсем понятно: Сергея, единственного из всех: местечковых ребят, взяли в истребительный батальон, и он был там1, в лесу. Недавно вернулся вместе с теми, которые пришли к семьям'.
Сергей коренастый, плечистый, с круглым чернявым лицом. Старше Мити на год. В споры не вступает,— должно быть, стесняется:, хлопцы больше знают, он окончил только шесть классов. Все время сосредоточенный, хмурый — переживает, что пришлось сдать немцам оружие.
— Почему вьг разошлись? — спросили однажды Сергея.
— Из-за предателей. Матвеева и еще двоих убили, в разведку ходили. А эти — Косаревич, Адамчук: и Снаткай из Пилятич — сбежали. Склады, лагерь выдали. Немцы семьи могли расстрелять.
— Трусы все были в вашем батальоне,— зашил Вилюга.— К женам потянуло, в тепленькую постель.
— Не все трусы. Можешь не верить* я двух немцев уложил, когда шел бой на шоссе.
— Так почему же разбежались, если такие смелые?
— Не все разбежались. Двенадцать человек ушли за линию фронта. Филимонов повел, председатель райисполкома. Анкудович оружия не сдавал. Нас послали сюда для подпольной работы.
— Кого «вас»?
— Меня, Овсяника.
О подпольной работе, Анкудовиче, который скрывается с винтовкой в далекой лесной деревне, хлопцы не думают. Их тревожит забота поважнее—никто не знает о положении на фронте. Полицейские хвастают, что Москва захвачена...
ш
Однажды морозным декабрьским днем, в воскресенье, когда хлопцы вышли на улицу погулять, к ним подбежал запыхавшийся Базыль Вилюга. Они собрались у Лобика еще даем, а его не было.
— Есть радиалцшешшк,— зашептал он.—У Гриши Цу&ара„ Можно послушать Москву**,
Эта весть поразила, будто гром с ясного зимнего неба. Казалось, мир переменился. Митя почувствовал^ как забилось сердце. То, о чем они так упорно говорили последние дни* готово осуществиться. Вшшга волнуется, руки дрожат, и нельзя ему не вернд
Когда первое возбуждение прошло, родилось сомнение. С Гришей Цукаром, высолшм, цыганского типа хлопцем, прозванным в школе Индусам, неделю назад виделись —- встретили возле дома, где устраивалась вечеринка. Непонятно, почему он не сказал о приемнике тогда.
Пошли к Индусу. Вилюга забежал домой за свечкой — приемник в гумне.
Пока паями Цукара (дома его не было), пока уговорили, стемнело. Наконец Цукар согласился и повел. Приемник он установил не в своем гумне, а в колхозном — оно на отшибе, на занесенном снегом лугу,. До войны в нем складывали коноплю,
Цукар разгреб руками ворох шершавой костры. Откопал то, что называлась приемником. Вилюга зажег свечку. Торопясь, он захватил восковую, ту самую, которую бабуля принесла из церкви и зажигала перед иконой.
Шура Гарнак ожил. Быстро сбросив пальто, присел над приемником. Он крутил рычажки, а все, затаив дыхание, ждали, когда послышится передача. Вдруг Шура подскочил как ужаленный.
— Ты когда слушал последний раз? — спросил он Цукара.
— Позавчера, нет, три дня назад,— торопливо пробормотал тот.
— Свинья ты. Морочишь голову. Батареи давно сели, а из приемника все выдрано. Пустая коробка. Неужели ты такой пень, что не понимаешь? Можно простои горшок взять и слушать, то самое будет.,.
Цукар стоял повесив голову, Хлопцам стало стыдно. Они поддались на удочку самого обыкновенного вранья...
Другой знакомый с Вокзальной улицы, по фамилии Щука, несколько вечеров ходил в их компании, громче
168
асех ругал немцев. Он даже носил в кармане кинжал, как бы намекая, что найдет ему применение. Но вывесили приказ регистрироваться всем, кто работал до войны, и Щука — он только одно лето был сезонником на горфоза- воде — первый пошел в районную управу. Ему выдали аусвайс с чернильным оттиском большого пальца вместо фотокарточки. После этого Щука не искал встреч с недавними друзьями. Видимо, ждал, когда немцы начнут сезон торфодобычи.
А хлопцы собирались, спорили, ругались и не могли без этого жить. Высмеивали Цукара, Щуку и всех остальных, кто посещал вечеринки, не думал о политике и не был похож на них шестерых. Так прошел месяц с того дня, как Лобик возвратился домой.
— Надо приемник,— сказал однажды Шура Гар- нак.— С одной тоски подохнешь... Я немного понимаю в приемниках...
Весной, в мае, за одну теплую ночь расцветают во всей околице яблоневые сады. Еще накануне, вечером, стоят они угрюмые, серые, и только кое-где розовеют на ветках набухшие почки. Наступит эта заветная ночь — и все меняется. Деревья словно облиты молоком, будто прошел по садам невидимый волшебник, украсив все чудесным убором...
‘Пока Митя и его друзья не взялись сами налаживать радио, они были самыми обыкновенными хлопцами. И ничто, кроме чувства товарищества и общности интересов, их не связывало. Теперь начиналось новое...
ГЛАЗА ТРЕТЬЯ
1
Мастерская, где собирают приемник, у Лобика. Хата Ивана заставлена пробирками, колбами, бутылками с кислотой, везде разбросаны свертки медной проволоки, разные части от приемников. Бутылки и колбы стоят на полке, рядом с кувшинами и горшками, под столом и на столе, на книгах. Большая бутыль с медным купоросом поставлена в печь — чтобы не замерзла жидкость.
Холодно у Лобика. Протопишь голландку — и через час опять холодно.
— Застекли окна,— просит Шура Гарнак.— Окоченеть можно. Какая тут работа.
. 169
— Будет то же самое,— безразлично отвечает Иван.— Завалинка не засыпана, снизу еще больше дует.
Шура плавит над спиртовкой олово, опускает в бутылочку с соляной кислотой кусочки проволоки, припаивая их к катушкам и конденсаторам. Сидит на полу, посреди хаты, злится. По нескольку раз приходится переделывать каждую припайку.
— Гниль, дрянь,— злится Шура.— Не могут порядочные катушки принести.
Это по адресу Базыля Вилюги и Сергея, которые скитаются по местечку, выискивают материалы для приемника. Лобик не верит, что удастся сделать что-нибудь.
— Из такого барахла ничего не выйдет,— заявляет он, показывая на разбросанные по хате части.— Клещами радио ке делают. Приемник — не кастрюля. Теперь двадцатый век, а здесь средства производства — каменного.
— Так что же, по-твоему, делать? — Шура злится.
— Надо мастера найти...
Мастер в местечке есть. Это бывший заведующий радиоузлом Полуян, хмурый, сутулый человек. На квартиру к нему уже ходил Вилюга, который, не придумав ничего лучшего, решил действовать в открытую.
— Что надо? —- спросил Полуян.
Выслушав просьбу, коротко отрезал:
— Сморкач! Убирайся прочь, а то я заявлю в полицию.
У Шуры почерневшие от кислоты пальцы. С них слезает кожа. Вначале хотел он смонтировать трехламповый приемник, теперь согласен на одноламповый.
Иван ходит по хате в кожухе, читая наизусть Козьму Пруткова:
— Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
— Перестань,— просит Шура.
— Смотри в корень...
— Идиот ты, что ли? — кричит Шура.
— Бди!
Шура толкает приемник ногой, вскакивает. Набросив на плечи пальто, идет к двери.
— Обожди! — Иван хватает Шуру за рукав. Чего ты взбаламутился? Слова нельзя сказать...
— Надоели твои шуточки.
170
— Так разве же я про тебя?
— Не хочешь помогать, хотя бы помолчал,— с обидой говорит Шура,— Над самим собой смеешься-..
Пальто он, однако, снимает, вешает на гвоздь. От кислоты, от дыма в хате стоит тяжелый, спертый дух. У Митя начинает болеть голова- Мерзнут ноги* Холодно, а тут еще и дышать нечем.
— Затопи печь,— просит Шура Митю.— Руки коченеют...
Пылают в голландке сухие щиты. Гудит в трубе. В предвечерние сумерки хата Лобика напоминает келью средневекового алхимика.
— Ваня,— слышится с печи, — съешь картошку, а то эти солдаты доедят. Не давай им, они паек получают. Прогони солдат, а то я боюсь-..
Мать Ивана называет хлопцев солдатами. Только в редкие минуты просветления рассудка узнает их и зовет по имени.
Вечером, когда уже совсем темнеет, раздаются три удара в стенку. Митя открывает дверь. Входят Базыль и Сергей. Хлопцы растирают уши.
— Ну что? — спрашивает Шура,
— Ничего.— Базыль безнадежно машет рукой.— Трясутся от страха...
Хлопцы по очереди обходят хаты, над которыми до войны высились шесты антенн. Ищут радиолампы.
— Были у Куликова,— рассказывает Базыль.— Сидел sa столом и ел колбасу. Как только вошли — сгорбился, закашлял. Будто ему сто лет. Бороду отпустил, щетиной зарос. Намекнули, а он дрожит как осиновый лист. Лезет в кошелек и достает справку — сдал приемник в полицию. Должно быть, подумал, что нас подослали...
На лечи охает, кутаясь в дерюгу, мать Ивана. Сам Иван стоит возле лежанки, греет спину.
— Больше не пойдем,— говорит Сергей.— На полицая можно нарваться. Теперь все от лампы зависит. Я к сестре схожу, в Горбыли. Все-таки город...
Погревшись по очереди возле голландки, хлопцы выходят на улицу. Однообразно, нудно звенят на морозе провода, гудят телеграфные столбы. Можно подумать, что по проводам идут разговоры. Но это только кажется. До войны с почты говорили с Москвою. Теперь неизвестно даже, у кого она, Москва. Чистыми звездами усеяно зимнее не¬
ш
бо. По-прежнему, как и год, как и два назад, сияет ковш Большой Медведицы, струит на печальную землю таинственный свет далекий Млечный Путь..,
2
Микола Тябут птришел к Мите возбужденный. Для приличия минуту посидел, попросил:
— Проводи меня,— и первый направился к двери» Митя вышел во двор вслед за ним. Па нахмуренному лицу Миколы видно, что он знает что-то важное.
— Я был в редакции. Там на полу валяется! шрифт» Сколько хочешь. Когда стемнеет, сходим, заберем...
— Зачем?
— Как зачем? Листовку напечатаем. Послушаем радио и напечатаем.
Забраться в редакцию районной газеты, которая теперь пустует, нетрудно. Длинное, мрачное здание стоит с выбитыми окнами и раскрытыми настежь дверями Его никто не охраняет, и никто им не интересуется. В помещение намело снегу, под ногами валяются обрывки газет, бумаги.
Ползая по полу, хлопцы собирают холодные металлические буковки. Шрифт тяжелый, оттягивает карманы, Когда принесли шрифт к Лобику и высыпали еа разостланный мешок, показалось, что его очень мала, небольшая кучка. Сделали еще один заход — уже втроем...
— Припрячь шрифт где-нибудь,.— попросил Микола.— Вынеси из хаты.
— Хорошо,— согласился Лобик.
Сергей вернулся из Горбылей на четвертый день вечером. У Лобика его ждали.
Не говоря ни слова, Сергей вытащил из кармана две радиолампы и положил их на стол. Лампы отливал» матовым серебряным блеском. Они были как новые.
Шура все сделал сам. Осторожно поставил на табуретку кое-как спаянный приемник, подключил сухие батареи. Потом полез на чердак вешать антенну. Заземление сделал просто, воткнув между половицами кусок медной проволоки. Все следили за ним, затаив дыхание.
Контрольная лампочка, приспособленная к приемнику от карманного фонарика, вспыхнула, как маленькая звез¬
%П
дочка. Цепь действовала, замыкания не было. У Мити забилось сердце. Так, как теперь, не волновался ни на одном экзамене. Он еще ни разу в жизни не слушал приемника — в будке ие было даже репродуктора,-—и все, что делал Шура, казалось колдовством.
Наконец Шура взял со стола лампу и осторожно вставил ее в гнездо. Митя не знал, что должно сейчас произойти, но он ждал чуда, чего-то необычайного, ох чего сразу бы просветлели хмурые, сосредоточенно-напряженные лица. Хлопцы стояли, как и он сам, будто каменные столбы. Шура крутил рычажки, приемник молчал. Так прошло несколько минут.
— Дрянь,— наконец проговорил Шура и, вынув из приемника лампу, швырнул ее на пол.
Базыль подал ему другую. Хлопцы заговорили, замахали руками, заходили по хате, но, должно быть, окончательно надежды не терял никто, так как все сразу замерли, замолчали, лишь только Шура начал пробовать другую лампу. Подвела и другая...
Все кончилось. Теперь ясно, что приемника нет, и неизвестно, когда он будет. Не хотелось ничего говорить. Лобик шагал по хате понуря голову. Он с самого начала не верил, что Шура смастерит приемник, и мог бы теперь радоваться. Но молчал. Микола листал книгу. Базыль носком ботинка запихивал батареи под кровать. Они теперь не имели никакой ценности.
И только один Сергей вел себя странно. Его вид совсем не говорил о том, что Сергей опечален неудачей. Он даже казался веселым.
— Не вешайте нос,— наконец заговорил он, и голос его задрожал.— Черт его побери, этот приемник!.. И без него ясно, что Москва наша. Не сдали ее. В Горбылях есть радио, немецкое. Немцы передают, что заняли зимние квартиры. Наступают наши...
Это словно взрыв бомбы. В первую минуту никто не промолвил слова. Все ждали, что еще скажет Сергей.
— Ну, а фронт где? — крикнул Базыль.
— Не знаю. Это же немецкое радио. Они сообщают, что сократили фронт и заняли зимние квартиры. Будто бы все советские атаки отбиваются. Я потому и не говорил вначале. Думал, лампы исправные и удастся послушать...
— Какой-нибудь город они назвали? — спросил Лобик.
ш
— Калинин назвали. Бои идут под Калишшом. А еще раньше сказали, что сдали Ростов. Ростов наш.
Лобик бросился к столу, разыскивая географический атлас, целыми стопками швырял на пол книги. На столе атласа не нашлось, и хлопцы, помогая Ивану, раскапывали груды книг, наваленные за кроватью в углу, на при- печке и в большом материнском сундуке.
Атлас нашли на кровати под подушкой. Иван, видимо, разглядывал его, ложась спать. Друзья склонились над картой. Калинин, город на Волге, словно нависал над Москвой с северо-восточной стороны,
— Далеко зашли,— раздумывая, проговорил Лобик.—Хотели окружить Москву. Ты вот что скажи, Калинин у немцев или у нас?
— Не знаю.— Сергей старался что-то вспомнить.— Еще один город называли. Небольшой. Кажется, под Москвой. Я забыл название.
Иван водил пальцем по карте.
— Вязьма?
— Нет.
— Калуга?
— Нет.
— Сухииичи?
— Нет.
Более мелких городов на карте не было, и Лобик перестал допрашивать Сергея,
— А когда ты слушал радио?
— Позазчера. Немцы хвалились, что подбили сто двадцать наших танков.
— Танков? — удивленно, воскликнул Базыль.— Так ведь они сами заявляли, что советских танков нет. Если наши наступают танками, то немцам кадут.
— Может, наши под Смоленском уже? — высказал догадку Микола.
— Может, подходят к Гомелю? — проговорил Шура.
— Наши будут наступать на главном направлении,— заявил Лобик.— Самое главное — отогнать немцев от Москвы. Видишь, как нависли. Калинин заняли. Это не шутки...
— ■ Нависли, нависли,— передразнил Базыль.— Удирают твои немцы без оглядки.
— Что ты понимаешь!— закипятился Лобик,—Думаешь, так легко добиться перелома. Попробовал бы сам.
174
— Ты всегда был пораженцем.
— Дурак!..
Готова была вспыхнуть ссора. Ее прервала мать Ивана. Хлопцы так шумели, что она проснулась, хотя за последнее время привыкла к крику.
— Ваня,— попросила мать с печки,— выгоняй солдат. Они заберут тебя с собой. И прогони с чердака вора, я слышу, он там ходит...
<— Спи.— Иван успокаивает мать.— Это не солдаты, а хлопцы. Василь Кавеньков, Шура Лямцев, Митя, обходчика Степана сын, что в будке возле железной дороги живет. Ты же их знаешь...
— Прогони вора! — Матъ плакала, размазывая слезы по лицу.-” Он обворует нас...
— Замолчи, мама! Нет никакого вора. Это ветер. Слышишь, стучит ставнями ветер?
Но женщина, напуганная чем-то во сне, не могла успокоиться. Иван укрыл мать одеялом — она дрожала, тихо всхлипывая.
Хлопцы начали расходиться.
То, что Митя сегодня услышал, еще вчера казалось чудом, волшебным сном. Он словно поднялся после тяжелой болезни; снова знакомым стало все окружающее, и оттого, что все оказалось на своем месте, прежним, привычным, душу охватывала тихая, спокойная радость.
Дует холодный ветер, сечет лицо колючими горошинами, шумит в голых вершинах деревьев, в темных закоулках. Телеграфные провода гудят особенно громко. Небо черное, низкое,— кажется, там, над лесом, оно кончается.
В поле метель валит с ног. Митя, пригибаясь, идет навстречу ветру, трет ладонями окоченевшие лицо, уши. Зима берет свое. Январь приносит новые снега, новые ветры.
8
В стороне от широкого тракта, ведущего в торговое село Пилятичи, лежит занесенная снегом деревня Ка- веньки. На сучьях развесистых груш-дичков — они как дубы здесь — белая бахрома инея. Сугробами занесло заборы, плетни, улицу обозначает узкий санный след между приземистыми хатами.
Полиции в Кавеньках нет. Полицейские гарнизоны —
175
при волостных управах. Вся власть в деревне — староста Иван Буян.
Зимним вечером возле хаты старосты остановились двое. Постояли, осмотрелись, направились во двор. Уже когда совсем смерклось, в калитку прошмыгнул еще один. Одетый в кожух и большие разлезшиеся валенки, он пришел не дорогой, а по льду замерзшей речушки. Наконец со стороны местечка подошли еще двое. Этих староста встретил на улице, повел в хату сам.
Чистая комната у Буяна — на старинный манер, с огромной печью и полатями. Полати под самым потолком. Забраться на них можно только с печки. Вдоль стен — дубовые лавки. На деревянной кровати — гора подушек.
Те, кто пришел раньше, сидят за столом, с холоду угощаются самогонкой. Порядочная бутыль — до войны в таких продавали томатный сок — начата. К выпивке есть и хорошая закуска — квашеная капуста, огурцы, ломтиками нарезанное сало.
Шелег, не раздеваясь, идет к столу, здоровается. Чернявому Валюжичу, бывшему секретарю сельсовета из Пи- лятич, на вид лет двадцать пять. Живет теперь не в Пиля- тичах, а в своей деревне Озерки, лесной, глухой. Учитель Батура — моложавый, в синей гимнастерке военного покроя — из Пилятичской семилетки, которая отсюда за двенадцать верст. Это он шел речушкой. Третьего, круглолицего, в вышитой домотканой сорочке, Шелег не знает, вопросительно смотрит то на Валюжича, то на Драгуна, который разделся уже и сел за стол.
■— Свой,— рекомендует круглолицего Валюжич.—
Я привел.
— Здравствуй, Лисовенко,— здоровается с незнакомым Драгун.— Я ведь тебя знаю. Заведующий райземот- делом, из Березияковского района. Так...
— Последний год я в Белостокской области был. Работал в райкоме.
— А теперь где?
•— В Озерках. Жена отсюда. Вот с ним теперь,— кивает Лисовенко на Валюжича.
— Самкова нет? — спрашивает Шелег.
— Не пришел. Может, подойдет.
Встречаются не впервые — и Валюжич и Батура приходили в местечко.
17*
— Новости хорошие,— начинает Шелег.— Лучших не надо.
На лицах напряженное ожидание. Драгун наливает в стаканы, улыбается.
— Красная Армия перешла в наступление. Под Москвой. Немцы отступают.
Валюжич вскочил, трясет за плечи Батуру. Лисовенко вытирает ладонью слезу.
— Иван Прокопович, не тяни,— просит Валюжич.— Конкретней...
—Освобождены Клин, Серпухов, Калинин. Наступление продолжается.
— Ну, спасибо вам.— Растроганный Валюжич поднимает стакан.— Давайте за радость...
— Хозяина надо позвать,—* говорит Драгун.— Обождите.
Выйдя во двор, возвращается с Буяном.
— Слыхал, Иван Петрович, немцам под Москвой сделали шурум-бурум. Как французам когда-то.
— Дай же бог.— Буян наливает до половины пустой стакан.— Скорей бы...
Чокнулись, выпили. Буян, закусив огурцом, сейчас же выходит. Он за сторожа, да и вообще считает, что лишнего не надо знать.
— Пора и нам,— говорит Валюжич.— Как с паспортами, Иван Прокопович? Полиция и к нам начала заглядывать. Позавчера были, вынюхивают. Якубовский с красноармейцами— в землянке. Замерзают хлопцы. Привести в деревню опасно. Без документов схватят,..
— Плохо с документами. В управе никого своего нет. Он ведь теперь не в управе.— Иван Прокопович показывает на Драгуна.— В агрономию перевели.
— Липы не научились делать?
— Тут нужен мастер. Да и опасно с липой.
На минуту замолкают. Слышно, как в передней комнате, на печи, охает хозяйка.
— Приемник установили? — спрашивает Валюжич.— Сводки записывайте, а я буду хлопца подсылать. Пустим по рукам, как тогда газеты.
— Нет приемника еще. Нащупываем. Сводка оттуда. Приходил человек от Ермаловича. Он в Октябрьском районе. Несколько отрядов там.
— Что еще нового?
177
— Нужно создать районный отряд,— говорит Шелег.—Такая директива.
Раньше весны не выйдем, Иван Прокопович,— лицо Валюжича мрачнеет.— Мало еще людей, в лесу не продержишься. Тут другая думка есть...
— Какая?
Валюжич переводит взгляд с Батуры на Лисовенко. Те одобрительно кивают.
-- Пора немцам пощупать ребра. Вот если бы Швальбе выманить из местечка. Старосту Горбатовского из Полыкович тоже нужно уничтожить. Жизни нет. Поставку немцам вывез всю, даже перевыполнил. Над солдатками издевается. Двух учителей немцам отдал. Без следа исчезли.
— Он у вашего Косаревича правая рука,— подтверждает Батура.— Днюет и ночует у него Косаревич. Пьянствуют, женщин насилуют.
— Косаревича мы сами,— Шелег опускает кулак на стол.— Склады истребительного батальона он выдал. Подпольщицу Денисову—тоже. Что слышно про Анку- довича?
— В Домачевском отряде. Действуют мелкими группами. У Анкудовича семь человек. Старосту он нам поможет...
— Упустили Анкудовича,— вздыхает Шелег.— Из нашего батальона, а в чужом отряде. Была бы база для отряда.
— Якубовский не хуже. Лейтенант знает военное дело. Если бы удалось перезимовать. Документы нужны. Хотя бы месяц пожили хлопцы в деревне. Отогрелись, отъелись. Тогда и Анкудовича перетащим.
Выпивают еще, веселеют. Тускло горит под самым потолком восьмилииейная лампа. За стеной во дворе поскрипывает валенками по снегу Буян.
— Между прочим,— говорит Драгун, вставая,— начинайте пропаганду. Немецкая политика насчет земли ясная. Земля вся немецкая. Те, кто будет ее обрабатывать, как бы арендаторы. Каждый имеет право взять пять гектаров. С трех гектаров весь урожай немцам, с остальных двух — сорок процентов.
— Вот вам немецкая власть, хозяйчики, ие разживетесь.
Драгун выходит первым.
т
4
Зеркало — мелочь, глупость, а настроение у Августа Эрнестовича плохое. Разбили зеркало, когда переезжали в новый дом,— живет теперь бургомистр в особняке, построенном до войны председателем райпотребсоюза. Особняк приличный — шесть комнат, застекленная веранда, яблоневый сад. В самом центре местечка, в городке. Гостей можно принять, не стадясь тесноты.
На тот случай, когда разбивается зеркало, есть немецкая поговорка: «Зибен яре пех», что значит — семь лет неудачи предопределено тому, у кого эго случится. В приметы Август Эрнестович не верит, но неудачи действительно начались.
В новом доме, к которому привыкал с трудом, услыхал по радио о советском наступлении под Москвой. Словно оборвалось что-то в груди. Диктор говорил торжественно, весомыми словами, перечислял тысячи захваченных у немцев машин, орудий, танков, называл города и селения, которые снова стали советскими. Август Эрнестович быстро переключился на Берлин. Он был ошеломлен. Берлин подтвердил то, что говорила Москва, только другими словами—сокращение линии фронта, зимние квартиры...
Там, под Москвой, произошло непонятное, и Август Эрнестович всю ночь не мог опомниться. Ведь немцы стояли под самым городом, видели его в бинокли, почему же побежали, почему армия, прославившая себя на весь мир, вдруг на пороге победы осрамилась?
До утра не сомкнул глаз. Чувствовал: до того тихого берега, который покинул, когда пришли немцы, доплыть не хватит сил, да и нет смысла. Все, что он в жизни делал, делал честно. Выворачивать себя наизнапку не умеет. По отношению к большевикам, Советам он теперь предатель. Другого слова они не знают.
На следующий день, увидевшись со Швальбе, жандар- мами^ немного успокоился. Они ведут себя как всегда, и то, что делается под Москвой, на всем огромном фронте, кажется, их не касается. Едят, пьют, выполняют приказы. Уверены в том, что все идет как надо.
В управу уже недели две наведывается высокая, похожая на цыганку женщина. Фамилия ее — Ядрицкая. Прорвавшись к бургомистру в кабинет, требует должности.
179
— Кем вы работали раньше? — спрашивает бургомистр.
— Мой отец пра царе держал ресторан. Большевики над ним издевались.
— Ну, а что вы умеете делать?
— Из-за отда я не могла получить «образования,
— Слушайте, Ядрлдкая, где бы вы хотели работать?
— Мой муж был бухгалтером. Он тоже ненавидел большевиков.
— Это хорошо, но у меля нет для вас должности. Женщин в полицию не берут. Идите на железную дорогу. Чистить снег. Тогда и .хлебную карточку получше.
Во время третьего или четвертого посещения Ядриц- кая положила на стол перед бургомистром список. В нем шестнадцать фамилий, преимущественно жен коммунистов, активистов. Ядрицкая потребовала всех арестовать. Крамера взорвало. Открыв дверь, гаркнул:
— Вон!
Побледневшему Рак-Кандерскому, который прибежал в кабинет, приказал:
— Чтобы ноги ее здесь не было.
Дня через три, вызвав Крамера к себе, Швальбе доказал ему исписанный каракулями лист бумаги. Ядрицкая, адресуя заявление жандармерии, обвиняла его, бургомистра, в том, что он потакает коммунистам. На лице у жандарма — ехидная улыбка. Крамер как можно спокойнее отрезал:
— Господин капитан, я шуток не люблю. Этой особе — пятьдесят шомполов. Она оскорбляет меня, немца.
— За оскорбление всыплем,— поспешно согласился Швальбе.— Но зачем так много, господин бургомистр? Хватит двадцать. Все-таки деликатное женское тело...
Август Эрнестович — сам он знает причину — в последнее время стал часто злиться, удивляя служащих канцелярии. Стоит как-то перед столом староста из Кобыл- кович, угрюмый, черный как грач, забывший снять с головы овчинную шапку-ушанку.
— Товарищ бургомистр, поставку не можем выполнить. Село у нас бедное, пески...
— Товарищи за Уралом! — гремит бургомистр так, что слышно в коридоре.— Научитесь разговаривать. Вон из кабинета!..
%т
Староста — боком, боком и за дверь...
Один из тех зимних, неопределенных дней принес Августу Эрнестовичу настоящее удовлетворение. Услыхал: в ночную охрану — она продолжается с осени — не вышел Денисевич, тот самый заведующий железнодорожной пекарней, который тогда в сентябре подъехал к его дому в машине с маркграфом Линдау. Покрутил ручку телефона, вызвал Плищинского, начальника полиции.
— Денисевич — саботажник. Арестовать — и пятьдесят шомполов. По голой заднице. Пусть знает, что немецкие порядки твердые. Доложите мне.
Плищинский удивлен — за мелкие провинности давали по десять шомполов, по двадцать.
Дом Крамера — полная чаша. Бургомистры волостей, старосты, заведующие мельницами, приезжая в местечко, не пропускают случая подбросить кое-что районному бургомистру. Дела с ними ведет Гертруда Павловна. Каменный погребок во дв£>ре весь увешан окороками, колбасами, заставлен мешками муки, бочками с капустой, огурцами.
Местные начальники возят добро не только бургомистру. Возят и немцам — Швальбе, жандармам, агрономам, и те смотрят на это как на самое обычное, естественное явление, которого и следовало ожидать. Сало и масло, перетапливают, вместе с окороками упаковывают в посылки. Еженедельно автобус везет эти посылки за пятьдесят верст в город. Там военная почта — письма и посылки идут оттуда в Германию.
В глазах немцев, находящихся здесь, в местечке, авторитет его, бургомистра, высок. В районе тихо. Никаких нарушений спокойствия, налетов партизан. Благодаря этому обстоятельству, должно быть, и избрал гебитско- миссар Рог — фамилия как бы русская, хотя сам он коренной немец,— местечко своей резиденцией. Жить должен в городе, но живет здесь. Занял с канцелярией и свитой весь второй этаж школы, потеснив Швальбе. Недавно состоялось совещание бургомистров, приехали из других районов,— Рог перед всеми хвалил Крамера. Правда, услыхал здесь Август Эрнестович весть, которая и взволновала его и удивила. Городского бургомистра в Мозыре повесили сами немцы. Оказался большевистским агентом. Гебнтскомиссар умышленно подчеркнул, что немцам было известно все заранее, но они спецпаль-
18*
но ждали, не арестовывали бургомистра, чтобы выявить побольше соучастников.
Немцев много, но что они делают — Август Эрнестович не знает. Скорее всего ничего не делают. Во всем полагаются на силу приказа, жандармерию и полицию. Это тревожит, наводит на грустные мысли. Гебигскомиссар Рог — высокий, моложавый — никуда не показывает носа. Не знает никого из тех, кто служит в местечке у немцев, и знать не хочет. В районе не был ни разу. У него два личных повара-солдата и две любовницы. Обе красивые, молодые — телефонистка с почты и машинистка из канцелярии гебитскомиссара. Говорят, что любовницы одна с другой не здороваются.
У Гертруды Павловны, жены бургомистра, множество знакомых. Не дружбы добиваются жены старшего лесничего Лагуты, районного агронома Спыхальского, врача Здоровени, дорожного мастера Адамчука.
Почти каждый вечер кто-нибудь приглашает Августа Эрнестовича в гости. Не отказывается, ходит. Ест, пьет, поднимает тосты и никак не может избавиться от впечатления, что все это ненастоящее, выдуманное. Среди людей, которые сидят с ним за столом, чокаются, подлизываются, нет никого, кому он мог бы открыться, поделиться сомнениями. Чувствует душой — один...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Тайными дорогами, невидимыми тропинками поползли по местечку слухи.
Дня через три после того как Сергей принес новость о советском наступлении, в будку наведался Шнапс. Как и всегда, он разговорчив и подвижен, почти безбородое, с редкой рыжей щетиной лицо горит любопытством.
Семья ужинала.
— Добрый день. Хлеб да соль!
— Слава богу. Садитесь с нами.
— Сам только от стола.
Мать вытерла фартуком табуретку, чтобы дать гостю сесть.
182
— Возьми, хозяйка. Выонов немного принес. В великий пост надо есть рыбу. Хотя выоны, может, и не рыба. Говорят, они родня ужам.
— Чем вас отблагодарим, дядька? Так вы заботитесь...
— Эй, брось ты, молодица, сочтемся. Были бы только живы.
™ Где ты их наловил? — спросил отец.— Кажется, и болот теперь нет, осушили все. Отыщет же, однако.
— Болота большевики осушили, а я аж на озеро хожу. Там еще немного можно взять рыбы. Только знаете что, люди? — Шнапс понизил голос до шепота.— Неспокойно в лесу, стреляют, здорово бухают, если прислушаешься. Где-то, говорят, целая наша армия прорвалась с пушками, с танками. Слух идет, что погнали немца от Москвы. Коченеют они. Замерзают. Просто подбирай на сани, как дрова. По местечку таскаются солдаты, кожухи и валенки им давай, на помощь, мол, немецкому фронту. Прячьте, если что хорошее есть в хате. Могут и к вам притащиться. Ой, что еще будет?..
— Все может быть,— подтвердил отец.— Зимушка выдалась добрая, к русскому морозу им трудно привыкать.
— А нашим разве легко? — промолвила мать.-^ Боже мой, боже. Душа болит, как подумаешь, что где-то в поле, на таком морозе человек.
— Наш человек ко всему привычный,— сказал Шнапс.— Возьми хотя бы сибиряков, ему твой мороз нипочем. Он и ухом не ведет. Тяжело придется немцу фронт держать. И зачем он лез, не пойму. Россию захотел в охапку схватить? Сколько той Германии, переплюнуть можно, а России конца и края нет.
— Техникой хотел взять,— глубокомысленно заметил отец.— Мол, твоя Россия деревянная, соломенная, а моя Германия каменная, машины в ней издавна. Стукну по России — и рассыплется.
— Стукнуть-то он стукнул. Даже в ушах зазвенело. Только, должно быть, и у самого осечка, если кожухи собирает.
— Ас пленными что делают,— вмешалась мать.— Нехристи немцы, что ли? Не слыхано было, чтобы так издеваться над народом. Стреляют, голодом, холодом морят.
— Попомнят люди немца.—Отец встал и, взяв в зу¬
Ш
бы самокрутку, прикурил от уголька.—Теперь если бы кто и хотел, то в плен не полезет. Попробовали, какой вкус.
— Говорят, будто и попы призывают бить немца*
— А что ты думаешь. Горе, оно всему научи г.
— Гитлер будто бы попросил замирения. Пускай вам, говорит, ваша Россия, а мне моя Германия. Только меня не трогайте. Дайте потихоньку выбраться.
Отец возражает:
— Не пойдут наши на замирение. Сколько немец вреда наделал! Сколько людей положил!..
Митя вслушивается в разговор старших, на этот раз не вмешиваясь в него, и душа его полнится радостью. Прошло несколько месяцев с тех пор, как появились немцы, но тон и настроенность разговоров о войне решительно изменились. Прежде во всем, что рассказывали о немцах, чувствовалась примесь страха. Немцы представлялись неодолимой железной силой, которая движется с чужого, незнакомого Запада и все ломает, крошит на своем пути. Может, это был страх перед неизвестностью, перед лицом крушения, ломки всего привычного, устоявшегося. Тогда, перед появлением немцев, многие в душе и вслух ругали наших за то, что отступают, оставляют народ на мучения, издевательства. Это было острое чувство, которому трудно дать название. Когда немцы пришли, солидные, пожилые дядьки снова ругали наших. Теперь уже за другое. Вспоминались все нелепые случаи довоенной жизни.
Митю возмущали такие разговоры. Они казались мелочными, ничтожными, и он удивлялся, почему взрослые, разумные люди не видят самого главного. Пришли немцы, и это беда. Здесь, как на пожаре, не приходится искать виноватого.
Но с такими, как Митя, не считались, над ниш по-- смеивались. Впрочем, и сам он понимал, что не во всем прав.
Митя верил — паны никогда не вернутся. А они вернулись, ходили по местечку в живом обличье немецких солдат, которые плевать хотели на все то, во что он верил. Слово «товарищ», дорогое и близкое, исчезло, надо говорить «господин».
Митя не раз ловил себя на мысли, что старшие смотрят на жизнь проще, иначе, чем он. Вспоминал ремонтни¬
184
ков, их вздохи и печальные глаза в первые месяцы войны. Что думают теперь эти спокойные, добрые дядьки? Во что верят, на что надеются?..
Шнапс отправился домой, и вслед за ним вышел на переезд Митя. Занесенная снегом, еле заметная среди ровных полей, лежит железная дорога. Чернеет лес, и легкой синевой в светлом сумраке ночи отдает снег. Длинной полосой темнеет местечко. На пригорке — сосна. Повеял ветер, и она отряхнула сучья от снега, распрямила их.
Еще недавно в окнах местечковых хат мерцали тусклые огоньки коптилок, камельков, а школа сверкала электрическими огнями. Немцы ничего не боялись и открыто это показывали. Теперь маскировка. Не прилетел и не сбросил бомбы ни один советский самолет, но все равно маскировка. Многое на свете переменилось...
Митя смотрит на лес. Молчаливый, он, кажется, таит в себе что-то неведомое, загадочное, под навесью сосен, на снегу снуют осторожные тени. Мите чудится: вот-вот вылетят из леса стремительные всадники, в их руках, освещенные луной, сверкнут клинки. Всадники бросятся на местечко, и все кончится...
На другой день Митя, прежде чем направиться к Лобику, прошелся по улицам. Хотелось побыть одному, посмотреть, изменилось ли что-нибудь в местечке.
Промчались запряженные парой лошадей сани, в них сидят три полицая, держа в руках винтовки. Четвертый стоит на передке, на коленях, хлещет кнутом потных лошадей. Полицаи куда-то торопятся.
Перед школой, у входа, забитого крест-накрест досками, шагает немец-часовой. Даже для зимнего времени вид у него чрезвычайно неуклюжий. Кожух, натянутый поверх шинели, горбится на спине; на сапоги надеты громадные соломенные чуни; повязанная платком голова с надвинутой на уши пилоткой делает немца похожим на старую толстую бабу. То, что часовой охраняет никому не нужный, забитый вход (настоящий вход со двора), и то, что он не стесняется неказистого своего вида, обрадовало Митю.
Проехали еще одни сани с полицаями, возле клуба громко разговаривают немцы.
Проходя мимо почты, Митя столкнулся с Сюзанной. Встреча неожиданная, с того дня, как Сюзанна была у
135
Лобика, он нехорошо о ней подумал. Растерявшись, Митя поздоровался и хотел пройти мимо. Но Сюзанна остановила его:
Своих не узнаешь?
— Узнаю, почему же...
— Как живешь? Что нового?
На Сюзанне теплая из беличьего меха жакетка, ноги в белых мягких валенках, на голове пушистый вязаный платок, из-под которого выбивается прядка русых волос. Тронутые морозом щеки слегка алеют, серые глаза веселые.
— Чего мы стоим? Холодно. Давай пройдемся,— предложила Сюзанна. Они прошли из конца в конец сквер и снова остановились.
— Наши вернутся, Митя? Скажи, ты ведь такой ум^ ный.
Сразу исчезло все его надуманное пренебрежение к Сюзанне,— почувствовал себя несмелым, ничтожным и виноватым перед ней. Пришло то самое чувство, которое всегда охватывало Митю прежде, когда он встречал Сюзанну.
— Москвы немцы не взяли. Наши наступают. Есть слухи — прорвались советские танки.
— Я так боюсь. Говорят, будут переписывать молодежь, повезут в Германию. Что тогда делать, Митя?
. Она напоминала беспомощную птицу, у которой сломано крыло.
Дома Митя долго не мог успокоиться. Мысли о Сюзанне властно охватили душу. Как и тогда, летом, он просто ие мог о ней не думать. Вечером, когда все улеглись спать, достал из сундучка тетрадь со стихами. Зажег каганец, присел у стола. В тетради несколько стихотворений, посвященных Сюзанне. Он перечитал то, которое самому больше нравилось:
Вечер бледно-лиловый Над весенней землей...
Я искал тебе слова,
Он шептал мне: «Постой...»
Тишь плыла надо мною —
Безмятежна, нежна.
Наполнялась весною И тобой тишина.
186
Было только нас двое На весь синий тот свет,
Вечер звал за собою,
Вечер — дигшый поэт...
Месяц ясный, двурогий Будто вышел в дозор,
Вечер бросил под hoi и Тебе звонкий ковер.
Шла гы лунной дорогой,
Слышен каждый твой шаг,
И тоску, и тревогу Нес таинственный мрак.
Митя хорсгчо помнит весенний вечер, навеявший это стихотворение. В прошлом году, в марте, перед тем как он отнес заявление директору относительно экзаменов за девятый класс, вышел учебник по истории СССР, но его единственным обладателем в местечке был преподаватель. Еще один экземпляр попал в библиотеку, и Митя ходил туда учить историю. Сидел в пустой, хорошо натопленной комнате — с чистыми сосновыми стенами, пахнущими смолой. Других посетителей не было, и Митя один пользовался учебником. Пристраивался у окна, за кото* рым синел ранний вечер, читал книгу с самого начала,— новая, никем, кроме него, не читанная, она приятно шелестела страницами.
Выйдя на крыльцо, он увидел Сюзанну, Она шла через скверик, и под ее ногами еле слышно потрескивал ле-^ док. Сюзанна не видела Митю, шла медленно, задумчиво. И вдруг он ощутил радость оттого, что полнится вечерней синью скверик с редкими черными деревцами, хрустит под ногами слабая наледь, что может упасть с крыши и зазвенеть, как стекло, прозрачная ледяная капель. Был он, была Сюзанна, и то, что она его не видела, не ду* мала о нем, ничего не значило. Она жила на свете, этого одного было достаточно, чтобы он радовался тому, что вокруг...
Теперь Митя перечитал стихотворение, и ему не понравилось написанное. Не хватало самого главного — что пролегло между ним и Сюзанной, без чего он просто не имел права о ней думать. Тогда, когда он писал стихо* творение, ему было шестнадцать. Теперь — семнадцать, и
187
на того, шестнадцатилетнего, он глядит свысока, с чувством грустного, немного иронического превосходства.
Наклонившись над столом, Митя торопливо начал пи*» сать. Не знал, зачем пишет,— никому не собирался показывать стихи, но иначе не мог*
Мать-Отчизна моя, без конца и без края!
Я твой сын, и, клянусь, я тебя сберегу.
Жить тобой, жить с тобой — одного я желаю,
Быть чужим, не твоим — не хочу, не могу...
2
В Октябрьском районе загремело...
Там и в соседней местности, где на бывшей границе остались невзорванные доты, по слухам, целая партизанская армия. Оттуда — за сотню или больше километров— тихими вечерами доносятся раскаты взрывов. С* партизанами ведут войну регулярные войсковые части. Через ме* стечко в северном направлении проехала одна группа: рядом с санями шагали одетые в крестьянские кожухи немцы и мадьяры, на санях навалом пулеметы, минометы, ящики с боеприпасами,
В соседнем районе также партизаны. Местечковые полицаи ездили туда. Партизаны, заняв каменный дом, отбивались двое суток. К месту боя слетелись бобики из всех окрестных гарнизонов. Партизан было пятеро. Семену Телешу, который живет напротив Лобика, партизанской пулей прошило грудь. Но жив, лечится.
В холодном январе слухи, как весенний разлив,— радостные, волнующие. Наши в Смоленске, в Брянске. Самые радостные вести приносит Вилюга. Неизвестно, где он их собирает. Однажды, ворвавшись в хату Лобика, с порога крикнул:
— Наши Киев заняли!
— Может, Харьков? — переспросил недоверчиво Ло^ бик.
— Киев, говорят тебе. Это точно.
До Киева — подать рукой — каких-нибудь триста километров. Хлопцы возбужденно стали ходить по комнате.
Зима — будто награда за неверную, полную неопре^ деленности, мучительную осень. Трещат рождественские морозы, и легко поверить, что в танках замерзает масло
*88
и немцы, удирая, бросают их на дорогах тысячами, что из-за снежных вихрей не могут подняться в воздух самолеты, а привычные к холодам сибиряки гонят фашистов во всех направлениях.
Сверток со шрифтом лежит там, где его оставили,— в углу за кроватью. Безразличный к опасности, Лобик так и не вынес его из хаты. Охваченные жаждой деятельности, хлопцы вспомнили о шрифте.
■— Нужна листовка,—заявил Микола и вытащил из угла сверток.
Он чувствовал себя героем. Мысль заглянуть в редакцию пришла в голову ему первому. Мешок развернули на столе и с любопытством рассматривали серые буковки. Никто не видел и не знал, как этими буковками печатают. Все стояли и молчали.
— Ничего мы не умеем.— Шура набрал горсть шрифта и высыпал его снова в кучу.— Будет то самое, что и с приемником...
Микола разозлился:
— Не умеем, не умеем. Нужно попробовать. Это же просто.
Никто Миколе не возразил. Висячую лампу сняли и поставили на стол — для устойчивости в горшок с солью. Но свет все равно тусклый, нельзя разобрать, какая в пальцах буква. Хлопцы разошлись, решив собраться завтра.
На листовку затратили целую неделю. Получилась неказистая с виду и никого не обрадовала. Сразу бросалось в глаза, что печать кустарная. Буквы разные, слова скачут вверх и вниз. Перебрав шрифт, Шура с Лобиком наделали из букв что-то вроде маленьких печатей и прикладывали их к бумаге. Краску достал Микола. Бочка с густой черной мастикой стояла в редакционном сарае.
Листовку написал Митя.
«Товарищи!
Фашисты отступают. Красная Армия близко. Час освобождения наступает. Не верьте немецкой брехне. Да здравствует Советская власть!»
Текст Митя переделывал несколько раз. Хотелось написать побольше. Но наборщики — Лобик и Шура — возражали. Длинную листовку невозможно напечатать.
Вечером Сергей с Шурой направились с листовками на торфозавод. Для районного местечка, где на стенах и
№
столбах вывешивались аккуратно напечатанные немецкие приказы, она как бы не подходила.
На другой день стало известно, что на торфозавод по- мчались полицейские и немцы из жандармерии. Почти в каждом доме делали обыски, арестовали учителя. Подозревали, что он написал листовку.
Известие застало врасплох, встревожило. Никто не думал, чтр немцы так серьезно отнесутся к трем небольшим, с косыми, неровными строчками листовкам. Ленивый Лобик даже не вынес из хаты остатки старых приемников. На подоконниках, под лавкой, на полке по-прежнему стояли ненужные теперь бутылки с кислотой, пробирки, банки. Когда под вечер Митя зашел к Лобику, работа была в полном разгаре. Микола с Вилюгой складывали в мешок конденсаторы, бутылки, а Лобик ползал по полу и выковыривал из щелей рассыпанный по хате шрифт.
Про арестованного учителя вспомнили после того, как в хате был наведен полный порядок. Никто, кроме Миколы, не знал его в лицо.
— Подвели человека,— недовольно проговорил Лобик.
— Да ведь ты сам печатал!.. Виноватого теперь ищешь! — закричал Микола.—Вот это тактика, я понимаю. Чуть что, так в кусты...
Разгорелся спор относительно того, где фронт.
— Где ты слыхал про Киев?— допытывались у Ви- люги.
— От немца.
1 — От какого немца?
— От солдата. Возле клуба сигареты продавал.
— Что он говорил?
— Что был в Киеве.
— Ну и что?
— Что, что... Бои там идут. Зачем мне врать.
Вилюга горячился, кричал. Было ясно — врет. Вряд
ли мог немецкий солдат так говорить...
Митя вышел от Лобика вместе с Миколой. Скрипит под ногами снег, кругом вечерняя тишина. Маскировка сохраняется: не светится ни одно окно. Но и это не радует. Кажется, все спят.
— Зайдем к Марии Ивановне,— предложил вдруг Микола.—Может, что-нибудь про фронт скажет.
т
Митя согласился. Идти домой не хочется.
Старый, построенный на городской манер дом Марии Ивановны в темном переулке за базарной площадью. Перед ним, будто часовые, застыли CTaspbie липы, нависают ветки над крышей. До революции дом принадлежал приставу, а с того времени, как хлопцы себя помнят, в нем живет учительница немецкого языка, работающая теперь переводчицей в районной управе. Мария Ивановна одна. Ее муж — в армии, два сына до войны еще поехали в институты и домой не вернулись.
Дом кажется нежилым: ставни плотно закрыты, во дворике сугробы снега, а через них к порогу узенький след. Хлопцы нерешительно постучали в ставню. Вскоре в сенях послышались осторожные шаги.
— Кто там? — слабым голосом отозвалась Мария Ивановна.
Вслед за учительницей, стараясь не стучать ботинками, минули две передние темные комнаты и прошли в зал. Здесь горела настольная лампа. На стенах висели две картины и семейные фотокарточки в красивых рамках.
— Не раздевайтесь,— предупредила Мария Ивановна.— Холодно у меня.
Учительница села за стол, а хлопцы, сняв шапки, примостились в старых креслах. Мария Ивановна за последнее время похудела, постарела. Кутается в вязаный платок, поводя время от времени худыми узкими плечами. Приходу недавних своих учеников она, кажется, совсем не удивилась.
— Мария Ивановна, мы пришли проведать вао,—• начал Микола.
— Спасибо. Я рада вам, ребята. Вы, Тябут, кажется, сами последнее время работали учителем.
— Один год.
— Нравится вам учительская работа?
Микола молчит, опустив голову. Мария Ивановна говорит так, будто может предложить ему место учителя.
— Мы пришли, чтобы спросить у вас о фронте, Мария Ивановна,— сказал Митя.— Ходят разные слухи.
Учительница опустила глаза. С минуту тянулось неловкое молчание. Потом она заговорила тихим глухим голосом*
— Ничего я вам, ребята, не скажу. И не советую дру¬
191
гим задавать таких вопросов. Вы уже взрослые. Должны понима гь сами.
— Правда ли, что Смоленск и Киев у наших? Мы больше ни о чем не спросим...
Мария Ивановна испуганно взглянула на хлопцев.
— Неправда. Фронт, ребята, далеко. Под Москвой. За слухи о Смоленске и Киеве поплатился человек. Учитель с торфозавода. У него, говорят, нашли листовку.
— Его расстреляют? — Микола вскочил с кресла.
Мария Ивановна смотрит куда-то в темное окно. На
стене в черной коробке мерно качается медный маятник часов. Часы с кукушкой, но деревянная птица молчит. Она, видно, испорчена.
— Не знаю, ребятки,— проговорила учительница.— Все не так просто, как вам кажется. Сам бургомистр хоть и немец, но человек неплохой. Не хочет крови. Есть хуже его. Не лезьте вы в это. Вы еще молодые и ничего не понимаете. Война теперь, как говорят сами немцы, тотальная.
— Что такое тотальная? — спросил Митя.
— Это французское слово. Означает, что тыл приравнивается к фронту. Везде одни законы. А как у вас, Птах, с немецким языком? Вы же так хорошо успевали в школе.
— Нет теперь времени.
— Вы разве где-нибудь работаете?
Снова Мария Ивановна спросила так, будто речь шла о самых обычных вещах. Митя не знает, что ответить. Но учительница, кажется, и не ждала ответа. Заговорила сама:
— Весной будет набор молодежи в Германию. В управу прислали плакаты. Написано, что набор добровольный, но району дали разверстку. Две тысячи человек.
— Но кто захочет ехать?! — воскликнул Микола.— Где немцы таких дураков найдут?..
Мария Ивановна грустно улыбнулась, ничего не ответив. Поднялась и, сняв с этажерки стопку немецких газет, положила их перед Митей:
— Возьмите с собой, Птах. Вам ведь не так много нужно, чтобы самому читать. Есть у вас словарь? Я могу дать, у меня есть несколько.
— Есть, Мария Ивановна. Спасибо.
т
-г... А теперь, ребятки, идите. Ко мне сейчас придет немец из жандармерии. Он уроки русского языка берет.
— Немец учит русский язык? — удивился Микола.
Учительница загадочно улыбнулась:
— Фамилия у него славянская — Красовский. Я не спрашивала, кто он. Хорошо говорит по-польски. В Германии много онемеченных славян.
Уже в переулке хлопцы столкнулись с немцем, который, согнувшись, подняв воротник шинели, быстро перебирал ногами. Подойдя к дому Марии Ивановны, брякнул калиткой, вошел во двор. Под мышкой жандарм нес книги. На хлопцев даже не глянул.
— Она не продалась? — спросил Микола, дернув Митю за рукав.— Что ты об этом думаешь.
— Думаю, не продалась. Работать ее заставили.
3
Митя и Лобик перевели сводки из немецких газет, которые им дала Мария Ивановна. Фронт далеко. Слухи оказались преувеличенными. Немцы пишут о боях в районе Гжатска — небольшого городка под Москвой, упоминаются в сводках места, лежащие к северу от Орла и Вязьмы. Но в то же время сами фашисты пишут, что успешно отбивают советские атаки возле Великих Лук, Старой Руссы. Совсем непонятно, как и где пролегает фронт. Хлопцы ломают над этим головы и не могут иайти ответ.
Ответ дали сами немцы. В один из холодных февральских дней на здании клуба появилась витрина с картой Европейской части Советского Союза. Внизу прикреплен листок с напечатанной на машинке немецкой фронтовой сводкой. С севера на юг карту перерезает черный шнурок, обозначающий линию фронта. Он прикреплен кнопкой около самого Мурманска, обвился змеей вокруг Ленинграда, чуть ли не под прямым углом отбегает назад к Торопцу, Старой Руссе и Великим Лукам, а потом круто поворачивает к Москве. На юге советский клин снова глубоко врезается в захваченную врагом территорию. Линия фронта петляет.
Холодный ветер гонит поземку. В огородах около заборов лежат осевшие сугробы снега. Как вестница весны на стрехах хат повисла синеватая капель. Местечков-
№
цы на саночках везут из леса дрова. За последнее время местечко как-то оживилось: больше стало людей, которые просто так, без определенной цели выходят из хат, бродят по улицам, расспрашивают знакомых о новостях.
Вечером Сергей привел к Лобику незнакомца. Человек в дубленом черном кожушке, валенках — низенький, приземистый. Поздоровался с хлопцами за руку, но себя не назвал, молчаливо присел на скамеечку возле голландки.
— Свои,—сказал о хлопцах Сергей.—Мы уже листовку напечатали.
— У вас подпольная группа? — спросил человек.
Хлопцы — Микола, Митя, Сергей и сам хозяин хаты
Иван Лобик —переглянулись. Они еще не думали, кто они и зачем собираются.
— Группа,— ответил Сергей.— Шесть человек. Надежные, комсомольцы все. Можно еще кого-нибудь взять.
— Лишних не нужно,— незнакомец оживился.— А оружие есть у вас?
Снова переглянулись хлопцы, незнакомец как бы приказывает, спрашивает, а о себе не говорит. Сергей смутился. Задержал на человеке взгляд —будто спрашивал, можно ли говорить. Тот молчаливо кивнул.
— Это Анкудович,— сказал Сергей.— Из партизан. Нужно дать им батареи.
— Будем держать связь.— Анкудович встал.— Через него,— показал на Сергея.
Связь с партизанами... Слова казались непривычными, они только начали входить в обиход. Хлопцы наперебой заговорили, замахали руками. Оружия нет, и неизвестно, где его достать. Боев поблизости не было. Есть только две гранаты и несколько обойм патронов, которые припрятал в лесу Митя...
Батареями Анкудовича снабдили, навалили полмешка. Темным переулком проводили до кирпичного завода. В длинном разрушенном строении гуляет ветер. Откуда- то из-за угла вышли еще двое. В кожухах, валенках. На плечах винтовки.
— Пусть оно сгорит! — весело воскликнул Анкудович.—Должно быть, нет беды горше, как ходить без оружия. Натерпелся страха.
7 И. Науменко.
194
Один из тех, которые ждали на заводе, протянул партизану винтовку—на плече у него были две. Анкудович стал прощаться. За кирпичным заводом занесенная снегом околица. Хлопцы стояли и смотрели до тех пор, пока в сером полумраке не растаяли три темные фигуры. Домой возвращались возбужденные. Тайна, в которую посвящены одни они, поднимала их в собственных глазах.
Пошли к девчатам! — крикнул Микола.
Дом, где живет Вера,— на главной улице, которая до войны называлась Октябрьской. Теперь она стала Полевой — управа переименовала ее. Фантазия у тех, кто придумывал названия, ие очень богатая: Полевая, Луговая, Александровская, Николаевская— так называются улицы. Но названия эти не прижились, тем более что почта не работает, писем и газет не получает никто. Даже таблички на домах остались прежние.
В той половине Вериного дома, которую занимают старшие девчата, чисто, уютно. На подоконниках и подставках множество вазонов с цветами, на стенах вышитые салфетки и самодельные, сшитые из кусочков разноцветной ткани коврики. Под ногами половики. Хлопцам неудобно топтать разлезшимися ботинками, с которых стекает вода, эту созданную девичьими руками красоту.
Девчата обрадовались приходу хлопцев, с которыми вместе учились. Митя осмотрелся — Сюзанны не было.
— Где вы пропадаете, лежебоки?—набросилась Вера.— Не парни у нас, а мешки с соломой. Даже поговорить не с кем.
Вера завела патефон, и комнату залила звонкая мелодия довоенной песни. Мите показалось, что он попал в прежний мир. Все было то же: настроение беззаботности, вдруг охватившее всех в этой уютной комнате, знакомые лица, шутки, которыми перебрасывались хлопцы и девчата. Война, отчаяние, тревога — все это как бы ушло куда-то, исчезло.
Вера меняла пластинку за пластинкой. Гремели марши, их сменяли протяжные, немного грустные русские песни.
Меж высоких хлебов затерялася Небогатое наше село...
Голос певицы — грудной, глубокий —чарует, берет за душу, вызывая в ней горячую волну чувства. Не хо-
195
чется ни говорить, ни думать, а только слушать этот голос, эту мелодию, которая сама, даже если бы слова £ыли непонятными, льется в душу болью ш печалью. Митя как бы видит разлив пожелтевшей ржи, голубизну неба, солнечный день и где-то там, в глубине ржаного моря, окутанные синеватой дымкой соломенные стрехи. Где он видел раньше эту картину? Он не помнит. Может быть, во сне...
В дверь осторожно постучали. Митя вздрогнул. Ему показалось, что сейчас войдет С юз айна. Вот уже зазвенел ее голос в передней комнате.
Вошли Митины однокашники — Алексей Примак и Саша Плоткин. Алексей с гитарой, Саша с мандолиной.
— Нашего полку прибыло,— сказал Алексей, здороваясь с хлопцами за руку.
Музыканты присели, и сразу начался другой концерт. Играют они хорошо. Видно, осенъ и зтгма не прошли для них даром, так как в школе ни Алексей, ни Саша играть не умели.
— Клуб немцы открывают,— как бы между прочим сообщил Алексей.—Картину привезли. Нашу—«Трактористы». Говорят, партизаны начали листовки расклеивать, так, наверное, хотят отвлечь внимание.
— Говорят, что за листовки посадили учителя с тор- фозавода,— проговорила одна из девчат.
— Выпустили его...
Митя с облегчением вздохнул.
— Хотят приручить нас,— сказал Микола Тябут, вставая, и в голосе его послышалась нескрываемая злость.— Потанцуйте, миленькие, до весны. А там посмотрим. В Германии всем места хватит. Кось-кось, а потом за гриву...
Все смолкли. Веселье, беззаботность, еще минуту назад царившие в комнате, сразу исчезли. Слухи о Германии ни для кого не были новостью, но они связывались с отдаленным будущим,—все еще могло перемениться. Теперь опасность неотвратимо надвигалась. Девчата сидели с грустными, испуганными лицами.
— А музыкальные инструменты можно в Германию брать? — спросил Примак.— Если можно, го мы с Плотнимым не пропадем. Самодеятельность, должно быть, и в Германии есть. Вот и будем играть...
Шутка Примака никого не развеселила. Девчата на?
7*
№
чйлй собираться. Хлопцы проводили их до клуба и остались одни.
Окна домов снова светились: немцы отменили светомаскировку.
4
Оружие — теперь самое главное. Нужно доставать оружие...
Клуб — длинное деревянное здание, в котором чуть ли не каждый вечер устраиваются танцы,— внешне напоминает большой сарай. В клубе холодно и мрачно. Но это только до тех пор, пока он не наполнится. Народу собирается здесь много — вечером пойти некуда. Заскрипит гармонь, и на середину зала выходят наиболее отважные пар>ы. Минут десять они носятся по широкому залу одни, а публика сидит на скамейках, расставленных вдоль стен, выжидает, смотрит.
Смотреть особенно нечего. Заводилой танцев каждый вечер выступает все тот же Ленька Щур, приземистый, полный парень с толстой красной шеей. Танцует он забавно. Хромовых блестящих сапог не жалеет и топает ногами так, что прогибается пол и с него поднимается сизая пыль. Левую руку Ленька всегда заламывает и отводит назад. Хлопцы шутят, что это последний «шик- модерн».
Опустив глаза, вальсирует Маргарита Збыневская, или Рита, как зовут ее обычно. Раскрасневшаяся, с красивыми ямочками на щеках. Кавалеров у Риты хоть отбавляй. Хлопцы хмурятся. Они знают, что у Сергея что- то есть с Ритой. Сам Сергей про нее никогда не говорит. Никто не видел его с ней на улице. Не любит он смотреть, как она танцует, и поэтому никогда не заглядывает в зал. Но ходит к ней тайком, прячась от товарищей. Хлопцы это знают, и им неприятно. Что он нашел в этой Рите? Неужели не видит, что она держит его на всякий случай, играет, как кот с мышкой?
Девчата-школьницы сидят отдельной компанией и танцуют-редко. Кавалеры, которые в старших классах не учились, их побаиваются, свои парни не приглашают. Никто из них не умеет танцевать, а учиться стыдятся. Исключение составляет Алексей Примак. Но' один он всех не обогреет. И приходится девчатам танцевать друг
т
с другом. Митя, приходя в клуб, украдкой наблюдает за Сюзанной. Она. притихшая* .грустная, как. и все .школьницы.
В фойе тесноц пристройке, к .клубной ,$оромине — дым стоит коромыслом. Здесь людно и душно. Компания в фойе исключительно мужская, ребячья, и когда в зал идут девчата, им нужно протискиваться сквозь плотную стену тел. Есть девчата, которым это очень нравится, и свои прогулки, с улицы, р зал, и обратно они совершают несколько раз за вечер.
В фойе собираются курцы со. всего, местечка. С куревом туго. Вернее говоря, курить нечего. До войны табак никто не сеял, отвыкли, надеялись па магазинный — недорогой и лучший. Теперь где купишь? В соседнем районе, где колхозы сеяли табак, выявился запас стеблей. Эти стебли — на вес золота.
У Сергея в последнее время будто прибавилось сил. Дня не может прожить, чтобы куда-нибудь не сходить. Вдвоем с Вилюгой они побывали в противоположном конце района— в Гороховичад. Там наши держали оборону: в лесу должно валяться оружие. Однако вряд ли удастся что-нибудь выкопать из-под снега. Хлопцы принесли только плоский немецкий штык. Такой же есть и у Митиного младшего брата Адама.
Вечером хлопцы бродят по местечку, разговаривают об оружии. Где и как его достать? Подолгу задерживаются перед немецкой картой. Черный шнурок застыл неподвижно. За последнюю неделю не переместился ни на цосток, ни на запад. В сводках немцы пишут, что с большими потерями для советских войск, отбирают атаки русских. Но с далекого.Октябрьского района по вечерам доносятся отзвуки взрывов, и это придает хлопцам бодрости. И хотя пока что у них , оружия нет, они свысока посматривают на тех, кто танцует в клубе или занимается обычными, мелкими делами — меняет в деревнях :обувь и одежду на хлеб, возит, из лесу дрова.
В клуб иной раз заходят пожилые немецкие солдаты из охранной роты. Танцы их привлекают мало: солдаты приходят, чтобы развеять скуку. Они важно сидят на стульях, расставленных вдоль стен, молча наблюдают, как носятся по залу пары. Некоторые в зал не заглядывают вообще, стоят в фойе, курят. Таких всегда окружают любопытные.
198
— Паи,— слышится вопрос,— где фронт?
— Москау капут, Ленинград капут...
— Неправда, пан. Ваша карта висит на клубе. Фронт далеко от Москвы, Фронт около Орла..*
— Войта — шайзэ, дрэк,— оглядываясь, сообщает немец.— Фрюлинг Москау капут — война капут. Политик — дрэк. Не нужно говорить политик...
Немцы действительно неохотно говорят о войне. Разговоров о политике избегают. Митя ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь из солдат, которые заходят в клуб, поинтересовался советской жизнью или рассказывал о Германии. Это почему-то радует, вызывая острый интерес и удивление. Почему немцы молчат? Если они сильные, то почему боятся друг друга и, рассказывая что-нибудь* оглядываются?..
Сергей охотно проводит время с хлопцами, но часто отлучается. Почти каждый вечер заглядывает к Апанасу Овсянику. Сначала Сергей зашел с Базылем Вилюгой, но Овсяник встретил своего бывшего активиста очень неласково, и теперь Сергей его с собой не зовет. Осоавиа- химовеп живет на отшибе — в низеньком домике, спрятанном на огороде, за хлевами. В окнах этого покосившегося домика никогда нет света: то ли Овсяник рано ложится спать, то ли, зажигая огонь, занавешивает окна. Появляется на улице редко, а если и выходит, то смешно на него смотреть. До войны ему было лет тридцать, а теперь он напоминает старого деда. Ходит согнувшись, лицо заросло щетиной, бороду, должно быть, специально не стрижет — она отросла и болтается, как помело.
Оправдать Овсяника можно только тем, что маскируется. Но и с Сергеем он играет в прятки. Сергей хочет знать, где оружие, о котором намекнул Овсяник, когда они еще были в лесу.
Хлопцы открыто, при Сергее, насмехаются над Овсяником.
*— За шкуру свою дрожит, сволочь! — кричит Микола, и лицо его краснеет от гнева.— До войны был активист, а теперь в кусты. К стенке нужно ставить таких. Девять граммов в лоб...
—- А сам ты что сделал? — возражает Сергей.— Языком болтать каждый сможет. Герой...
— Что ты меня равняешь с такими. Меня в армию не призывали! В истребительный батальон тоже не взяли.
199
Винтовки мне никто не давал. Я сам ее найду. А они? Они просто трусы. Чего он сидит здесь? Чего ждет?..
В местечке есть люди, спокойствие которых непонятно. Остались некоторые районные работники — начальник почты, директор МТС, лесничие, дорожный мастер. До войны все они были на виду, а теперь забились в норы и сидят, как серые мыши. О чем думают, на что надеются? Совести у них мет. Обыватели.
Таких хлопцы считают шкурниками. Наступает фронт, гремит партизанский бой в полосе дотов и в Октябрьском районе, ходит по лесу Анкудович, а они и ухом не ведут. Будто это их не касается.
Хлопцы даже сложили частушки, в которых высмеивают Овсяника и остальных, которые прячутся у жен под юбками:
В партизаны я пойду Летом тепленьким чуть свет,
Когда дотов понастроят На весь этот сельсовет.
В лартизаны я пойду,
Когда будет крепкий дот Да еще подземный ход В мпю хату, огород.
В партизаны я готов,
Когда будет такой дот,
Где харчей на сто годов И в добавку самолет...
Но Сергей ие хочет рвать связи с Овсяником. Чего-то от него ждет.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Пришли втроем — Драгун, Красней, Шкирман. Гри- цук, с изрытым оспой лицом, почти двухметрового роста пожарник, наготове. Грицука в подпольную группу вовлекли недавно.
В пожарной дежурке — длинной, как вагон, с дощатым столом посредине — он был один.
Красней повертел ручку телефона. Затаив дыхание! трое ждали.
т
— Барышня, квартиру Косаревича. Помощника начальника полиции.
На столе прикрученная лампа. Красней повернулся к стене, лица не видать.
— Федосович, ты?.. Приходи скорей, а то сорвут банк. Колода новая, у солдата купили. Короли — желуди, дамы — до пояса голые.
На другом конце провода заминка. Красней наседает:
— Какое поздно, Федосович? Пришли все, как всегда. Дожарная зарплату получила. Горючее есть. Привез Дубовик.
201
Наконец Красней вешает трубку.
— Идет!
Мужчины суетятся. Шкирман раздевается, бросает пальто на топчан. Грицук увеличивает в лампе огонь. В дежурке — черные, закопченные стены, забросанный окурками пол.
— Ты, Красней, на пост,— командует Драгун.— Эта сука осторожничает. Еще хвост за собой притащит. Пока садитесь за стол. Войдет — хватайте за руки.
Драгун раздает карты, но никто не берет. Лица йзму-. ченные, побледневшие. Спокоен один Грицук. Может, надеется на силу. Предателя решили уничтожить еще
202
месяц назад. Для этого Красней и Шкирман завели с ним знакомство.
Мучительно тянутся минуты. В тишине слышно, как где-то близко кукарекает петух. Еще рано ему кукарекать. Видно, к оттепели.
— Черт,— вырывается у Драгуна.— Сколько ждать можно? Сдохнешь...
Вдруг — неожиданное. Шкирман вполголоса запел:
Чубарики-чубчики...
Чубарики-чубчики...
Поет и барабанит пальцами по столу.
— Перестань,— просит Драгун.— С ума сошел?
Грицук кладет на стол кисет с табаком. Кисет из синего сатина, вышитый цветами. Видно, дивчина подарила.
Мужчины делают самокрутки, жадно затягиваются. Дым сизыми кольцами плывет к потолку. Во дворе наконец шаги — идет Косаревич. Мужчины, не дыша, хватаются за карты. Открывается дверь, и с первого же мгновения все начинается не так, как было намечено. Шкирман вскакивает, хватает Косаревича за грудь. Бьет кулаком в лицо. Тот тоже сильный — оба падают на пол.
Красней выскакивает за дверь — забыл про пост. Шкирман, вырываясь из рук Косаревича, бьет его ногой в живот. Тот становится на четвереньки и, не будучи в силах встать, садится. Лицо хищное, но на губах — улыбка.
— Хлопцы... Простите... Жить хочу... У меня дети... Перейду к вам...
Грицук сзади с размаху бьет поленом по голове. Остальное Драгун видит все как во сне. Грицук торопливо вытягивает из-за печки брезент, расстилает на полу. Затем он вынимает из кобуры убитого наган, шарит по карманам. Завертывает труп в брезент, два кирпича—их Грицук заранее подготовил — туда же. Завязывает неуклюжую, как мешок с сеном, ношу веревкой.
За хлевом глубокий каменный колодец. Из темного провала пахнет прелью — вода застойная. Бросают в колодец труп. Громкий всплеск...
20*
— Пусть теперь ищут,—гудит Грицук.— Собаке собачья смерть.
Красней и Шкирман, подняв воротники пальто, расходятся в разные стороны. Еще не поздно — часов двенадцать ночи. Драгун с Грицуком заскакивают в пожарную. Грицук спокоен, деловит, будто ничего не случилось. Берет помойное ведро, тряпку, замывает кровь.
— В Озерки,— шепчет Драгун.— Найдешь Валюжича, секретаря сельсовета. Пароль — Донбасс. Запомни — Донбасс.
*— Я на лошади поеду.
— На черта тебе лошадь. Людей выдашь. В землянке живут.
Прощаются молчаливо, торопливо.
Драгуна, чуть только он выскочил на улицу, начинает тошнить. Постоит согнувшись, а через пять шагов снова. Как из-под земли, слышит незнакомые голоса:
— Набрался. Своими не дойдет.
-— Бобик. Что им теперь — жрут, пьют.,.
2
Людмила Сергеевна Озеркова с дочерью Лизой и сыном Виктором переехала в местечко в начале зимы, в самые снега. Отец старенький, седой как лунь. Встретил со слезами:
— Боялся, внуков не увижу. Умру. Теперь помереть лучше, чем жить,
— Что ты, папа. Это у тебя от одиночества. Будем вместе теперь.
Старый школьный дом с красноватой железной крышей и желтыми ставнями, кажется, еще глубже врос в землю.
Под окнами — густые заросли сирени. Тополей было четыре, теперь три. Но больше перемен в самом доме. Неопределенного цвета обои висят лоскутьями, пол ободранный, и на всем толстый слой пыли. Отец живет в кухне, остальные две комнаты холодные — топлива нет.
Две недели всей семьей мыли, скребли, вытаскивали из дома мусор. Отец ожил, одеваться стал лучше, галстук повязывает.
ш
Отец — учитель, больше семидесяти ему, давно был на пенсии, мать—-тоже учительница — умерла. Федор — муж—в соседнем районе работал директором совхоза.' Теперь он в армии.
Недели две Людмила Сергеевна не выходила из дбма. Знакомых мало, да и никого не хотелось видеть. Днем заботы, вечером возле настольной двенадцати- линёйной лампы бесконечные рассказы отца. Чем-то эти уютные вечера напоминали давно прошедшее, но не забытое. Вот так же, при лампе, отец и мать проверяли тетради, она, школьница, сидела за столом, читала или штопала чулки. Теперь, вспоминая, отогревалась душой:
С Иваном Прокоповичем встретилась случайно. Морозный, розовый после солнечного дня ранний вечер, на улице,— скользкая/ укатанная санями дорога. Узнала сразу: высокий, немного сутулый, худой. Обрадовалась. В коллективизацию в соседнем районе, откуда приехала, муж работал директором МТС, Шелег—начальником политотдела.
Вы здесь, Иван Прокопович?
Было видно, что встрече он рад. Лицо даже просветлело.
— Приехали? Я не знал.
Спросила о жене, о детях.
На другой день Иван Прокопович с женой зашел к Людмиле Сергеевне; подождав два дня, та в свою очередь навестила их. Потом появилась потребность бывать у них, видеться каждый день. Знала семью их хорошо. Поженились в памятный год коллективизации, но Надя, тогда молодая учительница, не первая у Ивана жена. Первой была городская,—поехав в командировку, не вернулась к Шелегу, который учился тогда на курсах.
Для отца приход Ивана Прокоповича радость. Теребя седые усы, начинает бесконечные дискуссии. Пьют чай с сахарином, играют в лото.
Отец вызывает Шелега на спор:
— Мой век был лучше. Вы хвалитесь —техника, прогресс, культура. Где она, ваша культура? Культура— это уважение к человеку. А теперь что? Человека ставят на одну доску со скотиной.
— Фашизм, Сергей Петрович,
— Знаю, что фашизм. Думаете, он сам по себе? Век
205
такой. Немцы и в восемнадцатом году приходили, но не такие. Человечество обезумело. Идеалов нет. Карьеризм, хамство, свинство. Во что верят теперь? Лишь бы живот набить.
— А чем плохи советские идеалы? Социальное равенство, наука, сознательные цели?
— А несправедливость? Вы скажите — не было несправедливости? Мало исчезло людей моего поколения?
г-т- Это делали враги советской власти,— отвечает Шелег.—* В нашей мирной жизни тоже была война. Классовая, как и теперь. Конечно, в войну бывают ненужные жертвы. Учтите капиталистическое окружение. Оно вынуждало преувеличивать опасность.
Отец не соглашается — на все у него своя мерка. Но в том, что касается исхода войны, взгляды обоих одинаковы.
— Россия — тысячелетняя держава! —горячится отец.— Спасла Европу от монгольского ярма. Пока Русь, истекая кровью, дралась с монголами, Европа развивала ремесла, города. Европа всегда была несправедлива к России. Высокомерие, презрение. Г итлер — пигмей, авантюрист. В русской истории он разбирается, как бд- ран в библии. Скрутят шею, повесят, как разбойника. Россия не может погибнуть.
— Старая Россия,— доказывает Шелег,— рухнула бы в такой войне, как гнилое дерево в бурю. Не забывайте о резолюции, о том, что принесла она. Гитлер не один против нас. Захватил чуть ли не всю Европу. С такой промышленностью, какая была при царе, Россия не продержалась бы и недели.
Зимние вечера с теплым домашним уютом, двенадцатилинейной лампой, заправленной немецким бензином, в который сыплют соль, чтобы не было мгновенных вспышек, открытое презрение к немцам, которое, не таясь, высказывает Шелег, а самое главное — ежедневные его посещения в последнее время, когда стал приходить один, без жены, порождают в душе Людмилы Сергеевны тревожные и одновременно радостные догадки.
Чутьем угадывает: Иван приходит не только затем, чтобы ее утешить, подбодрить. Есть иная цель, о которой пока не говорит, присматривается, как бы не решаясь произнести те веские, опасные слова, которых она ждет. Не верит она, что Шелег — ремесленник, который, ремон¬
206
тируя самовары, швейные машины, просто хочет пересидеть войну. Не такой человек, ум, душа не такая.
Она помнит его молодого, загорелого, в кожаной куртке, с Федором спорил до хрипоты, водки не пил даже на праздничных вечерах, носился на эмтээсовской машине по деревням, ел всухомятку, ночевал где попало. Федор любил его. Теперь и Иван постарел, ссутулился, русые волосы, если присмотреться, наполовину седые, лицо в морщинах. Более сдержан, больше грусти в серых глазах. Но нет-нет да и прорвется памятное, молодое — слово, взмах руки, взгляд, улыбка.
То, чего она ждала, Шелег наконец сказал. Пришел днем. Лизы, Виктора дома не было, у них уже завелись знакомые, отцу нездоровится — лежит в соседней комнате на диване. Отводя взгляд, спросил:
— Что думаешь делать?
— Нужно искать работу. Из-за пайка. Все, что могли, продали.
— Иди к Крамеру, бургомистру. Просись в паспортный отдел. Тебя примут.
Она взглянула на него со страхом—все стало ясным.
— Так нужно?
— Нужно.
Больше ни о чем не спрашивала.
Позже, принося домой в старой сумочке заполненные незнакомыми ей фамилиями аусвайсы, передавая их Ивану и получая из его рук неразборчиво написанные на листках, вырванных из школьной тетради, сводки Сов- информбюро, не чувствовала страха, а только затаенную торжественную радость. Лизу по просьбе Шелега послали работать в лесничество секретаршей, там пишущая машинка, и там за один вечер размножают сводки, незаметно передают на другой день хмурому одноглазому леснику, который носит их куда-то в деревню. От Лизы все равно не спрячешься, семнадцать лет ей — понимает все. Лиза помогает Полянской, учительнице, жене командира, которая там, в лесничестве, бухгалтером. Часто, полная горделивой радости, Людмила Сергеевна ловила себя на мысли: тут, среди немцев, они с Лизой воюют, как и Федор, муж, отец. Ему не будет за них стыдно.
Однажды, передавая Ивану чистый бланк аусвайса, сказала:
207
— Когда посылал к Крамеру, боялась — смогу ли лгать, притворяться. А теперь вру каждый день, и не стыдно. Даже весело.
— Вы, женщины, на такие штуки мастерицы. Вас хлебом не корми, а дай попритворяться. От природы у вас. Артистки.
Поняла скрытую за шутливым тоном значимость слов по-своему, по-женски: не может забыть ту, прежнюю, которая жила с ним, а думала о другом. Однако он не дал ей утвердиться в этой ее догадке, придав только что сказанному совсем иной оттенок:
— Я сам думал об этом, Людмила. Не так трудно, по-моему. И в обычной жизни не всегда говорим и делаем то, что думаем и хотим. А тут, когда враг перед тобой, сам бог велел...
Вечером Иван Прокопович тихо стучит в стекло. Сидят на кухне, она передает местечковые новости, рассказывает, как ведет себя бургомистр. Его это интересует.
— Знаешь, не раскушу его никак. Человек, кажется, добрый, людей выручает. Хлеб, соль выписывает даже тем, которые не работают. Но к немцам прилип. О партизанах даже слушать не может. После того как убежали Косаревич и пожарник, ходил будто сам не свой. Ругался, угрожал...
Зима кончается. Шумят в школьных тополях ветры, снежной крупой бьет в стекла. Районная управа созвала в местечко учителей. С сентября немцы собираются открыть начальные школы. Только начальные — о семилетках и средних даже не было и речи. В тот день, когда бургомистр разговаривал с учителями, Людмила Сергеевна зашла вечером к Шелегам. Сообщив Ивану Прокоповичу новость, шутливо добавила:
— Плохой ремесленник из тебя, Иван. О мастерской твоей не слышно. Бургомистра все угощают — кожевники, портные, сапожники. Сапог нашили, костюмов, туфель жене. А ты как крог в норе.
— А что такое? — спросил, нахмурив брови.
— Ничего. Но угости Крамера. Он любит, когда зовут в гости.
Он взглянул на нее, улыбнулся, согласно кивнул головой. Женщин нужно слушаться...
208
3
Немцы начали перешивать железную дорогу. На местные силы не надеялись, пригнали поляков. Каждое утро мимо будки Птаха, стуча деревянными колодками, проходит колонна мобилизованных. Впереди — четверо немцев в желто-зеленых шинелях, на рукавах у них красные повязки со свастикой, как у самого Гитлера. Митя сначала думал, что это какое-то начальство, фашисты. Позже выяснилось — обычные тодтовцы, одетые в форму чехословацкой армии. Чтобы не получилось путаницы, придумали им эти нарукавные повязки.
Питания полякам не хватает, они бродят по местечку, по окрестным деревням. Предлагают в обмен на еду коробок спичек, пачку краски, иголку. Невысокий, чернявый, с бескровным лицом поляк заходит в будку. Ест торопливо, оглядываясь, будто боится, что кто-то войдет и вырвет из-под носа миску с капустой. Похлебав, ругается;
Герман-то холера, пес! — Кричит так, что Птах оглядывается на дверь.— Он бэндзе пить из вас кровь, а из костей бэндзе меть навоз. Так... Я не вру, я вем — тшэба уничтожать, резать германа!..
— Почему же ты, если такой смелый, не резал? Да еще немцу железную дорогу налаживаешь?
— А цо я могу? — поляк вянет на глазах.— Естэм екец, хэфтлинг. Я бэндзе убегал, а родзине капут. Там дети, две цурки...
— В том-то, брат, и загвоздка, что хотел бы в рай, да грехи не пускают. На чьем возу едешь, тому и песню пой.
— Да,— грустно соглашается поляк.— Пан прав. Мы невольники.
Поляк забегает каждый вечер, понемногу его подкармливают.
Митя встает и ложится с одной мыслью—о фронте. Мысль засела прочно, как вогнанный в дерево гвоздь. От нее нельзя избавиться. Она всегда с ним, подчиняет своей власти все остальное. Железная дорога, лес, поле, книга, которую Митя иной раз берет в руки, работа по хозяйству — все напоминает о войне, во всем присутствует до боли острое, всепоглощающее чувство ненужности, тщетности всего этого, если не вернется прежнее, если все останется таким, как есть. Сам он, маленькая, неза¬
209
метная песчинка, целиком зависит от событий и бурь, которые разыгрались там, вне поля его зрения. Но в то же время он часть этих событий, они отзываются болью или радостью в сердце. От того, придут или не придут наши, зависит вся жизнь.
У отца другая забота. Он больше думает о том, как уберечь от беды, спасти семью. Он согласен стоять в стороне, ждать, пока пронесется над головой шальной вихрь... Для отца имеют значение корова и телушка, копна гнилой соломы, которую привез старый Шнапс, одолженная осьмина картошки. Он, кажется, может жить только этими мелкими заботами и делами, без того самого главного, чго делается на свете. Он согласен так жить. Митя не согласен. Где-то здесь и проходит грань между его и отцовским отношением к войне й ко всему тому, что пришло вместе с ней. Каждый это чувствует. Бывают минуты, когда Митя прямо-таки ненавидит отца.
А будочника Пгаха тревожит скрытность, сосредоточенность сына. Отец заметил: все, за что бы сын ни взялся, он делает без охоты, без интереса, без той старательности, которая так ему нравилась в Мите. Во всем этом, зная характер сына, отец видит опасность для семьи, беспокоится. Беспокоят его и Митины друзья, частые отлучки из дома — ими он бесконечно упрекает Митю. В их характерах столько общего, близкого, но как далеко они стоят друг от друга!..
Главная забота отца — сложить хату и скорей в нее перебраться. Уже настлали пол, но нет еще потолка, печки, и на одну сторону крыши не хватило дранки. Печь может подождать. Летом можно варить и во дворе на печурке. Без потолка и крыши в хату не вселишься.
— Митя,— позвал однажды отец.— Давай срежем сосну. Все равно немцы валят лес возле железной дороги. Никто слова не скажет. А дранка будет хорошая.
— А пчелы как?
— А что пчелы,— отец грустно улыбнулся.— Тут люди гибнут, а он пчел жалеет.
Они стоят на переезде. Ранние зимние сумерки, в синеватом полумраке серое поле, кусты. В лесу кто-то выстрелил, и глухое эхо пронеслось над полем.
— Так сегодня сделаем? — нерешительно спрашивает отец у Мити.
210
~ Режь сам, я не буду.
— Смотри, какой жалостливый. Хата течет, а у тебя . голова не болит. Где дранки взять?..
Отец повернулся и двинулся во двор. Митя остался на переезде.Ему грустно и обидно. Он не смог бы сам себе объяснить, почему намерение отца ему не понравилось. Может, с уничтожением сосны рвалось то, что связывало прошлое с сегодняшним и завтрашним. Митя не может представить, какими будут без сосны переезд, будка и поле. Они станут незнакомыми, совсем не такими, какими привык их видеть. И вообще, многое трудно высказать* словами, оно живет только в чувствах. ' - .
Митя сидит на перилах деревянного барьера, смотрит на местечко. В школе — огни. Снова нет светомаскировки. От этого тревожно. Огни в окнах школы как бы отдаляют то, что должно было скоро прийти, но задержалось в дороге. Медленно гаснут последние краски дня. Темнеет.
Неслышно подошел отец, и Митя вздрогнул.
— Пугливый ты стал. Пока за отцовской спиной сидишь, не бойся.
Он помолчал, заговорил более ласковым голосом:
— А сосна пусть стоит. Думаешь, я хотел губить ее? Крепкая она, как раз в силе. До меня стояла, пусть стоит и после меня. Когда только перебирались сюда в будку, ветки ниже были, рукой достанешь. Люльку вешали. Дитё видит зеленое и радо, смеется.
Митя молча слушает.
— Думал, век проживу в будке, хотя выбираться все равно надо было бы, пенсионеров в будках не держат. Но если бы не война, не немец, еще пожили бы.
Примиренные, занятые каждый своим, пошли во двор.
Первое, что отремонтировали немцы на станции, была уборная. Обычных табличек — «Для мужчин», «Для женщин», которые висели прежде, нет. Вместо них написано по-немецки: «Только для немцев», «Для рабочих». Хлопцы, увидев такое, не поверили глазам. Но таблички висели, и написанное нужно было понимать так, как написано.
in
Дня через три, вечером, к Лобику прибежал возбужденный Шура Гарнак. В руках у него какой-то сверток.
— Есть идея! — крикнул с порога и развернул на столе портрет Гитлера.
Митя и Лобик бросились к столу. Под портретом подпись по-русски: «Гитлер-освободительз». У Гитлера грубое, сердитое лицо, немного скошенный набок рот. Половина лба закрыта прядью волос.
Портрет Шура достал легко. В управе раздавали такие старостам. В их двор заезжает один, далекий родственник отца. Хотя и староста, но везти Гитлера в деревню не захотел. '
— Повесим Гитлера в уборной, на станции*. — Шура потирает от удовольствия руки.— Раз немцы так заботятся о себе, то пускай там и Гитлер им будет. Пусть молятся.
Вечером над станцией стоит настороженная тишина. Светятся зарешеченные окна пакгауза — там живут поляки-рабочие. Снег с рельсов счищен, стрелки во мраке как надмогильные кресты. Митя' и Лобик стали на страже, Шура с портретом за пазухой юркнул в немецкое отделение уборной.
Выскочил радостный.
— Готово!
Стежкой по заснеженным огородам, отделяющим станцию от улицы, шли молча, а потом заговорили, замахали руками.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Миша Ключник — широкоплечий, круглолицый — связной от Анкудовича. Раненный в ногу, месяц пролежал в больнице. Кто его положил туда и как он, партизан, лечился под носом у немцев, хлопцы не знают. От этого ходят радостные, возбужденные.
— Следите за немцами, полицаями! — приказал Ключник начальническим тоном, только на несколько минут заглянув в хату Лобика, и тут же исчез.
Минуло каких-нибудь дня три, и о немецком гарнизоне хлопцы знают все, что можно знать. Охранная ро¬
212
та* размещенная в станционном двухэтажном доме, насчитывает шестьдесят солдат. У них винтовки, пулеметы. В полиции более сотни бобиков, кроме того, двенадцать немдев-жандармов, двадцать солдат в охране гебитско- миссара. У них тоже пулеметы и винтовки.
Ключник живет на квартире у медсестры. Сергей зашел к нему, рассказал все, что знал о гарнизоне, но связной покидать местечко как будто не собирается. Чувствует себя как рыба в воде. У него много знакомых, и среди них даже два переводчика гебитскомиссариата, молодые, приземистые фольксдойни, с которыми он запанибрата. Где-то раздобыл Миша новое пальто, костюм, блестящие широконосые туфли.
Вечером в окружении девчат Миша приходит в клуб. Он красивый, , и девчата-гг медсестры, санитарки, телефонистки — злятся, когда видят, что он танцует с какой- нибудь одной. Хлопцев Миша не замечает, смотрит, как на незнакомых.
Сергей еще раз сходил в Горбыли к сестре и вернулся с хорошими вестями, В железнодорожном городке тоже не дремлют. Сестра познакомила его с интересным человеком — капитаном Бондарем, который собирает вокруг себя надежных людей и оружие. У Бондаря связь с октябрьскими партизанами — теми самыми, которые всю зиму воевали с немцами. Сестра, работающая в немецкой столовой, сказала, что весной пойдет в партизаны.
Сергей по-прежнему, чуть ли не каждый вечер, заглядывает к Овсянику. Заметного успеха нет. Овсяник играет в непонятную игру. Со всем соглашается, поддакивает, но слова, круглые, легкие, исчезают, не оставаясь в памяти.
В тот вечер, разозлившись, Сергей решил идти напролом. Овсяник сидел на припечке и при тусклом свете плошки подшивал валенок. Кровь прилила к лицу Сергея,— на улице грязь, слякоть, наступает весна, а Овсяник заботится о зиме.
— Вы мне скажите прямо,— Сергей старается говорить спокойно.— Дадите оружие или нет?
— Кому это я должен давать оружие?
-т Хлопцам. Мне стыдно перед ними.
—; Твой хлопцы — нуди без палочек. Молокососы. Особенно Вилюга этот.
213
— Они не дрожат и не трясутся, как вы.
— А почему я должен давать оружие? Нет его у меня. Откуда вы взяли?..
Сергею ясно, что больше по-товарищески с Овсяником говорить нельзя. Сегодня нужно решить окончательно, даст оружие или нет.
— Мы знаем все. Вы сами мне говорили, а теперь скрываетесь,— в голосе Сергея угроза.
Овсяник подхватывается:
— Говори тише. Зачем кричать?
— Покажите оружие,— стоит на своем Сергей.
— Слушай, Амельченко, подожди. Не нужно быть таким горячим.
— Сами можете не идти. Расскажите, где оно. Найдем без вас.
— Какой ты нетерпеливый. Нужно все обдумать, взвесить. Так просто не делается.
— Покажите место! — чуть не кричит Сергей.— Вам же будет лучше.
Овсяник наконец сдается. Нервно теребит бахрому на конце шарфа, которым обмотана шея. В эту минуту Овсяник похож на кота, которому прищемили дверями хвост.
— Нужно искать около торфозавода. И чтоб про меня ни звука. Ничего знать не хочу. Я той ямы не закапывал и откапывать не буду. Я и так на подозрении. Не ходи ко мне больше. Около торфозавода в пятом квартале ищите. От квартального знака на правой стороне просеки должна быть старая береза со сломанной верхушкой...
Сергей радуется, но не хочет показать вида. Признание Овсяника дорого стоило. Сколько он сюда приходил!
Овсяник проводил Сергея до порога. В сенях схватил за рукав, зашептал:
— Вы молодые, горячие — не понимаете... Партизаны хорошо, когда фронт сильный. А если нет, то все это глупости. Что ты винтовкой против танка сделаешь? Не иди улицей, огородом иди. Может, какая-нибудь сволочь подглядывает.
Сергею неприятны слова Овсяника, но спорить нет желания.
Сергей идет вечерней улицей. Чувствует себя сильным. Ему знакомо чувство независимости, силы, то чув¬
214
ство, которое бывает, когда держишь в руках винтовку. Хлопцы, за исключением, может, одного Лобика, этого не знают. Поэтому они не могут понять, как чувствует себя боец, у которого нет винтовки. Теперь это все пройдет. Пусть только в руках у него будет оружие...
Перед синим, притаившимся во мраке вечера садом Сергей останавливается. Домой идти не хочется, к Лобику— тоже. Завтра или послезавтра, когда он откопает оружие, все переменится. Тогда хлопцы будут смотреть на него совсем иначе.
Сергей чувствует себя виноватым, когда идет через сад к дому Риты. Он будто ворует. Знает, что не любят хлопцы Риту, при нем над ней смеются. Но он все равно к ней ходит. У Риты отдельная комнатка, и она смело ведет Сергея к себе, есть ли кто в доме или нет. В комнатке беспорядок: кровать не убрана, на спинке стула навалены платья, чулки, стол забросан гребенками, заколками. Однажды он застал Риту неодетой, в одной нижней рубашке. Девушка сидела на кровати, обхватив колени руками, игриво улыбалась, глядя на него.
Если бы она, как и большинство местечковых девчат, вышивала салфетки, старалась показать себя заботливой хозяйкой, он на нее не обратил бы внимания. Рита представляется какой-то особенной, непохожей на других девчат. Ему ни разу не удалось до конца понять, чего она хочет.
О своем отношении к Рите и насмешках ребят Сергей думает так: он еще не сделал ничего, чтобы заслужить внимание Риты. Она красивая, поэтому к ней тянутся. Разве есть более красивая девушка на всей Вокзальной улице?..
Риту застал дома. Удивился, увидя ее за работой: раскрасневшаяся, с распущенными волосами полощет белье. На столе в банке из-под варенья три веточки вербы. Сережки на них распустились, проклюнулся зеленый листок. За окном, в деревьях сада, шумит ветер.
— Завтра пойду на работу,— сказала Рита, расчесывая гребенкой волосы.
— На какую работу?
— Машинисткой в маслопром. Меня приняли. А ты не думаешь куда-нибудь поступить? Могут забрать в Германию.
— Еще посмотрим...
215
Хочется сказать Рите что-нибудь колкое, злое, но Сергей молчит. В мыслях видит себя с винтовкой, револьвером. Придет в этот маслопром, застынет на пороге. Лица тех, кто там сидит, передернутся от страха. Но он удивит их великодушием. Не промолвит ни слова. Все его поймут и бросятся прочь с немецкой службы. Останется одна Рита. Что она скажет? Как на него посмотрит?..
Скрипнула дверь, в передней комнате послышались шаги, и без стука вошел краснолицый хлопец в черном дубленом кожушке нараспашку. Сергей узнал его, это тот самый Ленька Щур, который громче всех выбивает чечетку в клубе. Он без разрешения сел на стул и большими синими глазами уставился на Сергея. Рита покраснела. Было видно, что Щур здесь гость не новый.
— Знакомьтесь,— сказала Рита.— Это Леня. В мас- лопроме кладовщиком.
«Наел морду, сволочь»,— мелькнула у Сергея недобрая мысль. Сергей сидел как на иголках. Говорить было не о чем. Щур вытащил из банки ветку вербы и стегал себя по блестящим голенищам. Сергей простился. Выходя садом на улицу, он, кажется, слышал, как скрипит под ветром старый, источенный шашелем Ритин дом*
2
Шла весна.
На полях, серых и пустых, с редкими полосками озими, запели ручейки, талой водой наполнялись овражки, канавы на обочине большака. В лесу между деревьями еще лежит почерневший снег, а на прогалинах, на кочках уже выглядывают стебельки первой травы — черноголова. Еще будут заморозки, гололедица. Могут даже и в апреле разгуляться снежные метели, но черноголов растет, держится.
Весна начиналась тревожно. В немецких сводках, которые аккуратно вывешиваются на стене клуба, снова похвальба. Возле реки Волхов окружена будто целая армия. Идет наступление на Керчь, на Севастополь.
Вечером в фойе клуба молодой немецкий солдат, аккомпанируя себе на губной гармонике, пел:
216
Es geht alles voruber,
Es geht alles vorbei.
Wir laufen im Dezember, : '
Die Russen — im Mai.. }
Солдат длинноносый, худрй, с густыми веснушками на лице, и песня его звучит грустно. Пой, солдат!.. Россия, которую твой фюрер полгода назад считал побежденной, униженной, выстояла, гнала по снежным равнинам твои закованные в броню армады. Идите вперед, немецкие мальчики, фюрер вам припасет березовых крестов!.. Запомни, солдат, романтики не будет, не пойдешь ты победным шагом, засучив рукава, а щедро польешь молодой кровью каждую пядь чужой, жесткой земли. Ваш фюрер говорит, что война — естественное состояние человека. Ты почувствовал, должно быть, вкус войны, потому и грустна твоя песня. Пой, солдат!..
Не к плугам и тракторам звала первая оккупационная весна, а к мести, на партизанские тропы. Сулила не хлебный каравай, а посев ненависти и мести. На призывный этот клич отозвалось все непокорное, смелое, честное...
Микола прибежал в будку утром, сильно взволнованный. Не хотел ничего говорить при отце и матери и только незаметно кивнул, давая Мите знак выйти. Хлопцы вышли во двор и медленно зашагали проселочной дорогой, которая, петляя по серому полю, вела в местечко. День хмурый, словно осенний. На железной дороге перешивают колею, стучат ломами поляки.
— Сергея арестовали,— коротко сообщил Микола.— Почти всех забрали, кто из леса пришел, из истребительного батальона. Овсяник убежал.
— А Ключник где?
— Пошел предупредить Анкудовича. Узнал, что будут забирать пленных примаков. Назад в лагеря. Активистов будут арестовывать.
Новость встревожила. Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Хлопцы, понурясь, умолкли.
— Овсяник сказал Сергею, где закопано оружие*,— продолжал Микола.— Но на том месте его не нашли,
1 Все идет, все проходит.
Все проходит, минует.
Мы убегаем в декабре,
А русские — в мае... . *
217
Сергей с Шурой ходили. Должно быть, Овсяник просто хитрил... Не верил нам. Ясно, что пошел в партизаны.
Хлопцы дошли до первых местечковых хат и повернули обратно, в поле. Идти трудно: дорогу расквасило, к ботинкам прилипают комья грязи. Кто-то сзади окликнул: оглянувшись, увидели Лобика. Ие выбирая дороги, проваливаясь в грязь, он догнал их.
— Сергея схватили,— дрожа от волнения, сообщил он новость.— Овсяника взяли...
— Овсяник убежал,— возразил Микола.— Я знаю. Кто-то его предупредил.
Бродили по полю, расхваливали Овсяника. Теперь он казался умным, проницательным. Видать, не зря таился. Он не один, это ясно. Им, молодым, просто не хотел- раскрыть карты. И правильно делал. Не обязательно каждому встречному доверять. Что он знал о них?.. Сдавали нормы на значки, листовку напечатали. Пустяки это все. Люди, видно, делали нечто большее и не мололи без надобности языками. Показали немцам шиш.
— Овсяник теперь сам свяжется с нами,— высказал догадку Митя.— Вот увидите. Партизаны без нас не обойдутся. Им же нужна разведка...
Если будет свой, местный отряд, то партизаны без них действительно не обойдутся. Анкудович далеко, в До- мачевском отряде. Но и он прислал Ключника.
— Сходишь завтра в лес и заберешь гранаты,— приказал Микола Мите.— Снег согнало. Если патронов найдешь, волоки. Я на торфозавод с Шурой схожу. На то место. Может быть. Овсяника встретим.
На другой день утром Митя уже знал, что Овсяника все же схватили. В лес он не пошел, а спрятался у родни, на хуторе. Кто-то из полицейских догадался, что он там.
Выйдя на переезд, Митя еще издали заметил Миколу. Он шагал по насыпи, и ветер широко развевал полы его серого, перешитого из шинели пальто.
Шагал Микола смело, не обращая внимания на нем- цев-тодтовцев и поляков, которые перешивали железную дорогу. Подойдя к Мите и даже не поздоровавшись, выпалил:
— Мне нужно поступить в полицию!..
— Зачем? — не понял сначала! Митя.
— Как зачем? С Сергеем свяжусь, с Овсяником. Ору* жие достану. А чего ждать?
218
Митя сразу почувствовал, что Микола решил правильно. Иного выхода не было. Они уже не могли, как прежде, сидеть без оружия. Перехватают всех, как зайцев. И в лес без оружия не убежишь. Но и посоветоваться не с кем. Ключник ушел. Анкудович — далеко.
— Я согласен,— сказал Митя.— Ты молодчина. Пошли к хлопцам.
У Лобика сидел Шура. Иван, выслушав Миколу, отнесся к его намерению скептически:
— Что ты будешь делать, когда тебе расстреливать прикажут? Немцы ведь захотят тебя проверить, Скажут: веди и стреляй.
— Не буду стрелять. Пусть лучше убьют меня. Пальну из винтовки в немца — и в лес. Я уже думал.
— Семью расстреляют.
— Так что, на печи сидеть? — побледнев, закричал Микола.— Вы все умные, пока до дела... Дулей немца не испугаешь. Если ты такой мудрый, то скажи: что делать?..
— У нас группа, организация,— сказал Митя.— Связаны с партизанами. Он же не сам идет — посылаем.
Хлопцы согласились. То, что решил Микола, давало возможность смотреть в завтрашний день с надеждой.
— Так я пойду,— голос у Миколы задрожал.— Вы, ребята, не забудьте о том, что сказали.
Митя почувствовал благодарность к решительному, грубоватому Миколе. Они все брали на себя огромную ответственность. Они связаны с Анкудовичем, с Ключником, с сестрой Сергея, но теперь нужно решать самим.
— Я провожу тебя,—сказал Митя.— Пошли.
В эти тяжелые дни никто из них даже и не подумал, что Сергей, которого в немецком застенке, безусловно, пытают, что-нибудь выдаст.
3
С того дня, как Микола Тябут стал носить на рукаве своего пальто повязку полицейского, а на плечо вскинул винтовку, его особой многие заинтересовались. Хлопцы, которые учились в старших классах и помнили Миколу но школе, смотрели на него с презрением, взрослые, знавшие его отца (отец Миколы в армии),— удивленно. И
219
только девчата, особенно те, которые ходят к Вере, встречали Миколу с хитрыми огоньками в глазах.
Однажды весной* перед вечером, Митя зашел к Вере— принес книгу.
— Может быть, посидим в саду? — несмело предложила Вера.
Под цветущими яблонями дощатый столик. Присели. Вера грустная, молчит.
— Митя,— наконец проговорила она,— я же с вами училась. Почему вы от меня скрываетесь?
— Как скрываемся?
— Видишь, и ты такой же. О тебе я лучше думала. Будто я не советская.
— Не нужно так говорить.
— Миколу вы в полицию послали?
Митя чувствовал, как краснеет его лицо, шея.
— Я пойду, Вера,— Митя поднялся.— Ты можешь думать, что хочешь.
— Митя! — подхватившись, испуганно воскликнула Вера.— Сумасшедший ты или что? Я пошутила...
Он сел, села и она. Друг на друга не смотрели, прятали глаза. И оттого, что оба испугались мысли, что вот так, враждебно, не по-людски разойдутся, оттого, что Вера вслух признала свою неправоту, между ними установилось молчаливое согласие. Вера заговорила первая:
— Пусть будет так, как ты хочешь. Но своей жизнью я могу рисковать, правда? Так слушай. У меня есть винтовка. Здесь, во дворе. Она нужна тебе? Если нужна, бери...
Ему стало стыдно. Что у них, шестерых, есть? Один обрез. Можно, конечно, считать и винтовку, которую выдали Миколе в полиции. Сергей — в тюрьме. Овсяник, к которому Микола заходит в камеру, об оружии даже слушать не хочет,
— Где ты взяла?
— У полицая украла еще осенью. Поставили одного на постой. Он винтовку оставил, а сам вышел. Я спрятала ее на огороде. Стекло в окне вынула, чтобы можно было подумать, что кто-то через окно стащил.
— И этот полицай смолчал?
— Заявил. Немцы приходили с обыском.
Вера рисковала еще тогда, когда он вообще не знал, что делать. Отважился бы тогда на такой шаг он сам?
220
Так имеет ли он право на эту винтовку, добытую девушкой?
.— ■Ты не обижайся, Мигя. Я вас просто хочу предупредить. Думаешь, другие ничего не видят? Знают или догадываются. Вам не нужно ходить вместе. Сами себя напоказ выставляете...
Митя улыбнулся. Она считала их невесть какими героями. А что особенного они сделали? Рисковать-то, может быть, рисковали. Каждая мелочь требует риска.
Он вспомнил, как неделю тому назад чуть не попался с обрезом, который нес от Миколы. Для этого в майский вечер: пришлось надеть поддевку. Встречные посматривали удивленно. Должно быть, считали его больным. До железной дороги проводил Микола. По полотну Митя пошел один. Обрез нес под полой. Чем-то его вид показался подозрительным солдату, который прохаживался перед блокпостом. Тот следом, следом за Митей. Микола это увидел, не раздумывая бросился, на выручку. Перегнав немца, пошел рядом с Митей. Увидев полицая, немец успокоился, отстал...
Обрез ржавый, с загнутыми железными краями ствола. Кто-то неопытный, надрезав ствол, переломил его, как палку. Несколько дней, сидя в хлеву, на .чердаке, Митя приводил обрез в порядок, спиливал напильником неровности, соскреб ржавчину, смазал затвор и ствол.
- — Возьму винтовку,— сказал Митя.
Перед Верой таиться не стоит, Она .такая же*, как и они, шестеро. Может быть, лучше даже. Но все равно Митя не может ей рассказать о том, что они делают и что задумали. То, что он знает, принадлежит не только ему.
Хлопцы, услышав о винтовке, обрадовались. Они не чувствовали никаких угрызений совести.
— Молодчина Вера! — потирая руки, воскликнул Микола.— Пойдем заберем.
На следующий вечер собрались в Верином саду. Шура Гарнак рассказывал веселые истории, Лобик подкалывал Шуру, а Микола хохотал за двоих. Когда стало смеркаться, Микола вышел со двора с винтовкой на плече. Винтовка аккуратная, ухоженная, с четырьмя патронами в магазине и одним — в канале ствола. И никто из тех, кому об этом не нужно знать,* не заметил, что прищел Микола к Вере с пустыми руками, а вышел с винтовкой. Хорошо иметь своего полицая!.. . . •
22!
За винтовкой — аммонал. Они втроем — Митя, Лобик, Микола — натаскали несколько пудов. Носили корзинами, днем. Когда-то этот аммонал принадлежал истребительному батальону. Полиция захватила взрывчатку. До чего легкомысленный народ полицаи! Нужно ли лучшее доказательство тому, что тогда осенью поверили — партизаны больше не воскреснут. Иначе почему так беззаботно отнеслись к хранению аммонала? Лежал среди разного хлама в полицейском сарае — два огромных мешка, и никто им не интересовался. Микола в сумерках выволок мешки во двор, перекинул через забор. За забором — яма. Оттуда брали и носили.
4
22 июня — годовщина войны. В этот день по железной дороге прошел первый немецкий поезд. Его Митя увидел в полдень. Для отвода глаз еще утром пошел с косой в кусты, но не косит, а пилит рашпилем зенитный снаряд. В кустах — тайник. Здесь обрез и винтовка, часть аммонала. Услыхав гул на железной дороге, вышел на открытое место. Поезд пробный с короткой трубой паровоз, четыре вагона. Движется медленно, как бы ощупывая перед собой рельсы. Вагоны, паровоз украшены зеленью, тормоза, двери густо облепила солдатня.
Митя, увидев поезд, почувствовал, как заныло в груди.
Вечером — сбор у Лобика. Нет Сергея и Вилюги. Сергей с того дня, как выпустили из тюрьмы, сдружился с Юрием Босняком, лейтенантом из Одессы. Ходит к нему на квартиру чуть не каждый день. Вилюга тоже с ним.
— Мина нужна,— говорит Шура Гарнак.
Он работает уже на железной дороге мотористом. Скоро еще кто-нибудь туда поступит. Ключник несколько раз был — приказал.
Мину сделать не трудно, аммонала сколько хочешь. Но как ее взорвать? Лобик строит планы, Шура их тут же отклоняет. Но все-таки золотая у Ивана голова. Высказывает мысль, которая наконец нравится всем.
•— Химический взрыватель,— говорит он. —Самай простая реакция — каплю серной кислоты на смесь берг толетовой соли с сахаром. Детонации хватит.
222
— Хорошо,—возражает Шура,— но как мину взорвать?
— Просто. Положим под стык аммонал, в щель на* сыплем смеси, бутылочку с кислотой на стык. Ее колесом раздавит.
Хлопцы веселеют — Лобик гениален!
— Через неделю чтоб была мина,— приказывает Микола.
У Мити тоже идея. Сегодня распилил зенитный снаряд, начиненный длинными пороховинами. Одну поджег. Горела, как обычный гребешок. Ясно: нанизав на нитку пороховины, можно сделать шнур, поджечь и, пока он будет гореть, успеть отбежать от мины. Но опять же, как сделать взрыватель? Может быть, приладить обычный капсюль, как-нибудь выбив его из патрона? Но даст ли он нужную детонацию?
Митину идею одобряют тоже, хотя сразу видно, что таким способом поезд не взорвешь. Можно мост или что- нибудь неподвижное.
— Нужно проверить,— бросает Микола.
Приходят Сергей с Вилюгой.
— Руки вверх!—командует Сергей и, выхватив из кармана новенький наган, целится в окно.
Хлопцы остолбенели. О таком оружии, которое оказалось в руках у Сергея, они не мечтали.
— Дай посмотреть,— загорелся Шура.— Тяжелый, холера. Самовзвод. Семь патронов.
Наган переходит из рук в руки. Высыпав патроны из барабана на стол, хлопцы целятся в бутылки, кувшины, стоящие на полке. Щелкают курком. Наган действует безотказно.
— Дай мне сегодня на вечер,— просит Шура.— Хочется походить с наганом. Я тебе завтра отдам.
— Бери.
— Где ты взял? Может быть, закопанное оружие?..
— Нет никакого оружия. Надоело таскаться на тор- фозавод. Все около того места перекопали.
— Овсяник сволочь,— подхватил Вилюга.— Морочит голову.
— Он, должно быть, ничего не знает,— говорит Ми< кола.— Я четыре раза в камеру заходил.
— Может, думает, что тебя подсылают?
— Черт его знает. Однако сало взял.
223
— Так кто же дал наган? — наседают на Сергея.
Сергей мрачен. Теперь он часто бывает мрачен. В
тюрьме били, издевались, выпустили по случаю дня рождения Гитлера. Но это только предлог, заступился за Сергея бургомистр Крамер. Отец несколько раз ходил к нему, просил. С Крамером хорошо знаком.
Выпустили, но пообещали, что за малейший проступок, который покажется немцам подозрительным, Сергея схватят. Сергея, безусловно, запишут в Германию, может быть, уже записали. Набор — скоро. Выход один — убежать в лес. Сестра, которая в Горбылях, может быть, уже пошла. Но как оставить отца, мать, сестру и младшего брата? Останутся заложниками. Немцы не будут ломать голову, куда он пошел. Здесь и Крамер не поможет. В окрестных лесах нет отрядов, в которые принимали бы с семьями.
— Анкудович наган прислал,— говорит Сергей.— Через Ключника. Ключник теперь не скоро придет. Они действовали группами, а теперь снова объединились в отряд. В Домачеве — своя железная дорога.
— Что передавал Анкудович?
— Действовать.
— А что, если и тебе поступить на железную дорогу? Может быть, не возьмут оттуда?
— Не пойду я к ним кланяться.
Душно в хате Лобика. Вышли во двор, прилегли на траве. На болоте кричат чибисы. Начинает темнеть — солнце огромным красным шаром скатилось за лес.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Эшелоны идут и идут. Митя сидит в дровяном сарайчике, осторожно тюкает молотком по головке патрона — чтобы вывалился капсюль. Поглощенный своим занятием, не заметил, как сзади подошел отец.
— Ты что делаешь?
— Ничего. Мундштук.
— Смотри, чтоб от этого мундштука губы не распухли. Курец.
224
— А что — буду курить...
— Может, у меня спросишься?
Митя чувствует, что соврал неудачно, но отступать поздно. Начинает брать злость на отца, от которого ни в чем не спрячешься.
—■ Чего вы за мной ходите? —кричит, Митя.— Шагу н<е ступишь!
— Так ты еще кричишь?— Отец, стиснув кулаки, вплотную подступил к сыну.— Не мундштуки у тебя 6 голове! Может быть, снова прошлогодних игрушек принес?.. Семью загубить хочешь?.. Найду, голову откручу. Думаешь, умнее отца, а я тебя насквозь вижу.
На крыльце мать с укором глядит на Митю. Петрусь и сестры испуганно жмутся у дверей.
—"Ничего я не принес,— обиженно говорит Митя.—г Ищите, если не верите.
Он врет сознательно. Иначе нельзя. Отец не хочет его понять и никогда не поймет. Митя швырнул патрон, направился в будку. Вслед за ним — отец.
— Через таких, как гы, народ мучается, терпит. Не трогай лиха, и оно тебя не тронет. Но вам же не сидится, чешется. Если фронт не удержали, то этим не поможешь, что здесь выстрелишь в немца. Ты его одного, а он твоих десять. У него же оружие, власть.
— А мало немцы издеваются над людьми? — кричит Митя.— Мало схватили, расстреляли?
— Так ты что — укажешь им? Они же твоего дозволу не спрашивали, когда начинали войну. Их сила — их и право. Береженого и бог бережет. Будешь сидеть тихо, так, может, и минет беда.
— Так я же сижу тихо,—уже спокойно говорит Митя.— Что я такое делаю?
Новая ссора началась вечером. Мать не поверила Мите, так как знала больше, чем отец. Давно заметила—сын часто наведывается в хлев. Теперь, услыхав о патронах, пошла в хлев сама, копалась целый час и, наконец, прибежала в хату с побелевшим лицом.
— Степан,—зашептала, чтоб не слыхали младшие дети,—там эти... бомбы... Боже мой, боже... Он таки свернет себе голову...
Отец выскочил из будки, метнулся в хлев и, неся в обоих руках завернутые в тряпку Митины гранаты, бросил их в колодец. Митя стоял около окна бледный,
225
взволнованный. Нужно было в тайник отнести. Пропали гранаты.
— На этот раз прощаю,— спокойно проговорил отец, вернувшись в будку.— Но если еще что замечу — по полу будешь ползать. Понял? И чтоб этих твоих друзей ноги здесь не было. Придут — выгоню...
Мать плакала. Жалела Митю и больше ничего не хотела знать.
Отец снова обходчик. Ему выдали связку ключей, новых и не похожих на прежние. Гайки на рельсах теперь другие, более крупные, да и рельсы прикрепляются к шпалам не костылями, а шурупами. Внешне все осталось таким, как и было: обход, обязанности, служба — те же самые. Платы немцы не прибавили: обещанные двадцать марок в месяц будто бы означают двести довоенных рублей. За них на станции, у хитроватых немцев-снабженцев, которые кое-что продают из-под полы, можно купить два кирпичика твердого соленого хлеба, а если в открытую, у всех на глазах, то никелированную зажигалку и пачку сигарет. Паек отцу дали — триста граммов хлеба на день, кило соли на месяц. Служить отец не хотел, но хата не окончена.
Эшелоны идут. В поспешности, с которой несутся поезда на восток, есть что-то неуверенное,— кажется, они летят в прорву. Солдаты, едущие в вагонах, не играют на губных гармониках, не горланят, как в прошлом году. Лица у них безразличные.
На следующий после ссоры с отцом день тихо прошел санитарный поезд. На зеленых вагонах красные кресты. Окна завешены занавесками, но то, что хотел, Митя увидел. Мелькнули забинтованная, с рыжими подтеками на марлевой повязке голова, желтое, восковое лицо, рука, свесившаяся с верхней полки.
Мать стоит около колодца, глядит на поезд из-под ладони.
— Не радуйся,— говорит Мите.— У всех есть кровь, и всем больно. Грех с такого смеяться. У тех раненых матери, дети...
— Кто их просил сюда?
Вечером высушенным на печи у Лобика аммоналом напаковали штанину, оторванную от старых штанов. Это мина. Нет бертолетовой соли, чтобы сделать взрыватель.
8 И. Науменко.
226
2
Черный шнурок на немецкой карте, повешенной на стене клуба, тремя стрелками-жалами выгнулся на юге. Кнопки — концы стрелок —прикреплены около Воронежа, Луганска, Ростова. Немцы наступают. Наши войска оставили Севастополь.
Отойдя от карты, Митя встретил Сюзанну. Дощатый тротуар скрипел под ногами, встречные удивленно посматривали на них — на него, хромого, с хмурым лицом, в неказистом пиджачке, заплатанном на локтях, и на Сюзанну— красивую, в аккуратно выглаженной белой блузке.
На карту Сюзанна вряд ли смотрела. Они еще раз прошли мимо клуба, но она даже головы в ту сторону не повернула.
— Как ты живешь, Митя? — спросила доверчиво, дружелюбно, стремясь развеять его угрюмую молчаливость.
— Так себе.
Она шла рядом, говорила, заглядывала ему в лицо, не обращая внимания на то, что он отмалчивается, что на нем старая изодранная одежда, которая совсем не подходит для прогулки с девушкой. С тротуара свернули в больничный переулок — тихий, зеленый, и Митя почувствовал себя спокойней.
В переулке живет Сюзанна, и ее деревянный домик ничем не отличается от других — таких же низких, приземистых, спрятанных под яблонями и вишнями.
Земля в переулке заросла подорожником, травой,— тут почти не ездят. По ту сторону заборов густо поднялся малинник, чуть ли не перед каждым домиком — скамеечка. Присели на Сюзанниной.
Переулок живет вечерними шорохами и звуками. Скрипнула калитка, кто-то брякнул ведром. В малиннике пискнула испуганная птичка: должно быть, почуяла, что по забору, осторожно перебирая лапами, крадется кот.
Взошла луна, повиснув над переулком, льет свет на крыши хат. Окутанные серебристым пологом сады, хаты будто заснули.
— Не было бы войны, учились бы,— тихо проговорила Сюзанна.— Уже окончили бы десятый класс. Ты куда думал поступать, Митя?
То, что он сидит с Сюзанной, кажется сном. Он хотел
227
бы ни о чем не думать, забыться, ловить вечерние шорохи. Но он не знает еще, какие чары таит в себе лунная ночь. И не от одного него зависит — думать о войне или не думать.
Во дворике напротив кто-то стукнул, закрывая ставни, в конце переулка замерли чьи-то шаги. Неожиданно для самого себя Митя прислонился к Сюзанне. Исчезли все желания, кроме одного — вот так сидеть с девушкой, чувствовать прикосновение ее плеча, ее дыхание. И сразу исчезли война, немцы, Вера, отдавшая ему винтовку, хлопцы, которые, собравшись у Лобика, должно быть, спорят о мине. Есть одна только Сюзанна. Она заполнила собой весь мир. Она рядом с ним. Он ее любит.
Плывет лунная ночь, над скамейкой низко нависла вишневая ветка, облитые серебром стоят сады. С неба глядят на землю тысячи звезд. Переулок тонет во мраке— от теней, которые бросают сады и заборы,— и только узкая светлая стежка пролегла посередине. Митя чувствует над собой могучую власть этой невыразимо чарующей ночи, спрятавшей от взора все мелкое, ничтожное, оставившей одну красоту. Деревянные покосившиеся домики кажутся незнакомыми, облитые лунным светом яблони с рогульками подпорок под ними — заморскими деревьями. Ночь прикрыла своим крылом все, что недоделали люди, оставив только то, что возвышает душу.
Шагах в пятидесяти or лавочки вдруг блеснули огни карманных фонариков. Митя понял — идет немецкий патруль. В ту же минуту Сюзанна схватила его за руку и, бесшумно открыв калитку, потянула во двор. Притаившись под вишнями, ждали, пока пройдут часовые. Сюзанна приникла к Мите, положила на плечи руки, спрятавшись за ним. Он чувствовал прикосновение ее груди, прерывистое дыхание, удары сердца. Всеми своими почти неосознанными движениями Сюзанна, казалось, признавала за ним права мужчины, ее защитника.
Пригнись,— шепнула сна,— а то еще увидят.
Эти доверчиво сказанные слова укололи, лучше бы она их не говорила.
Часовые, скользнув фонариком по забору, прошли дальше.
— Давай посидим на крылечке,—сказала Сюзанна.— Во дворе немцы не увидят. Опротивела эта война.
8*
228
Окружающие предметы приобретали прежние, знакомые черты. Митя уже хорошо видит, что сидит на крыльце, в узеньком дворике, огороженном низким забором, на который взобралась ботва тыквы, на дворе разные вещи домашнего обихода — ведро, топчанчик, вынесенный из дома, старый фикус в горшке, поставленный доживать век под забор. Напротив дома Сюзанны, через дорогу, такая же приземистая деревянная хата с плотно закрытыми ставнями.
В полночь в небе послышался еле уловимый гул самолета. Летит над лесом, и гул мотора ровный, мелодич-
т
ный. Митя встрепенулся: немецкие самолеты гудят иначе— прерывисто, натужно.
— Должно быть, наш самолет,— говорит он радостно.
Сюзанна рядом — и чары ночи постепенно возвращаются. Ночь все-таки необычная. Она принадлежит только им двоим.
Сюзанна сидит, прижавшись к нему. Митя чувствует себя сильнее, крепче, ему кажется, что он отвечает и за Сюзанну. Он обнял ее, прижал к себе. Она неумело попробовала пригладить его волосы, прикоснуться рукой к шее. Не помня себя, он приник к ее губам. Больше слов не было, до самого рассвета были объятия, поцелуи.
230
Когда начало светать, он увидел лицо Сюзанны: от его поцелуев у нее припухли губы, она смотрела стыдливо, в землю, но лицо светилось затаенной радостью.
— Приходи завтра в клуб,— сказала на прошанье.— Артисты приезжают.
В жизни Мити еще никогда не было такого хорошего, радостного, как в ту ночь. Митя чувствовал это, когда шагал росистой дорожкой через луг к будке, когда засыпал, едва приткнувшись в хлеву, на сене, к скрученной, подложенной под голову ватной фуфайке, которая вся пропахла мазутом. Магь будила завтракать — он не встал. Сонный, время от времени раскрывая глаза, видел, как через щель в стене врезаются в полумрак хлева солнечные лучи, острые, как лучи прожектора. В их свете плавают маленькие пушинки, крохотные крупинки пыли. В хлеву пахнет прелым сеном, сухим зельем, он слышит все эти запахи, звуки дня, доносящиеся сюда со двора,— скрип ворота над колодцем, звон полного ведра, которое, раскачиваясь на веревке, бьется о стенки цементной пропасти, стук телеги на переезде. Над всем этим звенит что-то неуловимо-радостное, соединяя звуки и шорохи дня в чудесную симфонию.
Пришел Иван Лобик, рванул двери хлева и быстро вскарабкался к Мите на сеновал. Иван мрачный, взволнованный, это Митя скорей почувствовал, чем увидел в полумраке.
— Десантников поймали,— сказал Иван.— Троих. Их с нашего самолета сбросили.
Митя мгновенно вскочил.
— Я слыхал, как летел самолет. Как раз в полночь.
Иван, занятый своими мыслями, не спросил, почему
Митя не спал. Грыз стебелек, посматривая в угол и силясь разглядеть там что-то интересное. Прогремел паровоз— один, без вагонов. От железного лязга колес мелко задрожала воткнутая в стенку коса. Перед станцией паровоз загудел, и эхо гудка разнеслось далеко по округе.
— Их в Громах взяли,— думая о своем, продолжал Иван.— Говорят, молодые. Два парня и девушка.
— Так ведь у них оружие было. Как же они?
— Черт его знает. Может быть, заснули. Слушай, бертолетова соль должна быть и в Лобачевой школе. Там же был химический кабинет. Что, если попросить у
231
Лобача? Он же там живет. Попросить просто так, ничего не говоря.
— Я взрыватель сделал,— сказал Митя.— Пулю из патрона вынул, в порох бросил еще три патронных капсюля... Должна быть детонация.
Шнур из тех пороховин?
— На нитку и нанизал. Пока сгорят, можно отбежать.
— Поезд так не сбросишь. Нужна бертолетова соль.
Иван пошел. Митя, проводив его до станции, всю вторую половину дня блуждал около жандармерии — туда должны были вести десантников.
Ночью десант сбросили около Громов. Один жадюга, который водил лошадь в ночное, позарился на добро десантников. Затащил в свой двор мешок с сахаром. Видел это пастушок, который на рассвете гнал коров на пастбище, и, встретив людей, собиравших разные по лесу тюки, рассказал про украденное. Трое направились в деревню и попали в засаду.
Шепотом меетечковцы передавали друг другу, что самолеты сбросили не троих, а сотню вооруженных автоматами и пулеметами парашютистов и что они будто бы успели пустить под откос поезд.
То, что десантников поймали, угнетает. Об этом обидно думать. Но сам факт, что над местечком летел советский самолет, сбросил вооруженных людей и даже продукты им, говорит о многом, вселяет бодрость. Где фронт? Под Воронежем, на Дону, за тысячу километров от незаметного местечка... И не туда, где фронт, где бои, послали этих людей, которые, казалось, только там и нужны, а сюда, в их леса и болота.
Уже перед вечером парашютистов подвели к школе, где жандармерия и где на окнах классных комнат навешены решетки. Двух рослых парней, один из которых держал руку на марлевой перевязи, а второй, пошатываясь, тащил ногу, и девушку сопровождали пять нем- цев-жандармов в голубых мундирах, с винтовками наперевес. Парашютисты шли гордо. Хлопцы в зеленых блузах, в серых штанах навыпуск, в ботинках, девушка — в обычном сером пиджаке, сапогах, в синем платочке поверх светлых волос.
Сотню метров — от здания райисполкома, где помещается комендатура, до школы Митя прошел вслед, что*
232
бы увидеть пленных в лицо. Но десантники по сторонам не смотрели.
Первый конвойный исчез в дверях школы, один за другим исчезли и те, которые явились этой ночью на здешнюю землю. Митя стоял, смотрел на школу и ничего, кроме холодной безысходной тоски, не чувствовал.
Около клуба его задержала Сюзанна, что-то говорила, но он слышал только ее голос, не вникая в смысл слов. Так же механически, в состоянии оцепенения и безразличия вошел с Сюзанной в клуб, сел на скамейку. В клубе шумели, двигали стульями. Вспыхнул свет, серый полотняный занавес дрожал, как от ветра. Потом его подняли, на сцене стояли два стула и стол, около них почему-то прохаживались два пожилых человека, одетых в черные старомодные сюртуки. Они жестикулировали, о чем-то между собой разговаривая,— началась пьеса, но он не услыхал и не понял ни одного слова. Не возмущался ни артистами, ни теми, которые сидели в клубе и со вниманием слушали диалог скучных черных людей. Знал из афиш — ставили пьесу Ибсена, это был норвежский писатель, из произведений которого он еще ничего не читал, но теперь все это казалось ненужным. Это просто обман, издевательство, ведь Норвегия тоже захвачена немцами, а рядом, в школе, где он учился, в классе сидят раненые парашютисты.
Еще не кончилось и первое действие, как Митя тронул Сюзанну за руку, давая знак, что хочет уйти.
— Куда ты?-—спросила она.
— Пойду. Голова болит,— шепнул он ей и, пригнувшись, направился к выходу.
В школе, на втором этаже, светились только два окна: немцы ложатся спать рано. По тротуару, громко разговаривая, стуча сапогами, прошли первые патрули.
Мысль возникла уже на улице... К ребятам идти поздно. Нужно что-то делать сейчас, безотлагательно.
Торопясь домой, Митя минул стежку на лугу и пошел овсами, межой напрямик. Завернул в кусты — из-под ног вылетела птичка, громко захлопав крыльями. Он ощупью нашел тайник.
В будку нужно все же зайти — взять спички, показать, что рано вернулся. В лунном свете тускло поблескивают рельсы. Посредине между первым местечковым переездом и будкой горит слабый огонек, доносится от¬
233
туда приглушенный разговор. С того дня, как начали ходить поезда, немцы через старосту назначают на железную дорогу часовых — мужчин из местечка, из ближайших деревень. Вооруженные палками, дядьки дремлют ночь у костра, а на рассвете расходятся. Опасности они не представляют. Просто не стоит попадаться им на глаза.
Перед самым переездом Митя положил в траву сверток с аммоналом и вошел во двор. Дома спят. Тихо отворил дверь в сенцы, в переднюю комнату, достал из печки горшочек со щавелем. Есть не хочется, но он заставил себя посидеть за столом, поболтать ложкой. Потом встал, неслышно подкрался к печурке и, нащупав коробок спичек, положил в карман. Умышленно, чтобы наделать шума, во всю ширь распахнул ворота хлева и, осторожно, без шума прикрыв их, отскочил.
Дальше действовал точно, уверенно, зная, что все будет хорошо, так, как задумано, если только не подведет взрыватель. Подняв сверток, пригнувшись, перескочил переезд и направился обоч шой большака к местечку, к мосту. Мост деревянный, новый, его построили за год или два до войны.
Митя залез под мост — в лицо пахнуло сыростью, гнилью, ноги вязли в грязи,— приладив под настилом, на гладком круглом бревне аммонал, откупорил патрон, растянул во всю метровую длину шнур. Чиркнул спичкой, поджег.
Ему вначале показалось, что все напрасно: Он пробежал от моста сотню или больше метров, а взрыва не было. Он перестал его ждать, пошел шагом, потом в нерешительности остановился: нужно же взять обратно аммонал. В эту минуту над мостом поднялся огненный столб и будто загремел гром.
Митя что было силы побежал. Оглянувшись уже около переезда, увидел, как погас огонь в окнах на втором этаже школы. В местечке — беспорядочные, частые выстрелы. Стреляют, должно быть, напуганные патрули.
Назавтра возле взорванного настила моста на пыльном большаке толпились полицаи. Размахивали руками, ругались: партизаны не боятся лезть в самое местечко.
234
3
Митя вернулся от Лобика веселый — учитель дал бертолетовой соли. Отец на крыльце клепает косу.
— Чего это шофер приходил? Гусовский. Тебя спрашивал.
Митя невольно вздрогнул. Как раз сегодня думал о шофере.
— Не знаю.
Под вечер Иван пришел еще раз. Он в сером поношенном пиджачке, сапогах. Загорелый, ладный — такой, как и до войны. Первым делом спросил:
1— Отца нет?
— Пошел на работу.
— Ну это и лучше. Давай пройдемся.
С переезда, стежкой, которая вьется среди половею- щей ржи, двинулись в сторону местечка.
— Я в партизанах,— сказал Иван, оглянувшись.
— Я так и думал.
Шофер окинул Митю быстрым взглядом, сорвал ржаной колос, мнет на ладони. Пронесся на полной скорости длинный состав, тяжело груженные вагоны не лязгают на стыках, а глухо стучат.
—• Как отец?
— Хочет бросать службу.
— Я говорил сегодня с ним. Перебираться из будки думаете?
— Ага.
— Приемщик Крамер бургомистром. Как он тут?
— Говорят, человек хороший.
— Все они хорошие.
Обмениваясь короткими замечаниями, дошли до крайних хат местечковой улицы, присели на кучу бревен. Лицо Ивана задумчиво.
— Мы уже имели связь с партизанами,— сказал Митя.— Тут зимой лечился один.
— Ты не один? — спросил Иван.
Не один.
— А где ваши партизаны?
— Домачевский отряд. Действовали группами, теперь объединились.
— Небольшой группой действовать трудно,— сразу согласился шофер.
235
Иван помолчал, как бы что-то вспоминая, заговорил тихо, почти шепотом:
— Я не к тебе приходил. Есть туг один человек. Наш. Ты, может, его и видел. Агроном Драгун. Нужно тебе с ним познакомиться.
— Зачем?
— Тут такая штука,— Иван пытливо глянул на Митю.— Нам на железной дороге нужны люди. Свои. Скажем, как твой отец. Но с отцом твоим каши не сваришь.
— А что делать?
— Теперь — достать гаечные ключи. Как можно скорей. Отдать их Драгуну. Связь через него.
*— Наш один работает на станции. Я скажу.
— Ты это брось,— шофер нахмурился.—Кроме тебя, никого не хочу знать. И Драгун не захочет. Если согласен, поступай на железную дорогу сам...
— А как же хлопцы?
— Какие хлопцы?
— Наши. Мы мину сделали. Мост на большаке взорвали. Хотим еще.
— Чудак человек.— Шофер встал.— Действуйте. На это разрешения не спрашивают. Так ты согласен?
— Согласен.
— Найдешь Драгуна, скажешь: «Я от Кирилы». Это пароль. Ну, пока.
Иван пожал Мите руку, через рожь пошел обратно. Вечерело. С пастбища, поднимая клубы пыли, возвращалось стадо. Коровы бежали — хотели пить.
4
Гаечные ключи достать так же трудно, как и оружие. У отца два, но ни взять их, ни украсть Митя не может. Два раза ходил на станцию, где работает ремонтная бригада. Из знакомых рабочих там Хадоська, Кардаш, стрелочник Гулик. Остальные — новые, есть и школьники. Поступили в бригаду, чтобы спастись от Германии. Принимает на работу мастер-немец, но его не было.
Вчера Митя был у Драгуна. Пришел и сегодня, сидит перед домом на скамеечке, ждет. Драгун сказал, что сегодня будут слушать радио.
236
Мальчишки-подростки играют на улице в лапту. Кричат, спорят, кому первому бить по мячу. Кроме игры, для них ничего не существует. Незаметно для себя и Митя засмотрелся на игру. Он хорошо видел проделки рыжего плута, который громче всех кричал, обвиняя других в нарушении правил, а сам нарушал их на каждом шагу. Хотелось вмешаться в игру, дагь тумака рыжему.
Прошли мимо незнакомые девчата. Миновав скамейку, на которой сидит Митя, шмыгнули в переулок, захихикали. Митя вспомнил Сюзанну, не видел ее уже четыре дня.
Драгун появился в калитке, когда стемнело. Митя подошел.
— Зайдем в хату,— пригласил Драгун.
В передней комнате чисто, уютно. Возле печки хозяйка, подвижная, маленькая, с узким красивым лицом. Она похожа на мужа: та же посадка головы, одинаковый разрез глаз, такой же тонкий прямой нос. Агроному лет под сорок. Ее можно было бы назвать девушкой, если бы не две дочки, которые до войны ходили, должно быть, в школу. Они в одинаковых ситцевых платьицах, в волосах красные ленты. Когда вошел Митя, спрятались, застыдившись, за занавеску. К концу ужина в хату вскочил тот самый рыжий оголец, который верховодил на улице во время игры в лапту.
— Вова, пора ужинать и спать! — строго сказал отец.
Вова — с насупленным лицом, густо усеянным веснушками, и огненно-рыжей головой — недовольно шмыгнул носом, придвинув к себе тарелку.
— Мы пошли, Клава. Дверь не запирай.
Тихий летний вечер. Пахнет липовым цветом. Сероватый полумрак, звездное небо. Пиликает гармошка, и в такт ее переливам глухо постукивает бубен.
Пришли на улицу, которая называется теперь Луговая. На лугу, за огородами кричит ночная птица. С болота тянет холодом. Тихо, таинственно шелестят тополя на обочине улицы. Скамейки пусгые. Агроном с Митей свернули в переулок, отделяющий друг от друга два соседних двора, и, прислушавшись, Драгун ловко перескочил через забор. Митя вслед за ним. На огороде, в кукурузнике, остановились.
*37
Кукурузник —как лес. В нем может спрятаться лошадь.
— Посиди здесь,— шепнул Драгун.— Пойду предупрежу.
Раздвигая руками кукурузные стебли, Драгун растаял во мраке. Митя остался один. Осторожно ступая, кто-то прошел переулком. Во дворе, рванув цепь, залаяла собака. Ночь полнится еле слышными шорохами и звуками. Мите кажется, чго в переулке, около забора, притаились черные фигуры, готовые вог-вот броситься на него. Сердце бьется гулко, часто, он слышит его удары.
Драгун вырос будто из-под земли.
— Идем. Все готово.
Бороздой, раздвигая нависшие листья кукурузы, вышли к стене, обогнули ее, потом тихо скрипнула дверь, и Митя очутился в бане. Здесь полумрак, единственное оконце завешено дерюжкой, сложенной вдвое. На полке, где обычно парятся, горит свеча. Заслоняя ее, над приемником свесились две головы. В ящике трещит и завывает.
Митя присел у входа, на камень, боясь пошевельнуться. Те, что копаются в приемнике, будто не замечают Митю.
— Начинается, записывай! — сказал один из них, и Митя его узнал: это тот самый Полуян, который зимой, услыхав от Вилюги про радио, выгнал его из хаты. И еще одно чудо. К приемнику подошла Вера. Он только теперь увидел ее: сидела за печкой, которая занимает чуть ли не половину бани. Драгуна в бане нет — остался во дворе.
Сквозь шум, треск, вой послышался знакомый с мирных дней голос:
— Говорит Москва!..
Вера примостилась на нижней ступеньке, надела наушники, и ее карандаш торопливо забегал по тетради, положенной на колени. Митя почувствовал слезы на глазах.
Есть на свете великий город Москва. Никогда не был там Митя. Три раза в Москву ездил отец: железнодорожникам давали бесплатный билет. Вместе с отцом однажды поехала мать. Он тогда целую неделю доил корову, пек блины, варил малышам суп —был за хозяина и
238
хозяйку. Родители ездили в Москву за молескином и ситцем —там легче было достать. Приехав, рассказывали, что Москва очень красивый город.
Митя никогда не думал: красивая она или некрасивая. Это не имело значения. Существует нечто большее, чем то, что обычно называют этими словами. Москва — не просто город, но история, будущее...
Немцы перешли Дон, захватили Ростов. Но разве можно завоевать народ, у которого тысячелетняя история, который начал жить без царей, без панов?..
Кончили передавать сводку. Диктор начал рассказывать о боях на донской земле. Заиграли «Интернационал».
Незнакомый хлопец обернул приемник мешком, взял под мышку, молча подался из бани.
Вошел Драгун.
— Что нового?
— Плохо. Наши сдали Ростов.
С минуту молчали. Вера держит себя, как незнакомая. Ни разу не посмотрела в Митину сторону. Отвернувшись, расстегнула блузку, спрятала за пазуху тетрадь. Откуда-то из щели вылетел мотылек, торопливо петляет над пламенем свечи. За печкой подал голос сверчок — его совсем не было слышно, когда говорило радио.
— Я пойду первый,— сказал Полуян, вставая.—Ты, Вера, за мной.
— Доброй ночи,— тронув рукой Митю за плечо, наконец шепнула Вера.
Митя остался с Драгуном. Агроном потушил свечку, сорвал с окна дерюжку. Но все равно в бане было темно, как в склепе. Стена кукурузы подступает к окну. Ощупью вышли из бани, Драгун нырнул в кукурузу.
На небе звезды — ясные, чистые. Тихо шелестит кукурузник. Больше ни звука, ни стука. Полночь.
— Патрули по этой улице ходят редко,— шепнул Драгун.— Но иди лучше огородами. Росы нет.
Митя пошел. В конце переулка, прижавшись к забору, кто-то курит в кулак. Где-то тихо переговариваются. Голоса доносятся со дворов. В переулок побежала собака, но, учуяв человека, вильнула обратно.
Уже идя по улице, Митя услышал за собой шаги* Прилип к чужим воротам.
23*
— Это я, подожди,— послышался голос Драгуна.—- Забыл тебе сказать.
Драгун вытащил из кармана, дал ему в руки маленькую книжечку.
— Возьми. Дашь своим. Тут о результатах зимних боев. Можно всем давать, кто интересуется.
Приблизив лицо к Мите, продолжал:
— Относительно приемника молчи. Можешь сказать, что слушал. Где, с кем — не говори. Ключи быстрей доставай.
Митя пошел. Перелезал через заборы, плетни, топтал ботву на чужих грядах. В одном дворе испугал кур — сидели на шестке под поветью и так закудахтали, что он бросился ничком на землю и пролежал, не дыша, минут десять. Уже на лугу попал в заросшую тиной илистую канаву, провалился по пояс. Пришлось дать крюк до другой канавы, с чистой водой, чтобы обмыться.
Пробравшись во двор, Митя нащупал на воротцах хлева замок. Заперли специально. Пришлось идти в хату. Дверь не закрыта, и Митя, осторожно ступая, направился к топчану, на котором спят братья. Хотел раздеваться, но, увидев около печи белую фигуру, вздрогнул. Отец стоял в нижнем белье, курил.
— Где ты каждую ночь шатаешься? Так-то о семье думаешь? Заруби на носу — не посмотрю, что вырос. Еще походит по тебе ремень. Ешь отцовский хлеб, так слушайся...
— Я поступаю на работу,— Митя старается говорить спокойно.— Хватит попрекать меня хлебом.
Такого ответа отец не ожидал, растерявшись, умолк. Митя разделся, лег рядом с братьями.
— Поужинай,— откликается мать.— На столе кружка молока, картошка в печи.
— Не хочу вашего есть.
Снова в хате царит тишина. На стене мерно тикают ходики. На зеленом циферблате нарисован трактор. Отец приобрел часы давно, когда Мите не было и восьми годов, а в местечке никто не видел настоящего трактора. Посапывают носами Адам и Петрусь. Остро пахнет полынью: ее разбрасывают по полу специально, чтобы не заводились блохи. Отец заговорил с недоверием в голосе:
240
— На какую работу ты пойдешь? Мне, может быть, можно сказать?
— На железную дорогу, в бригаду.
— А кто тебя гонит? Ешь картошку и не рыпайся. Я вырваться хочу, а он сам лезет в ярмо. Что ты, хлеба там заработаешь? Да разве я из-за хлеба кричу?
— Записывают в Германию,— стараясь придать голосу искренность, отвечает Митя.— Молодых всех записывают. Меня, может быть, не возьмут, так здесь куда- нибудь заткнут. Лучше уж на железную дорогу...
Отец молчит, мать вздыхает.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Солнце на безоблачном небе такое большое, яркое, расплавленное, что его не видно. Морем света залито все вокруг. Не шелохнется поникшим листом клен на обочине дороги, не отзовется пташка. Все живое разомлело, замерло, затаилось. Хотя бы дуновение ветра всколыхнуло сухой, палящий зной...
Лес издалека кажется синим. По-над лугом с редкими стожками сена, над ржаным полем, начавшим уже желтеть, переливается, трепещет дымка. Преджнивная пора. Если ржаной колос не налился, больше не нальется. Земля как горячая зола.
Пересохла речка между местечком и деревней Ка- веньки. Только кое-где виднеются серебристые лужицы воды. Если бы в речке водилась рыба, теперь ее можно было бы ловить без болтуши, руками.
В такую жару особенно часто случаются лесные пожары. На земле в сосняке все — иголки, шишки, ветки — сухое, как порох. Оставь непогашенный уголек, не затопчи окурок — и пойдет полыхать искристо-белое пламя от дерева к дереву, а тонкие сосны будут вспыхивать, как свечи.
В душный полдень по проселочной дороге к Кавень- кам протарахтел колесами легкий возок, запряженный шустрым гнедым коньком. В том возке обычно ездит агроном Драгун, но теперь в нем малознакомый в Кавеньках человек — высокий, худой.
2*t
Перед хатой старосты человек останавливает взмыленного, покрытого мокрыми полосами жеребчика, открывает ворота, заезжает во двор. Двор зарос травой, забор поставлен на скорую руку, на сарае — прогнившая крыша. Откуда-то из-под навеса выходит староста Иван Буян, разомлевший, волосатый, в одной нижней рубашке.
Буян распрягает коня, ведет под навес.
— Может, кваску, Иван Прокопович?
— Вынеси.
Шелег жадно приникает к огромной медной кружке, сделанной из снаряда.
— Так смотри коня. Я пошел. Может быть, ночевать приду.
— Не беспокойся, Иван Прокопович. Все будет как надо.
Шелег не торопясь шагает широкой, как площадь, улицей в другой конец деревни, под самые сосновые посадки. Сосняк реденький, молодой, сквозь его узкую полосу проглядывает поляна, а дальше снова лес. На улице— ни души. Перед последней хатой на мгновение останавливается, озирается по сторонам и, отворив калитку, идет во двор. Хозяин на крыльце точит бруском топор.
— Добрый день, Петро. Пришел?
— Пришел. Ждет с ночи. Идите в хату.
В хате полумрак, прохлада, сквозь прикрытые ставни цедится скупой свет. На кровати, поперек, полулежит человек, свесив на пол ноги. Услыхав скрип дверей, он подхватывается:
— Ты, Иван Прокопович?
— Я. Здорово, Якубовский.
Присаживаются к столу, застланному белой скатертью. Якубовский — молодой, чернявый, широкие плечи плотно облегает новое командирское обмундирование, даже с портупеей.
— Настоящий командир,— замечает Шелег.
— В сосняке трое моих. И трое перед деревней, во ржи.
— Боишься, что приведу,—как бы недовольно говорит Шелег.— Не бойся, старый волк следы путает. Я не из местечка приехал. Да и по пятам, кажется, не ходят. Хотя все может быть.
242
— Да брось ты, Иван Прокопович. Для твоей же безопасности. Мое дело простое: прыгнул в лес — и конец. Все мое ношу с соб©й, как сказал один философ.
В хате тихо, слышно, как звенит о стекло муха. Такое ощущение, что на дворе только светает. Пахнет полынью, мятой.
— Теперь слушай,— наклонившись к лицу Якубовского, начинает Шелег.— Об этом можешь сказать одному Валюжичу. Больше викому. Троих парашютистов словили. Ты знаешь. Но их целая группа. Как будто с радиостанцией. Должно быть, разведчики. Держит с ними связь Мицуля Семен, лесник из Громов. Мицуля наш, но все равно подойти нужно тонко. Может скрыть. Ты понимаешь, что было бы, если бы удалось заполучить в отряд десантников! У них радиостанция, с Москвой можно связаться.
— Заманчиво. Если бы только удалось.
— Удастся. Мицулю нащупал Драгун. Парашютисты будто бы хотят присоединиться к партизанам. Так что действуй.
— Когда тебя ждать? — спрашивает Якубовский.
— Ровно через неделю. Неделю, может, продержусь. Следить начали — факт. Три полицая зажигалки заказали. Как сговорились. Так что наведываются каждый день. Семью Буян перевезет в пятницу. Пока что в Озерки.
Осторожный стук, входит Драгун — в расстегнутой серой рубашке, без шапки, но с портфелем. В телеге он ехал вместе с Шелегом, но по пути заскочил к связному в соседнюю деревню.
— Следы привели в этот двор,— громко начинает он.— Самовольная порубка. Хозяин этого дома свалил две сосны. Во владениях, которые принадлежат великой Германии. Немцы за это не хвалят.
— Не дури, Алексей,— прерывает Шелег.— Что сказал Адась?
Драгун сразу делается серьезным.
— Адась был в Буйках. Муки на мельнице две тонны. Мельник — сволочь. Чувствует себя как у бога за пазухой.
— Сколько полицаев?
— Четырнадцать. Местных трое.
— С Буйков надо начинать.— Шелег барабанит паль¬
243
цами по столу.— Деревня наша. Если уничтожим гарнизон, будет база. С семьями в отряд пойдут. Важно, чтобы ни одна сволочь живой не вышла. Вряд ли восстановят тогда немцы гарнизон. Охранять Буйки легко — одна лесная дорога. Если что — в лес.
На минуту устанавливается тишина.
— Валюжич лазит около железной дороги,— сооб^ щает Якубовский.— Разбились на две группы. Инструменты достают. На днях что-нибудь будет.
— Комсомольцы тоже шевелятся,— добавляет Драгун.— Их еще зимой Анкудович организовал. Шесть человек. Одного своего в полицию послали. Во время арестов. Овсяника насчет оружия это они теребили. Аммонал выкрали у полиции.
— Аммонал нужно забрать в отряд,— требует Якубовский.
— Часть можно отдать. Инструмент для тебя тоже они достают.
Уже скоро два месяца — с того дня, как немцы начали хватать примаков и бывших активистов,— в местечке Шелег не встречается с Драгуном. Еще по весне решили— в местечке остается Драгун, Шелег с семьей идет в отряд. Искали место для семьи.
2
Мину подложить не успели, а теперь железную дорогу охраняют немцы. Вблизи Горбылей партизаны пустили под откос поезд.
Митя пошел наниматься в ремонтную бригаду. Она перешивает колею в тупике.
— Никс работа,— категорически заявил толстенький, добродушный с виду мастер-немец, окинув быстрым взглядом щуплую Митину фигуру.
За Митю заступились рабочие:
— Пан, он арбайтен железная дорога до войны. Специалист. Гут арбайтен.
Мастер с недоверием еще раз глянул на Митю и так же быстро, как принял, отменил прежнее решение:
— Карашо. Я писать твой фамилий. Только гельд будешь получать со следующей недели. Будет проверка работа.— Довольный своей сообразительностью, мастер захохотал.
244
Старания в работе ремонтники не проявляют. То и дело устраивают перекур, подолгу отдыхают, и такое .впечатление, что путейцы собрались случайно и скоро разойдутся каждый по своим делам. Немец-мастер, кажется, не обращает внимания на этот явный саботаж. Часто куда-то убегает, стремительно перебирая коротенькими ножками, потом появляется с шаблоном в руках, вымеряет уровень наклона, торопливо записывает цифры в тетрадь с черной обложкой, время от времени снимая форменную фуражку с блестящим козырьком и вытирая пот с покрасневшей лысины. Фамилия немца Фогель. Рабочие его не боятся. Во время перекуров низенький Гулик старается чем-нибудь донять рябого Ха- доську. Делает это с большим наслаждением.
— Мычипар,— пристает к Хадоське,— расскажи, как поступал в академию?
Путейцы улыбаются. Их забавляет, должно быть, не сама история, тысячу раз слышанная, а неотвязное упорство Гулика. Митя тоже знает эту историю.
До войны Хадоська собирался стать помощником машиниста. Три или четыре раза ездил поступать на курсы, но всякий раз проваливался на экзаменах. Экзамены нетрудные: нужно было знать четыре действия арифметики, дроби и написать небольшой диктант. Диктант как раз и не мог осилить Хадоська. По слухам, даже в своей фамилии сделал ошибку, написав вместо Ничипар Мычипар.
— Мычипар! — продолжает цепляться Гулик.— А ты бы теперь поехал поступать? Теперь же по-русски писать не нужно. Езжай, поступишь...
Путейцы хохочут, вместе с ними раздирает до ушей широкий рот Хадоська.
— Не поступай, Мычипар, в машинисты. Это я просто пошутил. Иди в по/ицию. Дадут амуницию, винтовку, водки сколько хочешь пей. Будешь начальником над нами. Ходи себе по шпалам, как Фогель или Адамчук, увидишь, что Кардаш слабо вкалывает, по затылку его, по шее... Малина, руки будут чистые, без мозолей. Зачем тебе ишачить с нами? С твоим здоровьем я давно пошел бы в полицию. Нет у меня только здоровья...
— Гы-гы-гы! — хохочет Хадоська.
На обед путейцы уселись под насыпь, в тень. Жарко,
241
душно, в неподвижном, будто застывшем воздухе остро пахнет полынью, медленно, неслышно плывут стрекозы. За два лета путь к тупику зарос страшно: чернобыльник и полынь стоят, как лес. Путейцы развязывают узелочки с хлебом, луком, огурцами. Фогель отправляется обедать на станцию.
Митя ничего с собой не взял: не думал, что придется приступить к работе сразу.
— Иди сюда,— позвал Кардаш.
Путеец молча положил на разостланную бумагу кусок хлеба, два малосольных огурца.
— Ешь, до вечера далеко.
Сам откусил раза два и, отодвинувшись глубже в тень, лег на спину.
— Кончилась твоя наука. Старался, голову ломал, и пропало все. Немец образования не спрашивает: бей кайлом — и все.
— Война ведь еще не окончилась,— осторожно возразил Митя.
— Далеко немец зашел. Говорят, *Москву окружает. Когда такое было? Попробуй теперь выгнать.
— О Москве брешут! — злобно, не выдержав, проговорил Митя.
Кардаш, приподнявшись, испуганно оглянулся, снова лег. Минуту помолчав, спросил:
— А ты откуда знаешь?
— Читал ихнюю газету.
— Разбираешь?
— Разбираю.
Кардаш закрыл глаза, будто разговор его совсем не интересовал. Снова помолчал несколько минут и наконец осторожным жестом руки попросил Митю придвинуться ближе.
— А что они пишут в своих газетах про нас, наш народ? Что думают делать с нами? Какой будет порядок?
— Не знаю, не пишут об этом. Хвалятся, что завоевали землю.
— Завоевали.— Кардаш повернулся лицом к Мите.— Так я же об этом и говорю. Повесят тебе бирку с номером на шею, и будешь стучать молотком, а он над твоей душой повиснет. Он пан, а ты ничто.
— Мастер не прижимает, кажется.
246
— С Фогелем жить можно,— согласился Кардаш.— Рабочих не бьет.
— А кто бьет? — спросил Митя.
— Немцы на станции бьют, да еще как. Адамчук, если что, руку тоже прикладывает.
— Тот Адамчук, который до войны мастером был?
— Тот самый. Рад, что немцы хоть в бригадирах оставили, выслуживается.
Кардаш накрыл лицо шапкой, замолчал. Жара не спадает. Солнце плывет в безоблачной голубизне и палит нестерпимо. Над железной дорогой дрожит дымка. Кажется, там, за станцией, рельсы кончаются и среди зеленого поля вьется речка.
Митя вспомнил недавнюю ночь, проведенную у радиоприемника. Война достигла донских степей. Там так же нестерпимо палит солнце, гремят пушки, над степью дым и пыль. Солнца не видать. Наши отступают, и пыль на их лицах, на губах, в горле. Когда кончится отступление и на каком рубеже?.. Степь широкая, бескрайняя. Растет там ковыль и перекати-поле. В небе кружат орлы. Нет, теперь не орлы, а немецкие самолеты. Бросают бомбы на бойцов — запыленных, измученных. Бомбы немцы везут по железной дороге, может по этой самой, на которой с сегодняшнего дня работает Митя. Он, значит, помогает немцам. И все путейцы, которые здесь с весны, тоже помогают. Думают ли они об этом? Что* собираются делать дальше?..
Ремонтники, спрятавшись в тени, спят. Похрапывает из-под надвинутой на лицо шапки Кардаш. Молодые, как и Митя, ходившие до войны в школу, заядло дымят самосадом и слушают Гулика, который поддразнивает Хадоську.
— Мычипар,— пристает Гулик,— расскажи, как ты хотел жениться на Ганке?
Хадоська делает вид, что спит.
— Мычипар, когда ты положил Ганке руку на колени, так она что?
— Я не клал на колено руки,— лениво отзывается Хадоська.— Ты же не видел.
— Не скрывай, Мычипар, я все знаю. Ганка звезданула тебя по морде, и ты пошел домой. Правда?
— Да не звезданула...
Митя поднялся, отошел прочь. Натужно скрежеща
247
тормозами, к станции приближается поезд. Это уже пятый состав, если считать с утра. Но те четыре проскочили станцию с ходу.
На другой день Митя увидел Адамчука. Низкий, коренастый человек с красным лицом, будто только что вылезший из бани, быстро прыгает по шпалам, приказывает, покрикивает. Взгляд решительный, твердый. Кажется, что Адамчук ходит по собственному двору,— так свободно и уверенно держится. На первый взгляд не Адамчук помощник у Фогеля, а Фогель у него.
«Пан,— подумал Митя.— Такими и были паны».
При Адамчуке темп работы заметно повысился. Даже Гулик притих и не поддевает, как вчера, апатичного Хадоську. Бригадир стоит над душой, как надсмотрщик. Видно, ему нравится чувствовать себя начальником, знать, что никто из тех, кто ожесточенно бьет киркой, ворочает железным ломом шпалы, не заспорит и не огрызнется.
Митя яростно ненавидит Адамчука. Боль, обида, которые собрались в груди за последний год, не дают ему покоя. В своем воображении он рисует картины расправы с бригадиром. Вот Митя душит его за горло, Адамчук хрипит, на слюнявых губах — пена, выпученные глаза наливаются кровью. Предатель просит пощады, но Митя неумолим.
Спустя несколько минут такая кара кажется недостаточной, придумывает страшнейшую. Видит Адамчука привязанным к телеграфному столбу: мимо столба идут путейцы, плюют своему начальнику в лицо, бьют ногами в живот...
На третий день Митя незаметно бросил под откос, в высокую траву, гаечный ключ.
3
Солдатам-охранникам, занявшим другую, пустую будку около переезда Птаха, место нравится. Их десять, с ними собака. Восемь рядовых, два унтер-офицера, овчарка Кассо — отделение охранной роты. Командир от* деления, низкий, кряжистый Либке, одновременно и начальник штуцпуикта № 16, как теперь называется будка.
248
Место и двухкилометровый участок железной дороги нравятся солдатам потому, что находятся близко от местечка, от продовольственного склада. Но, впрочем, не это главное. О главном молчат. Солдаты радуются, что их власть на полотне распространяется только до леса. Леса в душе побаиваются все. Было бы, конечно, приятно слушать лесных птиц, лакомиться ягодами, вдыхать аромат цветов. Но партизаны, о которых солдаты наслушались, когда служили еще в Польше, возле самого фатерлянда, как раз и живут в лесу и стреляют оттуда.
И оттого, что солдатам выпала удача, они с первого дня стали горячо усердствовать, стремясь превратить обычную будку в гнездо обороны. Батальонное и ротное начальство в местечке,— скорее, чем другие штуцпунк- ты, проверит этот.
Солдаты строят дзоты. Два деревянных, засыпанных землей и обложенных дерном погребка обращены своими амбразурами во все четыре стороны.
Материал — готовые, помеченные цифрами бревна и щиты — подвезли со станции. Но на третий день выяснилось, что не хватает нескольких бревен, чтобы завершить последний, третий ярус наката. Унтер-офицер Либке приказал спилить сосну.
Ясный летний полдень. В синем небе легкие облачка. В поле все буйно растет: овес, кукуруза, начинает цвести ячмень. Звенят мошки и пчелы.
Два солдата в вязаных нательных сорочках — грузный, с отвислым животом Венигер и молодой косоглазый австриец Петерле, который и на фронт не попал благодаря тому, что природа подарила ему этот недостаток,— взяв топоры и пилу, отправились под сосну. Неторопливо обошли дерево, как бы прикидывая, в какую сторону его валить, потоптались на холмике, но никто не взялся за топор. Солдаты присели. Петерле вытащил из кармана штанов пачку сигарет, угостил Ве- нигера, и, чиркнув спичками, оба закурили.
Под сосной тенек, прохлада, на земле, поросшей редкой, жесткой травой, расколовшиеся черноватые шишки. С холмика как на ладони видно местечко — зеленое, красивое. Дым от сигарет вьется сизыми кольцами, незаметно тает над головой. Солдаты курят, молчат.
Ц9
— Слушай, Петерле,— начинает Венигер,— у вас в Тироле леса?
— Леса. Сосна, ель, бук, граб.
— Много лесов?
— По горам и склонам—всюду, в долинах — меньше.
— Ты любишь лес?
— О, особенно если пойти туда с фрейлейн...
— Несчастный хряк. Вы, австрийцы, все бабники.
— Легче на поворотах, герр Венигер,— лениво возражает Петерле.— Сам фюрер из Австрии. Кстати, он родился недалеко от местности, откуда происхожу и я.
— Так беги, кричи, дубина. Зачем мне хвалишься? Лиши рапорт командиру батальона. Получишь урляуб без очереди.
Петерле высокий, статный. Узкое, довольно приятное яйцо, с горбинкой нос, русые, с красивым зачесом волосы. Немного портит лицо косой, словно у зайца, левый глаз. Всегда кажется, что Петерле подмигивает невидимому собеседнику. Первые два года войны он имел льготы, на вихлястом автомобильчике, приспособленном к горным дорогам, отвозил в долину, на молочный завод, блестящие бидоны с молоком. Играл на дудке-жалейке, похожей на те, которые были у каждого пастуха, ходил на вечеринки.
В армию Петерле забрали, когда ему исполнилось двадцать три года, и он рад, что попал в охранный батальон, а не на фронт.
— Урляуб будет осенью,— говорит Петерле, и трудно понять — серьезно или шутит.— После полного года службы. Закон есть закон. Даже если бы я доводился племянником самому фюреру.
— Дурак,— сплевывает Венигер.— Мало ли таких, которые даже и не нюхали казармы. Отираются около баб...
— Осенью у нас хорошо,— не слушая, продолжает Петерле.— Тишина, виноградный сезон. Свиные сосиски с красным перцем. Козий сыр. Свадьбы.
— Слюнтяй, теперь ты увидишь это только во сне. Прикажет Либке — приснится. Будешь торчать в этой дыре до второго пришествия...
— У вас кислое настроение, герр Венигер.—Петерле ложится на спину, подложив руки под голову.— Вы не
250
с той ноги встали. Выше голову. Все идет к лучшему на этой лучшей из планет. Осенью война кончится. На фронте — победы. Нельзя не радоваться солдату великой армии фюрера.
— Брандахлыст,— кривится Венигер,— собачий недоделок. Попробовал бы ты фронтового хлеба, что бы ты запел тогда. Каждый город берется кровью.
— Насколько мне известно, герр Венигер, вы тоже не были на фронте. И я сомневаюсь — хотите ли вы туда?
— Меня не пошлют на фронт. Хоть в этом я имею преимущество перед такими ослами, как ты.
Ежедневная перебранка Петерле с Венигером еще ничего не говорит об их действительных отношениях. Они дружат и хорошо друг друга понимают. Венигер не молодой, ему под пятьдесят, и знал он другие времена. Шахтер из Силезии, штейгер, он когда-то принадлежал к социал-демократической партии, был даже функционером — организовал кассу взаимопомощи в маленьком поселке. За это, после того как к власти пришли нацисты, отсидел год в концентрационном лагере, откуда его выпустили досрочно, как специалиста. На фронт не послали — его особа не заслуживала полного доверия, но, когда началась война, не оставили и в шахте. Служил на таможне, в Польше, оттуда, когда у фюрера с солдатами стало туго, направили в охранный батальон.
Весной на Волхове погиб его сын. Ему было всего девятнадцать лет, до армии, до войны с Россией, маршировал в колоннах гитлер-югенда, ухарски пел и, призванный в вооруженные силы, с отцом не переписывался.
Петерле, с которым еще в Польше сблизился Венигер, не намного старше Курта — сына.
Там, возле будки, возводя дзоты, солдаты и сам ун- тер-офицер Либке в одних нательных рубашках, а некоторые, даже скинув их, грохочут, стучат, режут заступами дерн, насвистывая каждый свое, а эти под сосной сидят уже полчаса и еще не взялись за топор и пилу. Так до бесконечности продолжаться не может.
— Слушай, ты, козий молоковоз,—говорит Венигер,— не хочется мне уничтожать сосну.
— И мне не хочется.
— Но об этом ты не скажешь унтер-офицеру Либке. Не скажешь? Побоишься?
251
— Могу сказать в более приемлемой форме.
— Как это?
— Скажу, например, что сосна понравилась лейтенанту Эрлиху и что я вспомнил об этом, взявшись за топор. Могу прибавить, что Эрлих целый час ходил вокруг нее и даже хотел присесть. Попробуйте доказать, что это не так? И вряд ли отважится расспрашивать унтер-офицер Либке лейтенанта Эрлиха об его чувствах.
— Таких штучек не принимаю.— Венигер поднялся, туже затянул ремень на животе.— Скажу без виляния...
Взошли на переезд. Петерле несет пилу и топор, Венигер с пустыми руками направился к будке, где возятся остальные солдаты. Пролетел поезд, нагруженный, тяжелый,— все разогнули спины и, держа в руках инструменты, проводили его взглядами, пока не прогрохотал последний вагон.
— Что случилось? — крикнул Либке, вытирая пот с загорелой шеи.— Почему не работаете?
— Не кричи, Руди.— Венигер назвал унтер-офицера по имени, давая понять, что разговор будет интимный.— То, что прогуляли, отработаем вечером. Есть причина.
Унтер-офицер, нахмурив брови, с недоумением посматривал на Венигера. Тот подступил к нему:
— Ты можешь сказать, сколько мы здесь пробудем?
— Что за дурацкие вопросы. Ты — солдат...
— Не знаешь. Так зачем же сеять грязь там, где живем? Посмотри на сосну.
— Я тебя не понимаю. Что ты хочешь сказать?
— Не стоит, Руди, валить сосну. Она украшает место, где будем жить. Разве тебе не захочется полежать в тени?
— A-а, глупости. Приказ есть приказ. На двести метров от железной дороги лес все равно повалят.
— Так ведь то лес, а это одно дерево!
— Идите и валите.— Либке повысил голос.— Накат нужно закончить до завтра.
Заговорил Петерле, который до этого молча стоял в стороне:
— Герр унтер-офицер, сосна понравилась лейтенанту Эрлиху. Он при мне сказал — чудесное дерево. Ходил вокруг и любовался. Я уже говорил об этом герру Вени- геру.
— Ну и что? Мне она, может быть, тоже нравится.
252
— Лейтенант Эрлих еще сказал, что дерево напоминает ему родину. Снял мундир и полчаса сидел в тени.
Унтер-офицер Либке еще больше нахмурился, его широкое, изрезанное морщинами лицо сделалось злым. Венигер с этим австрийцем задали ему задачу. Загадок Либке не любит. Во всем уважает точность, ясность.
— Дьявольщина,—говорит унтер в замешательстве.— Ничего не поймешь. Лейтенант ведь не говорил, чтоб не трогали дерева...
— Он надеется на вашу догадливость, герр унтер- офицер,— приходит на выручку Петерле.— Знает, что вы угадываете его желания. Как в Польше с этими гусями...
Историю с гусями помнит каждый в отделении, которым командует унтер-офицер Либке. Благодаря ей на отделение как бы нисходит тепло доброжелательности со стороны командира роты лейтенанта Эрлиха, и блага жизни оно ощущает немного лучше, чем другие отделения. И всему причиной — одна хорошо откормленная жирная гусыня. В Польше солдаты охраняли элеватор, и, пользуясь тем, что зерна хватало, недели за две до рождества каждый добыл себе гуся. Гуси жили в деревянном сарайчике, расположенном в противоположном конце двора, вдали от дома, который занимало отделение. Но все равно дело пахло гауптвахтой, если не чем- нибудь большим,— никто не мог поручиться, что сытое гусиное гоготание не долетит до ушей начальства.
Тогда пошли на хитрость. Сложившись, прикупили к десяти гусям одиннадцатого. Его предназначили лейтенанту Эрлиху. Об этом полушутливо намекнули его денщику: приблудились, мол, гуси, есть даже один лишний, но не резать же их теперь. Сильвестер же близко... Денщик прекрасно все понял, а лейтенант до самого праздника не услыхал недозволенного вблизи военного объекта гоготания.
— Ты лиса, Петерле,— улыбнувшись, говорит Либке.-— Хитрая австрийская лиса. Не знаю, как лейтенанту, а тебе тенек нравится. Но где мы возьмем дерево для наката?
— Привезем на вагонетке со станции, герр унтер- офицер,— бодро выкрикнул солдат.— Там целые штабеля.
Петерле с видом победителя посмотрел на Венигера: тот стоит хмурый, злой. Младший в душе смеется над
253
старшим. Петерле лучше знает, что, идя напрямик, ни до чего не дойдешь. В этой жизни не приходится рассчитывать на доброту, совесть — на прямые дороги. Удачу как раз приносит то, что люди привыкли называть скверным — хитрость, обман, лесть. Если хочешь жить, вилять хвостом тоже научишься.
4
Приходя к Юрию Босняку, Сергей всегда застает его на диване, приставленном к печке: одетый в зеленый халат, в шлепанцах на волосатых ногах, он либо лежит, глядя в потолок, либо сидит, обхватив колени руками.
— Садись,— не меняя позы, приглашает Юрий.— Проклятый радикулит. Места не нахожу...
Рядом с Юрием иной раз сидит Франя Бейзик. Молодая, смуглая, с красивыми, чуть-чуть раскосыми глазами. Юрий живет у Франи на положении примака — ей принадлежат и две эти комнатки в деревянном, барачного типа эмтээсовском доме, и вся одежда, которую носит Юрий. Однако в доме Франи он чувствует себя полным хозяином.
— Франя! — приказывает Юрий.— Сделай так, чтоб тебя не было. Нам нужно поговорить.
Франя, опустив глаза, уходит из комнаты. Она стесняется Сергея и никогда не вмешивается в его разговоры с Юрием. Сергей тоже чувствует себя неловко: в том, что Франя, ничего не зная о муже-фронтовике, взяла примака, есть нечто глубоко позорное.
— Прилипла,— прищурив глаза, подмигивает Бос- няк.— Зимой еле упросил пустить на квартиру, а теперь без слез не развяжешься. Баба как кошка: кто погладит, тот и хорош. Неустойчивый элемент баба...
— Сам виноват. Мог пойти на другую квартиру. К какой-нибудь восьмидесятилетией... Колол бы ей дрова.
— Друг ты мой Сергуша, ты «зело мал и несмышлен», как говорится в священном писании. Кроме болезни, которая сделала меня неспособным к физическому труду, в наличии, так сказать, аспект политический. Не забывай про вид на жительство, который возможен с высокого разрешения местного полицай-президента. Кто
254
из так называемых бобиков, хотя у них головы похожи на каменные шары на набережной моей дорогой Одессы- мамы, мог бы поверить, что такой бродяга, как я, способен надолго задержаться около особы, которая, мягко говоря, на ладан дышит? Разве меня выпустили бы из тюрьмы, если бы не Франя? Сделали бы обычное харакири — и концы в воду. А тут — постоянная прописка, почти что брак, по законам военного времени.
— А как же ты оставишь Франю? Ее же обвинят.
Босняк делается серьезным.
— Франя — хороший человек. Расстаться с ней будет нелегко. Ну, а где другой выход?.. Я же командир, старший лейтенант. Придут наши, спросят за все. За окружение, за плен, за эти полгода медвежьей спячки.
— При чем здесь окружение? — не понимает Сергей.— Разве ты попал добровольно?
— Желторотый ты еще, Сергуша. Не знаешь жизни. Ну кто мне или тебе поверит, что мы бились до последнего патрона? Скажут — шкуру спасали. Будь спокоен. Правда, у меня один документик в наличии. Почитай...
Юрий расстегивает халат, задирает сорочку. Под левым плечом, на смугловатой, густо заросшей спине синеют три больших, будто рваных рубца.
— Угощение Адольфа Гитлера. Прах невинного отрока Юрия мог давно покоиться в глинистой земле под городом Умань. Железное здоровье не пустило к праотцам, в райские кущи. Я, Сергуня, купался круглый год! теплая вода или ледяная. Поэтому вылежал двенадцать дней в пшенице, ел, так сказать, злаки в их первородном виде. Выжил, хотя костлявая стояла над головой. За раны эти,— Юрий опускает глаза, говорит тише,— Адольфу пришлось немножко раскошелиться. Пять солдатиков, мягко говоря, носами в землю. Это только те, которые попали на мушку. А я еще и пару гранаток швырнул...
Юрий — широкоплечий, черноволосый, с худощавым мужественным лицом — вызывает у Сергея противоречивые чувства. Он хвастун, в этом нет сомнения. Если он действительно такой бесстрашный, то не сидел бы здесь, держась за юбку этой Франи. Давно бы пошел в лес, в местечке его ничто не удерживает. Какой-то частью своего сознания Сергей относится настороженно к Босняку.
Но он видел его другим, вместе просидели в камере
255
больше месяца, спали на одних нарах, на трухлявой соломе, ели из одной миски. В кирпичном подвале районного банка, переоборудованного полицаями под каталажку, за месяц перебывало множество людей: туда сажали задержанных в ночной час, саботажников, таких как Босняк, примаков, которых в канун весны, боясь, что они уйдут в лес, немцы хотели прибрать к рукам.
Сергей знает: Босняку грозили отправкой в лагерь военнопленных, добиваясь того, чтобы он поступил в полицию. Босняк не поддался. Два раза водили к начальнику полиции — возвращался с распухшими щеками, но веселый, спокойный. Дважды, сразу после ареста, били шомполами и Сергея, и именно тогда, в первые дни, он сблизился с Юрием.
Когда первый раз вернулся из-под шомполов — ему всыпали двадцать — и бросился на нары лицом в солому, плача и скрывая бессильные слезы своего стыда, его утешил не кто иной, как Босняк. Он молча присел рядом, поднял на спине рубашку, и Сергей почувствовал, что он прикладывает к его спине, к самым больным местам, холодную сталь ножа. Нож быстро нагревался, Юрий опускал его в бачок с водой, стоящий возле двери, и прикладывал снова. Боль действительно утихла. Но куда дороже было другое. Сергей впервые почувствовал, что такое товарищ в трудную минуту.
— Откуда у тебя нож? — спросил на другой день Сергей.
— Нож? — Юрий отвернулся к стене, распахнул пиджак и незаметно для Сергея из какой-то потайной складки выхватил отточенную блестящую финку.— Не нож, а оружие. В целях самообороны. Мы же не у тещи в гостях, а у немцев. Понял, воробей?..
Это было нелегко, рискованно — пронести в камеру финку. Всех, кто попадал сюда, старательно обыскивали, отбирая не только железные вещи, а ремни, портупеи. Сергей с уважением посмотрел на Юрия.
В заплеванной, грязной каталажке с желтыми подтеками на стенах, кислым, спертым воздухом, топотом полицейских над головой Юрий чувствовал себя как дома, ни на минуту не вешая носа. Сыпал анекдотами, рассказывал сотни веселых историй. У него приятный грудной баритон, и вечерами, когда в камере еле заметно трепетал язычок плошки — роскошь, которую полицейские
256
разрешали не каждый вечер,— а арестованные в расстегнутых посконных рубашках, с нечесаными, лохматыми головами, с черными ногами вповалку ложились на нары, Юрий начинал петь.
Песен, как и разных историй, знал неисчислимое множество: были веселые, грустные, русские, украинские и даже блатные:
Марьяночка моя ты славная,
Твоя грудь — два тугих бугорка...
Сергей заметил: арестованные с удовольствием слушали Юрия, хохоча после каждой его шутки, анекдота, и несмотря на это относились к нему, как бы со скрытым недоверием, с пытливостью, которая не находила выхода в откровенно, прямо заданных вопросах и таких же ясных ответах. Там, в камере, Юрий про себя не рассказывал. Никто не знал, кто он и откуда. Знали, что окру- женец, примак.
Местные люди, связанные между собой чем-то невидимым, но прочным, крепким, всегда с настороженностью относятся к чужим. Возможно, этим и объяснялось то скрытое за внешней доброжелательностью недоверие к Юрию, которое светилось в глазах заросших щетиной мужчин, сидевших вместе с ним и Сергеем в каталажке. Местный человек, совершивший бесчестный поступок, ощутит его тяжесть не только сам, будут страдать и его родные, свояки, даже в третьем поколении. А что возьмешь с чужого? Сегодня он здесь, а завтра — нет... Среди местечковых полицаев больше половины таких, которые неизвестно откуда появились. Так думал Сергей, стараясь разгадать причину холодноватого, настороженного любопытства, с которым арестованные смотрели на Юрия.
Юрий как будто не замечал этого. Сам он никого ни о чем не расспрашивал, не проявляя абсолютно никакого интереса к тому, за какие провинности попали в камеру его временные товарищи. Вот эта его сдержанность, можно сказать, деликатность, а также независимость, с которой Юрий держал себя перед полицейскими, все больше укрепляли Сергея в мысли, что Юрий человек надежный.
Сергея выпустили первым. За два или три дня до
257
этого, весенним вечером, когда, раздевшись от нестерпимой духоты чуть ли не догола, они лежали на нарах, разговаривая о книгах и кинофильмах, Юрий неожиданно признался, что он старший лейтенант, командовал ротой, родом из Одессы, попал в окружение под Уманью, убежал из житомирского лагеря. Рассказывал Юрий так взволнованно, что не верить ему было нельзя. Тот вечер их окончательно сблизил.
Инстинктивное чувство осторожности, живущее в каждом, кто знает, что одно лишнее слово может стоить жизни, не позволило Сергею чересчур развязать язык. Ни слова не сказал он о хлопцах, о начатом ими деле, о Миколе, который с повязкой полицейского на рукаве уже дважды заходил в камеру, незаметно подмигивая ему, Сергею.
Зверек настороженности, который все же притаился в доверчивой душе Сергея, держал ухо востро и позднее, когда Юрия выпустили и когда Сергей по два, а то и по три раза в неделю заходил к нему на квартиру.
Хлопцы — против дружбы с Юрием. Никто из них, за исключением Вилюги, не захотел с ним знакомиться. Сергей понимал, что не просто так наговаривают они на Босняка. Если смотреть их глазами, то Юрий действительно не заслуживает доверия. Но существует неписаный закон, согласно которому люди в состоянии одержимости, в состоянии нарушенного душевного равновесия сами стремятся навстречу своей гибели. Сергей не находил себе места от горечи, его гордость, самолюбие втоптаны в грязь полицейскими, которые дважды клали его под шомпола, о чем, безусловно, знает каждый в местечке. Потому Сергей просто не может, не в силах приспособиться к тем формам борьбы, к которым фактически склонились остальные. К тому же на носу отправка в Германию. Поэтому он жаждет борьбы открытой, хочет стрелять в упор, не таясь, во всех этих полицейских, немцев, их прислужников. Его существо наполняется дикой радостью, когда он начинает думать о том, как расправится со всей этой сворой, как будет, не зная пощады, резать, колоть, стрелять, уничтожать ненавистных ему выродков.
Именно здесь и начинается противоречие. Сергей чувствует, что он, как и все его товарищи, связан по рукйм и ногам ответственностью за семью, за ее судьбу, пони-
9 И. Науменко.
258
мает, что никто не пожалеет его отца, мать, сестру, брата, если только станет известно, что его в местечке нет.
Тем более что он меченый, у него волчий билет... Но в то же время он не может себе представить, что его повезут в Германию, что там, на чужбине, придется работать на немцев, ненавидя их.
Воспоминание о семье расхолаживает Сергея, колеблет его уверенность в том, что он поступит правильно, если пойдет в лес. Но снова захлестывает волна неутолимой ненависти, мысли разбегаются, путаются, в душе только одно желание — мстить. Бывают минуты — в этом Сергей боится признаться самому себе,— когда он ненавидит отца, мать за то, что они связывают ему руки. Все сразу стало бы иным, будь он один! Ни дня, ни часа не сидел бы он здесь, в вонючем полицейском логове!
Изредка всплывает образ Риты, принося печаль. Пути из расходятся. Рита живет своей жизнью, и хотя ни разу не оттолкнула Сергея, но и не стремится к нему. В последнее время хлопцы отдалились: два или три раза забегал Шура, один раз Митя — рассказал, что приходил знакомый шофер, который теперь в партизанах, дал задание достать гаечные ключи. Похвалился, что слушает радио. Сергей не спрашивал, где и кто установил приемник. Раз Митя не говорит, не приглашает слушать — не нужно.
Сам он не будет напрашиваться. У него свой путь. Радио теперь не главное. Нужно действовать, а не слушать радио.
Сидеть дома Сергей не может. Каждый день ходит к Юрию. Юрий, впрочем, согласен пойти в партизаны. Отправятся втроем —Юрий, он, Вилюга.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
I
На станции Шура Гарнак держится независимо. Он прирожденный техник, и немцы его любят.
К тупику, где работает бригада, Шура подкатил на моторной вагонетке. К Адамчуку подошел как к равному, сунул в руки записку:
— Перевели работать к вам. Приказ шефа. Мотористом на вагонетку.
259
Митю Шура как бы не замечает. Будто нарочно отворачивается. Только на третий день, под вечер, когда бригада заканчивала работу, подошел к Мите. Курит сигарету, держится самоуверенно, как начальник.
— Поедешь со мной. Приказал Адамчук. Нужно отвезти мастеру цемент. Он будет крыльцо ремонтировать.
Мастером Шура назвал Адамчука. Тот живет в каменном доме за станцией.
— Я достал ключи,— сказал Митя.— Вчера ходил к Драгуну, но дома не застал.
По условию, поставленному Гусовским и Драгуном, Митя ничего не должен говорить о своей деятельности связного. Но он рассказывает все. Секретов между хлопцами нет.
— Иди ты с ключами! — отмахнулся Шура.— Разве не знаешь? Немцев понагоняли в деревни. Партизан хотят уничтожить. Два эшелончика около Горбылей опрокинули. Полицаев в Буйках перебили всех. Самим нужно что-нибудь делать. Завтра возьму тебя трубы возить. Подложим мину.
Приехали на станцию, нашли немца-кладовщика, получили два бумажных мешка с цементом. На бумажке, которую отдали кладовщику,—. печать с немецким орлом, на мешках тоже орлы, только больших размеров.
— Я немного снюхался с двумя немецкими железнодорожниками,— рассказывает Шура, когда сели на вагонетку.— Друг друга боятся. Между собой слова лишнего не скажут. Думаешь, в самой Германии рай? Какой там рай: все по карточкам, работа до седьмого пота, на каждом, шагу крестись на Гитлера. Почему они нашу молодежь в Германию сватают? Потому что у самих руки короткие, хотя и загребущие. Хотят на нашей спине в рай въехать.
— А почему немцы боятся друг друга?
— Черт их знает. Только каждый дрожит. Должно быть, согнул их Гитлер в бараний рог. Сказал слово не так, садись за решетку. Фашизм!..
Адамчук сидит в беседке, за дощатым столом, обедает. Он в расстегнутой нижней рубашке, волосатую грудь, красное лицо заливает пот. На столе перед бригадиром вместительная бутыль.
— А, моторист! — приветствует Адамчук Шуру.— Давай сюда. За труды праведные полагается.
9*
260
Митю бригадир не замечает.
Митя отошел, в ожидании Шуры присел на краешек скамейки под кленом. Отсюда слышит все, о чем говорят в беседке.
— Пан мастер, немцы вас уважают,— распинается Шура.— Другому они не дали бы цемента. Я не раз слышал, как они о вас говорили. Говорят, строгий начальник и дело знает. Специалист.
— Немцы не дураки. О своей выгоде заботятся.
— Один раз, правда, слышал я... Только это глупости, пан мастер. Людям языки не завяжешь.
— Что ты слышал, ну? Говори все, не бойся!..
— Кто-то нашептал шефу, что вы при большевиках активистом были. Что вас за это даже медалью наградили. И что в лесу были...
— Ах, сволочи проклятые! Это все свои, свои. Подкапываются. Глаза им колет. Ну, мастером я был, это всем известно. Разве я прячусь? А медаль ту я еще в прошлом году отнес и сдал в жандармерию. Вместе с оружием. Просил ту медаль, или что? Дали, взял. Тебе если бы повесили, разве ты отказался бы?..
— Конечно нет, пан мастер.
— Слушай, моторист! Если что услышишь еще, говори сразу мне. Не забудь. Я тебя отблагодарю. Я еще могу отблагодарить, хоть на меня там и наговаривают. Посмотрим, кто кого. Ах, сволочи, сволочи!..
Митя слушает, и в душе у него непонятное равнодушие. Еще вчера он ненавидел Адамчука. Теперь это чувство исчезло. В Митиных глазах бригадир сразу стал бесконечно ничтожным. Он боится, дрожит, хоть и служит немцам.
Шура вышел от Адамчука пошатываясь. Разговаривает громко, во весь голос, и Митя беспокоится: не скажет ли что-нибудь лишнее?
— Выпить у пана начальника чарку не грех,— горланит Шура.— Особенно, если пан начальник хороший человек, если душа у него открытая. Правду я говорю, Митя? А? Золотой человек Адамчук! Я для него готов все сделать, даже гроб!.. Хороший гроб из немецких досок!..
— Тихо ты! Еще услышит кто.
Шура пьян. Митя отвел его домой. Живет Шура у старшей сестры.
261
2
Мите не спится.
Вышел из хаты, присел на крыльцо. Ночь душная, без росы, с лугов плывет густой горьковатый запах скошенной травы. Далекий край затянутого тучами неба полосуют частые, без грома, молнии. Сонно перекликаются в кустах, за насыпью, две птицы. Немцы в будке напротив спят. Слышно, как похаживает по двору часовой. Чернеет на холме сосна.
Где-то возле леса то и дело поблескивают огни карманных фонариков. По полотну ходят часовые. Впереди или следом за ними шагает отец, охраняя чужую железную дорогу. Ни немцы, ни отец не знают, что завтра Митя снова пойдет подкладывать мину.
Мите кажется, что он старый-старый, все видел и все знает. Чем измеряется бег времени? Тогда, до войны, время измерялось тем, что за зимой наступала весна, в местечке вырастали дома, в газетах писали о новых заводах и фабриках. Он, Митя, рос, переходил из класса в класс. Сам о себе он тогда не мог сказать, что, перейдя за один год из восьмого в десятый, стал умнее того, который учился в восьмом.
Теперь совсем другое дело. Теперь тот Митя, который за год окончил два класса, этому, сегодняшнему, кажется далеким, непонятным человеком. Тот был просто мальчишка. Он ничего не знал о настоящей жизни.
Ну, так как же бежит время? Ясно, что не ровно.
Оно может мчатся так, что замелькает в глазах, закружится голова. И может течь спокойной речушкой повседневности. Жизнь теперь пошла так, что люди как бы заново ищут друг друга, не доверяя прежним меркам. Широких дорог нет, остались узкие тропинки.
Во тьме ночи на насыпи показалась черная фигура, и по шагам Митя догадался, что это отец. Он на обходе и, видно, заглянет во двор.
— Ты, Митя? — спросил через минуту отец.
— Я.
— Может, завтра на работу не пошел бы, помог пилить доски?
— Не могу. Надо идти.
— Так ты утречком сбегай, отпросись.
— Сказал, не могу.
262
— Чтоб она пропала, твоя работа! — разозлился отец.— Не было петли, так сам нашел. Кто тебя пихал в ту бригаду? А все потому, что отца не слушаешь. Что тебе теперь отец?
Митя молчит. Спорить нет смысла. Отец потоптался по двору и снова отправился в обход.
Всю неделю с того дня, как в другой, пустой будке поселились обвешанные оружием немцы и начали строить свои укрепления, Степан Птах ходит мрачный, повесив голову. Такое соседство его не радует, не сулит ничего хорошего. Солдаты пользуются тем же, что и его , семья, колодцем, заходят во двор, берут из-под навеса 1 дрова. Они как бы заранее зачислили его в свои помощники. Совсем иной вид приобретает служба: железную
дорогу охраняют солдаты, они ведут себя как на войне, и если он будет ходить вместе с ними, то получается, что и он на войне, на стороне немцев. Пораженный этой мыслью, Степан решил немедленно выбираться из будки. Ждать не приходится. Здесь не место для жизни. Нужно в свою хату. Хата еще не закончена, без окон, без печи, но иного выхода нет. На дворе лето, лишь бы крыша над головой. Окончив службу, Степан бежит на свою усадьбу.
Митя просидел еще с час. Наконец решил пойти на сеновал, в сарай, и прилечь, как вдруг услышал на на- ; сыпи торопливые шаги. Кто-то бежал. Подхватившись,
! Митя выскочил за будку и содрогнулся от того, что увидел. Багровым пламенем полыхал весь западный край неба. Казалось, кто-то огромный и невидимый окрасил его в кровавый цвет. Над местечком и будкой небо по- I прежнему низкое, черное, будто в минуты полного затмения, и на мгновение мелькнула страшная мысль, что там, на западе, восходит солнце.
«Деревня горит,— пришла догадка.— Видно, Вер- бичи».
Подбежал отец. Запыхался и в первую минуту не мог вымолвить слова.
— Что это делается на свете, Митя? — Голос у отца глухой, тревожный.— Жгут, уничтожают. Где же искать спасения. Виноват или не виноват — конец один. Там же, в той деревне, которая горит — люди, дети. Боже, боже!..
263
— Они народ запугать хотят. А потом уничтожать будут. И теперь уже, видишь, уничтожают. Такая их политика. Им нужна земля, а не люди.
— Так что — всех уничтожать?
— Их голова не болит. Чем больше, тем, они считают, лучше. Гитлер хочет дать имение каждому немцу, который воюет.
Отец с сыном вошли во двор. Тучи понемногу расползались, в прогалинах поблескивали звезды. Было далеко за полночь. В местечке надрывно выли собаки. Взвилась у опушки леса ракета — нервничают и немцы, охраняющие железную дорогу.
— Неужто наши уступят? — вздохнул отец.— Второй год война идет. Легко сказать — уничтожить народ. Наши деды и прадеды здесь жили. А теперь нам приказывают на небо лезть или как?
— Это фашисты, папа. Считают себя высшей расой. Хотят господствовать, а другие чтобы на них работали.
— Своих панов прогнали, а теперь посадить на шею чужих? Думаешь, партизаны так себе объявились? Еще не то будет, увидишь...
Говорили как равный с равным. Под утро отблеск пожара начал бледнеть.
Только небо в той стороне, где горело, будто затянуло неподвижным облаком.
3
Утром Шнапс подтвердил то, о чем догадывались. Сожжены Вербичи — деревня, где в прошлом году Митя копал окопы. Немцы пригнали оттуда стадо коров в местечко, два гурта свиней и овец. Людей живыми сожгли в старой церкви. Всех, кого схватили,— старых и малых. Реденькая мокрая борода Шнапса с прилипшей соломиной дрожала, когда он рассказывал.
— Всем это будет,— озираясь по сторонам, закончил Шнапс.— Я ведь думал — они хоть в бога веруют. А они сжигают народ в церкви.
— Где ни сжигай, все равно,—хмуро сказал отец.— Правого и виноватого не ищут. Кто-то сбросил поезд, а потерпели все.
— Правду о них писали — фашисты.
264
— Далеко та правда. Пока дойдет до нас — сдохнешь. Дай мне на той неделе коня, Кузьма. До добра в этой будке не досидишься.
На станции новость знали. Хмурые путейцы сидят возле пакгауза, курят. Адамчук появился на минуту — молчаливый, пришибленный — и сразу исчез. Фогель совсем не пришел. Работа стояла.
— Кто со мной трубы возить? — подкатив на вагонетке, громко спросил Шура.— Два рейса — и можно домой...
Никто на него не посмотрел.
— Поедем с тобой.— Шура позвал Митю.—А то влетит от немцев. Шутить они не любят.
Взяли из пакгауза несколько тонких железных труб. Их нужно отвезти на охранный пост, расположенный в шести километрах от станции. Солдаты, живущие там, хотят сделать себе душ.
Вагонетка миновала кривую, когда Шура затормозил.
— Тут.
Торопливо оглянувшись, скатился под откос, в кусты. На полотне — никого. Через минуту вернулся, зажимая под мышкой набитую аммоналом штанину.
— Разгребай под стыком... Нужно выбить колодку.
Торопясь, волнуясь, выгребли из-под рельса балласт,
ломиком Шура ловко вывернул деревянный чурбачок, загнанный под стык между шпалами. В ямку положили мину. Снизу, в стык между рельсами, Шура воткнул обычный патрон, вытащив из него зубами бумажную затычку. Засыпали мину сухим балластом.
— Порядок.— Шура вытер рукавом пот, вскочил на вагонетку.— Детонация должна быть. Проверяли. Зазор большой, бутылочка не свалится. Придем вечером втроем— с Лобиком и Сергеем. Если что — из нагана...
Шура тоже волновался. Лицо горело. То и дело вытирал крупный пот...
Это был страшный взрыв. Он потряс вечерние поля, глухими раскатами прокатился по местечку.
Митя ждал взрыва. Сидел на крыльце, блуждал по
255
двору. Начинало темнеть, а поезд не шел. Ночью поезда ходят не часто. Зажглась одна звездочка, вторая. Ночь начиналась сухая, душная, без росы, как и вчера.
Наконец издалека послышался гул. До будки поезд тащился страшно медленно. Вышла мать, позвала ужинать — отказался.
На станции поезд стоял долго. Должно быть, набирал воду. Стало совсем темно. Немцы в будке напротив легли спать. Как и вчера, ходил часовой, тихо насвистывал. Терпение иссякло. Дрожали колени. Наконец послышался гудок. Сиплый, будто надтреснутый. Митя повис на жердочке забора, затаив дыхание, ждал.
Когда раздался взрыв, Митя медленно отошел от забора. Мстительная радость, охватившая на мгновение все его существо, сразу пропала. Во дворе соседней будки суматоха, крики команды, лязг оружия. В душе росла тревога. Как там хлопцы? Успели отбежать от полотна?
На станции кричат и где-то там, возле дальней будки, куда с Шурой возили трубы, стреляют. Лают собаки. Митя вздрогнул от страшной мысли: следы! У немцев — собаки. Можно выискать след.
Мать, встревоженная взрывом, снова вышла.
— Иди в хату! Пусть отец черт знает где шляется, так он хоть на службе. А тебе что надо? Петлю на шею ищешь?..
Митя в будку не пошел, лег в хлеву, на сеновале, но уснуть не мог. Через щель в крыше блестит звездочка, дрожит, то и дело пропадая. Остро пахнет травами, которые мать развесила по стенам. На насесте, за стеной тревожатся куры. Душно, тяжко.
Послышался гудок с запада, со стороны, где охраняет железную дорогу отец, донесся приглушенный гул нового поезда. Поезд подходил тихо, на. малой скорости. Миновав будку, несколько минут постоял на станции, потом, натужно пыхтя, лязгая буферами, покатился на восток...
Мите стало обидно. Раз беспрепятственно пошел поезд, значит, они с Шурой ничего не сделали. Все, что несколько минут назад беспокоило, показалось смешным. Немцы даже не заметили взрыва. Для приличия постреляли— и все. Только под утро забылся сном — тяжелым, мучительным.
266
4
Митя пришел на станцию, когда бригада была уже в сборе. Около перрона необычный состав: паровоз спереди, два сдвоенных сзади, два пассажирских вагона, несколько обычных вагонов, платформ и в голове эшелона, на платформе, огромный подъемный кран. Как и вчера, путейцы сидели, курили. Шуры среди них не было.
На Митю никто не посмотрел, никто, кажется, даже не заметил его прихода. Снова, как и ночью, стало тревожно. Что-то случилось —он это чувствовал. «Неужели что-нибудь с Шурой?» — мелькнула мысль, и от нее по телу прошел холод. Стоял и боялся пошевельнуться, боялся первый вымолвить слово. На мгновение Мите показалось, что все знают про мину, только умышленно прячут свои мысли и чувста за настороженным безразличием. У него дрожали колени, и он никак не мог одолеть досадной, противной дрожи.
Необычный, разнокалиберный состав залязгал буферами, тронулся. Пошел на запад. Головцой паровоз беспомощно громыхал сзади — не шипел паром и не пыхтел дымом. Короткая труба свернута набок.
Пришла радостная догадка: эшелон все-таки ку¬
выркнулся...
Подошел Фогель, растерянный, будто виноватый. Не суетился, как всегда, а нерешительно переминался с ноги на ногу, вытирал пот с лысины. Наконец громко заявил:
— Партизан капут! Наши зольдатен идти в лес, окружать и бах-бах! — Мастер вытянул обе руки, сцепил пальцы, показывая, как будут окружать партизан.
У Мити отлегло от сердца.
— А партизаны, пан, из лесу бах-бах,— возразил Гулик.— Их много, у них есть ружья.
Мастер, видно, не понял, так как согласно кивнул головой.
— Партизан швайн, собак,— развивал он какую-то свою мысль. — Партизан стреляйт из-за -угол. Никс честны война.
— Да, да, пан.— Гулик смотрит на мастера преданными глазами.— Стреляют, падлы, исподтишка. Нигде от них не спрячешься.
— Москау — капут, Ленинград — капут, война —ко¬
267
нец, партизан — нике,— закончил Фогель.—Есть спокойны работа.
Путейцы, забрав инструмент, двинулись со станции. Начал накрапывать дождь. Митя смотрит на кусты — на листьях висят прозрачные капли, зеленеет трава, отмываясь от густой пыли, песок жадно вбирает в себя воду. Митя успокаивается, радуется: дождь прибьет следы, не останется никакой причины для опасений.
Бригада не дошла еще до места, где намечалась перешивка полотна, как дождь хлынул словно из ведра. Ремонтники бросились кто куда — искать убежища. Митя с Кардашем вымокли, но добежали до будки стрелочника, спрятались под ней: будка стоит на высоких сваях. Кардаш часто дышит. Над головой скрипят половицы, кто-то в будке ходит.
— Ты слышал? — шепчет Кардаш.— Ночью поезд на двести семьдесят третьем подорвался. Поэтому клянет Фогель партизан.
— Как подорвался?
— На мине. Партизаны мину подложили. Видел—ремонтный поезд на станции стоял. Паровоз слетел с рельсов, подняли, а три вагона разбило в щепки. Кто-то и место же выбрал, на кривой как раз.
— А когда это было?
— Ночью. Я взрыв слышал, грохнуло, даже стекла задрожали. Так и подумал — опять поезд сбросили, как тогда около Вербичей. Это же еще двух недель не прошло. Что будет?
— А что может быть?
— Как что — Вербичи сожгли. Доберутся и до нас.
— Не доберутся,— уверенно проговорил Митя.— В местечке полно немцев, полицейских. Что они, сами себя сожгут? Сами виноваты — проморгали. Пусть лучше караулят.
— Попробуй укарауль. Разве ты не слышал — в деревни понаехало немцев, арестовывают, стреляют, а партизаны здесь, под носом. Говорят, большая сила у них.
— У кого?
— У партизан.
Митя сам удивляется своему спокойствию. Душа кричит, просят выхода необычные слова, но он сдерживает себя. Благоразумие берет верх. Оттого, что Кардаш ни
268
о чем не догадывается, Митя немного свысока, с чувством превосходства смотрит на пожилого путейца.
— Немцы не взяли рабочих пути расчищать,— продолжает Кардаш.— Не хотят огласки. В ремонтном поезде одни немцы.
— Откуда же вы знаете об аварии?
— Разве спрячешь? Обходчика допрашивали. Целую ночь держали. Выпустили под утро.
— Обвиняют обходчика?
— Кто его знает. Выпустили вот. Там не один он, там и немцы ходят.
Дождь льет как из ведра. В луже, расплывшейся рядом с будкой стрелочника, скачут пузыри. По дощатому настилу, сгорбившись, пряча голову в воротник, пробежал человек. Неуклюже прыгая через шпалы, засуетился около стрелки.
— Нажили панов на шею,— со злостью говорит Кардаш.— В будке же немец сидит. Шишка небольшая, сам стрелочник. Так видишь ли, не побежал под дождь, погнал нашего. Хоть бы плащ дал на плечи. Сидит, жрет себе булку с салом, а ты пляши под его дудку. Вот тебе и рабочий класс.
— Немцы боятся друг друга,— вспомнив слова Шуры, сказал Митя.— Если этот стрелочник будет запанибрата с нашим, то ему самому попадет.
— Боятся. Я замечал сам. Наш Фогель дрожит перед начальником станции, перед жандармами. У них если что не так, то долго не рассуждают. Трах по морде — и катись.— Путеец грустно улыбнулся.— Иди жаловаться в профсоюз...
— Но ведь рабочие хоть не бьют.
— Ну, это от человека зависит. И рабочие есть такие, что за господами хотят угнаться. Видел на станции уборную? Вывески вывесили: «Для рабочих», «Для немцев». Попробуй зайди в его половину, как на тебя тот рабочий посмотрит? А чтоб ты подох, падаль немецкая! Какие уже там секреты у тебя!..
С востока к станции приближался длинный порожняк. Перед паровозом медленно катятся две платформы с балластом. Паровоз пыхтит тяжело, будто везет груженый состав. На тормозах, открытых платформах солдаты в черных блестящих накидках, в касках, с автоматами.
269
— Первый за сегодняшний день,—заметил Кардаш.— Боятся, видишь, порожняк пустили и платформы с песком впереди. Хитро придумали.
Послышался крик. На путях, один под дождем, вытанцовывает Фогель, размахивая короткими руками. Зовет рабочих.
— Нужно идти. Горлопанит.
Фогель в резиновом плаще с капюшоном. Должно быть, сбегал на станцию. Адамчук, понурый и молчаливый, в форменной довоенной тужурке, ковыляет вслед. Путейцы вылезают из-под штабелей нехотя — намокли, несмотря на укрытие.
— Пан, нужна спецовка,— пристает к мастеру Гулик.
— Никс спецовка. Война.
— Никс спецовка — нике работа.
— Тогда есть саботаж,— охотно разъясняет немец.— Тебе нужен концлагерь или стреляйт.
— За что стрелять? Тебе же, видишь, казна все дает— ботинки, шинель, шапку. А нам что? Мы же на вас работаем, так дайте и нам.
— Твой есть длинный язык. Ты говоришь политика. Можешь сидеть тюрьма.
— Все тюрьма да тюрьма,— не сдается Гулик.— А кто на вас ишачить будет? Где такого жилистого найдете? Свет пройди, не найдешь.
Путейцы хохочут. Адамчук шагает немного впереди, не вступая в разговор. Делает вид, что ничего не слышит. Мите хочется заглянуть бригадиру в лицо, но тот идет понурив голову, не оглядываясь. Таким Адамчука Митя видит впервые.
— Нужно слушайт приказ,— подступив к Гулику, миролюбиво говорит мастер.— Мы есть маленькие люди. Приказ есть закон. Должны жить по закону. Война. Язык прячь за зуб. Ферштейн?
— Ферштейн, ферштейн, пан. Теперь не пикну. Как серая мышь. Слово сказать потянет, то заткну рот суконкой. Пусть на него немочь. Еще в тюрьме насидишься...
Дождь перестал. По небу плывут лохматые тучи. В лесу, около железной дороги, трубит в рожок пастух. Сыро, неуютно. Фогель похаживает по полотну, натянув на голову, на шапку, капюшон. В черном плаще он похож на сытого, довольного скворца. Адамчук, сослав¬
270
шись на срочное дело на станции, исчез. За все утро, проведенное в бригаде* ни на кого не повысил голос. Путейцы разложили на откосе костер, по очереди сушатся.
— Поджал хвост, как пес,— подмигивая Мите, улыбается Гулик.— Затылок чешет — партизаны и ему гостинчик могут подослать. Вот вам, дорогой товарищ мастер, от чистого сердца за то, что ремонтируете немцам дорогу. Мы, значит, рвем ее, корежим, а вы ремонтируете...
— А тебе не пришлют? — возражает Кардаш.— Или ты, может, не у немцев служишь?
— Я что? Я десятая спица в колесе. Несознательный элемент. Беспартийный, неграмотный. С меня спрос невелик.
— Божья овца.
— Такой, как и ты, дядька. У тебя двое детей, у меня— трое. Твоих дочек, правда, можно замуж отдавать. Жалко — женихи задержались. А моя пехота с утра такой хай подымает — убегай из хаты. Картошки им дай, да с молоком. Панские какие-то дети.
— У всех дети. У Фогеля, что над тобой стоит, думаешь, нет?
— Я ничего не говорю на Фогеля. Думаешь, в Германии был большой шишкой? Я спрашивал: ремонтник, как и мы с тобой. Дали шапку с кокардой и прислали сюда мастером. Он и рад: не фронт все-таки.
После обеда Фогель не вернулся. Вместо него при- грохотал на вагонетке Шура. Он самоуверенный, шустрый, на лице нельзя заметить никаких перемен. На Митю снова не смотрит.
— Двух человек на станцию. Смолить шпалы. Мастер приказал. После работы будет получка.
Двое хлопцев-школьников сели на вагонетку, покатили с Шурой на станцию. Начальства больше никто не ждет, и даже те, кто еще копался на полотне, бросили инструмент, сгрудились у костра.
— Мычипар,— начал Гулик,— говорят, ты собираешься в партизаны? Будь осторожен: Фогель если пронюхает, то не спустит.
— Чхал я на Фогеля,— воинственно заявляет Хадоська.—Он сам боится.
Все хох'очут — никто не ждал от Хадоськи такой решительности.
271
— А если пронюхает, что будешь делать?
— Я его ломом по голове.
Разговор начинает принимать опасное направление, двое или трое путейцев отходят от костра, но Гулик не обращает на это внимания.
— Партизаны — это же бандиты, Мычипар. Разве ты не знаешь? Поймают тебя немцы, накинут, как бычку, веревочку на шею и поведут. Тогда запоешь.
— Не поймают,— хорохорится Хадоська.— Я такие пни знаю, что, как залезу, никто не найдет.
— Эге, значит, врали, что в партизаны собираешься. Хочешь в пни. Наговорят же люди.
— Или в болото зашьюсь.
— И Ганку возьми с собой! А то, пока будешь сидеть в болоте, какой-нибудь немец к ней подлабунится. Что ты думаешь... Ганка — девка аппетитная, хоть и рябая. Но ведь ночью не видно...
Взрыв хохота. Хадоська, будто его это совсем не касается, хохочет громче всех.
Когда шли на станцию, Кардаш отстал, пошел рядом с Митей. Глядя в землю, глухо проговорил:
— А все же нужно осторожней, хлопец. Я, думаешь, не видел, как ты бросал под откос гаечный ключ? Меня не бойся, если что — и пособить могу. Но разные люди есть. Осторожней нужно.
Краска залила Митино лицо, перехватило дыхание...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
За домом Сюзанны огороды двух противоположных улиц. Сплошь картошка, по бороздам — желтые шапки подсолнухов, зеленые заросли кукурузы. Прошли дожди, и все буйно растет.
На границе огородов — узкая, заросшая долгунцом- травой дорога, плетни, груши-дички. Каждый вечер Митя сидит с Сюзанной на плетне, под старым раскидистым дичком. Отсюда видна школа, водокачка, все наиболее приметные здания местечка.
Когда наступает патрульный час, девушка его гонит. Но он не идет — хочется видеть, как она волнуется. Ему
272
радостно: она его бережет. Хочет ему понравиться — каждый вечер приходит в старательно выглаженных блузках, которые он безжалостно мнет, обнимая ее.
Груша — свидетель. Серп луны, поднимающийся из- за школы, тоже свидетель. Ночи звездные, летние. Пролетают мгновенно.
Мите хочется, чтобы Сюзанна считала его бесстрашным. Прямо он не говорит, но весьма прозрачно намекает на то, что слушает советское радио, принимает участие в еще более опасных делах. Сюзанна прижимается ближе, просит, чтоб остерегался. В эти минуты она для него как мать. Один раз Митя пришел на свидание с наганом в кармане, который выпросил у Сергея. Сюзанна испугалась. Весь вечер он не мог ее успокоить и пошел домой раньше обычного.
Ночью, прошмыгнув через улицу, чтобы не нарваться на патруль, идя росным лугом к будке, заходя во двор с противоположной стороны — не заметил бы часовой, стоящий около второй будки,— чувствует, как все поет, звенит в душе.
В местечке тревожно, связи с партизанами нет. Драгун, которому Митя недавно принес гаечный ключ, приказал, чтобы в ближайшие дни он к нему не приходил. Но, охмелев от неведомого ранее счастья, Митя не обращает внимание ни на что. Сюзанна заслонила собой весь свет. Только о ней он теперь и думает.
По деревням — немцы, в местечке — словаки. Выгрузились они из эшелона неделю назад, живут в помещении бывшего лесного техникума. Язык словаков понятен, сами простые, безобидные, в зеленых, совсем не похожих на немецкие, мундирах и пилотках. С немецкими солдатами местечковые девчата не гуляют. Если ходят, то две или три потаскушки, на которых показывают пальцами. Со словаками некоторые знакомятся. Возвращаясь от Сюзанны, Митя видит, как на плетнях сидят парочки. Он идет в недозволенное время, но словаки ничего не хотят замечать.
Под грушу в тот вечер Сюзанна пришла тихая, опечаленная.
— Не целуй меня, Митя. Укол мне сделали. Заразили оспой-ветрянкой. Полежу недели две, и пройдет. А в Германию не возьмут. Я в списках. Мария Ивановна предупредила...
273
Он не мог промолвить слова. Какой никчемной, мизерной показалась ему собственная недавняя похвальба? Чем хвалился? Сюзанна рискует жизнью, сотни, тысячи таких девушек, как она, повезут в Германию, в неизвестность. Кто их защитит, заступится за них?.. Митя уныло молчал, стыд жег лицо.
Сюзанна поняла его молчание по-своему:
— Не бойся, ветрянка следов не оставляет. Мама укол сделала, она же сама фельдшер.
Поведя плечом, как это умеют делать только девчата, добавила:
— Ну, я с тобой хочу быть. Только с тобой. Неужто ты ничего не понимаешь?..
В списках мог быть Сергей, но Митя в тот вечер о нем даже не вспомнил.
2
В полдень по главной — длинной и пыльной — улице местечка промчались одна за другой три машины — два больших, похожих на крытые фургоны грузовика и легковая. Приехала зондеркоманда службы безопасности во главе с майором Гуго Гливицем. Майор, довольно моложавый, с продолговатым приятным лицом, в пенсне, из- под которого поблескивали проницательные серые глаза, сидел один на заднем сиденье черного лакированного «оппель-капитана», который шел последним.
Как и ожидал Гуго Гливиц, местечко оказалось обычной захолустной дырой. Несколько сот деревянных домов, улицы разбросаны как попало, ни одна не замощена. Два-три приличных здания только в центре. Майор с тоской посматривал сквозь опущенное стекло. Ничего интересного большая деревянная деревня не обещала.
Миновав площадь, машины свернули к белому двухэтажному зданию школы, остановились. Майор вылез из кабины, легкой пружинистой походкой направился к входу, возле которого с автоматом на шее похаживал часовой. Сзади, четко отбивая шаг, шел лейтенант Опус, на голову выше майора, в тесном для своей фигуры мундире. Бахманы —их человек двадцать — сгрудились около машин, громко разговаривая.
274
Минут через десять все стало на место. Майора, видимо, ждали: все знали, что приехал с чрезвычайными полномочиями. В кабинете начальника жандармерии — немолодого щуплого капитана с желтым болезненным лицом, на котором написаны растерянность и страх,— собрались начальник полиции, верзила такого же роста, как и лейтенант Опус, и местечковый бургомистр, довольно спокойно приветствовавший майора на резком швабском диалекте, выдававшем в нем фольксдойча. Отсутствовал полковник Зайдэ, командир охранного батальона на железной дороге, но майору объяснили, что полковник рад будет видеть его у себя. Гуго Гливиц кисло поморщился: понимал высокомерие военных.
— Виновники диверсии на железной дороге пойманы? — резко спросил майор, обращаясь к шефу жандармерии.
— Принимаем меры, герр майор. Гарнизон маленький. Главным образом охранная служба... Мало людей...
— Агенты партизан и коммунисты известны?
— Да, герр майор. Документация подготовлена. Явных улик нет. Подозрение...
— Мы на государственной службе, герр капитан. Должны действовать решительно. У вас что ни день диверсии, а вы ничего не делаете.
— Не совсем так, герр майор. Операция в Вербичах проведена образцово. Что было в наших силах...
— Это не ваша заслуга, дорогой. Вербичи уничтожены карательным отрядом СД.
— Жандармерия и полиция принимали посильное участие, герр майор...
Этот бессмысленный разговор начинал злить Гуго Гливица. Капитан — видно по всему — типичный полицейский служака, привыкший подшивать бумажку к бумажке, чтоб оправдать каждый шаг. У него под носом могут расхаживать партизаны, он и пальцем не шевельнет. Удивительно, как при таком начальнике жандармерии было до сих пор тихо в районе? Повернувшись к бургомистру, стараясь говорить спокойно, майор спросил:
— Когда отправка рабочей силы в Германию?
Высокий носатый фольксдойч отвечал сдержанно, сохраняя собственное достоинство:
275
— Назначена на воскресенье.
— Сколько отправляете?
— Шестьсот человек. Это первая партия.
— Возраст, пол?
— Молодежь. Преимущественно до двадцати лет. Женского пола — четыреста двадцать. Остальные — мужчины.
— Возможны беспорядки?
— Думаю, все будет спокойно.
Майор испытующе глянул на бургомистра. В том, как фольксдойч держится, отвечает, есть что-то подчеркнуто смелое — качество, которое не часто встретишь среди местных оккупационных администраторов. Человек этот как бы хочет показать, что не зависит от жандармерии и даже от него, Гуго Гливица. Улыбнувшись, майор подумал: «Идеалист провинциального масштаба. Ему, видно, невдомек, что такое СД...» Вслух сказал:
— Нужно разместить моих людей. К работе приступим сейчас же.
— Освобождены четыре комнаты, герр майор,— торопливо заговорил жандарм.— На втором этаже. Светлые, солнечные. Мы не знали, сколько людей в вашей команде. Можно еще освободить...
Бургомистр пригласил к себе. Сделал это напыщенно, по-старомодному, как делали когда-то добрые немецкие бюргеры:
— Вас, господин майор, и господина лейтенанта рад буду видеть в своем доме. Имею честь передать приглашение и от жены.
Сразу повеселев, отбросив холодный, официальный, тон, Гуго Гливиц ответил:
— Благодарю за заботу, господа. Места, думаю, достаточно. Мы будем спать по очереди, так как работы хватит на день и на ночь. Ничего не попишешь—война. Лейтенанту Опусу отдельную комнату тут же, в жандармерии. Для пользы дела ему не стоит особенно отдаляться. Ваше приглашение с удовольствием принимаю.— Майор повернулся к бургомистру, козырнул.— А теперь, господа, я вас не задерживаю. Мы с господином капитаном посоветуемся...
Бургомистр и начальник полиции, который, видно, по- немецки не понимал и все время стоял, выпучив глаза, будто каменный скифский идол, вышли. Вслед за ними
276
удалился и лейтенант Опус. Разместить команду — его •обязанность.
Швальбе положил перед Гуго Гливицем папку с бумагами, сам присел на краешек стула, не сводя с майора подслеповатых слезливых глаз.
Майор не ошибся, подумав о начальнике жандармерии с презрением. Задрипанный полицейский служака, так и есть. В каждой строчке отчета осторожные, скользкие выражения, перестраховка, бесконечные ссылки на трудности службы — бездорожье, незнание местных условий, недостаток оружия, надежных людей. Обычный лепет растерянного чиновника, который там, в фатерлян- де, следил за девицами легкого поведения, за черным рынком, вершиной деятельности которого было раскрытие какой-нибудь подпольной мыловарни, сбывавшей свою продукцию по завышенной цене.
Пробежав глазами несколько первых страничек, майор нахмурился. Еще в марте шеф жандармерии арестовал пятерых партизан, которые перед приходом немецких войск были в лесу, в истребительном отряде, и сложили оружие только тогда, когда убедились, что сопротивление бесполезно. Одного выпустили, остальные все время сидят под замком, едят немецкий хлеб.
— Почему не расстреляны? — подняв глаза от папки с бумагами, спросил Гуго Гливиц.
— Явных доказательств нет, герр майор. Сдались добровольно. Помогли разложить партизанский отряд.
— Вы уверены, что, перейдя к вам, они сдали все оружие? Откуда же тогда новые партизаны? Из чего стреляют? Может быть, бросают в нас камешками?
— Здесь есть еще обстоятельство, герр майор,— тихо заговорил жандарм.— Эти люди могли к нам не прийти. Пришли потому, что поверили господину Крамеру, бургомистру. Он гарантировал им жизнь. Я не могу не считаться с ним, герр майор. Человек местный, авторитетный. Сделал, я в этом убежден, очень много для нас. На протяжении осени, зимы и весны у нас почти не было беспорядков.
— Вы преувеличиваете, капитан. Это заслуга немецкой армии, которая, разгромив большевистские орды, принесла покой и порядок.
Жандарм испуганно глянул на начальника зондер-ко-
277
манды, и от того не скрылся этот трепетный взгляд старых слезливых глаз. Гуго Гливиц улыбнулся, поняв, что хватил через край. Старик боится.
— Можете говорить все, что думаете, капитан,-—проговорил как можно мягче.— Недомолвки только вредят. Мы служим в политической полиции.
— Извините, герр майор. Возможно, я скажу глупость. До войны в политической полиции никогда не служил. Знаю криминальную работу. Здесь пришлось столкнуться с новой, признаюсь, совсем незнакомой обстановкой. Бургомистр Крамер, повторяю, помог нам во многом. Поверьге, я нисколько не преувеличиваю. Можете себе представить наши трудности. Охранный батальон здесь только с весны. Правда, зимой нам подбросили полицейскую роту из резервов патрульной службы. Сил явно недостаточно. И все же у нас на протяжении девяти месяцев было спокойно.
— Что за человек этот бургомистр? — с любопытством спросил Гуго Гливиц.— Мне тоже показалось, что в нем что-то есть.
— По происхождению немец. Откуда-то из Прибалтики. Но по воспитанию, по своим взглядам на жизнь — типичный русский. У большевиков пользовался авторитетом и, кажется, немалым, хороший, отменный специалист. Служил на лесоразработках. И заметьте — очень интересная ситуация возникла, когда сюда пришли мы. Господин Крамер очутился как бы между двух огней. В нем проснулись патриотические чувства немца, но, с другой стороны, он не хотел, да и, пожалуй, не мог — в это можно поверить — портить отношения с местным населением. И мне кажется, что это как раз пошло нам на пользу.
— Интересно, продолжайте,— майор отодвинул от себя папку, удобней уселся в кресло.
— Сыграло свою роль то, что господин Крамер перед нами, немцами, всегда выступает как ходатай против репрессий. Население это знает, доверяет ему, считает своим. Должен заметить, герр майор, что в этом районе— не знаю, как в других,—оказалось мало антисоветских элементов, таких людей, у которых были бы свои счеты с большевиками. На кого опереться? И вот тут на помощь пришел господин Крамер. Ну, а потом мы хорошо использовали момент растерянности, который, как вы
278
правильно заметили, проистекает от блестящих побед немецкого оружия...
— Если я вас правильно понял, капитан, вы со своим бургомистром идете на компромиссы. Так?
— До определенного предела, герр майор. Я заявил ему твердо и решительно, что всякое преступление против немецкой власти должно быть наказано. Здесь середины не может быть. Он согласился.
— Так почему же вы играете в прятки с этими партизанами?
— Формально бургомистр прав. В свое время немецкое командование обещало сохранить жизнь всем, кто добровольно сложит оружие. Господин Крамер и сегодня держит в ящике стола этот документ, который год назад расклеивался на всех столбах. Когда эти пятеро были в лесу, дал честное слово, что мы их не тронем. Поэтому они сдались.
— Вы олух, капитан! — вскипел Гуго Гливиц.— Какой-то фольксдойч водит за нос шефа жандармерии. Это же неслыханно! Поставьте его на место! Вокруг нас рыскают большевистские банды, под носом диверсии. Вы уверены, что ваши арестованные не побегут завтра в лес? Можете с вашим бургомистром дать такую гарантию? Тогда, пожалуйста, отпускайте домой их. Попросите еще ’прощения, что задержали...
— Все не так просто, герр майор,— отводя взгляд в сторону, пробормотал Швальбе.— Господина Крамера поддерживает гебитскомиссар, сельскохозяйственная организация. У них свои функции: район должен сдать две тысячи тонн хлеба, сотни тонн мяса и масла, отправить в Германию две тысячи молодых рабочих. Гебитскомиссар считает,что господин Крамер блестяще справляется со своими обязанностями. Приходится считаться с его авторитетом.:.
Гуго Гливиц, с первого слова поняв намек, глянул на жандарма с большим уважением,— старику пальца в рот не клади. Трусливый, скользкий, но не дурак.
— Авторитет СД вам известен,— сказал майор вслух.— Переступать закон не позволено никому. Приказ сжечь Вербичи отдал сам гебитскомиссар. Пусть вам это будет известно. Говорите...
Жандарм поднялся, сутулясь подошел к железному
279
сейфу, стоявшему за шкафом, вытащил несколько бумажек. Заговорил нервно, не глядя в глаза майору:
— Поймите меня правильно, я не подкапываюсь под авторитет господина бургомистра. Я чем мог ему помогал. Считаю его преданным и весьма нам полезным. Но дальше так нельзя.
— Компромиссы,— усмехнулся майор.
— Да, компромиссы. Господину бургомистру кажется, что он создал здесь идеальное царство. Но начальник полиции — вы его видели — думает иначе. Господин начальник полиции советует не верить никому из тех, кого господин бургомистр считает чуть ли не святыми. Не зная обстановки, людей, трудно разобраться сразу. Но в последнее время я больше склонен разделять точку зрения господина начальника полиции...
— Кто он?
— В прошлом, кажется, конторский служащий. К нам привели соображения карьеры. Привязан крепко: в полицию поступил добровольно, принимает личное участие в расстрелах. Меня пока удовлетворяет: внешность импозантная, достаточно образован.
— Грязный тип.
— Да, герр майор. Лучше было бы иметь дело с человеком, пришедшим к нам по идейным мотивам. Но, к сожалению, среди начальников местной полиции такого нет ни одного. Да и господин бургомистр не может похвалиться своими чиновниками. Как правило, наиболее преданные нам люди или карьеристы, или уголовники. Таких я определяю безошибочно.
— В свое время мы их всех расстреляем,—безразлично сказал майор.— Для поддержания высокого престижа немецкой власти.
— Конечно, господин майор.
Гуго Гливиц встал, прошелся из угла в угол.
В просторном кабинете начальника жандармерии сохранились приметы школьного класса. На крашеном полу кое-где чернильные пятна, на одной из белых плиток кафельной печки выгравированы, видно гвоздем, столбики алгебраических формул. Два больших желез-, ных гвоздя в стене — на них висела доска.
Откинув плотную желтую штору, майор глянул э ок- но. С высоты второго этажа поселок выгляддт более кра-1 сивым, чем показался тогда, когда Гливиц разглядывал!
280
его из машины. В разбросанных крест-накрест улицах угадывается определенный порядок, зелень садов как бы скрадывает неразбериху серого деревянного хаоса.
— Так что же вынюхал этот ваш начальник полиции?— резко повернувшись от окна, спросил Гуго Гливиц.
— Вот, господин майор,— жандарм протянул напечатанный на обратной стороне квадратика обойной бумаги аусвайс, без фотокарточки, с чернильными отпечатками больших пальцев.— Его нашли в кармане убитого, которого можно считать партизаном. Встретили в лесу, приказали остановиться, но он бросился бежать. Подпись господина Крамера не подделана, настоящая. Человек, у которого нашли это, не опознан.
— Думаете, бургомистр?..
— Нет, господин комиссар, здесь бургомистр только жертва своей чрезмерной доверчивости. Таких аусвайсов в районе сотни, господин Крамер не может знать лично всех, кому они выдаются. Я подозреваю женщину из паспортного стола. Установлено наблюдение.
— Кто эта женщина?
— Вот здесь, господин майор, все данные,— жандарм протянул майору новую бумажку.— В одной из деревень найдена листовка, напечатаная на машинке из лесничества. Эта женщина связана с ремесленником по фамилии Шелег. Ремесленник в прошлом активный коммунист.
— Вы считаете, что существует подпольная большевистская организация? — глядя в глаза жандарму, глухо спросил Гуго Гливиц.
— Нет, господин майор, здесь такой организации пока нет,— жандарм выдержал взгляд.— В этом я убежден абсолютно. Но преступные элементы могут организоваться. Нужно их опередить. Партизаны или диверсанты, разгромив гарнизон в Буйках, протянули свои щупальца и в местечко. Эти трое—их явные агенты.
— О советском десанте, кроме тех, пойманных, есть известия? — спросил Гуго Гливиц, вставая.
— Никаких, господин майор. Но диверсия на железной дороге — их дело. Я убежден.
— Списки ненадежных подготовлены?
— Да, господин майор,— жандарм протянул три листа бумаги.— Тут восемьдесят человек со всего района. Доказательств, правда, мало.
281
— Это не имеет значения, капитан. Хайль Гитлер!..
Старик вытянулся в струнку, щелкнул каблуками. Гуго Гливиц глянул на жандарма со смешанным чувством любопытства и презрения: «Хитрая полицейская лиса».
з
Юрий Босняк чувствует себя неспокойно. То, что за ним начали следить, теперь не вызывает сомнения. Высокая, немного сгорбленная фигура появляется в переулке с вечера, чуть только начинает темнеть. Маячит перед домом, то и дело останавливаясь, час или два и исчезает. Шпик неопытный, это Юрий увидел сразу. Вместо того чтоб притаиться в подворотне или за чьим-нибудь забором в огороде, сыщик будто нарочно остается на виду. Он, должно быть, побаивается, так как все время держит правую руку в кармане.
Наблюдая со двора за неловкими приемами полицейского шпика, Юрий старается отогнать тревожные мысли, успокаивая себя тем, что дело не такое опасное, раз к нему подсылают такого неуклюжего олуха. Но тревога не покидает Юрия. Он возвращается в хату, ласкает притихшую Франю, которая чисто женским чутьем угадывает, что с ним творится недоброе, на ее вопросы отвечает деланно бодрым голосом и, лежа в постели, дождавшись, пока Франя заснет, до самого рассвета ворочается с боку на бок, думает.
Юрий знает, кому обязан тем, что за ним следят. Этого дурака Плищинского, начальника полиции, узнал еще в декабре, в первые недели своего пребывания в местечке. Сделал, кажется, все необходимое, чтобы не попасть на глаза: на прописку в полицию пошел, узнав, что самого Плищинского там нет; набившись к Фране в квартиранты, не высовывал из хаты носа по целым неделям, выходя из дома только в случаях исключительной необходимости, да и то по вечерам, когда человека в лицо не узнаешь. Впрочем, он, Юрий, от жизни хочет немного — пересидеть плохое время, в городе теперь не проживешь: там разор, голодуха, вряд ли кто найдется из прежней бражки — позабивались, как и он, в норы. Но от судьбы не убежишь. В том весеннем аресте сам он виноват меньше всего. Просто немцы не очень доверяют примакам —
282
асем этим оккупационным женихам, прописка которым нужна только до лучших времен.
Там, в полицейской каталажке, произошло то, чего Юрий боялся. Пришлось столкнуться с Плищинским. На высоком плечистом начальнике полиции кожаное, чуть не до пят пальто. Лицо самодовольное, красное, движения уверенные, начальнические.
— Где я тебя видел? — проговорил Плищинский, как только Юрия привели в длинную мрачную комнату с решетками на окнах. Полицай сидел на обитом цветной тканью диване, положив ногу на ногу, посматривал благосклонно, доброжелательно. Помощники Плищинского, находившиеся в комнате, также с интересом смотрели на Юрия.
— Ваше лицо мне тоже как будто знакомо,—дипломатично ответил Юрий, стараясь выиграть время.
— Экспедитор Силицкого пивзавода?
— Нет.
Взглянув на Плищинского, лицо которого помрачнело, Юрий понял — сделана ошибка. Начальник полиции сразу узнал его и предложил игру, которую Юрий не принял. По каким-то соображениям Плищинский, видимо, не хотел, чтобы Юрий в присутствии свидетелей назвал место и обстоятельство их знакомства. Нужно было исправлять ошибку.
— На Силицком пивзаводе я работал не экспедитором, а заготовителем.
Полицаи захохотали:
— Пивовар все равно...
Плищинский снова смотрел дружелюбно.
— Как попал в примаки? Окруженец?
— Да.
— Почему не пошел в Силичи?
— Родни там нет. Один.
Появилось противное чувство, что, соврав, как бы вступил в сговор с Плищинским, попал к нему в зависимость. Но и полицай был ему обязан. Это могло кончиться и хорошо и плохо. Юрий надеялся на хорошее: в жизни ему везло.
— Ты человек не местный, поэтому тебя арестовали,—начал Плищинский, посматривая в окно.— Есть немецкий приказ: пленных вернуть обратно в лагеря. Чем ты докажешь, что не был в плену? На окруженцев
283
смотрят так же. Но я могу поручиться за тебя. Только нужно идти на службу.
— Куда?
— Ну хотя бы в полицию. Твоя мадам будет довольна: хороший паек, одежда. Служба нетрудная. Можно оформить с завтрашнего дня.
Юрий молчал. В нем закипала злость. Этот мазурик, который перед войной попал в лагерь за мелкую кражу, хочет выставить себя его спасителем. Он считает его равным себе, даже больше того, хочет сделать своим холуем.
Зачем же тогда весь маскарад? Что он купил, согласившись стать в глазах двух олухов-полицаев пивоваром и вдобавок окруженцем?..
Расчет Плищинского прост: если он, Юрий, станет его подчиненным, то будет держать язык за зубами. Но меньше всего он собирается в полицию. Нужно быть идиотом, чтобы за два пуда хлеба и литр спирта в месяц подставлять лоб под партизанские пули.
— Больной я,— наконец ответил Юрий.— Радикулит, острый ревматизм.
Плищинский снова нахмурился, заплывшие серые глаза с нависшими над ними веками смотрели колко, зло.
— Хвостом вертишь? Мало, видно, тебя учили. Немцы на рентген не пошлют: будь спок! В лагерь попадешь и с ревматизмом. Скорей дойдешь там, вот и все.
— Нужно еще доказать, что я пленный,— с нотками угрозы в голосе проговорил Юрий.— Может быть, я совсем не был в армии.
Полицаи переглянулись. Лицо Плищинского налилось кровью, задрожала верхняя, большая губа. Заревел как бешеный:
— В камеру! Если так, то я тебя знать не знаю. Беспаспортный бродяга, бандит! Сгниешь, как собака!..
Двое полицаев вскочили, и не успел он что-нибудь подумать, как удар кулаком в челюсть свалил с ног. Его били, не разбирая куда — в живот, под ложечку, топтали сапогами. Кричал, просил пощады — не слушали. Наконец что-то горячее обожгло голову, в глазах полыхнуло красное пламя, и он перестал чувствовать боль.. Очнулся в камере. Черный волосатый дед с длинной, как помело, бородой, оторвав лоскут от нижней посконной рубахи, клал ему на голову примочки, каждый час при¬
284
носил пить: вода была теплая, отдавала хлоркой. Сделанная из консервной банки кружка в руках старика дрожала, и приятные струйки текли за шею. Только дней через пять встал на ноги. В груди болело, кружилась голова.
— Они тебе хотели печенки отбить,— объяснил старик.— Так и делают, если что не по-ихнему. Отобьют нутро, тогда выпускают. Человек с виду будто живой, а нутро мертвое. Долго по земле не походит.
Юрий не хотел умирать. Теперь он был согласен на все, только бы жить. В мыслях уже упрекал себя за безрассудство. Он вообще не слишком высоко ставил людей, подозревал каждого, с кем сталкивала его судьба, в тайных грехах, грязных наклонностях, но такое неприкрытое зверство видел впервые. Здесь, в немецких лапах, человек значил не больше, чем муха. Не было даже шаткой видимости закона. Сотрут в порошок, сделают трупом, и никто о тебе не вспомнит. Юрию стало жалко самого себя. О Фране не думал. Два или три раза приносила передачи, он принимал аккуратные, завязанные в платочек сверточки, жадно набрасывался на яйца, ветчину, раздавая то, что не успевал съесть в один присест сам. Делиться привык. По существу, он никогда не ценил те блага жизни, за которые так цепляются многие: деньги, имущество, постоянное жительство, авторитет. Жил вольной пташкой, не думая о завтрашнем дне, и жизнь вывозила.
Юрий уже понял, что вел себя с Плищинским легкомысленно. То, что начальник полиции, видимо, скрывал свое пребывание в лагере за кражу, не могло ему особенно повредить, если бы узнали об этом немцы. Вряд ли они заполняют анкеты на тех, кто с искренней охотой идет к ним на службу. Дадут оружие, власть —дроби ребра, бей, стреляй,— вот и проверка преданности.
Есть другая причина, почему Плищинский хочет показать себя в наилучшем свете. Причины Юрий не понял. Он ждал, что Плищинский вызовет его еще раз — об этом свидетельствовало поведение полицаев, обслуживавших камеру,— к нему, Юрию, они относились лучше, чем к другим арестованным: не рычали, не толкали, выводя на работу.
Старика выпустили: его арестовали за скрытый самогон. Камера наполнилась такими, как и Юрий, примака¬
285
ми, крестьянами, которым приписывали саботаж или связь с подозрительными элементами. На душе стало легче, страх постепенно развеивался. Юрий снова с презрением стал думать о Плищинском.
Разгадка была простая. Плищинский боялся не немцев, а таких же, как и он сам, полицаев, занимавших должности поменьше. Среди них несколько кулаков, репрессированных. Узнав, что их начальник потерпел только за то, что запустил руку в казенное добро, вряд ли равнодушно отнеслись бы они к этому. Во всяком случае, Плищинский, видно, имел основание побаиваться, что кто-нибудь из его подчиненных может предъявить права на его должность. К такому убеждению Юрий пришел после второго допроса.
Плищинский на этот раз был один. Конвойный полицай втолкнул Юрия в кабинет начальника и сам тотчас же исчез за дверью; Плищинский, как и в первый раз, сидел на диване. Он, видно, только что пришел, так как даже не снял еще кожаного пальто. Электрическая лампочка, висевшая под самым потолком, светила тускло, лицо трудно было разглядеть.
— Ну как, одумался? — пропитым голосом спросил Плищинский.
— Что думать — били напрасно.
— Наклали здорово. Но можно добавить еще.
— Слушай, начальник,— отважился Юрий.— Был бы я на твоем месте, ей-богу, не так встречал бы знакомых. Что тебе беспокоиться — отпусти меня. Я больной, не вру. Поправлюсь, накоплю жирку — сам приду.
— В лес сбежишь, сволочь.— Плищинский поднялся, вплотную подступил к Юрию и, глядя куда-то в стену, наотмашь ударил его кулаком по лицу.
Юрий покачнулся, из носа потекла кровь. Понял: Плищинский пьян, просить его о чем-нибудь нет смысла. Но полицай не отпускал. Повалившись на диван, тер ладонями виски, бормотал что-то невразумительное. Так продолжалось несколько минут.
— У меня нет знакомых, понял? — заговорил наконец Плищинский.— Ни кума, ни свата. Не верю никому. Сволочи все. И тебе не верю. Или пойдешь ко мне, или сгниешь в лагере. Двое раскололись уже. Отбрыкивались, как и ты, а теперь служат. А ты чего брыкаешься? Ты жулик. Я знаю. Прилепился к бабе...
286
— Я не жулик,— не выдержал Юрий.— Работал на складе. Заведующего посадили, ну и меня вместе с ним. В армии совсем не был, ты знаешь.
— Немцы и таких в лагерь загоняют. Раз не хочешь идти ко мне, побежишь к бандитам. Я тебя насквозь вижу.
— Слушай, начальник, а что если я попрошу пустить меня к начальнику жандармерии? Ты же говорить со мной не хочешь. Попробую ему объяснить: от полиции не отказываюсь. Прошу только месяц или два для поправки здоровья. К партизанам не побегу. У меня есть причины не любить большевиков. Известно полиции это или нет? Мой отец паровую мельницу имел, был первым человеком во всем селе. Чуть на Соловки не загнали. Сбежал, в чем стоял. Это можно проверить: я родился не так далеко отсюда — в Березняках...
— Так ты, значит, из кулаков,--совсем спокойно отметил Плищинский. Помолчав с минуту, добавил:—Думаешь, начальник жандармерии даст тебе повыше должность? Пришлет ко мне, не волнуйся.
Плищинский стукнул кулаком по столу и, когда в комнату вскочил полицай, приказал ему отвести Юрия в камеру. На прощанье прошипел:
— Насчет тебя — проверим. Если правда, что ты тут говорил, отпустим. Лечись, если такой больной. Но язык за зубами держи. Заруби на носу.
С этой минуты Юрий почувствовал, что его жизнь в относительной безопасности. Доля страха еще таилась в душе, но все сильнее становилось чувство удачи. Хитрость вывезла, скрытая за просьбой угроза попала в цель. Он теперь знал, чем вызвано поведение Плищинского. Не очень умный карьерист, которому очень нравится его должность. Жрет, пьет, волочится за бабами. Дрожит за место, так как чувствует, что особых заслуг перед немцами не имеет. Хочет выслужиться. Но рядом, видно, тоже зверьки с острыми зубами, которые тоже выслуживаются. В данной ситуации он, Юрий, поступил правильно. Главное — найти щель, куда можно воткнуть нос. Такую щель он нашел. Плищинский боится конкуренции, поэтому не любит кулаков и всех тех, у кого есть особые претензии к советской власти. Причина ясная — могут опередить по служебной лестнице.
Чувство внутреннего превосходства над Плищинским
287
не покидало Юрия весь тот месяц, который пришлось отсидеть, и после разговора с пьяным полицаем. Радовался, что все же удалось остаться в стороне. Нет, что бы там. ни было, в полицию он не пойдет. Это не для него. Плищинский дурак, таскает для немцев каштаны из огня. Придет день, и они сами дадут ему коленом под зад, если не укокошат к тому времени партизаны. Немцы власти делить не любят. Эти живодеры приперли сюда недаром. О будущем Юрий не загадывает. Как-то все уладится, не может быть, чтобы не смог приспособиться.
Ни в жандармерию, ни к Плищинскому его не вызывали. Больше не нажимали, чтоб поступал в полицию. Он и не верил, что кто-нибудь занимается выяснением его биографии, начальнику полиции не до этого. То, что его не выпускали из каталажки, объяснялось просто: Плищинский показывал силу своей власти.
Лично к Плищинскому Юрий не чувствует ни ненависти, ни большой злобы. Конечно, стоило бы проучить негодяя, который чуть не отправил его к праотцам, но в данном случае думать об этом рано. Не Плищинский у него в руках, а он у Плищинского. В голове Юрия возникали различные планы мести, но, чувствуя их шаткость, он отбрасывал* их сразу. На этой почве и сблизился с Сергеем — симпатичным молокососом, который верит, что жизнь имеет смысл. Для Юрия знакомство не стоило больших усилий: в камере знали, что его полицаи избивали дважды, и после того, как он утешил младшего соседа по нарам, которому всыпали шомполов, тот охотно пошел на дружбу.
Юрий завидует Сергею. Паренек из тех самых энтузиастов, которые росли около маменькиной юбки, читали книжечки, веря каждому слову, которое в них написано. Будто люди, пишущие книжки, сами святые и не живут на грешной земле. Если бы попал кто-нибудь из них сюда, в эту каталажку, попробовал полицейских сластей, тогда Юрий посмотрел еще, какого бы они Лазаря запели.
Юрий чувствует — у Сергея с первого дня, как научился ходить, была правильная, ровная дорожка: ему, родившемуся позже Юрия лет на восемь, выпал более счастливый лотерейный билет. Юрий всласть не попробовал ничего из того, что просто даром попало в рот этому скворцу.
288
Когда Юрий перед Плищинским выхвалялся своим . отцом, убежавшим от Соловков, то это была правда, и она придавала ему смелости в полицейской камере. А вообще детство, отца он не любит вспоминать. Ничего приятного воспоминания не несут. Предок его, судя по всему, был человеком с умом, с хваткой, но все равно эпохи не раскусил. В большом приречном селе Березняки, верстах в восьмидесяти отсюда, должно быть, и теперь помнят отца: в годы нэпа развернулся как следует, держал, хоть и на паях, не только паровую мельницу, но и крупорушку, шерстобитку, баржами сплавлял на Украину дубовую клепку, ореховые обручи. Типичный нэпман сельского масштаба.
Трудно сказать, что отец любил больше: деньги, которых у него вначале было порядочно, или гонор — запряженную парой рессорную таратайку, в которой носился из деревни в деревню, оглушая встречных колокольчиками под синей дугой, ослепляя конской сбруей с блестящими побрякушками.
Впрочем, Юрий мало помнит детство: хата вечно гудела пьяными голосами, отец отмечал не только все известные праздники, но, кажется, выдумывал свои, откуда-то приезжали клиенты, которые^ пили, ели, иной раз пели, а чаще ругались.
Мать он совсем не помнит — умерла, когда ему не было трех лет. Молодая вертлявая мачеха, приведенная в хату уже довольно пожилым отцом, никогда его не била, не бранила, но он все равно не любил ее. От мачехи детей у отца не было, он — единственный сын — делал, что хотел, играл, с кем хотел. Около пристани останавливались пароходы, там сновало много народу, и Юрий большей частью пропадал там. Однажды, весной, пробрался на баржу и доехал чуть не до самого Киева. Присмотра за ним не было, и потому учился не очень хорошо, хотя наука давалась ему легко.
Юрию было лет четырнадцать, когда насели на отца. Его должны были не то раскулачивать, не то выслать, но старик не стал ждать, напаковал чемодан и, на ночь глядя, двинулся на станцию. Около года от него не было известий, потом пришло письмо без обратного адреса. Расплывшимися синими буквами отец сообщал новости не очень радостные—работает дворником в Москве, квартиры пока не имеет, живет в подвале. Мачеха после
289
этого письма стала одеваться с большим вниманием, часами просиживала перед зеркальцем, а вечером с прибытием парохода в их окно стучали незнакомые мужчины. Обычно приходили по одному, приносили выпивку, закуску, оставались ночевать.
Юрий покинул отцовский дом и последний, седьмой класс школы кончал, живя у дяди, родного брата отца. Это был человек совсем иного склада, хотя внешне и похож был на отца: стоял за прилавком самой большой в селе лавки, зарабатывал хорошо, но не позволял себе ни рюмки, ни даже ржавой селедки, давясь картошкой и затиркой.
Дядя после школы устроил его в совхоз, который тогда только-только начал организовываться. Месяца три Юрий походил с лопатой — на болоте копали осушительные канавы,— а осенью его, как человека грамотного, взяли в контору.
Две причины заставили уйти из совхоза. Первая — нудная дядькина мораль. Дядька открыто насмехался над отцом, который, по его словам, совсем не умел жить, поэтому не смог вывести на настоящую дорогу единственного сына. Забирая заработок Юрия до последней копейки, дядька ни разу не расщедрился на новую рубашку или на ботинки, но все же считал, что в своих отношениях с Юрием проявляет высшую добродетель.
Дядькин хлеб был горек. Но не это самое главное* Запутались отношения с мачехой. Получилось неожиданно, нелепо, и Юрий не любит об этом вспоминать. В памяти зеленые, как у кошки, глаза мачехи, которые, казалось, светились и ночью, ошалелые объятья, бесстыдные слова. Он ненароком зашел в хату отца, хотел услышать что-нибудь о старике, а вышел черт знает кем...
Нет, он не обокрал кассы, то, что совершил, можно считать не более чем мальчишеством. Весной получил первую в своей жизни подотчетную сумму — четыреста рублей, на эти деньги должен был купить в городе канцелярские принадлежности. С такой суммой сбежал. Купил билет до Одессы, килограмм конской колбасы, новые ботинки. Почему именно Одессу выбрал — на это и сегодня не ответил бы. Может быть, потому, что с малых лет отирался около реки, на пристани, любил людскую суету, раскатистые гудки пароходов.
Легкомыслие вышло боком. Там, в знаменитой Одес-
10 И. Науменко.
290
се-маме, хлебнул такого горя, что иному хватило бы на всю жизнь. Случалось — не ел по нескольку дней, нанимался на самую грязную работу, водил знакомство с барышниками, крал, сбывал краденое и, конечно, был на учете в милиции. Так тянулось больше года. Его счастье, что за плечами была, хоть и с горем пополам законченная, семилетка, да еще то, что ни разу не влип в мокрое дело, за которое закатили бы куда-нибудь...
Он таки вовремя одумался, понял, что без профессии в советское время не проживешь. На работу послала милиция. Кем только не был — каменщиком, учетчиком в рыболовецком колхозе, даже два или три месяца служил статистом в театре. Оттуда началась карьера. Артистом не стал, зато изучил электроосветительное дело, потерся среди настоящих людей. Последней профессии не менял; ежегодно, а то и чаще приходилось менять города. Он имел отличную специальность, которая полностью отвечала времени: каждое, даже самое захолустное селение гналось за электричеством, его — монтера, электротехника, называй как хочешь,—принимали на работу, не очень заглядывая в паспорт или трудовую книжку. Менять места жительства вынуждали жизненные обстоятельства, даже самый маленький поселок имел девчат, женщин, сердца которых для него всегда были открыты настежь. Чары обычно проходили быстро, вслед за ними наступала скучная обыденность. Связать же себя по рукам и ногам где-нибудь в коммунальной квартире, назвать женой Валю или Клаву — пусть это будут сами богини красоты и добродетели — он не желал.
Месяцев за шесть до начала зойны произошла глупая история: устроившись на склад электрооборудования в большом городе, он зажил крепко — электротовары всегда дефицитны, круг знакомых, с которыми он вел дела, казался надежным. Он даже подумывал, не бросить ли в городе якорь. Подвел непосредственный начальник, заведующий складом, который принял его на работу. У начальника своя коммерция, но прятать концы не научился. Накрыли начальника, перещупали подчиненных. Юрий получил пустяк, если мерить начальнической меркой: тому закатили на всю катушку, дали полную десятку, а ему, Юрию, только один год. Войну встретил в лагере, неподалеку от города, тде вначале так
291
хорошо пошла жизнь. Там встретил этого дурака Плищинского, с которым и знаком еле-еле...
Юрий не спит, чутко прислушиваясь к каждому звуку и шороху во дворе. Нервы начали сдавать. Заскрипит ставня, а ему кажется, что на крыльце шаги, что за ним пришли. И что Плищинскому от него нужно? Его, Юрия, вины перед ним нет: эти два месяца, которые живет дома, выйдя из каталажки, рта не раскрыл, слова никому не сказал о начальнике полиции. Уговор есть уговор. Но тому дураку, видно, не дает покоя одно то, что Юрий живет, дышит.
Все эти бессонные ночи Юрия охватывает острая жалость к себе. Что он хорошего в жизни видел? Таскался по свету, как бездомная собака. За все десять лет, после того как сбежал из села, нос туда боялся сунуть. А разве так уж велика его вина?.. Опять же с этой мачехой... Через десятые руки на второй или третий год скитаний до него дошли слухи, что отец приезжал в село, забрал мачеху к себе в Москву. Он и отца не стал искать. Как мог показаться ему на глаза? А кто виной? Никчемная потаскуха, которая сама повисла на шее, завлекла и, не моргнув глазом, полезла в постель к старику, как только снова ее поманил. Грязь, гадость...
Рядом, в постели, раскинув руки, беззаботно похрапывает Франя, и — разомлевшая, полуголая — она ненавистна Юрию. Тоже считает себя святой. Виноват один он — соблазнил чистенькую, неприступную. Иной раз плачет, вспоминает мужа... А забыла, как сама подлаживалась: «Вашим ногам, Юрий, холодно, возьмите шерстяные носки...» Дрянь, чем она лучше тех, которых он перевидел? Все люди дрянь, а жизнь — бессмысленный кавардак. Каждый готов загрызть другого ради спасения собственной шкуры. В этой жизни так: или ты поедешь на ком-нибудь, или он тебя оседлает. Середины нет. Живут только сильные и хитрые. Плищинский его перехитрил. Иной раз у Юрия мелькает мысль: пойти к нему, покориться, надеть на рукав повязку полицейского. Но и это пугает. Плищинский решил его уничтожить. Недаром подослал шпика. При первом же удобном случае подставит под пулю. А то и сам влепит в спину. Свидетели его позора ему не нужны.
Юрий лежит, думает — от мыслей трещит голова — и не находит выхода. Попался, как птица в силок. Толь¬
10*
292
ко под утро, когда начинает светать, забывается коротким нервным сном. Снится что-то страшное—* кричит, просыпается. Страшно болит голова.
4
День душный, дурманный, солнце как бы повито белой пеленой. Тени нет, и трудно определить, который час. Юрий сидит в высокой кукурузе, на огороде, тут же стоит топчан, на нем скомканная дерюжка, подушка. На топчане последнюю ночь спал, зябко кутаясь. На душе спокойней: если налетят из полиции, то бросятся сначала в хату, а он тем временем сможет спрятаться подальше. Так просто в руки не дастся.
Франя принесла завтрак, теперь придет только в обед. Жаль, что не попросил принести кувшин воды,— хочется пить. Франя озабоченная, скучная — чувствует, что с ним творится неладное, хотя и не знает настоящей причины. От нечего делать Юрий стругает складным ножом кусок дерева, вырезая на нем разные замысловатые узоры. Который теперь час?.. Над головой тихо качаются широкие листья кукурузы, если закроешь глаза — кажется, лежишь на дне реки. В кукурузе тяжелые, стойкие запахи, начинает болеть голова. Возиться с куском дерева надоело — отбрасывает прочь.
Ложится на топчан, посматривает в небо. В пространстве, которое светлеет над ним, то и дело проносятся ласточки, Поблизости азартно чирикают воробьи: должно быть, набросились на просо. Нестерпимо хочется пить. Сейчас бы встать, пойти в хату, выпить две кружки холодной, только что принесенной из колодца воды, но он сдерживается. Выдать себя не штука. Кто может поручиться, что на улице нет полицейского обалдуя, который столько уже вечеров следит за ним. Но жажду и страхом не прогонишь: Юрий слезает с топчана, бороздой на четвереньках ползет на край гряды. Подползает к забору, не вставая, смотрит через щель во двор: по нему разгуливают куры, звеня ведрами, идет соседка. Если бы не этот проклятый коммунальный двор, принадлежащий сразу трем хозяевам, можно было бы позвать Франю. А так — стисни зубы и не дыши. Кто даст гарантию, что за его квартирой не наблюдает хотя бы эта соседка? Чересчур разбегалась.
2*3
Ползет назад в укрытие. Рядом с кукурузой грядка помидоров — маленькие, еще зеленые. Рвет их, не жалея ботвы, набивает полные карманы. Начинает жевать и сразу выплевывает. Во рту горько. Выбрасывает остальные дальше в кукурузник.
Прилег на топчан и неожиданно для себя так крепко уснул, что не услыхал, как подошла Франя.
— Сергей в хате,— испуганно говорит она, тормоша его за плечо.
Он вскакивает: болит голова, будто и не спал.
— Гони! Валандаются всякие... Скажи, ушел...
— Говорит, что хочет сказать тебе важное. Тебя касается...
Заныло в груди, охватила холодная тоска. «Вот оно. Начинается...»
— Ты смотрела — на улице никого?
— Кажется, никого.
— Скажи, пусть пробирается ко мне. Только не двором. Огородами. Ему все равно. Покажи в окно, где сижу.
Те минуты, когда ждал Сергея, показались длинны- ми-длинными. Будто прошла вечность. В мыслях успел перебрать все самое страшное, что он мог сказать. Услыхав шорох в кукурузе, тихим, обессиленным голосом позвал к себе.
Сергей запыхавшийся, взволнованный: под глазами синяки, губы сжаты, на лице — выражение решимости. Присел на край топчана, сразу заговорил:
— Прячешься?.. Правильно делаешь. Мне повестка в Германию. Вилюге тоже. За тобой и мной следят. Я вчера вечером хотел зайти. Смотрю под воротами фигура. Тот самый шпик, что и возле моего дома. Я узнал его. Полицай, которого партизаны зимой насквозь прошили. Недобитая сволочь. Теперь тайным агентом. Недалеко от меня живет...
Возникла догадка — яркая, мгновенная, как вспышка электрической искры, пронзила неожиданной радостью. «Значит, молокосос навел, Плищинский здесь ни при чем. Тогда порядок, ничего страшного...» Радость рвалась из груди, стало легче дышать, но, понимая положение своего собеседника, старался не выдать себя. Спросил озабоченно:
— Так что делать? Выходит, засекли?
2*4
Сергей удивленно вскинул брови. Нотки растерянности, прозвучавшие в голосе Юрия, не прошли мимо его внимания. Заговорил зло, не скрывая удивления:
— Ты будто только сегодня на свет родился. В лес нужно идти. Хватит сидеть. СД приехало. Даже тех, что на немцев работают, арестовывают. Тебе тем более не миновать. Старший лейтенант, от полиции отказался. Если схватят теперь — не выпустят...
— Ас чем ты пойдешь? С кукишем в кармане?
Сергей больше не мог терпеть. Не успел Юрий глазом
моргнуть, как из-под полы серого пиджака, из-за пояса штанов Сергей выхватил новенький наган. Блеснула вороненая сталь, щелкнул курок самовзвода.
— А это не оружие? Семь полицаев кокнем, вот тебе семь винтовок.
Но Сергей и на этот раз заметил, что радости ria лице Юрия не было. Наоборот, лицо его побледнело, испуганно задрожали веки. С минуту молчал, потом хрипло заговорил:
— Что партизаны? Что они одни могут сделать? Прижмут немцы — сок потечет. Фронт теперь — самое главное. А где фронт? Драпают большевички. Так драпают, что свет не видел.
— Так ты что, в кусты? — У Сергея похолодело в груди от недоброго предчувствия.— Может, тебе действительно лучше в полицию поступить? Туда как раз такие и идут... С такими настроениями. Зачем было огород городить? Мне хлопцы говорили, предупреждали. Не верил. Думал — человек ты...
Сергей сразу осекся, поняв, что сказал лишнее. Стоял побледневший, дрожали руки, колени, нехорошо поблескивали глаза.
Юрий, сидя на топчане, не поднимал головы. Первая вспышка радости прошла, теперь его снова властно охватил страх. Медленно, но неуклонно сквозь сумятицу чувств пробивалась мысль: «Как рыба в мереже... Ни взад, ни вперед...» Чувствовал, что нужно что-то говорить, но страх связал язык. Боялся теперь не Плищинского, не немецкой жандармерии, даже не этого СД, которое приехало и хватает кого попало. Они о нем ничего не знают и ничего плохого не могут сделать. Опасность таится в этом комсомольце, с которым он так легкомысленно, нелепо связался. Зачем? Отомстить Плищинско-
295
му? Теперь это казалось мальчишеством, детской игрой. И за это нужно расплачиваться головой. Завтра или даже сегодня комсомольца схватят, схватят и его, Юрия. Петли или пули не минешь. Если комсомольцу удастся сбежать в лес, будет то же самое. Полиция выследила, что он заглядывал сюда, в его дом, и этого достаточно. Плищинский только обрадуется. Лучшие козыри ему и не снились...
Юрий поник, обвял, тело покрылось липким потом. Хотелось сделаться маленьким, незаметным, забиться в какую-нибудь щель, чтоб никто его не слышал, не видел.
— Так ты что собираешься делать? — громко спросил Сергей.
— Тише ты. Может, стоит тот самый...
— Просто не поймешь тебя,— заговорил Сергей снова, понизив голос.— Какой смысл здесь сидеть? Найдут — плата одна... От немцев же прячешься?..
«Он правду говорит,— шевельнулась мысль.— Если вытащат отсюда — концы... Чем докажешь, что не прятался...» Вслед за этой, холодной и неприятной мыслью родилась другая, которая несла надежду, указывала выход: «Забиться куда-нибудь поглубже. Чтобы сам дьявол ноги сломал. На какое лихо мне это местечко, Плищинский?.. Нужно туда, где никто не знает. И сейчас же».
Он приподнял голову, выпрямил плечи. Пришло чувство уверенности — оно приходило всегда, когда он на что-нибудь решался. Спросил почти бодро, с внутренним облегчением:
— Ты в лес когда?
— Нужно завтра.
— Если идти, то сегодня. Сейчас же. Слышал, что говорят о тех, кто откладывает? Давай прямо отсюда...
Сергей глянул на него удивленно. По лицу пробежала тень недоверия и сразу исчезла. Ему стало стыдно за резкие, злые слова, хотелось сказать Юрию что-нибудь теплое, благодарное.
— Ты прости... Я о тебе плохо подумал. Завтра пойдем. Мне нужно хлопцев предупредить. Вилюга с нами пойдет* Пережди ночь. Укрытие хорошее, не догадается никто. Я приду завтра.
296
Пригнувшись, разводя руками стебли кукурузы, Сергей подался в сторону огородов, но через минуту вернулся, заговорил горячо, доверчиво:
— Ты не верь, что немцы про фронт пишут. Брехня. Наши вернутся. Радио хлопцы слушали — советское. На каждом километре фашистов тысячами кладут. Под Ржевом наступают. Не сорок первый год, не думай.
Пришла Франя в повязанном по самые брови платочке, принесла обед. Виновато на нее взглянув, Юрий попросил пить. Франя сходила в хату, очень долго там копалась, вернулась с полным чайником. Присела около топчана, отвернувшись от Юрия. И он увидел, что у нее вздрагивают плечи — плачет.
— Перестань... Тут без тебя хоть вешайся.
Она встала, даже не взглянув на него, ушла.
«Чувствует,— промелькнула мысль.— Баба всегда
чувствует нутром...» Ему стало жаль ее. Шевельнулось теплое к ней чувство: «Любит... с механиком, видно, не сладко жила...»
Черным медведем снова навалилось одиночество. Несколько минут назад, когда рядом сидел Сергей, бегство из местечка казалось выходом. Теперь он не хотел об этом думать. Попробовал представить себе, как будет блуждать по лесу, ночевать под пнями, и не смог. Вставала холодная пустота, она ничего не обещала, не манила. В своих взглядах на жизнь Юрий не находил никакой опоры только что данному обещанию пойти в лес.
Он закрыл глаза, стиснул виски руками. Голова чуть не раскалывается от боли. В глазах мелькают разноцветные ленты — красные, желтые, зеленые. Мелькают, свиваются, как змеи. Затем сменяются пестрыми кругами. Чувствует, что летит в пропасть. Рука потянулась к чайнику, долго, не отрываясь, пил.
Стало нестерпимо жалко себя... Хотелось плакать, хотелось, чтобы рядом присел кто-то сильный, крепкий, гладил, как маленького, по голове, утешал. И вместе с тем понимал — ждать некого. Нет на свете ни одного человека, который бы ему теперь посочувствовал. Все чего-то от него требуют, скрыто или явно угрожают. За что? Что плохого он сделал? За какие грехи должен шататься по лесу? Молокосос запутался сам, теперь хочет ему набросить петлю на шею.
297
Шпика кто навел?
Мысль эта — о своей невиновности — понравилась Юрию, и он ухватился за нее, как хватается утопающий за все, что попадается под руку. В душе закипела злоба, лицо Сергея — открытое, доверчивое — показалось ненавистным, и Юрий разжигал в себе злость и ненависть, сам начиная верить, что все его мучения из-за этого хлопца. «Страдаю за других»,— всплыла мысль. Она была как открытие, и он обрадовался ей. Мгновенно в памяти предстали люди, так или иначе виновные перед ним, Юрием. Одно воспоминание влекло за собой другое. Он даже настроился на иронический лад, вспоминая всех, кто имел отношение к его судьбе. Отец любил пофорсить, но единственного сына не сберег. Два года не давал о себе знать. На кого сына оставил? Шкуру свою родитель спасал — простая геометрия... Мачеха — шлюха, ей бы хвостом потрепать... Не стоит вспоминать... Дядька — живоглот. Брешут про родную кровь. А чужие? Не хуже своих, если свои отвернулись... Рай и ад... Выдумки. Попы те же артисты... Все люди артисты. Играют роли... Кто хуже, кто лучше... Одесса — мама... Киев — отец городов русских...
Глупость все. Есть человек, и он хочет жить. Всюду одинаково... Всегда так было...
Память лихорадочно воскрешала лица, фигуры, жесты, возникали и исчезали обрывки мыслей, вспоминались все новые и новые полузабытые обиды, а сквозь весь этот хаос упорно пробивалось радостное сознание того, что он, Юрий, не виноват, что ему на каждом шагу подставляли ножку другие — обманывали, выдавали черное за белое. Он всегда страдал из-за других — менял города, бросал пожитки, убегая куда глаза глядят, наконец, сидел за решеткой.
Что людям от него нужно? Почему он не может жить, как хочет?
Он поднялся с топчана и, не пригибаясь, пошел во двор. Он уже знал, что сделает. Если этого комсомольца схватят, ему, Юрию, беды не миновать. Если убежит в лес, будет то же самое. Шпик недаром следит. Середины нет. Комсомолец сам выкопал себе могилу. Погибнет так или иначе. Нужно идти, рассказать. Конечно, с умом и не Плищинскому. Лучше иметь дело с хозяином, чем с его холуем.
298
Он взошел на крыльцо, оглянулся. В предвечерней дреме застыли огороды, сады, сосновый курган кладбища. На мгновение им овладело сомнение, но только на мгновение. Оно сменилось ненавистью — лютой, жгучей. Эта ненависть придавала силы, поднимала в собственных глазах. В ту минуту он ненавидел всех — Плищинского, немцев, Сергея, Франю, всех, с кем когда-нибудь приходилось ему сталкиваться.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 1
Митя проснулся, охваченный смутной тревогой. Адам, спавший вместе с ним в хлеве, тоже подхватился, разминает заскорузлые портянки, обувает лапти. Учится на сапожника, а ходит в лаптях. Шевельнулась жалость к младшему брату, которого последний год и не замечал.
— Возьми мои ботинки. Те, что в прошлом году купили. Мне они малы.
— Не нужно,— Адам независимо шмыгнул носом.— Я сам себе скоро сошью.
Мать в огородике собирает в подол огурцы. Захотелось и ей сказать что-нибудь ласковое, хорошее. Сколько поплакала из-за него! Похудела мать, постарела. Волосы наполовину седые, одевается кое-как — только о них, детях, и думает. Больно стиснуло грудь. Зачем обижал мать? Мог же хоть раз поговорить по-человечески, успокоить.
— Я, мама, сегодня раньше приду. Буду глину возить.
Ласково взглянула, вошла в хату, поставила на стол кувшин с молоком. •
— Помоги отцу, сынок. Он уже из сил выбился.
На станции паровоз набирает воду. Большой состав из пульмановских вагонов. На тендере немец-кочегар в засаленной фуражке' козырьком назад. Путейцы сидят на штабеле шпал около поворотного круга, курят.
Митя поздоровался — ответил один Кардаш. Подошел Адамчук — лицо у него серое, растерянное. Приказал менять шпалы на двести шестьдесят восьмом километре. Нужно идти обратно, это за будкой, в которой живет Митя.
299
Около цейхгауза, кирпичного погреба, где сложен инструмент, стоит Фогель, бормочет под нос: «Драй- цен, фирцен...» «Как скот считает»,— шевельнулась мысль.
За станцией Кардаш, поравнявшись с Митей, сообщил:
— По-моему вышло. Приехало СД, хватают. Человек двадцать взяли.
«Почему не едет Шура? — подумалось с тревогой.— Должен шпалы возить...»
Минули первый переезд. Возле перил, рядом с полицейским, толстый немец-жандарм с очками на носу. Держит у ноги карабин. Это впервые. Раньше на переезде полицейский стоял один. Подойдя к жандарму, Фогель взял под козырек.
Митя ловит себя на том, что сегодня все замечает, видит, как никогда. Обращает внимание на каждую мелочь. По большаку проехала подвода, заднее правое колесо вихляет, вожжи у дядьки веревочные, с узлами.
Кто-то забросил на телеграфный провод змея — висит, зацепившись конопляным хвостом. Копенка сена неподалеку от шляха прикрыта от дождя листом ржавого железа.
Вот и его, Митин, переезд, сосна, будка, огороженный штакетником двор. Около забора кусты шиповника, крыжовника, ежевики. На крыше хлева маленький деревянный пропеллер, его прибил Петрусь еще весной. Мать раскрыла окно, рама потихоньку покачивается. Митя прощается со всем этим — на душе тревожно, одиноко. Все, что окружает переезд,— поросшая осинником ложбина, песчаный шлях, полевая дорога, лес вдалеке — такое знакомое, близкое, что, закрыв глаза, мог бы перечислить мельчайшие предметы на расстоянии километра или двух.
На всем печать задумчивости. День тоскливый, солнце за невидимым пологом белых тучек. Местечко утонуло в зелени, окуталось трепетной дымкой — картина расплывается. Только белая громада школы выделяется на фоне разомлевшей темноватой зелени.
Впрочем, это лишь кажется, что переезд все тот же, прежний. Вторая будка, в которой теперь немцы, словно незнакомая. Митя не может привыкнуть к переменам, которые принесли солдаты-охранники. Обложенный по¬
300
желтевшим дерном дзот с четырьмя узкими амбразура- ми-бойницами, столб с прибитым рукомойником, деревянные козлы, на которых немцы пилят дрова, черный закоптевший котел на кирпичном основании — все чужое, чужое...
Шура не ехал — шпал не было. Путейцы побросали инструменты, сели на бровке. Фогель не сел, пригнувшись, бегал по полотну, помечая мелом шпалы, которые нужно менять.
— Мычипар,— начал Гулик,— ты сегодня ночью ничего не слышал?
— Что я услышу? — отозвался Хадоська.— Я спал.
— Этак ты и царство небесное проспишь. Ганка твоя ночью кричала.
— Чего ей кричать?
— Как чего? Полицейские к коменданту волокли.
— Гы-гы-гы! Ночью к коменданту...
— Правда, Мычипар. Ганка ему понравилась. Хочет в Германию на выставку послать. В Германии нет таких, как Ганка...
Шутка не развеселила. Подошел Фогель, подняв руки вверх, два раза хлопнул в ладоши:
— Цванциг. Работа нихт филь. До один обед, потом— на станция.
— Не сделаем, пан,— Кардаш встал.— Еще и шпал не привезли.
— Шпала будет. Зофорт.
С запада приближался поезд. Путейцы поднялись. Эшелон пронесся, не замедляя хода, оглушая пронзительным гудком. Под тяжелыми колесами прогибались рельсы, оседали шпалы, на каждом тормозе — солдат с автоматом на шее, в последнем вагоне двери раскрыты— солдаты сидят на скамейке, один молодой играет на губной гармошке.
Из-за грохота поезда Митя не услышал, как подъехал Шура. На вагонетке рядом с ним Адамчук. Переоделся в засаленную спецовку и теперь ничем не отличается от рабочего.
Шура встревожен — сразу бросилось в глаза. Не обращая внимания на присутствие Адамчука и Фогеля, подошел к Мите, тихо шепнул:
— Сергея арестовали. Вчера вечером. Наган нашли.
301
Похолодело в груди. Позавчера, да, позавчера Митя виделся с Сергеем. Заглянул сначала к Лобику, его дома не было — живет теперь у деда,— потом зашел к Сергею. Весь вечер ходили по Вокзальной улице.
Митя не заметил, как Шура отъехал. Через час или больше, когда на полотне замаячила фигура полицая, понял: идет за ним...
2
Полицай, дернув Митю за рукав, остановил его перед учительской. Приоткрыв дверь, просунул голову в комнату, спросил что-то и, повернувшись к Мите, сурово приказал:
— Стой здесь, пока не вызовут!
В школьном коридоре суета. Бегают немцы: местечковые в голубых жандармских мундирах, в черных эсэсовских— приезжие. Полицаи с белыми повязками на рукавах ходят боком, пугливо оглядываются, жмутся к стене, давая проход эсэсовцам. Стучат двери, слышится громкая пронзительная немецкая речь.
Там, где была раздевалка, две пирамидки винтовок, на полу — ручной пулемет. На классных дверях выведенные мелом немецкие слова. Митя успел разобрать только одно — «Kanzlei» — на дверях первого от входа класса. Догадался — «Канцелярия».
В учительской, перед которой стоит Митя, разговаривают. Голоса приглушенные, спокойные. Кажется кто-то падает на пол, раздаются глухие методические удары, будто — молотят цепами, и вслед за этим отчаянный крик. «Бьют,— доходит до сознания.— Вот он, фашизм...» Крик на мгновение стихает, потом начинается снова — еще более пронзительный, нечеловеческий. Нервы у Мити напряжены, весь он как натянутая струна. За одно мгновение перед мысленным взором проносится вся жизнь, «Другим я не мог быть,— успокаивает внутренний голос.— Только таким, как есть. Все правильно. Так должно быть...»
Человек кричит. Удары частые, торопливые. Митя понимает, что с того мгновения, когда он услышал этот крик, прошло немного времени, самое большее минута.
Но время будто остановилось. Оно измеряется теперь только этим нечеловеческим криком, чужой болью.
Страха нет. Той жизни, которую Митя знал, пока не переступил порог школы, где теперь немцы, тоже нет. Она исчезла в тумане, и не нужно ее вспоминать. «Страх от неизвестности, неопределенности, — шевелится мысль.— Если знаешь, что с тобой будет, не так страшно...»
За дверью в учительской молотят. На минуту все стихает, слышны настойчивые громкие голоса —о чем-то спрашивают. Потом человек вскрикивает еще громче, пронзительнее, это не крик даже, а дикий, животный вой. Слушать невозможно. Начинает кружиться голова. Кажется, еще мгновение—и Митя не выдержит, упадет в черную бездну беспамятства или бросится бежать. Пусть лучше застрелят, задушат, лишь бы не слушать. Он продолжает стоять, не убегает. Будто искра вспыхивает мысль: «Может, они специально меня здесь поставили. Чтоб запугать, сломить... Может, там, в учительской, Сергей... Он ведь ничего не говорит, только кричит...»
По коридору снуют немцы, полицаи. Они, кажется, не обращают внимания на этот нечеловеческий крик. Курят, переговариваются. На лицах выражение беззаботности. Словно происходит самое обычное. Привели еще двоих — высокого мужчину с мальчиком, втолкнули в ту комнату, где канцелярия. Во дворе заревел мотор, залопотали немцы. В коридоре пахнет карболкой. Видно, чтобы вытравить другие запахи.
Безумный, страшный крик полоснул как бритвой. Человек так кричать не может. Такое может присниться на один миг, и, охваченный мистическим ужасом, сразу проснешься. И во сне нельзя выдержать. Со дна души поднимается что-то темное, холодное, туманит голову. Мысли путаются. Митя круто поворачивается, делает несколько шагов вперед, к выходу, потом возвращается. Главное — не потерять ориентации, знать, где находишься. Ищет знакомые приметы, чтобы убедиться, что он в школьном коридоре. Да, это школа. Те же самые классы, только с немецкими надписями на дверях, панель стены, кое-где облупленная, те же окна, на которых теперь железные решетки. За окнами угол улицы, фасад клуба, молодые тополя. Когда их сажали, он учился в восьмом классе. За год до войны, до немцев.
т
В памяти совсем некстати стихи:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...
Почему это вспомнилось?
Кто написал* зачем? Фет, Тютчев?.. Под тополями лавочка, десятиклассники перед выпускным вечером играли на гитаре. Девчата в белых платьях, Сюзанна... Глупости! Ничего не было. Не должно было быть... Фашисты и тогда были... Испания, Гвадалахара. Читали в газетах... Не верили. Может быть, и верили, но сами себя успокаивали. Думали — сидим за каменной стеной. Не стоит вспоминать. Расслабляет. Есть фашисты, они бьют человека. И все...
В учительской непривычная тишина. Никто не подает голоса. Слышится всплеск воды. Видно, тот, кого били, потерял сознание. Теперь отливают. Это хорошо, что он без сознания. Ничего не скажет. Не будут больше бить. Тоненький ручеек течет из-под двери. Может быть, это не вода, а кровь?.. Значит, человека убили... Это был предсмертный крик... Лучше умереть, чем так мучиться. Нет, это все-таки вода, а не кровь. Кровь чернее...
Человек жив. Он только сорвал голос. Уже не кричит, а глухо стонет. Те, что бьют, видимо, выбились из сил — кричат сами. Приоткрывается дверь, высовывается волосатая рука, шевелит пальцами — кого-то зовет. Прибегает согнувшаяся, серая как мышка, женщина, в одной руке—ведро с водой, в другой — мокрая тряпка. В ту же минуту раскрывается дверь, и двое в расстегнутых белых рубашках волокут за ноги того, который кричал. «Нет, не Сергей...» Лица человека не видно, его закрыли слипшиеся, мокрые пряди волос. Серый пиджачок, лапти. Человека тащат за ноги, и голова его стучит об пол, как арбуз...
...В учительской тихие голоса, смех. Митя стоит, ждет. У него теперь одно желание: скорей очутиться в учительской, перед лицом тех, которые привели его сюда. Что о нем знают? О чем будут спрашивать?.. Неужели арестовали еще кого-нибудь, кроме Сергея?.. На все это ответ только там, за дверью. Медленно тянутся секунды. Думать ни о чем не стоит. Не нужно никаких догадок. Самое страшное — неопределенность. Она расслабляет... Стой... Молчи...
304
Дверь открывается, потом закрывается снова. Из учительской никто не выходит. Целая гурьба немцев вваливается в школу. Бегут по лестнице на второй этаж. Стучат сапогами так, что от стены отлетает штукатурка. Выбегает женщина. Дверь снова закрывается. Когда же наступит его очередь?..
— Herein!1
В первое мгновение Митя не понимает, что это — к нему. Но дверь учительской распахнута. В проеме высокий офицер с худощавым лицом, в пенсне. Жестом приглашает войти.
В учительской ничего знакомого. Стола, застланного красной скатертью, который стоял посередине комнаты, нет. На стене, где висел большой портрет Ленина, светлый квадрат. В левом углу за шкафом стояли карты, большой глобус. За ними перед уроками географии, истории прибегали дежурные. Там теперь «кобыла», перетащенная из спортивного зала. Мел лежал в картонной коробке, на тумбочке, у самого входа. Постучи, открой дверь, бери. Здесь теперь березовые палки. На прежнем месте вдоль стены только стулья. На них плотно — плечом к плечу — немцы. Человек десять. С такими же, как и в углу, березовыми палками в руках. Пожилые, широколицые, все в одних нижних рубашках. Блестят пряжки ремней, начищенные сапоги. Митя боится в ту сторону глянуть — широколицые будто гипнотизируют. Посередине комнаты, перед ним, высокий, в черном мундире. Рядом парень лет восемнадцати — маленький, косенький.
Немец лопочет что-то по-немецки.
— Как зовешься, как зовут твоего отца, а еще фамилия,— переводит косенький.
Митя отвечает.
— Lebensalter?2
Слух напряжен. Вопрос школьный, который много раз задавала Мария Ивановна, и, пока косенький, • который русский язык знает плохо, подбирает соответствующие слова, Митя отвечает сам:
— Ich bin siebzehn Jahre alt3.
На стульях, где немцы, движение, любопытство.
1 Заходите!
2 Возраст?
3 Мне семнадцать лет.
301
— Sprichst du deutsch?1 —спрашивает офицер.
Ответ снова по-школьному четкий, без запинки:
— Ich habe deutsche Sprache in der Schule gelernt2.
Косенький оскорблен. С нескрываемым пренебрежением смотрит на Митю.
— Обожди,— шипит, как кот, путая польские и галицийские слова.— Тэраз у тэбе потечэ зо всэх дюрок... Навалишь в штоны...
Офицер, теперь уже обращаясь к Мите, снова что-то спрашивает, но Митя не понимает ни слова.
— Расскажи, где ест спрятанный приемник, радио?— приходит на помощь косенький.
«Вот оно что»,— вспыхивает в сознании. Вопрос оказался таким неожиданным, что Митя сбит с толку. Нет, не этого вопроса он ждал... Недоумение, написанное на лице у Мити, настолько выразительно, что не проходит мимо внимания немцев, которые прямо едят его глазами. Широколицые переглядываются.
— Какой приемник?
— Ты слушаешь радио большевиков,— долбит косенький.— Скажи, где спрятан приемник?
В комнате настороженное молчание.
— Никакого приемника не знаю.
— Жди.
Двое из сидящих на стульях стремительно срываются с мест, выскакивают за дверь. Остальные закуривают. Синий дым от сигарет кольцами плывет в раскрытое окно. Не курят офицер и косенький.
На пороге Сергей. В первую минуту Митя его не узнает. Лицо опухшее, серый пиджак с черными пятнами крови висит мешком. Резкая, как выстрел, немецкая команда, которой Митя не понимает.
— Гляди йому в глаз,— объясняет косенький.
— Ты его знаешь? — вопрос к Мите.
— Знаю.
— Сконт3 знаешь?
— Мы учились вместе в школе.
— Ты ходил к ньому?
Митя как бы задумывается. Вопрос небезопасный, нужно быть осторожным.
1 Говоришь по-немецки?
2 Немецкий язык изучал в школе.
3 Сконт (польск.)— откуда.
ж
— Может, когда и ходил.
— Он звал тебя в лес, в партизаны?
— Нет.
Удар широкой ладони обжигает щеку. За ним второй, третий. Голова болтается, как неживая. В глазах плывут красные круги.
Теперь шпыняют вопросами Сергея. Как сквозь сон, до Мити доносится:
— Где приемник?
— Не знаю.
— А кто знает? Гляди йому в глаз!
Молчание. Долгое, упорное.
Снова наседают на Сергея.
— Вы слушали большевистское радио вдвоем? Признавайся!
— Нет.
— Ты слушаешь едын?
— Нет.
-— Радио у цьего Мити? Гляди йому в глаз.
— Не знаю.
«Сергей ничего не сказал,— молнией вспыхивает радостная догадка.— Немцы не знают ни об оружии, ни о мине. Ничего о хлопцах не спрашивают...» Сергей молчит, опустив голову. Больше ни на какие вопросы не отвечает. Офицер бьет его по щекам, потом машет рукой. Те же самые двое подхватывают Сергея под руки, выводят.
— Ты далеко от нього живешь? — старательно переводит косенький слова офицера.
Снова вопрос, таящий опасность.
— Недалеко. Километр.
— Кто есцэ до нього ходит?
— Не знаю. Я сам редко ходил. Так, случайно...
Офицер кричит, вслед за ним кричит переводчик:
— Где радио?
«Они ничего не знают,— трепещет радостная мысль.— Ничего. Просто подозрение. Берут на испуг...» У Мити прилив сил, бодрости.
— Пан офицер,— с воодушевлением, громко начинает он.— Я не виноват ни в чем. Ich bin darum unschuldig,— повторяет по-немецки заранее выученную фразу.— Я читаю немецкие газеты — «Фёлькишер беобахтер», «Дас Райх», «Помершэ цайтунг»,— сыплет знакомые названия.— Может быть, я кому-нибудь рассказывал новости.
307
А подумали — слушаю радио. Недавно читал — немцы Ростов заняли.
Косенький что-то долго объясняет офицеру. На Митю смотрит как бы удивленно, в его глазах, на губах хитрая улыбка. Те, на стульях, с березовыми палками в руках, не скрывая скуки, зевают.
— Квач, грюншнабель,— бормочет офицер.
Расстегивая мундир, он отходит в сторону, чиркает
спичкой. Смотрит куда-то за окно. Там краснеет спелыми ягодами вишня. Поворачивается, что-то выкрикивает ко- сенькому.
— Будешь висет за ноги, если не скажешь, где ра- рио,— объявляет тот.— Иди, думай...
Поднимается один из широколицых, толкает за дверь. Ведет в самый конец коридора. Открывает дверь. Замок щелкает, как выстрел...
3
В камере — это бывший физический кабинет — появлению Мити никто не удивился. Овсяник зарос бородой, лицо не худое, но отечное, землистое. Второго человека — районного прокурора Ладутьку — Митя тоже немного знает. Его арестовали в начале весны, вместе с Овсяником, когда хватали активистов и тех, которые пришли домой из леса. Третий лежит в углу, между дверью и кроватью. Накрыв голову пиджаком, тихо стонет. Митя глянул на лозовые лапти, на засаленный, с рыжими пятнами крови пиджачок и догадался: это тот самый, которого недавно били.
Более или менее знакомый один Овсяник, и он один из всех начинает разговор:
— Как там на дворе — жарко?
— Жарко.
— Должно быть, жнут уже?
— Нет еще.
— Огурцы, лук выросли?
—■ Выросли.
— Хоть бы попробовать дали,— вздыхает Овсяник.
Комната маленькая, узкая. Вдоль стен четыре железные кровати с полосатыми, не застланными ничем матрацами. Одно зарешеченное окно и две двери. Вторая дверь
308
ведет в соседнюю комнату, более просторную, где помещалась химическая лаборатория. В этой комнате стояли учебная динамо-машина, центрифуга, амперметры, вольтметры, в той — штативы, спиртовки, бутылки с медным купоросом, спиртом, герметически завинченные банки с разными химическими веществами.
Под самым окном — тополя. Из комнаты виден кусок школьного двора, заросшего теперь травой, длинная, будто склад, уборная, вишни. На дворе светло, солнечно. Сколько теперь времени?..
— Возле двери кровать свободная, занимай,— объясняет Овсяник.— Целый месяц пустовала. Раньше парашютист спал на ней.
— А где парашютист?
— Не знаю,— с безразличным видом отвечает Овсяник.— Повезли куда-то. Их разделили, здесь один был. Только трое суток побыл. Пел и на стенах рисовал. Можешь почитать, вон сверху...
Митя поднимает голову. Через всю стену по штукатурке, будто лозунг, нацарапанные гвоздем слова: «Нет, я буду сквозь слезы смеяться». И подпись: «Николай из Москвы».
— Били парашютиста?
Овсяник молчит.
Будто в ответ на вопрос Мити долгий, приглушенный крик. Допрашивают кого-то нового. В камере тишина. Перестает стонать хлопеи в лозовых лаптях. Плечи его вздрагивают.
Митя ложится на кровать. На белой стене, над дверью из коридора,— трепетные тени от дерева под окном. Шевелятся листья, качается ветка. Оттого, что на окне решетка, ветка попадает то в один квадрат, то в другой. Судя по тени, солнце склонилось за полдень.
Крика не слышно. Вместо него раздается частый топот ног, громкая немецкая речь. Рокочет мотор, на школьный двор, под самое окно, въезжает и останавливается машина. Прокурор сидит, опустив голову. За все время, которое Митя в камере, он и слова не промолвил. Вид у него такой, будто решает и никак не может решить трудную задачу.
Под вишней во дворе появляется низенькая женщина. Наклонив к земле ветку, торопливо, будто воруя, рвет ягоды. «Кажется, та самая, которая бежала в учитель¬
309
скую с ведром и тряпкой»,— догадывается Митя. Там, в коридоре, казалась старой, сгорбленной. Но нет, она не старая. Просто ходит так, согнувшись, надвинув серый платок на самые глаза. Занятый мыслями, Митя не заметил, как женщина приблизилась к окну камеры. Увидел испуганное, со сжатыми губами лицо женщины в тот момент, когда она, оглянувшись, взмахнула рукой, бросила в комнату, через разбитое стекло, горсть вишен.
Овсяник ползает по полу, собирает вишни, бросает, сдувая с них пыль, в рот. Прокурор не пошевельнулся. Женщина между тем снова согнулась, сгорбилась, делая вид, что ломает чернобыльник на веник.
Спустя несколько минут, когда Овсяник собрал все вишни, Митя понял, чем низенькая женщина рисковала. К окнам боялись подходить даже полицейские. Опустив головы, они расхаживали по двору, избегая глядеть в эту сторону.
Еще раз послышался топот, застучали, захлопали двери, и сразу все стихло. Только снаружи, из коридора, доносились мерные шаги часового. Школа будто замерла. Тишина непривычная, пугает.
— Обедать пошли,— спокойно сообщил Овсяник.— А после у них мертвый час. Спать будут. Все по графику. Нам принесут, когда сами наедятся. Крупяной суп с маргарином. Бывает, что и не приносят. Тут графика нет...
Митя лежит, думает о немцах: «Били, пытали, а теперь пошли обедать. Спать будут. Люди, значит, и так могут. Ведь те, что бьют, не животные. У них человеческое лицо... Как смотрят они на своих узников? Неужели за людей их не считают?..»
Овсяник лег на кровать, задремал, Ладутька сидит в той же позе, только сжав голову руками.
— Пить,— тихо просит человек в лаптях.
Митя встал. Цинковое ведро, накрытое фанеркой, стоит около двери. На фанерке вместительная кружка, сделанная из консервной банки. Зачерпнул воды, тихо тронул человека, лежащего лицом вниз. Тот медленно поднялся, стал на колени. Лицо распухшее, с грязными полосами, синяками, но совсем еще мальчишеское. Можно считать хлопца ровесником. Пьет жадно, без передышки, схватив кружку давно не мытыми черными руками.
— За что тебя? — спросил Митя.
iioi
Хлопец глянул на него с недоумением, с мукой на лице и снова лег на пол.
Митя вернулся на свое место и тогда только услышал хриплый голос хлопца:
— Я из Громов. В Германию записали. Обоих. С братом. Староста на нас глаз имел...— Он на минуту замолчал, потом продолжал, будто проглотив комок: — Пошли в лес с братом, думали, партизан встретим. Три дня ходили — не нашли. Вернулись хлеба взять, тут и схватили. Брата убили,— хлопец всхлипнул и утих.
Парень —тот самый, которого два часа назад немилосердно били за то, что ничего не хотел говорить,—рассказывал обо всем доверчиво, не таясь, «Микола учил в Громах,— мелькнула мысль.— Может, знает парня».
— Ты в школе учился?
— Мало. Только четыре класса...
— Я девять окончил,— сказал Митя, думая, что его собеседник тоже спросит о чем-нибудь. Но тот молчит.— Как же вы так, ничего не зная, в лес?
— А что? — ответил злобно, с надрывом.— В Германию ехать?.. Все одно погибель. Лучше здесь... На своей земле... Винтовка у нас была, только без патронов. Постреляли сдуру. Зимой еще... Если бы патроны были, черта с два они меня схватили бы...
— А что они у тебя допытываются? — спросил Митя.
— Ничего им не скажу... Фигу! Болячку! Пусть хоть убьют... Я кричу, так легче... Не так болит... Им тогда и бить надоедает... Все равно расстрел. Меня отсюда не выпустят живого. Знаю... Мать одна осталась. Жаль ее... Отец на войне. Мне бы только слово отсюда передать... Партизанам или еще кому... Чтоб не забыли про старосту Гнедка... Он выдал... Не должен по земле ходить живым...
Хлопец плакал, а Митя ничем не мог его утешить. Да и нельзя утешать. Нет таких слов. Митя не разумом, а подсознательно, всем своим существом чувствовал, что парень плачет не о себе. Жалко мать, брата. Обидно, что так нелепо погибнет сам. Плачет от бессилья.
Митя закрыл глаза, стараясь успокоиться. Одна за другой набегали мысли. Перед глазами встали будка, переезд, сосна, будто живое промелькнуло печальное лицо матери и упрямое, суровое — отца. Поймал себя на мысли, что этот год, заполненный войной, живя в семье,
311
очень мало думал о родных. Их будто не существовало. Чья же была правда, его или отца? Отец предупреждал, знал наперед, что может случиться. Теперь Митя смотрел на все, что произошло за этот год, как бы издалека, откуда все стало видней. Отец был прав по-своему. Думал о семье, жил ее интересами, и только так можно его понять. Он добрый, отец. Честный, хороший. Никакой не враг. Просто не чувствовал себя борцом, солдатом в этом жестоком водовороте жизни, когда поколебались все представления о законе, справедливости, когда за неосторожное слово можно потерять голову. Он, Митя, тоже не совершил ошибки, как и этот хлопец и его брат, которые, оставив одну мать, пошли с винтовкой без патронов в лес. Они не могли быть иными. Жизнь потеряет смысл, если примириться с тем, что принижает человека, превращая его в покорное, бессловесное животное.
Митю снова охватила жалость к матери, отцу, к братьям и сестрам, которые там, дома, должно быть, плачут, ничего не понимая. Чувствовал —* не нужно давать волю воспоминаниям, от этого человек становится слабым, потому и старался думать о другом. Но прошлое возвращалось, стояло перед глазами. Обессиленный внутренней борьбой, Митя уснул.
Проснулся перед вечером. Овсяник, подделываясь под деревенскую речь, рассказывает:
— Едем мы, к ночи берется мороз, ветер, лязгаем зубами в том кузове. Приехали в какое-то село, кричим в кабину шоферу: «Стой!..» Черт его бери с тем собранием... Если очень надо, проведут и без нас. Соскочили — ноги не держат. Скорей в хату: «Тетенька, пусти переночевать...»— «А сколько вас?..» — «Четверо, да еще шофер на дворе...»
Тетка попалась хорошая, жалостливая, картошки чугун наварила, соломы внесла куль. Обогрелись, поужинали. На печке кто-то лежит, ноги свесились. Соловей это заметил, как только в хату вошел. Ноги как будто девичьи, толстые. Легли прямо на полу, на соломе, кожухами укрылись. Хозяйка на кровати с меньшей дочкой. Слышим — Соловей не спит, ворочается. Как только хозяйка захрапела, он тихонько шасть на печь. И что-то там, значится, шепчет, уговаривает. Нас всех смех душит, а ему хоть бы что. Что тут будешь делать?.. Кое- как уснули все же, утречком проснулись, Соловей с нами
т
спит, как пшеницу продавши. Но тут самое главное и началось...
Как глянули мы на печь,— что там за краля такая,— так и обмерли. Сидит, ноги свесив, ну чучело чучелом, голова как стог, нечесаная, лицо рябое, изо рта слюна течет... Помешанная она, мешком, как говорится, прихлопнутая. Сидит на печи, Соловья своего, значится, выглядывает. Увидела его — рот как решето, смеется и пальцем к себе манит... Лезь, мол, опять на печь, понравилось ей, значится... Соловей сапоги натянул, пальто в охапку, хотел прочь скорей из хаты. А краля наперерез, гоп с печки и уже около порога. Повисла у него на шее, облапила руками, целует при всех, ну хоть ты плачь...
Еле заметная горькая улыбка тронула губы прокурора, приподнялся на локтях, от неслышного смеха вздрагивают плечи хлопца из Громов. Овсяник смеется громко, захлебываясь, вытирая немытыми ладонями слезы, выступившие на глазах. Видно, привык к камере, к одиночеству, веселит себя шутками. Умеет смеяться. Одна эта смешная история — и Митя смотрит на Овсяника другими глазами. Непонятный он. Тогда, зимой, они с хлопцами ошибались, думая о нем совсем плохо. Не трусость, а что-то другое сдерживало Овсяника, как и всех этих людей, которых немцы похватали, как коршун цыплят. Сколько они в тюрьме?.. Три месяца, четыре?.. А ни один не проговорился, не захотел освободиться ценой предательства. Микола с полицейской повязкой на рукаве заходил к Овсянику в камеру, носил сало, спрашивал про оружие. Овсяник ничего не сказал ему, но и не выдал. Не изменник он. Но почему тогда, по весне, он и остальные не пошли в лес?.. Что сдерживало их?.. Семья, жена, дети?.. Должно быть, это. Но если так, то правда отца...
Щелкнул в дверях замок, прервал Митины мысли. В камеру вошли двое в эсэсовской форме, высокие, тонкие как прутья, остановились перед прокурором. Тот сидел на кровати, не поднимая глаз.
— Heraus!
Прокурор медленно встал, обвел глазами комнату* На мгновение взгляд его встретился со взглядом Мити, в глазах человека глубокая, нескрываемая печаль. Холодная боль кольнула сердце.
313
Выходя из камеры, на пороге уже, прокурор круто, рывком повернулся, глухо проговорил:
— Прощайте, товарищи...
Эсэсовец толкнул его в спину, щелкнул замок, в коридоре слышны шаги, Митя и Овсяник бросились к окну. Через минуту к машине, стоявшей напротив окна, высыпали эсэсовцы, их уже не двое, а шестеро, и в их окружении прокурор. Бросили в кузов несколько лопат. Подтолкнули туда арестованного, легко вскочили сами. Заревел мотор, грузовик тронулся. «Расстреливать повезли»,— пронзило Митю, и его охватила тяжелая, безысходная тоска. Все, что произошло,— обычное, будничное,— совсем не напоминало о том высоком, трагическом моменте, когда кончается жизнь человека. Лица эсэсовцев равнодушные, на них ни злости, ни волнения. Будто выполняют неинтересную, повседневную работу.
Митя лег на кровать лицом вниз. Думать ни о чем не хотелось. Его охватило до боли отчетливое желание смерти. Желание острое, манящее, без примеси страха. Ничем не отличающееся от всех других желаний. Хотелось уснуть и не проснуться... Умереть здесь, не видя равнодушных лиц врагов, машины, в которую бросают лопаты. «Не умирать страшно,— вспыхнуло в сознании.— Страшно знать, что ты умрешь, страшны те минуты, когда тебя будут везти к еще не выкопанной яме...»
Неслышно отворилась дверь. «Кому до ветра?» — прозвучал сиплый голос. Митя поднял голову. В комнате стоит рослый, с красным лицом полицай, держа наперевес винтовку. Неестественно согнувшись, сгорбившись, по-старчески шаркая подошвами ботинок, к выходу подался Овсяник. Митя тоже хотел было пойти вслед за ним, но полицай остановил его. «По одному»,— буркнул он, закрывая перед самым носом дверь.
Овсяник вернулся минут через десять. Полицай вывел Митю. В школьном коридоре тишина. Ни крика, ни суеты. Немцы, видимо, отдыхают. Во дворе конвоир важно шагал сзади, чуть не тыча в спину дулом винтовки. Митя оглянулся. На улице ни души. Время к вечеру. В длинной, сколоченной из новых досок уборной Митя заметил кучку белой хлорки, торопливо, чтоб не заметил полицай, стал набирать в карман. «Хлорка — отрава,— возникла радостная мысль.— Если наешься, можно умереть в ту же ночь...» Обратно в камеру шел повесе¬
314
левший, с чувством злобы и превосходства думал о недогадливом конвоире.
В камере обед или, если судить по времени, ужин. Около кровати Мити на полу алюминиевая миска серой бурды, ложка. Хлеба нет. Овсяник, поставив миску на колени, торопливо хлебает. Ест, не вставая с пола, хлопец из Громов. Перед кроватью прокурора миски нет. Митя брезгливо задвигает ногой под кровать свою посудину с варевом, ложится.
— Не валяй Ваньку, ешь,— звеня ложкой по дну миски, говорит Овсяник.— Завтра ног не потянешь. А если всыплют еще, то совсем нюни распустишь. Не у тетки в гостях. Немцы уговаривать не будут, не думай.
— Не хочу я есть.
— Ну, как хочешь. Голод не тетка. Я вначале брыкался тоже, братец мой...
Откуда-то со двора, сверху, через выбитое стекло доносится музыка. Видно, немцы включили радиоприемник или завели патефон. А может быть, сами играют. Мелодия, вначале тихая, еле слышная, становится отчетливей: можно отличить напевный голос скрипки и такой же протяжный, только басовитый звук инструмента, названия которого Митя не знает. Играют что-то спокойное, немного печальное, напоминающее ясное осеннее утро. На душе у Мити злость. Хочется вскочить, кричать, стучать кулаками в дверь, крошить, ломать нелепые кровати. Но лежит, слушает. На мгновение возникает перед ним лицо Сюзанны и сразу же исчезает. Он не хочет, не может о ней думать.
— Каждый вечер такая музыка,— сообщает Овсяник.— Днем допрашивают, бьют, а когда устанут — играют. И песни поют... Услышишь еще. Не понимаю я немцев. Человека убьет и поет...
В дверь, к которой придвинута кровать Мити, тихо, но настойчиво стучат. Будто мышь в уголке ворочает кусочек сухаря. Сигнал доносится из соседней комнаты, отделенной стеной и внутренней дверью. Митя вскакивает, становится на спинку кровати. Над дверью застекленная, обрызганная пятнами побелки рама, можно посмотреть, кто стучит. В соседней комнате полумрак. Там нет даже кровати, только в углу какое-то тряпье. Стук снизу, человек стоит перед самой дверью.
— Кто там?
315
Слышен тихий, но знакомый голос:
— Я, Сергей. Я тебя теперь только увидел... Через окно... Как со двора вели...
Сергей отходит на шаг от двери. Лицо распухшее, черное. Говорит что-то еще, но тихо, из-за музыки не слышно. Немцы играют марш.
— Говори громче, не бойся. Тут свои все.
— Меня расстреляют... Наган нашли...
~ О чем тебя спрашивают?
— Бьют... Пока не потеряю сознания... Не выдержу больше...
Митя озирается. Овсяник делает вид, что не слушает. Снял ботинки, мнет в руках заскорузлые носки. Хлопец из Громов лежит неподвижно, как пласт.
— Сергей, ничего не говори! — задыхаясь от злости, отчаяния, почти кричит Митя.— Они ничего не знают... Наши немцев остановили. Наступают сами, ты слышишь, Сергей?.. Наступают, это я хорошо знаю. Если будут бить, кричи!.. Кричи, так легче...
Митя видит — Сергей стоит понурив голову. Обессиленный, избитый. Знает, что его расстреляют. Ни капли надежды на то, что будет жить. На минуту Мите делается страшно. Где, какие найти слова, чтобы утешить, подбодрить?.. Все, что мог, уже сказал. Можно кричать, оскорблять, но разве этим поможешь?.. Сергея расстреляют. Знает сам... Распрощался с жиз.ныо... Мертвому все равно... Но почему немцы его до сих пор не расстреляли? Он, значит, нужен им... Чтобы выдавал... Нет, Сергей не должен выдавать... Есть нечто большее, чем жизнь одного человека... Нужно, чтоб помнил..:
Наверху играют веселое. Митя стоит на спинке кровати, смотрит на Сергея. Лица его уже не видно. Может быть, это и лучше, что не нужно смотреть в глаза. Густеют сумерки.
Скоро стемнеет совсем.
— Ты не один, Сергей,— говорит Митя.— Не забывай. Наши наступают. Есть еще интересные новости. Немцам дают жару... Не думай... Если будут бить, кричи... Кричи, и все...
— Где наступление? — слышится слабый голос.
— Под Ржевом,— радостно отвечает Митя.— Это же главное направление... На Москву... Немцы уже сами пишут... Здорово их лупят!
316
Из коридора доносятся четкие шаги, и Митя соскакивает со спинки кровати. Открывается дверь в комнате напротив. Кого-то ведут. На допрос или, как прокурора, на расстрел?.. Шаги стихают. Несколько минут Митя прислушивается. Но криков не слышно. Музыка тоже стихла. За окнами темно.
— Ты о нашем наступлении правду говорил или выдумал? — шепчет Овсяник.— Мы здесь как в мешке.
— Про Ржев правда.
— Заняли его?
— Нет.
Хлопец из Громов свистит носом. Заснул.
— А на других фронтах как? — снова шепчет Овсяник.
— Немцы наступают. Воронеж заняли, Ростов...
По окну скользит свет фар. Во двор въезжает машина. Овсяник подхватывается, виснет около окна. На дворе голоса, топот ног. Немцы идут, стучат дверями, поднимаются по лестнице, и все стихает.
— Каюк всем нам,— вслух говорит Овсяник.— Ла- дутьку стукнули, ясно. Я думал: привезут обратно. Его несколько раз возили и привозили.
— Почему привозили? — В голосе Мити недоумение.
— Об оружии спрашивают. Подозревают, что оно где- то закопано. Еще с прошлого года, когда истребительный батальон был.
— А оно есть, зто оружие?
— Не спрашивай. Ничего, дорогой мой, не знаю...
Школа спит. Ни шороха, ни звука. Летнее небо усеяно
звездами.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Из всех солдат, живущих в будке, которая называется теперь шуцпункт № 16, только один Венигер всегда недоволен. Остальные, даже Петерле, считают, что выполняют свой долг. Они служат, посылают на родину посылки со шпиком, топленым маслом, домотканым полотном — все это выменивается у жителей на сахарин, краску, иголки. Каждый хочет вернуться домой, к своей семье, заниматься тем, чем занимался до войны. Есть, конечно, у каждого тайная надежда, что дела его пойдут лучше, чем рань-
317
me,— ведь он все же воевал, а это,значит — имеет заслуги перед фатерляндом.
Служба не тяжелая: четыре часа шатания по полотну, два — на посту, около переезда. Утром — жирный мясной гуляш, кофе, еще более сытный обед, сладкий пудинг, кофе на ужин. Кормят хорошо.
Венигер живет иначе. Посылок домой не посылает. Даже не считает, что выполняет долг перед отчизной. Все, что делается кругом, что вычитывают солдаты в газетах— каждому присылается газета той местности, откуда призывался,— Венигер называет хамством, свинством. Конечно, говорит такое не при всех, а при одном Петерле, которому доверяет.
Днем, свободные от службы, они не таскаются, как многие другие, по местечку, выменивая сало и яйца, а чаще лежат под сосной, в тени, дремлют или спорят.
— Все пойдет к чертовой матери! — заявляет Венигер.— Гитлер сломает шею. Его посадили в седло капиталисты.
— Вы, как всегда, преувеличиваете, герр Венигер. Не вижу никаких признаков падения авторитета фюрера. Дела на фронте идут блестяще.
— Осел, ты можешь сказать, что у нас есть свобода? Что мы не душим за горло другие народы?
— Этого, герр Венигер, я ие могу сказать. Но не могу сказать, что видел на земле какое-нибудь идеальное царство, с которого мы могли бы взять пример.
— Здесь, в Советской России, рабочий человек жил в тысячу раз лучше, чем у нас. Здесь не было господ. Власть рабочих.
— Позвольте спросить, герр Венигер. Здесь при Советах начальники тоже были?
— Конечно, были.
— Значит, им нужно было подчиняться. А какая разница — снимать шапку перед барином или перед рабочим?
— Есть разница, дубина. Капиталиста не прогонишь со службы. А рабочего начальника, если плохой, коленом под зад — и весь разговор. На то рабочая власть.
— Не вижу, герр Венигер, чтобы здесь, в России, был рай. Эти деревянные хаты, бездорожье...
— Не все сразу, остолоп. Нужно же хоть немножко знать историю...
318
Петерле спорит с Венигером, не обижаясь на него. Он ни на кого не обижается. Сам о жизни думает иначе, чем Венигер, и считает, что каждый может думать как хочет. Его мало волнуют слова — свобода, власть. Разве от того, какая где власть, зависит восход и заход солнца, свежесть воздуха, утренняя роса на траве? Красивые фрейлейн всюду есть, несмотря на то, что власть разная. Жаль только, что он, Петерле, еще не познакомился ни с одной русской фрейлейн. Это нужно сделать, и как можно быстрей,— он уже давно тоскует о звонком девичьем смехе, блеске лукавых глаз. Каждый день приносит новые радости. Их только нужно уметь ощущать, ловить — пение птиц, цветение ржи в поле, дуновение ветерка, который несет разнообразные запахи цветов и трав.
Это и есть свобода, и это скорее чувствует, чем понимает Петерле.
Лежат под сосной, у Петерле гармоника не губная, а настоящая, только совсем маленькая, на ней нет и половины ладов. Но и на ней он довольно хорошо себе аккомпанирует. Голос у Петерле приятный, грудной, и даже хмурый Венигер любит слушать, когда тот поет. Раскидистые сосновые ветви над головой. Тишина, покой. Солнце, небо — всюду одинаковые.
О, Tannenbaum, о, Tannenbaum,
Wie grim sind deine Blatter.. —
подыгрывая себе, тянет Петерле. Совсем как настоящий артист, начинает песню, которую с малолетства знает всякий, кто родился в лесном, зеленом Тироле:
Waldeslust, Waldeslust!
О, wie einsam schlagt die Brust..
Ihr, liebe Vogelein, stimmt eure Lieder ein,
Und singt aus voller Brust — Waldeslust!..2
К вечеру тень от сосны ложится на песчаный большак. Дышать легче. Из кустов прилетает серая птичка. Склонив красивую головку набок, маленьким, как бисеринка,
1 О, сосна, о, сосна,
Как зелены твои листья...
2 Лесная радость, лесная радость!
О, как тоскливо жить одному...
Вы, вольные птицы, созвучные ваши песни,
Вслед за вашим пеньем рвется из груди — лесная радость!.. \\
319
глазом следит за людьми, лежащими под деревом. Они — видно по всему — не собираются делать ей плохое, и птичка успокаивается. Перескакивает с ветки на ветку, беззаботно попискивает. Петерле, вытянув губы, начинает ее передразнивать. Птичка прислушивается, пугается, летит обратно в кусты.
В предвечерний час мимо будки часто проезжает Кузьма Шнапс. Солдаты его уже знают — частый гость на переезде. Знают, что в первую войну был в плену в Германии и кое-что может сказать по-немецки. Документов никогда не проверяют.
— Wie geht’s, пан?1 — кричит из-под сосны Петерле.
.— Аллее гут, камарад,— отвечает Шнапс.— Фрес- сен — нике, табак — нике, ванцен — филь 2.
Венигер и Петерле хохочут — крестьянин отвечает фразой, которую, видно, заучил в плену.
2
Он забыл о хлорке, уснул, спал, и ничего с ним не случилось. Что-то приснилось, но сны он редко помнит. Проснулся с острым ощущением голода. Достал из-под кровати миску со вчерашним обедом. В сероватую бурду насыпалось трухи из матраца — не обращал внимания, ел.
Утро началось со стука дверей, топота ног. Арестованных выводили во двор, «до ветру». На каждого, кого выводили, приходился полицай, поэтому около уборной маячили сразу две-три фигуры. Вовнутрь патрули заглядывать, видно, стыдились, с нахмуренными лицами расхаживали по двору.
Взглянув в окно, Митя подошел к внутренней двери, тихо постучал. Было слышно, как Сергей встает. Отозвался также стуком. «Попросись в уборную,— вполголоса сказал Митя.— Побудь там, я выйду, поговорим...»
Он лег на кровать и слышал, как Сергей гремит в дверь кулаком. Долго никто не подходил. Потом щелкнул замок, за Сергеем пришли. Выждав несколько минут, застучал в дверь Митя. Ему тоже долго не открывали. Митя начал терять терпение. Овсяник лежал на кровати,
1 Как живется, пан?
2 Все хорошо, товарищ. Жрать нечего, табака нет, клопов — много (ломаное немецкое).
ш
равнодушно глядя в потолок. Делал вид, что ничего не понимает. Хлопец из Громов, скорчившись на полу, спал.
Дверь открыл молодой чернявый полицай, года на три старше Мити. Отводил глаза в сторону, молчал, не наставлял, как вчерашний, дуло винтовки в спину. Возле уборной похаживал другой патрульный — Сергей был внутри, ждал...
Бросилось в глаза — Сергей покорный, тихий, как дитя. Не промолвил слова, глядел на Митю, ожидая, что тот скажет. На опухшем, с синяками лице выражение страдания. Шевельнулась жалость в груди; пересиливая ее, Митя торопливо зашептал: «Про радио молчи... Скажешь только, что я тебе рассказывал про Ростов... Что немцы заняли его... Что читаю немецкие газеты. Так на допросе я сказал... Чтобы в одно слово было. Понял?..» — «Понял,— тихо, одними губами проговорил Сергей.— Из наших никого больше не взяли?..» — «Никого. Нужно молчать. Они ничего не знают...» — «Мало мы сделали,— будто выдавил он из себя.— Обидно...» — «Будут бить, кричи,— повторил Митя вчерашние слова.— Кричи, и все...»
В стенку стукнули, видно прикладом. Сергей медленно, не торопясь, вышел. Митя постоял в нерешительности, потом, будто что-то вспомнив, начал высыпать хлорку, вывернул карман, вытряхнул белую пыль... Обратно в камеру возвращался с чувством равновесия. Чувство это возникло не здесь, не теперь, оно родилось, может быть, еще вчера, когда Сергей первый ему постучал. Сергей как бы искал поддержки. Он один. Все эти дни один. Немцы специально так посадили, чтобы оторвать от всего мира, запугать...
Возле двери камеры Митя столкнулся с полицаем и жандармом, которые разносят завтрак. Полицай держит ведро, черпак, жандарм — стопку алюминиевых мисок. Хлеба, как и вчера, нет. Отперев дверь, разносчики пропускают вперед Митю, заходят сами.
— Обяд бендзеце иметь вечорэм,— путая русские и польские слова, говорит жандарм.— Продукты — мала, турма — много...
Митя узнал жандарма. Это тот самый, который ходил к Марии Ивановне изучать русский язык. Сморщенное, бабье лицо, писклявый голос, щуплая фигура. На арестованных смотрит спокойно, доброжелательно, ничем не вы¬
321
казывая своей власти. Вспомнив слова, офицера, сказанные в конце допроса, Митя отважился:
— Господин жандарм, что значит по-русски «квач»?
— Квач ест болтовня, если языком махать, как хвостом.
— А «грюншнабель»?
— Ест зеленый клюв...
Жандарм отвечал серьезно, на его голом, безволосом лице ни тени улыбки. Будто что-то вспомнив, добавил:
— Немцы зовут грюншнабель недоросший человек, у которы не обсох на губах молоко...
Митя улыбнулся. День начинался удачно. Крику не слышно. Видно, эсэсовцы никого не допрашивают. В коридоре топот, стучат двери. Потом тишина. Тюрьма будто вымерла. Даже во дворе не видно ни немцев, ни полицаев. Смысл этой перемены становится понятным только в полдень, когда открывается дверь и в камеру вталкивают сразу троих. Полный широколицый мужчина с деревяшкой вместо правой ноги недоуменно оглядывается, вытирает с лысины пот, худая темноволосая женщина плачет, и только мальчик в матроске, в шапке-бескозырке с нескрываемым любопытством разглядывает комнату, ее жителей. Мальчику самое большее лет пять. Митя догадывается, что арестована семья.
Новички устраиваются на кровати прокурора. Женщина, видя спокойные лица арестованных, сама успокаивается. Подходит к окну, смотрит во двор. Мальчик путешествует из угла в угол. Садится возле ведра, поднимает фанерку, набирает и выливает из кружки воду. Мужчина сидит, опустив голову. В камере необычная тишина. Ни Овсяник, ни Митя не отваживаются начать разговор. Наконец мужчина заговаривает сам.
— Я никого из вас не знаю,— говорит он хрипло..— Я не здешний. Моя фамилия Вадейка... Бадейка,— может, слышали,— учитель из Пилятич.
— Я вас знаю,— признается Овсяник.— Был в вашей школе...
— Вот видите.— Учитель радостно встрепенулся.— Ваше лицо мне тоже как будто знакомо. Очень приятно снова встретиться...
— Мало приятного. За что вас?
— Понимаете, совсем неожиданно... Но тут все свои, можно говорить. Секрета нет, если немцы знают..,
11 И. Науменко.
ш
— Все через тебя! — выкрикивает женщина, заливаясь слезами.— Не сиделось тебе... Сколько я просила, богом молила... О боже мой!
— Перестань, Мария. Никто ни в чем не виноват. Не показывай своей слабости...
Женщина припадает лицом к подоконнику, плечи ее вздрагивают. Мальчик вдруг бросает кружку. Идет -к матери, прижимается к ее ногам.
— Пожалей дитя, Мария. Этим не поможешь. Кому нужны наши слезы?..
— А ты жалел, душегуб? — Женщина кричит пронзительно, злобно, не заботясь о том, что ее услышат.— Москва тебе нужна была, правда?.. Любуйся своей правдой... Что теперь будет с нами?.. Знаешь? О боже мой!..
Мальчик начинает всхлипывать. Мать садится на подоконник, берет сына на колени. Торопливо, с отчаянием целует. Глаза ее в эту минуту большие, черные, зрачки будто застыли. Шепчет прерывисто, захлебываясь;:
— Подыши воздухом, мой маленький... Посмотри на солнце... Вон видишь, на дереве птичка... Она будет жить, петь, а нас не будет... Может быть, последний наш день...
— Мария! — кричит учитель, вскакивая, стуча деревяшкой по полу.— Перестань сейчас же! Не пугай ребенка... Совести нет у тебя... Истеричка...
Женщина, испуганно встрепенувшись, сразу стихает. Громко плачет мальчик.
У Мити какое-то странное состояние — он совсем спокоен. Сердце будто окаменело. В нем нет ни боли, ни жалости. Все время, пока шел разговор между мужем и женой, он думал о посторонних вещах. Женщина, как только она вошла в камеру, вызвала у него неприятное чувство. Плачет, жалуется. Ясно — курица-наседка... Интересно, за что их взяли? Арестовали не для допроса — о чем спросишь у ребенка?.. Женщина кричала — Москва... При чем тут Москва?..
Снова вспыхивает тревожный вопрос, обращенный к самому себе: почему он спокоен?.. Людям грозит опасность, смерть, а он думает о глупостях. Старается отключиться... Почему так? Вместо сердца — камень. Что это— защитный инстинкт или самый обычный эгоизм, который человек не может в себе задушить?.. А может, так нужно. Может, человек просто не в состоянии вынести всего, что видит, поэтому невольно отворачивается. Если прини-
323
мать близко к сердцу то, что делается здесь, дня не проживешь...
И снова мысли: арестовать ребенка? Как так можно?.. Чтобы сделать это, нужно пройти предварительную подготовку в той мирной жизни, когда люди еще не были эсэсовцами. Но разве когда-нибудь арестовывали детей?.. А может быть, и над эсэсовцами висит сила, которой они слепо подчиняются?.. Прислужники смерти. Нет, человек, какой бы он ни был плохой, не может занимать такой должности...
Ответа на вопросы, возникающие один за другим, нет. Мысль ищет покоя, отдыха. Перед глазами сосна, сухой холмик, на котором она растет, кусты в лощине и вдоль железной дороги. Митя старается представить немцев- охранников на переезде и не может. Знает, что они там ходят, курят, подозрительно ощупывая взглядами каждого прохожего. Образы их расплывчатые, неясные, как во сне. Они если и возникают, то на одно мгновение. А сосна как живая. Митя видит ее, омытую дождем, с мелкими светлыми каплями росы на каждой зеленой иголке. Две или три капли из многих тысяч блестят, как бриллианты. Он не раз это видел, но никогда не задумывался над причиной. Не хотелось задумываться. Красота льется в душу сама.
Женщина успокоилась. Легла, отвернувшись лицом к стене. Мальчик с нею рядом. Отец пересел к Овсянику на кровать.
— Неприятная история,— вполголоса говорит он, озираясь, поеживаясь, будто от холода.— Перебрались мы сюда, в местечко* весной. В Пилятичах были недоразумения с полицией. Знаете, деревня бедная — пески, кустарник. Учителю без работы как прокормиться?.. Физическим трудом заниматься не могу. Где выход?.. Приглашали в волость, писарем. Отказался. Школа закрыта. Занята под полицейский участок. А хуже всего — двое моих учеников поступили в полицию. Я там, в Пилятичах, двенадцать лет работал. Полицейские эти выросли, можно сказать, на моих глазах. Правда, они не из лучших учеников. Середнячки, так себе... Но никаких плохих наклонностей раньше за ними не замечал. Нет, ничего такого не было, не буду врать. Люди как люди... А тут черт его знает что. Пьют самогонку, горланят по вечерам непристойные песни. Слушать гадко... Однажды, осенью
11*
*24
еще, расстреляли парня. Шел один, без документов. Лет семнадцать ему, не больше. Видно, из ремесленного училища. Убили ни за что. Не мог я выдержать. Встречу кого-либо из этих полицаев на улице, стыжу в глаза. Просил одуматься... Где там... Передо мной еще ничего — отнекиваются, глаза опускают. Начали подговаривать других. Те ко мне с угрозами...
Овсяник, сложив руки на коленях, сидит, слушает. Взгляд у него такой, будто думает о чем-то далеком, что не имеет никакого отношения к рассказу учителя. В коридоре тишина. Ни шагов, ни топота.
— Решил перебраться в местечко,— продолжает Бадейка.— Думал, здесь больше интеллигентных людей, не может быть, чтобы царил такой разгул,— ведь там, в Пи-
i лятичах, скажу вам, полицейские творят все, что взбредет в голову.
— Вы в местечке работали где-нибудь? — спрашивает 1 Овсяник.
— Нет, нигде. Где же я могу устроиться, кроме школы. Да и вообще не о том стал думать.
— У вас родня в местечке?
— Нет, никого. Знаете, случилась оказия. Приехал в ; Пилятичи бургомистр. Кажется, Крамер его фамилия.
Я к нему. Мол, так и так, изложил свою просьбу. Он разрешает: «Переезжайте». Что мне больше нужно?.. На¬
нял подводу, переехал. Иду к этому Крамеру. Слово сдержал, дал квартиру, даже хлебную карточку приказал выписать. На меня он произвел неплохое впечатление.
— Все они хорошие,— цедит сквозь зубы Овсяник.
— Ну, не скажите. У кого в это время будет болеть голова о безработном учителе? Однако же уважил... Поселился я на Вокзальной улице, в доме, который когда-то принадлежал купцу Красневскому...
Митя знает дом Красневского,— старый, с желтыми ставнями, он стоит на той же стороне улицы, что и дом Сергея, почти по соседству. Зимой пустовал, а с весны действительно кто-то жил в нем, но Митя ни разу не поинтересовался, кто.
— Здесь я наладил радио.— Учитель рассказывает доверчиво, как близким знакомым, голос его спокойный, ровный.— Приемник был у меня еще в деревне, но там как установишь... Шпионили,
325
Тут другое дело. Знакомых нет, не заходит никто. Кажется, меры предосторожности принял. Приемник — я немного понимаю в нем — разобрал на части. Конденсатор в одной комнате, катушка напряжения в другой, лампы под подушкой... Вечером — раз-раз — собрал и слушай. Ни один человек не знал. Ну, кроме жены и тещи. Петя, мальчик мой, спал уже, когда радио слушали. Послушаем — и сразу разберу. Это на случай, если налетят с обыском. Мол, части от приемника еще не радио. Просто ума не приложу, как догадались. Антенну, правда, я на чердак вытащил, но жена днем развешивала на ней белье. Кто доказал?..
— Нашли приемник? — дрожащим от волнения голосом спрашивает Митя.
— Как не найдут. Главное — секрет открыли. Вывод от антенны за фотокарточками был замаскирован. Добрались. Как назло, батареи не разбросал. Стояли под кроватью, все...
Бадейка смолкает. На широком добром лице тень печали. Руки, голова, все тело этого человека — большое, складное, деревяшка кажется нелепицей. Митя смотрит на учителя с невольной симпатией. Ом жалеет, что не знал его раньше. Чем-то близким, спокойным веет от сильной фигуры, доверчивых серых глаз.
Овсяник ни о чем опасном не спрашивает. Трудно понять, как он отнесся ко всему, что рассказал учитель. Должно быть, осторожничает, как вчера с Митей.
з
Ночью было тревожно. Неподалеку от леса двое крались к железной дороге, солдаты заметили, подняли стрельбу. Отозвался дзот у переезда Птаха. Стреляли прямо в темноту, от страха.
Днем на переезде — постовых двое. Солдаты живут впечатлениями ночи. Лица настороженные, хмурые. Напрасно радовались. Здесь, в глубоком тылу, не легче, чем на фронте. Очень легко можно получить пулю в спину.
В полдень постовыми на переезде Венигер и Петерле. Едет Шнапс, останавливает на шляху коня, идет к знакомым солдатам. Вынимает из-за пазухи красный полинявший листок, протягивает Венигеру:
326
— Камрад, прочитай. Тут по-немецки написано. В лесу нашел.
Как из-под земли перед постовым появляется унтер- офицер Либке. Выхватил листок, торопливо пробежал глазами, налившись кровью, заорал:
— Большевик!.. Партизан!.. Пропаганда!..
У Венигера белое как полотно лицо.
— Успокойся, Руди! Он и читать не умеет. Листовка прошлогодняя. Сожжем — и концы в воду...
Либке не слушает, выхватив у Петерле карабин, стреляет в воздух. Трусцой, поправляя ремни, бегут солдаты со двора.
— Арестовать! — показывая на Шнапса, кричит Либке.— Тут все партизаны. Сын будочника арестован. Под носом вредят...
Обомлевшего Шнапса ведут во двор, в погреб.
Через час на шуцпункте № 16 сам командир охранного батальона полковник Зайдэ — высокий, тонкий — и такой же тонкий лейтенант Эрлих. Вызывают на допрос сначала Либке, потом Венигера, последним — Петерле. Шнапса не зовут.
Двое солдат идут с лопатой за ложбинку, в кусты...
Решение полковника Зайдэ целиком соответствует инструкции — партизан, диверсантов расстреливать на
328
месте преступления. Случай типичный. Есть своя хитрость в решении полковника. В местечке — карательный отряд СД, в преступлении замешаны солдаты. Зайдэ не хочет, чтобы эсэсовцы совали нос в военные дела. Большевистского лазутчика расстреляют как раз те, кого он пытался агитировать.
Перед вечером пятеро солдат во главе с лейтенантом Эрлихом ведут Шнапса в ложбинку. Солнце висит над лесом. Шнапс шаркает лаптями по земле, ноги заплетаются. Когда ставят спиной к яме, он поднимает правую руку, крестится...
— Abteilung, Achtung! — громко командует Эрлих.— Links urn! Weniger, Peterle — vorwarts! 1
Венигер и Петерле делают три шага вперед. Приставляют к ноге карабины.
— Gewehre — ап!.. Feuer!2
Залп. Как подрубленное дерево, человек падает не в яму, а вперед, редкой седой бородой в песок.
Через полчаса отделение, хоть и не в полном составе, четко отбивая шаг, возвращается на переезд. Коня Шнапса на шляху нет, влез с телегой в рожь, жадно хватает мокрыми губами почти созревшие колосья.
4
Тишина в тюремном коридоре кончилась после полудня. Суета, шум, крики свидетельствуют о том, что жизнь снова вошла здесь в свое обычное русло. От этого даже спокойней. Тишина пугала.
Входит жандарм. Тот, который изучает русский язык. Один, без полицая. Женщина вскакивает с кровати.
— Пан, пан, что с нами будет! — Она плачет, заглядывает немцу в глаза.
Вид у того смущенный. Отводит взгляд в сторону, нерешительно переминается с ноги на йогу.
— Какая есть причина ваш арест?
— Мы радио не слушали. Видит бог, что правда... Приемник был неисправный, разобранный. Скажите это начальнику, пан...
1 Отделение, внимание! Налево, кругом! Венигер, Петерле — вперед!
2 На плечо!.. Огонь!
329
— Всякий приемник надо сдать полиция. Неисправный тоже. Это ваша ошибка.
— Мы не здешние, пан. Не знали закона. Неужто нас за это расстреляют?.. О боже!..
— Если ваша правда, могут послать Германия. Концентрационный лагерь...
— Так почему на допрос не вызывают?.. Я все расскажу. Как перед богом. Попросите начальника, пан...
Мальчик проснулся, сидит на кровати, смотрит на немца. Глаза испуганные, круглые. Бескозырка на полу.
Жандарму неловко. Круто повернувшись, выходит.
Как немного нужно, чтобы зажечь в сердце человека искру надежды. Митя, слушая разговор со стороны, наблюдая за жандармом, не поверил ни одному его слову. Женщина поверила. Заметно повеселела. Вот она уже качает мальчика, прижимает к груди, смеется.
— Ив Германии можно жить,— говорит она будто сама с собой.— Мальчик мой... Разве мы едим много хлеба? Нам корочку — и будем жить...
Она еще совсем молодая. Почерневшее лицо, измученное, худое. Синие круги под глазами. Поэтому кажется пожилой.
В двери соседней комнаты, где сидит Сергей, щелкнул замок. Слышны шаги. Митя прислушался. Дверь закрылась. Шаги в коридоре. Митя вскочил на спинку кровати, заглянул в комнату. Сергея нет. Повели. На допрос? Или, может... Мучительно тянутся секунды. Митя смотрит через окно во двор. Если заурчит мотор, значит, все ясно... Как вчера с прокурором... Во дворе— ни души. Ходит по траве курица, клюет что-то. Как она сюда попала? Курица и тюрьма — совсем нелепо. Немцы могут просто: тесаком по горлу и в суп. Любят куриное мясо. Куроеды, яйцееды. Но не трогают. Может быть, курица принадлежит жандармерии?.. Ждут праздника? Тогда почему одна? Одной не накормишь ораву. Все полные, чистые. Хорошо едят.
хЭДитя старается думать обо всем, что не имеет отношения к Сергею, но теперь это удается ненадолго. В душе острое, как гвоздь, ожидание — когда послышится крик. Крик — избавление. Крик означает, что человек не сдается...
Из коридора доносятся шаги, голоса. Вчера ясно был слышен крик. Учительская, где допрашивают, в этом кры¬
330
ле. Через четыре класса. Слышно, когда сильно кричат. Тело становится вялым, расслабленным. Во рту пересыхает. Хуже всего неизвестность. Вчера он пугался крика. Дурень. Всего одни сутки сидит он здесь. А кажется, прошла вечность. Там, за стенами школы, ставшей тюрьмой, нет ничего. Все здесь... Свет сошелся клином... Пусть бы вызывали. Почему не вызывают?.. Сколько прошло времени, как Сергея повели?..
Митя начинает прохаживаться. От окна к двери. От двери к окну. Шесть шагов. Хлопец из Громов лежит, подвернув ноги. Со вчерашнего дня не вставал. Не сидел даже. Бурду, принесенную утром, выпил из миски лежа. Так избили. Больше не вызывают. Не бьют. Твердый парень. Даже не стонет. Хочет отомстить старосте. Как же фамилия этого старосты?.. Он вчера называл. Гнедко. Да. Гнедко. Нужно запомнить. А зачем?.. Если Сергей не кричит, значит, все. Может быть, держат перед дверью?.. Зачем тогда вывели из камеры?.. Во дворе не видно. Курица исчезла. Ясно, не жандармская. Просто приблудилась... Овсяник похрапывает. Учитель недоуменно посматривает на Митю. Понимает, что тот волнуется. Хороший человек. Доверчивый. Как дитя...
Митя остановился у окна. Уже ни на что не надеялся. До боли ясно чувствовал, сознавал: минуло времени больше, чем нужно Сергею, чтобы пройти коридор, очутиться в учительской. И вдруг послышался крик. Мучительный, протяжный. По крику нельзя узнать человека. Голос меняется. Все кричат одинаково. Но он знал, что это Сергей. Обессиленный, Митя свалился на кровать...
Крик стоит в ушах, пронизывает все тело, колет в сердце. Женщина подхватилась. Глаза у нее большие, страшные. Прижимает к себе мальчика. Овсяник спит. Может быть, притворяется?.. Учитель вытирает платочком лоб. Руки дрожат...
На минуту крик стих. Потом снова. Сколько можно бить человека? Они его убьют... Звери... Звери шалеют, когда видят кровь. Имел ли он права требовать этого от Сергея?.. Его же самого не бьют. Сергей спасает его. Их всех... Зачем? Стоит ли жить, если есть такое?..
Митя чувствует: еще минута — и он не выдержит. Закричит, бросится на пол, будет биться головой о стену. Все равно. Лишь бы самому узнать боль, погасить огонь, сжигающий грудь. Невозможно слушать нечеловеческий
331
крик. В эту минуту Митя готов взять вину на себя. Пусть бьют, издеваются над ним самим... Но он еще лежит. Не шевелится. Молчит. Сжимает до боли зубы. Как из-под земли слышит глухой голос Бадейки:
— Вашего товарища пытают?
Он не сразу понимает, о чем спрашивают. Крик тише, но еще продолжается. С короткими перерывами. Митя представляет себе здоровых, мордастых немцев, в нижних вязаных рубашках, с березовыми палками в руках, которые вчера сидели в учительской. Видно, бьют по очереди. Пока каждый не устанет.
— Вы можете не говорить, не нужно,— слышится тот же глухой голос.
Митя встает, садится. В голове шумит. В глазах зеленые круги разбегаются, будто волны. Широкое, небритое лицо Бадейки — он сидит напротив, на краю кровати,— сначала как в тумане. Потом туман рассеивается. Лицо человека бледно. На нем боль. Митя будто вернулся в другой мир. Тут все обычное, знакомое, что он привык видеть всегда. Люди здесь сочувствуют друг другу...
— Моего товарища бьют,— отвечает он вполголоса.
— Понимаю. За что взяли?
— Спрашивают о приемнике. Может, еще о чем-нибудь. У него нашли наган...
— Вы слушали радио?
— Слушал.
— И не один вы?
— Не один.
— Я вас понимаю.— Учитель тяжело вздыхает.— Легче помирать, когда не один... И муки переносить. Если у человека есть идея, он легко идет на смерть. Есть за что собой жертвовать. Хотя пытки можно и не выдержать. Тут обычная биология. Нервы сами кричат...
Многих хватило бы на то, чтобы умереть героически, за одну минуту, думает Митя. Он сам так умер бы. А попробуй — неделю... Никто ничего не может о себе знать — о своей воле, мужестве,— пока не попадет в это страшное место. Никто не может сказать: «Выдержу». Это зависит от многих причин. Бадейка говорит правду — более всего от той невидимой силы, которую не выявили в человеческом теле ни анатомы, ни физиологи,— от души, от идеи. Тело мучается, его рвут на части, миллионы нервов посылают туда, в центр, который называется мозгом, сигна*
332
лы о беде, о катастрофе тела, а мозг, забыв обо всем этом, должен держаться. Выдержит ли Сергей?
Митя прислушивается. Крика больше не слышно. Он не уловил мгновения, когда настала тишина. Может быть, потому, что крик все время стоял в ушах.
Не хочется верить, что все кончилось. Кажется, сейчас снова начнется. Проходит минута, другая. В соседней комнате открывается дверь. Глухой шорох — Сергея тащат по полу. Щелкает замок...
Митя хотел бы стать на спинку кровати, заглянуть в комнату, где Сергей, но не может. Что-то, чему нет названия, мешает ему сделать это. Сергея мучили, его — нет. Он не имеет права даже утешить.
Учитель пересел на Митину кровать. Шепчет в ухо, обдавая горячим дыханием:
— Вы мне ничего не рассказывайте, не нужно... Никому не нужно знать лишнего. Поверьте мне — я многое видел. На войне был. На империалистической. Там ногу потерял. Тогда был такой молодой, как вы. Может, чуточку старше. Есть много смелых людей, которые ничего не боятся. Но тут другое... Тут сломать могут самого смелого. Я за себя не могу поручиться. Только люди великой идеи могут выдержать.
Митя смотрит на Вадейку — лицо у него грустное, исполосовано морщинами. Теперь он кажется очень старым. Щетина на висках седая, в серых глазах — тоска.
— Вы удивитесь, вам трудно понять,— говорит учитель уже громко.— Но мне нужно сказать... Долго молчал. Признаюсь искренне — учил в школе одному, а сам думал другое. Многое не по мне было, не нравилось. Теперь каюсь... Слепой был... Не видел дальше носа. И не сегодня я таким умником стал. Еще там, в деревне... Просто есть плохие люди. Которые преследуют только шкурные интересы. Вчера заявления писали, доносы, а сегодня перед немцами выслуживаются. Одного такого хорошо знаю. Спаткай фамилия. Председателем сельсовета был у нас. Сына своего Октябрем назвал. Спаткай Октябрь... Так вот, оба эти Спаткай из шкуры лезут, чтобы выслужиться перед немцами. Отец был в истребительном батальоне, партизан выдал, а теперь — бургомистр волости. Сын — полицейский.
Отец, чтобы поверили ему новые хозяева, осенью еврея Застрелил. Прятался в лесу один, по фамилии Фукс. Меня
333
этот Спаткай писарем к себе пригласил. Не выдержал я. «Какому же, спрашиваю, богу молишься, Спаткай? Немецкому или советскому?..» Махнул рукой, хохочет: «По мне, говорит, пусть никакого не будет. Проживем и без бога».
Видите, страшный какой человек. А я его большевиком считал, по нему советскую власть мерил...
Свесив голову, Бадейка что-то вспоминает, трет ладонями виски.
— Плохим был я учителем,— продолжает глухо.— Можно сказать, проспал эпоху. Поэтому остался один... Теперь хотел помочь советской власти, да не знал как. Слушал радио. Не мог иначе. Как бы заново родился на свет... Собирался догнать то, что упустил. Да вот их подвел. Мне ничего, я пожил, а она, а этот ребенок... Что они видели?..
Вечереет. Колеблющиеся тени от тополя под окном ложатся на стену. Бадейка вздрагивает всем своим большим телом, мучительно морщится...
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 1
Вечером на школьном дворе снова оживление. «До ветра» ведут сразу по двое, по трое. Цепочка полицаев и арестованных почти не прерывается. Много новых людей, которых не видно было ни вчера, ни даже сегодня утром.
— Шелега повели! — не то с удивлением, не то со страхом восклицает Овсяник.— Значит, и ты, Иван... А я думал...
Что он думал, Овсяник не договаривает. Митя стоит с ним рядом, смотрит в окно. Среди идущих под конвоем выделяется высокий, плечистый человек, которого полицай ведет отдельно. Митя его и вчера видел. Фигура человека знакомая. Кто-то из районных работников.
— Его и вчера водили,— говорит Митя Овсянику.
— Вчера?.. А почему ты не сказал?.. Это Шелег... Держал мастерскую.
Мгновенно вспоминается Драгун. Он не один, это ясно. Связан с партизанами, а это целая цепочка людей. Гаечных ключей так и не передали. Немцы по деревням.-
334
Агроном сказал: «Будешь у нас связным...» Не хотел знакомить ни с кем, даже с теми, с которыми он, Митя, вместе слушал радио. Он их не подведет. Никого не подведет. Лучше погибнет. Что думает о нем Сюзанна?.. Как там она — больная?
— Полместечка арестовали,— возбужденно говорит Овсяник.— Смотри, сколько новых. А за что этих женщин?..
Действительно, во дворе большинство новых. Женщин полицай ведет гуртом. Они испуганно оглядываются. Их, должно быть, арестовали сегодня. Теперь понятно, почему до полудня в тюрьме было тихо.
Хватали людей.
— Мама, мамочка моя! — в отчаянии кричит жена учителя.— Иван, они маму взяли!.. Мама здесь!.. Повели!.. Зачем она им? Что сделала?.. Всех хотят уничтожить... Всех, всех!
Женщина затрепетала как пойманная птица. Заламывает руки, бросается на подоконник, на решетку, надрывно рыдая. Мальчик уже не может плакать. Сидит тихо, испуганный. В учительской допрашивают. Крик то стихает, то доносится снова.
Вечером, когда совсем стемнело, Митя слышит осторожный стук во внутреннюю дверь. Отзывается, взбирается на спинку кровати. Сергей на полу, возле самой двери. Голос чужой, незнакомый:
— Я так и сказал... Как ты говорил... Об учителе спрашивали... Ходил ли к нему слушать радио... Живет близко от меня... Не знаю его... Били!
Он говорит что-то еще, но неразборчиво, глухо, будто из-под земли. Митя молчит. Не знает, что сказать. Нет никаких слов. Так стоит несколько минут, вглядываясь в полумрак комнаты. Наконец просит:
— Ты усни, Сергей... Спи... Тебе нужно поспать...
Сергей не отвечает. Митя ложится, долго лежит с открытыми глазами. Сон не идет. Ему кажется, что он слышит прерывистое дыхание Сергея. Сергей рядом. Их разделяет только дверь...
— О вас спрашивали,— шепчет Митя, встав и наклонившись над кроватью учителя.— Это Сергей... Мой товарищ. Был на допросе...
Бадейка, подавая знак, что понял, прикоснулся к его руке. Митя снова ложится на кровать.
335
Ночь тревожная. Тюрьма полнится шорохами, шагами, приглушенными голосами. Музыки, как вчера, нет. Кусочек неба, видимый из окна, усеян звездами. Их много. Блестящие, будто омытые росой. Далекие, неизвестные миры. Может, и там есть люди?.. Войны, тюрьмы?..
Где-то, должно быть на железной дороге, раздается пулеметная очередь. Потом еще... Тополь стоит под окном, как немая черная горка. Остро пахнет полынью. В середине лета всегда так пахнет. В поле доспевает теперь рожь. Ночью, под звездами, колосья тихо-тихо шелестят. Земля дышит теплом. Воздух будто настоян на тысячах трав... Неслышно носятся летучие мыши. Как они видят ночью?..
Мысли о звездах, поле, ржи, о тех ежедневных проявлениях жизни, которые сопутствуют человеку с детства, приносят успокоение. Незаметно подкрадывается сон.
Просыпается Митя от громкого стенания. В первое мгновение, не будучи в силах разобраться, где он, немеет от холодного ужаса. В проеме окна черная фигура. Она шевелится, взмахивает рукой. Сквозь страх, который сковал тело, до сознания наконец доходит, что это жена учителя. Держа на одной руке мальчика, GHa как бы молится.
— Мы полетим к звездам, хороший мой!.. Далеко-да- леко... Звезды — человеческие души. Чистые, невинные. Сами станем звездами. Рядом будем, хорошенький. Будем светить над землей... Нам будет хорошо, тихо. Нет на земле счастья. Жизнь — проклятая...
— Она с ума сошла,— испуганно шепчет учитель.
Он пересел к Мите, все его большое тело дрожит.
Женщина причитает. Теперь голос ее сделался мягким,
спокойным, в нем как бы совсем нет тревоги. Кажется, она просто поет колыбельную:
— Ты станешь ангелом, хороший мой... Никогда не летай на землю. Она проклятая, проклятая... На небе спокойно. Там людей не мучают, там мы будем любить друг друга. Никто нам не помешает любить...
От этого напевного речитатива становится жутко. Учитель молчит. У него, видно, не хватает сил, чтобы остановить жену. Мальчик спит у матери на руках. Ритмично покачиваясь, она стоит перед окном, и кажется, нет ей дела до камеры, тюрьмы, до всех этих людей, которые дышат, надеются, хотят жить.
336
— Далекие звездочки!.. Возьмите нас к себе... Скорей возьмите... Мы не хотим здесь... Здесь тесно людям... Все ненавидят, дерутся, не дают покоя... Мы хотим покоя. Мы прилетим к вам, звездочки...
Учитель встает, подходит к жене.
— Мария, ляг,— просит он.— Ты устала. Поспи.
Она подчиняется без слов. Кладет на кровать мальчика, укрывает его платком. Примостилась сама. Через минуту спит уже. Тихо, ровно дышит.
Учитель лег с Митей. Оба не спят. В коридоре толкотня, топот, приглушенные голоса. На улице загудел мотор. Трудно понять — привезли кого-нибудь в тюрьму или везут отсюда?
— История кровью написана,— вполголоса, будто сам с собой, рассуждает Вадейка.— С самых первых шагов человека. Но мир такого давно не видел. Давно... Может быть, со времен Чингисхана. Никакого уважения к человеку. Абсолютно никакого. Смотрят на него как на скотину. Где те добродетели, которыми столько веков похвалялась Европа? Христианство, гуманизм... В двадцатом веке Германия поставляет миру палачей. Выродков... О, какую правду писали большевики, когда предупреждали относительно фашизма!.. Я не верил, думал, пропаганда... Большевики возвратятся, дорогой мой, поверь мне. За нас отомстят. Одни они могут спасти человечество. Старый мир сгнил. Он осужден на гибель, иначе как объяснишь такое. Когда в обществе берут верх низкие инстинкты и чувства, оно гибнет. Проверено историей. Содом и Гоморра, древний Рим... Фашизм — это агония, закат старой Европы. Помрачение сознания. Да, в человеке есть темное, звериное. Этого нельзя отрицать. Достоевский это хорошо видел. Фашисты поднимают низкое в человеке, как знамя. Видят в нем только зверя. Так Ницше их учит. Вот он, сверхчеловек в натуре... Белокурая бестия... Будет идти по костям, по черепам. Плевать на цивилизацию, на культуру... Фашизм — проклятие человечества. Он превратил немца в послушную машину для уничтожения людей. Поздно я это понял... Ох, как поздно!..
Тело учителя горячее, говорит он торопясь, захлебываясь, будто боится, что не успеет всего высказать. Митя взволнован, возбужден. Но и сквозь мучительный хаос, царящий в его душе, пробивается мысль: Вадейка за¬
337
был о положении — своем, семьи, слова его — как на митинге.
— Раскормили фашизм маленькие, трусливые люди. Которые привыкли гнуть шею... Моя хата с краю. Лишь бы набить живот... Прожить как-нибудь... А фашисты хитрые... Козыряют высокими понятиями. Судьба нации, отчизны... Новая Европа... Гитлер в каждой речи призывает в свидетели провидение. На эту приманку тоже клюнули. Человека купить, оказывается, можно дешево. Помани пальцем — он и побежит... Но тяжким будет похмелье...
— Вы давно слушали радио? — спросил Митя.— Что передают наши?
Бадейка на минуту смолк, задумался.
— Позавчера слушал. Может, последний раз в жизни... Плохо на фронте... Бои на Дону. Ясно, немцы рвутся на Кавказ и к Волге. Хотят нефть захватить, перере: зать главную водную артерию. Что тут скажешь, дорогой мой... Прохлопали мы что-то очень важное. Кричали, вопили, а как до дела дошло... Теперь кровью платим. Миллионами жизней... В этой войне человек — как муха... Война и тут тоже. Немцы хотят уничтожить нацию. Жизненное пространство себе завоевывают. Я уверен — проиграют они войну. Иначе быть не может. Они рассчитывали на быстрый успех — Москва говорит об этом все время. Теперь война стала затяжной. Немцу такое — нож в горло... Но... Пройдет не год, не два, пока все кончится...
— Вы преподавали в школе историю?
— Нет, мой дорогой. Биологию и химию. Историком сделался за последний год. Политиком тоже. Книг перечитал пропасть...
— Хороший вы человек. Смелый.
— Поздно я стал им. Теперь не поправишь. Давай попробуем уснуть. В нашем положении сон — самое главное...
Мите хочется сказать этому человеку много благодарных, теплых слов. В книгах, которые он прочитал, были разные герои, по-разному восхищали. Но ни один из них не похож на Бадейку. Учитель ничего не сделал, ошибался, каялся, но с ним не страшно. Даже умирать... «Мягкотелый интеллигент»,— выплыла откуда-то прочитанная фраза, и, улыбнувшись ее неуместности, Митя уснул. Так прошла вторая ночь.
338
2
— Сон я видел,— доверчиво сообщил Вадейка, как только Митя проснулся.
Он сидит на краю Митиной кровати, сын, Петя, рядом с ним/Мальчику не сидится: вертится, дрыгает ногами. Женщина, свернувшись в клубочек, спит одна на матраце.
День начинается ясный. Солнца в окне нет, оно еще только всходит. Тополь зеленый, будто умытый. Во дворе, над зелеными островками муравы, поднимается белый, еле заметный дымок.
— Сдается, нас посадили в машину, повезли,— рассказывает учитель.— Ну, известно куда... День вот такой, как сегодня. Едем, едем. Кругом поле, овес. Еще зеленый. Машина мчится быстро, но там, где что-нибудь растет, земля мягкая. «Прыгай!» — кричу жене. Она прыгнула, и не видно ее. Спряталась сразу. Тогда я за Петю и вслед — гоп из кузова. И овсом, овсом. Пригибаюсь, бегу. По мне стреляют, но где там. Дудки попадешь... Что бы мог значить такой сон?..
Овсяник встал, позевывает, расчесывает рукой густо заросшую бороду. Хлопец из Громов сидит на полу, слушает.
— Только, сдается, снилось, что у меня две ноги. Где же взять вторую, если придется убегать?
Учитель не то шутит, не то говорит серьезно.
— Коза от бабки убежит,— задумавшись, говорит Петя.
— Бабка ее привязала, сынок.
— Вырвется, она хитрая. Она раз вырвалась и забодала Витю. А он бил меня.
— Почему ты не сказал?
•— Он мне сливы давал. Только они горькие.
— Не нужно есть зеленых слив. Живот будет болеть.
— А я не ел. Побросал...
Вчера Петя казался молчаливым, испуганным, на всех поглядывал с опаской. Сегодня освоился, осмелел. Вот он уже на подоконнике, держась за железные прутья, смотрит во двор.
Во дворе все такая же процессия к уборной...
Завтрак разносил снова вчерашний полицай с жандармом, который говорит по-русски. Жандарм на минуту задержался перед Овсяником:
339
— Баша жена пришла... Сказала — хочет быть с вами. Ее посадили тут, турма...
— Зачем она пришла? — поднялся Овсяник.
— Не знаю.
Нерешительно повернувшись, окинув комнату испуганным взглядом, жандарм вышел. Овсяник повис у окна. Стоит, вглядываясь в каждую женщину, которую проводят по двору.
В коридоре суета еще больше, чем вчера с полудня. Кажется, там беспрестанно маршируют. Стучат наверху. Через разбитое стекло в комнату залетела стрекоза.
— Поймай пшайку,— трогая отца за рукав, просит Петя.
— Подожди немного. Прилетит другая, ту словлю.
— А почему не хочешь эту?
— Она кусается.
Стрекоза села на стене, как раз под надписью, которую сделал десантник. Митя думает, что означают слова: «Нет, я буду сквозь слезы смеяться». Над чем смеяться? И почему сквозь слезы?.. Человек, написавший это, видно, чувствовал себя несчастным. Не успел ничего сделать и попал в лапы к немцам. Иначе нельзя объяснить надпись. Но не хотел сдаваться. Смеялся над собственной судьбой.
Овсяник жены не увидел. Выходил с полицаем во двор, задержался там более обычного, но так и не удалось увидеть. Жену учителя выводили с мальчиком. Сегодня она безразличная, молчаливая. Лежит на кровати, отвернувшись лицом к стене.
Солнце поднялось уже довольно высоко, его лучи, пробиваясь сквозь ветки тополя, ложатся пестрыми зайчиками на стену. Овсяник закурил. Достал откуда-то из- под матраца коробок. Примерившись, боясь зря испортить, осторожно чиркнул спичкой. Пальцы дрожат.
— Дайте покурить,— просит хлопец из Громов.
Сегодня он не лежит. Выходил даже во двор. Теперь
сидит в уголке, прислонившись спиной к стене. Кровати ему нет.
Сизоватый дым вьется кольцами. Невидимо тает под потолком.
— На, бери,— протягивает окурок Овсяник.
Хлопец пробует встать, но ему трудно, и Овсяник сам
подходит к нему*
340
Овсяник неожиданно разговорился. Ни позавчера, ни вчера в опасные разговоры не вступал. Теперь начинает говорить горячо, злобно.
— Фашистов бить нужно, уничтожать! — почти кричит он.— Только так... Вы же знаете, я был в истребительном батальоне. Пошли в лес... Двадцать винтовок, два ручных пулемета — можно воевать. И воевали. Скажу — чего теперь таиться... Как немцы в первые дни по шоссе валили, две машины мы подстерегли. Легковую и грузовую. Каши наделали... А потом...— Как бы в отчаянии, Овсяник машет рукой, вздрагивает.— Потом неразбериха началась... Фронт прошел, и нет немцев. Раз выходим на шоссе, второй, третий. Голо. Пусто. Хоть бы мотоцикл какой или подвода. Будто все вымерло. Не с кем воевать. Полицейских этих, старост еще не было. Может, где и были, но боялись нос высунуть. Поверите, вшами за месяц обросли. Как маку вшей. От тоски. Сидим, едим консервы. С сухарями. Трое сбежали. Может быть, знаете, Адамчук, дорожный мастер. Его и в истребительный батальон взяли как специалиста. На случай, если придется взрывать железнодорожные мосты... Так этот специалист счел за лучшее пригреться около немцев. Убежал, сволочь, с оружием. Лови теперь, свищи. Вслед за ним Спаткай, Косаревич. Я слыхал, товарищ Бадейка, как вы вчера про Спаткая рассказывали. Правильно... Кто мог подумать, что такой может предать. Был председателем сельсовета...
В соседней комнате возня. Что-то глухо, как мешок, падает на пол. Щелкает в замке ключ, шаги по коридору. Митя подхватывается, становится на спинку кровати. Сергей лежит на полу распластавшись, как неживой. Волосы сбились в комок, мокрые. На пиджаке и штанах рыжие пятна. Привели с допроса. Но никто не слыхал, когда за ним приходили. Крика также не слышно было. В таком шуме можно и не услышать.
— Били Сергея опять,— сообщает Митя.
Овсяник опустил глаза, задумался.
— Меня тоже били,— болезненно поморщившись, тихо говорит он.— Вспомнить страшно. Вставал и ложился с одним — скорей бы конец...
Превозмогая внутреннюю скованность, нерешительность, продолжает:
— Всем мстят за истребительный батальон. Ии одного
341
не оставили. Те, которые домой вернулись из леса, в тюрьме все. Предателей одних не тронули. Кто продался. Адамчука, Спаткая... А разошлись через них...
Оборвав рассказ, Овсяник внимательно всматривается в лица слушателей. Будто оценивает каждого — учителя, Митю, хлопца из Громов.
— Когда сбежали эти — ясно стало: жди гостей,— говорит он, осмелев.— Они ведь все знали. Где склады, где тайники. Только и успели перенести лагерь. Но беда пришла с другой стороны. Откуда не ждали. Пошли в разведку Матвеев и еще двое — нарвались на засаду. Всех троих — наповал. Четвертого посылаем в разведку, в местечко, а он возвращается с женами. Три сразу явились. Моя тоже. Плачут, у моей как раз письмо от бургомистра, от этого Крамера. В нем наши фамилии перечислены, все. Ясно — предатели постарались. Пишет бургомистр мягко, вежливо. Мол, идите домой — ничего не будет ни вам, ни вашим семьям. Если же не вернетесь, пеняйте на себя. У немцев законы жестокие — цацкаться не будут с семьями бандитов. Филимонов, председатель райисполкома, видит — дело швах. Четырнадцать человек осталось. Ни склада, ни запасов. С пятью человеками подался на восток, нам приказал переходить в подполье. Анкудович и еще трое оружие, правда, не сдали.
Все с этого началось,— упавшим голосом продолжает Овсяник.— Попробуй переступи жену, детей. Смелость или трусость ни при чем здесь. Руки опустились... Я тот день проклял, когда согласился остаться в истребительном батальоне... Не один я. Все, у кого в местечке семьи. Мог же в армию пойти. Армия — святое дело. Даже немцы не мстят семьям красноармейцев...
Митя смотрит на Овсяника с жалостью. Три дня назад думал о нем как о самом обыкновенном шкурнике. До войны районным Осоавиахимом руководил, а тут пришел из леса, сдал винтовку, носа из хаты не показывал. Весной, когда немцы хватали примаков и подозрительных, даже далеко отбежать от местечка не мог. А как таился насчет оружия!.. Сколько ходил за ним Сергей!.. Как его уговаривали, просили. Микола, поступив в полицию, сколько раз навещал его в камере! И все напрасно. Молчал Овсяник... Рта не раскрывал... Верить не хотел никому. Теперь рассказывает чужим. Кто для него учитель или этот хлопец?..
342
Да, раньше все казалось понятным, простым — трус, шкурник. Теперь так не скажешь. Язык не повернется. Все перепуталось, смешалось. Как винить человека, если он спасает семью?.. Кто сможет принести такую жертву? Может быть, и есть люди. Они — герои... Овсяник — обычный человек. Как Митин отец, как большинство людей, которых Митя знает...
— Отпустили нас,— рассказывает Овсяник.— Филимонов отпустил. Пять человек. Разворачивать в местечке подпольную работу. Но какая тут работа,— он безнадежно машет рукой.— Глаз не спускала полиция. На тебе ведь клеймо — в лесу был, в партизанах. За каждым шагом следили. Ошибка была допущена в самом начале. Чья голова так сварила — оставить здесь семьи?.. Ты не боец, если знаешь, что семья в западне...
— А куда девалось оружие? Вы же знали.
Вид у Овсяника прибитый: плечи опущены, русые волосы серыми прядями, нечесаные, взлохмаченные, синие глаза — как глубокие колодцы. В них — тоска.
— Теперь можно сказать,— после продолжительного молчания говорит он.— Оружие кто-то забрал. И яму засыпал. Но не немцы. Им я не отдал. Кто-то еще знал, кроме меня и командира.
Митя вздрагивает. Тайна раскрыта и вместе с тем существует. Но оттого, что ею владеет не Овсяник, а кто- то другой, неведомый, радостно. Кто он, этот незнакомец?.. Почему так упорно молчал Овсяник? Мог же раньше сказать...
— Мы глупость сделали,— волнуясь, продолжает Овсяник.— Те, что из леса пришли... Нужно было доверие у немцев заиметь. Притворяться, хитрить. На службу к ним пойти. Надеть волчью шкуру. С волками иначе нельзя. Пусть бы нас предателями называли... Это смылось бы. Но зато что-нибудь сделали бы. А так показывали кукиш в кармане. Забились в щели, как тараканы. Бойкот объявили службе. Если уж попал в г...— не чирикай. Герои, мученики за советскую власть! Нелепо. Разве немца этим возьмешь? Он полсвета скрутил и разрешения ни у кого не спрашивал. Похватали всех, как щенков. Теперь маши кулаками...
Неожиданно Овсяник бросается к окну, хватается обеими руками за прутья решетки.
— Настя! Настя!
34$
Кричит изо всей силы, не заботясь о том, что услышат конвоиры и часовые в коридоре. Из группы женщин, ко* торых ведут по двору, вырывается одна — низенькая, в белом платочке,— подняв руки, как крылья, бежит к окну. Навстречу ей полицай. Грубо толкает — женщина падает. Овсяник бьет кулаком по окну — звенит, падая, разбитое стекло.
— Сволочи!.. Предатели!.. На виселицу всех!..
Женщин, толкая в спины прикладами, гонят обратно
в помещение. Низенькую — это жена Овсяника — подхватили под руки, она вырывается, кричит. Раскрывается дверь —в камере два рослых жандарма.
— Heraus!
Правая рука Овсяника по локоть в крови. Кровь капает на разлезшиеся ботинки, на пол. На минуту он останавливается, обводит потухшим взглядом комнату, хрипло, почти шепотом выговаривает:
— Прощайте, товарищи...
Стучит дверь. По коридору громкие четкие шаги жандармов. Под окном, дробя сапогами стекло, топчется полицай. Заглядывает в комнату — лицо мясистое, красное* нос как груша,— сквозь зубы цедит:
— Зашевелились... Клопы...
Через разбитые стекла в комнату струится свежий воздух. У Мити кружится голова. Кажется, он плывет. Плывет вместе с ним все — комната, тополь под окном, школьный двор. Учитель сидит рядом, почему-то шепчет:
— Сорвался... Нервы... Хотя все равно...
Петя, испуганный, молчаливый, прижимается к матери, закрывая глаза. В настороженной тишине мучительно бегут минуты.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1
Митя лежит. Спит и не спит. Набегает волна полусна,, полубреда. Перед глазами, стремительно сменяясь, знакомые картины — зимняя дорога в поле, кусты в пушистой мережке инея, белый искристый снег. Белизна режет глаза. Потом снег неожиданно синеет. Синий-синий... По дороге идет человек. Фигура знакомая, но. лица не видать.
344
От этого страшно. Дрожь пронизывает тело. Человек что- то кричит, но слов нельзя разобрать. Потом отчетливо доносится фамилия Мити «Птах»... Как-то горлом, будто человека душат.
Митя открывает глаза. Дверь в камере раскрыта, в ее проеме немец — высокий, в желтой рубашке с расстегнутым воротником.
— Ptach, heraus!..1
Митя, еще полусонный, выскакивает в коридор пулей. Немец смотрит недовольно:
— Mutze,— и показывает рукой на голову.
«Шапка»,— доходит до сознания. Входит обратно в
камеру, берет с кровати кепку. На лице учителя растерянность.
— Прощайте, товарищи,— говорит Митя не своим, чужим голосом.
По коридору идет, как в тумане. Заплетаются ноги. Проходят мимо учительской. Немец почему-то шагает впереди. Открывается дверь с надписью «Kanzlei», Митю оставляют одного. В комнате голоса, громко кричит женщина: «Не виновата, паночки...» Что все это значит?..
Потом дверь открывается, женщина выходит из комнаты, направляется к выходу одна. На лице слезы и улыбка.
Митя в канцелярии. За столом офицер, который допрашивал. На Митю не смотрит, листает книгу. Тот самый косенький переводчик рядом, возле стола. Немец что-то зло говорит.
— Ты виновен,— передает косенький.— Имел дружба с бандитом. Ходил до нього. Но тебе не стреляем. Этот раз вину забываем. Второй раз — нет...
Горячая, радостная волна захлестывает грудь, подступает к горлу.
— Я не знал, что он бандит,— отвечает Митя и удивляется своему голосу — до того он искренний, правдивый.
Косенький переводит, со злом говорит что-то сам офицер, потом снова он:
— Ты не должен дружить с бандитами. Должен честно работать. Второй раз — смерть. Понял?
— Я не виноват.
Офицер нетерпеливо машет рукой. Переводчик объясняет:
1 Птах, выходи!„
345
— Иди к мамке. Прэндзай. Бойсь дружба с бандитом. Видел, цо есть тутай?
Митя в коридоре. Идет к выходу, там полицай, который спокойно его пропускает. На улице день клонится к вечеру, длинные тени от деревьев, заборов. Ходят люди. Тишина. Покой. Неистовая радость распирает грудь: он жив, будет жить... Минул школьную ограду, под ногами песок, скрипучие доски тротуара. Все, что кругом, Митя будто видит впервые. Клуб, череда тополей, в скверике трибуна с ободранными досками. Как кругом хорошо, тихо... Мелькает мысль о камере, о Сергее, но и она не заглушает радости, которая бушует в груди. Он жив, будет жить...
Митя чувствует себя победителем, хотя его и не пытали. Главное — не испугался. Его не сломили. И не сломят. Просто нужно быть умнее. Он сделал пока мало, но сделает больше, будет бороться...
Радость безграничная, бездумная, эгоистичная. Так в первую минуту чувствует себя боец, который бежит в атаку и, миновав опасный рубеж, радуется, что пуля его не тронула.
Он жив, будет жить...
2
Иван Лобик, Вилюга, Шура — с работы он отпросился — прячутся у деда Лобика. Усадьба деда за железной дорогой, поодаль от шляха, между местечком и деревней Кавеньки. Четыре огромных дуба стоят на усадьбе, выделяя ее, как остров среди ржаного поля.
Дед воевал и в империалистическую войну и в гражданскую, у него на фронте четверо взрослых сыновей, из которых один комбриг. Старик и теперь ходит в разведку, в местечко. Хлопцам пришлось рассказать деду свои тайны.
У Вилюги на второй день после ареста Сергея был обыск. Перетрясли все в хате, в хлеву. Ни у Шуры, ни у Лобика обыска не было. Такие сведения принес дед. Лобик кипятится, обвиняя Вилюгу.
— Ясно, Босняк выдал. Говорили же вам, предупреждали — не связывайтесь. Что вы о нем знали? Старший лейтенант, одессит. Вот тебе одессит.
346
Теперь Лобик осторожен. К деду перебрался в тот же вечер, в который подложили мину. Разбито три вагона, поврежден паровоз, убито несколько немцев. Вилюга не скрывает растерянности. Вдобавок к тому, что его ищут немцы, ему и повестка в Германию. Жизнями людей в эти дни распоряжаются два учреждения, которые просто не согласовали между собой своей деятельности. Жандармерия хочет Вилюгу арестовать, гражданская власть — послать в Германию.
Хлопцы сидят в хлеву, на сеновале. Полумрак, душно. Сквозь щель в стене пробивается солнечный луч, но впечатление такое, что вокруг ночь. На большаке — он не так далеко от усадьбы деда — крики, плач. Девчат и хлопцев из деревень везут на станцию, для отправки в Германию. Там эшелон из двадцати вагонов.
На первый взгляд ясно, что делать. Митин тайник знают. Там обрез и винтовка. Договоренность с весны — оружие забирает тот, кому в местечке оставаться больше нельзя.
Но нельзя идти в лес, ничего не зная о судьбе Сергея, Мити. За Миколу спокойны. Уже с месяц он не в местечке, а в охране шпалорезного завода, налаженного немцами вместо бывшей лесопилки, неподалеку от деревни Громы, где когда-то учительствовал Микола. Недавно он приходил, принес новости. Через знакомую учительницу связался с десантниками. Передали мину, которую нужно подложить под локомобиль. Мина фабричная, с часовым механизмом.
В полдень Вилюга спрыгивает с чердака.
— Схожу в разведку, пронюхаю, что дома.
— Схватят,— предупреждает Лобик.— Подожди, пошлем деда.
— Я рожью, огородами. Через час буду здесь.
Прошел час, два, три — Вилюги нет. Кончается всякое терпение.
— Я пойду,— вскакивает Шура.— Так подохнуть можно.
Лобик встает.
— Я с тобой.
Идут стежкой через ржаное поле. Уже вечереет. Навстречу женщина в красном ситцевом платочке. Вскочили
34?
в рожь, притаились. Нужно еще перейти осушенное болото. Траву на нем скосили, кое-где прибитые дождем копны. За болотом огороды, густая кукуруза, картошка.
— Подожди меня здесь,— просит Шура, отводя взгляд в сторону.— Не обязательно двоим лезть в петлю. Ты больше на подозрении — у тебя собирались.
Лобик остался, Шура пошел. По болоту идет не сгибаясь, прятаться некуда. Перескочил коллектор, огородом, бороздой подобрался к плетню, за которым широкий двор Вилюги. Во дворе тихо — никаких следов погрома. Притаился, ждет. Скрипнув дверью, из сеней вышла мать Вилюги.
— Тетка,— не вылезая из засады, позвал Шура,— подойдите сюда.
Женщина вздрогнула, хотела было вскочить обратно в сени, но, видно, узнав Шурин голос, остановилась.
— Не бойтесь, тетка,— зовет Шура.— Сюда подойдите.
Подошла, всплеснула руками:
— Это ты, Шурка... Боже, боже, что делается. Прячетесь, скитаетесь, как воры...
— Где Базыль, тетка?
— Где же он может быть, детка. Пошел на станцию, в Германию ехать. А что же делать? Нас, если сбежит в лес, всех постреляют.
Обида, горечь переполняют грудь Шуры. Базыль громче всех выхвалялся, казался самым смелым, а тут, даже не предупредив товарищей, решил все сам. Больше Шура прятаться не может. Выскакивает из-за плетня, идет через двор на улицу. На улице тихо. Поднимая густую серую пыль, возвращается с поля стадо. Кто-то, гакая топором, рубит дрова. Около поворота на станцию Шура встречает Гришу Цукара —того самого, который в прошлом году вместо приемника похвалился пустой коробкой. Цукар идет обвешанный приспособлениями для лазания по столбам — работает на почте.
— Что слышно? — спрашивает Шура.
— А что услышишь? Людей три машины расстреляли. И вон, на станции, в Германию забирают наших. Хорошо, что мы с тобой на работу устроились. А то поехали бы как миленькие...
348
Станция словно огромный цыганский табор. На запасном пути длинный эшелон из пульмановских вагонов, тут же на насыпи горят костры, снуют полицаи—не местечковые, а большей частью незнакомые, из окрестных деревень. Вместе с сыновьями и дочерьми приехали матери, отцы, провожают детей в далекую, страшную дорогу. Бегают около вагонов старосты со списками в руках, выкрикивают фамилии. В одном вагоне скрипит гармонь,— видно, подвыпив, поют хлопцы — молодые, такого же возраста, как Шура,— лица бледные, измученные. Обнимая дочь, громко причитает мать. Крики... Плач... Суматоха...
Шура хочет увидеться с Вилюгой. Пройдя два раза вдоль эшелона, понимает, что не найдет. Базыль в многоголосом шуме — как иголка в стогу сена. Видно, нарочно забился в щель, не показывает носа.
Охваченный одиночеством, отчаянием, побрел прочь. На душе пустота. «Хлопцев расстреляли,— сверлит мысль.— Было шестеро, осталось трое. Да и как оно дальше будет? Базыль недаром убегает. Чувствует, что нашкодил...»
Около поворотного круга, на запасном пути, стоят сдвоенные паровозы под парами. Шура заглянул в будку переднего — никого, заднего — пусто. Мысль родилась мгновенно. «Такого случая больше не будет. Если перебросить стрелку возле штабеля шпал — прямая дорога на торфозаводскую ветку. Колея перешита до половины, до моста. Мост взорван...»
Мысль работает четко, точно. Когда бежал к стрелке, переводил ее, стараясь не вызывать ни у кого подозрения, возвращался быстрым шагом обратно, к паровозам, не думал ни о Лобике, ни о сестре, которую, не предупредив, покидает. В голове одно: «Скорей бы...»
Вскочил по ступенькам в будку, рванул ручку реверса, нажал на регулятор. Слышал, как дико заскрежетали рельсы, больно стукнулся спиной, затылком о заднюю стенку будки. Паровоз с места взял чуть ли не полный ход...
Шальная, мстительная радость захлестнула грудь,— не помня себя, рванул гудок... Не слышал ни криков, ни беспорядочной стрельбы там, сзади, на станции...
34*
3
Митя вернулся в будку перед вечером. Дома кроткое, ласковое спокойствие. Сидят, разговаривают впотьмах, огня не зажигают. Ни отец, ни мать не попрекают. Митя рассказывает с неохотой, коротко, но родители не расспрашивают. Сам он знает уже все — о Вилюге, Шуре, Шнапсе, про обыск, который был в будке. Драгуна т тронули.
Вышел в полночь во двор — спать в душной будке не хочется. Ночь лунная, светлая. Скрипнул дверью хлева, и вдруг показалось, что на огороде, рядом с чучелом, поставленным от воробьев, в ячмене мелькнула черная фигура. Стараясь не выдать себя, вошел в хлев, закрыл дверь, приник глазом к щели в стене. Так и есть. В ячмене — на противоположном конце огорода — человек. Поднял голову, осмотрелся. Снова спрятался. Главное — не боится часового, который на переезде. Ясно, шпик.
Лег на сено, задумался. Совсем по-иному представляется освобождение из тюрьмы. Ждут гостей. Выпустили как приманку.
Не сомкнул глаз до рассвета. В тюрьме спал, дома не может. Утром, не выспавшись, как напоказ, вышел на переезд. Немец-часовой окинул Митю удивленным взглядом, отвернулся.
Стоял на переезде, будто заново узнавая окружающие места. Ложбинка, поросшая кустами,— там расстреляли Шнапса, песчаный шлях, ржаное поле, сосна на выжже- ном солнцем холмике. Всего этого он мог не увидеть, но живет, видит. Радость охватывает его снова, не может заглушить ее даже воспоминание о шпике. Шпик сидел ночью, теперь — Митя чувствует — его нет. Есть поле, на котором дозревает рожь, бурно растут яровые, светлое летнее утро, чистый/насыщенный ароматами трав, земли воздух. Синеет вдали затянутый мглою лес, с кустов на проволоку перепархивают птицы.
Гудение моторов нарушает тишину утра. На шляху три немецкие автомашины с тупыми радиаторами и широкими, вместительными кузовами. По краям кузовов, ощетинившись автоматами и винтовками, плотной стеной стоят немцы и полицейские. Машины прошли дальше, кусты, и тут все стало ясно. Последний грузовик вдруг
350
остановился, немцы и полицейские, сидевшие до этого в кузове, соскочили. Раздалось несколько винтовочных выстрелов, застрекотала автоматная очередь.
Митя не уловил момента, когда из грузовика выпрыгнули двое. Одного увидел убитым,— человек в черной рубашке лежит на краю канавы, вытянув руки. Фигура второго мелькнула среди пожелтевшей ржи — человек бежит к кустам на краю поля, по нему стреляют. Сразу исчез из глаз: может быть, ранили или убили, а может пополз. Немцы и полицаи им больше не интересуются. Бросили в кузов, взяв за руки и за ноги, убитого, вскочили сами. И тогда Митя увидел, что кузов полон людей. Они сидят на дне. Молчаливые, с серыми лицами.
Когда последний грузовик подходил к березовой рощице, донеслись автоматные очереди. Расстреливали тех, из передних двух машин. Подоспела последняя, и снова тишину нарушили треск автоматов и громкие одиночные выстрелы из винтовок. Все кончилось быстро, минут за двадцать. «Вадейка рассказывал сон,— пронизывает грустная мысль.— Точно все так, как сейчас наяву. Но убежал не он...»
Митя вздрогнул, почувствовав на себе чужой взгляд. Порывисто повернулся. Шагах в пяти, около перил переезда, толстый немец-солдат смотрит на него.
Заговорил, задыхаясь, путая немецкие слова с польскими:
—- Наци — Tod und Blut. Гитлер ест дьябэл. Герман — не вшистко наци. Ich bin Arbeiter. Непшиязнь к наци...1
Озирается, руки дрожат, на лице страх, ненависть, немая просьба, чтобы он, Митя, поверил.
— Ног mal zu, Kerl! В ноц не ходи. Тутай шпег...2
Повернулся, покачивая дородной фигурой, двинулся на другую сторону переезда. Митя не верит ушам. Немец предупреждает. Говорит про шпика. Первый немец, которого можно не считать врагом.
0 людях, которых недавно расстреляли, не думает. Вообще смерть, страдания воспринимает как обычное. Позавтракав, идет в огород, в ячмень, к месту, где стоит пугало — распятая на поломанных граблях, набитая соломой изношенная рубашка отца. Ячмень почти не при¬
1 Наци — это кровь и смерть. Гитлер черт.
Не все немцы — наци. Я рабочий. Не люблю наци...
2 Слушай, парень! Ночью не ходи. Тут шпион...
351
мят, но кучка окурков свидетельствует, что шпик здесь сидел. Отсюда виден двор и все подходы. Курил шпик не сигареты, а самосад. Не очень много платят ему.
Шпик приходил еще три ночи. Четыре кучки окурков из самосада.
На четвертый день зашел Микола. Повязка на рукаве пиджака, на плече — винтовка, козыряет немцу-часовому. Немец другой, не тот, который предупреждал. Микола с Митей идут рожью, стежкой к местечку.
— Через час я поеду,— говорит Микола, волнуясь.— Пришел сказать. Завтра будет разгром в Кавеньках. Я подслушал. Старосту собираются арестовать. Никто из Кавеньков не поехал в Германию. Будто все заболели.
Митя думает о Драгуне. Как передать Драгуну? Идти самому— рискованно. Говорит другое:
— Один хлопец со мной сидел. Из Громов. Староста Гнедко его выдал. Просил отомстить старосте.
Микола мрачнеет, прощается.
— Ну, я пошел.
Дома Митя берет дерюжку, косу, идет через переезд в рожь. Начинается уже жниво. Кавеньки от будки ближе, чем по шляху. Стоит пройти поле, кустарник, а там и деревня видна. В траве скачут кузнечики. Брызжут из- под ног, будто кто-то сыплет горстями зерно. Небо синее, спокойное.
Забравшись в кусты, Митя прячет дерюжку. Идет с косой. Старается ни о чем не думать.
На улице в Кавеньках безлюдно. На поле людей также не видно. Пройдя несколько хат, заходит в первые раскрытые ворота. Двор зарос травой, конским щавелем. Из-под навеса вылезает старый, толстый человек с взлохмаченными волосами.
— Где здесь живет староста?
— Я староста.
Удивляясь своему спокойствию, Митя рассказывает. Староста ни о чем не спрашивает. Чешет затылок, вздыхает.
4
Залегли в картошке, напротив бывшего колхозного двора. Дорога как на ладони. Дальше развесистая груша, осушенные торфяники. Позади, метрах в двухстах, ольшаник. Отступать есть куда.
352
Шелег лежит рядом с Якубовским. Голова забинтована, глаза ввалились — черные ямки.
Лежат долго, с ночи. Прогнали стадо. Вслед за коровами — овечки. Бросились было в картошку, но, почуяв людей, заблеяли, отхлынули обратно, на дорогу.
— Не могу себе простить,— сипло выдыхает Шелег.— Сам убежал, а дети, жена... Нужно было с зимы подумать. Мог же отвезти в Березняки, там теща.
Якубовский молчит, жует травинку.
— Любила фикусы... Чуть подрастут — продавать нужно: четыре раза переезжали. А теперь приехали... Попробуй вырви...
353
Сколько лежать еще, ие знают. Нет чувства времени. Солнце над головой — самый полдень. От картофельной ботвы горький, ядовитый запах. Начинает подташнивать. Якубовский удивленно разглядывает зеленые шарики на ботве. Никогда раньше не видел.
На дороге серый столб пыли. Якубовский приподнимается. Мчатся две легковые. Без охраны, без полиции. Не боятся — Кавеньки у гарнизона под носом. Вполголоса команда:
— Валюжич — первая машина, Батура — вторая... Го-о-о-товьсь!
Несколько мгновений тишина, и когда напротив кол-
12 И. Науменко.
354
хозного двора появляется черный лакированный «бенц»,— раздается громкий, нестройный залп. Второй, третий.
Партизаны выскакивают из картошки, у них перекошенные, черные лица, раскрыты рты.
— Га-а-а-а!
Стреляют на бегу. Первая машина проехала метров тридцать, остановилась, дымится. Вторая стала как вко- панная. Но стреляют по обеим, решетят пулями. В ответ ни одного выстрела. В первой машине открывается дверка, и на дорогу, как куль с мукой, вываливается кто-то в кожаной тужурке, хромовых сапогах. Ползет на карачках в картошку. Догоняют, бьют прикладом по голове.
В последней машине на боковом стекле густые звездочки пробоин; свесив голову на баранку руля, хрипит шофер; второй жандарм, с серебряными погонами, со сморщенным старческим лицом, падает на дорогу, как только дверку открыли.
— Попалась акула! Сам Швальбе!..
— Плищинского сцапали!
Плищинского, ссутулившегося, с окровавленным лицом, держат за руки двое. Подбегает с пистолетом Якубовский.
— Семью Шелега расстреляли?
Молча кивает головой.
— Озеркову?
Отворачивает лицо. На губах — пена.
Якубовский нетерпеливо машет рукой. Двое партизан хватают Плищинского, ведут в ольшаник. На дороге, как подожженные копны, пылают машины...
5
И Миколы нет...
Там, около Громов, где он охранял шпалорезный завод, произошло непонятное. Переданная десантниками мина взорвалась в руках, когда Микола подкладывал ее под локомобиль.
Лобик живет у деда. Недавно Шура приходил. Винтовку взял из Митиного тайника. Хочет забрать аммонал. Связной теперь Лобик. Он пойдет устраиваться на железную дорогу. Мите там делать нечего. Был Митя у Драгуна. Тот приказал временно примолкнуть. Сюзанна поправляется. Лицо у нее бледное, прозрачное, как свеча.
Из местечка расстреляли более сорока человек. Семьи Шелега, Озерковой, учителя Бадейки.
Люди ходили к Крамеру, просили, чтобы спас. Ничего не сделал. На его руках теперь кровь.
В будке Митл доживает последние дни. Переезжают в новую хату.
Фронт приближается к Волге, кубанским степям.
У Мити такое настроение, как в ту осень, когда только пришли немцы. Помогает, по хозяйству — жнет ячмень, обивает снопы. Будто прощаясь с местом, где прошла жизнь, приходит под сосну. Она зеленая, величаво-спо- койная. Всплывает в памяти знакомое стихотворение, которое написали немец Гейне и русский Лермонтов: «На севере диком стоит одиноко...» Почему соска мечтает © пальме и почему от этих строчек хочется плакать?.. Может, сосна родная сестра пальме?
Когда-то, тысячелетия назад, шумели здесь тропические леса. Потом надвинулся ледник, все живое замерло. Но не погибло. Первой в наступление пошла сосна. Может быть, это та же пальма, которая, спасаясь от холода, слякоти, сменила широкие листья на зеленые иголки?.. И все равно осталась красивой.
Книги, которые читал Митя, многое сказали о человеке. Но не все. Человек может подняться еще выше. Разве назовешь просто героизмом то, когда за родину люди отдают не только свою жизнь, но и жизни родных, близких. Это тот высокий порог, о котором не написано в старых, хороших книгах.
Но и низким может быть человек. Таким низким, как и в далекие времена степных набегов.
Так в чем же смысл стихотворения о сосне, написанного двумя великими поэтами? Может быть, в том, что все преодолеет, победит человек. Преодолеет и будет жить. Никогда не перестанет мечтать, бороться за лучшие, солнечные дни. За красоту. В этом основа жизни.
6
На железной дороге тревожно. На сорокакилометровом участке от Горбылей до местечка каждую ночь взрывы. Немцы то и дело пускают ракеты, стреляют.
Степан Птах рад, что оставляет службу, будку. Оста-
лось несколько дней — и все. Только бы собрать урожай! День жаркий, дурманный — не шелохнется на дереве лист, кругом желтое, спелое поле. Идет по полотну, постукивает молотком на стыках. С откоса злобный голос:
— Иди сюда!
Оглядывается — из кустов наставлены на него дула винтовок. На железной дороге никого. Мешком скатывается с насыпи под откос. Сильные руки выхватывают гаечные ключи.
— Не вздумай только кричать,— слышит горячий шепот.— Немецкий охранитель...
Степан открывает глаза, и от страха, удивления по телу ползут мурашки. Прямо в лицо ему дышит черный, потный Иван Гусовский, шофер. Криво улыбается:
— Вот и встретились, дядька Степан. Да не дрожи ты!
— Пожалейте меня, хлопчики... У меня семья, дети...
— Не бойся, говорят тебе. Сделаем, что надо.
Там, на насыпи, двое. Гремят ключами, развинчивая рельсы. Минуты, которые он лежит под откосом, кажутся Степану длинными-длинными. Тело покрылось холодным потом.
У тех, на насыпи, дело не клеится. Сколько времени прошло, а не могут развинтить рельсы. Вот-вот появятся немцы. Степан Птах дергает Ивана за рукав:
— Я сам пойду. Скорей будет.
Иван смотрит удивленно, кивает головой. Птах кошкой скользнул по насыпи, дрожащими руками выхватил ключ. Тех двоих как водой смыло. На железной дороге пока никого. Отвинтил одну гайку, другую. С откоса бросили веревочный ком. Догадался сразу — выбив болт, снизу, с земли, перехватил рельс веревкой. Разматывая за собой веревку, бросился под откос, в кусты.
Перед поворотом послышался гул поезда.
Февраль 1959 г.— апрель 1962 г.
ветер в соснах
РОМАН
Авторизованный перевод с М. ГОРБАЧЕВА
белорусского
• ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Дедова хата, куда перебралась Митина семья, тоже у переезда — особенно людного, местечкового. Пыльная, в колдобинах улица в этом месте разветвляется: правая сторона тянется ровно, подступая строениями чуть не к самому переезду, а левая отходит в сторону, круто поворачивает в поле. Образуются как бы две улицы. Между ними—заросший муравой выгон, который называют мусами.
Отсюда, с дедова двора, хорошо видно прежнее Митино сельбище — полевой переезд, будка, сосна. Скоро месяц, как нет отца, После диверсии на железной дороге, когда партизаны развинтили рельсы, пустили под откос паровоз и несколько вагонов, отца арестовали, держали в тюрьме. Подошла новая очередь отправки в Германию, и его, хоть он уже и немолод, посадили в вагон. Согласия не спрашивали, хорошо, что разрешили увидеться с семьей.
Прощанье с отцом — самое мучительное, трудное, что пережил Митя за свои семнадцать лет. Заросший щетиной, растерянный, отец плакал, как ребенок.
— Ты старший, сынок.— У отца задрожали губы.— На тебя ляжет вся забота... Будь в доме за хозяина...
В тот день на станции было много горя, слез, женских причитаний.
ш
Дедов «дворец», перед самой войной приведенный в порядок младшим братом отца, выглядит сравнительно прилично. Хата было ушла в землю, глухая стена выгнулась, но дядя положил новые опоры, балки, сделал пристройку, перекрыл крышу гонтом, увеличил окна — будто знал, что сойдутся тут две семьи.
В подновленном жилище дядя пожил мало — ушел на войну.
С утра, вскинув на плечи грабли, Митя отправился на сенокос. Чтоб добраться до надела тетки Насти — так зовут жену отцова брата,— надо пройти мимо будки, в которой они еще недавно жили, а затем межой повернуть на бывшие хуторские усадьбы. Будка, сосна на месте. Только живут теперь тут не немцы, а словаки. Немцы перенесли свой пост поглубже в лес, а наблюдение за полевым участком железной дороги доверили словакам.
Митя идет проселком, следом ковыляют Адам и Юрка, старший сын тетки. Хлопцы тоже несут грабли и тихо перебраниваются.
Лето кончается. С поля все свезено, снесено, обмолочено на постилках, самодельных токах, и, судя по прозор- ству, с которым жители местечка добывают хлеб себе и корм скотине, они не пропадут. Многие пашут, возят сено и снопы на коровах. Видно, раньше мало кто догадывался, что обыкновенные рогули обладают таким талантом.
Приходится жить, как подсказывает обстановка,— изворачиваться, выкручиваться.
Год назад, в это же время, пришли немцы. Был тогда Митя в плену страшной растерянности. Теперь, пожалуй, у него на душе то же самое. Круг словно замкнулся.
О том, что расстреляли Сергея, что уехал в Германию, брясь ареста, Базыль Вилюга, ушел в партизаны Шура Гарнак, Митя почти не думает. Даже об отце старается не вспоминать. Есть другое, острое, как гвоздь, что каждую минуту отзывается в нем болью. От этого не убежишь и не спрячешься. Немцы рвутся на Кавказ, дошли до Волги, бои идут в Сталинграде. Кто мог такое подумать? И что все это означает?
Митя дошел до места, где тропка сворачивает в кусты. В порыжелой траве прыгают кузнечики, под ногами кучки желтого песка — это работа земляных жуков. Местами т тропке земля потрескалась — давно не было дождя.
т
Все вокруг томится от жажды, от нестерпимой жары. Солнце печет безжалостно, на небе ни облачка.
Хлопцы — Адам с Юркой — уже впереди. Хохочут, поддразнивают друг друга. Между дубовых обгорелых пней густо поднялся молодой березняк. В том уголке, под выворотнем, Митин тайник. Винтовки там нет. Винтовку забрал Шура, а смазанный тавотом, завернутый в старое тряпье обрез лежит.
Через несколько минут Митя добрался до высохшего болотца, которое вчера кончил косить. Ряды — узенькие шнурки от кочки до кочки — неровные. Да и трава плохая— перестояла, порыжела. Не очень-то обрадуется ей зимой корова. Сам себе Митя признается, что хозяин из него неважный. Если бы не мать да тетка, неизвестно как жили бы.
Митя впереди, за ним Адам с Юркой гонят валки на край болота, чтоб можно было подъехать на подводе. Сено просохло хорошо. И все же Митя напрасно так корит себя. Умеет косить, грести, делать разную нехитрую крестьянскую работу. Правда, поначалу трудно, утомительно, руки словно налиты оловом. Но такое состояние будет продолжаться недолго. Работа захватит сама собой. Вообще, когда чем-нибудь занят, не так досаждают беспокойные мысли. Наработаешься — и на душе спокойнее. Если хочешь есть, то надо, братец мой, что-нибудь делать...
2
В конце лета по вечерам остро пахнет полынью...
Полынь разрослась на склонах железнодорожной насыпи, на запасных тупиковых путях. От жары сизо-белые стебли ее привяли, выцвели. Их горьковатого запаха хватает на все окрестные улицы.
Вечером, как только прогонят с поля стадо, висит над улицей сероватая пелена пыли. Пыль садится на листья яблонь, на густой вишенник, на лопушистые плети тыквенной ботвы, что оплела заборы и тыны.
Тишь, безлюдье на улице. Огней в местечке никто не Зажигает, и только скачут в окнах отблески пламени печей и печурок. Всходит месяц, щедрой россыпью высыпают на небе по-осеннему яркие звезды. Улица тонет в сзетло-сером полумраке.
362
Напротив Митиного двора, через выгон — хата Ивана Казаченки, по-уличному Преснока. Усадьбу его украшает старая береза с раскидистыми, шатром нависшими над скамьей ветвями. На скамье под березой, а если не хватает места, то и на мостике через канаву, по вечерам собираются мужчины. Место выгодное, безопасное, так как полицейский патруль обычно идет правой стороной.
Митя хорошо знает соседей, да и раньше знал —этот уголок местечка ближе всего к будке.
До войны половина жителей Бродка—так называют »тот конец улицы — были в колхозе, половина — работа-
353
ли на железной дороге. Война всех уравняла. Теперь из мужчин на железной дороге остался один Гаврила Птах, двоюродный брат отца, да и то потому только, что не старый — не сумел увильнуть. Вместе с другими железнодорожниками Гаврила пытался пробиться на восток, но немцы перехватили их под Брянском, в Клинцах.
Митя и сам не знает, почему его тянет к взрослым. Смотрят они на жизнь, на все то, что в ней происходит, совсем не так, как он, и, как кажется Мите, слишком безразлично, с непонятным спокойствием.
— Письма нет от отца? — спрашивает Казаченко.
ш
Из всех мужчин этот пожилой, с обвислыми плечами и безволосым, как у женщины, лицом сосед самый неразговорчивый. Больше сипит трубкой, время от времени продувая чубук.
— Нету,— отвечает Митя.
— У немцев порядок,— говорит Артем Драч.— Зря портить бумаги не станут.
Еще в первую войну Артем был в немецком плену. Он кривошеий, живет бобылем в старенькой хатенке, в которой вместо трубы на крыше жестяное ведро. Мужчины молчат, ждут, пока Артем начнет рассказывать. Казаченко бьет кресалом по кремню, высекая искру, раздувает трут, чтоб разжечь трубку. Артем, однако, не спешит — докуривает цигарку, пока окурок не начинает обжигать пальцы, сплевывает, затаптывает окурок ногой.
Странно он рассказывает. Голос хрипловатый, скрипучий, во всем, о чем говорит Артем, слышится затаенная насмешка, неверие в то, что на свете может быть что- нибудь доброе, справедливое.
— Мы в плену на фабрике работали. Генералы хотели выхвалиться перед царем, погнали нас в наступление, ну и тысяч сто серой скотинки оказалось в плену. Фабрика была бумажная. Нагнали таких, как я, калек полный барак. Цех как сарай,— сидят на полу безногие, безрукие, кривые, слепые... Рвут онучи, лохмотья на мелкие куски. Аж пыль курится... Режут, кроят тряпье, чтоб его можно было перемыть — и в котел, на разварку. Пыль, смрад, дохнуть нечем, а немец-надсмотрщик, тоже калека, однорукий, петь заставляет... Любил русские песни... Не запоешь — огреет резиновой палкой по лбу... Такую печать приложит— неделю не сойдет. Возле каждого калеки несколько ящиков. Отдельно складывай крючки, отдельно— пуговицы. Их к новым порткам пришьют. Немец жить научит. Он жизнь понимает правильно.
— Работу немец любит,— говорит Есип Кавенька, он, как и Митин отец, был на железной дороге обходчиком.— Ты же вот хоть и калека, а в плену не пропал... Кормили за работу тебя...
— Кормили. Для крепости хлебом из костяной муки. У немцев ничего не пропадает... Перемелют кости — мука беленькая, хоть оладьи пеки. Наешься таких оладий, а потом животом мучаешься. За три дня сходишь раз в латрину... Так по-ихнему отхожее место называется...
365
— Так выжил же ты.
— Научили немцы грамоте. Прихватишь пачку бумаги — гладкая, блестящая, хоть деньги на ней печатай. Не верится, что пз корявых тряпок такая красота получается. Ну, и к фраве перекупщице. Битте, фраву, брот, табак... Думаешь, даст хлеба и курева сразу?.. Хворобу у нее возьмешь. Бери либо полбуханки, либо восемь сигарет. Ты, говорит, диб, по-ихнему вор, и не имеешь права жить роскошно. Либо хлеб ешь, либо кури. А она, значит, что краденое покупает, не воровка...
Далеко возле леса раздается несколько выстрелов, строчит пулеметная очередь. Артем замолкает, мужчины настороженно прислушиваются. Если стрелять не перестанут, сидеть до позднего времени нельзя, надо расходиться. Стрельнули ближе, почти около будки, где жил Митя. Потом все стихло. В конце улицы залаяла собака.
— Брешет и налога не боится...
Левон, младший сын Казаченки, захохотал.
— Тише ты! — цыкнули на него.— Полицейский притащится.
Левон немного придурковат. На узких плечах — большая, как котел, голова, и, хоть ему уже лет тридцать, дружит преимущественно с подростками. Природа все же не обделила его талантом — мастерит балалайки и сам превосходно играет.
Направление разговора меняется.
— Вчера ходил по дворам Бойка, староста,— сообщает Есип.— Приказал сдавать поставку. Кто не сдаст — стращал: силой отберут...
— У меня пускай берут печеным либо блинцами,— растягивая слова, говорит Гаврила Птах.— Я что намолотил, баба в жернова засыпала и блинов напекла. С утра блинцы вкуснее, тепленькие, так я на обед не оставляю...
— Брать все мастера. Сдай хлеб, молоко, мясо...
Насмешливый, острый на язык Гаврила вовсе не похож на Митиного отца. Маленького роста и необыкновенно шустрый, он не ходит, а летает. Имеет соответствующую кличку — Воробей.
— Умными стали. Больше одной коровы, свиньи не держи. А с голого, как со святого, что возьмешь? — разт вивает дальше мысль Гаврила.
зд
— На землю нонче не зарятся,— соглашается Есип.— Кто в нашем конце больше двух десятин засеял?
— Никто.
— У Зуя и Ходаронка по десять гектаров.
— Эти в кулаки еще до колхоза лезли.
— Не поживятся хлебом,— говорит Степан Кавенька, доселе молчавший.— Может, в селах нагребут. У нас не возьмут...
Седой, с хмурым, вечно недовольным лицом, Степан Кавенька — хороший Митин знакомый. За год или два до войны частенько заглядывал он в будку к отцу. Однажды вместе с ним Мшя ходил за грибами. Рассказывал тогда Степан про свою жизнь, пробудил у парня острый интерес к себе, Митя хорошо знает — человек этот умеет думать.
Кавеньки — Степан и Есип — не братья, далее не родственники. Одинаковых фамилий в местечке много, а в соседней деревне — большинство,— она так и называется «Кавеньки».
Казаченко снова чиркает кресалом.
— Когда прижмут — сдашь,— говорит он.— Куда денешься, как пристанут с ножом к горлу?..
Поздно уже. Тихо, тепло. Спит местечко. Ии скрипа гармоники, ни песни. По улицам ходить не разрешено. По железной дороге шагают часовые — немцы, словаки, а по местечку — полицейские патрули с жандармами. Высокое небо в щедром звездном наряде. Оно спокойное, торжественное, извечное августовское небо.
Все на своем месте: Млечный Путь, протянувшийся широкой, как бы окутанной белым туманом, рекой через звездный небосвод, ковш Большой Медведицы с яркой точкой Полярной звезды по соседству. Зловещим красноватым фонарем висит на краю неба планета Марс.
Люди не смотрят теперь на звезды, не думают о них. Если и смотрят, то только для того, чтоб не сбиться со своих земных дорог-путей, окутанных грохотом войны. Фашисты рвутся к Волге, а за Волгой — Азия... Про фронт, про партизан, про то, что будет завтра, мужчины не говорят. Как будто это их вовсе не интересует...
Мужчины собирались уже расходиться, уже сказал «доброй ночи» Есип Кавенька, как вдруг на мосту выросла высокая фигура. Митя вздрогнул.
— Мужчины, у вас табачку не найдется?
367
Голос глуховатый, спокойный, не льстивый. В нем обычная просьба — человек хочет закурить. Мужчины мгновенно замолкают. Казалось, никто не хотел, чтоб его узнали. Митя старается вспомнить, чей это голос,— есть в нем что-то знакомое.
Человек не спеша свернул цигарку, прикурил от Ка- заченковой трубки и, сказав обычное «спасибо», исчез во мраке. Теперь только Митя узнал его — это ж Гвоздь, прошлой осенью он был полицейским.
Затаенное молчание тянется до того времени, пока не растаяла во мраке фигура Гвоздя, не затихли его шаги.
— Сыграй, Левон,— просит Степан Кавенька.
— Поздно, немцы услышат.
— Услышали уже. Играй...
Склонив на плечо свою огромную, как тыква, голову, Левой начинает «Светит месяц». Играет громко, хватко, не фальшивя ни одним звуком. Под переливы балалайки мужики расходятся.
3
Ночует Митя, как и прежде, в хлеву, на сеновале. Долго не спит, ловя затаенные звуки и шорохи. Ночи к концу лета становятся светлее, под утро холодновато — не спасает даже шершавая домотканая дерюжка.
В земляном гнездышке-кармашке под самым коньком время от времени перекликаются сонные ласточки. В гнезде им тесно. Ласточки уже выросли и с середины лета пробуют силу своих крыльев. Скоро белогрудые щебетуньи полетят в теплые края. Как собираются и как отлетают красивые, милые птицы, гнездящиеся всегда возле человеческого жилья, этого никто никогда не видел.
Мир полон загадок. Даже в виденном с детства, привычном много неизвестного. Ласточки полетят в Африку, к берегам Нила. Не жалея сил, будут преодолевать тысячи верст. А где их родина — в Африке, где никогда не бывает зимы, или здесь» где недолгое лето н нежаркое солнце? Скорее всего здесь, так как зачем было б им лететь из теплого, солнечного края под северное, хмурое небо...
Тяжело вздыхает, пережевывая жвачку, корова. В полночь заводят перекличку петухи. Митя еще не спит...
368
В последнее время хлопец взволнован одной мыслью, подтверждение которой нашел в старых книгах. По-не- меики Митя читает теперь почти самостоятельно, все реже заглядывая в словарь. Может, по этой причине он заметил звуковое и смысловое совпадение некоторых родных и немецких слов. Притом таких слов, которых нельзя одному народу позаимствовать у другого, так как они означают самые древние, родовые понятия — отец, мать, браг, сестра, дочь, сын... Бесспорно, корень у них одинаковый. Мать — мутер, брат — брудер, сестра — швестер...
Митя начал заглядывать в энциклопедию, книги по истории. Какой же вздор возвели фашисты в степень государственной политики, как одурманили свой народ! Похваляются, что немцы — нордическая, арийская раса, по слухам, там, в Германии, измеряют черепа, доказывают отличительные качества немецкой крови...
Фашисты даже теорию выдумали, согласно которой все культурные центры мира возникли благодаря гению «германской расы». Будто бы очаги древней цивилизации—Ассирия, Вавилон, Египет, Греция и Рим — обязаны своим расцветом миссии германских культуртрегеров. Да и русское государство, по утверждению фашистских пророков, возникло благодаря усилиям этих самых культуртрегеров. Ложь... Чудовищная ложь.
Г ерманские племена еще сидели в пещерах и укрывались звериными шкурами, когда другие народы уже достигли высокого совершенства в ремеслах, искусстве.
Запели вторые петухи. Митя улыбается в темноте, ему приятно слышать эти мирные петушиные голоса. Своим ночным пением петухи как бы сообщают о наступлении утра там, в далекой Индии, откуда происходят. За многие тысячелетия домашние, и не сказать чтоб очень умные, птицы не забыли родины.
Родина!.. Разве можно не любить Родину? Разве можно смириться с угрозой ее уничтожения? Родная земля священна.
Нападение немцев на Советский Союз, тотальную войну, когда беспощадно уничтожается мирное население, можно сравнить только с татарским нашествием. Видимо, и азиатские кочевники придумывали какую-нибудь теорию, наподобие той, с которой носится теперь Гитлер, чтоб оправдать уничтожение других народов...
Митины мысли прерывает мощный взрыв, потрясший
369
все вокруг. Ясно — на железной дороге. Версты за три- четыре от местечка. Теперь такие взрывы слышны чуть не каждую ночь. Раньше партизаны развинчивали рельсы, действовали, если строго разобраться, примитивно, теперь подкладывают мины. Выросла их сила. Только как установить с ними связь? Шура забрал винтовку и как в воду канул. Не подает никакого знака...
4
Микола пришел под вечер. Белое, словно вымоченное в воде, лицо все в отметинах шрамов-царапин. Кто не знает, может подумать, что в лицо Миколе пальнули зарядом крупной дроби. Правая рука на марлевой повязке. Фактически нет руки — из рукава суконного пиджака высовывается забинтованная культя...
Вид у Миколы хмурый, растерянный, и Митя не знает, как ему с ним держаться. За два месяца, минувших со времени их последней встречи, много воды утекло. Да Митя толком и не знает, что с Миколой случилось.
В хате говорить неудобно. Митины домашние встретили Миколу затаенным, упрямым молчанием. Как будто (между ними и Митиным другом выросла невидимая стена, отделившая прошлое от настоящего. Раньше Микола приносил в хату задиристый смех, здоровую беззаботность... А что принес сейчас?..
— Выйдем,— предложил Микола,
Они вышли из хаты и побрели по вечерней улице. Микола не в сапогах, а в ботинках и от этого кажется еще длиннее. Идут рядом. С околицы вынырнул воз с сеном и, покачиваясь на колдобинах, скрипя колесами, поплыл перед хлопцами. В воз запряжена корова — идет важно, спокойно, похлестывая по оглоблям длинным хвостом.
— Что тут у вас? — глухим, недовольным голосом спросил Микола.
— Ничего.
На правой стороне улицы длинный пустырь, оставшийся от старого, заросшего бурьяном кладбища, на котором давно уже нет ни могил, ни крестов. Это никем не заселенное место Митя всегда проходит с внутренним беспокойством. Еще до войны, когда насыпали дорогу, брали
эха
отсюда песок. Вырытые кости, черепа долго промывались дождем, пока их кто-то не собрал в кучу и не закопал. Кладбище теперь в другом месте, на противоположном конце местечка, и тоже густо заселено.
По прерывистому дыханию, резким движениям Миколы Митя чувствует, что его друга переполняет злость. Разговора, однако, не начинает. Прошли еще одну череду хат и свернули в глуховатый переулок, на котором сходятся огороды смежных улиц. В другом конце переулка, окруженный старыми тополями, стоит дом Саши Плоткина.
— Ну так что, доигрались? — говорит Микола с насмешливыми, издевательскими нотками в голосе.— Навредили немцам... Болтали, пока не похватали, как цыплят...
— А сам ты что сделал? — неожиданно взрывается Митя.— Вообще неизвестно, что ты теперь за птица. Немцы положили в больницу, лечили. За какие заслуги?
— Потому что не такой дурак, как вы. Думал головой...
— Надо еще разобраться, как ты думал.
Позади слышны торопливые шаги. Из серого мрака
выступает темная фигура, и хлопцы на минуту замолкают. Проходит невысокая женщина с ведром. Видимо, несет сдавать молоко. В местечке немцы открыли несколько приемных пунктов, маслозавод.
— Обо мне потом.— Микола все же немного сбавляет тон.— Но группы фактически нет. Позабивались в норы, сидите, как суслики... Где Сергей, Базыль, Шура?..
Митя уязвлен, но сдерживается. Микола не имеет права так говорить. Надо просто уважить ему — потерял руку, настрадался.
— Среди нас не было предателей,— тихо говорит Митя.— А если бы были, ты не ходил бы тут со мной. Ты же тоже был в группе... Думаешь, если б ее раскрыли, то тебя не нашли бы... Не волнуйся, немцы поставили бы к стенке и с оторванной рукой. Они и детей расстреливают...
— Да я не о том. Про хлопцев спрашиваю. Расскажи, как все случилось...
— Очень просто. Сам ты, по-моему, знаешь... Сергея выдал Босняк. Базыль испугался, что выдаст и его, сел в вагон. Он же тоже шептался с Босняком... Тогда сума¬
371
тоха была — расстрелы, отправка в Германию. Шура в партизанах. Винтовку забрал... Сбросил два немецких паровоза...
— А где Босняк?
— Уехал. Говорят — видели в Горбылях в форме СД.
— Значит, Босняк выдал Сергея,— после продолжительного молчания говорит Микола.— Хорошо, что я с ним не познакомился. Меня же Сергей один раз звал к нему. Еще весной...
— Сергей и без этого был на примете. Всех, кто из лесу вернулся и у немцев не работал, похватали. Если б не Босняк, Сергея просто отправили бы в Германию. А так при обыске у него нашли наган...
— Тот, что Анкудович передал?
— Тот.
— Разиня! — выкрикнул Микола.— Не мог нагана как следует спрятать!
— Он собирался в партизаны. Ночевал в хлеву, на сене, наган держал под головой.
— Так почему же не стрелял, когда пришли арестовывать?
— На улице арестовали. Руки вверх — и сразу по карманам. Да если бы и дома, то не стрелял бы. Уничтожили бы всю семью...
Дошли до дома Плоткина. Окна закрыты, сквозь щель пробивается полоска света. Плоткин, видимо, читает или с кем-нибудь играет в шахматы. Повернули назад.
— А с отцом твоим что? — спрашивает Микола.— За что его?
— Тут другое.— Мите тяжело говорить об отце.— Партизаны совершили диверсию, и он им помог. Не хотел, а помог. Так на работу в Германию отправили. Там, мол, партизан нет, будешь работать на немцев честно...
Микола больше ни о чем ее расспрашивал. Он успокоился, но Мите обидно. Начальником себя чувствует, что ли? О них — расспрашивал, о себе—молчит.
— Может, зайдем к Плоткину? — предложил Микола.
— Подожди. Ты присвоил себе право только допрашивать других. Никто тебе такого права не давал. Расскажи, почему тебя лечили немцы?.. Что с тобой вообще было?.. Тут про тебя говорят, что доставал партизанскую мину.
гп
— Пускай говорят. Это даже лучше.
— Ты все-таки расскажи. Нужна ясность...
— Все очень просто.— В голосе Миколы неприкрытая тоска.— Знаешь, связался я с парашютистами. Через учительницу Аню Корень. Она с отцом теперь живет в Громах. Мы были знакомы еще до войны — она тогда в соседней деревне работала. Аня принесла от десантников мину — сверток тола и взрыватель с часовым механизмом. Мину я приладил под локомобиль. • Хотел, чтоб взорвалась не в мое дежурство. А тут приходит Борнсе- нок, мой напарник, говорит, что дежурить будем и вторую смену. Полицаи пошли в засаду, сменить нас некому...
Митя напряженно слушает. Снова раздаются чьи-то шаги, и Микола умолкает. Та же женщина возвращается с пустым ведром.
— Ну и что? — спрашивает Митя, после того как фигура женщины скрылась во мраке.
— Вынимал из мины взрыватель. Хотел перевести стрелки на более позднее время...
Дальше можно не спрашивать — все ясно. Когда Микола поступал в полицию, Лобик правильно предупреждал, что на службе в полиции у него могут быть критические моменты. Самое лучшее в таком случае — дождаться взрыва, убить полицая и махнуть в лес. Так, как сделал Шура. Но тогда погибла бы семья... Опять семья... Шуре было легче, хотя сестру до сих пор таскают...
— Детонатор в руках взорвался?
— В руках.
— Мину нашли?
— Нашли.
— Все у нас так,— с горечью говорит Митя.— Руками махали, а думать не думали. Пропала мина, ты без руки, а какая от этого польза? Чем лучше ты Базыля Вилюги, уехавшего в Германию? Тоже испугался за семью...
— Да не думал я о семье! — чуть не кричит Микола.— Просто хотел, чтобы позже взорвалась. Не в мое дежурство...
Мите жалко Миколу. В эту минуту он чувствует себя смелее, находчивее, чем его друг. Микола хоть и старше, но надо, чтоб над ним была чужая воля, надо над ним стоять, направлять его мысли, поступки. Всегда так было,
373
даже до войны. Микола тянулся к хлопцам, не только ища их дружбы, но и поддержки во всем том, что делал или хотел сделать. Там, в Громах, он был в одиночестве...
Черная фигура выросла неожиданно, по лицам хлопцев, ослепляя, скользнул луч карманного фонарика.
— Камарады, закурить не найдется?
Митя замер, по телу пробежала холодная дрожь. Перед ними был полицейский Гвоздь. Как и вчера, вырос будто из-под земли. Неужели что-нибудь слышал из их разговора? Тогда крышка...
— Мы не курим,— смущенно бормочет Микола.— Вот встретились с товарищем...
— Вижу, что товарищи... По темным углам околачиваетесь.
Митя ответил со злостью:
— До одиннадцати ходить не запрещено. Вас мы не знаем. Не приставайте.
Ступив шаг в сторону от Гвоздя, не оглядываясь пошел по переулку. Следом зашаркал ботинками Микола.
Опомнились, выбравшись на улицу.
— Следит за мной,— шепчет Микола.— Гвоздь — шпик. Из полиции уволился для маскировки.
— Не только за тобой.
— За мной, говорю тебе. Меня в больнице два раза допрашивали. Подозревают насчет мины...
— Ну, тогда за нами всеми следят. Шпик около будки в ячмене неделю сидел. Сто окурков оставил. Может, этот самый курец. Гляди, может, и отца помог в Германию сплавить...
Микола не скрывает тревоги:
— Так что делать?
— Туже язык завязывать. Не оправдываться, как ты, перед шпиком: «С товарищем встретились...»
— Так он же сам видит!
— А ты другое гни. Одним словом, если что такое — мы друг друга не знаем. Встретились случайно... Понял?
Встревоженные, настороженные хлопцы побрели каждый в свой конец улицы.
374
ГЛАВА ВТОРАЯ
I
Скоро первое сентября, знаменательный день. Где был бы он, Митя, если б не война, не немцы? Окончил бы десятый класс, поступил в институт... Занятия в институте тоже начинаются первого сентября...
Но об этом и мечтать не приходится. Ровно год и неделя, как в местечке немцы. Будто вечность минула между этими сентябрями. Ты взрослый уже — тебе семнадцать лет. Отец просил тебя быть за старшего, оберегать семью. А что подсказывают тебе твоя жизнь, книги, тобой прочитанные, мечты, которые ты лелеял?.. Да, трудно, тебе иной раз хочется заснуть,— надолго, как в сказке,— и проснуться, когда все непонятное, запутанное развеется, как дым...
Но жизнь — не сои, от нее не убежишь. Первая страница твоей книги перевернута. Иди же дальше, мой рыцарь, мой мечтатель...
Нет силы сдержаться, и Митя, несмотря на запрещение, пошел к Драгуну. На склоне лета вечер теплый, задумчиво тихий, тонет в мягком серовато-синем полумраке. Такие вечера дышат нерастраченным теплом лета. Не шевельнут листьями зеленые тополя, которыми обсажена песчаная Почтовая улица, а в садах до самой земли свисают ветки яблонь и груш. Митя оглянулся. Кажется, никто за ним не следит.
Около клуба, что рядом с жандармерией, тахкает движок киноустановки. Кино — два-три раза в неделю, на сеансы заглядывают солдаты — немцы, словаки. Комендантский час в связи с этим продлен до двенадцати часов. По деревянному тротуару перед клубом прогуливаются под ручку с местными девушками словацкие солдаты в светло-зеленых мундирах.
Вот и эмтээсовский дом, в котором живет агроном . Драгун. Митя еще раз оглянулся — пусто на улице. Нажал на щеколду и, стараясь не производить шума, открыл калитку, прошмыгнул во двор.
Завешенные плотной занавеской окна агрономовой квартиры освещены. Не зная, что делать, Митя присел на скамеечку возле дощатого забора. В нескольких шагах — цементное жерло колодца. На столбике возле него
375
прибит жестяной умывальник. Слышно, как равномерно падают на землю капли.
хЭДитя ждет, но никто из хаты не выходит. Он встает, подходит к окну, тихонько стучит в стекло. Гут же поднимается уголок занавески, кто-то смотрит в окно.
Еще через минуту на крыльце показалась фигура агронома.
— Кто тут?
Митя подошел к крыльцу.
— Почему в хату не заходишь? Я даже испугался...
Митя удивлен: после наказа не показываться на глаза — вдруг такое гостеприимство...
— Не надо в хату. Давайте где-нибудь еще.
— Хорошо. Подожди, надену пиджак.
Агроном вышел из квартиры, неся под мышкой старые сапоги. Около калитки постояли, прислушались. Выбравшись со двора, пошли по направлению к старой школе.
Широкий школьный двор пуст, безмолвен. По краям его высоко поднялись молодые тополя. Митя учился тут, в старой школе, до шестого класса. Новую, каменную, в то время только строили.
Тополя тогда были небольшими.
Миновав школу — на улице перед ней глубокий, сыпучий песок,— свернули в улочку между огородами. На заборе под грушей-дичком Митя когда-то сидел с Сюзанной. Сели на тот самый забор.
— Я сам хотел тебя повидать,— сказал агроном.— Уезжаю из местечка...
Митя вздрогнул. Предчувствие не обмануло — все эти дни он был беспокоен.
— Да не дрожи ты. Я сам все подстроил. На ловца и зверь бежит. Гебитскомиссар перебрался в Горбыли, ну, я и использовал случай. Хорошие люди помогли...
Митя ничего не понимает, но молчит, ждет, что будет дальше.
— Понимаешь, друг мой, наступает, как говорится, новый этап. Мне тут больше сидеть нельзя. Я долго думал, кого оставить вместо себя. Остановился на твоей персоне. Полномочиями, данными мне советской властью, назначаю тебя...
— А вы куда?
т
— Официально — в Горбыли. Уже и бумага есть—■ откомандировать в распоряжение земельного отдела ге- битскомиссариата. Но это только зацепка. Главное — семью вывезу, пристрою где-нибудь в деревне. Прокручусь в Горбылях, а там видно будет...
— Нашей группы больше нет,— сказал Митя, как бы пропустив мимо ушей слова агронома.— Так что некого оставлять. За Миколой следят и за мной, кажется. Ну, еще Лобик есть...
— Лобик — это внук старого Бондаря? Того, что под дубами живет?
— Того. А что?
— Да ничего. Я ихнюю семью знаю.
По улице кто-то быстро проехал на велосипеде. В сером мраке мелькнула белая сорочка. Митя с Драгуном замолчали. Послышались приглушенные голоса, девичий смех, и с противоположной стороны переулка вынырнули две фигуры — словака-солдата и девушки. Увидев, что место, на которое они рассчитывали, занято, они повернули назад.
— Я тебе серьезно говорю, а ты глупости... Некого оставлять... Если не знаешь, то скажу. Меня тут райком оставил. Несколько человек таких. Но теперь я один. Должен кто-нибудь меня заменить?..
— Связи с партизанами нет,— сказал Митя.— Да и что партизаны одни сделают? Фронт уже под Сталинградом...
— Так ты же не хочешь, чтоб немец сидел на шее? Надо что-то делать. Война не кончилась.
— А что делать?
Драгун вытащил сигареты, щелкнул спичкой, закурил.
-- Не знаю, друг мой. Меня когда оставляли, точных инструкций не давали. Сказали: смотри по обстановке. На работу к немцам сам пошел. Правильнее — послал Шелег, тот, что от расстрела с машины удрал. Семью его, однако, кокнули. И меня то же ждет. Хочу перехитрить судьбу-матушку.,.
— Так что, и вас засекли? — взволнованно спросил Митя.
— Пожалуй, да. К партизанам ходил. Назначили связь за Прудком. Вылез из лесу и напоролся на засаду. Сам пилятичский бургомистр Спаткай в кустах си-
377
дел. Старый знакомый, но карманы вывернул. Вот, братец мой, и все.
У Мити отлегло от сердца. Не арестовали— полбеды.
— Это было в прошлый вторник, а сегодня среда,— продолжает Драгун.— В Прудок я приехал на лошади, поставил ее у старосты. Засада была. В лес — пропустили, а когда назад возвращался — схватили. Хорошо, что партизаны на связь не явились. Что-то сорвалось, а может, донесли про засаду.
Над огородами — прозрачно-серый, подсвеченный звездным небом мрак; Улица не спит: доносятся приглушенные голоса, скрип колодезного журавля. В хлеву, что рядом с грушей, хозяйка доит корову, приговаривая: «Стой, рябая, стой...» Приятный, сладковатый аромат увядающих трав и ботвы плывет по огороду. Тоскливо, трезожно... Драгун рассказывает:
— Меня им не так легко укусить, особенно Спаткаю. Знаешь, я был в партии, но в тридцать восьмом исключили. Из-за родни. Есть брат, который немного не в ту сторону посматривает. Спаткай знает, что я исключенный. Был ведь председателем сельсовета, партийный, в партизанском отряде оставили. Когда допрашивал меня, то я ему в глаза: «Себя подозревай, пан бургомистр. Меня из партии выгнали, а с твоей головы ни один волос не упал. Неизвестно, кто сильнее любит советскую власть. У меня ее любить нет оснований». Но чует, гадина, нутром. «Тебя, говорит, исключили, это верно, а в сороковом году серебряную медаль дали. Одному из всех агрономов».
— Какую медаль? — спрашивает Митя.
— Всесоюзной выставки. Колхозы сеяли кок-сагыз. Есть такое растеньице, дикий каучуконос, а мы его внедряли. Я делом этим руководил.
— В районной газете писали про кок-сагыз.
— Писали, брат. Я сам, может, сто статей поместил. А теперь побаиваюсь. Если бы у полиции была подшивка газет, то обвинительный материал против меня готов. Но черта с два она у них есть. Не о том думали. Спаткай и вся банда еще в прошлом году поверили, что советской власти конец. Думали, как лучше выслужиться перед немцами...
Агроном молчит, затем круто меняет тему разговора:
—г У тебя девушка есть? Сколько тебе лет?
27 3
Вопрос неожиданный, и Митя не знает, что ответить. Про девушек он говорит только с парнями, а о Сюзанне вообще молчит.
— Зимой будет восемнадцать. Одна знакомя я девушка есть.
— Я» брат, в твои годы такие кренделя закручивал. Учительницу прельстил. Прислали к нам молоденькую, хорошенькую. Окончила педрабфак, ей восемнадцать и мне, переростку, восемнадцать. Ну и началось...
Митя, притаив дыхание, слушает. В таинственном, глубоко скрытом, что касается отношений мужчины и женщины, никогда еще перед ним не раскрывалась чужая душа. Он не думал даже, что об этом вот так про* сто можно рассказывать. Агроном закурил снова, глубоко затянулся.
— Преподавала белорусский язык и литературу. Уроки— два раза в неделю. Влюбился я по уши и уроков ее ждал, как праздника. Неопытная — краснеет, запинается, глаза от книги боится оторвать. У нас в седьмом классе — тогда это была школа первой ступени—сидели верзилы старше меня. Долго не мог я к ней подступиться. Все*таки учительница. Однажды писали сочинение, и я отважился. Надо было описать осень— лес, поле,— а я написал о том, как люблю ее. Фамилии, имени не назвал, но написал про нее и стихами Пушкина закончил.
Митя боится пропустить слово, ловя себя на мысли, что и у него с Сюзанной примерно так начиналось.
— Тетради она принесла через три дня, и я все это время дрожал. Больше всего боялся оскорбления. Вызовут в учительскую, начнут распекать, насмехаться. Решил: если раскроет тайну, сбегу из школы. Уеду куда глаза глядят. Но не раскрыла. Пришла еще более смущенная, растерянная, мою тетрадь отдала последней. Посмотрел я и глазам не верю — страницы с сочинением вырваны...
У Мити странное ощущение: он никогда бы не отважился на такое. И в то же время агроном близок, понятен.
— Закрутило меня с ней как в водовороте. Подполье было полное, как у нас с тобой. Никто про наши отношения не знал до самых экзаменов. Вечером, когда совсем стемнеет, я ждал ее на огороде. Шли в поле, снег
379
ли, метель — не смотрели. Находившись, прятались в баньку — стояла на краю села. А весной, когда все зазеленело, поссорились. Приехал какой-то городской парень с портфелем — читал лекции крестьянам. Она с ним ходила по улице три вечера. Я после этого — ни ногой. Встретились только на экзамене. И вот, братец мой, я, ученик, отвечаю по билету, а она, учительница, сидит за столом и плачет. Тут нас и раскрыли...
Около клуба перестал тарахтеть движок. Кино кончилось.
— А дальше что было?
— Она переехала в другую деревню, я поступил в профтехшколу. Сюда, в местечко. Была тут гакая школа, называлась лесной. Ее и Бондарев сын окончил.
— Почему вы про Бондаря вспомнили?
— Да так. Знакомый человек.
Они встали. Связанные сапоги агроном перекинул через плечо. На нем старая, с помятым козырьком фуражка, узкий в плечах пиджак. Перетянутый поясом, немного сутуловатый, агроном действительно напоминает шустрого деревенского парня.
— Будь как и все,— говорит он Мите.— Гуляй с девчатами, ходи на танцы. На работу обязательно надо поступить. Хорошо бы в управу... Свой человек там нужен. Бланки удостоверений, карточки на хлеб, на соль... Сходи к Крамеру. Сговорись с кем-нибудь вдвоем. Одного не возьмет, так, может, другого...
— А связь с партизанами?
— Был бы я жив, а связь будет. Партизанам не до нас. Это когда меня тут оставляли, думали, что отсюда, из местечка, можно будет руководить партизанским движением. Как посевной кампанией... Глупость, брат...
— А почему партизанам не до нас? — спрашивает Митя.
— Домачовский отряд слабенький. Человек двадцать. Со старостами, волостными полицейскими не может справиться. По слухам, поднялись горбылевцы. Буду в Горбылях — пронюхаю... Как аграрник-марксист скажу тебе... Нутром чую — партизанское движение пойдет вверх. Неважно, что немцы под Сталинградом. Немецкую земельную политику я за год выучил назубок. Будут прижимать, обдирать крестьянина. Весь аппарат нацелен
380
на это. Ну, а мужики будут сопротивляться. Вот и вся мудрость...
Митя молчит. В голове никаких мыслей, а на душе тяжело. Драгун рывком, неожиданно прижимает Митю к себе, целует в висок.
— Шагай околицей, веребеги улицу и шпарь. Не вешай носа...
2
Саша Плоткин, добрая душа, школьный Портос, выручай!.. Для дела, которое поручил Мите Драгун, Саша н а и бол ее по д ход я щ и й.
Плоткин — прежний, спокойно-насмешливый, с медлительно-красивыми жестами. И в доме у него ничего не изменилось. Мать стрекочет на швейной машинке, сестра вышивает салфетки. Летом Саша косил на межах и обочинах дороги траву, таскал ее мешками во двор, сушил. Сена корове на зиму хватит. От Германии мать откупила сына самогоном.
В комнатке-боковушке надежный порядок. Книги расставлены на лозовых самодельных этажерках, прибитых к стене полочках, и даже каталог составлен — по писателям и в алфавитном порядке.
— Ты, может, в институт собираешься? — спрашивает Митя.
— Собираюсь. Война же не вечно будет.
— Может, в немецкий?
— Еще приема не было.
— Значит, ждешь приема?
— Не вижу, чтобы другие руками небо доставали. Махали руками. В основном без толку...
Это намек на Митю и его друзей. Но Митя не обижается. Плоткин — свой, близкий человек.
— Не только махали руками, но и гибли. Это что- нибудь значит?
— Погибнуть по-дурацки не штука. Была бы польза.
— Кому польза? Тому, кто о себе не думает, или наоборот?
Уравновешенный Плоткин начинает горячиться:
— Если ты такой вождь, то веди! Где твои баррикады? Пойду, хоть сейчас...
381
Но баррикады, которые хочет предложить Митя, особые, Плоткин может и не согласиться. Не стоит спешить.
Хлопцы останавливаются у карты, которая висит на деревянной стене-перегородке. Далеко продвинулись немцы — рвутся на Кавказ, бои идут в Сталинграде. Тем не менее, по мнению Плоткина,, немцы в этом году слабее, чем в прошлом. В прошлом наступали всем фронтом, а теперь только южным, а под Москвой, Старой Рус- сой, Ленинградом не продвинулись ни на шаг.
Но все равно том разговора унылый. Второй год идет война, а положение тяжелое, намного хуже, чем весной, когда наши стояли под Харьковом, Лозовой, держали в руках Севастополь. Неужели правы немцы, которые трубят, что летом Красная Армия воевать не умеет?..
Незаметно разговор переходит на девушек. И тут нельзя не сказать про Алексея Примака — успех у девушек имеет пока что один он.
Алексей — Плоткин знает это точно — «летчицу» бросил, встречается с Ниной Грушевской.
Все, что Саша говорит дальше,— новость для Мити. Алексей ие просто встречается с Ниной, а даже остается ночевать у нее. Она тихонько открывает ему дверь кладовки.
— Ты думаешь, это любовь? — спрашивает Митя.
— Никакая не любовь.
— Так зачем он к ней ходит?
— Алексею девятнадцать лет. Мужской организм к этому времени созревает. А женский и подавно. Почитай в энциклопедии.
С тем, что говорит Плоткин, не хочется соглашаться, но в его словах есть обидная правда. Даже в себе самом Митя чувствует темную, неподвластную сознанию силу, которая тревожит все чаще. Если честно себе признаться, то он пристально глядит не на одну Сюзанну, но и на других девушек. Сколько раз ловил себя на нечистых желаниях.
С немцами, полицейскими знакомые девушки не гуляют, однако исключения есть. Первая из них — Валя Хмелезская, голубоглазая школьная красавица, настоящая Лорелея. Полицейский Кузьменок, с которым она водится, даже семилетки не кончил. Кроме красивой физиономии и начищенных сапог, у него ничего нет. Однако же бросилась на шею полицаю Лорелея.
382
Еще более непонятен другой случаи. Хмелевекая училась неважно, хотя аттестат получила. А Дина Липняко- ва — отличница, писала стихи, выступала с трибуны в дни революционных праздников. Год занималась в институте, а вернувшись в местечко, работала в редакции. Так вот эта Дина разгуливает теперь с немцами. С солдатами не хочет — с офицерами. Немного понимает по- немецки и на других девушек смотрит свысока.
— Дина — предательница,— говорит Митя.
— Она об этом не думает.
— Гуляла бы с нашими хлопцами!
— С кем? Со мной? С тобой? Девушки любят победителей.
— А парашютистку помнишь? Шла упрямая, гордая. Такая перед немцами скалить зубы не станет.
— Так и наши не скалят. Ну, Хмелевекая — вертихвостка, а Дина сама не знает, чего хочет. Примак про нее правильно сказал — образованная кобыла...
Девушка есть и у Саши. Теперь это для Мити не секрет. Младшая Верина сестра Люся, смешливая, напористая, как мальчишка, встретив Митю, не преминет спросить о Плоткине.
— Люся к тебе первая подошла? — не скрывая любопытства, интересуется Митя.— Ведь ты же тюлень. Разве на такое отважишься?
— Не суй носа не в свое просо.
— А все же признайся — первая?
— Ну пускай первая. Что из того?
Больше Плоткин ничего не говорит.
Митя сам неохотно рассказывает про Сюзанну. Есть вещи, в которые никого не хочется посвящать. Даже самых близких. Давно он не видел Сюзанны. Она с ним встреч не ищет, как Люся с Плоткиным. Мите кажется, что Сюзанне все равно, он или кто другой. Придет к ней — ласковая, приветливая, а ушел — забыла. От этого на сердце тихая, щемящая грусть...
Драгун из местечка исчез. И семью вывез. Демонстративно прогудел по улицам леспромхозовский газогенераторный грузовик, выпуская едкие облака дыма. В кузове шкаф, фикусы, узлы — небогатые пожитки аг¬
381
ронома. Теперь нет в местечке человека, кто поможет,, подскажет. Решай сам...
— Знаешь, Саша,— сказал Митя в один из дней,— надо поступать на работу. Хорошо бы в управу. Оттуда в Германию не заберут...
— Мать против. Говорит: «Сиди тихо».
— Мать не все понимает.
Плоткин, однако, хочет ясности. Минуту помолчав, он спрашивает:
— Ты от себя это говоришь или есть еще кто?
— Не от себя. Есть люди, Саша. Не всех немцы перестреляли...
— Надо подумать,— соглашается Плоткин.
з
Районная управа расположена в красивом месте. Побеленное каменное здание в глубине парка. За домом — простор лугов до самой подернутой дымкой подковы леса.
Митя с Плоткиным сидят на скамейке под акациями, ждут приема. Седой старик со сдвинутыми на нос очками— заведующий общей канцелярией управы — дал им по листку бумаги, приказал написать заявления.
На какую работу их примут и примут ли вообще, онк не знают, потому заявления написали короткие. Старик взял бумаги, сказал прийти через три дня. И вот они сидят, ждут.
Митя считает, что Плоткина могут принять и в управу. У него чистая биография, его не арестовывали, не следили за ним шпики. Разговаривать с хлопцами будет сам бургомистр, потому Митя немного волнуется. Слышал про Крамера много, человек этот для него загадочный.
Бургомистр занят: на улице, у забора, стоят три повозки, хозяева которых у него в кабинете.
В управе работает переводчицей учительница немецкого языка Мария Ивановна. Можно было бы навестить ее, поздороваться, рассказать, зачем пришли, но хлопцы не решились. Просятся на работу не просто так, впереди может случиться и плохое, поэтому не стоит в эти дела впутывать старую учительницу.
ш
Она еще вздумает ходатайствовать за них перед бургомистром.
Ожидание тягостно. Сидят часа три. Наконец на крыльце появляется старик:
— Зайдите к Августу Эрнестовичу.
Кабинет у Крамера маленький, узкий — два окна, диван, несколько стульев. Стены оклеены синеватыми обоями. Бургомистр сидит за столом, читает их заявления.
- Грамотные? — наконец спрашивает он и, подпяв от бумаг голову, как бы оценивает, чего стоит каждый из парней.
385
— Кончили iio девять классов,—отвечает Митя.
— Твоя фамилия Птах? Это тебя арестовывала жандармерия?
— Меня.— Митя еле шевелит губами.
— Глупостями занимался. Ты не знаешь, что я за тебя заступился? Так знай. Отцу твоему не мог помочь, а тебе помог. Отец не виноват, а ты не так чист, как хотелось бы. Ходил к этому, с Вокзальной улицы, у кого наган нашли...
Митя побледнел, молчит. Не знает, что ответить.
— Ну ладно. Может, ты и не виноват. Но надо си-
13 И. Науменко.
деть тихо. Глупость дорого обходится. Я думаю, ты это понял...
Бургомистр нагибается, что-то пишет карандашом на уголках заявлений.
— Пойдешь в финансовый отдел,— говорит Мите.-— Счетоводом по страхованию. Страховка — дело для населения выгодное. Если что сгорит, пропадет — казна заплатит. А ты,— кивок в сторону Плоткина,— картотетчиком в торговую контору. Она только создается. Уже начальник приехал, немец из Германии. Ему нужны люди.
Разговор окончен, хлопцы вышли из кабинета. Так вот как, в управу попал все-таки он, Митя. Но плохо с самого начала. То, чего боялся, случилось. Он и на железную дорогу не вернулся из-за того, что там знают про арест, будут присматриваться. А тут еще хуже. Оказывается, Крамер за него заступился. Фактически спас. Теперь будет требовать благодарности. Может, потому и на работу взял...
Плоткин тоже растерян. На лице хмурая сосредоточенность.
Друзья вышли из парка, пересекли пыльную базарную площадь, но груз неопределенности настолько велик, что дальше не пошли, в нерешительности остановились. Прежде чем разойтись, а завтра явиться на работу, надо с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем?..
— Пойдем к Марии Ивановне,— сказал Митя.— Ома нас учила. Может, что-нибудь скажет...
У Марии Ивановны отдельная комнатка, маленькая, чисто побеленная. Учительница сидит за столом, подслеповато прищурив глаза, читает немецкую книгу в пестрой обложке.
— Мария Ивановна,— поздоровавшись, начинает Митя,— мы поступили на работу. Я — в финансовый отдел, он — в торговую контору.
— Садитесь, ребятки. Я, вас слушаю.
— Бургомистр знает, что меня арестовывали. Сказал, что заступался за меня и за отца.
Мария Ивановна, опустив глаза, долго молчит. Лицо ее маленькое, морщинистое, на сухих белых руках проступают синие жилки. Очень сдала за последний год маленькая, подвижная учительница, она кажется совсем старушкой.
387
— Что поступили на работу, хорошо,— тихо говорит Мария Ивановна.— Набор в Германию продолжается. Только не массовый, как летом, а небольшими группами. Чтоб не вызывать беспорядков...
— Почему бургомистр сказал, что за меня заступался? — переспрашивает Митя.
— Понять его нетрудно. Он за всех заступается, если может. За молодых особенно.
— Почему за молодых?
— Потому что вы еще дети.— Учительница грустно улыбается.— Мало на свете прожили. Головы у вас горячие, а жизни не знаете. А за политику теперь и детей расстреливают.
— Что будет дальше, Мария Ивановна?
— Не знаю, ребятки. Идет великая война. В нее втянут весь мир. Ежедневно гибнут тысячи.
— Неужели победит фашизм? Что тогда делать?
Мария Ивановна испуганно поднимает руки, бледнеет.
— Я запрещаю вам так говорить, Птах. Вы поступаете неразумно. Кому от ваших слов польза?
— Так мы же вас знаем, Мария Ивановна. Вам тоже с немцами несладко.
Учительница опускает глаза, но голос решительный, требовательный, даже злой:
— У каждого человека есть обязанности. Перед семьей, обществом. Главное — совесть. Ее нельзя терять. Все остальное — второстепенное...
— Как вас понять, Мария Ивановна?
— Очень просто. Один раз вы избежали беды. Второй раз может быть хуже. Не только для вас одного. Не забывайте, в какое время мы живем.
Мите неловко, стыдно: зачем обидел учительницу? Вначале они с Плоткиным даже заходить к ней не собирались, а тут вдруг начали митинг.
— Простите, Мария Ивановна,— говорит Митя.
— Я ничего не слышала. Хотя в наше время и у стен есть уши. Ничего не могу вам посоветовать. Я старая, слабая женщина. Таких, как я, теперь никто не слушает...
Когда хлопцы, смущенные, нахмуренные, поднялись со стульев, Мария Ивановна кивком головы попросила подождать.
13*
388
— Вы знаете — у меня два сына, муж. Они — там,-— она махнула рукой, показывая в окно.— iVLoe сердце кровью обливается. Но что я могу сделать?.. Я знаю только одно: человек должен быть честным. Куда бы судьба его ни забросила. И еще — война не вчера началась, не завтра кончится. А вы пока даже не военнообязанные. А теперь идите, ребятки...
Хлопцы вышли. На душе у Мити неприятно, нехорошо. Мелькает мысль: «Что такое совесть? Не укради, не лги. Так прежде объясняли. Но теперь все перевернулось. Разве не лжет сама Мария Ивановна? Думает одно, а делает другое...»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Между тем как, переведя стрелки и рванув ручку реверса, Шура пустил спаренные немецкие паровозы на заводскую ветку, а сам перед мостиком прыгнул с подножки и полетел под откос, обдирая руки, лицо о кусты, и тем, что он в лесу теперь один среди затаенной ночной тишины, прошло часов шесть. Возбуждение не улеглось.
Шура лежит в сосняке на застланной хвоей земле. Немного прохладно. Тишину время от времени нарушает голос ночной птицы — она кигикает то совсем близко, то в отдалении. Сквозь густые ветви елей блестят звезды. Его завтра хватятся, кто-нибудь да видел, как он бегал по путям, лез на паровоз... «Лишь бы сестру не тронули»,— пробивается мысль.
Шура кладет под голову кепку, плотнее запахивает пиджачок. Надо спать. Забывается только под утро. Уже сонный, видит лицо матери — доброе, задумчивое, с печатью неизменной грусти...
Просыпается он в полдень, проспав как убитый часов двенадцать. Солнце над головой, в сосняке томительная духота, слышатся редкие птичьи голоса. Первое ощущение— голод и боль в левой ноге. Шура снимает ботинок, стягивает заскорузлый носок. Грязная нога в суставе распухла — вывихнул или растянул сухожилья. Руки в царапинах, несколько подсохших ссадин на лице.
Шура встает, пробует идтй. Боль слабеет, когда наступаешь не на пятку, а на носок. Шарит по карманам —
3£9
и сразу становится веселее: спички, ножик на месте, есть несколько помятых сигарет в расплющенной пачке. Шура закуривает, пуская дым сизыми кольцами. Вчера не подумал, соскочил не там, где надо,— лишь бы скорее в лес. Чтоб отсюда выйти, забрать винтовку, надо перебраться через железную дорогу и через шоссе. На заводской ветке немцев, наверно, полно — поднимают сброшенные паровозы...
Шура идет осторожно, чутко прислушиваясь к лесным звукам. На опушке вырезал ореховую палку, присев на колени, собирает чернику. Ягод уйма, а в бору ни души...
Серая лента шоссе-брусчатки мелькнула перед ним часа через три, когда, порядком утомившись, он начал думать, что заблудился. Тихо на шоссе. Шура простоял, наблюдая за шоссе, минут двадцать — ни одной машины. Опираясь на палку, быстро перемахнул узкую ленту брусчатки. Успел заметить — между утрамбованных остроребрых кусков гранита кое-где пробивается трава.
Идти можно вдоль шоссе, но впереди, за железной дорогой, деревня Сиволобы, и Шура снова делает крюк, углубляясь в сосняк. От смоляного запаха, духоты слегка кружится голова, стучит в висках. Почва песчаная, присыпана прошлогодней хвоей. На всем пути сосна и сосна. Другое дерево не растет на песках. Места, где Шура блуждает, не очень далеки от местечка — верст десять — двенадцать, но он тут ни разу не был. По чугунке-однопутке ездил до Хвойного, а Сиволобы видел только из тормозной будки.
Миновать Сиволобы не удалось,— выбравшись на опушку, он увидел деревню как на ладони. Окутанная синеватым дрожащим маревом, скрытая в зелени деревьев, деревня как бы дремлет, упираясь одним своим концом в шоссе, а другим — в чугунку-однопутку.
Несколько минут Шура стоит в нерешительности. На поле половеет рожь, над ней тоже как бы струится горячий, расплавленный воздух. Среди поля, за лентой шоссе, молчаливый пригорок с высокими раскидистыми соснами. Такой же пригорок в местечке, и Шура догадывается— кладбище.
Горькое, щемящее чувство овладевает Шурой. Только одну ночь переночевал в одиночестве, не успел даже от местечка отойти цодальше, а уже неудержимо манит к
т
себе человеческое жилье, и от вида обыкновенных хат, ржи, зеленых деревьев — горький комок в горле. Шуре •хочется есть, хочется услышать звук человеческого голоса, но зайти в деревню нельзя. Там — неизвестность, а у него нет оружия. Схватят и приволокут в местечко.
На сотни верст окрест, лесная, полевая, раскинулась полоненная белорусская земля. Миновал только год, как по пыльным дорогам, большакам прошло на восток немецкое воинство, а мир совершенно переменился. Как и прежде, солнце всплывает из-за леса и огромным красным шаром прячется за лес. Так же стоят деревни, задумчивые леса, бегут неоглядные песчаные дороги. И, однако, все стало другим, совсем другим...
Родная земля, ты в великой беде!..
На прогалину, откуда видны Птахова будка, сосна, переезд, Шура выбрался только под вечер, когда невидимое солнце висело за лесом, а меж деревьями и кустами густели серые тени. За день он дал большой крюк: перебрался, обогнув Сиволобы, через однопутку и еще раз через шоссе. Шел осторожно, припадая на поврежденную ногу, прислушиваясь к каждому шороху и звуку»— тут, поблизости от местечка, можно было нарваться на знакомого человека.
Когда гнал паровозы, прыгал сломя голову с подножки, действовал бездумно, подчиняясь острому, сладкомстительному чувству. Теперь пришло раздумье. Себя Шура не винит. Сделанного не вернешь. Но горький ком в горле давит и давит. От местечка отрезан. Не пройдет по зеленым улицам, не будет, как прежде, отчаянно-беззаботным.
Тайник, где спрятана винтовка, Шура знает. Он потому и спешил, чтобы засветло попасть в знакомый березняк, найти около обгорелого пня кучу хвороста, под которым спрятано оружие. В лесу духота, синий полумрак. Удивительно—из одного куста дохнет приятной волной скопившегося за день тепла, из другого повеет ощутимой прохладой. Шура нервничает—не может найти знакомый пень.
Уже стемнело, когда он наконец отыскал кучу хвороста, торопливо раскидал гнилые ветки и вытащил замотанную в. тряпки винтовку. Ложе отсырело, влажное.
391
Шура с трудом оттянул затвор, загнал патрон в канал ствола. Ощупывая ямку тайника, брал и запихивал в карманы металлические обоймы патронов, засунул за пояс гранату.
Человек с винтовкой совсем не то что с голыми руками. Еще минуту назад Шура чувствовал себя бездомным бродягой, затравленным зайцем, за которым гонятся, желая его поймать. Теперь он ничего не боится, живым в руки не дастся.
Вскинув на плечо винтовку, вышел на прогалину. Городок темнеет вдали длинной громадой с редкими, тусклыми огоньками. Яркая цепь огней только в двухэтажной школе. Наверху, где занимались старшеклассники,— немцы, а внизу, за зарешеченными окнами,— арестованные. Среди них мог быть и он, Шура. Ему все-таки повезло. Не просто удрал из городка, а ушел с громом, с музыкой. Пускай чухаются фогели...
Он пошел в сторону Горбылей. Усталости и голода не чувствовал. В полверсте от лесной дороги — чугунка, один раз пронесся поезд, и притаившийся лес отозвался глухим, стоголосым эхом.
Последнее знакомое место — Дроздова поляна, светло-серая в темени леса прогалина с черным глазом пруда у самой дороги. Возле пруда Шура постоял. Воду у берега затянуло ряской, а посередине, в дегтярно-черном зеркале, отражаются звезды.
Они, местечковая босота, даже сюда добирались — купаться. Там, ближе к железной дороге, была хата старого Дрозда, дядьки Базыля Вилюги. Базыль уехал в Германию. Белый как лунь, его дядька был чудак. Здоровался с ними, детворой, за руку, плел страшные небылицы. Про красных, зеленых, желтых волков, гнавшихся за ним всей стаей...
2
Немного жутковато ночью в лесу. Если внимательно прислушаться, он полон таинственных шорохов, звуков. Треснула ветка — кажется, кто-то крадучись продирается сквозь чащу, похоже на пронзительный человеческий вскрик кигикнула незнакомая птица, послышался как бы тяжелый вздох.
. Щура идет. Винтовка за плечами, рукой держит ее. за, ремень. Если понадобится, он в одно мгновенье сделает как положено — упадет , на землю, прижмет приклад к плечу, а пальцами нажмет курок...
Темно тут только на лесной дороге, под густыми кронами деревьев. Если поднять голову, сквозь нависшие ветви деревьев просвечивает летнее небо в ясных, будто вымытых в росе, звездах.
Щура идет. Дроздова поляна остается позади,- а с ней кончаются лесные владения местечка. Впереди станция и деревня Громы, а за ней Вербичи, сожженные немцами. Там, в Вербичах, вместе с хлопцами Шура рыл окопы. Нет сейчас ни Вербич, ни хлопцев...
Даже в темноте Шура видит, что дорога разветвляется,: и он сворачивает влево, чтоб быть подальше от железной дороги. Лесная, разбитая подводами колея выведет снова к шоссе, а шоссе Шура не боится — оно считай как мертвое...
После полуночи, под утро, звезды бледнеют. Как и в прошлую ночь, он забрался в густой сосняк, наломал веток и, положив рядом с собой винтовку, лег. Ноги гудят от усталости, бурчит в. пустом животе. Чувства и мысли до предела возбуждены. Тревожно, тяжело на душе. Родное местечко, ты там, за лесом!..
Жалость к себе охватывает Шуру, и от этой жалости и оттого, что никто ему теперь не посочувствует, никто не думает о нем, он постепенно успокаивается. Снова возвращается упрямо-мстительная решимость, она приносит равновесие, уверенность.
Что сделано, то сделано. Назад дороги нет. Не стоит вспоминать вчерашнее. Это только расслабляет. И Шура засыдает...
Сон чередуется с явью, ежеминутно мысль вспыхивает тревожной искрой, ищет, опоры в окружающей реальности—в тишине лесной, в ночных деревьях. Рука сжимает винтовку. Но утомленное, измученное тело просит отдыха, покоя, и Шура снова проваливается в бездну.
Он. видит себя с хлопцами на Дроздовой поляне, они пришли-окапывать дубки. Сидят на заборе, а старый , Дрозд. в домотканой белой рубахе и широких штанах выносит каждому по кружке кзасу. К.в.а£ терпкий, кислова-
393
тый, а кружка медная, сделанмя из снарядной гильзы. Такие кружки у старых людей остались еще от первой немецкой войны. Шура пьет и не может напиться, а Дрозд все подносит и подносит...
Дубки окапывать трудно — метровые квадраты, на которых пробились из желудей квелые деревца, густо заросли чертополохом, репейником. Репейник — как лес, а дубков и не видно. Болят спина, ноги, ноют исколотые колючками руки. Щука, Шурин сосед, нашел выход: чтоб не долбить мотыгой по заросшему квадрату, выискивает, вырывает с корнем дубки. Не взошли, мол, были гнилые желуди... Хлопцы видят мошенничество, но помалкивают — свой все-таки Щука...
На другом участке делают прореживание. Дубкам там лет по десять, от земли поднялись, но все равно их заглушают осины, березы, никем не сеянные, они вымахали рядом. Шуре жалко рубить стройные, красивые березки. Как же так — за жизнь одного дубка жертвовать столькими деревцами? Но если не вырубить, дубок погибнет. Не переносит тени. Каждую березку Шура иа- гйбЬет с жалостью.
Неожиданно Щука с винтовкой гонится за Шурой. Вот-вот догонит,— лес, куда Шура убегает, далеко, и нет больше сил бежать. Щука стреляет, Шура падает, чувствует жгучую боль в ноге, кричит...
Просыпается Шура в тяжком недоумении, которое длится несколько мгновений. Сквозь вершины сосен цедится хмурый, синевато-молочный свет, тело озябло, бо- лй'г нога. Нащупывает винтовку, приходит в себя. Страшная действительность перемешалась во сне с тем, чего не было. Верно, что дубки окапывали, прореживали, верно, что Щука, парень с Вокзальной улицы, вырывал их с корнем. Этот самый Щука зимой с ними, заговорщиками, немного дружил, а неделю назад поступил в полицию...
Через минуту Шура еще раз, уже наяву, застывает of ужаса. В лесу, недалеко от места, где он лежит, пла* чет'ребенок. Сначала ему показалось, что прокукарекал петух, и он даже обрадовался — близко деревня, винтовка есть, можно добыть еды. Но крик не петушиный — дблгий, пронзительный, с короткими перерывами. Должно быть, ребенок плакал и тогда, когда он спал, видел свбй жуткий сон, может, он и проснулся от плача...
394
Не в силах унять дрожь, Шура встает, берет на плечо винтовку. Ребенок вскрикнул еще раз — звук .близкий, люди где-то рядом. Парень делает несколько несмелых шагов, выходит на прогалину. На другой стороне небольшой поляны подымается выше берез дым, слышны приглушенные голоса.
; Когда Шура подошел к двум куреням, укрывшимся в густом чернолесье, никто его появлению не удивился. Около входа в первый курень горел огонь, женщина со сбитыми в жгут волосами, в длинной, до пят, юбке помешивала деревянной ложкой в чугунке, приставленном к огню. Другая, такая же безучастная, безразличная, си¬
395
дела на пне, скребла обломком ножа молодую картошку. Плакал босой замурзанный ребенок в домотканой заскорузлой рубашонке. Мальчик или девочка — разобрать трудно, ребенку не больше двух лет — светлые волосики, исхудалое личико.
Шура поздоровался, женщины безразлично буркнули что-то в ответ, занятые своими делами. В куренях возня, сонные голоса.
— Далеко село?—спросил Шура, лишь бы что-нибудь сказать. •'
— Нет ни села, ни кола,— ответила та, что сидела на корточках у огня.
т
— Вы из Вербич?
—- Нет больше Вербич. Разве не знаешь? Зачем спрашивать?..
Испуганный ребенок притих. Женщины своим видом показывали, что разговор поддерживать не хотят и что он, незнакомый человек, тут лишний. Шура повернулся, пошел прочь...
Всходило солнце, отражаясь на медно-гладких сосновых стволах. В лесу зябкая влажность, грибной запах. Тонкой мережкой белеет грибница на холмиках черной лесной земли, изрытой кротами. Шура уже отошел с полверсты в сторону, на запад, когда услышал за собой торопливые шаги.
— Постой, парень!
Шура оглянулся, снял с плеча винтовку. К нему подходил запыхавшийся дядька — немолодой, высокий, с широким, давно не бритым лицом.
— Не балуйся с цацкой! Свой же человек...
Дядька; видимо, имел в виду позу Шуры — тот стоял
как вкопанный, держал винтовку наперевес. Дядька приблизился, почесал шершавой ладонью затылок.
— Ты не из полиции? Заблудился в лесу или как?
— А вы кто?
— Да ты разве не видишь? Из куреней. Ни свет ни заря подошел, напугал блб. Говори, чего хочешь. Может, выпить?..
— Из местечка я,— ответил Шура.
— Из местечка?— дядька искренне удивился.—Так что ты тут делаешь?
— Ночевал в лесу...
Дядька замолчал, испытующе поглядел на Шуру.
— У тебя закурить нету?
Шура вынул из кармана скомканную пачку, раскрыл—осталась одна сигарета.
— Немецкие. Вам что, на службе дают?
— Да не из полиции я,—со злостью сказал Шура.— Убежал от немцев.
Дядька колебался — верил и не верил. Шура видел это по глазам.
— А винтовка?
— А разве винтовки только у полицейских?
— О том мы <не-знаем. Видим только у полицаев.
Шура йскинул. винтовку на плечо, разломил сигаре¬
179
ту пополам, половинку дал дядьке. Чиркнул спичкой, дал прикурить. Не сговариваясь, они пошли назад, на восход солнца.
Человек одет наполовину по-деревенски—широкие крашеные штаны, домотканая сорочка, но на плечах выцветший синий пиджак — такие до войны носили путейцы,— на ногах стоптанные казенные ботинки. Железнодорожная фуражка со следом эмблемы над козырьком.
— В партизаны иду,— сказал Шура.— Только не знаю, где их найти. Вы не знаете?
— Не знаю, братец мой, никаких партизан. Ты сходи в Вербичи, посмотри, что натворили. За партизанство мы заплатили дорого. А наших в партизанах ни одного не было...
— Разве немцы разбирают...
Дядька снова посмотрел на Шуру, перевел разговор на другое:
— В местечке, наверно, работают, как до войны? По- старому всё...
— Не пойдешь, так погонят,— сказал Шура.— Да и, кусок хлеба.
— Я сам работал там два года. Когда клепали огромный чан водокачки. Мы бараки строили.’.
— А я на водокачке кочегаром был,— сказал Шура, не скрывая радости, что наметилась ниточка, которая свяжет его с незнакомым человеком.
— Ты же молод. Когда успел?
— Один год до войны работал. Я без отца рос, жили с сестрой у деда.
Они вернулись в сосняк, где Шура ночевал,—он искал глазами место, выстланное еловыми ветками, и не находил. Наконец, будто что-то вспомнив, круто повернулся и сразу увидел слежавшиеся, примятые к земле ветки.
—-'Тут ночевал. Не знал, что люди близко. Я вторую ночь в лесу.
Дядька остановился, посмотрел меж двух сосен, куда показал ему Шура. -
— Ты говоришь, у деда жил. А отец где?
— В тюрьме,-— сказал Шура.
Дядька посмотрел на него с любопытством, с* сочувствием. Теперь Шура видел — начинает верите
ш
— Отец мать застрелил,— поспешно продолжал он, боясь, что искорка доверия, мелькнувшая в глазах незнакомца, погаснет.— У него был наган, он возил почту. В почтовом вагоне...
— Как твоя фамилия?
— Гарнак,
— Что-то похожее было,— подтвердил дядька.— Ты вот что, хлопец, побудь здесь, подожди. Негоже тебе с винтовкой идти к нам. Всякие люди есть и тут. Ты же, наверно, голодный...
Дядька исчез. Нового места Шура не искал, присел здесь же, где ночевал. Чувствовал, что незнакомец расспрашивал его не зря, хотя, с другой стороны, им мог руководить естественный страх за семью. Боится полиции.
Вернулся дядька мигом, принес кусок пресного хлеба, два огурца, картошки, завернутой в капустный лист.
— Ешь, хлопец...
Вид еды возбудил притухшее чувство голода. Шура ел жадно, отвернувшись.
— Надо было хлеба из дома захватить. Или так спешно удирал?
— Сбросил с рельсов два паровоза.
— Так-таки два?
— Были спаренные. Погнал на ветку. Там разобран мост.
— Ты у них машинистом был?
— Мотористом. Водил дрезину...
— Тебе приказали организовать крушение?
— Сам. Мои товарищи в тюрьме.
— Я тоже был путейцем,— продолжал дядька.— Работал до войны в Громах. Кое-кого из ваших, местных, знаю. Мастера Адамчука...
— Адамчук — сволочь. Продался немцам с потрохами.
— Ты, хлопец, слишком ершистый. Сам же у них работал. Зачем другого осуждаешь?
— Изменник Адамчук. Ушел из партизан, склады выдал. Сапоги немцам лижет, чтоб выслужиться.
— Семья его с ним?
— Так что, если с ним?
— То самое. Ты молод еще, не понимаешь. Вот со¬
т
жгли село, немногие убежали,- спаслись, а куда приткнуться? Сидим по куреням. Родия есть в Громах, Жура- вичах, но боятся старост. На нас теперь клеймо — сожженные...
— В партизаны надо идти,— сказал Шура.
— Ну, я, скажем, могу пойти,— согласился путеец.— У меня другой дороги нет. А жена куда, дети? Думаешь, партизаны такие сильные? Подложил штуковину под рельс — и наутек. А народ страдает...
— Но и не поддаваться же немцам! — стоял на своем Шура.— Они только того и хотят.
— Так-то так, да людям не сладко. Сто сорок душ из Вербич как не бывало. Убежали только те, что возле леса жили.
— В прошлом году мы в вашем селе окопы рыли. Жили в гумне...
— В том гумне людей и сожгли. И в церкви, и в школе... i
Солнце поднялось над соснами. Замычала корова, послышался собачий лай.
— Где партизаны, не знаю,— сказал путеец.— Два раза заходили, а где стоят, не сказали. Кажется мне — за Ольховом. Лес там хороший, большой. Иди туда...
Шура поблагодарил, подал путейцу руку. Вскинув на плечо винтовку, пошел. На душе было гадко, скверно. День начался дурно. Жуткий сон, детский плач. Безучастные женщины возле куреней, которым было все равно — полицай он или партизан. Путеец немного лучше — понимает...
Не прошел Шура и полверсты, как что-то заставило его оглянуться. За сосной мелькнула фигура. Отстав шагов на двадцать, ковылял дядька. Значит, не поверил, следил, собака! Что ему надо? Наливаясь злостью, Шура остановился.
— Подожди, хлопец,—сказал путеец, подходя.— Хочу помочь тебе. Будешь блуждать по лесу и никого не найдешь. Спрячь винтовку, проберись в Журавичи. Найди Гудаса Алексея. Живет на крайней от леса улице, перед хатой груша. Если что знает, то скажет...
Путеец подал руку, двинулся назад. Шура хотел поблагодарить, хотел спросить фамилию незнакомца, но высокая фигура в выцветшей спецовке и домотканых штанах скрылась за деревьями* 1
400
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В конце прошлого столетия по Полесской равнине пролегла железная дорога. Кроме того, что дорога эта связала центральные, хлебные губернии России с промышленным Западом, она имела и другие цели.
В то время как орловские, брянские, гомельские, черниговские крестьяне добывали из бездонных карьеров балласт и камень для насыпей новой железной дороги, по болотам Полесья путешествовала экспедиция русского генерала Жилинского. Генерал был патриотом, имел умную голову: пока прокладывалась дорога, он осушил тысячи десятин болотных топей. Результат был очевиден — через считанные годы прилегающий к железной дороге край стал давать втрое больше сена и деловой древесины.
На гребне неожиданных перемен по-другому забила жизнь — повсюду росли новые поселения.
Больше всего повезло Горбылям, раскинувшейся среди сосен деревеньке, насчитывавшей всего двенадцать дворов. С Полесской железной дорогой как раз в Горбылях скрестилась другая, что вела из пшеничной Украины в богатую лесом Беларусь.
После того как над Полесьем пронесся огненный вихрь революции, схлынули волны оккупаций—сначала немецкой, кайзеровской, потом белопольской,—железнодорожный поселок Горбыли стал называться городом. Тому были веские основания. Такой станции, как в Горбылях, мог позавидовать и большой, имеющий многовековую историю и традиции, город. Стальные нити рельсов оплели обширный простор. Рядом со станцией выросли двух- и трехэтажные здания, в которых поселился железнодорожный люд. Здания ремонтных мастерских, вагонного депо, служб движения и путевого хозяйства, пакгаузы, блок-посты, складские помещения подступали к самому лесу.
Перед войной Горбыли помечались на картах заметным кружочком, значительно большим, чем остальные, более древние, здешние поселения.
Дроме железной дороги через город прошло еще и шоссе. По левую его сторону, в сосняке у самого пред¬
401
местья, скрытый от пытливого глаза, вырос военный городок — аккуратные крыши белых корпусов, длинные кирпичные казармы. Тут находилось пехотное училище. А немного дальше, прямо на поле, был сооружен военный аэродром.
Несмотря на все эти приметы прогресса, Горбыли — город неровный. Чем дальше от станции, тем меньше трехэтажных зданий, каменных домов, городских строений. Их сменяют обсаженные сиренью и вишнями деревянные особнячки и даже обычные крестьянские хаты. Мостовая и выложенные цементными плитами тротуары уступают место дощатым, настланным только с одной стороны улицы. Про Горбыли можно сказать, что тут сошлись, каждый со своим скарбом, город и деревня. Водопровод соседствует с колодезным журавлем, асфальт — с засаженными картошкой и подсолнухами огородами. Но как бы там ни было, а Горбыли все-таки город, и именно сюда перенес резиденцию гебитскомиссар Рог, покинув пыльные, деревянные Батьковичи.
2
Капитан Бондарь пробирался в Горбыли не случайно. Разведбатальон, которым он командовал, разбили под Новогрудком. Под Минском, когда командир выводил из окружения горстку людей, его ранило. Лечился по деревням, как и чем придется. Рваная осколочная рана ниже поясницы вынуждала снимать перед сочувствующими деревенскими женщинами заскорузлые от крови штаны, и к страданиям физическим примешивались обида и стыд. Пока подлечился, стал на ноги, война гремела уже за Смоленском.
Для Бондаря не были большой неожиданностью неудачи кадровой армии. Он был на финской войне, всего -насмотрелся там. На Карельском перешейке, среди хмурых лесов и занесенных снегом валунов, гибли тысячи, брошенные в лобовое наступление, под шквальный огонь первоклассных дотов. За один январский вечер, как свеча, сгорела рота Бондаря. Его, раненого командира, позднее наградили медалью «За огвагу», но горечь на душе осталась.
Для себя самош он пытался выяснить причину, не-
т
удач и пришел к выводу, что в жизни, в том числе и в жизни военной, случается всякое.
Первые тяжелые месяцы войны с Германией — отступления, окружения — как бы подкрепляли мысль Бондаря. Он считал, что воевать мы как следует не умеем, но должны научиться. Потому, подлечившись, осенью он двинулся к Горбылям.
В Горбылях в тридцать шестом году Бондарь окончил пехотное училище. Так случилось, что лейтенантские кубики он заработал близ родных мест. Кадровую также служил недалеко отсюда.
Бондарь представлял размеры катастрофы, постигшей нашу армию под Белостоком. Поэтому рассчитывал, что в Горбылях он найдет товарищей по несчастью. Не могло того быть, чтоб, попав в такое же, как он, положение, командиры не вспомнили о родных, близких.
Батьковичи, где Бондарь родился и вырос, он обошел. Там его знали все. И тех людей, на которых он рассчитывал, там могло не быть. Кроме того, отец после смерти матери сошелся с другой женщиной. Потому даже ка время Бондарь це мог остановиться в родной хате.
Часть города, что находилась за железной дорогой, называется Волынской стороной. Тут впритык к огородам подступает сосняк — вечнозеленое царство, место всегдашних гулянок железнодорожного люда. Бондарь поселился у одинокой старушки, регистрироваться в полицию не пошел. Первым, с кем он встретился, был Анатоль Топорков, чернявый, шустрый лейтенант, успевший пустить в Горбылях корни. Анатоль работал заведующим столовой, обеспечивал Бондаря харчами и наконец свел с нужными людьми — сначала с лейтенантом Казаченко, а потом с местным активом — Гервасем, Хмелевским, Василькевичем.
Всю осень и зиму уныло шумели за обмазанной глиной хибаркой на Волынской стороне сосны. Тут, под заснеженными деревьями, иной раз даже происходили недолгие сходки: хотя старушка и недослышит, но не все в ее присутствии можно говорить...
В теплые весенние дни, перед тем как уйти в партизаны, случилось непредвиденное. По заданию вместе с военными на тайных сходках стал появляться Самусь,
№
высокий, узкоплечий майор с маленькой головой и голубыми глазами.
Последняя сходка проходила ночью, в гумне, стоявшем на окраине, в кустах. Выставили охрану, зажгли коптилку. Собрался актив, человек двенадцать,— надо было решить, как и когда выходить. Собрание вел Гер- вась. Хриплым, простуженным голосом он спросил:
— Кого назначим командиром отряда?
— Бондаря!— выкрикнуло несколько голосов.
— Против нет?
— Я против!..
В освещенный коптилкой круг выступил Самусь. Лица не видно было, оно скрывалось во мраке, те* кто сидел возле колоды, на которой трепетал язычок пламени, видели только ноги, обутые в рваные ботинки, помятые брюки и полы пиджака, висевшие на человеке как на колу.
— Я против кандидатуры Бондаря! — с нескрываемой злостью выкрикнул Самусь.— Непроверенный товарищ. Я не понимаю, например, его связи с переводчицей Турбиной. Пускай расскажет, какие могут быть амуры с немкой!..
— Гнида ты! — не выдержал роли председателя собрания Гервась.— Замолчи. Плевать мы хотели на немецкую шалаву!
— Не зажимайте мне рот. Я тут старший командир!
Сзади раздался едкий, насмешливый голос:
— Заткнись, командир!.. Где твое войско? Рядовым— и то для тебя много.,.
— Кто за Бондаря? — повысил голос Гервась.
Приглушенный, возмущенный гул был ответом.
— Ясно!
— Нечего разводить антимонии...
— Бондаря!.:
Бондарь вышел на середину гумна — маленький, щуплый, как воробей, Самусю по плечо. Голос глуховатый, прерывается. ■ ■ - ь
— Товарищи, кого комиссаром?
— Гервася!
Самусь как бы переломился, нагнулся над коптилкой— хотел видеть тех, кто сидел на соломе.
— В такой отряд я не пойду. На веревке не затянете... -
404
И решительно направился к выходу, скрипнул воротами...
В первую минуту оставшиеся не нашлись, как поступить с ним. Бондарь поднялся, заговорил спокойно:
— Товарищи, идти надо сегодня, сейчас. Откладывать нельзя. Сбор за кладбищем, в сосняке. Ждать будем до трех ночи. Кто не успеет, приходите к мосту на жура- вичской дороге.
Поспешно поднимались, исчезали за воротами в темноте. Задержались трое — Бондарь, Гервась, Топорков.
Теперь, когда людей не было, Бондарь вскипел. Не скрывая ярости, накинулся на Топоркова:
— Где ты откопал такую сволочь? Он нам все сорвет. Запомни: если что случится, головой ответишь...
— Черт его знает,— тревожно сказал Топорков.— Был человек как человек. Не волнуйся, Павел Антонович,— глаз не спущу. Если что такое...
— Смотри — остаешься ты...
Бондарь как в воду глядел: думал вывести из Горбылей семьдесят человек — вывели шестнадцать...
Гэля, юная, прежняя, казалось, забыта навеки. Но неожиданно Бондарь вспомнил о ней.
С Гэлей он дружил еще до войны.
В последний год пребывания в училище Бондарь жил неважно. Учился хорошо, но что-то не удовлетворяло. Может, года брали свое. Жил в одиночестве, девушками не увлекался, и сами девушки не очень-то льнули к нему. Частенько ездил к отцу. Старик вел себя странно. Сала, колбас не жалел, набивал сумку, но рубля взрослому сыну-курсанту, запоздавшему с собственным заработком, не давал ни разу.
Любил Бондарь ходить на станцию. Тут был обнесенный железной оградой скверик. Его окружали тополя, посередине собирались сделать фонтан. Но так и не сделали, поставили только водоразборную колонку. Вода из крана била такая холодная, что от нее ломило зубы.
В девять вечера приезжала Гэля Соловей, учившаяся forAa в педагогическом институте. Бондарь помнил ее еще по своему местечку, когда длинноногая русая
405
девочка-семиклассница задирала взрослых учащихся профшколы, бегая по посыпанным желтым песком дорожкам учебного городка.
Теперь семья Соловья жила в Горбылях, где у них был свой домик.
Гэля приезжала к родителям каждую неделю,, и только два дня —в субботу и в воскресенье — курсант встречался с ней. Брал увольнительную и шел к Соловьям, на улицу Коммунаров, а возвращаясь в казарму, всегда делал крюк, заходил на станцию и пил студеную воду из колонки. Пассажирские поезда — московский, брестский, одесский — к этому времени уже проходили, около перрона пыхтел только местный, отправлявшийся на пеньковый завод в Гороховичи. Он уходил не очень точно — то в одиннадцать, то в половине двенадцатого. На станции в это время было тихо. В полупустом, прокуренном зале дремали пассажиры, которым в ночное время некуда было податься. С перрона в ос^ вещенном окне была видна молодая телеграфистка — она читала ленту, время от времени поправляя прическу...
Бондарь ходил в дом своего бывшего учителя, делая вид, что дружит с Аркадием, Гэлиным братом. Аркадий кончал школу, собирался поступать в авиационное училище.
Аркадий нравился Бондарю тем, что был Гэлиным братом. Лицом, характером он очень напоминал сестру, мог часами рассказывать про самолеты, виражи, мертвые петли. Но ни виражи, ни мертвые петли Бондаря не интересовали.
В тот субботний вечер он ушел из казармы без увольнительной. Сидел у Аркадия до половины десятого, тая надежду, что Гэля приедет. Приближались Октябрьские праздники. За окном бушевал ветер. Бондарь ловил каждый звук и шорох на дворе, скрип калитки. Ему казалось, что в этот вечер должно случиться то, чего он давно ждет. Но Гэли не было...
Бондарь попрощался, пошел на станцию. Лил дождь, но курсант, не замечая его, брел по скверу. Вскоре он увидел Гэлю. Она стояла под козырьком жестяного навеса вокзала, на крыльце. Лицо ее было мокрым, из-под платка выбилась, опустилась на лоб прядка волос, , -
№
Он подошел, спросил, холодея от недоброго предчувствия:
— Почему ты не дома?
— Я знала, что ты будешь здесь.
— Гэля... К вам я хожу только из-за тебя.
— Не надо этого делать.
— Я люблю тебя, Гэля. Ты можешь понять?..
Гэлино лицо страдальчески передернулось, но девушка взяла себя в руки.
— Знай,— сказала твердо,— я люблю другого. Не тебя... А с этим надо кончать... Мне просто стыдно!
Он повернулся, ушел. Она стояла на крыльце, смотрела вслед.
Выдержки ему, однако, хватило ненадолго. На душе было так пусто, больно, что идти в казарму он не мог. Где-то на полпути остановился, почти побежал назад, на станцию. Ему вдруг представилось, что Гэля там, что она его просто испытывает. Но там ее не было — ушла домой...
«Дурак,— сказал он себе мысленно.— Рыцарь ростом метр шестьдесят два. Некрасивый, говорить с девушками не умеешь. За что тебя любить? О том, что Наполеон, Суворов были маленького роста, забудь. Они полководцы, а ты через месяц ванька-взводный...»
В Горбылях Гэля навестила Бондаря первая. Посидела в хибарке не более получаса. Он вышел ее проводить.
Был зимний вечер, на огородах перед темной стеной сосен лежал синеватый снег.
— Института я не окончила,— говорила она по дороге.— В тридцать девятом, как освободили Западную Белоруссию, с последнего курса поехала учительствовать. Там выскочила замуж...
Он слушал равнодушно. Было такое ощущение, что очень давно он вот так же однажды уже шел, зябко поводил плечами, стараясь согреться.
У своего дома Гэля предложила:
— Зайдем к нам.
— В другой раз,— сказал Бондарь.— Сегодня я не в форме. Видно, простудился.
Она спросила с любопытством:
— Твоя жена красивая?
— А твой муж?
407
— Был такой же, как ты, лейтенант. Убегала ог судьбы и не убежала.
Через минуту печально добавила:
— Мы с ним плохо жили...
Сходки в Горбылях организовывались иной раз под видом вечеринок. Гэля на них приходила всегда. Она порозовела, оживилась, вязаный белый свитер плотно облегал ее фигуру, в слегка прищуренных серых глазах светилось что-то новое, мягкое.
Однажды Бондарь — это было на квартире у фельдшерицы Сони,— боясь, чтоб не задержали патрули, домой не пошел, остался ночевать. Гэля тоже осталась, неслышно ступая босыми ногами по полу, пришла к нему в боковушку...
3
В Горбылях Эрна Ивановна Турбина появилась за год до войны. Ее муж, майор, командовал эскадрильей в авиационном полку, размешавшемся на здешнем аэродроме.
Поздней осенью сорокового года в клубе военного городка ставилась пьеса «Любовь Яровая». Роль главной героини исполняла Эрна. Успех был сверх всяких ожиданий. Просторный зал, заполненный командирами, их женами, летчиками, курсантами военного училища, потонул в долгих бурных аплодисментах.
Молодые лейтенанты просто неистовствовали, вызывая на сцену удивительно красивую артистку самодеятельного театра. Она выходила вместе с другими участниками спектакля, скромно кланялась, но блеск темносерых глаз, натуральный — без грима — румянец на лице говорили о том, как она взволнована, обрадована. Потом долго никто не хотел верить, что жена майора выступает на сцене впервые.
Позднее ставились еще две пьесы, но Турбина в них не участвовала. Любопытство, однако, было возбуждено, в мужских компаниях Турбину вспоминали часто,— своим присутствием в заштатном городке она как бы скрашивала довольно однообразные армейские будни. Поговаривали — сведения собирали жены,— что майор авиации перевелся в Горбыли потому, что в Москве, где он служил прежде, у его артистки был
т
шумный роман с известным летчиком-испытателем. Слухам можно было верить и не верить — они ничем не подтверждались. Стало известно, что у майора двое детей, еще маленьких, а его красавица жена работает учительницей.
В городке узнать как следует Турбину не успели. В одной из двух средних школ она преподавала немецкий язык. Никто не знал даже, что она немка.
Эрна Турбина считала, что жизнь ее сложилась неудачно. Началось все с юношеских лет, когда она, первая ученица, окончив школу, не смогла себя разгадать, выбрать дорогу. Отец советовал, как поступить, но она его не послушала.
После школы, поддавшись общему порыву, оставила тихий шахтерский городок, уютную квартиру и уехала на Днепрогэс. Только месяц проработала на котловане, выбрасывая лопатой тяжелый грунт,— хрупкую девушку перевели в табельщицы. Но жизнь табельщицы ненамного привлекательнее — брезентовая спецовка, облепленные глиной ботинки, барак интерната, который не стихал ни днем, ни ночью. То, что казалось героическим издали, вблизи было слишком будничным. Ударницы из Зрны не получилось.
Ее первый рыцарь Гриша Кирпанос, их школьный ходила, который всех их, двенадцать парней и девушек, подбил поехать на новостройку, каждый вечер приходил к ней в барак, приносил свою порцию свекольного повидла и, осторожно гладя ее руку своей загрубевшей ладонью, обещал, что через год им всем дадут путевки во втуз.
Путевки Эрна не дождалась, вернулась домой.
Отец, большой специалист, инженер, приехавший в Россию еще до первой мировой войны и оставшийся здесь жить после революции, хотел, чтобы его единственная дочь стала врачом. На этот раз она послушалась отца, засела за учебники, а через полгода сдала экзамены в медицинский институт.
Получив от нее телеграмму, отец приехал в Москву курьерским поездом, достал через наркомат билеты в Большой театр, нанял для дочки квартиру на Таганке, у старых знакомых. Уезжая домой, он был спокоен за дочь. '
Но институт она не окончила. На первом и втором кур¬
409
сах общую физиологию читал профессор Скридлевский, высокий довольно молодой мужчина с первой сединой, которая очень шла к его интеллигентному лицу. Читал блестяще, умел держаться перед студентами, и многие девушки их курса были тайно влюблены в него. Профессор свое внимание остановил на ней, Эрне. Не было ни свиданий, ни писем, ни совместных походов в театр, а только влюбленные взгляды, которые он бросал, как только входил в аудиторию. Были дни, когда OIM знала, что он читает для нее. Девушки ей завидовали. .
На; втором курсе Скридлевский, дождавшись ее возле дома, где она квартировала, пригласил прогуляться и в тот же вечер предложил выйти за него замуж. Вконец растерявшись, она решительно ему отказала.
Приехав на каникулы домой, отцу не сказала ничего, но жила тревожно. Как бы предчувствовала, что ее беззаботная девичья жизнь кончается.
Первым человеком, которого она увидела, когда вернулась в Москву, был Скридлевский. Он встретил ее на вокзале, худой, осунувшийся, не глядя в глаза, сказал, что бросил жену и сына. Через месяц они пошли в загс, расписались.
То, что Эрна не любит мужа, стало известно ей в первый месяц семейной жизни. Нет, против него она ничего не имела — он был заботливым, внимательным, старался предупреждать каждый ее шаг. Но душа к нему не лежала. Она была в отчаянии, не знала, что делать. Отцу, однако, не написала — он тяжело болел.
Муж понял все сам. Никто не знал, что, живя вместе в скромной комнатке перенаселенной Москвы, вместе приходя в институт, преподаватель и студентка—пара вовсе не счастливая.
В тридцать пятом году отец умер.
Эрна бросила институт, устроилась медсестрой в военный госпиталь. То было время, когда Москва начинала строить метро, проводила реконструкцию. Молодежь увлекалась авиацией. Эрна записалась в аэроклуб, летала на планере, прыгала с парашютной вышки. Увлечение небесными высями привело к тому, что она вышла замуж за летчика.
Второй брак оказался также неудачным. Замуж за капитана она вышла, по любви, ей было двадцать четыре
410
года. Муж дико ревновал ее. Сначала его бешеные припадки приводили ее в растерянность, но скоро она привыкла, махнула на все рукой. Родился один ребенок, через год — второй. Она вызвала из Донбасса мачеху,— раньше не любила ее, не уважала, но захотелось иметь рядом близкого человека.
С девичьих лет она мечтала о большой любви, но жизнь обманула ее. Ею увлекались многие мужчины, с некоторыми она сближалась, но очень скоро наступало разочарование. Того, чего она ждала, не было. В ее представлении человек, полюбивший ее, должен был быть готов на все. С благодарностью вспоминала первого мужа,— из всех, кого знала, он был самым благородным.
Ей надоели тайные встречи, торопливые ресторанные угощения с неизменными выездами на такси за город. Они только обедняли душу, раскрадывали по крупинке то красивое, святое, во что хотелось верить. Даже человек, которого она по-настоящему полюбила,— известный летчик-испытатель,— не смог дать ей того, чего она от него ждала. Чувствовала, вернее, знала — самолеты, виражи, мертвые петли, успех по службе были ему дороже, чем она. Ради нее служебным успехом он рисковать не хотел.
Их связь стала известна. Возник скандал, и муж перевелся в городок на Полесье, о котором она раньше никогда не слышала. С новым местом она легко смирилась. Городок напоминал ей детство, далекие, полузабытые мечты. Только там, на Украине, за копрами шахт, стояли белые мазанки, а тут, за деревянными домиками, шумели сосны.
В пору женской зрелости она вступила с невеселыми раздумьями. Считала себя неудачницей, никчемной искательницей приключений, которая ничего в жизни не добилась. Тут, в захолустном городке, один только раз пережила взлет, неведомую, не сравнимую ни с чем радость,— когда участвовала в самодеятельном спектакле. Но муж нового увлечения сценой не разделял, участвовать в спектаклях запретил. Она почти охотно согласилась — как-никак она мать, надо воспитывать, растить детей.
Теперь Эрна и сама считала, что женщине не нужны Днепрогэсы, парашютные вышки, ей нужен только
411
человек, которого бы она любила до самозабвения, нужны семья, дети. Чувствовала себя несчастной, так как любимого человека рядом не было. Дети — два шустрых черноголовых мальчика — скрашивали ее жизнь.
В Горбылях она осталась не потому, что ждала немцев,— ее пугала неизвестность эвакуации. Она была мало приспособлена к жизни практической, повседневной, с непривлекательными буднями быта. К тому же не уехала не она одна, остались и другие командирские семьи.
Сложность своего положения Турбина поняла позднее, когда пришли немцы, а фронт переместился далеко на восток. Был момент, когда она подумала, что немцы выиграли войну, и в эти тоскливые осенние дни растерялась, злилась неизвестно на кого. Бои велись уже под Москвой. Там, в советской столице, прошла, ее молодость, каждая московская улица связана со сладкими и горькими воспоминаниями. Кто она теперь? Как жить дальше? Что принесли немцы, эти завоеватели, хозяйничающие во многих странах?
На войну она смотрела по-женски, видя прежде всего детей-сирот, молодых вдов, тоску женского одиночества. Она, немка, не ощущала своего превосходства над местными женщинами. Только теперь, когда молодость прошла, когда ей было больше тридцати, она начала задумываться о жизни. Нет, она не осуждала себя. Прошлого не вернешь. Личное счастье ее обошло, но у нее дети, дети от русского, и это теперь самое главное, о чем она должна думать. Теперь надо было брать вожжи в свои руки.
Осенью, когда немцы раструбили, что война выиграна, она пошла работать переводчицей в военно-строительный батальон тодтовской организации. Батальон, который должен был восстановить железную дорогу и шоссе, разместился в пустых станционных помещениях. Ей отвели комнатку бывшей билетной кассы, и теперь служебные взаимоотношения немцев-тодтовцев с местным населением шли через нее, вчерашнюю учительницу, жену майора-летчика.
Нечего скрывать, интерес к единоплеменникам у нее постепенно пробудился. Некоторые женщины, трех слов не умевшие сказать по-немецки, не оставляли без внима-
АП
ния победителей, К таким она относилась с презрением. Это было скотство. Нет, случайной солдатской любовницей. рна быть не собиралась.
Но было время, месяц или два, когда у нее голова закружилась от настойчивых ухаживаний немецких офицеров — в военном городке разместился полк, который пополнялся после боев. Обхождением, деликатностью. знанием женской души, думала она, немцы намного превосходят русских. Ее прежние поклонники казались медведями в сравнении с дисциплинированными, вышколенными офицерами, которые по-настоящему умеют поклоняться женской красоте. Ее приглашали в офицерское казино, и она ходила.
На отношения с мужчинами она смотрела без особой целомудренности. Мужчины, если представляется возможность, без особых угрызений совести разрешают себе флирт. Так почему нельзя позволить это и женщине? Для женщины даже короткая, временная связь с человеком, который нравится по-настоящему, куда красивее, чем нудная, надоевшая, но беспорочная семейная жизнь. Неужели не честнее согрешить с человеком, которого любишь, чем отдаваться, тая в душе раздражение, нелюбимому, немилому?..
Ей понравился один офицер, она легко и бездумно отдалась ему и считала, что ее снова посетило короткое женское счастье, как тогда, в Москве, когда она увлеклась летчйком-'испытателем. Белобрысого стройного капитана звали Хельмутом, родился он в рейнском городке, в небогатой семье.
Скоро, очень скоро пришло похмелье. Хельмут оказался намного хуже, чем все, кого она до сих пор знала, все те, кого по легкомыслию, увлекшись внешним блеском, зачислила в медведи. Хельмуту она была нужна только как женщина. Ему было все равно, она или другая. Встреч было три,— ни разу не спросил, кто она, не порадовал ласковым словом, заводил патефон, наливал вино, чмокал мокрыми губами: «Майн либлинг...»
Воинство непобедимого полка было не лучшим,—в офицерском казино, расстегнув мундиры, жрали, пили, хохотали, бесстыдно сажали на колени женщин. Два солдата, усевшись на деревянных подмостках, растягивали аккордеоны, и под музыку, где в каждую мелодию впле-
т
тались марши, офицеры шаркали подошвами и пристукивали каблуками.
Как легко смотрит на жизнь вся эта солдатская Германия! Есть, пить, стрелять, иметь женщину. Просто все доступно. Kraft durch Freude! 1
4
Мели снега, гуляли ветры. Каждое утро Турбина шла на работу. Станция от побеленного, с окнами на улицу домика, в котором она живет, находится сравнительно далеко. Но работой Эрна Ивановна довольна. Трудно даже представить, как бы жила, если б не устроилась к тодтов- ц'ам. Организация богатая, хозяйственная, и Эрну Ивановну, если честно говорить, поддерживают всем. Привезли дров, напилили, накололи — хватит до весны. Выдают военный паек, хоть она, вольнонаемная, на такой паек не могла рассчитывать.
С некоторого времени к Эрне Ивановне стал заглядывать высокий инженер-капитан Фриц Зонэмахер, главный батальонный электрик. Ему лет сорок, типичное немецкое лицо, на орлином носу очки в золотой оправе. Немного знает по-русски, но стесняется произношения, разговаривает с ней только на своем языке.
— Я был в вашей стране,— сказал он с грустной, виноватой усмешкой.— В тридцать первом году. В Ленинграде и Мурманске. Был представителем немецкой фирмы в вашей организации «Пушторг».
Турбину именно это удивило — ее, немку, инженер подчеркнуто причислил к людям советским, русским. Она в свою очередь осторожно спросила:
— Как вам тут понравилось?
От прямого ответа он уклонился, начал расспрашивать ее — где училась, жила.
Инженер приходил к ней все чаще, иногда приносил иллюстрированные журналы. Задумчивый, молчаливый, подолгу сидел у нее. С неприятным чувством вспоминала она осень, свою душевную растерянность, связь с Хельмутом,—она окончилась так, как и должна была окончиться.
* Сила через радость!
414
Два или три раза Зонэмахер провожал ее домой, возле крыльца целовал руку, подняв воротник шинели, поворачивался, шагал на станцию. Ей становилось жалко его. Он не был похож на других немцев, с которыми она успела познакомиться. Знала, что неженат, и это возбуждало интерес к одинокому немолодому мужчине. Кстати сказать, многие офицеры — инженеры и техники — отличались от тех, которых она видела в казино. Выпивали и эти, заводили знакомство с женщинами, но без бешеного разгула, без неприкрытой, нескрываемой дикости. Она была рада, что Зонэмахер как бы взял ее под свою опеку.
Отпадала необходимость выкручиваться, хитрить — кавалеров тут, в строительном батальоне, хватало.
В тот зимний день Фриц зашел возбужденный, в накинутой на плечи шинели.
— Фрау Эрна, вы можете зайти ко мне? Предупреждаю — плохого ничего не думайте...
Она вышла вслед за ним — кирпичный железнодорожный дом, в котором жили офицеры, стоял напротив, через улицу.
У Фрица на втором этаже чистая комнатка, застланная серым солдатским одеялом железная кровать, на небеленой стене картина в рамке — водяная мельница у речушки, поникшие вербы. Стояла у окна, смотрела на шеренгу голых тополей, тянувшихся вдоль заснеженной улицы. На душе тревожно — какое-то тяжелое предчувствие.
Фриц нервно похаживал по комнате, намереваясь что- то сказать и не осмеливаясь.
— Фрау Эрна, может, послушаем музыку?
Она присела в кресло. Фриц, пригнувшись, осторожно повернул регулятор большого, в полированной блестящей коробке «телефункена», стоявшего на столике возле кровати. Доносились обрывки музыки, трескучие, как барабанная дробь, слова немецких передач. Наконец знакомый — она вздрогнула всем телом — голос довоенного, московского диктора...
Она сидела, слушала, не в силах освободиться от оцепенения, охватившего ее. О войне в последнее время думала мало — война казалась далекой, отошедшей. Было такое ощущение, будто она проснулась после тяжелого, со сновидениями и кошмарами, сна, заново узнала зна¬
415
комое, но позабытое, что исчезло, ушло навсегда. Была радость, был и страх, а над всем господствовало удивление,— такое чувство бывает, когда проясняется вдруг то, о чем боишься даже мысленно вспомнить.
Фриц смотрел на нее.
— Фрау Эрна, переведите, пожалуйста. Я по-русски мало понимаю...
— Радио говорит, что немцев гонят...— она покраснела, поправилась: — Что немцы отступают от Москвы...
.— Знаю. В сводке оберкомандо есть. У нас это называется занять зимние квартиры. Как смотрите на отступление немцев вы, фрау Эрна?
Серые глаза из-под стекол очков поблескивали остро, проницательно.
— Я не военная, герр капитан. У меня на руках двое детей. Мой долг — их кормить...
— Понимаю, фрау Эрна. Не думайте, что спросил в укор вам. Пусть останется между нами — я считаю, что война затянется. Конца ее не видно.
— Россия огромна,— сказала она, чувствуя, как поднимается в груди непонятная ей самой волна неистовомстительного чувства.— Победить такую страну нелегко.
Фриц подошел к шкафчику, открыл левую створку.
— Простите, фрау Эрна, я человек прошлого столетия. Люблю старую, милую Германию, давшую миру хороших музыкантов, философов. Разрешите вас немного угостить...
Поставил на стол бутылку вина, рюмки.
— За вас, фрау Эрна. Вы — чудесная женщина. Поверьте мне, я не так молод...
Выпили по рюмке, Фриц заговорил о другом:
— Фрау Эрна, я хочу, чтоб вы правильно меня поняли. Кроме вас, никого из местных я не знаю. Вы для меня — русская. Вы родились, выросли в этой стране, восприняли ее идеалы. Я был в вашей стране мало, один год, но скажу честно — она мне очень понравилась. У вас тогда многого не хватало. Я видел очереди у магазинов, плохо одетых людей. У вас было плохо с жильем, с продовольствием. Человеку из другой страны это нетрудно заметить. Вечерами в Ленинграде все окна были освещены. Это означает, что в каждой комнате живет семья. Но не об этом хотел я сказать. Не это главное... Я видел,
416
люди верили в свой завтрашний день. У вас чуть ли не каждый учился. Я видел, в трамваях молодые люди читали книги. Они читали не легкие криминальные романы, а серьезные книги — физику, математику. Домашние хозяйки читали газеты... Это так, фрау Эрна?
— Так,— ответила она тихо, одними губами.
Он снова наполнил рюмки.
— Давайте, фрау Эрна, выпьем за вашу страну. Может быть, вам странно слышать такие слова от немца? Хочу вам сказать, что не все немцы одинаковы. Война — проклятая вещь. Она отнимает у человека Душу...
Она слушала, и ее переполняли противоречивые чувства. Хотелось побыть одной, подумать, разобраться во всем том, что так неожиданно нахлынуло на нее в последний час. Она поднялась, поблагодарила.
— Фрау Эрна, хочу сказать на прощание. Если то, о чем я говорил, в вашем народе сохранилось, нам, немцам, придется трудно. Не знаю, можно ли такой народ победить... Отступление под Москвой — очень, очень неприятная вещь для нас, немцев...
Когда она, раскрасневшаяся, взволнованная, выходила из его комнаты, Фриц чуть ли не насильно сунул ей в карман две плитки шоколада.
— Для ваших мальчиков. В войну дети сахара не видят. Хочу, чтоб ваших детей не постигла судьба нас, сол^ дат...
5
Эрна Турбина, видимо, и не догадывалась, что с самой зимы, когда она устроилась переводчицей в тодтовскую военно-хозяйственную часть, ее особой остро заинтересовались неизвестный ей капитан Бондарь, который тайно жил на Волынской стороне, командиры-окруженцы и местные активисты, собиравшиеся по вечерам на квартире у лейтенанта Казаченко. Казаченко немного знал Турбину— после окончания пехотной школы служил тут, в Горбылях.
Плохое говорили про переводчицу. Ходила по городку в белой меховой шубке, сдержанно здоровалась со знакомыми, на красивом, румяном от мороза лице играла загадочная улыбка. Эта улыбка, веселый блеск глаз, лег¬
'iif
кая походка как бы свидетельствовали о том, что она даром времени не теряет,— во всяком случае, не слишком скорбит оттого, что ей неизвестно, в каком небе летает ее муж. Ее можно было считать обычной вертихвосткой, ищущей легких утех, но что-то мешало этому. Подпольщики по очереди наблюдали за деревянным домиком, в котором жила Турбина, и кое-что знали. Видели, что немцы навезли, напилили ей дров, заприметили высокого офицера в очках, провожавшего ее по вечерам. Офицер провожал женщину до крыльца, поворачивался и шел на станцию один. Так продолжалось больше месяца. Турбина офицера в дом, в семью, не пускала, и это что-то значило. Тогда поручили Казаченко познакомиться с Турбиной поближе и, если можно, пригласить ее на вечеринку.
Вечерника состоялась на тихой улице. Внешне она ничем не отличалась от гулянок и сборищ, часто устраиваемых в городке молодежью и даже людьми, вышедшими из юношеского возраста. Чтоб Турбиной не было скучно, пригласили двух знакомых ей командирских жен. Даже два немца-тодтовца были на этой импровизированной вечеринке. Пили самогонку, самодельное, из яблок, вино, танцевали под патефон. Много смеялись, шутили. Стройный, красивый Казаченко весь вечер танцевал с Турбиной. Проводил ее домой.
Сжав ее ладони своими сильными руками, склонившись к лицу женщины, он заговорил:
— Эрна Ивановна, я вас давно знаю. Никогда не забуду, как вы выступали на сцене. Мы хотим, чтобы вы были с нами.
— Кто вы? — спросила переводчица.
— Ну, те, кто не хочет мирно жить с немцами.
— Мой муж на фронте,— сказала Турбина спокойно.— Не забывайте, что у меня двое детей.
Летом, когда в Горбыли перебрался гебитскомиссар, Турбина получила приглашение на должность старшей переводчицы.
В один из вечеров она повидалась с Топорковым, а на другой день дала согласие.
14 И. Науменко.
т
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Нет ничего хуже нудного, надоедливого ожидания. Шура пятый день в лесу, а артизан в глаза не видел. Висит между небом и землей...
В Журавичи — большое приречное село, вернее, местечко с несколькими улицами и каменными зданиями вокруг песчаной площади — он прибился на второй день. В местечке жизнь, казалось, замерла. Улицы безлюдны, всюду закрыты ставни. Шура зашел в два или три двора, спрашивая, где живет Алексей Гудас. На него смотрели сумасшедшими глазами, молчали. Сгорбленная, темнолицая старуха, которую он встретил у колодца, сжалилась, спросила, шамкая тонкими, как бы неживыми, губами:
— Ты откуда, сынок?
— Из Горбылей,— соврал Шура.— Гудас мой дядя. Приехал муки занять.
— Из Горбылей, а не знаешь, что тут было... Будет тебе мука... Беги, пока цел. Позавчера тут партизаны стреляли в тех, которых немцы поставили. Думали, что село сожгут...
Шура наконец понял. Старуха говорит правду — надо давать драпака. Схватят — не выкрутишься. Принесла его сюда нелегкая...
Он уже намеревался шмыгнуть в переулок, на огороды, чтоб перележать день где-нибудь в кукурузе, но старуха сказала:
— Гудас тут недалеко, иди этой улицей, потом сверни налево. Там дома на отшибе. Увидишь дерево перед окнами...
В Гудасовой хате оказалось двое подростков. Шура спросил, где отец. Черномазый шустрый мальчонка ответил: косит за Припятью. Не было никакого смысла продолжать разговор.
Шура напился теплой, неприятной на вкус воды, зачерпнув медной кружкой из деревянного ведра, шагнул к порогу, но мальчик, в свою очередь, спросил, зачем ему отец.
— Я из Вербич,— сказал Шура.— Хотел поговорить...
419
— Из Вербич? — мальчик на минуту задумался.— Тогда пойдем со мной. Тебе тут нельзя. Леня, постереги хату...
Как взрослый, взяв с полки, из-за занавески, буханку хлеба, разрезал ее большим ножом пополам, половину отдал Шуре...
Журавичи — село скорее полевое, чем лесное. До леса далековато — версты две. Босой парнишка семенил впереди, Шура брел за ним. Выбились на дорогу, по которой Шура пришел из леса. За пригорком, с другой стороны большого, разбросанного села, течет Припять, но Шура реки не видел. Не до того было...
В сосновом, с чистой, будто подметенной тропкой, бору пошли рядом. Шура отщипывал кусочки хлеба, клал в рот. Вчера, попрощавшись с путейцем, ел только ягоды да сыроежки.
У развилки лесной дороги Шура попросил мальчика подождать. Сам нырнул в густой ольшаник, вернулся с винтовкой. У мальчишки глаза сделались круглыми, радостно-удивленными.
— Ты кто? — впервые за всю дорогу спросил он.
— Ищу партизан. Человек из Вербич велел поговорить с твоим отцом.
— Что отец... Он тебе и слова не сказал бы. Таких, как ты, я отвел четверых. Только они без винтовок...
— А меня куда ведешь?
— Увидишь сам...
Наконец пришли. Небольшое, круглое, как глаз, лесное озерцо заросло у берега густым лозняком. По краям зеленым поясом поднимается осока, хвощ, на черном плесе посередине видны зеленые кружки белых кувшинок. Шура выбрал место в густом грабнике, нарвал моху — устроил царское ложе. У мальчика, когда тот собрался домой, спросил:
— Долго я буду сидеть тут?
— Не знаю. Я к тебе буду приходить.
— Скажи хоть, как зовут тебя?
— Коля.
Озерцо называется Литвинка. Третий день тут Шура. Вчера были Коля с Леней. Они не братья, просто дружат. Принесли хлеба, кусочек старого пахучего сала, бутылку молока.
— Вернулись полицаи,— сообщил Коля.— Те, что уди¬
14*
рали в Горбыли. Теперь они заняли кирпичный дом, где .была школа. Застеклили окна, роют траншею.
— Много ьллицаев?
— Нет, но новых записывают.
По лесу Шура ходит мало. Притаившись ь лозняке, сидит на берегу, следит, как, будто застыв в разомлевшем воздухе, висят над водой синие и желтые стрекозы. У озерца своя жизнь, если приглядеться — очень интересная. На середине его время от времени расходятся круги, слышен всплеск — играет рыба. Выпучив глаза, квакают в осоке лягушки, с берега скачут в воду и из воды на берег. На раскоряченную старую вербу прилетает дятел, прилепившись к дереву, часами долбит сухой сук. Из всех птиц больше всего подают голос синицы. Звенят беззаботно, как колокольчики. Синицы — предвестники осени.
Хорошо, что не потерял перочинный ножик,— есть работа рукам. Шура срезал две орешины, украшает палки узорами. Будет подарок парнишкам, которые и кормят его, и распоряжаются его судьбой.
Мысленно он все время возвращается к Вербичам. Там, в Вербичах, рыли окопы, строили планы ухода в советский тыл. И совсем не думали, что придется жить с немцами. Вербич уже нет, а все равно, покинув местечко, попал туда. Из Вербич дорога привела к этому озерцу. А что дальше?..
Шура согласен на все, лишь бы не сидеть, как голодный волк, в чащобе, не кормиться из чужих рук. За три дня надоевшего ожидания несколько раз возникало острое желание бросить берлогу, пойти на поиски. У него винтовка, с ней не пропадешь. Но что-то удерживало.
Вечером, когда в лесу стемнело и Шура потерял надежду, что кто-нибудь придет, в лозняках, на противоположном берегу озера, послышался свист. Подхваченный упругой радостной волной,—партизаны! — он сразу же ответил и, держа обеими руками винтовку, стал выбираться из грабника. Шел настороженно, прячась за деревьями. На берегу, на открытом месте,— две темные фигуры. Судя по всему — без оружия.
— Кто там? — не выходя из зарослей, спросил Шура.
— Не бойся. Свои,—послышался спокойный голос.
т
— Кто свои?
— Не дури, парень, выходи!..
Он вышел на берег, остановился, не выпуская из рук винтовки. Двое приблизились вплотную.
— Не бойся, я Гудас,— сказал старший, более широкий в плечах.— Привел тебе напарника. Вдвоем вам будет веселее.
Как рукой сняло настороженность. Шура спросил:
— Больше ничего не слышно?
— Ничего. Полицию новую набирают. Сидите и не рыпайтесь. Поесть Коля принесет.
И ушел...
Шура повел незнакомца в грабник. Тот утомленно опустился на мох, сразу уснул. Шура всю ночь не сомкнул глаз.
2
Человек, которого привел Гудас, убежал из плена. Он старше Шуры на пять лет, черноволосый, высокий, с худым, продолговатым лицом. Зовут его Сергей Медведев. Немного странно видеть пленного сорок второго года. После зимы, когда немцы отступали, когда даже в их сводках мелькали названия не очень далеких городов, обидно думать, что все снова повторяется.
Медведев не сказать чтоб разговорчивый, но перед Шурой как бы исповедуется.
В плен попал в этом году весной, под Харьковом. То, что слышит Шура от Медведева,— не новость. Преимущество немцев в технике, окружение, длинные измученные колонны пленных. В лагерях не кормят, не лечат — там смерть... Расстреливают — лишь бы кто подсказал — комиссаров, коммунистов, евреев...
Медведев убежал из битком набитого людьми вагона. Прыгнул ночью на ходу поезда через окно, выкинул, прежде чем прыгнуть самому, скатку с шинелью. Шинели не нашел, сломал при падении большой палец на правой руке. Шура верит — у него самого и теперь еще болит нога...
Месяц шел Сергей по Украине, прятался, голодал, ночевал в пшенице. Попадались и хорошие и злые люди, но хороших было больше,—иначе он не добрался бы до
422
Припяти, до лесного края. Шура как бы собственными глазами видит старика, в хату которого Сергей постучался ночью, чтоб переменить поношенную одежду на телогрейку и дырявые штаны, женщину, которая разрешила ему сорок верст катить двуколку, выдавая случайного спутника за мужа.
Да, добрых людей много, но сволочей тоже хватает. В украинском местечке, куда, осмелев, Сергей зашел, парикмахер сделал ему модную прическу, деньги приказал заплатить в кассу — виду не подал, что перед ним вшивый бродяга. Парикмахер выручил, а полицаи схватили. Они бы его застрелили или отдали б немцам, если б он не рискнул, не кинулся в кусты,— полицаи были пьяны, всего двое. Уже тут, недалеко от Припяти, зашел Сергей в самую маленькую хатку, на краю села, а в этой невзрачной хате жил полицай, молодой красномордый детина, и мать полицая бросилась в ноги сыну, чтоб не губил незнакомого человека. Заросший седой щетиной дед, прежде чем перевезти Сергея через Припять, заломил двести рублей, а на середине реки приказал снять ботинки...
Острый интерес у Шуры вызывает как раз то, о чем Сергей не сказал ни слова. До самого мая, пока не попал в плен, он был советский, знает то, чего в оккупации люди не знают.
— Как там, на фронте? Какие перемены?
— Обыкновенно,— отвечает Сергей.— Воевали...
— Так почему опять отступление?
— У немцев больше самолетов, танков. Второго фронта нет.
Сергей не понимает, что он для Шуры человек с другого света. До него не дошло еще, что тут, на захваченной немцами земле, все не так, как там, за фронтом, что тут другие законы.
Сергей — родом он из-под Витебска — добирался в Горбыли потому, что в городке до войны жила замужняя сестра. Он молодчина — еще там, на фронте, слышал, что в Белоруссии партизаны, и, отрезанный от своих, сознательно хотел к ним присоединиться.
В полдень, когда пришли Коля с Леней, едва не случилась беда. Они ели, переговариваясь, и ие заметили, как около озера появились чужие люди. Восемь или девять полицаев стоят на открытом берегу, озираются.
423
Шура побелел, схватился за винтовку, но Сергей сжал ему плечо, поднес палец к губам. Через минуту стало ясно — полицаи появились не затем, чтоб искать их, без- домников.
Высокий, плечистый, в кожаной тужурке заковылял на противоположный берег, прибил к дубу кусок фанеры с черным кружком. Отошел в сторону, махнул рукой. Те, что остались, по очереди стали целиться. Гулко бухали выстрелы, разносясь по лесу глухим эхом.
После трех выстрелов полицай в тужурке махал рукой, подходил к мишени. Хохотал...
Полицаи постреляли с полчаса и, не снимая мишени, двинулись к дороге в село.
— Тот, что в кожанке, Пилипов,— сообщил Леня.— Начальник полиции. Прежнего партизаны убили, теперь вот он.
. — Вот что, хлопцы, сюда ни ногой,— сказал Сергей.— Ночью сами придем. Предупреди отца.
Мальчишки приход полицаев восприняли спокойно.
Вечером Шура с Сергеем выбрались на берег, разглядели мишень. В кружке только две отметины от пуль, а фанера изрешечена. Стрелки из полицаев неважные. На всякий случай Шура с Сергеем перебрались глубже а грабовый лес.
з
В лесу послышался свист. Он доносился с того берега озерца, где на дубе висела полицейская мишень. Шур* с Медведевым вскочили. Мелькнула мысль:
«Полицаи!..»
Свист послышался снова.
— Похоже, что Гудас,— сказал Медведев.— Так же мы тебя вызывали.
Они стали осторожно пробираться к озерцу. Небо звездное, светлое, но мрак в лесу как густой деготь. Около озерца стало светлее. Они с минуту постояли молч®, прислушались — тишина. Медведев заложил в рот два пальца, свистнул в ответ. Треснула хворостина — кто-то шел к ним.
— Кто идет? — громко спросил Шура, щелкнув затвором.
4i4
— Свои.
Голос знакомый. Вскоре высокая фигура вынырнула из темноты.
— Вот что, хлопцы,— начал Гудас без всякого объяснения.— Завтра утречком выходите на дорогу. Будут ехать повозки, возьмут вас. Довезут куда надо.
Ночью Шура не спал. В душе жила тревога. Почему ехать на телегах, с незнакомыми людьми, когда можно дойти? Не лучше ли было бы самому Гудасу проводить их к партизанам, если есть связь? Медведев тоже высказал свои сомнения Шуре. Хлопцы решили действовать с максимальной осторожностью...
Едва поднялось солнце, они уже были у дороги. В лесу стоял туман. Из-за него не видно было дороги даже в нескольких шагах.
Ждать пришлось долго. Хотелось есть. Гудас на этот раз ничего не принес. Наконец на разбитой, с выбоинами, дороге послышалась песня. Затем показалась первая повозка. Дуга украшена разноцветными лентами, цветами, звенят колокольчики. И на первой и на второй подводах полно девчат в праздничных платьях, с лентами в волосах.
При виде Шуры и Сергея несколько девичьих рук протянулись к Шуре. Не успел он опомниться, как, обхватив руками винтовку, сидел на возу.
Повозку подбрасывало, девушки наваливались со всех сторон, одна, черноглазая, с красивыми белыми зубами, как бы для равновесия обняла рукой Шуру за плечи,— он краснел, стыдился, так как был небрит, неумыт, е всклоченными, потными волосами. Заводя песни, девушки находили время перемигиваться, делать друг другу непонятные знаки. Кони бежали быстро, под разукрашенными дугами звенели колокольчики. Шура решил, что едут молодожены.
Ехали, тряслись по разбитой дороге долго. Выехали в поле. Лес теперь тянулся только с одной стороны дороги. С другой — полоски овса, ячменя, зеленой в бело- синем цвету картошки. Половина поля в копнах сжат.он ржи. Кони пошли тише.
— Куда едете? — спросил Шура у соседки.
Черноглазая, наклонившись к его уху, ответила громко, чтоб слышали все:
№
— На праздник. Разве не знаешь — в Темравщизне престольный праздник.
Едва он открыл рот, как со всех сторон посыпались насмешки:
— Девочки. Это не наш...
— Давайте сбросим...
— Не злите, еще пальнет из ружья...
— Он же молоденький, девочки. Может, стрелять еще не умеет...
Гомон неожиданно стих, телеги остановились. Посреди дороги стояли четверо с винтовками наперевес. «Партизаны,— мелькнула у Шуры щемяще-тревожная догадка.— Все было заранее подстроено...»
— Мужчины останутся! — послышался пронзительный голос низенького, с острым черным лицом партизана.— Остальные могут ехать...
К канаве вместе с Шурой и Медведевым вышли еще трое парней, смотрели на партизан спокойно, улыбались. Не выдержали девушки, три из них отделились от остальных, отвели — каждая в свою сторону — нареченного. Что-то торопливо вполголоса говорили, не стыдясь обнимали, целовали в губы, плакали.
Шура стоял, грустно улыбался. Когда-то в местечке так же провожали в армию новобранцев. Красиво придумали девушки. И умно — к семьям никто не прицепится. Партизаны взяли парней как бы силой. Шура не знал, что двое из троих — сыновья Гудаса.
4
Восхищение партизанами, владевшее Шурой в местечке, за время лесной жизни прошло, но все равно он смотрит на проводников с нескрываемым интересом. Идут тропкой, петляющей между сосен, молчат. Шуре не нравится и молчание и то, как их ведут. Двое с винтовками впереди, двое сзади. Будто в плен взяли.
Широкоплечий, с множеством мелких болячек на лице партизан, почти Шурин ровесник, что идет сзади, зажав пальцами кремень с губкой, бьет по камню кресалом. Шура останавливается, щелкает зажигалкой. Две недели не курил, думал — отвык, а когда почувствовал запах табака, с прежней силой захотелось курить.
426
— Немецкая? — спросил парень, с интересом рассматривая Шурииу зажигалку.
— Немецкая.
— Подари мне.
— Дай сначала закурить.
Расставаться с зажигалкой не хотелось, но Шура отдал ее. Поспешно скрутил цигарку, прикурил от зажигалки, которая уже стала чужой. Два раза жадно, глубоко затянулся, и сразу закружилась голова, он стал спотыкаться, как пьяный.
— Ты из полиции удрал? — тихо спросил парень.
— Не был я в полиции.
— А винтовка отколь?
— Из-под кур,— сердито ответил Шура.— Ты про паровозы у моста слышал?
— Не слышал.
— Услышишь.
Парень посмотрел на Шуру с уважением.
— У нас отряд что надо. Четыре эшелончика сбросили. Я все разы на чугунку ходил.
— У нас была связь с партизанами,— с независимым видом сказал Шура.
— Так ты подпольщик? — обрадовался парень.— Так бы и говорил... Я сам до партизан был подпольщиком. Нас вышло в лес шестнадцать человек. Ядро отряда...
Шура, занятый разговором, не заметил, как рядом с ним вырос чернявый, который, видимо, был старшим.
— Богданович! — крикнул он.— Прекратить разговорчики... Забыл, где находишься...
Чернявый, смешно, быстро перебирая короткими ногами, устремился вперед, в голову цепочки, а Богданович, подмигнув Шуре, покрутил пальцем у лба.
В лагерь, на песчаный, заросший соснами, дубами, березами остров, пришли часа через два. Богданович шмыгнул в одну из брезентовых палаток, и оттуда вышла высокая, по-мужски плечистая девушка с большими синими глазами на грубоватом, хмуром лице. Подошла к Шуре, испытующе посмотрела:
— Ты из Батькович?
— Из Батькович.
— Моего брата знаешь?
Только теперь Шура догадался, что перед ним сестра Сергея Амельченко. На брата ие похожа — на мать. Та¬
•27
кое же скуластое лицо, большой, как у мужчины, лоб. Почувствовал неловкость перед девушкой..
— Мы вместе были. Хлопцев арестовали.
— Почему тебя не арестовали?
Мгновенно вспыхнула злость, ответил грубо, с вызовом:
— Потому, что знаться с Босняком не захотел. Босняк выдал.
— Кто такой Босняк?
— Вашего Сергея друг. Прикидывался старшим лейтенантом.
— Сергея расстреляли.— Большие синие глаза наполнились слезами.
Шуре стало жаль девушку.
— У Сергея под подушкой нашли наган,— сказал он мягче.— Про остальных ребят не слышали?
— Расстреляли многих. Из ваших одного его.
Шура не смог утаить радостного удивления—девушка это заметила, еще больше нахмурилась.
— Неясно, как у вас получилось,— сказала, направляясь в палатку.— Но доберемся, клубочек размотаем.
Шура сжался, в груди закипела бешеная злоба. Чернявый повел Шуру на край острова. Там, на усыпанной шишками земле, сидели трое в красноармейских гимнастерках. Перед ними, неуклюже вытянув в рваных опорках ноги,— Медведев.
— Где жил в Витебске?
У человека, который вел разговор с Медведевым, простое курносое лицо, волосы торчком.
— На Марковщине.
— О, я на Марковщину ездил трамваем! — в голосе следователя не слышится угрозы.—Забыл, на каком номере.
— На втором,— усмехнувшись, ответил Медведев.
— А учился где?
— В педучилище.
— Подожди! — Курносый открыто, как мальчишка, обрадовался, даже руки стал потирать.— Хорошо, что на меня попал. Когда кончал училище?
— В тридцать девятом.
— Теперь слушай. Если врешь — все выйдет наружу. Секретарем у вашего директора тогда работал один па¬
42$
рень. Мой знакомый. Скажи, как звали вашего секретаря?
— Не парень, а женщина,-— растягивая слова, отвечал Медведев.— Молодая. Звали Дина Ивановна.
— Молодец, не врешь,— человек протянул руку Медведеву.— Будем знакомы — Бондарь, командир отряда. Не обижайся, что хотел тебя запутать. Сам я, брат, из таких, как ты. Только в плену не был. А Днна Ивановна действительно жена моего дружка, лейтенанта Северина. На финскую из Витебска ехали вместе, где теперь — не знаю. Скажи ты, какое совпадение...
Протянул руку Медведеву и младший, до сих пор молчавший. Он назвался Казаченко, начальником штаба.
— Будешь тридцать третьим. Запишу рядовым, а там посмотрим.
— Почему нас две недели держали? — спросил Медведев
— Проверяли.— Бондарь, повернувшись к Шуре, подмигнул:— Выкладывай, парень, все из карманов. Посмотрим, с чем к нам пришел...
Такого поворота Шура не ожидал, поспешно выложил на землю перочинный нож, обоймы с патронами, лимонку. Достал из внутреннего кармана потрепанный бумажник, подал Бондарю. Сразу же залился краской — там, в бумажнике, лежала цветная карточка-иконка. Матерь божья, что ли. Бабушка дала еще зимой. Не хотелось обижать старую, взял.
Бондарь, перебирая фотографии, наткнулся на иконку, усмехнулся, положил назад в бумажник. Прочитал железнодорожную справку с немецкой печатью, порвал на мелкие клочки.
— Рассказывай,— и пристально посмотрел в глаза.
От Шуриной злости не осталось и следа. Он начал издалека. Говорил путано, волновался,— Медведев, которого тут никто не знал, отвечал куда спокойнее. Когда стал рассказывать про аресты, о том, как убежал со станции, почувствовал, что во рту пересохло, язык сделался непослушным.
— Два паровоза? — переспросил Бондарь.
— Были спарены...
Бондарь пересел к Шуре, обнял за плечи, взволнованно промолвил, не глядя на Казаченко и Медведева:
429
— Вот это кадры. Объявим, дорогой мой, по отряду. Выйадет случай — представлю- к награде...
Шура старался держаться, но предательская слезинка выбилась сама собой, покатилась по щеке...
5
Люди на заданиях, в отлучке, и Бондарь, который за последние дни, после того как разбили баржу на Припяти, прихварывал, сам сменил постового. Похаживал с винтовкой вдоль лесного рва, думал.
Два месяца отряд в лесу. За это время вырос более чем вдвое. Новых людей принимают с осторожностью, преимущественно тех, кто приходит с оружием. Тайный склад оружия, оставленный Горбылевским райкомом и по его, Бондаря, заданию зимой перепрятанный Гудасом, был тем арсеналом, который сразу сделал отряд боевой единицей. Теперь, когда отряд растет изо дня в день, оружие надо добывать самим.
Жизнь похожа на хорошо налаженный механизм, в котором винтики, колесики, шестерни должны взаимодействовать, думает Бондарь. Конечно, человек это не железная машина, это нечто несравненно более гибкое, сложное, так как не только явления материальные, но и духозные имеют для него первостепенное значение. Немцы вынудили армию к отступлению, но тут, на захваченной врагами земле, остался народ, многие тысячи людей, которые думают по-советски, не хотят мириться с немецкими порядками. Но не любить фашистов — это еще не все. Главное — действовать.
Нужен толчок, начало, сила, которая бы дала “новый поворот, направление жизни, повела ее по новому руслу. Тут, на границе Батьковичского и Горбылевского районов, такой силой оказался отряд, организованный им, Бондарем.
За два месяца.они наделали много шуму. Иначе и не могло быть, так как они, партизаны, ежедневно в движении, а сорок человек — это пять или шесть групп, которые растекаются по окрестным селам, сидят в засадах у дорог или возле железнодорожного полотна. Каждый день стычки с немцами, полицейскими, дезорганизация той жизни, какую хотят тут наладить фашисты. Палки в
433
колеса немецкой машины они, партизаны, ставят как будто неплохо, и от этого она начинает буксовать, а машина партизанская, наоборот, набирает разгон. Двенадцать близлежащих деревень, которые они контролируют, нерегулярно поставляют немцам молоке, яйца, и это можно считать для начала хорошим результатом.
Партизаны разогнали две волостные управы, гарнизон в Журавичах, взорвали с помощью подпольщиков электростанцию и путепровод в Горбылях, уничтожили восемь или девять немецких машин на шоссе (у Казаченко, начальника штаба, записано точно), двух мотоциклистов, а шестерых немцев — солдат, которые собирали в Больших Лемтюгах яйца, взяли в плен.
Он, Бондарь, военный, и хорошо это или плохо, но с самого начала он не хотел охотиться за мелочью. Без засад, стычек не обойдешься, но не они должны определять облик партизанской войны. Горбыли—железнодорожный городок, и отряду, возникшему в таком месте, сам бог велел сосредоточить внимание на железной дороге.
С железнодорожниками хорошая связь, и это им, партизанам, пошло на пользу. Через месяц после выхода из Горбылей они учинили такое, чем можно, если останешься живым, гордиться до конца дней. Мастер Глушко, который там, на узле, слава богу, держится твердо, передал гаечные ключи, лапу, а когда настало время, через обходчика Жерновика предупредил о воинском эшелоне, который должен везти мадьярский артиллерийский дивизион. Пятьсот с лишним солдат и офицеров, ехавших на Дон, под Орел или еще в какое-то место, никуда не доехали, три дня расчищали немцы трактором-тягачом на кривой около Вербич железный лом, что остался после расплющенных, вдребезги разбитых вагонов.
За эшелон немцы отомстили: через три дня сожгли
Вербичи.
Немцы вымещают злобу на мирных, невинных людях, но другого выхода нет, не сбрасывать под откос эшелоны они, партизаны, не могут.
В следующем месяце устроили крушение еще трех поездов— бронепоезда, состава с углем и эшелона с немецкими солдатами и офицерами. Сорокакилометровый участок железной дороги от Горбылей до Батькович они, партизаны, изучили, как собственный двор, знают здесь
431
каждую тропку, потому и удается с помощью таких, по сути, примитивных средств, как гаечные ключи, лапа, моток обычной проволоки, устраивать крупные диверсии.
Их соседи — они сильнее. Рвут эшелоны толом, минами. Немецкая епархия одинаковая для всех, и сюда, под Горбыли, под Батьковичи, идут октябрьские, гомельские и даже минские партизаны. Машина у них более налаженная, куда солиднее стаж — действуют с прошлого лета. Но и этот край не проклят богом, думает Бондарь. В лесном треугольнике, который охватывает часть Гор- былевского, Батьковичского и Домачовского районов, пока что два отряда. Но жизнь идет в одном направлении — партизаны множатся. Он, Бондарь, не мог склонить головы перед немцами, и таких, как он, много. Другое дело, что фашисты придумали нечеловеческую систему — за отца, брата-партизана отвечает вся семья. В тех селениях, которые контролируются немцами или их ставленниками, это, безусловно, сдерживает рост партизанских рядов.
Поэтому выход один — вырывать из зоны деятельности немецкой машины деревни и целые сельсоветы.
Место, которое они, горбылевцы, выбрали под лагерь для отряда, иаилучшее для нападения на шоссе, железную дорогу и далеко не лучшее, если иметь в виду то, что давно сделали октябрьские партизаны. Заросший лесом остров на болоте хорош как убежище, к нему трудно добраться. Но полновластным хозяином в этом лесном краю будет тот, кто владеет местечком Журавичи. Гарнизон в Журавичах они, горбылевцы, разогнали, но, по сведениям связных, немцы его снова восстанавливают. Журавичи расположены у большака, связывающего Горбыли с южноприпятскими, богатыми хлебом и мясом районами, и немцы так просто местечка не уступят.
Было бы лучше перебраться через шоссе и железную дорогу — под Пилятичи, Литвинов, Лужинец, туда, где действует домачовский отряд. Но там крупные, хорошо вооруженные гарнизоны, а у них сил пока что маловато.
Занятый раздумьями, Бондарь вздрогнул, услышав торопливые шаги. Взводный Комар, вернувшийся с задания, вел ему на смену часового.
432
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Большаков, а с ним восемь партизан — вся озерков- ская группа — шли лесной тропкой.
Выбрались на открытую поляну, и тут из березняка раздался громкий, истошный крик: «Руки вверх!» Большаков не успел опомниться, снять с плеча винтовку, как с направленным на них, восьмерых, оружием налетело человек двенадцать.
— Руки вверх!
Искрой в сознании промелькнуло: «Не полицаи, те
стреляли бы без предупреждения». Большаков оглянулся на своих — лица у всех бледные, подняли руки только Войцех. и Юзик.
Хриплым голосом скомандовал:
— Сложить оружие!
Оттуда, из шеренги людей с наставленными на них ружьями, новый приказ:
— Бегом к нам!
На поляне есть даже стежка. Опустив головы, глядя себе под ноги, побежали. Их окружили плотным кольцом, тыкали ружьями в грудь. Маленький, чернявый, брызжа слюной, кричал:
— Кто такие?
— Сам ты кто? — переполняясь бессильной злобой, огрызнулся Большаков.
— Не тыкай, полицейская морда! Сейчас батьку с маткой увидишь!
Отлегло от сердца. «Так и есть, не полицаи. Такие ж, как и мы...»
— Мы — партизаны,— сказал Большаков.— Озерковская группа. Шли на Будное, там, по слухам, сепаратор. Хотели подремонтировать. Пускай Гитлер воду пьет...
— Заговаривай зубы!—не удержался чернявый.— А это что за фрукты? — дулом винтовки показал он на Юзика с Войцехом — они стояли в черных шинелях, с непривычными шапками-магерками на голове.
— Поляки,— сказал Большаков.— Из организации Тодта. Из Горбылей удрали, прибились к нам.
Партизаны переглянулись, двое или трое вскинули на • плечи винтовки.
433
“ Проверим,— сказал чернявый.— Если врете — в расход. Лучше правду сказать теперь. Оружия больше нет?
— Да партизаны мы,— еще раз заверил их Большаков. \
Оружие, оставленное там, на поляне, подобрали...
Чернявый (фамилию его уже знали — Комар) и еще четверо остались в охране, остальные ушли. Лежали в березняке— партизаны и задержанные,— курили, переговаривались.
— С какого времени в партизанах? — допытывался Комар.
— Трудно сказать. Всю зиму в лесу.
— Сделали что-нибудь?
— Зимой трудно.— Большаков отвечал за всех.— Сидели с голыми руками. На восьмерых — винтовка да дробовик.
— Где оружие взяли?
— С подпольного склада.
— Кто передал?
Большаков насторожился. На такие вопросы он не должен отвечать.
— Вы кто? — в свою очередь, спросил он у Комара.
— Командир отделения связи.
— Что значит — связи?
— Будешь много знать — скоро состаришься,— отрезал Комар.
Вскоре необходимость проверки отпала. Начали друг друга узнавать. Иван Гусовский, широколицый молчаливый партизан из группы Большакова, толкнул локтем под бок белобрысого парня, который, держа между колен винтовку, раскрыв рот, слушал, как перебраниваются между собой Комар и командир задержанных.
— Ты шофер?
— Шофер.
— Из Горбылевского леспромхоза?
— Ну и что?
— Так я тебя знаю. Помнишь, трелевали лес в Прудке? Ночевали у почтальонши. Разведенка была. Угощала морожеными яблоками, на гитаре играла...
— Помню,— зашевелился парень.— Так и ты там был? Там работали шоферы из Батьковичского леспромхоза...
434
Все захохотали.
— Веди, Семен, допрос. Надо выяснить, к кому же та разведенка ночью подкатилась. Обоим на гитаре играла, а кого обняла? Если его, то веди в березняк. Расквитаешься...
Начал сдаваться Комар — его узнал Грицук, высоченный, с побитым оспой лицом пожарник.
— Вы из областной милиции,— обратился он к Комару.— На совещании по громоотводам выступали...
— А ты кто?
— Из Батькович. Зимой прихлопнули заместителя начальника полиции. Потом я к ним пришел.— Грицук показал на Большакова: — Был с ними.
На лицах горбылевцев жадное любопытство.
— В Батьковичах начальников полиции и жандармерии пустили в расход. Тоже ваша работа?— с ноткой недоверия спросил Комар.
— Нет. Домачовский отряд. Наши там есть.
— Вы вместе были?
— Зимой и весной. Потом не поладили.
— Почему?
— Да так.— Большаков говорил с неохотой.— Не сошлись характерами.
— Кто командиром?
— Был Якубовский. Наш, окруженец. Теперь Шелег.
— А вы что, такие смелые, сделали?
— Мало. Гарнизон в Буйках вместе разгоняли. Эшелон под Батьковичами сами под откос пустили.
— Так это вы! — Комар не скрывал удивления.— Мы думали — парашютисты. Тут недавно десант сбросили. Слышали от многих, а найти не можем. Глубоко забились...
Когда в березняк с автоматом и немецким биноклем на ремешке, повешенным на шею, пришел командир и еще двое, Комар доложил, не вставая, уныло:
— Партизаны... Обезоружили. Думали, полицаи...
Стоянка горбылевцев Большакову понравилась: выбрана с умом, с расчетом. Шли к ней долго — болотом, узкой, скрытой в высокой осоке, греблей, снова болотом, по проложенным между кочками жердям. На подходе к песчаному, заросшему соснами кургану окликнул невидимый в кустах часовой, в соснах — второй. Обычай военный: пароль — ответ...
435
В лагере стояли три военные брезентовые палатки — одна возле другой. Можно подумать, что под соснами обосновался обычный взвод. Вода близко — колодец на краю острова — там, где сосняк переходит в чернолесье, и болотная речушка рядом. По острову окота, между ними узкие ходы-траншеи. Видна военная косточка.
Ужинали за длинным самодельным столом, сбитым из сосновых досок. Суп варился в молочном бидоне, подвешенном над огнем. Варево помешивала черпаком с длинной ручкой немолодая, с добрым, приветливым лицом женщина.
Большакову было стыдно: у его людей, за исключением поляков, ни котелков, ни ложек. Ели больше всухомятку.
Большаков знает, что Бондарь — кадровый военный, но ничего военного, командирского в его облике как раз нет, ни одной хотя бы мелкой черточки, которая бы показывала, что человек связал свою судьбу с армией. Голос глуховатый, говорит нараспев. Так говорят во всех окрестных деревнях. Фигура тоже не командирская — низенький, щупловатый.
После ужина разожгли костер, уселись кружком под соснами.
— Погостите у нас,— сказал Бондарь.— Пригласите — придем и мы к вам. Может, как мы у вас, винтовки не отберете...
Вечер хороший, товарищеский, согретый тем искренним, праздничным чувством, когда люди раскрывают друг перед другом все лучшее, что у них есть. Вокруг лес, темень, болото. Над головой — закрытое сосками звездное небо. Однако у Большакова, выросшего на Волге, на Саратовщиие, такое чувство, будто он в степи, возле костра у трактористов. Он был и трактористом, и комбайнером, и последний год перед войной — директором МТС. Вот так, сознательно, желая сблизиться с людьми, над которыми его поставили начальником, он ночевал в степи, ужинал с трактористами, прицепщиками, сеяльщиками, забывая, что он начальник, что ему дано право командовать, объявлять выговоры, даже увольнять с работы, отдавать под суд. В такие вечера обычная жизнь с ее хлопотами, бестолковой суетой, неполадками, которых каждый день хоть отбавляй, казалась мелкой, ми¬
т
зерной перед лицом чего-то великого, что объединяет людей, делает одной семьей.
Такое чувство было там, в степи, такое и теперь...
Бондарь расспрашивает больше про домачовский отряд и поляков. И это понятно Большакову... Ему известно чувство одиночества, которое владеет небольшими группами. Трудно жить в лесу, на отшибе, не зная, кто рядом, кто может тебя поддержать в лихую минуту.
— Хлопцы, волжскую!— Бондарь приподнялся, встал на колени, будто собираясь дирижировать.
Большаков понимает — командир хочет ему угодить. Но ему все равно приятно. Песня заказана ради него. Здешние люди этим как бы хотят засвидетельствовать уважение ему, волжанину.
Далеко разносится эхо по ночному лесу. Поют охотно, самозабвенно, хотя голоса неслаженные — не успели спеться. Верх берет Грицук — у этого верзилы золотое горло. Власть своего голоса знает, подымает тогда, когда у других нет силы тянуть,— и вот уже ведет он, а остальные только подтягивают, подлаживаются, как подлаживается взвод к шагу командира.
Не видала ты подарка От донского казака...
Костер, песня — друзья партизанские! Чем бы ты было, лесное унылое житье, если б не костер, который светит, греет, если бы не песня, которая будит в душе дорогое, заветное, что принадлежит не только тебе одному, а всем—дедам, отцам, детям. Ржавеет железо, разрушается камень,— а песня не стареет. Когда сложена она, грустная, раздольная, про храброго казацкого атамана? И какое дело вчерашним пленным, окруженцам, шоферам, колхозникам до того, что прижимал Стенька Разии к широкой груди черноокую персидскую княжну, а потом, подчиняясь злой воле большинства, бросил красавицу в пенистую волжскую волну? И почему растет в; груди, в горле соленый комок, хочется сделать что-то хорошее, необыкновенное, дорогими, близкими становятся небритые, нестриженые товарищи, что сидят, глядя на огонь? Какая сила собрала их тут вместе, возле ночного лесного костра, их, таких разных по характерам, привычкам, склонностям, из разных городов и весей?..
Кончилась эта песня, сразу, без передышки, начина¬
437
ется другая. Грицуку под силу и новая, но уже не скажешь, что ведет он, так как неразрывной волной поднимаются и спадают мужские голоса — поют, видимо, не впервые. Бондарь прикрыл глаза, лицо доверчиво-простое, сосредоточенное на чем-то очень важном. Со стороны кажется — все, кто поет, будто забыли обо всем, будто прислушиваются к тому, что растет, ширится, зреет в них самих. В платке, завязанном под подбородком, в светлой полосе костра стоит, слушает морщинистая женщина, готовившая ужин...
Когда домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят,
Любимый город другу улыбнется —
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...
Большаков не поет, слушает. Неожиданно приходит мысль, что все сидящие у костра, если не считать поседевшего, в расстегнутом ватнике мужчину и двух пареньков, примерно одного возраста — родились в семнадцатом, восемнадцатом году. Бондарь — старший, но и ему, может, немногим больше тридцати. Он, Большаков, люди его группы — того же возраста. Сразу этого не поймешь, так как все пообрастали бородами, облохматились. Гор- былевцы бритые — в их возрасте легче разобраться.
Бондарь встал, подошел к Большакову, потянулся за угольком.
— Разбивайтесь по палаткам,— сказал он вполголоса.
— Мы, может, все вместе. Не будем разбиваться.
— Почему? — В голосе Бондаря настороженность,
— А вдруг налетят десантники.
— Какие десантники?
— Вши.
Он заливисто засмеялся.
— Хватает и у нас этого добра. Не знаем, как избавиться...
2
Спали долго, а когда, проснувшись, вышли из палаток, в лагере было тихо. Солнце висит над соснами. Терпкий смоляной аромат перебивается болотными запахами— они плывут из леса. Партизан сидит возле палатки, отмачивает в банке с керосином заржавевший затвор.
438
— Умывайтесь,— сказал он Большакову.— Корыто возле колодца.
Пошли к колодцу все восемь человек. Впервые со вчерашнего дня остались одни.
— Может, к ним пристанем? — сказал Большаков, когда отошли от палаток.— Парни что надо.
— Партизаны без году неделя.— Рослый, плечистый Сизых брезгливо оттопырил нижнюю губу.— Амбиция без амуниции...
— Казарму капитан не может забыть,— поддержал его рыжий Пивовар.— Палаточки, караульчики. Игра в войну. Не лежит душа.
Остальные, сбившись в круг, молчали. Примерно это Большаков и рассчитывал услышать. Два Петра —Пивовар и Сизых — за зиму полюбили вольницу. Они присоединились к группе Большакова, когда бродячая, неугомонная, стремительная, как ветер, группа Аркашки помогала разбить гарнизон в Буйках. Остались у Большакова не по охоте: вынудила болезнь — кровавый понос. Аркашка обещал вернуться, забрать своих, а сам оказался где-то уже в тридевятом государстве.
— Только по-честному, хлопцы,— предупредил Большаков.— Не хотите — скажите. А то на всех ляжет пятно.
— Благодарим,— злился Сизых.— Знаем таких субчиков. Признайся — хватишь девять граммов. Видел, какая тут конспирация. Таинственный остров. Три года такого искать. Мы как-нибудь при удобном случае...
— И все-таки надо честно,— настаивал Большаков.
— Посмотрим,— пообещал Пивовар.— Мы с Петей еще не решили. Помозгуем.
Большаков чувствовал — не останутся. Сейчас напролом не пойдут, так как бродить вдвоем несладко, но и полагаться на них не приходится.
Возле колодца кроме женщины, вчера готовившей ужин, увидели молодую чернявую девушку. Вчера ее не было. Она стыдливо опустила подоткнутый подол, зарделась. Женщины стирали белье в корыте, выдолбленном из ольхи.
Парни поздоровались, вытащили ведро желтоватой воды, попробовали на вкус, поливая друг другу из жестянки, освежили лица.
— Я вам яичек сварила,— сказала женщина.— По¬
439
ешьте. Семен покажет, где взять. Семен — мой муж. Вместе горюем...
— Как вас величать, мамаша? — спросил Большаков.— Вы и вчера нас накормили.
— Ешьте на здоровье. Зовут Катериной.
— Почему, тетя Катя, нас одних оставили?
— Привыкайте. Может, понравится. А наши тут кругом. На постах...
Новички перемигнулись — тетка Катерина дипломат...
День прошел незаметно — чистились, выворачивали над огнем сорочки, брились бритвой Большакова, которую мастерски наводил на широком, николаевских времен, ремне дядька Семен. Дядька — плотник, с Катериной пара отменная. Они бросили в городке домик, пожитки. Никто их в партизаны не агитировал. Пошли сами. У них прежде собирались нынешние партизаны.
Сизых с Пивоваром, отделившись от остальных, наперебой выкаблучивались перед Соней — так зовут чернявую девушку. Помогли развесить белье, натаскали воды и к вечеру знали все, что можно было узнать, завязав знакомство. Соня — медичка, незамужняя, работала в аптеке.
Бросая друг на друга косые взгляды, дружки ждали вечера, но вечером, промелькнув мимо палаток, Соня исчезла. Грицук видел,— вскинув на плечо винтовку, она пошла в паре с высоким парнем, неизвестно откуда вынырнувшим.
В сумерки один за другим вернулись трое постовых. Кто сменил их — неизвестно. Вторую ночь провели тревожно. Партизанами их как будто признали, но оружия не отдали. Неизвестно даже, где оно, их оружие...
з
Линию фронта пролетали северо-восточнее Орла. Она оказалась такой, какой ее представляли,— яркой огненной полосой, довольно прямой, светлой от вспышек взрывов, бесконечного миганья трассирующих пуль.
Как только пролетели линию фронта, кабина летчиков открылась, вышел штурман — высокий, плечистый парень в кожаной куртке. Балансируя между тюков, на¬
440'
саленных в проходе, остановился, держась за поручень, перед Мазуренко.
— Спирт есть, диверсант? Не могут же вас послать в гости к гансам без спирту?..
Командир группы Мазуренко, сидевший первым от дверей, забеспокоился. Летят по приборам, земли невидно— только изредка блеснет среди ночи темно-голубая лента реки, чуть приметное глазу озерцо.
— Не волнуйся, начальник, доставим в аккурате. Два часа лёту. Нам не привыкать...
Мазуренко отцепил от пояса фляжку в ворсистом футляре, протянул штурману. Другая такая же фляжка висела на ремне с левого боку.
Штурман кабину не закрыл — были видны приборы, отсвечивавшие бледным синевато-желтым светом. Там, в кабине, угостились — глотнул штурман, глотнул летчик, не запивая спирт водой, чем-то закусили, потом повторили...
Мазуренко сидел, полный тревоги. Молчали десантники. Радистка Ася, прислонившись к окошку, глядела в темноту. Четыре парня беседовали вполголоса, нервно пересмеивались.
Не прошло и часа, как самолет пошел на снижение. Над головами пассажиров вспыхнули две электрические лампочки. Протяжно завыла предупредительная сирена. Из кабины, покачиваясь, вышел штурман.
— Готово, орлы, прилетели!..
«Дуглас» начал первый разворот. Штурман снял железные перекладины с обеих сторон, открыл дверцы. Внизу сплошная черная бездна. Десантники стали поспешно швырять тюки.
Мазуренко прыгнул четвертым. На мгновенье увидел черную тень самолета, мелькнувшего на светло-сером фоне звездного неба, в ушах засвистел ветер. Пальцы держал на кольце запасного парашюта, который горбом висел на груди. Но основной парашют раскрылся вовремя — он только почувствовал легкий толчок. Начался плавный спуск.
Приземлился, можно считать, удачно. Попал на небольшую луговину. Высвободил стропы, стал торопливо гасить парашют. Спрятал ком мягкой, податливой ткани в кустах, черневших поблизости. Выиул пистолет, ждал...
441
Там по другую сторону фронта, когда готовили к вылету их небольшой десант, казалось, что на земле, на которую они должны спуститься, под каждым кустом сидит немец. В таком напряжении Мазуреико провел первую ночь. Сидел, чутко прислушивался к ночным шорохам и звукам.
, Под утро, когда на востоке пробилась белая полоска, закричала сова. Это был условный сигнал. Мазуренко ответил. Из березняка вынырнул Поляков.
В полдень нашли Асю. Она спала под кустом, зажав в руке пистолет. Позже не таясь рассказала, что уснула как раз в момент наивысшего напряжения. Ей казалось, что лес кишит немцами.
И еще одного отыскали в тот день. Купол парашюта Коли Борозны, уроженца этих мест, зацепился за сухую макушку сосны, и он, не успев вовремя освободиться от нижних ремней, висел вниз головой. Товарища похоронили тут же, под сосной.
Сбросили десантников почти точно, верстах в десяти от условленного места. По карте сверили ориентиры. Рядом чугунка-однопутка Батьковичи — Боровцы, в северном направлении — шоссе. Все же двое из группы — Сковорода и Фурман — как сквозь землю провалились. Трехдневные поиски ничего не дали. Не нашли и часть поклажи и — что особенно обидно — запасную рацию.
4
Большаков проснулся от страшного шума. Протирая сонные глаза—заснул только на рассвете,— вышел из палатки и сам себе не поверил. В лагере — пир. По сравнению с тем, как принимали их, на столе сейчас царское угощение. Бутылки с самогоном, сало, вареное — большими кусками — мясо, колбасы, большая миска яиц.
Бондарь, немного охмелевший, заметив Большакова, замахал руками:
— Буди своих, товарищ командир. Давайте сюда!..
По необычно приподнятому настроению, царившему за столом, Большаков понял — случилось что-то важное. Пригнувшись, шмыгнул в палатку, растолкал товарищей — заснули поздно, всю ночь шептались.
Не успели подойти к столу, как навстречу им протянулись руки с полными стаканами.
442
— Братья наши!
— Партизанят с зимы...
— Без тола эшелон опрокинули.
Бондарь встал, поднял руку. Заговорил торжественно, как на митинге:
— Выпьем за дорогих наших гостей. Прилетели из Москвы. Стоит наша родная Москва и будет стоять. Дает отпор фашистским оккупантам. Общими силами, вместе с дорогими десантниками, будем громить проклятых врагов, пришедших на нашу землю...
Только теперь Большаков заметил двух давно не бритых парней в зеленых, армейского покроя куртках. Один — высокий, русый, с открытым красивым лицом, другой — пониже, щупловатый, с кудрявой черной шевелюрой. «Парашютисты,— мелькнула мысль.— Комар же говорил...» К лицу прилила кровь, трепетной птицей забилось сердце. Шел к парням, чувствуя, что от волнения дрожит рука, в которой держал стакан,— хотел и не мог унять дрожи.
— Сковорода,— представился русый, с которым чокнулся стаканом.
— Фурман,— назвался чернявый.
Бондарь подвинулся, освобождая возле себя место. Большаков сел, не сводил глаз с парашютистов. Не верилось, что парни, сидевшие напротив, недавно ходили по Москве, видели, знали то, чего он не знал и не видел. От выпитого самогона закружилось в голове, в душе поднималась неудержимая, шальная радость...
— Так как, товарищ командир, может, объединимся? Дорогие десантники с нами. Принесли пятьдесят килограммов толу. Мы были без толу как без рук. Но четыре эшелона самосильно...
— Мы сами хотели к вам проситься,— стараясь говорить спокойно, сказал Большаков.— Если хотите знать, искали вас...
...Теперь Бондарь редко думает о Гэле, а четыре, даже три года назад она значила для него очень многое. Начиная с осени тридцать шестого года, с того времени, как окончил военное училище в Горбылях, и до самой финской войны носил он в душе горькую, злую обиду, и не было лекарства, чтоб обиду снять или хоть чем-нибудь заполнить глухую, мучительную пустоту.
Он сумел бы выбросить Гэлю из души, если б не бы-
443
ло встреч, свиданий, поцелуев и даже большего, чем свидания и поцелуи, так как потянулась к нему она сама, распалила пожар в душе, возбудила острое, безудержно радостное ощущение жизни.
В ту осень, когда приезжала из пединститута в Горбыли, ей был двадцать один год, так как до института она дважды или даже трижды поступала на разные курсы, быстро, на половине учебного гола, бросала их. Она словно чего-то искала и не находила.
В их любви, которая продолжалась пока она не поступила в институт, первый шаг сделала она и первая же грубо, жестоко оттолкнула Бондаря. Вот этого он не мог ни забыть, ни понять...
Гэля была для него юностью. Приметил ее Бондарь еще в Батьковичах. Тогда она проявляла признаки необычной для ее возраста смелости: приходила к отцу на уроки, в насмешливом курсантском суесловии не терялась, а даже стремилась скорее познать все тайны и загадки, окружавшие жизнь взрослых.
Курсы, школы, интернаты, собрания, митинги — неизменные спутники его, Бондарева, поколения... Не в этом ли человеческом муравейнике, где девушка, женщина так близко стоит к ним, мужчинам, лучше всего, отчетливее чувствует свое равноправие, как они, может овладевать книжной наукой, выступать, иметь такой же, даже больший, успех,— не тут ли зарождается ее новый характер, новое отношение к жизни? Девушка учится,— значит, получит профессию, заработок, самостоятельность.
Когда Бондарь учился в профтехшколе и ему было только двадцать лет, его любила Надя, дочь их соседа Язепа, красивая, серьезная девушка. Он, кажется, тоже любил ее, проводил с ней вечера на скамейке под сиренью, но потом их отношения постепенно начали утрачивать для него свою привлекательность. Там, среди курсантов, был совсем другой мир, и девушки тоже были Другие.
Он знал, что если бы женился на Наде, та была бы ему хорошей женой, старалась бы угодить, стирала бы сорочки, рожала детей. Он жил бы как отец, как знакомые односельчане: поставил бы хату, поступил бы на работу или на службу, довольствуясь теми ежедневными заботами, которые поглощают человека без остатка. А он
444
такой жизни не хотел, тем более что в их собственной семье все складывалось по-другому.
Старший брат Петро в гражданскую войну воевал, был за Бугом, под Варшавой, служил в армии и в последующие годы. Стал кадровым командиром — комроты, комбатом, замполка. В тридцатом окончил военную академию. Домой приезжал только два раза — со скрипучими ремнями поверх диагоналевой, с малиновыми петлицами гимнастерки.
Не захотел жить, как отец, и другой брат, Степан, уехавший в Минск, в БГУ, и даже младший, Андрей. С Андреем перед войной случилось несчастье: оттого,
что очень много занимался, просиживал ночи над книгами, помутился разумом, больше года лечился.
Было у отца четыре сына, и все улетели из родного гнезда.
По окончании профтехшколы, когда Бондарь уходил в армию, Надя плакала. Как бы предчувствовала, что он к ней никогда не вернется. Он женился позже своих братьев, после финской войны. Четыре года болела рана, нанесенная Гэлей, и он считал себя врагом всего женского рода. Смешно признаться, но ему хотелось достичь в военной карьере необыкновенных успехов и уж потом во всем блеске предстать перед Гэлей.
И еще одну встречу пережил Бондарь. На финской войне его ранило осколками мины в ногу и шею, он лежал в госпитале, наспех оборудованном в обычной ленинградской школе. Когда вытаскивали из тела осколки, наркоза ему не дали,— или не было его, или посчитали старшего лейтенанта легкораненым. Распластанный, голый, Бондарь лежал на операционном столе, стараясь не кричать. Над ним склонялась время от времени, вытирая с его лба крупный пот, медсестра. Ее сочувственные синие, как васильки, глаза Бондарь запомнил надолго. Весь месяц, пока лечился в Ленинграде, сестра ухаживала за ним, уделяя ему чуточку больше внимания, чем остальным раненым. Ее тоже звали Надя.
Мысли, воспоминания о Гэле финская война как рукой сняла. Осенью сорокового года Бондарь женился на Наде, увез ее в Белосток, куда его направили для продолжения службы.
Где теперь Надя, он не знает. Посадил в вагон, отправил в эвакуацию...
445
5
Вышли в полдень. Растянулись цепью меж сосен. Впереди Бондарь и москвичи в зеленых куртках, брюках навыпуск. Сковорода с брезентовым заплечным мешком, наполненным толом,— он на голову выше командира. Старается не отстать от него и Фурман.
Партизаны кажутся Шуре бравыми, молодцеватыми: обвешаны патронташами, гранатами —чуть ли не у каждого на боку плоский немецкий штык. Одеты кто во что — пиджаки, телогрейки, кожаные тужурки. Два ручных «дегтяря» несут по очереди. Шура тоже нес пулемет, натер плечо.
От лагеря до шоссе — кусок немалый, верст шестнадцать. Проезжей дороги нет,— вокруг чернолесье, заросшие чахлым сосняком болота.
Когда подошли к шоссе, уже сгустились сумерки. Позвякивая оружием, бегом перемахнули узкую ленту брусчатки, углубились в лес. Еще версты через две устроили привал — близко была железная дорога. Двое отделились, пошли в разведку.
Шура в отряде всего вторую неделю, но у него чувство такое, что он тут давно. Ничем особым партизаны от обычных людей не отличаются. Среди тех, которые пришли издалека, из местечка, казались героями, есть добрые, злые, молчаливые, веселые, даже трусливые. В темноте поблескивают огоньки цигарок. Беседуют вполголоса, приглушенно. Лето на исходе, ночью холодновато. Шура поднимает воротник пиджака, зябко поводит плечами. Рядом, прислонившись спиной к сосне, стоит Богданович.
— Закурим, погреемся,— шепчет Алесь.
Он протягивает кисет, щелкает Шуриной зажигалкой.
— Подорвем эшелончик...
— Не хвались.
— Нечего думать. Без мин сбрасывали.
— Забыл про немцев.
— Ерунда. Два солдата на версту.
— В железнодорожных будках гарнизоны.
— Не в каждой. От Громов до Жерновиц в двух и от Жерновиц до Горбылей в двух. В Жерновицах — словаки. Там пекарня, почта. Я каждый куст знаю...
446
Цигарки погасли, голоса замолкли. Алесь прислонился к Шуре, положил голову на плечо. Носом посвистывает. Странный парень. Может разозлиться, обозвать последними словами и тут же смягчится. Володя Шлег совсем другого склада. Упрямый, молчаливый. Все время держится возле командира. Оба они — Алесь и Володя — детдомовцы, в отряде с первого дня. Но Шлег к Шуре не тянется.
— Гарнак! К командиру!—доносится до Шуры приглушенный голос.
Шура толкает Алеся, встает. Осторожно, чтоб на ко- го-нибудь не наступить, пробирается к месту, откуда его позвали.
— Гарнак,— голос у командира простуженный,— если не заливаешь, на железной дороге вы что-то взрывали. Расскажи.
— Мина была самодельная. Из аммонала.
— Все равно. Расскажи. Главное — как маскировали...
— Обыкновенно. Присыпали сухим балластом...
— А мокрый куда девали?
— Собирали в шапку, уносили под насыпь.
— Вот видите—все правильно... И мы так, дорогой, придумали. Винтовку отдай, возьми плащ-палатку, вынесешь балласт. От Сковороды и Фурмана не отставать...
Пошли к железной дороге. Над лесом поднялась луна, стало светлее. Разведчики вели стежкой, петлявшей между сосен. Шли осторожно, время от времени останавливаясь.
Полночь — ни звука, ни шороха. Шура был возбужден, казалось, слышал, как стучит сердце.
Перемахнули через проселочную дорогу, и только теперь Шура начал узнавать лес—этой дорогой он шел к партизанам, ночевал в сосняке, проснулся от детского плача. Где-то недалеко вербичские курени.
Потянуло сыростью. Прошли еще версту — остановились: железная дорога близко. Бондарь вполголоса отдает команды. Двое отделились вправо, двое — влево. Впереди крикнула ночная птица, и тогда, взяв в руки винтовки, ступая след в след, пошли быстрее.
Лес кончился, перед глазами — залитая трепетным лунным светом поляна с редкими, чахлыми сосенками. Не поляна, а высохшее болотце. По цепи шепотом передает¬
447
ся команда «ложись». Шура лег грудью на кочку. Ноги в коленях промокли, хорошо, что кочка мягкая, как подушка.
Ползли долго, делая частые остановки, прислушиваясь. Осока неприятно касалась лица, резала руки.
Послышался далекий, неясный гул, который надвигался из-за спины, казалось — из леса. Словно в вершинах сосен поднимался ветер. Партизаны замерли. Шура знал этот обманчивый в лесу звук приближения поезда. Только ночью он другой, нежели днем. Днем рельсы начинают позванивать, а деревья гудят, будто там, в соснах, начинается гроза.
Шура приподнял голову, на миг оцепенел от страха. Из серой, подернутой дрожащим туманом дали прямо на них летели два ярких электрических глаза. Вырвали из мрака сизые сосенки, ярко-зеленые в полосе света березки. Минута — и светлая полоса пошла левее. Шура увидел высокую, с травянистым откосом насыпь, черные рельсы. Пришла сразу догадка — они на кривой. Кривая — это западнее Вербич, самое большее — в версте от деревни. Изгиб дороги он видел, когда ездил в Горбыли и когда тут, около Вербич, рыли окопы.
Пронесся поезд. В одном месте,— видимо, рельс был пришит не по шаблону,— из-под колес ярким веером посыпались искры. Не успел утихнуть шум поезда, как, поднятые приглушенной командой, партизаны бросились к насыпи. Бежали пригибаясь, сдерживая дыхание. Залегли, когда черная крутая насыпь была на виду, метрах в тридцати.
Месяц висел высоко, звезды начинали бледнеть. С правой стороны от Шуры тихо перешептывались Сковорода и Фурман.
Шура время от времени приподнимал голову, смотрел на насыпь и не мог унять неприятную, предательскую дрожь. Ждал команды. Но никто не отзывался. Вскоре он задремал...
Проснулся Шура от громких голосов. Мгновенный страх сковал его. Шура не знал, где он, что с ним. Приподняв голову, увидел на насыпи четыре серые фигуры. Немцы часовые шли медленно, стучали сапогами по шпалам, громко переговаривались...
Ночь кончалась, наступал рассвет. Над болотом висела прозрачно-тонкая пелена тумана. Можно уже отлн-
448
чить цепь телеграфных столбов, бегущих вдоль железнодорожного полотна, кусок черной толевой бумаги на откосе насыпи. С другой стороны полотна растут чахлые сосенки, березки, исчезающие в трепетных сумерках. Одежда на Шуре почти вся мокрая.
С правой стороны громко крикнула птица. Команды Шура не услышал, увидел только, как, пригнувшись, побежали к насыпи Сковорода с Фурманом. Поднявшись на мягкие, будто резиновые, ноги — затекли, пока лежал,— Шура двинулся за ними...
Сковорода плоским немецким штыком лежа рыхлит под рельсом гравий. На шпале лежит увесистый, перевязанный шпагатом сверток. Фурман зубами обдирает -конец телеграфного кабеля. Тонкую трубку взрывателя с чекой, как у лимонки, кладет на рельс. Шура расстилает плащ-палатку, быстро собирает балласт.
— Принеси сухого балласта,— просит Сковорода.— Набери подальше.
На широком загорелом лбу у него крупные капли пота...
Когда ямку выгребли, Шура скользнул под откос, высыпал балласт. Партизаны из осоки поднимают головы, отсюда видны и дула винтовок...
Шура снова влез на насыпь, пригоршнями насыпал на палатку горку песку.
Помогая друг другу, мину прикрыли, заровняли следы. Фурман разматывает кабель, присыпает песком.
Главный минер Сковорода махнул рукой, согнал Шуру с насыпи. Фурман, отступая, разматывает кабель внизу, в траве. Потом как ветром сдуло и самого Сковороду.
Уже рассвело. Мучительно тянутся минуты. Могут пройти патрули. Если заметят мину, Шура знает, что делать. Они изрешетят солдат пулями. Непонятно одно: почему ие поставили мину ночью?
Богданович, как и в лесу, лежит рядом с Шурой. Шея потная, грязная, в буроватых потеках. Смотрит на насыпь. Он умеет быть и серьезным. А вообще-то и минуты спокойно не посидит.
Светло, но солнце еще не взошло. Небо облачно. Время как раз то, когда женщины доят коров, выгоняют на пастбище. Если идти по чугунке, то местечко недалеко, верст шестнадцать. Взрыв услышат и там. Если удастся взорвать, пустить под откос эшелон, узнают.
т
— Алесь,—■■ шепчет Богданович (Щуру он зрвет Але- сем),— домашние клецки с молоком любишь?
— Какие клецки?
— Кругленькие. Есть хочется. Если будем удирать, беги за мной. Заскочим в Ольхов. Наедимся вдоволь...
— А разве в лагерь пойдем не вместе?
— Вместе, когда рак свистнет. Посмотришь, что тут начнется. Держись меня.
— Почему ночью мины не закладывали? — шепчет Шура.
— Ночью эшелоны ерундовые. Хороших специально не пускают.
Крикнула птица. Действительно, издалека, чуть слышно, нарастал гул, начали позванивать рельсы.
— По эшелону не стрелять,— пронеслось по цепочке.— Отходить порознь. Сбор возле колодца...
Поезд уже вылетал на кривую. Шура плотнее прижался. к земле, прикрыл глаза.
Паровоз, первые вагоны поравнялись с ними. Шура, стиснув зубы, ждал взрыва, но когда минуту спустя он поднял голову и увидел последний желтый вагон, который, покачиваясь, скрылся за поворотом, его охватило странное ощущение расслабленности. Такое он уже однажды пережил — зимой, когда ничего не получалось с приемником.
Кто-то из партизан громко выругался. Снова послышался тревожный крик птицы. К насыпи, почти не пригибаясь, бежали четверо. Последним с немецким автоматом на шее бежал Бондарь. На рельсах, распластавшись, застыла фигура Сковороды, остальные залегли поодаль, на насыпи. Лежали недолго, быстро начали отползать.
Шли долгие, мучительные минуты. Справа, в той стороне, куда ушли патрульные, послышалась прерывистая дробь пулеметной, очереди. Пулемет как бы пробоиал свою силу: после двух-трех выстрелов замолкал, потом начинал снова.
В состоянии шока, охватившего Шуру, он не услышал гула, нараставшего, как и в первый раз, издалека. Увидел паровоз с короткой трубой, вытянутую цепочку вагонов.
Ослепительно-белый, огненный столб вырос в нескольких метрах от паровоза* а вслед за грохотом взрыва, ко-
15 И. Науменко.
450
торый плотно прижал Шуру к земле, оглушил, заполнил рот, горло, нос сладковато-горькой ватой, начался конец света. Паровоз, будто вздыбленный конь, встал торчком, затем медленно повалился набок. Вагоны набегали, лезли один на другой, летели под откос. Отзвуки лесного эха, треск, скрежет слились воедино. Шура вскочил, размашисто прыгая через кочки, бежал вслед за Богдановичем и, даже оглушенный взрывом, все же слышал позади страшный железный гул...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Домачовский отряд небольшой. Часто совершает засады, налеты. Батура и теперь в засаде. Сидит на краю полевой дороги, в. конопле. На небе ни облачка. От конопляного запаха болит голова. Где-то поблизости перекликается перепелиный выводок: «Вунь ве¬
дут, вунь ведут...» Так подражали перепелятам мальчишки.
Батура — из Пилятич. Осень и зиму жил в селе, с матерью и сестрой. С весны — в лесу.
В этот жаркий августовский день Батура выслеживает полицая Степана Куцку, который слишком часто стал наведываться в Рогали. Рогали — своя деревня. Там партизанам пекут хлеб, стирают белье. Однако в деревне Куцку ни разу не видели’. Кто-то сказал, что Куцка встречается с сестрой в поле.
Загон Куцковой сестры внизу, в лощине, за ольховыми кустами.
Удивительно чисто под коноплями. Не растет никакая трава. «Наверно, от конопляного чада,— думает Батура. Во ржи, в овсе, даже во льне травы полно, а в конопле нет. И еще нет ее в маке.. Мак тоже ядовитый. Недаром беспокойному ребенку дают зеленую маковку, завернутую в тряпочку. Ребенок пососет и засылает. Зеленый мак — наркотик, яд. Хуже табака. Им, деревенским школьникам, рассказывал об этом учитель Вадейка, погибший в немецком застенке».
Настроение у Батуры неважное. Со Степаном Куцкой они когда-то дружили. Даже в педтехникум поступали
4*1
вместе. В приднепровском городке жили на квартире у старой еврейки. Весной отец Степана привез чугун гречневой каши. «Мать хлеба не испекла, прости, сын. Может, в другой раз...» Он, Батура, знал, что хлеба в селе нет. Пески туг, не родит. Степан недолго поучился в техникуме, всего один год.
В полицию Куцка пошел добровольно. Работал в колхозе, выучился на тракториста, а теперь в полиции. «Где, в чем причина? — думает Батура.— И таких, как Куцка, много. Что их гнало в бобики?»
Назойливо перекликаются перепелки: «Вунь ведут... Вунь ведут...» Боль в голове нестерпимая — будто маленькие молоточки стучат в виски. Батуре хочется выскочить на дорогу, вздохнуть полной грудью. Но выскочишь— выдашь себя. Там, за кустами, Куцкина сестра кончает жать овес. Если кончит и уйдет, тогда снова ломай голову, узнавай, где она встречается с братом.
Куцка к нему, Батуре, не цеплялся, не забывал старой дружбы. Встретив на улице, здоровался за руку, но в разговоры не вступал.
Батура сидит на корточках, время от времени приподнимается, оглядывая дорогу. Дрожит на пригорке марево, в истоме застыли сады Лозовицы. Пилятичи за Лозови- цей, а в стороне еще одна деревенька — Прудок. Ни в Лозовице, ни в Прудке своей полиции нет. Те, что стали полицаями, живут в Пилятичах, в школе, на казарменном режиме. К родственникам приходят раз в неделю. Их до последнего времени не трогали. Подкидывали записки, просили одуматься. Одумалось мало— три или четыре человека всего ушли из полиции. Куцке тоже подбрасывали записку. Не хочет, стал чаще навещать сестру, вынюхивать партизан.
Напрягая память, Батура старается вспомнить про Куцку что-нибудь такое, что объяснило бы его предательство. С девушками тот, как подрос, не церемонился. Рыжий чуб, хромовые сапоги, значок ворошиловского стрелка на лацкане суконного костюма. Про успехи у девушек Куцка рассказывал со смешком. Но один ли он? Любил выпить, пустить пыль в глаза, не моргнув глазом, соврать. «Куцка продал родину — и только,— злясь на самого себя, думает Батура.— Нечего разводить антимонии. Взял оружие, служишь немцам — враг. А с врагом в войну один разговор».
№
Высунувшись из конопли, Батура увидел повозку, спускающуюся с пригорка. Слышно уже и тарахтенье колес. Кто-то везет овес, придерживая коня за уздечку. Через минуту воз протарахтел мимо. Почуяв притаившегося человека, конь застриг ушами, захрапел, рванулся в сторону. «Но, волчья сыть!» — По голосу Батура узнал Трофима Тетерича, рогалевского кузнеца. Кузница в деревне маленькая, даже мехов нет, чтоб раздуть углй. Трофим раздувает в горне огонь голенищем сапога. Кует для партизан ножи и даже ножки выковал для ручного1 пулемета.
Чаму ж ты пакшуу мяне, Ырац1ну,
Чаму ж не узяу за жоику,—
доносится из лощины грустный голос. Батура вслушивается — песня давняя, забытая, ее пела когда-то мать.
Я б тиае постолш у вадзе паласкала,
Я б тваю галовачку на лане ласкала,.
Мой гы касец...
Горький, тугой комок подкатил к горлу. Батура поднялся, ноги от долгого сидения на корточках дрожат. Старые, ветвистые березы в Лозозице окутаны легким, зыбким туманом. Взглянул на пригорок — по самой седловине мчится на велосипеде человек с винтовкой через плейо, за спиной. Мелькнуло в сознании: мальчишки
высмотрели гнездо удодов. Дупло узкое, рука не достает. Кромсали перочинными ножичками дырку до вечера, пока не скрылось за лесом солнце. Тогда Степан заткнул дупло мхом: «Удоды все разно вонючие, пускай дохнут». ’
Батура выскочил на дорогу.
— Стой, поговорить надо! — крикнул Степану.
Куцка спрыгнул с велосипеда, покачнулся, но устоял
на ногах. Побелел как полотно. Велосипед лежит на дороге, заднее колесо крутится. Еще мгновенье — и Степан, пригнув голову, стал срывать из-за плеча винтовку...
— Руки вверх!
Степан не слушает. Непослушными пальцами теребит на шее ремень.
Батура стреляет из нагана три раза. В упор, в расстегнутую на груди сорочку. Не помня себя, задыхаясь, бежит в лощину. Как сквозь сон слышит испуганный крик перепелки: «Вунь ведут* вунь ведут...»
453
2
В Батьковичский район вслед за десантной группой капитана Мазуренко пришла вторая, присланная из-за линии фронта. Добирались болотом, трясиной, продирались сквозь густой орешник, и, когда вышли на сухой грунт, в сосновый бор, все восемнадцать, сняв автоматы, скинузв походные мешки, попадали на землю.
Светловолосый парень, одетый в зеленоватую .куртку и синие штаны, сняв с пояса фляжку, отвинтил головку.
— Майка* утоли жажду. Из родника, где вчера умывались.
Девушка — она тоже в куртке, в лыжных брюках — отпила глотка два, вернула фляжку.
— Пахнет болотом. И лягушками. Зачем обманываешь?
— Да родниковая, Майка. Нагрелась только.
— Я не хочу пить, Женя. Так устала, что ничего на свете не хочу. Спать, спать...
До вечера далеко, но все мгновенно заснули.
Не спит только один. Опершись на локти, он полулежит, расстегнув планшетку, разложив перед собой карту- двухверстку.
— Харитоичик,— говорит он вполголоса, чтоб не разбудить остальных,— на пост. Твоя очередь.
Светловолосый парень, прилегший рядом с Майкой, нехотя поди и м астся.
— Вася, вчера ты говорил, что сегодня будем на месте. И зачем вчера мы проторчали целый день около этой деревни?
У того, что водит пальцем по карте, худощавое, небритое лицо, под глазами большие синие круги,
— Там было место явки, Женя. Должен был прийти человек.
— Кто назначал явку?
— Нам дали ее в Москве.
— А-а-а, глупости! Когда инструктировали тех людей, которые должны нас встретить? Когда тут немцев не было. Неужели ты веришь, что они нас ждут? Больше года сидят и ждут. Либо в партизаны: ушли, либо немцы их перевешали..,
— Нам дай приказ, конкретные адреса.
454
— Да пойми ты — немцы тут уже год. Все изменилось. Надо было остаться у кировцев. Не понимаю, почему мы не остались. Хороший отряд, боевой. Просили же остаться...
— У нас задача — развернуть партизанское движение именно в этом районе.
— Не все ли равно, где бить фашистов?
— Не спорь, Женя. Мы на месте. Если сегодня никто не придет на явку, будем действовать самостоятельно.
— Значит, пришли?
— Пришли!
Вскоре прилег и Вася, положив голову на вытянутую руку. Женя прохаживается между сосен, тихонько насвистывает. На минуту остановился: на стволе дерева, на палочке-подставке,— жестяной рожок, до краев наполненный мучнисто-белой смолой-живицей. Аккуратные винкели — разводы подсочки, переполненные смолой жестяные рожки на других деревьях. Часть валяется на земле. «После подсочки лес валят,— думает Женя, выросший в лесной стороне.— Война продлила век сосен».
В орешнике, вплотную подступившем к песчаному острову, что-то хрустнуло, зашелестели ветки — будто кто-то сюда пробирается сквозь чащу,— Женя отскочил за сосну, чутко прислушиваясь, наставил автомат. Треснуло вверху, посыпалась на голову сухая хвоя, возле ног упала шишка. Отойдя от сосны^ Женя задрал голову. Среди ветвей рыжей молнией носилась белка — прыгала то вверх, под самую макушку разлапистой сосны, то опускалась на самый нижний сук. «Тревожится»,— только успел подумать Женя и, согнув колени, даже не вскрикнув, упал. Что-то железное,, острое вонзилось в спину, обожгло сердце...
В лесу послышался, осторожный свист — над убитым на корточках сидел краснолицый человек, держа в руках плоский немецкий штык. Из орешника с винтовками наперевес выскакивали полицаи, полукругом оцепляя место, где спали партизаны. Прошла минута — и гулкая пулеметная очередь разрезала тишину.
Люди в зеленоватых куртках вскакивали и тут же как подкошенные падали. С того места, где выбрали они себе привал, только дважды коротко прострекотал автомат. Через несколько минут все кончилось. Кто-то громко
435
стонал, звал на помощь. Полицейские не спешили выбираться из укрытий.
Первым поднялся коренастый Князев, начальник полиции,— это он снял постового.
— Обыскать бандитов! — разнеслась его команда.
Полицейские, Перебегая от сосны к сосне, сужали полукольцо. Они увидели первые трупы—двое юношей в полувоенной форме лежали ничком, распластав руки, вплотную друг к другу.
Дальше еще более страшная картина — там ворочаются, стонут, хрипят раненые, смерть их настигла сонных. Князев выстрелил — добил раненого, и тогда из груды неподвижных тел, опираясь на руки, приподнялась девушка в мужской зеленой куртке, в брюках,— не мигая, спокойно смотрела на полицейских, застывших в нерешительности.
— Добивай большевистскую суку! — крикнул Князев и выстрелил не целясь из нагана.
Озверевшие полицейские в упор решетили распластанные на земле трупы, били прикладами головы, топтали трупы ногами. Забыли даже про оружие — невиданные еще русские автоматы с укороченным деревянным ложем валялись на земле, их никто не поднимал.
Князев в дикой расправе участия не принимал — наблюдал, стоя в стороне.
— Отставить! Большевистская банда разгромлена. Если бы не мы их, то они бы нас! — кричал, поднимая руку с наганом, Князев.— Напали бы не позже сегодняшней ночи. Глядите — у них автоматы. Банда прислана из Москвы. Объявляю всем благодарность.
Автоматы, пистолеты, вещевые мешки собрали быстро, а больше ничего не взяли — одежда окровавлена, разувать изувеченные трупы не хотелось. Вышли из леса на болотную гать, стреляли из автоматов, громко, возбужденно разговаривали.
А в это время по пыльному большаку, который ведет из местечка в Пилятичи, мчалась группа всадников. Даже невооруженным глазом видно—спешит на подмогу районная полиция.
— К шапошному разбору попали!
— Все равно хвастаться будут, что они разбила.
№
— Спирт-немцы им быстрее выпишут.
Впереди конного отряда на тонконогом гиедом коне новый начальник местечковой полиции Зыскевич-Будк- ловский — широкоплечий, круглолицый, с брезгливей усмешкой на толстых губах.
Князев подошел к нему не спеша, вразвалку, протянул руку.
— Окружили — и всех под орех,—сообщил он коротко.— Не ушел ни один.
Зыскевич-Будиловский молчит, что-то обдумывая.
— Мы за ними со вчерашнего вечера охотились. Они целый день около Буйков терлись. Ночью пошли в лес, а мы нападать не хотели — могли разбежаться.
— Сдать автоматы! — сказал Зыскевич-Будиловский.
Князев не понимает — стоит посреди дороги, как
столб.
— Автоматы — наши трофеи. Кто сказал, что банда последняя? Могут отомстить, напасть на нас.
— Сдать автоматы! — В голосе начальника местечковой полиции стальные нотки.— Приказ жандармерии. Сдать все, что забрали. Вы допустили ошибку — надо было пленного взять, раз окружили бандитов. Мы бы так не сделали.
Лицо Квдзева наливается кровью, дергается правая щека. С его подчиненных веселое возбуждение как рукой сняло —;упорствуют, наливаются злостью. Скажи Князев одно слово — и ощетинятся против непрошеных гостей трофейными автоматами, как капусту изрубят.
— Приказу жандармерии я подчиняюсь,— говррит Князев, пронизывая Зыскевича полными бессильной злобы глазами.— Но трофеи сдам только по акту. Акт в двух экземплярах —- один зам, другой мне. Рапорт об уничтожении банды подам шефу жандармерии лично.
Зыскевич-Будиловский неожиданно громко смеется.
— Ладно, разберемся. Поехали в село. Тищенко, дай господину Князеву коня, Сам пройдешься пешком, тут близко.
С черного коня соскакивает узкоплечий, худой полицай, подводит коня Князеву. Тот, затаив на губах усмешку, подмигивает своим подопечным, поставив левую ногу в стремя, легко вскакивает в седло.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
45?
Ритм жизни в Горбылях намного стремительнее, чем в Батьковичах.,По мостовой грохочут тяжелые, с тупыми радиаторами немецкие грузовики, проносятся солдаты- мотоциклисты в пятнистых плащ-накидках. На каждом шагу встретишь солдата — немца, словака или мадьяра. Казармы военного городка не пустуют.
Агроном Драгун вторую неделю живет в Горбылях. Жецу и детей поселил в Ольхове, у женцной сестры. Себе подыскал квартиру на тихой улице Коммунаров — она теперь называется Залинейной, в близком соседстве с домом старшего землеустроителя Соловья.
Это Соловей помог Драгуну перебраться в Горбыли. Помогали, конечно, и немцы из сельскохозяйственной комендатуры, большинство которых тоже переехали сюда. В аусвайсе на хорошей, глянцевой бумаге написано, что землеустроитель Драгун имеет право ревизовать сельские и районные земельные органы в границах комиссариата, а немецкие железнодорожные и сельские власти должны оказывать ему содействие средствами транспорта.
Сидя у Соловья на застекленной верандочке, они вполголоса разговаривают.
Соловей — рослый, похожий на медведя старик с широкими, обвислыми плечами, с лохматой седой головой. Когда-то он учил Драгуна в лесной школе. Перед войной был главным агрономом МТС. Возобновили они знакомство весной, когда старик по служебным делам приезжал в Батьковичи (гебитскомиссар тогда сидел там). К подполью Соловей присоединился по личной инициативе.
— Без Украины, черноземной полосы, Кубани — России существовать нельзя,— говорит старик.— Три четверти урожайной русской земли у немцев.
— Война же не кончена.
— Ты мне хочешь сказать, что в нашем отступлении есть что-нибудь разумное? Ничего разумного не вижу.
— Заметьте — немцы не всемогущи. В прошлом году наступали на всех фронтах...
458
— Немцы очень правильно делают. Учитывают экономический потенциал. Что такое Кавказ? Нефть... Захватив Сталинград, перережут Волгу, нашу природную артерию.
— Победа немцев — палка о двух концах. Посмотрите, что на железной дороге делается. Если всюду так?
— Партизаны никогда не решали исхода войны. Армии решают. Если хочешь — партизанское движение находится в духовной зависимости от армии.
— Тут я с вами не согласен,— возражает Драгун.— Армия отступает. Партизаны множатся. Разве не так?
— Не так, милый мой. Страна сопротивляется — вот что вдохновляет...
На веранде постепенно темнеет — сгустились вечерние сумерки. Дом у Соловья как у всех здесь: обшитые тесом рубленые стены, зеленые наличники, фронтон с окошком. Возле дома огород, сад — кусты сирени, крыжовника, несколько вишен, яблонь. Деревья еще зеленые. Огород, сад пустые — горожане подбирают все до последнего стебелька.
На веранду пришла жена Соловья Марина Алексеевна, моложавая, круглолицая, несколько полноватая женщина. Следом за ней вбежала девочка лет четырех — собиралась что-то сказать деду, но, увидев чужого человека, застеснялась. Драгун знает — тут вместе с родителями живет Гэля, дочь, учительница. А это ее девочка.
Марина Алексеевна завешивает окна, включает электрический свет, зовет мужчин в комнату.
— Ты покормил гостя? — спрашивает Марина Алексеевна.
— Он есть не просил.
— Вы простите его, Василь Иванович. Век доживает, а разум детский.
Марина Алексеевна — женщина бойкая. Как из мешка сыплет словами и в то же время ловко накрывает на стол, расставляет тарелки. Пяти минут не проходит, как уже можно садиться обедать.
Стол не очень богатый, но в городских условиях и
это хорошо. Марина Алексеевна поясняет;
— При мужнином жалованье давно положили бы
зубы на полку. Теперь живет тот, кто взятки берет. У немцев все на взятках...
459
— Признак того, что нравы низкие,—говорит Соловей.— Новой Европе, которую немцы строят, даже загнивать не надо. Давно гнилая...
— Для большевиков вы все равно немецкие прислужники. Берете взятки или нет. Когда наши вернутся, вас по головке не погладят.
— Что ж, может, и правильно. Большевики требуют от человека максимума. На слабую человеческую природу внимания не обращают. Хотя мне большевистский идеализм больше по душе, чем материализм немцев.
— Большевики идеалисты? — возражает Драгун.— Никогда не сказал бы...
— А как у нас молодежь воспитывали? Разве не на максималистских требованиях? Все государству, ничего себе. Вот тут у нас полиция раскрыла недавно молодежную организацию. Называлась «Смерть фашизму». Восемнадцать юношей и девушек замахнулись на весь оккупационный порядок. Это как назвать, по-вашему?..
— Что тут удивительного, они же дети,— грустно вздохнула Марина Алексеевна.
— Ну, не такие уж они дети. Дети путепроводов ие взрывают. Это в то время, когда Бондарь и другие еще только начинали. Правда, без авантюры не обошлось.
— Я ничего не слышал об этом. Расскажите,— просит Драгун.
— Тут в тодтовской организации были поляки. Военнопленные. Школьники — к ним. Высшее офицерство разговаривать отказалось. А младшие офицеры и солдаты согласились. Только поставили условие: в партизаны пойдут, но чтоб их на самолетах перебросили в Москву. Оттуда собирались вступить в польскую армию. Школьники не растерялись, гарантию дали. Это весной в апреле, когда еще никакого отряда не было.
— Ну, и чем все кончилось?
— Плохо кончилось. Пошли в лес. Ну, конечно, на условленном месте не только самолетов, но и партизан не было. Ждали несколько дней. Назад же в казармы не пойдешь. Пришлось самим искать партизан. Несколько человек вернулось. Я думаю, что за молодежью стоял кто-то из взрослых.
— А что с теми, которые вернулись?
— Арестовали. Вообще батальон расформировали.
ш
— Всех вас? поарестуют,—«сказала Марина Алексеевна.— Постреляют, и никто спасибо не скажет. Мол, немецкие холуи, туда им и дорога...
— Ну и пускай стреляют. Мы с тобой свое отжили.
В Горбылях не только электричество есть, но и радио.
В репродукторе, который висит на оклеенной обоями стене, захрипело, зашуршало, потом послышался отчетливый голос на русском языке: «Двадцать часов по берлинскому времени. Передаем сводку верховного командования немецких вооруженных сил...»
Соловей почти безразличен к передаче, а Драгун слушает внимательно, сосредоточенно.
«...В Сталинграде доблестные германские войска, преодолевая решительное сопротивление большевистских орд, заняли несколько новых районов... Тракторный завод почти полностью в немецких руках... Южнее города немецкие части вышли к Волге... Дни большевистской цитадели на Волге сочтены... Это вопрос нескольких ближайших дней...»
— Две недели идут бои в Сталинграде,—задумчиво говорит Соловей.— Это что-то да. значит.
Марина Алексеевна оставила мужчин одних;
— Хочу просить вас,— говорит Драгун,— о встрече с Бондарем. Сам концов не найду.
— Месяц нет от него вестей. Не знаю, что думать.
— Люди тут остались?
— Дорогой мой, посредников не имел. Не хочу иметь. Бондаря я знаю, как и тебя. После лесной школы в военном училище тут учился. Бывал в моем доме. Я еще посмеивался: «Лесовод решил стать лейтенантом». Приходил, конечно, не ко мне, к дочке...
— Я долго тут не могу, Николай Петрович. Пойду туда. Хотел спектакль устроить...
— Не понимаю.
— Чтоб меня партизаны захватили. Где-нибудь в деревне, на глазах населения. Как немецкого служащего. В интересах семьи, вас...
Соловей задумывается.
— Так будет лучше. Конечно, лучше...
Через минуту он спрашивает:
— В ваш район слухи не дошли? Бондарь за отца боялся. Жил tyT скрытно, под чужой фамилией. Но все может бшь...
— Пока тихо. Ко мне он сам посланца приелал. Правда, давно* в начале лета.
— Они тогда только ушли в лес. У троих тут остались родные. Их расстреляли...
Драгун поднимается, подает Соловью руку. Комендантский час тут, в Горбылях, как и в Батьковичах, начинается в одиннадцать часов.
2
На станции Горбыли стоит готовый к отправке эшелон. Паровоз под парами. Рядом путейцы меняют подгнившие шпалы. Контора участка путейского мастера находится рядом с вокзалом, в покрашенном в желтый цвет деревянном домике.
Зазвенел старомодный, с никелированным колпачком, телефон. Глушко поспешно сиял трубку.
— Мастер Глушко слушает.
В трубке — голос Шмидта. Стало легче на сердце.
— Адам Васильевич, прошу ко мне. Захватите платежные ведомости, С марта месяца. Слышите — с ^марта...
— Понял, господин комендант. Через десять минут
буду-.'
Вышел в другую комнату, открыл дверь в боковушку. Счетовод Гриб, закатав рукава белой рубашки, стучит на счетах.
-- Начинается, Сергей Сергеевич. Шмидт вызывает. С ведомостями.
Гриб поднял голову, нахмурился.
— Про Костю будет спрашивать. И про этого, что просился на водокачку. Забыл фамилию...
— Станкевича,— подсказал Глушко.
^ Ну да. Не понимаю только, почему Шмидт? И почему с опозданием?.. Слухи настойчивые — вчера ночью всех...
— Ты с Костей — ни-ни?
— Общие разговоры. Петренка с ним. Чтоб не хватились...
— Петренка ниже травы...
— Я думаю, лучше, что Шмидт. Может, перестра^ ховка.
462
— Давай ведомости. Если что такое, понимаешь сам... Не забудьте моих...
Глушко взял папку, подошел к двери, остановился. Гриб встал из-за стола, шагнул к мастеру. Торопливо, порывисто обнялись...
— С богом, Адам Васильевич. У меня предчувствие — все обойдется хорошо.
— Такое же предчувствие и у меня,— Глушко грустно улыбнулся.— Прощай...
Мастер шел по перрону, высокий, статный, в форменном, довоенных лет костюме, с озабоченным видом кивал головой знакомым железнодорожникам.
В приемной штатского железнодорожного коменданта секретарь перебирает бумаги. За дверями в кабинете — крик.
— Лиза, доложите господину коменданту. Вызывал.
— Подождите, Адам Васильевич. Там — из жандармерии...
Глушко сел. Сердце забилось чаще. Хуже всего неизвестность. Жандармы у коменданта — это плохо...
Крик стих. Слова немецкие — не разберешь.
В приемную сунулся было взводный станционной полиции и, ни слова не сказав, отпрянул назад.
Томительно тянутся минуты. Секретарь — лицо без кровинки — напускает на себя безразличие. Затачивает немецкой машинкой карандаши.
Наконец дверь рывком открывается, на пороге — Шмидт.
— Прошу, господин мастер.
Глушко — папку держит под мышкой, шапку в руке — заходит в кабинет. Останавливается в трех шагах от стола, по-военному щелкает каблуками.
— По вашему вызову явился, господин комендант.
На стене, над столом коменданта, большой портрет
Гитлера. Жандармы — оба знакомые — с расстегнутыми воротниками мундиров сидят на диване, по правую руку от стола.
— Садитесь, господин мастер. Я вызвал вас посоветоваться. :
Глушко сидит на краешке кресла перед столом. Папка с ведомостями и шапка лежат на сдвинутых коленях.
— Господин мастер, жандармерия предъявляет нам, железнодорожному руководству, законные требования.
463
Который раз у нас находят приют преступные элементы.
— Господин комендант, за то, в чем я виноват, готов нести ответственность.
— В числе наказанных немецкими властями два агента партизан. Дайте ведомости заработной платы.
Глушко кладет папку на стол, привстав, внимательно следит за тем, как листает комендант короткими, с рыжими волосинками, пальцами сложенные вдвое листы платежных ведомостей.
— Яковенко вам знаком?
Глушко вздрогнул. Мастеру показалось, что он назвал Петренку. Выгадывая время, чтоб успокоиться, за^ думался.
— Лично такого не знаю.
— Адам Васильевич, вы же местный человек.
— Роберт Карлович, даю вам честное слово, что в числе довоенных рабочих Яковенко не значился.
— Я не о том. Вы знаете местных людей.
— Как и вы, Роберт Карлович. Я в Горбылях с тридцать шестого года. А до войны вас не знал. Хотя вы, можно сказать, коренной житель.
— Фамилия Станкевич вам ничего не говорит?
— Такого не знаю.
— Он же у вас работал.
— Ремонтных рабочих вместе с подсобными в моем подчинении свыше двухсот. Зимой, когда расчищали снег и брали сезонников, было четыреста. Знать всех не могу.
Комендант долго что-то объясняет жандармам по-не- мецки. До Глушко доходит только одно слово — «унбе- кант» К Успокоившись, Шмидт говорит:
— Оставим служебный тон, Адам Васильевич. Я вам доверяю полностью. Заметьте: с вами говорят не жандармы, а я.
— Роберт Карлович, должность мастера, заставили меня занять вы. Если не забыли, я уклонялся, как мог.
— Никто ничего не забыл. Но мы же с вами на службе. И притом в военное время.
— Вопросами приема рабочих занимаюсь не я, а немецкий мастер. Потому заранее снимаю с себя ответственность.
1 Неизвестный.
464
Шмидт становится серьезнее* стучит карандашом по столу,
— С этого часа нанимать рабочих будете вы. Будете проводить приказом каждого нового человека.
— Господин комендант, с сегодняшнего дня я подаю заявление об увольнении.
— Адам Васильевич, не забывайте — ваше поведение немцы не поймут. Не забывайте, какое время...
— И я об этом говорю, Роберт Карлович. Сегодня каждый может отвечать только за себя. Ни за кого другого. Прошу перевести мои слова панам жандармам...
Шмидт, повернувшись к жандармам, что-то говорит. Оба внимательно слушают, потом начинает говорить толстый.
— Жандармерия к вам претензий не имеет,-сообщает наконец Шмидт.—Такие проверки в военное время вещь обычная. О вашем желании уволиться я им не говорил. Пусть все останется между нами.
Глушко встает, кланяется. Излишне надоедать начальству не следует.
з
Год назад, когда начальник дистанции на дрезине уезжал в эвакуацию на восток, цвела полынь, брошенные на путях вагоны вызывали щемящее чувство одиночества. Мастер Глушко вынес железный сейфик с документами, поставил в дрезину у ног начальника.
—Счастливой дороги!
С ним, мастером, начальник дистанции попрощался подчеркнуто безразлично — вяло пожал руку, отвернулся. Скорее всего, маскировался, хотел показать другим* что не одобряет намерения мастера остаться у немцев. А может, не знал?..
Простившись со Шмидтом, Глушко забежал в контору, показался на глаза повеселевшему Грибу, потом направился к казарме путейцев, где была его квартира; Сегодня суббота, рабочий день короткий* Напряжение спало, все пока обошлось.
Раздвоенной, тайной жизнью живет Глушко. Не скрывая от самого себя, может сказать, что привык. Может* оказывается,, .человек балансировать на лезвии бритвы, выдавать себя за другого, приятельски разговаривать е
4*5
те*ми> кому вредит. Артист? Нннакой он-не артист. И ничего особенного не делает. Просто и в обычной жизни, когда нет никакой войны, человек не всегда выкладывает перед другими то, о чем думает и чего добивается. А тут сам бог велел...
Год назад, когда надо было решать — оставаться или нет, Глушко думал, что у него хватит хитрости, осторожности прожить среди немцев. Осторожность — от знания жизни. Мастером он пробыл много лет, имел дело с людьми; хорошими и плохими, они всегда предъявляли к нему, пускай и небольшому начальнику, свои требования, и если; б он не смог удовлетворять эти требования, люди обижались бы, и наконец случилось бы так, что его сняли бы с этой должности.
• С другой стороны, он, мастер, отвечал за путевое хо- -зяйетво перед высшим начальством, и эта ответственность был# даже большей, чем перед рабочим людом, ибо, если бы сошел с рельс поезд или- случилась какая-нибудь другая беда, его не только сняли бы с работы, а еще и судили бы. И в мирной жизни он, Глушко, покоя не имел, к покою не привык, исключая разве месячный отпуск, когда за свой участок железной дороги он не отвечал, перекладывая ответственность на плечи кого-нибудь из бригадиров.
Конечно; тогда он работал честно, волновался, терял душевный покой лз>за каждой мелочи. Теперь о железной дороге не думает, плевать он хотел на дорогу, по которой ездят немцы, вся его дипломатия направлена на то, чтоб доказать немцам, что он не имеет отношения к авариям, которые случаются на железной дороге. Есть партизаны, На партизан можно списать даже то, что делают иногда сами они, подпольщики.
В глазах немцев и своих рабочих, исключая тех десятерых, с которыми Глушко связан конспиративно, он — аккуратный мастер, исправно служит немцам. Приказы, которые он отдает, правильные, они на пользу немцам, да иначе и нельзя,—будь иначе, на должности мастера он не продержался бы и дня. У немцев есть свои уши и глаза среди рабочих — погани хватает,и сделай он хоть одик неверный шаг, скажи не то слово —в тот же день это дойдет до немцев.
Он, Глушко, не боится смерти. Идет война, гибнут ЛЮД1Г, и не будет ничего удивительного в том, что погиб¬
т
нет еще один человек. Он боится погибнуть по-глупому. А такое может быть, сегодняшний случай лишний раз подтверждает это.
Двое парней, Яковенко и Станкевич, которых схватили жандармы, связаны с ним не были, но Петренка, вне всякого сомнения, дело с ними имел. Аресты, допросы стали обычным явлением. Каждый день кого-нибудь арестовывают.
За складами, свернув с путей, Глушко видит Жерно- вика. Обходчик ждет его, сидя на куче ржавых труб. У его ног стоит лозовая кошелка с шурупами.
— Привет, Васильевич! — Черный, со скуластым, татарским лицом Жерновик не скрывает радости, что видиг мастера живым и здоровым.
— Не мог найти другого времени,— здороваясь за руку, говорит Глушко.— Я только от Шмидта.
Жерновик затягивается цигаркой, хмурится.
— Копает?
— А ты как думал? Немцы не дураки.
— Кого-нибудь из наших заподозрили?
— Пока обошлось. Ты ничего не слышал?
— Почему не слышал. Четырех вчера ночью в сосняке расстреляли. Отца того парня, что работал у Черняка, так избили, что ночью умер.
Услышав про своего бригадира, мастер мрачнеет. Оглядывается — никого поблизости не видно. На станцию прибыл эшелон, солдатня, звеня ведрами и котелками, бежит к кубовой за кипятком.
— Что ты думаешь о Черняке? — спрашивает мастер.
— Черт его знает. Кажется, как все.
— Когда восстанавливали путь после взрыва мадьярского эшелона, был случай,— вполголоса рассказывает Глушко.— Под разбитым ватовом вашли кусок рельса, с проволокой. Черняк увидел, хотел показать немецкому мастеру. Я на него цыкнул, сказал, что проволоку привязали солдаты, когда расчищали пути.
— Думаете, догадался Черняк?
— Бее его знает. Может» догадался. Эти дни я боялся его. Думал — ляпнет по дурости...
В следующую минуту оба цепенеют от страха. Прямо на них, прыгая через рельсы, бежит немецкий солдат. Забежал за груду труб, не обращая внимания на мужчин» спешно спустил штаны, присел...
467
Не оглядываясь, пошли по дорожке вдоль железнодорожных путей. Жерновик, позванивая шурупами, пересказал новости: устроил встречу словаков с Бондарем, словак Михаил Слива и еще двое собираются уйти в партизаны.
— Слива каждый день в будку приходит,— добавил обходчик.— Весь горит...
— Скажи, пусть осторожнее. Он птица вольная, а у тебя семья.
Попрощались около поворота в казарму.
Год живет тайной жизнью мастер Глушко, высоко несет большую, с легкой сединой на висках голову, на людях, если не одолевает, как в эти дни, тревога, не теряет юмора и хорошего настроения. Соседи считают — умеет жить, никогда не пропадет. От немцев он слышал собственными ушами, что фигурой, лицом, какими-то другими приметами, о которых не догадывается сам, напоминает тип германской породы. Знает хорошо — германцев в родне и близко не было. Дед, отец, братья — все были рослые, дюжие, это верно.
Год назад, может и сам не догадываясь, сосватал егв на двойную службу начальник дистанции пути. Привез на дрезине, привел в казарму к мастеру двух парней. Представил как рабочих Лунинецкой дистанции, приказал зачислить на работу, выдать аванс. Лунинец захвачен немцами, у рабочих, которых привез начальник, слишком белые руки. Подозрение у Глушко закралось уже тогда, в первый день.
Из двух остался один, Петренка, с серо-синими, жесткими глазами, общительный. Напарник Петренки через неделю сбежал на новое место, а этот еще целый месяц, пока меняли покореженные бомбами рельсы, шпалы, подъезжал с разговорами, выпытывал.
Однажды подсел к мастеру на вагонетку-самоходку, а когда выехали за станцию, в сосняк, предложил остановиться, хотя перегон, где бригада меняла шпалы, был впереди. Глушко подчинился: предчувствовал — наступает то, чего ожидал. Вагонетку спустили под откос, сами отошли в кусты.
— Я вам не советую, мастер, эвакуироваться,—сказал Петренка, сворачивая самокрутку и вытаскивая из другого кармана, чтоб угостить Глушко, пачку «Казбека».
463
' — Почему?
— Потому, что вы тот человек, который нужен здесь.
— Почему именно я?
— В Унечи в отряде ЧОН 1 служили?
— Служил.
^ Если не ошибаюсь-—после ЧОНа в щорсовских отрядах? За что вас наградили именными часами?
— За станцию Злынку. На бронепоезде ворвались. Меня послали вперед — ночью перевел стрелку.
— Вашего брата расстреляли балаховцы. Как случилось, что он, красный командир, попал к балахой- цам?
— Был болен тифом. Приехал долечиваться домой. ' — Сами видите, Адам Васильевич, кому же, как не вам, оставаться? У вас — опыт. А это — главное.
— Кто вы такой? — спросил мастер.
Петренка, доставая из заднего кармана книжечку в красной обложке, как бы ненароком вынул и тут же, подержав в ладони, спрятал маленький, похожий на детский пугач, пистолет.
— Чекист, Адам Васильевич. Думаю, мы, русские люди, друг Друга не выдадим.
— Хоть ты и чекист, но не очень хорошо обмозговал,— набравшись смелости, выпалил Глушко.—Анкету выучил — спасибо. Только забыл, что на станции анкету читал не один ты. Про именные часы знает каждый рабочий...
— Правильно. А я ничего такого не требую. Только остаться. Пригласят немцы на работу — хорошо, не пригласят— бог с ними. Вы — беспартийный, за именные часы, может, не покарают. Помните, Адам Васильевич, не по собственной охоте я трачу с вами время.
Мастер согласился. Он мучился от неуверенности, оттого, что ни с одним, даже самым близким, человеком не мог поделиться сомнениями. Когда подписывал бумагу, Петренка въедливо сказал ему:
— Я, господин мастер, буду у вас работать, а вы — у меня.
После самой жестокой бомбежки Глушко запряг коня— был в железнодорожном хозяйстве один конь —
1 ЧОН — части особого назначения для подавления контрреволюции и саботажа, формировавшиеся в гражданскую войну.
№
и перевез семью в деревню, к сестре жены. Немного больше месяца отдыхал душой г—косил, поправил свояченице плетень, настелил в риге; небольшой ток, обмолотил рожь.
Петренка как в воду глядел — его нашли и в деревне. В тот день он со старшим сыном отправился ловить рыбу. Бродили, закатав штаны, в зарослях аира у берега речушки» то и дело выкидывая из лозовой трптухи на траву серебристых окуньков и плотичек, радовались улову— и тут увидели на мостике Колю, младшего сына. Он бежал во. всю прыть, махал руками. Не добежав, испуганно, пронзительно крикнул:
; ^ Тята, тебя немцы спрашивают!
Первым желанием, которое властно ощутил в себе, было броситься в кусты, спрятаться. Но на него с побледневшим лицом смотрел старший сын* тяжело дышал на берегу младший. Сказал как мог спокойнее:
— Подберите рыбу...
В рваных штанах, дырявых, на босу ногу, опорках он предстал перед Шмидтом, толстым, краснолицым бухгалтером, до войны, работавшим в конторе «Заготскот», которого он до сих пор не знал, ц. немцем в черном железнодорожном мундире. Приехали за н|дм на военном грузовике, предложили немедленно переехать на станцию. Так началась,служба Глушко у немцев. Зимой Петренка связал мастера с заведующим столовой Топорковым, от Топоркова потянулась ниточка к Бондарю, который в начале лета вывел часть подпольщиков в лес.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Финансовый отдел, где Митя работает счетоводом по €трахованию, находится в правом крыле здания управы. В длинной, как коридор, канцелярии вдоль стен стоят столы. Последний стол поставлен поперек комнаты. За ним сидит широкоплечий красивый брюнет с густыми бровями— начальник отдела Николай Пилевский.
Непосредственный Митин начальник, инспектор по налогам Кузьма Хибенка, худощавый, довольно молодой мужчина, Его стол рядом с Митиным — у самой двери.
47&
Обязанности у Мити несложные, и, походив с неделю на службу, он их хорошо знает. Из книг подворной переписи строений надо составить ведомость их денежной стоимости, суммировать по деревням, с тем чтоб потом исчислять страховой процент. Работа неинтересная, нудная, и с самого начала Митя чувствует ее фальшь.
Около года в обращении были советские деньги, недавно их поменяли на карбованцы, выпущенные Ровен- ским банком. Приднепровско-Припятьские районы Полесья, как и Брестчина, отнесены к Украине, но на карбованцах надписи немецкие.
Карбованцы — просто-напросто бумажки, даже за марки почти ничего не купишь. В магазинах вообще за деньги ничего не продают.
В финотделе этого не замечают. Стрекочут арифмометрами, стучат косточками счетов, подсчитывая не только рубли, но и копейки.
Николай Пилевский с недавнего времени квартирует у Митиной одноклассницы Веры, занимая с братом, у которого другая фамилия, боковушку, и Митя про него кое-что знает. Пилевский — из раскулаченных. Отца сослали в Соловки, и сын сменил фамилию. Ему не откажешь в находчивости, уме, но в мирной жизни больших высот не достиг. Работал в Грузии, в винодельческом совхозе, бухгалтером. Пилевский знает грузинский язык, при случае охотно козыряет незнакомыми словечками.
Рабочий день в финансовом отделе начинается с анекдота, который рассказывает начальник. Анекдоты у Пилевского смешные, довольно нескромные — девушки- картотетчицы краснеют, затыкают для приличия пальцами уши, а мужчины хохочут.
Смех продолжается долго, но не столько из-за анекдота, сколько из-за бухгалтера Шайсы, толстого старика с красным круглым лицом и синими выпуклыми глазами. Шайса необыкновенно любопытный, весь горит от возбуждения, от жажды услышать новости, но реагирует с запозданием. Над анекдотом начальника смеется последним, когда смех уже затихает, а бухгалтеры, картотетчики начинают шелестеть бумагами. В это время из груди старика вырываются звуки, похожие на бульканье воды, когда ее выливают из бутылки. Не в силах сдержаться, он кладет голову на стол, трясется всем телом. Вслед за
471
Шайсой — уже по второму заходу — хихикают девушки. Наконец Пилевский хмурится — и начинается работа.
В финансовом отделе о самом главном — о войне, взрывах на железной дороге — не говорят, будто ничего этого нет.
Один только раз прорвало Пилевского. В командировку в дальнюю волость должен был ехать кто-то из налоговых инспекторов, а Шайса заявил, что там, по слухам, партизаны.
— Надо кончать с бандитами! — не скрывая раздражения, воскликнул Пилевский, но тут же прикусил язык.
Вообще начальника финотдела, кроме собственной персоны, кажется, ничто не интересует. Он форсит в новом, сшитом по фигуре костюме,— прибыли портных, сапожников контролируются финотделом, и Пилевский имеет от этого немалую выгоду. На него заглядываются секретарши, машинистки, но он ходит с картотетчицей Галиной Машко, высокой, необыкновенно смешливой девушкой. При Пилевском она сразу умолкает. Иной раз, притаившись в уголке, плачет, торопливо вытирая платком слезы.
Из людей, работающих в финансовом отделе, Митя выделил двух — бухгалтера Гримака и своего непосредственного начальника Хибенку. Они кажутся не теми, за кого себя выдают, и вызывают острый интерес. Гримак— Митя в лицо знает его давно — до войны работал в погрузочной конторе, начислял грузчикам заработную плату. Был в лесу, в истребительном батальоне, вернулся в местечко вместе с Сергеем и Овсяником. Тех, кто был в партизанах, немцы расстреляли. Уцелели двое — Гримак и Адамчук, мастер с железной дороги. Они сразу пошли на службу, и немцы их не трогают.
С виду Гримак беззаботен. После анекдота начальника его раскатистый бас покрывает остальные голоса. Немолодой, в стриженных под ежик волосах серебрится седина, но ходит в белых, аккуратно отглаженных безрукавках, спортивных тапочках.
К Мите с первого раза отнесся доброжелательно.
Однажды они втроем —Митя, Хибенка, Гримак — остались после работы, вышли в скверик, присели на лавке. Солнце уже скрывалось за лес, край затянутого облаками неба сиял в золоте.
— Как живешь, Хибенка?—опросил Грим а к.
— Да так, Иван Михайлович. Где скоком, где боком. День да ночь — сутки прочь.
— Значит, по анкете—беспартийный, малограмотный, несудимый...
— Вроде того.
Больше за весь вечер ни одного серьезного слова сказано не было.
Хибенка тоже кажется беззаботным. Рукава рубашки закатаны, на брюках аккуратная складка, и девушка есть — толстенькая Шура, к которой налоговый инспектор ходит каждый вечер. На разговоры о фронте Хибенка не откликается. Митя раза два начинал и больше lie заводит с ним разговора об этом. Грустно от мысли, чта так ведет себя человек, который до войны служил в кадровой армии, а попав в окружение, прибился домой и радуется, что немцы разрешили ему щелкать ~ на счетах. • ' •
Тоскливо, уныло все эти дни на душе у Мити. Драгун из местечка уехал, связи с ним нет. Работать в финансовом отделе для Мити не имеет смысла. Ничего он тут не сделает. Про арест не забыли, будут приглядываться. Он как бычок на привязи —далеко не убежишь.
Отдавшись невеселым мыслям, Митя листает книги подворной переписи. Сколько в районе деревень, деревенек, о которых он даже не слышал, не знал их названий! В школе изучали географию зарубежных стран, историю древних и новых народов, а о том, что лежит вокруг местечка, никто слова не сказал. Как и чем живут эти Пнлятичи, Громы, Озерки, Литвинов, Ольхов, Рогали?..
В один из таких дней Митя натолкнулся на поДвор- ную книгу сожженных Вербичей. Стало больно, но он пересилил себя* начал листать толстую тетрадь, в которой местный писарь учел каждую, даже самую маленькую, постройку двора. Хата, хлеб, рига, омшаник —?в него на зиму ставят ульи. Сто двадцать два двора, не менее пятисот душ населения. Стариков, детей, больных, здоровых. Где они?..
Перед глазами вставала деревня, зеленые аллеи, груши-дички в огородах, огромное гумно, в котором он в прошлом году ночевал. Его переполняет тяжелая, болезненная тоска. Не в силах сдержаться, Митя громко спрашивает:
т
— Кто заплатит страховку за Вербичи? О hr же сожжены...
На минуту в комнате .восстанавливается тишина, Митя видит испуганное, побелевшее лицо Хибенки.
— Господь бог заплатит,— слышится громкий голос Пилевского.— У него денег больше, чем в финотделе.
Щелкают счеты, трещат^ арифмометры; но никто даже не улыбнулся...
Новости в местечке одна хуже другой. Из-под Харькова, из окружения, пробился домой Тимоха,Груда,, бывший секретарь поселкового Совета, и Мария Ивановна кинулась к нему, желая что-нибудь услышать про мужа. Муж ее, председатель Совета, пошел в армию вместе с ‘Грудой. То, что рассказывает бывший секретарь, не лучше немецкой сводки. Мария Ивановна тяжело вздыхает, но, пересказывая услышанное,; не.забывает добавить, что мужа ее под Харьковом не было, их с Грудой разлучили еще в прошлом году.
Другая новость еще тяжелее. Возле деревни Лужи- нец, на сосновом пригорке, полиция окружила и уничтожила отряд—восемнадцать человек. Отряд не местный, по всем приметам — присланный из-за линии фронта. У парней и девушек были автоматы, но они не убили да одного полицая. Легли спать и.не проснулись. С автоматом, на котором отчетливо видна цифра «1942», похаживает по местечку приземистый, круглолицый начальник полиции Зыскевич-Будиловский.; Митя даже-видел этот автомат...
Боже, когда же кончатся поражения, отступления к на каком рубеже?..
За сомнення, угрызения совести, отчаяние— маленькая удача. Митя получил заработок — сто пятьдесят карбованцев аа полмесяца. Идя к Лобику, завернул на станцию—там остановился мадьярский эшелон, широкоплечие, с крестьянскими лицами солдаты в светло-зелеиык мундирах бегают по «перрону, торопливо, из-под полы предлагают что-то железнодорожникам. Митя шел вдоль эшелона с тыльной стороны, к нему, вынырнув из-под вагона, подбежал запыхавшийся пожилой солдат. «Камрад, купи...» Искушение пришло мгновенно. «Сколько?»— спросил Митя, цепенея от сомнения: отличит ли мадьяр марки от- карбованцев?
«Эйнгундэрт фуфцыг...» Дрожащими руками Мит*
474
вытащил из кармана три хрустящие, новые бумажки, на каждой из которых выведена большая цифра «50». Счет солдат знал, а читать не умел. Сунув Мите в руки картонный футлярик с часами, воровато оглянувшись, мадьяр шмыгнул под вагон.
Митя побежал. Сто пятьдесят карбованцев—это только пятнадцать марок. За такие деньги можно купить зажигалку, а не часы. Но у солдат оружие, и вдобавок к часам можно получить пулю.
Отбежав немного, Митя издали наблюдает, что делается на перроне. Ничего особенного — суета, толчея. Перевел взгляд на обочину карьера, из которого берут глину, и замер — трое высоких мадьяр, тесно окружив, бьют человека в штатской одежде. Стало горько, обидно, Митя не знал, что делать...
Эшелон двинулся, Митя вернулся на станцию. Около водоразборной колонки полицай Семашкович, который до войны работал учителем, обмывал окровавленное лицо. За часы его били или за что другое, Митя не спросил...
2
Крамер шел с женой в гости к лесничему Лагуте и остановился в городке — так называют бывшую усадьбу лесной школы. Зияют провалами окон здания учебных корпусов, интернатов. Запустение не очень, правда, бросается в глаза, так как вокруг зелень. Городок утопает в тополях.
Не обращая внимания на поторапливавшую его жену, Август Эрнестович осматривает здания: немцы просят новые помещения, так пускай ремонтируют эти и занимают.
Двор старшего лесничего находится на окраине. Не двор, а хоромы — дом с восемью или десятью комнатами, коптильня, баня, множество всяких хозяйственных пристроек.
За один год сделался старший лесничий самым богатым в местечке человеком. И в этом нет ничего удивительного: под командой Лагуты восемь лесничеств. Август Эрнестович Лагуте не завидует. Жене дал наказ: лишнего от старост, бургомистров волостей не брать, за взятое платить деньги.
475
В душе Август Эрнестович не одобряет жажды к обогащению, которая захлестнула чуть ли не всех, кто становился начальством. Немцы на все глядят сквозь пальцы. Сами любят погреться. Берут взятки, охотно ходят на вечеринки. Поговорку придумали: «На войне как на войне».
Лагута — короткий, широкоплечий, толстый, как бочонок,— как раз таким рисовали большевики на плакатах буржуев. Но и при большевиках Лагута был старшим лесничим, только тогда над ним еще стоял директор. Несмотря на большой живот, лесничий необыкновенно подвижен. При появлении Августа Эрнестовича пришел в величайшее возбуждение, засуетился, восторженный и радостный:
— Август Эрнестович, милости просим! Очень рад, Гертруда Павловна! Давайте ваш плащик. Аня, повесь плащик Гертруды Павловны. В шкаф повесь, там не запылится...
Анна Осиповна, жена лесничего, не в пример своему мужу, длинная, худая, с вытянутым лицом. За сорок женщине, а платье с широким вырезом на груди и плечах. Молодится, хотя похвалиться нечем,— желтая, как печеное яблоко, кожа, плоская грудь.
Гостей много. Из прихожей слышит Август Эрнестович раскатистый хохот агронома Спыхальского, звонкие трели заведующего мельницами Федосика, заливистый, как собачий лай, смех нового начальника полиции Зыскевича-Будиловского. Бургомистр, пропуская вперед жену, входит в зал, и гости мгновенно замолкают. Поднимаются из-за круглого столика, за которым играли в карты, подходят к Гертруде Павловне.
Август Эрнестович хорохорится, как заправский кавалер, и, стараясь ступать мягче, направляется в угол, где на диванчиках среди фикусов расположилось женское общество. Жены начальников расцветают, когда бургомистр каждой по очереди пожимает руку. Целовать рук он не умеет и в душе даже посмеивается над такой ненужной галантностью.
Мужчины садятся за столик. Трое стоят, наблюдают. Август Эрнестович присоединяется к ним — в карты он не играет. Спыхальский раздает карты. Игра пока безобидная и, по мнению Августа Эрнестовича, скучная — в
ш
шестьдесят шесть. Когда гости подвыпьют, начнут играть в очко, на деньги.
Не играет в карты и заместитель бургомистра Лубан, широкоплечий чернявый мужчина лет сорока. Взял его. к себе в помощники бургомистр поздней осенью, когда районная управа уже фактически работала.
Бургомистр тронул за рукав Лубана:
— Выйдем, Сергей Дмитриевич.
Август Эрнестович, вопреки лично установленному порядку, два дня не появлялся на службе: приехали;две сестры жены —родная и двоюродная.
Бургомистр с заместителем вышли на аллею.
г— Что нового? — интересуется Август Эрнестович.
— Приезжал Князев из Пилятич. Неспокоен. Божился, что в Литвиновском лесу два отряда партизан. Говорит — сведения точные.
— Князев в жандармерии был?
— Был.
— Ну и что?
— После убийства Швальбе и Плищинского* немцы в лес не полезут.
— Вы верите в эти отряды?
, .— Трудно сказать,— лицо у заместителя хмурое,
— А я не верю,— бургомистр волнуется.—Паника. Князев хочет свои бесчинства оправдать, потому и пугает партизанами.
— А Буйки? — спрашивает Лубан.
—• Запомнились вам Буйки. В других районах налеты на. волостные управы, а у нас за лето — на одну деревню. Я не спорю — группа преступников есть* Но —не два от?- ряда. Два отряда — это же сотни людей. Откуда они взялись?
— Кто же тогда нападает на железную дорогу чуть ли не каждую ночь?
Кратер, насупившись, молчит. Под ногами шуршит опавшая листва,
— Сборища партизан в Октябрьском районе,— наконец говорит бургомистр.— Там лес, болота, непроходимая местность. Оттуда совершаются налеты на железную дорогу. Немецкая армия — на фронте. Она пока не может распылять силы, чтоб покончить с партизанами. Заметьте—более ;Всего неспокойно в соседних с Октябрьским районах.
411
— Не надо упрощать, Август Эрнестович. И в другйх местах есть партизаны. '
Идут по аллее молча. В доме лесничего ярко освещены окна. В вечернее время деревянный, с четырехскатной крышей дом, окруженный тополями, напоминает дворец.
— Не понимаю, что людям надо,— в голосе бургомистра горечь.— Можно мирно жить. Пахать, сеять, растить детей. Разве мало за год сделано? Хлеба не было, но все ж с голоду никто не умер. Немцы в прошлом году пошли на уступки, уменьшили поставки. Армия, которая воюет, отказалась от того, что ей принадлежит. Так это же ценить надо. Я об этом говорил и не перестану говорить. Чего хотят те, кто поднимает на немцев оружие? Слепому видно — большевики войну проиграли. Где немцы? На Кавказе, на Волге, у них русский хлеб, уголь, половина населения. Я прежде думал: добьются немцы победы,— тут, в тылу, все утихнет. Выходит наоборот. Ничего не понимаю...
— Вее'это так, Август Эрнестович,— говорит Лубан после продолжительного молчания.— Но партизаны в районе есть. Притом местные. Только они стараются себя не выдавать. Может, потому, что слабы, боятся за свои семьи. Семьи у них в деревнях.
— А старосты, полицейские куда смотрят?
— Туда и смотрят. Староста из Прудка высунулся;— уничтожили. Финагента в Марковичах тоже убили...
На крыльце слышны топот сапог, немецкие голоса. Пришли жандармы. Маком рассыпается Лагута — встречать немцев выскочил на крыльцо. ; '
— Походим еще,— предлагает бургомистр,— не люблю я бедлама.
Еще с-полчаса они прогуливаются по аллее. Наконец позади раздаются торопливые шаги, прерывистое дыхание. Бежит Лагута.
— Август Эрнестович, где вы пропали? И вы, Сергей Дмитриевич... Знаете же—без вас начинать нельзя...
Застолье у лесничего богатое: жареное, вареное — навалом. В центре стола, где с одной стороны сел Август Эрнестович, а с другой три немца-жандарма во главе с майором Шерманом, на жестяном противне — зажарен-
478
ный поросенок. Светловолосый, с худощавым лицом майор не сводит с поросенка глаз.
— Das Haut einen im samtlichen Winkel! — восклицает наконец майор, и унтер-офицер Красовскии, сидевший рядом с ним, сразу переводит:
— Пан майор удивлен. Как это правильно выразить— картина есть сногсшибательная.
Красовский — он уже довольно хорошо говорит по- русски— добавляет от себя:
— Я могу поверить, что лесничий ц следующий раз зажарит нам лесного медведя...
Гости смеются — жандарм остроумен, ничего не ска-
479
жешь. Громче всех хохочет Лагута — под белой сорочкой трясется живот.
Первый тост за хозяина. Поднимает его Август Эрнестович. Тост немногословен — не в первый раз собираются у Л а гуты.
После того как мужчины выпили по стаканчику, женщины —- по рюмке, основное внимание сосредоточено на том, чтобы напоить жандармов.
Майор на свой полный до краев стакан смотрит с ужасом.
— Пан майор,— упрашивает Лагута,— битте трин- кен русише шнапс.
480
На помощь хозяину приходят агроном- Спыхальский и начальник полиции Зыскевич-Будиловский. Себе они налили по второму стаканчику.
— Es ist ummoglich l,— защищается майор.
Подаег пример жандарм, сидящий справа, толстый
и молчаливый. Держа на вилке помидор, он одним дыханием опустошает стакан.
Волна вдохновения находит и на майора.
— Das Gluck ist dem kiihnen Hold! — восклицает он.— Aber ein Schluck Wasser 2.
Майору подают кружку с водой. Глотнув самогону, он поперхнулся, но держится храбро; выпив глоток воды, закрывает глаза и, будто бросаясь в омут* допивает самогон. В награду майору — рукоплескания.
— Больше не давайте,— подозвав Лагуту, шепчет бургомистр.— Знаете, с непривычки...
После того как майор выпил, на него уже меньше обращают внимания. Зато он теперь сам хочет говорить. Мгновенно опьянев, кричит, размахивает руками — выкрйкивает тосты.
Изчпод синих абажуров-зонтиков льется мягкий свет. Две женщины-прислужницы разносят новые блюда. Лесничий Лагута не скупится на угощение. На т.а- релках дымится легким паром розовая крольчатина, аппетитно блестят румяной корочкой зажаренные, на^ чиненные яблоками индейки, плавают в масле караси. Новая закуска — новый тост. Компания подвыпила. Неумолкаемый, беспорядочный гул, выкрики.
Песня возникает как незваная гостья. Обычно, когда в компании немцы, песен не поют. Немецких никто не знает, советские запрещены. Агроном Спыхальский нашел выход — запел про бродягу, про озеро Байкал. Песня старинная и к политике вроде бы отношения не имеет.
У Спыхальского приятный, довольно выразительный бас.
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...
Песня сразу же прдшлась по вкусу, объединила нестройные, неслаженные голоса. На немцев никто не
1 Это невозможно.
2 Смелость города берег. Но глоток воды.
481
обращает внимания, а может, наоборот, компания хочет похвалиться перед ними. Август Эрнестович в первую минуту почувствовал неловкость, а потом его захлестнуло звонкое веселье. Он присоединился к певцам, ощущая, как растет в груди горячая, мстительная радость. Где-то глубоко в сознании мелькнуло: он всей своей жизнью связан с этой ширью, удалью, силой и печалью.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит,
О родине что-то поет...
В дверях с подносами в руках застыли женщины- прислужницы. На их лицах недоумение. Необычная картина — свои поют, немцы слушают.
Песня кончилась, и какое-то мгновение царила тишина. Громко захлопал в ладоши майор.
— Russische Lieder — gut, hiibsch! — не скрывая восхищения, выкрикивает он.— Uns, Deutschen, russische Lieder herzlich angenehm...1
— Мы поем русские песни,— не считая нужным переводить слова начальника, громко объявляет Красов- ский.— Мы, три немца, жандарм.
Бабье, кислое лицо унтер-офицера теперь возбуждено.
Блеснула никелированными боками губная гармоника. Жандарм обеими руками прикладывает гармонику к гонким губам и, как бы нащупывая невидимую тропку, начинает играть. Майор и толстый жандарм подпевают. Слова далекие, чужие, а песня — своя. Молчат гости, прислушиваются.
Mutter Wolga singt ein Liedchen Von dem wilden Reitersmann,
Stenka Rasin diesem Helden,
Der Kozaken Ataman2.
У майора голос пискливый, у его соседа — хриплый, нечистый, но приятный. Он молчун, за весь вечер слова
1 Русские песни — хорошие, красивые. Мы, немцы, с удовольствием их слушаем.
2 Волга-мать напевает песенку Про своего дикого наездника,
Про Стеньку Разина, героя,
Казацкого атамана.
16 И. Науменко.
№
не промолвил, а тут, обхватив лицо волосатыми рука* ми, тянет с наслаждением:
Einst fuhr durch ihre Wellen Seine Liebchen hielt umspannt Und sie lehnt am seine Schultern Driickte heiss die rauhe Hand1.
Откинувшись на спинку стула, Август Эрнестович молчит, обуреваемый противоречивыми чувствами. Песня старая, про русскую реку, атамана Стеньку Разина, •но на немецкий лад. Ее пели солдаты кайзера Вильгельма, когда приходили в восемнадцатом году. Тогда он, Крамер, был молод и стоял в стороне от немцев. Теперь старик и вместе с ними.
Donkozaken blicken bose,
Stenka Rasin sieht es nicht,
Weil die schone Persenfiirstin Leise Liebesworte spricht.. .2
Когда немцы кончили петь, некоторое время царила тишина. У Крамеровой соседки, жены его заместителя, темноволосой женщины, появились слезы на глазах. Не стыдясь, она вытирает их платочком, а губы вздрагивают. Наконец захлопали в ладоши...
з
Как только Август Эрнестович вошел в свой двор, возвращаясь от Лагуты, его дернул за рукав конюх Яков. Было поздно — пели вторые петухи.
— Подождите,— зашептал Яков в самое ухо.— Беда...
Горбатый Яковлевой человек, .конюх, добровольный страж бургомистрова дома, и от недоброго предчувствия по телу Августа Эрнестовича прошла дрожь.
1 Однажды плыл он по ее волнам, Обнимая свою любимую,
А она, прижавшись к его плечу, Сжимала шершавую его руку,
2 Донские казаки смотрят злобно,
Но Стенька ничего не видит, Ведь чудесная княжна-персиянка Шепчет ему слова любви...
483
— Иди в дом,— приказал он жене.
Вместе с Яковом присел на скамейку в палисаднике, застыл в тревожном ожидании.
— Еврейка пришла,— зашептал Яков.— Вместе о мальчиком. Ищет приюта. Говорит, хорошо вас знает, вместе жили...
— Какая еврейка? — кровь ударила Августу Эрнестовичу в голову, в висках застучали маленькие молоточки.
— Сказала, что фамилия ее Кацман. Мальчику лет восемь. Просит, если нельзя спрятать ее, то хоть одного мальчика...
В памяти мгновенно всплыла пристань у реки, деревянный одноэтажный городок, где лет восемь назад жил он, Крамер. Жил в одном, барачного типа, доме с Кацманом, таким же, как он, приемщиком, подвижным, моложе его лет на десять, евреем. Еврей выручал его, особенно когда он, Крамер, долго болел. Время тогда было трудное — пайки, карточки, пуда картошки не купишь, и Кацман делился с ним всем, чем мог.
— Где эта женщина? — спросил Август Эрнестович дрожащим голосом.
— Сидит в хлеву. Пришла вечером. Я не хотел пускать, но она сказала, что знакомых у нее нет, а на улице схватят. Хочет с вами повидаться.
Страх не проходил, держал Августа Эрнестовича в сильных, как клещи, объятиях. Выхода не видел: выгнать женщину он не мог, и оставить ее тоже было нельзя. Понял, почему пришла именно к нему. Из того самого городка, где она жила, три дня назад приехали к нему сестры жены. Видимо, еврейка узнала о нем, считает его большим начальником.
— Может, на село ее сплавить? — осторожно высказался конюх.
Страх постепенно проходит. Август Эрнестович уже знает, что надо делать. На смерть человека он не по*» шлет. Немцы евреев расстреливают—это их дело. Его руки чисты. Евреи — тоже люди, хотят жить. Но видеться с женщиной ему необязательно. В случае, если схватят ее, может выдать. А у него тоже семья...
— Вот что, Яков,— сказал Август Эрнестович уже спокойным голосом.— Иди к Забеле, мельнику. Приве*
16*
484
ди сюда. Полицейские тебя знают, пропустят. И чтоб ни слова никому. Понял?
— Понял.— Конюх поднялся.— Я пойду огородами.
— Иди как хочешь.
Вошел в дом, встревоженная жена не спала.
— Что там такое, Август?
— Да ничего. Паника. Яков говорит, что кто-то лез к нам во двор.
— Вот видишь. Я давно говорила, что надо поставить более строгую охрану.
— Спи. Хватит Якова. Лучше, чем он, нас никто не защитит. Я побуду во дворе — голова болит.
Он сидел на лавочке, прижавшись спиной к штакетнику, думал. Хмель как рукой сняло. Было уже два случая, когда евреи забредали в местечко. Зимой пришел заведующий гостиницей Рубин. Дурак, на еврея не очень похож, мог бы приткнуться в глухой деревне, где его никто не знает, а он решил искать защиты у Ригмана, знакомого немца, который перебрался в местечко. Ригман — сволочь, сразу же продал человека. Второго еврея, учителя, продал учитель Пили- пук, который теперь финагентом в Малковичах. Это секреты жандармерии, но Август Эрнестович знает их. Жандармы от него ничего пока не скрывают.
Август Эрнестович встал, прошелся по двору. Холодноватые стали ночи, близится осень. Год назад, в эту же пору, его назначили бургомистром. Августу Эрнестовичу кажется, что было это давным-давно. Долгим показался ему этот год...
Со стороны огорода послышались торопливые шаги. Скрипнула калитка, и из темени вынырнула крупная фигура Забелы. Яков отошел в сторону — не хочет слушать разговора.
— Что такое, Август Эрнестович? Я сам не свой.
Бургомистр молча поздоровался с мельником за руку, подвел к лавочке. Присели.
— Панас Денисович, надо спасти людей. Еврейку с мальчиком. Она тут, у меня. И чтоб ни звука. Я тут т при чем. Если что такое, выручу. Поняли?
Мельник раздумывал недолго.
— Сделаем, Август Эрнестович. Ни одна собака не гавкнет.
Через минуту опросил:
481
— А еврейка делать что-нибудь умеет? Ну, чтоб за* нять ее.
— Кажется, она шьет. На швейной машинке.
— Да не волнуйтесь. Все будет сделано как положено.
— Немедленно уберите ее от меня. Пока темно.
Протянул на прощанье мельнику руку и, поднимаясь на крыльцо, услышал, как скрипнули ворота в хлев.
4
Совещание волостных бургомистров, писарей, старост, которое проводит сельскохозяйственная комендатура, нельзя назвать совещанием.
На площади перед комендатурой полно повозок, бричек. Немцы, которые шмыгают в комендатуру и обратно, подозрительно косятся на эту шумную толпу,
В кабинете, куда вызывают волостных бургомистров и старост, за столом три немца-агронома в коричневых, без погон мундирах и два молодых переводчика- фольксдойча.
— Пилятичская волость! — выйдя на крыльцо, вызывает переводчик.
Втянув голову в обвислые плечи, торопливо ковыляет бургомистр Спаткай, высокий, слегка сутулый. За ним пять старост,— в волости шесть деревень, но один староста не приехал.
Кабинет, где сидят немцы, перегорожен барьерчиком. Посетители стоят за ним.
Спаткаю и старостам что-то долго говорит лысый немец — фамилия его Шлягель,— остальные двое делают карандашами отметки в описках, лежащих перед ними. Кончил Шлягель — вступает в свои права переводчик, кряжистый, круглолицый парень.
— Волости дано твердое задание: зерна — двести тонн, мяса — сорок тонн. Хлеб надо привезти в район на крестьянских подводах. Задание выполнить в течение месяца. Зерно должно быть чистое и сухое. Если что не так, виновные понесут ответственность...
...Волость не выполнила план сдачи молока. Даем две недели отсрочки. Кто хочет, может сдавать мае-
486
лом... Саботажники, не сдавшие молоко или масло, будут арестованы, а их скот конфискован. Мясо сдавать убойное, упитанной скотины. Срок — два месяца. За все продукты, сданные германскому рейху, выплачиваются деньги в твердых ценах...
Второй переводчик, который до этого молчал, раздает старостам квитанции. Отдельно—на зерно, на молоко, мясо. Старосты из Прудка нет, и это замечено. Шлягель кричит, стуча карандашом по столу.
— Староста, не явившийся по вызову комендатуры,— саботажник,— поясняет переводчик.— Он будет
арестован.
— Пан переводчик, передайте пану коменданту,— заступается за подчиненного Спаткай,— староста Аба- бурка болен, потому и не смог приехать. Я вчера был в Прудке. Все мы можем подтвердить.
Шлягель недовольно машет рукой — можете идти. Квитанции за него забирает Спаткай.
Как только вышли из комендатуры, Спаткай направился к Крамеру. С бургомистром хоть поговорить можно, а немцы только кричат да приказывают.
Митя бродит по ллощади перед сельскохозяйственной комендатурой. Сюда люди прибыли из деревень, на которые совершают налеты партизаны, и просто интересно послушать, о чем говорят эти люди, как чувствуют себя среди немцев.
К полудню собрание кончилось. -На площади еще осталось несколько телег. Стоит обшарпанная, с поломанными ступеньками трибуна, с которой до войны на Ноябрьские и Первомайские праздники произносились речи. Ветер гонит обрывки бумаги, сухую листву.
Гопченка, понурый, похожий на турка староста из Озерков, не поехал с пилятичскими. Бродит среди возов, закуривает с возчиками.
Когда из комендатуры вышли последние старосты, вслед за ними выскочил и переводчик.
— Старосты, писари, получайте ‘папиросы! — громко объявляет он.— Берите квитанции—и в магазин.
Гопченка берет квитанции на всех из своей волости. Идет в магазин — он на другой стороне площади —•
w
и минут через десять возвращается с охапкой длинных, по сто папирос каждая, пачек. Возчики с завистью поглядывают на пачки — давно никго не пробовал фабричного табаку.
— Угощайтесь, дядьки,— Гопченка вскрывает обернутую жесткой неподатливой бумагой пачку.— Пришел и на нашу улицу праздник.,
Возчики заскорузлыми пальцами берут по папиросе, разглядывают надпись на мундштуке.
— Наши папиросы. Житомирская фабрика.
— Значит, фабрику в Житомире пустили.
— Были наши, стали ваши.
— А дорого немецкие папиросы стоят?
— Старостам бесплатно дали,—охотно поясняет Гопченка.— А так, я спрашивал у продавца, дорого. Тридцать яиц за пачку.
— Так пускай они сгорят, такие папиросы. Лучше яйца есть.
Мужчины все же курят со смаком, досасывая папи* росу до самого мундштука.
Через несколько минут — неприятное происшествие. В той стороне площади, где трибуна, стоят три повозки. Это тягловики, присланные местным старостой по наряду коменданта. Дальние волости от тягловой повинности освобождены, и там не строят дзотов* бараков. Агроном пересекает площадь, подходит к возчикам. Кричит так, что слышно за версту:
— Почему три фуры, а не пять?
Возчики испуганно переминаются. Немец выхватывает у низенького, в шапке-ушанке, дядьки кнут, хлещет его по спине, по голове, по лицу...
Возчики, не ожидая старост, ушедших за папиросами, дернули за вожжи —и с места вскачь. Подальше от греха...
5
Одно за другим в местечке про-ходит три совещания — учителей, медработников, ремесленников.
Учителя — их человек сорок — собрались в одной из комнат бывшего парткабинета. Больше женщин, но есть и мужчины, даже несколько молодых, вчерашних
488
школьников, студентов техникумов, которые учителями никогда не были.
Открыл собрание начальник отдела школ Тумилов- ский. Тумиловскому лет сорок, у него интеллигентное, приветливое лицо, голова лысая — ни волоска. Среди местного начальства человек он неприметный, ходит только к одному бургомистру, но о школах заботится. Занимался ремонтом, подбором учителей, выклянчивал для них пайки.
На совещании президиума в обычном смысле нет. За столиком, стоящим в проходе между скамьями и небольшой сценой, сам Тумиловский, бургомистр Крамер и старый, седой учитель из Малкович — Птушко.
— Господа учителя! — начинает Тумиловский.— Мы проводим с вами второе совещание. Первое, подготовительное, было полгода назад, в марте. Тогда у нас не было ни одной школы. Теперь открываем двенадцать. На шестьдесят деревень, какие есть в районе, такого количества мало. Но это начало. Мы постараемся открыть начальные школы в каждой деревне, когда создадутся нужные условия...
Дальше — разговор о делах практических. В школах, которые будут открыты, будут преподавать три предмета: чтение, письмо, арифметику. История в программу не входит.
Учебники для чтения старые, но из них должны быть вырваны страницы, где есть хоть одно слово про политику. Тумиловский, как только умеет, избегает говорить о том, что делается на свете. Ни разу не вспомнил о войне, о партизанах, которые захаживают во многие деревни.
— Мы пропустили год,— заключает он.— Целый год дети не учились. Они нам не простят, если мы пропустим и второй год. Дети подрастут и за свою неграмотность будут винить нас, родителей.
Тумиловский кончил, и в зале несколько минут стоит неловкая тишина. Поднимается с места пожилая учительница из Прудка — изможденное, желтое лицо, на плечах крестьянский платок.
— Учить мы согласны,— говорит она, глядя на бургомистра.— Пусть только начальной грамоте. Но будет ли какая помощь школе со стороны властей? Книжки кое-какие найдем. Так нет же тетрадей, карандашей,
489
чернил. В своей деревне я отыскала только восемь тетрадей. Хотя бы грифельные доски...
Бургомистр опустил глаза, молчит. Нерешительно встает со своего места Птушко. Протирает платком стекла очков в роговой оправе, собирается с духом.
— В войну всегда так,— говорит он, как бы оправдываясь.— Мы, старшие, знаем. Трудно кого-либо в войну винить. Надо выход искать самим. В девятнадцатом и двадцатом годах чернила мы делали из дубовых яблочек. Их надо собирать на опавшей листве. Писать можно на выструганных дощечках углем.
— На книжках можно писать, по-печатному,— слышится голос.— Если чернилами, то ничего страшного.
Выступают еще двое — молодой чернявый хлопец, которого мало кто знает, и Малинец, довоенный директор семилетки из Пилятич. Парень говорит про оплату техничкам, а Малинец начинает о том, о чем даже Тумиловский побоялся заикнуться.
— В нашей школе разместилась полиция. Я ходил к волостному бургомистру Спаткаю, говорил с Князевым, начальником полиции. Они и слушать не хотят о том, чтоб освободить школу. Полиция смотрит на учителей как на вредителей. Князев меня в полицию вербовал, даже угрожал: если не поступлю — заставит силой. Я десять лет учителем работал, не моя работа носить за плечами винтовку. Прошу, чтоб районная власть вмешалась. В таких условиях учителю не только работать — жить нельзя...
Бургомистр выступал последним. Заговорил неуверенно, с трудом подбирая слова, то и дело вытирая платком потное лицо.
— Тумиловский тут правильно сказал... Дети должны учиться, несмотря на то что война. Вообще мирное население в военные дела не должно вмешиваться. Мы и школы открываем, чтоб население поняло, что надо мирно жить. А пока война не кончится, привезти книги, тетради, карандаши трудно. Я хочу, чтоб вы так и объяснили населению. Германия занята войной, и она хочет, чтоб на земле, где стоят ее войска, было спокойно. Тогда все будет. Я, как бургомистр, возглавляю мирную, гражданскую власть, и не все от меня зависит. Но я стараюсь для пользы населения. Объясните в своих селах, что район чем сможет будет обеспечивать жи¬
490
телей. С этого месяца начинает работать немецкая торговая организация. Будет продавать в магазинах соль, спички, табак. Конечно, в обмен на яйца, масло. Пока мало товаров. Но будет больше. Так и скажите населению...
Бургомистр садится, но тут же поднимается.
— Вот вы говорили про полицию.— Он пальцем показывает на Малинца.— Недоразумения бывают, я с вами согласен. Работачте учителем и не бойтесь, что вас возьмут в полицию. Но и учителя должны показать, что доброжелательно относятся к немецкой власти. Есть случаи — полиция об этом знает лучше, чем я,.— когда учителя идут не туда, куда нужно. Я не хочу сказать обо всех. Из вашей же деревни учитель Бадейка слушал большевистское радио. Старый человек, я даже не подумал бы, что он способен на такое, а вот видите... Не надо накликать на себя беду, тогда все будет хорошо...
Протокола никто не ведет, да и само совещание тянется недолго — часа два. Бургомистр, не глядя ни на кого, выходит, а учителя окружают Тумиловского.
6
Странная вещь: за слушание советского радио немцы карают смертью и в то же время некоторым лицам раз!решают иметь радиоприемники. Кроме бургомистра Крамера приемники имеют его заместитель Лубан, дорожный мастер Адамчук, начальник полиции Зыскевич-Будиловский, начальник местной промышленности Толстик. Прокурора Ладутьку немцы расстреляли, а его сын, тридцатилегний здоровяк, возглавляющий районную торговлю, открыто держит приемник.
Прежде чем о положении на фронте люди узнают из сводок, которые вывешиваются на стене клуба, их слышат владельцы приемников.
Сентябрьским вечером бургомистр Крамер созвал к себе в кабинет людей, которым больше всего доверял. Тут Лубан, Толстик, лесничий Лагута, агроном Спыхальский, начальник местной пожарной дружины Ольшевский и еще два-три человека. Кабинет, у бурга-
191
мистра по-прежнему не роскошный: узкая комнатка, диван, несколько кресел.
— Немцы в Сталинграде,— сообщает бургомистр.— Я думаю, как только город займут и перережут Волгу, война приблизится к концу. До зимы, возможно, кончится.
— Конечно,— охотно подхватывает Лагута.— Русский хлеб у немцев, уголь, железо они захватили. И Кавказ отрезали. Не понимаю, как большевики держатся.
Остальные молчат. Август Эрнестович заметил: в последнее время помощники стараются меньше говорить о политике. Для себя он это объясняет просто и в душе не укоряет этих людей. Как-никак, а они русские, им не очень приятно слушать, что чужая армия побеждает.
— Немцы многого не понимают.— Август Эрнестович окидывает взглядом подчиненных.— Идет война, и, кроме войны, они ни о чем не хотят думать. Я вас и созвал поэтому. Хочу посоветоваться...
Настороженная тишина. Август Эрнестович уловил, как тень страха промелькнула по лицу Лагуты, будто от холода повел плечами Адамчук.
Опустив глаза, старательно подбирая слова, Август Эрнестович продолжает:
— Я думал прежде так: немцы победят — и всюду станет спокойно. Что человеку в жизни нужно: работа, кусок хлеба, покой. Выходит наоборот. Немцы на Кавказе, а партизан становится все больше. В последние дни смотрите что делается. Три убийства за неделю — убили финагента в Малковичах, волостного бургомистра в Полыковичах, старосту в Громах. И конца этому не видать. В деревнях, где нет гарнизонов, никто из наших людей дома не ночует. Если так пойдет и дальше, то и нам придется прятаться. И на железную дорогу все больше совершается налетов...
— Надо собрать всю полицию — и на бандитов! — выкрикнул Лагута.— Сколько можно терпеть?
— Погодите, Лагута. Все гораздо сложнее, чем вы думаете. Я и немцев не оправдываю. Они не понимают здешних людей. Действуют одной силой. А так нельзя. Посмотрите, как наши агрономы кампанию по заготовке продуктов начали. Вызывают старост, волостных
492
бургомистров — и кулаком по столу. Ко мне люди приходили, жаловались. Они стараются, жизнью рискуют, а обходятся с ними, как с собаками. Я докладную ге- битскомиссару написал, жду его вызова.
— Так немцев же мы не переделаем.— Лубан сдержанно улыбнулся.
— Мы — гражданская власть и должны предотвращать неприятности, которые возникают между населением и войском. Это наша обязанность.
Все испытующе посмотрели на бургомистра.
— Я думаю, нам надо проехать по волостям. Поговорить с населением. Хлеба, мяса людям сейчас приходится сдавать немало, но надо сказать им, что причина этого — война. Кончится война — и поставки уменьшатся. Немцы дали крестьянину землю. Есть возможность каждому жить, как хочет. И предупредить, чтоб население не поддерживало партизан. Это самое главное.
— Партизаны вооружены, они сами берут,— отозвался Ольшевский.
— Не скажите. И в прошлом году они были вооружены, Но пришли сами к нам, оружие сложили.
Адамчук опускает глаза. Лицо его наливается густой, как свекольный рассол, краской.
— Могут быть большие неприятности,— продолжает Крамер.— Вспомните Вербичи. Никто не знает, помогали из той деревни партизанам или не помогали. Но когда около Вербич пустили под откос эшелон, поплатились все.
— Так можно нас всех обвинить,—отзывается Лу* ба*н.— И вас тоже, Август Эрнестович. Беспорядки ведь в нашем районе.
— Не будет беспорядков — не будут искать виноватых. Я это говорил и не перестану говорить. Надо мирно жить. Постарайтесь понять немцев: они ведут войну, у них нет времени разбираться, кто прав, кто виноват. Воюют армии, а не мирное население. А если немцы видят, что на занятых ими землях неспокойно, то объявляют войну и населению.
Бургомистру никто не возражает. Мужчины сидят с унылыми, растерянными лицами. Думалось — война отошла далеко, а она тут, у самого порога...
493
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Партизаны сидят в засаде. Хотят отбить молодежь, которую будут гнать по этой дороге в Германию.
На болоте, скрытом от дороги кустами ракитника, залег чуть ли не весь домачовский отряд, человек двадцать. Двое в дозоре, двое отпущены к семьям. Летом людей было больше, но тогда вместе с домачовцами выступали летучие малочисленные отряды Аркашки и Петьки, которые под горячую руку помогли, а потом исчезли неизвестно куда.
Они как ветер — день тут, день там.
Сентябрь теплый, тихий. Дни стоят солнечные,— летает паутина, дрожит, переливается марево. От Пи- лятич до Прудка—сплошь торфяники. Тут, вдали от деревень, никто ничего не сеял, и глаз останавливается только на сероватых стожках сена, которыми заставлен весь болотный массив.
Деревень на осушенном болоте нет, деревни жмутся на песчаных островах, и дорога, ведущая от Пилятич до Прудка, безлюдна.
Засада рассчитана на весь день. Около полудня четверо партизан поднялись, пригнувшись полезли под деревянный мостик, висящий над магистральным каналом. Там трясина, пахнет гнилью, прелью. Партизаны сели, прижавшись спинами к сваям. Новичок среди местных, Евтушик снял с ног опорки, опустил в воду черные, грязные ноги. Отмачивает мозоли.
— Штаны скинь,— сказал Ткач.— Щуку поймаешь.
Валюжич с Ткачом закурили. Батура — под мостом
он за старшего — просит:
— Перестаньте курить, хлопцы. Кирилл, спрячь самосад.
— Эх, закурить бы советской махорочки. Дешевая была. Хоть бы одну затяжку.
— Скоро перейдем на немецкие сигареты.
— От сигарет губы пухнут.
— Хлопцы, Евтушик уснул. Он в канаве как в городской ванне.
— Ты, Евтушик, хоть не храпи. Полиция услышит.
494
— Из-под моста не вылезай. Если что, стреляй от* сюда. Снизу вверх...
— Наоборот, хлопцы. Ему только из-под моста и выскакивать. И чтоб не стригся еще полгода. Подумают — черт...
Евтушик будто не слышит. Спокоен, как бог.
— Почему ты, Евтушик, захотел в партизаны? — спрашивает его Ткач.
— Идите вы к ... матери,— отвечает Евгушик.
Те, что под мостом, должны выскочить, как только загрохочут по настилу телеги и застрекочет пулемет Ключника.
Солнце свернуло с полудня, а повозок нет. Партизаны, лежащие в кустах, посмеиваются над Ключником:
— Ты, Миша, к Спаткаихе не подкатился?
— Отцепись.
— Проморгал, Миша. Спаткай как раз женился, когда ты приходил просить прописки.
— А кто ему яичницу в Пилятичах жарил?
“ Может, Миколайчиха. Та не пропустит...
— До войны ни один уполномоченный мимо не проходил. Как приедет, так и там...
Анкудович с Татьяной Бурак прилегли поодаль. Татьяна — длинноногая, с крупными, мужскими чертами лица. Щупленький, низенький Анкудович в сравнении с ней кажется подростком.
— Какой сегодня день, Таня? — спрашивает Анкудович.
— Черт его знает. Может, пятница.
— Видишь, дни позабывали. Что поделаешь... Война...
— Кому война, кому хреновина одна.
— Что тут говорить. Оккупация. Сама жила в гарнизоне.
— Я и в гарнизоне плевать хотела на полицаев. Потому чуть не прикончили.
Медленно бегут минуты. Над дорогой, весело посвистывая, пролетела стайка черных дроздов. Дрозды перед отлетом жируют. Те, что пищат, однолетки, недавно вывелись, но скоро их не отличишь от родителей. Из зарослей на дорогу гладят винтовочные дула и ручной пулемет Дегтярева с круглым диском-сковородкой.
495
К гладкому деревянному ложу пулемета припал небритой щекой Ключник.
На дороге, там, где она выбегает из-за болота, закурилось облачко пыли. Облачко рассеивается, и вот уже видны фигуры двух конников. Ясное дело — полицаи. Верхом на конях никто другой не ездит.
— Сволочи! — шепчет Шелег.— Разведку выслали. Если нас заметят — стреляй...
Кони — гнедой и черный —бегут рысцой. Под полицаями, двумя молодыми парнями, поскрипывают седла. За плечами у них винтовки. На мосту черный конь захрапел, рванул голову вверх, полицай пришпорил его.
Там, возле островка, облачко пыли больше, гуще. Впереди четыре всадника, позади — цепь повозок. Еще несколько минут — и обоз поравняется с засадой.
Шелег отдал команду сквозь зубы, с нажимом:
— По Спаткаю не стрелять. Если будет в бричке — по коням...
Когда всадники подъезжали к мосту, случилось неожиданное. Полицаи-разведчики на полном скаку полетели назад, замахали руками. Проскочив мостик, остановили коней. Остановились и конная полиция и повозки.
— Стреляй! — просипел Шелег.— К чертовой матери!
Гулким железным горохом резанула пулеметная очередь, забухали винтовочные выстрелы. На дороге конский храп, треск оглобель, пронзительный девичий визг...
Партизаны поднялись, бегут, стреляя на ходу. Сидевшие под мостом — запоздали. Первым выскочил Ткач. Боясь попасть в своих, стрельнул из винтовки вверх. Две лошади судорожно дрыгают ногами. Еще две с пустыми седлами забились меж сгрудившихся повозок.
Полицаи —те, что сидели на конях,— лежат на дороге, уткнулись в черную торфяную пыль. Даже винтовок из-за плеч не успели снять. По болоту мчатся несколько девушек в белых платках. Обгоняя их, пригибаясь к седлам, несутся двое всадников.
— Ложись! — раздирая рот, кричит Шелег.— Падай на землю!
Вдогонку всадникам стреляют с плеча, с колена. Девушки попадали, а кони мчатся вовсю.
496
Босой Евтушик положил винтовку на грядку телеги, припал щекой к ложу, долго, внимательно целится. Грянул выстрел, и было ясно видно, как седок, на мгновенье повиснув на стременах» полетел торчком. Гремят выстрелы, кони уходят все дальше. Не разберешь, на котором нет седока...
Живых полицаев двое — широколицый, без шапки, с короткими пшеничными волосами, и совсем еще молодой, узкоплечий парень в хромовых сапогах. Он ранен, рука висит как плеть. С почерневшего до плеча рукава течет кровь.
— Где Спаткай? — кричит Шелег.
Батура, держа в левой руке желтый обшарпанный портфель, правой, наганом, подталкивает низкорослого худощавого человека с прямым орлиным носом.
— Вот он! Среди парней забился. Думал, скроется. Помощник Спаткая, писарь Овчар. До войны, гад, в председатели колхоза пролез...
Глаза у Шелега наливаются кровью, судорожно дергается верхняя губа.
— Иуда! Людей на каторгу везешь!
Шелег звякает затвором, выкидывая пустой патрон. На мгновенье на его руках повисает Батура. Раздается выстрел, пуля взрывает торф перед ногами писаря.
— Прокопович!.. Нельзя тут... Люди...
Шелег сразу сник. Отошел в сторону — плечи ссутулены, ноги тащит по земле. Нервно крутит цигарку, согнувшись, будто от боли в животе, прикуривает.
С болота возвращаются Евтушик и Ткач. У Евтуши- ка за плечами две винтовки, в руках пара сапог. Гонят перед собой стайку перепуганных девчат и ребят.
Парни, девушки сгрудились около возов — желторотая, зеленая молодежь. Оделись в далекую дорогу не богато — ситцевые платьишки, залатанные пиджачки, стоптанные ботинки. Приставив к ноге ручной пулемет, переговоры с ними ведет Ключник.
— Больше в Германию не поедете?
— А разве мы по своей охоте? Внесли в списки.
— А если еще раз внесут?
— Больше не поедем. Спрячемся.
— Может, в партизаны кто хочет? Ты, например? — Ключник показывает пальцем на парня с рыжими, всклокоченными волосами.
497
—■ Я пошел бы, мне-то что. Мать Князев расстреляет и сестру...
— Откуда будет знать Князев?
— Донесут.
Шелег превозмог себя. Снова спокойно, с ноткой печали в голосе, сказал:
— Вот что, орлы. Мигом домой. Дорогой не ходите — болотом. Забирайте манатки.
— Пускай вам остаются «сидоры»..,
— Там сухари да сало...
— Я кофточку шерстяную возьму...
— А я ботинки...
Евтушик возится с раненым полицаем. Снял окровавленный пиджак, закатал рукав рубашки. Девичьим платком выше локтя перевязывает руку.
2
Писаря Овчара и двух полицаев ведут под конвоем в кусты. Как только отошли подальше от дороги, Ключник, схватив обеими руками винтовку, прикладом наотмашь бьет писаря по спине. Овчар падает. Нагнув головы, побелев, ждут своей очереди полицаи.
Ключник пинает ногой Овчара под бок:
— Вставай, скотина. Еще не то увидишь.
Овчар становится на четвереньки, медленно поднимается.
Подходит Шелег. Вынимает из брезентовой кобуры наган.
— Ключник, веди пленных. Чтоб никаких самосудов, понял? С этим мы сами поговорим!..
Говорить с Овчаром остались Шелег, Батура, Анку- дович. Лицо у писаря как восковое. Анкудович начинает мягко, будто только вчера с ним виделся:
— Я тебя предупреждал, Степан. Помнишь, говорил— не лезь к немцам. Не послушал меня. Думал — Советской власти конец...
Писарь молчит.
— Моего братишку, того, что в Разводах, ты выдал? Ты один знал, что у него винтовка.
Писарь еле шевелит губами:
— Я тут ни при чем. Хватает без меня доносчиков...
498
— Сука ты, Степан. Сами полицаи сказали, что ты подсказал.
Батура тяжело, с натугой, дышит, раздувая ноздри:
— А меня, господин писарь, помните? Помните, что сказали мне, когда я вернулся из плена? Мол, твой брат в органах служил, так либо в полицию иди, либо садись в каталажку. Удостоверение мне так и не выписали, господин писарь?..
Овчар молчит, еще ниже опускает голову.
Шелег начинает торжественно, как прокурор:
— Нам все известно, Овчар. Ты пошел служить врагу. Удрал вместе с изменником Спаткаем из партизан-
499
ского отряда, организованного райкомом; Тебя, как сознательного, оставили Советскую власть охранять, народ поднимать. А ты изменил. Предупреждали тебя. Зимой к Спаткаю ты не до конца прилип, колебался. А весной распоясался... На своих доносил. В Германию людей записывал, сам отвозил их на каторгу. Нет тебе оправдания, Овчар...
Батура будто поправляет Шелега:
— Он, фашистская сволочь, еще может купить себе жизнь. Пусть назовет тайных немецких агентов. Из всех деревень.
500
У Овчара колени подгибаются, заплетается язык.
— Я служащий... Кусок хлеба... Дети...
Шелег нетерпеливо машет рукой, отворачивается. Медленно идет вдоль коллектора, раздвигая кусты. Сзади один за другим раздаются два выстрела, слышится нечеловеческий, дикий крик...
з
Полицаев допрашивает Батура. Сел на пень, достал из сумки блокнот. Фамилия старшего Рогозуб. Он мнется, на вопросы не отвечает. Наконец, отведя взгляд в сторону, просит:
— Говорить буду с глазу на глаз.
Поблизости сидят на траве партизаны, прислушиваются.
— Хлопцы, отойдите. А ты, Татьяна, постереги этого. Земляк твой. Новости услышишь.
Татьяна Бурак молча снимает с плеча винтовку, уводит полицая за березняк.
Рогозуба точно подменили:
— Товарищ партизан, я всего месяц, как из плена. В Ленинграде был, в блокаде...
— К немцам перебежал?
— Что вы, товарищ партизан! Я же в кадровой служил. Должен был демобилизоваться, да война. Финскую прошел, медалью награжден. Раненого вывезли из Ленинграда. По ледовой дороге.
Батура внимательно слушает задержанного.
— По какой дороге вывезли тебя из Ленинграда?
— По ледовой. Зимой проложили по Ладожскому озеру.
— А что дальше делал? Навострил лыжи домой? В полицию спешил?
— Вы сначала послушайте.
— А ты меня не учи! Тебя где взяли? В полицейском конвое. Гнал советских людей на каторгу. Защитник Ленинграда... Твои напарники в песке лежат. С тобой можно было вовсе не говорить. Тебе ясно?..
В березняке один за другим прогремели два винтовочных выстрела. Батура вскакивает. Широкое лицо
101
Рогозуба бледнеет. На выстрелы кинулись трое с винтовками. Через минуту между берез возникает фигура Татьяны. Идет, тяжело дыша, широко раздувая ноздри.
— Татьяна, где пленный?
— Убегал, сволочь. Пустила в царство небесное...
Батура кричит — пискливо, пронзительно:
— Кто тебе разрешил? Ты туда иди, если такая смелая...
Татьяна постояла перед Батурой не больше минуты.
— Не пугай, пуганная... Была там вместе с тобой. Бежал — и все. Можешь судить...
— Есть порядок, закон.
— Ты разводи тары-бары. Я не умею... Попадешь к ним, так они покажут тебе закон. По десятое число...
Татьяна ушла. У Батуры нервно дергается щека.
— Ну ладно, давай кончать. Слышал, что она сказала?.. Она, в сущности, права. О чем нам с тобой говорить?.. Скажи только — что тебя заставило поступить в полицию?
— Хотел перейти к вам.
— Ну и ну! Долго разбирался.
— Да я в полиции две недели.
— А все же — что заставило тебя стать полицаем?
— Пришел домой — ну и пристали с ножом к горлу. Либо в полицию, либо назад, в лагерь. А я лагерного хлеба попробовал. Больше не хочется. А тут ваш один шепнул: «Поступай... В дальнейшем выручим». Ну, спасибо ему, выручил...
Батура настораживается:
— Кто «ваш»? Не говори намеками. Назови фамилию.
— Ну, Сергей Шугай. Есть такой парень в Пиля- тичах. Однорукий, на учителя учился. Сказал — связан с партизанами. С вами, не с вами — не знаю...
— Когда ты познакомился с Шугаем?
— Что там знакомиться. Мой племянник. Только я жил в Буйках, а он в Пилятичах.
Батура зло, с мясом, вырывает из блокнота страничку. Рвет на мелкие клочки.
— Дурак ты. Неужели ты не видел, что тебя ждет? Раскис, как баба. Сказал бы сразу. Шугай давал задание?
502
— Просил достать винтовку. Не успел я. Об отправке молодежи я предупредил. Хотя об этом знали и без меня.
Батура крутит в пальцах красный карандаш, говорит, перейдя на шепот:
— У нас, брат, не армия. Пленных не берем. Этот, которого кокнули, кто он?..
— Из моей деревни. В полиции, говорят, с осени. Буйковцев теперь в гарнизон перевели, в Пилятичи.
— Если из Буйков, то туда ему дорога. Буйки разгоняли, можно было одуматься...
Батура поднимается с пня. Говорит громко, чтоб слышали все:
— Приедет командир — поговорит лично. Проверим все до ниточки. Но винтовки не дадим... Добудешь в бою винтовку...
4
О том, что Рогозуба, полицейского, приняли в партизаны, уже вечером знали все. Знали причину, по которой Рогозуба не расстреляли,— год воевал, а в полицию поступил по заданию. Ночевали в густом дубняке за деревней Лозовица. Шалаши из жердей, накрытые ветками, по всему видно — временные. Такие шалаши делали когда-то косцы, которые отправлялись на болото на две-три недели.
Рогозуба донимают расспросами;
— Ленинград, значит, в тисках?
— В блокаде.
— Немцы далеко?
— Как где. Мы на передовую ездили на трамвае.
— Разбили город?
— Не сказать, чтоб разбили. Бьют из тяжелой артиллерии. Но заводы работают.
— А как с продовольствием? Подвоза нету?
Рогозуб с минуту молчит, не зная, что ответить.
—: Да говори ты...
— Не бойся, тут свои...
— Голод был в Ленинграде.— Рогозуб говорит тихо, опустив глаза.— Бойцам давали четыреста граммов хлеба, а населению совсем мало. Много людей умерло. Потом наладили дорогу по Ладоге — по озеру. Стало
503
лучше. Меня ранили как раз в январе месяце... Кате там теперь, не знаю...
Молчание, короткие вздохи. Евтушик, который сидит рядом с Рогозубом, протягивает ему недокуренную цигарку. Подкидывают в костер несколько суков — он вспыхивает ярче, брызгая в небо золотыми искрами. Кони, отобранные у полицаев, привязаны к дубу. С непривычки к новому месту они храпят, стригут ушами.
— Ну, а дальше как ты? — спрашивает Ключник.
— Три месяца лежал в госпитале в Воронеже. Когда немцы подошли, нас бросили в бой. Ну, попал в плен...
Снова молчание. Новости Рогозуб рассказывает нерадостные, ничего не приукрашивает, и это, видимо, нравится.
Евтушик чешет затылок, ругается.
— Окружение, плен!.. Лучшего ничего не услышишь. То же самое, что в прошлом году у нас под Вязьмой... Молодежь-то хоть в армии есть? Или, может, уже стариков подобрали?
— Почему, есть молодые,— отвечает Рогозуб.
— А как с техникой? Танки, самолеты..,
— Танки есть, и самолеты.
— Так почему же отступаем? — Евтушик скребет за пазухой, распахнув волосатую грудь.— Зачем русскую землю отдаем немцу? Разве мало в прошлом году отдали?..
Шелег сидит сбоку, поодаль от костра, слушает вни-: мательно.
— Бои идут большие,—задумчиво говорит Рогозуб.— Я месяц сидел в лагере в Чернигове, так ни одного пленного нового не видел. Только те, что попали в сорок первом и в харьковском окружении. За месяц лишь одного обгорелого летчика привезли.
— Не сдаются. Сами немцы говорят: «Русиш плен- ны нике...»
— Значит, раскусили, что немец не брат...
— Секретная техника появилась,— как бы спохва-; тившись, поспешно добавляет Рогозуб,— «Катюшей» называется. Возит ее грузовик, а сзади брезентом накры-: тая. Не увидишь, что такое... А стреляет — страх один. По небу — огненные полосы. Там, где упадет снаряд, ничего живого не остается.
— Скажи ты... Русский Иван придумает,.г
504
— Попищат немчики.
— Полезли, думали — дуриком Россию захватят, а оно боком выходит.
В голосе Евтушика тревога:
— А такая «катюша» случайно в окружение не попадет? Немцы разгадают секрет да и лупанут по нас...
— Секрет не в «катюше», а в снаряде,— старается успокоить Рогозуб.— Снаряд так сделан, что его нельзя разобрать — взрывается. А под брезентом, говорят, обыкновенные рельсы. Снаряд катит по ним электрика...
— Говорят, американская техника есть на фронте.
— Автомобили есть. Называются «студебеккеры». Американские консервы нам выдавали. Из тоненьких колбасок.
— А горелки американской не давали? — спрашивает Ткач, светясь белозубой улыбкой.— Я одну книжку читал, так там все виски пьют. Хоть бы попробовать этого виски...
— Спирт выдавали. По сто граммов перед наступлением.
— Каждый день? — удивляется Евтушик.— Даже весной?
— Каждый день.
— Ну, тогда бить вас надо, что отступили. Колбасу £ли, спирт пили, а чуть припекло, так ручки вверх. Слишком нежными при Советской власти стали. Поживешь у нас — увидишь. Воды из лужи напьешься, рукавом закусишь — и опять в поход.
Батура темной тенью бродит по дубняку — постоял возле одного шалаша, прислушался — не слышно ни звука. Пошел к другому. Красным глазом мигает притушенный костер, небо будто выбелено — сплошь усеяно бриллиантами-звездами.
Около костра топчется Ключник — занял пост.
— Миша, позови Ткача,— просит Батура.— Я постою тут.
Ткач появляется минут через десять, трет сонные глаза:
— Что такое?
585
— С полицая глаз не спускай. Ни днем, ни ночыо. Под твою личную ответственность,— строго говорит Батура.
Ткач злится:
— Нагоняешь страху. Парень свой. Мало ли куда человек может попасть.
— А ты даешь гарантию, что он не окончил немецкой школы? В Ленинграде был, в Воронеже был... Американскую технику нахваливает.
— Брось, Степан. Ничего он не нахваливает. Рассказал, как есть.
В голосе Батуры звучат еще более властные нотки:
— Следить — и больше никаких. Есть дополнительные факты. Покажет себя в бою — учтем.
Ткач с Ключником молчат. Приняли человека за милую душу, а теперь отбой бьют, разглядеть надо..,
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 1
Бургомистрова машина, латаная, собранная наспех, забуксовала в песке верстах в трех от Пилятич. Шофер Кузьма Круглый, молодой тихий парень, развел руками: без посторонней помощи не вылезешь. Раза три бегал в кусты, ломал березовые ветки, подкладывал под колеса, но все напрасно — машина по самый дифер сидит в песке, а до пригорка далеко.
Август Эрнестович вылез из машины, прохаживается по обочине. Застряли как раз на опушке: слева —
участок высокого сосняка, справа — березовые кусты. Впереди — пригорок, сжатое поле, заставленное редкими копенками, а за полем — село. Солнце на закате — часов шесть вечера.
Село близко, и особого страха Август Эрнестович не ощущает. Вряд ли за ним следят партизаны. Они если и обосновались в районе, то затаились где-нибудь в чаще, в глухом месте, и выходят обычно ночью.
Чтоб успокоить себя и — главное — показать шоферу, что он ничего не боится, Август Эрнестович сворачивает в лес. Тихо, спокойно в сосняке. Под ногами
506
шуршит сухая хвоя, потрескивают почерневшие прошлогодние шишки, сухие ветки. Даже этот едва заметный треск настораживает Августа Эрнестовича. Все- таки он неспокоен. Страх запрятан глубоко, под сердцем, но он живет, время от времени напоминая о себе. Августу Эрнестовичу чудится, что вот-вот из-под елового куста высунется дуло винтовки, а злой, властный голос прикажет ему поднять руки вверх. Что он будет тогда делать?
В кармане у Августа Эрнестовича пистолет, две обоймы патронов. Он будет обороняться. Упадет на землю, будет отстреливаться, пока хватит патронов. А если все-таки схватят, заломят руки назад, поведут? Что он скажет непонятным,, страшным лесным людям, которые видят в нем врага? Август Эрнестович не знает, что он скажет. Если случится так — конец. Он с партизанами никогда не найдет общего языка.
И, наперекор страху, Август Эрнестович все дальше углубляется в лес. Он как бы хочет проверить себя, свою выдержку, убить эту темную, предательскую силу, которая таится на самом дне души.
Сосны становятся гуще, плотнее подлесок, зеленый, с черными ягодами можжевельника, приземистые березки. Где-то настойчиво стучит дятел, тинькают, перекликаясь, синицы. Синицы — осенние птицы. Скоро хлынут дожди, за ними ляжет долгая зима. Что принесет она нового неспокойному, взбаламученному миру? Кончится бойня или будет продолжаться дальше, поглощая все новые жертвы, расширяя просторы своей кровожадности? Август Эрнестович не знает. Ему кажется, что этого не знает никто, даже самые великие, те, чьи имена у всех на устах, что стоят во главе миллионов, что схлестнулись в смертельной схватке. Война — страшный смерч, который крутит, поднимает до облаков дорожную пыль и валит великаны дубы. Она будто огромная, не подвластная человеку машина, у которой не может отдельно остановиться ни колесо-маховик, ни последний, самый маленький, винтик.
Впереди блеснула прогалина, и Август Эрнестович прибавил шагу. Лес кончился, перед глазами поле. Та же приподнятая равнина, в которую зеленым клином упирается лес. Август Эрнестович успокоился. Страхи оказались напрасными. Теперь увидел свою ошибку — надо
507
было шофера послать в деревню, пускай бы привел людей, чтоб помогли вытолкать машину. Не послал,—-значит, дрожал, боялся за себя.
Возвращался назад спокойнее. В одном месте остановился, удивленный: прямо под ногами сидит семейка грибов. Большой, с черной шапкой боровик выбрался на свет, а трое его друзей скромно показывают головки из- под хвои. Август Эрнестович сделал несколько шагов вправо, влево — всюду грибы. Их много, если приглядеться, полно вокруг.
Хотелось снять шапку, достать из кармана перочинный ножик, стать на колени на сухую, устланную хвоей, землю и осторожно, чтоб не повредить грибницы, подрезать у самой земли тугой корень. Август Эрнестович даже сунул руку в карман, чтобы вынуть ножик. Нащупал рукой тепловатое дуло пистолета, и желание сразу пропало.
У Августа Эрнестовича тоскливо на душе: когда-то он любил собирать грибы, любил туманным утром бродить с корзинкой по перелескам. Охоту не любил, охота связана с кровью, со страданием живых существ, а собирая грибы, отдыхаешь душой. Вся жизнь его прошла возле леса, а с того дня, как началась война, ни разу в лесу не был. Неспокойной чередой нахлынули мысли. Почему люди не собирают грибов? Ни в одном месте он не заметил корней. Значит, как он, не ходят в лес, боятся? Грибы растут, несмотря на то что идет война, что на земле побоище, но люди не собирают их.
С дороги, где стояла машина, послышались возгласы. Август Эрнестович прислушался — звали его. Торопливо зашагал к машине.
На дороге возле машины — группа людей с винтовками, патронташами крест-накрест, оседланные кони, длинная цепь повозок. Август Эрнестович на минуту замер — партизаны!.. Холодный пот выступил на лбу, но тут он узнал в толпе приземистую фигуру Князева, начальника волостной полиции, и страх сменился .радо- стью избавления. Дрожали руки, ноги, но старался идти спокойно, ничем себя не выдать.
Князев — татарское, с выпирающими скулами, лицо возбуждено, глаза горят — направился к бургомистру навстречу, как равному подал руку.
508
— Бандитское гнездо разгромили! — воскликнул он.— Докуда терпеть? Докладываю вам как бургомистру.
— Какое гнездо?
— Прудок. Партизанская деревня. Вы разве не знаете? Сегодня бандиты на нас напали.
— Кто напал? Где? Когда? — Август Эрнестович начинает волноваться.— Рассказывайте толком. В районе ничего не известно.
Князев исподлобья посмотрел на бургомистра.
— Писарь Овчар и пять полицейских сопровождали повозки с молодежью, которых мы отправили в Горбыли, на станцию. Согласно вашему приказу, чтоб послать на работу в Германию. Около Озерков партизаны устроили засаду. Троих полицейских наповал, Овчара живым схватили.
— Ну, а дальше? — спрашивает бургомистр.
— А что дальше? Сколько можно терпеть? Давно известно, что в Прудке половина дворов партизанских. У нас списки есть. Отомстили бандитам.
— Как отомстили? — Бургомистр начинает задыхаться.
— А так, господин бургомистр. Кто в бандитах, нам известно. Позвонили в жандармерию. Сказали — принимайте меры. Дали разрешение.
Август Эрнестович окидывает взглядом вереницу телег, которые, объезжая машину, тянутся по пыльной дороге в сторону Пилятич. Возы полны доверху. Нагружены крестьянским скарбом — кожухами, свитками, полотном, подушками. На одном возу поблескивает никелированный самовар.
Август Эрнестович чувствует, как холодеют руки, ноги, как непонятное безразличие охватывает его.
— Жертв много?
— Расстреляли шесть бандитских жен и пятерых мужчин за связь с партизанами. Их хаты сожгли.
— А это зачем? — Бургомистр показывает рукой в сторону возов.
Князева как варом облило.
— А они нашего не берут? Не пользуются нашим добром? Так что, в зубы им глядеть? Люди жизнью рискуют, ходят ежедневно под смертью. Что, легко тем семьям, у кого сегодня бандиты хозяев убили? Брали и брать будем...
509
Разговаривать дальше с Князевым у Августа Эрнестовича нет желания. Едва волоча по песку ноги, чувствуя непомерную усталость во всем теле, идет к машине.
Полицаи выкатили «эмку» на самый пригорок.
2
Пилятичи — село большое, стоит на песке. Там, где улицы скрещиваются,— пыльная площадь, с левой стороны— церковь с разрушенной колокольней, выбитыми окнами, с правой — школа. Церковь пустует, а в школе разместились полицейские. Волостная управа заняла помещение бывшего сельсовета.
В самом конце села виднеется старый парк, ободранный, вконец запущенный помещичий дом. От имения к лесу тянется ветвистая столетняя липовая аллея.
Август Эрнестович остановился в доме волостного бургомистра Спаткая. Даже в управу не заглянул — после всего, что случилось, в управе нечего делать. Бургомистр мрачен: ехал в Пилятичи, чтоб поговорить с людьми, а вышло по-другому.
Спаткай занимает просторный дом, и жена у него молодая. Блеснула на Августа Эрнестовича черными, как у цыганки, глазами, здороваясь, протянула руку и безразлично отвернулась.
— Вы что, недавно женились? — спросил бургомистр.— У вас же, кажется, сын взрослый.
— Взял грех на душу. Седина в бороду, а бес в ребро.
— А первая жена?
— Я ей оставил все. Помогаю, чем могу, и теперь.
Вид у Спаткая растерянный — широкие плечи опущены, он старчески сутулится.
Когда совсем смерклось, сели за стол, запершись в чистой половине, выпили по стакану самогонки. Спаткай перед этим вышел во двор, закрыл ставни.
— За вас тревожусь,— сказал, не таясь перед бургомистром.— Не дай бог беды.
— Неужто так серьезно? В селе же полиция, патрули.
— Без малого пятьдесят человек в полиции, дорогой Август Эрнестович. А дома не ночуем ни я, ни Князев. Смешно признаться...
— Чего же боитесь?
5 tO
— Странный вы человек. Разве трудно тем, что в лесу, ночью подползти, пульнуть в окно гранату? Жена молодая, а сплю один; Жену на чужой сеновал не поведешь.
— Признаться, я сам прошлой осенью опасался. Но тогда же неясность была, беспорядок.
— Дорогой Август Эрнестович, теперь хуже. Намного хуже. В прошлом году, если начистоту говорить, вы меня опасались, писаря Овчара, которого сегодня бандиты схватили. Какие мы были партизаны? Сидели в землянках, грызли сухари и нос боялись высунуть. Конечно, пошли в лес по принуждению. А эти, которые в лесу теперь, ушли по желанию, их рожном никто не припирал. Им черт не брат...
Спаткай встал, с необычной для него подвижностью открыл ящик комода, положил на стол перед бургомистром несколько скомканных бумажек.
— Что это?
— Читайте. Сами увидите.
Август Эрнестович надел очки: лампа хоть и яркая, но читать по-писаному трудно. Вчитавшись, понял одно — записки партизанские. Честят Спаткая на чем свет стоит — продажная сволочь, шкурник, немецкий холуй...
— Как это попало к вам?
— Думаете, в селе нет людей? Спят и во сне видят Спаткая на виселице. Одну записку прямо на дверь приклеили. Другую двоюродный брат принес. Вышли из кустов — он косил сено,— припугнули — неси. Да таких посланий не менее десяти было...
— Не понимаю одного,— задумчиво говорит бургомистр,— зачем им вас оскорблять? Знают же—новой власти служите честно, преданно.
— Тут своя политика, Август Эрнестович. Сразу и не уяснишь. Я же все-таки тут был, знаю народ. Догадываюсь и о тех, кто по лесу отирается. Жены, семьи некоторых партизан в деревнях. Припугнуть хотели. Мол, излишне не развязывай руки, доберемся. Признаться вам, на некоторые факты я до сих пор сквозь пальцы смотрел. Лишь бы тихо. Но после вчерашнего — хватит. Нет сил терпеть. Либо они нас, либо мы их...
Снова Августа Эрнестовича охватывает непонятное безразличие. Спаткай говорит то же, что и Князев. Посеешь зло — соберешь ненависть.
— Что вам известно о партизанах?
Ill
— У Князева был человек. Убили, сволочи. Но и так знаем, что командует бандитами Шелег, тот, что от расстрела удрал. Тут и другая сволочь крутится — Анкудо- вич. Зоотехник с липовым дипломом — шестимесячные курсы окончил. Он в районе работал, а перед войной был председателем в Озерках. Верьте слову, Овчара он выследил. Он тут все закоулки знает. Но дойдет и до него очередь. Брата его сегодня убили, доберемся и до жены. Дети где-то спрятаны, но пронюхаем...
Август Эрнестович наливает себе и Спаткаю по стакану. В эти дни все пьют. Пьют, чтоб утопить в горелке растерянность, неуверенность в завтрашнем дне, распалить, как этот Спаткай, ненависть. Горелка — бальзам неопределенных, смутных времен. Если человек видит цель, ему на каждый день горелка не нужна. Так говорил покойный отец.
— Слушайте, Спаткай. Не кажется ли вам, что не только от нас, начальников, все зависит? Может, поласковее с населением нужно? По слухам, Князев ваш излишне крут. А вы его не осаживаете. Народ все понимает. Им надо руководить разумно.
Спаткай захмелел,— веки красные, как у больного, на глазах слезы.
— Дорогой Август Эрнестович. Мы все вас любим. Золотой вы человек. И сердце у вас золотое. Только не верьте народу, прошу вас. Народ — сволочь, лентяй. Я двадцать лет с народом работаю—ни одного честного человека не видел. Каждый старается только себе урвать. Народу кнут нужен, плеть. Ваши правильно делают. Думаете, поставку немцам выполнят? Не вырвешь из зубов — грамма не повезут. Это быдло, хамы, висельники...
Август Эрнестович смущен,— он знал, что делается в Пилятичах, но не думал, что столько злости, нена^ висти у этого Спаткая. Кем он так обманут? Живет среди своих людей...
Открывается дверь, с решительным видом входит молодая Спаткаева избранница. Волосы распущены, на круглых, покатых плечах — пестрый халатик.
— Снова, как свинья, напился!—У женщины перекошенное от злости лицо.— Не слушайте его, господин бургомистр. Вы новый человек, не знаете. Одна я вам правду скажу. Мокнут в самогонке, как жабы. Без просыпу пьют. Напьются — слушать страшно, что говорят...
Август Эрнестович встал — надо успокоить женщину,— но на пороге уже Князев. Никто не слышал, когда он вошел. Начальник полиции растерян: попал не вовремя.
— Отдыхайте спокойно,— докладывает он.— Все меры приняты.
Ночью Август Эрнестович долго не спал, ворочался, а когда на минуту сомкнул веки, из соседней комнаты послышалась громкая ругань.
— Ты, шлюха, снюхалась с Князевым! — Спаткай матерился, не стыдясь гостя.
— Лучше с Князевым, чем с тобой. Разве ты мужчина?
— Из грязи тебя поднял! Распутница!..
— Облезлый пень! Уйду от тебя хоть завтра...
— Вон, курва! Прочь из моего дома!..
В комнате что-то стукнуло. По всему видно, молодожены дрались...
Август Эрнестович выехал рано, отказавшись от завтрака, отводя взгляд от унылого, с кислым, серым с перепоя лицом, Спаткая. На полицейском дворе, где стоит машина, стругают доски, стучат молотками. Делают гробы для убитых вчера полицейских.
На улице людно. Чуть не на каждом шагу полицай — с винтовкой. Мелькнула невеселая мысль: «Полиция создавалась как служба порядка. Но винтовки стреляют. Те, что носят их, хотят жить лучше, чем остальные. А сами не пашут, не сеют...»
Чтоб не застрять снова в песке возле леса, поехали в объезд, полевой дорогой.
@ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
р конце августа вернулся Большаков с не- ^ большой группой — ездил с отчетом в Октябрьский район. Командиры сошлись в отдельной палатке. За последнюю неделю произошли перемены: Гервась попросился в разведку, а комиссаром избрали Станислава Хмелевского, вдумчивого, уравновешенного учителя.
На коленях у Большакова новенький автомат. На стволе цифра — 1942. Разглядывали автомат с интересом, не скрывали зависти.
— Район партизанский,— поблескивая от возбуждения глазами, рассказывает Большаков.— Люди не в лесу, а в деревнях. Не разберешь, кто партизан. Свои председатели сельсоветов, коменданты. Но слабина и у них есть — Ломовичи. Село, верст четырнадцать от Карпи- ловки. Сплылась туда вся погань. Разгонят — собираются снова. Там погиб Ермалович, уполномоченный обкома...
— Кто вместо Ермаловича? — хмуря выцветшие брови, спросил Бондарь.
— Гринько. Он — секретарь межрайкома. Партизанские отряды есть во многих районах. В Копаткевичском, Ельском по два, по три. Но хвалят и нас...
— С кем разговаривал?
17 И. Науменко.
514
— С Вакуленкой, с Гринько. Гринько — с виду деловой мужик. Сказал, чтоб создали партийную организацию, принимали в партию. Межрайком будет утверждать. От Вакуленки пакет тебе лично.— Из внутреннего кармана синего шевиотового пиджака Большаков достал сплюснутую, перевязанную толстой суровой ниткой трубочку, подал Бондарю.
Бондарь зубами рванул нитку, развернул исписанные чернильным карандашом два листка, протянул Хмелев- скому:
— Читай.
Слушали внимательно, затаив дыхание. Комиссар читал ровным, хорошо поставленным голосом:
— «Товарищ Бондарь, передаю горячий привет тебе, командирам и партизанам твоего отряда. Встречу с тобой 24. 12.41 г. хорошо помню, рад, что ты выполнил обещание, вывел в лес отряд. Первое время вам будет трудно. Но надо держаться, верить в победу. Мы, октябрьские партизаны, действуем с 1941 года, накопили опыт, не обижайся на то, что я тебе даю указания. Мы подчиняемся Минскому обкому и партизанскому руководству, и тебе придется подчиняться, так как другого руководства нет, единственный уполномоченный нашего обкома Ермалович погиб смертью героя. Самая главная ваша задача — объединиться с другими отрядами, группами, громить немецко-фашистских захватчиков, где бы они ни были. Проводите политическую работу с населением района, укрепляйте в людях веру в победу. Срывайте немецкие поставки, не давайте фашистам хлеба и мяса. Со словаками связь устанавливайте, требуйте, чтоб переходили на вашу сторону, не служили немцам. В Ко- паткевичской зоне некоторые словацкие офицеры и рядовые к партизанам перешли, воюют хорошо. У нас есть данные, что среди словацких войск имеется недовольство политикой Гитлера, который хочет уничтожить славянский народ. Такую ситуацию надо использовать, вести работу среди вспомогательных войск, каковыми являются словаки. По сведениям, словаки хорошо относятся к населению, воевать против партизан не хотят. Все это надо использовать. То же самое и по отношению к полякам. В наших отрядах восемнадцать поляков, которые убежали ъ железнодорожной станции Горбыли, из строительного батальона. Отчеты о проделанной работе
SIS
посылайте мне, по партийной линии — Гринько. Мы передадим в Минский обком, а оттуда пойдет в Москву, так как при обкоме есть рация. С большевистским приветом, Вакуленка, председатель Рика, командир партизан».
Хмелевский кончил читать, обвел взглядом присутствующих.
Вздыхали, переглядывались. Молчание нарушил Васильевич, худощавый, щуплый секретарь Горбылевского горсовета, назначенный начальником боепитания. Сидел, поплевывая на плоский камень, точил ножик.
— Им хорошо говорить, у них сила. Директивы пишут. Просили оружия — так ни слова. Уничтожайте немцев. Чем уничтожать? Двенадцать человек без винтовок. Стреляй кукишем. Хорошо, что хоть Большакову дали автомат. По знакомству.
— Не они, гомельские дали.— Большаков виновато усмехнулся.—Их штаб в Боровцах. Сначала арестовали, а потом накормили.
— Тебе не привыкать. Тебя все арестовывают.
Бондарь сидит на колоде, недовольно хмурится.
— Легко говорить. А кто им оружие дал? Ты знаешь, что зимой на них целый полк наступал?
— Много деревень сожжено,— подтвердил Большаков.— Живут в землянках.
— С кем же нам объединяться? Разве что с Аркаш- кой. В Кришанах, слышно, забрал масло прямо из сепаратора, на Гудичи наложил контрибуцию. Двадцать литров самогона! — Гервась захохотал.
— Борец за народное дело.
— Но ведь и Аркашка гоняет полицейских. Буйки до- мачовцам помог разбить.
— С полицейскими воюет по настроению.
— Домачовцев нашел? — спросил Бондарь.
Большаков усмехнулся:
— Нашел. Шелега не видел. Выросли не очень сильно. Человек тридцать — вот и все их войско.
— Директивы правильные,— продолжал Бондарь.— В отряде сто пятьдесят четыре человека, оружия не хватает. Но объединяться пока не с кем. Будем сами расти. Винтовки доставать в деревнях, там осталось много оружия, немцы подобрали не все. Разведчики Гервася два пулемета принесли, еще принесут. Только я хочу ска¬
17*
516
зать, товарищи, что долго нам тут сидеть не дадут. Нем- ды пять эшелонов не простят...
— Есть данные? — спросил Василькевич.
— Есть. Гарнизон в Журавичах увеличивается. Теперь двадцать семь человек. Следят за нами...
— Разогнать, пока не укрепились! — выкрикнул Гервась.
— Разгоним,— согласился Бондарь.— А теперь послушайте. Есть еще предложение, если поддержите. Давайте захватим эшелон...
Наступило продолжительное, неприятное молчание. Гервась, Василькевич закурили — кольца сизого дыма расплываются, тянутся в открытый проем палатки.
— Как это сделать? — спросил Хмелевский.
— План прост.— Щеки у командира заметно порозовели.— Людей достаточно. Можем выставить сто сорок человек. Пять ручных пулеметов тоже немало. Операцию провести около Жерновиц, на участке словаков. Словацкий пост, пишет наш человек, воевать с партизанами не хочет и не будет. Договоримся с ними. Разберем рельсы, кто-нибудь остановит поезд. Чтоб эшелон не отошел назад, поставим натяжную мину. Все от нас и от бога...
— Идея! — Гервась потирает от удовольствия руки.— Должно получиться. Если словаки не вмешаются — красота...
— И если эшелон будет не воинский,— усмехнулся Хмелевский.— Так всыплют, что своих не узнаешь. Можно загубить отряд.
— Если эшелон будет воинский, операция не удастся,— спокойно соглашается Бондарь.— Но отряд не загубим. Нападать будем из леса. Отход прикроем пулеметами...
Василькевич из нижнего кармана кожаной куртки вынул засаленный блокнотик, карандаш с блестящим медным наконечником.
— А если удастся? Что будем делать голыми руками, если остановим эшелон? На плечах много не унесешь. О транспорте надо подумать. А у нас всего три коня...
Все дружно захохотали.
— Курочка в гнезде...
— Шкуру неубитого медведя делишь, товарищ Васильевич.
517
— Красный обоз организуем. С флагами. Тебя посадим на первую подводу.
— Попробовать, товарищи, надо,— тихо сказал Бондарь.— Отряд растет потому, что есть успехи. Этим и живем...
Ординарец Бондаря Володя Шлег заглянул в палатку:
— Обед готов!..
— Володя, одну минутку. У меня, товарищи, есть еще предложение. О специальном отделении связи. Разведки, которой занимается Гервась у нас, мало. А надо, чтобы в каждом населенном пункте, как и в городе, были свои люди. Тайные, которых бы никто не знал. Иначе — пропадем. Предлагаю поставить на отделение связи Большакова. И выделить ему десять человек...
— А не много ли — десять у Гервася, десять у Большакова? — с обидой возразил Комар, взводный.— Скоро половина отряда будет в разведке. Людей на посты не хватает...
— Спать побольше хочется, правда? — спросил Гервась.— Смотри, чтоб царство небесное не проспал. Ты хочешь как сторож — сутки дежурить, двое спать.
— А ты постой каждый день. Думаешь, сладко? Шесть человек на постах постоянно. Каждые сутки — восемнадцать...
— Тихо, товарищи! — Бондарь замахал руками.— Отделения разведок находятся в подчинении взводов. Если люди не на задании, от караульной службы не освобождается никто.
— Что будем делать со школами? — спросил Хмелевский, до этого молчавший.— Через две недели школы начинают работать. Учителя наши, учебники тоже, но школы немецкие. Вопрос политический. По моему мнению, немецкую затею там, где можно, надо сорвать. Немцы хотят создать иллюзию мирной жизни...
— Правильно!.. Никаких школ!
— Научат на пень брехать...
— Население отремонтирует здания, а займут их полицейские...
Большаков, когда вышли из палатки, задержал Бондаря, заговорил вполголоса:
— Вакуленка передал на словах — в Москве собирают партизанское совещание. Будто бы сам Сталин вы¬
518
зывает. Минские партизаны готовят площадку для посадки самолета. От них кто-то полетит...
У Бондаря высоко взлетели выгоревшие брови, зарделись щеки.
— Чудак человек, почему раньше не сказал? Самая важная новость. Но, может, и лучше. За обедом скажешь всем. Вообще расскажи все, что видел...
Бондарь и его товарищи, занимающие теперь командное положение в отряде, провели зиму в Горбылях. Они тайком устраивали встречи, привлекали новых людей на, казалось бы, безобидных вечеринках.
Своими мыслями, чувствами Бондарь часто возвращается к январю, к Горбылям, засыпанным снегом, с разбитой, мертвой железной дорогой, с однообразным шумом сосен, темной подковой охватывающих городок. Иной раз кажется даже, что в его жизни не было лучшего времени, чем минувшая зима, серые сумерки вечеров, неожиданные встречи, сообщения о том, что все больше людей присоединяется к ним, преувеличенные, часто фантастические, слухи о наших победах на фронте.
Там, в Горбылях, пришла уверенность, что немцев можно бить, что почва для этого есть — волна недовольства «новым порядком» растет, ширится. Зимой рождалось предчувствие чего-то большого, доброго. А в жизни, видимо, так — предчувствие радости часто сильнее самой радости...
2
На встречу со словаками пошли Бондарь, Большаков, Гервась. Взяли отделение разведки. Теплая, тихая стоит осень. Чуть пожелтела листва, в песчанистых сосняках почти на каждом шагу кучки маслят.
Перебежав шоссе, пошли, как и прежде, сосновыми посадками, оставив слева деревню Большие Лемтюги. Спустились в лощину, пробирались болотом. Что-то зашуршало в лозняке, на открытую поляну выскочила дикая коза. Красивая, с гладкой сизо-серой шерстью, она на миг будто застыла, потом крутнулась, прыгнула — только ее и видели. Неслышная, понеслась болотными зарослями.
519
Выбравшись на сосновый пригорок, разведчиков — их без командира девять — оставили в охране. Сами вышли на опушку, откуда видна узенькая колея лесной дороги. На дороге должны появиться словаки.
Гервась с Большаковым присели на заросшую вереском землю, закурили. Бондарь стоял. Задумчивостью, покоем веет от лесной поляны, от молчаливой стены сосен с противоположной стороны дороги. Воздух прозрачен, носится в безоблачном небе едва заметная паутинка. Самое время сеять. Тихо в лесу. Солнце, негорячее, осеннее, висит сбоку, за шоссе. Лучи падают на вершины сосен, и оттого там, наверху, такая прозрачность.
Бондарь смотрел на дорогу и вдруг услышал печальные звуки. Словно тихий, тоскливый звон лился из поднебесья. Поднял голову, стал всматриваться. Высоко-высоко двумя длинными лентами незамкнутого треугольника летели на юг журавли. Сердце кольнуло острой болью,4 захлестнуло горячей волной. Тоска его — Гэля. Носит тоску в себе, ни с кем не делясь, глуша ежедневными заботами, тревогой. За три месяца принес Гервась из Горбылей, от Гэли, два школьных листка, исписанных знакомым круглым почерком. Бондарь тревожится за Гэлю, так как в Горбылях аресты, там Самусь, от которого можно ждать всего...
Журавлей услышали Гервась с Большаковым, приложив ко лбу ладонь, всматриваются в небо.
— Зима ляжет рано,— сказал Гервась.— Тепло еще, а уже улетают.
Большаков лежит на спине, сцепленные ладони подложил под голову.
— У нас журавлей нет. По рукавам Волги, в зарослях, цапли.
Бондарь присел, с наслаждением вытянул усталые ноги. Сухой дубовый лист, сорвавшись с ветки, упал на землю. От устланной прошлогодней листвой земли тянет холодом.
Для встречи со словаками они немного прифрантились — накинули портупеи, надели чистые гимнастерки, подшили воротнички. Гервась, у которого портупеи не было, занял у Казаченко. Кроме автоматов, кобуры с наганами на поясах — гранаты-лимонки, плоские немецкие ножи в ременных футлярах.
520
Все трое немного волнуются. Никогда еще при таких обстоятельствах не встречались с солдатами чужеземной армии.
В точно назначенное время — в три часа дня — на дороге появился человек с корзинкой. Идет медленно, оглядывается. Бондарь узнает сразу — Жерновик, путевой обходчик. Жерновик — из Жерновиц, в деревне, лежащей при железной дороге, половина таких фамилий. Бондарь, заложив в рот два пальца, свистнул.
Жерновик прибавил шагу. Через минуту возбужденный обходчик трясет руку Бондарю, как знакомому,— виделись в Горбылях, с Гервасем обнимается — он частый гость у обходчика, с Большаковым здоровается сдержанно.
— Идут,— сообщает Жерновик.— А я отправлюсь своей дорогой. Мне быть тут нельзя...
— Подожди, Петрович,— Гервась хватает обходчика за рукав, кивая на Большакова.— Запомни этого человека. Будешь с ним дело иметь...
— А ты куда?
— Мне повышение дали.
Обходчик посмотрел на нового начальника и исчез среди елей.
Словаки, с винтовками за плечами, идут размеренным шагом, плечо в плечо. Бондарь почувствовал: сердце застучало чаще, невольно напряглось тело. Не думал, что будет так волноваться.
Партизаны вышли на дорогу. Увидев их, парни в зеленых, хорошо пригнанных мундирах растерялись, сбавили шаг, но замешательство их длилось недолго. Не дойдя несколько шагов до партизан, как по команде, взяли под козырек. Бондарь вышел вперед, протянул руку. Молодой словак, несколько выше других, с румянцем на круглом симпатичном лице, поздоровавшись с Бондарем, вдруг сжал его в крепком объятии:
— Браци наши! Мы на вас так ждали...
Он бросился обнимать Гервася, потом Большакова. Нельзя было не верить сержанту, двум его товарищам, более сдержанным в проявлении чувств, и настороженность, какую испытывал Бондарь, как рукой сняло. Дипломатические подходы, к которым он готовился, обдумывая встречу со словаками, теперь были не нужны.
521
— Пойдемте, товарищи, в лес,— сказал просто, как своим.— На дороге нас могут увидеть.
Узнав имя, фамилию сержанта — Михаил Слива,— удивился. Будто пришел он из какой-нибудь близкой деревни. Со Сливой были еще Ян Легнар и Иосиф Поймач.
— Ненавидим германов! — сказал Слива, как только отошли в сосняк, присели на землю.— Словацкие солдаты не будут воевать против русского народа. Мы ест братья... Не можем стрелять один другого. Имеем большое уважение к советски партизан. С первый день приезда сюда...
— А как нам быть? — усмехнулся Бондарь.— Верим, что немцев не любите. Население на вас не обижается. Но ведь вы служите немцам. Железную дорогу охраняете...
— Ест посланы силой. Но партизан не стреляем. Ни разу не стреляем. Пускаем пули в воздух. Немецкий патрон не жалко...
Гервась смотрит на Сливу, не скрывая радостного удивления.
— Нам отдавайте патроны. Мы вашим пальцем немцу в глаз...
— Так! — соглашается Слива.— Мы, трое, просим принять в партизан. Через неделю срок. Просим сделать фальшивое нападение на наш пост. Чтоб там, в Словакии, фашисты не применили репрессий к родителям. Имеем для вас пять винтовок, два ящика патронов.
Командиры переглянулись.
— В партизаны вас примем,— сказал Бондарь, положив руку на плечо сержанта.— Ваши люди в наших отрядах есть. Но сейчас вы нам больше на дороге нужны. Мы подрываем эшелоны, вы помогаете. Понятно?..
Словаки задумываются. Молчание неприятное.
— Все понимаем,— начинает Слива,— вы нас хотите проверить. Ваши люди ест очень осторожны. Месяц мы просили обходчик о встрече с партизаны. Он молчал. Уклонялся от разговора.
Бондарь краснеет — где-то в разговоре допущена ошибка. Взяли с места в карьер, не поинтересовавшись, как и чем живут словацкие парни, которые сами, без всякой агитации, тянутся к партизанам. Положение исправил Гервась: снял с руки часы, протянул Сливе.
— Дарю как другу. Верьте нам, хлопцы. Просто на железной дороге нам нужны свои люди. Хотим, чтоб вы
522
были нашими разведчиками. Трудно будет — выручим, возьмем в отряд...
Часы — подарок не очень большой, но у словаков заискрились радостью глаза.
з
Весь день перед выходом на железную дорогу Бондаря не покидала смутная тревога. Не знал, откуда она исходит. Вопреки холодку, с каким было встречено штабом предложение Бондаря о диверсии на дороге, младшие командиры, партизаны приняли его с удовлетворением.
Вышли ночью, а на рассвете залегли в сосняке, на пригорке, метрах в пятидесяти от полотна. Висел молочно-белый туман. Десять повозок, мобилизованные Васильевичем в Темровщизне и Ольхове, ждали сзади, на дороге в лесу.
Лежали около часа. Словацкий патруль — три человека — прошел, когда вершины сосен позолотили первые солнечные лучи. Как только словаки скрылись вдали, на полотно, заняв пространство между четырьмя телеграфными пролетами, выскочили подрывники. Комар с тремя помощниками развинчивал рельсы, десантники на другом конце, где предполагался хвост эшелона, приспосабливали натяжную мину.
В восемь часов послышался гул поезда. По левой колее шел в Горбыли порожняк. Бондарь лежал за можжевеловым кустом, смотрел, как мелькают, грохоча на стыках, буро-серые, непривычно длинные немецкие вагоны. Опасались, что с паровоза или из кондукторской будки заметят развинченные рельсы. Хвост состава мелькнул за полосатым железнодорожным знаком, но тревога не оставляла Бондаря. Так неуверенно он не чувствовал себя ни разу.
Пригнувшись, пошел по лесу. Партизаны, лежавшие за соснами, прижав к плечу приклады винтовок, поднимали головы, смотрели вслед командиру. Полотно просматривалось хорошо. У каждого пулемета, выдвинутого немного вперед, ло два человека. Бондарь бросал на ходу:
— Если эшелон воинский, боя не принимаем. Отход прикрывают пулеметы...
521
Послышался гул со стороны Горбылей. Бондарь прилег на траву. Не заметил, как рядом остановился Гервась с пулеметом. На телеграфном столбе — ординарец Володя с Богдановичем. Один — выше, другой — ниже. Орудуют ножницами-кусачками. Слышно, как с пронзительным свистом, скручиваясь в спирали, отлетают провода.
Паровоз уже виден. Гервась толкнул Бондаря в бок. По полотну, навстречу поезду, который стремительна приближается, идет Надя Амельченко. Идет спокойно, размахивает над головой белым платком. Было слышно, как дико — из-под рельсов посыпались искры — заскрежетали тормоза, залязгали буферами вагоны. Эшелон сбавлял ход. Со ступеньки паровоза, держась рукой за поручень, свесился машинист...
Бондарь не видел, как шмыгнула с насыпи Надя, как упал, изрешеченный пулями, машинист. Полоснули пулеметные очереди, глухо забухали винтовочные выстрелы, сливаясь в сплошной, усиленный лесным эхом, гул. Бондарь смотрел на вагоны — длинные, закрытые, никаких, солдат в них не было,— с нетерпением ждал взрыва мины в хвосте эшелона.
Пулеметы примолкли. Раздавались одиночные выстрелы, на глазах откалывая от стенок вагонов кусочки дерева. Эшелон скрежетнул тормоаами, медленно пополз назад.
Стрельба усилилась снова, но эшелон, пыхтя паром, прибавлял ходу, и, когда скрылся из глаз, послышался пронзительный — ту-ту-тру-ту-ту — сигнал тревоги...
Отходили бегом. Когда вышли на дорогу, раздался оглушительный взрыв — десантники взорвали мину. Бон- дарь оглянулся, увидел залитого потом, с взлохмаченными волосами парня, который, раскрыв от частого дыхания рот, бежал, держа в одной руке винтовку, а в другой — пару ботинок.
Бондарь рванул из кобуры наган, подскочил к онемевшему парню — тот был из деревенских, недавно прибыл из Журавич.
— Где взял ботинки?
— Там немец... Машинист... Убитый лежит..*
— Грабить, сволочь! Своевольничать!..
Не помня себя, Бондарь поднял наган, но к нему подскочили Гервась с Большаковым, повисли на руках...
524
Бондарю не спится. Давно высвистывает носом Большаков, тихо посапывает Хмелевский. Казаченко ворочается, скрипит зубами, спит неспокойно.
Накинув на плечи ватник, Бондарь вышел из палатки. Тихо, глухо в лесу. Сквозь кроны сосен видно звездное небо с серебристым подсветом лунного диска. С болота тянет сырой прохладой.
Из-за соседнего шалаша вышел часовой, в нерешительности остановился.
— Не спится, товарищ командир?
По голосу узнал Гусовского, шофера, пришедшего с Большаковым.
— Проверяю посты.
Шофер шел рядом с Бондарем до кустов, откуда начинаются кладки.
— Всыпали им сегодня, товарищ командир.
— Могли бы всыпать, дорогой, да вышло по-дурному...
— Минеров не вините. Парни хотели как лучше. Люди все равно довольны...
Задетый за живое, Бондарь спросил:
— Чем же быть довольным? Эшелон не захватили...
— Всякое бывает... Важно, что показали силу... Такого на всей чугунке не было...
— Может быть, и не было,— согласился Бондарь.— Но немцы примут меры. Второй раз не удастся...
— Удастся. Коротки руки у них. Если их помощники работают на нас, то дела немецкие швах. Я говорю о словаках.
— О словаках надо молчать. Не все помогают.
— Разве я не понимаю? Думаю так, товарищ командир,— тут, в отряде, люди надежные. Можно доверять каждому. Кто пришел бить немцев, человек свой. Такой не отступит...
— А думаешь, немцы шпиона не могут подослать? На лбу у него не написано.
— Подослать могут,— задумчиво согласился шофер.— Очень просто. Да, может, раскусим как-нибудь.
Стараясь не сбиться с настила, осторожно ступая по жердям, Бондарь пошел на край болота, где со стороны Журавич круглосуточно стоит пост. Второй пост — на
525
противоположном конце, вблизи лесной дороги, которая ответвляется от песчаного большака, что ведет из Горбылей в Журавичи. Нападение на лагерь маловероятно — ни немцы, ни полиция в лес пока не лезли.
Но выхода другого нет, посты надо держать, не считаясь с тем, что на караульной службе занято много людей.
— Кто идет? — послышался зычный в ночной тишине голос.
— Курск,— назвал пароль Бондарь.
— Кострома,— отозвался постовой, выйдя из кустов.
На внешнем посту был Семен Климко.
— Не спится, Семен Игнатьевич.
— Мне, если говорить правду, не спится и на соломе. Старики свое отоспали...
— Не холодно?
— Заморозки миновали. Теперь, по приметам, теплая осень будет до покрова.
— А я журавлей видел. Полетели.
— Журавли рано отлетают.
— Как зимой будем, Семен Игнатьевич?
— Зимой надо в деревню. Под теплую крышу. Или землянки выроем. В ту германскую мы целую зиму стояли под Сувалками. В болоте. Жили в землянках. Было сыро, но ничего...
— Нам в болоте нельзя. Выследят.
— Могут выследить...
На кладках послышались осторожные шаги. Климко встрепенулся, спросил пароль, ему ответили. Подошли двое — взводный Комар привел смену. Бондарь ступил на кладки — проверять второй пост не имело смысла.
Вернувшись на остров, к палаткам не пошел, повернул к колодцу. Знал, что не уснет, хотелось побыть одному. С оставленного на срубе ведра падают на землю частые капли. Бондарь присел на край выдолбленного из ольхового ствола корыта-желоба и только теперь услышал приглушенные голоса. Не желая пугать парочку, притих,— двое сидели совсем близко, на сосновом бревне по ту сторону колодца. Узнал по голосу — Гервась с Соней, медсестрой. Стало понятно, почему медсестра неизменно ходит с командиром разведки на задание. Шевельнулась в груди мучительная тоска. Скоро месяц в Горбыли не
526
ходили на связь, он ничего не знает о Гэле. Да кто ему Гэля? Разве склеишь то, что разбилось? Бондарь осторожно поднялся и, ступая на носках, пошел к палаткам.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В середине сентября в Горбылях прокатилась новая волна арестов. Арестованных меньше, чем в первый раз,— человек двадцать, и больше молодежь — несколько парней с железной дороги, с электростанции, два командира- окруженца, женщина с мясокомбината.
Топорков с утра крутился в столовой, скрывая за суетливой расторопностью настороженность, заговаривал со знакомыми полицейскими, которые целой толпой ввалились обедать в боковой зал. С нетерпением ждал Сергея Скакуна, делопроизводителя у полицаев, с ним еще с зимы запанибрата, при каждом удобном случае выпивает стаканчик. Скакун до войны был кассиром на промкомбинате, пришел пьяненький, но выпить согласился. Зашли в узкий кабинетик заведующего столовой, повар принес хороших мясных котлет, соленых огурцов. Топорков из графина, который держал в тумбе канцелярского стола, налил по стаканчику прозрачного, как слеза, самогона. Выпили, молча закусили.
— На тебя поступил донос,— отводя взгляд в сторону, сообщил Скакун.— Водил дружбу с теми, кто собакам сено косит. С бандитами, что удрали в лес.
— Брехня,— сказал Топорков.— Ты можешь поручиться, что завтра не сбежит твой помощник? Ну, скажи частно — можешь?
— Не могу. Сегодня можно верить только самому себе.
— То-то же. Скажу честно, надоели мне доносы. Раз пять вызывали в жандармерию. Сколько можно?
— Дыма без огня не бывает.
— Да пойми ты, служба у меня такая. Волка ноги кормят. Думаешь, немцы дают хоть сколько-нибудь продуктов, которые поступают по заготовкам? Дудки, дорогой мой. С мясокомбината отпускают мослы да головизну. Вы, полицейские, помогаете немцам, а на закуску вам
527
мослы. Грызите, коли зубы железные. Если бы не я, лязгали бы вы с голоду зубами...
— Немцы г...еды порядочные. Из-под себя подберут.
— В том-то и дело. Думаешь, за марки или за карбованцы чего купишь? Свободная торговля... Собаке под хвост эти карбованцы. Мужик глядеть на них не хочет. Вот и приходится выкручиваться. Если уж так хотите посадить, сажайте за махинации. За марки покупаю у немцев сахарин, дрожжи, краску — ненормированные товары — меняю на продукты...
— Прохвост ты порядочный, это известно. А двойную игру бросай. Хочешь быть добрым и вашим и нашим? Можешь легко свернуть голову. Не забывай — мы, полицейские, тебя покрываем...
— Какая у меня двойная игра, можешь спросить у журавичского бургомистра. Его, кажется, в жандармерии допрашивали. На животах три версты ползли с ним, когда партизаны напали на Журавичи. Если б у меня вместо головы был на плечах медный котелок, давно бы твой бургомистр землю парил. И я вместе с ним. Фактически я его спас...
— Согласен, что не со всеми бандитами ты знаком. Некоторые могут отправить тебя на тот свет.
— Шутки плохи, Петрович. Ты меня знаешь не первый день. Скоро год, как я кормлю полицию. А если за мое старание такая благодарность, мне все равно. Можете довести...
— До чего довести? — подозрительно спросил раскрасневшийся Скакун, хрустя огурцом.
— Убегу в лес! — выкрикнул Топорков, ставя на стол недопитый стакан.— Ну, скажи, каково мне жить каждый день под страхом? Что я имею за свою службу? Возможность получить пулю в затылок? От тех, кому служу?
— Ну, это ты брось... Сказал ясно — полиция тебя поддерживает. Но мы не сильнее их, сам знаешь...
— Так что мне делать?
— Сиди тихо. Носа из города не высовывай. Мало разве сволочей... Такое наплетут, что потом с отцом не развяжешь...
Скакун, покачиваясь, вышел из столовой. Топорков чувствовал — время его настало, оставаться в городе
528
больше нельзя. Полиция, как сказал Скакун, действительно не всемогуща. У немцев есть свои информаторы. Да и нельзя без конца изворачиваться. Не хватает сил...
Перед концом рабочего дня Топорков дважды прошелся перед заново побеленным двухэтажным зданием райисполкома, где сейчас находились гебитскомиссариат и жандармерия. Хотел повидать Турбину. Встречаться на явочной квартире было нельзя — за ним могли следить.
Топорков ходил по дощатому тротуару, то и дело поглядывая на цементированную дорожку, которая через заросший старыми акациями двор вела к крыльцу гебитс- комиссара. На крыльце стоял немец-часовой. В горячей голове Топоркова мелькнула дикая мысль: пускай бы на дорожке появилась Турбина, а кто-нибудь из немцев попытался в этот момент его арестовать. Посмотрела бы Эрна Ивановна, чего стоит заведующий столовой. В кармане пиджака пистолет, девять пуль он охотно подарил бы своим хозяевам. Топорков даже усмехнулся — неуместность такого желания очевидна. Не время показывать отвагу. Но тут же снова нахлынула тоска: если он увидит Турбину, то в последний раз. Полгода знакомы, а смотрела она на него только как на скомороха, который необыкновенно легко носит две личины. Должно быть, не заметила даже, что когда говорил с нею, то умышленно притворялся, вел себя несерьезно. Немало женщин за свои двадцать восемь лет знал Топорков, но такой, как Турбина, ие встречал. Эта — настоящая. Он не влюблен в нее, нет. Но счел бы за награду, если бы она, его подчиненная, хоть раз взглянула на него заинтересованно.
Дойдя до перекрестка, он издали увидел Турбину, она выходила со двора на дощатый тротуар. Топорков повернул назад, ускорил шаг, рассчитывая нагнать ее в сквере. На тротуаре Турбину остановила какая-то женщина, и он обрадовался этой неожиданной задержке, проходя мимо, кивнул ей и сразу направился через улицу в сквер.
Ждал он ее недолго: женщина, углубленная в свои мысли, помахивала белым ридикюльчиком, который держала в правой руке. Он поднялся со скамейки, пошел ей навстречу. Поравнявшись, сказал торопливо, задыхаясь от волнения:
529
— Счастливо оставаться, Эрна Ивановна. Сегодня ночью я уйду. Оставаться мне больше нельзя... Придет человек. Драгун. Скажет, что надо делать...
Она подняла на него красивые серые глаза, заметно побледнела. Прошептала чуть слышно:
— На Подольскую не приходить?
Топорков отрицательно качнул головой, прошел мимо. Почувствовал противную дрожь в ногах. Захлестнула горячая волна жалости к этой красивой, умной женщине, которая остается тут, в неизвестности.
Прежде чем пойти домой, к глухой набожной старушке, у которой он квартировал, Топорков вернулся в столовую. Никаких тайных вещей в служебном столе не прятал, только пачку денег — немецких марок, карбованцев. Деньги следовало взять. И молча проститься с людьми, которых в свою работу ие втягивал, не хотел, чтобы на их головы обрушилась кара, но которые так или иначе ему помогали. Зашел к повару, раненному в ногу, хромому парню, знавшему лучшие времена,— до войны он работал в ресторане портового города и по воле военной судьбы очутился тут, в полицейском логове. Поговорил с ним, пригласил поехать на рыбалку в деревню Темров- щизну, где протекала маленькая речушка Вить и, по слухам, водились не только язи и окуни, но и форель. Знал, что завтра, когда его в городке не будет, повар истолкует его приглашение правильно. В будущем повар мог понадобиться, и больше здесь, в городке, чем в лесу. Открытого разговора с поваром не затевал никогда, так как он, Топорков, вел запутанную двойную, даже тройную игру, которая станет понятной другим только тогда, когда он наконец вернется к партизанам.
На кухне пошутил с судомойками, официантками,— они все считают его жуликом, ветрогоном, полицейским прихвостнем, но все же улыбаются ему. Такова уж женская порода. Пускай не забывают своего заведующего...
Знал, что тут, в столовой, и даже в городке, когда он исчезнет, о нем будут рассказывать сказки. Это тешило его самолюбие, полнило душу сдержанной радостью. Запомнится им товарищ Топорков!.. Полицейские от злости будут волосы на себе рвать... Действительно, нет в городке человека, исключая тех, перед кем не скрывал настоящего лица, кто бы распознал его. Подозрения, допросы в
530
жандармерии — не факт. Туда водили и божьих овечек, которые пальцем не шевельнули.
За последние три месяца, после того как часть подпольщиков ушла в лес, чувствуя непрочность своего положения, он новых связей не завязывал, даже порвал прежние, которые казались ненадежными. О том, что исчезает, кого надо предупредил — Глушко с железной дороги, связную с мясокомбината и агронома Драгуна, который скоро сам уйдет в лес.
Одно больное место — Турбина. Не так просто доверить ее судьбу кому-нибудь из подпольщиков. Бондарь, собираясь уходить в лагерь, приказал ни с кем в городе ее не связывать. Он, Топорков, приказ командира не нарушил. Исключение — Драгун. Но этот сам высокая птица. Специально оставленный.
В сумерки, когда Топорков успел сложить в вещевой мешок две пары белья, бритву, несколько кусков немецкого мыла, довольно объемистый запас сигарет, без стука открылась дверь и в комнате, освещенной слабым блеском карбидной лампы, встал Самусь. Как он открыл запертую на засов дверь в сенях, было загадкой. Стоял небритый, дрожащий. Был таким же, как в тот вечер, когда отказался идти в отряд.
— Провал,— выдохнул он сиплым, простуженным голосом.— Из моей группы всех перехватали. Дома не ночую. Прячусь по хлевам...
Кто выдал?
— С полицаем одним связался. Обещал обеспечить оружием. Не знал, что сволочь. Ты же сам с полицаями водишься...
— Чего ты хочешь?
— Слушай, Топорков, помоги... У тебя связи. С немцами, с полицаями... С Турбиной этой... Закинь словцо... Пускай меня не трогают... На глаза не буду показываться... Не могу сейчас уйти в лес... Один, без группы.
«Сволочь,— подумал Топорков.— Тогда столько людей из-за него не пошло в отряд, а теперь снова штуку отколол. Подлый трус...»
— Пошли,— сказал он, отводя взгляд.
Они перелезли один забор, затем другой, прошли огородом, вышли на луг. Впереди чернел сосняк. Топорков на миг отстал, выхватил из кармана пистолет и, не целясь, в упор три раза выстрелил в ссутуленную спину...
531
Нагнулся — человек захрипел, перестал дышать.
Топорков побежал к сосняку. Возвращаться за вещевым мешком не хватало сил..*
2
Операцию по разгрому немецкого гарнизона, который снова обосновался в Журавичах, дальше оттягивать было нельзя.
В окрестные деревни Ольхов, Темровщизну, Барсуки, Миничи, Большие и Малые Лемтюги партизаны заходят только ночью. Днем опасно, туда налетают немцы и полицейские. Да не так уж неприступен и болотный остров. Если немецкие гарнизоны объединятся, устроят что-нибудь вроде блокады — им, партизанам, не поздоровится, тем более что под боком — ближе Журавичей —- Дубное, где обосновался второй полицейский гарнизон. К счастью, Дубное и лесной остров разделяло болото — трясина, заросшие травой кочки, непроходимая топь. Жесткую, порыжевшую осоку крестьяне косят зимой, по льду, на подстилку скотине...
Громить гарнизон отправились сто двадцать бойцов с винтовками, станковым и пятью ручными пулеметами. Ночь стояла холодная, звездная. Не доходя шесть верст до местечка, около заброшенной смолокурни на старом горбылевском большаке, отряд разделился на три группы. Первая, под командой Бондаря, должна наступать со стороны леса, другая, Гервасева,— обойти местечко с юга, а небольшой заслон из десяти человек оставили на дороге Журавичи — Горбыли на случай, если из города будет брошена на помощь полиция.
На собрании командиров договорились действовать, как и в первый раз,— неожиданно ворваться в местечко, каменные здания, которые по сведениям связных, превращены в опорные пункты, блокировать.
Случилось так, что группу, которую возглавлял Бондарь, немцы с полицейскими выявили на подходе к местечку. В серой предутренней тишине прогремело несколько предупредительных выстрелов, взбилась ракета, потом с каменной колокольни гулко и ча-е го, захлебываясь очередями, затахкал станковый пулемет. Партизаны залегли на огородах, среди картофельника и кукурузных стеблей. Неуверенность в их рядах поселилась с пер-
S32
вых минут. Напрасно Бондарь с наганом в руке носился по грядам, топтал переспелые огурцы и помидоры. Бойцы поднимались неохотно. Пробежав немного, снова ложились на землю.
Начинало светать. Теперь били не только с колокольни, бесприцельный, предупредительный огонь велся из окон-амбразур каменных зданий, стоявших на площади. Местечко, особенно его центральная часть, стоит на горе, которая круто спускается к Припяти и более отлого в сторону леса. Позиция полицейских имела преимущества, и они пользовались этим как полагается.
533
Наконец заговорил партизанский станковый пулемет. Гервась наступал с южной стороны. Группа Бондаря приободрилась. Резанули воздух очереди трех ручных пулеметов. Стреляя на ходу, пригибаясь, партизаны ворвались во дворы, закоулки, на улицу — под зашиту зданий и заборов.
Теперь все как будто шло по намеченному плану.
Выстрелы неслись из соседней улицы — к площади . пробивался Гервась. Группа Бондаря сопротивления не встречала. Партизаны, прижимаясь к заборам, перебегая от хаты к хате, стреляли больше для формы. Жители
534
сидели в окопах и блиндажах. В одном месте из окна выскочил человек в одном белье, но с винтовкой — перепуганный полицай, который, видимо, ночевал у жены. Пуля скосила его посреди улицы.
Чем ближе к площади, тем отчетливее было ощущение настоящего боя. Пулеметные очереди, винтовочные выстрелы слились в сплошной гул. Партизаны плохо знали местечко, путались в закоулках. Угнетало неприятное чувство — по ним стреляют сверху.
Уже появились первые раненые. Ойкнул, присев на песок и хватаясь за ногу выше колена, побледневший парень, тракторист из деревни Темровщизна, пришедший в отряд недели две назад. Его повели под руки двое. Ранили в плечо молчаливого партизана-пулеметчика.
Отряд вырвался на площадь. Несколько партизан поднялись во весь рост, бросились к побеленному кирпичному домику, стоявшему сбоку, несколько на отшибе, но тут же попадали, скошенные пулеметной очередью. Бондарь содрогнулся — среди тех, кто неподвижно лежал на мостовой, зеленая куртка Сковороды, главного минера.
Бондарь видел — бой проиграли. На штурм каменных зданий идти нельзя. Виноват он, командир. Надо отходить.
Он отполз под стену хлева, вынул из кармана ракетницу. Три красные ракеты одна за другой взвились в хмурое осеннее небо. Отход...
По окнам-амбразурам здания ударили все шесть партизанских пулеметов. Немцы замолкли. На площадь, припадая к мостовой животами, пополз взвод Комара — подбирать раненых и убитых.
У стены заброшенной смолокурни стоят двое окровавленных мужчин, оборванных, с заросшими щетиной лицами. Их окружили возбужденные, взволнованные партизаны. Звякают затворами, кричат, размахивают руками. Бондарь увидел это издали, бросился туда. Крикнул, задыхаясь:
— Что такое? Кто разрешил?
— Шпионов поймали!—торжественно объявил Комар.— Сами признались...
У стоявшего справа, повыше ростом, одетого в лохмотья, кровью заплыл глаз, а тот, что ниже, вытирает рукавом засаленного плаща кровь из разбитого носа.
535
— Кто такие? — подойдя к незнакомым, спросил Бондарь.
— Будем говорить только с командиром,— ответил тот, что повыше.
— Я командир,
— Тогда отошлите остальных. Что, людей не видели?.. Чинят самосуды. Нас хотели расстрелять...
— Кто вы такие? — спросил Бондарь.
— Советские разведчики. Идем из-под Киева.
— Документы есть?
— Нет документов. Но где надо, нас узнают. Насчет меня послана из центра радиограмма командиру минских партизан. За товарища,— высокий кивнул в сторону низенького, обросшего рыжей щетиной,— ручаюсь.
— Шпионы они! — не сдавался Комар.— Тут их полон лес. И в отряде есть. Кто немцев из Журавич предупредил?
— Мы искали партизан,— сказал низенький, до сих пор молчавший.— Услышали выстрелы, шли в направлении боя.
— Идем с нами,— приказал Бондарь.
— Еще в отряд возьми шпионов! — не унимался Комар.— Мало набрал. Шестеро из;за таких легло.
Бондарь побелел, шагнул к Комару:
— Истеричная баба!.. Пять суток ареста. Будешь чистить картошку. Сдать оружие!..
Подошел Гервась, рванул из рук онемевшего Комара винтовку.
Тут же, возле смолокурни, выкопали могилу, похоронили убитых. Стояли молча, без шапок. Висело над соснами серое осеннее небо. Трехразовый салют из десяти винтовок отозвался глухим, раскатистым эхом.
Только по дороге в лагерь хватились, что исчезли бео следно Сизых и Пивовар.
3
У землянки часовой.
В землянку вошли Бондарь и комиссар Станислав Хмелевский. Задержанные помылись, побрились. Тетка Катерина передала через часового иголку, катушку ниток — подлатали дыры.
536
— Со мной комиссар,— сказал, обращаясь к ним, Бондарь.— Понимаете сами — вас отсюда не выпустим. Пока не выясним, кто вы. Не имеем права...
— А если мы не можем раскрыть государственную тайну? — спросил высокий, поблескивая холодными, светло-синими глаза ми.
— Государственные интересы в этой местности представляем мы,— сказал Бондарь.— Других советских органов нет.
— Вы имеете связь с Москвой?
— Нет.
— Кому подчиняетесь?
— Межрайкому.
— Доставьте нас туда.
Тон незнакомца, который называет себя советским разведчиком, не нравится Бондарю.
— В данном положении выставляем требования мы.— Бондарь старается говорить спокойно.— Мы не имеем времени вести с вами дискуссию.
Высокий незнакомец меняет тон.
— Моя фамилия Проскуров,— говорит он.— Майор войск НКВД. Группу чекистов сбросили в мае около Житомира. В Виннице — ставка Гитлера. В том районе мы и работали. Понимаете сами — сказать вам больше не могу.
Бондарь с Хмелевским переглянулись.
— А ваш товарищ?
Приземистый встает с дубового чурбачка, на котором сидел.
— Меня зовут Иван Питляр,— говорит он спокойно.— Направлен в тыл военной разведкой. Воинского звания не имею. До войны работал доцентом в Киеве. Знаю немецкий язык.
Бондарь подмигивает Хмелевскому, ни слова не сказав, выходит из землянки. Через несколько минут возвращается с Фурманом.
— У нас есть свой разведчик,— говорит Бондарь задержанным.— Вам, товарищ Питляр, он задаст несколько вопросов.
Фурман ни минуты не медлит:
— Вы из группы УПРА?
— Да.
— Где размещалась школа?
537
— В Троицком монастыре.
— Кто комендант общежития?
Питляр на минуту замялся:
— Ну, такой усатый хохол. Старший лейтенант. Носил кавалерийскую шинель. Вылетело из головы...
— Вощила,— подсказывает Фурман.
— Ну да, Вощила. Его комната под лестницей...
Проскуров неожиданно выкрикнул:
— Что вы нам мозги крутите!.. У вас же есть разведчики. Свяжите нас с Москвой.
— Не можем, дорогие товарищи,— ответил Бондарь.— К нам только двое пришли. Одного вчера похоронили. Где остальные — не знаем...
4
Вечер. Дождь. Однообразно, уныло шумит ветер в соснах. Капитан Мазуренко вышел из землянки. В лицо сыпнуло холодными каплями. Мазуренко постоял, прислушался, вернулся в землянку. На самодельном столике, который смастерили они с Поляковым, горит плошка.
Поляков крутит рычажки «Северка». Радиостанция повреждена во время приземления, но в диапазоне коротких волн можно поймать Москву. Голос чуть слышный — садятся батареи.
— Что нового? — спрашивает Мазуренко.
— Бои в Сталинграде. Передавали результаты за месяц.
На земляных нарах, застланных еловыми ветками, кашляет радистка Ася. Лицо худое, бледное.
— Пойдем,— говорит Мазуренко.— Ася, накройся одеялом.
Одеяло сшито из парашютной ткани, как и белье всех троих, живущих в этой землянке.
Мужчины вскинули на плечи автоматы, вышли. Темень, хоть глаз выколи. Нащупывая ногами, обутыми в рваные сапоги, землю, двинулись меж сосен. Самая труд-, ная первая верста. За высокими соснами густой — не продраться — молодняк. Это посадки, которые не прореживались года три. Карманные фонарики давно испортились.
538
Через молодняк почти ползли. Промокли до нитки. Когда вышли на открытое пространство, стало легче. Хоть за глаза можно не опасаться — не напорешься на сук.
До шоссе по болоту чавкали сапогами около часа. Дождь перестал, начало проясняться. В разрыве темных облаков мелькнул серебристый рожок месяца.
Темную ленту брусчатки перемахнули бегом, вышли на проселочную дорогу, ведущую к деревне Нехамова Слобода. Идти скользко. К счастью, дорога знакомая. Только и отдохнешь, когда придешь в деревню.
Шли молча, занятые каждый своими мыслями. Плохо получилось. Хуже не придумаешь. Три месяца в этих соснах, возле этого шоссе, а что сделано? И выхода не видно...
Десантников сбросили летом, в конце июня, три месяца назад. С того времени они живут в землянке среди полесских сосен. Результаты неутешительные. Месяц ждали связного, который должен был явиться в условленное место на лесной дороге, но так и не дождались. Видимо, погиб. Вместо него встретили лесника Ивана Ми- цулю. Сторож здешнего леса ужаснулся, увидев обросших бородами десантников. Долго не верил, что они из Москвы.
Мицуля живет в Нехамовой Слободе, что стоит между шоссе и железной дорогой. Деревня разбросанная, бедноватая — вокруг сыпучий песок, но удобная тем, что тут нет полиции. Помощниками у Мицули три женщины. Кормят, обмывают десантников. Даже выполняют кое- какие поручения. Вот и вся агентура разведывательной группы, которую возглавляет капитан Мазуренко.
Мужчины добрели до Нехамовой Слободы. Остановились, прислушались. Кое-где в окнах поблескивают огоньки. Беспрерывно лают собаки. На противоположном конце, почти у самого шоссе, пиликает гармонь, глухо бухает бубен.
Прижимаясь к заборам, темными тенями Мазуренко с Поляковым продвигались к хате лесника. Она с противоположной от железной дороги стороны. Хата хорошая, как и сам хозяин, умный, расторопный, несмотря на то что хромой. Рядом с лесниковой — другая, поменьше, в ней живет Параска Дашко, одна из тех, кто помогает десантникам.
539
Мужчины замерли, увидев, что к Параскиному забору прилипла черная фигура. Стояли в нескольких шагах, ждали, что будет дальше. Человек между тем скрипнул калиткой, подошел к темному окну. Тихо постучал в стекло.
— Параска!.. Параска!.. Открой!..
Никакого ответа.
— Открой, Параска!..
За окном послышался сонный голос:
— Кто там? Это ты, Макар?.. Иди домой...
Макар забарабанил в раму сильнее, кулаком.
— Прошу тебя, Параска. Я на минутку...
Окно с треском раскрылось. Послышался плеск воды, а вслед за тем пронзительный голос:
— Чего пристал, шелудивая собака? Иди обсушись Ишь приспичило...
Не закрыв калитки, грубо ругаясь, прошмыгнул человек. Мазуренко приник к забору, трясясь от беззвучного смеха.
Хата у Ивана из двух половин. Как только вошли, поздоровались, хозяин отправился во двор. Стал на страже. Хозяйка, статная, раздобревшая, поставила на стоя еду.
— Баньку вытопила. Может, помоетесь?
Прислонилась спиной к печи, с добрым женским сочувствием смотрела, как, дуя в деревянные ложки, обжигаясь, хлебают мужчины горячий борщ.
Вошла Параска,— видимо, позвал лесник.
— Как там, на войне, партизаны? Долго одиноким солдаткам бедовать?
Мазуренко лукаво взглянул на Параску:
— Ты, кажется, не очень бедуешь?
— А разве нет? Без мужчины как без рук. Двора перейти некому.
— Положим, переходят. Даже сегодня вечером.
— Вы уже знаете. Так это Макар пристает. Если б мужчина, а то пьяница. С хорошим мужиком и грех легкий. А это паскуда...
Хозяйка заливист©, трясясь всем крупным телом, хохочет. Параска — бой-баба. Ходит решительно, говорит громко. Такая же высокая, как и лесникова жена, но по- девичьи тонкая, стройная.
540
Мазуренко, встав из-за стола, берет Параску под руку, ведет в чистую половину. Там темно. Около окон стоят высокие, под самый потолок, фикусы. Садятся на диван.
— Была в местечке? — спрашивает капитан.
— Была.
— Ну и как?
— Крамер даже разговаривать не хочет. Говорит: «Я в такие дела не вмешиваюсь». Хорошо, что полицию не позвал...
— А другие?
— Его помощник Лубан сказал прийти позднее... Тоже виляет... Видеться с вами не хочет. Боятся эти полицаи.
— Ну, хорошо. Никому ни слова. Даже Ивану Леонтьевичу.
— Я и сама боюсь. Хорошо хоть фамилии не спрашивали.
Мазуренко вышел в переднюю комнату, поблагодарив хозяев.
— Мыться не будем, Ганна Гавриловна. Холодно. Наша Ася простудилась...
— Боже мой, боже... Как она одна там, в холодном лесу? Бедная! Горелки возьмите. От простуды хорошо...
Мужчины захватили сверток с харчами, с выстиранным бельем. На дворе черной тенью к верее прислонился хозяин.
Мазуренко наклонился к его уху:
— Партизаны приходят, Иван Леонтьевич?
— Два раза были. По пять человек. Ко мне не заходили.
— Надо нащупать хороший отряд. С бродячими группами связываться нельзя. Однажды мы сами видели людей с винтовками.
— Надо подумать.
— Подумай, дорогой. Одни в лесу не выдержим.
Когда уже выходили со двора, к Полякову подбежала хозяйка, что-то торопливо сунула в руки.
— Я тут молочка вскипятила. Бутылку в тряпку завернула, спрячьте ее за пазуху. Пусть девочка тепленького выпьет...
Небо снова звездное, и по нему величаво плывет ладья — усеченная луна. Идти назад легче.
541
Через три дня отделение Медведева, которому было поручено расстрелять финагента из деревни Сиволобы (население прижимал хуже старосты, издевался над женами красноармейцев), наткнувшись в лесу на одинокую землянку, привело в отряд Бондаря двух мужчин и девушку. У задержанных нашли более ста килограммов тола, поврежденную радиостанцию, новые, последнего образца, советские автоматы.
Людей в тот день было в лагере не много, и приход новичков мало кто видел. Приземистый, с редкими зубами капитан Мазуренко на вопросы о том, кто он, откуда появился в лесной землянке, конвоирам не сказал ни слова...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В маленькую, лежащую на песчаном пригорке деревеньку Озерки завернули Шелег, командир домачовско- го отряда, и шестеро партизан. Полиции тут нет. А партизанам люди помогают. Есть две деревни, куда можно зайти без особых предосторожностей,— Рогали и Озерки. Староста тут свой, Иван Гопченко, еще прошлой осенью рекомендованный партизанами.
Вдоль главной улицы в Озерках стоят старые, густые вербы. Крыши хат, сеновалов, погребов завалены тыквами. В огородах женщины копают картошку. На минуту разгибаются спины, из-под руки провожают партизан взглядами.
Шестеро, миновав улицу, спрятались в ольховых кустах. Густой ольшаник разросся по болоту, начинающемуся сразу за огородами. Седьмой — командир отряда Шелег — зашел в предпоследний двор, постучал в окно. Сразу же на пороге появилась еще не старая женщина, приветливо улыбнулась.
— Заходите в хату.
— Я не один, Надя. В ольшанике ребята.
— Я вам принесу поесть. Иван до вечера не вернется.
— Ничего не говорил?
— Сказал — поставку будут силой выгребать. Спаткай грозился нагрянуть с полицией. Заберите вы его лучше к себе.
542
— Пускай послужит, Надя.
— Боюсь я. Не только вы, партизаны, здесь. Придут, не дай бог, чужие. Кого, как не старосту, схватят?
— Без нас не придут. Мы тут начальство.
Шелег пошел в ольшаник огородами. День клонился к вечеру, догорал в прозрачной солнечной синеве. Над дальним лесом кудрявились белые, в золотых отблесках облака. На деревьях наперебой стрекочут любопытные сороки.
Партизаны лежат на холмике, на пожухлой траве. Ключник, подложив под голову кожаную охотничью сумку, слегка похрапывает. Валюжич, стоя на коленях, тычет ему в нос травинкой. Ключник раз за разом взмахивает рукой — будто муху отгоняет.
Вскоре сюда прибежала старостиха. Принесла в лозовой корзине буханку хлеба, вареного мяса, огурцов. На дне корзинки большая запотевшая снаружи бутылка самогона.
— Ты — царица, Надя,— сказал Валюжич.— Если б не твой Иван, пошел бы к тебе в примаки. Взяла бы?
— А почему бы и нет? Теперь ежели в штанах, то и кавалер. На войне к вашему брату не приглядываются...
— Мы, Надя, твоего Ивана заберем, а его оставим. Ты приглядись—парень подходящий. Правда, немного черноват, так можно отмыть...
Шелег прилег поодаль. Три месяца он в лесу, а все равно не перестает щемить сердце. Тупая, однообразная боль усиливается, когда он сталкивается с человеческим жильем. На людях он может говорить, приказывать, почти не ощущая внутренней пустоты, отчаяния, а наедине с собой он мертв. Иной раз пытается утешить себя тем, что таких, как он, много, у многих убили детей, жен. Но облегчения это не приносит.
Выстрел — как гром с ясного неба. Шелег как сидел, так и упал грудью на землю. Дико закричала Надя. Крик ее заглушила беспорядочная стрельба. Немцы теперь не таились,— раздвинув кусты, с вспотевшими, пьяными лицами расстреливали в упор.
Ключник, проснувшись, не вскочил. Камнем скатился с пригорка, нырнул в кусты. Бежал, не слыша сердца, обдирая о колючки ежевики руки, лицо. Опомнился, когда выскочил на голое болото.
Выстрелы стихли. «Нарвались на засаду,— подумал Ключник.— Шелег от расстрела убежал, а тут настигли. Полный ольшаник немцев...»
Он побрел по болоту, то и дело озираясь. Никто из ольшаника не вышел.
Над Озерками поднимался столб дыма. «Жгут ста- ростову хату»,— подумал Ключник.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
I
Скрыться из Горбылей так, как задумал, Драгуну не удалось. Направляясь на службу в земельный отдел, он увидел на тротуаре перед облупленным глиняным домом знакомую фигуру. Сомнений быть не могло — похаживал, кого-то поджидая, сосед по квартире в местечке Босняк, которого приняла жена эмтээсовского механика. Он выдал подпольщиков в Батьковичах, теперь его перебросили сюда. Но за кем он следит?.. Неприятным холодком обожгла догадка:
«Да за мной... Веревочка еще в местечке начала виться...»
Выход один. Пока не сцапали, надо убраться в лес...
На крыльцо глиняного домика Драгун ступил спокойно. Бровью не повел, не показал, что узнал Босняка. Через задний ход шмыгнул во двор, на боковую улочку.
Ходить по Горбылям можно до одиннадцати часов вечера. Порядок общий для всех гарнизонов. Светомаскировки нет. Драгун идет по дощатому тротуару, обгоняя редких прохожих. Опаснее всего на центральной улице, которую надо перейти. Там сплошной цепью выстроились столбы с электрическими фонарями.
На душе у Драгуна тревожно. Свидание с переводчицей гебитскомиссариата Эрной Турбиной, которую он почти не знает, только видел издали, наверно, будет нелегким. Тревога исходит от неуверенности. С женщинами он умел ладить. Но то были девушки, женщины из среды, к которой принадлежит и он сам. С ними было просто. Турбина — человек иного круга.
Теперь, когда Драгун собирается оставить город, освещенная улица вызывает у него другие чувства, чем
544
день-два назад. Город становится враждебным. На панели, топча листву подстриженных тополей, тесной гурьбой гуляют парочки. Под ручку с местными женщинами прошли два немца. Один из них, офицер, высоко несет куриную голову в седловатой фуражке. Рослый красавец словак ведет двух девушек. Гуляющие хорошо одеты. Смеются, веселятся.
Драгуна охватывает злость. Иллюзия мирной жизни!.. Одних арестовывают, ломают у них на допросах кости, другие делают вид, что ничего не происходит. Закончится война — они не виноваты. Они тихо-мирно сидели, выполняли немецкие приказы. Разве пойдешь против силы? Еще посмеиваться будут над такими, как Драгун. Мол, какая разница, пан Драгун, между нами и вами? Все мы работали на немцев, зарабатывали свой хлеб. Мещанство— навоз истории...
Драгун чувствует, что несправедлив в своей злости. Прогулка по улице — еще ничего не означает. За этим может скрываться все, что хочешь. Есть среди хорошо одетых парочек и подпольщики, партизанские связные.
Впереди городской парк. Просто часть леса, обнесенная железной оградой. Деревья старые, раскидистые. Под ногами шуршит опавшая листва. По выходе из парка начинается улица Базарная (немцы сохранили довоенное название).
В начале этой улицы — второй дом справа — в побеленном кирпичном особнячке живет Турбина.
Что-то не позволило Драгуну сразу, как только поравнялся с особнячком, нырнуть в открытую калитку. Вместо этого он еще раз прошелся по улице. Дошел до базарной площади, на которой чернели во мраке деревянные торговые ряды и приземистые будки-ларьки. Возвращаясь назад, невольно остановился. В закрытую калитку, почти по соседству с особнячком переводчицы, настойчиво стучал высокий немец солдат. Второй стоял на дощатом тротуаре, беззаботно посвистывал. Судя по свисту, солдаты не собирались учинять скандал. Они были даже без винтовок. Окна в доме светились, но никто на стук не выходил. Вдруг высокий ловко перемахнул через заборчик, подобрался к окну, но тут его настигла неудача. Видимо, он за что-то зацепился, и вместо деликатного стука в окне дзинькнуло выбитое стекло. Напарник, оставшийся на тротуаре, громко захохотал.
545
Драгун посмотрел на ручные часы. Их блестящие зеленоватые стрелки показывали половину десятого. Он юркнул в калитку, поднялся на крыльцо, настойчиво постучал в дверь. Сразу щелкнул запор, и тот, кто открыл дверь, ничего не спросив, направился в комнату. Драгун нерешительно протиснулся в узенький темный коридорчик, нащупал дверь, вошел в комнату. На него, стоя у кафельной печи-плиты, спокойно смотрела пожилая полная женщина в пестром фартуке.
— Тут живет Эрна Ивановна?
— Тут. Ее сейчас нет.
— Мне очень надо видеть Эрну Ивановну.
— В кино ушла. Не знаю, когда придет.
Голос у женщины безразличный, беззлобный — видимо, привыкла к поздним посетителям. Сесть не пригласила, агроном сел на табуретку сам, положил на колени кепку. Такая бесцеремонность женщине не понравилась. Поджав губы, она скрылась за ситцевой занавеской, застучала посудой.
Открылась крашеная белая дверь, выглянул мальчик лет шести, в одной рубашонке.
— Мамы нет?
— Славик, спать! — послышался голос из-за занавески.
Ребенок поспешно закрыл дверь.
Драгун исподтишка оглядел комнату. Обычная, не очень броская городская обстановка. Комната одновременно служит и кухней и прихожей. Электрическая лампочка под желтым абажуром-зонтиком. Такие продавали до войны. Круглый стол застлан цветной, с прозолотыо скатертью, около него два старомодных кресла с выгнутыми спинками.
Женщина выплыла из-за занавески.
— У вас кого-нибудь арестовали немцы?
Он вздрогнул.
— Почему вы так спрашиваете?
— К ней часто приходят, просят помочь. Имеет доступ к немцам.
— Нет, у меня никого не арестовали.
Сразу после этих слов на пороге возникла стройная фигура молодой женщины в светлом коротком плаще.
Драгун поднялся с табуретки:
— Простите, что так поздно. Неотложное дело.
18 И. Науменко.
ж
Турбина окинула его быстрым, недовольным взглядом.
— Вы староста из Буды?
— Не из Буды и не из Грабович (хорошо, что не забыл название деревень). Мне надо поговорить с вами.
Стрелки густых красивых бровей взлетают вверх. На лице женщины замешательство.
— Секретов я не люблю. Идите с ними в жандармерию.
— Дело касается вас.
Драгун чувствует, что женщина начинает проявлять недоверие к нему. Еще минута — и выставит его за дверь.
— Простите, я не то сказал. У нас есть общий знакомый.
Она колеблется. Он, конечно, неудачно начал разговор.
— Я мог бы зайти к вам в комиссариат. Работаю в отделе агрономии.
Турбина смотрит на него испуганным взглядом. Одно мгновенье — и она берет себя в руки.
— Раздевайтесь,— говорит она безразличным голосом.— Только предупреждаю — ненадолго.
Драгун вешает плащ на спинку кресла, идет в другую комнату вслед за женщиной. Комната небольшая— диван и кресла. На столе — фикусы. Хозяйка приглашает садиться, сама ныряет за занавеску, в боковую комнату. Там спальня — слышатся обрадованные детские голоса.
Драгун примащивается на краю дивана. Теперь он спокоен.
Минут через пять появляется хозяйка. Кажутся ненатуральными при черных бровях высоко взбитые светлые волосы.
— Кто наш общий знакомый?
— Топорков. И Бондарь. Топорков вас предупреждал, что приду именно я.
Хозяйка молчит. Едва заметно подрагивает верхняя губа.
— Как ваша фамилия?
— Драгун. В городе я последний день. К вам придет девушка по имени Гэля. Пароль «лес». Мне пароля не дали.
У Турбиной черные, блестящие, будто обмытые слезой, глаза. Смотрит на Драгуна доброжелательно. Подни-
547
мается, приносит из другой комнаты пачку сигарет, зажигалку. Дает закурить ему и сама закуривает.
— Я уже ходила к одной женщине. Где находятся ваши, известно. Сами понимаете, что может произойти...
— Откуда известно? — испуганно спросил Драгун.
— Одного поймали. Допрашивают. Он сам охотно рассказывает.
— Кто?
— Фамилия Сизых. Знает, правда, не много.
Драгун подает Турбиной руку, торопливо встает. Уже
на крыльце подносит к глазам часы. Без десяти одиннадцать.
2
Когда горбылевцы отходили из Журавич, Сизых и Пивовар в сосняке отстали. Сбежали с песчаного пригорка, притаились в. густом лещевнике. Наконец на дороге стихли последние голоса.
— Палаточки, воинский устав,— сказал Сизых.— Поцеловали немцам задницу. А зачем было переться? Немцы же не лезли...
Пивовар насупливает широкое обветренное лицо.
— Правильно говоришь. А куда денемся? Зима вот-вот...
— Возьмем курс на Брусы. Там Аркашка. Не такой он дурак, чтобььзабыть мясо-молочную сторону.
Синеватый вечерний сумрак стелется меж сосен. Настроение неважное. В карманах всего по куску черствого хлеба.
Долго бродили они по лесу, ноги ныли от усталости. Впереди блеснуло черное око лесного озерца.
— Тут будем пить чай,— сказал Сизых.— Заварка бесплатная.
Присели в кустах лозняка, надрали на подстилку моху. Легли, прижавшись друг к другу, жевали хлеб. Усталость взяла свое, когда лес потонул в дегтярной темени, крепко, несмотря на холод, заснули.
Проснулись на рассвете от бешеного крика. В нескольких шагах — толпа полицейских с наставленными дулами винтовок.
— Руки вверх!
18*
548
Пивовар рванулся, побежал, но тут же упал, скошенный пулями. Сизых поднял руки...
Его связали и повели на веревке. Бить начали в лесу. Не спрашивали, кто, откуда,— молотили палками, еловыми суками, не разбирая. Сизых падал, его поднимали, били снова.
На веревке, связанного, провели по журавичским улицам. Здесь дубасили еще злее. На площади Сизых потерял сознание.
Очнулся в подвале. Тело горело как в огне. Голова, лицо, плечи — все распухло. Сизых попросил пить — никто не отозвался. Он снова впал в беспамятство.
Утром следующего дня возле каменного подвала жу- равичской каталажки заревел мотор немецкого грузовика. Полицейские вынесли Сизых, взяв за руки и за ноги. Дно кузова застелили соломой. На борту села охрана — четыре жандарма с винтовками.
Когда приехали в Горбыли, пленного на носилках внесли в камеру, положили на холодный цементный пол. Сразу появился офицер-жандарм, седой, в очках.
— Ты партизан? — спросил офицер по-русски.
Сизых молчал.
— Ты должен говорить. Иначе — смерть.
С распухшего лица смотрели на офицера безразличные, полные страдания глаза. Порванный серый пиджак, гимнастерка залубенели от крови.
Офицер вышел в коридор, сказал толстому надзирателю:
— Он утратил вкус к жизни. Надо, чтоб он снова захотел жить.
Через полчаса жандармы переложили пленного на полосатый матрац. Поставили на пол ведро воды, котелок горохового супа.
Надзиратель вынул из блестящего портсигара три сигареты, достал из кармана коробок спичек. Эти не предусмотренные тюремными правилами дары положил на пол, рядом с матрацем.
Узник начал проявлять признаки жизни только на третий день. Дотянулся до ведра, разливая по полу воду, долго, жадно пил. Когда заметил сигареты и спички, у него задрожали руки. Сигареты были наполовину подмочены. Мокрым концом взял сигарету в распухшие губы, непослушными пальцами чиркнул по коробку спичкой.
549
В полдень зазвякал ключ в замке. На этот раз рядом с седым офицером стоял высокий моложавый немец в коричневом, без погон мундире, с черно-белым кругом свастики на красной нарукавной повязке.
— Ты партизан? — спросил седой.
— Нет,— слабым голосом ответил пленный.
— Но тебя поймали с винтовкой.
— Без винтовки в лесу не проживешь.
— Ты был с партизанами?
— Меня захватили силой.
— Знаешь, где лагерь бандитов?
— Знаю.
Офицер стал торопливо переводить немцу со свастикой на рукаве смысл ответов пленного. Тот просиял, оживился.
— Тебя допрашивали в полиции? — снова задал вопрос офицер.
— Нет. Только били.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Осеннее солнце догорает в вершинах сосен. Под вечер Бондарь выстроил отряд в шеренгу по двое. Шеренга длинная — заняла пространство от палаток до землянок. В строю все — комиссар, начальник штаба, командиры взводов, отделений. Бондарь в сером ватнике, подпоясанный широким военным ремнем, в сапогах, с длинными, чуть не до колен, голенищами. На новой командирской фуражке яркий красный околыш.
Люди, выстроенные в ряд, лицом к командиру, одеты кто во что — в военные ватники, шинели, кожаные куртки, бобриковые пальто, серые крестьянские свитки. Выделяются на этом пестром фоне черные шинели поля- ков-тодтовцев, ярко-зеленые — словаков. Самых разных цветов и фасонов шапки и обувь.
Перед строем на земле станковый и несколько ручных пулеметов. У ног бойцов винтовки, карабины преимущественно русского образца, но есть короткие, немецкие, полутораметровые французские, в магазине которых только по три патрона.
150
— Немцы знают место нашего лагеря,— глухим хриплым голосом начинает Бондарь.— Отсюда снимаемся. Хозяйственный взвод, больные, раненые перебираются на новое место. Куда — об этом пока не следует знать. Сюда не вернемся. Дадим немцам бой и пойдем в Октябрьский район. Для связи с другими отрядами...
По шеренге прокатывается протяжный, как дыхание осеннего ветра, вздох. Люди переминаются, толкая друг друга плечом, перешептываются.
— В пути сохранять полнейшую тишину,— продол-: жает Бондарь.— Возможна засада. Отделение Медведева— в дозор. Держаться на расстоянии полкилометра. Сигнал тревоги — три выстрела. Отдых у поворота на Ольховский бор...
— На шоссе, — слышится чей-то приглушенный голос.
— Разговорчики! — Бондарь неприязненно смотрит на парня в серой куртке и красноармейской пилотке.— Идем в засаду. Засада может продлиться два-три дня. Харчи брать с собой...
Вышли быстро, строя не придерживались. Впереди Бондарь, Хмелевский и начальник штаба лейтенант Казаченко — единственный в отряде человек, с головы до ног одетый во все военное. Комиссар несеГ винтовку на манер охотничьего ружья — дулом вниз. Рядом с подтянутым, стройным Казаченко он выглядит комично.
Старая гребля-зимник заросла высокой порыжелой осокой. Вдоль нее краснеет рябина, тянется нетронутый, осыпанный переспелыми ягодами ежевичник. Солнце почти скрылось за дальним лесом. На болотном массиве, от края до края, сколько видит глаз, круглые шары светло-зеленого лозняка. Вокруг царит тишина, пронизанная угрюмой тревогой, настороженностью. Такое настроение всегда появляется в заброшенных, удаленных от человеческого жилья местах перед закатом солнца, сжимает сердце непонятной грустью.
Идут молча. Слышно только шарканье сапог, ботинок, легкое звяканье пулеметных дисков, да время от времени треснет под ногами сухая ветка. Идти трудно — ноги путаются в жесткой некошеной траве. Хорошо хоть, что жарко, лето высушило болото и не надо плавать в трясине и водорослях.
В бор, на твердый песчаный грунт, вступили, когда
551
уже стемнело. Но темень висела недолго: со стороны болота выкатился и повис на краю неба круглый красновато-серебристый лик луны. Небо усеяли звезды. Под соснами полумрак и тишина. Только где-то глубже, в самой чаще, перекликаются ночные птицы.
Дозорные — Медведев и Шура Гарнак — дождались отряда на окраине леса.
— Тихо! — доложил командиру Медведев.— По всем признакам немцы сюда не проникли.
— Держать прежнюю дистанцию!—приказал Бондарь.— Если что заметишь, пришлешь Гарнака. В кило-, метре от шоссе остановиться. Дальше не идти...
Дозорные исчезли между сосен, а бойцы, теперь уже не очень-то соблюдая тишину и осторожность, стали устраиваться на отдых.
Ведь до шоссе еще далеко, километров восемь, а впереди целая ночь.
Курцы — их, пожалуй, половина отряда — чиркали спичками, пряча огонь в ладонях, прикуривали. Волчьим глазом мигали в темноте огоньки папирос. Бондарь с Казаченко, отойдя в глубь леса, о чем-то советовались. К их приглушенным голосам сначала прислушивались, стараясь уловить, о чем идет разговор, а потом перестали, заговорили вполголоса. Так прошло полчаса. Некоторые, видимо не рассчитывая поспать этой ночью, вздремнули. Кто-то грыз сухарь. И. тогда один за другим прогремели три громких выстрела.
— В цепь! — подал команду Бондарь.— Без моего приказа не стрелять!
Затрещали под сапогами сухие ветки, еловые шишки. Суета продолжалась не более минуты. Потом в наступившей тревожной тишине грозно зазвякали затворы. От дозорных больше ни звука. Прошла одна напряженная минута, другая, третья. Наконец послышались торопливые шаги. Кто-то бежал.
— Не стреляйте,— послышался запыхавшийся, смущенный голос Шуры Гарнака.—Тревога напрасная* Должно быть, через кусты продирался зверь.
— Если заяц, то надо было за хвост хватать,— засмеялся кто-то в темноте.— Пулей только шкурку испортишь...
— Кто стрелял? —зло допрашивал Бондарь.—Ну, говори!..
552
— Мы думали...
— Передай Медведеву — голову оторву. Марш в дозор!..
Неприятное происшествие имело и положительную сторону. Заметно поднялось настроение, исчезла напряженность, владевшая людьми весь вечер. Теперь шли по лесу, не приглушая шагов, покуривая, разговаривая. В полночь подошли к шоссе, остановились...
Около шоссе лазали до рассвета, обследовали все вокруг на несколько километров. Ночью движения по шоссе не было. На обочине были замечены обрывки газет, банки из-под консервов, в одном месте лежала сброшенная под уклон немецкая повозка с обломанными колесами.
Залегли у моста над пересохшим ручьем, там, где на шоссе выходит проселочная дорога на Ольхов. Немцы тут должны поворачивать. Позиция удобная во всех отношениях. С этого места шоссе далеко просматривается. Здесь можно спрятаться — как раз возле мостика густые заросли лещевника, ольшаника, лозняка. Лучшей позиции не выберешь, если иметь в виду обстрел шоссе, дороги и пути для отхода. По извилистому руслу ручья, не продираясь сквозь заросли, легко незаметно исчезнуть. Бондарь отдал приказ — без сигнала не стрелять.
В засаде лежали день, ночь и начало следующего дня. Жевали черствый хлеб, грызли сухари, осторожно, в кулак, курили.
Серой лентой сверкает перед глазами шоссе. Шура его знает — сколько раз перебегал по брусчатке. Выложенное ребристым колотым гранитом шоссе перед самой войной соединило два города, из которых один на Припяти, второй — на Днепре.
Шоссе теперь немецкое. За вчерашний день проехало машин десять, одна танкетка.
Шура лежит между Медведевым — у него пулемет — и Богдановичем. У Медведева сосредоточенное, заросшее редкой щетиной лицо, нависшие, густые брови. Налег плечом на приклад, не сводит с шоссе глаз. Богданович ведет себя свободнее. Карабин отложил в сторону. Осторожно обламывает ветки, подгребает под себя листья, чтоб было мягче лежать. Казалось, Богданович вовсе не думает о том, что предстоит бой. Шура тоже об этом.не- думает.
553
Поднялось солнце, хотя тут, под густым орешником, его тепло еще не чувствуется. Сквозь густую сетку ветвей виден кусок шоссе и такой же непролазный орешник с другой стороны. Там тревожно перекликаются птицы. А здесь птиц нет — почуяли людей, скрылись. Насыпь шоссе выше их укрытия, и это лучше — отчетливее видна цель. Все-таки медленно тянется время. Шоссе безлюдно.
Шура переводит взгляд на клочок земли у самого лица. Снизу куст орешника, большой — не охватишь. Около двадцати прямых и тонких стволов с гладкой серой корой тянутся вверх, нависая над людьми широким шатром. Солнечному лучу трудно пробиться через густой зеленый заслон, потому под кустом ничего не растет. Черная земля покрыта опавшей листвой. Среди мертвых листьев — два зеленых, живых, на тоненьком стебельке. Может, это побег от корня, а может, от прошлогоднего упавшего ореха. Это не так уж и важно сейчас. Шура не хочет вырывать стебелек из земли. Пускай растет. Когда- то они, мальчишки, лакомились такими вот листочками. Когда это было? Давным-давно, в Дни беззаботного босоногого детства, которое видится в трепетном розовом тумане. Теперь Шуре восемнадцать, и в голове совсем другое...
Шоссе безлюдно. Почему никто из местных жителей не пройдет, не проедет по этой некогда оживленной дороге?.. Сельчан еще можно понять — боятся. Кто отважится сунуться на шоссе, которое сейчас во власти немцев?
Занятый своими размышлениями, Шура вдруг услышал натужный, густой гул, донесшийся из-за поворота шоссе. Судорсгжно схватился за карабин...
— Не стрелять,— слышит он шепот Медведева.— Колонна.
Вскоре появляются машины. Тупорылые черные грузовики один за другим мелькают в коротком пространстве шоссе, открытом Шуриным глазам. Грузовики, кузова которых покрыты пестрым, размалеванным черно-зелеными полосами, брезентом и открытые, полные солдат, одетых в зеленые мундиры. Лиц Шура не видит, солдаты сидят спиной к нему, а машины проносятся мол- яиеносно. Колонна кажется бесконечной, нестерпимо грозный гул моторов поглотил все звуки леса, отразился стоголосым эхом, он один стоит в ушах. На мгновенье
554
Шуре показалось, что оттуда, со стороны старого бора, откуда они вышли к шоссе, также надвигаются черные тупорылые грузовики. Горький комок подступил к горлу, стало трудно дышать...
— Го-о-товсь!— пронеслась по цепи команда.
Когда на повороте вынырнул на дорогу темный си«
луэт грузовика, протяжным громом взорвались гранаты. Шоссе, дорога окутались дымом. Из этого дыма, размахивая руками, выскакивали и падали немцы — их косили пулеметные очереди, частые, гулкие одиночные выстрелы. Шура стрелял вместе со всеми в сизый дым, в зеленые мундиры. Затем, подхваченный упругой волной, выскочил на шоссе. Подбитых, искореженных машин пять или шесть. Две горят.
По шоссе беспорядочной волной, не стреляя, не оглядываясь, бегут немцы, Шура, припав к каменному настилу, снова стрелял, отчетливо, с радостью видя, как после его выстрелов один из тех, в спину которых он целился, остался лежать на шоссе.
Потом случилось непонятное. На повороте шоссе появились новые грузовики. С них, как горох, посыпались солдаты. Те, что бежали, остановились, стали разбегаться по обе стороны шоссе.
Остальное отразилось в Шуриной памяти беспорядочной стрельбой, гулом гранатных взрывов, нечеловеческим стоном раненых. Немцы наседали. Они, казалось, стреляли со всех сторон. В ветвях орешника гулко и часто лопались разрывные пули.
Партизаны отстреливались. Цели теперь не видно. Немцы стреляли уже из леса. Г ахнуло раз, второй — вслед за свистом послышался пронзительно-гулкий взрыв.
Мины!
Взрывы послышались ближе, почти рядом. Свиста не было, а только тихое, едва уловимое шипение в перерыве между взрывами заполняло окрестности. Шура видел, как в нескольких шагах от него шуганула фонтаном черная земля, а двое бежавших налетели на этот фонтан, упали и не поднялись.
— Окружают!
Отступали по высохшей канавке ручья. Пригнувшись* одним махом перескакивали шоссе, все время отстреливаясь. Немцы стреляли уже из орешника, с того места,
555
где недавно лежал отряд. Рвались мины. Партизаны лежали за соснами, в лесу, зажатом между шоссе и железной дорогой. Но это не пугало...
2
Слышали ли вы, как шумит ветер в соснах?
В тихую погоду нет леса более спокойного, важноторжественного, чем сосновый бор. В нем забываешь о суете и заботах, о мелочах жизни, душа как бы сливается с бесконечностью вселенной.
И нет другого такого, как сосновый бор, леса, который сильнее бы поражал воображение в непогоду. Тогда кажется, что вздыхает сама земля, монотонный, протяжный гул сосен навевает тоску, беспокойство. Рождает непонятную тревогу.
Ветер в соснах напоминает чем-то морской прибой. Как и море, сосны более всего беспокойны на стыке времен года, когда землю овевают стремительные ветры, когда зима сменяет лето, а весна, в свою очередь, изгоняет зимнюю стужу...
Ночь. Стоянка в незнакомом лесу. Завтра отряд двинется дальше, в пределы Октябрьского района.
Высоко взмывает пламя костров среди стройных багряных сосен. Летят к темным вершинам светляки искр. С половины ствола, где кончается серая шершавая кора, деревья отсвечивают золотом.
С довоенного, мирного времени остались в лесу кучи валежника, штабеля дров — следы санитарной вырубки. Заготовленная, списанная по акту древесина летит в огонь. Костры огромные. Сколько костров, столько компаний. Хохот. Выкрики. Многоголосый гомон...
Насыпная проезжая дорога пересекает бор, лежит в полуверсте от штабелей дров. Тут и остановились на ночлег. Место сухое, чистое, дров не надо собирать.
Бондарь лежит поодаль от костров, на разостланной плащ-палатке. Глухо ноет пробитая осколками ладонь. Это третье ранение, если считать с финской войны...
С той минуты, как первый грузовик свернул с проселочной дороги на шоссе, Бондарь почувствовал, что заса¬
556
да будет удачной. Немцев оглушили, мгновенно родился тот порыв, когда не надо командовать, приказывать, когда люди сверхъестественным чутьем угадывают, что надо делать,— даже самые неопытные, необстрелянные, которые в бою испытывают сграх. Отдельные случаи растерянности были и вчера, но лишь отдельные. Они потонули в волне всеобщего подъема. Немцы пустили колонну двумя частями. Он, командир, заранее не подумал об этом. Такое нельзя предвидеть. Но все равно паники не было...
Самое страшное — смерть Казаченко, начальника штаба, который таскал с собой сумку с документами. Глупость, которую нельзя простить. Он, Бондарь, хотел, чтоб было как у военных. Это ошибка. Партизанская война особая. У Казаченко в сумке список отряда, другие бумаги. Видимо, записано точно, кто, откуда, когда пришел, полностью фамилия, имя, отчество. Немцы, конечно, сумку подобрали. Если расшифруют списки, страшно подумать...
Хмелевский, а с ним восемь партизан из окрестных деревень специально остались, чтоб предупредить кого можно. Вот так, друг Володя, дорогой начальник штаба. Ты погиб, про мертвых плохо не говорят. Не говорили бы, если б не сумка...
Об убитых, раненых Бондарь не думает. На войне как на войне. Отряд обстрелян. За четыре месяца первый круг замкнулся. Начинается новый. До зарезу нужны доктор, медикаменты, семейный лагерь. Посмотрят, как устроили это в Октябрьском районе. Придут к ним не с пустыми руками. Двенадцать эшелонов — полностью подорванных или частично — это все-таки что-то значит.
А Турбина — твоя заслуга, пан капитан. Военная специальность не подвела. Толковый разведчик стоит многого. Страшно становится от мысли, что было бы с отрядом, если б не эта непонятная женщина.
Сущность партизанского движения не только в том, что народные мстители своими диверсиями, нападениями на железные дороги, на гарнизоны, на колонны, на отдельные группы солдат, офицеров, полицейских наносили прямой урон немецкой военной машине, но и в чем-то : неизмеримо большем.
557
Собранные в один кулак полтораста, двести, даже триста человек представляют собой не такую уж грозную силу. И хотя слава каждого отряда измеряется наиболее крупными диверсиями, нападениями, деятельность его на этом не кончается. Дело как раз в том, что полтораста или двести человек сошлись в отряд из двадцати или тридцати деревень, селений и в промежутке между крупными диверсиями— а такие прохмежутки и составляли основную жизнь отрядов — они расплывались по округе десятью и двадцатью мелкими группами, действовали в разных, удаленных одно от другого, местах.
Люди не могли жить в лесу, как звери, их тянуло к человеческому жилью. За каждой из таких мелких групп, вышедших на задание, стояли помощники из деревень, местечек, городов, они наводили партизан на цель, передавали нужные сведения, предупреждали об опасности.
И если враг оказывался перед фактом, что партизанам все известно, что они все видят, что они для него неуловимы, ему становилось страшно. Если в один и тот же день взрывалась мина на железной дороге, обнаруживался в самом тайном убежище староста-предатель, перехватывалась повозка с награбленным немцами имуществом, оккупанту, который отвечал за спокойствие в своем административном районе, можно было прийти в отчаяние. И если немец солдат, возвращавшийся из тыла на фронт, под Вязьму или под Сталинград, узнавал о действиях партизан в Бресте, Гомеле и Брянске, он дрожал за свою жизнь, даже едучи в цельнометаллическом классном вагоне. В окопы и блиндажи он прибывал с немалой моральной травмой, его боевой дух давал трещину... *'
з
По комиссариату блуждали слухи о том, что партизаны разбиты — часть перестреляна, часть сдалась на милость немцев. Ночью Турбина не сомкнула глаз. На службу пришла с серым, землистым лицом, с синяками под глазами. Не успела она переступить порог канцелярии— на столе зазвонил внутренний телефон. Гебитско-: миссар вызывал к себе.
Турбина быстро поднялась на второй этаж, запыха¬
558
лась. Кабинет гебитскомисеара — в самой большой комнате, в конце длинного коридора.
Рог стояла за столом, хмурил холеное белое лицо.
— Фрау Эрна,. лично сходите в штаб охранного полка. Там имеются партизанские документы. Возьмите те из них, которые могут нас интересовать. Военные на все наложили лапу. Считают, что имели дело с регулярной частью. На том основании, что сумка с документами найдена у убитого русского офицера. Я такой точки зрения не разделяю.
У Турбиной отлегло от сердца.
— Герр комиссар, я обыкновенная служащая. Разве я имею право вмешиваться в военные секреты?
— Фрау Эрна, вы допущены к большим секретам. Не забывайте, политическую линию среди населения проводит гебитскомиссариат. Отберите документы о политической программе партизан, их связях с партийными центрами. Остальные возьмет жандармерия. Командиру полка я позвоню...
Штаб охранного полка размещался в трехэтажном, из красного кирпича, здании. Рядом, на противоположной стороне переулка, дом, в котором занимает комнату Фриц Зонэмахер. Турбина сюда часто заглядывает.
Турбина вошла в канцелярию штаба — шрайбершту- бе. Узнав, кто она, лысоватый писарь-фельдфебель повел ее по коридору, постучал в обитую черным дерматином дверь.
Над столом в комнате склонились два офицера — немолодой, в потертом мундире капитан и одетый с иголочки лейтенант.
— Я старшая переводчица гебитскомиссариата...
— Фрау Тюрбин, очень приятно.— Капитан галантно пристукнул каблуками, произнеся фамилию Турбиной на немецкий манер.— Просим вашей помощи, фрау.
Он дал ей в руки книжечку — военное удостоверение личности. Она развернула красную обложку и едва сдержалась, чтоб не вскрикнуть. Документ — фотокарточка была сорвана.— принадлежал Казаченко, тому самому лейтенанту, который вовлек ее в подпольную работу.
— Это аусвайс русского офицера?—спросил капитан.
— Да,— ответила она, стараясь говорить спокойно.
559
— А это? — Капитан взял со стола зачитанный, вытертый по краям номер «Правды».
— Советская коммунистическая газета. Издается в Москве.
— Дата? — не скрывая нетерпения, воскликнул капитан.
— Двадцать четвертого июня сорок второго года.
— Вальтер, видишь, я не ошибаюсь,— не обращая внимания на присутствие Турбиной, заговорил капитан.— Моя догадка подтверждается. Даже без аусвайса офицера и газеты ясно, что так вести карту мог только военнообразованный человек.
Турбина незаметно бросила взгляд на стол. Там лежали карта-двухверстка, густо усеянная красными и синими значками, бумаги, кожаная командирская сумка с карманчиками для карандашей.
— Фрау, еще одна просьба. Посмотрите, что написано в этих бумагах?
У Турбиной дрожали руки, когда она прикоснулась к засаленному, вырванному из клетчатой бумаги, листку.
— Тут, герр капитан, цифры. Часы суток. Посты, караулы. Я в военных делах мало разбираюсь.
— Да. Оставьте нам.
Дальше — просто ужасно. Потемнело в глазах, когда Турбина начала листать аккуратно разграфленную школьную тетрадь. Личный состав отряда. Полностью фамилии, имя, отчество, год рождения, национальность.
— А это что?
— Списки деревень района. Фамилии старост. Точно— сколько чего посеяно, сколько скотины...
— Возьмите для гебитскомиссара. Пускай уменьшит крестьянам поставки за счет того, что взято партизанами.
Несколько бумажек — тексты листовок, а также записанные, видимо, по радио сводки Совинформбюро за сентябрь.
Капитан потерял к бумагам интерес.
— Забирайте. И газету возьмите. Пускай герр гебитс- комиссар в свободное время поразмышляет над тем, какими путями попадает в его район большевистская пропаганда...
Турбина вышла в переулок. Ее всю трясло. Но хранить тайну она умеет. Было немало случаев, когда надо
560
было скрывать волнение, настоящие чувства. Но такого еще не было. Тетрадь надо сейчас же уничтожить...
Она шла по дощатому тротуару, помахивала белым ридикюльчиком* постукивала тонкими каблучками лакированных туфель. Вымуштрованная немецкая кукла. Как в той песне про легкомысленную Лили Марлен: «Seine Schritte kennt sie, seine schone Gang»1.
Вспомнила, что в летний день, за год до войны именно в этом переулке неожиданно застала ее гроза. Тогда она возвращалась со станции, где в почтовый вагон бросила письмо своему летчику, с которым разлучили ее ревность мужа и злые языки. Чтоб не промокнуть, забежала тогда в зеленый дворик, скрылась под навесом крыльца. Моложавая, черноволосая хозяйка приглашала в хату — не пошла.
Знакомый дворик — вот он. Скрипнула калиткой, пошла по выложенной кирпичом дорожке. Шуршит под ногами опавшая листва яблонь, слив. Хозяйка — узнала сразу — мыла около колодца таз, смотрела настороженно.
— Простите, пожалуйста. Где у вас отхожее место?
Услуга невелика — хозяйка улыбнулась.
Турбина вошла в дощатую будку-скворечник, достала из ридикюльчика тетрадь, щелкнула зажигалкой. От каждой странички осталась небольшая черная кучка пепла.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Хорошо иметь близкую душу, друга, перед которым можешь не таясь раскрыться до конца, рассказать о заветном, глубоко интимном. К другу можно прийти всегда — он понимает даже то, в чем стыдно признаться самому себе. Поймет и не осудит.
Живет Митя трудно. Настроение у него хуже того, что было в прошлом году, в такую же осеннюю пору.
Самый близкий, самый дорогой для Мити человек — Иван Лобик.
1 Свои шаги знает, любуется своей походкой.
561
Иван работает на железной дороге, в бригаде, где два месяца назад работал Митя. В будний день на работе, приходит вечером усталый, молчаливый. Некогда даже поговорить. Митя с нетерпением ждет воскресенья. Воскресенье— их с Иваном день, праздник души.
Митя надевает белую чистую сорочку, собирается к Ивану на Вокзальную улицу. Идет по шпалам, минуя тупик, склад бывшей «Плодоовощи», новое зернохранилище. Склады немцы отремонтировали — начинается сезон заготовок. Поблескивает застекленными окнами весовая будка.
Каждый день перемены на дровяном складе. Растут штабеля бревен, крепежного леса, дров. Древесину возят на грузовиках-газогенераторах лесхозовские шоферы.
Все говорит о том, что немецкий порядок устанавливается, захватывая и область хозяйственной деятельности.
Митя растерян: чуть ли не каждую ночь взрывы на железной дороге, но немцы, кажется, и бровью не ведут. Днем почти беспрерывно несутся на восток поезда, везут новых солдат, пушки, танки. Германия будто бездонна. Откуда у нее все берется? Немцев вместе с австрийцами только восемьдесят миллионов, но они и в Африке, и на Ближний Восток целятся, и чуть не вся Европа под их сапогом. Во Франции, Греции, в далекой Норвегии — всюду немцы. На Советском фронте рвутся на Кавказ, достигли Волги. Как поверить, что все армии мира фактически оказались бессильными перед немецкой мошыо? Кто они, немцы, что так властно шагают по миру? В чем истоки их силы, бесстрашия? Основываясь на чем, так напористо добиваются своего?
«Чтоб достичь великой цели, надо зажечь могучей идеей народ»,— думает Митя. Об этом говорили все кни-^ ги про Октябрьскую революцию, гражданскую войну, которые он прочитал. Там все ясно: рабочие, крестьяне сражались за свободу, за то, чтоб быть хозяевами жизни. Потому они — босые, голые — сделали невозможное: разгромили белые армии, скрутили в бараний рог собственных панов. Выгнали разных интервентов, которые, боясь, что русская революция перекинется в их страны, душили ее. Воевал народ. А если встанет народ, его нельзя победить. Но ведь в Германии тоже воюет народ! Не капита¬
562
листы, не помещики на фронте, а обыкновенные рабочие, крестьяне, даже батраки, одетые в немецкие шинели. За какую идею они борются? Нельзя же поверить, что обычным принуждением можно достичь того, что немцы фактически достигли. Так неужели же Гитлер, как некогда Чингисхан, зажег немцев идеей всемирного разбоя?..
Эти мысли были причиной унылого, мрачного Митиного настроения, его сомнений. В прошлом году партизаны проявляли себя мало, в этом году действуют гораздо активнее, но не они решают исход войны.
Тихо на Вокзальной улице. С пропыленными, тронутыми тут и там легкой желтизной листьями стоят тополя. В садах — подпорки под яблонями, желтобокие антоновки падают на землю. Отбушевала в огородах хмельная летняя зелень — повесили головы подсолнухи, не тянутся на плетень стебли тыквы, чернеет ботва картофеля. За огородами, на околице — задумчивая прозрачность, которая бывает на склоне лета. Краски смягчаются, тают на глазах. Скоро осень.
Иванов двор густо зарос травой — от ворот до хлева только узкая тропка. Из живности во дворе — одна корова, ни поросенка, ни куренка нет. Есть кот, которого ребята еще до войны прозвали Никитой,— белый, пушистый, с рыжей полосой на спине и на лбу. Никита староват, равнодушен ко всему на свете, счастливо пережил, несмотря на частую бесхлебицу, первый год войны, вступил во второй. Он залезает на крышу, на самый конек, поджимает лапы, часами греется на солнце.
Претензии к жизни у Ивана, как и у кота, небольшие, он легко переносит невзгоды. Мать, разговаривая от одиночества сама с собой, доит корову, варит картошку— на еду Иван не жалуется. Сестра Катя, которой пошел четырнадцатый год, моет пол, застилает кровать— в доме становится уютнее. Иной раз заходит дед Бондарь, материн отец,— принесет буханку хлеба, кусок сала. Тогда — праздник.
К Лобику в хату Митя приходит как в свою. Иван лежит на кровати, читает Ницше — «Так говорит Заратустра». Сестры нет, убежала к подругам.
Из местечковых библиотек книг Ивану досталось ие много. Но их у него не меньше, чем у Мити. Таскает от деда Бондаря. Остались у деда книжки, которые читали четверо его сыновей. На чердаке, сложенные в большой
563
деревянный ящик, сотни томов. Приложения к старой «Ниве», редкие дореволюционные, советские издания двадцатых годов. Есть в сундуке книги, написанные писателями, о которых Митя даже не слышал. Оскар Уайльд, Кнут Гамсун, Гауптман, Пшибышевский, Метерлинк, Федор Сологуб...
Были дедовы сыновья — видно по всему — завзятыми книжниками.
Старший, Петро, который воевал и в гражданскую войну, перед финской войной командовал корпусом. Фактически генерал. Предпоследний сын тоже командир. Служил в кадровой. Два остальных выучились — один на учителя, второй на адвоката. Оба в эвакуации.
Иван встает с кровати, идет к полке, где стоят крынки с молоком.
— Хочешь молока?
— Пей сам. Что ты думаешь про Ницше?
«Заратустру» и другую книгу этого автора — «По ту
сторону добра и зла» — Митя прочитал.
Иван с ответом не спешит. Задержав дыхание, глотает молоко, вытирает губы рукавом.
— Ницше философ и поэт.
— Так он же фашизм проповедует!—горячится Митя.— Его сверхчеловек делает то, что сегодня делают фашисты. Топчет людей.
Теперь загорается Иван:
— Сверхчеловек топчет, а не Ницше. Ницше угадал приход фашизма. Разве можно его за это винить? Вы, такие вот, все вперед знаете. Умники...
Иван возбужденно расхаживает по хате. Рубашка вылезла из штанов, висит сзади, как юбка. Давно не подстригался Лобик. Косматая голова похожа на стог сена, волосы закрывают уши.
Как и всегда, Лобик долго не сердится.
— Своего пророка Ницше называет Заратустрой,— говорит он.— А Заратустра предсказывает, что к людям придет сверхчеловек, навяжет свою волю. Все перевернет. У него нет жалости, сожаления. На страдания человека он плюет. Отбрасывает все, что называют добром. Для сверхчеловека никакого добра, зла, совести не существует, Есть одно — сила. Ницше доказывает, что религию, мораль выдумали люди. Но в жизни ею не руководствуются. Подчиняются тому, кто сильнее.,*
564
У Ивана математическое мышление — любит во всем точность, определенность. Митя часто не находит слов для выражения того, что чувствует.
. — Ты веришь в это? — спрашивает Митя.
— Черт его знает. Может, это у немцев от перенаселенности. Когда людей рождается очень много, достоинство каждого человека падает. Тут — как целые числа и дроби...
— Это биология,— задумчиво говорит Митя, вспоминая слова Бадейки, слышанные в тюрьме.— Фашисты низводят человека до обычной скотины. Мол, человеку надо самое простое — есть, пить, размножаться. Страх смерти сильнее других чувств. Общество — стадо. Как стадо коров, овец, которым нужен хороший пастух. С длинным кнутом. Если жизнь действительно такова, то фашисты войну выиграют.
— Ты молодчина!—Иван довольно потирает руки.—* Научился думать. Фашизм — чистая биология и невиданное варварство. Немцы целиком перенесли законы Дарвина на человеческое общество. Борьба за существовав ние, естественный отбор, наследственность...
— Но животное сознательно на смерть не идет,— возражает Митя.— Только под влиянием инстинкта. Как, например, волчица, обороняющая свой выводок. Человеку нужна идея. Немцы сами пишут про всевышний дух провидения, волю нации. Воюют сознательно, не по принуждению. А какую идею дал фашизм своим солдатам?
— Солдат воюет, чтоб стать паном. После войны хочет получить имение...
Митя и сам так думает. Спорит с Иваном потому только, что в такое не хочется верить.
Пропуская вперед кота, в хату входит маленький Гриша Иайденик, Иванов сосед. Теперь к Ивану только и заходят Митя да Гриша.
При Найденике разговор о Ницше прерывается.
Гриша смеется ежеминутно.
Митя еще никогда не видел его серьезным. Найде- ник во всем видит только смешное, а если не видит, то выдумывает.
— Три танкиста выпили по триста,— говорит Гриша, переступая порог.
Глядя на Гришу, на его небольшие черные глаза, которые постоянно излучают смех, нельзя не поддаться их
365
чарам. Эти глаза как бы побуждают выискивать обратную, смешную сторону вещей, а серьезное не принимать во внимание. Про Гришиного отца — высокого, молчаливого— ходят слухи, что он когда-то был конокрадом. Никогда не цветет улыбка на рябом хмуром лице старого Найденика, трезвый и даже пьяный,— а это бывает частенько,— он носит в себе злость. Сын — полная противоположность отцу, хотя внешне на него похож.
— Три танкиста выпили по триста, а четвертый лакнул восемьсот,— заливаясь, продолжает Гриша.
Тут же начинается новый спектакль, и ни Лобик, ни Митя удержаться от смеха не могут. Гриша ловит кота, учиняет ему допрос:
— Кот Никита, отвечай перед судом за содеянные злодеяния!
Кот, вырываясь, царапает выцветшую Гришину ру* башку, выгибает спину, пронзительно мяукает.
Лобик согнулся пополам — смеется, вытирая слезы.
— Кот Никита, почему не поступил в полицию? Кто за вас будет охранять мирное население от лесных бандитов? И на работу вообще не пошел. Отлеживаешься на печи. Адольф Гитлер принес свободу, а ты — на печь. Хорошо. Пришьем к делу...
Лобик выкрикивает что-то бессвязное — говорить от смеха не может.
— Теперь посмотрим на твой моральный облик, кот Никита. С кошкой по имени Мавра сожительствовал? В результате сколько котят народилось? Восемь. Алиментов не платил. Почему переложил заботы по воспитанию детей на плечи слабой кошки?..
Кот вырвался — ив подпечье. Хвост трубой, шерсть торчком.
Митя прощается с товарищами. День, если не было смеха, пропащий, говорит Заратустра. Пропал и этот, когда смеялись до слез...
2
В финотдел заходит невысокий широкоплечий парень в сером, из грубого материала костюме и пестром, завязанном толстым узлом галстуке. Держится гордо, независимо, и его несхожесть с другими бросается в глаза.
566
Однажды, когда в обеденный перерыв Митя сидел в комнате один, парень подошел к нему, протянул для приветствия руку:
— Виктор Цибулька. Бухгалтер Пилятичского лесничества.
Они вышли в парк, сели на скамейку. Знакомство для Мити интересное. До войны Виктор учился в Минске, окончил первый курс пединститута. Он старше Мити только на два года, а будто совсем из другого мира — учился на литературном факультете, жил в большом городе. Хлопцы так увлеклись разговором, что не заметили, как кончился рабочий день и наступил вечер.
— Я пишу стихи,— признался Цибулька.
Он и действительно похож на поэта — высокий лоб, красивые серые глаза под длинными ресницами и лицо довольно красивое, его немного портит курносый нос.
— Ты учителя Бадейку знал? — спросил Митя.
— Он меня учил. Чудак. Занимался глупостями, и немцы его расстреляли.
Слова Цибульки неприятно задели. В душе шевельнулась недоброжелательность к недавнему студенту, но Митя отогнал недоброе чувство. Кто с первого раза станет раскрываться перед -незнакомым человеком?
На другой день Виктор пригласил его к себе. С работы Митя ушел охотно — так делает не один он, никто за этим особенно не следит.
Контора лесничества — в частном доме с желтыми ставнями, высоким крыльцом и даже застекленной верандой,— таких, городского типа, домов в местечке не много.
С особенным чувством пришел Митя в зеленый переулок, где помещалось лесничество. Тут живет Сюзанна — в другом конце переулка, а сад, возле которого памятной летней ночью он сидел с девушкой, выходит под окна конторы. Митя не рвется к Сюзанне — между ними что-то пролегло, разъединило, и нужен толчок, чтоб вернуть прежние отношения. Сейчас Митя слабый, растерянный, а таким от идти к Сюзанне не хочет. И все же приятно щемит в груди от мысли, что тут, в переулке, он каждую минуту может увидеть Сюзанну.
В конторе обстановка небогатая — два обшарпанных,
567
залитых чернилами стола, три старосветских кресла о ободранной кожей на спинках. Виктор выдвинул ящик, положил перед Митей на стол большое желтобокое ан« тоновское яблоко.
— Ешь, яблок хватает. Я их рву, когда стемнеет.
Митя посмотрел через окно в сад — яблоки давно
поспели, их сняли, только кое-где желтеет меж потемневших, порыжевших листьев налитая соком анто- новка.
Еще со вчерашнего дня у Мити на губах вопрос: почему лесничество из Пилятич переехало в местечко?. Здравый смысл подсказывает, что контора должна находиться там, где находятся лесные владения, а за три* дцать верст от Пилятич зачем она?
— Почему вы тут, в местечке?—спрашивает Митя.
Виктор смущается, морщится, но отвечает шуткой:
— Ближе к цивилизации. У вас тут культура. Хотя бы кино...
Наконец Виктор переходит на серьезный тон. Лесничий Вочеп не поладил с пилятичским начальством — Спаткаем и Князевым. Вернее, не захотел давать взят* ки, которые те вымогали. Сам лесничий не святой, кулак не меньше, чем бургомистр волости и начальник полиции. Кроме того, у него хороший *нюх. Запахло жареным в Пилятичах. Полицаи уничтожили восемна- дцать человек, пришедших из Москвы, убили семь местных партизан, несколько их семей. Теперь дрожат сами. Пьют, самовольничают. Князев еще зимой сватал Цибульку в полицию. Спасся он тем, что поступил в лесничество. А теперь, если бы не переехал вместе с Воче* пом в местечко, вовлекли бы обязательно.
— Много партизан? — как бы ненароком спрашивает Митя.
— Сначала шевелились. Разогнали гарнизон в Буйках, расстреляли писаря Овчара, который вез молодежь в Германию. Теперь не слышно.
— Может, перешли в другое место?
— Возможно.
Митя набирается решимости:
— А ты не думал пойти в партизаны?
— Вот ты какой! — искренне удивился Цибулька.—* Пока что исключено, братец мой. Дорогой ценой приш« лось бы заплатить. Князев ни отца, ни матери не пожа¬
5<з8
леет. Я думаю, что и так можно быть честным человеком.
— Разве есть середина?
— Никакой середины. Когда началась война, мне было восемнадцать лет. В армию не взяли. В полицию не пошел. Сумел выкрутиться. Против Советской власти >ничего не делаю. Немцев не люблю...
Вообще Цибулька — неплохой парень. Искренний, товарищеский. Разве Митя лучше, чтобы ставить себя выше Цибульки? Сам 'ничего особенного не сделал и не делает...
Виктор стал читать свои стихи. У него их целая тетрадь. Держит тетрадь в шкафу канцелярского стола. Стихи звонкие, с хорошей рифмой, но необыкновенно грустные, с затемненным смыслом, пронизанные какой- то оплошной ноткой отчаяния. Все как один про любовь.
Цибулькины стихи Митя раскритиковал безжалостно. Не умел справиться с собственной тоской, отчаянием, которые прочно сидели в душе много дней, и за это самое укорял малознакомого парня.
Цибулька — Митя даже удивился — не обиделся. Ответил с грустной улыбкой:
— Не везет мне ни в поэзии, ни в любви.
— Можно подумать, что для тебя любовь самое главное.
— А чем заниматься в такие проклятые дни? Тебе •признаюсь. Стихи о любви — не больше чем маскировка. Заметил — речь эзопова? Это мой дневник. Исповедуюсь в нем перед самим собой.
— Вот оно что!—Мите почему-то стало смешно.
— Ну, а каким оружием я могу сражаться? Только пером. Хуже, братец мой. что не везет в настоящей любви. Понравилась тут одна. Походил два вечера — не льнет. С деревенскими было проще. Ты, видимо, знаешь ее. Училась в школе. Зовут Сюзанна.
— Сюзанна?! — Митя не смог скрыть растерянности, «покраснел.— Конечно, знаю...
Цибулька посмотрел на него испытующе:
— Слушай, не твоя ли это девушка? Не такой я свинья, чтоб отбивать у товарища. Только скажи честно.
— Моя, твоя... Мне она не присягала...
569
— Ну, понимаю. Прости, браток. Девушка, скажу тебе, хорошая. Я таким соловьем заливался, но дело, вижу, ни в зуб. Теперь с нею — конец...
За окнами — сумерки. Вышли на улицу, немного побродили.
з
Митя на распутье. Чувствует — больше в местечке жить не может. Финотдел ненавистен. Почти каждый день приходит Крамер, и всегда Митя ловит на себе его пытливый, настороженный взгляд. Как бы задает бургомистр этим взглядом немой вопрос: «Как ты, парень? Выкинул из головы дурь? Сиди тихо, иначе...»
С Шурой, с Драгуном связи нет. Как в воду канули. Не подают никакого знака. Если бы даже протянулась нить в партизанский лес, все равно он, Митя, ничего не может сделать. Приглядываются. Прикидываются, что ничего не знают, а на самом деле следят. Начиная от Пилевского и кончая секретаршей.
В глубине души Митя понимает, что он попал в такое положение, в каком летом очутился Сергей. Тот тоже не находил себе места. Это и погубило его. Потому Митя новых знакомств не завязывает, в разговоры в финотделе не вступает.
Сюзанну Митя постарается забыть. Если интересен ей Цибулька, пускай прогуливается. Раньше Галемба был, теперь самодеятельный поэт-бухгалтер, который пишет непонятные стихи. У Мити своя дорога.
Мать чувствует Митино настроение, тревожится. Каждое утро жарит яичницу (младшие братья, сестрички едят картошку с кислым молоком), подсовывает непочатый кувшин молока.
Однажды Митя сказал:
— Пойду в командировку. Теперь, мама, много партизан. Если их встречу, не бойся. Слухам не верь...
Мать заплакала:
— Отца нет, теперь и ты собираешься. Как же я с малышами? Немцы разве простят...
Митя посмотрел в заплаканные глаза матери.
— Мама, я вас не подведу. Не бойтесь...
Вечером Митя побывал у Лобика, предупредил.
К Миколе решил зайти по дороге. Командировка вы¬
570
писана в Сиволобы — оттуда не поступили подворные списки для начисления страховки. До Сиволобов надо добираться, минуя всю длинную главную улицу местечка, а в конце этой улицы и живет Микола...
Ведет себя Микола странно. Спасаясь от полицейского преследования, пошел в церковь — будто учиться на дьячка. О мощном голосе Миколы по местечку ходят анекдоты.
Мите кажется, что в церкви Микола не только из-за Гвоздя. Видимо, тоже надломился. Ищет, как залечить рану.
Миколин двор плотно обсажен грушками-дичками. Как раз теперь доспевают — мелкими желтыми грушами усеяна вся земля под ними. Хлева, дворовые постройки давнишние, и только одна хата, крытая дранкой, имеет более или менее современный вид.
Дома Миколы нет. Мать, закутанная платком (наверно, зубы болят), посмотрела на Митю со страхом в глазах.
Митя миновал улицу, взошел на песчаный пригорок. На нем стоит высокая, широкая у основания, деревя<н* ная вышка. Нижних креплений-перекладин нет — растащили на дрова, на верхних ярусах густые переплеты косо поставленных клеток. В детстве, когда еще был жив дед, Митя приезжал сюда за снопами. Тогда казалось, что стоит взобраться на вышку, взять в руки кочергу — и достанешь небо.
С пригорка ‘видно все как на ладони. Дальние березки в мягкой желтизне. Тонкой дымкой подернуты местечковые окрестности. Оно таки большое, разбросанное, родное селение, с курганом кладбища, где лежат деды, прадеды, пращуры. Рядом с кладбищем заброшенное, с проломленной крышей, здание мыловарни. Там, по слухам, немцы расстреливают по ночам людей.
Дойдя до леса, Митя свернул на боковую проселочную дорогу, которая ведет в сторону деревни Нехамова Слобода. Если и встретишь партизан, то скорее на глухой дороге. План у Мити простой. Когда встретит партизан, то договорится, чтоб захватили его на людях, в Сиволобах. ■ Полиции там нет, и разве трудно лесным хлопцам оказать Мите услугу. Тогда у немцев не будет оснований приставать к его семье.
57 i
Митя даже мысли не допускает, что партизаны могут ему не поверить, не согласятся с его доводами.
Притихший, печальный стоит осенний лес. На земле легкая заметь опавших листьев. Около пеньков гнилой ольхи — кучки опят. Назойливо, наперебой свистят си- ницы. Скоро хлынут дожди.
По лесу Митя прошел верст шесть. Нигде ни души. Безлюдно в лесу. Выб1равшись на выложенное гранитной брусчаткой шоссе, он повернул на восток, к Сиво* лобам.
Финансового агента по фамилии Пилот разыскал Митя под вечер. Огромный, с лошадиным лицом мужчина носит за плечами винтовку, глядит исподлобья, злобно. На Митин вопрос о подворных списках грубо ответил:
— Забюрократились вы там в канцеляриях. Неделю назад отослал.
На командировке настоящая печать финотдела, а это дает власть над Пилотом. Митя попросил:
— Устройте меня на ночь.
Финагент критически оглядел щуплую Митину фигуру:
— Хочешь — к солдатке сведу. Молодая. Целую ночь будет обн-имать.
Никогда в жизни Митя не попадал в более неприятное положение. Ночевать у солдатки отказался, но финагент привел его в красивый, с железной крышей и крашеными ставнями домик.
Шустрый хромой хозяин (это был дорожный мастер) поставил на стол ветчину, миску нарезанных помидо- ров, большую бутылку самогона. Митя вып-ил первую стопку с неохотой, а дальше пил столько, сколько наливали, чокался с финагентом, хозяином. Заснул за столом, на деревянной кушетке. Проснулся, когда в окна цедился серый рассвет. Хозяин похаживал по хате, посмеивался в усы.
— Где Пилот?
— Где ночует—один бог знает. Сегодня—тут, завтра— там.
Митя поблагодарил хозяина, шмыгнул из хаты. Пристыженный, унылый возвращался в местечко...
О своих приключениях в Сиволобах Митя отважился рассказать только Лобику, а в финотделе — бухгалтеру
572
Гримаку. Иван снисходительно улыбнулся, а Гримак, насупив выцветшие брови, сказал:
— С ними не связывайся.
4
В следующую командировку — в Громы — Митя отправился с налоговым инспектором Хибенкой, непосредственным своим начальником. Хибенка шагает быстро. Митя за ним едва поспевает. На встречу с партизанами он теперь не надеется. Просто хочется посмотреть деревмю, о которой рассказывал Микола.
Теплая стоит осень. Сухо, тихо. До Громов добрались быстро.
Громы — довольно большая деревня, стоит близко к железной дороге. За последними хатами начинается дорожная насыпь, окаймленная лещевником, а версты через две, в лесу, находится станционный поселок. Издали он кажется дачным. Аккуратные домики с обеих сторон железной дороги. Волость как раз в поселке, в старом, запущенном здании с четырехскатной гонтовой крышей.
Ночевали у Хибенковой тетки, а *на следующий день направились в волость, где налоговой инспектор должен проверить ведение финансового хозяйства. Ревизоров из района встретила писарь Полина Варакса, необыкновенно бойкая женщина лет двадцати пяти. Перед мужчинами заюлила, засуетилась, наполнив обшарпанную, с рыжими потеками на стенах комнату беспрерывным смехом и щебетом. Когда подавала Хибенке бумаги, как бы ненароком наклонилась, щекотнула волосами щеку ревизора. Хибенка нахмурился, ожесточенно защелкал костяшками счетов.
Митя вышел на крыльцо, присел на перила. Тотчас же за ним выбежала Полина, не спрашивая разрешения, примостилась рядом, толкнула Митины колени своими...
Хлопцы, однако, внимания писарю не уделяли, и Полина мгновенно исчезла, оставив под их присмотром открытый шкаф со всеми волостными документами.
В углу комнаты стояла длинная французская винтовка. Когда Хибенка, нащелкавшись на счетах, вышел, Митя взял винтовку в руки, открыл затвор — патронов
573
нет. Такие же длинные винтовки Митя видел у некоторых местечковых полицаев. Немцы винтовки откуда-то привезли.
В Громах пробыли три дня. К концу третьего со двора в комнату вбежала побледневшая Полина, пронзительно, по-бабьи, закричала:
— Старосту убили!
Хибенка метнулся за писарем во двор, а Митя, быстро оглядевшись, схватил винтовку, открыл окно к швырнул ее в траву. Выскочил на крыльцо, постоял. Причитания, крики раздавались по ту сторожу железной дороги. Обойдя здание волости, еще раз огляделся. Никто не следит. Но и спрятать винтовку некуда. Ле€ далековато. Завалинка избы засыпана кострикой. Он стал торопливо разгребать колючую кострику, положил в нее винтовку, засыпал...
Ночевать не остались. В сумерках возвращались в местечко. Митя радовался. Партизаны расстреляли старосту Гнедка, того самого, о котором говорил ему парень в тюрьме, прос-ил отомстить. Удивительные слу« чаются совпадения. Жалко только, что чего-то недоглядели партизаны. Прошили Гнедка тремя пулями, но он остался жив. Повезли его полицаи на телеге в больницу, в местечко...
5
Маленькая победа, а как много радости приносит...
Украденная в Громах, в волости, винтовка — начало Митиного возрождения. Будто освободился от оцепенения, в котором находился до сих пор.
Хлопцы встретились у Алексея Примака. Он не здешний — приехал сюда за год или за два до войны, а до того жил и учился в Домачовском районе. Отец его механик-самоучка, красивый мужчина, совсем не похожий на щуплого чернявого Алексея. До войны работал в МТС, ремонтировал косилки и молотилки. Был в армии, попал в плен, но счастливо оттуда выбрался.
Ведет себя Алексеев отец несколько необычно. Вечерами ваксит, начищает шерстяной тряпочкой сапоги, подшивает к командирской гимнастерке новый подворотничок. Собирается на гулянку, хотя за плечами лет
574
сорок с хвостиком и дети взрослые — Алексею девятнадцать, дочери, Ларисе, шестнадцать.
Мать — низенькая, такая же черноволосая, как сын, при муже слова не скажет. А вообще-то она говорливая, и голос у нее особенный — низкий, грудной, не говорит, а поет.
В семье нарастает тихий разлад. Хлопцы, Алексеевы дружки, на эго внимания не обращают. В хате есть мандолина, на которой довольно прилично тренькают Алексей и Плоткин, живет молодая девушка, с которой можно позубоскалить.
В хорошем месте стоит Алексеева хата. На самом краю большого карьера, весной и осенью заполненного водой. Из глины, выбранной отсюда, сделаны, видимо, все печи в поселке. Напротив Алексеева двора, через карьер,— станция. Стайка молодых тополей перед служебным помещением, где под одной железной крышей телеграф, комната дежурного, зал ожидания, билетная касса и буфет. Дальше, недалеко от станционных путей, громадные, в три обхвата, тополя, гордость станции, так как именно этими необыкновенными деревьями она и обращает на себя внимание.
Вообще место, где живет Алексей, тополиное царство. Оно рядом со зданием лесной школы. Учащиеся профшколы лет пятнадцать назад насадили деревьев сверх меры, исполосовав местность вдоль и поперек тополиными аллеями.
Соседство у Примака, с точки зрения тайной деятельности, за восстановление которой друзья взялись,— лучше не придумаешь. Рядом, через улочку, особняк, который занимают полицаи Кузьменки, с другой стороны— хата полицейского шпика Гвоздя. Хата принадлежит не самому Гвоздю, а его тестю. Тесть в эвакуации, а зять шпионит для немцев, и теперь об этом знают все в местечке.
Сборы у Примака, по мнению парней, не могут вызвать подозрения. Алексей каждый вечер прогуливается с девушкой, не теряется и отец, а в глазах полицаев и шпика Гвоздя такие обстоятельства могут быть надежной «рекомендацией. Кроме того, Алексеев родственник, низкорослый парняга, еще с зимы поступил в полицию.
Плоткин тренькает на мандолине, Микола хохочет.
S7S
Митя только что рассказал о своих приключениях в Громах.
— Надо выбираться из местечка,— говорит Митя.—» Иначе ничего не будет.
— А как выберешься?
— Очень просто. Пойти учителями в деревни. Связь с семьей рвется...
На минуту устанавливается молчание.
— Я согласен,— неожиданно для всех заявляет Примак.— Надоело сидеть в полицейском логове.
У Миколы грустный, унылый вид.
— Какой из меня партизан. Левой рукой не навоюешь...
— Будешь связь держать,— уговаривает Митя.— Без связи не обойдемся, а в местечко как к тебе сунуться?..
— Тогда попрошусь в Громы,— сразу соглашается Микола.— Там все знакомо.
Договорились — пойдут в учителя Митя, Микола, Алексей. Должны взять, так как в большинстве деревень школы пустуют.
Веселые, довольные вывалились из Примаковой хаты. В переулке встретили Алексеева отца. Возвращается домой рано и почему-то не в настроении. Остановил ребят» заговорил вполголоса:
— Дураки вы. Собираетесь, шепчетесь. Кончится тем, что головы свернете. Человек не по своей воле рождается на свете, а родившись, умирать не хочет. А вы петли ищете...
Митя нерешительно постучал в дверь, вошел в кабинет Крамера. Положил на стол листок бумаги — заявление об увольнении. Бургомистр поспешно прочитал, поднял на парня утомленные глаза.
— Что это значит?
— Устраиваюсь учителем. Финансовую работу слабо знаю.
— А возьмут тебя?
— Берут.
— Ну что ж...
Крамер размашисто и, как показалось Миге, сердито написал на углу заявления резолюцию.
576
Заведующий отделом школ Тумиловский сидит один в комнатке, где еще недавно была контора местной промышленности, та самая, которой подчиняются портные, сапожники, кожевники и другой люд с умелыми руками. Единственно, чего добился Тумиловский,— телефона. Ежедневно звонит в волость, просит помощи в расширении школьной работы.
Вчера был Митя у заведующего отделом школ. Тот внимательно выслушал, обещал послать в одну из деревень, после того как он уволится из финотдела.
Сегодня, как только Митя переступил порог, почувствовал полную перемену в настроении Тумиловского. Отводит взгляд, бормочет о том, что в местечке нет свободных вакансий.
— Так вы ж меня обещали в деревню послать! — ставит ребром вопрос Митя.
— Вы, Птах, только школьник с незаконченным образованием!— неизвестно на кого злится Тумиловский.— У вас нет прав на учительскую работу.
Митя прикусил язык: у Примака такое же образование, а его взяли. И Миколу взяли, туда как раз, куда и просился,— в Громы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В военные городки близ Припяти начали прибывать части немецкой пехотно-гренадерской дивизии. Дивизию перебрасывали из Франции, она там охраняла неприступный Атлантический вал на линии Гавр — Шербур. После Дьеппа, где союзники показали полную беспомощность при высадке десанта, можно было перебросить. Кончался сентябрь, месяц даже в России еще теплый.
Солдаты под командой унтер-офицеров усиленно занимались боевой подготовкой — рыли окопы в полный профиль, стреляли по движущимся мишеням из крупнокалиберных пулеметов. Офицеры наблюдали за занятиями издали, хмурили брови. Россия — не Франция. Приходилось отсиживаться в казармах, полагаться на волю всевышнего,— на свете не все идет так, как надея¬
577
лись. Хотя армия фюрера на Кавказе, на берегах «мут- тер Волги», но надвигается новая зима, а конца войны не видно.
Стало известно, что дивизию приезжает проверять инспектор генштаба. Офицеры подтянулись, разработали ритуал встречи. Утром высокого гостя, генерал-пол- ковника фон Якоби, встречал на аэродроме офицерский караул, эскорт «опель-капитанов» и «бенцев» растянулся на километр.
Ни командир дивизии генерал-лейтенант Вернер фон Швейдлиц, ни высокий гость виду не подали, что они старые знакомые, друзья детства, а если говорить точнее — родственники. Для фон Якоби день прошел в обычных инспекторских хлопотах: проверка наличного состава, боекомплектов, разговоры с офицерами о боевом, моральном духе подчиненных.
Вечером командир дивизии привел гостя к себе на квартиру. Генеральский коттеджик, несмотря на невзрачный внешний вид, внутри довольно уютен, если иметь в виду возможности здешней полуазиатской жизни, В большой комнате с зашторенными окнами горят в высоких канделябрах свечи, на полу, на стенах — ковры. Фон Швейдлиц всегда любил шик, уют,— фон Якоби это знает. Адъютанту с ефрейтором-денщиком разрешили поставить коньяк, серебряный чайник с кофе, и они сразу же вышли.
— Сервис, дорогой Вернер,— сказал фон Якоби.
— Рад тебя видеть, милый Иоахим. Когда я услышал, что приедешь ты, не поверил своим ушам.
— Я давно хотел тебя видеть. В нашем суетном мире...
Генералы, оба с сединой, похожие даже фигурами— высокие, стройные, обнялись.
— Ношу в сердце печаль по нашему Отто...
Отто — полковник, летчик, брат фон Якоби. В прошлом году его сбили над Можайском.
Иоахим приложил белоснежный платок к глазам.
— Приношу и тебе соболезнование, мой дорогой. Твоя боль еще тяжелее. Никогда не забуду своего крестника, а твоего сына Рудольфа-Христиана и твоего зятя Гюнтера. Ушли от нас в расцвете юности...
Швейдлиц насупился, .минуту помолчал. Сына Рудольфа-Христиана, лейтенанта-танкиста, отравили в
19 И. Науменко.
5Т8
Греции партизаны, а зять умер в госпитале от испанки.
— Как здоровье фрау фон Швейдлиц?
— Благодарю. По военному времени не так уж плохо. Несмотря на наши семейные утраты, по-прежнему неутомима. Все в том же союзе немецких женщин.
— Да, сегодня наши кунигунды воюют наравне с зигфридами.
— Как сестра Мария-Луиза? — спросил, в свою очередь, фон Швейдлиц.
— Она в оппозиции ко всем нашим с вами заботам. Служит одному господу богу. Замаливает наши грехи.
Генералы выпили коньяку, кофе, чуть-чуть закусили. Фон Якоби, сняв мундир и повесив его на плечики, прилег на диван, слегка прикрыл глаза. Вернер взял раскладной стульчик, присел рядом.
— Скажи что-нибудь, Иоахим,— попросил он вполголоса.— Наша фамильная гордость — ты...
Якоби раскрыл глаза, усмехнулся.
— Адъютанты, денщики в наше время служат обычно не только своим генералам...
Швейдлиц понял намек, вышел из комнаты. Вернулся минут через десять, сел в кресло, утомленно вытянул ноги.
— Разве какая-нибудь адская система, Иоахим? А так — все в норме.— Протянув руку, Швейдлиц включил приемник, поймал музыку.
— Несчастная Германия,— тихо сказал фон Якоби.— Народ, посланный всевышним властвовать и превращенный историей в пасынка. Мы, немцы, держимся только на духе сопротивления...
— Не понимаю тебя, Иоахим. Говори проще.
— Проще нельзя, дорогой. И эту войну Германия не выиграет. Во всяком случае, в тех границах, в каких виделась победа год назад.
— По-моему, Иоахим, дело хуже, чем ты говоришь. Я думал, вам, с вашей вышки, виднее. Но и мы видим: Сталинград, Кавказ... звучит в сводках красиво. Коммуникации растянуты, фланги под ударом. При затяжной войне такие вещи недопустимы.
— Войну, Вернер, мы проиграли еще в прошлом году,— устало произнес фон Якоби.— И Припять, на которой ты стоишь, сыграла в кампании не последнюю
579
роль. Хочу написать об этом книгу. Конечно, потом. Надо собрать материал. Потому и попросился сюда, к тебе.
— Как тебя понимать, Иоахим?
— Очень просто. Наш самый умный в мире генеральный штаб проблему припятских болот не решил. Вспомни, что получилось в начале кампании. Группа армий «Центр» захватила Смоленск, нацелилась на Москву. Армии группы «Юг» толклись в это время под Киевом. Фланги были оголены, как теперь под Сталинградом. А материальная, так сказать, причина — при- пятские болота, которые разделили франты. Фюрер побоялся стать тенью Наполеона. Рванулся на донецкий уголь, на русскую промышленность...
— Ты имеешь в виду приостановку действий армии Гудериана, Второй и Четвертой полевых армий? Думаешь, они могли бы взять Москву, если бы летом начали наступление?
— Именно это, Вернер. Не решив проблему Припяти, войну с современной Россией начинать нельзя. Припять разделяет фронты.
Разговор докончить не удалось. Деликатно постучав, вошел адъютант, доложил, что высокого гостя вызывает к телефону Берлин.
2
Мир просто обезумел... Август Эрнестович не может обрести равновесие после того оскорбления, которое нанесли ему женины сестры. Стервы, вертихвостки... Не успели приехать, устроиться, как потянуло на непотребство. Ну пускай младшая, та покрасивей, детей не имеет. Так и старшая туда же,— сморщенная, глянуть противно, но и она не выдержала...
Не прошло и двух месяцев с того времени, как сестры жены приволоклись в местечко, а уже обе выскочили замуж. Женихи, можно сказать, мгновенно объявились. Братья Кузьменки. Старший — к старшей, младший — к младшей...
Август Эрнестович уговаривал своячениц, стыдил, особенно старшую: побойся бога, дети у тебя, муж с войны вернется,— где там!..
19*
580
Горой за сестер стала жена:
— Перестань, Август!.. Каждому хочется иметь свой кусочек счастья...
Впервые в жизни в его, Крамеровой, семье возник дикий скандал. Ничто не помогло. Две свадьбы оправили на одной неделе. Хорошо хоть, что они из дома выбрались.
Кузьменки — сволочи. Кулачье с загребущими руками. Не зря большевики высылали семейку под Котлас. Не успели пожениться — записались в фольксдой- чи: жены-немки помогли. Знали, собаки, на что нацеливаются.
Август Эрнестович нервно похаживает по комнате. Из «телефункена» — приемник стоит в углу, на самодельном деревянном шкафчике, подарке Толстика,— льется тихая музыка. Начиная с лета, стали чаще передавать хорошую немецкую музыку. Раньше — хоть уши затыкай, марши да гимны. Но и это тревожит. Почему такая перемена! Два месяца толкутся немцы у Сталинграда. На носу зима, и Август Эрнестович боится, чтоб не получилось, как в прошлом году...
За стеной — заливистый смех. Младшая, Аня, снова живет в доме бургомистра. Приехал муж, отыскал- таки жену. С одной постели перебежала в другую. Это' и есть его, Крамера, позор. Сказала, негодяйка, мужу, что позарилась на другого, или не сказала, а ему, бургомистру, стыдно людям на глаза показаться. Все же знают. Он как в воду смотрел. Но кто его слушает... Младший Кузьменок все равно доволен — в немцах ходит.
Признаки разложения бургомистр видит на каждом шагу. Начальники, полицейские без просыпу пьют. Как перед концом света: никто за добро добром не платит. Взять хотя бы этого парня из финотдела. Избавил его от смерти, дал работу. И все равно волком смотрит. Ни разу честно не взглянул в глаза. Явно рвался в лес. Он, бургомистр, разгадал его намерение, позвонил Тумилов- скому. Учительство за пределами местечка — только предлог...
В комнате, не заметил как, появилась жена. Вид виноватый, смущенный. Сама чувствует, что со свадьбами получилось скверно.
— Август, к тебе мельник пришел.
581
У Крамера иопугаюной птицей забилось сердце.
— Зови.
Забела присел на краешек стула. Шапку с изломанным козырьком положил на колени.
Зашептал, оглядываясь на дверь:
— Еврейку с ребенком к Денисевичу пристроил. К тому, который пекарней заведовал. Не было силы дальше держать...
Август Эрнестов.ич приложил палец к губам, на более громкий звук перевел рычажок приемника.
— Полицейские, холера их возьми, в мой двор зачастили стаями,— более уверенно загудел Забела,—Муки дай, самогону дай. Напьются—на двор выходят. Не дай бог, увидели бы...
Крамер задумался. Денисевича вспоминает как злейшего врага. Его сосватал в бургомистры, сам стоит сбоку, посмеивается. Тогда, зимой, не сдержался — всыпали заведующему пекарней горячих по его, бургомистро- вой, милости. Теперь невидимая веревочка связала с недавним врагом. За добро надо платить добром. И выходит — доброй меркой за зло...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Грязь. Слякоть. Теплая осень кончилась на покров. Длинная колонна растянулась по дороге. Идут кто как — строя, дистанции не соблюдают. Посередине три повозки, на них раненые.
Ботинки у Шуры расползлись окончательно; из правого вылез, шлепает по грязи уголок черной портянки. Богданович — он шагает рядом — более предусмотрителен: свои ботинки перевязал кусками красного немецкого кабеля.
— Гороховичи возьмем штурмом,— возбужденно
говорит Алесь, повернув к Шуре синее, отекшее лицо.-— Переобуемся, переоденемся. В такой одежонке, как у нас, не навоюешь.
Гороховичи где-то близко. Шура вспоминает, что в поисках оружия зимой совершили туда поход Сергей с Вилюгой. Чем ближе к Гороховичам, пейзажи более
532
унылые, однообразные. Буйки, Озерки, Прудок, Мал- ковичи — большие, дворов по сто, деревни — прошли вчера. Теперь пошли мелкие. На песчаных пригорках среди кустарников ютятся кучки почерневших от дождя хаток с подслеповатыми окнами. На огородах только груши-дички. Поле песчаное, малоурожайное.
Впереди Шуры — компания, которая всегда держится вместе. Двое, те, кого хотели расстрелять около смолокурни, когда отступали от Журавич, и трое незнакомых в теплых ватниках, с ними курносая, с худым, бледным лицом девушка. К молчаливой, обособленной группе примкнул десантник Фурман и огромный, как дуб, парень по фамилии Богдан—он таскает за плечами выкрашенный в темно-зеленый цвет деревянный ящик.
— Десантники,— подмигивает Алесь.— Еще летом по Москве ходили. Сбросили их на парашютах.
У Шуры к десантникам острый интерес, но подступиться к ним нельзя — на лицах их печать таинственности.
По колонне бежит зычная, многоголосая команда:
— Перекур!
Разбрелись по низким ольховым кустикам, прилегли на сырую, укрытую чахлой травой землю. Впереди, за голыми березами, большое селение.
Перекур затянулся часа на три. Наконец раздалась долгожданная команда:
— Рассыпаться в цепь!.. Интервал — два метра...
Шли по прибитому дождем песчаному полю. Засеянная озимыми пашня чередовалась с пожней, картофельным полем. Вся земля в узких шнурах-ио« лосках.
Из-за насаждений послышалось несколько выстрелов. На мокрую пожню ложились неохотно. Некоторые только присели на корточки.
Больше не стреляли. Поднялись, пошли к насаждениям.
Гороховичи — село большое, стоит у железной дороги. Тут льнозавод — вдоль путей длинные, из нового теса склады. Высокая железная труба с проводами-отводами маячит в районе паровой мельницы. Удивительно, что полиция и немецкая охрана, не приняв боя, разбежалась. Это настораживает.
583
Партизаны торопливо шныряют по дворам...
Выскочив из огородов на безлюдную песчаную ули- цу, Шура с Богдановичем встретили старика в шапке- ушанке, в разбитых, подшитых кожей валенках. Стоит под вербой, моргает слезящимися глазами.
— Дед, где полицай живет?
Старик туговат на ухо.
Приставил ладонь к заросшему изнутри черным пухом уху, переспросил:
— Что говорите, детки?
— Полицай где живет? — крикнул Богданович в самое ухо.
Старичок заметно оживился:
— Вон там, дом под железной крышей. Сепаратор живет. Молоко немцам собирает.
Юркнули в огороженный досками двор, взбежали на новое высокое крыльцо. В передней половине дома увидели двух женщин с перепуганными, побелевшими лицами.
— Где хозяин?
— Болен он. Не трогайте, ради Христа...
В другой, чистой половине — фикусы под потолок — на лежанке, накрытый тулупом, лежит мужчина.
— Ну, вставай, Сепаратор...
Мужчина вяло поднялся, спустил с лежанки босые ноги. Лицо белое, безволосое, без кровинки. Будто год просидел человек в погребе.
— Вот что,— нахмурив выцветшие брови, начал Богданович.— На первый раз прощаем. Если будешь дальше собирать молоко — к стенке. Понял? И хвороба не поможет. А теперь дай нам что-нибудь из обуви и одежды. Ты же на немцев не даром работаешь?
На молочно-белом лице появились признаки жизни. Одна из женщин нагнулась, выкинула из-под кровати на середину комнаты пару хороших армейских сапог.
— Маня, мои башмаки отдай...
Женщина бросила на хозяина недобрый взгляд. Вышла в переднюю комнату, принесла башмаки. Немецкие, солдатские. С железными набойками на носках и каблуках.
Богданович, видя все это, начал распоряжаться сам. Снял перевязанные проволокой опорки, натянул сапоги. Шуре кинул ботинки. Непривычно грохая по полу, по¬
584
дошел к шкафу. Там, распятое на вешалке, висело кожаное командирское пальто.
— Ты, скотина! — лицо Богдановича наливается кровью.— Нашего продал? Откуда военное имущество?..
— Да нет, хлопцы. Тут же фронт стоял... Просто купил... Все покупали...
— Давай тулуп, сволочь.
Шура натянул на плечи теплый еще, от чужого тела или от лежанки, тулуп.
— А теперь запомни, рыло. Мы у тебя взяли один тулуп. Тебе на печи можно вообще без штанов лежать. Остальное ты награбил. Забрали награбленное...
Выскочили на улицу. Расстилая в небе черный дым, пылают льняные склады. Если такой дым, значит, не пустые они...
2
За Гороховичами начинается Домачовский район. Железная дорога из Горбылей в приднепровский городок как бы служит естественной границей. В отличие от той, которая связывает Гомель с Брестом, она охраняется немцами слабо.
Бондарь сел на повозку. Глухо ноет простреленная рука. Медсестра промыла рану крепкой самогонкой, перевязала бинтом — боль все равно не стихает.
Низко нависло серое небо. Колонна идет перелесками, глухими проселочными дорогами, обходя большие деревни, в которых могут быть гарнизоны. Разведка рыскает впереди.
Характер местности тот же, что на стыке Горбылев- ского и Батьковичского районов. Пески и пески. Миновали деревеньку — стоит на песчаном косогоре. Вербы на улице, черные, намокшие стены хат.
В голой березовой роще сделали привал. Через полчаса Гервась с двумя разведчиками привели высокого унылого парня в черном плаще.
— Полицай,— коротко доложил Гервась.— Винтовку отобрали.
Парень не может унять дрожи. Серые глаза будто присыпаны пеплом — потухшие.
— Откуда? — спросил Бондарь.
•— Из Пилятич.— У пленного заплетается язык.
585
— Следил за нами?
— Нет.
— Почему тут отирался?
— Князев посылал за баббитом. В Домачово.
— Зачем баббит?
— Хотят мельницу пустить.
— Ваша полиция разбила московский отряд? — мор-* щась от боли, спросил Бондарь (нечаянно шевельнул раненой рукой).
Парень заплакал.
— Меня силой взяли... Когда окружили партизан, меня не было. Нигде не был...
— Почему в полиции служишь, сволочь?
— Паек...— Полицай захлебывался от рыданий.
Бондарь нетерпеливо махнул левой, здоровой рукой...
Полицая увели.
С минуту Бондарь прохаживался возле повозки, морщил лицо.
Увидев Шуру Гарнака, подозвал к себе.
— Догони Гервася... Скажи, чтоб этого отпустили... Черт с ним...
Как только Гарнак побежал на опушку березняка, куда повели полицая, Бондарь почувствовал облегчение. С самого начала знал, что прикажет расстрелять полицая, и, когда допрашивал, испытывал мстительновраждебное чувство. Решение отпустить пришло как-то неожиданно, принесло облегчение.
Под вечер, когда миновали полосу перелесков, серых, высохших болот, песков и углубились в густое чернолесье, разведка привела шестерых парней.
— Хотят к нам,— сказал Комар, который вместе с несколькими партизанами сопровождал пришельцев.
Парни молодые, крепкие, как на подбор. Одеты по- зимнему — в пальто, ватниках, кожушках. Один в железнодорожной черной шинели.
Винтовок нет ни у одного.
— Откуда? — спросил Бондарь.
— Из Горохович,— ответил за всех широкоплечий, в железнодорожной шинели парень.— На другой день
586
вслед за вами вышли. Полицаи разбежались... Дома скажут, что вы силой забрали...
— Чем занимались в Гсфоховичах?
Парень замялся.
— Я на железной дороге работал. Василь и Семен,— парень показал на двух товарищей,— были со мной. Подпольная группа...
— Подпольщики — это хорошо.— Бондарь усмехнулся.— Только где ваше оружие, подпольщики?
— Добудем в бою! — выкрикнул парень, краснея.
Вечером меж берез и ольх запылали костры. Уже
когда совсем стемнело, Иван Гусовский (в налете на Гороховичи он не участвовал, после боя на шоссе отпросился повидать тетку) прибыл в лес, привел с собой странного, нескладного на первый взгляд человека.
У приземистого, широколицего пришельца большой сизый нос, на ногах валенки в огромных, из красной резины бахилах, на крупной голове самодельная, из заячьей шкурки шапка-решето.
— Доктора доставил, товарищ командир,— доложил Гусовский.— Специально ходил. Два дня уговаривал.
— Я сам захотел,— заговорил человек с чуть заметным, непохожим на местный, акцентом.— Есть чех. Не доктор, а фельдшер, живу тут с той войны. Мой сын в Литвинове. Думает так, как вы. Хочет в партизаны. А я партизаном быть не должен. Мне пятьдесят пять лет...
— Так зачем же пришел, отец? — поднимаясь от костра, спросил Бондарь.
— Он сказал,— фельдшер ткнул пальцем в грудь Гусовскому,—что тут раненые. Буду у вас, если будете отпускать к жене. Раз в месяц. Жене нужна еда — полпуда муки, килё сала. На месяц. Еще нужна корова. Немцы нашу забрали. Меня надо возить на повозке. Имею больные ноги. Иначе уйду домой. Свое отвоевал...
Доктора обступили, разглядывают как диво. Через минуту круг расступается — с прежним земляком (кто- то успел передать) пришли знакомиться словаки. Их шестеро, в отряде около месяца, появились сразу после того, как горбылевцы неудачно пытались остановить поезд.
— Михаил Слива,— говорит словак.— Родом из Ко-
587
хановцев, что около Тренчина. Не бойся, отец. Тут, среди партизан, имеем чешско-словенска колёнию...
— Юзеф Поймач,— называет себя следующий.— Из Кузьмице под Топальчанами...
Старик вконец растерян. Хватает широким ртом воздух, суетится, но слова вымолвить не может...
Еще через полчаса словаки вместе с раскрасневшим- ся, взволнованным фельдшером сидят у костра. Льется чем-то знакомая напевная речь.
В полночь, когда костры стали затухать, от словацкого костра доносится приглушенная песня. Печальная, протяжная.
Тесе voda skokem Kole nasich oken,
Nemozu ju Zastavit;
Roshnevala sem si svarneho synecka Nemozu ho udobrit...1
Словаки с чехом поют и разговаривают всю ночь. Темень вокруг густая, как деготь. Отойдя от костра на три шага, сколько ни вглядывайся — ничего не увидишь.
Бондарь не спит. Лежит на телеге, подложив под голову попону. Завтра или послезавтра встреча с партизанским начальством.
Еще полгода назад, когда только вышли из Горбылей, он, Бондарь, не чувствовал себя командиром над теми пятнадцатью, кто положил начало отряду. И, хотя они сами избрали его командиром, он был равным с ними.
Теперь, когда отряд вырос, иное положение. Он теперь командир. Может, даже больший, чем был в армии, ибо тогда над ним стояли высшие начальники, власть которых над собой он ощущал ежеминутно. Тут, в лесу, такой власти нет. Есть и у партизан то, что называют дисциплиной, подчинением, приказом. Но все равно он, партизанский командир, может отдать только такой приказ, необходимость, разумность которого будет понятна всем.
1 Течет вода скоком Возле наших окон.
Не могу ее остановить.
Разгневала сама своего пригожего сыночка, Не могу его задобрить... (чешек.)ч
588
Бондарь пренебрежительно относится к тем, кому власть туманит разум. Наилучшая проверка, умен ли человек,— сделать его начальником. Если задерет нос, значит, птица невысокого полета. Так любил говорить отец. И все же сам он, крестьянский сын, ушел учиться на командира. Может, соблазнил пример старшего брата?.. Он любил свои кубики, скрипучие ремни, строевую подготовку, любил отдавать команды и рапорты.
Тут, в партизанах, другое. Масса признала его командиром. Но признают ли здешние руководители, зачинатели партизанского дела?
3
На землях Октябрьского района партизанские бои начались еще летом сорок первого года. Горбылевцы видели сожженные деревни. Молча проходила колонна мимо пепелищ, пожарищ, заросших за лето высоким бурьяном. Тут и там на безлюдном просторе торчат закопченные грубы, колодезные журавли.
В уцелевшей деревне колонну задержала партизанская застава. Бондарь, держа руку на марлевой повязке, пошел к коменданту, в деревенскую хату с высоким крыльцом, выяснять обстановку.
Горбылевцы расположились у заборов, плетней. Разглядывали деревню. Немцев, полицаев тут нет, да и не было, если не считать карательной экспедиции, которая ворвалась в район еще перед весной. А с виду все, как и везде. У колодца переговариваются женщины, ползет по улице воз с сеном. Кто-то во дворе напротив колет дрова, громко стуча топором. Если б не люди, перепоясанные крест-накрест патронташами, гарцующие на конях возле хаты, куда вошел командир, никто и не подумал бы, что деревня партизанская.
За полчаса, пока Бондарь был в хате, Шурин напарник Богданович распрощался с кожаным пальто. Гервась с Комаром принесли засаленный ватник, протянули Алесю.
— Надо командира приодеть,— сказал Комар.
Алесь в первую минуту ничего не понял.
— Я в бою добыл!..
589
— Протри глаза, посмотри, как тут командиры ходят. А наш в чем?
Богданович больше не спорил. Снял пальто, отдал Гервасю. Только два дня и пофорсил в нем. А Шура в полушубке как царь.
Бондарь вышел из хаты в сопровождении незнакомого человека в кубанке, в кожаной тужурке. Построил отряд в шеренгу по четверо.
— Пока отдых,— сказал коротко.— Квартиры займем в Сосновице, около Птичи. Отсюда десять километров. Вместо себя назначаю Гервася. Поеду в штаб...
Карпиловка — партизанская столица — тесно окружена сосновым бором. Такой ее запомнил Бондарь, когда в начале прошлой зимы приходил сюда.
Бондаря сопровождают ординарец Володя Шлег (был с ним и тогда, в декабре), Проскуров, который отправляется в штаб минских партизан, и разведчик Мазуренко с девушкой-радисткой — они несут ремонтировать рацию.
Районный центр Октябрь состоит из деревни Карпи- ловки и поселка Рудобелки, к которому примыкают казармы-интернаты спиртзавода. Когда вышли из сосняка, увидели, что Карпиловки как и не было: обгорелые трубы, груды кирпича — следы пожара и разрухи.
Штаб Вакуленки в Рудобелке размещался в длинном обшарпанном здании. Бондаря командир принял не сразу — занят был разговорами с представителями Минского штаба. Возле казарм стояли оседланные кони, подводы. Толпились посыльные из отрядов и деревень.
Бондарь с Володей отошли от здания, присели на обочине канавки, закусили.
Вскоре вызвал Вакуленка. Комнатка его тесная, прокуренная. За столом незнакомый пожилой человек с портупеей поверх хорошо подогнанного по фигуре короткого полушубка. Сам Вакуленка, рослый, широкоплечий, с большим, будто высеченным из куска гранита лицом, прохаживается из угла в угол, хмурит черные брови.
— Прибыл? — взглянул он на Бондаря.— Молодец, знаю про тебя все. Давай за это поцелую...
Обнял Бондаря и, дохнув в лицо сильным водочным перегаром, трижды поцеловал в губы.
590
— Садись, рассказывай...
Однако слушать Бондаря не стал, занятый какими- то заботами, сразу же вышел.
— Васильев,—представился человек в полушубке.— Состою при Минском штабе.
Бондарь назвал себя.
— Вы военный?
Бондарь кивнул головой.
— Приятно встретить товарища по несчастью. Я был начальником штаба дивизии. Окруженец. В партизанах с лета прошлого года.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Васильев был прапорщиком еще в первую мировую войну, в гражданскую командовал ротой, батальоном, в начале тридцатых годов окончил Академию Генерального штаба.
— Что вы считаете основной задачей партизанской борьбы?—сцросил Васильев.
— Вредить немцам. Мы в основном действовали на железной дороге.
— Большой успех?
— Двенадцать эшелонов. Хотя целиком сброшены под откос не все.
— Разделяю ваш взгляд. Свободной зоны в ваших районах нет?
— Нет.
— Думаю, что развитие событий приведет именно к этому. Хотя, с другой стороны, партизаны не в сипах защитить мирное население. Октябрьский, Любань- ский районы — исключение. Они далеко от коммуникаций.
Вошел Вакуленка, бросил с порога:
— Слушай, Бондарь, долго будете драпать от немцев? Пора разгонять осиные гнезда...
— Кишка тонка, Адам Рыгорович. В отряде сто шестьдесят три человека. Вместе с ранеными.
— Не забывай, пошел р гору домачовский отряд. Командира и комиссара мы туда подослали. А то чуть не разбежались. Шелег, как выяснилось, был тряпкой. Потому и погиб.
— Ко мне в отряд просились домачовцы,— сказал Бондарь.— Я подумал, что это будет неразумно.
— Правильно сделал. В каждом районе должен
591
быть свой отряд. У нас их знаешь сколько? — Вакуленка довольно захохотал.— Четырнадцать отрядов, братец ты мой. Не знаем, как с этой анархией справиться.
— Странно: такая сила, а в Ломовичах — немецкий гарнизон,— поддел Бондарь.— Неужели не можете раздавить? Мы из-за Ломович двадцать верст крюку дали, чтобы до вас добраться.
Вакуленка насупился. Сказал рассудительно:
— Ломовичи разгоняли и разгоним еще. Беда в том, что не все бьют в цель. Думаешь, легко отрядами руководить? Минскому штабу кое-как подчиняются, а мне не очень. Хорошо, что межрайком действует...
— Связь с Москвой постоянная? — спросил Бондарь.
— Самолеты садятся. В Поречье. Ты зайди на склад. Возьмешь килограммов сорок толу.
Когда Бондарь, попрощавшись, вышел за дверь, Вакуленка догнал его на крыльце, шепнул:
— Обмозговываем с полковником операцию. Мост через Птичь. Только никому ни гугу. Через пару дней вызовем на совещание.
4
Недалеко от станции Птичь, в сыром осеннем чернолесье, собирались в кулак партизанские силы. Предстояла крупная операция — взрыв стотридцатиметрово- го моста через реку Птичь.
Горбылевский отряд, совершив тридцатикилометровый переход, прибыл в назначенное место вечером. Последние версты преодолевали в темноте. Лес кишит народом. Зажигать костры запрещено, но светлячки цигарок блестят чуть ли не под каждым кустом.
Бондарь, чтоб не сбиться, время от времени сворачивает с дороги, спрашивает:
— Какой отряд?
— Гаркуши,— отвечают из темноты.
— Михновца...
— Деруги...
Отряд Вакуленки, с которым горбылевцам приказано взаимодействовать, нашли на окраине леса. Несмот¬
592
ря на запрещение, меж ольх и берез стоит разноголосый базарный шум. Слышен треск — ломают ветки, сучья, чтоб застелить сырую землю, прилечь.
С дороги доносится раскатистый голос:
— Отряд Бондаря! Командира ко мне!..
Бондарь осторожно, чтоб не наступить на кого-нибудь в темноте, направляется к дороге. Тот, кто вызывает, время от времени посвечивает карманным фонариком. Около него собралось несколько человек, стоят полукругом. Чавкая по грязи, раздвигая мокрые ветви, пошли меж кустов.
Через четверть часа добрались до хлева или амбара, бесформенной грудой черневшего на взлесье. Когда вошли внутрь, Бондарь разглядел, что это не хлев и не сарай, а лесная казарма — в таких жили когда-то лесники и объездчики. Напротив дверей — большая обшарпанная печь. Над столом горит фонарь «летучая мышь». Окна завешены дерюгами. Вдоль серых стен, тонущих в полумраке, сидят люди.
Бондарь стоит сзади щупловатого Семена Гринько (он заменяет командира Вакуленку), чувствуя, как и все, кто тут собрался, острую напряженность момента. Операция необычная. Недаром сюда, в лесную казарму-сарай, приехали чернявый невысокий секретарь республиканского комсомола, прилетевший из Москвы, секретарь Минского подпольного обкома (их Бондарь видел на совещании в Рудобелке) и другое высокое начальство, о существовании которого здесь, на захваченной немцами земле, он даже не догадывался.
Вошла новая группа командиров. Тех, что стояли у дверей, потеснили на середину комнаты. От стены отделился секретарь обкома — высокий, широкоплечий, в длинном кожаном пальто,— вышел в полосу света, падающего от фонаря. Заговорил хриштватым, простуженным голосом:
— Операция намечена Центральным Комитетом. О ней знает товарищ Сталин. Если взорвем мост, поможем нашему героическому Сталинграду. Сил хватит. Прибыли шестнадцать минских и полесских отрядов, специальные группы. Хочу сказать, товарищи, что мост на Птичи — наш экзамен. Если не выдержим •— грош нам цена. Командует операцией старший батальонный комиссар Гуликов'ский...
593
Под фонарь вышел худощавый, в военной форме, Гуликовский, зачитал приказ:
— «Отряды Батажкова, Деруги, Вакуленки, Бондаря, Поеледовича, Батрииа, Комарова, Млышевского, Лежновца, Полотникова... в ударную группу.
Ответственный за взрыв моста Казимир Гущин.
Для диверсии на железной дороге и в заслон со стороны Житкович выделяются отряды Гаркуши, Михнов- ца, со стороны Калинкович — Авраменки, Карафанова.
В заслон от Копаткевич — отряды Сосновского и Го- лышева.
Проводниками обеспечивает отряд Сосновского...»
Все дружно заговорили, зашумели.
Когда вышли из казармы, Гринько тронул за плечо Бондаря, зашептал:
— Словаки дали план укрепления. Стоят в Петри- кове, Муляровке. Слышал — заслонов гуда не пошлют. Словаки сами обещали бить по Птичи, как только начнем...
Будто светлее стало в лесу. Начинался холодный, сухой ветер, разгонял темные тучи, обложившие небо. В серых просветах заблестели звезды.
Шуру, несмотря на теплый кожух, била дрожь. Ноги промокли, и, хотя он подпрыгивал, толкал плечом Богдановича, все же никак не мог согреться. От долгого ожидания становилось тяжко.
За соседним кустом кто-то выводит на немецкой губной гармошке «Катюшу».
— Играй, играй,— подначивал незнакомый голос.— Может, услышит твоя...
— Запираться не будет на ночь...
— Будет она его ждагь. Давно полицай под боком.
— Полицаи — мужики твердые. Спуску не дадут.
— Программу-минимум выполняют. Слопает за день фунт сала, литру самогонки — и бабу...
За кустом хохочут.
— До войны в нашем сельсовете был финагент. Литр выпивал без закуски. Бутылку откупорит, рот раскроет, как голенище... И самого-н змеей льется прямо в горло...
— В полиции твой финагент?
20 И. Науменко.
594
— А где ж ты думал? За одну зиму восьми бабам сделал пузо...
— Нам тоже немного бы самогоночки. Погреться...
— А потом лесничиху. Правда, Семен? Ты с ней в гумно за соломой ходил недаром...
— Признайся — хоть приласкала?
— За вами ухватишь... Шныряли по углам, как цуцики...
На дороге — движение. Всюду в лесу громкие голоса команды. Послышался голос Бондаря — зашевелились горбылевцы.
Шли часа два. Небо посветлело. Пронизывающий ветер продувал насквозь. Начинался первый заморозок — земля, мокрая трава стали подсыхать.
Когда вышли из редколесья на опушку, впереди блеснули огни станции Птичь. С левой стороны, в приречных лозняках, шумел ветер. На опушке залегли. Незнакомые проводники-разведчики, выделенные из другого отряда, поползли резать провода.
Шура лежит рядом с командиром взвода Медведевым. Богданович где-то дальше. Медведев вынул плоский немецкий нож-штык, вспарывает, кромсает перед собой землю, выгребает из лунки. Делает эту работу старательно, упорно. Насыпал холмик, только голову спрятать, передал нож Шуре. Толкнул под бок—-шевелись...
Впереди цепью идут люди, забирают вправо. Кончается одна цепь, за ней движется вторая, третья. Шура смотрит на огни станции, у него такое ощущение, будто он сейчас возле родного местечка. Ночью пейзаж кажется похожим. Если с севера, от Батькович, выйдешь , из ольшаника на осушенное болото, станция выглядит ; так же. Только там нет реки.
— В шеренгу по одному! — слышится команда.
Впереди видны темные домики поселка. Из крайнего двора слышится собачий лай.
Движущаяся человеческая лавина стремительно за- . полняет промежуток между станцией и мостом. У Шуры одна только мысль — немцы вот-вот заметят партизан. Станция справа. Чернеет длинное, барачного типа здание, заметны небольшие служебные помещения. Не верится, что оттуда не видно огромной толпы, надвигающейся на железную дорогу.
595
Чувства у Шуры обострены. К серой громаде моста подбирается целая лесная армия, невиданная, неслыханная ранее. Мост словно притягивает к себе.
На востоке, верстах в четырех от моста, грянул оглушительный взрыв.
— Ложись! — послышалась громкая команда.
Другой взрыв донесся с левой стороны железной
дороги. В ту же минуту со станции и с моста дружно резанули пулеметы. Огни мгновенно погасли.
Из-за спины, из кустов, ударила партизанская пушка. Над головой резко просвистел снаряд. На станции поднялся огненный столб взрыва. Отозвалась другая пушка, третья, заговорили пулеметы. Загремели пушки и со стороны Петрикова, Муляровки. Снаряды со свистом проносились над луговиной, где лежали партизаны, рвались на станции, на мосту.
Рядом с Шурой упал Богданович. Заговорил возбужденно, громко:
— Из Петрикова словаки бьют. По немцам. Теперь им хана...
Снаряды ложатся все гуще. Трудно разгадать, кто и откуда стреляет. На станции горит длинное здание. Пространство вдоль железной дороги до моста видно как на ладони. Оно кажется безлюдным, мертвым. В трепетных отблесках пожара — два сцепленных вагона на рельсах, будка стрелочника, черные, голые деревья.
— Ура-а-а!.. Га-а-а!
Подхваченный многоголосой упругой волной, Шура бежал к насыпи, крича, стреляя, как и все. Сопротивления немцы либо не оказывали, либо оно было очень слабым, так как, когда он, запыхавшись, вскочил на насыпь, станция и мост были в руках партизан. Шура спешил к мосту, видел черные фигуры людей, бежавших по настилу. Но в одно мгновенье люди хлынули назад. На мосту суетились минеры, таща на спинах тяжелые, туго запакованные мешки.
Шура побежал на станцию. Там бушевал пожар. Горели вагоны, будка стрелочника, складские помещения. Стрельба, крики стихали. Увидев уцелевшую стрелку, Шура кинулся к ней, чтобы вытащить из ящи- ка-фонаря лампочку с керосином, но в ту же минуту чья-то сильная рука схватила его за кожух. Партизан
20*
596
бежал как раз от стрелки. Шура кинулся за ним. На краю насыпи оба упали. На месте стрелки сильно ахнуло...
— С тебя магарыч, отрок,— услышал Шура насмешливый голос.— Мог героически отдать душу. Из какого отряда?
— Бондаря.
— А я из Гастелло. Не знаешь, что стрелки взрываем?
В тот же момент оба снова приникли к насыпи. Там,
$97
где был мост, взметнулся в небо могучий ослепительный столб пламени, и было отчетливо видно, как вздыбились, сложившись на мгновение в островерхий треугольник, фермы, а потом стали тихо, медленно оседать. Воздушная волна взрыва прижала к земле, оглушила, наполнила уши, нос, рот сладкой на вкус ватой...
Назад в лес Шура возвращался с незнакомым партизаном. Миновав поселок, забились в кустарник. Перед ольшаником, черневшим впереди, их догнала другая группа.
59*
^ Словаков чуть не перестреляли,— послышался усталый голос.— Мы в засаде лежали, а они идут по дороге строем. Думали — немцы...
— Как же это так?
Пароль поздно сказали...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Сосновица — деревня большая, с несколькими улицами. Раскинулась действительно среди сосен, которые подступают к огородам. Кроме горбылевского тут расположились еще два отряда. Партизаны — в каждой хате.
Вернулись с Птичи на второй день. Всюду голоса, возбужденный гомон.
Со дворов, огородов поднимаются в небо сизые столбы дыма.
Шуру морит сон. В хате заснуть нелегко — ежеминутно хлопают дверью. Накинув на плечи кожух, он вышел во двор. В сенях задержала хозяйка — тихая, с глубоко впавшими глазами женщина. Открыла каморку, дала в руки сверток.
— Переоденься, детка. Ходишь грязный...
Шура поцеловал хозяйке руку. И сам не знает, как это получилось. Просто захотелось как-то отблагодарить ее. Переодеваясь, усмехнулся. Тут чистым бельем, видно, не поможешь.
На огороде стоит небольшая банька с ржавым, без дна, ведром вместо трубы. Внутри довольно светло. По ступенькам Шура залез на верхнюю полку, поднял воротник, плотно запахнул полы кожуха. В сон провалился, как в бездну...
Проснулся от непонятных приглушенных выкриков. Глянул вниз — перехватило дыхание. В полумраке белеют две голые женские фигуры. Постарше, крупнее телом, стоит пригнувшись, опершись руками о колени. Младшая растирает ей спину чем-то едким, жгучим,— даже сюда, под потолок, проникает неприятный запах, от которого щекочет в носу.
599
По голосам Шура узнал обеих. Старшая — Сергеева сестра, та, что так неприветливо его встретила, когда он пришел в отряд. Младшая — радистка Ася, У Аси гибкий стан, маленькие груди торчат, как рожки у козы. Следить за голыми девушками нехорошо, гадко, тем не менее Шура не моргнув смотрит вяиз. Неужели теперь зажмуриться? Лежал затаив дыхание, боясь пошевелиться...
Наконец девушки стали одеваться. Натянули сапоги, надели ватники, повязались платками.
— Кожа прямо горит,— будто от холода поводя пле-* чами, проговорила Ася.
— Соня сказала — поможет. Комиссар от коросты кислотой вылечился.
Хлопнули дверью, ушли...
Шура вылез из баньки, охваченный смутным беспокойством. Асю он приметил сразу, когда та появилась в отряде. Острый интерес испытывал к ней прежде все^ го как к человеку из непонятного, загадочного мира. Было трудно поверить, что тоненькая девушка с русыми кудряшками и миловидным личиком летела через фронт, прыгала на парашюте.
Не одному ему понравилась Ася. Видел, знакомства с ней добиваются Алесь Богданович, Володя Шлег, даже фартовые — в кубанках, хромовых сапогах — хлопцы-разведчики из отделения Большакова. В своем кожухе, неуклюжих башмаках соперничать с ними Шура не отваживался. Но и разведчики, кажется, достигли не многого. Ни на шаг не отступает от нее молчаливый человек, которого называют капитаном.
Излишней целомудренности по отношению к девушкам Шура не проявляет, не верит в ту красивую любовь, о которой пишут в книгах. В жизни все проще. Дважды он имел возможность убедиться в этом. В первый месяц войны познакомился со станционной буфетчицей Люсей, подвижной, веселой девушкой с зеленоватыми, как у кошки, глазами. Купил Люсе в ее же буфете сто граммов шоколадных конфет, а она пригласила его прийти вечером к ней. Он пришел и, ссылаясь на то, что на улице патрули, провел с Люсей ночь. Хо¬
6С0
дил к ней недели две, пока не потерял к девушке интерес. Тогда Шуре было семнадцать лет.
В другой раз было еще проше. Шура повадился ходить на вечеринки, танцевал с девушками. Ему понравилась толстенькая приезжая аптекарша (она квартировала на Вокзальной улице). Как-то после танцев Шура предложил ей выйти во двор, под яблони. Там он поцеловал аптекаршу в мягкие, пухлые губы и, хотя она для видимости сопротивлялась, в тот же вечер добился, чего хотел...
Про Асю Шура думает по-другому. Он знает цену настоящим девушкам. Увидел голую, беспомощную. Словно приобщился к тайне. Носил бы Асю на руках...
В хате Шура застал только Богдановича. Алесь сидел у стола, уныло тренькал на балалайке, на которой не хватало струны. Увидев Шуру, обрадовался:
— Где ты был? Я тебя полдня искал.
— В одном месте,— с загадочным видом соврал Шура.— Там меня больше нет.
— Хочешь выпить?
— Хочу.
Из брезентовой торбы (в такие насыпают овес и вешают коням на морды) Алесь вытащил бутылку самогона, разрезал луковицу, налил самогону в большие глиняные кружки.
— Давай выпьем за Птичь.
— Я там чуть не подорвался,— сказал Шура.
Богданович переспросил равнодушно:
— На мине?
— На стрелке. Хотел лампу вытащить. Хозяйке. Сидим впотьмах...
Алесь, не чокнувшись, задрал голову и тянул самогон без передышки. Ходуном ходил кадык на загорелой, покрытой белым пухом шее. Допив до дна, вытер губы ладонью, хрустнул луковицей.
— Я немчика кокнул. Молодого. Главное, сволочь, поднял руки...
Шура молча глядел на Алеся. Тот опьянел мгновенно,—видимо, пил до этого. Лицо обрюзглое, веки покраснели.
— Муторно мне... Я выстрелил, а он за грудь схватился, пищит, как дитя. Упал, стал кататься по земле... Не могу забыть... Стоит перед глазами...
601
— Выбрось из головы,— сочувственно сказал Шура.— Немец руки поднял, так как выхода не было. Оглушили их. А так бы шлепнул тебя и только облизнулся бы. Они такие, сволочи!
— Знаю. Мы шестерых немцев в плен взяли. До тебя еще. Ехали в Ольхов за яйцами. Бондарь допросил, а потом, сам знаешь...
В эту же минуту на пороге появился Бондарь. Подошел к столу, присел на лавке рядом с Шурой.
— Богданович, чего раскис?
— Справляю поминки, Павел Антонович. По немцу...
— Знаю. Гервась говорил.
Бондарь — у него правая рука забинтована — поднялся, прошелся по хате.
— Учиться бы вам надо, хлопцы. Носа, однако, не вешайте. И самогону излишне не пейте. После войны пошлем в институт. Характеристики такие дадим — без экзаменов примут. Сами знаете — на фронте дела хорошие...
Кивком головы он показал Шуре на дверь, а Богдановичу сказал:
— Пойдешь со мной. Полазим по своему району. К матери заскочишь. Не всех беру, а только тех, кто пришел в июне вместе со мной...
Шура ждал их во дворе. Сгущались синеватые сумерки. За огородами в соснах монотонно шумел ветер. По мерзлой земле на улице стучали сапогами партизаны.
Бондарь вышел, взял Шуру под руку, вывел в огород, к баньке. Заговорил вполголоса, приблизив свое лицо к Шуриному:
— Тебя от меня забирают. Будешь тут, в отряде, но с сегодняшнего дня подчиняешься капитану Мазуренко. Он разведчик. Прислан из Москвы, из управления разведки. Полезный для нас человек. Так что держи язык за зубами. Никому ни гугу. Даже своему дружку Богдановичу.
Шура молчал' охваченный противоречивыми чувствами.
— Лобик Иван был в вашей группе?—неожиданно спросил Бондарь.
Шура вздрогнул.
602
— Был. Откуда вы знаете?
— Он мой племянник. Я тебе до времени не говорил. Никому не говорил. Мой отец в местечке. И я там жил. До тридцать второго года...
— Дед Бондарь!—воскликнул Шура.— Мы у него прятались...
— Тише, хлопец! Об отце мало кто знает. Только самые близкие. Тебя попрошу об одном. Никому ни слова. Сам понимаешь, почему... Разведчик хочет установить связь с вашими ребятами. Тут из местечка есть один человек. Агроном Драгун. Он подсказал...
— Драгун?—переспросил Шура.— Я же знаю его. Но тут ни разу не видел.
— Он был по ту сторону железной дороги. Вчера вернулся.
— А отец знает, где вы?
Командир оглянулся.
— Знает. Зимой я у него был. Разговаривали... Ну, иди, капитан в третьей хате. По левую сторону.
С огорода во двор выходили по одному: впереди Бондарь, за ним Шура...
2
В ту же ночь Бондарь вывел из Сосновицы часть отряда. За сутки преодолели пятьдесят верст. Седьмого, ноября под утро пришли в поселок Скорошилов, что в трех километрах от железной дороги.
Хлопцы прилегли в кустах. Бондарь, Гервась, капитан Мазуренко направились к хате единоличника Якова Шевца. Хата стоит немного на отшибе, выделяется ярко- зеленым мохом на обветшалой крыше.
Яков, черный, как грач, шустрый старик, встретил партизан в сенях, пригласил в хату.
— Знаешь, какой сегодня день, отец?—спросил Бондарь.
Старик ощерил крепкие еще, желтые зубы.
— Вы ж сами повесили календарь. Третий день поездов нет.
— Мост на Птичи рванули.
— Тогда вы — сила. Когда-то видел тот мост..*
603
Жена хозяина, казавшаяся моложе Якова лет на двадцать, начала хлопотать около стола.
— Не надо, отец. Дай, если что есть, с собой. Там хлопцы ждут.
— Пускай так. Только у меня маловато. Зайдите к Т рофимову — леснику.
— Ладно. У нас дела. Скажи, отец, где-нибудь близко есть дуб, который виден с железнодорожного полотна? Хотим флаг вывесить.
Старик задумался.
— Идите под Жерновицы. Там найдете. И с чугунки видать, и в лесу далеко. Немцы побоятся сунуться. А я тем временем посплю. Ночью водил ваших...
— Куда водил?-—удивился Бондарь.
— На железную дорогу, куда ж. Пришли, просят. Совсем незнакомые. Я отговаривал, сказал — железная дорога не работает. Слушать не хотят...
Гервась забеспокоился:
— Может, провокаторы, отец? С чужими не ходи. Ты связной нашего отряда.
— Э, сынок! Ваши, наши... Считай, каждую ночь стучат в окно. Вчерашние тоже наставили на чугунке немцам игрушек...
На север от Жерновиц, верстах в четырех от станции, высится дубовая гряда. Дубы высокие, столетние, с широкими, развесистыми вершинами. Партизаны вырубили две длинные березовые жерди. Держась за жерди, Богданович, а за ним и Володя Шлег вскарабкались на нижнюю ветку. Им подали на жерди древко флага.
Снизу даже страшно было смотреть на смельчаков, взобравшихся на самую макушку. Партизаны стояли, задрав головы, затаив дыхание глядели. Застучал молоток. Богданович, обхватив ствол руками, грудью прижимал к нему жердь. Володя, пристроившись с другого бока, прибивал жердь гвоздями к дубу.
Флаг затрепетал двухметровым полотнищем...
Как только Богданович с Шлегом спустились на землю, со стороны Жерновиц затарахтел пулемет. Сверху посыпались куски коры, ссеченные пулями ветки. Немцы били по флагу...
104
Теперь Бондарь действует в своем родном районе. От Жерновиц до местечка, до отцовой хаты —верст восемнадцать.
У отца на огороде стоят три исполинских дуба, они были такими же могучими, развесистыми и в ту пору, когда отец еще был молодым и, заработав денег, купил на казенной земле место под усадьбу.
Отец — потомственный крестьянин. Изо дня в день пахал, косил, возил сено, волновался, если недоела корова или подбил ногу конь, если у соседских овец, которые ходили в одном гурте с ихними, завелась вертячка.
605
В колхозе работал с тем же старанием, как прежде на единоличном хозяйстве, вставал на заре, вытягивал из печурки подсохшие портянки, обувал лапти...
Сколько помнит Бондарь, отец никогда не болел, ел, что поставлено на стол, на аппетит не жаловался. Про отцова отца, косматого, широколицего деда Петра с выбитым передним зубом (при разговоре дед будто присвистывал), про его неразборчивость в еде ходила по местечку шутка. Правда или неправда, но людские языки, которые никогда не завяжешь, плели, что старый Бондарь, вернувшись с сенокоса и не застав дома жены,
606
вынул из печи большой чугун и выхлебал все его содержимое до дна. Ошибку обнаружила жена —старик опорожнил посудину с телячьим пойлом, а чугунка с борщом не заметил.
Братья пошли в деда — рослые, неповоротливые, а он — в отца, издали напоминавшего подростка.
Может, потому, что в молодости отец хватил лиха, пока разжился деньгами, купил земли на усадьбу и поле, он как событие законное, прямо-таки необходимое, принял коллективизацию. «Люди множатся, а земли прирезать неоткуда,— говорил он.— Хоть и болота осуши, лес выкорчуй... Земля измерена давно. Сожмутся люди на ней, потасовка начнется, ссора. Надо способ искать, чтоб хлеб люди зарабатывали не только на земле...»
Действительно, что бы получилось, если бы отец поделил свои две десятины на четырех сыновей и дочь?..
Сыновья все учились. Бондарь помнит — в двадцать четвертом или двадцать пятом году отец продал корову и дал по червонцу ему и Степану — на книги. Червонец по тому времени что-нибудь значил.
Отец — странный. Читал газету, которую выписывали сыновья, и ходил в церковь, поносить бога не разрешал, но сам сделал рамку для портрета Ленина, который дети принесли из школы. Новое принимал, но и старого не чурался.
Таким он был во всем. Водки в будни не признавал, в доме ее не держал, но на праздники, на сборищах, гулянках, свадьбах напивался вволю, пил, сколько ни поднесут. Тогда — день ли, ночь ли — горланил песни, а мать вела его по улице домой, увещевала.
Он благодарен отцу за то, что им, детям, он привил ясный, чистый взгляд на жизнь, не терпел небрежности, никогда не был несправедливым, жестоким, но и сладких пряников не обещал. У отца было правило: достиг совершеннолетия — живи своим умом. Казалось, он становился даже равнодушным к взрослым детям. Все они учились и после восемнадцати лет, но денег отец не давал ни одному, хотя торбы, отправляя в дорогу, набивал исправно.
Конечно, он гордился сыновьями, но не хотел показывать этого. Другого такого примера, где бы четверо сыновей так дружно шли в новую жизнь, в местечке, где вырос Бондарь, пожалуй, не было. Потому он теперь
607
тревожится за отца. Хотя в Горбылях его мало кто знал, а те, что близко знали,— люди надежные, все же слухи до немцев могли дойти...
Засаду устроили, выйдя из-под дубов, залегли в орешнике. Пулемет то замолкал, то посылал снова длинные прерывистые очереди. Засада, если называть ее так, немного странная. Отсюда, из-за зарослей орешника, горбылевцы смотрели на дубы, как пастухи на стадо. На часах оставили троих, остальные стали доставать из заплечных мешков хлеб, вареное мясо, яйца.
Лесной банкет, засада — все вместе.
Бондарь с Драгуном отделились. Сгребли подсушенные морозом листья, прилегли под сосной. Позвали Мазуренко. Володя Шлег, ординарец, принес мешок, разложил на деревенской домотканой скатерти нарезанную ветчину, хлеб.
Бондарь поднял голову, прислушался. Пулемет замолчал.
— Как думаешь, не пойдут?
— Ни за какие деньги. Яков верно говорил.
— Мы с Драгуном учились вместе,— сказал Бондарь, повернувшись к Мазуренко.— В Батьковичах, в лесной школе. Я и родом оттуда. Он агрономом стал, а я черт знает кем. Когда немцев прогонят, уйду в лесники.
— В армию пойдешь. Ты же кадровый, капитан.
— Могут не взять. Окруженец все-таки. Да и капитаны за войну знаешь кем станут? Полковниками.
— Я тоже агроном,— сказал Мазуренко.— Виноградарь. Был старшим политруком. Переквалифицировали.
— Помню, как к власти пришел Гитлер,— задумчиво сказал Бондарь.— Только кончили с ним науку,— он кивнул на Драгуна.— А мне назавтра повестка. Не из военкомата — из райкома комсомола. Был такой комсомольский призыв. Мать сухари сушит, я к девчатам собирался. А в хату к нам забежал один пенсионер, Зборовский, железнодорожник. Ты его, Василь, должен знать. У переезда живет, дом с белыми ставнями. Или, может, умер?..
— Жив,— сказал Драгун.
608
— Так вот, Зборовский этот снял шапку, сел возле стола. «Гитлер, говорит, к власти пришел, теперь будет война...» У матери из рук торба с сухарями выпала...
Из Жерновиц снова застрочил пулемет...
— Я, когда услышал, что ты вывел отряд,— сказал Драгун,—сразу подумал — дело будет. В тебе что-то есть...
— Черт его знает, может, есть. Мой брат старший в комбриги вышел. Отец три Георгия принес. Был председателем полкового комитета...
— Помнишь Стрыка, председателя сельсовета?— спросил Драгун.
— Разве такого забудешь.
— Ты на него был похож. Не характером, чем-то другим.
— Где теперь Стрык?
— Поставили заместителем председателя райисполкома. В тридцать седьмом, сам знаешь, что было...
Мужчины замолчали, посмотрели друг на друга, потом на Мазуренко. Тот в своем куцем кожушке лежал на спине, ковырял былинкой в зубах, смотрел в небо. Сказал спокойно:
— Выдам тебе военную тайну, Павел Антонович. Пришла шифровка из Москвы. Просят собрать сведения. О тебе. Видимо, запрос из партизанского штаба. Расскажи что-нибудь! О своем местечке, об этом Стрыке...
3
Сейчас тысяча девятьсот сорок второй. Тогда был тысяча девятьсот тридцать второй. Местечко Батьковичи официально считалось селом. Был в нем сельсовет— в просторном, с желтыми ставнями доме купца. Был колхоз, в который еще не вступила и половина жителей местечка. Из объектов промышленных — мыловаренный и кирпичный заводики, лесопилка. Была школа первой ступени, которую по-новому начинали называть
шкм.
Но центрами, которые как бы излучали свет новых перемен, были не эти чисто местные заведения. Тон местечковой и окрестной жизни задавали курсанты. В лесную профтехшколу, на автотракторные курсы при-
609
ним ал и людей хоть и молодых, но проверенных, которые на деле доказали приверженность к Советской власти.
Бригады курсантов выезжали в близлежащие сельсоветы, выступали с концертами, агитировали за колхозы, разоблачали кулаков и попов. На учебных «форд- зонах» курсанты запахивали межи единоличников.
Вождем комсомольцев-профшкольмев был Бондарь. Щуплый, приземистый, шустрый, он зимой и летом бегал с расстегнутым воротом сорочки, из-под которого выглядывала полосатая матросская тельняшка. Выступал Бондарь горячо, с запалом, но о чем бы ни говорил, не упускал случая связать текущие дела с международным моментом.
Рыбак рыбака видит издалека. Оратора-комсомоль- ца приметил председатель сельсовета Стрык, худой, высокий, с темным, будто вымазанным дегтем, лицом. Стрык носился по улицам местечка на красивой кобыле Ласточке, красно-гнедой, с белыми подпалинами на ногах и у глаз. Если Стрык был не в седле, то все равно казалось, что он куда-то мчится, боясь опоздать,— так быстро, размашисто он ходил...
Стрык иной раз брал Бондаря с собой, когда выезжал в села проводить собрания.
Октябрьский митинг в местечке в 1932 году запомнился всем. Наспех сколоченную дощатую трибуну, которая возвышилась на базарной площади, покрасили в красный цвет. Задние, а также боковые места на площади перед трибуной наполовину заняла профтехшкола вместе с автотракторными курсами. Учащиеся профшколы и курсанты принесли портреты вождей, лозунги, написанные белыми буквами на красном кумаче,— их надо было нести вдвоем, держа палки над головой, растягивая полотнища, чтоб можно было прочитать написанное. Но особым украшением колонны курсантов и воспитанников профтехшколы были доски транспарантов, на которых самодеятельные художники наглядно показывали битвы революции — красноармеец в буден- новском шлеме колет штыком толстозадого генерала, худой, жилистый рабочий сметает с земного шара буржуя, помещика и попа.
Правее, расцвеченная флагами, портретами, лозунгами, флажками, вырезанными из красной бумаги, стояла колонна семилетки, за ними железнодорожники с
610
фанерным макетом паровоза, а еще дальше — смолокуры, пильщики, рабочие кирпичного завода, небольшая группа мужчин с мыловарни. Колхозники пришли с гармошками. Все с красными бантами на груди, в новых, праздничных одеждах.
Первомайские, октябрьские митинги и демонстрации были всегда шумными, людными, но никогда раньше не видело местечко столько красок, лозунгов и плакатов, как в ту осень. На трибуне — по человеку от каждой организации и председатель сельсовета Стрык. На ветках тополя, росшего через улицу, как раз напротив трибуны, как воробьи, сидят мальчишки. Они ждут чуда, о котором уже загодя пошла широкая молва.
Творцы чуда — комсомольцы профтехшколы во главе с Павлом Бондарем — выскакивают на площадь из-за сельсоветского дома, выстраиваются в цепь, как по команде, нагибаются, ставят на землю плоские банки. Один миг — и из-под их ног вырываются облака сизого дыма, окутывая плотной завесой цепь. Комсомольцев из-за дыма не видно, но на том месте, где они стоят, высоко над головами поднимаются на древках красные флаги. Площадь тонет в рукоплесканиях, в криках восторга...
Комсомольцы исчезают. Пространство перед трибуной пустеет. Слышен перестук колес, бряцание железа — из-за поворота улицы на полном скаку мчится пожарная команда. Пожарники в блестящих медных касках, в полной экипировке — с топорами за брезентовыми поясами, с длинными баграми в руках. Держа коней под уздцы, пожарники выстраиваются перед трибуной. Тогда открывается митинг. Первым выступает Стрык.
Его пронзительно-звонкий голос слышится далеко вокруг. И то, что выкрикивает председатель сельсовета, непосвященному может показаться странным, но слова Стрыка нельзя понимать в буквальном смысле.
— Пожарники! — поднимая вверх сжатые кулаки и будто собираясь взлететь над трибуной, кричит Стрык.— Не тушите пожаров! Не надо тушить пожары! Пускай шире разгорается пламя революции!
Пожарники большими оттопыренными пальцами тычут коней под морды, и кони тотчас же, как по команде, поднимают головы, стригут ушами. Кажется, они слушают речь так же внимательно, как и люди.
611
Следующий лозунг обращен к железнодорожникам— такой же звонкий, громкий и, если руководствоваться здравым смыслом, неуместный:
— Железнодорожники! Не останавливайте поездов! Пускай мчатся локомотивы во всемирную рево-* люцию!
После каждого выкрика оратора дружно, единым вздохом, восклицает толпа. Стрык горит сам, глаза блестят, на черных, запавших щеках румянец, но и умеет зажигать других! Кажется, подними он руку, позови — и вся лавина людская, столпившаяся вокруг трибуны, хлынула бы за ним, кинулась бы в неизвестные, увлекательные дали.
— Смолокуры! Не жалейте смолы! Зальем глотки мировому капиталу!
— Пильщики! Хватит резать доски и брусья! Сколачивайте гроб для проклятых буржуев!
Наконец очередь доходит до профтехшколы и курсантов. Молодые, горластые парни горячо поддерживают все призывы, но и своего ждут с нетерпением.
— Курсанты-трактористы! Вспашем земной шар колхозно-совхозными плугами! Пускай захлебнется в бессильной злобе мировой кулацко-помещичий класс!
— Агрономы-лесоводы! Быстрее кончайте учебу! Засеем землю красным зерном ненависти и борьбы!
Гомон, аплодисменты, бой школьных барабанов...
Остальные ораторы в сравнении со Стрыком говорят буднично — что сделали, что надо сделать. Называют цифры, кубометры, гектары...
Митинг продолжается часа два, потом еще столько же — демонстрация по грязной четырехверстной улице местечка. Промокли ноги в брезентовых туфлях на резиновой подошве, хочется есть — кормят учеников профтехшколы и курсантов в столовой не слишком сытно. Но день необычный — бьют барабаны, полощутся флаги. Боевой дух, задор, кажется, способен преодолеть все невзгоды...
Пулемет в Жерновицах молчит уже около часа. Меж деревьев сгущается синевато-серый мрак. В соседнем сосняке нарастает протяжный шум. К непогоде. Яков Шавец как в воду глядел — немцы в лес не сунулись.
612
— Ваш Стрык — типичный левачок,— задумчиво говорит Мазуренко.— На Украине такие были. Не знаю, что он натворил дальше, а человек интересный...
Драгун встал, свернул цигарку. Чиркнул зажигалкой, дал прикурить Мазуренко. Ответил шуткой:
— Левые с правыми перемешались. В Пилятичах председателем колхоза был Спаткай. Теперь немцам сапоги лижет. А Шавца Якова — я его с тридцать третьего года помню — подводили под твердое задание...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Осень стала такой, какой должна быть,— хмурой, мглистой. Гаврила, двоюродный брат отца, теперешний сосед, достал буланого мохнатого конька, ездят с Митей сеять рожь.
В местечке в основном отсеялись. Вдоль разбитой дороги с выбоинами ни одного свободного клочка. После дождей на поле дружно поднялись зеленя. Конек бодро семенит по дороге, помахивает длинным хвостом. На возу только борона и мешок с семенами — сеять будут по картофельному полю.
В помощники к ним напросился Адам. Шагает рядом с возом, все время посматривая на сапоги, которые сам сшил. Сапоги не слишком видные: к старым, обшарпанным голенищам иришил Адам головки из потрескавшейся, покоробленной кожи, которую даже деготь не берет. Но все равно парень доволен. Науку прошел, теперь может считаться самостоятельным сапожником. Хотя никто пока заказов ему не дает — по-прежнему ходит Адам к старому сапожнику подрабатывать за плату.
Приехали на поле. Дядя прицепил борону и быстро зашагал по загону. Митя с Адамом складывают в кучи мокрую картофельную ботву. Две кучи подожгли. Дым стелется по самой земле — к непогоде.
Мите хочется пройтись по полю с лукошком с зерном. Никогда еще сам не сеял. В детстве, когда отец брал с собой на поле, то разрешал, идя рядом, сыпануть несколько горстей. На большее на узеньких сотках Митя рассчитывать не мог.
613
Дядя тоже как бы не замечает Мити. Повесил на грудь лукошко, пошел по загону, Митя с завистью смотрит вслед. Нутром чувствует — сеягь сможет. До этого только наблюдал, как сеют другие. Есть что-то величественное, святое в самом этом действии, которое кладет начало, круг новой жизни.
Дядя, видимо, понял Митино настроение. Пройдя с ползагона, снял лукошко, присел на межу, закурил. Жестом позвал к себе Митю:
— Сей!
С волнением насыпал Митя в лукошко ржи, повесил на грудь. Пошел, ступая по дядиному следу, до того места, где поле не засеяно. Знал — за каждым движением сзади наблюдают дядя и Адам, потому первые взмахи рукой сделал неуверенно, видел сам, что зерно рассыпается неровно.
Через минуту про свидетелей забыл. Все при севе подчинено строгому, точному ритму, все слажено, связано—шаг, взмах руки, поворот тела. Даже чувствуешь вес зерен, которые держишь в горсти и должен равномерно рассыпать за один взмах руки. Увлекшись, Митя ни о чем не думает. На душе весело, легко. Сев чем-то похож на косьбу. Только там нужна сила. Тут она не нужна...
Когда Митя окончил загон, пришел набирать семян в лукошко, дядя, пряча улыбку, похвалил:
— Умеешь. Только начал не так.
Окончив сеять, забороновали поле, заехали в ольшаник, свалили два пня сухостоя.
Серый, унылый нависал над полем вечер. Местечко чернело вдали.
— Человеку, чтоб жить, надо работать,— сказал дядя, направляя вожжами коня на дорогу. Неожиданно добавил: — Мне кажется, войну паны выдумали. Те, что работать не любят...
— Так воюют же не одни паны?
* — А оно так хитро придумано, что пан пастуха вместо себя пошлет. Испокон веку так.
— У нас же панов не было,— возразил Митя.— У нас воюет народ.
— На нас напали,— согласился дядя.— А если напа- . ли, надо обороняться. Но и у нас на панскую жизнь замахивались. Скажем, вы, ученые. Как только парень
614
или девка кончит школу, так от простой работы воротит нос. В навозе не хотят копаться. Свиней кормить, коров доить...
Митя замолчал. В том, о чем говорил дядя, была доля правды, хотя с ней и не хотелось соглашаться. Они, молодежь, те, кто окончил десятилетку или приближался к окончанию, думали о городе, стремились выучиться на летчиков, танкистов, учителей. Но разве учитель не работает? А летчик даже рискует жизнью...
— Вы же сами в колхоз не пошли,— сказал Митя.— Может, потому, что на железной дороге легче?
— Не потому. В колхоз я поступал. Нет лучше работы, как на земле.
— Так почему не остались?
— Долго говорить, парень. Колхоз — дело неплохое. Только не всегда был порядок. Один работает, другой в теньке отлеживается.
— Без колхоза было нельзя,— горячо заговорил Митя.— Наделы мельчали, а люди множились. Каково было отцу делить три десятины на троих сыновей?
Гаврила Птах слегка дернул вожжами коня.
— Тоже верно. Только вы, молодые, больше в город рвались.
— Зато промышленность развили,— сказал Митя.— Немцы давно бы победили, если б не было у нас своей промышленности. Город не только брал хлеб, но и давал машины, работу.
— Может, и так...
Впереди тускло заблестела лужа. Дядя, отпустив вожжи, прикрикнул на коня, сам пошел по сухому, рядом.
Вечером Митя лег на диванчик, попробовал читать. Но сразу же отложил книгу. Про них, молодых, Гаврила Птах сказал правду. К земле не тянуло, даже в местечке, где, должно быть, интереснее, чем в обычном селе, не хотели оставаться. Косить, пахать, пилить доски, строить хаты — все то, что умеют родители, делать не научились.
Теперь в разных конторах, которые пооткрывались в местечке, немало парней, девушек. Видно, не только потому, что спасаются от Германии, а и потому еще, что ничего другого не умеют делать.
615
2
Спасением от тоски, ссор и неполадок может стать обычная работа. Запущенный теткин двор давно нуждается в мужской руке. И хоть хозяин из Мити плохой, занятие нашлось и для него. Два дня стучал топором, но все же вытесал столб для вереи. Теперь ворота на огород закрываются.
На покров мать, тетка и Митя собрались к теткиному брату в село Палыковичи. Пошли тропкой вдоль железной дороги. Красивая стоит осень. Лес застыл в молчаливой задумчивости. Шуршит под ногами опавший лист.
Восточную часть окрестностей местечка Митя мало знает. За грибами сюда не ходил, за дровами не ездил. Но места тут не менее привлекательные, чем под Громами, с другой стороны местечка, где прошло Митино детство. Березняки словно облиты золотом. Тут и там возвышаются развесистые, старые дубы.
С переезда, который чем-то напоминает тот, на котором Митя недавно жил (будки очень похожи), с левой стороны открывается вид на осушенные болота совхоза Росица, с правой — на торфозаводский поселок. На переезде расхаживает словак, держась рукой за ремень короткой винтовки. На них словак смотрит дружелюбно.
Еще версты через три железнодорожный мост через речушку Росица. В местечке его называют Рудым. Росица — речонка маленькая, петляет в торфяных болотах меж ольховника, кустарников. Течет медленно, не спеша. Вода около берега, возле черных деревянных свай бывшего деревянного моста, затянута зеленой ряской. С того времени, как осушили болота, Росица обмелела.
На мосту два словака — часовые. Рядом с железной дорогой насыпной песчаный большак, и там через речку мост деревянный, его не охраняют. Словаки отвернулись, делают вид, что не видят путников, и Митя, а вслед за ним и мать с теткой взошли на железный мост.
За Рудым мостом большак круто поворачивает вправо, углубляясь в лес. Путники свернули с насыпи. Чернолесье сменилось молодым сосняком. Здесь сильно пахнет грибами. Даже отсюда, с дороги, можно увидеть скользкие шапочки маслят, из-под хвои выглядывают кучки
616
зеленушек. Мите грустно. Ни разу в этом году не ходил за грибами.
Перед Палыковичами — дубравы. Кряжистые, важные дубы застыли в вечном покое. Большак остался вправо, проселочная дорога, которая ведет к селу, перевита выбившимися на поверхность узловатыми корнями.
Палыковичи — село старинное. Хаты стоят тесно, густо, чуть не впритык одна к другой, из-под нависших крыш-козырьков глядят на улицу подслеповатые окна. Но то, что селение около железной дороги, чувствуется. Прилегающая к станции улица отличается более красивыми постройками и планировкой.
В селе, видимо, любят гульнугь. Группки возбужденных, подвыпивших мужчин чуть ли не у каждого двора. Из раскрытых окон доносится шум.
Веселая компания и в просторной хате теткиного брата. Когда местечковые гости протиснулись за стол, те, что угощались с утра, качаясь, не спеша вышли. Николай (так зовут теткиного брата) подсел к родне, налил стаканы.
■г-. За все доброе! Чтоб и в будущем году встретились...
Самогонка приятная, не очень вонючая. Митя свой стакан выпил до дна. Мать с теткой только пригубили.
— Ничего не слышно про Степана? — спросил Николай.
•— Ничего.— Мать заплакала.
— Не плачь, кума. Будет жив, даст бог...
В эту минуту в хату вошли трое. Первый, щуплый с худым злым лицом, весь увешан оружием. Кроме немецкого автомата, который держит на плече, на ремне наган в милицейской брезентовой кобуре, две гранаты-лимон- ки и еще одна, немецкая, с длинной деревянной ручкой. Двое полицаев сзади с винтовками.
— А, господин Скок! Прошу садиться! — засуетился хозяин.
Полицаи не сели. Худой, которого хозяин назвал Скоком, обвел всех настороженным взглядом белесых глаз, протянул руку к графину. Не успел он налить, как в хате появились новые гости — два рослых словака. Полицейские явно смутились. Торопливо опорожнили стаканы, не закусывая шмыгнули в дверь.
617
Молодой круглолицый словак сел за стол рядом с Митей. По другую сторону — хозяин. Не обращая внимания на словаков, хозяин сказал про Скока:
— Свет не видал таких сволочей. Не жив, если кого не расстреляет. Ошалел от крови...
Словаки молча выцедили по стаканчику, закусили, и вдруг Митиного соседа прорвало:
— Германы — сволочь, как есть!.. Кровавая банда... Но скоро им капут... Всем германам капут. Сталинград—стоит. Два месяца стоит... Ничего герман не сделает. Пускай целует своего Гитлера в ж...!
Хозяин побледнел. К речи словака прислушивались гости, которые хоть и клевали носами за столом, но уши имели...
Шел Митя в Палыковичи просто так, чтобы развеяться, а вернулся возбужденным. Словаки служат немцам и ненавидят их. Будто гордятся Сталинградом...
3
Митя встает рано, топчется по двору. Напилил с Юрасем, теткиным старшим сыном, дров, сложил под позетью две аккуратные поленницы. Два дня насыпал завалинку, сегодня взялся ладить бочку под капусту.
С этой дубовой посудиной ничего не получается. Рассохлась вконец. Митя набил новый обруч, вылил в бочку около сотни ведер, и все равно вода вытекает мгновенно.
Гаврила Птах, который, видно, наблюдал за Митей, крикнул со своего двора:
— Отнеси в пруд! Пускай там поплавает. Клепка должна кругом набрякнуть.
Пруд, или, вернее, карьер, откуда брали землю, когда насыпали дорогу, всего через один двор, у самой железной дороги. Напротив застыл семафор с поднятым крылом. Митя, пробив легкий ледок, опустил бочку в воду, осмотрелся. От переезда уныло бредет с брезентовым мешком за плечами Алексей Примак.
Митя пошел навстречу, поздоровался. Оглянувшись, Алексей сообщил:
— Партизаны меня чуть не ухлопали.
— Почему не сказал, что послан на связь?
618
Примак разозлился:
— Какая там связь! Что у меня, на лбу написано?.. Пришли ночью —двое мужчин, одна баба. Побили в .школе окна, развалили печь...
— А ты где был?
— Лежал под забором, в огороде. Как щенок...
Такие же нерадостные вести принес на другой день
из Громов Микола. Партизаны есть, но в деревни забредают ночью, встретиться трудно. В Малковичах, в четырех верстах от железной дороги, живет тетка Миколы. Один раз он даже ночевал у нее, но партизан тогда не было.
Винтовку, которую Митя унес из волости, Микола нашел и перепрятал. Отнес в лес...
4
Под вечер, дня через два после Октябрьских праздников, к Мите прибежал возбужденный Лобик:
— Армия заняла станцию Ивановку!
Митя не поверил ушам:
— Какая армия? Бои на Волге, на Кавказе.
Рассудительный Лобик был в курсе событий.
— Партизанская. Командуют генералы. Ковпак, Сабуров. Переправились через Днепр в Лоеве. В Ивановку двух наших ремонтников посылали. За день до этого. Они ничего не знали. Партизаны забрали их с собой. Всех рабочих, что были на железной дороге, забрали. Семьям ничего не будет. Почему ж я не поехал? Бригадир и мне говорил. Я, дурень, не захотел.
Станция Ивановка от местечка не так уж далеко. К ней проложена ветка-однопутка, на этой линии торфо- завод и деревня Сиволобы. Летом однопутка не действовала. На торфозаводском мосту Шура Гарнак опрокинул спаренные паровозы.
Хлопцы разложили на столе карту. Куда нацелили свою армию партизанские генералы? И откуда она взялась вообще? Если партизаны пойдут дальше в том же направлении, то впереди Припять, болото. Но зачем им болота?..
Только теперь до хлопцев дошло, почему так спешно
619
возводятся укрепления вокруг жандармерии. Дрожат немцы. Боятся нападения...
Лобик засиделся у Мити до полуночи. Они договорились не расставаться.
Эту и следующую ночь Митя спал тревожно. Просыпался, прислушивался, не начинается ли стрельба. Но за окнами лежала молчаливая, черная ночь. Даже собаки не лаяли. Партизанская армия местечко миновала...
То, чего ждали хлопцы, пришло с другой стороны.
Микола зашел к Лобику. Сказал спокойно:
— Партизаны хотят встретиться. Пойдете завтра в Дубровицу. Вдвоем. В старую деревню не ходите. Ждите в первом поселке.
У Мити учащенно забилось сердце. Вот и все. Чего хотели — достигли...
Когда первое возбуждение схлынуло, хлопцы стали расспрашивать Миколу. Из его коротких, сдержанных ответов выяснилось, что встретил он партизан в Малко- вичах, на второй день после Октябрьских праздников. Видел Шуру, Драгуна.
— Что с собой брать? — спросил Митя.
— Думай сам. Винтовку пока не возьмешь...
Микола будто что-то скрывает. Но, занятые своим,
хлопцы не придают этому значения. Возбужденно расхаживают из угла в угол, обсуждают, как лучше присоединиться к партизанам. Обстановка в местечке — лучше не придумаешь. Двоих забрали партизаны в Ивановке, двоих возьмут в Дубровице. Разницы никакой. Главное— чтобы немцы не мстили семьям. А для этого надо разыграть комедию, сделать так, как будто там, в Дубровице, Митю и Лобика партизаны схватили силой. Разыграть комедию надо на глазах у людей, чтоб пошел слух.
Договорились, что Митя с Лобиком пойдут менять соль на самогонку. В Дубровицу люди как раз и носят разные вещи. Плоткина, Примака решили предупредить немедля.
Микола сидел на табуретке, барабанил пальцами левой руки по столу, хмуро усмехался...
620
5
Дома Митя на этот раз ничего не сказал. Утром, держа под мышкой торбочку с солью, зашел к нему Лобик, и вдвоем они направились к переезду, За мостиком Митя оглянулся. Стоят напротив дядиного двора четыре голых тополя, сереет заборами, плетнями молчаливая улица. Под ногами мерзлая земля. Митя проглотил соленый комок...
На переезде, подняв воротник черного пальто, похаживает полицейский. На хлопцев посмотрел безразлично, отвернулся.
Хлопцы минуют последнюю улицу, никто навстречу не попадается. Залинейная улица, образованная из хуторских переселенцев, как бы вынесена за пределы местечка: дворы в высокой ограде частоколов, что ни двор, то хозяйство — хлев, пунька, поветь, омшаник.
Лобик замедлил шаг, оглядел дедов двор. Он стоит немного в стороне, на отшибе. Хата смотрит окнами на железную дорогу, два хлевушка и гуменце под одной соломенной крышей. Усадьбу окружают три высоких, раскидистых дуба.
Дубровица — за Кавеньками. От местечка километров восемь. Если идти большаком, Кавеньки остаются сбоку. Сразу за деревней тянется густой ольшаник.
— Зайдем в две или три хаты,— рассуждает Лобик.— Чтоб побольше людей видело. Будем торговаться...
Хлопцы уже оставили позади мостик через канаву, которую углубили и расширили, когда осушали болота. Навстречу, тарахтя колесами по земле, ползет воз с сеном. Дядька в шапке-ушанке идет рядом, дергает веревочными вожжами молодого коня.
За поворотом большака должна быть Дубровица. Хлопцы идут с сосредоточенными лицами, молчат. Через каких-нибудь полчаса решится их судьба. Как их встретят партизаны, что скажут?
За спиной вдруг раздался свист. Митя вздрогнул, оглянулся. За ольховым кустом стоит Шура Гарнак в длинном женском кожухе, в одной руке держит винтовку, другой машет им. Хлопцы бегом бросились к Шуре...
От дороги до густого березняка, где их ждали пар¬
621
тизаны, версты две. В том, как Шура встретил своих недавних товарищей, как сухо, неохотно спросил про сестру, как упрямо, ничего про себя не рассказывая, вел их по ольшанику, что-то Мите не понравилось. Как будто между ним и недавними друзьями пролегла ка- кая-то грань. Пока шли к партизанам, увидели двух или трех часовых, которые молча, с винтовками наперевес, стояли за деревьями.
Драгун обнял Митю, поцеловал, с Лобиком поздоровался за руку. С Драгуном стояло еще двое Плечистый, в дубленом черном полушубке и в военной зимней шапке с красноармейской звездочкой, блеснув редковатыми белыми зубами, назвался Мазуренко, капитаном. Фамилия другого, повыше, с хитрыми серыми глазами,— Топорков. Он разглядывал ребят с недоверием, тая на тонких губах язвительную улыбку. Наконец Топорков с Шурой отошли.
Капитан начал издалека. Расспросил, кто у Мити и Лобика родители, где хлопцы учились, приходилось ли им бывать в других местах. Не такой встречи, разговора ждали хлопцы, потому сразу сжались, отвечали неохотно.
— Вы где-нибудь работаете? — спросил наконец Мазуренко.
— Мы пришли в партизаны,— с вызовом ответил Митя.— У нас была подпольная группа. Разве что-нибудь другое имеет значение?
Тот, кто назвал себя капитаном, молча переглянулся с Драгуном. Заговорил мягче, с нотками доверия в простуженном, хрипловатом голосе.
— Вы комсомольцы. Должны понимать, что такое дисциплина. Должны быть там, где вас поставят...
Теперь переглянулись Митя с Лобиком. Они ничего не понимали.
— Я военный разведчик-десантник,— продолжал между тем капитан.— Тоже мог быть в армии. Но послали сюда. Родина посылает своих сыновей туда, где они более всего нужны. В партизанском отряде,— капитан снова переглянулся с Драгуном,— свыше двухсот бойцов. Большой роли вы там не сыграете...
Теперь до Мити начал доходить смысл сказанного. Мгновенно всплыли в памяти двое парней и девушка в
622
зеленых блузах, которых под сильной охраной вели в жандармерию. То были парашютисты. Капитан тоже парашютист...
— Я хочу, чтоб вы работали на нашу группу УПРА. Нас прислали из Москвы. Мы подчинены управлению разведки Рабоче-крестьянской Красной Армии, но действуем в контакте с партизанами. С партизанским командованием имеется полная договоренность. Вас мне рекомендовал товарищ Драгун, который вас знает и который оставлен тут, в тылу немецких войск, райкомом партии...
Так вот, значит, как...
В конце концов Митя согласен. Хорошо, что кончилась неопределенность. Если честно признаться, то, идя сюда, он чувствовал вину перед матерью, семьей. Неизвестно, что с ними было бы, если б его даже на людях забрали в партизаны. Сам сидел в тюрьме, отца увезли в Германию. Разве немцы дураки, чтоб поверить, что он не по своей охоте пошел в лес?..
— А что надо делать? — спрашивает Лобик.
— Где вы работаете?
— На железной дороге.
— Как раз то, что надо! — говорит капитан.— Там и работайте. Завоевывайте доверие у немцев. Приблизьте к себе людей, настроенных по-советски. Задание дадим позднее. Через вашего товарища, который в Громах...
— Я был в финотделе, но уволился,-— говорит о себе Митя.
Капитан на минуту задумался.
— Вы, кажется, немецкий язык знаете?
— Газету читаю. Но говорить не умею. Иван,— Митя кивнул на Лобика,— тоже читает.
— В жандармерию или полицию вас не возьмут?
Митя вздрогнул. Капитан улыбнулся, и от этого его
широкое небритое лицо сразу подобрело.
— Вы не пугайтесь. Мы вам верим. Если бы вас взяли, то послали бы хоть в канцелярию Гитлера.
— Я не пойду в полицию,— стоит на своем Митя.
— Ну, согласен. Но куда-нибудь устраиваться надо. Иначе вы не сможете работать на нас.
Начал падать мелкий снежок.
т
От долгого стояния на месте у Мити стали мерзнуть ноги.
— Ну счастливо.— Капитан пожал руку Лобику, затем Мите.—А это что? — спросил он, увидев под мышкой у Ивана мешочек.
— Соль. Мы для маскировки шли покупать самогонку.
— Соль отдайте нам. Домой большаком не ходите. Лучше лесом...
У Мити был еще короткий разговор наедине с Драгуном, а к Лобику подошел Шура. Агроном повторил то, что сказал раньше,— связным в местечке будет Митя, назвал три фамилии бывших специалистов райзо, одного врача, с которым надо связаться. Из всех четырех Митя знает в лицо только одного — Пилипа Краснея.
Возбужденные, оглушенные неожиданным поворотом дела, возвращались хлопцы в местечко. Стало понятным поведение Миколы. Знал, что будет, но ничего не сказал. С друзьями играет в разведчика.
Когда выбрались из кустарника на поляну, она была белой от снега.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Зазимки держались недолго. Снова меж сосен повис густой туман, мгла, с отяжелевших веток сыплются холодные капли. Мокро, неуютно в лесу. В лагере, где горбылевцы стояли лето и половину осени, побывали немцы с полицейскими. Землянки разрушили, сровняли с землей легкие летние постройки.
Малочисленная вначале, группа Бондаря, перебравшись на правую сторону железной дороги, стремительно обрастает людьми. Пополнение прибывает ежедневно. Новичков даже не очень проверяют — большинство знакомые, имели с отрядом связь.
Новый отряд стал табаром в Ольхове. Большой опасности нет — из Журавич немцы удрали. Село захватил Сабуров, который где-то поблизости переправляется через Припять. Разъезды Сабурова проникли в Ольхов, пригласили местных командиров в гости.
В Журавичи поехали Бондарь с Хмелевским. Им оседлали лошадей (Василькевич, комиссар Хмелевский
624
и Большаков, остававшиеся на месте, организовали обоз, запас зерна, потайной семейный лагерь).
Горбылевцы, насколько можно было, прифрантились— начистили сапоги, приоделись.
Перед смолярней, на знакомом песчаном большаке, горбылевцев остановил сабуровский дозор:
— Стой! Кто такие?
Из-под молодых сосенок высунулись дула винтовок, угрожающе нацелилось круглое дуло станкового пулемета.
— Местный отряд! — громко ответил Бондарь.— Едем к Сабурову.
— Пароль?
— Пароля не знаем...
Трое с немецкими автоматами выскочили на большак, подозрительно оглядели всадников.
— Оружие придется оставить.
— Оружия не отдадим,— спокойно ответил Бондарь.— В следующий раз задержим заши разъезды. Хозяева тут мы...
Дозорные переглянулись. Наконец двое кинулись в сосняк, вывели оседланных взнузданных коней.
— Поехали!
В Журавичах улицы запружены народом. Повозки, телеги, кони чуть не у каждого двора. Сабуровцы одеты примерно так же, как местные партизаны,— кто во что. Удивляет обилие автоматов.
В местечке чувствуется оживление — повсюду летучие митинги. Ораторы стоят на повозках. Их слушают небольшие группки местных жителей, преимущественно молодежь.
Горбылевцы пролетели по улицам на всем скаку. Осадили коней на площади, около каменных, с потрескавшейся штукатуркой домиков, которые полтора месяца назад безуспешно штурмовали. Один из дозорных, молодой, с черным чубом, остался, второй, тонкий, в кожаной тужурке, что-то шепнув на ухо часовому, прохаживавшемуся перед штабом, вскочил на крыльцо.
Минут через пять партизан в тужурке снова появился на крыльце:
— Командир приглашает к себе.
Бондарь с Хмелевским поднялись по ступенькам, вошли в узенький коридорчик. Толкнули дверь и очу-
625
тились в комнате, где на корточках перед кафельной печкой сидел человек, разжигал дрова, а трое других, в коротких полушубках, склонились над большой картой Советского Союза, разостланной на столе. Один из них, широкоплечий, с круглым добродушным лицом, поднял голову от карты, пошел навстречу Бондарю и Хмелев- скому.
— Сабуров. Прошу извинить, что неласково встретили...
Горбылевцы назвали себя, поздоровались.
— Новость, товарищи, знаете? — не скрывая возбуждения, выкрикнул Сабуров.— Сталинградская группировка немцев окружена.
Бондарь почувствовал, как горячий, соленый комок подступает к горлу. Стало легко, спокойно, он как бы заново увидел свет с той полузабытой высоты, которая давно осталась позади, затерялась среди будней и разных забот. Большое чувство любви к Родине жило в нем постоянно, но мысль о том, что война идет не так, как надо, сидела в душе, как гвоздь, и только из-за этого он, Бондарь, последние полтора года не имел покоя. Теперь все становится на место. Правда, в которую поверил смолоду, которой руководствовался в жизни,— настоящая, не показная!..
И Хмелевский словно онемел. Не может выговорить слова.
— В окружении свыше трехсот тысяч немцев,— продолжал Сабуров.— Немецкая группировка скоро будет уничтожена. Не позже как весной наши будут тут...
— Далековато зашли,— усомнился Бондарь.
Командиры в коротких полушубках смотрели на
Бондаря с нескрываемой улыбкой. Сабуров подошел к карте, подозвал горбылевцев.
— Смотрите сюда.— Сабуров водит толстым, с рыжими волосками пальцем по карте.— Стратегический замысел Гитлера ясен. Овладеть Кавказом — значит завладеть бакинской нефтью. Сорвалось. Захват Сталинграда значил еще больше. Хотели перерезать Волгу, с юга двинуться на Москву. Ни одна из стратегических задач не решена, а зима на носу. Теперь с Кавказа немцы сами побегут, так как около Ростова вот-вот закроется западня...
21 И. Науменко.
626
Возбуждение, вызванное этой новостью, постепенно ослабевало. Заговорили о местных, практических делах.
— Присоединяйтесь к нам,— неожиданно предложил Сабуров.— У вас, по моим сведениям, восемьдесят человек. Будет хорошая рота.
Бондарь усмехнулся.
— На сегодняшний день —двести пятьдесят. Основные силы отряда за Птичью.
— Почему не здесь?
— С регулярными частями, которые двинулись на нас, боя не выдержали бы.
— Вот видите. А мне и регулярные части не страшны. Мы выполняем особое задание Ставки, товарища Сталина. Вы, кажется, военный?
— Капитан.
— Тем более должны понять. Наше соединение построено по военному принципу. Основная единица — ба-
: тальон. Стратегия глубоких рейдовых походов себя целиком оправдала. Жизнь партизан — в беспрерывном дви- ! жении.
— Мой отряд районный,— возразил Бондарь.— Согласен с вами, что движение — основа партизанской так-
; тики. Сами пришли к такому выводу. Но относительно стратегии не могу с вами согласиться. У нас чисто местные задачи. Мы не даем немцам хлеба, масла, поднимаем дух населения.
— Победы Красной Армии дух поднимают,— заметил толстый, с седыми усами командир.— Что вы со своим отрядиком можете сделать?
— Армия — далеко, а немцы — рядом.
— Ты жук,— сказал Сабуров.— Ладно, не хочешь к нам — сиди в своей норе. Может, и твоя правда...
Двое командиров, до сих пор молчавшие, накинулись на горбылевцев с расспросами. Разведка у сабуровцев хорошая, но, как выяснилось, многого и они не знают...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 1
Деревня Ольхов — партизанская столовая. Еще когда горбылевцы только привыкали к лесу, она кормила их и доила. Потому у каждого бывалого партизана, который
627
ушел в лес в начале лета, есть в Ольхове знакомая семья, а у молодых — девушка или молодица. Про тайные встречи, которые проводились не только для того, чтоб выяснить намерения близлежащих немецких гарнизонов, знают сеновалы, гумна да еще любопытный серп месяца, который уже столько столетий скрывает секреты влюбленных.
Хаты в Ольхове жмутся к лесу — вековому сосняку, грабняку, ольшанику, а посредине почти замкнутого круга — поле. В деревне, по хатам, стоит часть горбылев- ского отряда, который действует по эту сторону железной дороги. Сабуровцы, переправившись через Припять, двинулись в глубь лесов и болот, в сторону Лельчиц и Князь-озера. В Журавичах, которые от Ольхова двенадцать верст, безвластие...
Вечером вернулся хмурый Гервась, который с пятью разведчиками ходил под Горбыли, вызвал из хаты Бондаря. Во дворе в ветвях старого вяза гуляет ветер. Глухой, уныло-однообразный шум доносится из ближнего сосняка, прикрывающего восточную часть строений темной подковой.
— Беда, Павел Антонович,— выдохнул Гервась.— В Горбылях облава. Гэлю привел. Провал у них. Три дня скрывалась на Волынской стороне...
— А как же отец, семья? — спросил Бондарь, чувствуя, как холодеет в груди.
— Стариков, может, не тронут. Ребенка у них оставила.
— Где она?
— С Климками поместил.
— От Турбиной что? — Бондарь, сдерживая волнение, понизил голос до шепота.
— На словах передала — будут валить лес. На двести метров от железной дороги. На днях начнут. Еще бумаги...
Он подал, вытащив из-за пазухи, большой, еще теплый сверток. Добавил:
— В Мозыре немцы выпускают газету. На русском языке. Называется «Мозырские новости». Подписывают немец и один из Горбылей — Рымарчук. Высокая такая оглобля. До войны работал в горбылевской редакции, писал фельетоны.
Бондарь чувствует — о главном Гервась молчит. Он
21*
62*
положил помощнику на плечо, на влажную овчину кожуха, руку, попросил ласково:
— Говори, Александрович. Все равно...
— Немцы сожгли Хомяки и Сковородники. Людей сожгли многих, живыми... В Горбылях, Больших и Малых Лемтюгах развешаны объявления. Предупреждают...
Начал моросить мелкий дождь. По улице, громко переговариваясь, прошла группа партизан. Слышны и девичьи голоса. Прерывисто,— видно в то время, как открывается дверь,— вырываются из ближней хаты глухие удары бубна, звуки гармошки.
Бондарь задумался. Хомяки, Сковородники — в Бать- ковичском районе, откуда он родом. Стоят возле железной дороги. Отомстили, без сомнения, за диверсии. Как отомстили Вербичам за офицерский эшелон...
Вместе с Гервасем вошли в хату. Бондарь разорвал перевязанный шпагатом сверток, пробежал глазами несколько записок, написанных — чтоб не узнали почерка — печатными буквами. В свертке два номера «Мозыр- ских новостей» и свернутый, отпечатанный крупными буквами лист толстой бумаги.
На лицевой стороне — немецкий текст, на оборотной — русский.
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гебитскомиссар Батьковичского и Горбылевского районов имеет сведения, что некоторые деревни оказывают активную помощь лесным бандитам-партизанам. Обеспечивают их продуктами, одеждой, пускают ночевать в хаты, не уведомляя об этом старост, полицейских и других представителей немецкой администрации.
Гебитскомиссар предупреждает, что такие действия являются противозаконными. Героическая немецкая армия, которая сражается на востоке с большевистскими ордами за свободу и процветание новой Европы, не может терпеть, чтоб у нее в тылу организовывались осиные большевистские гнезда, чтобы бандиты-партизаны наносили удар в спину храброму немецкому солдату.
Деревни Хомяки и Сковородники, которые дали пристанище лесным бандитам, сровнены с землей. Они больше не существуют. Все имущество населения конфисковано.
629
Гебитскомиссар предупреждает, что подобная кара ждет каждого отдельного человека, каждую семью, каждую деревню, если они будут иметь какие-нибудь сношения с партизанскими бандами.
Гебитскомиссар Батьковичского и Горбылевского районов
Эрих Рог
Горбыли. 3 декабря 1942 года»
— Боятся,— сказал Гервась, почти не посмотрев на скомканную бумагу.— Мне передавали — в Горбылях была форменная паника, когда сабуровцы заняли Жу- равичи.
Бондарь посмотрел за перегородку, где при тусклом свете каганца хозяйка чистила картошку. Понизил голос:
— Виноватых ищут. Тут, брат, все вместе: мост на Птичи, Сталинград, Сабуров. А деревни, сволочи, жечь будут. Как дважды два...
Гармошка скрипнула под самым окном. Музыканты, видимо, переходили на новое место.
2
Бондарь стоял у окна, смотрел на темную улицу. На стекле набухали, множились дождевые капли, серебристыми ручейками стекали вниз.
Скрипнула калитка, в сенях послышались голоса. В хату вошли Хмелевский, Топорков и Василькевич.
— Что нового в Горбылях? — спросил Топорков.
— Аресты. Грозят добраться до нас. Нате почитайте.— Бондарь вытащил из нагрудного кармана немецкое объявление.
Партизаны сгрудились около лампы, читали.
— Старые песни.— Хмелевский отошел от окна.— Or неудач на фронте будут еще больше беситься.
— Я слышал, Гервась Гэлю привел,— сказал Топорков.— А как семья, отец Гэли? Симпатичнейший старикан. Полезен не менее, чем шахтерка (между собой Бондарь с Топорковым называют так Турбину). Как с ним быть?
— Сам не знаю.
630
— Дело простое.— Топорков понизил голос.— Старых я вывел бы. Если пойдут. Старый Соловей упрямый. На авантюры — ни-ни. Меня не хотел признавать.
У Бондаря повеселели глаза.
— Выход только такой* Виктор. Возьми людей — и завтра же в город. Старик мне очень дорог. Вас, ребята, прошу—про семейный лагерь ни звука. Знаем одни мы — и могила.
— Со стариками все ясно,— сказал Хмелевский.— А что ты с Гэлей будешь делать? Это же тебе не в Горбылях.
— Останется в отряде. Как и связная из Темровщиз- ны, с которой, кстати сказать, ты живешь.
— Мы с ней птицы вольные. Сошлись, разошлись — наше дело. А ты женатый. Я о твоем авторитете думаю.
— Думай о своем. Комиссар как-никак, а путаешься на глазах.
— Да не злись ты. Я просто хотел спросить: серьезно ли это у тебя?
Бондарь задумался.
— Не знаю, хлопцы,— заговорил он после минутной паузы.— Было когда-то серьезно. Соловей меня в лесной школе учил. Когда в Горбыли, в пехотное, приехал, он был главным агрономом МТС. Ходил к ним. С серьезными намерениями, но она мне — от ворот поворот. Остальное— слышали и видели. Докладываю, товарищ комиссар, что о жене сведений не имею. Посадил в Гродно в вагон, поцеловал. Доехала или не доехала — не знаю...
Топорков махнул рукой:
— Ладно, потом разберемся.
Последнее слово сказал Василькевич, который до этого слушал и молчал:
— Разумное во всем этом одно — стариков и дитя надо спасти. А теперь у меня предложение: собраться всей старой гвардии. Как в Горбылях...
3
Собрались в хате Климков. То, чего Бондарь в душе побаивался, вышло просто и хорошо. Гэля, похудевшая, Осунувшаяся, в повязанном по-деревенски платочком, поздоровалась со всеми за руку, поцеловалась.
631
Бабка Катерина стояла возле печи, вытирала слезы.
— Детки мои, как там, дома...
Бондарь тронул Гэлю за плечо, откинул занавеску. На припечке, раскинув руки, спал мальчик. Второй, постарше, в домотканой рубашонке, сидел на печи, не сводя с мужчин, которые толпятся в хате, черных глаз.
Сели с Гэлей на кровать.
— Что случилось? — вполголоса спросил Бондарь.
— Павел!.. Я иначе не могла... Арестовали Годлевского из мясокомбината. Он выдает всех, с кем был связан...
— Отца не тронут?
— Я пустила слух, что еду за вещами в Западную.., Туда, где работала. Достала в комендатуре аусвайс.
У Бондаря отлегло от сердца.
— Мы думаем твоих сюда перевести. Место есть. В лесу, в землянках.
У Гэли на глазах блеснули слезы.
— Душой изболелась. Там Эллочка. Хотела плюнуть на все, вернуться.
— И не думай. Сделаем что-нибудь.
— Боюсь, Павел. Жандармерия не комендатура. Если хватятся, возьмут отца...
Сели за стол. Среди заткнутых тряпичными пробками бутылок поллитровка «московской» со знакомой зеленоватой наклейкой. Еще летом выпросил Василькевич у десантников, спрятал. Бондарь откупорил бутылку, налил в стаканы.
— Комара забыли!—спохватился Гервась.— Сбегаю. Ребята пускай с девчонками гуляют, а его надо...
Гервась выхватил из вороха одежды на лавке свой полушубок, нырнул за дверь. Несколько минут за столом царило неловкое молчание.
Комар — он недавно назначен командиром роты — ввалился в хату и прямо с порога выпалил:
— Гвардия собралась. Люблю за это. Гвардия не подкачает. Теперь понабивалось всяких. Но пускай помнят. Мы начинали. Без нас тут был мох да болото...
Бондарь встал, поднял стакан:
— Помянем, братцы, Казаченко. Одного его нет среди нас...
032
Через полчаса застолье зашумело. Рядом с Гервасем Соня, по левую руку Хмелевского — Надя Омельченко. Гэля раскраснелась, шепчет Бондарю на ухо:
— Полгода тебя ие видела. Знаю — обо мне не думал. А я думала. Боялась за тебя...
Он нашел ее руку, благодарно пожал, положил себе на колено.
К полночи самогон выпили. Хозяин, а за ним Гервась куда-то сбегали, принесли каждый по большой бутыли кисловатого «молчуна». Бондарь дал себе волю, пил много, не обращая внимания на уговоры и предостерегающие жесты Гэли.
Неизвестно откуда взялась гармонь. Большаков йз тех, кто не был в Горбылях, он тут один — сел на лавку, растянул мехи. Топорков, взяв за руку Гэлю, присоединился к Гервасю с Хмелевским —- они уже танцевали.
Бондаря переполняла непонятная тоска. Чувствовал, что сильно опьянел. Комар, сидевший рядом, тянулся к нему с полным стаканом.
— Христом-богом клянусь, Антонович. Ты меня недопонимал... А я тебя люблю... Все любят... Думаешь, мы поставили тебя командиром за то, что ты капитан?.. Плевать мы хотели на капитанов... Ты наш, горбылев- ский. С тобой дела делаем...
Василькевич тянулся со стаканом с другой стороны:
— Антонович, слушай меня... Отряд из Сосновицы надо перетянуть сюда. Какого черта он там торчит... Чем нам помог Вакуленка? Пятьдесят килограммов толу дал. Мы шестнадцать эшелонов без него опрокинули. Кто еще столько опрокинул? Ну, скажи, кто?..
Большаков поставил гармонь, подсел к столу. Женщины запели песню, которую привезли десантники:
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война...
Как сквозь сон долетал до Бондаря пронзительнозвонкий голос Комара:
— Топорков, ты шельма, но ты человек! Самуся правильно прикончил. Самусь — иуда и сволочь. Мы его еще тогда раскусили...
Гэля обняла Бондаря за плечи, повела за занавеску. Он слышал, как стягивала сапоги, расстегивала воротник
633
гимнастерки. Прислонилась горячей щекой к его щеке, провела рукой по голове и ушла назад.
Утром прибежал взволнованный Комар, разбудил Бондаря:
— Хлопцы из Дубного удрали. Все восьмеро!.. Что будем делать?..
Бондарь встал, натянул сапоги. На столе дымилась в глиняной миске картошка, стояла сковородка с салом.
— Будем завтракать. Винтовок им не выдавали?
— Половина людей без винтовок.
— Сами виноваты. Засиделись. Под лежачий камень вода не течет.
В полдень собрался совет штаба. Бондарь стал около стола, развернул карту.
— Товарищи командиры, прошу меня выслушать. Думаю — Ольхов не то место, где может быть база отряда. Немцы тут сидеть не дадут...
В хате наступила настороженная тишина. Разговоры в один миг прекратились.
— Есть один выход,— продолжал Бондарь.— Перебраться через железную дорогу. Объединиться с дома- човским отрядом и ударить по гарнизонам в Зеленой Бу- де, Литвинове и Пилятичах. Гомельские отряды, по моим сведениям, разогнали гарнизон в Грабове. Если гомель- чане согласятся и ударят вместе с нами по Лужинцу, Батьковичский район очистим до железной дороги. Тогда базу для отряда найдем. Таков план.
— В Литвинове — девяносто полицейских и тридцать немцев,— сказал Гервась.— Пулеметов штук двадцать. Чтоб не вышло, как в Журавичах.
— Их сто, а нас с домачовцами более трехсот. Надо стукнуть по Литвинову и Лужинцу в один день. Чтоб не могли один другому помочь. Панику устроим...
— Гомельчане, думаю, согласятся,— сказал Большаков.— Еще в конце лета, когда был у них, об этом говорили.
— Им выгодно. В лужинецких и грабовских лесах их базы.
— Вакуленка давно настаивает,— сказал Бондарь.— Еще когда я был в Рудобелке, выдвигал такой план. Но тогда было рано. Теперь, когда прошли Ковпак и Сабуров, самое время.
— Хорошо.— Хмелевский встал с табурета, склонился
634
над картой.— Допустим, что удастся взять Литвиново, Лужинец. Я даже верю, что возьмем. А что дальше? Равняться с Рудобелкой, как говорится, нам не с руки. Там лес, болота, ни одной шоссейной дороги. Ветку с Бобруйска за железную дорогу можно не считать. А Батькович- ский район зажат между двумя дорогами. Выгрузятся немцы из эшелонов, ударят — от нас мокрое место останется. Я считаю, что разогнать гарнизоны сил у нас хватит. Но удержать район мы не сможем. Отсюда надо танцевать...
Бондарь поднялся, заговорил тише, чем обычно:
— С комиссаром и начальником штаба план обсудили особо. Еще вчера. То, что сказал он, знаем мы все. Согласны с ним. Но выхода другого нет. Если не мы разгоним немцев, рано или поздно разгонят другие. К этому идет. Нам тогда будет стыдно. На сорок верст в округе самый большой отряд наш. Тут сам бог подсказывает, что тянуть нельзя. Отряд в Сосновице фактически отдыхает месяц. А у нас тут убегать начали. И разбегутся, если будем сидеть, как святые. С Хмелевским не согласен в двух пунктах и хочу, чтоб вы знали, в чем. Железную дорогу с Горбылей до Днепра блокируем. Немцы ее не сильно охраняют. Думаю, что немцам теперь не до нас. На Сабурова в Журавичах не напали. Не хватает сил. Вдоль железной дороги вырубают лес. Значит, немцы готовятся к обороне...
Командирский совет затянулся до вечера. План приняли. Большакова уполномочили договориться с гомель- чанами, Гервася и Хмелевского — с домачовским отрядом. Выделили каждому по группе.
В Сосновицу, чтоб привести основной отряд, должен идти Бондарь с тридцатью бойцами.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Никто не должен был знать о том, что партизаны покидают Ольхов, однако уже узнали.
Вечером, когда Бондарь остался с Гервасем и Топорковым, в хату прорвался Кузьма Пунтус, высокий безбо¬
635
родый человек в шапке из заячьей шкурки, пресвитер здешней баптистской общины. У партизан Кузьма находится на подозрении. Ходит, когда захочет, в Журавичи, даже в Горбыли, о довоенной жизни проповедника сведения тоже смутные.
Кузьма кашлянул, не раздеваясь сел на табуретку.
— Имею к тебе слово, командир. Знаю—меня вы не любите. Но терпите. Сам Христос терпел...
— Ну, говори, отец,— сказал Бондарь.— Только короче.
— Нас покидаете? А подумали вы, начальники, что может быть? В святом Евангелии записано: «Предаст же брат брата на смерть; и восстанут дети на родителей, и мертвят их».
— Ты что антимонии разводишь? — подступил к Пунтусу Топорков.— Нас пришел агитировать? Расплодили вас немцы.
■— Святая евангельская церковь не была запрещена советским законом,— возразил пресвитер.
Бондарь с интересом смотрел на плечистого, уже пожилого мужчину. Глаза жесткие, сверкают из-под нависшего лба, как из-под шестка.
— Пускай говорит,— махнул рукой Бондарь.
Кузьма, глядя в потолок, тянул как по-писаному:
— Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно,— читающий да разумеет,— тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтоб не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил бог, даже доныне, и не будет...
— Ну хорошо,— уже начал злиться Бондарь.—Ты нам, отец, яснее скажи, чего хочешь.
— Вводите в грех людей, начальник. Всякая власть от бога...
Топорков заходил по комнате.
— Твои бы слова да немцам в уши. Может, они тебя и подучили?
— Святая обязанность христиан-евангелистов — предупреждать грех гордыни.
636
— Значит, пускай немцы издеваются над народом, а мы молчи? — сказал Бондарь.— Так выходит из твоих слов, отец?
— Земного суда над людьми нет. Есть суд божий.
— А ты слышал, что в Сталинграде немцам устроили западню? Три армии Гиглера в котле.
— На то была божья воля.
— Если б сидели сложа руки, то и бог не помог бы. Немцы тоже с богом. На пряжках написано.
— Поднявший меч от меча и погибнет.
Топорков громко захохотал:
— Вот видишь, товарищ баптист! Про меч заговорил.
— Немцы над народом будут измываться.— Пресвитер вздохнул.— Им нашего народа не жалко. Воюете вы, а расплачиваться нам придется. Налетят на село, спалят, разрушат. Ежели кто и в лес убежит, то зимой каково? Пропадет все равно...
— Мы никуда не пойдем,— сказал Бондарь.—Будем в этих краях, в лесу. Немцы хотели сюда ткнуться — дали им по зубам.
Старик поднялся, надел малахай, попрощался со всеми за руку.
— Тип,— сказал Гервась, который все время молчал.— Глаза хитрущие. Думаю, в полиции он все-таки служит.
— Я не верю.— Бондарь подошел к окну, посмотрел во двор.— Просто народ в растерянности, потому и плодится всякая мразь. Гадальщиков, проповедников — как бродячих собак. А что секреты знает — это плохо.
2
Батьковичский район, в котором, в отличие от соседних районов, так и не возник свой партизанский отряд, тем не менее в конце сорок второго года стал местом, где партизанское движение проявило себя вовсю. Причина этому — лес. Суходольные боры, а более всего ольшаники, березняки, болотистое чернолесье начинаются Здесь чуть не от самого местечка и двумя широкими полосами тянутся верст на тридцать — сорок, почти до другой железной дороги, которая пересекает северную часть района.
657
В восточной части еще большие лужинецкие леса — продолжение приднепровского массива. Они занимают треугольник между Днепром, протекающим в соседнем районе, и Березиной, которая заходит своей лукой в лужинецкие леса.
Между двумя лесными грядами — широкие просторы Литвиновских болот, осушенных перед войной.
В лесной части района деревни на вид привлекательные— хаты, хлева, гумна построены с размахом, ухоженные, прочные. Картина болотных деревень и селений, которые ютятся на песчаных островах, глаз не ласкает: низенькие серые хатенки, плакучие вербы на улице. Хороших земель, если не считать торфяников, которые еще не научились как следует обрабатывать, на Литвиновщике мало: пески, сероземы, кислые болотные подзолы.
Странными, непривычными среди болотного массива кажутся белокаменные корпуса зданий совхозного поселка Литви-нов. До революции тут было родовое имение помещиков Горватов, пустивших в болотном краю корни еще со времен Речи Посполитой. Горваты жили в Варшаве, наезжали в имение время от времени. Оно дряхлело, постепенно разрушалось, разваливались бельведеры, античные статуи в старом парке.
Во время совхозного хозяйствования статуи исчезли совсем, поредели столетние липы и вязы посаженного на английский манер парка. Но каменные здания были отремонтированы, побелены, рядом со старомодным, украшенным круглыми колоннами дворцом выросло кирпичное здание силосной башни, огромный железный бак водокачки.
Совхоз имел молочно-мясной уклон. На осушенных болотах хорошо родилась картошка, щедро росли сеяные травы. Стадо коров в Литвинове перевалило перед войной за тысячу голов.
Немцы оставили все как было. Совхоз стал называть-, ся государственным имением, руководили им немцы агрономы в полувоенных желтых шинелях. Солдат не хватало для охраны железной дороги, но в Литвинове еще с осени прошлого года прочно обосновался немецкий взвод, а гарнизон полиции был самым крупным в окрестности.
Наконец, если глубже разобраться, то гарнизоны в Зеленой Буде, Пилятичах, даже в далеком отсюда Лу- жинце как бы подпирали Литвинов, так как тут, а не
638
в каком-нибудь другом месте, вершилась немецкая хозяйственная политика большей половины района. В Литвинов сгоняли реквизированных в ближайших деревнях коров, свиней, свозили зерно. Почти ежедневно грузовики доставляли в Батьковичи на станцию запакованные в деревянные ящики центнеры масла и сала.
По деревням хозяйничали немцы. В окрестных лесах, которые окружали Литвиновские болота, за лето и осень окрепли силы трех отрядов — приднепровского, горбы- левского и домачовского. Двоевластию должен был наступить конец....
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1
Декабрь был дождливый, ветреный. За время заморозков на размокших дорогах наросла толстая кора голого льда.
Двадцать второго декабря Бондарь вывел горбылев- ский отряд на окраину Литвиновских болот, в низкорослый редкий дубняк. В мокром, неуютном лесу костров не разжигали—близко селения. Партизаны кашляли, простуженно хрипели.
Известий о готовности домачовского отряда, который тоже должен был наступать на Литвинов, и приднепровского, которому было поручено разгромить гарнизон в Лужинце, не было.
Бондарь с несколькими командирами стояли на взлесье, смотрели в сторону Зеленой Буды. Она чернела вдали рассыпанными по песчаным косогорам хатами, редкими насаждениями. Наступать на Литвинов, минуя гарнизон в Зеленой Буде, было нельзя, потому пошли на хитрость. В деревню от железной дороги двинулся взвод словаков и с десяток партизан, переодетых в немецкую форму. Михал Слива, знающий немецкий язык, натянул на плечи офицерскую шинель. В случае удачи оттуда, из Буды, должны дать сигнал — три ракеты.
В то время как Бондарь и другие, знавшие про диверсию, нетерпеливо вглядывались в очертания Зеленой Буды, отделение сторожевой охраны выловило в ближних кустах подозрительного человека. Иван Гусовский подвел задержанного к Бондарю. Это был высокий,
639
худой, заросший черной щетиной парень в изодранной одежде — дырка на дырке. Шинель, мундир, брюки почти утратили цвет, но все же можно понять, что это немецкая военная форма.
— Кто такой?—спросил Бондарь.
Человек облизал потрескавшиеся губы, глотнул слюну и ничего не ответил.
— Да он по-русски не понимает.
— Ясно, шпион!
— Гляди, каким пугалом нарядили! Интересно, для чего такая маскировка?
— Ясно, для чего. Чтоб поверили.
— Русский я,— наконец захрипел задержанный.—
Удрал из эшелона.
— Ты что, служил у них?—спросил Бондарь.
— Не служил. Обноски из лагеря.
— Где был?
— Не помню. В Германии, Польше. Было около десяти таких лагерей, не меньше.
— Так тебя из Германии везли?—Бондарь присвистнул.— А интересно, для чего?
— А я почем знаю.— Задержанный явно не по-мест- ному окал.— У пленных не спрашивают, куда везут.
Бондарь махнул рукой. Иван Гусовский толкнул задержанного дулом винтовки в спину, тот прошел несколько шагов, но вдруг остановился, повернулся лицом к конвоирам.
— Ироды! Супостаты!—кричал он.— Разобраться не можете! Бумаги вам давай... Самозванцы вы, а не партизаны!
Стоявшие на взлесье онемели — такого еще не бывало. Ругань становилась все забористее.
— Он, должно быть, чокнутый. Жулик, наверное.
— Шпион так ругаться не будет.
— Черт с ним! Там разберемся!..— Бондарь отвернулся, стал вглядываться в серую даль.
Сигнала из Зеленой Буды не было.
2
Переодетые в немецкую форму партизаны, а за ними словаки в своей форме, не сохраняя строя, шаркая сапогами по оледеневшей дороге, вошли утром в Зеленую
640
Буду. Деревня длинная, разбросанная. Волостная упра* ва, полицейский участок расположены в той части селения, что примыкает к железной дороге. С пригорка, откуда видны строения станции Гороховичи, партизаны стали спускаться в деревню.
Местные полицейские заметили отряд. Были приняты срочные меры на случай проверки. На площадке около деревянного с железной крышей здания школы, где размещается полиция, Слива остановил отряд. Снял черные кожаные перчатки, закурил сигарету.
С дощатого крыльца сбежал полный, краснолицый человек в начищенных до блеска хромовых сапогах.
— Начальник полиции Полтаржицкий,— представился он.
Слива смерил полицейского внимательным взглядом, кивком руки подозвал молодого словака, которому было поручено выполнять роль переводчика. Не повышая голоса, отчетливо произнося слова, Слива заговорил по- немецки.
— Ми есть зондеркоманда по борьбе с партизан,— переводил словак.— Прошу разместит моих людей.
— Прошу, прошу,— засуетился начальник полиции.— Настоящей казармы, пан лейтенант, у нас нет. Только караульные помещения... Мало топчанов. Немного грязновато.
Партизаны, не дослушай его до конца, взбежали на крыльцо.
В большой классной комнате, отведенной под караулку, ударило в нос спертым воздухом, табачным смрадом. Стояло несколько винтовок, составленных в козлы, четыре полицейских при виде партизан замерли по стойке «смирно».
Помещение бывшего сельсовета, где теперь волостная управа, находилось напротив школы. Слива в караулку даже не заглянул, а вместе с начальником полиции направился в волостную управу.
Несколько партизан в словацких и немецких шинелях, сохраняя дистанцию, последовали за начальником.
Кабинет волостного бургомистра — небольшая, с небелеными стё-намй комнатка. На стене справа от канце¬
641
лярского стола черная коробка телефона. Слива сел за стол, словак переводил его слова:
— Я хочу видет начальник гражданской власти.
— Бургомистра нет, — отвечал Полтаржицкий.— Уехал вчера в местечко. Заместитель здесь. Я сейчас позову.
— Вы должны сидет, заместитель буромистра позовут без вас.
Один из партизан выскочил на крыльцо, и тут же в дверях показался заместитель волостного бургомистра Савенко, худой, со злым лицом, одетый в длинный, до пят, тулуп.
Слива поднялся над столом, заговорил.
— Зондеркоманда прибыл ваша деревня специально,— слово в слово переводил словак.— Мы имеем сведения, что здешняя полиция связана с партизанами. Вас арестовываем...
При последних словах двое партизан подошли к начальнику полиции, двое — к заместителю бургомистра. Те стояли с побелевшими лицами, но не противились. Спокойно дали себя обезоружить, обыскать. У Полтар- жицкого из кобуры вынули наган, из кармана ватных штанов — маленький дамский пистолетик. У заместителя бургомистра оружия при себе не было.
— Пан лейтенант, почему нет никого из районной полиции или жандармерии?—спросил Полтаржицкий.— Мы им подчиняемся. Они нас знают. Можно позвонить...
— Начальник районной жандармерии приедет вечером,— заверил Слива.
Арестованные сели на стулья, успокоились.
Сразу же на крыльцо волостной управы важно вышел Грицук и одну за другой пустил в небо три красные ракеты...
В сумерках в Зеленой Буде был суд. Обледенелый плац перед сельсоветом запружен народом. Местный люд, преимущественно старики, женщины, дети, стоял вперемежку с партизанами. Из управы вынесли стол, два стула. За стол сели Бондарь и Хмелевский. Полтаржицкий и Савенко со связанными руками стояли тут же. Бондарь поднялся, произнес короткую речь.
— Доблестная Красная Армия устроила немцам у Сталинграда котел. В нем сидят вояки, которые хотели
642
поработить наш народ. Скоро, товарищи, наступит день освобождения. Зимой, а самое позднее — весной Красная Армия будет здесь. Мы, партизаны, помогаем Красной Армии. Мы сражаемся с немцами и их холуями. Два таких холуя стоят перед вами. Теперь они кроткие, как овечки. Вы их знаете лучше нас. Расскажите, что они тут натворили...
Бондарь сел, вытер платком взмокший лоб. Стемнело. Несколько минут вокруг царила тишина. И вдруг рядом со столом послышались всхлипывания, и тут же пронзительный женский голос взвился над толпой:
643
— Ироды! Губители! Детей не пожалели! Ты, Игнат, двоюродную сестру, мою дочку, на смерть послал. Ты же сидел в волости, мог бы помочь. Перед богом и людьми нет тебе прощения. Вы глумились над детьми. Руки выкручивали, волосы вырывали. За что? За то, что дети хотели радио послушать...
Женщина упала, выкрикивая слова, которые уже нельзя было разобрать, забилась в истерическом припадке. Площадь возмущенно загомонила, зашевелилась.
— Бандиты, звери!
— Повесить их мало.
644
— Гитлеру служили верой и правдой.
— Полтаржицкий — кулацкий сын. Из Соловков .удрал.
— Савенко народ обирал. Пленного командира застрелил.
На стол стали напирать со всех сторон. Бондарь встал, вскочил на стул.
— Товарищи, спокойно! Все ясно. Можете расходиться. Немецкие холуи получат по заслугам...
Зазвонил телефон, и Грицук, сидевший в волости, взял трубку.
— Почему волость не отвечает?— послышался недовольный мужской голос.— Целый день дозвониться нельзя.
— Бургомистр уехал в район,— ответил Грицук.
— Что у вас там за стрельба?
— Учебная тревога.
— Кто говорит?
— Дежурный,— ответил Грицук и повесил трубку.
Через минуту телефон зазвонил снова. Грицук размахнулся, трахнул прикладом по черной металлической коробке.
Сразу после суда над начальником полиции и заместителем бургомистра Хмелевский собрал в помещении сельсовета коммунистов. Их не много — двадцать два человека. Четверых — Грицука, Ивана Гусовского, Надю Омельченко и начальника хозяйства Василькевича — приняли в кандидаты после того, как межрайком в Рудо- белке дал соответствующее указание.
За окном ночь. На столе тускло горит лампа-восьми- линейка с заклеенным порыжевшей бумагой стеклом. На полу расплющенная коробка телефона, растертая ногами штукатурка. Люди будто дремлют — сидят, прислонившись к стене.
Хмелевский снял шапку, глухо заговорил:
— Бой будет тяжелый. Ночью спать не придется — надо провести подготовительную работу. Делайте, товарищи, ставку на то, что если Литвинов разобьем, другие гарнизоны, не удержатся. Сегодня ночью приднепров.-. с-кий отряд наступает на Лужинец. Это нам фактическая подмога...
645
Несколько минут стояла тишина. Иван Гусовский, комкая в руках шапку-ушанку, спросил:
— Народ вот чем интересуется — где будем зимовать? Если разгоним Литвинов, куда пойдем? В Ольхов или за Птичь, в Копаткевичский и Октябрьский районы?
Встал Бондарь, утомленно провел рукой по лбу.
— Есть директива из Рудобелки — всему отряду сосредоточиться. Зимой поодиночке не выдержим. Так что туг все ясно. Пойдем за Птичь. В Ольхов, если будет все хорошо, заглянем по дороге. Командование понимает, что большинство партизан оттуда, у них там семьи...
з
Бой за Литвинов начался на рассвете. С северной и западной стороны к поселку подступают молодые сосенки, высаженные на сыпучих песках. Сконцентрировались в этом месте. Горбылевская цепь растянулась на полверсты. Справа заняли позиции домачовцы.
Бондарь оставил одну роту в резерве, а на дорогу, ведущую из Литвинова в Пилятичи, послал взвод Медведева с двумя ручными пулеметами и большим запасом патронов.
Разведку провели детальную. Вокруг поселка немцы нарыли окопов, траншей, соорудили четыре — по одному у каждой дороги, ведущей к поселку,— бункера.
К поселку подошли незаметно. Начинало светать. Крайние хаты тонули в густом тумане. В окопах немиев и полицейских не оказалось, но из западного бункера стреляли два крупнокалиберных пулемета. Били разрывными пулями «дум-дум». Они с треском лопались в ветвях молодых сосенок. Партизанская цепь залегла, но только на несколько минуг. Из сосняка, из канавок, из-за песчаных пригорков ударил такой мощный шквал огня, что немцы с полицейскими мгновенно притихли. На бункер наступала рота Большакова. Два станковых пулемета били по амбразурам.
Под прикрытием плотной завесы огня партизаны поднялись в атаку. Бежали в полный рост, не сгибаясь, стреляя на ходу. Несколько' человек упали — новый шквал пулеметных очередей донесся из самого поселка. Стреляли, видимо, из окон второго этажа каменного здания, прикрытого высокими голыми деревьями.
646
Бондарь, лежа за песчаным пригорком, наблюдал за боем в бинокль. Держал при себе троих связных — по одному от каждой роты. Бой развертывался медленно, й уже с первой минуты Бондарь забеспокоился, что может повториться журавичская история. Против каменных зданий партизаны бессильны. Тут хотя бы сорокапятимиллиметровую пушку иметь, хотя бы несколько выстрелов сделать по окнам, по толстым каменным стенам. Он подозвал связного из роты Комара:
— Беги к командиру. Пускай расшевелит домачов- цев.
Хлопец перебежал песчаную дорогу, шмыгнул в сосняк. Не прошло и пяти минут, как с западной стороны началась усиленная стрельба.
Бункер, преграждавший дорогу роте Большакова, фактически был обложен. Партизаны, обогнув его, стреляли из-за стен хат, из канав, из-под заборов. Резанула пулеметная очередь, около самого бункера рухнуло наземь несколько человек. Партизаны забрасывали бункер гранатами.
Пригнувшись, то и дело падая на обледеневшую землю, Бондарь бежал по дороге. Связные следовали за ним. Стрельба не замолкала. Над головой визжали пули. Бункер был где-то сбоку.
Большакова Бондарь нашел в просторном, вырытом в полный профиль, немецком окопе. Командир первой роты лежал грудью на бруствере, бил частыми одиночными выстрелами из автомата.
— Сигнал общего наступления — белая ракета! — крикнул Бондарь.— На здания не лезть. Бери левей, на хлева!..
Партизаны почти повсюду достигли крайних хат поселка. Бондарю казалось, что прошло очень много времени, а когда посмотрел на часы, увидел, что бой идет всего полтора часа. Гарнизон в целом обороняется грамотно. Опорные пункты, откуда стреляют немцы и полицаи, размещены по системе довольно плотной круговой обороны. Бункеры блокированы, но теперь немцы с полицаями засели в низких каменных пристройках, которые окружают хозяйственный двор.
Бондарь видел, что бой этот самый тяжелый из всех, какие ему приходилось вести. Убитых, раненых много. Но отступать нельзя. И нет другого выхода, кроме штурма.
647
В половине двенадцатого двое партизан — Павел Богданович и ординарец Бондаря Володя Шлег, посланные позавчера вечером связными в приднепровский отряд, который должен наступать на Лужинец, привязали в сосняке взмыленных лошадей. Из ельника бежали не пригибаясь, держа наперевес винтовки.
— Гарнизон разбит,— докладывал Бондарю запыхавшийся Шлег.— Убежали немногие, большую часть уложили. Взяли сорок винтовок, три пулемета...
Новость передали по цепи. Через пятнадцать минут взвилась белая ракета. Лавина партизан, поднятая командой, ринулась на хозяйственный двор.
— Ура-а-а! Га-а-а! О-о-о!
Густая, упругая волна людского крика слилась с мычанием ошалевших от стрельбы коров, диким ржанием коней, пронзительным визгом свиней. Животные бились в закрытых хлевах. Немцы, полицейские не выдержали. Выскакивали из дверей низких каменных хлевов, из круглых цементированных желобов, разложенных, видимо, специально на широком, как площадь, хозяйственном дворе. Их решетили пулями в упор, догоняли, били наотмашь прикладами.
Организованное сопротивление партизаны встретили только у мельницы. Оттуда, не умолкая, бил короткими очередями пулемет, раздавались частые винтовочные выстрелы. Семь или восемь человек из роты Комара, бросившиеся на мельницу, были скошены один за другим плотным, прицельным огнем.
Во дворе перед кирпичным коровником — несколько возов с сеном, соломой. Решение пришло само. Впрягшись в оглобли, прикрываясь от пуль, партизаны подвели четыре воза к стенам мельницы, зажгли сено. Через несколько минут деревянное строение на каменном остове вспыхнуло, как свеча.
К двум часам дня чуть ли не весь поселок с хозяйственным двором, зернохранилищем, маслозаводом, разными складами был в партизанских руках. Выпущенные из хлевов коровы, оглашая воздух мычанием, ревом бежали в лес. Визжали свиньи, блеяли овцы.
Но радоваться было рано. Двухэтажный каменный дворец посылает пулеметные очереди изо всех окон. Огонь такой сильный, что двести с лишним партизан оказались прижатыми к земле, не могут поднять головы.
т
К Бондарю, под каменную стену хлева, подползли Большаков, Комар и Гервась.
— Из бункера словак выкурил полицаев гранатами,— сказал Гервась.— Двенадцать сдалось. С ними два немца.
— Какой словак? — спросил Бондарь.
— Слива. Задержанный тоже здорово кидает гранаты. Тот, которого позавчера хотели расстрелять. Он — матрос.
Командиры чувствовали неустойчивость положения, искали выход. Бондарь задумался.
— Стреляют со второго этажа,— наконец заговорил он.— Гранатой не достанешь. Да и гранат маловато. Тут если бы так, как с мельницей...
Большаков, обжигая пальцы, дотягивал окурок самокрутки.
— Каменное здание огнем не возьмешь. Да и далеко. Сено подожгут на подходе. Стреляют трассирующими.
Бондарь помрачнел. Горят два хлева, столбы дыма поднимаются и в других местах поселка. Полицаи с немцами стреляют торопливо, часто, не умолкают гулкие пулеметные очереди. Партизанские пулеметы молчат. Все ясно — нет патронов. У бойцов, прижатых к земле, патроны тоже, видимо, на исходе. Радовались, что имеют по двадцать штук на винтовку, а это для затяжного боя мелочь. Немцы, сволочи, чувствуют это, потому и держатся.
— Выхода нет, надо забросать гранатами,— согласился Бондарь.— Будут большие потери. Ввести в бой роту Петрова.
— А если вдруг?.. — Гервась взглянул на Бондаря.
— Что поделаешь? Взвод Медведева не трогаем. Да и не мы окружены, а они.
Рота Петрова, которая выросла за последние полтора месяца преимущественно из числа связных и молодых ольховских парней, с утра лежала в сосняке, участия в бою не принимала. Больших надежд на третью роту Бондарь не возлагал. Люди необстрелянные, слабо вооружены. Семь или восемь партизан с берданками... Один, глуховатый бригадир из Темровщизны, и по сей день ходит с саблей, которой лихо срубает хворост, когда надо развести костер.
Атаку на двухэтажное здание повели из сосняка. Длинными очередями ударили по верхним окнам два руч¬
649
ных пулемета. За считанные минуты лавина наступающих добежала до первых хат и деревьев старого парка, под которыми, прижатые к земле, уже несколько часов лежали партизаны из роты Большакова, Комара и бойцы из домачовского отряда.
Вперед вырвались гранатометчики. Словак Слива подбежал к зданию почти вплотную, швырнул гранату в верхнее окно. Послышался взрыв. Из оконного проема метнулся огонь и дым. Пулемет замолк.
Слива, за которым наблюдали десятки глаз, стоял, прислонившись к каменной стене, зубами вырывал чеку из другой лимонки. Держа в левой руке винтовку, в правой гранату, он отделился от стены и тут же упал, расстрелянный в упор из нижнего окна. Граната разорвалась рядом, окутала неподвижное тело завесой дыма.
Упали, не добежав до деревьев, за которыми можно было спрятаться, еще несколько партизан. Среди них Володя Шлег, ординарец командира. Бондарь на мгновенье потерял над собой власть. Поднялся, выхватил из кобуры наган, бросился к зданию.
— Сволочи, сдавайтесь!
Кто-то схватил его за ногу, повалил, прижал к земле... Новая атака захлебнулась.
Начинало смеркаться. Бондарь отполз за стену хлева, собрал вокруг себя командиров.
— Будем ужинать,— сказал он спокойно.— Зажигайте костры. Как можно больше. Немцы должны сами удрать.
Удивительно красивое зрелище представляли собой темным декабрьским вечером околицы поселка Литвинов. На взлесье сверкающим полукругом загорелись костры. Их было много, до полусотни. Дворец молчал. Не отозвался ни одним выстрелом.
В полночь к Бондарю, сидевшему у костра, подбежал Гервась, громко, чтоб все слышали, сказал:
— Смылись. Там, в доме, человек тридцать убитых.
Патронов не было, но каждый костер дал салют...
Убитых — их было двадцать восемь — похоронили в Зеленой Буде, раненых на восьми телегах отправили в Сосновицу. Запас патронов пополнили — в Литвинове
656
нашли нетронутый немецкий склад. Зерно и скот раздали населению.
Через два дня, двадцать восьмого декабря, объединенные горбылевский и домачовский отряды двинулись на Пилятичи. Это был последний гарнизон в границах Бать- ковичского района, если не считать местечка и деревень, прилегающих к самой чугунке. Командиры рассчитывали, что пилятичский гарнизон боя не примет. Так оно и случилось...
4
Два подвыпивших пилятичских полицейских — Кирилл Кабысь и Ларик Вишневецкий — забрели в хату к Анютке Бондарчуковой. Анютин муж погнал на восток эмтээсовские тракторы, а сестра, Татьяна Бурак, сбежала из-под ареста и прячется в лесу.
Перепуганная Анюта не знает, как угодить незваным гостям. Носится от печи к столу, выставляет небогатую закуску. Дети — мальчик и девочка, которые кажутся близнецами, жмутся за ситцевой занавеской на кровати, тревожно поблескивают оттуда черными глазенками.
— Большевиков ждешь, Анютка? — говорит Ларик.— Но не очень надейся. Голые твои большевики. По два патрона на винтовку. В Литвинове накрошили их, как капусты.
Хозяйка бледнеет, губы ее вздрагивают.
— Они такие же мои, как и ваши, хлопчики. У меня одна забота — детей прокормить.
— Ну, не говори! — Ларик хохочет.— Твой Василь вернуться не захотел. Подался на Урал. Сестра собакам сено косит.
— Не приставай ты к ней,— говорит Кирилл.— За сестру она не ответчица. Вот придут партизаны, возьмут твоего брата за грудки. Хорошо, думаешь, ему будет?
— Не придут. Кишка тонка.
— Как пить дать, попомнишь мое слово. Спаткай носом чует. Третий день в местечке.
У Ларика лицо, волосы, брови — все черное. Наливает стакан самогонки и не чокнувшись выпивает.
— Черт с ними. Пускай приходят. Живым в руки не дамся.
651
— Влезли мы с тобой, Лаврен, как в невод. Князе- ву-то что? Заберет шапку в охапку — и ходу. Говорят, три воза добра в местечко отвез.
— Пускай возит. Я всегда говорил, что он скотина.,
— Вот что, Анюта.— Кирилл смотрит в пол.— Ты, если что, словечко закинь. За моих. Живем в одном селе. Еще все может быть.
Ларик поддакивает:
— Немцы не такие дураки. Не уступят. Тебя же, видишь, мы не зацепили. А знаем — сестра твоя таким, как мы, командировки на тот свет выписывает...
Анюта дрожит как осиновый лист.
Не допив самогонки, не попрощавшись, полицейские уходят.
Прошло полчаса, и затарахтели на окраине села, там, где к хатам подступают редкие кусты, винтовочные выстрелы.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 1
Каждый, кто стал бы наблюдать за заместителем бургомистра Лубаном, сразу увидел бы, что живется ему нелегко. Ходит Лубан хмурый, унылый, кажется, улыбка навсегда сошла с его одутловатого лица.
До войны в местечке Лубана знали мало. Работал кассиром на товарной станции, имел дело с погрузочной конторой, заготовительными и торговыми организациями. Немного раньше, в тридцать восьмом году, занимал должность большую — был начальником связи дистанции железной дороги. Его, как и бургомистра Крамера, арестовывали и держали в тюрьме больше года.
У немцев Лубан на хорошем счету. Поздней осенью прошлого года, сразу после того, как стал заместителем бургомистра, он застрелил в совхозе Росица переодетого красноармейца. Тем не менее ведет себя Лубан странно. Живет, как жил и до войны, в двух темных комнатушках станодонного дома, за добром не гонится. Близкие к нему люди говорят, что пьет.
После разговора в кабинете бургомистра Лубан, Толстик и начальник пожарной охраны Ольшевский,
652
простившись с Лагутой, пошли вместе. Возле клуба их нагнал мастер Адамчук.
— Зайдем ко мне, хлопцы. Первачок — глаза вылупишь. Хлебный, без примесей.
Те на минуту заколебались. Шли к Толстику. Выпивали в последнее время у него — вертлявый, пронырливый начальник местпрома умеет все из-под земли достать.
Первый согласился сам Толстик:
— Ладно, к тебе — так к тебе. У меня женка прихворнула, ворчит.
Адамчук устроился как полагается. В казенном, с двумя крыльцами доме до войны кроме мастера жили еще бригадир и двое ремонтников. Теперь хоромы занимает один Адамчук.
На столе у Адамчука кроме светлой, как слеза, самогонки в графине две бутылки немецкого шнапса.
— Достаешь? — насмешливо кивнул Лубан.
— У железнодорожников все можно достать,— охотно ответил хозяин.— Им выдают паек.
— Много дают? — интересуется Толстик.
— Где там. Ерунда. Бутылку на месяц. Между прочим, хлопцы, можно достать шинельного сукна. Только нужно сало.
Лубан насмешливо косится.
— Иди ты со своим сукном!.. Сделай так, чтоб сюда никто не заходил.
Садятся за стол, выпивают по первому стакану. Закусывают солеными огурцами, салом. Лица краснеют, взгляды становятся веселее. Лубан хмур по-прежнему, к закуске почти не прикоснулся. Хозяин спешит налить по второму.
— Я думаю вот что, хлопцы,— выпив, говорит Лубан.— Коли залез в г..., не чирикай. Крамера слушать хватит. Мало ли что ему взбредет в голову. Натворили и без этого паскудства. По самую шею...
— Я политикой не занимался никогда,— подхватывает Толстик.— Работа — другое дело.
— Ты — святой,— насмешливо бросает Лубан.— Лучше помолчи. Все хороши.
Несколько минут стоит неловкое молчание. Толстик не обращает ни на что внимания — запихивает в рот кусок сала, блестит глазами.
653
— Кто мог наперед знать? — жалуется хозяин.— Еще и теперь неизвестно, что будет. Немцы на Волге, у Сталинграда. Скорее всего — победят они. А жить как- то надо.
— Я не верю, что победят немцы,— кидает Лубан.— Не к тому идет. Сидят в котле, как мыши.
Адамчук испуган и не скрывает страха.
— Почему не веришь?
— По-зверски обходятся с народом. Смотрят на людей как на скот. Потому и партизанское движение растет. Народ сломить нельзя.
— Так мы же для партизан—враги,— скривившись, как от боли, выкрикивает хозяин.— Я враг вдвойне — бросил отряд, ремонтирую железную дорогу. Разве такое простят? Что меня ждет? Пуля...
— Пулю ты можешь заработать и от немцев,— спокойно возражает Лубан.— Взорвет кто-нибудь чугунку возле твоего дома — и конец. Думаешь, очень нужен ты немцам. Спасибо Крамеру, он твою душу на свете держит. Без него давно был бы на веревке.
— Либо совой об пень, либо пнем об сову — все одно!— хохочет Толстик.
Выпивают еще. Наконец веселеет и Лубан. Кислый, растерянный сидит один Адамчук. Лубан закуривает, говорит спокойно, будто вовсе и не пил:
— Вывод такой, хлопцы. Пока будем держаться за Крамера. Но идти с ним не до конца. Он немец и немцам сочувствует. Хочет примирить волка и овцу. А что нам делать? Я думаю — не высовываться. Верой и правдой служить больше не буду. Заметили, что делают партизаны? В первую очередь охотятся за такими, как мы. Так что очень легко поймать пулю. А я этого не хочу. Да и никто из нас не хочет.
— Никто,— подтверждает начальник пожарной охраны Ольшевский, до сих пор молчавший.
Адамчук не находит места рукам.
— Так что же делать? Оттуда горячо, отсюда больно. Плохо будешь служить — немцы арестуют, хорошо — партизаны.
— Делай вид, что хорошо служишь,— хохочет Толстик.— Не волнуйся, кому надо, заметит. Я своим ремесленникам давно сказал: катай, хлопцы, во всю ива¬
654
новскую. Я ничего не вижу, не слышу — лишних налогов не будет...
— Ты выкрутишься,— не скрывая зависти, тянет Адамчук.— Ты всегда выходил сухим из воды.
— А ты подмок. Развинти гайку — вот и заслуга.
— Все-таки вы скоты,— Лубан наливает себе еще стакан.— Плюнул бы на вас, да не за кого зацепиться. Сам хуже, чем вы, в г... Руки кровью запачкал. Если б не это, не сидел бы тут с вами...
Несмотря на отповедь заместителя бургомистра, настроение компании заметно поднимается. Выпивают еще. Даже песню затягивают.
2
В местечко за последний месяц привалило немало разного люда — бургомистров, старост, полицаев, изгнанных партизанами из своих деревень и волостей. Батьковичская полиция значительно пополнилась, но всю ораву в кожухах и свитках на службу не зачислили. То ли квартир, то ли еще чего не хватает.
Если послушать беглецов, то в Литвинове и Лужин- це партизаны окончательно разбиты. Слухи пущены настолько густо, что некоторые местечковцы верят им.
И все же не это небывалое еще событие занимает внимание местечковцев, а другое, на первый взгляд менее значительное. Взвод словаков, размещавшихся в будках около Птахового переезда, в полном составе перешел к партизанам.
Митю эта новость взволновала. Словаки, люди небольшой страны, солдаты оккупационной армии, бросили вызов Гитлеру. Только так можно расценивать уход в лес маленького охранного гарнизона, в котором однако, были и офицер и сержанты. Словаки хорошо относились к населению, своими ушами слышал Митя на покров в Палыковичах, как говорили они про немцев. Все это что-то значило. Но в жизни все кружится, кипит, как в водовороте, и не во всем сразу разберешься. Словаки люди незнакомые, из далекой страны, ушли в холодный, голый лес, а полицейские, старосты, которые родились на этой болотной и лесной земле, прибежали в местечко.
655
Дела Митины плохи. Прошло больше месяца после встречи с десантниками, Шурой и Драгуном, а на работу он устроиться не может. Принимал просто отчаянные меры — и все напрасно.
Вернувшись из дубровицкого березняка, Митя на второй или на третий день отнес заявление в финансовый отдел, хотел устроиться на прежнее место. К бургомистру Крамеру зайти не решился, отдал бумагу Пи- левскому. По выражению лица и нескольким словам, которые произнес начальник финотдела, Митя почувствовал, что тот относится К нему хорошо, за увольнение не обижается и будто не сомневается в том, что недавнего счетовода по страховке на работе восстановят. Но когда на другой день Митя пришел в финотдел, Пилевский сухо сообщил, что единица счетовода сокращена. Дверь в канцелярию районной управы перед Митей закрылась...
Была неделя, когда казалось, Митя достиг успеха. В торговой конторе заведующей хозяйством работает местная немка Лиза Картинникова, довольно красивая женщина лет тридцати. Замужем она за высоченным носатым грузчиком. Грузчик нигде не работает, живет на средства жены-немки и, по слухам, даже сам в немцы записался.
В один из тех дней Митя заглянул к Плоткину на службу. Выходя вместе из помещения бывшей редакции, где теперь находилась торговая контора, хлопцы столкнулись на крыльце с Картинниковой.
— Он немецкий язык знает,— отрекомендовал Митю Плоткин.
— Правда? — Женщина будто обрадовалась, блеснула двумя золотыми зубами.— А где ты работаешь?
— Нигде,— сказал Митя.— Ищу работу.
Женщина на минуту задумалась.
— Приходи завтра к нам,— сказала она.— Я поговорю с начальником. У нас трое парней из Разводов, фольксдойчи. Но такие мешки — ни один по-немецки читать не умеет. Я и сама не умею,— улыбнувшись, добавила Картинникова.
На другой день Митя пришел в контору. Картинникова встретила его во дворе, подала руку, улыбнулась.
— С паном Штанге я говорила. Он согласен...
656
Не без страха входил Митя в кабинет начальника торговой конторы. Штанге — немец приезжий, а с такими Мите встречаться не приходилось. Высокий, седой, хорошо выбритый старик прохаживался из угла в угол по комнате, когда, постучав в дверь, заведующая хозяйством привела к нему Митю. Немец окинул посетителя неторопливым взглядом, ничего не спросив, сказал:
— Vierzig Mark1.
Повернулся спиной, прошел, размахивая руками,— его застали за гимнастикой,— в противоположный угол. Картинникова вывела Митю в длинный коридор, сказала:
— Словарь у тебя есть? Будешь переводить расценки и сметы. Они приходят на немецком языке.
Открыла дверь в узенькую темноватую комнатушку, где стояли стол и табурет.
— Твое место. Я буду у тебя учиться читать.
Прошел день, второй, третий. Никто Мите работы
не давал. Он выходил в коридор, заходил в бухгалтерию к Плоткину, где за тесно сдвинутыми столами сидели несколько знакомых по школе девушек.
В конце недели в комнатку зашел Штанге, положил на стол две новенькие денежные бумажки по пять марок:
— Die Arbeit ist zu Ende2.
Вслед за начальником вошла растерянная, нахмуренная Картинникова.
— Ты ему не понравился. Сказал, что не любит
МОЛЧуНО'В...
В ее словах Митя услышал больше, чем, видимо, сама она хотела сказать.
Была еще попытка устроиться счетоводом в лесхоз. Учреждение это помещалось на недавно застроенной Пионерской улице, несколько на отшибе, и устраивало бы во всех отношениях. Митя чувствует, что ему надо на некоторое время притаиться. Неправильно он поступил, кргда уволился из финотдела. Крамер, конечно, понял, в чем дело. То, чго Митю нигде не принимают, его рук дело.
Главным бухгалтером в лесхозе работает высокий, е неподвижной правой рукой ■ старик, похожий на ко¬
1 Сорок марок.
2 Работа окончена.
657
щея. Митя увидел сразу, что он один из тех людей, которые всю жизнь провели за бумагами, счетами и полагают, что на бухгалтерии держится весь свет.
Кощей, чтоб проверить Митины способности, дал ему большую ведомость, заполненную бесконечными колонками цифр, приказал подвести итог.
В том, что н-ичего не получилось, виноват Митя сам. В финотделе такие итоги подбивал. Но с первой минуты не легла душа к этой давящей, затаенной тишине, которая царила в бухгалтерии. Кощей молчал сам и никаких разговоров на протяжении восьми рабочих часов не допускал. Шелестели бумагами, щелкали костяшками счетов старшие и обыкновенные бухгалтеры— их тут человек пять — и только изредка, стараясь не шуметь, выходили за дверь покурить. Кощей за своим столом, поставленным поперек комнаты, восседал, как на троне...
За первый день Митя подбил все колонки. Но когда на другой день взялся сводить общие результаты, проставленные в последней графе, сумма не сходилась. Митя стал нервничать, пересчитывал вчерашние данные, но каждый раз получалась новая цифра. Кощей время от времени бросал на него язвительные взгляды. Под вечер второго дня не выдержал, взял у Мити ведомость, и его тонкие, высохшие пальцы стали стремительно перекидывать косточки счетов. Каждую из написанных внизу ведомости цифр кощей перечеркнул красным карандашом, поставил свою, а Мите сказал, не скрывая издевки:
— Ничем не могу быть вам полезным, молодой человек...
Два раза за последний месяц приходил из Громов Микола. Требования посланцев Мазуренко, с которыми он видится, прежние: завоевывать доверие у немцев. Задания капитан не дает.
В тот день Митя спозаранку пошел к Алексею Примаку. Вышли на обледенелый дощатый тротуар, побрели вдоль улицы. Мокрядь, скользко. Навстречу быстро движется, перебирая короткими ногами, толстый, как бочонок, старший лесничий Лагута. Митя, опустив глаза, поздоровался — было неловко за свой провал при поступлении в бухгалтерию лесхоза,
Лесничий остановился.
22 И. Науменко.
— Вы хорошо знаете немецкий язык? — спросил он у Мити.
— Читаю почти без словаря.
— Приходите завтра на работу. У нас есть единица переводчика. Работы особой нет, но занятие вам найдем.
— Вот тебе и удача,^сказал Митя, не скрывая волнения.
— Счастье идет не леса,— поддакнул не менее обрадованный Примак.
Хлопцы оглянулись — Лагута трусил в районную управу.
На первой странице учебника для десятого класса есть высказывание Карла Маркса о важности владения иностранными языками: «Kenntnisse der Fremdsprachen ist eine Waffe im Kampfe des Lebens»1.
Митя вспомнил это выученное на память высказывание, непосредственно применив его к своей особе. .Карл Маркс все-таки смотрел вперед...
з
На станции Горбыли за последние два месяца было несколько диверсий: взорваны электростанция и мазутный склад, на котором возник пожар, поврежден коммутатор на узле связи, разграблен склад с путейским инструментом. В диверсиях, кроме партизан, которые просачивались в город, принимали участие некоторые железнодорожники, преимущественно из числа молодых, и мастер Глушко прожил это время в тревожном напряжении. Немцы могли легко напасть иа нужный след.
Служебных дел у мастера прибавилось. Ежедневно навещает он станционного коменданта Шмидта и немецкого мастера, советуется по каждой мелочи.
Хмурым осенним вечером Глушко зашел в склад к знакомому кладовщику, тодтовцу Грюнвальду, купить сигарет. Грюнвалъд — пожилой, широколицый, добродушный немец. Склад полон всякого добра. На полках связки с шинелями, с бельем, ботинками, ящики с элек-
1 «Знание иностранных языков — оружие в борьбе за жизнь»,.
*59
трическими лампочками, рулонами кабеля, медной проволоки. В отгороженной конторке в углу на табуретке— радиоприемник. Передавали немецкую песню.
Кладовщик взял марки, дал Глушко пять пачек сигарет и вдруг запер дверь на задвижку.
— Мастер, радио советское слушать хочешь?
Глушко онемел. Но волнение затаил, сел за стол,
снял шапку. Немец быстро нашел московскую волну...
Грюнвальд пригласил мастера зайти завтра.
В тот же вечер Глушко повидал Гриба и Петренко. Советовались, не знали, что делать.
— Не провокация ли? — сказал Петренко.— Но стоит приглядеться. Завтра не ходи, наведайся дня через т,ри...
Через будочника Жерновлка и лесника-связного (фамилия его тоже Глушко) необычную новость передали Бондарю. Он приказал связь с немцем держать, а в скором времени два парня с «Маслопрома» приволокли на квартиру мастера двадцатикилограммовый ящик масла. Глушко завернул в чистую материю порядочный кусок, отнес Грюнвальду. Тот расчувствовался до слез. Снял с полки новенький железнодорожный костюм, подар.ил мастеру.
Снова слушали радио. На этот раз Глушко вынул блокнот, карандаш, осмелился кое-что записать.
Слушание радио тянулось с месяц, и наконец Грюнвальд раскрылся:
— Мастер, тут, на станции, есть три немецких коммуниста. Чувствуем, что ты надежный человек. Хотим иметь связь с партизанами.
Когда Глушко пришел в конторку на другой день, из-за стола поднялись два офицера-тодтовца, взяли под козырек.
— Фриц Зонэмахер,— назвался высокий, с очками на прямом орлином носу.
— Пауль Линке,— представился второй, пониже, с животом, заметно округлившимся под мундиром.
Оба капитана, служат инженерами.
Тут, в городе и на станции, было много немцев, я все они враги, оккупанты, так как каждый из них не задумываясь послал бы на смерть такого, как он, Глуш-. ко. Эти трое были другими. Только трое из сотен, из тысяч, но все равно это что-то значило...
22*
660
4
Теперь она была спокойна. Казалось, наступили дни, которых она ждала всю жизнь, к которым шла, оступаясь, петляя, ненавидя порой сама себя за свою женскую слабость. Если исповедаться перед собой, то всю предыдущую жизнь она прожила как бы в состоянии повышенной нервозности, возбужденности, в ожидании чуда. А чуда никакого не надо. Женщине нужен мужчина-друг. Такой, которому с радостью подчинилась бы, ловила каждое слово, угадывала невысказанные желания.
Теперь у нее был Фриц Зонэмахер. Он напоминал Турбиной первого мужа и в то же время вытеснял его из воспоминаний.
Она не знала, что он за человек, что скрывается за его сдержанностью, и это ее пугало.
Свой остров любви она оберегала, как могла. Теперь ее жизнь складывалась как бы из двух половин, и она не хотела, чтоб они сошлись. Первая принадлежала немцам, тем, у кого она служила, вторая — партизанам, которым она помогала. Отсюда и страхи, угрызения совести, неуверенность в завтрашнем дне, которые заполняли ее теперешнюю неспокойную жизнь. Наградой за эту двойственность была любовь, комнатка Фрица, куда она заходила чуть ли не каждый день, тихая музыка, бутылка немецкого вина. Она хотела, чтоб эта идиллия тянулась как можно дольше.
Но однажды Фриц сказал:
— Знаешь, я год сидел в концлагере.
Она испуганно встрепенулась:
— За что?
— За то, что был в твоей стране. И еще за всякие другие вещи.
В следующий раз он сказал, отводя взгляд в сторону:
— Фрау Эрна, я думаю, нам надо прекратить свидания. У меня могут быть неприятности. Среди оккупантов, которые пришли в твою страну, есть и честные немцы. Им надо выбирать...
Она прижалась к его груди, заплакала...
661
5
Горбылевский отряд отмечал победу над разогнанными гарнизонами Зеленой Буды, Литвинова, Пилятич, в деревне Рогали, наиболее глухой даже в этом лесном краю. С южной стороны ее окружает гряда высокого дубняка, с западной и северной — стена чернолесья. И только в той стороне, где восходит солнце, за низкими серыми кустами, молодыми березками, можно увидеть разбросанные клочки рогалевских лугов и полей.
Трудно сказать, почему люди выбрали для житья этот хмурый лесной угол. Хотя некоторые выгоды тут, конечно, есть. Летом — много травы на лесных вырубках, зимой о топливе можно не думать. Выходи со двора, вали сухостой, тащи в печь.
От Рогалей до Литвинова — восемь верст, а до местечка напрямик через лес — двенадцать. Но в том-то и дело, что есть только одна пр унтов а я дорога, и, чтобы добраться по ней в местечко, надо миновать Лозовицу, Литвинов, Пилятичи и еще несколько деревень. По этой кружной дороге от Рогалей до местечка верст тридцать.
Не удивительно, что многие из местечковцев даже не знают о существовании лесного поселения, которое фактически под боком, за густой грядой чернолесья. Рогалевцы чересчур не высовываются. Соседи из Ло- зовицы, Литвинова посмеиваются над ними-:
— Живем сами по себе. Из местечка нам ничего не надоть, только соль да железо в кузницу...
За полтора года войны немцев в Рогалях не видели. Никто отсюда не пошел в полицию, но и партизана деревня также не выставила ни одного.
Шумят, гомонят неслыханным ранее многолюдьем леоные Рогали. Старинные дворы, в которых хата, хлев, сарай, омшаник — под одной кровлей, запружены возами. Много всякого добра взяли партизаны в Литвинове— муки, зерна, соли, сала, масла, яиц. Все это упаковано, лежит на повозках. Даже до спирта добрались. Огромная дубовая бочка погружена на отдельную бричку начальника хозяйства Василькевича, и он выдает спирт, черпая пол-литровой, сделанной ив снаряда, кружкой из железного ведра, с расчетом, чтоб одна мерка пришлась на двоих...
662
У колодцев, будто собравшись по воду, тревожно переговариваются рогалевские бабы. Пожилые женщины носят тут домотканые красные с продольной белой полоской паневы, а платки наматывают на голову на манер тюрбанов, широким, как решето, кругом. Но это не только тут. Такую одежду, тюрбаны-решета на женских головах встретишь на Полесье во многих местах..,
б
За Митиным огородом стоит маленькая, похожая на баньку, хатенка, и живет в ней чудаковатый, молчаливый парень Василь Шарамет, который еще осенью прошлого года вырвался из вяземского окружения и приковылял домой. В семье, кроме Василя, мать и две сестры, старшая и младшая.
Василю лет двадцать пять. Замкнутый он какой-то, носа из хаты не высунет. Летом резал на болоте лозовые прутья, плел корзины на продажу. Теперь туда не выберешься, на переезде охрана, проверяют документы, и заработка Василь лишился.
Митя знаком с Шараметом с тех пор, как перебрался в дедово жилье. Кое-что о ием знает. Рос Василь без отца, с отчимом, который его терпеть не мог. Рано пошел на заработки. Работал на почте, и оттуда его послали в военную школу. За месяц до войны Шара^ мету присвоили звание младшего лейтенанта, под Смоленском охранял расчет «катюш». В окружении под Вязьмой Шарамет взорвал «катюши», попытался пробиться на восток, но попал в плен. Из колонны удрал.
Василь знает, что Митю арестовывали, потому, видимо, отважился при встрече рассказать о себе. Будто на что-то надеялся.
О том, что Шарамет —младший лейтенант, пронюхала полиция — до войны после окончания военного училища приезжал *в отпуск,— и ему уже дважды предлагали, стать .полицейским. Условия жесткие—либо бери винтовку, либо угодишь в лагерь. У Василя есть товарищ по несчастью, Терешка Богушевич с торфозавода, рослый худощавый мужчина. Его тоже сватают в полицию, угрожая, если откажется, арестом. Терешка
663
иной раз приходит к Василю, они о чем-то шепчутся, но выхода не видят. Боятся за семьи.
После разговора с Лагутой Митя сходил к Лобику, сообщил новость. Вечером подул холодный северный ветер, лужи схватило льдом. Митя вышел на огород, перемахнул через две нитки колючей проволоки, каким Шара.метов огород отгорожен от теткиного.
В хатенке-баньке две комнатки. Тепло, натоплено. Василь — он среднего роста, с приятными чертами лица — сидит у коптилки, в чистой комнатке, точит напильником зазубренный топор.
— Иди в полицию,— сказал Митя.— Там нужен свой человек.
— Что значит свой? — осторожно спросил Василь,
— Получишь задание.
Кто даст?
— Ну, партизаны. Или те, кто с ними связан.
Василь промолчал.
— Почему нажимают, чтоб в полицию шли местеч- ковцы? Хватает тех, что поудирали из волостей,— сказал Митя.
— Дело простое. Пилятичские и лужинецкие полицаи сбежали, не приняв боя. Немцы им не верят. Считают, что местечковцы будут обороняться лучше, если нападут партизаны.
Митя посидел с час, собрался домой, когда Василь, посмотрев на часы, тикавшие на стене, вдруг предложил:
— Хочешь послушать радио?
Не спрашивая согласия, поднял в полу доску, спустился в погреб. Вылез оттуда, осторожно держа в руках завернутый в старый крапивный мешок небольшой ящик. Поставил на стол, приладил провода, спрятанные за обоями. Потушил коптилку, крутнул рычажок. Послышался тихий треск, завывание, но неожиданно из этого хаоса прорвался отчетливый русский голос...
Митя замер. Второй раз за оккупацию слушает советское радио, и случается такое перед новым шагом, который он делает в жизни. То, что услышал, окрылило его. Немцы в Сталинграде окружены, и окружены, судя по сообщению, давно, а он, Митя, занятый суетой, мел-, кими делами, хлопотами, ничего об этом не знал. Не знали ни Лобик, и что особенно удивительно, ни Мико-
664
ла, так как тот дважды за последний месяц виделся, с посланцами Мазуренко. Неужели десантники считают, что такие новости для них, местечковцев, мелочь?
Передача окончилась..Василь зажег лампу, спрятал приемник под пол. Система у него придумана хитро. Ни батарей, ни антенн не увидишь. Проводка замаскирована за синеватыми обоями, которыми оклеена комната.
— Батареи садятся,— сказал Василь.— Новых не достать.
— Ты часто слушаешь?
— Редко.
— Про Сталинград знал?
— Знал.
— Почему мне не сказал?
— Так ты же газеты читаешь. Немецкие. Раз-ве не пишут?
— Давно не читал я никаких газет,— грустно ответил Митя.
— Допустим, что я поступлю в полицию,— сказал Василь, помолчав.— А как с Терешкой? Кто ему даст задание?
— Пускай делает, как хочет,— сказал Митя.— Обо мне ему ни слова. Никому ни слова. Знаешь одного меня...
На огороде сумерки. Небо посветлело, очистилось от туч. В высохших стеблях кукурузы шелестит зимний холодный ветер.
7
Лесхоз — это прежде всего просторный кабинет старшего лесничего Лагуты, здесь телефон, несколько шкафов, мягкие диваны и кресла. С просьбами отпустить дров или лесу посетители обращаются только к старшему лесничему. Тонкой дощатой перегородкой, которая имеет даже внутренние двери, кабинет отгорожен от комнаты, где стоят столы секретарши, машинистки и заведующей общей канцелярией.
В левой половине дома, отделенной от правой комнатой для посетителей (здесь собирались когда-то допризывники),— бухгалтерия. Там есть две боковушки— для кассира и бухгалтеров-картотетчиков.
. Машинисткой в лесхозе служит смешливая, верт¬
665
лявая, как юла, Полина Рябина, бывшая учительница. Секретаршей работает Нина Грушевская, заведующая общей канцелярией — Митина одноклассница Валя Хмелевекая, та самая, что гуляла с полицаем Кузьмен- ком. Она и теперь с ним, так как младший Кузьменок бургомистрову родственницу, у которой отыскался муж, оставил.
На должности лесхозовского переводчика Митя пробыл три дня. Ни немцев, н,и бумаг, написанных по-немецки, какие надо было бы перевести, в лесхозе нет, а потому нет для Мити работы. Стола ему не выделили, дали только стул в комнате секретарш. Положение двусмысленное, а если строго разобраться, даже смешное. Митя выходил в прихожую, становился у окна и потихоньку посвистывал.
Этот трехднев'ный свист вывел наконец -из равновесия кощея — настоящая фамилия главного бухгалтера Матиевский Зигмунд Людвигович. Матиевский стремительно выскочил из бухгалтерии, и, окинув Митю, стоявшего у окна, неодобрительным взглядом, отправился в кабинет к Лагуте. Через несколько минут Митю позвали туда.
— Зигмунд Людвигович говорит правду, вам нечего тут делать,— сказал Лагута.— Переводим вас в кассиры. Работы там не много, а если будут немецкие бумаги, поможете.
На следующий день Митя принял кассу. Бывший кассир, Миша Севрук, тоже молодой человек, переводился в бухгалтеры. Кощей выиграл — за счет переводчика добавил в свой штат лишнюю единицу.
Касса с ее отдельной комнаткой — как раз то, что надо. Никто не будет излишне мешать. В углу, рядом со столом, большой железный сейф, ключи от которого у Мити в кармане. Через зарешеченное окно видны деревья сада, кусок железнодорожной насыпи, черепичная крыша электростанции.
В лесхозе, как и в финотделе, тоже делают вид, что занимаются делом. Лесничеств в волостях, откуда повыгоняли полицейских и старост, не существует,—они переехали в местечко, за исключением двух, находящихся в Громах и Палыковичах, при железной дороге.
Митя сидит за столом, смотрит на серые, голые яблони, думает. Полгода назад, тут, в лесхозе, работали
666
не только такие, как Хмелевская. Машинисткой была Лиза Озеркова, бухгалтером Полянская — местные подпольщицы. Они печатали листовки, и тогда же, летом, когда Митя сидел в тюрьме, их расстреляли.
Впервые за полтора года войны Митя почувствовал под -ногами твердую почву. Все постепенно становится на свое место. Радость, нетерпеливое ожидание были и прошлой зимой, когда дошли вести, что немцев погнали от Москвы. Но в той нетерпеливой радости была и ка* кая-то неуверенность, ибо то, что случилось, напоминало чудо. Чудес на свете не бывает, думает Митя. За счастье надо платить дорогой ценой. За полтора года войны страданий хватило вдосталь. И наибольшее чудо то, что не только сдержали -немцев на всем огромном фронте, а устроили им западню, схватили в клещи. Выходит, только теперь научились воевать.
Вчера Мите попала в руки газетка, выходившая на русском языке в Мозыре. Из сводки, которая там помещена, ничего нельзя понять. Пишут, что немцы в Сталинграде, и в то же время сообщают, что бои ведутся у излучины Дома. Немцы сами от себя прячут правду.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ I
Отряд выступал из Рогалей. Длинный обоз повозок растянулся на всю улицу. Предполагалось, что они не будут сворачивать на Ольхов, так как на железнодо* рожном переезде могут возникнуть неприятности.
За неделю в отряд влилось более сорока человек. Разгром местных гарнизонов как бы пробудил от сна лесную, болотную Литвиновщину.
Под вечер в Рогали к Бондарю примчались на взмыленных конях командир домачовского отряда Петровец и комиссар Лисавенка, Домачовцы стоят рядом, в. деревне Лозовица. Оба — Петровец и Лисавенка, уроженцы здешних мест,— после гибели Шелега присланы на командирские должности из Октябрьского района.
— Есть такие, кто не хочет идти за Птичь,— сказал Петровец.— Что делать?
Бондарь задумался. И в его отряде немало людей
иг
так думает. Только открыто не говорят. Никто не хочет отдаляться от семьи, над которой висит угроза смерти.
— Сколько их? Восемнадцать человек. Пускай остаются,— сказал Бондарь.— Мы же за Птичью сидеть не будем. Действовать надо всюду. Придем и заберем.
— Дураки они! Не понимают, что немцы деревни сожгут и самих уничтожат.
— Не дураки, Кирилл Петрович. Постарайся их понять. С сорок первого года прятались, таились, приходили в деревню только ночью. На своей земле словно ворюги. А тут вдруг — свобода. Ни немцев, ни полицаев. По правде говоря, мы все тут должны остаться. Другое дело, что кишка тонковата...
Назначив за себя Гервася и остановив обоз в жерно- вичской дубраве, где на Октябрьские праздники вывешивали флаг, Бондарь решил забежать к отцу. Старика не видел год. В декабре прошлого года, когда он вместе с Володей Шлегом ходил налаживать связь с октябрьскими партизанами, удалось переночевать дома.
Показывать дорогу напрямик, через лес, вызвался Грицук. Оседлали коней — Бондарь взял с собой небольшую охрану. Уже когда собрались ехать, к Бондарю, сидевшему в седле, подошел небольшого роста мужичонка, протянул руку для приветствия.
— Бондарь, я тебя знаю. Моя фамилия Максимук. Ты учился в лесной школе, а я на автотракторных курсах. Помнишь, каких людей принимали тогда на курсы?
Максимук — в рваном полушубке, в лаптях, без винтовки — из тех, кто в отряд прибыл недавно.
— Потом поговорим,— сказал Бондарь, трогая коня.
Максимук напомнил ему занятную быль. На автотракторные курсы принимали по направлениям колхозов. Но в Батьковичах колхоза еще не было. Дирекция курсов нашла выход. На заборах, стенах хат появилось такое объявление:
«Граждане местечка Батьковичи мужского и женского пола приглашаются на автотракторные курсы. От тех, кто хочет на курсы поступить, требуется признание всеобщей коллективизации на базе ликвидации кулака, ненависть к единоличной жизни. Требуется также честность
668
и дисциплинированность. Всех остальных, кто не имеет таких качеств, просим не беспокоиться.
Парторг автотракторных курсов А. П у г а ч».
Из дубняка выехали в березовый подлесок, потом тропка довела вдоль прямой, как стрела, канавы, прорытой экскаватором. С обеих сторон ее темной стеной возвышался болотный ольшаник.
— Медвёдка,— сказал Грицук.— Ведет4 в самые Кавеньки.
Бондаря взволновало знакомое название. На Медвёд- ку в детстве ходили ловить вьюнов. То, что родные места близко, чувствовал он весь год, но ехал по этим местам будто впервые. Покачиваясь в седле, думал о себе, об отце, о трех братьях, которые, наверно, на фронте.
Его молодость прошла в интересное время. Шумела собраниями, спорами, открытиями. Ему нравилось быть на людных сборищах, высказываться, убеждать других. Ему казалось, что все должны делать так, как он.
— Чего ты носишься? — с явным недоумением спрашивал отец.— Словно завтра конец света. Свет как стоял, так и будет стоять. Ни за день, ни за год ты его не переделаешь.
Он не спорил с отцом. У отца были другие взгляды. Отец был приверженцем привычной деревенской будничности. С утра запрягал коня, возил навоз, пахал, косил, со вкусом завтракал и обедал. Вся жизнь отца была честной, он дня не провел без дела. Ничто в нем не изменилось и когда он вступил в колхоз. В колхозе не все работали одинаково, было немало таких, что от тяжелой, докучливой работы отлынивали, виляли, выезжали на поле тогда, когда добрые люди собирались обедать. Зато такие очень активно драли горло на собраниях, домогались от колхоза всяких благ, обижались, угрожали, писали заявления. Отец не замечал ничего этого. Жизненный уклад его был необыкновенно тверд:
— Будешь работать —.будешь жить.
2
Перед Кавеньками выплыл из-за туч удивительно яркий полукруг месяца. Серо-серебристый свет залил все
669
вокруг. Деревню оставили справа и двинулись в местечко напрямик, по вырубкам. Бондарь чувствует, как снова охватывает душу волнение. Сюда, на вырубки, гонял свиней, коров, водил в ночное коней, и хоть за десять лет места изменились, он узнает тут все. С правой стороны от Кавенек, в сторону большака, череда развесистых груш-дичков, дальше — чуть не до самого местечка, до его первых усадеб, какие некогда были хуторами, узкая гряда сосняка. Слева — молчаливый полукруг темных ольшаников.
Тут, где теперь поляна с редкими пнями, была дубрава. Босоногим бегал он сюда, к пастухам, которые за горсть украденного у отца табака показывали дупла с голубями. А осенью собирал здесь грибы, желуди.
Он и теперь помнит глинистую тропинку, по которой бегал на вырубки. В сухмень, когда долго не бывало дождя, земля на ней трескалась, а в непогоду размокшая от сырости почва прогибалась под ногами, слегка подрагивала.
Вырубками всадники проехали к ольшаникам. Видно все как на ладони. Вскоре оказались на самом краю леса, откуда виднеется Залинейная местечковая улица. Спешились, привязали к ольхам коней.
Отцовский двор находится немного на отшибе, рядом с большаком. Над строениями возвышаются три огромных раскидистых дуба. Из-за них половину огорода отец не засевает — в тени ничего не растет. Но дубов не тронул. Крестьян считают людьми практичными, расчетливыми, но это далеко не так, думает Бондарь. Крестьянин может держать корову, которая год или даже больше не дает молока. Будет косить ей сено, кормить, ухаживать и никогда не отправит ее на мясо, потому что любит, привык к ней. Как вот привык отец к этим дубам.
Им, партизанам, сельчане помогают всем. Одевают, кормят. Служат глазами и ушами. И ни слова упрека.
Было часов десять вечера. На станции, которую отсюда хорошо видно, яркая цепь огней.
— Вы оставайтесь, а я пойду,— сказал Бондарь.— Через час вернусь.
Грицук возразил:
— Нет, командир, так негоже. Первыми пойдем мы. Оглядим все, проверим. А ты подожди. Если будет спокойно, иди.
«70
Бондарь согласился. Стоял и смотрел, как шагают по залитой лунным светом поляне шесть темных фигур. Волновался. Немцев, полицаев из лесных и болотных сельсоветов выкурили, но все равно он не может, как человек, зайти в отцову хату, поговорить, полежать на старой, знакомой сызмалу печи. Когда-то тут, возле ольшаника, стояла избенка болезненного, тщедушного Дрозда, а за дорогой, по которой возили с дальнего болота сено, еще одна, где жил Халимон. Соседи были немного странными. Халимон не умел читать, боялся, когда в хату приносили казенную бумагу. Жена Дрозда, Гор- пина, рассердившись, хватала мужа на руки и несла к Халимонову колодцу топить... У них была единственная дочь Надя, ровесница Бондаря. В семнадцать лет она была уже поФги взрослой. Надя—его первая любовь.
Чуть ближе к станции, на краю болота, стоял зеленый, засаженный дичками двор старого Язепа, местечкового грамотея, который еще в девятьсот пятом году знался с социал-демократами, разбрасывал листовки. Горпина-^ Язепова дочь.
Где теперь Надя, старый Язеп, Халимон?
Прошло около получаса. Стояла тишина. Бондарь зашел в закоулок, ведший со двора на вырубки, заметил фигуру, прилипшую к тыну. Хлопцы охраняли отцов двор.
Ворота закрыты,— он нашел задвижку, вошел во двор. Все как и в прошлом году. Хлев, пунька, небольшая поветь, пристроенная сбоку. Сад по обе стороны усадьбы. Собаки старик не держит.
Бондарь постучал в темное стекло. Никто не отозвался. Тогда он достал из кармана патрончик от нагана. Металлический стук по стеклу неприятно резал слух. Сразу же в оконном проеме встала белая фигура.
— Кто там?
— Я, Павел,— сказал Бондарь, прильнув лицом к окну.
Через минуту загремела задвижка в сенях. Отец в одном бедше стоял на пороге.
— Ты, сын? — спросил он.— Заходи в хату.
— Оденься, тэта. Поговорим здесь.
Бондарь ждал недолго. Старик вышел в хорошо знакомом кожушке, шапке-ушанке, рваных валенках.
671
— Здорово, сын.— Сказал спокойно, протянул твердую теплую руку.— Значит, жив?
— Жив.
— Давай где-нибудь укроемся. Светло очень.
Зашли под поветь, сели на березовый кругляк.
— Как ты тут? — спросил Бондарь.
— Живу. Коник ничего себе, в этом году пустил в плуг. Тот лошак, про которого тебе в прошлом году говорил. Хлеб, картошка есть. Поросенка держим.
— Вернулся, значит, к единоличной жизни?
— Скажу тебе, сын —люди землю, как когда-то, не рвут. Берут по две или по три десятины. Лишь бы прожить. Да и тягла нет.
— Немцы прижимают?
— Поставку я сдал. Дерут, холеры. Двадцать пудов отвез. Немного земли утаил, а то бы больше было. Ну, а ты как? — Старик понизил голос.
— В партизанах.
— Командиром?
— Командиром.
— Мне один человек намекал. Только я не стал слушать. Сказал ему, что мои сыновья в армии.
Бондарь встревожился:
— Какой человек?
— Чужой. Ты его не знаешь.
— Ты, отец, эту самую линию гни дальше. Меня у тебя никто не видел. Немцы, сам понимаешь...
— Немцев и полицаев, которые у них служат, слыхать, из дальних сел прогнали. Сюда поприбегали.
— Мы прогнали,— сказал Бондарь.— Из Зеленой Буды, Литвинова, Пилятич.
— Вот оно как.— Старик будто задумался.— А я под вечер был в местечке. Немцы совсем в другую сторону поехали. На Сиволобы. На шоссе, значит...
Бондарь вскочил:
— Много машин?
— Я не считал. Пять или шесть. Два газогорятора, или как их. Что на дереве едут...
В груди шевельнулась тревога. Догадка возникла мгновенно — поехали мстить в Ольхов. Отгонял такую мысль и не мог отогнать.
— Пойду, отец. Меня ждут...
Старик не удерживал, но голос его задрожал.
672
— Может, возьмешь немного харчей? У нас все есть. Сало, мясо. За войну я тебя, сын, ни разу днем не повидал.
— Ничего не надо, батя.
— Нет, так нельзя.— Голос старика окреп.— Посиди минуту. Я сейчас.
Метнулся к двери, вскочил в сени. Вернулся, держа под мышкой торбочку, а в руке бутылку.
— Возьми. Погреешься в лесу. Своего завода самогонка. И тут яблоки. В тех селах яблок нет...
Бондарь прижал к себе легкое, высохшее тело отца...
3
Конная разведка, высланная из жерновичского дубняка в Ольхов, до самой деревни не доехала, вернулась со страшной новостью. Ольхов, Темровщизна, Лужки — селения, служившие опорой горбылевского отряда, сожжены...
Бондарь собрал командиров. Посоветовались и решили: если раньше заезжать с обозом в Ольхов не думали, то теперь с этим молчаливо согласились — другого выхода нет. По лесу блуждают погорельцы, и надо хоть чем-нибудь им помочь.
Железную дорогу переезжали днем, у переезда возле Жерновиц. С обеих сторон от переезда залегло по взводу. Прогремело несколько взрывов — подрывники взрывали рельсы. Из далекой будки застрочил немецкий пулемет, но вреда партизанам он не причинил.
Вдоль железной дороги необычная, печальная картина. Лес с обеих сторон повален. Будто кто-то прошелся тут с огромной косой, одним взмахом уничтожил дубы, сосны, березы, оставив после себя строго вымеренную широкую полосу, усеянную низкими пеньками. Насилие над лесом взывает к мести. Ровная, прямая стена, которая круто обрывается, напоминает рассеченное пополам тело.
Выслали передний и боковые дозоры, двигались медленно, настороженно. Так же переехали шоссе и вышли на проселочную дорогу, ведущую на Ольхов. От шоссе до лесной дороги — восемь верст. Последние версты казались особенно мучительными. Останавливались, прислушивались. Тихо, глухо. Ни звука, ни человеческого голо¬
673
са. Дозоры доехали до самого Ольхова, но ничего подозрительного не увидели.
Первые повозки уже вышли на поляну, за которой начинается околица деревни, как из густого ольшаника оглушительно застрекотали автоматные и пулеметные очереди. Шквал огня был неожиданным и настолько сильным, что в одно мгновение партизанская колонна рассеялась. Не помня себя, не слушая команды, люди бежали, ползли, стараясь найти укрытие за редкими, чахлыми ольхами, сосенками на противоположной стороне дороги. Дико ржали, ломая оглобли, кони. Еще через минуту длинная цепь немецких автоматчиков, стреляя на ходу, выскочила на дорогу. Все было кончено. Обоз — шестьдесят повозок—попал в руки немцев...
«Западня»,— думал Бондарь, переполняясь бессильной злостью, прыгая вслед за растерянными, охваченными паникой людьми. Бьют под самое сердце. Знали, что партизаны появятся. Половина отряда — отсюда. Играют на родственных чувствах. Сожгли и ждали...
Когда он выбежал на голое замерзшее болото, увидел группки партизан, которые остановились, не зная, что делать, сразу протрезвел. Такой бой проиграть нельзя, думал он. Тогда конец отряду. Люди не смогут смотреть друг другу в глаза. Немцев пять или шесть машин, около ста двадцати человек. Может, и больше, если подослали из Горбылей. Но все равно ждать нельзя...
Бондарь оглянулся, поднял автомат, сделал три выстрела. Стоял, крутил самокрутку. Вокруг него собирались партизаны.
Он не стал ждать, пока соберутся все, стараясь говорить спокойно, отдавал команду:
— Немцы в Ольхове. Первую роту поведу сам. Гервась ударит с запада. Большаков — от железной дороги. Задача — уничтожить немецкий отряд, вернуть обоз с продуктами. Они — для наших жен и детей. Атаку начнем в пять ноль-ноль...— Бондарь посмотрел на часы, по^ высил голос до крика: — Бегом!
За полтора часа немцы успели перегрузить поклажу с повозок, где были убиты лошади, на другие, выгнать на сельскую площадь из чащи коров, свиней и овец, что успели захватить перед тем, как сожгли деревню. Жителей, которые поддерживали связь с партизанами, расстреляли
674
не всех, большая часть их убежала, и причина тут в самом расположении деревни. Хаты у самого леса, амфитеатром, и, чтоб оцепить такое разбросанное селение, нужно не меньше батальона.
Нападения немцы не ждали, поскольку партизаны были рассеяны. Но солдаты есть солдаты. Пока в машинах прогреваются застывшие за ночь моторы, пока выгоняют на дорогу коров, разворачивают повозки, пулеметчики и взвод автоматчиков на своих местах...
Бондарь, обойдя с первой ротой Ольхов слева, приблизился к выстроенным в березняке грузовикам. Около них возились солдаты-шоферы, нетерпеливо похаживал высокий тощий офицер. Офицера Бондарь скосил автоматной очередью, уложил солдата, бросившегося бежать по огороду. На дворах всюду еще дымятся пожарища, стоят черные, обугленные деревья, торчат закопченные печи.
С сельской площади затарахтел крупнокалиберный немецкий пулемет, резанули автоматные очереди. Но партизаны ударили с тыла и со стороны дороги — начали наступление на Ольхов роты Гервася и Большакова. Туда, не пригибаясь, в полный рост, на ходу смыкаясь в цепь, бежали партизаны. Теперь паника началась у немцев. От машин их отрезали в первую минуту, солдаты выскакивали из-за деревьев, метались в беспорядке.
Немцы кинулись на дорогу, под пулеметы Большакова. Ошалевшая, охваченная страхом толпа таяла на глазах, но в лес не сворачивала — рвалась к шоссе. Наперерез одной такой группе из десяти — двенадцати человек выскочили партизаны, расстреливали немцев в упор, били прикладами. Убежало, оставив много машин и целое стадо коров, не больше взвода...
Но еще на заранее подготовленных позициях сидели пулеметчики и автоматчики, оставленные в засаде. Их не трогали до наступления темноты. Подкрадывались, забрасывали гранатами* Как огромные факелы, пылали в темноте изрешеченные пулями, подожженные машины...
Бондарь разделил отряд и отбитый обоз на три группы, с таким расчетом, чтобы они помогли погорельцам. Роты и взводы перемешались. Людей подбирали, считаясь с тем, кто в какой деревне имеет родных.
•79
Стояла уже глухая ночь. Командиры — Бондарь, Хмелевский, Большаков, мокрые, уставшие до изнеможения, пошли в семейный лагерь, о существовании которого знали в отряде не многие люди. Шли темной тропкой по густому ольшанику. Начал падать снег.
— Ты ничего не забыл, Павел Антонович? — спросил вдруг Хмелевский.
Бондарь остановился:
— Кажется, ничего. А что?
— Посмотри на часы.
— Черт тут увидит. Кажется, два часа.
— Начался год сорок третий.
Около темных, обложенных дерном куреней мужчин окликнул знакомый женский голос:
— Кто идет?
— Свои.
Из мрака выступила закутанная в тулуп фигура. Узнали по голосу — тетка Катерина. Стоит, опираясь на винтовку, как на рогач. Сразу же рядом со старухой выросла другая фигура, бросилась к Бондарю:
— Павел, моего отца расстреляли...
Он стоял, молчал, гладил беспрерывно вздрагивающие узкие Гэлины плечи.
Погорельцы из Ольхова разместились табором в густом затишном чернолесье, недалеко от сожженного селения. У крестьян кое-что уцелело: бурты с картошкой, присыпанные землей погреба, сено на болоте. Многие успели выгнать из хлевов скотину, и теперь коровы, привязанные к березам, мычали. С утра поехали за сеном.
Комар дороги на болота не знает, подводы петляют меж кустов, по редколесью. Снежный покров неглубокий.
В некоторых местах полозья приминают серую, сухую траву, густые космы которой торчат из-под снега. На первых санях Медведев. Слышится его испуганный крик:
— Стой!
Партизаны придержали коней, подошли к зеленому . можжевеловому кусту, где остановились головные сани. Подходили, молча снимали шапки. Под кустом, прижавшись друг к другу, лежали двое детей в домотканых крестьянских свитках, лапотках. Одна голова повязана
676
платком, другая в большой железнодорожной фуражке без козырька. Можно было бы подумать, что дети прилегли, заснули, если бы не запорошенные снегом белые как мел личики...
Мужчины молчат. Не знают, что делать. У Комара, стоявшего рядом с Медведевым, вдруг подкосились ноги, он упал, забился в припадке. Корчился, бился головой о землю, тело его сводили судороги. На него навалились, прижали к земле, растирали снегом синее, безжизненное лицо...
Часть домачовского отряда, которая за Птичь не пошла, а осталась на Литвиновщине, в пределах Батькович- ского района, стремительно обрастала людьми. Было восемнадцать человек — через две недели стало сорок. Некоторые приходили сами, а других надо было подтолкнуть...
На сытых лошадях хмурым зимним утром в разбросанную, разбитую на отдельные хуторки, деревню Разводы приехали Анкудович, Якубовский, Ключник и еще человек восемь партизан. Дым из труб стелется по земле — к непогоде. В ветвях старых лип, которыми обсажена дорога, каркают вороны. В Разводах тоже когда-то было помещичье имение — от него остались только липы да несколько полуразрушенных кирпичных построек, которые перед войной занимала МТС.
Партизаны соскочили с коней перед новой рубленой хатой, стоящей по соседству с бывшей эмтээсовской мастерской. Следы недоделок отчетливо видны на этой торопливо возведенной хате-пятистенке — только половина крыши покрыта соломой, два окна от дороги забиты досками.
Анкудович с Якубовским, простучав сапогами в настежь раскрытых сенях, вошли в хату. В печи пылают дрова, перед устьем раскрасневшаяся, растерянная хозяйка с ухватом в руках.
— Добрый день,— сказал Анкудович.— Салом пахнет. Знали, что гостей ждете.
Женщина растерялась еще больше.
— Семена нет. ^уда-то вышел...
— Куда вышел?
— Сама не знаю, Только что был в хате...
677
Анкудович покраснел, переглянулся е Якубовским. Семен Гайчук, довоенный эмтээсовский кладовщик, с ними, партизанами, имел договоренность с весны, еще месяц назад обещал прийти в отряд.
Из печи в хату шуганул клуб синего дыма.
— Сало горит,-— сказал Анкудович.— Плохо, хозяйка, принимаешь гостей...
— Ах, господи!..—Женщина выхватила из печи охваченную дымом сковородку, плеснула в нее воды.
— Стыдно, Аксинья! — громко, как глухой, крикнул Анкудович.— Сало ты не нам, а Семену своему жарила. Дома он. Если так, будем искать...
Мужчины прошли-в чистую половину хаты, и тут чуть не под их ногами поднялась половица. Из подпола вылез хозяин, широкоплечий, широколицый мужчина, отводя глаза, сказал:
— Простите, хлопцы. Думал — полицаи..,
— Собирайся,— приказал Анкудович.— Мы во дворе покурим...
4
Синие сумерки спускались над местечком. Ветер гнал по обледеневшей дороге снежную пыль, свистел в голых вершинах тополей. Митя возвращался из лесхоза напрямик, через городок. Возле «Маслопрома» его окликнул высокий, плечистый мужчина:
— Можно вас на минутку, молодой человек?
Митя убавил шаг, человек подошел.
— Моя фамилия Андриюк. Я виделся с Драгуном. Он передал вам привет...
Митя вздрогнул. Андриюка, главного врача районной больницы, Драгун при встрече в лесу назвал в числе четырех, с кем надо установить связь. Но слишком неосторожно раскрывается незнакомый доктор. Берет с места в карьер.
— А что, если я не знаю никакого Драгуна? — сказал . Митя.
Врач смутился, умолк. Мите стало его жаль.
— Откуда вы меня знаете? — спросил он.
— Пилип Красней сказал. Он мне вас показал*
678
Митя успокоился. Разговаривая вполголоса, они дошли до хаты Алексея Примака и повернули назад, на тополиную аллею.
— С Драгуном я встретился в Дубровице,— сказал Андриюк.— Три дня назад. Ездил туда. Очень трудно было достать пропуск. Драгун назвал вас.
— Мне он тоже вас называл,— раскрылся наконец Митя.
Андриюк — мужчина лет тридцати, с крупными чертами лица и, по всему видно, решительного характера. В душе Мите приятно, что с ним ищут встречи, принимают его за равного такие вот люди.
— Я с партизанами работал в прошлую зиму и весной,— продолжал Андриюк.— В деревне Рудня, в соседнем районе. Весной попался. Добрые люди помогли перебраться сюда. Давно был бы в партизанах, да грехи не пускают. На руках у жены грудной ребенок.
— Что говорил Драгун?
— Требует обеспечить партизан медикаментами, бинтами. Я имею возможность доставать их. С немецким врачом отношения хорошие. Но нужны деньги и прочная связь. Продуманная организация, а не самодеятельность. Иначе перехватают, как цыплят.
— Будет надежная связь,— сказал Митя.
Доктор сразу оживился. Все-таки он очень доверчивый. Перед Митей как бы отчитывается.
— Нас четверо. Раньше руководил Драгун. Куниц- кий, Шкирман, Красней — в «Заготскоте». Контора, можно считать, в наших руках. Куницкий — зоотехник, Шкирман — ветеринарный врач. Понемногу вредим. У коров — ящур, у овец — вертячка. Я, между прочим, знаком с Крамером. Лечу его. Сердце у бургомистра неважное...
Шагали по глухим аллеям, где не следит чужой глаз, часа два. Шустрый высокий доктор Мите нравится. И в то же время понимает Митя, почему так уважителен с ним Андриюк. Причина простая. Цепочка связи с лесом у них, хлопцев.
Прощаясь, доктор спросил:
-— Значит, в Сталинграде котел?
— Котел,— подтвердил Митя.
Андриюк радостно потер руки, хлопнул Митю по плечу, зашагал прочь.
ьц
5
Собрались у Примака. Саша Плоткин отсутствует — заболел. Микола хочет казаться спокойным, но по тому, как неловко расстегивает перешитый из шинели лапсердак, как соскальзывает с пуговиц непривычная левая рука, видно, что и он волнуется. Наконец Микола вытащил из потайного кармана вырванный из школьной тетради листок, протянул Мите.
— Читай!
Митя взял исписанный чернильным карандашом листок. Почерк разборчивый, отчетливый:
«ПРИСЯГА
Я, гражданин Советского Союза 192... года рождения, проживая в местечке Батьковичи, на временно захваченной немецко-фашистскими оккупантами территории, обещаю верно, самоотверженно служить своей социалистической Родине. Вступая в ряды группы УПРА Рабоче-Крестьянской Красной Армии, обещаю быть дисциплинированным, свято хранить военную тайну, добросовестно, не щадя собственной жизни, выполнять приказы своих командиров и начальников. Если же по слабости или по чьей-нибудь злой воле я нарушу данную присягу, выдам врагу военную тайну, пускай постигнет меня презрение моего народа и Родины».
Хлопцы примолкли.
— Каждому надо присягу переписать, поставить полностью фамилию, дату, подписаться,— сказал Микола.— Придумать и поставить в конце кличку. Сведения будем давать по кличкам.
— А что делать? — спросил Лобик.
— Все. Десантники — военная разведка. Мазуренко сказал, что главное — железная дорога. Будем считать эшелоны. Каждый день. Сколько прошло на восток, на запад, что везут. Выявлять воинские части. Если не удастся узнать номер полка, то хоть номер полевой почты...
— Нас пятеро,— возразил Лобик.— Мало сил. Надо смотреть реально.
680
— Еще не все.— Микола улыбнулся.— Надо собирать немецкие газеты, документы, письма солдат, офицеров, распоряжения немецкой и местной власти. Мину мне дали...
— Какую мину?
— Магнитную. Пристает к железу. Сказали—приладить под цистерну. Взрыватель химический. Сработает через двенадцать часов.
Сгущаются за окном вечерние сумерки. В Примаковой хате, кроме ребят, никого. Алексеев отец, начистив сапоги, отправился на прогулку, сестра у подруг, а мать топчется в хлеву.
Лобик стоит на своем:
— Не сумеем охватить. Десантники не учитывают обстановки. Не были тут, не знают.
— Мазуренко предлагает расширять организацию. Брать проверенных. Включать в пятерку. Так, чтоб один другого не знал, а только того, кто дает задание.
Хлопцы молчат, задумчиво ходят по хате. На душей радостно и тревожно. До последнего месяца, если трезво смотреть, они, местечковые школьники, были фактически самодеятельной группой, которая время от времени поддерживала связь с партизанами, со специально оставленными людьми. Нити связи рвались, восстанавливались. Летом их разбили, потребовалось почти полгода, чтоб снова они подняли голову. Рвались в лес, но их оставили тут, в полицейском логове. Теперь начинается новый круг...
Микола сообщил:
— Ординарцем у Мазуренки Миша. Из Малкович. Учился в восьмом классе. Маленький, краснощекий.
— Знаю,— отозвался Лобик.— Он был у деда на квартире.
Впотьмах, не зажигая свет, хлопцы спорят, прикидывают, кого из знакомых людей можно привлечь к тайной работе. Если вдуматься — люди есть. Василь Шарамет, который по заданию поступил в полицию, группа Андри- юка. На железной дороге надо не менее трех человек, но и там найдутся люди. Труднее Миколе. Мазуренко хочет, чтоб железнодорожные сведения поступали каждые два дня. У десантников рация, и сведения они будут передавать в Москву.
681
Зажгли лампу, заперли дверь. Хлопцы торопливо переписывают присягу, которая с этого вечера возлагает на них немалые обязанности. Микола собрал листки, свернул, спрятал за пазуху...
6
В хате Нины Грушевской, которая живет на Залиней- ной улице, неподалеку от Лобикова деда, девушки организовали вечеринку. Пригласили хлопцев, приказали принести горелки.
Давно не был Митя на таком хорошем, дружеском сборище. Как бы вернулся, ожил снова дух давних, довоенных времен, с шутками, легкостью, простотой. Хлопцы наперебой подсмеиваются друг над другом, и цель этих взаимных острот ясна — рассмешить девчат. Да, все они — Митя, Лобик, Плоткин, исключая Примака,— кавалеры неважные. Неудачи в деле, за которое взялись прошлой зимой, будто придавили их к земле, приглушили желание поухаживать, которое только-только начинало пробуждаться.
А девушки повзрослели, похорошели. И хозяйки хорошие. Вместе с мальчишками учили алгебру, геометрию, физику, но рядом со школьным шло и чисто женское домашнее образование. И сегодня они наварили приличных холодцов, киселей, нажарили котлет, приготовили винегрет.
Полтора года идет война, а кажется, что пролетела вечность. Каждому из тех, кто собрался в этой большой, построенной на деревенский лад хате, скоро по восемнадцати. Лобику, Вере, еще двум-трем парням и девушкам немного больше. Здравствуй, совершеннолетие! Что свершишь ты из мечтаний, грез, теплившихся в молодых сердцах, на какую жизненную дорогу выведешь? Трудно говорить о счастье в военное лихолетье, когда льется кровь, когда человеческая жизнь так мало стоит. И что такое вообще счастье? Для друзей-товарищец, для всех, кто собрался в этой хате, оно в том, чтоб вернулось былое, прежнее, чем озарена их школьная молодость, их пока еще не богатая пройденными дорогами жизнь. Прилетели хорошие вести с далекой Волги, и они расправили плв-
682
чи, по-иному, веселее взглянули на мир. Наступай, совершеннолетие!
Сели за стол, выпили самогонки, подкрашенной вишневым соком. Повеселели, зашумели. Рядом с Митей Вера, а напротив, через стол, Сюзанна. Вера, как только хлопцы шумной толпой ввалились в хату, насторожилась. Бросает пытливые взгляды то на Митю, то на Лобика. Наконец наклонилась к Мите:
— Скрываете от меня... Ну, подождите...
Митя пожал ей локоть:
— Не тут, Вера. Позже...
683
А Сюзанна хмурится. На Митю почти не смотрит. На ее красивом, задумчивом лице — чуть заметные веснушки. Все время Сюзанна прислушивается к чему-то, своему. Это ее постоянное состояние. За последнее время Сюзанна еще больше расцвела. Теперь, когда девушка тут, близко, Мите вовсе не хочется думать, что она гуляла с Цибулькой, ничем не напоминала о себе все эти трудные месяцы и даже будто забыла про вечера, проведенные вместе с ним, Митей.
Девушки завели патефон. Столы придвинули ближе к стене. Начались танцы. Танцевать вышли все — Лобик,
684
Примак, Плоткин. А Сюзанны среди танцующих нет. Митя накинул на плечи пальто, выскочил во двор. Сюзанна стояла возле забора, смотрела в темное, занесенное снегом поле. Он подошел, стал рядом. Не сговариваясь, они повернулись друг к другу, и тогда Митя, распахнув пальто, притянул девушку к себе. Она прижалась щекой к его щеке. Он чувствовал ее дыхание, тепло ее тела, ее всю, тихую, податливую...
— Почему ты не приходил? — шепнула она.
— Знаешь сама...
— Приходи завтра. Мама уйдет на дежурство.
— Приду.
Между ними ничего не изменилось. Все начиналось будто сызнова.
Патефонной музыки через двойные окна не слышно, и движения парочек по хате отсюда, со двора, кажутся неуклюжими и смешными.
7
Как обухом ударила по местечку неожиданная новость: заместитель бургомистра Лубан, заместитель начальника полиции Гадун, дорожный мастер Адамчук, начальник местпрома Толстик, начальник пожарной охраны Ольшевский удрали прошлой ночью в партизаны. Семьи оставили в местечке. Лубан прихватил с собой только старшую, семнадцатилетнюю дочь Валю. Из полицейского арсенала исчезло два пулемета и больше двух десятков винтовок.
Никто ничего не мог понять: те, что ушли в лес, в партизаны, фактически представляли немецкую власть, поддерживали «новый порядок» гитлеровцев...
Август Эрнестович тяжело заболел. Горит как в огне. Слег в постель. К нему заходит доктор Андриюк, кладет на голову, на грудь холодные компрессы, дает пить порошки. Побледневшая, осунувшаяся Гертруда Павловна ходит на цыпочках.
На восьмой день стало легче. Август Эрнестович походил по комнате, постоял у окна, наблюдая, как наметает ветер к деревянному забору большой островерхий
685
сугроб. Но днем позвонили из жандармерии, и с Августом Эрнестовичем случился сердечный припадок...
Вечером пришел его навестить мельник Забела, и больной приказал его пустить к себе. Мельник ужаснулся: лицо у бургомистра восково-желтое, без кровинки, как у мертвеца.
— Их расстреляли всех,— выдохнул бургомистр.— Жен, детей.
— Чьих? — не понял Забела.
— Тех, которые убежали. Вчера ночью. Лубан прислал мне записку. Просил защитить семьи. Но что я мог сделать? Их держали заложниками. Думали, вернутся те...
Остолбеневший мельник слова не может молвить.
— Я слабый и глупый,— чуть шевеля губами, продолжал бургомистр.— Прожил среди этих людей жизнь и ничего не понял...
На желтую щеку скатилась слеза.
Мельник, вздыхая, вытирая платком взмокший лоб, посидел, помолчал. Нерешительно поднялся. На прощанье прошептал:
— Еврейку с мальчиком к Краснею перевели. Я только думаю, что у этого хвата долго они не просидят. В лес сплавит...
— Пускай живет,— бургомистр протянул мельнику слабую, холодную руку.
8
Надя Омельченко, которая после литвиновского боя сопровождала повозки с ранеными партизанами за Птичь, вернулась с четырьмя хлопцами в ольховский лес, принесла пакет от Вакуленки. Он сообщал, что основные отряды Полесья, Гомельщины, Минщины объединились, создав сплошной партизанский край.
Отдельно Вакулеика приписал, что из Москвы прилетает довоенный секретарь обкома Лавринович, специально отозванный из армии. Намечалось создание подпольного обкома, объединенного командования партизанскими силами.
Под вечер отряд двинулся из ольховского леса. Колонна растянулась более чем на версту. На повозках си-
ш
дели закутанные женщины, дети, шли вслед привязанные к саням коровы. Бондарь стоял у дороги, молчаливым взглядом провожал длинную пеструю цепь. Впереди была дальняя, занесенная снегом дорога, неразбитые немецкие гарнизоны. Что ж, пускай. На людей, проходивших мимо тяжелым, уверенным шагом, можно было смело положиться.
• СОДЕРЖАНИЕ
СОСНА ПРИ ДОРОГЕ 3
ВЕТЕР В СОСНАХ 57
Иван Яковлевич НАУМЕНКО
СОСНА ПРИ ДОРОГЕ
Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1971, 688 стр. с илл.
Редактор приложений Е. Усыскина Оформление «Библиотеки» А. Гаранина
Редактор Л. Цуранова Художественный редактор И. Смирнов Технический редактор Н. Карнаушкина Корректоры Е. Патина, Л. Сухоставская
•
Подписано в печать 5/XI 1971 года. Формат 84x1087м. Бумага печ. № 1. Печ. л. 21,5. Уел. печ. л. 36,12. Уч.-изд. л. 35,83. Заказ 2200. Тираж 150.000 зкз.
Цена 1 руб. 46 коп.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова,