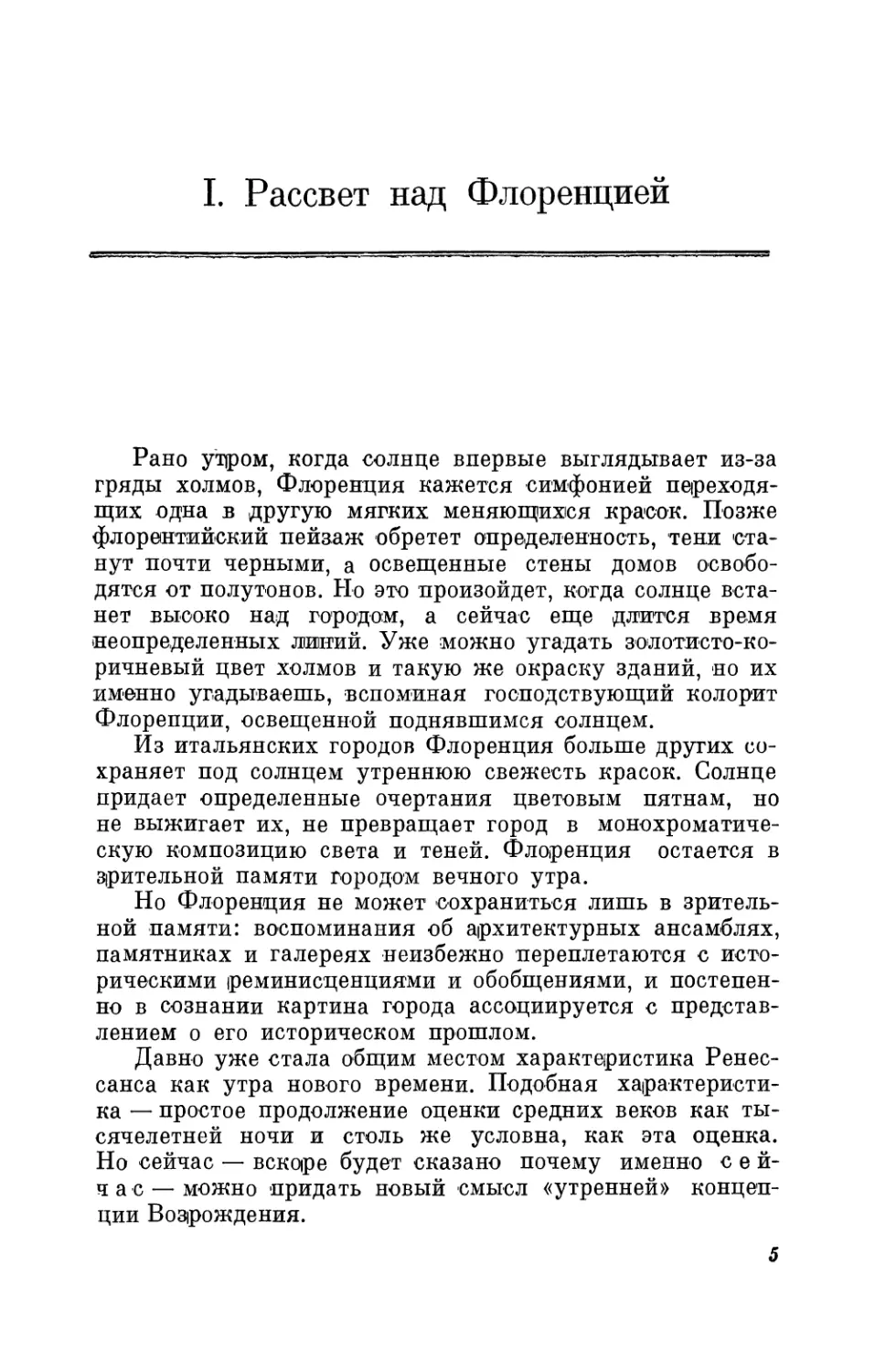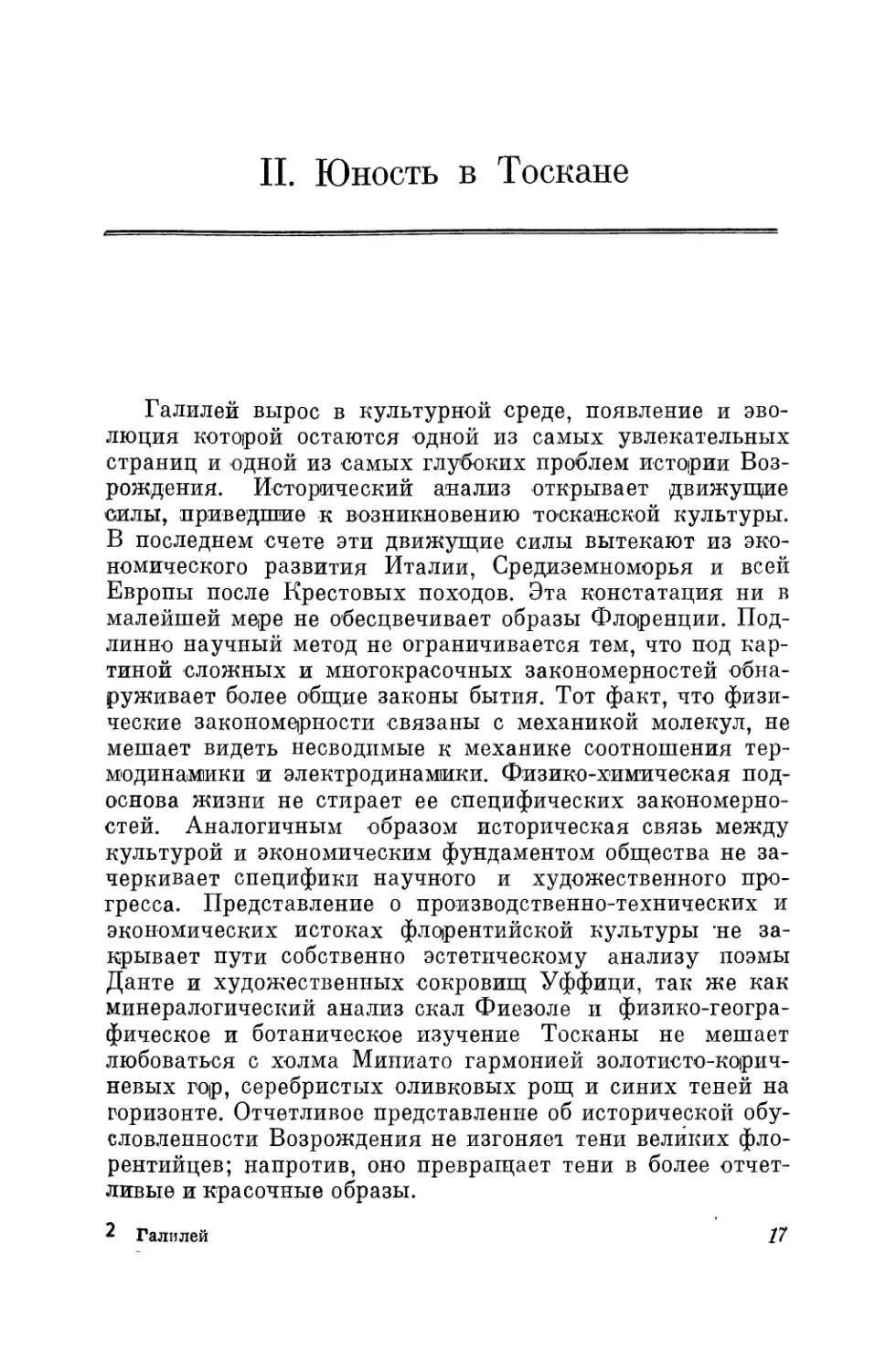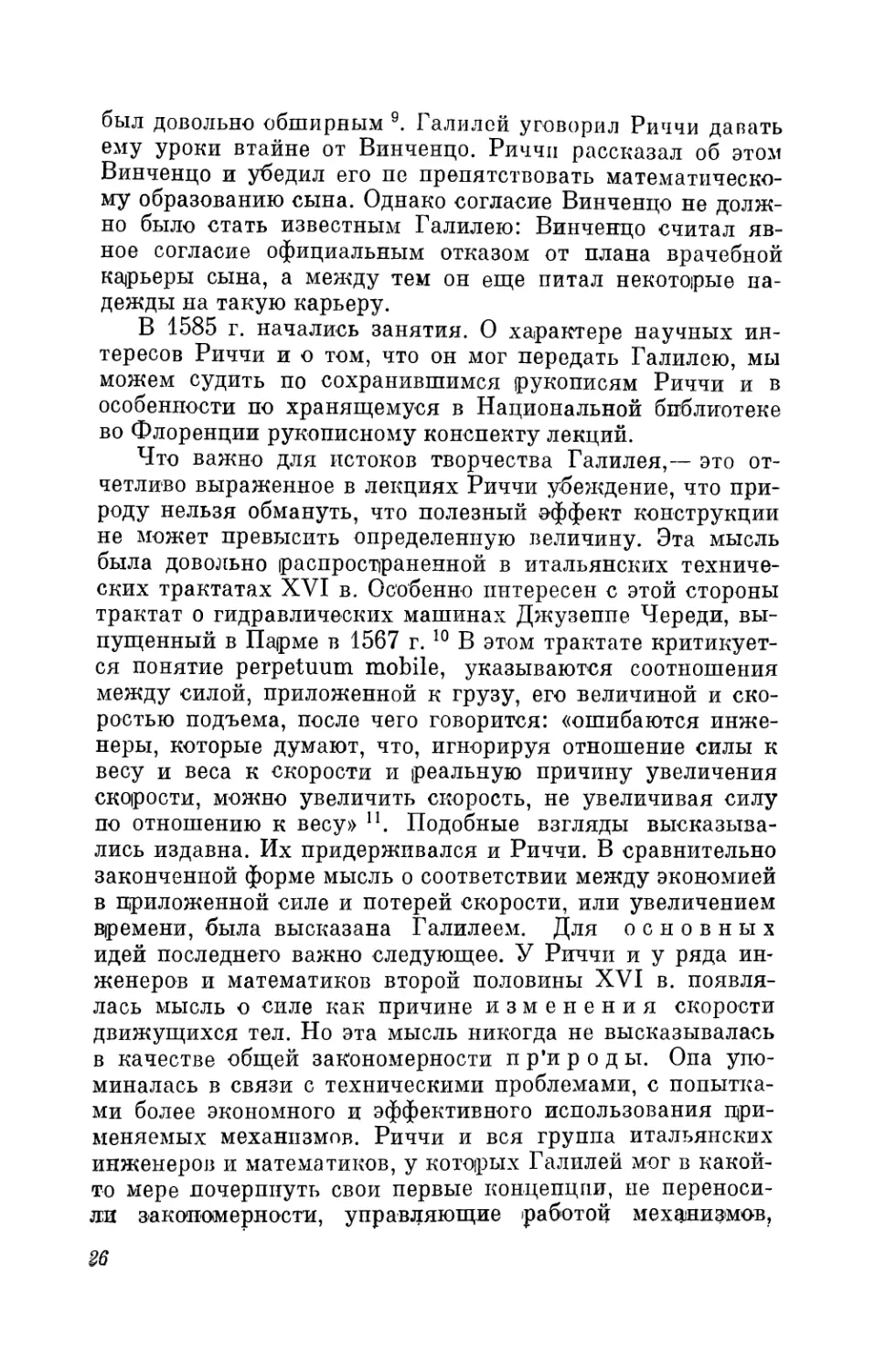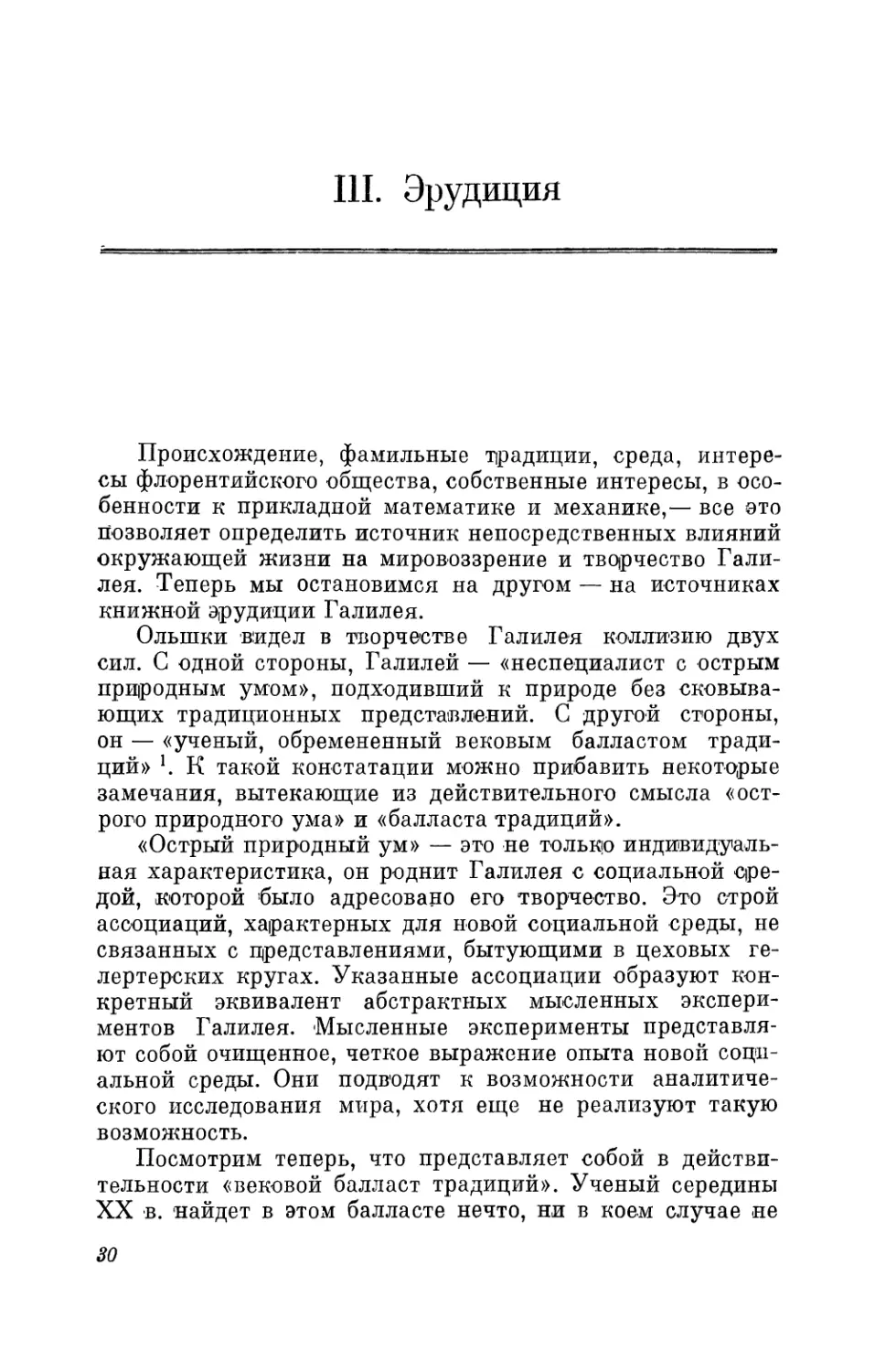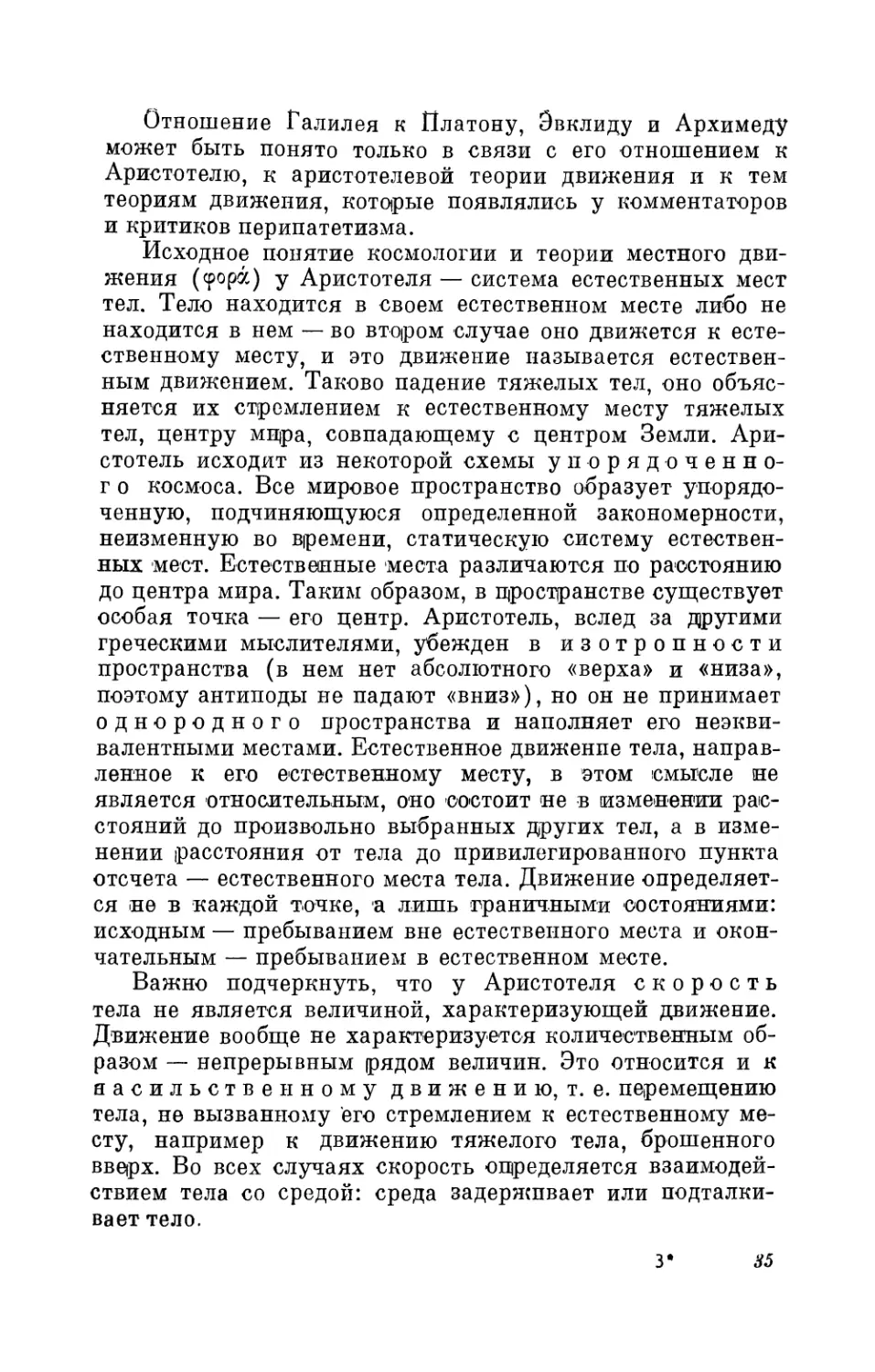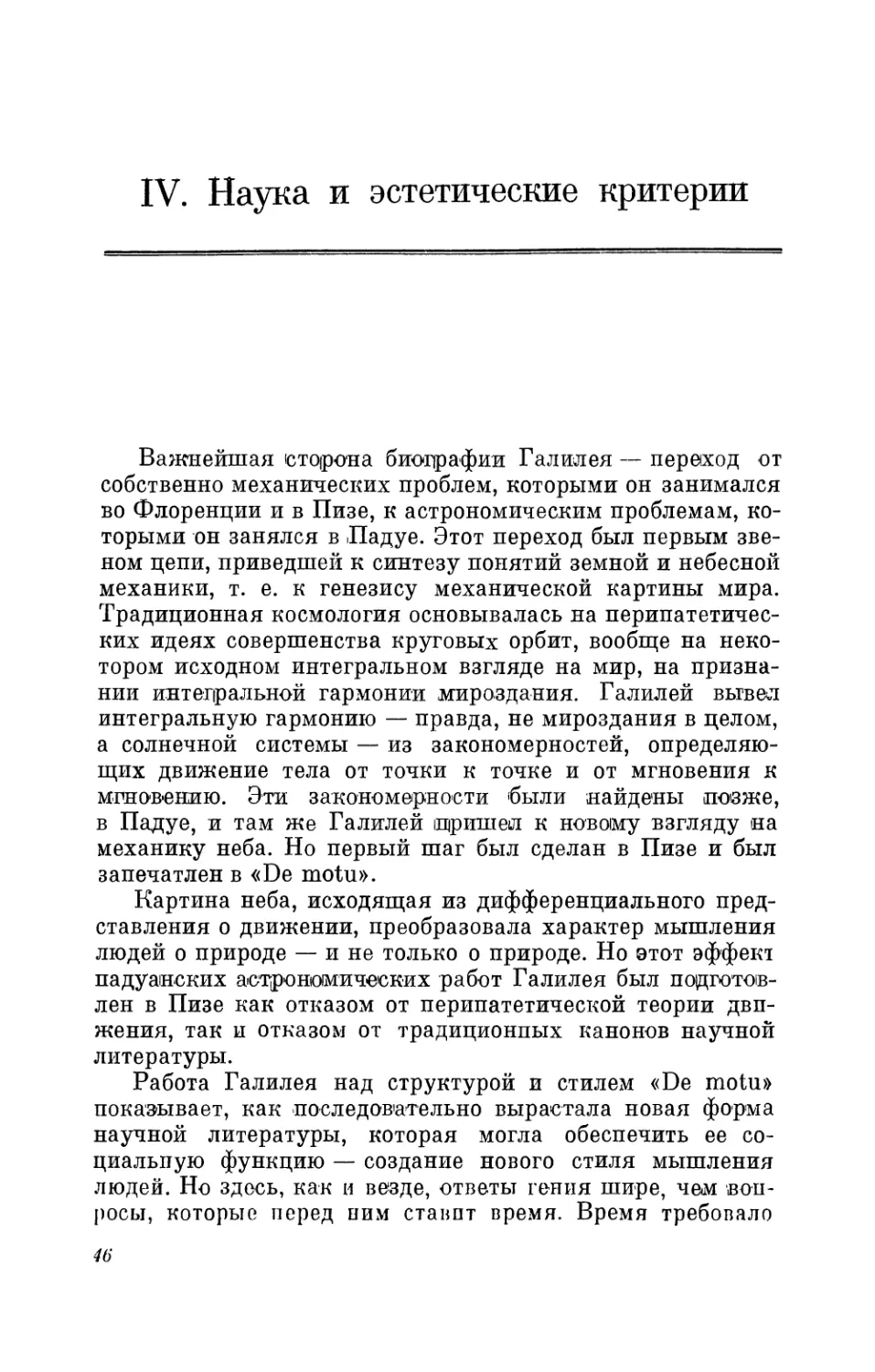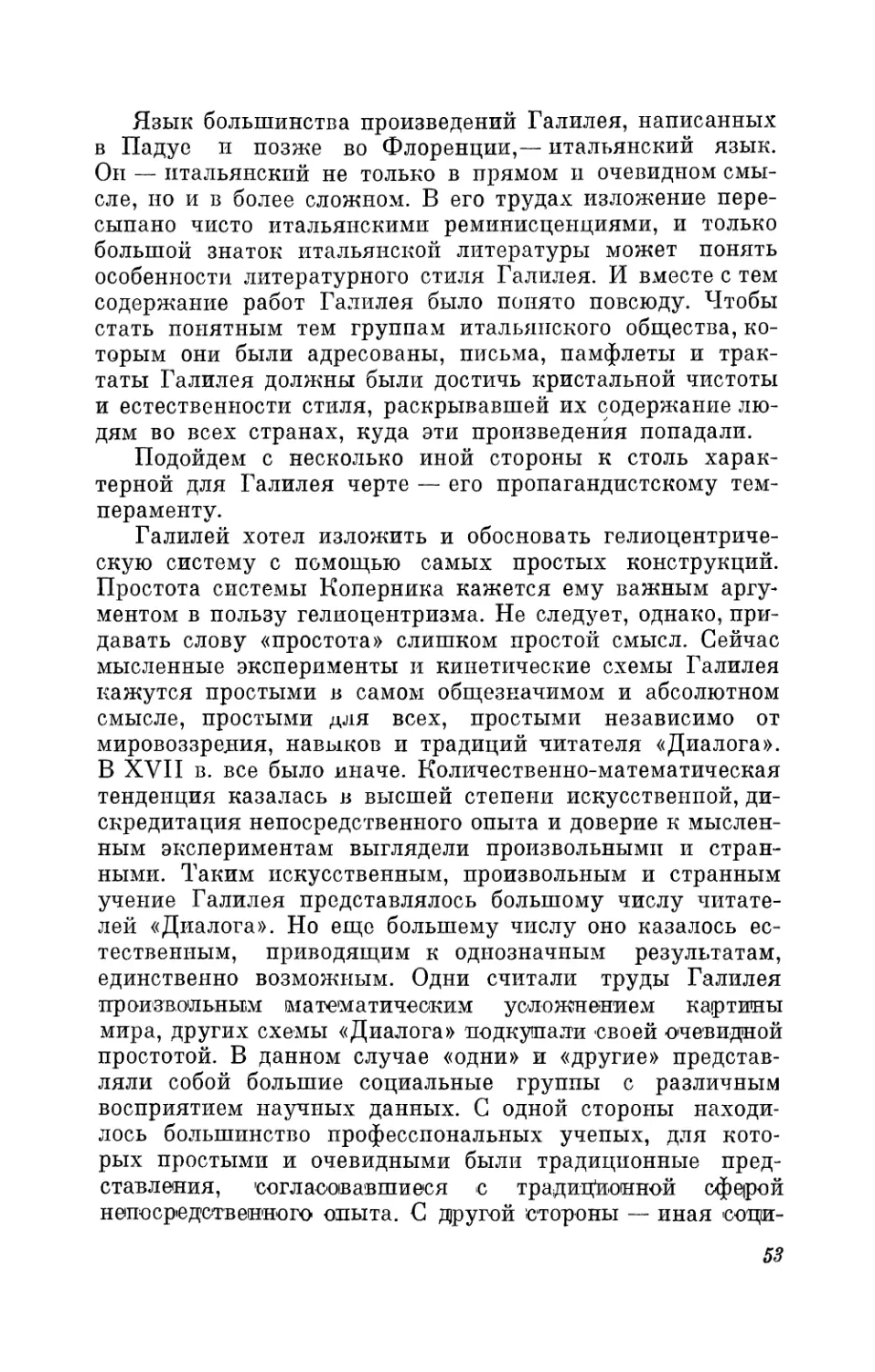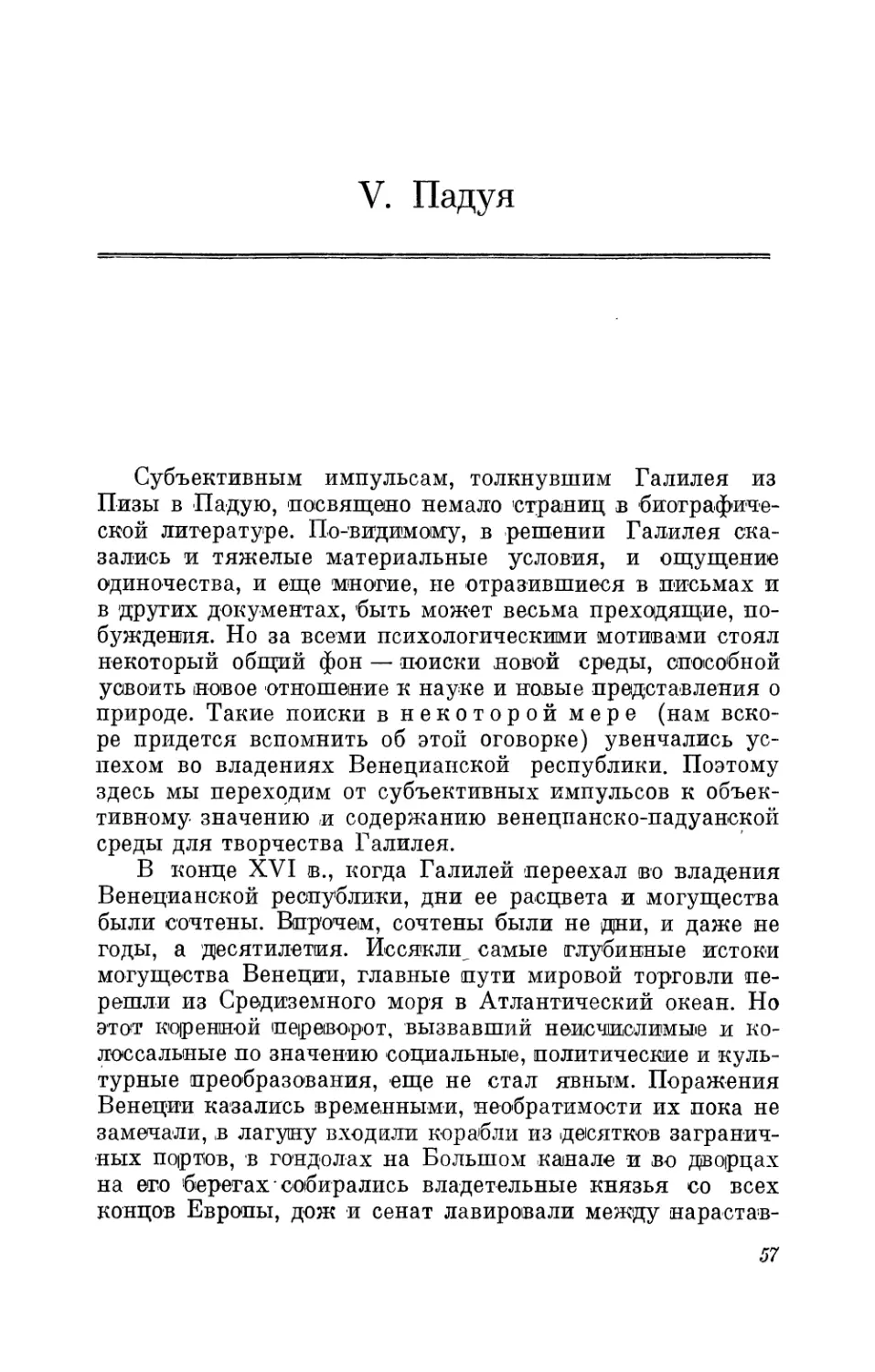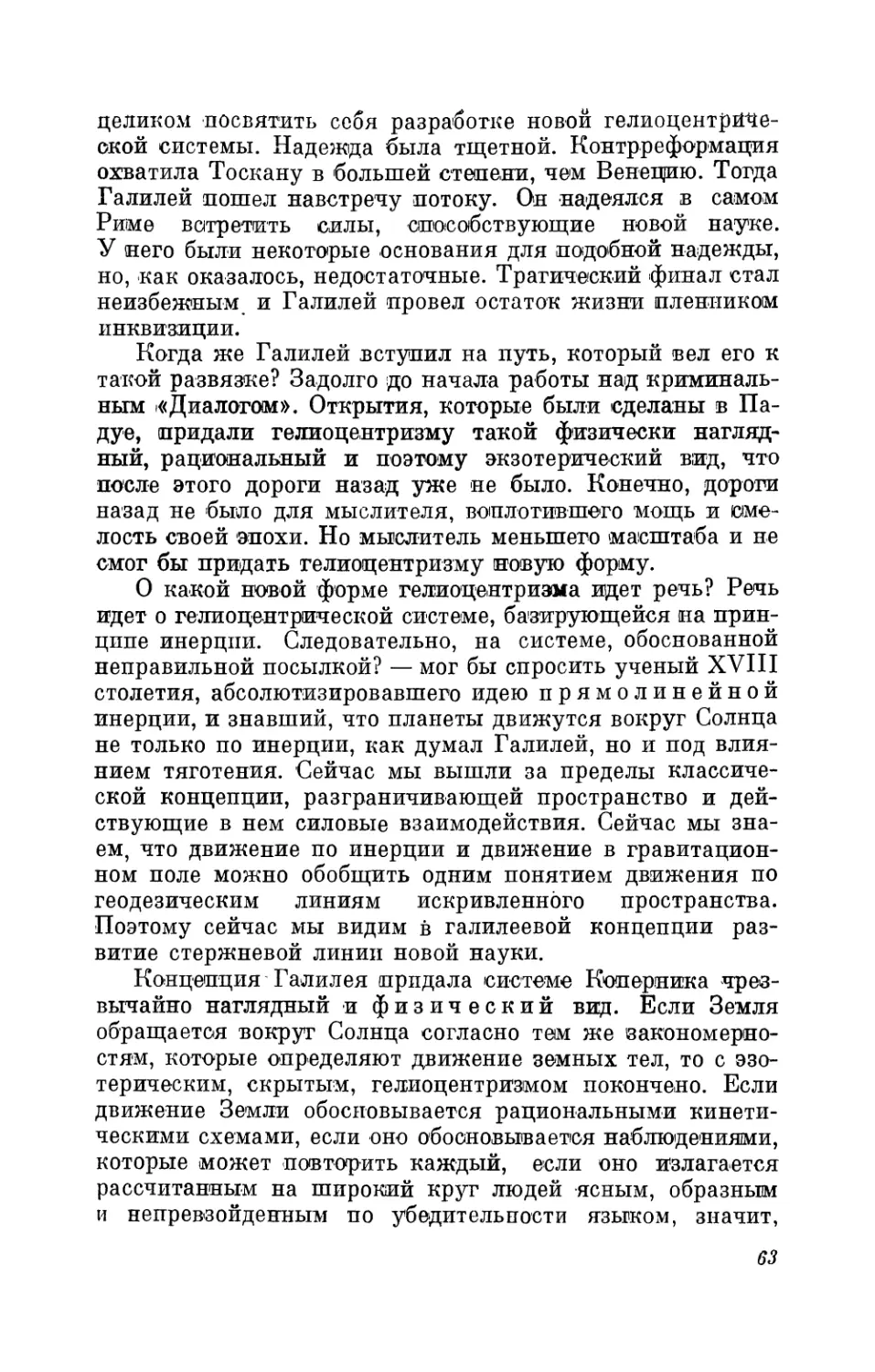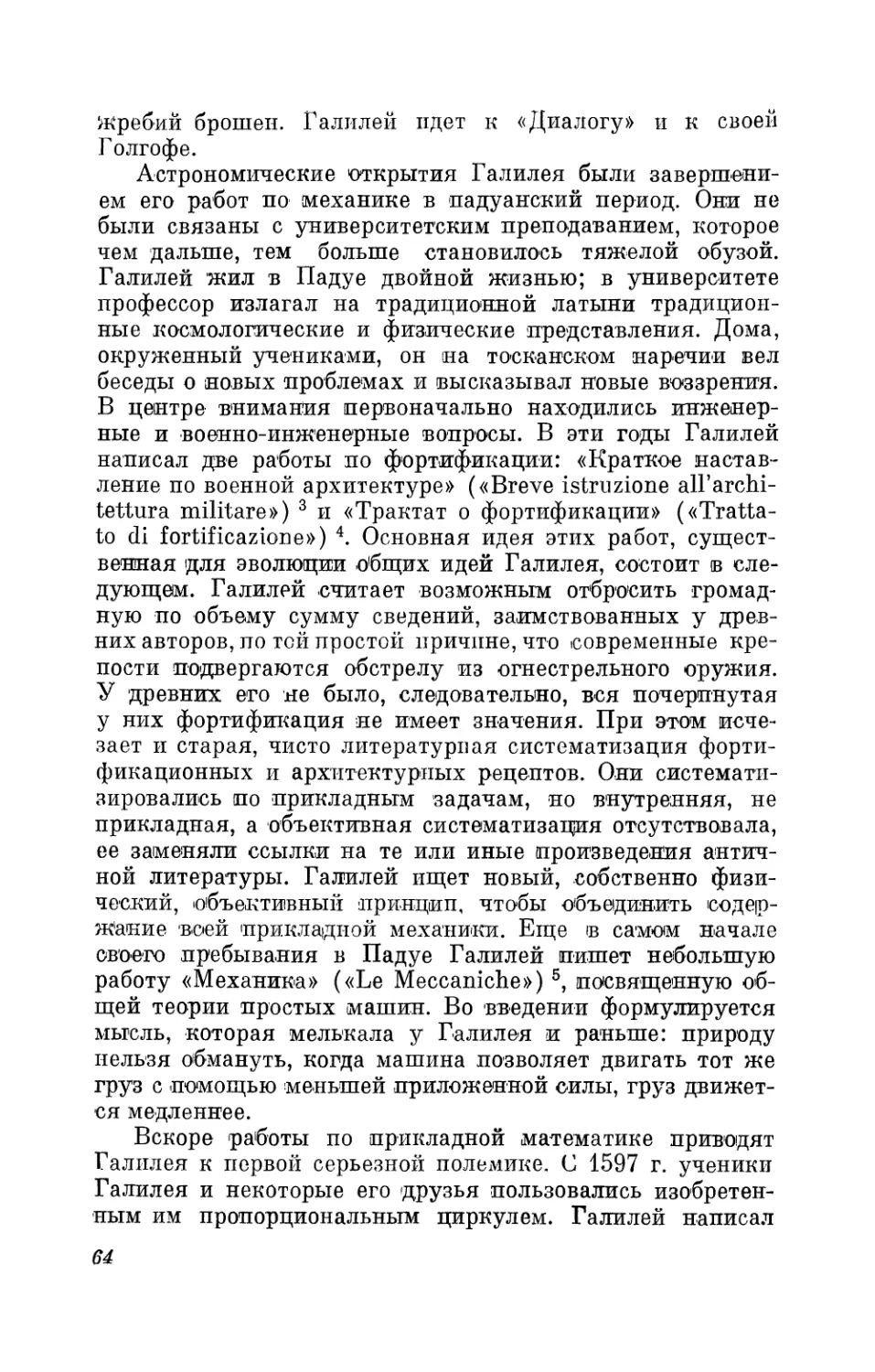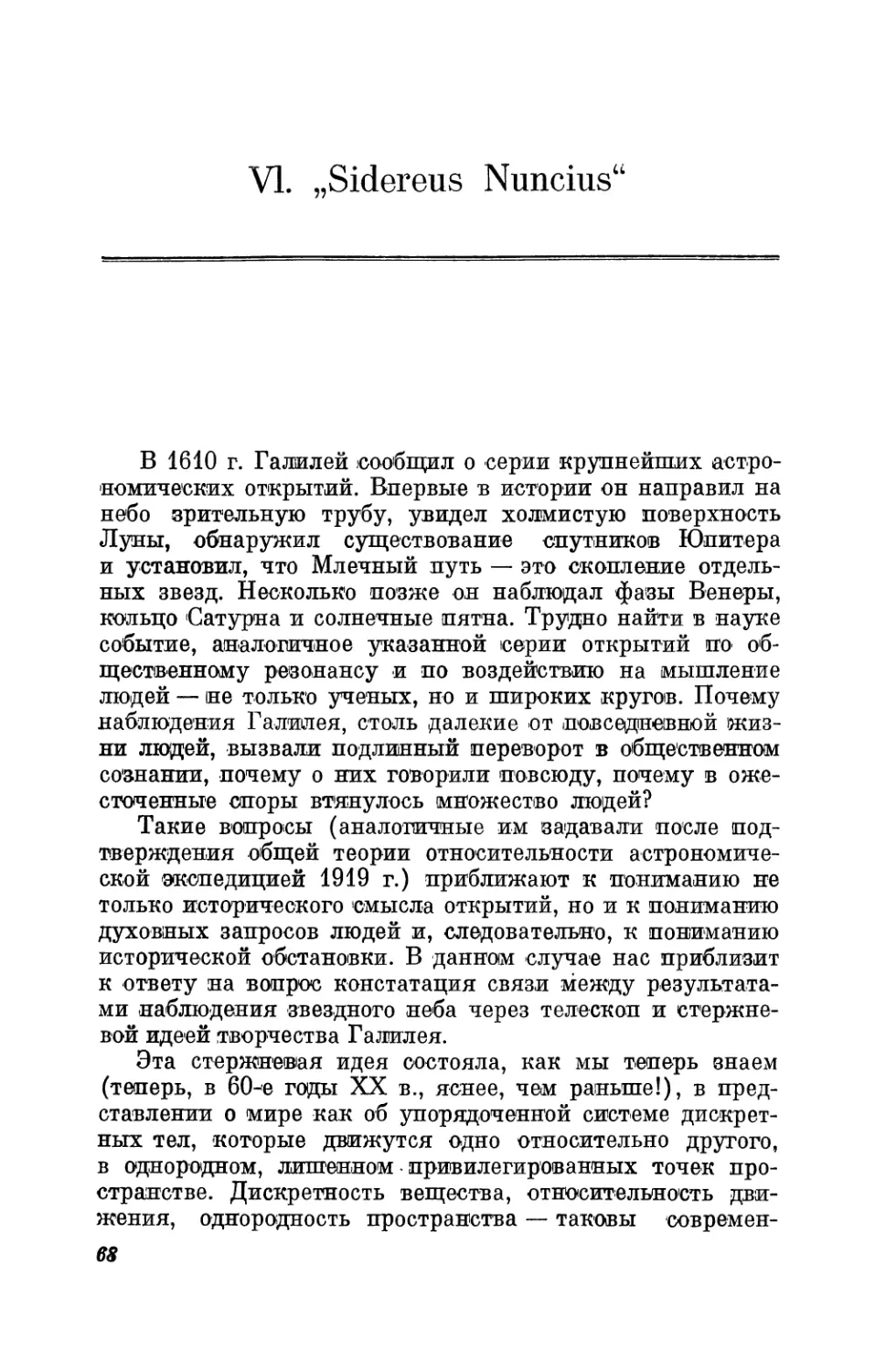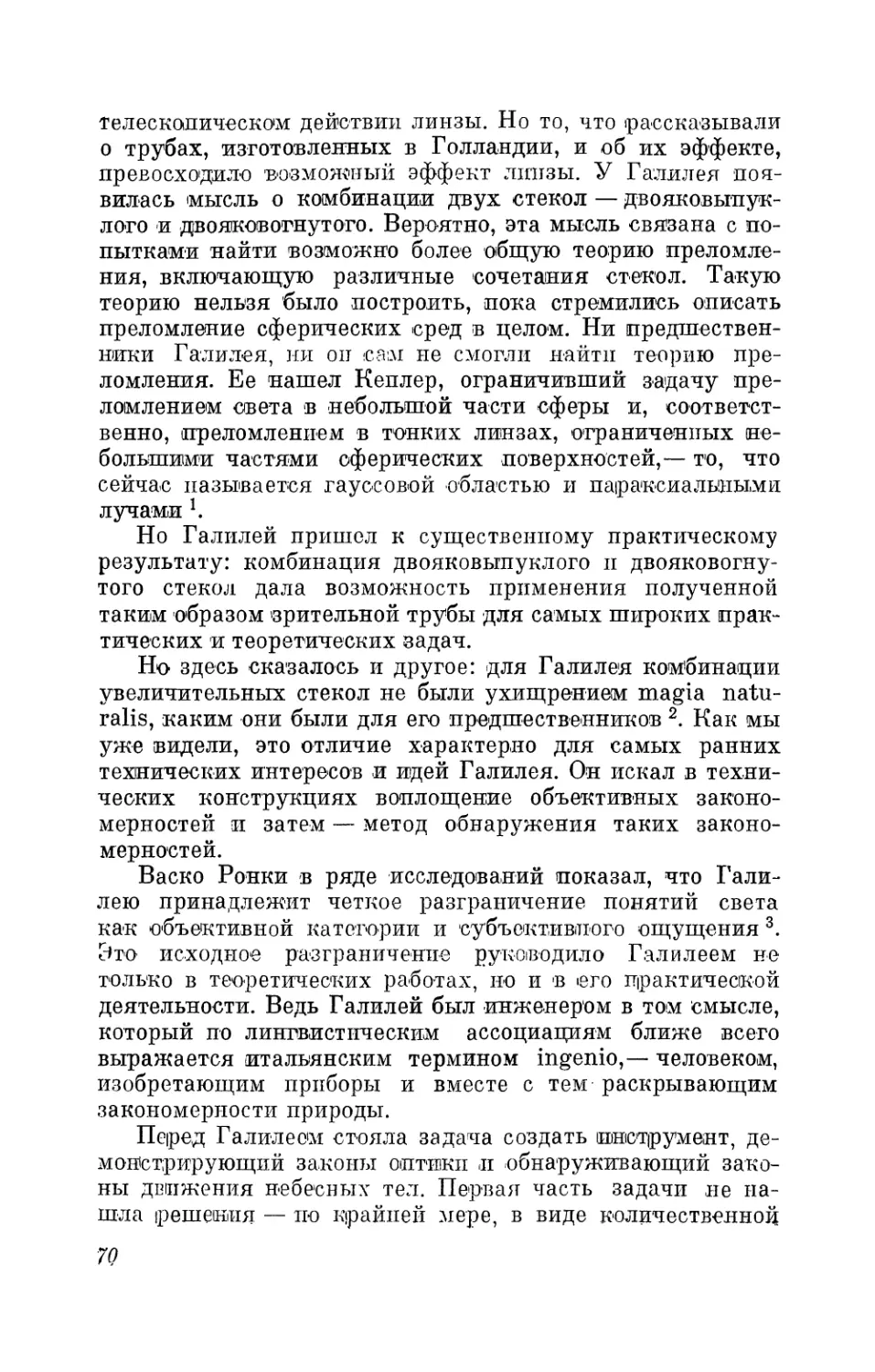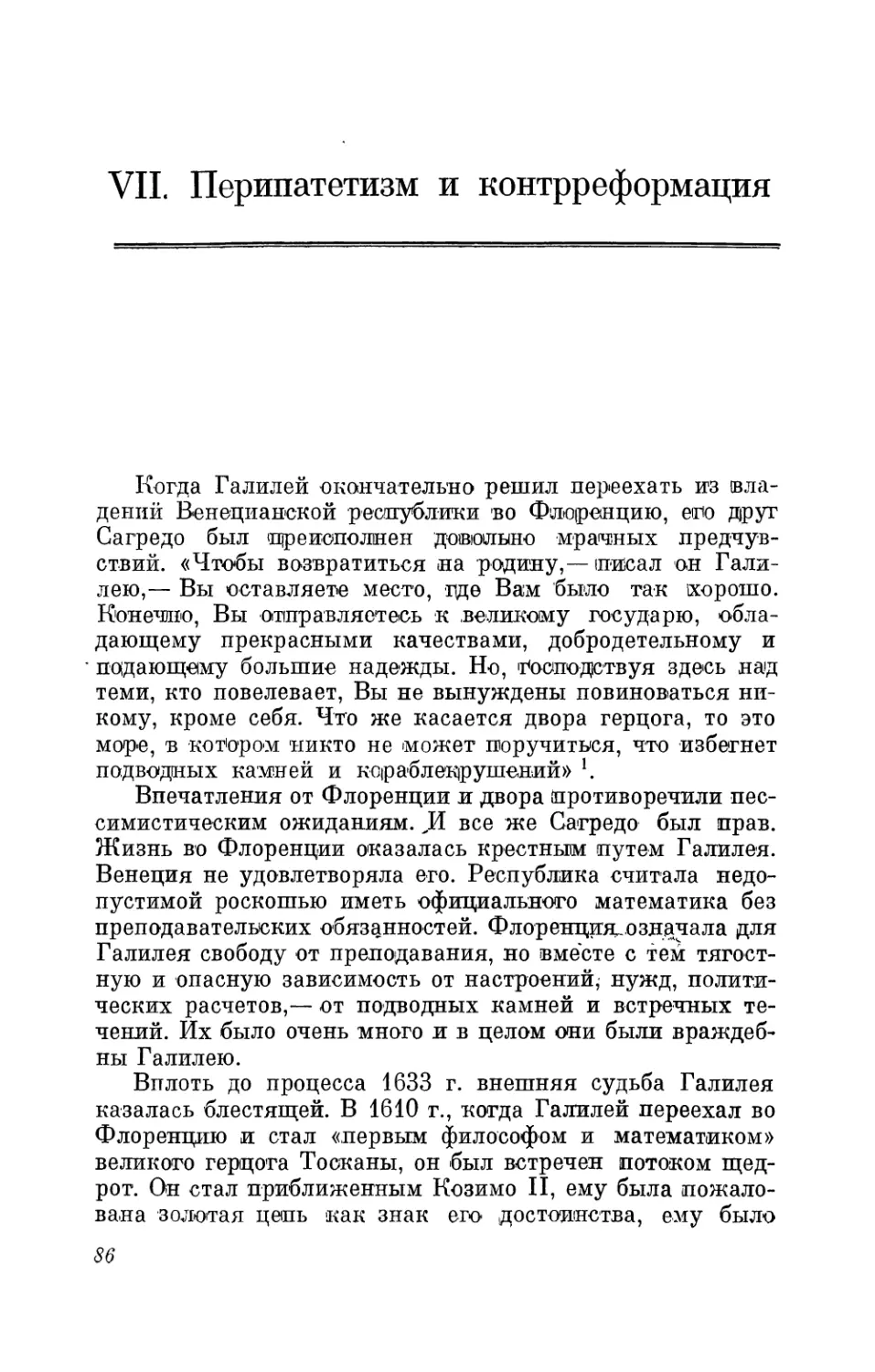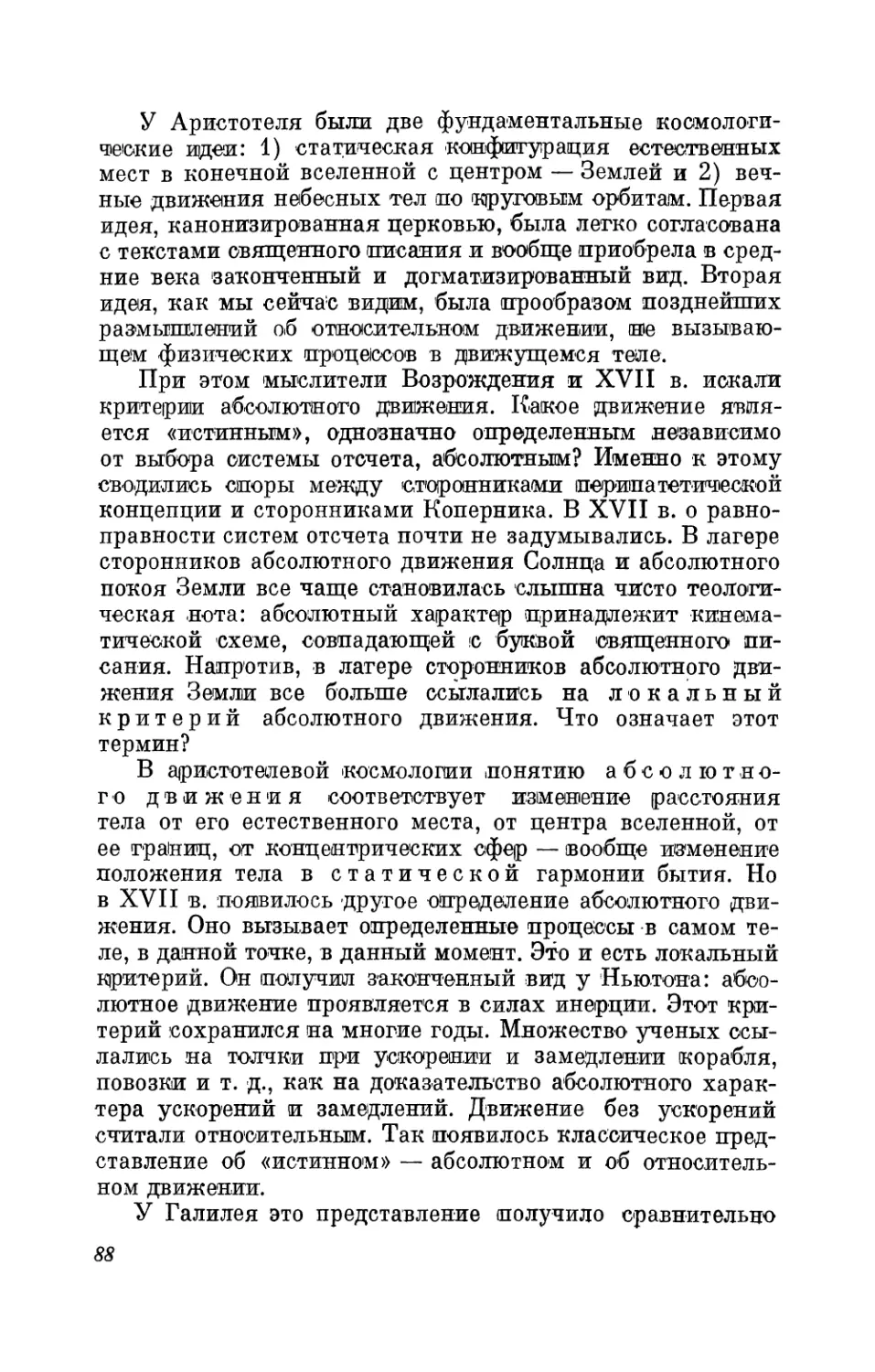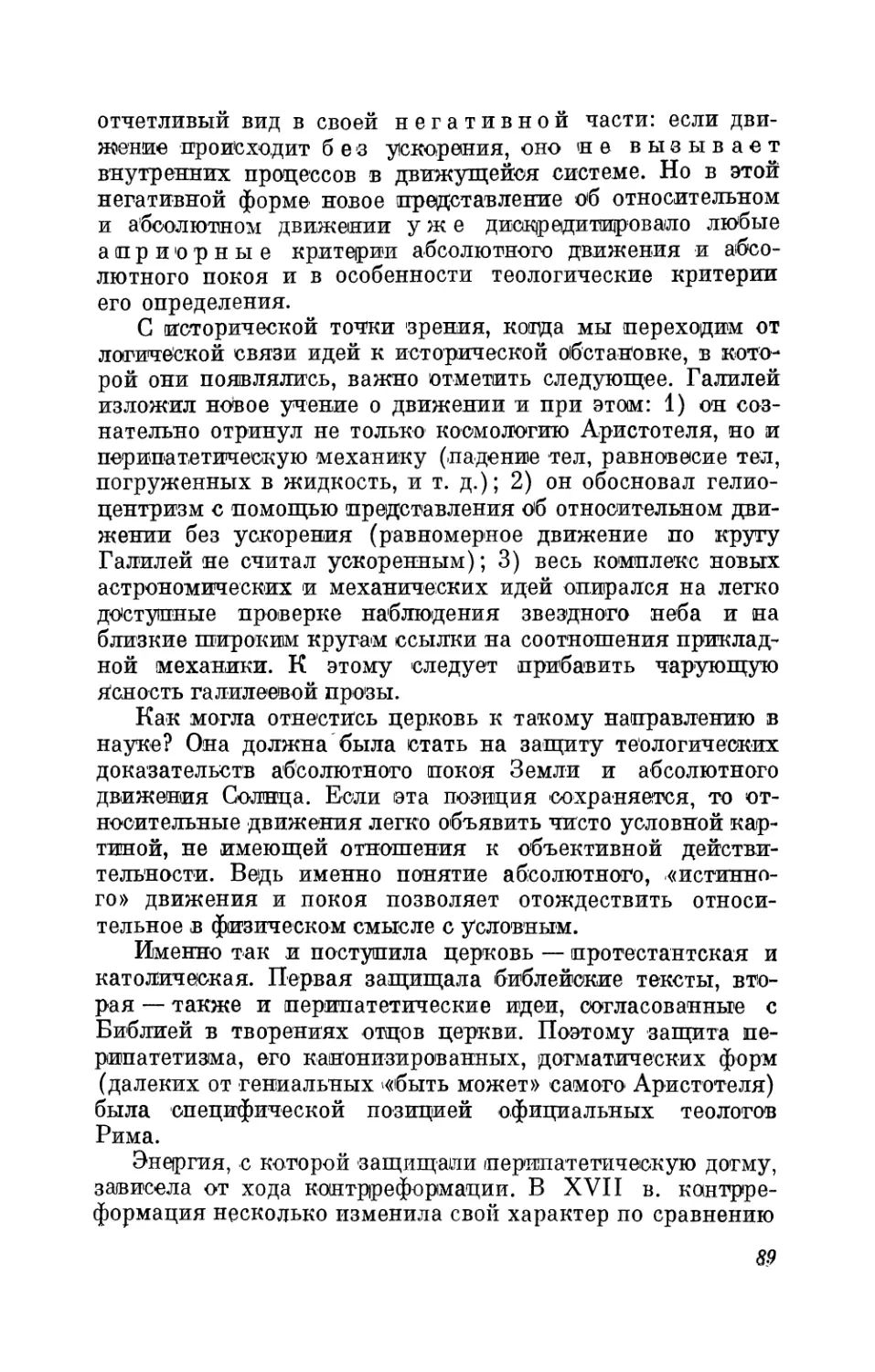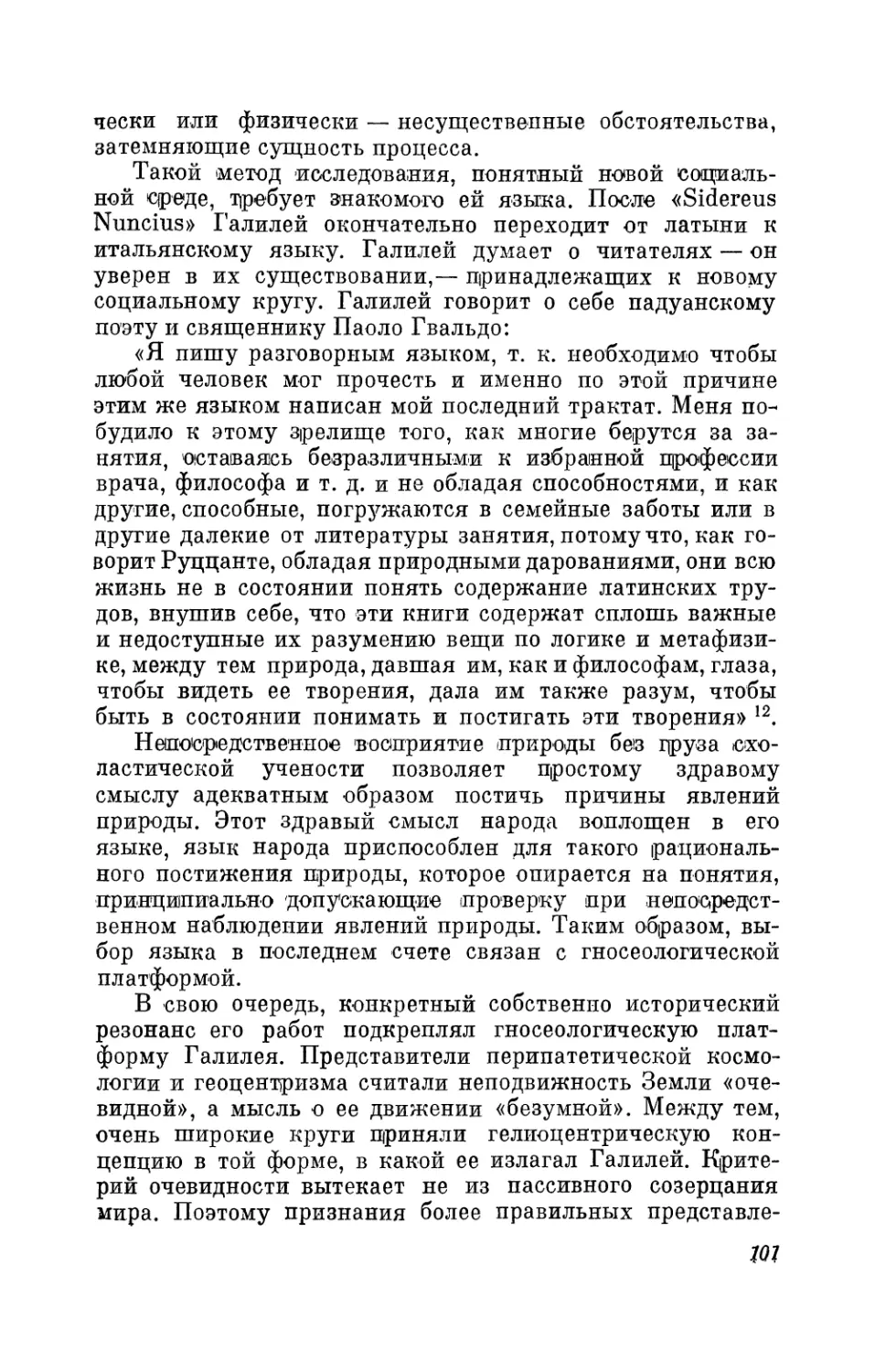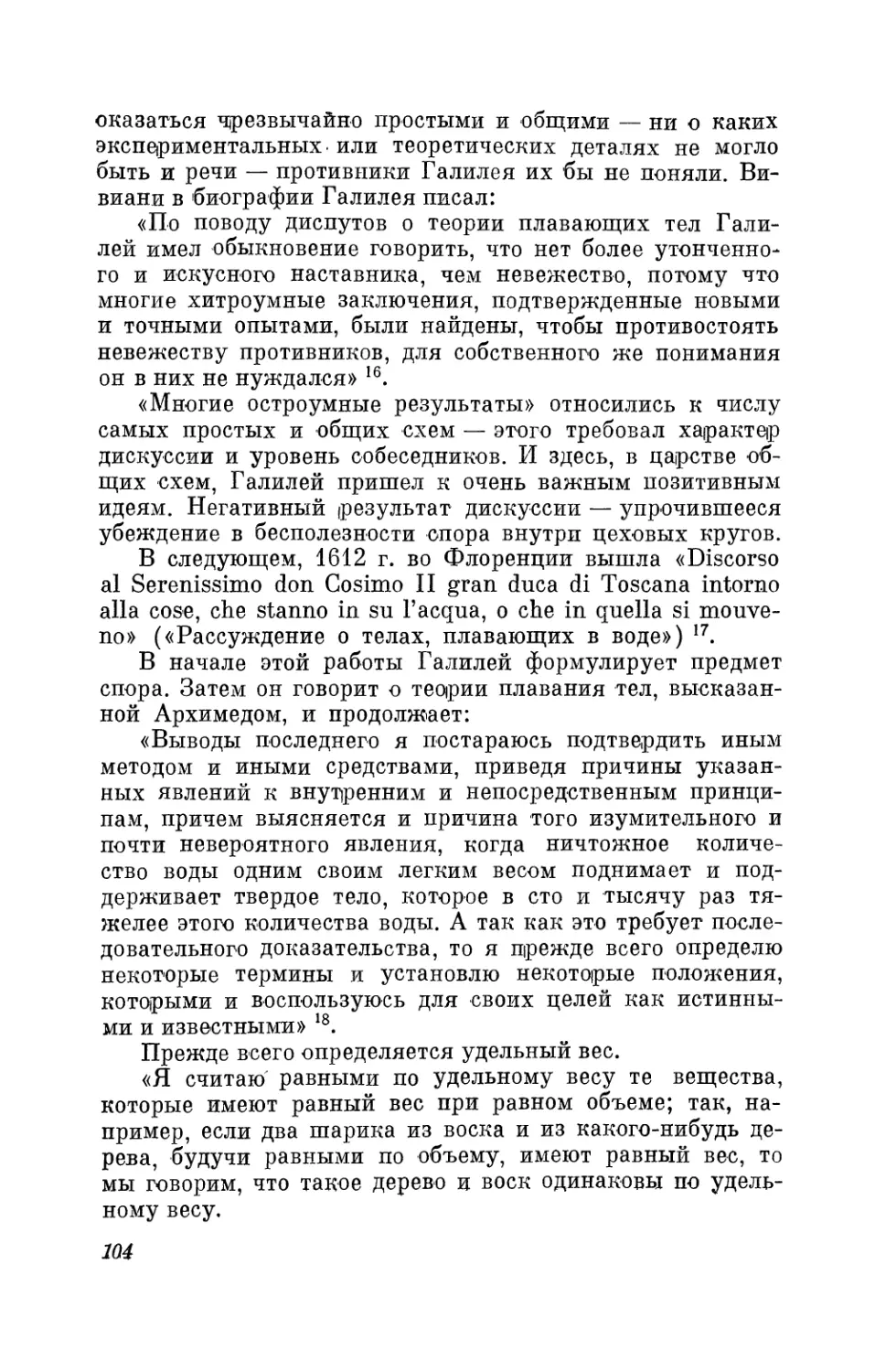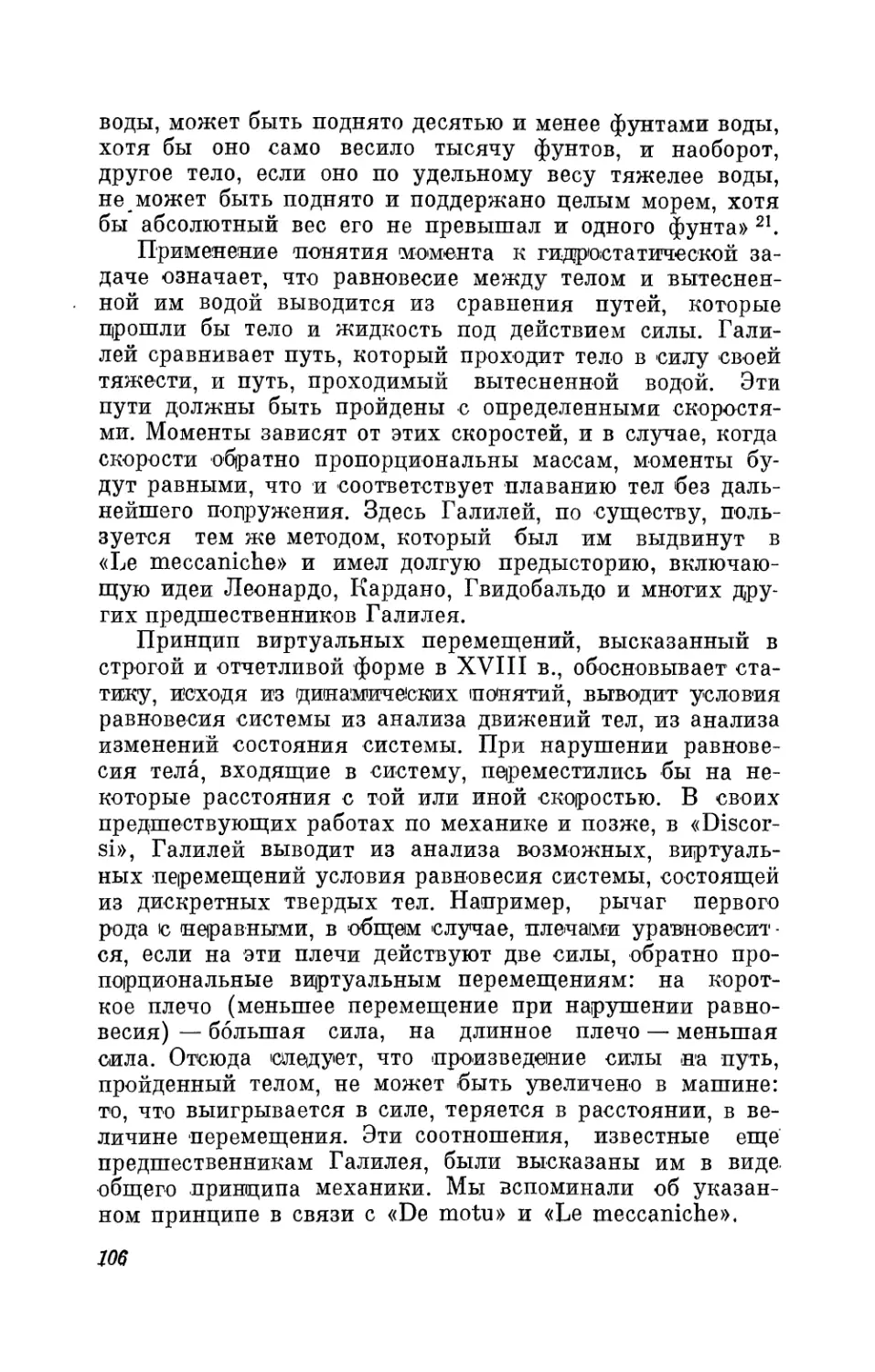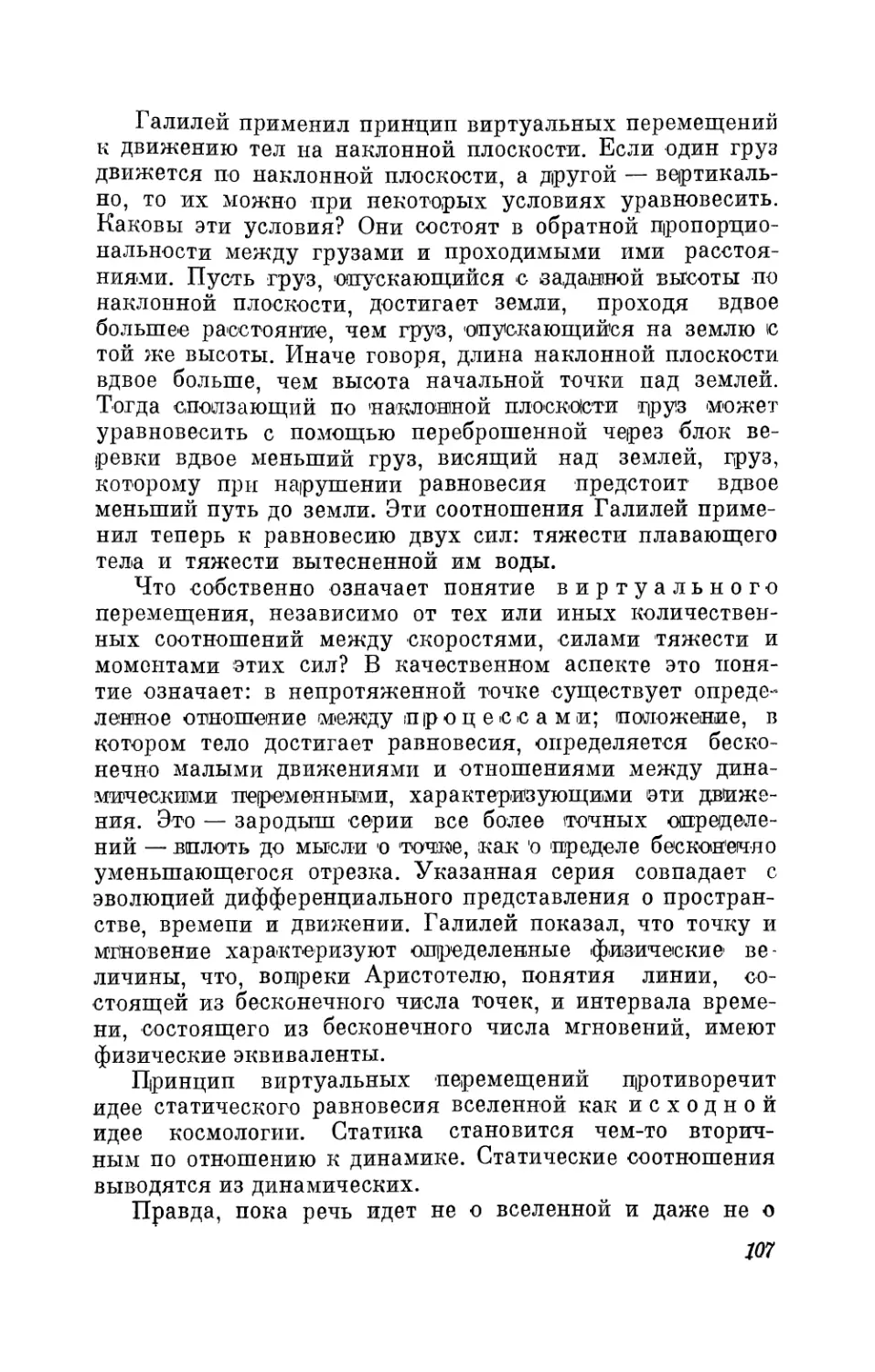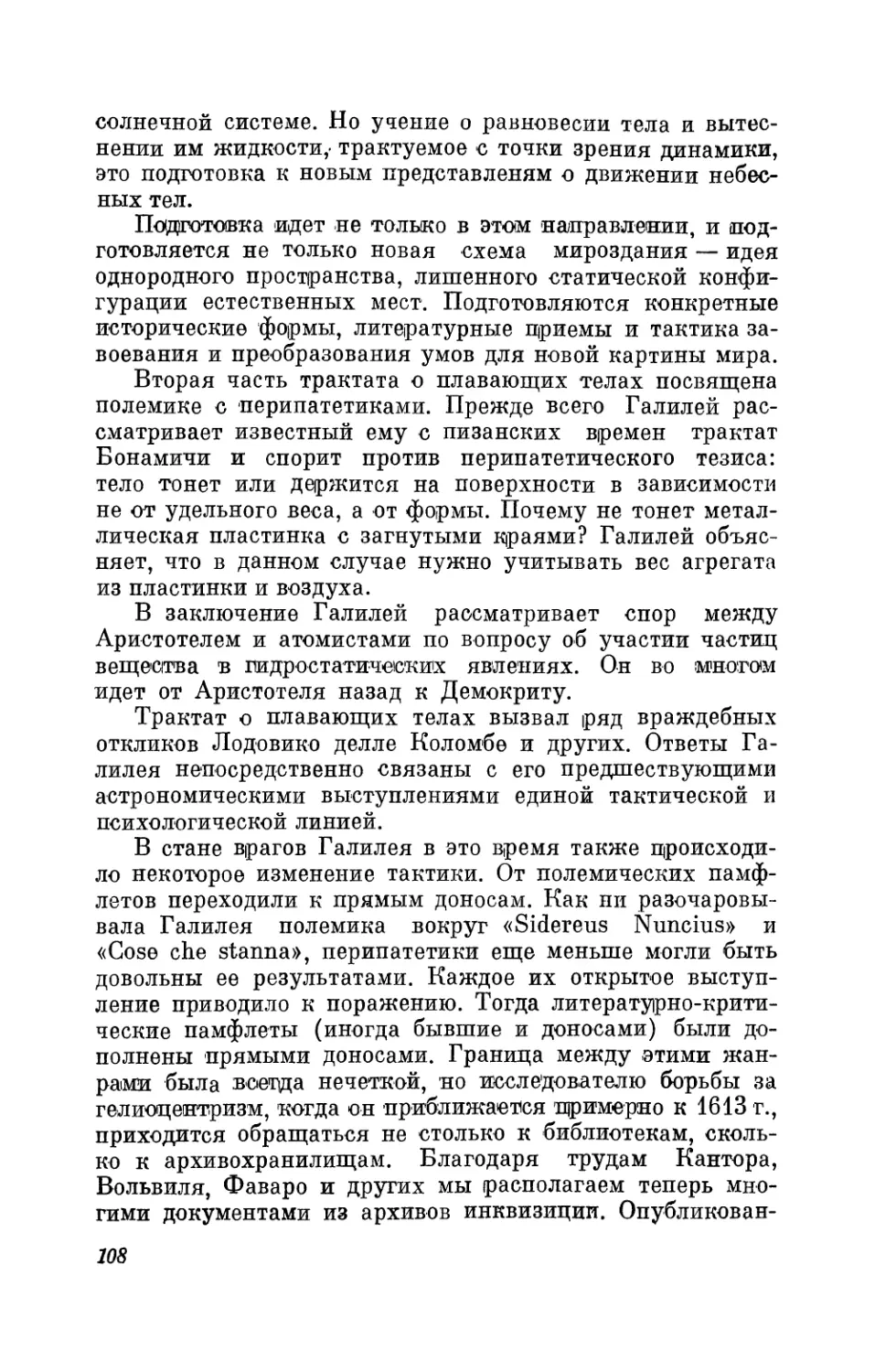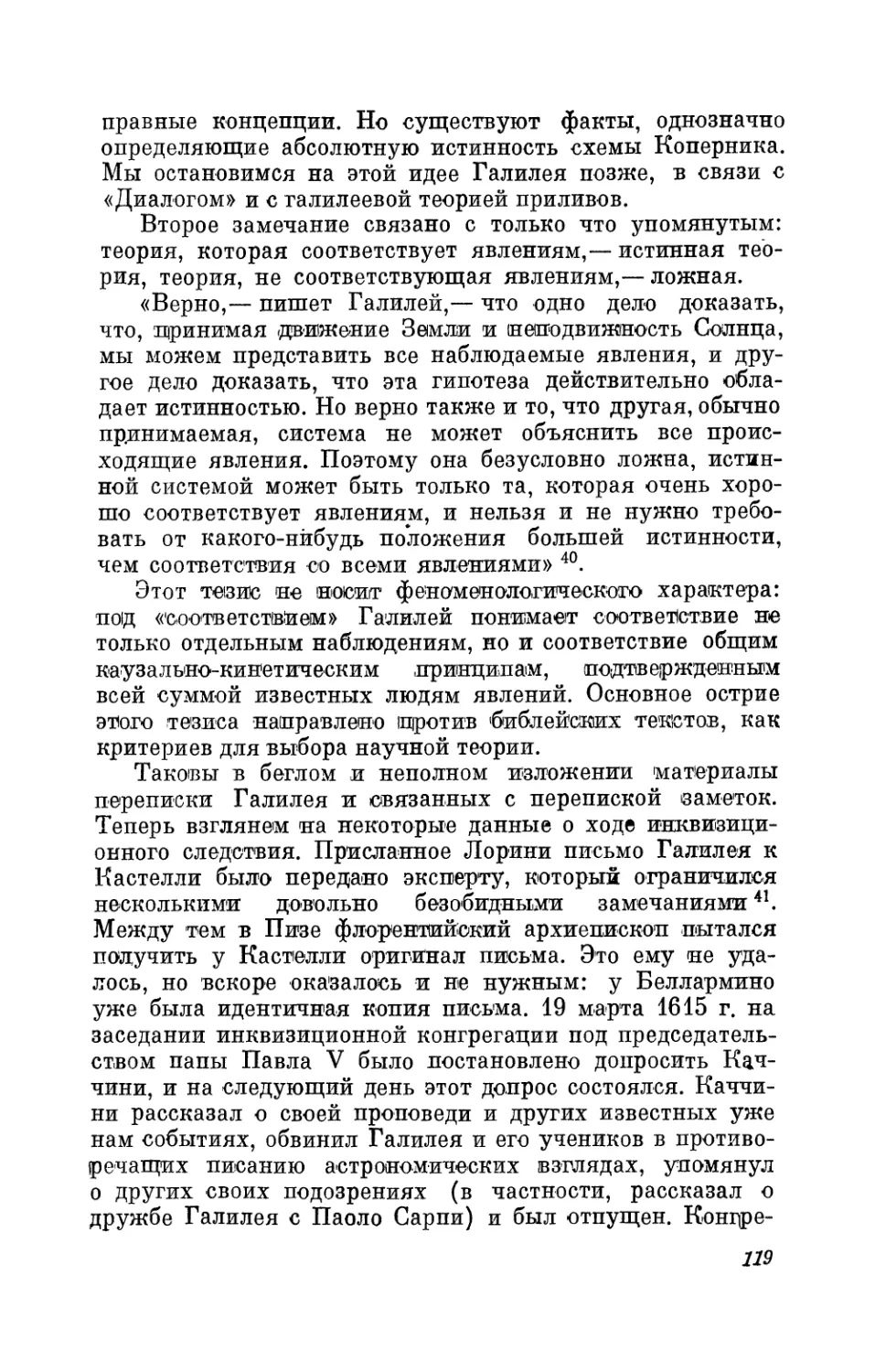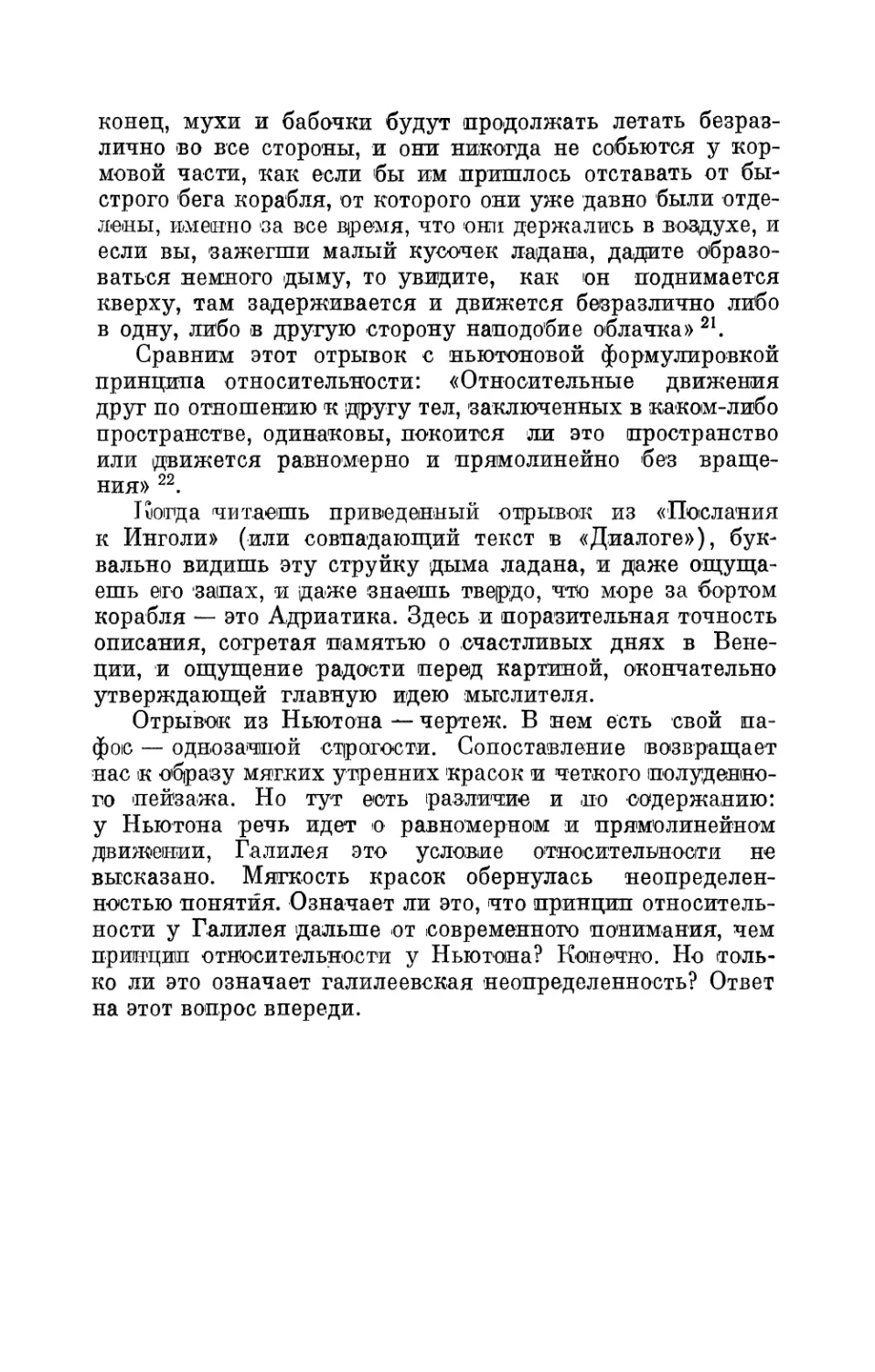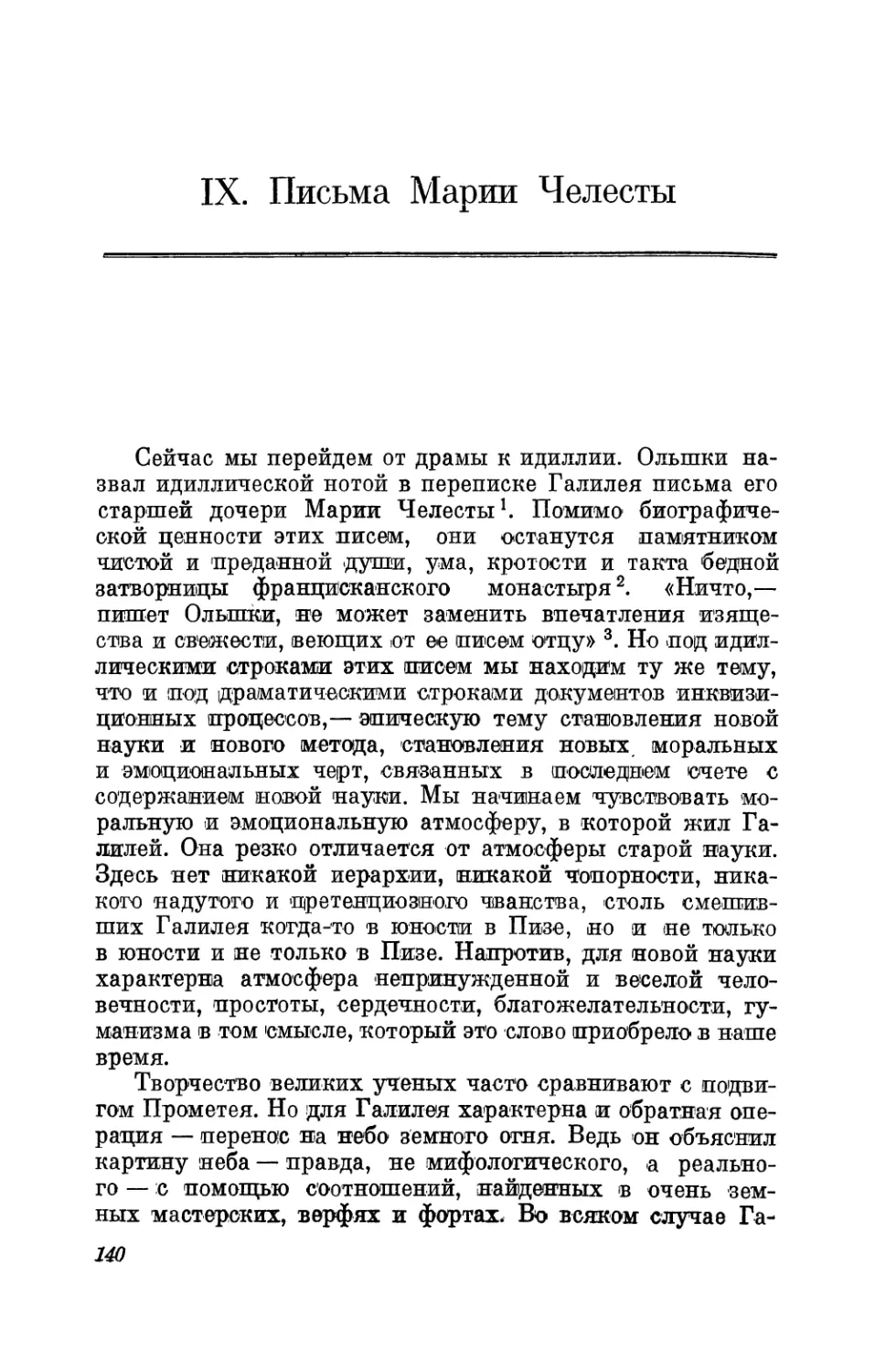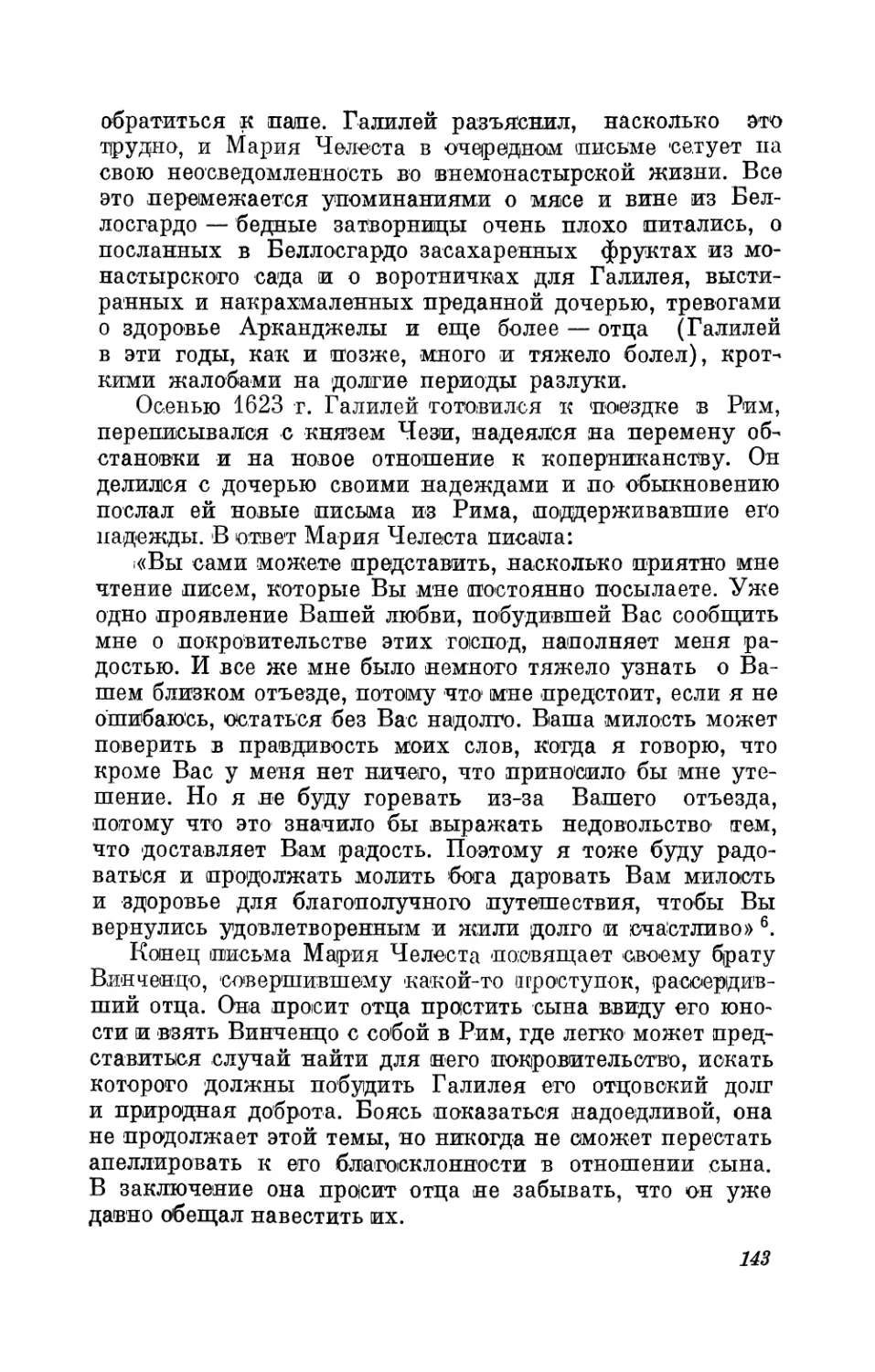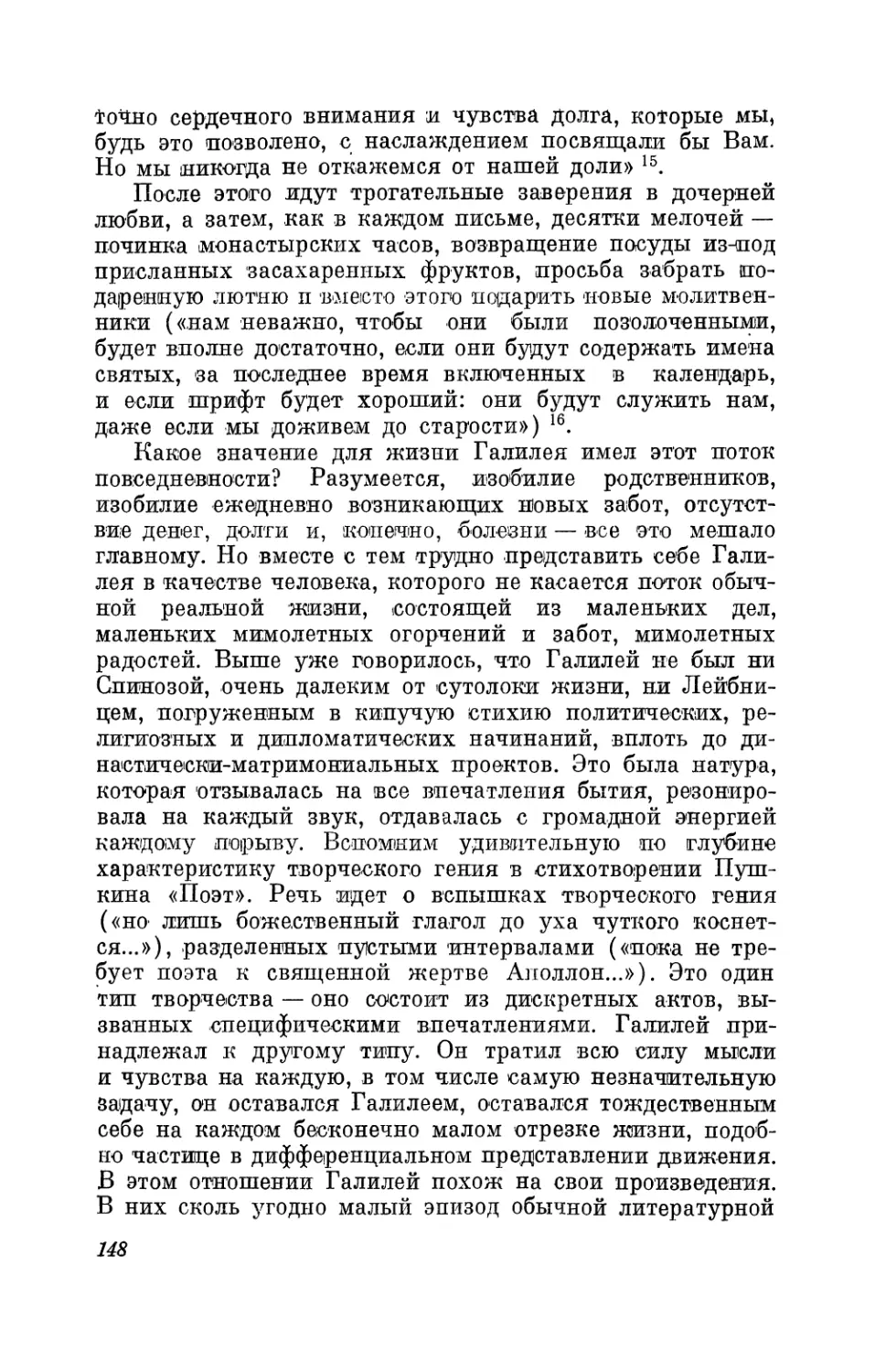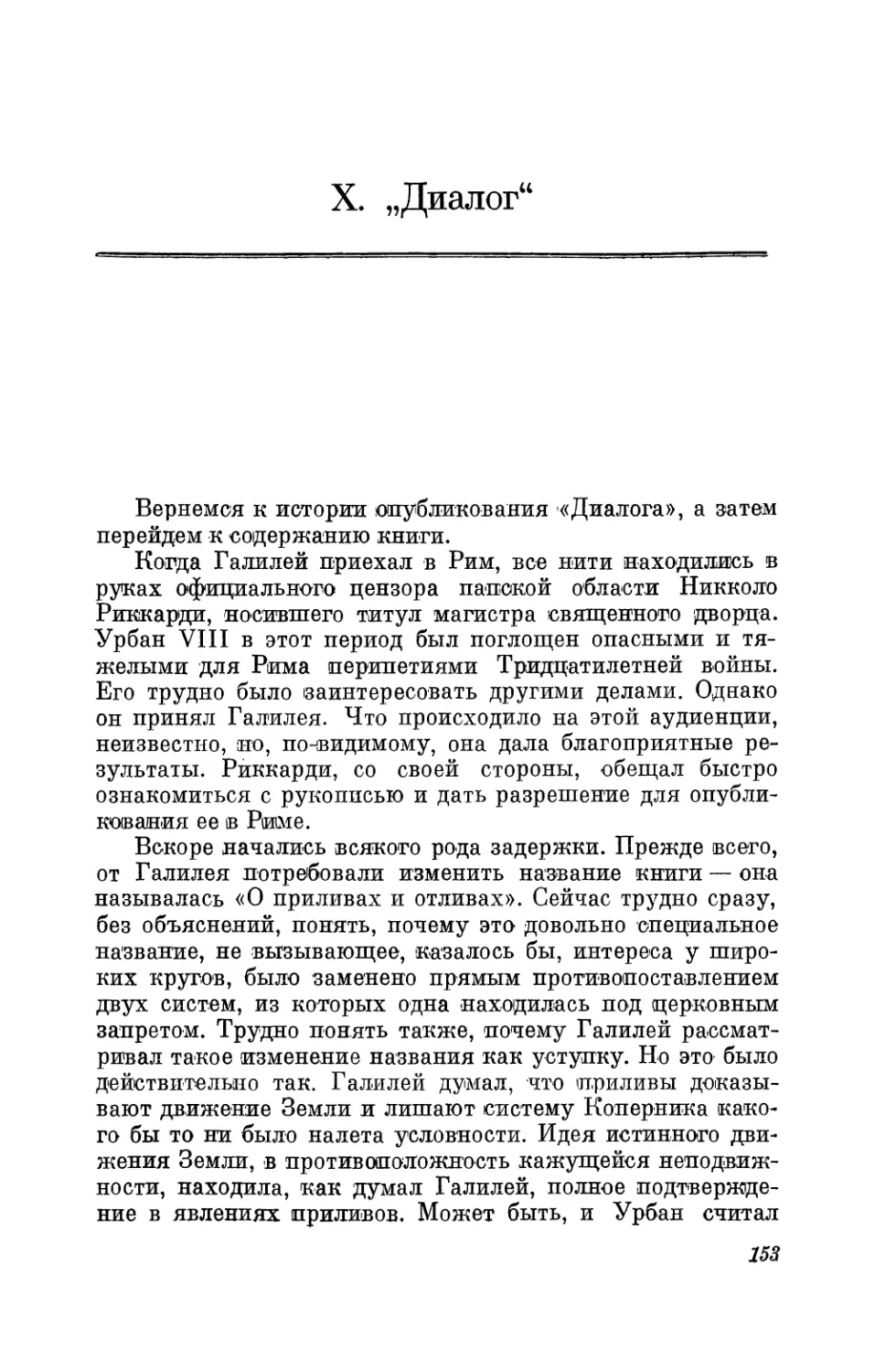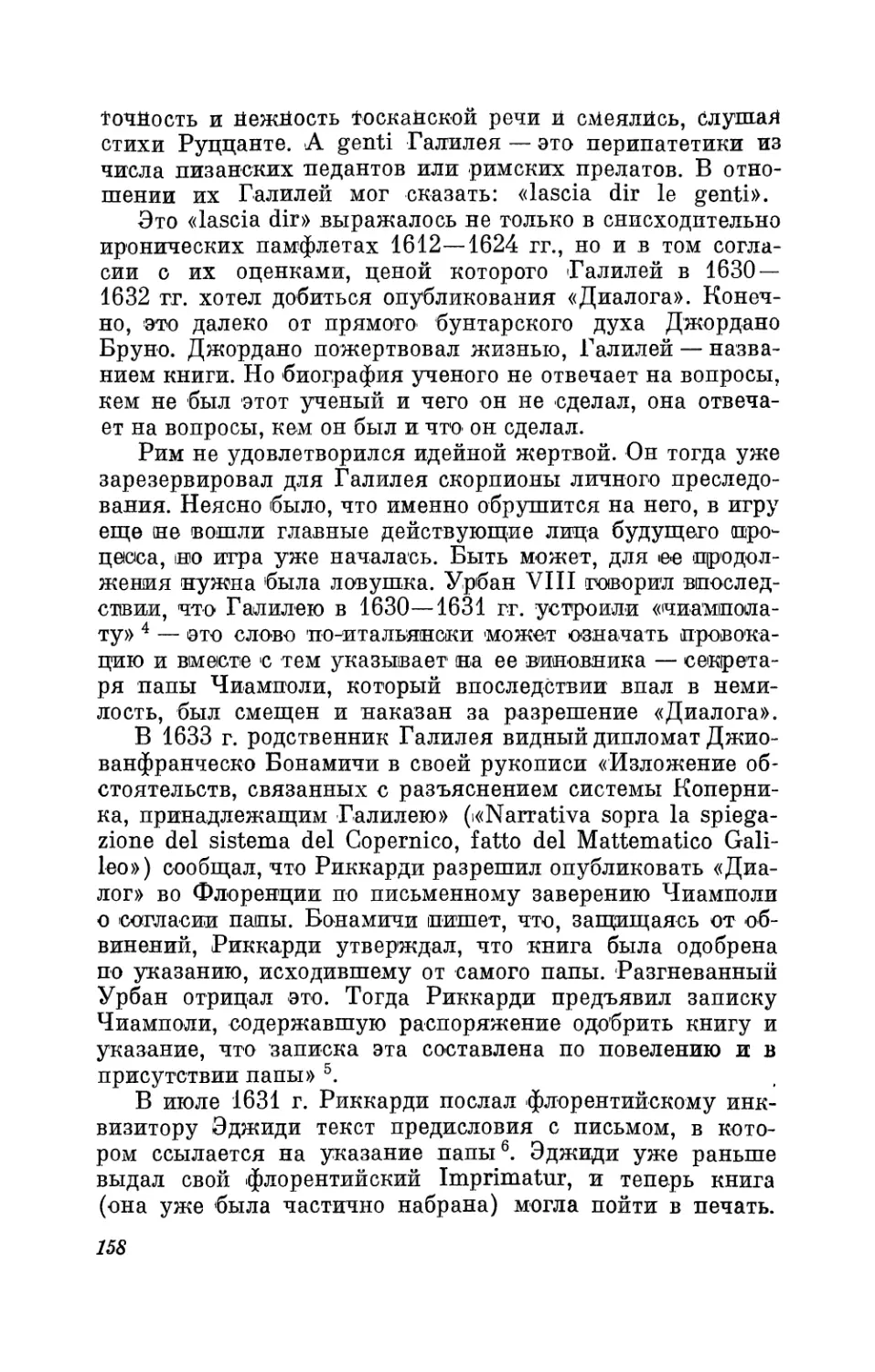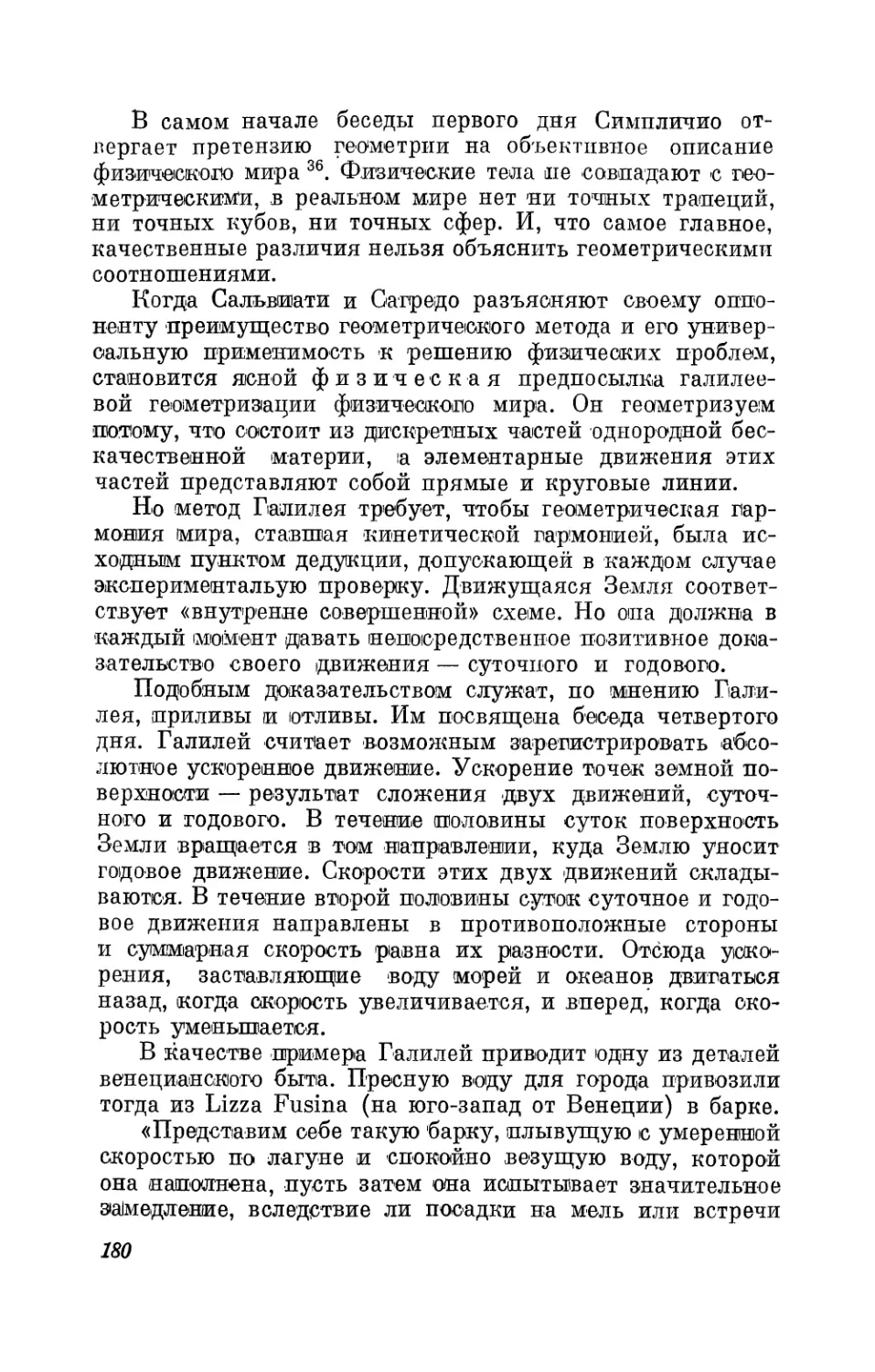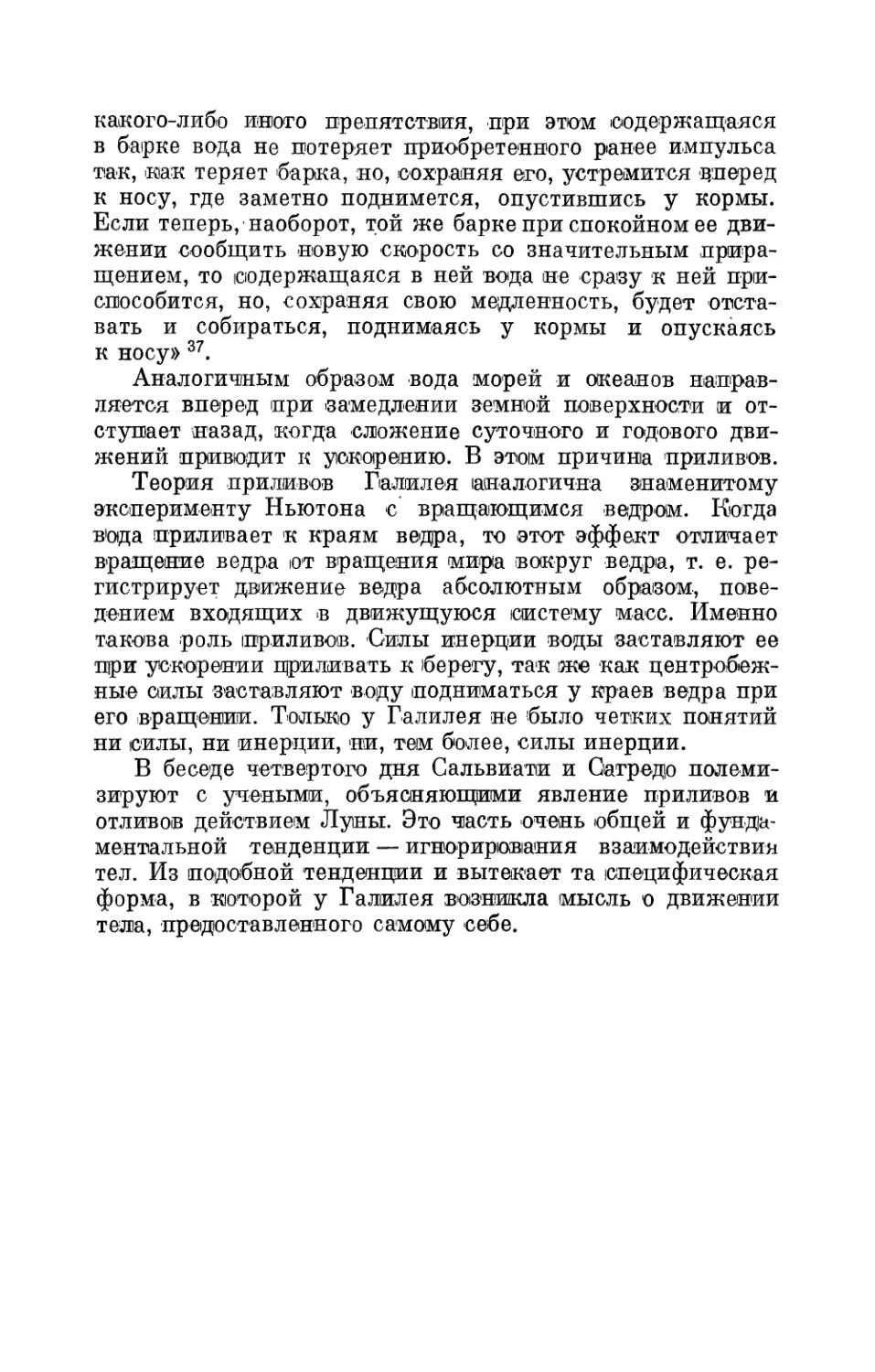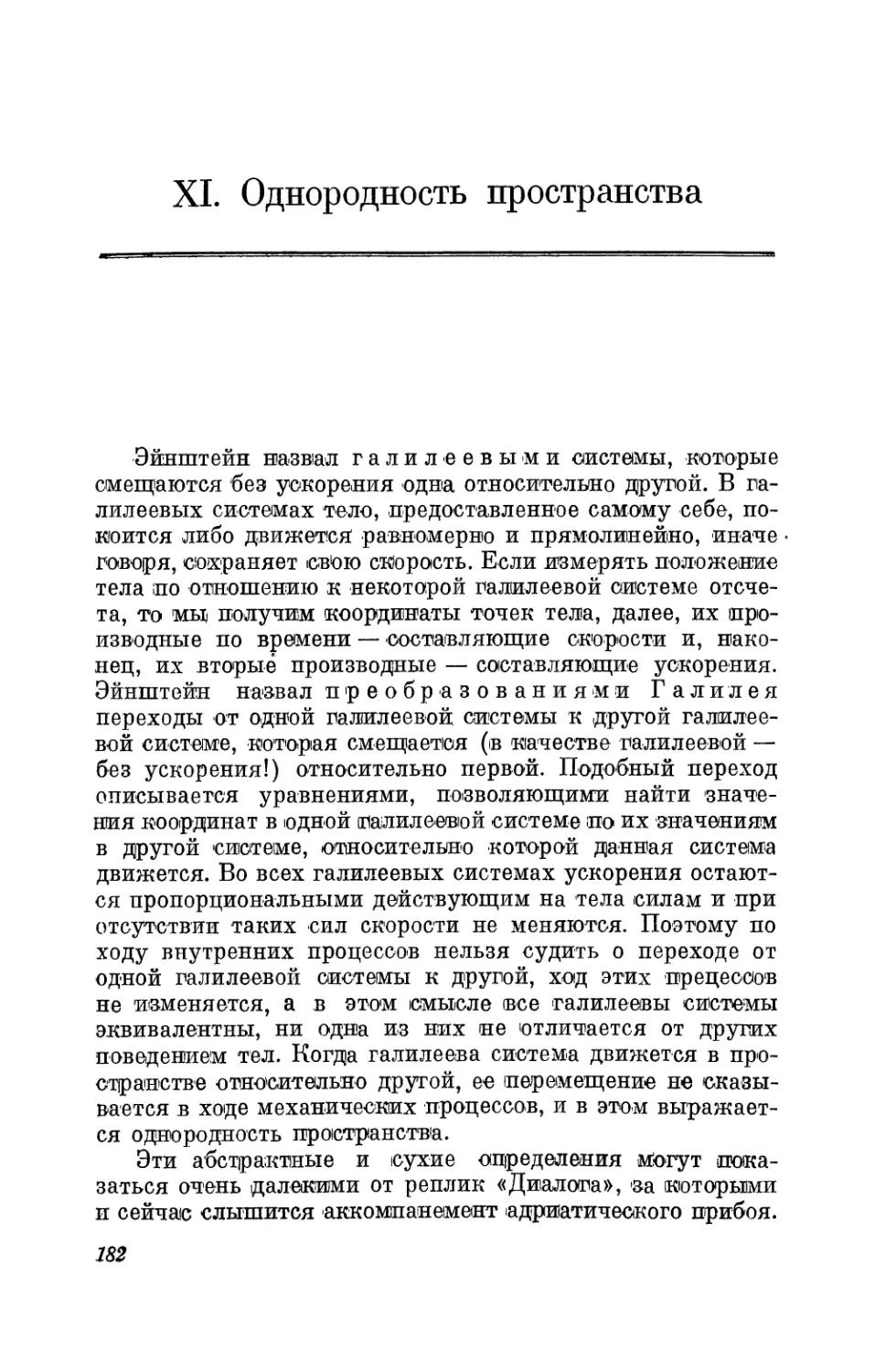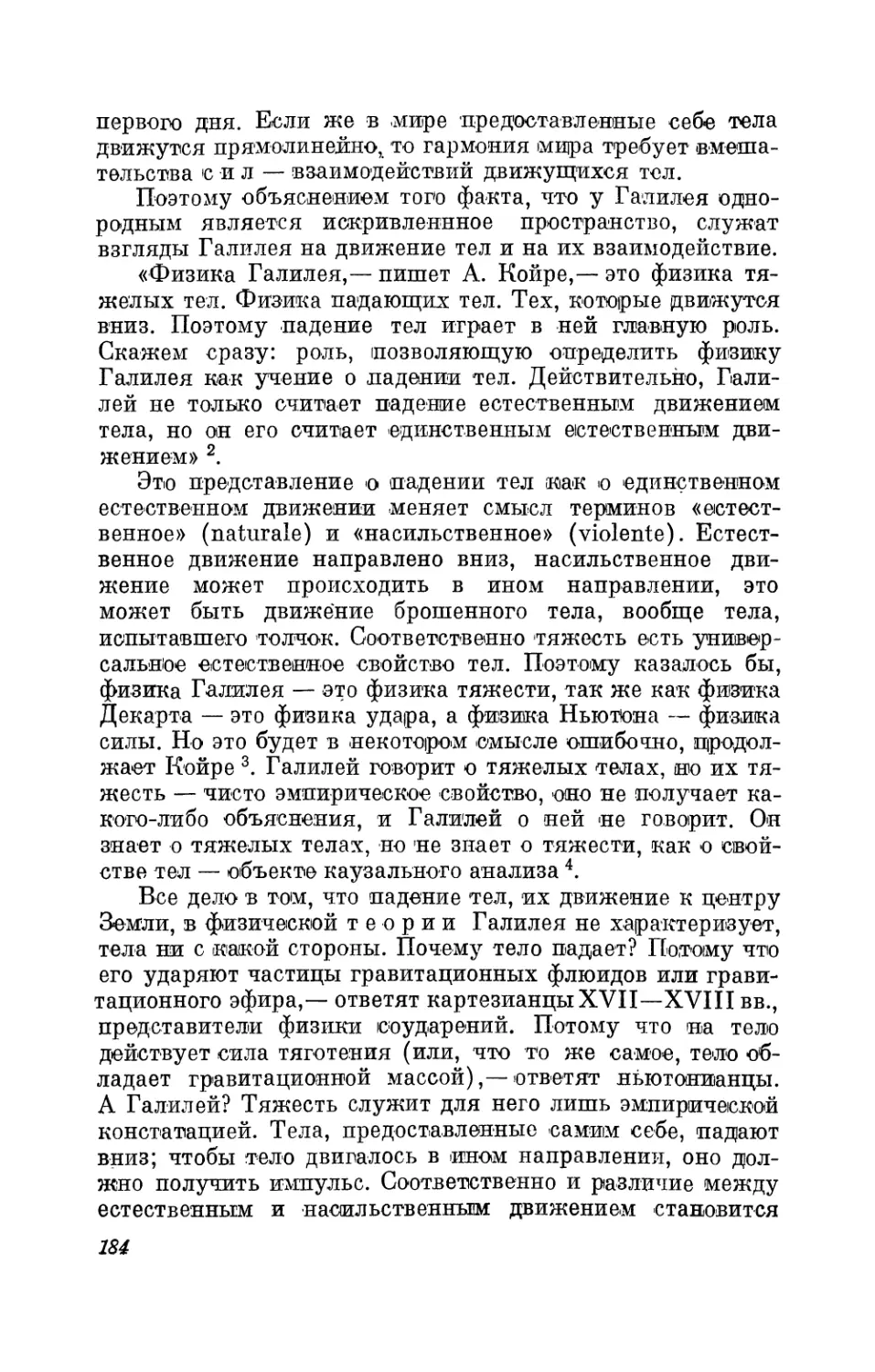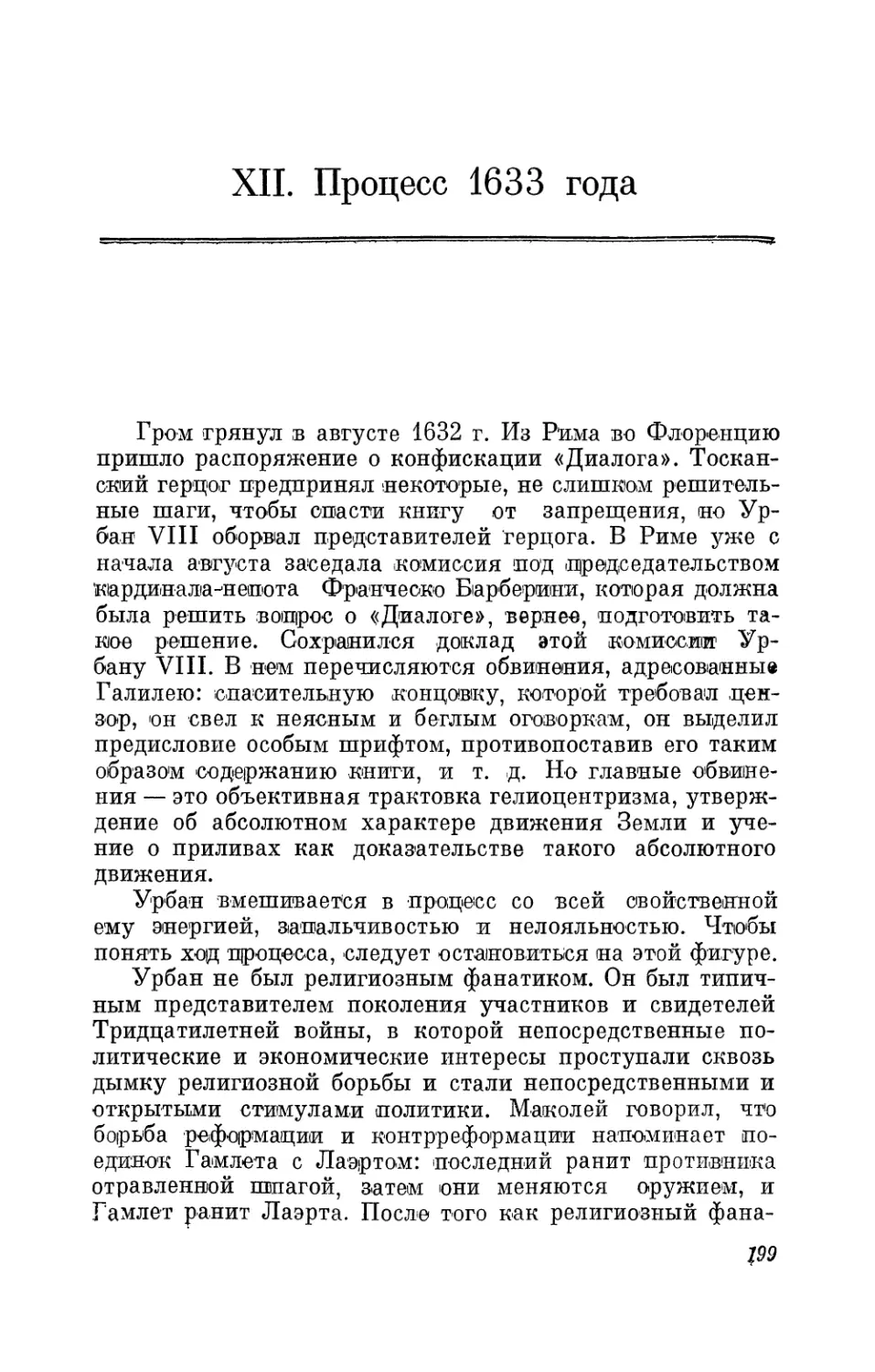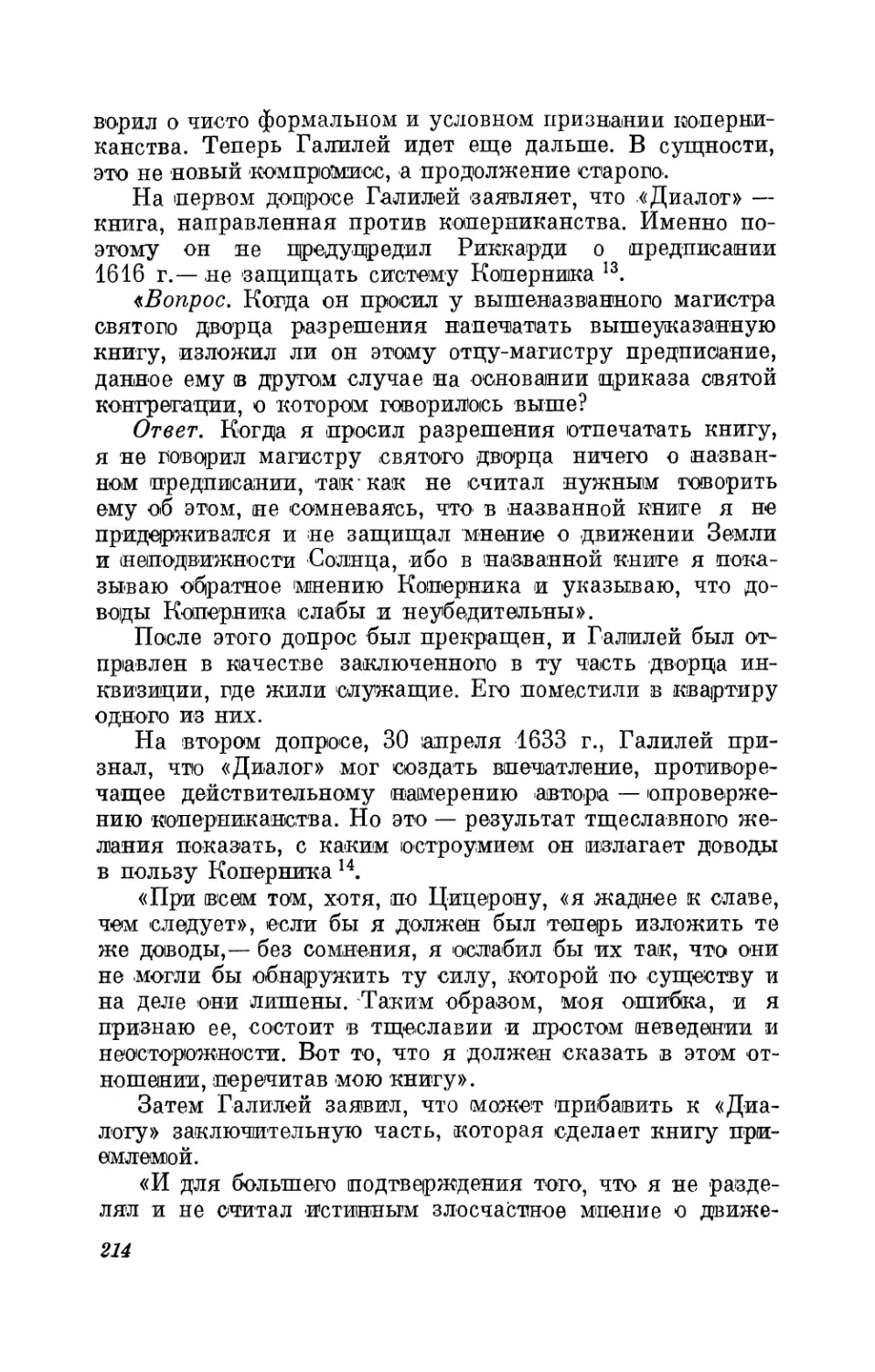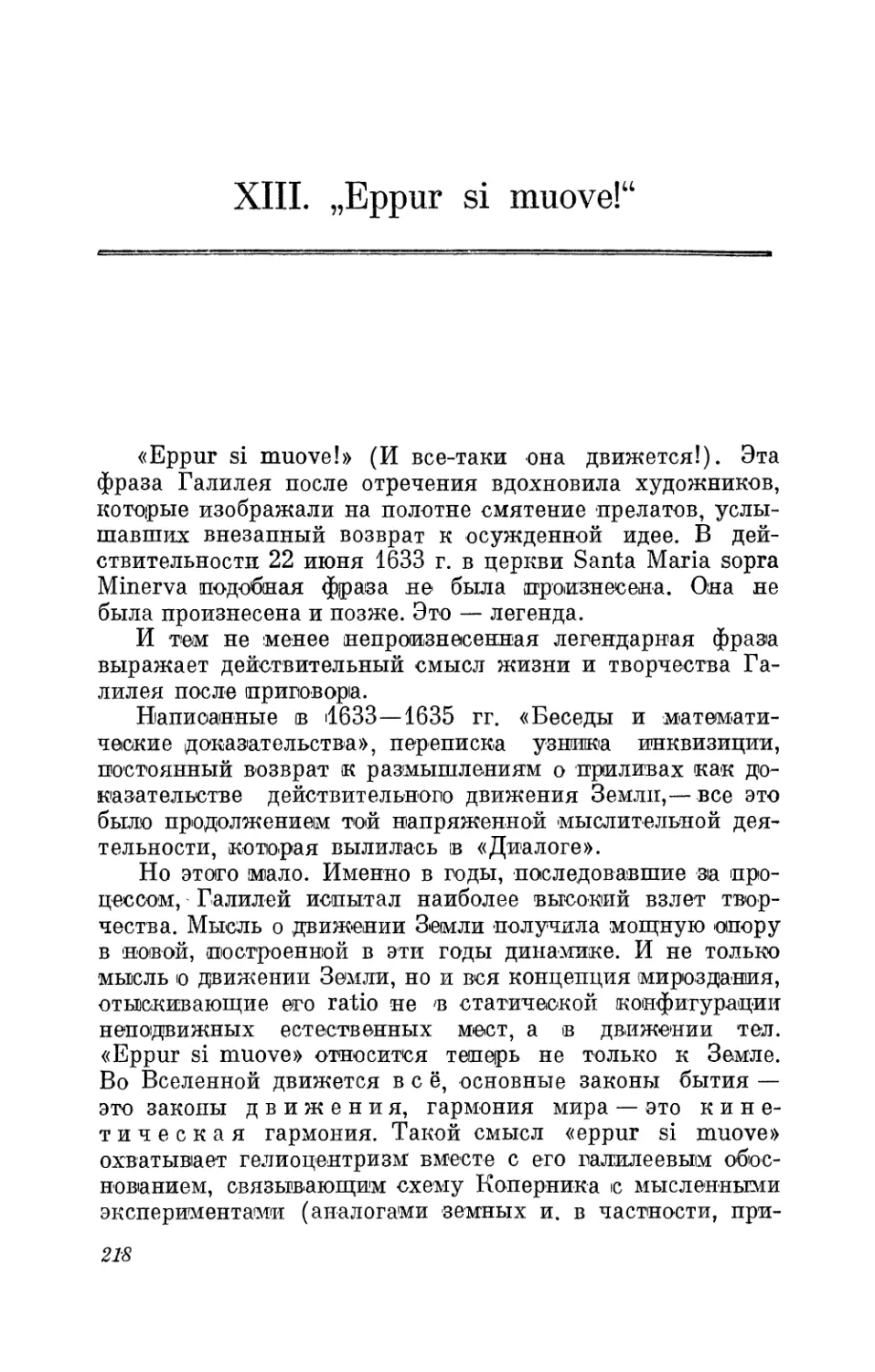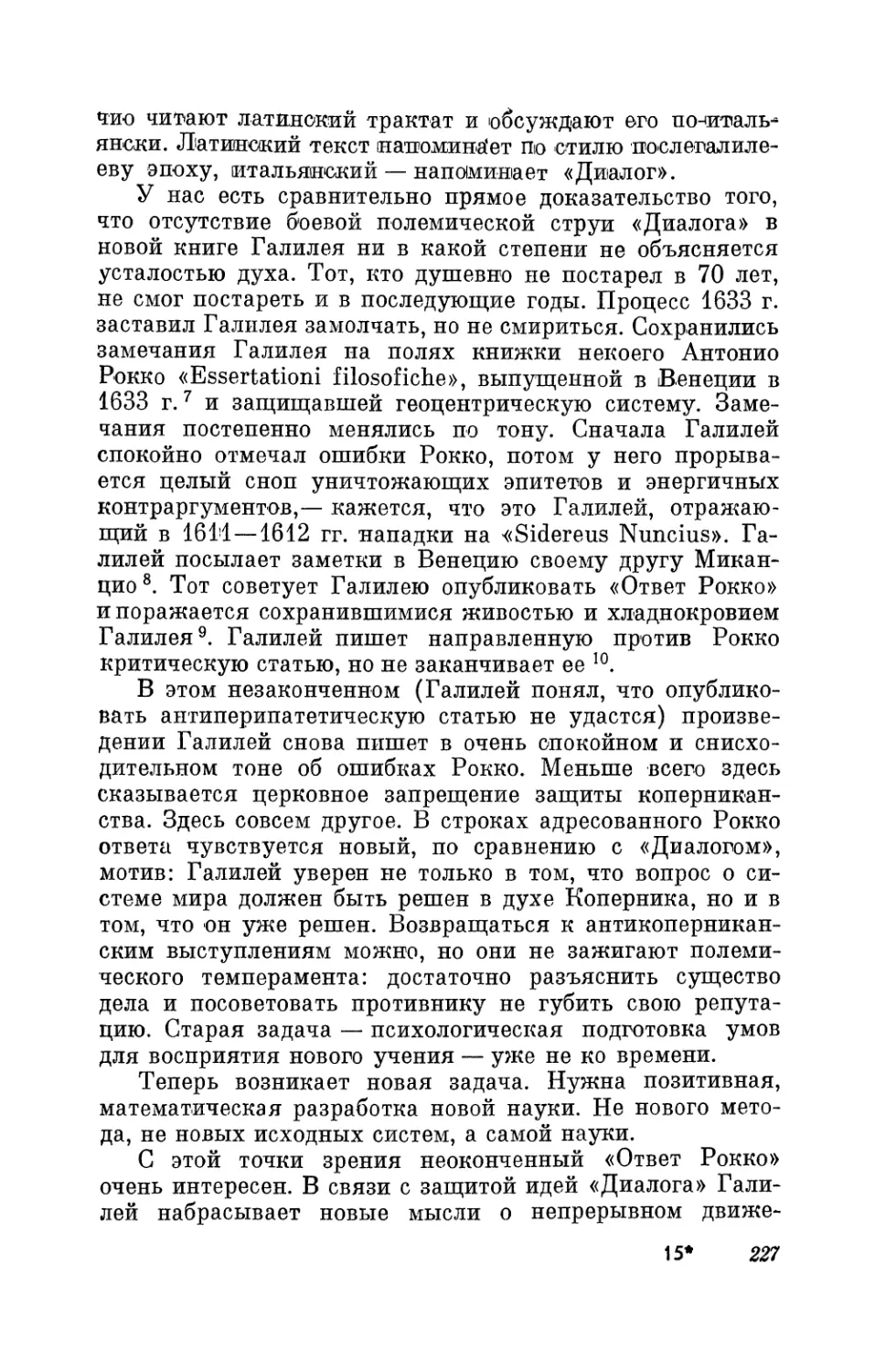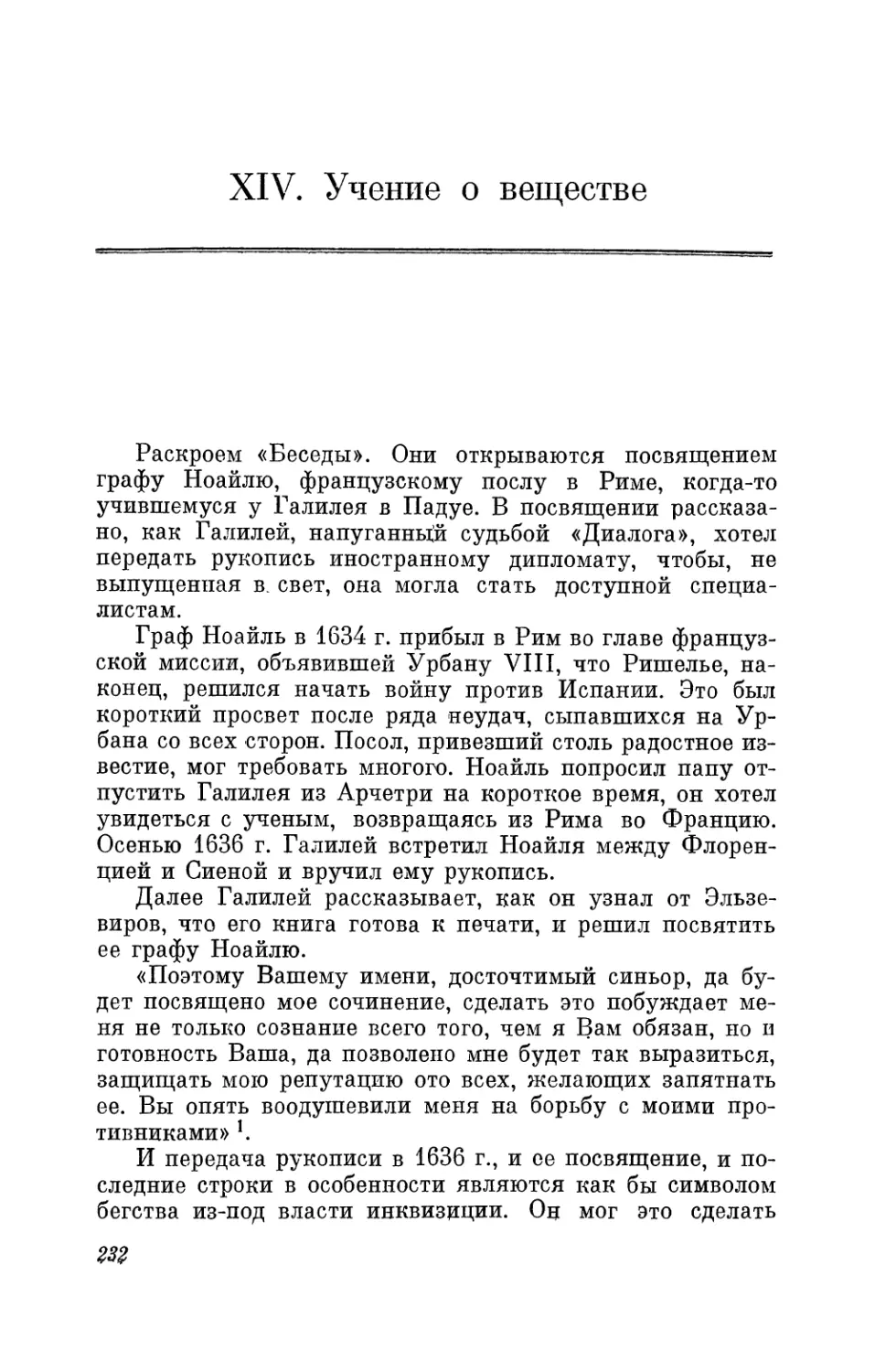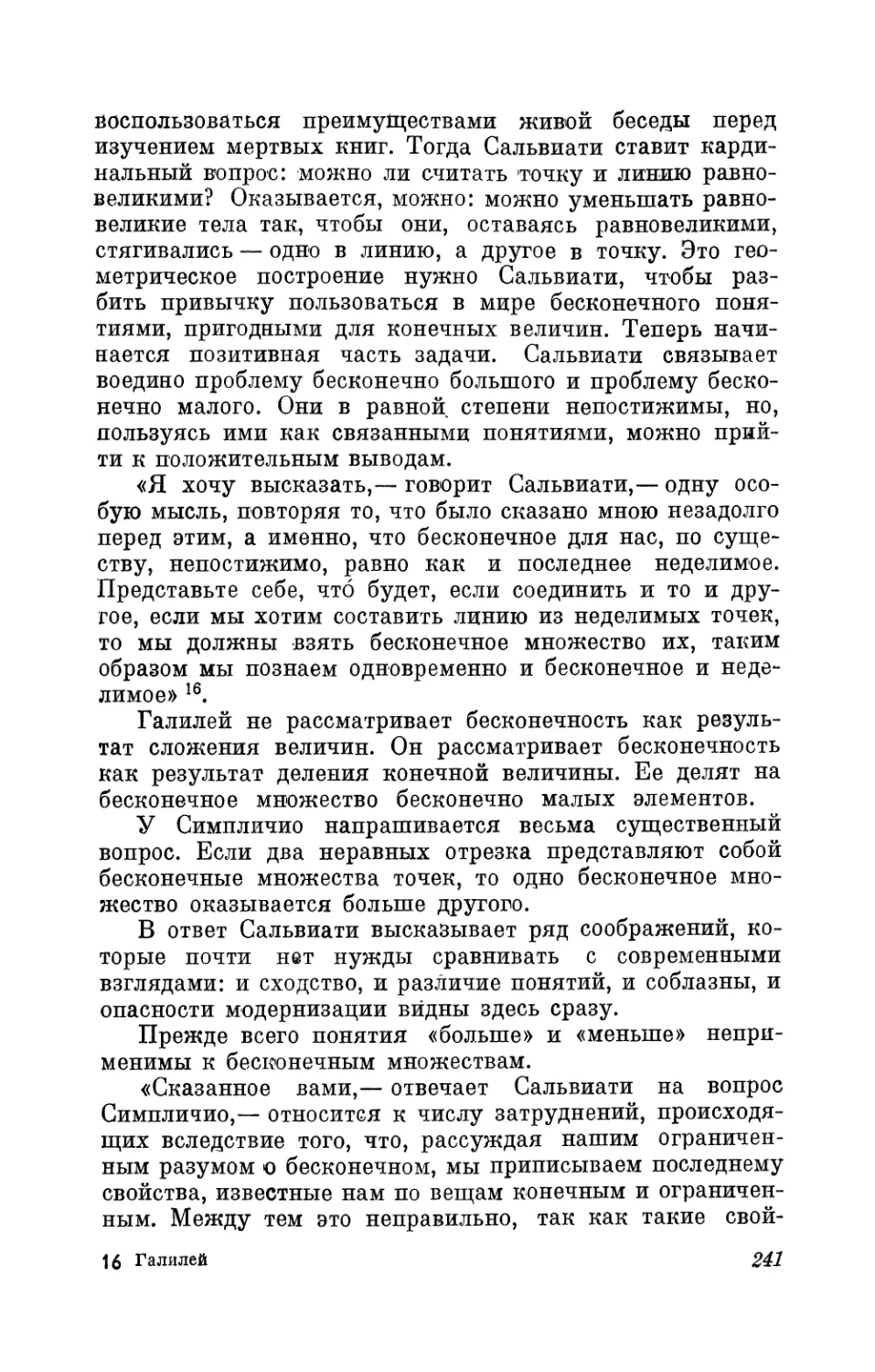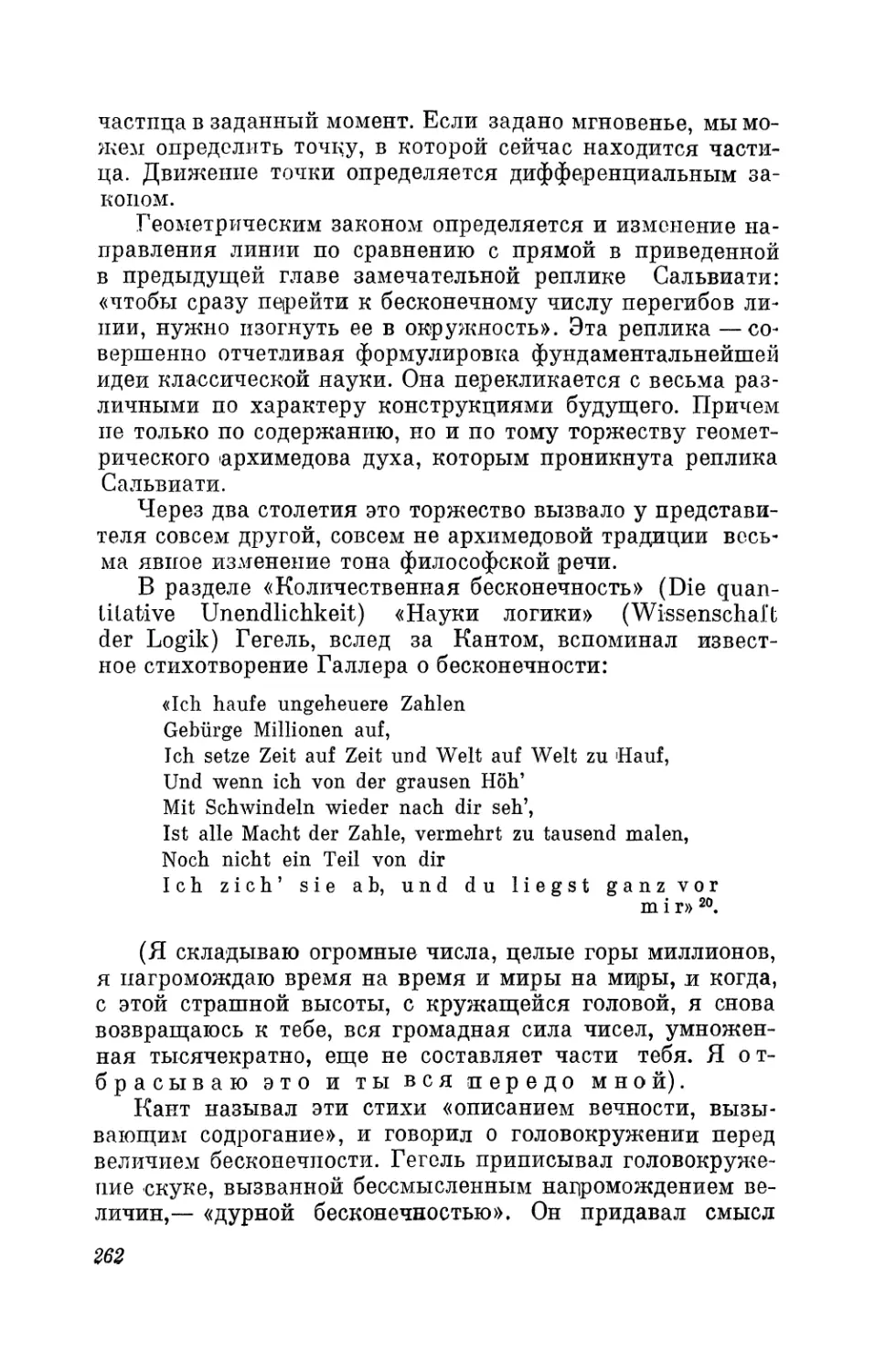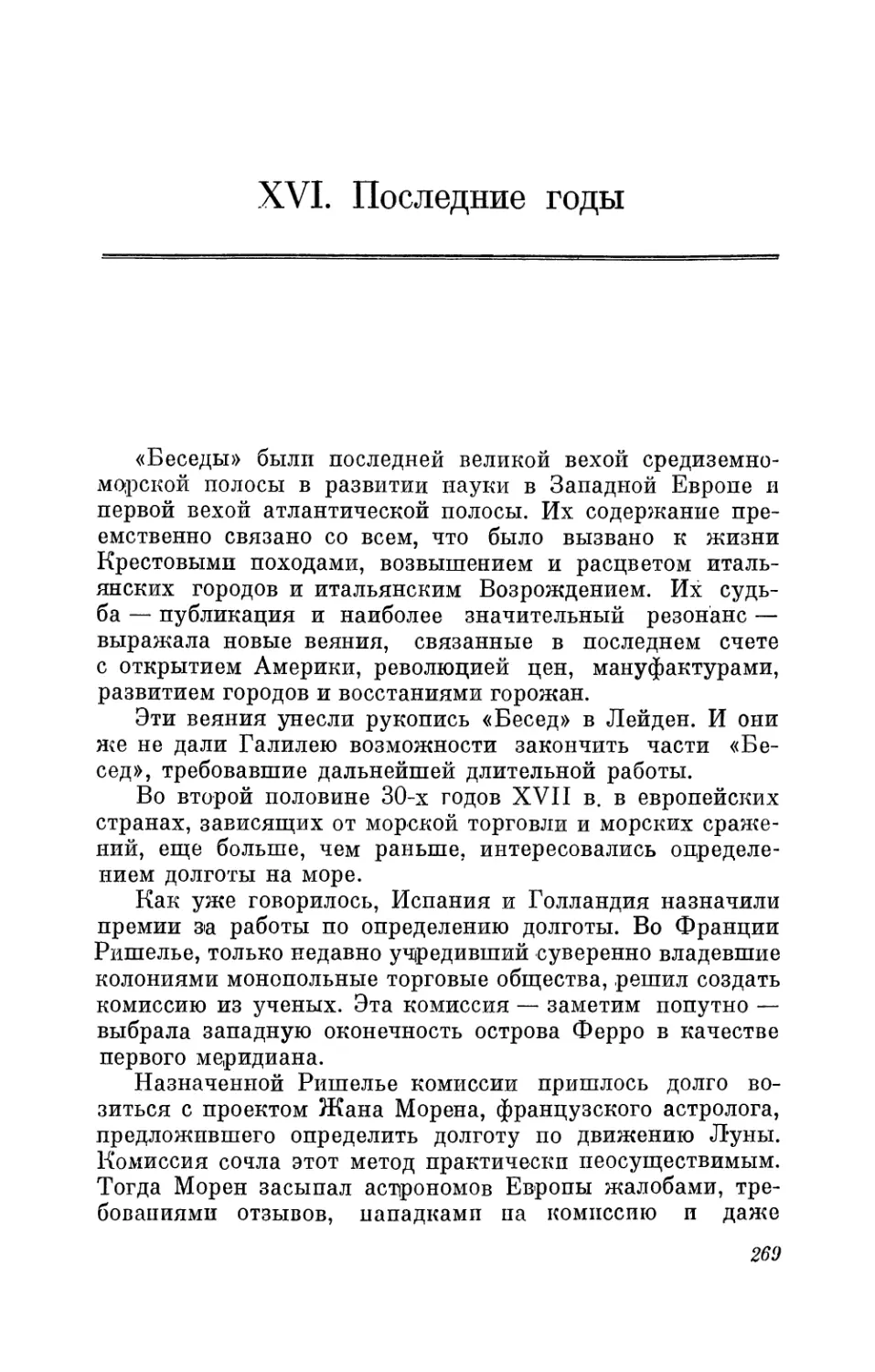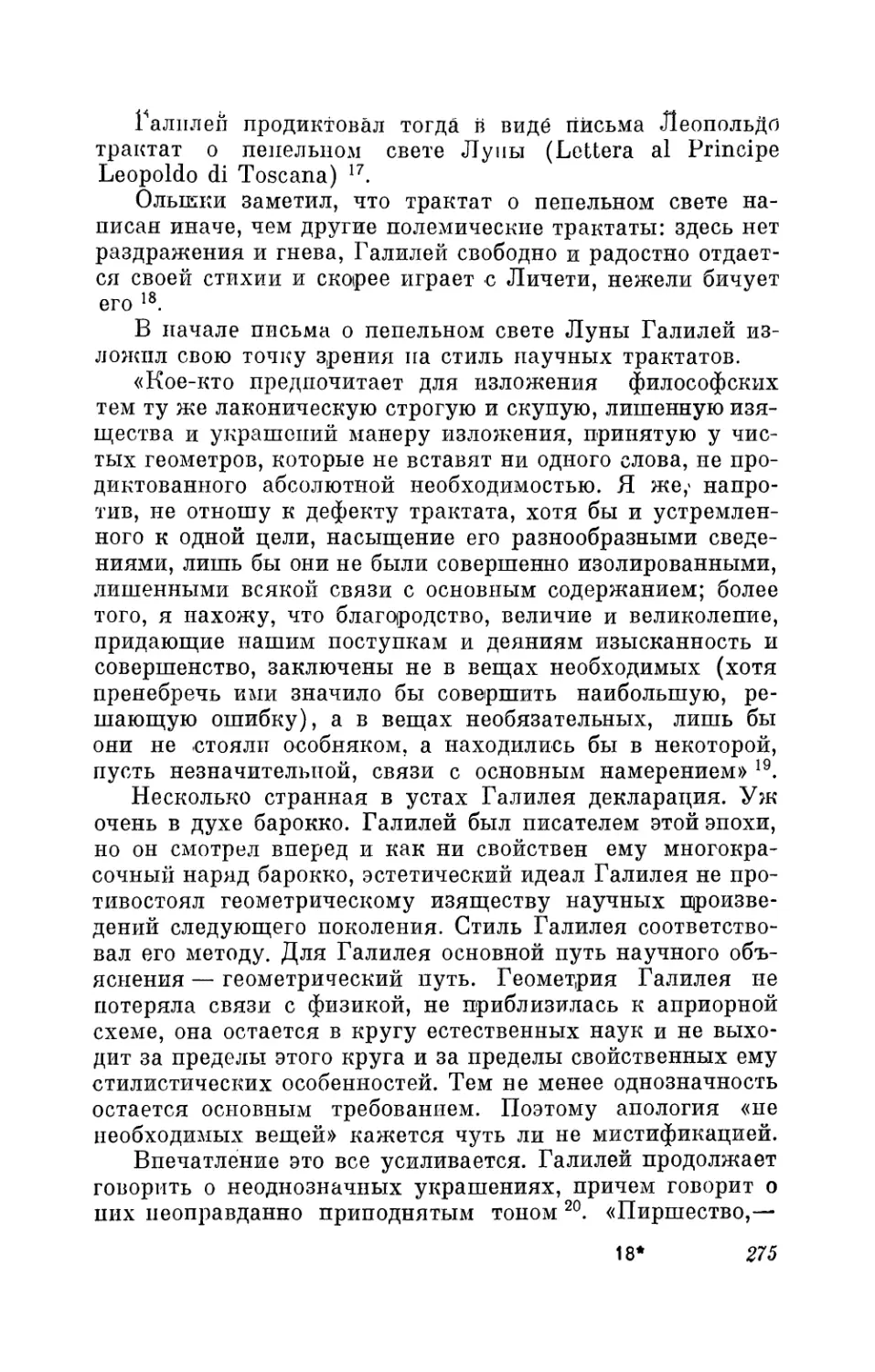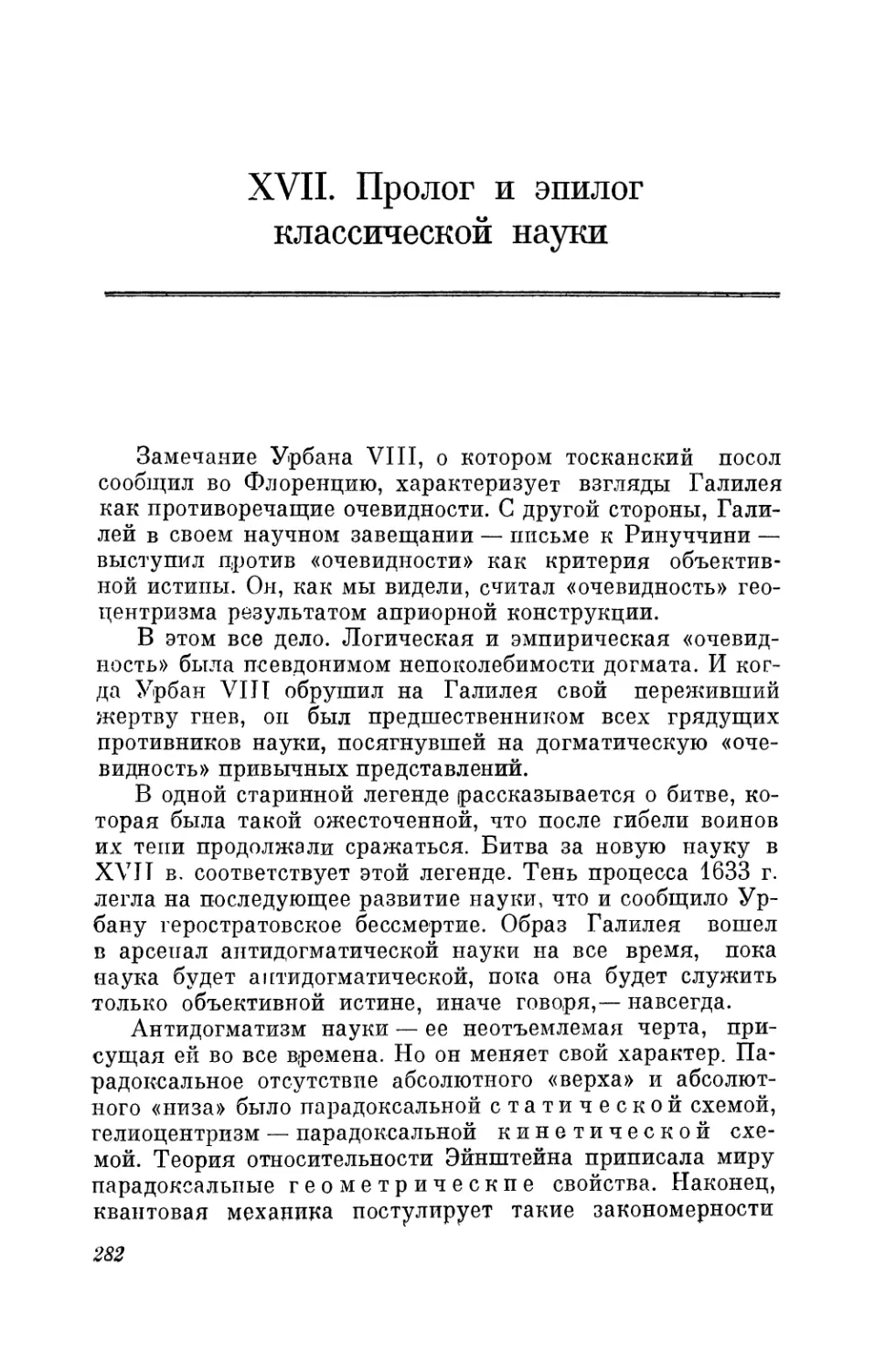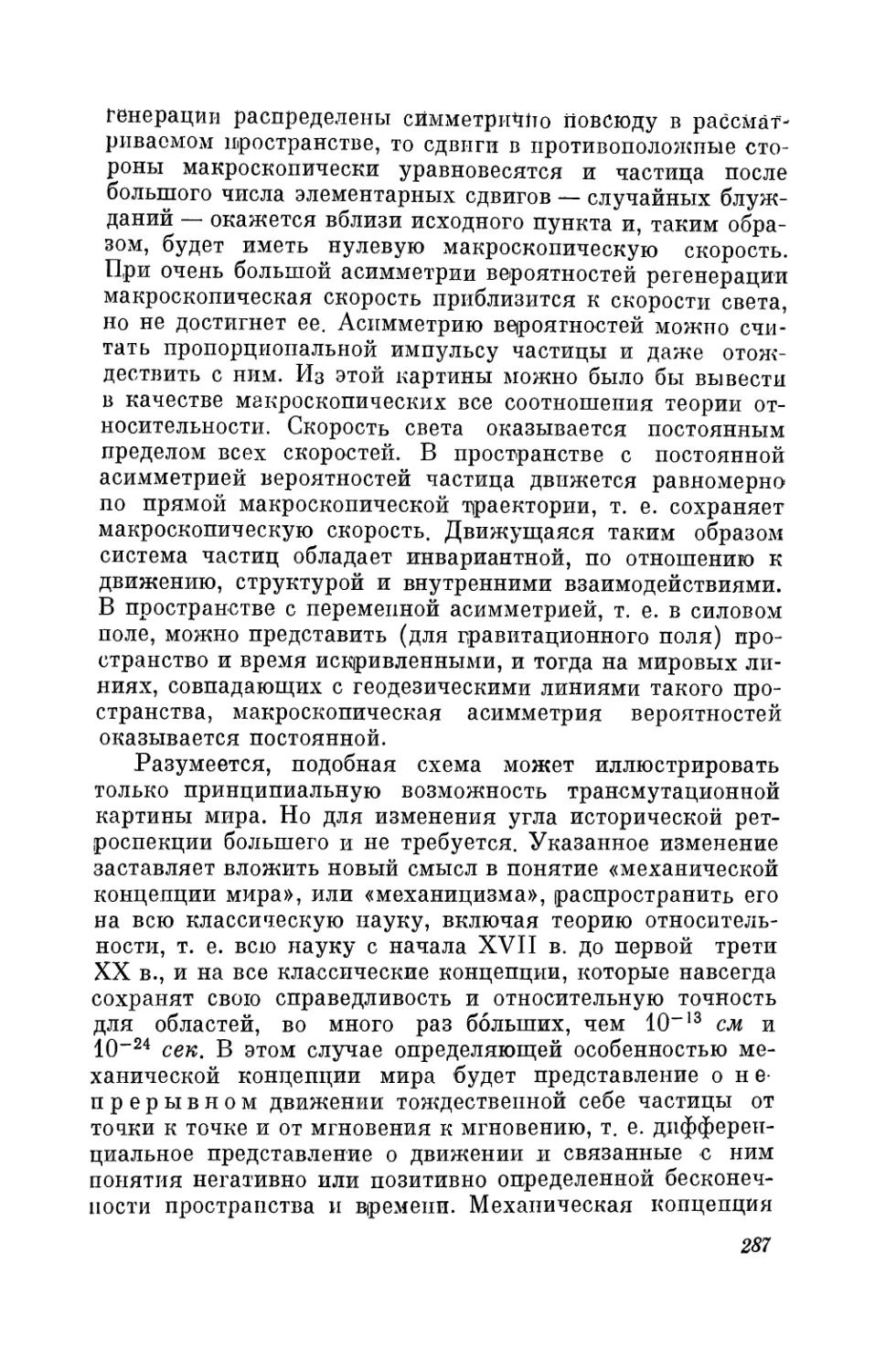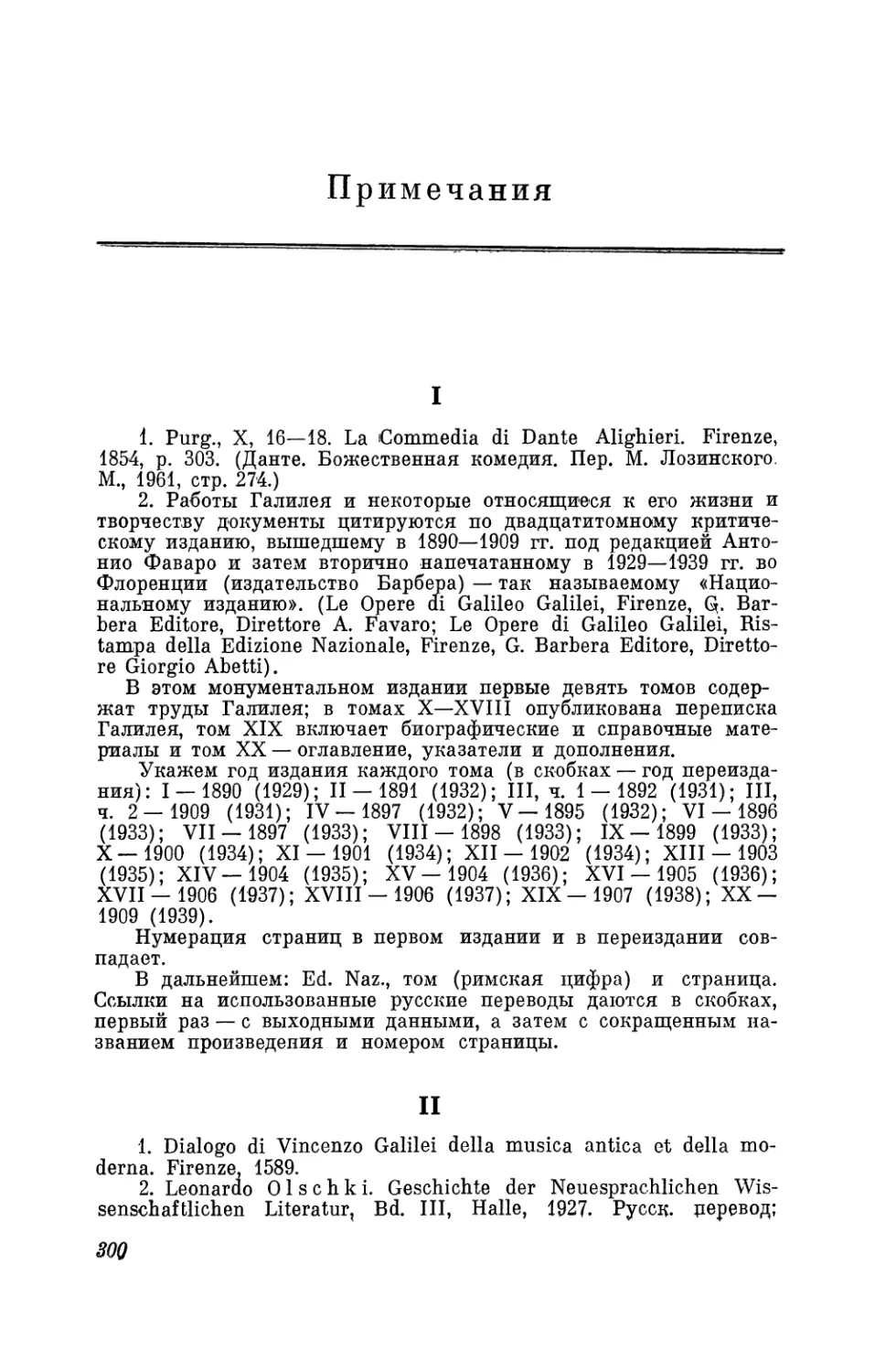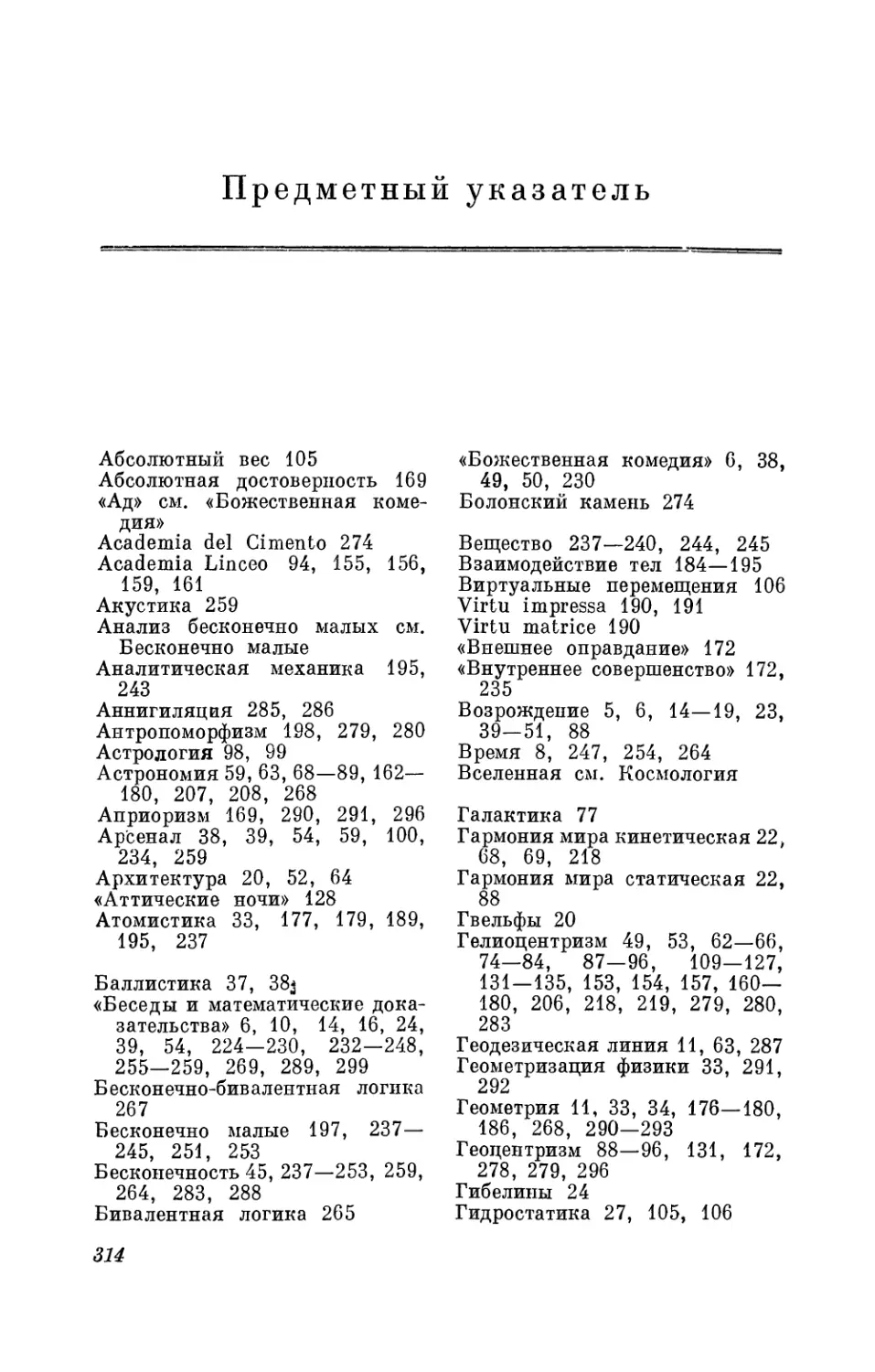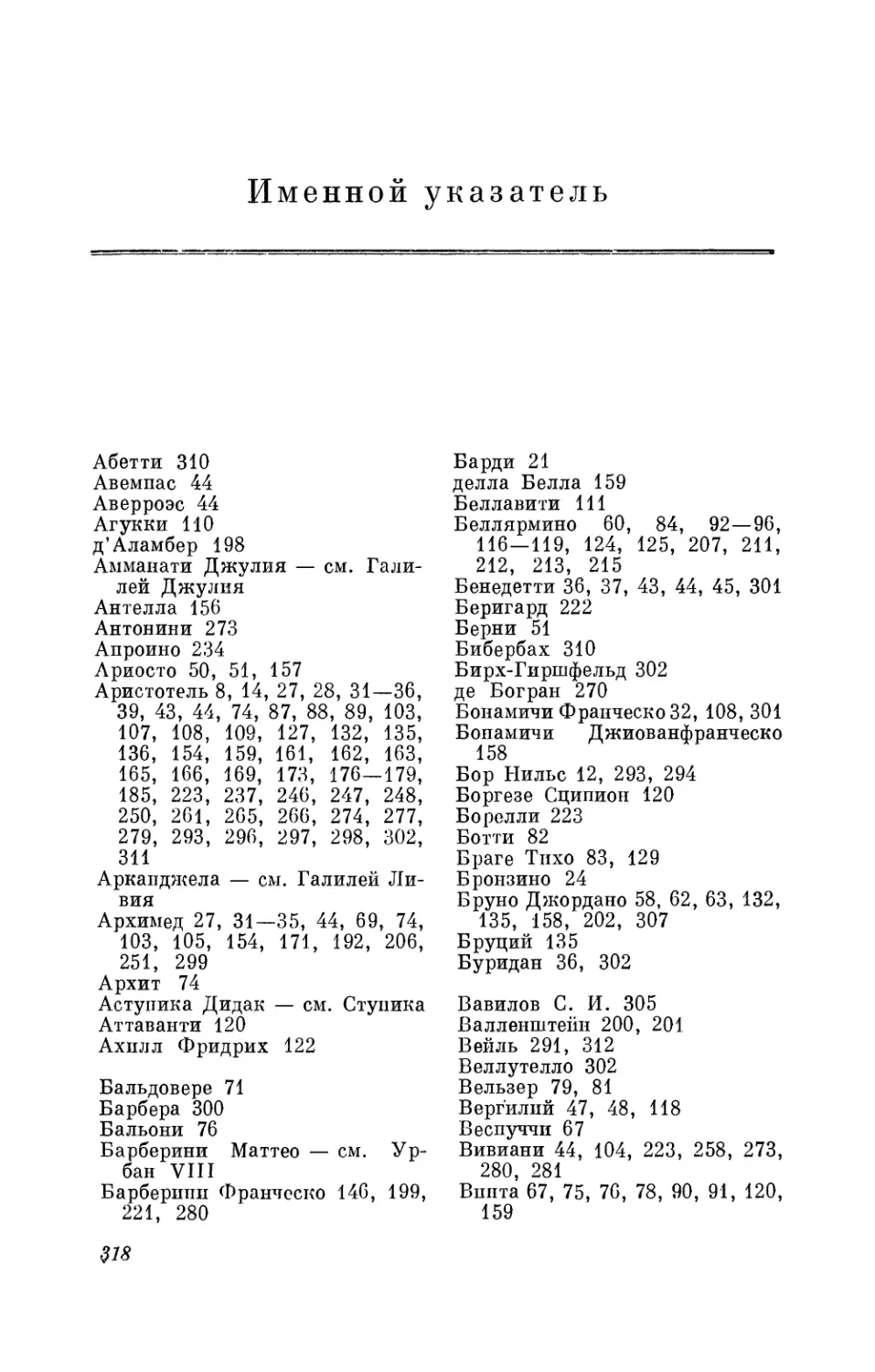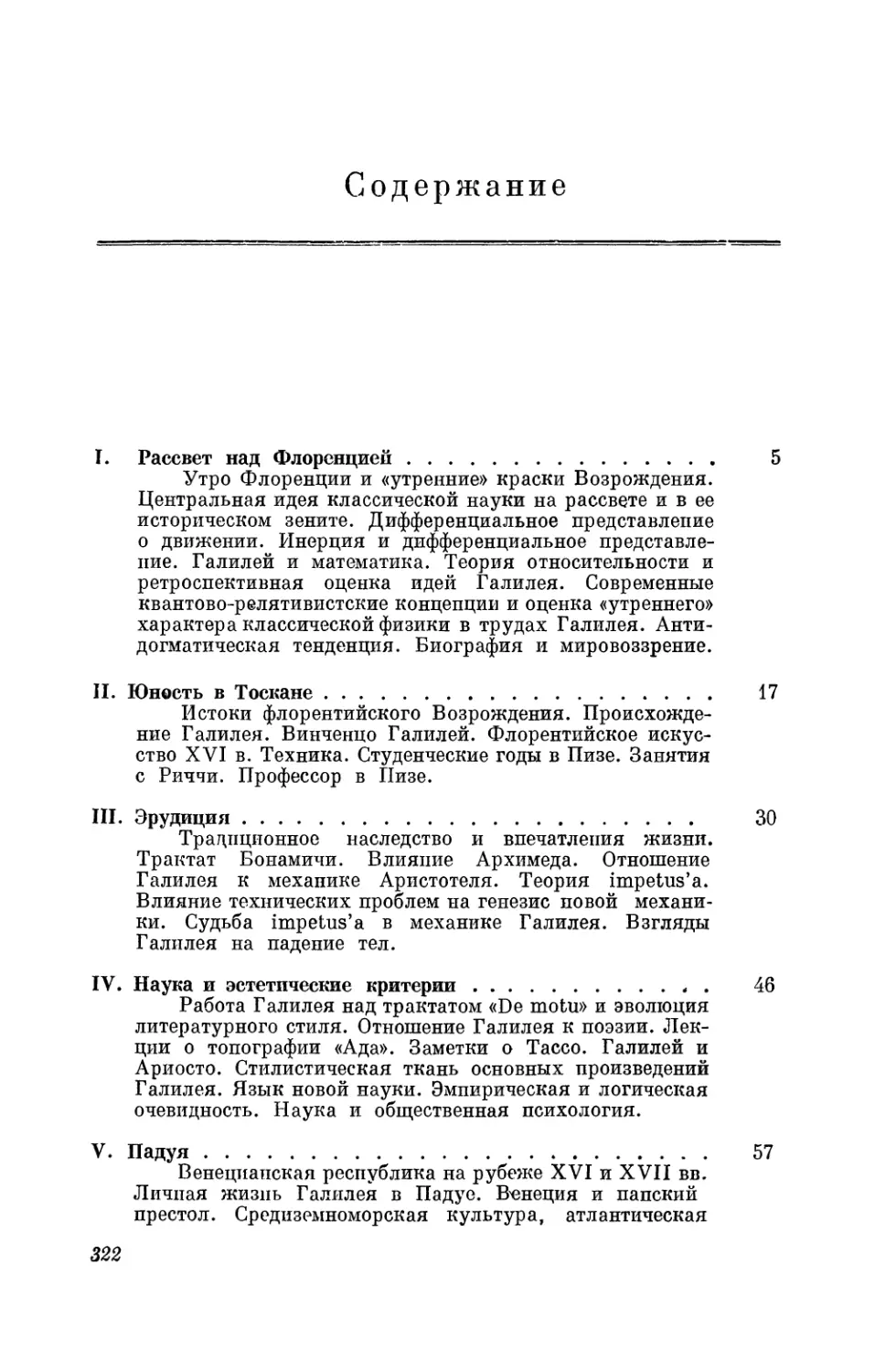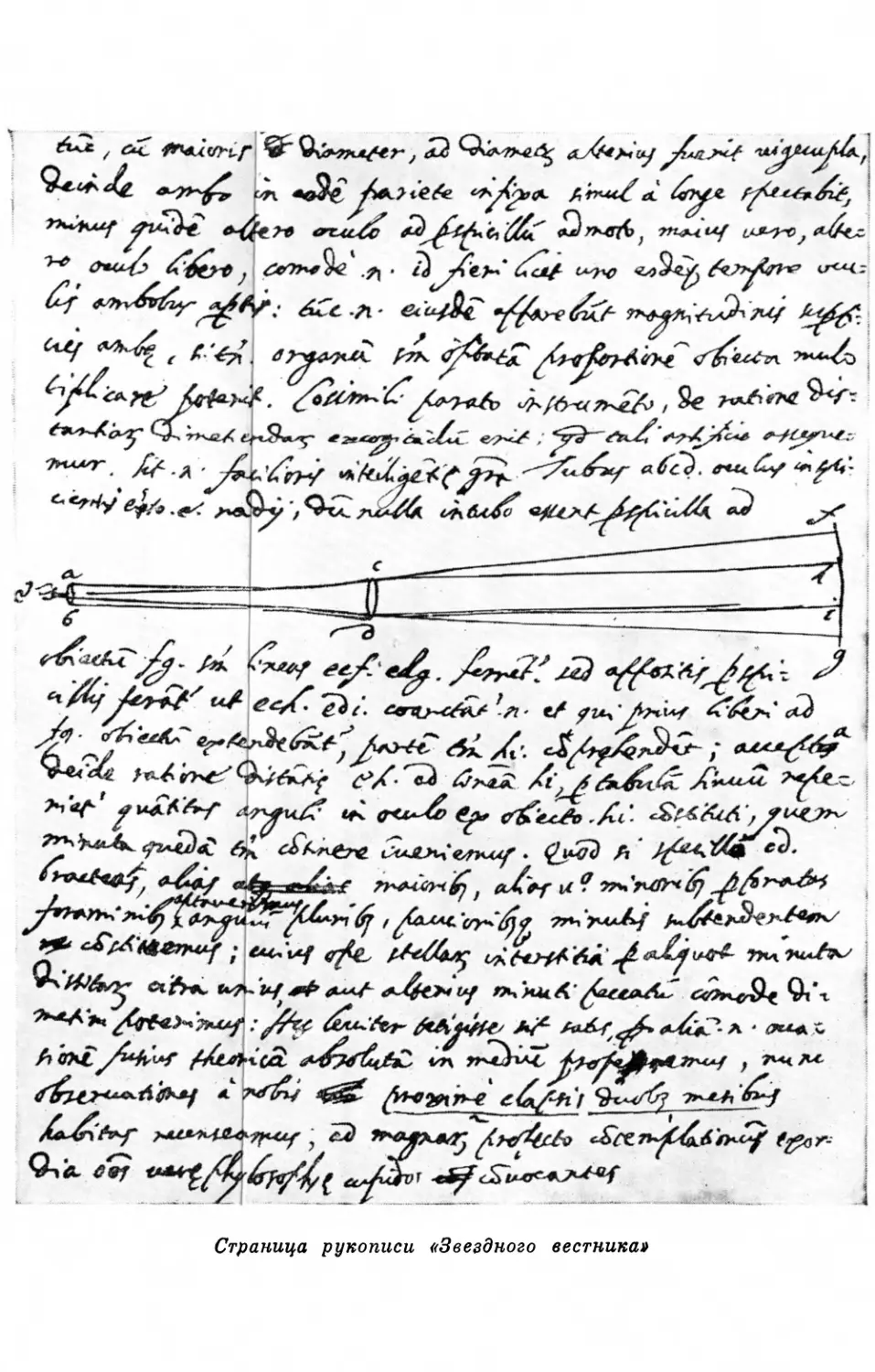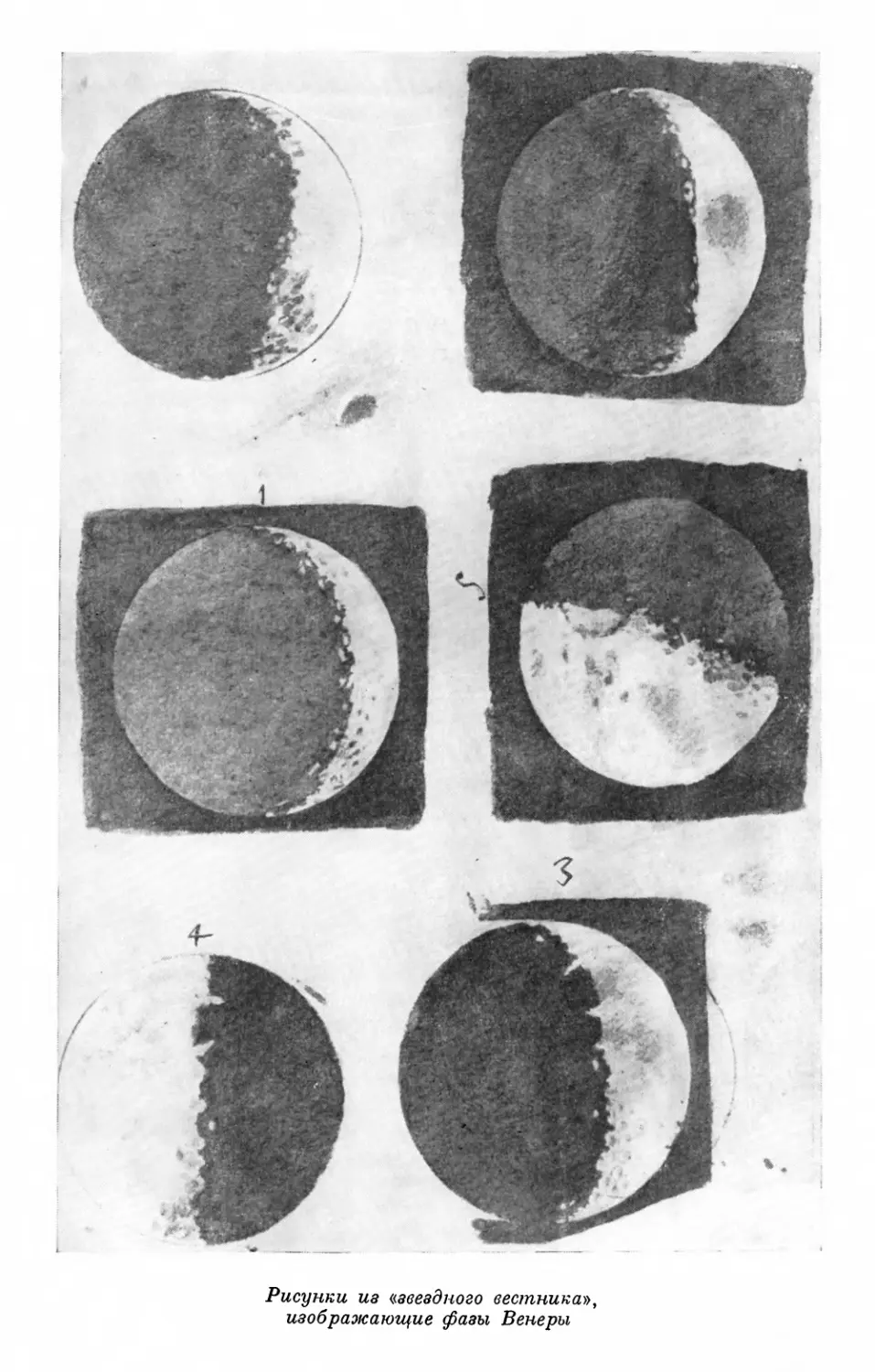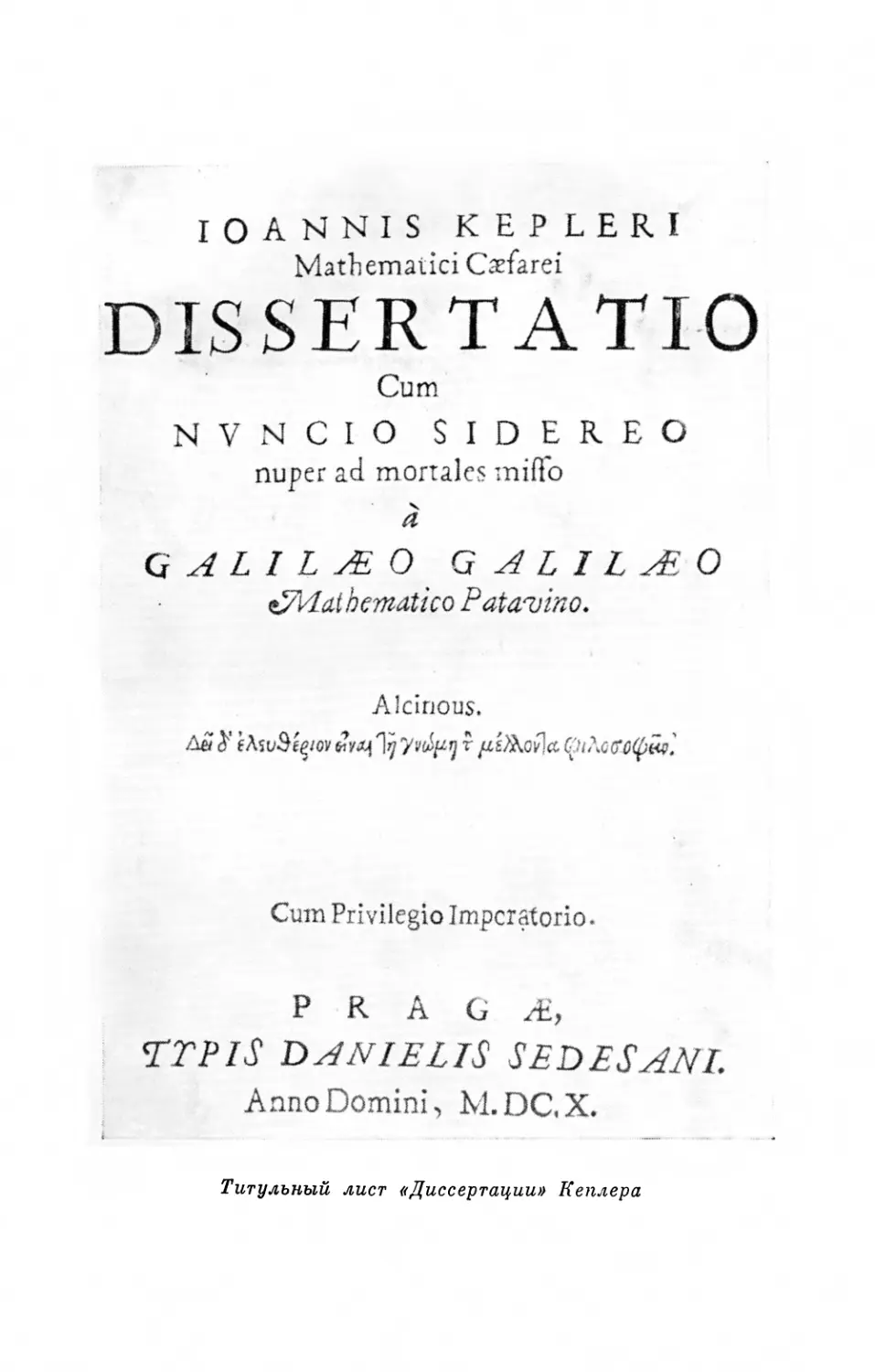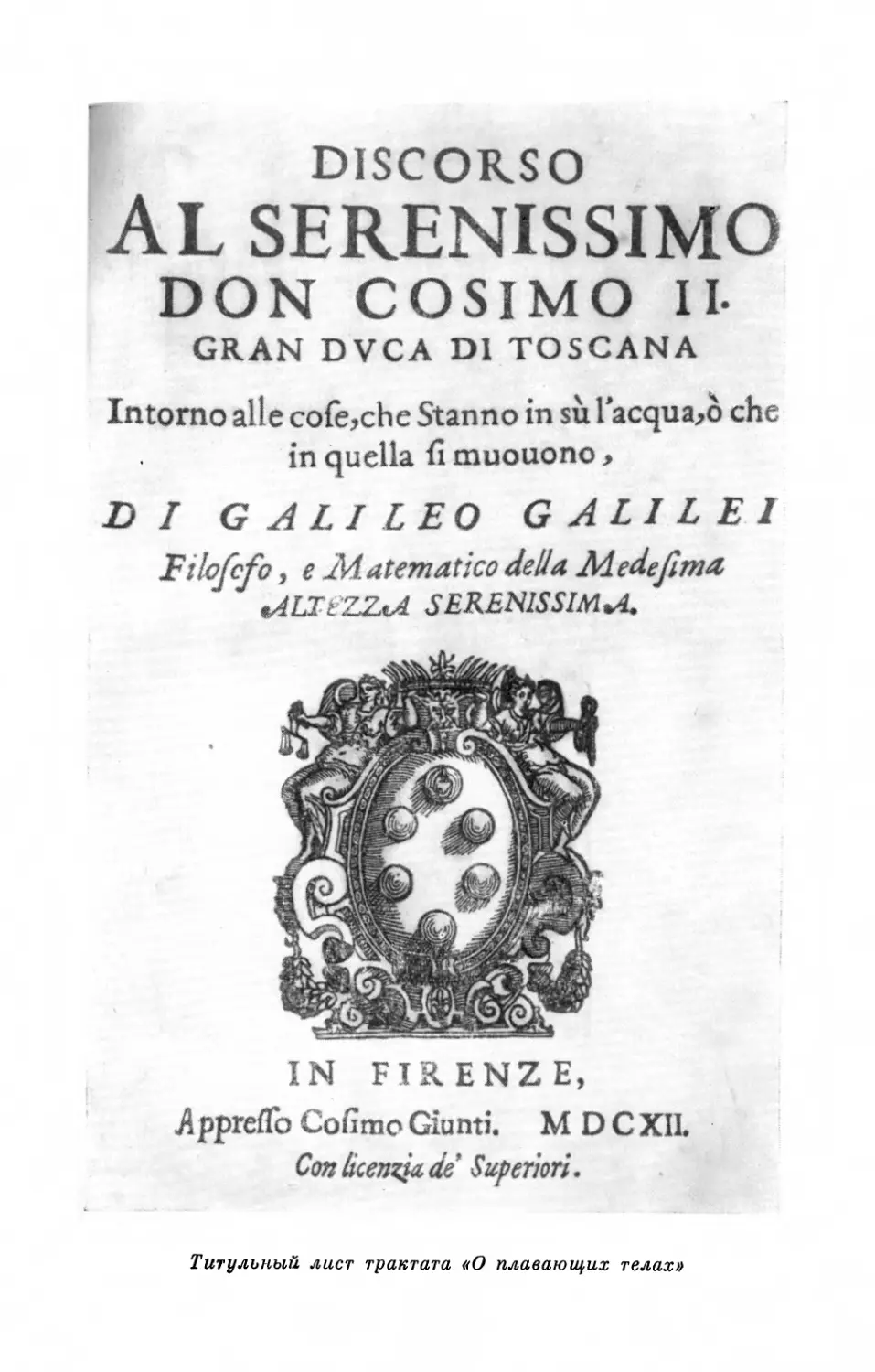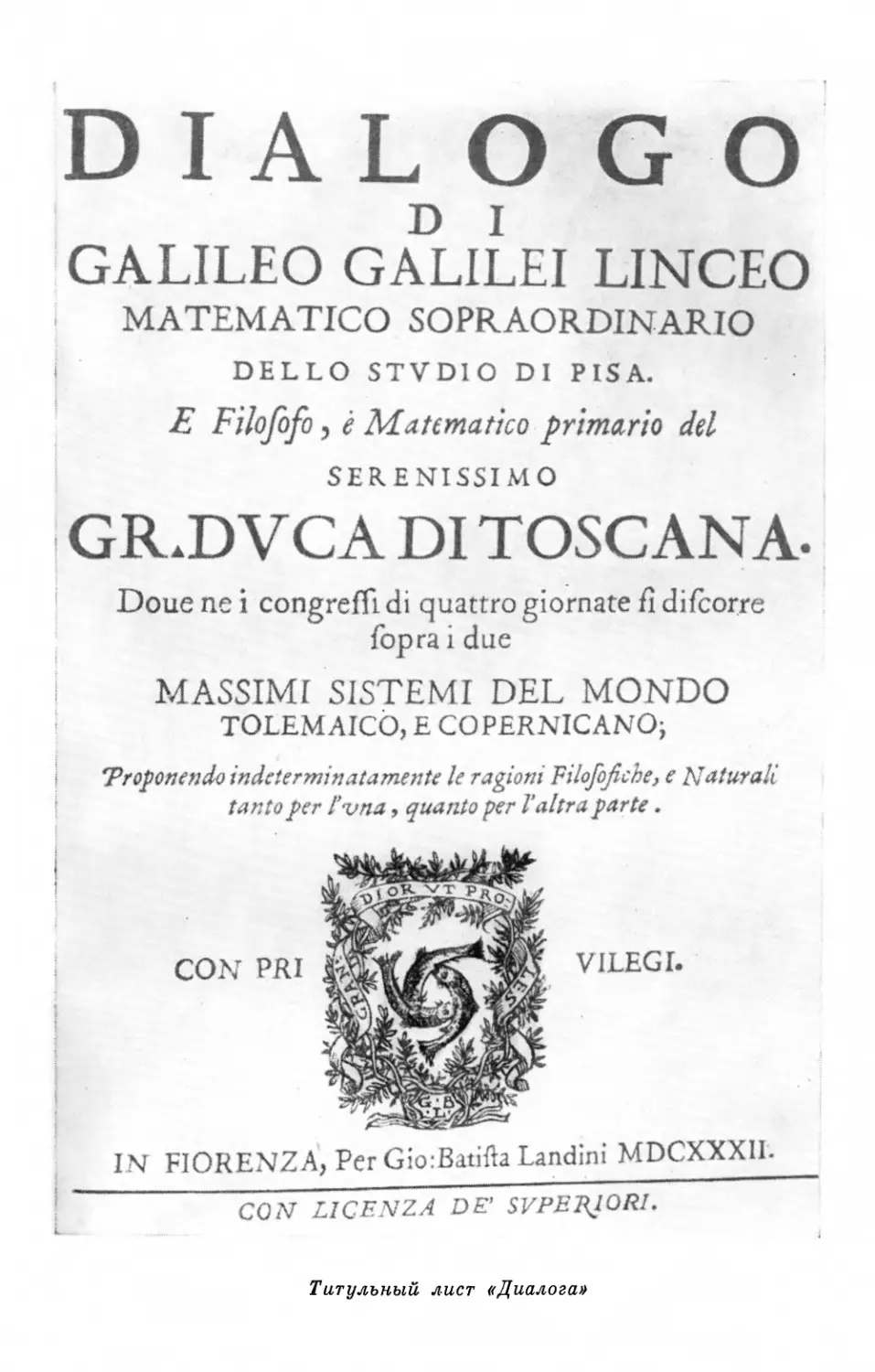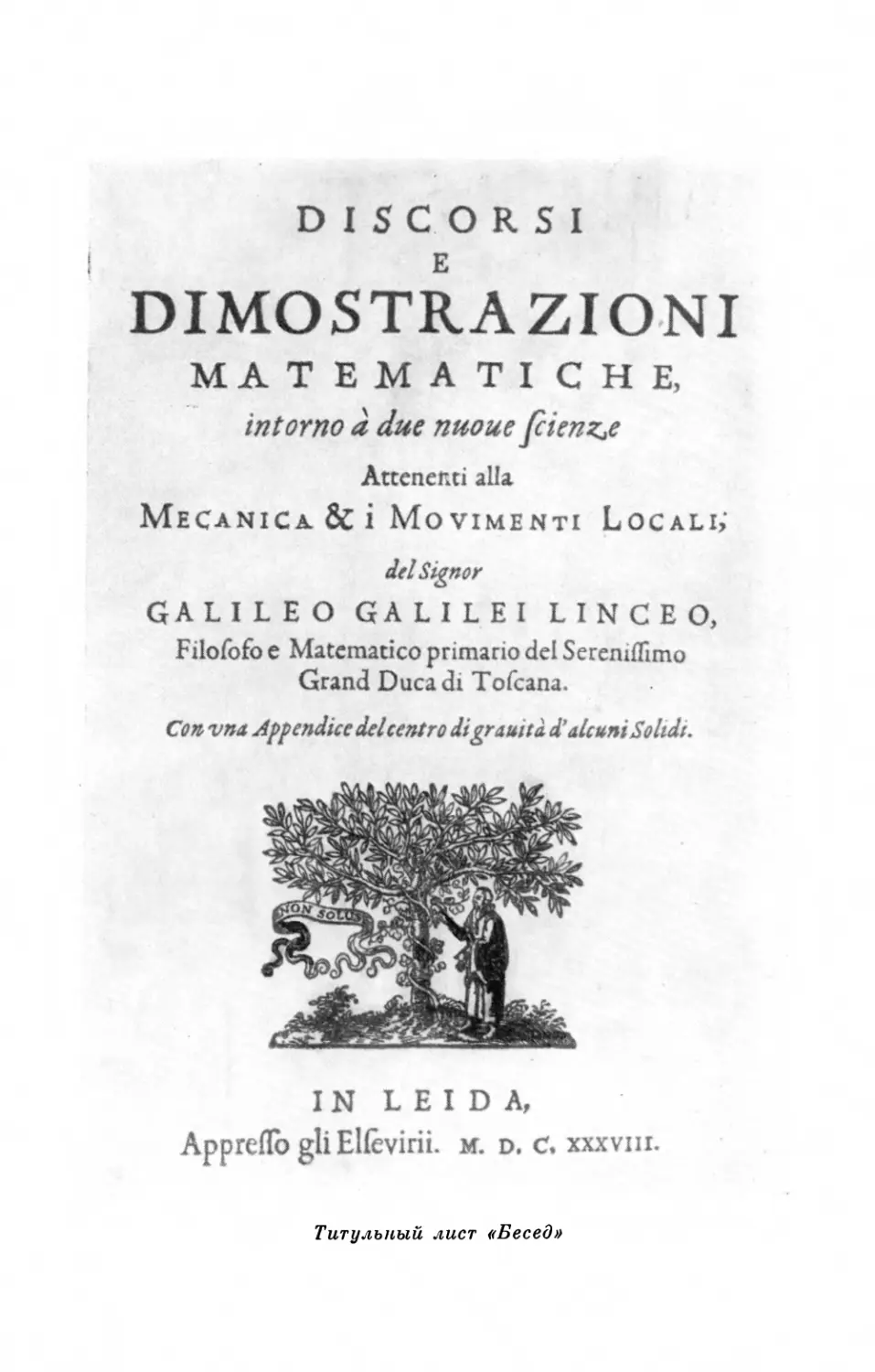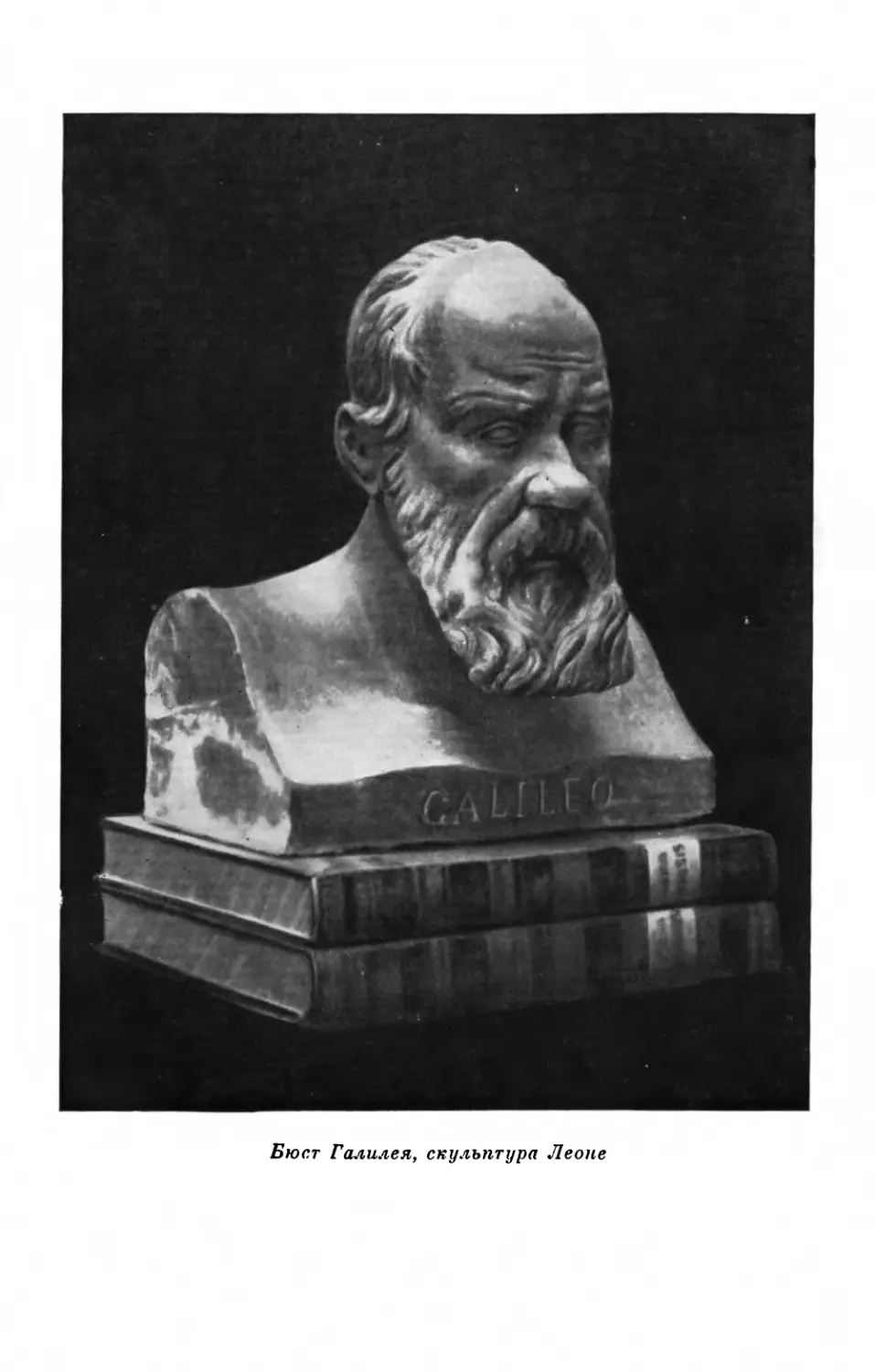Author: Кузнецов Б.Г.
Tags: биографии
Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Б.Г.КУЗНЕЦОВ
ГАЛИЛЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
I. Рассвет над Флоренцией
Рано утром, когда солнце впервые выглядывает из-за
гряды холмов, Флоренция кажется симфонией
переходящих одна в другую мягких меняющихся красок. Позже
флорентийский пейзаж обретет определенность, тени
станут почти черными, а освещенные стены домов
освободятся от полутонов. Но это произойдет, когда солнце
встанет высоко над городом, а сейчас еще длится время
неопределенных линий. Уже можно угадать
золотисто-коричневый цвет холмов и такую же окраску зданий, но их
именно угадываешь, вспоминая господствующий колорит
Флорепции, освещенной поднявшимся солнцем.
Из итальянских городов Флоренция больше других
сохраняет под солнцем утреннюю свежесть красок. Солнце
придает определенные очертания цветовым пятнам, но
не выжигает их, не превращает город в
монохроматическую композицию света и теней. Флоренция остается в
зрительной памяти городом вечного утра.
Но Флоренция не может сохраниться лишь в
зрительной памяти: воспоминания об архитектурных ансамблях,
памятниках и галереях неизбежно переплетаются с
историческими реминисценциями и обобщениями, и
постепенно в сознании картина города ассоциируется с
представлением о его историческом прошлом.
Давно уже стала общим местом характеристика
Ренессанса как утра нового времени. Подобная
характеристика — простое продолжение оценки средних веков как
тысячелетней ночи и столь же условна, как эта оценка.
Но сейчас — вскоре будет сказано почему именно
сейчас— можно придать новый смысл «утренней»
концепции Возрождения.
5
Когда в игру входит не абстрактное понятие утра как
прекращения ночи, а живая и конкретная картина
флорентийского утра во всем многообразии, изменчивости и
мягкости его красок, «утренние» образы противостоят не
только «ночным», но и «полдневной» монохроматической
схеме света и теней. С подобной схемой ассоциируется
мысль о сухом, точном и однозначном рационализме
XVIII в. и, в частности, о нарисованной в этот период и
претендовавшей па отнюдь не конституционное
единовластие одноцветной картине мира — вернее, его чертеже.
Создание такого чертежа было величайшим
поступательным шагом науки — после него развитие представлений о
природе могло конкретизировать, уточнять и обобщать
старые знания, но уже не могло от них отвернуться.
Галилей создал исходные понятия классической картины
мира. Они приобретают сравнительно отчетливый вид в
исторической ретроспекции; мы видим, а отчасти
угадываем, в «Диалоге о двух системах мира» и в «Беседах и
математических доказательствах» строгие определения
ньютоновых «Математических начал натуральной
философии», подобно тому, как в неопределенных полутенях и
нюансах флорентийского утра мы угадывали знакомые
нам контуры флорентийского дня. Но постичь Галилея в
его исторической неповторимости и, что так важно сейчас,
увидеть истоки тенденций, идущих дальше Ньютона,
в неклассическую науку,— для этого нужно понять и
почувствовать «утреннюю» стихию в творчестве великого
флорентийца, стихию нюансов, переходов, полутеней,
проблем, поисков, противоречий. При подобном
освещении творчество Галилея 'противостоит не только «ночи»
средневековья, но и «полуденной» классической науке,
периоду, когда классическая концепция мира находилась
в зените.
В этой книге начало современной науки
рассматривается в свете ее современного состояния. В таком свете
становятся более яркими некоторые стороны
мировоззрения, стиля и жизни Галилея. Мы приходим к
неожиданному выводу. Черты гения, которые сверкают под
прожектором современных оценок, черты, которые выделила и
подчеркнула историческая ретроспекция, это черты, в
наибольшей степени запечатлевшие отблеск Возрождения.
Когда Галилея рассматривают через Эйнштейна,
становится более явным то, что связывает его с Данте.
6
У Данте есть строки, в которых мысль становится
настолько живой и богатой оттенками, что ее может
выразить только художественный образ, и где образ
оказывается таким глубоким и обобщающим, что его нельзя
постичь без логической и исторической расшифровки.
В начале девятой песни «Чистилища» Данте описывает
гот час, «когда ласточка встречает зарю грустной песней,
быть может вспоминая былую печаль...».
В этот час сознание еще не освободилось от скорби
вчерашнего дня, в нем еще живы вчерашние трудности
познающего духа, но освобождение от них уже началось,
и разум интуитивно охватывает длинную цепь
предстоящих ему задач и решений.
И разум наш, себя освободив
От дум и сбросив тленные покровы,
Бывает как бы веще прозорлив1.
Двигаясь по бесконечной спирали, наука в начале
каждого нового витка всегда будет обладать этим
первым взглядом на мир и интуитивным предвосхищением
предстоящего пути. Подобное ощущение напоминает
слова Моцарта о «мгновении, когда сразу слышишь всю еще
не написанную симфонию», но оно свойственно не только
индивидуальной психологии мыслителя и художника.
Оно характеризует периоды научного развития и смысл
тех произведений, которые в наибольшей степени
выразили особенности этих периодов и именно поэтому стали
бессмертными. Эйнштейн говорил о повторяющихся в
истории науки параллелях между начальными и
завершающими периодами развития крупных направлений:
эти периоды соответствуют именам Галилея и Ньютона,
далее — Фарадея и Максвелла. Сейчас мы связываем о
именем Галилея не только зарю механики, получившей
известное завершение у Ньютона, но и зарю более общей
и длительной эпохи, включающей также последующее
развитие классической пауки. Подобный взгляд зиждется
на анализе современных тенденций физики.
Чтобы понять связь «утренней» стихии Галилея с
современной наукой — с содержанием и стилем физических
идей середины XX в., нужно предварительно
остановиться на современной оценке классической концепции в
зените, иначе говоря — классической физики в ее развитой
форме. Это — первый шаг. Далее мы возвращаемся к
7
тому, что отличает идеи Галилея от идей классической
физики XVIII—XIX вв., к тому, что связывает идеи
Галилея с предшествующими веками. И наконец,—самое
главное — мы рассматриваем классическую концепцию в
трудах Галилея и отмечаем ее специфическую «утреннюю»
форму — увертюру классической науки, где
переплетаются мотивы, которые позже дифференцируются, отделятся
один от другого и зазвучат в полную силу.
Таким образом, первый шаг должен разъяснить, в1чем
состоит центральный стержень классической картины
мира, начавшей свое историческое бытие в работах
Галилея. Подобным стержнем служит модификация логически
неотделимых одно от другого понятий непрерывности,
однородности и относительности. Эволюция этих понятий
и их применение к пространству, времени и затем к
четырехмерному пространственно-временному миру были
стержневым направлением в истории классической науки.
Здесь, в вводных замечаниях, мы ограничимся самым
беглым намеком на 'подобную концепцию истории
классической науки. Позже она будет изложена подробнее.
В физике и космологии Аристотеля движения
«несовершенных» тел подлунного мира определялись
условиями в начале и в конце движения. Последнее происходило
из «чего-то» во «что-то». Например, падение тяжелого
тела на землю определялось двумя состояниями: первым,
когда тело находится вне своего естественного места и
поэтому стремится покинуть занятое им место, и вторым,
когда тело достигает естественного места и становится
неподвижным. Это не означало какой-либо дискретности
движения: тело движется по непрерывной траектории, но
теория движения не рассматривает поведение и состояние
тела от точки к точке и от мгновения к мгновению, она
ограничивается анализом состояний в начальной и
конечной точках. Поэтому траектория тела, стремящегося к
своему естественному месту, не разбивается на точки,
в которых определяется поведение тела. Закон движения
не относится к пребыванию тела в каждой точке. Он не
имеет дифференциального характера. Соответственно
траектория не выступает как бесконечное множество
бесконечно малых отрезков или, в пределе, точек.
Иначе выглядит движение тел в надлунном мире. Они
движутся на сферических поверхностях, где нет
начальных и конечных точек, где все точки равноправны. Здесь
8
движение определяется равноправностью точек,
одинаковыми условиями во всех точках. Концепция движения
«совершенных» тел — зачаточная форма концепции
однородности, в данном случае — однородности двумерных
сферических поверхностей, концентрически окружающих
центр мира. Но здесь поведение тела в каждой точке
определяется лишь негативно: поведение тела в данной
точке не отличается от его поведения в любой другой
точке. Если так, движение тела не имеет внутренних
критериев, поведение тела не меняется при переходе из
одной точки -круговой орбиты в другую точку, и о- таком
переходе можно судить лишь по изменению расстояния
между рассматриваемым телом и: другим, играющим роль
тела отсчета. Таким образом, относительность движения
вытекает из равноправности точек, образующих
пространство, в котором происходит движение тела, из
однородности пространства, из негативного определения
поведения тела в каждой точке пространства.
Классическое представление о движении нашло свое
наиболее полное выражение в аналитической механике
XIX в. Это — дифференциальное представление.
Движение частицы рассматривается от точки к точке и от
мгновения к мгновению. При этом закон движения определяет
поведение частицы не только негативно, но и позитивно:
из закона следует отличие поведения частицы в данной
точке от ее поведения в других точках, частица изменяет
свою скорость, движение характеризуется ускорением.
Различие в поведении частицы в различных точках
объясняется взаимодействием частиц, существованием силовых
полей.
Это дифференциальное представление о движении
частиц претендовало на роль исчерпывающего
представления о мире. Оно было физической компонентой
характерного для научной мысли XVIII—XIX вв. убеждения в
строгой однозначности законов бытия. В основе
классической концепции мира лежала схема движения
бескачественных частиц, допускающая в принципе сколь
угодно точное определение состояния движения каждой
частицы в каждой точке и в каждый момент.
Дифференциальное представление о движении уже
в конце XVII в. открыло дорогу методам математического
анализа — исчисления бесконечно малых. Речь шла
теперь не о качественно логическом противопоставлении
9
«неестественных» мест тел их «естественным» хместам.
Траектория частицы оказалась бесконечным множеством
точек или стягивающихся в точку бесконечно малых
отрезков. Таков был результат переворота в представлении
о движении, произведенного Галилеем.
Мысль об инерции, о продолжающемся движении
предоставленного самому себе тела означала, что движение
определяется однородностью пространства, равноправием
точек, через которые проходит тело. Таким образом,
траектория тела оказалась бесконечным множеством точек,
в которых негативно определено состояние движения
тела. Эта мысль была высказана в «Диалоге о двух
главнейших системах мира». Во второй из двух основных книг
Галилея, в «Беседах и математических доказательствах»,
дифференциальное представление о движении высказано
в позитивной форме: поведение тела в одной точке, а
именно — его мгновенная скорость, отличается от его
поведения в других точках. Закон, связывающий скорость с
прошедшим временем, определяет указанное отличие.
Ретроспективные оценки идей Галилея, сделанные
в XIX и в начале XX в., учитывали отличие этих идей
от механики и космологии Ньютона и от классической
науки в целом. Движение по инерции, о котором идет
речь в «Диалоге», это движение не по прямой линии,
а по криволинейной замкнутой орбите. Галилей не
принимает кеплеровых эллиптических орбит и ускорений
планет. Он не видит в движении небесных тел инерционной
слагающей, направленной по касательной, и
центростремительного гравитационного ускорения. У него нет
фундаментальной классической идеи: тела движутся по
кривым в «плоском» однородном пространстве благодаря их
взаимодействиям. Галилея сближает с прошлым и
неопределенная трактовка проблемы бесконечности Вселенной.
Сейчас мы можем взять в одни скобки перечисленные
проявления галилеева «недоклассицизма». Галилей
открыл дорогу математическому естествознанию, но он не
был творцом математического естествознания.
Однозначная и одноцветная математическая схема, где все
закономерности мироздания сводятся к отношениям между
бесконечно малыми приращениями динамических
переменных, это следующая ступень в развитии науки.
Стихия Галилея — мысленные эксперименты, кинематические
и динамические картины и логические конструкции; па-
10
фос Галилея — пафос возможности
математического постижения мира; эпоха Галилея —утро
математического анализа непрерывного движения тождественных
себе частиц. Галилей уже рассматривает движение от
точки к точке и от мгновения к мгновению, но он еще не
освободился от чувственных образов и качественных
противопоставлений. Инерционное движение не уводит тело
по прямой в бесконечность, где царствуют уже не
конечные кинематические схемы, а чисто аналитические
соотношения. Инерционное движение возвращает тело в
исходную точку, его траектория замыкается и не выводит
исследователя за пределы представимых, чувственно
постижимых схем. Пустое бесконечное пространство не
становится понятием, которое Галилей изображает на
своем знамени, наглядные фигуры еще не заменены на
нем математическими символами. Галилей геометризирует
мир, но его геометрия еще не оторвалась от физики и не
потеряла наглядного характера.
XX век заставил по-новому взглянуть па «недоклас-
сицизм» Галилея. Прежде всего, общая теория
относительности не могла не изменить (ретроспективную оценку
круговых инерционных движений «Диалога». Эйнштейн
расширил и обобщил понятия инерции, однородности и
относительности, распространив их на искривленное
пространство. Тяготение отождествляется с искривлением
пространства-времени и в гравитационном поле, в
искривленном пространственно-временном многообразии, тело
движется по геодезическим линиям, на которых все
точки равноправны и не вызывают в движущемся теле
внутренних эффектов. Нерасчлененная, неопределенная,
«утренняя» концепция круговых инерционных движений
выражает теперь не только незавершенность
классической концепции, но и предвосхищение более общей
концепции. «Утро» классической физики, так естественно
ассоциирующееся с утренней зарей в городе, где был
написан «Диалог», получает не только негативное, но и
позитивное определение.
В середине XX столетия создались условия для еще
более радикальной и общей переоценки идей Галилея.
Возьмем дифференциальное представление о движении,—
образ частицы, последовательно проходящей через
бесконечное множество смежных точек или стягивающихся в
точки бесконечно малых отрезков. Это представление и
11
этот образ сохраняют свою корректность только в том
случае, когда они несколько расплываются, теряют
абсолютную точность. Если частица проходит через все точки
своей траектории, то это значит, что в каждом бесконечно
малом отрезке пути мы можем определить с
неограниченной точностью поведение частицы. Но уже в середине
20-х годов Гейзенберг и Бор показали, что положение и
скорость частицы не могут быть одновременно
определены с бесконечной точностью. Это было первым
ограничением дифференциального представления о движении. За
ним последовали другие. С 30-х годов все большее
значение приобретает понятие трансмутации, превращения
элементарной частицы одного типа в частицу другого
типа. Новейшие тенденции современной физики
показывают, что при стягивании отрезка в точку на некотором
предельном значении длины отрезка теряется
уверенность в том, что движущаяся частица остается
тождественной самой себе. Мы начинаем подозревать, что в очень
небольших интервалах движение перестает быть
непрерывным, что непрерывное движение — это приближенное,
макроскопическое представление. Методы аналитической
механики, соответствующие дифференциальному
представлению о движении, методы, при 'которых движение
рассматривается от точки к точке и от мгновения к
мгновению, нельзя безоговорочно применять к процессам,
происходящим в областях порядка 10~13 ом и в промежутки
времени порядка 10~24 сек. Таким образом,
дифференциальное представление о движении сохраняется сейчас
при условии некоторого ограничения его строгой
математической реализации.
Значит ли это, что не реализовавшаяся в
сколько-нибудь сложном аналитическом аппарате галилеева
«утренняя» форма дифференциального представления ближе к
современной науке, чем аналитическая механика XIX в.?
Нет, нисколько. Такое заключение было бы столь же
неправильным, как и мысль, будто круговые инерционные
движения «Диалога» ближе к общей теории
относительности, чем механика Ньютона. В обоих случаях проблема
состоит не в близости позитивных решений, разделенных
тремя — четырьмя столетиями. Она лежит совсем в
другом плане.
Современные затруднения физической мысли связаны
с некоторым кризисом дифференциального представления
12
й идей непрерывного движения тождественной себе
частицы. Эти затруднения, по-видимому, носят серьезный
характер и будут преодолены весьма радикальным (более
радикальным, чем в первой половине нашего столетия)
переходом к новой картине мира. Появляющиеся сейчас
новые варианты единой теории элементарных частиц —
это только неясные отблески, неясная заря нового дня.
Вчерашнее утро никогда не бывает ближе во времени к
утру сегодняшнего дня, чем вчерашний вечер. День
прошел, многое сделано, и перечеркнуть его нельзя,
особенно, когда «день» — это период в развитии науки: история
науки это не «история заблуждений», а необратимое
приближение к объективной истине. Мы возвращаемся
мыслью ко вчерашнему утру не затем, чтобы
перечеркнуть прошедший день. Мы хотим вспомнить нерешенные
задачи, замыслы — то, что было адресовано будущему.
Когда наука возвращается к своему прошлому, она ищет
не результаты исторического процесса, не методы,
которые могут быть повторно применены, не конструкции и
схемы, допускающие вторичное использование. Все эти,
вообще говоря, возможные находки не определяют
направление исторического интереса. Тем более для науки
не характерно противопоставление старых решений
решениям, найденным позже. История науки не отличается
от истории человечества в целом, которая, по глубокому
и точному замечанию Жореса, «ищет в прошлом не
пепел, а огонь».
Теория круговых движений предоставленных себе тел,
с которой мы встречаемся в «Диалоге», близка к общей
теории относительности не своим позитивным
содержанием, а поставленной и нерешенной проблемой движения
небесных тел вокруг Солнца, широким и живым подходом
к этой проблеме. При таком подходе проблема не могла
быть исчерпана классическим разграничением
однородного «плоского» пространства, в котором тело движется
относительно других тел и гравитационного поля,
вызывающего искривление траекторий и придающего движению
абсолютный характер.
Если говорить о дифференциальной картине
движения от точки к точке и от мгновения к мгновению, то у
Галилея вообще отсутствуют позитивные решения,
которые можно было бы противопоставить классической науке
XVIII—XIX вв. и сблизить с современными позициями.
13
«Пепла» тут нет вовсе. «Огонь» состоит в поразительной
гибкости понятий, которая была результатом начального,
незастывшего, живого и подвижного состояния
родившейся классической картины мира. Он-то, этот «огонь», и
зажигает сейчас науку, нуждающуюся больше, чем когда-
либо ов очень большой амплитуде отклонений от
традиционных конструкций.
Сама классическая наука, когда она начинала штурм
перипатетической догмы, искала в античной науке
антидогматический «огонь»,— она противопоставляла
канонизированным ответам Аристотеля, живую стихию его
поисков, противоречий и апорий, она воспринимала в
античном наследстве непревзойденную пластичность и
гибкость понятий. Поэтому интерес к античной культуре —
пока он не превратился в гелертерскую эрудицию — был
одним из истоков новой науки, и мы все время встречаем
его у Галилея и посвятим в этой книге некоторые
(страницы анализу античных истоков галилеевой концепции
мира. Два смысла, которые обычно придают слову
«Возрождение»,— возрождение античных ценностей и
возрождение критической мысли человека — эти два смысла
в значительной мере совпадают, если под наследством
античной древности понимать антидогматическую гибкость
понятий. Когда в XIX в. выяснилось, что сложные формы
движения (и прежде всего термодинамические процессы
с их необратимостью и 'Статистическими
закономерностями) не сводятся к простым законам перемещения, наука
вспомнила о широкой аристотелевой концепции
движения, охватывавшей не только перемещение ( <рор<*), но и
другие формы. Не классификация этих форм, а
неопределенность классификации, сомнения и гениальные «быть
может» Аристотеля (все то, что игнорировалось
канонизированным перипатетизмом) питали в XIX в. пауку,
выросшую из одежд механицизма.
Сейчас, когда наука выросла и даже из более широких
и эластичных одежд классической концепции, она ищет
у истоков классической науки антидогматические
импульсы. Но чтобы найти и усвоить их, нельзя пользоваться
упорядоченным и систематизированным изложением идей
Галилея. Только в своем реальном историческом
развитии — от «Звездного вестника» к «Пробирным весам», от
них к «Диалогу», от «Диалога» к «Беседам», со всеми
основными промежуточными этапами,— творчество Гали-
14
лея оказывается действительно близким современной
науке, огнем, а не пеплом истории 2.
И не только со всеми этапами творческой жизни —
книгами, письмами научного содержания, открытиями и
обобщениями, но и со всеми деталями жизни. Ученые,
которые вошли в историю науки своими позитивными,
упорядоченными и строго обоснованными результатами,
кажутся простыми выразителями логически и
исторически оправданной, одномерной эволюции науки. В их
трудах не запечатлелись личные черты. Эти труды
аналогичны чертежам, где не допускаются индивидуальные
особенности, почерк автора. Другое дело Галилей. XX
столетие хочет знать личные перепетии, которые
позволяют ощутить живую, многокрасочную натуру мыслителя
XVI—XVII вв., столь близкого XX веку. Наш
современник ищет в творчестве не только упорядоченную схему,
из которой выросла классическая наука, но п все, не
укладывающееся в схему, все, что задавало будущему
вопросы, не нашедшие ответа в классической науке и
перешедшие в современную науку.
В этой книге уделено немалое место чисто личным
моментам жизни Галилея, его отношению к семье и к
друзьям, его практической морали. В приводимых
отрывках из писем Галилея речь подчас идет о деталях быта,
вообще о вещах, достаточно далеких от науки. В
последнем счете интерес к быту связан с исходной позицией
исторических оценок. Во второй половине XVII столетия
обозначились два типа ученого. Один из них — ученый,
стремящийся уйти от быта, от личных помыслов, от всех
искушений повседневной жизни, уйти от полемики и
борьбы, замкнуться и погрузиться в конструирование
логических и математических схем. Наиболее законченное
выражение такого психологического склада — жизнь
Спинозы. Другой тип характеризуется активным
вмешательством в окружающую жизнь, интенсивным общением с
самыми различными кругами, в том числе с сильными
мира сего, иногда — житейскими компромиссами,
соблазнами власти, славы и богатства. Таким был Лейбниц,
преклонявшийся перед замкнутой и скромной жизнью
амстердамского гранильщика алмазов, но оставивший
эпистолярное наследство — 15 тысяч писем, полных не
только научных замыслов, но также политических,
экономических, религиозных и личных проектов, советов и просьб.
15
У нас будет случай подробнее остановиться на таком,
разумеется, весьма условном, разграничении. Сейчас
отметим только, что образ Галилея не соответствует ни тому,
ни другому типу отношения ученого к миру. Галилей был
человеком Чинквеченто — времени, когда научные,
общественные, технические, эстетические и моральные
интересы еще не отделились друг от друга, не отделились от
живого общения с окружающими, с толпой сограждан,
друзей, сторонников, не отделились от повседневной
жизни двора и города. Перед ученым Чинквеченто не
появлялась дилемма: уединиться для абстрактного анализа и
созерцания природы, либо посещать прелатов, герцогский
двор, площади и сады Флоренции. Разработка научных
доктрин не отделилась от их пропаганды, а пропаганда —
от повседневного общения с многоликой толпой
итальянских городов. Бегство от повседневности приобрело смысл
и стало проблемой позже. Поэтому, чем подробнее и
конкретнее мы знакомимся с бытом Галилея, тем яснее
становится для нас исторический колорит. Мы вновь и вновь
убеждаемся в различии образа Галилея и образов ученых
следующего периода. Это позволяет конкретнее и яснее
увидеть и различие стиля научного творчества.
Таким образом, мы возвращаемся (как будем
возвращаться не раз в рассказе о жизни и творческом пути
Галилея) jk исходной оценке: картина мира, нарисованная в
«Диалоге», в «Беседах» и в других трудах Галжлея, это
первый, выполненный живыми и мягкими «утренними»
красками, вариант классической концепции, стержнем
которой служит понятие бесконечного множества точек и
мгновений, составляющих мировую линию движущейся
частицы. Указанная констатация позволяет разъяснить
многое в творчестве Галилея: созданную им форму
гелиоцентризма, теорию движения предоставленного себе тела,
отношение к бесконечно большой вселенной, галилеевы
понятия скорости, ускорения и импульса, генезис законов
свободного падения тел и еще многое. Но чтобы объяснить,
почему исходная идея классической науки возникла в
специфической форме, свойственной творчеству Галилея,
нужно вернуться к «начальным условиям» его биографии,
к Тоскане и к его «родине во времени» — XVI столетию.
II. Юность в Тоскане
Галилей вырос в культурной среде, появление и
эволюция которой остаются одной из самых увлекательных
страниц и одной из самых глубоких проблем истории
Возрождения. Исторический анализ открывает движущие
силы, приведшие к возникновению тосканской культуры.
В последнем счете эти движущие силы вытекают из
экономического развития Италии, Средиземноморья и всей
Европы после Крестовых походов. Эта констатация ни в
малейшей мере не обесцвечивает образы Флоренции.
Подлинно научный метод не ограничивается тем, что под
картиной сложных и многокрасочных закономерностей
обнаруживает более общие законы бытия. Тот факт, что
физические закономерности связаны с механикой молекул, не
мешает видеть несводимые к механике соотношения
термодинамики и электродинамики. Физико-химическая
подоснова жизни не стирает ее специфических
закономерностей. Аналогичным образом историческая связь между
культурой и экономическим фундаментом общества не
зачеркивает специфики научного и художественного
прогресса. Представление о производственно-технических и
экономических истоках флорентийской культуры -не
закрывает пути собственно эстетическому анализу поэмы
Данте и художественных сокровищ Уффици, так же как
минералогический анализ скал Фиезоле и
физико-географическое и ботаническое изучение Тосканы не мешает
любоваться с холма Миниато гармонией
золотисто-коричневых гор, серебристых оливковых рощ и синих теней на
горизонте. Отчетливое представление об исторической
обусловленности Возрождения не изгоняет тени великих
флорентийцев; напротив, оно превращает тени в более
отчетливые и красочные образы.
Галилей
17
Развитие торговых и промышленных цептров в
средневековой Италпи было не только количественным
процессом. Каждый новый центр был связан с новыми
качественными особенностями экономического прогресса.
Амальфи в качестве средоточия средиземноморской
торговли был прямым преемником византийцев и арабов.
Венеция оказалась несравненно большим по значению
центром торговли с Востоком, пустившись в Средиземное
море во всеоружии широких и интенсивных связей со
всей Южной Европой. В этих связях выражался новый
качественный характер экономического развития.
Качественно иным было экономическое развитие Тосканы.
Когда Крестовые походы вырвали торговую гегемонию
у Византии и передали ее городам Италии и южной
Франции, это дало наибольший культурный эффект там, где
торговля раньше всего и быстрее всего вызвала к жизни
значительную промышленность. В Тоскане расположенная
на пересечении самых важных внутренних путей
Флоренция была, тесно связана с Пизой — одним из
центров средиземноморской торговли. Географичек
екая и экономическая близость этих городов —
историческая иллюстрация одного из самых важных процессов,
приведших к Возрождению,—перехода от интенсивной
торговли, еще не преобразовывающей внутреннюю структуру
ее участников, к интенсивному развитию ремесла, а затем
и мануфактурной промышленности.
Нигде, по сравнению с Тосканой, капиталистические
порядки не установились так рано, в таких высоких
формах и с таким накалом общественной борьбы. В какой-то
мере культурные и научные результаты социального
переворота зависят не только от достигнутого уровня
развития общественных форм и от уровня производства, но и от
пространственного градиента (различия уровней в данном
пункте и в соседних) и быстроты развития по времени
(различия в следующие один за другим моменты
исторического процесса). Во Флоренции уже в XII в. 'горожане —
банкиры, купцы, владельцы суконных и шелковых
мануфактур, ремесленники всех цехов — разрушили замки
синьоров. С тех пор социальные столкновения становились
все более острыми.
В XIV в. здесь уже существовали большие
мануфактуры, я «зачатки современного пролетариата» заявили о
себе забастовками в первой половине столетия и восста-
18
Ёйем — во второй. Что касается пространственного
градиента, то Флоренция и вся Тоскана были окружены
феодальными государствами, и это приводило к сложным
перипетиям внешней политики, переплетавшимся с
классовой борьбой в юамой стране.
В этих условиях, связанных, в последнем счете, с
большим пространственным градиентом и быстротой
экономического развития, общественная функция науки оказалась
чрезвычайно явной. Нельзя понять роль Флоренции в
развитии науки XVI—XVII вв., если не вспомнить
флорентийскую толпу, которая не только жадно воспринимала
новые научные представления, но и быстро переводила
астрономические и механико-математические проблемы в
религиозные, моральные, философские и политические
вопросы. Здесь, во Флоренции, с XII в. множество людей,
гораздо большее, чем в других городах, связывало свою
судьбу € общественной борьбой в городе, с политикой
соседних и более удаленных государств, здесь все перипетии
войн, восстаний, политических заговоров, дворцовых
переворотов, все события духовной жизни, проповеди в церк-;
вах и речи на улицах, отголоски реформации и близкие
эксцессы контрреформации, появление новых книг и новых;'
произведений искусства — все сразу становилось предме-j
том оживленных дискуссий. В этих дискуссиях
участвовали тысячи людей.
В XVII столетии флорентийская толпа инстинктивно
или полуинстинктивно искала в культуре Ренессанса того,
что для нее казалось самым главным. Самым главным
была идея суверенности разума, которую воспринимали,
конечно, не в виде определенной концепции, а в виде
некоторого настроения умов — «жизнерадостного
свободомыслия» — живой, подчас иронической, подчас
патетической апологии человеческого разума.
В свое время это настроение черпали из античных
источников. Но теперь интерес к античному наследству уже
не владел умами флорентийской толпы. Гуманисты стали
педантами, они заменили духовную диктатуру церковных
книг диктатурой античных образцов. Античная традиция,
вошла в сознание людей, и это явилось колоссальным по
своим результатам событием. Но дело было сделано, и на
очереди оказались иные пути духовной эмансипации.
Искусство Ренессанса вошло - в психологию флорентийской
толпы, но во времена барокко ни живопись, ни скульптура,
2* 19
jM зодчество уже не были господствующими путями
эмансипации разума. Эта роль должна была перейти к науке,
хотя, как мы скоро увидим, искусство было тесно 'связано
с ее развитием.
Род, к которому принадлежал Галилей, иллюстрирует
историю флорентийской буржуазии в XIV—XVI вв.
В конце XIII в. власть во Флоренции принадлежала
приорам — представителям богатых ремесленных цехов. Во
главе синьории — совета приоров — находился
«знаменосец правосудия» (gonfaloniere di giustizia). Буржуазная
верхушка примыкала к сторонникам папы — гвельфам;
рыцари, с которыми синьория вела непрекращавшуюся
борьбу, были по большей части гибеллинами и
ориентировались на императора. Быстрый рост богатств и
могущества синьории изменил облик города. Он еще оставался
средневековым, но среди узких и темных улиц в самые
последние годы XIII столетия выросли громады Palazzo
Vecchio — городской ратуши и собора S. Maria del Fiore
на центральной площади города — Piazza della Signoria.
Архитектура pi искусство были общественным знаменем
нового господствующего класса. Приоры становились
меценатами. В течение XIV в. господство синьории выглядит
все более внушительным, но вместе с тем менее прочным.
Ремесленные цехи, лишенные политических привилегий,
и — внутри всех цехов — обездоленные подмастерья все
чаще выступают против синьории. Наконец, в 1378 г.
происходит извержение вулкана — народное восстание
бедноты — il tumulto dei ciompi. Оно подавлено, и синьория
снова правит Флоренцией. Через полстолетия, в 1434 г.,
общественная борьба приводит к переходу власти в руки
Козимо Медичи. Флоренция становится столицей
Тосканского герцогства.
В период наибольшего расцвета власти синьории имена
предков Галилея пачинают мелькать в истории города.
В 1343 г. Томмазо был одним из приоров Флоренции. Сын
его, Джиованни, сам ставший приором в 1381 г., назвал
одного из своих сыновей Галилео, а другого — Микелем.
Оба брата дважды избирались в совет приоров, а в 1445 г.
маэстро Галилео был избран «знаменосцем правосудия» —
главой республики. Он был одним из выдающихся лвдей
Флоренции, известным врачом и ученым. Его прах
покоится во францисканской церкви Сайта Кроче под мраморным
надгробием с барельефом.
20
Правнук Микеля, Винченцо Галилей, родился в 1520 г.
В юности он приобрел солидные знания в области
математики, но основной его склонностью была музыка.
Винченцо играл на многих инструментах и особенно виртуозно
на лютне. Игрой на лютне он снискал покровительство
знатных флорентийских меценатов Бернадето ди Медичи
и графа Джиованни Барди. С их помощью Винченцо
прошел курс обучения в Венеции у знаменитого тогда
композитора и музыкального теоретика Джозеффо Царлино.
Затем он поехал в Рим, где учился у Джироламо Мея, после
чего изучал музыку в Мессине и в Марселе.
В 1562 г. Винченцо женился на Джулии Амманати,
происходившей из аристократической пизанской семьи.
Примерно в это же время он поселился в Пизе, где
обучал молодых дворян игре на лютые.
Здесь 15 февраля 1564 г. и родился Галилео.
Эта дата напоминает об одновременных или почти
одновременных событиях. За пять лет до рождения Галилея
мир в Като-Камбрези возвестил подчинение ряда
итальянских городов испанскому владычеству. За год до рождения
Галилея Тридентский собор сформулировал основные
принципы контрреформации и ввел индекс запрещенных
книг. В один год с Галилеем родился Шекспир. Когда
Галилею было четыре года, родился Томмазо Кампанелла.
В 1572 г. Винченцо переселился из Пизы во
Флоренцию. Семья его еще два года оставалась в Пизе, а в 1574 г.
Джулия с десятилетним ГалилееАм и его годовалой сестрой
Вирджинией переехала во Флоренцию.
Кроме преподавательской, композиторской и
исполнительской деятельности Винченцо много писал в области
истории и теории музыки. По существу, он был основным
выразителем взглядов кружка флорентийских музыкантов,
собиравшихся в доме графа Барди. Вместе с другими
участниками кружка Винченцо стремился возродить
мелодичную . музыку античных трагедий и противопоставить
ее господствовавшему полифоническому направлению.
Свою платформу Винченцо изложил в обширном трактате,
опубликованном в 1581 г. Трактат назывался «Диалог об
античной и современной музыке» («Dialogo della musica
antica e della moderna») l. Отметим, что в сохранившейся
его рукописи «О црактике современного контрапункта»
одна из страниц написана на обратной стороне письма,
посланного его сыном из Ппзы во Флоренцию в 1590 г.
П
Некоторые биографы Галилея предполагают, что
одновременно с музыкальной деятельностью Винченцо
занимался торговлей сукном и это поприще прочил вначале
своему сыну.
Вероятность торговой деятельности Винченцо может
найти подтверждение в прошлом его рода. То, что многие
из его предков были флорентийскими приорами,
свидетельствует о принадлежности рода Галилея к богатым и
привилегированным старшим цехам (ростовщики, сукно-
торговцы, фабриканты шерстяных и шелковых тканей,
меховщики, врачи, аптекари, юристы). Облеченные
властью избранники этих цехов принадлежали, как правило,
к наиболее влиятельным и зажиточным семьям. Если
«знаменосец правосудия» маэстро Галилей мог представлять
в синьории цех врачей и аптекарей, то правнук его брата
мог принадлежать к одному из купеческих цехов.
Для характеристики социальной природы той среды,
из которой вышел Галилей, важно подчеркнуть
распространенность сочетания торговли с художественными и
научными занятиями. Ольшки справедливо замечает, что,
например, для Германии Ганс Сакс был исключением,
а для Италии флорентийский купец или промышленник,
занимающийся искусством и наукой, представлял собой
типичный случай 2.
Но не только подобное сочетание было характерным
для флорентийцев XVI в. Сведения о направлении
интересов Винченцо Галилея помогают увидеть истоки
творчества его сына. Не потому, что здесь имела место
непосредственная фамильная связь. Такая связь существовала,
но важнее другое. Винченцо был мыслителем, очень
характерным для Тосканы XVI в. по содержанию своих
музыкальных идей. Он отказывается от сближения
пифагорейских реминисценций в математике с количественными
соотношениями в музыке 3. Это имело существенное
значение. Во Флоренции раньше, чем в других культурных
центрах Италии, были оставлены неопределенные и внешние
сближения акустических соотношений с космическими.
Подобная традиция расчищала дорогу новому взгляду на
космическую гармонию. Ее нельзя выразить чисто
внешними аналогиями и некаузальными сближениями
акустических величин с астрономическими. Гармония
мироздания — не в пифагорейской «музыке сфер», а в
кинетических каузальных схемах, Путь к познанию мировой гар-
99
монии лежит через анализ таких процессов, как падение
камня с башип или качание люстры в соборе.
Винченцо по этому пути не пошел, это был путь его
сына. Но Винченцо во вполне флорентийском духе
отказывался видеть в акустических соотношениях какую-либо
метафизическую космическую тайну. Поэтому Кеплер,
ценивший Винченцо как теоретика музыки, не вспоминал
его в связи с пифагорейскими реминисценциями 4.
Впоследствии, в поисках наглядной, близкой к
техническому опыту, простой и легко воспринимаемой схемы
мироздания Галилей опирался и на другую
флорентийскую традицию. Флорентийские художники в предыдущую
эпоху противопоставляли четкий рисунок венецианскому
колоризму. Теперь, во второй половине XVI в. эта
традиция в живописи была несколько смята маньеризмом. Но
она сохранилась в музыке. Флорентийские музыканты
противопоставили мелодию для отдельного голоса
сложному контрапункту венецианских хоров 5.
Флорентийская музыка XVI в. позволяет
почувствовать дух эпохи не в меньшей степени, чем итальянская
живопись того времени. Но картины итальянских
художников сохранились, и через эти картины мы можем
проникать в строй мыслей и чувств Чинквеченто. Музыка
XVI в. доступна в гораздо меньшей степени. Хочется
поэтому отметить большое значение попыток возможно
более точного воспроизведения этой музыки для понимания
психологии предгалилеевой и галилеевой эпохи. К таким
попыткам относится увенчавшаяся несомненным
культурным и художественным успехом инициатива Рольфа Рап-
па и его сотрудников, которые создали во Флоренции
ансамбль, исполняющий старые произведения, в
частности произведения XVI—XVII вв. на инструментах того
времени.
В концертах этого ансамбля и голоса звучат
по-иному — их сопровождают старинные инструменты,— и в
целом музыка дает возможность глубже проникнуть в душу
эпохи. Подобное непосредственное общение с эпохой
делает более точными исторические характеристики: вряд
ли известное замечание о бедрах тициановой Венеры и
96 тезисах Лютера могло быть сделано по описанию
картины. Музыка Возрождения, исполняемая в наше время,
накладывается на то понимание эпохи, которое сложилось
cejf4ac? она уточняет, и делает более «внутренним» это
23
понимание и вместе с тем ретроспективная оценка эпохи
позволяет услышать в музыке нечто новое. Здесь далеко
идущая аналогия с чтением научных трактатов, в
частности трактатов Галилея. Музыка Чинквеченто кажется
сейчас конгениальной содержанию и форме этих трактатов
по изяществу, красочности и отчетливой мелодии.
Что касается флорентийской живописи XVI в. и
отношения к ней Галилея в его юношеские годы, то
несомненными представляются чисто технические способности и
блестящее уменье критически разобраться в картинах,
:в (композиции, рисунке, сочетании красок и выборе
оригинала. Впоследствии Галилей стал постоянным
консультантом крупных художников (Чиголи, Броизино, Пасиньяно,
Эмполи). Первый и, по мнению Галилея, самый крупный
из перечисленных художников — Чиголи — говорил, что
он обязан своей славой советам Галилея.
Но самым важным истоком творчества Галилея,
наметившимся в юности и тесно связанным с флорентийской
средой, была не музыка, не живопись, вообще не искусство,
а техника. Здесь и эстетические и ранние научные
интересы Галилея синтезировались и приобретали творческую
окраску. И именно здесь мы встречаем зародыш
будущей характерной черты «Диалога», «Бесед» и других
основных работ Галилея — широкое, несопоставимое с
предшественниками применение мысленных экспериментов.
Уже в юности мысль Галилея приобретала особенную силу,
когда она оперировала механическими схемами и
пользовалась критериями целесообразности, изящества (в смысле
минимальных средств для максимального результата),
вообще критериями, в логическую схему которых
укладывались позднейшие критерии «эффективности»,
«коэффициента полезного действия» и т. д. Для эстетических идей
и склонностей Галилея в течение всей его жизни
характерно то обстоятельство, что в искусстве он искал прежде
всего изящества. Здесь — переход от эстетических
понятий к математическим, но только переход:
эстетическое требование минимальных средств для максимального
результата в общем случае не может быть выражено
экстремумом функции, понятие математического изящества
не может совпадать с эстетическим понятием, и когда
Пуанкаре сравнивал изящное доказательство теоремы с
колоннами, поддерживающими при минимальных усилиях
максимальную тяжесть, то это могло выйти за рамки ана-
24
логии лишь в частных случаях. Отметим, что критерий
простоты, которым позже так часто пользовался Галилей,
был критерием техническим и эстетическим по своим
истокам и никогда не становился математическим в
собственном смысле.
Только у следующего, за Галилеем, поколения
мелькнула мысль о величине, которая своим наименьшим
значением гарантирует, что описываемая картина физических
процессов соответствует действительности.
Художественные, технические и — пока еще в самой
зачаточной форме — научные интересы юноши влекли его
к области, где царили критерии простоты, изящества и
целесообразности. Это была область прикладной
математики. Но Галилею пришлось, подобно Иакову, нескольку лет
отслужить, чтобы получить сначала руку Лии. Ее роль
играла медицинская карьера и, в отличие от библейского
прообраза, Галилей в последний момент убежал пз-под
венца. Винченцо мечтал для сына о доходной и почетной
профессии врача, и в 1581 г. Галилей отправился в Пизу,
поселился у своего родственника, тамошнего купца, и на
четыре года погрузился в медицинские трактаты. Впрочем
не только в медицинские.
Винченцо с величайшим трудом поддерживал
требовавшийся по общественному положению семьи уровень
жизни — пребывание сына в Пизанском университете
разрушало бюджет бедного музыканта и теоретика музыки. Еще
тяжелее было, самому Галилею. Он знал, на какие
материальные жертвы идет его семья, и сам жертвовал для
семьи своими научными интересами. Когда знакомишься
с перечнем лекций в Пизанском университете за 1584—
1585 гг.6 и с другими сведениями об университетской
науке 7, то представляешь себе, как быстро росло отвращение
к схоластической эрудиции у юноши, тянувшегося к
механике и прикладной математике в целом. Жертвы,
которые Галилей не хотел сделать бесполезными, все росли,
но еще быстрее росло непреодолимое отвращение к
университету и медицинской карьере. Незадолго до
окончания Галилей оставил университет и вернулся во
Флоренцию, чтобы наконец заняться математикой.
Один из друзей Винченцо во Флоренции, Остиллио
Ричч'Я8 обучал математике молодых аристократов —
придворных великого герцога, а также преподавал во
Флорентийской художественной академии, где курс математики
25
был довольно обширным 9. Галилей уговорил Риччи давать
ему уроки втайне от Винченцо. Риччи рассказал об этом
Винченцо и убедил его не препятствовать
математическому образованию сына. Однако согласие Винченцо не
должно было стать известным Галилею: Винченцо считал
явное согласие официальным отказом от плана врачебной
карьеры сына, а между тем он еще питал некоторые
надежды на такую карьеру.
В 1585 г. начались занятия. О характере научных
интересов Риччи и о том, что он мог передать Галилею, мы
можем судить по сохранившимся рукописям Риччи и в
особенности по хранящемуся в Национальной библиотеке
во Флоренции рукописному конспекту лекций.
Что важно для истоков творчества Галилея,— это
отчетливо выраженное в лекциях Риччи убеждение, что
природу нельзя обмануть, что полезный эффект конструкции
не может превысить определенную величину. Эта мысль
была довольно распространенной в итальянских
технических трактатах XVI в. Особенно интересен с этой стороны
трактат о гидравлических машинах Джузеппе Череди,
выпущенный в Парме в 1567 г. 10 В этом трактате
критикуется понятие perpetinim mobile, указываются соотношения
между силой, приложенной к грузу, его величиной и
скоростью подъема, после чего говорится: «ошибаются
инженеры, которые думают, что, игнорируя отношение силы к
весу и веса к скорости и реальную причину увеличения
скорости, можно увеличить скорость, не увеличивая силу
по отношению к весу» и. Подобные взгляды
высказывались издавна. Их придерживался и Риччи. В сравнительно
законченной форме мысль о соответствии между экономией
в приложенной силе и потерей скорости, или увеличением
времени, была высказана Галилеем. Для основных
идей последнего важно следующее. У Риччи и у ряда
инженеров и математиков второй половины XVI в.
появлялась мысль о силе как причине изменения скорости
движущихся тел. Но эта мысль никогда не высказывалась
в качестве общей закономерности пр'иродьт. Она
упоминалась в связи с техническими проблемами, с
попытками более экономного и эффективного использования
применяемых механизмов. Риччи и вся группа итальянских
инженеров и математиков, у которых Галилей мог в какой-
то мере почерпнуть свои первые концепции, не
переносили закономерности, управляющие работой механизмов.
26
в природу как таковую. Вое они были представителями
прикладного знания. После Тартальи уже не считали
возможным путем («натуральной магии» (magi a naturalis)
обмануть природу: законы природы ограничивают эффект
механизмов. Так думали математики и инженеры Чинкве-
ченто. Они вводили объективные закономерности в
технику, но не помышляли при этом об иных объективных
закономерностях, которые могут быть найдены с помощью
понятий прикладной механики.
Под руководством Риччи Галилей изучал и собственно
математическую и механико-математическую литературу,
начиная о Эвклида. В этот период, т. е. во второй половине
80-х годов XVI в., Галилей быстро усваивает произведения,
которые были на устах у гуманистов, продолжает изучать
Аристотеля, но наряду с ним Платона, Архимеда,
схоластов XIV в., в том числе антиаристотелевские трактаты
номиналистов. В 1586 г. Галилей самостоятельно
разрабатывает проблему гидростатического равновесия и
подготовляет исследование о гидростатических весах, затем пишет
работу о центре тяжести тяжелых тел и еще несколько
статей.
Эти труды не были тогда опубликованы, но сведения
о них быстро распространились. У Галилея появляются
корреспонденты п друзья, которые в письмах и при
встречах обсуждают научные проблемы. Среди друзей —
маркиз Гвидобальдо дель Монте, известный в научных
кругах в качестве автора работ по механике и математике.
Он стал ревностным почитателем трудов молодого ученого
и его личным другом.
Гвидобальдо, его брат кардинал Франческо дель Монте
и другие влиятельные знакомые Галилея искали для него
место профессора математики. Гвидобальдо представил
Галилея великому герцогу и последний обещал ему
кафедру в Пизе, как только эта кафедра станет вакантной.
Галилей терпеливо ждал, подумывая, впрочем, и о других
университетах. Летом 1588 г. он писал Гвидобальдо: «Мое
намерение относительно Пизы, о котором я писал Вашей
светлости, не сможет быть осуществлено, я слышал, что
монах, читавший там раньше лекции и оставивший их в
связи с назначением генералом своего ордена, отказ-ался
от этой должности и вновь начал читать лекции, его
высочество уже назначил его профессором. Но здесь, во
Флоренции, в прошлом была должность профессора математики,
27
установленная великим герцогом Козимо, и многие из
знатных особ желали бы видеть ее восстановленной.
Я прошу о ней и надеюсь получить ее благодаря Вашему
постоянному братскому участию, которому я вверяю мою
петицию. Здесь уже были посторонние, с которыми его
высочество договорился, таким образом у меня нет
возможности говорить об этом самому, и я прошу Вас
написать опять и упомянуть мое имя» 12.
Ожидание становилось все более тягостным. Семья
ждала от старшего из сыновей Винченцо помощи, а между
тем Галилей ire имел еще определенного положения и
оставался подающим надежды юношей. Наконец, в 1589 г.
великий герцог назначил Галилея профессором
математики университета в Пизе с очень небольшим жалованьем —
60 тосканских скудо в год.
Галилей на этот раз оставался в Пизе два года.
По-видимому, он был одинок в среде пизанских профессоров.
Только один из них — Джаконо Маццони, читавший в
1590—1591 гг. курс философии, стал другом Галилея.
Другие профессора, можно думать, были шокированы
выступлениями Галилея против физики Аристотеля. Годы,
проведенные в Пизе, отличались от студенческих лет, но
также не давали удовлетворения. Тогда, в 1580—1585 гг.,
Галилей искал источники книжной эрудиции, созвучные
впечатлениям жизни. Теперь он нашел эти источники,
пришел к новым представлениям и искал среду, которая могла
бы их абсорбировать. Эта среда, включая первых
единомышленников, таких, как Гвидобальдо дель Монте,
находилась вне Пизы. Нельзя думать, как это делали ранние
биографы Галилея, что его преследовали перипатетики.
Пизанский университет был для Галилея не слишком
перипатетическим, а слишком провинциальным.
К идейному одиночеству в университете
присоединялись тяжелые материальные условия. В 1591 г. умер
Винченцо, и заботы о семье легли на плечи Галилея.
Жалованья в 60 скудо (кстати, намного меньше, чем жалованье
других профессоров) не хватало, а побочных заработков
в Пизе нельзя было найти.
Добрый гений Галилея в те годы — Гвидобальдо —
искал для него новую кафедру. Она была найдена вне
Тосканского герцогства, во владениях Венецианской
республики. Сенат Падуи пригласил Галилея занять давно
пустовавшую кафедру математики. Осенью 1592 г. Галилей
28
переехал в Падую и 7 декабря прочитал свою первую
лекцию. Начался новый период жизни и творчества Галилея.
В пределах Венецианской республики интересы
окружавшей Галилея среды несколько отличались от
тосканских, направление его собственных интересов также
изменилось. Мы вскоре остановимся на тех новых
тенденциях в научном творчестве Галилея, которые позволяют
разграничить тосканский и венецианский периоды. Сейчас
следует обратиться к тому, что взял с собой Галилей из
первого периода во второй.
III. Эрудиция
Происхождение, фамильные традиции, среда,
интересы флорентийского общества, собственные интересы, в
особенности к прикладной математике и механике,— все это
позволяет определить источник непосредственных влияний
окружающей жизни на мировоззрение и творчество
Галилея. Теперь мы остановимся на другом — на источниках
книжной эрудиции Галилея.
Ольшки в;идел в творчестве Галилея коллизию двух
сил. С одной стороны, Галилей — «неспециалист с острым
природным умом», подходивший к природе без
сковывающих традиционных представлений. С другой стороны,
он — «ученый, обремененный вековым балластом
традиций» 1. К такой констатации можно прибавить некоторые
замечания, вытекающие из действительного смысла
«острого природного ума» и «балласта традиций».
«Острый природный ум» — это не только
индивидуальная характеристика, он роднит Галилея с социальной
средой, которой было адресовано его творчество. Это строй
ассоциаций, характерных для новой социальной среды, не
связанных с представлениями, бытующими в цеховых
гелертерских кругах. Указанные ассоциации образуют
конкретный эквивалент абстрактных мысленных
экспериментов Галилея. Мысленные эксперименты
представляют собой очищенное, четкое выражение опыта новой
социальной среды. Они подводят к возможности
аналитического исследования мира, хотя еще не реализуют такую
возможность.
Посмотрим теперь, что представляет собой в
действительности «вековой балласт традиций». Ученый середины
XX в. найдет в этом балласте нечто, ни в коем случае не
30
заслуживающее такого названия. Как уже говорилось,
нельзя не видеть в аристотелевой физике некоторые
апории и нерешенные проблемы, адресованные современной
науке и отчасти решенные общей теорией
относительности, отчасти получившие новый смысл, отчасти
сохранившие старый смысл. Живое и антидогматическое
содержание пюрипатетичоской физики и космологии и прежде
всего идея относительного движения в однородных
двумерных искривленных пространствах не были балластом;
как мы видели, они были существенным истоком
построений Галилея.
Каких построений? Именно тех, которые прежде всего
воздействовали на метод мышления новых социальных
кругов,— мысленных экспериментов, прядавших
гелиоцентризму яркую экзотерическую форму. Таким образом,
современная переоценка отношения Галилея к античному
наследству приводит к переоценке соотношения между
гуманистической эрудицией и непосредственными
воздействиями современной жизни.
Возникновение новой картины мира произошло на
пересечении двух процессов. Один из них состоял в
последовательной эволюции понятия однородности и
относительности в науке древности, средневековья и Возрождения.
Второй процесс — быстрый и энергичный перенос в науку
новых понятий, методов и представлений, выработанных
в новой прикладной механике и близких новой социальной
среде. Подобные процессы иллюстрируют преемственность
научного развития в целом, существование
тождественного себе субъекта исторических изменений и, с другой
стороны,— существование таких изменений. В этом и состоит
исторический характер научного познания мира.
Процесс последовательной модификации античных
идей (вернее, античных вопросов и апорий) пересекся с
воздействиями прикладной механики и нового нецехового
строя мыслей и ассоциаций в XVI—XVII вв. В этот период
гуманистический интерес к античному наследству в
значительной мере был перенесен на механико-математические
идеи Архимеда, на нерешенные апории греческой мысли
в целом. Эти идеи содержали в зародыше
дифференциальное, аналитическое представление о мире, воплотившееся
позже в стройное здание классической науки. Но во
времена Галилея они оставались наследством и не
приобрели новой, собственно математической и, если говорить
31
еще конкретнее, аналитической формы. Только в такой
ранней, неявной, весьма изменчивой, «утренней» форме
идеи и проблемы античной науки могли приблизиться
к новым практическим и идейным интересам общества.
Но и .самые эти интересы могли стать истоком новой
картины мира только на рассвете новой фазы общественного
развития.
Здесь можно воспользоваться одной чисто внешней
аналогией. Взаимодействие двух тенденций в культуре
XVI—XVII вв. можно сравнить со столкновением двух
частиц, как его рисует современная квантово-релятивистская
концепция. До столкновения и после столкновения
частицы взаимодействуют на расстоянии, оставаясь
тождественными самим себе. Но в самый момент столкновения,
изменившего пересекшиеся пути частиц, происходят очень
сложные и не определимые с помощью классических
понятий процессы, в которых частицы перестают быть
тождественными себе, трансмутируют, исчезают и появляются.
Гуманистическая 'эрудиция и требования жизни,
производства и общественной борьбы были связаны
взаимодействием и до и после Галилея. Но в творчестве Галилея, как
и в другие поворотные моменты научного прогресса,
взаимодействие осложнялось особенно большой гибкостью,
неустойчивостью и неопределенностью взаимодействующих
тенденций.
В Пизе Галилей .штудировал трактат Аристотеля
«Q небе». Сохранилось принадлежащее перу Галилея
большое, хоть и не полное изложение физики и космологии
Аристотеля — рукописи «Juvenilia» 2. Они охватывают
лишь часть аристотелевой физики и космологии. Мы
можем все же реконструировать в полнохМ объеме сумму
аристотелевых идей, воспринятых Галилеем в Пизе.
Для этого нужно воспользоваться трактатом «De motu»,
принадлежащим Фраическо Бонамичи, который был про-
фе-осором философии в Пизе в годы, когда Галилей
учился в этом городе. Александр Койре изучил громадный
опус Бонамичи (1011 страниц in folio) и изложил
основные, существенные для научной биографии Галилея
воззрения Бонамичи в первом томе своей книги3.
Первый самостоятельный шаг Галилея и первое
столкновение аристотелевых идей с впечатлениями бытия
увели юношу назад от Аристотеля к досократикам и вперед
к идеям эллинистического периода. Речь еще не идет о
82
новых логических конструкциях, но уже нельзя говорить
только о психологических вариациях внимания и
интереса при изучении античных текстов. Галилей ищет новых
богов и находит их, прежде всего в лице древнегреческих
атомистов. Идеи Демокрита, картина пустого
пространства, где движутся атомы, картина, в которой нет ничего,
кроме движения, вошла в сознание Галилея как первое
звено нового взгляда на мир. Отсюда идет столь
существенная тенденция Галилея и всего раннего периода
классической науки — кинетическая тенденция. Но она также
столкнулась со стихией непосредственных впечатлений
Чинквеченто и Тосканы. Теперь требовалась кинетическая
картина мира, допускающая хотя бы в принципе
количественную оценку движения тел. Мысль Галилея
направляется к геометрии.
Геометризация картины мира в античной философии
приобрела первоначально иррациональную
метафизическую форму. Отвлеченную геометрическую схему
выдавали за истинную основу реальных тел. Подобная
метафизическая, платоновская тенденция не увлекла Галилея. Он
хотел воспользоваться сократовским методом Платона и
вывести новые представления о мире чисто логическим
развитием исходных понятий. Но стихия Чинквеченто не
может остановиться на этой античной иллюзии. Галилей
переходит к идеям эллинистического периода.
Здесь Розалиндой оказался Эвклид, а Джульеттой —
Архимед. С геометрией Эвклида Галилей воспринял не
только ее позитивное содержание, но и таившееся под
эвклидовой аксиоматикой антиаристотелевское острие.
Постулаты Эвклида распространяют эмпирически найденные
соотношения между точками и линиями на сколь угодно
большие масштабы. Эвклидова геометрия — это геометрия
линий, сколь угодно далеко уходящих вдаль и при этом
сохраняющих все те же соотношения. Физика Аристотеля
не содержит физических эквивалентов подобных линий.
Траектории движущихся тел ограничены конечным
мировым пространством. В физике Аристотеля геометрические
соотношения не могут сохранять свои физические
эквиваленты и при бесконечном дроблении пространства, ведь
Аристотель не рассматривает движения в бесконечно
малых областях, движение (по крайней мере,
несовершенных тел) определяется условиями в начале и в конце
конечной траектории. Поэтому в рамках физики Аристотеля
3 Галилей
33
геометрия Эвклида была душой, лишенной тела. Она
искала воплощения и в пекоторой степени нашла его в учении
Архимеда.
Архимед не вышел за пределы конечной вселенной
Аристотеля: доказывая в «Псаммите» исчислимость очень
больших множеств, Архимед не уходит за эти пределы,
а заполняет их малыми телами — песчинками. Но он
может пойти и дальше, к бесконечно малым масштабам,
и он идет дальше в теории того, что Аристотель называл
«местным движением», т. е. перемещением (срора).
В конце жизни, уже после выхода «Бесед», Галилей
писал одному из своих друзей о сложении
криволинейного и прямолинейного движений в механике Архимеда, как
о прообразе своей теории движения.
«Я не предполагаю ничего иного кроме определения
движения, я хочу трактовать и рассматривать это явление
в подражание Архимеду в его «Спиральных линиях», где,
заявив, что под движением по спирали он понимает
движение, слагающееся из двух равномерных, одного —
прямолинейного, а другого — кругового, он непосредственно
переходит к демонстрации выводов. Я заявляю о
намерении исследовать признаки, присущие движению тела,
начинающемуся с состояния покоя и продолжающемуся с
равномерно возрастающей скоростью, а именно так, что
приращения этой скорости возрастают не скачками,
а плавно пропорционально возрастанию времени» 4.
Галилей говорит здесь об основной идее своей
динамики — о непрерывном изменении скорости. Непрерывность
означает, что закон, определяющий изменение скорости,
действует от точки к точке, и таким образом траектория
физически состоит из бесконечно малых частей,
в каждой из которых происходит нечто определенное. Эта
идея действительно навеяна механикой Архимеда.
Сложение кругового и прямолинейного движений, определяющее
спиральную траекторию, происходит непрерывно, т. е.
в каждой бесконечно малой части траектории, и без
понятия бесконечно малых и, соответственно, без понятия
бесконечности архимедова схема не может получить
количественное выражение.
Поэтому, когда Архимед вводил в геометрию аксиому,
равнозначную аксиоме непрерывности пространства, он
не разрывал характерное для античной науки едипство
геометрии и физики.
34
Отношение Галилея к Платону, Эвклиду и Архимеду
может быть понято только в связи с его отношением к
Аристотелю, к аристотелевой теории движения и к тем
теориям движения, которые появлялись у комментаторов
и критиков перипатетизма.
Исходное понятие космологии и теории местного
движения (<рорй) у Аристотеля — система естественных мест
тел. Тело находится в своем естественном месте либо не
находится в нем — во втором случае оно движется к
естественному месту, и это движение называется
естественным движением. Таково падение тяжелых тел, оно
объясняется их стремлением к естественному месту тяжелых
тел, центру мира, совпадающему с центром Земли.
Аристотель исходит из некоторой схемы у и о р я д о ч е н н о-
г о космоса. Все мировое пространство образует
упорядоченную, подчиняющуюся определенной закономерности,
неизменную во времени, статическую систему
естественных мест. Естественные места различаются по расстоянию
до центра мира. Таким образом, в пространстве существует
особая точка — его центр. Аристотель, вслед за другими
греческими мыслителями, убежден в изотропности
пространства (в нем нет абсолютного «верха» и «низа»,
поэтому антиподы не падают «вниз»), но он не принимает
однородного пространства и наполняет его
неэквивалентными местами. Естественное движение тела,
направленное к его естественному месту, в этом смысле не
является относительным, оно состоит не в изменении
расстояний до произвольно выбранных других тел, а в
изменении расстояния от тела до привилегированного пункта
отсчета — естественного места тела. Движение
определяется не в каждой точке, а лишь граничными состояниями:
исходным — пребыванием вне естественного места и
окончательным — пребыванием в естественном месте.
Важно подчеркнуть, что у Аристотеля скорость
тела не является величиной, характеризующей движение.
Движение вообще не характеризуется количественным
образом — непрерывным рядом величин. Это относится и к
насильственному движению, т. е. перемещению
тела, не вызванному его стремлением к естественному
месту, например к движению тяжелого тела, брошенного
вверх. Во всех случаях скорость определяется
взаимодействием тела со средой: среда задерживает или
подталкивает тело.
3# 85
Помимо естественных ДЁиЖений к естественным
местам и вызванных толчками насильственных движений,
в космологии Аристотеля фигурируют круговые движения
по концентрическим сферам, окружающим центр Земли.
Эти движения свойственны совершенным телам
надлунного мира. На концентрических окружностях все точки
находятся на одном и том же расстоянии от центра
мирового пространства и, с позиций упорядоченной
статической схемы естественных мест, эквивалентны. В этом
смысле концентрические двумерные сферические пространства
являются однородными, а круговые движения —
относительными.
Вернемся к насильственным движениям. Почему
тяжелое тело, брошенное вверх, в горизонтальном
направлении или под углом к горизонту, продолжает двигаться?
И почему оно в конце концов останавливается?
Аристотель ответил на эти вопросы довольно сложной физической
конструкцией. Брошенное тело передает свое движение
воздуху, и воздух, в свою очередь, поддерживает в
течение некоторого времени движение. Уже во II в. до н. э
Гиппарх выдвигал иные представления, а в VI в. н. э.
Иоанн Филопон в своих комментариях к Аристотелю
изложил мысль о некоторой остающейся в теле после толчка
и сохраняющейся в течение некоторого времени причине
его последующего движения. Эта причина получила
впоследствии название impetus.
Теория impetus'a была высказана в сравнительно
отчетливой форме Жаном Буриданом в 1328—1340 гг. Ее
развивали и другие номиналисты XIV в., а аз следующем
столетии многие начали рассматривать impetus в качестве
понятия, не противоречащего аристотелевой динамике.
Среди мыслителей Чинквеченто самым крупным
преемником парижских номиналистов XIV в. был Бенедетти
(Giambattista Benedetti) 5. Содержание вышедшего в
1585 г. трактата Бенедетти 6 оказало значительное
воздействие на взгляды Галилея. Бенедетти противопоставляет
концепцию impetus'a аристотелевой концепции, которая,
по словам Бенедетти, лишена научной ценности.
Тело продолжает двигаться после толчка под действием
impetus'a, полученного им и оставшегося в нем. Это
относится и к телам, которые движутся, стремясь к своим
естественным местам; они, как и тела, получившие толчок,
также приобретают impetus.
36
«Все тяжелые тела, испытывающие естественное или
насильственное движение, получают сами некоторый
impetus, некоторое побуждение к движению, так что,
отделившись от движущего агента, они продолжают сдвигаться
сами в течение некоторого времени» 7.
Что означает слово impetus? Этому вопросу посвящена
колоссальная по объему литература 8. Нас здесь
интересует значение теории impetus'a для подготовки
дифференциального представления о движении. С этой точки зрения
важно подчеркнуть исключение среды из числа факторов,
поддерживающих движение. Бенедетти вслед за всей
вереницей сторонников impetus'a отрицает аристотелеву
ссылку на воздух или воду как на фактор, поддерживающий
движение тела. Тело может двигаться в пустоте. Именно
этот случай является наиболее простым и должен
рассматриваться .как исходный при анализе движения. Вся
сложная цепь чисто физических взаимодействий движущегося
тела с воздухом, водой, вообще со средой, в принципе
исключается из механики. Скорость тела становится
определением движения и должна быть поставлена в связь с
действующими на него факторами. Тем самым механика
приближается к другому этапу — к определению связи между
воздействиями других тел на данное и изменением
скорости последнего. Здесь теория -impetus'a содержит
только слабый качественный намек на количественный
закон: вспомним приведенные строки Бенедетти об impe-
tus'e, который может возрастать под влиянием
непрекращающегося стремления к естественному месту. Во всяком
случае, линия книжной эрудиции, включающая античные
трактаты, средневековые комментарии, труды
номиналистов XIV в. и завершающаяся трактатом Бенедетти,
подводит к представлению о движении тела, изменения
которого зависят от воздействия, испытываемого телом со
стороны других тел, причем указанная зависимость может
быть выражена простым количественным законом.
Здесь линия книжной эрудиции подходит уже очень
близко к практическим запросам эпохи. Действительно,
техника, производство и культура Чинквеченто ставят
простые механические связи в центр общего внимания той
среды, к которой принадлежал Галилей.
Начнем с техники. Задачи баллистики уже давно
обратили внимание математиков и механиков на проблемы
движения брошенного тела. Но здесь еще не было возмож-
37
ности сколько-нибудь точно измерять скорости, и
баллистика из основных проблем приводила лишь к проблеме
сложения различных движений. Количественные расчеты
применялись в зодчестве и в фортификации, но эти
расчеты отноаились к статическим задачам. Новым источником
прикладных интересов, толкавших механику к новой
трактовке движения, была промышленная энергетика —
гидравлические двигатели.
В гидравлических колесах и в станках промышленных
мануфактур, верфей и арсеналов нельзя было наблюдать в
чистом виде механические закономерности без
осложняющего влияния трения и сопротивления среды. Но такие
физические факторы, как трение в механизмах и
сопротивление обрабатываемых и транспортируемых
материалов, рассматривались в качестве факторов, количественно
эквивалентных преодолевшим их ускорениям. Эти
ускорения, в свою очередь, нужно было связать каким-то
количественными соотношениями с импульсами. Во всяком
случае, мануфактурная энергетика делала весьма наглядной
(причем наглядной для широких и весьма далеких от
гуманистической эрудиции кругов) новую, исходную для
механики, схему: взаимодействия тел вызывают их
ускорения.
Речь идет именно об энергетике; технология
мануфактурного производства не могла быть разложена на простые
каузальные связи, она оставалась ремесленной, здесь в то
время никто не мог сказать, почему в тигле с серебряной
рудой после прибавления соли, колчедана и ртути
образуется серебряная амальгама. В технологии царили
ремесленные секреты и эмпирическая традиция, в то время как
в мануфактурной энергетике появлялись прообразы
абстрактно-механических соотношений.
С этой точки зрения интересно сопоставить два
упоминания венецианского арсенала в итальянской литературе.
Одно принадлежит Данте, другое — Галилею. В XIV в.
арсенал привлекал внимание технологическими
операциями. В XXI песне «Ада» Данте вспоминает об арсенале,
увидав ущелье, полное кипящей смолы. «Как в
венецианском арсенале кипит смола для судов, которые уже
нужно чинить, и где все занимаются тем, чем нужно
заниматься зимой: прзлаживают весла, устраняют щели,
ремонтируют нос или корму судна, строят новые корабли, вьют
снасти, шьют паруса» 9.
38
Через триста лет арсенал казался не столь скромной
мастерской, а собранием огромных механических
конструкций и мощных силовых установок. Таким
венецианский арсенал и вошел в строки, которые вторично его
обессмертили,— в вводные строки галилеевых «Бесед».
Это не значит, что механики Чинквеченто, и в их
числе Галилей, черпали в производственной практике образы
и схемы движения, поддерживаемого impetus'oiM. Но это
значит, что схемы движения, где влияние среды не
входило в абстрактную теорию, казались естественными и,
более того, могли считаться эмпирически обоснованными.
Лишь с такой исторической точки зрения можно понять
не только социальный эффект, но и социальные корни
науки XVI—XVII вв. Как могли появиться концепции
движения, противо'речившие аристотелевской ссылке на
среду как на движущий фактор,— это можно объяснить без
учета исторических особенностей Италии в эпоху
Возрождения. Такие концепции появлялись в науке непрерывно
начиная с Филопона или даже раньше. Но к а к подобные
концепции стали казаться единственно естественными и,
более того, очевидными сравнительно широкому кругу
людей, как идеи парижских номиналистов и других
изощренных и далеких от толпы комментаторов Аристотеля
стали достоянием и чуть ли не знаменем широких кругов?
Речь идет о кругах, привыкших к участию в религиозных,
научных и эстетических спорах. Но почему для них стали
теперь такими близкими и понятными результаты весьма
эзотерических конструкций средневековой мысли?
Чтобы объяснить этот широкий общественный пересмотр
критериев «очевидности» и «естественности» научных идей и
понятий, нужно принять во внимание изменение
привычной сферы практического опыта.
Новый практический опыт приучал к
абстрактно-количественному пониманию движения. Мануфактурная
энергетика, в отличие от собственно технологических приемов
и рецептов, имела дело с чисто количественными
преобразованиями сил, бескачественных, абстрактных, пригодных
для любого технологического применения. Конструктора
водяных -колес интересовало только количественное
соотношение между тем, что дает колесо мастерской, и
затратами. Он стремился получить наибольшую мощность,
максимально приближающуюся к идеальной. В этом состоит
одна из главных особенностей техники XVI в., отразив-
39
гдихся в характере науки. Повторим еще раз: абстрактно-
количественный подход к механике (и, в частности,
абстрактно-количественное понимание impetus'a как меры,
а не качественной причины движения) отнюдь не
появился в мануфактурных мастерских и возле гидротехнических
сооружений Чинквеченто. Но распространение абстрактно-
количественных критериев в технике приводило к тому,
что нецеховая среда, находившаяся вне чисто
гуманистических интеллектуальных центров, могла теперь гораздо
лучше усвоить абстрактно-количественные понятия в
традиционном багаже знаний. Энергетика мануфактуры не
порождала архимедовых тенденций в науке, но делала эти
тенденции экзотерическими. При этом архимедовы
тенденции переставали быть архимедовыми, превращались из
элементов античного наследства в нечто оригинальное,
принадлежащее XVI столетию.
Для новой динамики, для учения о движении тел под
воздействием толчка и для складывавшихся идей Галилея
техника имела особенно важное значение еще и потому,
что в конце столетия, когда создавалась новая
динамика, искусство Чинквеченто уже не могло давать
математике такие импульсы, какие давала раньше, например,
теория перспективы 10.
Тут была и другая сторона. Среди истин, казавшихся
раньше очевидными, находилось утверждение о
принципиальной невозможности ошибок в канонизированных
церковью текстах. Конечно, это казалось очевидным
далеко не всем. Средние века знали множество ересей.
Возрождение узнало сверх того множество антиклерикальных
движений, направленных не только против тех или иных
догматов, но против религиозной догматики в целом. Идея
суверенности разума воплотилась в XVII в. в великие
философские системы, в XVIII в.—в рационалистическую
философию энциклопедистов, в рационалистические
общественные идеи и в конце 'Столетия — в революцию. Но и
Чинквеченто в какой-то мере был рационалистическим
веком — подготовкой будущего. В конце столетия центр
тяжести этой подготовки перешел в область науки.
Рационалистически настроенная среда подхватывала
научные концепции, которые были ей близки по духу. Такими
были антиаристотелевские воззрения на движение тел.
По-видимому, сейчас, в середине и во второй половине
XX в., можно гораздо лучше, чем раньше, оценить собст-
40
венно общественные, исторические, связанные с местом и
временем корни классической науки. Сейчас пришли в
движение такие светильники классической картины мира,
которые раньше казались неподвижными звездами на
небосводе науки. Пятьдесят лет назад признание
неточности ньютоновой механики вряд ли могло стать исходным
пунктом исторической ретроспекции. Тогда чаще всего
думали, что классическая механика — это единственная
естественная и соответствующая фактам абсолютно точная
система наиболее общих закономерностей бытия. Трудно
было понять, как можно по-иному думать о мире,
классические воззрения представлялись однозначным
результатом развития науки. В наши дни все больше приходится
задумываться над вопросом, почему классическая
механика с ее вовсе не очевидными, как теперь это выяснилось,
понятиями получила сравнительно быстрое и единодушное
признание.
Требования времени, адресованные к теории impetus'a,
состояли, во-первых, в превращении ее в теорию, хотя бы
принципиально допускающую математическое
представление, и, во-вторых, в теорию, опять-таки хотя бы
принципиально применимую к построению картины мира. Как
это было сделано, мы увидим позже, когда речь пойдет о
научной зрелости Галилея. Сейчас закончим очерк его
юности краткими замечаниями о еудьбе impetus'a в
механике Галилея.
Галилей заменил термин impetus итальянским словом
momento (момент) в тех случаях, когда речь идет о
проблемах статики, и словом impeto, когда речь идет о
динамике. Уже в «Le meccaniche» Галилей применяет эти новые
термины, приравнивая их традиционному impetus'y.
Сейчас в статике моментом силы или импушьса называют силу
или импульс, умноженный на расстояние между данной
точкой и центром тяжести. В «Le meccaniche» Галилей
описывает весы с различными по длине плечами,
уравновешенные различными грузами.
«Момент есть склонность идти вниз, обусловленная не
столько тяжестью движущегося тела, сколько взаимным
раоположениеьм различных тяжелых тел. Неоднократно
можно было наблюдать, как посредством такого
момента менее тяжелое тело уравновешивает другое, более
тяжелое; так, на безменах можно видеть, как маленький
противовес поднимает другой, огромный груз не благодаря
41
избытку своей тяжести, а благодаря отдаленности от
точки опоры весов. В сочетании с тяжестью меньшего груза
эта отдаленность увеличивает момент и устремление
идти вниз, благодаря чему создается возможность превзойти
момент другого более тяжелого тела. Момент,
следовательно, есть такое устремление идти вниз, которое
слагается из тяжести, местоположения или чего-либо еще, что
способно создать такую склонность» и.
В данном случае momento соответствует современному
понятию момента силы. В статике Галилея этот термин
применяется в несколько неопределенном смысле. Что же
касается impeto, то и здесь нельзя найти точное
соответствие с каким-либо современным понятием. В общем,
momento и impeto, иногда прямо отождествляемые, иногда
применяемые в различных областях механики,
понимаются как величины, пропорциональные скорости тела.
Но это лишь одна из сторон трансформации impetus'a.
Главное состоит в следующем. Impeto или momento, в
отличие от impetus'a предшественников Галилея, не
является причиной движения, галилеево понятие означает
скорее результат или меру движения, но ни в коем случае не
причину 12. А какова же причина движения? Она вообще
отсутствует: движение с постоянной
скоростью не требует причины.
Этот величайший переворот в учении о движении,
положивший начало новой науке, представляется простым,
вполне подготовленным развитием идей парижских
номиналистов и непосредственных предшественников Галилея,
главным образом Бенедетти. В самом деле, если impetus
становится мерой движения, т. е. скоростью или
пропорциональной ей величиной, то нет никаких оснований
говорить об истощении запаса impetus'a. Если impetus (теперь
impeto) уменьшается, то это может быть результатом
воздействия других тел, вообще внешних воздействий. Если
impeto принадлежит телу, поднимающемуся по наклонной
плоскости, он уменьшается действием тяжести. Тем же
действием он увеличивается при спуске по наклонной
плоскости. Если же тело движется, не поднимаясь и не
опускаясь, его impeto неизменно.
Здесь — в зародыше — исходная идея «Диалога» и
нарисованной в нем картины бесконечного инерционного
движения. Здесь — исходная точка представления об
относительном, движении без ускорения,— переходе из одной
42
точки в другую, эквивалентную ей точку однородного
пространства. В биографии Галилея генезис указанной
идеи совпадает с первым пересечением только начавшегося
процесса сочетания книжной эрудиции с воздействиями
окружающей жизни. Это видно с большой отчетливостью,
когда восстанавливаешь общий ход идей Галилея.
В студенческие годы в Пизе Галилей впервые
приступил к критическому анализу механики Аристотеля. Он
был первоначально охвачен одной идеей —
математизации физики13. Предпринятая несколько позже
попытка математизации аристотелевой физики не удалась.
Она и не могла удаться: физика Аристотеля —
качественная в самой своей основе. Галилей отказался от
аристотелевой концепции движения и хотел математизировать
физику impetus'a. Но и здесь встретились фундаментальные
трудности. Теория impetus'a была шагом в сторону
количественного представления о движении через бесчисленное
множество точек. Но только шагом. Даже для
принципиальной возможности количественного представления
impetus номиналистов и Бенедетти, качественная причина
движения, должен был превратиться в impeto Галилея —
количественную <меру движения,— величину,
пропорциональную скорости, которая не накопляется и не тратится,
а остается мгновенной характеристикой движения и не
уменьшается без воздействия извне.
Таковы были первые шаги Галилея на пути к
концепции инерционного движения. В Пизе были сделаны и
первые шаги* к позднейшей (сформулированной в 1604 г. в
Падуе) концепции ускоренного движения. Здесь также
литературная эрудиция столкнулась с навеянным временем
стремлением к математизации физики.
У Аристотеля концепция движения падающих тяжелых
тел исходит, как и теория движения в целом, из среды и ее
воздействия на движущееся тело. Скорость падения
зависит от его способности разделять среду, т. е. от формы и от
веса тела. Падение в пустоте происходило бы с
бесконечной скоростью, и это служит Аристотелю аргументом в
пользу заполненности пространства. Критика
аристотелевой концепции падения тяжелых тел шла параллельно
критике общей концепции. Филопон говорил, что скорость
падения не может быть обратно пропорциональной
сопротивлению среды, тяжесть присуща телу самому по себе
и от нее зависит способность разделять среду. Взгляды
43
Филопона проникли в средневековую литературу, быть
может, через работы Авемпаса (XII в.), которого излагал
и критиковал Аверроэс. В дальнейшем сторонники impe-
tus'a развивали ту же концепцию падения. Она не
порывала с утверждением Аристотеля о различной скорости
падения различных но весу тел, но исключала определяющее
влияние среды на скорость падения.
Бенедетти хотел соединить аристотелеву динамическую
концепцию падения с гидростатическим законом
Архимеда: скорость падения (пропорциональна ве>су тела с учетом
уменьшения веса, вызванного давлением среды,
уменьшения, равного весу вытесняемого объема среды.
Галилей в бытность в Пизе присоединился к числу
критиков аристотелевой концепции. В биографии Галилея
Вишиани пишет:
«В это время, прийдя к убеждению, что для
исследования явлений природы необходимо познание истинной
природы движения, в соответствии с общераспространенной
философской аксиомой — ignoratur motu, ignoratur natura,
Галилей целиком отдался размышлениям, и к веотикому
смущению всех философов, им была показана, посредством
опытов, солидных доказательств и рассуждений, ложность
множества заключений Аристотеля, касающихся
движения, считавшихся до этого совершенно очевидными и
несомненными. Сюда относится положение, что движущиеся
тела, состоящие из одного и того же вещества, но имеющие
разный вес, находясь в одной и той же среде, не обладают
скоростями, пропорциональными их весу, как полагал
Аристотель, но все движутся с одинаковой скоростью. Это
он доказывал неоднократными экспериментами,
производившимися с высоты иизанской башни, в присутствии
других лекторов и философов и всей ученой братии (di tutta
la scolaresca). Он показал также, что скорость одного и
того же тела, движущегося в различных средах, обратно
пропорциональна сопротивлениям или плотностям этих
сред, исходя из совершенно явных абсурдов, которые
вытекают из |про,ти(вополо1жногю предположения» 14.
Это сообщение было источником легенды об опытах,
показавших будто бы одинаковое ускорение падающих
тел. Но легенда давно опровергнута 15. Собственно,
она даже не вытекает из сообщения Вивиани, речь в нем
идет о падении различных тел одного и того же
удельного веса.
44
Взгляды Галилея на скорость падения тел изложены в
«De motu» 16. В Пизе в 1589—1592 гг. Галилей думал еще,
что скорость падения зависит от удельного веса. В этом
отношении он следовал за Бенедеття и его
предшественниками.
Впоследствии, в Падуе, Галилей пришел к мысли о
независимости скорости падающих на Землю тел от их
удельного веса. Скорость эта, как оказалось, зависит
только от времени падения, она пропорциональна квадрату
прошедшего времени. Теория равномерно ускоренного
движения была важнейшим звеном всего научного
мировоззрения Галилея. После того как был найден закон
ускоренного движения, сохранение скорости оказалось
негативной формой более общей закономерности. В
общем случае поведение тела в каждой точке и в каждое
мгновение отличается от его поведения в других точках и
в другие мгновения. Тем самым понятия траектории,
состоящей из бесконечного множества точек, и времени,
состоящего из бесконечного множества мгновений,
приобретают физический смысл.
IV. Наука и эстетические критерии
Важнейшая (сторона биографии Галилея — переход от
собственно механических проблем, которыми он занимался
во Флоренции и в Пизе, к астрономическим проблемам,
которыми он занялся в Падуе. Этот переход был первым
звеном цепи, приведшей к синтезу понятий земной и небесной
механики, т. е. к генезису механической картины мира.
Традиционная космология основывалась на
перипатетических идеях совершенства круговых орбит, вообще на
некотором исходном интегральном взгляде на мир, на
признании интегральной гармонии мироздания. Галилей вывел
интегральную гармонию — правда, не мироздания в целом,
а солнечной системы — из закономерностей,
определяющих движение тела от точки к точке и от мгновения к
мшов-ению. Эти закономерности были найдены по'зже,
в Падуе, и там же Галилей щришея к новому взгляду на
механику неба. Но первый шаг был сделан в Пизе и был
запечатлен в «De motu».
Картина неба, исходящая из дифференциального
представления о движении, преобразовала характер мышления
людей о природе — и не только о природе. Но этот эффект
падуанских астрономических работ Галилея был
подготовлен в Пизе как отказом от перипатетической теории
движения, так и отказом от традиционных канонов научной
литературы.
Работа Галилея над структурой и стилем «De motu»
показывает, как 'Последовательно вырастала новая форма
научной литературы, которая могла обеспечить ее
социальную функцию — создание нового стиля мышления
людей. Но здесь, как и везде, ответы гения шире, чем
вопросы, которые перед вим станпт время. Время требовало
46
новой формы научных трактатов. Галилей создал Новые
каноны итальянской литературы в целом.
Как отразилось столкновение гуманистической
эрудиции и требований окружающей жизни в
литературно-эстетических воззрениях Галилея?
И в науке, и в литературе Галилей был представителем
гуманистической традиции. Он вырос в среде, где все
знали латинскую поэзию, и сам он знал наизусть большую
часть произведений Вергилия, Овидия, Горация и Сенеки.
Но по отношению к ним Галилей порвал с
гуманистической традицией. Большинство гуманистов видело в античной
литературе, в том числе в римской поэзии, источник
научной эрудиции и, более того, источник представлений о
природе. Напротив, Галилей видел в перечисленных поэтах
древнего Рима только поэтов и ни в малейшей мере не
считал античную художественную литературу источником
позитивных знаний. Он почти никогда не ссылался на
античных поэтов — даже на Лукреция — в своих трактатах.
Галилей соединил в себе блестящего знатока, ценителя,
критика и в значительной мере реформатора
художественной литературы. Но его исходная идея — разграничение
художественного и научного творчества.
Эта идея противостояла гуманистической традиции. Из
нее вытекало собственно эстетическое восприятие
античной поэзии, без морализующей тенденции средневековья
и поисков аллегорий, свойственных гуманистам 1. Отсюда
первое эстетическое требование: поэтические образы не
должны сопровождаться претензией на аллегорическое
значение, если они сами естественным образом, без
малейшего произвола и принуждения не вызывают мысли, по
отношению к которой могут играть роль поэтического
выражения.
«Сказкой и поэтическим вымыслом следует
пользоваться как аллегориями, чтобы не возникла и малейшая тень
их обязательности по существу. Иначе они выглядят
неубедительными, искусственными, неправдоподобными и
неуместными и уподобляются картине, написанной в
определенном ракурсе, которая с соответствующего угла
зрения представляет человеческую фигуру, изображенную по
всем правилам перспективы, видимая же анфас, как
естественно и обычно смотрятся другие картины, не
представляет ничего, кроме запутанного и беспорядочного
смешения линий п красок, в котором воображение с трудом
47
подсказывает очертания рек либо извилистых
тропинок, голого побережья либо облаков или самых странных
химер» 2.
Ссылки на античных поэтов в научных трактатах
соответствовали неточному и, что самое главное,
некаузальному характеру схоластических трактатов. Когда писали, что
магнит — царь камней, будучи обернут в пурпурную
мантию (т. е. в красную материю), выказывает свое
удовлетворение усилением магнитной силы, то подобная
концепция не выпадала из цепи аллегорий. Поэтому выступления
против аллегорий были у Галилея н*е только эстетическим
profession de foi, но и гносеологическим. Именно эта
гносеологическая идея лежит в основе множества выпадов
Галилея против привлечения стихов в качестве научных
аргументов. Грасси в одном из полемических выступлений,
говоря о теплоте и движении, указывал Галилею на мысли
Овидия, Лукреция, Вергилия и других поэтов («на
'авторитет которых,— писал Грасси,— в важнейших случаях
обычно ссылаются и ему придают большое значение»).
Галилей отвечал (он говорит о себе в третьем лице): «Все
это рассуждение напрасно, так как Галилей не отрицает,
что это было сказано поэтами и многими другими, а
утверждает, что это высказывание ложно, и доказывает это
на основании опыта» 3.
В отличие от большинства гуманистов, Галилей
подходил с эстетическими критериями, а не с поисками
аллегорий, и к греческой литературе. В письме к герцогу
Леопольду он говорит о 'великолепной поэзии Пжгдарз, в
которой основную те!му 'заслоняют многочисленные
отступления, связанные с ней тонкими и неявными нитями 4.
Только такая, чисто эстетическая сторона греческой
поэзии интересовала Галилея. Поэтому, когда Галилей на
одной стороне листка набрасывал строки «De motu», а на
другой — переводы греческих текстов (такие листки
сохранились) , то это свидетельствовало не о совпадении, а о
разграничении одновременных научных и собственно
литературных интересов.
Подобное разграничение связано со сложившимися уже
во Флоренции и в Пиве очень глубокими основами
мировоззрения Галилея. Как уже говорилось, эстетическая
позиция Галилея отражает его гносеологическую позицию.
Галилей — один из провозвестников рационализма; в
книгах Декарта и Спинозы мы находим в очищенном и ipac-
48
члененном виде идеи, которые сплетались у Галилея в
ткань его живых арабесок. Но Галилей — провозвестник
рационализма, который ни на мгновение не переходит в
иллюзию априорного знания и ни на мгновение не теряет
связи с живой стихией чувственного опыта. Опыт, а не
абстрактные, закрепившиеся в классической литературе
понятия, служит источником знания, адекватного
действительности.
Мы увидим по'зже, какую роль играл
«сенсуалистический рационализм» Галилея в генезисе
дифференциального представления о движении, в генезисе новой динамики
и новой формы гелиоцентризма. Мы увидим также,
насколько рельефнее выступают гносеологические основы га-
лилеевой динамики при сопоставлении ее с современной
наукой. Но пока еще рационализм Галилея не получил
позитивного воплощения в новой динамике, и мы хотим
подойти к ее генезису, отыскивая неявные и разрозненные
элементы мировоззрения Галилея в предварительных
набросках, каким был трактат «De motu», и в эстетической
программе его автора.
Первое выступление Галилея по смежным вопросам
науки и ло'эзии было, на первый взгляд, признанием
научной ценности поэтического произведения. Оно
называется «Лекция во Флорентийской академии о форме,
положении и величине дантова ада» («Due lezzioni aH'Academia
fiorentina circa la i'igaira, sillo e grandezza del'lnferno di
Dante») 5.
Галилей прочитал эти лекции по предложению
Академии, которая хотела закончить давний спор. Во второй
половине XV в. в кружке Тосканелли (автора
географических работ, внушивших Колумбу его замысел) занимались
проблемой топографии дантова ада. Это было знамением
времени: люди Кватроченто интересовались в связи
с «Адом» не проблемой воздаяния, а географическими и
топографическими комментариями. Первоначальная
топографическая схема, выдвинутая Манетти 6 и попользованная
Ландино в «комментариях к «Божественной комедии»7,
подверглась в XVI в. энергичной критике и была заменена
новой версией 8. Флорентийская академия хотела
вернуться к старому представлению и в 1587 г. предложила
недавнему пизанскому студенту обосновать старую версию
механико-математическими аргументами. В лекциях
Галилея терцины Данте перемежаются математическими
выкладками, адская воронка рассматривается как цример
4 Галилей
49
конических сечений, мобилизуются теоремы статики и, с
другой стороны, вое детали текста Данте служат
предметом весьма тщательного изучения и глубокого понимания.
Но у Галилея нет и мысли о «Божественной комедии» как
об источнике научных представлений. Аллегории Данте
не теряют своего непосредственного смысла, образы
символизируют религиозные, моральные и политические
понятия, добродетели, пороки, страсти, настроения, но никогда
им не придается сокровенный натурфилософский смысл.
Галилей не смотрит на природу сквозь призму «Ада», он
смотрит на поаму сквозь призму природы и
отображающего природу механико-математического знания.
По-видимому, в годы юности Галилей написал свои
заметки О'б «Освобожденном Иерусалиме» Торквато Тассо
(«Consideration! al Tasso») 9. «Освобожденный Иерусалим»
был для Галилея воплощением фактической дисгармонии,
прикрытой декоративными, произвольными, не
связанными с сюжетом, внешними поэтическими украшениями.
Галилей, в отличие от большинства участников
литературных споров вокруг «Освобожденного Иерусалима»,
касается только стилистических особенностей поэмы. При этом
получает выражение одна позитивная идея. С точки
зрения Галилея, произведение должно быть проникнуто
сквозной идеей, однозначно определяющей выбор
поэтических приемов. Галилей не возражает ни против
эмоциональных излияний, ни против эпических элементов, ни
против сочетания исторических и вымышленных
подробностей в поэме Тассо. Он возражает против
неоднозначности, произвола, случайности, неоправданности при их
появлении. Идеал Галилея — однозначная необходимость
каждого поэтического приема, каждой смены стиля и
жанра. Это требование рационалистическое. Но то, что оно
адресуется поэзии в форме конкретного разбора отдельного
произведения, показывает незастывший, ранний,
«утренний» характер галилеева рационализма.
В глазах Галилея идеалом однозначности
естественности, соответствия между содержанием и стилем является
«Неистовый Роланд» («Orlando furioso») Ариосто.
Галилею принадлежит «Postille ad Ariosto» 10. Поэма
Ариосто — высшее выражение эстетических идеалов Галилея.
Многочисленные замечания на полях «Неистового
Роланда» содержат исправления, замену слов и строк
новыми, лучше укладывающимися в метрику, замену
банальных предикатов более выразительными, а также оценки
50
отдельных частей поэмы. Общий смысл исправлений и
заметок таков: поэма Ариосто должна стать классическим
эталоном одпозначной зависимости деталей от сквозной
идеи. Любой поэтический образ, любая стилистическая
особенность, любая часть поэмы должны быть
необходимы и достаточны с точки зрения идеи, закона, единого
смысла, единого стержня, превращающего поэму в целое.
При движении тела его поведение в каждой точке
однозначно определяется законом, гарантирующим своим
непрерывным действием себетождественность тела.
Аналогичным образом развитие сюжета определяет в каждой
точке характер поэтической ткани, в каждой точке эта
ткань зависит от целого, от развивающейся идеи
произведения. Все, что не необходимо, является диссонансом.
Подобный эстетический идеал не превращает поэзию
в геометрию. Речь идет об очень широком арсенале
весьма различных по стилю поэтических средств. Среди них
«макароническая» поэзия, пародии, вся сатирическая
традиция стихотворной публицистики Возрождения.
Галилей любил, знал наизусть, цитировал в разговоре
веселые и злые пародии Франческо Верни, он любил
стилизованные под крестьянский говор юмористические стихи
Руццанте,— все это было в его глазах противовесом
господствовавшей рафинированности. Галилею принадлежит
отразившее подобные традиции шуточное стихотворение
по поводу распоряжения, обязывающего пизанских
профессоров постоянно носить мантии и.
Протест против нанизывания произвольных
украшений, против эрудиции, заменяющей мысль, против
произвольных декоративных орнаментов был обращен и к
художественной, и к научной литературе. В части формы
произведений, их стиля и архитектоники поэзия и наука
объединялись общими требованиями. И, что особенно
важно, в эстетических требованиях Галилея и в его
собственной литературной практике, создавшей современную
итальянскую прозу, рационалистические критерии не
теряют своего раннего, не застывшего характера.
Архитектоника и стиль основных произведений
Галилея соответствуют раннему характеру
рационалистической схемы бытия. Она еще не укладывается в
однозначную и универсальную систему, которая должна завоевать
умы именно такой универсальностью. Такой была
картезианская физика. Галилей завоевывает признание своим
4* 51
идеям каждой фразой, каждым образом, каждым Ново
ротом повествования. Он стремится к однозначности и
стройности, но это однозначность и стройность не
геометрии, а качественной картины, обосновывающей
возможность геометрического постижения истины как
результата непрерывного изучения явлений.
Декарт считал недостатком трудов Галилея его
живую речь, изобилующую отступлениями, полемическими
выпадами, дидактическими разъяснениями. В письме
Мерсенну он говорил о Галилее: «Представляется
ошибочной его манера постоянно отклоняться и не
задерживаться на исчерпывающем изложении предмета; это
показывает, что он совсем не склонен к систематическим
исследованиям и что, не вдаваясь в первооснову
природы, ищет лишь причины некоторых частных явлений, т. е.
возводит постройку без фундамента» 12.
Ольшки заметил, что работы Галилея должны были
Казаться фрагментарными, потому что он стремился не к
логической, а к художественной законченности своих
произведений 13. Действительно, Галилей развертывает перед
читателем не только цепь силлогизмов, но и цепь
психологических воздействий. Вернее, его произведения
содержат цепь логических конструкций мысленных
экспериментов и описаний, которые перемежаются
отступлениями, логически не связанными с этой цепью, но
психологически связанными очень тесно. В целом текст Галилея
не только убеждает читателя в истинности новых
представлений о мире. Он пробуждает в нем новые чувства
достаточно смутные, но интенсивные. Ощущение
бесконечной сложности природы переплетается с ощущением
суверенности и силы человеческого разума,
последовательно постигающего бесконечную природу. И вся цепь
геометрических и логических построений, литературных
реминисценций, описаний, полемических выпадов, эмо-
ш циональных признаний неуклонно освобождает человека
не только от старых представлений, но и от старого стиля
мышления о природе и о себе.
Стиль Галилея напоминает отчасти архитектуру
барокко, которая тоже стремилась не к геометрической, а к
живописной стройности и поэтому дробила спокойные
линии горизонтальных поясов сложными пилястрами и
заменяла прямые и плоскости кривыми линиями и
сферическими поверхностями.
52
Язык большинства произведений Галилея, написанных
в Падуе н позже во Флоренции,— итальянский язык.
Он — итальянский не только в прямом и очевидном
смысле, но и в более сложном. В его трудах изложение
пересыпано чисто итальянскими реминисценциями, и только
большой знаток итальянской литературы может понять
особенности литературного стиля Галилея. И вместе с тем
содержание работ Галилея было понято повсюду. Чтобы
стать понятным тем группам итальянского общества,
которым они были адресованы, письма, памфлеты и
трактаты Галилея должны были достичь кристальной чистоты
и естественности стиля, раскрывавшей их содержание
людям во всех странах, куда эти произведения попадали.
Подойдем с несколько иной стороны к столь
характерной для Галилея черте — его пропагандистскому
темпераменту.
Галилей хотел изложить и обосновать
гелиоцентрическую систему с помощью самых простых конструкций.
Простота системы Коперника кажется ему важным
аргументом в пользу гелиоцентризма. Не следует, однако,
придавать слову «простота» слишком простой смысл. Сейчас
мысленные эксперименты и кинетические схемы Галилея
кажутся простыми в самом общезначимом и абсолютном
смысле, простыми для всех, простыми независимо от
мировоззрения, навыков и традиций читателя «Диалога».
В XVII в. все было иначе. Количественно-математическая
тенденция казалась в высшей степени искусственной,
дискредитация непосредственного опыта и доверие к
мысленным экспериментам выглядели произвольными и
странными. Таким искусственным, произвольным и странным
учение Галилея представлялось большому числу
читателей «Диалога». Но еще большему числу оно казалось
естественным, приводящим к однозначным результатам,
единственно возможным. Одни считали труды Галилея
произвольным математическим усложнением картины
мира, других схемы «Диалога» подкупали своей очевидной
простотой. В данном случае «одни» и «другие»
представляли собой большие социальные группы с различным
восприятием научных данных. С одной стороны
находилось большинство профессиональных учепых, для
которых простыми и очевидными были традиционные
представления, 'согласовавшиеся с традиционной сферой
непосредственного опыта. С другой стороны — иная 'соци-
53
альная среда, в которой кинетические образы,
фигурирующие в «Диалоге», представлялись простым, однозначным
и естественным обобщением опыта. Для этой среды
концепции Галилея ассоциировались с очень большим кругом
конкретных наблюдений. Было бы правильнее сказать,
эти концепции, изложенные в форме мысленных
экспериментов, ассоциировались со множеством реальных
экспериментов, из которых складывается большой мир
движущихся кораблей, вращающихся валов, летящих снаря-
дш,— тот мир, символом которого был венецианский
арсенал, упомянутый в начальных строках галилееозыж
«Бесед». Для указанной среды дифференциальное
представление, представление о бесконечном 'множестве точек
и мгновений, не было искусственным, оно однозначным
образом соединялось с мысленными экспериментами,
с образом шара, катящегося по поверхности без подъемов,
и с аналогичными кинетическими образами, 'а эти
последние соединялись с живым конкретным опытом.
История науки всем своим содержанием противоречит
мысли о чисто индуктивном происхождении научных
концепций, как и мысли об их априорном происхождении.
История науки показывает, что критерий
эмпирической очевидности, так же как критерий
логической очевидности, не может определить сам
по себе эволюцию научных представлений, переход
от одних представлений к другим. Эти критерии
меняются сами. Они меняются вместе с господствующими
сферами практического опыта и с общим характером
производства, культуры и общественного сознания. Существуют
такие поворотные моменты в истории науки, когда
общественная обусловленность науки и ее критериев
становится особенно явственной. Разумеется, содержание
научных представлений, отражающих действительную
структуру мира, зависит только от этой структуры. Но
собственно историческая проблема — почему именно в этот,
а не в иной исторический момент удалось в данном
пункте приблизиться к объективной истине,— эта проблема
не может быть решена без ответа на вопрос: каков был
в это время критерий очевидности, простоты,
естественности научной теории, без ссылок на исторические
особенности восприятия мира, отражающие в последнем
счете исторические особенности общественного бытия.
В XVII в. очередной шаг в познании объективных зако-
54
номерностей природы не мог произойти, если бы не
выросла социальная среда, для которой дифференциальное
представление оказалось более близким, более
естественным, более простым, чем перипатетическая схема чисто
статической гармонии мироздания.
Для следующего после Галилея поколения научная
истина казалась очевидной либо по своой однозначной
связи с логическими основами всякого знания, либо по
однозначной связи с результатами эксперимента. Уже
в середине XVII в. перестала быть явной зависимость
восприятия научных истин от тех или иных традиций, от
той или иной сферы практического опыта, от той или иной
общественной стихии. Во второй половине XVII столетия
ученый уже не чувствовал необходимости
преобразовывать не только картину мира, но и головы людей. Об
этой, чисто «утренней» задаче начали забывать, когда
механическая картина мира достигла зенита и приобрела
в глазах своих адептов характер непререкаемой
эмпирической очевидности, абсолютной простоты и
естественности. Александр Поп выразил это отношение к
классической концепции своим известным двустишием:
«Природа и ее законы были покрыты мраком. Бог
сказал ,, да будет Ньютон" и все осветилось».
Классическая картина мира после Ньютона,
казалось, не нуждалась в пропаганде, ее считали абсолютно
убедительной в силу очевидного соответствия
непререкаемым экспериментам и непререкаемым логическим
основам знания.
Но в начале XVII в. нельзя было забывать о
необходимости преобразования не только знаний, но и голов,
в которые эти знания должны войти. О преобразовании
самого восприятия научных знаний нельзя было тем более
забыть в центре контрреформации, в условиях
напряженной борьбы мнений.
Строй мыслей, который находил отклик в новой
социальной среде, был пронизан пафосом количественного
восприятия природы. Именно это количественное
восприятие казалось искусственным в одной социальной среде
и естественным, простым, единственно правильным —
в другой. Оттачивая свои аргументы в поисках не только
убедительных (в смысле физической корректности), но
и убеждающих построений, Галилей рисовал
количественную картину мира. Но он ее все же рисовал
55
и она оставалась картиной, не превращаясь ни в
чертеж, ни тем более в уравнения Лагранжа, освобожденные
даже от чисто геометрической наглядности. В XVII в.
чертежи и уравнения еще не могли найти отклик в
сердцах людей.
В Пизе Галилей уже пришел к мысли о
необходимости адресовать новые представления о мире новой
национальной и интернациональной среде. Такую среду ол
нашел, как мы увидим, в Падуе. Но вместе с тем Галилей
искал в Пи<зе язык и стиль, 'которые донесли бы его идеи
до новых, более широких кругов. Указапные поиски
образуют скрытую внутреннюю историю «De motu».
Первоначальная редакция «De motu» 14 представляет
собой нагромождение полемических выпадов против
перипатетиков, очень подробных описаний и
геометрических построений. Позднее Галилей переработал текст
трактата. Во второй и третьей редакции 15 изложение
становится риторическим и сравнительно гладким, в духе
гуманистической традиции. Этот стиль соответствует
традиционным чисто словесным объяснениям, которые
противоречат общему духу трактата, но прячутся под
торжественными периодами. Таково, например,
космогоническое введение, где земные элементы покидают небо,
«чтобы не оскорбить взора бессмертных и блаженных
духов» 16. Эти чуждые Галилею реминисценции исчезают
при следующей переработке. Содержание становится в
идейном отношении однородным, и теперь видно, как
резко оно отличается не только от традиционных
воззрений, но и от традиционного стиля научного мышления.
Требуется новая форма изложения. Галилей прибегает
к форме диалога. Два собеседника — один изображает его
самого, другой — его единственного пизанского друга и
единомышленника Якопо Маццони — беседуют о
проблемах движения 17. Пока эта форма преследует
дидактические, а не полемические цели. Но Галилей уже видиг,
что его идеи вызовут энергичное сопротивление. Среди
отрывков, предназначенных для трактата, мы встречаем
пророческие строки:
«Многие, прочитав мои труды, будут думать не о том,
чтобы убедиться в истинности сказанного мной, а только
о том, как бы найти пути для опровержения моих доводов
правдой или неправдой» 18t
V. Падуя
Субъективным импульсам, толкнувшим Галилея из
Пизы в Падую, посвящено немало страниц в
биографической литературе. По-видатшму, в решении Галилея
сказались и тяжелые материальные условия, и ощущение
одиночества, и еще многие, не отразившиеся в письмах и
в других документах, быть может весьма преходящие,
побуждения. Но за всеми психологическими мотивами стоял
некоторый общий фон — поиски новой среды, способной
усвоить новое отношение к науке и новые представления о
природе. Такие поиски в некоторой мере (нам
вскоре придется вспомнить об этой оговорке) увенчались
успехом во владениях Венецианской республики. Поэтому
здесь мы переходим от субъективных импульсов к
объективному значению и содержанию венецпанско-падуанской
среды для творчества Галилея.
В конце XVI в., когда Галилей переехал во владения
Венецианской республики, дни ее расцвета и могущества
были сочтены. Впрочем, сочтены были не дни, и даже не
годы, а десятилетия. Иссякли^ самые глубинные истоки
могущества Венеции, главные пути мировой торговли
перешли из Средиземного моря в Атлантический океан. Но
этот коренной переворот, вызвавший неисчислимые и
колоссальные по значению социальные, политические и
культурные преобразования, еще не стал явным. Поражения
Венеции казались временными, необратимости их пока не
замечали, в лагуну входили корабли из десятков
заграничных портов, в гондолах на Большом канале и во дворцах
на его берегах собирались владетельные князья со всех
концов Европы, дож и сенат лавировали между нарастав-
57
шими опасностями, покровительствовали науке и
искусству; Венеции уже не везде боялись, но с ней еще везде
считались. Жизнь стала очень сложной, повороты
экономической конъюнктуры и политика оказывались
неожиданными и очень болезненными.
Инерция многовекового процветания продолжала
действовать. В частности, Падуанский университет сохранял
традиционные привилегии, традиционное внимание
республики, традиционный уровень денежных поступлений и
традиционную репутацию. Мы постепенно подойдем к
значению новых условий, новой среды и новых интересов для
творчества Галилея.
Приехав в Падую, Галилей поселился у своего друга
Пинелли и в его большой и роскошной библиотеке начал
готовиться к вступительной лекции. Вечером, когда
собрались друзья Пинелли (вечер закончился игрой Галилея на
лютне), его поразила свобода 'застольной беседы. В
Венеции дух контрреформации чувствовался меньше, чем в
Тоскане, и венецианские патриции позволяли себе
гораздо более резкие выпады против Рима. Это не помешало им
выдать Джордано Бруно римской инквизиции. Заметим
попутно, что весной 1600 г. Галилей услышал рассказ о
сожжении Джордано из уст своего венецианского друга Саг-
редо, имя которого стало бессмертным благодаря
«Диалогу». Но о друзьях Галилея мы скажем несколько
позже.
Вскоре Галилей снял небольшую квартиру. К нему
приехала, чтобы вести хозяйство, его сестра Вирджиния.
Впоследствии Галилей поселился в большом доме с садом.
Важно отметить рост числа друзей. Они собирались по
вечерам у Галилея. По-видимому, атмосфера этих
собраний в какой-то мере отразилась впоследствии в репликах
«Диалога» — не столько в их содержании, сколько в той
стихии свободного обсуждения любых проблем, даже
самых запретных, которая прорывает рассыпанные в книге
ортодоксально-католические оговорки.
Галилей часто уезжал из Падуи в близкую Венецию.
Позднейшие письма запечатлели любовь Галилея к этому
городу. Можно думать, что «каналы, дворцы и храмы
Венеции как-то ассоциировались в душе флорентийца с
новыми интересами. Венеция и Падуя означали для Галилея
колоссальное расширение кругозора — не в смысле
дальнейшего наращивания эрудиции, а в смысле более мощного
58
потока новых жизненных впечатлений. В их число теперь
входили встречи и беседы с людьми со всех сторон света,
новые эстетические впечатления, картина такой
напряженной общественной и идейной борьбы, которую Галилей
не видел во владениях тосканского герцога.
В центре венецианских впечатлений находилось море.
Из-за моря приезжали люди, рассказывавшие о множестве
новых фактов, в море уходили корабли, переводившие
в план динамических соотношений статическую
относительность перспективы, для моря работал венецианский
арсенал, с морем были связаны адресованные астрономии
практические запросы, море надвигалось на город во время
прилива, ставившего перед наукой самые важные, как
казалось Галилею, астрономические проблемы. Все это
Галилей вспоминал много по'зже, на склоне лет. Тогда
выяснилось, что эти впечатления внесли большой вклад в его
духовную жизнь.
Сейчас они заслонялись множеством личных забот,
прежде всего хроническим недостатком денег. Когда
читаешь письма Галилея из Падуи, видишь, как много сил
и времени отнимали у него постоянные долги, постоянные
поиски средств, чтобы расплатиться с долгами, и поиски
кредита, чтобы сделать новые.
После нищенского жалованья в Пизе Галилей сразу
получил в Падуангском университете небольшую, но все же
вдвое более высокую сумму, потом она неоднократно
увеличивалась. Кроме того, Галилей создал в Падуе
мастерскую, где под руководством специально приглашенного
для этого Маццолени работали литейщики, токари и
столяры. Далее, у Галилея учились молодые аристократы —
между ними владетельные князья — со Bicex концов
Европы (в их числе Козимо Медичи — наследник тосканского
престола). И тем не менее денег не хватало.
Судьба сыграла с Галилеем довольно злую шутку. Чем
больше средств получал он в университете, от мастерской
(она, впрочем, почти не давала дохода) и от учеников, тем
больше денег требовало повышавшееся общественное
положение Галилея. Письма Галилея полны забот о
поддержании фамильной чести расходами на праздники, подарки
и в особенности на приданое сестер. Свадьба
Вирджинии — она вышла замуж за Бенедетто Ландучи, сына
тосканского посла в Риме,—стала началом долгих затруд-
59
нений. Галилей подробно сообщает о заказе свадебных
подарков. Приданое Вирджинии было еще более тяжелой
задачей. Бенедетто ждал его очень долго и начал грозить
судом 1. Вскоре пришлось заботиться о приданом для
второй сестры, Ливии (иначе ее пришлось бы отдать в
монастырь) и об устройстве младшего брата — Микеланджело2.
Через 18 лет после брака Вирджинии п 8 лет после брака
Ливии неуплаченные долги, связанные с приданым для
сестер, все еще упоминаются в сохранившейся переписке
Галилея.
У Галилея появилась и своя семья. В Венеции он
встретил одинокую сироту Марину Гамба, привез ее в Падую,
снял для нее две комнатки, а после того как Марина
родила в 1600 и в 1601 г. двух дочерей (их назвали в честь
сестер Галилея Вирджинией и Ливией), она подселилась в
доме Галилея. Позже, в 1606 г., родился сын Галилея —
Винченцо.
Друзья Галилея принадлежали к гуманистической
среде. Это были венецианские и падуаыские патриции, из
которых уже упоминались Пинелли и Сагредо. В числе
друзей Галилея были флорентийский аристократ Сальвиа-
ти (его имя Галилей дал одному из собеседников
«Диалога»), Антонио Медичи (незаконный сын герцога Фран-
ческо) и знаменитый государственный деятель Венеции
Паоло Сарпи. На нем следует остановиться подробнее.
В 1605 г. папский престол занял Павел V, «который
считал своей главной задачей в Италии подавить светскую
оппозицию, время от времени поднимавшую голос против
Рима. Руководители ордена иезуитов, и прежде всего
кардинал Беллярмино — крупнейший из официальных
теоретиков католицизма, выступали против светских
монархов, пытавшихся ограничить в своих владениях права
церкви и монашествующих орденов. Особенное озлобление
вызывали проекты взимания налогов в пользу светских
властей с имущества и доходов духовенства. Строптивые
герцоги под угрозой отлучения смирялись сравнительно
быстро, но Венецианская республика доставляла святому
престолу немало неприятностей.
Во главе венецианских кругов, противодействовавших
Риму и иезуитам, находился советник сената по делам
церкви и духовенства Паоло Сарпи. Он был одним из
наиболее образованных священников Венеции, и его интерес
к науке уступал лишь постоянному и главному интересу
60
его жизни — борьбе за прерогативы светской власти,
против претензий церкви.
В 1606 г. после отклонения Венецией требований Рима
о снижении налогов на имущество и доходы духовенства
Павел V отлучил от церкви дожа, сенат и его советников
и запретил богослужения в церквах Венеции.
Венецианское духовенство не выполнило приказа Рима и
подчинилось республике. Неподчинившиеся иезуиты покинули
владения Венеции. Изгнание их стало основным поводом
для борьбы, оно (заслонило даже недовольство налогами.
Столь же острым был вопрос о двух священниках,
арестованных властяхми республики за тяжелые преступления,—
их заточение привело в ярость Павла V.
Дело шло -к войне. Папа надеялся на помощь испанцев,
Венеция — на помощь Франции. Но Филипп II так же не
торопился с помощью Риму, как Генрих IV — с помощью
республике. В конце концов распря закончилась
компромиссом. В продолжение конфликта, находившегося в
центре внимания всех европейских дворов, имя Оарпи было у
всех на устах. После компромисса оно сохранило в глазах
иезуитов и римской курии весь 'свой одиум. Много лет
спустя, во время процесса Галилея, ему ставили в вину
дружбу с Сарпи.
В событиях 1606—1607 гг. можно увидеть одну весьма
характерную черту. Отношения между Венецией и Римом
складывались так или иначе в зависимости от отношений
между Испанией, Францией и вообще от обстановки к
северу от Альп. В сущности, это началось уже давно, а
позднее, в годы Тридцатилетней войны, стало еще более явным.
В Европе происходил очень важный процесс — гегемония
переходила от государств, первоначально проникших
в Америку, 'к государствам, для которых открытие
Америки стало исходным пунктом промышленного развития.
Гибель испанской армады была только одним из аккордов
этого процесса.
В этих условиях научные и культурные центры Италии
были срезанными цветами. Они еще благоухали и
сохраняли свою свежесть. Но они были обречены. Ученые
чувствовали это. Они видели, как удары реакции рвут их
связи, они проявляли чудеса героизма и энергии, чтобы
восстановить эти связи, но временные победы не
компенсировали поражений. Трагическая судьба Галилея и
торжество иезуитов подготовлялись давно, и самые, казалось
61
бы, далекие от науки и от жизни Галилея политические
события свидетельствовали о надвигающейся реакции —
результате коренного изменения экономической географии
мира.
События, связанные с деятельностью Сарпи и с
борьбой между Римом и Венецией, были симптомом этих
глубоких изменений, которые тогда нельзя было даже
обнаружить во всей их общности. Республика, лишенная
экономической базы своего политического могущества —
торговой гегемонии, лавировала. Она видела, что
контрреформация переходит от преследования еретиков к
одновременному усилению светских прерогатов Рима и
боялась за свой суверенитет. Но у Венеции не было ни сил,
ни мужества для активной борьбы. Сарпи остался в
одиночестве, венецианские патриции не хотели решительно
рвать с Римом.
Социальная среда, предавшая в 1600 г. Бруно, затем
фрондировавшая против Рима, изгнавшая иезуитов и,
наконец, добившаяся компромисса и примирения, была
плохой питательной средой для новой науки. По мере того
как социальная функция науки становилась все более
явной, условия в Венеции оказывались все менее
благоприятными дл!я ученых. Здесь не было прямого террора
инквизиции, но и не было возможности забыть о
контрреформации. Забегая вперед, заметим, что иные условия
появились в странах, связавших свою судьбу с новыми
экономическими тенденциями, пробужденными открытием
Америки. Заметим также, что только в этих странах могла
появиться последовательная универсальная и детально
разработанная механическая концепция природы и только
здесь мог быть завершен синтез прикладной механики
и гелиоцентризма. В начале XVII в. импульс, который
наука получила от средиземноморской торговли и
экономического развития итальянских городов, импульс,
сохранявшийся в течение трех столетий, быстро ослабевал
и, таким образом, напоминал пресловутый impetus.
Все это можно было понять лишь ретроспективно.
Галилей думал сначала, что его неудовлетворенность
вызвана отдельными неудачами, происками врагов, промахами
друзей. Потом он пришел к мысли, что республика не
может обеспечить концентрацию всех сил ученого на
исследовании коренных проблем науки. Он надеялся, что
при дворе просвещенного монарха он сможет наконец
62
целиком посвятить себя разработке новой
гелиоцентрической системы. Надежда была тщетной. Контрреформация
охватила Тоскану в большей степени, чем Венецию. Тогда
Галилей пошел навстречу потоку. Он надеялся в самом
Риме встретить силы, способствующие новой науке.
У него были некоторые основания для подобной надежды,
но, как оказалось, недостаточные. Трагический финал стал
неизбежным и Галилей провел остаток жизни пленником
инквизиции.
Когда же Галилей вступил на путь, который вел его к
такой развязке? Задолго до начала работы над
криминальным «Диалогом». Открытия, которые были сделаны в
Падуе, придали гелиоцентризму такой физически
наглядный, рациональный и поэтому экзотерический вид, что
после этого дороги назад уже не было. Конечно, дороги
назад не было для мыслителя, воплотившего мощь и
смелость своей эпохи. Но мыслитель меньшего масштаба и не
смог бы придать гелиоцентризму (новую форму.
О какой новой форме гелиоцентризма идет речь? Речь
идет о гелиоцентрической системе, базирующейся на
принципе инерции. Следовательно, на системе, обоснованной
неправильной посылкой? — мог бы спросить ученый XVIII
столетия, абсолютизировавшего идею прямолинейной
инерции, и знавший, что планеты движутся вокруг Солнца
не только по инерции, как думал Галилей, но и под
влиянием тяготения. Сейчас мы вышли за пределы
классической концепции, разграничивающей пространство и
действующие в нем силовые взаимодействия. Сейчас мы
знаем, что движение по инерции и движение в
гравитационном поле можно обобщить одним понятием движения по
геодезическим линиям искривленного пространства.
Поэтому сейчас мы видим в галилеевой концепции
развитие стержневой линии новой науки.
Концепция Галилея придала системе Коперника
чрезвычайно наглядный и физический вид. Если Земля
обращается вокруг Солнца согласно тем же
(закономерностям, которые определяют движение земных тел, то с
эзотерическим, скрытым, гелиоцентризмом покончено. Если
движение Земли обосновывается рациональными
кинетическими схемами, если оно обосновывается наблюдениями,
которые может повторить каждый, если оно излагается
рассчитанным на широкий крут людей ясным, образным
и непревзойденным по убедительности языком, значит,
63
Жребий брошен. Галилей идет к «Диалогу» и к своей
Голгофе.
Астрономические открытия Галилея были
завершением его работ по механике в падуанский период. Они не
были связаны с университетским преподаванием, которое
чем дальше, тем больше становилось тяжелой обузой.
Галилей жил в Падуе двойной жизнью; в университете
профессор излагал на традиционной латыни
традиционные космологические и физические представления. Дома,
окруженный учениками, он на тосканском наречии вел
беседы о новых проблемах и высказывал новые воззрения.
В центре внимания первоначально находились
инженерные и военно-инженерные вопросы. В эти годы Галилей
написал две работы по фортификации: «Краткое
наставление по военной архитектуре» («Breve istrnzione all'archi-
tettura militare») 3 и «Трактат о фортификации» («Tratta-
to di fortificazione») 4. Основная идея этих работ,
существенная для эволюции общих идей Галилея, состоит в
следующем. Галилей считает возможным отбросить
громадную по объему сумму сведений, заимствованных у
древних авторов, по той простой причине, что современные
крепости подвергаются обстрелу из огнестрельного оружия.
У древних его не было, следовательно, вся почерпнутая
у них фортификация не имеет значения. При этом
исчезает и старая, чисто литературная систематизация
фортификационных и архитектурных рецептов. Они
систематизировались по прикладным задачам, но внутренняя, не
прикладная, а объективная систематизация отсутствовала,
ее заменяли ссылки на те или иные произведения
античной литературы. Галилей ищет новый, собственно физи-
чеслий, объективный принцип, чтобы объединить
содержание воей прикладной механики. Еще в самом начале
своего пребывания в Падуе Галилей пишет небольшую
работу «Механика» («Le Meccaniche») 5, посвященную
общей теории простых машин. Во введении формулируется
мысль, которая мелькала у Галилеи и раньше: природу
нельзя обмануть, когда машина позволяет двигать тот же
груз с помощью меньшей приложенной силы, груз
движется медленнее.
Вскоре работы по прикладной математике приводят
Галилея к первой серьезной полемике. С 1597 г. ученики
Галилея и некоторые его друзья пользовались
изобретенным им пропорциональным циркулем. Галилей написал
64
небольшую работу, предназначенную для практиков, в
частности для фортификаторов, которые хотели бы
воспользоваться циркулем: «Le operazioni del compasso geometri-
co e militare» 6.
Впоследствии Галилей решил опубликовать это
наставление, и IB 1606 г. оно вышло в Падуе из печати — первая
изданная работа Галилея. Вскоре падуанский астроном
Валтасар Каира перевел книжку Галилея на латынь,
дополнил ее несколькими вставками и выдал за свою
оригинальную работу7. Тем самым он представил книжку
Галилея как перевод на итальянский язык своей работы.
Галилей обратился в суд, и по решению суда книжка
Кайры была уничтожена. Но Галилей кроме того опубликовал
в 1607 г. в Венеции направленный против Капры памфлет
«Difesa di Galileo Galilei contro alia cokmnie e imperture
di Baldassar Gapra>> 8.
Здесь в каждой фразе можно узнать льва по когтям.
На Каиру обрушивается каскад обвинений —
обоснованных, точных, неопровержимых, и шштетов — резких и
прилипающих навсегда, причем все это высказывается
в безупречной литературной форме. Сила удара
объясняется тем, что Галилей увидел еа Капрой большую группу
врагов — завистников, интриганов и обскурантов. В
сущности, эпизод с плагиатом Капры был переломом в жизни
Галилея. Он увидел врагов и отныне уже не выпускал их
из виду всю жизнь.
Но для подготовки основных выступлений Галилея
указанный эпизод важен прежде всего с собственно
литературной стороны. В 1606 г., в 42 года — nell mezzo
del camin di nostra vita •— Галилей обладал таким
могучим полемическим темпераментом и такой мускулатурой
стиля, которые не могли быть направлены на одного
случайного противника, какие бы группы врагов за ним
ни стояли.
Галилей мот обрушить эти силы на старую
астрономию, но ему не хватало решающих аргументов в пользу
гелиоцентризма. Между тем весь блеск литературного
дарования Галилея состоял в том, что форма ©го
произведений максимально раскрывала убедительность и ясность
новых аргументов — исходных принципов механической
картины мира. Галилей отвергал самодовлеющую красоту
изложения — это было стержнем его эстетической
программы и литературной практики.
5 Галилей
65
Галилей стал коперниканцем в юности, в бытность
в Пизе. По-видимому, он сразу увидел в
гелиоцентрической системе пронизывающий ее, хотя и неявный,
архимедовский дух. Его привлекало понятие движения,
лишенного статической канвы абсолютных естественных
мест, движения в однородном пространстве, без точек, где
движение могло бы прекратиться. Эта концепция
постепенно приобретала отчетливую форму в механике
Галилея. Но до ее астрономического воплощения было далеко.
В 1597 г. в Падуе Галилей получил от Кеплера книгу
и отправил ему письмо, в котором говорится:
«Много лет назад я обратился к идеям Коперщика и с
по-мощью его теории мне удалось полностью объяснить
многие явления, которые не могли быть в общем
объяснены посредством противоположных теорий. У меня
появилось множество аргументов, опровергающих
противоположные представления, по я их до сих пор не решится
опубликовать из боязни столкнуться с той же судьбой,
которая постигла нашего Коперника, хотя и
заслужившего бессмертную славу среди немногих, но
представлявшегося большинству заслуживающим освистания и
осмеяния, до того велико количество глупцов. Я бы все же
решился выступить с моими размышлениями, если бы было
побольше таких людей, как Вы, поскольку же это не так,
я избегаю касаться указанной темы» 9.
Кеплер ответил письмом от 13 октября 1597 г. В нем
он говорил, что Галилею следует продолжать развивать
теорию Коперника и попытаться опубликовать свои
работы, если не в Италии, то в Германии.
Можно думать, что в последующие годы Галилей все
время думал о решающих аргументах в пользу
гелиоцентризма. Между тем он был вынужден читать в
университете лекции в духе птолемеевой системы без какой-либо
критики. Несомненно, эта необходимость вое больше
увеличивала желание отказаться от преподавания и стать
исследователем, и только исследователем. Галилею
казалось, что он получит такую возможность, вернувшись
во Флоренцию.
Примерно с 1608 г., т. е. еще при жизни герцога
Фердинанда I, был поднят вопрос о возвращении Галилея во
Флоренцию. Этого хотели учившийся у Галилея принц Ко-
зимо, сам Фердинанд и герцогиня. Неясно было, каким
окажется положение Галилея при дворе. В письме тоскан-
66
оком у министру Белизарио Винта 30 мая 1608 г. Галилей
писал, что он не хочет играть роль простого прихлебателя,
униженно добивающегося 'покровительства монарха 10«
Герцог и герцогиня одобрили желание Галилея занять
официальное положение, однако реальные шаги
откладывались.
В феврале 1609 г. принц Козимо наследовал престол
своего отца и стал 'великим герцогом Тосканы.
Возвращение Галилея стало еще более вероятным. Вопросом о
переезде занялись флорентийские друзья Галилея — братья
Энеас и Сильвио Пикколомини. Последний был
воспитателем принца Козимо. Кроме них, активную роль в этом
начинании играл еще один придворный герцога — Вин-
ченцо Весиуччи. Вестой 1609 г. Галилей нанисал ему
письмо11, в котором изложена главная причина желания
Галилея вернуться во Флоренцию: ему нужна полная
свобода от преподавания, чтобы сосредоточить свои силы на
основных научных замыслах.
5*
VI. „Sidereus Nunciusu
В 1610 г. Галилей сообщил о серии крупнейших
астрономических открытий. Впервые в истории он направил на
небо зрительную трубу, увидел холмистую поверхность
Луны, обнаружил существование спутников Юпитера
и установил, что Млечный путь — это скопление
отдельных звезд. Несколько позже он наблюдал фазы Венеры,
кольцо Сатурна и солнечные пятна. Трудно найти в науке
событие, аналогичное указанной серии открытий по
общественному резонансу и по воздействию на мышление
людей — не только ученых, но и широких кругов. Почему
наблюдения Галилея, столь далекие от повседневной
жизни людей, вызвали подлинный переворот в общественном
сознании, почему о них говорили повсюду, почему в
ожесточенные споры втянулось множество людей?
Такие вопросы (аналогичные им задавали после
подтверждения общей теории относительности
астрономической экспедицией 1919 г.) приближают к пониманию не
только исторического смысла открытий, но и к пониманию
духовных запросов людей и, следовательно, к пониманию
исторической обстановки. В данном случае нас приблизит
к ответу на вопрос констатация связи между
результатами наблюдения звездного неба через телескоп и
стержневой идеей творчества Галилея.
Эта стержневая идея состояла, как мы теперь знаем
(теперь, в 60-е годы XX в., яснее, чем раньше!), в
представлении о мире как об упорядоченной системе
дискретных тел, которые движутся одно относительно другого,
в однородном, лишенном привилегированных точек
пространстве. Дискретность вещества, относительность
движения, однородность пространства — таковы современ-
68
ные, ретроспективно присваиваемые обозначения
принципов новой, возникшей в XVII в. картины мира. Эти
принципы были исходным пунктом преобразования
общественного сознания. Если каждое тело, где бы оно ни
находилось, может стать телом отсчета и центром
обращения других тел, если такое движение дискретных тел,
отнесенное к любым телам отсчета, объясняет
наблюдаемые явления природы, то ratio мироздания состоит не в
статической схеме естественных мест, а в кинематической
схеме движедай. Эта кинематическая схема не отличается
в принципе от схем земной, в частности прикладной,
механики. Следовательно, человеческий разум с помощью
рациональных мысленных схем движения может постичь
природу со сколь угодно большой достоверностью, а эта
достоверность состоит в соответ'ствии кинематических
схем, т. е. мысленных экспериментов,— фактическим
наблюдениям.
Коцда Галилей впервые увидел новое звездное небо,
это была встреча рационалистической тенденции с
эмпирическим знанием. Они встретились потому, что у
Галилея при поисках вселенского ratio всегда в сознании
витала мысль о чувственно-воащржним'аемых кинематических
схемах. Именно этим отличался рационализм Галилея
от традиционных поисков априорной мировой гармонии.
С другой стороны, у Галилея была и встречная тенденция.
В работах по прикладной механике он словно
предчувствовал применимость их результатов к изучению звездного
неба. В П&дуе жили как бы два Галилея. Один размышлял
об аристотелевых категориях, об идеях античных
атомистов, Платона и больше всего — Архимеда, а также о
понятиях, введенных номиналистами XIV и мыслителями
XV—XVI вв. Второй Галилей писал трактаты по
фортификации, изобрел пропорциональный циркуль и
организовал большую литейную, столярную и токарную
мастерскую. Но все же это был один человек и между
мастерской и размышлениями о эвшдном небе была
'постоянная связь. Она стала явной и непосредственной в 1609 г.
История изобретения телескопа, чрезвычайно сложная
и запутанная, имеет, в сущности, не слишком
существенное значение для анализа творческого пути Галилея.
По-видимому, в начале XVII в. в Голландии их
конструировали многие. Дело в том, как реагировал Галилей на
сообщение об изобретении зрительной трубы. Он знал о
69
телескопическом действии линзы. Но то, что «рассказывали
о трубах, изготовленных в Голландии, и об их эффекте,
превосходило возможный эффект линзы. У Галилея
появилась мысль о комбинации двух стекол —
двояковыпуклого 'И двояковогнутого. Вероятно, эта мысль связана с
попытками найти возможно более общую теорию
преломления, включающую различные сочетания стекол. Такую
теорию нельзя было построить, пока стремились описать
преломление сферических сред в целом. Ни
предшественники Галилея, ни он сам не смогли найти теорию
преломления. Ее нашел Кеплер, ограничивший задачу
преломлением света в небольшой части сферы и,
соответственно, преломлением в тонких линзах, ограниченных
небольшими частями сферических поверхностей,— то, что
сейчас называется гауссовой областью и параксиальными
лучами 1.
Но Галилей пришел к существенному практическому
результату: комбинация двояковыпуклого п
двояковогнутого стекол дала возможность применения полученной
таким образом зрительной трубы для самых широких
практических и теоретических задач.
Но здесь сказалось и другое: для Галилея комбинации
увеличительных стекол не были ухищрением magia natu-
ralis, каким они были для его предшественников 2. Как мы
уже видели, это отличие характерно для самых ранних
технических интересов и идей Галилея. Он искал в
технических конструкциях воплощение объективных
закономерностей и затем — метод обнаружения таких
закономерностей.
Васко Ронки в ряде исследований показал, что
Галилею принадлежит четкое разграничение понятий света
как объективной категории и субъективного ощущения 3.
Это исходное разграничение руководило Галилеем не
только в теоретических работах, но и в его практической
деятельности. Ведь Галилей был инженером в том смысле,
который по лингвистическим ассоциациям ближе всего
выражается итальянским термином ingenio,— человеком,
изобретающим приборы и вместе с тем раскрывающим
закономерности природы.
Перед Галилеем стояла задача создать инструмент,
демонстрирующий законы оптики л обнаруживающий
законы движения небесных тел. Первая часть задачи не
нашла решения — по крайней мере, в виде количественной
70
диоптрики. Но вторая часть 'задачи была с блеском
решена, когда Галилей направил зрительную трубу на
звездное небо.
Сразу после открытий 1609—1610 гг. Галилей описал
историю открытия телескопа в знаменитом «Звездном
вестнике» («Sidereus Nuncius»). Мы приведем выдержку из
этого описания, предупредив только о терминологии
Галилея. В «Sidereus Nuncius» зрительная труба называется
perspicilium (по-русски это чаще всего переводится
словом «перспектива»). В работах, написанных по-птальян-
ски, труба называется ochiale (очки, окуляр), а
построенный Галилеем микроскоп уменьшительным — occhialino.
Галилей рассказывает:
«Месяцев десять тому назад стало известно, что некий
фламандец построил перспективу, при помощи которой
видимые предметы, далеко расположенные от глаз,
становятся отчетливо различимы, как будто бы они находятся
вблизи. Сообщалось об опытах с этим удивительным при-
бором, одни их подтверждали, другие отрицали.
Несколько дней спустя мне это подтвердил в письме из Парижа
французский дворянин Якобо Бальдовере. Это и было
причиной, по которой я обратился к изысканию
оснований и сред для изобретения сходного инструмента. Вскоре
после этого, опираясь па учение о преломлении, я постиг
суть дела и сначала изготовил свинцовую трубу, на
концах которой я поместил два оптических стекла, оба
плоских с одной стороны, с другой стороны одно стекло вы-
пуклосферическое, другое (вогнутое. Поместив глаз у
вогнутого стекла, я видел предметы достаточно большими и
близкими, казавшимися в три раза ближе и в десять раз
больше, чем при взгляде простым глазом. После этого
я разработал более точную трубу, которая представляла
предметы увеличенными больше чем в шестьдесят раз.
Затем, не жалея ни труда и ни средств, я достиг того,
что изготовил инструмент, настолько совершенный, что
при взгляде через него предметы казались почти в
тысячу раз крушгее и более чем в тридцать (раз ближе, чем
видимые естественным образом. Совсем излишне было бы
перечисление того, насколько удобны такие инструменты
как на суше, так и на море. Но оставив дела земные, я
обратился к небесным» 4.
Последняя фраза очень многозначительна. Она
характеризует общую тенденцию творчества Галилея. Но все
П
содержание отрывка подчеркивает и другое: обратившись
к «небесным делам», Галилей захватил с собой все, что
было получено при выполнении «'земных дел». Более
подробный рассказ был написан Галилеем впоследствии в его
известном памфлете 1623 г. «Пробирные весы» («И Sag-
giatore»,— буквально «пробирщик золота», «человек,
пользующийся пробирными весами для золота»; лучше
всего было бы перевести «исследователь», «испытатель»,
но мы не будем нарушать установившуюся в нашей
литературе традицию перевода этого названия).
«В какой мере участвовал я в открытии этого
инструмента и могу ли я с основанием называть это участием,
я давно уже написал в моем «Звездном вестнике»,
описывая, как в Венецию, где я тогда находился, дошло
сообщение, что синьору графу Маврицию была представлена -
одним голландцем оптическая труба, в которую удаленные
предметы были видны так отчетливо, как будто они были
совсем близко, и сверх этого ничего не добавлялось.
Узнав об этом, я вернулся в Падую, где тогда проживал,
и начал размышлять над задачей. В первую же ночь после
моего возвращения я ее решил, а на следующий день
изготовил инструмент, о котором и сообщил в Венецию тем
же самым друзьям, с которыми предшествующий день
я рассуждал об этом предмете. Тотчас же я принялся за
изготовление 'другого, более 'совершенного инструмента,
который шесть дней спустя привез в Венецию» 5.
Быстрота, с которой была изготовлена зрительная
труба, объясняется наличием у Галилея собственной
большой и, вероятно, хорошо оснащенной мастерской. Но
вместе с тем здесь сказалась и подготовленное всем
предыдущим развитием идей Галилея чрезвычайно яркое
представление о значении зрительной трубы для «земных и
небесных дел».
Далее Галилей рассказывает о впечатлении, которое
произвела зрительная труба в Венеции, и переходит к
опровержению замечаний иезуита Граней, который отрицал
заслуги Галилея в создании телескопа (он выпустил под
именем Сарси памфлет, ответом на который и был «Sag-
giatore»). Галилей рассказывает:
«Но, может быть, кто-нибудь скажет, что немалую
помощь в открытии и в решении какой-нибудь задачи
оказывает возможность убедиться сначала каким-либо
образом в правильности вывода и увериться в том, что не
7?
ищешь невозможного. Поэтому-де осведомленность и
уверенность в том, что оптическая труба уже сделана,
оказали мне такую помощь, без которой я ничего бы не
нашел. Ответ на это не однозначен, и я скажу, что
известие оказало мне помощь, пробудив во мне желание
напрячь мысль, и что без него я, может быть, никогда не стал
бы думать об этом, но я не верю, что известие такого рода
могло как-либо иначе воздействовать на изобретение.
Более того, я утверждаю, что решение подсказанной и
определившейся задачи есть дело более трудное, чем решение
задачи, о которой не думали и которая не упоминалась,
ибо здесь громадную роль может играть случай, там же
все есть результат рассуждения. Теперь мы достоверно
знаем, что голландец, первый изобретатель телескопа,
был простым мастером, изготовлявшим обыкновенные
очки. Случайно, перебирая стекла разных сортов, он
взглянул сразу через два стекла, одно выпуклое, другое
вогнутое, находившиеся на разных расстояниях от
глаза, и при этом увидел и наблюдал возникший эффект
и таким образом открыл инструмент. Я же, движимый
вышеупомянутым известием, нашел инструмент путем
рассуждения.
Рассуждал я следующим образом. Изделие это
содержит одно или более чем одно стекло. Одного стекла
недостаточно, потому что форма стекла может быть либо
выпуклой, т. е. более толстой в середине, либо вогнутой, т. е.
более тонкой в середине, либо ограниченной
параллельными поверхностями, но плоское стекло совсем не
изменяет видимых предметов, вогнутое их уменьшает, а
выпуклое 'значительно их увеличивает, но представляет
очень неотчетливыми и искаженными, поэтому для
получения эффекта одного стекла недостаточно. Перейдя
затем к двум стеклам и зная, что стекло с параллельными
поверхностями, как было сказано, ничего не изменяет,
я 'заключил, что сочетание его с каким-нибудь из двух
остальных не даст эффекта. Поэтому мне оставалось
испытать, что получится из соединения двух остальных, т. е.
выпуклого и вогнутого, и здесь я обнаружил то, к чему
стремился, и на пути этого открытия мне не принесло
никакой помощи то обстоятельство, что подтверждение
результата мне уже было известно. А если Сарси или кто-
либо иной полагают, что уверенность в результате
весьма облегчает поиски способа осуществления эффекта,
7§
пусть прочтут истории о том, как Архпт изобрел
летающего голубя, а Архимед — зеркало, воспламеняющее на
огромном расстоянии, и другие удивительные машины» 6.
Фраза Галилея о «соединении двух остальных» (т. е.
двояковогнутого и двояковыпуклого стекол, помимо не
дающего эффекта плоского) указывает на отмеченную
выше тенденцию решения задачи в возможно более
общем виде.
И вот в ночь на 7 января 1610 г. Галилей направляет
свою зрительную трубу на звездное небо. Он увидел
лунный пейзаж. Эстетические чувства Галилея могли быть
затронуты зрелищем кратеров и холмов, тени которых
медленно растут и сокращаются. Но не этот таинственный
ландшафт поражает Галилея. Сознанием, давно уже
тянувшимся к физическому обоснованию гелиоцентризма,
овладевает мысль: Луна похожа на Землю. Сейчас мы
обращаем внимание на отличие поверхности Луны от
земной — идея их физического родства стала тривиальной.
Но для Галилея холмы и хребты на Луне были
видимым (и доступным повторным наблюдениям)
опровержением аристотелева противопоставления небесных тел
и Земли.
Галилей увидел, что оплошное свечение неба —
Млечный Путь — распалось на дискретные светящиеся тела —
невидимые простым глазом звезды. И, наконец, Галилей
увидел возле Юпитера совсем маленькие звезды, которые
на следующую ночь сместились относительно планеты.
Глубоко 'кинетическое восприятие природы определило
разгадку этого явления: Галилей понял, что перед ним
спутники Юпитера, периодически обращающиеся вокруг
планеты. Такая система была в глазах Галилея
универсальной моделью мироздания. Она противоречила не
только космогонии Аристотеля, но и всеу /екинетическим
интерпретациям коперниковой системы от
феноменологически-условной до кеплеровых идей статической гармонии
рациональных соизмеримых чисел. Отныне только
движение, только кинетическая гармония мира может
претендовать на роль физической интерпретации идей
Коперника.
Спутники Юпитера обещали и практический эффект.
Вероятно, уже при первом обнаружении их у Галилея
мелькнула мысль: с помощью наблюдения движения
спутников Юпитера можно определить географическое по-
74
ложеиие корабля. Нужно представить себе, какой важной
была эта задача для всех европейских (государств,
ступивших на путь заморской торговли и военных конфликтов на
море. В 1604 г. Филипп II назначил премию в 100 тысяч
талеров, а в 1606 г. правительство Голландии обещало
100 тысяч гульденов за решение задачи об определении
долгот.
Забегая вперед, заметим, что использование указанных
наблюдений для пространственной ориентации на море
было предметом размышлений Галилея во все
последующие годы — одной из тех основных жизненных задач, во
имя которых он хотел покинуть Падую. Галилей вел
переговоры об использовании своих открытий для
определения долгот даже после процесса. Уже узником
инквизиции он хотел, чтобы одно из европейских государств
(переговоры велись с Испанией, Францией и, наконец,
с Голландией) воспользовалось предложенным им
методом. Однако практическое применение таблиц движения
спутников Юпитера началось только в XVIII в.
Сразу же после открытия спутников Юпитера
Галилей писал Белигаарио Винта:
«Но наибольшим из всех чудес представляется то, что
я открыл четыре новые планеты, и наблюдал свойственные
им их собственные движения и различия в их движениях
относительно друг друга и относительно движений
других звезд. Эти новые планеты движутся вокруг другой
очень большой звезды таким же образом, как Венера и
Меркурий и, возможно, другие известные планеты
движутся вокруг Солнца. Как только будет напечатан мой
трактат, который, в фор1ме сообщения, я разошлю всем
философам и математикам, я направлю копию великому
герцогу вместе с замечательным телескопом, который дает
возможность убедиться в истинности сообщения» 7.
Характерно, что уже в этом письме, рассчитанном на
герцога Козимо и флорентийский двор, Галилей прежде
всего указывает па спутников Юпитера как на аналог
солнечной системы. Характерна и фигура умолчания по
отношению к Земле («...и, возможно, другие известные
планеты»). Аналогия между движением спутников и
движением планет вокруг Солнца могла бы завести Галилея
очень далеко. Если вращение происходит не вокруг
естественного центра мира, а вокруг движущегося тела, не
связанного с каким-либо местом в статической схеме есте-
75
ственных мест, то напрашивается вывод об однородном,
лишенном центра бесконечном пространстве. Мы увидим
позже, в главе о «Диалоге», почему Галилей не был
склонен идти по этому пути.
Галилей хотел назвать открытые им спутники
Юпитера «Космейскими звездами» в честь великого герцога
Козимо Медичи — своего падуанского ученика, которого
он, помимо неизбежной придворной лести и
верноподданнических излияний, действительно любил. Но звезд было
четыре, и Галилей, по совету Винты, дал им в честь
Козимо и трех его братьев фамильное имя тосканских
герцогов. Звезды были названы Медицейскими.
После первых, январских наблюдений Галилей очень
быстро пишет сравнительно краткий деловой отчет. Это и
есть «Sidereus Nuncius». Он рассчитан на ученых и
написан по-латыни. Рассказ для широкого круга —впереди,
после дальнейших астрономических наблюдений и, как,
по-видимому, уверен Галилей,— дальнейших открытий.
В марте 1610 г. книга была опубликована. Она
называется:
«Звездный вестник, возвещающий великие и очень
удивительные зрелища и предлагающий на рассмотрение
каждому, в особенности же философам и астрономам, Га-
лилео Галилеем, Флорентийским патрицием,
Государственным математиком Падуаиской гимназии, наблюденные
через подзорную трубу, недавно им изобретенную, на
поверхности Луны, бесчисленных неподвижных звездах,
Млечном Пути, туманных звездах и, прежде всего, на
четырех планетах, вращающихся вокруг звезды Юпитера на
неодинаковых расстояниях с неравными периодами и с
удивительной быстротой; их, не известных до
настоящего дня ни одному человеку, автор недавно первый открыл
и решил именовать их Медицейскими звездами,— в
Венеции, у Фомы Бальони, 1610, с разрешения властей и с
привилегией».
В разделе, посвященном Луне, Галилей подчеркивает
основной вывод: сходство Луны и Земли опровергает
традиционную перипатетическую концепцию.
«Из наблюдений, неоднократно повторенных, мы
пришли к тому заключению, что поверхность Луны не
гладкая и не ровная и не в совершенстве сферическая,
как полагал в отношении ее великий легион философов
(magna philosophorum cohors), а, напротив того, неровная,
Ц
Шероховатая, испещренная углублениями и
возвышенностями, наподобие поверхности Земли» 8.
Далее, Галилей хочет определить высоту лунных гор
по длинам их теней. Наибольшая высота получилась
у него равной 4 итальянским милям, т. е. почти такая же
(немного меньше), как современные данные.
В «Sidereus Nuncius» Галилей, вслед за Леонардо да
Винчи, указывает причину так называемого пепельного
света Луны — свечения ее теневой части. В этом также
про'являетея физическое сходство Земли и Луны. Земля
похожа на Луну. Земля также отражает солнечные лучи
и освещает обращенную к ней сторону своего (спутника.
«Когда Луна находится на стороне Солнца, к ней
обращено почти полностью то полушарие Земли, которое ярко
освещено его лучами, и на Луне воспринимается
отраженный Землею свет, поэтому нижнее (т. е. обращенное к
Земле) полушарие Луны, хотя и лишенное солнечного света,
светится весьма значительным свечением» 9.
Следующий раздел посвящен звездам. Они отличаются
от планет, так как последние при наблюдении с помощью
зрительной трубы представляются дисками, а
неподвижные звезды — светящимися точками. Затем речь идет о
Млечном Пути.
(«Я обратился,— пишет Галилей,— к наблюдению
сущности или вещества Млечного Пути, и с помощью
телескопа оказалось возможным сделать ее настолько доступной
нашему зрению, что все споры, в течение веков мучившие
философов, умолкли сами собой благодаря наглядности
и очевидности, которые и меня самого освобождают от
многословного диспута. В самом деле, Млечный Путь
представляет собой не что иное, как скопление бессчетного
множества 1зве&д, как бы расположенных в кучах; в какую бы
область ни направить телескоп, сейчас же становится
видимым огромное число звезд, из которых весьма многие
достаточно ярки и вполне ясно различимы, количество же
звезд более слабых не допускает вообще никакого
(подсчета» 10.
Следующий сюжет — Медидейские звезды. Галилей
рассказывает (кроме изложения в «Sidereus Nuncius»,
сохранился дневник с записями Галилея), как 7 января
1610 г. он заметил три звездочки вблизи диска Юпитера.
Он счел их неподвижными звездами, так как они казались
светлыми точками. Но на следующую ночь звездочки
77
сместились по отношению к Юпитеру в закладном
направлении. Если они неподвижны, то такое смещение можно
было объяснить 'смещением Юпитера arc востоку. Но
Юпитер б это время движется прямым движением на запад
относительно неподвижных звезд. На третью ночь одна из
звездочек исчезла. Галилей думал, что Юпитер при своем
прямом движении прошел между звездочкой и Землей.
Но это объяснение сопровождается в дневнике
наблюдений добавлением «насколько -.можно думать».
По-видимому, следующий день, 11 января 1610 г.,. был посвящен
сомнениям, а вечерам этогю дня Галилей убедился (как
сказано в «Sidereus Nuncius», «переходя от ощущения
загадки к чувству восхищения»), что видимое смещение
трех звездочек объясняется их обращением вокруг
Юпитера.
Еще через два дня, 13 января, Галилей обнаруживает
существование четвертого спутника Юпитера. После
изложения схемы движения всех четырех Медицейских
з<веэд Галилей упоминает о системе Коперника и
разъясняет, что существование спутников — Медицейских звезд
у Юпитера и Лупы у Земли — не противоречит этой
системе.
Уже после выхода «Sidereus Nuncius», в июле 1610 г.у
Галилей впервые упоминает (в письме к Белггзарио
Винта) о наблюдении Сатурна с помощью телескопа и. В
ноябре того же 'Года Галилей пишет Джулиано Медичи о
двух звездах, не отходящих от диска Сатурна («старика»):
«Я нашел целый двор у Юпитера и двух прислужников у
старика [Сатурна], они его поддерживают в шествии и
никогда не отскакивают от его боков» 12.
Через два года Галилей увидел, что звездочки возле
диска Сатурна исчезли. Он не мог объяснить это явление,
оно оставалось неразгаданным до 1655 г., когда Гюйгенс
установил, что звездочки по сторонам диска Сатурна —
это кольцо, которое перестает быть видимым, когда оно
повернуто ребром к Земле.
В декабре 1610 г. Галилей сообщил Джулиано Медичи
об открытии фаз Венеры. В письме говорится:
«Я посылаю Вам шифрованное сообщение о еще одном
моем новом необычном наблюдениии, которое приводит к
разрешению важнейших споров в астрономии и которое
содержит решающий аргумент в пользу пифагорейской и
коперниканекой системы» 13.
78
Впоследствии, в d GJ3 г., Галилей столь же решительно
говорил о фазах Венеры как о непререкаемом аргументе в
пользу гелиоцентризма.
«Эти явления — фазы Венеры — не оставляют места
для какого-либо сомнения в том, как происходит
обращение Венеры; мы с абсолютной неизбежностью приходим к
выводу, соответствующему положениям пифагорейцев и
Коперника, что она обращается вокруг Солнца, подобно
тому, как вокруг него же как центра обращаются и прочие
планеты» 14.
Еще до открытия фаз Венеры Галилей и его друзья
предполагали, чтю из системы Коперника (вытекает
существование фаз и наблюдения их станут решающим
доказательством идей Коперника 15.
История открытия солнечных пятен является более
сложной и по своей хронологической канве и по более
существенной, историко-логической стороне. Полемика
Галилея с иезуитом Шейнером о приоритете в открытии
солнечных пятен явилась поводом для опубликования
некоторых памфлетов Галилея и интересна как иллюстрация
общественного резонанса открытий 1610—1613 гг.
Галилей писал в «Диалоге», что он открыл солнечные
пятна в 1610 т. в Падуе 16. В марте — июне 1611 г. Галилей
демонстрировал солнечные пятна в Риме; в печати
сообщение о них появилось через год, в предисловии к работе
«О плавающих телах». Однако в январе 1612 г. вышла из
печати анонимная работа — письма к Марку Вельзеру, где
говорилось, что автор наблюдал солнечные пятна в марте
1611 г. Автором был иезуит патор Шейнер. Вельзер —
друг и постоянный корреспондент Галилея — переслал ему
книжку Шейнера. Ответ Галилея — «Описания и
доказательства, относящиеся к солнечным пятнам» («Istoria e
dimostrazioni intorrio alle macchie solari») был опубликован
в Риме в 1613 г. Началась на (первых порах довольно
спокойная, а потом крайне ожесточенная полемика о
приоритете. От полемики Шейнер перешел к доносам и
интригам. Он был одним из самых непосредственных
виновников серии исходивших от ордена иезуитов нападок на
Галилея, приведших к трагическому финалу — процесоу
1633 г.
Шейнер думал, что пятна на Солнце свидетельствуют о
прохождении между Солнцем и наблюдателем
посторонних тел. Таким образом явление «спасалось», не затраги-
79
вая фундаментальной перипатетической догмы
совершенства Солнца. Напротив, Галилей считал пятна
образованиями на поверхности Солнца или в его атмосфере.
Галилей думал, что пятна являются доказательством
гелиоцентризма. Это предположение неправильно. Но нас
интересует сама по себе верная мысль о существовании
прямых эмпирических доказательств объективной
истины — системы Коперника.
Вообще страницы работ Галилея, посвященные
солнечным пятнам, очень характерны для его творчества.
Четкое устранение проблемы физической природы
образований, вызывающих пятна (без тени какого-либо
принципиального агностического феноменологизма), глубокое
убеждение в их объективной принадлежности самому Солнцу,
точный и вполне правильный вывод о вращении Солнца
вокруг его оси — все это еще раз демонстрирует
единство рационалистического «геометрического духа» и
эмпирической зоркости.
После «Sidereus Nuncius» Галилей хотел написать более
популярное и пространное изложение своих открытий. Но
поток новых и новых наблюдений подхватил его.
Обнаружение того, что оказалось кольцом Сатурна, открытие фаз
Венеры и, наконец, позже — пятен на Солнце вызывали
каждый раз напряженную полемику и переписку, которые
Галилей с трудом успевал вести — все его силы уходили
на ночные наблюдения звездного неба. Поэтому
распространение сведений о Медицейских звездах, лунном пейзаже,
Млечном Пути, т. е. содержания «Sidereus Nuncius»,
велось главным образом через переписку. В итальянских
городах, а также в Праге при дворе императора Рудольфа II
и в некоторых других столицах Европы у Галилея были
как бы эмиссары новой астрономии — люди, которым он
сообщай из Падуи, а затем из Флоренции о своих
открытиях. В Праге находился посол Тосканы, уже
упоминавшийся Джулиано Медичи. Он систематически сообщал
императорскому двору (и, в частности, Кеплеру, который
был тогда придворным математиком) новости о работах
Галилея. Для германских княжеств подобную роль
выполнял аугсбургский бургомистр, также упоминавшийся Марк
Вельзер, в Риме — художник Чиголи, в Венеции остался
Паоло Сарпи, самый блестящий и известный из старых
друзей и сторонников Галилея. Кроме того, Бенедетто
Кастелли, все время переезжавший из одного города
80
Л ъ) Л/т<ъя& * <ы±£
Рисунок из трактата о солнечных пятнах
6 Галилей
Италии в другой, энергично пропагандировал повсюду
содержание труда Галилея.
В первые же дни после появления «Sidereus Nuncius»
и широкие круги, и придворная гумашютичеюкая среда,
и сами монархи и прелаты,— все были чрезвычайно
заинтересованы. «Sidereus Nuncius» привлекал такое~же
внимание, как и телескоп, к которому стремились поскорее
приникнуть, чтобы увидеть новое небо. По поводу телескопа
Маттёо Ботти писал Галилею, что Мария Медичи, получив
его, не стала ждать установки трубы и, опустившись на
колени, поторопилась взглянуть на пейзаж Луны 17.
Экземпляры «Sidereus Nuncius» встречали аналогичный
прием. Один из друзей Галилея — адвокат Алессандро Сер-
тики писал ему, что, получив посылку, обрадовался,
подумав, что Галилей прислал ему телескоп, но увидев, что
в ящике лежит экземпляр «Sidereus Nuncius», не был
разочарован и сразу же начал вслух читать книгу
находившимся у него друзьям 18. Переписка Галилея за 1610—
1611 гг. в некоторой степени позволяет представить себе
атмосферу интереса к работам личности Галилея. В
Париже хотели, чтобы Галилей назвал новую звезду (в
том, что он ее вскоре откроет, не сомневался никто)
именем Генриха IV. Один из французских сановников писал
Галилею:
«Вторая и наиболее убедительная просьба состоит в
том, что, когда Вы откроете какую-либо другую
прекрасную звезду, назовите ее именем великой звезды Франции,
самой блестящей на всей земле и, если Вы согласны,
лучше именем Генрих без добавления Бурбон. Сделав это, Вы
совершите правильный, справедливый и необходимый
поступок, и Вы достигнете славы, а также прочного
богатства для себя и для сво-ей семьи. В этом я могу Вас
заверить своей честью. Поэтому прошу Вас открыть возможно
скорей какое-либо небесное тело, которому могло бы быть
дано имя его величества. Сведения об этом сообщите
письмом через синьора Ванлемена, чтобы мы могли сразу же
высказать свое мнение, и могу Вас заверить, как если бы
его величество сам говорил с Вами, что это принесет Вам
нескончаемое удовлетворение и счастье» 19.
Это письмо было написано 20 апреля 1610 г., т. е.
незадолго до убийства Генриха IV, а Галилей получил его
через неделю после убийства — 14 мая 1610 г.
В Праге император Рудольф II также интересовался
82
Медицейскими звездахми. Он поручил Кеплеру изучить
содержание «Sidereus Nuncius». Вскоре появилась работа
Кешолера «Рассуждение о звездном вестнике» («Dissertatio
cum Nuncio Sidereo») 20. Она позволяет нрове/сти не,кото-
рые параллели.
Кеплер по своим позитивным результатам — законам
движения планет на эллиптических орбитах — ближе к
классической количественной картине мира, чем
Галилей. Но по грузу средневековых понятий, по изобилию
некаузальных конструкций, основанных на аналогиях, он
дальше ют Ньютона, чем Галилей. Земля — юдоль голода
(fames) и нищеты (miseria), потому что числовые
параметры ее орбиты соответствуют нотам Га и mi (начальным
буквам этих слов),— такая мысль появилась у Кеплера,
но никогда аналогичная мысль не могла появиться у
Галилея, разве что в самых первых редакциях юношеского
«De motu».
Особенности изложения научных трудов
соответствуют не столько результатам, сколько стилю научного
творчества. У Кеплера было совсем иное, чем у Галилея,
соотношение между эрудицией и непосредственными
импульсами окружающей жизни. Даже эмпирическая основа
кеплеровых законов была ближе к эрудиции, она, наряду
с результатами наблюдений Тихо Браге, включала
множество предшествовавших наблюдений, «спасенных»
схемами эпициклов и деферентов и приводивших к идее
неравномерного движения планет. Галилей игнорировал все, что
писали, и все, что знали о неравномерности движения
небесных тел. Кеплер не пользовался телескопом, в то время
как Галилей использовал его для наблюдений,
приводивших к новым кинетическим схемам.
Что сделал Кеплер в «Dissertatio cum Nuncio Sidereo»?
Он целиком поверил Галилею и дополнил его мысли
большим числом литературных ссылок в духе лучших
традиций гуманизма. И все это — на самой цветистой латыни,
также в духе позднего гуманизма.
Галилей не мог увидеть, что старые меха содержат
новое вино. Он не видел того, что гало дальше, чем
основная идея его астрономии,— гармония равномерных
движений. Всякого рода взаимодействия небесных тел
(например, притяжения земных тел к Луне) казались ему
произвольными измышлениями такого же типа, как
подлинно произвольные построения Кеплера и чуждый новой
6* 83
науке туманный стиль его произведений. В «Диалоге»
говорится о кеплеровых взглядах на природу приливов.
«Среди великих людей, рассуждавших об этом
поразительном явлении природы, более других удивляет меня
Кеплер, который, обладая умом свободным и острым и
будучи: хоршо знаком с движениями, приписываемыми
Земле, допускал особую власть Луны над водой,
сокровенные свойства и тому подобные ребячества» 21.
На склоне лет, в письме к Фульгенцио Миканцио,
Галилей говорит:
«Я всегда ценил Кеплера за свободный (пожалуй,
даже слишком) и острый ум, но мой метод мышления
решительно отличен от его, и это имеет место в наших работах
об общих предметах. Только в отношении движений
небесных тел мы инозда сближались в некоторых схожих, хотя
и немногих концепциях, отличающихся общностью
оценки отдельных явлений, но это нельзя обнаружить и в
одном проценте моих мыслей» 22.
В 1610—1611 гг., после «Dissertatio cum Nuncio Sidereo»,
Галилей ощущал не эти расхождения, а мощную
дружескую поддержку великого пражского астронома. Эта
поддержка была необходимой. Наряду с признанием и славой,
«Sidereus Nuncius» вызвал открытые выступления против
Галилея. Они подробно описаны в книге Вольвиля23, и
некоторые памфлеты, направленные против «Sidereus
Nuncius», помещены в национальном издании Галзилея 24.
Интересно сопоставить содержание и судьбы этих
памфлетов. Они чрезвычайно многословны, разбиты по
традиции на должное число разделов и содержат главным
образом аргументы, основанные на аналогиях, ссылки на
авторитеты, очень беспомощные астрономические схемы и
многочисленные намеки — иногда прямые указания — на
некатолический смысл идей Галилея. Их печатали, с ними
много и напряженно спорили, с авторами беседовали стол*
пы церкви, в том числе Беллармино, о них писал Кеплер.
Вообще, все эти выступления выглядели тогда вполне
серьезно.
Галилей понимал, чем дальше, тем яснее, что
логическая и эмпирическая убедительность истины самой по себе
недостаточна для ее победы. Когда за наукой признали
однозначную убедительность, ее представители перестали
понимать импульсы, двигавшие Галилея на овсе новые
письма-циркуляры, поездки, беседы с кардиналами, гер-
Н
цогами и их придворными. Этого не понял бы пи Спиноза,
нп Ньютон, а Эйнштейн писал о Галилее:
«Что касается Галилея, я представлял себе его иным.
Нельзя 'сомневаться в том, что он страстно добивался истн
ны — больше, чем кто-либо иной. Но трудно поверить, чта
зрелый человек видит смысл в воссоединении найденной
истины с мыслями поверхностной толпы, запутавшейся в
мелочных интересах. Неужели такая задача была для него
важной настолько, чтобы отдать ей последние годы
жизни... Он без особой нужды отправляется в Рим, чтобы
драться там с духовенством и политиканами. Такая
картина не отвечает моему представлению о внутренней
независимости старого Галилея. Не моту .себе предоставить, чтобы
я, например, предпринял бы нечто подобное, чтобы
отстаивать теорию относительности. Я бы подумал: истина куда
сильнее меня, и мне бы показалось смешным
донкихотством защищать ее мечом, оседлав Росинанта...» 25.
И, тем не менее, Галилей был достаточно близок к
корифеям классической науки —от Ньютона до Эйнштейна,
чтобы в какой-то мере рассчитывать на универсальную и
абсолютную убедительность своих идей, однозначно
выведенных из незыблемых принципов и однозначно
подтвержденных наблюдением. Он пропагандировал новую
астрономию, приводил все новые логико-геометрические и
эмпирические аргументы, он не замыкался в сознании
абсолютной убедительности своих концепций, но он думал, что
эти концепции могут стать убедительными для всех.
Опять-таки здесь нужно оговориться. Галилей знал,
что его поймут новые круги. К ним он обращался всем
своим творчеством, языком, стилем, содержанием своих
книг. Но он сверх того верил, что папа, кардиналы и
герцоги, привлеченные логической безупречностью,
эмпирической обоснованностью и практической применимостью
новой науки, станут на ее защиту. В 1610—1611 гг. многое
подтверждало такую надежду. Ведь даже основной
научный бастион иезуитов— Римская иезуитская коллегия —
и вообще римские иезуитские круги, если не испытывали,
то по крайней мере демонстрировали расположение к
признанному (множеством прелатов автору «Sidereus Nuncius».
Но все же мирное, возмущенное лишь несколькими
жалкими памфлетами, признание новой астрономии было
иллюзией. Не прошло и пяти лет, как Галилей донял это.
VII Перипатетизм и контрреформация
Когда Галилей окончательно решил переехать из
владений Венецианской республики во Флоренцию, его доуг
Сагредо был преисполнен довольно мрачных
предчувствий. «Чтобы возвратиться на родину,—(писал он
Галилею,— Вы оставляете место, где Вам было так хорошо.
Конечно, Вы отравляетесь к великому государю,
обладающему прекрасными качествами, добродетельному и
подающ-аму большие надежды. Но, Господствуя здесь над
теми, кто повелевает, Вы не вынуждены повиноваться
никому, кроме себя. Что же касается двора герцога, то это
море, в котором никто не может поручиться, что избегнет
подводных камней и кораблекрушений» 1.
Впечатления от Флоренции и двора (противоречили
пессимистическим ожиданиям. JH все же Сагредо был прав.
Жизнь во Флоренции оказалась крестным путем Галилея.
Венеция не удовлетворяла его. Республика считала
недопустимой роскошью иметь официального математика без
преподавательских обязанностей. Флоренция.означала для
Галилея свободу от преподавания, но вместе с тем
тягостную и опасную зависимость от настроений, нужд,
политических расчетов,— от подводных камней и встречных
течений. Их было очень много и в целом они были
враждебны Галилею.
Вплоть до процесса 1633 г. внешняя судьба Галилея
казалась блестящей. В 1610 г., когда Галилей переехал во
Флоренцию и стал «первым философом и математиком»
великого герцога Тосканы, он был встречен потоком
щедрот. Он стал приближенным Козимо II, ему была
пожалована золотая цепь как знак его достоинства, ему было
86
предоставлено право поселиться в любой загородной
вилле герцога. Он получал немало денет; при отнюдь не
аскетических склонностях Галилея это было существенно
(впрочем, денег все равно не хватало: отчаявшись
получить деньги от брата, Галилей выплатил наконец приданое
сестер, взяв жалованье за два года вперед). Разрыв с
Марией Гамба (она оставалась в Падуе и впоследствии
вышла замуж) нисколько ие нарушил душевного равновесия
Галилея. Он жил наконец на родине, которая была в
известной мере духовной родиной всей итальянской
интеллигенции XVII в. Известность Галилея росла. После
«Sidereus Nuncius» — множество блестящих открытий,
теоретические работы, письма-циркуляры, которыми
зачитывались широкие круги. Это был путь триумфатора.
Но триумфальный путь ученого часто бывал крестным
путем. В данном случае триумф состоял, разумеется, не
в герцогских щедротах и не в растущей известности. Во
Флоренции Галилей пришел к концепции движения тел в
однородном пространстве — механической картине мира.
Тем самым гелиоцентрическая система получала новое
обоснование в качестве достоверной картины объективного
мира.
Но именно этот результат вызывал наибольшее
сопротивление. Галилей увидел себя окруженным врагами. Он
понял, что компромисса с ними не может быть. Галилей
адресовался к новым социальным слоям, за пределами
среды схоластов. Тогда инквизиционный декрет разорвал
его связи с учениками и единомышленниками и обрек на
молчание.
Во всех этих событиях можно увидеть сейчас
некоторые существенные черты генезиса и развития
механической картины мира. Для этого нужно учесть современные
представления о тех проблемах, которые стояли в центре
идейной борьбы в XVII в. Речь идет не о том, чтобы
перевезти понятия того времени на современный язык. Это
стерло бы их историческую специфику. Речь идет,
напротив, о выявлении исторической специфики, при
сопоставлении с современными взглядами. Мы проследам вкратце
эволюцию двух тенденций в науке XVI—XVII вв., начав
издалека — с Аристотеля. Это позволит, быть может,
несколько точнее представить отношение к Аристотелю и
перипатетизму в лагерях, которые боролись ме>аду собой
в описываемое время.
87
У Аристотеля были две фундаментальные
космологические идеи: 1) статическая конфигурация естественных
мест в конечной вселенной с центром — Землей и 2)
вечные движения небесных тел по (круговым орбитам. Первая
идея, канонизированная церковью, была легко согласована
с текстами священного писания и вообще приобрела в
средние века законченный и догматизированный вид. Вторая
идея, как мы сейчас видим, была прообразом позднейших
раз-мышлений об относительном движении, те
вызывающем физических процессов в движущемся теле.
При этом мыслители Возрождения и XVII в. искали
критерии абсолютного движения. Какое движение
является «истинным», однозначно определенным независимо
от выбора системы отсчета, абсолютным? Именно к этому
сводились споры между сторонниками перипатетической
концепции и сторонниками Коперника. В XVII в. о
равноправности систем отсчета почти не задумывались. В лагере
сторонников абсолютного движения Солнца и абсолютного
покоя Земли все чаще становилась слышна чисто
теологическая нота: абсолютный характер принадлежит
кинематической схеме, совпадающей с булевой 'священного
писания. Напротив, в лагере сторонников абсолютного
движения Земли все больше ссылались на локальный
критерий абсолютного движения. Что означает этот
термин?
В аристотелевой (космологии понятию абсолютао-
го движения соответствует изменение расстояния
тела от его естественного места, от центра вселенной, от
ее грайиц, от концентрических сфер — вообще изменение
положения тела в статической гармонии бытия. Но
в XVII в. появилось другое определение абсолютного
движения. Оно вызывает определенные процессы в самом
теле, в данной точке, в данный момент. Это и есть локальный
критерий. Он получил законченный вид у Ньютона:
абсолютное движение проявляется в силах инерции. Этот
критерий сохранился на многие годы. Множество ученых
ссылались на толчки при ускорении и замедлении (корабля,
повозки и т. д., как на доказательство абсолютного
характера ускорений и замедлений. Движение без ускорений
считали относительным. Так появилось классическое
представление об «истинном» — абсолютном и об
относительном движении.
У Галилея это представление получило сравнительно
88
отчетливый вид в своей негативной части: если
движение происходит без ускорения, оно не вызывает
внутренних процессов в движущейся системе. Но в этой
негативной форме новое представление об относительном
и абсолютном движении уже дискредитировало любые
априорные критерии абсолютного движения и
абсолютного покоя и в особенности теологические критерии
его определения.
С исторической точки зрения, ковда мы переходим от
логической связи идей к исторической обстановке, в
которой они появлялись, важно отметить следующее. Галилей
изложил новое учение о движении и при этом: 1) он
сознательно отринул не только космологию Аристотеля, но и
перипатетическую механику (падение тел, равновесие тел,
погруженных в жидкость, и т. д.); 2) он обосновал
гелиоцентризм с помощью представления об относительном
движении без ускорения (равномерное движение по кругу
Галилей не считал ускоренным); 3) весь комплекс новых
астрономических и механических идей опирался на легко
доступные проверке наблюдения звездного неба и на
близкие широким кругам ссылки на соотношения
прикладной механики. К этому следует прибавить чарующую
Ясность галилеевой прозы.
Как могла отнестись церковь к такому направлению в
науке? Она должна была стать на защиту теологических
доказательств абсолютного покоя Земли и абсолютного
движения Солнца. Если эта позиция сохраняется, то
относительные движения легко объявить чисто условной
картиной, не имеющей отношения к объективной
действительности. Ведь именно понятие абсолютного,
«истинного» движения и покоя позволяет отождествить
относительное в физическом смысле с условным.
Именно так и поступила церковь — протестантская и
католическая. Первая защищала библейские тексты,
вторая — также и перипатетические идеи, согласованные с
Библией в творениях отцов церкви. Поэтому защита
перипатетизма, его канонизированных, догматических форм
(далеких от гениальных к<быть может» самого Аристотеля)
была специфической позицией официальных теологов
Рима.
Энергия, с которой защищали перипатетическую догму,
зависела от хода контрреформации. В XVII в. кантрре-
формация несколько изменила свой характер по сравнению
89
с предыдущим столетием. Она потеряла первоначальную
определенность политических и военных маневров. Один
из основных центров контрреформации — испанский
престол — был готов опереться на гугенотов в борьбе против
Ришелье, а Ватикан вступал в прямой союз с
протестантскими князьями Германии. Но контрреформация
продолжалась, и чем запутаннее становилась светская политика
Рима, тем чаще и энергичнее демонстрировали духовную
непоколебимость католицизма — нерушимость тридент-
ского духа.
Тридентский собор не разглядел еще противника в
только что появившейся книге Коперника. Через
пятьдесят с лишним лет положение изменилось.
После переезда во Флоренцию Галилей, оценивая
полемику вокруг «Sidereus Nuncius», уже понимал, что
компромисс с перипатетиками невозможен. Но он думал, что
не исключен переход наиболее влиятельных светских и
даже духовных князей на позиции новой науки, или хотя
бы благожелательный нейтралитет, или хотя бы просто
нейтралитет. Связь новой астрономии с практическими
нуждами государств кажется Галилею бесспорной
—недаром он столько внимания посвящает проблеме определения
долгот по движению спутников Юпитера. Галилей
рассчитывает на поддержку кардиналов, увлеченных морскими,
военными, военно-инженерными, гидротехническими и
тому подобными начинаниями. Он рассчитывает на мощь
своего нового покровителя — тосканского герцога. Но,
может быть, больше всего он рассчитывает на свое,
отточенное в полемике вокруг «Sidereus Nuncius» уменье
пропагандировать новые предоставления о небе. Поэтому
Галилей решает поехать в Рим.
Во второй половине марта 1611 г. великий герцог
отправляет Галилея в путь. Он берет на себя расходы, дает
ему носилки с носильщиками, снабжает
(рекомендательными письмами и поручает тосканскому послу в Риме
поселить Галилея в римском палаццо герцога. Он
действительно полон расположения к Галилею, но Винта не
считает лишним напомнить Козимо II, что признание
римскими астрономами Медицинских звезд — один из пгредоо-
гов для поездки Галилея — закрепить славу правящего
в Тоскане дома.
На исходе марта Галилей в Риме. Он сразу идет к
кардиналу дель Монте, затем к астрономам-иезуитам. Карди-
90
нал прочитывает рекомендательное письмо Козимо и
обещает полную поддержку. Отцы-иезуиты, как оказывается,
заняты наблюдениями спутников Юпитера и пытаются,
найти столь важные законы их обращения. Галилей
возвращается в гостеприимный дворец тосканского посольства
и посылает Винта письмо, где говорится о работах и
взглядах Клавия и других астрог.омов римской иезуитской
коллегии.
«Оказалось, что названные отцы, убедившись, наконец,
в истинности новых Медицейских звезд, уже два месяца
непрерывно производят наблюдения, которые протекают
успешно, я их сравнил с моими, и оказалось, что
соответствие имеется полное. Они трудятся также над
нахождением периодов обращения этих планет, но они вместе с
математиком императора [Кеплером] полагают, что это
дело очень трудное, почти невозможное. Я, однако же,
имею твердую надежду найти и определить их и верю, что
всеблагой бог, милостиво указавший одному мне путь
к открытию стольких чудесных творений его рук, мне же
соблаговолит предоставить и возможность найти законы
их обращения. И, возможно, уже к своему возвращению
я.закончу этот мой труд, поистине гигантский, и смогу
предсказывать положение новых планет для любого
будущего времени, а также указать их расположение в любое
прошедшее время — лишь бы только хватило у меня сил
продолжать наблюдения в течение многих ночных часов,
как я это делал до сих пор» 2.
На следующий день Галилей идет к кардиналу Маттео
Барберини, которого он считает — и не без основания —
горячим сторотаьдашм своих идей в области механики.
Барберини встретил Галилея благосклонно и написал весьма
любезные послания флорентийским патрициям, от
которых Галилей привез ему рекомендательные письма. В
течение всего апреля продолжались визиты к кардиналам и
наиболее влиятельным представителям светской
аристократии Рима. Больше всего времени Галилей посвящал
иезуитской коллегии. Здесь он встречал теперь небывалое
сочувствие. Иезуиты-астрономы вместе с Галилеем
наблюдали через телескоп звездное небо и обсуждали проблемы,
связанные с открытиями 1610 г. Насколько искренним
было сючувствие иезуитов и, что самое главное, как
далеко шли они в выводах из открытий,— этого Галилей не
риал. По-видимому, в кругах иезуитов действительно
П
склонялись к признанию феноменологической стороны
дела: Млечный Путь состоит из отдельных звезд, Сатурн
обладает выступами по краям диска, похожими на
отдельные звезды, наблюдаются фазы Венеры, видны звезды,
движущиеся возле Юпитера. Именно об этой стороне
дела — о точности наблюдений — шла речь в официальном
запросе, в котором Беллармино, глава инквизиции,
фактический глава иезуитов и самый авторитетный теолог
римской курии, просил иезуитскую коллегию сообщить свое
мнение об открытиях Галилея.
Вот этот запрос.
«Лреподобнейшие отцы!
Я знаю, что ваши преподобия осведомлены о новых
небесных наблюдениях одного отличного математика,
произведенных при помощи инструмента, называемого трубой
или окуляром (occiale). Я также видел с помощью этого
инструмента некоторые очень удивительные вещи,
наблюдая Луну и Венеру. Поэтому я хочу, чтобы вы доставили
мне удовольствие, высказав откровенно ваше мнение о
следующих вещах.
Верно ли: 1) что имеется множество неподвижных
звезд, невидимых простым глазом, и, в частности, в
Млечном Пути и в туманностях, представляющих собой
скопление мельчайших звезд,
2) что Сатурн является не простой звездой, а тремя
взаимосвязанными звездами,
3) что звезда Венера изменяет свою форму, нарастая
и убавляясь, подобно Луне,
4) что Луна имеет поверхность шероховатую и
неровную,
5) что вокруг планеты Юпитер обращаются четыре
подвижные звезды, движения которых отличаются между
собой и очень быстры?
Я хочу это знать потому, что слышу различные мнения
на этот счет, ваши же преподобия, изощренные в
математических науках, легко смогут сказать мне, прочно ли
обоснованы эти новые открытия, или же они обманчивы и
ложны. Если вам угодно, вы можете ответить на этом же
листе.
Квартира, 19 апреля 1611 г.
Ваших цреподобий брат во Христе
Роберто кардинал Беллармино» 3
92
Через пять Дней, 25 апреля, астрономы иезуитской
коллегии ответили Беллармино:
«Преподобнейший и достопочтеннейший господин и
покровитель!
Отвечаем на этом листе, согласно приказанию Вашего
высокопреосвященства, на вопросы о некоторых явлениях,
наблюдаемых на небе в трубу, причем ответы мы даем
в том же порядке, в каком вопросы эти предложены Вашим
высокопреосвященством.
1) Верно, что в трубу наблюдаются многие звезды в
туманностях Рака и Плеяд, относительно же Млечного Пути
не является столь достоверным, что он весь состоит из
мельчайших звезд, но скорее кажется, что имеются в нем
ча^ти, более плотно построенные, хотя нельзя отрицать
и того, что в Млечном Пути имеется также много очень
малых звезд. Правда, то, что наблюдается в туманностях
Рака и Плеяд, дает основание о вероятностью
предполагать, что и Млечный Путь является громаднейшим
скоплением звезд, которые неразличимы, потому что они
слишком малы.
2) Наблюдения показали, что Сатурн не круглый,
какими мы видим Юпитер и Марс, но имеют яйцеподобиое
и продолговатое очертание такой формы oQo ,правда мы
не наблюдали две 'звезды по обе -стороны настолько
отдаленными от юредней, чтобы мы могли сказать, что это
отдельные звезды.
3) Совершенно верно, что Венера убавляется и
нарастает, как Луна, мы видели ее как бы полной, когда она
была вечерней звездой, а затем мы наблюдали, что ее
освещенная часть мало-помалу уменьшалась, оставаясь
все время обращенной к Солнцу и становясь все более ро-
гообравной, наблюдая е-е затем после соединения с
Солнцем, когда она -стала утренней звездой, мы видели ее ро-
гообразной, и освещенная часть снова была обращена
к Солнцу. Теперь она все время увеличивает свою яркость,
и ее видимый диаметр уменьшается.
4) Нелшя отрицать большой неровности Луны, но
отцу Клавию кажется более вероятным, что не поверхность
ее неровна, но скорее самое тело Луны имеет
неоднородную плотность и имеет части более плотные и более
разреженные, так же обстоит дело и с обычно наблюдаемыми
93
простьш глазом пятнами. Другие же думают, что неровна
действительно поверхность, до сих пор, однако, мы еще
не имеем в этом вопросе такой уверенности, чтобы мы
могли утверждать что-либо без сомнения.
5) Возле Юпитера видны четыре звезды, которые очень
быстро движутся иногда все к востоку, иногда все к
западу, а иногда одни к востоку, другие к западу по почти
прямой линии, они не могут быть неподвижными
звездами, потому что имеют очень быстрое движение, отличное
от движения неподвижных звезд, и расстояние между
ними и Юпитером постоянно меняется» 4.
Таким образом, наблюдения Галилея были признаны
■правильными. Длительные 'попытки оспаривать эти
наблюдения фактически отринуты самой авторитетной
научной коллегией самого активного ордена контррефорхмации.
В тот же день, когда отцы-иезуиты отослали Беллармино
свой отчет, Галилей был торжественно принят в состав
римской Academia dei Lincei («Академия рысьеглазых»;
linceo — рысь — считалась образцом и символом зоркости,
поэтому основанное князем Чези общество
'естествоиспытателей избрало для ic-ебя такое 'название). С этих нор
Галилей именовал себя Galileo Galilei Linceo. Это было
открытым признанием Рнма.
Но все явные и неявные знаки признания и согласия
означали только одно: борьба переносится из
феноменологического поля в гораздо более важное поле объективных
фактов. Да, через телескоп можно увидеть все, что увидел
Галилей, но движется ли Земля, означают ли фазы
Венеры и прочие явления, открытые Галилеем,
справедливость системы Коперника? Мы вскоре увидим, что
линия обороны, которую заняла римская курия, состояла
не в безусловном отрицании этой системы, а в ее условной
конвенционалистской трактовке. Ни один из князей
церкви, с таким радушием принимавших Галилея в своих
дворцах, с таким восхищением говоривших о его открытиях,
не допускал и мысли об объективном характере выводов,
которые могут быть сделаны из этих открытий. Главное,
что теперь разделяло Галилея и Рим, это был общий
вопрос: может ли наука претендовать на объективное
значение своих выводов, не считаясь с канонизированной
церковью догмой.
Но пока еще ни Галилей, ни его будущие враги и
будущие палачи не ступили, по крайней мере явно, на почву
общих вопросов. У курии сохранялись иллюзии, в Риме
94
надеялись, что Галилей не пойдет дальше и
удовлетворился прагматической ценностью своих открытий.
Сохранялись иллюзии и у Галилея: он думал, что ему позволят
налагать и обошовывать гелиоцентрическую кощелцшо,
как схему реальных движений небесных тел.
Эту иллюзию укрепляли встречи с самим Беллармино
и с папой. Наконец, он услышал из уст члена римской
иезуитской коллегии астронома Одо ван Мелькоте, что
астрономы-иезуиты рассматривают вопрос о том, движется
ли Венера вокруг Земли или вокруг Солнца 5. Это было
сказано на торжественном чествовании Галилея в
присутствии кардиналов, герцогов и большого числа других
представителей аристократии и духовенства.
Но чего не знал Галилей — это решения конгрегации
святой инквизиции, которая в секретном заседании 17 мая
1611 г. по докладу Беллармино постановила: «Посмотреть,
не встречается ли в процессе Чезаре Кремонино имя
Галилея, профессора философии и математики» 6.
Знакомый Галилея по Венеции, Чезаре Кремонино,
подобно Паоло Сарпи, был руководящим участником
борьбы против иезуитов и Рима, приведшей к изгнанию
иезуитов из пределов республики. В 1611 г. инквизиция
обвинила его в атеизме. Но Венеция не выдала Кремонино.
Речь теперь шла не о личных отношениях Галилея с
Кремонино, они были так же известны, как и его дружба
с Сарпи. Инквизиция, вероятно, хотела проверить, нет ли
у Галилея общих с Кремонино теологических и
политических прегрешений. Их, по-видимому, не обнаружили.
Галилей стоял перед Римом как представитель науки, и
вопрос заключался в том, куда пойдет наука, ограничится
ли она областью относительных и чисто прагматических
утверждений или посягнет на объективную истину. И
неуверенность в том, что Галилей пойдет по первому пути,
заставляла Беллармино и иже с ним готовиться к борьбе.
В общем, пребывание Галилея в Риме оставило у иезуитов
и инквизиции двойственное впечатление.
Феноменологическая сторона открытий и условные схемы солнечной
системы не встречали возражений. Но даже возможная
объективация таких схем тревожила курию, иезуитов и в
особенности конкурировавших с иезуитами доминиканцев.
Во время пребывания Галилея в Риме туда приехал
новый тосканский посол Гвиччардини. Он провел всего
несколько дней в обществе Галилея, а затем, после отъезда
95
Галилея, слышал немало замечаний о нем. Впоследствии
Гвиччардини писал о Галилее:
«Когда я сшда -впервые прибыл, я его застал здесь,
и он провел (несколько дней в этом доме. Его учение и кое-
что другое не доставило никакого удовольствия
советникам и кардиналам святого судилища, в числе других Бел-
лармино сказал мне, что хотя почтение, питаемое ко
всему, что касается его светлости, и велико, но что если
Галилей зашел бы слишком далеко, то как бы не цришлось
прибегнуть к какой-нибудь квалификации его деяний.
Мне кажется, что некоторые указания и предупреждения,
которые он тогда получил от меня, находясь в этом доме,
пришлись ему не по вкусу. Не знаю, изменилось ли его
учение или его настроение, но знаю только, что некоторые
братья доминиканского ордена, которые имеют большое
влияние в святой инквизиции, весьма к нему не
расположены, а здесь не такая страна, чтобы являться сюда для
диспута о Луне и чтобы желать в наш век защищать или
предлагать новые учения» 7.
Дальнейшие события были предопределены позицией
Галилея в проблеме объективного смысла гелиоцентризма
и всем его мировоззрением в целом. Мы уже
останавливались па связи между методом Галилея и его
гносеологическими позициями и остановимся еще не раз. Единство
геометрической дедукции и эмпирических источников знания
достигается на основе твердого убеждения:
геометрические образы обладают объективно существующими
физическими эквивалентами, которые обнаруживаются
экспериментом.
Дифференциальное представление о мире
рассматривает непрерывную линию как путь реально движущейся
частицы. Подобные основные и исходные принципы
научного познания не могут быть совместимы ни с априорно-
условным или прагматически-условным пониманием
кинематики небесных тел, ни с феноменологическим
ограничением выводов науки данными непосредственного
наблюдения.
У Галилея рационалистическая тенденция выражается
в логическом, вернее, в геометрическом выведении одного
заключения из другого. Но эти заключения
формулируются в виде мысленных экспериментов, с постоянной
оглядкой на принципиальную возможность эмпирической
проверки. В свою очередь, эмпирическая зоркость Галилея
УЬ
направлена на те явления, которые служат проверкой
мысленных экспериментов и таким образом доказывают
объективный характер царящей в мире гармонии. Эта
гармония выражается не в арифметической гармонии в духе
Пифагора, а в геометрической и кинематической гармонии
непрерывных движений. Такова в самой общей форме
связь между гносеологией Галилея и дифференциальным
представлением.
Позиция Галилея исключает 1как априорно-канвен-
ционалистскую, так и феноменалистическую форму
позитивизма. Логические и геометрические конструкции
объединяются с эмпирическими источниками представлений
о природе на основе убеждения в объективной
реальности научных истин, в бесконечном приближении их jk
абсолютной истине.
Как уже говорилось, в работах Галилея весьма
отчетливо высказана идея эмпирического происхождения
исходных постулатов логического анализа. Когда Галилей,
вопреки узко эмпирической достоверности движения
Солнца, выводит другую систему,— отправным пунктом
анализа служит кинетический 'принцип гармонии бытия:
движение тел, а не статическая схема служит основой
миропорядка. Подобный исходный пункт — обобщение
эмпирических наблюдений, но не отдельных, а всей их
совокупности. Только такая исходная установка
позволила включить земную механику в обоснование небесной
механики.
Ближайшие после поездки в Рим годы жизни Галилея
были временем, когда эти принципы выявлялись по
каждому, иногда совершенно случайному поводу.
В мае 1611 г. Галилей узнал о письме, которое получил
его друг Дини, живший в Риме 8. Письмо было послано
из Перуджии Козимо Сассетти, владельцем большой
шелковой мануфактуры.
Сассетти говорил, что зрительная труба
демонстрирует на небе нечто несуществующее, либо несущественное
по значению. Галилей тут же в Риме написал свой ответ
в форме письма к Дини 9. Этот памфлет, явно
рассчитанный на широкое распространение, характерен не только
для полемических приемов Галилея, но и для его
стержневых идей.
Сассетти отрицал существование предметов,
неизвестных авторитетам. Но из такой посылки сле[дует, пишет Га-
7 Галилей
97
лилей, что вообще нельзя говорить о реальном
существовании предметов, которые не стали предметом
человеческого восприятия и (неизвестны человеку. Это повод для
блестящих строк, посвященных субъективному критерию
реальности вещей. Если существование вещей зависит от
познания, то в годы, когда не знали об этих вещах, их не
было. Это бессмысленно. «Разумеется я не поверю, что в
древние, более невежественные столетия природа
отказалась от создания огромного разнообразия растений,
животных, драгоценных камней, металлов и минералов, не
наделила животных частями тела, мышцами и органами,
не привела в движение небесные сферы, в целом не
создала и не управляла всеми явлениями только потому, что
непросвещенные люди того времени не знали свойств
растений, камней и ископаемых, не разбирались в функциях
живого организма и ими не были открыты звездные пути.
И в самом деле смешно верить, что начало бытия
предметов природы следует за возникновением наших
представлений о них. Но коль скоро чистый разум должен быть
причиной существования вещей, необходимо признать, что
эти же вещи одновременно существуют и не существуют
(существуют для тех, кто их представляет, и не
существуют для тех, кто о них не знает), или согласиться, что
представления нескольких или даже одного человека уже
обеспечивают их существование; но в этом последнем не
требующем всеобщности случае достаточно, если кто-либо
один составит представление о свойствах Медицейских
планет, чтобы они появились на небе и чтобы остальные
удовлетворились их созерцанием» 10.
Далее в письме речь идет об астрологии.
Объективирование картины мира должно было выбить почву из-под
ног астрологии. Галилей меньше всего был склонен ждать,
пока история последует за логикой. Для его взгляда на
науку характерно убеждение, что развитие науки должно
воплощать объективную реальность и соответствовать
логическим связям. Но столь же характерно для Галилея
понимание всей сложности исторического воплощения
логики теоретического мышления и эксперимента. Мы опять
возвращаемся к проблеме экспериментальной и логической
убедительности научной теории и литературной
убедительности аргументов в пользу этой теории. В данном случае
Галилей добавляет к объективной лютике астрономических
открытий всю силу своего литературного темперамента.
98
В астрологии он видит пример субъективного
понимания природы. Мысль о некаузальной гармонии
движения небесных тел и судеб людей — это проявление все
той же тенденции, глубоко враждебной Галилею, наиболее
враждебной. Именно эту тенденцию он видел и в
литературно-семантическом выведении отношений между
явлениями природы из отношений ме&кду словами и во iBoex
других митпшиях своих (Критических выступлений.
Недостаточно понимая обстановку в целом, Галилей
хорошо понимает, что прямая атака на астрологию резко
ухудшит обстановку. Поэтому он хочет избежать
открытого и прямого осуждения астрологии, во всяком случае
того, что могло бы дать повод для официального
обвинения, ведь астрология была под фактической защитой
церкви.
Письмо Галилея к Дини — один из первых документов,
игнорирующих весь враждебный лагерь схоластов и
ориентированный на новые общественные круги. Галилей
говорил о дискуссиях с противниками, как о положительном
факторе: они помогали ему достигнуть большей ясности
при изложении своих идей. Вместе с признанием
позитивных результатов полемики, Галилей говорил о своем
отвращении к ней: «Я занимался ею с невыразимым
отвращением и близок к раскаянию по поводу труда и времени,
так бесплодно растраченных на полемические заметки и
сочинения» п.
По-видимому, противоречие здесь кажущееся: оценки
относятся к двум видам полемики, которые
переплетаются в трудах Галилея, но не смешиваются. Первый вид —
иногда спокойно-иронический, иногда раздраженный
разбор выступлений плагиаторов типа Кацры, интриганов и
завистников. Именно этот разбор, эти перуны против
недостойных врагов кажутся ему бесплодной потерей сил и
времени.
Другая струя полемики — это терпеливое объяснение,
которое подчас дополняет аргументы противника, затем
заставляет его делать неизбежные выводы и наконец
приводит к столь же неизбежному признанию истины. Этот
метод иногда напоминает диалоги Сократа. Сходство и
различие позволяют в данном случае точнее определить
не только метод изложения Галилея, но ж метод
исследования.
7* 99
Школа Платона считала сократовский метод —
последовательное признание все новых и новых заключений,
приводящее в конце концов к истине,— демонстрацией
априорности знания. Эта иллюзия ушла потом из физики и
надолго закрепилась в геометрии.
Галилей далек от феноменологического нанизывания
фактов, но он не сторонник априорно-геометрических
иллюзий. Каждое звено, которое Галилей присоединяет
к цепи своих аргументов, это либо ссылка на реальное
наблюдение, либо мысленный эксперимент, либо понятие,
логически выведенное, но в принципе допускающее
опытную проверку и обладающее, следовательно, собственно
физическим смыслом.
Отсюда и вытекает струя эвристической
полемики. Но она должна была иметь новый адрес. Если в цепи
умозаключений каждое звено связано с некоторой
предварительной или исследующей, реальной или мысленной
эмпирической проверкой, то вся цепь с наибольшей
вероятностью может быть усвоена людьми, связанными с
опытом. С какихМ именно опытом, с какой областью
практического 3'на'Ж)1М1ства с природой? Очевидно, с той областью,
где сохранение irapetus'a кажется возможным, а понятие
естественных мест кажется искусственным. Речь идет о
среде, символом и примером которой служат не раз уже
вспоминавшиеся мастера венецианского арсенала в
начальных строках «Discorsi».
Есть еще одна особенность в полемических пассажах
Галилея, интересная с гносеологической точки зрения.
Он тратит очень много сил на разъяснение своим
противникам несущественности фактов и соотношений, на
которые они ссылаются. Этого критерия существенности
не было в схоластической науке (конечно, если применить
такой критерий к ней самой и не принимать во внимание
несущественных для истории науки отдельных
высказываний). В царстве чистой эрудиции значение приводимых
сведений зависит только от авторитета источника. В
царстве чистого эмпиризма нет возможности определить
существенность различных наблюдений. Такая возможность
появляется, когда различают явления (например,
движение солнечного диска по небу) и их объективную
причину (вращение Земли вокруг своей оси). Тогда
непосредственные наблюдения переходят в мысленные или
реальные эксперименты, где устраняются соответственно логи-
100
чески или физически — несущественные обстоятельства,
затемняющие сущность процесса.
Такой метод исследования, понятный новой
социальной среде, требует знакомого ей языка. После «Sidereus
Nuncius» Галилей окончательно переходит от латыни к
итальянскому языку. Галилей думает о читателях — он
уверен в их существовании,— принадлежащих к новому
социальному кругу. Галилей говорит о себе падуанскому
поэту и священнику Паоло Гвальдо:
«Я пишу разговорным языком, т. к. необходимо чтобы
любой человек мог прочесть и именно по этой причине
этим же языком написан мой последний трактат. Меня
побудило к этому зрелище того, как многие берутся за
занятия, оставаясь безразличными к избранной профессии
врача, философа и т. д. и не обладая способностями, и как
другие, способные, погружаются в семейные заботы или в
другие далекие от литературы занятия, потому что, как
говорит Руццанте, обладая природными дарованиями, они всю
жизнь не в состоянии понять содержание латинских
трудов, внушив себе, что эти книги содержат сплошь важные
и недоступные их разумению вещи по логике и
метафизике, между тем природа, давшая им, как и философам, глаза,
чтобы видеть ее творения, дала им также разум, чтобы
быть в состоянии понимать и постигать эти творения» 12.
Непосредственное восприятие природы бе>з груза
схоластической учености позволяет простому здравому
смыслу адекватным образом постичь причины явлений
природы. Этот здравый смысл народа воплощен в его
языке, язык народа приспособлен для такого
рационального постижения природы, которое опирается на понятия,
принципиально допускающие проверку при
непосредственном наблюдении явлений природы. Таким образом,
выбор языка в последнем счете связан с гносеологической
платформой.
В свою очередь, конкретный собственно исторический
резонанс его работ подкреплял гносеологическую
платформу Галилея. Представители перипатетической
космологии и геоцентризма считали неподвижность Земли
«очевидной», а мысль о ее движении «безумной». Между тем,
очень широкие круги приняли гелиоцентрическую
концепцию в той форме, в какой ее излагал Галилей.
Критерий очевидности вытекает не из пассивного созерцания
мира. Поэтому признания более правильных представле-
101
ний о природе можно ожидать прежде всего в
социальных кругах, связанных с новыми сферами активного
опыта и не перегруженных традиционными знаниями.
В связи с приведенными замечаниями можно посвятить
несколько строк манере Галилея писать о себе в третьем
лице. Он говорит о себе в третьем лице в личных письмах
и излагает от первого лица представления о небесных
телах и их движении, так же как закономерности
механики, объясняющие движения тел. Изложение всегда
представляет собой смесь объективных констатации,
автобиографических рассказов и полемических выпадов против
старых, новых и иногда (в дидактических целях)
воображаемых противников. Все это гораздо глубже и
характернее для творчества Галилея, чем можно было бы
подумать. У Галилея гносеологическая установка неотделима
от онтологической. Он убежден в рациональной постижи-
мости мира, потому что в мире царит объективное ratio,
объективная гармония. Галилей убежден, что
рациональное постижение мира должно опираться на понятия,
почерпнутые из опыта мастерских, арсеналов, артиллерии
и т. д., потому что объективная гармония мира состоит в
кинематической схеме непрерывных движений тоджест-
венных себе тел, в механической схеме. Ее познание
является для Галилея содержанием жизни, оно служит
почвой и поводом для выбора друзей и приобретения врагов
и неотделимо от общения с друзьями и борьбы с врагами.
Вернемся к отказу Галилея от компромиссов с
перипатетиками. Подобное настроение появилось после
полемики вокруг «Sidereus Nuncius», но высказывалось в
сравнительно прямой форме после появления памфлетов,
направленных против трактата Галилея об основах
гидростатики («Discorsi intorno alle cose che stanno in su Гас-
qua»), о котором мы скажем несколько позже. В ответах
Галилея мы неоднократно встречаем строки,
продиктованные этим настроением.
В связи с выступлением Лодовико делле Коломбе
Галилей говорит:
«Не стоит пытаться возражать тому, кто настолько
невежественен, что для опровержения всех его глупостей
(а их больше, чем строк в его сочинениях)
потребовалось бы написать огромнейшие тома, бесполезные для
сведущих кругов и ненужные толпе» 13.
Там же далее эта мысль выражена еще резче;
Ш
«Можно ли унять глупцов, которые в момент, когда
оспариваешь одну их глупость, выдвигают другую, еще
большую?» 14.
И наконец, на последних страницах ответа на
выступление делле Коломбе мы встречаем следующую
философию молчания:
«Молчать — удел отчаявшихся и убежденных,
отдаться злобе и унынию — крайне нетактично, шутки и
остроты неуместны .в философии, признать ошибку и выразить
согласие и благодарность тому, кто преподал истину,
многим кажется недостойным (мне же это
представляется вышко благородным); решиться заполнять рукописи
туманными, лишенными смысла и понимания
высказываниями 1лю всякому .поводу :м№ут только те, кто ищот
похвалы толпы, которая тем больше чтит, чем меньше
понимает, и тот, кто идет на это, достоин презрения; и наконец,
истину нашедшую подтверждение, как это имеет место
у Галилея, совершенно невозможно опровергнуть
рассуждениями» 15.
Приведенные замечания были сделаны в связи с
полемикой, поднявшейся вокруг уже упомянутой следующей
после «Sidereus Nuncius», крупной работы Галилея,
посвященной на этот раз основам гидростатики.
В сентябре 1611 г. кардинал Маттео Барберини и
кардинал Гонзага (принадлежавший к мантуанскому
герцогскому дому) посетили Козимо П. Великий герцог решил
почтить своих гостей научным турниром. Спор шел об
основах гидростатики. Незадолго до этого, в конце лета,
Галилей спорил с перипатетиками по вопросу о весе льда.
Перипатетики поддерживали мысль Аристотеля о холоде,
вызывающем всегда увеличение плотности тел. Они
определяли лед как сгущенную воду. Галилей заявил, что по
его мнению лед — разреженная вода. Простое
доказательство — лед плавает на поверхности воды — не убеждало
перипатетиков, так как, по Аристотелю, плавание тел
объясняется не их весом, а формой. Мысль о весе,
меньшем, чем вес воды в том же объеме, как о причине
плавания тел, вытекала из закона Архимеда: если тело
вытесняет количество воды большего веса, чем его
собственный вес, оно не может полностью погрузиться в воду.
Этот вопрос и был предметом дискуссии,
организованной великим герцогом в честь приезда гостей. Аргументы
в пользу Архимеда и цротив Аристотеля должны были
103
оказаться чрезвычайно простыми и общими — ни о каких
экспериментальных- или теоретических деталях не могло
быть и речи — противники Галилея их бы не поняли. Ви-
виани в биографии Галилея писал:
«По поводу диспутов о теории плавающих тел
Галилей имел обыкновение говорить, что нет более
утонченного и искусного наставника, чем невежество, потому что
многие хитроумные заключения, подтвержденные новыми
и точными опытами, были найдены, чтобы противостоять
невежеству противников, для собственного же понимания
он в них не нуждался» 16.
«Многие остроумные результаты» относились к числу
самых простых и общих схем — этого требовал характер
дискуссии и уровень собеседников. И здесь, в царстве
общих схем, Галилей пришел к очень важным позитивным
идеям. Негативный результат дискуссии — упрочившееся
убеждение в бесполезности опора внутри цеховых кругов.
В следующем, 1612 г. во Флоренции вышла «Discorso
al Serenissimo don Gosimo II gran duca di Toscana intorno
alia cose, che stanno in su l'acqua, о che in quella si mouve-
no» («Рассуждение о телах, плавающих в воде») 17.
В начале этой работы Галилей формулирует предмет
спора. Затем он говорит о теории плавания тел,
высказанной Архимедом, и продолжает:
«Выводы последнего я постараюсь подтвердить иным
методом и иными средствами, приведя причины
указанных явлений к внутренним и непосредственным
принципам, причем выясняется и причина того изумительного и
почти невероятного явления, когда ничтожное
количество воды одним своим легким весом поднимает и
поддерживает твердое тело, которое в сто и тысячу раз
тяжелее этого количества воды. А так как это требует
последовательного доказательства, то я прежде всего определю
некоторые термины и установлю некоторые положения,
которыми и воспользуюсь для своих целей как
истинными и известными» 18.
Прежде всего определяется удельный вес.
«Я считаю равными по удельному весу те вещества,
которые имеют равный вес при равном объеме; так,
например, если два шарика из воска и из какого-нибудь
дерева, будучи равными по объему, имеют равный вес, то
мы говорим, что такое дерево и воск одинаковы по
удельному весу.
104
Одновременно с этим мы признаем равными по
абсолютному восу такие два твердых тела, которые весят
одинаково, хотя и разнятся по объему; так, например, если
кусок свинца и кусок дерева весят каждый десять фунтов,
то мы говорим, что они имеют одинаковый абсолютный
вес, хотя объем дерева гораздо больше объема свинца и
дерево, следовательно, легче ,по удельному весу.
Более тяжелым по удельному весу я считаю такое
вещество, которое при равном объеме с другим телом весит
более последнего; таким образом, я говорю, что свинец по
удельному весу тяжелее, чем олово, так как, если взять
их в равном объеме, то свинец будет весить больше» 19.
Затем Галилей определяет понятие момента (momen-
to). «Под именем момента в механике разумеется та сила,
то усилие, то действие, с которым двигатель двигает и
движимое сопротивляется; эта сила зависит не только от
простой тяжести, но и от скорости движения и от
различного наклонения путей, по которым совершается
движение, потому что тяжесть производит большее действие при
опускании по более наклонному пути, чем по менее
наклонному. В общем, какова бы ни была причина этой
силы, она (сохраняет название момента; «мне казалось, что
это слово но является новостью IB нашем языке, так как,
если не ошибаюсь, часто говорят: «Это важное дело, а то
имеет меньше значения» (di poco monlento), или: «мы
ценим пустые вещи и мы пренебрегаем вещами, имеющими
значение» (son di momento). Эти метафоры, по моему
мнению, взяты из механики» 20.
Галилей обозначил термином momento
количественную меру важности, значения (что соответствует смыслу
этого слева в латинском и итальянском языках), которое
приобретает тяжесть тела в зависимости от направления
движения тела и скорости его движения в этом
направлении. Следовательно, равновесие тела и вытесненной им
воды рассматривается по аналогии с равновесием грузов
на коромысле, которое достигается, когда моменты сил
тяжести, действующие на грузы, оказываются равными.
Плаванье тела зависит только от его удельного веса,
и абсолютные количества в задачу не входят. «Я
доказал,— говорит Галилей,— что достаточно наличия
разницы в удельном весе между средою и телом, частные же и
абсолютные веса могут быть какими угодно; таким
образом, любое тело, будь только оно по удельному весу легче
105
воды, может быть поднято десятью и менее фунтами воды,
хотя бы оно само весило тысячу фунтов, и наоборот,
другое тело, если оно по удельному весу тяжелее воды,
не может быть поднято и поддержано целым морем, хотя
бы абсолютный вес его не превышал и одного фунта» 21.
Применение понятия момента к гидростатической
задаче означает, что равновесие между телом и
вытесненной им водой выводится из сравнения путей, которые
прошли бы тело и жидкость под действием силы.
Галилей сравнивает путь, который проходит тело в силу своей
тяжести, и путь, проходимый вытесненной водой. Эти
пути должны быть пройдены с определенными
скоростями. Моменты зависят от этих скоростей, и в случае, котда
скорости обратно пропорциональны массам, моменты
будут равными, что и соответствует плаванию тел без
дальнейшего погружения. Здесь Галилей, по существу,
пользуется тем же методом, который был им выдвинут в
«Le meccaniche» и имел долгую предысторию,
включающую идеи Леонардо, Кардано, Гвидобальдо и многих
других предшественников Галилея.
Принцип виртуальных перемещений, высказанный в
строгой и отчетливой форме в XVIII в., обосновывает
статику, исходя из (динамических понятий, выводит условия
равновесия системы из анализа движений тел, из анализа
изменений состояния системы. При нарушении
равновесия тела, входящие в систему, переместились бы на
некоторые расстояния с той или иной скоростью. В своих
предшествующих работах по механике и позже, в «Discor-
si», Галилей выводит из анализа возможных,
виртуальных перемещений условия равновесия системы, состоящей
из дискретных твердых тел. Например, рычаг первого
рода 1С неравными, в общем случае, плечами уравновесит -
ся, если на эти плечи действуют две силы, обратно
пропорциональные виртуальным перемещениям: на
короткое плечо (меньшее перемещение при нарушении
равновесия) — большая сила, на длинное плечо — меньшая
сила. Отсюда следует, что произведение силы на путь,
пройденный телом, не может быть увеличено в машине:
то, что выигрывается в силе, теряется в расстоянии, в
величине перемещения. Эти соотношения, известные еще
предшественникам Галилея, были высказаны им в виде,
общего принципа механики. Мы вспоминали об
указанном принципе в связи с «De motu» и «Le meccaniche»,
106
Галилей применил принцип виртуальных перемещений
к движению тел на наклонной плоскости. Если один груз
движется по наклонной плоскости, а другой —
вертикально, то их можно при некоторых условиях уравновесить.
Каковы эти условия? Они состоят в обратной
пропорциональности между грузами и проходимыми ими
расстояниями. Пусть груз, опускающийся с заданной высоты по
наклонной плоскости, достигает земли, проходя вдвое
большее расстоянию, чем груз, опускающийся на землю ic
той же высоты. Иначе говоря, длина наклонной плоскости
вдвое больше, чем высота начальной точки над землей.
Тогда сползающий по наклонной плоскости груз может
уравновесить с помощью переброшенной через блок
веревки вдвое меньший груз, висящий над землей, груз,
которому при нарушении равновесия предстоит вдвое
меньший путь до земли. Эти соотношения Галилей
применил теперь к равновесию двух сил: тяжести плавающего
тела и тяжести вытесненной им воды.
Что собственно означает понятие виртуального
перемещения, независимо от тех или иных
количественных соотношений между скоростями, силами тяжести и
моментами этих сил? В качественном аспекте это
понятие означает: в непротяженной точке существует
определенное отношение между nip о ц е с с а м и; (положение, в
котором тело достигает равновесия, определяется
бесконечно малыми движениями и отношениями между
динамическими переменными, характеризующими эти
движения. Это — зародыш серии все более точных
определений — вплоть до мысли 'о точке, как о пределе бесконечно
уменьшающегося отрезка. Указанная серия совпадает с
эволюцией дифференциального представления о
пространстве, времени и движении. Галилей показал, что точку и
мгновение характеризуют определенные физические
величины, что, вопреки Аристотелю, понятия линии,
состоящей из бесконечного числа точек, и интервала
времени, состоящего из бесконечного числа мгновений, имеют
физические эквиваленты.
Принцип виртуальных перемещений противоречит
идее статического равновесия вселенной как исходной
идее космологии. Статика становится чем-то
вторичным по отношению к динамике. Статические соотношения
выводятся из динамических.
Правда, пока речь идет не о вселенной и даже не о
107
солнечной системе. Но учение о равновесии тела и
вытеснении им жидкости,- трактуемое с точки зрения динамики,
это подготовка к новым представленям о движении
небесных тел.
Подготовка идет не только в этом направлении, и
подготовляется не только новая схема мироздания — идея
однородного пространства, лишенного статической
конфигурации естественных мест. Подготовляются конкретные
исторические формы, литературные приемы и тактика
завоевания и преобразования умов для новой картины мира.
Вторая часть трактата о плавающих телах посвящена
полемике с перипатетиками. Прежде всего Галилей
рассматривает известный ему с пизанских времен трактат
Бонамичи и спорит против перипатетического тезиса:
тело тонет или держится на поверхности в зависимости
не от удельного веса, а от формы. Почему не тонет
металлическая пластинка с загнутыми краями? Галилей
объясняет, что в данном случае нужно учитывать вес агрегата
из пластинки и воздуха.
В заключение Галилей рассматривает спор между
Аристотелем и атомистами по вопросу об участии частиц
вещества в гидростатических явлениях. Он во многом
идет от Аристотеля назад к Демокриту.
Трактат о плавающих телах вызвал ряд враждебных
откликов Лодовико делле Коломбе и других. Ответы
Галилея непосредственно связаны с его предшествующими
астрономическими выступлениями единой тактической и
психологической линией.
В стане врагов Галилея в это время также
происходило некоторое изменение тактики. От полемических
памфлетов переходили к прямым доносам. Как ни
разочаровывала Галилея полемика вокруг «Sidereus Nuncius» и
«Cose che stanna», перипатетики еще меньше могли быть
довольны ее результатами. Каждое их открытое
выступление приводило к поражению. Тогда
литературно-критические памфлеты (иногда бывшие и доносами) были
дополнены прямыми доносами. Граница между этими
жанрами была всегда нечеткой, но исследователю борьбы за
гелиоцентризм, когда он приближаемся примерно к 1613 г.,
приходится обращаться не столько к библиотекам,
сколько к архивохранилищам. Благодаря трудам Кантора,
Вольвиля, Фаваро и других мы располагаем теперь
многими документами из архивов инквизиции.
Опубликования
ная Фаваро переписка Галилея также приоткрывает
картину подготовки инквизиционных процессов; кое-что
становилось известным Галилею и его корреспондентам.
В конце 1612 г. друг Галилея римский художник Чи-
голи сообщил ему о заговоре, готовящемся в доме
флорентийского архиепископа Марцимедичи.
«От одного моего друга, очень милого священника,
ве)сыма преданного Вам, я узнал, что группа лиц,
недоброжелательно и завистливо относящихся к талантам и
заслугам Вашим, собирается и совещается в доме
архиепископа. В озлоблении они стараются найти способ нанести
Вам удар по какому-либо поводу, по вопросу ли о
движении Земли или по какому-либо другому. Один из них
уговаривал некоего проповедника объявить с церковной
кафедры, что Вы высказываете сумасбродные мысли.
Этот священник, распознав здесь злобные намерения,
ответил на это предложение так, как подобает доброму
христианину и священнослужителю. Я пишу вам об этом,
чтобы вы остерегались зависти и недоброжелательства
этих злоумышленников, часть которых Вы знаете по их
писаниям, смешным и невежественным, поэтому Вы
должны примерно знать, кто эти люди» 22.
Друзья Галилея в свою очередь вербовали новых
сторонников гелиоцентризма, а время от времени
переходили в наступление. В декабре того же 1612 г. князь
Чези написал Галилею, что сам Чиголи, расписывая
папскую капеллу, нарисовал под изображением Мадонны
Луну в таком виде, в каком она изображена в «Sidereus
Nuncius». Переписка Галилея за 1612—1614 гг. содержит
много сообщений о переходе отдельных ученых на
позиции гелиоцентризма.
Летом 1612 г. Галилей хотел уточнить позицию
церкви или хотя бы отдельных прелатов в столкновении
перипатетической космологии и системы Коперника. Он
обратится с просьбой сообщить свое мнение к карданалу
Карло Конти. Последний ответил ему следующим письмом:
«Вы спрашиваете, поддерживает ли святое писание
принципы Аристотеля, касающиеся устройства вселенной.
Если Вы говорите о неразрушимости неба, на что как
будто бы указывает ваше письмо, где Вы говорите, что
ежедневно открываете на небе новые вещи, то на это я
отвечу, что нет никакого сомнения в том, что писание не
поддерживает Аристотеля, даже скорее наоборот, ибо
109
общее мнение святых отцов было то, что небо
подвержено разрушению» 23.
Таким образом, перипатетический тезис о
неизменности неба не должен считаться канонизированным. Что же
касается неподвижности Земли, то Конти считает
ненужным «без большой необходимости»
отказываться от этого тезиса —он совпадает с текстами
святого писания. Впрочем, Конти сам указывает возможность
отказа от буквального толкования этих текстов. О
вращении Земли говорится:
«Другое движение — круговое, так что небо, оставаясь
неподвижным, казалось бы нам движущимся благодаря
движению Земли, подобно тому, как мореплавателю
кажется, что движется не он, а берег; таково было мнение
пифагорейцев, которому следовали затем Коперник, Каль-
каньини и другие. Оно кажется менее соответствующим
писанию. Если фразы, где говорится, что Земля стоит
неподвижно и твердо, могут пониматься в смысле вековеч-
ности Земли, как указывает Лорини, то в тех местах, где
говорится, что Солнце обращается и небеса движутся,
писание не может иметь другого истолкования, если
только оно не говорит, приспособляясь к дривычному образу
понимания народа, а такой способ толкования без
большой к тому необходимости не должен применяться. Тем
не менее Диего Стуника в комментариях на девятую
главу книги Иова, стих 6-й, говорит, что более соответствует
писанию считать, что Земля движется, но его
истолкование не является общепринятым» 24.
Через год Галилей получает еще одно напоминание о
библейских и евангельских текстах. Монсиньор Агукки,
приближенный лапы, говорит, что толкование текстов,
утверждающих неподвижность Земли и движение Солнца,
подозрительно в глазах церкви. Агукки говорит о
различных основаниях, удерживающих его от признания схемы
Коперника.
«Первое — это авторитет святого писания, которое во
многих местах с большой ясностью утверждает
противное. Я не игнорирую ответов, которые можно предложить
для защиты, но я думаю, что они не удовлетворят тех, кто
к подобному истолкованию текстов, имеющих очень
ясный смысл, не считает возможным прибегать, особенно
потому, что еретики, охотно пользуясь такими
Толкованиями, тем самым делают их очень подозрительными» 25.
ПО
Толкование писания — прерогатива церкви. Нарушение
такой прерогативы греховно. Можно, не впадая в грех
самостоятельного толкования текстов, примирить
астрономию с ними: астрономия не претендует на объективный
смысл своих выводов.
Этот путь намечен давно. Впервые, — протестантами.
Виттенбергские богословы встретили книгу Коперника с
нескрываемым раздражением. Они не хотели
канонизировать творения отцов церкви, т. е. определенное
истолкование священного писания, и с тем большей энергией
выступали за нерушимость буквального смысла библейских
текстов. Осиандер, наблюдавший за изданием книги
Коперника, включил в свое предисловие оговорку о чисто
условном смысле гелиоцентрической системы: «...это вовсе
не с целью убедить кого-либо, что все это действительно
так, но для того только, чтобы можно было вести
вычисления».
Такая позиция устраивала и католическую церковь.
Но она не устраивала Галилея. Поэтому Галилей должен
был вступить на запретную почву и отвергнуть
претензии теологии на контроль над наукой. Церковь хотела
ограничить науку феноменологическими констатациями и
априорными условными соглашениями, не
претендующими на объективную достоверность. Он решил вступить
на опасную почву толкования текстов, чтобы согласовать
их смысл с результатами астрономических наблюдений и
кинематической схемой гармонии мироздания.
В ноябре 1613 г. ученик и друг Галилея бенедиктинец
Бенедетто Кастелли стал профессором математики в Пизе.
Вскоре он сообщил Галилею, что в университете ведется
открытая борьба против астрономических* идей Галилея.
Далее он рассказал о беседах во дворце великого
герцога — двор тогда находился в Пизе. За столом, в
присутствии герцога и его семьи, азелиюь, обычные тоопда ученые
диспуты. Каноник Беллавити во время диспутов
попеременно защищал птолемеевскую и коперниканскую
системы мира.
Заметим попутно, что этот обычай защищать тезисы
disputationis gratia, т. е. в порядке диспута, разрешавшего
высказывать самые еретические мысли без риска стать
жертвой инквизиции, многое объясняет в истории идейной
борьбы XVII в. Этот обычай сохранялся потому, что
инквизиция считала совершенно невинными схоластические
111
словопрения любого содержания, пока они не
претендовали на что-либо большее, чем интеллектуальная игра.
В инквизиционных решениях, в литературе и в
письмах того времени 'проводилось резкое различие между
условной защитой некоторых идей и их защитой in se-
rio. Забегая вперед, заметим: Галилей мог рассчитывать,
что его серьезные аргументы избегнут запрета, если он
придаст им форму условной защиты коперниканства. Но
это, как мы знаем, не удалось. Заметим также, что
условная трактовка коперниканства — исторический прообраз
агностически-позитивистских и прагматических крнцеп-
ций будущего — была связана с давней традицией
аргументов disputationis gratia.
Вернемся к рассказу Кастелли. Вдовствующая
герцогиня задержала Кастелли, когда он уходил из дворца,
вступила в спор о движении Земли и, ссылаясь на тексты
писания, отрицала схему Коперника.
«Тогда я,— пишет Кастелли,— после
приличествующих возражений, выступил как богослов и с такой
уверенностью и торжественностью, что Вы бы были очень
довольны, если бы могли меня слушать. На помощь мне
пришел и синьор Антонио, и это меня воодушевило так,
что, хотя уже одного присутствия их светлостей было
достаточно, чтобы меня устрашить, я с честью выполнил
свою задачу. Великий герцог и герцогиня были на моей
стороне, а синьор Паоло Джордано очень кстати выступил
в мою защиту с цитатой из святого писания. Только одна
вдовствующая герцогиня мне возражала, но и то, я думаю,
она делала это лишь для того, чтобы послушать меня» 26.
Получив письмо Кастелли и выслушав рассказ одного
из своих друзей, присутствовавших на приеме у великой
герцогини, Галилей принял вызов. Он знал, что беседа с
Кастелли была инспирирована его врагами и носила
провокационный характер. Но Галилей рассчитывал дать в
руки своих сторонников безупречную концепцию,
безупречную и в научном и в богословском смьисле. Он хотел
построить эту концепцию за счет теологии, на основе
свободного толкования библейских текстов и однозначности
научных выводов.
Галилей дал ученикам и последователям необходимый
для борьбы .документ ib форме писыма к Кастелли. Оно
было переписано в большом числе экземпляров и широко
распространилось.
112
Первый тезис письма: священное писание не может
ошибаться, но могут ошибаться те, кто изъясняет смысл
писания.
«Что касается первого из вопросов вдовствующей
герцогини, то мне кажется, что он мудро был поставлен ею
и что Ваше священство мудро согласились с тем, что
священное писание не может вводить в заблуждение или
заблуждаться и что его предписания обладают
абсолютной и ненарушимой истинностью. Я только хотел бы
добавить, что, хотя не может заблуждаться писание, но
заблуждаться иной раз могут некоторые его
истолкователи и и з ъ я с н и т е л и; ошибки эти могут быть
различными, и одна из них является очень серьезной и
очень распространенной, именно, ошибочно было бы, Фсля
бы мы захотели держаться буквального смысла
слов, ибо, таким образом, появились бы не только
различные противоречия, но и тяжкие ереси и даже
богохульства» 27.
Таким образом, возможность ошибок в истолковании
библейских и евангельских текстов не исключает
необходимости их истолкования. Где же критерий для выбора
правильной интерпретации?
В священном писании есть места, не согласованные с
истиной, если их понимать буквально. Они
приноравливаются к пониманию необразованных людей.
Образованные люди должны искать в священном писании такой
смысл, который не противоречит науке.
«В писании, чтобы приноровиться к пониманию
большинства людей, высказываются многие
положения, несогласные с истиной, если судить
по внешности и брать буквально его слова, тогда как
природа, напротив, непреклонна и неизменна, и
совершенно не заботится о том, будут или не будут ее скрытые
основы и образ действия доступны пониманию людей, так
что она никогда не преступает пределы законов, на нее
наложенных. Поэтому мне кажется, что, поскольку речь
идет о явлениях природы, которые непосредственно
воспринимаются нашими чувствами или о которых 'мы
умозаключаем при помощи неопровержимых доказательств,
нас нисколько не должны повергать в
сомнение тексты писания, слова которых
имеют видимость иного смысла, ибо ни одно
изречение писания не имеет такой принудитель-
8 Галилей
из
пой силы, какую имеет любое явление
природы» 28.
Если смысл писания сам должен быть определен так,
чтобы он не противоречил непререкаемому источнику
знания — наблюдению природы, то нет нужды ссылаться
на писание при обсуждении научных вопросов.
Дальше Галилей говорит о тех, кто прибегает в
научных спорах к ссылкам на священное писание.
«Но если такие люди на самом деле считают, что они
правильно понимают какое-либо выражение писания и
потому считают, что они обладают абсолютной истиной в
вопросе, о котором они намерены спорить, то пусть они
скажут чистосердечно, считают ли они, что в
естественнонаучном споре тот, кто защищает истину, имеет большое
преимущество перед тем, кто 'защищает ложное положение,
Они, я знаю, ответят мне, что это так и что тот, кто
защищает истину, будет располагать тысячью фактов и
тысячью доказательств в свою пользу, противник же его не
будет иметь ничего, кроме софизмов, паралогизмов и
ошибочных суждений. Но если они, не выходя за пределы
естественнонаучных понятий и не пользуясь никаким
другим оружием, кроме философского, в состоянии
одолеть своих противников, то зачем же, вступая в схватку,
они тотчас же берутся за оружие непреодолимое и
страшное, один взгляд на которое устрашает любого самого
бдительного и испытанного бойца?» 29.
В качестве примера Галилей рассматривает легенду
об Иисусе Навине, остановившем Солнце, и трактует ее
следующим образом. Если Солнце остановилось в своем
движении, то остановилась и вся солнечная система,
гармония ее не нарушилась и день продолжался, поскольку
Земля также остановилась в своем вращении. Сейчас нам
представляется, что Галилей ввел совершенно
произвольное утверждение о связи вращения Земли с
вращением Солнце, чтобы согласовать гелиоцентризм с
легендой. Но исторически это имело обратный смысл. Никого
не интересовало (Галилея, вероятно, еще меньше, чем
других), зависит ли вращение Земли от вращения
Солнца. Всех интересовало другое: изменение смысла легенды,
продиктованное выводами астрономии.
В декабре 1614 г. во Флоренции доминиканский монах
Томмазо Каччини выступил с проповедью в церкви
Сайта Мария Новелла. Он процитировал слова Иисуса На-
114
iteHa: «Солнце, стой над ^абаонам!» и затем заявил, что
Галилей выдвигает идеи, противоречащие этому
месту Библии. Галилей узнал от Кастелли об этом
выступлении. О нем стало известно и в Риме. Князь Чези пишет
Галилею:
«Эти враги знания, которые стремятся отвлечь Вас от
Ваших героических и столь полезных открытий и
занятий, принадлежат к числу тех озлобленных и взбешенных
людей, которые никогда не успокоятся, и наилучшее
средство решительно их сразить — это, не обращая на них
никакого внимания, как только Ваше самочувствие
улучшился, продолжать Вашу работу. Пусть они выступят
публично и покажут сведущим лицам, в чем состоят их
доводы. Они этого не посмеют сделать или сделают это
себе самим в посрамление. Вскоре я сообщу Вам более
полное 1Свое мнение о том, окак дать оппор их непомерной
беспокойности» 30.
Можно думать, что второе письмо Чези (оно не
подписано и написано другой рукой, но на нем помечено
рукой Галилея «князь Чези») это очень тонкое и
продуманное наставление для борьбы против врагов Галилея. Здесь
даже предусмотрено привлечение в качестве противника
Каччини кого-либо из его собратьев по доминикансжшу
ордену. Вообще это любопытный документ эпохи
непрерывных интриг и заговоров. Но для основной линии
конфликта здесь интересно очень резкое подчеркивание
одного момента. Нужно, говорит Чези, отразить нападение,
не затрагивая вопроса о системе Коперника.
«Нужно только избегать разговора о Копернике,
чтобы это не послужило поводом для разбора в другой
конгрегации вопроса о том, следует ли учение Коперника
допустить или осудить. Защитники противоположной партии
(Могли бы быстро решить етют вопрос отрицательно, и
вслед за тем в конгрегации индекса был бы поставлен
вопрос о запрещении этого автора, и дело было бы
погублено, коль скоро положение таково, как я Вам описал, и
коль скоро большинство составляют перипатетики»31.
К тому времени, когда Галилей получил это
наставление, благожелательный доминиканец уже был найден.
Мало того, весной следующего, 1615 г. Чези прислал
Галилею книгу «Письмо/ отца настоятеля Паоло Антонио
Фоакариыи, члена ордена кармелитов, к Себастьяну Фан-
тони, генералу ордена, о мнении пифагорейцев и Копер-
8* 115
ника о движении Земли и неподвижности Солнца и о
новой пифагорейской системе мира», изданную в феврале
в Неаполе 32. Но тогда же в феврале патер Лорини
написал донос на Галилея и на его единомышленников,
адресованный члену инквизиционной конгрегации кардиналу
Паоло Сфондрати33. Каччини отвез этот документ в Рим.
Донос был написан 7 февраля, а 16 февраля на
Галилея обрушился с амвона епископ Фиезоле монсиньор Ге-
рардини. Галилей написал в Рим своим друзьям и
попросил помощи и информации. Друзья побывали у Белларми-
но и получили от него заверение, что он ничего не знает.
В действительности за несколько недель до этого Беллар-
мино присутствовал на заседании конгрегации святой
инквизиции, где обсуждали заявление Лорини и
постановили затребовать от архиепископа и инквизитора
Флоренции оригиналы криминального письма Галилея к
Кастелли34.
Определенный и прямой ответ от Беллармино был
получен на вопрос об отношении церкви к системе
Коперника. Эта система противоречит .святому писанию и будет
терпима лишь до тех пор, пока ее не станут считать
отображением реальной действительности.
Получив такое сообщение, Галилей 23 марта 1615 г.
отправляет Дини большое письмо, посвящепное одной
теме — объективному характеру коперниканства 35.
Галилей отбрасывает оссиандеровский конвенционализм и
говорит, что Коперник придавал своей теории объективный
смысл. В это время Галилей готовил более обстоятельное
изложение своего астрономического credo — письмо к
великой герцогине Кристине Лотарингской. Но идея
объективности гелиоцентризма там несколько затеняется
теологическими конструкциями. В письме к Дини от 16 мая
она выражена в чрезвычайно яркой и отчетливой форме.
Когда читаешь документы инквизиционного процесса,
начатого по доносу Лорини, и переписку Галилея в
1615 г., отчетливо вырисовывается главное — борьба за
объективную трактовку гелиоцентризма. В мае мысль о
такой трактовке была высказана Галилеем в письме
к Дини. За месяц до этого противоположную точку
зрения — конвенционалистскую и прагматическую оценку
учения Коперника высказал кардинал Беллармино.
Он получил от Фоскарини его коперниканский
трактат и ответил:
116
«Во-первых, мне кажется, что Ваше священство и
господин Галилео мудро поступают, довольствуясь тем, что
говорят предположительно, а не абсолютно, я всегда
полагал, что так говорил и Коперник. Потому что, если
сказать, что предположение о движении Земли и
неподвижности Солнца позволяет представить все явления лучше,
чем принятие эксцентров и эпициклов, то это будет
сказано inpeKjpa'OHo и яо влечет за собой никакой
опасности. Для математика этого вполне достаточно. Но желать
утверждать, что Солнце и действительно является
центром мира и вращается только вокруг себя, не
передвигаясь с востока на запад, что Земля стоит на третьем
небе и с огромной быстротой вращается вокруг Солнца,—
утверждать это очень опасно, не только потому, что это
значит возбудить всех философов и теологов-схоластов,
это значило бы нанести вред святой вере, представляя
положения святого писания ложными» 36.
Конечно, Беллармино подозревал, что Галилей и Фос-
карини придерживаются объективной трактовки
гелиоцентризма и не склонны к условно-гипотетической версии. Он,
как и кардинал Маттео Барберини — будущий Урбан VIII
и многие другие прелаты, охотно закрыл бы глаза на
содержание криминальных трактатов, если бы их авторы
не продолжали настаивать на объективном смысле
гелиоцентризма. На этот случай Беллармино предупреждает о
неизбежном запрете коперниканства. Он не признает за
учеными права толкования святого писания. Это —
прерогатива отцов церкви. Они же всё, что в Библии говорится
о движении Солнца, понимают буквально.
«Во-вторых, как Вы знаете, собор запретил толковать
священное писание в разрез с общим мнением святых
отцов. А если Ваше священство захочет прочесть не только
святых отцов, но и новые комментарии на книгу
«Исхода», псалмы, Экклезиаст и книгу Иисуса, то Вы найдете,
что все сходятся в том, что нужно понимать буквально,
что Солнце находится на небе и вращается вокруг Земли
с большой быстротой, а Земля наиболее удалена от неба
и стоит неподвижно в центре мира. Рассудите же сами, со
всем своим благоразумием, может ли допустить церковь,
чтобы писанию придавали смысл, противоположный всему
тому, что писали святые отцы и все греческие и
латинские толкователи?» 37.
В заключение письма Беллармино с весьма неожидан-
117
ной стороны подходит к (Коиерникаискому разделению
видимых явлений и их. объективной основы. Коперник
цитировал Вергилия: «Гавань мы покидаем, назад
отступают и гавань и горы». Аналогичным образом движение
Солнца — видимый эффект Действительного движения
Земли. Можно приписать библейским текстам такой
феноменологический смысл: они говорят о кажущихся
движениях. Но Беляармино против такой трактовки Библии.
По поводу слов царя Соломона «восходит солнце и
заходит» он пишет:
«Если же вы мне скажете, что Соломон говорит о
явлении так, как мы его видим, и говорит: нам кажется, что
движется Солнце, так же как тому, кто удаляется от
берега на корабле, кажется, что берег удаляется от корабля,
то на это я отвечу, что находящийся на корабле, хотя ему
и кажется, что берег удаляется от него, все же знает, что
это обман, и исправляет его, понимая ясно, что движется
корабль, а не берег, что же касается Солнца и Земли, то
нет никакой уверенности в том, что нужно исправить
обман, ибо ясный опыт показывает, что Земля неподвижна
и что глаз не обманывается, когда говорит нам, что
Солнце движется, так же как не обманывается он, когда
свидетельствует, что Луна и звезды движутся» 38.
Беллармино ни в коем случае не идет на птолемеево
решение вопроса, он отказывается признать различные
схемы движения небесных тел равноценными и
оправдываемыми лишь (прагматически. Критерий выбора
абсолютной системы отсчета вполне средневековый:
правильной, истинной, абсолютной является та система отсчета,
в которой движение светил соответствует библейским
текстам, истолкованным буквально.
Много лет спустя Галилей показывал письмо
Беллармино (Фоюкарини передал его Галилею через друзей
поел едаеПо), чтобы удостоверить его первыми строчками свою
католическую безупречность. Но теперь его интересует
существо дела. Галилей пишет Фоскарини и набрасывает
свои замечания об учении Коперника 39.
Среди этих замечаний два останавливают наше
внимание. Первое имеет существенное значение для истории
понятия относительности. Картина относительного
смещения корабля и берега и все аргументы Коперника, реля-
тивизирующие движения, не дают решения. С такой
точки зрейия движение Зшли и движение Солнца —
равного
правные концепции. Но существуют факты, однозначно
определяющие абсолютную истинность схемы Коперника.
Мы остановимся на этой идее Галилея позже, в связи с
«Диалогом» и с талилеевой теорией приливов.
Второе замечание связано с только что упомянутым:
теория, которая соответствует явлениям,— истинная
теория, теория, не соответствующая явлениям,— ложная.
«Верно,— пишет Галилей,— что одно дело доказать,
что, принимая движение Земли и неподвижность Солнца,
мы можем представить все наблюдаемые явления, и
другое дело доказать, что эта гипотеза действительно
обладает истинностью. Но верно также и то, что другая, обычно
принимаемая, система не может объяснить все
происходящие явления. Поэтому она безусловно ложна,
истинной системой может быть только та, которая очень
хорошо соответствует явлениям, и нельзя и не нужно
требовать от какого-нибудь положения большей истинности,
чем соответствия со всеми явлениями» 40.
Этот тезис не носит феноменологического характера:
по1д «'соответствием» Галилей понимает соответствие не
только отдельным наблюдениям, но и соответствие общим
каузально-кинетическим принципам, подтвержденным
всей суммой известных людям явлений. Основное острие
этюго тезиса направлено против библейских текстов, как
критериев для выбора научной теории.
Таковы в беглом и неполном изложении материалы
переписки Галилея и связанных с перепиской заметок.
Теперь взглянем на некоторые данные о ходе
инквизиционного следствия. Присланное Лорини письмо Галилея к
Кастелли было передано эксперту, который ограничился
несколькими довольно безобидными замечаниями41.
Между тем в Пизе флорентийский архиепископ пытался
подучить у Кастелли оригинал письма. Это ему не
удалось, но вскоре оказалось и не нужным: у Беллармино
уже была идентичная копия письма. 19 марта 1615 г. на
заседании инквизиционной конгрегации под
председательством папы Павла V было постановлено допросить Кач-
чини, и на следующий день этот допрос состоялся. Каччи-
ни рассказал о своей проповеди и других известных уже
нам событиях, обвинил Галилея и его учеников в
противоречащих писанию астрономических взглядах, упомянул
о других своих подозрениях (в частности, рассказал о
дружбе Галилея с Паоло Сарпи) и был отпущен. Конгре-
119
гация поручила флорентийскому инквизитору допросить
некоторых названных Каччини лиц. Вызванный на допрос
ученик Галилея Аттаванти, быть может, нарушил клятву
о сохранении тайны и сообщил Галилею о следствии 42.
Во всяком случае Галилей решил приехать в Рим и
отвести грозу, нависшую над делом его жизни.
О пребывании Галилея в Риме с декабря 1615 по
март 1616 г. мы знаем по его переписке и по переписке
других лиц. Среди последней выделяются донесения уже
знакомого нам тосканского посла в Риме Гвиччардини.
Когда Галилей приезжал в первый раз в Рим, Гвиччарди-
ни оценил обстановку значительно правильней, чем
Галилей. На этот раз Гвиччардини выполнил все
предписания герцога Козимо II и нового, сменившего Винту
министра Пиккена; Галилею снова предоставили помещение
в римском дворце герцога, и посольство всячески
демонстрировало перед Римом высокое положение Галилея в
ТоЬкане. Галилей вручил рекомендательные письма
герцога выдающимся представителям римской знати —
кардиналу дель Монте, князю Паоло Орсини, ого брату
Алессандро Орсини, только что в свои 22 года
получившему кардинальскую шапку, племяннику папы
кардиналу Боргезе (он по обычаю, как «кардинал-непот», был
секретарем папы). В письмах Козимо II ручался за
благонамеренность Галилея и, более того, утверждал, что:
«его мнения отнюдь не являются ошибочными, как это
хотят доказать некоторые».
По-видимому, личная судьба Галилея была решена
быстро. Его согласились не трогать. Но Галилей хотел
воспрепятствовать осуждению и запрету учения
Коперника. В феврале 1616 г. Галилей писал Пикене:
«Все те лица, которые руководят этим делом,
засвидетельствовали мне прямо и открыто, что в принятом
решении установлена моя невинность и благочестию, а
также дьявольская злобно'сть и злая воля моих
преследователей, так что, поскольку речь идет об этой стороне, я могу
в любое время возвратиться на родину. Но с моим
личным делом связано дело, касающееся не только меня, но и
целого ряда людей, которые вот уже 30 лет и в печатных
трудах, и в частных письмах, и в публичных
выступлениях, и в проповедях, и в личных беседах заявляли и
заявляют себя приверженцами некоторого учения и мнения,
небезызвестного Вашему превосходительству, и это уче-
190
нне сейчас обсуждается, чтобы вынести о нем то
решение, которое будет справедливым и наилучшим» 43.
Но здесь попытки Галилея не увенчались успехом.
24 февраля богословы-цензоры решительно осудили идею
Коперника, довольно невнятно изложенную в присланной
им подлежащей цензуре формуле, а 5 марта 1616 г.
конгрегация индекса внесла книгу Коперника и ряд других
в число запрещенных. Приведем декрет конгрегации.
«Декрет
святой конгрегации преосвященнейших господ
кардиналов, особо назначенных святейшим господином нашим
папой Павлом V и святым апостолическим престолом для
составления указателя книг, подлежащих разрешению,
запрету, уничтожению и печатанию во вселенском
христианском государстве.
Так как некоторое время тому назад появились на
свет среди прочих некоторые книги, содержащие
различные ереси и заблуждения, то святая конгрегация
преосвященнейших господ кардиналов, назначенных для
составления указателя, чтобы из чтения их не произошло
тяжелого ущерба во всем христианском государстве,
соизволила, чтобы они были вовсе осуждены и запрещены, так
что настоящим декретом святая конгрегация осуждает и
запрещает таковые как напечатанные, так и могущие
быть напечатанными где бы то ни было и на каком бы
то ни было наречии, и предписывает под страхохм
наказаний, установленных святым Тридентским собором и
указателем запрещенных книг, чтобы никто отныне,
какого бы он ни был звания и какое бы ни занимал
положение, не смел печатать их или содействовать
печатанию, хранить их у себя или читать, а всем, кто имеет или
впредь будет иметь их, вменяется в обязанность
немедленно по опубликовании настоящего декрета представить их
местным властям или инквизиторам. Книги эти ниже
обозначены, а именно:
Кальвинистская теология в трех книгах, Конрада
Шлюссербурга.
Возрождающийся шотландец, или комментарий на три
первых книги кодекса...
Историческое изложение важнейшего вопроса
христианских церквей, в особенности в западных странах, от
апостолических времен до наших дней, Якова Уссерия,
121
профессора святой теологии в Дублинской академии в
Ирландии.
Фридриха Ахилла, герцога Вюртембергского,
Рассуждение о первенстве между странами Европы, имевшее
место в Тюбингенской коллегии, года от рождения Христа
1613.
Толковник Донелли, или комментарии Гуго Донелли
по гражданскому праву, сокращенно изложенные...
А так как до сведения вышеназванной конгрегации
дошло, что ложное и целиком противное священному
писанию пифагорейское учение о движении Земли и
неподвижности Солнца, которому учат Николай Коперник в
книге об обращениях небесных кругов и Дидак Астуника
в комментариях на книгу Иова, уже широко
распространяется и многими принимается, как это видно из
появившегося в печати послания некоего кармелитского патера
под названием: «Письмо кармелита отца Паоло Антонио
Фоскарини по поводу мнения пифагорейцев и Коперника
о движении Земли и неподвижности Солнца и новой
пифагорейская системы мира. Неаполь, у Лазаря Скориджио,
1645», в котором этот патер пытается показать, что
вышеназванное учение о неподвижности Солнца в центре
мира и движении Земли согласно с истиной и не
противоречит святому писанию,— то, чтобы такого рода мнение
не распространялось мало-помалу далее на пагубу
католической истине, конгрегация определила: названные
книги Николая Коперника, Об обращении сфер и Дида-
ка Астуника, Комментарии на Иова должны быть
временно задержаны впредь до их исправления. Книга же
отца Паоло Антонио Фоскарини, кармелита, вовсе
запрещается и осуждается. Все книги, учащие равным образом
то1му ж-е, запрещаются, и настоящий декрет
соответственно запрещает и осуждает их или временно задерживает.
В удостоверение сего настоящий декрет скреплен
подписью и приложением печати преосвященнейшего и
достопочтеннейшего господина кардинала «святой Цецилии,
епископа Альбанского, 5 марта 1616 г.» 44
Книги Шлюссербурга, «Возрождающийся
шотландец» и т. д. запрещены по чисто политическим и
религиозно-догматическим соображениям. Вторая часть — ко-
перниканские книги — разбиты на две группы. Книги
Коперника и другие книги, где проблема согласования
гелиоцентризма с библейскими текстами является не
122
основной, «временно задерживаются впредь до их
исправления». Письмо Фоскарини запрещено. Исправления
должны были устранить из книги Коперника все, что
противопоставляет астрономию канонизированной догме,
иначе говоря, посягает на абсолютную истину
откровения. В конце концов вопрос по-прежнему стоял о выборе
между конвенционалистской, условно-гипотетической
трактовкой астрономических данных и признанием их
объективной ценности.
В этот трагический для науки момент выявилось ее
действительное направление. Речь шла о суверенитете
разума. Но речь шла о суверенитете разума в поисках
объективной истины. Все это происходило в момент, когда
создавались прообразы и истоки рационализма XVII—
XVIII вв., но рационализма глубоко онтологического, цре-
тендующего на объективную истину в своих заключениях.
И в этот момент Галилей показал, что он выражает
основную тенденцию научного прогресса своего
времени — тенденцию, которая является частью бесконечного
приближения науки к ее неисчерпаемому оригиналу.
Именно в этом — бессмертие гения. Все перипетии
борьбы, оговорки и самое отречение 1633 г.— все это детали,
представляющие интерес только потому, что они являются
деталями жизни титана. Героическое и бессмертное в
Галилее — это не легендарное eppur si muove, а фактическое,
действительное, неуклонное следование по основному
историческому фарватеру науки. Фарватер вел к
рационализму не только Декарта, но и к рационализму Спинозы
и ко всему, что вытекало из него.
Это была очеяь широкая тенденция. Ровесник Галилея,
по-иному воплотивший в своем творчестве ту же
основную тенденцию своего времени, Шекспир (он родился в
1564 г.) раскрыл <в «Гамлете» трагедию и апофеоз мысли,
которая тянется к действительности и к действию из
тисков чисто субъективной, замкнутой в себе рефлексии.
Галилей — ив этом главное в его творчестве и главное в его
жизни — не мог оставаться в традиционной сфере
замкнувшейся в себе мысли.
В 1616 г. Галилей еще мог пойти назад и отказаться
от тезиса о реальном, а не условном значении
гелиоцентризма. Он мог это сделать по внешней обстановке: его
имя и его произведения не были упомянуты в декрете,
Беллармино ириписывал ему условную трактовку астро-
123
номических знаний, ему бы пошли во многом навстречу.
Но он не мог этого Сделать, оставаясь самим собой,
развивая сквозную и центральную, обращенную в будущее
идею своей эпохи.
Поэтому он пытался приуменьшить значение декрета,
спасти что можно, пойти на множество мелких
компромиссов. Но у него не было и мысли о действительном
пересмотре основной идеи — объективного,
дифференциально-кинетического обоснования гелиоцентризма, идеи
относительного движения тел в однородном пространстве.
Накануне подписания декрета Гвиччардини писал во
Флоренцию:
«Галилей здесь больше полагался на собственные
мнения, чем на мнения своих друзей; синьор кардинал дель
Монте и я, по мере малых моих сил, а также кардиналы
святого судилища убеждали его успокоиться и не
вносить в это дело горячности; и если он хочет держаться
этого мнения, то пусть бы держался втихомолку, не делая
таких усилий, чтобы располагать и привлекать на свою
сторону других» 45.
Через несколько дней Галилей был очень милостиво
принят папой и затем ему ничего не оставалось другого,
как уехать во Флоренцию. Ему не хотелось уезжать.
Здесь в Риме он мог надеяться еще как-то повлиять на
истолкование декрета, если не удалось помешать ему
появиться. Но Гвиччардини очень хотел отправить Галилея
домой, да и герцог, по-видимому, стал беспокоиться за
свой католический престиж. Отъезд был ускорен.
Галилей увез с собой письма кардиналов Орсини и
дель Монте к гарцогу, где было засвидетельствовано
полное очищение Галилея от подозрений в ереси. Он
получил у самого Беллармино следующее свидетельство:
«Мы, Роберт кардинал Беллармино, услышав, что
синьор Галилео Галилей подвергся клевете и обвинению
в том, что он принес нам клятвенное отречение, а также,
что на него было наложено спасительное церковное
покаяние, и стремясь к установлению истины, заявляем, что
вышеназванный синьор Галилей ни перед нами, ни перед
кем-нибудь другим здесь в Риме, ни также, поскольку мы
знаем, в другом месте, не отрекался от какого бы то ни
было своего мнения или учения и на него не было
наложено ни спасительное покаяние, ни взыскание другого
рода, ему только было объявлено сделанное господином
124
нашим и опубликованное святой конгрегацией индекса
постановление, в котором сказано, что учение,
приписываемое Копернику, что Земля движется вокруг Солнца,
Солнце же стоит в центре мира, не двигаясь с востока на
запад, противно святому писанию, и потому его нельзя ни
защищать, ни придерживаться. В удостоверение чего мы
написали и подписали настоящее нашей собственной
рукой сего 26 мая 1616 г.
Вышеназванный Роберт кардинал Беллармино» 46.
Трагедия Галилея после декрета 5 марта не была
личной. Ученики и друзья замолчали — им грозило
преследование инквизиции. Дело яшзни Галилея, уже начатые
планы новых работ — все это было пресечено.
VIII. Возобновление борьбы
Декрет 1616 г. был встречен молчанием. Живая и
активная среда учеников, корреспондентов и сторонников
Галилея как бы перестала существовать, ее голос затих.
Молчаощ все. Конечно, га тесных дружеских кружках, с
постояной оглядкой на явных и неявных агентов
инквизиции — имя им было легион — велись достаточно смелые
разговоры. Но они не оставили следов не только в
литературе, но даже в частной переписке того времени — все
знали о перлюстрации писем. Мрачное безмолвие надолго
воцарилось в научных и литературных кругах. Реакция
по временам крепла, по временам ослабевала, пока
процесс 1633 г. не превратил начавшиеся в 1616 г. сумерки
итальянской науки в опустившуюся на весь католический
мир глубокую ночь.
Для Галилея наступило тяжелое время. Его
творчество было синтезом традиционной гуманистической
эрудиции и воздействия времени, оно резонировало на
окружающую жизнь, оно поддерживалось общением с
активной и сочувствующей средой. Поэтому события 1616 г.
согнули Галилея. Но не сломили. Вскоре его мысль
направилась на проблемы, которые таили гораздо большую
опасность для перипатетической концепции и больший
эффект для новой научной картины мира, чем его
прошлые выступления.
В 1610—1616 гг. Галилей выступал против
геоцентрической схемы во всеоружии астрономических открытий,
которые были или казались непосредственными
аргументами в пользу системы Коперника. Теперь речь шла о
самых глубоких гносеологических и физических основах
научной картины мира. Гносеологические, а также физиче-
126
ские позиции канонизированного перипатетизма XVII в.
имели очень мало общего с философией, физикой и
космологией Аристотеля. Строение вселенной — истинное,
т. е. соответствующее Откровению,— определяется
абсолютно конфигурацией естественных мест. Эта
конфигурация не может быть поколеблена эмпирическими
открытиями, которые могут изменить лишь прагматические и
условные истины. Научные методы не могут открыть
абсолютную истину, она постигается толкованием текстов
под контролем церкви.
После запрещения коперниканства Галилей готовил
удар по этим наиболее общим основам враждебного
Мировоззрения. Он противопоставлял им идею суверенного
разума, который ищет и находит в природе ее истинную
гармонию — схему относительных перемещений дискретных
тел, которые могут быть постигнуты геометрическими
методами, поскольку объективная реальность
определяется 'колиадствеганьши (понятиями.
Два произведения Галилея раскрывают нам
длительную и в течение долгого времени неявную подготовку
новой борьбы. Это памфлет «Пробирные весы» («II Saggiato-
ге» — 1623) и «Послание к Инголи» («Lettera a Francesco
Ingoli» — 1624). Первое из этих произведений
провозглашает идею суверенного, независимого от авторитета
количественного исследования природы. Второе указывает на
принцип относительности, противостоящий
перипатетической схеме.
Осенью 1618 г. появившиеся на небе три кометы
вызвали трудно представимый сейчас интерес к
астрономическим вопросам. Все были в страшном возбуждении, и
на ступенях флорентийских соборов впервые после
открытий 1610 г. стали говорить об астрономии больше, чем
о политических событиях, хотя в этот год восстание в
Праге положило начало Тридцатилетней войне, во многом
повлиявшей на положение в Италии.
Галилей не вмешивался в оживленные и
повсеместные споры о природе комет. Но вскоре одно из
выступлений потребовало от него ответа. В 1619 г. Орацио Грасси
выступил в римской коллегии с докладом о кометах 1. Это
доклад в классическом схоластическом духе,
враждебном какой бы то ни было критике перипатетизма.
Грасси защищает представления Аристотеля о небесной
природе комет, подчеркивая тезис о коренной противопо-
127
ложности неба и Земли. Именно этот тезис и был в
наибольшей степени поколеблен открытиями 1610 г.
Полемический темперамент Галилея был подогрет и
тем, что выступление исходило от иезуитов, которых он
ненавидел давно, хотя и скрывал это очень криминальное
в то время чувство (не всегда скрывал: изгнание иезуи'
тов из Венеции в 1606 г. Галилей приветствовал).
Близкий друг и единомышленник Галилея консул
флорентийской академии Марио Гвидуччи произнес речь
с изложением идей Галилея и критикой, направленной в
адрес Грасси2. Галилей написал вторую часть речи —
собственно полемическую. В этой части выступления
следует отметить одну важную гносеологическую идею.
Галилей отвергает претензии Грасси на
окончательный характер научных представлений. Его девиз
«истина — дочь времени», взятый (как и понятие humanitas) из
«Аттических ночей» («Noctes atticae») Геллия (II в. н. э.)
и примененный Леонардо к науке3. Но это не простая
констатация изменения знаний. Олыпки прав, когда
говорит о галилеевой интуиции развития4. Развитие
предполагает существование некоторого тождественного
себе субъекта развития, субъекта изменений. Таковы
представления о природе, согласованные с наблюдением
и выведенные математически. Они изменяются, но их
изменение образует сходящийся ряд. Подобный взгляд на
научную истину мы еще встретим в «Диалоге».
За выступлением Гвидуччи последовал ответ
Грасси — полемическое, весьма подробное произведение,
подписанное именем Лотарио Сарси 5Г
В свою очередь, Галилей выступил против Грасси-
Сарси, правда, не скоро.
Вышедший в 1623 г. (памфлет — это и есть знаменитый
«Saggiatore» 6. Его известность и значение меньше всего
оправданы полемикой о происхождении комет и
галилеевой концепцией комет.
Эта концепция представляет собой разновидность
традиционной оптической теории комет. Галилей думал,
что кометы — это отражения солнечных лучей в
испарениях Земли. Но собственно историческое, выходящее за
рамки хронологически упорядоченной логической схемы,
значение полемики очень велико.
История науки, вообще говоря, не может отойти от
одномерной объективной логики открытий и обобщений,
128
последовательно и необратимо приближающих
человечество к объективной истине. Но такая одномерная, прямая
эволюция реально является результатом (можно было бы
сказать «макроскопическим результатом») большого
числа блужданий мысли, отходов в сторону и даже попятных
движений. Разумеется, фактическая истинность научных
теорий — только первый критерий исторической оценки.
Чтобы понять, что представляет собой та или иная
теория в историческом плане, нужно знать, в каком
отношении она находится к одномерному возрастанию
правильных позитивных знаний. Но это лишь первый критерий.
Для воссоздания эволюции идей в ее исторической
конкретности нужно учитывать форму, в которой была
высказана каждая научная идея; форма оказывается
существенной, и Гете еще раз прав в своем знаменитом
четверостишии —ответе Альбрехту фон Галлеру.
Форма научной идеи может иметь иной знак по
сравнению с ее удержанием, она (может в конечном счете
способствовать приближению к правильной теории при
неправильном содержании идеи. Примеры исторически
прогрессивного метода, примененного для неправильной
теории, бесчисленны. Но иногда не только метод
исследования, но и метод изложения — литературная форма
научного произведения приобретает самостоятельную
ценность и начинает работать и двигать науку вперед,
независимо от содержания научной концепции. Это
особенно часто бывает в моменты, когда новая система
объяснения явлений црироды еще не приобрела логической и
экспериментальной «очевидности» и для ее
распространения существен чисто психологический эффект научной
литературы.
Выдвинутая Галилеем теория комет была
неправильной и противоречила уже известным в то время
правильным взглядам, если не на природу, то на
пространственное расстояние комет от Земли. Тихо Браге измерил
параллакс кометы 1577 г. и сравнил его с параллаксом
Луны. Сравнение показывало, что комета гораздо дальше
от Земли, чем Луна. Впрочем, Галилей не считал свою
концепцию бесспорной. В «Saggiatore» он писал, что
никогда не претендовал на точное представление об
образовании комет, потому, что они могут возникать и таким
образом, который весьма далек от всего, что мы можем
вообразить 7.
9 Галилей
129
Несколько слов о стиле «Saggiatore».
Памфлет состоит, из 63-х параграфов, содержание
которых нет смысла излагать. Олыпки справедливо говорит,
что без блеска стиля Галилея нельзя понять значения
«Saggiatore». «Без одной силы его остроумия, без тысячи
оттенков его выпадов, его иронии и его сдержанного
гнева от «Весов» остался бы рад 'малоинтересных вопросов
или даже мелочей, представляющих только исторический
интерес. Это неизбежные недостатки написанного по
определенному поводу произведения, так что даже
исключительные достоинства стиля теряют свое
непосредственное действие и a la longue при непрерывном чтении
начинают утомлять своей монотонностью, пока какая-нибудь
внезапная вспышка не выдает силы напряжения, которым
проникнуто все сочинение» 8.
Между (пунктами мелких разногласий иго вонрюсам,
потерявшим сейчас значение, помещена декларация
фундаментального гносеологического и физического credo
Галилея и всего механического мировоззрения XVI—
XVIII вв. Это признание качественных свойств
вторичными и сведение объективных свойств тел к их величине,
форме, числу и движению. «Никогда я не стану от
внешних тел требовать чего-либо иного, чем величина, фигура,
количество, и более или менее быстрые движения для
того, чтобы объяснить возникновение ощущений вкуса,
запаха и звука, я думаю, что если бы мы устранили уши,
языки, носы, то остались бы только фигуры, чиюла,
движения, но не запахи, вкусы и 'звуки, которые, по моему
мзнейию вне живого существа являются не чем иным, как
только пустыми именами» 9.
Далее говорится о неуничтожаемое™ и однородности
вещества и о сведении качественных различий к
конфигурации бескачественных однородных дискретных частей
вещества.
Отсюда механическое естествознание вывело
механическую концепцию теплоты и ряд других кинетических
гипотез. Мы встречаем их истоки в «Saggiatore».
Книга не вызвала протеста в официальных кругах.
Для этого она была и слишком мелкой и слишком
крупной. Мелкие споры о приоритете казались и частично
были несвязанными с проблемой движения Земли и
Солнца. Крупные обобщения, которые противостояли
перипатетизму в его исходных позициях, тоже казались (но от-
130
нюдь не были) несвязанными с защитой копернйканства.
Новый папа — Урбан VIII — похвалил «Saggiatore»; по-
видимому, ему понравились блестящие
литературно-полемические пассажи. Он помешал иезуитам ответить
Галилею новым памфлетом.
Успех «Saggiatore» (даже не столько успех, сколько
безнаказанность) и характерная для начала понтификата
Урбана VIII смесь новых веяний и старых иллюзий
толкнули Галилея 'к другому выступлению, на этот раз
прямо коперниканскому.
За восемь лет до этого, в 1616 г., во время поездки в
Рим и первого процесса, Галилей получил из Равенны
«Рассуждение о месте Земли и о ее неподвижности против
системы Коперника» («De situ et quietae Terrae contra
Gopernici Sistemam Disputatio), написанное богословом и
юристом Франческо Инголи. Тогда ответ на антикопернн-
канское послание был невозможным. Теперь Галилею
казалось, что такой ответ не вызовет репрессий, и он
решил выступить с разбором сочинения Инголи.
«Послание к Инголи» («Lettera a Francesco Ingoli») 10,
распространившееся в списках повсюду, но, кажется, не
дошедшее до самого Инголи,— это первый вариант
«Диалога», в значительной мере вошедший в «Диалог». Мы
коснемся (здесь (предварительно, с тем чтобы (вернуться в
рассказе о «Диалоге») проблемы бесконечности и
однородности пространства так, как она трактуется в этом
произведении Галилея.
«Послание к Инголи» содержит наиболее полную
характеристику того, что можно было бы назвать
космологией Галилея. Можно было бы, но только ов очень
условной форме: космологии у Галилея, строго говоря, не было.
Более того, у Галилея не было и звездной астрономии,
хотя ему принадлежат такие фундаментальные открытия,
как дискретная природа Млечного Пути и множество
новых звезд, открытых в 1610 г. «Sidereus Nuncius» открыл
дорогу звездной астрономии, но пошли по этой дороге
астрономы следующего после Галилея поколения, а
космология как учение о вселенной в целом развивалась
еще позже; систематический характер она приняла
только в XX столетии в связи с общей теорией
относительности.
Аристотелева космология была логически замкнутой
теорией. По той простой причине, что ее объект представ-
9* 131
лялся замкнутым, она была учением о конечной
вселенной. Космология Галилея, если о ней можно говорить,—
незамкнута только 'гносеологически, а не онтологически.
Галилей считает вопрос о конечности или бесконечности
мира неразрешимым. Что самое главное, он не слишком
интересуется этим вопросом. Галилея вполне устраивает
конечная вселенная, но только в центре ее должно
находиться Солнце, а не Земля, и, кроме того на границы и
на центр этой вселенной не натянута система
естественных мест.
Такой взгляд связан с самыми
фундаментальными особенностями дифференциального представления о
мире.
«Утренняя» форма не помешала его колоссальному
воздействию на характер .мышления людей. Это видно на
примере Джордано Бруно. Когда распалась
упорядоченная вселенная Аристотеля со статической конфигурацией
естественных мест, центр тяжести научного мышления
передвинулся в область локальных проблем. Уже
парижские номиналисты больше всего интересовались тем, что
происходит в данною мгновение и в данной точке. Точки
равноправны и отличаются лишь расстояниями — не от
границ и центра вселенной, а от материальных тел,
выбранных в качестве тел отсчета. Вытекает ли отсюда
бесконечность вселенной? Строгим образом только в
предположении неискривленности пространства, хотя бы в той
форме, какую это предположение получило у Декарта:
тело, предоставленное самому себе, движется по прямой.
Но если кому-нибудь требовалось строгое выведение
бесконечности вселенной, то не Джордано — мыслителю
колоссальной научной и поэтической интуиции п.
Галилей принадлежал к тому же поколению, что и
Бруно, но к другой эпохе. У Бруно интуиция была не
только первоначальным, но и основным звеном
восприятия мира. Галилей еще не пришел ни к
систематизирующему духу Декарта, ни <к однозначной математической
строгости Ньютона, но он уже стремился отделить те
области, где можно было делать однозначные выводы, от
областей, где они были еще невозможны. Из локальной
однородности пространства (каждая точка равноправна
с соседней) можно сделать интегральный вывод: нигде нет
конечной точки, отличающейся от соседних. Но для
Галилея такая дедукция возможна, пока она сохраняет не-
132
(разрывную связь с наблюдениями и пока ее можно
высказать в виде мысленного эксперимента.
Неподвижные звезды — вне подобного стиля научного
мышления. Поэтому он останавливается там, где
астрономия солнечной системы переходит в звездную
астрономию. Останавливается в раздумьи.
Мы вернемся к космологическим размышлениям
Галилея лойже, в связи с «Диалогам», а сейчас приведем
несколько отрывков из «Послания к Питали».
Мы встречаемся здесь с замечанием Галилея, которое
на первый взгляд противоречит тезису: у Галилея не
было 'звездной астрономии.
Разъяснив Инголи понятие параллакса, Галилей
переходит к неподвижным 'Звездам. Они светят, подобно
Солнцу, собственным светом и находятся на
колоссальных расстояниях от солнечной системы.
«Неподвижные звезды светятся их собственным
светом, так что ничто не мешает нам называть и считать их
солнцами, они должны быть ярки, как Солнце, если же,
однако, свет, исходящий от всех звезд в совокупности, и
их видимая величина не достигают десятой части
видимой величины Солнца и света, доходящего к нам от него,
то единственной причиной этого являются их расотояния
от нас» 12.
Мысль о неподвижных звездах, как о телах, не
отличающихся по своей природе от Солнца, является для
первой четверти XVII в. совсем не тривиальной и,
разумеется, фундаментальной. Но у Галилея она фигурирует в
качестве аргумента в защиту определенной концепции
солнечной системы. Правда, Солнце может оказаться
центром не только планетных орбит, но и мира в целом, но
этот вопрос мало интересует Галилея.
Он не хочет рассматривать проблему конечности и
бесконечности вселенной. В «Послании» говорится:
«Разве вы не знаете, что до сих пор еще не решено (и я
думаю, что человеческая наука никогда не решит),
конечна ли вселенная или бесконечна? Но если допустить,
что она действительно бесконечна, как можете вы
утверждать, что размеры звездной сферы непропорциональны но
сравнению с орбитой Земли, если сама эта сфера
неподвижных звезд но отношению к вселенной оказалась бы
гораздо меньшей, чем ищеничное зерно цо сравнению с
ней... Что капается до м№я, то когда я рассматриваю мир,
т
границы которому положены нашими внешними
чувствами, я совершенно не могу сказать, велик он или мал,
разумеется, я скажу, что он чрезвычайно велик по
сравнению с миром дождевых и иных червей, которые, не имея
других средств к его измерению, кроме чувства осязания,
не могут считать его большим того пространства,
которое они сами занимают, и мне вовсе не претит мысль
о том, что мир, границы которому положены нашими
внешними чувствами, может оказаться столь же малым по
отношению к Вселенной, как мир червей по отношению к
нашему миру» 13.
Такую же неопределенную позицию Галилей, как мы
увкдим, занял в к<Диалоге». Еще позже, в 1639 г., в письме
к Фортунио Личети он склоняется к идее бесконечности
Вселенной на основе весьма оригинальной
гносеологической конструкции. Мы не можем представить себе ни
конечный, ни бесконечный мир. Но не следует вводить
границы познания по отношению к конечным объектам,
гносеологическим идеям Галилея более соответствует
принципиальная непознаваемость актуальной бесконечности.
«Весьма тонкие доводы представляются нам в пользу
того и другого мнения, но в моем сознании ни те, ни
другие не ведут к обязательному заключению, так что я
остаюсь в нерешимости, какое из этих двух положений
правильно, во всяком случае одно мое личное рассуждение
заставляет меня склоняться больше к решению о
бесконечности, чем к ограниченности мира; действительно, я не
знаю, каков он, и не могу вообразить его ни
ограниченным, ни безграничным и бесконечным, а так как
бесконечное по своему существу (ratione sui) не может быть
постигнуто нашим ограниченным интеллектом, что не имеет
места по отношению к конечному и ограниченному
пределами,— то самую не возможность познания я должен
отнести к непознаваемой бесконечности мира, но не к его
ограниченности, так как для последней оснований к
непознаваемости не требуется» 14.
Как тяжело было расстаться с конечной вселенной,
видно из «Dissertatio cum Nuncio Sidereo» Кеплера.
Последний чувствовал себя очень неуютно на одном из
бесконечного множества небесных тел и еще менее уютно
в бесконечном пространстве. Рассказ о Медицейских
звездах вызвал мысль о существовании планет, движущихся
вокруг неподвижных звезд, и о бесконечном числе планет.
184
В этой связи Кеплер опрашивает: «И, наконец, не будет
ли и мир бесконечным, как полагали Мелисс и англичанин
Вильям Гильберт, автор исследований по магнетизму, или
же — согласно тому, как считали Демокрит и Левкипп,
а ш новых Бруно и Бруций, наш общий друг с тобой, о
Галилей,— что существует бесчисленное множество
миров (или земель, как говорил Бруно), подобных этому
нашему миру?» 15
Когда Кеплер узнал, что открытые Галилеем небесные
тела обращаются вокруг Юпитера и все ограничивается
солнечной системой, он успокоился. В «Dissertatio» он
пишет, обращаясь к Галилею:
«Если бы ты действительно открыл, что новые планеты
обращаются вокруг одной из неподвижных звезд, то мне
пришлось бы обречь себя на оковы, на темницу в
бесчисленных мирах Бруно и даже, более того, на изгнание
в эту бесконечность. Таким образом, ты спас меня теперь
от великого страха, овладевшего мной после первых
слухов о твоей книге» 16.
Но вывод о бесконечности вселенной мог быть сделан
не из астрономических открытий, а из того принципа,
который был (положен в основу etro астрономической
концепции. Концепция эта состоит в принципе
относительности движения и однородности пространства, в котором
тела движутся без ускорения.
Галилей разбирает тезис перипатетиков: Земля
находится в центре мира потому, что она — тяжелое тело, а
тяжесть — это стремление к центру мира. Галилей
противопоставляет этой концепции другую, которая уже была
у Коперника: тяжелые тела на Земле стремятся к Земле,
тяжелые тела на других планетах стремятся к этим
планетам. Обращаясь к Инголи, Галилей говорит:
«Ошибка, общая у вас с Аристотелем, следующая:
когда вы говорите: «у твердых тел имеется их собственное
естественное устремление — двигаться к центру», то под
центром вы понимаете либо точку в середине данного
тяжелого тела, либо центр всего сферического мира; в первом
случае я утверждаю, что Луна, Солнце и все прочие
шарообразные светила во вселенной являются не менее
тяжелыми, чем Земля, и что все их части содействуют
образованию их собственных сфер, так что, если когда-либо от
них отделяется часть, она возвращается к своему целому,
точно так же, как это происходит с частями Земли, и ни-
135
когда вы не убедите меня в противном, но если же вы под
центром признаете центр мира, то я скажу вам, что и
Земля отнюдь не обладает никакой тяжестью и не стремится
к центру вселенной, а находился на своем месте, так же
как и Луна на своем» 17.
Нужно отметить, что слово «стремится» не означает -
у Галилея какого-либо объяснения движений тел18.
Это простая констатация направления их движения,
причем относительная констатация: без указания,
к какому телу движется данное, она теряет смысл. Позже
мы остановимся подробнее на чисто феноменологическом
характере понятия падения тел у Галилея. Зде(сь (можно
только подчеркнуть связь релятивирования падения тел
с идеей однородности пространства.
У Аристотеля естественное движение имело
абсолютный характер, потому что оно было движением в
неоднородном конечном пространстве — от его периферии к его
центру. По той же причине титул «естественное
движение», присвоенный падению тяжелого тела, был
объяснением падения.
У Галилея, как уже неоднократно говорилось,
статическая гармония мира уступила место кинетической
гармонии. Движение не определяется предсуществующей
схемой естественных мест. Если тело падает на Землю, то
Земля оказывается телом отсчета — и только. Без тела
отсчета движение в однородном {пространстве не имеет
физического смысла.
Но если падение тяжелых тел на Землю имеет чисто
кинематический смысл, то в чем его причина? Здесь, как
и позже, Галилей не создает каких-либо теорий. Мы
увидим впоследствии, что отсутствие теории тяжести в
космологии Галилея приводит его к весьма фундаментальной
идее кругового инерционного движения небесных тел.
Однородность пространства, равноправность его точек
доказывается отсутствием физических процессов,
вызванных переходом из одной точки в другую. Переход от одной
скорости к другой скорости вызывает такие
процессы (приливы в механике Галилея, силы инерции в
механике Ньютона), но переход от одной точки к другой
т о ч к е не может быть обнаружен подобными процессами.
В этом — основное доказательство гелиоцентризма,
вернее, основной контраргумент против попыток
абсолютизации неподвижности Зешш.
т
Все эти попытки были основаны на представлении об
абсолютном движении и абсолютном покое. Из отсутствия
проявлений абсолютного движения выводили абсолютную
неподвижность Земли. Подобными аргументами и
пользуется Инголи. Среди них — традиционные аргументы,
которые были известны древности: если бы Земля вра-
.щалась, то камень, брошенный с башни, отставал бы от
нее при своем падении, птицы также отставали бы от
движения поверхности Земли и казались уносящимися на
запад и т. д. Новое время прибавило 'к этому пример
артиллерийских снарядов, которые в случае движения
Земли обнаруживали бы такое движение: если выстрел
произведен в ту же сторону, куда движется данная точка земной
поверхности, т. е. на восток, скорость снаряда будет
уменьшаться, если же снаряд летит навстречу
движущейся поверхности Земли, его скорость увеличится.
Галилей объединил в одной задаче небесные объекты и
темные предметы, движение которых (при отсутствии
ускорения) относительно, согласно повседневному опыту
и простому здравому смыслу. Тем самым астрономическая
задача могла быть решена ссылкой на реальный или
мысленный эксперимент.
Этому эксперименту предшествует общая, исходная
формулировка принципа относительности: по поводу
артиллерийских снарядов, полета птиц и т. д. Галилей,
Обращаясь к Инголи, говорит, что при покое и при
движении Земли все процессы на ее поверхности и в воздухе
неразличимы.
«Я говорю вам, что' когда вода, земля ,и втадух, ее
окружающий, согласованно выполняют о|дно и то же, т. е.
либо совместно движутся, либо совместно покоятся, то мы
должны представить с^бе те же самые явления
одинаковыми ad unguem («до ногтя», т. е. с полной точностью),
как в одном, так и в другом случае, я говорю при этом
обо всем, что касается упомянутых уже движений
падающих тяжелых тел или тел, брошенных кверху или в
сторону в том или ином направлении, или полета птиц к
востоку и к западу, движения облаков и т. п.» 19.
Затем идет знаменитый мысленный эксперимент.
«В большой каюте под палубой какого-либо крупного
корабля запритесь с кем-либо из ваших друзей, устройте
так, чтобы в ней были мухи, бабочки и другие летающие
насекомые, во'зьмите также большой сюсуд <с водой и рыбок
137
внутри его, приладьте еще (какой-либо сосуд повыше, из
которого вода падала бы по каплям в другой нижний сосуд
с узкой шейкой, и пока корабль стоит неподвижно,
наблюдайте внимательно, как эти насекомые будут с одинаковой
скоростью летать по каюте в любом направлении, вы
увидите, как рыбки начнут двигаться безразлично в
направлении какой угодно части края сосуда, все капли, падая,
будут попадать в сосуд, подставленный снизу, и вы сами,
бросая какой-либо предмет вашему другу, не должны
будете кидать его с большим усилием в одну сторону, чем
в другую, если только раостояния одинаковы; а когда вы
начнете прыгать, как говорится, нота1ми вместе," то на
одинаковые расстояния сместитесь по воем
направлениям» 20.
Пока речь идет о тривиальных вещах: корабль стоит,
и равенство движений в различные стороны кажется само
собой разумеющимся. Заметим только, что эксперимент
излагается при молчаливом допущении: движения
происходят в горизонтальной плоскости. Теперь Галилей
предлагает придать кораблю равномерное движение.
«Когда вы хорошо заметите себе все эти явления,
дайте движение кораблю и притом с какой угодно скоростью,
тогда (если только движение его будет равномерным, а не
колеблющемся туда и сюда) вы не заметите ни малейшей
разницы во всем, что было описано, и ни по одному из
этих явлений, ни по чему-либо, что станет происходить
с вами самими, вы не сможете удостовериться, движется
ли «корабль или стоит неподвижно: прыгая, вы будете
смещаться по полу на те же самые расстояния, что и раньше,
и оттого, что корабль движется чрезвычайно быстро,
прыжки ваши не будут длиннее в сторону кормы, чем
к носу, хотя за то время, пока вы находитесь в воздухе,
пол каюты уходит в сторону, обратную вашему прыжку,
а когда вы начнете бросать какой-либо фрукт вашему
другу, вам не придется прилагать больших усилий, чтобы
добросить его, если ваш друг стоит на носу, а вы на корме
или же если вы оба поменяетесь местами, все капли будут
падать в нижний сосуд, и ни одна из них не отстанет
к -корме, хотя, пока капли находятся в воздухе, корабль
пробежит несколько ладоней, рыбки в воде не испытают
большей трудности, плавая к передней или к задней части
сосуда, но одинаково быстро приблизятся к пище, которую
вы положите для 'них в любом месте края сосуда, и, на-
138
конец, мухи и бабочки будут продолжать летать
безразлично во все стороны, и они никогда не собьются у
кормовой части, как если бы им пришлось отставать от
быстрого бега корабля, от которого они уже давно были
отделены, именно за все время, что они держались в воздухе, и
если вы, зажегши малый кусочек ладана, дадите
образоваться немного дыму, то увидите, как он поднимается
кверху, там задерживается и движется безразлично либо
в одну, либо в другую сторону наподобие облачка» 21.
Сравним этот отрывок с ньютоновой формулировкой
принципа относительности: «Относительные движения
друг по отношению к другу тел, заключенных в каком-либо
пространстве, одинаковы, покоится ли это пространство
или движется равномерно и прямолинейно без
вращения» 22.
Когда читаешь приведенный отрывок из «Послания
к Инголи» (или совпадающий текст в «Диалоге»),
буквально видишь эту струйку дыма ладана, и даже
ощущаешь его запах, и даже знаешь твердо, что море за бортом
корабля — это Адриатика. Здесь и поразительная точность
описания, согретая памятью о счастливых днях в
Венеции, и ощущение радости перед картиной, окончательно
утверждающей главную идею мыслителя.
Отрывок из Ньютона — чертеж. В нем есть свой
пафос — однозачпой строгости. Сопоставление возвращает
нас к образу мягких утренних красок и четкого
полуденного пейзажа. Но тут есть различие и но содержанию:
у Ньютона речь идет о равномерном и прямолинейном
движении, Галилея это условие относительности не
высказано. Мягкость красок обернулась
неопределенностью понятия. Означает ли это, что принцип
относительности у Галилея дальше от современного понимания, чем
принцип относительности у Ньютона? Конечно. Но
только ли это означает галилеевская неопределенность? Ответ
на этот вопрос впереди.
IX. Письма Марии Челесты
Сейчас мы перейдем от драмы к идиллии. Олыпки
назвал идиллической нотой в переписке Галилея письма его
старшей дочери Маржи Челесты1. Помимо
биографической ценности этих писем, они останутся памятником
чистой и преданной души, ума, кротости и такта бедной
затворницы францисканского монастыря2. «Ничто,—
пишет Ольшки, не может заменить впечатления
изящества и свежести, веющих от ее писем отцу» 3. Но под
идиллическими строками этих писем мы находим ту же тему,
что и под драматическими строками документов
инквизиционных процессов,— эпическую тему становления новой
науки и нового метода, становления новых, моральных
и эмоциональных черт, связанных в последнем счете с
содержанием новой науки. Мы начинаем чувствовать
моральную и эмоциональную атмосферу, в которой жил
Галилей. Она резко отличается от атмосферы старой науки.
Здесь нет никакой иерархии, никакой Топорности,
никакого надутого и претенциозного чванства, столь
смешивших Галилея когда-то в юности в Пизе, но и не только
в юности и не только в Пизе. Напротив, для новой науки
характерна атмосфера непринужденной и веселой
человечности, простоты, сердечности, благожелательности,
гуманизма в том смысле, который это слово приобрело в наше
время.
Творчество великих ученых часто сравнивают с
подвигом Прометея. Но для Галилея характерна и обратная
операция — перенос на небо земного огня. Ведь он объяснил
картину неба — правда, не мифологического, а
реального — с помощью соотношений, найденных в очень
земных мастерских, верфях и фортах. Во всяком случае Га-
140
лилей не был пророком, принесшим людям скрижали
априорного знания. Облик жизнерадостного, активного и
веселого флорентийца, которому ничто человеческое не было
чуждо, гармонирует с эмпирическими истоками его идей,
а блеск и благородство, так явно пронизывающие
переписку Галилея, гармонируют с элегантной простотой
теоретических конструкций.
И нигде этот облик, вероятно, не был выявлен так
отчетливо, как в письмах к самому близкому человеку —
старшей дочери. Но письма к Марии Челесте исчезли —
об этом мы сейчас скажем подробнее, упомянув
предварительно о том, как дочери Галилея попали в монастырь.
Когда Галилей переехал во Флоренцию, девочки
оказались в очень тяжелом положении. Они расстались со
своей матерью и попали под власть матери Галилея,
которая издавна не могла примириться с неосвященным
церковью браком сына, а теперь, с годами, стала
непереносимо деспотичной и раздражительной. Будущее не сулило
им ничего хорошего. Незаконнорожденные 'бесприданницы
не могли рассчитывать на брак. Единственная дорога
вела в монастырь. Галилей хотел, чтобы это был
флорентийский монастырь, он не допускал и мысли о полной
разлуке. Задача была сложной: сестер нельзя было
поместить в один и тот же монастырь — это запрещалось
твердыми правилами, в монахини не принимали девушек
моложе 16 лет, а дочерям Галилея было 10 и 11 лет, пред-»
дарительное закрепление вакансий грозило
настоятельнице лишением сана. Только через два года, осенью 1613 г.,
сестер приняли в качестве послушниц во францисканский
монастырь святого Матфея в Арчетри — предместье
Флоренции, в котором потом, много позже, поселился и
Галилей. По достижении 16 лет пестры стали монахинями:
Вирджиния под именем Марии Челесты, а Ливия —
Арканджелы.
До 1614 г. Галилей жил в вилле своего
венецианского друга Сальвиати, но после его смерти должен был
переехать в другой дом. Он арендовал виллу близ Белло-
сгардо. Между юными монахинями и их отцом, помимо
взаимных посещений — довольно редких,— установилась
постоянная переписка. Слуги носили продовольствие,
фрукты и цветы из Беллоогардо в Арчетри, чиненные сорочки
Галилея и приготовленное в монастыре варенье — из
Арчетри в Беллосгардо и письма «■* в обоих направлениях.
141
Младшая сестра, Арканджела, нервная и болезненная,
не участвовала в переписке с отцом. В немногих
упоминаниях в письмах Марии Челесты ее образ встает бледной
тенью, не существенной для биографии Галилея. Мария
Челеста, работавшая в аптеке и в больнице монастыря,
заведовавшая продовольствием, находила время не только
информировать отца о своей жизни и следить за его
сорочками, но фактически стала его заочным секретарем.
Она снимала копии с документов, и слуга относил в Бел-
лосгардо переписанные четким девичьим почерком письма
к Галилею и его письма разным лицам, вместе с ее
собственными подробными отчетами и маленькими
записками. Сохранилось 120 писем Марии Челесты Галилею.
Первое датировано 10 мая 1623 г., последнее — 10 декабря
1633 г., за несколько месяцев до смерти девушки.
Галилей писал ей часто, иногда ежедневно. В августе
1623 г. Мария Челеста пишет:
«Я тщательно храню письма, которые Вы мне пишете
ежедневно, а как только освобождаюсь от дел, я
перечитываю их вновь и вновь. Это мое (самое большое
наслаждение, и Вы можете представить, как я радуюсь, читая
письма, которые Вам пишут лица, блистательные сами
по себе и кроме того питающие к Вам такое уважение» 4.
По-видимому, письма Галилея к Марии Челесте за
десять лет (и каких лет — подготовки «Диалога» и
инквизиционного процесса!) могли бы стать наиболее ценным
источником сведений о душевном мире мыслителя в
кульминационный момент его научного подвига. Но в 1634 г.,
когда Мария Челеста умерла, письма Галилея исчезли.
Они не найдены поныне. Вероятно, в это время, после
процесса Галилея, его письма могли навлечь гнев
римской курии на монастырь и ухудшить положение самого
Галилея. Поэтому они скорее всего были уничтожены.
Первое из сохранившихся писем Марии Челесты было
отправлено после смерти сестры Галилея Вирджинии.
В письме обычные утешения, но изложены они с такой
логической и эмоциональной последовательностью и
вместе с тем свея^естью, что письмо невольно ассоциируется
со стилем самого Галилея5.
В августе 1623 г. Маттео Барберини стал папой
Урбаном VIII. Галилей написал об этом дочери, попросил ее
переписать письма Барберини и, по-видимому, поделился
своими планами. Мария Челеста посоветовала сразу же
142
обратиться к папе. Галилей разъяснил, насколько это
трудно, и Мария Челеста в очередном (письме сетует па
свою неосведомленность во внемонастырской жизни. Все
это перемежается упоминаниями о мясе и вине из Бел-
лосгардо — бедные затворницы очень плохо питались, о
посланных в Беллоегардо засахаренных фруктах из
монастырского сада и о воротничках для Галилея,
выстиранных и накрахмаленных преданной дочерью, тревогами
о здоровье Арканджелы и еще более — отца (Галилей
в эти годы, как и позже, много и тяжело болел),
кроткими жалобами на долгие периоды разлуки.
Осенью 1623 г. Галилей готовился к поездке в Рим,
переписывался с князем Чези, надеялся на перемену
обстановки и на новое отношение к коперниканству. Он
делшеся с дочерью своими надеждами и по обыкновению
послал ей новые письма из Рима, поддерживавшие его
надежды. В ответ Мария Челеста писаога:
:«Вы сами можете представить, насколько приятно мне
чтение писем, которые Вы мне (постоянно посылаете. Уже
одно проявление Вашей любви, побудившей Вас сообщить
мне о покровительстве этих господ, наполняет меня
радостью. И вое же мне было немного тяжело узнать о
Вашем близком отъезде, потому что мне предстоит, если я не
ошибаюсь, остаться без Вас надолго. Ваша милость может
поверить в правдивость моих слов, когда я говорю, что
кроме Вас у меня нет ничего, что приносило бы мне
утешение. Но я не буду горевать из-за Вашего отъезда,
потому что это значило бы выражать недовольство тем,
что доставляет Вам радость. Поэтому я тоже буду
радоваться и продолжать молить бога даровать Вам милость
и здоровье для благополучного путешествия, чтобы Вы
вернулись удовлетворенным и жили долго и счастливо» 6.
Конец оисьма Мария Челеста <по;свящает своему брату
Ви'нченцо, совершившему какой-то (проступок,
рассердивший отца. Она просит отца простить сына ввиду его
юности и взять Винченцо с собой в Рим, где легко может
представиться случай найти для него покровительство, искать
которого должны побудить Галилея его отцовский долг
и природная доброта. Боясь показаться надоедливой, она
не продолжает этой темы, но никогда не сможет перестать
апеллировать к его благосклонности в отношении сына.
В заключение она прошт отца не забывать, что он уже
давно обещал навестить их.
143
Семнадцатилетний Винченцо учился в, это время
в Пизе. В июне 1619 г. он получил от великого герцога
Тосканского права законного сына Галилея. В Пизе
попечительство и заботу о нем (взял на себя Кастелли.
Эгоистичный, неуравновешенный, расточительный и крайне
упрямый юноша доставлял много огорчений и своему отцу
и наставнику. В письме к Галилею от 6 декабря 1623 г.
Кастелли жаловался, что его «приводит в отчаяние это
каменное упрямство» 7.
В ноябре 1623 г. вышел из печати «II Saggiatore».
21 ноября 1623 г. Мария Челеста пишет отцу, что
хотела бы, чтобы он прислал ей только что изданную книгу,
она очень хочет прочесть ее. Далее Мария Челеста
говорит, что очень обеспокоена отсутствием письма от отца и,
сверх того, тревожится, что внезапно наступившие холода
могли ухудшить состояние вдоровья Галилея. Поэтому она
посылает это письмо с нарочным, который должен
(принести ей сведения о здоровье отца и о сроке его отъезда
в Рим. Она уже заканчивает столовые салфетки для отца
и ей нужно еще немного материи, которую она просит
прислать. Дальше идут сведения о жизни сестер в
монастыре. У Марии Челесты нет своей собственной спальни,
одна из ее подруг, сестра Диаманта, разделила с ней
свою, лишив себя при этом общества своей собственной
сестры. Но комната до того холодна, что она не знает,
как сможет там оставаться при постоянных головных
болях, если отец не придет ей на помощь, прислав
постельный полог, в котором он теперь не нуждается. Она
чувствует себя плохо, но уже привыкла к болезненному
состоянию, не обращает на него большого внимания. Сестра
Арканджела все еще под наблюдением врачей. Она, Мария
Челеста, посылает отцу немного печенья, приготовленного
несколько дней назад, она рассчитывала передать это
скромное приношение отцу, когда он придет проститься, но
отъезд в Рим не яак близок, и Мария Челеста посылает
печенье из боязни, чтобы оно не зачерствело. В
заключение она просит Галилея прислать его воротнички,
требующие починки 8.
Галилей просил дочь выяснить, в чем нуждается
монастырь, чтобы попытаться в Риме что-либо получить.
Дочь ответила ему 10 декабря 1623 г.
«Ваше милое письмо, написанное несколько дней назад,
дало мне надежду на возможность дать при свидании не-
144
посредственный ответ на ваш вопрос. Но погода
препятствует Вашему прибытию, и я решила высказать свои
мысли письменно. Я должна начать с выражения
удовольствия, которое -доставило мне Ваше доброе
.предложение о помощи. Я говорила об этом с мадонной^настоя-
тельнмцей и некоторыми из старших матерей и все они
высказали ту меру благодарности, какой заслуживает
Ваше предложение. Но, совещаясь друг ic другом, они не
могли решить, о чем лучше всего просить, мадонна
попросила совета у нашего покровителя — архиепископа. Он
ответил, что для столь бедного нищенствующего
монастыря наиболее разумным было бы просить о милостыне.
Тем временем я обстоятельно поговорю об этом предмете
с одной из монахинь, которая обладает, как мне это
представляется, 'здравыми суждениями. Движимая не
пристрастием или интересом, а чистым рвением к
благополучию монастыря, она советовала и даже настаивала, чтобы
я просила о вещи, которая несомненно будет столь же
полезна для нас, сколько и легко выполнима для Вас,
а именно, чтобы его святейшество даровал нам
привилегию избирать сбоим духовником монаха из какого-либо
монашествующего ордена, на условиях смены его через
•каждые три года, лак это в обычае в других
монастырях» 9.
Далее следуют жалобы на невежественных,
корыстных и грубых духовников из числа священников соседних
церквей, которые всячески притесняют монахинь и
послушниц.
Это письмо, со столь далекими от основного
содержания жизни Галилея житейскими деталями, вызывает
сейчас очень конкретные образы Италии XVII в. Совещания
монахинь, их споры о том, что может дать монастырю
поездка '«первого математика и философа» великого герцога
в Рим и его свидание с (покровительствующим ему папой,
застарелый голод в монастыре нищенствующего ордена,
домогательства духовников, какая-то атмосфера
беззащитности, покорности, печали. И в этом маленьком мирке,
в письмах скромной монахини отражается большая
историческая борьба. Среди писем Марии Челесты —
послания сильных мира сего о нескончаемых переговорах,
в которых решается судьба коиерниканского учения.
Галилей еще с осени 1623 г. рвался в Рим. Он ожидал
благожелательной встречи и реальных успехов во вновь
О Галилей
145
начатой борьбе. Но тяжелая болезнь не позволила ему
выехать в Рим раньше апреля 1624 г. Он заехал в Аквас-
парту к князю Чези и после совещания с ним направился
в Рим. Здесь он провел два месяца, в течение которых не
менее шести раз встречался и подолгу беседовал с папой
Урбаном VIII. Папа осыпал Галилея подарками, обещал
стипендию его сыну и написал новому великому герцогу
Тосканы Фердинанду II, сыну Ко'зимо II, о Галилее:
«Мы нашли у него не только научные заслуги, но и
приверженность к благочестию, и он силен в тех
качествах, которыми легко заслужить папское расположение.
И теперь, когда он прибыл в этот город, чтобы
приветствовать нас в нашем возвышении, мы любовно обняли его и
не можем допустить, чтобы он вернулся в страну, куда
призывает его Ваша щедрость, не снабдив его в изобилии
выражениями нашей любви. И чтобы Вы могли убедиться,
как дорог он нам, мы пожелали дать ехму почетное
свидетельство добродетели и благочестия. И далее мы сообщаем,
что всякое благодеяние, которое Вы даруете ему,
уподобляясь или даже превосходя щедростью Вашего отца,
будет встречено нами с удовлетворением» 10.
Аналогичные письма к герцогу и к его матери,
герцогине Магдалене, написал кардинал-непот Франческо Бар-
берини.
В отношении гелиоцентризма римская курия
оставалась на прежних позициях. Но у Галилея могли
появиться некоторые иллюзии. Кардинал Цоллерн говорил
Галилею, что Урбан VIII в беседе с ним сказал, 'что
церковь осудила коперниканство как необдуманное
заблуждение, а не как ересь11. Были некоторые сведения об
отрицательном отношении Маттео Барберини к декрету
5 марта 1616 г., и у Галилея появились надежды, что он
сохранил эту позицию, став Урбаном VIII. Наиболее
обнадеживающим было отношение папы к «Saggiatore».
Доминиканцы и иезуиты добивались включения этой
книги в «Индекс». Генерал ордена иезуитов запретил
членам ордена даже разговаривать о «Saggiatore» 12. Один
из кардиналов, входивших в конгрегацию «Индекса»,
попросил генерала ордена театинцев Гевара дать отзыв о
книге. Отзыв оказался положительным 13.
По приезде во Флоренцию Галилей с несколько
возродившимися надеждами готовит «Послание к Инголии»
и продолжает подготовку будущего «Диалога». В продол-
146
Жевже 1625 г. он часто бывает в монастыре св. Матфея,
но всю зиму 1625—1626 г. Галилей но посещает дочерей
вовсе — быть может, из-за напряя^енной работы над
трактатом. Мария Челе&та жалуется в письмах на
одиночество, говорит об угасании отцовской любви. Вскоре,
однако, наладились обычные отношения. В письмах мелькают
очень сдержанные даже не жалобы, а информации о
болезнях, о холоде и плохой пище в монастыре (Мария
Челеста спрашивает, нет ли на птичьем дворе в Беллосгардо
престарелой худой курицы,— заболевшей затворнице
нужен бульон). Галилей, по-видимому, жалуется на брата
Микеланджело. Тому тоже несладко живется: неудачный
музыкант, обремененный семьей, требует помощи, а затем
у Галилея поселяется жена брата Клара с детьми и с
нянькой. Все они перечислены в письме Марии Челесты,
сопровождающем корзину с рождественскими подарками
для каждого из ее родственников.
Обилие родственников в доме Галилея, вероятно,
мешало ему, и он был рад, когда после его тяжелой болезни
Микеланджело забрал свою семью. («Я дрожу при мысли,
как страдала бы бедная Клара, если бы Вы умерли!» —
писал Галилею его не слишком тактичный брат14). Зато
Галилею пришлось уплачивать долги своего племянника
и выслушивать жалобы на его распущенный нрав. Этот
племянник получил в Риме стипендию, предназначенную
для сына Галилея, который не хотел надеть сутану, без
чего церковная стипендия не выплачивалась. Но
племянник не прижился в Риме и вскоре явился во Флоренцию,
чтобы поселиться у Галилея. В 1628 т. в Беллосгардо
появился и сын Галилея — Винченцо. Он часто ходил в
монастырь, это было поводом для встреч с молоденькой
сестрой одной из монастырских подруг Марии Челесты. Дело
кончилось свадьбой, которая вызвала у Галилея и его
дочери множество забот, отраженных в письмах. После
свадьбы Винченцо с семьей поселился у Галилея. В марте
1629 г. Мария Челеста отправила отцу письмо с
сравнительно редкими в их переписке излияниями. Она писала
о жене Винченцо, а также о своей судьбе и о судьбе
Арканджелы.
«И мне и сестре очень понравились приветливая
манера новобрачной и красивые черты ее лица. Но
наибольшую радость мне доставило видеть, что она полюбила
Вас. Отсюда мы можем заключить, что у нее будет доста-
Ю* 147
to^tHo сердечного внимания и чувства долга, которые мы,
будь это позволено, с наслаждешхем посвящали бы Вам.
Но мы никогда не откажемся от нашей доли» 15.
После этого идут трогательные заверения в дочерней
любви, а затем, как в каждом письме, десятки мелочей —
починка монастырских часов, возвращение посуды из-под
присланных засахаренных фруктов, просьба забрать
подаренную лютню п Б-место этого подарить новые
молитвенники («нам неважно, чтобы они были позолоченными,
будет вполне достаточно, если они будут содержать имена
святых, за последнее время включенных в календарь,
и если шрифт будет хороший: они будут служить нам,
даже если мы доживем до старости») 16.
Какое значение для жизни Галилея имел этот поток
повседневности? Разумеется, изобилие родственников,
изобилие ежедневно возникающих новых забот,
отсутствие денег, долги и, конечно, болезни — все это мешало
главному. Но вместе с тем трудно представить себе
Галилея в качестве человека, которого не касается поток
обычной реальной жизни, состоящей из маленьких дел,
маленьких мимолетных огорчений и забот, мимолетных
радостей. Выше уже говорилось, что Галилей не был ни
Спинозой, очень далеким от сутолоки жизни, ни
Лейбницем, погруженным в кипучую стихию политических,
религиозных и дипломатических начинаний, вплоть до
династически-матримониальных проектов. Это была натура,
которая отзывалась на все впечатления бытия,
резонировала на каждый звук, отдавалась с громадной энергией
каждому порыву. Вспомним удивительную по глубине
характеристику творческого гения в стихотворении
Пушкина «Поэт». Речь идет о вспышках творческого гения
(«НО' лишь божественный глагол до уха чуткого
коснется...»), разделенных пустыми интервалами («пока не
требует поэта к священной жертве Аполлон...»). Это один
тип творчества — оно состоргт из дискретных актов,
вызванных специфическими впечатлениями. Галилей
принадлежал к другому типу. Он тратил всю силу мысли
и чувства на каждую, в том числе самую незначительную
задачу, он оставался Галилеем, оставался тождественным
себе на каждом бесконечно малом отрезке жизни,
подобно частице в дифференциальном представлении движения.
В этом отношении Галилей похож на свои произведения.
В них сколь угодно малый эпизод обычной литературной
148
полемики вызывает бурную реакцию. Он не проходит
мимо самого мелкого эпизода, он тратит столько
темперамента и отточенной мысли (их запас не может
исчерпаться) на разбор случайного рассказа, возражения в
беседе, письма, вопроса, наблюдения. Качающиеся люстры,
струи адриатического прилива, производственные
операции, письма, застольная беседа (с нее началась работа
над «Cose che stanno in su l'acqua»), все это служит
поводом для невероятной творческой активности.
Произведения Галилея так же далеки от однозначной и
объективной ткани «Математических начал натуральной
философии», как образ их жизнелюбивого и общительного
автора от образа Ньютона.
От мыслителя такого типа ждешь, что он и в
повседневной жизни не будет отгораживаться от любых, в том
числе очень малых впечатлений окружающей
повседневной жизни.
По-видимому, это полное увлечение каждым новым
непосредственным впечатлением было причиной редких
свиданий с Марией Челестой. Когда Галилей приходил в
монастырь, это было праздником для его дочерей и для всех
окружающих. Щедрый, физически не выносивший, чтобы
мо-либо рядом с ним был несчастен и терпел в чем-нибудь
нужду, он казался ангелом-хранителем окружающих.
Галилей обрушивал на всех — на дочерей, их подруг,
настоятельниц монастыря — свою общительность,
внимание, доброту. Но в Беллоогардо воспоминание о дочерях
заслонялось новыми непосредственными впечатлениями,
и он подолгу забывал посещать монастырь и писать
дочери. Мария Челеста часто жалуется на это — у нее
ведь нет ни других впечатлений, ни других радостей.
В творчестве Галилея поток новых наблюдений, новых
ассоциаций, новых проблем мешал систематической,
подготовке «Диалога». Работа затянулась на много лет, и
причиной были не столько участившиеся болезни, сколько
живое и активное увлечение все новыми вопросами. Но как
бы то ни было, книга росла и постепенно все больше
захватывала Галилея. Она стала источником непрерывных
новых идей. Перечитывая написанные страницы,
Галилей вспоминает прошлые работы, прошлые наблюдения,
и эти воспоминания, сопоставления, обобщение и развитие
ранее выдвинутых идей становятся серией непрерывных
импульсов для дальнейшего труда. Теперь уже новые
149
впечатления не могут отвлечь от «Диалога» внимание
и интересы Галилея.. Он поглощен им полностью. Та же
психологическая особенность, увлечение тем, что стоит
перед глазами, которая раньше уводила Галилея от
рукописи, теперь не дает ему уйти, ведь теперь книга стоит
у него перед глазами непрерывно.
На последнем этапе — он продолжался долго —
Галилей меняет стиль работы, теперь все становится на место,
книга приобретает четкую структуру, правда не всегда
логическую, иногда, и даже часто,— психологическую.
Обобщение всего, что было написано или продумано
раньше, приближает Галилея к поэднейшим мыслителям,
систематизировавшим механическое объяснение природы.
Но они в ювоих системах однозначными
логико-математическими операциями выводили одну формулу из другой.
Галилей же не столько логически выводит, сколько
психологически компанует мысленные эксперименты,
гносеологические высказывания, воспоминания, выдержки из
старых трактатов, полемические атаки, остроты,
эмоциональные излияния,— ведь его задача не только
систематизировать и изложить, но и убедить. Однако эта
обобщающая работа несколько изменила тот образ Галилея,
который в наибольшей степени соответствовал
первоначальной мобилизации мысленных экспериментов, гипотез,
выкладок, (примеров и полемических аргументов для
«Диалога».
Разумеется, подобные реконструкции остаются
гадательными — их нельзя проверить. Может быть, замечания
о ходе работы над '«Диалогом», хотя бы косвенные, были
в исчезнувших письмах к Марии Челесте. Но скорее всего
Галилей в этот период вообще писал меньше писем,
потому что был целиком охвачен работой над «Диалогом».
Мария Челеста объясняла молчание отца по-своему.
Она подозревала, что поселившиеся у Галилея
родственники вытеснили ее и Арканджелу из его сердца. Во
жалобы в ее письмах встречаются редко. По-прежнему их
основное содержание — рассказы о монастырской жизни.
Эта жизнь становилась все более тяжелой. Осенью
1630 г. М|ария Челеста просит отца сделать ей раму с
провощенным холстом, чтобы закрывать высоко
расположенное о'кно, оберегать себя от холода и <в то же время
получать хоть немного света. Оконных рам со стеклами в
монастыре не было, они были вообще предметом роскоши.
150
Мария Челеста писала отпу, что такая работа подходит
скорее плотнику, чем философу, и она готова встретить
отказ. Но Галилей, по-видимому, сделал раму, может быть
даже стеклянную.
Из писем мы узнаем, что Винченцо покинул отца,
уехав с женой из Беллосгардо. Он боялся
распространявшейся эпидемии чумы. Эта угроза не раз нависала над
Флоренцией, а за три века до этого чума уничтожила
почти все население города, отняв, в частности, у
Петрарки его Лауру. Теперь чума появилась снова. Мария
Челеста рекомендует отцу какие-то профилактические средства.
Она очень боится за жизнь Галилея.
Заботит ее и положение больного отца после отъезда
Винченцо. У Галилея, постоянно и тяжело болевшего,
остался на руках .внук Галилеино. Беллосгардо — большое
поместье с мастерской, садом, виноградником и пашней —
требовало постоянных забот. К счастью, в Беллосгардо
появилась домойравительница по имени Пьера, которая
очень понравилась Марии Челесте и уменьшила ее
тревоги за отца.
У Галилея в это время возникли другие заботы.
В марте 1630 г. «Диалог» был 'закончен. Началась тяжелая
борьба за опубликование книги.
Еще в начале года — 16 февраля — Кастелли писал
Галилею, что один из приближенных Урбана VIII,
носивший титул магистра святого дворца Риккарди, убежден,
чт^о Галилей легко добьется в Риме разрешения на
опубликование «Диалога». Кастелли ссылается на другого
приближенного папы — Чиамноли. Тот говорил, что личное
обаяние и свойственная Галилею непреоборимая сила
аргументов пробьют в Риме дорогу его книге 17. В
следующем письме 18 Кастелли снова ободряет Галилея,
напоминает о том, что Урбан за четыре года до этого освободил
из тюрьмы Кампанеллу, что он якобы был недоволен
декретом 5 марта 1616 г. В начале мая 1630 г. Галилей
с рукописью «Диалога» отправился в Рим. История
дальнейших мытарств в Риме и во Флоренции (они
закончились разрешением публикации и выходом книги из
печати в 1632 г., вернее не закончились, а перешли в
трагические события 1632—1633 гг.) будет рассказана в
следующей главе. Здесь мы ограничимся содержанием
писем Марии Челесты, относящимся к условиям жизни
Галилея.
т
После возвращения из Рима, больной, усталый, с
трудом переносивший зной флорентийского лета,
поглощенный подготовкой к публикации «Диалога», Галилей не
появлялся в монастыре и редко писал дочери. Но вскоре он
начал искать в ее письмах успокоения от напряженной
и раздражающей борьбы за опубликование книги. Можно
думать, что Галилей догадывался о сети интриг, которые
плелись вокруг «Диалога», что у него появилось смутное
ощущение заготовленной западни, недоверие к прелатам
и чиновникам римской курии и к ее флорентийским
представителям. Искренние, бесхитростные строки абсолютно
преданного существа, казалось, растворяли осадок,
остававшийся от общения со средой, 1которая была
воплощением нетерпимости и лицемерия. Галилей в это время
многократно перечитывает письма Марии Челесты.
У него появляется мысль о переселении в Арчетри.
Здесь, в Беллосгардо, он чувствует себя одиноким.
Уехала долго жившая у него родственница (вероятно, внучка
его сестры) Вирджиния, а Винченцо забрал внука
Галилея, маленького Галилеино. С Галилеем оставалась одна
Пьера.
Весной 1631 г. Галилей решил поселиться вблизи
монастыря, в Арчетри. По письмам Марии Челесты видно,
как обрадовалась она такому решению и с каким жаром
она взялась за поиски. Участвовал в этом и Винченцо. Все
лето шли поиски и обсуждение появлявшихся
возможностей. Наконец, 12 августа Мария Челеста написала отцу
о находившейся рядом с монастырем вилле,
принадлежавшей некоему синьору Мартеллини. Здесь и поселился
Галилей. Последнее письмо Марии Челесты в Беллосгардо
помечено 30 августа. Теперь отец и дочь могли видеться
ежедневно. Длившаяся почти десять лет их переписка
прервалась. Она возобновилась только во время
пребывания Галилея в Риме — в 1632—1633 гг.
X. „Диалог44
Вернемся к истории опубликования «Диалога», а затем
перейдем к содержанию книги.
Когда Галилей приехал в Рим, все нити находились в
руках официального цензора папской области Никколо
Риккарди, носившего титул магистра священного дворца.
Урбан VIII в этот период был поглощен опасными и
тяжелыми для Рима перипетиями Тридцатилетней войны.
Его трудно было заинтересовать другими делами. Однако
он принял Галилея. Что происходило на этой аудиенции,
неизвестно, но, по-видимому, она дала благоприятные
результаты. Риккарди, со своей стороны, обещал быстро
ознакомиться с рукоппсью и дать разрешение для
опубликования ее в Риме.
Вскоре начались всякого рода задержки. Прежде всего,
от Галилея потребовали изменить название книги — она
называлась «О приливах и отливах». Сейчас трудно сразу,
без объяснений, понять, почему это довольно специальное
название, не вызывающее, казалось бы, интереса у
широких кругов, было заменено прямым противопоставлением
двух систем, из которых одна находилась под церковным
запретом. Трудно понять также, почему Галилей
рассматривал такое (изменение названия как уступку. Но это было
действительно так. Галилей думал, что приливы
доказывают движение Земли и лишают систему Коперника
какого бы то ни было налета условности. Идея истинного
движения Земли, в противоположность кажущейся
неподвижности, находила, как думал Галилей, полное
подтверждение в явлениях приливов. Может быть, и Урбан считал
153
приливы чем-то угрожающим условно-гипотетической
трактовке гелиоцентризма. Во всяком случае тема
приливов ассоциировалась с идеей абсолютного движения Земли
и с научными критериями абсолютной истины, которая
была в глазах теологов областью откровения.
Другое требование также исходило от Урбана VIII.
В книге необходимо заключение о всемогуществе божием,
бог мог бы создать мир и непостижимым для человека
образом. В сущности, это требование связано с первым, оно
означает, что разум не может однозначным образом
постичь истинную природу вещей, его выводы гипотетичны
и имеют лишь прагматическую ценность. Гипотетический
характер коперниканства должен был быть высказан
отчетливей.
В действительности, в 1630 г. не было речи о сколько-
нибудь серьезной переработке книги. От Галилея
требовали лишь нескольких фраз об условной защите
коперниканства в порядке диспута.
Последняя фраза в предисловии соответствует
действительному требованию цензора. Галилей выполнил его и
поместил в книге, вслед за посвящением (великому
герцогу Тосканы Фердинанду II), обращение к
«благоразумному читателю», где говорится о цели книги. Эта цель,
оказывается, состоит в демонстрации астрономической
компетентности тех, кто издал «спасительный декрет» 1616 г.
Галилей выполнил и другие требования цензора 1. Он
бы'л поглощен в это время одной мыслью. Итог
тридцатилетних размышлений, внимательного изучения
Аристотеля, Архимеда, мыслителей XIV—XVI вв., колоссального
опыта прикладной механики, новых астрономических
наблюдений, последовательно проводимых гносеологических
принципов, нового представления о движении и о природе
в целом, отточенного литературного стиля — одним
словом, итог всей жизни — должен увидеть свет. Галилей не
думал о том, что ему угрожало, и вместе с тем шел на
всевозможные компромиссы, лишь бы наконец нарушить
многолетнее молчание. Долгие тактические расчеты,
соображения о множестве благоприятных и неблагоприятных
ауспиций, соображения личного престижа и личной
судьбы теперь отошли на задний план. Галилей шел на
компромисс в весьма существенных вопросах (в основном — в
проблеме объективности гелиоцентризма), потому что он
чувствовал силу того, что вышло из-под его пера и что не
154
могло быть ослаблена никакими благонамеренными
оговорками и декларациями.
В июне Галилей, получив наконец от Риккарди
необходимый Imprimatur, вернулся во Флоренцию. Перед
отъездом он условился 'С Чези, что последний, получив от
Галилея окончательный текст, будет наблюдать за
печатанием, просматривать корректуры и отправлять их Риккар-
ди — магистр священного дворца хотел еще раз увидеть
предварительно разрешенный текст.
Это было тяжелое для Галилея лето. Больной, "страдая
от зноя, он торойился подготовить «Диалог» для печати.
Вместе с тем он ожидал и новых осложнений. Ему
недолго пришлось их ждать. Кастелли, находившийся тогда
в Риме, написал Галилею, что книгу нужно печатать во
Флоренции и сделать это поскорее2. Сейчас Галилея
тревожила не его личная судьба, а судьба книги, и он сразу
начал действовать. Помимо обстановки в Риме, чума,
особенно свирепствовавшая на границе Тосканы и папской
области, помешала бы Галилею печатать книгу в Риме.
Началась новая серия переговоров и писем. Осенью
наиболее влиятельный из римских друзей Галилея, князь
Чези, умер. Теперь уже нельзя было рассчитывать на
издание «Диалога» в качестве одного из трудов Академии
Линчей. Галилей рассчитывал на тосканского посла в
Риме, Франческо Никколшеш, и на его жену, Екатерину
Николлини, очень энергичную участницу борьбы за
разрешение «Диалога», а также на непосредственное
вмешательство великого герцога. Но Риккарди задерживал
разрешение для Флоренции. Он ссылался на ограничение
своего права на Imprimatur папской областью, возвращался к
исправлениям и вставкам, все это в сопровождении
многоречивых панегирических излияний в адрес Галилея, его
покровителей, тосканского двора и т. д... В Риме шла
какая-то игра. Галилей думал о требованиях курии как о
формальностях, которые нужно поскорее выполнить,
чтобы увидеть, наконец, «Диалог» напечатанным. В Риме, по-
видимому, заранее учитывали возможность отказа от
разрешения и даже возможность инквизиционного процесса,
взвешивали последствия, здесь завязывался клубок
интриг. И как повсюду в Италии в эти годы, принимали во
внимание отношения между государствами и между
итальянскими сторошшка'мн Габсбургов, Риш-елье и т. д.,
переплетенные с внутренними государственными, личными и
т
династическими интересами. Все было неясно, во всем
искали неожиданных поворотов, готовили запасные
позиции, стремились заручиться запасными выходами на
случай осложнений.
Риккарди настаивал на присылке рукописи в Рим.
Галилей ссылался на эпидемию и невозможность пересылки.
Зима 1630—1631 г. была не легче лета. В январе умер Ми-
келанджело, оставив на попеченье брата свою
многочисленную семью. Здоровье не улучшалось. Заботы росли.
Чтобы дать представление о ходе дела с разрешением
«Диалога», приведем одно из писем, посвященных этой
теме,— письмо Галилея Андреа Чиоли, министру великого
герцога, отправленное 7 марта 1631 г. В письме
рассказывается о поездке в Рим, просмотре рукописи магистром
священного дворца, о возвращении во Флоренцию и
обстоятельствах, изменивших первоначальный план.
«После двух месяцев, проведенных в Риме, я вернулся
во Флоренцию, надеясь, составив указатель, посвящение
и кое-что еще, тотчас же отослать книгу достославному и
высовюцревосходительному синьору князю Чези, главе
Академии Линчей, который взял на себя заботу о печатании
этой книги, как он 1это делал со всеми принадлежавшими
мне и другим академикам произведениями. Смерть князя
и в еще большей мере прекращение связи
воспрепятствовали изданию этого труда в Риме, почему я вынужден был
войти в соглашение с местным книгоиздателем и добиться
дополнительных рецензий, которые я получил от
высокопреподобных генерального викария и генерального
инквизитора и от высокоблащродного синьора Никколо Антелла
[цензора великого герцога Тосканского]. Как подобает, я
сообщил в Рим отцу магистру о происшедшем и о
препятствиях, противостоящих изданию книги в Риме, и
изложил свое намерение печатать книгу здесь. Через ее
высокопревосходительство синьору супругу посла мне дали
знать о настоятельном желании повторного просмотра
книги, для чего мне следует выслать один экземпляр в Рим.
Поэтому, как Вам известно, я явился к 'Вашему
высокопревосходительству с вопросом о возможности переслать в
такое время в сохранности столь большой том, и Вы мне
благосклонно ответили, что даже простым письмам едва
ли может быть обеспечена сохранность. Я снова написал
об этого рода препятствиях, предложив выслать только
предисловие и заключение, куда главенствующие лица
156
могли бы по желанию внести дополнений, сокращения и
возражения, какие найдут нужным, ибо я сам не
отказываюсь именовать эти мои мысли химерами, грезами,
паралогизмами и пустой фантазией, всегда и во всем
предоставляя и подчиняя их абсолютной мудрости высшей
науки» 3.
Последняя фраза — предельная формула готовности на
компромиссы. «Эти мои мысли» — представляют собой
схему мироздания, в достоверности которой Галилей
абсолютно убежден. Схему, воплотившую самые серьезные
глубокие и проверенные наблюдениями идеи Галилея. Схему,
которую он считает подтвержденной в своей теории
приливов. И эту схему он согласен признать «химерой,
грезами, паралогизмами и пустой фантазией», если ее так
оценят представители «абсолютной мудрости».
Но именно уверенность Галилея в объективной истине
гелиоцентризма позволяет ему идти на столь явный
компромисс. Это не примирение с догматикой. Галилей знает,
что какие угодно оговорки, отказы, самобичевания уже не
могут уменьшить разрушительную и созидательную мощь
«Диалога». Когда ядро выпущено в цель, артиллерист
может признать ее неправильно выбранной. (Все
компромиссы Галилея свидетельствуют не о тенденции
самосохранения, -а о пафосе самозабвенья, о заполненности сознания
объективной логикой научных наблюдений, экспериментов
и умозаключений. Галилею теперь все равно, пусть о нем
думают что хотят, пусть его считают сторонником конвен-
ционалистской трактовки гелиоцентризма, даже
противником гелиоцентризма, лишь бы «Диалог» вышел в свет.
Тогда все станет на место, оговорки останутся оговорками,
а схема мироздания, раскрытая с такой убедительностью,
останется, какой бы ни оказалась судьба ее творца.
«Segui il tuo corso et lascia dir le genti» (следуй своему
пути, и пусть люди говорят, что хотят). Эту фразу,
произнесенную G3 XIV в. Данте, шшторяли не раз; ею закончил
Маркс предисловие к «Капиталу». И каждый ученый,
который произносит или имеет основание произнести ее,
каждый имеет своих собственных genti, мнения которых он
не хочет знать. И каждый имеет другую социальную
среду — связь с ней, ее понимание, ее интерес служит для
него источником творческих импульсов. Для Галилея
такой средой были новые нецеховые круги, которые были
уверены в силе разума, любили Данте и Ариосто, любили
157
точйость и йежйость тоскайской речи й смеялись, слушай
стихи Руццанте. A genti Галилея — это перипатетики из
числа пизанских педантов или римских прелатов. В
отношении их Галилей мог сказать: «lascia dir le genti».
Это «lascia dir» выражалось не только в снисходительно
иронических памфлетах 1612—1624 гг., но и в том
согласии с их оценками, ценой которого Галилей в 1630 —
1632 гг. хотел добиться опубликования «Диалога».
Конечно, это далеко от прямого бунтарского духа Джордано
Бруно. Джордано пожертвовал жизнью, Галилей —
названием книги. Но биография ученого не отвечает на вопросы,
кем не был этот ученый и чего он не сделал, она
отвечает на вопросы, кем он был и что он сделал.
Рим не удовлетворился идейной жертвой. Он тогда уже
зарезервировал для Галилея скорпионы личного
преследования. Неясно было, что именно обрушится на него, в игру
еще не вошли главные действующие лица будущего
(Процесса, но игра уже началась. Быть может, для ое
'продолжения нужна была ловушка. Урбан VIII говорил
впоследствии, что Галилею в 1630—1631 гг. устроили <очиам!пола-
ту» 4 — это слово по-итальянски может означать
провокацию и вместе 'С тем указывает на ее виновника —
секретаря папы Чиамполи, который впоследствии впал в
немилость, был смещен и наказан за разрешение «Диалога».
В 1633 г. родственник Галилея видный дипломат Джио-
ванфранческо Бонамичи в своей рукописи «Изложение
обстоятельств, связанных с разъяснением системы
Коперника, принадлежащим Галилею» (i«Narrativa sopra la spiega-
zione del sistema del Copernico, fatto del Mattematico
Galileo») сообщал, что Риккарди разрешил опубликовать
«Диалог» во Флоренции по письменному заверению Чиамполи
о согласии паны. Бонамичи пишет, что, защищаясь от
обвинений, Риккарди утверждал, что книга была одобрена
по указанию, исходившему от самого папы. Разгневанный
Урбан отрицал это. Тогда Риккарди предъявил записку
Чиамполи, содержавшую распоряжение одобрить книгу и
указание, что записка эта составлена по повелению и в
присутствии папы» 5.
В июле 1631 г. Риккарди послал флорентийскому
инквизитору Эджиди текст предисловия с письмом, в
котором ссылается на указание папы6. Эджиди уже раньше
выдал свой флорентийский Imprimatur, и теперь книга
(она уже была частично набрана) могла пойти в печать.
158
В caMOita начале 1632 г. печатание книги было
закончено. На ее фронтисписе — гравированное изображение
беседующих мудрецов Птолемея, Коперника и Аристотеля
(их имена выгравированы по нижнему краю мантий). Над
ними геральдический шатер с шестью ша|рами и
герцогской короной — герб флорентийских Медичи. Внизу —*
фирменная марка издателя Батисты Ландини и подпись
художника Стефано делла Белла, сделавшего гравюру. На
титульном листе напечатано:
Диалог
Галилео Галилея академии Линчей,
Экстраординарного Математика
Пизанского Университета и
Главного Философа и Математика
Светлейшего
Великого Герцога Тосканского,
где в четырехдневных беседах ведется обсуждение двух
Основных Систем Мира
Птолемеевой и Коперниковой и
Предлагаются неокончательные философские
и физические аргументы как с одной,
так и с другой стороны.
Ниже, возле марки издателя — надпись о
преимущественном праве издателя и под маркой надпись:
«Флоренция, издание Батисты Ландини, 1632 год», а еще ниже, под
чертой, надпись: «С разрешения властей». На оборотной
стороне титульного листа было пять надписей
«Imprimatur» с подписями правителя папской канцелярии,
магистра священного дворца Риккарди, генерального викария
Флоренции, генерального флорентийского инквизитора и
цензора двора великого герцога. Такое обилие
официальных Imprimatur тогда не встречалось в других книгах.
Первый из числа предназначенных для высоких особ
и переплетенных в кожу с золотым тиснением экземпляров
Галилей поднес великому герцогу Фердинанду II,
которому посвящен «Диалог». Более скромные экземпляры в
бумажных обложках были разосланы по городам Италии
и за ее пределы. Дело было сделано.
Это книга, о которой Галилей думал уже в Пизе в
1597 г., когда писал Кеплеру об исчерпывающих
доказательствах гелиоцентризма. О ней же шла речь в 1610 г. в
письме Белизарио Винта («Труды, которые мне предстоит
J59
довести до конца, суть прежде всего два тома «De Systema-
te seu constitutione Universi», огролшый замысел,
исполненный философии, астрономии и геометрии») 7.
В -конце «Послания к Инголи» «Диалог» фигурирует
под недопущенным впоследствии названием «О приливах
и отливах».
В «Диалог» вошли иногда текстуально, иногда
переделанные большие отрывки (и, конечно, все основные идеи)
неопубликованного трактата «Об ускоренном движении»
(«De motu accelerato»), «Sidereus Nuncius», «'Писем о
солнечных пятнах» («Macchie solari»), «Послания к Инголи»
(;«Lettera a Ingoli») и других основных работ Галилея за
тридцать лет.
Книга производит впечатление удивительной
цельности и вместе с тем пестроты. И то и другое придавало
книге несколько архаический характер в глазах астрономов
следующего поколения. Цельность казалась им
результатом! игнорирования основных контроверз.
Действительно, Галилей не излагает ни систему
Птолемея, как она дана в «Альмагесте», ни систему Коперника,
как она дана в «Об обращениях», ни содержания
многочисленных комментариев и дискуссий. Речь идет только о
суточном вращении Земли и ее обращении вокруг Солнца.
Эта идея Коперника сведена к самому главному, о сложной
системе эпициклов здесь нет речи. Галилей устранил из
задачи все, что связано с действительной
неравномерностью движения планет. Гелиоцентрическая система
обладала очень важным в его глазах преимуществом: она
исключала неравномерности. В этом смысле Галилей шел
назад от Кеплера и даже от своей астрономии дифферентов и
эпициклов к чистой платоновско-аристотелевой концепции
круговых движений. Только (в этом «только» —новая
картина мира!) круговые движения происходят вокруг Солнца.
Такая, игнорирующая ускорения на орбитах, схема
развертывается в четырех частях «Диалога» — беседах
первого, второго, третьего и четвертого дней. Первый день
посвящен принципиальной возможности движения Земли,
второй — суточному движению, третий — годовому и
четвертый — приливам как исчерпывающему, по мнению
Галилея, доказательству реального характера
гелиоцентрической системы.
Разумеется, такая чисто кинетическая схема,
полностью игнорировавшая динамику неба, казалась недостаточ-
160
ной мыслителям XVIII—XIX вв. Она пробуждает иные
ассоциации у ученого XX в., знающего, что динамическая
картина гравитационных взаимодействий становится
инерционно-кинетической в неэвклидовом пространстве Эй?1-
пгтейна.
По-иному сейчас выглядит и форма книги Галилея.
Наше столетие было несколько разочаровано не только в
исключительной и абсолютной точности ньютоновой
механики, но и в абсолютной для всех времен необходимости
ее строгого и аподиктического стиля. Нам теперь понятнее
не только иные концепции, но и иные формы изложения.
Мы понимаем, что научная теория не всегда может
обладать абсолютной логической и эмпирической
очевидностью, которая сделала бы лишним психологический
подтекст научных трудов.
Поэтому психологически оправданные отступления от
строгой логической канвы кажутся нам необходимыми.
Наш современник, быть может, лучше, чем читатель
XVIII или XIX в., поймет психологический эффект
«Диалога». Эффект этот был чрезвычайно велик. Образованные
люди Италии (их стало в сотни раз больше, чем цеховых
ученых) как бы видели дворец Сагредо, как бы слышали
реплики собеседников на тосканском наречии, звуки
которого уже сами по себе, казалось, дискредитировали
схоластическую латынь.
Собеседники — Сагредо и Сальвиати — -защищают
взгляды Коперника. Эти имена нам уже встречались, их
носили друзья Галилея, умершие — Сальвиати в 1614 г.,
Сагредо в 1620 г. Сальвиати — основной выразитель идей
Галилея. Он выдвигает и защищает гелиоцентрические
представления. Сагредо своими репликами дополняет
изложение. Противнику гелиоцентризма дано имя Симпличио
в память о крупнейшем комментаторе Аристотеля.
Галилей упоминается в беседе не раз. Сальвиати и Сагредо
называют его: Academico Linceo, просто Academico, а иногда
«напг общий друг».
Имена участников «Диалога» — это не условные
обозначения реплик, из которых складывается изложение. Это
люди со специфической манерой мышления у каждого, со
специфическим языком и даже характером. Читатель
«Диалога» ловит себя на том, что у него возникают
зрительные образы собеседников. По-видимому, у Галилея,
когда он писал «Диалог», стояли в памяти эти образы,—
11 Галилей
161
не только умерших друзей, Сагредо й Сальвиати, но и
Симпличио. Последний обладает личной, присущей ему
манерой, характером, обаянием. Должно быть, Галилей
действительно придал ему черты какого-то реального
венецианского перипатетика. А то, что Симпличио выглядит
гораздо менее индивидуальным, чем Сальвиати и Сагредо,
объяснить нетрудно. Сторонники Галилея были
представителями живой разносторонней жизненной стихии,
индивидуализирующей характеры, язык и манеры мышления.
Симпличио — представитель схоластической эрудиция,
обезличивающей своих адептов 8.
Итак, читатель незримо присутствует во дворце
Сагредо, где беседуют три венецианских патриция.
Беседа первого дня должна показать, что «все опыты,
могущие быть произведенными на Земле, не дают
достаточных доказательств ее подвижности, что все явления
могут происходить совершенно одинаково как при
подвижности Земли, так и в случае пребывания ее в покое» 9.
Решение задачи начинается с понятия мировой
гармонии. Такое начало представляет первостепенный
интерес. Принцип относительности всегда был связан с этой
идеей. Относительность движения указывает на
фундаментальное объективное свойство мира: мир объединен
едиными закономерностями, эти закономерности не (зависят
от положения физических объектов и выражаются
отношениями, инвариантными при пространственных сдвигах.
Поэтому о пространственных сдвигах можно судить только
по координатам физических объектов; для этого требуются
тела отсчета. Внутренние отношения в системах не
меняются при их движении. Различные релятивистские
теории отличаются одна от другой характером движений
(равномерное, ускоренное) и характером инвариантных
величин (ускорение при заданной (силе, скорость света).
Но сам принцип относительности как таковой — схема,
которую в различных теориях применяют к тем или иным
процессам, в последнем счете выражает общую идею мира,
упорядоченного едиными, независимыми от методов
наблюдения и от тел отсчета инвариантными
закономерностями.
Сальвиати, Сагредо и Симпличио начинают с идеи
мировой гармонии, из которой Аристотель выводит
существование трех измерений пространства. Затем Сальвиати
говорит:
162
«Итак, отклоняясь сейчас от хода рассуждений
Аристотеля,— в свое время мы к нему вернемся и подробно
его рассмотрим,— я заявляю о своем согласии с тем, что
сказано им до сих пор, и признаю, что мир есть тело,
обладающее всеми измерениями и потому в высшей степени
совершенное, к этому добавлю, что как таковой он
необходимо должен быть и в высшей степени упорядоченным,
т. е. в отношениях его частей должен господствовать
наивысший и наисовершеннейший порядок; такого допущения,
я думаю, не будете отрицать ни вы, ни кто-либо иной» 10.
Из мировой гармонии вытекает круговой характер
гарантирующих ее движений. Прямолинейное движение
увело бы тело на бесконечное расстояние от исходного места.
«Установив такое начало,— продолжает Сальвиати,—
мы можем неагосредствеино из него сделать тот вывод, что
если тела, составляющие вселенную, должны по природе
своей обладать движением, то невозможно, чтобы
движения их были прямолинейными и вообще какими бы то ни
было, кроме как круговыми, основание этого просто и ясно.
Ведь то, что движется прямолинейным движением, меняет
место, и если движение продолжается, то движущееся тело
все больше и больше удаляется от своей исходной точки и
от всех тех мест, которые оно последовательно прошло, а
если такое движение ему естественно присуще, то оно с
самого начала не находилось на своем естественном месте,
и значит, части вселенной не расположены в совершенном
порядке, однако мы предполагаем, что они подчинены
совершенному порядку, значит, невозможно допустить, чтобы
им, как таковым, по природе было свойственно менять
места, т. е., следовательно, двигаться прямолинейно. Кроме
того, так как прямолинейное движение по своей природе
бесконечно, ибо прямая линия бесконечна и
неопределенна, то невозможно, чтобы что-либо, движущееся от
природы, обладало свойством движения по прямой линии, т. е.
к цели, достигнуть которой невозможно, так как здесь нет
определенного конца, природа же, как прекрасно говорит
сам Аристотель, не предпринимает ничего, что не может
быть выполнено, и не предпринимает движения к цели,
которой достигнуть невозможно» п.
Прямолинейному движению отводится роль
восстановителя нарушенного равновесия.
«Для приведения их в порядок природа очень удачно
воспользовалась прямолинейными движениями, которые,
11* 163
Яо^я и нарушают порядок в телах, хорошо устроенных,
пригодны для того, чтобы ввести должный порядок в
беспорядочные отношения. Но после того как достигнуто
наилучшее распределение и размещение, невозможно, чтобы
в телах оставалась естественная склонность к
прямолинейному движению, в результате которого теперь
получилось бы только отклонение от надлежащего и
естественного места, т. е. внесение беспорядка. Итак, мы можем
сказать, что прямолинейное (движение может доставлять
материал для сооружения, но раз последнее готово, то оно или
останется неподвижным, или если и обладает движением,
то только круговым. Мы можем идти и дальше и признать
вместе с Платоном, что тела во вселенной, после того как
они были сотворены и вполне установлены, были
приведены на некоторое время своим творцом в прямолинейное
движение, но что потом, когда они достигли известных
предназначенных им мест, они были пущены одно за
другим по кругу и перешли от движения прямолинейного к
круговому, в (котором они затем удержались и пребывают
йо сие время» 12.
Заметим только, что высказанная космогоническая
концепция вовсе не принадлежала Платону13. Но в данном
случае это несущественно. Галилей выводит космическую
и космогоническую роль прямолинейного движения из
ряда собственно механических рассуждений и мысленных
экспериментов. Прямолинейные движения — это
естественные движения тяжелых тел, их падение. Но в полном
объеме проблема падения не рассматривается в «Диалоге».
Она станет основным объектом исследования позже, в
«Беседах и математических доказательствах». Здесь, в
«Диалоге», Галилея интересуют круговые движения. Они не
уводят тело из его места, если сводятся к вращению
вокруг оси, а в случае обращения вокруг другого,
неподвижного тела, не изменяют расстояния между движущимся
телом и центром круговой орбиты.
«Итак, вернемся к нашему первому положению и
начнем вновь с того места, где мы уклонились в сторону,
когда, если я не ошибаюсь, мы установили, что
прямолинейное движение не может иметь места в упорядоченной
вселенной, затем мы говорили, что не так дело обстоит с
движениями круговыми, из коих то, которое совершается
движущимся телом самим по себе, всегда удерживает его в
одном и том же месте, а то, которое состоит в движении тела
164
ао окружности круга около своего постоянного и
неподвижного центра, не допускает беспорядка ни по
отношению к себе, ни по отношению к окружающим телам. Ведь
такое движение прежде всего есть движение законченное
и определенное и не только законченное и определенное,
но нет ни одной точки на окружности, которая не была
бы первым и вместе с тем конечным пунктом кругового
движения» 14.
Здесь, в последних словах приведенного отрывка,
высказана наиболее важная характеристика кругового
движения. Каждая точка круговой орбиты одновременно
является и началом и концом движения. В этом действительно
все дело. Любая точка на окружности, на которой
движется тело, может рассматриваться как начало или конец
произвольного отрезка. Иными словами, на круговой орбите
нет естественного начала и естественного конца какого-то
отрезка, длина которого могла бы стать естественной
единицей длины. Мы вскоре вернемся к этому
фундаментальному свойству круговой орбиты — отсутствию на ней
естественных начальных точек отсчета и естественной
единицы длины. Пока оставим в стороне эти метрические
особенности кругового движения и займемся его
кинетическими свойствами.
Последнее состоит прежде всего в отсутствии
естественных ускорений на круговой орбите.
«Так как это движение есть такое, благодаря которому
движущееся тело всегда отправляется от данного пункта
и всегда приходит к нему же, то прежде всего только одно
оно может быть движением равномерным, ибо ускорение
движения получается у движущегося тела тогда, когда оно
направляется к тому месту, к которому у него есть
влечение, а замедление наступает при нерасположении к
движению, которое удаляет его от этого места. А так как в
круговом движении движущееся тело всегда отправляется
от естественного конца и направляется всегда к нему же,
то влечение и нерасположение всегда имеют в нем равную
силу; из такого равенства проистекает не ускорение и не
замедление, но равномерность движения» 15.
До сих пор Галилей, в сущности, следует за
Аристотелем. Но теперь приближается пункт расхождения. У
Аристотеля мы находим две идеи различной логической
природы и различной исторической судьбы. Одна из
них — совершенные круговые движения. Другая —
165
совершенная статическая конфигурация
естественных мест. Что же является основой гармонии бытия?
У Аристотеля — и то я другое. Но статическая система
естественных мест стала основой позитивных и
определенных утверждений об абсолютном пространстве. Напротив,
круговые движения стали исходным пунктом,
(релятивистских концепций — довольно не<жределенных 16.
У Галилея — наоборот. Представление об
относительности равномерного движения по круговой орбите стало
позитивным и определенным. Идея неподвижных
естественных мест — центра и границ вселенной — стала более
чем неопределенной.
Но сейчас, в продолжение беседы первого дня, Галилей
рассматривает другую проблему. Что находится в центре
системы, состоящей из Солнца и планет? Неподвижные
звезды и космическая проблема не рассматриваются (в
полной мере они не рассматриваются и позже). Чтобы
поставить в центр системы Солнце и заставить двигаться
Землю, нужно разрушить традиционную
противоположность несовершенной Земли и совершенного неба. Среди
аргументов перипатетиков существовал аргумент от
неизменности: небо неизменно и поэтому совершенно. Когда
Симпличио высказывает такую мысль, Сагредо е!му
отвечает: «Я не могу без большого удивления и даже большого
сопротивления разума слушать, как в качестве атрибутов
особого благородства и совершенства природным и
целостным телам вселенной приписывают невозмутимость,
неизменность, неразрушаемость п т. д. и, наоборот, считают
великим несовершенством возникаемость, разрушае'мость,
изменчивость и т. д., сам я считаю Земяю особенно
благородной и достойней удивления за те многие и весьма
различные изменения, превращения, возникновения и т. д.,
которые непрерывно на пей происходят, если бы она не
подвергалась никаким изменениям, если бы вся она была
огромной песчаной пустыней или массой яшмы, или если
бы во время потопа вастььйи покрывавшие ее воды и она
стала огромным ледяным шаром, где никогда ничто не
рождается, не изменяется и не превращается, то я назвал
бы ее телом, бесполезным для мира и, говоря кратко,
излишним и как бы не существующим в природе, я провел
бы здесь то же различие, какое существует между живым
и мертвым животным, то же я скажу о Луне, Юпитере
и всех других мировых телах» 17.
166
Дальше следует очень интересное замечание. Сагредо
говорит, что бессмертие неизменного существа равносильно
отсутствию жизни. «Те, кто превозносят неуничтожаемость,
неизменность и т. д., побуждаются говорить такие вещи,
как я полагаю, только великим желанием прожить
подольше и страхом смерти, они не думают, что если бы люди
были бессмертны, то им совершенно не стоило бы
появляться на свет. Они заслуживают встречи с головой
Медузы, которая превратила бы их в статую из алмаза или
яшмы, чтобы они стали совершеннее, чем теперь» 18.
Почему подобные эмоциональные, моральные и тому
подобные аргументы, перемежающиеся мыслями о
ценности редких и изменчивых благ и т. д., почему они
привлечены для решения астрономической проблемы?
Читатель, к которому адресуется Галилей, должен был
отказаться — и это было совсем не легко — от
традиционных представлений, казавшихся почти очевидными
благодаря множеству внешних, непрямых, нестрогих,
психологических, а не логических ассоциаций. Поэтому Галилей
принимает бой на вражеской почве. Он показывает
нелогичность, произвольность и надуманность аргументов
перипатетиков. Прежде всего нужно разрушить Карфаген
неизменности —совершенства. Он связан с множеством
психологически чуждых новой эпохе чувств, именно не
мнений, а чувств. Среди них — идеал неизменного
Эмпирея, противостоящего изменению, уничтожению, смерти.
И вдруг в этой области, в мире неясных ассоциаций,
привычек и верований появляется идея, соединяющая
логическую безупречность с эмоциональным эффектом.
Неизменность — это смерть. Прекращение изменений — это
умерщвляющая голова Ме)дузы. Жизнь, красота, совершенство —
это изменение. Как далеко все это от новой
астрономической концепции! Но восприятие такой концепции
требовало предварительного психологического перелома.
После него Галилей двигает в бой астрономические
аргументы. Симпличио и Сагредо излагают сведения о
холмистом пейзаже Луны. Это открытие свидетельствует о
сходстве Земли и представительницы неба — Луны. Они
говорят и о другом открытии Галилея — пепельном свете
Луны. Значит, Земля и Луна освещают друг друга.
Попутно излагается открытие либрации Луны: спутник
Земли, обращенный к ней одной и той же стороной,
поворачиваясь, позволяет видеть несколько больше половины своей
167
поверхности. Это открытие сделано Галилеем, когда
«Диалог» был готов. Его изложение вставлено в текст перед
опубликованием ружшиси.
Астрономические аргументы сопровождаются
психологическим рефреном. Сагредо спрашивает, когда же
закончится поток астрономических открытий, вызванных
телескопом. Сальвиати предсказывает открытие таких вещей,
которые даже нельзя вообразить. Пафос безостановочного
научного прогресса усиливает ощущение бесконечной
изменчивости бытия.
Теперь Галилей переходит к гносеологическим
выводам. Основной из них: человеческий разум познает
истину «с той достоверностью, какую имеет сама
природа». Мы приведем отрывок из реплики Сальвиати, который
впоследствии фигурировал в инквизиционном процессе
1633 г.
«Вопрос о познании можно поставить двояко: со
стороны интенсивной и со стороны экстенсивной. Экстенсивно,
т. е. по отношению ко множеству познаваемых объектов,
а это множество бесконечно, познание человека — как бы
ничто, хотя он и познает тысячи истин, так как тысяча
по сравнению с бесконечностью — как бы нуль, но если
взять познание интенсивно, то, поскольку термин
«интенсивное» означает совершенное познание какой-либо
истины, то я утверждаю, что человеческий разум познает
некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной
достоверностью, какую имеет сама природа, таковы чистые
математические науки, геометрия и арифметика, хотя
божественный разум знает в них бесконечно больше истин, ибо
он объемлет их все, но в тех немногих, которые постиг
человеческий разум, я думаю, его познание по объективной
достоверности равно божественному, ибо оно приходит к
пониманию их необходимости, а высшей степени
достоверности не существует» 19.
Конечно, это рационализм. Конечно, эти строки —
последовательная и смелая апология всемогущества
человеческого разума. Но это рационализм, который задает
вопросы не себе, а природе. Что означают -слова об
абсолютной достоверности математического знания в устах
Галилея, каким мы его уже знаем — ученика Остиллио Риччи,
Галилея — фортификатора, гидротехника, мастера
реального эксперимента, человека, увидевшего на звездном небе
эмпирические доказательства гелиоцентризма?
168
Эти слова относятся к геометрическому мышлению,
которое антиципирует эмпирическую проверку своих
результатов.
Применительно к движению тела это значит, что
прохождение частицы через данную точку в данный момент
может быть в принципе обнаружено. Мысленный
эксперимент, который заменяет у Галилея математическую
формулировку закона, может быть сделан в любое время
с любой точностью. «Достоверность, какую имеет сама
природа» — это достоверность, которая гарантируется
логической — вернее, геометрической строгостью заключений
(поэтому она далека от феноменализма) и
экспериментам — мысленным или реальным (поэтому она далека от
априоризма).
Мы позже остановимся на вытекающей отсюда /связи
между логико-математическими и эмпирическими
источниками достоверных представлений о мире. Нужно следовать
не только логической схеме «Диалога», но и его
психологическому подтексту. В конце первого дня беседы
гносеологические мотивы переходят в финальный обзор достижений
человеческого гения. И разумеется, мыслитель, (который
впитал и переработал живые струи Возрождения, не
ограничился перечислением научных открытий. Он говорит об
архитектуре, живописи, музыке, мореходном деле. И вот
что характерно. Самым высоким взлетом человеческого
гения Галилей считает4 книгопечатание, «которое
позволяет сообщать самые сокровенные мысли любому человеку,
даже неродившемуся, даже тому, кто родится через
десятки тысяч1 лет».
Представление о бесконечном пути человеческого
гения, о всемогуществе коллективного разума человечества
вызывает у мыслителя чувство солидарности со всеми
людьми кжоего поколения и солидарности поколений.
А затем вселенская мысль находит точную локальную
оправу. Сагредо заканчивает беседу первого дня: жаркие
часы миновали, и наступившая прохлада зовет
собеседников из дворца в гондолу.
Беседа второго дня начинается потоком очень тонких
и остроумных атак на догматизм правоверных адептов
Аристотеля. Они заканчиваются репликой Сальвиати,
который считает необходимым тщательное изучение
Аристотеля, но возражает против догматического отношения к
его словам.
169
«Что может быть более постыдного, чем слушать на
публичных диспутах, когда речь идет о заключениях,
подлежащих доказательствам, ни с чем не связанное
выступление с цитатой, часто написанной с№сем но другому
поводу и приводимой единственно с целью заткнуть рот
противнику? И если вы все же хотите продолжать учиться
таким образом, то откажитесь от звания философа и
зовитесь лучше историками или докторами (зубрежки: ведь
нехорошо, если тот, кто никогда не фшйософствует,
присваивает почетный титул философа»20.
После этого Галилей переходит к основному принципу,
обосновывающему гелиоцентризм. Это принцип
неразличимости покоя и равномерного движения, принцип
относительности равномерного движения. Принципу
относительности, его предпосылкам и выводам будут посвящены
две следующие главы. Здесь мы будем по-прежнему
придерживаться психологического подтекста «Диалога».
Галилей выдвигает основной и действительно
решающий аргумент против абсолютного покоя Земли: покой и
равномерное движение не отличаются по ходу земных
процессов.
«Для предметов, захваченных равномерным
движением, это последнее как бы не существует и проявляет
свое действие только на вещах, не принимающих в нем
участия» 21.
Далее идет удивительно прозрачная иллюстрация
принципа относительности равномерного движения.
«Движение является движением и воздействует как
таковое, поскольку оно имеет отношение к вещам, его
лишенным, но на вещи, которые равным образом" участвуют
в этом движении, оно не воздействует совсем, как если бы
его не было. Так, товары, покруженные на корабль,
движутся постольку, 'Поскольку они, отплыв из Венеции,
проходят Корфу, Кандию, Кипр и приходят в Алеппо.
Венеция, Корфу, Кандия и т. д. остаются и не двигаются вместе
с кораблем. Но движение от Венеции до Сирии как бы
отсутствует для тюков, ящиков и других грузов, помещенных
на корабле, если рассматривать их по отношению к самому
кораблю, и совершенно не меняет их отношения друг к
другу, и это потому, что движение обще им всем и все они
равно в нем участвуют. Если бы один тюк из корабельного
груза удалился от какого-либо ящика всего на дюйм, то
это было! бы для него большим движением по отношению
170
к ящику, чем путь в две тысячи миль, проделанный
совместно с ним в неизменном положении» 22.
Этот пример шшпострирует не только* физическую
концепцию Галилея, но и его эпистемологию. Что может быть
более общим, чем приведенная выше фраза о предметах,
захваченных равномерным сдвижением? И что в пределах
физики может быть более конкретным, чем этот корабль:
не .вообще корабль, а венецианское судно — мы убеждены,
что венецианское,— бороздящее Средиземное море и
проходящее Корфу, Кандию, Кипр и достигающее Алеппо.
Одни эти названия традиционных пунктов венецианской
морской торговли заставляют резонировать мысль
читателей «Диалога» и пробуждают предметные и красочные
ассоциации. Они мобилизуются против перипатетизма.
Предельная абстракция — на уровне Эвклида и
Архимеда — оказывается маргиналией около строк,
описывающих чувственный образ.
Теперь абсолютному покою Земли нанесен удар — и
логический и психологический. Галилей переходит к
позитивной задаче. Движение и покой Земли неразличимы.
Одни и те же явления соответствуют суточному движению
Земли и вращению всего небосвода вокруг неподвижной
Земли. Значит, обе кинетические схемы равноправны. Как
же доказать, что движется Земля, а неподвижен небосвод?
Критерий для выбора истинной схемы состоит в простоте
гелиоцентрической системы.
«Итак,— говорит Оальвйати,— поскольку очевидно, что
движение, общее для многих .движущихся тел, как бы не
существует, если речь -идет об отношении движущихся тел
друг к другу (раз среди ник ничто не меняется), и
проявляется только в изменении отношения этих движущихся
тел к другим, не обладающим таким движением (ибо здесь
меняется их взаимное расположение), и поскольку мы
разделили вселенную на две части, одна из которых
необходимо движется, а другая неподвижна, постольку для
в'сего того, что может зависеть от такого движения,
безразлично, заставить или двигаться всю Землю или весь
остальной мир: ведь воздействие такого движения
проявится только в отношениях между небесными телами и
Землей, и только эти отношения меняются. Но если для
порождения решительно одинаковых явлений
безразлично, движется ли одна Земля и остается неподвижным весь
осталыюй мир или же 'Земля стоит неподвижно, а весь
171
остальной мир движется тем же самым движением, то
кто поверит, что природа (ведь, согласно здравому смыслу,
она не пользуется многими вещами для достижения
того, что можно сделать посредством немногих) выбрала
для движения огромное количество громаднейших тел и
неизмеримую их скорость для того же результата,
который мог бы быть достигнут посредством умеренного
движения одного единственного тела вокруг его собственного
центра» 23.
Геоцентрическая система отличается внутренним
несовершенством. Она вводит ad hoc множество
произвольных допущений и противоречит таким образам стройности
картины мира, выражающей его объективную гармонию.
«Если решительно все явления природы, могущие
стоять в зависимости от таких движений, порождают так в
одно!м, так щ в другом случае без всякого различия одни
и те же следствия, то я сразу признал бы того, кто
считает более правильным заставить двигаться всю
вселенную лишь бы сохранить неподвижность Земли, еще более
неразумным, чем того человека, который, взобравшись
на вершину купола вашей виллы, чтобы посмотреть на
город и его окрестности, потребовал бы, чтобы вокруг него
вращалась вся местность и ему не пришлось трудиться,
поворачивая голову» 24.
Таким образом, правильная теория должна
согласовываться с наблюдениями, но оа!мо по себе это требование
не определяет теорию однозначным образом. Теория
должна объяснять факты без нагромождения произвольных
допущений.
Мы увидим в последней главе этой книги, как близки
эти критерии к тому, что Эйнштейн назвал «внешним
оправданием» и «внутренним совершенством» теории.
Высказав основные аргументы в пользу суточного
движения Земли, Галилей вспоминает .о тех ее
обитателях, о которых ему больше всего хотелось бы забыть. И
вот — кесарево 1кеса(реви — Галилей вкладывает в уста
Сальвиати благонамеренное (как оказалось впоследствии,
тщетное) предупреждение.
«Прежде чем идти дальше, я должен сказать синьору
Оагредо, ч?то в этих наших беседах я выступаю как
коперниканец и разыгрываю его роль как актер, но не
хочу, чтобы вы судили hq моим речам о том, какое
внутреннее действие произвели на меня те доводы, которые я
172
№к будто привожу в его пользу, пакта мы находимся в
разгаре представления пьесы, сделайте это потом, после
того, как я сниму свой наряд и вы найдете меня, быть
может, отличным от того, каким видите меня на сцене» 25.
Под этим нейтральным флагом Галилей продолжают
поход против идей Аристотеля, вошедших в арсенал
средневекового перипатетизма. Но это — все еще бой на
вражеской территории. Вскрываокл.чся противоречия в
перипатетических концепциях, Сальвиати и Сагредо
разбивают аргументы Симпличио, но Галилея тянет на воздух
из мира традиционных текстов, И вот он выходит за
пределы литературных реминисценций. Наконец Галилей —
в своей стихии, в области мысленных экспериментов.
Причем самых убедительных, содержащих новый
принцип мировой гармонии. Сальвиати задает вопросы
Симпличио и сократовым методом приводит его к совершенно
новой для собеседника идее.
Речь идет о движении твердого полированного шара
по абсолютно твердой полированной поверхности. Если
поверхность на пути шара поднимается вверх, шар будет
терять скорость, если поверхность имеет наклон вниз,
скорость будет увеличиваться. При отсутствии подъема и
наклона шар должен продолжать свое движение с
неизменной скоростью26. Подобными примерами Галилей
излагает принцип инерции.
После этого Галилей возвращается к механике
Аристотеля. Он критикует теорию движения поддерживаемого
средой, развивает и радикально изменяет концепцию
impetus's, говорит о движении брошенного тела. Здесь
Галилей высказывает мысль, которая вызвала множество
комментариев. Он рассматривает падение тела на
движущуюся Землю. Его траектория по отношению к Земле —
прямая. А какова она по отношению к неподвижным
звездам? Галилей знал, что опадающее тело движется в
такой «абсолютной» системе по параболе. Но в
«Диалоге» говорится о круговом движении 27. В 1637 г. Фе(рма
обратил внимание Галилея на эту ошибку28. Галилей
отозвался замечанием о «поэтической фикции» 29.
По-видимому, понятие параболы вывело бы «Диалог» за
пределы простой схемы круговых движений. Оно нарушило бы
нерасчлененное представление о движении, которое
развертывается в «Диалоге» как одно иэ самых
фундаментальных. Кроме того, доказательство параболического
173
движения было трудно и лишило бы «Диалог»
покоряющей ясности, которую Галилей сознательно преследовал.
Галилей рассматривает движение выпущенного из
пушки ядра и в этой связи хочет окончательно разбить
представление об абсолютном (т. е. проявляющемся в
изменении хода внутренних процессов) равномерном
движении. Возвращение вертикально выброшенного ядра в
точку, где произведен выстрел, было бы доказательством
покоя Земли, если бы движение Земли вызывало
отклонение снаряда от вертикального движения. Ню ядро
участвует в общем движении. Чтобы иллюстрировать такое
участие, Галилей полностью переносит из «Послания к
Инголи» в «Диалог» знакомую нам каюту, где люди
бросают друг другу предметы, бабочки летают в разные
стороны, дым; поднимается вверх и т. д.30
После (абстрактной формулы, после очищенного от
деталей примера катящегося шара Галилей переходит к
этому художественному очерку событий в каюте
неподвижного, ia затем движущегося корабля.
Мы не будем дальше излагать содержание беседы
второго дня. Разбор аргументов против суточного движения
Земли оказывается поводом, чтобы высказать ряд
механических теорий. В ответ на традиционное возражение:
Земля, вращаясь, сбросила бы все, что находится на ее
поверхности, Галилей высказывает свою теорию
центробежных сил. Неправильную теорию. Галилей считает силу,
отбрасывающую тела от центра вращения,
пропорциональной их скорости на круговой орбите. На самом деле, как
установил Гюйгенс, центробежная сила пропорциональна
квадрату скорости. Но излагая свою теорию, Галилей
пользуется очень остроумными и изящными методами и,
что самое главное, подходит к понятию скорости и
ускорения в точке.
Беседа третьего дня начинается без Симпличио. Оаг-
редо и Сальвиати ждут его и обмениваются мыслями о
вчерашней полемике и о характере научных споров
вообще. Сальвиати характеризует защитников старой картины
мира. Они, по его словам, подгоняют факты к
традиционным взглядам. «Эти люди,—подхватывает Сагредо,— не
выводят заключение из предпосылок и не обосновывают
его доводами, но прилаживают или, лучше сказать,
разлаживают и переворачивают предпосылки и доводы таким
образом, чтобы они согласовывались с наперед установлен-
174
ными и вбитыми в голову заключениями. Йе стоит
поэтому меряться силами с подобными людьми, тем более что
их образ действий не только неприятен, но и угрожает
опасностью» 31.
Симпличио не таков. Это лояльный противник.
Здесь появляется сам запыхавшийся перипатетик. Он
задержался потому, что его гондола села на мель —
начался отлив и Симпличио в течение часа ждал подъема воды
в боковом мелком канале недалеко от дворца Сагредо на
Canal Grande. Это характерная деталь текста «Диалога»
и еще более — (подтекста. В тексте очень тонкий переход
от снисходительного и толерантного разговора двух
блестящих венецианских патрициев к забавной фигуре
запыхавшегося Симпличио. В подтексте еще более Забавная
ситуация: перипатетика задержал отлив, явление, которое,
по мнению Галилея, разбивает концепции перипатетизма.
Кульминация беседы третьего дня — это момент,
когда Симпличио своей рукой набрасывает коперниканскую
схему мироздания32. Сальвиати дает ему циркуль и
просит отметить произвольной точкой положения Земли и
Солнца. Далее щз видимых движений Венеры следует
необходимость провести ее орбиту между Землей и
Солнцем, так, чтобы она охватывала Солнце. Т,а же судьба
постигает Меркурий. Марс, поскольку он бывает в
противостоянии с Солнцем, должен обнимать своим кругом и
Солнце и Землю. Еще дальше проходит круг Юпитера и
затем Сатурна. Симпличио уже не спорит. Его циркуль
повинуется логике наблюдений. Изложение становится
чисто позитивным. Уже нет речи об эквивалентности двух
систем. Система Коперника — единственно возможная.
Она представляет собой однозначное отображение
действительности.
Здесь мы подходим к очень важному пункту. Принцип
относительности не исключает однозначного решения
проблемы движения, и из него не может следовать
равноправие систем отсчета с центром — Землей и с центром —
Солнцем. Галилей это понимает. Он выдвигает следующий
критерий однозначности. Когда рассматривают отдельную
планету, различные системы отсчета могут казаться
равноправными. Заметим, что термина «система отсчета» у
Галилея, разумеется, нет, но именно таков смысл текста
«Диалога», когда речь идет о предположениях,
относящихся к нещщвижному центру системы Солнца и планет.
175
Когда мы переходим от отдельных планет к системе,
может существовать лишь одно правильное
предположение об ее центре. Другие будут отличаться отсутствием —
вспомним еще раз выражение Эйнштейна — внутреннего
совершенства.
Вскоре после того как! Симпличио своей рукой
нарисовал коперниканскую схему, Сальвиати говорит:
«Ню вы должны знать, что главная цель чистых
астрономов состоит только в том, чтобы дать объяснение
явлениям, (происходящим с небесными телами, и приспособить
к ним и к движениям звезд такие структуры и комбинации
крупов, чтобы вычисленные движения по ним
соответствовали этим явлениям, при этом их мало заботит, если
приходится прибегать ок какой-нибудь нелепой гипотезе,
которая на самом деле в других отношениях создает затруд-
дения. И сам Коперник пишет, что он в первых своих
работах пытался построить астрономическую науку на тех
же самых предпосылках Птолемея и так исправил
движения планет, что вычисления довольно точно
соответствовали явлениям, а явления — подсчетам, если, однако,
брать в отдельности планету за планетой. Но он добавляет,
что (Когда он пожелал создать целое построение из
отдельных частей, то получилась чудовищная химера,
составленная из членов, совершенно непропорциональных и
несовместимых друг с другом, так что если последние до
некоторой степени и удовлетворяли чистого
астронома-вычислителя, то не доставляли ни удовлетворения, ни покоя
астроному-философу» 33.
У Симпличио есть еще один ход. Система Коперника
удовлетворяет требованию простоты. Но это требование
соответствует геометрическому восприятию мира. Он не
имеет физической ценности. Умозрения о простоте
мироздания «кажутся мне,— говорит Симпличио,— теми
геометрическими тонкостями, за которые Аристотель упрекает
Платона, обвиняя его в том, что слишком усердные
занятия геометрией удалили его от настоящего
философствования. Я знавал и слушал величайших философов-
тарипатетиков, которые советовали своим ученикам не
заниматься математическими науками, так как они делают
ум придирчивым и неспособным к правильному
философствованию,— правило, диаметрально противоположное
правилу Платона, который не допускал к философии
того, кто не овладел предварительно геометрией» 34.
176
Проблема отношения Галилея к геометрическому
методу Платона — одна из самых существенных проблем
интерпретации галилеевой физики. Мы подойдем к этой
проблеме несколько издалека, учитывая общую оценку
позиции Галилея по отношению к Демокриту, Платону
и Аристотелю, а также некоторые ооображения о связи
геометрического метода с понятием однородности
пространства. При этом придется повторить кое-что уже
сказ»анное ранее.
Атомистика Демокрита была первым наброском идеи
непрерывного движения тождественного себе объекта —
неделимой частицы. Переход частицы из одной точки в
другую не меняет ее поведения. Пространство Демокрита
однородно. Правда, в античной атомистике появилось, как
можно думать, представление о движении как о
результате исчезновений и возникновений частицы в
микроскопических пространственных клетках, т. е. представление
о дискретном пространстве. Но макроскопически
пространство представлялось непрерывным.
Далее в 'античной науке появилось четкое
представление о равноправности и относительности направлений.
Землю стали считать шаром, и антиподов допустили на ее
«нижнюю» поверхность, они уже не должны были упасть
«вниз».
Это радикальное освобождение от очевидности было
куплено дорогой ценой. Греческая наука отказалась от
первоначальной гениальной догадки об однородности
пространства. В господствовавших с IV в. до н. э.
космологических схемах появилась особая точка — центр мирового
пространства и его границы. Что же касается точек между
граничной поверхностью конечного пространства и его
центром, то господствовавшие школы — Платона и
Аристотеля — не находили для них физических эквивалентов.
Отвернувшись от атомистики, они не могли заполнить
образы геометрических линий физическим содержанием —
образом частицы, движущейся от точки к точке
пространства и от мгновения к мгновению. Геометрические линии
как множества точек могли иметь либо чисто
геометрический смысл, либо никакого.
Первое решение принадлежало Платону. Но что это
значит: геометрические образы обладают только
геометрическим смыслам,"несмотря на то, что они фигурируют в
физике? Это значит, что физическое бытие тел является
12 Галилей
177
вторичным по отношению к их идеальному бытию. Иначе
говоря, понятия (а геометрические линии, обладающие
чисто геометрическим смыслов, это понятия)
предопределяют физические явления, служат их прообразами.
Платон ввел представление о «совершенных» круговых
орбитах небесных тел. С его же именем связана апология,
геометрии как универсального метода познания мира. Но
не заполненные физическим содержанием геометрические
образы превратились у Платона в априорные формы
объективного идеализма.
Аристотель устранил платоновскую геометрию из
картины мира. Он, конечно,, не устранил геометрию как
таковую, в абсолютном смысле. В космологии и физике
Аристотеля существовали зародыши радикальной
геометризации физики. Но в столь далекой от платоновских схем,
красочной, полной качественных различий вселенной
Аристотеля движением тел управляла не геометрия, а
двузначная логика. Тело либо находится в его естественном
месте, либо не находится. В первом случае оно покоится,
во втором случае должно происходить естественное
движение тела к его естественному месту. Движение
определяется начальными и конечными условиями —
статической схемой естественных мест. Мы назвали такую
концепцию интегральной. Но интегральное представление
предполагает идею бесконечно малых элементов
траектории движущегося тела, в которых его поведение
определено физическим законом. Этого у Аристотеля не было.
Поэтому название «интегральное» имеет смысл, если
учитывать не позитивное содержание физики Аристотеля, а ее
позднейшую расшифровку.
Выдвинутое Галилеем дифференциальное
представление о движении было прежде всего реабилитацией
геометрии. Но не априорной геометрии. Прямые, параболы
и (прежде вюего!) окружности описываются с помощью
мысленных экспериментов. Они являются отображением
реальных движений. Движения могут быть адекватно
отображены элементарными геометрическими понятиями,
если самое элементарное из этих понятий имеет
физический эквивалент. Такое понятие — точка. Ей должно
соответствовать физическое понятие частицы.
Поэтому возврат к Демокриту был существенным, хотя
и не слишком явным условием того, что сделал
Галилей в учении о движении. Но движение частиц у Демок-
178
рита было прямолинейным. Чтобы вернуться к Демокриту
на новой основе, с учетом изотропности пространства
и без концепции тяготения, нужно было наполнить
физическим содержанием круговые линии.
Каков смысл этого традиционного, античного
представления?
Аристотель положил в основу космологии тезис: всякое
круговое движение происходит вокруг неподвижного
центра. Но почему небесные тела равномерно движутся по
кругу? Ответ был дан еще Платоном. Излагая его
воззрения, Симпликий пишет:
«Платон принимает как основное правило, что
небесные тела движутся круговым, равномерным и вполне
правильным движением, и он ставит тогда перед
математиками следующую задачу: найти, с помощью каких
подлежащих определению равномерных и правильных
круговых движений окажется возможным спасти явления,
представляемые планетами» 35.
«Спасти явления». Это понятие прошло через всю
литературу древности, эллинистического периода,
средневековья, Возрождения — вплоть до XVill в. У Платона оно
означало: объяснить явление, исходя из априорной схемы,
в данном случае схемы равномерных круговых движений.
У Аристотеля «спасение явлений» уже не имело такого
априорного смысла. После Аристотеля оно приобрело
несколько иной кинематический смысл: астрономические
наблюдения должны согласовываться со схемой эпициклов и
эксцентров. Во всех случаях «спасти явление» значило
связать его со схемой мировой гармонии. Теперь
оставалось решить вопрос о природе этой схемы. Платоновский
ответ исходил из реального существования априорной
геометрической схемы, независимой от материального
мира. Ответ античных атомистов состоял в том, что
геометрическая схема — это описание форм реальных
траекторий материальных частиц.
С этой точки зрения (которую целиком воспринял
Галилей) геометрия становится универсальным
описанием мира, если мир сводится к движению
тел.
Иными словами, если все качественные различия
сводятся к числу, величине, форме и конфигурации тел, если
материя однородна и однородно пространство, в котором
она движется.
12* 179
В самом начале беседы первого дня Симпличио
отвергает претензию геометрии на объективное описание
физическоно мира 36. Физические тела не совпадают с
геометрическими, в реальном мире нет ни точных трапеций,
ни точных кубов, ни точных сфер. И, что самое главное,
качественные различия нельзя объяснить геометрическими
соотношениями.
Когда Салъвиати и Оагредо разъясняют своему
оппоненту преимущество геометрического метода и его
универсальную применимость к решению физических проблем,
становится ясной физическая предпосылка галилее-
вой геометризации физического мира. Он геаметризуем
потому, что состоит из дискретных частей однородной
бескачественной материи, а элементарные движения этих
частей представляют собой прямые и круговые линии.
Но метод Галилея требует, чтобы геометрическая
гармония мира, ставшая кинетической гармонией, была
исходным пунктом дедукции, допускающей в каждом случае
экспериментальую проверку. Движущаяся Земля
соответствует «внутренне совершенной» схеме. Но она должна в
каждый момент давать непосредственное позитивное
доказательство своего даижения — суточного и годового.
Подобным доказательством служат, по мнению
Галилея, приливы и ютливы. Им посвящена беседа четвертого
дня. Галилей считает возможным зарегистрировать
абсолютное ускоренное движение. Ускорение точек земной
поверхности — результат сложения двух движений,
суточного и годового. В течение (половины суток поверхность
Земли вращается в том направлении, куда Землю уносит
годовое движение. Скорости этих двух движений
складываются. В течение второй половины суток суточное и
годовое движения направлены в противоположные стороны
и суммарная скорость равна их разности. Отсюда
ускорения, заставляющие воду морей и океанов двигаться
назад, когда скорость увеличивается, и вперед, когда
скорость уменьшается.
В качестве примера Галилей приводит одну из деталей
венецианского быта. Пресную воду для города привозили
тогда из Lizza Fusina (на юго-запад от Венеции) в барке.
«Представим себе такую барку, плывущую с умеренной
скоростью по лагуне и спокойно везущую воду, которой
она наполнена, пусть затем она испытывает значительное
з»а1медлеиие, вследствие ли посадки на мель или встречи
180
какого-либо иного препятствия, при этом содержащаяся
в барке вода не потеряет приобретенного ранее импульса
так, как теряет барка, по, сохраняя его, устремится в;перед
к носу, где заметно поднимется, опустившись у кормы.
Если теперь, наоборот, той же барке при спокойном ее
движении сообщить новую скорость со значительным
приращением, то содержащаяся в ней вода не сразу к ней
приспособится, но, сохраняя свою медленность, будет
отставать и собираться, поднимаясь у кормы и опускаясь
к носу» 37.
Аналогичным образом вода морей и океанов
направляется вперед при замедлении земной поверхности и
отступает назад, когда сложение суточного и годового
движений приводит к ускорению. В этом причина приливов.
Теория приливов Галилея аналогична знаменитому
эксперименту Ньютона с вращающимся ведром. Когда
в'ода приливает к краям ведра, то этот эффект отличает
вращение ведра от вращения мира вокруг ведра, т. е.
регистрирует движение ведра абсолютным образом,
поведением входящих в движущуюся систему масс. Именно
такова роль приливов. Силы инерции воды заставляют ее
при ускорении приливать к берегу, так же как
центробежные силы заставляют воду подниматься у краев ведра при
его вращении. Только у Галилея не было четких понятий
ни силы, ни инерции, ни, тем более, силы инерции.
В беседе четвертого дня Сальвиати и Оагредо
полемизируют с учеными, объясняющими явление приливов и
отливов действием Луны. Это часть очень общей и
фундаментальной тенденции — игнорирования взаимодействия
тел. Из подобной тенденции и вытекает та специфическая
форма, в которой у Галилея В01зникла мысль о движении
тела, предоставленного самому себе.
XL Однородность пространства
Эйнштейн назвал г а л и л е е в ы м и системы, которые
смешаются без ускорения одна относительно другой. В га-
лилеевых системах тело, предоставленное самому себе,
покоится либо движется: равномерно и прямолинейно, иначе
говоря, сохраняет свою скорость. Если измерять положение
тела по отношению к некоторой галилеевой системе
отсчета, то 'ми получим координаты точек тела, далее, их
производные по времени — составляющие скорости и,
наконец, их вторые производные — составляющие ускорения.
Эйнштейн назвал преобразованиями Галилея
переходы от одной галилеевой системы к другой галилее-
вой системе, которая смещается (в качестве галилеевой —
без ускорения!) относительно первой. Подобный переход
описывается уравнениями, позволяющими найти
значения координат в одной налил сетей системе по их значениям
в другой системе, относительно которой данная система
движется. Во всех галилеевых системах ускорения
остаются пропорциональными действующим на тела силам и при
отсутствии таких сил скорости не меняются. Поэтому по
ходу внутренних процессов нельзя судить о переходе от
одной галилеевой системы к другой, ход этих прецесоов
не изменяется, а в этом смысле (все галилеевы системы
эквивалентны, ни одна из них не отличается от других
поведением тел. Когда галилеева система движется в
пространстве относительно другой, ее перемещение не
сказывается в ходе механических процессов, и в этом
выражается однородность пространства.
Эти абстрактные и сухие определения №£огут
показаться очень далекими от реплик «Диалога», за которыми
и сейчаю слышится аккомпанемент адриатического прибоя.
182
Но именно таков смысл реплик Сальвиати и Сагредо.
Трюм корабля, направляющегося из Венеции в Алеппо,
каюта, где, не отклоняясь в сторону, поднимается струйка
дыма, это галилеевы системы. Переход от неподвижности
корабля к его равномерному движению — галилеево
преобразование.
Однако правильнее было бы сразу сказать, что образы
«Диалога»—это не сшсш то, что сейчас, вслед за
Эйнштейном, называют галилеевыми системами и
галилеевыми преобразованиями.
Различие между художественным описанием и
математической формулой выражает различие в существе дела.
Как мы уже знаем, в механике Галилея движение
предоставленного себе тела происходит не по прямой линии, а
по окружности. Поэтому тело, предоставленное самому
себе, не уходит в бесконечность. Иными словами, кривизна
траектории позволяет Галилею сочетать однородность
пространства с его конечными размерами. Там, в просторах
бесконечной вселенной, уже нельзя пользоваться
наглядными представлениями. Там математические соотношения
лишаются конкретно-чувственной формы. Переход к
прямолинейному движению по инерции — это переход от
качественной картины, обосновывающей применение
математики, к самой математике.
Галилей неоднократно говорил о круговой орбите
предоставленного себе тела. Мы встречались с подобными
заявлениями, следуя основному рисунку пестрой ткани
«Диалога».
Эта фундаментальная идея небесной механики
Галилея — принцип космической инерции1
означает, что точки, не отличающиеся одна от другой по
поведению тела, образуют окружность. Пространство
Галилея, если иметь в виду не позитивный ответ, а
адресованный будущему вопрос, это однородное искривленное
пространство.
Кривизна однородного пространства связана с эписто-
М'ологической и онтологической позицией Галилея.
Геометризация физики опирается на возможность
исчерпывающего геометрического представления мировой гармонии.
Геометрические соотношения выражают гармонию мира.
Но гармония мира может быть гарантирована системой
круговых движений — такова первая, исходная позиция
Галилея, высказанная в «Диалоге» в начале беседы
183
первого дня. Если же в мире 'предоставленные себе тела
движутся прямолинейно, то гармония мира требует
вмешательства с и л — взаимодействий движущихся тол.
Поэтому объяснением того факта, что у Галилея
однородным является иокривленнное пространство, служат
взгляды Галилея на движение тел и на их взаимодействие.
«Физика Галилея,— пишет А. Койре,— это физика
тяжелых тел. Физика падающих тел. Тех, которые движутся
вниз. Поэтому падение тел играет в ней главную роль.
Скажем сразу: роль, [позволяющую определить физику
Галилея как учение о ладении тел. Действительно,
Галилей не только считает падение естественным движением
тела, но он его считает единственным естественным
движением» 2.
Это представление о падении тел мак о единственном
естественном движении меняет смысл терминов
«естественное» (naturale) и «насильственное» (violente).
Естественное движение направлено вниз, насильственное
движение может происходить в ином направлении, это
может быть движение брошенного тела, вообще тела,
испытавшего толчок. Соответственно тяжесть есть
универсальное естественное свойство тел. Поэтому казалось бы,
физика Галилея — это физика тяжести, так же как физика
Декарта — это физика удара, а физика Ньютона — физика
силы. Но это будет в некотором смысле ошибочно,
продолжает Койре 3. Галилей говорит о тяжелых телах, но их
тяжесть — чисто эмпирическое свойство, оно не получает
какого-либо объяснения, и: Галилей о ней <не говорит. Он
знает о тяжелых телах, но не знает о тяжести, как о
свойстве тел — объекте каузального анализа 4.
Все дело в том, что падение тел, их движение к центру
Земли, в физической теории Галилея не характеризует,
тела ни с какой стороны. Почему тело падает? Потому что
его ударяют частицы гравитационных флюидов или
гравитационного эфира,— ответят картезианцы XVII—XVIII вв.,
представители физики соударений. Потому что на тело
действует сила тяготения (или, что то же самое, тело
обладает гравитационной массой),— ответят ньютонианцы.
А Галилей? Тяжесть служит для него лишь эмпирической
констатацией. Тела, предоставленные самим себе, падают
вниз; чтобы тело двигалось в ином направлении, оно
должно получить импульс. Соответственно и различие между
естественным и насильственным движением становится
184
чисто эмпирическим pi несвязанным с характеристикой
тела. У Аристотеля положение тела было связано с его
субстанциальным свойством. Тезис: «тяжелое тело
стремится к своему естественному месту в центре вселенной»
можно перевернуть: «тяжелое тело — это тело,
естественное место которого находится в центре мира». У Галилея
пребывание тела в одном месте или в другом, движение из
одного места в другое не имеют отношения к телу -как
таковому, во всяком случае не имеет рационального
объяснения в физической теории.
Когда Симпличио говорит, что все знают причину
падения тел, Сальвиати ему отвечает:
«Вы ошибаетесь, синьор Симпличио, вы должны были
бы кжаэать, всякий знает, что это называется тяжестью,
но я вас опрашиваю не о названии, а о сущности вещи, об
этой сущности вы знаете ничуть не больше, чем о сущности
того, что движет звезды по кругу, за исключением
названия, которое было к нему приложено и стало привычным и
ходячим благодаря частому опыту, повторяющемуся на
наших глазах тысячу раз ib день. Но это не значит, что мы
в большей степени понимали щ знали принцип или ту
силу, которая движет книзу камень, сравнительно с теми,
которые, как мы знаем, дают камню при отбрасывании
движение вверх или движут Луну по кругу. Мы не знаем
ничего, за исключением, как я сказал, названия, которое
для данного специального случая известно как «тяжесть»,
тогда как для другого имеется более общий термин
«приложенная сила»... и для бесконечного множества других
движений выставляется причиной «природа»5.
Если тяжесть только название, позволяющее
объединить группу явлений без проникновения в их природу,
значит, и разделение движений на естественные и
насильственные теряет абсолютный характер. Брошенное
вверх тело испытывает насильственное движение, затем оно
падает — испытывает естественное движение, но все это
нисколько не характеризует ни природу места, куда оно
падает, ни природу, самого тела. Оба аристотелевские
понятия приобретают чисто геометрический и
относительный смысл: тело приближается к Земле — это называется
естественным движением, тело удаляется от Земли —
это называется насильственным движением. И это все.
Ничего иного, кроме такой геометрической констатации,
указанные понятия не содержат.
185
Иными словами, у Галилея физика не является ни
физикой ударов, как у Декарта, ни физикой сил, как у
Ньютона, потому что у него физика не включает учения о
взаимодействии тел.
По сравнению с Декартом, Галилей оказывается
большим роялистом, чем король. Декарт был королем в
царстве геометризованной, отождествленной с пространством
материи. Но Декарт, отождествив материю с
пространством, лишил последнее конгруэнтности, наделил его
непроницаемостью, и геометрия стала физикой ударов. У
Галилея в его знаменитых «ультракартезизанских» строках
«Saggiatore» о числе, величине и фигуре как единственных
субстанциальных свойствах материи7, телам
приписывается способность «касаться или не касаться других тел»
(toccare о поп toccare un altro сорго). Но это но
картезианские соударения. Таким образам, Декарт говорил, что его
физика — геометрия, а у Галилея физика действительно
была геометрией. К этому вопросу мы скоро вернемся.
По отношению к Ньютону Галилей тоже больший
роялист, чем сам король. Ньютон был королем в царстве ф е-
н о м е н о л о г и ч е с к и х представлений о
взаимодействии тел, но все же представлений о взаимодействии. Он не
знал, (какой агент передает эти взаимодействия,
ограничивался их количественным описанием, не хотел
связывать себя кинетическими гипотезами, но это не помешало
Ньютону стать основателем физики динамических
взаимодействий. Динамических, бей -кинетического механизма,
без конкретных моделей, без проникновения в сущность
процессов. Но взаимодействий. У Галилея взаимодействия
не фигурируют в физике.
Характерный пример — теория приливов. Как уже было
сказано, приливные движения масс воды — это аналог
ньютоновых сил инерции. Но в школе Ньютона понятие сил
было так прочно связано с понятием взаимодействия, что
силы инерции стали называть фиктивными — ведь они не
являются для данного тела результатом воздействия
других тел.
У Галилея эта проблема не возникает. У него нет и
мысли о другом понимании сил, движущих воду к берегам
и от беретов, кроме чисто эмпирической констатации
ускорений. В этом смысле у Галилея все силы фиктивные, всем
им не соответствует какая-либо концепция
взаимодействия.
186
Почему Галилей отказывается от теоретического
«анализа тяжести тел, почему он не строит физической теории,
в которой фигурировали бы взаимодействия тел?
Для Галилея физическая теория строится из логически
выводимых одно из другого понятий, которые на всех
этапах анализа сохраняют возможность сопоставления о
наблюдениями. Именно поэтому анализ так часто [ведется в
виде мысленных экспериментов. Ню в понятии тяжести не
происходит встречи наблюдений с исходными постулатами
логической дедукции. Теда сталкиваются, меняют свои
пути, они касаются одно другого, движутся одно к другому и
одно от другого. Тела падают на Землю, будучи
предоставлены самим себе, а поднимаются над Землей будучи
брошены вверх.
Но все это не находит эквивалентов в исходных
постулатах. Здесь царство фигур, чисел, величин и здесь нет
ни естественных мест, ни тяжести, ни взаимодействия тел.
Все это для Галилея эмпирические констатации, но не
звенья логических цепей. Галилей не дал теории тяжести не
потому, что он был сторонником феноменализма. Он вовсе
не был таковым. Но в физическую теорию не должны были
входить свойства тел, несводимые к числу, фигуре,
величине и т. д. Такие несводимые свойства должны были
остаться феноменологическими констатациями.
После Ньютона учение о движении распалось на две
ветви. Вонпервых, это механика, для которой силовые поля
служат исходным понятием, а объектом исследования
являются движения тел. Вонвторых, это физические
дисциплины, для которых исходным пунктом служат
движения, а предметом исследования — силы. Ньютонова задача
«по силам находить движения, по движениям находить
силы» была исходным пунктом для механики в
собственном смысле, определявшей движения в заданном поле, и
физики, находившей значения полей по наблюдаемым
движениям. Такое разделение удержалось поныне, но
достигнутая в 30-е годы нашего столетия возможность
вывести уравнения движения из уравнения поля указывает на
принципиальную допустимость объединения двух потоков,
вылившихся из ньютоновых «На^ал».
У Галилея не было двух задач — определения
движений тел и определения их взаимодействий. В этом смысле
вся физика Галилея была тем, что потом отделилось от
физики в качестве механики в собственном смысле.
187
Специфические отличия физики Галилея, которые нас
сейчас, в середине XX в., особенно интересуют, это ее
«утренние» отличия от классической физики в зените.
Мы приблизимся к их пониманию, если сопоставим с
взглядами Декарта и Ньютона взгляды Галилея на тела и
их взаимодействия, на материю и пространство.
В основе механики Декарта лежит следующее
-понимание материального тела. Это — часть пространства,
лишенная конгруэнтности, обладающая непроницаемостью,
движущаяся относительно других частей пространства —
других тел. Соответственно, взаимодействие тел — здесь
механика переходит в физику — это их соударения.
Тяжесть — результат таких соударений. Все причины
движения — в том числе тяжесть — являются не свойствами
тел и не свойствами пространства, а свойством
взаимодействий — соударений тел. Тела характеризуются объемом и
формой, и пространство это сумма мест тел, совпадающих
с самими телами.
В основе механики Ньютона лежит другое понимание
тела. Тело не является частью пространства и не
совпадает с занятым в пространстве местам. Оно. обладает не
только непроницаемостью, но и гравитационной массой.
Соответственно,, взаимодействия тел (здесь — переход к
прокламированной в «Началах,» второй задаче, т. е. \К
физике) не сводятся к соударениям, а включают силовые
взаимодействия на расстоянии. К ним принадлежит
тяготение. Таким образом, и здесь причина движения не в
самих телах и не в пространстве (в отличие от физики
Декарта, отделившемся теперь от тел), а во взаимодействиях
тел. Пространство Ньютона, в отличие от пространства
Декарта, это совокупность расстояний между телами, их
физическим эквивалентом служат действующие на рассто^
янии силы взаимодействия тел.
В основе механики Галилея лежит знаменитое
определение материи в «Saggiatore», где к форме, величине и
числу тел прибавлено их д в и ж е н и е. Откуда это
прибавление, с чем оно связано? Оно связано с представлением
об упорядоченном мире, о гармонии бытия. Но она, эта
гармония, выражается не в определенном расположении
тела, а в определенных движениях, именно в круговых.
Взаимодействия тел не привлекаются для объяснения их
движений. Движения вообще не требуют объяснения, если
они характеризуются неизменной абсолютной скоростью
188
на круговых траекториях. Ускоренные движения
происходят по прямым направлениям, но их роль сводится к
восстановлению нарушенной гармонии. Они превращают
хаос в окоем-ос, но «осмос- характеризуется равномерными
круговыми движениями. Пространство Галилея — это
совокупность не объемов тел и не расстояний между
телами, а траекторий тел. И, конечно, из всех теорий
прошлого, это ближе всего к атомистике Демокрита.
У Демокрита пространство, связано с атомами не тем, что
оно «совпадает с ними. И не тем, что через пространство
атомы действуют один на другой. Пространство
Демокрита связано с атомами тел тем, что атомы в своем движении
проходят через точки пространства.
Пространство, составленное из круговых траекторий,
это физическое пространство. Оно характеризуется
равноправием точек, образующих круговые линии и
сферические поверхности. Все это напоминает, как уже
говорилось, современные представления о физическом
пространстве. Но концепция Галилея не является ни повторением
атомистики V в. до н. э., ни предвосхищением науки XX в.
н. э. Она вообще не является ни повторением, ни
предвосхищением. Если мы проведем прямую от взглядов
Демокрита к современной науке, мы не найдем Галилея на
этой прямой. Мы найдем Галилея на очень сложной
кривой (наиболее близкой аналогией будет спираль),
составленной из реальных исторических фактов. Здесь мы
находим и непосредственных и более отдаленных
предшественников Галилея и его непосредственных преемников.
Ряд антецедентов физики ш Галилея только начинается
античной атомистикой. Далее идет античная идея
круговых движений, среднековые номиналисты, теория impe-
tus'a XIV—XVI вв., гелиоцентризм XVI в. Преемники
Галилея — непосредственные преемники — это Кавальери и
Торричелли.
Физика Галилея включает элементы, сходные и с
самыми общими, античными источниками механического
объяснения природы и с наиболее развитыми формами
дифференциального представления, не потому, что она
пошла дальше науки второй половины XVII в., а потому, что
она, если говорить о позитивном содержании, еще не
дошла до нее. Это видно из того, что первый шаг к большей
определенности ж четкости концепции Галилея был
шагом к разграничению тяжести и движения по инерции и к
189
появлению понятий силы тяжести и
прямолинейной инерции.
Этот шаг был сделан учениками Галилея.
В 1632 г., в год окончания «Диалога», Кавальери
выпустил свою «Specchio Ustorio» 8, которая, но словам Койре,
кажется выпущенной лет на двадцать позже 9.
Действительно, она совсем не похожа на полемическую книгу
Галилея. Все, что было предметам острых столкновений,
кажется теперь решенным, неоспоримым, само собой
разумеющимся. Это различие и этот почти беспрецедентный
градиент научной мысли характеризуют, в первую очередь,
творчество Галилея — его эффект. Потому что Кавальери
исходит из тото, что доказывал — в жарких опорах —
Галилей. И если то, что он доказывал, осталось непонятным
и чуждым многим, это не уменьшает градиента научного
прогресса: достаточно, если выводы Галилея были поняты
Кавальери.
В «Specchio Ustorio» речь идет, в частности, о
присущей телу тяжести (interna gravita) тела. Она служит
причиной движения тела к центру Земли.
«Если мы буде'м рассматривать движение тяжелого
тела, вызванного только присущей ему тяжестью (fatto per
la sola interna gravita), то это движение будет
направлено к космическому центру тяжелых тел, т. е. к центру
Земли 10.
Механика Галилея еще не выполнила своей
непосредственной задачи, Кавальери не выступает против
геоцентризма, он говорит о центре Земли в аристотелевом духе.
Но в части механики как таковой он уже идет дальше
Галилея: тяжесть можно отделить от другой компоненты
реального движения тяжелого тела.
А какова другая компонента?
Кавальери рассматривает движение снаряда,
выпущенного по горизонтальной линии. Он хорошо знает — от
Галилея,— что траектория снаряда ic самого начала будет
обладать кривизной. Но он рассматривает криволинейное
движение как сумму двух прямолинейных. Одно из них
направлено вниз, другое — по горизонтальной прямой.
Первое объясняется тяжестью, второе — сохраняющимся
толчком (virtu impressa).
«Если в вытолкнутом теле две движущие силы (virtu
motrici), т. е. тяжесть и сохраняющийся толчок (virtu
impressa), то каждая из них в отдельности двигает тело по
190
прямой, но 'Соединенные вместе, они заставляет его
двигаться па прямой...» п.
Как замечает \Койре, там, где Галилею, чтобы
нейтрализовать тяжесть, требуется положить тело на твердую
подставку, там Кавальери обходится простой
абстракцией 12.
Переход от противодействующей тяжести к твердой
поверхности, к чисто абстрактному разделению тяжести и
virtu impressa представляет собой весьма радикальный
переход. У Галилея поддерживающая поверхность
исчезла, когда он перешел от шара, катящегося по доске, к
планете, движущейся в пространстве. Но вместе с
поддерживающей поверхностью исчезла и тяжесть. Теперь же,
у Кавальери, тяжесть оказывается абстрактной
величиной, которая может быть во всех случаях отделена от
virtu impressa, последняя же сама по себе поддерживает
прямолинейное движение. Отсюда только два шага к
сложению прямолинейного движения по инерции с
центростремительным ускорением в гравитационном поле. Эти
шаги были сделаны Декартом и Ньютоном. Шаги гигантов.
В коренном вопросе — о соотношении математического
анализа и физической реальности абстракция Кавальери
означает, что отныне не мысленный эксперимент Галилея,
а более абстрактная схема становится формой развития
механики. От наглядных образов, доказывающих
применимость математики для адекватного познания природы,
наука переходит к самой математике.
Этот переход отчетливо виден у другого гениального
ученика Галилея — Торричелли.
«'Пусть,— пишет Торричелли,— движущееся тело
брошено из точки А по некоторому направлению АВ,
образующему острый угол с горизонтом. Яото, что без
воздействия тяжести тело будет продолжать прямолинейное и
равномерное движение, следуя направлению -45» 13.
Что означает это слово «ясно»? Означает ли оно, что
Торричелли считает очевидным црямолинейное
движение предоставленного себе тела? Означает ли оно само
собой разумеющуюся возможность отделения тяжести от
virtu impressa 14?
Нет, дело тут в другом. В новом представлении
геометрических и механических понятий. В применении
предельных отношений между механическими
величинами^
191
Торричеллн знает, что реальное устранение тяжести
невозможно. Внутреннее действие присущей телу
тяжести заставит тело Немедленно отклониться от направления,
в котором оно брошено, мера этого отклонения будет
непрерывно возрастать, и тело опишет некоторую кривую 15.
Но столь же неточны и те предположения, на основе
которых Архимед построил свою механику, где тяжесть не
отделяется от движения тел. Архимед приписывает
тяжесть двумерной геометрической фигуре, он считает
параллельными нити, на которых два груза привешены к
концам рычага, на самом же деле они направлены по
прямым, пересекающимся в центре Земли.
«Что касается меня,— говорит Торричелли,— я того
мнения, что либо эти предположения не являются
ложными, либо все прочие принципы геометрии ложны в равной
степени и в том же смысле... И я говорю об абстрактных
фигурах—их и изучает обычно геометрия,—а не о
физических и конкретных. Нужно, наконец, допустить, что
центр окружности, поверхность сферы, телесность конуса
л аналогичные вещи вовсе не являются предметом спора,
они не имеют иного существования, кроме того, которое
получено от разума и исходных определений. Это
относится и к тяжести, которая находится в одном ряду с
геометрическими фигурами, относится совершенно таким же
образом, как к понятиям центра, поверхности, периметра,
телесно'ст'и (soliditas) и т. д.» 16.
Таким образом, тяжесть не только чисто
кинематическая характеристика движения, как это было у Галилея,
но даже чисто геометрическая характеристика. Очень
энергичный переход от взаимодействия тел как причины
движения к геометрическим свойствам пространства.
И все ето как будто бы сочетается с идеей априорного
соглашения как источника геометрических понятий. Торри-
челли констатирует расхождение между физической
реальностью и геометрическими соотношениями. Что же,
геометрия имеет свой собственный, независимый от
реальности источник. Корни иллюзии априорности здесь
явственно обнажены. Но это только корни. Они переплетаются с
другими (совсем другими!) тенденциями, и априорная
версия дальше не растет.
Торричелли высказывает (также не поднимаясь выше
корней) концепцию геометрических соотношений как
предельных, соответствующих физической реальности при
192
Переходе к бесконечным масштабам. Это относится й к
тяжести.
Перенесем, говорит Торричелли, архимедовский рычаг
с грузами очень далеко от Земли. Так далеко, что
непараллельность натянутых грузами нитей станет во много раз
меньше, чем на поверхности Земли. Очевидно, на
бесконечном расстоянии от Земли этл нити будут строго
параллельны.
«Если после этого—после переноса на бесконечное
расстояние и после выведения известных формул и
соотношений — мы перенесем с помощью (воображения
архимедов рычаг с грузами обратно в наши края, то
параллельность линий будет нарушена, но уже выявленные
пропорции не будут уничтожены переносом. Специфическое
преимущество геометрии состоит в том, что она может
средствами разума, абстрактно выполнять все свои операции» 17.
Торричелли превращает физическое понятие
тяжести, данной в наблюдениях, в математическое понятие
величины, которое кажется, независимым от
наблюдения, выбранным произвольным образом. В качестве
таковой она не зависит от положения в пространстве. Но это
и означает, что тяжесть подчиняется геометрическим
соотношениям. Это движение тела в вертикальном
направлении. В каждой точке тело, если оно свободно, движется в
этом направлении, причем все эти направления во всех
точках — одни и те же. Поэтому нити, натянутые грузом,
параллельны друг другу.
«Таким образом,— говорит Торричелли,— механика
зиждется на следующем фундаменте. Натянутые грузами
нити параллельны. Это утверждение можно назвать
ложным, если величины тяжести, действующие на концы
рычага, представляют собой нечто физическое и реальное и
если тяжесть направлена к центру Земли. Но это
утверждение справедливо, если речь идет о тяжестц — величине
абстрактной, либо конкретной, не направленной ни к
центру Земли, ни к какой-либо другой, близкой к рычагу
точке, а к некоторой точке, бесконечно удаленной» 18.
«Величине абстрактной или конкретной». При
бесконечном удалении от центра Земли абстрактная и
конкретная тяжесть — одна и та же. Они совпадают не только
количественно. Это одно и то же понятие. Абстрактное
понятие тяжести (геометрическое понятие — результат
определения) есть предельный случай конкретного понятия
13 Галилей
193
тяжести (физического понятия, вытекающего ез
наблюдения) .
ЭТо — новое (хотя и обладающее античными и
средневековыми антецедентами) решение очень старой
гносеологической проблемы априорных и эмпирических
источников геометрических понятий. Такое решение
соответствует кинетическому представлению о мироздании и
дифференциальному представлению о движении. Оно
соответствует исходным физическим идеям Галилея. Но оно
соответствует :и его гносеологическим идеям —
«экспериментальному рационализму».
Вернемся к архимедову рычагу с грузами. Заменим два
груза одним тяжелым телом, брошенным в горизонтальном
направлении. В двух различных точках тяжесть тела
заставляет его двигаться вниз, в вертикальном направлении.
Направления движения в каждой точке параллельны. На
той ступени абстракции, которой достиг Торричелли,
легко отделить эту вертикальную составляющую от другой
компоненты. Последняя изображается теперь прямой.
Чтобы .придать этой абстрактной прямой конкретный
вид, нужно только удалить движущиеся тела с
поверхности Земли на бесконечное расстояние от центра Земли.
Таким образом, чтобы перейти от кругового движения
предоставленного себе тела к прямолинейному, нужно
только дополнить мысленные эксперименты Галилея
переносом тела на бесконечное расстояние от Земли. Но это
значит не только раскрыть дорогу 'перед математическими
понятиями, но и ПОЙТР1 по этой дороге.
И вот, наконец, третий этап отделения тяжести от
другой компоненты движения. Речь идет о Гассенди.
О чисто физическом, а не математическом (как у Кагаалье-
ри и Торричелли) развитии идей Галилея 19.
Кавальери и Торричелли устраняют тяжесть из
движения предоставленного себе тела, так как тяжесть у
них — абстрактная величина, или мера. Гассенди
устраняет тяжесть в качестве физической силы20. Для Гассенди
тяжесть — это притяжение, аналогичное магнитному или
электрическому. До сих пор недостаточно оценено
влияние «De magnete» Гильберта на учение о тяжести.
Влияние это было весьма существенным. Тяжесть стала
частным случаем притяжения. И вместе с тем внешней силой,
обязанной существованию других тел. Именно так
рассматривает ее Гассенди.
194
«Тяжесть, даже тяжесть, присущая частям самой
Земли, так же как всем земным телам, это по впутреиняя сила,
а сила, действующая в результате притяжения Земли.
Пример магнита это пояснит...»21
Две струи вытекли из трудов Галилея. Одна — инфи-
нитезимальные идеи Кавальери и Торричелли, другая —
атомистические идеи Гассенди. Они пересеклись только
в самом конце XVIII в. в «Аналитической механике Лаг-
ранжа.
Инфииитезимальные идеи, представление о
бесконечно малых величинах и их предельных отношениях,
развивались в трудах великих математиков XVII и XVIII вв.
и, (наконец, у Эйлера (приобрели характер (вполне
подготовленного для применений аппарата. Чтобы
представление о бесконечном множестве бесконечно малых отрезков
и бесконечно малых интервалов стало физическим
представлением, требовалось одно очень важное условие —
представление о материальной точке. Нужно было
представить множество точек, как множество
местопребываний материальной частицы, пренебрежимо малых
размеров. В сложной истории атомистики XVI—XVIII вв.,
в переплетении концепций протяженных и
непротяженных атомов выросло представление о частице
пренебрежимо малых размеров. Эта частица, двигаясь по цепи
геометрических точек, создала основной физический образ
дифференциального представления о мире.
Из сказанного видно, что позитивное содержание
физики Галилея подготовило более точную картину, е которой
движение частицы определяется взаимодействием тел —
силовым полем, в котором движется частица. Фарватер
науки XVII в. был направлен от нерасчлененного
искривленного однородного пространства Галилея к концепции:
однородное «плоское» пространство плюс силовое поле.
Дальнейшее обобщение понятия однородности привело
к четкому пониманию связи между однородностью
я сохранением. В 1918 г. Эмми Неттер доказала
носящую ее имя теорему о связи свойств пространства с
законами сохранения22. Сохранение импульса
соответствует инвариантности некоторой функции по отношению к
пространственным сдвигам — однородности пространства.
Сохранение энергии выражает инвариантность той же
функции по отношению ко времени — однородность
времени.
13* 195
Теорема Неттер позволяет по новому решить нёкб1Т(>-
рые важные историко-научные вопросы. Прежде всего она
позволяет ретроспективно выделить наиболее общие
физические идеи науки XVII—XVIII и XIX вв. Для XVII—
XVIII вв. такой наиболее общей идеей была
выражавшаяся в 'законе инерции и в сохранении импульса
однородность [пространства, искривленного у Галилея и «плоского»
у Декарта и Ньютона. Наиболее общей физической идеей
XIX в. была выражавшаяся в законе сохранения энергии
однородность времени.
Но обобщение понятия однородности остается
стержневой линией и в последующем развитии физики.
Специальную теорию относительности можно считать теорией,
выражающей однородность «плоского», эвклидова
четырехмерного пространства-времени. В самом деле, в
специальной теории относительности закон сохранения импульса ж
закон сохранения энергии сливаются в один закон. Три
составляющие импульса и энергия образуют
четырехмерный вектор энергии-импульса. Соответственно речь идет
о сохранении энергии-импульса, выражающем
однородность пространства-времени. Движение, описываемой
прямой пространственно-временной линией, т. е. движение
без ускорений, не сопровождается внутренними
изменениями в движущейся системе. Мировые точки,
образующие прямую мировую линию, не отличаются поведением
находящейся в них частицы.
Общая теория относительности: — дальнейшее
обобщение понятия однородности. Общая теория
относительности говорит, что система, движущаяся с ускорением
(иначе говоря, система, движение которой описывается:
кривой мировой линией), тоже не дает возможности
зарегистрировать движение абсолютным образом — по
внутренним эффектам. Такие эффекты — силы инерции —
объясняются не какой-либо неоднородностью
пространства-времени, а его кривизной.
Таким образом, общая теория относительности
постулирует (а проверка теории- доказывает) однородность
искривленного пространства-времени.
Искривление пространства-времени зависит от
распределения масс и выражает жх гравитационное
взаимодействие. Наука возвращается от характерного для XVII—
XIX вв. разделения «плоского» пространства (геометри-
зированной физики инерционных движений) и силовых
196
полей (негеометризированной физики взаимодействия).
Движение под действием гравитационного взаимодействия
и движение по инерции происходит по кратчайшим
(геодезическим) линиям пространства-времени, в первом
случае — искривленного, во втором случае — прямого. Мы
приходим к обобщенному представлению о движении по
инерции и к обобщенному понятию однородного
многообразия.
Подобное представление об эволюции понятия
однородности позволяет подойти к однозначному ответу на вопрос
о роли Галилея в создании классической физики.
Был ли Галилей ее основателем?
На вопрос о генезисе и развитии классической физики
можно получить однозначный ответ, если выяснено, в чем
состоит ее сквозная идея. Речь не идет о совокупности
характеристик, которые могут быть применены к любой
исторической стадии развития классической физики. Речь не
идет об идее, которая остается неизменной на всем
протяжении этого развития. Речь не идет об идее, которая
тождественна себе в таком тривиальном смысле. Под
сквозной идеей здесь подразумевается некоторая физическая
концепция, тождественная себе в нетривиальном смысле:
она изменяется и вместе с тем остается одной и той же.
К истории науки относится то, что относится ко
всякому изменению: оно не имеет смысла без существования
тождественного себе субъекта изменения, или, как
говорил Галилей: «нет движения без движущегося» (il moto
поп ё senza il suggeto mobili) 23. Объектом исторического
анализа служит процесс изменения научных идей, и
самые идеи, которые высказываются в различных формах,
но остаются тождественными себе, вновь и вновь
возникающими фениксами научного прогресса.
Именно такой идеей классической физики является
идея однородности. Она возникла в форме представления
об однородном пространстве, затем она была
конкретизирована в 'виде тезиса об однородности «плоского»
пространства, затем однородность была присвоена времени, затем
речь шла об однородности пространства-времени, (сначала
«плоского», потом искривленного. В последней главе мы
убедимся, что квантовая физика — это дальнейшая
модификация понятия однородности. Меняется размерность и
кривизна однородного многообразия, но связанные одно с
другим понятия сохранения, инвариантности, относитель-
197
но'сти остаются во (всех случаях матрицей, которую
заполняют переменным содержанием. Речь идет о
последовательном обобщении и переносе на новые объекты
первоначального представления о сохранении физической
величины, инвариантности физических соотношений,
относительности движения, однородности физического
многообразия.
Основателем классической физики был мыслитель,
высказавший эти представления в такой форме, которая
могла быть потом обобщена, перенесена на другие объекты^,
модифицирована, но уже не могла быть отброшена.
Идея однородности пространства и относительности
движения была мостом от общей мысли об объективной
закономерности мира к тому систематическому и
необратимому накоплению позитивных знаний, которое началось
в XVI—XVII вв. В последнем счете понятия однородности
и инвариантности означают только одно: физический
процесс происходит закономерным образом, подчиняясь
некоторым неизменным соотношениям, и эти соотношения
выражаются инвариантными величинами. Понятие
относительности означает только одно: в каких бы системах
отсчета мы ни рассматривали движение, оно будет
характеризоваться независимыми от выбора системы отсчета
инвариантными соотношениями.
В начале XVII в. связь подобной объективации мира
с идеями однородности и относительности не могла быть
выражена в строгой математической форме. Но дело не
в форме. Когда Ньютон, а за яшм д' Аламбер, Эйлер и
.многие другие высказали классический принцип
относительности в очень четкой количественной форме, это не
устранило субъективной интерпретации относительности. Но у
Галилея существовало яркое, хотя отчасти и интуитивное
(может быть, именно поэтому и яркое) представление об
относительности движения, как о доказательстве
объективного характера инвариантных кинетических
соотношений. Инвариантность внутренних соотношений в
движущейся системе означает, что земная антропоморфная,
субъективная, согласованная с традиционной
«очевидностью» и с традиционной легендой геоцентрическая
картина движений небесных тел уже не может претендовать
на абсолютный характер.
Это понимал Галилей. Это понимали его
единомышленники. И его враги. Поэтому «Диалог» не мог не
вызвать резкого обострения борьбы,
XII. Процесс 1633 года
Гром грянул ,в августе 1632 г. Из Рима во Флоренцию
пришло распоряжение о конфискации «Диалога».
Тосканский герцог предпринял некоторые, не слишком
решительные шаги, чтобы спасти книгу от запрещения, но
Урбан VIII оборвал представителей герцога. В Риме уже с
начала августа заседала комиссия под председательством
'шрдинала-ненота Франчеоко Барбершш, которая должна
была решить вопрос о «Диалоге», вернее, подготовить та-
мое решение. Сохранился доклад этой комиссии
Урбану VIII. В не>м перечисляются обвинения, адресованные
Галилею: спасительную <концов!ку, которой требовал
.цензор, он свел к неясным и беглым оговоркам, он выделил
предисловие особым шрифтом, противопоставив его таким
образом содержанию книги, и т. д. Но главные
обвинения — это объективная трактовка гелиоцентризма,
утверждение об абсолютном характере движения Земли и
учение о приливах как доказательстве такого абсолютного
движения.
Урбан вмешивается в процесс со всей свойственной
ему энергией, запальчивостью и нелояльностью. Чтобы
понять ход процесса, следует остановиться на этой фигуре.
Урбан не был религиозным фанатиком. Он был
типичным представителем поколения участников и свидетелей
Тридцатилетней войны, в которой непосредственные
политические и экономические интересы проступали сквозь
дымку религиозной борьбы и стали непосредственными и
открытыми стимулами политики. Маоколей говорил, что
борьба реформации и контрреформации напоминает
поединок Гамлета с Лаэртом: последний ранит противника
отравленной шпагой, затем они меняются оружием, и
Гамлет ранит Лаэрта. После того как религиозный фана-
199
тизм объединил врагов Рима и католики отступили
в большинстве стран, северной и центральной Европы,
отравленное оружие перешло к ним, и фанатики контр-
реформацин двинулись в наступлению К Но теперь все
это кончилось. Наступило время компромиссов, коалиций
и политических комбинаций, где религиозные
столкновения значили немного. После Генриха IV многие
протестантские государи Европы были склонны думать, что не
только Париж, но и другие города стоят мессы. И
католические князья, в их числе и папа, светский глава папской
области, отличались неслыханной раньше гибкостью
религиозных принципов. Это было время неожиданных
поворотов, когда оплаченная военным союзом или
невмешательством неожиданная терпимость к еретикам
сменялась оплаченным иным предательством, иным союзом или
тайной поддержкой взрывом католического рвения.
В Италии герцоги, кардиналы, пана оглядывались теперь
не только на постановления Тридентского собора, но и на
военные и политические успехи Ришелье, Густава
Адольфа, Валленштейна. Нечего и говорить, что повороты к
религиозной терпимости были «вынужденными движениями»
в смысле аристотелевой динамики, а новые костры
инквизиции — «естественными движениями», не требовавшими
внешних импульсов. Уступки протестантским князьям или
французским министрам приводили к очень кратким
перебоям в деятельности инквизиции, и затем (иногда
одновременно) компенсировались возвратом к тридентскому
духу контрреформации.
В 1632—il633 гг. в политике папскюго престола
произошло как бы наложение и суммирование всех
конъюнктурных и вековых сил, направленных против науки. Это
был год крушения светских замыслов Урбана VIII и
острого желания продемонстрировать беспощадную
ненависть к еретикам. Дело объясняется ходом Тридцатилетней
войны и рядом частных осложнений в Европе.
За пятнадцать лет до 'описываемых событий началась
ожесточенная борьба за освободившийся престол манту-
анекого герцогства. Ришелье, с одной стороны, и
императорский двор, с другой, хотели видеть на этом престоле
своего сторонника. Урбан VIII — сторонник французской
ориентации, боявшийся в качестве светского монарха
усиления испано-австрийских позиций в Италии, требовал
от Ришелье и короля Людовика XIII решительного воэн-
200
ного вмешательства. Когда пала Ла-Рошель — оплот
французских гугенотов, армия короля выступила в Италию.
Туда же направилось войско императора, и папскому
нунцию оказали по поводу одного из очередных
столкновений, что Валленштейн изучит положение в Италии,
прибыв туда с армией. Имя полководца империи и сведения
о его силах внушили большие надежды
испано-австрийской партии в Риме и заставили задуматься французскую
партию и Урбана. Но об этом думал в Париже более
сильный ум. Ришелье поставил ставку на Густава-Адольфа.
Папа одобрил переговоры с протестантским королем
Швеции. Густав-Адольф согласился, и летом 1630 г.
договор был практически заключен. В Германию был послан
«серый кардинал» — отец Жозеф, который интриговал
среди немецких князей против императора, в пользу фр-ан-
ко-итальянских планов. Имперские войска тем
временем взяли Мантую, но после этого отстранение Валлен-
штейна ослабило их, и итальянский поход в общем не дал
результатов. В Германии имперские войска под
командованием Тилли были разбиты Густавом-Адольфом. С ним
вернулись изгнанные ранее протестантские пасторы.
Протестантство подняло голову.
Император и австро-испанская партия в Италии о'бви-
няли Урбана VIII. Он действительно нанес ущерб
вселенскому авторитету католической церкви во имя светских
интересов панского престола. Вскоре это стало широко
известно. Союз со шведами стал явным и вместе с тем
бесполезным в 1632 г. после гибели Густава-Адольфа.
Болезнь Ришелье оставила Урбана изолированным перед
Испанией, императором, Венецией — всеми его врагами.
Их было немало и в Риме. «Эти события,— доносил из
Рима посланник Модены,— не образумили, а лишь
разъярили Урбана VIII, он потерял голову и делает
величайшие глупости» 2.
И вот в момент политических неудач и разочарований,
кризиса духовного -авторитета церкви и — еще более —
личного авторитета ее главы, в момент бездействия
союзников и активности врагов, в момент пока еще
беспредметного желания укрепить свой авторитет, хотя бы в
духовно-теологической области, Урбану докладывают о
«Диалоге». О нем докладывают враги Галилея. Папа
верит всему — может быть, даже явно вздорному
измышлению, будто Симпличио — карикатура ina него. Мания
201
величия сочетается с манией преследования и недоверие
ко всем — с легковерием к наветам. Урбан повсюду видит
попытки умалить его авторитет и авторитет церкви —
впрочем, он отождествляет эти понятия. Такую попытку
он видит и в «Диалоге». Гнев соединяется с расчетом.
Инквизиционный процесс, должен продемонстрировать
несломленную силу контрреформации. Нетерпимость к
науке должна уравновесить одиозный союз с
Густавом-Адольфом и протестантскими князьями Германии.
Этот расчет был тщетным. Инквизиционный процесс
нанес авторитету католицизма такой удар, который не
забыт поныне. После мученической смерти Бруно,
мученическая жизнь Галилея стала пятном, которое вот уже
почти три с половиной столетия не сходит с риз
католической церкви. Непосредственный эффект процесса
ослабил позиции Ватикана. Но именно в эту сторону и шла
объективная тенденция истории. Урбан VIII открыл
период неуклонного падения авторитета римской курии.
Тридцатилетняя война подкосила ее светский авторитет,
процесс Галилея — ее моральный авторитет.
Представлял ли себе Галилей действительную
обстановку в Риме и действительную позицию Урбана? Выше
уже говорилось, что учет обстановки не мог изменить
направления творчества Галилея: «Диалог» был неизбежным
и неустранимым результатом идейной эволюции
мыслителя, который в основных вопросах не шел на
компромиссы. Но! Галилей не мюг предвидеть грозы,
грянувшей с неба, которое казалось ему свободным от
угрожающих туч. Помимо успокаивающих обещаний, почестей
и панегириков, он не мог в Падуе, Венеции и Флоренции
почувствовать, как изменился облик прелатов и светских
синьоров Рима.
Больше всего этот облик изменился задолго до
Галилея, когда контрреформация вытеснила традиции
гуманизма религиозной нетерпимостью и воинствующим
обскурантизмом.
Приведем очень глубокую и красочную
характеристику римских прелатов накануне контрреформации. Это
были люди, соединявшие измены и убийства с
религиозным индифферентизм'ом и литературными склонностями.
«То были,— пишет Маколей,— люди, подобные Льву X,
люди, которые, вместе с латинским языком века Августа,
усвоили атеистический и насмешливый дух того времени,
209
Они смотрели на совершаемые ими же христианские
таинства, точно так же, 1как авгур Цицерон и
первосвященник Цезарь смотрели на сившллины книги и на клёв
священных цыплят. Между собой они рассуждали о
воплощении, евхаристии и Троице в том же тоне, в каком Кот-
та и Веллей говорили о дельфийском оракуле и голосе
фавна в горах. Их годы протекали в сладостном сне
чувственной и умственной неги. Утонченный стол,
превосходные вина, прелестные женщины, собаки, соколы,
лошади, вновь открытые рукописи классиков, сонеты и
шуточные романсы на нежном наречии Тосканы,
настолько безнравственные, насколько допускало тонкое чувство
прекрасного, серебряная утварь работы Бенвенуто,
планы дворцов, начерченные рукой Микеланджело, фрески
Рафаэля, бюсты, мозаика и драгоценные камни, только
что вырытые из-под развалин древних храхмов и вилл,—
вот предметы, составлявшие наслаждение и даже
серьезное занятие их жизни. Литература и искусство, без
сомнения, много обязаны этЬй не лишенной изящества неге.
Но .когда началось в Европе- великое умственное
сдвижение, когда был! опровергаем догмат за догматом, когда
народ эа народом расторгал свою связь с преемником св.
Петра,— тогда стала очевидной опасность вверять
церковь главам, которых высшая слава состояла в том, что
они были хорошими ценителями латинских сочинений,
картин и статуй, ученые занятия которых имели
языческий характер и которых подозревали в том, что они тиш-
кЮ!м смеялись над совершаемыми ими таинствами...» 3
Далее Маколей характеризует прелатов
контрреформации. Они хотели противопоставить протестантизму
строгость нравов и изуверский фанатизм.
«Но католическая церковь опиралась не на одно
только нравственное влияние; в Испании и Италии она была
беспощадно поддерживаема мечом. Инквизиция была
облечена новыми правами и вдохновлена новою энергией.
Если где-либо показывались протестантизм или подобие
протестантизма, они встречали преследование не
мелочное и докучливое, но преклоняющее и сокрушающее
всех, кроме немногих избраннпков. Всякий
подозреваемый в ереси, как бы ни были высоки его звание, ученость
и слава, знал, что он должен оправдаться перед строгим
и неусыпным судом или умереть на костре. С
одинаковой бдительностью были отыскиваемы и уничтожаемы
203
еретические книги. Сочинения, находившиеся дотоле
в каждом доме, были, столь усердно преследуемы, что
теперь нельзя найти ни одного экземпляра их в самых ба-
гатых библиотеках» 4.
В начале XVII ов. деятельность инквизиции и
конгрегации индекса продолжалась с той же энергией. Но ©о»
главе римской курии уже не стояли фанатики, такие, как
в начале контрреформации, и никто не носил под
облачением папы или кардинала грубую власяницу Пия V.
Господствующий тип прелатов соединил пороки двух
предыдущих поколений, они были изуверами без веры и
гедонистами без утонченности, их фанатизм был направлен
на создание и увеличение колоссальных фамильных
состояний. Но декорум гуманизма сохранялся, так же как
декорум религиозного рвения. Сохранялись — чем
дальше от Рима, тем больше — и очаги гуманизма. Их
существование могло ввести в заблуждение, и оно вводило в
заблуждение многих. Галилею было труднее, чем кому бы
то ни было, увидеть подлинный облик римской курии и в
особенности — Урбана VIII.
В сравнительно независимых от Рима дворцах
Венеции поддерживались традиции Возрождения. Их
поддерживал и флорентийский двор. Когда же Галилей
приезжал в Рим, тамошние прелаты оборачивались к
придворному математику и философу герцога своей декора-
тивно^гуманистической стороной. Галилей излучал
силовое ноле, поворачивавшее его 'собеседников к научным и
литературным интересам. А что происходило в это время
в секретных помещениях дворца инквизиции, Галилей не
знал.
Особенно трудно было Галилею понять Урбана VIII —
характернейшего представителя нового типа прелатов.
Летом 1623 г. умер Григорий XV, всего на два с
половиной года переживший своего предшественника
Павла V. Оба они были в общем равнодушны, иногда
враждебны науке и искусству. Новый папа Маттео Барберини,
принявший имя Урбан VIII, казалось, должен был стать их
покровителем. Так по крайней мере думали.
Маттео Барберини родился ово Флоренции, в семье,
нажившей торговыми операциями громадное состояние,
сделал блестящую карьеру в римской курии, был
нунцием во Франции, и французская партия поддержала его
в конклаве. Новый папа примыкал к гуманистам в части
204
интереса к античному искусству й к группе деятелей
прикладной механики — в своих практических светских
интересах.
Практические интересы стояли на первом месте.
В -молодости Маттео Барберини руководил работами по
регулированию стока Тразименстого озера, гидротехника и
фортификация были областями его наибольшего внимания.
После избрания новый папа стремился превратить
папскую область в укрепленный лагерь. Он перестроил и
наполнил артиллерией и боеприпасами замок святого
Ангела, возвел укрепления Кастельфранко («форт Урбана»)
на границе Болоньи, в Тиволи был основан оружейный
завод и создан для Рима аванпорт — Чивита-Веккиа.
Но адедт гуманизма и автор стихов, стилизованных
перепевов латинской поэзии, отлил новые пушки для
замка святого Ангела из последних сохранившихся остатков
бронзовой отделки Пантеона; укрепляя ограду, папского
сада на Монте Ковало, он уничтожил в саду Колонна
замечательные остатки античной архитектуры, а в самом
Ватикане отвел залы библиотеки для арсенала и устроил
выставку оружия, чтобы продемонстрировать военные
ресурсы папской области. Отделка Пантеона и древности в
саду Колонна были первыми жертвами предательства по
отношению к традициям гуманизма. Жертвой
предательства по отношению ок науке оказался Галилей.
Он не мог этого предвидеть. Ближайшее окружение
Урбана VIII могло сравнительно быстро обнаружить
поразительное самомнение и деспотизм, исключавшие
возможность трезвой оценки военной и политической
обстановки. В Риме могли увидеть претензии на величие,
которые часто оказывались слишком трагическими, чтобы быть
только смешными. Урбан не терпел возражений и был
склонен отказываться от любого совета, в чем бы тот ни
состоял. Непогрешимость стала у него не столько
теологическим догматом, сколько непоколебимой личной
самооценкой и постоянным личным ощущением.
Рассказывают, что венецианцы, заметив эту черту, постоянно
предлагали ему противоположное тому чего они желали.
Грубость и произвол поражали видавших виды римлян. Но1
такие -констатации запечатлены лишь в некоторых
донесениях и письмах, открыто же повторяли оценки,
исходившие от приближенных папы. Поэтому «слепая
самоуверенность, питавшаяся придворной угодливостью
выбранят
його им самим окружения, заставляла считать его
сангвинический темперамент силой духа, его упрямство —
энергией, его капризы — гениальностью, его любовь к
театральной пышности — эстетическим вкусом и его
отношение к поэтам и ученым — подлинным меценатством» 5.
Чет'о не знал в полной мере еще никто, это редкой даже
для его времени и его среды беспринципности Урбана.
По отношению к Галилею новый папа
продемонстрировал свое расположение. Уже давно Маттею Барберини,
когда-то студент в Пизе и, по преданию, даже ученик
Галилея, выражал свое восхищение трудами Галилея. Оп
выражал его устно, в письмах и даже в стихах. Урбан VIII
следовал симпатиям кардинала Барберини. «Saggiatore»
был принят весьма благосклонно, попытки иезуитов
полемизировать с Галилеем были пресечены.
Но Урбан был не только учеником гуманистов, он был
и учеником иезуитов, причем более споообньгм. Галилей
не знал в достаточной мере второй, находившейся пока в
тени, стороны| личности Урбана. И он совсем не знал, что
сам в глазах папы обладает двумя сторонами,
вызывающими совсем различную реакцию. Урбан ценил
Галилея — автора фортификационных и гидротехнических
трудов. Он ценил и работы! по теоретической механике в той
мере, в какой они сохраняли (и пока сохраняли!)
непосредственную связь с практическими задачами. Урбан
понимал важность для практики и более отдаленных от нее
исследований Галилея. Панегирические стихи в адрес
Галилея были написаны ил по поводу открытия Медицей-
оких звезд. Даже гелиоцентрическая система не
вызывала возражений, пока она не претендовала, на
объективный смысл.
Здесь мы подошли к очень важному вопросу.
Проблема объективного смысла (гелиоцентризма имеет
первостепенное 'значение для биографии Галилея, для истории
науки и культуры нового времени и для некоторых
современных эпистемологических кшоров.
Прикладная механика всегда вызывала двойственный
результат. Она отвечала на непосредственно заданный
практический вопрос и вместе с тем вносила вклад в
развитие научной картины мира в целом. Ведь Архимеда
выбросило из ванны на улицы Сиракуз не разоблачение
злокозненного ювелира, а ощущение общности открытого
гидростатического закона. Но в XVII в., когда ученый от-
206
вечаЯ практике с большей общностью, *ieM этого требоЁй^
ли, 'возникала весьма сложная коллизия.
Прагматическая ценность науки не исчерпывает ее
ценности. Критерием науки всегда был и всегда будет не
тот или иной практический результат, а истина,
объективная истина. Прагматизм, т. е. критерий практической
применимости, противостоящий критерию объективной
истинности науки, претендующий на то, чтобы вытеопить
понятие объективной истины, несовместим с критерием
практики как проверки и доказательства объективной
истинности научных представлений. Прагматизм — это
одна из сторон утверждения 01б условном характере
картины мира. Эти вопросы стояли в центре идейной борьбы
в науке XVII в., даже тогда, когда они ставились и
решались в самой неявной форме.
Беллармино последовательно выдвигал идею
условности науки, в отличие от объективной истины Откровения.
Урбан VIII решал вопрос практически. Он поддерживал
науку, исходя из ее прагматической ценности, терпел
науку, когда она ограничив<алась условной, конвенционали-
стской формулировкой своих выводов, и обрекал науку
бичам и скорпионам инквизиции, когда она претендовала
на объективный характер. Путь от панегириков во славу
гидростатического трактата Галилея до замечания Урбана
«никто не сможет найти доказательства коперниковского
учения» был весьма логическим путем от прагматической
позиции к конвенционалистской. Путь этот вел и дальше^
к активной расправе с наукой, когда она перешагнет кон-
венционалистские рамки. Разумеется, все это не объясняет
еще жестокости расправы.
Дифференциальное представление о движении,
представление о тождественном себе теле, перемещающемся
от точки к точке, получило у Галилея яркую
онтологическую форму. Аристотелевы сферы приобрели уже у
Птолемея некоторый условный смысл. В средние века
конкретные кинематические схемы отнюдь не включали в число
абсолютных истин Откровения. Они оставались
относительными и с ними могли конкурировать другие, также
относительные схемы. Идея однозначности научных истин
чужда средневековой мысли и чужда теологии XVII в.
Но дифференциальное представление, оказывающееся
сейчас, в свете современной науки, исходной идеей
Галилея, прорывает по самому своему существу рамки тра-
№
диционного конвенционализма. Пока речь идет только #
фюрме траектории, но которой движется тело, и пока она
определяется лишь интегрально, можно понимать эту
траекторию в смысле некоторой формальной схемы. Но
когда речь идет о теле, движущемся по траектории по
определенному закону и о возможности в любой момент
проверить этот закон наблюдением, тогда реальным,
объективным, достоверным становится не только наблюдение,
но и сам закон, сама схема. Такими они и были в гали-
леевом «Диалоге».
Историческая судьба идей Галилея, а вместе с ней его
собственная судьба связана с гносеологическим смыслом
этих идей и прежде всего с гносеологическим смыслом
высказанного в «Диалоге» дифференциального
представления о движении.
Детали инквизиционного процесса и осуждения
Галилея освещены в очень обширной специальной
литературе 6, значительная часть документов опубликована, и хотя
некоторые существенные вопросы не получили
окончательного ответа, историческое значение процесса в
значительной мере раскрыто. Процесс Галилея был симптомом
таких глубоких, социальных и политических
противоречий, исходным пунктом таких общих культурных
сдвигов, что он остается в истории поворотной вехой,
а 1633 г.— одной из тех дат, которые должна принимать во
внимание каждая схема периодизации социальной,
политической и культурной истории человечества. Неявный
конфликт между канонизированной догмой и свободным
исследованием стал открытым столкновением и, начиная
с этого момента, новая механика и механическое
естествознание стали иногда 'зашифрованным, но всеопда
непримиримым и крайне опасным противником церковного
авторитета.
Процесс 1633 г. позволяет увидеть, какая идея
механики и механического естествознания придала him такую
социальную функцию. Это идея абсолютной,
охватывающей все мироздание, действующей в бесконечно малых
областях, от точки к точке и от мгновения к мгновению
однозначной объективной детерминированности всего, что
происходит в мире. Детали процесса, формулировки
инквизиционных обвинений и экспертиз показывают, что в
глазах церкви наиболее криминальной была именно
объективная трактовка гелиоцентризма. Она была криминаль-
208
ной, потому что открывала дорогу новому отношению к
миру, к человеку и к познанию мира человеком.
Логическая и математическая разработка априорных схем не
угрожала Откровению. Ему угрожала геометрическая
мысль, оперирующая понятиями, допускающими в
принципе опытную .проверку, и претендующая на «такую
достоверность, какую имеет сама природа», как писал
Галилей в «Диалоге».
Братом канонической догмы, против которого был
направлен процесс 1633 г., была идея объективности
гелиоцентризма. Такая оценка исторически инвариантна и
современная наука может прибавить к ней только одно:
объективная достоверность результатов геометрической
мысли связана прежде всего с дифференциальным
представлением о 'движении. Это представление и лежало
в осно1ве того, что угрожало церкви в «Диалоге».
Инквизиционный процесс не развеял этой угрозы.
Инквизиторы не знали в 1632 г., что в этот год в далекой
Голландии родился Спиноза, 'а в еще более далекой
Англии — Локк. Они только знали, что в этих странах — и не
только в них — католицизм потерял свои позиции и что
эти страны — и не только они — успешно теснят Испанию.
Они не знали, что результатом перенесения центров
торговли и промышленности из Южной Европы в новые
страны появятся «Начала» Ньютона, антитеолотический
емвдел которых будет разъяснен Вольтером, вопреки
теологической концовке книги. Они не знали, что в
криминальных фразах «Диалога» заключены, как в зерне, слова
Лапласа о боге как о «ненужной гипотезе».
Они не знали этого, но знали хорошо, что свободное
исследование объективной действительности —
враждебная сила. И теперь, когда защита догматов — постоянная
задача церкви — стала и острой конъюнктурной задачей
момента, папа и инквизиция обрушились на Галилея.
После заключения подготовительной комиссии Урбан
созывает конгрегацию инквизиции, и она принимает
решение о вызове Галилея в Рим. Галилей просит передать
его дело флорентийской инквизиции — он болен и не в
силах предпринять далекое путешествие. Но Урбан
неумолим, он требует немедленной явки. Когда флорентийский
инквизитор сообщает, что Галилей тяжело болен, из Рима
шлют грубый и жестокий приказ: если Галилей будет
оттягивать явку его привезут в Рим в кандалах.
14 Галилей
209
Вот этот приказ: «30 декабря 1632 года от рождества
Христова святейший, повелел инквизитору ответить, что
его святейшество и святая конгрегация никоим образом
не могут и не должны терпеть такого уклонения, и для
того, чтобы удостовериться, действительно ли он
находится в таком состоянии, что будто бы не может явиться в
город без опасности для жизни, святейший и святая
конгрегация пошлют к ыему комиссара вместе с врачом, чтобы
освидетельствовать его и сделать верное и
добросовестное донесение о состоянии, в котором он находится, и если
он будет находиться в таком состоянии, что может
приехать, то подвергнуть его заключению и привести в
оковах. Если же по состоянию его здоровья и ввиду
опасности для жизни придется отложить привод, то немедленно
по выздоровлении и прекращении опасности он должен
быть заключен и приведен в оковах. А комиссар ш врачи
должны быть высланы на его счет, так как он поставил
саам себя в такое положение и в такие условия и
пренебрег надлежащим временем, какое ему раньше было
предписано для явки и судебного производства, чем нарушил
срок, назначенный ему для явки» 7.
В январе 1633 г. Галилей покинул Флоренцию,
просидел положенный срок в карантине (чума все еще
продолжалась) и il3 февраля приехал в Рим. Два месяца он
ждал вызова. Он снова жил во дворе тосканского
посольства и посол великого герцога старался облегчить его
участь.
12 апреля 1633 г. Галилей предстал перед
генеральным комиссаром инквизиции патером Винченцо Макулано
(Винченцо да Фиренцуола) — строителем крепостей,
главным военно-инженерным экспертом и помощником
Урбана. Сейчас ему поручили ведение процесса Галилея.
Протокол первого допроса показывает, что следствие
ставило перед собой весьма отчетливую цель: Галилей
должен быть обвинен в сознательном нарушении
предписания инквизиции. Злая воля, сознательное намерение
еретика рассматривались деаок союз с дьяволом. Союз с
дьяволом — источником зла — выявляется в сознательном
игнорировании предписаний церкви. Виновный —
неспособный к исправлению закоренелый еретик (hereticus relap-
sus).
Основой для такого заключения были акты первого
процесса 25 и 26 февраля 1616 г. Первый из них — это
270
Запись о решении папы: кардиналу Беллармино
поручается увещевать Галилея, чтобы он избегал*
гелиоцентрического представления. Если Галилей согласится —
процедура, по-видимому, должна быть 'закончена. Если нет,
то Галилею предстоит выслушать официальное
запрещение из уст комиссара инквизиции. Если Галилей и после
этопо будет упорствовать, ему грозит заключение.
«...Святейший повелел преосвященнейшему господину
кардиналу Беллармино, чтобы тот адризвал к себе
упомянутого Галилея и увещал iero оставить упомянутое
мнение, а если он откажется повиноваться, то отец комиссар,
щри нотариусе и свидетелях, должен сообщить ему
предписание, дабы он совершенно воздержался от того, чтобы
такого рода учение и мнение преподавать или защищать,
либо о нем трактовать, если же не согласится, то
подвергнуть его заключению» 8.
Второй акт — 26 февраля — начинается упоминание
первой процедуры — неофициального «увещевания» и
затем идет неожиданное упоминание о присутствовавших
цри этом генеральном комиссаре и чиновниках
инквизиции и уже совсем неожиданный рассказ об официальное
запрещении.
«Вслед за тем (successive ас incontinent) в моем и
свидетелей присутствии, а также при все еще
присутствовавшем том же преосвященнейшем господине кардинале
вышеупомянутый отец комиссар вышеупомянутому
Галилею, доселе здесь же присутствовавшему и по вызову
язвившемуся, предписал и повелел от собственного имени
святейшего господина нашего папы и всей концрегации
святого судилища, чтобы он вышеупомянутое мнение, что
Солнце — центр мира и неподвижно, а Земля движется,
совершенно оставил и в дальнейшем каким бы то ни было
образом его не придерживался не преподавал и не
защищал ни устно, ни письменно, в противном случае против
него будет возбуждено дело в святом судилище. С этим
предписанием оный Галилей согласился и обещал
повиноваться. О чем и т. д.» 9.
Таким образом, в акте 26 февраля речь шла не об
«увещевании», а о «предписании». Существует еще одно
различие, более существенное. Во втором акте появились
слова «каким бы то ни было образом». Замена
«увещевания» «предписанием» давала теперь, в 1633 г., основание
объявить Галилея закоренелым еретиком. Слова «каким
14* 211
бы то ни было образом» делали криминальной даже
условную защиту коперниканства и отнимали у Галилея
возможность защищаться ссылками на оговорки в «Диалоге».
Явное противоречие 'между двумя актами 25 и
26 февраля 1616 г. заставили Вольвиля предположить
подделку документа. К этому предположению
присоединилось большое число последующих исследователей.
Проблеме подлога посвящена большая литература,
включающая результаты ультрафиолетового просвечивания,
многократной 'экспертизы почерка и т. д. 10. Кроме сличения
актов 25 и 26 февраля, обнаружено противоречие между
вторым актом и протоколом заседания конгрегации
инквизиции 3 марта 1616 г. В этом протоколе после
перечисления присутствующих («...милостью божией кардиналов
святой церкви римской церкви, особо назначенных
генеральными инквизиторами для искоренения еретического
разврат во вселенском государстве христианском»)
записано:
«Сделано было сообщение преосвященнейшим
господином кардиналом Беллармино, что математик Галилео
Галилей после увещания, сделанного согласно предписанию
святой конгрегации, оставить мнение, которого до сих пор
держался, что Солнце — центр сфер и неподвижно, Земля
же шздвижна,—согласился» и.
Сейчас трудно сомневаться в утверждении Вольвиля:
фразы, появившиеся в акте 26 февраля, являются
результатом последующего подлога. По-видимому, во время
процесса 1633 г. инквизиция решила строго соблюдать
декорум {канонического права, столь богатого эвфемизмами
типа: «увещевание», «предписание», «строгое испытание»
(пытка), «наказание, возможно более мягкое без пролития
крови» (сожжение) и т. д.
Но инквизиция не знала, что у Галилея хранится
письмо Беллармино, из которого видно, что в 1616 г. никакой
официальной процедуры не было и Беллармино
ограничился «увещеванием». Галилей вооружился также копией
письма Беллармино к Фюекарини, удостоверяющего конди-
ционалистскую трактовку гелиоцентризма у Галилея и
одобряющего такую трактовку.
На первом допросе 12 апреля 1633 г., как только зашла
речь о событиях 1616 г., Галилей сослался на эти
документы. В протоколе допроса говорится об антикоперниканском
решении конгрегации инквизиции 12.
212
«Вопрос. Пусть скажет, что официально сообщил ему
превосходительнейший Беллармино об этом решении и
сказал ли ему что-либо еще по этому поводу и что именно?
Ответ. Упомянутый кардинал указал мне, что
названное мнение Коперника может признаваться в виде
предположения, как придерживался его сам Коперник; и его
высокопреосвященство знал, что я придерживался ето в
виде предположения, т. е. в форме, которой
придерживается гам Коперник, как видно из имеющейся у меня
копии ответа кардинала на письмо отца-магистра Паоло
Антоеоио Фоскарини, провинциала кармелитов, где
имеются такие слова: «Мне кажется, что ваша милость и синьор
Галилей поступают осторожно, говоря в> виде
предположения, а не абсолютно», это письмо названного синьора
кардинала помечено 12 апреля 1615 г.; и что
противоположного, взятого в абсолютном смысле, не следует ни
придерживаться, ни защищать».
На следующий вопрос Галилей ответил ссылкой на
хранившееся у него письмо Беллармино и предъявил это
письмо.
«Ответ. В феврале 1616 г. кардинал Беллармино сказал
мне, что так как мнение Коперника в абсолютном смысле
противоречит священному писанию, его нельзя ни
придерживаться, ни защищать, но в виде предположения его
можно излагать, в согласии с чем я имею удостоверение
названного кардинала, данное в мае 26 числа 1616 года,
согласно которому мнения Коперника нельзя ни
придерживаться, ни защищать, как противное священному
писанию, с этого удостоверения я представляю копию,
которая гласит. И он представил лист, на котором написано на
одной стороне только двенадцать строк, начинающихся
так: «Мы, Роберт кардинал Беллармино, узнав...» и
кончающихся словами: «дано 26 мая 1616 года».
ПоЮле этого первоначальный план процесса был, по
существу, оставлен. От Галилея требовали подробностей
свидания с Беллармино, пытались как-то реабилитировать
акт 26 февраля '1616 г. (изложенная в нем версия вошла
потом в приговор), но уже было ясно, что процесс должен
был пойти в основном по другому направлению:
криминальной является объективация гелиоцентризма и именно
в этом виновен Галилей.
Галилей уже не раз и в тексте «Диалога», и в
предисловии, и в ряде заявлений, предшествовавших «Диалогу», го-
213
ворил о чисто формальном и условном признании коперни-
канства. Теперь Галилей идет еще дальше. В сущности,
это не новый компромисс, а продолжение старого.
На первом допросе Галилей заявляет, что «Диалог» —
книга, направленная против коперниканства. Именно
поэтому он не предупредил Риккарди о (Предписании
1616 г.—не защищать систему Коперника 13.
«Вопрос. Когда он просил у вышеназванного магистра
святого дворца разрешения напечатать вышеуказанную
книгу, изложил ли он этому отцу-магистру предписание,
данное ему оз другом случае на основании приказа святой
конгрегации, о котором говорилось выше?
Ответ. Когда я просил разрешения отпечатать книгу,
я не говорил магистру святого дворца ничего о
названном предписании, так как не считал нужным говорить
ему об этом, не сомневаясь, что в названной книге я не
придерживался и не защищал мнение о движении Земли
и (неподвижности Солнца, ибо в названной книге я
показываю обратное мнению Коперника и указываю, что
доводы Коперника слабы и неубедительны».
После этого допрос был прекращен, и Галилей был
отправлен в качестве заоключенного в ту часть дворца
инквизиции, где жили служащие. Его поместили в квартиру
одного из них.
На втором допросе, 30 .апреля 1633 г., Галилей
признал, что «Диалог» мог создать впечатление,
противоречащее действительному намерению автора —
опровержению коперниканства. Но это — результат тщеславного
желания покаэать, с ка<ким остроумием он излагает доводы
в пользу Коперника 14.
«При свеем том, хотя, по Цицерону, «я жаднее к славе,
чем следует», если бы я должен был теперь изложить те
же доводы,— без сомнения, я ослабил бы их так, что они
не могли бы обнаружить ту силу, которой по существу и
на деле они лишены. Таким образом, моя ошибка, и я
признаю ее, состоит в тщеславии и простом неведении и
неосторожности. Вот то, что я должен сказать в этом
отношении, перечитав мою книгу».
Затем Галилей заяшил, что может прибавить к
«Диалогу» заключительную часть, которая сделает книгу
приемлемой.
«И для большего подтверждения того, что я не
разделял и не считал истинным злосчастное мнение о даиже-
214
нии Земли и неподвижности Солнца, если мне будет
дозволено, как я этого желал бы, и даны время и
возможность представить более ясные доказательства, я готов
сделать это, и повод для этого самый благоприятный,
принимая во внимание, что в изданной уже книге собеседники
согласны через некотарое время собраться снова для
обсуждения различных вопросов естествознания, не бывших
ранее предметом обсуждения их собраний. Таким образом,
я должен прибавить еще один или два дня и обязуюсь
исправить уже рассмотреные даводы <в пользу
упомянутого ложного и злосчастного мнения и опровергнуть их
наиболее действительным образом, если бог окажет мне
помощь».
После этого Галилею разрешили 'выйти из дворца
инквизиции и поселиться во дворце тосканского посольства:
«Достопочтенный брат Винченцо Макулаыо да Фиренцуо-
ла, генеральный 'комиссар святой римской и всемирной
инквизиции, ввиду плохого здоровья и преклонного
возраста вышеупомянутого Галилео Галилея,
посоветовавшись сначала со святейшим, приказал ему жить во дворце
посла великого герцога Этрурии, объяснив ему, что
названный дворец должен служить местом заключения и
что он не должен разговаривать ни с кем, кроме слуг и
жильцов названного дворца, и являться в инквизицию по
всякому требованию под страхам наказания по
усмотрению святой конгрегации».
Через десять дней — 10 мая — Галилея снова вызвали
на допрос. На этом третьем допросе Галилей передал
допрашивавшему его генеральному .комиссару инквизиции
«защитительное письмо», в котором снова ссылался на
удостоверение Беллармино, заверял инквизицию в своем
отрицательном отношении к системе Коперника,
повторял то, что было сказано на предыдущем допросе 15.
Месяц спустя, 16 июня 1633 г., пленарное заседание
конгрегации под председательством Урбана VIII
постановило произвести специальный допрос Галилея с угрозой
пытки.
«Ознакомившись со всем ходом дела и выслушав
показания, святейший определил допросить Галилея под
угрозой пытки и, если устоит, то после предварительного
отречения как сильно подозрительного в ереси, в пленар-?
ном собрании конгрегации святой инквизиции,
приговорить к заключению по усмотрению святой конгрегации.
215
Ему предписано не рассуждать более письменно или устно
каким-либо образом о движении: Земли и о неподвижности
Солнца и о противном, под страхом наказания как
неисправимого. Книгу же, сочиненную им под заглавием
«Диалог Галилео Галилея Линчео», запретить 16».
В акте решения видны поправки, и это дало Вольвилю
повод думать, что и здесь имелось последующее
изменение текста: в XIX в. устранили ставшее одиозным
предписание о пытке и сохранили только упоминание об
угрозе. Вольвиль духмал, что Галилея отправили в камеру
пыток, связали, подвесили, подготовили орудия, т. е.
применили операцию .«словесного террора». Однако вероятнее
военю угроза пытки была сделана во время последнего
допроса (21 июня 1633 г.) без подобной процедуры. В
протоколе допроса говорится:
«И eiMy сказали, что именно из этой книги [«Диалога»]
и доказательств, приведенных в пользу утверждения, что
Земля движется, >а Солнце неподвижно, вытекает, как
сказано, что он сам придерживается мнения Коперника или
по крайней (мере придерживался его в то время, и поэтому,
если он не решится признать истину, то против него будут
приняты) меры, соответствующие закону и фактам.
Ответ. Я не придерживаюсь и не придерживался этого
мнения Коперника с тех пор, как мне было предписано
оставить его. Впрочем, я здесь в ваших руках —
поступайте, как желаете.
И ему было приказано сказать истину, иначе он будет
подвергнут пытке.
Ответ. Я здесь нахожусь только, чтобы повиноваться.
Я не придерживался этого мнения после полученного
предписания, как я сказал.
И так как ничего иного нельзя было сделать, то, "во
исполнение декрета и после подписания акта, он был
отпущен на свое место» 17.
После этого допроса Галилей считался «устоявшим под
угрозой пытки» ему уже не прозила участь
«неисправимого еретика». Его ожидала другая участь —
пожизненного пленника инквизиции.
Галилей на сей раз не вернулся в посольство и был
задержан во дворце инквизиции. На завтра в
доминиканском монастыре Santa Maria sopra Minerva Галилей
выслушал приговор 18. В нем пространно рассказано о
прошлых коперниканских грехах Галилея, о процессе 1616 г.
216
(с включением версии, записанной в акте 26 февраля:
предписание не защищать гелиоцентризм «каким бы то ни
было образом»), далее излагается ход процесса, причем
Галилею вменяется в вину даже представление о схеме
Коперника, как о вероятной («мнение, которое объявлено
и определено противоречащим священному писанию,
никаким образом не может быть вероятным»).
В приговоре упоминаются и угроза пытки и то, что
Галилей после этой угрозы «отвечал католически» (т. е.
устоял перед угрозой и таким образом освободился от
обвинения в сознательном и намеренном выступлении
против церковного авторитета).
Заключительная формула приговора оставляет
Галилея «под сильным подозрением в ереси» и предлагает ему
очиститься отречением. «Диалог» запрещается, iai Галилей
приговаривается к заключению и покаянию.
И вот Галилей перед собранием прелатов читает свое
отречение. Он произносит канонические формулы,
признает, что ему давно повелели отказаться от коперникан-
ства, и далее говорит:
«Я же сочинил} и напечатал книгу, в которой трактую
об этом осужденном учении и (привожу в его полызу
сильные доводы, не приводя их заключительного
опровержения, вследствие сего признан я сим святым судилищем
весьма подозриваемым в ереси, будто придерживаюсь и
верю, что Солнце есть центр мира и неподвижно, Земля
же не есть центр и движется. А посему желая изгнать из
мыслей ваших высокопреосвященств, равно как из ума
всякого преданного христианина это сильное подозрение,
законно против меня возбужденное,— от чистого сердца
и с непритворною верою отрекаюсь, проклинаю, объявляю
ненавистными вышеназванные заблуждения и ереси, и
вообще все и всякие противные вышеназванной святой
церкви заблуждения, ереси и сектантские учения» 19.
XIII. „Eppur si muove!u
«Eppur si muove!» (И все-таки она движется!). Эта
фраза Галилея после отречения вдохновила художников,
которые изображали на полотне смятение прелатов,
услышавших внезапный возврат к осужденной идее. В
действительности 22 июня 1633 г. в церкви Santa Maria sopra
Minerva подобная ф|раза не была (произнесена. Она не
была произнесена и позже. Это — легенда.
И том не менее непроизнесенная легендарная фраза
выражает действительный смысл жизни и творчества
Галилея после приговора.
Написанные в 4633—1635 гг. «Беседы и
математические доказательства», переписка узника инквизиции,
постоянный возврат к размышлениям о приливах как
доказательстве действительногю движения Земли,— все это
было продолжением той напряженной мыслительной
деятельности, которая вылилась в «Диалоге».
Но этсмго мало. Именно в годы, последовавшие за
процессом, Галилей испытал наиболее высокий взлет
творчества. Мысль о движении Земли получила мощную опору
в новой, построенной в эти годы динамике. И не только
мысль о движении Земли, но и воя концепция мироздания,
отыскивающие его ratio не в статической конфигурации
неподвижных естественных мест, а в движении тел.
«Eppur si muove» относится теперь не только к Земле.
Во Вселенной движется всё, основные законы бытия —
это законы движения, гармония мира — это
кинетическая гармония. Такой смысл «eppur si muove»
охватывает гелиоцентризм вместе с его галнлеевым
обоснованием, связывающим схему Коперника с мысленными
экспериментами (аналогами земных и, в частности, при-
218
кладных задач) и с наиболее общими исходными
принципами логической дедукции. Но такой смысл «eppur si
muove» охватывает и все последующее развитие
классической науки.
Основное, содержание «Диалога» выбило почву из-под
перипатетической статической гармонии абсолютно
неподвижных естественных мест, из-под концепции
абсолютного покоя как ratio мира. «Диалог» нашел
исходное понятие нового представления о ratio мира в
другой аристотелевой идее — идее круговых движений.
Во всяком случае с .абсолютным покоем Земли было
покончено. Равномерные движения не дают внутренних
эффектов, не требуют физических агентов, поддерживающих
такие движения.
Теперь начинается -позитивная часть задачи. После
того как установлена однородность пространства и
относительность движения предоставленных себе тел, нужно
дать теорию падения тел и выяснить структуру вещества,
из которого состоят тела. Учение об ускорениях и учение
о веществе изложены в «Беседах и математических
доказательствах а двух новых науках».
«Беседы» были написаны быстро. В течение очень
короткого времени Галилей перешел от скорбного ощущения
одиночества, беззащитности и гибели того, за что он
боролся всю жизнь, к самому мощному за всю жизнь взлету
творческой мысли.
После приговора и отречения в церкви Santa Maria
sopra Minerva Галилей вернулся в римский дворец
тосканского герцога. Вскоре архиепископ Сиены Асканио Пик-
коломини пригласил Галилея к себе. И здесь произошло
чудо. 3 июля тосканский посол сообщил своему герцогу,
что Галилей «совершенно разбит, угнетен и потерял
мужество», а из письма Гвидуччи 16 июля мы узнаем, что
Галилей «после страданий обрел покой ш свежесть духа» 1.
Осенью в Сиену приехал французский поэт Сент-Аман,
который впоследствии рассказывал об обитых шелком
комнатах архиепископского дворца, где Галилей
оживленно беседовал с Пикколамини на научные темы2.
Сам Асканио Пикколомини был учеником Кавальери,
сторонником новых научный идей и, судя по письмам
Галилея, самым тактичным и внимательным хозяином.
Нельзя переоценить значение условий жизни в Сиене для
восстановления сил его гостя.
219
Вскоре Галилей вернулся в Арчетри. Здесь его
ожидало новое горе. Мы приведем полностью его письмо в
Париж к Диюдати, в котором Галилей рассказывает о смерти
Марии Челесты. Тревога за отца во время процесса
лишила бедную девушку последних сил, и вскоре болезнь
унесла ее в могилу. В письме говорится также о иезуитах,
которым Галилей приписывал инициативу (процесса, о
парижских друзьях Галилея, о новых выступлеЕвгиях против
ото идей.
«Светлейший господин и покровитель, (надеюсь, что,
узнав о прошлых и настоящих моих трудах, а также о
задуманных будущих, Вы проктите мне такую задержку
ответа на Ваши письма, ia вместе с Вами другие друзья и
покровители простят мне полное молчание, узнав от Вас,
как плохи теперь imoh дела.
В Риме я был приговорен святой инквийицией к
заточению по указанию его святейшества, коему было угодно
назначить мне местом заточения дворец и сад великого
герцога, вблизи Тринита де Монти, куда и направился в
июне прошлого года, и мне было указано, что если по
прошествии этого и следующего месяца я буду испрашивать
как (милости полное освобождение, я смогу его вымолить.
Чтобы line оставаться там в такую пору года, все лето и
часть осени, я получил разрешение переехать в Сиену, где
мне был указан дом архиепископа. Там я провел пять
месяцев, после чего местом заточения для «меня стал этот
маленький городок, в одной миле от Флоренции, со
строжайшим запрещением спускаться в город, встречаться и
беседовать с друзьями и приглашать их. Здесь я жил в
относительном спокойствии, часто навещал расположенный
вблизи монастырь — обитель двух моих дочерей-монахинь,
которых я очень любил, а к старшей, обладавшей тонким
умом и редкой добротой, я был особенно привязан. Она же
за время моего отсутствия, которое ей казалось весьма
тягостным, впала в глубокую печаль и в конце концов
заболела стремительно развивавшейся дизентерией, которая
за ше!сть дней ее унесла в возрасте тридцати трех лет.
Я же остался в крайнем горе. Это горе удвоилось из-за
другого удара судьбы. Когда я вернулся из монастыря
вместе с врачом, посетившим мою больную дочь перед ее
кончиной, причем врач мне сказал, что случай
безнадежный и что она не переживет следующего дня как оно и
случилось, я застал дома викария-инквизитора. Он явил-
220
ся, чтобы приказать Мне, но распоряжению святой
инквизиции б Риме, полученному инквизитором вместе с
письмом кардинала Барберини, что я не должен был
обращаться с просьбой разрешить мне вернуться во
Флоренцию, иначе мотя посадят в настоящую тюрьму святой
инквизиции. Таков был ответ на меморандум, поданный
в этот трибунал тосканским посланником после девяти
месяцев моего изгнания. После такого ответа кажется
достаточно вероятным 'предположение, что мое нынешнее
заточение мо1жет 'закончиться только обычной длительной и
суровой тюрьмой.
Это происшествие и другие, о которых писать было бы
слишком долго, показывают, что ярость моих весьма
могущественных преследователей постоянно возрастает.
И они в оконце концов пожелали раскрыть свое лицо, когда
один из моих дорогих друзей в Риме, тому около двух
месяцев, в разговоре с падре Христофором Гринбергом,
иезуитом, математиком этой коллегии, коснулся моих дел,
этот иезуит сказал моему другу буквально следующее:
„Если бы Галилей сумел сохранить расположение отцов
этой коллегии, он жшг бы на свободе, пользуясь славой,
не было бы у него никаких огорчений и он мог бы писать
по своему усмотрению о чем угодно,— я имею в виду и
движение Земли44 и т. д. Итак, Вы видите, что на меня
ополчились не из-за того или иного моего мнения, а из-за
того, что я в немилости у иезуитов.
Бдительность моих преследователей причиняет мне и
различные другие неприятности. Вот одно из них. Письмо,
посланное мне не знаю кем, из заальпийских стран в Рим,
где я, по мнению писавшего, должен был еще находиться,
было перехвачено и доставлено кардиналу Барберини и,
как мне йотом писали из Рима, мне посчастливилось, что
письмо было первым, а не ответным — в нем (весьма
восхвалялся мой «Диалют». Письмо видел ряд лиц. Я слышал,
что копии его ходят по Риму и мне сообщили, что я смогу
его увидеть. К этому добавляются и другие волнения и
многочисленные телесные недуги, и это вдобавок к
ослаблению, вызываемому возрастом,— мне больше
семидесяти,— настолько угнетает меня, что всякая мелочь меня
огорчает и кажется невыносимой.
В силу всех этих обстоятельств, моим друзьям следует
посочувствовать мне и простить то, что может показаться
пренебрежением, а на деле вызвано упадком сил. И нужно,
221
*1Тобы Вы, iKto более всех мне близок, помогли мне
сохранить расположение моих благожелателей в Взашей стране,
особенно синьора Гассенди, которого я так люблю и
уважаю и которому Вы можете сообщить содержание этого
письма, так как он в одном из своих писем с обычной
благожелательностью 'просил меня сообщить о своем
состоянии. Мне будет также очень (приятно сообщить ему, что
я получил и с особым удовольствием прочел
«Рассуждение» синьора Мартина Гортензия, и я, если богу будет
угодно частично облегчить мои тягости, не премину
ответить на его любезное письмо. С этим же письмом Вы
получите и стекла для телескопа, которые у меня просил
тот же синьор Гассенди, чтобы он и другие лица,
желающие сделать некоторые наблюдения неба, могли ими
воспользоваться. И Вы, синьор, можете послать их ему,
указав на то, что «ствол», то есть расстояние от стекла до
стекла, должно быть таким же, какова длина намотанной
на стекла бечевки, немного меньше или немного больше, в
зависимости от качества зрения того, кто этим должен
пользоваться.
Берипардо и Кьяр&мопте, и тот и другой — лекторы
в Пизе, выступили против меня; первый, чтобы защитить
себя, второй же, как говорят, против своей воли, но
чтобы угодить некоему лицу, могущему содействовать ему в
ето делах, оба, впрочем, весьма сдержанно. Ню что заслу-
жшает внимания, так то, что некоторые, увидев большие
возможности безопасно подхалимничать, чтобы извлечь
для себя выгоду, пустились писать вещи, которые до
нынешнего оборота дела заведомо были бы сочтены весьма
преувеличенными, если не опрометчивыми. Фролондо
доходит до того, что подвижность Земли полностью
объявляет ересью. И, наконец, какой-то иезуит-священник
напечатал в Риме, что такое мнение настолько
отвратительно, опасно и скандально и, как не дозволено с кафедры,
в обществе, на публичных диспутах и ib печати выдвигать
доводы против caiMbix основных положений религии —
против бессмертия души, сотворения мира, воплощения и
т. д., так не следует позволять, чтобы оспаривалась или
обсуждалась неподвижность Земли; таким образом,
именно это положение надо считать надежным в такой мере,
что никоим образом нельзя выступать против него, даже
в порядке обсуждения и для большего его утверждения.
Книга эта называется так: «Melchioris Inchofer, e Societa-
222
te Iesu, Tractatus sillepticus». Вот еще Антонио Рокко
выступает против хменя с писаниями, в выражениях не
слишком учтивых, поддерживая учение перипатетиков и
отвечая на то, что я выдвигал против Аристотеля; и он -сам
признается, что совершенно не понимает (Математики и
астрономии. Он — глупая голова, ничего не понимает
в том, что я писал, он нахален и безрассуден до предела.
Я подумываю о том, чтобы ответить всем моим
противникам, жоторых много. Но, так как разбирать пю частям весь
этот вздор было бы затяжным и мало Полезным
предприятием, я собираюсь составить книгу заметок, как бы
сделанных на полях таких книг по воем наиболее
существенным вопросам и о наиболее крупных ошибках и переслать
ее за границу, как будто все это собрано другим лицом. Но
сначала, с волей божией, я хочу опубликовать книги о
движении и другие мои труды, вещи совершенно новые и
которые я ставлю выше опубликованных.
Вам передаст это письмо синьор Роберто Галилей, мой
родственник и человек, которому Вы можете сообщить
содержание письма, поскольку я пишу Вам без стеснений
(scrivo bene), но достаточно кратко. Я получил также,
вместе с письмом синьора Гассенди, письмо юеньора де
Пейретса из Э., и так как оба они просили у меня стекла для
телескопа с целью вести наблюдения неба, то не откажите
в любезности передать синьору Гассенди, чтобы он
сообщил синьору де Пейреку о получении стекол и просить
его согласиться на то, чтобы ими мог пользоваться также
синьор де Пейрек, а также передать этому синьору мои
извинения, что я откладываю ответ на его любезнейшее
письмо из-за множества тягот, заставляющих меня иной
раз отказываться от дел, которые я больше всего
желал бы выполнить.
Я устал и сверх меры наскучил Вам, так простите
меня. Целую вам руки» 3.
В Арчетри Галилей нашел рукописи и заметки, во
время процесса унесенные друзьями, чтобы инквизиция не
наложила руку на бумаги подследственного ученого.
Агенты инквизиции контролировали связи Галилея с внешним
миром, но он убедился, что мир не полностью опустел
вокруг него. Галилей знал о (работах Кавальери, То|рричел-
ли, Борелли, Вивиани. Но наибольшее значение имело
для Галилея появление новой среды, прислушивавшейся
к его голосу.
223
За Альпами «Диалог» вызывал жгучий интерес. В
протестантских кругах запрещение книги усугубило этот
интерес. Но и в католическом Париже решили перевести
«Диалог» на латинский язык и сделать его доступным
всей Европе. Эта мысль принадлежала только что
упомянутому Элиа Диодати — ученому, который был близок к
Галилею, общался и переписывался с Кампанеллой, Гас-
сенди, Гроцием, и сделал очень много для
распространения кальвинизма. Диодати попросил заняться переводам
«Диалога» двух немецких ученых, также протестантов:
Лиштельсгейма кз Гейдельберга и Шихкарта из
Тюбингена. К тексту «Диалога» был присоединен трактат Паоло
Фоскарини и письмо Галилея к великой герцогине
Кристине. Переписка между Диодати, Лингельсгеймом и Ших-
картом 4 позволяет познакомиться с их замыслом.
Диодати получил тайными путями, скрывая участие и даже
осведомленность Галилея, итальянские тексты, и в 1635 г.
латинский перевод появился (без имени переводчика и с
соблюдением других предосторожностей, чтобы не
поставить Галилея под удар). Галилей писал Диодати, что
выход книги — это месть его врагам: теперь все увидят их
невежество, «источник злобы, зависти, ярости и всех других
чудовищных и отвратительных пороков и грехов» 5.
Вскоре, ов TOIM же 1635 г., вышел английский перевод
«Диалога», подготовлялись французский и фламандский
переводах.
Уже в конце 4634 г. Галилей хотел опубликовать свою
новую книгу — «Беседы». Он надеялся, что книга
.появится во фрондирующей против папы Венеции. Но в
католических странах тайные попытки Галилея не могли
увенчаться успехом, и только в 1638 г., в протестантском
Лейдене в типографии Эльзевиров, были напечатаны
«Discorsi e dimonstrazioni matematiche, intorno a due гшо-
ve scienze, attenenti alia mecanica et i movimenti locali,
del Signor Galileo Galilei Linceo, Filosofo e Matematico
primario del Serenissimo Grand Duca di Toscana».
Центральная идея «Диалога»: «тело, предоставленное
caiMoiMy себе, продолжает двигаться с неизменной
скоростью». Центральная идея «Беоед»: «падающие тела
движутся с неизменным ускорением». Первая идея —разрыв
с традицией, разрыв с прошлым. Вторая — переход к
будущему. С идеей инерции связаны все основные концепции
«Диалога», а с идеей ускорения — все основные концепции
224
«Бесед». С идеей, а не с современным понятием ускорения.
Последнего в «Беседах» еще нет. Мы остановимся сейчас
на различии тона и общего настроения двух великих книг.
«Диалог» несколько напоминает «Илиаду». На всем
протяжении повествования стучат клинки и если не
люди, то аргументы сталкиваются, падают, снова
поднимаются и снова падают. Книга направлена против аристотелева
тезиса о статической гармонии бытия. Этот тезис должен
быть заменен утверждением кинетической гармонии: тела,
предоставленные самим себе, продолжают двигаться, и
схема их движений является объективным ratio мира.
В борьбу вступают силы, достойные Ахилла и Диомеда:
стройная эпистемологическая схема, убедительные
мысленные эксперименты, гуманистическая эрудиция,
практический опыт, блестящий литературный стиль и
огненный полемический темперамент.
«Беседы» напоминают «Одиссею». Книга проникнута
спокойной примиренной мудростью, здесь нет блестящих
эскапад «Диалога», уводящих читателя далеко в сторону,
автор склонен, подобно Улиссу, привязать себя к мачте,
чтобы пенье сирен не увлекло его.
Может быть, это функция возраста? В спорах об авторе
«Илиады» и «Одиссеи» появлялась такая версия: Гомер
написал первую поэму в молодые годы, а вторую — в старые.
Автор известного с первых веков нашей эры
греческого трактата «О прекрасном», развивая эту мысль, говорил:
«„Илиада", написанная Гомером в расцвете лет,
исполнена действия и силы, а в „Одиссее" преобладает
повествование, что свойственно старости. Гомера в „Одиссее''
можно уподобить заходящему солнцу, которое уже не
пылает, но сохраняет свою исполинскую величину».
Далее автор говорит об отсутствии в «Одиссее»
свойственных первой поэме Гомера нигде не снижающегося '
напряжения, сжатой силы и насыщенности
реалистическими образами. «Утверждая это,— заключает автор
трактата,— я не забыл ни описания бури в „Одиссее", ни
рассказа о Циклопе, ни остальных прекрасных мест, ибо хоть я и
говорю ю свойствах старости, но это — старость Гомера»6.
Более вероятным все же кажется другое объяснение:
отличительные черты «Одиссеи» — симптом не старости, а
зрелости, вернее, большей зрелости, перехода на более
высокую ступень обобщения. Речь должна идти не о
старении автора, а о филогенетической эволюции греческой
15 Галилей
225
мысли, эволюции необратимой и направленной вперед и
вверх. Патетика страсти уступает место патетике
размышления о мире и людях.
Аналогичным образом переход от «Диалога» к
«Беседам»—это переход к более глубокому пониманию
закономерностей мироздания. Здесь уже нет чисто кинетических
схем равномерного движения. Ни перипатетическая схема,
ии новая, гелиоцентрическая система мира уже не
появляются на страницах «Бесед». От «Диалога» остались
имена собеседников — Сагредо, Сальвиати и Симпличио — и,
что гораздо важней, основная проблема движения.
Статическая схема устранена. Земля как центр мироздания
исчезает. Конфигурации естественных мест больше нет.
Движение (определяется локальным образом, в данной
точке, в данный момент. Пока нам известно, что в данной
точке и в данный момент тело ведет себя так же, как в
предыдущей, бесконечно близкой точке и в предыдущий,
бесконечно близкий момент. Но это лишь негативное
определение. Оно имеет смысл, и вообще дифференциальное
представление, прослеживание поведения тела от точки к
тючке и ют мгновения к мгновению имеет смысл, если
существует позитивное определение движения:
поведение тела в одной точке определенным образом
отличается от его поведения в предыдущей точке. Но это значит,
что предметом исследования становятся уже не движения
с неизменной скоростью, а ускоренные движения.
Анализ ускорений требует множества вещей, которых
у Галилея не было, прежде всего математического жвфи-
нитезимального аппарата, именно аппарата, а не только
метода или качественных картин, приводящих к инфини-
тезимальному методу. Это появилось много позже, после
Галилея. Но для начала требовалось
систематическое изложение таких понятий, как равномерное
движение, равномерно-ускоренное движение и т. д.
Галилей еще слишком близок к Возрождению, чтобы
написать систематический и строгий трактат о понятиях
механики. Эти понятия ассоциируются у него с
наблюдениями, экспериментами, наглядными картинами,
изложение которых неизбежно перемежается с
автобиографическими замечаниями, полемикой, вообще с 'откладыванием
чертежного пера для кисти й палитры.
Так получилась странная на первый взгляд, но
неизбежная структура «Бесед». Сагредо, Сальвиати и Симпли-
226
чио читают латинский трактат и обсуждают его по-мталь-
янсжи. Латизшжий текст натгомин^ет по стилю послегалиле-
еву эпоху, итальянский — напоминает «Диалог».
У нас есть сравнительно прямое доказательство того,
что отсутствие боевой полемической струи «Диалога» в
новой книге Галилея ни в какой степени не объясняется
усталостью духа. Тот, кто душевно не постарел в 70 лет,
не смог постареть и в последующие годы. Процесс 1633 г.
заставил Галилея замолчать, но не смириться. Сохранились
замечания Галилея на полях книжки некоего Антонио
Рокко «Essertationi filosofiche», выпущенной в Венеции в
1633 г.7 и защищавшей геоцентрическую систему.
Замечания постепенно менялись по тону. Сначала Галилей
спокойно отмечал ошибки Рокко, потом у него
прорывается целый сноп уничтожающих эпитетов и энергичных
контраргументов,— кажется, что это Галилей,
отражающий в 1611 —1612 гг. нападки на «Sidereus Nuncius».
Галилей посылает заметки в Венецию своему другу Микан-
цио8. Тот советует Галилею опубликовать «Ответ Рокко»
и поражается сохранившимися живостью и хладнокровием
Галилея9. Галилей пишет направленную против Рокко
критическую статью, но не заканчивает ее 10.
В этом незаконченном (Галилей понял, что
опубликовать антиперипатетическую статью не удастся)
произведении Галилей снова пишет в очень спокойном и
снисходительном тоне об ошибках Рокко. Меньше всего здесь
сказывается церковное запрещение защиты коперникан-
ства. Здесь совсем другое. В строках адресованного Рокко
ответа чувствуется новый, по сравнению с «Диалогом»,
мотив: Галилей уверен не только в том, что вопрос о
системе мира должен быть решен в духе Коперника, но и в
том, что он уже решен. Возвращаться к антикоперникан-
ским выступлениям можно, но они не зажигают
полемического темперамента: достаточно разъяснить существо
дела и посоветовать противнику не губить свою
репутацию. Старая задача — психологическая подготовка умов
для восприятия нового учения — уже не ко времени.
Теперь возникает новая задача. Нужна позитивная,
математическая разработка новой науки. Не нового
метода, не новых исходных систем, а самой науки.
С этой точки зрения неоконченный «Ответ Рокко»
очень интересен. В связи с защитой идей «Диалога»
Галилей набрасывает новые мысли о непрерывном движе-
15* 227
нии11. Это новый аспект «Eppur si muove». Речь идет
именно о движении: движение, как его понимал Галилей,
движение от точки к точке и от мгновения к мгновению,
было физическим прообразом понятия бесконечно малых.
Вот еще одно проявление того же могучего
утверждения кинетической картины мира. В 1638 г., когда
«Беседы» вышли из печати, Галилей уже был слепым. В январе
1638 г. он писал Диодати: «Небо, мир и вселенная,
которые я своими удивительными наблюдениями и ясными
доказательствами расширил в сотни и тысячи раз по
сравнению с тем, какими их видели мудрецы прошлых
столетий, стали теперь для меня такими малыми и тесными,
как пространство, занятое моим собственным телом» 12.
И вот в мозгу человека, для которого зрительные
образы были таким колоссальным источником и
катализатором умственной деятельности, теснятся картины
прошлого. Среди них — картина адриатического прилива.
В 1638 г. Галилей пишет Миканцио:
«Когда море входит в канал Маламокко или Дуе
Кастелли и разливается, вздувая лагуну за Венецией, ва
Мурано и за Маргера, вплоть до последних отмелей по
направлению к Тревизо, то вслед за тем, при отлива, вода
около Дуе Кастелли или около Маламовдо начинает
понижаться раньше, чем начнет понижаться в Венеции,
Мурано и в других более отдаленных местах. Из этого
явления, если оно происходит именно так, я делаю вывод, что
можно дать этому явлению природы название, довольно
обычное для других движений воды, а именно, что
прилив — одна большая волна, которая движется таким
образом, что бесчисленные меньшие воды, называемые у нас
барашками, движутся к побережью моря и поверх него,
разбегаясь и разливаясь на далекое расстояние, а затем
непосредственно, без промежутка покоя, возвращаются
назад. Я много раз наблюдал это явление в Венеции и
видел, как вода, поднимаясь, движется какими-то
ручейками, точно расстилающимися н,а поверхности, мало-помалу
убегая и удаляясь от большой воды в смежном канале, и
когда кончит убегать, она непосредственно без единого
момента покоя обращается, как я видел, назад. Вот как в
моих потемках,— 'заключает слепой Галилей,— я брожу,
фантазируя то об одном, то о другом явлении природы, и
не могу, как мне хотелось бы, дать хоть некоторый покой
моему беспокойному мозгу,— волнение это мне очень вре-
228
дит, так как заставляет меня прчти непрерывно
бодрствовать» 13.
В. П. Зубов говорил, что постоянное возвращение
Галилея к проблеме приливов играло в действительности ту
роль, которую легенда приписывала непроизнесенной
финальной фразе инквизиционного процесса. Письмо к Ми-
канцио было концентрированным выражением
астрономического profession de foi Галилея. Интересно и другое:
слияние в этом письме абстрактной идеи, конкретного
образа и эмоционального тона.
Абстрактной идеей является в данном случае
локальный критерий абсолютного движения. Конкретный
образ — картина Венеции и прилива в лагуне и в каналах.
Ее конкретность и красочность напоминают, помимо
прочего, об историческом интервале между рассветом и
зенитом дифференциального представления. У Лагранжа это
представление совсем оторвалось от конкретных,
чувственных образов и мысль движется в царстве абстрактной
символики. У Ньютона сохранились ссылки на опыт,
принимающие подчас весьма конкретный характер. Но это
лишь иллюстрации. Таков и образ воды в ведре,
демонстрирующей абсолютный характер вращения.
Конкретный образ поясняет абстрактную формулу, и вся его
конкретность несущественна, она имеет не большее значение,
чем вид бумаги и цвет туши на чертеже, поясняющем
математическую формулу. Лагранж отказался и от
чертежей и от картин типа вращающегося ведра. Разумеется,
дидактическая иллюстрация не может вдохновить
мыслителя на художественное описание, и поэтому интервал
между приливом в Венеции и ведром Ньютона отражает
не индивидуальные различия, а различия между двумя
эпохами в науке. Пафос ньютоновой однозначности
исчезает, когда речь переходит к наглядным представлениям.
Зато пафос и красочность галилеевой прозы исчезают, когда
изложение переходит к проблемам, где чувственные
образы теряют значение; мы видели это на примере строк
«Диалога», посвященных бесконечности мира.
С содержанием и исторической формой идей Галилея
связан и эмоциональный тон приведенного письма, как,
впрочем, и большого числа других высказываний
Галилея. Прибой Адриатики аккомпанировал репликам
«Диалога», но там этот аккомпанемент был мажорным. Теперь
рн стал грустным воспоминанием. Причина грусти —
?29
прежде всего личная: старость, слепота, запрет общения
с учениками, гнетущий надзор агентов инквизиции. Но
здесь есть и другое.
После Галилея для дальнейшего развития новой
науки уже не требовались чувственные образы. Наука
Чинквеченто и наука барокко выполнили свою
историческую миссию. Теперь наступает время аналитических
абстракций. Бескрасочные, хотя и четкие тени живых
образов приобретают в науке самостоятельное бытие.
Галилей вел науку в эту обетованную землю
математического анализа. Он видит ее с горы и чувствует, что новый
стиль научного мышления не сохранит адриатического
аккомпанемента. Галилей прощается с венецианским
приливом, и это прощание не только личное: наука нового
времени прощается со своей юностью. Для нас,
ретроспективно, эта юность — только заря или утро долгого дня.
Но для современников она казалась сама целым днем, а
ее конец ощущался как вечер. И здесь была неизбежной
вечерняя грусть прощания с прожитым днем, грусть,
которая охватывает человека, хотя бы на завтра его ожидал
самый счастливый новый день.
В восьмой песне «Чистилища» Данте говорит о
«предвечернем часе, когда мысль мореплавателей возвращается
назад, когда грусть смягчается воспоминанием о
прощальном привете друзей, когда новый странник наполнен
любовью и слышит дальний звон — ему кажется, что это
день оплакивает свое умирание» 14.
Этот день, оплакивающий свое умирание (il giorno
pianger che si more), эти воспоминания о прощальном
привете друзей (dolci amici adio), это настроение поэта
XIII в. не могли не быть конгениальными чувствам
ученого XVII в. Галилей был путником, отправившимся очень
далеко, в новую эпоху, и его томила любовь к
прошедшему, и он находил утешение в воспоминаниях о друзьях и
вписывал их имена в «Беседы», и каждое новое
впечатление ассоциировалось у него с печалью о долгом дне
Возрождения.
Помимо предчувствия нового стиля науки — сухого и
систематического,— Галилей мог жалеть о национальном
колорите Возрождения и барокко. Конечно, переводы
«Диалога» доставили ему громадное удовлетворение.
Конечно, лейденское издание «Бесед» скрасило самые
тяжелые для Галилея годы. Но перечитывая изданный те-
т
перь на латыни «Диалог» и, позже, представляя себе (он
уже не мог прочесть) латинские части «Бесед» и читая
или вспоминая названия далеких от Венеции и
Флоренции городов, где издавались его книги, Галилей жалел о
счастливой поре — счастливой для него и для всей
Италии,— когда яркость и богатство тосканской речи
вливались в основной поток мировой науки.
Здесь ничего нельзя было сделать. Теперь основные
импульсы науки были связаны не с Адриатикой, не со
Средиземным морем, а с океаном. Книги Галилея
издавались (а книги следовавших за ним мыслителей —
Декарта, Гюйгенса и Ньютона — были написаны) в странах,
где атлантическая торговля создала новую
промышленность, новую политическую обстановку, новые условия
развития науки и новый стиль научного творчества.
Смещение основных путей мировой торговли было тем
определяющим фоном, на котором развернулся террор
инквизиции. Галилей понимал это. В данном случае понять не
значило простить, и Галилей не прощал своим палачам.
Но он видел, что его личная трагедия и трагедия науки
совпадают во времени с большим сдвигом — изменением
географической дислокации основных центров научного
прогресса, изменением содержания, проблем и стиля
науки. И он принял этот сдвиг: напечатанные в Лейдене,
содержавшие сравнительно строгую латинскую канву,
посвященные новым паукам «Беседы», в их отличие от
«Диалога», были знамением нового периода в истории
науки, ее нового дня.
На исходе заканчивавшегося дня, на исходе науки
Возрождения, Галилей жалел о его исчезающих красках.
Но он знал, что смена дня и ночи в науке, как и на
Земле, — результат движения.
Много лет спустя, когда наука, основанная на
«Principia» Ньютона, подошла к своей вечерней поре и
вечерняя заря классической теории совместилась с утренней
зарей относительности и квант, Лоренц жалел, что он не
умер раньше, чем будут низвергнуты кумиры его юности.
Это не помешало ему принять участие (и какое участие!)
в научной революции. Каждый великий мыслитель
смотрит на научный прогресс с вершины и за закатом он
видит восход нового дня. И Галилей его видел. Он знал, что,
ресмотря на смену форм, наука движется. Eppur si muove!
XIV. Учение о веществе
Раскроем «Беседы». Они открываются посвящением
графу Ноайлю, французскому послу в Риме, когда-то
учившемуся у Галилея в Падуе. В посвящении
рассказано, как Галилей, напуганньш судьбой «Диалога», хотел
передать рукопись иностранному дипломату, чтобы, не
выпущенная в. свет, она могла стать доступной
специалистам.
Граф Ноайль в 1634 г. прибыл в Рим во главе
французской миссии, объявившей Урбану VIII, что Ришелье,
наконец, решился начать войну против Испании. Это был
короткий просвет после ряда неудач, сыпавшихся на
Урбана со всех сторон. Посол, привезший столь радостное
известие, мог требовать многого. Ноайль попросил папу
отпустить Галилея из Арчетри на короткое время, он хотел
увидеться с ученым, возвращаясь из Рима во Францию.
Осенью 1636 г. Галилей встретил Ноайля между
Флоренцией и Сиеной и вручил ему рукопись.
Далее Галилей рассказывает, как он узнал от
Эльзевиров, что его книга готова к печати, и решил посвятить
ее графу Ноайлю.
«Поэтому Вашему имени, досточтимый синьор, да
будет посвящено мое сочинение, сделать это побуждает
меня не только сознание всего того, чем я Вам обязан, но и
готовность Ваша, да позволено мне будет так выразиться,
защищать мою репутацию ото всех, желающих запятнать
ее. Вы опять воодушевили меня на борьбу с моими
противниками» *.
И передача рукописи в 1636 г., и ее посвящение, и
последние строки в особенности являются как бы символом
бегства из-под власти инквизиции. Он мог это сделать
т
только для своих кпиг. Но и они во Франции не могли
получить свободу распространения. Здесь в это время уже
не было Декарта, он переселился в Голландию, да и там
после процесса Галилея Декарт боялся защищать
гелиоцентризм и боялся выпускать книги под своим именем. Но
даже хранение и распространение в узком кругу было
опасным делом. Великий герцог Тосканы не мог в этом
отношении, да и в других, помочь Галилею. Робкие
представления герцога были отвергнуты папой.
После посвящения напечатано обращение к читателям
от издателей. Здесь говорится о предшествующих
открытиях Галилея. Подчеркнуто действительно главное:
Галилей убедил людей, потому что наблюдения шли рука об
руку с теоретической дедукцией. В этом, как мы видели,
состоит характерная эпистемологическая позиция
Галилея. Блеск открытий Галилея «свидетельствует о размере
заслуг того, кто расширил наше познапие и показал
столько нового и замечательного в отношении небесных тел,
несмотря на их отдаленность от нас, граничащую с
бесконечностью, ибо наглядность, говоря обыденным языком, в
один день научает нас с большей легкостью и прочностью
тому, чему не могут научить правила, повторяемые хотя
бы тысячу раз, так как собственное наблюдение (как
выражаются некоторые) идет здесь рука об руку с
теоретическим определением» 2.
Но еще более важной заслугой Галилея является
изложенная теперь научная концепция явлений, которые были
известны с незапамятных времен. «Что должно сделать
это сочинение еще более достойным удивления, это то, что
одна из наук касается предмета вечного, имеющего
первенствующее значение в природе, обсуждавшегося
великими философами и изложенного во множестве уже
написанных томов, короче сказать, движения падающих тел —
предмета, по поводу которого автором изложено
множество удивительных случаев, которые до сего времени
оставались никем не открытыми или не доказанными. Другая
наука, также развитая из основных ее принципов,
касается сопротивления, оказываемого твердыми телами силе,
стремящейся их сломить, и также изобилует примерами и
предложениями, остававшимися до сих пор никем не
замеченными; познания такого рода весьма полезны в науке
и искусстве механики» 3.
В «Беседах» участвуют те же лица, что и в «Диалоге»:
т
Сальвиати, Сагредо и Симпличио. Эти имена могли
вызвать новые преследования. Галилея предупреждали об
опасности, но он пренебрег советами. Симпличио играет
теперь новую роль. Он не спорит, а выполняет чисто
дидактическую функцию, его вопросы помогают разъяснить
существо дела. Кастелли писал Галилею, что его
разочаровала такая роль Симпличио 4. Но она отвечала духу
«Бесед» и, более того, новым объективным требованиям
развивавшейся теории движения. Когда беседа касается
более сложных проблем, Симпличио исчезает. Его
заменяет Апроино. Это имя принадлежало умершему в марте
1638 г. венецианскому аббату — единомышленнику
Галилея.
Начало «Бесед» не раз уже упоминалось, и теперь его
следует привести полностью. Сальвиати, обращаясь к
коренным венецианцам Сагредо и Симпличио, говорит:
«Обширное поле для размышления, думается мне, дает
пытливым умам постоянная деятельность вашего
знаменитого арсенала, синьоры венецианцы, особенно в
области, касающейся механики, потому что всякого рода
инструменты и машины постоянно доставляются туда
большим числом мастеров, из которых многие путем
наблюдений над созданиями предшественников и размышления
при изготовлении собственных изделий приобрели
большие познания и остроту рассуждения» 5.
В о1тветной реплике Сагредо говорит о парадоксальных
явлениях, которые ему разъяснили инженеры арсенала.
Тут же — полемический выпад против схоластов, впрочем,
совсем не такой 'темпераментный, как в былое Бремя.
«Тут мало помощи оказывает то, что сказал по этому
поводу кто-либо из древних, или общераспространенные
взгляды и учения, я, напротив, считаю их вовсе лишними,
равно как и многие другие объяснения, исходящие из уст
людей мало ученых, полагая, что все такие объяснения
имеют только одну цель — показать, что можешь сказать
что-нибудь о том, чего не понимаешь» 6.
Понятие парадоксального явления —
важное понятие галилеевой эпистемологии. Оно не может
войти ни в феноменологическую, ни в априорную концепцию.
Эйнштейн говорил о переходе от парадоксального явления
к парадоксальной теории как об основном пути,
приведшем к принципу относительности, и вообще как о своем
основном творческом методе.
Ш
В автобиографическом очерке 1948 г. Эйнштейн
рассказывает о том глубоком удивлении, которое вызвала у него
в детстве магнитная стрелка. В этой связи он
высказывает весьма существенные эпистемологические
соображения 7. Магнитная стрелка — парадоксальный факт с точки
зрения механического представления, ограниченного
понятием толчка. Если построить логически
непротиворечивую теорию магнитного поля, парадоксальную с точки
зрения привычных представлений, движение магнитной
стрелки перестает быть парадоксальным. Аналогичным
образом была создана специальная теория относительности.
Опыт Майкельсона и другие оптические опыты привели к
парадоксальному результату: скорость света в данной
системе не зависит от ее движения. Попытка согласовать
этот результат с классической механикой Ньютона и
придать постоянству скорости света чисто
феноменологический смысл (лоренцова гипотеза абсолютного сокращения
масштабов) не обладала «внутренним совершенством»,
она включала выдвинутую ad hoc, не вытекавшую из
общих соображений произвольную гипотезу. Тогда Эйнштейн
высказал парадоксальную общую теорию: он отказался от
абсолютного пространства, от абсолютного времени, от
эфира, от классического правила сложения скоростей.
Результаты Майкельсона потеряли свою парадоксальность.
Когда была создана общая теория относительности,
исходное явление — одинаковая скорость падения тел —
уже не казалось парадоксальным с точки зрения
привычных наблюдений. Во времена Галилея трудно было
поверить, что тяжелое тело падает не быстрее, чем легкое, но
теперь к этому привыкли. Именно привыкли: равенство
тяжелой и инертной масс не вытекало из более общего
принципа и казалось случайным. Поэтому факт равной
скорости падения сохранял логическую парадоксальность.
Предположение о тождестве тяготения с кривизной
пространства-времени — крайне парадоксальное
предположение — лишило тождество инертной и тяжелой масс его
парадоксальности.
Но в обоих случаях — и в специальной и в общей
теории относительности — новая общая идея интуитивно
предвосхищала новые эксперименты, новые
подтверждения. Путь Эйнштейна был близок «экспериментальному
рационализму» Галилея. Специальная теория была
подтверждена колоссальным множеством новых фактов, об-
№
нарушенных физикой атома, ядра и элементарных частиц.
Общая теория относительности ограничивается пока
скромным числом подтверждений — значительно менее
определенных.
Парадоксальный факт, которым начинаются
«Беседы»,— это возможность поломки судна вследствие
давления его собственного веса. Сальвиати говорит об этом
явлении. Сагредо ему отвечает:
«Этот факт и в особенности последнее замечание,
сделанное но поводу него, которое обыкновенно понимается
людьми неправильно, показывают, что относительно этих
и других механизмов нельзя делать заключения от
малого к большому, многие изобретения в машинах удаются
в малом, но неприменимы в большом масштабе. Однако
вся механика имеет своею основою геометрию, и мы
знаем, что круги, треугольники, а также цилиндры, конусы
и другие формы твердых тел не только отличаются друг
от друга большей или мепыней величиной, но и
изменяются одни по одним, а другие по другим законам. Если
поэтому большая машина сделана во всех своих частях
пропорционально малой, оказавшейся прочною и
пригодной для употребления, то я не вижу, почему мы все же
не можем считать себя обеспеченными от какого-либо
несчастия или опасности» 8.
Иногда это расхождение между геометрическим
подобием и механическими свойствами объясняют
принципиальным отличием материальных процессов от
геометрических соотношений: материя в геометрическом смысле
несовершенна. Сальвиати несогласен с таким
объяснением. Конструкции из абсолютно неизменного и
однородного вещества также обнаружили бы отсутствие
механического подобия. Сальвиати говорит, что такое вещество
не может не подчиняться геометрическим со@тношениям.
«Значит, существуют собственно математические
эквиваленты отсутствия механического подобия: «это важное и
неизбежное явление дает основание для вполне ясных
чисто математических рассуждений».
Реплика Сальвиати позволяет, пока еще интуитивно,
предположить существование парадоксальной
математической теории, которая устраняет парадоксальность
наблюдаемого факта. «Я уже чувствую, — отвечает
Сагредо, — как меняются мои мысли, подобно тому, как облако
озаряется мгновенно молнией, так и мой ум озарился вце-
№
запным и необычным светом, который затем опять погас,
показав только издали странные и непривычные
представления» 9.
Мы вскоре увидим, что речь идет о совершенно
парадоксальной, с точки зрения перипатетического учения,
атомистической теории вещества, выражающей
дифференциальное представление о материи. Но сейчас эти
«странные и непривычные представления» только
мелькнули в уме, «озаренном внезапным и непривычным
светом».
Далее беседа переходит к проблеме знаменитой
horror vacui — свойственной природе боязни допустить
хотя бы на время пустоту. Галилей показывает, что
концепция Аристотеля не может объяснить прочность тел и
вводит в игру новое понятие — микроскопических пустот
в веществе. Сальвиати говорит о гипотезе («выдаю это не
за достоверную истину, но за идею, нуждающуюся в
развитии»): плавление металлов объясняется проникновением
частиц огня в микроскопические поры металла,
исчезновение пустют устраняет силы сцепления в металле, и
металл становится жидким.
Но не эта неоднозначная физическая концепция
интересует Галилея. Его интересует проблема бесконечности
пустот в теле. И здесь мы подходим к проблеме
континуума. В июне 1634 г. Кавальери, закончивший «Geometria
indivisiblium», послал Галилею письмо, в котором просил
разобраться в вопросе о бесконечно малых в связи с
движением 10. Мы увидим в следующей главе, как Галилей в
«Беседах» обобщил и конкретизировал идею
бесконечного множества мгновенных состояний движущегося тела.
Но он применил понятие бесконечности и к вопросу о
структуре вещества и именно в этой связи произвел
сравнительно систематический разбор этого понятия.
Речь идет о микроскопических пустотах,
существование которых объясняет прочность тел. Существование
таких пустот заставляет разделенные пустотами частицы
тела стремиться одна к другой. Отсюда следует, что в очень
малых частях тел, где уже нет пустот, ничто не
гарантирует прочности тел. Но, быть может, число пустот
окажется бесконечно большим? Именно этот вопрос задает
Сагредо. Сальвиати отвечает:
«Раз мы уже дошли до парадоксов, то попробуем,
нельзя ли каким-либо образом доказать, что в некоторой ко-
237
нечвой непрерывной величине может существовать
бесконечное множество пустот» п.
Сальвиати рассматривает одну очень старую, идущую
от древности проблему12. Представим себе некоторый
многоугольник, например шестиугольник, внутри
которого находится подобный ему, концентрический меньший
многоугольник. Каждый из них лежит одной стороной
на прямой — продолжении этой стороны. Оба
многоугольника соединены и когда больший многоугольник начинает
перекатываться по прямой А так, что с ней
последовательно совпадают его стороны, он увлекает меньший
многоугольник. Стороны меньшего многоугольника
откладываются на прямой Л1.
-Л'
-/7
Качение многоугольников означает, что больший из
них в течение определенного числа вращений пройдет
расстояние, равное его стороне, помноженной на число
таких сторон, последовательно совместившихся с
прямой. Меньший многоугольник пройдет расстояние, равное
его стороне, помноженной на то же число. Стороны
различны, и кажется очевидным, что меньший многоугольник
отложит на своей прямой меньшее пройденное
расстояние. Но, столь же очевидно, многоугольники пройдут
приблизительно равные пути. Каков же выход из
противоречия? Сальвиати говорит, что на прямой А\ наряду
с отрезками, совпадавшими со сторонами меньшего
многоугольника, находятся «пустоты» — отрезки, к которым
многоугольник при качении не прикасался своим
периметром.
Далее Сальвиати переходит от многоугольника к
кругу — многоугольнику с бесконечным числом сторон. Две
концентрические окружности касаются каждая своей
прямой. Ограниченные ими круги катятся, причем
меньший круг соединен с большим.
238
Здесь выход из противоречия тот Же, что и в случае
многоугольника, но теперь число «пустот» должно быть
бесконечным:
-4'
-Д
«Линия, образуемая непрерывным наложением
бесконечно большого числа сторон большого круга,
приблизительно равна по длине линии, образованной
наложением бесконечно большого числа сторон меньшего круга,
если включить в нее и наличные промежутки, а так как
число сторон не ограничено, а бесконечно, то и число
промежутков между ними также бесконечно, бесконечное
множество точек в одном случае занимает пространство
полностью, в другом — пространство занято бесконечным
множеством точек и пустых промежутков. Я хотел бы,
чтобы вы заметили себе, что, разделяя линию на
некоторые конечные и потому поддающиеся счету части,
нельзя получить путем соединения этих частей линию,
превышающую по длине первоначальную, не оставляя
пустых пространств между ее частями, но линию,
разделенную на бесконечное число частей, т. е. составленную из
неделимых бесконечно малых частиц, мы можем
представить себе простирающейся без прерывания конечными
пустотами, но включающей бесконечное множество
малых неделимых пустых пространств» 13.
Далее Сальвиати переходит к веществу — к
растягиванию золотого шарика в очень большой лист и к тому
подобным примерам. Сальвиати говорит, что при этом в
веществе не появляется конечных пустот, а сохраняются
бесконечно малые пустоты. В конечном по размерам те-
ле __ бесконечное число бесконечно малых пустот и
бесконечно малых частиц.
Здесь Симпличио указывает на сходство этого взгляда
с взглядами «одного древнего философа». Речь идет о
Демокрите — его имя было тогда под запретом.
«Надеюсь, что вы не прибавите „отрицавший
божественный промысел", как это весьма неуместно сделал в
случае, подобном нашему, один из противников нашего
239
академика» 14,— говорит Сальвиати. В ответ Симпличио
заверяет собеседников в отсутствии у него подобных
намерений. Беседа продолжается. Пока еще неясно, какова
природа бесконечно малых атомов вещества. Неясна и
позиция Галилея в математической проблеме бесконечно
малых. После дискуссии XVIII в. об «исчислении
нулей», после ряда схем обоснований анализа в XIX в., нам
хочется точнее определить, что представляют собой
бесконечно малые Галилея. Здесь можно следовать за
текстом «Бесед», Сальвиати, Сагредо и Симпличио переходят
к понятию бесконечно малой величины.
На вопрос Симпличио, можно ли представить себе
линию, состоящую из точек, т. е. нечто делимое, состоящее
из неделимых элементов, Сальвиати отвечает:
«Такие затруднения действительно существуют, равно
как и многие другие, но вспомните о том, что мы имеем
дело, с одной стороны, с величинами бесконечно
большими, с другой, с бесконечно малыми, неделимыми,
постичь которые умом невозможно, благодаря необъятности
одних и малости других. Мы убеждаемся здесь, что
человеческая речь не приспособлена для выражения таких
понятий. Однако я все же позволю себе изложить
некоторые свои соображения, которые хотя и не исчерпывают
вопроса, но могут представить некоторый интерес
благодаря своей новизне. Впрочем, столь частые уклонения в
сторону от начатого пути, быть может, покажутся вам
неуместными и маложелательными?» 15
Этот первый тезис очень многозначителен.
Человеческая речь не приспособлена для выражения таких
понятий, как бесконечно большое и бесконечно малое. Речь
легко справляется с понятием конечных величин. Может
быть, привычные, отложившиеся в языке понятия
предполагают статическую схему мироздания? Может быть,
именно эта статическая картина не может вместить
бесконечность? Ведь именно существующая, актуальная,
наличная, достигнутая, статическая бесконечность кажется
наиболее тяжелым испытанием для мысли и конкретного
представления.
Сальвиати становится на путь, который ведет к
новому представленпю о бесконечности. Он спрашивает, не
покажется ли неуместным новое уклонение от прямой
темы собеседования. Сагредо отвечает настойчивой
просьбой продолжать обсуждение проблемы бесконечности и
240
воспользоваться преимуществами живой беседы перед
изучением мертвых книг. Тогда Сальвиати ставит
кардинальный вопрос: можно ли считать точку и линию
равновеликими? Оказывается, можно: можно уменьшать
равновеликие тела так, чтобы они, оставаясь равновеликими,
стягивались — одно в линию, а другое в точку. Это
геометрическое построение нужно Сальвиати, чтобы
разбить привычку пользоваться в мире бесконечного
понятиями, пригодными для конечных величин. Теперь
начинается позитивная часть задачи. Сальвиати связывает
воедино проблему бесконечно большого и проблему
бесконечно малого. Они в равной степени непостижимы, но,
пользуясь ими как связанными понятиями, можно
прийти к положительным выводам.
«Я хочу высказать,—говорит Сальвиати,—одну
особую мысль, повторяя то, что было сказано мною незадолго
перед этим, а именно, что бесконечное для нас, по
существу, непостижимо, равно как и последнее неделимое.
Представьте себе, что будет, если соединить и то и
другое, если мы хотим составить линию из неделимых точек,
то мы должны взять бесконечное множество их, таким
образом мы познаем одновременно и бесконечное и
неделимое» 16.
Галилей не рассматривает бесконечность как
результат сложения величин. Он рассматривает бесконечность
как результат деления конечной величины. Ее делят на
бесконечное множество бесконечно малых элементов.
У Симпличио напрашивается весьма существенный
вопрос. Если два неравных отрезка представляют собой
бесконечные множества точек, то одно бесконечное
множество оказывается больше другого.
В ответ Сальвиати высказывает ряд соображений,
которые почти нет нужды сравнивать с современными
взглядами: и сходство, и различие понятий, и соблазны, и
опасности модернизации видны здесь сразу.
Прежде всего понятия «больше» и «меньше»
неприменимы к бесконечным множествам.
«Сказанное вами,— отвечает Сальвиати на вопрос
Симпличио,— относится к числу затруднений,
происходящих вследствие того, что, рассуждая нашим
ограниченным разумом о бесконечном, мы приписываем последнему
свойства, известные нам по вещам конечным и
ограниченным. Между тем это неправильно, так как такие свой-
16 Галилей
241
ства, как большая или меньшая величина и равенство,
неприменимы к бесконечному, относительно которого нельзя
сказать, что одна бесконечность больше или меньше
другой или равна ей» 17.
Бесконечное число не имеет свойств конечных чисел.
Сальвиати иллюстрирует эту мысль примером.
Множество квадратов меньше, чем множество всех чисел (не все
числа являются квадратами), но оно равно множеству
корней (каждый квадрат имеет корень), а это последнее
равно множеству всех чисел (каждое число может быть
корнем квадрата).
Теперь беседа переходит к бесконечно малым
отрезкам линии как непрерывного целого. Симпличио
приписывает им — по традиции — и конечность и бесконечность.
Они бесконечны лишь в потенции. Сальвиати выдвигает
иную точку зрения. Элементы непрерывного целого ни
конечны, ни бесконечны. Здесь прорывается очень неясный
намек на понимание бесконечно малой как
переменной величины. Сальвиати (поскольку речь идет уже не
столько о репликах, сколько об идеях, можно было бы
сказать: Галилей) рассматривает ряд величин между
конечной величиной и бесконечной. Между ними находится
нечто третье — не конечная и не бесконечная величина:
«среднее, соответствующее любому данному числу» 18
(un terzo medio termine, che a il rispondare ad ogui segna-
to numero). Эта третья величина, «соответствующая
любому данному числу», т. е. величина, не имеющая
постоянного, одного и того же значения, может быть
половиной, четвертью и т. д. целого. Но она может быть и
бесконечно малой частью целого.
Симпличио отвечает Сальвиати серьезным замечанием.
Как ни трудно фактически разделить целое на очень
большое число частей, эта трудность отличается от
принципиальной и абсолютной невозможности реального
разделения целого на бесконечное множество частей.
«Но если я сведу это деление, признаваемое вами
вовсе невозможным, к такому же короткому процессу, как
тот, который требуется другим для разделения линии на
сорок частей, то будет ли этого для вас достаточным,
чтобы уделить ему место в нашей беседе?» 19
Симпличио считает это шуткой. Но Сальвиати
предлагает следующий чрезвычайно остроумный, наглядный и
логически безупречный метод непосредственного разделе-
242
нйя линии на бесконечное множество бесконечно малых
частей. Разделить конечную линию на две части, на три
и т. д. можно, перегибая ее посередине или в двух точках,
отсекающих три равные отрезка, и т. д. Возможно
относительно строгое доказательство того, что подобное
сгибание делит линию на любое множество частей. Если же
сложить линию в окружность, то мы сразу получим
бесконечное число изгибов и, соответственно, бесконечное
число точечных элементов линии.
«Вы не можете отрицать, — говорит Сальвиати, — что
подобное рассуждение не менее верно в отношении
бесконечного множества частей линии, нежели в отношении
четырех частей, образующих квадрат, или тысячи частей,
образующих тысячеугольник, потому что в нем не
нарушается ни одно из условий, имеющихся для
многоугольника с тысячью или ста тысячами сторон. Последний,
поставленный на одну из своих сторон и приложенный к
прямой линии, соприкасается с ней этой стороной, т. е.
одной стотысячной своей частью; круг, который
представляет собою многоугольник с бесконечным числом сторон,
соприкасается с прямой также одною из своих сторон,
т. е. единственной точкой, отличной от других соседних,
а потому отделенной и отграниченной от них не в меньшей
степени, нежели отделена от соседних сторона любого мно-
гоугольника» .
Итак, линия разделена на бесконечное множество
точек. Намек на представление о бесконечно малой
величине как о переменной не реализован. Концепция
Галилея — это концепция бесконечно малых частей линии —
отрезков нулевой протяженности, точек.
Мы увидим вскоре, что Галилей подошел к более
близкому нам представлению о бесконечно малых в теории
движения. Вообще инфинитезимальные идеи Галилея
очень отчетливо демонстрируют связь анализа с
кинетическими проблемами 21. Весьма далекое еще от
аналитических понятий конца столетия представление о
точечных элементах, высказанное в связи с теорией вещества,
играло другую роль.
Высшее выражение дифференциального
представления о движении — аналитическая механика Лагранжа —
было, как уже сказано выше, синтезом аналитического
представления о траектории частицы как о бесконечном
множестве геометрических точек и физического представ-
16* 243
ления о материальной точке, которая действительно
проходит по траектории. Правда, можно пользоваться
представлением о приближенно точечной массе, о частице,
размерами которой мы пренебрегаем. Можно представить
себе материальную точку как центр тяжести
протяженного тела. Но этими представлениями можно пользоваться,
когда уже возникло понятие непротяженного
материального элемента — физической, материальной точки.
Именно такое понятие превращает линию в траекторию, а
описывающую эту линию функцию — в закон движения.
Галилей пользуется понятием бесконечно малых,
неделимых элементов вещества, чтобы высказать
некоторые собственно физические теории. Но они остаются
примерами геометрических соотношений, вернее, они
играют роль «физикализаторов» геометрических соотношений.
Такова концепция различия между жидкостью и
измельченным твердым телом. Сальвиати разъясняет
физическую реальность бесконечно большого объекта —
результата сложения конечных величин.
«Подумайте теперь, — говорит он, — какая разница
существовала между кругом конечным и бесконечно
большим. Последний настолько изменяет свою сущность, что
окончательно теряет свое существование как таковой и
даже самую возможность существования; теперь мы
совершенно ясно понимаем, что не можем создать
бесконечно большой круг, .отсюда как следствие вытекает, что не
может быть ни бесконечно большого шара, ни другого
бесконечного тела, ни бесконечно большой поверхности. Что
скажем мы о таких метаморфозах при переходе от
конечного к бесконечному? И почему, стремясь найти
бесконечность в больших числах, мы должны чувствовать
неудовлетворенность, придя к выводу, что она выражается
единицею? Когда мы разбиваем твердое тело на многие
части, постепенно превращаем его в мельчайший порошок,
предполагая, что оно разделяется на бесконечное
множество своих атомов, не делимых далее, то почему не можем
мы сказать, что такое тело возвратилось к состоянию
непрерывному, но жидкому, как вода или ртуть или другой
расплавленный металл? И разве мы не видим, как
камни расплавляются в стекло и само стекло делается на
большом огне жидким, как вода?»22
Эта реплика по существу эквивалентна той, где
деление на бесконечное множество элементов демонстрируется
244
свертыванием линии в круг. Здесь тот же прием, но он
совершенно физический: твердое тело, состоящее из
конечного числа конечных элементов, превращается в
жидкое тело, состоящее из бесконечно большого множества
бесконечно малых элементов.
Симпличио, выслушав приведенную реплику Сальви-
ати, спрашивает:
«Должны ли мы думать, что жидкости таковы, как они
есть, потому что они разложены на бесконечное число
первоначальных неделимых частиц, их составляющих?» 23
Сальвиати отвечает, что именно таково отличие
жидкостей от измельченных твердых тел. Он приводит множество
физических доказательств: самые тонкие порошки, в
отличие от жидкости, не растекаются по поверхности, стекло
при дроблении теряет прозрачность, а вода — нет, и т. д.
«Отсюда, кажется мне, можно вполне основательно
заключить, что частицы воды, из которых она, по-видимому,
состоит (более тонкие, нежели любой мельчайший
порошок, и лишенные всякой устойчивости), весьма отличны
от частиц конечных и делимых, и я не могу найти
причины различия иначе, как в том, что они неделимы» 24.
Это очень характерная для Галилея концепция:
различие между измельченным твердым телом и жидкостью
объясняется количественной
несоизмеримостью' дискретных частей вещества.
Далее речь заходит о другом физическом вопросе —
разрежении и сгущении вещества — и затем об одном из
центральных пунктов «Бесед» и мировоззрения Галилея
в целом — доказательстве равной скорости падения тел в
пустоте. Здесь находится, помимо прочего, решающее
звено идеи бесконечного множества точек, из которых состоит
пройденное материальной точкой пространство, и
мгновений, из которых состоит время, когда эта точки двигалась.
XV. Идея бесконечности
Поскольку фраза «Eppur si muove» не была
произнесена, ей можно придавать самый различный смысл. Здесь
нет сдерживающего соображения о смысле, который
придавал фразе тот, кто ее произнес. Если сама фраза
недостоверна, нужно, чтобы вкладываемый в нее смысл был
исторически достоверным, т. е. действительно
характеризовал идеи Галилея, высказанные после процесса 1633 г.,
и связь этих идей с осужденным «Диалогом».
Чтобы увидеть основную связь «Бесед» и «Диалога»,
чтобы увидеть в «Беседах» более общее и
последовательное выражение идей, высказанных в «Диалоге», следует
остановиться на проблеме бесконечности в двух основных
книгах Галилея. Мы увидим тогда, что «Диалог» содержал
в себе — implicite — мысль о бесконечном множестве
точек, в которых определено движение частицы, и эту же
мысль содержат уже в более явной форме «Беседы».
Не только в более явной форме. Наиболее
существенным служит изменение самого понятия бесконечности.
В «Беседах» это понятие стало логически замкнутым.
Такое понятие бесконечности содержалось в учении Галилея
о равномерно-ускоренном движении. Мы подойдем к нему,
начав издалека — с концепции бесконечности в физике
Аристотеля. Речь об этом уже шла, но теперь нам
понадобится несколько более подробное изложение вопроса.
Начнем с понятия бесконечности: как результата
сложения конечных величин. Вводя это понятие, Аристотель
сразу же отбрасывает бесконечность пространства. Но
время — бесконечно. С указанным различием связаны
понятия актуальной и потенциальной бесконечности.
Аристотель отвергает возможность чувственно воспринимаемого
246
бесконечного по размерам тела (актуально бесконечного
тела), но допускает существование потенциальной
бесконечности. Ее нельзя понимать в том смысле, в каком,
например, статуя потенциально содержится в меди. Такой
взгляд означал бы, что потенциальная бесконечность в
конце концов превращается в актуальную. Потенциально
бесконечное все время остается конечным и все время
меняется, причем этот процесс изменения может
продолжаться как угодно долго.
«Вообще говоря, бесконечное существует таким
образом, что всегда берется иное и иное, и взятое всегда
бывает конечным, но всегда разным и разным» !.
Актуальная бесконечность — это бесконечные размеры
тела в тот момент, когда оно фигурирует как чувственно
воспринимаемый объект. Иными словами, это
бесконечное пространственное расстояние между
пространственными точками, связанными в единый объект в некоторый
момент времени. Это — чисто пространственное,
одновременное многообразие. Таким одновременным
многообразием бесконечных размеров реальное тело, по мнению
Аристотеля, не может быть. Реальным эквивалентом
бесконечности может быть бесконечное движение, процесс,
происходящий в бесконечном времени и состоящий в
бесконечном возрастании некоторой величины, все время
остающейся конечной. Таким образом, реальным
эквивалентом обладает понятие потенциальной
бесконечности, протекающей во времени. Нет бесконечного
«теперь», но есть бесконечная последовательность конечных
«теперь».
Итак, аристотелева концепция потенциальной
бесконечности и отрицание актуальной бесконечности связаны
с высказанным в «Физике» и других трудах Аристотеля
представлением о пространстве и времени и их связи.
Актуальная бесконечность — это некоторая обладающая
реальным физическим бытием величина, достигшая
бесконечного значения в данный момент. Если выражение
«данный момент» понимать буквально, то под актуально
бесконечным объектом следует подразумевать мир,
существующий в течение мгновения, иначе говоря,
пространственное многообразие. Аристотель, говоря об актуальной
бесконечности, имеет обычно в виду бесконечное
пространство, вернее, бесконечную протяженность
реального чувственно постигаемого тела. Отрицание актуальной
Ж
бесконечности связано с физической идеей — отрицанием
бесконечности мира в- пространстве и бесконечности
самого пространства. Напротив, потенциальная бесконечность
развертывается во времени. Каждое конечное значение
возрастающей величины связано с некоторым «теперь»,
и это значение, оставаясь конечным, меняется по мере
того, как меняется «теперь».
Как уже говорилось, у Аристотеля не было и
физических эквивалентов бесконечности как результата деления
целого на части. Движение тела непрерывно, но физика
Аристотеля не рассматривает его от точки к точке и от
мгновения к мгновению. Для Аристотеля в точке и в
мгновение ничего не происходит и ничего не может произойти.
У него нет ни мгновенной скорости ни мгновенного
ускорения. Движение определяется не этими инфините-
зимальными понятиями, а схемой естественных мест и
однородных сферических поверхностей.
Для Галилея двигаться — значит двигаться от точки
к точке и от мгновения к мгновению. Поэтому «Eppur si
muove» имеет, помимо прочего, инфинитезимальный
смысл: Земля движется, все тела Вселенной движутся из
одной точки в другую, и их движение определяется
законом движения, связывающим между собой мгновенные
состояния движущегося тела.
Именно это инфинитезимальное «Eppur si muove»
раскрывается в наиболее полной и логически замкнутой
форме в «Беседах» — в , учении о равномерно ускоренном
движении.
После этих предварительных замечаний можно
перейти к более систематическому изложению представлений о
бесконечности у Галилея. Мы начнем с бесконечно
большого как результата сложения конечных величин, с
бесконечно большой вселенной. В «Беседах» о ней не
говорится, и здесь придется вернуться к «Диалогу». Затем мы
остановимся на понятии бесконечности как результата
деления целого на части, но уже не в теории вещества,
как это было в предшествующей главе, а в теории
движения. При этом в центре внимания будет стоять проблема
позитивного определения бесконечности и его связь с
концепцией равномерно ускоренного движения. В
заключение — несколько слов о той неаристотелевой логике,
которая оказалась необходимой для перехода к инфинитези-
мальной картине движения.
248
Идея бесконечно большой вселенной никогда не
высказывалась Галилеем в определенной однозначной форме.
Так же как идея конечного звездного острова в
бесконечном пустом пространстве. Так же как идея конечного
пространства.
Вспомним «Послание к Инголи», в котором Галилей
объявляет неразрешимым вопрос о конечности или
бесконечности мира2.
В «Диалоге» Галилей иногда упоминает о центре
конечной звездной сферы. Но всегда с оговорками. В беседе
первого дня, после замечаний о гармонии круговых
движений, Сальвиати говорит: «Если можно приписывать
вселенной какой-нибудь центр, то мы найдем, что в нем
помещается скорее Солнце, как мы убедимся из
дальнейшего хода рассуждений» 3.
Но Галилея интересуют не границы вселенной —
понятие, непредставимое и чуждое всему строю и стилю
«Диалога», а центр вселенной. Если такой центр
существует, в нем находится Солнце.
Конечно, понятие центра теряет смысл без понятия
ограниченной звездной сферы. Поэтому Галилей часто
приближается к такому понятию. Когда Симпличио
вынужден сам рисовать на бумаге гелиоцентрическую схему,
Сальвиати в заключение спрашивает: «Что же мы теперь
сделаем с неподвижными звездами?». Симпличио
помещает их в сфере, ограниченной двумя сферическими
поверхностями, с центром — Солнцем. «Между ними я
поместил бы все бесчисленное множество звезд, но все же на
разной высоте, это могло бы называться сферой
вселенной, заключающей внутри себя орбиты планет, уже
обозначенные нами» 4.
В дальнейшем обсуждается вопрос о размерах
вселенной. Перипатетики находили, что система Коперника
обязывает приписывать вселенной слишком большие
масштабы. В ответ Сальвиати говорит об относительности
масштабов:
«Теперь, если бы вся звездная сфера была одним
сияющим телом, то кто не поймет, что в бесконечном
пространстве можно найти такое большое расстояние, с
которого вся светящаяся сфера покажется совсем маленькой,
даже меньше того, чем нам кажется сейчас с Земли
неподвижная звезда?» 5
Но и эта схема конечного звездного острова в беско-
249
ночном пространстве представляет собой условное
допущение.
В беседе третьего дня Сальвиати требует от Симпличио
ответа: что он подразумевает под центром, вокруг
которого обращаются другие небесные тела?
«Под центром я понимаю центр вселенной, центр
мира, центр звездной сферы, центр неба»,— отвечает
Симпличио б.
Сальвиати сомневается в существовании такого
центра и спрашивает Симпличио, что находится в центре
мира, если таковой центр существует.
«Хотя я и мог бы на вполне разумных основаниях
поднять спор о том, существует ли в природе такой центр,
так как ни вы, ни кто-либо другой не доказали, что мир
конечен и имеет определенную форму, а не бесконечен и
неограничен, я уступаю вам пока, допуская, что он
конечен и ограничен сферической поверхностью, а потому
должен иметь свой центр, но все же следует посмотреть,
насколько вероятно, что Земля, а не другое тело,
находится в этом центре» 7.
Существование центра вселенной — фундаментальное
утверждение Аристотеля. Если бы наблюдения заставили
отказаться от геоцентрической системы, Аристотель
сохранил бы центр мира, но поместил бы в нем Солнце.
«Итак, начнем опять наше рассуждение сначала и
примем ради Аристотеля, что мир (о величине которого,
кроме неподвижных звезд, у нас нет никаких доступных
чувству показаний) есть нечто такое, что имеет сферическую
форму и движется крутообразно и по необходимости
имеет, принимая во внимания форму и движение, центр, а так
как, кроме того, мы достоверно знаем, что внутри звездной
сферы существует мпого орбит, одна внутри другой, с
соответствующими звездами, которые также движутся
кругообразно, то спрашивается, чему более разумно верить
и что более разумно утверждать, то ли, что эти
внутренние орбиты движутся вокруг одного и того же мирового
центра или же что они движутся вокруг другого, очень
далекого от первого?» 8
Почему Галилей, приближаясь к границам вселенной,
теряет обычную энергию и определенность аргументов,
почему язык его становится бледным и в изложении
начинает проглядывать несвойственное Галилею
равнодушие к предмету спора?
250
Галилей не хочет уходить в области, где бесконечно
малыми становятся не только Земля, но и звездное небо,
которое он увидел в 1610 г,,— мир Медицейских звезд,
фаз Венеры, холмистого пейзажа Луны и т. д. Галилей
не хочет уходить в область, где требуются уже не
наглядно-качественные предпосылки математического метода,
а сама математика бед «утренней» наглядно-представи-
мой формы. В сущности, такого ухода и не требовала не
только наука XVII в., но и вся классическая наука.
Локальные критерии позволяли говорить об относительном
движении (без появления сил инерции) и об абсолютном
движении, не ссылаясь на абсолютную систему центра и
границ вселенной. Весь интерес заключался в изучении
того, что происходит в бесконечно малых областях
пространства. В 1866 г. Риман говорил: «Для объяснения
природы вопросы о бесконечно большом — вопросы праздные.
Иначе обстоит дело с вопросами о неизмеримо малом. От
той точности, с которой нам удается проследить явления
в бесконечном малом, существенно зависит наше знание
причинных связей. Успехи в познании механизма
внешнего мира, достигнутые на протяжении последних столетий,
обусловлены почти исключительно благодаря точности
того построения, которое стало возможно в результате
открытия анализа бесконечно малых и применения
основных простых понятий, которые были введены Архимедом,
Галилеем и Ньютоном и которыми пользуется
современная физика» 9.
Не только по отношению к Галилею, но и по
отношению ко всей науке до развития общей теории
относительности (может быть, до некоторых космологических работ
конца XIX в.) замечание Римана было справедливым.
Конечные расстояния, разделенные на бесконечное
множество частей,— вот что интересовало и Галилея и всю
классическую науку.
Как в этой проблеме модифицируются понятия
актуальной и потенциальной бесконечности?
Они оказываются связанными с понятиями
естественнонаучного закона и описывающей его функции.
Представление о естественнонаучном законе,
однозначно связывающем элементы одного множества с
элементами другого множества, развивалось параллельно с
математическими идеями функции и ее производной. После того
как появилось представление о пределе и о бесконечно
251
малой как переменной величине, актуальная бесконечность,
казалось, должна была исчезнуть из математики.
Согласно взглядам Коши, бесконечно малая остается конечной в
каждый момент (здесь момент, вообще говоря, уже не
означает момента времени) и, проходя последовательно
через все меньшие численные значения, становится и
остается по абсолютной величине меньше любого заранее
заданного числа, иными словами, она стремится к пределу,
равному нулю. Подобное представление о бесконечно
малой в не столь явной форме существовало уже в XVII—
XVIII вв. Идее переменной величины, проходящей
неограниченный ряд все меньших численных значений,
отвечает понятие потенциальной бесконечности, поэтому
развитие анализа бесконечно малых от Ньютона и Лейбница
до Коши казалось направленным против актуальной
бесконечности. И действительно, большинство математиков
этого периода считали понятие актуальной бесконечности
неправомерным.
Однако актуальная бесконечность, по существу,
сохранилась в той концепции анализа, которая появилась в
неявной форме в XVII в. и достигла высшей точки развития
в работах Коши. Понятие функции предполагает
существование актуально-бесконечного множества. Одна
величина находится в функциональной зависимости от другой
величины, т. е. существуют два множества, в которых
каждому элементу одного множества соответствует некоторый
элемент другого множества. Эти множества могут быть
бесконечными. Мы не пытаемся задать эти множества,
последовательно увеличивая число известных нам элементов.
Здесь понятие бесконечности возникает иным путем — не
счетным, а логическим. Соответствие между двумя
множествами, возможность сопоставить элементу одного
множества элемент другого множества гарантируются
некоторым законом, с помощью которого мы находим значение
функции, т. е. элемент, соответетвующий данному элементу
рассматриваемого множества значений независимой
переменной. Бесконечному ряду этих значений может
соответствовать бесконечный ряд элементов второго множества.
Бесконечность означает в данном случае неограниченную
возможность прибавления к конечному числу констатации
соответствия все новых и новых констатации. Таким
образом, перед нами потенциальная бесконечность. Но мы
можем определить бесконечность области, на которой опреде-
252
Лена функция, вовсе fie таким путем. Мы берем не
значения независимой переменной и функции, а вид функции,
который как бы заранее определяет все соответствия между
множествами в пределах области, где элементам одного
множества по определенному закону соответствуют
элементы другого множества.
Естественнонаучный закон — прообраз актуальной
бесконечности, определенной не пересчитыванием
(невозможным!) элементов бесконечного множества. Новое понятие
актуальной бесконечности было введено в математику
Георгом Кантором. Канторовская бесконечность —
актуальная бесконечность, не являющаяся исчисленным
неисчислимым множеством. Исходная идея Кантора — это задание
множества по содержанию. Множество может быть задано
перечислением всех входящих в него элементов.
Бесконечное множество не может быть задано таким способом. Но
множество можно задать иначе, указав некоторые
признаки, которыми должны обладать все элементы
множества. Подобным образом, по содержанию, может быть
задано и бесконечное множество.
Кантор сопоставляет два бесконечных множества. Если
каждому элементу одного множества можно взаимно
однозначным образом сопоставить элемент другого
множества, то множества называются равномощными. Мощность
заменяет собой число элементов в старом, необобщенном
смысле, неприменимом к бесконечности.
В основе всей этой эволюции лежали математические
эквиваленты понятия закона, связывающего один
бесконечный ряд величин с другим бесконечным рядом
величин, одно непрерывное многообразие с другим
непрерывным многообразием. Прообразом подобных законов был
закон падения тел, высказанный Галилеем в наиболее
полной форме на страницах «Бесед».
Понятия равномерного и равномерно-ускоренного
движения были довольно подробно разработаны
номиналистами XIV в. Орем и другие говорили о равномерном
движении и называли его «униформным». Номиналисты говорили
и о неравномерном («диформном») движении и, наконец,
об униформно-диформном, т. е. равномерно
ускоренном движении.
Отношение идеи Галилея к идеям номиналистов XIV в.
примерно таково же, как отношение «Гамлета» к легенде
о датском принце, существовавшей задолго до Шекспира.
253
Последний вложил в pa&fcfty старой фабулы этйческуй)
программу (и этические противоречия) новой эпохи. Галилей
вложил в одно из понятий схоластики XIV в. основную
программу (и основные противоречия) новой концепции
природы. Он заявил, что основа реальных движений —
свободное падение тел — это и есть униформно-диформное
движение номиналистов XIV в.
В этой характеристике: «униформно-диформное»,
«равномерно ускоренное» акцент — на первом слове. Это
легко показать.
Галилей пришел к количественному закону падения
тел в Падуе. 16 октября 1604 г. он писал Паоло Сарпи:
«Рассуждая о проблемах движения, я искал абсолютно
бесспорный принцип, который мог бы служить исходной
аксиомой при анализе рассматриваемых случаев. Я
пришел к предложению достаточно естественному и
очевидному, из которого можно получить все остальное, а именно:
пространство, проходимое при естественном
движении, пропорционально квадратувре-
м е н и и, следовательно, пространства, проходимые в
последовательные равные интервалы времени, будут
относиться как последовательные нечетные числа. Принцип
же состоит в следующем: тело, испытывающее
естественное движение, увеличивает свою скорость в той же
пропорции, что и расстояние от исходного пункта. Если,
например, тяжелое тело падает из точки а по линии abed, я
предполагаю, что градус скорости в точке с так относится
к градусу скорости в точке &, как расстояние са к
расстоянию Ъа. Подобным же образом, далее, в d тело
приобретает градус скорости, настолько больший, чем в с,
насколько расстояние da больше, чем расстояние са» 10.
Впоследствии Галилей связал скорость не с пройденным
расстоянием, а с временем. Но здесь еще более
существенна другая сторона дела.
А. Койре обратил внимание на характерную
особенность приведенного отрывка. Галилей нашел
количественную формулу закона. И тем не менее он ищет
дальше. Он ищет более общий логический принцип, из
которого вытекает закон падения. Уже одного этого достаточно,
говорит Койре, чтобы опровергнуть тезис Маха о
«позитивизме» Галилея11.
Но какова природа этого более общего принципа?
Галилей ищет в природе линейные отношения. Он на-
254
ходит их для движения тела, предоставленного самому
себе и движущегося равномерно. Расстояние, пройденное
таким телом, пропорционально времени. Но вот перед
Галилеем ускоренное движение. Здесь нарушена линейная
связь между временем и пройденным расстоянием. Тогда
Галилей предполагает, что «градус скорости» линейным
образом зависит от времени, скорость увеличивается про-
проционально времени. В первом случае независимой от
движения, постоянной, инвариантной была скорость, во
втором случае — ускорение. В случае неравномерного
ускорения Галилей нашел бы инвариантную величину и
связал бы ускорение линейным отношением с временем.
Но для этого не было физических прообразов.
Отмеченная особенность письма к Сарпи очень
характерна. По сравнению с законом изменения скорости
более общим и исходным служит закон
неизменности ускорения. Но в этих характерных для Галилея
поисках заложена основная идея дифференциального
представления о движении и относительности движения.
В «Беседах» теория равномерно-ускоренного движения
изложена систематически. В течение третьего и
четвертого дней Сальвиати, Сагредо и Симпличио читают
латинский трактат Галилея «О местном движении» и
обсуждают его содержание. Этим приемом Галилей включает в
текст «Бесед» написанное ранее систематическое
изложение своей теории.
Прежде всего отметим самое главное в определении
равномерного движения,— самое главное с точки зрения
генезиса дифференциального представления о движении.
Определение равномерного движения таково:
«Движением равномерным или единообразным я
называю такое, при котором расстояния, проходимые
движущимся телом в любые равные промежутки времени,
равны между собою» 12.
К этому определению Галилей дает «Пояснение», в
котором подчеркивается слово «любые», относящееся к
промежуткам времени:
«К существовавшему до сего времени определению
(которое называло движение равномерным просто при равных
расстояниях, проходимых в равные промежутки времени)
мы прибавили слово „любые", обозначая тем какие угодно
равные промежутки времени, так как возможно, что в
некоторые определенные промежутки времени будут прой-
255
Дены равные расстояния, в то время как в равные я*е, но
меньшие части этих промежутков пройденные расстояния
не будут равны» 13.
Приведенные строки означают, что какой бы малый
промежуток времени (и, соответственно, отрезок пути) мы
ни взяли, определение равномерного движения должно
оставаться справедливым. Если перейти от определения к
закону (т. е. указать условия, при которых
осуществляется определенное только что движение, например, «тело,
предоставленное самому себе, движется равномерно»), то
действие закона относится к сколь угодно малым
интервалам времени и отрезкам пути.
Из «Пояснения» видно, что деление времени и
пространства на сколь угодно малые части имеет смысл только
потому, что возможны изменения скорости. Равномерное
движение определяется для любых, в том числе бесконечно
малых интервалов, потому что оно является негативным
случаем неравномерного движения. Отсюда и вытекает, что
деление времени и пути на бесконечное число частей, в
которых сохраняется одно и то же отношение пространства
к времени, антиципирует ускорения.
Переходя к естественному ускоренному движению —
падению тел, Галилей разъясняет, почему рассматривается
именно этот конкретный случай ускоренного движения.
«Хотя, конечно, совершенно допустимо представлять
себе любой вид движения и изучать связанные с ним
явления (так, например, можно определять основные свойства
винтовых линий или конхоид, представив их себе
возникающими в результате некоторых движений, которые
в действительности в природе не встречаются, но могут
соответствовать предположенным условиям), мы тем не
менее решили рассматривать только те явления, которые
действительно имеют место в природе при свободном падении
тел, и даем определение ускоренного движения,
совпадающего со случаем естественно ускоряющегося движения.
Такое решение, принятое после долгих размышлений,
кажется нам наилучшим и основывается
преимущественно на том, что результаты опытов, воспринимаемые
нашими чувствами, вполне соответствуют разъяснениям
явлений» 14.
Нарастание скорости происходит непре|рывно. Таким
образом, в каждый интервал времени тело должно
обладать бесконечным множеством различных скоростей. Они,
2UG
говорит Симпличио, никогда не могут быть исчерпаны. Эту
древнюю апорию Галилей разрешает ссылкой на
бесконечное число мгновений, соответствующих каждой степени
скорости. Сальвиати отвечает на. замечание Симпличио:
«Это случилось бы, синьор Симпличио, если бы тело
двигалось с каждой степенью скорости некоторое
определенное время, но оно только проходит через эти степени,
не задерживаясь более чем на мгновенье, а так как в
каждом даже самом малом промежутке времени содержится
бесконечное множество мгновений, то их число является
достаточным для соответствия бесконечному множеству
уменьшающихся степеней скорости» 15.
Галилей дает очень изящное и глубокое доказательство
непрерывности ускорения — бесконечно малой величины
интервалов, в которых скорость обладает определенным
значением. Если бы тело сохраняло неизменную скорость
в течение конечного времени, оно бы сохраняло ее и
дальше.
«Предположив возможность этого, мы получим, что
в первый и последний момент некоторого промежутка
времени тело имеет одинаковую скорость, с которой и должно
продолжать движение в течение второго промежутка
времени, но таким же образом, каким оно перешло от первого
промежутка времени ко второму, оно должно будет
перейти и от второго к третьему, и т. д., продолжая равномерное
движение до бесконечности» 16.
Представление о мгновенной скорости, подчеркнем
еще раз, вытекает из ускорений. Равномерное движение
само по себе не требует отказа от старой концепции:
скорость — это частное от деления конечного отрезка на
конечное время. По существу, Галилей делит пространство,
равное нулю, на время, равное нулю. Это тоже вопрос,
адресованный будущему. Ответ был дан теорией пределов и
понятием предельного отношения пространства к времени.
Рассматривать движение в точке и в течение нулевой
длительности — это значит очень далеко отойти от
эмпиризма. Но концепция мгновенной скорости — отнюдь не
платоновская концепция. Так же как мысль о движении
предоставленного себе тела. Так же как мысль о падении
тела в отсутствие среды. Во всех этих случаях отрицания
непосредственной эмпирической очевидности Галилей
исходит из идеальных процессов, которые можно в каких-то
иных явлениях увидеть, осязать, вообще воспринимать
17 Галилеи
257
чувствами. Движение Земли нельзя увидеть, наблюдая
полет птиц, перемещение облаков и т. д., но его можно
увидеть, как думал Галилей, в явлениях приливов, т. е. в
случае ускорения. Нельзя увидеть и даже представить себе
скорость в точке и в течение мгновения. Но можно увидеть
результат изменения таких мгновенных скоростей.
Путь от идеальных конструкций к эмпирически
постигаемым результатам — это путь от скорости
к ускорению, т.е. переход к производной высшего
порядка. Здесь — глубокий гносеологический исток тех
подходов к дифференциальному методу, который мы находим
в динамике Галилея.
Изложив свой знаменитый закон падения тел («если
тело, выйдя из состояния покоя, надает
равномерно-ускоренно, то расстояния, проходимые им за определенные
промежутки времени, относятся между собой как квадраты
времени» 17), Галилей переходит к эмпирической проверке
законов падения— движению наклонной плоскости и
качанию маятника.
Вивиани рассказывает, что Галилей наблюдал качания
люстр в пизанском соборе и это дало ему первый импульс
для открытия изохронности качания маятников 18. При всей
малой достоверности этого сообщения, быть может,
Галилей действительно уже в Пизе заметил, что маятники
качаются независимо от веса с одним и тем же периодом. Не
исключено также, что эти размышления были как-то
связаны с созерцанием произведений Бенвенуто Челлини —
люстр пизанского собора. Здесь мы подходим к одному
традиционному моменту, столь, часто встречающемуся
в биографиях ученых. Яблоко, упавшее перед взором
Ньютона, продолжает традицию пизанской люстры. Можно
думать, что и люстра и яблоко представляют некоторый
интерес для психологии творчества, а в конечном счете и
эпистемологический интерес.
Нет нужды доказывать, что закон падения Галилея и
закон тяготения Ньютона не были записью эмпирических
наблюдений. Индуктивистские иллюзии здесь не требуют
разбора, вряд ли кто-нибудь станет их сейчас защищать.
Но указанные законы не были и априорными. Понятия,
служившие исходным пунктом дедукции (и
обеспечивавшие механике Галилея и механике Ньютона то, что
Эйнштейн называл «внутренним совершенством), допускали
в принципе экспериментальную проверку выводимых из
258
них заключений. И этой принципиальной возможности
соответствует характерная психологическая черта: исходные
абстракции интуитивно ассоциируются с чувственными
образами. И наоборот, чувственные восприятия интуитивно
ассоциируются с абстрактными понятиями. В какой-то
мере подобные интуитивные ассоциации свойственны
научному творчеству всех эпох, но для Возрождения и барокко,
и для Галилея в особенности, они более характерны, чем
для последующего развития науки. Абстрактный образ
сложения двух движений Земли ассоциировался у него с
зрительным образом адриатического прилива. В свою
очередь, абстрактный подтекст непосредственных впечатлений
вызывает то впечатление теоретической
значительности, которое остается от любого описания явлений в
сочинениях и письмах Галилея.
Это относится к описанию самых простых, привычных
явлений и в особенности технических операций (нужно ли
еще раз вспоминать венецианский арсенал!).
Через три столетия после рождения Галилея русский
мыслитель написал великолепную формулу: «Природа не
храм, а мастерская». У Галилея природа — это
совокупность тел, движущихся по законам, которые
демонстрируются в мастерских (конечно, в XIX в. «природа —
мастерская» имело несколько иной смысл). Но для Галилея
и мастерская была «природой» — она служила отправным
макетом картины мира. Впрочем, в этом смысле
«мастерской-природой» оказывался и реальный храм — пизанскип
собор.
Качание маятника — любого маятника, в том числе
люстры в соборе,— показывает, что от тяжести
качающегося тела не зависит время прохождения описываемой им
дуги. Отсюда следует независимость скорости падения от
различий в тяжести падающего тела. Первоначально
Галилей для экспериментального доказательства закона
падения пользовался наклонной плоскостью 19. Замедляя
падение, наклонная плоскость сводила к минимуму
сопротивление воздуха. Чтобы свести к минимуму трение, Галилей
заменил падение тела по наклонной плоскости падением
тела, подвешенного на нити. Исследование качания
маятника было основой общей трактовки проблемы колебаний
и акустических проблем.
Подведем некоторые итоги, относящиеся к понятиям
негативной и позитивной бесконечности.
17* 259
Равномерное Движение придает физический смысл
понятию бесконечности как результата деления конечной
величины. Тело сохраняет свою мгновенную скорость,
которую мы сейчас понимаем как предел отношений
приращения пути к приращению времени при стягивании
последнего в мгновенье. Эта констатация связана с
определением пространства — с его однородностью. Мы
приписываем пространству интегральное свойство однородности,
которое выражается в дифференциальном законе сохранения
мгновенной скорости в каждой точке. Приписывая
пространству интегральную закономерность, определяющую ход
событий в каждой точке, мы рассматриваем пространство
как заданное, актуально бесконечное множество точек.
Но, очевидно, подобное негативное определение
поведения тела в последовательных точках его пути в
последовательные мгновенья имеет смысл только в том случае,
если оно антиципирует позитивное определение. Закон
инерции является дифференциальным законом только
в качестве частной негативной формы закона ускорения.
Если мгновенные скорости тела в различных точках не
могут отличаться одна от другой, то нет смысла вводить
понятие мгновенной скорости.
Закон равномерного ускорения требует определения
скорости как предела отношения приращения пути к
приращению времени. Тем самым вводится дифференциальное
представление движения, и путь движущейся частицы
оказывается состоящим из точек, для каждой из которых
задана вполне определенная характеристика. Она зависит от
интегральных условий области, где определен закон
изменения скорости, и эта область оказывается актуально
бесконечным множеством точек. Теперь и движение по
инерции требует дифференциального представления.
Возможность ускорений приводит к
дифференциальному представлению движения по инерции, постоянство
скорости становится дифференциальной действующей
закономерностью, через которую действует интегральная
закономерность, превращающая однородное пространство в
актуально бесконечное множество точек. Очевидно, такой взгляд
на движение по инерции антиципирует возможность
ускорений.
Теперь следует обратить внимание на характерный для
Галилея переход от того, что было здесь названо
позитивной бесконечностью, к негативной бесконечностп.
260
Выше, по поводу письма к Сарпи о равномерно
ускоренном движении, говорилось, что Галилей хотел вывести
закон изменения скорости из более общего, по его
мнению, принципа инвариантности ускорения при
неравномерном движении в его наиболее простой форме.
Что означает такая тенденция для проблемы
позитивной и негативной бесконечности?
Непрерывное пространство, в котором каждая точка
характеризуется одной и той же скоростью, проходящей
через точку частицы, представляет собой негативно
определенное бесконечное множество. В нем нет выделенных
точек, отличающихся одна от другой поведением
проходящей частицы. Под поведением частицы здесь
подразумевается ее скорость.
Теперь возьмем пространство, в котором частица
движется с равномерным ускорением. Скорость меняется, и
каждая точка отличается от другой по поведению
частицы, если поведение означает по-прежнему скорость. Но
Галилей считает наиболее общим принципом бытия
негативную бесконечность, инвариантность некоторой физической
величины, некоторых пространственно-временных
соотношений при движении. Именно в такой инвариантности он
видит ratio мира, его гармонию. Движение не нарушает
порядка в мире: оно сохраняет незыблемыми некоторые
соотношения. Поэтому оно относительно. В противовес
статической гармонии Аристотеля выдвигается
динамическая гармония. Подобная идея лежит в основе галилеевой
борьбы за гелиоцентризм, она же, как мы видим,
определяет ход мысли в «Беседах».
Падающее тело не сохраняет неизменной скорости.
Точки, из которых состоит траектория падающего тела,
отличаются одна от другой, и мгновенье отличается от
мгновенья по мгновенной скорости частицы. Почему же мир не
становится хаосом, а остается космосом — упорядоченным
множеством элементов?
Галилей переходит от скорости к ускорению. В
простейшем случае неравномерного движения, в случае падения
тел, ускорение остается одним и тем же для бесконечного
множества точек и мгновений. В этом проявляется закон
движения.
Он выражается в существовании двух множеств —
бесконечного множества мгновений и бесконечного
множества точек, в каждой из которых находится движущаяся
lui
частица в заданный момент. Если задано мгновенье, мы
можем определить точку, в которой сейчас находится
частица. Движение точки определяется дифференциальным
законом.
Геометрическим законом определяется и изменение
направления линии по сравнению с прямой в приведенной
в предыдущей главе замечательной реплике Сальвиати:
«чтобы сразу перейти к бесконечному числу перегибов
линии, нужно изогнуть ее в окружность». Эта реплика
—совершенно отчетливая формулировка фундаментальнейшей
идеи классической науки. Она перекликается с весьма
различными по характеру конструкциями будущего. Причем
не только по содержанию, но и по тому торжеству
геометрического 'архимедова духа, которым проникнута реплика
Сальвиати.
Через два столетия это торжество вызвало у
представителя совсем другой, совсем не архимедовой традиции
весьма явное изменение тона философской речи.
В разделе «Количественная бесконечность» (Die
quantitative Unendlichkeit) «Науки логики» (Wissenschaft
der Logik) Гегель, вслед за Кантом, вспоминал
известное стихотворение Галлера о бесконечности:
«Ich haufe ungeheuere Zahlen
Gebiirge Millionen auf,
Ich setze Zeit auf Zeit und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Hoh'
Mit Schwindeln wieder nach dir seh',
1st alle Macht der Zahle, vermehrt zu tausend malen,
Noch nicht ein Teil von dir
Ich zich' sie ab, und du liegst ganzvor
m i r» 20.
(Я складываю огромные числа, целые горы миллионов,
я нагромождаю время на время и миры на миры, ж когда,
с этой страшной высоты, с кружащейся головой, я снова
возвращаюсь к тебе, вся громадная сила чисел,
умноженная тысячекратно, еще не составляет части тебя. Я
отбрасываю это и ты вся передо мной).
Кант называл эти стихи «описанием вечности,
вызывающим содрогание», и говорил о головокружении перед
величием бесконечности. Гегель приписывал
головокружение скуке, вызванной бессмысленным нагромождением
величин,— «дурной бесконечностью». Он придавал смысл
262
лишь последней строке стихотворения Галлера («Я
отбрасываю это и ты вся передо мной») Гегель говорил об
астрономии, что она достойна изумления не вследствие
дурной бесконечности, которой подчас гордятся астрономы,
а напротив, «вследствие тех отношений меры и
законов, которые разум познает в этих предметах и
которые суть разумное бесконечное в противоположность
указанной неразумной бесконечности» 21.
Критика пиетета по отношению к дурной
бесконечности представляет собой один из самых остроумных и ясных
разделов, на которых читатель отдыхает от темных и
тяжеловесных периодов «Wissenschaft der Logik».
Но что означает последняя строка стихотворения
Галлера — неожиданный отказ от нагромождения все больших
и больших величин и скачок к бесконечности, когда она
оказывается перед нами («du liegst ganz vor mir»), легко,
естественно, без усилий?
Мы перестаем сгибать линию в ста, тысяче, миллионе
точек, чтобы получить многоугольник с бесконечным
числом сторон. Мы сгибаем ее в окружность. Иначе говоря, мы
задаем бесконечное множество изменений направления
линии, указывая закон таких изменений (уравнение
окружности). Это и есть великий скачок от мысли о
перечислении элементов множества (включая тщетные
попытки представить исчисленные элементы, неисчислимых
множеств) к оперированию законам и,— т. е.
сопоставлениями однозначно связанных одно с другим бесконечных
множеств. Бесконечность их выражает
универсальность закона. Закон относится к бесконечному
множеству случаев. Бесконечность этого множества —
актуальная бесконечность, но, разумеется, здесь и речи нет о
сосчитанной бесконечности. В естественнонаучном законе
сопоставляются два множества: бесконечное множество
некоторых механических, физических, химических и
других условий (например, определенных распределений
тяжелых масс) и множество величин, зависящих от этих
условий (например, множество сил, действующих между
тяжелыми массами).
Естественнонаучный закон осуществляется всегда и
везде, где налицо причины, вызывающие указанные законо-
следствия22. Это «всегда и везде», независимость
закона от изменения пространственных координат и времени,
постоянство действия закона представляет собой пока еще
263
качественное, исходное понятие для ряда
фундаментальных количественных понятий — преобразования,
инвариантности, относительности.
Как мы теперь знаем, дифференциальные законы
аналитической механики и физики исходят из предельных
отношений пространства, времени и других переменных.
Понятия предела, предельного перехода предельных
отношений — это и есть расшифровка галилеевского скачка от
трудностей, о которых говорил Симпличио, к
неожиданному прямому представлению бесконечности.
Нетрудно видеть, что к этой же идее Галилея
примыкает идея Кантора, который разрывает связь бесконечности
со счетом и основывает ее на параллелизме и
взаимно-однозначном соответствии между множествами.
Но бесконечность точек и мгновений, определяемых
неизменным ускорением, оказывается негативной
бесконечностью. Закон движения говорит о сохранении
динамической переменной, точки и мгновения определяются одним и
тем же значением этой переменной. Мы вновь можем
говорить об однородности пространства: точки
эквивалентны по поведению частицы (теперь это значит — по ее
ускорению) .
Как мы видели, для этого Галилею даже не нужно
выходить за пределы кинетических представлений и
учитывать динамическое взаимодействие тел. Тяжесть —
причина равномерно-ускоренного движения — остается у
Галилея чисто кинетическим понятием.
Тот же метод линеаризации закона движения с
помощью перехода к иной динамической переменной может
быть применен и дальше. Если тело движется с
переменным ускорением, то в простейшем (для этого нового класса)
случае остается постоянным ускорение ускорения. У
Галилея уже готов набор того, что мы бы теперь назвали
производными пространства по времени: первая производная
(скорость), вторая производная (ускорение) и т. д.
Иерархия аналогичных понятий была уже у парижских
номиналистов XIV в. (особенно у Орема) и у
непосредственных предшественников Галилея в XVI в. Но у Галилея
мы встречаем отчетливое ударение на непрерывности
изменения динамических переменных движущегося тела.
Все же переход от скоростей к ускорениям (от
позитивной бесконечности к негативной) еще очень далек от
иерархии производных, от понятий дифференциального и
264
интегрального исчисления. Здесь, как п везде, труды
Галилея — это не арсенал математического оружия, а только
строительная площадка, где сооружается такой * арсенал.
И, как везде, именно это и делает творчество Галилея
особенно интересным сейчас, когда приближается
(отчасти началась) перестройка арсенала. Причем творчество
Галилея в его конкретной исторической обстановке. В
таком аспекте видна первоначальная парадоксальность
исходных концепций классической науки, тех концепций,
которые впоследствии казались очевидными.
Выше говорилось об эмпирической (противоречит
привычным наблюдениям) и логической (противоречит
привычной теории) парадоксальности исходных фактов при
построении новой физической теории. Равная скорость
падения различных по весу тел была парадоксальной в обоих
смыслах. Так же как непрекращающееся движение
предоставленного себе тела. Никто не наблюдал ни движения
тела, полностью предоставленного самому себе, ни
падения тел в абсолютной пустоте. Логическая
парадоксальность также была налицо в обоих случаях. И движение, не
поддерживаемое средой, и падение, не задерживаемое ею,
противоречили аристотелевой физике.
Мысль о логической парадоксальности галилеевой
концепции падения тел может вызвать возражения. Ведь
логика сохраняется цри изменении исходных посылок, она
не имеет, как это обычно считают, онтологического
характера, и из новых, не аристотелевых физических принципов
можно получить соответственно новые выводы, пользуясь
той же аристотелевой логикой. Отсюда следует, что равная
скорость падения тел не является логически
парадоксальной. Она противоречила физике Аристотеля, но не его
логике.
Но все это в действительности не так. И теория
равномерного движения, и теория равномерно-ускоренного
движения, и выдвинутая Галилеем программа геометризации
физики, и «архимедовские» тенденции в его творчестве,—
все это означало переход к новой логике. От логики с
двумя оценками — к логике с бесчисленным множеством
оценок.
В самом деле. Применительно к проблеме частицы и ее
положения в пространстве можно было обойтись
логикой Аристотеля, с двумя оценками «истинно» и «ложно»
и с исключенной иной, помимо этих двух, оценкой. Частица
т
находится либо не находится в данной точке. Но если
частица движется? Здесь сразу возникают парадоксы Зе-
пона. Природа пх — логическая. На воцрос: находится ли
частица в данной точке, нельзя дать ни положительный, ни
отрицательный ответ. Аристотеля это мало смущало. В его
физике движение определяется положением точки в
начальный момент и в конечный момент. Об этом уже
говорилось. Новая концепция движения была иной. Ее
отчетливо высказал Кеплер. Он писал: «Там, где Аристотель
видит между двумя вещами прямую противоположность,
лишенную посредствующих звеньев, там я, философски
рассматривая геометрию, нахожу опосредствованную
противоположность, так что там, где у Аристотеля один
термин: „иное", у нас два термина: „более" и „менее"» 23.
Кеплерова «опосредствованная противоположность»
может означать, что между каждыми «двумя вещами»
(в концепции движения — между каждыми двумя
значениями координат частицы) рассматривается бесчисленное
множество «посредствующих звеньев» (промежуточных
значений). Термины «больше» и «меньше» могут
приобрести при этом метрический смысл: достаточно сопоставить
бесконечное множество положений частицы числовому
ряду. Но это сопоставление будет физически
содержательным, если известен закон движения, определяющий
положение частицы и изменение положения (скорость) от
точки к точке и от мгновения к мгновению.
Если путь, пройденный телом, оказывается
бесконечным множеством точек, в которых должно быть описано
состояние частицы, если аналогичным образом время
оказывается бесконечным множеством мгновений, то
физическая теория уже не может ограничиться чисто логическими
противопоставлениями типа: «тело находится в данный
момент в своем естественном месте» и «тело не находится
в своем естественном месте». Что соответствует в логике
новому, дифференциальному представлению о движении?
Частица—субъект логического суждения, место
частицы — предикат. Суждение состоит в приписывании частице
определенного места. Оно, это суждение, может быть
истинным или ложным. Но что такое бесконечное
множество смежных точек, через которые проходит частица?
Это — бесконечное, непрерывное
предикатное многообразие, бесконечный ряд предикатов,
которые бесконечно мало отличаются один от другого. Когда
266
мы рассматриваем траекторию частицы в целом (в этом
состоит интегральное представление о движении), можно
считать эту траекторию одним предикатом частицы:
частица обладает (или не обладает такой-то определенной
траекторией. Но в пределах дифференциального
представления о движении, когда мы рассматриваем его от точки
к точке, мы должны считать предикатом каждую точку,
каждое положение частицы и характеризовать движение
непрерывным предикатным многообразием.
Соответственно, чтобы охарактеризовать движение частицы, нам
понадобится не одна оценка «истинно», а бесконечное число
таких оценок, потому что, описывая движение, мы
утверждаем, что частица проходила через все точки на своей
траектории. Каждая мыслимая траектория, через которую
частица не проходила, становится бесконечным
множеством предикатов, при приписывании которых данной
частице мы нуждаемся в оценке «ложно», следовательно,
нам понадобится бесконечное число и этих оценок. Если
мы можем говорить с полной достоверностью о
пребывании частицы в каждой точке траектории и об ее
отсутствии во время описываемого движения во всех других
точках пространства, то мы пользуемся бесконечным
множеством оценок «истинно» и бесконечным множеством
оценок («ложно». Бесконечному множеству оценок «ложно»
(оценок суждения о пребывании частицы в данной точке)
соответствует бесконечное множество точек на кривых,
полученных при вариации. Бесконечному множеству оценок
«истинно» соответствует бесконечное множество точек на
действительной траектории, определенной принципом
наименьшего действия. Логику с таким числом оценок можно
назвать бесконечн о-б ивалентной.
Это еще не математика, здесь еще нет нового
алгоритма, но это уже открытая перед математикой дверь. Перед
математикой бесконечно малых.
Теперь мы можем сделать из этих логических
противопоставлений динамики Галилея и перипатетической дина-
микп собственно исторический вывод. Он относится к
психологическому эффекту и психологическим условиям
дифференциального представления о движении.
Логические аргументы могут (тоже не без некоторой
психологической перестройки) обосновать переход от
одной физической концепции к другой. Но что делать, если
сама логика доляша измениться, чтобы новые физические
267
идеи получили непротиворечивый смысл? В подобном случае
психологическая перестройка гораздо существеннее и
радикальнее, чем в том случае, когда одна физическая
теория переходит в другую в рамках неизменной логики.
Нам трудно представить себе, какое интеллектуальное
напряжение понадобилось, чтобы усвоить новый взгляд на
движение. Логическая изощренность номиналистов была
недостаточной. Вопрос мог быть решен апелляцией к
опыту. К новому опыту, к опыту новых общественных кругов.
И все это произошло чрезвычайно быстро, на глазах
одного поколения.
Старая логика могла быть спасена дри переходе к
новой физике, если бы последней приписали только
феноменологическое или условное значение. Собственно говоря,
такой выход был указан уже Зеноном, когда он из
противоречий (по существу, логических, неразрешимых без
перехода к бесконечно-валентной логике) вывел отсутствие
движения. Причем не феноменологического движения, а
действительного. В XVII в. можно было объявить орбиты
планет с центром — Солнцем условными геометрическими
абстракциями. Тогда сохранялась статическая гармония
неподвижных естественных мест, механика мгновенных
скоростей и ускорений становилась условной, а вместе
с ней — инфинитезимальное представление и новая логика.
Деятельность Галилея после «Диалога» и процесса
1633 г. была отказом от такого пути и выбором другого,
включавшего новую астрономию, новую механику, новую
математику и логику.
XVI. Последние годы
«Беседы» были последней великой вехой
средиземноморской полосы в развитии науки в Западной Европе и
первой вехой атлантической полосы. Их содержание
преемственно связано со всем, что было вызвано к жизни
Крестовыми походами, возвышением и расцветом
итальянских городов и итальянским Возрождением. Их
судьба — публикация и наиболее значительный резонанс —
выражала новые веяния, связанные в последнем счете
с открытием Америки, революцией цен, мануфактурами,
развитием городов и восстаниями горожан.
Эти веяния унесли рукопись «Бесед» в Лейден. И они
же не дали Галилею возможности закончить части
«Бесед», требовавшие дальнейшей длительной работы.
Во второй половине 30-х годов XVII в. в европейских
странах, зависящих от морской торговли и морских
сражений, еще больше, чем раньше, интересовались
определением долготы на море.
Как уже говорилось, Испания и Голландия назначили
премии за работы по определению долготы. Во Франции
Ришелье, только недавно учредивший суверенно владевшие
колониями монопольные торговые общества, решил создать
комиссию из ученых. Эта комиссия — заметим попутно —
выбрала западную оконечность острова Ферро в качестве
первого меридиана.
Назначенной Ришелье комиссии пришлось долго
возиться с проектом Жана Морена, французского астролога,
предложившего определить долготу по движению Луны.
Комиссия сочла этот метод практически неосуществимым.
Тогда Морен засыпал астрономов Европы жалобами,
требованиями отзывов, иападками па комиссию и даже
269
(в печати!) на Ришелье. И Морен и, с другой стороны,
один из членов комиссии, Жан де Богран, писали Галилею
и запрашивали его мнение. Богран, приезжавший во
Флоренцию, посещал Галилея и обсуждал с ним проблему. В
результате в ноябре 1635 г. Галилей отправил письмо
вернувшемуся в Париж Бограну с характеристикой Морена
и его метода 1.
Письмо напоминает былые памфлеты Галилея
точностью личных эпитетов, иронией и ясным изложением
проблемы определения долготы. В этом письме Галилей
снова, как прежде, с удивительной естественностью переходит
от полемических выпадов к теоретическим рассуждениям
и от них — к практическим методам.
В 1635 г. и в начале 1636 г. Гуго Гроций добивался,
чтобы галилеев метод определения долгот по движению
Медицейских звезд был приобретен и применен
Голландией 2.
Посланные в этой связи из Парижа письма Гроция
представляют собой яркую иллюстрацию отношения к
«Диалогу» и к его автору в протестантском мире. Гроций
считал «Диалог» самым крупным событием в науке XVII в.3
Он хотел; чтобы Галилей вырвался из рук инквизиции и
переехал в Амстердам.
В августе 1636 г., после того как Генеральные Штаты
решили получить и применить галилееву методику
определения долгот, Галилей написал большое письмо
Генеральным Штатам4. Он надеялся, что Голландия в
качестве передовой, могущественной и богатой морской
державы сможет осуществить его план одновременных
астрономических наблюдений в различных пунктах земной
поверхности.
Галилей обращается к Генеральным Штатам как к
«покорителям и властителям океана» (domatori e dominatori
delFOceano) 5. Он рассказывает историю определения
долгот до того момента, когда применение телескопа и
открытие Медицейских звезд позволило определять долготы
новым методом.
«По прежним временам небо было на этот счет щедро,
но по нынешним нуждам оно изрядно скупо, помогая нам
только лунными затмениями: и не потому, что то же самое
небо не изобилует явлениями частыми, заметными и куда
более подходящими для наших нужд, чем лунные и
солнечные затмения, но правителю мира угодно было скры-
270
вать их вплоть до наших дней и раскрыть нам их трудами
двух умов, голландца и итальянца из Тосканы,
флорентийца. Один впервые изобрел телескоп или голландскую трубу,
а второй впервые открыл и наблюдал Медицейские звезды,
названные им так по дому его князя и государя» 6.
Дальше идет рассказ о Медицейских звездах и
использовании наблюдений для картографии и судоходства.
Письмо заканчивается надеждой на то, что опыт и мощь
морской державы позволят ей не бояться трудностей.
«Начало всех больших предприятий связано с
трудностями, преодолеваемыми со временем терпением и
умением людей, и в этом может сразу убедиться каждый при
рассмотрении любого искусства: мы можем быть уверены, что
вначале оно было весьма слабо развито, а сейчас его плоды
таковы, что вызывают восхищение самых возвышепных
умов. Я мог бы назвать множество искусств, но
достаточно ограничиться кораблевождением, доведенным вашими
же голландцами до столь поразительного совершенства, и
если единственное оставшееся дело — определение
долготы, которое, видимо, пока им не дается, благодаря их
последнему и величайшему изобретению присоединится
к списку остальных остроумных операций, то слава их
достигнет такого предела, превзойти который никакая другая
нация ие сможет и мечтать» 7.
Собственно научные цели, которые преследовал
Галилей, не вызвали большого энтузиазма у Генеральных
Штатов. Правящие круги Голландии интересовались
практическими, быстро реализуемыми методами определения
долготы на кораблях. Географические, геодезические и
картографические проблемы интересовали их не в такой большой
степени. В 1637 г. Константин Гюйгенс (отец Христиана
Гюйгенса) писал Диодати:
«Наши народы с трудом сочтут себя обязанными за
широкий дар, более прекрасный, чем выгодный» 8.
Нечто похожее встречается в письме бывшего
губернатора Голландской Индии, адмирала и математика Лаурен-
са Реаэля. Посылая Галилею официальное послание
Генеральных Штатов, Реаэль намекал в сопроводительном
письме, что метод Галилея слишком тонок «для такого грубого
народа, как голландские моряки» 9 (a i nostrii marinari,
gente rozza ...).
Комиссия, в которую вошли Константин Гюйгенс,
Реаэль и другие ученые Голландии, переписывалась с Галиле-
271
ём. Переписка велась через скрытые от инквизиции
каналы. Она представляет значительный исторический интерес,
так как иллюстрирует значение практических нужд
морской торговли XVII в. для развития астрономических
наблюдений. Значение это не укладывается в какую-либо
простую формулу. Требование практической применимости
часто тормозило наблюдения, которые пока не могли дать
практические результаты. Галилей настойчиво разъясняет
принципиальную возможность применения нового метода
для определения долгот.
Он не хотел никаких личных преимуществ и
безвозмездно послал Генеральным Штатам не только указания,
относящиеся к методу определения долгот, но —
в 1637 г.— и свой собственный телескоп: Галилей уже
почти ослеп и не мог вести наблюдения.
Гюйгенс, Реаэль и другие члены комиссии добились
одобрения предложений Галилея. Генеральные Штаты
поручили амстердамскому математику Гортензию отвезти
предназначенную для Галилея золотую цепь — знак
признательности. Об этом Гюйгенс писал в Париж Элиа Дио-
дати, который был одним из самых деятельных участников
группы, обеспечивавшей связи Галилея с Голландией.
В письме говорится:
«Я позволил себе задержать свой ответ Вам до тех псчр,
пока не смогу в действительности высказать Вам свое
уважение к Вашим приказаниям, которые, вместе с
соображениями общественного блага, настолько значительны, что
заставили меня стать инициатором поездки господина
Гортензия, решенной три дня тому назад. Вы уже давно и
справедливо упрекаете нас в медлительности; но то
положение, в котором мы сейчас находимся, заслуживает
извинения. Представляете ли Вы себе, скольким людям
высокого положения и власть имущим мы были вынуждены
проповедовать неведомую дотоле истину, принятую
вначале за безумие, и чистосердечно признаваться Вам в
невежестве моей родины, munera nondium intellecta defim?
Наконец, милостивый государь, этот тяжелый этап пройден.
Остается только пожелать, чтобы господин Галилей не
слишком спешил перейти из настоящей к лучшей жизни.
Мне рассказали о тех надеждах, которые Вы имеете на его
выздоровление, но я не знаю, почему у меня на сердце
какое-то другое предчувствие с тех пор, как мне описали
болезнь, приковавшую его к постели. Если Ваши ирсдполо-
272
жепия подтвердятся, умоляю Вас сообщить нам об этом
с оказией. Erit non iratorum terrae populisque deorum
sidereum servasse ducem, до тех пор, пока эта лекция
нам не разъяснит с многих сторон все то, в чем будут
разбираться еще целый век после смерти этого
исключительного человека» 10.
В этот момент все дело рухнуло. Флорентийскому
инквизитору донесли о связях Галилея с Голландией и даже
о посланной ему золотой цепи. Инквизитор сообщил в
Рим п. Урбан VIII распорядился, чтобы великий герцог
Тосканы запретил Галилею принять подарок 12. Великий
герцог повиновался. Вместе с тем были запрещены
переговоры с Генеральными Штатами и вообще какие бы то ни
было сношения Галилея с Голландией.
Вскоре после этого флорентийский инквизитор сообщил
в Рим, что Галилей, «совершенно ослепший, скорее уже
лежит в гробу, чем занимается математическими
построениями» 13. Через некоторое время Галилей узнал, что Реа-
эль и Гортензий внезапно умерли. Галилей хотел все же,
чтобы дело не совсем заглохло, и порекомендовал Гроцию
своего ученика Винченцо Рениери.
В 1639 г. в Арчетри появился семнадцатилетний Ви-
вианп. Два года спустя сюда приехал ТорричеГлли и на
короткое время — Кастелли.
Галилей сообщил Торричелли свои новые мысли по
основным математическим и физическим проблемам, вел
длительные беседы на научные темы с Вивиани и
Кастелли и диктовал письма — небольшие трактаты по
механике 14.
В феврале 1638 г. Галилей продиктовал сравнительно
большую и важную астрономическую работу о либрации
Луны 15. Она была составлена в виде письма Альфонсо Ан-
тонини, венецианскому военному теоретику, который
попросил, чтобы Галилей доказал свой приоритет в открытии
либрации.
Письмо к Антоыини включает краткое и очень ясное
изложение наблюдений Галилея над краями диска Луны.
Появление и исчезновение па краю диска некоторой части
лунной поверхности вызваны либрационными
движениями спутника Земли.
В конце письма Галилей называет имя аббата Шейпе-
ра, отрицавшего приоритет Галилея, старого врага, одного
из вдохновителен начатой иезуитами травли ученого.
18 Галилей
273
И здесь перед нами на миг снова появляется образ
энергичного и темпераментного полемиста.
Темой следующего письма, носившего характер
трактата, на этот раз более обширного, также была Луна.
Речь шла о ее пепельном свете. Поводом для письма был
очередной схоластический трактат.
Один из представителей традиционного
схоластического направления, Фортунио Личети, попытался объяснить
свечение затененной лунной поверхности излучением
накопленного Луной солнечного света. Эта теория была
высказана в «Litheosphorus» —трактате Личети о болон-
ском камне (pietra lucifera di Bologna). Так был
назван минерал, впервые найденный близ Болоньи,
обладающий способностью фосфоресцировать после
предварительного освещения солнечными лучами. Открыт он был
в начале XVII в. и вызвал общий интерес. Ученые старой
школы предпочитали строгой системе посылок и
экспериментальных проверок традиционное нагромождение
достопримечательностей и случайных, привлеченных в связи с
ними цитат из Аристотеля. Именно таков трактат Личети
о болонском камне.
Личети — профессор философии и меддципы в
итальянских университетах, отличавшийся крайне
неупорядоченной эрудицией в «натуральной магии» и в текстах
Аристотеля, в своем трактате — причудливой смеси
литературных реминисценций и всевозможных фантазий —
упомянул о работах Галилея. В 50-й главе своего
трактата 16 он критикует теорию пепельного света Луны,
выдвинутую Галилеем.
Личети пользуется характерной для эпигонов
перипатетизма внешней аналогией: если болонский камень может
аккумулировать солнечный свет, то и обращенная к
Солнцу поверхность Луны может накопить свет и затем
излучать его. Таково происхождение свечения затененной
части лунного диска. Доказательства — чисто литературные,
большой ыабо!р цитат из Аристотеля.
Галилей не собирался отвечать Личети. Но вскоре он
убедился, что книга Личети стала довольно известной.
Бывший ученик Галилея принц Леопольдо Медичи
(впоследствии, в 1657 г.— основатель Academia del Gimento —
кружка учеников и последователей Галилея) весной
1640 г. попросил его ответить на аргументы Личети
(«легкомысленные аргументы», писал принц).
274
Галилей продиктовал тогда в видб письма ЛеопольДо
трактат о пепельном свете Луны (Lettera al Principe
Leopoldo di Toscana) 17.
Олыеки заметил, что трактат о пепельном свете
написан иначе, чем другие полемические трактаты: здесь нет
раздражения и гнева, Галилей свободно и радостно
отдается своей стихии и скорее играет с Личети, нежели бичует
его 18.
В начале письма о пепельном свете Луны Галилей
изложил свою точку зрения на стиль научных трактатов.
«Кое-кто предпочитает для изложения философских
тем ту же лаконическую строгую и скупую, лишенную
изящества и украшений манеру изложения, принятую у
чистых геометров, которые не вставят ни одного слова, не
продиктованного абсолютной необходимостью. Я же,*
напротив, не отношу к дефекту трактата, хотя бы и
устремленного к одной цели, насыщение его разнообразными
сведениями, лишь бы они не были совершенно изолированными,
лишенными всякой связи с основным содержанием; более
того, я нахожу, что благородство, величие и великолепие,
придающие нашим поступкам и деяниям изысканность и
совершенство, заключены не в вещах необходимых (хотя
пренебречь ими значило бы совершить наибольшую,
решающую ошибку), а в вещах необязательных, лишь бы
они не стояли особняком, а находились бы в некоторой,
пусть незначительной, связи с основным намерением» 19.
Несколько странная в устах Галилея декларация. Уж
очень в духе барокко. Галилей был писателем этой эпохи,
но он смотрел вперед и как ни свойствен ему
многокрасочный наряд барокко, эстетический идеал Галилея не
противостоял геометрическому изяществу научных
произведений следующего поколения. Стиль Галилея
соответствовал его методу. Для Галилея основной путь научного
объяснения — геометрический путь. Геометрия Галилея ие
потеряла связи с физикой, не приблизилась к априорной
схеме, она остается в кругу естественных наук и не
выходит за пределы этого круга и за пределы свойственных ему
стилистических особенностей. Тем не менее однозначность
остается основным требованием. Поэтому апология «не
необходимых вещей» кажется чуть ли не мистификацией.
Впечатление это все усиливается. Галилей продолжает
говорить о неоднозначных украшениях, причем говорит о
mix неоправданно приподнятым тоном20. «Пиршество,—
18* 275
Продолжает Галилей,— становится торжественным й
изысканным не только благодаря выбору яств и вин. Величие
и благородство ему придают, кроме того, достойное
изящество пышного убранства, сияние серебряных и золотых
сосудов, украшающих обеденный стол и буфеты,
услаждающая гармония созвучий, сценические представления
и забавные, мило звучащие шутки» 21.
Язык трактата становится все более напыщенным, а
апология нанизывания не связанных с сюжетом деталей —
все более неумеренной. Если у читателя оставались
сомнения в ироническом характере строк Галилея, они
рассеиваются, когда Галилей сравнивает научный труд с
стихотворением, «достоинство которого в высшей степени
усиливается изяществом и разнообразием эпизодов, и Пиндар,
глава лириков, достигает вершин в своей манере отступать
от основной цели — воспеть своего героя, и обращенная
к нему хвалебная ткань охватывает десятую, а подчас и
двадцатую часть его стихов; остальные посвящены
разнообразным описаниям разных вещей, связанных с основной
темой очень тонкими нитями» 22.
Теперь Галилей обрушивает на Личети иронический
панегирик. Оказывается, это его энциклопедическое и
беспорядочное собирание непроверенных сообщений,
домыслов и цитат соответствует высказанному только что
идеалу научного сочинения.
«В общем я полностью одобряю то, что синьор Личети
щедро приводит тысячи и тысячи различных сведений в
своих сочинениях, в частности в этом сочинении. Здесь,
прежде чем дать жаждущему читателю утолить свою
жажду, он доставляет нам такое полезное удовольствие,
приводя столько превосходных сведений, что он воистину
заставляет нас воздать ему тысячекратную благодарность за
экономию времени и труда — за избавление от необходимости
обращаться к книгам сотен и сотен авторов» 23.
Затем Галилей в этой же саркастически-веселой манере
показывает произвольный и беспочвенный характер
сближения свечения Луны и свечения болонского камня, и
перед читателем остается развенчанный Личети. Ио не
только он. Личети импонировал многим. Напыщенная лексика
казалась вдохновением, бессистемное собирание фактов —
энциклопедической эрудицией, самоуверенный тон
смешивали с обоснованностью суждений. Все эти свойства были
пе только личными. Они выражали самое существо эпи-
276
гонского перипатетизма. Галилея раздражала leggerezza —
легкомыслие, с которым Личети разрешал, причем
окончательно и на все времена, загадки мироздания.
Мысль об интенсивной достоверности знания была
неотделима у Галилея от мысли о бесконечно малом
экстенсивном знании, т. е. о бесконечном пути, который лежит
перед наукой. Поэтому, когда Личети высказывал в
окончательной форме свои представления о природе света,
Галилей ему отвечал:
«Я был бы удовлетворен судьбой, если бы, разбирая
природу огня и света, мог бы понять, каким образом в
горсточке холодного и черного артиллерийского пороха
заперты двадцать бочек огня и многие миллионы света,
более того, в каждой мельчайшей крупинке замкнуто, можно
сказать, огромнейшее количество малюсеньких луков,
которые, будучи спущены, несут необычайную силу и
скорость. И меня не сразит упрек, что я не довольствуюсь
истинностью факта после того, как мне ее подтвердил опыт;
на это можно ответить, что все наблюдаемые явления
природы убеждают меня в an sit (в том, что есть), но не
открывают мне quomodo (каким образом) » 24.
Перипатетическая физика рассматривалась ее
адептами как нечто подлежащее дополнению лишь в деталях.
Новые факты — это новые иллюстрации канонизированных
текстов. Поэтому объяснение новых фактов — довольно
легкая операция, приводящая к окончательной абсолютно
истинной теории.
Если естественнонаучные наблюдения — иллюстрация
текстов, то, в свою очередь, тексты всегда содержат ответы
на загадки природы, и нужно лишь раскрыть их смысл. Он
раскрывается сопоставлением текстов — чисто словесным
образом. Поэтому Личети поступил вполне в духе
традиции, когда послал Галилею свою физическую
расшифровку одного греческого стихотворения. Галилей ответил ему,
что нельзя придавать физический смысл игре фантазии
или выдумке 25.
Долгая полемика и переписка с Личети закончилась
декларацией метода повой науки — очень похожей на из-
вестпые нам строки «Saggiatore».
«Если философия'— обращается Галилей к Личети,—
это то, что содержится в книгах Аристотеля, то Ваша
милость была бы, мне кажется, величайшим философом в
мире, потому что тогда она вся в Ваших руках и Вы гото-
W
вы всему дать свое место. Я же верю, что книгу философии
составляет то, что постоянно открыто нашим глазам, но так
как она написана буквами, отличными от нашего
алфавита, ее не могут прочесть все: буквами такой книги служат
треугольники, четырехугольники, круги, шары, конусы,
пирамиды и другие математические фигуры» 26.
Идеи, высказанные в письмах к Личети и вообще в
письмах, которые диктовал Галилей в последние годы
своей жизни, были общими идеями, объединявшими
небольшой кружок его учеников. В письмах, которыми
обменивались Галилей и его ученики и друзья, немало выпадов
против эрудитов старой школы. Примером служит
содержащаяся в письме Торричеллн характеристика автора
многих широко известных физических и других сочинений
патера Кирхера.
«Кирхер наряду с астролябиями, часами,
анемометрами, графиками собирает также эпиграммы, двустишия,
эпитафии и надписи на латинском, греческом, арабском,
еврейском и других языках, а кроме того, среди прочих
прекрасных вещей, также партитуру песенки, которую
считают противоядием против укуса тарантула»27.
Вместе с тем ученики Галилея получали oi Галилея
вплоть до последних лет его жизни указания и советы по
проблемам математики, механики, астрономии и
литературы. Последнее из сохранившихся писем Галилея —
восторженный ответ Торричелли на сообщение о его новых
геометрических исследованиях.
Весной 1641 г. верный последователь Галилея Франчес-
ко Риыуччини, флорентийский посол в Венеции,
использовал дипломатическую почту, чтобы задать Галилею
некоторые астрономические вопросы28. Он спешил обрадовать
Галилея сообщением о работах другого его
единомышленника, Джовапни Пьерони, который обнаружил собственное
движение звезд. Вместе с тем Ринуччини сообщает о
некоей новой антикоперниканской книжке.
Галилей отвечает письмом, в котором последний раз
перед близкой смертью говорит об основной проблеме
«Диалога» 29. Письмо предназначено для широкого круга,
оно не должно никого компрометировать и вместе с тем
должно нанести еще один — последний в жизни
Галилея — удар по геоцентризму.
Письмо начинается благонамеренной ссылкой на
непогрешимость церковного запрета. Но этот запрет вытекает
278
не из астрономической неполноценности системы
Коперника. Система Коперника неправильна: бог мог создать
мир, не связывая себя законами природы и кинетическими
схемами, найденными Коперником. Но система Птолемея
неправильна еще больше — настолько, что ее ошибочность
может быть обнаружена без ссылок на всемогущество
творца, чисто астрономическими аргументами.
«И так же, как я считаю недостаточными наблюдения и
предположения Коперника, я полагаю, что еще более ложны
и ошибочны наблюдения и предположения Птолемея,
Аристотеля и их последователей, поскольку несостоятельность
последних можно достаточно ясно выявить, пользуясь
обычной речью. Вы, Ваша светлость, сказали, что Вас ему-
щает такой довод: мы постоянно видим половину неба над
горизонтом, из чего, согласно Птолемею, можно заключить,
что Земля находится в центре звездной сферы, а не
удалена от него на полудиаметр большого круга. Я отвечу тому,
кто этот довод выдвинул: не верно то, что мы видим
половину неба, и я это буду отрицать, пока он мне не покажет,
что мы видим как раз эту половину, а этого он никогда не
сделает, Тот, кто сказал, что мы видим половину неба
и, следовательно, Земля помещается в центре, сначала
мысленно утвердил Землю в центре и поэтому стал
утверждать, что мы видим половину неба, ибо так должно
было бы получиться, если бы Земля была в центре. Таким
образом, не из того, что мы видим половину неба, сделан
вывод, что Земля в центре, а наоборот, из предположения,
что Земля в центре, заключили, что видна половина неба.
Нужно, чтобы Птолемей и другие такие авторы научили
нас распознавать на небе начальные точки (i princi punti)
Овна и Весов, ибо, что касается меня, я никак не мог бы их
отличить» 30.
Смутивший Ринуччипи аргумент: «Мы видим половину
неба — поэтому мы в центре небесной сферы» — это
аргумент от «очевидности». Галилей говорит, что эта
«очевидность» не имеет объективного характера. Она сама
вытекает из привычного, традиционного представления о Земле
как центре мира.
Это одна из самых центральных эпистемологических
идей Галилея. «Очевидность» — подобно научным
обобщениям — дочь времени, то, что кажется очевидным, может
стать парадоксальным, и наоборот, очевидность —
феноменологический критерий — недостаточна для выбора науч-
279
ной теории, теория должна соответствовать не
непосредственной очевидности, а очевидности эксперимента, природу
нужно спрашивать, и ее ответы, облеченные в
математическую форму, раскроют объективную истину.
Последним коперникаыским письмом Галилей еще раз
включает все свое творчество в историческую цепь
разоблачения «очевидности»: «очевидной» плоской Земли,
«очевидной» невозможности существования антиподов,
«очевидного» движения Солнца по небосводу, и дальше, в
будущем,— «очевидного» различия в скорости света в
движущихся системах, «очевидной» эвклидовости
пространства. Эта «очевидность» соответствует не природе, а догме,
и ее дискредитация — это дискредитация всякого
догматизма, который может появиться в науке. Только сама
природа — источник истины, и наука развивается
последовательно, исключая все субъективное, все
антропоцентрическое.
И какую бы известность ни приобрела позитивная
концепция ученого, его аргументы никогда не потеряют
своего ореола, потому что они продолжают жить как старое
оружие против новых модификаций догматизма.
Бессмертье мысли не может примирить со смертью
мыслителя. Напротив, чем живей его идеи, тем в большей
степени смерть ученого представляется даже через века
тяжелой трагедией.
8 января 1642 г. Галилей скончался на руках Вивиани
и Торричелли.
Когда шифрованное сообщение папского нунция в
Тоскане о смерти Галилея (и о намерении великого герцога
похоронить его рядом с гробницей Микеланджело) 31
пришло в Рим, Урбан VIII сразу же запретил какие-либо
торжественные похороны. Кардинал-непот Франческо Барбе-
риии 25 января отправил нунцию во Флоренцию
следующее распоряжение:
«Монсииьор асессор зачитал нашему государю, его
святейшеству, письмо Вашего преподобия, в котором
сообщалось о смерти Галилео Галилея и указывалось, что должно
быть, по-видимому, сделано в связи с его похоронами и
установкой памятника. И его святейшество, в согласии с
указанными мною высокопреосвященствами, решил, что Вы, с
Вашим обычным искусством, сумеете довести до сведения
великого герцога, что нехорошо строить мавзолей для
трупа того, кто был наказан трибуналом святой инквизиции
280
и умер, отбывая это наказание, ибо это могло бы смутить
добрых людей и нанести ущерб уверенности в благочестии
его высочества. Но, если все же не удастся отвратить
великого герцога от такого замысла, Вам надо будет
предупредить, что в эпитафии или надписи, которая будет на
памятнике, не должно быть таких выражений, которые
могли бы затронуть репутацию этого трибунала. И такое
же предупреждение надо будет Вам сделать тому, кто
будет читать надгробную речь, и Вы позаботьтесь о том,
чтобы посмотреть и обсудить ее, прежде чем она будет зачтена
или напечатана. Проницательности и мудрости Вашего
преподобия его святейшество поручает урегулирование'
этого дела. И да сохранит Вас господь» 32.
Со своей стороны тосканский посол в Риме в тот же
день — 25 января — доносил великому герцогу об
опасности намеченных посмертных почестей. Папа вспоминал
о процессе Галилея. «Расспрашивая по поводу его книги
о движении Земли, он затем обратился ко мне, сказав, что
хочет доверительно сообщить мне нечто и только на
словах,— не так, чтобы я должен был писать об этом куда-то,
дело же состояло в том, что до его святейшества дошли
слухи, будто государь собирается соорудить ему могилу в
Сайта Кроче, и сгцросил меня, не знаю ли об этом. Я
действительно слышал такие разговоры много дней тому
назад, тем не менее я ответил, что ничего об этом не знаю.
В ответ его святейшество мне сказал, что имеются
некоторые сведения, но неизвестно, правда ли это или ложь.
Так или иначе, ему угодно было сказать мне, что это не
будет удачным примером для остальных, если Ваше
высочество сделает такую вещь. Галилей находился здесь под
судом святой инквизиции из-за взглядов, крайне ложных
и очевидно ошибочных, которые он внушал многим
другим. Он посеял немалую смуту во всем христианском мире
учением, которое признано вредным. Галилей прибыл сюда
для обсуждения поставленных им вопросов и тех ответов,
которые он на них давал. Прошло много времени, пока он
признался в том, что его убедили» 33.
Только много лет спустя, когда Вивиани в своем
завещании выразил желание, чтобы прах Галилея покоился
рядом с Микеланджело, это было выполнено.
XVII. Пролог и эпилог
классической науки
Замечание Урбана VIII, о котором тосканский посол
сообщил во Флоренцию, характеризует взгляды Галилея
как противоречащие очевидности. С другой стороны,
Галилей в своем научном завещании — письме к Ринуччини —
выступил против «очевидности» как критерия
объективной истины. Он, как мы видели, считал «очевидность»
геоцентризма результатом априорной конструкции.
В этом все дело. Логическая и эмпирическая
«очевидность» была псевдонимом непоколебимости догмата. И
когда Урбан VIII обрушил на Галилея свой переживший
жертву гнев, он был предшественником всех грядущих
противников науки, посягнувшей на догматическую
«очевидность» привычных представлений.
В одной старинной легенде рассказывается о битве,
которая была такой ожесточенной, что после гибели воинов
их тени продолжали сражаться. Битва за новую науку в
XVIT в. соответствует этой легенде. Тень процесса 1633 г.
легла на последующее развитие науки, что и сообщило
Урбану геростратовское бессмертие. Образ Галилея вошел
в арсенал антидогматической ыаукр1 на все время, пока
наука будет актидогматической, пока она будет служить
только объективной истине, иначе говоря,— навсегда.
Антидогматизм науки — ее неотъемлемая черта,
присущая ей во все времена. Но он меняет свой характер.
Парадоксальное отсутствие абсолютного «верха» и
абсолютного «низа» было парадоксальной статической схемой,
гелиоцентризм — парадоксальной кинетической
схемой. Теория относительности Эйнштейна приписала миру
парадоксальные геометрические свойства. Наконец,
квантовая механика постулирует такие закономерности
282
движения частиц, которые не укладываются в рамки
логики, она присваивает микромиру логически
парадоксальные соотношения.
Посмотрим, какую роль играют идеи Галилея в
эволюции ipanra парадоксальности физических концепций. Для
этого мы будем последовательно рассматривать
классические принципы, высказанные — явно или неявно — в
«Звездном вестнике», «Пробирных весах», «Диалоге» и
«Беседах» (гелиоцентризм, сведение определений материи
к количественным определениям, сведение движения к
перемещению, однородность пространства, космическая
инерция, относительность, дифференциальное
представление о мире, негативная и позитивная бесконечность, новое
отношение физики к математике, новая логическая
структура физики и новый метод физической науки). Мы будем
при этом сравнивать: развитую классическую формулу
физической идеи, форму, которой она обладала у Галилея,
и современную форму.
В «Звездном вестнике» изложены первые
непосредственные результаты применения телескопа. Что делает
бессмертным это произведение Галилея? Сейчас мы можем
охватить наблюдением гораздо более обширную часть
вселенной, мы можем воспринимать не только преломленный
в линзах видимый свет звезд, но и другие
электромагнитные колебания, а также космические лучи. Человек может
пх воспринимать не только на поверхности Земли, но и
поднявшись в космическое пространство. И тем не менее
описание наблюдений и открытий, сделанных с помощью
весьма примитивной зрительной трубы, сохраняет свое
значение.
Значение «Звездного вестника» состоит в наблюдениях,
противоречащих геоцентрической картине движения
небесных тел, непосредственной, открывающейся взору
земного наблюдателя. Здесь повторяется все та же схема:
парадоксальные с точки зрения старой концепции явления
теряют свою парадоксальность в новой теории, а затем эта
новая теория получает однозначное подтверждение в
результате новых наблюдений.
Телескоп Галилея расширил вселенную во много раз
по сравнению с тем, что было известно в XVI в. Но мысль
Галилея не вышла за пределы конечной вселенной, и
Галилей не дал определенного решения вопроса о конечной
или же бесконечной вселенной. В развитой классической
Щ
пауке вселенной придавали бесконечную протяженность.
Но в отличие от бесконечности, полученной дри делении
пространства и времени на элементы, экстенсивная
бесконечность вселенной, ее бесконечно большие размеры
оставались чисто негативным определением. Классическая
космология не знала интегральных механических схем,
охватывающих вселенную в целом. Это выражение —
«вселенная в целом» — не имело определенного смысла.
Приведенное выше замечание Римана о несущественности понятия
бесконечно большого оставалось справедливым. Сейчас в
релятивистской космологии понятия конечной и
бесконечной вселенной приобрели новый смысл и по-новому
связаны одно с другим. Понятие кривизны, применяемое к
отдельным областям пространства, и понятие интегральной
кривизны мирового пространства — понятия одной и той
же природы. Поэтому сейчас наука не разделяется в такой
степени, как раньше, на небесную механику конечных
областей и нерасчлеиепиую концепцию бесконечной
вселенной.
Наиболее интересная для нас идея «Пробирных
весов» — «ультракартезианское» сведение объективных
свойств материи к количественным свойствам — величине,
форме, числу, расположению и движению ее
бескачественных элементов. Из этой идеи вытекает сведение всех
качественных измепений в природе к перемещению
тождественных себе, не исчезающих и не возникающих элементов
материи.
Впоследствии физическая атомистика создала
представление о неделимых протяженных частицах,
которые своей формой и расположением объясняют
макроскопические качественные свойства тел. Одновременно
развивалось другое представление — о непротяженных
элементах материи. Оно было в большинстве случаев связано с
динамическими идеями, и неделимые элементы материи
рассматривались как силовые центры — особые точки
силового поля.
У Галилея в «Беседах» элементы материи
рассматриваются как бесконечно малые частицы. Это
неопределенное для того времени представление не связано с
представлением о силах и силовых центрах. Но галилеев
бесконечно малый элемент вещества — зародыш материальной
точкп классической физики. Вместе с тем он является
зародышем всех затруднений современной пауки, вынужден-
284
пой приписать бесконечно малой частице бескопечно
большую энергию и вместе с тем вынужденную более или
менее корректным образом избегать этого физически
абсурдного вывода.
Теперь мы перейдем к главному. «Пробирные весы»
были весьма отчетливой декларацией той концепции мира,
которую мы называем механической концепцией или
механицизмом.
Этот термин только в XIX в. приобрел исторический
смысл, т. е. стал ретроспективной оценкой с позиций,
более высоких, претендующих на немехапический характер.
В XfX в. выяснилось, что сложные формы движения
несводимы к механическому перемещению, по вместе с тем
и неотделимы от него. Законы механики остались
наиболее общими и простыми законами бытия. Однако более
сложные законы не могут быть — как это делали в
XVIII в.— целиком и полностью сведены к более простым
законам. Энтропия, необратимость термодинамических
процессов, необратимый переход к более вероятным
состояниям молекулярных ансамблей не могут быть объяснены с
помощью чисто механических понятий. Химические
процессы не сводятся к физическим и механическим законам,
закономерности жизни — ко всей совокупности
химических, физических и механических законов.
При этом никто не покушался на точность
классических законов механики. Эта точность была взята под
сомнение в XX в., с появлением теории относительности. Но и
сейчас законам механики, правда реформированным,
более точным, оставили роль нар]более общих законов
природы. К ним могут сводиться (наука XVIII в.) или не
сводиться (паука XIX в.) более сложные закономерности.
Они могут быть ньютоновыми (XVII—XIX вв.) или более
сложными (XX в.). Все равно законы механики остаются
наиболее общими.
Квантовая механика ограничила этот взгляд.
Релятивистская квантовая физика, как уже говорилось во вводной
главе, открыла возможность (еще пока не реализованную,
но уже требующую изменения угла зрения на прошлое)
трансмутационной картины мира: исходными
закономерностями служат в пей аннигиляции (аристотелевы фФора)
и рождения (аристотелевы Ysvr]6i£) элементарных
частиц. Макроскопически они создают непрерывное
движение тождественной себе одной и той же частицы.
285
Здесь мы вступаем в область совершенно
гипотетических построений, которые очень далеки от однозначного
качественного объяснения фактов и тем более от строгой
количественной теории, но могут иллюстрировать в
некоторой мере характер тенденций, наметившихся в теории
элементарных частиц, и помочь исторической ретроспекции.
Принципиальная возможность выведения
макроскопических закономерностей движения тождественных себе частиц
из закономерностей элементарных трансмутаций может
быть иллюстрирована следующими предположениями.
Допустим, что элементарная частица определенного
вида аннигилирует в некоторой точке и затем возникает в
соседней точке на расстоянии q ~ 10"13 см (которое
является далее неделимым элементарным расстоянием) через
интервал времени х ~ 10~24 сек (который является далее
неделимым элементарным интервалом времени). Мы
можем отождествить частицу, возникшую во второй точке,
вернее во второй клетке дискретного
пространства-времени, с частицей, аннигилировавшей в первой клетке. Иными
словами, регенерация частицы может рассматриваться как
ее движение на расстояние q ~ 10"13 см в течение
х ~ 10~24 сек со скоростью q/x = с, т. е. со скоростью
света. Элементарные регенерации-перемещения не находят
своих исторических прообразов в аристотелевых категориях
фора («местное движение») и yiv^aiZ, — фдора
(порожденные и аннигиляция), их прообразом являются
скорее кинемы Эпикура — движения атомов с одной и той же
скоростью («изотахия»). Каковы бы ни были исторические
прообразы, каковы бы ни были конкретные формы идеи
квантованного пространства-времени, медленно
пробивающей себе дорогу в современной физике, во всяком случае
мы можем считать логически мыслимым представление об
элементарных сдвигах-регенерациях с постоянной
скоростью, равной скорости света. Эти сдвиги образуют
ультрамикроскопическую траекторию частицы.
Макроскопическая траектория — результат большого числа подобных
элементарных сдвигов. Макроскопическая траектория
частицы с ненулевой собственной массой отличается от
ультрамикроскопической траектории, и ее макроскопическая
скорость меньше ультрамикроскопической скорости q/x =
= с. Она зависит от симметрии вероятностей регенерации
частицы. Если вероятность регенерации одна и та же во
всех пространственных направлениях, т. е. вероятности ре-
286
генерации распределены симметрично повсюду в
рассматриваемом пространстве, то сдвиги в противоположные
стороны макроскопически уравновесятся и частица после
большого числа элементарных сдвигов — случайных
блужданий — окажется вблизи исходного пункта и, таким
образом, будет иметь нулевую макроскопическую скорость.
При очень большой асимметрии вероятностей регенерации
макроскопическая скорость приблизится к скорости света,
но не достигнет ее. Асимметрию вероятностей можно
считать пропорциональной импульсу частицы и даже
отождествить с ним. Из этой картины можно было бы вывести
в качестве макроскопических все соотношения теории
относительности. Скорость света оказывается постоянным
пределом всех скоростей. В пространстве с постоянной
асимметрией вероятностей частица движется равномерно
по прямой макроскопической траектории, т. е. сохраняет
макроскопическую скорость. Движущаяся таким образом
система частиц обладает инвариантной, по отношению к
движению, структурой и внутренними взаимодействиями.
В пространстве с переменной асимметрией, т. е. в силовом
поле, можно представить (для гравитационного поля)
пространство и время искривленными, и тогда на мировых
линиях, совпадающих с геодезическими линиями такого
пространства, макроскопическая асимметрия вероятностей
оказывается постоянной.
Разумеется, подобная схема может иллюстрировать
только принципиальную возможность трансмутационной
картины мира. Но для изменения угла исторической
ретроспекции большего и не требуется. Указанное изменение
заставляет вложить новый смысл в понятие «механической
концепции мира», или «механицизма», распространить его
на всю классическую науку, включая теорию
относительности, т. е. всю науку с начала XVII в. до первой трети
XX в., и на все классические концепции, которые навсегда
сохранят свою справедливость и относительную точность
для областей, во много раз больших, чем 10"13 см и
10~24 сек. В этом случае определяющей особенностью
механической концепции мира будет представление о н е
прерывном движении тождественной себе частицы от
точки к точке и от мгновения к мгновению, т. е.
дифференциальное представление о движении и связанные с ним
понятия негативно или позитивно определенной
бесконечности пространства и времени. Механическая концепция
287
мира считает эти понятия исходными. Она не обязательно
сводит к ним все сложные закономерности природы, как
это делала наука XVIII в. и ее позднейшие эпигоны. Она
не обязательно присоединяет к ним представление о
постоянстве массы и неограниченном возрастании скорости,
как это делала наука XVIII—XIX вв.
Такие более общие, чем сводимость и ньютоновы
соотношения, определяющие принципы картины мира, были
сформулированы Галилеем главным образом в «Диалоге»
(космическая инерция, т. е. однородность искривленного
пространства и негативная бесконечность) и в «Беседах»
(ускоренное движение и позитивная бесконечность).
Понятие инерции можно найти в «Послании к Инго-
ли» и в «Диалоге», только обобщив его так, как это
вытекает из общей теории относительности. Пока Эйнштейн не
стал рассматривать движение в гравитационном поле как
движение тела, предоставленного самому себе в
искривленном пространстве, пока под инерционным движением
подразумевалось движение по прямой, понятие инерции
не могло быть обнаружено у Галилея. Теперь дело
изменилось. Если мы уже учли воздействие других тел,
рассматривая данное пространство как искривленное (говоря
математическим языком: если мы отождествили тяготение
с не равными нулю и единице компонентами метрического
тензора), то в данном, искривленном пространстве, уже
подвергшемся деформации, тело как бы предоставлено
самому себе. Именно это понятие «предоставлено самому
себе» — возможность абстрактного выделения тела из
системы взаимодействующих тел — и определяет принцип
инерции. В классической физике, начиная с учеников
Галилея, этот принцип появлялся после абстрактного
расчленения компонент движения. У Торричелли — в результате
переноса движущегося тела на бесконечное расстояние от
Земли и его возвращения с выделившейся~там абстрактной
компонентой. У Декарта — в результате объяснения
кривизны траекторий толчками встречных тел. У Ньютона —
в результате объяснения кривизны действием сил.
У Галилея взаимодействие тел и их движение вне
такого взаимодействия не были отделены друг от друга, не
стали самостоятельными понятиями.
В общей теории относительности взаимодействие тел
(гравитационное) и искривление их путей (движение тел,
предоставленных самим себе в данном, искривленном про-
288
странстве) связаны между собой уравнением, в
котором по обе стороны знака равенства стоят различные в е-
личины.
Таково вообще отношение между прологом
классической науки — трудами Галилея, классической наукой
XVIII—XIX вв. и теорией относительности: 1) нерасчле-
ненное и неопределенное единство физических понятий,
2) их дифференциация и аналитическое выражение и
3) точный математический синтез диффе|ренцировавшихся
величин.
А каково же отношение галилеевой инерции не к
релятивистской, а к квантово-релятивистской физике, в
частности к понятиям, которые мы иллюстрировали схемой
элементарных регенераций?
В этой схеме нет никаких позитивных понятий и
образов, которые могли бы напомнить физику Галилея, хотя
бы с такими оговорками, которые были сделаны при
сопоставлении общей теории относительности с галилеевой
космической инерцией. Идеи Галилея — интродукция
классической физики непрерывных движений тождественных
себе тел. Трансмутационная картина мира не найдет здесь
своих зародышевых форм. Мы о ней упомянули только
для того, чтобы увидеть преемственность, общность, себе-
тождественность всех форм классической физики —
физики непрерывных движений и непрерывного пространства
и времени. Чтобы увидеть эту преемственность, тождество,
себетождественность, нужно было выйти за пределы
классической физики. С пункта, находящегося за ее пределами,
видно то общее, что соединяет Галилея, Ньютона и
Эйнштейна.
И тем не менее существует связь между Галилеем
и радикально-неклассической физикой дискретных
движений. Мы попытаемся дать о ней представление немного
позже, после дальнейшего сопоставления пролога и
эпилога классической физики. Сейчас мы коснемся проблемы
ускоренного движения и взаимодействия тел.
Ускоренное движение рассматривается, как мы видели,
с наибольшей полнотой в «Беседах». Мы видели также, что
ускорение не рассматривается здесь как результат
взаимодействия тел. Эти понятия не расчленены. Классическая
наука расчленила их и соответственно разделилась на
учение о взаимодействии тел и учение о движении тела в
заданном поле. Такое отношение сохранилось в течение всего
19 Галилей
289
развития классической науки. В 1939—1940 гг. общая
теория относительности привела к новому представлению
о законах поля и законах движения. Они перестали быть
независимы. Уравнения движения тела в гравитационном
поле могут быть выведены из уравнений поля 1.
Таким образом, мы снова видим первоначальное нерас-
члененное единство у Галилея, выделение противостоящих
друг другу понятий и логических систем в классической
науке и, наконец, строго сформулированный синтез
разделившихся понятий в современной науке.
Аналогичным образом выглядит схема «Галилей —
классическая наука XVIII-XIX вв.— современная
наука», если сопоставить отношение физики и математики у
Галилея, в XVIII-XIX вв. и теперь.
Для Галилея математика — и прежде всего
геометрия — это система заключений, однозначно и строго
выведенных из нескольких исходных аксиом. Его поражало
величие этого стройного здания. Эйнштейн писал, что
геометрия Эвклида должна вызывать энтузиазм у каждого
человека, рожденного, чтобы стать теоретиком.
«Мы чтим древнюю Грецию — колыбель западной
науки. Здесь впервые была создана логическая система —
настоящее чудо мысли, ее выводы вытекают один из
другого с такой ясностью, что каждый представляется
совершенно достоверным. Речь идет о геометрии Эвклида. Это
изумительное произведение сообщило человеческой мысли
очень большое доверие к ее последующим усилиям» 2.
Но в древности это доверие еще не привело к
характерной для позднейшего периода иллюзии априорных
представлений о мире. Геометрия оставалась в значительной
степени эмпирической наукой.
«Прямая определялась или с помощью точек, которые
можно оптически совместить в направлении взгляда, или
же с помощью натянутой нити. Мы имеем, таким образом,
дело с понятиями, которые, как это и вообще имеет место
с понятиями, не взяты непосредственно из опыта или,
другими словами, не обусловлены логически опытом, но все
же находятся в прямом соотношении с объектами наших
переживаний. Предложения относительно точек, прямых,
равенства отрезков и углов были при таком состоянии
знания в то же время и предложениями относительно
известных переживаний, связанных с предметами
природы» 3.
290
По мере дальнейшей аксиоматизации геометрию стали
рассматривать как априорную систему. «Стремление
извлечь всю геометрию из смутной сферы эмпирического
привело незаметным образом к ошибочному заключению,
которое можно уподобить превращению чтимых героев
древности в богов»,— говорит Эйнштейн4.
С другой стороны, продолжает Эйншейн, иллюзия
априорности геометрии вырастала и из самой физики.
«Согласно ставшему гораздо более тонким взгляду
физики на природу твердых тел и света, в природе не
существует таких объектов, которые бы по своим свойствам
точно соответствовали основным понятиям эвклидовой
геометрии. Твердое тело не может считаться абсолютно
неизменяемым, а луч света точно не воспроизводит ни прямую
линию, ни даже вообще какой-либо образ одного
измерения. По воззрению современной науки, геометрия,
отдельно взятая, не соответствует, строго говоря, вообще никаким
опытам, она доля-сна быть приложена к объяснению их
совместно с механикой, оптикой и т. п. Сверх того, геометрия
должна предшествовать физике, поскольку законы
последней не могут быть выражены без помощи геометрии.
Поэтому геометрия и должна казаться наукой,
логически предшествующей всякому опыту и всякой опытной
науке» 5.
Классическая наука была далека от того, чтобы из
несовпадения реальных физических соотношений с
геометрическими сделать вывод о возможности иных, более
точных геометрических аксиом. Об этом говорили Гаусс,
Лобачевский, Риман. Но не было физической теории, которая
исходила бы из преобразования геометрических аксиом.
Такой теории не могло быть, потому что классическая
физика была' теорией неизменного «плоского» пространства
(по выражению Вейля, «пространства, как наемной
казармы» 6) и взаимодействий между телами, которые
определяют двия^ения тел.
В физике Галилея не было ни такого разграничения
пространства и взаимодействий, ни твердого
разграничения эмпирической физики и априорной геометрии. Для
Галилея геометрия — это описание эмпирически восприни*
маемых предметов, но она строится логическим путем,
потому что эмпирически постигаемый мир не хаос, а космос,
потому что в нем царствует объективное ratio —
причинная свяэь.
19* 291
Представление об эмпирическом происхождении
геометрии (не противоречащем ее логической структуре та
дедуктивному получению теорем) сохранялось в
классической науке. Это представление в очень яркой форме
высказывали некоторые математики (в частности,
Лобачевский) и физики (Гельмгольц). Но не было физической
теории, которая сделала бы это представление физически
осязаемым.
Такой теорией оказалась общая теория
относительности.
Эйнштейн говорит о современном развитии, идеи
эмпирического происхождения геометрии и генезисе
физической геометрии:
«С этой точки зрения вопрос о применимости или
неприменимости эвклидовой геометрии приобретает ясный
смысл. Эвклидова геометрия, как и вообще геометрия,
сохраняет характер математической науки, так как вывод ее
теорем из аксиом по-прежнему остается чисто логической
задачей, но в то же время она становится и физической
наукой, так как ее аксиомы содержат в себе утверждения
относительно объектов природы, справедливость которых
может быть доказана только опытом. Однако мы должны
постоянно помнить, что та идеализация, которая состоит
в фикции, что в природе действительно существуют
неизменяемые масштабы, может лотом оказаться либо совсем
неприменимой, либо оправдываемой только по отношению
к некоторым определенным явлениям природы. Общая
теория относительности уже доказала неприменимость
этого понятия ко всем областям, размеры которых не могут
считаться малыми с точки зрения астрономии. Быть
может, теория квант будет в состоянии показать
неприменимость этого понятия на расстояниях порядка размеров
атомов» 7.
Можно ли считать физическую геометрию Эйнштейна
возвратом к нерасчлененному представлению Галилея о
геометрии и физике? Все дело в том, что понимать под
«возвратом». Если под ним понимать то или иное
повторение позитивных утверждений, то возврата здесь нет.
В общей теории относительности существует точное
математическое выражение, указывающее степень отхода
геометрических соотношений пространства от эвклидовых
соотношений. «Эвклидовость» и «неэвклидовость»
становятся точными переменными параметрами, имеющими опре-
292
Деленное Значение в каждой точке пространства,—
метрическим поле м. Такого понятия у Галилея не могло быть.
Оно выходит за пределы «предматематической» физики
Галилея и является апофеозом собственно
математического естествознания.
Если же понимать под «возвратом» возврат к
вопросу, на который раньше нельзя было ответить, то такой
возврат несомненен. В общем, и здесь «Галилей —
Ньютон — Эйнштейн» означает: «нерасчлененное единство
— дифференциация — синтез дифференцировавшихся
понятий».
Теперь нам необходимо перейти от связи
логико-математических и эмпирических мотивов в физике к
разграничению и связи логических мотивов, с одной стороны,
и собственно математических, с другой. Выше уже
говорилось о бивалентной логике Аристотеля и
бесконечно-бивалентной логике Галилея. Говорилось также об иерархии
парадоксов — о кинетической парадоксальности
гелиоцентризма, о геометрической парадоксальности теории
относительности и о логической парадоксальности
квантовой механики. Теперь мы вернемся к сказанному в связи
уже не с эпилогом классической физики, а с генезисом
неклассической физики в собственном смысле — квантовой
теории.
Нильсу Бору принадлежит замечание,
характеризующее науку нашего столетия точнее и глубже, чем
специальные историко-научные трактаты. Это замечание было
сделано в связи с единой спинорной теорией Гейзенберга.
«Концепция Гейзенберга,—говорил Бор,—несомненно
безумная концепция. Но достаточно ли она безумна, чтобы
быть правильной?»
Приведенная фраза проникает в самое существо
современной ситуации в теории поля и вместе с тем в существо
науки XX в., когда парадоксальность стала существенным
критерием достоверности. Очень парадоксальное и вместе
с тем чрезвычайно убедительное и точное замечание Бора
и само служит характерным примером этой
парадоксальной достоверности — оно не могло быть сделано ни в одну
из прошлых эпох.
«Безумие» квантовой механики — логическое
«безумие». И вместе с тем очевиден его объективный характер;
речь в квантовой механике идет о непривычности,
несоответствии независимой от познания, вне нас существующей
20 Галилей
293
объективной реальности старым представлениям. Физика
первой половины нашего столетия связала
неопределенность сопряженных динамических переменных
движущейся частицы с экспериментально проверенными,
достоверными физическими выводами. Абсолютная реальность,
абсолютная достоверность, несомненная физическая
содержательность логического парадокса так же характерны для
квантовой механики, как для теории относительности
характерны достоверность и физическая содержательность
парадоксальных геометрических соотношений.
Парадоксальность самого бытия, парадоксальный характер
упорядочивающего вселенную объективного ratio — вот что
поразило очень широкий круг людей, ознакомившихся с
идеями Эйнштейна и Бора, а иногда лишь интуитивно
угадавших скрывавшийся в них переворот в характере
научного мышления.
Как известно, в теории функций, кроме числовых
значений функции, зависящих от значений аргумента,
фигурируют операторы, превращающие уже не одно значение
функции в другое, а один вид функции в другой вид.
Крупные физические открытия всегда в какой-то мере
играли аналогичную роль, они не только увеличивали
число известных людям закономерностей природы, но
изменяли также методы науки, стиль научного мышления,
характер пути, ведущего от частных наблюдений к общим
законам. В обобщениях Эйнштейна и Бора «операторный»
эффект гораздо сильнее, чем в теориях прошлого. В руках
Эйнштейна и Бора физика изменила не только содержание
результатов научной мысли, она радикально изменила
логическую структуру и математический аппарат. Более
того, изменилось, стало принципиально иным отношение
физики к логике и математике. Физика неизбежно должна
включать в свои рамки геометрические аксиомы и
логические принципы в качестве физических констатации.
Вместе с тем она может представить соотношения и связи
физических объектов в масштабах вселенной в целом и
становится таким образом общей концепцией мироздания.
Наряду с беспрецедентным проникновением собственно
физических понятий и методов во все области науки,
преобразующее воздействие физики XX столетия на науку и
культуру определяется новыми математическими и
логическими принципами, которые получили в физике
объективный смысл.
294
Тем не (менее квантовая механика не потребовала
логического аппарата, т. е. использования
сформулированных в явной форме логических соотношений. Так же
как классическая физика в течение всего своего развития,
новая неклакхическая теория позволяла пользоваться теми
или иными логическими соотношениями, как чем-то само
собой разумеющимся, т. е., подобно Журдену, говорить всю
жизнь прозой, не зная, что это такое. Теперь мы
возвращаемся к логическим истокам математики. Логика уже
стала рабочим аппаратом в некоторых прикладных
областях и, можно думать, станет рабочим аппаратом
теоретической физики. В современной теории волновых полей
приходится считаться с недостаточностью тех методов
аналитической механики, которые связаны с
дифференциальным (представлением о движении 8. Предполагая, что
частица движется от точки к точке и от мгновения к мгновению
(а именно такое предположение соответствует применению
дифференциальных законов к движению частицы в ультра-
микроскопических масштабах), теория поля приходит к
противоречиям. Если внимание теоретической физики
сосредоточится на переходе от дискретных процессов к
непрерывным и, соответственно, на переходе от дискретных
понятий к инфинитезимальным, то логические системы
обоснования анализа бесконечно малых станут
рабочими отраслями логики и математики. Несомненно, однако,
что переход от логики к математике будет строго
определенным. В теории относительности можно указать порядок
величины гравитационных полей, требующий перехода от
эвклидовой геометрии к неэвклидовой, и количественно
определить такой переход значениями компонент
метрического тензора. Подобным образом квантовая теория поля
сможет указать физические условия и меру перехода от
логики с конечным числом оценок к бесконечно-валентной
логике, которой пользуется математика бесконечно малых
и континуальная теория движения. Но при этом уже
исключается «журденовская» трактовка логики.
Логика галилеевой теории движения — это неявный,
неопределенный переход от аристотелевой, выраженной
explicite, логики с двумя оценками к вполне «журденов-
ской» бесконечно-валентной логике анализа и
аналитической механики. Здесь «утренний» характер классической
науки сближает ее пролог уже не с ее эпилогом, а с
радикально-неклассической теорией. Но схема: «нерасчлененное
20*
295
единство — дифференциация — синтез разделившихся
понятий» сохраняется.
Галилей противопоставил геометрию логике. Это
противопоставление прошло через всю классическую физику.
Вместе с перипатетизмом логика ушла из физики в
качестве аппарата (каким она была у Аристотеля).
Соответственно она приобрела (в физике характер чего-то
неизменного, само собой разумеющегося и поэтому
удовлетворяющегося «журденовским» применением. Галилей не только
противопоставил геометрию логике. Он говорил, что логике
можно научиться, читая книги по математике 9. Но книш
Галилея — не математические книги. И не логические.
В них логика приобретает объективное содержание и
вместе с тем переходит в математику. Логика, которая
переходит в математику континуума, конечно, созвучна
современным логико-математическим проблемам. Но опять-
таки созвучна не по сходству позитивного содержания,
а только как прозвучавший когда-то вопрос созвучен
высказанному теперь ответу.
Если говорить более точно, ответ еще не высказан.
И это еще увеличивает близость Галилея к современности.
Теоретическая физика еще не нашла новой исходной
концепции для уверенного дедуктивного конструирования
разветвленной системы выводов. Она напряженно ищет такую
концепцию. Рационализм XVII в., неотделимый от
экспериментального исследования, встречает сейчас в среде физиков
большее понимание, чем в XIX в. В конце XIX в. Вильям
Томсон говорил, что наука уже решила коренные проблемы
и может заняться деталями. В те годы образ Ньютона (не
реального Ньютона с поисками и неоднозначными
гипотезами, а Ньютона, каким его рисовал Поп,— «бог сказал: „да
будет Ньютон"...»), был ближе науке, чем образ Галилея.
Это были времена незыблемой логики и незыблемой
математики, и та и другая казались априорными и
независимыми от эксперимента. Эти времена характеризовались
не только претензиями на априорность. Они были
временем абсолютизирования эксперимента. Многим казалось,
что эксперимент полностью решает спорные вопросы.
Когда постоянство скорости света, как оказалось, можно было
объяснить различным образом, когда истинная теория была
построена на той же экспериментальной основе, но с
дополнительным требованием «внутреннего сове*ршенства»,
феноменологический индуктивизм был дискредитирован.
296
Была дискредитирована и априорная геометрия — мир
может быть в данной области эвклидовым или
неэвклидовым, в зависимости от экспериментально установленной
напряженности гравитационного поля. Позже была
дискредитирована и априорная, незыблемая логика.
Теперь стало гораздо более явным живое взаимодей-
стие логической дедукции и эмпирического наблюдения.
И Галилей оказался ближе. Правда, современная ситуация
в известном смысле противоположна тому, что было
в XVII в. Тогда эксперимент не мог отойти от
теоретической дедукции, потому что он был еще слабым. Теперь он
не может отойти от дедукции, потому что он стал
чрезвычайно мощным, почти каж(дый год мы узнаем об
экспериментальных открытиях, демонстрирующих новые свойства
частиц и полей. Эти свойства называются «странными»
и кажутся странными, даже не получив такого названия.
Они требуют новых отправных позиций логической и
математической дедукции.
Несмотря на такое различие ситуаций, метод Галилея
в XX 1в. ютал ближе и понятней. В 1952 г. Эйнштейн писал:
«Часто говорят, что Галилей является отцом
современного естествознания, потому что он заменил дедуктивные
спекуляции эмпирическим экспериментальным методом.
Я думаю, подобное утверждение не выдерживает критики.
Нет эмпирического метода без понятий и систем, и нет
спекулятивного мышления, которое, более пристально
рассматривая понятия, не обнаружило бы их источник —
эмпирический материал. Резкое противопоставление
дедукции и эмпирии — заблуждение, и оно совершенно чуждо
Галилею. Чисто логические (математиче'ские) системы,
структура которых не зависит от эмпирического
содержания, возникли только в XIX в. Сверх того,
экспериментальные методы, которыми мог пользоваться Галилей,
были так несовершенны, что только смелое умозрение
оказывалось способным 'заполнить пробелы в
экспериментальных данных. Ведь в то время нельзя было, например,
измерить интервал времени, меньший, чем секунда. Когда
Галилей противопоставляет эмпирический метод
рационализму, это не противоречит сказанному. Галилей возражает
против дедукции Аристотеля и перипатетиков, когда
исходные пункты этой дедукции казались ему шаткими. Но
он не вменял в вину своим противникам применение
дедукции как таковое. В беседе первого дня „Диалога"
297
Галилей несколько раз подчеркивает, что Аристотель
отверг бы даже наиболее приемлемую дедукцию, если она
несовместима с эмпирически установленными фактами.
А с другой стороны, у самого Галилея дедукция играет
значительную роль: его усилия направлены не на
накопление фактов, а на их понимание. Но понимать — это
делать выводы из уже известных логических систем» 10.
Современная наука давно уже никому не кажется
«сумерками» классической науки. Впрочем, теперь,
по-видимому, все понимают, что в истории науки «'сумерек» вообще
не бывает. Нам нужно несколько уточнить мелькнувший
образ «дня» науки. Каждая эпоха в науке отличается от
предыдущей не закатом вчерашнего солнца, а появлением
нового, более яркого света. В новом освещении старый
источник света не тухнет и не уходит. Он теперь освещает
лишь часть картины мира. Старая теория становится
частным случаем, более общей и точной. Дальше идет другая,
еще более адекватная действительности. И наука всегда
ощущает необходимость нового обобщения. Поэтому в
науке царит вечное утро.
Но бывают моменты, когда наука особенно сильно и
остро ощущает близость нового светила, которое не
вытеснит, но затмит старые. В такие моменты наука ищет в
своем прошлом образцы гибкости, пластичности и смелости
мысли, образцы живого взаимодействия
логико-математической дедукции и эксперимента. В такие моменты ее не
удовлетворяют систематизированные результаты
прошлого. Наука хочет воспринять живую атмосферу, в которой
эти результаты были получены. Она гораздо больше, чем
в органические эпохи, способна почувствовать эту
атмосферу, увидеть, а отчасти угадать живые черты такого
мыслителя, как Галилей. Не только озарения обобщающей
мысли, но и подробности его личной жизни.
Подробности личной жизни — вплоть до таких,
например, как письмо Галилея от 4 марта 1636 г., в котором
узник инквизиции заказывает себе партию вин п. Это письмо
в 1862 г. было опубликовано Филаретом Шалем 12 и (в
отличие от получивших столь печальную известность
публикаций его знаменитого родственника Мишеля Шаля)
оказалось подлинным. Шаль назвал: это письмо
«эпикурейским». Вряд ли жалующийся на холод больной старик был
эпикурейцем в специфическом, столь распространенном
смысле этого слова. Но это письмо и этот эпитет напоми-
298
пают последние часы Эпикура, когда мудрец с чашей
неразбавленного вина в руке писал своим друзьям о дне,
«печальном из^за страданий, но самом счастливом: из^за
сладостных предсмертных воспоминаний о былых
философских беседах».
Подобная поразительная душевная гармония была
свойственна и Галилею. Мы представляем себе мыслителя
в Арчетри, погруженного в воспоминания о беседах с
живыми Сальвиати и Сагредо — прообразами условных
собеседников «Диалога», размышляющего о тех же вопросах
гармонии мироздания. Мы понимаем, что сила духа,
сохранившаяся в тяжелые времена, соответствует неослабев-
шей творческой мощи — в эти времена были написаны
«Беседы».
В упомянутом письме 1636 г. Галилей просит прислать
ему греческого вина — «родины моего учителя Архимеда
Сиракузского». В письме, проникнутом грустной иронией
и простодушной жизнерадостностью, Галилей остается
подлинным учеником великих греков.
Только очень далекий от науки человек (в
особенности — от современной науки, столь чуждой педантизму по
своему существу, столь демократичной, живой и
эмоциональной) не почувствует связи между различными, подчас
противоречивыми, чертами Галилея, между
мировоззрением и жизнью великого флорентийца, не почувствует через
четыре столетия обаяния его личности. А тот, кто все это
ощутит, тот лучше поймет направление и смысл
современной науки. Потому что развитие науки — нелинейный
процесс: его темп зависит не только от современных условий,
по и от накопленных традиций — логических,
психологических, эмоциональных, в особенности от проходящей через
всю историю науки «традиции антитрадиционализма» —
преобразования не только позитивных знаний, но и метода
и стиля науки.
Примечания
I
1. Purg., X, 16—18. La Commedia di Dante Alighieri. Firenze,
1854, p. 303. (Данте. Божественная комедия. Пер. М. Лозинского.
М., 1961, стр. 274)
2. Работы Галилея и некоторые относящиеся к его жизни и
творчеству документы цитируются по двадцатитомному
критическому изданию, вышедшему в 1890—1909 гг. под редакцией Анто-
нио Фаваро и затем вторично напечатанному в 1929—1939 гг. во
Флоренции (издательство Барбера) — так называемому
«Национальному изданию». (Le Opere di Galileo Galilei, Firenze, Q. Bar-
bera Editore, Direttore A. Favaro; Le Opere di Galileo Galilei, Ris-
tampa della Edizione Nazionale, Firenze, G. Barbera Editore,
Direttore Giorgio Abetti).
В этом монументальном издании первые девять томов
содержат труды Галилея; в томах X—XVIII опубликована переписка
Галилея, том XIX включает биографические и справочные
материалы и том XX — оглавление, указатели и дополнения.
Укажем год издания каждого тома (в скобках — год
переиздания): 1-1890 (1929); II - 1891 (1932); III, ч. 1-1892 (1931); III,
ч 2-1909 (1931); IV -1897 (1932); V-1895 (1932); VI -1896
(1933); VII-1897 (1933); VIII -1898 (1933); IX-1899 (1933);
Х- 1900 (1934); XI - 1901 (1934); XII - 1902 (1934); XIII - 1903
(1935); XIV-1904 (1935); XV-1904 (1936); XVI - 1905 (1936);
XVII-1906 (1937); XVIII - 1906 (1937); XIX-1907 (1938); XX-
1909 (1939).
Нумерация страниц в первом издании и в переиздании
совпадает.
В дальнейшем: Ed. Naz., том (римская цифра) и страница.
Ссылки на использованные русские переводы даются в скобках,
первый раз — с выходными данными, а затем с сокращенным
названием произведения и номером страницы.
II
1. Dialogo di Vincenzo Galilei della musica antica et della mo-
derna. Firenze, 1589. ___.
2 Leonardo Olschki. Geschichte der Neuesprachhchen Wis-
senschaftlichen Literatur, Bd. Ill, Halle, 1927. Русск. церевод;
300
Л. О л ь ш к и. История научной литературы на новых языках, т. III,
М.—Л., 1933, стр. 93. В дальнейшем: Ольшки, III, с указанием
страницы.
3. Ольшки, III, 94.
4. Kepleri Opera omnia, Frankofurti et Erlangae, 1858—1871,
t. II, p. 401; Ольшки, III, 94.
5. Ольшки, III, 95.
6. Ed. Naz., XIX, 32 и след.
7. E. W о h 1 w i 11. Galileo Galilei und sein Kampf fur Koperni-
kanische Lehre, v. I. Gamburg und Leipzig, 1909 (B. II, Leipzig, 1926).
S. 49 и след. В дальнейшем: Wohlwill, с указанием тома и
страницы.
8. Ed. Naz., XIX, 36, 604, 636—637. A. Favaro. Galileo Galilei
e lo studio di Padova, Firenze, v. I, p. 19; Ольшки, III, 97—100.
9. Л. Ольшки. История научной литературы на новых
языках, т. II, М.—Л., 1934, стр. 116—120.
10. С е г е d i. Tre discorsi sopra il mode d'alzar acque da'luoghi
bassi. Parme. 1567. Ольшки, HI, 102—103.
11. Cer edi, ibid., p. 25.
12. Ed. Naz., X, 36.
Ill
1. Ольшки, III, 92.
2. Ed. Naz., I, 7—177.
3. Francisci В о n a m i с i Florentini, e primo loco philosophiam
ordinariam in Almo Gymnasio Pisano prodedentis, De motu, libri X,
quibus generalia naturalis philosophiae principia summo studio col-
Lecta continentur... Florentiae, apud Bartholomaeum Sermartellium
MDXCI; А. Ко у re. Etudes galileennes. I. A l'aube de la science
classique; II. La loi de la chute des corps. Descartes et Galile; III.
Galilee et la loi d'inertie. Paris, 'Hermann, 1939. Изложение и
анализ трактата Франческо Бонамичи (Бонамико) на стр. 18—41
первого тома. В дальнейшем: Коугё, с указанием тома (римскими
цифрами) и страницы.
4. Ed. Naz., XVIII, 11-12.
5. К. Lasswitz. Geschichte des Atomistik, Bd. II. Hamburg
und Leipzig, 1890, S. 14 sq.; G. V a i 1 a t i. Le speculazione di
Giovanni Benedetti sul moto de gravi, Rendiconti dell'Academia Reale
delle scienze di Torino, 1897—98; E. Wohlwill. Die Entdeckung
des Beharrungsgesetzes. Zeitschrift fur Volkerpsychologie..., Bd. XV,
S. 394 sq.; G Galilei und sein Kampf fur die Kopernikanische Lehre,
Bd. I, S. Ill sq.; P. D u h e m. De l'acceleration produite par une
force constante. Congres International d'Histoire des Sciences,
IIIе Session, Geneve, 1906, p. 885 sq.; Etudes sur L. de Vinci, v. Ill,
p. 214 sq.; G. Borgiga. G. B. Benedetti. Atti de R. Istituto Vene-
to, 1925—1926.
6. J. В. В e n e d i с t i (Giambattista Benedetti). Diversarum spe-
culationum mathematicarum et physicarum liber. Taurini, 1585,
p. 184.
7. Ibidem, p. 286.
8. Кроме общеизвестных курсов истории механики и книг
Дюэма, Вольвиля, Койре и др., упомянем работу покойного
В. П. Зубова — параграф «Impetus» в книге: А. Т. Григорьян
301
и В. П. Зубов. Очерки развития основных понятий механики. М.,
1962, стр. 70—92. В названных книгах приводятся некоторые
библиографические данные.
9. Quale nell'azana de'Viniziani
bolle l'inverno la tenace pece
a rimpalmar i legni lor non sani,
che navicar non ponno; e in quella vece,
chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
le coste a quel che piu viaggi fece;
chi ribatte da proda e chi da poppa;
altri fa remi e altri volge sarte;
chi terzeruolo ed artimon rinfoppa.
(Inferno, XXI, 3—5).
10. K. Birch-Hirschfeld. Die Lehre von der Malerei in
Cinquecente. Roma, 1912, S. 12. Ольшки, III, 51.
11. Ed. Naz., II, 159.
12. А. Ко у re, II, 19—20. В. П. Зубов отмечает, что Галилей
не столько отождествляет, сколько связывает impetus и скорость
и что подобная же тенденция существовала у Буридана (А. Т.
Григорьян и В. П. Зубов. Очерки развития основных
понятий механики. М., 1962, стр. 119—120).
13. Коугё, I, 55; II, 17.
14 Ed. Naz.,' XIX, 606.
15. См.: L. Cooper. Aristotle, Galileo and the tower of Pisa.
Ithaca 1935
16. Ed. "Naz., I, 243—419. См.: R. Gi acorn el 1 i, Galileo Galilei
giovane e in sul «De motu». Pisa, 1949.
IV
1. Ольшки, III, 117.
2. Ed. Naz., IX, 129.
3. Ed. Naz., VI, 163.
4. Ed. Naz., VIII, 492.
5. Ed. Naz., IX, 29-58.
6. A. M a n e 11 i. Dialogo circa al sito, forma et misure dello
Inferno di Dante. Firenze, 1506.
7. Comento di Cristoforo L a n d i n о Fiorentino sopra di Dante
Alighieri. Firenze, 1481.
8. La Comedia di Dante Alighieri con la nuova esposizione di
Alessandro Vellutello. Venezia, 1544.
9. Ed. Naz., IX, 63-148.
10. Ed. Naz., IX, 149-194.
11. Ed. Naz., IX, 213.
12. Ed. Naz., XVil, 387.
13. Ольшки, III, 85.
14. Ed. Naz., I, 251—340; см. Ольшки, III, 138—139.
15. Ed. Naz., I, 341—366.
16. Ed. Naz., I, 344.
17. Ed. Naz., I, 367-408.
18. Ed. Naz., I, 412.
302
V
1. В мае 1593 г. мать Галилея писала ему: «Если ты
осуществишь свое намерение приехать сюда в следующем месяце,
я буду рада. Только ты не должен приезжать, не имея средств,
потому что Бенедетто решился добиться того, что ты ему обещал;
он громогласно угрожает арестовать тебя как только ты явишься.
А так как мне известно, что ты связан обязательством, он сможет
тебя арестовать, и он как раз такой человек, чтобы сделать это».
(Ed. Naz., X, 61.)
2. Приведем выдержку из письма Галилея его брату в
Польшу, где Микеланджело стараниями Галилея получил место
музыканта у богатого аристократа. Микеланджело не торопился
помочь Галилею выполнить свои обязательства перед кредиторами.
Галилей писал Микеланджело:
«Хотя ты не ответил ни на одно из четырех писем, посланных
мною за последние десять месяцев, я все же пишу и повторяю то,
о чем писал раньше. И я бы предпочел считать, что все мои
письма не дошли до тебя или что произошло еще что-нибудь
невероятное, чем думать, что ты не собираешься следовать своему долгу,
обязывающему тебя не только отвечать на мои письма, но и
выслать деньги, которые мы должны разным лицам и особенно
нашему шурину синьору Таддео Галлети, за которого, как я уже
много раз писал, я выдал нашу сестру Ливию с приданым в
1800 .дукатов. Я уже уплатил 800, из которых 600 я вынужден был
одолжить, рассчитывая на то, что ты вышлешь если не всю сумму,
то по крайней мере значительную ее часть, и ожидая также, что
ты будешь участвовать в погашении ежегодно, пока все не будет
выплачено в соответствии с условиями контракта. Если бы я
представлял, что дело обернется таким образом, я бы не отдал дитя
замуж или дал бы ей такое приданое, какое смог бы оплатить сам
без помощи, поскольку я .обречен заботиться о каждом приданом
один. Я прошу, чтобы ты безотлагательно составил обязательство,
заверенное нотариусом, в котором было бы подтверждено твое
совместное со мной участие в оплате упомянутого приданого
синьору Таддео». (Ed. Naz., X, 84—85.)
3. Ed. Naz., II, 15-75.
4. Ed. Naz., II, 77-146.
5. Ed. Naz., II, 147—191.
6. Ed. Naz., II, 363—424.
7. A. F a v a r o. Galileo Galilei e lo studio di Padova, 1, p. 137
и след.
8. Ed. Naz., II, 515—599.
9. Ed. Naz., X, 67.
10. Ed. Naz., X, 210—213.
И. В этом письме говорится: «Я почитаю своим долгом в знак
благодарного чувства к доброму отношению с Вашей стороны и со
стороны синьора Энеаса Пикколомини изложить Вашей милости
мои мысли относительно условий жизни, в которых я желал бы
провести оставшиеся мне годы. Тогда, при первой возможности,
которая представится синьору Энеасу, он, со свойственными ему
благоразумием и искусством, сможет более определенно ответить
нашему светлейшему господину. Помимо почтительного служения
и смиренного послушания, чем обязан ему каждый верный вассал,
303
я испытываю в отношении его высочества преданность, которую
я сдгею назвать любовью (потому что сам господь требует от нас
не больше, чем любви), .так что, оставляя в стороне мои
собственные интересы, я бы без колебаний изменил свою судьбу в
интересах его высочества. Такой ответ сам по себе достаточен, чтобы
его высочество мог определить свои намерения относительно меня.
Но если его высочество с любезностью и гуманностью,
свойственными ему больше, чем другим людям, соблаговолит принять
меня на свою службу, что удовлетворит меня в избытке, я заявлю
без колебаний, что проработав двадцать лет (и лучших лет моей
жизни, в которых, с помощью бога и моих собственных трудов,
проявилась, это я могу утверждать перед любым, кто захочет об
этом спросить, принадлежащая мне небольшая толика таланта),
я могу претендовать на обладание таким покоем и досугом,
которые дали бы мне возможность завершить три имеющихся у меня
больших работы и опубликовать их до моей смерти. Это,
возможно, принесет выгоду мне, а также тем, кто поддержит мое
начинание, и возможно, что это окажется наиболее важным и
основательным в той пользе, которую я смогу принести труженикам
моей профессии в оставшиеся годы жизни. Я не думаю, что смог
бы найти где-либо больший досуг, чем здесь, если необходимость
обеспечить семью зависит от моей официальной и частной
преподавательской деятельности. С наименьшей охотой я бы взялся за
преподавание не в этом, а в каком-либо другом городе. На это
есть много причин, которые слишком долго объяснять. Тем не
менее даже здесь я не располагаю достаточной свободой, так как
лучшие часы моего дня предоставлены в распоряжение других
людей. Самый блестящий и плодовитый человек не может
рассчитывать на жалованье от республики без исполнения обязанностей,
связанных с ним... Короче, у меня нет надежды обладать таким
покоем и досугом, которые мне необходимы, иначе как на службе
у монарха.
Но я вовсе не хотел бы, чтобы на основании сказанного Ваша
милость могла бы подумать, что у меня есть необоснованные
претензии и что я хочу получить жалованье без заслуг и без
службы,— этого нет у меня в мыслях. У меня есть различные
изобретения, и если бы любым из них заинтересовался
могущественный монарх, этого было бы достаточно, чтобы избавить меня
от труда на весь остаток жизни. Практика показывает, что многие
открытия, далеко менее ценные, приносили своим авторам почет
и богатство. И моим всегдашним намерением было предложить
мои изобретения моему государю и природному повелителю,
чтобы он смог распорядиться изобретением и изобретателем согласно
его доброй воле.
Ежедневно я открываю новые вещи, и будь у меня больше
досуга и возможность использовать больше работников, я бы сле-
лал гораздо больше экспериментов и изобретений. Поскольку Вы
интересуетесь моим заработком здесь, я скажу, что за лекции я
получаю 520 флоринов, и я уверен, что при очередных
перевыборах это жалованье будет значительно увеличено, и эту сумму я
легко смогу откладывать, потому что для содержания семьи
существенную помощь мне дают ученики и частные уроки, которых
я могу иметь столько, сколько найду нужным. Я говорю об этом
потому, что воздерживаюсь от многих, так как потребность в до-
304
суге сильнее, чем в аолоте, ведь мне легче приобрести известность
своими исследованиями, чем трудом, оплачиваемым суммой
достаточной, чтобы занять видное положение среди людей.
Итак, наидостойнейший синьор Веспучио, я вкратце
представил Вам свои соображения. Когда Вы сочтете это наиболее
возможным, я просил бы Вас ознакомить с этим достославных
синьоров Энеаса и Сильвио. Я знаю, что могу полностью положиться на
дружбу их обоих, и я не стану прибегать ни к чьей иной
помощи. Поэтому я прошу Вашу милость не делиться содержанием
этого письма ни с кем, кроме этих синьоров». (Ed. Naz., X,
231-234.)
VI
1. Мы ограничимся указанием на несколько работ из
обширной литературы, посвященной истории оптики XVII в. и
оптическим работам и идеям Галилея: Vasco R о п с h i. Histoire de la lu-
micre. Paris, 1955; II cannoceiale di Galilea e la scienzza del 1600.
Torino, 1957; Evolution of the Concept of Light in Natural
Philosophy (Xth International Congress History of Science, Ithaca —
Philadelphia), 1962; Influence de developpement de l'Optique du XVIIе
siecle sur la Science et la Philosophie en general (Colloque
International «Le soleil a la Renaissance», Bruxelles, 1963); С. И.
Вавилов. Галилей в истории оптики. В сб. «Галилсо Галилей», М., 1943.
2. С. И. Вавилов, указ. работа, стр. 34 (дальше — сб.
«Галилей» с номером страницы).
3. Сошлемся на последнюю из известных нам работ — доклад
В. Ронки на Брюссельском коллоквиуме (см. примечание 1).
4. Ed. Naz., Ill, part I, 60—61.
5. Ed. Naz., VI, 257—258.
6. Ed. Naz., VI, 258—260.
7. Ed. Naz., X, 280—281.
8. Ed. Naz., Ill, parte I, 62.
9. Ed. Naz., Ill, parte I, 74.
10. Ed. Naz., Ill, parte I, 78.
11. Ed. Naz., X, 409.
12. Ed. Naz., X, 474.
13. Ed. Naz., X, 483.
14. Ed. Naz., V, 99.
15. См., например, письмо Кастелли к Галилею от 5 декабря
1610 г.— до того, как он узнал об открытии фаз Венеры. (Ed. Naz.,
X, 480.)
16. Ed. Naz., VII, 372. (Галилео Галилей. Диалог о двух
главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой. Пер.
А. И. Долгова. М.—Л., 1948, стр. 250.)
17. Ed. Naz., XI, 173.
18. Ed. Naz., X, 305—306.
19. Ed. Naz., X, 381.
20. Ed. Naz., Ill, parte I, 97—126.
21. Ed. Naz., VII, 486 («Диалог», стр. 326).
22. Ed. Naz., XVI, 163.
23. Wohlwill, I, 279 и след.
24. Ed. Naz., Ill, parte I, 127—393.
25. См. С Seelig. Albert Einstein. Zurich, 1960, S. 210—211.
305
VII
1. Ed. Naz., XI, 171.
2. Ed. Naz.,XI, 79—80. (Русск. перевод в кн.: М. Я. Выгодский.
Галилей и инквизиция, М.— Л., 1934, стр. 46.)
3. Ed. Naz., XI, 87—88 (Выгодский, 48—49).
4. Ed. Naz., XI, 92—93 (Выгодский, 50—51).
5. Nuntius Sidereus Gollegii Romani — речь Odo van Maelcote,
прочитанная на заседании Римской коллегии в мае 1611 г. Ed.
Naz., Ill, parte I, 291—298.
6. Ed. Naz., XIX, 275.
7. Ed. Naz., XII, 206—207 (Выгодский, 52—53).
8. Ed. Naz., XI, 103.
9. Ed. Naz., XI, 105—116.
10. Ed. Naz., XI, 108.
11. Ed. Naz., IV, 787, примеч. 3.
12. Ed. Naz., XI, 327.
13. Ed. Naz., IV, 443.
14. Ed. Naz., IV, 444.
15. Ed. Naz., IV, 691.
16. Ed. Naz., XIX, 613.
17. Ed. Naz., IV, 63—140. (Русский перевод в кн.: «Начала
гидростатики. Архимед, Стевин, Галилей, Паскаль». Пер. и прим.
А. Н. Долгова. М.— Л., 1932, стр. 140—232.)
18. Ed. Naz., IV, 67 («Начала гидростатики», 147).
19. Ed. Naz., IV, 67—68 («Начала гидростатики», 147).
20. Ed. Naz., IV, 68 («Начала гидростатики», 148).
21. Ed. Naz., IV, 79 («Начала гидростатики», 160).
22. Ed. Naz., XI, 241—242 (Выгодский, 74—75).
23. Ed. Naz., XI, 354 (Выгодский, 82).
24. Ed. Naz., XI, 354—355 (Выгодский, 83).
25. Ed. Naz., XI, 533 (Выгодский, 86—87).
26. Ed. Naz., XI, 606 (Выгодский, 93).
27. Ed. Naz., V, 282 (Выгодский, 95). Слова, напечатанные
здесь и дальше разрядкой, были подчеркнуты аббатом Лорини,
переславшим письмо Галилея в инквизицию со своим доносом.
(См. Ed. Naz., XIX, 299-305.)
28. Ed. Naz., V, 282—283 (Выгодский, 96—97).
29. Ed. Naz., V, 285 (Выгодский, 99).
30. Ed. Naz., XII, 128—129 (Выгодский, 111).
31. Ed. Naz., XII, 130 (Выгодский, 113).
32. Ed. Naz., XII, 150.
33. Ed. Naz., XIX, 297-298.
34. Ed. Naz., XIX, 276.
35. Ed. Naz., V, 297—305.
36. Ed. Naz., XII, 171 (Выгодский, 130).
37. Ed. Naz., XII, 172 (Выгодский, 131).
38. Ed. Naz., XII, 172 (Выгодский, 132).
39. Ed. Naz., V, 367—370.
40. Ed. Naz., V, 369 (Выгодский, 135).
41. Ed. Naz., XIX, 305.
42. M. Я. Выгодский. Галилей и инквизиция, ч. I. M,— Л.,
1934, стр. 154.
306
43. Ed. Naz., XII, 230 (Выгодский, 160—161).
44. Ed. Naz., XIX, 322—323 (Выгодский, 170—171).
45. Ed. Naz., XII, 241—242 (Выгодский, 175).
46. Ed. Naz., XIX, 342 (Выгодский, 197—198).
VIII
1. Ed. Naz., VI, 25-35.
2. Ed. Naz., VI, 43-105.
3. Олыпки, III, 188—189.
4. Олыпки, III, 189.
5. Ed. Naz., VI, 111-179.
6. Ed. Naz., VI, 197—372.
7. Ed. Naz., VI, 281.
8. Олыпки, III, 194.
9. Ed. Naz., VI, 350.
10. Ed. Naz., VI, 501—561.
И. Ср.: Р.-А. Michel. Le Soleil, le Temps et l'Espace:
Intuitions cosmologiques et images poetiques de Giordano Bruno. (Collo-
que International «Le soleil a la Renaissance». Bruxelles, 1963).
12. Ed. Naz., VI, 525—526 (сб. «Галилей», 115).
13. Ed. Naz., VI, 529—530 (сб. «Галилей», 116).
14. Письмо к Личети 24.1X1639; Ed. Naz., XVIII, 106 (сб.
«Галилей», 116—117).
15. Ed. Naz., Ill, 106 (сб. «Галилей», 117).
16. Ed. Naz., Ill, 119 (сб. «Галилей», 117).
17. Ed. Naz., VI, 538—539 (сб. «Галилей», 164).
18. См.: Ко у re, III, 79—83.
19. Ed. Naz., VI, 547 (сб. «Галилей», 171).
20. Ed. Naz., VI, 547—548 (сб. «Галилей», 171—172).
21. Ed. Naz., VI, '548 (сб. «Галилей», 172).
22. I. Newton. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
t. I. Genevae, 1739, p. 44, Corollarium V. («Corporum dato spatio inc-
lusorum iidem sunt motus inter se sive spatium illud quiescat, sive
moveatur idem uniformiter in directum sine motu circulari»).
И. Ньютон. Математические начала натуральной философии.
Пер. А. Н. Крылова. Изв. Николаевской Морской академии, вып. IV.
Пг., 1915, стр. 45.
IX
1. Олыпки, III, 207.
2. См.: A. Favaro. Galilei e suor Maria Celeste. Firenze, 1891.
3. Олыпки, III, 207.
4. Ed. Naz., XIII, 122.
5. Ed. Naz., XIII, 116—117.
6. Ed. Naz., XIII, 43.
7. «In ogni modo sta duro senza rispondere, come se fosse in-
cantato, ed io, quanto a me, ho i] caso per desperatissimo». (Ed. Naz.,
XIII, 156.)
8. Ed. Naz., XIII, 149—150.
9. Ed. Naz., XIII, 157.
10. Ed. Naz., XIII, 183—184.
11. Ed. Naz., XIII, 182.
307
12. Ed. Naz., XIII, 154.
13. Ed. Naz., XIII, 265.
14. «L'ordinario passato oi crissi quello havevo sentito da nostra
cognato, eche viveo con somme affano; che se voi (che Dio guardi)
fussi mancato, in quanto cordoglio e travaglio saria ristato la mi-
sera Chiara e tutti noi di qua!» (Ed. Naz., XIII, 408).
15. Ed. Naz., XIV, 26.
16. Ed. Naz., XIV, 27.
17. Ed. Naz., XIV, 80.
18. Ed. Naz., XIV, 87-88.
X
1. Ed. Naz., XIV, 258—260.
2. Ed. Naz., XIV, 135.
3. Ed. Naz., XIV, 215—216.
4. Ed. Naz., XV, 56.
5. Ed. Naz., XIX, 410.
6. Ed. Naz., XIX, 330.
7. Ed. Naz., X, 351.
8. Олыпки, III, 231—232.
9. Ed. Naz., VII, 30 («Диалог», 22).
10. Ed. Naz., VII, 43 («Диалог», 30—31).
If. Ed. Naz., VII, 43 («Диалог», 31).
12. Ed. Naz., VII, 43—44 («Диалог», 31).
13. См. лримечапия Е. Штраусса к немецкому переводу
«Диалога» (Leipzig, 1891, S. 499, прим. 23).
См. также: Коугё, III, 87.
14. Ed. Naz., VII, 54—55 («Диалог», 39—40).
15. Ed. Naz., VII, 56 («Диалог», 40).
16. См.: В. Kuznezov. Die Lehre des Aristoteles von der re-
lativen und der absoluten Bewegung im Lichte der modernen Physik.
«Sowjetische Beitriige zur Gechichte der Naturwissenschaften».
Berlin, 1960, S. 27—61.
17. Ed. Naz., VII, 83 («Диалог», 58).
18. Ed. Naz., VII, 84 («Диалог», 59).
19. Ed. Naz., VII, 128—129 («Диалог», 89).
20. Ed. Naz., VII, 128—139 («Диалог», 95).
21. Ed. Naz., VII, 141 («Диалог», 97).
22. Ed. Naz., VII, 141—142 («Диалог», 97).
23. Ed. Naz., VII, 142—143 («Диалог», 98).
24. Ed. Naz., VII, 141 («Диалог», 97).
25. Ed. Naz., VII, 157—158 («Диалог», 108).
26. Ed. Naz., VII, 171—172 («Диалог», 118—119)
27. Ed. Naz., VII, 190-191 («Диалог», 131-132).
28. Ed. Naz., XVII, 33, 39.
29. Ed. Naz., XVII, 89.
30. Ed. Naz., VII, 213 («Диалог», 146—147).
31. Ed. Naz., VII, 300 («Диалог», 205—206).
32. Ed. Naz., VII, 351 («Диалог», 236—238).
33. Ed. Naz., VII, 369 («Диалог», 248).
34. Ed. Naz., VII, 423 («Диалог», 284—285).
35. Simplicius. Comm. phis., L. II, comm. 43—44.
36. Ed. Naz., VII, 38 («Диалог», 27).
37. Ed. Naz., VII, 451 («Диалог», 302—303).
808
XI
4. См.: Н. И. Иде ль с он. Галилей в истории астрономии.
В сб. «Галилео Галилей», М.—Л., 1943, стр. 1°"
2. Коугё, III, 79.
- 3. Коугё, III, 81.
4. Коугё, III, 81—82.
5. Ed. Naz., VI, 260 («Диалог», 179).
6. См.: Б. Г. Кузнецов. Декарт и современная физика.
В сб. «Из истории французской науки», М., I960, стр. 58.
7. Ed. Naz., VI, 341.
8. В. С a v а 1 i e r i. Lo Speccio Ustorio overo trattato delle
settioni coniche, et alcuni loro mirabili effetti intorno al lume, caldo,
freddo, suono e moto ancora. Bologna, 1632.
9. Коугё, III, 133.
10. B. Cavalieri. Lo Speccio Ustorio, cap. 39, p. 153.
11. B. Cavalieri. Lo Speccio Ustorio, cap. 39, p. 155.
12. Коугё, III, 135.
13. E. To r r i с e 11 i. De motu projectorum, Opera geometric a.
Florentiae, 1644, p. 156.
14. Коугё, III, 139.
15. E. Tor rice Hi. Opera geometrica, p. 156.
16. E. Torricelli. De dimensione parabolae, Opera
geometrica, p. 8.
17. E. Torricelli. Opera geometrica, p. 10.
18. E. Torricelli. Opera geometrica, p. 18.
19. См.: Wo hi will. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes
Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft, vol. XV,
S. 355; Коугё, III, 144—157.
20. Коугё, III, 151.
21. P. Gassendi. De motu impresso a motore translato.
Paris, 1642, с VIII, p. 116.
22. E. Noetter. Goting. Nachr., 1918, S. 235.
23. Ed. Naz., VII, 147 («Диалог», 101).
XII
1. В. Macaulay. Critical and Historical essays. London, 1961,
v. 2, p. 57 (History of the Popes). Русск. перевод: Маколей.
Полное собрание сочинений, т. IV, СПб., 1862, стр. 116 (О римских
папах).
2. Ольшки, III, 264.
3. В. Macaulay. Critical and Historical essays, p. 54. РусскТ
перевод, стр. 112—113.
4. В. Macaulay. Critical and Historical essays, p. 55. Русск.
перевод, стр. 114.
5. Ольшки, III, 200.
6. Укажем лишь ограниченное число работ, посвященных
истории процесса: Е. Wohlwill. Der Inquisitionprocess des
Galileo Galilei. Berlin, 1870; K. Gebler. Galileo Galilei und die Ro-
mische Curie. Stuttgart, 1877; M. Я. Выгодский. Галилей и
инквизиция. М., 1934; L. Bieberbach. Galilei und die Inquisition.
Munchen, 1942; G. A b e 11 i. Amici e nemici di Galileo. Milano, 1945;
№
отдельные главы в книгах Л. Олыпки, 3. Цейтлина, J. Fahie,
Ph. Chasles, R. Lammel, G. Paoli, G. Righini, E. Wohlwill, Bd. II.
Документы процесса опубликованы в томе XIX Edizione Na-
zionale.
7. Ed. Naz., XIX, 335 (Русск. перевод в кн.: 3. А. Цейтлин.
Галилей. М., 1935, стр. 272—273).
8. Ed. Naz., XIX, 321 (Выгодский, 182—183).
9. Ed. Naz., XIX, 321—322 (Выгодский 183—184).
10. Мы сошлемся, кроме Вольвиля (Wohlwill. Galilei und
sein Kapf fur die Copernicanische Lehre. Bd. 2. Leipzig, 1926,
S. 170—173), на статью Лемеля (Rudolf Lammel. Untersuchung
der Dokumente des Galileischen Inquisitionsprocess. Arch, fur Ge-
schichte der Mathematik, der Naturwissenschaft und der Technik,
Neue Folge, Bd. 10, H. 4, 1928), на его же книгу (Rudolf Lammel.
Galilei in Licht des zwanzigsten Jahrhundert. Berlin, 1927, гл. IX)
и на книгу Выгодского (М. Я. Выгодский. Галилей и
инквизиция, ч. 1. М.—Л., 1934, гл. X).
И. Ed. Naz., XIX, 278 (Выгодский, 186).
12. Ed. Naz., XIX, 338—339 (Цейтлин, 275—279).
13. Ed. Naz., XIX, 341 (Цейтлин, 279).
14. Ed. Naz., XIX, 343—344 (Цейтлин, 280—281).
15. Ed. Naz., XIX, 345—347.
16. Ed. Naz., XIX, 283 (Цейтлин, 284).
17. Ed. Naz., XIX, 402—406 (Цейтлин, 286).
18. Ed. Naz., XIX, 406—407 (Цейтлин, 227).
XIII
1. Ed. Naz., XV, 171, 181.
2. Ed. Naz., XV, 354, 363.
3. Ed. Naz., XVI, 115—119.
4. Ed. Naz., XV, 243; XVI, 41, 55.
5. Ed. Naz., XVI, 59.
6. Цит. по фр. переводу: Oeuvres diverses du Sieur D. avec le
traite du sublime ou du merveilleux dans discours. Traduit du Grec
de Longin. Paris, Billains, 1683, p. 42—43.
7. Ed. Naz., VII, 569—712.
8. Ed. Naz., XVI, 30, 53, 61.
9. Ed. Naz., XVI, 67.
10. Ed. Naz., VII, 712-750.
11. Ed. Naz., VII, 744.
12. Ed. Naz., XVII, 247.
13. Ed. Naz., XVII, 271.
14. Purg., VIII, 1—2.
XIV
1. Ed. Naz., VIII, 44 («Беседы», 35).
2. Ed. Naz., VIII, 46 («Беседы», 39).
3. Ed. Naz., VIII, 46 («Беседы», 39-40).
4. Ed. Naz., XVIII, 26.
5. Ed. Naz., VIII, 49 («Беседы», 47).
6. Ed. Naz., VIII, 49—50 («Беседы», 48).
810
7. Albert Einstein. Philosopher-Scientist. Ed. by P. Schilp.
N. YM 1951, p. 8. Русск. перевод: «Успехи физич. наук», т. 59,
вып. 1, 1956, стр. 73—74.
8. Ed. Naz., VIII, 50 («Беседы», 48—49).
9. Ed. Naz., VIII, 51 («Беседы», 50—51).
10. Ed. Naz., XVI, 103.
11. Ed. Naz., VIII, 68 («Беседы», 78).
12. Она была изложена в приписывавшихся Аристотелю
«Проблемах механики», гл. XXV (см., например, перевод Poselger:
Aristoteles Mechanische Probleme — Questiones Mechanicae.
Hannover, 1881).
13. Ed. Naz., VIII, 71—72 («Беседы», 84—85).
14. Ed. Naz., VIII, 72 («Беседы», 86).
15. Ed. Naz., VIII, 73 («Беседы», 87).
16. Ed. Naz., VIII, 76—77 («Беседы», 93).
17. Ed. Naz., VIII, 77—78 («Беседы», 95).
18. Ed. Naz., VIII, 81.
19. Ed. Naz., VIII, 82 («Беседы», 103).
20. Ed. Naz., VIII, 92 («Беседы», 120—121).
21. См.: Ф. Энгельс. Диалектика природы. К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 20, М., 1961, стр. 587.
22. Ed. Naz., VIII, 85 («Беседы», 107—108).
23. Ed. Naz., VIII, 85 («Беседы», 108).
24. Ed. Naz., VIII, 86 («Беседы», 109—110).
XV
1. Aristoteles. Becker, Berlin, 1831. Physica, III, (Г), 5,
206a. Русск. перевод: Аристотель. Физика. Пер. В. П.
Карпова. М., 1936, стр. 52.
2. Ed. Naz., VI, 529; сб. «Галилео Галилей», стр. 154.
3. Ed. Naz., VII, 58 («Диалог», 41).
4. Ed. Naz., VII, 353 («Диалог», 238).
5. Ed. Naz., VII, 397 («Диалог», 267).
6. Ed. Naz., VII, 347 («Диалог», 234).
7. Ed. Naz., VII, 347 («Диалог», 234).
8. Ed. Naz., VII, 348—349 («Диалог», 235).
9. См.: Об основаниях геометрии. Сб. классических работ.
М, 1956, стр. 323.
10. Ed. Naz., X, 115.
И. Коугё, II, 5.
12. Ed. Naz., VIII, 191 («Беседы», 282).
13. Ed. Naz., VIII, 191 («Беседы», 282—283).
14. Ed. Naz., VIII, 197 («Беседы», 291—292).
15. Ed. Naz., VIII, 200—201 («Беседы», 298).
16. Ed. Naz., VIII, 201 («Беседы», 299).
17. Ed. Naz., VIII, 209 («Беседы», 313).
18. Ed. Naz., XIX, 603.
19. Ed. Naz., VIII, 214—267 («Беседы», 323—414).
20. Гегель. Соч., т. V. М., 1937, стр. 256.
21. Гегель. Соч., т. V, стр. 257.
22. Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 588.
23. J. Kepler. Opera omnia, t. I. Frankfurt, 1858, p. 423.
«П
XVI
1. Ed. Naz., XVI, 340-344.
2. Ed. Naz., XVI, 297, 300, 373.
3. Ed. Naz., XVI, 266.
4. Ed. Naz., XVI, 463-468.
5. Ed. Naz., XVI, 463.
6. Ed. Naz., XVI, 464.
7. Ed. Naz., XVI, 468.
8. Ed. Naz., XVII, 60.
9. Ed. Naz., XVII, 116.
10. Ed. Naz.,'XVII, 289.
11. Ed. Naz., XIX, 396.
12. Ed. Naz., XIX, 396-397.
13. Ed. Naz., XIX, 397.
14. Ed. Naz., XVII, 11, 75, 93, 95, 125, 129, 153, 178.
15. Ed. Naz., XVII, 291-297.
16. Ed. Naz., VIII, 483—486.
17. Ed. Naz., VIII, 489—542.
18. Олыпки, III, 303.
19. Ed. Naz., VIII, 491.
20. Ольшки, III, 304.
21. Ed. Naz., VIII, 492.
22. Ed. Naz., VIII, 492.
23. Ed. Naz., VIII, 492.
24. Ed. Naz., XVIII, 208.
25. Ed. Naz., XVIII, 263.
26. Ed. Naz., XVIII, 295.
27. Ed. Naz., XVIII, 332.
28. Ed. Naz., XVIII, 311.
29. Ed. Naz., XVIII, 314—316.
30. Ed. Naz., XVIII, 316.
31. Ed. Naz., XVIII, 378.
32. Ed. Naz., XVIII, 379-380.
33. Ed. Naz., XVIII, 379.
XVII
1. A. Einstein, L. I n f e 1 d, B. Hoffman. Ann. of Math.,
v. 39, p. 65, 1938; A. Einstein, L. I n f e 1 d. Ann. of Math., v. 41,
p. 655, 1940; В. А. Ф о к, ЖЭТФ, т. 9, стр. 375, 1939.
2. A. Einstein. Comment je vois le monde. Paris, 1958,
p. 147-148.
3. А. Эйнштейн. Неэвклидова геометрия и физика. В сб.
«Эйнштейн и развитие физико-математической мысли». М., 1962,
стр. 5.
4. Там же, стр. 6.
5. Там же, стр. 6.
6. Г. В е й л ь. Комментарии к речи Римана «О гипотезах,
лежащих в основании геометрии». См.: Об основаниях геометрии.
Сборник классических работ. М., 1956, стр. 341.
7. А, Эйнштейн. Неэвклидова геометрия и физика. В сб.
«Эйнштейн и развитие физико-математической мысли», стр. 8.
212
8. R. Feynman. Phys. Rev., v. 76, p. 748, 769, 1949. Русск.
перевод в сб. «Новейшее развитие квантовой электродинамики».
М., 1954, стр. 138—160, 161—204; F. Dyson. Phys. Rev., v. 75,
p. 1736, 1949. Русск. перевод в сб. «Новейшее развитие квантовой
электродинамики», стр. 237—238.
9. Ed. Naz., VII, 60 («Диалог», 42).
10. См. предисловие Эйнштейна к английскому переводу
«Диалога» (Galileo Galilei. Dialogue concerning the two chief world
systems.—Ptolemaie and Copernican. Berkly — Los-Angelos. 1953),
11. Ed. Naz., XVI, 399—400.
12. Ph. С h a s 1 e s. Galileo Galilei, sa vie, son proces et ses con-
temporains. Paris, 1862, p. 253—254.
21 Галилей
Предметный указатель
Абсолютный вес 105
Абсолютная достоверность 169
«Ад» см. «Божественная
комедия»
Academia del Cimento 274
Academia Linceo 94, 155, 156,
159, 161
Акустика 259
Анализ бесконечно малых см.
Бесконечно малые
Аналитическая механика 195,
243
Аннигиляция 285, 286
Антропоморфизм 198, 279, 280
Астрология 98, 99
Астрономия 59, 63, 68—89, 162—
180, 207, 208, 268
Априоризм 169, 290, 291, 296
Арсенал 38, 39, 54, 59, 100,
234, 259
Архитектура 20, 52, 64
«Аттические ночи» 128
Атомистика 33, 177, 179, 189,
195, 237
Баллистика 37, 38;*
«Беседы и математические
доказательства» 6, 10, 14, 16, 24,
39, 54, 224—230, 232—248,
255—259, 269, 289, 299
Бесконечно-бивалентная логика
267
Бесконечно малые 197, 237—
245, 251, 253
Бесконечность 45, 237—253, 259,
264, 283, 288
Бивалентная логика 265
«Божественная комедия» 6, 38,
49, 50, 230
Болонский камень 274
Вещество 237—240, 244, 245
Взаимодействие тел 184—195
Виртуальные перемещения 106
Virtu impressa 190, 191
Virtu matrice 190
«Внешнее оправдание» 172
«Внутреннее совершенство» 172,
235
Возрождение 5, 6, 14—19, 23,
39 51 88
Время 8', 247, 254, 264
Вселенная см. Космология
Галактика 77
Гармония мира кинетическая 22,
68, 69, 218
Гармония мира статическая 22.
88
Гвельфы 20
Гелиоцентризм 49, 53, 62—66,
74—84, 87—96, 109—127,
131-135, 153, 154, 157, 160—
180, 206, 218, 219, 279, 280,
283
Геодезическая линия 11, 63, 287
Геометризация физики 33, 291,
292
Геометрия И, 33, 34, 176—180,
186, 268, 290—293
Геоцентризм 88—96, 131, 172,
278, 279, 296
Гибелины 24
Гидростатика 27, 105, 106
314
Гносеология 54, 94, 101, 126—
129, 168, 176, 194, 208
Гравитация см. Тяготение
Гуманизм 19, 31, 32, 47, 51, 202,
203
Движение 8—14, 33—39, 43—46,
87, 88, 162—166, 173-176,
179, 190—192, 207, 226, 243,
285—287, 290
равномерное 83, 137, 138,
166, 170, 171, 253, 255, 256
равномерно-ускорешгое 45,
253—258, 287
естественное 35, 36, 37, 136
круговое И, 12, 34—37,
163-166, 173, 178, 179
параболическое 173, 174,
178
Декрет 1616 г. 121 — 122
«Диалог о двух системах мира»
6, 10—16, 24, 42, 53, 54, 58,
60, 76, 79, 84, 146, 149—185,
246—250, 288, 297—299
«Dialogo» см. «Диалог о двух
систехмах мира»
Дискретность пространства —
времени 285—288
«Discorsi» см. «Беседы и
математические доказательства»
Долгота 75, 269—272
Досократики 32
Достоверность 84, 85
Дифференциальное
представление о движении 8—13, 49, 54,
194, 209, 243, 255, 256, 267
Естественные места тел 8, 10,
35, 69, 163—166, 248, 268
«Eppur si muove» 218, 231, 248
Живопись 23, 24
Жидкости 244, 245
Звезды 77, 131, 249—251
Звезды медицейские 74, 75—78,
81-83, 91
«Звездный вестник» 14, 71, 76—
78, 80—84, 90, 283
Земля 74, 130 — 137, 162, 166—
176, 180, 193, 194, 215, 248—
250
Закон естественнонаучный 253
Законы сохранения 195, 196
Изотахия 286
Изотропность 35
Изохронность 258
Изящество 24, 25
Impeto 41—43
Impetus 36—44, 62
Инерция 10, И, 63, 88, 136, 180,
183, 283, 288, 289
Инвариант 195—198, 255, 261,
287, 288
Инквизиция 114—125, 208—217
Искусство 23, 48—51
Истина 96—98, 128, 206, 207
Кватроченто 49
Квантово-релятивистскпе
концепции 12, 32, 289
Книгопечатание 169
Кометы 127—129
Конвенционализм 89, 94, 117,
118, 207, 208
Конгруентность 186, 188
Контрреформация 55, 58, 62,
63, 87, 89, 90, 202—206
Коперникапство см.
Гелиоцентризм
Космогония 74, 164
Космология 8, 10, 32, 46, 87,
88, 127, 131, 132, 178, 179
Крестовые походы 17, 18, 269
Кривизна пространства 284
Линеаризация 264
Литература 46—54
Логика 26г5—268, 283, 290, 293—
297
Лоренцово сокращение 235
Локальный критерий движепия
оо
Луна 74, 76, 77, 82, 166, 167,
269, 273-276
Магнетизм 135, 194, 235
Масса 235, 244, 288
Математика 9—12, 24, 25, 41,
45, 64, 168, 169, 183, 191, 251,
252, 267, 268, 283, 290, 296
Маятник 258, 259
Механика 7—12, 25, 31, 34—41,
46, 49, 62-64, 66, 69, 89,
103-106, 170-197, 235, 236,
240—260, 265, 285—288
Механицизм 285—288
Млечный Путь 74, 77, 131
21* 315
Множество 251—267
Momento 41, 42, 105, 106
Музыка 21—24
Наклонная плоскость 42, 258
Наука 6—15, 19, 31, 39—41,
46, 49, 53—55, 62, 63, 84, 85,
207, 230, 231, 262—270,282—
298
Непрерывность 8, 12, 34, 289
Непроницаемость 186—188
Номинализм 27, 36, 189, 253, 254
Однородность 8—11,31, 195—198
пространства 9—13, 35, 68,
69, 75, 177, 184, 195—198,
283, 288
времени 195—198
пространства-времени 196,
197, 289
Оптика 70
Орбиты планет 10, 134, 135,
163-167
Отливы 84, 180—186, 228, 229
Относительность 8—11, 31, 68,
69, 137—139, 196—197, 235,
236, 282—295
Очевидность 282
Падение тел 8, 43, 44, 45, 173,
174, 184, 185, 254-259
Парадокс 234—239, 282—294
Параксиальные лучи 70
Перипатетизм 31, 46, 80, 86—89
Планеты 74—79, 127, 166, 175
Позитивизм 97
Поле силовое 9, И, 187, 284, 290
Поэзия 47—51
Прагматизм 95, 207
Приливы 84, 180, 181, 186, 228,
229
Преобразования Галилея 182
«Пробирные весы» 14, 72, 127—
131, 186, 283, 284, 285
«Послание к Инголи» 131—139
Пространство 8, 9, 11, 13, 36,
43, 63, 87, 186-189, 247, 248,
261, 284, 287, 288, 289
Пространство — время 8, И,
195, 196, 284, 286—289
Процесс 1633 г. 199—217
Процесс 1616 г. 116, 119, 125
Протестапство 203
Пустота 237—239
Ratio 69, 102, 219, 291, 294
Рационализм 6, 49, 50, 69, 96,
102, 168, 235, 236
Регенерация 285—289, 297
Ренесанс см. Возрождение
«Saggiatore» см. «Пробирные
весы»
Свет 70, 235, 286—287
«Sidereus Nuncius» см.
«Звездный вестник»
Скорость 9, 10, 26, 34, 35, 37,
43—45, 174, 235, 254—264,
286—288
Стиль 46, 52—54, 130, 161
Солнце 79, 80, 81, 112, 160,
166, 215, 249, 250, 274
Сферы 249, 250
Твердое тело 244
Телескоп 69—74, 78, 82, 83-, 283
Торговля мировая 18, 57, 269
Трансмутации 12, 32, 285—287
Тридентский собор 21, 90, 121,
200
Тридцатилетняя война 61, 153,
199, 200
Тяготение 10, И, 63, 184—188,
258—260
Удельный вес 45, 104—106
Ускорение 9, 10, 26, 31, 37, 38,
43, 44, 88, 89, 180, 181, 254—
264
Феноменализм 95, 98, 136, 169,
176, 187, 234, 235
Физика 7, 8, 11, 12,32—34, 43,
87, 88, 127, 178—198, 234—
248, 253—262, 282—296
Фортификация 38, 64, 205, 206
Центр Вселенной 249, 250
Центр тяжести 27
Центробежная сила 174
Цехи ремесленные 20, 22
Циркуль 64, 65
Чинквеченто 16, 23, 24, 27, 33,
36, 37, 39, 40, 230
«Чистилище» см.
«Божественная комедия»
316
Эксперимент 24, 30, 54, 55, 133,
137, 138, 168, 169, 173, 174,
187, 259
Экспериментальный
рационализм 194
Эксцентр 179
Элементарпые частицы 12, 13, 32
Энергетика мануфактуры 38, 39,
40
Энергия 196
Энтропия 285
Эпистемология 170, 171, 183,
229-231, 234, 235, 2G7, 268,
277, 279
Эпицикл 83, 160
Эстетика 47—51
Эрудиция 30—37
Язык Галилея 53
Именной указатель
Абетти 310
Авемпас 44
Аверроэс 44
Агукки 110
д'Аламбер 198
Амманати Джулия — см.
Галилей Джулия
Антелла 156
Антонини 273
Апроино 234
Ариосто 50, 51, 157
Аристотель 8, 14, 27, 28, 31—36,
39, 43, 44, 74, 87, 88, 89, 103,
107, 108, 109, 127, 132, 135,
136, 154, 159, 161, 162, 163,
165, 166, 169, 173, 176—179,
185, 223, 237, 246, 247, 248,
250, 261, 265, 266, 274, 277,
279, 293, 296, 297, 298, 302,
311
Аркаиджела — см. Галилей
Ливия
Архимед 27, 31—35, 44, 69, 74,
103, 105, 154, 171, 192, 206,
251, 299
Архит 74
Астуиика Дидак — см. Стуиика
Аттаванти 120
Ахилл Фридрих 122
Бальдовере 71
Барбера 300
Бальони 76
Барберини Маттео — см.
Урбан VIII
Барбершш Франчсско 146, 199,
221, 280
Барди 21
делла Белла 159
Беллавити 111
Беллярмино 60, 84, 92—96,
116 — 119, 124, 125, 207, 211,
212 213 215
Бенедетти 36, 37, 43, 44, 45, 301
Беригард 222
Берни 51
Бибербах 310
Бирх-Гиршфельд 302
де Богран 270
БонамичиФранческо32, 108, 301
Бопамичи Джиованфранческо
158
Бор Нильс 12, 293, 294
Боргезе Сципион 120
Борелли 223
Ботти 82
Браге Тихо 83, 129
Броизино 24
Бруно Джордано 58, 62, 63, 132,
135, 158, 202, 307
Бруций 135
Буридан 36, 302
Вавилов С. И. 305
Валленштейн 200, 201
Вейль 291, 312
Веллутелло 302
Вельзер 79, 81
Вергилий 47, 48, 118
Веспуччи 67
Вивиани 44, 104, 223, 258, 273,
280, 281
Впита 67, 75, 76, 78, 90, 91, 120,
159
№
да Винчи Леонардо 77, 106,
128, 301
Вольвиль 84, 108, 212, 216, 301,
305, 308, 309, 310
Вольтер 209
Выгодский М. Я. 306, 307, 310
Галилей Винченцо, отец 21, 22,
25, 26, 28, 300
Галилей Винченцо, сын 60, 143,
144, 147, 151, 152
Галилей Вирджиния, сестра 21,
58, 59, 60, 142
Галилей Вирджиния (Мария
Челеста), дочь 60, 140—145, 147,
149-152, 220
Галилей Галилео (XV в.) 20, 22
Галилей Галилео (Галилеино),
внук 151, 152
Галилей Джиованни (XIV в.) 20
Галилей (Амманати) Джулия,
мать 21
Галилей (Бандинелли) Клара,
невестка 147, 308
Галилей Ливия, сестра 60, 303
Галилей Ливия (Арканджела),
дочь 60, 141—144, 147, 150
Галилей Микель (XV в.) 20
Галилей Микеланджело, брат
60, 147, 156, 303
Галилей Роберто 223
Галилей Томмазо (XIV в.) 20
фон Галлер 129, 262, 263
Галлети Таддео 303
Гамба Марина 60, 87
Гассенди 194, 195, 222—224, 309
Гаусс 291
Гвальдо 101
Гвидуччи 128, 219
Гвиччардини 96, 120, 124
Геблер 310
Гевара 146
Гегель 262, 311
Гейзенберг 12, 293
Геллий 128
Гельмгольц 292
Генрих IV 60, 82, 200
Герардини 116
Гете 129
Гильберт 135, 194
Гиппарх 36
Гомер 225
Гонзага Фердинанд 103
Гораций 47
Гортензий 222, 272,'273
Гофман 312
Грасси 48, 72, 73, 127, 128, 137
Григорий XV 204
Григорьян А. Т. 301, 302
Гринбергер 221
Гроций 224, 270, 273
Густав Адольф 200, 201, 202
Гюйгенс Константин 271, 272
Гюйгенс Христиан 78, 174, 231,
271
Дайсон 313
Данте 6, 7, 17, 38, 49, 50, 52,
157, 230, 300, 302
Декарт 48, 123, 132, 186, 188,
191, 196, 231, 233, 288
Демокрит 33, 108, 135, 177, 178,
179, 189, 239
Джиакомелли 302
Джордано Паоло 112
Донелли 122
Дини 97, 99, 116
Диодати 220, 224, 228, 271, 272
Долгов А. И. 305
Долгов А. Н. 306
Дюэм 301
Жозеф («серый кардинал») 201
Жорес 13
Зелиг 306
Зенон 266, 268
Зубов В. П. 229, 301, 302
Идельсоп Н. И. 309
Инкофер 222
Инголи Франческо 127, 131, 133,
135, 137, 139, 146, 160, 174,
249, 288
Инфельд 312
Кавальери 189, 190, 191, 194,
195, 219, 223, 237, 309
Кальканьини 110
Кампанелла 21, 151, 224
Кант 262
Кантор Георг 108, 253, 264
Капра 65
Кардано 106
Кастелли 81, 111, 112, 115, 116,
119, 143, 151, 155, 234, 273,
305
Каччини 114, 115, 119, 120
«Щ
Кеплер 23, 66, 70, 83, 84, 91,
134, 135, 159, 160, 266, 301,
312
Кирхер 278
Клавий 91
Койре 32, 184, 190, 191, 254,
301, 302, 308, 309
делле Коломбе 102, 103, 108
Колумб 49
Конти 109, 110
Коперник 53, 63, 66, 74, 79, 80,
94, 109—112, 115—126, 131,
135, 153, 158, 159, 160, 175,
176, 213—218, 227, 279
Коши 252
Кремонино 95
Кристина Л отарингская 116, 224
Кузнецов Б. Г. 308, 309
Купер 302
Кьярамонте 222
Лагранж 56, 195, 229, 243
Ландини Баттиста 159
Ландино Кристофоро 49, 302
Ландучи Бенедетто 59, 60, 303
Ландучи Вирджиния 152
Лаплас 209
Ласвитц 301
Лев X 202
Левкипп 135
Леммель 310
Лейбниц 15, 148, 252
Лингельсгейм 224
Личети 134, 274—278, 307
Лобачевский 291, 292
Локк 209
Лонгин 310
Лоренц 231
Лорини Джиованни 154, 306
Лорини Никколо 116, 119
Лукреций 47, 48
Людовик XIII 200
Лютер Мартин 23
Магдалена Австрийская 146
Майкельсон 235
Маколей 199, 202, 203, 309
Максвелл 7
Макулано 210, 215
Манетти 49, 302
Мария Челеста — см. Галилей
Вирджиния
Маркс 157, 311
Мартеллини 152
Марцимедичи 109
Мах 254
Маццолени 59
Маццони 28, 56
Медичи Антонио 60, 112
Медичи Бернадето 21
Медичи Джулиано 78, 81
Медичи Козимо I 20, 28
Медичи Козимо II 59, 66, 67,
75, 76, 86, 90, 91, 103, 104,
120, 146
Медичи Леопольдо 48, 274, 275
Медичи Мария 82
Медичи Фердинанд I 66
Медичи Фердинанд II 146, 154,
159
Медичи Франческо 60
Мей 21
Мелисс 135
ван-Мелькоте 95, 306
Мерсенн 52
Миканцио 84, 227, 228, 229
Микеланджело 203, 280, 281
дель Монте Гвидобальдо 27, 28,
106
дель Монте Франческо 27, 90,
120, 124
Мишель П.-А. 307
Морен 269, 270
Моцарт 7
Неттер 195, 196, 309
Никколини Екатерина 155
Никколини Франческо 155
Ноайль 232
Ньютон 6, 7, 10, 12, 55, 83, 85,
88, 132, 136, 139, 149, 186,
187, 188, 191, 196, 198, 209,
229, 231, 235, 251, 252, 258,
288, 289, 293, 296, 307
Овидий 47, 48
Ольшки 22, 30, 52, 128, 130,
140, 275, 300, 301, 302, 307—
310, 312
Орем 253, 264
Орсини Александро 120, 124
Орсини Паоло 120
Осиандер 111
Павел V 60, 61, 119, 121
Пасиньяно 24
Пейрек 223
320
Петрарка 151
Пий V 204
Пиккена 120
Пикколомини Асканио 219
Пикколомини Сильвио 67, 305
Пикколохмиии Энеас 67, 303, 305
Пиндар 48, 276
Пинелли 58, 60
Пифагор 97
Платон 27, 33, 35, 69, 100, 164,
176—179
Поп 55, 296
Птоломей 159, 160, 176, 207, 279
Пуанкаре 24
Пушкин 148
Пьера 151, 152
Пьерони 278
Рапп 23
Рафаэль 203
Реаэль 271, 272, 273
Риккарди 151, 153, 155, 156,
158, 159, 214
Риман 251, 284, 291, 312
Рениери 273
Ринуччини 278, 279, 282
Риччи 25, 26, 168
Ришелье 90, 155, 200, 201, 269,
270
Рокко 223, 227
Ронки 70, 305
Рудольф II 81, 82
Руццанте 51, 101, 158
Сарси — см. Грасси
Сагредо 58, 60, 86, 161, 162, 299
Сакс 22
Сальвиати 60, 141, 161, 162, 299
Сарпи 60, 61, 62, 81, 95, 119,
254, 255, 261
Сасетти 97, 98
Сенека 47
Сент-Аман 219
Сертини 82
Симпликий 179, 309
Симпличио 161, 162
Скориджо 122
Сократ 99
Сфондрати 116
Спиноза 15, 48, 85, 123, 148, 209
Стуника 110, 122
Тарталья 27
Тассо Торквато 50
Тилли 201
Томсон Вильям 296
Тосканелли 49
Торичелли 189, 191—195, 223,
273, 278, 280, 288, 309
Урбан VIII 91, 103, 117, 131,
142, 146, 151, 153, 154, 158,
199, 200—210, 215, 232, 273,
280, 282
Фаваро 108, 109, 300, 301, 303,
307, 308
Фантони 115
Фарадей 7
Фейнман 313
Ферма 173 -
Филипп II 60, 75
Филопон 36, 39, 43, 44
Фоскарини 115—118, 122, 123,
212, 213
Фок В. А. 312
Фролондо 222
Царлино 21
Цейтлин 3. 310
Цицерон 203, 214
Цоллерн 146
Чези 94, 109, 115, 143, 146,
155, 156
Челлипи Бенвенуто 203, 258
Череди 26, 301
Чиамполи 151, 158
Чиголи 24, 81, 109
Чио ли 156
Шаль Мишель 298
Шаль Филарет 298, 310, 313
Шейнер 79, 273
Шекспир 21, 123, 253
Шихкарт 224
Шлюссербург 121
Штраус Е. 308
Эвклид 27, 33, 34, 35, 171, 290
Эджиди 158
Эйлер 195, 198
Эйнштейн 6, 7, И, 85, 161, 172,
176, 182, 234, 235, 258, 282,
288, 289, 290—294, 297, 306,
311,^312, 313
Эмполи 24
Энгельс 311, 312
Эпикур 286, 299
Содержание
I. Рассвет над Флоренцией 5
Утро Флоренции и «утренние» краски Возрождения.
Центральная идея классической науки на рассвете и в ее
историческом зените. Дифференциальное представление
о движении. Инерция и дифференциальное
представление. Галилей и математика. Теория относительности и
ретроспективная оценка идей Галилея. Современные
квантово-релятивистские концепции и оценка «утреннего»
характера классической физики в трудах Галилея.
Антидогматическая тенденция. Биография и мировоззрение.
II. Юность в Тоскане 17
Истоки флорентийского Возрождения.
Происхождение Галилея. Винченцо Галилей. Флорентийское
искусство XVI в. Техника. Студенческие годы в Пизе. Занятия
с Риччи. Профессор в Пизе.
III. Эрудиция 30
Традиционное наследство и впечатления жизни.
Трактат Бонамичи. Влияние Архимеда. Отношение
Галилея к механике Аристотеля. Теория impetus'a.
Влияние технических проблем на генезис повой
механики. Судьба impetus'а в механике Галилея. Взгляды
Галилея на падение тел.
IV. Наука и эстетические критерии < . 46
Работа Галилея над трактатом «De motu» и эволюция
литературного стиля. Отношение Галилея к поэзии.
Лекции о топографии «Ада». Заметки о Тассо. Галилей и
Ариосто. Стилистическая ткань основных произведений
Галилея. Язык новой науки. Эмпирическая и логическая
очевидность. Наука и общественная психология.
V. Падуя 57
Венецианская республика на рубеже XVI и XVII вв.
Личная жизнь Галилея в Падуе. Венеция и папский
престол. Средиземноморская культура, атлантическая
322
торговля и центры новой науки. Труды Галилея в Падуе.
Первая полемика. Первые выступления в защиту
гелиоцентризма.
VI. «Sidereus Nuncius» 68
Кинетическая гармония мира. Телескоп. Медицей-
ские звезды. Поверхность Луны. Млечный Путь.
Наблюдения Сатурна. Фазы Венеры. Солнечные пятна и
полемика с Шейнером. Общественный резонанс
астрономических открытий Галилея. Отклики со стороны Кеплера.
Достоверность научной концепции и борьба за се
признание.
VII. Перипатетизм и контрреформация 86
Обстановка во Флоренции. Две тенденции в физике
и космологии Аристотеля. Интегральная статическая
гармония и локальные критерии. Априорные критерии
абсолютного покоя. Конвенционали стекая трактовка
гелиоцентризма. Поездка Галилея в Рим в 1611 г. Бел-
лармино и римская иезуитская коллегия. Иллюзии и
реальная расстановка сил. Рационализм, кинетическая
гармония бытия, дифференциальная концепция движения
и объективная трактовка гелиоцентризма. Галилей, его
отношение к астрологии и борьба против идеи
некаузальной гармонии бытия. Роль полемики. Отказ от
компромисса с перипатетиками. Дискуссия о плавающих телах
и гидростатический трактат. Удельный вес. Понятие
момента в гидростатике. Принцип виртуальных
перемещений. Письмо к Кастелли. Донос Лорини.
Конвенционализм Беллармиио. Процесс 1616 г. Запрещение
гелиоцентризма.
VIII. Возобновление борьбы 126
Молчание. Дискуссия о кометах. «Пробирные весы».
Стиль «Пробирных весов». «Послание к Инголи».
Космологическая проблема. Первая формулировка принципа
космической инерции и однородности пространства.
IX. Письма Марии Челесты 140
Эмоциональная жизнь Галилея в годы подготовки
«Диалога». Дочери Галилея. Мария Челеста и ее письма.
Поездка Галилея в Рим в 1624 г; Повседневность и
идейная борьба. Галилей, Спиноза, Лейбниц. Рукопись
«Диалога» и заботы о ее опубликовании. Переселение в Арче-
три.
X. «Диалог» 153
Требования римской цензуры и проблема
объективной трактовки гелиоцентризма. Осложнения.
Компромиссы и непоколебимость. Выход книги. Общая структура
«Диалога». Стиль. Беседа первого дня. Мировая
гармония и круговые движения. Проблема неизменности и
мировая гармония. Гносеологические позиции. Беско-
323
нечпость познапия. Беседа второго дня.
Относительность равномерного движения. Беседа третьего дня.
Критерии выбора научной теории. Отношение идей
Галилея к физическим и космологическим концепциям
Демокрита, Платона и Аристотеля. Беседа четвертого дня.
Теория приливов.
XI. Однородность пространства
Преобразования Галилея. Принцип космической
инерции. Падение тел в физике Галилея. Взаимодействие
тел и концепция пространства у Галилея, Декарта и
Ньютона. Сила и инерция у Кавальери, Торричелли и Гассен-
ди. Корни инфинитезимальной концепции движения и
атомистика. Однородность и сохранение. Обобщение
понятия однородности и теория относительности.
Современное представление об однородности как стержневой
идее классической науки и оценка исторической роли
Галилея
XII. Процесс 1633 года
Политическая обстановка в начале 30-х годов.
Римские прелаты трех поколений. Урбан VIII. Что в
творчестве Галилея церковь считала криминальным?
Дифференциальное представление о движении, объективная
трактовка гелиоцентризма и направления
инквизиционного процесса. Начало процесса d633 г. Первый допрос.
Вопрос о подлоге в актах процесса. Второй допрос.
Третий допрос. Приговор и отречение.
XIII. «Eppur si inuove!»
Легендарная фраза и действительный смысл
творчества Галилея после процесса. Кинетическая гармония
мироздапия и космологический смысл «Eppur si muove».
Деятельность Галилея после процесса. Возвращение
в Арчетри. Письмо к Диодати о возвращении в Арчетри
и смерти Марии Челесты. Отношение к «Диалогу» во
Франции и в протестантских страпах. Публикация книги
«Беседы и математические доказательства». «Диалог» и
«Беседы». Переход от негативного к позитивному
дифференциальному представлению о движении. Структура
«Бесед». Позитивные идеи и полемика. Воспоминания
о Венеции и картины адриатического прилива.
Абстрактная идея и конкретный образ у Галилея, Ньютона и
Лагранжа. Ощущение заката науки Возрождения и
предчувствие нового стиля науки.
XIV. Учение о веществе
Начало «Бесед», посвящение и обращение к
читателям. Участники беседы. Венецианский арсенал.
Парадоксальные явления и их роль в концепциях Галилея
и Эйнштейна. Первый парадокс «Бесед». Геометрическое
подобие и механические свойства тел.
Микроскопические пустоты. Бесконечность пустот. Парадокс катяще-
324
гося многоугольника и круга. Липия и точка. Понятие
бесконечности в учении о веществе. Понятие
бесконечно малой. Бесконечно малый элемент вещества и
аналитическое представление о движении. Твердое тело и
жидкость в физике Галилея.
XV. Идея бесконечности
Понятие бесконечности и ее физические эквиваленты
у Аристотеля и у Галилея. Проблемы бесконечно большой
вселенной. Риман о бесконечно большом и бесконечно
малом. Понятие бесконечности как результата деления
конечной величины. Бесконечность и естественнонаучный
закон. Бесконечность и понятия равномерного и
равномерно-ускоренного движения. Письмо к Сарпи о
равномерно-ускоренном движении. Изменение скорости и
неизменность ускорения. Ускорение и понятие бесконечно малых
отрезков и интервалов времени. Представление о
мгновенной скорости. Закон падения тел. Качание маятника и
движение по наклонной плоскости. Негативная и
позитивная бесконечность в механике Галилея. Бесконечность
у Галилея и у Гегеля. Логические основы галилеевой
динамики. Бивалентная логика Аристотеля и
бесконечно-бивалентная логика Галилея. Логическая
парадоксальность галилеевой динамики и проблема
объективной и условной трактовки повой картины мира
XVI. Последние годы
«Беседы» и перелом в истории науки нового времени.
Запросы океанской торговли и работы Галилея по
определению долгот. Гроций и связи Галилея с Голландией.
Вмешательство инквизиции и Урбана VIII. Работа о
либрации Лупы. Письмо о пепельном свете и критика
трактата Личети. Эпистемологические идеи письма о пепельном
свете. ^Письмо Рииуччиии по астрономическим вопросам
Проблема «очевидности» в письме Ринуччини и роль этого
понятия во всем творчестве Галилея и в его борьбе против
антропоцентризма. Смерть Галилея. Реакция Рима.
XVII. Пролог и эпилог классической науки
Критерии «очевидности» и ранги парадоксальности
в истории науки. Кинематические (Коперник),
геометрические (Эйнштейн) и логические (Бор) парадоксы
картины мира. Эволюция парадоксальности и оценка основных
произведений Галилея. «Sidereus Nuncius» в свете
классической и современной науки. «Пробирные весы» и
эволюция понятия механического объяснения природы.
Теоркя относительности, квантовая механика, теория
вакуума и понятие непрерывного движения
тождественного себе объекта. «Диалог», принцип космической
инерции и однородность пространства в свете общей теории
относительности и релятивистской космологии.
Инерция в свете кваптово-релятивистских представлений.
«Беседы», ускоренные движения и современное представ-
ление о взаимодействии тел. Геометрия и физика у
Галилея, в классической науке XVTI—XIX вв. и в
современной пауке. Физическая геометрия у Галилея и у
Эйнштейна. Логика, «логическое безумие» в современной
физике и галилеева оценка логики. Эйнштейн- об
исторической роли творчества Галилея. Современное значение
образа Галилея.
Примечания МО
Предметный указатель 314
Именной указатель
'MS
Борис Григорьевич Кузнецов
Галилео Галилей
Утверждено к печати
редколлегией научно-биографической серии
Академии наук СССР
Редактор издательства А. Г. Аркадьев
Оформление художника Я. Я. Никохристо
Технический редактор А. П. Гусева
Сдано в набор 12/ХП 1963 г. Подписано к печати 4/1II 1964 г.
Формат 84х1087зг- Печ. л. 10,25+19 вкл.=Ю,81 усл. печ. л. +19 вкл.
Уч.-изд. л. 18,(17,2+0,8 вкл.). Тираж 25 000. пкз. Т-03143.
Издат. № 2437. Тип. зак. № 3036. Темплан НПЛ 1964 г. № 123
Цена 1 p. C8 к.
Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография пзд-ва «Наука». Москва, Г-99, Шубпнсштй пер., 10
Титульный лист «Звездного вестника»
Страница рукописи «Звездного вестника»
Рисунки из «звездного вестника»,
изображающие фазы Венеры
Титульный лист «Диссертации» Кеплера
Титульный лист трактата «О плавающих телах»
Портрет Галилея. Гравюра XVII в.
Титульный лист «Пробирных весов»
Титульный лист «Диалога»
Фронтиспис «Диалога»
Титульный лист «Бесед»
Бюст Галилея, скульптура Леоне