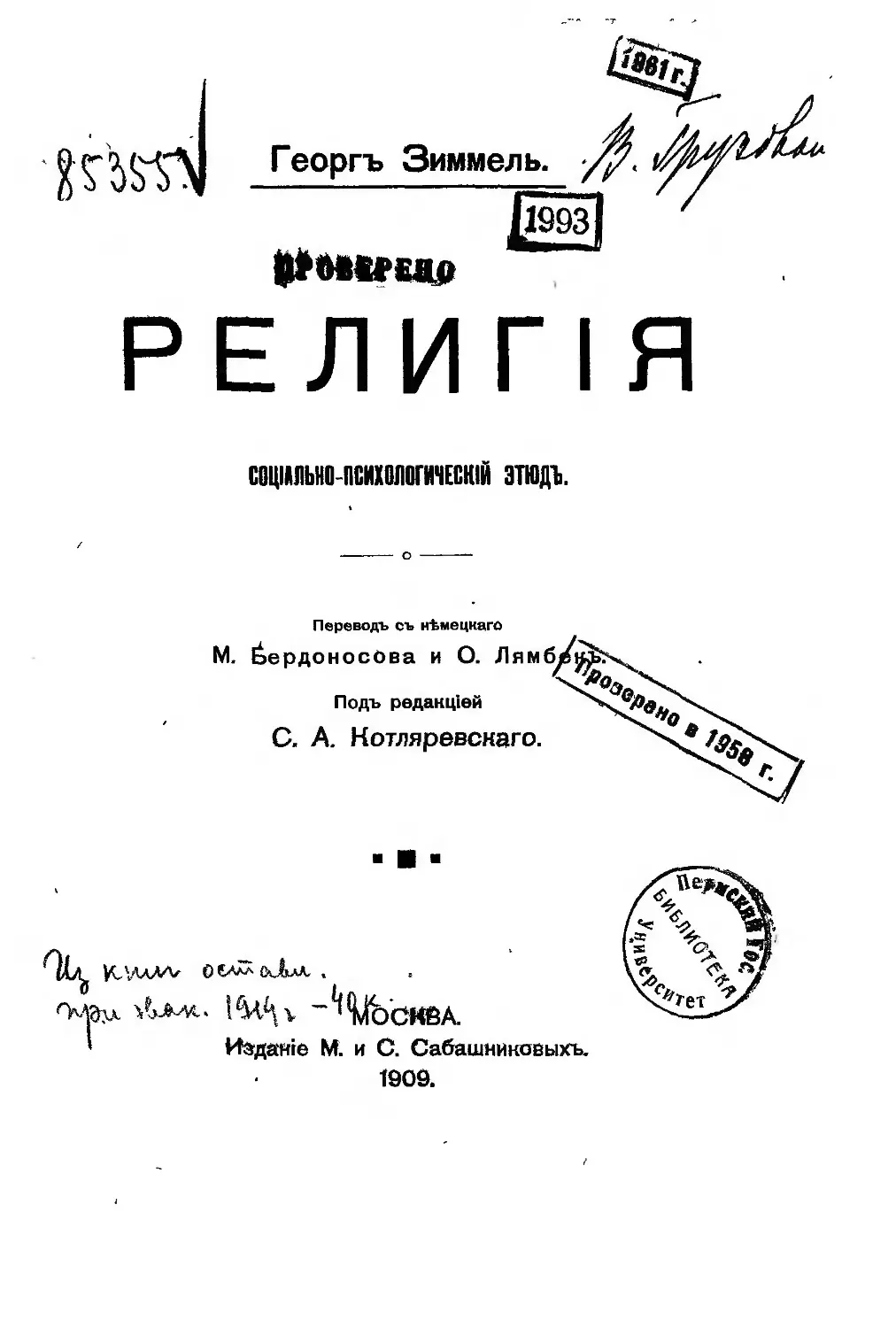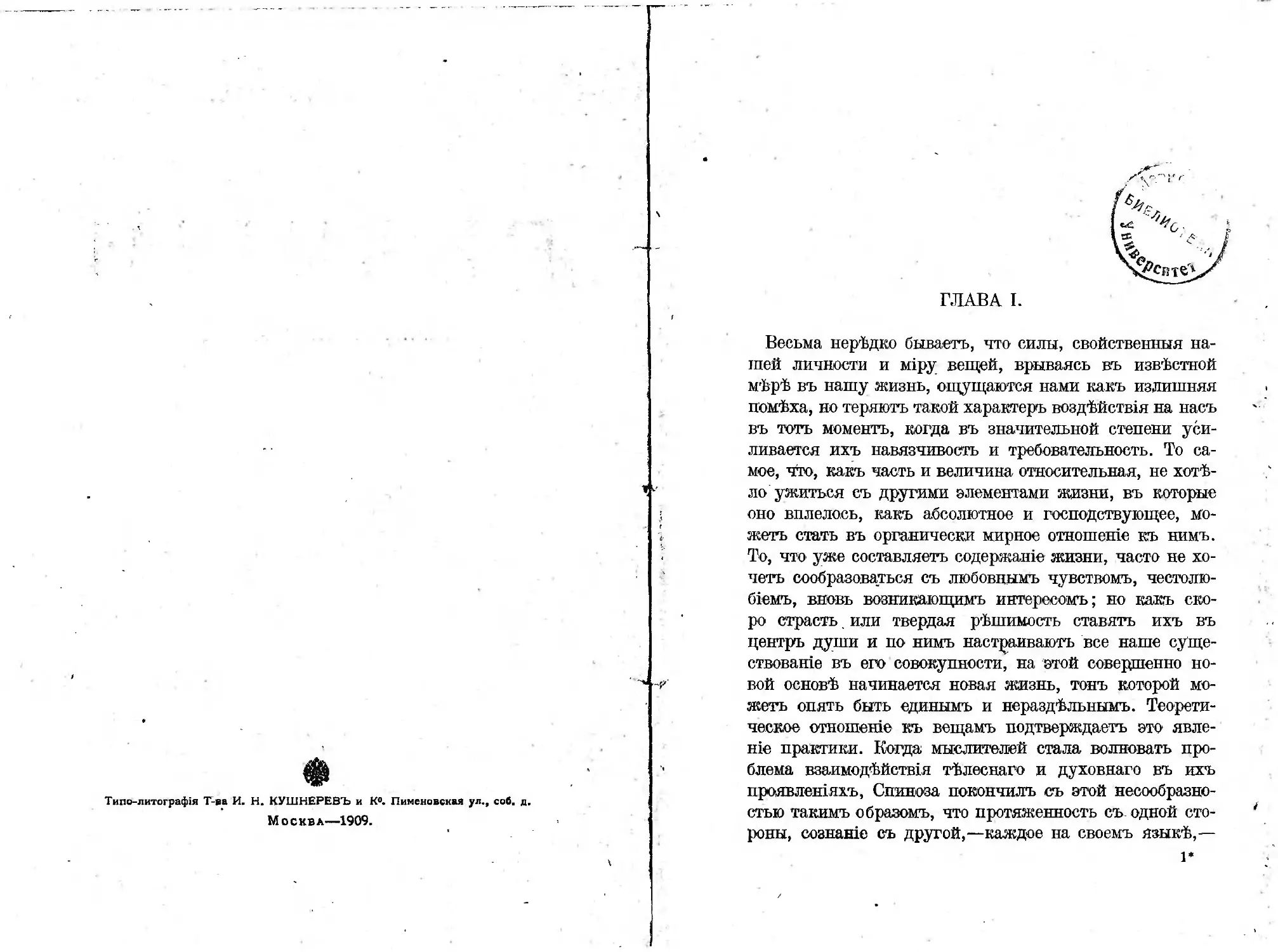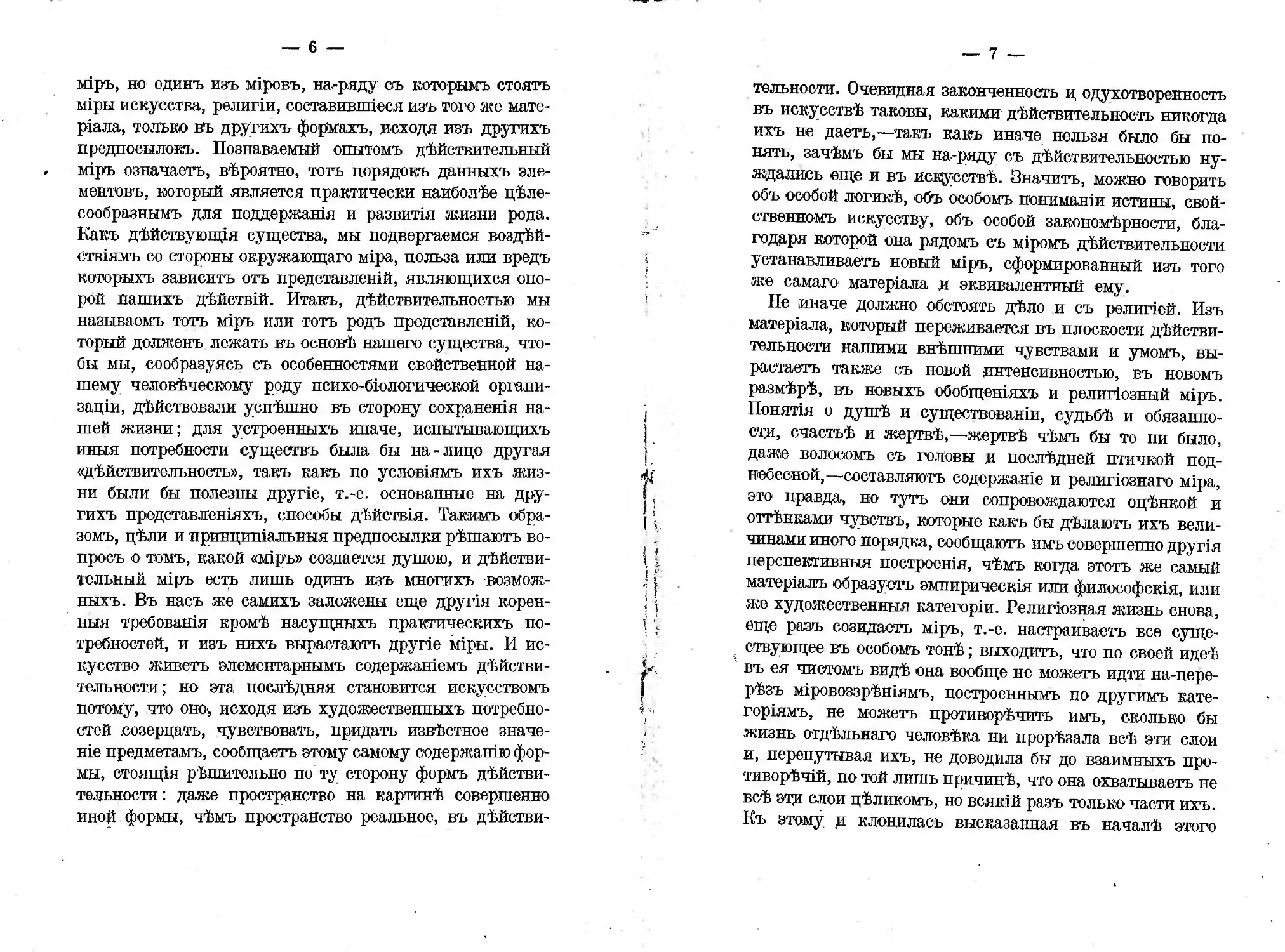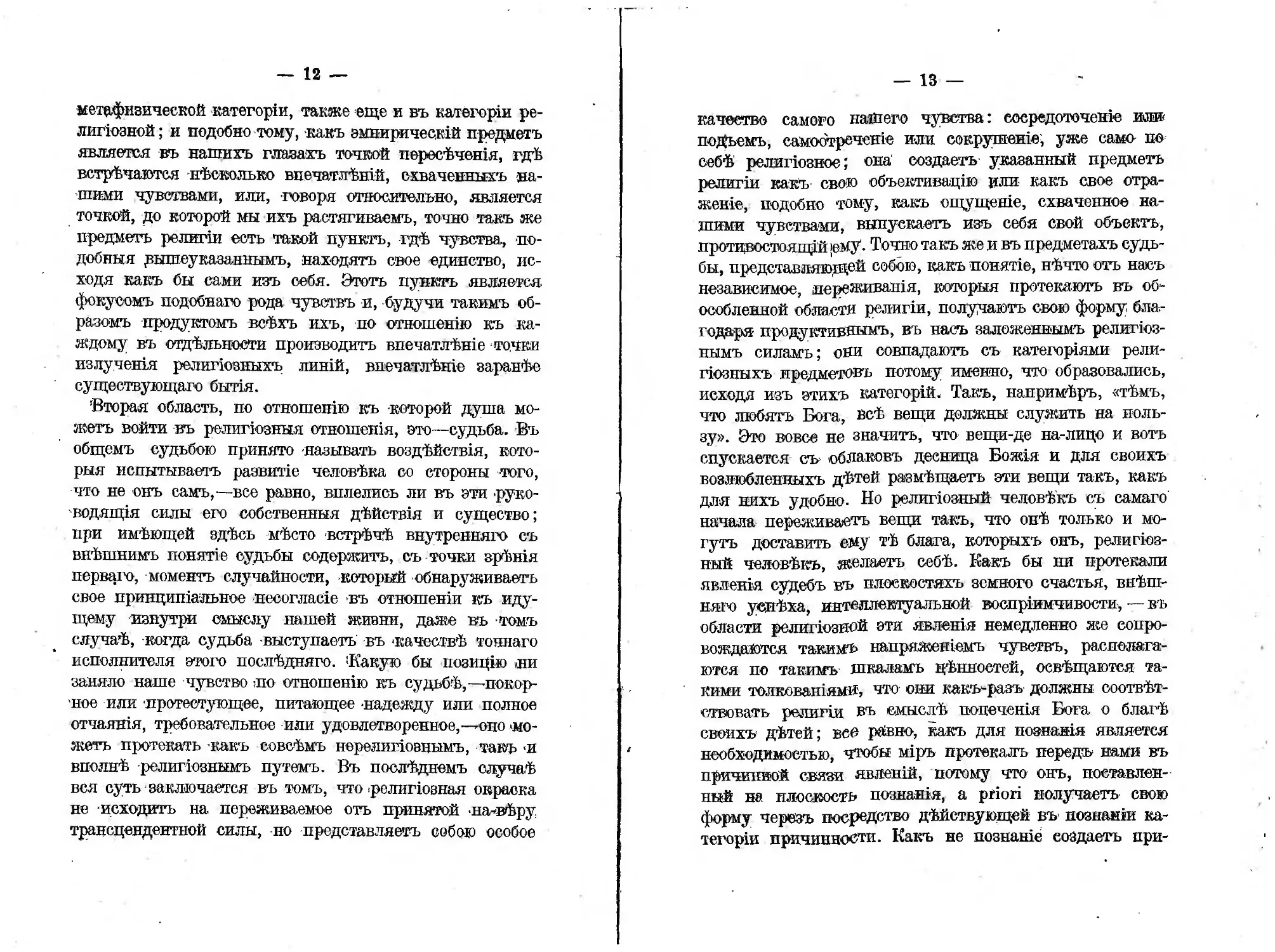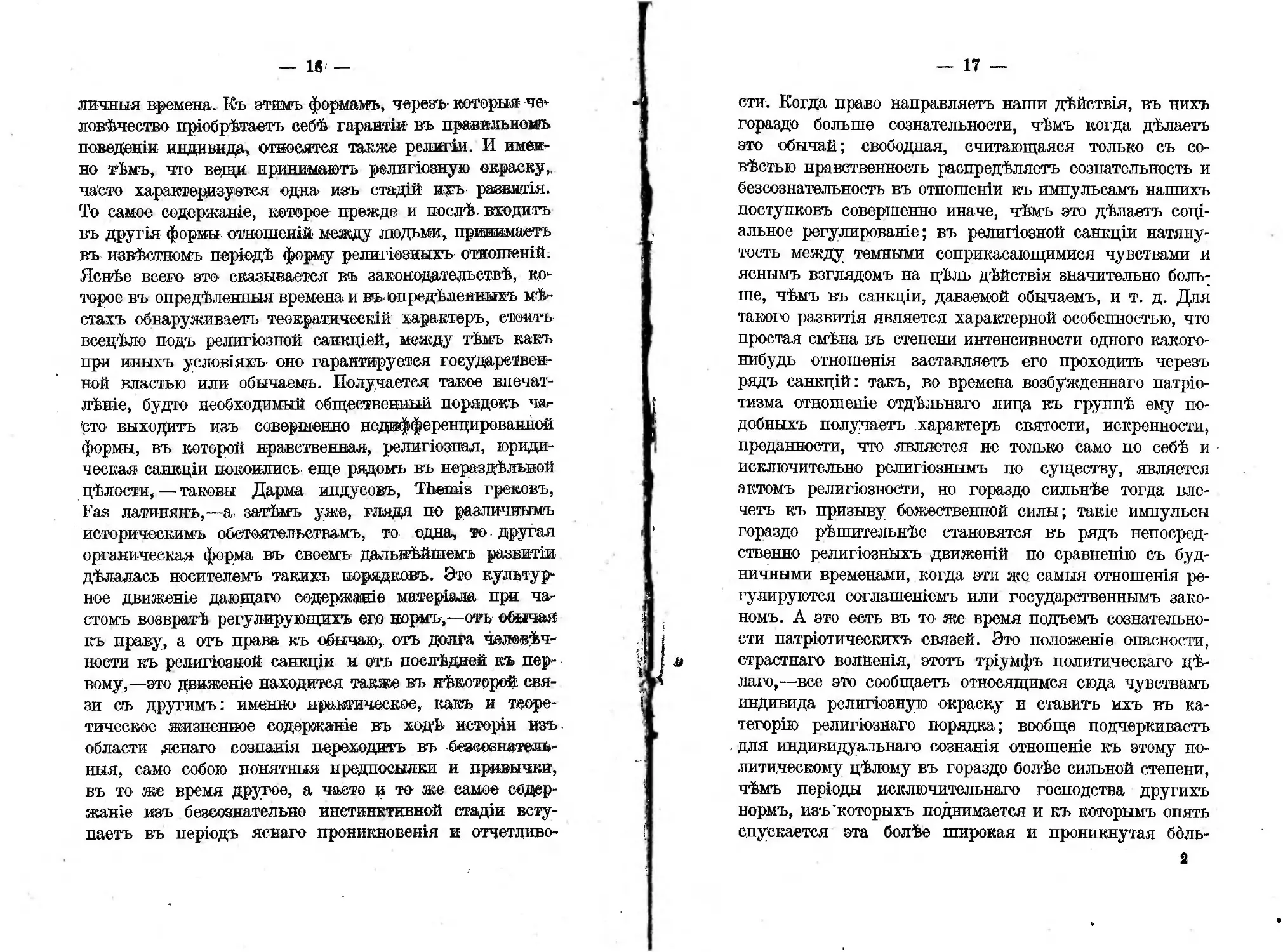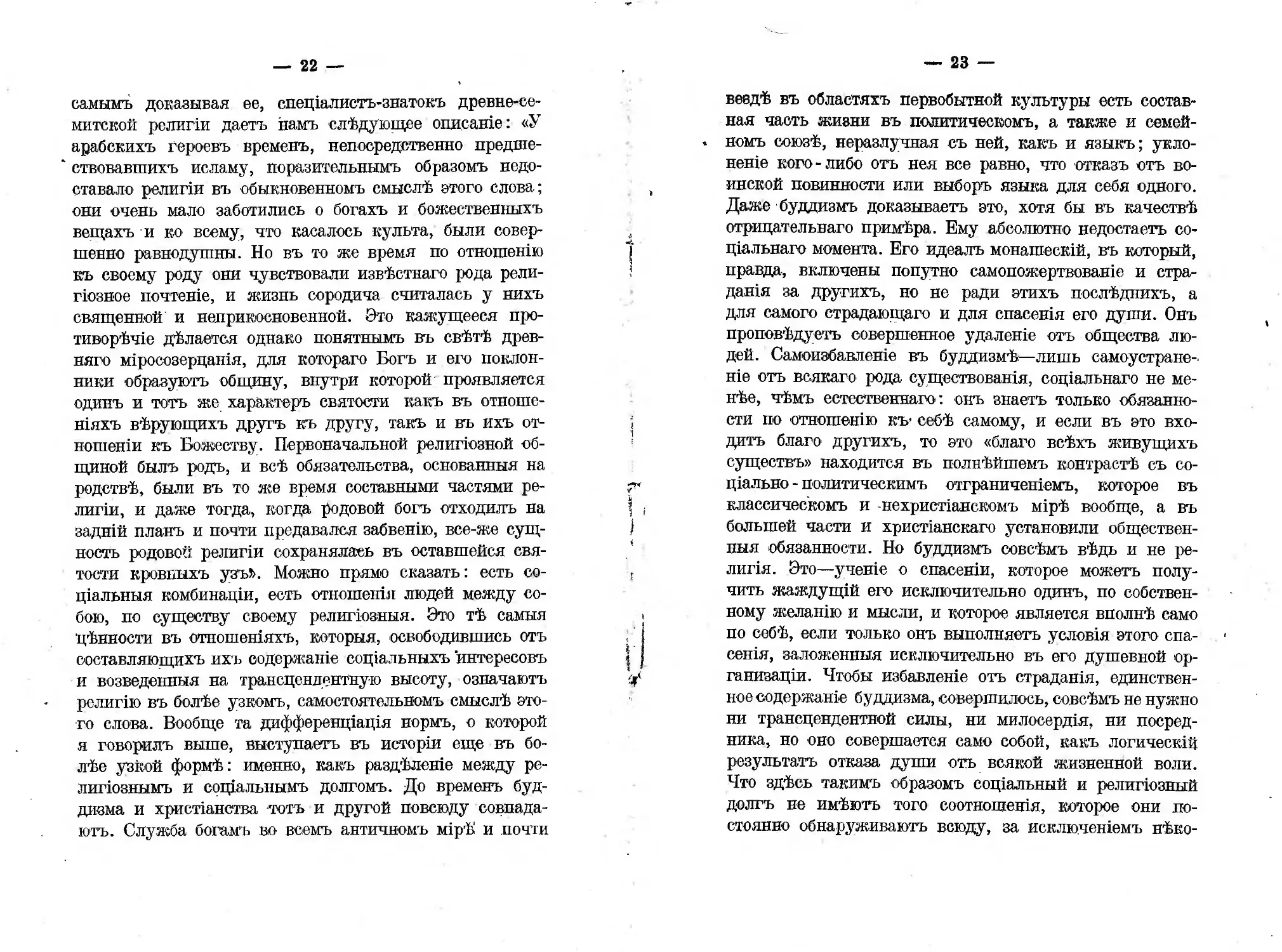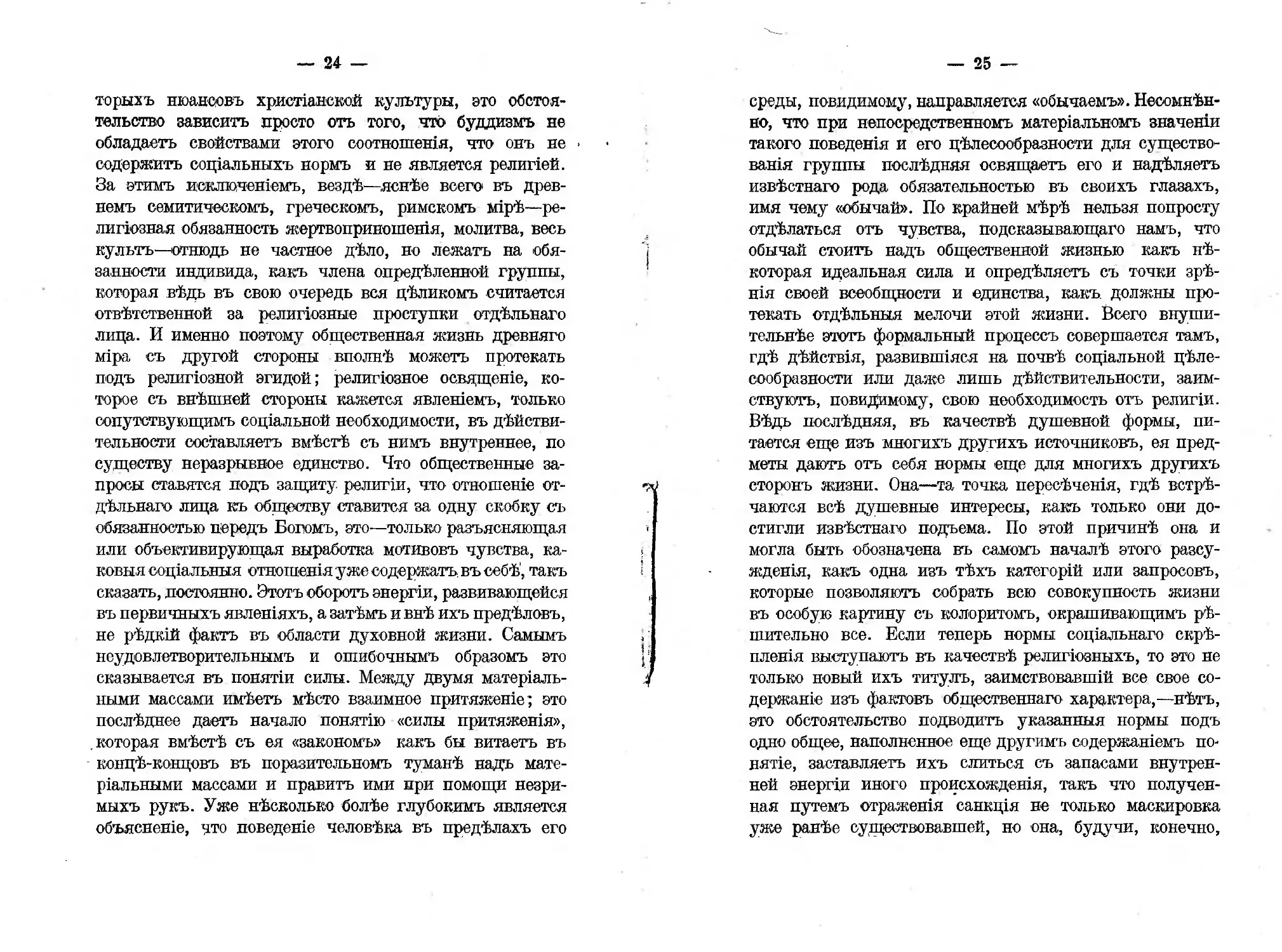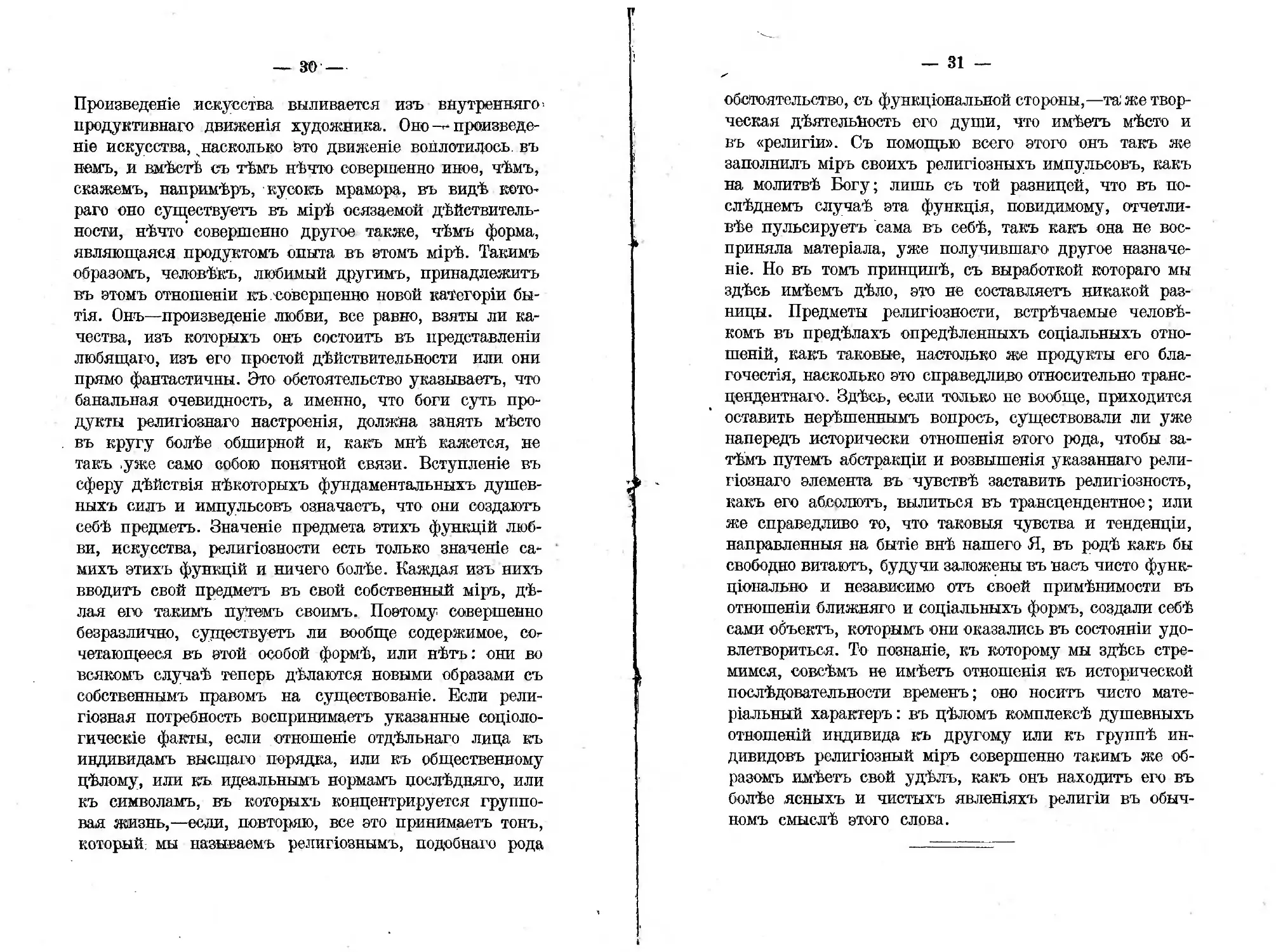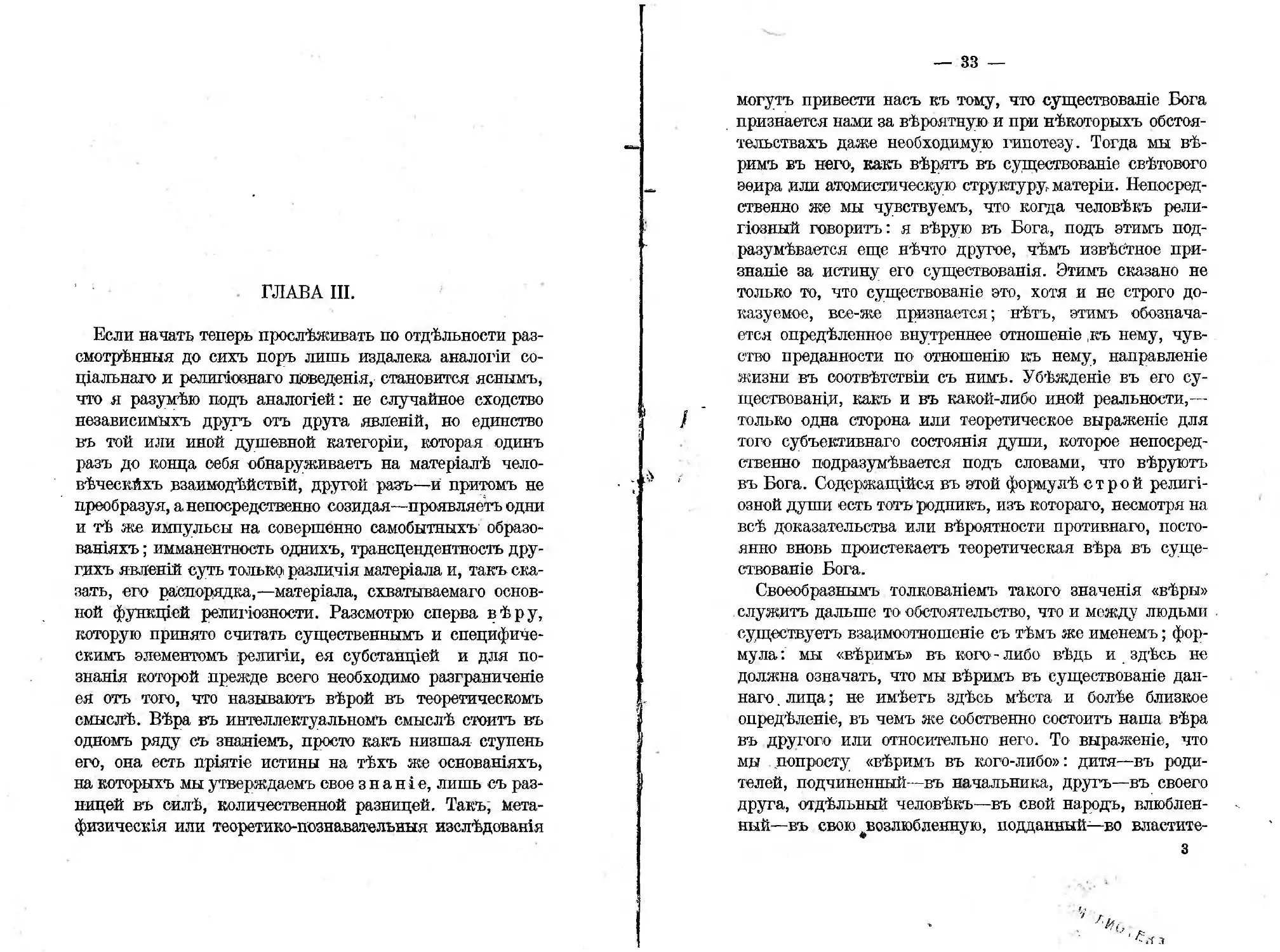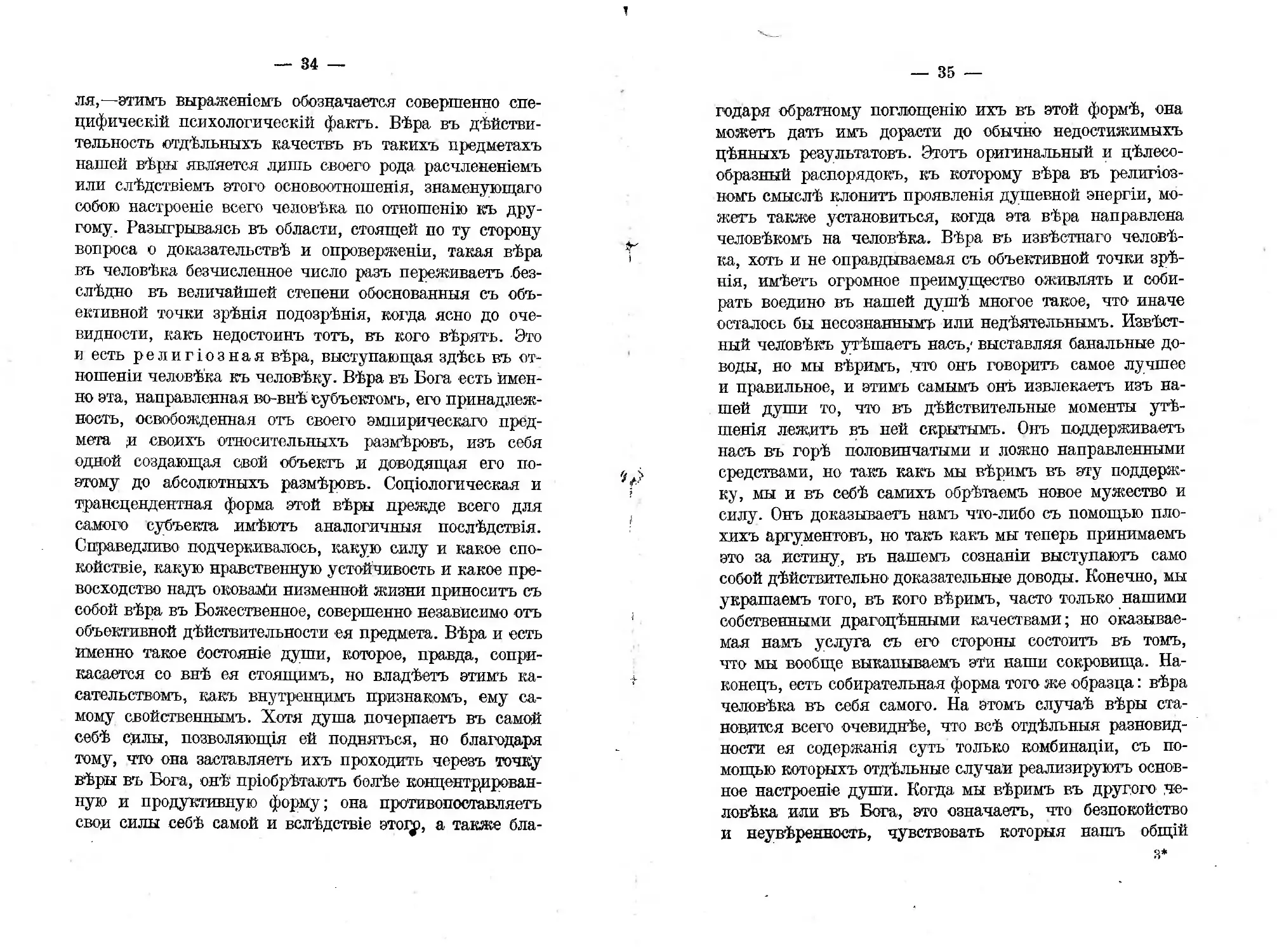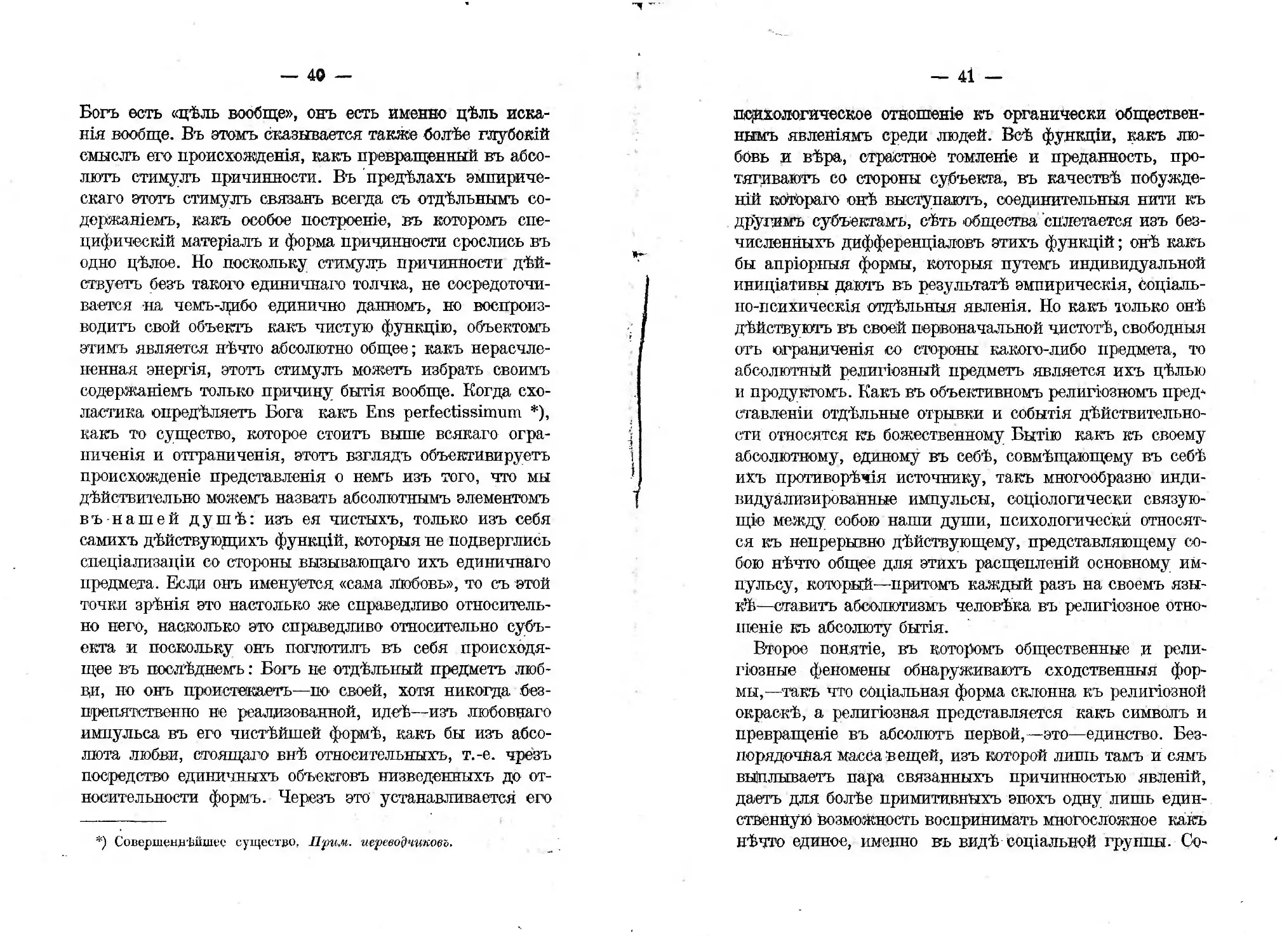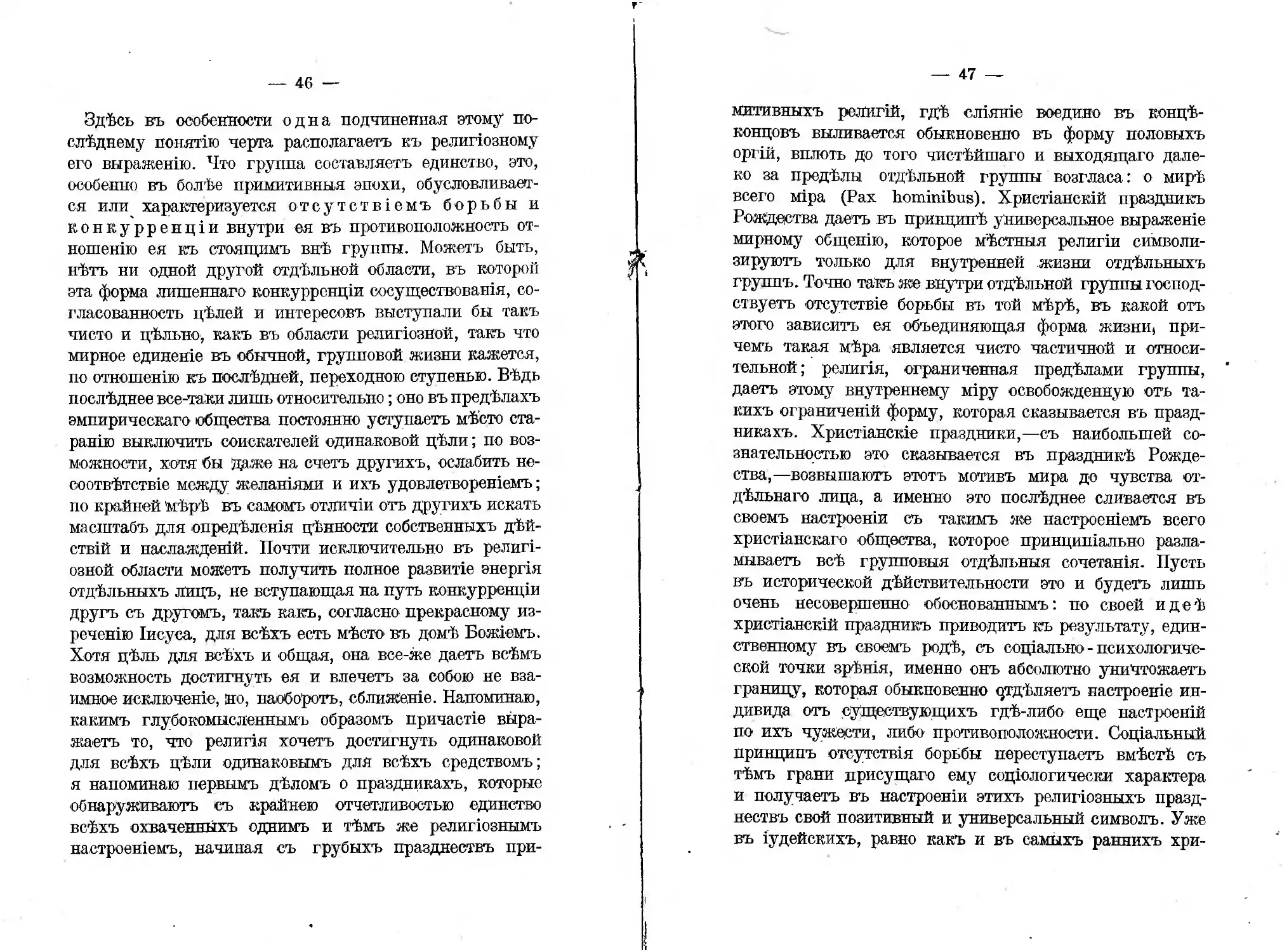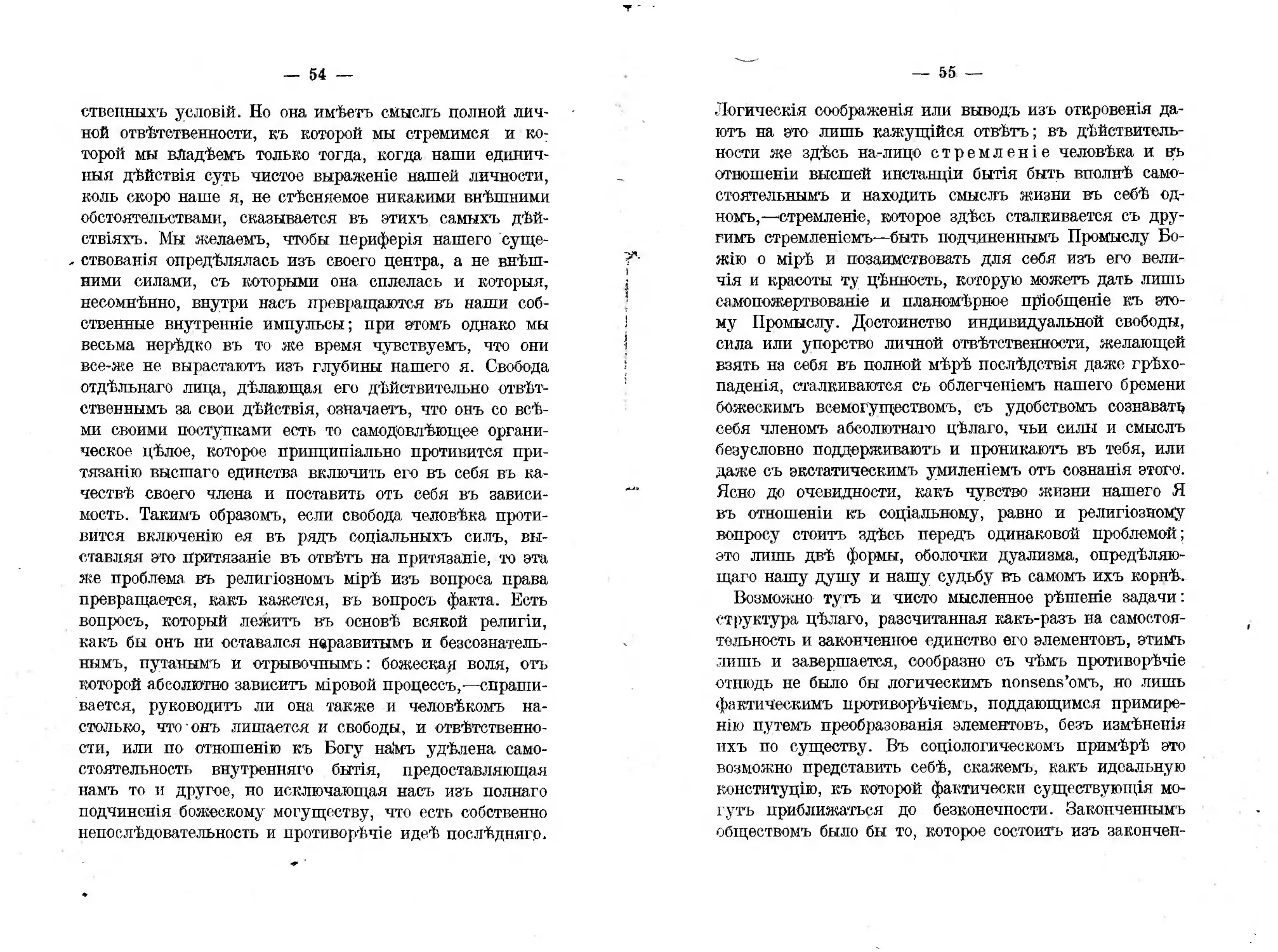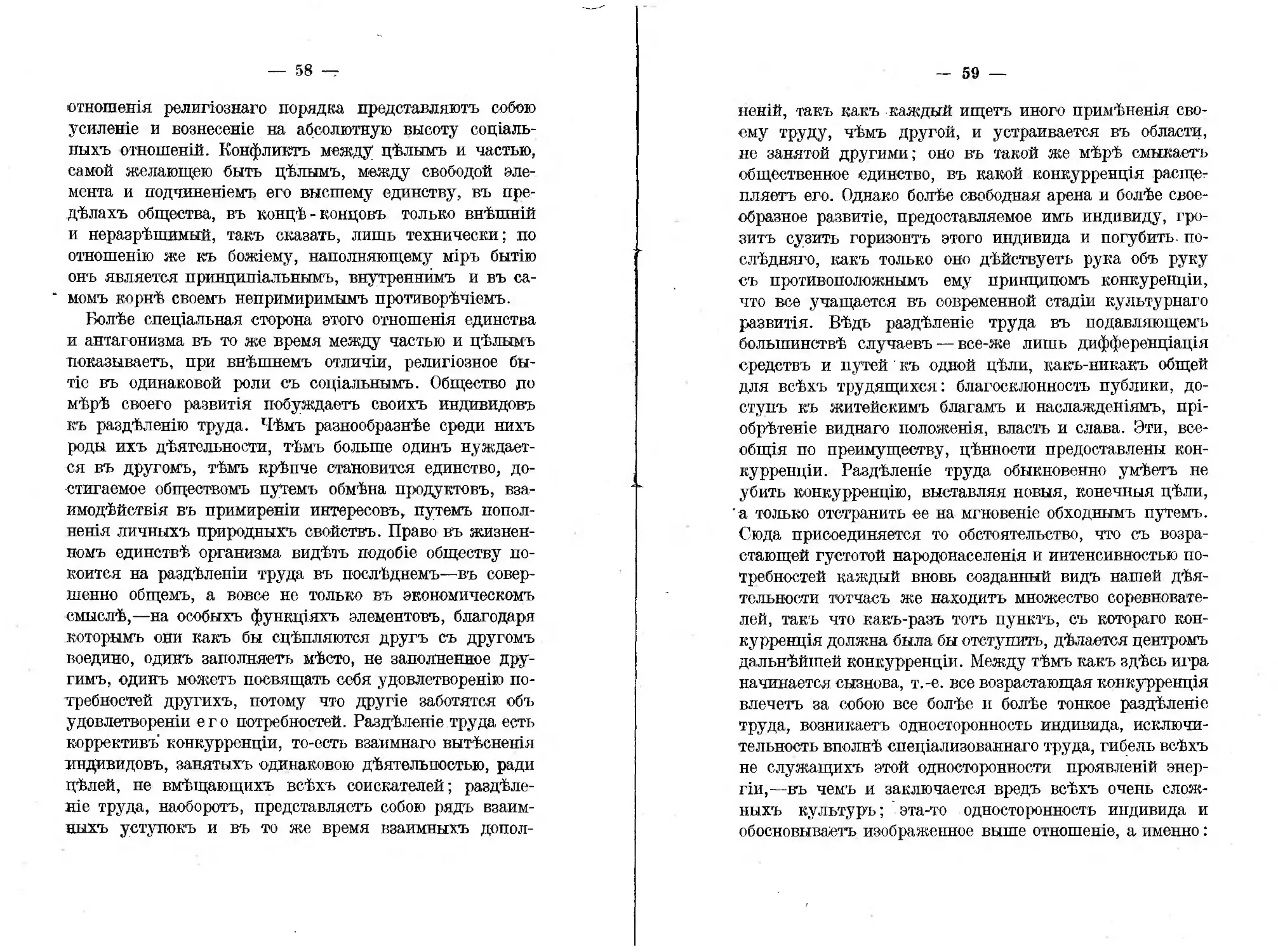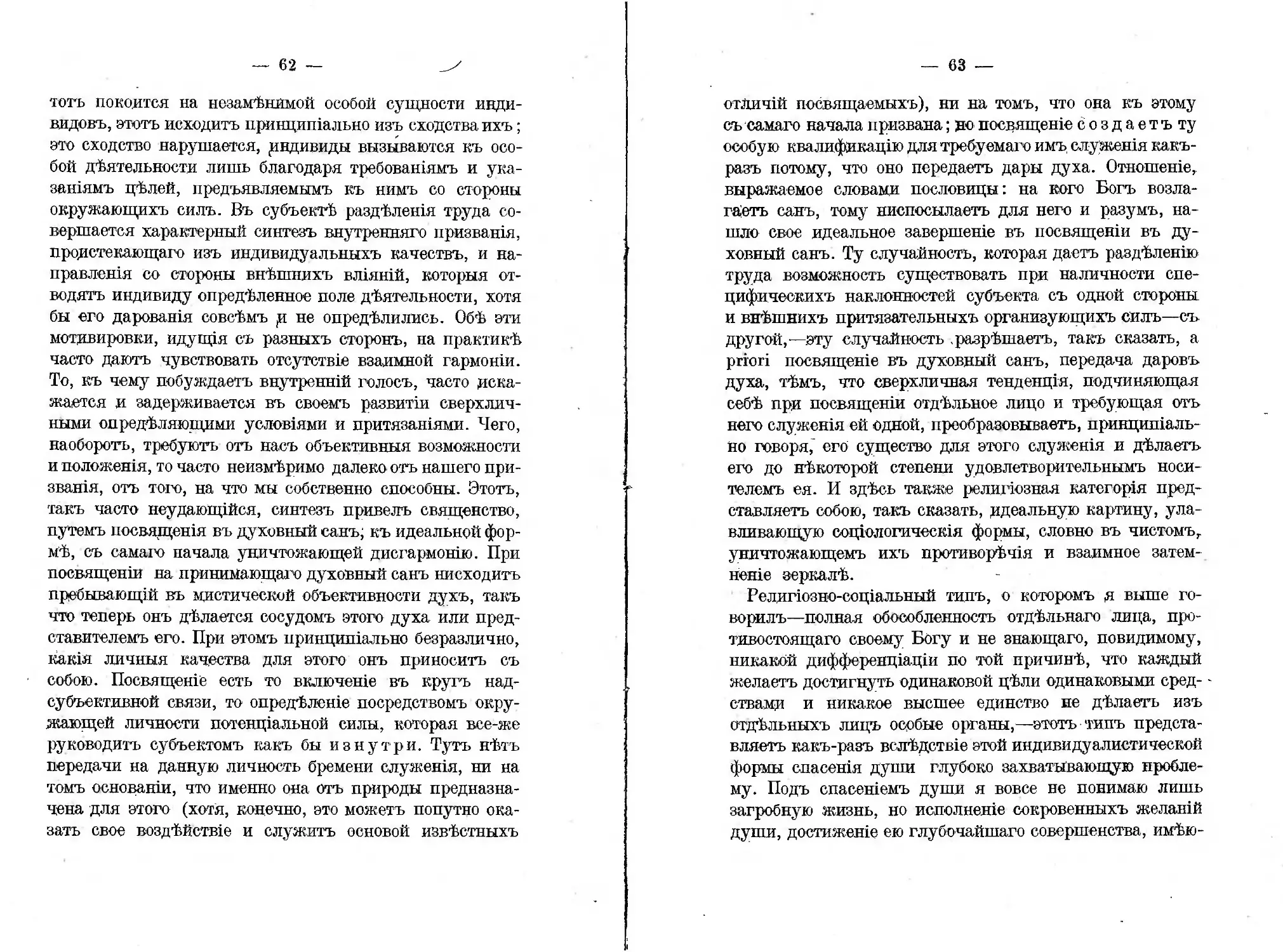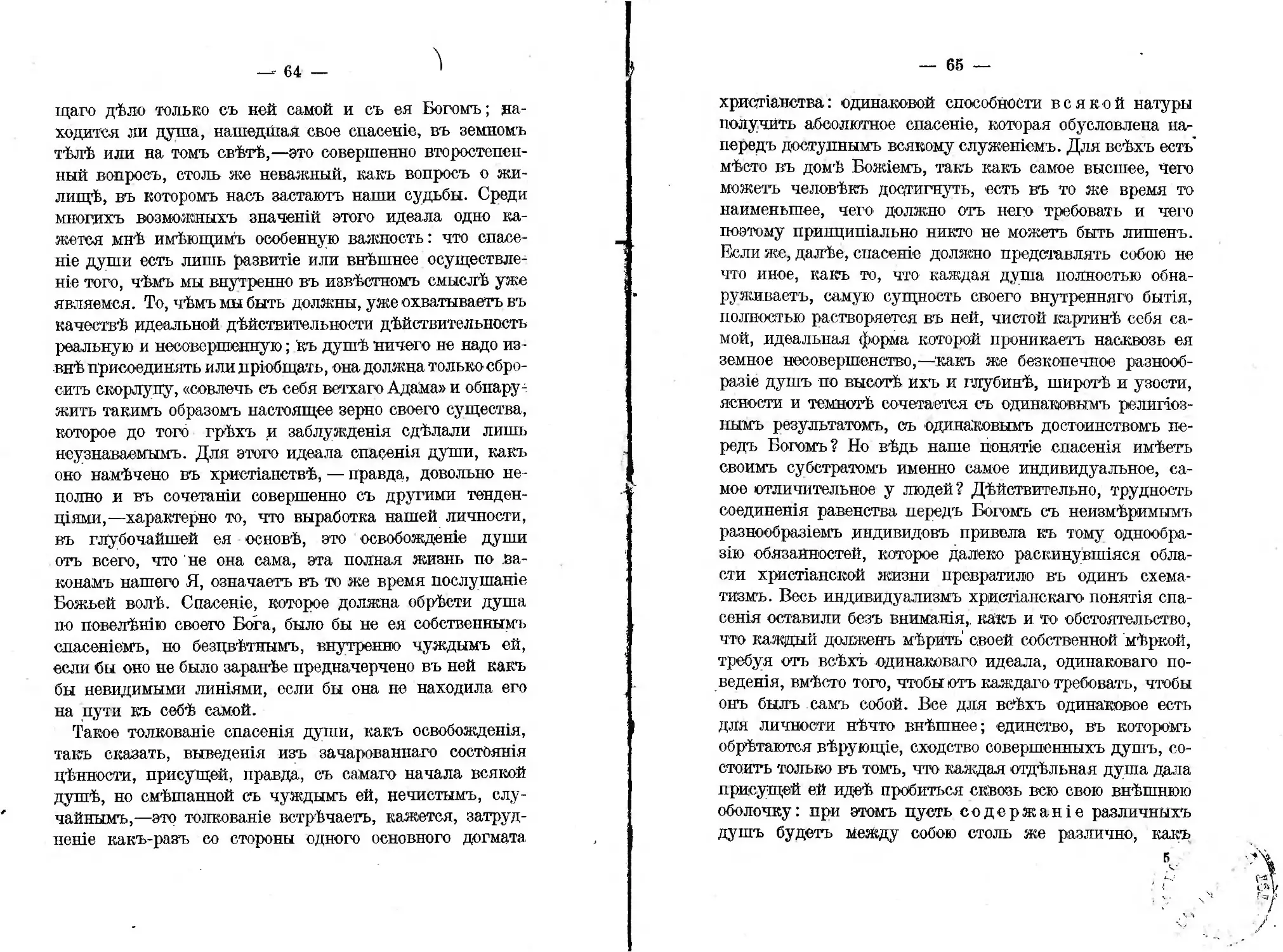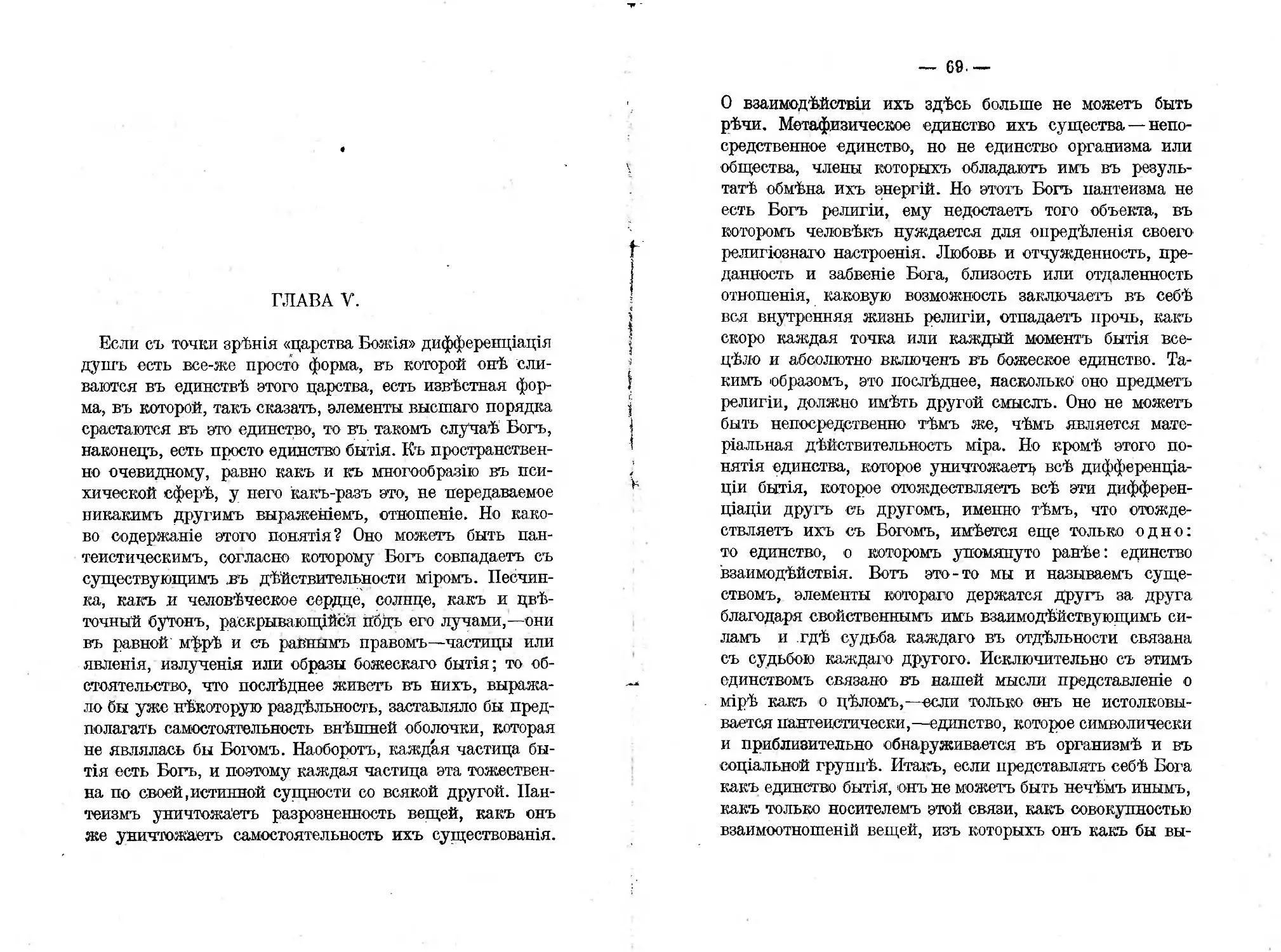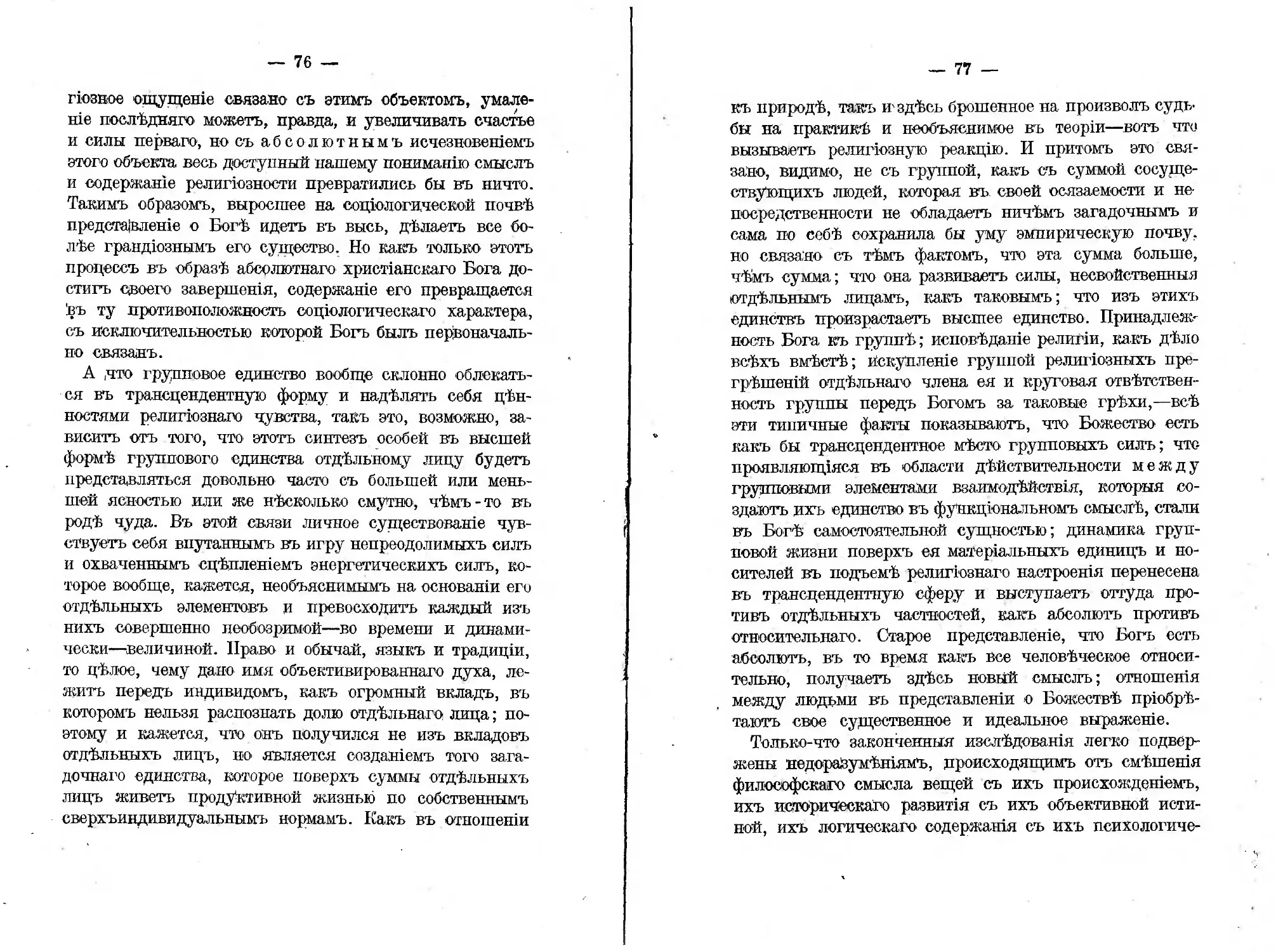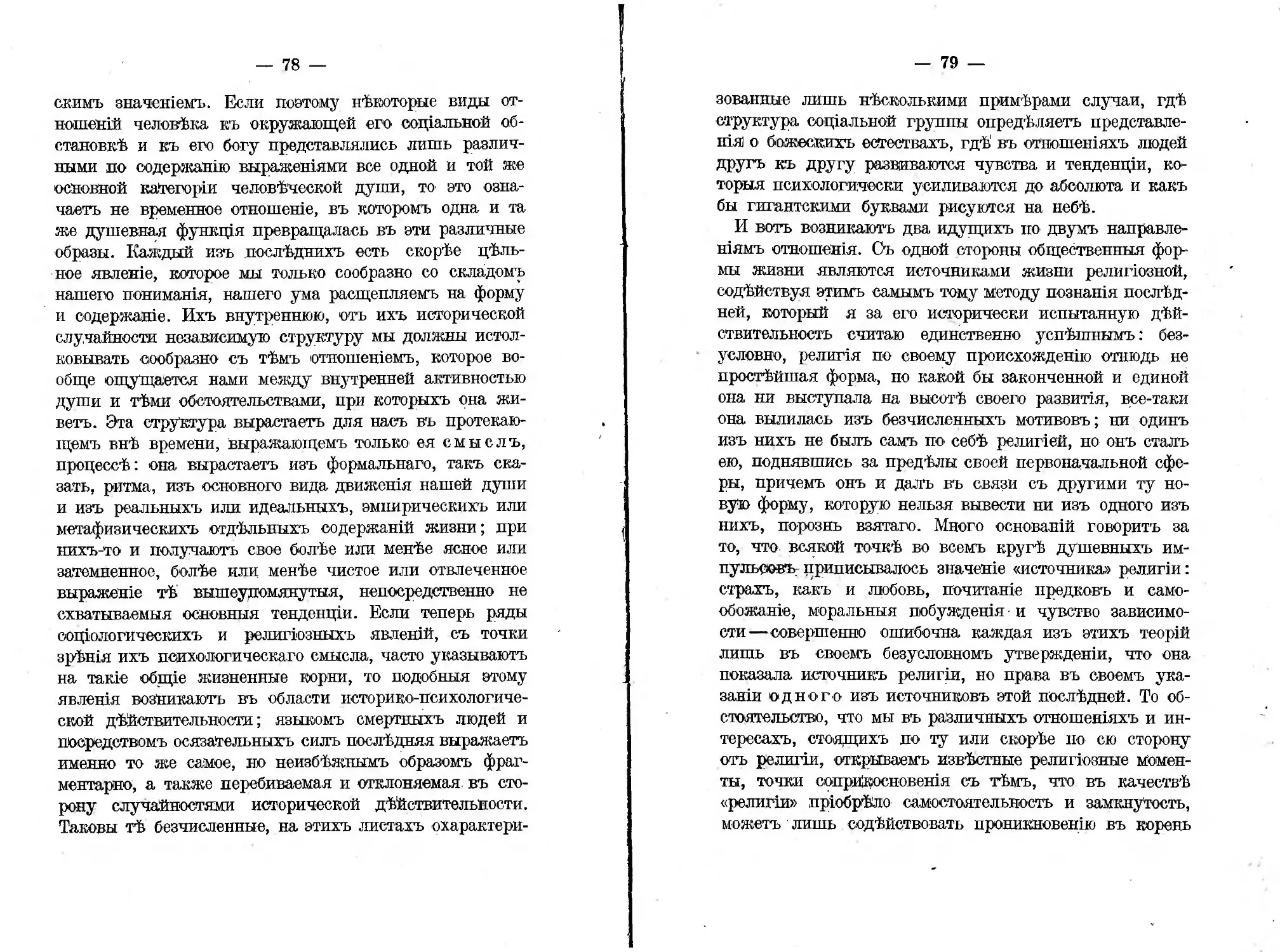Author: Зиммель. Г.
Tags: психологія переводная литература религія теологія издательство москва соціальная психологія
Year: 1909
Text
РЕЛИГІЯ
СОЦІЛЛЫШ-ПСИХОЛОГМЧЕСКІЙ этюдъ.
о
ьЦ* К'ЛМ/Ѵ О€Аа*(хДлА. .
ИИ^ѵ ~^УоЬ«ВА.
’ Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ.
1909.
Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
Москва—1909.
ГЛАВА I.
Весьма нерѣдко бываетъ, что силы, свойственныя на-
шей личности и міру вещей, врываясь въ извѣстной
мѣрѣ въ нашу жизнь, ощущаются нами какъ излишняя
помѣха, но теряютъ такой характеръ воздѣйствія на насъ
въ тотъ моментъ, когда въ значительной степени уси-
ливается ихъ навязчивость и требовательность. То са-
мое, что, какъ часть и величина относительная, не хотѣ-
ло ужиться съ другими элементами жизни, въ которые
оно вплелось, какъ абсолютное и господствующее, мо-
жетъ стать въ органически мирное отношеніе къ нимъ.
То, что уже составляетъ содержаніе жизни, часто не хо-
четъ сообразоваться съ любовнымъ чувствомъ, честолю-
біемъ, вновь возникающимъ интересомъ; но какъ ско-
ро страсть. или твердая рѣшимость ставятъ ихъ въ
центръ души и по нимъ настраиваютъ все наше суще-
ствованіе въ его совокупности, на этой совершенно но-
вой основѣ начинается новая жизнь, тонъ которой мо-
жетъ опять быть единымъ и нераздѣльнымъ. Теорети-
ческое отношеніе къ вещамъ подтверждаетъ это явле-
ніе практики. Когда мыслителей стала волновать про-
блема взаимодѣйствія тѣлеснаго и духовнаго въ ихъ
проявленіяхъ, Спиноза покончилъ съ этой несообразно-
стью такимъ образомъ, что протяженность съ одной сто-
роны, сознаніе съ другой,—каждое на своемъ языкѣ,—
1
— 4 —
выражаютъ все существующее; между тѣлеснымъ и ду-
ховнымъ царить согласіе, коль скоро они не перепле-
таются болѣе другъ съ другомъ, какъ относительныя
величины, но каждое изъявляетъ притязаніе на всю все-
ленную цѣликомъ и представляетъ всю ее безъ изъятія
по-своему. Можетъ быть, такой путь развитія помога-
етъ религіи выйти равнымъ образомъ .изъ нѣкоторыхъ
теоретическихъ затрудненій, такъ же, какъ онъ часто уже
служилъ къ разрѣшенію конфликтовъ практической ре-
лигіозной жизни. Гдѣ идеалы и требованія религіи ока-
зываются въ противорѣчіи не только съ побужденіями
низшаго порядка, но и съ нормами и цѣнностями духов-
наго и нравственнаго бытія, тамъ выходъ при подобнаго
рода треніи и путаницѣ находился только такимъ обра-
зомъ, что упомянутыя на первомъ мѣстѣ притязанія
все усиливали свою относительную роль—вплоть до аб-
солютной ; только когда религія дала-для жизни рѣшаю-
щій основной тонъ, ед отдѣльные элементы опять стано-
вились- въ правильное отношеніе другъ къ другу или къ
цѣлому. И когда соотвѣтственно этому складывается из-
ученіе религіознаго, оно можетъ разрѣшить тѣ противо-
рѣчія, въ которыя обыкновенно запутх*иают его ка-
тегоріи остальной жизни. Подъ этимъ не подразумѣ-
вается, конечно, безусловное господство» религіозной мыс-
ли, подавляющей интересы другого порядка,, но ка-
ждая изъ видныхъ формъ, нашего существованія долж-
на быть признана способной выразить на своемъ язы-
кѣ всю совокупность жизни. Организація- нашего суще-
ствованія посредствомъ абсолютнаго господства одного
принципа на счетъ всѣхъ другихъ была бы такимъ обра-
зомъ поднята на высшую ступень: ни одному изъ прин-
циповъ въ предѣлахъ самостоятельно нарисованной имъ
міровой картины не зачѣмъ было бы опасаться какого-
либо нарушенія ея цѣльности со стороны другого прин-
ципа, такъ какъ онъ этому послѣднему уступаетъ та-
— 5 —
кое же право создать свою жартину міра. Эти картины
міра съ принципіальной точки зрѣнія такъ же мало мог-
ли бы другъ съ другомъ скрещиваться, какъ -тоны съ
красками. А что онѣ все-таки не разойдутся другъ .съ
другомъ, за это ручается съ одной стороны единство со-
держанія, проявляющееся во всѣхъ этихъ дифференциро-
ванныхъ формахъ, съ другой—единообразное теченіе ду-
шевной жизни. Вѣдь послѣдняя изъ множества -міровъ,
которые, такъ сказать, въ видѣ -идеальныхъ возможно-
стей лежать -передъ нами, въ насъ, выхватываетъ толь-
ко отдѣльные обломки, чтобы изъ нихъ -выплавитъ свое
собственное существованіе, причемъ, разумѣется, она при
своихъ мѣняющихся цѣляхъ и своемъ неустойчивомъ
комплексѣ чувствъ можетъ довести тѣ міры до жесто-
кихъ конфликтовъ между собою.
Для наивнаго человѣка міръ опыта и практики есть
простая дѣйствительность; предметы, составляющіе со-
держаніе этого міра, являются -ощутимыми благодаря
нашимъ чувствамъ и поддаются нашему воздѣйствію;
если же они обращаются среди -категорій искусства или
религіи, среди категорій-цѣнностей, созданныхъ наши-
ми чувствами, -или «категорій философскаго умозрѣнія,
то они отчасти противополагаются названному единствен-
но дѣйствительному существованію, -чтобы съ 1 -нимъ
слиться опять во -многообразіи -жизни, —-подобно тому,
какъ -въ -теченіе индивидуальнаго существованія попа-
даютъ обломки чуждыхъ или -даже враждебныхъ -ря-
довъ, чтобы составить его цѣлое. Вмѣстѣ съ этимъ воз-
никаютъ неувѣренность и запутанность въ представлені-
яхъ о мірѣ и жизни, которыя сейчасъ -же устраняются,
если и такъ-называемую «дѣйствительно-1 ь: -признать
формой, въ которой мы располагаемъ -извѣстное данное
содержаніе,—именно -то, -что -мы -въ состояніи -упоря-
дочить-путемъ-искусства или-религіи, научнымъ путемъ
ими -въ игрѣ. Дѣйствительность, это—вовсе не просто
— 6 —
міръ, но одинъ изъ міровъ, на-ряду съ которымъ стоятъ
міры искусства, религіи, составившіеся изъ того же мате-
ріала, только въ другихъ формахъ, исходя изъ другихъ
предпосылокъ. Познаваемый опытомъ дѣйствительный
міръ означаетъ, вѣроятно, тотъ порядокъ данныхъ эле-
ментовъ, который является практически наиболѣе цѣле-
сообразнымъ для поддержанія и развитія жизни рода.
Какъ дѣйствующія существа, мы подвергаемся воздѣй-
ствіямъ со стороны окружающаго міра, польза или вредъ
которыхъ зависитъ отъ представленій, являющихся опо-
рой нашихъ дѣйствій. Итакъ, дѣйствительностью мы
называемъ тотъ міръ или тотъ родъ представленій, ко-
торый долженъ лежать въ основѣ нашего существа, что-
бы мы, сообразуясь съ особенностями свойственной на-
шему человѣческому роду психо-біологической органи-
заціи, дѣйствовали успѣшно въ сторону сохраненія на-
шей жизни; для устроенныхъ иначе, испытывающихъ
иныя потребности существъ была бы на-лицо другая
«дѣйствительность», такъ какъ по условіямъ ихъ жиз-
ни были бы полезны другіе, т.-е. основанные на дру-
гихъ представленіяхъ, способы дѣйствія. Такимъ обра-
зомъ, цѣли и принципіальныя предпосылки рѣшаютъ во-
просъ о томъ, какой «міръ» создается душою, и дѣйстви-
тельный міръ есть лишь одинъ изъ многихъ возмож-
ныхъ. Въ насъ же самихъ заложены еще другія корен-
ныя требованія кромѣ насущныхъ практическихъ по-
требностей, и изъ нихъ вырастаютъ другіе міры. И ис-
кусство живетъ элементарнымъ содержаніемъ дѣйстви-
тельности; но эта послѣдняя становится искусствомъ
потому, что оно, исходя изъ художественныхъ потребно-
стей созерцать, чувствовать, придать извѣстное значе-
ніе предметамъ, сообщаетъ этому самому содержанію фор-
мы, стоящія рѣшительно по ту сторону формъ дѣйстви-
тельности: даже пространство на картинѣ совершенно
иной формы, чѣмъ пространство реальное, въ дѣйстви-
— 7 —
тѳльности. Очевидная законченность и, одухотворенность
въ искусствѣ таковы, какими дѣйствительность никогда
ихъ не даетъ,—такъ какъ иначе нельзя было бы по-
нять, зачѣмъ бы мы на-ряду съ дѣйствительностью ну-
ждались еще и въ искусствѣ. Значитъ, можно говорить
объ особой логикѣ, 'Объ особомъ пониманіи истины, свой-
ственномъ искусству, объ особой закономѣрности, бла-
годаря которой она рядомъ съ міромъ дѣйствительности
устанавливаетъ новый міръ, сформированный изъ того
же самаго матеріала и эквивалентный ему.
Не иначе должно обстоять дѣло и съ религіей. Изъ
матеріала, который переживается въ плоскости дѣйстви-
тельности нашими внѣшними чувствами и умомъ, вы-
растаетъ также съ новой интенсивностью, въ новомъ
размѣрѣ, въ новыхъ 'обобщеніяхъ и религіозный міръ.
Понятія о душѣ и существованіи, судьбѣ и обязанно-
сти, счастьѣ и жертвѣ,—жертвѣ чѣмъ бы то ни было,
даже волосомъ съ головы и послѣдней птичкой под-
небесной,—составляютъ содержаніе и религіознаго міра,
это правда, но тутъ они сопровождаются оцѣнкой и
оттѣнками чувствъ, которые какъ бы дѣлаютъ ихъ вели-
чинами иного порядка, сообщаютъ имъ совершенно другія
перспективныя построенія, чѣмъ когда этотъ же самый
| . матеріалъ образуетъ эмпирическія или философскія, или
і же художественныя категоріи. Религіозная жизнь снова,
еще разъ созидаетъ міръ, т.-о. настраиваетъ все суще-
ствующее въ особомъ тонѣ; выходитъ, что по своей идеѣ
Р’ ' въ ея чистомъ видѣ она вообще не можетъ идти на-пере-
рѣзъ міровоззрѣніямъ, построеннымъ по другимъ кате-
горіямъ, не можетъ противорѣчить имъ, сколько бы
жизнь отдѣльнаго человѣка ни прорѣзала всѣ эти слои
и, перепутывая ихъ, не доводила бы до взаимныхъ про-
тиворѣчій, по той лишь причинѣ, что она охватываетъ не
всѣ этц слои цѣликомъ, но всякій разъ только части ихъ.
Къ этому, и клонилась высказанная въ началѣ этого
— 8 —
разсужденія мысль: что жизненный элементъ, который
не хочетъ мирно подѣлиться жизнью съ другими, часто
получаетъ 'смыслъ безъ всякихъ противорѣчій, коль ско-
ро придать ему характеръ -послѣдней и абсолютной ин-
станціи жизни. Лить когда убѣждаешься, что религія
есть цѣльное міросозерцаніе, соотвѣтственное другимъ
теоретическимъ или практическимъ мірооозерцаніямъ,
она, а вмѣстѣ съ нею и эти другія'системы жизни пріоб-
рѣтаютъ непоколебимость своей внутренней связи. ‘Мо-
жетъ быть, .человѣкъ .при ограниченности своихъ силъ
и интересовъ реализуетъ ати возможные, такъ сказать,
идеально существующіе міры вообще только въ незна-
чительной ихъ части. .Какъ не всякое непосредственно
данное содержаніе выливается у него въ форму научнаго
познанія или превращается въ образы искусства, точно
такъ же не всякое содержаніе входитъ въ составъ -рели-
гіи, уже по той причинѣ, что этотъ процессъ форми-
рованія религіи, хотя принципіально и всюду выполни-
мый, :все-же не во всякой составной части міра и духа
находитъ одинаково пригодный матеріалъ. Имѣются, мо-
жетъ быть, три сегмента жизненнаго круга, гдѣ вы-
ступаетъ на первый планъ передача ощущеній квъ ре-
лигіозномъ тонѣ: именно — въ отношеніи человѣка къ
внѣшней природѣ, къ судьбѣ, къ окружающему чело-
вѣческому міру. Наша задача здѣсь—развить 'послѣднее
отношеніе, а это, вмѣстѣ съ краткой обрисовкой двухъ
другихъ отношеній, послужитъ рамой для общаго по-
ниманія религіознаго и покажетъ его настоящее Мѣсто
въ человѣческомъ мірѣ.
Давно уже стало тривіальнымъ опредѣленіе, что ре-
лигія есть не что иное, какъ нѣкотораго -рода преувели-
ченіе эмпирическихъ фактовъ. Богъ-творецъ является
не чѣмъ .инымъ, какъ гипертрофированнымъ чувствомъ
причинности, религіозная жертва—продолженіемъ испы-
танной івъ жизни необходимости расплаты за <все же-
— 9 —
ланное, страхъ передъ Богомъ — какъ совокупность и
увеличительное отраженіе той необъятной силы, кото-
рую мы постоянно испытываемъ на себѣ со стороны фи-
зической природы. Все это можетъ обрисовать явленіе
съ -внѣшней ето стороны, но не даетъ еще возможности
понять <его внутреннюю сторону. Послѣднее скорѣе ну-
жд ‘ѳтся въ такомъ оборотѣ мысли: что религіозныя ка-
тѳгоріи должны уже лежать въ основѣ, должны заста-
влять свой матеріалъ съ самаго начала реагировать
вмѣстѣ съ ними, если этотъ послѣдній ощутимъ какъ
значительный въ религіозномъ отношеніи, если изъ него
должны получиться религіозные образы. Какъ предме-
ты опыта познаваемы именно благодаря тому, что
ѣормы и нормы познанія содѣйствовали ихъ образованію
изъ простого матеріала, доступнаго нашимъ чувствамъ,
какъ именно поэтому мы можемъ, напримѣръ, из-
влечь законъ причинности въ видѣ абстракціи изъ на-
шихъ опытовъ, потому что съ самаго начала мы строили
наши опыты сообразно этому закону, который ихъ вооб-
ще только и дѣлаетъ «опытами»,—точно такъ же предме-
ты являются религіозно-значительными и возвышают-
ся до трансцендентныхъ образовъ именно по тому са-
мому <и настолько, насколько они съ самаго начала на-
шли мѣсто въ религіозной категоріи и послѣдняя пред-
опредѣлила ихъ образованіе, прежде чѣмъ они созна-
тельно и вполнѣ признаны религіозными. Если дѣйстви-
тельно Богъ, какъ творецъ міра, вытекаетъ изъ необхо-
димости продолженія ряда причинъ, равнымъ образомъ
религіозный, стремящійся къ трансцендентному, эле-
ментъ заложенъ уже на низшихъ ступеняхъ процесса
причинности.Сь одной стороны,’правда, послѣдній оста-
ется ‘въ предѣлахъ конкретнаго познанія и соединяетъ
одно данное звено съ ближайшимъ; однако, сверхъ того,
неустанный ритмъ этого движенія несетъ съ собою тонъ
неудовлетворенности‘всѣмъ пріобрѣтеннымъ,—тонъ, сну-
— 10 —
скающій каждое отдѣльное звено до степени полнаго
ничтожества въ неизмѣримо безконечной цѣни; гово-
ря коротко, религіозный тонъ съ самаго начала даетъ
свое созвучіе въ движеніи причинности. Одинъ и тотъ
же ходъ мыслей то въ зависимости, отъ плоскости, въ
которой мы заставляемъ ихъ пробѣгать, то въ связи
съ оттѣнками чувства, которыми мы его снабжаемъ, при-
водить въ концѣ-концовъ къ міру познаваемой природы
или къ точкѣ, лежащей въ трансцендентной дали. Богъ,
какъ причина міра, означаетъ, что изъ этого, съ са-
маго начала протекающаго въ религіозной категоріи,
процесса какъ бы выкристаллизовался его внутренній
смыслъ, подобно тому какъ абстрактный законъ при-
чинности обозначаетъ, что изъ процесса причинности,
насколько онъ проявляется подъ знакомъ категоріи по-
знанія, извлечена его формула. Никогда безконечное
продолженіе ряда причинъ, представляемаго эмпириче-
ски познаваемымъ міромъ, не поднялось бы до Бога,
никогда, исходя изъ него одного, не былъ бы понятенъ
скачокъ въ религіозный міръ, если бы этотъ же са-
мый рядъ не могъ одновременно развернуться также
подъ покровомъ религіознаго чувства, а для послѣдняго
Богъ-творецъ тогда есть окончательное выраженіе, суб-
станція, въ видѣ которой можетъ осѣсть религіозность,
коренящаяся въ духѣ того процесса и какъ одна изъ
' его сторонъ.
Легче вникнуть въ то, какъ подъ знакомъ религіи
можетъ развиваться связь нашихъ чувствъ съ внѣшней
природой и какъ это развитіе въ дѣлѣ религіи какъ бы
противопоставляется себѣ самому. Окружающая насъ
природа вызываетъ въ насъ то эстетическое наслажденіе,
то страхъ и ужасъ и ощущеніе величія ея всемогуще-
ства : первое — потому, что намъ вдругъ становится ви-
димымъ и доступнымъ то, что производитъ .на насъ
впечатлѣніе собственно чего-то чужого и вѣчно стоя-
— 11 —
щаго противъ насъ, послѣднее—потому, что простое фи-
зическое явленіе и, какъ таковое, вполнѣ для пасъ без-
различное и пойятное принимаетъ характеръ ужасаю-
щей непроницаемой тьмы, либо, наконецъ, вызываетъ
то трудно поддающееся анализу элементарное чувство,
которое я сумѣлъ бы опредѣлить лишь какъ простое
потрясеніе: когда мы вдругъ до глубины души поражены
и тронуты не чрезвычайной красотой или величіемъ яв-
ленія природы, но зачастую лучомъ солнца, пронизы-
вающимъ листву, или изгибомъ вѣтви на вѣтру, или во-
обще тѣмъ, что сразу не бросается въ глаза, но что
словно по тайному созвучію съ сокровенными тайниками
нашего существа заставляетъ ихъ колыхаться отъ соб-
ственныхъ страстныхъ движеній. Всѣ эти ощущенія мо-
гутъ протекать, не выходя за предѣлы ихъ обычныхъ
свойствъ,—значитъ, безъ всякой религіозной цѣнности;
но они могутъ также и получить ее, нисколько не из-
мѣняя своего содержанія. Въ моменты такого возбужде-
нія мы чувствуемъ иногда извѣстное напряженіе или
подъемъ, уничиженіе или благодарность, чувствуемъ
волненіе, какъ-будто за всѣмъ этимъ стоитъ и гово-
ритъ въ насъ душа,—и все это приходится назвать не
иначе, какъ религіознымъ проявленіемъ. Это еще не
религія; но это тотъ процессъ, который становится ре^
линіей, когда онъ продолжается и переходитъ въ транс-
цендентное, когда свою собственную сущность онъ до-
пускаетъ сдѣлаться его объектомъ и этимъ объектомъ,
повидимому, самъ въ свою очередь возсоздается. То,
чему дали названіе телеологическаго; доказательства бы-
тія Божія, а именно, что красота, внѣшній обликъ и
порядокъ міра указываютъ на цѣлесообразно строящую
абсолютную силу,—не что иное, какъ логическое выра-
женіе этого религіознаго процесса. Нѣкоторыя наши ощу-
щенія въ отношеніи къ природѣ переживаются какъ-
разъ, кромѣ чисто субъективной или эстетической или
— 12 —
метафизической категоріи, также еще и въ категоріи ре-
лигіозной ; и подобно тому, какъ эмпирическій предметъ
является въ нашихъ глазахъ точкой пересѣченія, гдѣ
встрѣчаются нѣсколько впечатлѣній, схваченныхъ на-
шими чувствами, или, говоря относительно, является
точкой, до которой мы ихъ растягиваемъ, точно такъ же
предметъ религіи есть такой пунктъ, гдѣ чувства, по-
добныя вышеуказаннымъ, находятъ свое единство, ис-
ходя какъ бы сами изъ еѳбя. Этотъ пунктъ является,
фокусомъ подобнаго рода чувствъ и, будучи такимъ об-
разомъ продуктомъ всѣхъ ихъ, по отношенію къ ка-
ждому въ отдѣльности производитъ впечатлѣніе точки
излученія религіозныхъ линій, впечатлѣніе заранѣе
существующаго бытія.
Вторая область, по отношенію къ которой душа мо-
жетъ войти въ религіозныя отношенія, это—судьба. Въ
общемъ судьбою принято называть воздѣйствія, кото-
рыя испытываетъ развитіе человѣка со стороны того,
что не онъ самъ,—все равно, вплелись ли въ эти руко-
водящія силы его собственныя дѣйствія и существо;
при имѣющей здѣсь мѣсто встрѣчѣ внутренняго съ
внѣшнимъ понятіе судьбы содержитъ, съ точки зрѣнія
перваго, моментъ случайности, который обнаруживаетъ
свое принципіальное несогласіе въ отношеніи къ иду-
щему изнутри смыслу нашей жизни, даже въ томъ
случаѣ, когда судьба выступаетъ въ -качествѣ тоннаго
исполнителя этого послѣдняго. ѢСакую бы позицію «ни
заняло наше чувство <по отношенію къ судьбѣ,—'Покор-
ное или протестующее, питающее -надежду или полное
отчаянія, требовательное или удовлетворенное, —опо мо-
жетъ протекать -какъ совсѣмъ нерелигіознымъ, такъ -и
вполнѣ религіознымъ путемъ. Въ послѣднемъ случаѣ
вся суть заключается въ томъ, что религіозная окраска
не исходитъ на переживаемое отъ принятой -на-вѣру
трансцендентной силы, но представляетъ собою особое
— 13 —
качество самого нашего чувства: сосредоточеніе или
подъемъ, самоотреченіе или сокрушеніе, уже само по
себѣ религіозное; она создаетъ указанный предметъ
религіи какъ свою объективацію дли какъ свое отра-
женіе, подобно тому, какъ ощущеніе, схваченное на-
шими чувствами, выпускаетъ изъ себя свой объектъ,
противостоящій іему'- Точно такъ же и въ предметахъ судь-
бы, представляющей собою, какъ понятіе, нѣчто отъ насъ
независимое, переживанія, которыя протекаютъ въ об-
особленной области религіи, получаютъ свою форму бла-
годаря- продуктивнымъ, въ насъ заложеннымъ религіоз-
нымъ силамъ; оии совпадаютъ съ категоріями рели-
гіозныхъ предметовъ потому именно, что образовались,
исходя изъ этихъ категорій. Такъ, напримѣръ, «тѣмъ,
что любятъ Бога, всѣ вещи должны служить на поль-
зу». Это вовсе не значить, что вещи-де на-лицо и вотъ
спускается съ облаковъ десница Божія и для своихъ
возлюбленныхъ дѣтей размѣщаетъ эти вещи такъ, какъ
для нихъ удобно. Но религіозный человѣкъ съ самаго
начала переживаетъ вещи такъ, что онѣ только и мо-
гутъ доставить ему тѣ блага, которыхъ онъ, религіоз-
ный человѣкъ, желаетъ себѣ. Какъ бы ни протекали
явленія судебъ въ плоскостяхъ земного счастья, внѣш-
няго успѣха, интеллектуальной воспріимчивости, — въ
области религіозной эти явленія немедленно же сопро-
вождаются такимъ напряженіемъ чувствъ, располага-
ются по такимъ шкаламъ цѣнностей, освѣщаются та-
кими толкованіями, что они какъ-разъ должны соотвѣт-
ствовать религіи въ смыслѣ попеченія Бога о благѣ
своихъ дѣтей; все раівно, какъ для познанія является
необходимостью, чтобы міръ протекалъ передъ нами въ
причинной связи явленій, потому что онъ, поставлен-
ный на плоскость познанія, а ргіогі получаетъ свою
форму черезъ посредство дѣйствующей въ познаніи ка-
тегоріи причинности. Какъ не познаніе создаетъ при-
— 14 —
чинность, йо йричинность познаніе, такъ не религія
создаетъ религіозность, но религіозность религію. Въ
судьбѣ, какъ ее человѣкъ переживаетъ, при извѣстномъ
внутреннемъ настроеніи, ткутъ свою ткань отношенія,
символы, чувства, сами по себѣ еще не составляю-
щіе религіи, фактическое содержаніе которыхъ притомъ
для иначе настроенныхъ душъ никогда не будетъ
имѣть съ нею ничего общаго; но, освободившись отъ
этихъ фактическихъ элементовъ и образуя вмѣстѣ съ
тѣмъ для себя царство объективнаго, они даютъ въ
результатѣ теперь «религію», что означаетъ въ данномъ
случаѣ: міръ предметовъ для вѣры.
Теперь перехожу, наконецъ, къ отношеніямъ чело-
вѣка къ міру людей и источникамъ религіи, въ нихъ
протекающимъ; и въ нихъ также дѣйствуютъ силы и
важныя обстоятельства, которыя не отъ существующей
уже. религіи получаютъ религіозную окраску, но сами
по ’сёбѣ возвышаются до нея. Религія въ своей конеч-
ной стадіи, весь душевный комплексъ, соприкасающійся
съ трансцендентнымъ бытіемъ, является абсолютной,
сомкнутой воедино формой тѣхъ чувствъ и импульсовъ,
которые развиваетъ уже соціальная жизнь—скачками
и какъ бы для пробы. Чтобы убѣдиться въ этомъ, не-
обходимо бросить взглядъ на принципъ соціологиче-
ской структуры, какъ это раньше было сдѣлано по от-
ношенію къ принципу религіозной структуры. Жизнь
общества состоитъ изъ взаимоотношеній его элемен-
товъ,—взаимоотношеній, которыя отчасти проявляются1
въ моментальныхъ дѣйствіяхъ и противодѣйствіяхъ, от-
части воплощаются въ прочныхъ формахъ: именно—въ
формѣ должностей и законовъ, порядковъ и предметовъ
собственности, языка и средствъ сообщенія. Всѣ соці-
альныя взаимодѣйствія возникаютъ теперь на основѣ
опредѣленныхъ интересовъ, цѣлей, побужденій. Эти по-
слѣдніе образуютъ какъ бы матерію, которая реализует-
— 15 —
ся для общества въ параллельныхъ и совмѣстныхъ, на-
правленныхъ на пользу или во вредъ ближнему дѣй-
ствіяхъ индивидовъ. Указанный матеріалъ жизни мо-
жетъ сохраняться неизмѣннымъ, хотя онъ поглощает-
ся поочередно всѣми этими разнообразными формами,
и, наоборотъ, въ неизмѣнную форму взаимодѣйствія мо-
жетъ войти самое разнообразное содержаніе. Такъ, мно-
гіе нормы и результаты общественной жизни могутъ
одинаково держаться какъ на свободной игрѣ конкур-
рирующихъ силъ, такъ и на регламентирующей опекѣ
низшихъ элементовъ высшими; далѣе, многообразные
соціальные интересы сохраняются до поры, до времени
семейнымъ строемъ, чтобы ихъ позже изъ этого храни-
лища, а то и гдѣ-либо еще, позаимствовали чисто про-
фессіональные союзы или государственное управленіе.
Одна изъ типичнѣйшихъ формъ общественной жизни,
одна изъ тѣхъ прочныхъ жизненныхъ нормъ, посред-
ствомъ которыхъ общество обезпечиваетъ себѣ цѣлесо-
образное поведеніе своихъ сочленовъ, есть обычай, ко-
торый на низшихъ ступеняхъ культуры вообще является
той типичной формой, въ которую выливаются дѣйствія
индивидовъ согласно съ требованіями соціальной жизни.
Тѣ самыя условія жизни общества, которыя позднѣе
съ одной стороны кодифицируются какъ право и при-
нудительно предписываются государственной властью,
съ другой стороны—предоставлены свободному усмотрѣ-
нію культурнаго и воспитаннаго человѣка, въ болѣе
тѣсныхъ и примитивныхъ кругахъ гарантируются тѣмъ
своеобразнымъ непосредственнымъ надзоромъ окружаю-
щихъ надъ каждымъ въ отдѣльности, имя чему—обычай.
Обычай, право и нравственная свобода отдѣльнаго лица
представляютъ собою различные виды сочетанія со-
ціальныхъ элементовъ, которые всѣ могутъ имѣть сво-
имъ содержаніемъ однѣ и тѣ же заповѣди и дѣйстви-
тельно ихъ имѣютъ у различныхъ народовъ и въ раз-
— 16 —
личныя времена. Къ этимъ формамъ, черезъ которыя че-
ловѣчество пріобрѣтаетъ себѣ гарантіи въ правильномъ
поведеніи индивида, относятся также религіи. И имен-
но тѣмъ, что вещи принимаютъ религіозную окраску,,
часто характеризуется одна изъ стадій ихъ развитія.
То самое содержаніе, которое прежде и послѣ входитъ
въ другія формы отношеній между людьми, принимаетъ
въ извѣстномъ періодѣ форму религіозныхъ отношеній.
Яснѣе всего это сказывается въ законодательствѣ, ко-
торое въ опредѣленныя времена и въ опредѣленныхъ мѣ-
стахъ обнаруживаетъ теократическій характеръ, стоитъ
всецѣло подъ религіозной санкціей, между тѣмъ какъ
при иныхъ условіяхъ оно гарантируется государствен-
ной властью или обычаемъ. Получается такое впечат-
лѣніе, будто необходимый общественный порядокъ ча-
сто выходитъ изъ совершенно недифференцированной
формы, въ которой нравственная, религіозная, юриди-
ческая- санкціи покоились- еще радомъ въ нераздѣльной
цѣлости, — таковы Дарма индусовъ, Тйетіз грековъ,
Рао латинянъ,—а затѣмъ уже, глядя по различнымъ
историческимъ обстоятельствамъ, то одна, то другая
органическая- форма въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи
дѣлалась носителемъ такихъ порядковъ. Это культур-
ное движеніе дающаго содержаніе матеріала, при ча-
стомъ возвратѣ регулирующихъ его нормъ,—отъ обычая
къ праву, а отъ права къ обычаю, отъ долга человѣч-
ности къ религіозной санкціи и отъ послѣдней къ пер-
вому,—это движеніе находится также въ нѣкоторой свя-
зи съ другимъ: именно практическое, какъ и теоре-
тическое жизненное содержаніе въ ходѣ исторіи изъ
области яснаго сознанія переходитъ въ безсознатель-
ныя, само собою понятныя предпосылки и привычки,
въ то же время другое, а часто и то же самое содер-
жаніе изъ безсознательно инстинктивной стадіи всту-
паетъ въ періодъ яснаго проникновенія и отчетливо-
— 17 —
сти. Когда право направляетъ наши дѣйствія, въ нихъ
гораздо больше сознательности, чѣмъ когда дѣлаетъ
это обычай; свободная, считающаяся только съ со-
вѣстью нравственность распредѣляетъ сознательность и
безсознательность въ отношеніи къ импульсамъ нашихъ
поступковъ совершенно иначе, чѣмъ это дѣлаетъ соці-
альное регулированіе; въ религіозной санкціи натяну-
тость между темными соприкасающимися чувствами и
яснымъ взглядомъ на цѣль дѣйствія значительно боль-
ше, чѣмъ въ санкціи, даваемой обычаемъ, и т. д. Для
такого развитія является характерной особенностью, что
простая смѣна въ степени интенсивности одного какого-
нибудь отношенія заставляетъ его проходить черезъ
рядъ санкцій: такъ, во времена возбужденнаго патріо-
тизма отношеніе отдѣльнаго лица къ группѣ ему по-
добныхъ получаетъ характеръ святости, искренности,
преданности, что является не только само по себѣ и
исключительно религіознымъ по существу, является
актомъ религіозности, но гораздо сильнѣе тогда вле-
четъ къ призыву божественной силы; такіе импульсы
гораздо рѣшительнѣе становятся въ рядъ непосред-
ственно религіозныхъ движеній по сравненію съ буд-
ничными временами, когда эти же самыя отношенія ре-
гулируются соглашеніемъ или государственнымъ зако-
номъ. А это есть въ то же время подъемъ сознательно-
сти патріотическихъ связей. Это положеніе опасности,
страстнаго волненія, этотъ тріумфъ политическаго цѣ-
лаго,—все это сообщаетъ относящимся сюда чувствамъ
индивида религіозную окраску и ставитъ ихъ въ ка-
тегорію религіознаго порядка; вообще подчеркиваетъ
для индивидуальнаго сознанія отношеніе къ этому по-
литическому цѣлому въ гораздо болѣе сильной степени,
чѣмъ періоды исключительнаго господства другихъ
нормъ, изъ'которыхъ поднимается и къ которымъ опять
спускается эта болѣе широкая и проникнутая боль-
2
— 18 —
шимъ тепломъ норма. Равнымъ образомъ и частныя от-
ношенія, доступныя .религіознымъ санкціямъ, призы-
ваютъ послѣднія обыкновенно въ тѣ моменты, когда
сознаніе сильнѣе всего сосредоточено на нихъ: такъ,
бракъ въ моментъ его заключенія, такъ, въ Средніе вѣка
равнаго рода договоры въ подобающемъ имъ мѣстѣ.
Жизнь пуританъ отличалась доходившей до болѣзнен-
ности сознательностью каждаго жизненнаго момента,
отличалась въ высшей степени сознательнымъ отче-
томъ въ любомъ поступкѣ или мысли—и именно, по
той причинѣ, что религіозная норма подчинила себѣ
всѣ безъ исключенія мелочи жизни и не признавала
дѣйствительнаго права ни за какой другой санкціей.
Наоборотъ, огромное значеніе восходящей своими су-
щественными чертами къ доисторическимъ временамъ
родовой организаціи блѣднѣетъ по мѣрѣ усиленія го-
сударственной власти нерѣдко до степени просто ре-
лигіознаго. Несомнѣнно, родовая организація первона-
чально бывала всегда единеніемъ на основѣ культа.
Очевидно однако и то, что она въ случаѣ присоедине-
нія сюда еще общности мѣста жительства, имущества
и правовой и военной защиты должна была имѣть зна-
чительно большее значеніе въ сферѣ сознательныхъ
интересовъ, чѣмъ въ эпохи, когда она означала только
общность празднествъ и жертвъ, какъ это имѣетъ мѣ-
сто въ позднѣйшую эпоху античной древности и въ
теперешнемъ Китаѣ. Здѣсь исключительно религіоз-
ная санкція единенія должна была идти рука объ руку
съ уменьшеніемъ удѣльнаго вѣса группового единства
и его значенія. Какъ бы мало ни была исчерпана ска-
заннымъ сущность видовъ нормировки, но все-же оно
можетъ дать понятіе о томъ, что всѣ эти виды—лишь,
такъ сказать, различные аггрегаты душевныхъ состоя-
ній и ихъ ісмѣна—-только рядъ формальныхъ перемѣщеній
одного и того же практическаго содержанія жизни. Гдѣ
— 19 —
послѣднее поставлено подъ эгиду религіи, таковая, ко-
нечно, должна существовать уже заранѣе. Однако рѣ-
шающимъ элементомъ являются здѣсь все-таки не дог-
матическія представленія о трансцендентныхъ сущно-
стяхъ, составляющія скорѣе только средство для санк-
ціи, но то обстоятельство, что' соціально требуемое прі-
обрѣтаетъ извѣстную степень устойчивости, поддержку
со стороны чувства, святость, которыя въ тонѣ, не до-
стигаемомъ инымъ путемъ, выражаютъ степень его не-
обходимости, а вмѣстѣ съ ними развивается новое аг-
грегатное состояніе соціальной нормы.
Пусть это будутъ санитарно-полицейскія предписа-
нія, внушаемыя подъ видомъ Божіихъ заповѣдей, какъ
мы видимъ это въ древне-еврейскомъ законодательствѣ;
пусть, какъ въ VII и VIII вѣкахъ въ областяхъ гер-
манскаго христіанства, убійство и клятвопреступленіе
передаются церковной юрисдикціи и, въ качествѣ на-
рушеній божественнаго порядка, искупаются налагае-
мой епископомъ церковной пеней; пусть послушаніе
передъ княземъ выступаетъ какъ послѣдствіе почиваю-
щей на немъ Божіей милости,—вездѣ тутъ въ нѣдрахъ
общества вскрываются отношенія, которыя безъ прису-
щаго имъ соціальнаго значенія никогда не поднялись
бы на степень религіознаго. И въ этомъ подъемѣ они
развиваютъ теперь тѣ проявленія энергіи и тѣ формы,
для которыхъ они настроены своими внутренними, а
не заимствованными спеціально изъ трансцендентнаго
напряженностью чувствъ и символами. Они никогда не
привлекли бы къ себѣ это трансцендентное,—какъ это-
го дѣйствительно не сдѣлало безконечное количество
другихъ, нерѣдко согласованныхъ съ ними, нормъ,—
если бы какъ-разъ ихъ духовная цѣнность, ихъ сила
сцѣпленія, ихъ узость не предназначали ихъ сами по
себѣ для проэкціи на религіозную плоскость.
2*
ГЛАВА П.
Глубокимъ основаніемъ возможности превращенія ре-
лигіозной категоріи въ форму соціальныхъ отношеній
служитъ замѣчательная аналогія, существующая между
отношеніемъ индивида къ Божеству и къ обществу въ
его цѣломъ. Прежде всего чувство зависимости являет-
ся тутъ рѣшающимъ. Отдѣльная личность чувствуетъ
себя связанной съ чѣмъ-то общимъ, высшимъ, изъ ко-
тораго она вытекаетъ и съ которымъ сливается, кото-
рому она приноситъ жертвы, но отъ котораго въ свою
очередь ждетъ для себя возвышенія и искупленія, от-
личная отъ него и въ то же время тождественная съ
нимъ. Богу дано такое опредѣленіе: это—соіпсійепііа
орровііогигп *), это — фокусъ, собирающій въ своей не-
раздѣльности воедино всѣ противоположности бытія.
Сюда же включается также крайнее разнообразіе отно-
шеній души къ Богу и Бога къ душѣ. Любовь и от-
чужденность, уничиженіе и наслажденіе, восторгъ и
покаяніе, отчаяніе и довѣріе—это не только различная
окраска чередующихся рядовъ такихъ отношеній, но
каждое изъ нихъ оставляетъ позади себя слѣдъ въ
основномъ отношеніи души къ своему Богу: послѣднее
какъ-будто принимаетъ въ себя всѣ эти противополож-
*) Совпаденіе противоположностей. Прим. переводчиковъ.
— 21 —
ности возможныхъ настроеній и изъ себя же проэци-
руеть ихъ. Самъ справедливый Богъ все-жѳ прощаетъ
сверхъ справедливости. Въ античномъ мірѣ Онъ сто-
итъ, такъ сказать, выше партій, и все-таки проявляетъ
партійность. Онъ—вседержитель міра, и все-таки даетъ
міру развиваться по Его собственнымъ непреложнымъ
законамъ. Между тѣмъ какъ взаимная связь между че-
ловѣкомъ и его Богомъ вмѣщаетъ въ себѣ такимъ об-
разомъ всю шкалу возможныхъ между ними отношеній
въ ихъ послѣдовательности и одновременности, она,
видимо, повторяетъ тѣ виды отношеній, какіе существу-
ютъ между индивидомъ и его общественной группой.
И здѣсь та же зависимость отдѣльнаго лица отъ выс-
шей силы, предоставляющей ему тѣмъ не менѣе нѣ-
которую степень свободы; воспріятіе, а въ отвѣтъ ему
реакція; самопожертвованіе, не исключающее однако и
бунта; награда и наказаніе; отношеніе части къ цѣ-
лому, въ то время какъ сама эта часть такъ и хочетъ
быть цѣлымъ. То смиреніе, съ которымъ набожный че-
ловѣкъ вѣруетъ, что всѣмъ, что онъ есть и чѣмъ вла-
дѣетъ, онъ обязанъ Богу, и въ Немъ видитъ источникъ
своего существованія и своей силы,—это смиреніе въ
особенности сравнимо съ отношеніемъ отдѣльнаго лица
къ обществу. Человѣкъ вѣдь и по отношенію къ Богу
вовсе не ничто безъ дальнихъ околичностей, а лишь
песчинка; слабая, но все-же не вполнѣ ничтожная сила;
сосудъ, готовый воспринять именно это содержаніе. Та-
кимъ образомъ, обнаруживается одинаковая структура
какъ въ религіозныхъ, такъ и въ соціологическихъ фор-
махъ существованія личности. Этимъ послѣднимъ нуж-
но лишь сопровождаться религіознымъ настроеніемъ
или быть поглощеннымъ имъ, чтобы оказалась на-лицо
необходимая форма религіи, какъ самостоятельнаго об-
разованія и самостоятельнаго ряда отношеній. Вовсе не
имѣя въ виду этой общей связи и тѣмъ лучше этимъ
— 22 —
самымъ доказывая ее, спеціалистъ-знатокъ древне-се-
митской религіи даетъ намъ слѣдующее описаніе: «У
арабскихъ героевъ временъ, непосредственно предше-
ствовавшихъ исламу, поразительнымъ образомъ недо-
ставало религіи въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова ;
они очень мало заботились о богахъ и божественныхъ
вещахъ и ко всему, что касалось культа, были совер-
шенно равнодушны. Но въ то же время по отношенію
къ своему роду они чувствовали извѣстнаго рода рели-
гіозное почтеніе, и жизнь сородича считалась у нихъ
священной и неприкосновенной. Это кажущееся про-
тиворѣчіе дѣлается однако понятнымъ въ свѣтѣ древ-
няго міросозерцанія, для котораго Богъ и его поклон-
ники образуютъ общину, внутри которой проявляется
одинъ и тотъ же характеръ святости какъ въ отноше-
ніяхъ вѣрующихъ другъ къ другу, такъ и въ ихъ от-
ношеніи къ Божеству. Первоначальной религіозной об-
щиной былъ родъ, и всѣ обязательства, основанныя на
родствѣ, были въ то же время составными частями ре-
лигіи, и даже тогда, когда родовой богъ отходилъ на
задній планъ и почти предавался забвенію, все-же сущ-
ность родовой религіи сохранялась въ оставшейся свя-
тости кровныхъ узъ». Можно прямо сказать: есть со-
ціальныя комбинаціи, есть отношенія людей между со-
бою, по существу своему религіозныя. Это тѣ самыя
цѣнности въ отношеніяхъ, которыя, освободившись отъ
составляющихъ ихъ содержаніе соціальныхъ интересовъ
и возведенныя на трансцендентную высоту, означаютъ
религію въ болѣе узкомъ, самостоятельномъ смыслѣ это-
го слова. Вообще та дифференціація нормъ, о которой
я говорилъ выше, выступаетъ въ исторіи еще въ бо-
лѣе узкой формѣ: именно, какъ раздѣленіе между ре-
лигіознымъ и соціальнымъ долгомъ. До временъ буд-
дизма и христіанства тотъ и другой повсюду совпада-
ютъ. Служба богамъ во всемъ античномъ мірѣ и почти
— 23 —
вездѣ въ областяхъ первобытной культуры есть состав-
ная часть жизни въ политическомъ, а также и семей-
номъ союзѣ, неразлучная съ ней, какъ и языкъ; укло-
неніе кого-либо отъ нея все равно, что отказъ отъ во-
инской повинности или выборъ языка для себя одного.
Даже буддизмъ доказываетъ это, хотя бы въ качествѣ
отрицательнаго примѣра. Ему абсолютно недостаетъ со-
ціальнаго момента. Его идеалъ монашескій, въ который,
правда, включены попутно самопожертвованіе и стра-
данія за другихъ, но не ради этихъ послѣднихъ, а
для самого страдающаго и для спасенія его души. Онъ
проповѣдуетъ совершенное удаленіе отъ общества лю-
дей. Самоизбавленіе въ буддизмѣ—лишь самоустране-
ніе отъ всякаго рода существованія, соціальнаго не ме-
нѣе, чѣмъ естественнаго: онъ знаетъ только обязанно-
сти по отношенію къ- себѣ самому, и если въ это вхо-
дитъ благо другихъ, то это «благо всѣхъ живущихъ
существъ» находится въ полнѣйшемъ контрастѣ съ со-
ціально - политическимъ отграниченіемъ, которое въ
классическомъ и -нехристіанскомъ мірѣ вообще, а въ
большей части и христіанскаго установили обществен-
ныя обязанности. Но буддизмъ совсѣмъ вѣдь и не ре-
лигія. Это—ученіе о спасеніи, которое можетъ полу-
чить жаждущій его исключительно одинъ, по собствен-
ному желанію и мысли, и которое является вполнѣ само
по себѣ, если только онъ выполняетъ условія этого спа-
сенія, заложенныя исключительно въ его душевной ор-
ганизаціи. Чтобы избавленіе отъ страданія, единствен-
ное содержаніе буддизма, совершилось, совсѣмъ не нужно
ни трансцендентной силы, ни милосердія, ни посред-
ника, но оно совершается само собой, какъ логическій
результатъ отказа души отъ всякой жизненной воли.
Что здѣсь такимъ образомъ соціальный и религіозный
долгъ не имѣютъ того соотношенія, которое они по-
стоянно обнаруживаютъ всюду, за исключеніемъ нѣко-
— 24 —
торыхъ нюансовъ христіанской культуры, это обстоя-
тельство зависитъ просто отъ того, что буддизмъ не
обладаетъ свойствами этого соотношенія, что онъ не >
содержитъ соціальныхъ нормъ и не является религіей.
За этимъ исключеніемъ, вездѣ—яснѣе всего въ древ-
немъ семитическомъ, греческомъ, римскомъ мірѣ—ре-
лигіозная обязанность жертвоприношенія, молитва, весь
культъ—отнюдь не частное дѣло, но лежатъ на обя-
занности индивида, какъ члена опредѣленной группы,
которая вѣдь въ свою очередь вся цѣликомъ считается
отвѣтственной за религіозные проступки отдѣльнаго
лица. И именно поэтому общественная жизнь древняго
міра съ другой стороны вполнѣ можетъ протекать
подъ религіозной эгидой; религіозное освященіе, ко-
торое съ внѣшней стороны кажется явленіемъ, только
сопутствующимъ соціальной необходимости, въ дѣйстви-
тельности составляетъ вмѣстѣ съ нимъ внутреннее, по
существу неразрывное единство. Что общественные за-
просы ставятся подъ защиту религіи, что отношеніе от-
дѣльнаго лица къ обществу ставится за одну скобку съ
обязанностью передъ Богомъ, это—только разъясняющая
или объективирующая выработка мотивовъ чувства, ка-
ковыя соціальныя отношенія уже содержатъ въ себѣ, такъ
сказать, постоянно. Этотъ оборотъ энергіи, развивающейся
въ первичныхъ явленіяхъ, а затѣмъ и внѣ ихъ предѣловъ,
не рѣдкій фактъ въ области духовной жизни. Самымъ
неудовлетворительнымъ и ошибочнымъ образомъ это
сказывается въ понятіи силы. Между двумя матеріаль-
ными массами имѣетъ мѣсто взаимное притяженіе; это
послѣднее даетъ начало понятію «силы притяженія»,
.которая вмѣстѣ съ ея «закономъ» какъ бы витаетъ въ
концѣ-концовъ въ поразительномъ туманѣ надъ мате-
ріальными массами и правитъ ими при помощи незри-
мыхъ рукъ. Уже нѣсколько болѣе глубокимъ является
объясненіе, что поведеніе человѣка въ предѣлахъ его
—— 25
среды, повидимому, направляется «обычаемъ». Несомнѣн-
но, что при непосредственномъ матеріальномъ значеніи
такого поведенія и его цѣлесообразности для существо-
ванія группы послѣдняя освящаетъ его и надѣляетъ
извѣстнаго рода обязательностью въ своихъ глазахъ,
имя чему «обычай». По крайней мѣрѣ нельзя попросту
отдѣлаться отъ чувства, подсказывающаго намъ, что
обычай стоитъ надъ общественной жизнью какъ нѣ-
которая идеальная сила и опредѣляетъ съ точки зрѣ-
нія своей всеобщности и единства, какъ, должны про-
текать отдѣльныя мелочи этой жизни. Всего внуши-
тельнѣе этотъ формальный процессъ совершается тамъ,
гдѣ дѣйствія, развившіяся на почвѣ соціальной цѣле-
сообразности или даже лишь дѣйствительности, заим-
ствуютъ, повидимому, свою необходимость отъ религіи.
Вѣдь послѣдняя, въ качествѣ душевной формы, пи-
тается еще изъ многихъ другихъ источниковъ, ея пред-
меты даютъ отъ себя нормы еще для многихъ другихъ
сторонъ жизни. Она—та точка пересѣченія, гдѣ встрѣ-
чаются всѣ душевные интересы, какъ только они до-
стигли извѣстнаго подъема. По этой причинѣ она и
могла быть обозначена въ самомъ началѣ этого разсу-
жденія, какъ одна изъ тѣхъ категорій или запросовъ,
которые позволяютъ собрать всю совокупность жизни
въ особую картину съ колоритомъ, окрашивающимъ рѣ-
шительно все. Если теперь нормы соціальнаго скрѣ-
пленія выступаютъ въ качествѣ религіозныхъ, то это не
только новый ихъ титулъ, заимствовавшій все свое со-
держаніе изъ фактовъ общественнаго характера,—нѣтъ,
это обстоятельство подводитъ указанныя нормы подъ
одно общее, наполненное еще другимъ содержаніемъ по-
нятіе, заставляетъ ихъ слиться съ запасами внутрен-
ней энергіи иного происхожденія, такъ что получен-
ная путемъ отраженія санкція не только маскировка
уже ранѣе существовавшей, но она, будучи, конечно,
— 26 —
жизненной въ новой нормировкѣ, является усиленной
и расширенной въ собственную форму, благодаря дру-
гимъ нормамъ, втекающимъ въ великое, единое русло
религіозныхъ предметовъ и образующимъ его. Въ са-
момъ дѣлѣ, если содержаніе трансцендентныхъ пред-
метовъ можетъ, дѣйствительно, вполнѣ бытъ набрано
изъ упомянутыхъ отношеній души къ природѣ, къ судь-
бѣ, къ собственнымъ идеаламъ, къ отдѣльнымъ лицамъ,
къ обществу и человѣчеству, встрѣчающихъ, каждое
для себя, нѣчто общее въ религіозномъ настроеніи, ко-
торое приступаетъ къ нимъ, охватываетъ ихъ,—тогда
именно благодаря этому сліянію инороднаго въ рядъ
совокупностей возникаютъ совершенно новыя образо-
ванія, представляющія собою нѣчто большее, чѣмъ
механическая сумма ихъ элементовъ, и не дающія этимъ
послѣднимъ обнаружить тутъ въ точности свой особен-
ный смыслъ. Я поставилъ себѣ здѣсь задачей изслѣдо-
вать отдѣльныя соціологическія состоянія и отношенія,
обладающія, какъ таковыя, религіозной окраской; это
значитъ, что они не то чтобы получили ее какъ пода-
рокъ или требованіе существующей религіи, но, наобо-
ротъ, они сами изъ своего самостоятельнаго владѣнія
религіозными цѣнностями могутъ внести и свою лепту
въ религію. Коренное религіозное чувство получаетъ
отъ нихъ нѣкоторыя черты, сверхчувственное усиленіе
и объективированіе которыхъ заставляетъ расти вмѣстѣ
съ ними предметы религіи въ обычномъ смыслѣ этого
слова; а эти послѣдніе, несомнѣнно реагируя, въ свою
очередь могутъ сообщить имъ новую святость и силу.
Отношеніе проникнутаго благоговѣніемъ ребенка къ
своимъ родителямъ; восторженнаго патріота къ своей
родинѣ или такъ же настроеннаго космополита къ че-
ловѣчеству; отношеніе рабочаго къ своему стремяще-
муся впередъ классу или зараженнаго дворянской спесью
феодала къ своему сословію; отношеніе къ своему вла- '
— 27 —
стителю подданнаго, находящагося подъ обаяніемъ этого
властителя или браваго солдата къ своей арміи,—всѣ эти
отношенія съ такимъ- безконечно разнообразнымъ содер-
жаніемъ все-таки могутъ имѣть съ точки зрѣнія формы
ихъ психической стороны общій тонъ, который прихо-
дится 'Обозначать какъ религіозный. Всѣ они содер-
жатъ своеобразную смѣсь самоотверженной преданности
и страстныхъ порывовъ къ личному блаженству, сми-
ренія и кичливости, чувственной непосредственности и
внѣчувственной абстракціи, и все это не только въ пе-
ремежающихся настроеніяхъ, но кромѣ того въ постоян-
номъ единствѣ, которое, по складу своего ума, мы мо-
жемъ понять не иначе, какъ разложивъ его на такого
рода пары противоположныхъ понятій. Вмѣстѣ съ этимъ
возникаетъ опредѣленная степень напряженія чувства,
специфическая искренность и прочность душевнаго от-
ношенія, перемѣщеніе субъекта на степень высшаго
порядка, который все-же ощущается имъ въ это время,
какъ нѣчто задушевное и личное. Эти элементы чув-
ства, изъ которыхъ слагается внутренняя, а также, по
крайней мѣрѣ отчасти, и внѣшняя сторона такихъ от-
ношеній, мы называемъ религіозными. Именно то об-
стоятельство, что они религіозны, придаетъ имъ оттѣ-
нокъ, отличающій ихъ отъ отношеній, основанныхъ на
чистомъ эгоизмѣ или чистомъ подчиненіи, чисто внѣш-
нихъ или даже чисто нравственныхъ силахъ. Можетъ
быть, въ большинствѣ случаевъ возможно опредѣлить
этотъ оттѣнокъ чувства какъ признакъ благочестія.
Благочестіе, набожность есть такое настроеніе души,
которсз становится религіей, какъ только оно проеци-
руется въ особенныхъ образахъ: для выставляемой нами
связи характерно, что «ріеіаз» обозначало одновременно
набожное отношеніе какъ къ людямъ, такъ и къ богамъ.
Вовсе не обязательно, чтобы набожность, представляю-
щая собою религіозность какъ бы еще въ жидкомъ видѣ,
— 28 —
стала, наконецъ, прочной формой отношенія къ богамъ,
дошла до религіи. Типично то явленіе, что настроенія
или функціи, которыя по своей логической сущности
такъ и просятся за предѣлы души, тѣмъ не менѣе оста-
ются въ ней самой и ни въ чемъ себя не проявляютъ.
Вѣдь существуютъ преисполненныя любви души, все
существо и всѣ дѣйствія которыхъ пропитаны своеоб-
разной мягкостью, теплотою, самоотверженіемъ любви
и которыя все-таки никогда не чувствуютъ настоящей
любви къ какому-нибудь отдѣльному человѣку; злыя
сердца, у которыхъ всѣ помыслы и желанія протекаютъ
на почвѣ жестокаго и эгоистичнаго образа мыслей, не
выливаясь однако въ форму дѣйствительно злыхъ по-
ступковъ; художественныя натуры, которыя, органиче-
ски, могутъ смотрѣть на вещи, жить полной жизнью,
формировать свои впечатлѣнія и чувства только и
исключительно художественнымъ образомъ и которыя
въ то же время никогда не создаютъ ни одного худо-
жественнаго произведенія. Бываютъ, наконецъ, набож-
ные люди, которые не сосредоточиваютъ своей набож-
ности ни на какомъ богѣ, не прилагаютъ, значитъ,
ея къ тому самому образу, который является не чѣмъ
инымъ, какъ чистымъ предметомъ набожности; рели-
гіозныя натуры, у которыхъ нѣтъ религіи. Такіе люди
окажутся среди тѣхъ, которые переживаютъ и чувству-
ютъ вышеупомянутыя отношенія въ религіозномъ духѣ.
Что мы называемъ послѣднія религіозными, это вызва-
но, конечно, тѣмъ, что существуетъ выросшій изъ нихъ
однихъ, по существу ставшій самостоятельнымъ, образъ
готовой религіи, какъ чистая культура импульсовъ,
настроеній и потребностей, создающихся въ упомяну-
тыхъ отношеніяхъ при наличности эмпирическаго, со-
ціальнаго матеріала.
У насъ могла бы явиться мысль, что психически оха-
рактеризованныя подобнымъ образомъ соціологическія
— 29 —
отношенія представляютъ собою первичныя религіоз-
ныя явленія и что дѣйствующія по этой характери-
стикѣ функціи, какъ бы пріобрѣтая самостоятельную
жизнь и вырастая изъ предѣловъ проявленія ихъ на
соціальномъ матеріалѣ, стали создавать себѣ «боговъ»
въ качествѣ своихъ объектовъ. Не было и недостатка
въ аналогіяхъ этому среди явленій, съ внѣшней сто-
роны совершенно инородныхъ. Достаточно часто наблю-
далось, что аффектъ любви создаетъ себѣ самъ свой
предметъ. Это слѣдуетъ понимать не только такъ, что
эротическое стремленіе ищетъ себѣ предмета, который
соотвѣтствовалъ бы ему и удовлетворилъ бы его, и не
такъ, что иллюзіи влюбленнаго воображенія сообщаютъ
предмету тѣ желательныя цѣнности, которыхъ онъ въ
дѣйствительности лишенъ. Вѣрнѣе другое: въ каче-
ствѣ предмета любви возлюбленный всегда остается тво-
реніемъ любящаго. Въ любви возникаетъ новый образъ,
связанный, конечно, съ фактомъ существованія опре-
дѣленной личности, но по своей сути и по своей идеѣ
живущій въ совершенно иномъ мірѣ, не прикосновен-
номъ для окружающей этого человѣка дѣйствительно-
сти. Не слѣдуетъ только смѣшивать установленныя ка-
чества содержанія съ вопросомъ о формѣ и сути, о ка-
ковомъ вопросѣ здѣсь и идетъ рѣчь. Образъ возлюблен-
наго, вырастая изъ такого рода особенностей, можетъ
совпадать съ его дѣйствительнымъ воплощеніемъ или
нѣтъ; продуктивность любящаго, которая создаетъ воз-
любленнаго въ видѣ образа, стоящаго по ту сторону
всѣхъ иныхъ порядковъ вещей, ни дѣлается въ пер-
вомъ случаѣ .излишней, ни подтверждается вторымъ.
Съ этимъ дѣло обстоитъ такъ же, какъ съ произведе-
ніемъ искусства, которое, какъ таковое,—слѣдовательно,
противоположное всякой простой копировкѣ дѣйстви-
тельности,—во всякомъ случаѣ имѣетъ творческое зна-
ченіе, совсѣмъ независимо отъ того, заимствуетъ ли
оно свое содержаніе изъ данной дѣйствительности.
30 —
Произведеніе искусства выливается изъ внутренняго
продуктивнаго движенія художника. Онопроизведе-
ніе искусства, .насколько это движеніе воплотилось, въ
немъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣчто совершенно иное, чѣмъ,
скажемъ, напримѣръ, кусокъ мрамора, въ видѣ кото-
раго оно существуетъ въ мірѣ осязаемой дѣйствитель-
ности, нѣчто совершенно другое также, чѣмъ форма,
являющаяся продуктомъ опыта въ этомъ мірѣ. Такимъ
образомъ, человѣкъ, любимый другимъ, принадлежитъ
въ этомъ отношеніи къ . совершенно новой категоріи бы-
тія. Онъ—произведеніе любви, все равно, взяты ли ка-
чества, изъ которыхъ онъ состоитъ въ представленіи
любящаго, изъ его простой дѣйствительности или они
прямо фантастичны. Это обстоятельство указываетъ, что
банальная очевидность, а именно, что боги суть про-
дукты религіознаго настроенія, должна занять мѣсто
въ кругу болѣе обширной и, какъ мнѣ кажется, не
такъ .уже само собою понятной связи. Вступленіе въ
сферу дѣйствія нѣкоторыхъ фундаментальныхъ душев-
ныхъ силъ и импульсовъ означаетъ, что они создаютъ
себѣ предметъ. Значеніе предмета этихъ функцій люб-
ви, искусства, религіозности есть только значеніе са-
михъ этихъ функцій и ничего болѣе. Каждая изъ нихъ
вводитъ свой предметъ въ свой собственный міръ, дѣ-
лая его такимъ путемъ своимъ. Поэтому совершенно
безразлично, существуетъ ли вообще содержимое, сог
четающееся въ этой особой формѣ, или нѣтъ: они во
всякомъ случаѣ теперь дѣлаются новыми образами съ
собственнымъ правомъ на существованіе. Если рели-
гіозная потребность воспринимаетъ указанные соціоло-
гическіе факты, если отношеніе отдѣльнаго лица къ
индивидамъ высшаго порядка, или къ общественному
цѣлому, или къ идеальнымъ нормамъ послѣдняго, или
къ символамъ, въ которыхъ концентрируется группо-
вая жизнь,—если, повторяю, все это принимаетъ тонъ,
который: мы называемъ религіознымъ, подобнаго рода
— 31 —
обстоятельство, съ функціональной стороны,—та'же твор-
ческая дѣятельность его души, что имѣетъ мѣсто и
въ «религіи». Съ помощью всего этого онъ такъ же
заполнилъ міръ своихъ религіозныхъ импульсовъ, какъ
на молитвѣ Богу; лишь съ той разницей, что въ по-
слѣднемъ случаѣ эта функція, повидимому, отчетли-
вѣе пульсируетъ сама въ себѣ, такъ какъ она не вос-
приняла матеріала, уже получившаго другое назначе-
ніе. Но въ томъ принципѣ, съ выработкой котораго мы
здѣсь имѣемъ дѣло, это не составляетъ никакой раз-
ницы. Предметы религіозности, встрѣчаемые человѣ-
комъ въ предѣлахъ опредѣленныхъ соціальныхъ отно-
шеній, какъ таковые, настолько же продукты его бла-
гочестія, насколько это справедливо относительно транс-
цендентнаго. Здѣсь, если только не вообще, приходится
оставить нерѣшеннымъ вопросъ, существовали ли уже
напередъ исторически отношенія этого рода, чтобы за-
тѣмъ путемъ абстракціи и возвышенія указаннаго рели-
гіознаго элемента въ чувствѣ заставить религіозность,
какъ его абсолютъ, вылиться въ трансцендентное; или
же справедливо то, что таковыя чувства и тенденціи,
направленныя на бытіе внѣ нашего Я, въ родѣ какъ бы
свободно витаютъ, будучи заложены въ насъ чисто функ-
ціонально и независимо отъ своей примѣнимости въ
отношеніи ближняго и соціальныхъ формъ, создали себѣ
сами объектъ, которымъ они оказались въ состояніи удо-
влетвориться. То познаніе, къ которому мы здѣсь стре-
мимся, совсѣмъ не имѣетъ отношенія къ исторической
послѣдовательности временъ; оно носитъ чисто мате-
ріальный характеръ: въ цѣломъ комплексѣ душевныхъ
отношеній индивида къ другому или къ группѣ ин-
дивидовъ религіозный міръ совершенно такимъ же об-
разомъ имѣетъ свой удѣлъ, какъ онъ находитъ его въ
болѣе ясныхъ и чистыхъ явленіяхъ религіи въ обыч-
номъ смыслѣ этого слова.
ГЛАВА III.
Если начать теперь прослѣживать по отдѣльности раз-
смотрѣнныя до сихъ поръ лишь издалека аналогіи со-
ціальнаго и религіознаго поведенія, становится яснымъ,
что я разумѣю подъ аналогіей: не случайное сходство
независимыхъ другъ отъ друга явленій, но единство
въ той или иной душевной категоріи, которая одинъ
разъ до конца себя обнаруживаетъ на матеріалѣ чело-
вѣческйхъ взаимодѣйствій, другой разъ—и притомъ не
преобразуя, а непосредственно созидая—проявляетъ одни
и тѣ же импульсы на совершенно самобытныхъ образо-
ваніяхъ ; имманентность однихъ, трансцендентность дру-
гихъ явленій суть толькоі различія матеріала и, такъ ска-
зать, его распорядка,—матеріала, схватываемаго основ-
ной функціей религіозности. Разсмотрю сперва вѣру,
которую принято считать существеннымъ и специфиче-
скимъ элементомъ религіи, ея субстанціей и для по-
знанія которой прежде всего необходимо разграниченіе
ея отъ того, что называютъ вѣрой въ теоретическомъ
смыслѣ. Вѣра въ интеллектуальномъ смыслѣ стоитъ въ
одномъ ряду съ знаніемъ, просто какъ низшая ступень
его, она есть пріятіе истины на тѣхъ же основаніяхъ,
на которыхъ мы утверждаемъ свое знаніе, лишь съ раз-
ницей въ силѣ, количественной разницей. Такъ; мета-
физическія или теоретико-познавательныя изслѣдованія
— 33 —
могутъ привести насъ къ тому, что существованіе Бога
признается нами за вѣроятную и при нѣкоторыхъ обстоя-
тельствахъ даже необходимую гипотезу. Тогда мы вѣ-
римъ въ него, какъ вѣрятъ въ существованіе свѣтового
эѳира или атомистическую структуру,, матеріи. Непосред-
ственно же мы чувствуемъ, что когда человѣкъ рели-
гіозный говоритъ: я вѣрую въ Бога, подъ этимъ под-
разумѣвается еще нѣчто другое, чѣмъ извѣстное при-
знаніе за истину его существованія. Этимъ сказано не
только то, что существованіе это, хотя и не строго до-
казуемое, все-же признается; нѣтъ, этимъ обознача-
ется опредѣленное внутреннее отношеніе ,къ нему, чув-
ство преданности по отношенію къ нему, направленіе
жизни вт соотвѣтствіи съ нимъ. Убѣжденіе въ его су-
ществованіи, какъ и въ какой-либо иной реальности,—
только одна сторона или теоретическое выраженіе для
того субъективнаго состоянія души, которое непосред-
ственно подразумѣвается подъ словами, что вѣруютъ
въ Бога. Содержащійся въ этой формулѣ строй религі-
озной души есть тотъ родникъ, изъ котораго, несмотря на
всѣ доказательства или вѣроятности противнаго, посто-
янно вновь проистекаетъ теоретическая вѣра въ суще-
ствованіе Бога.
Своеобразнымъ толкованіемъ такого значенія «вѣры»
служитъ дальше то- обстоятельство, что и между людьми
существуетъ взаимоотношеніе съ тѣмъ же именемъ; фор-
мула: мы «вѣримъ» въ кого-либо вѣдь и здѣсь не
должна означать, что мы вѣримъ въ существованіе дан-
наго . лица; не имѣетъ здѣсь мѣста и болѣе близкое
опредѣленіе, въ чемъ же собственно состоитъ наша вѣра
въ другого или относительно него. То выраженіе, что
мы попросту «вѣримъ въ кого-либо»: дитя—въ роди-
телей, подчиненный—въ начальника, другъ—въ своего
друга, отдѣльный человѣкъ—въ свой народъ, влюблен-
ный—въ свою ^возлюбленную, подданный—во властите-
з
' 'а.,
Ь' ^.7
— 34 —
ля,—этимъ выраженіемъ обозначается совершенно спе-
цифическій психологическій фактъ. Вѣра въ дѣйстви-
тельность отдѣльныхъ качествъ въ такихъ предметахъ
нашей вѣры является лишь своего рода расчлененіемъ
или слѣдствіемъ этого основоотношенія, знаменующаго
собою настроеніе всего человѣка по отношенію къ дру-
гому. Разыгрываясь въ области, стоящей по ту сторону
вопроса о доказательствѣ и опроверженіи, такая вѣра
въ человѣка безчисленное число разъ переживаетъ .без-
слѣдно въ величайшей степени обоснованныя съ объ-
ективной точки зрѣнія подозрѣнія, когда ясно до оче-
видности, какъ недостоинъ тотъ, въ кого вѣрятъ. Это
и есть религіозная вѣра, выступающая здѣсь въ от-
ношеніи человѣка къ человѣку. Вѣра въ Бога есть имен-
но эта, направленная во-внѣ субъектомъ, его принадлеж-
ность, освобожденная отъ своего эмпирическаго пред-
мета ц своихъ относительныхъ размѣровъ, изъ себя
одной создающая свой объектъ и доводящая его по-
этому до абсолютныхъ размѣровъ. Соціологическая и
трансцендентная форма этой вѣры прежде всего для
самого субъекта имѣютъ аналогичныя послѣдствія.
Справедливо подчеркивалось, какую силу и какое спо-
койствіе, какую нравственную устойчивость и какое пре-
восходство надъ оковамй низменной жизни приноситъ съ
собой вѣра въ Божественное, совершенно независимо отъ
объективной дѣйствительности ея предмета. Вѣра и есть
именно такое Состояніе души, которое, правда, сопри-
касается со внѣ ея стоящимъ, но владѣетъ этимъ ка-
сательствомъ, какъ внутреннимъ признакомъ, ему са-
мому свойственнымъ. Хотя душа почерпаетъ въ самой
себѣ силы, позволяющія ей подняться, но благодаря
тому, что она заставляетъ ихъ проходить черезъ точку
вѣры въ Бога, онѣ пріобрѣтаютъ болѣе концентрирован-
ную и продуктивную форму; она противопоставляетъ
своц силы себѣ самой и вслѣдствіе этог^), а также бла-
— 35 —
годаря обратному поглощенію ихъ въ этой формѣ, она
можетъ датъ имъ дорасти до обычно недостижимыхъ
цѣнныхъ результатовъ. Этотъ оригинальный и цѣлесо-
образный распорядокъ, къ которому вѣра въ религіоз-
номъ смыслѣ клонитъ проявленія душевной энергіи, мо-
жетъ также установиться, когда эта вѣра направлена
человѣкомъ на человѣка. Вѣра въ извѣстнаго человѣ-
ка, хотъ и не оправдываемая съ объективной точки зрѣ-
нія, имѣетъ огромное преимущество оживлять и соби-
рать воедино въ нашей душѣ многое такое, что иначе
осталось бы несознаннымъ или недѣятельнымъ. Извѣст-
ный человѣкъ утѣшаетъ насъ,' выставляя банальные до-
воды, но мы вѣримъ, .что онъ говорить самое лучшее
и правильное, и этимъ самымъ онъ извлекаетъ изъ па-
шей души то, что въ дѣйствительные моменты утѣ-
шенія лежитъ въ ней скрытымъ. Онъ поддерживаетъ
насъ въ горѣ половинчатыми и ложно направленными
средствами, но такъ какъ мы вѣримъ въ эту поддерж-
ку, мы и въ себѣ самихъ обрѣтаемъ новое мужество и
силу. Онъ доказываетъ намъ что-либо съ помощью пло-
хихъ аргументовъ, но такъ какъ мы теперь принимаемъ
это за истину, въ нашемъ сознаніи выступаютъ само
собой дѣйствительно доказательные доводы. Конечно, мы
украшаемъ того, въ кого вѣримъ, часто только нашими
собственными драгоцѣнными качествами; но оказывае-
мая намъ услуга съ его стороны состоитъ въ томъ,
что мы вообще выкапываемъ эти наши сокровища. На-
конецъ, есть собирательная форма того же образца: вѣра
человѣка въ себя самого. На этомъ случаѣ вѣры ста-
новится всего очевиднѣе, что всѣ отдѣльныя разновид-
ности ея содержанія суть только комбинаціи, съ по-
мощью которыхъ отдѣльные случаи реализируютъ основ-
ное настроеніе души. Когда мы вѣримъ въ другого .че-
ловѣка или въ Бога, это означаетъ, что безпокойство
и неувѣренность, чувствовать которыя нашъ общій
з*
— 36 —
(удѣлъ, направляясь на эти именно существа, уступили
свое мѣсто твердости: представленіе о нихъ—успокои-
тельное средство при колебаніяхъ дути въ ту или иную
сторону, а что мы въ отдѣльномъ случаѣ «полагаемся
на нихъ», такъ это есть проектированіе того чувства
увѣренности, которое характеризуетъ наше душевное со-
стояніе благодаря воздѣйствію ихъ образа. Какъ-разъ
•уакое же значеніе имѣетъ вѣра въ насъ самихъ: осно-
ванныя въ конечномъ счетѣ па чувствѣ нашего Я спо-
койствіе и увѣренность ясно выражены въ томъ пред-
ставленіи, что это наше Я при всякой встрѣченной имъ
обстановкѣ будетъ побѣдоносно выдержано и проведено.
Йѣра въ Бога и вѣра въ себя самого благодаря тожде-
ственности основного тона душевнаго расположенія въ
томъ и другомъ случаѣ придаютъ человѣку часто со-
вершенно одинаковую жизнерадостную уравновѣшен-
ность, одинаковое довѣріе къ будущему, одинаково лег-
ко замѣняютъ только-что поверженный во прахъ кумиръ
новой надеждой. Итакъ, вѣра въ себя самого, на сколь
многіе ложные пути она ни вела бы насъ и какъ бы
дорого она ни продавала намъ самочувствіе, опережаю-
щее наши дѣйствія, она все-таки заключаетъ въ себѣ
такіе же элементы цѣлесообразности, что и вѣра въ
/уугихъ. Сколь много мы можемъ лишь потому, что
мы вѣримъ, что въ состояніи это сдѣлать; какъ часто
дарованіе развивается до крайнихъ своихъ предѣловъ
только благодаря тому, что, на нашъ взглядъ, эти пре-
дѣлы положены еще гораздо дальше; какъ часто кто-
'дійбо изъ насъ поступаетъ при случаѣ подобающимъ
образомъ изъ-за извѣстнаго «поЫеззе оЫіде»,—поведеніе,
па которое его уполномочиваютъ отнюдь не его личныя
качества, а исключительно его вѣра въ эти качества.
ТІрактическая вѣра является для души основнымъ то-
номъ ея расположенія, соціологичнымъ по самой своей
сути, т.-с. проявляющимъ себя на дѣлѣ, какъ отноше-
— 37 —
ніе къ существу, противостоящему нашему Я. Возмож-'
ноетъ этой вѣры для человѣка и по отношенію къ себѣ
самому покоится на его способности расщепляться на,
субъекта и объектъ, противопоставлять себя себѣ же^‘
какъ и третьему лицу,—способности, которая не нахо-’
дить себѣ аналогіи ни въ одномъ изъ другихъ извѣст-
ныхъ намъ явленій міра и служитъ основой всего на-
шего образа мышленія. Что послѣдствія вѣры въ наше
Я, въ другого, въ Бога столь и столь родственны между
собой, это просто вытекаетъ изъ того, что всѣ они по
своему соціологическому объекту лишь различныя вы-
раженія одного и того же душевнаго настроенія.
Еще совсѣмъ не изслѣдовано, какое собственно со-
ціальное значеніе имѣетъ эта религіозная вѣра помимо
ея индивидуальнаго значенія; но для меня ясно, что 1
безъ нея общество, какъ мы его знаемъ, не существова-
ло бы. Наша крѣпкая вѣра въ какого-нибудь человѣка
или въ какую-нибудь группу людей внѣ всякой за-
висимости отъ доказательствъ, часто вопреки всякому'
доказательству—одна изъ прочнѣйшихъ связей, сцѣпля-
ющихъ общество. Послушаніе, напримѣръ, въ безчис- '
ленномъ количествѣ случаевъ опирается не на опредѣ-
ленное признаніе права и превосходства другого, также
и не на любовь и покорность, но на «вѣру» въ могуще-
ство, заслуги, непреодолимость и доброту другого,—на'
ту вѣру, которая вѣдь никоимъ образомъ не является
лишь теоретической предпосылкой гипотетическаго ха-
рактера, но совершенно своеобразнымъ, вырастающимъ'
среди людей, душевнымъ настроеніемъ. Вѣра эта так-
же отнюдь не исчерпывается тѣми отдѣльными каче-'
ствами, которыя представляются ей цѣнностями ея пред-'1
мета; вѣдь такое содержаніе относительно случайно;
вѣдь въ немъ воплощается и поддается словесному опре-"
дѣленію и формальное настроеніе, и склонность къ дру-
гому, именно то, что и называется вѣрой въ него. Какъ1 ’
— 38 —
соціологическая сила, она сплетается, конечно, со все-
возможными другими связующими силами знанія, воли
и соотвѣтствія чувствъ, между тѣмъ какъ въ вѣрѣ въ
Бога она представляется въ чистой, самодовлѣющей фор-
мѣ,—возвеличеніе во всей полнотѣ, которое одно, такъ
сказать, только и дѣлаетъ для насъ видимымъ ея суть
въ указанныхъ низшихъ и смѣшанныхъ явленіяхъ. Въ
этой вѣрѣ въ Бога процессъ «вѣрованія въ кого-нибудь»
отрѣшился отъ связи съ соціальнымъ своимъ подобіемъ;
свой объектъ онъ и но содержанію создалъ изъ себя, ме-
жду тѣмъ какъ въ своей соціальной дѣятельности онъ
находитъ предметъ, уже данный въ другихъ сочетані-
яхъ. Религіозной же дѣлается эта вѣра не только вслѣд-
ствіе ея протяженія вплоть до трансцендентнаго, ка-
ковое протяженіе скорѣе является лишь мѣрой и спо-
собомъ выраженія ея, но она уже оказывается таковою
въ ея соціологической формѣ. Синтезируя замкнутость
и растяжимость нашего Я, дальнозоркость и слѣпоту,
произволъ и зависимость, дареніе и принятіе, —синте-
зируя все это, заложенное въ нашемъ Я, вѣра эта об-
разуетъ отрѣзъ религіозной плоскости, на которую про-
ектируются отношенія людей между собою и которая это
названіе вмѣстѣ съ популярнымъ пониманіемъ ея, но
отнюдь не свою суть, заимствуетъ исключительно отъ
трансцендентныхъ, вписанныхъ въ нее и, конечно, наи-
болѣе чисто обнаруживающихъ ея структуру контуровъ.
Можно бы выразиться такъ: Богъ есть просто-на-про-
сто предметъ вѣры. Въ немъ вѣрующій даетъ выкри-
сталлизовываться безъ отклоненія и разъединенія силѣ
корней этой функціи. Изъ этого источника, изъ цѣль-
ной и первичной душевной энергіи, поскольку она сто-
итъ еще по ту сторону ея единичныхъ и такимъ обра-
зомъ всегда относительныхъ примѣненій, вырастаетъ ха-
рактеръ абсолютнаго въ представленіи о Богѣ. И вслѣд-
ствіе этого функція вѣры стоить въ одномъ ряду со
— 39 —
многими другими душевными функціями, которыя даютъ
вылиться въ религіозную субстанцію только, тому, что но-
ситъ въ нихъ самый общій характеръ,—только не рас-
члененной, только не стѣсненной никакимъ отдѣльнымъ
содержаніемъ силѣ. Такъ, Богъ въ христіанствѣ есть
предметъ любви вообще. Всѣ тѣ особыя качества людей и
вещей, черезъ которыя именно эта опредѣленная идея
Бога позволяетъ осуществиться возможнымъ проявле-
ніямъ нашей любви къ нему, придаютъ любви особен-
ную окраску, на-ряду съ чѣмъ любовь къ другимъ
занимаетъ мѣсто, словно другой отдѣльный случай одно-
го и того же общаго понятія: любовь же къ другому
есть другая любовь. Благодаря этому любовь къ какому-
нибудь эмпирическому предмету, сколь ни остается, ко-
нечно, явленіемъ, происходящимъ внутри любящаго, а
все-таки въ извѣстной мѣрѣ является продуктомъ, по-
лучившимся изъ проявленій его энергіи и качествъ ея
предмета. Но такъ какъ Богъ данъ душѣ не эмпириче-
ски, такъ какъ онъ предстаетъ передъ нею не какъ диф-
ференцированное отдѣльное существо, то онъ есть чи-
стый продуктъ любовной энергіи вообще, въ которой
пребываютъ еще нераздѣленными ея развѣтвленія, въ
другихъ случаяхъ предназначенныя къ осуществленію
черезъ отдѣльныя стороны объектовъ. Въ этомъ же
смыслѣ Богъ является такжіе предметомъ исканій во-
обще. Та неутомимость внутренней жизни, которая безъ
перерыва стремится къ измѣненію предметовъ предста-
вленія, имѣетъ въ немъ абсолютный предметъ; въ немъ
не ищется уже больше отдѣльный предметъ,—въ послѣд-
немъ случаѣ мы всегда имѣемъ дѣло1 съ отдѣльнымъ ис-
каніемъ,—но исканіе, какъ таковое, находитъ въ немъ
свою цѣль. Ему соотвѣтствуетъ другое, болѣе глубокое
теченіе, потокъ исканій, стремленій «туда, вдаль», трево-
ги, въ отношеніи которой всякое отдѣльное желаніе пе-
ремѣны есть только явленіе или часть ея. Такъ какъ
— 40 —
Богъ есть «цѣль вообще», онъ есть именно цѣль иска-
нія вообще. Въ этомъ сказывается также болѣе глубокій
смыслъ его происхожденія, какъ превращенный въ абсо-
лютъ стимулъ причинности. Въ предѣлахъ эмпириче-
скаго этотъ стимулъ связанъ всегда съ отдѣльнымъ со-
держаніемъ, какъ особое построеніе, въ которомъ спе-
цифическій матеріалъ и форма причинности срослись въ
одно цѣлое. Но поскольку стимулъ причинности дѣй-
ствуетъ безъ такого единичнаго толчка, не сосредоточи-
вается на чемъ-либо единично данномъ, но воспроиз-
водитъ свой объектъ какъ чистую функцію, объектомъ
этимъ является нѣчто абсолютно общее; какъ нерасчле-
ненная энергія, этотъ стимулъ можетъ избрать своимъ
содержаніемъ только причину бытія вообще. Когда схо-
ластика опредѣляетъ Бога какъ Епз регііесііззітит *),
какъ то существо, которое стоитъ выше всякаго огра-
ниченія и отграниченія, этотъ взглядъ объективируетъ
происхожденіе представленія о немъ изъ того, что мы
дѣйствительно можемъ назвать абсолютнымъ элементомъ
въ-нашей душѣ: изъ ея чистыхъ, только изъ себя
самихъ дѣйствующихъ функцій, которыя не подверглись
спеціализаціи со стороны вызывающаго ихъ единичнаго
предмета. Если онъ именуется «сама любовь», то съ этой
точки зрѣнія это настолько же справедливо относитель-
но него, насколько это справедливо1 относительно субъ-
екта и поскольку онъ поглотилъ въ себя происходя-
щее въ послѣднемъ: Богъ не отдѣльный предметъ люб-
вц, но онъ проистекаетъ—по своей, хотя никогда без-
препятственно не реализованной, идеѣ—-изъ любовнаго
импульса въ его чистѣйшей формѣ, какъ бы изъ абсо-
люта любви, стоящаго внѣ относительныхъ, т.-е. чрезъ
посредство единичныхъ объектовъ низведенныхъ до от-
носительности формъ. Черезъ это устанавливается его
*) Совершеннѣйшее существо, Прим. -переводчиковъ.
— 41 —
псцхологическое отношеніе къ органически обществен-
нымъ явленіямъ среди людей. Всѣ функціи, какъ лю-
бовь и вѣра, страстное томленіе и преданность, про-
тягиваютъ со стороны субъекта, въ качествѣ побужде-
ній котораго онѣ выступаютъ, соединительныя нити къ
другимъ субъектамъ, сѣть общества сплетается изъ без-
численныхъ дифференціаловъ этихъ функцій; онѣ какъ
бы апріорныя формы, которыя путемъ индивидуальной
иниціативы даютъ въ результатѣ эмпирическія, Соціаль-
но-психическія отдѣльныя явленія. Но какъ только онѣ
дѣйствуютъ въ свонй первоначальной чистотѣ, свободныя
отъ ограниченія со стороны какого-либо предмета, то
абсолютный религіозный предметъ является ихъ цѣлью
и продуктомъ. Какъ въ объективномъ религіозномъ пред-
ставленіи отдѣльные отрывки и событія дѣйствительно-
сти относятся къ божественному Бытію какъ къ своему
абсолютному, единому въ себѣ, совмѣщающему въ себѣ
ихъ противорѣчія источнику, такъ многообразно инди-
видуализированные импульсы, соціологически связую-
щіе между собою наши души, психологически относят-
ся къ непрерывно дѣйствующему, представляющему со-
бою нѣчто общее для этихъ расщепленій основному им-
пульсу, который—притомъ каждый разъ на своемъ язы-
кѣ—ставитъ абсолютизмъ человѣка въ религіозное отно-
шеніе къ абсолюту бытія.
Второе понятіе, въ которомъ общественные и рели-
гіозные феномены обнаруживаютъ сходственныя фор-
мы,—такъ что соціальная форма склонна къ религіозной
окраскѣ, а религіозная представляется какъ символъ и
превращеніе въ абсолютъ первой,—это—единство. Без-
порядочная масса вещей, изъ которой лишь тамъ и сямъ
выплываетъ пара связанныхъ причинностью явленій,
даетъ для болѣе примитивныхъ эпохъ одну лишь един-
ственную возможность воспринимать многосложное какъ
нѣчто единое, именно въ видѣ соціальной группы. Со-
— 42 —
знаніе единства послѣдней должно развиваться въ ней
благодаря двойному контрасту: прежде всего благодаря
враждебному отграниченію ея отъ другихъ группъ. Об-
щія оборонительныя и наступательныя дѣйствія про-
тивъ конкуррентовъ изъ-за мѣста на жизненномъ по-
прищѣ есть одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ
реализовать сплоченіе групповыхъ’ элементовъ и внѣд-
рить въ нихъ сознаніе этого. Единство возникаетъ очень
часто, по крайней мѣрѣ для сознанія, не изнутри, но
благодаря давленію извнѣ, вслѣдствіе практической не-
обходимости этой формы гарантіи, въ значительной сте-
пени также благодаря доказанному на дѣлѣ, ясному
представленію разныхъ внѣшнихъ инстанцій о томъ, что
данный комплексъ существъ есть именно нѣчто еди-
ное. Во-вторыхъ, характернымъ признакомъ единства
группы является ея отношеніе къ ея особямъ. Какъ-
разъ потому, что послѣднія отдѣлимы другъ отъ друга
и обладаютъ самостоятельной подвижностью, такъ какъ
онѣ въ извѣстной мѣрѣ свободны и сами за себя отвѣт-
ствуютъ, выросшее изъ ихъ. совокупности образованіе
сознается какъ единство. Какъ-разъ потому, что отдѣль-
ное лицо чувствуетъ, что оно есть нѣчто само по себѣ,
тѣмъ рельефнѣе должна выдѣляться объединяющая си-
ла, связующая его съ другими: будь это такъ, что онѣ
въ своей покорности передъ нею чувствуетъ, что жизнь
въ ея совокупности перекрещиваетъ его существованіе,
будь это и такъ, что, находясь въ оппозиціи къ ней,
онъ видитъ во всемъ противостоящую ему партію. Что
свобода индивида стремится уклониться отъ единства съ
цѣлымъ, что даже въ самыхъ тѣсныхъ и наивныхъ со-
четаніяхъ осуществленіе этого единства не такъ уже
само собою понятно, какъ единство организма въ его
составныхъ частяхъ,—именно это-то и должно его вдви-
нуть въ сознаніе въ качествѣ особой формы или энер-
гіи бытія. Если примитивныя соединенія такъ часто яв-
— 43 —
ляются организованными по десятеричной системѣ, это,
слѣдуетъ полагать, есть намекъ на то, что взаимо-
отношеніе групповыхъ элементовъ имѣетъ сходство съ
взаимоотношеніемъ пальцевъ: относительная свобода и
способность самостоятельнаго движенія отдѣльнаго чле-
на, который все-же соединенъ съ другими въ единствѣ
взаимодѣйствія и нераздѣльности существованія. Такъ
какъ всякая соціальная жизнь есть взаимодѣйствіе, оно
именно вслѣдствіе этого и единство; вѣдь въ самомъ
дѣлѣ, что же иное и называется единствомъ, какъ не то,
что многое взаимно связано и судьба всякаго элемента
не оставляетъ незатронутымъ ни одного изъ другихъ.
Групповой синтезъ есть прототипъ схваченнаго чув-
ствами и сознаніемъ единства—за предѣлами единства
личности, — и его своеобразная форма отражается или
отчеканивается въ религіозномъ единствѣ бытія, питае-
момъ понятіями о Божествѣ. Къ этой связи приводитъ
насъ прежде всего разсмотрѣніе религіозной группи-
ровки. Достаточно извѣстенъ тотъ фактъ, что въ ран-
нихъ культурахъ (включая такъ - называемый докуль-
турный періодъ) вообще не встрѣчается ни одной груп-
пировки продолжительнаго и органическаго характера,
которая не была бы обществомъ, основаннымъ на куль-
тѣ. Еще во времена римскихъ императоровъ, когда
сильная корпоративная тенденція создала безчисленное
множество гильдій, является характернымъ, что каждая
изъ послѣднихъ имѣетъ, повидимому, особенный рели-
гіозный отпечатокъ. Будь эта гильдія составлена изъ
купцовъ или актеровъ, изъ носильщиковъ или врачей,
всякій разъ она ставитъ себя подъ защиту особаго бо-
жества или имѣетъ «генія», она владѣетъ храмомъ или,
по крайней мѣрѣ, алтаремъ. Не отдѣльный членъ, но
группа, какъ таковая, состоитъ подъ покровительствомъ
опредѣленнаго бога, и именно такая группа указываетъ
на то, что это и.есть ея единство, выражающееся въ
— 44 —
Богѣ, что, [поверхъ головъ индивидовъ, удерживаетъ ихъ
вмѣстѣ. Богъ ость, танъ сказать, имя для соціологиче-
скаго единства, которое въ зависимости отъ того, на-
сколько и какъ глубоко оно переживалось яиЬ зресіе
геіфіопіз *), само и для себя вызывало специфическую
реакцію набожнаго настроенія. Не менѣе значительна
роль, которую играетъ въ раннемъ христіанствѣ какъ-разъ
это соціологическое единство. Его значеніе растетъ
и перевѣшиваетъ религіозныя по содержанію цѣнности.
Когда въ III столѣтіи возникъ горячій споръ изъ-за
вопроса, должны ли быть приняты обратно отпавшіе
во время преслѣдованій христіане, и римскій епископъ
былъ за рѣшеніе его въ положительномъ смыслѣ, бо-
лѣе строгая партія избрала тутъ себѣ епископа, противъ
качествъ котораго нельзя было ничего возразить; не
было также сомнѣнія, что религіозная послѣдователь-
ность, внутренняя чистота церкви требовали исключе-
йія отступниковъ или, по крайней мѣрѣ, предоставленія
возможности остаться другъ съ другомъ всѣмъ лицамъ
болѣе строгаго образа мыслей въ данномъ вопросѣ.
Между тѣмъ Кипріанъ все-таки добился того, что вы-
боръ другого епископа былъ объявленъ недѣйствитель-
нымъ, такъ какъ требованіе единства ощущалось без-
условно какъ жизненный интересъ церкви. Эту объеди-
няющую форму христіанство унаслѣдовало отъ корпо-
ративнаго духа, царившаго въ римскую императорскую
эпоху, особенно въ болѣе поздній ея періодъ. Единство
всѣхъ христіанъ въ самой первоначальной его формѣ—
единеніе всѣхъ и каждаго изъ нихъ въ любви, вѣрѣ
и надеждѣ—было вѣдь собственно скорѣе сосущество-
ваніе рядомъ другъ съ другомъ одинаково настроен-
ныхъ душъ, чѣмъ органическое сочетаніе ихъ другъ
съ Другомъ,—было единствомъ, форму котораго они толь-
ко и всего, что позаимствовали у окружавшаго ихъ
*) Въ качествѣ чего-то религіознаго. Прим. переводчиковъ.
— 45 —
міра язычниковъ и затѣмъ, правда, довели его до не-
извѣстныхъ тамъ силы и углубленія. И вотъ, кажется,
какъ-разъ черезъ это и получилась та прочная соціо-
логическая форма, благодаря которой церковь при кру-
шеніи античнаго міра пріобрѣла цѣнность абсолютнаго,
цѣнность опоры въ надземномъ, даже непосредственно
въ Божескомъ. Въ христіанскомъ ученіи о спасеніи не
было само по себѣ основанія, почему бы не существо-
вать ряду соціологически другъ отъ друга независи-
мыхъ общинъ, связанныхъ только однимъ и тѣмъ же
содержаніемъ въ сферѣ вѣроученія и мышленія. Од-
нако, повидимому, сила этого духа очень скоро стала
на дѣлѣ недѣйствительной, разъ она не являлась въ
качествѣ соціально организующаго единства. А это по-
слѣднее было не только, скажемъ, техническимъ сред-
ствомъ, чтобы наружнымъ образомъ гарантировать проч-
ность и силу новой религіи, но оно явилось мистиче-
ской дѣйствительностью самого спасенія.
Благодаря своей всеобъемлющей формѣ единства, цер-
ковь явилась какъ реализація царства Божія, возвѣщен-
наго Іисусомъ, цѣнилась какъ «градъ Божій», какъ Но-
евъ ковчегъ, включающій въ себѣ спасенную общину
святыхъ душъ, какъ «тѣло Христово». Нигдѣ, можетъ
быть, не виденъ такъ ясно процессъ, выясненію котораго
должны служить эти страницы. Чисто эмпирически-со-
ціальная, исторически перенятая форма единства прони-
кается религіознымъ настроеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ
является сама изъ себя какъ отраженіе или мистическая
дѣйствительность трансцендентнаго единства, чисто ре-
лигіознаго пониманія міра какъ цѣлаго» Специфическая
религіозная цѣнность является здѣсь и причиной, и
дѣйствіемъ, во всякомъ случаѣ, съ идеальной точки зрѣ-
нія, выраженіемъ соціологической формы взаимодѣй-
ствія,—той формы, которую мы называемъ единствомъ
группы.
— 46 —
Здѣсь въ особенности одна подчиненная этому по-
слѣднему понятію черта располагаетъ къ религіозному
его выраженію. Что группа составляетъ единство, это,
особенно въ болѣе примитивныя эпохи, обусловливает-
ся или характеризуется отсутствіемъ борьбы и
конкурренціи внутри ея въ противоположность от-
ношенію ея къ стоящимъ внѣ группы. Можетъ бытъ,
нѣтъ ни одной другой отдѣльной области, въ которой
эта форма лишеннаго конкурренціи сосуществованія, со-
гласованность цѣлей и интересовъ выступали бы такъ
чисто и цѣльно, какъ въ области религіозной, такъ что
мирное единеніе въ обычной, групповой жизни кажется,
по отношенію къ послѣдней, переходною ступенью. Вѣдь
послѣднее все-таки лишь относительно; оно въ предѣлахъ
эмпирическаго общества постоянно уступаетъ мѣсто ста-
ранію выключить соискателей одинаковой цѣли; по воз-
можности, хотя бы Даже на счетъ другихъ, ослабить не-
соотвѣтствіе между желаніями и ихъ удовлетвореніемъ;
по крайней Мѣрѣ въ самомъ отличіи отъ другихъ искать
масштабъ для опредѣленія цѣнности собственныхъ дѣй-
ствій и наслажденій. Почти исключительно въ религі-
озной области можетъ получить полное развитіе энергія
отдѣльныхъ лицъ, не вступающая на путь конкурренціи
другъ съ другомъ, такъ какъ, согласно прекрасному из-
реченію Іисуса, для всѣхъ есть мѣсто въ домѣ Божіемъ.
Хотя цѣль для всѣхъ и общая, она все-же даетъ всѣмъ
возможность достигнуть ея и влечетъ за собою не вза-
имное исключеніе, но, наоборотъ, сближеніе. Напоминаю,
какимъ глубокомысленнымъ образомъ причастіе выра-
жаетъ то, что религія хочетъ достигнуть одинаковой
для всѣхъ цѣли одинаковымъ для всѣхъ средствомъ;
я напоминаю первымъ дѣломъ о праздникахъ, которые
обнаруживаютъ съ крайнею отчетливостью единство
всѣхъ охваченныхъ однимъ и тѣмъ же религіознымъ
настроеніемъ, начиная съ грубыхъ празднествъ при-
— 47 —
митивныхъ религій, гдѣ сліяніе воедино въ концѣ-
концовъ выливается обыкновенно въ форму половыхъ
оргій, вплоть до того чистѣйшаго и выходящаго дале-
ко за предѣлы отдѣльной группы возгласа: о мирѣ
всего міра (Рах йотіпіЬив). Христіанскій праздникъ
Рождества даетъ въ принципѣ универсальное выраженіе
мирному общенію, которое мѣстныя религіи символи-
зируютъ только для внутренней жизни отдѣльныхъ
группъ. Точно танъ же внутри отдѣльной группы господ-
ствуетъ отсутствіе борьбы въ той мѣрѣ, въ какой отъ
этого зависитъ ея объединяющая форма жизни, при-
чемъ такая мѣра является чисто частичной и относи-
тельной ; религія, ограниченная предѣлами группы,
даетъ этому внутреннему міру освобожденную отъ та-
кихъ ограниченій форму, которая сказывается въ празд-
никахъ. Христіанскіе праздники,—съ наибольшей со-
знательностью это сказывается въ праздникѣ Рожде-
ства,—возвышаютъ этотъ мотивъ мира до чувства от-
дѣльнаго лица, а именно это послѣднее сливается въ
своемъ настроеніи съ такимъ же настроеніемъ всего
христіанскаго общества, которое принципіально разла-
мываетъ всѣ групповыя отдѣльныя сочетанія. Пусть
въ исторической дѣйствительности это и будетъ лишь
очень несовершенно обоснованнымъ: по своей идеѣ
христіанскій праздникъ приводитъ къ результату, един-
ственному въ своемъ родѣ, съ соціально'-психологиче-
ской точки зрѣнія, именно онъ абсолютно уничтожаетъ
границу, которая обыкновенно отдѣляетъ настроеніе ин-
дивида отъ существующихъ гдѣ-либо еще настроеній
по ихъ чужести, либо противоположности. Соціальный
принципъ отсутствія борьбы переступаетъ вмѣстѣ съ
тѣмъ грани присущаго ему соціологически характера
и получаетъ въ настроеніи этихъ религіозныхъ празд-
нествъ свой позитивный и универсальный символъ. Уже
въ іудейскихъ, равно какъ и въ самыхъ раннихъ хри-
— 48 —
стіанскихъ общинахъ вошло въ обычай, чтобы опоры
между членами ихъ рѣшались передъ собраніемъ об-
щины или выставленными послѣдней третейскими судья-
ми. Ап. Павелъ указываетъ, какъ противорѣчиво при-
знавать судьями язычниковъ, къ которымъ относились
съ презрѣніемъ. Религіозная община съ точки зрѣнія
мира является здѣсь усиленіемъ внутренняго группо-
вого единства вообще, религія есть, такъ сказать, миръ
въ субстанціи, та застывшая въ одну идею форма.груп-
повой жизни, которую мы называемъ мирнымъ состоя-
ніемъ. Столкновенія могли возникать между вѣрующи-
ми какъ частными лицами, какъ хозяевами, какъ на-
сильниками ; но между ними какъ участниками въ од-
номъ и томъ же религіозномъ достояніи могъ существо-
вать только миръ, и поэтому соціальное олицетвореніе
этого достоянія—община была также, такъ сказать, самой
логикой указанною инстанціей, которая сама приводитъ
всѣ случавшіеся въ ней конфликты къ миру. Духъ
единенія и примиренія, исходящій отъ религіи на все-
ленную, символизируется въ томъ, что замковый миръ
(ВигДтіейе), въ той или иной мѣрѣ царящій внутри
всякой группы, въ группѣ религіозной достигаетъ сво-
его максимума. Эта послѣдняя представляетъ до из-
вѣстной степени проводникъ, черезъ посредство кото-
раго соціологическая форма единства переходитъ въ аб-
солютное единство идеи Бога. Эта шкала имѣетъ еще
одну ступень, которая много разъ характеризуетъ до-
христіанскія эпохи. Дѣло въ томъ, что въ нихъ бо-
жество не противополагаемся отдѣльному лицу и
его кругу, но оно входитъ въ послѣдній, оно—элементъ
той жизни въ ея совокупности, которая удѣлена инди-
виду. Въ древнемъ іудействѣ, напримѣръ, Богъ въ слу-
чаѣ жертвоприношенія участвуетъ, въ трапезѣ, и это
представляетъ собою не только дань. Повсюду суще-
ствуетъ родственное отношеніе между Богомъ и его по-
— 49 —
читателями. И вездѣ, гдѣ онъ выступаетъ въ качествѣ
родоначальника, въ качествѣ царя, какъ-разъ тамъ,
гдѣ онъ богъ именно даннаго племени, именно даннаго
города, между тѣмъ какъ другіе боги, существованіе
которыхъ такъ же мало подвергалось сомнѣнію, при-
надлежали къ инымъ группамъ,—вездѣ тутъ богъ—выс-
шій сочленъ общины. Онъ живетъ въ предѣлахъ соці-
альнаго единства и въ то же время онъ — выраженіе
его,—въ качествѣ такового, онъ, правда, противостойть
отдѣльному индивиду, но не иначе, какъ обстоитъ дѣло
съ раіег іатіііаз, въ лицѣ котораго сосредоточивается
семья, или съ княземъ въ отношеніи его подданныхъ,
сумму которыхъ онъ представляетъ. Своеобразно запу-
танное соціологическое положеніе такихъ элементовъ:
быть членами одного круга, который увѣнчивается ими
и соединяетъ ихъ вмѣстѣ со всѣми остальными члена-
ми его въ единое цѣлое, но все-же противостоять это-
му единству, въ извѣстномъ смыслѣ, какъ самостоя-
тельная и преобладающая сила, — таково положеніе
Божества. Поэтому Богъ имѣетъ тотъ характеръ, съ
которымъ онъ можетъ быть включенъ въ этомъ смыс-
лѣ въ любую форму общества. Пока семитическій об-
щественный строй покоился на племенномъ родствѣ,
Богъ былъ у іудеевъ, финикіянъ, ханаанитянъ отцомъ
и вѣрующіе его дѣтьми; но гдѣ появилось политиче-
ское единеніе различныхъ племенъ, тамъ Богъ долженъ
былъ носить характеръ царя, такъ какъ теперь онъ
могъ находиться въ предѣлахъ цѣлаго, на гораздо боль-
шемъ разстояніи, какъ много болѣе абстрактный образъ,
и это пребываніе внутри цѣлаго могло, такъ сказать,
технически, принять форму чего-то стоящаго надъ цѣ-
лымъ.
Однако, даже тогда, когда удареніе падаетъ всецѣло
на это «надъ», этцмъ не порывается жизненная связь
съ данной формой группы. Въ Греціи и Римѣ, гдѣ
4
— 50 —
царская власть рано склонилась передъ аристократіей,
утвердился также и аристократическій строй религіоз-
ной жизни, множество равноправныхъ боговъ и ихъ
іерархія—чистая, отпрепарированная, лишенная матеріа-
ла хозяйственныхъ, племенныхъ, политическихъ инте-
ресовъ картина одной только формы, въ которой живетъ
групповая единица. Въ Азіи, напротивъ, гдѣ царская
власть господствовала гораздо дольше, религіозное раз-
витіе направлено къ установленію могущественнаго
Божьяго монархизма. Да, простая сила племенного един-
ства, господствовавшая у древнихъ арабовъ въ ихъ со-
ціальной жизни, была эмбріономъ монотеизма. И даже
стремленіе къ объединенію половъ, которое поднимается
надъ половой дифференціаціей, образуетъ особый рели-
гіозный типъ. Психологическое сглаживаніе противопо-
ложностей половъ, въ значительной мѣрѣ выступавшее
въ соціальной жизни сирійцевъ, ассиріянъ и лидійцевъ,
завершилось въ представленіи о божествахъ, которыя
соединяли въ себѣ воедино эти противоположности;
сюда относятся: полумужчина Астарта, женщина - муж-
чина Сандонъ, богъ солнца Мелькартъ, обмѣнивающій-
ся съ богиней луны символами пола. Здѣсь дѣло не
въ тривіальной фразѣ, что человѣкъ отражается въ сво-
ихъ богахъ,—фразѣ, которая въ своей общей формѣ и
не нуждается въ доказательствѣ. Скорѣе важно при-
знать, что боги являются не только идеализаціей инди-
видуальныхъ качествъ, силы, нравственныхъ или даже
безнравственныхъ чертъ характера, склонностей и по-
требностей отдѣльныхъ лицъ, но что междуиидивиду-
альныя формы соціальной жизни многократно даютъ ре-
лигіознымъ представленіямъ ихъ содержаніе. Въ то
время, какъ извѣстнаго рода единство, каковое поня-
тіе является собирательнымъ для взаимодѣйствія эле-
ментовъ, перекочевываетъ въ область религіозныхъ
чувствъ, вызываетъ религіозную реакцію, оно освобо-
— 51
задается отъ функціонирующей соціальнымъ содержа-
ніемъ разнаго рода жизни; трансцендентный міръ есть
мѣсто, гдѣ эта ощутимая въ качествѣ религіозной фор-
ма застываетъ въ предметы, подобно тому какъ объемъ
съ его тремя измѣреніями есть мѣсто, въ которомъ ощу-
тимое умомъ дѣлается предметомъ.
4*
ГЛАВА IV.
Подчеркнутое выше взаимоотношеніе одновременнаго
пребыванія внутри и внѣ общества приложимо отнюдь
не исключительно къ властителю, но вообще къ каждо-
му члену общества, и какъ въ первомъ случаѣ соціологи-
ческая основная форма предвосхищаетъ Бога, такъ и въ
другомъ случаѣ она же предвосхищаетъ вѣрующаго.
Обстоятельство, затронутое уже нами раньше, а имен-
но, что принадлежность индивида къ своей группѣ на
правахъ члена означаетъ всегда какую-то смѣсь при-
нудительной обязательности и личной свободы, теперь
должно выступить въ видѣ глубочайшаго взаимоотно-
шенія формъ соціальной и религіозной жизни.
Собственно практическая проблема общества состоитъ
въ соотношеніи его силъ и формъ съ личной жизнью
составляющихъ его индивидовъ. Несомнѣнно, первое
есть лишь дѣло послѣднихъ. Однако это нисколько
не исключаетъ массы конфликтовъ между тѣмъ и дру-
гими. Съ Одной стороны, по той причинѣ, что свойствен-
ные индивидамъ элементы, благодаря которымъ они об-
разуютъ общество, сливаются какъ-разъ въ эту особую
форму—-въ «Общество»; а это послѣднее пріобрѣтаетъ
своихъ собственныхъ Носителей и органы, которые, какъ
'чужая отдѣльному лицу сторона, предъявляютъ ему
свои требованія для немедленнаго исполненія; а съ
— 53 —
другой стороны—конфликтъ возможенъ и близокъ какъ-
разъ благодаря внѣдренію понятія общества въ отдѣль-
номъ лицѣ. Вѣдь способность человѣка разбивать себя
самого на части и ощущать какую-либо часть своей
личности, именно какъ самого себя, вступающаго въ
коллизію съ другими частями и въ борьбу за свое само-
опредѣленіе, — эта способность ставитъ человѣка, по-
скольку онъ есть существо общественное, насколько онъ
чувствуетъ себя существомъ общественнымъ, ставитъ
его часто во враждебное отношеніе къ импульсамъ и
интересамъ его Я, лежащимъ внѣ его общественной
сферы: конфликтъ между обществомъ и отдѣльной лич-
ностью развертывается въ самомъ индивидѣ въ видѣ
борьбы его существенныхъ элементовъ. Широчайшая и
глубочайшая коллизія между обществомъ и индивидомъ
касается, какъ мнѣ кажется, не сущности интересовъ
отдѣльнаго лица, но формы индивидуальной жизни.
Общество хочетъ быть полнымъ и органическимъ един-
ствомъ, такъ что каждый изъ составляющихъ его ин-
дивидовъ является лишь однимъ членомъ его; на вы-
полняемую имъ въ качествѣ такового спеціальную функ-
цію юнъ долженъ по возможности употребить всѣ свои
силы, долженъ превратить себя въ наилучше приспо-
собленнаго носителя этой функціи. Однако противъ этой
роли возстаетъ присущее индивйду въ отношеніи себя
самого стремленіе къ единству и полнотѣ. Онъ хочетъ
быть законченнымъ въ себѣ самомъ и не только содѣй-
ствовать законченности общества, — онъ хочетъ развить
всѣ безъ исключенія свои способности независимо отъ
тѣхъ ихъ комбинацій, которыя требуются интересомъ
общества. Въ этомъ-то и состоитъ вѣдь по существу
смыслъ требованія со стороны индивида свободы себѣ
отъ соціальныхъ узъ. Вѣдь эта свобода не можетъ быть
обращена на то, чтобы вообще случилось что-либо1
произвольное, независимое стъ опредѣляющихъ обще-
— 54 —
ственныхъ условій. Но она имѣетъ смыслъ полной лич-
ной отвѣтственности, къ которой мы стремимся и ко:
торой мы владѣемъ только тогда, когда наши единич-
ныя дѣйствія суть чистое выраженіе нашей личности,
коль скоро наше я, не стѣсняемое никакими внѣшними
обстоятельствами, сказывается въ этихъ самыхъ дѣй-
ствіяхъ. Мы желаемъ, чтобы периферія нашего суще-
. ствованія опредѣлялась изъ своего центра, а не внѣш-
ними силами, съ которыми она сплелась и которыя,
несомнѣнно, внутри насъ превращаются въ наши соб-
ственные внутренніе импульсы; при этомъ однако мы
весьма нерѣдко въ то же время чувствуемъ, что они
все-же не вырастаютъ изъ глубины нашего я. Свобода
отдѣльнаго лица, дѣлающая его дѣйствительно отвѣт-
ственнымъ за свои дѣйствія, означаетъ, что онъ со всѣ-
ми своими поступками есть то самодовлѣющее органи-
ческое цѣлое, которое принципіально противится при-
тязанію высшаго единства включить его въ себя въ ка-
чествѣ своего члена и поставить отъ себя въ зависи-
мость. Такимъ образомъ, если свобода человѣка проти-
вится включенію ея въ рядъ соціальныхъ силъ, вы-
ставляя это притязаніе въ отвѣтъ на притязаніе, то эта
же проблема въ религіозномъ мірѣ изъ вопроса права
превращается, какъ кажется, въ вопросъ факта. Есть
вопросъ, который лежитъ въ основѣ всякой религіи,
какъ бы онъ ни оставался неразвитымъ и безсознатель-
нымъ, путанымъ и отрывочнымъ: божеская воля, отъ
которой абсолютно зависитъ міровой процессъ,—спраши-
вается, руководитъ ли она также и человѣкомъ на-
столько, что онъ лишается и свободы, и отвѣтственно-
сти, или по отношенію къ Богу наімъ удѣлена само-
стоятельность внутренняго бытія, предоставляющая
намъ то и другое, но исключающая насъ изъ полнаго
подчиненія божескому могуществу, что есть собственно
непослѣдовательность и противорѣчіе идеѣ послѣдняго.
— 55 —
Логическія соображенія или выводъ изъ откровенія да-
ютъ на это лишь кажущійся отвѣтъ; въ дѣйствитель-
ности же здѣсь на-лицо стремленіе человѣка и въ
отношеніи высшей инстанціи бытія быть вполнѣ само-
стоятельнымъ и находить смыслъ жизни въ себѣ од-
номъ,—стремленіе, которое здѣсь сталкивается съ дру-
гимъ стремленіемъ—быть подчиненнымъ Промыслу Бо-
жію о мірѣ и позаимствовать для себя изъ его вели-
чія и красоты ту цѣнность, которую можетъ дать лишь
самопожертвованіе и планомѣрное пріобщеніе къ это-
му Промыслу. Достоинство индивидуальной свободы,
сила или упорство личной отвѣтственности, желающей
взять на себя въ полной мѣрѣ послѣдствія даже грѣхо-
паденія, сталкиваются съ облегченіемъ нашего бремени
божескимъ всемогуществомъ, съ удобствомъ сознавать
себя членомъ абсолютнаго цѣлаго, чьи силы и смыслъ
безусловно поддерживаютъ и проникаютъ въ тебя, или
даже съ экстатическимъ умиленіемъ отъ сознанія этого'.
Ясно до очевидности, какъ чувство жизни нашего Я
въ отношеніи къ соціальному, равно и религіозному
вопросу стоитъ здѣсь передъ одинаковой проблемой;
это лишь двѣ формы, оболочки дуализма, опредѣляю-
щаго нашу душу и нашу судьбу въ самомъ ихъ корнѣ.
Возможно тутъ и чисто мысленное рѣшеніе задачи:
структура цѣлаго, разсчитанная какъ-разъ на самостоя-
тельность и законченное единство его элементовъ, этимъ
лишь и завершается, сообразно съ чѣмъ противорѣчіе
отнюдь не было бы логическимъ попзепз’омъ, но лишь
фактическимъ противорѣчіемъ, поддающимся примире-
нію путемъ преобразованія элементовъ, безъ измѣненія
ихъ по существу. Въ соціологическомъ примѣрѣ это
возможно представить себѣ, скажемъ, какъ идеальную
конституцію, къ которой фактически существующія мо-
гутъ приближаться до безконечности. Законченнымъ
обществомъ было бы то, которое состоитъ изъ закончен-
— 56 —
нихъ индивидовъ. Общество живетъ своею собственною
жизнью въ своеобразномъ смѣшеніи абстрактнаго и кон-
кретнаго, и каждый индивидъ отъ себя вкладываетъ
въ него нѣкоторыя особенности и силы; оно вырастаетъ
изъ вкладовъ отдѣльныхъ своихъ членовъ, которые об-
лекаютъ или стремятся облечь свое существованіе въ
особыя необщественныя формы. Теперь далѣе можно
было бы вообразить себѣ, что это надъиндивидуальное
общественное бытіе такъ устроено, что оно получаетъ
наивыгоднѣйшіе для себя вклады какъ-разъ отъ. закон-
ченныхъ и гармонически сконцентрированныхъ въ са-
михъ себѣ индивидовъ. Можетъ быть, благодаря этому
та особенная жизнь цѣлаго, которая возвышается надъ
отдѣльными членами его и вызываетъ вслѣдствіе этого
распаденія на автономныя единицы конфликтъ между
ея формой и формами единичныхъ существованій, сни-
зошла бы опять до послѣднихъ. Государство или во-
обще какой-либо общественный союзъ вырабатываетъ
собственныя жизненныя условія и линіи развитія въ
абстрактной вышинѣ и безразличіи по отношенію къ
индивидуальной жизни его сочленовъ; онъ вынуждаетъ
этимъ послѣднихъ служить себѣ и втискиваетъ ихъ въ
формы существованія, не стоящія рѣшительно ни въ
какомъ отношеніи къ закону ихъ собственнаго бытія,—
пусть это: будетъ грандіозная абстракція, но все-же
это лишь преходящее явленіе, которое по нуждѣ схо-
дитъ за добродѣтель. Въ противоположность этому мо-
жетъ быть утопіей, но отнюдь не невѣроятностью то
обстоятельство, что соединенная въ одно цѣлое сово-
купность людей вырастаетъ изъ общественныхъ элемен-
товъ, которые сами по себѣ обнаруживаютъ вполнѣ за-
конченный рядъ примиренныхъ въ себѣ, гармонически
развивающихся въ своей собственной рамкѣ существо-
. ваній. Въ мірѣ неодушевленныхъ предметовъ это ка-
жется противорѣчіемъ: ни одинъ домъ не можетъ со-
— 57 —
стоять изъ домовъ, ни одно дерево изъ деревьевъ. Но
если уже въ органической природѣ наблюдается смяг-
ченный видъ этого противорѣчія, такъ какъ клѣтка ор-
ганизма живетъ въ нѣкоторомъ родѣ своею собствен-
ною жизнью, въ той или иной мѣрѣ аналогичной жизни
цѣлаго, точно такъ же и здѣсь душѣ можетъ удаваться,
по крайней мѣрѣ принципіально, невозможное въ иномъ
случаѣ: быть чѣмъ-то цѣлымъ и въ то же время чле-
номъ цѣлаго, при полной индивидуальной свободѣ со-
дѣйствовать образованію сверхъиндивидуальнаго поряд-
ка. Но въ религіозномъ примѣрѣ дѣло обстоитъ все-
таки иначе. Общество заинтересовано въ концѣ-кон-
цовъ только въ опредѣленныхъ по содержанію каче-
ствахъ и. дѣйствіяхъ его сочленовъ, и если послѣдніе
служатъ единству и полнотѣ его существованія, оно
ничего не можетъ имѣть противъ, чтобы эти сочлены
сверхъ того отдавались для себя самихъ свободному,
гармонически пережитому, цѣльному существованію.
По отношенію же къ Богу рѣчь идетъ уже не о со-
держаніи отдѣльныхъ жизней, не только о соотвѣтствіи
или оппозиціи нашихъ поступковъ его волѣ, но о прин-
ципѣ свободы и самобытности вообще и притомъ въ
его чисто внутреннемъ значеніи. Здѣсь выдвигается во-
просъ, отвѣтствененъ ли вообще человѣкъ за себя или
Богъ дѣйствуетъ черезъ него какъ черезъ бездушный
органъ; можетъ ли съ религіозной точки зрѣнія найти
себѣ оправданіе воля, сконцентрированная въ себѣ, какъ
конечной цѣли,—даже если эта воля по существу не
расходится съ божеской волей,—или же пріобщеніе къ
божественному Промыслу, которое по существу можетъ
гармонировать съ личною удовлетворенностью индивида,
должно быть единственнымъ мотивомъ жизни и послѣд-
ней поэтому принципіально отказано во всякой закон-
ченной въ себѣ самой структурѣ, во всякой органи-
заціи себя въ автономной формѣ. Ясно, что и здѣсь
58 —
отношенія религіознаго порядка представляютъ собою
усиленіе и вознесеніе на абсолютную высоту соціаль-
ныхъ отношеній. Конфликтъ между цѣлымъ и частью,
самой желающею быть цѣлымъ, между свободой эле-
мента и подчиненіемъ его высшему единству, въ пре-
дѣлахъ общества, въ концѣ - концовъ только внѣшній
и неразрѣшимый, такъ сказать, лишь технически; по
отношенію же къ божіему, наполняющему міръ бытію
онъ является принципіальнымъ, внутреннймъ и въ са-
" момъ корнѣ своемъ непримиримымъ противорѣчіемъ.
Болѣе спеціальная сторона этого отношенія единства
и антагонизма въ то же время между частью и цѣлымъ
показываетъ, при внѣшнемъ отличіи, религіозное бы-
тіе въ одинаковой роли съ соціальнымъ. Общество до
мѣрѣ своего развитія побуждаетъ своихъ индивидовъ
къ раздѣленію труда. Чѣмъ разнообразнѣе среди нихъ
роды ихъ дѣятельности, тѣмъ больше одинъ нуждает-
ся въ другомъ, тѣмъ крѣпче становится единство, до-
стигаемое обществомъ путемъ обмѣна продуктовъ, вза-
имодѣйствія въ примиреніи интересовъ, путемъ попол-
ненія личныхъ природныхъ свойствъ. Право въ жизнен-
номъ единствѣ организма видѣть подобіе обществу по-
коится на раздѣленіи труда въ послѣднемъ—въ совер-
шенно общемъ, а вовсе не только въ экономическомъ
смыслѣ,—на особыхъ функціяхъ элементовъ, благодаря
которымъ они какъ бы сцѣпляются другъ съ другомъ
воедино, одинъ заполняетъ мѣсто, не заполненное дру-
гимъ, одинъ можетъ посвящать себя удовлетворенію по-
требностей другихъ, потому что другіе заботятся объ
удовлетвореніи его потребностей. Раздѣленіе труда есть
коррективъ конкурренціи, то-есть взаимнаго вытѣсненія
индивидовъ, занятыхъ одинаковою дѣятельностью, ради
цѣлей, не вмѣщающихъ всѣхъ соискателей; раздѣле-
ніе труда, наоборотъ, представляетъ собою рядъ взаим-
ныхъ уступокъ и въ то же время взаимныхъ допол-
— 59 —
неній, такъ какъ каждый ищетъ иного примѣненія сво-
ему труду, чѣмъ другой, и устраивается въ области,
не занятой другими; оно въ такой же мѣрѣ смыкаетъ
общественное единство, въ какой конкурренція расще-
пляетъ его. Однако болѣе свободная арена и болѣе свое-
образное развитіе, предоставляемое имъ индивиду, гро-
зитъ сузить горизонтъ этого индивида и погубить, по-
слѣдняго, какъ только оно дѣйствуетъ рука объ руку
съ противоположнымъ ему принципомъ конкуренціи,
что все учащается въ современной стадіи культурнаго
развитія. Вѣдь раздѣленіе труда въ подавляющемъ
большинствѣ случаевъ — все-же лишь дифференціація
средствъ и путей' къ одной цѣли, какъ-никакъ общей
для всѣхъ трудящихся: благосклонность публики, до-
ступъ къ житейскимъ благамъ и наслажденіямъ, прі-
обрѣтеніе виднаго положенія, власть и слава. Эти, все-
общія по преимуществу, цѣнности предоставлены кон-
курренціи. Раздѣленіе труда обыкновенно умѣетъ не
убить конкуррѳнцію, выставляя новыя, конечныя цѣли,
а только отстранить ее на мгновеніе обходнымъ путемъ.
Сюда присоединяется то обстоятельство, что съ возра-
стающей густотой народонаселенія и интенсивностью по-
требностей каждый вновь созданный видъ нашей дѣя-
тельности тотчасъ же находитъ множество соревновате-
лей, такъ что какъ-разъ тотъ пунктъ, съ котораго кон-
куррѳнція должна была бы отступитъ, дѣлается центромъ
дальнѣйшей конкурренціи. Между тѣмъ какъ здѣсь игра
начинается сызнова, т.-е. все возрастающая конкурренція
влечетъ за собою все болѣе и болѣе тонкое раздѣленіе
труда, возникаетъ односторонность индивида, исключи-
тельность вполнѣ спеціализованнаго труда, гибель всѣхъ
не служащихъ этой односторонности проявленій энер-
гіи,—въ чемъ и заключается вредъ всѣхъ очень слож-
ныхъ культуръ; эта-то односторонность индивида и
обосновываетъ изображенное выше отношеніе, а именно:
60 —
интересъ и жизнь общества втискиваютъ отдѣльное лицо
въ неполное, частичное существованіе, которое совер-
шенно противорѣчивъ идеалу собственнаго существо-
ванія индивида—достиженію гармонической, всесторон-
не законченной полноты этого существованія. Раздѣле-
ніе труда при изощреніи его вслѣдствіе безконечно
растущей конкурренціи выступаетъ какъ форма, кото-
рая въ совершенствѣ служить внутреннему сплетенію
и органическому единству общества, а также и удовле-
творенію его потребностей, но покупаетъ это совершен-
ство цѣною несовершенства индивида, цѣною противо-
естественнаго сдавливанія его силъ на спеціальной дѣя-
тельности, что губитъ неисчислимыя возможности этихъ
силъ.
Въ религіозной плоскости это отношеніе отдѣльнаго
лица къ высшему единству преломляется подъ весьма
своеобразными углами. Если братъ религію въ отношеніи
ея глубочайшей субъективной цѣли—какъ путь къ спа-
сенію души, то она изливаетъ свои дары на души, со-
здавая между ними равенство, которое заключается въ'
непосредственномъ соединеніи каждой въ отдѣльности
души съ абсолютомъ; это равенство является исходнымъ
пунктомъ ихъ общности, ихъ принадлежности другъ дру-
гу, а вовсе не тотъ рядъ отличій, которыя лишь путемъ
взаимнаго дополненія достигаютъ общей цѣли. Въ слу-
чаѣ, когда собраніе вѣрующихъ «взываетъ къ Богу», за
все время существованія непосредственной связи между
каждымъ молящимся и его Богомъ получается лишь
•какъ бы физическое усиленіе молитвы; тутъ не новая
структура изъ отдѣльныхъ актовъ, которой одной лишь
доступенъ путь къ тому, чтобы быть услышаннымъ Бо-
гомъ, а только сумма этихъ актовъ, численность кото-
рыхъ скорѣе въ состояніи воздѣйствовать на Бога, чѣмъ
слабый, теряющійся въ высотѣ голосъ отдѣльнаго лица.
Этотъ тдпъ религіозныхъ отношеній отвергаетъ всякую
— 61 —
принципіальную дифференціацію; совершенство цѣла-
го связано не съ разнообразной, какъ въ случаѣ выше
разобранныхъ Соціальныхъ явленій, а какъ разъ съ одно-
образной дѣятельностью индивидовъ; совершенство ка-
ждаго въ отдѣльности не нуждается въ дополненіи къ
нему совершенства другого. Особая связь вѣрующихъ
здѣсь дана какъ бы, въ самомъ Божествѣ, цменно въ той
мѣрѣ, насколько каждый отдѣльный вѣрующій преданъ
ему и въ свою очередь принятъ имъ къ себѣ.
Теперь я перехожу къ явленію самаго рѣзкаго раз-
дѣленія труда въ религіозной области, лишь направлен-
наго въ одну сторону: священству. Буддизмъ имѣетъ са-
мыя ясныя представленія о соціологическомъ проис-
хожденіи этого послѣдняго: религіозныя функціи, перво-
начально выполнявшіяся каждымъ въ отдѣльности, пе-
решли на особыхъ лицъ, которыя взялись за выполненіе
ихъ вмѣсто другихъ, подобно тому, какъ королевская
власть возникла благодаря тому, что люди, первоначаль-
но прибѣгавшіе въ случаѣ нанесенной обиды къ част-
ной мести, стали избирать изъ своей среды какое-либо
одно лицо со спеціальной цѣлью наказывать преступ-
никовъ и за это давали ему часть своего урожая. И
въ священствѣ, какъ организаціи, носящей всѣ при-
знаки раздѣленія труда, религія достигла своеобразнаго
величія, абстрактнаго синтеза формирующихъ силъ прак-
тически - соціальныхъ явленій. Въ этихъ послѣднихъ
какъ-разъ раздѣленіе труда руководится двумя моти-
вами: съ одной стороны—разнообразіемъ личныхъ да-
рованій, которыя одному даютъ возможность и побужда-
ютъ его дѣлать то, на что другой вообще не способенъ ;
съ другой, какъ выше указано,—спеціализованными ну-
ждами общества, необходимостью обмѣна, постоянно воз-
растающей конкурренціи. Первый мотивъ опредѣляетъ
раздѣленіе труда скорѣе какъ Іегпшшй а дно, второй—
какъ іегшіпий ай дпет; съ точки зрѣнія свойствъ лица
— 62 —
тотъ покоится на незамѣнимой особой сущности инди-
видовъ, этотъ исходитъ принципіально изъ сходства ихъ;
это сходство нарушается, цндивиды вызываются къ осо-
бой дѣятельности лишь благодаря требованіямъ и ука-
заніямъ цѣлей, предъявляемымъ къ нимъ со стороны
окружающихъ силъ. Въ субъектѣ раздѣленія труда со-
вершается характерный синтезъ внутренняго призванія,
проистекающаго изъ индивидуальныхъ качествъ, и на-
правленія со стороны внѣшнихъ вліяній, которыя от-
водятъ индивиду опредѣленное поле дѣятельности, хотя
бы его дарованія совсѣмъ д не опредѣлились. Обѣ эти
мотивировки, идущія съ разныхъ сторонъ, на практикѣ
часто даютъ чувствовать отсутствіе взаимной гармоніи.
То, къ чему побуждаетъ внутренній голосъ, часто иска-
жается и задерживается въ своемъ развитіи сверхлич-
ными опредѣляющими условіями и притязаніями. Чего,
наоборотъ, требуютъ отъ насъ объективныя возможности
и положенія, то часто неизмѣримо далекость нашего при-
званія, отъ того, на что мы собственно способны. Этотъ,
такъ часто неудающійся, синтезъ привелъ священство,
путемъ посвященія въ духовный санъ; къ идеальной фор-
мѣ, съ самаго начала уничтожающей дисгармонію. При
посвященіи на принимающаго духовный санъ нисходитъ
пребывающій въ мистической объективности духъ, такъ
что теперь онъ дѣлается сосудомъ этого духа или пред-
ставителемъ его. При этомъ принципіально безразлично,
какія личныя качества для этого онъ приноситъ съ
собою. Посвященіе есть то включеніе въ кругъ над-
субъективной связи, то опредѣленіе посредствомъ окру-
жающей личности потенціальной силы, которая все-же
руководитъ субъектомъ какъ бы изнутри. Тутъ нѣтъ
передачи на данную личность бремени служенія, ни на
томъ основаніи, что именно она отъ природы предназна-
чена для этого (хотя, конечно, это можетъ попутно ока-
зать свое воздѣйствіе и служитъ основой извѣстныхъ
— 63 —
отличій посвящаемыхъ), ни на томъ, что она къ этому
съ самаго начала призвана; но посвященіе создаетъ ту
особую квалификацію для требуемаго имъ, служенія какъ-
разъ потому, что оно передаетъ дары духа. Отношеніе,
выражаемое словами пословицы: на кого Богъ возла-
гаетъ санъ, тому ниспосылаетъ для него и разумъ, на-
шло свое идеальное завершеніе въ посвященіи въ ду-
ховный санъ. Ту случайность, которая даетъ раздѣленію
труда возможность существовать при наличности спе-
цифическихъ наклонностей субъекта съ одной стороны
и внѣшнихъ притязательныхъ организующихъ силъ—съ
другой,—эту случайность «разрѣшаетъ, такъ сказать, а
ргіогі посвященіе въ духовный санъ, передача даровъ
духа, тѣмъ, что сверхличная тенденція, подчиняющая
себѣ при посвященіи отдѣльное лицо и требующая отъ
него служенія ей одной, преобразовываетъ, принципіаль-
но говоря,' его существо для этого служенія и дѣлаетъ
его до нѣкоторой степени удовлетворительнымъ носи-
телемъ ея. И здѣсь также религіозная категорія пред-
ставляетъ собою, такъ сказать, идеальную картину, ула-
вливающую соціологическія формы, словно въ чистомъ,
уничтожающемъ ихъ противорѣчія и взаимное затем-
неніе зеркалѣ.
Религіозно-соціальный типъ, о которомъ и выше го-
ворилъ—полная обособленность отдѣльнаго лица, про-
тивостоящаго своему Богу и не знающаго, повидимому,
никакой дифференціаціи по той причинѣ, что каждый
желаетъ достигнуть одинаковой цѣли одинаковыми сред- -
ствами и никакое высшее единство не дѣлаетъ изъ
отдѣльныхъ лицъ особые органы,—этотъ типъ предста-
вляетъ какъ-разъ вслѣдствіе этой индивидуалистической
формы спасенія души глубоко захватывающую пробле-
му. Подъ спасеніемъ души я вовсе не понимаю лишь
загробную жизнь, но исполненіе сокровенныхъ желаній
души, достиженіе ею глубочайшаго совершенства, имѣю-
— 64 —
щаго дѣло только съ ней самой и съ ея Богомъ; на-
ходится ли душа, нашедшая свое спасеніе, въ земномъ
тѣлѣ или на томъ свѣтѣ,—это совершенно второстепен-
ный вопросъ, столь же неважный, какъ вопросъ о жи-
лищѣ, въ которомъ насъ застаютъ наши судьбы. Среди
многихъ возможныхъ значеній этого идеала одно ка-
жется мнѣ имѣющимъ особенную важность: что спасе-
ніе души есть лишь развитіе или внѣшнее осуществле-
ніе того, чѣмъ мы внутренно въ извѣстномъ смыслѣ уже
являемся. То, чѣмъ мы быть должны, уже охватываетъ въ
качествѣ .идеальной дѣйствительности дѣйствительность
реальную и несовершенную; къ душѣ ничего не надо из-
внѣ присоединять или пріобщать, она должна только сбро-
сить скорлупу, «совлечь съ себя ветхаго Адама» и обнару-
жить такимъ образомъ настоящее зерно своего существа,
которое до того грѣхъ и заблужденія сдѣлали лишь
неузнаваемымъ. Для этого идеала спасенія души, какъ
оно намѣчено въ христіанствѣ, — правда, довольно не-
полно и въ сочетаніи совершенно съ другими тенден-
ціями,—характерно то, что выработка нашей личности,
въ глубочайшей ея основѣ, это освобожденіе души
отъ всего, что не она сама, эта полная жизнь по .за-
конамъ нашего Я, означаетъ въ то же время послушаніе
Божьей волѣ. Спасеніе, которое должна обрѣсти душа
по повелѣнію своего Бога, было бы не ея собственнымъ
спасеніемъ, но безцвѣтнымъ, внутренно чуждымъ ей,
если бы оно не было заранѣе предначерчено въ ней какъ
бы невидимыми линіями, если бы она не находила его
на пути къ себѣ самой.
Такое толкованіе спасенія души, какъ освобожденія,
такъ сказать, выведенія изъ зачарованнаго состоянія
цѣнности, присущей, правда, съ самаго начала всякой
душѣ, но смѣшанной съ чуждымъ ей, нечистымъ, слу-
чайнымъ,—это толкованіе встрѣчаетъ, кажется, затруд-
неніе какъ-разъ со стороны одного основного догмата
— 65 —
христіанства: одинаковой способности всякой натуры
получить абсолютное спасеніе, которая обусловлена на-
передъ доступнымъ всякому служеніемъ. Для всѣхъ есть
мѣсто въ домѣ Божіемъ, такъ какъ самое высшее, Чего
можетъ человѣкъ достигнуть, есть въ то же время то
наименьшее, чего должно отъ него требовать и чего
поэтому принципіально никто не можетъ быть лишенъ.
Если же, далѣе, спасеніе должно представлять собою не
что иное, какъ то, что каждая душа полностью обна-
руживаетъ, самую сущность своего внутренняго бытія,
полностью растворяется въ ней, чистой картинѣ себя са-
мой, идеальная форма которой проникаетъ насквозь ея
земное несовершенство,—-какъ же безконечное разнооб-
разіе душъ по высотѣ ихъ и глубинѣ, широтѣ и узости,
ясности и темнотѣ сочетается съ одинаковымъ религіоз-
нымъ результатомъ, съ одинаковымъ достоинствомъ пе-
редъ Богомъ? Но вѣдь наше понятіе спасенія имѣетъ
своимъ субстратомъ именно самое индивидуальное, са-
мое отличительное у людей? Дѣйствительно, трудность
соединенія равенства передъ Богомъ съ неизмѣримымъ
разнообразіемъ индивидовъ привела къ тому однообра-
зію обязанностей, которое далеко раскинувшіяся обла-
сти христіанской жизни превратило въ одинъ схема-
тизмъ. Весь индивидуализмъ христіанскаго' понятія спа-
сенія оставили безъ вниманія,, какъ и то обстоятельство,
что каждый долженъ мѣрить' своей собственной мѣркой,
требуя отъ всѣхъ одинаковаго идеала, одинаковаго по-
веденія, вмѣсто того, чтобы отъ каждаго требовать, чтобы
онъ былъ самъ собой. Все для всѣхъ одинаковое есть
для личности нѣчто внѣшнее; единство, въ которомъ
обрѣтаются вѣрующіе, сходство совершенныхъ душъ, со-
стоитъ только въ томъ, что каждая отдѣльная душа дала
присущей ей идеѣ пробиться сквозь всю свою внѣшнюю
оболочку: при этомъ пусть содержаніе различныхъ
душъ будетъ между собою столь же различно, какъ
5
— 66 —
міры другъ съ другомъ. Іисусъ показываетъ во многихъ
мѣстахъ, насколько онъ умѣлъ цѣнить разнообразіе че-
ловѣческихъ дарованій, но въ то же время показываетъ
также, какъ мало это должно измѣнятъ одинаковость
конечнаго итога жизни.
Такое понятіе о спасеніи указываетъ на безконечное
разнообразіе религіозныхъ характеровъ, на религіозную
дифференціацію, которая, конечно, не представляетъ со-
бою никакого раздѣленія труда, такъ какъ вѣдь ка-
ждый индивидъ можетъ пріобрѣсти для себя одного все
спасеніе, хотя и особымъ путемъ. Но остается его об-
ращенный внутрь смыслъ: обособленность существо-
ванія, чувство, что данный человѣкъ призванъ къ лич-
ной дѣятельности и стоитъ словно на приготовленномъ
для него мѣстѣ. Здѣсь обнаруживается, наконецъ, опять,
какъ религіозное бытіе принимаетъ формы соціальнаго
и, такъ сказать, стилизуетъ ихъ. Это основныя ка-
тегоріи нашей души, пріобрѣтающія жизнь на почвѣ
то практически-соціальнаго, то религіознаго своего со-
держанія. Но послѣднее, менѣе захваченное въ круго-
воротъ случайностей и разнородныхъ интересовъ, до-
полняющее фрагментарное практическихъ рядовъ идеей
абсолютнаго, даетъ, кажется, болѣе чистое, болѣе цѣль-
ное изображеніе неуловимой самой по себѣ основной кате-
горіи, такъ что религіозная форма какого-либо отноше-
нія или событія является проясненной картиной его со-
ціальной формы, очищенной отъ ея путаницы и ея мут-
наго рудиментарнаго существа. Точно также и искус-
ство претендовали опредѣлить какъ непосредственное'
олицетвореніе идеальныхъ первичныхъ образовъ бытія,
въ то время какъ въ дѣйствительности оно есть лишь
особая форма, въ которой послѣдніе реализуются иа-ря-
ду съ другими формами эмпирическаго существованія;
только извѣстные способы передачи такихъ первичныхъ
образовъ обладаютъ, повидимому, внутреннею чистотою
— 67 —
и совершенствомъ, благодаря которымъ они кажутся
намъ точными копіями бытія, но таковымъ они явля-
ются, конечно, такъ же мало, какъ и иного рода вопло-
щенныя въ дѣйствительности идеи. Но что дѣлаетъ ре-
лигію способной представить раздѣльное существованіе
людей, параллельное существованіе ихъ разновидностей
въ одномъ царствѣ совершенства, такъ это—отсутствіе
мотивовъ соревнованія. Вѣдь въ предѣлахъ соціальнаго
существованія послѣдняя вызываетъ, правда, дифферен-
ціацію индивидовъ и можетъ привести ихъ къ удиви-
тельному развитію и тѣсному взаимодѣйствію; но кон-
курренція не имѣетъ, такъ сказать, никакого интереса
удерживать- ихъ на этой высотѣ, а увлекая ихъ съ тѣми
же силами все дальше и дальше, она доводитъ, на-
конецъ, индивидуализацію до вредной односторонности и
дисгармоничной монотонности. Конечная цѣль, которую
имѣютъ въ виду религіозныя стремленія, какъ и та,
къ которой направлена всякая земная соціальная дѣя-
тельность, отличаются именно тѣмъ, что первой не нуж-
но отталкивать никого изъ своихъ соискателей потому
лишь, что она есть достояніе другого ; поэтому ей, въ
противоположность конкурренціи, не продиктована не-
обходимость гнать развитіе индивидуальныхъ особенно-
стей за тотъ крайній предѣлъ, который указанъ одними
нуждами и идеалами этихъ особей. Гдѣ индивидуальная
дифференціація выступаетъ въ этомъ религіозномъ смыс-
лѣ, тамъ она является вслѣдствіе этого не столь рѣзкой
и чрезмѣрной, какъ это случается часто съ соціальной
дифференціаціей, но именно поэтому-то она и есть ея
болѣе чистое и болѣе совершенное отраженіе.
5
ГЛАВА V.
Если съ точки зрѣнія «царства Божія» дифференціація
душъ есть все-же просто форма, въ которой онѣ сли-
ваются въ единствѣ этого царства, есть извѣстная фор-
ма, въ которой, такъ сказать, элементы высшаго порядка
срастаются въ это единство, то въ такомъ случаѣ Богъ,
наконецъ, есть просто единство бытія. Къ пространствен-
но очевидному, равно какъ и къ многообразію въ пси-
хической сферѣ, у него какъ-разъ это, не передаваемое
никакимъ другимъ выраженіемъ, отношеніе. Но како-
во содержаніе этого понятія? Оно можетъ быть пан-
теистическимъ, согласно которому Богъ совпадаетъ съ
существующимъ .въ дѣйствительности міромъ. Песчин-
ка, какъ и человѣческое сердце, солнце, какъ и цвѣ-
точный бутонъ, раскрывающійся пбДъ его лучами,—они
въ равной мѣрѣ и съ равнымъ правомъ—частицы или
явленія, излученія или образы божескаго бытія; то об-
стоятельство, что послѣднее живетъ въ нихъ, выража-
ло бы уже нѣкоторую раздѣльность, заставляло бы пред-
полагать самостоятельность внѣшней оболочки, которая
не являлась бы Богомъ. Наоборотъ, каждая частица бы-
тія есть Богъ, и поэтому каждая частица эта тожествен-
на по своей,истинной сущности со всякой другой. Пан-
теизмъ уничтожа'еть разрозненность вещей, какъ онъ
же уничтожаетъ самостоятельность ихъ существованія.
— 69.—
О взаимодѣйствіи ихъ здѣсь больше не можетъ быть
рѣчи. Метафизическое единство ихъ существа — непо-
средственное единство, но не единство организма или
общества, члены которыхъ обладаютъ имъ въ резуль-
татѣ обмѣна ихъ энергій. Но этотъ Богъ пантеизма не
есть Богъ религіи, ему недостаетъ того объекта, въ
которомъ человѣкъ нуждается для опредѣленія своего
религіознаго настроенія. Любовь и отчужденность, пре-
данность и забвеніе Бога, близость или отдаленность
отношенія, каковую возможность заключаетъ въ себѣ
вся внутренняя жизнь религіи, отпадаетъ прочь, какъ
скоро каждая точка или каждый моментъ бытія все-
цѣло и абсолютно включенъ въ божеское единство. Та-
кимъ образомъ, это послѣднее, насколько оно предметъ
религіи, должно имѣть другой смыслъ. Оно не можетъ
быть непосредственно тѣмъ же, чѣмъ является мате-
ріальная дѣйствительность міра. Но кромѣ этого по-
нятія единства, которое уничтожаете всѣ дифференціа-
ціи бытія, которое отождествляетъ всѣ эти дифферен-
ціаціи другъ съ другомъ, именно тѣмъ, что отожде-
ствляетъ ихъ съ Богомъ, имѣется еще только одно:
то единство, о которомъ упомянуто ранѣе: единство
взаимодѣйствія. Вотъ это-то мы и называемъ суще-
ствомъ, элементы котораго держатся Другъ за друга
благодаря свойственнымъ имъ взаимодѣйствующимъ си-
ламъ и гдѣ судьба каждаго въ отдѣльности связана
съ судьбою каждаго другого. Исключительно съ этимъ
единствомъ связано въ нашей мысли представленіе о
мірѣ какъ о цѣломъ,—если только онъ не истолковы-
вается пантеистически,—единство, которое символически
и приблизительно обнаруживается въ организмѣ и въ
соціальной группѣ. Итакъ, если представлять себѣ Бога
какъ единство бытія, онъ не можетъ быть нечѣмъ инымъ,
какъ только носителемъ этой связи, какъ совокупностью
взаимоотношеній вещей, изъ которыхъ онъ какъ бы вы-
— 70 —
кристаллизованъ въ особое существо, въ ту точку, въ
которой сходятся всѣ лучи бытія, черезъ которую про-
ходятъ всѣ соотношенія обмѣна силъ и вещей. Богъ,
какъ единство, только въ такомъ смыслѣ послѣдняго
можетъ быть предметомъ религіи, потому что лишь такъ
онъ противопоставленъ индивиду, стоитъ внѣ индивида,
какъ такового, возносится далеко выше его. Этого Бога
высшей стадіи религіознаго развитія предвосхищаютъ
боги, являющіеся для насъ представительствомъ груп-
повыхъ силъ, даже тогда, когда они политеистически
охватываютъ собою, каждый, лишь отдѣльныя сферы
интересовъ. Внѣ христіанства боги являются если не
исключительно, то все-же отчасти или въ извѣстномъ
отнощеніи трансцендентными выраженіями группового
единства, и притомъ именно единства въ смыслѣ объ-
единенія общественной группы. Конечно, это единство
не принадлежитъ къ числу совершенно просто поддаю-
щихся анализу категорій; оно относится къ той же
категоріи, какъ и слова короля: Государство—это я.
Вѣдь и послѣднее выраженіе не можетъ обозначать
какъ бы пантеистическое тождество, но лишь то, что
силы, образующія государство, т.-е. слагающія его ма-
теріальныя условія въ свойственную ему его форму,
имѣютъ своимъ центромъ короля,—сказать иначе: лич-
ность короля отражаетъ или олицетворяетъ цѣликомъ
Динамическое единство государства. Процессъ мышле-
нія, путемъ котораго Богъ становится единствомъ ве-
щей, тотъ же, въ силу котораго его обозначаютъ просто
«любовь», «доброта», «сама справедливость» и которымъ
дополняется ранѣе затронутое истолкованіе этого терми-
на. Именемъ Бога мы обозначаемъ скорѣе сами эти ка-
чества, чѣмъ обладателя ихъ. Набожное настроеніе
склонно къ тому, чтобы продвинутъ свои предметы, въ
которыхъ оно выкристаллизовалось изъ всякой эмпири-
ческой 'относительности и ограниченности въ абсолютное,
— 71 —
такъ какъ лишь такимъ образомъ они отвѣчаютъ всей
шири и абсолютной полнотѣ, съ которыми религіозный
экстазъ проникаетъ въ самую глубину души. Всякая же
опредѣленность, мысленно доведенная до абсолютнаго со-
вершенства, поглощаетъ въ нѣкоторомъ родѣ своего но-
сителя, ничего не оставляетъ болѣе отъ того бытія, къ
которому она первоначально лишь прикоснулась. Какъ
человѣкъ, испытывающій большое и по ощущенію без-
граничное страданіе, выражается о своемъ состояніи,
какъ-будто юнъ самъ весь одно сплошное страданіе;
все равно какъ о человѣкѣ, вполнѣ подпавшемъ вліянію
страсти, говорятъ, что онъ вообще одна сплошная
страсть,—такъ и Богъ, насколько ему приписывается
какое-либо качество въ абсолютной мѣрѣ, является
этимъ качествомъ какъ бы въ субстанціи. Или наобо-
ротъ: эти опредѣленные феномены, мыслимые въ ихъ
абсолютной чистотѣ, являются Богомъ, какъ они же
по относительной мѣркѣ и въ связи съ другими суть
эмпирическія явленія. Такимъ образомъ Представле-
ніе о мірѣ какъ единствѣ,—къ доступнымъ намъ яв-
леніямъ это всегда приложимо только въ очень не-
совершенной и фрагментарной степени,—берется въ сво-
ей абсолютности, и такъ какъ оно, какъ нѣчто безуслов-
ное, ничего не имѣетъ на-ряду съ собою, оно есть то
самодовлѣющее бытіе, которое мы и называемъ Богомъ:
только ограниченное и условное требуетъ носителя, ко-
торый, кромѣ этой своей функціи, былъ бы еще чѣмъ-
либо, былъ бы бытіемъ; безусловное, свободное отъ вся-
кихъ ограниченій, сбрасываетъ эти оковы. Смотря по
матеріалу, на которомъ сосредоточивается набожное,
стремящееся къ единству абсолютнаго настроеніе, Богъ
можетъ быть единствомъ вселенной или единствомъ
опредѣленнаго ряда явленій физической природы, или
единствомъ группы; соціологическія взаимодѣйствія
послѣдней даютъ толчокъ къ образованію вышеуказан-
— 72 —
наго трансцендентнаго понятія единства въ такой же
мѣрѣ, какъ въ первомъ случаѣ чувство» мистической
связанности всего» бытія, во второмъ сходство родствен-
ныхъ между собою явленій. Съ точки зрѣнія религіоз-
ной культуры христіанства такое происхожденіе пред-
ставленій о Богѣ, въ которомъ божество выступаетъ
какъ доведенное до абсолюта соціологическое единство,
можетъ показаться узкимъ и страннымъ; здѣсь боже-
ство, съ одной стороны, есть божество всего бытія, въ
особенности всего душевнаго' міра вообще, и та раз-
дѣльность, которую несетъ съ собою существо соціаль-
ной группы, въ отношеніи къ божеству шатко и мало-
важно; она, глядя по смыслу, придаваемому этому бо-
жеству, прямо-таки антагонистична и предназначена
раствориться во всеобъемлющемъ понятіи человѣчества ;
съ другой стороны, Богъ христіанъ есть Богъ индивида,
линія, которая восходитъ отъ послѣдняго» прямо къ пер-
вому, не расширяясь по пути до предѣловъ промежу-
точной инстанціи, группы; отдѣльный человѣкъ самъ
несетъ за себя полную отвѣтственность передъ своимъ
Богомъ. Чисто соціологическое посредничество для хри-
стіанской идеи Бога слишкомъ узко и слишкомъ рас-
пространительно. Но древній и варварскій міръ пони-
маютъ это совершенно по-другому. Богъ каждой замкну-
той группы есть именно ея богъ, который о ней пе-
чется или ее наказываетъ, рядомъ съ которымъ боги
другихъ группъ признаются такими же реальными бо-
гами. Отдѣльная группа не только не требуетъ того,
чтобы ея Богъ сталъ также богомъ для другихъ группъ,
но она въ большинствѣ случаевъ энергично отклони-
ла бы это притязаніе, какъ умаленіе ея религіознаго
богатства съ практическими его послѣдствіями. Ревни-
вое отношеніе къ политически строго ограниченному
богу, котораго настолько же мало хотятъ уступить дру-
гому племени, какъ и могущественнаго вождя иди чу-
— 73 —
дотворца-кудесника, представляетъ собою положитель-
ную тенденцію или преувеличенное выраженіе той тер-
пимости, которая въ принципѣ свойственна всѣмъ пар-
тикуляристическимъ религіямъ. Какъ только Богъ всту-
паетъ къ опредѣленному кругу вѣрующихъ въ отно-
шеніе, исключающее всѣ другіе этого рода круги, чув-
ство религіозности должно признать, что имѣются боги
на-ряду съ его богомъ—боги этихъ другихъ. Вѣрующіе
въ одного бога не должны, правда, считаться съ иными
богами кромѣ него,—не потому, что они вообще не су-
ществуютъ, но, выражаясь нѣсколько парадоксально,
какъ-разъ потому, что они существуютъ,—въ против-
номъ случаѣ опасность не была бы такъ велика,—но,
конечно, для данной группы они являются не истин-
ными, не настоящими богами. Это запрещеніе точь-въ-
точь того же ранга, какъ и любой политическій за-
претъ—не переходить въ другую группу и ни подъ
какимъ условіемъ не расторгать связи съ даннымъ со-
ціальнымъ единствомъ. Даже брамины со своей пантеи-
стически окрашенной религіей выказываютъ эту терпи-
мость, являющуюся пополненіемъ ихъ партикуляриз-
ма : на нѣкоторыя возраженія противъ ихъ религіи хри-
стіанскихъ миссіонеровъ они отвѣчали, что, дѣйстви-
тельно, она оказывается подходящей не для всѣхъ на-
родовъ; но для нихъ-де она—настоящая религія. Въ
отношеніи этой—всегда партикулярной — солидарности
Бога съ соціальнымъ единствомъ христіанство совер-
шило великую революцію, состоявшую въ отрицаніи имъ
другихъ боговъ, кромѣ своего, не только для себя, но
и для всего міра вообще. Его Богъ есть не только богъ
вѣрующихъ въ него, но бытія вообіце. Христіанство
чуждо, такимъ образомъ, не только вышеуказанной ис-
ключительности и ревностнаго отношенія къ собствен-
ному, богу, но, наоборотъ, оно должно послѣдователь-
нымъ образомъ стараться о признаніи его Бога всякой
— 74 —
душой вообще, такъ какъ онъ вѣдь и безъ того Богъ
этой души, и тѣмъ, что душа стала христіанской, толь-
ко нашелъ себѣ подтвержденіе уже существующій
фактъ. Выраженіе «кто не со мною, тотъ противъ меня»
есть одно изъ величайшихъ историческихъ выраженій
въ религіозной соціологіи. Кто вѣритъ въ Бодана и
Витцлидутцли *), тотъ изъ-за этого никоимъ образомъ
не «противъ» Зевса или Ваала: до каждаго бога дѣло
только вѣрующимъ въ него, каждой общиной интере-
суется только ея богъ и, такимъ образомъ, ни одинъ
не претендуетъ быть почитаемымъ въ сферѣ другого.
Только христіанскій Богъ простираетъ свою десницу на
тѣхъ, кто вѣритъ въ него, и на тѣхъ, кто въ него не
вѣритъ. Изо всѣхъ силъ жизни онъ первый нарушаетъ
исключительность соціальной группы, которая до тѣхъ
поръ всѣ интересы своихъ особей сконцентрировала въ
единствѣ мѣста и времени. Поэтому должно явиться
полнымъ противорѣчій отношеніе къ нему, равнодушно
стоящее рядомъ съ отношеніемъ другихъ людей къ дру-
гимъ богамъ. Послѣднее—.скорѣе положительное нару-
шеніе идеальнаго притязанія, вызваннаго тѣмъ, что онъ
абсолютенъ, какъ вседержитель; вѣрить въ другихъ бо-
говъ означаетъ: возстать противъ него, который вѣдь
въ дѣйствительности есть также богъ и этого невѣрую-
щаго. Для христіанства терпимость настолько же ло-
гически противо-рѣчива, насколько нетерпимость для
партикуляристичѳскихъ религій. По отношенію къ бо-
гамъ, въ которыхъ воплощается единство соціальной
группы, вообще не можетъ возникнуть эта1 мысль. Богъ
какого-либо племени негровъ такъ же мало можетъ
быть богомъ китайцевъ, какъ родители негра могли бы
быть родителями китайца; настолько же мало, насколь-
*) Богъ-воитель, мститель и покровитель у древнихъ мексиканцевъ.
Прим. перев.
— 75 —
ко сущность государственнаго строя одной замкнутой
группы могла бы быть таковой для государственнаго
строя другой замкнутой группы.
Теперь предположимъ, что создавшееся такимъ со-
ціологическимъ путемъ единство Божескаго естества
есть преддверіе его абсолютнаго единства, достигнутаго
въ христіанствѣ. Въ такомъ случаѣ этотъ путъ раз-
витія принадлежитъ къ ряду именно тѣхъ, которые,
достигнувъ своей конечной стадіи, вмѣстѣ съ тѣмъ вы-
ступаютъ какъ абсолютная противоположность харак-
теру всѣхъ ведущихъ къ нему явленій. Главенствую-
щее единство христіанскаго Бога разрушаетъ тѣ соціо-
логическія рамки, въ которыхъ идея единства впервые
могла возникнуть. Переходъ земныхъ относительныхъ
явленій въ область трансцендентнаго абсолюта заста-
вляетъ часто качество ихъ содержимаго превратиться
въ его противоположность. Такъ, религіозные аффек-
ты по существу своему связаны съ тѣмъ, что вѣрующій
чувствуетъ себя противопоставленнымъ своему
Богу: любовь и смиреніе, милость и отверженіе, молитва
и послушаніе требуютъ себѣ, какъ уже было доказано
въ другомъ мѣстѣ, объекта, и какъ бы это, повидимому,
ни погасало въ религіозномъ экстазѣ, то все-же и онъ
въ дѣйствительности есть только колебаніе отъ невы-
носимаго состоянія полной обособленности до невозмож-
ности полнаго единенія. И все-таки понятіе Бога какъ
абсолютной субстанціи и силы Бытія клонитъ къ пан-
теистическому послѣдствію, которое начисто уничто-
жаетъ всякую самостоятельность индивидуальныхъ су-
ществованій, и чѣмъ болѣе душа устремляется къ не-
разрывному единству съ Богомъ, тѣмъ просторнѣе, глуб-
же, счастливѣе чувствуетъ она себя. Если же душа
дѣйствительно вся въ немъ растворилась бы, если бы
она могла погаснуть, безраздѣльно слившись съ нимъ,
то она очутилась бы въ пустотѣ. Вѣдь разъ все рели-
— 76 —
гіозное ощущеніе связано съ этимъ объектомъ, умале-
ніе послѣдняго можетъ, правда, и увеличивать счастье
и силы перваго, но съ абсолютнымъ исчезновеніемъ
этого объекта весь доступный нашему пониманію смыслъ
и содержаніе религіозности превратились бы въ ничто.
Такимъ образомъ, выросшее на соціологической почвѣ
предстаівленіе о Богѣ идетъ въ высь, дѣлаетъ все бо-
лѣе грандіознымъ его существо. Но какъ только этотъ
процессъ въ образѣ абсолютнаго христіанскаго Бога до-
стигъ цвоего завершенія, содержаніе его превращается
'въ ту противоположность соціологическаго характера,
съ исключительностью которой Богъ былъ первоначаль-
но связанъ.
А что групповое единство вообще склонно облекать-
ся въ трансцендентную форму и надѣлять себя цѣн-
ностями религіознаго чувства, такъ это, возможно, за-
виситъ отъ того, что этотъ синтезъ особей въ высшей
формѣ группового единства отдѣльному лицу будетъ
представляться довольно часто съ большей или мень-
шей ясностью или же нѣсколько смутно, чѣмъ-то въ
родѣ чуда. Въ этой связи личное существованіе чув-
ствуетъ себя впутаннымъ въ игру непреодолимыхъ силъ
и охваченнымъ сцѣпленіемъ энергетическихъ силъ, ко-
торое вообще, кажется, необъяснимымъ на основаніи его
отдѣльныхъ элементовъ и превосходитъ каждый изъ
нихъ совершенно необозримой—во времени и динами-
чески—величиной. Право и обычай, языкъ и традиціи,
то цѣлое, чему дано имя объективированнаго духа, ле-
житъ передъ индивидомъ, какъ огромный вкладъ, въ
которомъ нельзя распознать долю отдѣльнаго, лица; по-
этому и кажется, что онъ получился не изъ вкладовъ
отдѣльныхъ лицъ, но является созданіемъ того зага-
дочнаго единства, которое поверхъ суммы отдѣльныхъ
лицъ живетъ продуктивной жизнью по собственнымъ
сверхъиндивидуальнымъ нормамъ. Какъ въ отношеніи
— 77 —
къ природѣ, такъ іг здѣсь брошенное на произволъ судь-
бы на практикѣ и необъяснимое въ теоріи—вотъ что
вызываетъ религіозную реакцію. И притомъ это свя-
зано, видимо, не съ группой, какъ съ суммой сосуще-
ствующихъ людей, которая въ. своей осязаемости и не-
посредственности не обладаетъ ничѣмъ загадочнымъ и
сама по себѣ сохранила бы уму эмпирическую почву,
но связано съ тѣмъ фактомъ, что эта сумма больше,
чѣмъ сумма; что она развиваетъ силы, несвойственныя
отдѣльнымъ лицамъ, какъ таковымъ; что изъ этихъ
единствъ произрастаетъ высшее единство. Принадлеж-
ность Бога къ группѣ; исповѣданіе религіи, какъ дѣло
всѣхъ вмѣстѣ; искупленіе группой религіозныхъ пре-
грѣшеній отдѣльнаго члена ея и круговая отвѣтствен-
ность группы передъ Богомъ за таковые грѣхи,—всѣ
эти типичные факты показываютъ, что Божество есть
какъ бы трансцендентное мѣсто групповыхъ силъ; что
проявляющіяся въ области дѣйствительности между
групповыми элементами взаимодѣйствія, которыя со-
здаютъ ихъ единство' въ функціональномъ смыслѣ, стали
въ Богѣ самостоятельной сущностью; динамика груп-
повой жизни поверхъ ея матеріальныхъ единицъ и но-
сителей въ подъемѣ религіознаго настроенія перенесена
въ трансцендентную сферу и выступаетъ оттуда про-
тивъ отдѣльныхъ частностей, какъ абсолютъ противъ
относительнаго. Старое представленіе, что Богъ есть
абсолютъ, въ то время какъ все человѣческое относи-
тельно, получаетъ здѣсь новый смыслъ; отношенія
между людьми въ представленіи о Божествѣ пріобрѣ-
таютъ свое существенное и идеальное выраженіе.
Только-что законченныя изслѣдованія легко подвер-
жены недорайумѣніямъ, происходящимъ отъ смѣшенія
философскаго смысла вещей съ ихъ происхожденіемъ,
ихъ историческаго развитія съ ихъ объективной исти-
ной, ихъ логическаго содержанія съ ихъ психологиче-
— 78 —
сжимъ значеніемъ. Если поэтому нѣкоторые виды от-
ношеній человѣка къ окружающей его соціальной об-
становкѣ и къ его богу представлялись лишь различ-
ными по содержанію выраженіями все одной и той же
основной категоріи человѣческой души, то это озна-
чаетъ не временное отношеніе, въ которомъ одна и та
же душевная функція превращалась въ эти различные
образы. Каждый изъ послѣднихъ есть скорѣе цѣль-
ное явленіе, которое мы только сообразно со складомъ
нашего пониманія, нашего ума расщепляемъ на форму
и содержаніе. Ихъ внутреннюю, отъ ихъ исторической
случайности независимую структуру мы должны истол-
ковывать сообразно съ тѣмъ отношеніемъ, которое во-
обще ощущается нами между внутренней активностью
души и тѣми обстоятельствами, при которыхъ она жи-
ветъ. Эта структура вырастаетъ для насъ въ протекаю-
щемъ внѣ времени, выражающемъ только ея смыслъ,
процессѣ: она вырастаетъ изъ формальнаго, такъ ска-
зать, ритма, изъ основного вида движенія нашей души
и изъ реальныхъ или идеальныхъ, эмпирическихъ или
метафизическихъ отдѣльныхъ содержаній жизни; при
нихъ-то и получаютъ свое болѣе или менѣе ясное или
затемненное, болѣе или менѣе чистое или отвлеченное
выраженіе тѣ вышеупомянутыя, непосредственно не
схватываемыя основныя тенденціи. Если теперь ряды
соціологическихъ и религіозныхъ явленій, съ точки
зрѣнія ихъ психологическаго смысла, часто указываютъ
на такіе общіе жизненные корни, то подобныя этому
явленія возникаютъ въ области историко-психологиче-
ской дѣйствительности; языкомъ смертныхъ людей и
посредствомъ осязательныхъ силъ послѣдняя выражаетъ
именно то же самое, но неизбѣжнымъ образомъ фраг-
ментарно, а также перебиваемая и отклоняемая въ сто-
рону случайностями исторической дѣйствительности.
Таковы тѣ безчисленные, на этихъ листахъ охарактери-
— 79 —
зованные лишь нѣсколькими примѣрами случаи, гдѣ
структура соціальной группы опредѣляетъ представле-
нія! о божескихъ естествахъ, гдѣ' въ отношеніяхъ людей
другъ къ другу развиваются чувства и тенденціи, ко-
торыя психологически усиливаются до абсолюта и какъ
бы гигантскими буквами рисуются на небѣ.
И вотъ возникаютъ два идущихъ по двумъ направле-
ніямъ отношенія. Съ одной стороны общественныя фор-
мы жизни являются источниками жизни религіозной,
содѣйствуя этимъ самымъ тому методу познанія послѣд-
ней, который я за его исторически испытанную дѣй-
ствительность считаю единственно успѣшнымъ: без-
условно, религія по своему происхожденію отнюдь не
простѣйшая форма, но какой бы законченной и единой
она ни выступала на высотѣ своего развитія, все-таки
она вылилась изъ безчисленныхъ мотивовъ; ни одинъ
изъ нихъ не былъ самъ по себѣ религіей, но онъ сталъ
ею, поднявшись за предѣлы своей первоначальной сфе-
ры, причемъ онъ и далъ въ связи съ другими ту но-
вую форму, которую нельзя вывести ни изъ одного изъ
нихъ, порознь взятаго. Много основаній говоритъ за
то, что всякой точкѣ во всемъ кругѣ душевныхъ им-
пульсовъ-приписывалось значеніе «источника» религіи :
страхъ, какъ и любсвь, почитаніе предковъ и само-
обожаніе, моральныя побужденія и чувство зависимо-
сти—совершенно ошибочна каждая изъ этихъ теорій
лишь въ своемъ безусловномъ утвержденіи, что она
показала источникъ религіи, но права въ своемъ ука-
заніи одного изъ источниковъ этой послѣдней. То об-
стоятельство, что мы въ различныхъ отношеніяхъ и ин-
тересахъ, стоящихъ до ту или скорѣе по сю сторону
отъ религіи, открываемъ извѣстные религіозные момен-
ты, точки сопрйкосновенія съ тѣмъ, что въ качествѣ
«религіи» пріобрѣло самостоятельность и замкнутость,
можетъ лишь содѣйствовать проникновенію въ корень
— 80 —
и Суть религіи. Я не думаю, чтобы религіозные чувства
и импульсы сказывались только въ религіи; скорѣе
они встрѣчаются въ многообразныхъ -сочетаніяхъ, какъ
сопровождающій во многихъ случаяхъ элементъ, въ
результатѣ накопленія и изолированія котораго и ока-
зывается религія, какъ самостоятельное содержаніе жиз-
ни, какъ строжайше отмежевавшаяся область, однако
достигающая этой высоты лишь въ томъ случаѣ, если
ея психологическіе основные мотивы прошли сначала
черезъ другія формы—соціальныя, интеллектуальныя,
эстетическія. И, наконецъ, съ другой стороны, мы на-
блюдали, что развитые религіозные интересы выступа-
ютъ въ соціологическихъ формахъ, что эти послѣднія
являются тѣлесной оболочкой для внутренней сущности
обрядовыхъ отношеній, тѣмъ параллельнымъ русломъ,
по которому отвѣтвляется религіозное единство.
Отъ указанныхъ мотивовъ историческихъ видоизмѣ-
неній религіозной сущности слѣдуетъ опять-таки стро-
жайшимъ образомъ отдѣлить снова вопросъ объ объек-
тивной истинѣ ея мѣняющагося содержанія. Если воз-
никновеніе религіи, какъ событія въ жизни человѣка,
удается понять изъ внутреннихъ условій этой же имен-
но жизни, то далеко еще не затрогивается этимъ про-
блема, содержитъ ли матеріальная, лежащая внѣ че-
ловѣческаго мышленія дѣйствительность подобіе и под-
твержденіе этой психической дѣйствительности, или
нѣтъ,—проблема, которая, повидимому, лежитъ въ со-
вершенно другой плоскости, чѣмъ поставленная здѣсь
задача. Но не только значеніе религіи въ царствѣ объ-
ективнаго, но и значеніе ея въ царствѣ субъективнаго,
значеніе религіозныхъ чувствъ, т.-е. отражающееся до
глубины души дѣйствіе представленій о Божественномъ,
совершенно Независимо отъ всякихъ предположеній о
способѣ возникновенія этихъ представленій. Это есть
камень преткновенія для всякаго историко-психологи-
- 81 -
ческаго выведенія идеальныхъ цѣнностей. Обширные
крути все еще испытываютъ ощущеніе, будто прелесть
идеала развѣнчана, достоинство чувства принижено,
если возникновеніе его не является болѣе непонятнымъ
чудомъ, твореніемъ изъ ничего, — какъ - будто понятъ
возникновеніе значитъ поставить подъ вопросъ цѣн-
ность возникшаго, какъ-будто низкій уровень исход-
наго пункта принизилъ бы достигнутую высоту цѣли,
какъ-будто лишь лишенная прелести простота отдѣль-
ныхъ элементовъ разрушала бы значительность продук-
та, состоящую во взаимодѣйствіи, формировкѣ и спле-
теніи этихъ элементовъ. Это какъ-разъ тотъ недалекій
и сбивчивый взглядъ, согласно которому человѣческое
достоинство поругано, если вести происхожденіе чело-
вѣка 'отъ низшей породы животныхъ; какъ-будто это
достоинство не покоится на томъ, чѣмъ онъ является
въ дѣйствительности, все равно къ какому бы началу
онъ ни восходилъ! Это то же мнѣніе, которое всегда
будетъ противиться тому, чтобы получить понятіе о
религіи на основаніи элементовъ, которые сами по себѣ
еще не религія. Но какъ-разъ этому взгляду, полагаю-
щему, что онъ поддерживаетъ достоинство религіи, от-
клоняя ея историко - психологическое происхожденіе,
можно будетъ поставить въ укоръ слабость религіоз-
наго сознанія. Незначительны, стало быть, внутренняя
крѣпость и глубина чувствъ въ этомъ религіозномъ со-
знаніи, если оно въ познаніи процесса своего возник-
новенія усматриваетъ для себя опасность, если можетъ
считать себя даже задѣтымъ за живое этимъ вопросомъ
о своемъ возникновеніи. Вѣдь подобно тому, какъ на-
стоящая и глубочайшая любовь къ человѣку не ко-
леблется, когда прояснятся причины ея возникновенія,
но прямо обнаруживаетъ свою торжествующую силу въ
томъ, что переживаетъ безъ всякаго ущерба отпаденіе
всѣхъ тѣхъ, когЖ-то игравшихъ роль, причинъ ея воз-
6
— 82 —
никновенія,—такъ вся сила субъективнаго религіознаго
чувства обнаруживается лишь въ той увѣренности, съ
какой оно покоится само въ себѣ и ставитъ свою глу-
бину и искренность совершенно по ту сторону всякихъ
источниковъ, къ которымъ могло бы привести его по-
знаніе.