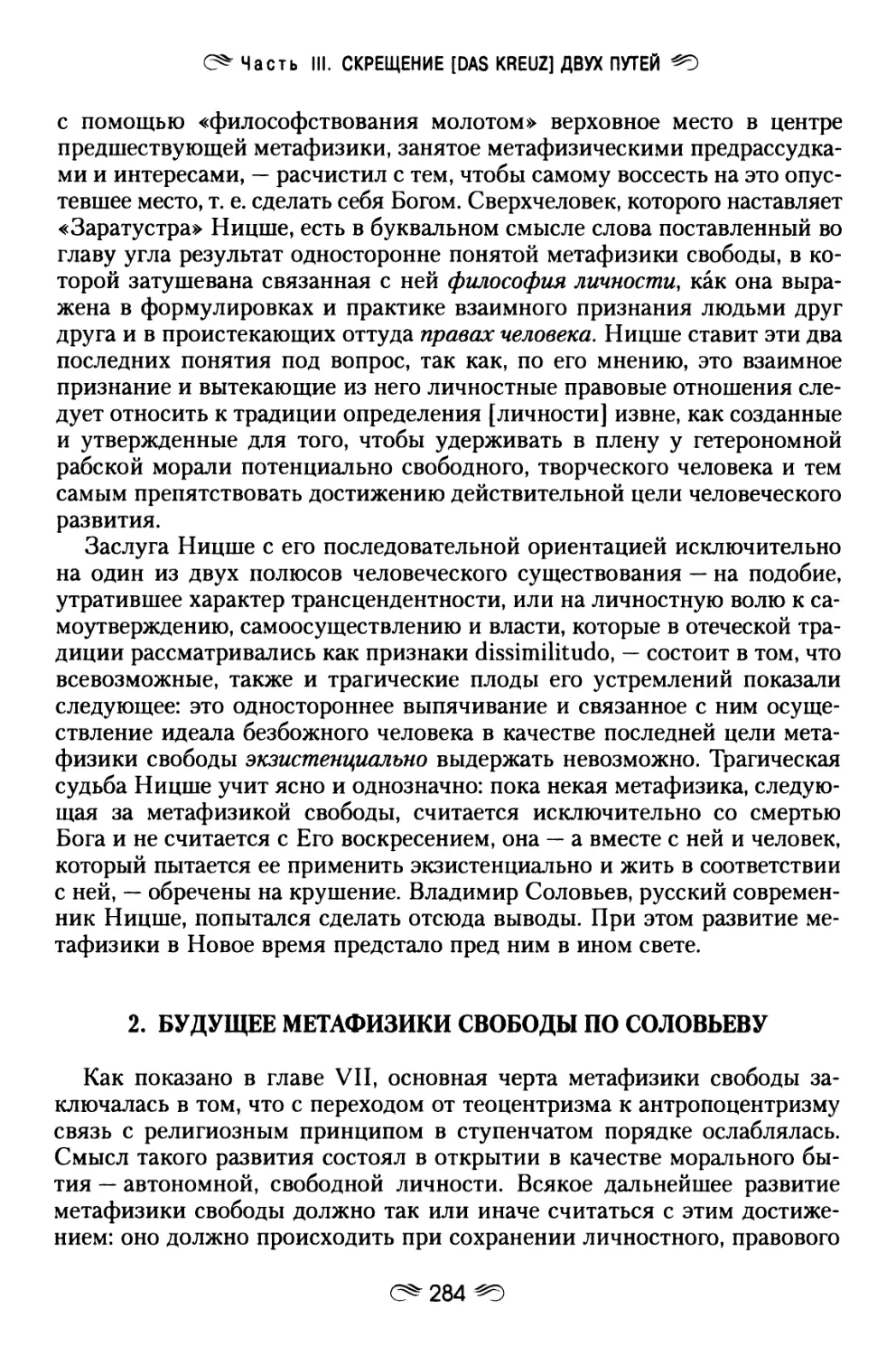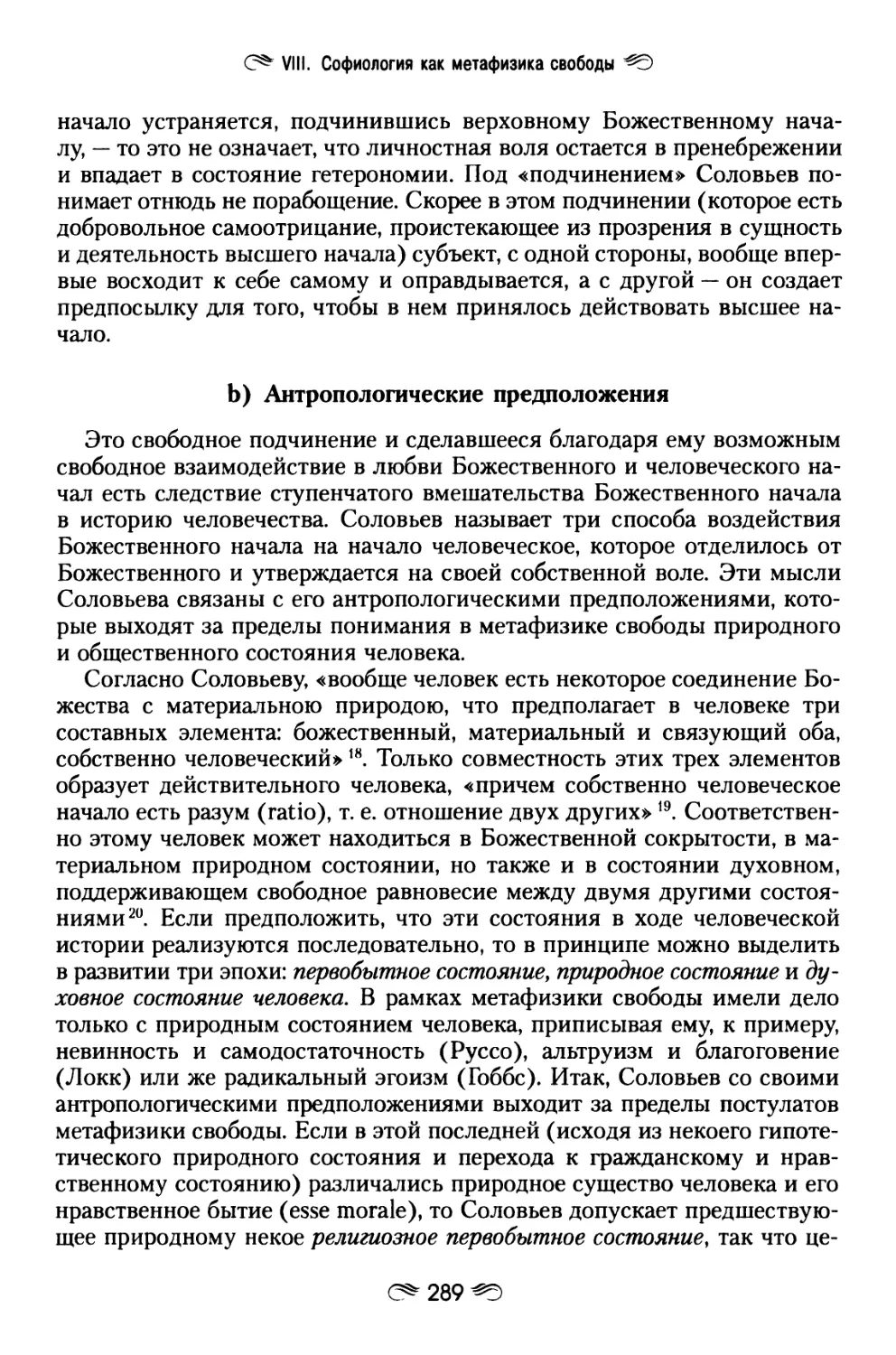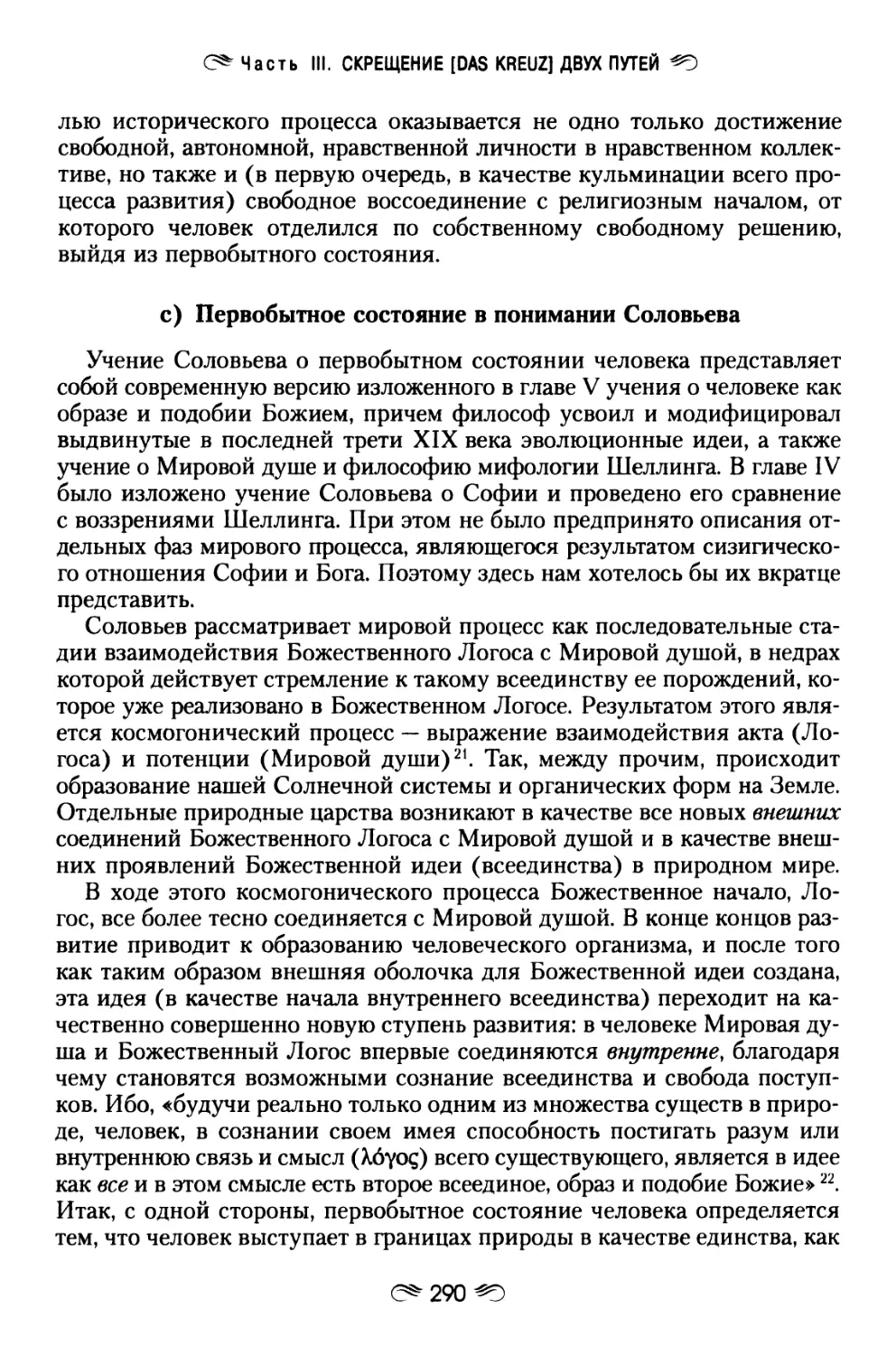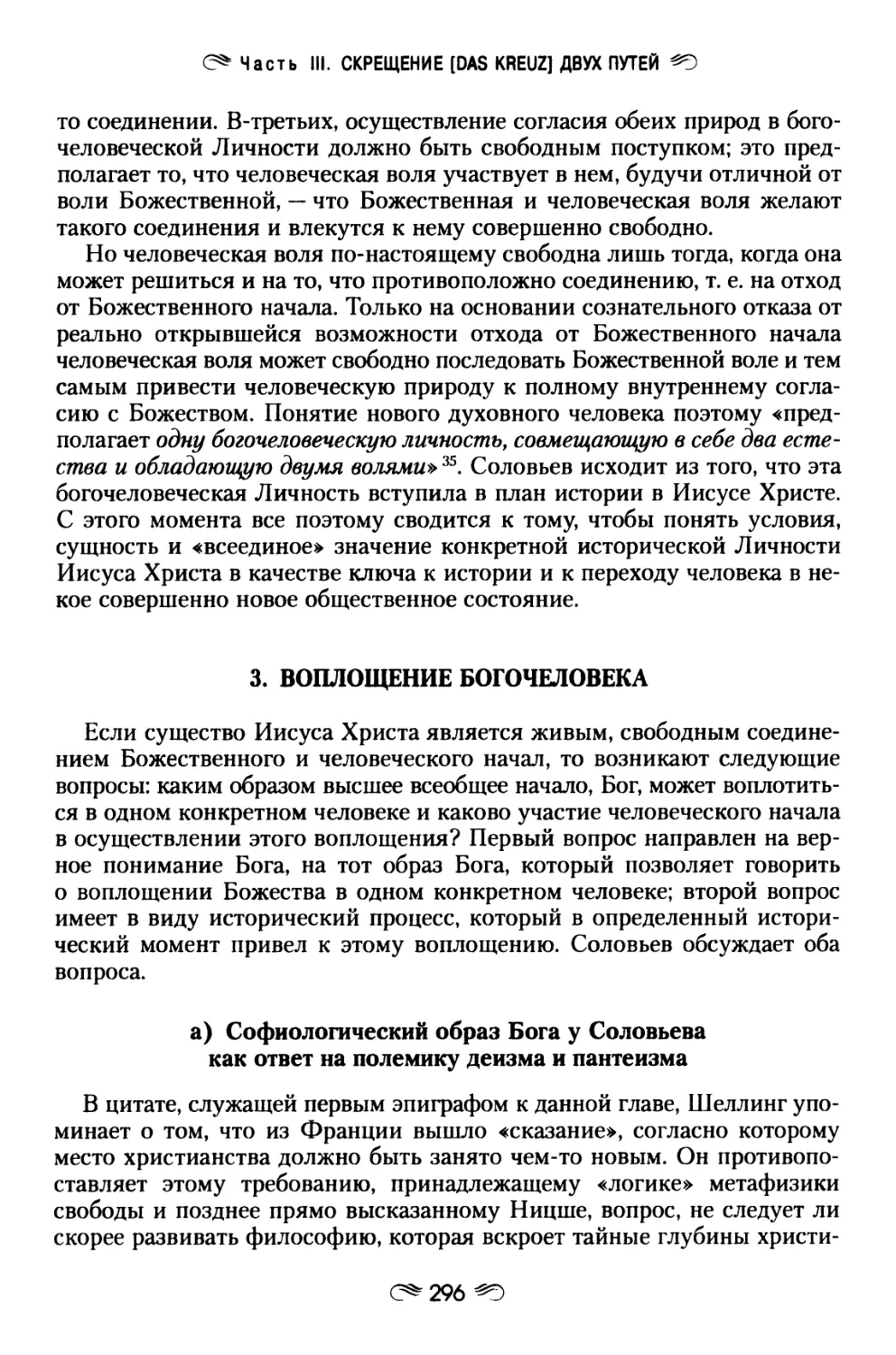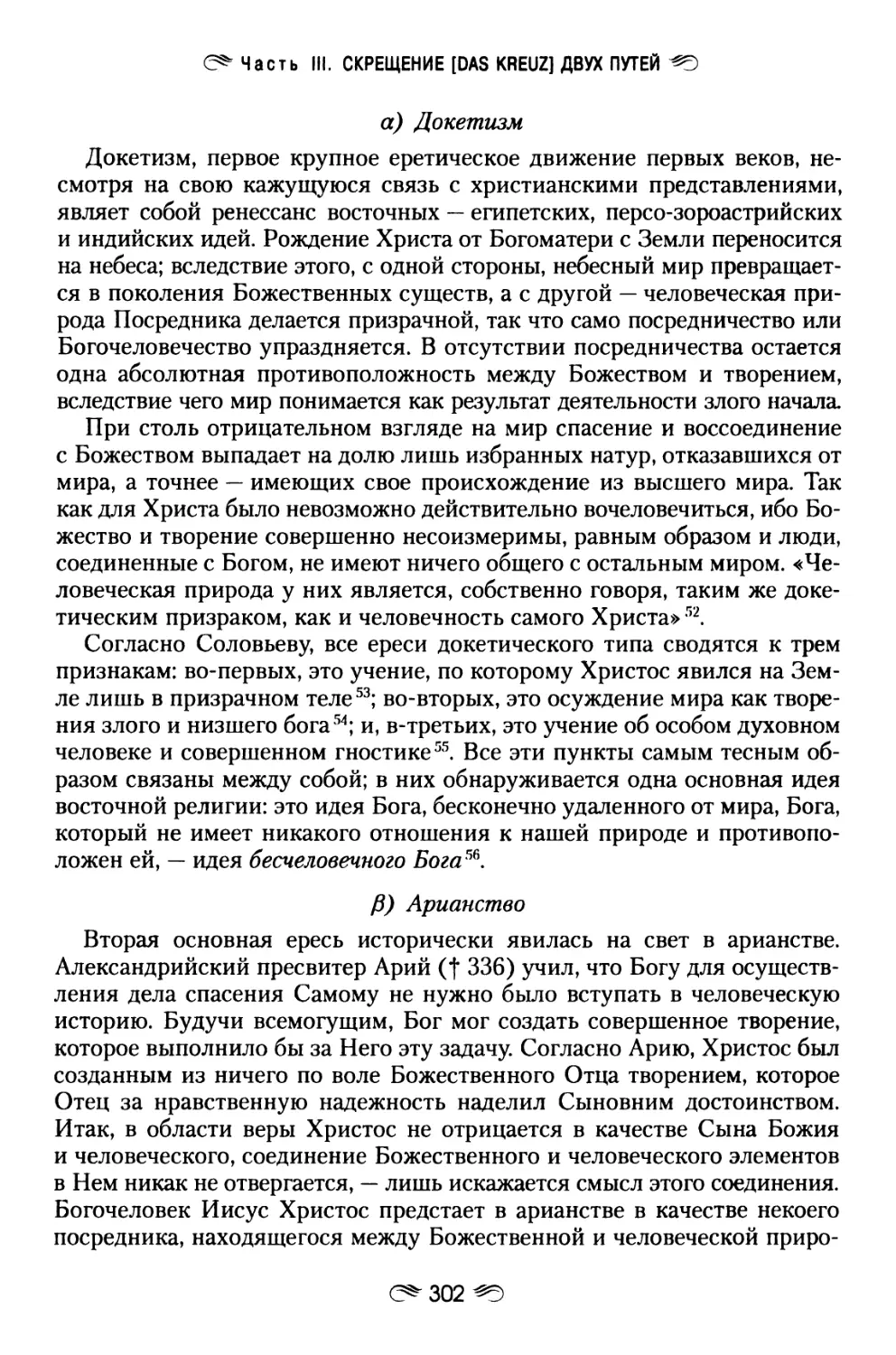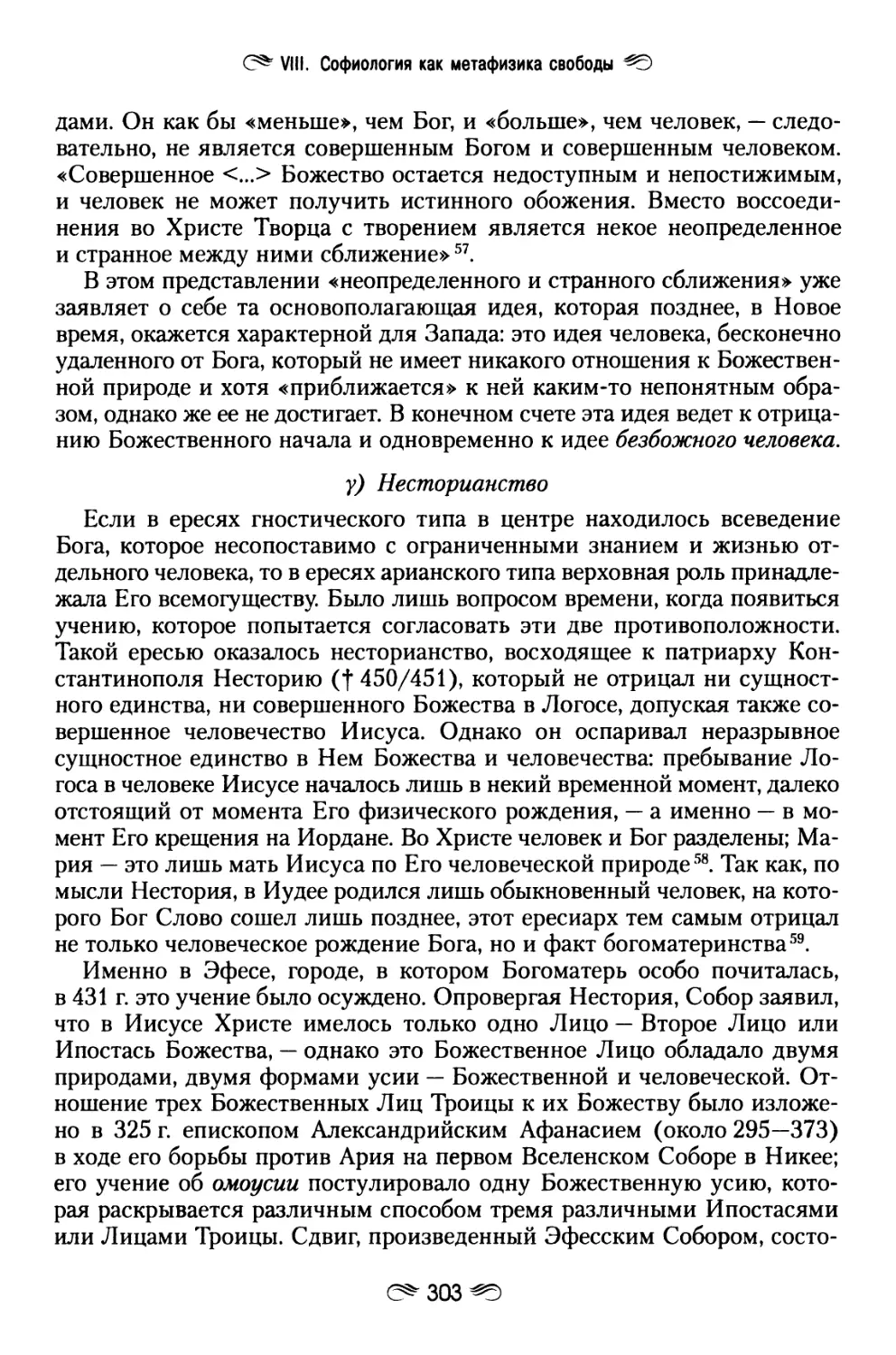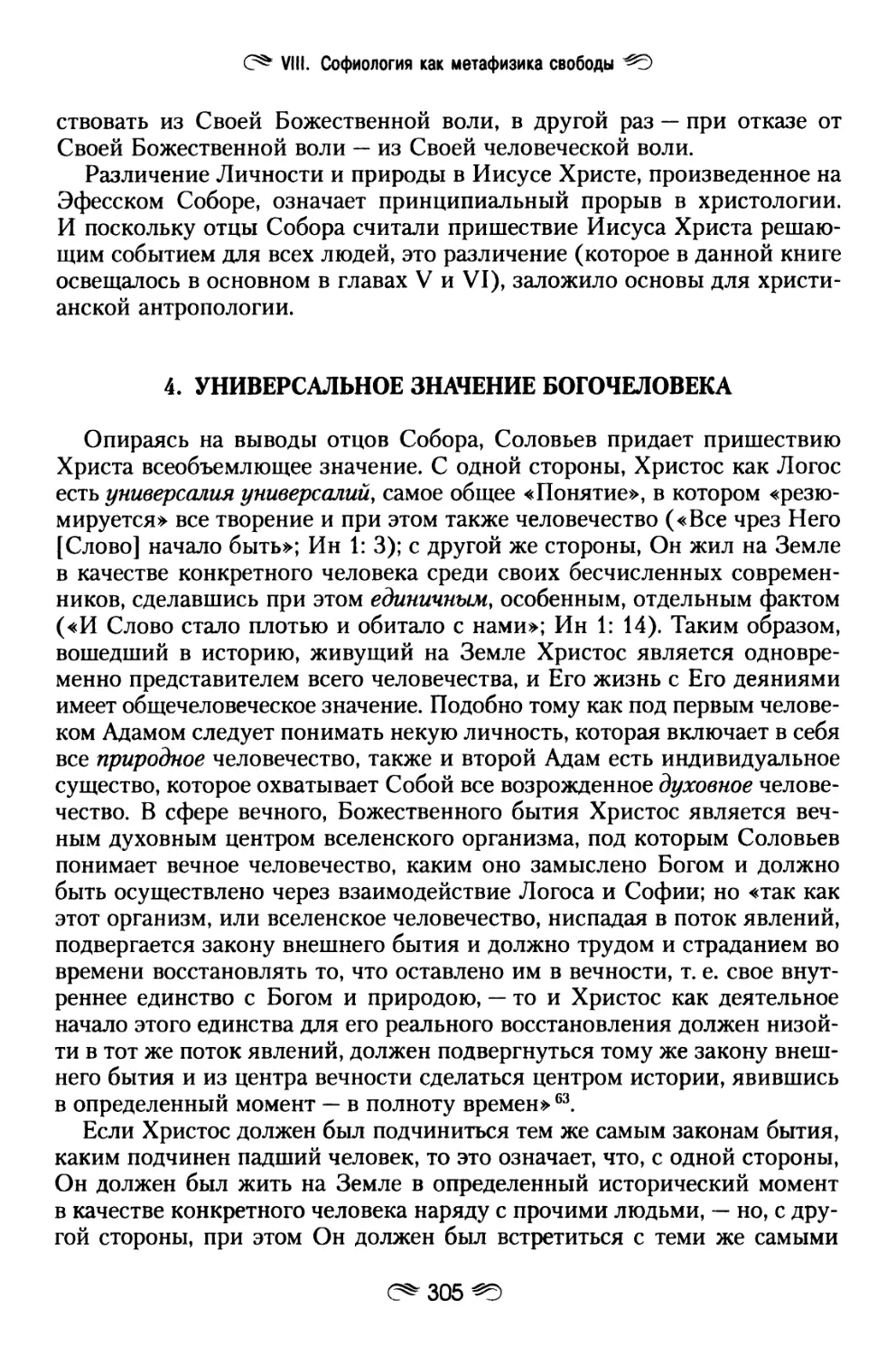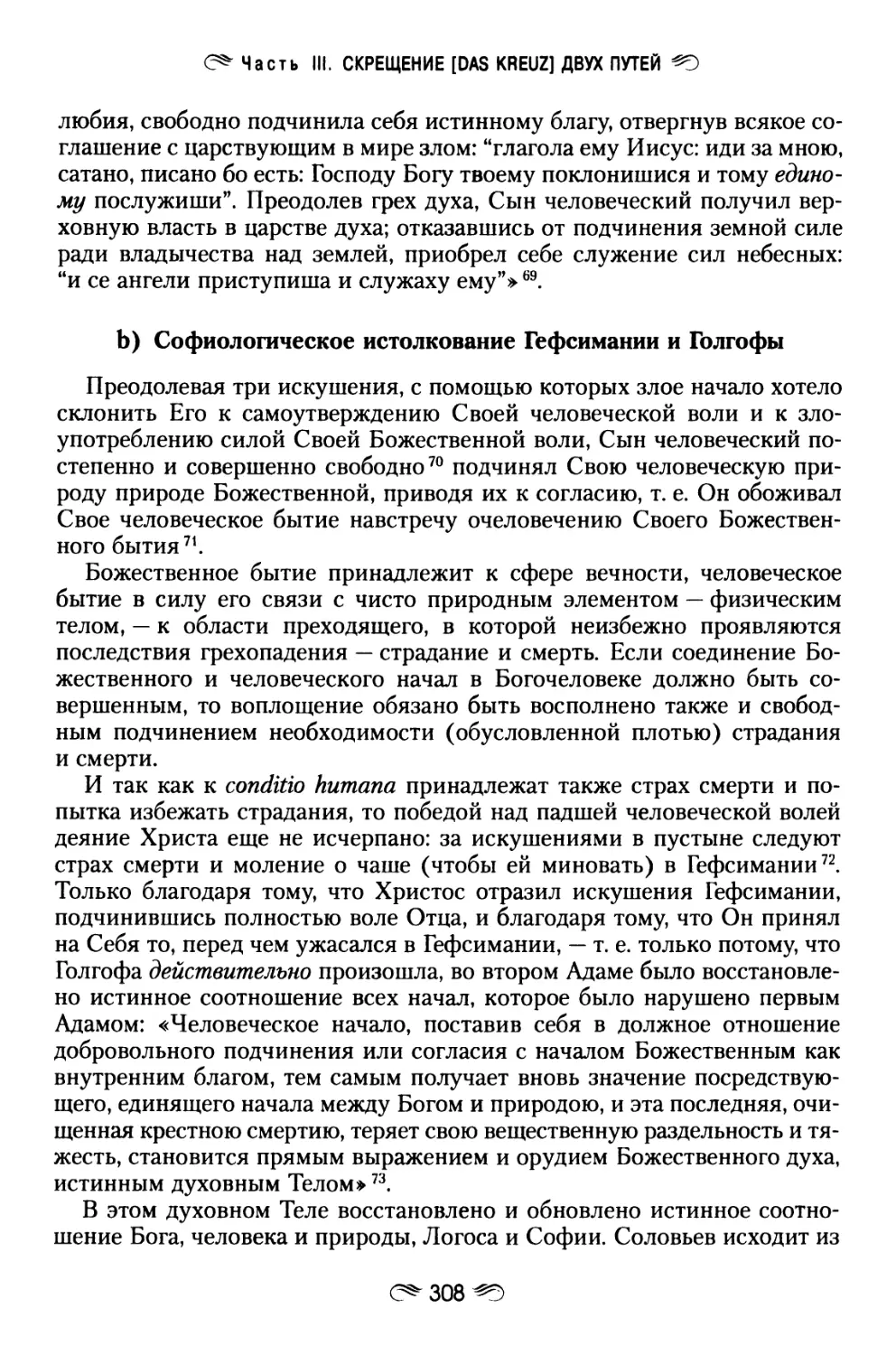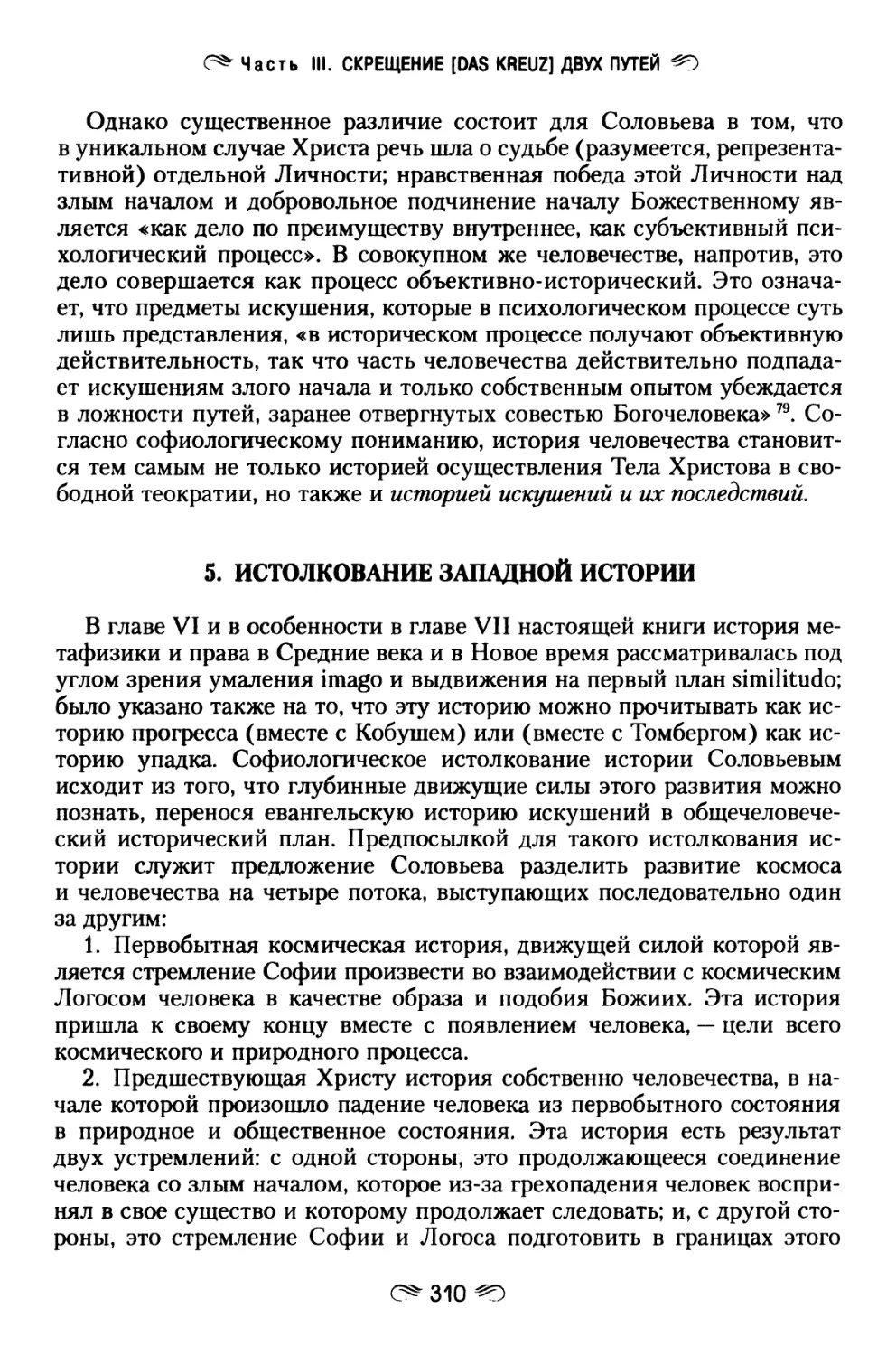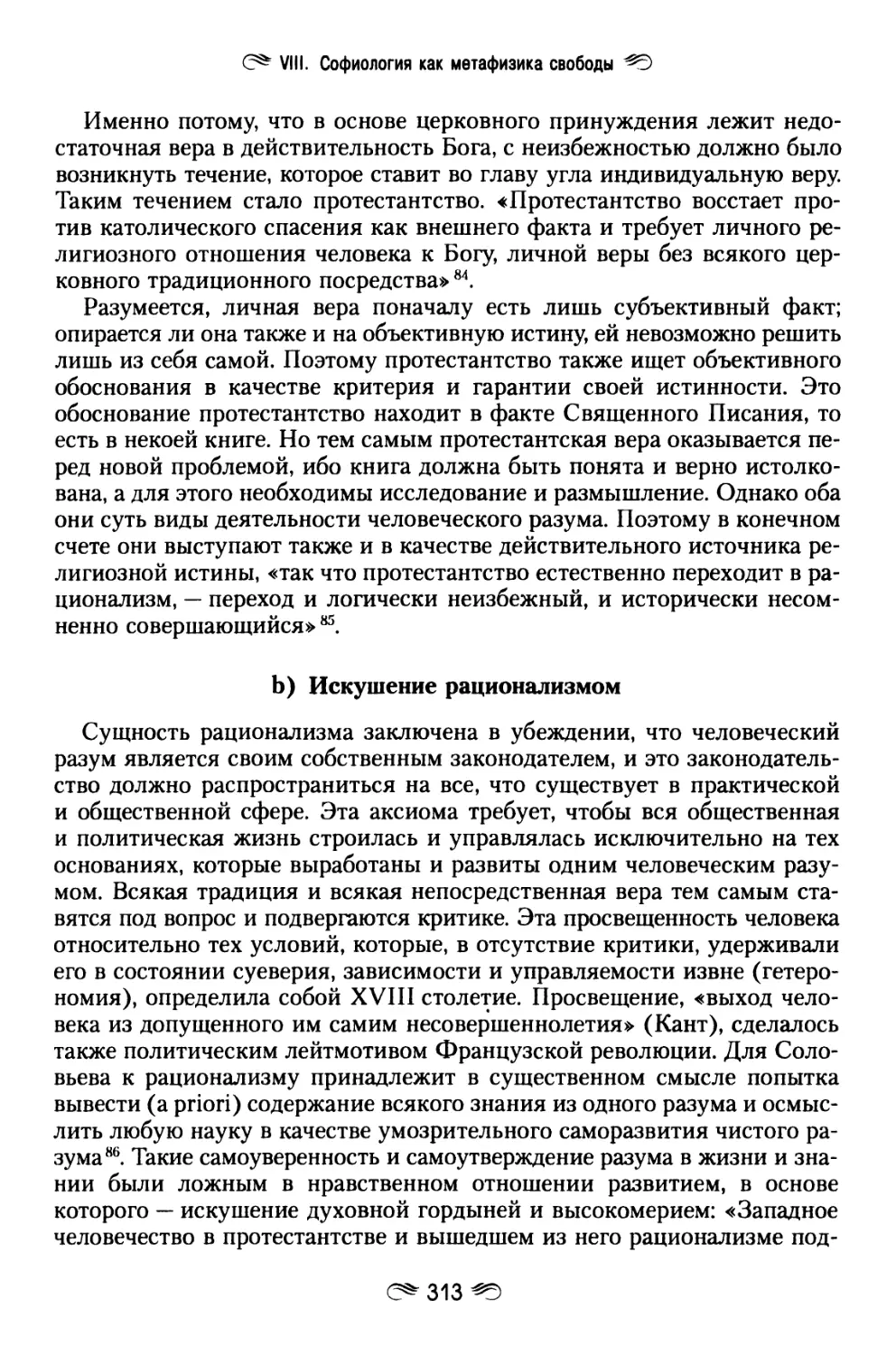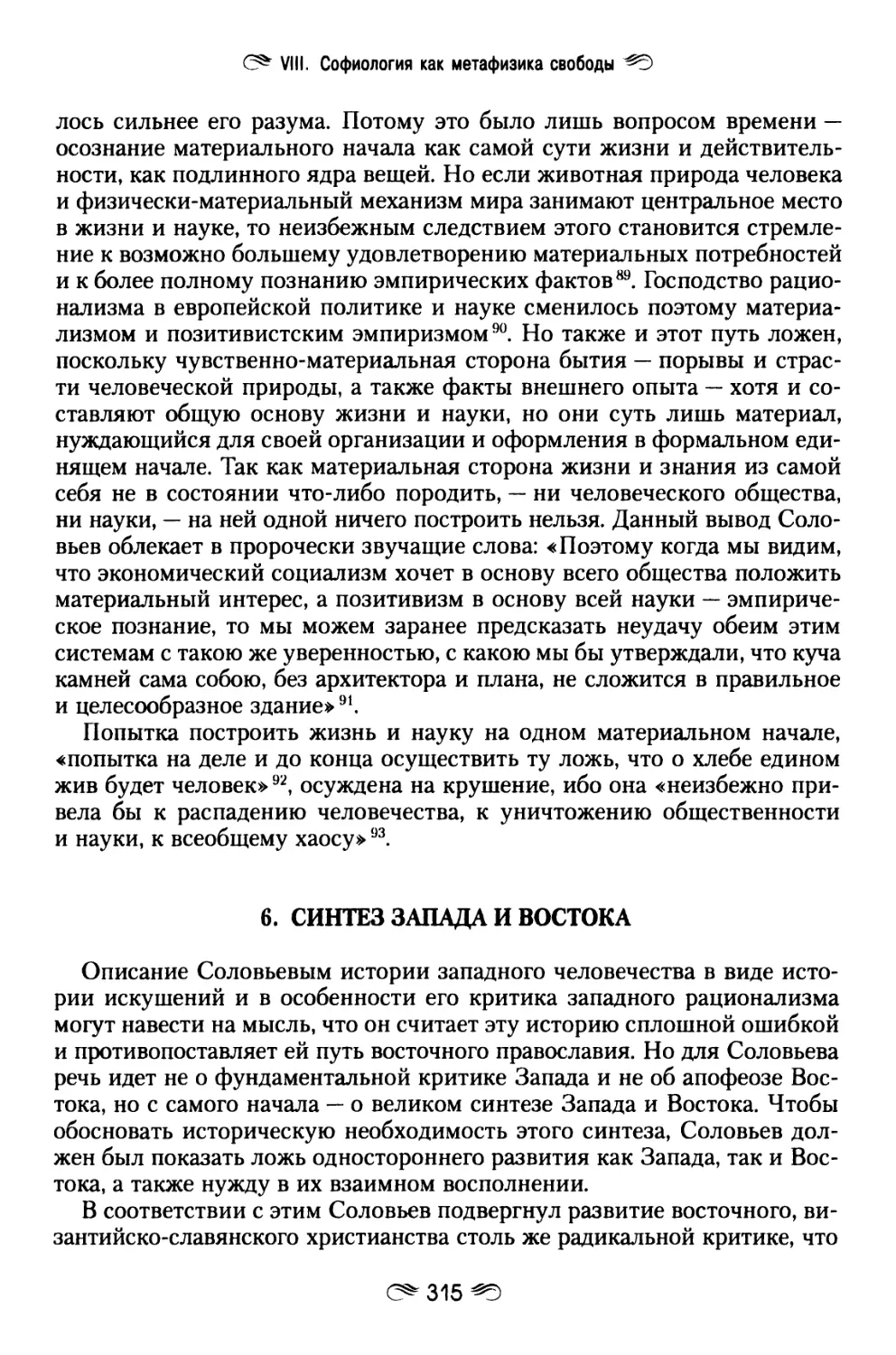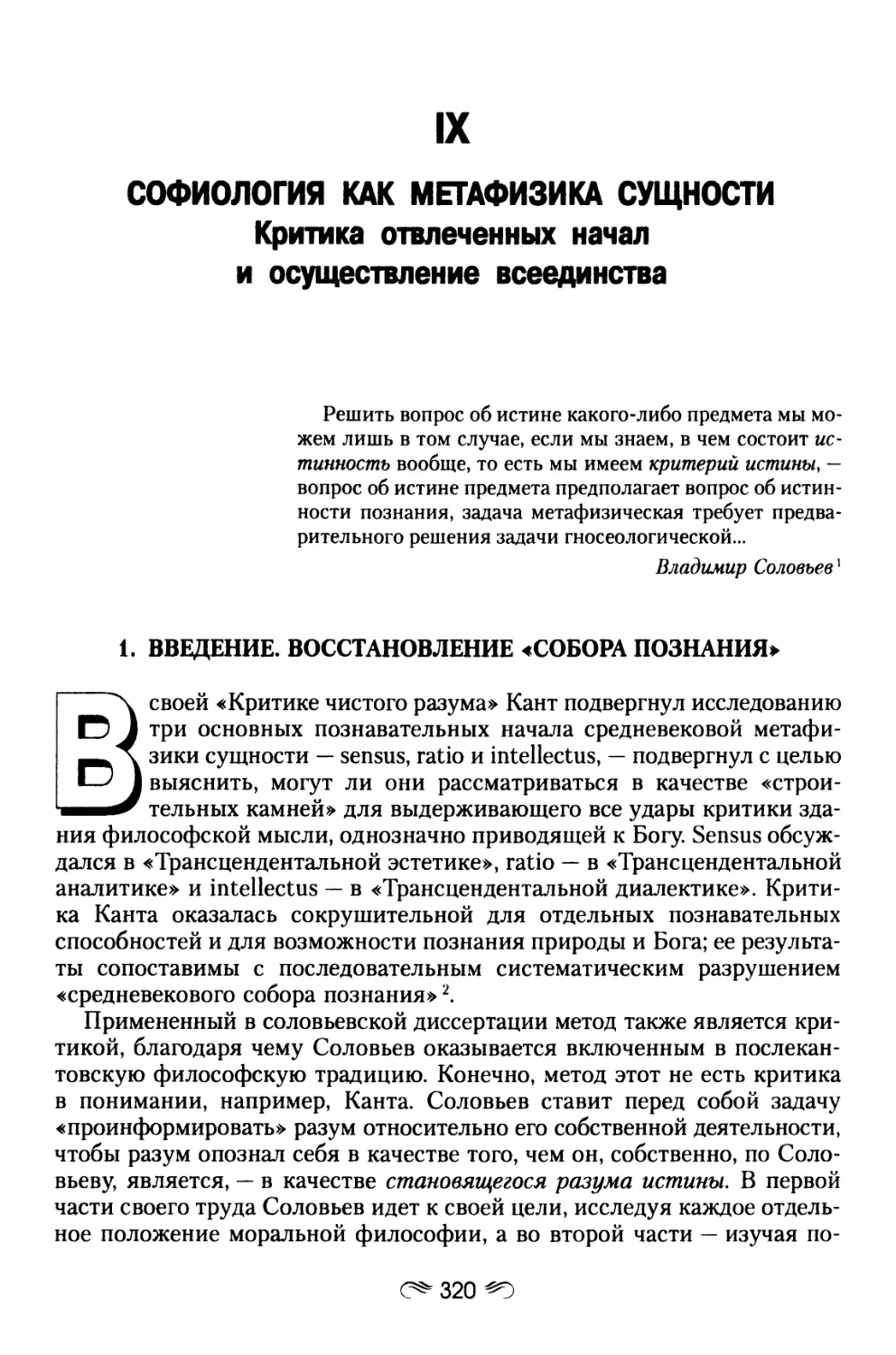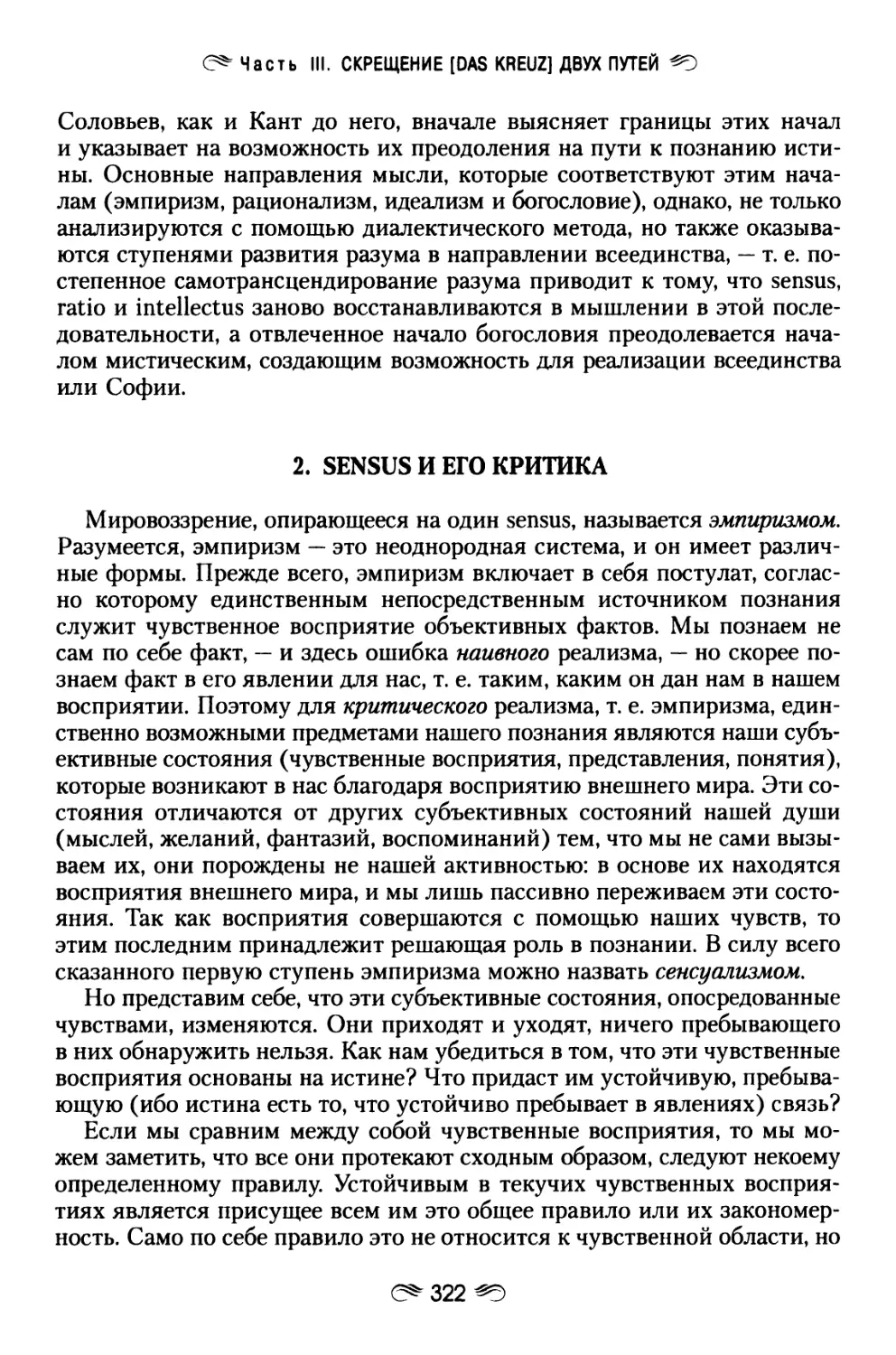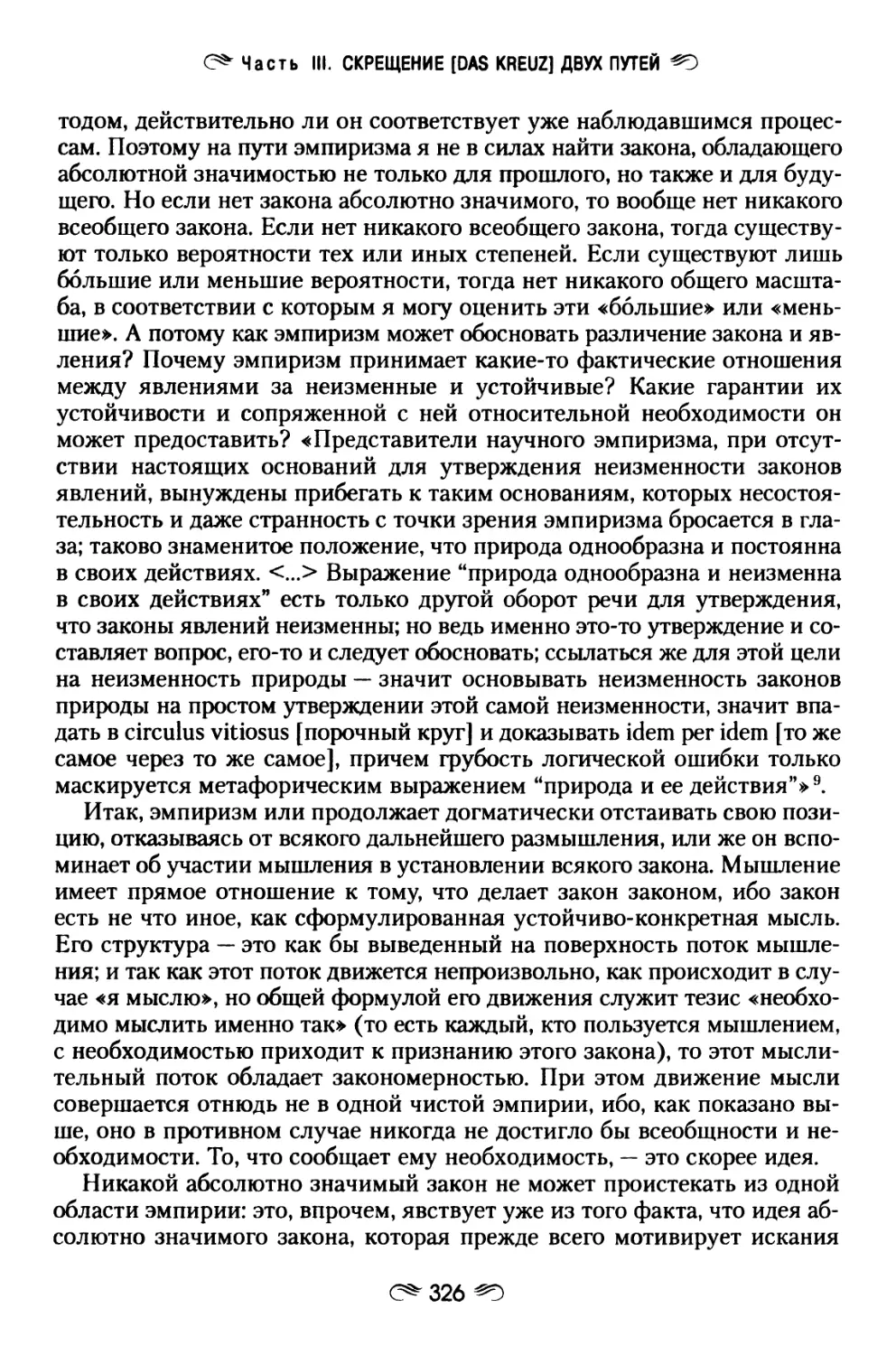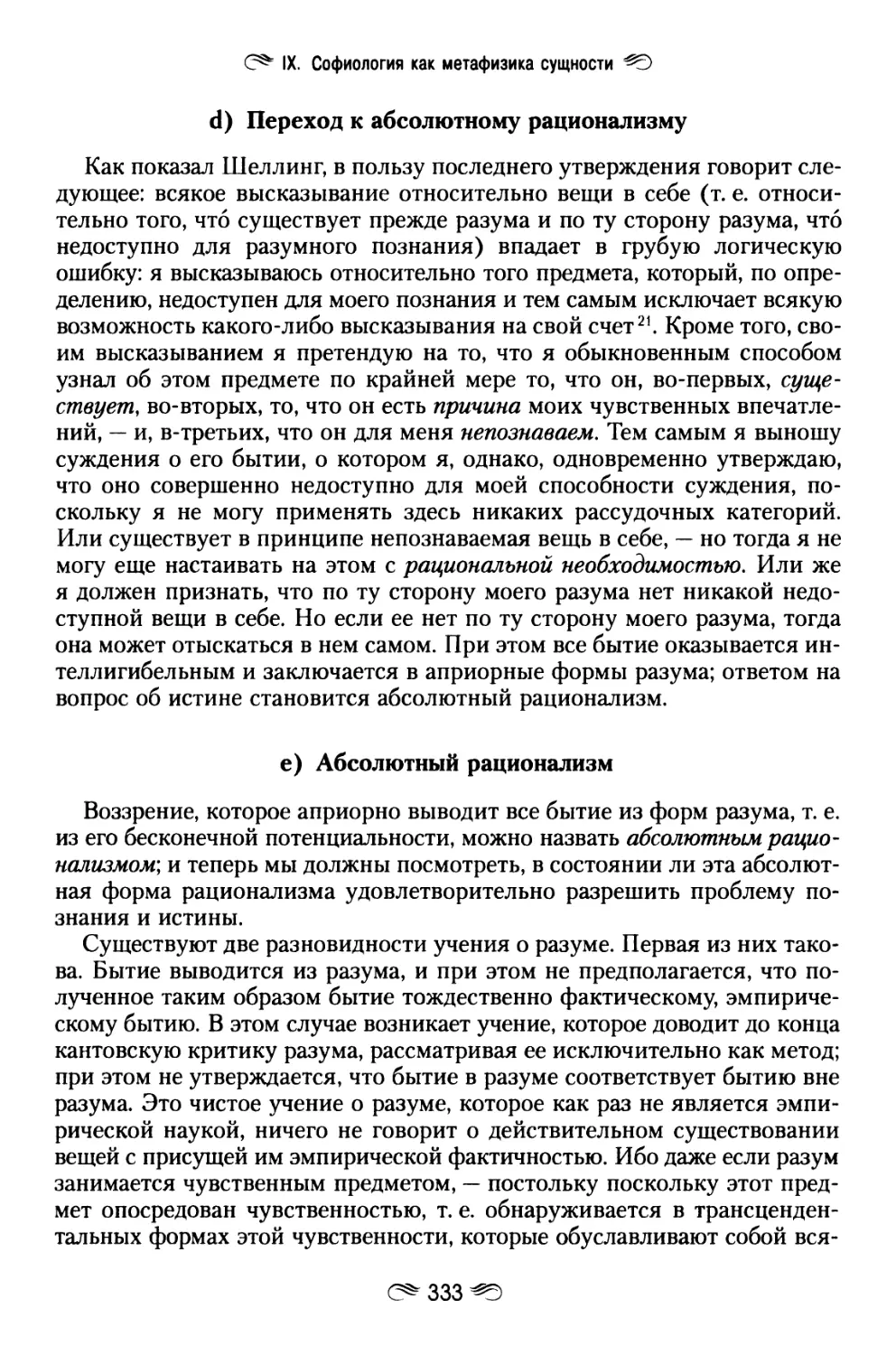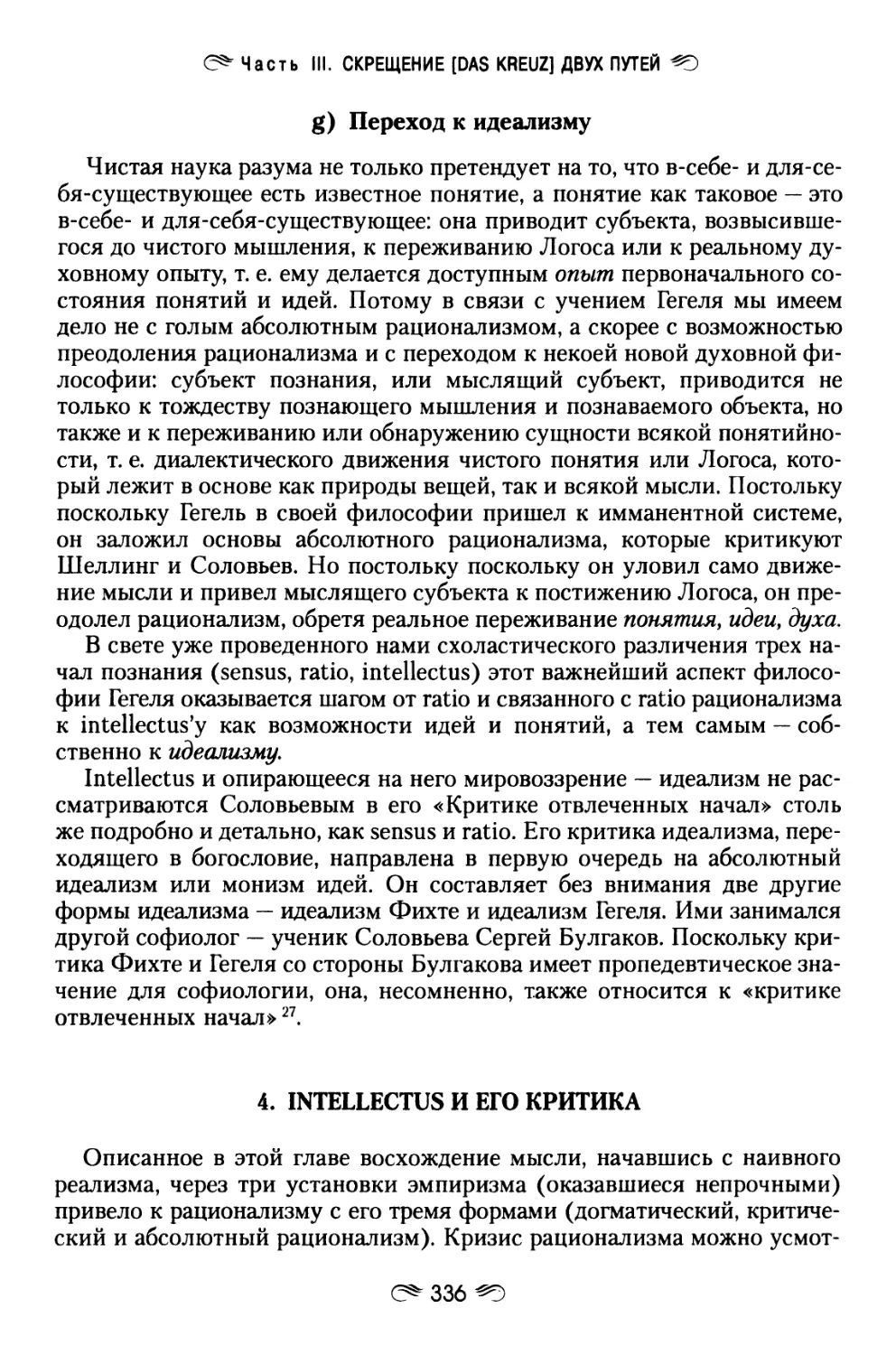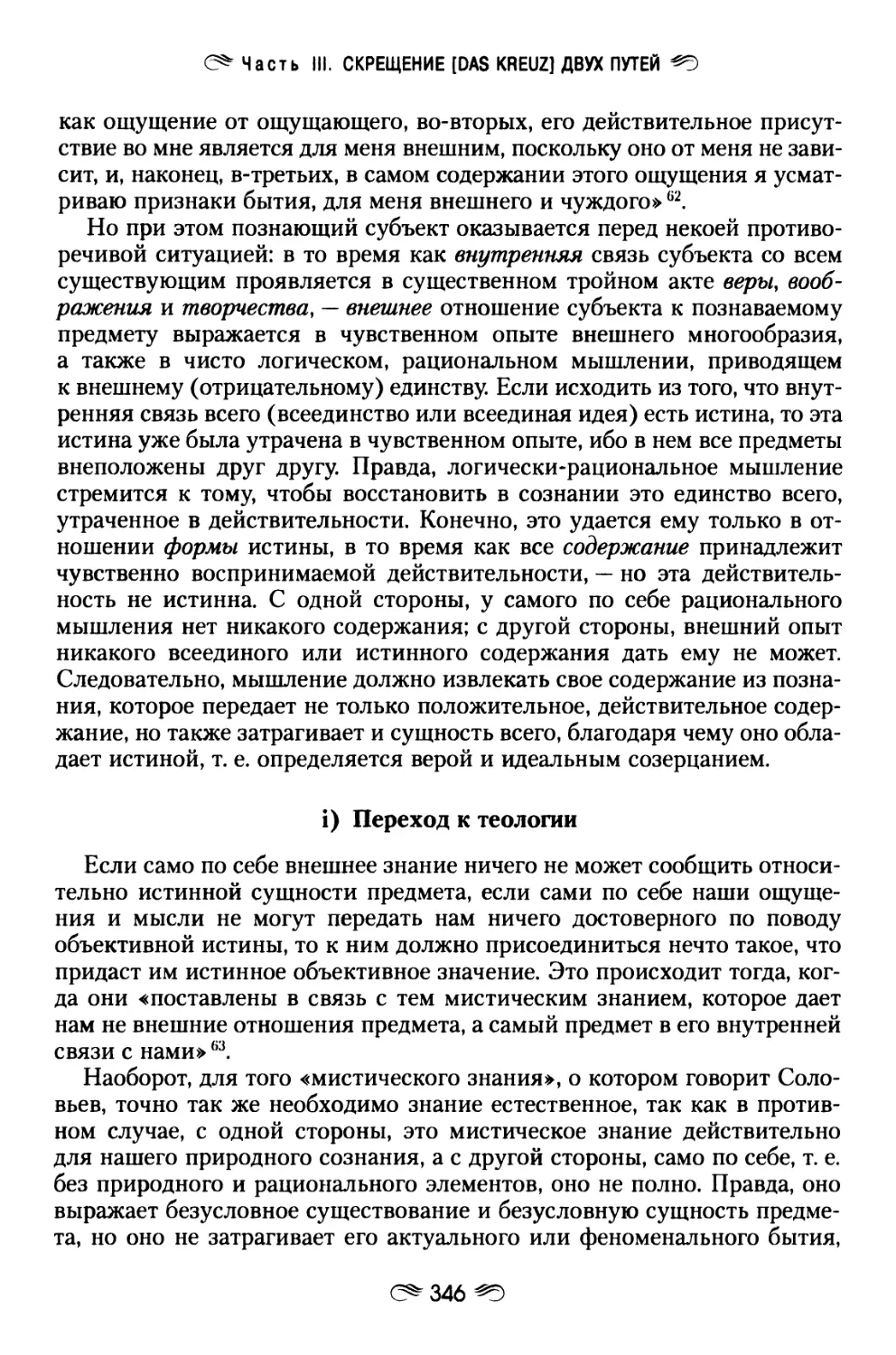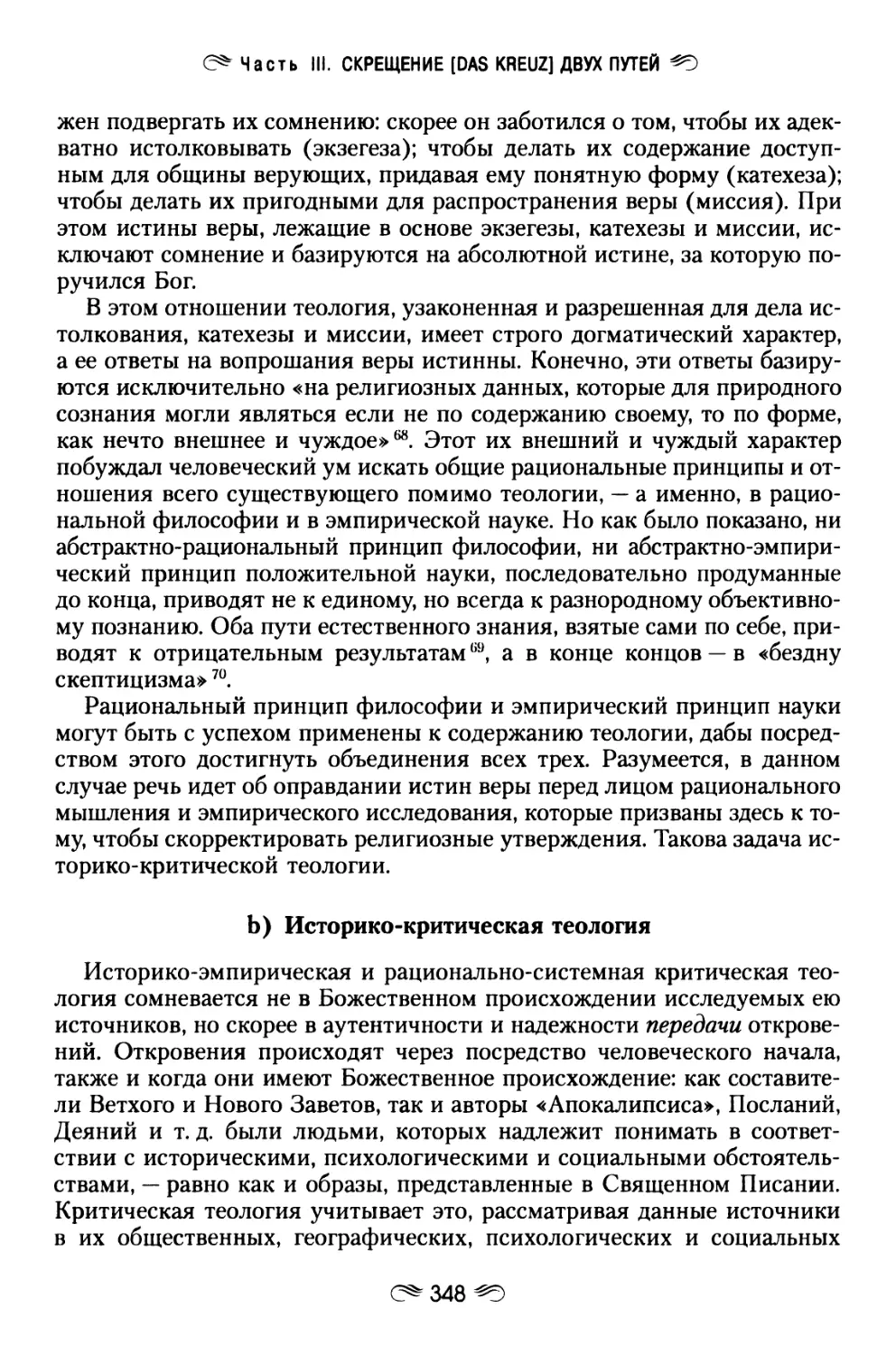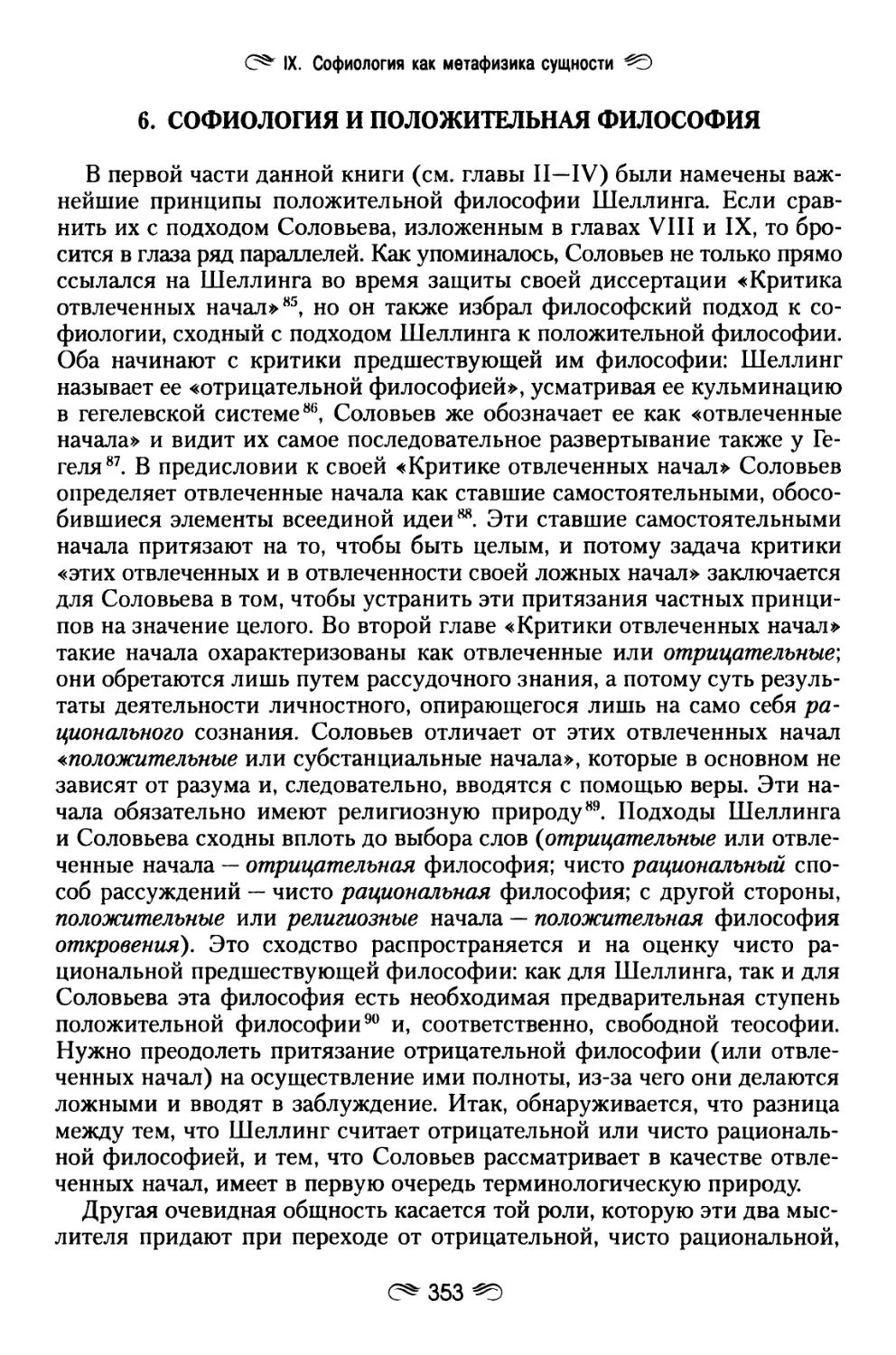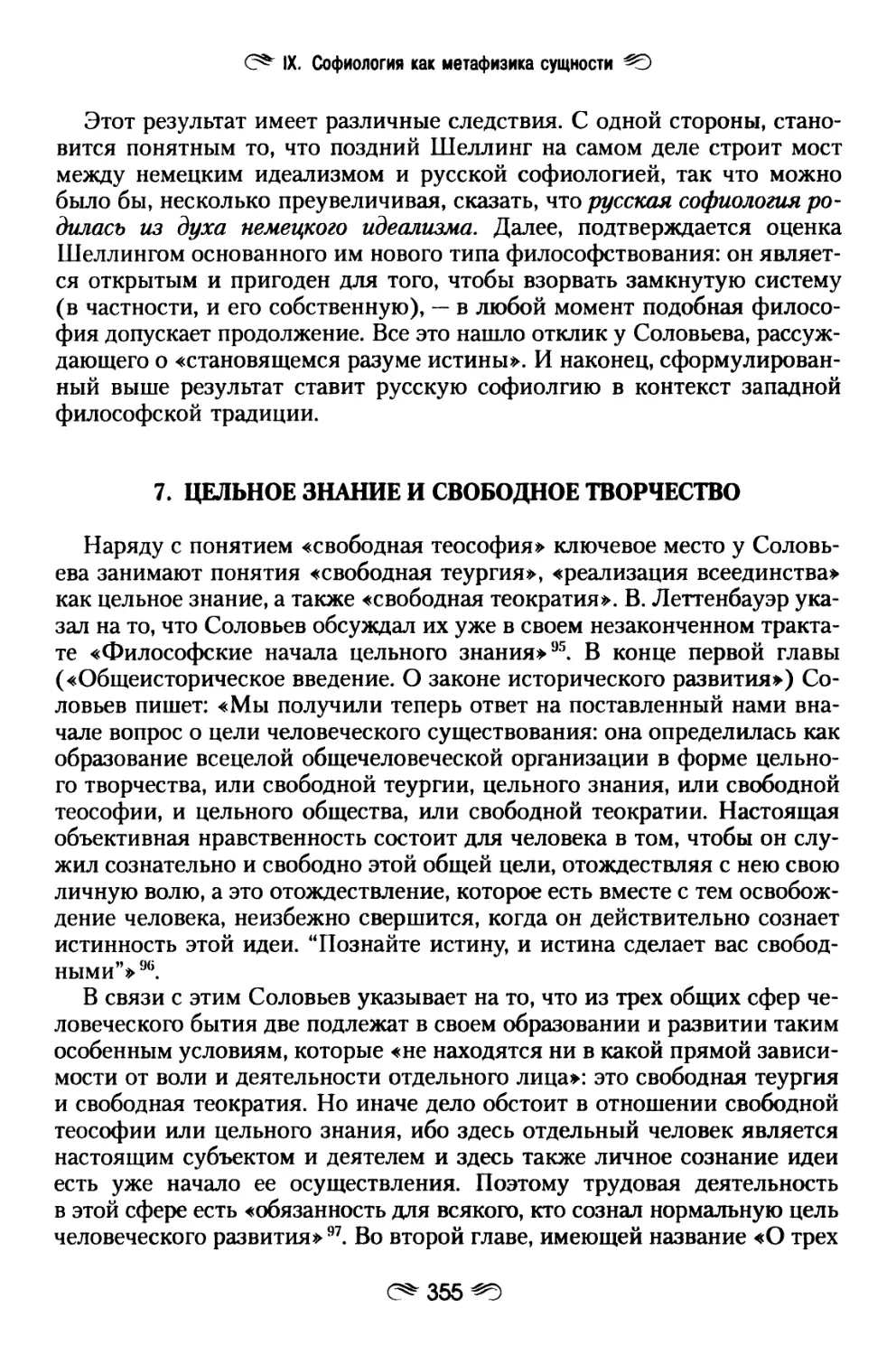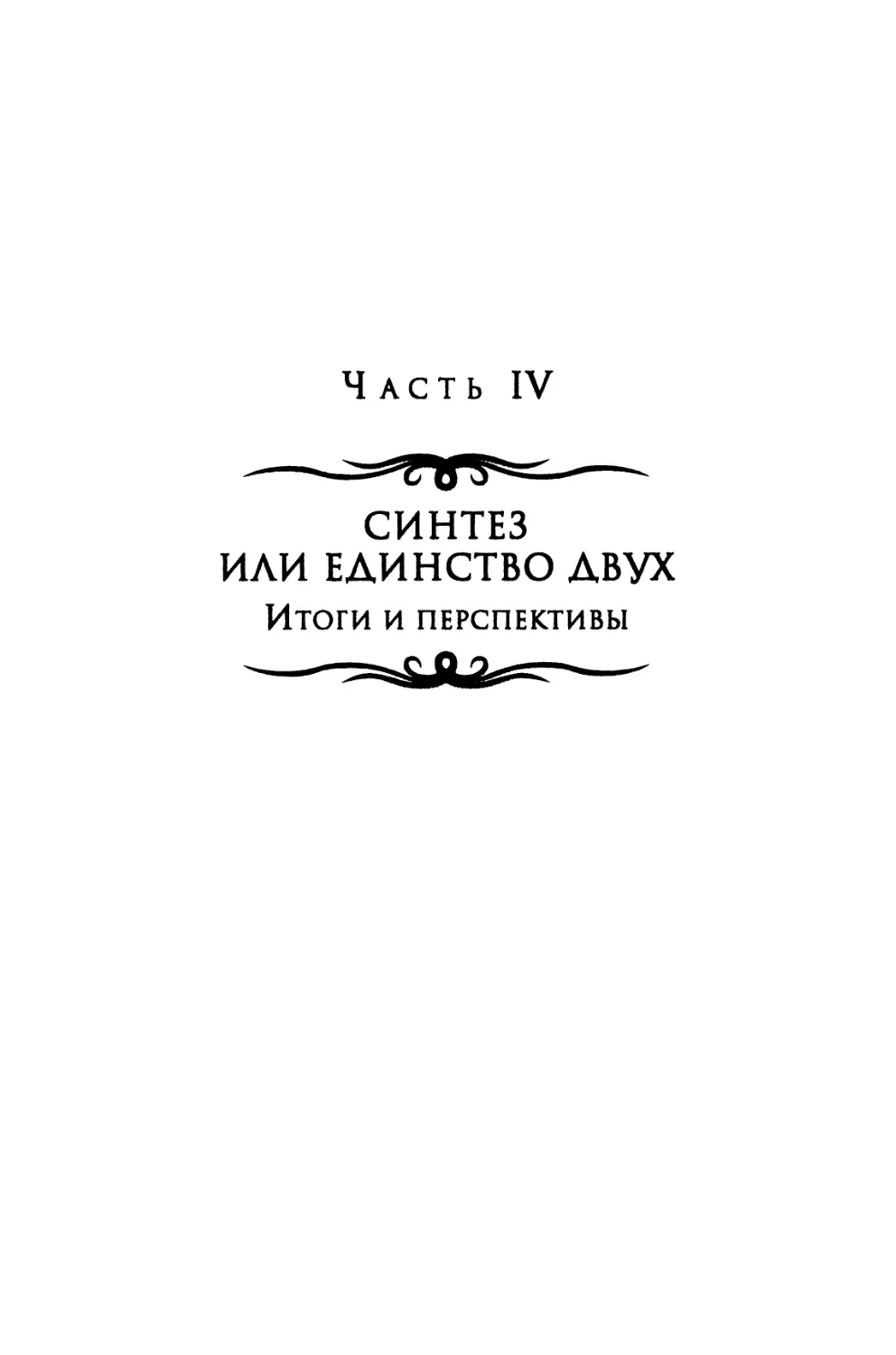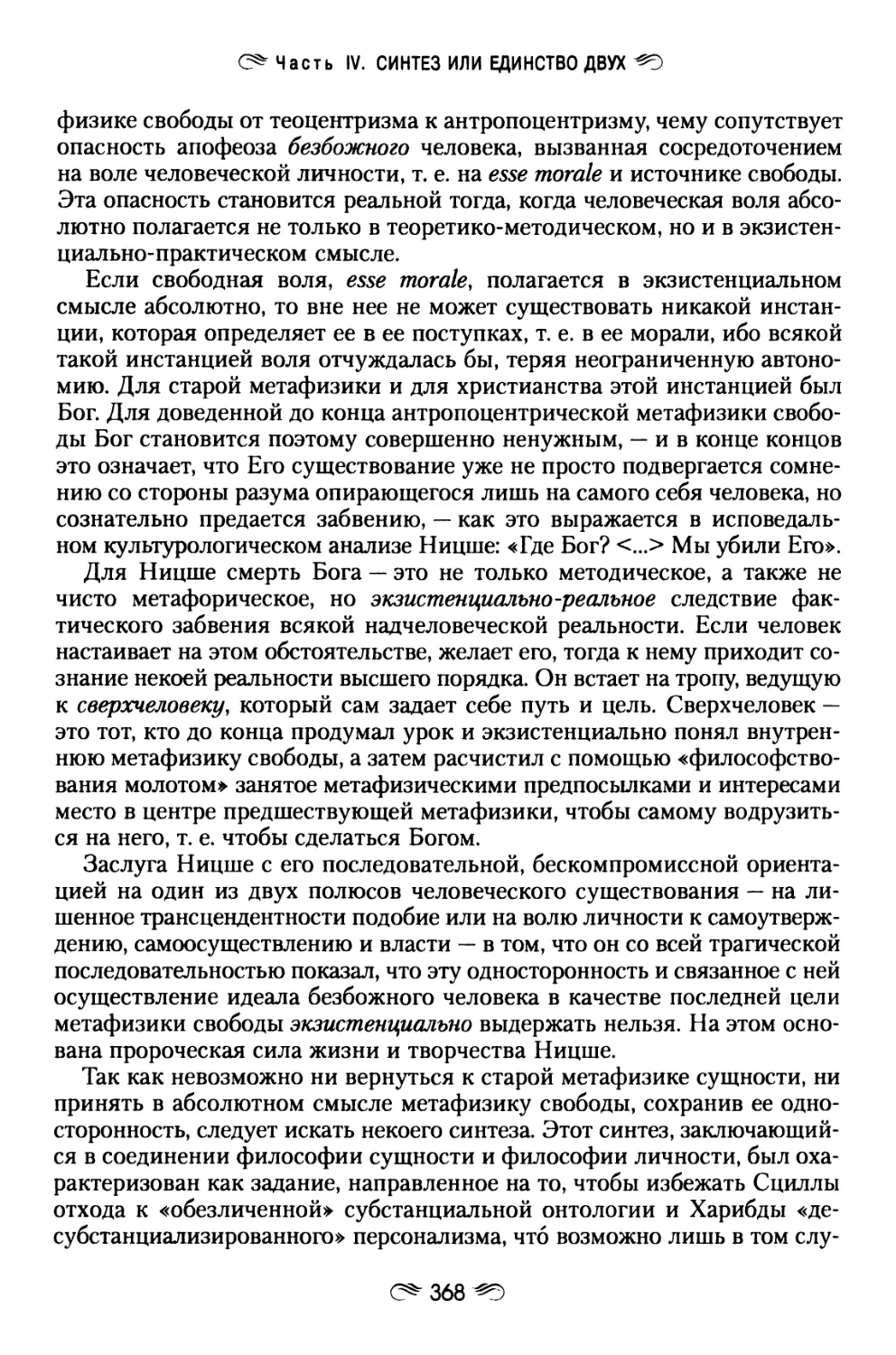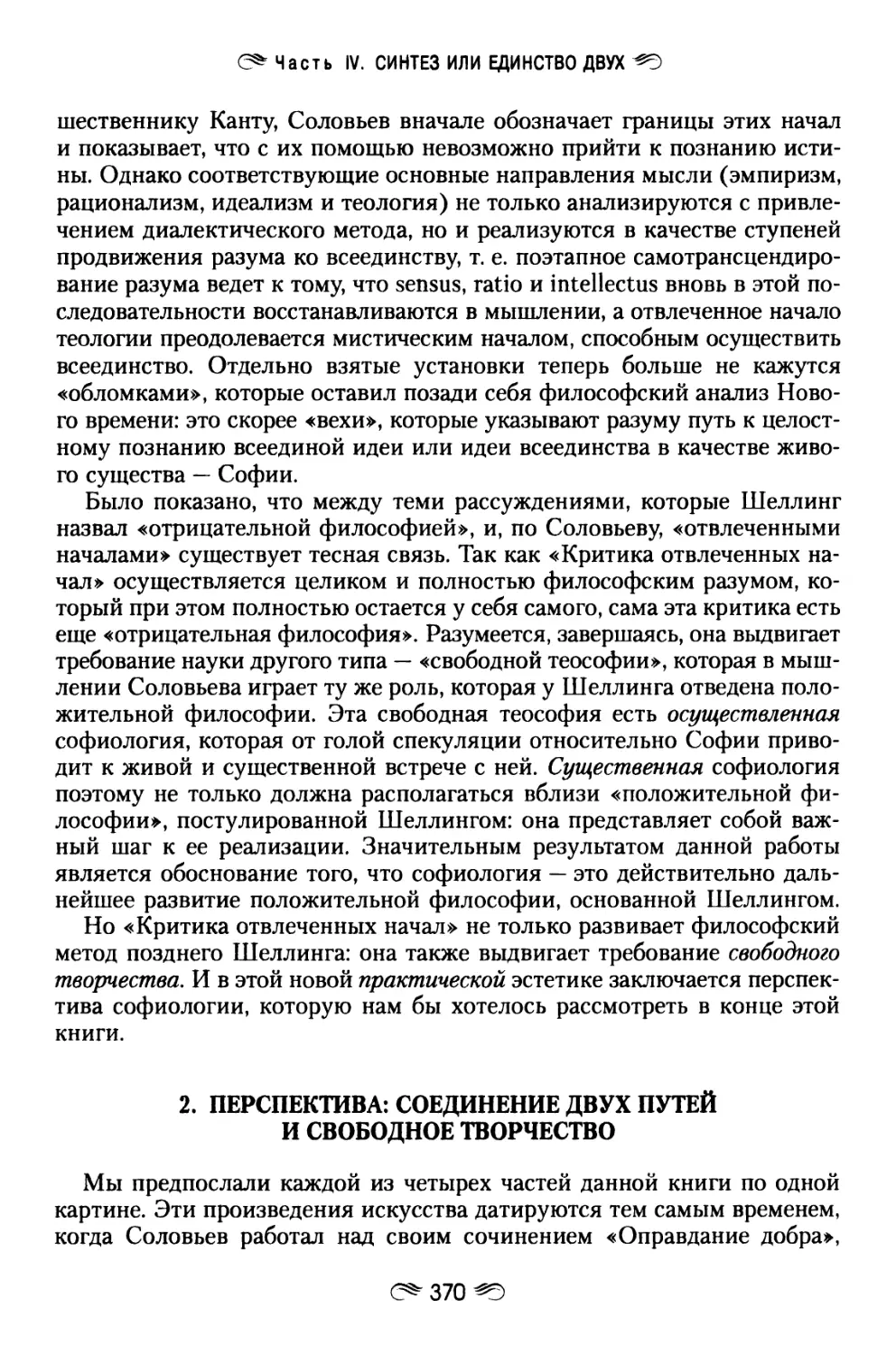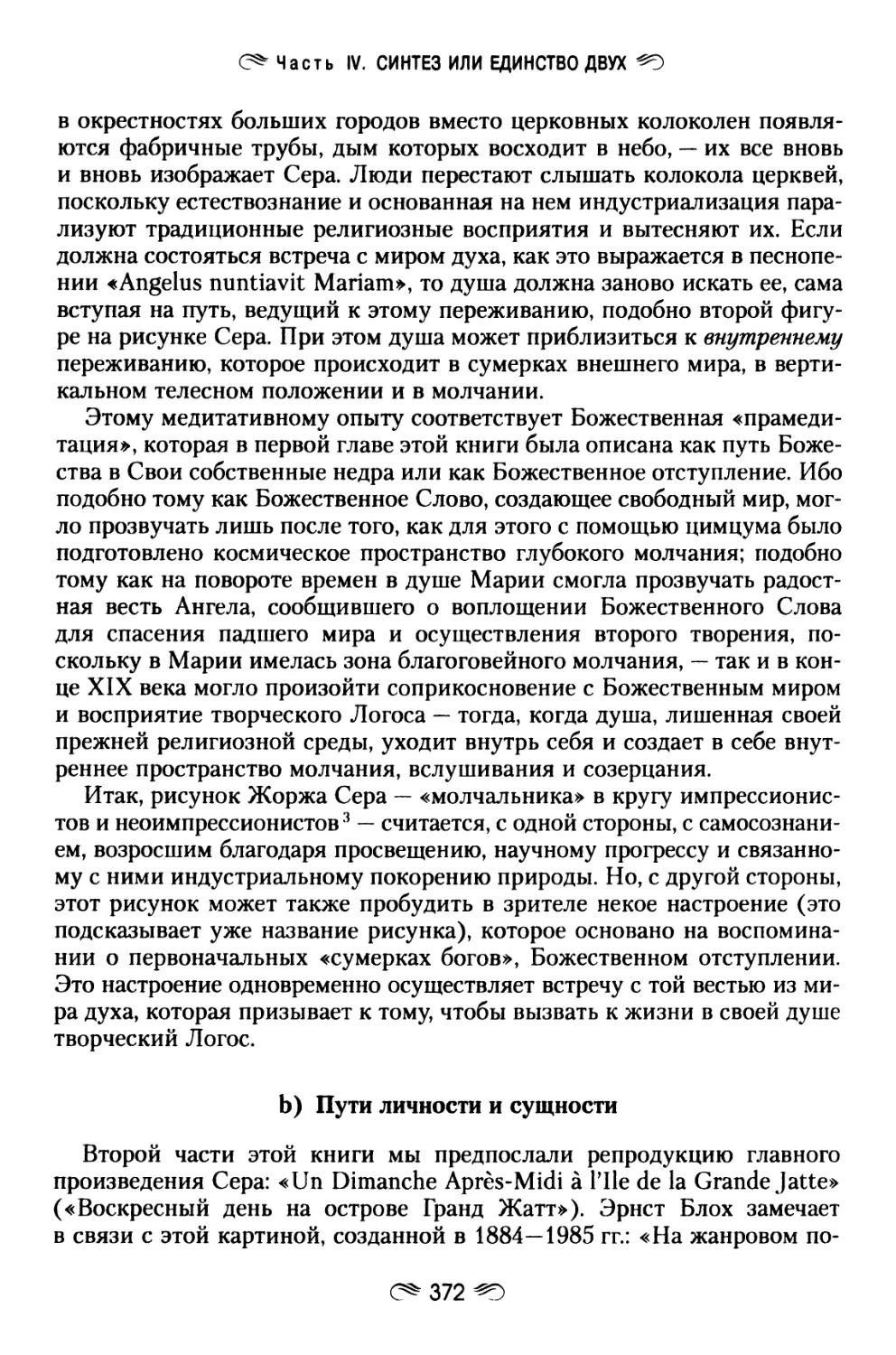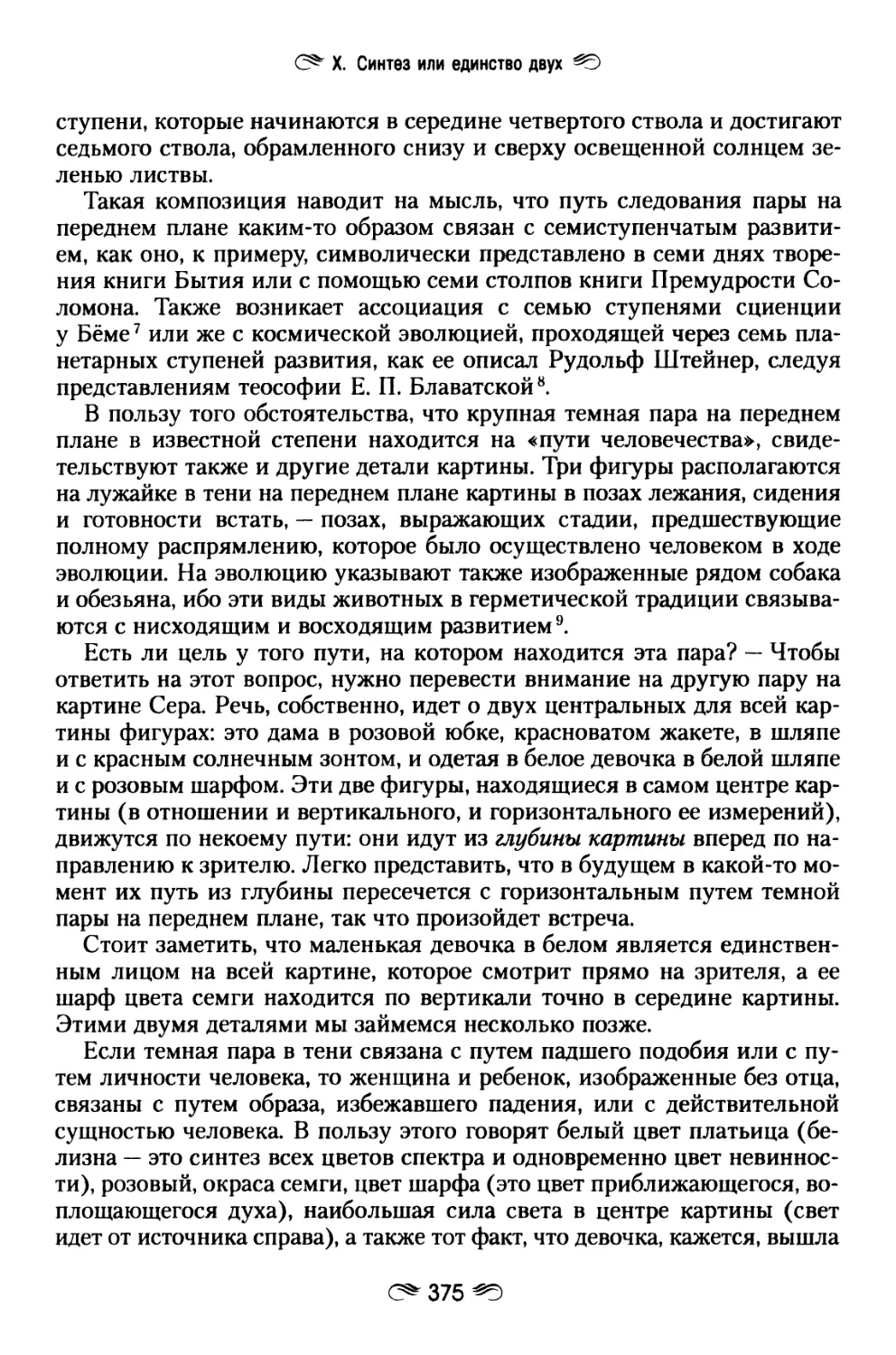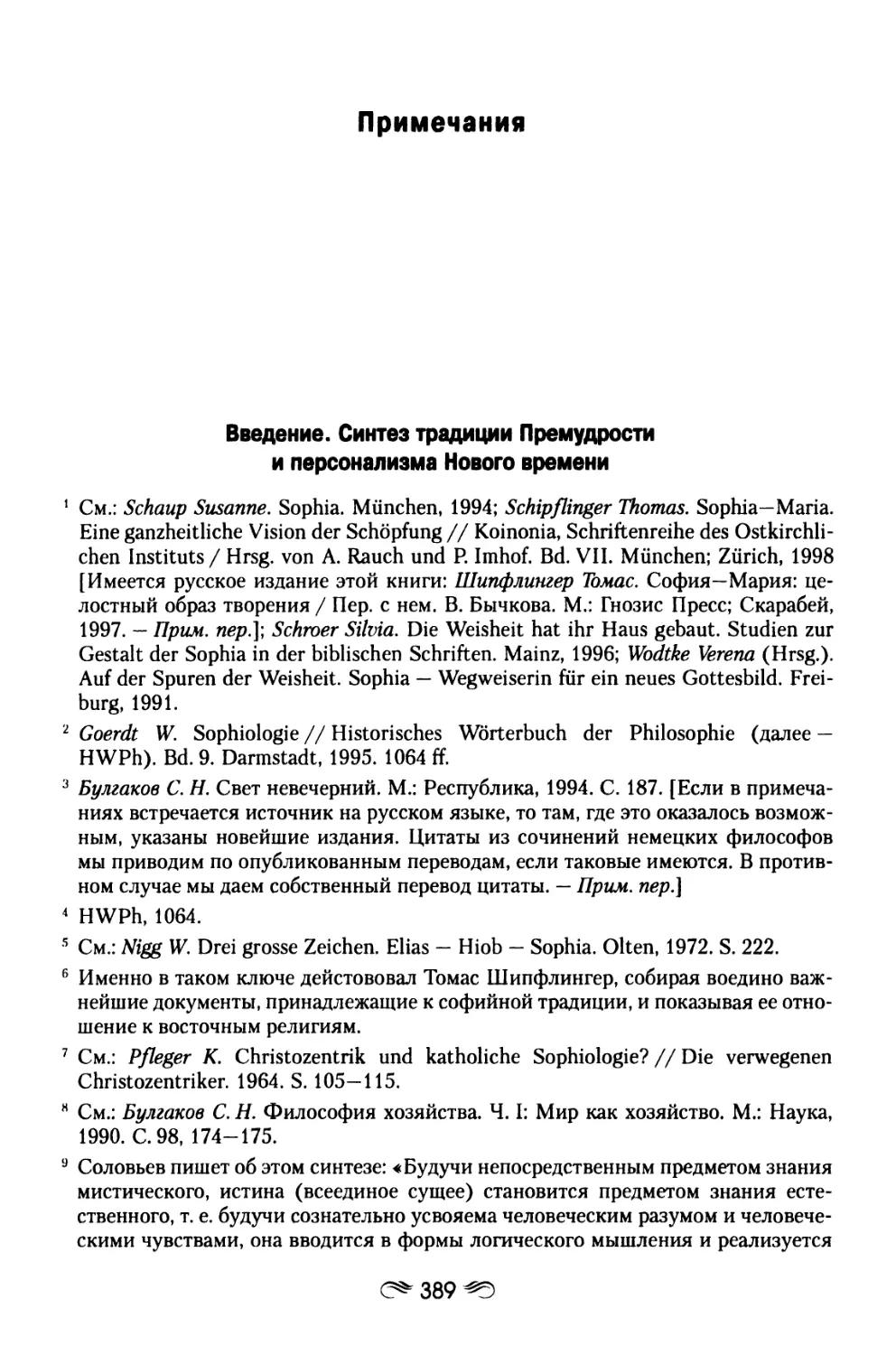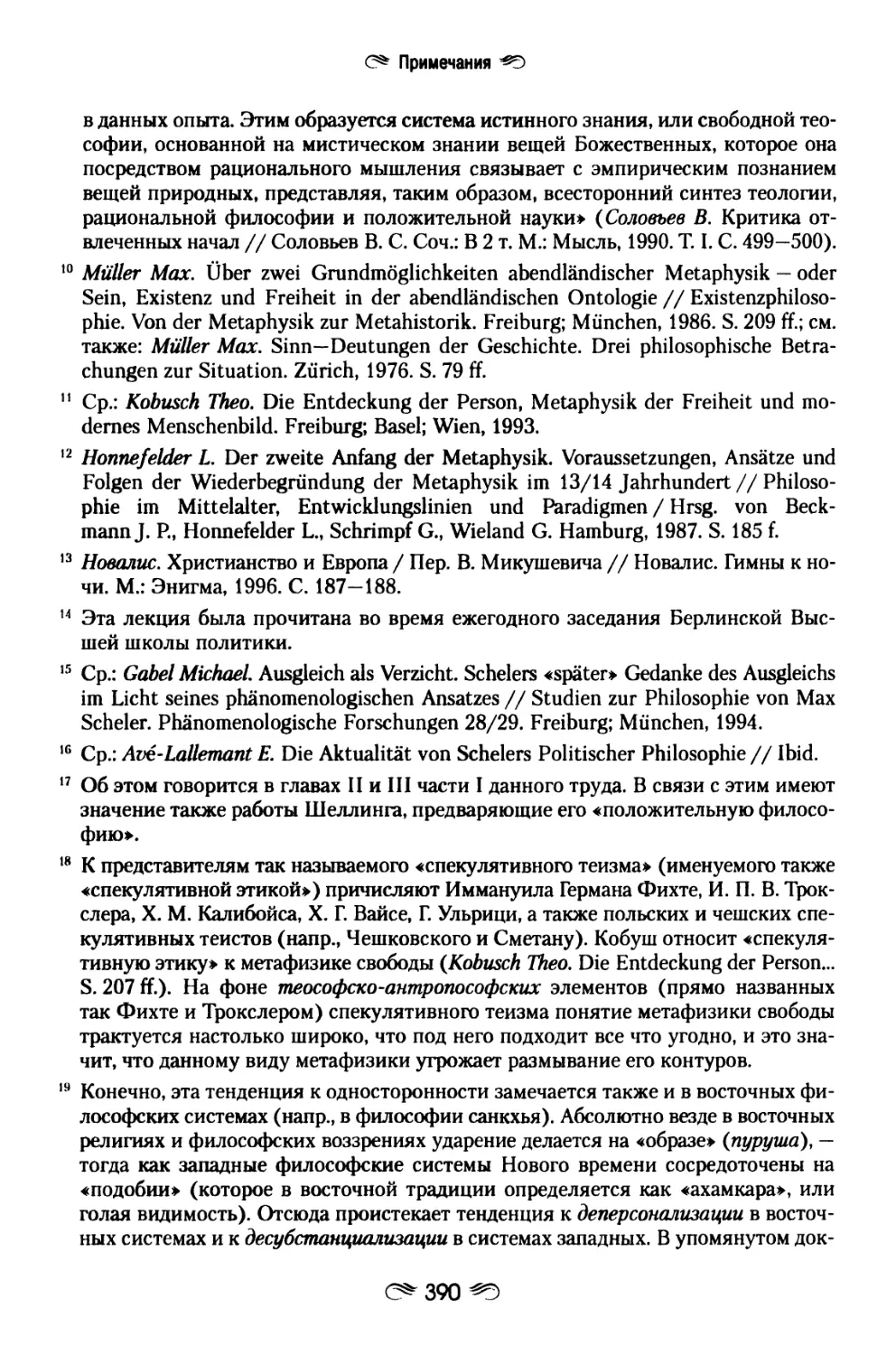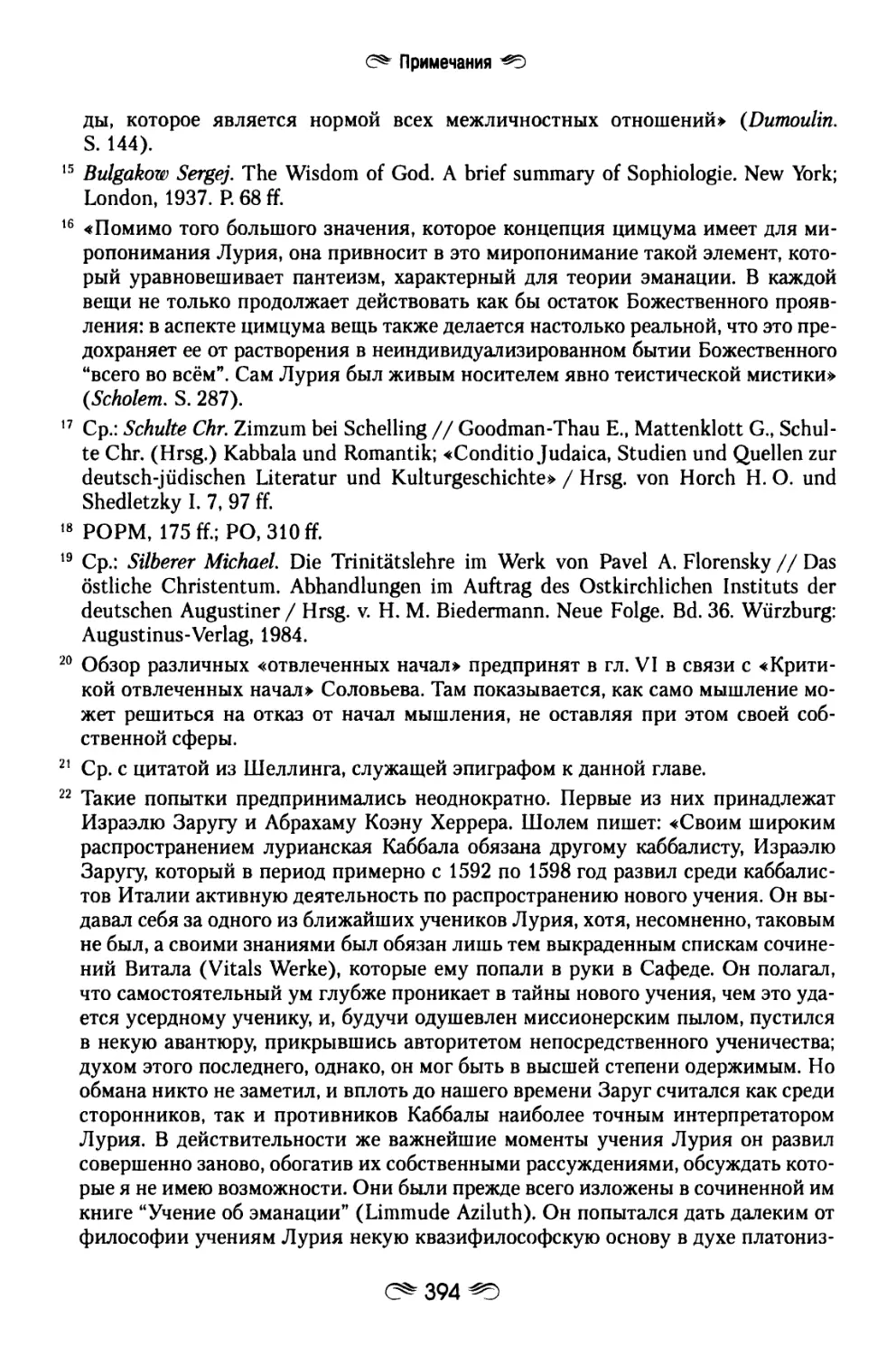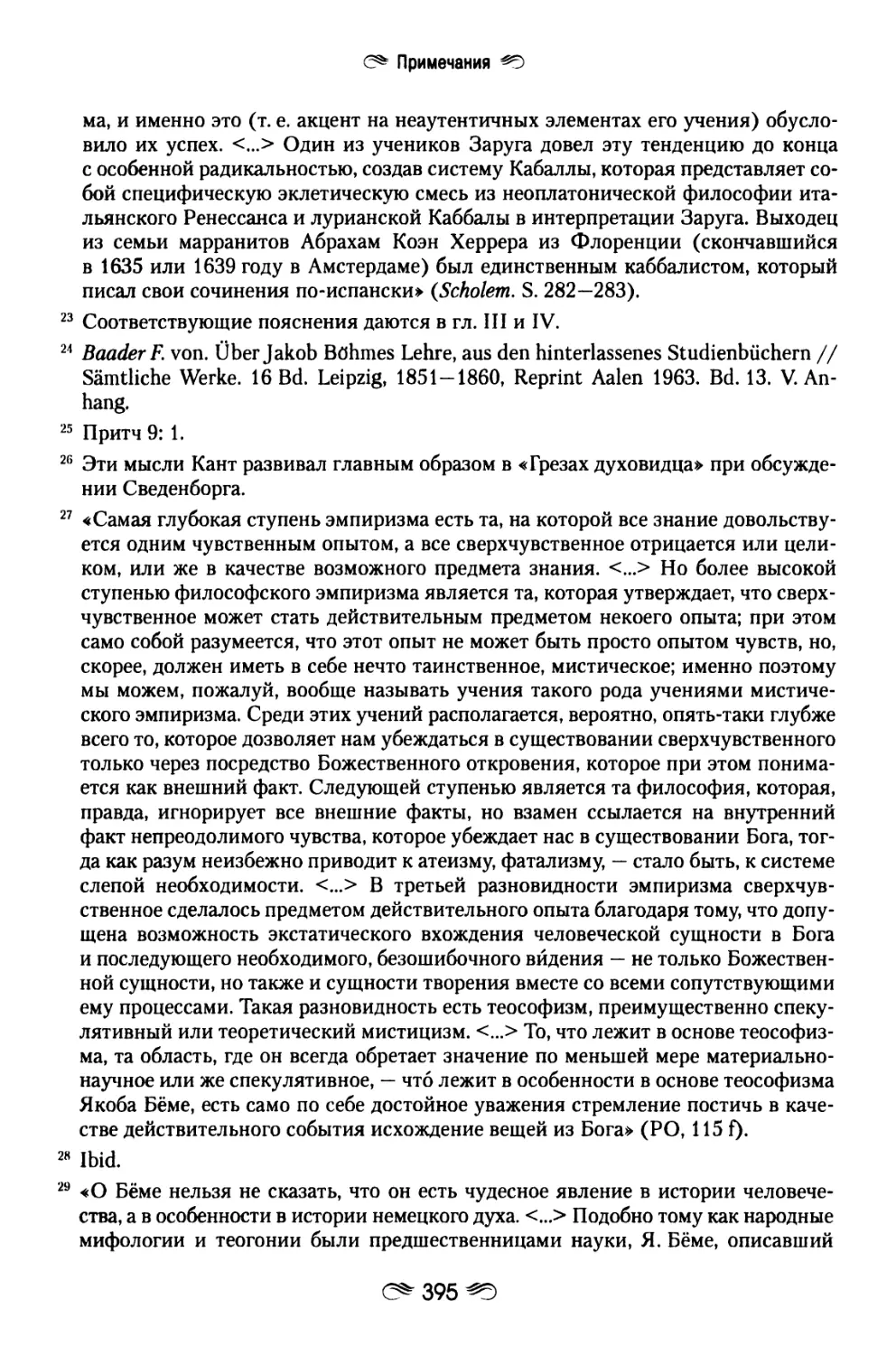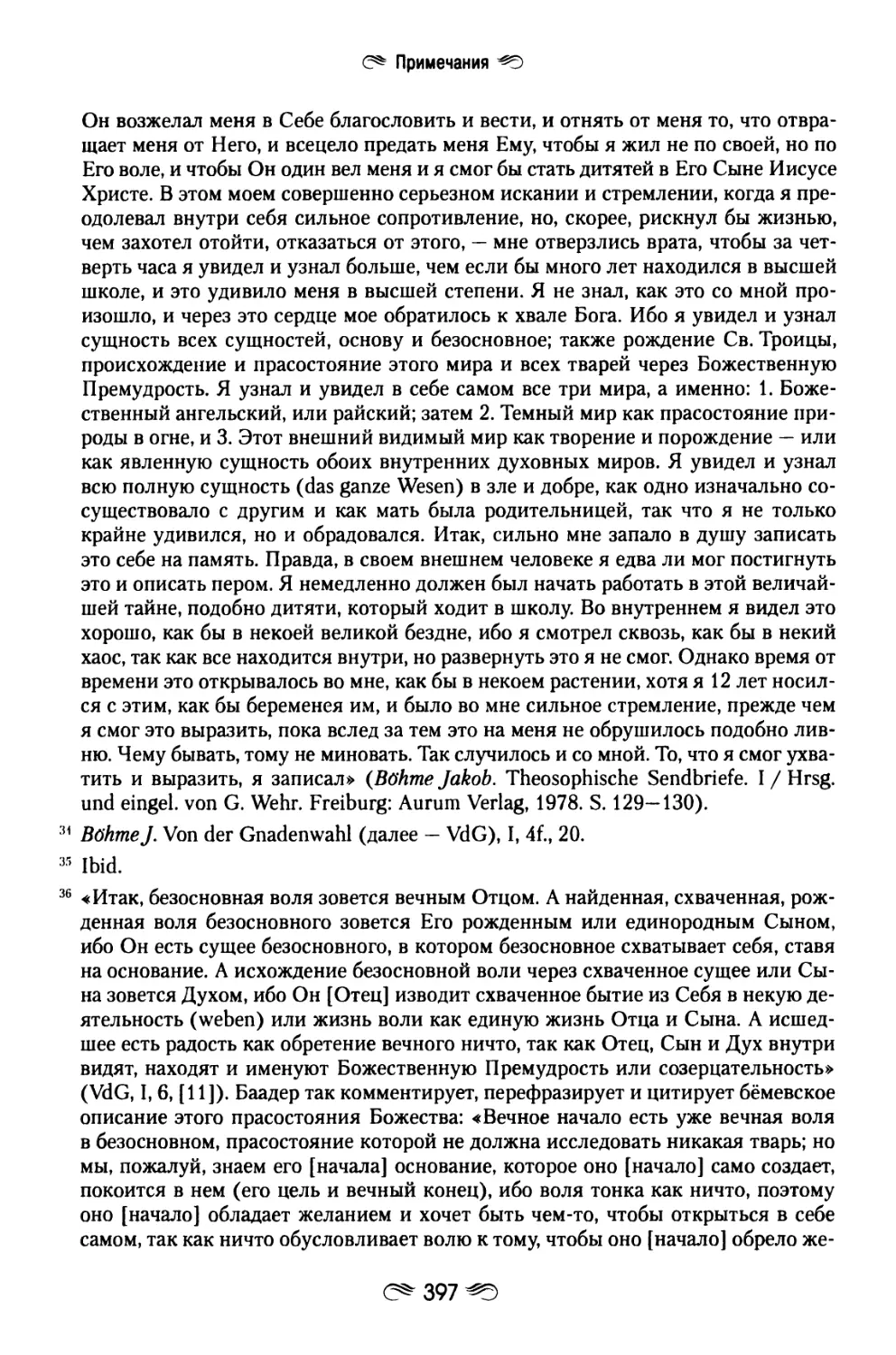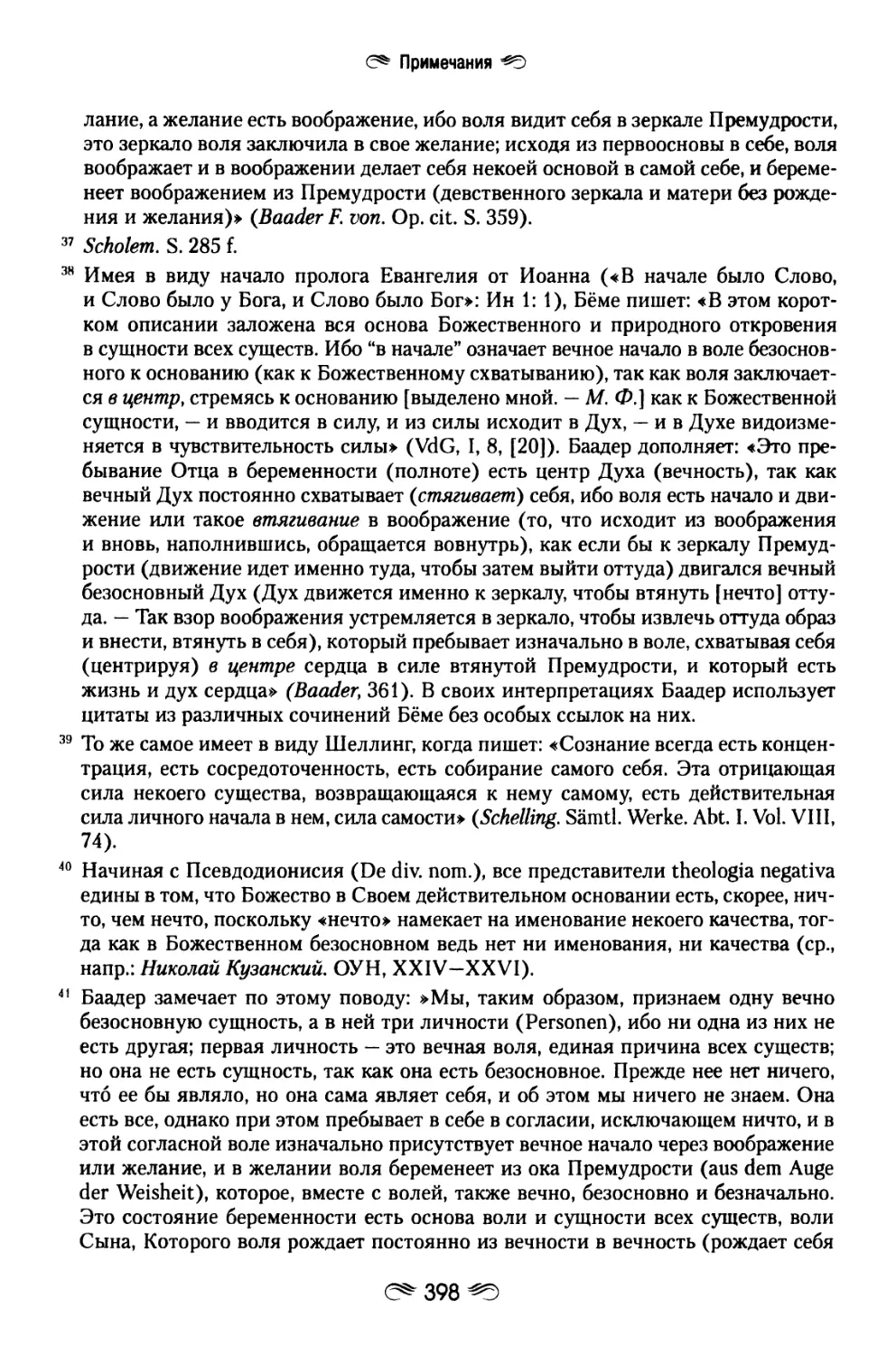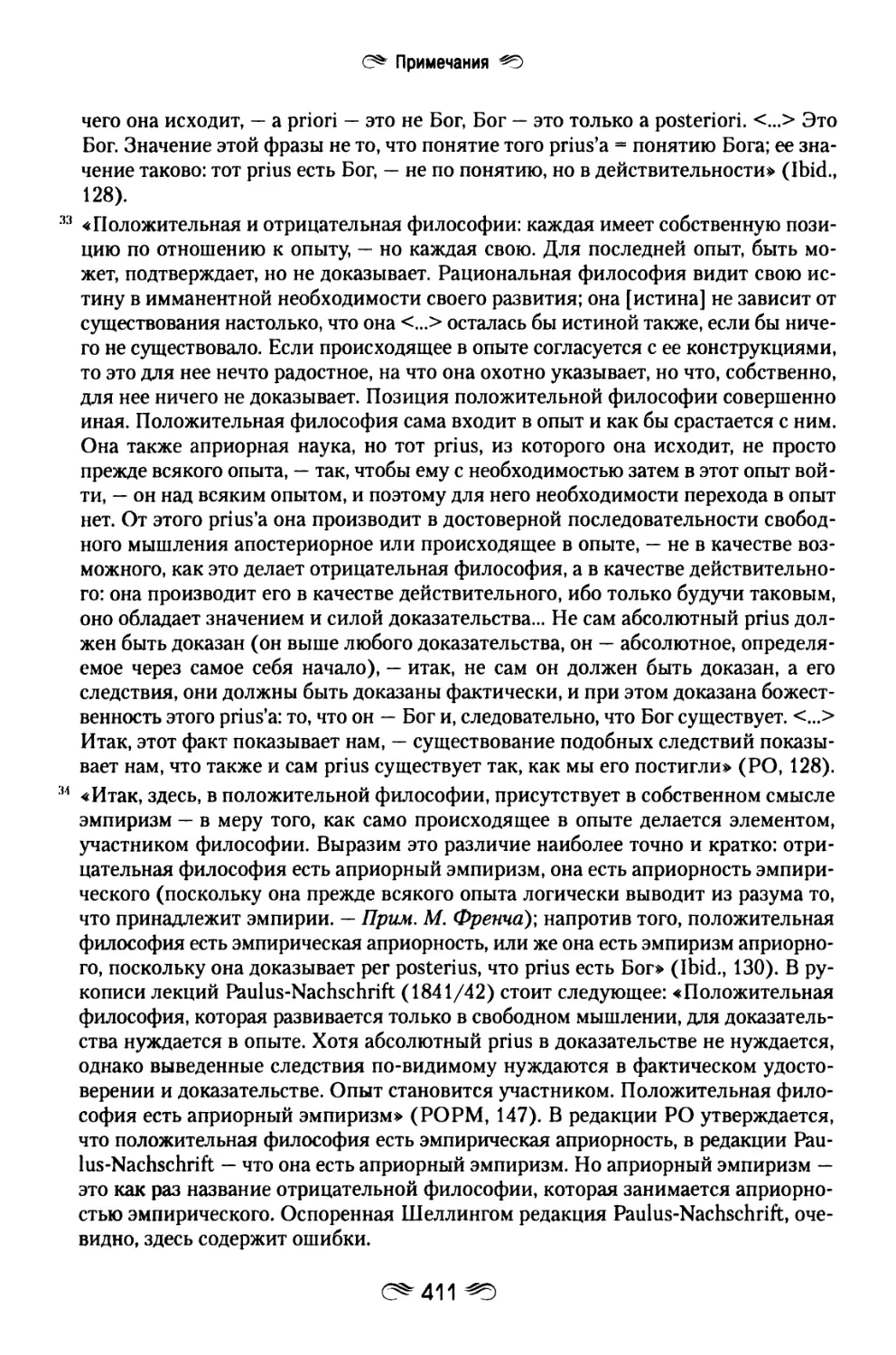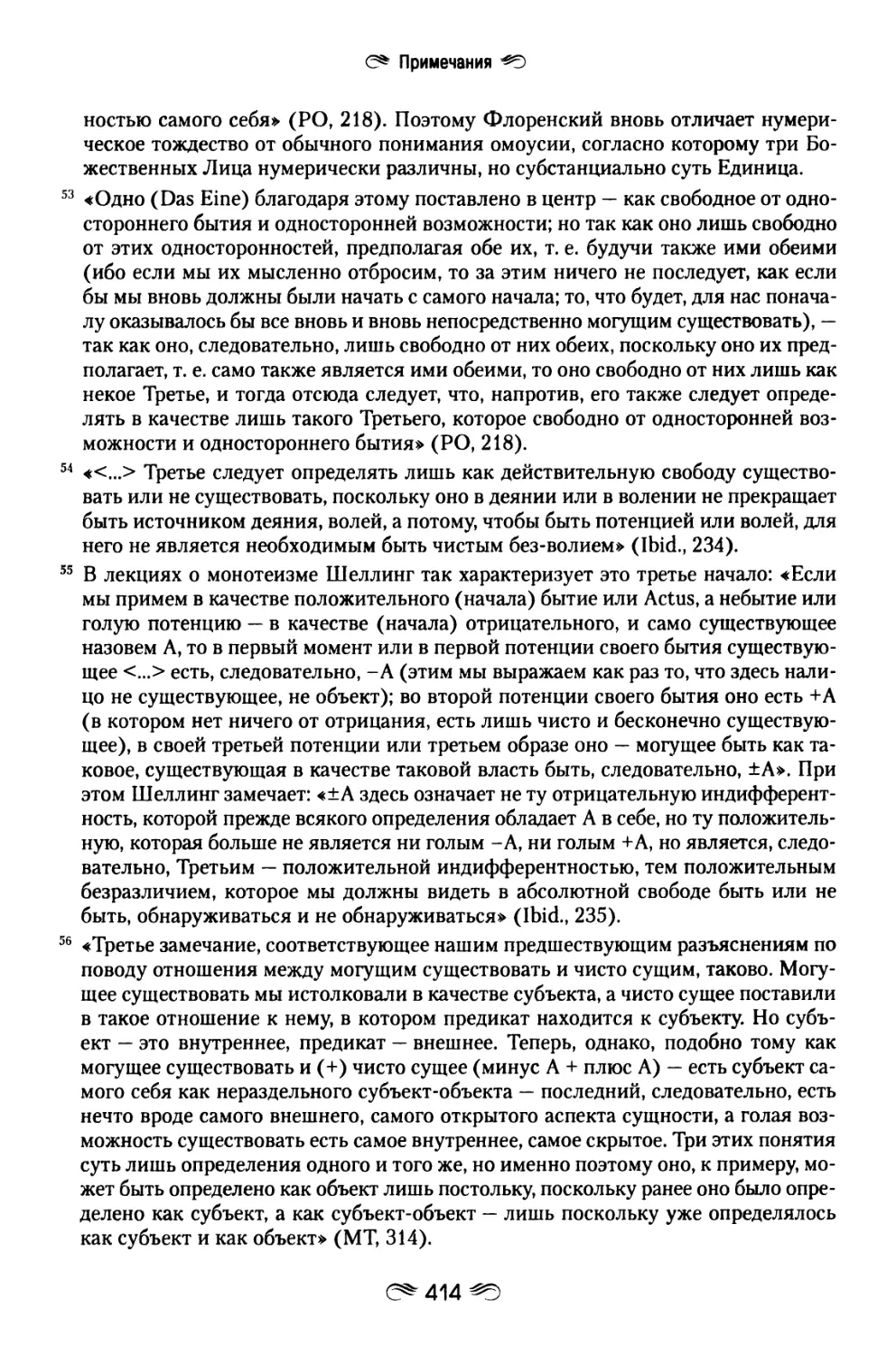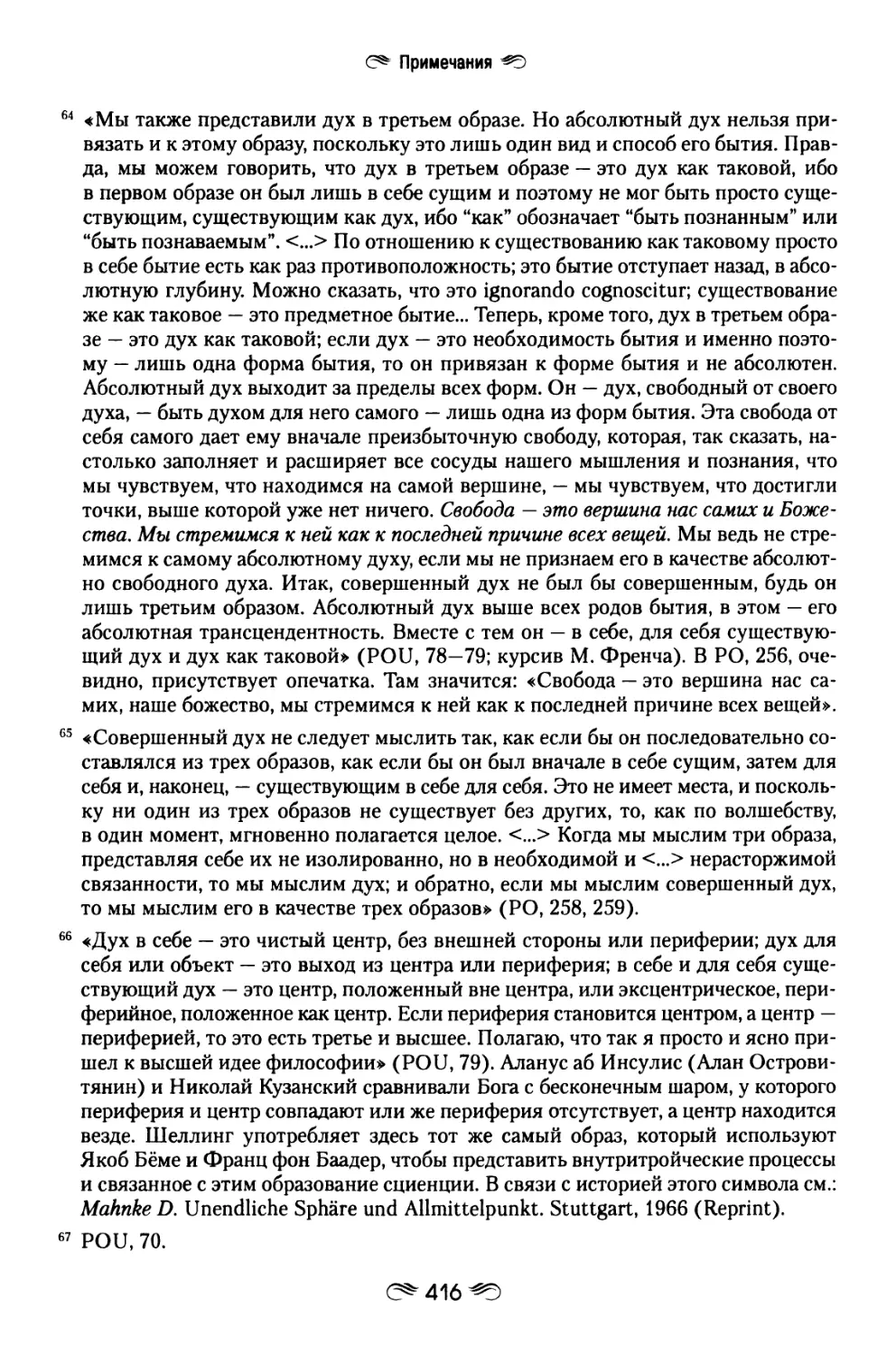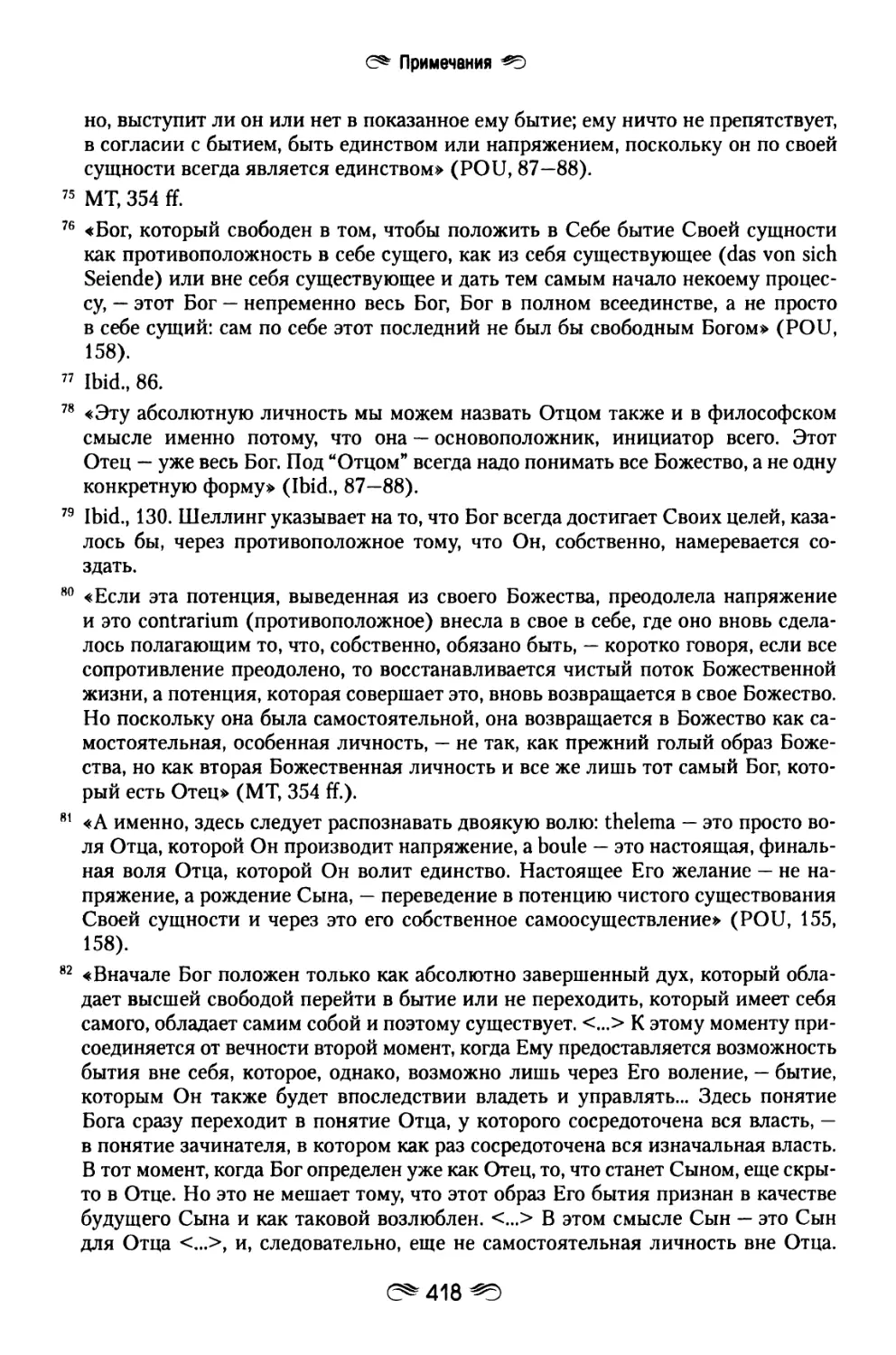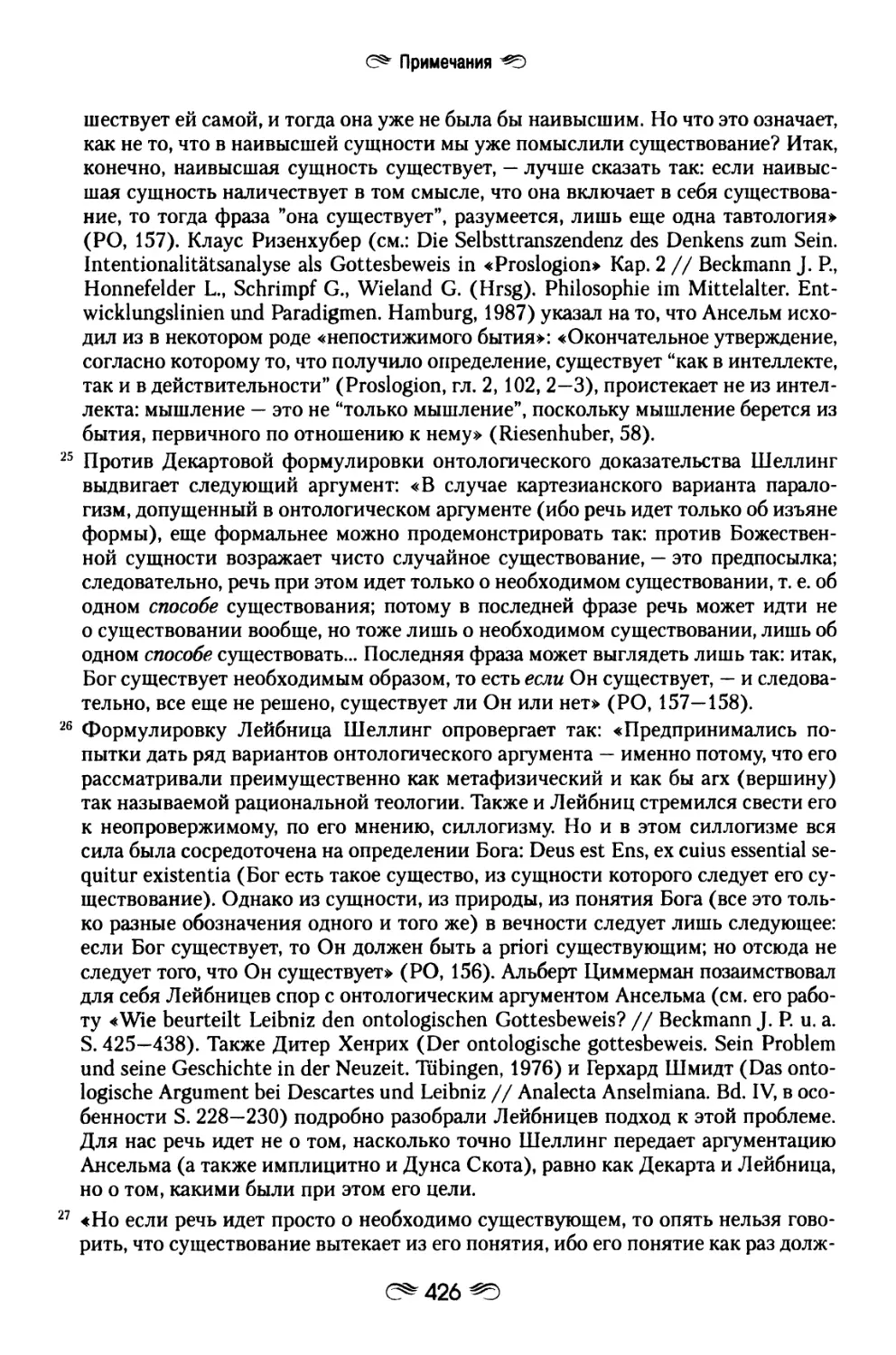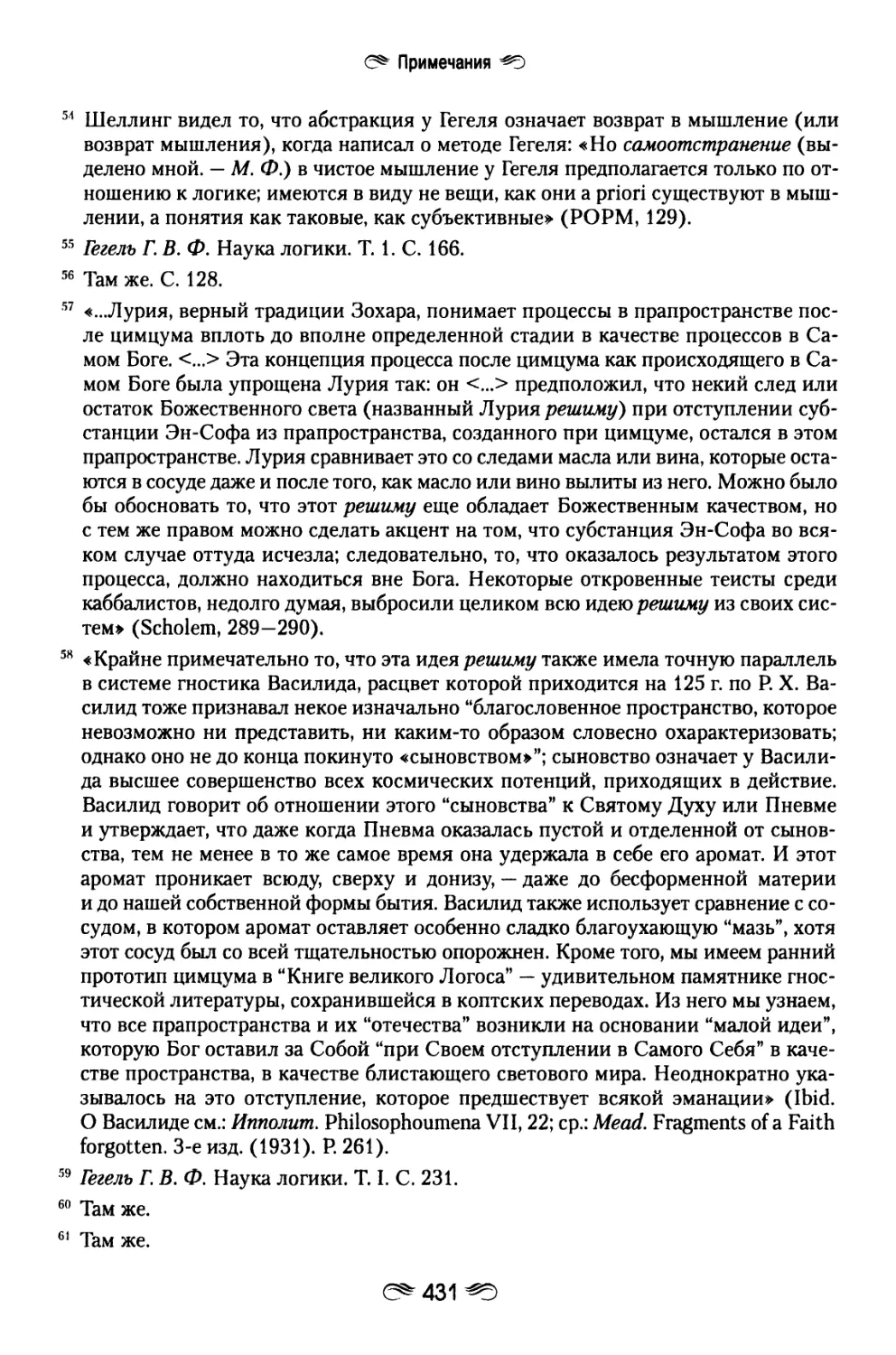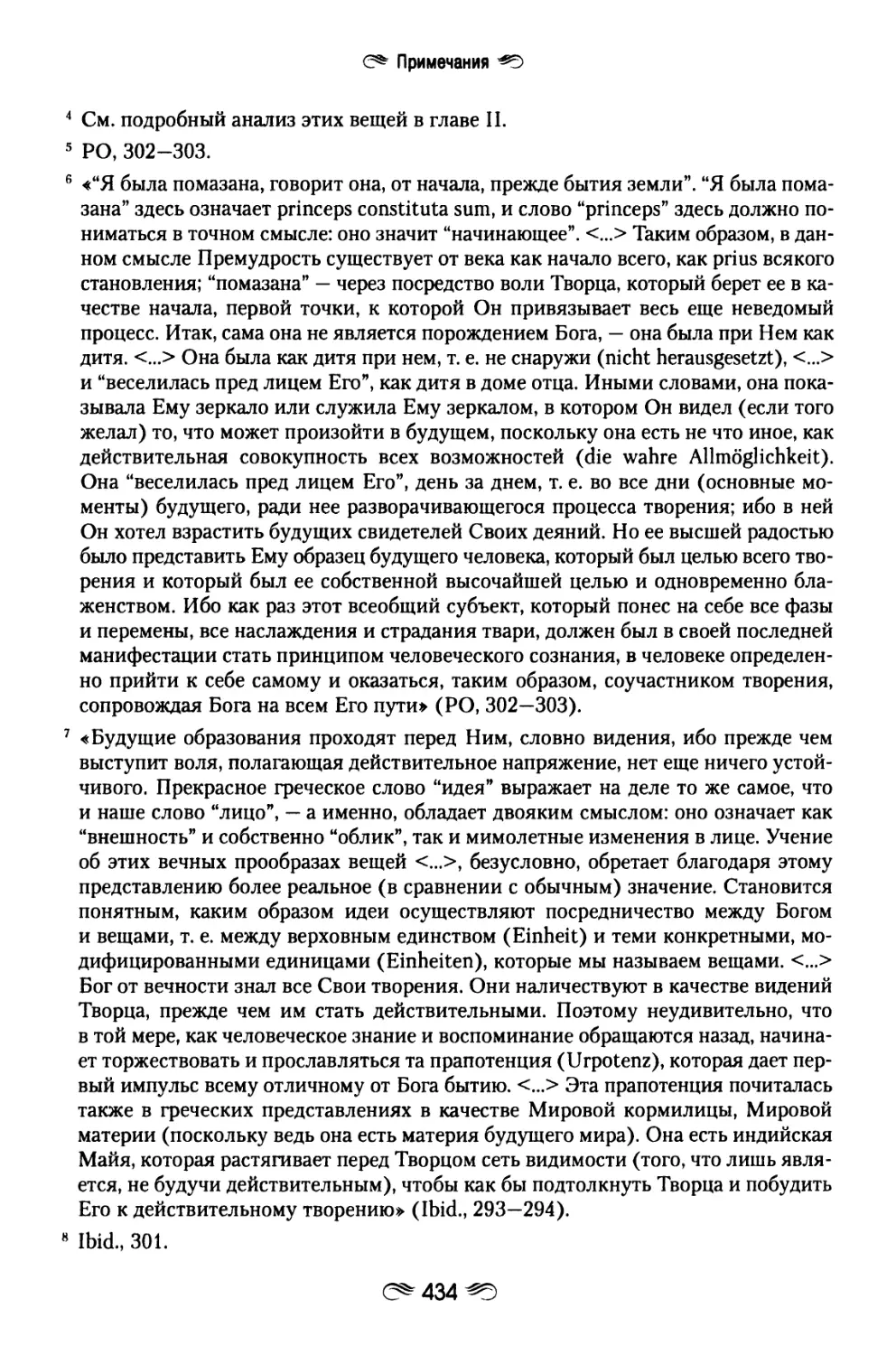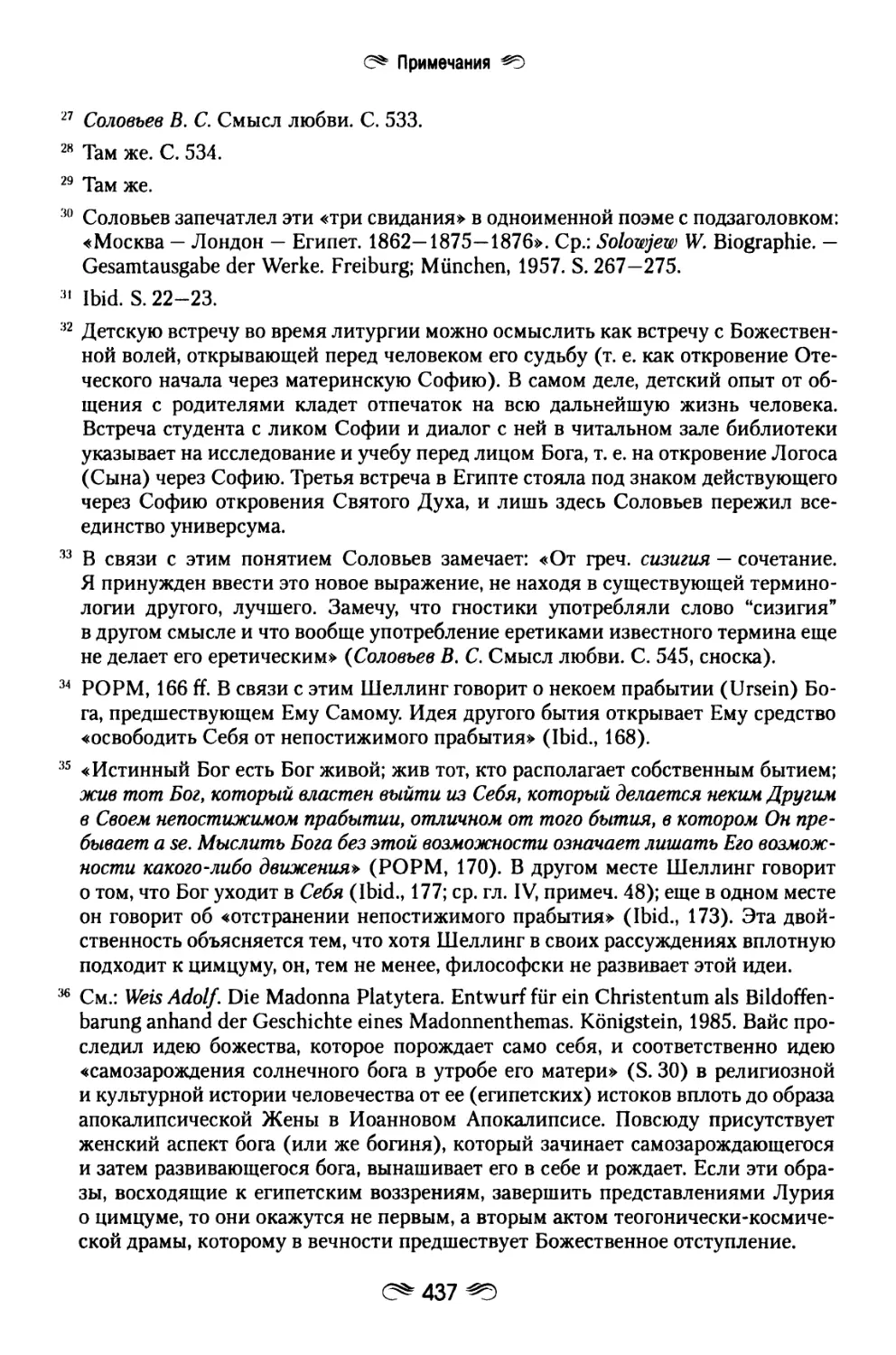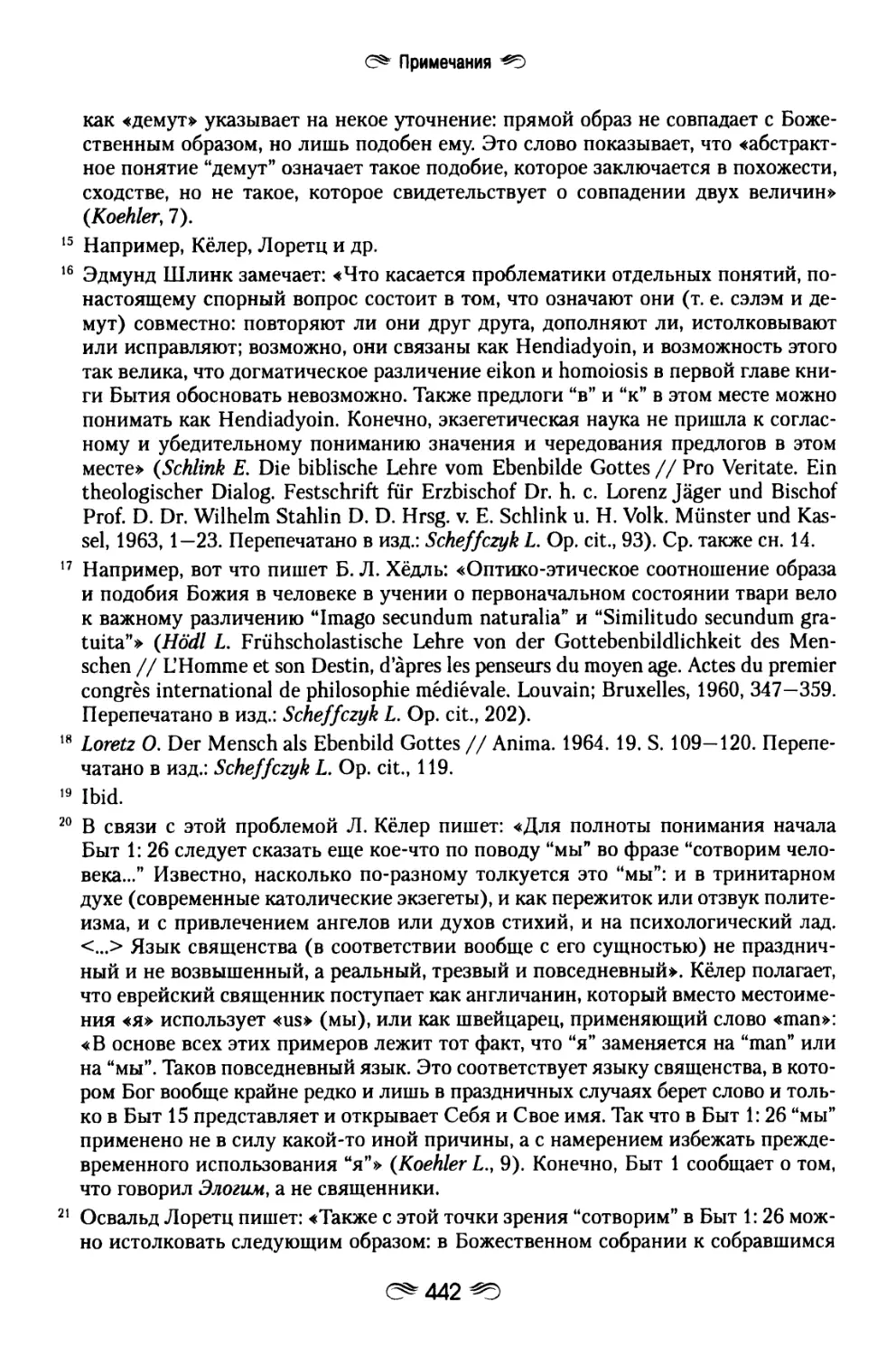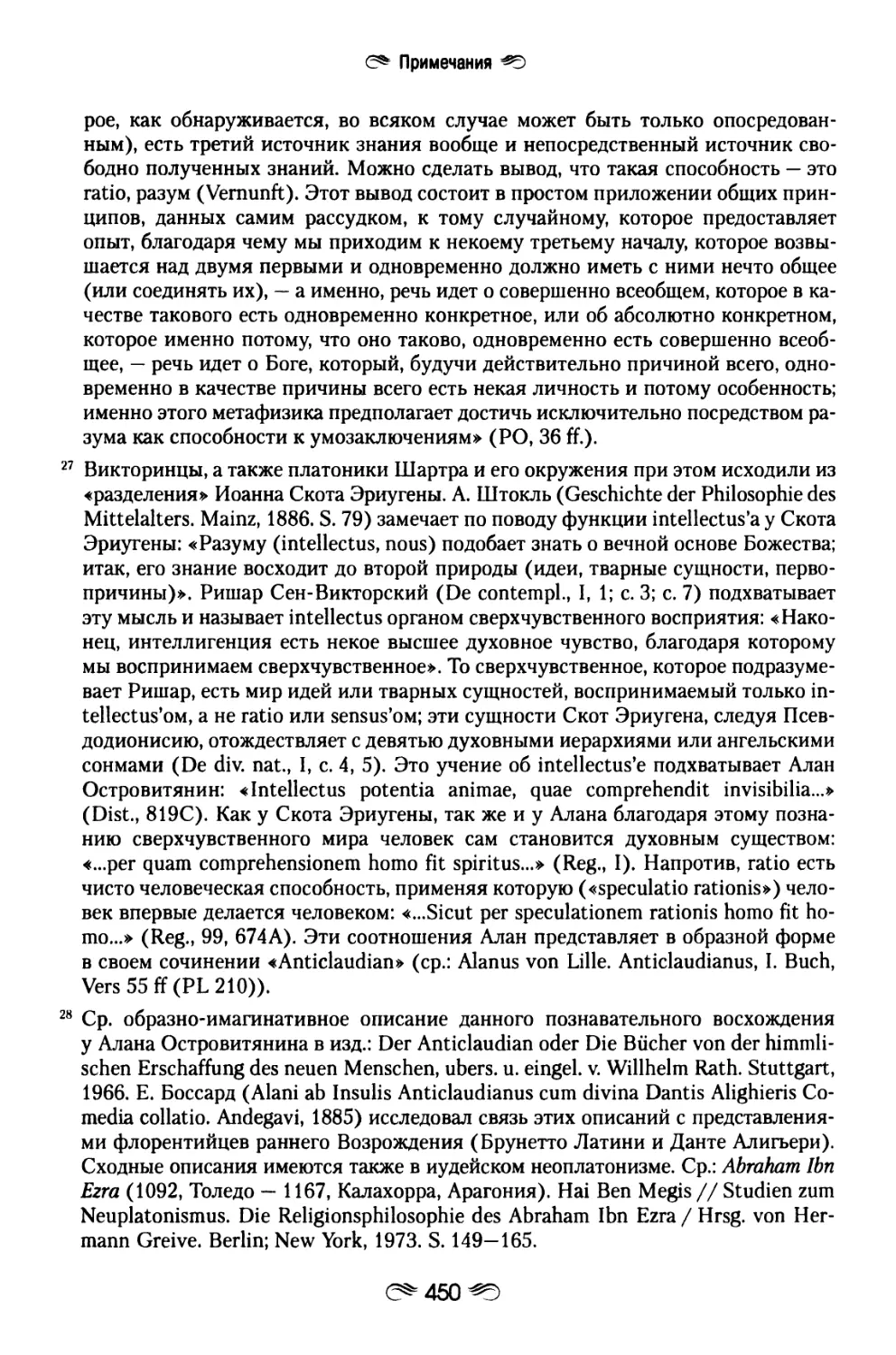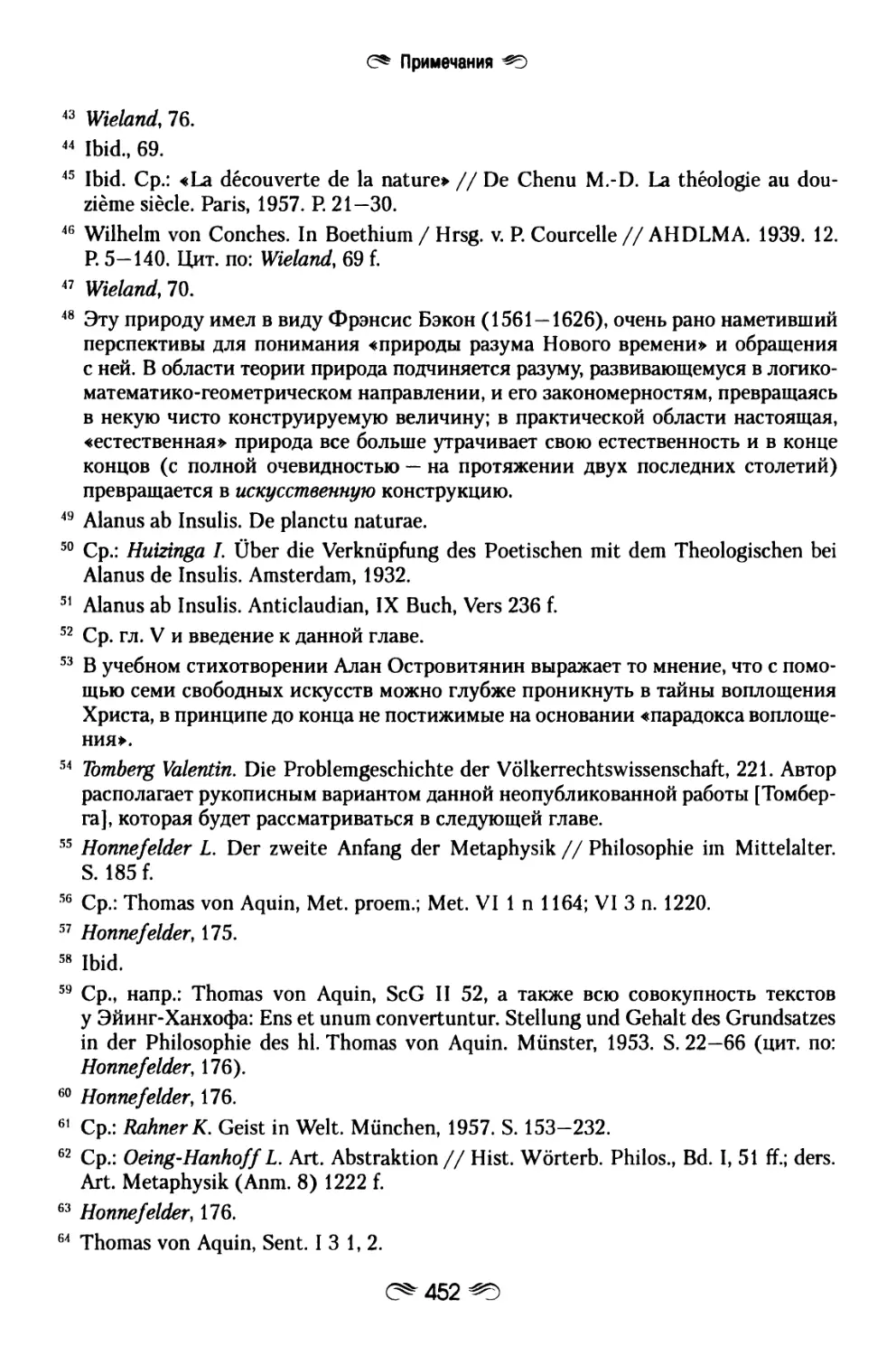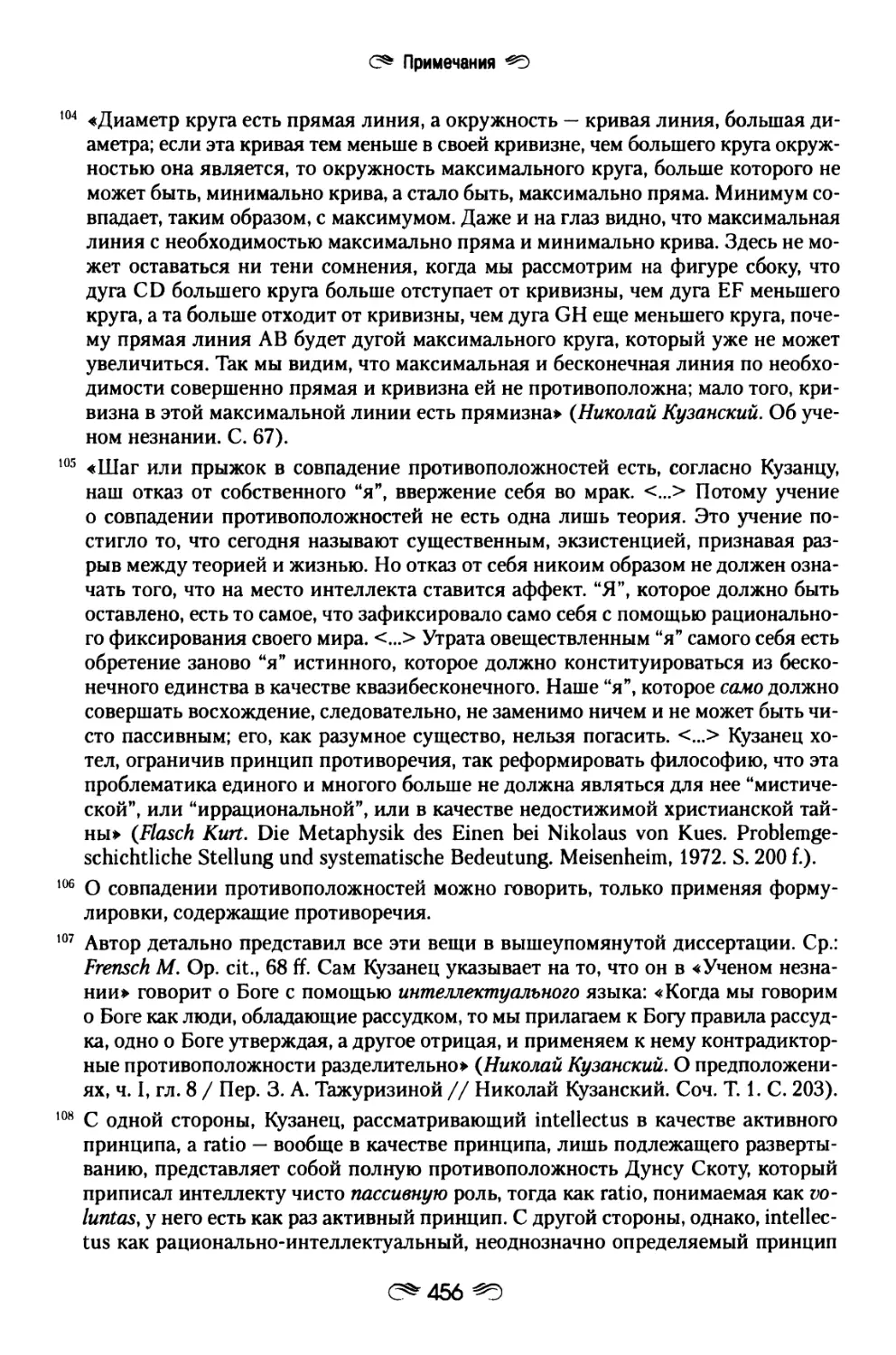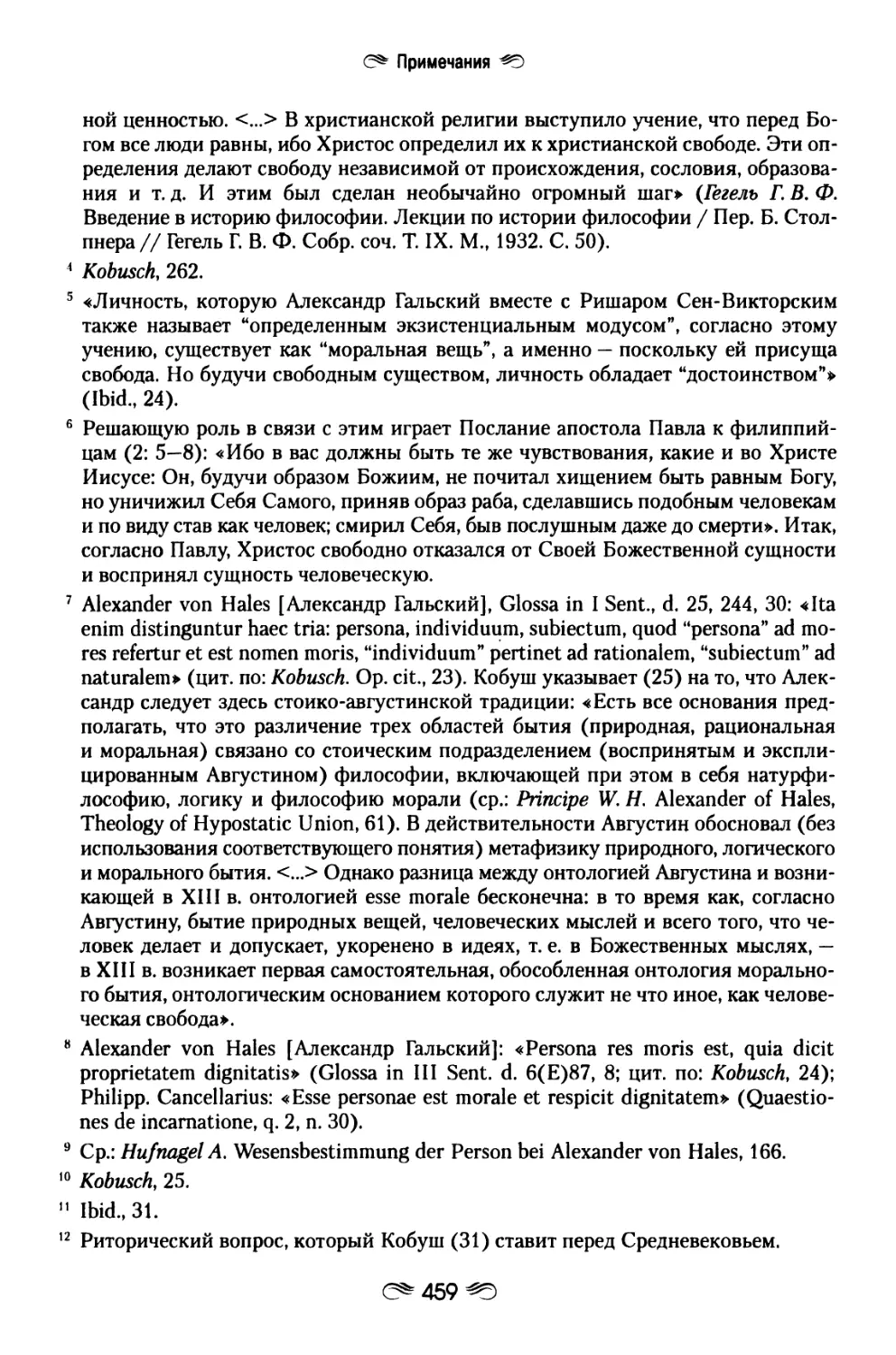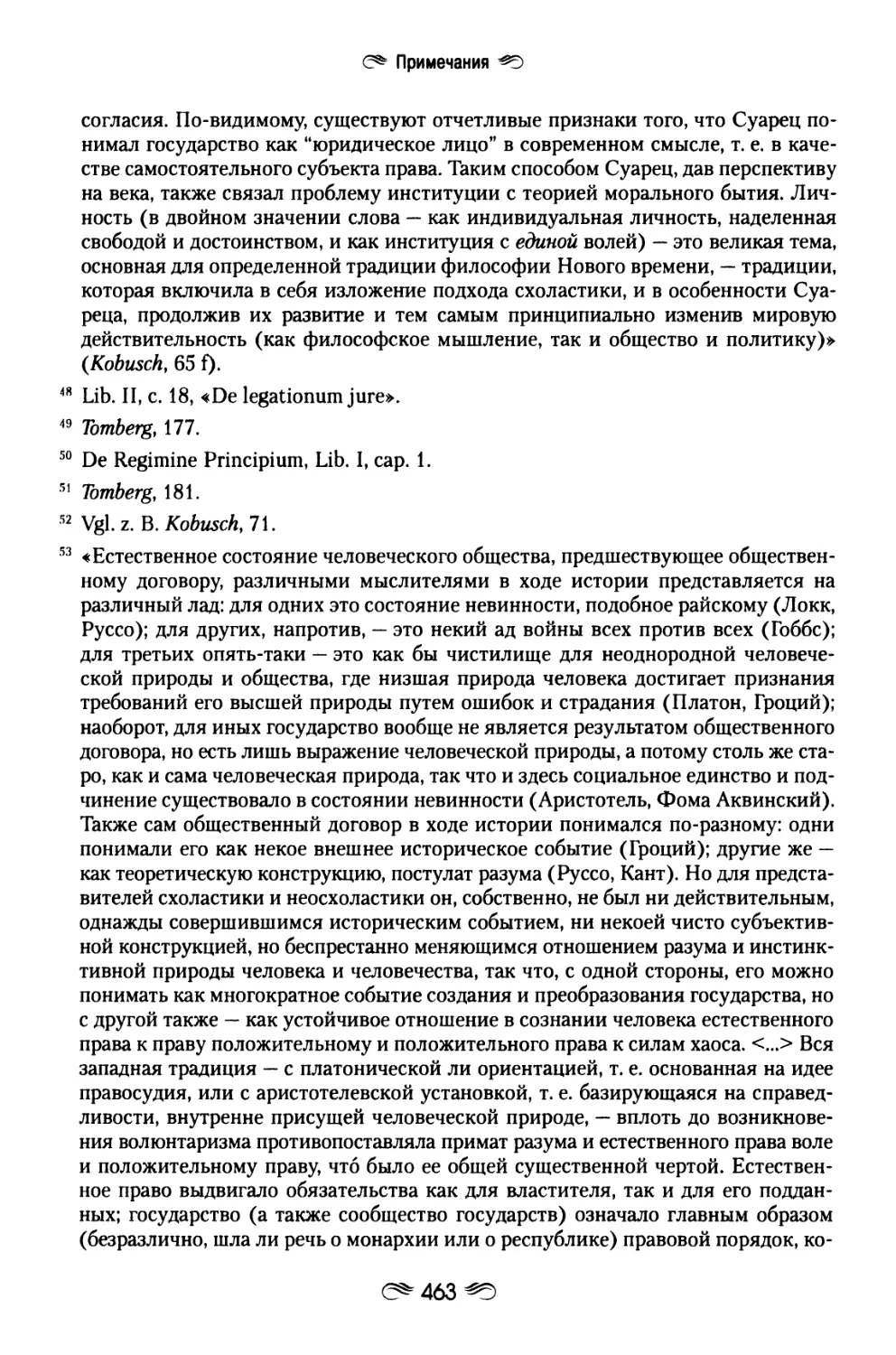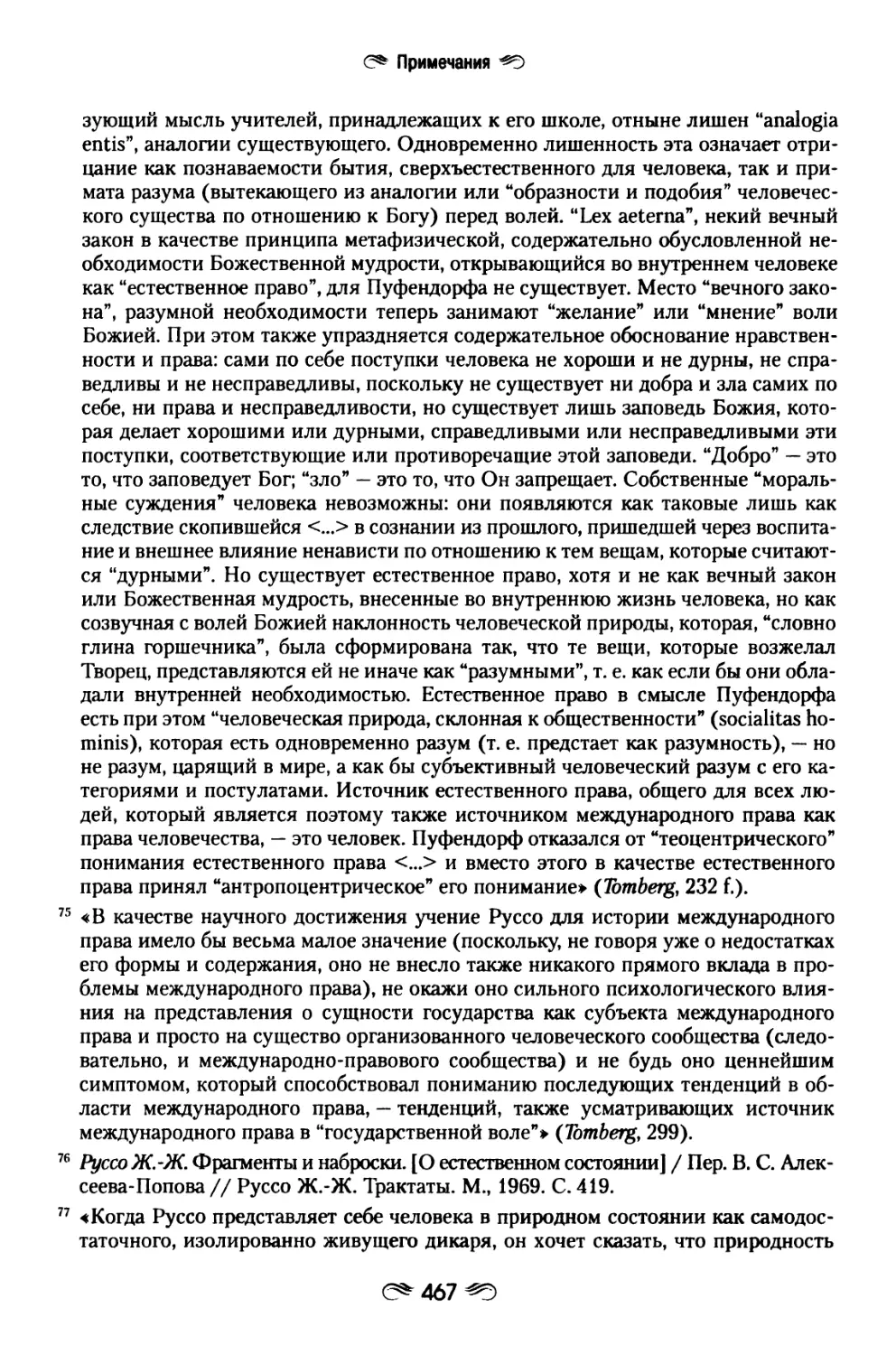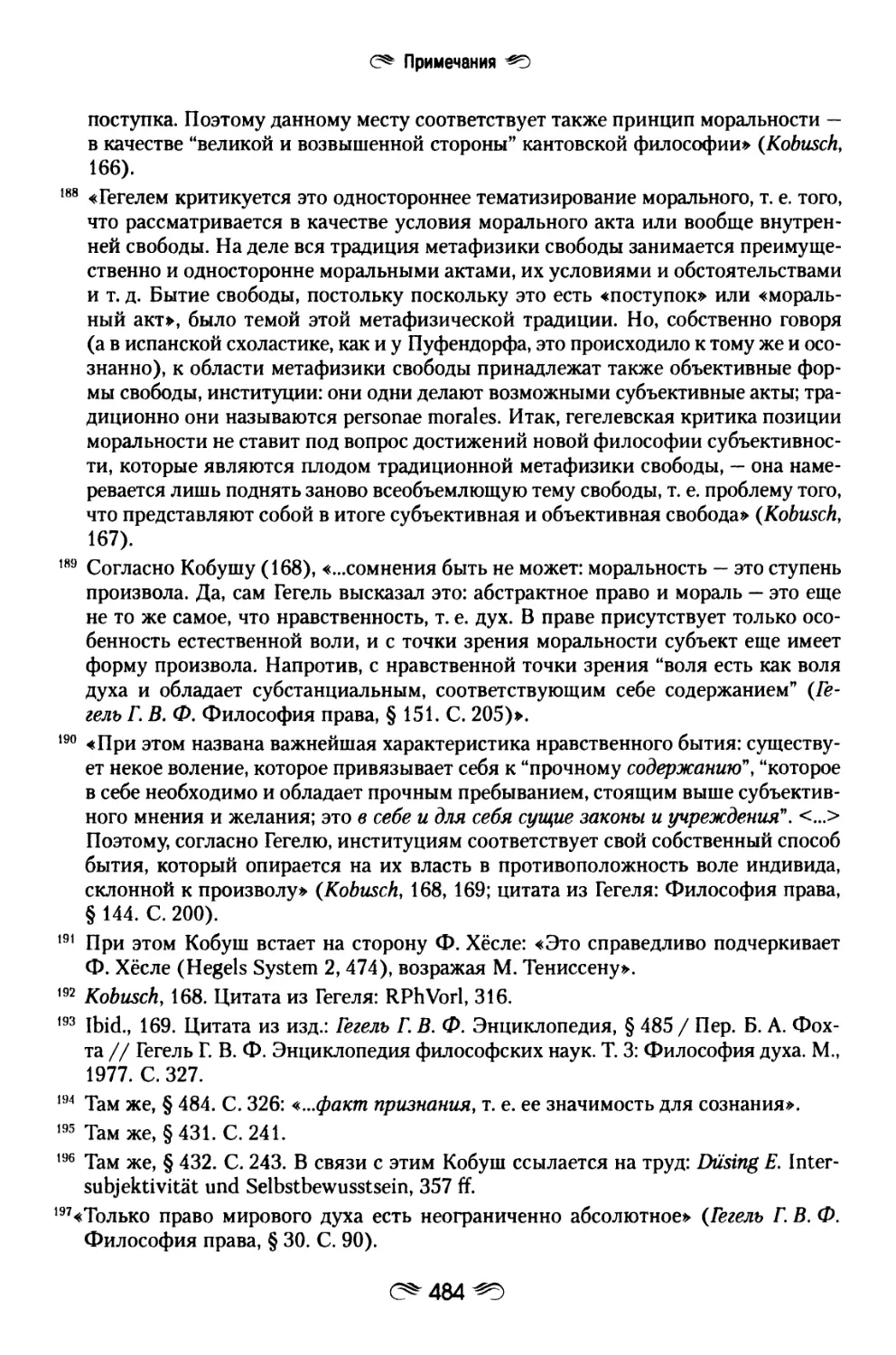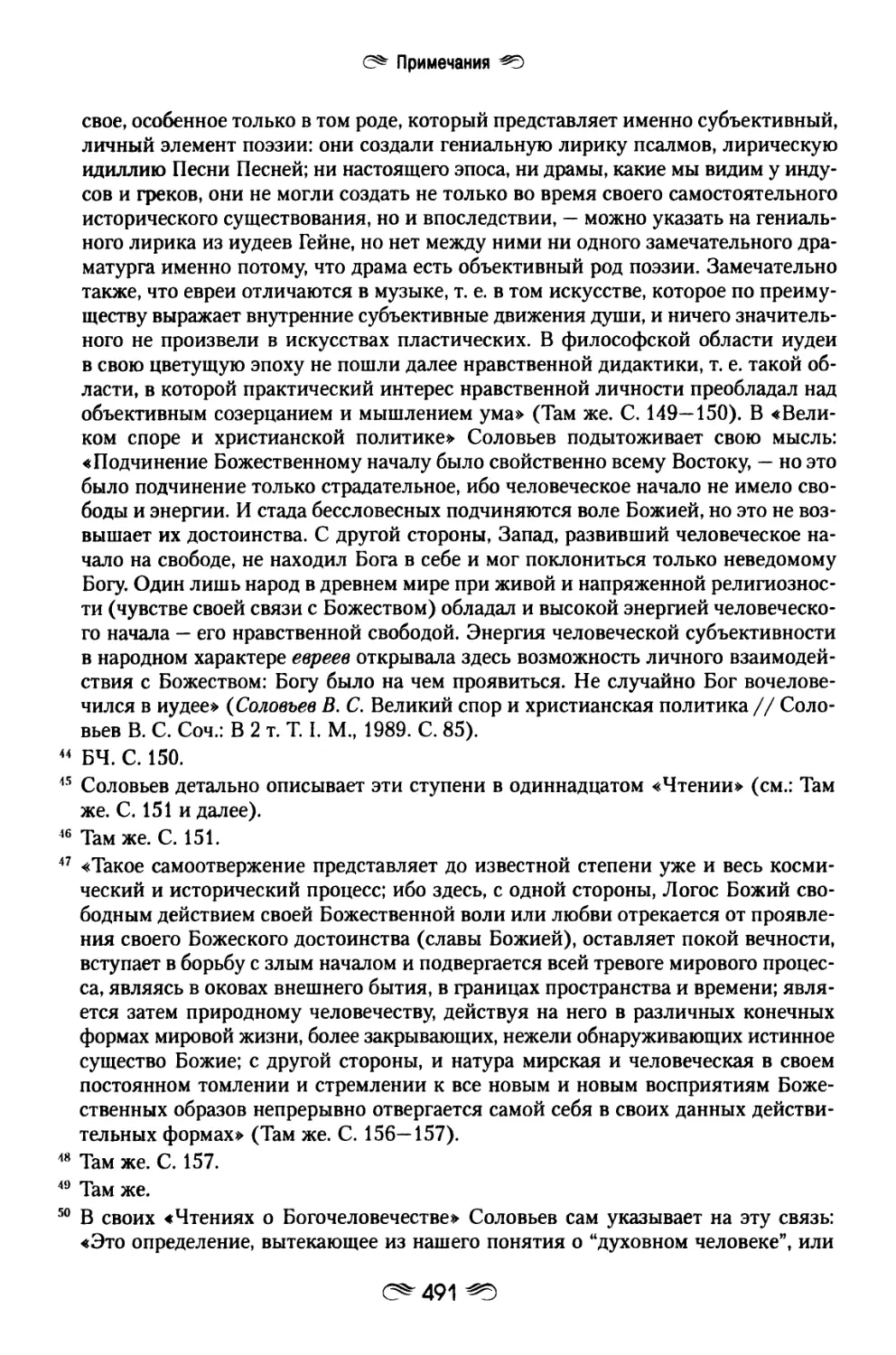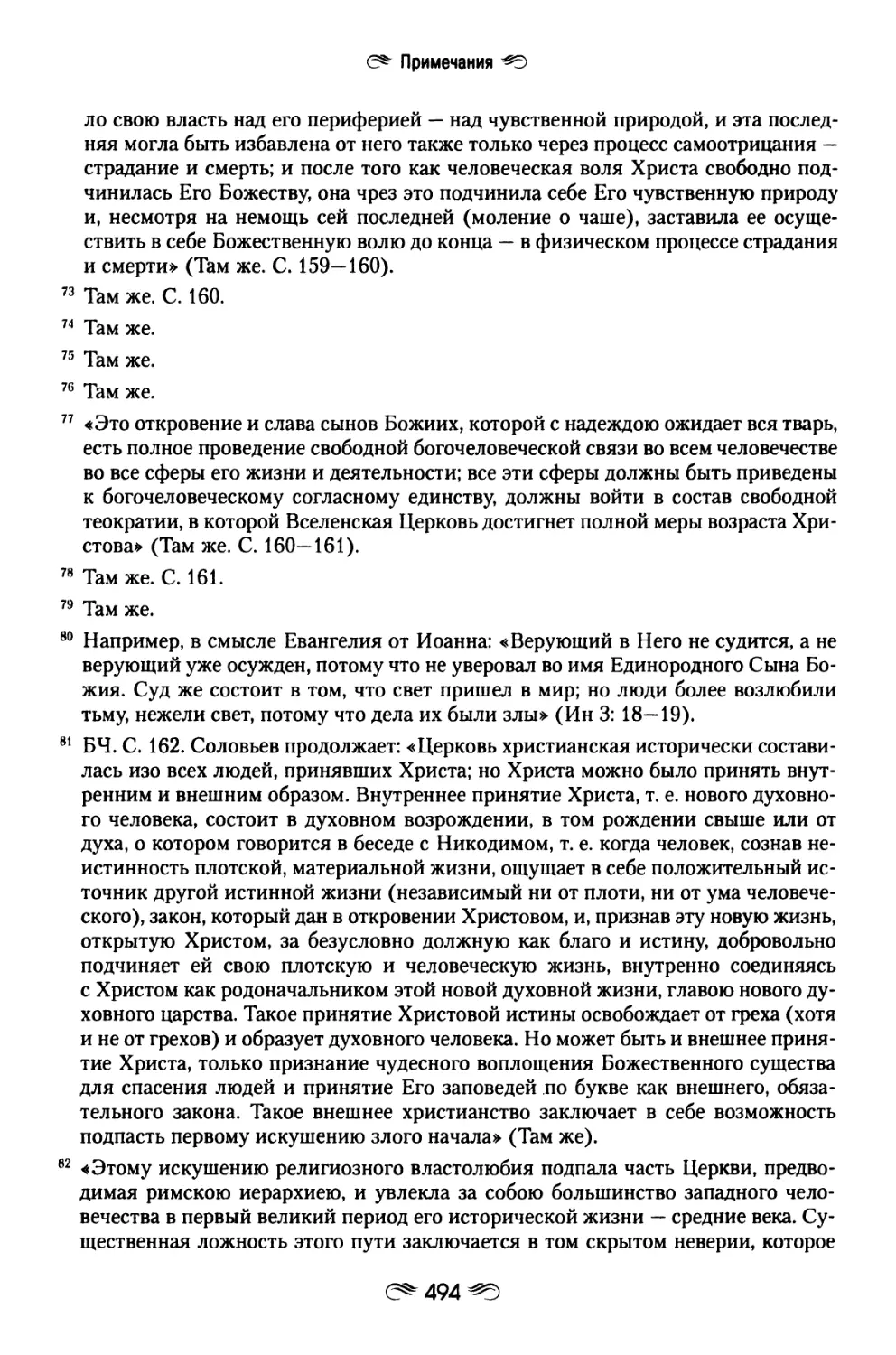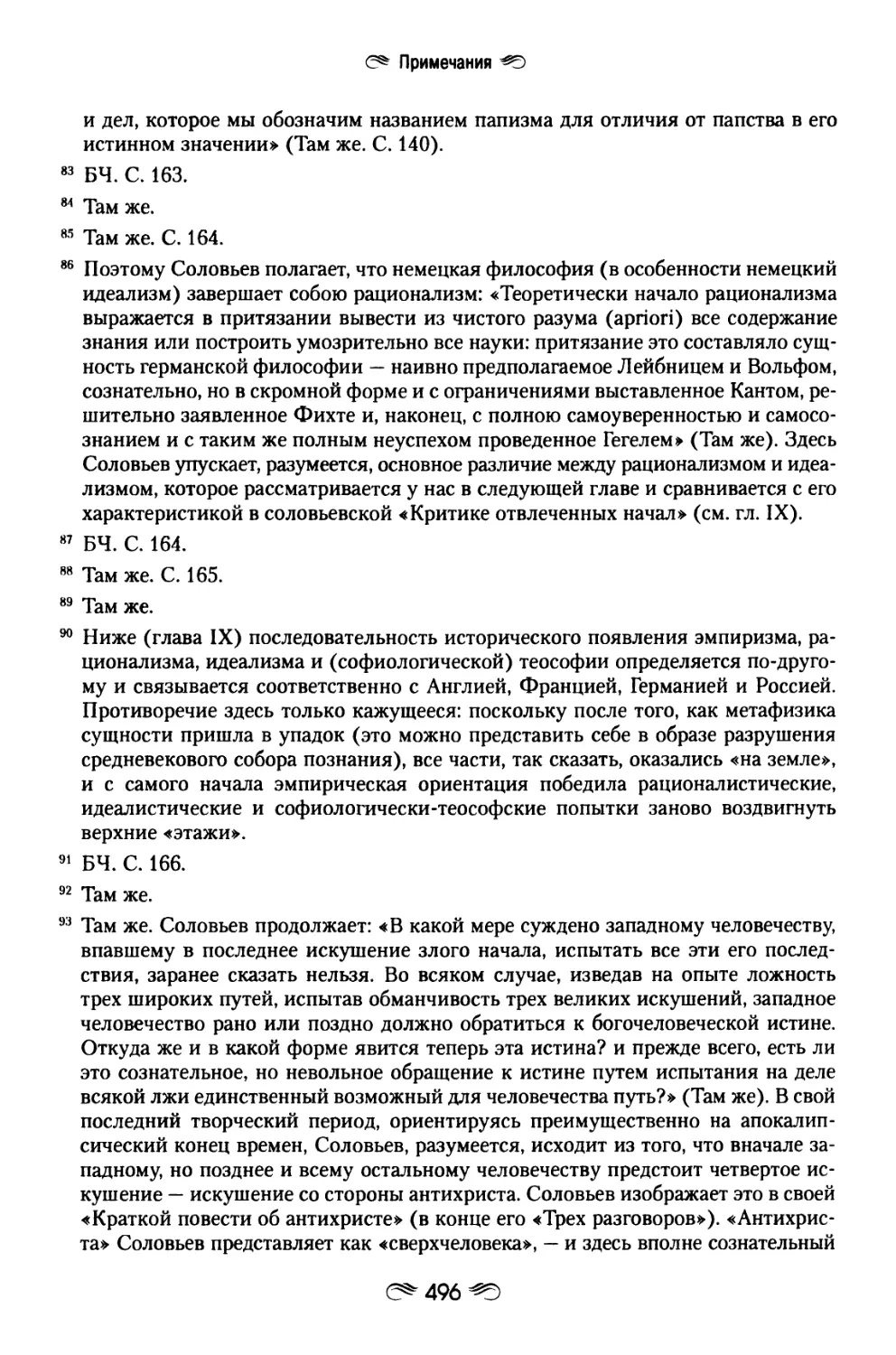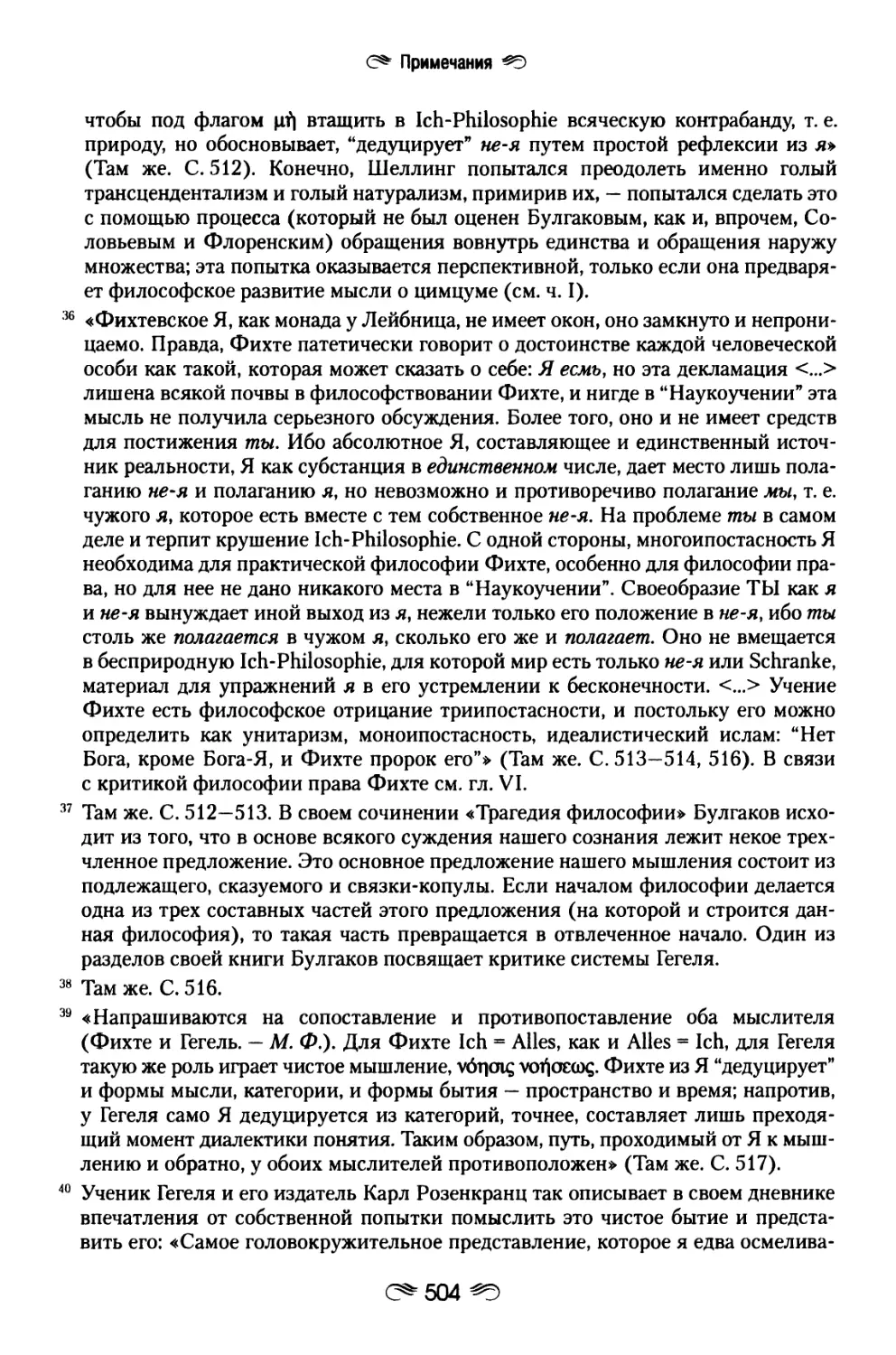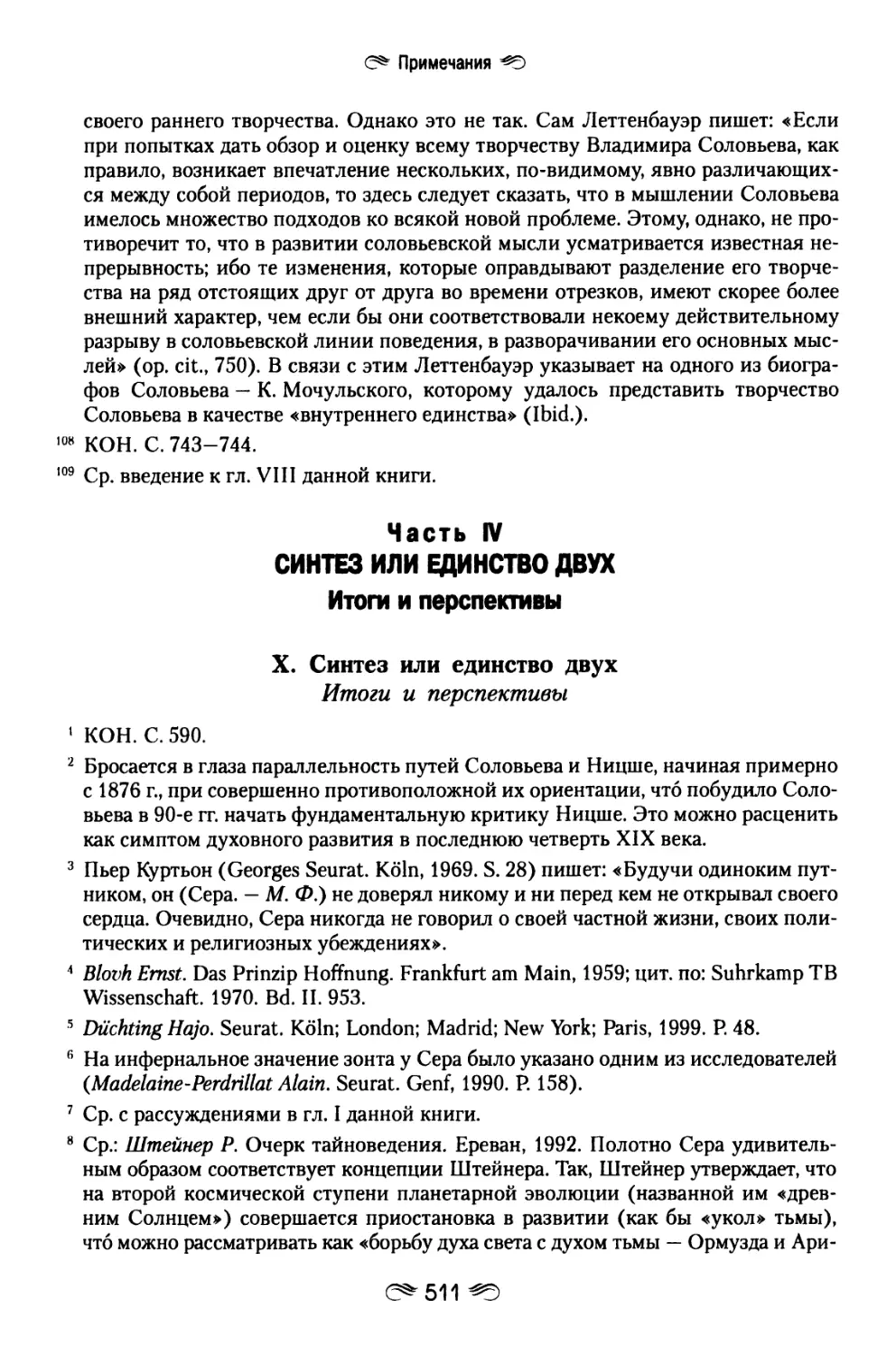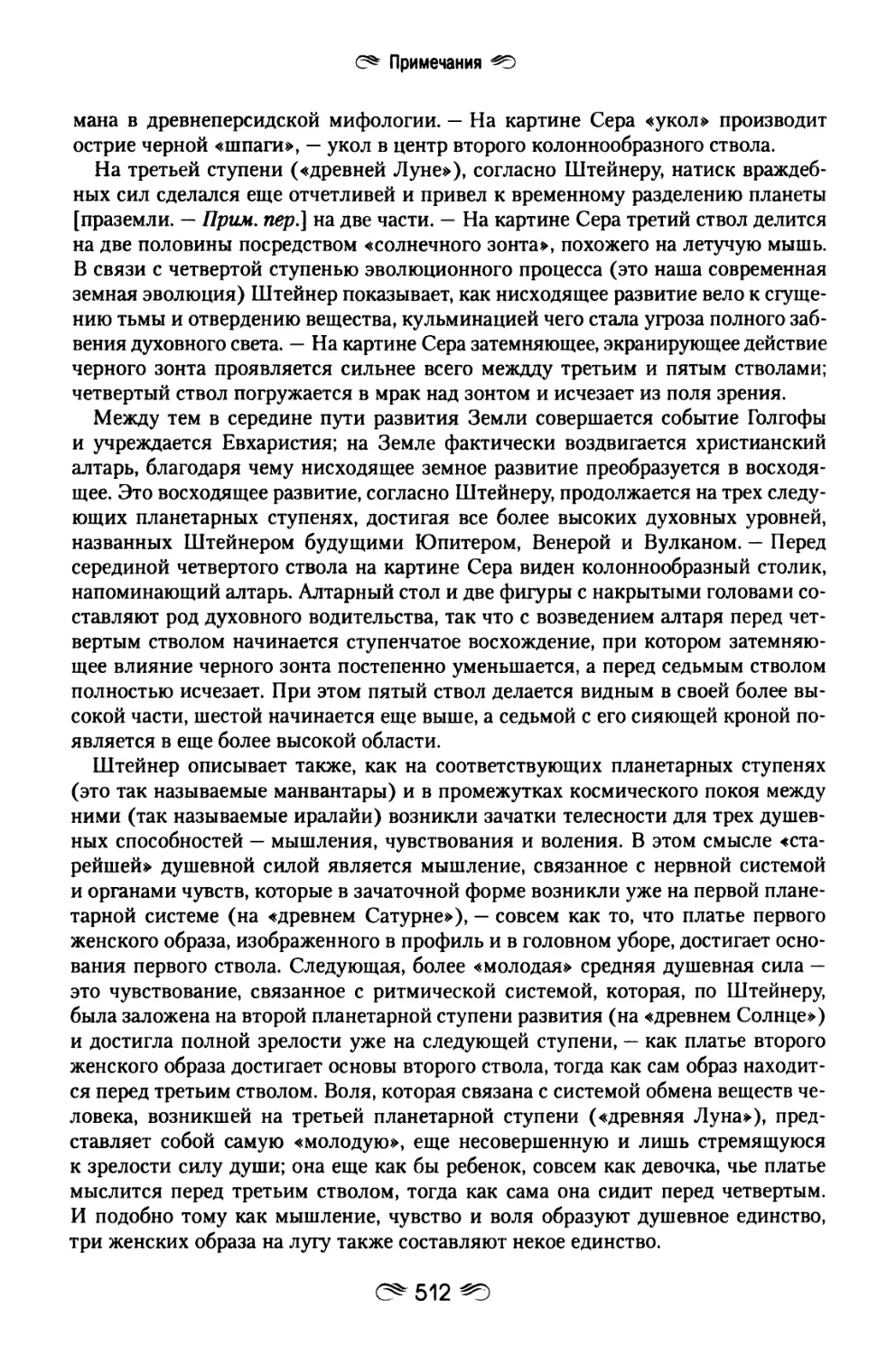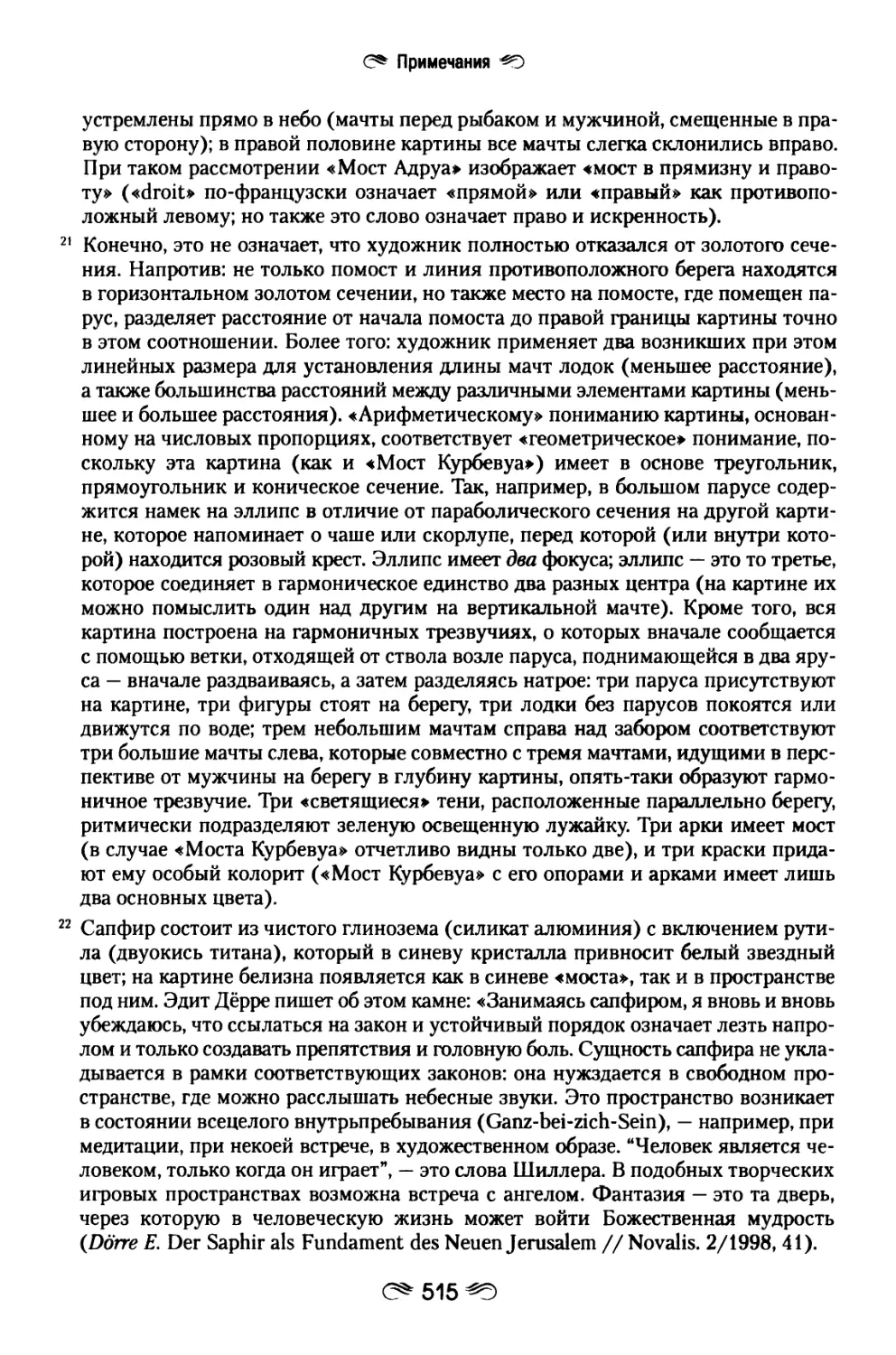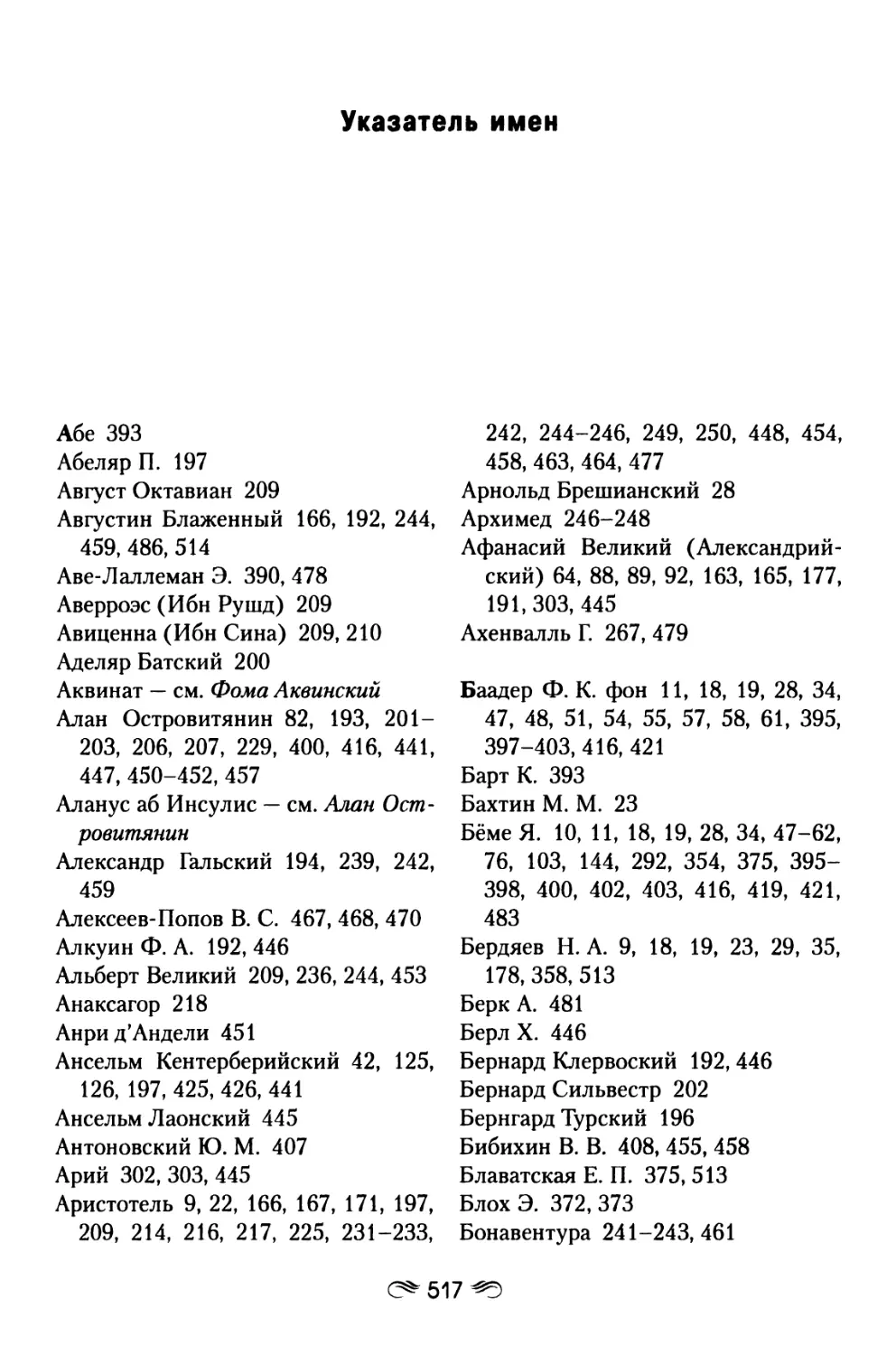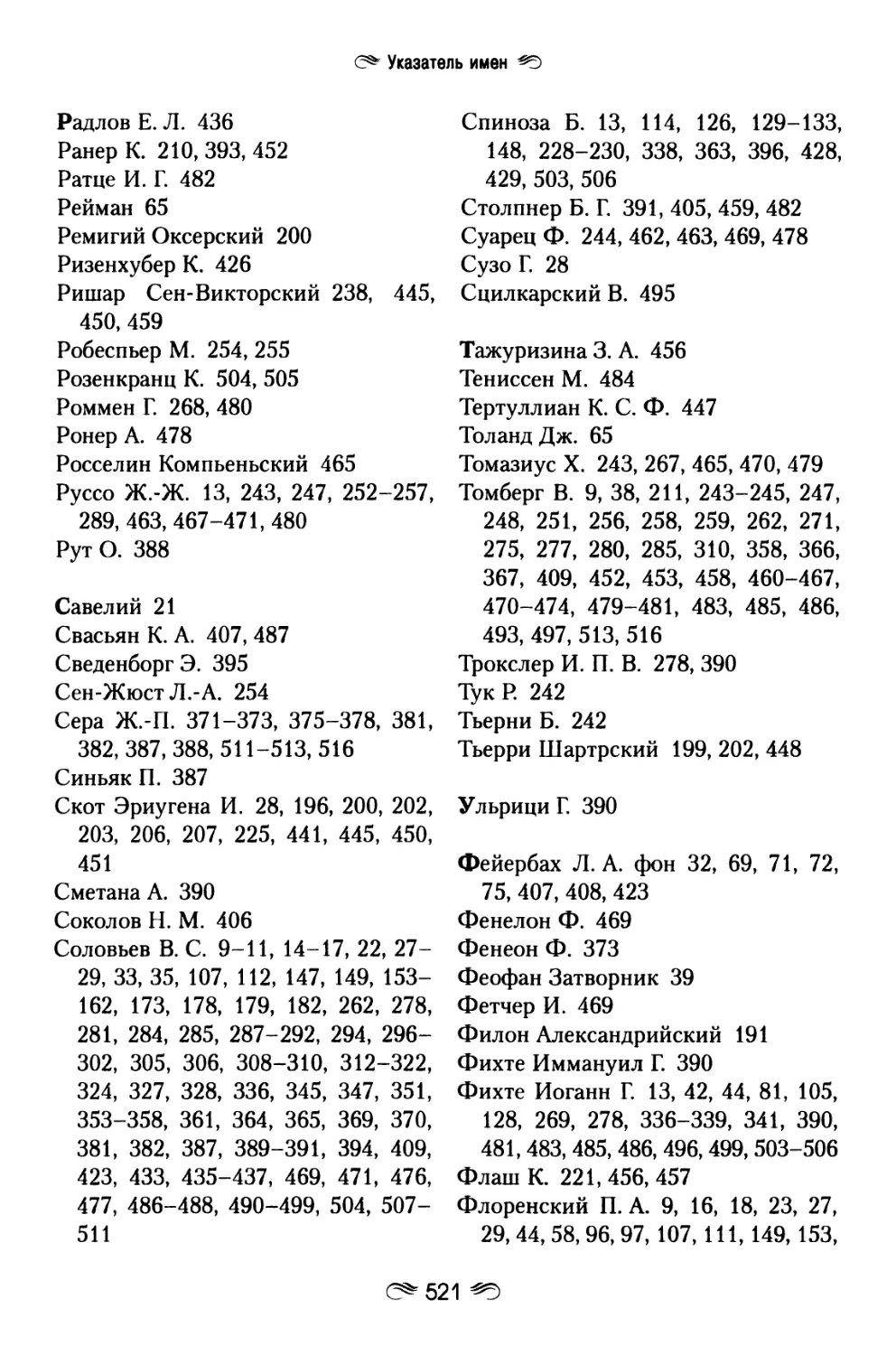Author: Френч М.
Tags: художественная литература на немецком языке православие философия
ISBN: 978-5-94668-156-8
Year: 2015
Text
Михаэль Френч
Лик
Премудрости
Îoctokj
Санкт- Петербург
2015
УДК 821.112.2.141.332-333
ББК 86.372-87.3(2)6
Ф87
Френч М.
Ф87 Лик Премудрости / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. Н. К. Бонецкой. —
СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2015. - 527 с; ил.
Современный немецкий философ Михаэль Френч (род. в 1948) может
вызвать в памяти «возрожденские» фигуры русских философов Серебряного
века благодаря своей научной универсальности и постановке глобальных
мировоззренческих проблем. Но близость к русскому духу М. Френча этим не
ограничивается: знаток русской религиозной философии, в своей историко-
философской (и одновременно самобытно-концептуальной) книге «Лик
Премудрости» мыслитель выстраивает историю западноевропейской философии
таким образом, что ее синтезом и вершиной оказывается русская мысль
рубежа XIX—XX вв. (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков). Русская
философия, оказавшись тем самым в контексте европейского философского
развития, обнаруживает глубины, неведомые прежде и знатокам.
Культуролог, правовед и искусствовед М. Френч, подобно В. Соловьеву,
стремится преодолеть «отвлеченные начала» западного мышления, расширяя
тем самым представление об истине.
Книга рекомендуется всем, кто интересуется как западной философией, так
и философией отечественной.
Перевод выполнен по изданию:
Michael Frensch. Weisheit in Person. Das Dilemma der Philosophie
und die Perspektive der Sophiologie. Novalis Verlag Schaffhausen, 2000.
ISBN 978-5-94668-156-8
© M. Френч, 2000
© H. К. Бонецкая, перевод, вступительная
статья, примечания, 2015
© ООО «Издательство "Росток"», 2015
Оглавление
H. К. Бонецкая. К истокам софиологии 9
Михаэль Френч
ЛИК ПРЕМУДРОСТИ
Введение. Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового
времени 27
1. Русская религиозная философия как философское учение о Софии ... 27
2. Идея «великого синтеза» Соловьева 28
3. Две формы метафизики 29
4. Третий род метафизики 32
5. Софиология как продолжение традиции положительной философии . 33
Часть I
ЦИМЦУМ И СОФИЯ
Отрицательная философия,
положительная философия и софиология
I. Божественное отступление и возникновение мира 39
1. Идея божественного отступления Исаака Лурия 39
2. Ступени возникновения мира по Якобу Бёме 48
a) Гнозис Якоба Бёме 50
b) Цимцум как эвристический принцип для понимания ступеней
сциенции 54
3. Заключение: Лурия, Бёме и Шеллинг 61
IL Трансцендентность и троичность 63
1. Введение: дурная и истинная трансцендентность 63
2. Формы дурной трансцендентности 65
a) Вытеснение Бога в деизме 65
b) Отрицание Бога в атеизме 68
c) Отождествление Бога и мира в пантеизме 72
3. Переход Шеллинга к истинной (guten) трансцендентности 75
4. Абсолютный дух и его образы 79
е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^)
5. Божественная перестановка и тринитарное развитие 82
6. Промежуточный результат: монотеизм как философское
развитие деизма, атеизма и пантеизма 86
7. Шеллинг и Лурия 89
8. Шеллингова концепция абсолютного духа и учение о Троице
Булгакова 92
9. Шеллингова теория перестановки и софиологическая идея
согласия 97
10. Перспектива: цимцум и четыре причины (causae) 104
a) Основание отношения «субъект-объект» 104
b) «Совершенно Другой» — первоначальный эйдос 106
c) Экскурс о любви 107
d) Обоснование четырех «causae» ПО
III. Присутствие отсутствующего 112
1. Введение: диалектика бытия и небытия 113
2. Априорный эмпиризм 115
a) Начало (Prinzip) априорного эмпиризма 116
b) Выведение первоначала 118
c) Круговая структура логической науки 119
3. Чистое бытие как ничто 120
4. Шеллингова концепция непостижимого бытия 124
5. Отношение между непостижимым и чистым бытием 128
6. Бытие и небытие 133
7. Цимцум как условие диалектики 137
8. Развитие понятия личности из идеи цимцума 138
a) Гегелевское «одно» и многие «одни» 139
b) Условие возможности «одного» 141
c) Значение жертвы 143
d) Откровение как полагание множества 145
IV. Лик Софии 147
1. Введение: от чистого принципа к сущности 147
2. Понятие Софии у Шеллинга 149
a) Появление (das Hervortreten) Софии 151
b) София как пришедший к самому себе человеческий разум 152
c) Выводы 153
3. Опыт Соловьева и его понятие Софии 153
a) София как Вечноженственное Бога 156
b) Существование in propria sua natura 157
c) Возможность личной встречи 158
d) Сравнение концепций Шеллинга и Соловьева 159
4. Сущность Софии согласно Павлу Флоренскому и Сергею
Булгакову 162
a) Понимание Софии Флоренским 162
b) Премудрость Божия (Sapientia, Sophia) у Фомы Аквинского . 164
е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э
c) Божественная София внутри Троицы (согласно Сергею
Булгакову) 165
d) Соотношение Булгакова с Фомой Аквинским и Флоренским .. 168
5. Заключение: Sophia divina и Sophia creata 172
Часть II
ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ
Основные черты западной метафизики
V. Образ и подобие 177
1. Введение: история двух понятий 177
2. Религиозно-философский подход к библейскому рассказу
о сотворении мира 179
a) Сэлэм и демут 179
b) Две первые главы книги Бытия 180
c) Человек в шестой день творения 182
d) Человек в Эдемском саду 183
e) Представление о свободе в книге Бытия 185
f) Следствия различных способов понимания свободы 187
g) Два порядка 188
3. Дальнейшее развитие учения об образе и подобии 190
a) Similitudo и dissimilitudo в патристике и в эпоху
византийского иконоборчества 190
b) Усвоение учения отцов в Средние века 192
c) Различение личности и сущности в Новое время 194
VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] 196
1. Введение: самосознание средневековой философии 196
2. «Первое начало» и помрачение imago 199
a) Семь свободных искусств 199
b) Принципы познания 200
c) «Собор познания» высокого Средневековья 201
d) Понятие природы 202
e) Вызов номинализма и новое открытие природы 204
f) Помрачение образа Божия (imago) 207
3. Второе начало метафизики и возвышение similitudo 209
a) «Analogia entis» у Фомы Аквинского 209
b) «Собор познания» — основа учения Фомы Аквинского
о многоступенчатом праве 211
c) Приведение intellectus'a в «пассивное состояние»
и «разрушение» analogiae entis у Генриха Гентского
и Иоанна Дунса Скота 213
4. Третье начало: философия как «точная имагинация» и новое
открытие образа (imago) у Николая Кузанского 217
a) Совпадение противоположностей как точная имагинация ... 219
b) Новая оценка интеллекта 221
е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э
c) «Ступени совпадения противоположностей» и возведение
заново «собора познания» 222
d) Два основания вещи (der res) 224
e) Интегральная логика как логика моральная 226
/) Выводы 234
5. Итоги и перспективы 235
VIL Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] 237
1. Введение: новая метафизическая традиция 237
2. Христологические основы понятия личности 238
3. «Субъективация» естественного права в эпоху позднего
Средневековья 240
a) Учение о праве Фомы Аквинского 240
b) Францисканское обращение естественного права
в субъективное право 241
4. Сумерки права в Новое время и пробуждение личностного
сознания 243
a) Возвышение совести и переход к двухступенчатому праву
у Гуго Гроция и его школы 244
b) Преобразование естественного права с помощью
реконструкции «естественного состояния» у Томаса
Гоббса (1588-1679) 246
c) Методологически новое обоснование естественного права
и преодоление Аристотелевой этики в «Ethica
Universalis» Самюэля Пуфендорфа (1632—1697) 249
d) Упразднение естественного права и переход
от двухступенчатого к одноступенчатому праву у Руссо
(1712-1778) 252
5. Открытие Кантом ценности личности и обоснование
моральной логики как логики метафизики свободы 256
a) Логическое начало практического разума 259
b) Возражение Макса Шелера против возможности моральной
логики 261
c) Моральность практического разума у Канта 263
6. Отделение Кантом права от нравственности в «Метафизике
нравов» и соединение их в философии права Гегеля 266
a) Внутреннее и внешнее законодательство по Канту 266
b) Подтекст философии права Гегеля 268
c) Преодоление Гегелем познавательной робости критицизма
и последствия этого для метафизики свободы и развития
права 271
7. Выводы и перспективы 276
(^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^
Часть III
СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ
Софиологический вклад в преодоление
дилеммы философии
VIII. Софиологая как метафизика свободы. Понятие Богочеловечества
у В. Соловьева 281
1. Введение: «сверхчеловек» Ницше и сумерки метафизики
свободы 281
2. Будущее метафизики свободы по Соловьеву 284
a) Глубинные источники метафизики свободы по Соловьеву 285
b) Антропологические предположения 289
c) Первобытное состояние в понимании Соловьева 290
d) Грехопадение как переход от первобытности в природное
и общественное состояния 292
e) Преодоление природного состояния 293
f) Богочеловек как путь и цель воссоединения 295
3. Воплощение Богочеловека 296
a) Софиологический образ Бога у Соловьева как ответ
на полемику деизма и пантеизма 296
b) Исторический процесс становления человека 298
c) Сущность Богочеловечества Иисуса Христа 300
d) Спор с раннехристианскими ересями 301
e) Одно Лицо и две природы 304
4. Универсальное значение Богочеловека 305
a) Три искушения в пустыне 306
b) Софиологическое истолкование Гефсимании и Голгофы 308
c) Церковь как воссоединение Божественного и человеческого
начал 309
5. Истолкование западной истории 310
a) Искушение волей к власти 312
b) Искушение рационализмом 313
c) Искушение материализмом 314
6. Синтез Запада и Востока 315
IX. Софиология как метафизика сущности. Критика отвлеченных
начал и осуществление всеединства 320
1. Введение: восстановление «собора познания» 320
2. Sensus и его критика 322
a) Сенсуализм 323
b) Научный эмпиризм 324
c) Позитивизм 327
3. Ratio и его критика 329
a) Догматический рационализм 330
b) Критический рационализм 330
c) Критика критического рационализма 331
е^ ОГЛАВЛЕНИЕ ^э
d) Переход к абсолютному рационализму 333
e) Абсолютный рационализм 333
f) Критика абсолютного рационализма 335
g) Переход к идеализму 336
4. Intellectus и его критика 336
a) Субъективный идеализм 337
b) Критика идеализма Фихте 338
c) Переход к идеализму Гегеля 339
d) Панлогический идеализм 339
e) Критика идеализма Гегеля 340
f) Переход к идейному монизму 341
g) Идейный монизм 341
h) Критика идейного монизма 344
г) Переход к теологии 346
5. Теология («Deus») 347
a) Догматическая теология 347
b) Историко-критическая теология 348
c) Критика отвлеченных начал теологии 350
d) Переход к мистическому измерению 351
e) Свободная теософия 352
6. Софиология и положительная философия 353
7. Цельное знание и свободное творчество 355
Чясть IV^
СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ
Итоги и перспективы
X. Синтез или единство двух. Итоги и перспективы 361
1. Два пути к Софии 361
2. Перспектива: соединение двух путей и свободное творчество ... 370
a) Воспоминание о Божественном отступлении 371
b) Пути личности и сущности 372
c) Встреча, или Скрещение двух путей 378
d) Единство двух и свободное творчество 382
Примечания 389
Указатель имен 517
H. К. Бонецкая
К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ
Ш
мя современного немецкого философа Михаэля Френча в
нашей стране знакомо пока что лишь узкому кругу читателей. Но
публикация на русском языка книги Френча «Лик
Премудрости» — явление внутренне закономерное. Дело в том, что доктор
Френч — один из тех немногих людей на Западе, кто не только
глубоко проник в мир русской религиозной мысли, но и принял ее
вызовы. Френч, чей творческий путь приходится на вторую половину XX в.
(он родился в 1948 году), не связан преемственно ни с одним из
направлений новейшей немецкой философии. Для автора «Лика
Премудрости» словно не существует ни экзистенциализма и феноменологии, ни
диалогической философии, ни психоанализа; и если все же говорить
о немецких мыслителях XX в., то проблематизированными у Френча
оказываются лишь взгляды М. Шелера. Но вместо того ведущая роль
в духовном развитии Европы Френчем отводится русским философам —
В. Соловьеву, П. Флоренскому, С. Булгакову. Внимание Френча
направлено преимущественно на софиологию; с этим, видимо, связано то, что
он не учитывает в своей концепции воззрений Н. Бердяева. Зато в ряду
русских мыслителей Френч видит интереснейшего писателя софиоло-
гической ориентации, практически неизвестного в России — Валентина
Томберга (1900, С.-Петербург — 1973, Майорка), и обращается не к одним
опубликованным книгам Томберга, но и к его рукописному наследию.
Френч принял вызов русской философии прежде всего в том смысле,
что глубоко согласился с ее основным тезисом относительно «кризиса
западной философии» и разделил присущий ей пафос «критики
отвлеченных начал». Русский читатель будет приятно удивлен, когда
познакомится с историко-философской теорией Френча, согласно которой
софиологическая система Соловьева является не просто результатом,
но и вершиной всего предшествующего философского развития. В
учении Соловьева, по Френчу, осуществилось столь важное для духовных
судеб европейского человечества соединение двух основных тенденций
философии — «метафизики сущности», связанной со средневековой
онтологией, а в конечном счете восходящей к Платону и Аристотелю,
е^9^5
C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^
и «метафизики свободы», которая, зародившись в сочинениях
номиналистов и пройдя долгий путь, нашла свое трагическое завершение в
мировоззрении Ницше. Возврат Соловьева к религиозным ценностям не
означает, по Френчу, отхода к средневековой картине мира и, главное,
реставрации средневекового мирочувствования: софиология ценна
именно тем, что требует усвоения достижений науки Нового времени (как
естествознания, так и «наук о духе»), а также предполагает свободу
человеческой личности. Последнее для Френча особенно важно, свобода —
главная ценность его собственного мировоззрения.
Такое, в общем-то, странное явление, как этот русский философский
синтез, смог осуществиться не потому, что Соловьев был то ли умнее, то
ли проницательнее своих современников одного с ним мыслительного
ранга, — хотя бы того же Ницше. Дело здесь в другом — в вещах,
выходящих за пределы позитивного круга явлений. Для Френча оказывается
значимым тот глубинный духовный опыт Соловьева, благодаря которому
русский мыслитель и поэт обрел совершенно новое видение реальности.
Доверие Френча к той соловьевской интерпретации, согласно которой
этот опыт является не чем другим, как непосредственным духовным
контактом Соловьева с Софией Библии и древних гностиков, выразилось
и в том, что свою исключительно богатую смыслами книгу немецкий
автор назвал не как-то иначе, но «Ликом Премудрости». Как историк
философии, Френч не остается в границах чисто имманентного
анализа: исток любой философской концепции он видит в области более
глубокой, чем ratio философии — в той сфере, которую русские мыслители
называли первичными бытийственными интуициями, которую иначе
можно было бы назвать областью веры. Только один простейший
пример. Усвоенное всеми нами еще на школьной скамье гегелевское
динамическое единство противоположностей, казавшееся тогда
софистическим трюком, при углубленном подходе историка идей обнаруживает
свой исток в созерцаниях Я. Бёме: встреча и борьба в «центре природы»
Божественных «гнева» и «любви» (а также других противоположных
начал), открытые опыту Бёме, впоследствии, в пространстве уже чисто
философского дискурса, обрели форму мыслительной «диалектики».
То, что Френч, говоря о русской софиологии и немецкой философии
(а согласно Френчу, «несколько преувеличивая, можно было бы сказать,
что русская софиология родилась из духа немецкого идеализма» !), что
называется, зрит в корень, исключительно ценно для русского читателя.
Действительно, все мы сейчас стоим с некоторым недоумением перед
лицом недавно нами открытого феномена русской философии (ядром же
ее, смысловым центром является софиология). Какова духовная суть
1 Френч М. Лик Премудрости. С. 355 (здесь и далее номера страниц указываются по
наст. изд.).
С^МО^С)
е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^9
этого феномена? Исчерпывающего, окончательного ответа на этот
вопрос книга Френча нам, конечно, не даст. В ней мы найдем самое
обстоятельное и квалифицированное обоснование глубокой преемственной
связи философии Соловьева, а также Булгакова с поздним творчеством
Шеллинга, а последнего — с Бёме, Баадером и Каббалой, — и здесь,
разумеется, не будет всей правды о софиологии. Но разве это так уж мало?
И есть ли в России самобытные исследования софиологической
традиции, выполненные к тому же на столь высоком уровне?.. Книга Френча
могла бы заполнить зияющую лакуну в изучении отечественной мысли.
Пока, как читатель может заметить, речь у нас идет об
историко-философской «составляющей» книги Френча. Скоро мы увидим, что эта
составляющая — отнюдь не единственная в ней. Но прежде бросим взгляд
как бы с птичьего полета на книгу — на показ в ней истории идей. Труд
Френча находится, как говорится, на стыке истории философии и
истории мистики. Надо сказать, что здесь — основная черта методологии
ученого. Выпускник философского факультета Сорбонны, Френч,
помимо того, в течение ряда лет изучал в нескольких немецких университетах
историю искусств, философию права и юриспруденцию. Его личность
тяготеет к тому, говоря очень приблизительно, «энциклопедическому»
типу, который был характерен для культуры русского Серебряного века.
Источник его вдохновения также можно было бы усмотреть в феномене
немецкого романтизма. Видя в разных областях культуры манифестацию
единого духа, Френч-историк стремится распознать в памятниках
мысли и искусства черты духовных движений эпохи. И если он, к примеру,
анализирует в своих искусствоведческих работах барельефы Шартрско-
го собора или фрески церкви св. Георгия острова Райхенау на Боденском
озере, то цель его — показать, как образными средствами в них передана
духовная борьба, связанная, скажем, с проникновением в Церковь
подспудных эзотерических течений. Кажется, Френч не имеет ни доверия,
ни вкуса к чистому философствованию. «Конек»
Френча-исследователя — поиски духовных истоков культурного явления, и здесь он тоже
оказывается наследником Соловьева и всей традиции русской
герменевтики.
Итак, книгу «Лик Премудрости» можно рассматривать как историко-
философский труд. Разумеется, систематического характера он не
имеет, это не учебник. Содержание книги Френча (в историческом
ракурсе) — это драматическая судьба идеи свободы в европейской философии,
и Френч выбирает в истории мысли наиболее значимые с этой точки
зрения явления, вехи на пути свободы. Начинает он с XII—XIII вв., с
эпохи схоластики. Надо сказать, что здесь — узкая, если так можно
выразиться, область интересов Френча: его диссертационный труд 1978 года
посвящен философии Николая Кузанского и отношению «ученого
незнания» к духовному развитию в Средние века. Специалист смог бы по
(?М1 ^)
(^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^
достоинству оценить анализ Френчем, во-первых, исторических
трансформаций средневековой теории познания в трудах номиналистов
(глава VI). Френч уподобляет ту гносеологию, которую разработали
реалисты, готическому собору2, называя ее «собором познания»
(«Erkenntniskathedrale»): как на фундаменте, этот «собор» стоит на опыте чувств
(sensus); его «этажами» служат рассудок (ratio), разум (intellectus) и in-
telligentia, созерцание духовного мира; «крыша» собора, наконец, — это
deificatio, или обожение, высшая форма знания. И если великий
номиналист, «doctor subtilis» Дуне Скот предложил идею «универсальной»
метафизики — такой, которая приложима как к Богу, так и к творению,
то это означало решающий шаг к разрушению «собора познания»:
главная роль в познании отводилась теперь ratio (при этом рассудок
сближался с человеческой волей), высшие же познавательные формы при
этом оказывались как бы ненужными. Такова ведущая тенденция
средневековой мысли; и когда Николай Кузанский предпринял в XV в.
последнюю попытку учесть все средневековые гносеологические
принципы, то заново выстроенный им «собор познания» отнюдь не был точной
копией того, чьими «архитекторами» были реалисты. В основе «ученого
незнания» Кузанца — некий личный благодатный опыт, описанный им
в «Берилле». И главным для Френча оказывается открытие Кузанцем
активной познающей личности: если в глазах старых метафизиков роль
интеллекта сводилась к зеркальному отражению идей, то у Кузанца
интеллект имеет творческий характер, будучи привязан к познающему
субъекту. Пафосом свободы были проникнуты все значительные
явления мысли позднего Средневековья.
Во-вторых, наряду с гносеологией, также философия права своим
развитием на рубеже Средних веков и Нового времени демонстрирует
постепенное возобладание «метафизики свободы» над «метафизикой
сущности». В седьмой главе своей книги — едва ли не самой богатой по
содержанию — Френч показывает, как, начиная с сочинений Оккама
(XIV в.), мало-помалу в этом направлении происходила перестройка
правового сознания. Судьба средневекового учения о праве оказалась
сходной с участью «собора познания», — ведь оба отражали начавший
колебаться иерархический мировой порядок. Оккам совершил «копер-
никовский переворот» в теории права, выдвинув понятие права
субъективного: к взглядам именно Оккама, родоначальника индивидуализма,
восходят правовые теории XVI—XVII вв. (Г. Гроций и его школа, Т. Гоббс,
С. Пуфендорф). В этих теориях постепенно происходил поворот от
права, связанного с Божественным законом, к рационализированному
естественному праву, определяемому достоинством личности. Как тема фи-
2 Френч-искусствовед, как уже отмечено выше, — специалист как раз по
средневековой готике.
е^ 12 -^э
C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
лософии Нового времени, утверждает Френч, личность была открыта
в схоластической, а именно, в номиналистской традиции.
Мы сказали, что специалист в области средневековой западной
философии найдет для себя в книге Френча богатейший фактический
материал, скомпонованный и поданный опытной, уверенной рукой.
А для читателя-дилетанта в историко-философских главах «Лика
Премудрости» распахнутся новые перспективы и обнаружатся самые
неожиданные связи. Увы, ни для кого не секрет, что в сознании практически
любого выпускника отечественного университета (даже и
философского факультета) история европейской философии начинается, если
опустить античность, в XVII веке — с Декарта и Ф. Бэкона. И когда русский
читатель, всерьез интересующийся философией, находит в книге Френча
самое убедительное обоснование того, насколько тот же Декарт,
Спиноза, а затем Кант и Гегель преемственно связаны с категориями и интуи-
циями средневековой схоластики, то это может означать для такого
читателя новое философское рождение. Мы специально останавливаемся
на этом пропедевтическом моменте труда Френча, стремясь, во-первых,
дать характеристику философского стиля ученого, а во-вторых, указать
на практическую заинтересованность отечественных философских
кругов в такого рода труде.
Проводя идею свободы, неразрывно связанную с учением о
моральном бытии — ens morale (а также с гносеологией), через воззрения
Руссо, Канта, Фихте, Гегеля, Френч показывает, как в философском
сознании совершается переход от теоцентризма к антропоцентризму, причем
познающий нравственный человек становится мерой всех вещей. Этот
процесс своей важнейшей стороной имеет то, что у Френча названо де-
субстанциализацией бытия. В глазах философа это явление
отрицательного порядка (его предел — полный нигилизм), но вернее сказать, здесь
налицо исторический трагизм, поскольку десубстанциализация — не что
иное, как плата за открытие личности с ее свободой. Важнейший шаг на
пути десубстанциализации был совершен И. Г. Фихте, когда,
отказавшись от кантовской «вещи в себе» и основав свое «наукоучение» на
одном «Я», он бытию как предмету философского знания предпочел
становление. Эта тенденция с полной отчетливостью выявилась у Гегеля,
который, тем не менее, развивал свою систему, используя категории
субстанциальной онтологии, «метафизики сущности». В Гегеле Френч
видит ту критическую, переломную точку всех этих процессов, из
которой могут исходить два пути философского развития: «Или происходит
отказ от последних предпосылок субстанциальной онтологии (и вместе
с этим — от последних следов imago Dei), что имело место в случае
различных персоналистских и позитивистских (в области права) подходов,
прежде всего, XIX века; или же ставится вопрос, какие изменения
должны произойти с радикальным персонализмом, если он склонен
примись 13 ^э
е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ «Э
риться с сущностной стороной человека или с imago Dei»3. По пути
соединения личностной свободы с субстанциальной укорененностью в
Боге, утверждает Френч, пошел В. Соловьев. Но «метафизика свободы»
прежде достигла предела своего развития в феномене Ницше,
поставившем под вопрос всю данную традицию. В связи с Ницше Френч говорит
о человеке, утратившем («убившем») Бога и утверждающем свою
свободу, следуя собственной «воле к власти»: такого рода идеал, или последняя
цель «метафизики свободы», не может быть выдержана
экзистенциально. «Трагическая судьба Ницше, — сказано у Френча, — учит ясно и
однозначно: пока некая метафизика, следующая за метафизикой свободы,
считается исключительно со смертью Бога и не считается с Его
воскресением, она — а вместе с ней и человек, который пытается ее применить
экзистенциально и жить в соответствии с ней, — обречены на
крушение»4.
Френч доводит свою специфическую (рассмотренную под углом
зрения идеи свободы) историю философии до начала XX в.:
софиология Соловьева и его последователей подводит черту под
предшествующим развитием и указывает перспективы на будущее. Наиболее сильно
и отчетливо в книге «Лик Премудрости» показан итоговый характер
философских взглядов Соловьева (главы 8 и 9). Обосновывая то, что
софиология — это «метафизика свободы», Френч детально анализирует
«Чтения о Богочеловечестве» Соловьева. Понимание Соловьевым
мирового исторического процесса как взаимодействия Логоса и Софии
или же движения навстречу друг другу Бога и человека (целью чего
является восстановление падшего творения, т. е., по Соловьеву,
преобразование его в единый Богочеловеческий организм) опирается на
признание личности и ее свободы. Последняя понята Соловьевым не в
качестве неограниченной манифестации собственной воли, как то было
в воззрениях Ницше: она заново соединяется им с религиозным —
христианским — принципом. «Это воссоединение, — говорится у Френча, —
сможет произойти только тогда, когда личность свободно откажется от
утверждения своего эгоизма, т. е. ограничит себя»5. Вершина свободы,
по Френчу, — не произвол, но отказ личности от своей свободы. И как
мы увидим ниже, для философа принципиально то, что не только
религиозный человек, но и Бог во Христе (а также в Отце и Духе) еще
прежде человека отказывается от утверждения собственной абсолютной
свободы во имя того, чтобы свою свободу смог осуществить человек. Здесь
Френч идет дальше русских софиологов, развивает и обогащает софио-
логические принципы.
3 Френч М. Лик Премудрости. С. 277.
4 Там же. С. 284.
5 Там же. С. 286.
(2^14^Э
e^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
Доказывая, наконец, что софиология — это «метафизика сущности»,
исследователь рассматривает «Критику отвлеченных начал» Соловьева
и «Трагедию философии» Булгакова, где русскими мыслителями была
заново поставлена проблема сущности, или идеи, В софиологии
совершается восхождение от отдельной идеи к идеям более общим, а в конце
концов — к всеобщему организму идей, всеединству. Всеединство,
считал Соловьев, не выводится аналитически из его элементов, но
добавляется к ним синтетически. Ясно, что речь идет о Софии и ставится вопрос
об опыте, затрагивающем сущность. В знании, которому может
открыться истина всеединства, должны соединиться элементы мистико-бого-
словский, научный и философский. «Критика отвлеченных начал, —
подытоживает свой анализ немецкий автор, — привела мышление к
четырем принципам средневековой метафизики сущности и к
соответствующим им формам знания, развитым, в частности, в Новое время6, —
но, сверх того, одновременно привела к требованию некоей новой,
современной формы метафизики сущности, которая считается с
развитием мысли в Новое время — привела к свободной теософии как
организации цельного — мистического, рационального и эмпирического знания»7.
Жаль, что утопический проект Соловьева Френч, в свою очередь, не
подвергает критике: развитие в XX в. концептуальной стороны
софиологии, а в конце столетия — соответствующей сектантской практики8 дает
к тому богатый материал. Но, как сообщил нам автор «Лика
Премудрости», есть надежда на то, что его книга будет иметь продолжение, из
которого читатель узнает о новой жизни идей Соловьева уже после его
кончины в 1900 г.
Итак, исторический аспект играет в книге «Премудрость в личности»
важную роль: становление идеи свободы в европейской философии, по
мнению ее автора, как к некоей вершине, привело к русской
софиологии. Теперь нам надлежит обратиться к тезису, выдвинутому нами
раньше: исторический аспект в труде Френча не единственный, и он даже не
определяет композицию книги. Немецкий ученый сам называет свое
исследование «попыткой религиозно-философского обоснования софио-
6 В другом месте своей книги Френч говорит о том, что каждый «этаж»
развалившегося средневекового «собора познания» («этажи» эти суть четыре средневековых
метафизических принципа — sensus, ratio, intellectus и Deus) в Новое время
сделался предметом особой философской рефлексии; так появились на свет
английский эмпиризм, французский рационализм, немецкий идеализм и русская
софиология соответственно (Там же. С. 499, прим. 2).
7 Там же. С. 352.
8 На отечественной почве явно софианскими сектами являются, к примеру,
«Богородичный центр» и «Белое братство» с их мистико-феминистским уклоном; со-
фийными чертами отмечены, впрочем, практически все течения в современном
неоязычестве.
е^15^э
е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
логии» (с. 29), и, на наш взгляд, главная ценность его концепции — в
выявлении наиболее фундаментальных метафизических и богословских
софиологических предпосылок. Первой и важнейшей из них является
предположение о том, что прежде творения мира Бог совершает
отступление, отход в Свою сокровенную глубину: это первый творческий
акт, тогда как эманация или же «творение из ничего» — любой выход
Божества из Себя — оказывается при сотворении мира лишь вторым
Божественным деянием. Традиционному богословию (и не только
христианскому) эти представления не знакомы. Френч сообщает, что
Божественное отступление проблематизируется в Каббале, — а именно,
у каббалистического мыслителя XVI в. Исаака Лурия. Отход Божества
в Себя, предшествующий собственно творению, Лурия называет «зод ха
цимцум», и этот термин означает тайну вольного самоограничения
Абсолюта ради того, чтобы могло возникнуть Его «другое» — свободное
творение. Любая разновидность софиологии, как показано у Френча,
явно или скрыто базируется на допущении цимцума; каббалистический
цимцум — основополагающее необходимое представление софиологи-
ческого богословия9.
Но почему так тесно связаны между собой представления о Софии
Премудрости Божией и предвечном Божественном отступлении? Дело
9 Примечательно, что присутствие цимцума Френч обнаруживает и у русских софи-
ологов, хотя подробно этого не обосновывает. Гипотеза Френча не лишена
основания, что очевидно и без специального исследования: глубокий интерес
к Каббале Флоренского и Булгакова отразился во многих их трудах. Что же
касается Соловьева, то ему знакомы и имя Лурия, и представление о цимцуме. Вот что
он пишет в статье «Каббала» своего «Философского словаря»: «Умозрительное
учение каббалы исходит из идеи сокровенного, неизреченного Божества, которое,
будучи выше всякого определения, как ограничения, может быть названо только
ен-соф, т. е. ничто, или Бесконечное. Чтобы дать в себе место конечному
существованию, энсоф должен сам себя ограничить. Отсюда "тайна стягиваний" (сод
цимцум) — так называются в каббале эти самоограничения или самоопределения
абсолютного, дающие в нем место мирам. Эти самоограничения не изменяют
неизреченного в нем самом, но дают ему возможность проявляться, т. е. быть и для
другого. Первоначальное основание или условие этого "другого", по образному
представлению каббалистов, есть то пустое место (в первый момент только точка),
которое образуется внутри абсолютного от его самоограничения или "стягивания".
Благодаря этой пустоте бесконечный свет энсофа получает возможность
"лучеиспускания", или эманации (так как есть куда эманировать)» (Философский
словарь Владимира Соловьева. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 153). Следует при
этом иметь в виду, что во всяком случае в русском софиологическом богословии
весьма сильны традиционные тринитарные представления. Вынесение
окончательного суждения по интересному вопросу относительно присутствия интуиции
цимцума у русских софиологов выходит за пределы нашей настоящей задачи —
представления книги Френча русскому читателю.
(?М6^Э
(?^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
в том, что богословски и метафизически София определяется как
граница между Творцом и тварью; но такая граница может возникнуть
лишь в результате свободного самоограничения Абсолюта. Говоря
иначе, только предположение о цимцуме позволяет приблизиться к
пониманию творения из ничего: это самое «ничто», мэоническая первоматерия,
есть то «пустое пространство», которое возникает в Самом Божестве
вследствие Его отступления в Себя. Френч хочет уточнить учение
Соловьева с помощью идеи цимцума, органически сопряженной с софио-
логической метафизикой: «Соловьевская концепция универсума или
вселенной предстает в совершенно новом свете, если взглянуть на нее,
имея в виду понятие цимцума, — даже если сам Соловьев и не помышлял
о Божественном отступлении. <...> То ничто, которое Соловьев
рассматривает как "другое" Бога, постижимо, лишь если допустить
Божественный отход. Другими словами: "прапространство творения", возникающее
при цимцуме у будучи вечным "другим" Бога, есть Его Вечноженственное,
или София»10. Возможно, кого-то смутят физические модели,
приводимые Френчем при разговоре о последних тайнах Божества, — и в этом
есть резон. Но не станем забывать о том, что сам наш язык и мышление
в основе своей имеют совершенно аналогичные, весьма грубые
структуры Эвклидова мира. Описывая цимцум — первый этап творения в со-
фиологическом понимании, — Френч делает все те оговорки об
условности привлекаемых им образов, которые обыкновенно сопровождают,
например, тринитарные богословские построения. Снова вспомним
тезис, выдвинутый в самом начале наших заметок, о том, что Френч
принял вызов русской философии: тезис этот по мере продвижения
анализа книги «Лик Премудрости» наполняется конкретным содержанием.
На данном этапе наших рассуждений можно утверждать, что заслуга
Френча-философа — в соотнесении софиологии с идеей цимцума. А в
связи с этим можно говорить и о прояснении духовных истоков
софиологии, и о выявлении в ней совершенно новых смыслов, и о ее
дальнейшем развитии...
Как мы помним, свобода — ключевое понятие в книге Френча, и об
этом говорилось в связи с ее историко-философским аспектом. Главная
категория метафизической составляющей «Лика Премудрости» — это
цимцум. Свобода и цимцум суть две опоры, два столпа рассматриваемой
концепции, а по Френчу, — любой разновидности софиологии. При этом
они теснейшим образом связаны между собой, являясь фактически
разными обозначениями одной и той же реальности. В самом деле,
свобода, по Френчу, в своем высшем проявлении есть отказ от свободы, есть
жертва. Но можно ли помыслить жертву более совершенную, чем отказ
Френч М. Лик Премудрости. С. 153—154.
е^ 17 ^Э
C^ H. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^
Абсолютного от Своей абсолютности, чем самоограничение
Безграничного?! А это есть не что иное, как цимцум. И цимцумом, по Френчу,
представлена не только высочайшая, абсолютная степень свободы, но
и сама ее суть. Цимцуму Френч придает универсальный характер. Так,
вольный кенозис Логоса и всякое проявление человеческой решимости
«подражать Христу» в качестве своего метафизического истока и
высочайшего образца имеют цимцум. Более того, к цимцуму у Френча
возведены любовь, творчество, личная мистика. По-видимому, в своем
стремлении очертить контуры универсальной софиологии Френч несколько
христианизирует каббалистический цимцум. Так или иначе, немецкий
философ убежден в том, что в основе любого продуктивного, творческого
деяния, — идет ли речь о Боге или о человеке, — лежит свободная жертва
любви, для обозначения которой Френч избирает термин Исаака Лурия.
В связи с цимцумом в книге Френча выстраивается еще один
историко-философский ряд (как видит читатель, богатое содержание книги
в композиционном отношении организовано достаточно сложно):
Каббала в варианте Исаака Лурия — Я. Бёме и его интерпретатор Ф. фон
Баадер — поздний Шеллинг — русская софиология. Связь Бёме с
Каббалой—факт общеизвестный11. Но Френч, разбирая ряд свидетельств
Бёме о его мистических созерцаниях, уточняет и конкретизирует это
утверждение. В «рождении Божества», открытом духовному взору Бёме,
неоспоримо присутствует тенденция цимцума — сжатия, ухода в
собственные недра. Первая глава книги Френча посвящена как раз
обоснованию принадлежности «тевтонского философа» к каббалистической
традиции. К сожалению, Френч не ввел в свою книгу разбора бёмевских
представлений о «деве Софии», столь значимых как раз для русской
философии (Н. Бердяев), — и это притом, что в ее четвертой главе («Лик
Софии») как раз предпринято сопоставление концепции собственно
Софии у различных мыслителей, начиная с Шеллинга (сюда также
включены мысли о Премудрости Божией Фомы Аквината, характерные
именно для западного богословия). Если же говорить о первой главе,
посвященной в значительной своей части Бёме, то нельзя в связи с ней
не думать о русских мыслителях, также весьма внимательных к
созерцаниям герлицкого сапожника. Благодаря Бёме в русское философское
сознание вошло понятие Ungrund'a, — а вместе с ним интуиции добы-
тийственной «всепоглощающей бездны», стихии, «подземного океана» 12.
Для Бердяева, который, по его собственным словам, основал свое дело
11 Так, еще через Ф. X. Оетингера до нас дошло высказывание некоего
«значительного каббалиста» XVII в., согласно которому книги Бёме говорят о Каббале «много
яснее, чем даже Зогар». См.: Вер Герхард. Якоб Бёме. Челябинск: Урал LTD, 1998.
С. 189.
12 Флоренский Я., свящ. Имена. М.: Купина, 1993. С. 226.
е^18^9
(^ Н. К. Бежецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^5
на свободе13, это «безосновное», «несотворенная свобода», есть некий
хаос, в котором в синкретическом слиянии присутствуют потенции как
добра, так и зла. В русской философии бёмевский Ungrund —
обозначение весьма страшной, едва ли не адской метафизической реальности,
грозящей личности гибелью; Ungrund переживается русским человеком,
пожалуй, во фрейдистском ключе и «микрокосмически» сближается
с бездной бессознательного. Имея в виду именно такую интерпретацию
Бёме со стороны Бердяева, П. Гайденко справедливо говорит о «люци-
ферическом» характере свободы по Бердяеву: несмотря на
потенциальную двойственность Ungmnd'a, в конечном счете оказывается, что
«свобода в бердяевском толковании есть демонизм, есть зло, которое раньше
и выше добра» н. Быть может, невольно для себя Бердяев в его вызове
традиционному христианству ориентировался на привычный русский,
несколько демонизированный образ Бёме15. — И совсем по-иному
истолкован опыт Бёме у Френча. «Сциенция», «сердце натуры»,
конечно, является борьбой противоположных — добрых и злых — качеств. Но
усмотрение там тенденции цимцума, Божественной жертвы, означает
конечное возобладание любви в этой борьбе. Свобода, по Бердяеву,
действительно «по ту сторону добра и зла»16, будучи самоопределением
личности изнутри без оглядки на какой бы то ни было нравственный
закон; свобода, по Френчу, — это жертва любви. «Философия свободы»
Френча тяготеет к традиционным христианским представлениям,
дополненным, однако, идеей цимцума — предвечной жертвой внутри
Божества.
Здесь можно было бы вновь сказать, что как самостоятельный
мыслитель Михаэль Френч — действительно немецкий философ,
принадлежащий немецкой софиологической традиции (Бёме — Баадер — Шеллинг).
Под «немецким» качеством мы в данный момент имеем в виду
пристальное внимание (характерное как раз для немецких мистиков) к тому, что
называется Божеством — до-личностным аспектом Бога, — к тому, что
онтологически (а в некоторых случаях и, так сказать, метаисторически)
предшествует трем Божественным Лицам. И эту свою отечественную
трацицию Френч, тем не менее, постоянно как бы выверяет традицией
русской софиологии, критикуя наиболее вызывающие уклонения
немецких мыслителей от традиционного христианского богословия. Это
13 Проблематизация экзистенциализма Бердяева была бы очень уместна в книге
Френча, концепцию которой в целом можно было бы назвать не только
универсальной софиологией, но и философией свободы (представленной в значительной
степени в историко-философских построениях).
14 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. М.: Республика, 1997. С. 464.
15 Не будем забывать о том, что на Руси издревле увлечение идеями Бёме
квалифицировалось как ересь и каралось казнью.
16 См. об этом: Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. С. 453—458.
е^19^Э
е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
особенно ясно сказывается во второй главе его книги, посвященной
позднему Шеллингу и его влиянию на софиологию Булгакова. По причине
того, что «Философия откровения» Шеллинга на русский язык не
переведена, остановимся на этой главе чуть более подробно.
Богословские взгляды Шеллинга сильно отходят от основ
христианской догматики. Дело в том, что Шеллинг допускает некий теогониче-
ский — квазиисторический процесс в Боге. Согласно Шеллингу, Бог не
есть от века Бог Троица: следуя, как полагает Френч, именно Каббале,
Шеллинг исходит из того единства Абсолютного Духа, которое в
Каббале именуется Эн-Соф, и видит суть теогонической истории в
последовательности «жертв» Божества. Первая из них — отступление (не что
иное, как цимцум Лурия) «первого образа» Абсолютного Духа, с чем
связано рождение «второго образа» (традиционно Сына). Именно в этот
«момент» (момент, разумеется, квазивремени) Абсолют начинает
становиться Творцом: Сын, пребывающий пока в Самом Божестве, еще здесь,
в Божественной вечности, совершает кенозис, представление о котором
традиционно связывается только с Боговоплощением. Кенозис этот —
самоумаление, жертва Сына Божия — состоит в том, что Сын
отказывается от Своего пребывания с Отцом, отрешается, так сказать, от некоей
части Своего Божественного бытия. Этот освободившийся бытийствен-
ный остаток полагает начало тварному, космическому бытию,
самостоятельному в отношении Божества. Можно также в определенном смысле
говорить и о жертве третьего образа, Абсолютного Духа. Согласно этой,
нами несколько упрощенной схеме Шеллинга, универсум образуется по
мере превращения единого Абсолютного Духа в Троицу Его
видоизмененных потенций (теогония для Шеллинга одновременно и
космогония), и вначале при этом превращении рождается Сын. В космическом
процессе Сын и Дух должны возрасти до Божества Отца. Причину
творения — сложную систему «жертв» и «отказов» в недрах Божества —
Шеллинг характеризует как «Божественную иронию». При
возбуждении трех Божественных потенций (еще до того, как они сделались
Отцом, Сыном и Святым Духом) «из ничего, в мышлении Бога» возникает
София, «идея будущего тварного мироздания», которая при этом — «не
творение и не Бог, но нечто среднее между ними»17. Очевидно, что
в глазах Шеллинга догмат Божественного Триединства не выражает всей
истины о Божестве, но соответствует лишь аспекту Бога Творца. И
чтобы детальнее представить себе внутрибожественную жизнь, Шеллинг
обращается к традициям эзотерическим.
Как известно, в 1910-х годах Булгаков резко критически относился
к «Философии откровения». Попытки Шеллинга раскрыть тайну
генезиса тройческой жизни в Божестве русский мыслитель называл «рацио-
,7 Френч М. Лик Премудрости. С. 151.
е^20^>
C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^9
налистической безвкусицей» и возводил к ереси Савелия18; введение
в недра Божества времени, по мнению Булгакова, умаляет абсолютность
Бога и низводит до смешения с миром. Однако неприятие Булгаковым
Шеллинговой «положительной философии» не было радикальным;
Булгаков увлекся многими интуициями и представлениями Шеллинга,
усвоил их и ввел в свою концепцию. В том же «Свете невечернем» он
говорил о жертвенном характере сотворения Богом мира. Вдумаемся
в такую, например, булгаковскую формулировку: «Давая в себе место
миру с его относительностью, Абсолютное в любви своей смиряется
перед тварью»,9. Не есть ли это прямое указание на то самое
первоначальное отступление Божества, являющееся истоком творения, о котором
говорит Шеллинг и которое у Лурия называется цимцумом? Ведь это
«место» в Абсолютном, предоставленное миру, — не что иное, как
«пустое пространство», возникающее как результат цимцума, о котором так
подробно говорит в первой главе своей книги Френч.
Важнейшее значение для русского читателя второй, занимающей нас
сейчас, главы — в том, что в ней убедительно доказано «родство вплоть
до выбора слов»20 булгаковского описания «кенозиса» всех трех
Божественных ипостасей и представлений Шеллинга о внутритройческой
мистерии. Автор «Лика Премудрости» обращается к поздней софиоло-
гии Булгакова, где София отождествлена с Божественной усией —
единой сущностью трех ипостасей. И то, как Булгаковым показаны судьбы
усии-Софии, обнаруживает несомненные параллели с «Философией
откровения»21.
Однако есть у Шеллинга один принципиальный момент, который
несовместим с православно-церковной закваской учения Булгакова: это
савелианский модализм и сопряженная с ним мысль о Божественном
развитии. По Шеллингу, три Божественных образа не с самого начала
суть личности, ипостаси, но становятся ими по мере разворачивания
космогонического процесса, причем Сын и Дух достигают Божества
Отца и единосущия с Ним лишь в конце мировой истории. Для Булгакова
же Отец, Сын и Дух — вечные, а не развивающиеся ипостаси. «Булгаков
пытается, — пишет Френч — <...> рассуждать о моральности в трини-
тарном процессе, и при этом он исходит из личностной природы (Perso-
nalität) каждого из трех Божественных "образов"»22. Если Отец, уходя
18 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. С. 174—175. Суть взглядов
Савелия сводится к утверждению, по которому в Троице единое Божество являет
Себя в трех модусах, а не в трех лицах, ипостасях.
19 Булгаков С. Я. Свет невечерний. С. 160.
20 Френч М. Лик Премудрости. С. 93.
21 См.: Там же. С. 92-97.
22 Там же. С. 95.
С^21 ^>
C^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^
в Свое Божественное «Я», оставляет «вовне» Свою усию, наследуемую
Сыном, то делает Он это по жертвенной любви. Когда, в свою очередь,
Сын жертвует то же софийное бытие Отцу, Он руководствуется той же
любовью. Не вдаваясь в тонкости теософии Булгакова, подчеркнем, что,
по Френчу, жертвенно любить в состоянии только личность, и об Отце,
Сыне и Духе Булгаков не может мыслить не как об абсолютных, себе-
тождественных, хотя и совершающих какие-то деяния Личностях.
Любовь, наряду со свободой, — верховная ценность для Френча; совсем
в традициях русской философии он включает в свою книгу небольшой
«экскурс о любви»23. И, руководствуясь, видимо, какими-то своими
глубинными интуициями, автор «Лика Премудрости» отдает
предпочтение той картине бытия, которая своим последним основанием имеет
любовь. В данном случае, когда можно говорить о теснейшей связи со-
фиологии Булгакова с «положительной философией» Шеллинга, но
одновременно о принципиальном отличии — быть может, даже
противоположности, в каком-то смысле слова, некоторых установок этих двух
учений, Френч выбирает сторону Булгакова. Романтику Шеллингу
представляется, что мир своим бытием обязан «притворству» (Verstellung),
«иронии» Божественных субъектов — некоей игре, в которой
Безграничное «прикидывается» ограниченным, Абсолютное —
относительным. Православный священник Сергий Булгаков верит, что мир
сотворен любовью. Христианский философ Михаэль Френч оказывается здесь
на стороне русского мыслителя.
...С надеждой на то, что нам удалось создать у читателя общее
представление о книге Френча (мы охватили далеко не все частные —
историко-философские и метафизические — темы, которые философ ввел
в свой труд), обратимся, наконец, к некоторым итоговым замечаниям.
Читая «Лик Премудрости», постоянно испытываешь чувство, что
находишься в том же самом мыслительном мире — в том же кругу категорий
и бытийственных интуиции, который был принадлежностью русской
философии Серебряного века. И дело не только в том, что драма идей,
развертывающаяся перед нами в книге Френча, своим как бы
последним актом имеет софиологию Соловьева: важно, что Френч питается из
тех же источников, которые были заново востребованы русскими
философами. Это Платон и Аристотель, Библия, отцы Западной и Восточной
Церквей, Николай Кузанский, а затем Каббала, немецкие мистики,
Кант, Шеллинг и Гегель... Чуть особняком стоит номиналистская
схоластика, мало известная в России (только благодаря трудам Л. Шестова)
и столь важная для концепции Френча. Учет Френчем номинализма
с его вниманием к конкретно-индивидуальному бытию (именно с
номинализмом Френч связывает философское открытие личности) вводит
23 Френч М. Лик Премудрости. С. 107—110.
е^22^)
е^ Н. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^
в его софиологию тот пафос свободы, который для софиологии русской
все же, по нашему мнению, не слишком характерен24: неслучайно на
русской почве философия свободы, представленная именами Н. Бердяева
и Л. Шестова, отчетливо осознав себя в качестве таковой, резко
противопоставила себя софиологии... Труд Френча — это проект его
собственной софиологической системы, которая отчетливо просматривается на
фоне историко-философской концепции. Система эта содержит аспекты
теологический (цимцум), космологический (идея «пустого прапрост-
ранства», мэонической «матрицы» будущего мироздания),
антропологический (основные категории антропологии Френча — imago Dei и si-
militudo Dei, образ и подобие Божий). То, что свои философские тезисы
Френч часто излагает, анализируя взгляды мыслителей прошлого,
создает некоторые трудности для читателя: поскольку Френч стремится
к доскональному и объективному показу чужих идей, его собственная
философская и мировоззренческая позиция не является до конца
прозрачной. Если говорить о слабых сторонах книги, то, на наш взгляд,
одна из них именно здесь.
Теория двух тенденций в европейском историко-философском
развитии — «метафизики сущности» и «метафизики свободы» —
прекрасно «работает» и на таком небольшом участке истории философии, как
русская мысль XX в. К представителям «метафизики свободы», помимо
экзистенциалистов, хотелось бы отнести диалогиста М. Бахтина. А
«метафизику сущности» в России, кроме софиологов, представляют
своими концепциями всеединства С. Франк и Н. Лосский. Также понятие де-
субстанциализации, столь важное для историко-философского анализа,
предпринятого Френчем, вполне может взять на вооружение и историк
русской мысли25. Быть может, немецкий философ, наш современник,
в своем желании продолжить то дело, которое начала в XX в. русская
мысль, сознательно задается целью соединить в своем труде две ее
ветви и придать софиологической идее пафос свободы. И если исток
свободы, по Бердяеву, — хаотический Ungrund, то ее корень и высочайший
прообраз, согласно Френчу, — это предвечный Божественный акт
жертвенной любви, цимцум. Здесь, кажется, центр софиологии, и, в частности,
софиологии в версии самого Френча. Цимцуму Френч придает
огромное значение и говорит в связи с этой идеей о некоем новом Просвеще-
24 Особенно это можно сказать про софиологическую версию Флоренского с ее
уклонами в магизм (это не говоря уже о его социально-правовых взглядах).
25 Для автора данных заметок было большим удовлетворением обнаружить это
понятие в книге «Лик Премудрости», так как еще задолго до знакомства с этой книгой
она использовала его для осмысления философии М. Бахтина. См.: Бонецкая Н. К.
Бахтин глазами метафизика // Диалог, карнавал, хронотоп. Витебск, 1998. № 1.
С. 103-155.
е^23^5
(Ξ^ Η. К. Бонецкая. К ИСТОКАМ СОФИОЛОГИИ ^Э
нии: «Автономная личность, пришедшая к себе самой через
историческую ступень Просвещения, испытывает нужду в некоем втором, еще
предстоящем, качественно совершенно ином будущем Просвещении»26.
Речь идет об отказе личности от своего эгоизма во имя осуществления
свободы другой личности (а это, как мы помним, по Френчу, — вершина
метафизики свободы) как о задании для современного сознания.
Прообразом же такого отказа служит жертва Бога в вечности... Дойдя до этой
романтической перспективы, указываемой автором «Лика
Премудрости», сейчас в наших размышлениях о книге можно было бы поставить
точку.
Френч М. Лик Премудрости. С. 286-287.
Михаэль Френч
Лик
Премудрости
Введение
СИНТЕЗ ТРАДИЦИИ ПРЕМУДРОСТИ
И ПЕРСОНАЛИЗМА НОВОГО ВРЕМЕНИ
1. Русская религиозная философия
как философское учение о Софии
последние десятилетия нынешнего века раздались призывы
к созданию «женской теологии». Возникают попытки отойти от
«мужского» образа Бога, имеющего три («мужские») ипостаси,
и осмыслить Божество так, чтобы одновременно стало
возможным постичь «женскую» сторону творения в ее своеобразии на
Божественном фоне. Некоторые заходят так далеко, что утверждают: за
нашим «мужским» тысячелетием будет следовать тысяча лет,
ориентированных преимущественно на женское начало. Важную роль в
стремлении понять суть женского аспекта Божества играет образ Софии \
который на протяжении столетий пользовался особым почитанием в русской
православной Церкви. В русской религиозной философии XIX—XX вв.
вокруг этого образа возникло направление софиологии. Будучи
основанным Владимиром Соловьевым, это направление получило дальнейшее
развитие прежде всего в трудах двух наиболее значительных софиоло-
гов нашего века — Павла Флоренского и Сергея Булгакова, сделавшись
своеобразным «богословием Софии», — вернее сказать, философским
и богословским учением о Премудрости (Софии)2. Булгаков пишет, что
«богословские основы софиесловия всего полнее и точнее даны в книге
свящ. П. Флоренского "Столп и утверждение истины", где собран
богатый иконографический и литургический материал»3. И здесь, возможно,
впервые был применен термин «софиология» *: он возник после того,
как появились и подверглись обсуждению первые работы,
посвященные софийной проблематике4, — прежде всего, труды Соловьева и
отклики на них.
То, что Булгаков все права на понятие «софиология» отдал русской
религиозной философии, оспорил Вальтер Нигг: софиология не есть
* У Булгакова «софиесловие». — Прим. пер.
е^27^Э
е^ ВВЕДЕНИЕ ^э
принадлежность лишь одной конфессии, — подобное «недопустимое
сужение означало бы недооценку ее глубочайшей сущности», которая,
будучи «вечной правдой софийной мистики», нашла свое выражение как
в католицизме и протестантизме, так и в иудаизме \ Понятие
софиологии здеь трактуется настолько широко, что под него подходит любая
разновидность «софийной мистики», — усматриваемой, к примеру, в
писаниях Соломона, в иудейском мистицизме, у отцов Церкви или у таких
мистиков как Сузо, Бёме, Гихтель, Пордедж, Арнольд и Баадер6.
К. Пфлегер, с другой стороны, напоминает об имеющихся здесь
отличиях. Он указывает на разницу между софийной мистикой как
соответствующим опытом визионеров и философской рефлексией
относительно Софии со стороны софиологов7. И если на первый взгляд эта разница
кажется существенной, то впоследствии, однако, она с трудом
выдерживает критику, так как, с одной стороны, и у визионеров, принадлежащих
к софийной традиции, обнаруживается философская рефлексия по
поводу образа Софии, а с другой — о своих мистических встречах с
Софией-Премудростью сообщали как основатель софиологии Владимир
Соловьев, так и прочие софиологи (к примеру, Булгаков). Соловьев не
скрывает того, что высоко ценит ветхозаветную и патристическую со-
фийную мистику вместе с таковой Нового времени (Бёме, Пордедж,
Гихтель), и в седьмой из своих «Лекций о Богочеловечестве» указывает
на то, что развитое им учение о Софии всегда содержалось в
христианстве. Он прямо ссылается на присутствующую в книге Притчей
Соломоновых идею Софии, — подобно тому, как до него это делал Шеллинг
в своих лекциях по «Философии откровения». Также и Булгаков, хотя
и считает незначительным влияние западных софийных течений на
русскую софиологию, — скорее, по его мнению, надо было бы говорить
о ее «святоотеческих источниках» (например, о св. Григории Паламе), —
это ему не мешает, однако, выстроить целый «ряд предков» софиологии
в истории мысли, который начинается с Платона, а вслед за ним идут
Плотин, стоики и некоторые отцы Церкви Запада и Востока (Псевдодио-
нисий, Максим Исповедник, Иоанн Скот Эриугена), — и вплоть до
Бёме, Баадера и Шеллинга8. Но в чем тогда состоит особенность
софиологии?
2. Идея «великого синтеза» Соловьева
Здесь существенным оказывается понятие, выдвигаемое Соловьевым
в предисловии к его «Критике отвлеченных начал». Там он говорит о
широком, «всестороннем» или «великом синтезе», подразумевая под ним
как соединение заново западного и восточного христианства, так и
организацию всего человеческого знания в некую «свободную теософию»:
перед ней Соловьевым ставится задача объединить религию, филосо-
е^28^Э
С5^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^5
фию и эмпирическую науку9. Этот «великий синтез» дает, таким
образом, ключ к пониманию сущности софиологии и смысла ее появления
во второй половине XIX в., а также в XX в.; и тогда все зависит от
постижения сути этого синтеза и той его необходимости, на которой
настаивал Соловьев. Как раз этому и посвящено данное исследование.
В нем не идет речи ни об историческом или же систематическом
упорядочении трудов, относимых к сфере софиологии, ни о сопоставлении
творчества разных софиологов (будь то Соловьев, Флоренский,
Булгаков, Бердяев и т. д.). Главное в нем — это попытка понять феномен
софиологии, отправляясь от его философских корней и
религиозно-философских оснований. Представление же и обсуждение различных точек
зрения (например, на онтологический статус Софии) этой цели
подчинены.
«Великий синтез», о котором говорит Соловьев, касается также
противоположных тенденций внутри западной метафизики. Макс Мюллер
указал на то, что, в сущности, имеются две основных формы
метафизики: они определяются возможным отношением бытия и свободы.
Первая форма исходит из бытия и пытается на фоне бытийственных
предпосылок исследовать возможность свободы. Вторая, напротив, исходит
из экзистенциальной свободы человека и пытается при этом заново
понять бытие10. В одном случае свобода рассматривается на фоне бытия,
в другом — бытие на фоне экзистенциальной свободы. Из-за того, что
отправной точкой для движения мысли здесь служит или бытие, или же
экзистенциальная, личностная свобода, возникают разные формы
философствования. Определение Мюллера может послужить для
различения старой формы метафизики и формы Нового времени, — и при этом
одну из них называют метафизикой бытия или сущности а другую —
метафизикой свободы п. Первая форма может быть отождествлена со
средневековой субстанциальной онтологией (философией бытия),
вторая — с философией свободы или философией личности Нового
времени.
3. Две формы метафизики
Во второй части данного труда под углом зрения софиологической
антропологии ставится вопрос об условиях возможности обеих форм
метафизики, а также об их происхождении. Этот вопрос возвращает
к основным представлениям библейской антропологии, а именно, к
понятиям imago («образ») и similitudo («подобие»). Эти понятия, упомянутые
в книге Бытия в связи с сотворением человека, разрабатывались отцами
Церкви и средневековыми платониками (прежде всего XII в.), и с ними
связывались два разных «полюса», или измерения, человеческого
существования. Благодаря этой разнице становится возможным связать
среден 29^5
е^ ВВЕДЕНИЕ ^)
невековую метафизику бытия (метафизику сущности) с imago, а
метафизику свободы, возникшую в Новое время, — с similitude).
Можно вскрыть и осмыслить важные тенденции в западном
философском и культурном развитии, если свести эти два течения в
метафизике к лежащим в их основе измерениям человеческого бытия и,
соответственно, человеческого самосознания. В особенности это относится
к процессу десубстанциализации и его значению. Так, средневековая
метафизика сущности с ее онтологией, базирующейся на реализме
универсалий, и ее самосознанием вместе с «культурным партикуляризмом»,
обусловленным традицией Писания, выработала понятие
«субстанции»; в процессе же номиналистского оспаривания и преодоления этого
понятия, прежде всего в XII в., сформировался «культурный
универсализм», ориентированный на универсальное значение разума и его
законосообразность. С другой стороны, умаление понятия analogia entis и
волюнтаристская интерпретация разума в XIII в. создали такой климат,
в котором индивид стал приходить к осознанию ценности своей
личности, т. е. ее достоинства и свободы. Постепенное преодоление обеих форм
субстанциальной онтологии — раннесхоластического платонизма и арис-
тотелизма высокой схоластики, — преодоление, которое в особенности
проявилось в роли, отведенной интеллекту, также подготовляло путь
для метафизики свободы (ср. главы VI и VII).
Первый этап десубстанциализации (объективный) завершился
вместе с введением усии или идей и универсалий в познающего субъекта.
Второй этап (с его уклоном в субъективизм) произошел в пределах
метафизики свободы. Средневековое развитие мысли привело к «разборке»
ступеней бытия (или усии) и «лестницы» соответствующих
познавательных способностей (deificatio — intelligentia — intellectus — ratio — sensus),
причем их уравнивание в универсуме поначалу шло в направлении,
впоследствии определенном схемой Декарта: res cogitans (= ratio) — res ex-
tensa (в понятая в математико-механическом духе, чувственно
воспринимаемая природа). Метафизика же Нового времени двигалась к тому,
чтобы поставить теперь под вопрос и «разобрать» ступени права
(вечный закон — Божественное право — естественное право — позитивное
право) вместе с рядом привязанных к ним сфер (Бог — духовный мир —
разум — фактический мир). При этом в центре философской
заинтересованности оказывались личность (как моральное бытие) и
межличностная сфера (как область нравственных оценок и правовых отношений,
а также сплетающихся социальных функций и связей). Эта «десубстан-
циализация права» обнаруживается в особенности в той роли, которую
возложили на естественное право. Если в Средние века в центре
философских дискуссий находился intellectus, то в Новое время —
естественное право. Intellectus в качестве самостоятельного принципа познания
и естественное право в качестве самостоятельного источника права были
е^зо^э
С5^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^Э
непосредственно связаны между собой: если один из них падает, то и
другой долго не может удерживаться.
Если теперь один из двух полюсов человеческого существования
(например, similitudo) полагается как абсолютный, то следствием этого
оказывается тот персонализм, который можно заподозрить в пустоте
(цитируя Хоннефельдера12) из-за его формализма и функциональности.
С такого рода персонализмом непосредственно связано отмеченное
феноменом Ницше появление нигилизма: когда нечего больше десубстан-
циализировать, поскольку все превратилось в голое сплетение
отношений и предмет чисто субъективной оценки, тогда личность оказывается
перед бессущностным, т. е. перед ничто. Нигилизм (а также смерть, его
конечное следствие) был платой за открытие личности и связанное с ним
«испарение» сущности. Отрицающий сущность персонализм, нигилизм
и смерть суть тени, сопровождающие метафизику свободы.
Если делаются попытки спастись от Сциллы нигилизма и
сопутствующего ему влечения к смерти (которые характерны для чистого
персонализма в качестве возможных последствий метафизики свободы) в
«гавани imago» и основанной на imago субстанциальной онтологии, то при
этом возникает другая угроза — со стороны Харибды порабощения
субстанцией или идеей: чистая субстанциальная онтология подвержена
опасности впасть в некую «чрезмерность» или «экзальтацию» (вновь
процитируем Хоннефельдера), — т. е. опасности того, что сознание будет
захвачено надмирным и сверхчувственным, или же опасности
подчинения свободной воли некоей гетерономной, наложенной извне морали —
«рабской морали», по слову Ницше, которую он совершенно
необоснованно отождествил с христианством.
Является ли последним словом это кажущееся непримиримым
противопоставление, или же западной культуре и движению мысли можно
указать некую цель? Это стало проблемой собственно уже с конца XVIII в.,
после того как кровавые события Французской революции сделали
неизбежным пересмотр метафизики свободы. Так, представители
немецкого идеализма и раннего йенского романтизма искали возможности
некоего синтеза, скажем, когда ими давалась высшая оценка
практикуемой платонизмом и неоплатонизмом диалектике как искусству
соединять противоположности; или же когда Новалис, находясь еще целиком
под влиянием якобинского неистовства, в своем сочинении
«Христианство и Европа» искал перспективы на будущее, — перспективы,
вытекающей из последствий средневековой метафизики сущности и новейшей
метафизики свободы. Когда Новалис пишет: «Христианство должно
снова ожить в своей действенности, образовав зримую церковь, не
признающую государственных границ, принимающую в свое лоно все души,
жаждущие неземного, как подобает добровольной посреднице между
старым и новым миром. <...> Из священного лона европейской
соборного 31 ^)
е^ ВВЕДЕНИЕ ^э
сти, вызывающей благоговение, воскреснет христианство <...>. Никто не
будет более протестовать против христианского или мирского
принуждения, ибо существом церкви станет истинная свобода, и все необходимые
реформы будут вершиться под ее руководством как мирные процессы,
сообразные государственности»13, — то он требует сохранения надмир-
ной (в духе христианской религии) субстанции (это тема метафизики
сущности), что должно стать результатом свободного обсуждения на
великом европейском соборе (следствие метафизики свободы); это
свяжет личную свободу со сверхчувственной сущностью. Идею великого
философского и общественного синтеза затронул веком позднее Макс
Шелер: в 1927 г., незадолго до своей смерти, он прочитал лекцию
«Человек в уравнительный век» 14, в которой говорил о близящемся синтезе
западной и восточной культур, а также призывал «признать Kairos
настоящего часа и осмыслить выравнивание (Ausgleich) в качестве
эпохального задания наступающего века; лишь в выполнении этого
задания человек сможет обрести свою человечность» 15.
4. Третий род метафизики
Здесь напрашивается вопрос: не является ли этот синтез (или
«выравнивание»), о котором Шелер говорит, что он «относится к сути
жизни социальной, а не только индивидуально-частной»1G, задачей некоей
третьей, по-другому ориентированной метафизики? Она призвана
сменить собою метафизику свободы Нового времени точно так же, как эта
последняя преодолела и заменила собой средневековую метафизику
сущности. Уже Шеллинг в своих поздних сочинениях говорил о
«положительной философии», которая сменила бы господствующую доселе
«отрицательную философию»17. Фейербах, Маркс, Энгельс,
спекулятивные теисты18, а также Ницше претендовали на то, чтобы снять или
преодолеть «старую метафизику». Сумерки метафизики свободы то ли уже
ощущались, то ли предчувствовались; с ними связывались новые,
полные надежды замыслы. Тезис настоящего исследования таков: эта
третья разновидность метафизики представлена новой софиологией; софи-
ология же эта, в свою очередь, принадлежит к традиции положительной
философии, основанной Шеллингом. И это требует пояснения.
Если проблематика метафизики свободы Нового времени
сосредоточена исключительно на одном из двух полюсов человеческого
существования, то в этом случае должен иметься некий плодотворный
проект преодоления тенденции сознания концентрироваться только на
одном из этих двух полюсов (imago или similitudo), — проект,
выводящий за пределы метафизики свободы Нового времени с ее границами
и последствиями19. И тогда речь пойдет о том, чтобы указать и
проторить пути к решению следующей задачи: как возможно установить суб-
е^32^Э
С^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^Э
станциальную и экзистенциальную связь между смещающейся от тео-
центризма к антропоцентризму similitudo — и imago, всегда связанной
с Божественным началом, а потому ориентированной теоцентрически?
Связь эта должна быть установлена на основе достигнутого в Новое
время «открытия личности», т. е. при сохранении и углублении
личностной свободы, обязанной этому открытию.
5. Софиология как продолжение традиции
положительной философии
Родоначальник русской софиологии Владимир Соловьев предпринял
попытку синтеза двух форм метафизики именно в этом смысле. Этапы
пройденного Соловьевым философского пути предполагают, в
сущности, все ту же цель: они суть ступени реализации imago наряду с
similitudo в мире подобий. При этом указываются способы того, как «образ»
и «подобие» вместе с опирающимися на них формами метафизики
вновь могут быть приведены к свободному объединению, — без
подавления similitudo со стороны imago (опасность экзальтации или
чрезмерности) — или же вытеснения imago и возобладания similitudo (опасность
пустоты). Можно избежать обеих опасностей, если глубоко осознать
важнейшие положения метафизики сущности и метафизики свободы,
а затем обе формы метафизики трансформировать в некую новую
форму, в которой обе оказались бы в диалектическом смысле снятыми. Эту
задачу и ставит перед собой Соловьев: как показано в главе VIII, он, с
одной стороны, развивает свою идею Богочеловечества на фоне
религиозно-философских представлений Востока (индуизм, буддизм), затем —
на фоне спора отцов Церкви с гностическими учениями и христологи-
ческих умозрений святых отцов и средневековых школ по поводу образа
и подобия, — но прежде всего также отдавая должное разультатам
метафизики свободы Нового времени. С другой же стороны, — и это
представлено в главе IX данной работы, — в своей диссертации «Критика
отвлеченных начал» он обращается к западноевропейской метафизической
традиции и, беря одно за другим ее разные положения, обсуждает их
и пытается с помощью диалектического хода мыслей привести их к
опыту всеединства, или Софии20. Соловьев подводит западную
философскую традицию к тому образу, который имеет выдающееся значение в
восточной религиозной традиции: это София, которую он переживает как
вдохновительницу своего творчества. И тем самым он уже задолго до
призыва Шелера к синтезу демонстрирует тот возможный путь, на
котором могла бы произойти встреча восточной и западной традиций, что
способствовало бы их дальнейшему плодотворному развитию.
По словам Людвига Венцлера, «в творчестве Соловьева
осуществляется такой образ мыслей, который, с одной стороны, обнаруживает не-
е^зз^э
е^ ВВЕДЕНИЕ ^э
избежно появляющиеся границы и апории мышления в отношении
к событию свободы; но одновременно этот образ мысли указывает на
существенные возможности того нового мышления свободы, той
"метафизики свободы", которая, однако, уже не является просто
метафизикой»21. То, что здесь подразумевает Венцлер, — это в точности тот самый
вид метафизики, в котором преодолена односторонность метафизики
свободы Нового времени. Эта новая метафизика больше не опирается
на одно чисто горизонтальное, привязанное к плоскости
межчеловеческих отношений, диалогическое понятие свободы, которое требует
самоограничения одной личности во имя того, чтобы стало возможным
осуществление свободы другой личности22. Напротив, диалогическое
понятие свободы в новой метафизике свободы находит также
применение в вертикали отношений Бога и человека. Но при этом возникает
нужда в таком образе Бога и творения, который все же предполагает,
что диалогическим условием свободы является самоограничение. И
тогда центральной делается идея Божественного отступления. Эта идея
восходит к представлениям иудейского религиозного философа и
мистика Исаака Лурия и оформляется в понятии «зод ха цимцум». Также
она присутствует в творчестве Якоба Бёме, хотя и не в качестве
отчетливой формулировки, но, скорее, как гностический «субстанциальный
опыт»; категориально же она впервые была разработана Францем фон
Баадером. Однако собственно философский облик первым ей придал
Ф. В. И. Шеллинг в своих поздних сочинениях.
Закладывая основы положительной философии, Шеллинг
предпринял попытку выйти за пределы философии чисто рациональной; и эту
попытку невозможно понять, не обращаясь к идее отступления
Божества из его «непостижимого прабытия» (unvordenkliches Sein), т. е.
к идее самоограничения Бога. В первой части данного исследования
(прежде всего в главах II и III), предмет которой — софиологическая
теология и космология, показано, что это именно та идея, которая
предоставила возможность позднему Шеллингу сделать решающий шаг
к выходу за пределы различных систем немецкого идеализма. Интересно,
что в тот самый момент, когда разум принимает мысль об отступлении
Бога, возникает необходимость также и в другой идее. Для дальнейшего
философского развития требуется признать существование некоей
посредствующей инстанции между Творцом и творением (без этого любой
творческий процесс может быть представлен лишь как подчиненная
необходимости эманация Бога). А это не что иное, как образ Софии, к
которому, как к той самой инстанции, обращается Шеллинг, вводя его
в свою положительную философию. Так как София, это необходимое
Шеллингу «среднее звено», причастна обоим — Богу и творению, она
может образовать мост через бездну, разделяющую тайну Творца мира
е^зд^э
С^ Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени ^Э
и его создание, — бездну, которую по-другому ни измерить, ни
преодолеть невозможно. Это среднее звено, в котором нуждается мышление,
ориентированное на свободную тварь, в софиологической философии
представляет из себя отнюдь не гипотезу и не одно понятие или идею:
как это ясно выражено Соловьевым, это среднее звено является живым
Существом. Так вместе с образом Софии одновременно возникает идея
свободных диалогических отношений между Богом и будущим творением.
В предисловии к «Философии права» Гегель пишет: «Познать разум
как розу на кресте современности и возрадоваться ей — это разумное
понимание есть примирение с действительностью, которое философия
дает тем, кто однажды усльшал внутренний голос, требовавший
постижения в понятиях и сохранения субъективной свободы не в особенном
и случайном, а в том, что есть в себе и для себя»23. Здесь он прямо метит
в синтез метафизики сущности и метафизики свободы; но когда он
помещает разум на то место, которое, собственно, предназначено для Софии
(место розы на кресте современности)24, он словно оказывается у врат
положительной философии и софиологии. Эти последние не только
дают возможность понять «действительный ход событий» (Шеллинг)
в тварном мире, но также открывают новые пути постижения того, «что
есть в себе и для себя». Отступление Бога и выступание Софии
соотносятся между собой, являясь лишь двумя сторонами одного и того же
события.
Как в основанной Шеллингом положительной философии, так и в
софиологии, стремящейся к преодолению чистой рациональности25,
наряду с образом Софии играет конструктивную роль также и Божественное
самоограничение (Соловьевым названное самоотрицаннием Богах а
Булгаковым — Божественным кенозисом): оно является основным
условием объединения личностной свободы и субстанциальной связи Бога
с творением.
Эта будущая задача определяется в раннем творчестве Соловьева как
«свободная теургия» или «свободное творчество»; позже, в особенности
в творчестве Н. Бердяева, это понятие станет определяющим.
«Свободное творчество» играет центральную роль при заложении Соловьевым
основ софиологии, и потому можно в связи с последней говорить о
некоей апокалипсической устремленности: она проявляется, между
прочим, в соединении софиологической традиции с персонализмом Нового
времени. Соловьев пишет, что не только для человеческого мышления,
но и для природной действительности характерно отсутствие истины
как начала всеединящего, дающего целостность, и что важно
осуществить в свободном творчестве во всех сферах бытия идею всеединства,
или Софии. При этом он требует ни больше ни меньше как
преображения познающего человека и всей природы усилиями свободной личнос-
е^35^3
е^ введение -^э
ти, действующей в согласии с Божественной волей, — и это чисто
апокалипсический мотив.
Основополагающий для софиологии «всесторонний синтез»
традиции Премудрости и персонализма Нового времени, приводящий к пер-
сонализированию Премудрости, т. е. к соединению свободной,
автономной личности человека с образом Софии Премудрости Божией, может
быть сведен к чеканной формуле «Лик Премудрости». А это — название
данной работы с ее попыткой религиозно-философского обоснования
софиологии.
Ч АСТЬ I
ЦИМЦУМ И СОФИЯ
Отрицательная философия,
положительная философия
и софиология
Ничто — то мистическое пространство, из которого Бог
устранился посредством цимцума, — есть «место»
возникновения свободы, т. е. абсолютной, ничем не
детерминированной потенциальности. <...> Каббалистическое
учение о цимцуме есть единственное <...> серьезное
объяснение сотворения мира из ничего, которое в
состоянии противостоять чистому пантеизму. Кроме того, это
учение устанавливает глубокую связь между Ветхим и
Новым Заветами, высвечивая космическое значение идеи
жертвы.
Anonymus d'Outre Tombe *
* Anonymus d'Outre Tombe (Валентин Томберг). Die Grossen Arcana des Tarot.
Meditationen / Hrsg. ν. Martin Kriele und Robert Spaemann. 4. Brief. Herder Basel, 1983.
[О Валентине Томберге см. также гл. II, прим. 24.]
I
БОЖЕСТВЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРА
Человек постигает, пожалуй, еще то, чего способно
достичь в своем движении его мышление, однако это первое
понятие схвачено и по-настоящему осмыслено именно
в состоянии неподвижности. <...> Ибо оно познается не
так, как объект в другой познавательной ситуации, когда
происходит выхождение из себя, но, скорее, в состоянии
внутрьпребывания *, внутреннего покоя; и когда
известному сословию индийских браминов, занимающихся
упражнениями, с помощью которых они пытаются обрести
способность к высшему созерцанию или невозмутимости
и среди которых имеется практика, касающаяся
удержания дыхания или внутрьпребывания, — когда этим
браминам или их предшественникам хотели приписать знание
идеи, которую здесь надо развить, то следовало бы как раз
предположить, что изобретатели этой, возможно, ныне
машинально осуществляемой практики хотели лишь
показать, как увериться в наличии того глубочайшего начала
в Божестве, которое обнаруживается и в известной мере
ощущается на деле не в расширении или выдыхании, но
лишь в сильнейшем притяжении (отступлении) и как бы
некоем абсолютном вдыхании мышления.
Ф. В. Й. Шеллинг 1
1. ИДЕЯ БОЖЕСТВЕННОГО ОТСТУПЛЕНИЯ ИСААКА ЛУРИЯ
/* *ч од ха цимцум» — выражение, принадлежащее иудейско-
. . LjT^) J МУ мистику и каббалисту Исааку Лурия (по прозвищу
(j[l W \ Ари) из Сафеда2, которое призвано описать одну из тайн
1\^ЛГ\^ ι сотворения мира. Как пишет исследователь мистицизма
^^ ^^^^ Гершом Шолем3, слово «цимцум» буквально означает
«концентрация» или «сжатие»; но при желании постичь точный смысл
* «An-sich-Halten» Шеллинга мы сочли уместным перевести термином, введенным
русским мистиком XIX в. святителем Феофаном Затворником. — Прим. пер.
е^з9^>
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
представления Лурия «цимцум» лучше переводить как «отступление»
или «отход». По-видимому, сам Лурия опирался на небольшой,
полностью забытый трактат середины ХШ в.4, который он применил для
объяснения одного талмудического представления, придав тем самым
этому представлению совершенно новое значение. В одном месте Мидраша
сказано, что Бог сосредоточил Шехину, Свое святое присутствие (некий
аспект Софии), в святом святых, в месте херувимов, и таким образом
как бы стянул всю Свою мощь в одну точку5. «Отсюда происходит
слово цимцум, в то время как данная ситуация прямо противоположна этой
идее, ибо каббалистический цимцум отныне вынуждает Бога не
концентрироваться в одном месте, но отстраняет Его оттуда. Что это означает?
Это означает, говоря кратко, что существование вселенной стало
возможным благодаря процессу сокращения внутри Бога»Г). С помощью
допущения некоего таинственного деяния Бога Лурия надеется решить
проблему creatto ex nihilo. Действительно, можно возразить против
предположения о творении из ничего: как может существовать свободный,
независимый мир, если Бог является Всемогущим, Вездесущим и
Всеведущим и, следовательно, Его Существо присутствует везде? Ибо если
бы Бог был «всем во всём», то это означало бы невозможность
существования чего-либо, что не есть Бог. Также нельзя было бы говорить
и о каком-то «ничто», например, в форме некоей непрерывной пустоты
(eines leeren Kontinuums), поскольку сущность Бога пронизывала бы
всё. Таким образом, если Бога понимать как существующего вне каких
бы то ни было ограничений — как Всемогущего, Вездесущего и
Всеведущего, то Он не мог бы ни творить из ничего, ни творить «в ничто»;
creatio ex nihilo — творчество из ничего — было бы невозможно. Но
поскольку Бог сотворил этот мир, необходимо предположить ограничение
в Боге — по крайней мере, ограничение во всемогуществе и вездесущии:
только благодаря этому ограничению творится (или возникает) «пустое
пространство», или «ничто», становясь условием для принятия в себя
(die Aufnahme) мира. Если подобное ограничение имело или имеет
место, то оно обязано своим осуществлением лишь Самому Богу Итак,
Богу надо, «чтобы обеспечить миру возможность существования, <...>
освободить некую область, самому отступив оттуда, — некое
мистическое прапространство (Urraum), в которое Он смог бы выступить при
творении и откровении»7. Исаак Лурия исходит из того, что этот
Божественный отход является не только умозрительной гипотезой, но и
действительным фактом: «Самый первый из всех актов бесконечного
Существа, Эн-Софа, был <...>, — и это ключевой момент, — отнюдь не шаг
наружу, но шаг вовнутрь, вступление в Самого Себя; если мне будет
позволено употребить смелое выражение, речь идет о самоограничении
Бога, о движении "из Самого Себя в Самого Себя". Таким образом,
вместе 40^)
Сг^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^z)
сто того чтобы совершать из Себя эманацию Своей сущности или силы,
Эн-Соф, напротив, спускается в Себя Самого, концентрируется в Себе
и, начав творение, совершает все это вновь и вновь. Итак, первый из
всех актов — это не акт откровения, но акт сокрытия и ограничения.
Только во втором акте Бог выступает из Себя в луче Своей сущности
и начинает Свое откровение или развертывание в качестве Бога
Творца—в том прапространстве, которое Он создал в Себе Самом»8. То, что
имеет место для мироздания в целом, должно быть значимо и для
каждой твари в этом мироздании, если в этом последнем созданы
предпосылки для свободы и независимости. Лурия считается и с этой мыслью,
когда исходит из того, что «каждому дальнейшему акту эманации и
манифестации Бога предшествует новый акт концентрации и сокрытия»9.
Мысль, согласно которой жизнь Бога как Творца мира состоит в
некоторого рода «пульсации» или «дыхании», следовательно, протекает
как последовательная смена сжатия и расширения, — или же, в
терминах философии Николая Кузанского, как «свертывание и
развертывание» 10, — лежит в основании не только гностических, но также и
различных восточных философских систем: к примеру, в философии индуизма
мировой процесс рассматривается как чередование вздохов (Abfolge von
Atemzügen) Брамы, с чем связана смена манвантар и пролай. Но то, как
понимает цимцум Лурия, придает этому представлению совершенно
другую окраску, так как Лурия пытается понять, какими путями шел
Бог, прежде чем Он вообще нечто сотворил. Поиски Лурия направлены
на условие возможности творения (Schöpfung) вообще — все равно,
понимается ли творение как единый акт эманации, как процесс
свертывания и развертывания или как цикл из манвантар и пралай.
Интересно, что между идеей цимцума Лурия и буддистскими
воззрениями существуют точки соприкосновения. Так, центральное для
буддизма понятие «пустоты» (хорошо знакомое современному западному
человеку) может быть осмыслено на фоне представления о
Божественном самоуничижении. По мнению Г. Дюмулена, «буддистско-христиан-
ский диалог относительно творения и Бога Творца <...> может достичь
глубины взаимопонимания при попытках прояснить смысл библейского
откровения не столько с философской — онтологической или
космологической точки зрения, сколько, скорее, в аспекте религиозной веры» п.
Для подобного диалога особую важность могла бы приобрести христо-
логическая интерпретация рассказа книги Бытия о сотворении мира. Два
основных мотива для творения и спасения в христианском понимании —
это Логос и любовь, причем для веры «Христос — это вочеловечившееся
Слово Божие»; таким образом, «творение и спасение осуществляются
через это единое Слово. А движущая сила творения и спасения — это
одна и та же Божественная любовь, которая стала явной в сотворении
е^41 ^Э
(3^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^z)
мира и в спасении через Христа»12. Ключевым понятием для этого
«теологического учения о творении»13 был бы упомянутый апостолом
Павлом в Послании к филиппийцам (Флп 2: 7) кенозис Христа, т. е.
самоуничижение второго Божественного Лица, которое, согласно Павлу,
поступилось (begab) Своей Божественной сущностью, чтобы
воспринять сущность человеческую14.
Понятие кенозиса относят, как правило, к данной выдержке из
Послания к филиппийцам, — т. е. связывают это понятие с Сыном, Христом
(это имеет место и у многих отцов Церкви, а также православных
писателей). Но под кенозисом можно также понимать трансцендентность
Отца или Его воздерживание (Enthaltung) от бытия. Дальнейший шаг
делается Сергеем Булгаковым, когда тот, наряду с кенозисом Отца в
начале творения и кенозисом Сына на повороте времен, различает еще
будущий кенозис Духа15. О Божественной жертве тогда можно было бы
говорить не только в связи с Отцом и Сыном, но также и в связи со
Святым Духом благодаря Его единосущию (омоусии) Отцу и Сыну. В
отношении же цимцума Исаака Лурия это могло бы означать
предположение об отступлении перед любым актом творения и при этом акте всех
трех Божественных Лиц, всей Троицы. Ступени кенозиса, каждая из
которых соответствует определенной Божественной Ипостаси,
открывающиеся в ходе творения, можно было бы тогда рассматривать как
временное и историческое откровение некоего «события», которое
«совершилось» вне времени и истории (или над ними), будучи их
основанием, и продолжает совершаться. При этом идея цимцума получает
христианское истолкование и расширяет понимание Троицы.
Представление о цимцуме открывает также принципиально новый
подход к проблематике доказательства бытия Божия. Средневековая
философия, опирающаяся на онтологический аргумент Ансельма, была
занята преимущественно вопросом, кто сотворил мир. Ее способы
доказательства, основанные на понятии Бога, не выдержали критики Нового
времени. Эта критика смогла столь успешно провести свою работу по
разрушению субстанциальной онтологии, между прочим, потому, что,
как выразился Фихте, о творении (Schöpfung) еще только предстоит
сказать первое разумное слово. Если современная философия хочет
преодолеть ту враждебность к метафизике, которую испытывает
современный скептицизм во всех его разновидностях (это позитивизм, теория
науки, нигилистический экзистенциализм), то она не может
ограничиться догматическим ответом на вопрос, кто сотворил мир: она
должно иметь мужество спросить, как он был сотворен. И только отвечая на
этот вопрос, она сможет ближе познакомить просвещенный,
скептический разум также и с Тем, Кто сотворил мир.
Одновременно идея цимцума открывает новый подход к
платоновской проблеме бытия: Бог оказывается не одной, раз навсегда постигну-
е^42^5
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира '^Э
той субстанцией блага, но Тем, кто благо продуцирует (Hervorbringer
des Guten), принося жертву прежде акта творения. Эта жертва и есть
благо. Прежде чем какая-либо тварь становится возможной или
обретает действительность, Бог в Самом Себе уже воздвигнул крест:
произошел Его отказ от вездесущия, совершилась концентрация или
ограничение Им Себя в Себе Самом. Мысль Лурия о Божественном цимцуме
оказывается при этом плодотворной не только для более углубленного
понимания христианства, но также и для некоей новой философии
морали: она открывает как новые точки зрения на теоретическое
понимание блага, так и пути к современной этической практике, основанной на
цимцуме — искусстве отступления во имя осуществления будущего.
Допущение цимцума имеет особое значение, поскольку оно
противостоит ставшей заметной с начала прошлого столетия тенденции в
метафизике свободы Нового времени превзойти собственные пределы. Ибо
благодаря этому допущению получает философскую поддержку одно из
важнейших положений метафизики свободы — возможность признать
личность другого, ограничив свободу собственного произвола; вообще,
личная свобода осуществляется впервые через эту диалогическую
передачу свободы. Действительно: Бог передает Свою свободу твари,
ограничивая тем самым Себя Самого; в этом акте ограничения собственной
свободы открывается Его признание тварной личности другого. При
этом, обратно, закладываются существенные основы учения о человеке
как подобии Божием, — учения, развитого в части II данного
исследования: только если первоначальное свободное деяние Бога можно понять
по аналогии со свободным человеческим деянием, правомерно исходить
из подобия человека Богу. И если человеческая свобода есть акт
самоограничения и диалогической передачи личностной свободы в акте
признания личности другого, — передачи, ставшей возможной благодаря
самоограничению, — то Божественным аналогом этого может считаться
лишь акт цимцума.
Но цимцум открывает еще и совершенно иные перспективы для
решения проблемы свободы. Тот, кто признает Бога Творца, Его связь с
творением и Его деятельность в творении и, несмотря на это, хочет принять
постулат о безусловной свободе человека, всегда будет оказываться
перед вышеупомянутой проблемой: она — в кажущейся несовместимости
вездесущия, предвидения и всемогущества Бога, с одной стороны, и
действительной, решительной и абсолютной свободы человека — с другой.
Для того, кто хочет всерьез считаться с самостоятельностью и свободой
человека, очевидно, существуют две возможности. Можно лишить Бога
инициативы в такой степени, что Он больше никоим образом не
воспрепятствует человеческой свободе (как в различных формах деизма); или
же можно сразу решиться принять атеизм, и при этом ответственность
е^43^)
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^Э
за все бытие целиком возлагается на человека (как в разных вариантах
атеистического экзистенциализма и утилитаризма). Свободу
человеческой личности можно совместить с одновременным предположением
о личном Творце, который связан со Своим творением, только если
удастся показать, как свободный Творец создал свободный мир и в состоянии
поддерживать с ним связь, не препятствуя осуществлению тварной
свободы. Подобный показ может мыслиться только как решение проблемы
пантеизма, и цимцум в состоянии внести сюда существенный вклад16.
Так что если принимается идея Лурия, то можно всерьез рассматривать
высказывание Фихте, согласно которому первому разумному слову
о творении еще только предстоит быть высказанному, так как цимцум,
отступление Бога, оказывается вообще условием возможности
творения, — условием, которое современное персоналистское, десубстанциа-
лизированное мышление также могло бы понять и принять.
Шеллинг, интенсивно занимавшийся в поздний период своего
творчества проблемой преодоления пантеизма, деизма и, как он его
называл, «пошлого (schalen) теизма», приблизился (но только приблизился)
к идее Лурия17; разница состоит в том, что иудейский каббалист искал
не логически-философского, но мистического решения проблемы.
Отступление Бога не было для него одним из возможных теоретических
предположений или свободно принятой гипотезой, которая в
дальнейшем ходе свободного философствования (Шеллинг) оказывается
верной не только логически, но и онтологически. Лурия обсуждает цимцум
как опытный факт, полученный духовным исследователем в результате
внутреннего, мистико-эмпирического погружения в Божество. Шеллинг
же, напротив, исходил из предположения, по которому свободное
сотворение мира исключает какую бы то ни было логическую необходимость:
оно может рассматриваться только как свободное деяние, которое,
однажды совершившись, преобразовало собой и структурировало все
последующее творение и развитие18. Аналогичное изначальному творческому
акту первое свободное деяние (прообразующее и структурирующее все
дальнейшие шаги) мышления, приближающегося к тайне свободного
сотворения мира, состоит именно в этом гипотетическом
предположении первоначального свободного творческого деяния и творческого
жеста Бога. Шеллинг, как и Лурия, определяет это первоначальное деяние
Бога как взятие Им обратно (Zurücknahme) Своей собственной
сущности. Это же имеет в виду и Флоренский, когда пишет, что сотворенному
миру предшествует Крест19. То первое движение, с которого начинается
философское мышление, было бы тогда по аналогии таким же взятием
назад собственной сущности, т. е. жертвой. Если философское
мышление возьмет в этом смысле крест, тогда можно будет надеяться обрести
лучший доступ к миру, чем в том случае, если использовать различные
е^44^>
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^5
принципы, служившие в истории философии исходным пунктом
мышления 20. Итак, сначала мышление отказывается от того, чтобы
предписывать самому себе принципы или же себя само возводить в принцип.
В начале движения мысли стоит, таким образом, не какой-то
абстрактный принцип, но некое деяние, живое движение того, что предваряет
собою мышление. Допущение деяния, совершаемого тем, что предваряет
собою мышление, является, действительно, первым шагом, который
структурирует все дальнейшее развитие мышления. Так как это первое
движение in ordine essendi является не движением разума или
мышления, но самым первым движением вне мышления, — и если in ordine со-
gnoscendi это движение есть то самое мышление, которое осуществляет
этот гипотетический отказ, то понятийно определяемого первого истока
мышления не существует. После того как все принципы просмотрены,
они отбрасываются в сторону. В результате такого отказа от всех прежде
допущенных принципов и от соответствующих им мыслительных
движений у мышления не остается движущей силы, и оно пребывает в покое.
И если еще и можно говорить о движении, то не о собственном
движении мышления, но о движении чего-то другого, куда мышление
вовлекается. Пребывая в неподвижности, мышление в некоей инспирации (как
выражается Шеллинг21) приобщается тогда к первичному творческому
акту, или изначальному движению. И поскольку это и есть отказ,
мышление узнает на опыте, что условием его самостоятельности и свободы
является Божественная жертва. Благодаря тому, что мышление
отказывается от всего своего содержания, своих принципов и, наконец, от
собственного движения, оно узнаёт, что ему уже заранее предоставлено
условие свободы. Ибо цимцум, Божественная жертва отступления, есть
условие свободного мышления, а также условие любого отказа.
Согласие свободного мышления с самим собой при этом делается согласием
относительно жертвы и свободного творения.
Если мышление ориентируется на реальность Божественного
отступления и не только признает его возможность, но, сверх всякой
гипотетичности, хочет опытно познать это отступление как совершенно реальное
первоначало, то это возможно только при мыслительном совершении
аналогичного движения, т. е. мыслительном принесении жертвы, —
подобно тому, как прежде всякого творения это в цимцуме происходит
экзистенциально. Таким аналогичным движением является медитация.
В различных философских школах Востока утверждается, что
медитация — самый подходящий способ встретиться с Божественной
реальностью; глубинная причина этого состоит в том, что всякая медитация есть
не что иное, как концентрация. Но концентрация для мышления
означает выступание из круга привычных идей и представлений и вхождение
в центр, означает оставление мышлением занимаемого им
«пространен 45 ^)
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ства» и переход от многообразия содержания к его единству;
«сконцентрироваться» значит позволить мышлению сделаться пустым. Но эта
пустота подобна той первоначальной пустоте, которая образовалась,
когда произошло Божественное отступление. Речь идет при этом на
самом деле о вступлении в ничто; но когда мышление совершает это
движение, оно помнит о том, что всякая пустота имеет свой прообраз в той
первоначальной пустоте, которая возникла, когда совершился цимцум.
Это дает повод надеяться «в этом ничто обрести все», приобщившись
трансцендентной Божественной сфере. Если это происходит и
мышление затем вновь выходит из им самим избранной «кеномы чистого
разума», то хотя пустота вновь наполняется привычными представлениями
и повседневными мыслями, но на сей раз будучи побужденной к этому
мышлением, соприкоснувшимся с трансцендентной реальностью, что
представляет данное событие в совершенно новом свете. Так мышление
обучается «вертикальной диалектике» — разновидности вертикального
дыхания, которое конституируется двумя элементами — стягиванием
(концентрацией) и выдохом (расширением). Жертва, совершившаяся
в медитации, становится тем путем, которым в мир может войти нечто
новое.
Пытаясь приблизиться к процессу цимцума не мистически, но
философски 22, надо учитывать тот факт, который выражен в цитате из
Шеллинга, предшествующей данной главе. Ибо о процессе самоотступления
только тогда можно что-то сказать, когда мышление молчит, когда оно
пребывает в покое и переходит в состояние медитации и созерцания;
если это так, то для философии это означает, что она не может
претендовать на описание средствами языка самого предмета, т. е. самого
живого движения при Божественном отходе: это остается тайной. Но все
же философия может надеяться обнаружить Бога по тем следам или
знакам, которые Он «оставил» на Своих путях. Эти следы апостериор-
ны; они позволяют предположить, что Бог прошел путем цимцума a
priori. Следовательно, мышление должно как бы останавливаться на этих
путевых знаках и умолкать. Поэтому Шеллинг говорит о «внутрьпребы-
вании», о молчании, об отказе от обнаружения.
Как уже упоминалось, этому отказу от обнаружения соответствует
постепенное сосредоточение внутри и концентрация. Поскольку, по
словам Шолема, цимцум состоит в «заключении Божественного Я в Себе
Самом», в уходе Бога в сокровенные глубины Своего внутреннего
существа, человеческое сознание может прикоснуться к этой тайне только
при совершении аналогичного движения, т. е. когда мышление
пребывает в покое и одновременно погружается внутрь. Это пребывание в покое
может сделаться устойчивой практикой, — причем не в смысле отказа
от мышления: выступая за свои пределы, мышление делается органом
е^46^с)
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира '^Э
восприятия трансцендентного. Тогда проявляется подобие человека
Божественному Ты (при наличии в нем уважения к другому и признания
его), которое может сообщить о Себе в тот момент, когда мышление
пребывает в покое и молчании: ведь Божество уже осуществило
преобразовательно это пребывание в покое и молчании, что служит
предпосылкой для Его последующего самооткровения. А то, что действительно
для Божественного Ты, в переносном смысле верно и для всякой твари
и обязано прежде всего цимцуму, Божественному отходу. Мир и все
творения могут сообщать о себе человеку, только когда молчит его
собственное мышление.
Тайна цимцума включает в себя не только Божественный отход, но
также и совершающуюся затем Божественную эманацию. Если при
Божественном отходе наиболее значима тайна пустоты, то при
Божественной эманации — тайна заполнения23. Независимо от Лурия и на основе
собственного гностического опыта обе стороны этого процесса описал
Якоб Бёме, объединив их в понятии «сциенции». Но, в отличие от
Лурия, Бёме изображает эту тайну, так сказать, не «с позиции Бога», но как
бы находясь в прапространстве, образующемся при цимцуме: он
показывает то, что можно было бы воспринять в процессе отхода и
последующего заполнения, пребывая внутри прапространства. В то время как
идея цимцума у Лурия ориентирована по преимуществу на мистически-
личностный аспект, поскольку указывает на деяние Бога, понятие
сциенции у Бёме имеет скорее гностически-субстанциальную природу, так
как обозначает изменения в том прапространстве, которое образовалось
благодаря этому Божественному деянию. Бёме говорит о семи образах
сциенции: три первых образа обнаруживаются благодаря
Божественному отступлению; четвертый — благодаря Божественному «повороту»;
три оставшихся проявляются в ходе Божественной эманации.
Поскольку Бёме отличает эти субстанциальные изменения в прапространстве от
активных деяний Бога, он рассматривает их в качестве начала тварности
(Geschöpflichkeit), т. е. как исток природы. Эта тварность
обнаруживается, с одной стороны, благодаря тому, что в пустоте, образовавшейся
при Божественном отходе, запечатлелось событие этого отхода, а с
другой — потому что это «структурированное пустое пространство»
(употребим здесь это удивительно меткое слово) предназначается в качестве
родительницы (Gebärerin) будущего тварного мира. Франц фон Баадер
попытался объяснить на философском языке представления Бёме,
выраженные в труднодоступных, основанных на специфической
этимологии терминах. В дальнейшем мы намереваемся заниматься этими бё-
мевскими представлениями, обращаясь за помощью к соответствующей
интерпретации фон Баадера.
е^47^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^z)
2. СТУПЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРА
ПО ЯКОБУ БЁМЕ
Якоб Бёме различает Бога непроявленного и
проявленного (эзотерического и экзотерического). — Пусть
первый остается за пределами силового откровения Своего
Слова (вне вечной сциенции) <...> Но между тем как
воля (Отец всего прасостояния) охватывает Себя в
Премудрости, стягивая в силу, и выдыхает охваченное, то (в
исхождении этой силы) в некую сциенцию Он схватывает
Себя, стягивая в различимость (центр природы). <...> Эта
инволюция <...> есть исходная точка развития...
Франц фон Баадер2i
Премудрость построила себе дом, вытесала семь
столбов его.
Соломон25
Когда сравнивают позднюю философию Шеллинга (в последующих
главах она рассматривается подробнее) с философией Якоба Бёме, то
решающим критерием оказывается при этом роль опыта у обоих.
Шеллинг говорит о мышлении, которое подходит к опыту, Бёме — о
мышлении, которое исходит из опыта (разумеется, опыта сверхчувственного).
Когда говорят о «сверхчувственном опыте», то поначалу в этом
словосочетании видится парадокс: под эмпирией, опытом обыкновенно
подразумевается как раз нечто иное, чем мышление, — а именно, восприятие,
опирающееся на чувства. При желании отстаивать возможность
восприятия, не связанного с чувствами, необходимо, с одной стороны, указать,
что за орган восприятия становится заместителем органов чувств, а с
другой, нужно прояснить отношение между мышлением и той иной —
не-чувственной активностью, которая именуется «сверхчувственной
эмпирией». Кроме того, утверждение о существовании некоей
«сверхчувственной эмпирии», по-видимому, наталкивается на вопрос, могут ли
иметь подобные переживания такую объективность, которая
сопоставима с объективностью чувственного опыта. Не являются ли эти
переживания скорее проецированием душевных состояний в чисто воображаемые
высшие миры? Нет ли здесь, говоря словами Канта26, в лучшем случае
гипостазирования мыслей и идей?
К проблеме эмпиризма Шеллинг подходит без какой-либо
эмпирической догмы. Восприятия физических чувств в его глазах не обладают
никаким правом на абсолютность, так как, к примеру, существуют чисто
внутренние, душевные восприятия. Согласно Шеллингу, чувственный
опыт даже является низшей ступенью эмпиризма, в то время как опыты
е^48^)
C5^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^Э
из области так называемого «сверхчувственного эмпиризма» для него
обладают более высокой ценностью; при этом неважно, о каких
конкретно опытах идет речь27. Понятие «эмпиризм» подходит Шеллингу и здесь,
поскольку общим моментом всех мистических учений является то, «что
они исходят из опыта, — из того, что происходит в опыте; что же это
такое, совершенно неважно»28.
Та разновидность сверхчувственного эмпиризма, которую Шеллинг
в первую очередь имеет в виду, — это гностический эмпиризм, или
теософия Якоба Бёме, которой он занимается более подробно29. Шеллинг
выдвигает против Бёме тот аргумент, что Бёме захвачен
субстанциальным началом, что он в известной степени остается в плену у
субстанциально-онтологического понимания действительности, от которого он,
согласно Шеллингу, не в состоянии освободиться. Если критики
Шеллинга, например, Рихард Гайзен30, полагают, что мышление Шеллинга
в самой своей основе несет на себе отпечаток духа Бёме, то, значит, от
них ускользает шеллинговская критика Бёме. Ибо если творчество
Бёме является плодом сверхчувственного эмпиризма, будучи основанным
на субстанциальном опыте, то для Шеллинга важно как раз то, что в
случае положительной философии * о каком-либо сверхчувственном
эмпиризме с его различными ступенями и формами нет и речи. В
последующих двух главах показано, что положительная философия не имеет дела
с «мистицизмом» и гностическим эмпиризмом31. В связи с
положительной философией речь идет, скорее, о философии абсолютной
персональное™ (Personalität), возвышающейся над гнозисом любого вида, ибо
в ней субстанциальное всегда рассматривается как вторичное,
производное, и ему предшествует сверхсущая абсолютная персональность.
С Шеллингом происходит поворот от метафизики среднего периода,
опирающейся на Бёме (сюда относится, например, сочинение о
свободе), к философии Абсолютной Божественной личности, представленной
в его позднем творчестве32.
По поводу возражения Шеллинга в адрес субстанциальной
онтологии Бёме нужно, конечно, сделать критическое замечание: в связи с тем
самым моментом, который у Шеллинга описан как обращение наружу
большинства потенций**, можно говорить о некоем начале, доступном
в принципе для субстанциального восприятия, — если это начало обладает
реальностью. Но именно бёмевская философия указывает путь к
подобному субстанциальному, хотя и не чувственному (или, лучше, дочув-
ственному) опыту. Кроме того, надо поразмыслить о том, что хотя, со-
* Т. е. философии откровения Шеллинга. — Прим. пер.
** Потенции — зд.: семь ступеней или образов в процессе начинающегося творения
мира, общих для воззрений как Бёме, так и Шеллинга. См. ниже раздел «Цимцум
как эвристический принцип для понимания ступеней сциенции». — Прим. пер.
(Ξ^49^Ξ)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^Ώ
гласно Шеллингу, положительная философия и не исходит из опыта, но
в дальнейшем мыслительном процессе должен обнаружиться как раз
такой опыт, который может доказать правильность философского
рассуждения в том смысле, что положительная философия выйдет именно на
него. То, что иначе остается просто каким-то неведомым опытом,
благодаря положительной философии делается прозрачным для понимания;
и это означает, что положительная философия может помочь
осмыслить как сверхчувственный, так и чувственный опыт. Поэтому как раз
бёмевский мистико-гностический опыт можно было бы объяснить с
помощью положительной философии, — при этом объяснить лучше, чем это
мог бы сделать сам Бёме. И наоборот, гностический опыт мог бы оказать
развитию положительной философии пользу и внести в нее поправки:
если философское рассуждение имеет своим предметом действительный
процесс творения, то это рассуждение можно было бы выверить с
помощью (сверхчувственного) опыта. Как это конкретно может
происходить, будет показано в дальнейшем.
а) Гнозис Якоба Бёме
В своем двенадцатом «Теософском послании» (написанном в 1621
году в день Вознесения Марии и адресованном чиновнику таможенного
ведомства в Бойтене Каспару Линднеру) Якоб Бёме заявил, что все его
творчество восходит к некоему сверхчувственному опыту33. Этот текст
дает многое для понимания Бёме: в нем сообщается о некоем
сверхчувственном (гностическом) опыте и одновременно описываются пути,
ведущие к этому опыту, а также те, которыми Бёме следовал после своего
озарения, имея целью рассказать о своем опыте и его значении. Мы
можем, таким образом, отчетливо выделить в гнозисе Якоба Бёме три фазы:
подготовку, собственно озарение и философскую обработку этого
озарения. Опыт, о котором Бёме говорит в своем послании, приводит его как
к высказываниям, касающимся тайны Троицы, так и к описанию исхож-
дения (Hervorgehen) творения из Бога и его дальнейшей судьбы. В
отношении Троицы Бёме, как и впоследствии Шеллинг, исходит из некоей
«предыстории в Боге» (Vorgeschichte in Gott).
«Предыстория в Боге» заключается в том, что Божественное
«безосновное» (Ungrund), которое Бёме также называет «безосновной,
непостижимой волей»34, решается на то, чтобы охватить (zufassen) себя с
помощью принципа формы. При этом Божественное безосновное всегда
предшествует этому процессу оформления, так как безосновная воля
является активным началом собственного оформления; именно в
преодолении самого себя безосновное остается изначально действующей
«составляющей» Божества, представляя собой Его не поддающуюся
оформлению глубину. Поэтому Бёме различает неоформленную волю,
е^50^э
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^Э
которая совершает охват и потому сама предшествует всякого рода
охвату, и результат этого процесса — оформленную волю (der gefasste Wille)35.
Эта последняя появляется в качестве воли, приведенной к бытию, к
сущности; такая воля теперь пребывает в состоянии другости в отношении
к охватывающей ее воле, — так что безосновная и охваченная воли
открываются как единая жизнь в их диалектическом единстве. Бёме
называет безосновную волю Отцом, который рождает Сына через
оформление своего безосновного; жизнь же Отца и Сына Бёме именует Духом.
В этой ситуации богорождения, когда Бог рождает и рождается,
Троичное Божество разом созерцает собственную бесконечность и в этой
всеобъемлющей мудрости переживает некую изначальную радость, или
желание (Lust)30. При этом Бёме (как и впоследствии Булгаков)
отличает Премудрость Божию или Софию от Троицы; по мнению Бёме,
Божественная София принадлежит не какому-то одному Божественному
Лицу, но всем трем, будучи их усией или сущностной основой
(Wesensgrund): София — это то, что предшествует трем Божественным Лицам
в том смысле, что она является «основой» для их различения в
откровении. Также Божественная Премудрость, или София, есть причина
самоограничения или концентрации Божественной воли, причем Бёме (и его
интерпретатор Баадер) вплотную приближается к лурианской идее
цимцума, — идее, состоящей в том, что Бог, согласно Шеллингу,
«концентрирует Себя в Самом Себе»37. Бёме и Баадер тоже говорят о некоем
заключении безосновной воли в ее собственный центр38. Для Бёме эта
концентрация Бога есть одновременно некое «введение себя в силу»39.
Благодаря этому «перемещению» Бога из безосновного
первоначального состояния (только theologia negativa может строить о нем свои
догадки)40 в Его собственный центр Он приходит к Себе Самому, к Своей
собственной сущности, которую Он вначале созерцает в зеркале Sophia
divina, испытывая желание к ней, после же завершения внутрибоже-
ственного процесса Он взирает на нее в блаженной радости (это
состояние Бёме описывает как «созерцательность»)41. Согласно Бёме, начать
Свой путь Бога побуждает радость или «стремление к откровению»42:
хотя Бог (если о Нем не думают sub specie creationis) в Своей
«созерцательности» не испытывает нужды выступить из Себя в качестве Творца
отличного от Него мира, однако самооткровение причиняет Ему радость.
Но условием этого откровения служит предшествующее ему
самоограничение, или концентрация Бога в Его сердце или центре. Таким
образом, прасоставляющая сотворения мира для Бёме заключена в моменте
самоограничения, или инволюции. Начало откровения, или эволюции
(прежде всего переход Божества в состояние возможности
самооткровения), Бёме, подобно Лурия, представляет себе как новое выхождение из
концентрации, как некий «выдох», — т. е. как момент дыхательного
процесса43. Что побуждает Бога к самоограничению? Согласно Бёме — это
е^51^>
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
«стремление» Бога к самооткровению и к созерцательности. В этой
радости от самоограничения одновременно присутствует некая движущая
сила, которую Бёме называет «сциенцией»44. Эта сила «возбуждает»
Бога, — или побуждает Его, с одной стороны, к самоограничению, а с
другой, этот момент самоограничения также подвергается вновь
отражению: в сциенции наличествует тенденция к самоутверждению и при
этом к обретению самостоятельности в отношении к Богу.
Одновременно сциенция делается причиной того, что Бёме называет
«различимостью»: это качественные отличия творения, отделенного от Бога. В Боге,
в Его безосновном, нет в буквальном смысле никакой основы для
каких-либо отличий, для разных качеств. Но в движущей силе сциенции,
т. е. в ее тенденции и склонности к самостоятельности, существует
предрасположенность к тварному многообразию. Это качественное
многообразие становится действительным, когда совершается выступление
Божия Духа; между тем как Он, реагируя на возможность сотворения
мира, созерцаемую, как в зеркале, следует движущей силе сциенции,
присутствующей в этом созерцании, Он является собственно
творческим Духом и при этом Тем, Кто дает творению самостоятельность45.
Чтобы ближе подойти к тому, что Бёме понимает под «сциенцией»,
поначалу имеет смысл ориентироваться на некое опытное сравнение.
Правда, природа сциенции, согласно Бёме, лишена чувственности, и
поэтому он призывает к тому, чтобы все образы и качества в сциенции
понимать духовно46; однако имеется некая очевидная параллель между
духом и воздухом, — оба по-гречески обозначаются одним и тем же
словом «пневма». Представим себе заполненное газом пространство, в
котором газ сжимается с постоянным ростом давления; при этом объем,
занимаемый газом, уменьшается. Для этого необходима действующая
в направлении от периферии к центру, концентрирующая сила сжатия,
которая должна быть тем больше, чем в большей степени сжатое
газообразное вещество (Substanz) оказывает сопротивление сжатию. Действию
давления снаружи соответствует противодействие изнутри. Благодаря
сжатию газ уплотняется, пока, наконец, не делается жидким. Если
сжатие продолжается, жидкость становится более плотной, причем с
ростом давления выделяется тепло. Представим себе, что давление растет
до бесконечности, так что перешедший в жидкое состояние газ займет
столь малый объем, что сделается твердым кристаллом. В предельном
случае сжатия в точку, осуществимом, разумеется, лишь гипотетически,
газ не только сделался твердым и неподвижным, но сгустился в чистую
тьму (reine Finsternis), — и одновременно благодаря теплу,
выделившемуся при конденсации и концентрации, возникло как бы огненное
пламя. Представим, что центростремительная сила действует не с
периферии, но из центра, подобно силе тяжести. Газ при этом не сжимается
в направлении с периферии, но всасывается в центр, не имея возможно-
е^52^>
C5^ I. Божественное отступление и возникновение мира *^Э
сти улетучиться из пространства. Здесь также можно помыслить себе
наличие некоей силы, противодействующей всасыванию, которая
стремится оказать ему сопротивление. Обсуждаемая концентрация может —
по крайней мере, в воображении — оказаться столь сильной, что
пространство больше не будет содержать первоначального вещества и
сделается абсолютным вакуумом. Энергетический «заряд» центра тогда
безмерно возрастет; при этом для создания такого напряжения между
абсолютной пустотой пространства и энергетической избыточностью
точки необходимы как пространство, ограниченное периферией, так
и центр с максимумом концентрации.
Представим теперь себе (следуя в этом за Лурия) первое, чисто
духовное «прапространство» («Urraum»), в котором, как в своей первой
неохваченной, бесконечной праоснове, покоится Божество; а вслед за
тем допустим, что Божество концентрирует Свою Божественную
субстанцию (Substanz) в центре этого прапространства. Результатом этого
будет то, что данное пространство сделается конечным: отныне
бесконечное Божество, ограничиваясь в Себе Самом, полагает Себе границу,
а при этом также границу прапространству. Эта граница, или периферия,
обусловливается тем, что сфера, которую покинула Божественная
субстанция, отлична от чисто Божественного центра. Параллельно с
самоограничением Бога возникает конечность; первым ее символом
становится разделение центра и периферии, которые отличны друг от друга
лишь в случае конечного47. Кон-центрация ведет к пра-периферии, пра-
континууму и пра-центру.
Теперь можно заняться прасубстанцией и задать себе вопрос: что
с ней происходит в течение процесса концентрации и следующего за
ним процесса расширения? По такому пути шел Якоб Бёме. Он привел
Бёме к некоему переживанию и описанию тех качеств и ощущений,
которые появляются в субстанции в ходе этого процесса. В связи с этим
он, к примеру, говорит о некоем первом образе в сциенции —
всасывающем, концентрирующем, вяжущем, превращающем все в терпкость,
сухость и твердость соляного кристалла. Также он говорит о
противоборствующем в самом себе втором образе: в нем сжатая субстанция вновь
хочет излиться, выйти за свои пределы, что оказывается невозможным
из-за оказываемого на нее давления; при этом концентрирующее
давление является для субстанции горьким качеством, подстрекающим ее
к тому, чтобы мучительно сопротивляться ему, изливаясь во встречном
движении. Поэтому Бёме говорит также о некоей постоянно растущей
тесноте, связанной с чувством страха. Наконец он упоминает об
огненном жаре в центре, в котором собирается сжатая, сконцентрированная
субстанция, готовая к молниевидному разряжению. Другими словами:
Бёме переживает субстанциальную сторону цимцума, тогда как
Шеллинг исследовал личностный аспект Божественного отступления.
е^53^9
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
В своем гностическом опыте Бёме словно оказывается помещенным
в прасубстанцию; его душа вброшена туда и переживает судьбу прасуб-
станции как свою собственную. Только при учете этого момента бёмев-
ские описания «сциенции» делаются понятными, поскольку сциенция
сама есть не что иное, как совокупность сил, действующих на
прасубстанцию или выступающих в ней в процессе Божественного
самоохвата. Описывая образы в сциенции, Бёме говорит о «начале природы»48.
Правда, эти образы непосредственно связаны с Божеством,
охватывающим Самого Себя, неотделимы от Него и составляют с Ним одно целое,
поскольку они суть силы, действующие на Божественную
прасубстанцию или внутри нее. Но поскольку в этой субстанции наличествуют
квазичувственные переживания, ощущение и постижение действия
этих сил, то прапространство с его центром делается некоей отличной
от Бога сущностью как бы со свойствами души. Это «правещество» еще
прежде какого бы то ни было откровения заполняет прапространство
вплоть до его отражающей периферии, чтобы затем
сконцентрироваться в его центре; и теперь это «правещество» можно рассматривать
только как Божественную и духовную прасубстанцию, как пневму, как
дыхание Духа или Божественное дыхание: в нем (или через его посредство)
раздается Божественное Слово49. «Анализ» прасубстанции при
Божественной концентрации является поэтому первым описанием качеств
Божественного Логоса и сил, действующих в Нем, через Него и вместе
с Ним, что есть не что иное, как элементарная «праграмматика». Эта
грамматика отражает тот факт, что словообразование происходит
благодаря инволюции и эволюции, свертыванию и развертыванию50,
концентрации и расширению. При этом надо различать три ступени или три
образа инволюции, одну ступень поворота и три ступени или формы
эволюции. Потому Бёме говорит о семи образах сциенции.
Ь) Цимцум как эвристический принцип
для понимания ступеней сциенции
Бёмевское описание того, как из Божественного единства исходит
тварная множественность, трудно перевести на понятийный язык. Это
побудило Гегеля признать за философией Бёме глубину, но глубину
темную (см. цитату в конце данной главы). В действительности и после
привлечения комментария фон Баадера связь между внутритройческим
процессом, исхождением Слова и множественностью творения остается
в значительной мере темной, если со всей отчетливостью не понять роли
вирулентной мысли о цимцуме, скрыто присутствующей в
представлениях Бёме и Баадера. Ибо лурианская концепция цимцума,
Божественного отхода, не только проясняет бёмевское описание внутритройческого
е^54^
(г^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^3
события и начала природы: она может также сделать более понятными
и идеи Баадера, привязанные к бёмевским представлениям.
Что такое бёмевская сциенция? Она есть некое влечение, тенденция
к обретению самостоятельности, тоска по самостоятельности, которую
Бог в Своем самооткровении испытывает как желание, стремление
(Lust) к Себе Самому и одновременно к творению (zum Schaffen);
сциенция есть, таким образом, одновременно причина Божественного
рождения и причина природы. На вопрос, как возможно независимое от
Бога, свободное мироздание, Бёме отвечает с ошеломляющей простотой:
поскольку в Самом Боге живет вечно возобновляющаяся тоска по
самоопределению, предрасположение к нему, то и всему, Им желанному и Им
сотворенному, присуща подобная же тенденция или склонность
(«вожделение») к самостоятельности и самоопределению, т. е. к тварной
независимости. Поэтому, с одной стороны, сциенция находится в
Божественном творческом Слове, пребывая в единстве с Богом; с другой стороны,
она отличается от Бога и самостоятельна. При этом сциенция есть
одновременно тоска (в смысле некоего влечения в бёмевском особом
словоупотреблении) и знание, рассудок («scientia» — это знание, наука),
поскольку в Божественном Слове присутствует Божественная
Премудрость или созерцательность. Сциенция есть живое выражение вечной
Софии с ее Божественным и тварным аспектами, ибо изначальным
«местоположением» сциенции является воля и одновременно
Божественное Слово; в своей разделенности с Богом и в единстве с Ним сциенция
есть также начало природы51.
Уже указывалось на то, что тварный аспект природы следует
рассматривать в связи с тем пустым пространством, которое образуется тогда,
когда Бог отступает. В гностическом опыте Бёме это отступление
оказывается кон-центрацией, т. е. сосредоточением в одной точке. При этом
та духовная субстанция, которая раньше заполняла все прапростран-
ство, претерпевает некое изменение, так как прежде всего появляются
три различных качества или образа, обнаруживающие Божественное
отступление и связанное с ним откровение Троицы. В своем
гностическом созерцании Бёме переживает эти три основных образа сциенции
как «соль», «меркурий» и «серу», — соответственно как «терпкость»,
«жало горечи» и «страх», связывая их с сущностью Троицы52.
Бёмевское описание образов в сциенции в известном смысле
родственно учению Шеллинга о потенциях и, очевидно, служит для этого
учения вдохновляющим источником, — тем более что Шеллинг был
прекрасно знаком с философией Бёме (в передаче Баадера)53. По мнению
Шеллинга, развитие мира и природы (процесс, следующий за
возникновением некоего напряжения) начинается благодаря тому же, благодаря
чему совершается «обращение вовнутрь единства» эзотерических Эло-
гимов и «обращение наружу множества» экзотерических Элогимов: эта
е^55^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ситуация прообразовательно уже присутствует у Бёме в его
представлениях о самоограничении безосновной воли и, соответственно, о семи
образах в сциенции. В концепции Бёме в начале единого творческого
процесса, включающего в себя инволюцию и эволюцию, стоит
ограничивающая себя воля Отца; подобно этому у Шеллинга обращение
вовнутрь и наружу происходит благодаря всемогущему решению
абсолютной Личности, господина над тремя образами абсолютного Духа
(эзотерическими Элогимами), который в этот самый момент
рассматривается Шеллингом в качестве Отца, так как в ходе некоего
Божественного изменения Он обращает наружу эти три образа абсолютного Духа,
благодаря чему они предстают в виде своей противоположности — как
экзотерические Элогимы.
В сценарии процесса творения, набросанном Шеллингом,
различаются семь ступеней или образов: три эзотерических Элогима,
относящихся к состоянию прежде какой бы то ни было эманации; три обратившихся
наружу Элогима — Мнимо существующий (Blindseiende),
Предназначенный быть (Seinmüssende) и Обязанный быть (Seinsollende); в ходе
творения к ним присоединяется образ становления Я или Личности
Сына: это самостоятельная инстанция, осуществляющая процесс вне
Божества. Семь данных «потенций» более точно можно представить
в виде последовательности образов 3+1 + 3, причем первые три образа
обнаруживаются в начале процесса, последние три образа — в самом
процессе, а средний образ, Я, или личностное начало, — в его конце.
У Бёме в начале процесса творения, который при этом есть и
рождение Сына, также заявляют о себе семь «потенций», что можно
представить с помощью того же (3 + 1 + 3) расположения образов. При этом в
начале пути, совершаемого Богом, у Бёме, как у Шеллинга и Лурия, стоит
некое инволютивное движение — обращение Бога вовнутрь, в
собственный центр. Но, в отличие от Шеллинга, у Бёме в его концепции уже в
ходе этого инволюционного движения дает о себе знать начало природы:
между тем как Бог в Своем самоограничении открывается в качестве
Троицы, в сциенции — в ее трех или четырех первых образах —
отражается возникающее тварное начало. Это является непосредственным
следствием или обратной стороной тройческой Божественной жизни,
открывающейся в цимцуме. Поэтому сциенция представляет из себя не
только зеркало и следствие Божественного отхода, цимцума, но также
еще начало природы и космического процесса. Первые три ее образа
(семь образов сциенции вообще суть семь основных принципов тварно-
сти) возникают благодаря обращению Божества вовнутрь. Если, как
сказано у Соломона, Премудрость построила себе дом и утвердила семь
столпов, то, согласно Бёме, это происходит прежде всего не с помощью
Божественной эманации и эволюции, а через самоограничение и
инволюцию. И только благодаря обоим процессам — самоограничению и эма-
е^56^с)
(г^ I. Божественное отступление и возникновение мира ^Э
нации, инволюции и эволюции — определяется структура творения,
всего тварного мироздания.
В начале инволюции стоит терпкость. Она является признаком
первого образа в сциенции, о котором говорит Бёме54. Терпкость возникает
при сопутствующем цимцуму всасывании, или втягивании, и это
подобно тому, как безвоздушное пространство стремится все втянуть в себя.
Баадер замечал в связи с этим: «Втягивание происходит благодаря
всасыванию, а последнее благодаря образованию внутренней полости,
некоей бездны, что подобно водовороту» и. Прочие характеристики первого
образа в сциенции — темнота, сухость, жесткость, острота — суть
свойства твердого, материального, минерального. Реальная основа всего
(физического, минерального) бытия — это Божественная концентрация5б.
Открывающаяся в сциенции воля Отца есть, таким образом, причина
всего появляющегося позднее концентрированного,
физически-чувственного, твердого, минерального. Бёме и Баадер называют первый
образ в сциенции, служащий условием и основой всего материального,
«prima materia»57. Инерция, сила тяжести, масса являются,
следовательно, следствием Божественной концентрации.
Для второго образа в сциенции эта концентрация оказывается
«жалом горечи»58. Если первый образ в сциенции имеет дело с началом
физически-минеральным, то второй — с началом страдательным, текучим
(водным), — с такой жизнью, энергия которой возникает из муки
утеснения, связанного с конденсацией. Также и этот второй образ есть
точное отражение внутритройческой жизни, а именно, рождения Сына: хотя
концентрация воли Отца происходит так, что в сциенции все
оказывается в засасывающем потоке (образование такого вихря лучше всего
моделируется водоворотом), против отрицания бытия действует, однако,
начало, подающее бытие. Именно во втором образе сциенции находит
свое отражение все превосходящая, безмерная жертва Сына; но
поскольку второй образ подвергается концентрирующему действию первого,
истечение становится страдательным усилием противостоять
всасыванию: против сдерживающего, сжимающего усилия ради его
преодоления должно выступить начало роста. Отсюда двойственность лика этого
второго образа — как «жала горечи» и одновременно «корня меркури-
альной жизни в том, что живет и растет», или «причины возвышенной
радости в свете».
Концентрирующее движение делается более понятным при
рассмотрении третьего образа сциенции59. Бёме говорит в связи с этим образом
о страхе, связанном со стеснением, со «сжатием» Божественной
субстанции, вначале заполняющей все прапространство. Так, когда живому
существу не хватает воздуха, оно испытывает чувство страха
(«стеснение») и, задыхаясь, борется за воздух. Это происходит в особенности
в тесноте, если легкие настолько сжимаются, сдавливаются, что их объем
С%57^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^z)
насильственно сокращается. Подобная захваченность (Баадер) пустым
пространством вызывает боль и страх. Через это сциенция приобретает
некую собственную, не связанную с Божественной душой (Gemüt)
чувствительность: если вечная Божественная душа пребывает в состоянии
гармонического согласия (in der Temperatur), то этого нельзя сказать
про сциенцию, находящуюся в состояниях «терпкости», «жала горечи»
и «страха». Здесь заключена «психологическая» причина
возникновения душевного начала — как наделенного чувствительностью
«внутреннего пространства». И поскольку сциенция вообще есть совокупность
первичных принципов тварности, она одновременно представляет собой
универсальный архетип душевности: сциенция — это «псюхэ», или
Мировая Душа, о которой Платон и Флоренский говорили, что она распята60.
Сосредоточенность во внутреннейшем месте опустевшего (благодаря
совершившейся концентрации) пространства является одновременно
соприкосновением с абсолютным небытием, так что с возникновением
собственной чувствительности неизбежно связано соприкосновение со
сферой смерти, о которой Бёме говорит, обсуждая третий образ в сциен-
ции. Поэтому данному образу присуще некое томление по
«Божественной температуре», т. е. по такому внутрибожественному состоянию, при
котором все потенции удерживаются в абсолютном равновесии.
Если первый образ в сциенции связан с физически-минеральным
началом, второй — с водным, третий — с воздушным, то четвертый образ
соотносится с началом огненным. Поэтому в его центре Бёме видит то,
что он называет «воспламенением огня» или огненным ужасом61. Когда
вся волевая энергия собрана «в центре», в одной точке, так что все
пространство, прежде занимаемое этой волей, опустело, тогда и возникает
страх как отражение в сциенции «втиснутой» в одну точку духовной
субстанции. Если бы сжатие продолжалось дальше, будучи
единственным состоянием субстанции, то можно было бы говорить об
исключительном господстве Божественной «суровости» или «яростного гнева».
Но в тот момент, когда Божественный отход завершился, охваченная
суровостью воля приближается к первоначальному состоянию милости
и любви: это «прасубстанция» или праоснова (безосновное) Божества,
которая есть не что иное, как излучение, покой, кротость. Точка
наибольшей концентрации является одновременно точкой поворота. Ибо,
с одной стороны, три первых образа сциенции (терпкость, жало горечи,
боль) здесь сжаты до предела, из-за чего возникает максимальное
внутреннее напряжение (и при этом огненный жар); а с другой, единство
этих трех начал, Божественная суровость или яростный гнев, здесь
встречается со своей противоположностью — Божественной любовью.
Эта встреча приводит к тому, что Бёме называет «ужасом» или
«огненным ужасом», сопровождаемым вспышкой молнии. В такой точке
встречи суровости (или яростного гнева) с милостью (или любовью), когда
е^58^9
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира '^Э
происходит огненная вспышка, в сциенции возникает светящийся центр,
некое устойчивое, светоносное, точечное излучение, — и это похоже на
сверкающую на темном ночном небе звезду, испускающую свет.
Это сверкание в Божественном гневе, который в самом центре
встречает свою противоположность и через посредство любви или милости
переходит в сияющий свет, является признаком совпадения
противоположностей. При этом речь идет не о столкновении, а о точке поворота,
когда сосредоточенное до того внутри Божество обращается наружу, что
одновременно является пограничной точкой в ритмическом движении
при образовании Божественного Слова. Это движение содержит два
момента — сжатие, являющееся чем-то вроде подготовки голосового
аппарата (Mundbildung), и расширение, соответствующее высказыванию
Слова62. И это сходное со звездой место поворота, сверкания и сияния,
место наибольшей твердости и концентрации (по этой причине Бёме
говорит в связи с ним о камнях и металлах) и одновременно место,
с которого начинается благодатное излучение, — данное место, наряду
со всем этим, является точкой различимости и распознания. Этот
четвертый, во всех смыслах слова центральный образ в сциенции есть
первоначало яйности (des Ichhaften) в творении, — т. е. первопринцип
личностного начала. «Я» — это точка совпадения противоположностей.
Этот четвертый образ в сциенции, если говорить о его отношении
к «Я» и личностному началу, весьма сходен с внебожественным
становлением личности у Шеллинга — с процессом обращения наружу трех
образов абсолютного Духа. Шеллинг видит в этом процессе рождение
Сына и Его развитие вплоть до состояния такой же славы, какая
присуща Отцу как абсолютной Божественной Личности. Но у Бёме условие
для появления внебожественного личностного сознания или «Я»
состоит не в обращении Божества наружу, но в завершении Его отступления
вовнутрь и в резком переходе в месте наибольшей концентрации от
сжатия к расширению и излучению.
Но с возникновением «Я» также появляется место, обладающее
определенными признаками различия, «различимостью», по Бёме, — и к нему
имеет отношение всякое разумное творение, будь то ангел или человек.
Ибо четыре первых образа сциенции пребывают исключительно в
состоянии равновесия (in der Temperatur) внутри Божественного Слова.
Взятые сами по себе, в состоянии их предельной уплотненности «в
центре», они суть ярость, гнев и некий изнуряющий адский огонь63.
Раздуваемая Духом (ветром) яйность четвертого образа в сциенции, которая,
с одной стороны, обнаруживается как некое пламя (втягивающаяся в
себя сущность) и уплотненный до предела кристалл, а с другой —
представляет из себя место перехода от сжатия к излучению (в этом месте
проходит граница между тем, что Бёме называет «Божиим гневом», а Лу-
рия — «Божественной суровостью», и Божественной кротостью, милос-
е^59^Э
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^Э
тью и любовью), — эта яйность является откровением четвертого образа
в сциенции64. Как и прочие образы в сциенции, она есть архетип для
всего творения и может рассматриваться в качестве прообраза иного по
отношению к Богу личностного начала.
Когда Дух Божий, Божественная Пневма, стянутый в себе и сжатый
в процессе цимцума, затем снова выступает наружу, тогда
обнаруживается пятый образ в сциенции. Та же самая духовная субстанция
Божества, которая вначале заполняла прапространство, теперь вновь
совершает выхождение. И тем не менее существует принципиальная разница
в сравнении с первоначальным состоянием Божества, так как
элементы суровости и милости, вначале растворенные друг в друге (согласно
Лурия), были разделены и теперь заново объединены и примирены.
Привлекая сюда по аналогии терминологию Шеллинга для описания
тринитарного процесса, можно сказать, что эти элементы проходят
через состояния «таутусии», «гетероусии» и «омоусии»61 Состояние «та-
утусии» — это смесь суровости и милости без их различия между собой;
в состоянии «гетероусии» три первых образа в сциенции (терпкость,
жало горечи и страх) отделены от кротости и любви. Эти три образа,
соединенные в четвертом образе, снова выступают в пятом образе, но
теперь это такое состояние, в котором суровость и любовь заново
соединены; при этом все формы суровости, обнаруживающие себя в их
различии (терпкость, жало горечи, страх), наполнены единой субстанцией
любви, и это есть «омоусия». Бёме явно подчеркивает, что этот пятый
образ в сциенции имеет характер откровения; при этом он обращает
внимание на то, что такой внутренний центр имманентно присущ
каждому тварному существу66; здесь совершенно очевидная параллель с тем
воззрением Лурия, по которому цимцум повторяется в каждой твари67.
В каждом случае произнесения слова надо отличать тот центр, из
которого исходит слово, т. е. рот (производящий и оформляющий звук), —
от материи, исходящей оттуда (колебания), а также от способов
передачи слова (тон, звук, звон). В переносном смысле это имеет место также
и для Божественного творческого Слова — для Логоса. Здесь также
нужно различать «материю» Слова, говорящие «уста» и «передачу» Слова.
Бёме встречается с этим различием в пятом, шестом и седьмом образах
в сциенции. Пятый образ соответствует материи Слова, которая,
согласно Бёме, есть не что иное, как Божественная любовь. Эта любовь
обнаруживает себя, когда силы трех первых образов в сциенции («тинктура»,
«духовная водица» или дева София) «втягиваются в себя» и
переживают при этом блаженство успокоения; при этом они от стадии чистой
потенциальности восходят к действительности, существенности и
«телесности». Шестой образ соответствует самим устам, которые формируют
и высказывают Слово68. А седьмой образ в сциенции касается
распространения, передачи и оформляющей силы Слова. Слово достигает
сокровенного существа природы в ее единстве и оформляет его69.
е^бо^з
C^ I. Божественное отступление и возникновение мира '^Э
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЛУРИЯ, БЁМЕ И ШЕЛЛИНГ
Предпринятая в данной главе попытка рассмотрения и толкования
первых принципов философии Якоба Бёме показывает, что в
сверхчувственном опыте, которым обладал Philosophus Teutonicus, можно увидеть
подтверждение идеи цимцума, принадлежащей Исааку Лурия, которая
своим возникновением обязана мистическому опыту иудейского
философа и каббалиста. Так, у Бёме не только обнаруживается мысль о том,
что Божество оставляет Свое первоначальное прасостояние ради того,
чтобы охватить Себя с помощью некоторого рода концентрации
(«самоограничения» у Лурия), но он также различает суровость и милость, что
для воззрений Лурия имеет существенное значение.
Далее было показано, что бёмевское учение о сциенции и ее семи
образах имеет общие черты с учением Шеллинга о потенциях. Так как
Шеллинг был прекрасно знаком с философией Якоба Бёме (об этом
свидетельствуют выдержки из Шеллинга, приводимые как в данной главе,
так и в главах последующих), то можно предположить, что семь образов
в сциенции — вольно или невольно для Шеллинга — оказали
существенное влияние на его позднюю философию. Но в то время как Шеллинг
прибегал к некоей философской уловке (к понятию Божественной
иронии или притворства (Verstellung)), чтобы соотнести свое тринитарное
учение с идеями по поводу творческого и эволюционного процесса, бё-
мевская версия дает представление о «действительном ходе событий»
(Шеллинг), когда тринитарный процесс непосредственно связан с
процессом творения и при этом Божество не должно искать прибежища
в притворстве. Философский подход Бёме можно рассматривать как
набросок некоей (сверхчувственной) «феноменологии Логоса», которая
определяет те условия, при которых в сфере чувственной данности
выступает «протофеномен» сжатия и расширения. При этом Бёме удается
не только указать на «седьмеричность» Слова, засвидетельствованную
прежде всего Евангелием от Иоанна (ср., например, семь высказываний
Христа в форме «Я есмь», семь Его чудес и семь этапов крестного пути),
но также довести до философского мышления (пользуясь аналогией
с речью человека — образа Божия) тот процесс, который в книге Бытия
в связи с семью днями творения описывается с помощью выражения
«И сказал Бог...». Согласно Евангелию от Иоанна, этот процесс —
Слово, Божественный Логос — лежит в основе всего сотворенного.
Тот центр, в котором возникает и откуда исходит Божественное
Слово (Божественные уста), согласно Бёме и Баадеру, следует
отождествить с центром, возникающим при цимцуме, в котором кон-центриру-
ется Божество. Субстанцией звучащего Слова является Божественная
Пневма, которая прежде какого бы то ни было богооткровения
заполняла собой прапространство творения; это пространство заполняется ею
e^6i ^z)
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^>
вновь после цимцума. При этом Пневма претерпевает некое
превращение (стадии которого — «таутусия», «гетероусия» и «омоусия»),
завершающееся воссоединением конституирующих ее элементов:
первоначальной любви или милости Божественного «безосновного» — и суровости,
которая в цимцуме обнаружила себя, отделившись от милости.
Распространяющееся в направлении изнутри наружу Слово создает все
мироздание или природу и охватывает в конце концов ее целиком, о чем в
согласии с Евангелием от Иоанна свидетельствует Бёме («Все чрез Логос
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин
1:3)).
Когда Бог открывает Себя после цимцума, то Его не следует
отождествлять с Тем, каким Он был до отступления (видеть в Нем ту же суб-
станциию), ибо иначе снова наступило бы первоначальное состояние,
и творение то ли сделалось бы невозможным, то ли пошло в обратном
направлении. Звучащий Логос есть нечто новое, уникальное. Бёме
указал путь к осмыслению тождества и различия в единой вечной,
Божественной, духовной субстанции. Надо исходить из того, что эти идеи
Бёме были восприняты немецким идеализмом. К примеру, Гегель пишет
о Бёме не слишком благосклонно: «Qualirung или Inqualirung — термин
философии Якоба Бёме, проникающей в глубь, но в смутную глубь, —
означает движение того или иного качества (кислого, терпкого,
горячего и т. д.) в самом себе, поскольку оно в своей отрицательной природе
(в своей Qual) выделяется из другого и укрепляется, поскольку оно
вообще есть свое собственное беспокойство в самом себе, сообразно которому
оно порождает и сохраняет себя лишь в борьбе»70. Однако он признает,
что в мышлении Бёме имеется внутренний импульс для
диалектического движения («беспокойство качества в самом себе»), без которого сама
гегелевская диалектика немыслима71. Но прежде всего не может быть
никаких сомнений в том, что важнейшие идеи Бёме были подхвачены
Шеллингом и основательно проработаны в его поздней философии. Это
станет ясным из следующей главы.
Il
ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ И ТРОИЧНОСТЬ
Трансцендентность старой метафизики была лишь
относительной, т. е. робкой, половинчатой, когда хотели
оставаться наполовину в сфере понятий.
Ф. В. Й. ШеллингJ
Итак, прежде всего мы выделили момент таутусии.
Вторым моментом, необходимым для научного развития
учения о триединстве, является момент гетероусии;
третьим выступает момент омоусии, где потенции сходятся.
Без раздельного существования (в субстанциальном
смысле) потенций, следовательно, без гетероусии
перехода к омоусии нет.
Ф. В. Й. Шеллинг2
Конечно, мы должны принять во внимание разницу в
логическом ударении, когда, с одной стороны, мы
рассматриваем триединство трех Ипостасей, а с другой —
триединство одной-единственной Божественной Софии.
В первом случае мы рассматриваем личностные Ипостаси
Святой Троицы, отличающиеся друг от друга, — три,
которые суть одно; во втором случае имеется лишь одна
субстанция, чья сущность определена трояко. Триединство
Ипостасей трояко отражено в единой усии — Софии, или
Божестве.
Сергей Булгаков*
1. ВВЕДЕНИЕ:
ДУРНАЯ И ИСТИННАЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
дея цимцума, выведенная в предшествующей главе, позволяет
увидеть в новом свете попытки представить образ Божий,
характерные для Нового времени. Кроме попытки Шеллинга,
присутствующей в его поздней философии (которая есть
разновидность монотеизма), существует пять основных решений
проблемы свободы в связи с сотворением мира: деизм, теизм, атеизм,
ш
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^D
пантеизм и включающая элементы теизма такая форма последнего, как
панентеизм. Деизм, пантеизм и атеизм при этом представляют собой
три философских решения проблемы трансцендентности. Общим у них
является отрицание всякой самостоятельной и деятельной
трансцендентности: или поскольку она считается проекцией имманентности на
мнимо потустороннее (атеизм); или поскольку трансцендентность и
имманентность отождествляются (пантеизм); или, наконец, поскольку
трансцендентность хотя и считается реальной и отличается от
имманентности, однако на настоящий момент она представляется абсолютно
бездейственной (деизм). Воззрения на трансцендентность, представленные
деизмом, атеизмом и пантеизмом, можно определить как дурную
трансцендентность, поскольку в основе каждого из них лежит ошибка —
вытеснение [собственно трансцендентного начала], отождествление [его
с началом имманентным] или [его] отрицание.
Шеллинг претендовал на то, чтобы с помощью нового философского
подхода решить проблему «старой» философии — проблему
трансцендентности. В разработанной им новой «положительной философии»
в центре находится не деистическая, атеистическая или пантеистическая
предпосылка, но философское развитие монотеизма. Под последним
Шеллинг понимает не то простое и общепринятое мнение, по которому
существует только один Бог, а также не то, что, как в учении Афанасия
об омоусии, существует несколько Божественных Личностей, которые
при этом суть один Бог благодаря тому, что они суть одно в отношении
их Божественной субстанции или божественности4. Скорее Шеллинг
исходит из некоего тринитарного процесса, в начале которого
существует только первое Лицо Троицы — Отец (при одном Божестве), — тогда
как Сын и Дух исходят от Отца следующим образом: они исключаются
Отцом из сферы Божества и лишь в некоем теогонически-космическом
процессе приближаются «к славе, равночестной Отчей», — так что в
конце развития все три Божественных Лица суть один Бог. Шеллинг
называет три момента этого процесса таутусией, гетероусией и омоусией,
и осуществляются они так: Отец, будучи абсолютным Духом, в
состоянии своеобразной «Божественной иронии» предпринимает некую
«перестановку» (Verstellung) Своих трех образов — в-себе-сущего Духа, для-
себя-сущего Духа и в-себе-и-для-себя- или у-себя-сущего Духа; при этом
начало единства этих трех образов Он обращает внутрь Божества, а
начало множественности обращает наружу, благодаря чему образуется
универсум, или единство, обращенное вовне. В дальнейшем мы обсудим
формы дурной трансцендентности, монотеистический подход Шеллинга
вместе с отдельными ступенями постулируемого Шеллингом
тринитарного процесса, а также сопоставим Шеллингов подход с идеей цимцума,
принадлежащей Лурия. Помимо того нам предстоит сравнить
монотеистическую концепцию Шеллинга с таковой Булгакова. При этом обнару-
e%64^)
C5^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
жится, что фазы теогонического процесса, представленные Шеллингом,
с успехом можно рассматривать как фазы развития от деизма к атеизму
и наконец пантеизму А сравнение с Булгаковым покажет, что именно
можно выдвинуть с софиологической точки зрения против Шеллинго-
вой гипотезы Божественной перестановки.
2. ФОРМЫ ДУРНОЙ ТРАНСЦЕНДЕНтаОСТИ
а) Вытеснение Бога в деизме
Деизм восходит к Джону Толанду (1670—1722). Его главное
сочинение «Christianity not mysterious» («Христианство без тайны», 1696 г.)
представляет собой просвещенскую критику Откровения. Этот труд
считался основополагающим для деизма, который затем был усвоен
английскими, французскими (Вольтер) и немецкими (Рейман, Лессинг)
просветителями и продолжал существовать в свободомыслии, —
конечно, не под своим именем. Кант характеризует деизм как допущение
некоей абстрактной причины мира, которую хотя и наделяют высшей
реальностью, но тем не менее точнее определить не могут; теист при этом
исходит из Творца мира, определяемого им по аналогии с природой5.
Шеллинг уточняет кантовские положения: «Деист — это тот, для кого
Богом является пластическая природа, кто в качестве potentiam
existence признает лишь слепой корень бытия. Теист же — это тот, кто допускает
некое разумное Существо»6. Конечно, такое различение не исчерпывает
деистической позиции. Речь здесь также идет о
неприступно-трансцендентном Боге, который не только является абстрактной, голой
«мировой причиной» или «слепым корнем», но и трансцендентен разуму,
поскольку Он хочет оставаться трансцендентным ему. В этой прошедшей
через рефлексию форме деизма творческий акт Бога, в
противоположность идее цимцума, мыслится так, что Бог, завершив сотворение мира,
полностью устранился из мира с его тварями и предоставил их своей
судьбе. Согласно этому воззрению, нет смысла искать Бога в мировых
явлениях или же вне таковых, так как Он не хочет, чтобы Его искали.
Творец мира трансцендентен в смысле неприступности; можно делать
вывод о Его действительном существовании и Его сущности разве
только на основании тех следов, которые Он оставил в творении.
Эта форма деизма, однако, тотчас же встречает следующее
возражение. Если разум, постулирующий Божественное нежелание
Самооткровения, есть разум человеческий, то откуда ему тогда известно, что за
допущением абсолютной трансцендентности Бога не скрывается его,
[человеческого разума,] собственное нежелание искать Бога на
соответствующих путях? Основная деистическая предпосылка оказалась бы
тогда не чем иным, как проекцией человеческого нежелания на сферу
С^бб^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -«э
Божества. Так доказательство деиста теряет силу. Поскольку деист, в
силу его собственных предпосылок, не имеет никакого доступа к Божеству,
он не может a priori знать, деятелен ли Бог или пребывает в покое, хочет
ли Он явить Себя или нет. Поэтому деист должен суметь показать, что
его допущение основано на структуре познающего разума, а
соответственно, на структуре мира, что, таким образом, в человеческом разуме
отсутствует способность ко встрече с Богом. Пока разум не отдал себе
отчета в том, что в его собственной структуре всегда, при любых
обстоятельствах заложена неспособность к поискам живого, актуально
существующего Бога, он не может с должным основанием настаивать на
желанной для Бога неприступной трансцендентности его [разума]
Творца, — следовательно, на деизме.
Основная деистическая предпосылка также имеет отношение к
возможности откровения Бога в природе и посредством природы: так как
доступ к природе мы имеем через нашу познавательную способность, то
деисту нужно показать, что структурой этой способности полностью
исключается Божественное откровение в природе и через ее посредство.
И если деисту не удастся показать, что природа, в ее доступной для
разума сущности, не способна a priori к откровению живого Бога, то
деистическая позиция останется чисто гипотетической.
В своей «Критике чистого разума» Кант задался целью осуществить
самоанализ разума. Он пришел к тому результату, что имманентная по
существу структура теоретического разума исключает какое-либо
достоверное ноуменальное знание: познающий разум запутывается в апориях.
Мир сверхчувственного, существование Бога и духовного мира
остаются для него так же недоказуемыми и поэтому проблематичными
вещами, как останется недостижимой для него истинная сущность природы
(вещь в себе). Когда вывод Канта хотят привлечь для обоснования
абсолютной трансцендентности Бога, т. е. для обоснования деизма, то это
удастся, только если разум вместе с тем удостоверится в том, что критика
чистого (теоретического) разума охватывает всю структуру
человеческого разума. Только тогда недоказуемость существования ноуменального
будет абсолютной. Но, согласно Канту, это не так. При самопознании
человеческий разум наталкивается на факт трансцендентальной
апперцепции1, В этой единственной точке «я мыслю» разум не захвачен
ничем другим, тогда как в случае эмпирической апперцепции он захвачен
царством чувственности, т. е. порядком природы. Но если в разуме есть
нечто всегда себе равное, выступающее за пределы природного порядка
и природной необходимости или же предшествующее им; если
одновременно это начало, трансцендирующее эмпирию и чувственность, есть
форма разумного самосознания, то царство, в котором укоренено
самосознание, не принадлежит чувственности и порядку природы. Поэтому
встает вопрос, где это царство можно найти. Ответ Канта гласит: в
облаем 66^5
(г^ II. Трансцендентность и троичность ^5>
сти нравственности и свободы8. Разум восходит в это царство, когда в
качестве деятельного, практического разума он принимает категорический
императив. Первый самостоятельный, свободный поступок разума — это
категорический императив, который разум изводит из своего
собственного внутреннеишего существа; автономный разум здесь вновь находит
себя в своем собственном царстве. Царство свободы и нравственности
есть его царство.
Имеет ли для практического разума ноуменальный мир
проблематичное существование, как в случае разума теоретического? Как известно,
Кант отвечает на этот вопрос отрицательно9. То, в чем теоретическому
разуму отказано, — достижение несомненной уверенности в бытии
ноуменального мира и Бога вместе с их существом, — возможно для разума
практического, однако лишь после долгого пути морального очищения
(когда превыше всего ставится нравственный закон), а также в редких
прозрениях (которые вполне могут участиться по мере привыкания к
новому свету). Кантовский анализ человеческой познавательной
способности можно интерпретировать еще и так: теоретический разум, впавший
в агностицизм, пребывает в состоянии, далеком от спасения, — в
состоянии отпадения от настоящего призвания человека, тогда как
практический разум человека, очевидно, выполняет истинное его призвание.
Этот агностицизм можно рассматривать как последствие некоего
изначального человеческого решения, обращенного против Бога. Поэтому,
когда деизм утверждает, что встреча человеческого разума с Богом
невозможна, то в свете кантовского анализа это утверждение оказывается
следствием морально-практического решения человеческого разума. Под
влиянием этого решения, которое надо относить к мировой
действительности (эта последняя неприступно-трансцендентна для теоретического
разума в его наличной форме, а поэтому предположительна),
человеческий разум претерпел бы такое изменение в своей сущностной
структуре, которое делает для разума a priori невозможным в доступной ему
мировой действительности обретение ноуменального знания. Поскольку
природа дается нам через призму теоретического разума (мы
обращаемся с ней также на основании нашей разумной способности), при падении
разума подверглась бы изменению ее сущностная структура, которая
находится в ведении разума — познающего и действующего на
основании достигнутых теоретических знаний; она и впредь претерпевала бы
подобные изменения. Тогда разум знал бы a priori, т. е. с самого начала
(с момента его падения), воздвигнутый им самим порог между
творением и Творцом (а также обезбоженность природы) — как структуру,
присущую ему самому и доступной ему природе. Этот a priori воздвигнутый
порог выше был назван одной из трех форм дурной
трансцендентности — вытеснением. Поскольку, как показал Кант, этот порог на самом
деле не абсолютен, ибо он не значим для практического разума, то дур-
С^67^9
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^9
ная трансцендентность деизма преодолима посредством возвышения
человека для практического разума, т. е. с помощью морального
применения разума. Восстание разума из его падшего состояния при этом
зависит от изменения его установки, от его обращения, точнее — от
обновления сознания.
Итак, кантовские «Критики» чистого и практического разума дают
ключ к пониманию данной формы дурной трансцендентности: чистый
(теоретический) разум представляет собой ту познавательную
способность человека, которая останавливается перед ею же самой
воздвигнутым порогом на пути к ноуменальному знанию и не в состоянии найти
входа через «врата рая». Запутывание чистого разума в противоречиях
и апориях есть следствие дурной трансцендентности, a priori
воздвигнутой им между собой и вещами, чтобы a posteriori признать ее за
данность, за его собственную структуру. Напротив, практический разум —
это та познавательная способность, которая преодолевает дурную
трансцендентность (хотя тоже лишь в редких прозрениях) и находит путь
возврата в ноуменальный мир. Из вышеприведенных рассуждений
явствует, что вновь и вновь декларируемая непознаваемость ноуменального,
вещи в себе и Бога может рассматриваться как следствие и
продолжение падения (чисто теоретического) человеческого разума. Деизм,
которым это падение не отрефлексировано, однако, постулирует
абсолютную непознаваемость Творца и затем обосновывает ее отказом Бога от
продолжения Его деятельности в творении10. Но основанием для этого
утверждения на самом деле не является отсутствие у Бога воли к
откровению, — скорее речь идет о претензии разума на автономию:
эмансипирующийся разум нуждается в таком понятии Бога, которое исключает
всякое продолжающееся откровение Божественного начала и потому
создает для разума неограниченную возможность опираться
исключительно на самого себя. Конечно, несмотря на абсолютные притязания
деизма, Божественная трансцендентность остается для него
относительной и половинчатой, поскольку хотя он и отрицает какое-либо
откровение Бога в настоящем и будущем, но принимает его в прошлом — имея
в виду факт творения. Пробиться к абсолютной Божественной
трансцендентности деизм не может.
Ь) Отрицание Бога в атеизме
По сути дела, деизм тем ближе подходит к атеизму, чем радикальнее
он отодвигает Бога в недосягаемую область. Атеизм, принявший форму
отрицания присутствующего в настоящем Бога, который продолжает
самостоятельно существовать по завершении творения, есть до конца
продуманный деизм, — этот вывод содержится в словах Ницше «Бог умер» и.
При этом Ницше поставил диагноз (возможно, остроумнейший) той
форме дурной трансцендентности, которая описана выше, — вытеснению.
е^68^Э
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
Но атеизм не сводится к этой форме. Полностью атеизм
осуществляется только тогда, когда отрицается существование Бога также и в
прошлом. Выше говорилось о половинчатости деистической
трансцендентности. Эта половинчатость преодолена в последовательном атеизме,
который отрицает Бога с самого начала, следовательно, и в прошлом, —
преодолена через разоблачение трансцендентности как проекции
фактов или природы, или человеческой сущности на мнимо потустороннее,
которое, таким образом, оказывается незаконным «удвоением»
посюстороннего. В последовательном атеизме действительность в полном
объеме (или все мировое содержание, наряду с которым — или вне
которого — ничего не было, нет и быть не может) выступает как абсолютная
имманентность, т. е. как имманентность с самого начала.
Точное описание значения этой формы атеизма для идеи свободы,
отождествленной с эмансипацией, было дано Людвигом Фейербахом12,
который попытался разоблачить обе формы «проекции» на
потустороннее — проекцию сил природы и проекцию человеческой сущности. В
своем сочинении «О сущности религии» он пытается доказать, что до
Христа люди обожествляли силы природы. Но природа дана нам как форма
материи. Для позднего Фейербаха в качестве единственно возможной
естественной религии просвещенного разума вполне закономерно
выступает материализм. Атеизм здесь оказывается материализмом. Но к
атеизму sui generis разум приходит лишь тогда, когда он «просвещается»
также на фоне христианства. Только христианство делает возможным
атеизм в собственном смысле. Фейербах в своем сочинении «О
сущности христианства» обыгрывает именно это обстоятельство.
На первый взгляд, мысль, согласно которой христианство впервые
открыло путь для последовательного атеизма, кажется необычной и даже
ложной. Понять эту мысль помогает следующее соображение. Согласно
претензии самого христианства, Творец видимого и невидимого мира
открыл Себя как раз через христианство. Это означает, что все
античные божества (кроме бога профетических религий, например,
зороастризма и иудаизма) являются тварями — или порождениями
коллективной души человечества, или творениями Творца, как в случае существ
ангельской иерархии. По мнению отцов Церкви, язычники поклонялись
созданиям, а не Создателю, творению и тварям, а не Творцу. Язычество
находилось под властью дурной трансцендентности; политеистические
религии были половинчатым атеизмом: половинчатым, поскольку
язычники всегда почитали стоящие за видимой природой высшие силы в
форме творческих потенций; атеизмом, поскольку они не признавали лишь
истинного Бога.
Для отцов Церкви дурная трансцендентность как таковая впервые
явила себя только через христианство — одновременно с открытием
в христианстве подлинно трансцендентного. Христианское учение ис-
е^69^Э
С^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ «Э
ходит из того, что Божественная Личность Сына восприняла две
природы (или общности) — Божественную и человеческую. Христос, второе
Лицо триединого Бога, прообразовательно открывает человеку
отношение между личностью и сущностью (в отношении Личности Сына Божия
и Его Божественной сущности)13. Божественная Личность вступает
с человеческой сущностью в отношение, сходное с тем, которое имеется
у нее с самого начала с сущностью Божественной; через это
Божественная Личность открывает то Богом указанное отношение между
личностью и сущностью, к которому в будущем должны прийти все люди. Бог
в Его втором Лице жизненно предварил человека в том, как человек
должен относиться к своей сущности. Христос, открыв это истинное
отношение к человеческой сущности, напомнил тем самым падшему
человеку об истинной персональное™, поскольку, обнаружив изначальное
отношение между личностью и сущностью, Он создал предпосылки для
того, чтобы в каждом человеке смогло пробудиться сознание его
собственной личности и ее задания. Это задание заключается в
актуализации истинной сущности человека — скрытой в Боге, явленной Сыном
и подлежащей восприятию и осуществлению человеком в некоем
бесконечном процессе. Если человек в крещении и исповеди ориентирован
на Нового Человека, в полноте осуществившегося в Сыне Божием, как
на подлинное единство личности и сущности, то в нем самом
открывается это новое единство; он есть «новая тварь» (апостол Павел).
Открытие человеком истинного отношения между его личностью
и скрытой в Боге сущностью в раннем и средневековом христианстве
понимается как бесконечный процесс врастания человеческой души
в тайну Божественной троичности: Отец хочет восстановить истинное
отношение между человеческой личностью и человеческой сущностью,
и ради этого Он посылает Сына. Сын совершил это в мире; Дух сообщает
отдельной человеческой душе побуждение и способность осуществить
это отношение. Таким образом, если человек обращается к Божеству, то
на все более глубоких уровнях в нем пробуждается его собственная
личность и его собственная сущность. Бесконечный процесс углубления
в Бога позволяет человеческой душе все ближе и ближе подходить к
себе самой. Но этим она обязана не себе, а Тому, к Кому она обращается н.
Человеческая сущность делается все более совершенной по мере
приближения к Богу15.
Этот процесс личного, глубинно-сущностного сближения человека
и Бога привел к тому, что личность, заново обретшая свою настоящую
сущность, сделалась внутренне свободной от космических сил («В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» [Ин 16: 33] *). При-
* В книге Френча цитата из Евангелия от Иоанна приведена в непривычной для нас
интерпретации: «В космосе вами владеет страх, но утешьтесь: Я преодолел
космос». — Прим. пер.
е^70^Э
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
рода и космос в языческом понимании оказались при этом неким
замкнутым кругом, «космической тюрьмой». Это развитие с самого начала
подверглось опасности того, что человеческое представление о Боге
станет приобретать все больше антропоморфных черт взамен природных16.
Опасность антропоморфизма приобрела остроту, когда человек
перестал мерять свою сущность по сущности Божества, как в эпоху
патристики и Средневековья. Напротив, как в «Рассуждениях о первой
философии» Декарта, достоверность Божественной сущности человек стал
выводить из самоочевидности человеческого разума — свободной от
всеобъемлющего экзистенциального сомнения и обеспечиваемой самим
разумом. Существование человека и его сущность больше уже не
поверялись существованием и сущностью Бога — гарантами всякой истины:
наоборот, Бог поверялся экзистенциальной самоочевидностью
человеческого разума, который тем самым сделался новым critérium veri.
От этого обращения перспективы до утверждения, по которому
человек, отстаивая Божественную трансцендентность, «проецирует» свой
собственный лик «на небеса», — в философском смысле всего лишь
небольшой шаг. Его можно, к примеру, распознать в переходе от философии
религии Гегеля к таковой же Фейербаха. Вот основной тезис
гегелевской философии религии: Бог — это самосознание; Он знает Себя в
некоем отличном от Него сознании, которое в себе — но также и для себя —
есть сознание Бога, когда оно признает свою идентичность с Богом, —
идентичность, которая, однако, возникает через отрицание этим
сознанием его конечности. Конечное сознание знает Бога лишь постольку,
поскольку Бог знает Себя в нем17; у Фейербаха это положение
становится основанием атеизма: «Сознание Бога есть самосознание
человека, знание Бога — это знание человека о себе самом. <...> Поэтому если
с точки зрения гегелевской философии религии <...> вышеприведенное
положение означает: "Знание человека о Боге есть знание Бога о Себе
Самом", то здесь, напротив, верно <...> противоположное положение:
"знание человека о Боге есть знание человека о себе самом"»18.
Фейербах преодолевает трансцендентность, разоблачая ее в качестве
скрытой проекции человеческого лика на область потустороннего: если
человеческое сознание сломает им же самим воздвигнутую преграду
между имманентной ему сферой и мнимой Божественной
трансцендентностью, то оно узрит свой же собственный лик. Для просвещенного
таким образом разума сущность религии претерпевает превращение: своим
предметом религия отныне имеет не Бога, а сущность человека. Но это
было открыто благодаря христианству. Поэтому для Фейербаха верно
понятое христианство есть религия человека, означающая то же, что и
атеизм 19.
Если Кант в своих «Критиках» теоретического и практического
разума по-новому увидел два разных мировых царства — природное и мо-
е^71^Э
(г^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
ральное, то Фейербахова критика религии со стороны просвещенного
разума обнаружила единственно возможные, по мнению Фейербаха,
типы взглядов внутри этих царств: материализм — как правильно понятое
отношение между человеком и природой, и атеизм sui generis — как верно
определенное отношение человека к Богу, оказывающееся не чем иным,
как отношением между личностью самого человека и его собственной
сущностью. Теперь нужно обосновать, что положение, по которому в Боге
человек имеет перед собой свою собственную сущность, означает не
только абсолютный атеизм. Ибо можно допустить, что Бог дал
возможность Своей сущности полностью раскрыться в творении, что Он Сам
и есть творение, которое достигает своей вершины в человеке. И в этом
случае атеизм переходит в пантеизм**.
с) Отождествление Бога и мира в пантеизме
Пантеизм может выступать в нескольких видах:
1. При (субстанциально-онтологическом) предположении, что есть
всего одна-единственная субстанция, тогда как все существующее — не
что иное, как модифицирование этой субстанции. Единственная
настоящая субстанция — это Бог; таким образом, в природе существует
только одна субстанция, а природные явления суть модификации этой
субстанции.
2. Но пантеизм может принимать и другую форму. В ней
допускается, что Бог продолжает существовать не в качестве Его собственной
(единственной) сущности с автономным личным сознанием: Он
излился в творение как его [творения] субстанция. Согласно данному
пониманию, мир — это могила Божественного сознания, тогда как
человеческое сознание означает место его воскресения. Именно таков ход мыслей
молодого Рудольфа Штейнера: «Мы не знаем никакого правителя мира,
который задает нашим поступкам цель и направление, отличные от
наших собственных. Правитель мира, поступившись своей властью,
вручил все человеку, отказался от своего особенного бытия и дал человеку
задание: действуй дальше»21.
3. Затем, пантеизм можно рассматривать как панентеизм22. При этом
все, что есть, существует в Боге и охватывается Им, причем мировое
содержание и сознание Бога считаются совершенно различными.
4. Но также можно считать, что мировое (субстанциальное)
содержание заключено не в одном объемлющем его мировом сознании, а в
сумме различных сознаний, которые вместе образуют одно цельное сознание;
как таковое, положенное (gesetzt) для себя и вне отдельных сознаний,
оно не существует. Здесь налицо модифицированная форма панентеиз-
ма — монадизм в его простейшем виде. Вот исходное представление мо-
надизма. Отправляясь от единой равномерно распределенной субстан-
С%72^с)
(г^ II. Трансцендентность и троичность ^)
ции А0, которой Бог был в начале творения, Он продифференцировал
Себя до некоей атомизированной субстанции Ап, причем все η в
совокупности дают А0 (/п = А0). «Океан» или «первичная вода» Божества
как бы распылилась на бесконечное множество отдельных капель,
сделалась неким «первичным туманом», — однако единый океан при этом
сохранился. Согласно данному пониманию, процесс творения состоит
в разделении Божественной субстанции на отдельные монадические
сущности. Так из начального прабожества образовалось (точнее,
образуется через продолжающееся деление и размножение) множество
божественных монад, которые имеют общее для всех происхождение. Такого
рода монадизм отличается от примитивного политеизма: все мировые
сущности для монадизма суть модификации единой Божественной пра-
субстанции, поэтому волей-неволей они оказываются божественными.
Если они полностью осознают Божественный характер своего бытия, то
они вновь придут к единству Божественной субстанции.
5. Отрефлектированный монадизм добавляет сюда еще
обособленную и сознательно существующую прамонаду, Бога, которая охватывает
все монады и является для них «структурным принципом». Именно это
функциональное понимание присутствует в «Системе
трансцендентального идеализма» молодого Шеллинга (а раньше отличало подход
Джордано Бруно). При таком понимании Бог сведен к принципу или основной
функции, в соответствии с которой устроена каждая отдельная сущность.
Итак, хотя Бог и есть всё, но каждая единичная сущность при этом не
есть Бог: она особым образом отличается от Него, как и от всего
остального. Мир оказывается ступенчатой системой возрастающего тождества
и уменьшающегося различия или же возрастающим различием и
уменьшающимся тождеством. В своей ранней философии тождества Шеллинг
надеялся избежать пантеизма с помощью этой системы тождества и
различия. Но это удалось ему только в отношении субстанциального
пантеизма, где не нашлось места для личного, не совпадающего с миром Бога
Творца и для субстанциального зла. Можно говорить поэтому о некоем
десубстанциализированном или функциональном панентпеизме.
6. Наконец пантеизм можно осмыслить как последовательный
(resoluter) идеализм, который одновременно есть реализму поскольку
исходит из реальной объективности мира идей. Высшая сущность мира есть
имманентный миру мир идей, который есть не что иное, как сумма архе-
типических идей, доступных для мышления, лежащих в основе
видимого мира23.
Процесс сотворения мира в пантеизме обычно понимается как
эманация. Божество эманирует из своей сущности собственную субстанцию,
которая есть подлинная субстанция творения. Можно говорить о двух
видах эманации:
е^73^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^9
• Божество полностью отчуждает свою субстанцию, так что для
него сверх того не остается никакого особого бытия. Тогда если
первое бытие Божества — это At, то его второе бытие — это А2 (то
же самое с субстанциальной точки зрения), которое как бы
переместилось на другое «место».
• Божество эманирует свою субстанцию не полностью. В этом
случае область или «протяжение» Божественной субстанции
увеличивается: если Божественное бытие до творения = Av а эманиро-
ванное творение как таковое « А2, то Божественное бытие после
творения β At + А2. Так как взятые вместе At и А2 являются
одним и тем же бытием, то их сумма (At + А2) есть новое
«агрегатное состояние» одной Божественной субстанции.
Единственным философски удовлетворительным решением
проблемы отношения Творца и творения без допущения цимцума,
Божественного отступления, оказывается в действительности функциональный
пантеизм, предполагающий эманацию. Деизм, атеизм или теизм в
форме наивного демиургизма, допускающего наряду с Творцом также
вечную праматерию, из которой творец создал все, из-за их идейной
скудости философски неудовлетворительны. Пока абсолют понимается как
субстанция или как системообразующая основная функция, а не как
Личность, единственно последовательной остается философская
позиция пантеизма — ценой того, что ею не признаются ни Божественный
первообраз личности, ни самостоятельность зла.
Три описанные формы отношения между разумом и Творцом
представляют собою три односторонности. Эти односторонности возникают
из-за того, что в каждом случае разум противостоит исключительно
одному из трех Лиц Троицы24. Так, в основе деизма лежит одностороннее
выпячивание Отеческого принципа, тогда как реальность Сына и Духа
там не отражена. В Евангелиях (в особенности в Евангелии от Иоанна)
Отец представлен как трансцендентное, сверхкосмическое начало,
пребывающее над тварным миром (по ту сторону этого мира), превыше
всего. Если признается только Отеческий принцип, то неизбежным
следствием этого является Божественная трансцендентность, поскольку она
модифицируется лишь через посылание Сына и действие Духа в
Священной истории. Отец открывает Себя в Сыне. Если реальность Сына
не признают, то Бог остается трансцендентным, и логическим
следствием этого оказывается деизм. Если к тому же признают, что Отец вложил
в Свое творение собственные вечные законы, которым подчинен
мировой процесс, то дополнительным моральным следствием деизма
становится фатализм.
В основе материализма и атеизма лежит одностороннее выпячивание
Сына, который вошел в исторический процесс и стал Человеком, являя
Собой идеал человеческой сущности. Если исходить из того, что Хрис-
С^74^с)
C5^ II. Трансцендентность и троичность ^3
тос — конкретное существо, реально жившее и действовавшее в
человеческой истории, но Он не посылался Отцом и Сам не посылал Святого
Духа (если не видеть или не признавать реальности Отца и Духа), то
в наличии остается лишь один имманентный аспект человечества Бога.
Не следует тогда понимать Евангелия в качестве сообщения о подлинно
историческом событии вочеловечения Бога: оно — лишь документ
процесса развития и откровения конкретного человеческого существа. Так
дело было представлено Фейербахом: связь человека с природой есть
причина (Ursache) дохристианских, языческих религий; сущность и
личность человека — это причина религии христианской.
В основе пантеизма лежит опять-таки одностороннее выпячивание
принципа Духа. Если человек стремится к знанию своей сущности и
природы, то он обращен к миру идей (духовному миру, понятийной основе
мира чувственно воспринимаемого), который имманентен природному
миру и открывается в человеческом мышлении; иначе говоря, человек
обращен к Мировому духу. Если Мировой дух понимается как единый,
все пронизывающий и наполняющий дух, то это — чистый пантеизм;
если же, напротив, его рассматривают как совокупность духовных
сущностей, то налицо пан(ен)теистический монадизм.
3. ПЕРЕХОД ШЕЛЛИНГА
К ИСТИННОЙ (GUTEN) ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ
Трансцендентность положительной философии есть
абсолютная трансцендентность, и именно поэтому не
трансцендентность в том смысле, в котором ее запрещает
Кант. <...> Бог не есть трансцендентное, как
представляется многим, Он есть трансцендентное, ставшее
имманентным (т. е. содержанием разума).
Ф. В. Й. Шеллинг25
Представленные попытки решения проблемы трансцендентного,
которые в целом можно назвать формами «дурной трансцендентности»,
следует рассматривать в качестве односторонних реакций на проблему
свободы, поскольку они связаны со стремлением человеческого разума
к автономии. Шеллинг в своей «положительной философии» также
претендовал на разрешение проблемы трансцендентного, т. е. на
переход от дурной трансцендентности к трансцендентности истинной. Он
начинает обсуждение проблемы трансцендентности с вопроса: если
мышление постигает «что» вещей, то может ли оно также извести из
себя и постичь их «как», их действительное существование? Шеллинг
дает на него отрицательный ответ26. Хотя разум сообщает «содержание
е^75^)
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
всему, что происходит в опыте, он постигает действительное, но не
действительность. Ибо здесь существует большая разница»27. Эта разница
заключается в том, что действительное только тогда может явиться
в форме мышления, когда до этого с помощью способности восприятия
была установлена его действительность, т. е. то, как оно наличествует.
Но если мышление нуждается в восприятии, чтобы увериться
относительно «как» вещей, то это имеет место для существования всего
существующего, — также и высшей реальности. Однако можно ли вообще
эмпирически воспринять то, что трансцендентно в абсолютном смысле?
На этот вопрос Шеллинг отвечает отрицательно, имея в виду все
перечисленные им ступени эмпиризма, к которым он также относит
«сверхчувственный эмпиризм»28: чтобы утвердительно отвечать на
поставленный вопрос, следовало бы говорить лишь об этом последнем, так как он
претендует на познание самого Бога. Шеллинг оспаривает это на
примере Якоба Бёме, который будто бы попал в рабство к субстанциальности
и не мог оттуда выбраться, ибо всякий опыт, также и сверхчувственный,
будто бы всегда имеет лишь субстанциальную природу ™. Однако то, что
является основанием всякого опыта, само не может мыслиться как
субстанция среди субстанций; оно не может совершаться и как факт наряду
с другими опытными фактами. И если все опытные факты могут
конституировать бытие в мышлении, то, что изначально делает возможным
опыт, — это бытие вне мышления. Итак, это бытие было бы таким,
которое не дано в опыте и недостижимо посредством умозаключений: оно
было бы абсолютно трансцендентным, однако не потому, что по какой-
либо причине разум полагает его трансцендентным, но потому, что
абсолютная трансцендентность принадлежит его собственной природе. Та
философия, которая допускает эту трансцендентность, не может
начинаться с чего-то такого, что доступно для восприятия (в частности, для
восприятия мистического30); она также не может исходить из некоей
основы всех основ. Шеллинг называет эту философию «положительной»31.
Но как в положительной философии преодолевается гипотетический
характер абсолютно трансцендентного? Как его можно «доказать»?
Если мышление исходит из того, что нечто предшествует ему в
абсолютном смысле, то хотя это «нечто» гипотетично, однако это
гипотетическое никак нельзя отождествить с Богом или обозначить с помощью
какого-нибудь другого понятия, поскольку предполагается, что оно
представляет собой что-то полностью непознаваемое. Только a posteriori (или
лучше, как у Шеллинга, per posteriori), при опоре на действительные,
эмпирически воспринимаемые и познаваемые данные, разуму
открывается, что речь при этом идет о Боге32. Мышление проходит при этом
некий путь, отправляясь от допущения того, что ему совершенно
незнакомо, что всегда предшествует опыту и осмыслению в понятиях; затем же
мышление, постоянно вспоминая об этом абсолютно трансцендентном,
С^76^)
C5^ II. Трансцендентность и троичность ^)
свободно шествует вперед, чтобы «погрузиться» в эмпирическое и
срастить с ним. В этом шествии предметом мышления становится
действительное и одновременно познается то, что осуществляет действительное;
т. е. трансцендентное сверхсущее (Überseiende) открывается, поскольку
в качестве результата его творческих деяний обнаруживается
действительность. С помощью таких рассуждений Шеллинг надеется провести
четкое различие, с одной стороны, между Божеством, в его философии
истолкованном субстанциально (а также субстанцией всего
действительного), и с другой — Богом Творцом: Бог — это не познаваемая
субстанция (бытие или сущее (das Seiende)), но абсолютная Личность,
которую можно познать по ее свободным поступкам, в которых она участвует
и которые завершают мышление. Поэтому, с одной стороны,
положительная философия — априорная наука, ибо мышление занято тем, что
ему в абсолютном смысле предшествует. С другой стороны, этот prius
затем познается «per posterius, через его следствия». Именно здесь
«положительная философия» отличается от так называемой
«отрицательной», вершину которой Шеллинг усматривает в логике и системе
Гегеля. «Отрицательная философия» — это тоже априорная наука, однако
не доходящая до действительно апостериорного, т. е. до следствий в
эмпирически воспринимаемой действительности: хотя им и можно с
помощью разума дать названия, но при этом они не имеют доказательной
силы и во всех случаях выступают в качестве примеров33. Поэтому
Шеллинг называет отрицательную философию «априоризмом
эмпирического», который он отличает от «эмпирического априоризма»
положительной философии34.
Опыт в положительной философии при этом имеет не
вспомогательный, но всеобъемлющий характер35. Так как весь опыт в целом заключает
в себе прошлое, настоящее и будущее, в связи с положительной
философией речь идет о некоей философии, открытой для жизни и истории,
о философии, которая может развиваться, обновляясь, все дальше в
направлении будущего, — говоря кратко, о философии, которая есть
действительно свободная философия36. Эта философия взрывает все
замкнутые системы37, из которых самая всеобъемлющая — это система Гегеля.
Сам Гегель сказал знаменитые слова в адрес науки, пришедшей к своему
концу: «Когда философия начинает рисовать своей серой краской по
серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее
омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы начинает свой
полет лишь с наступлением сумерек»38. Шеллинг противопоставляет
осеннему настроению отрицательной философии весну философии
положительной. Отныне он может критиковать предшествующую
критическую философию, науку, опирающуюся лишь на разум:
«Когда она называет себя наукой разума, она считает себя вправе
носить столь гордое имя. Но каково, в сущности, ее содержание? Соб-
е^77^>
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^5
ственно, лишь постоянное ниспровержение разума. А ее результат?
Только то, что разум, в той мере, в какой он себя самого принимает за
источник и принцип, не способен ни к какому действительному
познанию. Ибо то, что для разума становится одновременно сущим и
познаваемым, есть всегда нечто превосходящее разум, — то, что разум должен
поэтому передать другому познанию, а именно, опыту»39.
Это основное различие между отрицательной и положительной
философией, однако, не означает для Шеллинга того, что одна должна
заменить собой другую; скорее, отрицательная философия нуждается
в положительной в качестве своего необходимого восполнения40. Ибо
человеческий разум, желающий помнить лишь о себе самом, преодолев
все свои стадии и не впав при этом в манию величия, сочтя, что
охватывает в своем движении всю действительность и историю, что Мировой
дух в нем вернулся к себе (Гегель), приходит к великому смирению41,
которое Фауст в одноименной драме Гете, прошедший долгий
жизненный путь, когда он учился и учил, выразил в своей убогой рабочей
комнате так: «Однако я при этом всем был и остался дураком» *.
Диалектическую связь между отрицательной и положительной философией
Шеллинг охарактеризовал с помощью таких слов, которые можно с
успехом применить и по отношению к софиологии:
«Я уже сказал, что отрицательная философия останется
преимущественно философией для школы, положительная — философией для
жизни. Только через посредство их обеих будет достигнуто то полное
посвящение, которое можно требовать от философии. Как известно, в элев-
синских посвящениях различались мистерии малые и великие, причем
малые считались первой ступенью великих. Уже неоплатоники называли
аристотелевскую философию малыми мистериями философии,
платоновскую — великими; это [сравнение] неуместно, поскольку за
аристотелевской философией платоновская не может следовать так, как за
малыми следовали великие мистерии. Пожалуй, однако, положительная
философия является необходимым следствием верно понятой
отрицательной философии, и потому, пожалуй, можно сказать: в отрицательной
философии совершаются малые мистерии философии, в
положительной — великие»42.
Шеллинг называет монотеизмом понимание Бога, согласное с его
«положительной философией»; монотеизм вновь выведен Шеллингом
в его поздней философии43. В дальнейшем мы покажем, что его
концепция монотеизма близка лурианской идее цимцума и являет собой
ступенчатое развитие или модификацию деизма, атеизма и пантеизма. При
этом Шеллинг на самом деле не смог постичь глубины идеи цимцума
* Пер. Б. Пастернака.
(2^78^)
C^ II. Трансцендентность и троичность "^Э
и использовать ее для понимания тайны Троицы. Это осталось на долю
идущих за Шеллингом русских софиологов, — и в особенности
Булгакова (если говорить о его философии троичности).
4. АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ И ЕГО ОБРАЗЫ
Свою попытку научного развития учения о Триединстве Шеллинг
начинает с понятия абсолютного, т. е. совершенного, свободного духа,
причем он различает три образа абсолютного духа44.
Первый образ абсолютного духа Шеллинг называет «в себе сущим»
(an sich seienden) или «голой возможностью бытия» (bloss sein
konnenden). Он характеризуется тем, что сам по себе не является объектом, так
как объектное бытие предполагает некое в-себе-сущее (das An-sich-sei-
ende), голое (bloss) субъектное бытие, и поскольку это бытие есть дух,
оно всецело есть лишь-сущий (nur-seiender) дух. Шеллинг вплотную
приближается к идее цимцума45, когда упоминает о том, что
в-себе-сущее можно воспринять, только если мышление совершает упражнение
самоотступления (des Sichzurückziehens), ибо этот первый образ духа
делается доступным исключительно при отступлении — как полное
отсутствие какого бы то ни было объекта, как чистое в-себе-бытие.
Шеллинг говорит непосредственно о цимцуме, когда он заявляет, что первый
образ духа — это «лишь сокрытое, <...> беспредметное, отступившее
в самое себя, лишь в себе самом сущее (in sich seiende), лишь
сущностное (bloss wesende) бытие»46. В-себе-сущее Шеллинга, таким образом,
следует понимать не как голое (blosses) бытие, но как определенное
отношение духа к бытию, — а именно, как чистую волю к отступлению
в собственные недра и пребывание там. Только благодаря тому, что дух
в этом образе полностью воздерживается от какого бы то ни было
бытия, его собственное наличное бытие (Da-Sein) становится для него не
объектом, но чистым «в себе* (Ansich), означающим результат полного
отступления в глубину духа. Это движение, противоположное
откровению сущности вовне, есть ее вхождение к себе вовнутрь. Это есть
сокрытие * Бога — манифестация одного Божественного в-себе-бытия, а не
Его существа как всемогущего, вездесущего и всеведущего.
Когда в себе существующий дух не раскрывается наружу, но,
напротив, представляет собой бытие, отступившее в самое себя, тогда он не
«обладает» бытием, но «бытийствует» («west»). Если же он должен
обладать бытием, то это бытие, объект для него, есть другой образ того же
* В подлиннике «Er-Innerung», 'воспоминание'. Использована непереводимая игра
слов: «воспоминание» в немецком языке этимологически означает «полный уход
вовнутрь». — Прим. пер.
е^79^9
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
самого духа. Этот образ опять-таки характеризуется тем, что он всецело,
безусловно, — то есть в абсолютном смысле, — есть объект, бытие
которого, следовательно, заключается в том, чтобы, как выражается Шеллинг,
всецело отдавать себя другому — не имеющему никакого иного бытия,
кроме как быть «в себе», не будучи чем-то. В своей лекции о
монотеизме Шеллинг описывает этот второй образ с помощью понятия «чисто
или бесконечно сущего», которое, в отличие от первого образа,
абсолютного субъекта, есть абсолютный объект47. В этом образе духа поэтому
нет собственной воли, — во всяком случае, в форме желания себя
самого или чего-либо для себя самого. Вся отринутая воля как бы вручена
им тому, для кого существует этот образ духа48. Разница между первым
образом (или, как еще говорит Шеллинг, потенцией духа) и вторым
состоит в том, что первый, «в себе сущее», может отказать второму,
который существует лишь для первого, — т. е. может отклонить его вольную
«жертву», отказаться от нее; по мнению Шеллинга, второй образ (или
потенция) не может обладать этой свободой уже потому, что он есть
чистый объект, не имеющий субъективной воли49. Но первая потенция
«отказывает» второй в столь же малой степени, в какой вторая потенция
может «отказать» первой (например, если бы первая приняла решение
самой быть чем-то). Обе потенции характеризуются одинаковой
самоотверженностью50. Божественное отступление в первом образе
абсолютного духа (изначальная и высшая идея, которой достигает мысль
Шеллинга) сопровождается признанием и полным согласием на это
отступление со стороны второго образа абсолютного духа. Рассматривая
обе описанные потенции в качестве двух образов одного и того же духа,
Шеллинг утверждает, что «мы не сможем оставаться при двоице. А
именно, цель состоит, собственно, в том, чтобы показать само сущее»51. Но
сущее можно помыслить себе только как единство двух. Хотя оба образа
духа — «в себе сущее» (которое Шеллингом также именуется «могущим
существовать») и «для-себя-сущее» (по Шеллингу, также «чисто сущее»
(das rein Seiende)) — являются не двумя субстанциями, а
субстанциально тождественны52. Но так как единое не может пребывать в голом
противопоставлении себе самого же себя, поскольку тогда оно базировалось
бы на полярной разведенности, а не на единстве противоположностей, —
то требуется третье начало, в котором эта полярность снята и
осуществлена свобода быть или не быть53. Шеллинг характеризует эту потенцию
синтеза также как открытость к бытию и небытию (das zu sein und nicht
zu sein Freie)54. Если первую потенцию, в которой воля к бытию
отрицается, обозначить -А, то тогда вторую потенцию, в которой бытие чисто
объективно, следует обозначить +А. Тогда синтез двух потенций будет
±А55. При этом третье начало займет то место, которое в системе
трансцендентальной философии Шеллинга занимает субъект-объект56. В
отличие от ранних построений Шеллинга (которые созвучны рассужде-
е^во^э
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
ниям Фихте), в поздней Шеллинговой философии субъект-объекту,
однако, предшествует отступление первого образа абсолютного духа.
Субъект-объект может существовать только тогда, когда уже наличествуют
чистый субъект и отдающийся ему чистый объект. Но, по мнению
Шеллинга, только третий образ соединения обоих, «неразлучный субъект-
объект» г,?, является в действительности тем концом, где можно
остановиться, так как этим третьим определением «достигается законченное
в себе самом, абсолютное»58. Это абсолютное не есть критикуемая
Гегелем пустая бесконечность или пустая вечность, под которой
подразумевается, по сути, ничто или голая противоположность конечного.
Развитое Шеллингом понятие абсолютного как раз противоположно пустой
вечности или пустой бесконечности: «Я называю пустой
бесконечностью то, в чем нет ни начала, ни конца; однако в этих трех определениях,
скорее, имеются начало, середина и конец, — но они существуют не
порознь, а друг в друге»59. Другое определение Шеллингом развившегося
абсолюта — это всеединство, под которым он понимает «всякое
замкнутое и законченное в себе множество» ω. Но это — характерный признак
духа, ибо именно в нем «начало существует не вне конца, и конец не вне
начала»01.
Хотя абсолютный дух в своем третьем образе является завершенным
духом, так как он в себе самом имеет начало, середину и конец, в этой
третьей форме он лишен еще одного — абсолютной свободы, свободы быть
или не быть субъект-объектом, так как в этом третьем образе он с
необходимостью полагается как субъект-объект. Если бы речь здесь шла о
последней из возможных форм абсолютного духа, то он бы оказался
бессильным, ибо не был способен ни к чему другому, как только быть всегда
субъект-объектом62. Это соображение касается в особенности ранней
Шеллинговой идеалистической концепции «субъект-объекта». В самом
деле, для молодого Шеллинга было невозможно перейти от понятого
чисто функционально субъект-объекта к творению действительности:
субъект-объект оставался бессильным, бездейственным. Поздний
Шеллинг имеет в виду творческий, а не бессильный дух, и потому
заключает, что совершенный дух не есть дух, привязанный к какой-либо особой
форме бытия, — в частности, субъект-объектной форме, ибо «он
[субъект-объект] лишь завершает понятие абсолютно свободного духа»63.
Поэтому абсолютно свободный дух свободен и от своей третьей формы,
так как в ней он — дух, который должен быть духом64. Но если
абсолютный дух есть свободный дух, опять-таки противостоящий трем своим
образам, то он не то что проходит через три последовательных стадии
(как в гегелевской диалектике) — моменты в-себе-бытия, для-себя-бы-
тия и у-себя-бытия (последнее есть синтез в-себе- и для-себя-бытия), —
но он есть одновременно («как бы в один миг, мгновенно») все эти три65.
Если он действительно должен быть творческим духом (а не духом, со-
С^81^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^3
здающим самого себя в последовательном процессе), — следовательно,
должен обладать могуществом, то он не может быть тем единством,
которое проходит одну за другой три стадии, сохраняя
самотождественность (при этом он был бы неразделимым субъект-объектом, существуя
в этом движении и посредством его): три данных момента сами суть
способы бытия, особые образы духа, который благодаря этому, с одной
стороны, может быть чистым субъектом, а с другой — чистым объектом,
не будучи к этому обязанным. Только тот дух есть свободный дух,
который свободен и от необходимости единства субъекта и объекта, если
они — его собственные образы. А именно, «в себе» духа — это то, что
ему обеспечивает трансцендентность, ибо он здесь уходит в свое внут-
реннейшее и поэтому не может считаться объектом. В объектном бытии
как таковом присутствовала бы зависимость, а с ней ограниченность, то
есть имманентность; это также сказывалось бы на бытии абсолютного
духа, он не был бы при этом в себе существующим духом. Поэтому
абсолютный дух свободен, он ни в чем не нуждается, ему не требуется
ничего для того, чтобы быть абсолютным и свободным. Шеллинг описывает
этот абсолютный дух, вплотную приближаясь к Аланусу аб Инсулису
(Алану Островитянину) и Николаю Кузанскому, — как центр, который
одновременно является периферией, и как периферию, которая есть
одновременно центр66.
5. БОЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕСТАНОВКА
И ТРИНИТАРНОЕ РАЗВИТИЕ
Свои выводы относительно абсолютного духа Шеллинг называет
гипотетическими в том смысле, что если имеется некое бытие, некий дух,
то о нем можно мыслить только так. Но при этом еще не доказано, что он
есть. Ибо это наличное бытие может быть подтверждено только a
posteriori, посредством тварного бытия, в котором проявляются
присутствующие в абсолютном духе первоначала. Чтобы идентифицировать эти
начала, конечно, надо предположить, что абсолютный дух решился на
творение мира и дал миру толчок. При этом творческий дух и
сотворенный мир остаются двумя различными реальностями, потому что
сотворенный мир — это не какой-то другой необходимый способ бытия, в
котором абсолютный дух нуждается для своего самоосуществления, хотя
сотворенный мир происходит только от абсолютного духа. Но если
абсолютно свободный, ни в чем не нуждающийся дух решает выйти из себя
ради сотворения мира, то совершает он это не из потребности стать
самим собой, т. е. прийти к себе самому, — он таков изначально. Он может
творить мир или не творить, — это безразлично для абсолютного
духовного бытия.
(с^82^Э
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
Итак, если перед духом возникает возможность некоего другого,
обусловленного бытия, то дух свободен в отношении этого бытия и
сотворения мира. Для мира, с другой стороны, это означает, что хотя мир
творится в соответствии с принципами духа (когда дух решается на сотворение
мира), он [мир] из-за этого не оказывается идентичным абсолютному
духу. Этот последний остается actus punis или, как Шеллинг говорит
в соответствии со средневековой метафизикой, actus purissimus67. Но
какой представляется этому абсолютно свободному духу возможность
сотворения мира? Как он мог бы ее реализовать? Отвечая на этот вопрос,
Шеллинг исходит из некоей «перестановки» (Ver-Stellung)
изначальных потенций абсолютного духа. Он также называет эту
«перестановку» «Божественной иронией»68. В чем она состоит?
Когда «в себе» или голая «возможность бытия» духа, первоначало
самого Божества и его глубина, переходит к действительному бытию,
вместо того чтобы быть «бытийственной возможностью» и чистым
субъектом, то это первоначало принимает форму, противоположную его
исходному способу бытия в качестве голой бытийственной возможности.
Хотя эта возможность навеки остается его первым и действительным
образом, однако при вмешательстве свободной воли она может
полагаться абсолютным духом в другом образе — как действительное бытие.
Но при этом в два других способа бытия абсолютного духа также
входит противоположность. Ибо в тот самый момент, когда это
совершается, во второй потенции, в «чистом существовании», все меняется. Если
бытие второй потенции состояло именно в том, чтобы отдаться
полностью в-себе-сущему (или могущему существовать), ничего не оставляя
себе самой, то теперь своего субъекта вторая потенция имеет вне
абсолютного духа, так как ведь первая потенция сама вступила в бытие. Но
в тот момент, когда чисто сущее, положенное вне Бога, больше не имеет
субъекта, для которого оно могло бы стать объектом, оно должно само
сделаться чем-то определенным, ибо оно было вынуждено сохранить
свое бытие для себя, поскольку его жертва впредь невозможна. Так оно
полагается в качестве «долженствующего быть» (das sein Mussende). Но
это не соответствует его природе, его собственному образу, и вызывает
в нем стремление вернуть первую потенцию ныне существующего, а до
того не существующего, лишь могущего существовать, в ее «в себе».
Итак, внутренняя глубина Божества, до предела раскрывшаяся вовне,
став при этом «слепо существующим» (das Blindseiende), должна вновь
вернуться в ее изначальное состояние глубины и сокрытости69.
Благодаря этому чистое существование само становится чем-то определенным,
т. е. делается самостоятельным. С этим связано то, что данная потенция
отрицается в действительно присущем ей образе чистого
существования; это отрицание есть причина ее стремления вновь стать чистым
существованием, т. е. тем, чем она была первоначально70. В тот момент, когда
е^вз^э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^3
перед взором абсолютного духа возникает совершенно иное отношение
между двумя первыми потенциями, вторая потенция, «чисто сущий»
дух, начинает действовать, «ибо он может быть лишь волей к
преодолению своего предмета (того, что ему противостоит)»71.
В тот самый момент, когда первый образ, возможность существования,
становится действительно существующим, все также изменяется в
третьем образе абсолютного духа: он подвергается еще «более глубокому»
отрицанию, чем второй72. А именно, третий образ, собственно дух, был
положен как начало, завершающее возможность существования и
чистое существование, так как он объединяет в себе их обоих. Но поскольку
теперь это единство распалось, он полностью оставляет свое
первоначальное состояние и оказывается как бы предельно удаленным от
бытия; поэтому его стремление объединить первый и второй образы духа
только тогда сможет вновь осуществиться, когда чистое существование,
которое сделалось необходимостью бытия и преодолением первой
потенции, совершило это преодоление. Поэтому дух в своем третьем
образе делается тем, что вновь будет существовать лишь в отдаленном
будущем, что, следовательно, является собственной целью, causa finalis всего
процесса.
Итак, три изначальные потенции абсолютного духа в момент их
«перестановки» и «выворачивания» становятся тремя разъединенными
потенциями возможности бытия (des sein Konnenden), необходимости
бытия (des sein Mussenden) и обязанности бытия (des sein Sollenden).
Если Бог имеет «перед глазами» будущее тварное бытие, то «в этих трех
понятиях <...> определены все возможные отношения того, что еще не
существует, к будущему бытию». То, что «в завершенном духе было им
самим, превращается в потенции другого бытия»73. Также после того,
как эти формы потенций, переведенных в состояние напряжения,
выступили «перед глазами» абсолютного духа как «лица», абсолютный дух
узнал себя в качестве совершенного, всеединого духа; он остался бы им,
если бы это было безразлично для его обращенных наружу потенций
в (тварном) бытии73. Поэтому на самом деле абсолютный дух есть один-
единственный Бог, а изложенное философское развитие абсолютного
духа и его откровения в качестве Творца мира есть монотеизм.
В тот момент, когда действительно происходит выворачивание и
одновременное приведение в напряжение образов или потенций
абсолютного духа, начинается творение мира; отныне можно связывать образы
абсолютного духа или приведенные в напряжение потенции с именами
тринитарного учения. Шеллинг называет эти три образа или потенции
абсолютного духа в их сокрытости и абсолютной самодостаточности
тремя «эзотерическими Элогимами»75; это обозначение абсолютного
духа, ибо они суть «весь Бог»76. Богу Шеллинг приписывает абсолютно
личностный характер: «Бог, in cuius potestate omnia sunt, есть весь Бог, —
е^84^с)
(г^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
не образ Бога, но Бог в абсолютной, совершенной личности, при
которой пребывает все»77. И эту абсолютную личность, которой Бог
оказывается перед началом Своего пути, Шеллинг называет Отцом, так как
Он начинает движение и изменяет три данные потенции7Ö. Как уже
говорилось, это изменение состоит в некоей Божественной иронии или
«перестановке» трех потенций; при этом первая потенция в-себе-суще-
го, которая сама не хочет существовать и не должна существовать,
полагается как бытие и обращается наружу79. Благодаря тому, что первая
потенция — это не обязанность существовать, две другие потенции также
«переставляются». Ибо если «в себе» Божества отказывает потенции
«для себя» Божества (которая всегда хочет лишь отдавать себя),
отклоняя ее самопожертвование, то эта вторая потенция больше не может
объединять субъекта и объект, поскольку в вывернутых Элогимах
единства субъекта и объекта нет.
Если Отец — это все Божество (die ganze Gottheit) в трех образах, то
в отношении Сына это не так. В качестве самостоятельной личности Его
нельзя обнаружить внутри Божественной мистерии. Согласно
Шеллингу (который под рождением (Zeugung) понимает исключение из
Божественного бытия), Сын становится самостоятельной личностью только
вне Божества (Gottheit) или Божественности (Göttlichkeit). Это
происходит, выражаясь точно, таким образом, что та самая потенция, которая
выступает как чисто объектное бытие, т. е. не желая быть чем-то для
самой себя, больше не имеет субъекта, которому она могла бы отдаться
в качестве объекта, с необходимостью обретя при этом некое бытие.
Чистое существование становится необходимостью существовать, так как
Бог, открывающий Себя как Отец, в этот момент превращает в-себе-су-
щее в существующее (не обязанное существовать). Поскольку теперь
чисто сущее больше не имеет субъекта, которому оно могло бы полностью
себя отдать, оно должно действовать самостоятельно, и в качестве
самостоятельно действующей потенции оно становится особой личностью.
Эта потенция стремится вновь вернуть полагаемое Отцом слепо или
положительно сущее в состояние его в-себе-бытия; поэтому к личности
Сына также относится это возвращенное «в себя», а также третья
потенция обязанности существования (des Seinsollenden), которая сделалась
действительно сущим посредством восстановления «в себе сущего» вне
Бога в действительно существующее.
Другими словами: если Отец открывает Себя в начале процесса, то
Сын — в конце процесса в трех образах или потенциях в качестве их
господина; если Отец в начале отступает в Божественность или Божество,
то Сын делает это в конце развития80. При этом творение оказывается
волением Отца не просто вызвать напряжение потенций, но посредством
этого напряжения привести к самоосуществлению чисто сущее — как
образ Его сущности. И это деяние Отца, Его намерение и вызванный
е^85^Э
Сг^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
этим процесс обретения самостоятельности Шеллинг называет
рождением Сына81; это значит, что Сын был рожден прежде всех вещей в начале
творения и только в конце всего процесса осуществился как Бог Сын82.
Дух, согласно Шеллингу, осуществился опять-таки только тогда,
когда обращенная наружу первая потенция Отца вновь полностью
возвратилась в свое «в себе», так как теперь все Божество восстановлено не
только внутри, в Божественной трансцендентности, но также и
снаружи, в теогонически-космическом процессе. Ибо при этом абсолютный
дух в трех своих образах (Отец) и исправленные с помощью Сына три
обращенных наружу образа составили тождество; над всем царствует
Бог, который в конце развития вновь открывает Себя в качестве
абсолютного духа. В конце процесса осуществляется омоусия Троицы83. Поэтому
Шеллинг различает в процессе три момента или «стадии». Во-первых —
это момент тпаутусии, когда три образа абсолютного духа
субстанциально суть одно и взаимно не исключают друг друга, так как они не
приведены в состояние напряжения84. За этим моментом неразличимости,
после того как абсолютному духу предоставилась возможность некоего
другого бытия и из своего самодостаточного, но все же лишенного
блаженства вращения он выступает в радость Бога Творца85, следует
момент обращения наружу потенций; при этом, положенные как
экзотерические Элогимы, они взаимно исключают друг друга и таким образом
оказываются самостоятельными. Эту фазу процесса Шеллинг называет
гетероусией. В конце процесса, когда в-себе-бытие Отца, положенное
вовне, возвратилось в свое «в себе», а Божественный Дух через посредство
Сына также полностью осуществился вне изначального Божества, —
тогда, по Шеллингу, господствует омоусия.
6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
МОНОТЕИЗМ КАК ФИЛОСОФСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕИЗМА,
АТЕИЗМА И ПАНТЕИЗМА
Основные моменты учения Шеллинга о триединстве и творении суть
следующие. В начале абсолютный дух существует в трех своих
образах — в-себе-сущего, чисто сущего и у-себя-сущего духа,
объединяющего в себе субъекта и объект. На этой ступени абсолютный дух — это весь
Бог, который открывается как Отец в тот момент, когда Он превращает
в-себе-сущее в его противоположность и полагает себя как
положительно или слепо сущее, как природу. Посредством этого второй образ
абсолютного духа, чисто сущее, приводится в напряжение, поскольку он
больше не может отдаваться в-себе-сущему. Напротив, он сам теперь
должен стать чем-то, т. е. должен осуществить себя самого. Побуждает его
к этому самоосуществлению стремление к восстановлению чистого су-
е^86^>
(?^ II. Трансцендентность и троичность ^)
шествования, второго образа абсолютного духа, отдающего себя всецело
в-себе-сущему, — тоска по этому восстановлению. Но это возможно лишь
в том случае, если положенное вовне (экстатически) чистое
существование вновь возвращает в его «в себе» «слепо сущее» или в-себе-сущее
Отца, обращенное в его противоположность. В тот момент, когда это
совершается, Сын оказывается не только рожденным, но и
осуществившимся в качестве самостоятельной божественной личности. Лишь теперь
необходимость существования (до этого чисто сущее) и положительно
сущее (ранее в-себе-сущее) могут вновь объединиться в субъект-объект;
благодаря этому оказывается восстановленным первоначальное
Божество, — но теперь не в трех образах, а в трех лицах — Отца, Сына и Духа.
Только на этой ступени обнаруживается, что Отец был представлен
в основном в первом образе абсолютного духа, хотя Он есть также и два
других образа. Сын опять-таки в абсолютном духе был прообразован
преимущественно чисто сущим, хотя после завершения мирового
процесса Он также присутствует в двух других образах абсолютного духа
и также является цельным, совершенным Богом. То же самое имеет место
и в случае Духа, который в абсолютном духе был преобразован
преимущественно его третьим образом. Вселенная или универсум как таковой
оказывается результатом напряжения трех потенций, которые
выступают из абсолютного духа и полагаются в качестве «экзотерических Эло-
гимов», в то время как три первичных образа абсолютного духа в их
единстве в тот же момент еще глубже уходят внутрь его, становясь
«эзотерическими Элогимами». Множество, вернувшееся в совершенное
единство, и единство, обратившееся во множество, — следовательно,
своего рода отступление и одновременная эманация (Шеллинг говорит
о «выступлении» или «выворачивании» потенций), согласно
Шеллингу, являются двумя первыми шагами (совершающимися одновременно)
Бога в качестве Творца.
Если сравнить описанные Шеллингом три ступени или фазы этого
тройческо-теогонического процесса, то бросается в глаза тот факт, что
они соответствуют философскому развитию трех способов понимания
Бога, выше обозначенных понятием дурной трансцендентности (в
деизме, атеизме и пантеизме). Так, первый аспект сотворения мира —
обращение вовнутрь единства, когда три образа абсолютного духа скрываются
под видом «эзотерического Элогима» — может соответствовать
развитой форме деизма: деизм ведь допускает, что после совершения
творческого акта, следовательно, в прошлом, Бог полностью устранился из
мира, Сам в мир не входит, оставаясь ему трансцендентным. Выше было
показано, что деизм возникает из-за одностороннего выпячивания
принципа Отца; то, как Шеллинг понимает обращение вовнутрь единства
трех образов абсолютного духа, также относится только к абсолютной
личности Отца. Второй аспект творческого процесса заключается в том,
е^87^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^
что образы или потенции абсолютного духа «выворачиваются» Отцом
(делая при этом «перестановку»); сам Он, однако, пребывает в
трансцендентном всеединстве и совершенстве как абсолютный Бог.
Благодаря тому, что вторая потенция должна теперь сама быть чем-то и прийти
в действие, вне Божества происходит саморазвитие Сына. Таким
образом, Сын — это настоящее теогонически-космического процесса.
Вместе с тем, на протяжении всей фазы Его деятельности (которая совпадает
с мировой историей) Он не есть Бог или есть не Бог, ибо весь
космический процесс основан на том, что Он есть внебожественная
(природная) потенция и лишь восходит к Божественности. Таков смысл атеизма,
исходящего из того, что мирообразующие силы не божественны, а при-
родны.
Наконец, то мнение Шеллинга, согласно которому в конце
теогонически-космического процесса внутрибожественные жизни трех
экзотерических Элогимов существенно тождественны и идентичны, благодаря
чему Бог присутствует во всем и вне Бога ничего нет, есть мнение
пантеизма, развившегося в панентеизм. Другими словами: абстрактные
позиции деизма, атеизма и пантеизма Шеллингом соотнесены друг с другом
вначале в некоем гипотетически-философском мыслительном процессе,
который затем понят как действительный исторический процесс; при
этом они оказываются самостоятельными «частичными истинами» три-
нитарного события. Основанием для «критики» и преодоления
«отвлеченных начал» деизма, атеизма и пантеизма является допущение
монотеизма и философски серьезное отношение к нему. Но без цимцума,
полного бытийственного отступления первого образа Божественного
духа, монотеизм, однако, не может быть обоснован и остается, по сути,
непонятным. Итак, цимцум, которому Исаак Лурия впервые дал
удовлетворительную мистико-богословскую формулировку, есть единственный
ключ к преодолению дурной трансцендентности и переходу к истинной
трансцендентности.
Конечно, в Шеллинговых тринитарных представлениях, с точки
зрения христианского учения о Триединстве, присутствует и нечто
неудовлетворительное. Ибо если Троица обрела действительность лишь к
концу процесса, то с самого начала она не есть единый Бог, почитаемый
в христианстве. То место в Афанасиевом Символе веры, где Сын
именуется как «Бог от Бога», «Свет от Света» и «Бог истинный от Бога
истинного», как «рожденный, не сотворенный» Отцом, тогда как Святой Дух
исходит, прежде всех времен, от Отца и Сына, — это место есть как бы
возражение отцов Церкви Шеллингову пониманию Троицы. С другой
стороны, можно было бы вместе с Шеллингом утверждать, что весьма
сложно примирить с современными естественнонаучными теориями
развития и эволюции этого тринитарного Бога Никейского собора.
Шеллинг вместо того допустил эволюцию и развитие в самом Боге и описал
е^88^5
(г^ II. Трансцендентность и троичность ~^z)
некий исторический процесс в Божестве, что не противоречит, по
крайней мере, естественнонаучному образу мира, — это, разумеется, ценой
отказа от объявленных незыблемыми основных положений
христианства (или хотя бы их определенного пересмотра).
Поэтому имеет смысл искать путь сохранения Шеллингова подхода,
не связанный с пересмотром основных положений христианства. Этот
путь можно соединить с Афанасиевым пониманием Троицы и сделать
плодотворным для традиционной христианской веры, не отказываясь
от современного понимания мировой истории. Как может выглядеть
подобная попытка?
Отвечая на этот вопрос, мы сопоставим идеи Шеллинга по поводу
Божественного отступления с мыслями Исаака Лурия относительно
зод ха цимцума. Это приведет к определенным выводам, важным для
понимания концепции Троицы русского религиозного философа Сергея
Булгакова. Данную концепцию мы вкратце рассмотрим в конце
настоящей главы, поскольку она согласуется с Афанасиевым учением о
Троице и, однако, в основном соответствует подходу Шеллинга.
7. ШЕЛЛИНГ И ЛУРИЯ
В своем описании цимцума Лурия исходит из двух
противоположных начал в исходном Божестве и их взаимодействия. Этими двумя
качествами в Божестве, которые, по мнению Лурия, в скрытом виде
присутствуют уже в непостижимом (unvordenklichen) Божественном бытии,
но открываются лишь при Божественном отступлении, являются
Божественная любовь (или милость) и Божественная суровость (или
Божественный суд). Их них любовь представляет собой то первичное начало,
в котором Божественная суровость растворена, подобно крупицам соли
в море, и обнаруживается лишь при «концентрации» Божества; так
увеличение концентрации соли в воде приводит к ее кристаллизации86.
Лурия полагает, что творческое откровение Бога состоит в чередовании
Божественной милости и Божественной суровости; это подобно тому,
как чередуются прилив и отлив или вдох и выдох. Божественное
откровение основывается, таким образом, на взаимодействии или синтезе
двух качеств — любви и суровости, скрытых в себе и открывающихся
через цимцум; при этом, как попутно подмечено, в Божественной
суровости (или принципе суда) для Лурия заключена тайна зла. Интересно
обратить внимание на то, что Лурия различает три «момента» или
потенции: Божественную любовь, Божественную суровость и единство
обеих в откровении Бога как Творца. То новое, что делается возможным
благодаря Божественному цимцуму, — это разделение двух качеств в
Божественной субстанции (прежде единой) и обновленное синтетическое
е^89^9
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -«э
взаимодействие этих качеств в творческом процессе — дыхание Божие
или же Божественные «прилив» и «отлив».
В качестве двух существенных свойств Божества Лурия называет
Божественную суровость и Божественную милость, обнаруживающиеся
через цимцум. Суровость поначалу как бы растворена в Божественной
любви или милости. Впервые она проявляется тогда, когда происходит
Божественный отход. Стоя на позиции твари, можно сказать, что этот
отход, будучи самоограничением, требует от Божества максимальной
суровости в отношении себя самого, что осуществить труднее всего.
Применительно к процессу цимцума надо представлять себе эту суровость
возросшей в Божественную меру: она означает не больше и не меньше
как то, что Божественное самоограничение продолжается, пока
существуют творение и отдельные твари. Если бы Божественная суровость
хоть на один момент ослабла, то вновь наступило бы первоначальное
состояние, и все творение и отдельные твари были бы мгновенно
уничтожены в качестве свободных, самостоятельных субстанций и сущностей.
Идти к Отцу означает пройти через смерть. Именно таков смысл слов
Христа, когда Он о Своей крестной смерти сказал, что Он идет к Отцу87.
Согласно Лурия, изначальные Божественный суд, Божественная
справедливость — это ситуация, которая имеет место внутри Божественной
мистерии как таковой: речь идет об отказе Бога от всякого откровения
в качестве бытия или сущего. Несомненно, что Шеллингово описание
«могущего существовать» или «в-себе-сущего» духа может
рассматриваться как более подробное и углубленное истолкование мнения Лурия
относительно Божественной суровости. Ибо в-себе-сущий дух — это
тот дух, в котором бытие полностью отступило, сделавшись чистым
«в себе», которому, следовательно, sub specie aeternitatis отказано в
каком бы то ни было откровении.
Также в Шеллинговой концепции абсолютного духа имеется
соответствие другой стороне Божественной мистерии — любви или милости
как дару преизбытка бытия. Ибо для-себя-сущее или чисто сущее,
согласно Шеллингу, есть не что иное, как та чрезмерность, которая как бы
изливается в бытие. Но это начало (здесь и открывается милость)
желает бытия не для самого себя: оно полностью отдает его могущему
существовать, в этом смысле не существующему
В третьем моменте (или элементе), согласно Лурия, суровость и
милость сходятся вместе — в Божественном дыхании или Божественном
море с его «отливом» и «приливом». Божественное дыхание
совершается как бы между двумя пределами — двумя столпами Каббалы (якин
и боаз). Каждый акт Божественного дыхания выполняет посредническую
роль между «синей венозной кровью» (суровость) и «красной
артериальной кровью» (любовь, милость)88. Дыхание — это синтез суровости
и милости, соединение двух моментов в одном, который, однако, нужда-
е%90^)
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
ется для своего существования в обоих. Это в точности соответствует
Шеллинговой концепции третьего, «чистого духа» внутри абсолютного
духа, посредством которого два других начала, с одной стороны,
объединяются в бесконечное единство, а с другой — создают основу для его
существования.
Итак, имеется явная параллель между воззрениями Исаака Лурия
и поздним Шеллингом, причем Шеллингова концепция при сравнении
с Каббалой в варианте Лурия помогает философски углубить мысль
о цимцуме89. Правда, при этом, по-видимому, существует разница двух
подходов: у Шеллинга первый образ абсолютного духа всегда пребывает
в состоянии уже совершившегося отступления, так что процесс
самоотступления Шеллингом не учитывается и не проблематизируется. В
Шеллинговой системе Божественный отход философски осмысляется только
тогда, когда Отец обращает внутрь Себя три образа абсолютного духа —
затем, чтобы обратить наружу измененные формы. Но так как для
описания первого образа духа Шеллинг применяет термин «бытие в
отступлении», в котором сочетаются прошлое и настоящее*, он предполагает
здесь некое отступление, которое всегда мыслится уже совершившимся
в своего рода вечном прошедшем. Когда Лурия интерпретирует это
самое первое Божественное отступление как откровение Божественной
суровости (действие вопреки себе) прежде творения и обращения
наружу, то он близок этому Шеллингову представлению. Как уже говорилось,
Шеллинг осмысляет процесс Божественного отступления с помощью
понятия «обращения единства вовнутрь», которое связано с
«обращением множества наружу». Это обращение внутрь оказывающихся через
это эзотерическими Элогимов сопровождается одновременно
совершающимся обращением наружу оказывающихся через это экзотерическими
Элогимов, так что здесь налицо две стороны одного процесса. Лурия не
имел в виду подобного обращения внутрь. У него цимцум — это
единственное необходимое условие обращения наружу, лишь следующего за
ним. Потому лурианское понимание цимцума близко первому образу
абсолютного духа в системе Шеллинга и изображению в ней
творческого процесса. Ибо Шеллингово «бытие в отступлении», «замкнутое
бытие» первого образа абсолютного духа, есть, собственно, уже результат
процесса, происходящего внутри Божеств; в пользу этого говорит даже
выбор перфектной формы «замкнутое» (zurückgezogen) применительно
к настоящему. Однако при этом первый образ абсолютного духа
следовало бы понимать вовсе не как пустой «образ» или «потенцию», а лич-
* Речь идет о Шеллинговом термине «Zuriickgezogensein», буквально означающем
«замкнутое (уединенное) бытие»; здесь «форма прошедшего» употреблена в
смысле существования «в настоящем» («eine Vergangenheitsform präsentlich gebraucht
wird»). — Прим. пер.
е^91^э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ностно. Но в этом случае также и два других «образа» абсолютного духа
надо было бы рассматривать в качестве лиц, которые по-разному
соотносятся с одним, общим для всех трех лиц Божественным бытием или
Божественной усией. В действительности нет смысла приписывать
какое-то моральное качество первым «понятиям» (названным так
Шеллингом), поскольку они понимаются в качестве пустых образов абсолютного
духа: моральность связана с неким поступком, совершать же поступки
могут только личности, а не «образы» или «потенции». Но у Шеллинга
действует в этом смысле только единый в трех образах абсолютный дух.
Русский религиозный философ Сергей Булгаков в своем понимании
Троицы имел в виду действие трех Лиц в смысле цимцума. Это
понимание может стать мостом от Шеллинговой категории абсолютного духа
к развитому учению о Троице, — а именно, учению, в котором в-себе-су-
щее (Шеллинг) понимается как Отец, чисто сущее — как Сын и в- и для-
себя-сущее — как Святой Дух, — причем как до любого творческого
процесса, так и во время его и после его окончания.
8. ШЕЛЛИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ АБСОЛЮТНОГО ДУХА
И УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ БУЛГАКОВА
Шеллинг определяет в-себе-сущее через то, что само оно не есть
объект, поскольку объектное бытие предполагает существование в себе,
просто бытие, и так как это бытие есть дух, речь здесь идет о
только-сущем духе. Выше было показано, что Шеллинг предельно близко
подходит к идее цимцума, когда упоминает о том, что бытие в себе сущего духа
есть «лишь сокрытое, как мы раньше сказали, непредметное,
отступившее в само себя, только в себе существующее, лишь сущее (bloss wesen-
de) бытие»90. Если привлечь сюда идею Сергея Булгакова о различии
межу усией-Софией Бога и Его тремя Ипостасями, основанную на Афа-
насиевом понимании Троицы, то мысль Шеллинга делается яснее и
понятнее. Булгаков понимает под усией-Софией Божественную сущность
или бытие, т. е. Божество или Божественность Бога; усия-София по-
разному ипостазируется (или открывается) каждым из трех
Божественных Лиц. Поэтому «следует принять во внимание разницу в логическом
ударении, когда мы, с одной стороны, рассматриваем три-единство трех
Ипостасей, а с другой — три-единство одной-единственной
Божественной Софии. В первом случае мы рассматриваем лица-Ипостаси Святой
Троицы, которые отличаются друг от друга, — три, которые суть одно; во
втором случае существует только одна субстанция, чье существо
определено трояко. Триединство Ипостасей трояким способом отражено в
одной усии-Софии или Божестве»91. На фоне этих представлений можно
понимать Шеллингово в-себе-сущее (которое ведь следует мыслить не
е%92^)
0^ II. Трансцендентность и троичность ^
как голое бытие, но как определенное отношение к бытию) в качестве
связи между личностной Ипостасью и Божественной усией-Софией, —
а именно, в качестве решения (усии) отступить во внутреннейшее усии.
Только благодаря этому решению (возможному лишь для личностного
существа) усия ипостаси становится отличным от объекта, чистым «в
себе» абсолютного духа. Согласно Булгакову, таково отношение между
усией-Софией и Отцом. Только в Отеческой Ипостаси в полной мере
допускается (или, лучше, «оставляется») бытие как объективно
наличествующее, именно как бытие. Оно «существует» только постольку,
поскольку ипостасное бытие принимает характер «бытия в
отступлении», — или, другими словами, если бытие представляет собой
завершившееся отступление из первоначального Божественного бытия. Здесь
Божественная усия целиком поднялась до уровня субъекта и при этом
скрылась, свернулась. Булгаков так описывает это: «Поскольку Отец
дозволяет открывающимся Ипостасям (т. е. Сыну и Духу. — М.Ф.) явить
Божественную Софию (как Премудрость. — Μ. Ф.), то как чистая усия
она остается в Отце — как скрытая глубина Его природы»92. Итак, по
отношению к Божественной Софии Отец представляет ее
трансцендентный аспект: Он не «обладает» усией, отказался от всякого обладания.
Он удержал от усии только лишь «есть», бытие в себе: «Отец
представляет трансцендентное начало Святой Троицы; Сам Он не открывает Себя
и лишь постольку открывается, поскольку Он присутствует в других
Ипостасях, которые открывают Его. Если можно так выразиться, Он
есть Божественный Субъект, — Субъект, который манифестирует Себя
Самого как предикат. Он есть Божественная глубина и Божественная
тайна. Он представляет то безмолвное молчание, которое было, прежде
чем был основан мир, и которое всегда предшествует миру. Он есть
интеллигенция, которая созерцает себя еще "прежде" артикуляции своего
мышления»93.
Сравним это высказывание со следующим высказыванием
Шеллинга: «Мы уже пользовались выражением в себе сущего духа,
подразумевающим абсолютное самоотвержение, т. е. абсолютное воздержание от
бытия, — а именно, от внешнего бытия. Он таков, поскольку он — лишь
чистое Я, как бы субъект безо всякого предиката. Именно это чистое Я
представляется абсолютно лишенным самости (absolute Unselbstigkeit).
Ибо самостно (selbstig) то Я (Selbst), которое придает себе значение,
ищет или хочет добыть для себя какой-нибудь предикат»94. Очевидна
родственность — вплоть до выбора слов — Шеллингова описания
первого образа духа и изображения Булгаковым тайны Отца;
родственность эта сохраняется и тогда, когда Шеллинг называет этот образ
абсолютного духа «субъектом без предиката», а Булгаков выражается на
данный счет так, что единственный предикат, подобающий Отцу, — это
абсолютное субъектное бытие. Эту тайну Отца, первую ступень Боже-
С^93^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^Э
ственного цимцума, Булгаков называет «кенозисом Отца», при котором
Отец отказывается от откровения Своего Лица. Отступление Отца
равнозначно решительному утверждению ипостасного бытия в себе.
Другое понятие для такого упорного самоустранения из всякого
объективного бытия — это воля, а именно — воля, отказывающаяся от себя самой,
о которой Шеллинг говорит так: «После того, что уже было ранее
сказано о природе возможности (des Könnens), мы можем сравнить
первоначало (das Erste), существующее как potentia pura, с покоящейся, т. е.
не волящей волей. <...> Potentia pura — это могущая быть самостной
воля, — но именно могущая быть, а не существующая самостно, —
следовательно, несамостная (unselbstische) воля»95. Отпускаемое на
свободу бытие должно было бы отдаться целиком Отеческому бытию, не
желая своего собственного абсолютного бытия, — ради того, чтобы в нем
правила Отеческая воля. Эта воля к тому, чтобы не существовать как
самоутверждающееся Я, но полностью отдать себя, пожертвовать собой,
может быть лишь некоей личностной волей или второй ипостасью
Божественного бытия (Божественной усии). Итак, этот второй «образ
абсолютного духа» благодаря Божественному отступлению (также и в нем)
имеет другое отношение к Божественной усии (или Божественным
сущности и бытию), чем первый образ.
При изображении второго образа духа Шеллинг ставит во главу угла
полное самопожертвование. Но самопожертвование может быть
качеством поступка лишь свободной личности. Когда Шеллинг в связи со
своим так называемым «чисто-сущим» восходит до этой идеи
самопожертвования, то он должен был бы непременно уже здесь говорить о
втором Лице или второй Ипостаси Бога. Если следовать христианской
терминологии и называть этот образ духа Сыном, то сущность Сына — это
безусловная готовность к полной жертвенной самоотдаче Отцу. В своей
лекции о монотеизме Шеллинг связывает этот второй образ с понятием
«чисто или бесконечно сущего»; в отличие от первого образа,
абсолютного субъекта, это абсолютный объект: «То, что ведет себя как potential
pura, есть в этом отношении чистый субъект, но не субъект себя самого
(ибо тогда это был бы вместе с тем и объект), а субъект Второго или для
Второго; это субъект, который при этом не есть объект. Итак, с другой
стороны, существует Второй (названный нами чисто- или бесконечно
сущим); это чистый объект, но не для себя самого, ибо тогда это был бы
также субъект; это чистый объект для Первого, — голый (blosses)
объект, который при этом не есть субъект. Каждый из них на свой манер, но
в равной степени бесконечны: один — это бесконечный субъект,
другой — бесконечный объект»96.
С точки зрения личностного или ипостасного бытия следует это
совершенное бытие приписать субъект-объектному бытию в качестве
такого отношения к Божественной усии или Божественному бытию, при
С^94^)
C^ II. Трансцендентность и троичность '^Э
котором вторая Ипостась, Сын, наследует это бытие. Сын — наследник
бытия, потому что Отец полностью ушел из него. Сын обязан Отцу
этим бытием, и лишь в этом отношении Он — Сын, ибо сын есть тот, кто
обязан своим бытием кому-то другому, кто тем самым есть отец. Сын —
наследник бытия, но Он таков лишь постольку, поскольку Он целиком
вручает Отцу Свое бытие, Свою усию. Сын наследует Божественную
усию; через это Он есть Бог, как и Отец. Но Сын обязан усией Отцу
и поэтому приносит ее Ему в жертву; для Себя Он ее не хочет. Шеллинг
рассматривает это нежелание бытия в качестве главного жеста второго
образа абсолютного духа: «Второй — это безотказность, это
самоотвержение, возможность лишь отдаваться Первому. Первый — это волшебство,
магия, посредством которой Второй, поднятый над самостью,
приводится к чистому, переливающемуся через край бытию или предназначается
для него. Чем глубже отступление, т. е. отрицание самости в одном, тем
выше подъем над любой самостью в другом, Первый должен быть
ничем (а именно, не быть собой), чтобы для него чем-то стало
преизбыточно существующее; и наоборот, Второй должен быть бесконечно
существующим, чтобы ему заполучить Первого в его несамостном бытии.
Обоим, следовательно, присуща одна и та же самоотверженность»97.
Пустой образ, понимаемый не как личность, однако, не может ни
отдаваться другому, ни самостоятельно существовать. Эта самостоятельность
есть предпосылка для моральной (в смысле поступка)
самоотверженности, что и имеет в виду Шеллинг. «Вы чувствуете сами, какое глубокое
нравственное значение имеют эти высшие понятия. Но именно здесь
заключено одновременно высшее доказательство истинности этих
понятий, и как раз это нравственное значение одновременно делает эти
понятия понятными»98.
Булгаков пытается усмотреть этот моральный момент в тринитарном
процессе, причем он исходит из личного характера каждого из трех
Божественных образов. Чтобы прояснить специфический основной жест
каждой Божественной Личности, он вводит понятие усии-Софии. Под
ней он понимает бытие Божества, которое опять-таки надо отличать от
того способа, каким его в действительности осуществляют три
Божественные Личности. А именно: если Отец вечно отступает во внутрен-
нейшее Своей Божественной усии (при этом Он уходит внутрь, в Свое
Божественное Я, так что усия или бытие оказывается снаружи Его), то
Сын становится наследником этого бытия, сделавшегося внешним для
Отца; такое бытие есть явленная, а не сокрытая усия (чисто сущее),
которую Сын полностью приносит в жертву Отцу. В Сыне, через Него
и с Ним, усия открывается вовнутрь (т. е. Отцу). Божественную усию
Булгаков одновременно называет Божественной Софией или
Премудростью. Когда Сын целиком жертвует Отцу Божественную усию-Софию,
то Он Сам представляет Собой Божественную Премудрость в ее выс-
е^95^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
шем аспекте. Поэтому Он есть Божественный Логос. Булгаков
совмещает Логос и у сию-Софию, но одновременно различает их: «Для нас так
же важно отождествлять Логос как ипостасное Существо и Премудрость,
как и отличать их друг от друга. Божественная София не существует
вне связи с Ипостасью Логоса, т. е. не будучи ипостазированной в Нем;
также и Ипостась Логоса существует не помимо его связи с Софией. Но
хотя они неразрывно связаны друг с другом, нельзя оставлять без
внимания то, что между ними есть разница» ".
Речь идет о разнице между тем, кто ипостазирует усию, и самой
ипостазированной усией 10°. Вечное рождение Сына из (aus) Отца
понимается здесь так: Божественная усия-София еще прежде всякого
творения уже ипостазирована Сыном и вручена Отцу. Два образа духа —
в-себе-сущее (Шеллингом названное также «могущим существовать»)
и для-себя-сущее (по Шеллингу также — «чисто сущее») — согласно
Шеллингу, оказываются не двумя субстанциями, но субстанциально
тождественными. Но так как «одно» (das Eine) не может оставаться
чистой антитезой самого себя, ибо иначе оно существовало бы только в
своей полярности, а не как единство противоположностей или центр
между полюсами, то требуется третье начало, в котором эта полярность
снята и осуществлена свобода быть или не быть.
Эту потенцию синтеза третьего начала Шеллинг характеризует также
как простор (das Freie) быть или не быть, который он определяет, с
другой стороны, как всеполноту (Allkeit). Такая всеполнота есть признак
духа, охватывающего начало и конец. Итак, дух в собственном смысле,
по Шеллингу, определяется только через Третьего, так как этот
последний заключает в себе оба полюса — «могущее существовать» и «чисто
сущее». Если сравнить Шеллингово описание третьего образа
абсолютного духа с соответствующими идеями Булгакова, то вновь бросается
в глаза параллель между ними. Русский софиолог так пишет о Святом
Духе: «Третья Ипостась Святой Троицы соединяет первую и вторую
Ипостаси, Отца с Сыном. Святой Дух исходит от Отца к Сыну — или
"через" Сына, согласно восточному теологумену, или через Отца
"и" Сына, согласно западному теологумену. Святой Дух исходит от Отца
к Сыну, так как ипостасная любовь Отца обитает в Сыне, который при
этом обретает Свою действительность как тот, кем обладает Отец.
Наоборот, Святой Дух проходит "через Сына", чтобы, совершив некий
таинственный круг, самому возвратиться к Отцу в виде ипостасной любви
Сына. Таким образом, Святой Дух находит Свое собственное
исполнение как Ипостась самой любви. Он есть Любовь в Божественной
Любви — Святой Дух внутри триипостасного (тройческого) Духа, который
есть Бог»101.
Круг, о котором здесь говорит Булгаков, объединяет Божественную
Троицу в единство триипостасного Духа. Павел Флоренский так говорит
е^96^Э
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
о «свидетельстве» Духа: «Дух стоит <...> в непосредственном
отношении к Отцу и Сыну как единство. "Подтверждение" обоих в Их ипостас-
ной самобытности через Третьего, однако, не есть собственно
"утверждение", ибо Отец всегда есть Отец и Бог, также и Сын. Здесь уместнее
было бы библейское выражение "свидетельство". Дух свидетельствует
об Отце как Отце и о Сыне как Сыне; и даже больше — Он есть
доказательство в Лице. В цельной связности тройческой жизни,
следовательно, Отец есть Свидетельствующий (Я), а Сын, как Его Ты, —
Свидетельствуемый: "Сын Мой еси Ты" (свидетельство Отца), "Аз днесь родих
Тя" (исхождение Сына в качестве рожденного). Сын рожден и
засвидетельствован Отцом. Святой Дух — созерцание и подтверждение
единства двух — есть, в конце концов, свидетельство в Лице, и потому Он
передает свидетельство вовне»102.
У Флоренского также можно подметить родственность его
концепции Святого Духа — и третьего образа абсолютного духа по Шеллингу.
В терминах «ипостаси» и «усии» третий образ абсолютного духа был бы
таким, в котором свободное отношение к усии-Софии таково, что этот
третий образ может быть и может не быть, — точнее, чтобы быть чем-то,
ему нужно не быть. Поэтому третий образ характеризовался бы тем, что
в каждый момент, когда дух составляет одно с первоначальным бытием,
одновременно он отступает оттуда, — и так на всяком месте, повсюду,
где дух «веет» или дышит.
Благодаря этому всякое такое место определено через бытие и
отступление, т. е. небытие. Другими словами, возникает возможность для
множественности, причем все многочисленные разнообразные начала
имеют один и тот же корень во всеполноте духа и потому могут быть
органическими частями одного целого.
9. ШЕЛЛИНГОВА ТЕОРИЯ ПЕРЕСТАНОВКИ
И СОФИОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ СОГЛАСИЯ
Шеллинг рассматривает процесс творения как Божественную
иронию или перестановку трех потенций абсолютного духа. Рождение
Сына следует понимать как исключение бытия: абсолютный дух в первом
образе в-себе-сущего отказывается удерживать в себе бытие и решает
выставить свое «в-себе» в качестве положительно существующего —
«слепо сущего». Благодаря этому всецелое самопожертвование того же
самого абсолютного духа в его втором образе «чисто сущего» отчасти
отклоняется: «чисто сущее» должно отказаться от своей роли
полностью объектного бытия и само быть чем-то, т. е. должно стать субъектом.
Оно как бы исключается из Божества, чтобы сделаться в некоем внебо-
жественном космическом процессе Божественным Лицом, исправляя
С^97^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
Божественную перестановку трех потенций абсолютного духа в теогони-
чески-космическом процессе.
Согласно Шеллингу, вселенная, или универсум, образуется в
результате превращения единства абсолютного духа в троицу переставленных
потенций, благодаря чему рождается Сын. В космическом процессе
Сын возрастает до божественности Отца, т. е. в конце процесса Он
становится Божественным Лицом; то же происходит и с Духом. Однако
при этом еще не получен ответ на вопрос, каким образом три
выставленные демиургические потенции (экзотерические Элогимы) могут
сделаться личностями (сначала речь идет о Сыне, а в заключение о Духе)
или как может произойти то, что потенции станут существами,
наделенными Я. Ибо о действующей потенции можно говорить, только имея
в виду некую личность. Сама по себе потенция — это лишь чистая
возможность стать чем-то. Или уже в абсолютном духе Сын, а также Дух
были самостоятельными Лицами, или же они должны были родиться от
Отца в качестве Лиц в начале космогонически-теогонического
процесса. Ибо «чисто сущее», ставшее «долженствующим быть», как в
собственном смысле деятельная (в значении поступка) в мировом процессе
потенция, не может ведь мыслиться без ипостазирования в некое лицо,
так как к поступку способно только лицо, личность, а не слепая сила,
которая лишь следует своей природе. Но при этом необходимо
допустить, что личность существует с самого начала, даже если свой
собственный образ она обретает, только развиваясь в космическом процессе103.
Если рождение Сына понимать как Божественную иронию или
перестановку и как исключение (Божественного) бытия, то это плохо
согласуется с совершенными в моральном смысле отношениями двух первых
образов абсолютного духа. Их отношения являются скорее
непродуктивным вращением Божества внутри самого себя, в чем Шеллинг видит
побудительную причину процесса. Это непродуктивное вращение
преодолевается благодаря тому, что перед духом возникает возможность
некоего другого бытия. Божественная перестановка (или ирония) и
кружение Божества в себе самом (или неудача) оказываются следствиями
основного предположения относительно одного абсолютного духа,
существующего в нескольких образах.
Если исходить не из Шеллинговой концепции трех образов
абсолютного духа, а из внутритройческого отношения трех Божественных Лиц
до творения, как это делает Булгаков, то Божественная перестановка
трех эзотерических Элогимов или потенций по решению одного-един-
ственного Божественного Лица, при которой Отец рождает Сына, для
развития философской мысли излишня. С другой стороны, можно
отказаться и от гипотезы, что абсолютный дух в трех своих образах
безуспешно «вращается» в себе самом — в вечности до всякого творения. Ибо
е^98^)
C^ II. Трансцендентность и троичность '^Э
если отправляться от свободного решения трех Божественных Лиц
относительно сотворения мира, то это сотворение с самого начала
окажется результатом некоего диалога и потому в принципе сведется к диалогу.
Тогда в начале откровения Бога в качестве Творца происходил бы внут-
ритройческий диалог Божественных Лиц. Если, далее, исходить из того,
что творение свободного, независимого от Бога объективного мира
понимается как отклонение «чисто сущим» отданного ему объектного
бытия, причем такое отклонение или исключение (ранее Божественного)
бытия не рассматривается в качестве порождения (generatio), то
становится ясным, что вообще исключение бытия есть условие творения
{creatio): порождение Сына основано на наследовании бытия, от
которого Отец, кому Сын обязан как наследник, уже отказался; поэтому Сын
приносит его в жертву тому, кому Он им обязан. Напротив того,
творение (creatio) в качестве своей субстанциальной причины (или causa ma-
terialis) имеет отклонение этого принесенного в жертву бытия.
Это исключение бытия можно тогда понимать в качестве
диалогического процесса, поскольку принесение собственного бытия в жертву
кому-то другому есть точно такой же персональный поступок, как и
отклонение это жертвы, причем жертвующий и отклоняющий жертву —
во всяком случае два разных лица. На фоне допущенного
диалогического отношения Отца и Сына в Троице это означало бы, что
(отклоненное) бытие двух Лиц высвободилось: во-первых, передача всего бытия
«чисто сущего» «в-себе-сущему» (по сути дела, принесение в жертву
первому Божественному Лицу собственной воли со стороны второго
Божественного Лица или предоставление в распоряжение Отца Сыном
Его собственного бытия, что служит прообразом всякого послушания)
представляет собой безусловное освобождение этого бытия. А
во-вторых, тот факт, что первое Лицо Божества — Отец, который раньше
согласился с полным жертвованием Сыном, вторым Божественным
Лицом, Его воли — больше не принимает этой жертвы и отклоняет ее,
означает новое освобождение этого бытия. Благодаря такому двойному
отказу, проявляющемуся в Сыновней жертве и ее отклонении, бытие,
исключенное из внутритройческого события, становится полностью
свободным и самостоятельным.
В данной концепции творения, как и у Шеллинга, Сын (второй образ
абсолютного духа по Шеллингу) впредь не в состоянии жертвовать
Своим бытием Отцу (у Шеллинга это первый образ абсолютного духа).
Так может происходить, только если Сын вновь присвоил, взял под
свою власть то бытие, которое изначально было Им принесено в жертву
Отцу, но Отцом не было принято и потому сделалось свободным.
Только благодаря этому заново восстанавливается первоначальное
состояние (совершенная любовь между двумя Божественными Лицами) и Сын
е^99^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^3
вновь прославляется Отцом — той славой, о которой Христос просит
Отца прежде Своих страданий и смерти: о ней Он говорит, что имел ее
у Отца «прежде бытия мира» (Ин 17: 5).
Поступок, в котором у Шеллинга первый образ абсолютного духа
больше не принимает жертвы второго образа, для этого второго образа
в Шеллинговой концепции является принуждением и судьбой: этот
образ делается «долженствующим быть». Попутно через это «Сын»,
связанный с возникновением «долженствующего быть», — порожденный
при этом возникновении, — оказывается несвободным; лишь в теогони-
чески-космическом процессе он должен пробиться к свободе (от своего
«долженствования быть»). Напротив, в вышеизложенной концепции
творения, основанной на диалогическом событии внутри Троицы,
допускается, что как Отец, так и Сын остаются свободными с самого
начала и на протяжении всего космического процесса. При этом подход
Шеллинга полностью не отвергается, а лишь дополняется
предположением, по которому Сын, уже рожденный до обращения наружу
множества (Шеллинг), соглашается с решением Отца в пользу этого
обращения, которое становится судьбой Сына. Такое решение выносилось бы
обоими Божественными Лицами, а также и третьим Лицом Троицы,
Духом: Его судьбой делается задание заново соединять между собой
внутри- и внебожественное событие выворачивания множества, пока Сын не
вернет под Свою власть все внебожественное бытие и внутритройче-
ское «состояние» не установится также и вне Троицы. Последствия
этого решения по поводу творения были бы, следовательно, целиком
сопоставимы с теми, которые описал в своей концепции творения Шеллинг.
Это решение Сына можно назвать первым и изначальным кенозисом
Сына, о котором упоминалось в главе I. Сын отказывается — до всякого
творения во имя его осуществления — от славы и любви, которые Он
имел у Отца «прежде основания мира» (Ин 17: 24). Другими словами:
хотя Он вечно был Божественным Лицом, однако отказался от Своего
Божества (или Божественности); бытие, принесенное в жертву Отцу
и Им отклоненное, которое было субстанцией жертвенно отринутой
Божественной воли, Он должен теперь в космическом внебожественном
процессе заново вернуть под Свою власть, чтобы это ранее
освобожденное и вновь обретенное бытие в конце процесса положить «к ногам»
Отца, т. е. восстановить изначальное состояние, чтобы по слову Павла,
в конце был бы «Бог всем во всём» (1 Кор 15: 28).
Возвращение под власть Сына того бытия, которое было
освобождено через жертву Сына и отклонение ее Отцом, надо понимать не иначе,
как последующую жертву Сына. Это космически-природное бытие
изначально было чистой субстанцией жертвы (принесенной в жертву
волей Сына), и его внутренняя структура целиком была как бы соткана из
С^ 100 ^>
(г5" II. Трансцендентность и троичность ^Э
этой жертвы; потому данная структура может быть восстановлена
также лишь через жертву. Вот суть этой жертвы. После того как Сын
полностью воспринял космически-природное бытие, Он приносит в жертву
Отцу это бытие (возвысившееся в космически-природном процессе до
индивидуального бытия и воли) — столь же безраздельно и полно, как
Он это делал еще прежде всякого творения. Поэтому Христос
характеризует это жертвенное решение такими словами: «Отче, не Моя воля,
но Твоя да будет!» И в тот самый момент, когда эта жертва полностью
совершилась, прозвучали — согласно евангелистам Луке и Иоанну —
слова Христа: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой» и «Совершилось!»
(Мф 23: 46; Ин 19: 30).
Сын, пребывающий прежде всякого творения с Отцом, будучи тем же
самым Богом, в начале творения покидает Отца; точнее, Он согласен на
то, что Отец посылает Его во внебожественное (через это становящееся
таковым), космически-природное бытие — мир, или универсум. Данное
предположение подтверждается словами из пролога к Евангелию от
Иоанна: «В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он
был в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть» * (Ин 1: 1—3). Сын или Логос был вначале
у Отца и был вкупе с Отцом одним Богом; и так как Он был у Отца,
этот последний мог отклонить бытие Логоса — вместо того, чтобы
полностью принять его в Свою мистерию. Это значит, что Отец мог, по
согласию Сына, послать Его в возникший благодаря этому космос,
который поэтому в буквальном смысле был бы создан через Логос, и всё в нем
получило бы начало через Логос и было бы Его собственностью.
Евангелие от Иоанна продолжает: «В космосе был, и космос чрез
Него начал быть, но космос Его не признал. Он пришел к своим, и свои
Его не приняли». Здесь выражено убеждение в том, что этот процесс не
только был некоей возможностью в Божественном замысле, но и стал
действительностью. Согласно евангелисту, целокупный космический
процесс есть некий факт (Tat-Sache), имеющий место вне Божества.
Евангелист исходит из того, что вся жизнь и стремление Сына, второго
Лица Божества, состоит в том, чтобы возвратиться к Отцу и вернуть
Ему бытие, ставшее внебожественным. При этом Сын привносит в
космически-природное бытие воспоминание об Отце, прежде чем Он дает
понять, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына (Ин 14: 6), —
т. е. что Сын — это путь к Отцу. Вместо Шеллинговой Божественной
иронии и перестановки в начале творения мира должно было бы стоять
* Здесь и ниже при переводе евангельских цитат я следую синодальному переводу
Св. Писания, внося, однако, в него незначительные изменения, характерные для
того немецкого текста Писания, который использует М. Френч. — Прим. пер.
е^Ю1 ^э
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
двойное «да» Отца и Сына; а с позиции Сына отклонение Отцом «чисто
сущего» было бы кенозисом или отступлением Сына из Его
Божественности — подобно тому как Отец прежде всякого творения вообще
сделал возможным творение, совершив Свой кенозис, отступив в чистое
«в себе». Хотя при этом Шеллингова гипотеза об абсолютном духе в трех
образах и их перестановке была бы отклонена, но ее следствия, которые
имел в виду Шеллинг, были бы теми же: речь бы шла и здесь о
свободном творении мира, который, со своей стороны, свободен и независим
от своего Творца. Ибо благодаря тому, что бытие «чисто сущего» (или
Сына, его собственного образа), изначально полностью принесенное
в жертву, не было воспринято «в-себе-сущим» (или Отцом — настоящим
его образом), это бытие высвобождается не только дважды, но и
трижды: 1) через жертву Сына, который отказывается в пользу Отца от всей
Своей воли и всего Своего бытия; 2) через отклонение этого
принесенного в жертву и освобожденного бытия Отцом, который одновременно
наделяет это бытие его собственным статусом, не зависящим от внутри-
тройческого события; 3) через одобренное обоими посылание Сына,
который теперь, вне Божества и Своей собственной Божественности,
только посредством жертвы, следовательно, свободно, «забирает» это
бытие и «вручает» его Отцу в конце процесса.
Здесь нельзя не вспомнить о Шеллинговом различении «слепо
сущего», «долженствующего быть» и «обязанного быть» — т. е. трех
приведенных в состояние напряжения потенций (экзотерических Элогимов).
Ибо если Сын, отказавшись от Своей Божественной усии или
Божественности, будучи при этом, однако, от вечности вторым
Божественным Лицом (Он — вечный Бог в отношении Его личного бытия или Его
личности, тогда как в отношении Его сущности или субстанции Он не
является таковым, поскольку от нее отказался), проходит через
космический процесс, то Он имеет перед Собой цель, чтобы в конце концов
всё вне Бога сделалось бы таким, каким уже всегда было и есть во
внутритройческом событии. Другими словами: цель Сына — это Дух, который
в конце всего космического развития выступает как свидетель полного
единства Отца с Сыном, прошедшим через процесс и возвратившим
Отцу бытие, — подобно тому, как прежде порождения Отцом Сына Дух уже
был свидетелем их единства. Поэтому имеет смысл исходить не только
из отказа или кенозиса Отца и отказа и кенозиса Сына, но также и из
отказа или кенозиса Духах поскольку в теогонически-космическом
процессе Дух отказывается от всеединства и «целостности», о которых Он
свидетельствует от вечности во внутритройческом событии. Он — это
всеединство и «целостность», которые, однако, осуществятся лишь в
конце теогонически-космического процесса, когда всё внебожественное
бытие будет приведено под власть Сына. Поэтому в космическом разви-
С^ 102^1)
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
тии, будучи его causa finalis, Дух может приходить только из будущего,
ибо Он есть будущее процесса. Христос говорит о Духе, что Он
«будущее возвестит» (Ин 16: 13); Дух вступает в космически-природное
развитие именно через «врата будущего», — в то время как Отец, будучи
causa efficiens, в прошлом привел в действие процесс и может быть найден
только через эти «врата». Сын, как causa formalis (активное, работающее
вне Божества второе Лицо Бога), действует в настоящему оформляя
пассивную, положенную вне Бога, принесенную в жертву субстанцию
Божественной воли (causa materialis). Сын есть настоящее самого
процесса; поэтому Сына можно встретить в настоящем в течение всего
космического процесса, согласно Его собственному высказыванию: «Се,
Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28: 20).
Сам теогонически-космический процесс был бы, следовательно, по
сути, повторным присвоением Божественной Личностью Сына
освобожденной, прежде Божественной, субстанции — субстанции воли Сына.
Если Отец в вечности, до творения, полностью подчинил Своей власти
Божественное бытие посредством отказа от него, то Сын устанавливает
Свою власть над бытием, положенным вне Божества, в течение
природного и исторического процесса, причем эта власть состоит также в некоем
отказе — в откровении силы жертвы. Отсюда понятно также, что у
Шеллинга в теогонически-космическом процессе творчески
обнаруживаются не Божественные, а внебожественные силы (это имеет место вплоть
до определенного момента, который поэтому обозначает
специфический временной поворот). Как выше упоминалось, способы осмысления
творческого процесса можно по этой причине назвать деизмом
(трансцендентность Отца после того, как послан Сын: ступень эзотерического
Элогима), атеизмом (Логос, отказывающийся от Своей
Божественности, «оставляющий» Божество — как имманентность Сына внебожествен-
ному бытию: ступень экзотерического Элогима) и наконец — пантеизмом
или панентеизмом (засвидетельствованное Духом полное господство
Сына над бытием, освобожденным в начале творения, бывшим всегда
Его собственностью: ступень соединения эзотерического и
экзотерического Элогимов).
Так понятый монотеизм (в основных своих чертах предваренный
мыслью Шеллинга) в важнейшем, однако, восполняется идеей
троекратного Божественного отступления или жертвы. Он не только
полностью созвучен представлениям Евангелия от Иоанна, но также
осуществляет то, что было собственным стремлением Шеллинга. Речь идет
об осмыслении возможности соединения Бога как Творца мира со
свободным и развивающимся независимо от Божественного всемогущества
творением, которое само создает собственную историю и биографию, —
с Sophia creata, которую мы уже встречали в связи с Бёме.
е^103^>
C5^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
10. ПЕРСПЕКТИВА:
ЦИМЦУМ И ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ (CAUSAE)
а) Основание отношения «субъект-объект»
Выше было показано, что когда Бог производит отступление, т. е.
отстраняет Свое Я (Selbst), в Нем следует различать две инстанции — ту,
которая отстраняет, т. е. жертвователя, и ту, которая «отстраняется»,
т. е. жертву. Но обе они составляют одно, так как то, что отстраняется,
есть само Я. Следовательно, через цимцум в Боге открываются
тождество и различие, — вернее, тождество в различии. В различии Бог
выступает как субъект и объект. Он есть объект, поскольку Его собственное
бытие становится предметом или объектом — в противостоянии,
которое надлежит преодолеть (id quod objectum est). И Он есть субъект,
поскольку Он делает это бытие, т. е. Себя Самого, объектом Своего
намерения принести жертву. Но и объектное бытие также является другой
формой субъектности, так как оно есть само Божество, которое
приносится в жертву одновременно с тем, что оно жертвует собой. Мы
пришли к тому выводу, что непостижимое изначальное Божество есть
единство двух форм субъектности, двух ипостасей, ибо только в этом случае
отступление Бога и параллельное преодоление бытия, названного
Шеллингом «непостижимым», могут быть началом путей Божиих. Ибо
вообще условие объектности состоит в том, что один Божественный
субъект свободно подчиняет Себя другому Божественному субъекту.
Прежде чем выступит различие субъекта и объекта, обнаруживается
поэтому определенное отношение двух субъектов: то, что Бог жертвует
Собой, т. е. Своим Я, означает, что Божественная субъектность выступает,
действуя один раз активно, другой раз пассивно; то субъектное, которое
свободно подчиняет себя другому субъектному, т. е. подлежащее
подчинению или подчиненное (id quod subjectum est), следует отличать от
подчиняющего (id quod subjicit). Итак, чистое субъектное бытие может
иметь двоякий смысл — быть подчиняющим или подчиняющимся, т. е.
свободно становящимся объектом. Когда Бог отступает, субъект,
субъектность выступает в двояком отношении — в отношении
подчиняющего, жертвующего, и в отношении подчиняющегося, жертвы. Так как оба
откровения субъектности или персональности — субъективное и
объективное — в отношении их сущности или усии идентичны, следует
допустить некий третий момент, третье ипостасное бытие, в котором
полагается не различие двух форм субъектности или субъектного бытия, но их
тождество в качестве субъект-объекта: если иметь в виду Божество, то,
что отступает, и то, что отнято, представляют собой одно и то же. Уже
указывалось на то, что эти три Ипостаси суть не три образа одного
абсолютного духа, одной абсолютной личности, но три Лица одной —
Божественной сущности.
е^104^с>
C5^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
С точки зрения Божественной жертвы, это можно логически
эксплицировать так: в начале, еще до творческого движения в Божестве, было
во всей полноте осуществлено Я или усия Бога (= А). Когда перед
взором Бога появилась перспектива некоего другого, нового бытия В, то
возникла возможность нового отношения между ипостасью и усией104.
Но поскольку, как заметил Булгаков105, усия-София не чужда ипостази-
рованию, в первоначальном Божестве А открываются две различные
ипостаси At и А2, причем At — это «впоследствии» активно
действующая (жертвующая) ипостась, в то время как А2 — «впоследствии»
свободно отдающая себя или пассивная (страждущая, приносимая в
жертву) ипостась. Поэтому высказывание «Бог отступает, отстраняет Самого
Себя» указывает на несколько ипостасей:
1. Вначале открываются две ипостаси Αί и А2, в которых одна и та же
усия А ипостазирована по-разному. Речь идет о том, что «перед взором
Бога» появляется возможность в дальнейшем всегда жертвующего
начала (субъект) и приносимого в жертву начала (объект); при этом
жертвующий жертвует своим собственным Я, — не чужой субстанцией В,
а своей собственной — А в форме А2. Благодаря отступлению или
Божественной жертве, ипостаси А, и А2, ранее соединенные в любви,
переходят к явной форме этой любви: единство At и А2 бесконечно
углубляется возможностью жертвы или готовностью к жертве — в предвидении
любви того совершенно Другого В, который должен быть сотворен.
2. Когда отступление завершилось до конца, первоначальное
состояние А (чистый акт, тождество подлежащего осуществлению и
осуществленного) полностью устранено. Оно перешло в ничто, в чистую
потенцию вне Бога. Внутри Бога оно трансформировалось в новое отношение
Aj и А2. Вместе At и А2 в дальнейшем составляют а, — конечно, в новом
модусе: только при условии различия At и А2 дано также их — А, и А2 —
тождество, их «Α-бытие». А это — некая третья ипостась А3, откровение
единства At и А2.
3. После всего этого — господство уже не за «непостижимым
бытием» А (Шеллинг), но за тождеством и различием. На языке Фихте или
молодого Шеллинга речь шла бы о субъекте и объекте, — следовательно,
о субъект-объекте. Однако дело обстоит иначе: в тот момент, когда (как
выражается поздний Шеллинг) идея творения «всплывает» перед
Богом в качестве «лиц», «обликов» (идей), уже произошло откровение А —
как подлежащего преодолению, «обязанного не существовать», а также
Божественных ипостасей At и А2 и вместе с ними Аз· Поэтому в Боге
субъекта и объекта нет, — есть лишь несколько субъектов: некое Я
(одновременно Ты) и некое Ты, которому противостоит другое Ты, — а
также еще третье Ты, которое для первых двух выступает как Он. Эту третью
ипостасную форму мы назвали А3. В A3 — тождестве At и А2 —
осуществляется вместе с тем их различие. Поэтому Аз — это не то же самое,
е^105^)
e^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
что «непостижимое» А или А перед отступлением. Если А — это чистый
акт, то A3, будучи единством А1 и А2, есть потенция, способность
вернуть старое состояние Айв любой момент устранить его.
4. Но В лишь тогда становится свободным, самостоятельно
существующим, когда Божественная субстанция А (которая есть
единственно возможная субстанция, поскольку вне Бога никакой субстанции нет)
полагается вне Бога. Следовательно, это может быть только А,
предназначенное стать В. Такое возможно лишь благодаря тому, что первая
ипостась Аг по свободному соглашению со второй ипостасью А2, больше не
принимает жертвы А2 и отклоняет ее. При этом образуется субстанция,
не зависящая от At и А2, — т. е. В. В — это субстанция, ставшая
свободной через отклонение жертвы; будучи вытесненной из Божественной
мистерии, она является первым, изначальным творением.
Ь) «Совершенно Другой» — первоначальный эйдос
В, «совершенно Другой», тварное «дополнение» Бога, должен
принадлежать лишь будущему — в качестве смысла всего развития. Шеллинг
так описывает мотив к созданию этого Третьего: «Хотя Бог знает Себя
как господина над бытием, Он имеет, однако, некую нужду, — а именно,
нужду в том, чтобы быть познанным. Это желание сделаться познанным
присуще по преимуществу благороднейшим натурам; поэтому мы не
вправе препятствовать усмотрению такой потребности в Божественной
природе, свободной от всех потребностей. Основная цель того, что Бог
желает этого a priori предуказанного процесса, состоит в том, чтобы
Богу быть познанным; положенная вовне потенция должна стать тем, кто
знает все творение, тем, кто, собственно говоря, полагает Бога, —
должна стать местопребыванием и троном Божества» Ш6.
Все зависит от того, как понимать достижение познания по
Шеллингу, — чего, по словам философа, Бог ожидает от человека. Есть ли это
чисто познавательный процесс развития науки, который, по Гегелю,
является внутренним, сущностным познанием, отражением в собственном
существе познающего другого существа? Но почему Существо, которое
a priori обладает всем знанием, должно нуждаться в том, чтобы другое
существо, человек, копировало, удваивало это знание? Не
демонстрирует ли Шеллингова концепция скорее некое тонкое тщеславие, которое
отчетливо видно в высказывании: «Это желание сделаться познанным
присуще по преимуществу благороднейшим натурам»? Если
благороднейшие натуры отличает эта тончайшая форма тщеславия, то этого
отнюдь не достаточно для того, чтобы присочинить и приписать ее
единственному по-настоящему благородному Существу.
«При желании уважать философа следует постигать его
основополагающие идеи, пока он еще не перешел к их следствиям, ибо в своем
(?М06^)
C^ II. Трансцендентность и троичность ^Э
дальнейшем развитии он может погрешить против своего собственного
замысла; нет ничего легче, чем ошибиться в философии, где каждый
ложный шаг имеет бесконечные следствия, где вообще находишься на
пути, со всех сторон окруженном безднами. Настоящая идея
философа — это как раз его основополагающая идея, — та, из которой он
исходит» Ш7.
Если бы одной из основных идей позднего Шеллинга было
отождествление побудительной причины для творения Богом мира с тонким
тщеславием (скрытым, однако, от философа), то, согласно его
собственным словам, в его системе не было бы нужды доходить до ствола, ветвей
и листьев, дабы обнаружить отклонения и пропасти: ошибка была бы
уже на уровне «коры», ибо, по крайней мере частично, Бог оказался бы
подменен тем духом, который является по преимуществу духом
тщеславия, надменности, притворства и традиционно именуется Deus Inversus
или Люцифер108. Разыскивая побудительную причину для отступления
Творца, мы не должны усматривать ее в той или иной разновидности
тонкого тщеславия. Ведь Божественный мотив для отступления может
быть лишь мотивом для творения, — тем самым, который должен
открыться в целокупном творении. Платон называл это высшее
трансцендентное начало мира Благом (Agathon). Но благо пассивно, —
например, говорится: мы делаем благо. Чтобы точнее понять мотив цимцума,
который есть активность, деяние, мы не можем довольствоваться
пассивным качеством, будь оно сколь угодно возвышенным и
всеобъемлющим. Софиология поэтому продвигается к активному принципу. В
соответствии с Евангелием, то, посредством чего и в чем открывается Бог,
она находит в любви.
с) Экскурс о любви
В воззрениях софиологов — Соловьева, Флоренского и Булгакова —
любовь, настоящая деятельная любовь, имеет одну-единственную цель —
подарить себя; одну-единственную надежду — чтобы та самая полнота,
которой она сама в себе обладает, принадлежала также и другому; одно-
единственное стремление — чтобы Другой, любя, узнал ее сущность.
Чудо любви состоит для софиологов в том, что она, будучи чистотой,
совершенством, полнотой и потому ни в чем не имея недостатка, обретает
еще большую полноту, отдавая себя своему Другому, возлюбленному, —
совершенно другому существу. И еще это чудо состоит в том, что она
возгорается в Другом, наполняя его, — совершенно свободно, без
всякого насилия, но лишь потому, что она есть любовь. «Слабость любви»,
которая вместе с тем есть ее безмерная, неодолимая сила, побуждает ее
к самопожертвованию, чтобы возлюбленный «Другой» жил и
переживал сущность любви. Любовь родилась из свободной жертвы; она есть
е^ 107^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^5
милость и дар. Она ничего не хочет для себя, желая всего для другого.
Так как она не хочет быть для себя, но хочет целиком принести себя
в дар, так как она, надеясь, желает только того, чтобы другой смог узнать
и пережить то счастье любви, которым является она сама, — тот, кто
переживает любовь, будет любить любовь, — и он будет любить ее как свою
полнейшую, глубочайшую свободу. «Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин 4: 16): таково кратчайшее
описание побудительного мотива для творения, — того побудительного
мотива, которому каждая тварная сущность в мире, каждая тварь на
небесах, в космосе и на Земле обязана своим существованием и радостью
своего бытия.
И поскольку Бог открылся как любовь, можно предположить, что Он
пожертвовал Своим существом по любви, что одним-единственным
побудительным мотивом для цимцума и последующего отказа от
принесенной в жертву субстанции была любовь, — во имя того, чтобы в
Другом была та же самая свобода любви, что и в Нем Самом. То, что Бог
воздвигнул Свой трон в творении, означает только это. Ибо свое
исполнение любовь находит в единстве двух — любящего и любимого; она
правит только там, где это единство является свободным деянием обоих
любящих. Чем другим, как не жертвой любви, мог быть первый,
изначальный творческий акт, — первой и всеобъемлющей жертвой любви,
первообразом, прообразом всех последующих жертв, которые
когда-либо приносились и будут приноситься по любви? В этой жертве Бог
приносит в жертву Самого Себя, чтобы сделать возможным возникновение
из любви, в любви независимого от Него, свободного творения. Только
тогда можно согласиться с тем выводом, что Бог вне Своего Я пожелал
создать Свою sedes sapientia, если мысль Шеллинга о желании Бога быть
познанным углубить, введя координату любви. Только идея жертвы,
при которой жертвующий, ничего не желая для себя, всё предоставляет
Другому, преодолевает также и самую тонкую форму тщеславия, которое
мы иначе — невольно или из нужды в ясности — вкладываем в Творца т.
Но если любовь есть причина всей твари, то она должна была и
существовать прежде всей твари. Однако поскольку она обладает
действительностью только в личном взаимоотношении двух или трех любящих,
отсюда должно вытекать то, что Бог обладал действительностью прежде
всей твари не в одной, но в нескольких Личностях или Ипостасях. Если
признавать истинность слов Послания Иоанна, то следует искать именно
в любви, а не в желании Бога быть познанным ту внутреннюю
«необходимость», по которой Бог полагает Другого, В. Тогда В обнаруживается
в качестве Возлюбленного, — а именно, Возлюбленного всеми тремя
Божественными Ипостасями уже прежде всякого творения в качестве
«лица» Бога. Итак, В есть реальная сущность, нечто существующее в
Боге. Но это В еще не сотворено, т. е., как говорит Фома Аквинский, оно не
е^108^с)
С?5" II. Трансцендентность и троичность "^Э
существует in propria sua natura, В живет в качестве идеала в
Божественных мыслях. Будучи идеей, В обладает там совершенством. Но чтобы ему
стать началом, свободно принимающим и любящим Бога, В должно
существовать вне Бога как свободная, независимая сущность, как личность.
Только в качестве независимо существующего, т. е. свободной личности
или наделенного свободной волей, самостоятельного существа, В может
стать началом, свободно полагающим и любящим Бога. Это обретение
свободы доселе существующим лишь в Божественном мышлении В
предполагает, наряду с Божественным отступлением, также отклонение
принесенной в жертву Божественной субстанции. Ибо тварная свобода
мыслится, с одной стороны, только в том мистическом прапространстве,
которое возникает тогда, когда Бог отстраняет Самого Себя, т. е. Свое
Я, — а с другой стороны, только абсолютно свободно отданная
субстанция может заполнить это пространство таким образом, что
действительно образуется совершенно новое, свободное творение. Но при этом надо
также сказать, что В становится неким действительным, реально
существующим началом через процесс творения в ничто (in das Nichts), — или
же, если имеется в виду процесс осуществления самого творения, — из
ничего. Если идея «совершенно Другого» (В) обладает полноценным
бытием в Божественном мышлении и при этом также внутри Бога, то
самостоятельное существование В, самостоятельно стремящегося к
совершенству, мыслимо только через creatio ex nihilo. Но как В выступает
в пространство творения?
После Божественного отступления прасостояние А устранено, Шел-
лингово «непостижимое бытие», sub specie creationis, снято (aufgehoben).
Одновременно свидетелем реальности Божественной жертвы и
устранения А является А.,. Таким образом, А3 свидетельствует об At и А2 как
о двух началах — приносящем себя в жертву и принесенном в жертву.
Если после отступления оба они ушли в свою сокровенность, то в А3
они могут открыться. Итак, At не может выступить наружу, в
откровение: как начало, вечно приносящее жертву, At остается над мистическим
прапространством или вне него и вне будущего творения — ради того,
чтобы творение вообще осуществилось и было устойчивым. Если бы А1
выступило из своей сокровенности в открытость, то в обратном
направлении произошел бы Божественный отход и, следовательно, вернулось
бы старое состояние А, т. е. состояние прежде всякого творения или
«непостижимое бытие», которого как раз больше быть не должно. Чтобы
помыслить себе самостоятельное, свободное творение, надо признать А1
в качестве вечно обращенного вовнутрь себя, свернутого,
трансцендентного начала110. Также в качестве трансцендентного положено вначале
принесенное в жертву А2 — то самое, которое свободно подчинилось
началу подчиняющему Если бы А2 не было присно и свободно
жертвующим собой началом, то цимцум бы произошел в обратном направле-
е*мо9^э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
нии и никакого творения быть не могло: опять-таки было бы только А
(прекратись принесение жертвы, все вернулось бы в состояние
непостижимого бытия). Поэтому А2 в творении может открыться только как
жертвующая собой жертва (nur als sich opfernder Geopferter), т. е. как
Божественное Лицо, жертвующее Своим Божественным бытием. Или,
другими словами: ступени откровения А2 суть ступени жертвы. Только
А3 может выступить в свободное пространство творения — без того,
чтобы это пространство вновь вернулось в первоначальное состояние,
предшествующее цимцуму. Ибо Аз открывается после цимцума в
качестве единства жертвующего и жертвенного начал и поэтому может
наполнить пространство творения, будучи творческим духом — creator
Spiritus.
d) Обоснование четырех «causae*
В процессе цимцума можно выделить четыре «ступени» (в
отношении осуществления творения).
1. Если исходить из того, что первоначально Бог есть всё и всё есть
Бог, а вне Бога нет ничего, то это состояние (А) есть состояние
абсолютно трансцендентной по отношению ко всякой твари реальности (так как
твари здесь быть не может), которая, тем не менее, с необходимостью
существует; речь идет о реальности Шеллингова непостижимого бытия.
В иудейской религиозной философии, скажем, у Лурия, Бог на этой
абсолютно трансцендентной ступени лишь-для-себя-бытия именуется Эн-
Соф. Если творению надлежит совершиться, то только через отступление
Бога. Следовательно, первой ступенью творения является тайна
цимцума; она же — его деятельная причина (causa efficiens). Отстранение
Божественного бытия в Божественном отступлении (или посредством
существующего или существующих) открывает «мистический образ
Божества»111. Это, как говорит Лурия, есть не что иное, как переселение
Бога во внутреннейшее Его Божества, — как бы некий прамистический
жест. Бог понимается при этом как диалогическая сущность, т. е. как
множественность — троица Его ипостасей: отступающего (At); свободно
жертвующего собой (А2); того, кто есть тождество взятия и взятого, а
потому может как быть, так и не быть (А3).
2. Мотивом для начала путей Бога является Божественное лицо или
Божественная идея тварной любви, осуществляемая через тварное
«Другое» Бога. «Продвижение» первоидеи (В) в Божественном
мышлении есть условие творения или побуждение к началу путей Бога (causa
finalis).
3. Состояние после завершения отступления — это образование
пустого бытия, которое вместе с тем есть ничто, тьма. Возникшее благодаря
мистическому пути Бога прапространство хранит память о Божествен-
е*мю^э
C^ II. Трансцендентность и троичность '^Э
ной жертве, ибо само оно, возникнув из жертвы, сохраняет в полной
мере структуру жертвы. Это пространство носит на себе печать креста
(как условие творения из ничего или в ничто), который, как
выражается Флоренский, присутствовал в разуме Бога еще прежде всякого
творения. Крест — это формальная причина (causa formalis) всей твари.
4. После завершения цимцума Бог открывается как Бог Господь (Ях-
ве-Элогим), т. е. в качестве властелина Своего Я и вообще господина
над возможностью объектного бытия: когда Бог уходит в Свое внутрен-
нейшее, заключаясь в собственном Я, Он вместе с тем поднимается над
Своим первоначальным состоянием (А), так что там царит описанное
в Моисеевом «Бытии» исходное состояние, при котором Божественный
дух (А3) носится над первобытным потоком (Urflut), хаосом; это —
«prima materia» и материальная причина (causa materialis). Непостижимое
бытие дифференцируется, образуя сокровенную Божественную усию-
Софию и тварную prima materia, «мать-природу» или Sophia creata,
которая теперь, после установления направления «верх-низ», делается
Восприемницей Божественных (следовательно, сущностных) идей в
соответствии с присущими им формами.
Вышеупомянутая диалектика бытия и небытия вместе с замечанием
по поводу лика Софии будут обстоятельно обсуждены в двух
следующих главах.
Ill
ПРИСУТСТВИЕ ОТСУТСТВУЮЩЕГО
В гегельянстве философский субъект ближе всего
подходит к своему подлинному и окончательному
определению — как становящийся разум истины. Но, поднявшись
на эту высоту, он испытывает головокружение и безумно
воображает, что начало его разумения истины есть
возникновение самой истины, его рост и развитие — ее
собственный рост и развитие. <...> Между философами,
подходившими к истине, нет большего, чем Гегель, но и наименьший
между философами, исходящими из самой истины,
больше его.
Владимир СоловьевJ
Когда Гегель начинает философию с того, что
устремляется в чистое мышление, он прекрасно выражает
сущность рациональной философии. Но отступление в чистое
мышление подразумевается у Гегеля только по
отношению к логике; подразумеваются не вещи, как они a priori
существуют в мышлении, но понятия как таковые, в их
субъективности. Но в голых понятиях нет настоящего,
действительного мышления. Именно там, где нужно было
бы начаться мышлению (в конце логики), мышление
приходит к полному концу, ибо, как говорит Гегель, понятие
теряет свою власть. Но что тогда миру до твоего
мышления, если ты ничего не производишь? Однако настоящее
мышление — это лишь такое, при котором нечто
обнаруживается.
Ф. В. Й. Шеллинг2
Система логики — это царство теней, мир простых
сущностей, освобожденных от всякой чувственной
конкретности. Изучение этой науки, длительное пребывание
и работа в этом царстве теней есть абсолютная культура
и дисциплина сознания.
L В.Ф.Гегель'
е*м12^э
C^ III. Присутствие отсутствующего *^Э
Среди всех загадок, поставленных перед нами,
величайшая — это ничто.
Приписывается Леонардо да Винчи
1. ВВЕДЕНИЕ:
ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ И НЕБЫТИЯ
предыдущей главе была представлена концепция монотеизма,
принадлежащая Шеллингу, и проведено ее сопоставление с
идеей цимцума Исаака Лурия. Философские и богословские
рассуждения Сергея Булгакова преодолели Шеллингову
постановку проблемы с ее не совсем все же удачными предположениями
(Божественная ирония, бессмысленное вращение абсолютного духа в
себе самом, рождение Сына как исключение бытия). От гипотезы некоего
абсолютного духа, мыслимого как абсолютная личность в трех образах,
Булгаков возвращается к традиционному богословскому воззрению —
к единому Богу в трех Лицах. Если предположить факт Божественного
отступления, т. е. цимцум, то отчетливо выступает иное личностное
отношение к Божественному бытию или, по Булгакову, к Божественной
усии-Софии. При таком предположении Сын обязан Своим
Божественным бытием этому вечному отступлению или воздержанию Отца от
всякого положительного бытия, наследником которого в вечности опять-
таки является Сын. И эта благодарность Тому, кому Он обязан Своим
собственным бытием и кто по этой причине именуется «Отцом»,
выражается в том, что наследник бытия, являющийся по этой причине Сыном,
приносит в жертву Отцу все унаследованное Им бытие (Он Сам есть
это бытие), а Сам делает Себя через это чистым объектом, чистый
субъект которого — Отец, отказывающийся от всякого объективного бытия.
Дух же — это единство обоих возможных отношений к Божественной
усии-Софии; Он — Шеллингов «субъект-объект», который от вечности
обязан абсолютному субъекту (Отцу) и абсолютному объекту (Сыну).
В этом смысле Дух исходит на деле от Отца и Сына (fïlioque), как
подчеркивается в католическом Символе веры, отвергнутом Восточной
Церковью.
Далее было представлено Шеллингово понимание того момента,
когда перед Божиим взором возникает возможность сотворения
свободного, независимого от Божественного бытия мира. Это понимание
позволяет рассматривать космический и исторический процесс совместно со
становлением Божества, т. е. с неким теогоническим процессом. В Шел-
линговой концепции обращения вовнутрь единства трех образов
абсолютного духа (благодаря Божественному субъекту) и одновременного
обращения наружу множественности этих трех образов (благодаря чему
начинается становление второго Божественного субъекта) было крити-
е^из^э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^)
чески поставлено под вопрос диалогическое согласие Сына с
намерением Отца относительно сотворения мира. Это согласие имеет для Сына
все те последствия, которые Шеллинг относит ко второму образу
Божества — «обязанному-быть»; но, вопреки Шеллингу, Сын с самого начала
свободен, и когда Он выступает в историческом процессе также и в
качестве «обязанного-быть», то лишь потому, что уже изначально решился
на это. Шеллингова «перестановка» образов абсолютного духа,
начинающаяся с того, что «у-себя-сущий» отказывается от своего чистого
субъективного бытия и делается чем-то положительным, затем становится
отклонением Отцом Сыновней жертвы ради сотворения мира, который
задуман как свободный обоими — Отцом и Сыном. После исключения
прежнего «чистого сущего» из внутрибожественного события и
совершающегося благодаря этому рождения Сына, затем происходит решение
Сына отказаться от этого бытия, которое тем самым полностью
освобождается, если его отклонил Отец. Привлекая сюда идею цимцума,
можно говорить об отступлении Сына из Божественного бытия или
о кенозисе Сына в начале творения, чему в вечности предшествует
отступление или кенозис Отца. И поскольку Сын отказывается от Своей
Божественности, какую Он имел у Отца прежде основания мира, Он
становится творческим Логосом независимого от Бога мира.
Сотворение мира совершается через троякую жертву. Во-первых, это
отступление Отца, который тем самым создает почву для возникновения
всего; Его следует считать Творцом мира в собственном смысле,
поскольку, отклонив жертву Сына, Он создает возможность для
положительного, свободного бытия. Во-вторых, это жертва Сына, отказывающегося от
«славы» и ясности Божественной усии-Софии, которую Он имел у Отца
прежде основания мира. Наконец, это жертва Святого Духа, который
в теогонически-космическом процессе отказывается от всеединства,
тождественного Ему в вечной Божественной мистерии и являющегося там
Его откровением.
Всякий раз бытие, исключенное из Бога через Его трехкратное
самоограничение, — бытие, от которого отказались Лица Троицы, дабы оно
сделалось материей независимого от Бога мирового процесса, и которое
идентично Божественной усии-Софии, ипостазируемой
Божественными Лицами, — совпадает с пустотой, образовавшейся благодаря цимцу-
му, — пустотой, которая есть небытие. И здесь возникают вопросы: идет
ли речь при этом о полном небытии, т. е. о ничто? абсолютно ли
отсутствие Бога, обязанное цимцуму; трансцендентное является ли
трансцендентным в окончательном смысле или же следует исходить из некоей
всегда различной формы присутствия отсутствующего, из диалектики
бытия и небытия (и тогда мы оказываемся в начале Гегелевой логики)?
На эти вопросы даст ответ сравнение различных понятий бытия у
Гегеля, Спинозы и Шеллинга, а также обсуждение идеи «решиму» — «ос-
е*м14^э
C5^ III. Присутствие отсутствующего ^5
татка бытия» в ничто — Исаака Лурия. Мы начнем с «априорного
эмпиризма» в логике Гегеля (обозначение Шеллинга).
2. АПРИОРНЫЙ ЭМПИРИЗМ
«Логику <...> следует понимать как систему чистого разума, как
царство чистой мысли. Это царство есть истина, какова она без покрова,
в себе и для себя самой. Можно поэтому выразиться так: это содержание
есть изображение Бога, каков Он в Своей вечной сущности до сотворения
природы и какого бы то ни было конечного духа», — пишет Гегель во
введении к своей «Логике»А. Тем самым он претендует на то, что его
логика — это чистая априорная наука в кантовском смысле, способная к
продуцированию синтетических достоверных суждений прежде всякого
опыта и независимо от него. Ее цель — представить с помощью
системных принципов Бога (или чистый, бесконечный Разум) прежде всякой
эмпирии и как ее истину. Это означает следующее. Если эмпирическое
достигает действительности (будь то природа или конечный дух), то это
возможно лишь тем способом, какой прежде был задан логикой, ибо
логика в своем движении разворачивает a priori структуру эмпирического.
Она есть как бы «логика Логоса» — план творения, который
предшествует всему эмпирическому. Это движение гегелевской логики можно
назвать, соглашаясь с Шеллингом, априорным эмпиризмом. У Шеллинга
так именуется та философская наука, которая в терминах логической
мысли верно описывает структуру (возможного, но еще не
действительного) эмпирического; она заявляет, что если имеет место нечто
эмпирическое, его структура может быть только такой, какая была a priori
вскрыта логикой в ее движении. Эта наука исходит не из восприятия
эмпирической действительности, но опирается на логическое движение
одного эмпирически возможного. Разумное начало в ней первично (das
Prius), эмпирика же следует за ним — как та структура, которая
присуща логике разума и выводится из нее.
Положение Гегеля, согласно которому разумное есть действительное,
следует понимать в том смысле, что разумное есть структура
действительного; это отнюдь не означает, что сама логика производит
эмпирически наличное (т. е. создает действительное). Она имеет дело с
эмпирически возможным в его необходимости (т. е. с априорным выведением
разумной структуры эмпирического). Она не заботится о реально
существующем, относительно которого она постулирует, что, будучи
действительным, оно может быть лишь таким, каким его выводит логика.
Но она заботится об организме диалектических форм разума, которые
предшествуют действительному. Поэтому гегелевская логика
занимается «бесконечной потенцией разума» (Шеллинг).
е^ 115^5
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^
а) Начало (Prinzip) априорного эмпиризма
Согласно Гегелю, содержание логики претендует на то, чтобы быть
«системой чистого разума». Так как система имеется лишь там, где
наличествует некое системообразующее начало (Prinzip) — нечто первое
и исходное, которое присутствует во всех прочих членах системы в
качестве причины и формального принципа (само оно не является
следствием какой-либо причины), гегелевская логика может притязать на то, что
она на самом деле априорно выводит нечто действительное,
эмпирическое, реально существующее, только если ею дано правильное
определение действительного начала. Поэтому Гегель начинает логику с
рефлексии и определения начала, первого пункта вообще всякой философии,
чтобы прийти затем к началу (Prinzip) логики. Но в начале может
мыслиться только начало, а не «продолжение». Поэтому также и Бог не
может находиться в начале движения мысли, поскольку Он всегда
мыслится как уже определенный, — скажем, как совершенный, всемогущий
и т. д. Однако если в начале движения мысли помещается
действительно совершенно радикальное начало, то там оказывается пустота, полная
неопределенность: «Следовательно, если в выражении "абсолютное"
или "вечное" или "Бог" (а самое бесспорное право имел бы Бог —
начинать именно с Него), если в созерцании их или мысли о них имеется
больше содержания, чем в чистом бытии, то нужно, чтобы то, что
содержится в них, лишь проникло в знание мыслящее, а не представляющее;
как бы ни было богато заключающееся в них содержание, определение,
которое первым проникает в знание, есть нечто простое; ибо лишь в
простом нет ничего более, кроме чистого начала; только непосредственное
просто, ибо лишь в непосредственном нет еще перехода от одного к
другому. Итак, что бы ни высказывали о бытии в более богатых формах
представления об абсолютном или Боге или что бы в них ни
содержалось, в начале это лишь пустое слово и только бытие. Это простое, не
имеющее в общем никакого дальнейшего значения, это пустое есть,
стало быть, безусловное начало философии»5.
Просто началом всякой философии может служить только такое
начало (Prinzip), которое является причиной всего прочего, само причины
не имея; ибо имей оно причину, оно не было бы первоначалом, но уже
всегда было бы чем-то вторым, продолжением. Оно было бы не
непосредственным, но опосредованным. На самом деле, только в пустом бытии,
в котором не мыслится ничего, кроме «бытия», отсутствует бытийствен-
ный переход от одного к другому, — тогда как всякое представление,
связанное с качеством и свойством, всегда мыслится уже при некоем
существующем и означает продолжение бытия. Чистое, пустое,
бескачественное бытие, таким образом, — это совершенно непосредственное
бытие; всякое возможное содержание развивается только из него как
ем1б^с>
(г5" III. Присутствие отсутствующего '^Э
его следствие (т. е. через продолжение в другом). Поскольку у чистого
бытия нет никакого содержания, оно одновременно есть ничто.
Другими словами: мышление начинается не с какого-либо содержания; оно
поначалу совершенно пусто. У Гегеля нет речи о том, чтобы пустоту
возводить в ранг истока творения (даже если так с ходу и покажется).
Напротив, речь у него идет о том, чтобы освободить мышление от связи
с представлениями и сделать его неким органом восприятия его
собственной высшей духовной действительности. Ибо в отчеканенном,
богатом представлении я не нахожу конкретного опыта действительности
того, что представлено. Этот опыт я нахожу лишь тогда, когда то, что
в ином случае просто представляется, благодаря движению мышления
выступает в сферу знания. Поэтому логика базируется не на
содержании представлений (возможно, очень богатом) «Бог», «вечность»,
«абсолют», но на опыте выступления внутри мышления действительности
Бога, духа или абсолюта. И условием для того, чтобы это действительное
богатство не оказалось лишь представленным, но смогло войти в опыт
как движение мысли, — таким условием является то, что мышление
начинается с пустоты, что оно на самом деле не имеет никакого
содержания, но есть чистый, пустой орган для понимания и восприятия духа,
передающего движение чистой мысли6.
Если мышление в начале пусто, если оно отказалось от богатства
рассудка и от содержания из представлений, то у него не остается ничего,
кроме скудного представления пустого бытия, — но все же некоего
бытия, — соответствующего картезианскому опыту «я» — опыту
несомненного собственного бытия и голого знания того, что о чем-то (будь то
лишь такое начало, в котором ничто не мыслится в качестве «начала»)
можно говорить, поскольку в его основе лежит бытие, поскольку оно
есть. На основании этого правомерно утверждать, что если пустое
мышление начинается не с чего-то иного, а со своего собственного движения,
так что оно исходит из своего собственного состояния чистого,
беспредметного, пустого, «бедного» бытия и проделывает закономерные (и
поэтому логические) диалектические фазы своего самодвижения, то
возможно опытно узнать то, что в его деятельности самодвижения выступает
некий высший принцип: когда движение мысли само себя
осуществляет, оно одновременно знает, что оно проистекает из чего-то высшего,
и потому в конце движения оно обретает опыт переживания духа, — на
этот раз в качестве не представления, но некоего конкретного
восприятия. При этом мышление не только достигает восприятия духа, но оно
при этом знает, что это восприятие есть восприятие его собственного
закономерного движения. Так в движении гегелевской логики
мышление становится органом восприятия самого себя.
е^117^>
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ «э
Ь) Выведение первоначала
На этой ступени своего развития мышление знает, что обретенный
в опыте дух, предваряя все содержание представлений и царства
рассудка, поистине есть то первоначало, которое всегда предшествует пустому
бытию и есть действительность этого бытия. Методический скептицизм
отказывался от первичности духа, чтобы от представления (или
гипотезы) о том, что дух есть первоначало, перейти к опыту (или
доказательству), подтверждающему на деле, что он есть первоначало. Бог дан в
опыте как реальное первоначало: движение мысли в конце концов приходит
к Нему и при этом знает, что Он есть действительность движения
вообще.
Поэтому у Гегеля в начале философствования находится не Бог, не
вечность или абсолют, а чистое бытие, т. е. чистое, простейшее
мыслимое определение. При этом действительно полагается некое
первоначало или некий принцип, который логически уже не выводим из чего-то
другого и который лишь впоследствии оказывается выведенным. Пола-
гание чистого бытия в качестве первоначала является при этом
условием опытного знания духа, который оказывается настоящим
первоначалом только в этом мыслительном опыте и благодаря ему Основанием
для этого опыта является поэтому чистое бытие — безусловное начало
и принцип логического движения; тот факт, что оно делается
достоянием опыта в конце логического движения — не как первоначало, но как
некий результат, — ничего в этом не меняет, но лишь подтверждает
первый шаг логики. Ибо если то, что сперва было непосредственным, в
конце концов оказывается опосредованным, в то время как то, что сперва
выступает как опосредованный результат, вместе с тем обнаруживается
как собственное (и потому неопосредованное) начало, тогда движение
логики происходит так, «что движение вперед есть возвращение назад,
в основание, к первоначальному и истинному, от которого зависит то,
с чего начинают, и которое на деле порождает начало. — Так сознание на
своем пути от непосредственности, с которой оно начинает, приводится
обратно к абсолютному знанию как к своей внутренней истине. Это
последнее основание и есть то, из чего происходит первое, выступившее
сначала как непосредственное»7.
Возвращение в основу— это вообще профессия всякой логики. Но
в логике Гегеля оно означает возвращение в «основу основ», т. е. в пра-
основу, в Бога. Если началу нечего делать с Богом, поскольку Он — это
не первичная простота, то Он появляется лишь в конце логического
движения — в качестве последнего. И поскольку это последнее есть
абсолютный дух, который оказывается последней и верховной истиной
всякого бытия, он и вправду есть порождающий принцип бытия.
Процесс изведения чистого бытия Гегель представляет себе как самоотчуж-
С^118^)
C^ III. Присутствие отсутствующего ^Э
дение духа. Бог «познается как свободно отчуждающий Себя в конце
развития и отпускающий Себя, чтобы принять образ непосредственного
бытия, познается как решающийся сотворить мир, в котором
содержится все то, что заключалось в развитии, предшествовавшем этому
результату, и что благодаря этому обратному положению превращается вместе
со своим началом в нечто зависящее от результата как от принципа»8.
То, что сперва выступает как «непосредственное бытие» и вообще
начинается вместе с логическим движением, в конце оказывается не
просто изведенным и потому опосредованным, но обнаруживает себя как
абсолютный дух, отпустивший себя в образ непосредственного бытия.
Чистое, пустое бытие, которое в начале движения обладает только
логическим значением, приобретает в конце логического движения
онтологическое (или, точнее, — божественное) достоинство, ибо благодаря
некоему свободному акту абсолютного духа непосредственное бытие
и абсолют отождествились: чистое бытие есть «второй» образ
абсолютного (прежде) духа после его свободного решения сотворить мир. Поэтому
автономное в сфере логики чистое бытие содержит в себе in potentia всю
действительность духа, — более того, чистое бытие есть сам этот дух.
с) Круговая структура логической науки
Первым творческим актом для Гегеля является отпускание
абсолютным духом себя в чистое бытие. Если абсолютный дух именуется Богом
в Его первом образе, то чистое бытие можно обозначить, благодаря
первому творческому акту, отпусканием себя в образ чистого бытия, Богом
в Его втором образе. Но когда первое и последнее так переплетаются
между собой, что последнее оказывается не только основой и причиной,
но также — благодаря свободному решению последнего — и другим
образом изначально принятого за первое, тогда круг замыкается. Сам
Гегель так говорит об этом: «Главное для науки не столько то, что началом
служит нечто исключительно непосредственное, а то, что вся наука в
целом есть в самой себе круговорот, в котором первое становится также
и последним, а последнее — также и первым»9; «...линия продвижения
науки тем самым превращается в круг»10. Наука оказывается
по-настоящему круговой тогда, когда движение мысли начинается с пустого
бытия, восходит от него к абсолюту, а затем представляет это чистое бытие
в качестве творчески изведенного второго образа абсолюта. Сперва
делается предположение о чистом бытии, которое является началом
(Prinzip) логико-диалектической системы; оказывается, что это чистое бытие
есть Бог. Конечно, последнее имеет место только благодаря
гипотетическому представлению о творческом процессе, ибо чистое бытие лишь
тогда может быть идентичным с Богом, когда Он «отпускает» Себя в
него после Своего свободного решения о сотворении мира (Гегель).
С^119^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
Все сказанное можно подытожить следующим образом: чистое бытие,
которое при построении системы является началом логического
движения, оказывается в результате производным этого процесса. Чтобы
прийти от логического образа бытия к его онтологической функции в
сотворении мира, Гегель допускает некое свободное деяние Божественного
духа — отказ от Своего собственного бытия и отчуждение в образ этого
чистого бытия, чтобы затем вновь прийти к Самому Себе в мировом
процессе. Итак, согласно Гегелю, пра-жестом Творца, Его изначальным
творческим жестом является некое обращение, уход вовнутрь,
раскрытие в чистом бытии п.
3. ЧИСТОЕ БЫТИЕ КАК НИЧТО
Гегель начинает первый раздел своей «Логики» с фразы: «Бытие есть
неопределенное непосредственное. Оно свободно от определенности по
отношению к сущности, равно как и от всякой определенности,
которую оно может обрести внутри самого себя. Это лишенное рефлексии
бытие есть бытие, как оно есть непосредственно лишь в самом себе...»
И он продолжает: «Если бы в бытии было бы какое-либо различимое
определение или содержание или же оно благодаря этому было бы
положено как отличное от некоего иного, то оно не сохранило бы свою
чистоту. Бытие есть чистая неопределенность и пустота. — В нем нечего
созерцать, если здесь может идти речь о созерцании, иначе говоря, оно
есть только само это чистое, пустое созерцание. В нем также нет ничего
такого, что можно было бы мыслить, иначе говоря, оно равным образом
лишь это пустое мышление. Бытие, неопределенное, непосредственное,
есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто. <...> Ничто есть,
стало быть, то же определение или, вернее, то же отсутствие
определений и, значит, вообще то же, что и чистое бытие» 12.
Если я в случае каждого существующего абстрагируюсь от его
особенного, конкретного содержания и утверждаю относительно него
единственное — то, что это существует (безразлично, идет ли речь о бытии
лишь в мышлении или также и в действительности), то я прихожу к
чистому (т. е. очищенному от всякой особенности) бытию. Само бытие
безразлично ко всякому определению, поскольку оно присуще равным
образом всему определенному. Если оно индифферентно относительно
каждой определенности, то само оно полагается как неопределенное;
созерцание и мышление, которые от определенного удаляются к бытию как
неопределенному, лежащему в основе всякого определения, выходят при
этом сами из состояния полноты (с содержанием и определением) в
состояние пустоты или незаполненности; поэтому чистое, пустое бытие —
это одновременно чистое мышление или чистое созерцание. Для мыш-
С^120^
C5^ III. Присутствие отсутствующего ^9
ления речь идет о состоянии абсолютной пустоты и неподвижности;
о пребывании в чистом ничто, в котором мышление безо всякой
мотивировки знает собственно лишь то, что оно есть, — и то же самое имеет
место относительно чистого бытия. Но поскольку в нем ничего не
содержится, оно пребывает в ничто или в пустоте как сама эта пустота,
само это ничто; если нечто вступает в эту пустоту, если пустота
наполняется, то это может произойти только благодаря движению мышления,
которое знает себя одновременно как бытие и как ничто, и при этом
также как переход от бытия к ничто и от ничто к бытию. Мышление,
следовательно, переживает само себя как идентичность бытия и небытия;
переход от одного момента к другому, свое собственное движение, оно
поэтому фиксирует и определяет только впоследствии — как переходное
бытие, для которого Гегель использует также слово «исчезновение»13.
Это движение мышления Гегель называет диалектикой: «Диалектикой
же мы называем высшее разумное движение, в котором такие кажущиеся
безусловными (моменты) переходят друг в друга благодаря самим себе,
благодаря тому, что они суть, и предположение (об их раздельности)
снимается. Диалектическая, имманентная природа самого бытия и ничто
в том и состоит, что они свое единство — становление —
обнаруживают как свою истину»14.
Для наших рассуждений выделенная фраза имеет особенное
значение; конечно, больше смысла в том, чтобы говорить о структуре бытия
и ничто, вместо того чтобы обсуждать их «имманентную природу». Ибо
структура — это само чисто имманентное, и всякая имманентность
оказывается возможной лишь благодаря ей.
Если мышление погружается полностью в чистое —
бессодержательное, пустое бытие, которое есть ничто, то оно узнает, что сама
внутренняя структура этого бытия диалектична; в этой структуре наличествует
некое переходное — от бытия к ничто — бытие, которое Гегель
обозначает как становление. Таким образом, движение гегелевской логики
происходит через последовательные ступени: бытие — ничто — становление.
Хотя все три они по сути дела одно и то же — бытие есть ничто, и в силу
этого оно также есть бытие, переходное от бытия к ничто, — но все же
развитие может начинаться только с чистого бытия; ничто и
становление оказываются результатом этой предпосылки, так что возникает
данная последовательность.
Причина того, что бытие и ничто — одно и то же, обосновывается не
чистой непосредственностью бытия, как полагает Гегель, но, скорее, тем,
что в чистом бытии нет никакой сущности, на что Гегель и сам
указывает, говоря о чистом бытии: «Оно свободно от определенности в
отношении сущности». Сущность мало-помалу будет выступать только в ходе
диалектического развития, пока в конце его она не обнаружится в
абсолютном знании (и в качестве этого знания) или в качестве всего процес-
е^ 121 *Э
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^>
са движения знающего духа. Можно было бы поэтому с достаточной
уверенностью сказать, что пустое бытие есть бытие без сущности, — так
что эта сущность содержится в нем только in potentia и лишь в конце
движения — благодаря «отпусканию Себя» Богом в чистое бытие
(Гегель) — также и actu. Поэтому, а также потому, что сущность
обнаруживается в диалектическом движении разума через все ступени логики
(и как это движение), чистое бытие есть также бесконечная потенция
разума, — выражение, которое применяет Шеллинг.
Помимо того, Гегель вводит в логику понятие истины: «Истина — это
не бытие и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит, а
перешло в ничто, и ничто не переходит, а перешло в бытие»15. Но откуда
разум знает, что это его логическое движение действительно логично, а
также истинно? Истина не может быть одним субъективным полаганием
(в противном случае существовало бы столько же истин, сколько
имеется субъективных полаганий), — но, с другой стороны, она обнаруживает
себя только в субъективном раскрытии, оказываясь при этом чем-то
объективным. Разум узнает в своем самораскрытии нечто объективное,
и поэтому мы вправе говорить об одном разуме, который закономерно
обнаруживает себя во многих мыслящих субъектах. Итак, разум обладает
имманентной структурой, благодаря чему он, раскрываясь, управляется,
так что мы с достаточной точностью можем сказать как то, что
«мышление или разум движется», так и то, что «разум приводится в движение».
Двигая себя, разум приходит в движение; в его самораскрытии
выступает объективная закономерность Логоса, — или, говоря иначе: разум
развивает в Логосе свою собственную сущность и свою собственную
закономерность. Это означает, что хотя чистое, пустое бытие пусто и есть
ничто, оно все же обладает некоей структурой. Это не голое ничто, но
чистый негатив, матрица.
Эта матрица — чистое бытие — задает мышлению или разуму
диалектическую структуру; внутри нее (и в соответствии с ней) и движется
мышление. Если оно движется соответственно этой структуре, то оно
познает истину; если же оно выпадает из диалектической структуры, то
истиной оно не обладает. Эта структура всегда имманентна мышлению
и разуму; «имманентна» здесь означает присуща, дана. Затем, на втором
этапе, к этой данности относится все, что «подходит» этой структуре; по
Гегелю, речь здесь идет о всей эмпирической действительности. И потому
мы вправе говорить о методе Гегеля как об априорном эмпиризме:
априорна структура чистого бытия, эмпирия же — это возможная
апостериорность. Обо всем процессе логического разворачивания разума поэтому
надо рассуждать так: мышление движет, разворачивает и структурирует
чистое бытие не исключительно односторонне; напротив, оно узнает,
как оно само в своем движении структурируется чистым бытием.
Поэтому чистое бытие не может получать свою структуру только из мыш-
С^122^Э
0^ III. Присутствие отсутствующего "^Э
ления, но оно только из него конституируется и структурируется. Если
бытие получает свою структуру не из мышления, то оно должно
получать ее из чего-то другого. Иными словами: то бытие, которое
одновременно есть ничто, «предструктурируется» откуда-то еще, — и это
также выдают характерные слова Гегеля о «природе бытия и небытия», ибо
понятие «природа» предполагает нечто рожденное, заданное,
положенное. Но откуда у чистого бытия его структура и соответственно
«природа», если оно получает ее не только из движения разума? — «Природа
бытия и небытия» или структура чистого бытия должна происходить
из некоего другого движения, которое предшествует движению разума.
Это означает не что иное, как то, что чистое бытие не может быть
первоначалом философии, ибо в нем предполагается некое движение, без
которого логическое движение в качестве логического не смогло бы
начаться и привести к цели. Это другое движение Гегелем не отрефлекси-
ровано, но оно все же негласно предполагается в его логической системе,
иначе переходное бытие от бытия к ничто было бы немыслимым. Говоря
иначе, Гегель анализирует диалектическую структуру (или «природу»)
бытия и ничто, не отдавая себя отчета в том, как эта структура вошла
в бытие.
С полным правом Гегель говорит о «переходе» бытия в ничто и
обратно, используя перфектные глагольные формы и явно подчеркивая их
отличительные признаки («nicht übergeht, sondern übergegangen ist»: «не
"переходит", но "перешло"»).
Итак, мышление знает не сам процесс перехода, но уже всегда его
результат. Оно имеет перед собой тот факт, что хотя, по Гегелю, указанные
бытие и ничто абсолютно различны, они тем не менее и идентичны. Но
если мышление в состоянии констатировать лишь факт переходного
бытия, «исчезновения одного в другом», для чего Гегель использует слово
«становление», то гегелевское чистое бытие вовсе не является первым
бытием, но скорее неким продолжением: уже произошло нечто такое,
что прежде уже было дано разуму, когда он начал свое движение. Тот
процесс структурирования гегелевского «чистого бытия», который
мышление уже нашло в качестве поступка некоего активного начала, здесь есть
указание на некоего субъекта поступка, который что-то изменил в
изначальном бытии, чтобы оно смогло сделаться тем уже
структурированным бытием, которое Гегель ничтоже сумняшеся принимает за первое
и изначальное бытие. Так как изначальное бытие недоступно
мышлению иначе, как только в своей уже структурированной форме, мы
можем назвать его вместе с Шеллингом «непостижимым бытием».
Тогда возникает вопрос: как надо понимать переход от
непостижимого бытия Шеллинга к чистому бытию Гегеля? В чем состоит первичный
акт диалектического предструктурирования гегелевского бытия? Или,
говоря иначе, как непостижимое бытие входит в мышление? Чтобы от-
е^ 123^5
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ветить на эти вопросы, надо рассмотреть Шеллингову концепцию
первого бытия, которое, по его словам, является началом положительной
философии.
4. ШЕЛЛИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ
НЕПОСТИЖИМОГО БЫТИЯ
Мы показали, что Гегелево понятие бытия по двум причинам
вторично и никоим образом не является действительным началом всякой
философии: 1) сам Гегель допускает, что в круговом движении логики
последнее (Бог) является одновременно в собственном смысле Первым,
так что чистое бытие есть второй образ Божества, в который оно
«отпустило» себя; 2) Гегель говорит о «природе» бытия, т. е. о его
диалектической структуре, и эта структура уже до начала всякого мышления
вложена в бытие; таким образом, она предполагает некий actus, и хотя он
и предполагается в чистом бытии, однако не осмысливается. Вопрос
о том, благодаря чему бытие было структурировано (Гегель уместно
применяет здесь перфект), есть одновременно вопрошание о
Структурирующем и о первом образе бытия, предшествующем всякой структуре.
О гегелевском чистом бытии Шеллинг говорит следующее:
«Отрицательная философия заканчивается возможностью существовать, а не
действительно существующим. Последнее, возможность существовать,
есть та самая потенция, которая тождественна существующему в его
чистоте, ибо все прочее уже есть не само бытие, а бытие, прикрытое неким
случайным бытием»16. Бытие отрицательной философии — это не
действительно существующее, но нечто возможное, бытие в мышлении.
Речь не идет о том, чтобы оспорить утверждение Гегеля, что реальность
чистого бытия заключена в ничто; это тождество очевидно, и логическое
движение обнаруживает именно наличие этого тождества. Но, с другой
стороны, согласно Шеллингу, разум не может «...из самого себя постичь
или доказать никакого актуального, действительного бытия хотя бы
и в мире внешних чувств, — никакого наличного существования,
например, существования вот этого растения или этого камня»17.
Таким образом, Шеллинг различает мысленные вещи и
действительные вещи, возможность и действительность, идею и существование,
причем «то, что некогда началось в голом мышлении, <...> сможет
продолжаться тоже лишь в голом мышлении и никуда, кроме как к идее, больше
не придет. То, что должно достичь действительности, обязано также
исходить из действительности, — а именно, из чистой действительности,
следовательно, из такой действительности, которая предшествует
всякой возможности»18. Но мыслима ли вообще действительность,
предшествующая всякой «мыслимой» возможности? Не встретит ли это
предел 124 ^Э
0^ III. Присутствие отсутствующего "^Э
положение очевидное возражение, по которому то, что высказывается
мышлением, всегда возможно для мысли и поэтому не есть
действительность, предшествующая всякой возможности? Шеллинг отвечает:
«С этим можно в известном смысле согласиться и сказать: именно
поэтому пусть она будет началом всякого реального мышления, — ибо
начало мышления само еще не есть мышление. Некая действительность,
которая предваряет возможность, всегда есть также такая
действительность, которая предваряет мышление; но именно поэтому она есть
собственный объект мышления (quod se objicit)»19. Ссылаясь на Канта20,
Шеллинг, таким образом, требует некоего бытия, предшествующего
чистому бытию, бытию разума, — бытия, которое есть не что иное, как
существование — просто существование, действительность21. В сравнении
с этим бытием гегелевское понятие чистого бытия, согласно Шеллингу,
есть лишь момент в диалектическом движении мышления. С этим в
значительной мере можно согласиться, но хотелось бы напомнить о том,
что Гегель при мыслительном «установлении» чистого бытия полагает
это пустое бытие равным пустому мышлению и созданию
представлений; чистое бытие — это не просто момент мышления, но прасостояние
мышления, предшествующее всему логическому движению, —
следовательно, условие возможности логики, а не просто момент в ней.
Непостижимое бытие или «слепо существующее» Шеллинга — напротив,
вне всякого мышления; мышление участвует в нем только постольку,
поскольку оно само есть, ибо при этом важно лишь действительное
существование помимо всякого понятия: «Слепо существующее не
существует, но есть само существование, auto to on. <...> Это понятие разума,
которое полагает не себя прежде бытия — но полагает бытие прежде себя.
Бытие, которое разум полагает прежде себя, он может полагать лишь
исключительно вне себя, чтобы только a posteriori обрести его для себя.
Разум в отношении бытия абсолютно "экстатичен"»22.
Но не является ли, собственно, это полагание бытия прежде всякого
разума неким голым действием разума? Другими словами, не
означает ли гипотеза о том, что слепо существующее предшествует чистому
существованию, лишь постулирование его вне мышления, в то время
как чистое существование отражает мыслительную суть
предположения о некоем бытии вне мышления? Откуда разум знает, что это слепо
существующее — не фикция, а доказуемая и обнаруживаемая
действительность? Чтобы ответить на эти вопросы, Шеллинг обращается к Ан-
сельмову (оно же картезианское) онтологическому доказательству бытия
Божия, которое, по его мнению, относительно действительного
существования Бога заключает на основании Его понятия. Вначале
Шеллинг соглашается с Кантом в том, что из голого понятия существования
вовсе не следует23. Известный аргумент против онтологического дока-
е*М25^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
зательства24 Шеллинг также выдвигает против картезианской25, а также
лейбницевской26 формулировок. Опровержение онтологического
аргумента строится на том, что на основании понятия Бога можно заключить
только о Его возможном, а не действительном бытии. Но это
опровержение не затрагивает просто существования или слепо существующего27.
Ибо там весь процесс обоснования обращается: о действительном
существовании Бога заключается не на основании Его понятия, а наоборот —
на основании существования необходимо существующего заключается
о Его Божестве или божественности. Итак, Шеллинг на основании
понятия некоей необходимо существующей высшей сущности не делает
вывода о действительном существовании Божества (по его мнению, так
мыслит старая метафизика начиная с Ансельма вместе с Декартом);
скорее на основании действительного, необходимого слепо существующего,
которое предшествует всякому мышлению, он заключает a posteriori
относительно его Божества, «так что в положительной философии
доказывается не существование Бога, а Божество существующего»28. Чтобы
доказать Божество, мышление должно, конечно, исходить из
первоначала (Prius) — слепо существующего: «К возможности бытия (Seinkönnen)
я прихожу, отправляясь еще от отрицательной философии, но как бы с ее
обратной стороны — от понятия, от posterius'a. Если я хочу теперь
действительно достигнуть существования, то я должен исходить из Prius'a,
из бытия; но это возможно не иначе, как начиная с самого начала, т. е.
основывая некую новую науку. Ныне мы нашли начало положительной
философии. Мы сразу оказываемся не с личным Богом, но со слепо
существующим Спинозы, — с тем, что существует прежде всего
мыслимого» 29.
Разницу между Гегелевым и Шеллинговым бытием можно также
сформулировать таким образом, что Гегелево бытие рассматривается как
имманентное разуму, из-за чего все движение логики остается
имманентным, а все трансцендентное оказывается лишь относительным моментом
в этом имманентном движении. Поэтому логическое движение
проходит замкнутый круг. Однако, согласно Шеллингу, Гегель не знает Шел-
лингова непостижимого бытия: «Об этом бытии гегелевская философия
не знает ничего, в ней не нашлось места для этого понятия»30. Но как
раз это неведомое для гегелевской философии размыкает круг, который
и в глазах Гегеля совершает логическое движение. Это бытие полностью
трансцендентно разуму: «Трансцендентность старой метафизики была
лишь относительной, половинчатой, робкой; трансцендентность
положительной философии абсолютна и радикальна»31. Но хотя
положительная философия начинается с абсолютно трансцендентного, a posteriori
она приходит к его понятию, — т. е. трансцендентное бытие впоследствии
становится имманентным, ибо доказывается его Божество (Gottheit)32.
С^ 126^5
C^ III. Присутствие отсутствующего '^Э
Итак, в чем же состоит отличие положительной философии от старой
метафизики?
«Она (позитивная философия) полагает бытие, не имеющее понятия,
чтобы, отправляясь от него, достигнуть понятия; она полагает
трансцендентное, чтобы превратить его в абсолютно имманентное и чтобы это
абсолютно имманентное получить одновременно в качестве
существующего, что возможно только на этом пути, ибо абсолютно имманентное
присутствует уже и в отрицательной философии, однако не в качестве
чего-то существующего»33. При этом отношение разума к Богу ставится
на новую почву. И Шеллинг выдвигает смелое утверждение: «Бог не есть
трансцендентное, как это представляют себе многие, — Он есть
трансцендентное, сделанное имманентным (т. е. имманентным для
содержания разума)»34. Эту процедуру можно также описать следующим
образом: разум устремляется из самого себя к трансцендентному, причем он
предполагает бытие этого трансцендентного и признает его. Все
дальнейшее вытекает из такого признания.
В этом заключается различие между круговой структурой
гегелевской логики и свободным движением разума в положительной
философии. Поэтому Шеллинг претендует на то, что он вновь освободил разум,
попавший в плен к гегелевской системе, раскрыв ее замкнутый круг:
«Понятием разума, вернувшегося в чистое мышление, была <...>
потенция. Это же было условием отрицательной философии. У
положительной философии никаких условий нет, — кроме того, что разум в ней не
делает себя объектом. Разум здесь — отпущенный на свободу разум.
Постольку поскольку понятие разума в отрицательной философии
основывается на некоем условии, безусловным понятием разума является
необходимо существующее; в нем (sic!) разум освобождается от самого
себя, — освобождается от необходимости движения и приходит к
свободному мышлению. Только в свободном мышлении можно уйти от
необходимо существующего»35.
Лишь в предположении (в двойном значении этого слова)
абсолютной трансцендентности, которая становится имманентным опытом (и
доказательством) Бога только в свободном от необходимости мышлении,
разум может разомкнуть железное кольцо необходимости. Ценой этого
является добровольное самоумаление. Шеллинг полагает, что самим
ходом отрицательной философии разум «наказывается» и смиряется, ибо
лишь в самый последний момент он достигает в ней знания: «В
отрицательной философии разум находится только у самого себя: он —
еще-незнающая, лишь в последний момент становящаяся знающей философия.
В философии положительной наказанный разум снова поднимается до
того знания, которое он всегда искал»36.
(?М27^с>
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^3
5. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НЕПОСТИЖИМЫМ
И ЧИСТЫМ БЫТИЕМ
Как Гегель, так и Шеллинг в начало своих философских систем
помещают бытие. Однако между ними существует разница в понимании
бытия, причем бытие занимает в Гегелевой и поздней Шеллинговой
системах различное положение. Выше было показано, что гегелевская логика
имеет свое начало в пустом бытии, философия откровения Шеллинга —
в «слепо существующем» или непостижимом бытии. Эту разницу
можно сформулировать так. Чистым, пустым бытием «оперирует»
философское (человеческое) мышление: оно ставит это бытие в свое начало
и диалектически развивает его, проводя по различным ступеням логики.
Непостижимым же бытием, которое, по Шеллингу, есть Божественное
бытие, предшествующее творению (это бытие, таким образом,
предваряет философское мышление, если оно исходит из реально
существующего бытия), — этим бытием оперирует Бог: «Истинный Бог — это
живой Бог; жив тот, кто располагает своим бытием; жив тот Бог, который
собственной властью выходит из Себя, становясь неким другим по
отношению к Своему непостижимому бытию, отличным от того бытия,
в котором Он пребывает a se. Мыслить Бога без власти означает лишать
Его возможности любого движения»37.
Существует ли переход между родами бытия — непостижимым
бытием и чистым бытием? Или же расстояние между бытием,
предшествующим всякому мышлению, и бытием в мышлении непреодолимо? Прежде
всего можно заметить, что в тот момент, когда я говорю о бытии,
предшествующем всякому мышлению, я держу это бытие в мышлении и
перемещаю его там. Итак, или мне надлежало бы молчать вместе с
Витгенштейном о том, о чем я не имею возможности говорить, или же
я приписываю незаконным образом тому, о чем я тем не менее говорю
и, следовательно, думаю, некую реальность вне мышления, — налицо
непреодолимый порочный круг. Именно из этого круга хочет выйти
Шеллинг: «Если бы мы хотели превратить это в объективное
положение, — скажем, все то, что также и само по себе (an sich) существует
только в мышлении, — то нам пришлось бы вернуться к точке зрения
идеализма Фихте. Если мы хотим чего-то существующего вне
мышления, то мы обязаны исходить из бытия, которое абсолютно независимо
от всякого мышления, которое предваряет всякое мышление. Об этом
бытии гегелевская философия не знает ничего, в ней не нашлось места
этому понятию»38.
Этот аргумент совпадает с вышеупомянутым доводом:
существование вещи подтверждается не мышлением, а восприятием; в связи с этим
Шеллинг говорит об авторитете внешних чувств39. Условием всякого вос-
е^ 128 ^9
(г^ III. Присутствие отсутствующего ^3
приятия, по Шеллингу, оказывается бытие, которое абсолютно внепо-
ложно всякому мышлению. Если бы оно находилось в мышлении, то
восприятие было бы не чем иным, как низшей ступенью мышления —
разума и рассудка, — или же, пользуясь гегелевским выражением, разумом
или рассудком в их инобытии. Но так я никогда не приду к
положительно существующему: хотя мои чувства опосредуют его консистенцию,
они не приводят его к существованию.
Итак, восприятие и понятие — те два принципа, благодаря которым
я постигаю нечто действительно существующее: благодаря
восприятию — его положительную действительность, quod; благодаря понятию —
его сущность, quid40. Поскольку положительная философия хочет дойти
до действительно существующего, она должна начинаться с quod, чтобы
впоследствии разузнавать относительно его quid; ее предмет —
действительное существование, тогда как отрицательная философия имеет дело
с quid, и ее предмет — сущность всего, что может существовать41.
Шеллинг отдает должное Спинозе в том, что он один прежде
Шеллинга действительно сделал началом своей философии необходимо
существующее, «слепо существующее»42, — но он возражает Спинозе,
сразу отождествившему в своей системе это слепо существующее с Богом,
тогда как для него, Шеллинга, вначале значимо лишь то утверждение,
что у слепо существующего не может быть никакого другого понятия,
кроме как связанного с существованием. Но положительная философия
начинается с того существующего, которое еще никоим образом не Бог.
Сам Спиноза описывает это первое как quod non cogitari potest, nisi exis-
tens (то, в чем не мыслится ничего, кроме существования); и хотя он
называет это первое Богом, но это не Бог «в том смысле, в каком слово
"Бог" использовал Лейбниц и защищаемая им метафизика»43. Почему
это не Бог?
«Ошибка Спинозы (если признать его правоту в том, что
положительное, единственно из которого можно исходить, есть именно то, что
лишь существует) заключается в том, что он тотчас же полагает его
тождественным Богу, не показав одновременно (как обязана поступить
истинная философия), каким образом от этого голого существования, pri-
us'a, можно прийти к Богу (Он здесь posterius). Т. е., он не показал, что
именно это голое существование, которое не есть Бог — не есть natura
sua, ибо это невозможно, — что оно, однако, деятельно, actu, что оно
после (становления) действительности, a posteriori, есть Бог. В этом
отношении Спиноза достиг глубочайшего основания всякой
положительной философии, но его ошибка состоит в том, что он не смог
продвинуться дальше этого основания»44.
Однако «Этика» Спинозы есть продвижение вперед от этого первого
бытия, и можно спросить: почему разница между непостижимым
бытием и слепо существующим, лишь апостериорно оказывающимся Боже-
е%129^Э
Сг^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^z)
ством, возникает тогда, когда апостериорно, как результат
философского движения, выступает то, что Спиноза полагал a priori: то, что
необходимо существующее - Богу? Конечно, эта разница принципиальна: хотя
положительная философия, как и Спиноза, исходит, как из
первоначала, из слепо существующего, но понятие Божества возникает там только
благодаря тому, что Бог, который имманентен этому бытию и
оказывается из-за этого не Богом, а чистым, голым существованием, начинает
оперировать этим бытием, тем самым возвышаясь над ним или, по
выражению Шеллинга, «творчески удаляя его от Себя». Другими словами:
непостижимое бытие ^ Богу. После того как Бог как Господь оказался
над этим бытием, оно прежде всего * Богу, ибо Бог возвысился над ним,
отодвинул его от Себя (соответственно, Себя от него). Благодаря этому
непостижимое бытие становится таким, которое знает теперь то, что
было прежде, — оно знает сверхбытие. И только сверхбытие есть Бог,
в противоположность которому непостижимое бытие, в котором ранее
покоилась сущность Бога в качестве всесущности, остается
бессущностным и в этом отношении есть ничто.
Только через это свободное деяние Бога также и человеческий разум
поставлен в свободу, и его развитие становится свободным
философствованием45. Если же, напротив, философское движение, как в «Этике»
Спинозы, начинается прямо с необходимо существующего (непостижимого
бытия), то философская система остается при необходимости, и
Спиноза с полным правом указывал на то, что подобная система должна
демонстрировать ordine geometrico, подобно этике, которая движется
целиком и полностью в царстве необходимости, — ее свободу Кант метко
назвал свободой человека, поворачивающего вертел.
Если разум продвигается от необходимо существующего в
нисхождении, то он должен сделаться необходимой системой. Но философское
движение не обязательно должно начинать нисхождение уже тогда,
когда оно определило своим первоначалом просто существующее.
Напротив, оно может в дальнейшем совершать восхождение. Но в таком
случае речь не идет о его собственном восхождении, ибо в предположении
необходимо существующего восхождение пришло к своему концу. Если
искать дальнейшего восхождения, то оно поэтому осуществимо только
в предположении восхождения чего-то совершенно иного, чем
человеческий разум. В терминах Шеллинга это совершенно иное восхождение
есть действительный процесс возвышения Бога над Своим
непостижимым бытием: «Бог не отчуждает Себя в мир, но, скорее, возвышает Себя
в Свое Божество; Он отчужден непостижимым образом; поскольку Он
уклоняется от действия (actus), Он уходит в Себя. Но одновременно Бог
препятствует действию (actus) Своего необходимого существования,
чтобы на место этого первого существования положить отличное от
него бытие»46.
е^мзо^э
C^ III. Присутствие отсутствующего ^3
В этом случае Бог совершил бы лишь восхождение человеческого
разума, — да, он совершил бы это движение прежде всякого человеческого
разума. Нисхождение разума действительно свободно, только если оно
начинается после этого восхождения, ибо оно исходит не из слепо или
необходимо существующего, но из сверхсущего, свободного, личного
Бога47. Если сопоставить между собой системы Гегеля, Спинозы и
позднего Шеллинга, то встречаешь три различных способа бытия, в которых
берет начало соответствующее движение мысли:
1. Гегелево чистое бытие.
2. Необходимое бытие Спинозы.
3. Непостижимое бытие Шеллинга, которое вначале идентично спи-
нозовскому, но затем оказывается другим, — после того как Бог
возвысил себя над ним.
Спинозовское бытие есть исходный пункт, действительный prius
положительной философии Шеллинга.
Шеллингово второе бытие, отличное от Бога непостижимое бытие,
также = ничто: если прежде всесущность покоилась в нем, то затем Бог
выступил из этого покоя, начав Свою деятельность; «под» Ним остается
покоящееся бытие, в котором уже нет Божественной сущности.
Поскольку Божественная сущность есть всесущность (Hen kai pan), в остатке
оказывается чистое ничто. Здесь поразительная близость к
гегелевскому понятию чистого бытия. Выше был поставлен вопрос, есть ли
переход между такими видами бытия, как непостижимое и чистое бытие. Их
связывает цимцум: покинутое Богом, до того непостижимое бытие после
Божественного отступления идентично «чистому бытию» Гегеля. Как
упоминалось, Гегель исходит из тождества бытия и ничто. По его
мнению, чистое бытие «свободно от определенности в отношении
сущности»; в нем не мыслится никакой сущности — одно чистое бытие, которое
само по себе бессущностно и есть ничто. Но Шеллингово второе бытие
(непостижимое бытие после того, как Бог положил его в качестве
отличного от Самого Себя) есть тоже чистое, оставленное Богом бытие,
в котором больше нет никакой сущности, ибо вся сущность (т. е.
всесущность) отступила оттуда (Исаак Лурия) или поместила это бытие
под собой (Шеллинг). Итак, понятийное определение непостижимого
бытия после акта цимцума в точности соответствует тому понятийному
определению, которое Гегель дает чистому бытию. Но то бытие, которое
у Гегеля выступает лишь как возможность, у Шеллинга стало
действительным бытием. Другими словами: Шеллингов подход обнаруживает
действительность чистого бытия Гегеля, — но не через то, что Бог
«отпустил» Себя в него, а как раз наоборот — через то, что Бог отступил из
него, оставил его.
Детальный анализ чистого бытия Гегеля показал, что чистое бытие,
которое Гегель берет в качестве первоначала, сперва следует рассматривать
е^ 131^э
e^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
как тот второй момент, которому предшествует спинозовское (Шеллин-
гово) непостижимое бытие. Так как свободное нисхождение от
«необходимо существующего» Спинозы невозможно, также и Спинозово
понимание бытия не может быть первым, из которого надлежало бы исходить
философскому движению мысли, направленному на свободное
сотворение мира. Только отражая цимцум, бытие Спинозы может стать
исходным пунктом такого философского движения. Но так как «последний
отрезок пути» восхождения уже как бы не может быть пройден разумом,
а был пройден Богом прежде всякого акта творения, — Богом, который
в цимцуме возвысился над Своим непостижимым бытием,
необходимым существованием, то modus progrediendi положительной
философии изменяется: теперь речь больше не идет о необходимости (ordine
geometrico), но только о свободе, диалогичности и отражении цимцума.
Однако идея цимцума возвращает к гегелевскому понятию чистого
бытия и к диалектическому движению разума; но на этот раз чистое
бытие — это не беспредпосылочное первое, но второе, которому
предшествовал и потому был предпослан первичный творческий жест —
цимцум. Итак, мы пришли к тому, что чистое бытие и полагаемое отличным
от Бога прежнее непостижимое бытие тождественны.
Благодаря этому результату понятно, почему гегелевское чистое
бытие — это не только простой покой, пустое ничто, а также не только
тождество бытия и ничто, но и переход от бытия к ничто, а
следовательно — становление. Ибо «природа» того бытия, о котором говорит Гегель,
это не что иное, как структура, которая в чистом бытии обусловлена тем,
что прежде в нем находилась всесущность. И момент становления,
переходного от бытия к ничто бытия, в действительности есть perfectum,
прошлое, совершенное деяние, в котором вместе с Исааком Лурия надо
усматривать отступление Бога. Действительный процесс, как его
описывает цимцум, имеет следующие ступени: непостижимое бытие —
отступление Бога (цимцум) — отпущенное на свободу бытие, которое
одновременно есть ничто; или, в понятиях гегелевской логики: (абсолютное)
существование — становление (= активное отступление) — бытие. В то
время как в логике Гегеля существование (наличное бытие) есть лишь
третий момент в движении, в философии цимцума в ее абсолютной
форме это первая ступень. Второй ступени, у Гегеля обозначенной как
(пассивное) переходное бытие от бытия в ничто, в реальности
соответствует действие самоотступления; если рассматривать его только со
стороны непостижимого бытия, а не с точки зрения поступающего Бога,
то оно оказывается переходом от бытия в ничто. Результат этого
становления — отпущенное на свободу, чистое бытие, которое у Гегеля
является первым, но в действительности уже третье; и, будучи третьим, оно
имеет диалектическую природу и есть синтез двух предшествующих
ступеней (необходимо существующего и цимцума).
С^ 132 ^9
(r^ III. Присутствие отсутствующего ^5
Это поясняет следующая схема:
Бог как сверхсущее (Шеллинг, Лурия)
t
Становление (Гегель) = возвышение (Шеллинг)
или цимцум (Лурия)
î
Необходимо существующее бытие Чистое бытие/ничто
(Спиноза, Шеллинг) (Гегель)
ι
Становление
ι
Наличное бытие
Чистое бытие, допущенное Гегелем, и необходимо существующее
бытие, которого требует Спиноза, после цимцума находятся как бы
посередине между трансцендентным и имманентным и служат для них «осью
симметрии». Так как Гегель не видел или же не признавал
трансцендентное в спинозо-шеллинговском понимании, чистое бытие для него не есть
нечто опосредующее, но является высшей исходной точкой третьего
(нисходящего) шага, который оказывается в действительности
восходящим, «идентифицирующим» и нисходящим пятым шагом (восхождение:
необходимо существующее -> отступление Бога -> ничто;
идентификация: оставленное (Богом) непостижимое бытие = чистое бытие/ничто;
нисхождение: чистое бытие/ничто —» становление —> существование).
6. БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ
Чистое бытие — это:
1) чистое отрицание, ничто;
2) чистая потенция = возможности воспринять сущность;
3) чистая структура = отношению к сущности или к первой
действительности.
Замечания к 1). Когда от непостижимого бытия отступил Бог, оно
оказалось чистым, бессущностным бытием, в котором уже нельзя
обнаружить ничего определенного. В действительности это чистое,
абсолютное ничто, матрица, инобытие или отрицание Божества. Когда понятие
Бога есть понятие Hen kai pan, всесущности, всеединого и когда
предполагается, что Бог покидает непостижимое бытие, то в результате не
остается ничего другого, кроме как бессущностного всего = ничто; посколь-
езмзз^э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^
ку всякая определенность, всякая понятийность относится к сущности,
то это ничто не имеет ни определенности, ни понятия. При этом
«ничто» весьма точно соответствует тем условиям, которые Гегель
предъявляет к первому, чистому бытию.
Замечания к 2). Это чистая потенция. Поскольку это бытие прежде
было идентично всесущности, как бы давая ей поэтому приют, для него
всегда существует возможность вновь воспринять всесущность.
Поскольку раньше оно было абсолютной деятельностью (actus), полнотой,
плеромой, теперь оно полностью приведено в напряжение и есть potentia,
пустота, кенома, ожидающая наполнения. В этом отношении оно
вообще есть условие творения. Без освобождения Богом Его негативного
аспекта творение мира было бы невозможным.
Замечания к 3). Это чистая структура = отнесенности к сущности.
Так как непостижимое бытие мыслится как всецелое Божество, то это
всецелое Божество в нем подвергнуто отрицанию, т. е. «содержится»
в нем отрицательным образом. Божественная сущность как бы оставила
там свой собственный отпечаток, так же как Божественный
изначальный творческий жест — движение цимцума — «запечатлен» в том
«ничто», которое возникает благодаря этому отступлению. Другими
словами: чистое бытие, которое одновременно есть ничто, двояким образом
структурировано. С одной стороны, в нем имеется некий негативный
отпечаток, оно есть поэтому своеобразная «матрица» (здесь
присутствует слово «мать»); а с другой стороны, оно есть совокупность тех
«следов» и «путей», которые Бог, отступая, оставил за Собой. Если нечто
сотворено, т. е. сделано действительным, то это может иметь место только
в соответствии со структурой чистого бытия и с «путями» указанного
движения. Здесь исток Гегелева априорного эмпиризма: если нечто
становится действительным, то только в соответствии с логикой; она же
есть не что иное, как самодвижение мысли в согласии со структурами
чистого бытия или как бы «вдоль» этих структур. И поскольку в основе
этих структур лежит совпадение бытия и небытия, то метод движения
в этих структурах есть диалектика, а ее результат — система логики.
Другими словами: Логика есть закономерно необходимое движение
разума в соответствии с Божественной сущностной структурой, ос-
тавленной в чистом бытии после завершения цимцума и запечатленной
там. Логика — это не что иное, как структура, — и это означает
следующее: логика — это ничто в качестве структуры. Поэтому логика в
развитии своих законов представляет истину. Но одновременно она не
включает в себя таких атрибутов истинной сущности, как
действительность и жизнь. Потому Гегель и говорит о «мертвом скелете» и «царстве
теней» логики48. Такая логика, о которой Гегель говорит, что она
соответствует тому, что Кант называет трансцендентальной логикой49, имеет
при этом поначалу задачу точнее определить категорию ничто: «Ничто
е^ 134^3
C^ III. Присутствие отсутствующего ^Э
обычно противопоставляют (всякому) нечто; но нечто есть уже
определенное сущее, отличающееся от другого нечто; таким образом, и ничто,
противопоставляемое (всякому) нечто, есть ничто какого-нибудь нечто,
определенное ничто. Но здесь должно брать ничто в его
неопределенной простоте»50.
То ничто, которое здесь подразумевается, не есть ничто
определенное, — но оно и не такая фикция, как абсолютное ничто, из которого на
самом деле ничего не может возникнуть (кроме одного ничто)51: это
абстрактное ничто, которое идентично абстрактному бытию, так что оба
они выступают вместе в одно и то же время в каждом конкретном
случае52. Когда Гегель говорит о «чистом бытии» и «чистом ничто», он
всегда подразумевает это абстрактное бытие и ничто, — следовательно,
такое бытие и ничто, в котором произошел процесс абстракции; abstrahere
означает: отходить от, удаляться от чего-то, — то есть отступать,
устраняться. Но теперь на фоне цимцума «ничто» оказывается результатом
двойного абстрагирования: при рассмотрении «снизу», т. е, со стороны
конкретно существующего, то пустое бытие, с которого начинается
логика Гегеля, есть результат абстрагирования мышления,
«устраняющегося» из всякого конкретного содержания; при рассмотрении «сверху»,
т. е. со стороны сверхсущего, оказывающегося Господином над Своим
непредставимым бытием, оно есть результат некоего движения, которое
это бытие как таковое лишь допускает.
Благодаря этим различным углам зрения обнаруживается разница
между понятием творения у Гегеля и позднего Шеллинга. Как уже
упомянуто, в конце логического движения оказывается, что пустое бытие
есть, собственно, то второе начало, в которое Божество отпускает себя,
одновременно принимая «свободное» решение о сотворении мира.
Божество устремляется на эту чистую потенциальность и в нее саму; оно
полагает само себя как эту потенциальность: таков пра-жест
творческого духа по Гегелю, Шеллинг, напротив, допускает решимость к действию
положительно-конкретно существующего, настоящего первого, — и
результатом этого оказывается чистое бытие. Итак, пра-жест творческого
духа по Шеллингу (и Лурия) — это не устремленность на чистое (еще
потенциальное) бытие, отпускание себя в бытие, а устранение себя из
собственного бытия, когда это бытие остается открытым, —
освобождение бытия от собственной сущности53. Только на втором шаге
творческий дух устремляется на возникшую таким образом потенциальность,
а также внутрь нее. Таким образом, Гегелева логика на самом деле
рефлексирует только «вторую половину» цимцума; вначале она исходит из
чего-то такого, что она, собственно, не учитывает, но что, тем не менее,
в ней предполагается: это абстрагирование или само отступление.
С другой стороны, согласно Гегелю, чистое бытие достигается
мышлением только в процессе абстрагирования. Гегелевский метод
начинаем 135 ^9
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ется поэтому в точности разновидностью «цимцума» —
абстрагированием от всего действительного и движением разума в «кеному чистого
разума» м. Но этот процесс совершается лишь в мышлении — в ordine
cognoscendi. В ordine essendi «абстрагирование» означает, однако, не
просто мысленный процесс отказа от всякой определенности (при
котором мышление уклоняется от конкретных определений, предпочитая
им неопределенно-всеобщее), но скорее реальный, живой процесс
самоустранения всесущего из его непостижимого бытия (что составляет
действительное содержание понятия «абстракции»). Достижение
пустого бытия в мышлении на пути абстрагирования поэтому является
аналогом такой онтологической действительности, как возникновение
пустоты в бытии, т. е. самоустранения реально существующего, Бога.
В определенном отношении движение мышления является (внизу)
зеркалом и подобием реального процесса самоотступления
положительного первого (наверху), — конечно, с тем различием, что полнота, плерома,
отступает с Божественной сущностью, оставляя за собой më on, тогда
как разумное мышление оставляет позади себя полноту эмпирических
определений, чтобы уйти в «кеному чистого разума». Мышление
«прикасается» снизу к чистому бытию, из которого оно затем выходит в
логическое движение. Но поверх чистого бытия — в области, недоступной
для абстрактной, формальной мысли, — правит тот деятельный
творческий дух, который оставил это бытие позади себя в процессе цимцума.
И подобно тому как мыслительный процесс абстрагирования
предшествует его результату (само абстрагирование предваряет
абстрагированное — чистое бытие), так и в действительности «получение»
состояния или «природы» чистого бытия предшествует наличности этого
чистого, лишенного определенности бытия или ничто.
То, что описанное Гегелем чистое бытие или ничто по-настоящему
должно иметь дело с двояким отступлением, было обосновано так: если
смотреть со стороны разума, то разум должен отстраниться от всякого
конкретного содержания, чтобы благодаря этому достигнуть
абстрактного бытия; а со стороны действительности непостижимо
существующее, в котором нет никакого отрицания, должно впервые подвергнуться
отрицанию (что, собственно, означает «отступление оттуда»), чтобы
образовалось «пространство» для некоего другого бытия, — и при этом
для того, которое удовлетворяет всем дальнейшим условиям
гегелевской логики.
Только на фоне всего этого становится ясным, что движение
логических абстракций может привести лишь к тому результату, что чистое
ничто не есть просто ничто, но одновременно является мэонической
составляющей действительности.
(?М36^Э
Cr^ III. Присутствие отсутствующего ^Ξ)
7. ЦИМЦУМ КАК УСЛОВИЕ ДИАЛЕКТИКИ
В своей логике Гегель определяет те моменты (или, как он
выражается, «примеры»), через которые в диалектическом движении разума
проходит единство бытия и небытия. И здесь возникает вопрос об условии
возможности таких «примеров». По Гегелю, таким условием является
диалектика: «Диалектикой же мы называем высшее разумное движение,
в котором такие кажущиеся безусловно раздельными (моменты)
переходят друг в друга благодаря самим себе, благодаря тому, что они суть,
и предположение (об их раздельности) снимается. Диалектическая
имманентная природа самого бытия и ничто в том и состоит, что они свое
единство — становление — обнаруживают как свою истину»55.
Тут можно остаться вместе с Гегелем при простой констатации этой
диалектической природы, имманентной бытию, чтобы сразу же
обратиться к различным «примерам» диалектического развертывания единства
бытия и ничто. При этом вопрос о причине имманентной
диалектической природы или структуры бытия и ничто не ставится. С другой
стороны, нельзя ответить на этот вопрос, если, следуя Гегелю, допустить
некое апостериорное самоотчуждение Бога в чистое бытие, ибо на него
можно отвечать лишь априорно. Но такой априорный ответ с
необходимостью приводит — через голову этого бытия — к цимцуму.
Как уже говорилось, Гегель представляет себе творческий процесс
так, что Бог после завершения логического движения, т. е. после
продумывания творческих мыслей, «отпускает» Себя в чистое бытие56, — так
что, по Гегелю, первичный Божественный творческий жест — это
апостериорное движение в чистое бытие, в то время как в философии, в
которой рефлексируется цимцум, первичный творческий жест — это
априорное движение из бытия, удаление от него, или, по Шеллингу, возвышение
над бытием (в направлении к сверхсущему).
Гегель исходит из чистого бытия, как будто это само собой
разумеется, не спрашивая о тех условиях, при которых вообще может мыслиться
чистое бытие, которое при этом есть ничто. Гегелева диалектика
исходит, следовательно, просто из единства бытия и ничто. Гегель не
спрашивает о причине этого единства, но лишь констатирует его
диалектическую «природу». Такой причиной оказывается цимцум, который вообще
есть условие диалектики: только тогда, когда Бог устранился из Своего
непостижимого бытия, ушел от него, делается возможным чистое,
пустое бытие, которое одновременно - ничто. Диалектика, это
самоустранение мышления от каждого определенного момента и переход к
следующему моменту, обязана самой собою некоему изначальному деянию,
некоему изначальному отступлению и уходу. Она возникает не из самой
себя, а из чего-то другого.
е^137^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^5
Гегель показал то, что чистое бытие как единство бытия и ничто
может осуществить в качестве начала логики. На самом деле это единство
можно рассматривать с одной-единственной точки зрения — с позиции
автономного человеческого разума. При этом диалектика этого
единства бытия и ничто приводит в результате к логически закономерным
моментам или «примерам».
Но если в тождестве бытия и небытия заключено нечто большее, чем
ничто, — а именно, условие становления, — то ничто, возникшее
благодаря Божественному отступлению, не есть полное, абсолютное ничто.
В нем следует усматривать некий «остаток бытия», который побуждает
его к развитию. Этот остаток бытия присутствует в понятии цимцума
у Исаака Лурия. Там он имеет название «решиму»57. Но Лурия не был
первым, кто пришел к этой мысли, ибо идея «остатка бытия» была
связана с идеей цимцума также у гностика Василида™. Возможно ли
философское осмысление «решиму», оставшегося после цимцума (Лурия),
«приятного аромата» (Василид) или «светового мира» («Книга
великого Логоса»)?
Василид, «Книга великого Логоса» и Исаак Лурия пытаются точнее
понять «остаток бытия» в пространстве, образовавшемся благодаря
цимцуму, с помощью понятий, заимствованных из сферы внешних
чувств. Тем самым внушается, что цимцум осуществился не совсем до
конца, — и это не может считаться удачным моментом этих учений; Бог
словно устранился лишь частично, хотя и в значительной степени. Но
цимцум только тогда мыслится радикально, когда предполагается, что он
совершается полностью. Это приводит к следующему предположению:
тот «остаток бытия», который присутствует после цимцума в прапрост-
ранстве творения, не субстанциален, как считали Лурия и различные
гностики, но, скорее, обладает личностной природой. Другими словами:
мы стоим на пороге знания того, что следует понимать под тварной
личностью и как вообще можно мыслить себе личностное существо вне
Божества. При этом диалектика бытия и небытия ведет к твари как
личности, — к «одному» и многим «одним» в терминах Гегеля.
8. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТИ ИЗ ИДЕИ ЦИМЦУМА
Одной из важнейших проблем философии всегда был и остается
вопрос о соотношении единства и множества. Как из единицы, из одного
Божества может произойти некое множество? Не является ли все в
своей основе единым, а все многообразие не есть ли чистая иллюзия, как это
пытались показать элеаты, — в особенности Парменид и Зенон? В своей
логике Гегель обсуждал эту проблему на фоне отрицания — общего
конституирующего принципа налично существующего.
емзв^)
C^ III. Присутствие отсутствующего ^z)
а) Гегелевское «одно» и многие «одни»
«Одно» для Гегеля — это «соотношение отрицательного с собой59
<...>, процесс определения, а как соотношение с собой оно бесконечное
самоопределение»60. Причина этого бесконечного процесса заключена
в том, что одно «есть простое единство самого себя и своего момента,
бытия-для-одного»01. Гегель обосновывает это в связи с
непосредственностью единого бытия: «Моменты для-себя-бытия погрузились в
неразличимость, которая есть непосредственность или бытие, но
непосредственность, основанная на отрицании, положенном как ее определение.
Для-себя-бытие есть, таким образом, для-себя-сущее, и ввиду того, что
в этой непосредственности исчезает его внутреннее значение, оно
совершенно абстрактная граница самого себя — "одно"»62.
Гегель обращает внимание на те трудности, которые возникают при
представлении развития «одного»: «Моменты, составляющие понятие
"одного" как для-себя-бытия, в нем разъединяются (treten auseinander).
Эти моменты таковы: 1) отрицание вообще; 2) два отрицания; 3) стало
быть, отрицание двух, которые суть одно и то же и 4) которые
совершенно противоположны; 5) соотношение с собой, тождество как таковое;
6) отрицательное соотношение и тем не менее с самим собой»63.
Это не способное сделаться другим, неизменное «одно» есть
одновременно определенность и неопределенность, поскольку оно имеет
отношение лишь к самому себе. Таковое отношение к самому себе означает,
что вне самого «одного» нет ничего, — следовательно, там есть ничто —
как «абстракция соотношения с самим собой»64. В этом смысле «одно»
есть одновременно пустота «как абстрактное соотношение отрицания
с самим собой»65. Гегель различает две формы пустоты: с одной стороны,
«одно» есть пустота, так как в нем ведь ничего, кроме «одного», не
полагалось66. Но, с другой стороны, это ничто или пустота есть основание
движения «одного»67. От этого понятия пустоты Гегель отличает
пустоту как пустое пространство68. Основанием для наличного бытия
«одного» и пустоты служит для Гегеля бытие для себя69. Когда «одно»
полагается утвердительно в качестве этого «одного», оно имеет имплицитно
(via negationis) отношение к некоему другому, — а именно, к наличному
бытию. Вначале это его собственное наличное бытие, которое, однако,
уже переступило свое «одно» как таковое: помимо «одного», оно
обладает определением бытия в себе. Но это бытие, как собственное
наличное бытие, есть не что иное, как бытие «одного», следовательно,
позитивно положенное «одно»70. Вместе с «одним» всегда уже положена
возможность для некоего другого «одного» и при этом для становления
многих «одних». Возможность всякой будущей множественности
понимается Гегелем как выхождение «одного» через себя за свои пределы,
что он называет отталкиванием71.
е^ 139 ^Э
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
Если перенести на процесс действительного творения этот чисто
формальный, абстрактный ход мыслей, то результат гласит: Бог
(бесконечное «одно»), полагающий Себя в качестве Творца, может открыть
Себя только в многообразии, причем каждый элемент этого
многообразия подобен другому и независимость их всех обусловлена не
различием, но исключительно имманентным принципом отталкивания. Гегель
показывает, что отталкивание как самополагание «одного» переходит
в притяжение: так как все это множество единиц объединяет то, что они
существуют благодаря отталкиванию, — они в этом едины. Поэтому
Гегель говорит о схождении вместе многих «одних»72. Установив это,
Гегель переходит к моральной оценке данного наблюдения:
«Самостоятельность, доведенная до такой крайности, как для-себя-сущее "одно",
есть абстрактная, формальная самостоятельность, сама себя
разрушающая; это — величайшее, упорнейшее заблуждение, принимающее себя
за высшую истину. В своих более конкретных формах она выступает как
абстрактная свобода, как чистое "Я", а затем еще как зло» 1:\
Использование свободы ради эмансипации, абсолютизированное и
таким образом доведенное до крайности, в глазах Гегеля есть зло, связанное
с «я», которое обособляется от всех прочих «я» и полагает себя в
качестве абсолютного. В этом абсолютном полагании оно само в конце
концов разрушается, поскольку пытается удержаться в своем особенном
бытии, которое оно абсолютизирует и считает центральным74. Но бытие
ускользает от него. Только благодаря признанию многих «одних»
определенное «одно» обретает себя, в чем и состоит примирение75. Но в чем
заключается общность многих «одних»? Лишь в том, что все «одни»
порождены отталкиванием? Не только в этом: сюда относится также
реализация некоего долженствования (следовательно, некое еще-не), некая
идеальность: «Отталкивание — это прежде всего саморасщепление
"одного" на "многие", отрицательное отношение которых бессильно, так как
они предполагают друг друга как сущие; оно лишь долженствование
идеальности; реализуется же идеальность в притяжении. Отталкивание
переходит в притяжение, многие "одни" — в единое "одно". То и другое,
отталкивание и притяжение, с самого начала различаются, первое как
реальность "одних", второе — как их положенная идеальность.
Притяжение так соотносится с отталкиванием, что имеет его своей
предпосылкой. Отталкивание доставляет материю для притяжения. Если бы не
было никаких "одних", то нечего было бы притягивать. Представление
о непрерывном притяжении, о (непрерывном) потреблении "одних"
предполагает столь же непрерывное порождение "одних"»76.
То, о чем говорит здесь Гегель, — это разновидность ритма или
дыхания: множество «одних» исходят из единого «одного» посредством
отталкивания и самоутверждения; с другой стороны, благодаря притяжению
они вновь объединяются в этом «одном». Этот процесс делается более
С%140^Э
C5^ III. Присутствие отсутствующего ^Э
понятным, если в основу его положить цимцум. При этом действует та
же самая, что и у Гегеля, диалектика тождества и различия бытия и
небытия. Вместе с определенным «одним» полагаются многие «одни»,
причем каждое из них заключает в себе как момент тождества (бытие
«одного»), так и различия: тождества — поскольку каждое составляет
единство; различия — поскольку каждое является другим в сравнении
с прочими «одними». Условием такого положения дел служит цимцум,
Божественное отступление. Поскольку первоначальное Божественное
единство устраняется и его откровение происходит только после
отступления (следовательно, оно несет в себе отрицательный принцип,
как и в начале рассуждений Гегеля, связанный с единством), в каждый
момент откровения одновременно присутствует позитивно положенное
«одно» (дух в аспекте Логоса, Слова, — следовательно, в аспекте
выдоха). «Одно», каждое «одно» предназначено для наличного бытия, и для
этого оно полагается как таковое, но в момент этого полагания
Полагающий отступает от положенного и тем самым делает его
самостоятельным и одновременно помещает в пустоту: Гегель точно описывает то,
что налично существующее имеет вне себя пустоту, одновременно
будучи уверенным в собственном бытии. Но это собственное бытие уже
является результатом отрицания собственного бытия в Полагающем —
в Божественном духе. Налично существующее чувствует себя
выброшенным в ничто или пустоту77; и это переживание пустоты вызывает в нем
томительное стремление (гегелевское «движение») удержаться в бытии.
Слово «поддержка» (Erhalten) имеет двоякое значение. Прежде
всего, это обозначение некоего полученного дара, милости — в том смысле,
что я обязан чем-то кому-то другому. Так, каждое «одно» обязано своим
наличным бытием и бытием-для-себя эманации и отступлению
изначального «одного» — духа; каждое «одно» получает свое бытие и
побуждается Божественным отступлением отныне держать себя в бытии, т. е.
поддерживать свое наличное бытие.
Ь) Условие возможности «одного»
Как мы уже показали, пустое пространство или пустота, возникшая
благодаря Божественному отступлению, цимцуму, обладает
определенной структурой: эта пустота получила отпечаток Божественной
полноты и есть другость полноты, т. е. ее матрица. Пустое пространство в
отрицательном смысле содержит в себе бытие; в положительном смысле
оно — не что иное, как пустота. Божественная пневма опять-таки
заключает в себе возможность свободно перейти в бытие, ибо Бог Господь
возвысился над бытием. Выступающая наружу пневма открывает себя
в полноте Божественной силы и свободы в той структуре, которая сама
по себе есть лишь пустота. А именно, в каждом моменте бытия, положен-
е*М41^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
ного благодаря выступлению пневмы, отныне присутствует
Божественное отступление, ибо пневма есть результат «Божественной
предыстории». Единство эманации и отступления, раскрытия и свертывания,
притяжения и отталкивания означает, что в каждое мгновение и на
каждом месте откровения образуется «одно», причем каждое «одно»
содержит в себе оба момента и в отношении единичности бытия (Einssein)
тождественно со всяким другим единым в любом другом месте и в
любое другое мгновение. Ибо когда в единстве излучения и отступления
открывается пневма, то вначале происходит выступление пневмы
наружу, благодаря чему конституируется бытие, обладающее структурой; но
затем к выступлению присоединяется Божественное отступление, так
что то, что отныне существует, есть «одно» благодаря тому, что в нем,
в силу Божественного отступления, присутствует начало отрицания.
Действительно, самоутверждающееся бытие прежде всего начинает
соотноситься с самим собой, так как при отступлении ему сообщается
граница, которая и знаменует собой тварность. Но поскольку бытие
обязано самим собою Божественной пневме и усии-Софии, его собственное
становление лишь тогда оказывается полным, когда оно определяет себя
не только самостоятельно (путем отрицания), но признает
одновременно то, что первое отрицание, делающее его самостоятельным, есть
общая для всех становящихся единиц реальность Божественной жертвы.
Итак, каждое творение «состоит» из следующих моментов:
a) чистой отрицательности, т. е. пустоты, которая в структурном
отношении налагается на полноту Однако помимо этой
основополагающей структуры, наложенной на полноту, творение одновременно
обладает желанием быть и удерживаться в бытии;
b) положительного наличного бытия, которое в структурном
отношении, ради самоопределения, нуждается в пустоте, — но, с другой
стороны, хочет полноты, чтобы наличествовать действительно в бытии. Ибо
когда «одно» самостоятельно, т. е. в буквальном смысле слова оставлено
Богом, в нем, правда, остается Божественная структура или отпечаток;
но, поскольку субстанциальное бытие имеет место только в Боге и с
Богом, «одно» находится в ничто: так как своей самостоятельностью, т. е.
своим бытием помимо Бога, оно обязано Божественной жертве, без
Бога оно на самом деле ничто, — его наличное бытие состоит лишь в том,
чтобы быть ничем. И это нуждается в некотором разъяснении.
Желание удержаться в бытии и самоопределиться присуще
личностному бытию. Философия, отражающая цимцум, в итоге приходит,
следовательно, к тому, что все тварное в начале Божественного откровения
имеет духовно-личностную природу. Затем обнаруживается, что
личностное бытие всегда содержит в себе момент отрицания: оно обязано
самим собою самоотрицанию Божественного духа, т. е. Божественной
жертве. Нечто личностное проходит через становление только благода-
е*М42^)
с?5" III. Присутствие отсутствующего ^)
ря тому, что оно лишено полноты: полнота пребывает с отступившим
Божественным бытием. Это означает следующее. Тварная личность в ее
истоке есть бескачественная, лишенная определенного модуса (способа
существования) наличная форма бытия, которую поэтому правомерно
считать за ничто, — конечно, ничто, желающее полноты, — или за чистую
потенцию. Только на втором шаге свободного обращения к
Божественному истоку тварная личность может воспринять в себя сущностную
субстанцию и полноту, причем эта сущность божественна, так что личность
приобщается Божественной мистерии, — но теперь уже не будучи в ней
полностью независимой. Налицо два различных личностных центра —
Божественный и тварный, и они встречаются в одной Божественной
сущности или субстанции.
Таким образом, налицо тот же самый результат, к которому приходит
Гегель в своей логике (ив языке логических абстракций): «одно» есть
«одно» лишь постольку, поскольку оно прошло в бытии через отрицание
(отступление). «Одно» — это чисто отрицательная отнесенность к
самому себе. Благодаря этому восполнению — гипотезе цимцума —
феноменологический подход Гегеля в буквальном смысле слова обосновывается
и делается философски сознательным. Так же дело обстоит и в случае
отношения «одного» ко многим «одним» или одного тварного налично
существующего к другим тварям, а также в случае взаимоотношений
тварных личностей.
Гегель показал, что «одно» существует благодаря самоотрицанию и
переходу в другое, — и следовательно, вместе с «одним» полагаются
многие «одни». Каждое существующее обладает тенденцией одновременно
самоутверждаться (отталкивание) и освобождаться от самого себя, дабы
перейти в некое другое (притяжение), имеющее то же происхождение
и ту же сущность. Если «одно» замыкается в себе самом и отталкивает
от себя все прочие единицы, то, по Гегелю, это есть зло в собственном
смысле. Такое наблюдение подтверждается на фоне цимцума:
поскольку окрывающийся Божественный дух содержит в себе оба момента —
Божественное отступление и Божественную волю к самооткровению (это
означает синтез +А и -А), то в каждое мгновение и на каждом «месте»
Божественного откровения мистерия цимцума происходит заново78. Это
означает, что при творении полагается не одно, а бесчисленные «одни»,
которые несут в себе сходный принцип или же сходную структуру.
с) Значение жертвы
Эта структура возникла благодаря действительности Божественного
отступления, что означает следующее: как вся целокупность, так и каждое
отдельное «одно» обязаны своим существованием принципу цимцума.
Любое «одно», будучи тварным, может полагаться только в соответствии
(с^ 143^5)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
со структурой цимцума. Поэтому оно заключает в себе одновременно
отрицание и утверждение. Этот принцип является как бы «планом
постройки» вещей, и это никак не зависит от того, расположены ли вещи
в пространстве рядом друг с другом или же одна в другой: в отношении
своего источника и своей внутренней структуры все они едины; в
отношении их наличного бытия они представляют собой множество «одних».
Пока каждое «одно» сознает свою тварность и при этом Божественное
происхождение, отталкивание остается лишь одним необходимым
моментом его самостановления, которое переходит в притяжение при
сохранении «одним» своей самостоятельности, так что множество
«одних» в изначальной единице на самом деле суть одно. Другими словами:
личностное бытие, которое обязано собой Источнику бытия, приходит
к признанию прочих личностных существований, ибо они имеют тот же
самый исток. Гегелево наблюдение, касающееся «одного» и многих
«одних» вместе с принципом взаимного признания, нами, таким образом,
подтверждено, и благодаря осознанию причины этого гегелевского
наблюдения оно делается более понятным.
Мы сказали, что когда Божественный дух начинает свое откровение,
он содержит в себе оба момента — самоограничение и эманацию. Это
означает следующее: он сам себя отрицает в момент полагания. Но при
этом, полагая самого себя, он полагает и отличное от него, другое. В этом
отношении надо согласиться с Гегелем: «одно» на самом деле есть
становление в множество «одних». Но первопричина, условие для этого
заложены не просто в структуре самополагания (как считает Гегель), —
когда вместе с положенным «одним» всегда полагается его отрицание,
негатив (другое «одно»). Это условие заложено скорее в
самоограничении, предшествующем самооткровению, — в самоограничении, Гегелем
не отрефлексированном (и, пожалуй, даже не распознанном), которое
представляет собой свободное деяние. Отрицательность — это не «пра-
феномен», неизбежный «природный факт», который всегда
присутствует вместе с «одним». Скорее, она есть такой факт *, который
представляет собой свободно избранное отрицание, следовательно, жертву.
Гегель исходит из того, что вначале лишь положено «одно». Напротив,
Лурия, Бёме и Шеллинг допускают, что этому полаганию
предшествовала некая «праистория» в изначальном «одном» — обращение
«одного» вовнутрь, в направлении к его глубочайшему, сокровенному центру.
В этом отношении положенное, обращенное наружу «одно» есть
единство обоих моментов: экспансии (самополагания) и инволюции (самоот-
* Здесь в немецком тексте используется непереводимая игра слов: автор раскрывает
этимологию сложного слова «Tat-sache» (факт), в котором первый этимон —
«Tat» — означает «поступок», «деяние», и этот смысл указывает на свободного
субъекта «факта». — Прим. пер.
(?М44^)
C^ III. Присутствие отсутствующего ^Э
ступления), причем при откровении отступление следует за полаганием,
тогда как во внутрибожественной мистерии дело обстоит обратным
образом, ибо там откровение следует за самоограничением и отступлением.
Мы старались показать то, как вместе с «одним» полагается
множество «одних». Но здесь возникает вопрос, где они полагаются. Если все
целое, вся совокупность поначалу, после цимцума, предполагает лишь
пустое пространство с працентром и прапериферией, то это целое есть
всеобъемлющее единство. Оно содержит в себе «план постройки»
и структуру, в соответствии с которыми возникает всякое отдельное
тварное налично существующее. Сжатая и затем эманированная
Божественная субстанция, которая содержит в себе моменты отступления,
возврата — и экспансии, не есть первичная прасубстанция, но она
обладает модусом изменения и развития. В терминах Шеллинга эта
субстанция одновременно есть +А и -А, т. е. она — такая субстанция, в которой
открывается Бог: Он одновременно и с непреложностью есть единство
+А (Отца) и -А (Сына). Это означает следующее: когда Божественная
пневма эманирует и заполняет пустое пространство, то в каждом месте
пространства присутствует синтез отрицания (-А) и утверждения (+А).
Каждое такое место поэтому само становится неким «одним», так что
возникает совокупность бесконечно многих «одних». Налицо некая ато-
мизация, хотя понятие атомизации не совсем соответствует
действительности, поскольку оно допускает представление лишь совместного
существования, а не существования друг в друге. Единицы достигают
самостоятельности благодаря тому, что наряду с эманацией
одновременно происходит Божественное отступление. Отступление — это условие
для множественности, тогда как эманация служит предпосылкой
вообще для наличного бытия. Всякое бытие обязано самим собой эманации
Божественной пневмы, всякая самостоятельность и свобода —
Божественному отступлению. Индивидуальное, самостоятельное, свободное
наличное бытие узнается при встрече с ничто.
d) Откровение
как полагание множества
При откровении непосредственно полагается множество. Когда
выступает единый дух, то в «прапространстве» открываются бесчисленные
«одни», которые все без исключения содержат в себе принцип
отступления, обращения и расширения: они становятся (werden) благодаря тому,
что происходит Божественная эманация; они оказываются
самостоятельными благодаря тому, что совершается Божественное отступление.
Тождественны ли эти многочисленные «одни», сотворенные в
соответствии с одним и тем же принципом? Если бы это было так, то те
единицы, которые возникают вблизи центра эманации, должны были быть
(?^ 145 ^Э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
организованы точно так же, как те, которые выходят в наличное бытие
поблизости от периферии» Но центр и периферия качественно
различаются: центр — это место наибольшего сжатия, и там отступление
сменяется эманацией; напротив, периферия — это место предельной
экспансии, и там эманация переходит в концентрацию.
Гегель, различая «одно» и множество «одних», полагал, что сможет не
принимать во внимание пространство, поскольку, по его мнению, оно не
имеет отношения к принципу перехода «одного» и влияет лишь на
взаимное расположение элементов. Но пространство следует также
рассматривать как реальность, структурирующую все существующее, так как
есть качественное различие в том, находится ли некое налично
существующее «одно» вблизи центра или же периферии. Если центр
представляет собой место наибольшего сжатия и одновременно перехода
концентрации в эманацию, тогда как периферия — это место завершения
эманации и ее перехода в концентрацию, — то следует различать между
собой центральные, периферийные и средние «одни». Существуют
«одни», в которых преобладает элемент концентрации; затем другие, с
преобладанием элемента периферийности, — и, наконец, третьи с
доминированием равновесия между сжатием и эманацией. Но все «одни» своим
существованием обязаны одному и тому же «принципу» Божественного
отступления, впервые делающего возможным прапространство
творения. Тем самым ставится вопрос об онтологическом статусе этого пра-
пространства, в котором, согласно Исааку Лурия, после Божественного
отступления имеется остаток бытия — «решиму». Итак, диалектика
бытия и небытия приводит к Софии.
IV
ЛИК СОФИИ
Но если мы спросим, что особенно необходимо для
создания вразумительной теории творения, то вот основной
момент: если мир не является просто эманацией
Божественной природы, но есть творение, свободно полагаемое
Божественной волей, то непременно требуется, чтобы
между вечным (по своей природе) бытием Бога и
деянием, которым непосредственно полагается напряжение
потенций, а опосредованно — мир, существовало некое
промежуточное звено. Не будь такого среднего члена, о мире
можно было бы мыслить только как о непосредственной,
а потому подчиненной необходимости эманации
Божественной сущности.
Ф.В. Й. Шеллинг]
Для Бога Его другое (т. е. вселенная) имеет от века
образ совершенной Женственности, но Он хочет, чтобы этот
образ был не только для Него, но чтобы он реализовался и
воплотился для каждого индивидуального существа,
способного с ним соединяться. К такой же реализации и
воплощению стремится и сама вечная Женственность,
которая не есть только бездейственный образ в уме Божием,
а живое духовное существо, обладающее всею полнотою
сил и действий. Весь мировой и исторический процесс
есть процесс ее реализации и воплощения в великом
многообразии форм и степеней.
Владимир Соловьев2
1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ ЧИСТОГО ПРИНЦИПА К СУЩНОСТИ
равнение системы Гегеля с философией позднего Шеллинга
дало в результате то, что хотя обе системы и исходят из бытия,
но гегелевское понятие чистого бытия и предположение
Шеллинга относительно необходимо бытийствующего (das
notwendig Seiende) — непостижимого прибытия (das unvordenkliche
Sein) отличаются между собой как потенция и экзистенция или как
разум и действительность. Свое предположение относительно необходи-
©
е%147^>
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^5
мо бытийствующего сам Шеллинг возводит к философскому принципу
Спинозы — к необходимо существующему (das notwendig Existierende).
Однако он возражает Спинозе, утверждая, что это необходимо
существующее нельзя сразу отождествить с Богом: прежде должно
учитываться Божество. Ибо будь необходимо существующее Богом, как
предполагает Спиноза, то все, что исходит из этого верховного принципа,
сделалось бы необходимым и закономерным; необходимость и свобода
совпали бы, в частности, на уровне высочайшего, абсолютного принципа.
Если же, напротив, необходимо существующее хотя и является началом
(der Anfang) философии, но не должно быть ее верховным принципом,
относительно которого Шеллинг требует, чтобы ему была присуща одна
свобода и никак не насилие и необходимость, то в этом случае с
необходимо существующим, с непостижимым прабытием Божиим должно
происходить нечто такое, что могло быть вызвано лишь Самим Богом.
Это событие Шеллинг осмысливает так, что Свое непостижимое прабы-
тие Бог Сам от Себя «отстранил», «от-творил» (hinwegschaffen). В этом
акте освобождения Себя от непостижимого прабытия или
исключительно необходимого существования Бог оказывается господином над
собственным бытием, — обнаруживает Себя в качестве Сверхсущего (das
Überseiende). И именно в этой начальной точке своего пути от
необходимо существующего к Сверхсущему он доказывает Свое Божество.
Благодаря этому деянию Бога возникает некое «бытие», которое уже
не есть Бог, поскольку Бог его от Себя «от-творил» (Шеллинг) или
устранился из него (Лурия). Это «бытие», более уже не идентичное Все-
сущему (das Allwesen), или, говоря иначе, в котором Бог Своей
сущностью больше не пребывает (west), — бытие, которое по этой причине есть
в то же самое время ничто, — согласно Лурия, делается
«пространством», в котором Бог может полагать отличное от Него Самого
творение. Прежде чем такое творение актуализируется, это «пространство»,
это пустое, совлекшееся Бога бытие, которое в силу этого есть ничто,
оказывается условием возможности творения как такового. Если
творение совершается, если приходит к действительности эмпирическое, то
это может происходить только внутри этого «пространства», этого
пустого бытия. Поэтому чистое, пустое бытие содержит в себе a priori
диалектическую структуру эмпирического, которая может быть развернута
силой движущегося разума (в качестве априорного рассудочного знания).
Таков подход гегелевской логики, которая, как показал Шеллинг, есть
поэтому априорный эмпиризм. Чистое бытие, которое Гегель помещает
в начало свое логики, потому представляет собой покинутое Богом
непостижимое прабытие. Гипотеза цимцума является условием
возможности исследовать «природу» этого пустого «пространства» или ничто.
Далее было показано, что это прапространство (Uг-Raum) является
матрицей для тварного многообразия, а следовательно, служит для все-
е$М48^
e^ IV. Лик Софии ^э
го творения объединяющим «принципом». Но в качестве одного ли
пустого принципа выступает эта матрица? Или же, составляя основу всего
тварного, она сама обладает сущностью? Есть ли она, эта матрица, как
будущее творение, которому Бог дает исток в начале Своих путей, в
мистерии цимцума, есть ли она один лишь план творения, чистая идея
в Божием мышлении? Является ли она, потенциальная
исполнительница Божественной творческой идеи, доводящая эту идею до
действительности, сама неким творением, — и если это так, то творением первым?
Или она обладает Божественной сущностью, будучи неразрывно
связанной с Божеством через мистерию цимцума? Эти вопросы переводят
нас от рассмотренных в предшествующей главе логических соображений
немецких идеалистов к ^материальной софиологии» русских
философов, причем Шеллинг занимает здесь ключевое место и берет на себя
функцию моста. Ибо Владимир Соловьев, воодушевленный идеями
поздней философии Шеллинга, касающимися Премудрости (которую
описывал и «цитировал» Соломон), изобразил Софию в качестве
некоего действительного, живого существа, и в этом за ним последовали Павел
Флоренский и Сергей Булгаков. Все эти три различных воззрения были
направлены на онтологический статус Софии; общим для них было
мнение, по которому следует различать две формы или два образа Софии —
Софию в Боге и Sophia creata. В то время как Флоренский понимает оба
образа Софии в качестве форм тварности, для Владимира Соловьева
Sophia divina, как Вечноженственное в Боге, сама оказывается
Божественным существом. На этом основывается Сергей Булгаков, который
смотрит на Sophia divina как на Божественную «субстанцию» или усию,
которая ипостазируется в трех Божественных Ипостасях или Лицах, а
потому не может отождествляться ни с одним из трех Божественных
Лиц. Согласно Булгакову, она задает «объем», т. е. то, что объединяет все
три Божественные Лица: общее у них то, что они суть Бог. Поэтому в
восточной традиции она символизируется окружностью, в которую
вписан равносторонний треугольник — символ тринитарного Бога.
Напротив, Sophia creata соединяет в себе аспекты возникновения
и тварного становления. Впоследствии нам надо проследить тот путь,
который ведет от появления образа Софии в поздней философии
Шеллинга к тому центральному месту, которое этот образ занимает в
мышлении Соловьева, Флоренского и Булгакова.
2. ПОНЯТИЕ СОФИИ У ШЕЛЛИНГА
Чтобы понять Шеллингов подход к Софии, необходимо вкратце
заново воспроизвести ту концепцию творческого процесса, которая
представлена в главе 23. Согласно Шеллингу, вселенная или универсум воз-
(^ 149^5)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
никла в результате преобразования единого Абсолютного Духа
(Universum) * в троицу потенций: то, что в Абсолютном Духе выступает в
качестве трех его образов или «способов бытия», благодаря Божественному
«притворству» или «иронии» полагается в качестве космически
деятельных, а следовательно, демиургических потенций, находящихся между
собой в состоянии напряжения, хотя в Абсолютном Духе они затем
составят его единство. Так как эти три потенции, взятые в их собственном
существе, суть те самые, составляющие единство, три образа
Абсолютного Духа в его инобытии, то в них присутствует стремление
возвратиться вновь в свой собственный (духовный) образ, в свое единство или
идеал. Поэтому первая потенция — слепо существующее (das blind
Seiende) (чей духовный идеальный образ — это голая способность бытия
(das bloss Sein-Könnende), следовательно, в-себе-существующее (an sich
Seiende)) — позволяет преодолеть себя в теогонически-космогоническом
процессе второй потенцией — предназначенному к бытию (das
Seinmüssende) (его идеальный духовный образ — целиком отдающее себя чистое
существование (das rein Seiende)). На этом пути три данных потенции
возвращаются к своему идеальному образу и, следовательно,
отождествляются с изначальным Божеством, которое пребывает по ту сторону
процесса в качестве абсолютной персональное™ (Personalität) в трех
образах. Персональность, личностное начало, становящееся в этом
процессе, являющееся также Божеством в его целостности, прежде данного
процесса было лишь одним из трех образов Абсолютного Духа; к себе
самому оно восходит благодаря тому, что в начале процесса оно рождено
в качестве Сына изначальной персональностью Отца, в ходе процесса оно
осуществляется, а в результате него получает господство над тремя
преобразованными потенциями. Вместе с Сыном также и Дух восходит к
такой же славе и персональное™, которой обладает Отец, ибо Дух является
тем, кто свидетельствует об изначальном единстве трех потенций,
поскольку он — их единство. Благодаря этому в результате космического
процесса «таутусийное» (до какого бы то ни было творения) Божество
открывается в качестве Божества тринитарного, омоусийного. Согласно
Шеллингу, космогония потому является и теогонией, причем Божество
в его не подпавшем притворству, действительном образе остается вне
процесса и, будучи для космического процесса исходной точкой,
выступает перед ним в качестве сияющего идеала4. Но какую роль играет
София в приведении в движение этого теогонически-космического
процесса, который имеет в виду Шеллинг?
Свои размышления о Премудрости Божией Шеллинг начинает с
указания на знаменитое место из книги Притчей Соломона, которое в его
глазах основывается на реальном откровении. Вот цитата из Шеллинга:
* Unus (uni) — один (лат.); versio — видоизменение, поворот (лат.).
e*M50^î)
e^ IV. Лик Софии ^э
«Господь (йод-хе-вав-хе) * имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия
земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было
источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены
были горы. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны, когда полагал основания земли (при
возникновении вселенной), я, Его дитя, Его питомица, была при Нем,
веселясь на земном кругу Его пред лицем Его во все время. Но основная
радость моя была с сынами человеческими» **5. В Шеллинговой
интерпретации данного места из Библии София — это идея будущего тварно-
го мироздания; поэтому она стоит в начале путей Яхве6. Она предстает
перед Творцом еще прежде творения — как видение (Vision) мира,
которое Он волен или претворить в действительность, или не претворять7.
Подобная возможность внутри Божественной сущности означала что-
то новое, дотоле не бывшее; пребывая сокрытой в Боге, она, однако, не
была Самим Богом. Шеллинг ясно подчеркивает, что хотя эта потенция
бытия, отличного от Бога, была в самом деле сокрыта в Боге, тем не
менее она обнаруживает себя перед Ним как нечто доселе не виданное.
В мышлении Бога София внезапно словно возникает из ничего, и
потому она — не творение и не Бог, но нечто среднее между ними: «Итак,
сама она не была ни Иеговой, ни Господом. Он имел ее или получил
"в начале пути Своего", т. е. прежде Своего выхождения из Себя; или
это можно было бы пояснить так, что Он имел ее как начало, как толчок
к прохождению своего пути, к своему движению вперед, в направлении
определенной цели. Он имел ее "прежде всех созданий": эта
формулировка очень важна. Не будучи, следовательно, Самим Богом, она, тем не
менее, не была ни творением, ни неким Его порождением, и в силу
именно этого она была средостением между Богом и творением. Ибо
она была чистой возможностью, самым первым отделением вещества,
предназначенного для будущих творений»8.
а) Появление (das Hervortreten) Софии
То видение Творца будущего творения, — видение, охватывающее все
отдельные элементы в их совокупности и взаимосвязи, которое
становится действительным лишь при своем выхождении от Бога9, — в начале
процесса не знает ничего ни о себе самом, ни о творении: оно обретает
знание «лишь post actum»10. Поэтому для Шеллинга София
оказывается Премудростью в действительности лишь в конце всего процесса; ко-
* Т. е. Яхве. — Прим. пер.
** При переводе этой цитаты мы используем русский синодальный перевод Библии.
См.: Притч 8: 22-31. - Прим. пер.
(Ξ^ 151 ^Э
e^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^Э
нечно, в какой-то степени она является ею также уже в его начале, так
как Бог предвидит в ней все творение. Это Божие предвидение также
имеет отношение к обращению наружу (Herauswendung) Божиего
единства и к приведению в напряжение трех потенций, так как только таким
образом можно прийти к некоему отличному от Бога бытию. И
поскольку начало творческих деяний Бога состоит в том, что «могущее быть»
(das Seinkönnende) выставляется и превращается в «слепо
существующее» (das blind Seiende), в этом изначально «могущем быть», а после
обращения наружу «мнимо существующем», которое должно быть
преодолено второй потенцией и возвращено назад к себе, потенциально,
в скрытом виде содержится все будущее творение. В этом смысле
«мнимо существующее» есть материя творения и собственно София1!.
Но София или Премудрость появляется тогда, когда она выступает не
только в качестве мнимо существующего, но также и как его
собственная конечная цель, предназначение (Bestimmung). Поэтому она
полагается опосредованно также и в двух других потенциях — в
«предназначенном к бытию» (Seinmüssende) и в «обязанном быть» (Seinsollende),
поскольку только благодаря взаимодействию трех приведенных в
напряжение потенций из обращенного наружу (в начале процесса) мнимо
существующего в конце развития возникает осознание-через-опыт
всего процесса. Следовательно, София — не только некий простой образ
(eine uniforme Gestalt), который прежде творческого акта внезапно как
бы всплывает в мышлении Творца, возникая из ничего и побуждая Его
к творческому деянию: поскольку она — идеальный образ начавшегося
процесса с участием всех потенций, она сама также находит свое
выражение в этих трех потенциях.
Ь) София как пришедший к самому себе человеческий разум
София некогда была чистой внутрибожественной возможностью,
а после творческого деяния Бога она сделалась внебожественной —
отличной от Бога объективной действительностью; в конце же
космического процесса София должна заново явиться в человеческом Я — в
качестве субъективной действительности, пронизывающей все стороны
действительности объективной12. Достигнув цели развития, она
оказывается пришедшим к самому себе человеческим разумом, — согласно
Шеллингу, в этом состоит ее собственное предназначение. Другими
словами: человеческий разум, который в полной мере пришел к своей
собственной сущности, пройдя и осуществив все возможные ступени
развития, положенные ему Божественным Промыслом, есть София|3.
Конечно, человек не последовал такому своему призванию, и в этом,
по Шеллингу, состояло его падение. Вместо того чтобы стать сотворцом
Бога и «началом некоего нового движения», человек пожелал быть на-
е^152^с>
e^ IV. Лик Софии ^э
следником и властелином над происшедшим процессом, которому он сам
был обязан. К тому же он попытался поддержать и заново
активизировать подлежащую преодолению первую потенцию как таковую —
мнимо существующее, отнюдь не обязанное прийти к бытию, и поскольку
он был не господином над предшествующим процессом, но его
результатом, он оказался в рабстве у первой потенции и поэтому утратил свою
способность и власть определять сущность вещей. Разум (у Шеллинга
названный рассудком), который уже не достигает сущности вещей,
впадает в формализм и абстракции; таково для человека последствие
грехопадения. Но так как рассудок и в падшем состоянии остался прапотен-
цией, то в качестве априорной способности он сохранил в формальном
отношении власть над вещами14.
с) Выводы
В поздней философии Шеллинга обсуждаются три аспекта Софии
как некоей реальности. Они таковы:
1. София как образ в мышлении Бога, где она пребывает еще целиком
в Божественной тайне.
2. София как трехчленное идеальное единство следующих
обращающихся наружу потенций: мнимо существующего — материи творения,
предназначенного быть — силы превращения, — и обязанного быть —
цели этой трансформации.
3. София как идеальный образ не падшего (девственного)
человеческого разума или же разума, пришедшего к себе самому, совершившего
обращение и через это заново достигшего цельности.
Это различение аспектов Софии у Шеллинга оказалось
плодотворным для Соловьева и основанной им русской софиологии. Конечно,
такое различение имеет место, поскольку онтологический статус Софии
остается у Шеллинга неопределенным: в Боге она оказывается «пустым»
(blosse), прежде того отсутствовавшим (vorher nicht dagewesene)
видением Творца; в универсуме она появляется тоже лишь как трехчленный
план сотворения универсума; также и в человеке она представляет из
себя пришедший к себе самому человеческий разум. Вопрос
относительно онтологического статуса Софии остается, таким образом, у
Шеллинга открытым. Соловьев и его последователи Флоренский и
Булгаков в ответе на него выходят за пределы представлений Шеллинга.
3. ОПЫТ СОЛОВЬЕВА И ЕГО ПОНЯТИЕ СОФИИ
Соловьевская концепция универсума или вселенной предстает
совершенно в новом свете, если взглянуть на нее, имея в виду понятие
цимцума, — даже если сам Соловьев не помышлял о Божественном от-
е^153^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^
ходе. Ибо соловьевские высказывания воспринимаются не только в
качестве некоей экспликации и дальнейшего развития мыслей
Шеллинга: они expressis verbis определяют ничто в качестве другого ( Andersheit)
по отношению к Богу или в качестве «Вечноженственного в Боге». Но
то ничто, которое Соловьев рассматривает как «другое» Бога,
постижимо, если только допустить Божественный отход (это было обосновано
в предшествующей главе). Другими словами: прапространство
творения, которое обнаруживается благодаря цимцуму как вечное «другое»
Бога, есть Его Вечноженственное, или София. В дальнейшем надо
обрисовать то, как Соловьев понимал и развивал это понятие Софии.
Впервые мы встречаемся с соловьевской идеей Софии в «Чтениях о Бо-
гочеловечестве»15, с которыми Соловьев выступил в 1878 году в Санкт-
Петербурге. Близость к Шеллингу здесь особенно заметна. Соловьев
исходит из философской противоположности единства и
множественности, а также из возможности собрать воедино — в некий единый
организм — множество находящихся рядом друг с другом различных,
каждый со своими особенностями, элементов. Он приходит к следующему
определению: «Мы называем (относительно) универсальным такое
существо, которое содержит в себе большее, сравнительно с другими,
количество различных особенных элементов. Понятно, что чем более
элементов в организме, чем больше особенных существ входит в его состав,
тем в большем числе сочетаний находится каждый из этих элементов,
тем больше каждый из них обусловлен другими и вследствие этого
тем неразрывнее и сильнее связь всех этих элементов, тем неразрывнее
и сильнее единство всего организма.
Понятно, далее, что чем больше элементов в организме и,
следовательно, чем в большем числе сочетаний они между собою находятся,
чем менее возможно такое же соединение элементов в другом существе,
в другом организме, — тем больше этот организм имеет особенности,
оригинальности.
Далее, так как всякое отношение и всякое сочетание есть вместе с тем
необходимо различение, то чем больше элементов в организме, тем он
представляет в своем единстве больше отличий, тем он отличнее от всех
других, т. е. чем большую множественность элементов сводит к себе
начало его единства, тем более само это начало единства себя утверждает
и, следовательно, тем опять-таки организм индивидуальнее. Таким
образом, мы и с этой точки зрения приходим уже к высказанному нами
прежде положению, что универсальность существа находится в прямом
отношении к его индивидуальности: чем оно универсальнее, тем оно
индивидуальнее, а поэтому существо безусловно универсальное есть
существо безусловно индивидуальное»16.
Таким существом, обладающим, по Соловьеву, абсолютной
индивидуальностью, является Христос: «Итак, организм универсальный, выра-
е%154^)
e^ IV. Лик Софии ^z)
жающий безусловное содержание божественного начала, есть по
преимуществу особенное, индивидуальное существо. Это индивидуальное
существо, или осуществленное выражение безусловно-сущего Бога,
и есть (Логос или) Христос» 17. Но так как в каждом организме следует
различать единства двоякого рода — «с одной стороны, единство
действующего начала, сводящего множественность элементов к себе как
единому; с другой стороны, эту множественность как сведенную к
единству, как определенный образ этого начала»18, — мы должны отличать
друг от друга «единство производящее и единство произведенное, или
единство как начало (в себе) и единство в явлении»19. Если признать
реальное существование Логоса или Христа, который в Божественном
организме является единящим началом, т. е. таким началом, которое
выражает единство абсолютно существующего, то это означает, что наряду
с Ним должно существовать и другое единство, другое существо.
Это «единство второго вида, единство произведенное, в
христианской теософии носит название Софии»20. Если в Абсолюте различать
абсолютно существующее и его содержание, его сущность или идею, то
«прямое выражение первого мы найдем в Логосе, а второй — в
Софии»21. При этом София оказалась бы осуществленным выражением
Божественной, т. е. универсальной, идеи творения. Но как соотносятся
между собой Логос и София?
«Как сущий, различаясь от своей идеи, вместе с тем есть одно с нею,
так же и Логос, различаясь от Софии, внутренне соединен с нею. София
есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом
божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство
Христос, как цельный божественный организм — универсальный и
индивидуальный вместе, — есть и Логос, и София»22.
Итак, в связи с пониманием Софии молодым Соловьевым
получается следующая картина: в Божественном Абсолюте существует высшая
индивидуальность — органическое, живое единство всех идей творения
или универсальная идея идей. Эта высшая индивидуальность есть
Логос или Христос. Поскольку множественность идей творения
сосредоточена в одной идее, являющейся их идеальным прообразом, эта идея
есть одно с Логосом и вместе с тем отлична от Него: она есть Его образ
или «тело», которое в качестве самостоятельного существа
обнаруживается только в области тварного. Хотя в Боге Христос и София
различаются между собой, тем не менее при этом они составляют нераздельное
единство. «Вне» Бога София, будучи идеальным проектом (Entwurf)
всего творения, оказывается самостоятельным тварным существом,
некоей своеобразно-индивидуальной сущностью. Она — отделившийся от
Бога идеальный творческий проект и универсальная душа творения или
мировая душа, ибо представляет из себя внутреннее начало, ведущее
е^155^Э
(^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^5
всю тварь к ее цели. Налицо близость к пониманию Софии
Шеллингом 23. Соловьев уточняет это понимание в своих космологических
воззрениях, одновременно подвергая его существенной трансформации.
а) София как Вечноженственное Бога
Согласно Соловьеву, вселенная — это явленное зеркало творческого
замысла Бога, в которое Бог, можно сказать, зрительно вводит
(hineinsieht) Свои видения и идеи, т. е. весь Свой творческий план или же
Софию. Само пространство творения мыслится Соловьеву как «другое
единство», которое Бог отделяет от Себя в качестве своего «Вечноженст-
венного»24. Но это пространство не представляется Богу лишь пустотой
или в качестве ничто, поскольку «если в основе этой вечной
женственности лежит чистое ничто, то для Бога это ничто вечно скрыто
воспринимаемым от Божества образом абсолютного совершенства. <...> Для Бога
Его другое (т. е. вселенная) имеет от века образ совершенной
Женственности» 25. Соловьев говорит о том, что чистое ничто вселенной некоторым
образом скрыто: там, где, собственно, наличествует ничто, Бог зрит
абсолютное совершенство замысленного Им творения. Субъективное и
одновременно объективное значение этого созерцания (чему у Шеллинга
уже соответствует понятие идеи или лица), как бы объективирующий
взгляд {воображение), для Соловьева есть причина того, что пустота из
состояния чистого небытия преобразуется в «Другость» (Andersheit)
Бога, которая является, с одной стороны, потенцией, а с другой — неким
конкретным живым существом. «Зрительное введение» Божественной
творческой идеи в чистое ничто есть, таким образом, начало
осуществления плана творения и одновременно — образование первой твари.
Традиционное положение, согласно которому «Бог создал мир из
ничего», означало бы в софиологической интерпретации Соловьева
следующее: Бог ввел, «втворил» мир в ничто, сформировал его там и лишь
затем вывел наружу. Если привлечь сюда лурианскую идею цимцума, то
получится такая картина: пустое бытие, чистое ничто, образующееся
при Божественном отступлении, действием «творческого взгляда» Бога
обретает некую не зависящую от Бога собственную сущность; но
пустота обладает сущностью только sub specie Dei — в Божественном
созерцании, — сама по себе она остается чистым ничто, голой потенцией. Sub
specie Dei она становится тем самым Всем, которое призвано
произвести отличное от Бога, полагающее Бога бытие (das Gott setzende Sein).
Оно обретает действительность только благодаря тому, что, с одной
стороны, полагается в качестве «внешности» (das Ausserhalb) Бога, а с
другой — призвано быть «местом» развертывания творческого плана.
Только при этом, существуя некоторым образом независимо от Бога, оно
создает основу для приведения в действие Божественных намерений.
е*М56^)
e^ IV. Лик Софии -^э
b) Существование in propria sua natura
Шеллинг описывает Софию как впервые возникающую перед взором
Бога возможность творения, которая побуждает Его начать путь
обращения наружу множественности и вовнутрь — единства; эту
возможность Шеллинг называет средним звеном26. Подход Соловьева учитывает
выводы из Шеллинговой концепции. Если для Шеллинга София была
неким видением, возникающим в сознании Бога, то Соловьев придает
значение тому, что само это видение есть не голая идея, но идеальное,
совершенное творение, которое в этом своем совершенстве предсуще-
ствует в Боге. Если, на взгляд Шеллинга, эта возможность,
возникающая перед Богом, в мнимо существующем становится внебожественной
действительностью, то Соловьев продолжает эту мысль в духе Фомы
Аквинского: творению, пребывающему в мышлении Бога, для полного
совершенства чего-то не хватает, — а именно, не хватает существования
in propria sua natura — свободного, самостоятельного бытия (Dasein),
отличного от Бога, мыслимого только вне Бога. Но процесс полагания
вовне переводит идею творения, которая в Боге уже actu обладает
совершенством, в состояние чистой потенциальности. Эта идея делается
чем-то таким, что должно себя осуществить в будущем; для этого она
воспринимает от Бога предсуществующий в Божественном Промысле
план ее законченного образа.
Как в глазах Шеллинга, так и Соловьева София имеет нетварную
и тварную стороны: первая из них вечно и целиком актуальна (ist ewig
ganz actus), т. е. завершена и осуществлена, — кроме как в отношении ее
самостоятельности и независимости; вторая же, тварная, есть
полностью Potentia, пустая и неосуществленная. Но для Соловьева, в отличие
от Шеллинга, эта чистая пустота и потенция наделена самостоятельной
сущностью: когда чистая потенция посредством Божественного
«зрительного введения» (Hineisehen) или «зрительного выведения»
(Ausersehen) достигает, осуществляя собственное призвание, своего
совершенного идеала, в ней возникает некое «желание», воля к тому, чтобы
осуществить себя в действительности в качестве этого совершенства.
Через это она делается неким самостоятельным, живым существом, о
котором Соловьев говорит, что «здесь вечная пустота (чистая потенция)
воспринимает полноту божественной жизни»27. Пассивное,
женственное единство, которое вначале есть не что иное, как чистое, идеальное
представление (Vorstellung) Бога, становится некоей действительной,
отличной от Бога реальностью, так как это единство воспринимает от
Бога образ предсуществующего в Боге абсолютного совершенства. Хотя
и для Соловьева вне Божества существует вечное, чистое ничто, но
благодаря тому, что Бог в нем в качестве идеала некоего отличного от Него
бытия воздвигает собственное представление, это чистое ничто делается
е^157^э
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^D
живой, самостоятельной, возлюбленной Богом индивидуальностью, от
которой Бог хочет, чтобы этот образ существовал не только для Него
Самого, но «чтобы он реализовался и воплотился для каждого
индивидуального существа, способного с ним соединяться»28. Также и сама
вечная Женственность стремится к такой реализации и воплощению,
полагает Соловьев29. Он знает идеи Шеллинга (хотя прямо на них не
ссылается) и развивает их, доходя до предположения, что в связи с
Софией речь в действительности идет о некоем реальном, живом
существе, самостоятельной духовной индивидуальности, отличающейся от
Бога, будучи Его Другим. Разумеется, в конечном счете Соловьев
обретает уверенность относительно онтологического статуса Софии не на
путях спекулятивной философии, но благодаря опыту личной встречи.
с) Возможность личной встречи
Подобно Шеллингу, Соловьев предполагает, что внутрибожественное
представление некоего отличного от Бога бытия есть основание и
причина творения; и подобно немецкому философу, он видит
осуществление этого представления в той твари, которая может с этим
представлением соединиться, — а именно, в человеке. Но, в отличие от Шеллинга,
для Соловьева это представление иного по отношению к Богу бытия,
находящего в человеке собственную существенность (Wesenhaftigkeit)
и совершенство, есть не только образ, как бы возникающий из ничего
в уме Бога, но некая реальная, живая духовная сущность, которая
является женским дополнением, «Другим» Самого Бога, поскольку она —
это не только идеальный образ вселенной, но и (в качестве Мировой
души) сама вселенная в личности (das Weltall selbst in Person). Соловьев
претендует на то, что трижды за свою жизнь он реально встречал это
существо — Софию30. Биографы Соловьева Лудольф Мюллер и Ирмгард
Вилле так описывают эти встречи: «Она явилась уже девятилетнему
мальчику — в кульминационный момент литургии. Вторично, как он
полагает, он видит ее в читальном зале Британского музея, когда
штудирует литературу о ней, — однако лишь один ее лик. Он умоляет ее
показаться ему полностью. Внутренний голос говорит ему: "В Египте
будь!" Он внимает призыву, и там, при странных, почти комических
обстоятельствах, которые он описывает в "Трех свиданиях", он имеет
видение: ему показывается Божественность бытия, Божественное
всеединство, Божественная основа природы — в образе женской красоты.
В течение всей своей жизни Соловьев был твердо уверен в том, что
благодаря именно этому переживанию его философско-богословская
система нашла себе подтверждение в мистическом опыте»31.
Опираясь на этот мистический опыт, Соловьев знает, что София —
это личностное женское существо, что она — это не только идеальный
(?М58^)
e^ IV. Лик Софии -зэ
образ тварности и вселенной, не одна лишь сила, реализующая этот
образ, — но что возможна встреча с ней лицом к лицу — как с неким Ты, от
которого можно получить совет и наставление.
d) Сравнение концепций Шеллинга и Соловьева
Если сравнить философские подходы Шеллинга и Соловьева к
проблеме образования универсума или вселенной, то обнаруживается
различие в оценке личностей, участвующих в космическом процессе. У
Шеллинга речь идет о Сыне, который в ходе этого процесса достигает той же
степени божественности, которая присуща Отцу; в случае Соловьева,
напротив, космический процесс — это взаимодействие женского и
мужского начал в Боге, — как в вечности (поскольку представление Бога
о творении есть вечное женское Другое Самого Бога, которое впервые
побуждает Его к творению), так и в тварной области, где София
воспринимает Божественную жизнь и становится сотрудницей Бога в деле
достижения творением его совершенства. При этом она то ли рождает, то
ли помогает родить (gebiert bzw. gebären hilft) это совершенство — как
в универсальном смысле (в качестве точного образа универсума), так
и в смысле индивидуальном (в человеке).
Но что такое эта Божественная жизнь, которую (согласно
Соловьеву) София воспринимает и старается осуществить? По Шеллингу, это
не что иное, как троица приведенных в напряжение потенций, которую
Шеллинг в состоянии помыслить только в ее обусловленности
Божественным притворством (Verstellung) и иронией. По Соловьеву, это тоже
некая троица, на что указывают его три встречи с Софией32. Но у
Соловьева эта троица потенций Божественной жизни преобразуется в живые
силы творения не через Божественную иронию или притворство, но
через взаимную любовь Бога и Софии (или творений, в которых
осуществляется Божественная София). В связи с этим Соловьев говорит о «си-
зигическом отношении» между Богом и универсумом33.
Если у Шеллинга действует одно творческое начало — Абсолютный
дух в своих трех образах, который обнаруживает Себя в качестве Отца
(посредством обращения наружу множественности, т. е. посредством
некоего исключения бытия), причем Премудрости Софии достается роль
инициатора (Anregerin) процесса, — то у Соловьева вселенная
возникает через партнерство (Zusammenspiel) некоей производящей и некоей
приемлющей инстанций благодаря живому, сизигическому
взаимодействию в любви между Богом и Его вечноженственным Другим, причем
это Другое делается самостоятельным, живым существом посредством
того, что Бог зрительно вводит в него свое идеальное представление
о творении, — само по себе это Другое есть чистое ничто. И это активное
зрительное введение (Hineisehen) Божественного представления в чис-
е^ 159^5
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^о
тое ничто является, с точки зрения Софии, восприятием живых сил
Бога, которые, будучи Божественными представлениями, суть не
мертвые образы, а Божественная жизнь.
В своей берлинской лекции по поводу «Философии откровения»
Шеллинг говорит о том, что Бог вначале должен был освободиться от
Своего непостижимого прабытия, отстранить его от Себя34. В другом
месте он упоминает о некоем самовозвышении (ein Sich-Erheben) Бога
над Его непостижимым прабытием, при котором Бог выходит из Самого
Себя35. От этих представлений Шеллингу нужно сделать только один
маленький шаг, чтобы войти в самое ядро принципов Лурия. Вероятно,
тогда он смог бы также скорректировать свое понятие универсума
(опирающееся на Божественное «притворство» (Verstellung)) с помощью со-
ловьевской идеи вселенной как женского Другого Бога. Если следовать
этой мысли Соловьева по поводу Вечноженственного как Другого
относительно Бога, то открывается еще один проблемный аспект Шеллинго-
вой системы. Шеллинг исходит из того, что экзотерические Элогимы
обращаются наружу и благодаря этому (или при этом) рождается Сын.
Если основываться на поправках к этой идее, сделанных в главе II, т. е.
на том, что рождение Сына уже предшествует творению мира, то
Шеллингу можно было бы возразить так: Божественно-личностное бытие
Сына предшествует всякому космическому творческому акту, и его
рождение остается тайной. Поскольку второе Божественное Лицо
воспринимает некую внебожественную сущность, можно говорить, хотя и в
переносном смысле, именно о «рождении»; но надо ясно отличать это
«рождение» от изначального рождения Сына. Этому «космогоническому
рождению» уже предшествует некое внутрибожественное рождение. Сын
выступает за пределы Своей первоначальной божественности (в смысле
рождения Сына в вечности, предшествующего «космогоническому
рождению») — ради того, чтобы развиваться в космическом процессе. При
этом Бог как бы рождает Себя в Другости, — т. е. в тварности, —
собственно говоря, из Софии. Эти связи представлены в различных
культурах с помощью образа «Мадонны Платитеры» — божества, которое
рождает само себя36.
Соловьев говорит о чистой пустоте, о ничто, которое одновременно
является другим единством Бога (die andere Einheit Gottes), — Другостью
Бога. Русский философ называет эту Другость пассивным, женским
единством, которое, однако, есть не полное (blosses) ничто, поскольку
воспринимает от Божества образ абсолютного совершенства, а также не только
абстрактная мысль (ein blosser Gedanke), но некое живое духовное
существо. Итак, Соловьев различает три различных аспекта Софии. Она — это:
1) другое Божественное единство, вечноженственное в Боге;
2) совершенный план творения, идеально структурированное творение;
3) не идея, но некое живое, реально существующее духовное существо.
(г^160^Э
(г^ IV. Лик Софии ^
Поскольку Соловьев соотносит образ Софии со вселенной, то эта
последняя также имеет три измерения:
1 ) она — это Божественная Другость (Andersheit Gottes), Вечножен-
ственное в становлении, т. е. в развитии и совершенствовании;
2) она имеет свое предсуществование в Боге, т. е. в нем она реально
присутствует, уже будучи совершенной;
3) Ничто, являющееся основой вселенной, т. е. пустота, для Бога
прикрыто зримым образом идеального творения. Благодаря любви Бога
и через посредство этого совершенного образа Другость, о которой идет
речь, становится неким живым духовным существом, которое обладает
всей полнотой сил и способностей. Поскольку образ совершенства,
который в Боге реально существует, в тварном пространстве принадлежит
лишь будущему, ему надлежит развиваться в конкретных существах
и образах.
Как видно из сопоставления воззрений Шеллинга и Соловьева,
разные софиологи, при всей родственной близости их основополагающих
представлений, неодинаково решают проблему онтологического статуса
Софии и способа ее существования. Шеллинг утверждает, что
Премудрость скрыта в Божественной сущности; в тот самый момент, когда Бог
«усматривает» возможность некоего отличного от Него бытия,
Премудрость «внезапно возникает» перед Ним. Шеллинг оставляет открытым
вопрос о том, идет ли при этом речь о некоем реальном индивидуальном
существе, обладающем собственной жизнью и собственной
«биографией». Напротив, Соловьев видит Премудрость в качестве Вечножен-
ственного в Боге и одновременно в качестве первого, идеального твар-
ного существа, которое должно отобразиться во всех тварных существах
и с которым можно встретиться как с Личностью, вступив, таким
образом, с ней в некий длящийся диалог.
Принципиальная родственность видения Софии и одновременно
некая фундаментальная разница в оценке ее онтологического статуса
обнаруживаются также при обращении к позднейшим софиологам —
Флоренскому и Булгакову. Так, Павел Флоренский подчеркивает
различие между трансцендентным Богом и имманентно-тварной и при этом
вовлеченной в божественную тайну Софией. Отважнейший из софио-
логов Сергей Булгаков, напротив, развивает мысль Соловьева
относительно определенной божественности Софии, причем видит в ней, в ее
высшем аспекте, усию Бога или само Божество. Итак, кто такая — или
что такое София? Один лишь первоначальный проект творения —
действительность в мышлении Бога, но не особое существо?
Самостоятельное тварное существо? Или еще и существо Божественное? Или даже
некая четвертая ипостась в божестве? Эти вопросы необходимо обсудить
на основе мнений Флоренского, Фомы Аквината и Булгакова,
намеченных в дальнейшем.
е^161^>
(г^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ «э
4. СУЩНОСТЬ СОФИИ
СОГЛАСНО ПАВЛУ ФЛОРЕНСКОМУ И СЕРГЕЮ БУЛГАКОВУ
а) Понимание Софии Флоренским
Наиболее подробное и ясное изложение своей концепции Софии и ее
участия в творении Павел Флоренский дал в своем диссертационном
труде «Столп и утверждение Истины», переведенном на немецкий язык,
к сожалению, только частично. Развитые там философию
Божественной троичности, а также учение о Софии обзорно представил Михаэль
Зильберер37. По мнению Флоренского, София — это первая творческая
мысль Бога, изначальный корень целокупного творения. София — это
первозданная сущность творения (das ersterschaffene Wesen der
Schöpfung), источник происхождения которой — в знании и любви Бога. В
связи с этим для Флоренского она — «образуемое содержание Бога-разума
<...>, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе
Святом» Μ. При этом Флоренский подчеркивает, что София только
принимает участие в любви Божией, — при том, что сущностная, троичная
любовь есть Сам Бог19. Здесь — разница воззрений Флоренского и
Соловьева.
Но хотя Флоренский и признает за Софией чисто тварный статус
(правда, при этом статус сущностный), между реальным творением,
реальными тварями, и Софией для него есть некая фундаментальная
разница, поскольку София — это «жилище на небесах» (2 Кор 5: 1) всех
тварей. При этом Флоренский имеет в виду не только местопребывание, но
и некое существенное различие в природе40: благодаря своей
непосредственной связи с Богом в качестве Его творческой мысли София уже
есть то, чем все тварные существа только должны стать. Потому она
находится посередине между Богом и творением. Как у Шеллинга, так
и у Флоренского между Творцом и тварью возникает некое среднее звено;
с другой стороны, как и у Соловьева, это звено — София, которая
полностью воспринята в Божественную жизнь. Однако, в отличие от
Соловьева, София для Флоренского не отождествима со вселенной —
творением, существующем в пространстве и времени, ибо София представляет
в мире еще не осуществленное единство всего сотворенного41.
Флоренский явно отсекает предположение Соловьева о наличии у
Софии некоего второго измерения: для Флоренского София —
исключительно предсуществующее единство творения, которое Бог как бы
моментально, в одно «мгновение», узревает и обозревает (er- und
überschaut) в его целостности. Именно благодаря этому творение достигает
идеального единства, совершенства и цельности. Если это единство
выступает из Бога наружу, во время, образуется «уни-версум», вселенная
с ее множественностью отдельных тварных существ. Однако то изначаль-
(ЗМ62^)
C^ IV. Лик Софии ^Э
ное Божественное единство, которое выступает в универсум, для
Флоренского, в отличие от Шеллинга, является не Божественным Духом
в его трех образах, но изначальной творческой идеей — возникающей
перед Богом идеей некоего другого бытия, — а именно, творения,
которое изначально предсуществует в Боге и отделяется от Него благодаря
выступанию, но выступанию in propria sua natura.
Источником учения Флоренского о Софии является св. Афанасий.
В его писаниях Флоренский нашел подтверждение своей гипотезе
относительно личностного характера Софии как «ипостасной системы
Божественных творческих мыслей». Афанасий видит Премудрость
(Софию) в качестве «Богозданного единства идеальных определений твари,
цельного естества твари». Он сравнивает «эту «метафизическую
природу тварного естества» с отпечатком (образом, именем, типом), который
Божественный Логос оставляет на Своих творениях. Древние имели
представление об имени «как о реальной силе-идее, формирующей
вещи и таинственно управляющей недрами их глубочайшей сущности»,
так что имя Божие вносит в тварное бытие «новую таинственную
сущность». Таким образом, тварная София, отображенная во времени, есть
предсуществующее «пре-мирное ипостасное собрание божественных
перво-образов сущего»42.
Насколько Афанасий далек от пантеистического смешения твари
с Творцом, настолько же Флоренский далек от «смешения» предсуще-
ствующей ипостасной Софии с Триединым Богом. София принимает
участие в Божественной жизни и любви, но не является ипостасью,
единосущной Богу. Шеллинг также видел в предсуществующей Софии
основание для универсалий и для бытийственной власти над вещами
логических общих понятий (типов), — власти, в формальном отношении
имеющей место и после грехопадения человека. Он тоже отчетливо
различал Бога и Софию; при этом остается неопределенным
онтологический статус предсуществующей Софии, которая, будучи mediatrix,
посредницей, принимает участие как в Божественной жизни, так и в бытии
твари.
Дальнейший шаг в определении этого онтологического статуса
Софии Флоренский совершает через признание в качестве существенного
признака тварной Софии (Sophia creata) пассивной восприимчивости43.
Примечательно то, что Флоренский при этом предполагает как
«существование» пустого пространства, так и «пассивную среду» (Софию),
которая наделяет существа, творимые в этом пустом пространстве, в
ничто, конкретными «цветами»44. Иными словами, Флоренский
предполагает наличие цимцума, который в самом начале создает возможность для
пустого пространства; мыслитель также предполагает вышеупомянутый
«бытийственный остаток» (Reschimu у Лурия), который есть не что иное,
как то «тончайшее вещество», которое окрашивает цвет.
е^ 163^3
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ -^э
Теперь нам остается только последовать за Зильберером,
сравнивающим концепции Божественной Премудрости, принадлежащие
Флоренскому и Фоме Аквинскому, — чтобы понять подход отважнейшего из
софиологов, Сергея Булгакова.
Ь) Премудрость Божия (Sapientia, Sophia)
у Фомы Аквинского
Согласно Фоме, Бог познает подлежащие сотворению
многочисленные существа в качестве идей в некоем простом акте (simplici intuitu),
посредством Своей простой Премудрости. Хотя Он владеет многими
идеями многих вещей, однако Премудрость, в которой Он познает их,
при этом одна. Эта соотносимая с творением Премудрость, согласно
Фоме, не имеет собственного единства и существенности, свойственных
«четвертой ипостаси»: она идентична Божественной сущности. Твар-
ные идеи предсуществуют в Боге в качестве живого единства. В Боге
они не обладают тварным самостоянием (Selbstand), — они обретают
его только при их сотворении во времени, — но существуют лишь за
счет своей идентичности Божественной сущности. Премудрость Божия
есть «essentia [Бога], поскольку она как таковая познана Богом.
Выражаясь иначе, Премудрость есть существенность ( Wesenheit) Божия (at-
tnbutum essentiale), некое практическое знание, направленное на
предназначенный к сотворению мир, — следовательно, еще и искусство — но не
самостоятельная ипостась»45. В своем идеальном, внутрибожественном
истоке твари еще неразрывно сплетены с Божественной жизнью, так что
здесь не может быть никакого реального различия между Богом и
творением, предсуществующим в Его мышлении, — различия, которое
конститутивно для идеи Софии по Флоренскому. Когда Фома говорит: «In
divina sapientia sunt rationes omnium rerum. <...> Quae quidem licet multi-
plicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt realiter aliud a divina
essentia, prout eius similitudo a diversis participari potest diversimodo. Sic
igitur ipse Deus est primum exemplar omnium»4(i, — то для него Бог и Его
тварная Премудрость составляют нераздельное единство. И поскольку
Бог существует как Троица Божественных Лиц, также и тварной
Премудрости Божией присущи три «божественных лица», — конечно, в другом
смысле. Также всем Лицам присущ творческий акт, «однако для
каждого Лица он особый, "secundum rationem suae processionis". <...> Так как
Премудрость есть наконец некое (практическое) познание, а Бог творит
все Своим Словом, то Божественная Премудрость присуща в
особенности Логосу. В смысле appropriato некоего nomen essentiale Сын Божий
оказывается при этом Божественной Премудростью в Личности (ср. 1 Кор
1: 24). Так же понимает Фома Премудрость в "софианском" тексте из
Св. Писания (Притч 8:22) — в смысле вечного рождения Сына из Отца»А1.
е^164^5
e^ IV. Лик Софии ^э
Такое отождествление Божественной Премудрости прежде всего с
Сыном, Логосом, снова и снова возникает в богословской (и отчасти также
в мистической) литературе Запада48. Понимание, согласно которому
Премудрость нисколько не отличается от Божественной сущности,
обнаруживается, наконец, и у Сергея Булгакова. Также у него
присутствует мысль, согласно которой София должна рассматриваться ипостази-
рованной в Лицах Троицы. Но Булгаков оспаривает то, что она только
в Сыне выступает в качестве Премудрости в личности. Кроме того, хотя
он рассматривает Софию как сущность, ипостазированную в Троице, но
одновременно он отличает ее от Троицы. Потому понимание Софии
Булгаковым является синтезом в отношении концепций Фомы Аквина-
та и Флоренского.
с) Божественная София внутри Троицы
(согласно Сергею Булгакову)
«Бог обладает Божеством, или, скорее, Он есть Божество, есть усия,
София»49. В этой фразе — вершина всего учения Булгакова о Софии.
Русский софиолог, различающий Божественную Софию и Лица Святой
Троицы, исходит при этом из тринитарного догмата св. Афанасия.
Догмат этот состоит из двух разных положений: «...Unum Deum in Trinitatem,
et Trinitatem in unitate veneremur. Neque confundentes personas, neque
substantiam séparantes. Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus
Sancti; sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitate, aequalis
gloria, coaeterna maiestas»50.
Булгаков придает значение тому, что первое положение, касающееся
трех Божественных Лиц, на Западе в дальнейшем в известной мере
совершило богословское и философское развитие, — если иметь в виду
ипостасные свойства и различные характеристики этих Лиц. Но второе
положение, содержащее учение о единосущии Святой Троицы, было
разработано гораздо меньше (так же, как и точное определение
сущности или природы), — по-видимому, его в основном проглядели. Можно
предположить, что причина этого заключена в том, что имена трех
Божественных Лиц упоминаются в Священном Писании; напротив,
понятия «сущность» или «единосущие» (омоусия) — не библейские51.
Булгаков придает особое значение философскому развитию и критике
понятий «сущность» (усия) и «единосущие» (омоусия), так как они, по
его мнению, приводят к новому пониманию Софии. В частности, он
ссылается на то, что:
• понятие «consubstantialitas» или «homusia» впервые было
применено на Никейском соборе; оно — результат мощного
богословски-догматического усилия найти приемлемую формулировку для идеи
божественности Логоса. Учение о единосущии Отца и Сына сделалось
е^ 165^)
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
необходимым из-за спора с арианами; позже его распространили также
на Ипостась святого Духа;
• само по себе понятие «сущность», «субстанция», взято из
Аристотелевой философии. Аристотель различал первую и вторую сущность.
Первая подразумевает конкретно существующее, в котором
универсалии определенным образом ограничены и индивидуализированы.
Вторая относится к essentia вообще — к абстрактной сущности, без которой
не может существовать никакая конкретная сущность со своими
особенными определениями; общая сущность в каждом конкретном
существующем становится особенной сущностью;
• отцы Восточной Церкви Василий и Иоанн Дамаскин перенесли на
Троицу это соотношение, применявшееся Аристотелем равным образом
для всего существующего, будь то камень или ангел: единая
Божественная сущность, субстанция или же эссенция, согласно их воззрению,
индивидуализируется в трех Божественных Лицах, находящихся в трех ипо-
стасных отношениях — как paternitas, generatio и progressio (отцовство,
рождение и исхождение). Западные отцы Церкви, скажем, Августин,
усматривали преимущество Божественной субстанции или эссенции
перед Божественными Лицами, поскольку эти Лица детерминированы
в их бытии своими взаимоотношениями и своим происхождением (как
противостоящие друг другу);
• как в восточном, так и в западном христианстве понятие сущности
применялось в его абстрактно-логическом значении, чтобы объяснить
единство Троицы. Понятие «сущность» представляет собой некую
учебную конструкцию (Lehrkonstruktion), нечто вроде идеологической
отправной точки. Но этого представления было бы недостаточно для
постижения Божественного откровения касательно общей жизни Святой
Троицы, Единого Бога в трех Лицах.
Когда теперь говорится, что три Божественных Лица суть одно
существо или что они обладают одной общей сущностью, то это означает,
согласно Булгакову, что они имеют общую усию или субстанцию, что,
таким образом, существо троичного Бога состоит в Его омоусии или еди-
носущии. Усия Бога — это Его Божество. Так как три Лица Троицы суть
Единый Бог, они обладают одним-единственным общим Божеством52.
Божественные Лица божественны благодаря Своему Божеству, т. е.
поскольку они суть Бог, Их существо в том, чтобы быть Единым Богом, Все
три Лица имеют одну общую сущность, одну усию, которая
актуализируется в трех Ипостасях. В отношении личностного аспекта они
различны; в отношении их усии или сущности, т. е. их Божества, они
составляют Единство,
И эта усия есть то самое, что теперь становится предметом булгаков-
ской софиологии. Булгаков исходит при этом из откровения Бога
согласно Священному Писанию и спрашивает, что, собственно, имеется
е^Мбб^)
e^ IV. Лик Софии ^z)
в виду, когда Писание говорит об «откровении славы Божией». Он
приходит к следующим результатам:
• когда сравнивают все видимые откровения славы Божией, то
неизбежно встает вопрос: что они означают в их отношении к Самому Богу?
Несомненно, что в примерах, изображенных в Писании, слава Божия
понималась в качестве Божественного принципа. Хотя эти откровения
следует отличать от личностного бытия Божия, тем не менее, они
неразрывно связаны с Богом: слава Божия — это не Бог, но божественность
(Göttlichkeit);
• то, что сказано относительно славы Божией, можно также говорить
о Божией Премудрости: вплоть до настоящего времени она не получила
никакой богословской интерпретации; кажется, она была полностью
проигнорирована догматикой. Если пойти дальше, то неминуемо
приходишь к следующему выводу: Бог имеет Премудрость и славу, — или об-
ладает, или характеризуется ими; их нельзя отделить от Него,
поскольку они представляют Его динамическое самооткровение в творческом
деянии, а также Его собственную жизнь. Соответствующие
Божественные «сущности» принадлежат также Святой Троице, так как Священное
Писание не дает никакого основания для того, чтобы ограничивать их
одним из Божественных Лиц;
• не может быть никакого сомнения в том, что в связи со славой
и Премудростью Божией речь идет о двух разных аспектах Божества.
Одному из них, Премудрости, соответствует его содержание; другому,
славе, — его откровение. Несмотря на это, оба аспекта нельзя ни
отделить один от другого, ни совместить друг с другом в качестве двух
различных принципов в Божестве. Это противоречило бы правде
монотеизма, согласно которой Единый Бог обладает только одним Божеством,
которое обнаруживается и как Премудрость, и как слава. То
обстоятельство, что речь идет при этом о двух лицах, еще не превращает их в два
разных Божества, как это всегда имеет место при различении ликов. Эта
двойственность ликов вызвана особой природой каждого аспекта; но
она не умаляет того факта, что в отношении сущности они идентичны53.
Как, наконец, в концепции Булгакова соотносятся между собой
Божественная сущность (усия) и сущности Божественной славы и
премудрости? Булгаков разбирает этот вопрос, вновь исходя из Аристотелева
понятия сущности. Правда, отношение между абстрактной
Аристотелевой сущностью или усией, принципом единосущия в Святой Троице
(согласно общепризнанному догматическому определению) и
Премудростью и славой Божией, о которых говорится в Библии, можно было
бы отрицать; однако достаточно уже поставить проблему этого
отношения, чтобы подметить неудовлетворительность такого отрицания.
Отрицание связи между усией, с одной стороны, и Премудростью-славой —
с другой неизбежно создает в Божестве дуализм. Если усию решительно
е*М67^с)
C^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^о
отличать от конкретных ликов, которые открывают жизнь Божества в
качестве Премудрости и славы, то усия делается абстрактным
метафизическим понятием. Монотеизм, напротив, с необходимостью требует
идентичности обоих принципов — догматического и библейского. Усия
Божия известным образом поддерживает Божью Премудрость и славу,
так как «вечная сила Его и Божество» (Рим 1: 20) — одно и то же54. Эти
рассуждения приводят Булгакова к «краткой» и «упрощенной», как он
сам говорит, формуле: «Божественность (Göttlichkeit) Божия есть
Божественная София или слава, которая тождественна с усией: усия «
София = слава»55.
В отношении Троицы Булгаков формулирует ту же мысль следующим
образом: «Триипостасный Бог в действительности обладает лишь
одним Божеством, Софией; и Он обладает ею таким образом, что она
принадлежит всем трем Божественным Лицам в соответствии со
свойствами каждого из этих Лиц»56. Но при этом следует отличать усию-Софию
от Божественных Ипостасей или Лиц, «также и когда она не может
существовать отдельно от них; она от вечности в них ипостазирована»Г)7.
Таким образом, сама по себе София не есть ипостась, т. е. еще одно лицо
в Боге; скорее, она принадлежит Ипостасям, и только в этом
отношении — как природа (physis) Ипостасей — она ипостазируется в них™.
d) Соотношение Булгакова
с Фомой Аквинским и Флоренским
Концепция Софии у Булгакова постольку соответствует
вышеописанному томистскому пониманию, поскольку в этом последнем София
присутствует не как самостоятельная сущность наряду с Богом, но в
качестве подлинно принадлежащей к Божественной сущности,
описывающей эту сущность с помощью некоего атрибута (а именно,
Премудрости). София есть divinitas, есть Божество, есть Божественная сущность,
которая по-разному выражается в трех Божественных Лицах; при этом
Фома производит Премудрость главным образом от Божиего Сына,
Логоса, и говорит о личностной идентичности Божественной
Премудрости и Божественного Логоса. Эту идентичность Софии с одним или со
всеми тремя Божественными Лицами Булгаков отрицает. По его мнению,
она есть некая отличная от Троицы сущность, одновременно внутренне
и неразрывно с Ней связанная. Здесь Булгаков согласен с Флоренским:
для обоих София воипостазирована в Троице, но сама не имеет ипостас-
ного характера (не является чем-то вроде четвертого лица в Божестве).
Булгаков так отвечает на то возражение, что подобное различение усии-
Софии и Троицы сводится в конце концов к признанию некоей
четвертой ипостаси в Боге: «Ответ гласит: конечно, нет! Ибо это начало [т. е.
София. — Μ. Ф.] не ипостасно, также и когда оно обладает возможнос-
е^ 168^3
e^ IV. Лик Софии ^)
тью быть ипостазированным в некоей устойчивой ипостаси»59. Но можно
было бы вновь возразить, что это ведет к «другому Богу», к какому-то
совершенно другому Божественному началу в Боге. Булгаковскии ответ
вновь гласит: «Нет; никто не пытался выдвигать такое положение, пока
речь шла о связи между Божественной усией и Лицами Троицы; однако
действительное постижение этой усии состоит в ее отождествлении с
Софией, если это до сих пор также не было развито. Вся сила и строгость
догмата о Святой Троице состоит в отстаивании единой жизни и единой
сущности Божественного Триединства, а также их взаимного тождества:
Бог обладает Божеством, или Он есть Божество, есть усия, София. Это
не предполагает того, что три Лица как бы одержимы общей сущностью,
которой они порознь находят применение, — так сказать, на основе
коллективного владения. Это вело бы к тритеизму, а не к тринитаризму.
Живое Триединство Святой Троицы основано на одном-единственном
принципе самооткровения, и это Триединство обладает жизнью, общей
у трех отличных друг от друга Божественных Лиц. Святая Троица
обладает одной усией, а не тремя или тремя третями одной усии, которая
поделена между тремя Лицами. Также она обладает лишь одной
Премудростью, а не тремя, одной славой, а не тремя. Это ложное понимание
первым отбрасывается у порога истинной софиологии» т.
Таким образом, София, по Булгакову, как и по Флоренскому, есть
начало, открывающее (die Offenbarere) единство трех Божественных Лиц
и их различимость (Unterschiedlichkeit), обусловленную их разными
свойствами. Однако, Булгаков, в отличие от Флоренского,
обосновывает не тварность Софии, но ее несозданность и вечность, т. е. ее тождество
с Божественной усией. Следовательно, Булгаков находится в точности
между Фомой и Флоренским: он разделяет с Аквинатом мысль о
божественности Премудрости; с русским же священником и философом он
согласен в том, что София — некая сущность, которую надо отличать от
Троицы.
Но как мыслится та особая сущность в Боге, которая сама не
является Ипостасью, но есть чистая субстанция? Булгаков настаивает на
своем утверждении, согласно которому «усия-София есть жизнь ипостас-
ного Духа и сама не ипостазируема», когда смело ставит вопрос: «Но
что же это такое, что пронизывает жизнь Божества? Другими словами:
что есть Бог?»61 Его ответ гласит: Бог есть любовь, — любовь не в
смысле некоего качества или свойства, принадлежащего Богу, но в качестве
действительной сущности и силы Божественной жизни. Триипостасное
единство Божества есть взаимная любовь трех Ипостасей, в которой
каждая из них открывается в двух других в некоем вневременном акте
самоотверженной преданности. Конечно, не только Божественные
Ипостаси являются центрами Божественной любви, поскольку к сфере этой
любви принадлежит также София. Она возлюблена Святой Троицей как
е% 169 *э
е^ Часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^z)
жизнь и откровение: в ней Триединый Бог любит Самого Себя. Но по
отношению к Божественным Лицам ее собственную сущность нельзя
определить иначе, кроме как их общее достояние. Она тоже есть любовь,
но любовь в некоем особом, неипостасном воплощении. Любовь
многообразна; в каждой из Божественных Ипостасей проявляются разные
аспекты тройческой любви. Но наряду с этой личностной любовью может
быть такая любовь, которая не имеет личностного характера. Согласно
Булгакову, в этом смысле можно говорить, кроме как о
взаимоотношении Ипостасей, также об отношении Бога к Его Божеству, а также о
любви Божества к Богу: «Поскольку Бог любит Софию, София любит Бога.
Без этого предположения триипостасное отношение между Богом и Его
усией остается непонятным»62.
Различению (неипостазированной) сущности любви и актуализации
(ипостазирования) этой сущности в трех Божественных Лицах могло
бы, конечно, воспрепятствовать утверждение, по которому Божество или
усия может точно так же любить Бога, как Бог любит Свое Божество.
В этом случае усии-Софии, по-видимому, приписывается такая
активность, которая выходит далеко за пределы ее статуса чистой сущности
в неипостазированном, т. е. не личностном состоянии. Вся сложность
этой проблемы обнаруживается как раз при попытке Булгакова
прояснить онтологический статус Софии: если София понимается не только
как пред существующая в Боге идея творения, которая предваряет
создание мира, но также как само Божество, ипостазированное в трех
Божественных Лицах, то она получает некую самостоятельность в Боге.
И в тот самый момент, когда эта самостоятельность начинает
пониматься в качестве активности, она может рассматриваться как откровение
собственного личностного начала Софии. Эту сложность можно обойти
только с помощью предположения, что София доказывает свою любовь
к трем Божественным Лицам в своем ипостазировании через
Божественные Лица — и только так.
Это предположение весьма важно для софиологии, ибо если бы софио-
логия не допускала такого не взаимного отношения между Софией и
Божественными Ипостасями, то она бы потеряла один из своих
существенных критериев отличия ее от предшествующей философии, — а именно,
по следующим причинам: философия аристотелевского типа, как
правило, восходила к субстанции или усии Божественного начала и потому
могла с полным правом называться философией *; ибо если усия Бога
есть София (как считает Булгаков), то здесь в действительности София
«возлюблена» и сделана высшим принципом. При этом для такой
философии остается недоступным ипостазирование усии-Софии в любви трех
Божественных Ипостасей. Если усия-София мыслится вне отношения
* Т. е. любовью к Софии. — Прим. пер.
<^170^Э
(^ IV. Лик Софии ^Э
к Триединству, то от такой философии ускользает любовь усии-Софии
к Богу и Бога к усии-Софии, — любовь, в которой София делается неким
живым, любящим существом, через которое действует Бог — как
открывающее Себя начало и как Творец. Если среднее положение Софии (т. е.
положение посредничества в любви (die Liebe-vermittelnde Stellung)) не
осознается, то возникает опасность понять Софию в качестве голого
системообразующего принципа — принципа, который, однако, мыслится не
личностным, но или как сущность, или функционально; поэтому
следствия, вытекающие из этого первого принципа, имеют сущностно-онто-
логическую или функциональную природу. Отсюда — обезличивающая,
деперсонализирующая тенденция такой системы. Но христианский
Бог — не голая сущность, не системообразующая функция.
Для философии платоновского типа, с другой стороны, высшим
принципом является благо, Agathon, которое сообщает себя всему, но
само по себе не является активно действующим принципом, будучи
началом чисто трансцендентным. Разумеется, платоники приписывают
своему трансцендентному Первоначалу качество благости, тем самым
делая шаг в сторону от философов, ориентированных на Аристотеля:
эти последние понимали первый и верховный принцип исключительно
как «необусловленное», как «неподвижный двигатель», как «бытие»
или как сущность или функцию, оставаясь при этом в пределах чистой
имманентности. Но христианский Бог открыл Себя не в качестве
сущности, не как трансцендентное пассивное благо. Софиология, ставящая
во главу угла христианского Бога, поэтому не может исходить ни из
чисто трансцендентного блага, ни из Божественной природы, ибо в ней
должна учитываться как любящая активность Божественных
Ипостасей или Лиц Троицы, так и браться в расчет ипостазированная ими
и при этом также активная Божественная природа (physis): «Природа
Божия, которая есть София, есть живая и поэтому любящая сущность,
есть основание и "принцип"»63. Та философия, которая совершает
нисхождение от сущности Божией как от первоначала и при этом не
принимает во внимание диалогический процесс, состоящий во взаимной любви
Троицы и Софии, подвержена опасности впасть в пантеизм и
натурализм — в отождествление Бога с космосом или природой. Та философия,
которая совершает восхождение к трансцендентному Anhypotheton,
отождествленному с благом, подвергается опасности впасть в
отвращение от мира, в гностицизм и мистицизм. Напротив, софиологическое
предположение о личностной взаимной любви трех Божественных
Ипостасей, — любви, которая в качестве предпосылки имеет Божественную
усию или сущность и относится поэтому также и к ней, — отводит от
пантеизма и натурализма и позволяет избежать опасности мистицизма,
гностицизма и отвращения от мира.
е* 171 ^
e^ часть I. ЦИМЦУМ И СОФИЯ ^э
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: SOPHIA DIVINA
И SOPHIA CREATA
Согласно терминологии Булгакова, можно следующим образом
описать стадии творческого процесса. Состояние Бога до всякого творения
есть состояние совершенного акта (actus) или несокрытого бытия (des
Unverhülltseins) Его усии-Софии. Творение может начинаться только
в момент сокрытия (Verhüllung) Божественной Софии. Это сокрытие
состоит в том, что Бог более не осуществляет всей Своей сущности:
возникает разница между подлежащим осуществлению (в смысле
возможности) и осуществленным. После того как Божественная София
оказалась полностью скрытой, выступило прежде того осуществленное
ничто, а вся сущность, вся усия перешла в состояние чистой
возможности бытия (Seinkönnen). Таким образом, ничто — это не creatio, но
следствие сокрытия Божественной Софии. Ничто не творится, оно возникает
(es entsteht). Здесь — априорное основание для выступающей
впоследствии разницы между творением и возникновением. После сокрытия
Софии имеется область, в которой Бог больше не продуцирует Свою
сущность, в которой бытие и усия разделены. Если это разделение полное,
то мы видим перед собой гегелевское чистое бытие, в полной мере
обладающее диалектической природой или структурой, но без какой бы то ни
было сущности. Благодаря этому необходимо существующее,
непостижимое прабытие освободилось от Бога и стало чистой восприимчивостью,
ибо хотя оно сохранило структуру всесущности (das Allwesen),
Божественной Софии, но утратило ее сущность.
В данной терминологической системе цимцум состоит в том, что Бог
больше не хочет осуществлять свою усию, хотя прежде всех времен он
уже ее полностью осуществил и в любое время может осуществлять.
Через свободный отказ в Божественной усии появляется склонность
к некоему изменению: сама усия делается потенцией или силой, ибо она
имеет возможность осуществиться; совершенно так же в том ничто,
которое возникает при отступлении Божественной усии, заключена
возможность воспринять то, что подлежит осуществлению. Поэтому
Божественная усия-София и тварная София соотносятся между собой:
Божественная София отличается от тварной, так как первая есть
свободный (активный) переход от акта в потенцию, в то время как последняя
есть потенция, возникающая через этот акт, — потенция, которая лишь
внешней силой, силой Творца, может быть приведена из ничто в сущее.
Булгаков следующим образом характеризует это отличие: «Ничто
может существовать вне Бога как что-то Ему чуждое или внешнее. Но, тем
не менее, поскольку мир сотворен из ничего, мир находит в этом ничто
свое место. Бог дает тому принципу, который в Нем Самом пребывает
от начала, независимое от Него существование. Это не пантеизм, но
е^172^)
e^ IV. Лик Софии ^э
пан-ентеизм. Тварный мир — не что иное, как тварная София, принцип
относительного бытия в смысле становления и в связи с не-существую-
щим "ничто"»64.
Это мистическое прапространство, это чистое, прозрачное ничто
становится волей к осуществлению, относимой к Богу, если происходит то,
что Соловьев описывает как творческое созерцание Богом этого ничто,
которое знает себя только как «ничто» и знает только само себя: Творец
вступает в отношение к нему, и эта воля также неким образом
ответствует Творцу — в соответствии со словами воплощенной Премудрости:
«Fiat mihi secundum verbum tuum» *. To существенное содержание,
которое Бог создает из Своей Божественной Премудрости, Божественной
Софии, принимает в тварной Софии через это «fiat» форму, тварную
границу и образ. Божественная Премудрость — это существенное,
идеальное содержание; напротив, тварная София — это чистая,
исполненная Премудрости структура или восприимчивость. Итак,
трансцендентная и имманентная София стоит в действительности посередине между
Творцом и тварью. Это намеревались показать все софиологи — от
Шеллинга через Соловьева с Флоренским — и вплоть до Булгакова.
* «Да будет Мне по слову твоему» (Л к 1: 38): ответ Пресвятой Девы на благую весть
архангела. — Прим. пер.
Ч АСТЬ II
личность и сущность
Основные черты
западной метафизики
ν
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
Для христианства, противостоящего миру,
сегодня вопрос стоит ни больше ни меньше как о
познании действительного образа Бога, равно как
и истинного образа человека.
Лео Шеффцик1
1. ВВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ ДВУХ ПОНЯТИЙ
предыдущих главах были намечены основные черты софиологи-
ческой теологии и космологии. Важнейшие теологические
предположения софиологии развивают Афанасиево учение о Троице,
различающее Божественную усию и три Божественных
Ипостаси или Личности. Предложение Исаака Лурия о цимцуме
углубило понимание как отношения между ипостасью и усией, так и
Божественной свободы: когда Бог в акте цимцума оказывается господином
(по выражению Шеллинга) над Своим непостижимым бытием, т. е. Тем,
кто свободно распоряжается Своей усией-Софией, свободно ведет Себя
по отношению к ней, — тогда между Личностью и сущностью Бога
обнаруживается принципиальная дистанция, ибо отношение Божественных
Личностей к их Божественной сущности имеет не необходимый, но
свободный характер. При этом можно говорить о свободном тварном мире,
в котором София, как «первенец среди созданий Божиих», — это такое
среднее звено, которое не дает рассматривать творение в качестве
необходимой эманации Божественной сущности, как это делается в разного
рода пантеистических учениях. Различие между Sophia divina и Sophia
creata, а также решающее значение того пустого пространства или
ничто, которое образуется благодаря Божественному отступлению, приводят
к такой космологии, в которой творение, хотя оно через Софию
соотнесено с Богом, тем не менее одновременно может рассматриваться как
свободный процесс и независимая, самостоятельная реальность.
Следующее основополагающее софиологическое предположение
состоит в определении цели творческого процесса, которая одновременно
С^ 177 ^э
(r^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
является собственной сущностью творения. Таковой оказывается
человек, который есть полагающий Бога Его диалогический партнер,
созданный по образу и подобию Божию. Во второй части данного труда речь
пойдет о том, как об этих образе и подобии можно рассуждать с
философской точки зрения и насколько эти понятия уместны в софиологи-
ческой антропологии. В ходе такого исследования выясняется, что
указанные понятия «образ» и «подобие» (греч. homoiosis и eikon), имеющие
библейский источник, не должны восприниматься в качестве
синонимов (так бывает, как правило, в новых и новейших теологических
разработках), — тогда некоторые центральные мотивы метафизики Средних
веков и Нового времени обретут новый смысл. При этом
перебрасывается мост от Ветхого Завета через греческих отцов Церкви и раннюю
платоническую схоластику XII в. к Соловьеву и Бердяеву с их
антропологическими постулатами и предположениями.
Эта пара понятий интенсивнее всего разрабатывалась, вероятно,
в XII столетии и имела латинские обозначения imago и similitude*2.
Почти все школы более или менее интенсивно занимались этой проблемой.
Можно говорить прямо-таки о веке спекуляций вокруг образа и
подобия; также и в XIII в. эта тема продолжала играть важную роль, —
прежде всего у Фомы Аквинского. Штефан Отто справедливо отмечает:
«Однако XII столетие есть и остается временем расцвета теологии образа
и дискуссии вокруг понятия образа. Это та самая трибуна, с которой
ставятся и обсуждаются принципиальные вопросы и принципиально
возможные ответы»3. В качестве причины того, что в последующие века
(но также уже и в период между 1150-м и 1200-м годами) все реже в
теологических трудах (если не считать тех, которые возникли в кругу вик-
торинцев, а также в монастырях) можно найти что-то существенное об
imago Dei4, Otto называет распад патристико-неоплатонической среды,
а также то обстоятельство, что при этом «ослабли чрезвычайно
благоприятные предпосылки для образного мышления»5.
В XX веке, в особенности на протяжении первых трех десятилетий
после Второй мировой войны, со стороны теологов обеих конфессий
были сделаны попытки по-новому подойти к пониманию проблем вокруг
образа Божия6. В связи с этим Отто выражает надежду на то, что ранне-
схоластические авторы могут «дать ценные указания современной
догматике, которая вновь собирается осваивать теологию образа (Imago-Theo-
logie)»7. Он говорит о некоем ренессансе и богословском обновлении
учения об образе Божием (Imago-Dei-Lehre): если эти указания ранне-
схоластических авторов будут приняты современной догматикой во
внимание, она не только сможет по-новому ставить проблемы*, но,
кроме того, осознает себя «изнутри традиции»9.
Вместе с тем современная (католическая и протестантская)
догматика может получить ценные импульсы и от русской софиологии, ибо в по-
е^ 178 ^Э
C5^ V. Образ и подобие '^Э
следней культивируется антропология, опирающаяся на понятия образа
и подобия. Источники этой антропологии находятся в ветхозаветных
мифах о творении и рае10, равно как и в христианстве: тема образа и
подобия получила дальнейшее развитие в патристике и ранней схоластике
и претерпела трансформацию в высокой схоластике, а также в Новое
время. Важнейшие ступени этого развития будут намечены в нашем
дальнейшем изложении, которое завершится описанием софиологической
антропологии в варианте основоположника софиологии Владимира
Соловьева.
2. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ подход
К БИБЛЕЙСКОМУ РАССКАЗУ О СОТВОРЕНИИ МИРА
а) Сэлэм и демут11
Еврейские наименования для образа и подобия — это сэлэм и демут.
Людвиг Кёлер12 справедливо указывает на то, что при прояснении
соотношения этих двух понятий надо стремиться «прежде всех дальнейших
толкований и применений представления о богоподобии человека
установить со всей точностью и неумолимой строгостью, каков, собственно,
изначальный и единственный смысл основного для Imago- Dei-учения
места Библии (бесспорно, это место — Быт 1: 26)»13. Но уже здесь
обнаруживается первая, обусловливающая все последующие дискуссии
трудность, поскольку при экзегезе данного места мнения сильно
расходятся 14. Большинство экзегетов рассматривают понятия сэлэм и демут
в качестве синонимов 1Г\ Прочие понимают второе из них, т. е. демут,
в качестве уточнения и конкретизации первого (сэлэм); таким образом,
они исходят из того, что первое понятие благодаря второму делается
более ясным (или же ослабляется, смягчается)16. Но экзегеты эпохи
патристики и позднего Средневековья придерживались той точки зрения,
что, применяя эти два понятия, Библия имеет в виду две разных
реальности: к примеру, в одном случае речь идет о природном, в другом —
о благодатном порядке бытия17.
Интерпретация библейского учения, согласно которой человеческое
прасостояние — это единство двух полюсов, вместе образующих одного
человека, вызывала решительные возражения Освальда Лоретца. Он
приводит следующие доводы в пользу своего мнения, согласно
которому эти два понятия надо считать синонимами: «"Eikon" — слово,
переводимое в основном как "образ", — в еврейском языке означает
следующее: статуя, образ Божий, скульптура, скульптурное отображение,
плоское изображение. Поскольку значение этого слова устанавливается
на основании многочисленных близких по смыслу мест Ветхого Завета
С^ 179^5
C^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
и с привлечением родственных семитических языков, нужда в длинной
дискуссии на этот счет отпадает. В Быт 1: 26 за словом "сэлэм" следует
"демут", и для последнего отмечены следующие значения: отображение,
копия, изображение, образ, внешний вид. Например, согласно Быт 5: 3,
сын — это отображение Бога. Поскольку "сэлэм" и "демут"
взаимозаменяемы, что следует из Быт 5: 1, то "по нашему образу" и "по нашему
подобию" означает совершенно одно и то же; здесь налицо такой
стилистический прием, как ассонанс, придающий высказыванию большую
весомость» 18.
Опираясь на свой тезис об ассонансе, Лоретц подвергает
радикальной критике Иринея (Лионского) и его традицию: «Отождествление
понятия "сэлэм" — "образ" — с естественным образом, а понятия "демут" —
"подобие" — с образом сверхъестественным у Иринея и (в измененной
форме) у его последователей вплоть до современной теологии, — к
примеру, у Г. Зёнчена, следовательно, с помощью текста обосновать нельзя,
поскольку между этими двумя словами никакой разницы не
обнаруживается» 19. Лоретц и другие исследователи основываются прежде всего
на выводах сравнительного языкознания, которое убеждает в
совпадении обоих понятий, — убеждает ценой того, что различие образа и
подобия перестает быть продуктивным для библейской экзегезы.
Последствия этого становятся очевидными при понимании того, что вносит
различение образа и подобия в религиозно-философское толкование
первых трех глав книги Бытия. Ниже мы вкратце поговорим об этом.
Ь) Две первые главы книги Бытия
В экзегетике принято считать, что две первые главы книги Бытия
принадлежат разным авторам. Так как в первой главе Божество
именуется «Элогим», а во второй — «Ягве-Элогим», то исследователи говорят
об «элогисте» и «ягвисте». Само понятие «Элогим» (в еврейском языке
это множественное число: «Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему», — в то время как глагол использован в
единственном числе: «И сказал Элогим [Бог]*») имеет в новой литературе
различные значения, причем в грубом приближении здесь можно выделить
четыре разные точки зрения:
1. Речь идет о некоем «Pluralis Majestatis»: единый Бог настолько
велик и всеобъемлющ, что по отношению к Нему не подобает применять
единственное число (указывающее на единичность или отдельность);
именно поэтому составитель первой главы книги Бытия (так
называемый «элогист») избирает множественное число.
* В библейских цитатах в квадратных скобках приводится русский синодальный
перевод Библии. — Прим. пер.
е*М80^Э
C^ V. Образ и подобие ^Э
2. Множественное число проистекает из тогдашнего повседневного
языка, которым пользовались авторы книги Бытия20.
3. Хотя имеется в виду некое множество творящих духов («небесный
придворный штат»21), но все они подчиняются единому Божественному
командованию, так что через них действует единый Бог22.
4. Хотя Элогим един, однако этот единый Бог Творец существует в
нескольких (в трех) Лицах, чьи действия проистекают из одной и той же
Божественной сущности (усии) и Премудрости (Софии). Поэтому «эло-
гист» рассматривает Его в качестве одного деятельного существа23.
Две этих главы также отличаются одна от другой в отношении темы
и порядка изложения событий. Скажем, в первой главе книги Бытия
речь идет о так называемых шести днях творения — создания мира со
всеми его тварями «по роду их». Человек при этом оказывается
последним тварным существом, но он назначается первым среди тварей, ибо
он должен подчинить себе Землю и владычествовать над всеми
природными существами. Он создается как муже-женское существо, и о нем
говорится, что он есть образ и подобие Божие.
Вторая глава по-другому описывает сотворение человека:
Ягве-Элогим создает человека «из праха земного» и вдувает «в нос [лицо] его
дыхание жизни». Это происходит в тот момент времени, когда на Земле
еще нет ни единого «полевого кустарника» и там еще не растет никакой
«полевой травы»24. Затем книга Бытия впервые сообщает о насаждении
Эдемского сада, о его произрастании, о четырех райских реках и двух
особенных деревьях посреди сада — дереве жизни и дереве познания.
Человек поселяется в Эдеме и получает доступ к дереву жизни. Дерево
познания добра и зла под страхом смерти ему запрещено.
В то время как в первой главе речь идет только о том, что «Элогим
[Бог] увидел, что это хорошо», во второй главе значится следующее:
«И сказал Ягве-Элогим [Господь Бог]: не хорошо быть человеку одному;
я хочу создать [сотворим] ему помощника, соответственного ему»25.
Итак, об Элогиме сообщается, что он обладает знанием добра, тогда как,
напротив, Ягве-Элогим — знанием того, что не есть добро. Также эти
два сообщения различаются и в отношении того момента, когда был
сотворен человек: первый рассказ о творении сообщает о человеке только
в конце описания сотворения природных существ «по роду их», второй
вначале, прежде чем возникли растения и животные, описывает
сотворение человека. Конечно, также и в этом ряду человек оказывается
последним, но теперь он распался на мужчину и женщину26. Таким
образом, во втором сообщении о сотворении мира человек образует скобки,
которые охватывают все природное творение: он есть «первый и
последний», — последний, поскольку было «не хорошо» то, что он был один, —
не находилось помощника, «соответственно ему».
G^ 181 ^9
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
с) Человек в шестой день творения
Первая глава книги Бытия сообщает, что Бог создал природные
существа соответственно «роду их». Таким образом, Библия указывает на
их родовые понятия, на их ген или прообраз, их идею. Но человек не
создан таким же способом — «по его роду», — как прочие тварные
существа. Ибо когда говорится, что он сотворен как мужчина и женщина
(или как муже-женское существо) по образу и подобию Божию, в то
время как все прочие природные существа были сотворены «по роду
их», то это указывает на то, что «род», «идея» или «прообраз»
человека — Сам Творец, Элогим. Но если Элогим — это тот прообраз или
идея, в соответствии с которой создан человек, то, отправляясь от
человека, можно делать заключения относительно Божественного
первообраза. И здесь возникает вопрос: если образ и подобие Божие имеет
мужскую и женскую природу, то не обязан ли также и прообраз человека, Бог,
быть существом одновременно мужским и женским?
Софиология Булгакова и Соловьева в действительности исходит из
того, что Божество — муже-женское. Например, Булгаков так пишет об
отношении в Боге начал женского и мужского: «Трехликий Бог
обладает <...> лишь одним Божеством — Софией, и Он обладает ею таким
способом, что она принадлежит всем трем Божественным Лицам в
соответствии со свойствами каждого из этих трех Лиц» л. София, Премудрость
Божия, есть поэтому одновременно усия или сущность Божия. В
известной степени она составляет периферию или «оболочку» Троицы,
постольку поскольку эта периферия божественна; иными словами, София
указывает на общий момент всех трех Лиц Троицы: ведь каждое из них —
это Бог. Эта общность выразилась, например, в том Божественном «Мы»,
которое Библия использует при формулировании Божественного
намерения сотворить человека. Л. Кёлер пишет: «Известно, насколько
по-разному интерпретируется это "ТьГ, — то в тринитарном духе (еще
и сегодня католическими экзегетами), то как пережиток или отзвук
политеизма, то с привлечением ангелов и духов стихий, то в ключе
психологизма» а, — эти различные интерпретации игнорировать не следует. Их
можно также понимать в качестве восполняющих друг друга, причем
тринитарно-софианская интерпретация соответствует высшему аспекту
тварного мира, тогда как политеистическая или ангелологическая
интерпретации касаются его частных аспектов.
Тезис Булгакова, согласно которому мистерия, тайна Божества
заключена в единстве личностной Троицы, а также в охватывающей и
отражающей эту тайну усии-Софии, может оказаться продуктивным на
фоне гипотезы об образе и подобии также и в обращенном виде. При этом
тайна человека как существа муже-женского истолковывается по
аналогии с Богом: человек понимается как единство премудрой, отражающей
е^ 182 ^3
C^ V. Образ и подобие ^Э
сущности и наделенной силой воли, творческой личности. Подобно
тому как Бог — это трехличностный центр и премудро объединяющая,
сущностная периферия, человек также обладает мужским личностным
центром и женской сущностной периферией. Если соотнести образ Божий
в большей мере с женственно-премудрым аспектом Божественного и
человеческого бытия, с сущностью или Софией, а подобие, мужественно-
деятельный аспект, по преимуществу с Божественным и человеческим
личностным началом, то при этом откроется новый подход к изречению
Иисуса Сираха о сотворении человека: «Господь создал человека из
земли <...>. По подобию Своему [по природе их] облек их силою и сотворил
их по образу Своему»29. Подобие здесь соотносится с силой, потенцией
или волей — отличительным признаком личности — и отделяется от
пассивно сотворенного образа {зеркала Божества).
d) Человек в Эдемском саду
Согласно книге Бытия, Элогим — это создатель родовых понятий,
идей или праформ тварного мира. Родовые понятия реальны и
обладают властью над бытием лишь тогда, когда они связаны с конкретными
восприятиями. Обратно, нечто считается истинным тогда, когда
является не одним голым восприятием, но восприятием осмысленным, т. е.
когда восприятие восполнено понятием или именем30. То, что это значимо
также и в библейском смысле, для познания, отвечающего
действительности, следует из второго рассказа о сотворении мира в книге Бытия. Там
человек упоминается прежде всех прочих тварных существ; и творение
было завершено тогда, когда эти существа, являющиеся внешними
восприятиями для человека, были наделены им родовыми понятиями,
заверенными Богом. Совокупность внешнего восприятия и образованного
изнутри родового понятия есть творческое, живое представление
индивидуальной природной сущности, — ее «имя». Книга Бытия
подчеркивает, что создание на основе восприятия этих обособленных родовых
понятий было особой задачей райского человека. Он должен был дать
тварным существам их подлинные имена, ибо «как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей»31.
Райский человек мог, таким образом, составить живое, истинное
представление о каждом существе и наделить его истинным именем, —
не смог он этого сделать только в отношении одного существа — самого
себя. Причина этого состоит в том, что хотя человек в саду Эдема знал
о своем живом «родовом понятии» или прообразе (Элогиме), но он не
располагал внешним восприятием своей собственной сущности.
«Родовым понятием» райского человека, его Божественным прообразом, была
творческая субъектность Бога. Так как представления тварных существ
образуются посредством индивидуализации общих родовых понятий, за-
е^мвз^э
(г^ Часть II. личность и сущность -^э
дача человека заключалась в том, чтобы также и в отношении своей
собственной сущности индивидуализировать свое родовое понятие —
творческую субъектность Бога, отнеся это понятие к самому себе. Тогда
истинным именем человека было бы «я есмь», причем это выражение
имело бы следующий смысл: «Мое "я" есть тварно-телесная
индивидуализация и конкретизация творческой субъектности Бога, которому я
обязан самим собой» (дыхание Божественного «дыхания»). Но чтобы
образовать это понятие, человеку не хватало внешнего восприятия самого
себя, которое бы позволило ему то самое родовое понятие творческой
субъектности отнести к самому себе и так индивидуализировать, чтобы
прийти к самопознанию. Поэтому, как и в случае всех прочих тварных
существ, навстречу человеку должна была выступить извне его
собственная сущность (чувственно опосредованная), — причем выступить таким
образом, чтобы человек смог ее связать с Божественным прообразом.
Книга Бытия описывает это событие как сотворение женщины из
ребра человека, бывшего до того муже-женским существом, которое
теперь разделилось на центральную мужскую и периферийную женскую
«часть» («ребро»); затем женщина приводится Ягве-Элогимом к
просыпающемуся мужчине. Сразу вслед за тем как женщина появляется перед
мужчиной, подобно некоему зеркалу, человек узнает свою собственную
сущность и приходит к самосознанию. Итак, самопознание, согласно
книге Бытия, есть не индивидуалистический, но диалогический акт в
присутствии Божием. Поэтому в истории творения человек использует
притяжательное местоимение «мой» только по отношению к
предоставленному ему Богом восприятию женщины, то есть во встрече с нею:
«Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моет. И лишь на
основании этой встречи он именует через своего партнера себя самого: «Она
будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» *. Поскольку муж
познает самого себя в жене, то муж и жена совместно создают их
собственную сущность — человека. Создавать собственную сущность
значит рождать. Подобно тому как познание человеком райской природы
было творчески-производительным, точно так же производительно и
самопознание райского, свободного человека.
Это порождение (Zeugung) есть свободный акт: без «Мы», без
общности с неким «Ты», с другой личностью, самоопределение человека в
качестве личностного существа, в качестве «есть», не может быть
реализовано. Свое самоопределение человек совершил тогда, когда его собственная
сущность выступила ему навстречу в другом, в «Ты», в жене,
дарованной ему Богом, который есть то самое «родовое понятие», идея или про-
* Это утверждение М. Френча становится понятным, если отправляться от
немецкой версии данного места Библии (Быт 2: 23): «жена» здесь — «Männin»,
«Menschin», тогда как «муж» — «Mann», «Menschen». — Прим. пер.
е^184^>
(г^ V. Образ и подобие ^Э
образ, в соответствии с коим образован человек, ныне разделенный на
мужчину и женщину. Тот, кто сам определяет себя, тот свободен.
Согласно книге Бытия, человек обретает свободу, только объединившись с
неким «Ты». При этом рождение и осуществление свободы является
творческим личностным актом, имеющим горизонтальное и вертикальное
измерения (самопознание при встрече с партнером-человеком и взира-
ние на Ягве-Элогима, который сводит двух людей).
Отсюда следует, что человек в раю был свободен (до грехопадения),
поскольку он сам себя определял (в качестве общественного существа,
способного к диалогу) и благодаря этому творчески действовал.
Другими словами: свобода — это диалогический акт самоопределения,
познания собственного существа в присутствии Бога. Но этим определением
понятие свободы в книге Бытия еще не исчерпано.
е) Представление о свободе в книге Бытия
Чтобы выделить различные способы понимания Библией свободы,
надо обратиться к третьей главе книги Бытия, и прежде всего — к
Божественному запрету вкушать от дерева познания добра и зла; следует
также рассмотреть последствия нарушения этого запрета. При этом
обнаруживается, что в трех первых главах книги Бытия присутствуют четыре
отчасти взаимоисключающих понимания свободы человека.
1. Человек при сотворении был свободен. Шиллер говорит:
«Человек сотворен свободным, он свободен, даже если он рожден в цепях».
Божественный запрет вкушать от дерева познания напоминает
человеку о его сверхъестественном (некосмическом) происхождении; он знает,
что не целиком принадлежит космически-природному порядку. Этот
запрет — постоянное «memento» его свободы от космоса. Из данного
воззрения следует, что когда человек нарушил запрет и отвернулся от Бога,
он утратил свободу, сделавшись чисто космически-земным существом.
Итак, человек лишился своей свободы из-за грехопадения. Его
последним свободным поступком было совершение первородного греха. Так
как послерайское земное бытие при этом понимается в качестве сферы
несвободы, то свобода состоит в освобождении от земли. Это
понимание свободы можно назвать гностическим, поскольку его разделяли
всевозможные гностические школы первых веков христианства32.
2. Человек стал свободен только благодаря грехопадению; царство
свободы началось только после рая, т. е. своей свободой человек обязан
змею. В раю человек не был свободен, поскольку ничего не знал о
действительной сущности свободы, следуя Божественному запрету.
Познания свободы он достиг, только переступив авторитетную для него
заповедь. Человек эмансипировался от Божественного авторитета и в этом
е^ 185 ^э
C^ Часть II. личность и сущность -^э
самоосвобождении пришел к самосознанию. Таким образом, первым
свободным поступком человека было совершение первородного греха.
Таково понятие свободы как эмансипации, и здесь роль змея считается
положительной, поскольку он дал человеку свободу самоопределения,
автономию.
3. Человек сделался свободным в раю — после того как был сотворен,
но только до грехопадения. Это понимание совпадает с первым в том,
что человек был сотворен Элогимом потенциально свободным; со
вторым же пониманием оно соглашается в том, что человек, не имея
никакого понятия свободы и самого себя, подчинялся запрету Ягве-Элогима
без свободной на то решимости. Против второго понимания оно
выдвигает такое возражение: человек обязан сознательным исполнением
заложенной в нем свободы не змею, а разделению полов и тем самым Ягве-
Элогиму. Такое понимание свободы можно назвать диалогическим,
4. Благодаря грехопадению пространство «самоопределения
человека и одновременно его свобода» увеличились. «Вот, [человек] Адам как
один из Нас, зная добро и зло», — говорит Ягве-Элогим после
грехопадения человека (Быт 3: 22). Следовательно, человек стал свободнее в
качественном отношении, — здесь Бог и змей приходят к согласию. Теперь
свобода выбора и ответственность человека касаются не только его
самоопределения и постижения сущности все тварных существ (включая
его самого), но также и всей области entia moralia — моральных
ценностей, добра и зла, — области, которая до его поступка была закрыта для
него и находилась в распоряжении одного Бога.
Четвертое воззрение помогает понять, почему книга Бытия один раз
говорит об Элогиме, а другой — о Ягве-Элогиме: Элогим, собственно
Творец полярной родовой сущности «человек», который признал все
творение «весьма хорошим» и, следовательно, обладает полным знанием
добра — идей или усий тварного мира, предрасположил человека к
свободе — свободе от космических сил. Ягве-Элогим, Творец
индивидуального человека, личности, который располагает знанием недоброго, зла,
сообщил человеку способность сознательной реализации свободы,
опыта свободы, — и при этом свободу выбора.
Если следовать тринитарным построениям Булгакова и учитывать
соответствующие места Библии, которые приписываются Соломону33,
то оказывается, что шестидневное творение мира совершилось при
содействии Софии Премудрости Божией. Поэтому в первой главе книги
Бытия акцент делается на начале общности, усии, на Лицах Божества,
обозначенных понятием «Элогим», которые с данной точки зрения
можно назвать «Exusiai», т. е. «действующие из усии»м. Индивидуализация
и персонализация родового начала (т. е. тварных идей) через человека
не могла, однако, совершиться только посредством откровения Боже-
(?М86^
(Ξ^ V. Образ и подобие '^Ξ>
ственной сущности, усии-Софии: для этого необходимо и откровение
Божественной Личности. Личность обретает свое выражение в имени]
лишь личности имеют имена, посредством которых их не только можно
идентифицировать: с помощью имен они также обозначают сами себя.
Поэтому к так называемому второму сообщению о сотворении мира
добавлено имя Божие, признанное в иудаизме святым, — «Ягве».
Если человек понимается как образ Божий, то переход от первой ко
второй главе книги Бытия, от Элогима к Ягве-Элогиму, означает некое
смещение акцента от сущности к личности35. При этом свобода,
изначально присущая человеку, обретает новое качество: она делается
совершенной и при этом реализуется. Согласно книге Бытия, это происходит
в контексте самоопределения (сущностного определения) и
личностного диалога, или, точнее, через самоопределение в диалоге.
Теперь человек может свободно принять решение, подчиняться ли ему
Божественному запрету или же нарушить его. Библия так разъясняет
эту ситуацию: змей только после разделения полов подступил к новому
созданию — женщине, и «древний человек» впал в соблазн только через
диалог жены с мужем («И [она] дала также мужу своему, и он ел»).
Согласно книге Бытия, человек в момент искушения был полностью
свободным: он не удерживался Богом от греха и не принуждался ко греху
змеем. Оба уважали свободу человека, и поэтому он при своем выборе
сам определял себя и свой способ поведения.
f) Следствия различных способов понимания свободы
Существует заметная разница следующих способов понимания
человеческой свободы: свобода человека а) похищена змеем; β)
осуществлена благодаря его вмешательству; γ) стала возможной благодаря созданию
Богом мужчины и женщины из андрогинного, муже-женского прачело-
века, — или же δ) была достигнута в ходе некоего многоступенчатого
процесса.
а) В первом случае следовало бы рассматривать ту эволюцию,
которая началась после грехопадения для человека и связанной с ним
природы, в качестве поля сражения за утраченную свободу. Человек должен
быть освобожден от своих земных, космических оков в буквальном
смысле слова извне, с позиции по ту сторону эволюции и истории, —
освобожден Тем, Кто вновь может даровать ему свободу, поскольку
изначально создал человека для нее. Человеку надлежит уповать на своего
Божественного Спасителя и ожидать Его.
β) Во втором случае человек самым существенным для себя —
самопознанием и свободой — был бы обязан змею. Историческое и
эволюционное поле сражения было бы тогда такой областью, в которой человек
е^187^Э
e^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^
продолжал бы и впредь пользоваться этой свободой ради
самоосуществления. Целью человеческой истории было бы достижение
собственными силами идеального человека — господина (der Meister).
γ) В третьем случае человек обрел бы свою свободу через
допущенное Богом самоопределение; использовав эту свободу в ситуации
искушения, он был бы обязан нести последствия этого своего свободного
решения; потому ему пришлось бы пережить весомость и объем свободы,
(неверно) использованной им; змей при этом лишь определил бы ту
область, в которой с момента грехопадения реализуется это переживание.
Согласно этому третьему пониманию, человек через грехопадение и не
лишался своей свободы, и не достигал ее. Но изначальная, «девственная»
свобода могла бы появиться в истории лишь тогда, когда на земле бы
родился и вступил в историю человечества райский человек, т. е. когда
бы совершилось откровение Мессии.
δ) В четвертом случае три данных понимания свободы делаются
необходимыми моментами некоего ступенчатого процесса осуществления
чисто человеческой свободы36. При этом человек — как всецело и
совершенно свободное существо, — т. е. как существо, предназначенное для
свободы (глава 1 книги Бытия), как существо, свободно определяющее
себя (глава 2), и как существо, становящееся актуально свободным,
познающее добро и зло (глава 3 книги Бытия), — принадлежит
совершенно особой области творения, которая не была осуществлена порознь
через Ягве-Элогима или через змея: она была осуществлена только при
взаимодействии обоих и при участии свободного решения третьего —
человека. Три первые главы книги Бытия могут тогда рассматриваться
в качестве демонстрации трех условий или актов, необходимых для
осуществления человеческой свободы.
Эта особая область, в принципе, могла бы осуществиться также и в
саду Эдема. Но, согласно книге Бытия, человек на заре эволюции и
истории был еще не способен нести полную ответственность за свои
свободные поступки в этой особой, новой области; потому он мог бы привнести
несчастье в то пространство, которое книга Бытия называет Эдемским
садом и в котором находится источник или корень («дерево») жизни.
Поэтому книга Бытия описывает то, как место обучения свободе
выбора и упражнения в ней было перенесено в область entia moralia за
пределами Эдемского сада и сферы действия херувимов37.
g) Два порядка
Завоевание той новой области, к которой отныне относится
вложенная в человека, самоопределенная и распространившаяся на область
entia moralia свобода, было оплачено потерей другой области — области
е%188^5
(г^ V. Образ и подобие ^Э
вертикального познания истины и правильного именования всех вещей
и существ тварного мира (включая человека), которые принадлежат
порядку imago Dei. Познание истины как именование всех сотворенных
вещей и существ в соответствии с их сущностью, осуществляющееся
через соединение сущностного восприятия с заверенным Богом понятием,
а также диалогический акт самовосприятия и самопознания человека
характеризовали человеческую познавательную способность до
грехопадения. После него они стали исключительными случаями, которые
могут происходить тогда, когда человек в состоянии подняться на ступень,
соответствующую его изначальной способности к восприятию и
познанию38. Это равнозначно восприятию и мышлению, свободным от
влияния змея, т. е. от вожделений и ошибок; такие восприятия и мышление
могут возвыситься до своих прообразов в области Элогимов.
Так как после грехопадения восприятие и мышление, как правило, не
свободны от влияния змея, то горизонтальное послерайское развитие,
т. е. человеческая история, находится в основном в порядке similitudo.
Структурное изменение, которое произошло с similitudo, относится,
среди прочего, к человеческой познавательной способности, которая,
оставшись «перед вратами рая», больше не в состоянии достигнуть
ноуменального мира (в терминах Канта). Кантовский анализ
ограниченности чистого теоретического разума в свете этого оказывается
философским подтверждением антропологии книги Бытия.
История человечества, начавшаяся лишь с грехопадения, находится,
таким образом, под знаком падшего подобия: она характеризуется
задачей человека определить свое отношение к трем сферам и поставить его
под свою ответственность. Эти сферы таковы:
• свобода, которая теперь распространяется также на область «entia
moralia», моральных ценностей, в которой человек еще не обладает
достаточным опытом и которую он обязан исследовать ценой многих
ошибок и страдания;
• жизнь, источники и корни которой находятся вне власти человека,
которому противостоит смерть;
• творческая деятельность, признающая entia moralia,
заключающаяся поначалу в усилиях по преобразованию хаоса, который находит за
пределами райского порядка впавший в грех человек и его семья, т. е.
деятельность по превращению дикой и пустынной местности в
необходимую для выживания среду обитания.
Итак, согласно книге Бытия, задача, возложенная на исторического
человека, состоит в том, чтобы верно определить и осуществить
соотношение свободы, жизни, а также ответственного производства и
воспроизводства в поле напряжения боли, труда и смерти39.
е^ 189 ^Ξ>
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТОЕ УЧЕНИЯ
ОБ ОБРАЗЕ И ПОДОБИИ
a) Similitudo u dissimilitudo в патристике
и в эпоху византийского иконоборчества
Как уже упоминалось, современная библейская экзегеза по большей
части исходит из того, что из библейского пратекста невозможно
устранить различия между понятиями «сэлэм» и «демут». Конечно, различие
после пришествия Христа было замечено греческими отцами Церкви40.
Важность этого различия состоит в том, что оно помогает лучше понять
спасительное дело Христа. Ибо, согласно учению отцов, в результате
грехопадения человек подвергся некоему радикальному изменению,
которое может быть описано с помощью понятий «eikon» и «homoiosis», —
соответственно, imago Dei и similitudo Del Так, Ириней Лионский учил,
что человек до грехопадения был равен Богу в аспекте образа (imago)
и имел с Ним сходство в отношении подобия (similitudo); однако при
грехопадении подобие пало и структурно изменилось. Оно превратилось
в dissimilitudo, в то время как образ (imago), будучи зеркальным
отражением Божества, при грехопадении не мог структурно измениться и
остался неповрежденным41. Только благодаря пришествию Христа dissimili-
tudo была спасена, и для нее вновь стала достижимой similitudo.
Важнейшие тезисы византийских отцов по теме образа и подобия
возникли во время иконоборчества. Этот спор вынуждал сторонников
иконопочитания не только к защите христологии, которая была развита
в предшествующие века и которую отстояли на соборах: он также вводил
их в самое сердце проблематики образа (imago). Из-за того, что в
иконоборчестве была поставлена под вопрос возможность изображения Бога
и святых на иконе, оказалась подвергнутой сомнению общая идея о
сотворении человека по образу и подобию Божию: как мог телесный
человек быть сотворенным по образу и подобию бестелесного Бога? Один из
первых ответов на этот вопрос был дан в конце II в. Иринеем Лионским.
Ириней противопоставляет всем антропоморфным представлениям о
Боге «образное» отношение человека к Богу, ставшему плотью, т. е.
Христу: «Но когда Логос сделался плотью, <...> Он показал воистину тот
образ, в котором Он стал тем, кто был Его образом (т. е. человеком)»и.
Мефодий Олимпийский (ок. 300 г.) следовал Иринею, когда утверждал
в своем «Симпосионе», что Христос принял человеческий облик, дабы
человеку было легче Ему подражать4*. Основной для Мефодия была
идея вочеловечения Христа и телесного воскресения всех людей.
Приводя сравнение из области искусства, он указывал на неуничтожимость
материи художественного произведения, что служит аналогией
сохранения «человеческой субстанции» при превращении в момент воскресе-
С^ 190 ^Э
(5^ V. Образ и подобие ^2>
ния. Скульптор может расплавить бронзовую статую, если что-то в ней
ему не нравится, и заново отлить ее из того же самого материала;
сходным способом Бог заново творит человека посредством смерти и
воскресения, хотя человеческая субстанция (в частности, телесная) остается
в сохранности подобно металлу при первой и второй переплавке.
Византийские иконопочитатели VIII и IX вв. Иринея не цитировали; Мефодий
цитировался только Иоанном Дамаскиным44. «Их [Иринея и Мефодия]
основная мысль о человеке как образе Человека Христа появляется,
однако (в исключительных случаях и в менее выразительной форме),
в поздней патристике, косвенно давая византийцам весомый аргумент
против иконоборцев, — а именно, мысль о том, что образ, икона Христа
представляет Его только как человека»45.
В связи с этим иконопочитатели могли бы вновь взять на
вооружение два важных уточнения, сделанных греческими отцами. Первое из
них касалось некоего иного подхода к экзегезе рассказа о сотворении
человека в книге Бытия. Этот подход, преобладающий в позднейшей
патристической интерпретации, имеет александрийские истоки: он
обнаруживается у Филона, Климента, Оригена и Афанасия. Образное
отношение между Богом и человеком здесь переносится в другую
плоскость, поднимаясь в область души и духа: «Нам надо помнить о том, что
как в патристике, так и в платонической мысли параллельно дихотомии
души и тела существует дихотомия или трихотомия души, —
соответственно ее разумной и неразумной или же ее разумной, чувствующей
и вожделеющей частям. У большинства отцов Церкви образ Божий в
человеке имел отношение к тому, что человек одарен духом и рассудком, —
иными словами, к высшим уровням его души — т. е. к разуму и
свободной воле. Уже у Филона46 человек благодаря своему духу есть некий
образ Образа Божия, т. е. образ Логоса, Божественного Слова и
Божественного Разума. То, что образ Божий в человеке обладает
духовно-интеллектуальной природой, было почти что общим мнением отцов Церкви
со времени Климента Александрийского47 и Оригена48, т. е. с III века49.
Единственным известным мне исключением является Мефодий, чья
зависимость от Иринея и противостояние определенным учениям
Оригена также известны»50.
Ириней и другие греческие отцы Церкви наряду с Божественным
образом (eikon), как уже упомянуто, признавали подобие человека Богу
(homoiosis). Образ они отождествляли с врожденной разумностью и
духовной свободой человека, подобие и «равнение» на Бога — со
стремлением к совершенству, поддерживаемым Божественной благодатью.
Многочисленные способы различения образа и подобия можно найти уже
в гнозисе Валентина51, у Иринея52 и прежде всего у Климента
Александрийского53 и Оригена5455. Понимание Иринеем и Мефодием
приближения человека к Богочеловеческому прообразу и первообразу Христа,
е^ 191 ^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
очевидно, относится к подобию (homoiosis), — то есть к стремлению
и усилиям человека сравняться с Богом; напротив, образ (eikon) Божий,
врожденная человеку разумность и духовная свобода, связаны с
духовно-интеллектуальным началом человека, с которым александрийские
отцы Церкви соотносят человеческий образ.
Ь) Усвоение учения отцов в Средние века
В области учения о подобии (similitudo), ставшем неподобием (dissi-
militudo), большинство платоников XII в. следовали Иринею Лионскому.
В раннем Средневековье Алкуин (один из важнейших источников
спекуляций по поводу «образа» в школе Лаона) развивает в своем
сочинении «Disputatio puerorum» учение об утраченном подобии (similitudo)
при сохранении образа (imago) (которые он интерпретирует в духе
Августина). Штефан Отто указал на этический подтекст этого понимания,
а кроме того, на те два порядка, к которым принадлежат imago и
similitudo 56: «Алкуин различает собственно imago unitatis et Trinistatis от
требующего этического осуществления similitudo. Хотя он говорит, что Бог
сотворил человека также ad similitudinem suam, но затем он продолжает:
подобно тому как Бог благ, справедлив и милосерден, — следовательно,
"добродетелен", — так же и человек сотворен для того, чтобы быть
благим, справедливым и милосердным; в следовании этим добродетелям
similitudo приближается к Богу. Цель уподобления следует поэтому
понимать в динамическом смысле; термин ad imaginem в текстах Алкуина,
напротив, должен пониматься статически, в смысле неустранимого
образа» 57.
Упомянутая Отто разница между статическим и динамическим
понятиями образа может рассматриваться как одна из характеристик (если
не единственная) для различения двух основных типов
западноевропейского философствования вплоть до XX столетия. Шелер, к примеру,
указал на эту разницу при противопоставлении собственного метода
принципам Хайдеггера58.
Примером усвоения подхода отцов в монашескую эпоху позднего
Средневековья является учение св. Бернарда Клервоского. Вот
основные моменты учения Бернарда, касающиеся интерпретации imago Dei
и similitudo Dei. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. До
грехопадения у первого человека Божественные образ и подобие
совпадали. Но после грехопадения их тождество не сохранилось. Образ
остался неповрежденным, а подобие, изначальное сходство с Богом, было
утрачено. Человек после грехопадения пребывает в искаженном
состоянии утраты богоподобия, хотя и сохраняет образ Божий59.
Основную черту представленного здесь краткого резюме некоторых
патристических и раннесхоластических точек зрения на проблему обра-
е^192^>
(г^ V. Образ и подобие ^Э
за и подобия в христианском богословии и философии можно
охарактеризовать следующим образом. Так как человек вместе с первородным
грехом воспринял в себя зло, ему присуща некая внутренняя наклонность
ко злу. В той части человеческого существа, через которую
осуществляется свобода человека и которая традиционно обозначается по большей
части как similitudo или «подобие», произошло изменение — возникла
предрасположенность к эгоизму, cuwatio in se ipsum. В силу этого
первоначальное богоподобие сделалось «неподобием», dissimilitudo, хотя
образ Божий, imago, который отражается в разумной части человеческого
существа, остался неповрежденным ω.
Такое воззрение отцов (Оригена, Иринея) имело важные последствия
для христианской антропологии: поскольку падшее similitudo,
сделавшееся dissimilitudo, впредь не могло в полной мере выражать, открывать
imago Dei, то отношение подобия и образа также претерпело изменение.
В падшем человеке следует отличать сверхъестественный образ Божий
(imago Dei) от естественного, природного, причем под первым следует
понимать интегральный, первоначальный, райский образ (imago), в то
время как последний представляет собой ту его часть, которую падшее
подобие (similitudo) может открыть и осуществить. Ибо поскольку
подобие, сделавшееся dissimilitudo, претерпело глубокое структурное
изменение, то образ Божий (imago Dei), открытый благодаря ему, есть лишь
«часть» или естественный «отблеск» того величественного,
превосходящего всю тварную природу Божественного образа, которым «первый
Адам» в полной мере обладал до грехопадения и который открылся
только благодаря приходу «второго Адама» в царстве послерайской
природы и истории61.
Итак, после грехопадения человек обладает сверхъестественной
(скрытой) и естественной (открытой) сущностью. В его естественной,
природной сущности обнаруживаются последствия падения similitudo.
Но это природное существо, также и в своей ограниченности и
несовершенстве, причастно образу Божию, поскольку в вышеупомянутой
исключительной ситуации познания оно срастается со своей
сверхъестественной (райской) частью. Согласно учениям различных ранних схоластов
(например, Алана Островитянина), это происходит путем развития
высших познавательных способностей души: за общедоступной и
прагматической ratio (тождественной платоновской dianoia) следует не только
intellectus (платоновская episteme — способность проникновения в мир
идей), но и intelligentia (познающая область ангелов), и, наконец, deifi-
catio (обожение), совершающаяся в некоей unio mystica62.
Однако с падением similitudo, согласно книге Бытия, связано, как
показано выше, также и некое возвышение человека, что выражается в
словах Ягве-Элогима: «Вот, Адам [человек] стал как один из Нас, зная добро
и зло» (Быт 3: 22). Согласно свидетельству Библии, только после грехо-
(^ 193^5
e^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ «э
падения человек, подобно Богу, сделался способным к свободным,
морально ответственным поступкам, так как только теперь он стал неким
esse morale (как выражается на этот счет францисканская поздняя
схоластика, например, в лице Александра Гальского), обладающим знанием
entia moralia. Если после грехопадения человек остается связан с Богом
посредством imago Dei, т. е. через свою высшую сущность (в той мере,
в какой similitudo, сделавшись dissimilitudo, сохраняет
«добродетельность» и ведет богоугодную жизнь), то в качестве esse morale он
обнаруживает нечто из своего первоначального подобия (homoiosis). Если же,
напротив, человек отрекается от Бога, чтобы определяться независимо
самому, он, следовательно, тотчас же отбрасывает от себя imago Dei; при
этом обнаруживается dissimilitudo, падшая личность.
с) Различение личности и сущности
в Новое время
Согласно учению отцов Церкви и ранних схоластов, пришествие
Христа имело решающие последствия как для imago, так и для similitudo/
dissimilitudo. Выражаясь образно, через Христа в послерайском
человечестве и природе открылся первоначальный образ Божий (imago Dei).
«Второй Адам» явил пример такого «подобия» («similitudo»), которое
было в состоянии обнаружить образ Божий (imago Dei) в его
совершенной и неограниченной полноте, без структурных изменений, вызванных
грехопадением (т. е. «незапятнанным» и «девственно» рожденным).
Конечно, ядром этого учения было то, что Иисус Христос не стоял в
порядке similitudo, а был скорее Божественным прообразом для тварно-
человеческого отображения. Так, в первые христианские столетия на
передний план выступил вопрос об истинной природе Христа и Его
посредничестве между Божественным прообразом и человеческим
отображением. Вселенский Собор в Эфесе в связи с этим говорил о
Божественной Личности Христа и Его Божественной и человеческой природе.
Когда во Христе Бог стал Человеком, то Он не уподобился Богу (ist er
nicht ad similitudinem Dei), а Он есть Бог. С другой стороны, Он имеет
человеческую природу, которая была сотворена по образу Божию {ad
imaginem Dei), — и следовательно, является образом Божественной
«природы». И поскольку Христос обнаруживает первоначальный образ
(imago) неповрежденным от первородного греха, Он является
одновременно прообразом для восстановленного подобия (similitudo). При хри-
стологической разработке учения о личности и природе (сущности)
поэтому продолжает свое развитие ветхозаветное различение подобия
(= личности) и образа (- сущности). Человек есть образ Божий как в
отношении Его природы, так и Его личностного начала03. Это означает:
также и человек есть личность, которая имеет природу или сущность.
(^ 194^5
(г^ V. Образ и подобие ^Э
В то время как схоластические философы, осмысляя сотворение
мира, исходили преимущественно из аспекта сущности (поэтому
развитую ими разновидность метафизики можно назвать «метафизикой
сущности»), на долю развития мысли в Новое время осталась разработка
личностного аспекта человеческого бытия, примыкающая к полемике
номиналистов против реалистически ориентированной
субстанциальной онтологии. Тео Кобуш в связи с этим говорит прямо-таки об
«открытии личности» и называет то метафизическое направление, которое
подготовило и осуществило это открытие, «метафизикой свободы» м.
То, что оба вида метафизики и принцип их различения невозможно
понять без гипотезы об образе и подобии, будет показано в двух
следующих главах. При этом обнаружится, что «метафизика сущности»
больше связана с образом, а «метафизика свободы» — с подобием.
VI
МЕТАФИЗИКА СУЩНОСТИ
И IMAGO DEI [ОБРАЗ БОЖИЙ]
Эллинизация христианства, т. е. стремление осмыслить
христианское содержание в греческих категориях
(насущная необходимость для христиан, желавших исполнить
свою вселенскую задачу), происходит с постоянной и
сознательной опорой на веру. Это осмысление развивалось
в поле напряжения между данными двумя полюсами;
отсюда проистекает специфика средневековой философии.
Рихард Хайнцман1
1. ВВЕДЕНИЕ:
САМОСОЗНАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
I ^| Шримпф называл философию «стремлением некоего культур-
Г""^ ного сообщества научным путем довести до сознания содержа-
I тельную основу своего само- и миропонимания, чтобы оценить
I г—L правомерность тех притязаний на истину, которые, естественно,
LJ LJ связаны с этой основой»2. При этом Шримпф задавался
вопросом, можно ли назвать философией фундаментальные идеи
Средневековья с их теологической мотивировкой и ориентацией преимущественно
на христианское откровение, — идеи, охваченные термином
«схоластическая философия», восходящим к Хоро3. Хотя это понятие по-разному
применялось рядом исследователейА 8, но против него выдвигалось
возражение со стороны Шеню, утверждавшего, что правомерно говорить не
о схоластической философии, но только о схоластике, поскольку она
получает свое специфическое содержание лишь в связи со средневековой
теологией. Согласно Шеню, схоластика поддерживает попытку
средневековых теологов, основанную на «чрезвычайно высоком доверии к
рациональной стороне разума», внедрить тайны веры в такие типичные
формы обучения, как «lectio», «quaestio» и «quaestio disputata»9. Из
схоластического подхода и схоластической целенаправленности
проистекает не чистая философия, а схоластическая теология. На основе
анализа научных представлений Иоанна Скота Эриугены, Бернгарда Турского,
е%196^)
(г^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^3
Ансельма Кентерберийского и Петра Абеляра Шримпф возражает
этому тезису Шеню и приходит к тому, что средневековая теология с ее
«волей к научности, во всех суждениях об истине, в формальном
отношении — безупречной, <...> во всяком случае, в предсхоластическую
эпоху и во времена ранней схоластики созвучна стремлению
культурного сообщества сделать посредством науки настолько осознанными
содержательные основы тогдашних самосознания и миропонимания, чтобы
можно было отдать себе отчет в том, правомерно ли притязание на
истину, воздвигаемое на этих основах»10. Шримпф утверждает: «Именно
таким <...> было и определение философии», — и заключает отсюда:
«Поэтому можно назвать схоластическую теологию предсхоластиче-
ской эпохи и времени ранней схоластики также и философией, дав ей
определение схоластической философии» п.
Если слово «философия» понимать в соответствии с его греческими
корнями *, то вывод Шримпфа представляется тем не менее
проблематичным. Хайнцман ясно указал на принципиальную разницу двух
подходов к действительности: «В понимании творения в качестве creatio ex
nihilo как бы сосредоточены все различия и фундаментальная
несовместимость греческой философии с христианской мыслью, основанной на
вере»12. В схоластике о целокупной действительности говорится строго
на языке теологии откровения, и эта действительность, в сравнении с
греческим мировоззрением, в своем внутреннем существе зрится Богом
совершенно по-новому и в качестве творения открывается по-другому:
«Мир в христианской перспективе — нечто совершенно иное»13. Бог
и мир в греческой философии и «в христианской мысли понимаются
в корне различно». Используя язык Аристотеля, можно сказать, что
категория субстанции в христианском сознании уступает место категории
отношения: «Последние основания действительности, следовательно,
нельзя отождествлять с сущностью и субстанцией. Приоритет
получают личностное бытие и отношение»14. Мнение Хайнцмана таково, что
тринитарное единство отношений сделалось структурной моделью
некоего нового понимания действительности, при котором «жесткий и
статичный принцип единства превратился в многообразную динамику
жизни личности». Так Бог, почитаемый в трех Лицах, открывает перед
христианской мыслью новый, философски не обоснованный горизонт.
Однако Хайнцман не отрицает за схоластикой определенного
философского содержания. Но, в отличие от Шримпфа, он исходит не из
тождества теологии и философии (которое, по мнению Шримпфа,
существовало по крайней мере в эпоху ранней схоластики), но из восполняющего
(по отношению к теологии) характера схоластической философии15.
Так как в Библии обнаруживаются элементы и основные черты собст-
* Т. е. как «любовь к мудрости». — Прим. пер.
С^197^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
венно метафизики творения, самым значительным аспектом которой
является онтология личности, основополагающая для веры в Троицу16,
в истории философии, по мысли Хайнцмана, получило великое
значение, в качестве основы для «преодоления субстанциальной
метафизики», взаимодействие этих двух различных подходов: «Именно в этой
"философской" компоненте христианства скрыта причина того, что
греческая философия и христианское, основанное на вере знание, несмотря
на разницу их подходов, могут, однако, в конечном счете
взаимодействовать» 17. Конечно, допускаемая Хайнцманом совместимость и
возможность взаимодействия двух разнородных подходов имеет смысл
только тогда, когда притязания субстанциальной онтологии на
единовластие преодолены, но при этом ее подмена исключается. Это в
точности то самое требование, которое выдвигает философия Нового времени,
ориентированная на «открытие личности». Всякая метафизика до
своего собственного «критического» этапа выступала в качестве
«субстанциальной онтологии», которая в докритическую эпоху служила также
в качестве эвристического принципа там, где личностная ориентация
требовала, собственно, другого горизонта понимания18. При этом под
«субстанциальной онтологией» подразумевается любая разновидность
метафизики, имеющая дело с бытием (to on), с различными формами
субстанции (hypokeimenon, или usià) и возможностью их объективного
познания, — но в первую очередь платоновская, неоплатоническая и
аристотелевская философия вместе с их средневековыми вариантами.
Последних касается упрек (ибо речь идет именно о нем) в адрес платонов-
ско-аристотелевского, так называемого «реалистического» крыла ранней,
высокой и поздней схоластики. Для ориентированной на личность
философии, названной в следующей главе «метафизикой свободы», нет
проблемы в применении понятия «философия», выработанного для
подхода иного типа, названного здесь «метафизикой сущности»;
конечно, это понятие уместно только в исторических и систематических
пределах. Новая философия не видела действительной важности этого
подхода для современности и для мысли будущего; со своей
собственной точки зрения она считала его достоянием прошлого.
Поэтому насущной задачей является примирение двух подходов, на
значимость чего было указано Хайнцманом. Если хотят избежать Сцил-
лы отпадения в «деперсонализированную» субстанциальную
онтологию и Харибды «десубстанциализированного» персонализма, то должен
быть найден некий эвристический принцип, на основе которого
субстанциальная онтология и персонализм могут быть поняты и
сохранены в их особенном значении, когда одна сторона не отрицает другую.
По нашему мнению, это возможно только на фоне различения similitu-
do/dissimilitudoy с одной стороны, и imago — с другой, — следовательно,
изнутри христианской антропологии. Только это различение делает
(^ 198^3
Сг^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
также понятным тот факт, что схоластика имела два «крыла» —
реалистическое и номиналистическое; также отсюда происходят два разных
понятия философии и науки. Поскольку современные исследования
ориентируются в большей мере на то научное направление, которое
было стимулировано со стороны номинализма и связано с понятиями
similitudo/dissimilitudo19, то надо показать, что спорная «часть»
схоластической философии (ее реалистическое «крыло») связана с imago. Для
этого надо изложить некоторые центральные идеи представителей
реализма, относящиеся к эпохам ранней, высокой и поздней схоластики
(или раннего Ренессанса). При этом обнаруживается, что основу
«метафизики сущности» (наложившей свой отпечаток на эти идеи)
составляет некая пространственно-статическая, «архитектоническая» структура,
которая впоследствии обозначается как «средневековый собор
познания» (mittelalterliche Erkenntniskathedrale). Постепенное изменение
перспективы в сторону динамико-волюнтаристского подхода естественным
образом привело к тому, что сам этот «собор» испытал в схоластическую
эпоху «переориентацию» от объективности к субъективности, что было
связано с пробуждением similitudo и неким «помрачением» или «субъек-
тивизацией» imago.
2. «ПЕРВОЕ НАЧАЛО»20 И ПОМРАЧЕНИЕ IMAGO
Существуют два инструмента философствования —
разум и его выражение. Но поскольку разум просвещается
благодаря квадририуму, тогда как тривиум содействует
его элегантному, разумному, исполненному вкуса
выражению, то очевидно, что единственным и самым
подходящим инструментом философии в целом является Семи-
книжие.
Theppu Шартрский2Х
а) Семь свободных искусств
Георг Виланд указал на выдающееся значение семи свободных
искусств для организации средневекового знания22, представляющих,
согласно Курциусу, «фундаментальный порядок духа»23. Оба их
подразделения, как следует из вышеприведенной цитаты Тьерри, относились ко
всей действительности, доступной для человеческого разума: троица
грамматики, диалектики и риторики, с IX в. называвшаяся «тривиумом»,
относилась в большей мере к тем способам, какими выражается разум;
четверица музыки, арифметики, геометрии и астрономии, названная
Боэцием «квадририумом», относилась преимущественно к
познавательной способности разума. Эмиль Мале усматривает баснословный исток
С^199^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
septem artes liberales уже у Моисея; во всяком случае, живший в VI в. по
Р. X. римский историк Кассиодор подтверждает, что Моисей «обладал
семью свободными искусствами, а язычникам не оставалось ничего
другого, как похищать у него лохмотья»24.
«Семь искусств» передавались от римского писателя V в. по Р. X. Мар-
циана Капеллы, аллегорически изображавшего их в облике семи дев,
через Григория Турского, Иоанна Скота Эриугену, Петра Компостеллу,
Аделяра Батского и Ремигия Оксерского к представителям
реалистической школы XII века; в это время семь искусств сделались основой
преподавания в кафедральных школах высокого Средневековья, которые
были предтечами университетов XII—XIII вв. Виланд указывает на то
принципиальное значение, которое имели искусства тривиума (в
особенности грамматика) для символического миропонимания предсхоласти-
ческой эпохи и ранней схоластики. Тогда «природа и история читались
как книга, в которой сияет Божественная действительность».
«Способность проникновения во внутреннейшее существо мира человек обретает
благодаря медитативному усвоению Божественных документов в свете
их традиционного истолкования <...>. Это достигается
преимущественно с помощью грамматики, ибо она вводит в язык с его правилами и
занимается литературой и ее объяснением. В кругу семи свободных
искусств грамматика вообще служит первым основанием для культуры,
которая ориентирована на свою собственную традицию и строит свое
самосознание преимущественно на документах письменности...» Г) С
перемещением основного внимания с грамматики на диалектику (логику)
произошла роковая перемена, которая также не могла не сказаться на
тех принципах познания, которые до того считались равнозначными.
Ь) Принципы познания
В миропонимании реалистического крыла ранней схоластики,
инспирированного со стороны неоплатонизма, источник логики — ratio — это
один из трех принципов, делающих возможным познание. Шеллинг,
предвосхитивший в ее существенных чертах позднейшую софиологию,
представил эти черты по отдельности в своей вводной лекции к
«Философии откровения», в которой он философски обосновывает свой
подход к Софии; при этом он обыкновенно использовал понятия «разум»
и «рассудок» в смысле, обратном тому, какой был привычен для платони-
зирующих ранних схоластов, а также необдуманно переносил свои идеи
на всю средневековую философию26. Разумеется тезис Шеллинга,
согласно которому intellectus (это слово он переводит как «рассудок») был
таким принципом, который «не соответствует вообще ничему
конкретному, действительному, и еще в меньшей степени чему-то
личностному», — в первую очередь реалистическому крылу ранней схоластики.
е^ 200 ^9
Сг^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^5
Язык источников совершенно иной: к примеру, для авторов из круга
викторинцев или Шартрской школы, которые связывали с этим
понятием смысл, отвечающий слову «разум», intellectus непременно означал
нечто «конкретное, действительное»: для них он был тем источником,
который, в соответствии с их воззрениями и духовным опытом, делал
возможным познание высших духовных сфер (ангельских иерархий
и даже Бога) в том случае, когда он из чистой способности к
оперированию общими понятиями или идеями превращался в то, что, скажем,
Алан Островитянин называл «intelligentia» и «deification. Именно има-
гинативное образное мышление, ориентированное на imago Dei,
воспитанное на медитативной проработке произведений «авторов истины»,
т. е. представителей традиции, и прошедшее школу семи свободных
искусств, делало возможным образное описание тех опытов, какие
наличествуют, например, у Алана Островитянина27.
с) «Собор познания» высокого Средневековья
Обозначенные Шеллингом три познавательных принципа раннесхо-
ластической философии и их отношение к четырем «ступеням» бытия
таковы:
Dens — абсолютно всеобщее и при этом конкретное;
Intellectus — универсалии, необходимые общие понятия или идеи;
Ratio — способность к умозаключениям; взаимоотношения понятий
и восприятий;
Sensus — эмпирия или чувственные (внутренние и внешние)
восприятия; сфера случайного.
В платонической ранней схоластике совокупность этих четырех начал
образует «архитектуру» человеческого познания и указывает путь к его
достижению. Если сюда добавить метаморфозы intellectus'a, то
получается следующее познавательное восхождение. Человек воспринимает
внешний мир, т. е. чувственно-физическую природу, благодаря своей
способности чувственного восприятия (sensus). Он связывает
воспринятое с помощью своей способности к умозаключениям (ratio) в некое
определенное представление и дает ему имя. Само это имя, это
представление происходит не от внешне воспринимаемой природы, а от
источника общих понятий и идей — от человеческого духа.
Интеллектуальная способность человека, intellectus, является неким «игольным
ушком» для космоса духовных идей, которые спрядаются обитателями
духовного мира, существами различных ангельских иерархий. С
помощью медитативных упражнений intellectus может прийти к признанию
этих иерархий в качестве источника идей; при этом intellectus становится
intelligentia, которая сообщает человеку достоверное знание о том, что
он возрос до степени гражданина духовного мира и принадлежит к низ-
е^201 ^э
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^9
шей ступени небесных иерархий, которые совместно прославляют
единого Творца (Deus). Если intellectus, превратившийся в intelligentia,
становится равным существам иерархий также и в отношении
созерцания Бога, то он сам переживает некое обожение, deificatio.
Таковы основы и сооруженное на них «идейное здание» различных
философов, действовавших в XII веке при кафедральных школах, — для
Шартра и его окружения это, скажем, Тьерри, Бернард Сильвестр и Алан
Островитянин28. Можно соотнести это здание мысли непосредственно
с постройкой соборов и говорить о своеобразном «соборе познания».
Этот последний обладает чем-то вроде фундамента: таковым является
область эмпирии или восприятия вместе с относящейся сюда
способностью к чувственному восприятию (sensus). На фундаменте сооружается
первый этаж — способность к умозаключениям и логическому
связыванию мыслей, развитым на основе восприятия, — ratio. Над ним
возвышается второй этаж: это источник общих понятий или идей — intellectus
или intelligentia, созерцающая духовные сущности, которые порождают
эти идеи. А сверху находится крыша, которая возвышается надо всем,
охватывает все и укрывает, — это Бог или Deus, т. е. познаваемая в
deificatio идея идей и Творец «мира невидимого (т. е. ангельских иерархий)
и видимого», как это выражено в Никейском Символе веры.
Средневековый человек не только чувствовал себя в этом здании
в укрытии: поскольку он как бы «вдыхал» своей душой высшие области
бытия (во время молитвы и медитации) и, очевидно, также переживал
свет духа и сущность свободы, — переживание, связанное с великим
притоком жизни и моральности, — то хочется поверить изображению
«небесного создания нового человека» у Алана Островитянина («Anti-
claudian»). В готических соборах, многие из которых выдержали все
бури Нового времени, средневековый собор познания нашел себе
выражение в камне и стекле Μ. Но он не только сообщил импульс
строительной готике, а стимулировал также формирование общества и культуры.
Западное общество раннего и высокого Средневековья представляло из
себя как бы социальный образ этого «собора познания»30.
d) Понятие природы
Реалисты XII в. в своей натурфилософии исходили, как правило, из
сочинения Иоанна Скота Эриугены (ок. 810—877) «De Divisione
Naturae». В качестве одного из первых систематизаторов науки предсхолас-
тической эпохи31, Скот Эриугена обозначает в своем труде различные
ступени природы: «Прежде всего она разделяется на ту, которая творит
и не творится; затем на ту, которая творится и творит; в-третьих, на
ту, которая творится и не творит; в-четвертых, на ту, которая не
творит и не творится. Эти четыре части попарно противостоят друг другу:
С^202^)
(τ5" VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] "^Э
третья противостоит первой, четвертая — второй. Но четвертая часть
попадает в область невозможного, поскольку ее отличительный
признак состоит в том, что она не может существовать»32.
Первая форма или ступень природы — это вечная natura divina, не-
сотворенная Божественная природа; вторая — это так называемая natura
naturans, т. е. порожденная Богом невидимая, сверхчувственная
природа, которая, будучи сотворенной и творящей, порождает
чувственно-видимую природу, — это третья ступень, так называемая natura naturata.
Четвертая ступень природы как таковая, согласно Скоту, не обладает ни
действительностью, ни возможностью, поскольку она «не может
существовать». Глава придворной парижской школы целиком принадлежит, со
своим «разделением», неоплатонической традиции: в неоплатонически-
плотиновской ступенчатой модели бытия четырем формам
(сверхдействительной, действительной, возможной и невозможной) природы
соответствуют:
t) эманация начала «нус» из начала «эн»; при этом впервые
появляется основание для «он», т. е. бытия («эн» = несотворенной, творящей
природе, natura divina);
2) передача вечных идей тварного мира через «нус» мировой душе
(псюхэ - сотворенной, творящей природе, natura naturans);
3) запечатление этих идей через посредство мировой души в
видимой природе (= сотворенной, не творящей природе, natura naturata);
4) материя, обнаруживающаяся как многообразие благодаря этому
запечатлению; как таковая материя не существует (она -
несотворенной и не творящей природе, т. е. это ничто; natura non creata non crean)33.
Статус бытия Плотин/неоплатонизм Скот Эриугена
сверхбытие эн natura divina
бытие нус (мировой дух, идеи) (ангельские иерархии)
бытие псюхэ (мировая душа) natura naturans
бытие феномены natura naturata
небытие материя (ничто) natura non creata non creans
Это иерархически-вертикальное, ориентированное на диалог
позднего Платона «Тимей» подразделение бытия считает низшие ступени
обусловленными соответствующими высшими; при этом бытие может
«читаться» в его ступенчатом нисхождении (descensus) в соответствии
с его сигнатурой, знаками или отображениями, что в XII в. в одном из
своих стихотворений выразил Алан Островитянин: «Omnis типах сгеа-
tura / quasi liber et pictura / nobis est et speculum»34. Чем ближе бытий-
ственная ступень находится к Единому, Благому или, в христианской
терминологии, к тринитарному Богу, тем выше отвечающая этой
ступени «мощь бытия». Часто упоминаемая опасность этой ступенчатой
мост^ 203 ^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^9
дели бытия заключается в том, что в ней, как и в ее платоническом
прообразе, многообразие чувственно воспринимаемой природы
оказывается «побочным продуктом бытия», а отдельные явления —
испорченными архетипическими идеями.
е) Вызов номинализма и новое открытие природы
«Номинализм» исходит из убеждения, что никаких самостоятельных
универсалий не существует35. Общие понятия суть имена, связанные
с вещами чисто внешне, — это обозначения, которым не соответствует
никакой сверхчувственной, метафизической реальности, никакого
собственного бытийственного статуса. Поскольку общие понятия, как
показано выше, относятся к сфере intellectus'a, то номиналистическому
вызову соответствует некая «девальвация» intellectus'a как
познавательного принципа. Этому сопутствует «повышение в цене» принципов
ratio и sensus'a, так как если нет никаких сущностных общих понятий,
то область конкретно-сущностного образуют исключительно отдельные
явления и вещи (singulare), которые воспринимаются нашими
внешними чувствами и обозначаются посредством ratio. По отношению к
человеку это означает возрастание достоинства отдельного человека в
противовес роду и родовому понятию «человечества»; отдельный человек
становится действительностью, с которой приходится считаться.
Важной причиной для этого нового понимания человеком самого себя была
уже упомянутая переоценка той роли, которую для союза семи
свободных искусств играла ratio — универсальный рассудок. Карл Хейер видит
в событии заключения брака Моисея с одной из семи дочерей мадиам-
ского священника Иофора (по имени Сепфора) символическое
прообразована «свадьбы» средневековых авторов, принадлежащих к крылу
номинализма, с одним лишь из семи свободных искусств — с
диалектикой или логикой36. В самом деле, возникает естественная аналогия:
подобно тому как через Моисея был дан закон, схоластика выработала
законы мышления; и подобно тому как в конце Моисеева Ветхого Завета
и в начале Нового Завета произошло полное явление в отдельном
человеке универсального мирового Логоса (согласно прологу к Евангелию
от Иоанна), Бога Авраама, Исаака и Иакова, который затем открыл Себя
в ходе своей жизни (согласно Иоанну) в качестве «Я есмь», в конце
схоластической эпохи и в начале Нового времени присутствует опыт
индивидуального «я», понимаемого в качестве «значительной величины»37.
Впоследствии данный опыт нашел себе устойчивое выражение в тезисе
Декарта «Я мыслю, следовательно, существую», — этот тезис, согласно
его собственному свидетельству, является не силлогистическим
заключением, а неким познавательным опытом, который может осуществить
каждый человек только в индивидуальном порядке и который
предел 204 ^Э
(г5" VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] "^Э
ставляет собой одновременно содержательную суть и результат
предшествующего номиналистского развития мысли. Виланд называет это
развитие рационализированием и указывает на то, что ответственен за него
перевес логики над другими свободными искусствами, в особенности
над грамматикой38: если содержание, подвергшееся обсуждению с
точки зрения грамматики, медитативно усвоенное, засвидетельствованное
традицией, — содержание, смысловая сторона которого явлена через
символы и аналогии, становится основным предметом ratio с ее
логическими приемами, тогда «традиционное обучение, ориентированное на
грамматику», утрачивает «свое всеобъемлющее значение перед лицом
логического подхода, который уравнивает в правах и релятивизирует
"исторический" момент. <...> Тексты теряют свою традиционную
самоочевидность и становятся средством передачи некоего принципиально
универсального разума»39.
Виланд связывает эту «традиционную самоочевидность»
реалистического крыла ранней схоластики с фундаментализмом, под которым он
понимает «абсолютизирование частичной культурной идентичности»,
в то время как универсализм означал бы «постепенное упразднение
(сопровождающееся выходом из истории) самобытных и традиционных
частностей» благодаря деятельности разума40. Но если разум обязан
отрешиться от «фундамента» «конкретной культурной самобытности»,
чтобы, встав над ним, развивать свой собственный универсальный
образ и, эмансипировавшись, явить себя, то это означает, что разум
нуждается в фундаменте культурного партикуляризма и, только преодолевая
его, приходит к самому себе. Поэтому Виланд указывает на то, что
человеку почти невозможно «реализовать универсальность, не обращаясь
к конкретной самобытности». Но при этом он оговаривается, что уже
в XII веке делались попытки прямого осуществления универсализма,
чему способствовало мышление, инспирированное неоплатонизмом с его
склонностью к систематизированию; «в этом столетии одним из
духовно определяющих факторов»41 было сильное стремление к тому, чтобы
универсалистски нейтрализовать Священную историю, равно как
историю вообще. «Связь умозрительной и исторической структуры
христианства с его благороднейшим учением»42 вызвала к жизни основанную
на универсальной логике теологию, которая вообще как таковая впервые
возникла в XII в.: «Теология в нашем сегодняшнем смысле была
основана в это время; поэтому она не может быть исторически легитимирована
без обращения к XII столетию»43.
Вместе с развитием теологии в универсальную науку приходит новое
понимание природы, не привязанное к традиции и культурной
идентичности. В то время как реалистически-символическое миропонимание
исходит из того, что «природе и истории соответствует отличная от них
самих истина, которая сообщает им прежде всего смысл и значение»44,
С^ 205 ^Э
(2^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
«там, куда начинает проникать со своими претензиями универсальный
разум, где, следовательно, значимо лишь то, что оправдывается самим
разумом, <...> действительность больше не понимается, — или, по
меньшей мере, понимается не исключительно в свете традиционного и при
этом конкретно-партикулярного мировоззрения. Универсальному
разуму отвечает такая действительность, которую разум может постичь, не
оглядываясь на традиционные образчики смыслов, понимаемые в
качестве самодовлеюще-значимых единиц. — В связи с этим можно было
говорить об "открытии природы"»45. Вильгельм из Конше нашел точное
выражение для этой новой ориентации натурфилософии в XII в.:
«Писавшие об истине умалчивали о философии вещей, — не потому, что она
опровергала веру, но поскольку она имела мало отношения к постройке
здания веры, над чем те трудились»46. Согласно Вильгельму, существует
некая область действительности, выходящая за пределы традиционных
толкований. Представители «модернизма» XII в. сделали из этого
методические выводы, вразрез с традицией обратившись к философским
категориям: «Если <...> традиционные предпосылки для объяснения
природы упраздняются, их место должны занять другие. Основное
предположение, из которого исходят "модернисты" XII в., — это тотальная
рациональность и познаваемость природы»47. В понятиях Скота Эриуге-
ны это означало бы, что чувственно-физическая природа, natura natura-
ta, рассматривается помимо ее связи с божественно-сверхчувственной
природой (natura divina и natura naturans), чье место теперь занимает
человеческий разум. Но теперь, когда в «природе» уже не находит
своего выражения творческая деятельность naturae naturans, эта «природа»,
собственно, уже вовсе не традиционная natura naturata, так как эта
последняя непосредственно связана с первой. Поэтому то, что попадает
в поле зрения разума, хотя и обнаруживается внутри naturae naturatae,
но само по себе представляет нечто совершенно иное — лишь явленную
«действительность»: это самая низшая из четырех ступеней природы по
Иоанну Скоту Эриугене, т. е. natura creata non creans — чисто
материальная сторона природы. Как таковая она не есть действительность, а есть
ничто; но благодаря тому что она обнаруживается в качестве
материальной, «внешней стороны» naturae naturatae, конструктивно-творческая
сторона разума получает возможность обращаться к этой стороне.
Следствием этого является то, что со временем внутри области
naturae naturatae возникает некая вторая «natura creata non creans» — в
буквальном смысле искусственная природа48. В XII в. были мыслители,
которые в полной мере осознавали опасность, связанную с таким
развитием. Так, Алан Островитянин создал произведение о «плаче природы»,
где изобразил природу в образе прекрасной девы49, которая
соответствует началу natura creata creans или natura naturans Иоанна Скота
Эриугены50. «Плач» (или «жалоба») природы проистекает из того, что
С^ 206^3
С55" VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
претензии человеческого разума на полное господство могут породить
как бы «низшую» природу (ее можно отождествить с четвертой
ступенью природы по Иоанну Скоту Эриугене), которая будет угрожать
истинной природе искажением, вытеснением и даже уничтожением51.
f) Помрачение образа Божия (imago)
Выше52 было указано на различие similitudo и imago (homoiosis и eikon)
в патристике и ранней схоластике. Эти два понятия теперь также
помогут понять различие реалистического и номиналистского подходов
к природе. Идейный реализм связан с ориентацией на imago, а
номинализм — с ориентацией на similitudo/dissimilitudo. Это поясняет
следующая схема.
Бог и природа Принципы познания Божественная,
у Скота Эриугены у Алана природная и низшая
Островитянина сферы у Алана
Deus — Deus
Natura creans non creata Deificatio Divina natura
Natura creata creans Intelligentia Natura naturans
Universalia ^^ Intellectus ^^^ Universalia
Natura creata non creans <^ Ratio i^> Natura naturata
^"^ Sensus
Natura non creata non creans — низшая природа
Схема демонстрирует разделение природы согласно Скоту Эриугене,
а также познавательные принципы вместе с соответствующими им
божественно-духовными и природными сферами в представлении Алана
Островитянина, раннесхоластического представителя реалистической
школы. Фундаментальное изменение этой схемы заключается в том, что
высшие ступени познания, осуществляющиеся через такие начала, как
intellectus, intelligentia и deificatio, отступают на второй план, хотя
поначалу ни они сами, ни соответствующая им реальность не вызывают
сомнения. Такому развитию способствует то, что семь свободных искусств,
которые в их совокупности подготавливают достижение высшего
знания53, утрачивают свое равноправие в сфере обучения: предпочтение
отдается упражнениям в диалектике и исследованиям условий и границ
универсального разума вместе с возможностями его применения
(логика). Со временем высшие ступени познания, отступившие на задний
план и сделавшиеся как бы призрачными, стали в принципе
подвергаться сомнению, а связанная с ними реальность стала представляться
недостижимой; в конце концов, возможность высшего познания приняла
характер пустой иллюзии и «ипостазирования идей» (Кант), и была
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^z)
оспорена реальность того, что недоступно для опыта. Речь здесь идет
о таком процессе, «где методически обоснованное, сознательное
отклонение становится фактическим незнанием; то, что вначале сознательно
отклонялось, вследствие того что им не занимаются и пренебрегают,
постепенно отдаляется, становится все более "чужим" и, наконец, вообще
исчезает из области сознания, "забывается" и головой, и сердцем»54.
Вместе с имагинативной способностью отражения высших сфер бытия на
задний план уходит и imago как источник этого отражения (что и
означает подобие); imago все больше подпадает забвению и наконец
полностью исчезает из области человеческого сознания. Параллельно с этим
процессом на первый план выступают постепенно осмысляемые в
области разума (ratio) такие способности, как самосознание (ноэтический
элемент) и самоопределение (волюнтаристский элемент), связанные с si-
militudo. Универсальный разум привлекает к себе все больший научный
интерес и скоро делается основным принципом познания. Таков
действительный процесс, происходивший под покровом дискуссий между
разными представителями высокой схоластики. Можно наметить
четыре ступени этого процесса «помрачения образа (imago)» и «возвышения
подобия (similitudo)».
Ступени помрачения imago возвышения similitudo
I. Методическое затемнение Выбор одного — рационального
intellectus'a метода (извлечение ratio из
совокупности семи свободных
искусств)
II. Реальность универсалий Достоверно лишь познание
подвергнута сомнению посредством ratio и sensus'a
(вызов номинализма)
III. Непознаваемость духа Чисто разумный характер заклю-
и Бога чения о существовании Бога
IV. Непознаваемость существа Научное исследование природы;
природы техническое господство
над ней (обезбожение)
В дальнейшем мы займемся вопросом, в какой степени один из
последних великих представителей реализма универсалий Фома Аквинский
руководствовался в своих мыслительных построениях архитектурой
«собора познания» высокого Средневековья. Кроме того, должно
выясниться, существовал ли в XIII в. «аристотелевский вариант» помрачения
imago. Для этого будет привлечена францисканская попытка
установления «второго начала метафизики» у Иоанна Дунса Скота.
е^208^с>
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
3. ВТОРОЕ НАЧАЛО МЕТАФИЗИКИ
И ВОЗВЫШЕНИЕ SIMILITUDO
Если взглянуть на то развитие, которое проделывает
второе — средневековое начало метафизики, и на те
подходы метафизики, с помощью которых оно оформляется,
то возможны различные оценки всего этого в зависимости
от точки зрения. Нельзя недооценивать того, что развитие
в усвоении аристотелевской программы идет от
теологического к онтологическому толкованию, от первой
философии как мудрости — к первой философии как науке; от
примата порядка по рангу — к примату порядка по
предикации, от теории первого сущего — к теории первого
познанного, от метафизики — к трансцендентальной науке,
от сущего как такового — к понятию «сущего», а в
конечном счете — к термину «сущее» и его применению. <...>
Если онтологически-теологическому толкованию
угрожает впадение в экзальтацию, то
онтологически-трансцендентальный или универсально-семантический подход
может быть заподозрен в пустоте.
Л. Хоннефельдер55
Христианские авторы XIII в. не могли оставаться при платонически-
неоплатоническом пренебрежении к физическому миру внешних
чувств уже потому, что они должны были исходить из воплощения
Мирового Логоса, т. е. из того факта, что Сам Бог избрал путь нисхождения
(descensus) и принял конкретный образ (следовательно, Он сделался
индивидуальным Человеком, которого можно было учесть в переписи
населения, проведенной по инициативе Августа, наряду с множеством
других людей). При этом именно физически-чувственное singulare было
освящено и приобрело бесспорно необходимое значение для Священной
истории. На основе философии Аристотеля, дошедшей до христианских
авторов благодаря Авиценне и Аверроэсу, Альберт Великий и в
особенности Фома Аквинский попытались передать античную
«субстанциальную онтологию» с помощью результатов новейшей философии.
a) «Analogia entis* у Фомы Аквинского
Для научного рассмотрения отдельных предметов (separata) и их
конкретного бытийственного статуса более пригодна аристотелевская
философия, чем платоновская, так как она не только держит в поле
зрения существующее и его причины, но также проводит различие между
объективно существующим и бытием понятий в мышлении,
обнаруживая одновременно общность между ними. Ибо к области separata
относи 209 ^Э
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
сятся Бог и интеллигибельные субстанции, существующие в качестве
самостоятельных «природ», но, кроме того, и такие понятийные
определенности, как «сущее» вместе с его характерными чертами. «Фома
видит решение в тезисе аристотелевской теории науки, согласно которому
в задачу одной и той же науки входит постижение как свойств и частей
ее общего предмета, так и их причин. Соответственно этому метафизика
может обсуждать "ens commune" как свой собственный предмет и Бога
в качестве его причины56. Непроницаемая неоднородность
обнаруживается как различие связанных между собой качеств»57. При этом,
конечно, возникает проблема, как различать Бога в Его самостоятельном
существовании и другие самостоятельно существующие единицы. «Так как
Фома при своем решении понимает под причинами предмета, которые
обязана рассматривать каждая наука, не обоснования (подобно прочим
средневековым авторам) и не свойства, связанные с предметом (следуя
Авиценне), но Бога как самостоятельно существующего, то
установленному благодаря этому решению единству угрожает новая опасность.
Определение "сущий", "существующий", введенное ранее и обладающее
сверхкатегориальной всеобщностью, теперь оказывается равнозначным
с тварным, обусловленным существующим. Но как может быть
постигнута первая причина в качестве "первого сущего" (что все же сделано у
самого Фомы)?»58 Этот вопрос приводит Фому к различению понятий
esse [бытие] и essentia [сущность], которые можно определить с
помощью схемы, основанной на категориях «акт» и «потенция»: «Решение
этой новой проблемы можно найти только в таком объяснении, согласно
которому "сущее", "существующее" Фома понимает как некую
совокупность бытия (esse) и сущности (essentia): если первое (esse) есть
основополагающий, неограниченный и совершенный акт, который отличается
от essentiae как второго начала (со-принципа) и воспринимается
наподобие некоей потенции, опирающейся на актуальность этого сущего, —
то Бог может мыслиться как такое сущее, сущность которого состоит
в бытии, которое, следовательно, есть изначальный акт самого бытия59.
Конечно, при этом бытие (esse) оказывается сокровенным центральным
понятием томистской метафизики, а мысль о причастности к акту
бытия — той руководящей нитью, которая конституирует единство
метафизики» т.
Чтобы мыслить об отдельном «существующем» в соответствии с
мерой его причастности к Божественному бытию, разум прежде уже должен
быть «захвачен» самим безграничным бытием (как это подчеркивал,
интерпретируя Фому, К. Ранер61), т.е. Божественное бытие уже должно
присутствовать в человеческом разуме: в случае суждений разума это
вытекает уже из нижеследующего: «Бытие уже должно, — как это
показал Л. Эйинг-Ханхоф по отношению к текстам Фомы, содержащим
анализ познания62, — присутствовать в акте суждения в форме lumen intel-
е^210^с)
C5^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^3
lectus agentis, чтобы осуществлялось суждение "quod est"»63. При этом
все существующее вплоть до конкретных физических элементов
действительного бытия следует понимать в качестве analogiae entis: « Но то,
что есть основополагающий акт бытия (esse) как таковой,
обнаруживается только благодаря такому знанию о существующем, что само бытие
есть, а все прочие существующие — суть его "подобия и причастники"64.
Субстанциальный анализ, отправляющийся от физически
существующего предмета, поэтому завершается <...> только метафизическими
идеями причастности» ^. Так analogia entis становится ключом к
томистскому учению о познании. Но аналогия бытия понятна только в контексте
учения о ступенчатом бытии, а косвенно — в связи с вышеописанным
«собором познания». Это выявляется в учении Фомы о
многоступенчатом праве.
Ь) «Собор познания» — основа учения
Фомы Аквинского о многоступенчатом праве
Томберг указал на то, что ключом к учению Фомы о трех- и
четырехступенчатом праве служит analogia entis™. В соответствии с этим
существует четыре «уровня» права: lex aeterna, lex divina, lex naturalis и lex
positiva — вечный Божественный закон; вечный закон, известный
благодаря Божественному откровению; тот же самый вечный закон как
основа естественного закона, вписанного в человеческий разум, — и
сформулированные в процессе становления права положительные юридические
законы. В то время как lex aeterna, открытая в качестве lex divina,
принадлежит области веры и при этом исключительно компетенции
теологии67, lex naturalis и lex humana относятся к области praeambulae fidei;
они доступны разуму и науке. Если связать мысли Томберга о ступенях
права с вышеописанным «собором познания» ω, то можно соотнести эти
ступени в их вертикальном расположении с такими принципами, как
Deus, intellectus, ratio, sensus:
Принципы Ступени права согласно Фоме
Бог (Deus) — Lex aeterna
Intelligentia (ангельский мир) — Lex divina Идеал права
Intellectus (разум) — Lex naturalis Идея права
Ratio (рассудок)— т , π
с , * : _^»» Lex humana Понятие права
Sensus (способность восприятия) — v
На фоне «собора познания» возникает картина «установления
права»: вечный закон (lex aeterna), т. е. сущность Божия, вначале
передается ангельским иерархиям как Божественное право (lex divina), — иначе
говоря, как порядок, сущность и действенность небесных иерархий, ко-
(^ 211*39
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
торые сообщают человеку знание о нем [Божественном праве] или
прямо, посредством откровения (например, через Элогима Ягве на горе
Синай), или «косвенно», с помощью analogiae entis. Это ступень духовной
манифестации Божественного права — осуществление идеала права. На
следующей ступени Божественно-духовный правовой порядок
«отпечатывается» на человеческом разуме (intellectus) в качестве интуитивного
знания права или идеи права (lex naturalis, естественное право).
Положительное право, реализующееся в человеческих правовых категориях,
возникает тогда, когда человеческая способность суждения (ratio)
соединяет интуитивное знание естественного права с чувственными
восприятиями в общественной жизненной сфере, образуя конкретное
правовое понятие или закон.
В связи со всем этим можно говорить о некоем многоступенчатом
процессе установления закона и многоступенчатости закона.
Божественная сущность, собственное существо закона (lex aeterna), «вписывает»
этот закон в духовное начало ангельских, спиритуальных иерархий,
которые суть живое выражение этого закона (lex divina); ангелы опять-
таки отпечатывают его, в соответствии со «структурой» человеческого
существа, на человеческом разуме (intellectus), который при этом
получает инстинктивно-интуитивную, «природную» ориентацию на
Божественно-духовный закон (lex naturalis); разумный свет от «intellectus agens»,
который загорается в человеческом рассудке (ratio), сообщает рассудку
ориентацию в правовой области и чувство справедливости; тем самым
положительные законы, которые ratio устанавливает в поле
жизнедеятельности человека, становятся человеческим правом (lex humana). Для
идейного реализма не существует никакого права без справедливости,
т. е. без правового идеала и жизненно осуществленных правовых идей;
Божественное и природное право суть элементы, конституирующие
право и имеющие объективный характер.
По причине «затемнения» imago и перемещения на первый план simi-
litudo/dissimilitudo по-новому начинает оцениваться intellectus. Эта
новая оценка состояла поначалу в некоем его «приведении в состояние
пассивности», как это ранее практиковалось
схоластами-францисканцами: следствием является обесценение intellectus'a и переоценка
естественного права, а также Божественного права, и, таким образом, отказ
от analogia entis. Другими словами, правовой идеал и правовая идея
постепенно отходят на задний план, уступая место понятию
положительного права, определение которого совершается исключительно разумом
(теперь отождествленным с ratio). Представленная в следующей главе
метафизика свободы, продолжающая этот процесс, начавшийся в
Средние века, поэтому с неизбежностью приводила в юридической области
к правовому позитивизму, — точно так же, как в области естествознания
она заканчивалась агностицизмом. Такой была цена, которую следовало
уплатить за «открытие личности»69.
е^ 212 ^Э
C5^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
с) Приведение intellectus'a в «пассивное состояние»
и «разрушение» analogiae entis у Генриха Гентского
и Иоанна Дунса Скота
Судьба категории «intellectus» в средневековой философии
описывается с помощью понятий «приведение в пассивное состояние», «рацио-
нал изирование» и, наконец, «помрачение», — причем intellectus
постепенно утрачивал значение одного из трех познавательных принципов
(существующего наряду с принципами sensus и ratio и возвышающегося
над ними). В развитии в Новое время метафизики морального бытия
ведущую роль играет (как это показано в главе VII) переход от
трехступенчатого к двухступенчатому, а затем к одноступенчатому праву, который
можно описать с помощью понятия «рационализирована»
(Божественного и естественного права); но уже в предшествующей ей
средневековой метафизике бытия как существования имеет место
соответствующий переход от трех (или четырех, если учитывается «вершина собора»,
Бог) ступеней познания вместе с соответствующими им
познавательными принципами и реальностями вначале к двум ступеням или
принципам (ratio и sensus). Если представители раннесхоластической
реалистической школы исходили из наличия трех или четырех ступеней (или
«этажей») средневекового «собора познания» и если у Фомы Аквинско-
го intellectus все же еще признавался в качестве «intellectus agens» как
обусловливающей познание реальности, пронизанной духом (а также
идейным, идеальным началом) и расположенной в центре разума (ratio),
то у следующих за Фомой францисканцев — представителей высокой
и поздней схоластики — intellectus все больше приходил в «пассивное»
состояние и утрачивал свое значение, будучи отождествлен с
рассудочной частью ratio. Так что в качестве единственного активного принципа
осталась понимаемая волюнтаристски ratio; таков результат рационали-
зированиЯу начало которого было подмечено Виландом70 уже для ранней
схоластики XII в. — в связи с судьбой семи свободных искусств. Шаг
в этом направлении, подготавливающий философию и науку Нового
времени, первым сделал Иоанн Дуне Скот, о котором Ф. Инчиарте
пишет: «Именно на примере Скота можно очень успешно проследить, как
развитие волюнтаризма реагирует на изменение понимания интеллекта
и его деятельности»71. Для уяснения этого следует рассмотреть
основные идеи учителя-францисканца, прибывшего в Парижский университет
из Шотландии.
«Doctor subtilis» развил представления Генриха Гентского в
метафизику как универсальную науку. Для Генриха было очевидно, что «наука
обязана своим единством отнюдь не реальному единству исследуемых
ею вещей, а единству ratio, в которой исследуемые предметы приходят
к согласию»72. При этом субъектом науки, которая просто
рассматриваем 213 ^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ -^э
ет свои вещи, становится понятие, помогающее этому рассмотрению, —
а именно, ratio entis. И поскольку Генриху Гентскому ясно, что «ratio
ends выполняет роль такого субъекта только тогда, когда под ней
понимается принцип всего существующего, но сама она не обладает никаким
принципом и ее понятие существует "раньше" понятия Божественного
принципа», — то для него метафизика становится «такой наукой, которая
охватывает все, поскольку она имеет в качестве субъекта ratio, и в
горизонте именно ratio должно мыслиться все — Бог и тварь, субстанция
и акциденция, — и вообще, все должно считаться существующим»73.
Дуне Скот подхватывает идеи Генриха. Но для него очевидно то, что
роль, приписанная Генрихом ratio, может быть выполнена только с
помощью «дотоле неведомой»74 критики разума. Прежде всего он
устанавливает, что «существующее» может рассматриваться как первый объект
для нашего рассудка «только в смысле соответствия (Adäquation) и
благодаря общности, а также лишь при определенном расположении
рассудка» 75. При этом важно следующее: среди всего того, что можно
сказать о чувственно воспринимаемых вещах, предикат «существующий»
есть такое абстрактное понятие, которое в качестве «первого
определенного понятия»76 «содержится во всех прочих "чтойных" (washeitlichen)
понятиях»77 и как таковое не подлежит дальнейшему определению. Это
«первое определенное понятие» пригодно для основания некоей
универсальной науки, поскольку оно может «занять место первого объекта
рассудка и привести к единству» наше знание «мира в целом»78.
Чтобы это абстрактное понятие существующего было определенным,
достаточно того, чтобы оно соответствовало всему тому, что познано
(и может быть познано). «Эта certitudo, занимающая место
разделяющего суждения у Фомы, свидетельствует о "существующем", что оно,
обладая предельно простым содержанием, преодолевает не только все
категориальные определения, но также и разницу субстанции и акциденции,
Бога и творения»79. При этом ориентация на существующее заменяется
ориентацией на познающего субъекта. Метафизика становится «наукой
о формальной структуре, — точнее говоря, об основополагающей
формальной ratio «этости», — ratio, которой больше не соответствует
ничего в смысле родовой всеобщности, но которая может быть приписана
всему, «чему не противоречит бытие» ^
Однако для Скота за нашими понятиями с их неизменными
значениями все еще присутствует (объективная) реальность: «Идет ли речь о
действительности или лишь о возможности, им присуща некая устойчивость
("ratitudo"), в которой наши потребности, — например, потребности
в понимании и общении, — ничего не могут изменить»81. Но, с другой
стороны, абстракция для Дунса Скота больше не означает, как для
Аристотеля, того, «что интеллект усматривает в картине, созданной
внешними чувствами или с помощью представлений, форм действительнос-
С^ 214^3
(3^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] "^Э
ти. Теперь абстракция скорее означает, что форма и материя
действительности сосуществуют, развиваясь в некоей новой интеллигибельной
плоскости, — что осуществляется через взаимодействие интеллекта (in-
tellectus agens) и чувственных представлений (phantasma). Вновь
образующаяся при этом взаимодействии species intelligibilis замещает собой
действительность, лишь репрезентируя ее; это лишь ее знак, занимающий
ее место. Такое истолкование однозначно свидетельствует об ослаблении
позиций абстракции. Cognitio abstractiva больше не расценивается как
положительная способность, — скорее, как отрицательная, — а именно,
потому, что она выступает в качестве эрзаца ("pro statu isto") для
cognitio intuitiva. Ибо здесь исходят из принципиальной дистанции между
познающим и познаваемым, которую надлежит преодолеть. Так что
прогресс в познании при этом означает скорее приближение к вещи,
нежели углубление в нее»82. При этом интеллект вполне может ошибиться,
поскольку, с одной стороны, «между интеллектуальным образом
(species intelligibiles в качестве intellecta) и действительностью, между realitas
objectiva и realitas formalis существует разница» ω, а, с другой стороны,
безошибочность интеллекта относится только к тому, «что он не может
отрицать того, чего он, быть может, и не понимает, но думает все же, что
понимает. То, что он считает правильным, он должен подтвердить, а то,
что принимает за неправильное, — отрицать» м.
Одновременно Скот не признает за интеллектом способности к
самоопределению. Интеллект предстает у него в качестве «чего-то
природного, так как он сам не может определиться в отношении того,
оставаться ли ему активным или пассивным, — или же быть активным на тот
или иной лад; другими словами, так как он сам не может определиться
в отношении того, познавать ему или не познавать, познавать таким или
иным способом, — и подавно в отношении того, познавать ли ему
правильно или ошибочно. Причина (causa) этого находится вне самого
интеллекта: если речь идет о том, чтобы познавать или нет, она
обыкновенно заключена в воле, если об одном и другом способе познания —
в предмете познания»ö5. Но поскольку интеллект не может сам
определиться «ни к акту познания, ни к познанию того или другого
предмета, — он не может поэтому тотчас же начать познавать или не познавать,
познавать то или другое. Его познание с необходимостью есть
принадлежность природы»86.
Иначе дело обстоит с волей, укорененной в ratio, ибо воля не только
в принципе характеризуется способностью самоопределения, но она
также свободна по отношению к природе: «Причина того, что воля
совершает то или иное или не совершает ничего, находится не вне ее
самой, но в ней самой; также можно сказать: причина всего этого — она
сама. Но по-латыни "причина" — это ratio (по-гречески — логос). В этом
отношении воля в высшей степени рациональна, так как она есть своя
е^ 215^3
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
собственная причина, сама есть ratio»87. Хотя для Скота в воле имеется
некая природная тенденция, но воля все же свободна в своем
поведении — будь то в русле этой тенденции или в ином; воля всегда может
также желать и выбирать свой предмет. «Выражаясь иначе, к
самоопределению относится некая принципиальная неопределенность, — а
именно, то, что предварительно ни к чему [человек] не предопределен»88.
Инчиарте указывает на то, что уже здесь присутствует понятие
автономии, принадлежащее Новому времени и разработанное Кантом, которое
выступает как противоположность природному детерминизму.
Но благодаря этому противопоставлению также и сама природа
становится чем-то совершенно отличным от природы в аристотелевско-то-
мистском понимании, ибо если воле присуще самоопределение, а
природные вещи определяются извне, то природа не может иметь своего
движущего начала в себе самой: «Невозможно себе представить более
резкой противоположности, чем противоположность между природой
у Аристотеля, — в этом случае деятельное начало (начало движения и
покоя, означающее одновременно причину перехода от одного к другому)
находится в ней самой, — и такой природой, у которой это начало
находится принципиально вовне, — в конечном счете, в человеческой или
Божественной воле» ю. Хотя Скот, подобно его
предшественникам-реалистам, видит intellectus среди активных принципов, он продолжал у него
утрачивать свою самостоятельность, ибо эта его активность чисто
относительна и означает, собственно, пассивность — в том смысле, что
intellectus всегда определяется извне, — со стороны как воли, так и предмета
познания; при этом воля занимает своеобразное положение в области
активных принципов: «Совершенной активностью обладает только
воля»90. Так как настоящей возможностью (potentia) может быть лишь
активное начало, Скот не признает за интеллектом такого свойства, как
возможность, — тогда как воля «есть возможность даже и в высшем
смысле, доступном рефлексии»91. При этом значительно усиливается
релятивизация и ослабление роли интеллекта в пользу ratio,
понимаемой преимущественно как воля. В связи с занимающей здесь нас
проблемой образа и подобия можно описать это развитие так: в то время
как реалисты универсалий, вплоть до Фомы, рассматривали intellectus
и его деятельность в качестве принципа познания, соотнося их с imago
Dei, образом Божиим, номиналисты и волюнтаристы-францисканцы
начинают его рассматривать на почве similitudo Dei, подобия Божия,
связанного с волей и личностью человека. В соответствии с
особенностью образа (imago) как чистого зеркала Божественных идей тварного
мира и их источника в чисто духовном мире интеллигенции, intellectus
выступает в качестве познавательного принципа для высших ступеней
науки, и хотя бы в случае платоников эпохи ранней схоластики
существует опасность относительной недооценки «низших» принципов по-
е^216^>
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
знания (ratio и sensus). Аналогичным образом на фоне подобия (simili-
tudo) как источника самоопределения и свободных,
творчески-моральных (в случае dissimilitudo, соответственно, разрушительно-внемораль-
ных) поступков воля, действующая в ratio и в качестве ratio, делается
основным принципом науки. Между этими двумя ситуациями
находится ситуация восприятия Аристотеля Фомой Аквинским. Для того
чтобы каждый познавательный принцип «средневекового собора познания»
был еще раз всесторонне оценен и за ним была признана некая
самостоятельная роль (вместо того чтобы вытеснять его на задний план, лишать
его смысла и в конце концов забывать, делая акцент на других
принципах), — была необходима некая наука, принимающая в рассмотрение, на
фоне развития средневековой мысли, все четыре ступени этого собора,
причем каждому «этажу» должно было быть указано такое «место»,
которое оказалось бы неуязвимым и в ситуации вступления сознания в
новую фазу. Такую попытку предпринял Николай Кузанский. Поэтому его
творчество представляет собой последнее значительное выступление
в защиту этого «собора познания» в начале Нового времени.
4. ТРЕТЬЕ НАЧАЛО: ФИЛОСОФИЯ
КАК «ТОЧНАЯ ИМАГИНАЦИЯ» И НОВОЕ ОТКРЫТИЕ
ОБРАЗА (IMAGO) У НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО
Николай Кузанский выразительно рассуждал о своем
собственном месте в развитии науки своего времени,
отчетливо отделял себя при этом от школ своего времени
и заявлял о своем намерении начать заново. <...> Кузанец
хотел освободить теологию и философию от
методического давления логического формализма, чтобы тем самым
помочь мышлению совершить прорыв. Так
вырисовывается конец той эпохи теологии и философии, которая
началась с Боэция и рецепции аристотелевской логики.
Рихард Хайнцман92
Творчество Кузанца приходится на середину промежутка времени
между номиналистски ориентированой английской францисканской
схоластикой XIV в. и реалистической по духу испанской доминиканской
поздней схоластикой XVI в. Зарождение мысли Кузанца не только во
временном отношении падает на середину XV столетия (его письменное
наследие возникает в период между 1440 годом — моментом окончания
его главного сочинения «De docta ignorantia» [«Об ученом незнании»] —
и годом его кончины, 1464-м): оно совершалось также в интервале
между итальянским Ренессансом, который начинается во Флоренции в
первой трети XV века, и гуманизмом, совпавшим во времени с немецкой
е^217^)
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^
Реформацией, вызванной тезисами Лютера. Такое срединное
положение является причиной того, что мысль Кузанца, с одной стороны,
понимается как конец средневековой философии (различные
представления философии Средних веков у Кузанца свидетельствуют о нем как
о последнем средневековом мыслителе93), — но также
интерпретируется как основа для гуманистической философии Ренессанса94 и
предвосхищение мысли Нового времени95.
Николай Кузанский воспринимал наследие Средних веков — их
великие проекты и противоречия — в мировоззренческой, религиозной
и политической области. Он изучал реализм и его противоположность —
номинализм, изучал противостояние analogiae entis и волюнтаризма,
рационализма и мистики96, — причем себя самого он ощущал в качестве
посредника, призванного примирить с помощью нового, синтетического
мышления и понимания не только различные философские системы, но
также и великие религии (христианство, ислам)97, а внутри
христианской религии — две великие Церкви (византийскую
греко-православную и римско-католическую)98. Вследствие такого расположения,
конечно, не случайно то, что идея его первого фундаментального труда
«De docta ignorantia» пришла к нему во время путешествия по
Средиземному морю; идея эта касается «соединения противоположностей», —
а именно, взаимопонимания и объединения восточной и западной
Церквей. Об этом переживании при возвращении с родины философии он
сам пишет своему другу, «отцу» и «наставнику» Юлиану: «Не отвергни,
почтенный отец, то, к чему я уже давно двигался путем разнообразных
учений, но так и не смог достичь, пока однажды, возвращаясь морем из
Греции, я не пришел — думаю, это был мне дар свыше от Отца светов,
чьи дары всегда совершенны, — к тому, чтобы попытаться обнять
непостижимое вместе с его непостижимостью в знающем незнании через
восхождение (transcensum) к вечным истинам, как они познаваемы для
человека. <...> В таких глубоких вещах наш разум должен сначала всеми
силами стремиться к той высшей простоте, где совпадают любые
противоположности» ".
Согласно собственному свидетельству Кузанца, начало его
философского творчества было отмечено неким духовным опытом —
благодатным просветлением и интеллектуальным созерцанием; благодаря этому
опыту он получает ответ на те вопросы, с которыми жил в течение
долгого времени, безуспешно пытаясь их разрешить с помощью различных
философских систем. Этот опыт совпадения противоположностей
выражается для него символически в образе одновременно вогнутого и
выпуклого отшлифованного бериллат> прозрачного «кристалла», сквозь
который по-новому видится вся философская традиция, от Гермеса
Трисмегиста тянущаяся через досократиков (скажем, Анаксагора),
платоников и их противников софистов (к примеру, Протагора) — вплоть
е^218^Э
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^)
до аристотеликов; в нем отражаются основы некоего нового научного
миропонимания. Метод, с помощью которого Кузанцу обеспечивается
достоверность совпадения противоположностей, или берилла, при этом
опирается не на искусства тривиума (как это имеет место в случае
реалистически ориентированных ранних схоластов, опирающихся на
грамматику, высоких схоластов с их опорой на диалектику и философов
флорентийского Ренессанса, связанных с риторикой), но на искусства
квадривиума — геометрию, арифметику, а впоследствии также и на
космологию (астрономию)101: Кузанец обосновывает совпадение
противоположностей, привлекая числовой ряд и основные элементы геометрии —
точку, линию, треугольник, круг. Такой метод не только предвосхищает
mos geometricus (идеал методологии для философии Нового времени):
его результаты также приводят Кузанца к совершенно новым
допущениям относительно местоположения Земли в космосе. Однако мысль
Кузанца открывает в принципе новые перспективы и для диалектики
(логики)102. В дальнейшем нам надо выявить сущность совпадения
противоположностей (coincidentia oppositorum) и ту роль, которую оно
играет в новом понимании интеллекта и логики.
а) Совпадение противоположностей как точная имагинация
С воззрением Гёте на природу связано понятие «точной фантазии».
Гете призывал развивать такой способ восприятия (в особенности в
случае исследования органического мира), при котором способность
суждения поначалу молчит, и человек предоставляет возможность самим
природным феноменам поучать себя, когда он наблюдает их и
сопереживает им. Согласно его пониманию, правильное представление возникает
посредством того, что органически одушевленные природные
феномены как бы «образно вживляют» (lebendig hineinbilden) это
представление в душу, действующую заодно с ними, — а затем рассудок связывает
то, что при этом образовалось, с верным понятием и обозначением103.
Так рождаются «живые понятия», — например, идея перворастения, а
сами феномены делаются «наставниками», что Гёте подытоживает
следующим образом: «Только ничего не следует искать позади феноменов;
они сами суть учение».
Для метода Гёте характерно то, что понятия и суждения стали
выражением и плодом некоего переживания; таким образом, они «насыщены
опытом» и передают свое содержание лишь тому, кто сам имеет
подобный опыт, т. е. применяет гётевский метод. То же самое имеет место
в переносном смысле и для совпадения противоположностей Кузанца:
coincidentia oppositorum — это понятийное выражение некоего
квазиэмпирического опыта, который представляет собой в известной мере
«более высокую ступень» в сравнении с опытом Гёте, — как целиком сверх-
е^219^)
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
чувственное восприятие процесса образования мыслей. Этот
«эмпирический» опыт возникает так: в поле зрения попадает не только
содержание определенных (математических или геометрических)
представлений, которые имеют чисто духовную природу (сами по себе линии,
треугольники и круги не встречаются в мире чувственных
восприятий), — но также и тот способ, каким они последовательно развиваются,
т. е. возникают и исчезают. При таком процессе в поле зрения
оказывается некая реальность, которая сама является принципом
развертывания, возникновения и исчезновения, т. е. перехода. Гётевское изречение:
«Обдумывай "Что", больше обдумывай "Как"!» — точно выражает
интерес к этому живому принципу, т. е. к закону образования и жизни
понятия, его переходу от определенного к определяющему и наоборот.
Совпадение противоположностей (coincidentia oppositorum) — это
некий мыслительный опыт. Его можно проделать, если мышление, к
примеру, прослеживает некую определенную геометрическую или
арифметическую закономерность, пытаясь получить при этом некое
созерцательное переживание; это происходит, когда осуществляется пограничная
ситуация бесконечности, т. е. когда самим мышлением преодолевается
всякая определенность. Скажем, на основе метода transsumptio finiti in
infinitum выясняется, что бесконечный круг — это прямая линия1()4 и что
бесконечный треугольник должен быть бесконечным кругом и
бесконечным шаром.
Предпосылкой опыта действительного совпадения
противоположностей служит следующее: описанные процедуры (вместе с рядом других
геометрических и арифметических рассуждений, представленных Ку-
занцем в «De docta ignorantia») необходимо проводить с помощью
собственного мышления, наблюдая при этом за тем, что происходит, ибо
только в процессе собственной деятельности мышление постигает
истину и действительность совпадения противоположностей; следовательно,
всегда есть результат определенного пути, приводящего к пограничной
ситуации. Одновременно мышление находит загадочный, как бы
«безобразный» образ бесконечного, точность и закономерность которого
обеспечивается тем, что мышление следует математическим и
геометрическим законам до тех пор, пока не вступит в пограничную ситуацию.
Последний шаг мышления, «прыжок в совпадение
противоположностей» 105, в известной мере есть продолжение движения в избранном
направлении, — хотя при этом достигаются совершенно новые уровень
и «качество», продвижения же вперед больше нет. В силу этого прыжок
оказывается «квантовым скачком», и правомерно говорить о
достижении совершенно нового качества — точной имагинации самой по себе
безобразной, чисто сверхчувственной реальности. В этом случае,
конечно, бесконечное есть не та утратившая всякое определение
неопределенность, в которой все без исключения смешивается и растворяется, а опыт
е^220^>
Сг^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^D
некоей определенной и одновременно определяющей неопределенности Ш6.
Кузанец называет эту реальность в «De docta ignorantia» поначалу
Богом, но уже в своем следующем большом сочинении «De coniecturis»
[«О предположениях»] меняет свое мнение, приписывая одновременно
и интеллекту в качестве его характерной черты совмещение
противоположностей 107. Метод transsumptio finiti in infinitum, который ведет к
некоей более высокой (интеллектуальной) форме созерцания, при этом
делает возможным совершенно новый взгляд на интеллект, который
понимался еще совсем иначе в платонизме ранней схоластики, в аристоте-
лизме высокой схоластики и в волюнтаризме Дунса Скота, — тем не
менее, этот новый взгляд одновременно является их высшим синтезом108.
Ь) Новая оценка интеллекта
Если процесс transsumptio finiti in infinitum провести в обратном
направлении — от бесконечного к конечному, то определенная
неопределенность становится определяющей неопределенностью, ибо то, что при
этом развертывается, является закономерным. Принцип, порождающий
из самого себя закономерность и при этом различие конечных понятий
и представлений (которые он одновременно в себе объединяет),
Кузанец называет «intellectus». Потому intellectus делает возможными все
рациональные искусства, — более того, он сам есть каждое такое
искусство в его инаковости. Понятия единства и инаковости Кузанец развил
уже в связи с понятием «максимума»109: этот maximum, столь
характерный для рассуждений Кузанца, не есть единство сравнительного
порядка, но в буквальном смысле слова качественно иное единство,
переводящее мысль в другую плоскость. Кузанец называет это высшее единство
«само себя движущим числом» {numerus se movens) ш: подобно тому как
numerus numerans, само себя движущее (или деятельное) число, не может
появиться в качестве п+1 в ряду натуральных чисел, но предоставляет
им возможность для существования, — также и maximum не достижим
с помощью обыкновенных методов. «Максимальное» знание существует
не наряду с другими, но, скорее, есть все большее приближение к истине
на пути искусства предположений, которое Кузанец детально
представляет в трактате «De coniecturis» ш.
Это сочинение является одновременно (на что указал Флаш)
попыткой превращения рассудочных понятий в понятия разума. Ибо, как
подчеркивает Кузанец, если ни один философ до него не владел бериллом,
т. е. не познавал действительности рассудочных понятий и их
возникновения и уничтожения с помощью «зажигательного стекла» —
совпадения противоположностей113, то встает вопрос о некоей новой науке,
заново рассматривающей рассудочные понятия в свете совпадения
противоположностей. При этом необходимо, чтобы мышление достигло
этого высшего состояния сознания и оттуда заново переосмыслило все
е^221^)
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
то, что до сих пор считалось фактами сознания. «Ввержение себя» в
совпадение противоположностей и «пробуждение» в интеллекте (и в
качестве интеллекта) становится, таким образом, принципом
диалектической мыслительной процедуры. Но когда область интеллекта становится
местом собственно мыслительной активности, то это означает «субъек-
тивизацию» интеллекта. Из органа объективного отражения чисто
духовной действительности, какой она мыслилась и исследовалась в
неоплатонизме и ранней схоластике, интеллект у Кузанца превращается
в место развертывания самосознания, — место, отделенное
непреодолимой «стеной совпадения противоположностей» от мира рассудка (ratio)
и восприятия. При этом совпадение противоположностей становится
ключом к пониманию человеческого сознания и, следовательно, Творца
и творения. Описанный выше «собор познания» высокого
Средневековья, который был «разобран» номинализмом и волюнтаризмом, может
быть воздвигнут заново как бы «с помощью берилла», — без
необходимости при этом отказываться от их открытия — от познающего субъекта
с его опытом.
с) 4Ступени совпадения противоположностей»
и возведение заново «собора познания»
Выше говорилось о схематическом наброске средневековой
философии у Шеллинга; его воззрение мы подытожили в понятии
«средневекового собора познания». Вводя в познавательный процесс coincidentia
oppositorum и «ступенчатое совпадение», можно выделить четыре
ступени, или «этажа», этого мыслительного «здания»:
• если рассматривать область рассудка и характерные для нее
понятия и представления, то окажется, что они суть упорядоченные
чувственные впечатления, ибо каждое представление возникает из чувственных
данных, приведенных в единство. Поэтому в самой области восприятия
(sensus) не может возникнуть никакого понятия (идет ли речь о
внешнем или о внутреннем мире), — там имеют место лишь процессы,
доступные одним внешним чувствам;
• в то время как sensus является носителем чувственных
впечатлений, которые сами по себе не определены и не упорядочены, — на уровне
ratio они подводятся под определенное понятие, собирающее различные
чувственные данные в определенное единство, отличное от всех прочих.
Таким образом, в рассудке присутствуют утверждение и отрицание1И;
рассудок — это место совпадения (в одном понятии) различных
противоположных чувственных впечатлений (нечто красное может быть
одновременно зеленым, нечто нежное — колючим, нечто жидкое — твердым,
ибо все это собирается в понятии розы). Поэтому, если я хочу
подняться от sensus'a к ratio, мне надо покинуть уровень положительных
чувственных впечатлений и подняться на уровень утверждения и
отрицаем 222 ^
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] '^Э
ния; благодаря этому я перестаю воспринимать и начинаю мыслить:
мышление сводит в одно определенное понятие разнообразные
положительные чувственные впечатления;
• с другой стороны, intellectus не может проявиться в области ratio,
т. е. в мире понятий и представлений, ибо он не есть некое понятие
и представление наряду с другими. Скорее он присутствует в каждом
понятии и в каждом представлении в качестве живого порождающего
начала, всякий раз осуществленного на особый лад. Между рассудком
и разумом существует качественная дистанция, преодолеть которую
количественно невозможно. Если я хочу подняться от ratio к intellectus'y,
то ratio следует довести до ее границы и как бы упразднить. Только
тогда я познаю разум в его собственном царстве, — познаю как единую
деятельность, порождающую противоречащие друг другу понятия, т. е. как
творческий и подвижный центр ratio.
Подобно тому как в одном треугольнике соединяются различные
стороны и углы, в ratio совпадают в одном понятии различные
чувственные впечатления. И точно так же, как бесконечный треугольник есть
точная истина всех конечных треугольников, intellectus есть истина всех
рациональных понятий. Если неожиданным образом применить способ
transsumptio finiti in infinitum для различения sensus'a, ratio и intellec-
tus'a, то получаются три ступени совпадения противоположностей:
1. Положительные чувственные данные приводятся по ту сторону
границы sensus'a в области ratio к высшему единству. Ratio как место
различения и, следовательно, утверждения и отрицания есть
совпадение противоположного (красного и зеленого и т. д.).
2. В области ratio понятия, создающие единства, разграничены между
собой: omnis determinatio est negatio. Понятия эти образуются благодаря
одному и тому же движению, которое поэтому содержит в себе и
развертывает из себя все разнообразные понятия, будучи совпадением
противоположного. Утверждение и отрицание совпадают, ибо один разум,
intellectus, порождает то, что противоречит самому себе.
3. Хотя в intellectus'e все противоречия и противоположности
совпадают, тем не менее это живое самоосуществление возможно только в
случае причастности intellectus'a к высшему единству и источнику всякой
жизни, из которого происходит все сотворенное. Если intellectus хочет
достичь этой высшей реальности, он должен как бы упраздниться,
достигнув своей границы — области тварного. Другими словами, ему надо
стать из творчески-деятельной способности способностью восприемлю-
щей, ограничивающей саму себя путем ухода в себя, ибо лишь тогда Бог
не только теоретически мыслится в Его инобытии — как
присутствующий в интеллекте, но может обнаружиться в некоем «unio mystica»
таким, каков Он есть в Своем собственном глубочайшем существе. Эта
ступень уже не соответствует совпадению
чувственно-противоположен 223 ^Ξ)
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^Э
ного и совмещению (понятийных) противоположностей: она есть
(экзистенциальное) «единение» человека с Богом в мистической области,
т. е. слияние человеческой и Божественной сущности благодаря встрече
и соприкосновению двух разных личностей (Бога и человека); при этом
полностью сохраняется целостность человеческой личности в ее
отличии от Личности Божественной115.
С помощью метода transsumptio finiti in infinitum и привлечения
различных ступеней совпадения противоположностей заново строится
средневековый «собор познания» (sensus — ratio — intellectus — Deus);
intellectus при этом превратился из интеллектуальной способности
восприятия (каким он предстает в ранней схоластике) в творческое
единство интеллектуального самоосуществления. Его деятельность из
отражающего постижения (Erfassen) идей (раннесхоластический платонизм)
преобразовалась в созидательное составление (Verfassen) понятий и идей.
Как бы заново открывается образ Божий (imago), — после его
помрачения и возвышения similitudo — подобия, — однако теперь он
открывается под знаком субъективности. Трехчленной познавательной
способности человека соответствуют три различных метода приведения каждого
принципа познания к его высшему единству, которое присутствует в
познавательном принципе в своем инобытии. У этих трех методов
(рационального, интеллектуального и мистического) общим является то, что
все они состоят в некоем превращении познавательных ступеней (sensus
превращается в ratio, ratio — в intellectus, a intellectus — в unio mystica
с Богом). Поскольку все вместе они представляют собой целостный
процесс познания и образования мыслей, можно говорить о трех ступенях
логики, которые лишь совместно образуют действительно интегральную
логику"6.
d) Два основания вещи (der res)
Шварц указал на два основания вещи (der res) у Кузанца:
субъективное основание — это вещь как интраментальное инобытие, «инаковость»
духа в восприятии и мышлении; объективное основание — это вещь как
экстраментальный, объективный предмет вне восприятия и мышления,
который лишь входит в них117. Оба основания Кузанец упорядочивает
в некоей ступенчатой модели; при этом благодаря совпадению
противоположностей упраздняются как субъективистский подход
(номиналистской) традиции118, так и подход объективистский (вместе с классической
онтологией сущности). Объективистский подход в «De docta ignoran-
tia» переводится в функциональную схему с помощью различения
понятий «maximum absolutum» и «maximum contractum»{W. Абсолютный
максимум — это Бог, не достижимый с помощью понятий;
ограниченный максимум — это универсум 12°, осуществление которого Кузанец
Сг^ 224 ^Э
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^9
представляет с помощью Аристотелевых универсалий, выполняющих
роль посредников в бытии: бесконечное делается конечным благодаря
особенной в каждом отдельном случае «игре универсалий», создающей
в перспективе конкретную вещь. При этом всякая вещь,
противостоящая всем прочим вещам, делается в каждом случае некоей
определенной, ограниченной (следовательно, конечной) бесконечностью и при
этом инаковостью. Тем самым максимум, с одной стороны, делается
общей для всех конечных вещей точкой схождения перспектив и
одновременно — конечным «принципом устроения» соответствующей вещи
(res), возникшим через «игру универсалий». Каждая вещь — это
бесконечное в его инаковости, определенной конечности. Так возникают, по
мере нисхождения, четыре ступени генезиса объективной вещи (res),
причем каждая отдельная ступень демонстрирует некое видоизменение
соответствующей «природы», как они представлены у Скота Эриугены:
Кузанец
maximum absolutum (Бог)
maximum contractum (универсум)
universalia (структурирующие
принципы устроения или идеи)
res (мир чувственно
воспринимаемых вещей)
Скот Эриугена
natura creans non creata
natura creata creans
идеи
natura creata non creans (без
универсалий: non creata non creans)
Объективному подходу противостоит субъективный подход
философии духа в трактате «De coniecturis», согласно которому каждая низшая
ступень является инаковостью, инобытием высшей, так что, к примеру,
вещь (die res) есть инаковость ratio, ratio — инаковость intellectus'a, intel-
lectus — инаковость Бога, а Сам Бог есть не-иное («non aliud»).
Нисхождение (descensus) «Deus — intellectus — ratio — res» — это, однако, лишь
одна (трансцендентально-онтологическая) сторона, ибо такому
нисхождению соответствует познавательное восхождение, другая сторона, —
(гносеологический) ascensus вещи (der res) через ступени ratio и intellectus'a
к Богу; при этом познается действительность и истина вещи (der res).
Тем самым никакого «бытийственного остатка» в чувственных вещах не
остается: все есть mens ipsa121. Потому возможны следующие параллели:
Экстраментальное
сообщение бытия
Интраментальное
сообщение бытия
Maximum
absolutum
Universum
Universalia
Res ч
Descensus
(трансцендентально-
онтологическое
нисхождение)
Г 1
С^ 225 *
Deus А
Intellectus
Ratio
Sensus
г
Ascensus
(гносеологическое
восхождение)
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
Имеем ли мы здесь два полностью разделенных, не сообщающихся,
различных способа сообщения, передачи бытия от Божественного
источника к видимому миру? Если нет, то какова тогда связь между двумя
«основаниями» вещи (der res)?
Кузанец отвечает на этот вопрос в рамках своей умозрительной хрис-
тологии: связь между объективным и субъективным сообщением бытия
создает Логос, ибо Он образует как объективную структуру ступеней
творения (maximum absolutum — maximum contractum — universalia —
res), так и субъективную структуру сознания (der mens) (Deus — intel-
lectus — ratio — sensus). При этом в особой связи с Логосом находятся
maximum contractum и intellectus. Ибо для Кузанца универсалии вне
вещей, в которых они являются, суть не universalia ante rem со своим
собственным статусом, а Бог, поскольку Он есть идея или абсолютная
универсалия, объединяющая в себе и порождающая из себя все
универсалии; они же суть maximum contractum или универсум, поскольку они
делают его определенным, смотря по обстоятельствам, в том или ином
ограниченном, конечном предмете. В этой концепции нет места для
universalia ante rem, существующих сами по себе; сообщение бытия
осуществляется только через универсум (как maximum contractum) и через
Бога (как maximum absolutum). В их действительном, отдельном от
вещей образе универсалии суть универсум, который одновременно есть
универсальный Логос или Христос, в единстве с человеком Иисусом
образующий «величайшего Человека» 122. В Иисусе Христе универсум
(maximum contractum) и intellectus суть одно; Он есть как объективный
Логос, через которого «все начало быть, и без Него ничто не начало
быть» (Ин 1: 3), — так и субъективный Логос — в соответствии со
словами Иоанна: «И Слово стало плотию и обитало с нами, <...> и мы
видели славу Его» (Ин 1: 14).
Согласно философии Кузанца, в силу этого человек может,
соединившись с Иисусом Христом (в соответствии со словами апостола Павла:
«Ибо уже не я живу, но живет во мне Христос»), быть «вовлечен» в
процесс субъективного сообщения бытия, который может привести к
видению Бога. Ибо если в прологе к Евангелию от Иоанна сказано: «Бога не
видел никто никогда», то для мистики Кузанца значимо также
продолжение этих слов — то, что Иисус Христос «явил» Бога (Ин 1: 18).
Иными словами, возврат интеллекта к своей Божественной основе не
приводит к ипостазированию идей и не является чисто умозрительным: он
может привести к подлинной встрече и к действительному созерцанию,
имеющим благодатную природу123.
е) Интегральная логика как логика моральная
Многие интерпретаторы Кузанца рассматривают мистику кардинала
как теологическое явление и в значительной степени игнорируют его
е^226^Э
C^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^
метафизически-философские и в особенности его логические цели.
Конечно, это проблематично и «не в духе» Кузанца, ибо для него всякая
истина надежна и ориентирована на Логос лишь постольку, поскольку
логический мыслительный процесс заканчивается и венчается мистикой,
которая представляет собой последнюю и высшую ступень этого
процесса. Для Кузанца не только рациональная логика превосходится логикой
интеллекта или «разумной логикой», сменяясь интегральной логикой
в понимании Лео Габриэля 12\ но также и сама разумная логика должна
пройти еще через одну метаморфозу — некую нулевую точку у еще
более высокого порога (или «стены» у Кузанца) «совпадения
противоположностей», чтобы преодолеть этот порог в некоей unio mystica, когда
внутреннейшее ядро человека оказывается причастным творческому
истоку всей жизни, всего бытия и мышления.
Этот трехступенчатый процесс образования мыслей можно назвать
моральной логикой т\ только она является в собственном смысле слова
интегральной логикой, поскольку охватывает собой все ступени. Ибо
обращение интеллекта к своему творческому истоку есть обращение к
истоку самой морали, что предполагает моральное совершенствование ради
того, чтобы intellectus смог стать подходящим «сосудом» или
«структурой» для unio mystica. А «возврат» из этой unio mysstica вел бы затем
вновь через те же ступени intellectus'a и ratio к доступному для sensus'a
миру фактов. Эти три ступени моральной логики можно описать
следующим образом:
Восхождение (ascensus) Нисхождение (descensus)
unio mystica ♦ I unio mystica
coincidentia oppositorum интеллектуальное осуществление
coincidentia contrarium рационально-понятийное познание
singularia | ψ мир поступков и фактов
Следует обратить внимание как при восхождении, так и при
нисхождении на то, что каждая ступень бытия и соответствующая ей
познавательная способность обладает своими собственными закономерностями
и правилами, которые определяются соответствующей «стеной
ступенчатого совпадения противоположностей». Поэтому очевидно, что
познание действительности на основе моральной логики приводит к другим
способам познания действительности с помощью структурных
изменений: оно позволяет делать иные выводы из этих способов, — постольку,
поскольку оно готовит пути для морального, которому обязано самим
собой.
Эксурс о различных ступенях ничто и моральной логики
Переход с одной ступени на другую у Кузанца заключается в
прохождении через соответствующие «виды» ничто. При более пристальном
е^227^Э
<Ξ^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^
рассмотрении этих разных форм ничто можно расположить их
следующим образом:
1) ничто как principium determinationis (omnis determinatio est nega-
tio), — различающее ничто;
2) ничто как principium multiplicationis (принцип множественности);
3) ничто как principium creationis (граница творения);
4) абсолютное ничто.
Замечания к п. 1. Здесь ничто выступает как конституирующее начало
мышления, поскольку это последнее есть место «встречи» бытия
(положительное восприятие) и небытия (привнесение определенного понятия
вместе с исключением прочих понятий), согласно аксиоме познания
Спинозы: omnis determinatio est negatio, выражающей то, что условие
возможности любого качественного высказывания — это отрицание или
небытие. Положительно данное, воспринимаемое становится чем-то
определенным только благодаря тому, что оно соединяется с понятием,
привнесенным мышлением. Мышление может соединить с конкретным
предметом восприятия только одно определенное понятие, извлеченное
из всей понятийной совокупности; выбор этот противопоставляет
избранное понятие всем прочим понятиям, которые не соответствуют
предмету восприятия. Потому в основе того, что мыслится, лежит
отрицание. Положительная данность требует определенного понятия; налицо
некое «это», «здесь» и «теперь», которому мышление заявляет «да» или
«нет», — и при этом такое «да», которое одновременно есть множество
«нет». Воспринимаемое само по себе, несмотря на всю свою
неуловимость, всегда есть да, будучи положительно данным. Сама по себе
чувственная достоверность не обманывает, пускай предметы и впечатления,
данные в ощущениях, неуловимы, несовершенны или неверно
восприняты. Проблематично не то, существует ли предмет восприятия, но
лишь то, что он есть такое (субъективное ли явление — фантазия,
мечта, — или некая форма объективно данного).
К п. 2. Здесь ничто — это чисто отрицательная форма без какого бы то
ни было содержания; это чистая структура того, что существовало
раньше. Если это прежде существовавшее является всесущностью
(Allwesen) (как в предположении цимцума), то тогда такое ничто — это
отрицательная форма всего бытия. В этом случае ничто — это более прочное
обоснование (или условие возможности) всякого определения в
понимании Спинозы, будучи отрицанием в отношении всех вообще
возможных понятий. Если мышление решается начать с этой формы отрицания,
то если оно не отрефлексирует цимцума, оно может целиком остаться
в своей собственной стихии и построить такую стройную систему, в
которой все зависит от него самого (первоначалом там является ничто, а
само мышление есть движение) и развивается из него; при этом само
первоначало не зависит ни от чего другого. И хотя мышление там исходит
е^228^Э
(г^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^3
из этой определенности, но не стремится к ней, из этого ничто может
на деле возникнуть все.
К п. 3. Здесь цимцум рефлексируется, т. е. все существует благодаря
Божественному отступлению, которое создает, следовательно,
непреодолимую границу между Богом и тварным бытием, если Бог не отвечает
на зов творения. Если же творение по благодати принимается в
Божественную мистерию, то это означает его уничтожение, приведение в
ничто на этой границе и последующее восстановление по ту сторону ее;
данный процесс Алан Островитянин назвал обожением (deificatio).
Если в случае principium multiplicationis (обсужденного в п. 2) из
ничего в процессе становления разума может произойти все, то на
описанной здесь границе все экзистенциально уничтожается.
К п. 4. Здесь ничто является предметом не мышления или
экзистенциального опыта, а воли ничто; в данном случае — это цель упорного
воления небытия, — воления, волящего не чего-либо тварного, не бытия,
не ощущения или мысли — но абсолютного ничто; это воля к смерти,
к уничтожению. Это небытие есть то ничто, о котором уже на заре
философии было сказано: ex nihilo nihil fit; в связи с ним Гегель полагал, что
оно вообще никак существовать не может: самого абсолютного ничто,
per definitionem, нет, — нет также и тогда, когда оно оказывается целью
некоего воления. Для логики чистое, пустое бытие или небытие
выполняет функцию не этого абсолютного ничто, но ничто относительного-,
поэтому хотя эта функция и может включать в себя эволюционное
измерение протекания (перехода от одного элемента к другому, при котором
происходит метаморфоза и снятие первого), но она не охватывает
морального измерения уничтожения. Ибо избрание абсолютного ничто —
проблема не логико-гносеологическая, а моральная.
Указанные ступени в понимании ничто осознаются яснее, будучи
рассмотрены на фоне средневекового «собора познания».
Четыре названных понимания ничто в их нисхождении сверху вниз
связаны со ступенями познания (самая низшая ступень ничто — в
противоречивом смысле), т. е. с Божественным началом, Богом (с Ним связано
уничтожение творения и его восстановления); с intellectus'oM (небытие
в гегелевском понимании); с ratio (отрицание в понимании Спинозы);
с sensus'oM (а именно, в том случае, когда ничто — тьма не может объять
света Логоса, и он светит во тьме; следовательно, речь здесь идет о про-
тивобожественном, уничтожающем принципе, о котором Слово, ставшее
плотью, говорит: «Он был вором и человекоубийцей искони»). Если
следовать обратному пути восхождения, который начинается с чистого
восприятия, то выясняется, что он ведет через различные ступени
логики и заканчивается в моральной области.
При более точном рассмотрении эти различные ступени логики
можно расположить в ступенчатой модели, представленной Кузанцем. Рис. 1
(^ 229^5
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^Э
Deus
область unio mystica (экзистенциальное совпадение
противоположностей )
ничто как результат непризнанного цимцума
верхняя граница тварности
тварное ничто как порог на пути к Богу
область coincidentia oppositorum
интеллектуальное совпадение противоположностей
Intellectus
Principium multiplicationis (generationisï (Гегель)
бытие и небытие суть одно и то же
область coincidentia contrarium
рациональное совпадение противоположного
ratio
Principium dçterininatiomE (Спиноза)
«omnis determinatio est negation
sensus
область положительно данного
чувственное восприятие
Nihil absolutum
нижняя граница тварности
абсолютное ничто: действует как уничтожение
в волевой ситуации
Рис. 1. Сферы совпадения противоположностей у Кузанца
Три точки соприкосновения четырех сфер (sensus — ratio, ratio —
intellectus и intellectus — Deus) соответствуют трем формам относительного
ничто. Абсолютное ничто под сферой sensus'a «есть» ничто как
абсолютная граница
поясняет это. Sensus уничтожается на пороге, ведущем к ratio; на этой
ступени ничто воспринимаемая данность определяется, отделяясь от
других. Аналогично на пороге к intellectus'y уничтожается ratio вместе
с различием рациональных понятий, так что в этой точке
противоположности сразу (в направлении вверх, к intellectus'y) совпадают и (по
направлению вниз, к ratio) разворачиваются. Наконец на пороге к сфере
Бога умаляется intellectus: он должен упраздниться, дабы заново быть
восстановленным в исполняющей надеждой, благодатной unio mystica.
е^230^>
(г^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^Э
Представлениям о ничто соответствуют формы ошибок или
злоупотреблений, возникающих из-за неверного понимания или
осуществления ничто:
1 ) неверное различение — понятие, не соответствующее
действительности, или невольная ошибка;
2) суррогат — искажение с намерением. В этом случае матрица или
структура используется со следующими целями: а) получить копию
(размножение, «клонирование» оригинала); Ь) придать форму
оригинала другой субстанции, выдающей себя за оригинальную
(фальшивомонетничество); с) получение другого содержания с помощью изменения
данной структуры (искажение оригинала);
3) активизация ничто в качестве действующей силы
(отождествление с ничто собственной воли, благодаря чему ничто действует
совместно с силой воли, что есть уничтожение).
На основании этой модели, заимствованной у Кузанца, может быть
развита «система интегральной логики» или ступенчатого откровения
Логоса. При этом различаются отдельные ступени или сферы
различных форм логики: аристотелевская формальная логика,
трансцендентальная логика Канта, логика Гегеля и моральная логика, — где каждая
высшая ступень интегрирует низшие.
Кузанец указал на то, что каждый более высокий познавательный
принцип присутствует и действует в своей инаковости на более низкой
ступени, — подобно тому как центр оказывает влияние на
соответствующую сферу Так, ratio действует в своей инаковости в sensus'e, — иначе
область восприятия не была бы доступна для рационального
вмешательства. Она оставалась бы хаотичной, темной и в конечном счете —
полностью непроницаемой. Аналогично область ratio оставалась бы без
объединяющей связи, не присутствуй в ней intellectus в своей
инаковости — как центральный движущий принцип ratio: это принцип «я
мыслю», открытый Кантом в трансцендентальной апперцепции, — принцип,
который должен сопровождать все мои представления. Наконец, можно
говорить о некоем движущем центре по отношению к «я мыслю», т. е.
трансцендентальному «я», — центре, который является объединяющей
инстанцией для всех познающих «я»: это Логос как самая суть и
выражение всех интеллигенции. Будучи их источником, в центре их действует
Бог Творец — в соответствии с собственными высказываниями
воплощенного Логоса: «Отец Мой доныне действует, и Я действую»; «Отец
во Мне творит Свои дела <...> Видевший Меня видит Отца...».
Аристотелевская логика возникла и существует в области эмпирии,
возникающей благодаря sensus'y Ибо Аристотель не только
эмпирически исследовал логические законы: они также «воспринимались» им на
манер того, как воспринимается внешний мир: в качестве
раскрывающейся, обнаруживающейся данности. Поэтому Аристотель заново про-
(с^ 231^5
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
верял на эмпирическом материале открытые законы мышления; за
эмпирией он признавал роль свидетеля и второго — наряду с логической
истиной — начала.
Трансцендентальная логика Канта, напротив, исходит не из мира
восприятий, разоблачающего свою сущность, открывающего себя, — но
лишь из деятельности мышления и ее закономерности
(рационалистический подход). При этом в поле зрения оказывается тот образ логики,
который возникает благодаря внутреннему принципу, имманентному
разуму, — тому принципу, который сопровождает всю (представляющую)
деятельность. Если при открытии логики Аристотелем мышление в
известной степени структурирует эмпирическую действительность таким
образом, что, открыв разворачивающиеся при этом закономерности, оно
может рассматривать эти законы также чисто формально, в сфере
собственно мысли (т. е. in abstracto), не оставляя все же на произвол судьбы
их связь с эмпирической действительностью, — то в
трансцендентальной логике Канта мышление структурирует действительность так, что
она, рассматриваемая помимо трансцендентально-логических законов,
оказывается неупорядоченным материалом чувственных восприятий, —
следовательно, хаосом.
Гегелевская логика, с другой стороны, отражает тот факт, что в
открытой Кантом трансцендентальной апперцепции царит высшая,
объективная действительность Логоса, воспринимаемая в диалектическом
движении логики. Когда мышление благодаря диалектическому движению
порождает его закономерность, мышление узнает само себя в качестве
порождения Логоса, сущность которого оно постигает в науке логики.
При этом гегелевская логика, доходящая буквально до основания
логики, вообще создает предпосылку для трансцендентальной и
формальной логики.
Наконец, моральная логика отражает бездну между тварным разумом
и нетварным, вечным Разумом, причем эта логика возникает благодаря
отступлению и жертве Божества и при каждом ее шаге осуществляет
цимцум. Если разум открыт для всегда нового, постоянно
углубляющегося сообщения и откровения ранее трансцендентного (и постоянно
обновляющегося) начала, он выходит за пределы той логики, которая в
гегелевской системе достигает своей высшей ступени. Из «моно-логики»
старой метафизики рождается вертикальная диа-логика.
Другими словами, логика есть закономерно-необходимое движение рас -
судка, соответствующее Божественной сущностной структуре,
оставшейся в качестве отпечатка в чистом бытии после завершения цимцу-
ма. Логика есть не что иное, как структура, что означает: логика — это
ничто в качестве структуры.
Поэтому логика развитием своих законов являет истину — за
исключением действительности и жизни как двух атрибутов сущности истины.
С% 232^3
C?^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] ^3
„ ^ Deus
область моральной логики
(Логос как движение мыслей интеллигенции)
У
Unio mystica
(тварь и Творец становятся одним. В логику
вступают свобода и моральное тепло)
•Intelligentien (Логос)
область гегелевской логики
(мыслительное движение intellectus'a)
т Coincidenia oppositorum
(бытие и ничто — одно и то же)
^„„-•Intellectus
®~~ I область трансцендентальной логики Канта
(чистые формы рассудка или ratio)
Coincidenia contrarium
(вещь может быть одновременно красной и зеленой,
иметь углы и быть круглой)
. - - - Ratio
область Аристотелевой логики
(верифицированные в области эмпирии формы
суждений рассудка или ratio как центра эмпирии или sensus'z)
Рис. 2. Интегральная логика как логика моральная
Периферия окружностей соответствует началам sensus — ratio — intel-
lectus — Intelligentien («Deus»). Точки между кругами обозначают те
места, где sensus, ratio, intellectus и Intelligentien суть низшие «инаковости»
«движущих центров». Каждая верхняя ступень логики охватывает собой
низшие ступени
Потому Гегель и говорит о «мертвых костях» и «царстве теней»
применительно к логике126. Он полагает, что когда разум движется
закономерно, т. е. в соответствии с диалектическими структурами чистого бытия,
он наполняет содержимым эти мертвые кости и оживляет их. Но
действительной жизни разум достигает только тогда, когда он отражает
Божественное отступление, т. е. когда он понимает свое диалектическое
движение одновременно и как диалогическое отношение. Это отношение
затем связывает разум с Божеством, оказывающимся Господином над бы-
(^233^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
тием в том случае, если разум, диалектически развиваясь, помнит о том,
что своим бытием и движением он обязан этому первому Божественному
отступлению или жертве.
Данный результат можно понять с помощью следующего
противопоставления формальной и моральной логики:
• логика разума движется внутри структуры чистого бытия; она
воспроизводит эту диалектическую структуру и сама есть эта структура. Она
есть чистая, бессодержательная закономерность движения мысли,
пустая форма, предшествующая всякому познанию действительности;
• моральная логика есть движение в соответствии с той же самой
структурой при учете и осмыслении цимцума — отступления Бога из
Его непредставимого бытия. Поскольку моральная логика признает
себя обязанной Божественному существу и связанной с ним, — существу,
которое есть совершенное моральное существо, — она наполняется
содержанием и жизнью морального начала прежде всякого познания
действительности.
f) Выводы
Из учения Кузанца о восхождении и нисхождении следуют некоторые
выводы, представляющиеся ошеломляюще «современными». В связи
с этим посмотрим вначале, как Кузанец представляет себе восхождение
(ascensus). Он описывает его в сжатой форме в сочинении «De quaeren-
do Deum» [«Об искании Бога»]: «Мысля Бога лучшим из всего, что
можно помыслить, ты отбрасываешь все определенное и ограниченное.
Отбрасываешь тело, говоря, что Бог не есть тело, то есть нечто
определенное количеством, местом, фигурой, положением. Отбрасываешь
чувства, раз они определены: не видишь Бога ни на горе, ни в потаенных
глубинах земли, ни в образе солнечного блеска; то же в отношении
слуха и прочих чувств, поскольку все они определены в потенции и силе,
а значит, не суть Бог. Отбрасываешь общее чувство, представление и
воображение, поскольку они не выходят за пределы телесной природы
и воображение не постигает ничего нетелесного. Отбрасываешь
рассудок, потому что он часто отказывает и постигает не все: хочешь знать,
почему это — человек, почему это — камень, и не находишь никакого
рассудочного основания всех деяний Бога; значит, сила рассудка мала
и Бог не есть рассудок. Отбрасываешь интеллект, раз интеллект тоже
определен в своей силе: хоть он охватывает все, однако чистую суть ни
одной вещи он не может постичь в совершенстве и видит, что все
постигаемое им можно постичь еще более совершенным образом; значит, Бог
не есть интеллект. Продолжая искания дальше, ты не находишь в себе
ничего подобного Богу и утверждаешь только, что Бог — над всем этим
как причина, начало и свет жизни твоей мыслящей души.
е^234^)
(?^ VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] "^Э
В веселии ты убедишься, что он к тебе ближе сокровеннейших
глубин твоего существа как источник блага, из которого тебе изливается
все, что имеешь»127.
Нисхождение (descensus) Кузанец, рассуждая о свете и тьме,
демонстрирует в трактате «De coniecturis» с помощью двух пронизывающих
одна другую и обращенных в противоположные стороны пирамид,
причем вершина каждой из них находится в центре основания другой.
Чувственный мир, испытывающий недостаток в свете, тем самым восходит
мало-помалу к источнику света, который одновременно нисходит к нему.
Если все то, что Кузанец перечисляет в работе «De quaerendo Deum»,
не есть Бог, то встает вопрос, какова степень отсутствия Бога во всем.
В соответствии с диалектикой Кузанца, в минеральном мире его
отсутствие иное, чем в растительном мире, а в последнем опять-таки иное,
нежели в мире животном. В царстве человека оно также отсутствует по-
другому, — и, конечно, отсутствие Божества тем больше, чем меньше
человек стремится осуществить его в своей духовно-интеллектуальной,
политически-правовой, общественно-экономической и природной
среде (также и в среде общения). Так поиски причин отсутствия повсюду
Божества становятся исходным пунктом некоего внутреннего
познавательного устремления, которое может дать не только теоретический, но
и практический ответ, — может дать благодаря познавательному
усилию, направленному на реализацию тех сил, форм и субстанций,
которых не хватает существам и предметам видимого мира. Такое
привлечение Божественного начала в мышлении, ориентированном на Кузанца,
может осуществиться только на пути вышеописанного субъективного
сообщения бытия, — следовательно, при прохождении через ступени
мистики, интеллектуального созерцания, образования рациональных
понятий на основании этого созерцания, — и, в конечном итоге, через
преобразование мистического опыта, интеллектуального видения и
рациональных форм в некую физическую фактичность. Моральная
логика оказывается при этом совокупностью четырех ступеней: мистики,
интеллектуального осуществления unio mystica, создания
рациональных понятий и происходящего из них поступка или факта.
5. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Намеченные выше структуры некоторых средневековых течений
в философии можно рассматривать как процесс «утраты власти» intel-
lectus'oM как принципом сверхчувственного познания и возвышением
значения ratio. Фоном этого процесса служит «затемнение» imago и
возвышение similitudo. Можно говорить прямо-таки о «поглощении»
субстанции, сущности, которая возникла в философском познании (как
е^235^)
S^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ &S
в чувственно-природном, так и в сверхчувственно-метафизическом)
благодаря imago. Этот «процесс поглощения» был выражением обретения
сознания со стороны similitudo. Разнообразные попытки «спасения»
imago на новых подступах к метафизике (аристотелизм высокой
схоластики в лице Альберта и Фомы, постсхоластический платонизм Кузан-
ца) не смогли сдержать этого процесса. Хотя эти усилия были отчасти
подхвачены и продолжены, основные линии развития, тем не менее,
шли в направлении продолжающегося «поглощения» — как в поздне-
схоластическом номинализме, так и в эмансипирующихся естественных
науках. При этом усиливалось осознание субъективности, приведшее
к тому, что Тео Кобуш называет «открытием личности». То, что в
качестве «поглощающей силы» действовало на заднем плане, способствуя
развитию философии Средних веков, в конце Средневековья стало про-
лагать пути метафизике совершенно нового типа, которая
разворачивалась затем на протяжении столетий Нового времени; следуя Кобушу, ее
можно назвать «метафизикой свободы».
VII
МЕТАФИЗИКА СВОБОДЫ
И SIMIUTUDO DEI [ПОДОБИЕ БОЖИЕ]
Тот, кто использует понятие личности и говорит о
подобающем личности достоинстве, должен знать, что он
пребывает в области метафизики, — конечно, не
платоновской и не аристотелевской метафизики, но такой, которая
все еще остается малоизвестной. Открытие личности
началось в определенное время, но до сих пор не закончено.
То есть, в действительности это процесс, который
затягивается на века. <...> Враждебность нашего столетия к
метафизике относится <...>, очевидно, к определенному типу
метафизики, отличному от метафизики личности,
которую можно также назвать метафизикой свободы.
Тео Кобуш
1. ВВЕДЕНИЕ: НОВАЯ МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
I риведенная цитата взята из сочинения философа из Бохума Тео
Кобуша, которое вышло в свет в 1933 году К Кобуш исходит из
I того, что открытие личности есть достижение Нового времени,
не имеющее никакого отношения к платоно-аристотелевской
I традиции. Кобуш претендует на обнаружение некоей «доселе
сокровенной, великой метафизической традиции» — «традиции
метафизики свободы». В центре этой метафизики — понятие «морального
бытия». Это понятие, согласно Кобушу, «на протяжении столетий
обозначает бытие свободы, отличное от природного бытия и других видов
бытия. История этой формы метафизики, начавшаяся в XIII в. и вскоре
переориентировавшая духовную жизнь континента, есть история
свободы современного человека»2.
Таким образом, Кобуш толкует категорию «личность» никак не в
смысле поздней Стой и не в духе античного понятия «prosopon» или «persona»,
под которым понималась роль или маска актера, — и не в переносном
смысле, когда вся жизнь представляется разыгрыванием ролей. Личность
скорее понимается им как абсолютная ценность, которая была осознана
С^ 237^3
e^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^z)
только благодаря христианству3. «От того момента, когда эта идея
вошла в употребление в христианстве, и вплоть до ее осуществления в
основоположениях современных конституций, разумеется, был пройден
длинный путь. Но эта действительная форма свободы была бы
невозможной без того, что здесь мы назвали традицией метафизики свободы»4.
Кобуш считает началом этой традиции первую половину XIII в., хотя,
между прочим, уже усматривает прообраз понятия личности,
принадлежащего Новому времени, в школе викторинцев — у Ришара Сен-Вик-
торского5. В дальнейшем нам предстоит обрисовать эту традицию, — но
не только под углом зрения Кобуша, но и в перспективе образа и
подобия, или же личности и сущности, — в перспективе, центральной для
всего нашего подхода.
Поскольку Кобуш устанавливает прямую связь между христианством
и «открытием личности», имеет смысл вначале наметить христологи-
ческие основы этого развития.
2. христологачЕскиЕ основы понятая личности
У истоков новой (по отношению к античности) оценки личности
стоит не принятое Кобушем в расчет христологическое различение,
затронутое на Соборе в Ефесе в 431 г. по Р. X. Отцы Собора исходили из того,
что Иисус Христос был одним Божественным Лицом или Личностью,
обладавшей двумя природами — Божественной и человеческой.
Последующие Соборы уточняли это различение, установив, что Божественная
Личность Иисуса Христа могла осуществлять поступки совершенно
свободно, действуя то из Своей человеческой, то из Своей
Божественной природы.
Эта мысль о свободе Личности Христа по отношению к Его обеим
природам стала той основой, на которой в средневековой философии
продолжалось формирование понятия личности. Ибо, с одной стороны,
Божественность Личности Христа означала, что эта Личность обладает
действительно абсолютной «ценностью», поскольку Божественное
представляется ведь не чем иным, как безусловным, абсолютным. А с другой
стороны, способность Божественной Личности «абстрагироваться» от
двух своих природ (когда она может вести себя по отношению к ним
свободно6) вообще впервые вскрывает возможность разглядеть само
личностное начало в его чистоте, т. е. увидеть личность независимо от
ее сущности или ее природ. Поэтому видение Божественной Личности
сразу оказалось связанным с видением свободы. Другими словами:
свобода в существенном смысле присуща личности, и когда Божественная
Личность обнаруживает Свою человеческую природу, она проявляется
как человеческая свобода, когда же эта Личность обнаруживает Свою Бо-
е^238^)
(г^ VII. Метафизика свободы и simllltudo Dei [подобие Божие] ^Э
жественную природу, она находит себе проявление в виде Божественной
свободы.
Та мысль, согласно которой Божественной Личности Христа в
неограниченном смысле подобает свобода и достоинство, нашла свое
дальнейшее развитие прежде всего во францисканской схоластике XIII в.,
например, у Александра Гальского (ок. 1170—1245). Александр различает
Личность Христа (persona), выражающую моральный порядок, и Его
индивидуальность (Individuum) или разумное Существо, а также
принадлежность к природе через посредство человеческого тела (subjectum)7.
Моральное начало и связанная с ним свобода относятся к личности
и указывают на ее достоинство. В моральном начале и в свободе
выражается достоинство Личности Христа, ставшего Человеком.
Но если Христос как Бог, ставший Человеком, обнаруживает это
достоинство свободно выбирающей и действующей в моральной области
личности идеальным (т. е. Божественным) способом, — то можно в
принципе предположить это достоинство для каждого человека, постольку
поскольку каждый человек есть образ и подобие Божий, т. е. поскольку
он есть личность, освобожденная Христом из состояния dissimilitudo
и вновь возведенная в состояние similitudo. Человек обладает
достоинством не потому, что занимает самое высокое место в порядке природы,
и не потому, что он способен к познанию всего тварного бытия вплоть
до ангельских умов и, более того, — Бога, а также не потому, что он есть
творение Бога, — но поскольку он есть свободное, личностное существо.
Правда, в силу своей телесности и благодаря разумному познанию в
области всех тварных вещей, человек принадлежит порядку природы и,
соответственно, порядку разумности. Но как в природном порядке, так
и в разумном порядке, обусловленном логикой, он находится в царстве
заданное™ (des Vorgegebenen) и при этом закономерности и
необходимости. Только в области моральных решений и поступков он ощущает
себя в царстве свободы. Только здесь открывается его собственная
«ценность», его человеческое достоинство8. Хотя в бытии личности
природное и разумное бытие не уничтожается, но «снимается»9, и личностное
бытие «конституируется с помощью характерных особенностей
природного и разумного начал, тем не менее свое собственное определение оно
обретает благодаря "достоинству", опирающемуся на "моральное бытие";
и в схоластических категориях это означает — опирающемуся на саму
свободу»10.
Достоинство человеческой личности пребывает в ее моральном бытии,
т. е. в ее свободе: этот тезис становится определяющим для всей
философии Нового времени и вообще — для самосознания человека в Новое
время. И поскольку существует не одна, но множество личностей, эти
личности должны взаимно признать свое отношение друг к другу. Тем
самым центральной для сознания делается проблема права. Поэтому
е^ 239^5
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^Э
метафизическую традицию открытия личности в Новое время можно
также связать с историей развития современного права, которая
начинается с новой оценки естественного права.
3. «СУБЪЕКТИВАЦИЯ» ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Если бесконечная ценность человеческой личности, облагороженной
спасительным деянием Христа, заключена в ее свободе11, то эта
личность должна быть наделена определенными правами, которые дали бы
ей возможность также и осуществить эту личностную свободу. Эти
подобающие индивидуальной личности права суть права человека, о
которых долгое время думали, что они восходят к идеям и представлениям
XVIII века. Но эти представления не возникли из ничего, но выросли
на той почве, которая вспахивалась и возделывалась, начиная со
Средних веков. Средние века не то чтобы просто проглядели права
человека, — они и не знали еще этого понятия. Хотя эта эпоха не смогла четко
«продолжить развитие данного понятия, начиная от бесконечной
ценности личности, утвержденной в свободе, и вплоть до конкретных форм
индивидуальной свободы»12, однако тогда были установлены
направления для подобного развития, присущего Новому времени. Это
становится понятным, если сравнить учение о праве Фомы Аквинского с
францисканскими представлениями.
а) Учение о праве Фомы Аквинского
Для понимания права Фомой решающим является вертикальный
порядок бытия. Этот порядок стоит и падает вместе с analogia entis13. При
этом особое значение принадлежит естественному праву, ибо высшее
может сообщить себя низшему, если человек следует своей собственной
действительной природе. Эта природа имеет в себе: а) склонность ко
благу соответственно природе, — склонность, которой человек обладает
вместе со всеми существами (substantiae); b) некую природную склонность
к более специфическим благам, которую человек разделяет с другими
живыми существами (animalia); с) склонность ко благу в соответствии
с разумом, которая присуща ему одному Благодаря этому человек
обладает некоей природной склонностью к познанию истины о Боге и к
жизни в обществе (societas)14. Согласно Фоме, человек по своей природе
обладает предрасположенностью к естественному праву Но поскольку
имеется возможность ошибок (проистекающая из падшей человеческой
природы), противоречащих естественному праву, Фома различает
общие принципы и особые случаи опыта, причем здесь имеется некая
ступенчатость, последовательность выводов (conclusiones), которые — в той
е^240^)
C^ VII. Метафизика свободы и similitude) Dei [подобие Божие] ^о>
мере, в какой они здесь удаляются от первоначального принципа и
глубже уходят в область частного — могут подпадать несовершенству,
односторонности и ошибочности. Естественное право развивается только
в области общих принципов, а также на первой ступени выводов (primae
conclusiones), когда оно познается и признается в общем смысле. Но ему
требуется восполнение с помощью положительного человеческого
закона, который доводит выводы до отдельных практических случаев,
нуждающихся в упорядочении, и с помощью также положительного
Божественного закона, который приходит на помощь «раненой человеческой
природе» (natura vulnerata), поскольку он оберегает от ошибок, опасных
для душевного благополучия15. «Положительное право (человеческий
закон), следовательно, переменчиво — не только из-за различия
государственных форм, но также по причине прогресса и упадка народов, т. е.
из-за колебаний требовательности к людям»16. Ключ к такой
ступенчатости права — это analogia entis (без этого ключа также нельзя обойтись,
когда речь идет о правовых условиях мира, т. е. о международном праве
(jus gentium)17). Итак, естественное право выводится из более высоких
ступеней lex divina или lex aeterna. Хотя человеческий поступок
свободен, он является, однако, хорошим и правильным только в том случае,
когда он совершается в надлежащем месте ступенчатого бытийственно-
го порядка (в смысле analogia entis) и следует соответствующим законам:
это место, согласно Фоме, отвечает порядку областей lex aeterna/lex
divina и lex naturalis. Человек определяет содержание естественного права
не в том смысле, что он субъективно, из своей свободы, заново
устанавливает это содержание в качестве условия применения личностной
свободы, но скорее так, что он признает объективную данность
естественного права, предоставленную ему Богом18. Кобуш верно устанавливает19,
что, хотя Фома при этом подтверждает самостоятельность морального
бытия и его «метафизика поступка есть при этом некая особая форма
метафизики, тематизирующая "esse morale"»20, однако, «несмотря на эти,
несомненно, значительные намерения, собственно центром метафизики
морального бытия является францисканско-бонавентурианская
традиция, в которой осмысливается специфика genus moris с помощью
систематического сравнения с genus naturae»21. Одновременно выражение jus
naturale (или lex naturalis) все больше и больше приобретает «значение
субъективного права, соответствующего индивидуальной личности»22.
Ь) Францисканское обращение естественного права
в субъективное право
Согласно Мишелю Виллею, понятие субъективного права
отсутствовало в античности, у классиков римского права и у Фомы Аквинского23;
оно появилось неожиданно только в XIV в. у Вильгельма Оккама. Вил-
е^ 241 ^
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^>
лей говорит прямо-таки о коперниковском повороте в истории права,
который выразился в том, что понятие права у Оккама получило
значение «власти». «При этом речь шла именно о власти индивидов, так как,
в соответствии с номиналистской позицией Оккама, реальность
присуща только индивидуальному бытию. Ввиду этого философский
номинализм Оккама является основным источником современного
индивидуализма» 24.
Напротив, Р. Тук доказал, что уже Иоанн Герсон и Пьер д'Айли
«впервые поняли право в качестве facilitas и в этом смысле как "власть" и
возможность» 25. Бриан Тьерни сравнил позиции Виллея и Тука и показал,
«что скорее гуманистическую юриспруденцию XII в., в особенности
сочинения авторов средневековых декретов, а не номинализм XIV в. или
возникающий в XVII в. капитализм, следует рассматривать как
исходный пункт для успешных поисков происхождения теорий
естественного права, а также понятия субъективных прав человека»26. Поэтому
понимание субъективного права человека, которое позже было определено
Г. Гроцием, С. Пуфендорфом, X. Вольфом в качестве qualitas moralis,
точно так же было известно авторам канонов и декретов XII—XIII вв., как
тот факт, что это право — согласно основному тезису «Persona res juris
est, substantia res naturae» — нельзя относить к природным вещам. Ко-
буш указывает на то, что некоторые юристы того времени определяли
«естественное право» как нечто «сверхкатегориальное». «Это <...>
метафизическое понятие указывает, что это право есть нечто такое, что <...>
нельзя постичь с помощью десяти категорий Аристотеля. Но так как
они относятся к природным вещам, понятие сверхкатегориального
означает, что право иного рода, нежели природное бытие»27.
На долю францисканской традиции (Александр фон Гальский, Бо-
навентура, Дурандус, Матфей из Акваспарты) осталось развивать это
различие морального и природного под углом зрения поступка как
морального акта и учения о благодати. Это учение имеет следующие
узловые точки:
• необходимость существует и в моральной области. По отношению
к нравственному поступку эта необходимость называется «долгом» или
«обязанностью»28;
• в то время как природное добро или зло означают определенное
отношение действия природной вещи к приписываемому ей природному
(или сущностному) закону, моральное добро или зло касаются отношения
одной свободы к другой (например, свободы человека к свободе Бога)29;
• в то время как ens naturae всегда привязано к наперед данному
существу, ens morale или ens voluntarium само конституирует свое
собственное существо30;
• в то время как зло в природной области никогда не сможет стать
небывшим, моральное зло может быть устранено, так что как таковое
е%242^Э
C^" VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
оно тогда перестанет существовать. Единственный способ уничтожить
вину — это ее простить. Но предпосылка для прощения — это
раскаяние, т. е. субъективный, персональный поступок31;
• божественная благодать не является препятствием для
естественной свободы: она предполагает эту свободу32;
• определяющий момент «начала благодати — это укрепление ее
предпосылки, и это — человеческая свобода. Поэтому хотя природная
необходимость и свобода исключают друг друга, но это не относится
к благодати и свободе: напротив, они друг друга обуславливают»33.
Кобуш отводит учению о благодати Бонавентуры особую роль в
онтологии свободы, так как бытие благодати находится там в особом
отношении к esse morale: «Тем самым познается действительное место общей
онтологии благодати в системе схоластической метафизики. Бытие
благодати не только отрицательным образом отграничено от бытия
природы, но оно также получает положительное определение в онтологии
свободы или esse morale»34. На основании вышеупомянутых узловых точек
он приходит к выводу, что «мысль о субъективных правах, которые
раскрывают перед личностью некое пространство свободы, — не
существовала, с одной стороны, уже в иудео-христианском мышлении, но также
не была выдвинута лишь в Новое время: она представляет собой плод
средневекового мышления, а конкретно — метафизики личности»35.
Поскольку, разумеется, «граница, внутри которой обсуждается проблема
благодати, т. е. вопрос о возможности конечной свободы, <...> очевидно,
обозначена онтологией субстанции, которая, однако, по своему
происхождению и собственному определению есть онтология природной
вещи», на долю Нового времени оставалась задача прорвать эту границу36.
4. СУМЕРКИ ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ
И ПРОБУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОЗНАНИЯ
«Прорыв» границы онтологии субстанции, который имеет в виду
и, очевидно, приветствует Кобуш, совершился не в один прием: в свете
учения Фомы Аквинского о трехступенчатом праве он происходил в
несколько следующих этапов, отмеченных Томбергом:
• переход к двухступенчатому праву у Гуго Гроция и его школы;
• затемнение идеи Божественного права у «либералов» (Гоббс и Локк,
Пуфендорф и Томазиус) и «консерваторов», т. е. последователей Гроция
(Лейбниц, Вольф и Ваттель);
• возникновение и затемнение идеи рационалистического
естественного права (Руссо, американская и французская революции) и
связанный с этим переход от двухступенчатого к одноступенчатому праву
(Кант и кантианцы, Гегель);
е^243^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
• одноступенчатое право правового позитивизма; и, наконец, —
• затемнение идеи одноступенчатого права в международном
праве37.
В дальнейшем нам предстоит более детально рассмотреть узловые
пункты этого развития.
а) Возвышение совести и переход
к двухступенчатому праву у Гуго Гроция и его школы
Гуго Гроций (1583—1645) на протяжении более чем двух столетий
считался отцом науки о международном праве38, хотя его творчество
заключалось в основном в усвоении идей испанских публицистов эпохи
Реформации (Франсиско де Витория (1480—1549?), Фернандо Васкеса
(1509—1566) и Франсиско Суареца (1548—1617)). Его сочинение «Маге
Liberum», по мнению Томберга39, не содержит ни современных учений,
ни новой платформы для некоего «нового международного права»:
напротив, оно является «кратким резюме воззрений из области
международного права, принадлежащих поздней схоластике (процветающей
главным образом в Испании) с ее христианским и античным фоном, —
постольку поскольку эти воззрения имели отношение к проблеме
свободы моря»40. Таким образом, этот труд обязан своим происхождением
не намерению (или потребности) заменить старые учения новыми: он
является «как явной, так и безмолвной, энергичной и проникнутой
глубокой убежденностью защитой старых воззрений от поглощения их
воззрениями новыми, порожденными политическими интересами. Гроций
противопоставляет авторитет неизменяемого естественного права,
укорененного в праве Божественном, переменчивой и беспочвенной игре
политических интересов, которая имеет обыкновение прикрываться
понятием права»41. Предисловие к «Маге Liberum» есть в
действительности не что иное, как «исповедание веры» Гроция в области философии
права, — «а именно, заявление о его принадлежности к реализму (т. е.
к тому воззрению, по которому идеи суть объективная реальность)
"мудрых и благочестивых мужей"42, вместе с которыми он стремится
"искоренить из душ простецов" "сколь древнее, столь и пагубное
заблуждение" 43 номинализма (т. е. воззрения, по которому идеи — это лишь
обозначения и слова субъективного свойства)44. Таким образом, он
становится на сторону св. Фомы Аквинского и св. Альберта Великого, бл.
Августина и Платона с Аристотелем, заявляя о себе как о враге античных
софистов, а также циников, скептиков и эпикурейцев, средневековых
номиналистов, маккиавелизма и всякого правового позитивизма Нового
времени, но в особенности — начинающего входить в обиход
национализма, против претензий которого он защищает права единого и нераз-
е^244^)
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^9
дельного человеческого рода, — то есть международное право в качестве
права человечества. <...> Гроций предстает здесь не столько как "отец
международного права", сколько как, скорее, "Ной" по отношению
к международному праву, спаситель от потопа возрастающего
индивидуализма, субъективизма, партикуляризма, национализма и
субъективистской "переоценки всех ценностей"»45.
В терминологии, избранной Кобушем, Гроций, следовательно,
целиком и полностью принадлежит традиции онтологии субстанции,
восходящей к Платону и Аристотелю, и может рассматриваться прямо-таки
как противник той развивающейся метафизики свободы (или
открытия личности), которую он, подобно позднему Томбергу,
принципиально не признавал или же мало учитывал ее ценность. Все же Гроций внес
решающий вклад в недооцененное им развитие этой метафизики
другого типа, сделав Божественное право чем-то трансцендентным и
способствуя этим дальнейшему «субъективизированию» естественного
права46. Гроций, тем не менее, считается с тем фактом, что международное
право было преобразовано в jus civile, право конкретного государства.
Когда он рассматривает общества (т. е. отдельные народы) в качестве
личностей, он, разумеется, превращает право в субъективноеΑΊ.
«Международное право (jus gentium) есть такое право, которому воля сообщает
силу обязательств всех или нескольких народов. <...> Это
международное право, а также неписаное гражданское право утверждается
благодаря постоянному применению и свидетельствам знатоков»48. Конечно,
Гроций также признавал выдающееся значение естественного права,
которое повлияло на ориентацию международного права, поскольку это
последнее представляет собой для него промежуточную ступень между
естественным правом и правом внутригосударственным: «Оно
[государственное право] универсально в той мере, в какой причастно сути
естественного права, т. е. постольку поскольку оно выявляет —
посредством договоров и практики — лучшие аспекты естественного права; но
оно в той мере имеет характер индивидуальный и местный, в какой оно
формируется волей конкретного государства. <...> Хотя естественное
право включено в международное право, но оно зачастую переступает
через его границы»49. Только при полном упразднении Божественного
права также и здесь наступает решающий поворот от естественного
права, санкционированного Божественным законом, объективно связанного
с мировым целым, к рационалистичному, обусловленному достоинством
личности естественному праву. Важнейшими ступенями этого развития
были: онтология морального бытия Самюэля Пуфендорфа, либеральные
идеи международного права Томаса Гоббса и Джона Локка, а также
учения последователей Гроция — Лейбница, Вольфа и Ваттеля. Мы здесь
ограничимся рассмотрением Гоббса и Пуфендорфа.
е^ 245 ^с)
С^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^
b) Преобразование естественного права
с помощью реконструкции «естественного состояния*
у Томаса Гоббса (1588-1679)
Со времен Платона и Аристотеля в западном мышлении
присутствовала мысль о том, что общественная жизнь (в частности, государство
и сообщество государств) основывается на «социальной природе»
наделенного разумом человека. Аристотель, Фома Аквинский и Гуго Гроций
учили, что человек по своей природе — «социальное существо». Так,
Фома говорит: «Naturale autem est homini ut sit animal sociale et politi-
cum»50. Ибо для человека «естественно» быть членом общества, «так как
он, в силу всех возможностей и немощей своей организации,
испытывает нужду в обществе, — а с другой стороны, этого требует разум,
возвышающий человека над природой. Мысль о том, что человек по своей
природе — "общественное существо", господствовала в качестве одной
из самых надежных и общезначимых истин, которая была незыблемой,
пока придерживались того воззрения, что разум вообще выше воли
("intellectus nobiliorpotestas"), — и в особенности — в богословском
мышлении»51.
Но это как раз отличает описанную Кобушем метафизику свободы
или esse morale: в ней акцент сдвинут от разума в сторону воли и тем
самым найден путь от теоретической философии к практической52.
С этим обращением к области субъективного было сопряжено
намерение рационалистически обсудить все предметы человеческого
знания, — обсудить в геометрически-математическом ключе, т. е. следуя
резол ютивно-композитивному методу. Этот метод состоит в том, чтобы
подвергнуть принципиальному сомнению то, что доселе считалось само
собой разумеющимся, разложить это как бы органическое целое на
составные части (проблематичные), с тем чтобы обнаружить некую
первую достоверность — точку Архимеда, исходя из которой можно было
бы заново собрать предмет из его составных частей. Декарт осуществил
это для установления согласия познавательной способности человека
с нею самой в своих «Размышлениях о Prima Philosophia». Томас Гоббс
применил этот метод в сочинении «О человеке, о гражданине» в связи
с вышеупомянутой «самой надежной и всеобщей истиной», — а именно,
той, что человек по своей природе есть социальное существо. Если
подвергнуть эту истину картезианскому сомнению, как это сделал Гоббс, то
в принципе возникают два пути заново реконструировать понятие
социального:
• если природное состояние понимается как зло, — в этом состоянии
каждый человек делается для другого эгоистическим, стремящимся его
проглотить волком, — то государство, возникшее из общественного
договора, должно быть максимальным государством, дабы ему сдерживать
(^ 246^5
e^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
волчью природу человека. Этот путь избрал Томас Гоббс в своем
«Левиафане»;
• если природное состояние понимается в позитивном смысле,
поскольку люди считаются добрыми по природе, — но все же им мешает
и угрожает их склонность к эгоизму, то государство должно быть
минимальным государством, которое устанавливает правовые предписания
и связанные с этим ограничения ровно в той мере, в какой это
необходимо для сдерживания эгоистических тенденций. Этому пути
следовали Джон Локк с его идеалом демократического мажоритарного
государства, а позднее Жан-Жак Руссо.
До сих пор оспаривается та роль, которую играет Гоббс в понимании
современного общества и государства. Кобуш помещает его в традицию
своей метафизики свободы по-другому, чем Томберг53. Ибо, подобно
тому как Декарт произвел мысленный эксперимент универсального
сомнения, придя таким образом к первому непоколебимому принципу,
Архимедовой точке, — «также и у Гоббса в аналитическом мысленном
эксперименте государство предполагается разложенным на составные
части, и в качестве первоначала теории государства предполагается
знание природы отдельного человека»54. Действительно: если следовать
установке картезианского фундаментального сомнения и применять
его, подобно Гоббсу, по отношению к человеческой природе, то в этой
природе также в принципе является сомнительным все то, что для
тысячелетней традиции было надежным, а также святым. Далее, было бы
логичным радикально оспорить все добрые свойства человека и
методически не доверять им, — подобно тому как поначалу Декарт
методически не доверял добрым намерениям Бога. Но если усомниться в добром
начале в человеке, то само это сомнение не есть добро, ибо как раз добро
ставится при этом под вопрос. Но ставить под вопрос добро, считать его
невозможным или сближать со злом (видя в нем замаскированный
эгоизм) означает принимать за первичное его противоположность. Гоббс,
как радикальный скептик, закономерным образом, методически обязан
считать зло, абсолютный эгоизм, изначальным, не подлежащим при этом
сомнению — первым достоверным моментом.
Но так как Гоббс сомневается не с аморальным умыслом, но скорее
ради того, чтобы заново обосновать и заново оправдать моральное
начало, — подобно тому как Декарт, хотя и подвергнувший радикальному
сомнению намерения Бога, однако лишь затем, чтобы заново оправдать
Бога в образе ideale innatae Dei, — перед ним встает вопрос, как вообще
из этого первоначального природного состояния сконструировать
состояние общественное. Это последнее возникает благодаря
общественному договору между всеми людьми, которые по причине
катастрофических результатов всеобщего эгоизма, также и для них самих как эгоистов,
е^ 247^3
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
образумились и решили ограничить свой личный эгоизм, дабы вообще
гарантировать обществу выживание. После обнаружения Архимедовой
точки — доходящего до абсурда, не подлежащего сомнению сомнения —
Декарт приходит к достоверности высшего разума и врожденных
человеку идей; подобно этому также и Гоббс, познав первую несомненную
методическую достоверность: истребляющий сам себя всеобщий эгоизм,
обнаруживает возможность от Архимедовой точки продвигаться вперед
и достигает некоего общественного здания Нового времени —
Левиафана, который представляет собой абсолютно радикальный общественный
ответ на столь же радикальное и абсолютное природное состояние.
Картезианский метод разложения и сложения заново в последующих
столетиях выродился в тотальную тиранию по отношению к природе,
подвергнутой «пытке» (Бэкон) экспериментом; аналогичным образом метод
Гоббса, состоящий в радикальном недоверии человеческой природе,
вылился в политическую тиранию абсолютистских и диктаторских
общественных систем Нового времени. Томберг очень точно подмечает, что
учение Гоббса об общественном договоре могло просто служить в
качестве теоретической основы тоталитарного государства или
государственного тоталитаризма55. Разумеется, Томберг ошибается, заключая в связи
с этим относительно понятия свободы: «Учение Гоббса об
общественном договоре отличается от традиционного учения об общественном
договоре в особенности тем, что оно исключает такие моральные и
разумные ценности, как справедливость, свобода и человеческая любовь»56.
Ибо, как верно доказывает Кобуш, Гоббс в точности принадлежит
нарождающейся метафизике свободы, т. е. он переводит традиционное
естественное право, опирающееся на платоно-аристотелевскую онтологию
субстанции, в порядок esse morale, т. е. в порядок личности с ее
свободой. Конечно, у Гоббса свободный поступок личности сведен к
мгновению выхода из природного состояния, когда человек по благоразумию,
добровольно заключает общественный договор, отдающий его эгоизм
в руки общества, — т. е. когда он свободно отказывается от значительной
части своего эгоистического произвола. То же самое происходит и в
случае государственного договора, когда эгоистические группы людей
свободно отказываются от собственной эгоистически мотивированной
свободы или произвола. Принципиальное для метафизики свободы мнение,
по которому для осуществления свободы существенно необходим
совершенный из благоразумия свободный отказ от неограниченного
своеволия, уже у Гоббса является основополагающим, а потому его могут
признавать сторонники как тоталитаризма, так и либерализма.
е^248^)
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
с) Методологически новое обоснование естественного права
и преодоление Аристотелевой этики в «Ethica Universalis»
Самюэля Пуфендорфа (1632-1697)
Пуфендорф, возглавивший первую немецкую кафедру естественного
и международного права в Гейдельберге, исходил из того, что человек по
природе есть социальное существо. Поэтому общественная жизнь
людей для него не есть результат общественного договора: она проистекает
из человеческой общественной природы, которая, со своей стороны,
несет на себе как бы отпечаток Божественных заповедей. Так, он пишет во
введении к своему сочинению «De Jure Naturae et Gentium»: «Я нахожу
также уместным подчеркнуть то, что в качестве основания всякого
естественного права я выдвинул человеческую природу,
предрасположенную к общинности, ибо я не нашел никакого другого начала, к
признанию которого можно было бы склонить всех людей без того, чтобы тем
самым подвергнуть насилию их естественные отношения и
одновременно сохраняя должное внимание ко всякому их убеждению в области
религии»57.
На первый взгляд кажется, что Пуфендорф при этом возвращается
к классическому, аристотелевской чеканки, учению о естественном
праве. Но при более близком рассмотрении оказывается, что именно у него
совершается решающий поворот естественного права в сторону
субъективного и подготавливается этика последующих столетий в качестве
науки о разуме. Это становится очевидным уже из его метода, который
он понимает по аналогии с математическим анализом. Данный метод,
восходящий к методу разложения и последующего сложения Декарта,
прежде всего соответствовал программе философии Нового времени,
состоящей в том, чтобы утверждать всякое знание на фундаменте
некоего первого неопровержимого принципа. Пуфендорф также следовал этой
программе. В своем трактате «De statu homini naturali» он представил
(в точности как Гоббс) corpus politicum разложенным на части.
Отдельных людей он поначалу рассматривает, абстрагируясь от каких бы то ни
было общественных установлений58. И, наконец, он также провел некую
общую рефлексию методов, давшую им подтверждение в свете разума59.
На его взгляд, для первого основания его системы было бы достаточно,
«чтобы она опиралась на такие наблюдения, которые обнаруживают
природу вещей и человека и которые не могут быть поставлены под
сомнение здоровым человеческим рассудком» ω.
Хотя Пуфендорф, как и Гоббс, основал свою практическую
философию на положенном разумом, не допускающем сомнения принципе
и при этом перевел старое учение о естественном праве в область
философии Нового времени, по отношению к выбору этого принципа он
явно отличается от Гоббса. Вместо гоббсовского анализа волчьей
прирост 249 43
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
ды человека в качестве исходной точки общественности у Пуфендорфа
присутствует человек как ens morale или личность. Отсюда Пуфендорф
заключает, что «доныне дисциплина естественного права рассматривала
человека только как животное, т. е. исключая entia moralia»61.
Но Пуфендорфу не только принадлежит заслуга в обнаружении
личности человека в качестве esse morale (на основании анализа Нового
времени) и в установлении исходной точки для синтеза: он также «впервые
дал обозначение вплоть до его времени безымянной дисциплине,
которая занимается entia moralia»62, утвердив всю практическую
философию на первой очевидности. Пуфендорф противопоставил отчасти
эту новую дисциплину современным метафизике и этике, восходящим
к Аристотелю. Согласно Пуфендорфу, эти последние имели дело с
самыми всеобъемлющими определениями и категориями, однако при этом
охватывали только природные вещи, но не entia moralia: «да, многие
даже не задумывались о них [entia moralia]»63. Конечно, entia moralia
вовсе не могли стать предметом Аристотелевой этики, поскольку
последняя всегда очень конкретно ориентировалась на исторический этос
греческого полиса (и, соответственно, римского государства); по мнению
Пуфендорфа, ее следует понимать в качестве местной этики. Аналогично
дело обстоит и в случае политики64. Пуфендорф видит в этом «серьезный
дефект дисциплины, которая обязана служить обычаям всего
человеческого рода»65. Учение об ens morale восполняет именно эту ущербность;
а поскольку это учение представляет собой не местную, но всеобщую
теорию человека, Пуфендорф называет основывающуюся на ней
дисциплину «Ethica universalis»66. «При этом естественное право и
обосновывающее его учение об ens morale, вне сомнения, вводится в обширную
область практической философии. <...> Однако все же можно признать,
что благодаря этому новому названию "Ethica universalis" был сделан
первый шаг в сторону от Аристотелевой этики по направлению к
метафизическому обоснованию морали, т. е. к метафизике нравов»67.
Учение Пуфендорфа — это знаменательный пример того, что в тот
момент, когда человек старается опереться только на свой разум и ищет
для этого первые самоочевидные принципы, на которых он может
утвердить, не впав в противоречия, некое мировоззрение, — тогда начинает
особую роль играть воля. Ибо открытие ens morale или человеческой
личности в аналитическом опыте экстраполирования так называемого
«природного состояния» привело Пуфендорфа к переосмыслению
этики, ставшей наукой о человеческой воле и совершающихся из воли
поступках, и при этом — в область практического разума, который следует
отличать от разума теоретического.
Можно взглянуть на это развитие с точки зрения метафизики
свободы Нового времени; тогда приходишь к тем выводам, которые, между
прочим, сделал и представил Кобуш и которые были вкратце намечены
С^ 250^5
(?^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
нами ранее. Но это развитие можно также рассмотреть в свете старой
платоно-аристотелево-томистской метафизики сущности. Тогда оно
оказывается переходом от теоцентрическои к антропоцентрической точке
зреният. Если в схоластических системах ведущую роль играла
теология (так как ведь ей было предписано исследовать Божественное начало
и его отношение к началу человеческому, сообщая об этом в
общезначимых выражениях), то теперь возобладало стремление «детеологизи-
ровать» философию и науку о праве. Для антропоцентрической точки
зрения характерно то, что решение загадок и ответы на вопросы стали
искать не в Боге, а в человеке69. В теоретико-познавательном отношении
этот переход от теоцентрическои к антропоцентрической точке
зрения можно охарактеризовать как переход от реализма к номинализму70,
с которым связан отказ от познавательного проникновения в область
определенного наличного бытия, — того проникновения, которое в пла-
тоно-аристотелевской «онтологии субстанции» подчинено высшим
познавательным способностям (intellectus, intelligentia, deificatio)71. Но
когда автономный разум изгоняет из сферы познаваемого всю данную
область (хотя ее реальность не отрицается), то ее место должно занять
сознательное, разумное поведение. Эту проблему можно решить,
возвысив устойчивые и общие, не противоречащие разуму требования
человеческой воли до практических установок разума или «постулатов». Но
«ее решение можно также найти в том, чтобы осмысление "сферы веры"
предпринимать не самостоятельно, но перепоручить это другим людям
или призванному к тому объединению, например, Церкви. По первому
пути при решении этой проблемы пошел Кант, по второму — Пуфен-
дорф»72.
Переход от воззрения, согласно которому действие Бога понималось
как господство мудрого всеобщего Разума, к такому воззрению, при
котором господствует непознаваемая в своем своеобразии Воля Бога, при
рассмотрении его с аристотелево-томистской позиции обозначает как
раз поворотный пункт естественного права в сторону субъективного
начала, который также распознает Кобуш73 и который Томберг
характеризует как антропоцентрическое понимание естественного праваи. Так,
Пуфендорф совершил решающий поворот от метафизики сущности к
метафизике свободы, приняв в качестве исходной точки этой последней
ens morale, личность человека; однако его учению присущ некий
отрицательный момент: он делает предположение о склонной к общинности
человеческой природе, не исследуя ее генезиса и оснований,
предполагая в качестве их непознаваемую в своем существе волю Бога. Но
однажды следовало принять во внимание существо этой socialitas hominis, —
так, чтобы она развертывалась не на фоне некоей непознаваемой
Божественной воли, но на фоне полученного экстраполяцией «предсоциаль-
ного» природного состояния человека, а затем применялась к
действием 251 ^Э
е^ Часть II. личность и сущность -^э
тельным общественным отношениям, т. е. политизировалась. По этому
пути пошел Жан-Жак Руссо, ставший вдохновителем общественных
потрясений последней трети XVIII столетия.
d) Упразднение естественного права
и переход от двухступенчатого к одноступенчатому праву
у Руссо (1712-1778)
Самые убогие теории, так же как проповедь
усовершенствования мира с помощью гильотины и французские
завоевательные войны, осуществлялись во имя «прав
разума». Естественное право было духовным направлением,
а не планомерно развиваемым учением.
Пфафф и Гоффман. Комментарий
к австрийскому Общегражданскому своду законов
Руссо по двум причинам является значительной фигурой для
разворачивания традиции метафизики свободы: с одной стороны, его
мышление повлияло как на кантовскую метафизику нравов, так и на философию
права Гегеля; с другой, хотя в отношении науки о праве Руссо в
основном оказался в пренебрежении, он указал пути для развития государства
в Новое время75. В полном созвучии с метафизикой Нового времени
Руссо различает природное и общественное состояние человека. Чтобы
разработать эту разницу отчетливо и принципиально, со всей
радикальностью, он реконструирует, как, к примеру, и Гоббс, некое природное
прасостояние, в действительности никогда не существовавшее. Своим
предшественникам он бросает упрек в том, что при аналитической
экстраполяции так называемого «природного состояния» они уже имели в виду
определенную форму общественного состояния, выдавая ее ложным
образом за «природное состояние». Ибо совершенно безразлично, исходят
ли из того, что человек — это эгоистическое существо, которое всегда
и повсюду стремится поглотить своего ближнего (Гоббс), — или же
допускают, что человек «по природе» добр (Локк) и является
общественным существом (Пуфендорф): во всех случаях уже предполагается
наличие некоего отношения одного человека к другому и тем самым —
межличностных отношений, а не какое-то природное состояние.
Это природное состояние достигается только тогда, когда
абстрагируются от всего того, что характеризует человека в качестве морального
существа. Следовательно, в этом природном состоянии, искусственно
допущенном с помощью радикального анализа и абстракции, человек
живет исключительно для самого себя, внутри границ, воздвигнутых
его собственной индивидуальностью, — живет как самодостаточное
существо — без страха, без отношений, без истории. Он наслаждается сво-
е^252^)
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] '^9
бодой вольного, счастливого дикаря. Но в тот самый момент, когда он
намеревается удовлетворить свои потребности как человек, т. е. в
совместной деятельности с другими людьми, он становится — уже
благодаря одному сообщению с себе подобными — être moral, т. е. способным
для жизни в обществе. И только «становясь членом общества, он
становится моральной личностью, разумным животным, царем среди
животных и подобием Бога на земле»76.
Таким образом, Руссо никоим образом не хочет (как это ему
постоянно приписывалось) просто повернуть вспять колесо истории, призывая
назад, к природе (в учении Руссо это чистая, искусственно созданная
абстракция): он хочет выяснить разницу между человеком как
природным существом и человеком как существом, обладающим личностной
свободой, находящимся отныне не в природном состоянии, но в
состоянии способности войти в общество. Из-за той радикальности, с которой
Руссо осмысляет человека как être moral, как persona moralis, Кант
назвал его «Ньютоном нравственного мира». Поэтому переход от
природного состояния происходит не через посредство общественного договора
(одного конкретного, а также постоянно возобновляемого) — как у Гобб-
са. Напротив, заключение всякого договора является лишь
возможностью, поскольку человек уже до того поднялся от природного состояния
к способности к состоянию общественному, т. е. к être moral, —
счастливый дикарь договоров не заключает77. От «природной свободы» дикаря
человек поначалу восходит к жизни в качестве гражданина, — согласно
Руссо, к некоему «относительному существованию»78, которое
характеризуется тем, что человек по причине роста потребностей и претензий
к другим оказывается в возрастающей зависимости от прочих людей,
что ведет к «множеству неизмеримых, беспорядочных и непрочных
отношений». Руссо представляет себе это состояние как смешанное:
происходят случаи взаимопомощи, обусловленные общими
потребностями, но имеет место и эгоизм (amour propre), который возможен только
в обществе и, согласно Руссо, является «истинным корнем уважения»79:
«Итак, речь в действительности идет об истинной причине всякого
такого различия: дикарь живет в себе самом, цивилизованный человек —
всегда вне себя, он может жить только в мнении других»80.
Стремление к почестям, идущее рука об руку, по мнению Руссо, со
статусом гражданина, приводит в конечном счете к тому, что
общественные противоречия становятся более явными и вызывают социальную
катастрофу81. Это развитие можно задержать, только ограничив эгоизм
и стремление к почестям с помощью общественного договора, — всеми
признанной и общеобязательной volonté générale82. Со своей стороны
volonté générale конституирует государство, которое надлежит
рассматривать в качестве persona moralis, т. е. в качестве своеобразной
самостоятельной личности, поскольку, согласно Эрнсту Кассиреру, volonté gé-
е^253^)
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^9
nérale есть «такая форма, в которой воля вообще существует в качестве
нравственной воли»83. Благодаря передаче личной воли в распоряжение
воли общественной государство, как deus ex machina, обретает, таким
образом, не только нравственность, но и достоинство личности. В связи
с этой передачей собственной воли в распоряжение общественной воли
Руссо использует слово «aliénation», ибо общественный договор,
конституирующий общественную личность, состоит в «aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à la communauté» [полное отчуждение
каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей
общины]84. Понятие «aliénation» [отчуждение] имеет мистический корень85.
В христианской мистике (например, у Мейстера Экхарта) воля
человека проводится им самим как бы через некую нулевую точку — через
полное отчуждение (aliénation) от его собственного низшего «я». И «по
ту сторону» нулевой точки возрождается человек, обновленный в
Христовом «Я». Кобуш переносит эти представления на философию
государства Руссо: «Из homme sauvage [дикаря], обладающего volonté
particulière [особой волей], возник citoyen [гражданин], обладающий volonté
générale [общей волей]. Руссо выразительно говорит о "заслуживающем
большого внимания изменении" в самом человеке, так как на место
инстинкта становится сознание справедливости, и поступки теперь
получают моральное измерение86. Речь идет просто об изменении способа
существования: на место физического и независимого существования
теперь становится "существование частное и моральное"»87.
Но где исток этого удивительного превращения? Кто творчески
действует в момент прохождения своеволия через «нулевую точку»
aliénation totale, — действует в смысле пересоздания, переориентации воли
в направлении морали? Для мистики, которая всегда была «теоцентрич-
ной», эта «нулевая точка» означала вступление в сферу Бога. Поэтому
передача собственной воли мистика в распоряжение воли
Божественной означала его переход от доверия — к любви и вере в совершенную
моральность Бога. Превращение человеческой воли поощрялось Богом
и по его совершении также приписывалось Ему. Но кто станет
предпринимать превращение личной воли в смысле морального
преобразования, предоставив ее в распоряжение общества, если отказаться от
теоцентрической точки зрения и, как это было в век рационализма,
заменить ее антропоцентрической?88 Кто даст гарантию, что
осуществившаяся через некую «мистику государства» объективная воля
(выражающаяся в конкретных субъектах — представителях государства, т. е.
правителях), которая должна в количественном отношении «превышать»
простую арифметическую сумму всех отдельных воль, справедлива
и моральна, а не несправедлива и аморальна? Не заполнили ли эти
пробелы в воззрениях Руссо его ученики Робеспьер и Сен-Жюст
«объективной необходимостью террора» (la terreur), всеми теми кровавыми
е^ 254^9
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
последствиями, которые возникли из этих воззрений в общественной
действительности? В качестве свободных ли граждан были возведены
на плаху жертвы неумолимой морали Робеспьера, «Добродетельного»,
о которых Дантон сказал Георгу Бюхнеру, что они вызывают у него боль
в шее? Участвовали ли они в объективной всеобщей свободе в том
смысле, как ее понимает Кобуш: «В первую очередь понятие volonté
générale [общая воля] касается заложенных в отдельном индивидууме
условий для учреждения société générale [общего собрания]. Это
последнее, будучи институтом, имеет характер личностный, — или же, как
в мистических категориях выражается Руссо, характер некоего общего
"Я"89. Согласно Руссо, таким способом воля отдельных индивидов,
ориентированная на общественное благо, на свободу для всех, обрела
объективную форму в моральных институтах. Общее "Я" есть не что
иное, как объективная воля, действиями и обнаружениями которой
являются законы — формы объективной всеобщей свободы» ^
Увы, едва ли дело обстоит так! Кобуш ссылается на то, что отказ от
личностной воли, совершающийся из свободы, нельзя отождествлять
с отказом от свободы, поскольку человек, в понимании Руссо, отнюдь
не может отказаться от своей свободы, «ибо думать, что некое существо
смогло бы отказаться от того, на основании чего оно в принципе может
отказываться или вообще поступать, т. е. хотеть или не хотеть, означает
впадать в противоречие»91. Для того чтобы volonté générale могла быть
фактическим выражением действительной свободы индивида,
моральное развитие индивида должно идти рука об руку с государственным
развитием92. Ибо только то общество находит соразмерную человеку
форму, которое создается людьми, так сильно развившими свою мораль,
что она стала выражением совести93.
Разумеется, здесь налицо некий замкнутый круг: с одной стороны,
благодаря отказу индивида от собственной воли общая воля оказывается
«законом для справедливого и для несправедливого»94, а индивид через
этот «обмен воль» (согласно Кобушу, это есть «действительный отказ»95)
предстает в качестве очистившейся моральной личности, — с другой же,
существует уже нужда в личностях с развитой совестью, в морально
продвинутых людях, чтобы этот обмен воль также стал по-настоящему
свободным отказом и привел к действительному общему благу, а не к
общественной катастрофе (например, террору). В связи с этим встает
вопрос об источнике нравственности.
В любом случае источником этой нравственности и права должна быть
личность, — или природная личность человека, или общественная —
государства. Но в какой способности человека скрыт этот источник?
Почему эта способность действительно такова, что придает ей объективно
признанную (а не просто субъективно утверждаемую) значимость?
е^255^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^>
И почему то, что проистекает из этой способности, объективно
оказывается нравственностью или правом?96
Эти вопросы возникали не только в связи с учением Руссо о
всеобщей воле, означающим отказ от естественного права97, но также и в
связи с развитием другого течения «разумного права» эпохи Просвещения,
т. е. течения рационалистического естественного права, ибо оно тоже
способствовало дискредитации естественного права98. Томберг не
оспаривает того, что разумному праву принадлежала значительная роль в
области правовой защищенности конкретного гражданина государства99,
однако, «несмотря на гуманистический прогресс и сдвиг в сторону
кодифицирования права, которые нельзя недооценивать, просвещенское
разумное право произвело много путаницы (по причине именно его
продуктивности) в области правоведения. В этой путанице, охватившей
почти всю сферу гуманитарных наук и не в последнюю очередь
философию, появился некий дух, который, с одной стороны, будучи сыном
Просвещения в границах протестантизма, был исполнен волей к тому,
чтобы защитить и спасти сокровище Просвещения вместе с импульсом
индивидуальной свободы от неизбежной будущей реакции, а с другой
стороны, взял на себя задачу ограничить чрезмерные притязания
автономного разума, подвести новое, прочное и опять-таки общезначимое
основание под свободную игру подверженных субъективным влияниям
спекуляций разума, дабы гуманитарные науки, освободившись от
субъективизма, вновь обрели объективную ценность и объективную
значимость. Этим духом, который взялся указать дорогу вышедшему за свои
пределы автономному разуму, одновременно снабдить его неким
методом и показать ему надежную и защищенную область для
развертывания его действий, — этим духом был кенигсбергский философ
Иммануил Кант„л1(Ю
5. ОТКРЫТОЕ КАНТОМ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
И ОБОСНОВАНИЕ МОРАЛЬНОЙ ЛОГИКИ
КАК ЛОГИКИ МЕТАФИЗИКИ СВОБОДЫ
Но такова уж обычно судьба человеческого разума,
когда он пускается в спекуляцию: он торопится поскорее
завершить свое здание и только потом начинает
исследовать, хорошо ли было заложено основание для этого.
Иммануил Кант101
У Канта речь идет о некоем новом, правильном обосновании
философии, предваряющем постройку любого мыслительного здания. Это
обоснование связано для него с вопросом о том, возможна ли вообще
метаем 256 ^Э
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^z)
физика102, понятая как априорное познание вещей, проистекающее не
из (чувственного) опыта, но означающее прирост знания, — познание,
следовательно, не аналитическое, а синтетическое шз. Заложение нового,
более надежного фундамента метафизики для Канта зависит от
радикальной критики трех обеспечивающих познание способностей, на
которые опирается классическая метафизика. Ту способность, которую
древние называли sensus или эмпирией, Кант обсуждает в
«трансцендентальной эстетике»; ту, что называлась ratio или рассудком, он
анализирует в «трансцендентальной логике»; наконец, intellectus, «идейная
способность» или (высший) разум, подвергается Кантом радикальной
критике в «трансцендентальной диалектике». Благодаря такой
всеобъемлющей «критике чистого разума» Кант надеется с верхних этажей
старого метафизического здания познания спуститься вниз, на ту почву, на
которой это здание было ничтоже сумняшеся утверждено, — на почву
познавательной способности человека.
Как известно, Кант не возвращается вновь к платоно-аристотелев-
ской субстанциальной онтологии, — он находится совсем на другой
почве. Его обоснование критической философии принадлежит традиции
метафизики свободы Нового времени с ее методом декомпозиции или
анализа, который мы уже встречали у Пуфендорфа, Гоббса и Руссо; Кант
не просто продолжает эту традицию, но решительно меняет ее
направление. Ибо теперь этот анализ радикализируется и применяется по
отношению к (трансцендентальной) структуре самой познавательной
способности. К систематической декомпозиции или анализу теперь
присоединяется — совершенно в духе метафизики Нового времени —
композиция, т. е. синтез1(м.
Критика соответствующей познавательной способности, возведенная
в систему, в согласии с вышесказанным, составляет целостное
философское познание. При этом в начале познавательного пути лишь в
видимости стоит некая данность105: «Аналитический метод, постольку поскольку
он противоположен синтетическому, означает, что "исходят из
искомого, как если бы оно было данностью [курсив мой. — Μ. Ф.], и восходят
к тем условиям, при которых оно только возможно"» Ш6. Итак, Кант
исходит не из факта, а из гипотетического предположения о том, что
существуют синтетические суждения a priori, — чтобы затем с помощью
анализа исследовать, имеют ли подобные суждения в действительности
синтетический априорный характер, т. е. возможно ли свободное от
чувственности познание, которое основано не на опытных суждениях,
которое «расширяет свое содержание и увеличивает наличное знание», —
в отличие от аналитических суждений, которые «ничего не добавляют
к содержанию знания и лишь комментируют его»107. Как известно, Кант
приходит к следующему результату: такое познание, сообщаемое
чистым разумом, в состоянии передать только формы самого разума, но от-
С^ 257^5
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
нюдь не сущность объекта (т. е. «вещь в себе»), — такой, какая она есть,
а не Просто является взору созерцателя108. Итак, такое познание есть
просто самопознание познавательной способности — ее категорий,
присущих ей априорно форм созерцания и мышления, — таких, которые,
собственно, указывают на ее качество, не отвечая на вопросы: «почему»,
«откуда», «как» и «для чего» существует это качество. Таким образом,
согласно Канту, познавательная способность, «обслуживающая»
синтетические суждения a priori, не может помочь разрешить проблемы Бога,
свободы и бессмертия. Но поскольку, с другой стороны, с помощью
категорий осуществляется одно научное, т. е. необходимое и общезначимое
познание, вследствие этого оно основывается не на истине предметов
знания, а на познавательной способности познающего субъекта.
Эмпирическое знание также в принципе не достигает сущности
вещей. Кант имеет в виду субъективность познания, когда он говорит, что
мы узнаем a priori о вещах лишь то, что сами вкладываем в них.
Поэтому, разумеется, познание мира явлений, осуществляющееся с помощью
человеческих познавательных категорий, не есть «ни греза, ни мечта; но
оно в принципе несовершенно, а именно, несовершенно в качественном
смысле: это процесс приближения к предмету познания — такому, какой
он есть в себе, — процесс, в принципе бесконечный» т.
То, что с теоретической точки зрения (т. е. в отношении познания
«вещи в себе») означает для человеческого разума явное ограничение
и «смирение»110, в практическом отношении представляет нечто
чрезвычайно ценное111. Ибо если теоретический разум — сам себе закон112
и содержание в том смысле, что он всегда познает и обнаруживает лишь
свои собственные, имманентные познавательные структуры, то
способность быть законом для себя для практического разума означает
автономию свободной человеческой личности. Здесь налицо несколько
ступеней.
• если чистый разум может непосредственно быть практическим, то
он готовит новую почву для метафизики нравов. Эта метафизика
предполагает возможность чистой воли113;
• этой возможной чистой воле не присуще ничего случайного или
проистекающего из опыта, если ей надлежит обладать нравственным
достоинством безусловно доброй воли. Чистая воля, следовательно,
вправе иметь только одно начало, определяющее ее a priori1И;
• это высшее начало — человеческая личность, которая теперь также
и у Канта ценится весьма высоко115;
• эта ценность человеческой личности обнаруживается в ее
автономии116.
В связи с Кантовым пониманием нравственной автономии и
морального закона Томберг использует понятие моральной логики:
«Нравственная автономия и моральный закон в результате дают <...> как бы аксио-
е^258^>
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
мы "моральной логики" практического разума, подобно тому как формы
созерцания и мышления (т. е. категории) чистого разума дают в
результате аксиомы "формальной логики". Эти "аксиомы моральной логики"
суть постулаты практического разума: "Бог, свобода, бессмертие". Ибо
нравственное стремление к совершенству было бы бессмысленным,
если бы не существовало цели и идеала, т. е. Бога нравственного
стремления; нравственное стремление было бы безнравственным, не будь оно
свободным; и нравственное стремление было бы практически не
осуществимым, если бы не существовало бессмертия. Итак, "истины
долженствования" практического разума дают ответ на важнейшие вопросы
человеческого бытия, на которые не в состоянии дать ответ чистый разум
на языке "истин бытия". Формальное знание чистого разума не может
сказать нам, существует ли Бог, в то время как подкрепленная
морально сила убеждения практического разума говорит нам, что Бог должен
существовать. Великая заслуга самого Канта видится как раз в том, что
ему хотелось открыть врата для другой, нежели
теоретико-спекулятивная, человеческой способности достичь уверенности в жизненно важных
вопросах, — а именно, для моральной логики практического разума» ш.
Понятие «моральная логика» нуждается, конечно, в связи с Кантовой
формальной этикой в более глубоком и всеобъемлющем обосновании,
чем то, которое ей здесь предоставляет Томберг, ибо тотчас же
возникают вопросы: в чем заключается «логическое» начало практического
разума? какое понятие морального или нравственного является
основополагающим для него?
а) Логическое начало практического разума
Проблема, связанная с понятием «моральная логика», выступающим
как modus progrediendi практического разума, возникает оттого, что
законы такого рода логики — это не аксиомы, формы суждения и
категории, структурирующие чисто теоретическое мышление и относящиеся
к «порядку бытия»: это относящиеся к «порядку долженствования»,
структурирующие практическое мышление императивы и постулаты.
Но если, как это делает кантианец Йеше, логику определяют в
качестве «науки о необходимых законах рассудка и вообще разума или же,
что то же, о пустых формах мышления вообще»118, — в таком случае
также и «критика практического разума» в смысле Канта, именно в силу
ее формализма, есть наука логики, ибо она занимается необходимыми
законами (практического) разума и пустыми формами вообще
(практического) мышления.
Также если логика должна быть «искусством (правильного)
умозаключения», как это имеет место для Джона Стюарта Милля (1806—
1873)119, — то это определение применимо и в случае методики, т. е. эле-
С%259^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^9
ментарного учения, аналитики, диалектики и учения о методе
практического разума в Кантовом смысле, ибо все вместе эти дисциплины
представляют собой науку о законах умозаключения практического разума
и (в метафизике нравов) искусства их использования в чисто
практической сфере.
Также и нижеследующее определение логики (сформулированное
в новейшей исследовательской работе) приложимо к методике чистого
практического разума: «Логика учит закономерному мышлению.
Можно охарактеризовать эти законы мышления в некоей всеобъемлющей
системе. При желании их познать следует вывести их, мысля
самостоятельно. Таково мышление в чисто понятийных формах, каким его вывел
Гегель в своей "Науке логики". К задачам логики относится
исключительно указание путей того, как мне конструировать понятия,
привязывать их к суждениям и из суждений последовательно выводить другие
суждения. При таком выведении только в том случае может возникнуть
содержательно правильное суждение, если содержательно
правильными являются уже исходные суждения. В соответствии с формой
высказывания (утверждающей, отрицающей, общей, частной, неопределенной)
суждения могут подразделять понятия на видовые, родовые и высшие
понятия (категории). Итак, логика — это наука мышления, которой
вменяется в обязанность описать мышление во всех его возможных формах
(курсив мой. — Μ. Ф.). Действительного содержания мышления логика
обосновать не в силах: это уже задача познания» 12°. Перенесем все
названные условия на методику практического разума и займем место
понятий, категорий и суждений теоретического разума понятиями,
императивами и постулатами как возможными формами мышления
практического разума, который автономно продуцирует их из самого себя
точно так же, как чистый теоретический разум продуцирует свои
формы; и тогда можно будет признать, что имело бы смысл обозначить
методику одного и того же человеческого разума в его теоретической части
как «формальную логику», а в его практической части — как
«моральную логику».
«Моральную логику» никоим образом не следует путать (из-за ее
формальной укорененности в практическом разуме) с какой-либо
формой так называемой «материальной логики», как это делает, к примеру,
Карл Энгиш121 (при этом он, конечно, хотел бы обсуждать эту
«материальную логику», применяя ее лишь к особому случаю — так называемой
«юридической логике»). Вульфс справедливо оспаривает Энгиша в том,
что последний именует логикой искомый им юридический метод: ведь
логика сама по себе не обладает никаким содержанием122. Это
справедливо, конечно, как для формальной логики теоретического разума, так
и для моральной логики практического разума. В обоих случаях логика
существует не сама по себе, хотя ее также можно подобным образом по-
С^260^Э
(г^ VII. Метафизика свободы и similltudo Dei [подобие Божие] ^f)
нимать и применять; она в качестве канона пустых форм наложена на
содержание познания: формальная логика — на бытие, моральная
логика — на моральность, долженствование. Первым, разумеется,
оказывается возражение Макса Шелера, который выдвинул, быть может, самый
весомый аргумент против какого-либо иного вида логики, чем чисто
формально-теоретической ш.
Ь) Возражение Макса Шелера
против возможности моральной логики
Шелер в своей материальной ценностной этике резко критикует не
только формалистическую позицию Канта и его понятия личности,
долга и долженствования: он также оспаривает то, что может
существовать и некая особая «эстетическая» или «моральная» логика, так как не
существует никаких особых правил для эстетического или этического
суждения, эстетического или этического умозаключения, — правил,
отличающихся от логических124. Согласно Шелеру, при образовании как
теоретических, так и практических суждений применяется одна и та же
логика. Разница возникает только из-за различия положения вещей
(теоретическое суждение) и, соответственно, ценностей (практическое
суждение), т. е. она упирается в закономерности того, что Шелер называет
«переживанием особых фактов и материй», которые определяют
конкретный характер этики и эстетики, а также обусловливают «уверенность
в этом переживании». Самой логике Шелер приписывает скорее
подчиненный ранг125. Но этому противостоит то, что форма определяет
содержание, а содержание — форму. Формы мышления при практическом
употреблении разума, — и здесь существо Кантова подхода, — однако,
не идентичны формам чисто теоретического употребления разума, ибо
в последнем случае имеет место более «низкая» в качественном
отношении ступень, — как и при предшествующем открытии автономии
личности и одновременно — «царства свободы».
Поэтому отказ Шелера от всякой формы эстетической или же
моральной логики должен встретить поддержку со стороны критики
формализма и понятия личности у Канта. Так, Шелер возражает Канту:
нравственный закон, лежащий в основе практического разума и конституирующий
его, который настойчиво желает воспрепятствовать овеществлению и
одновременно унижению личности, сам представляет собой лишь частный
случай унижения личности, — в силу того, что разум подчиняет личность
«господству некоего безличного номоса [закона], в безусловном
послушании коему личность должна совершать свое становление»126. Это
возражение против свободного от какой бы то ни было (феноменолого-
эмпирической) склонности и чувственности понятия долга у Канта,
конечно, не ново. В двух эпиграммах («Ксении») оно выражено Шиллером:
е^261 ^Э
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
Делать добро моим ближним привык я, но только, к несчастью,
Делаю это охотно, зане я сердечно люблю их.
Как же тут быть? — Ненавидь их, и с чувством враждебным
и злобным
Делай добро, и тогда только будешь морально оправдан,27.
(Пер. В. С. Соловьева)
Против резкого разделения формального и материального
принципов — одностороннего предпочтения первого у Канта и последнего у Ше-
лера — задолго до появления Шелеровой книги возразил Владимир
Соловьев: они оба связаны между собой, причем долг представляет
универсальную сторону, склонность — психологическую128. То, что Соловьев
называет «рациональный принцип морали» «всеобщим и необходимым
законом»129, можно вместе с Томбергом считать основой для «моральной
логики», удовлетворяющей как чисто формальной природе закона, так
и тем всеобщности и необходимости, которые присущи любой
закономерности. Поэтому «Метафизика нравов» Канта в некоем особом
смысле принадлежит к числу тех сочинений, которые закладывают основы
моральной логики, ибо «постольку поскольку это метафизика, это
система понятий чистого разума, перенесенная на мир морали» ш.
Сомнение Шелера в том, что в этике могут присутствовать такого
рода «понятия чистого разума», то есть логические законы, параллельно
его сомнению в возможности различать в этике формальный и
материальный принципы. Для Шелера материальная ценностная этика связана,
например, с априорным ранговым порядком систем качеств (названных
Шелером «ценностными модальностями»), т. е. с иерархией
материальных ценностей, в то время как для Канта основанием этики как
метафизики нравов является чисто формальная критика практического
разума и при этом проблематизация всяческих «данностей», т. е. принятых
за априорные иерархий неких ценностных систем, — при этом
сохраняется лишь абсолютная ценность личности и ее морального законат.
Шелер указывает на четыре такие «ценностные модальности»: 1)
ценностный ряд приятного и неприятного; 2) ценностный ряд витального
чувства, например, противоположности «благородного» и «вульгарного»
или же (чисто субъективного) «блага» и (объективной) «пользы»; 3)
область духовных ценностей, например, «прекрасного» и «безобразного»,
«правильного» и «неправильного» и т. д.; 4) «резко отграниченная» от
трех прочих систем качеств ценностная модальность святого и
/девятого 132. Согласно Шелеру, эти «ценностные модальности» и их ранговый
порядок принадлежат к априорной фундаментальной структуре
познания; тем самым они отличаются от нравственного закона, т. е. от пустой,
априорной формы морального употребления разума, обозначенной здесь
как «моральная логика» и направленной на материальные ценности. Но
эти формы моральной логики, порожденные мышлением, ориентирова-
С^ 262 ^Э
C^ VII. Метафизика свободы и simllltudo Dei [подобие Божие] '^Э
ны именно на материальные ценности; они позволяют нам познавать
эти материальные ценности и их ранговый порядок и дают нам
возможность свободно поступать в соответствии с ними ш.
«Моральная логика», конституирующаяся и выражающаяся с
помощью этих форм, укоренена в традиции «метафизики свободы» также
и тогда, когда она выходит за ее пределы и выполняет роль некоего
«моста». Материальные ценности и «ценностные модальности», напротив,
принадлежат другому «порядку» — «сущностному порядку». Это
становится понятным в случае подхода Шелера, ибо он со своим
феноменологическим перечислением априорных «ценностных модальностей»
вплотную приближается к четырем принципам платоно-аристотеле-ре-
алистической традиции, делающим возможным познание134. Так, никто
не станет сомневаться в том, что чувственность (sensus) есть источник
восприятия «приятного» и «неприятного», равно как и в том, что
должен присутствовать рассудок или ratio, дабы можно было сознательно,
опираясь на разумные умозаключения, различать такие витальные
чувства, как «благородный» и «вульгарный», «польза» и т. д.; также сразу
ясно, что способность познания идей (intellectus) позволяет разделять
идеальное и неидеальное, т. е. красоту и безобразие, право и
несправедливость и т. п., — и вместе с тем именно реальность Бога (Deus) вообще
обосновывает различие категорий «святой» и «несвятой».
Метафизика сущности принадлежит «порядку» образа Божия, т. е.
imago Dei. Напротив, обрисованная в этой главе метафизика свободы
пребывает в «порядке» подобия, т. е. similitudo Dei. Моральность
опирается на оба «порядка», представителями которых являются Кант и Ше-
лер, — причем она выступает, соответственно, в первый раз главным
образом со своей формальной стороны, во второй — со стороны
материальной. А именно, с формальной точки зрения Канта, моральность
имеет свое основание в человеческой личности, и лишь в ней одной, тогда
как в случае материального подхода моральность если и не коренится
в Боге, то по меньшей мере имеет в Нем свой прообраз. Так как
моральная логика укоренена в метафизике свободы, в которой выражается
формальная сторона моральности, то возникает вопрос, какова
специфика этой моральности (именно как моральности), т. е. что такое
вообще моральность практического разума.
с) Моральность практического разума у Канта
Здесь уместно указать на то, что наша повседневная
речь, в которой с понятием моральности связано
морально правильное и этому понятию противостоит
аморальность, предполагает Кантово уточнение и
переосмысление этого понятия.
Тео Кобуш135
(2^ 263^5
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
Анализ практического разума привел Канта к формулированию
принципа автономии, т. е. свободы, и при этом также к мысли о царстве
свободы. Такой анализ обнаруживает то, что уже изначально лежит в основе
всякого поступка: это трансцендентальная свобода, которая сопутствует
воле, поскольку воля вообще содержит в себе лишь форму воления и
сама ограничена максимой доброй воли, наложенной на всеобщий закон,
что есть единственная закономерность разумного существа; в этом
смысле воля автономна»136. Но так как человек есть «трансцендентальное»
и одновременно чувственно физическое существо (или же, в терминах
Канта, интеллигибельный и эмпирический характер), то всеобщий
закон (который с трансцендентальной точки зрения есть не что иное, как
формулировка свободы и автономии, — «ибо это долженствование есть
<...> воление»137) в эмпирическом мире обнаруживает себя как
принуждение. Различию интеллигибельного и эмпирического характеров т
соответствует различие между желаемым и должным или же между свободой
и долгом. «С этой точки зрения метафизика нравов, которая тематизи-
рует оба вида должного или долга (т. е. нравственный и юридический
законы. — Μ. Ф.), предстает систематическим учением о предмете
воления и тем самым примыкает — под знаком критики — к великой
традиции теории entia moralia» ш. В этой традиции онтологии морального
бытия всегда уже проводилось различие между природной
необходимостью и событиями, имеющими свой источник в свободе. Кант заимствует
это различие, но «под знаком критики» его этики оно получает
следующий смысл: «Все, что зависит от свободы, называется в широком
смысле моральным или нравственным; при этом свободные поступки суть то
же самое, что и нравственные поступки. Но в узком смысле только те
поступки называются моральными, которые совершены в свободе в
соответствии с нравственным законом, ибо, напротив, те свободные поступки,
которые нравственному закону противоречат, называются
безнравственными или аморальными» ш.
Так как поступающий человек в докантовской традиции онтологии
морального бытия рассматривался как свободное существо, а его
поступки в силу этого — как свободные, они назывались нравственными
поступками. Но начиная с Канта имеет место следующее: благодаря
автономному происхождению нравственного закона человек вообще
впервые восходит в царство свободы, — именно таково Кантово понятие
просвещения как выхода человека из своего несовершеннолетия, в котором
повинен он сам. Отныне нравственно то, что согласно с этим законом
и удерживает человека в его автономном состоянии; напротив,
безнравственно то, что с этим нравственным законом не согласно и позволяет
человеку снова оказаться в состоянии несвободы. Именно принуждение
предохраняет от этого падения. Поэтому то, чем для интеллигибельного
е^ 264^5
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
характера является свобода, для эмпирического характера часто
оказывается принуждением и долгом.
Вся нравственность и мораль у Канта разворачиваются из
нравственного закона как закона автономии или просто свободы. При различении
двух форм метафизики — метафизики сущности и метафизики
свободы — это означает, что «моральная логика» происходит из традиции
«метафизики свободы», что она впервые была обоснована Кантом в качестве
собственно логики метафизики свободы, ибо Кант «вдел» нравственное
начало в «игольное ушко» нравственного закона или категорического
императива, которым разум конституируется в качестве практического.
Поскольку эта форма метафизики с ее совершенно особой традицией,
как выражается Кобуш, имеет своим предметом и заданием «открытие
личности», моральная логика, раз возникнув, может именоваться логикой
личности, т. е. личностной логикой, ибо в расчет принята ценность
личности. Поэтому она соотносима лишь с такими существами, которые
являются личностями. И так как люди суть личности, моральная логика — это
специфически человеческая логика^. Эта «моральная логика» Кантом
сразу выведена на некий определенный уровень. При продолжении
«раскрытия личности» в границах развивающейся метафизики свободы
делается по меньшей мере возможным дальнейшее развертывание этой
другой формы логики.
Выше было указано на то, что имеет смысл различать несколько
видов этики, — например, формальную этику Канта и критикуемые им
этику благ и этику цели, на месте которых Шелер возводит материальную
этику ценностей ш. Формальная этика коренится в метафизике свободы,
материальная ценностная этика — в метафизике сущности. Но так же
как постулаты формальной этики (у Канта — Бог, свобода, бессмертие)
относятся к сущности (как Бога, так и человека), т. е., в конце концов,
к imago Dei, — к сущности, для которой постулаты практического
разума образуют чистые формы, — аналогично «ценностные модальности»
и их иерархия в материальной ценностной этике Шелера связаны
непосредственно с личностным началом (т. е. с similitudo), которое
конституируется прежде всего через них. Поэтому Шелер называет свою этику
«персоналистической этикой»143. Так как человека следует
рассматривать в качестве поляризованного существа или в качестве единства
imago и similitudo, речь в конечном счете идет о соединении обоих видов
метафизики и при этом также о некоем третьем виде этики. Кант не сделал
и даже не помыслил этот шаг, — Шелером же, который предпринял
такую попытку, в полной мере не был осознан ее метафизический фон144.
Если бы Шелер различал отчетливее два полюса человеческого
существования, он уклонился бы от радикальной критики межличностной
формальной априорности и вместо этого смог бы расширить область
верно подмеченной им материальной априорности145. Подобное расши-
е^265^Э
(3^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
рение предполагает признание моральной логики как «системы форм
чистого практического разума».
Поэтому моральная логика обладает не только материальным, но,
прежде всего, и формальным аспектом, поскольку она вообще исходит
из трансцендентального анализа условий нравственности и
моральности автономного разума; только поэтому правомерно называть ее
«логикой». Но поскольку она относится к моральности как к своей «материи»,
ее легко отличить от чисто формальной логики, которую можно отнести
к являющемуся, следовательно, наличному бытию (phainomena).
Моральная логика как логика персонализированная относится к скрытому
поначалу, подлежащему осуществлению бытию (noumena) и при этом
указывает еще более непосредственно на связанную с ней «материю», чем
это имеет место в случае формальной логики ш, — иначе обозначение
«моральная» было бы здесь бессмысленным.
Кант придает личности статус ноуменальности; несмотря на это, он
не сходит с однажды избранного пути формализма (пути,
проложенного в плоскости феноменов, когда «вещь в себе» считается
недостижимой). Это имеет свои последствия для его учения о праве и, в частности,
для понятия естественного права.
6. ОТДЕЛЕНИЕ КАНТОМ ПРАВА ОТ НРАВСТВЕННОСТИ
В «МЕТАФИЗИКЕ НРАВОВ» И СОЕДИНЕНИЕ ИХ
В ФИЛОСОФИИ ПРАВА ГЕГЕЛЯ
Кантова теория — это основание для современного
понятия свободы, развитого, собственно, только у Гегеля.
Свобода обретает реальность в сфере общения лишь
благодаря этому понятию.
ТеоКобуши1
а) Внутреннее и внешнее законодательство по Канту
Кант остается верным своему формалистическому подходу также
и тогда, когда в метафизике нравов место анализа занимает синтез148.
Только так понятие ценности личности (ценность ее заключена в ее
свободе) становится центром критической этики. Но если автономный
разум сам служит себе законодателем, — когда человек сам восходит к
своему интеллигибельному характеру (который в царстве свободы находится
у себя дома) — тогда сферу нравственности легко отличить от сферы
права, хотя обе они связаны между собой через понятие свободы. Ибо
царство свободы следует понимать как чисто «внутреннее»,
интеллигибельное царство, тогда как сфера права регулирует преимущественно
е^ 266^3
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
«внешнюю» жизнь — отношения «эмпирических характеров» отдельных
людей. Поэтому Кант отделяет право от нравственности, причем законы
«внешней свободы» относятся к праву, а превышающие их этические
законы, являющиеся внутренним основанием поступка, относятся к
нравственности: юридический закон для Канта еще не есть закон
нравственный, поскольку первый проистекает из законодательства другого типа:
хотя это законодательство возводит в долг некий поступок, но оно не
требует того, чтобы этот поступок одновременно проистекал из долга, т. е.
автономно, в соответствии с нравственным законом. «С другой стороны,
этическое законодательство выдвигает дополнительное требование —
чтобы идея долга также представляла собой пружину поступка»149.
Возможно, Кант заимствовал это различение у геттингенского
профессора философии и правоведения Г. Ахенвалля, чьи труды он, как это
доказано, знал и использовал для своих лекций» 15°. В своих «Prolegomena
iuris naturalis» Ахенвалль представил ту точку зрения, согласно которой
следует различать внутреннее и внешнее обязательство. Внутреннее
обязательство — это добровольное подчинение моральному закону, который
не возводит в долг ничего такого, что человек не признает в качестве
моральной необходимости, т. е. обязанности следовать добру; напротив,
внешнее обязательство основано исключительно на внешне
санкционированном законодательстве151. «Но если следует различать эти два вида
обязательств, то неизбежно при этом понятие "права" или
"дозволенного" делается двусмысленным. Внешними законами может разрешаться
то, что с моральной точки зрения является недозволенным»152. Эта
двусмысленность выражается в том, что теперь можно различать сферы
«легального» и «морального». «Тем самым оказывается подготовленным
в основных чертах, содержательно и терминологически, Кантово
различение теории права и теории добродетели в рамках его метафизики
морального бытия»153.
Возможно, в своих воззрениях Ахенвалль примыкал к Христиану То-
мазиусу154. Для Томазиуса справедливость (iustum) состоит в
установлении и соблюдении тех условий, при которых вообще возможно
человеческое общение. Она определяется как чисто отрицательное предписание:
«Не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы они делали тебе». Но
нравственность («decorum» и «honestum») для Томазиуса есть результат
положительного начала. Нравственность осуществляется тогда, когда
мы делаем для других то, что мы хотели бы, чтобы они также делали это
для нас; это чистый долг совести, который проистекает из внутренней
жизни человека и не относится к государству с его законами. «Поэтому
правовые предписания относятся только к внешнему поведению — делам
и поступкам, с внутренней же жизнью — мышлением, нравственностью
и религией — они не имеют ничего общего»155.
е^ 267 ^Э
(5^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^)
Право и мораль, однако, имеют между собой нечто общее, хотя из-за
«различного рода законодательства и соответственно — разных "пружин"
поступка»156 их следует различать: таким было воззрение Канта, ибо оба
они укоренены в понятии свободы. При этом право для Канта — это
«чистое понятие разума, которое относится только к внешней свободе
личности или скорее свободного, разумного существа, представимого
вообще только в некоей общине; поэтому соответствующая дисциплина
также называется метафизикой права или чистым учением о праве, хотя
с самого начала выражались сомнения в абсолютной "чистоте" этого
учения157. Мораль (или моральное в узком смысле слова), напротив,
относится к внутренней свободе поступка, которую следует допустить,
поскольку речь вообще идет о поступке ответственного субъекта»1Г>8. Итак,
нравственный закон дается самим человеком: свободный человек —
одновременно законодатель и адресат закона в одном лице. Но правовой
закон предполагает существование в разных лицах законодателя и
адресата закона159.
Генрих Роммен указал на то, что это имеет особое значение для
естественного права, ибо у Канта оно сведено к понятию формальной
внешней свободы 16°. Здесь существенная причина того, почему Гегель,
который хотел преодолеть формализм Кантовой этики и заново, под знаком
критики, соединить нравственность и право, дабы тем самым обеспечить
абсолютную ценность личности также и в обществе, считал прусское
государство идеалом правового порядка, обеспечивающего свободу101.
Ь) Подтекст философии права Гегеля
До сих пор почти не замечали того, что философия
права Гегеля <...> находится в традиции метафизики
морального бытия. <...> Все современные
интерпретации, не замечающие этих связей, <...> не в состоянии
постичь специфического характера этого жанра.
Тео Ко6ушш
Кантова философия права одушевлена мыслью о том, что
автономная свобода личности, которая реализуется в выведении и признании
нравственного закона, достигает действительности лишь тогда, когда она
сосуществует со свободой и автономностью всех прочих человеческих
личностей. При этом сфера нравственности переходит в сферу права,
в которой свобода личности вливается в общую свободу всех членов
правового сообщества независимо от того, реализует ли каждый член
этого сообщества в себе самом нравственный закон или нет: к этому
нельзя принуждать, это также нельзя делать предпосылкой, так как
осуществление нравственного закона целиком принадлежит сфере свобо-
(^268^5
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Del [подобие Божие] ^Ξ)
ды, выражением которой он является. Разделение права и
нравственности является следствием всерьез принятой автономии личности, причем
Кантова трактовка различных областей права (частное, общественное,
международное право) отличается от традиционного учения
«указанием на интеллигибельные условия»163. Благодаря этому единое учение
Канта о праве принадлежит метафизике свободы (стоящей под знаком
критики, т. е. формализма), — так что, к примеру, собственность для
Канта — это отношение между лицами, государство — persona moralis, а
отношение между собой различных государств понимается как общение
автономных личностей. Тем самым Кантом было указано то
направление, которое вплоть до сегодняшнего дня определяет конкретные черты
и общую тенденцию разных школ философии права и правоведения ш.
Своей критикой человеческой способности познания Кант воздвиг
преграду для мощного потока просвещенских теорий человеческого
разума и естественного права, желая придать этому потоку определенное
русло; аналогичным образом критицизм, вызванный им к жизни, теперь,
со своей стороны, породил новый поток165. Этой тенденции, возникшей
из голого критицизма, можно было бы противостоять, если бы удалось
поддержать философию Канта и ее выводы с помощью убедительного
для всех единого наукоучения. Данной задаче посвятил себя Иоганн Гот-
либ Фихтеltiö. Основав свое «наукоучение» исключительно на «я»,
Фихте, конечно, сделал еще один шаг вперед в направлении «десубстанциа-
лизации» метафизики 167. Тем самым Фихте проложил путь молодому
Шеллингу и прежде всего — Гегелю, который в своем сочинении
«Различие систем Фихте и Шеллинга» подхватил возражения Шеллинга в
адрес Фихте и переработал их в собственной системе. Важный момент Ге-
гелевой критики Фихте заключается в том, что она направлена против
мнения последнего, согласно которому любое сообщество может
осуществиться только благодаря тому, что индивиды отказываются от своей
свободы. «Согласно Гегелю, так можно говорить только в том случае,
если свобода понимается как что-то "чисто отрицательное" или как
"абсолютная неопределенность"»168.
Во введении к своей «Философии права»169 Гегель противопоставляет
этому мнение, по которому свобода осуществляется лишь в сообщении
свободы, так что прежде всего ее следует четко отличать от произвола;
понятие свободы индивида у Фихте соответствует только произволу 17°.
Конечно, это различение присутствует уже в теории свободы Канта,
когда он говорит об эмпирическом и интеллигибельном характере171. В
отличие от Канта, Гегель предпосылает эмпирическому и
интеллигибельному характеру состояние бесхарактерности, под которым он понимает
волю, которая еще совершенно неопределенна, будучи направлена на
ничто. Это абстрактное состояние воли, в котором она не волит
абсолютно ничего, Гегель называет «свободой пустоты».
С^269^э
S** Часть II. личность и сущность ^е»
Такое состояние по сути покоящейся воли затем упраздняется, —
тогда, когда воля становится определенной, когда она волит «нечто», т. е.
направляется на некую цель. Лишь благодаря такому волевому
решению человек вообще делается индивидуальностью, характером, ибо
только «бесхарактерный человек никогда не приходит к решению»172.
Но если воля придала себе некое содержание, то тогда следует различать,
определяется ли она при этом инстинктами, вожделениями или
симпатиями. Если воля «поддается определенному природному инстинкту
под натиском пестрого многообразия», она является «принимающей
решения», т. е. действительной волей, но «она еще остается по эту сторону
разумного определения и выступает тем самым как чистый произвол» ш.
Итак, произвол принадлежит той области, в которой человек предстает
как эмпирический характер в смысле Канта, который еще не обитает
в царстве интеллигибельности или свободы, поскольку его воля при-
родно обусловлена. Для Гегеля воля на этой ступени выступает как
«природная воля», т. е. «воля вожделения или симпатии, — симпатии,
которая желает непосредственно данного, совершенно безразлично,
хорошо оно или дурно» т.
Правда, люди полагают, что они именно тогда в наибольшей степени
свободны, когда они целиком могут отдаться неограниченному
произволу; но, согласно Гегелю, это означает находиться в состоянии
наибольшей несвободы. Ибо человек свободен только тогда, когда он определяет
свою волю так, что она волит разумного. Но разумное — «проселочная
дорога, по которой всякий идет и никто не выделяется» — и есть сама
свобода175: «Так и воля истинна тогда, когда то, что она волит, ее
содержание, тождественно с ней, когда, следовательно, свобода волит
свободу»176. Хотя эта истинная воля, по сути дела, представляет собой не что
иное, как кантовский интеллигибельный характер, который движется
в царстве свободы, — Гегель, однако, называет в качестве условия того,
что такое царство прежде всего мыслимо и может осуществиться, не
только признание категорического императива в качестве автономного
нравственного закона177, но и признание Другого с его свободой. Правда,
категорический императив, и при этом осуществление свободы, также
требует блага Другого и, следовательно, блага для всех; но при своей
реализации категорический императив относится только к его субъекту;
напротив, Гегелево признание Другого только тогда считает
осуществившейся свободу, когда имеет место процесс сообщения этой свободы. Тем
самым Гегелева философия права оказывается внутри традиции
метафизики свободы на совершенно новой ступени по отношению к
критицизму Канта178.
Хотя метафизика воли, развитая Гегелем во введении к «Философии
права», еще близка Канту, однако Кантова позиция уже и здесь
оставлена. Это обнаруживается в трех последующих частях «Философии пра-
е^270^)
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
ва», где речь идет о ступенях осуществления идеи свободы, заявленной
во введении. Здесь происходит окончательный отказ от Кантовых
«суждения» и «познавательное™» 179.
с) Преодоление Гегелем познавательной робости критицизма
и последствия этого для метафизики свободы и развития права
Философия Гегеля появилась на фоне растущей
«познавательной робости» критицизма и связанного с этим
довольствования «малыми делами» специалистов, будучи
мощной реакцией познавательного мужества и
стремления к всеобъемлющему органическому знанию.
Валентин Томберг ш
Если никакой опыт не приводит к необходимому и всеобщему
познанию и при этом оказывается невозможной индуктивная, опирающаяся
на опыт метафизика; если, с другой стороны, необходимое и всеобщее
познание может быть получено только из категорий мышления, — тогда
существуют две возможности: или это «категориальное» познание
охватывает все мыслимое в настоящем и будущем, — или же оно также
иллюзорно, и необходимого и всеобщего познания вообще не существует.
Если признать возможность познания вне чувственной сферы, то
следствием этого станет преодоление границы «вещи в себе»,
установленной Кантом. Ибо только тогда, когда разум используется в его полном
объеме, обнаруживаются его действительные границы, — но не раньше,
не тогда, когда подобные самовольно установленные «границы
познания» являются препятствиями, парализующими и ограничивающими
сознание. Плодотворным и стимулирующим познание является отнюдь
не сомнение, а доверие по отношению к мыслительной силе. Ибо когда
мыслительные категории обладают свойством всеобщности и
необходимости, тогда им присуща не только субъективная, но и объективная
значимость, то есть они тождественны закономерности мирового свершения.
Диалектическое движение через тезис, отрицание тезиса (антитезис)
и снятие отрицания на более высокой ступени (синтез) представляет
собой тогда как существо мышления, так и существо мировой истории:
«Стихия наличного бытия всеобщего духа, который в искусстве есть
созерцание и образ, в религии — чувство и представление, в философии —
чистая свободная мысль, представляет собой во всемирной истории
духовную действительность во всем объеме ее внутренних и внешних
сторон»181.
Обсуждаемая со времен Средневековья противоположность разума
и воли, рационализма и волюнтаризма также преодолевается в
философии Гегеля, ибо мышление и воление тождественны: сначала дух — это
е^ 271 ^Э
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^>
интеллигенция; но он проходит по ступеням путь «от чувства через
представление к мышлению, — это путь порождения себя как воли,
которая в качестве практического духа вообще есть ближайшая истина
интеллекта» 182. Так что «те, кто рассматривает мышление в качестве особой,
своеобразной способности, отделенной от воли как столь же
своеобразной способности, и, более того, считает мышление вредным для воли
(особенно для доброй воли), <...> тотчас же обнаруживают, что они
абсолютно ничего не знают о природе воли»183. Как и в случае
противоположности субъективного и объективного, мышления и воли, также и
противоположность права и нравственности опять-таки снимается Гегелем,
ибо право и нравственность представляют абстрактным образом идею
воли, которая есть не что иное, как «вообще свободная воля, волящая
свободную волю*184.
Гегель отчетливо выразил это «воссоединение» права и
нравственности, сохранив значимость их формального разделения у Канта только
для некоей подчиненной области развития идеи свободы185. При этом
он проводит различие между собственно правом, т. е. действительностью
свободы мирового духа, находящего свое окончательное «воплощение»
в государстве, — и формальным правом «абстрактной» личности.
Личность — это основное понятие «абстрактного права», которое является
первой ступенью свободы, на которой свобода предстает лишь
«отрицательным образом», как возможность. Таким образом, личность человека
для Гегеля прежде всего — это не что иное, как бессодержательное,
простое отношение к самому себе, — или, что означает то же самое при
определении воли, — это голая воля, еще не постигшая себя и не ставящая
себе никакой цели186.
Это формальное или «абстрактное» право личности
противопоставлено моральности и отделено от нее, так как моральность уже
соответствует такому состоянию, в котором воля личности задает себе цель и тем
самым больше уже не соотносится исключительно с самой собой, но
соотносится со всеобщностью, — в частности, и тогда, когда эта последняя,
в конечном счете, обусловлена инстинктами и потребностями природы
человека. При этом человек становится ответственным homo moralis,
так как он выступает единственным виновником своих поступков и
направляет свой произвол не только на самого себя, но и на другого,
следовательно, на всеобщность187. Конечно, Гегель не остается на ступени
одной лишь моральности как субъективного определения свободы
(которое он подвергает критике): будучи верным своему принципу
объединения субъективного и объективного определения, он переходит на
следующую, более высокую ступень объективных форм свободы, тематизируя
при этом конкретные моменты традиционной метафизики свободы188.
Гегель считает, что эта объективная свобода достигнута в том случае,
когда ступени абстрактного права (как сферы личности) и моральности
(г^ 272 ^5
C5^ VII. Метафизика свободы и similltudo Dei [подобие Божие] ^ü)
(как сферы произвола)189 сняты на ступени нравственности (как
области объективного явления свободы). Ибо нравственное воление
индивида осуществлено лишь тогда, когда оно выражается в таких институциях,
которые благодаря переданной им власти противодействуют
склонности индивидуальной воли к произволу 19°. Но кто дает институциям эту
власть над субъективной индивидуальной волей и кто гарантирует то,
что они сами не впадут в тот произвол, который характерен для воли
индивидуальной? Согласно Гегелю, этого произойти не может, так как
они суть выражение нравственной воли индивидов и, следовательно,
конституируются как раз по ту сторону свободы как произвола, а «не
просто на основе межсубъектных отношений»191. Поэтому они, будучи
«образами субстанциальной воли, независимы от вторжений произвола.
Всеобщность институций оказывается "чуждой властью" лишь по
отношению к произволу, но не по отношению к нравственному человеку»192.
Эта власть, не чуждая, но знакомая нравственному человеку, есть сам
дух; поэтому нравственные институции, по Гегелю, суть действительные
законы свободы: «Они духовны, не случайны и не внешни, они —
природа чистого духа, который, конечно, поначалу приближается к нам
извне — посредством воспитания, образования и учения. <...> Поэтому им
подходит также определение "действующей мощи"»193. Эту значимость
Гегель усматривает в том, что институции эти признаны сознанием194.
Такое признание сознанием, вначале состоящее в том, что одна личность
признает другие личности («я только тогда истинно свободен, если и
другой также свободен и мной признается свободным»195),
трансформируется теперь в признание нравственной силы государства, которое тем
самым становится институцией, осуществляющей это взаимное
признание и вместе с тем учитывающей межсубъективный характер свободы:
«В государстве дух народа — нравы, законы — является
господствующим началом. Здесь человека признают и с ним обращаются как с
разумным существом, как со свободным, как с личностью; и каждый
отдельный человек, со своей стороны, делает себя достойным этого признания
тем, что <...> повинуется всеобщему, в-себе-и-для-себя-сущей воле,
закону, — следовательно, по отношению к другим ведет себя так, как
надлежит вести себя всем, — признает их тем, чем сам хотел бы быть
признанным, т. е. свободным человеком, личностью»196.
Поэтому для Гегеля право и свобода, достигшие своей высшей
ступени (т. е. когда в качестве их носителя выступает мировой дух),
совпадают 197. Следующая, более низкая ступень соотносит между собой право
(т. е. свободу) государств или «духов народов», которые «имеют свою
истину и назначение в конкретной идее, которая есть абсолютная
всеобщность, — в мировом духе; вокруг его трона они стоят, как свершители
его осуществления и как свидетели и краса его славы»198; на самой
низкой ступени затем пребывает свобода (или право) «абстрактной
личного 273 ^>
(^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^Э
сти», под которой Гегель понимает «особенного индивида, <...> волю
единичного в ее, свойственном ей произволе»199.
Три части «Философии права», однако, не следуют этому спуску,
возникшему из понятия права: последовательность их обратная — от
абстрактной свободы к свободе действительной. Поэтому здесь существуют
три сферы:
«1) сфера абстрактного или формального права, где личность
противостоит "непосредственной внешней вещи";
2) сфера моральности, где воля "как субъективная частность"
противостоит всеобщности ("отчасти как внутреннему, благу, отчасти как
внешнему, имеющемуся в наличии миру");
3) сфера нравственности как "единство и истина", т. е. синтез обоих
моментов частности и всеобщности ("так что свобода как субстанция
существует в той же мере, как действительность и необходимость, как
и субъективная воля")» 20°.
Сама нравственная субстанция также обнаруживается в различных
образах или на разных ступенях: вначале как «природный дух» в семье,
затем — «в своем раздвоении и явлении» — в гражданском обществе; но
свой собственный образ она обретает в государстве «как всеобщей и
объективной свободе, остающейся таковой и в свободной
самостоятельности особенной воли. Этот действительный и органический дух народа,
проходя через отношение друг к другу особенных духов различных
народов, получает действительность и открывается во всемирной истории
как всеобщий мировой дух, право которого есть наивысшее»201. Но при
этом государство есть субъект права в собственном смысле202. Личность,
напротив, является правовым субъектом только в сфере «абстрактного
или формального права», которое ограничено как бы треугольником
отношения одной личности к другой и обеих личностей ко «внешней
вещи». Поэтому заповедь абстрактного права гласит: «Пусть существует
личность, уважающая других в качестве личностей». В сравнении с этим
государство «есть действительность нравственной идеи —
нравственный дух как очевидная, самой себе ясная субстанциальная воля, которая
мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это
знает»203. Гегелевский апофеоз государства выражен в следующих его
знаменитых словах: «Государство <...> есть в себе и для себя разумное.
Это субстанциальное единство есть абсолютная, неподвижная самоцель,
в которой свобода достигает своего высшего права, и эта самоцель
обладает высшим правом по отношению к единичным людям, чья высшая
обязанность состоит в том, чтобы быть членами государства»2(М.
Подобно Канту, Гегель имел перед глазами в качестве прообраза
общественного порядка прусское государство, в котором, по его мнению, был
осуществлен нравственный идеал в области правовых отношений. Прусское
государство представлялось ему копией нравственного государства™;
е^ 274^5)
C^ VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] ^Э
в его глазах там «дух народа — нравы, законы — является
господствующим началом. Здесь человека признают и с ним обращаются как с
разумным существом, как со свободным, как с личностью; и каждый отдельный
человек, со своей стороны, делает себя достойным этого признания тем,
что <...> повинуется всеобщему, в-себе-и-для-себя-сущей воле, закону, —
следовательно, по отношению к другим ведет себя так, как надлежит
вести себя всем, — признает их тем, чем сам хотел бы быть» признанным,
т. е. свободным человеком, личностью206.
Гегель не мог догадываться о том, что спустя сто лет в городе, где
он преподавал, к власти придет правительство, будучи признанным
абсолютным большинством народа, — правительство, движимое не
«духом народа», но одержимое его демоном. Также не мог он догадываться
и о том, что это демонизированное государство нападет почти на все
другие европейские государства, станет атаковать все прочие «духи
народов» Европы, — чтобы подчинить их своей собственной идеологии.
Он не мог себе представить того, что, после того как такое государство
потерпит военное поражение и будет принуждено к безоговорочной
капитуляции, на сохранившейся, не утраченной в результате этой войны
территории бывшего прусского государства возникнет государство,
опирающееся на марксистски извращенную гегелевскую систему
(«поставленную с головы на ноги»), правительство и администрация
которого, заботящиеся о государственном суверенитете и признании, спустя
сорок лет будут смещены своим собственным народом, и все государство
окажется в роли несостоятельного должника. Во всяком случае,
население бывшей ГДР действовало в пользу тезиса Леонарда Нельсона, —
тезиса, который появился на свет в 1949 г., т. е. в момент основания ГДР,
в качестве критики «Общего учения о государстве» Еллинека. Согласно
этому тезису, «ни на чем не основанным и, как доказано, ложным
предположением является то, что продолжение существования государства
есть необходимое условие удовлетворения интересов членов этого
государства. Прекращение самостоятельного существования некоего
государства само по себе для его членов означает не что иное, как смену
администрации. Поэтому если мы исключим тех, кто заинтересован из-за
своего господствующего положения в государстве в продолжении его
существования, то нарушение интересов индивидов — или хотя бы их
высших интересов — отнюдь не необходимо (хотя и возможно)»207.
Эти слова кажутся комментарием ко вступлению новых земель в
состав ФРГ, т. е. в другое государство, которое было основано в 1949 г. на
немецкой земле. Упразднение ГДР подтверждает тезис Томберга:
«Ложный вывод, который лежит в основе учения о неограниченном
суверенитете государства, заключен в перестановке средства и цели.
Государство — это лишь средство для достижения цели — счастья его членов; оно
е^275^>
е^ Часть II. ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ^э
утрачивает свое значение, когда этой цели лучше служит другое
средство» 208.
Но, как сказано, Гегель имел перед глазами нравственное
государство; в его философии права не нашлось места для националистической
или сталинистски-коммунистической идеологизации и демонизации
государства. «Государства», основанные на интересах, противоположных
интересам гражданского общества, были для него лишь переходными
стадиями на пути к истинному государству, — это напоминает о
«хитрости разума» при воплощении мирового духа в нравственном
государстве. Но сегодня, после Освенцима и Гулага, государственный оптимизм
Гегеля можно было бы поддержать, лишь признав за чудовищный
цинизм ту «хитрость разума», которой он присягает.
То, что к метафизике морального бытия или свободы принадлежит
также тема идеологизации и демонизации личности (причем личности не
только природной, но также и юридической, общественно-правовой и
государственной), до сих пор в философии вообще детально не отрефлек-
сировано, — возможно, в обманчивой надежде на то, что вместе с
продолжающейся десубстанциализацией сами по себе прекратятся и прорывы
безумия. Кобуш также молчит на этот счет. Конечно, тема эта
присутствует в ответе Шеллинга Гегелю209, но его усилия не были с достаточной
серьезностью восприняты и поддержаны в философии. Вместо этого
тема демонизации и безумия в ходе XIX века была переадресована
психиатрии, отделившейся от философии в особую науку, а позднее также
психологии и глубинной психологии210. Так произошло то, что случай
Ницше, который — вопреки (или как раз благодаря) радикальной
критике со стороны Ницше морального бытия — следует отнести к
традиции и к судьбе метафизики свободы211, сделался психиатрическим
случаем, отмеченным чертами патологии.
7. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Описанная в данном исследовании метафизика свободы (или
«открытие» личности) является совершенно особым метафизическим
направлением, которое возникло в XIII веке и развивалось на протяжении
последующих столетий Нового времени. С этим развитием был связан
ступенчатый процесс «десубстанциализации»: происходила постепенная
смена платоно-аристотелевской метафизики Средневековья, которую
можно назвать метафизикой сущности. Было показано, что личность
человека соотносима с тем, что в средневековой платонической
метафизике и теологии называли similitudo, или подобием. Сущность человека
соответственно соотносится с imago, или образом. Появление
«личности» происходило на фоне затемнения «сущности». На основе сравнения
С% 276 ^
(?^ VII. Метафизика свободы и slmllitudo Dei [подобие Божие] ^9
философии права Томберга, ориентированной скорее на
субстанциальную онтологию, с ориентированной на личность позицией Кобуша было
показано, что можно говорить прямо-таки о постепенном «поглощении»
imago со стороны similitudo, которое было подготовлено в
средневековой философии номинализма и затем осуществилось под знаком
субъективности в философии Нового времени. Драматизм затемнения и
«поглощения» сказывается в разрушении многоступенчатого томистского
права и особенно в «судьбе» естественного права, — вплоть до его
полного затемнения в современном правовом позитивизме.
У Гегеля эта десубстанциализация бытия и преобладание
становления (т. е. динамизм воли) достигает критической точки: с одной стороны,
в его определениях ступеней свободы и нравственного бытия был
принят во внимание межсубъективный характер свободы; с другой стороны,
Гегель развивает свою систему еще полностью в категориях субстанции
и акциденции, используя и прочие категории, принадлежащие
субстанциальной онтологии или «метафизике сущности». Отсюда могут
исходить лишь два пути: или происходит отказ от последних предпосылок
субстанциальной онтологии (и вместе с этим — от последних следов
imago Dei), что имело место в случае различных персоналистских и
позитивистских (в области права) подходов, прежде всего, XIX века; или
же ставится вопрос, какие изменения должны произойти с радикальным
персонализмом, если он склонен примириться с сущностной стороной
человека или с imago Dei. Подобная попытка привела бы, между
прочим, к совершенно новому, освобожденному от
субстанциально-онтологических предпосылок образу Божию, впоследствии, однако, их вновь
обретающему. При этом имеет большое значение тот факт, что, согласно
концепции Гегеля, свобода обладает «межсубъектным характером»212:
если Кобуш указывает в связи с концепцией межсубъектной свободы на
разумное добровольное ограничение личностью ее собственной свободы,
то есть на самоограничение как на основание для свободы Другого213, —
то прообраз этого, принадлежащий области Божественной Личности
и откровения ее свободы, можно искать в соответствующем акте
Божественного самоограничения214.
Исходя из этого первоначального акта Божественного
самоограничения, может возникнуть затем совершенно новая метафизика, в которой
преодолены и одновременно сняты односторонности средневековой
метафизики сущности и метафизики свободы (или личности) Нового
времени. Также и для этого основание заложено Гегелем тогда, когда он
включает в свою систему разделы субстанциальной онтологии. В этом
Гегеля упрекает современная критика, указывая на то, что в его системе
вновь появляется субстанциально-акциденциальная схема классической
метафизики. В действительности эта схема лежит среди прочего в
основе различных, отныне секуляризированных ступеней свободы в его «Фи-
е^ 277^9
Сг^ Часть II. личность и сущность -«э
лософии права», а также в основе представленных в ней же идей
международного права (отношения между государствами, война и т.д.)215.
Хотя Кобуш в этом смысле защищает Гегеля от современной критики,
когда она выступает против Гегелевой концепции абсолютного духа216,
тем не менее он признает, что «в одном эта критика, разумеется, права:
Гегель сам ставит под вопрос единство и всеобщий характер своего
учения о нравственном бытии как межсубъектной реальности — тем, что
применяет старую субстанциально-акциденциальную схему. Однако
критика эта не оригинальна. Она просто повторяет то, что в последнем
столетии служило некоему новому жанру в качестве критической отправной
точки для нового понимания им нравственного бытия: а именно,
служило спекулятивной этике и историке (Historik). Это новое, уже больше
не стоящее под знаком субстанциальной онтологии понятие
нравственного бытия было эксплицировано, конечно, лишь в различных
философских направлениях XX века, которые предоставляют почти все ответы на
ту критику, которая выдвигалась — особенно в XIX в. — против
метафизики свободы»217. Кобуш разумеет под этим в первую очередь критику
немецкого идеализма у И. Г. Фихте, И. П. В. Трокслера и Г. М. Халибой-
са, а также критику понятия личности у Шопенгауэра и
«Фундаментальную критику всеобщей морали» Ницше218. И. Г. Фихте, Трокслер,
Халибойс и другие представители так называемого «спекулятивного
теизма», однако, уже больше не принадлежат к вышеописанной
метафизике свободы: они принадлежат к совершенно иной, вышеупомянутой
философской традиции, которая восходит к позднему Шеллингу и
начинает формироваться в ходе XIX и в первой половине XX века.
Этой новой метафизической традиции плодотворные импульсы
сообщили прежде всего русские софиологи Соловьев, Флоренский и
Булгаков. Метафизическую ориентацию, связанную с этими импульсами,
можно обозначить выработанным ими понятием «софиологии».
Важнейшим для софиологии является специфический подход к антропологии,
осмысленный в богословски-философском ключе. Соловьев заложил
основы такой антропологии и установил направления ее развития.
Следующая глава и будет посвящена антропологии Соловьева,
являющейся фундаментом софиологии.
Часть III
СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ]
ЛВУХ ПУТЕЙ
СОФИОЛОГИЧЕСКИЙ ВКЛАД
В ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИЛЕММЫ ФИЛОСОФИИ
Магия Креста, алхимия, которая действует в «браке
противоположностей», есть поэтому единственная
надежда для мира, человечества и для их истории.
Anonymus d'Outre Tombe *
* Anonymus d'Outre Tombe (Валентин Томберг). Die Grossen Arcana des Tarot.
Meditationen. Freiburg; Basel; Wien, 1983. S. 498.
VIM
СОФИОЛОГИЯ КАК МЕТАФИЗИКА СВОБОДЫ
Понятие Богочеловечества у В. Соловьева
Нельзя отрицать того, что нынешней эпохе присущ
некий великий порыв. — Старое прошло и таким, каким оно
было, вновь возвратиться не может! <...> В Германии
распространилось сказание, пришедшее сюда из Франции, —
будто на место христианства должно заступить нечто
новое. Однако можно задать встречный вопрос: а постигли
ли вы христианство? и как [вам это удалось], если
философия только начинает открывать его глубины?
Ф. В. Й. Шеллинг1
Для самоотрицания необходимо предварительное
самоутверждение. <...> Если западная цивилизация имела
своею задачей, своим мировым назначением осуществить
отрицательный переход от религиозного прошлого к
религиозному будущему, то положить начало самому этому
религиозному будущему суждено другой исторической силе.
Владимир Соловьев2
1. ВВЕДЕНИЕ: «СВЕРХЧЕЛОВЕК» НИЦШЕ
И СУМЕРКИ МЕТАФИЗИКИ СВОБОДЫ
предыдущих главах речь шла о возникновении метафизики
свободы и современного образа человека из воззрений
Средневековья и Нового времени. Было указано на то, что данный тип
метафизики является результатом двойственного процесса
десубстанциализации, который начался в Средние века в связи
с пересмотром христианских воззрений и, соответственно, с постепенным
упразднением аристотеле-платоновской онтологии субстанции и
продолжился упразднением высших ступеней права, повлекшим за собой
переоценку и девальвацию естественного права. Применяя понятия imago
и similitudo, описанные в главе V, этот процесс десубстанциализации
С^281 ^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^D
можно назвать «поглощением» субстанции (imago) со стороны similitu-
do. Затемнение imago сопровождается появлением на первом плане
similitudo, т. е. «открытием личности».
В главе VII было указано на связь между возникновением и развитием
в Новое время метафизики свободы, с одной стороны, и переходом от
теоцентризма к антропоцентризму — с другой. Сосредоточение на воле
человеческой личности, — воле, рассматриваемой как esse morale и
источник свободы, — конечно, таит в себе опасность апофеоза безбожного
человека, которая обретает реальность тогда, когда человеческая воля
полагает себя абсолютной не только теоретико-методически, но и экзис-
тенциально-практически. До этого конечного результата в своих
философских экспериментах дошел Ницше. Безбожный человек появляется
у него в облике сверхчеловека, который утверждает свою свободу,
следуя лишь собственной воле к власти.
Кобуш включает Ницше в традицию метафизики свободы как раз по
причине его фундаментальной критики морального бытия,
распространяющейся на все аспекты данной традиции. Так, Ницше критикует
понятие личности, когда, возвращаясь к античным представлениям,
понимает личность в качестве маски. При этом, правда, он заходит так далеко,
что приписывает одному и тому же человеку несколько разнящихся
между собой личностей, поскольку тот может в течение жизни носить
разные маски3. Традиционное понятие уважения он переосмысливает,
заменяя его волей к власти4. Кобуш полагает, что Ницше
противопоставляет метафизике морального бытия некий другой тип метафизики
с помощью «редукции морали к эстетике»5 и примата воли к власти:
«Если поразмыслить <...> о том, что Ницше имел в виду в связи с этим
заголовком не философские дисциплины в строгом смысле слова, а
метафизическую деятельность соответственно морального оценивания
и эстетического оценивания, то становится очевидным, что речь идет
о противопоставлении двух типов метафизики. <...> Также Ницше
прямо назвал творчество и искусство "метафизической деятельностью".
Воля к творчеству, т. е. воля к иллюзии (zum Schein), к становлению,
к перемене, "имеет здесь более глубокое, изначальное, метафизическое
значение, чем воля к истине, к действительности, к бытию"6. <...>
Поэтому учение Ницше о воле к власти не может рассматриваться ни как
продолжение другими средствами метафизической традиции,
отказывающейся заниматься существующим как таковым, ни как универсальная
критика метафизики»7.
Фоном для фундаментальной критики морального бытия со стороны
Ницше служит вопрос: должна ли воля личности (последний и
собственный источник метафизики свободы) всегда и неизменно быть
моральной (или, в данном случае, аморальной), — или же о природе воли
никакого предположения, затемняющего ее собственное существо, не
е^282^5
<c^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
принимается? В этом последнем случае воля не была бы ни моральной,
ни, соответственно, аморальной, — но скорее внеморальной,
пребывающей «по ту сторону добра и зла», — такой, которая нуждается в очистке
от всех приписанных ей в ходе истории качеств и определений, чтобы
впервые в истории ей самой явиться на свет с невинностью ребенка.
Поскольку такая воля отказывается от любого постороннего
определения, она не может ни принадлежать какой-либо традиции, ни быть
просто волей к критике; последняя есть лишь предпосылка для того, чтобы
воля могла утверждать себя в качестве свободной, творческой воли8.
В этом отношении учение Ницше о воле к власти представляет собой
в действительности высшую точку или — с моральной точки зрения —
наиболее глубокий аспект метафизики свободы, что одновременно
указывает на ее «сумерки» и на переход к некоей другой метафизике. Ибо
в тот самый момент, когда однажды в рамках традиции метафизики
свободы возникло воззрение (оно обязано было возникнуть, это
обусловлено «логикой» развития свободы), которое приняло настолько всерьез
обсуждаемый там предмет — свободу, что восстало против своей
собственной традиции во имя того, чтобы утверждать в абсолютном смысле
свободную волю личности, — волю, не зависящую ни от какой традиции
(в том числе и от традиции метафизики свободы), — эта традиция и тем
самым метафизика свободы в принципе оказались под вопросом.
Таково было значение Ницше.
Если свободная воля, esse morale, полагается с экзистенциальной
абсолютностью, то вне нее самой не может существовать никакой
инстанции, которая определяет волю в ее действиях, т. е. в ее морали, ибо воля
всякой подобной инстанции определялась бы извне и утрачивала бы
свою безграничную автономию. Для старой метафизики и для
христианства этой инстанцией был Бог. Для доведенной до конца антропоцент-
ричной метафизики свободы Бог поэтому делается совершенно
ненужным, — и это в конечном счете означает, что Его существование в глазах
человека, определяющего себя полностью самостоятельно, делается не
просто сомнительным, но сознательно отрицается, что выражено в
культурологическом и одновременно исповедальном высказывании Ницше:
«"Где Бог?" <...> Мы его убили»9. Для Ницше смерть Бога — это не
только методологическое, а также и не чисто метафизическое, но
экзистенциально реальное следствие фактического упразднения в глазах
человека какой бы то ни было высшей реальности. Если человек согласен с этим
упразднением, желает его, тогда он приходит к осознанию высочайшей
реальности. Он вступает на тропу, ведущую к сверхчеловеку, который
сам задает себе путь и цель, — в отличие от «филистерски»-буржуазного
человека, подчиняющегося закону гетерономной рабской морали
большинства. Сверхчеловек — это тот, кто усвоил урок до конца
продуманной и экзистенциально воспринятой метафизики свободы и расчистил
С^283^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^)
с помощью «философствования молотом» верховное место в центре
предшествующей метафизики, занятое метафизическими
предрассудками и интересами, — расчистил с тем, чтобы самому воссесть на это
опустевшее место, т. е. сделать себя Богом. Сверхчеловек, которого наставляет
«Заратустра» Ницше, есть в буквальном смысле слова поставленный во
главу угла результат односторонне понятой метафизики свободы, в
которой затушевана связанная с ней философия личности, как она
выражена в формулировках и практике взаимного признания людьми друг
друга и в проистекающих оттуда правах человека. Ницше ставит эти два
последних понятия под вопрос, так как, по его мнению, это взаимное
признание и вытекающие из него личностные правовые отношения
следует относить к традиции определения [личности] извне, как созданные
и утвержденные для того, чтобы удерживать в плену у гетерономной
рабской морали потенциально свободного, творческого человека и тем
самым препятствовать достижению действительной цели человеческого
развития.
Заслуга Ницше с его последовательной ориентацией исключительно
на один из двух полюсов человеческого существования — на подобие,
утратившее характер трансцендентности, или на личностную волю к
самоутверждению, самоосуществлению и власти, которые в отеческой
традиции рассматривались как признаки dissimilitudo, — состоит в том, что
всевозможные, также и трагические плоды его устремлений показали
следующее: это одностороннее выпячивание и связанное с ним
осуществление идеала безбожного человека в качестве последней цели
метафизики свободы экзистенциально выдержать невозможно. Трагическая
судьба Ницше учит ясно и однозначно: пока некая метафизика,
следующая за метафизикой свободы, считается исключительно со смертью
Бога и не считается с Его воскресением, она — а вместе с ней и человек,
который пытается ее применить экзистенциально и жить в соответствии
с ней, — обречены на крушение. Владимир Соловьев, русский
современник Ницше, попытался сделать отсюда выводы. При этом развитие
метафизики в Новое время предстало пред ним в ином свете.
2. БУДУЩЕЕ МЕТАФИЗИКИ СВОБОДЫ ПО СОЛОВЬЕВУ
Как показано в главе VII, основная черта метафизики свободы
заключалась в том, что с переходом от теоцентризма к антропоцентризму
связь с религиозным принципом в ступенчатом порядке ослаблялась.
Смысл такого развития состоял в открытии в качестве морального
бытия — автономной, свободной личности. Всякое дальнейшее развитие
метафизики свободы должно так или иначе считаться с этим
достижением: оно должно происходить при сохранении личностного, правового
е%284^)
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^)
и общественного сознания Нового времени, — следовательно, в
перспективе свободы, равенства и братства — тех идеалов Французской
революции, в которых выразилось требование прав человека и метафизика
свободы в некотором роде достигла своей наивысшей точки. Попытка
преодоления этого типа метафизики должна поэтому исходить из этой
точки, если возврат на более раннюю ступень развития философского
сознания не представляется желательным.
Соловьев, посвятивший себя этой задаче преодоления, поэтому
предпринимает обсуждение трех идеалов Французской революции в своих
«Чтениях о богочеловечестве». Разумеется, в отличие от
революционеров-якобинцев, он стремится к новому воссоединению с безусловным
(религиозным) началом: «Так как безусловное начало, по существу
своему, не допускает исключительности и насилия, то это воссоединение
частных сторон жизни и индивидуальных сил со всецелым началом
и между собою должно быть безусловно свободным] притом все эти
начала и силы, каждое в своих пределах, в пределах своего назначения или
своей идеи, имеют равное право на существование и развитие. Но так
как все они соединены в одно общее безусловное целое, к которому все
они относятся как различные, но одинаково необходимые элементы, то
они представляют между собою полную солидарность, или братство.
Таким образом, с этой стороны религиозное начало является как
единственно действительное осуществление свободы, равенства и
братства» 10.
По мнению Соловьева, цель западноевропейского развития
сознания — это воссоединение с религиозным началом. Соответствующая
этому философия может быть осмыслена в качестве превозмогшей
собственные пределы метафизики свободы, — разумеется, лишь в том
случае, если в ней раскрываются силы, действующие в глубинах метафизики
свободы, а ее три столпа (устройство природного состояния,
представление общественного состояния и научное обоснование права)
заменены по крайней мере столь же устойчивыми опорами, которые отвечают
развитию сознания в Новое время. Софиологическое направление
мысли, основанное Соловьевым, а в области правоведения поддержанное
Томбергом, указало путь к выполнению этих требований.
а) Глубинные источники метафизики свободы по Соловьеву
Исходя из результатов метафизики свободы, Соловьев придает
личности и ее автономной воле принципиальное значение. Но поскольку
он хочет обрести смысл развития сознания в Новое время через
воссоединение человеческого и Божественного начал, он ищет условия для
принципиальной переориентации автономной человеческой воли. Он
полагает, что к чаемому воссоединению с религиозным началом прийти
е^ 285 ^Э
e^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ «Э
невозможно, если свободная личность будет безудержно утверждать
свою волю, то есть, в конечном счете, — волю к власти в понимании
Ницше. Это воссоединение сможет произойти только тогда, когда личность
свободно откажется от утверждения своего эгоизма, т. е. ограничит
себя. Отказ от утверждения своеволия ради предоставления свободы
другим обсуждался уже в метафизике свободы. Можно даже сказать, что
самоограничение в качестве условия межличностного осуществления
свободы было одной из основных — если не основной темой
метафизики свободы.
У этого отказа есть горизонтальное измерение: или он исходит от
одной личности, с тем чтобы при этом другие личности обрели свою
собственную свободу, или же ему следует исходить от нескольких лиц —
в пользу некоего личностного сообщества (например, государства). Что
же происходит, если вместо межличностных отношений людей в поле
зрения вновь оказывается вертикаль отношений между человеком и
Богом, умаленная в метафизике свободы и в конце концов полностью
выпавшая из рассмотрения? Также и в этом случае человеческая личность
должна отказаться от безграничного утверждения своей воли ради
воссоединения с Божественным началом.
Конечно, этого самоограничения недостаточно: оно является лишь
необходимой предпосылкой встречи с Божественным началом. Сама
встреча может совершиться только тогда, когда на человеческое
обращение происходит ответ с Божественной стороны. Условием этого служит
то, что Божественное начало понимается в соответствии с
представлением о личности в Новое время: если одна личность признает
достоинство и свободу другой, отказываясь от утверждения своей собственной
неограниченной свободы, то также и творческое Божественное «начало»
должно мыслиться так, что оно отказывается от своей абсолютно
утвержденной свободы во имя того, чтобы сделать прежде всего возможной
человеческую свободу и утвердить достоинство человеческой
личности. Чтобы человеческая личность смогла осуществиться и реализовать
свою свободу, Бог обязан предоставить ей пространство с помощью
самоограничения и тем самым снабдить ее достоинством. Согласно этому
предположению, человеческому отказу от безграничного утверждения
собственной воли всегда уже предшествует отказ Бога от абсолютного
утверждения Своей воли и сущности.
Философская возможность подобного изначального отказа
Божественного начала от всемогущества, вездеприсутствия и всезнания
обсуждалась в первой части данной книги в связи с понятием цимцума.
Пока современное сознание не согласится с тем, что эта тайна может
пониматься не только как условие для творения, но также и как ключ
к действию Бога в истории, оно пребывает в неведении относительно
условия своей собственной автономии. Автономная личность,
пришелся 286^3
C5^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
шая к себе самой, пройдя через историческую ступень Просвещения,
нуждается поэтому в некоем втором, качественно совершенно ином
будущем Просвещении. Ибо если метафизика свободы, которая на
вершине своего развития согласилась с отказом личности от безграничного
утверждения своеволия ради признания и осуществления свободы
других личностей, действуя при этом с помощью вытеснения Божественного
начала — то теперь она должна принять в расчет то, что это вытеснение
мысленно уже предваряется свободным отступлением Божественного
начала.
Анализ Ницше того обстоятельства, что современное человечество
убило Бога, в данном случае не означал бы, что человеческое сознание
убило некоего «Бога», сопротивляющегося этому, но скорее означал бы
то, что оно само зависит от жертвенного деяния Бога — свободного
Божественного отступления, предваряющего всякий человеческий порыв
к эмансипации, будучи условием осуществления человеческой
личностной свободы.
Гипотеза Божественного самоограничения объясняет, почему
человеческая личность в принципе имеет возможность активно отрицать
Божественное начало: подобное отрицание потому является свободным
выбором с реальными последствиями, что Божество допустило эту
возможность посредством самоограничения и не вмешивается в свободный
выбор и его последствия. Поэтому на фоне тайны цимцума
метафизика свободы, вытесняющая Божественное начало, предстает совершенно
в ином свете. Ибо при этом Божественное самоограничение
(Божественное отступление как общее условие свободы) действовало бы в недрах
современного развития сознания, приводя его лучших представителей
к признанию того, что отказ — это предпосылка и условие развития
свободы и осуществления личности другого, — равно как и подлинного
сообщества личностей. Соловьев исходит из этой силы, действующей
в недрах сознания Нового времени и в его философском выражении —
в метафизике свободы. Он называет эту силу любовью. Только любовь
может вывести человека из его ложного самоутверждения: «Любовь как
действительное упразднение эгоизма есть действительное оправдание
и спасение индивидуальности. Любовь больше, чем разумное сознание,
но без него она не могла бы действовать как внутренняя спасительная
сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только
благодаря разумному сознанию (или, что то же, сознанию истины) человек
может различать самого себя, т. е. свою истинную индивидуальность, от
своего эгоизма, а потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви,
он находит в ней не только живую, но и животворящую силу и не теряет
вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное существо, а, напротив,
увековечивает его. <...> Смысл человеческой любви вообще есть
оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма» и.
е^287^Э
C^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^)
Любовь для Соловьева есть «самоотрицание существа, утверждение
им другого, и, однако, через это самоотрицание осуществляется его
высшее самоутверждение»12. Иными словами: благодаря тому, что ради
осуществления и признания другого я ограничиваю свой порыв к
самоосуществлению и сдерживаю свой эгоизм, я не только способствую
самоосуществлению другого, но и ощущаю также то, что я воистину пришел
к самому себе. Напротив, абсолютно полагающая себя эгоистическая
воля как любовь исключительно к себе самому, не знающая никакого
самотрансцендирования, основана на ложном понимании любви.
Поэтому эгоизм не приводит также к действительному самоутверждению, ибо
последнее достижимо только в самоотрицании13. Итак, эгоизм обречен
на неплодотворное, на не приносящее удовлетворения стремление к
недосягаемому самоутверждению; поэтому он является не только
причиной зла, но и источником всякого страдания14. «Вертикальный отказ»
есть условие «горизонтального отказа»: только та личность, которая
через добровольное самоограничение перед лицом Божественного начала
пришла к себе самой, может также совершить действительное отречение
в пользу другой личности, признав ее достоинство, — разумеется, с той
разницей, что при горизонтальном отказе возникает возможность для
свободы другого, который признается в его достоинстве, — в то время
как при вертикальном отказе, напротив, такой возможности свободы
и морального бытия другого — Бога — не возникает, но субъект отказа
через этот акт прежде всего приходит к самому себе и к своему
истинному существу.
Такой добровольный отказ предполагает, что есть от чего
отказываться. Чем сильнее собственная воля, тем выше подвиг отречения: чем
больше утверждается голое субъективное начало, тем в большей мере может
выразиться сила и плод любви, если субъективизм преодолевается в
самоотрицании и субъективное начало свободно подчиняется началу
Божественному 15. Наибольшее значение отказ приобретает тогда, когда
субъект отказа целиком и полностью стоял на позиции эгоистической
воли, т. е. когда была пройдена ступень абсолютно положенного,
утвержденного и пережитого субъективного начала. Это необходимо также
и потому, что человек, как правило, в состоянии добровольно встать на
новый путь лишь тогда, когда он из опыта осведомлен о хрупкости и
неустойчивости безграничного утверждения эгоизма16.
Сила, с помощью которой побеждается злое начало, по мере его
преодоления развивается. Эта сила, однако, обязана вызвавшей ее силе
противоположного начала не своим качеством, а внутренней крепостью17.
Но если крепость любви обнаруживается и осуществляется также в том,
что абсолютное самоутверждение, как источник зла, переводится из
актуального состояния, т. е. реальных поступков и действий, в состояние
потенциальности, так что с абсолютностью утвержденное человеческое
(г^288^
Сг^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
начало устраняется, подчинившись верховному Божественному
началу, — то это не означает, что личностная воля остается в пренебрежении
и впадает в состояние гетерономии. Под «подчинением» Соловьев
понимает отнюдь не порабощение. Скорее в этом подчинении (которое есть
добровольное самоотрицание, проистекающее из прозрения в сущность
и деятельность высшего начала) субъект, с одной стороны, вообще
впервые восходит к себе самому и оправдывается, а с другой — он создает
предпосылку для того, чтобы в нем принялось действовать высшее
начало.
Ь) Антропологические предположения
Это свободное подчинение и сделавшееся благодаря ему возможным
свободное взаимодействие в любви Божественного и человеческого
начал есть следствие ступенчатого вмешательства Божественного начала
в историю человечества. Соловьев называет три способа воздействия
Божественного начала на начало человеческое, которое отделилось от
Божественного и утверждается на своей собственной воле. Эти мысли
Соловьева связаны с его антропологическими предположениями,
которые выходят за пределы понимания в метафизике свободы природного
и общественного состояния человека.
Согласно Соловьеву, «вообще человек есть некоторое соединение
Божества с материальною природою, что предполагает в человеке три
составных элемента: божественный, материальный и связующий оба,
собственно человеческий»t8. Только совместность этих трех элементов
образует действительного человека, «причем собственно человеческое
начало есть разум (ratio), т. е. отношение двух других»19.
Соответственно этому человек может находиться в Божественной сокрытости, в
материальном природном состоянии, но также и в состоянии духовном,
поддерживающем свободное равновесие между двумя другими
состояниями20. Если предположить, что эти состояния в ходе человеческой
истории реализуются последовательно, то в принципе можно выделить
в развитии три эпохи: первобытное состояние; природное состояние и
духовное состояние человека. В рамках метафизики свободы имели дело
только с природным состоянием человека, приписывая ему, к примеру,
невинность и самодостаточность (Руссо), альтруизм и благоговение
(Локк) или же радикальный эгоизм (Гоббс). Итак, Соловьев со своими
антропологическими предположениями выходит за пределы постулатов
метафизики свободы. Если в этой последней (исходя из некоего
гипотетического природного состояния и перехода к гражданскому и
нравственному состоянию) различались природное существо человека и его
нравственное бытие (esse morale), то Соловьев допускает
предшествующее природному некое религиозное первобытное состояние, так что це-
С^289^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ «5
лью исторического процесса оказывается не одно только достижение
свободной, автономной, нравственной личности в нравственном
коллективе, но также и (в первую очередь, в качестве кульминации всего
процесса развития) свободное воссоединение с религиозным началом, от
которого человек отделился по собственному свободному решению,
выйдя из первобытного состояния.
с) Первобытное состояние в понимании Соловьева
Учение Соловьева о первобытном состоянии человека представляет
собой современную версию изложенного в главе V учения о человеке как
образе и подобии Божием, причем философ усвоил и модифицировал
выдвинутые в последней трети XIX века эволюционные идеи, а также
учение о Мировой душе и философию мифологии Шеллинга. В главе IV
было изложено учение Соловьева о Софии и проведено его сравнение
с воззрениями Шеллинга. При этом не было предпринято описания
отдельных фаз мирового процесса, являющегося результатом сизигическо-
го отношения Софии и Бога. Поэтому здесь нам хотелось бы их вкратце
представить.
Соловьев рассматривает мировой процесс как последовательные
стадии взаимодействия Божественного Логоса с Мировой душой, в недрах
которой действует стремление к такому всеединству ее порождений,
которое уже реализовано в Божественном Логосе. Результатом этого
является космогонический процесс — выражение взаимодействия акта
(Логоса) и потенции (Мировой души)21. Так, между прочим, происходит
образование нашей Солнечной системы и органических форм на Земле.
Отдельные природные царства возникают в качестве все новых внешних
соединений Божественного Логоса с Мировой душой и в качестве
внешних проявлений Божественной идеи (всеединства) в природном мире.
В ходе этого космогонического процесса Божественное начало,
Логос, все более тесно соединяется с Мировой душой. В конце концов
развитие приводит к образованию человеческого организма, и после того
как таким образом внешняя оболочка для Божественной идеи создана,
эта идея (в качестве начала внутреннего всеединства) переходит на
качественно совершенно новую ступень развития: в человеке Мировая
душа и Божественный Логос впервые соединяются внутренне, благодаря
чему становятся возможными сознание всеединства и свобода
поступков. Ибо, «будучи реально только одним из множества существ в
природе, человек, в сознании своем имея способность постигать разум или
внутреннюю связь и смысл (λόγος) всего существующего, является в идее
как все и в этом смысле есть второе всеединое, образ и подобие Божие»22.
Итак, с одной стороны, первобытное состояние человека определяется
тем, что человек выступает в границах природы в качестве единства, как
е^ 290^5
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^О
бы резюмирующего ее стремления и все проистекающие оттуда формы.
И благодаря тому, что он является таким единством, порождая его в
своем сознании, природа в человеке перерастает саму себя и переходит
в сферу абсолютного бытия.
С другой стороны, первобытное состояние характеризуется тем, что
человек, в соответствии со своим происхождением и своей телесной
формой, как природное существо остается неразрывно связанным с
природным внешним миром. Благодаря этой связи «человек является
естественным посредником между Богом и материальным бытием, проводником
всеединящего Божественного начала в стихийную множественность, —
устроителем и организатором вселенной» 7Л. Цель, к которой изначально
стремилась Мировая душа «как вечное человечество»24,
осуществляется в порядке природы через человека, который сам является природным
существом, возникающим в ходе мирового процесса25. При этом
первобытное состояние человека определяется не одной-единственной чертой,
но характеризуется тремя признаками. Человек имеет «в себе,
во-первых, стихии материального бытия, связывающие его с миром
природным, <...> во-вторых, идеальное сознание всеединства, связывающее его
с Богом, человек, в-третьих, не ограничиваясь исключительно ни тем ни
другим, является как свободное "я", могущее так или иначе определять
себя по отношению к двум сторонам своего существа, могущее
склониться к той или другой стороне, утвердить себя в той или другой сфере»26.
Таким образом, человек в первобытном состоянии — это полярное
существо, две стороны которого — в соответствии с
отреферированными в главе V библейским источником и отеческой традицией — можно
обозначить как образ и подобие: «Если в своем идеальном состоянии
человек имеет образ Божий, то его безусловная свобода от идеи так же,
как и от факта, эта формальная беспредельность человеческого "я"
представляет в нем подобие Божие. Человек не только имеет ту же
внутреннюю сущность жизни — всеединство, — которую имеет и Бог, но он
свободен восхотеть иметь ее как Бог, т. е. может от себя восхотеть быть
как Бог»27.
Подводя итоги, можно сказать следующее. Соловьевское учение о
первобытном состоянии соединяет элементы из библейских источников
и отеческой традиции с космологическими идеями и развитыми в
конце XIX века эволюционными представлениями; это учение целиком
стоит на позиции дальнейшего прогресса научного сознания, не
отказываясь при этом от богословских корней и постулатов. Так же обстоит дело
и с соловьевским представлением о переходе от первобытного
состояния к состоянию природному, который, согласно иудео-христианскому
пониманию, совершился через грехопадение.
С^ 291^5
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
d) Грехопадение как переход от первобытности
в природное и общественное состояния
Соловьев придает грехопадению космическое значение, как это делали
до него Бёме и Шеллинг. Грехопадение является моментом
космогонического развития. Разумеется, он не принадлежит линии
предшествующего развития, но известным образом осуществляет ее поворот. Причина
грехопадения (здесь Соловьев придерживается библейской и
богословской традиции) — это желание первобытного человека быть как Бог.
Свободное «я» человека в его безграничности не позволяет человеку быть
лишь пассивным единством Божественного и материального начал. Это
«я» желает не просто пассивно отражать такое единство в сознании, но
активно порождать его. Поэтому человек стремится к тому, чтобы
овладеть Божественным творчеством, дабы самому распоряжаться им. «Для
того, чтобы иметь ее [Божественную сущность] и от себя, а не от Бога
только, он утверждает себя отдельно от Бога, вне Бога, отпадает или
отделяется от Бога в своем сознании так же, как первоначально мировая
душа отделилась от Него во всем бытии своем»28.
Но если отделение Мировой души от Божественного начала было
необходимо для того, чтобы творение вообще впервые смогло прийти
в движение, отделение человека от творческого Божественного начала
означает восстание против Бога и против глубинных замыслов
Мировой души. Поэтому человек падает именно по той причине, что он
восстает против Божественного начала всеединства, исключая его из
своего сознания; тем самым он подпадает под власть материального начала,
ибо он был свободен от этого последнего, лишь поскольку имел
противовес в первом, — был свободен от власти природного факта лишь силою
Божественной идеи; исключив же из себя ее, он сам становится только
фактом вместо господствующего центра в природном мире, становится
одним из множества природных существ, вместо средоточия «всего»
становится только «этим»29.
В своих «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев называет пять
существенных изменений, проникших в мир вместе с грехопадением
человека. Можно придать им следующее суммарное выражение:
• если человек прежде, будучи духовным центром мироздания,
обнимал своей душой всю природу, жил с ней одной жизнью, любил и
понимал ее, а потому и мог ею управлять, то теперь, утвердившись в своей
самости и закрыв от всего свою душу, он находит себя в чужом и
враждебном мире, который больше не говорит с ним на понятном языке и
потому уже не понимает его и не слушается его слов;
• если прежде в сознании человека присутствовала всеобщая
органическая связь, из которой сознание черпало все свое содержание, то
теперь человек утрачивает понимание этой связи, а вместе с ним — орга-
С% 292^5
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
низующее начало своего внутреннего мира, так что мир сознания
превращается в хаос;
• если исключительное самоутверждение в ходе космического
процесса во всех его формах было шаг за шагом преодолено с помощью
правящего в Мировой душе идеала и начала всеединства, то теперь это
начало вновь выступает уже в новом образе — как сознательная свободная
деятельность индивидуума, а потому вновь возникший процесс может
совершаться только внутри человеческой души — как нравственное
преодоление этого начала, т. е. с помощью усилий по восстановлению
всеединства;
• если формообразующие начала, действующие во внешней природе,
ранее достигли в человеческом сознании своего внутреннего единства,
то они вновь утратили это единство, и сознание сделалось пустой
формой, ищущей своего содержания. И поскольку космогонический процесс,
предшествующий грехопадению, происходил ступенчатым образом,
также ступенчатым образом совершается внутреннее усвоение абсолютного
содержания посредством сделавшегося формальным сознания; так
возникает новый процесс, субъектом которого является человечество,
подчинившееся природному порядку. Побуждает к этому процессу
человеческую душу утрата прежде наполнявшего ее содержания, которое она
стремится вновь обрести в ходе болезненного процесса.
• если Мировая душа в человеке достигла внутреннего соединения
с Божественным началом и таким образом перешагнула границы
внешнего природного бытия, обретя центр всей природы в идеальном
единстве свободного человеческого духа, — то она вновь утратила эту
внутреннюю связь с абсолютным существом, утратила в свободном акте того
же самого духа, и в качестве природного человечества оказалась под
властью материального начала, смерти30.
Труд, страдание и смерть, — согласно книге Бытия, три приговора,
вынесенных Богом впавшему в грех человеку, — в софиологическом
учении о религиозном первобытном состоянии и падении в природное
состояние определяют поэтому те условия, при которых человек может
подняться над чисто природным состоянием.
е) Преодоление природного состояния
Встав на путь самоутверждения, человек из своего первобытного
состояния попал в чисто природное состояние. Поэтому его воля является
эгоистичной и злой не от природы, а в силу избрания пути
самоутверждения. Это проявляется в том, что в падшем человеке Божественное
начало присутствует потенциально, в то время как его падшая воля
определяется лишь со стороны человека и занята приобретением власти над
С^ 293 ^>
Ç^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
природно-материальным началом, — оказываясь при этом, однако, в
подчинении у этого начала.
Если исходить из этих предположений Соловьева, то речь не может
идти ни о том, чтобы стремиться к восстановлению первобытного
состояния, что было бы делом напрасным, ни о том, чтобы поддерживать
природное состояние как таковое; дело также не только в том, чтобы
поднимать человека из природного состояния в состояние нравственное:
необходимо, чтобы автономный, нравственный человек, поступая
свободно, так примирил бы между собой Божественное и природное, что
природа человека подчинится Божественному началу, и это сделается
предпосылкой взаимодействия в свободе Божественного начала с
очищенным таким образом природным началом.
Но обращение и очищение эгоистического начала в человеке по
причине его падения не может проистекать исключительно из
человеческого начала. Возникает нужда во вмешательстве Божественного начала,
которое, согласно Соловьеву, может в принципе подступить к человеку
тремя способами: так как падший человек сперва полностью
ориентирован на природное начало, Божество может подойти к нему извне, со
стороны природы, — в качестве силы, которую он может подчинить себе,
к примеру, с помощью жертвы. В этом случае Божественное начало
подавляет злую волю человека — без того, чтобы возвысить или
преобразить его внутреннее существо, ибо эта воля «как сила внутренняя,
субъективная, не может быть уничтожена никаким внешним действием.
Поэтому то внешнее действие Божественного Логоса на человека,
которое мы находим в теогоническом процессе, является недостаточным, не
соответствующим цели внутреннего воссоединения человечества с
Божеством. Культ природной религии ограничивает самоутверждение
человеческого начала, заставляет его невольно подчиниться
действующим в природе высшим силам, заставляет его приносить жертвы этим
силам, но корень его жизни, его злая воля, восставшее в нем
материальное начало остается нетронутым, как чуждое и недоступное этим
внешним природным богам»31.
Но Божественное начало может также подступать к человеку и
изнутри, действуя в нем идеальным или просвещающим образом. В этом
случае человек, оказавшийся в природном состоянии, вспоминает о
своем первобытном состоянии. Это возможно, поскольку разум (ratio) также
и после падения человека устремлен к обобщающим выводам и,
следовательно, ориентируется на свет идеального начала. Поэтому
Божественный Логос, «возбуждая разумную потенцию человека, <...> может
действовать в ней как разум или внутреннее слово; а именно, он может
отвлекать душу от ее фактической действительности, ставить эту
последнюю объектом и показывать душе призрачность ее материального
бытия, зло ее природной воли, открывая ей истину другого, соответствую-
е^294^)
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
щего разуму бытия. Таково идеальное действие Божественного Логоса,
которое мы находим по преимуществу у культурных народов древнего
мира в высшую эпоху их развития»32.
Но когда и такое действие близко к цели, этого оказывается
недостаточным для того, чтобы действительно изменить и обновить человека
до самой его основы, ибо человек приводится лишь к познанию его
собственной фактической реальности во всем ее ничтожестве. Однако
голос познания еще не означает того, что это наличное бытие становится
недействительным: «Пока личной воле и жизни, погруженной в
неправду, противопоставляется истина только как идея, жизнь остается, в
сущности, без изменения; отвлеченная идея не может одолеть ее, потому
что личная жизненная воля, хотя бы и злая, есть все-таки
действительная сила, тогда как идея, не воплощенная в живых личных силах,
является только как светлая тень»33.
Если этот отблеск Божественной жизни в абстрактной идее
подлежит преодолению, то Божественное начало должно открыться человеку
еще и другим способом. Эта третья возможность заключается в том, что
Божественный Логос не только воздействует на душу снаружи или
изнутри, но и рождается в ней в качестве действительной живой сущности.
«И так как душа в природном человечестве является актуально лишь
в множественности индивидуальных душ, то и действительное
соединение Божественного начала с душою необходимо имеет индивидуальную
личную форму, т. е. Божественный Логос рождается как действительный
индивидуальный человек»34. Тем самым в мире возникает нечто
совершенно новое — Богочеловек, который, будучи вторым Адамом, есть
явление нового духовного человека. Благодаря тому что Он встречается
с падшим человеком одновременно снаружи и изнутри, Он не
ограничивает и не просвещает его, но приводит к возрождению.
f) Богочеловек как путь и цель воссоединения
Если человек изначально определяется тремя началами и их
отношениями (это Божественное, природное и разумное начала), то
Богочеловек, будучи новым духовным человеком, должен выполнить три условия.
Во-первых, Он должен в качестве конкретной человеческой личности,
имеющей свою биографию, осуществить полное согласие
Божественного и природного начал. Если бы такое согласие в одной единственной
исторической личности не совершилось, то налицо было бы лишь
взаимодействие Бога с природным человечеством в целом, а не явление этого
согласия в одном конкретном человеке. Во-вторых, необходимо, чтобы
при этом реально присутствовали оба начала, т. е. чтобы эта личность
была как Богом, так и действительным природным человеком: нужны
обе природы, так как иначе было бы бессмысленным говорить о каком-
С^295^с)
(г^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
то соединении. В-третьих, осуществление согласия обеих природ в бого-
человеческой Личности должно быть свободным поступком; это
предполагает то, что человеческая воля участвует в нем, будучи отличной от
воли Божественной, — что Божественная и человеческая воля желают
такого соединения и влекутся к нему совершенно свободно.
Но человеческая воля по-настоящему свободна лишь тогда, когда она
может решиться и на то, что противоположно соединению, т. е. на отход
от Божественного начала. Только на основании сознательного отказа от
реально открывшейся возможности отхода от Божественного начала
человеческая воля может свободно последовать Божественной воле и тем
самым привести человеческую природу к полному внутреннему
согласию с Божеством. Понятие нового духовного человека поэтому
«предполагает одну богочеловеческую личность, совмещающую в себе два
естества и обладающую двумя волями»35. Соловьев исходит из того, что эта
богочеловеческая Личность вступила в план истории в Иисусе Христе.
С этого момента все поэтому сводится к тому, чтобы понять условия,
сущность и «всеединое» значение конкретной исторической Личности
Иисуса Христа в качестве ключа к истории и к переходу человека в
некое совершенно новое общественное состояние.
3. ВОПЛОЩЕНИЕ БОГОЧЕЛОВЕКА
Если существо Иисуса Христа является живым, свободным
соединением Божественного и человеческого начал, то возникают следующие
вопросы: каким образом высшее всеобщее начало, Бог, может
воплотиться в одном конкретном человеке и каково участие человеческого начала
в осуществлении этого воплощения? Первый вопрос направлен на
верное понимание Бога, на тот образ Бога, который позволяет говорить
о воплощении Божества в одном конкретном человеке; второй вопрос
имеет в виду исторический процесс, который в определенный
исторический момент привел к этому воплощению. Соловьев обсуждает оба
вопроса.
а) Софиологический образ Бога у Соловьева
как ответ на полемику деизма и пантеизма
В цитате, служащей первым эпиграфом к данной главе, Шеллинг
упоминает о том, что из Франции вышло «сказание», согласно которому
место христианства должно быть занято чем-то новым. Он
противопоставляет этому требованию, принадлежащему «логике» метафизики
свободы и позднее прямо высказанному Ницше, вопрос, не следует ли
скорее развивать философию, которая вскроет тайные глубины христи-
С^296^)
G^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Ξ)
анства3(\ Осуществление этого нового способа мышления он видел в
своей «положительной философии». В первой части этой книги было
показано, что поздняя философия Шеллинга, благодаря тому что
центральное положение в ней занимает существо Софии, может рассматриваться
в качестве предшественницы и вдохновительницы русской софиологии,
что подтвердил Соловьев при защите своей диссертации37. Хотя оба
учения ориентированы «софиологически», однако поздний Шеллинг
и ранний Соловьев расходятся в их понимании Бога: Шеллинг защищает
некую версию развитого монотеизма, в то время как соловьевский образ
Бога отмечен сизигическим отношением Бога и Софии38. Как
монотеизм Шеллинга, так и софиологический образ Бога, представленный
Соловьевым, предоставляют возможности для разрешения спора деизма
и пантеизма. Здесь мы ограничимся изложением позиции Соловьева.
Как показано в главе II первой части данной книги, деизм мыслит
Бога таким образом, что Творец мира после Своего творческого акта
полностью отстранился от Своего творения; пантеизм мыслит Бога как
субстанцию, которая идентична с мировой субстанцией; в теизме Бог
понимается так, что хотя Он существует вне мира, сотворенного Им из
ничего, но (в отличие от позиции деизма) Он обращен к миру и
сохраняет с ним связь; наконец, в панентеизме соединены элементы теизма
и пантеизма: в данном понимании Бога, с одной стороны, Бог мыслился
как некое сознание, которое отлично от мира и отделено от него (как
в деизме и теизме), — а с другой стороны, Божественная сущность или
природа считается идентичной миру (как в пантеизме).
Ни одного из этих воззрений не достаточно для того, чтобы понять
воплощение Бога. Если Бога рассматривают в качестве чисто
трансцендентного существа, которое само по себе пребывает вне мира и
человека, то вочеловечение Бога оказывается абсолютно невозможным: для
деистического представления, воцарившегося в метафизике свободы в век
Французской революции, вочеловечение Бога немыслимо и означает
нарушение логического закона тождества39. Также и с точки зрения
пантеизма воплощение Христа невозможно: если Бог — это лишь общая
субстанция мировых явлений, лишь вселенское «Всё», а человек,
соответственно, — просто одно конкретное явление, то всеобщее «Всё» не
может быть одновременно этим конкретным явлением, ибо это
противоречит той аксиоме, что целое (= всё) не может быть равным своей
части (= конкретное). Для пантеистического воззрения «Богу <...> так же
нельзя стать человеком, как воде целого океана нельзя, оставаясь всей
водою, быть вместе с тем одною из каплей этого океана»40. Итак, ни
деизм, ни пантеизм не пригодны для того, чтобы объяснить мистерию
воплощения Христа.
Позиция Соловьева отличается от названных точек зрения, а также
от голого теизма и пантеизма тем, что существенную роль в творческом
е^297^с)
(^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^
процессе он отдает Софии41. Хотя Бог как творческое начало,
существующее для себя самого вне мира, и Мировая душа (София) как
субстанциальное, живое единство мира, различаются между собой, — однако
благодаря тому, что София одушевлена стремлением осуществить и
поддерживать во всех своих частях совершенное единство, уже
присутствующее в Боге, она отражает в чистоте творческий замысел Бога и, таким
образом, являет Бога в творении. Хотя каждое индивидуальное
существо в мире отлично от Бога и всякого другого существа, тем не менее,
благодаря присутствующему в недрах души любого тварного существа
стремлению к всеединству, отражающему Бога, связь каждого
отдельного существа с Богом как Всесуществом восстанавливается.
Мировая душа София, т. е. природа творящая и сотворенная,
имеющая свое собственное индивидуальное существо, видит перед собой при
этом лишь одну цель — родить в себе и из себя образ Божий, т. е.
произвести человека, в котором целокупный природный процесс как бы
находит свое резюме. В силу этого вся тварная природа со всеми ее
существами влечется к человеку. Но по причине первородного греха Адама
человек и влекущаяся к нему природа были захвачены водоворотом
падения, и связь с богоугодным всеединством была утрачена. Изначальный
всеединящий творческий замысел Бога, нашедший свое явление в
Софии, был тем самым перечеркнут. И хотя человек из-за своего поступка
выпал из всеединства, он сделался одновременно действующим
субъектом некоего нового процесса; в результате грехопадения началась
собственная история человечества. Поэтому пожелай Бог и София,
отражающая Его творческие замыслы, вмешаться в этот процесс, то после
грехопадения это должно было произойти в пространстве человеческой
истории.
Если София, действующая космически-природно, стремилась во всех
своих явлениях выразить творческий замысел Бога и произвести
человека, то теперь София, действующая в пространстве истории
человечества, стремится к тому, чтобы произвести человека, освобожденного от
последствий грехопадения и вновь соединенного с Богом, так что
история превращается в историю спасения. Соловьев так подытоживает эту
разницу: «К человеку стремилась и тяготела вся природа, к
Богочеловеку направлялась вся история человечества»42.
Ь) Исторический процесс становления человека
Первородный грех, который дал толчок историческому процессу,
согласно Соловьеву, представлял собой поступок одного или, вернее, двух
конкретных людей, которые были представителями всего человечества
и в которых поэтому все человечество отпало от Бога. Также и спасение
могло быть поэтому только историческим деянием некоего действитель-
е^ 298 ^
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Ξ)
но существующего, представляющего все человечество человека,
который восстановил бы с самого начала и во всех областях человеческого
бытия совершенное единство с Богом, — что возможно лишь в том
случае, если Бог и человек выступят на исторический план в качестве
одного и того же существа. Так как на историческом плане все совершается
в некий определенный исторический момент времени, то этот момент
времени может рассматриваться как переломная точка двух
направлений действия. Смысл исторического процесса после грехопадения
состоял в ступенчатом усвоении утраченного всеединого содержания с
помощью человеческого сознания, достигающего этого единства пока лишь
формально. И это всеединое содержание должно было все сильнее
приближаться к человеческому сознанию, а, с другой стороны, земной
человек должен был расти навстречу приближающемуся к нему всеединству:
подобно тому как Бог ступенчатым образом приближался к
человечеству, и человечество восходило по соответствующим ступеням
навстречу идущему к нему Богу.
Действие Софии в истории человечества происходило поэтому
двумя способами: как возвещающая о пришествии Божием история
откровения или богоявления (т. е. как следующие друг за другом теофании)
и как подготавливающая это пришествие история развития человечества
(т. е. как чередование народных культур); историю откровения можно
уподобить солнцу, в теплых лучах которого человечество созревало для
восприятия Божественного начала.
По мнению Соловьева, каждое явление Божественного начала,
каждая теофания определяется той областью, где оно совершается: история
и национальный характер конкретного народа накладывают на теофа-
нию свой особый отпечаток. Так, индийскому духу Божественное начало
открылось как нирвана, грекам — как идея и космос идей, а еврейскому
народу — как Личность, как живой субъект, как «я», ибо характер
еврейского народа был таков, что в нем господствовало преимущественно как
раз личностное, субъективное начало43.
В еврейской религии это выразилось следующим образом. Бог в ней
впервые открыл Себя для познания в качестве Личности, субъекта, —
так что в этой религии преодолено представление о Боге как о
безличной силе и безличной идее44. Так как смысл вочеловечения Бога
заключается в том, что Бог вступает в исторический план в качестве
определенной Личности, Он мог стать человеком только в еврейском народе,
и история этого народа — с избранием патриархов, призванием
пророков и поставлением царей — представляет собой не что иное, как такой,
уже упомянутый, ступенчатый процесс пришествия Бога и возрастания
навстречу Ему избранного для этого народа Израилева45.
Но эта подготовка не ограничивалась одним израильским народом.
Хотя национальный характер этого народа как никакой другой подхо-
е^299^>
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
дил для вочеловечения Божественного начала, однако нужный момент
времени для этого воплощения зависел также и от общего хода истории:
«Когда идеальное откровение Слова в эллино-римском мире было
исчерпано и оказалось недостаточным для живой души, когда человек,
несмотря на огромные, дотоле невиданные богатства культуры, нашел себя
одиноким в пустом и скудном мире, когда везде явилось сомнение в
истине и отвращение от жизни и лучшие люди от отчаяния переходили
к самоубийству, когда, с другой стороны, именно вследствие того, что
господствовавшие идеальные начала оказались радикально
несостоятельными, явилось сознание, что идеи вообще недостаточно для борьбы
с жизненным злом, явилось требование, чтобы правда была воплощена
в живой личной силе, и когда внешняя правда, правда людская,
государственная действительно сосредоточилась в одном живом лице, в лице
обожествленного человека, римского кесаря, — тогда явилась и правда
Божия в живом лице вочеловечившегося Бога Иисуса Христа»4Ü.
с) Сущность Богочеловечества
Иисуса Христа
Выше было показано, что первобытное состояние человека —
единство Божественного и природного начал, которое было представлено
первым Адамом в его невинности в райском состоянии и было
разрушено грехопадением, — просто восстановлено быть не может. Новое
единство не может быть просто и непосредственно невинностью: оно должно
быть завоевано, т. е. должно быть результатом некоего свободного
деяния, а именно — некоего двойного преодоления. Если такое
преодоление должно происходить в свободе, то оно предполагает Божественное
и человеческое самоотвержение или самоограничение, ибо, с одной
стороны, как показано выше, основание для возможности человеческой
свободы заключено в самоограничении Божества, с другой — истинное
соединение или согласие человеческого и Божественного начал состоит
в их свободном взаимодействии. Принцип самоотвержения или
самоограничения, который Соловьев наблюдает уже в ходе всего космического
и исторического процесса47, является для него ключом к пониманию
Богочеловечества Иисуса Христа. Разумеется, есть существенная разница
между космической и исторической «формой» самоотвержения — и
соответствующей формой в Богочеловеке Иисусе Христе: «ибо для Божества
границы космических и исторических теофаний суть границы внешние,
определяющие его проявления для другого (для природы и
человечества), но ничуть не касающиеся его внутреннего самоощущения; с
другой стороны, и природа и природное человечество в своем непрерывном
прогрессе отвергают себя не свободным актом, а лишь по
инстинктивному влечению»48.
е^зоо^э
(г^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
В богочеловеческой Личности все происходит иначе, ибо здесь
Божественное начало действительно отвергает себя: оно вступает в отношение
с человеческим началом не через внешний поступок, когда оно полагает
себе границы, не преобразуя само себя, — но через внутреннее
самоограничение, которое в нем самом дает место другому. Только подобное
внутреннее соединение с другим является для Соловьева
действительным самоотвержением Божественного начала, при котором это начало
действительно снисходит, уничижается и, как говорит Павел,
принимает образ раба: «Божественное начало здесь не закрывается только
границами человеческого сознания для человека, как это было в прежних
неполных теофаниях, а само воспринимает эти границы: не то чтобы
оно всецело вошло в эти границы природного сознания, что
невозможно, но оно ощущает актуально эти границы как свои в данный момент,
и это самоограничение Божества в Христе освобождает Его человечество,
позволяя Его природной воле свободно отречься от себя в пользу
Божественного начала не как внешней силы (каковое самоотречение было бы
несвободно), а как блага внутреннего, и тем действительно приобрести
это благо. Христос как Бог свободно отрекается от славы Божией и тем
самым как человек получает возможность достигнуть этой славы
Божией» 4î\
Такое взаимное самоограничение возможно лишь в том случае, если
в одной Личности Иисуса Христа одновременно сосуществуют
свободная Божественная и свободная независимая человеческая воля, если (как
это определил Эфесский Собор) Иисус Христос есть одно Лицо с двумя
природами — Божественной и человеческой. Поскольку эта тайна от
начала исторического христианства оспаривалась, история Вселенских
Соборов может быть прочитана не только в качестве спора раннего
христианства с уклонениями от истинного понимания природы Иисуса
Христа, но также и как уточнение соответствующего определения.
Поэтому надо вкратце изложить эту историю ™.
d) Спор с раннехристианскими ересями
«Главные теоретические и практические заблуждения первых
сектантов исходят <...> из отвержения действительного посредства между
Божеством и творением в истинной богочеловечности воплощенного
Христа», — пишет Соловьев в работе «Великий спор и христианская
политика»51. Он выделяет различные типы этого заблуждения,
выступавшие последовательно в качестве докетической, арианской, несториан-
ской и монофизитской ересей и отвергнутые на Вселенских соборах,
причем эти соборы все сильнее приближались к пониманию образа
Богочеловека Иисуса Христа.
е^ зо1^э
(г^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^)
а) Докетызм
Докетизм, первое крупное еретическое движение первых веков,
несмотря на свою кажущуюся связь с христианскими представлениями,
являет собой ренессанс восточных — египетских, персо-зороастрийских
и индийских идей. Рождение Христа от Богоматери с Земли переносится
на небеса; вследствие этого, с одной стороны, небесный мир
превращается в поколения Божественных существ, а с другой — человеческая
природа Посредника делается призрачной, так что само посредничество или
Богочеловечество упраздняется. В отсутствии посредничества остается
одна абсолютная противоположность между Божеством и творением,
вследствие чего мир понимается как результат деятельности злого начала.
При столь отрицательном взгляде на мир спасение и воссоединение
с Божеством выпадает на долю лишь избранных натур, отказавшихся от
мира, а точнее — имеющих свое происхождение из высшего мира. Так
как для Христа было невозможно действительно вочеловечиться, ибо
Божество и творение совершенно несоизмеримы, равным образом и люди,
соединенные с Богом, не имеют ничего общего с остальным миром.
«Человеческая природа у них является, собственно говоря, таким же доке-
тическим призраком, как и человечность самого Христа»52.
Согласно Соловьеву, все ереси докетического типа сводятся к трем
признакам: во-первых, это учение, по которому Христос явился на
Земле лишь в призрачном теле53; во-вторых, это осуждение мира как
творения злого и низшего бога54; и, в-третьих, это учение об особом духовном
человеке и совершенном гностике55. Все эти пункты самым тесным
образом связаны между собой; в них обнаруживается одна основная идея
восточной религии: это идея Бога, бесконечно удаленного от мира, Бога,
который не имеет никакого отношения к нашей природе и
противоположен ей, — идея бесчеловечного Бога56.
β) Арианство
Вторая основная ересь исторически явилась на свет в арианстве.
Александрийский пресвитер Арий (| 336) учил, что Богу для
осуществления дела спасения Самому не нужно было вступать в человеческую
историю. Будучи всемогущим, Бог мог создать совершенное творение,
которое выполнило бы за Него эту задачу. Согласно Арию, Христос был
созданным из ничего по воле Божественного Отца творением, которое
Отец за нравственную надежность наделил Сыновним достоинством.
Итак, в области веры Христос не отрицается в качестве Сына Божия
и человеческого, соединение Божественного и человеческого элементов
в Нем никак не отвергается, — лишь искажается смысл этого соединения.
Богочеловек Иисус Христос предстает в арианстве в качестве некоего
посредника, находящегося между Божественной и человеческой
прирост 302 ^Э
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^О
дами. Он как бы «меньше», чем Бог, и «больше», чем человек, —
следовательно, не является совершенным Богом и совершенным человеком.
«Совершенное <...> Божество остается недоступным и непостижимым,
и человек не может получить истинного обожения. Вместо
воссоединения во Христе Творца с творением является некое неопределенное
и странное между ними сближение»57.
В этом представлении «неопределенного и странного сближения» уже
заявляет о себе та основополагающая идея, которая позднее, в Новое
время, окажется характерной для Запада: это идея человека, бесконечно
удаленного от Бога, который не имеет никакого отношения к
Божественной природе и хотя «приближается» к ней каким-то непонятным
образом, однако же ее не достигает. В конечном счете эта идея ведет к
отрицанию Божественного начала и одновременно к идее безбожного человека.
γ) Несторианство
Если в ересях гностического типа в центре находилось всеведение
Бога, которое несопоставимо с ограниченными знанием и жизнью
отдельного человека, то в ересях арианского типа верховная роль
принадлежала Его всемогуществу. Было лишь вопросом времени, когда появиться
учению, которое попытается согласовать эти две противоположности.
Такой ересью оказалось несторианство, восходящее к патриарху
Константинополя Несторию (t 450/451), который не отрицал ни
сущностного единства, ни совершенного Божества в Логосе, допуская также
совершенное человечество Иисуса. Однако он оспаривал неразрывное
сущностное единство в Нем Божества и человечества: пребывание
Логоса в человеке Иисусе началось лишь в некий временной момент, далеко
отстоящий от момента Его физического рождения, — а именно — в
момент Его крещения на Иордане. Во Христе человек и Бог разделены;
Мария — это лишь мать Иисуса по Его человеческой природе58. Так как, по
мысли Нестория, в Иудее родился лишь обыкновенный человек, на
которого Бог Слово сошел лишь позднее, этот ересиарх тем самым отрицал
не только человеческое рождение Бога, но и факт богоматеринства59.
Именно в Эфесе, городе, в котором Богоматерь особо почиталась,
в 431 г. это учение было осуждено. Опровергая Нестория, Собор заявил,
что в Иисусе Христе имелось только одно Лицо — Второе Лицо или
Ипостась Божества, — однако это Божественное Лицо обладало двумя
природами, двумя формами усии — Божественной и человеческой.
Отношение трех Божественных Лиц Троицы к их Божеству было
изложено в 325 г. епископом Александрийским Афанасием (около 295—373)
в ходе его борьбы против Ария на первом Вселенском Соборе в Никее;
его учение об омоусии постулировало одну Божественную усию,
которая раскрывается различным способом тремя различными Ипостасями
или Лицами Троицы. Сдвиг, произведенный Эфесским Собором, состо-
е^зоз^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^z)
ял в том, чтобы предположить также и в человеке Иисусе Христе
Личность и усию, причем в самой этой усии имеются различающиеся между
собой Божественный и человеческий моменты.
δ) Монофизитство и монофелитство
Поскольку Эфесский Собор детально не прояснил соотношения этих
обеих природ в Богочеловеке, следующая ересь была уже как бы
запрограммирована: «Если Несторий допускал только внешнее, неполное
соединение Божества с человечеством, то Евтихий и его последователи,
монофизиты, утверждали соединение настолько полное, что
человечество всецело превращается в Божество. Но такое соединение, в котором
совершенно исчезает одно из соединяемых, не есть уже соединение,
а поглощение»60.
Монофизитством занимался четвертый Вселенский Собор в Халки-
доне (451 г.). Он отверг это учение и признал ясное различие
человеческой и Божественной природ в Иисусе Христе, заявленное в послании
папы Льва Великого (440—461). Но возможность ереси все еще
оставалась — можно было представлять себе человеческую природу в Иисусе
Христе чисто пассивной: «В совершенном человеке отрицается сила
собственно человеческой воли и энергия человеческого действия; в нем
остается только одна воля Божия; свобода человека вместо соглашения
и добровольно подчиненного взаимодействия с волей Божественной
вполне уничтожается этою высшей волею, которая, таким образом,
является для человека как нечто роковое и естественно-обязательное»61. Это
учение, известное как монофелитство, было опровергнуто папами Се-
верином (639—640) и Мартином (649—653), а также Максимом
Исповедником, а в 680 г. было осуждено на шестом Вселенском Соборе в
Константинополе.
е) Одно Лицо и две природы
Хотя Соборы, последовавшие за Эфесским, которые уточняли
отношение Личности и природы в Иисусе Христе и при этом оспаривали
монофизитство и монофелитство, не привнесли ничего существенно
нового в христологию и антропологию, они, однако, уточнили это
отношение, суть которого такова: Божественное Лицо не есть природа, но
оно имеет природу62. Оно в такой степени стоит над своей сущностью
или природой, что может ее выразить или свободно отказаться от такого
выражения. Это означает, что Божественное Лицо (или Личность) есть
свободное откровение Своей сущности. И поскольку сущность
воплощенного Богочеловека объединяла две природы, Его воля могла быть
или Божественной, или человеческой по своей природе, т. е.
Божественная Личность Иисуса Христа один раз могла совершенно свободно дей-
е^304^Э
C5^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
ствовать из Своей Божественной воли, в другой раз — при отказе от
Своей Божественной воли — из Своей человеческой воли.
Различение Личности и природы в Иисусе Христе, произведенное на
Эфесском Соборе, означает принципиальный прорыв в христологии.
И поскольку отцы Собора считали пришествие Иисуса Христа
решающим событием для всех людей, это различение (которое в данной книге
освещалось в основном в главах V и VI), заложило основы для
христианской антропологии.
4. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОГОЧЕЛОВЕКА
Опираясь на выводы отцов Собора, Соловьев придает пришествию
Христа всеобъемлющее значение. С одной стороны, Христос как Логос
есть универсалия универсалий, самое общее «Понятие», в котором
«резюмируется» все творение и при этом также человечество («Все чрез Него
[Слово] начало быть»; Ин 1: 3); с другой же стороны, Он жил на Земле
в качестве конкретного человека среди своих бесчисленных
современников, сделавшись при этом единичным, особенным, отдельным фактом
(«И Слово стало плотью и обитало с нами»; Ин 1: 14). Таким образом,
вошедший в историю, живущий на Земле Христос является
одновременно представителем всего человечества, и Его жизнь с Его деяниями
имеет общечеловеческое значение. Подобно тому как под первым
человеком Адамом следует понимать некую личность, которая включает в себя
все природное человечество, также и второй Адам есть индивидуальное
существо, которое охватывает Собой все возрожденное духовное
человечество. В сфере вечного, Божественного бытия Христос является
вечным духовным центром вселенского организма, под которым Соловьев
понимает вечное человечество, каким оно замыслено Богом и должно
быть осуществлено через взаимодействие Логоса и Софии; но «так как
этот организм, или вселенское человечество, ниспадая в поток явлений,
подвергается закону внешнего бытия и должно трудом и страданием во
времени восстановлять то, что оставлено им в вечности, т. е. свое
внутреннее единство с Богом и природою, — то и Христос как деятельное
начало этого единства для его реального восстановления должен
низойти в тот же поток явлений, должен подвергнуться тому же закону
внешнего бытия и из центра вечности сделаться центром истории, явившись
в определенный момент — в полноту времен»63.
Если Христос должен был подчиниться тем же самым законам бытия,
каким подчинен падший человек, то это означает, что, с одной стороны,
Он должен был жить на Земле в определенный исторический момент
в качестве конкретного человека наряду с прочими людьми, — но, с
другой стороны, при этом Он должен был встретиться с теми же самыми
е^ 305 ^Э
C^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
силами, которым подчинены живущие на Земле люди. И Его задачей
было преодолеть эти силы зла, — силы, нашедшие вход в человека и
одолевшие его, ибо первый человек был некогда искушен и последовал
злому его началу: «Злой дух разлада и вражды, вечно бессильный против
Бога и в начале времен осиливший человека, должен в середине
времени быть осилен Сыном Божиим и Сыном Человеческим, как
перворожденным всея твари, для того чтобы в конце времен быть изгнанным изо
всего творения, — вот существенный смысл воплощения. <...> Второй
Адам родился на земле <...> для реального спасения человечества, для
действительного избавления его из-под власти злой силы, для
откровения в нем на деле царства Божия»ii4.
а) Три искушения в пустыне
Встречу Богочеловека Иисуса Христа со злым началом евангелисты
Матфей и Лука представляют как три искушения в пустыне. Соловьев
дает следующее толкование этой истории искушений. Поскольку бого-
человеческая Личность обнаруживает двойственное сознание —
«сознание границ природного существования и сознание своей Божественной
сущности и силы»65, она может на основе Своего опыта ограниченности
природного бытия быть введенной в искушение использовать Свою
Божественную власть для уклонения от этой ограниченности. И
поскольку человек есть тройственное, трехчленное существо и поэтому может
соотнести свое сознание или со своим телом, принадлежащим ко всей
природе, или с разумной душой, выражающей собственно человеческое
начало, или со своим духом, связанным с Богом, к нему и подступают
три искушения66.
Евангелист Матфей сначала показывает искушение, подступающее
к человеку как телесному природному существу. Так как человек
подчинен условиям материального бытия, Богочеловек мог бы
сконцентрироваться на материальном благе, сделав его единственной целью, а Свою
Божественную силу превратив в средство ее достижения: «Если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф 4: 3). Здесь
Божественное существо («если Ты Сын Божий») и выражение этого
существа — слово («скажи») должны служить удовлетворению
материальных потребностей, для чего природный порядок должен опрокинуться.
Христос отклоняет это искушение, указав на то, что человек — это не
только природно-материальное, но также и душевно-духовное существо,
и что слово, в отличие от хлеба, принадлежит не только
физически-материальному, но и Божественно-духовному миру, порядок которого нельзя
смешивать с природным порядком: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4: 4)G7.
е^ЗОб^Э
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
Благодаря установлению правильного соотношения между
Божественно-духовным и природным миром Сын человеческий
обнаруживает Себя в качестве разумного существа и господина над Своей
физической природой. И тогда к Нему подступает второе искушение: поскольку
Он заявил о Себе перед лицом искусителя как о разумно-духовном, по-
знающе-различающем существе, а свободная, наделенная разумом душа
вышла из рук Божиих в качестве высшего Божиего создания, человек
мог бы, искусившись, подвергнуть опытному доказательству свое
превосходство перед всеми прочими творениями, в частности, и перед
ангелами: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: "Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень
ногою Твоею"» (Мф 4: б)6*.
Внешний знак избрания — это успех в своей собственной ситуации
при одновременном сомнении. Сомнение в собственном призвании и
высокомерное желание опытно подтвердить призванность превращают
Бога в предмет некоего эксперимента. Богочеловек Иисус Христос
отвечает на соблазн: «Написано также: "Не искушай Господа Бога
твоего"» (Мф 4: 7).
После отказа от экспериментального доказательства Его избранности
Сын человеческий ставит под вопрос Свою веру, противостоящую
сомнению. Вера эта есть нечто большее, чем умственное различение: она
выделяет человека из среды всех прочих творений. И теперь к Нему
подступает третье, «самое высокое» искушение: если благодаря Своей
способности умственного различения Он поднимается с плоскости
земной пустыни (физическое тело) на крыло храма (разумная душа), то
после принятия решения отвергнуть эксперимент Он возводится еще
выше — «на весьма высокую гору», и искуситель показывает Ему «все
царства мира и славу их». Это третье искушение направлено на Его дух
и является самым сильным: «Рабство плоти и гордость ума устранены:
человеческая воля находится на высокой нравственной степени, сознает
себя выше всей остальной твари; во имя этой своей нравственной высоты
человек может хотеть владычества над миром, чтобы вести мир к
совершенству; но мир во зле лежит и добровольно не покорится
нравственному превосходству, — итак, нужно принудить его к покорности, нужно
употребить свою Божественную силу как насилие для подчинения
мира. Но такое употребление насилия, т. е. зла для целей блага, было бы
признанием, что благо само по себе не имеет силы, что зло сильнее его, —
это было бы поклонением тому началу зла, которое владычествует над
миром: "и показа ему вся царствия мира и славу их, и глагола ему: сия
вся тебе дам, аще пад поклониши ми ся". Здесь для человеческой воли
прямо ставится роковой вопрос: во что она верит и чему хочет служить —
невидимой ли силе Божией или силе зла, явно царствующей в мире?
И человеческая воля Христа, победив искушение благовидного власто-
е^ 307^5
C^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^D
любия, свободно подчинила себя истинному благу, отвергнув всякое
соглашение с царствующим в мире злом: "глагола ему Иисус: иди за мною,
сатано, писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися и тому
единому послужиши". Преодолев грех духа, Сын человеческий получил
верховную власть в царстве духа; отказавшись от подчинения земной силе
ради владычества над землей, приобрел себе служение сил небесных:
"и се ангели приступиша и служаху ему"»69.
Ь) Софиологическое истолкование Гефсимании и Голгофы
Преодолевая три искушения, с помощью которых злое начало хотело
склонить Его к самоутверждению Своей человеческой воли и к
злоупотреблению силой Своей Божественной воли, Сын человеческий
постепенно и совершенно свободно70 подчинял Свою человеческую
природу природе Божественной, приводя их к согласию, т. е. Он обоживал
Свое человеческое бытие навстречу очеловечению Своего
Божественного бытия71.
Божественное бытие принадлежит к сфере вечности, человеческое
бытие в силу его связи с чисто природным элементом — физическим
телом, — к области преходящего, в которой неизбежно проявляются
последствия грехопадения — страдание и смерть. Если соединение
Божественного и человеческого начал в Богочеловеке должно быть
совершенным, то воплощение обязано быть восполнено также и
свободным подчинением необходимости (обусловленной плотью) страдания
и смерти.
И так как к conditio humana принадлежат также страх смерти и
попытка избежать страдания, то победой над падшей человеческой волей
деяние Христа еще не исчерпано: за искушениями в пустыне следуют
страх смерти и моление о чаше (чтобы ей миновать) в Гефсимании72.
Только благодаря тому, что Христос отразил искушения Гефсимании,
подчинившись полностью воле Отца, и благодаря тому, что Он принял
на Себя то, перед чем ужасался в Гефсимании, — т. е. только потому, что
Голгофа действительно произошла, во втором Адаме было
восстановлено истинное соотношение всех начал, которое было нарушено первым
Адамом: «Человеческое начало, поставив себя в должное отношение
добровольного подчинения или согласия с началом Божественным как
внутренним благом, тем самым получает вновь значение
посредствующего, единящего начала между Богом и природою, и эта последняя,
очищенная крестною смертию, теряет свою вещественную раздельность и
тяжесть, становится прямым выражением и орудием Божественного духа,
истинным духовным Телом»73.
В этом духовном Теле восстановлено и обновлено истинное
соотношение Бога, человека и природы, Логоса и Софии. Соловьев исходит из
С^308^)
(г^ VIII. Софиология как метафизика свободы "^Э
того, что Христос воскрес в этом Теле. И поскольку Христово Тело
воскресения есть Тело второго, нового Адама, оно также является таким
Телом, причаститься которого может все человечество, если оно усвоит
правильное соотношение Божественного, человеческого и природного
начал, что было достигнуто в Личности Христа — Главе человечества74.
Но при этом также возникает возможность для нового общественного
состояния, в которое может вступить каждый, кто соединится с Телом
Христовым, осуществляющим истинное соотношение Бога, человека
и природы. Это новое общественное состояние, находящееся по ту
сторону того общественного состояния, которое породило метафизику
свободы, есть Церковь.
с) Церковь как воссоединение Божественного
и человеческого начал
Церковь для Соловьева — это человечество, заново соединенное со
своим Божественным началом 75. Но это воссоединение осуществляется
не в один присест, а совершается ступенчато, путем кризисов и
испытаний. Процесс такого воссоединения с его кризисами и испытаниями
составляет с момента воскресения Христова содержание человеческого
развития и дает ключ к истории. И поскольку Христово Тело воскресения
есть индивидуальный прообраз того состояния, в котором в конце
исторического процесса должно оказаться все человечество, оно делается как
бы живым «эвристическим принципом» для понимания истории.
Правда, значение его выступает не тотчас же, поскольку поначалу Тело
Христово предстает как малый зародыш — в виде численно небольших общин
первых христиан. Но в ходе истории оно все больше и больше растет
и развивается, «чтобы в конце времен обнять собою все человечество
и всю природу в одном вселенском богочеловеческом организме»76.
Соловьев представляет себе под этим организмом (который для него
тождественен истинной Церкви) свободное взаимодействие человека
с Божественной волей. Он называет свободной теократией форму
общественности, основанную на этом свободном взаимодействии
человеческой и Божественной воль77. «Теократия» означает «власть Бога».
Свободная теократия, которая представляет идеальное состояние Церкви,
достигнута тогда, когда свобода становится источником всех
человеческих поступков, и они одновременно полностью согласуются с
Божественной волей и глубинным существом природы. И поскольку
Христос был первым, в котором полностью осуществилось это соотношение,
человечество, дабы ему достигнуть этого состояния, связано тем же
самым условием, что и богочеловеческая Личность, — условием
«самоотвержения человеческой воли и свободного подчинения ее
Божеству» 78.
С^ 309^5
(?^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ) ДВУХ ПУТЕЙ ^5
Однако существенное различие состоит для Соловьева в том, что
в уникальном случае Христа речь шла о судьбе (разумеется,
репрезентативной) отдельной Личности; нравственная победа этой Личности над
злым началом и добровольное подчинение началу Божественному
является «как дело по преимуществу внутреннее, как субъективный
психологический процесс». В совокупном же человечестве, напротив, это
дело совершается как процесс объективно-исторический. Это
означает, что предметы искушения, которые в психологическом процессе суть
лишь представления, «в историческом процессе получают объективную
действительность, так что часть человечества действительно
подпадает искушениям злого начала и только собственным опытом убеждается
в ложности путей, заранее отвергнутых совестью Богочеловека»79.
Согласно софиологическому пониманию, история человечества
становится тем самым не только историей осуществления Тела Христова в
свободной теократии, но также и историей искушений и их последствий.
5. ИСТОЛКОВАНИЕ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИИ
В главе VI и в особенности в главе VII настоящей книги история
метафизики и права в Средние века и в Новое время рассматривалась под
углом зрения умаления imago и выдвижения на первый план similitudo;
было указано также на то, что эту историю можно прочитывать как
историю прогресса (вместе с Кобушем) или (вместе с Томбергом) как
историю упадка. Софиологическое истолкование истории Соловьевым
исходит из того, что глубинные движущие силы этого развития можно
познать, перенося евангельскую историю искушений в
общечеловеческий исторический план. Предпосылкой для такого истолкования
истории служит предложение Соловьева разделить развитие космоса
и человечества на четыре потока, выступающих последовательно один
за другим:
1. Первобытная космическая история, движущей силой которой
является стремление Софии произвести во взаимодействии с космическим
Логосом человека в качестве образа и подобия Божиих. Эта история
пришла к своему концу вместе с появлением человека, — цели всего
космического и природного процесса.
2. Предшествующая Христу история собственно человечества, в
начале которой произошло падение человека из первобытного состояния
в природное и общественное состояния. Эта история есть результат
двух устремлений: с одной стороны, это продолжающееся соединение
человека со злым началом, которое из-за грехопадения человек
воспринял в свое существо и которому продолжает следовать; и, с другой
стороны, это стремление Софии и Логоса подготовить в границах этого
е^ 310 ^5
б^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^9
движения, обусловленного грехопадением, с помощью теофаний и
инспирации народов пришествие Богочеловека. Это развитие с
выступлением Иисуса Христа достигло своей цели.
3. Новая история, протекающая в конкретной биографии — в
страдании, смерти и воскресении одного человека, Иисуса Христа, — история,
начавшаяся с Христовым рождением и закончившаяся Его вознесением
на небеса. И поскольку биография Иисуса Христа есть история
полностью осуществившейся богочеловеческой жизни, — история, в которой
Божественное, человеческое и природное начала приведены в полное
созвучие, — она представляет собой образец для возрождения всего
творения, целиком осуществленный в одном существе.
4. Дальнейший ход развития, начавшегося с грехопадения, —
развития, которое получило новый толчок благодаря пришествию «нового
Адама» и тем самым сделалось совершенно новой историей. Но из-за
того, что совершенная жизнь Иисуса Христа прошла в области падшего,
дегенерировавшего общественного состояния, имеет свое продолжение
также и история «ветхого Адама». С того времени оба потока
пересекаются и противостоят один другому как свет и тьма80 или же спасение и
проклятие, между коими человечество должно выбирать. Ибо если древняя
история была историей приготовления, то новая является историей
решения.
Эта «смена парадигм» выражается в том, что каждый человек,
который благодаря своему внутреннему обращению соединяется с Христом,
может возвыситься до нового общественного состояния, открытого
Христом. Тем самым человек дистанцируется от своей собственной
природы — от «ветхого Адама» в самом себе, где продолжают господствовать
законы падшего бытия и злое начало, которое искушает все человечество
до тех пор, пока не будет преодолено человечеством с той же полнотой,
с какой оно было преодолено Богочеловеком в начале нового
исторического процесса. И так как человечество в качестве сообщества
личностей обнаруживает те же самые три основные элемента, что и отдельная
личность (то есть дух, разум и чувственно воспринимающую душу),
злое искушение встречает все человечество в тех же трех образах, в
которых оно встречало Богочеловека Христа. Разумеется, эта встреча
происходит в обратном порядке, о чем сейчас и пойдет речь.
Благодаря тому что откровение Божественной истины во Христе уже
было дано человечеству и человечество владеет этой истиной как
действительным историческим фактом, первым может подступить к
человечеству, исповедающему Христа, искушение рассматривать зло в качестве
средства всемирного распространения христианства. Это
использование зла во имя добра есть грех духа, «зло нравственное по
преимуществу, т. е. то, что у Христа было последним искушением (по евангелисту
Матфею)»81 — искушением волей к власти. Так как это злоупотребле-
С^ 311^5
(^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ "^Э
ние направлено против человеческого разума, то, во-вторых,
человечество может подвергнуться искушению целиком и полностью опереться
на разумное начало и познавать человеческое общество и природу,
исходя исключительно из рациональных источников. Но поскольку
высокомерие рационализма разбивается о человеческую слабость и внешнюю
реальность, человек, в-третьих, может быть искушен тем, чтобы
рассматривать физически-материальные закономерности мира в качестве
первоосновы природы и истории, а благо свое искать в материализме.
а) Искушение волей к власти
Если вместе с Соловьевым исходить из того, что, благодаря
историческому явлению Христа и основанию Им и Его апостолами
христианства, человечество разделилось на две части — на христианскую eccleüa,
которая следует за новым Адамом, которой доверена Божественная
истина и которая является представительницей на земле воли Божией, —
и на весь остальной мир, продолжающий следовать за ветхим Адамом
или ожидать пришествия Спасителя, на мир, находящийся вне
христианства и ничего не знающий о факте жизни Христа или же не
признающий за ним никакого значения, — в таком случае перед христианами,
облеченными определенной миссией, встает вопрос, как им надлежит
осуществлять встречу с этой прочей частью человечества. Здесь
возможны два пути. Или христиане показывают пример своей обновленной
жизни, действуя из христианской истины и любви, или же они пытаются
вынудить остальное человечество к принятию истин христианской веры.
Таковы те люди, которые верят в Христову истину, не испытывая при
этом нужды в том, чтобы быть возрожденными этой истиной (в смысле
беседы Христа с Никодимом). Они воодушевляются идеей и даже видят
свой долг в том, чтобы насильно обращать в христианство весь внешний
мир. В понимании раннего Соловьева, римско-католическая Церковь,
начиная со Средних веков и в Новое время (инквизиция), избрала этот
путь принуждения, который достиг кульминации в иезуитстве82. Тем
самым Церковь подпала третьему искушению в пустыне (согласно
Евангелию от Матфея) — искушению волей к власти, — тем, что
противоположно истинной христианской вере. Ибо «при действительной вере в
истину Христову предполагается, что она сильнее царствующего в мире
зла и может сама, собственной своей духовной нравственной силой
покорить зло, т. е. привести его к добру; предполагать же, что истина
Христова, т. е. истина вечной любви и безусловной благости, для своего
осуществления нуждается в чуждых и даже прямо противных ей средствах
насилия и обмана, значит признавать эту истину бессильной, значит
признавать, что зло сильнее добра, значит не верить в добро, не верить
в Бога»83.
е% 312 ^Э
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
Именно потому, что в основе церковного принуждения лежит
недостаточная вера в действительность Бога, с неизбежностью должно было
возникнуть течение, которое ставит во главу угла индивидуальную веру.
Таким течением стало протестантство. «Протестантство восстает
против католического спасения как внешнего факта и требует личного
религиозного отношения человека к Богу, личной веры без всякого
церковного традиционного посредства»84.
Разумеется, личная вера поначалу есть лишь субъективный факт;
опирается ли она также и на объективную истину, ей невозможно решить
лишь из себя самой. Поэтому протестантство также ищет объективного
обоснования в качестве критерия и гарантии своей истинности. Это
обоснование протестантство находит в факте Священного Писания, то
есть в некоей книге. Но тем самым протестантская вера оказывается
перед новой проблемой, ибо книга должна быть понята и верно
истолкована, а для этого необходимы исследование и размышление. Однако оба
они суть виды деятельности человеческого разума. Поэтому в конечном
счете они выступают также и в качестве действительного источника
религиозной истины, «так что протестантство естественно переходит в
рационализм, — переход и логически неизбежный, и исторически
несомненно совершающийся» к.
Ь) Искушение рационализмом
Сущность рационализма заключена в убеждении, что человеческий
разум является своим собственным законодателем, и это
законодательство должно распространиться на все, что существует в практической
и общественной сфере. Эта аксиома требует, чтобы вся общественная
и политическая жизнь строилась и управлялась исключительно на тех
основаниях, которые выработаны и развиты одним человеческим
разумом. Всякая традиция и всякая непосредственная вера тем самым
ставятся под вопрос и подвергаются критике. Эта просвещенность человека
относительно тех условий, которые, в отсутствие критики, удерживали
его в состоянии суеверия, зависимости и управляемости извне
(гетерономия), определила собой XVIII столетие. Просвещение, «выход
человека из допущенного им самим несовершеннолетия» (Кант), сделалось
также политическим лейтмотивом Французской революции. Для
Соловьева к рационализму принадлежит в существенном смысле попытка
вывести (a priori) содержание всякого знания из одного разума и
осмыслить любую науку в качестве умозрительного саморазвития чистого
разума86. Такие самоуверенность и самоутверждение разума в жизни и
знании были ложным в нравственном отношении развитием, в основе
которого — искушение духовной гордыней и высокомерием: «Западное
человечество в протестантстве и вышедшем из него рационализме под-
е^313^)
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
пало второму искушению. Но ложность этого пути скоро обнаружилась,
обнаружилась в резком противоречии между чрезмерными
притязаниями разума и его действительным бессилием. В практической области
разум оказался бессильным против страстей и интересов, и
возвещенное Французской революцией царство разума окончилось диким хаосом
безумия и насилия; в области теоретической разум оказался
бессильным против эмпирического факта, и притязание создать универсальную
науку на началах чистого разума разрешилось построением системы
пустых отвлеченных понятий»87.
Конечно, Соловьев допускает, что выявленная им неудача
Французской революции и немецкой философии сама по себе еще не является
доказательством несостоятельности рационализма. Но в «историческом
крушении» рационализма выражается его имманентное логическое
противоречие — противоречие между относительной природой разума и его
абсолютными притязаниями: «Разум есть некоторое отношение (ratio)
вещей, сообщающее им некоторую форму. Но отношение предполагает
относящихся, форма предполагает содержание; рационализм же, ставя
разум человеческий сам по себе верховным началом, тем самым
отвлекает его от всякого содержания и имеет в разуме лишь пустую форму; но
вместе с тем, вследствие такого отвлечения разума от всякого
содержания, от всего данного в жизни и знании, все это данное остается для него
неразумным, поэтому когда он с сознанием своих верховных прав
выходит против действительности в жизни и знании, то находит в ней все
для себя чуждым, темным, непроницаемым и ничего с нею сделать не
может; ибо разум, отвлеченный от всякого содержания, превращенный
в пустое понятие, естественно, не может иметь никакой власти над
действительностью. Таким образом, самовозвышение человеческого разума,
гордость ума — ведет неизбежно к его конечному падению и унижению» **.
В Западной Европе рационализм был пережит людьми на собственном
опыте и по причине его неплодотворности отвергнут. Конечно, некогда
начатый путь далее уводил вниз: если западное человечество поначалу
спустилось с «весьма высокой горы» средневековой веры,
пронизывающей все области человеческого общества и исходящего из нее
богословия, на «крыло храма» рационализма, то снижение и упадок
рационализма свели западное человечество на твердую почву объективных фактов.
В этой «пустыне» эмпиризма и чувственности к западному
человечеству подступило третье искушение — материализм.
с) Искушение материализмом
Так как разум человека не смог обрести господства ни над его
страстями и личными интересами, ни над фактами эмпирической
действительности, человек вынужден был признать, что материальное начало оказа-
(^314^)
<c^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^Э
лось сильнее его разума. Потому это было лишь вопросом времени —
осознание материального начала как самой сути жизни и
действительности, как подлинного ядра вещей. Но если животная природа человека
и физически-материальный механизм мира занимают центральное место
в жизни и науке, то неизбежным следствием этого становится
стремление к возможно большему удовлетворению материальных потребностей
и к более полному познанию эмпирических фактов89. Господство
рационализма в европейской политике и науке сменилось поэтому
материализмом и позитивистским эмпиризмом90. Но также и этот путь ложен,
поскольку чувственно-материальная сторона бытия — порывы и
страсти человеческой природы, а также факты внешнего опыта — хотя и
составляют общую основу жизни и науки, но они суть лишь материал,
нуждающийся для своей организации и оформления в формальном
единящем начале. Так как материальная сторона жизни и знания из самой
себя не в состоянии что-либо породить, — ни человеческого общества,
ни науки, — на ней одной ничего построить нельзя. Данный вывод
Соловьев облекает в пророчески звучащие слова: «Поэтому когда мы видим,
что экономический социализм хочет в основу всего общества положить
материальный интерес, а позитивизм в основу всей науки —
эмпирическое познание, то мы можем заранее предсказать неудачу обеим этим
системам с такою же уверенностью, с какою мы бы утверждали, что куча
камней сама собою, без архитектора и плана, не сложится в правильное
и целесообразное здание»91.
Попытка построить жизнь и науку на одном материальном начале,
«попытка на деле и до конца осуществить ту ложь, что о хлебе едином
жив будет человек»92, осуждена на крушение, ибо она «неизбежно
привела бы к распадению человечества, к уничтожению общественности
и науки, к всеобщему хаосу»93.
6. СИНТЕЗ ЗАПАДА И ВОСТОКА
Описание Соловьевым истории западного человечества в виде
истории искушений и в особенности его критика западного рационализма
могут навести на мысль, что он считает эту историю сплошной ошибкой
и противопоставляет ей путь восточного православия. Но для Соловьева
речь идет не о фундаментальной критике Запада и не об апофеозе
Востока, но с самого начала — о великом синтезе Запада и Востока. Чтобы
обосновать историческую необходимость этого синтеза, Соловьев
должен был показать ложь одностороннего развития как Запада, так и
Востока, а также нужду в их взаимном восполнении.
В соответствии с этим Соловьев подвергнул развитие восточного, ви-
зантийско-славянского христианства столь же радикальной критике, что
(^ 315^3
e^ часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
и развитие западного христианства. Правда, он считал преимуществом
Византии и народов, воспринявших византийскую культуру (здесь
Соловьев в первую очередь имеет в виду Россию), то, что они остались в
стороне от западного пути и не подпали трем искушениям злого начала.
Однако хотя Восточная Церковь сохранила Христову истину в душе
своих народов, тем не менее эта истина не осуществилась во внешней
действительности: Восточная Церковь «не дала ей реального выражения,
не создала христианской культуры, как Запад создал культуру
антихристианскую» 94.
Причина того, почему Восточная Церковь не смогла осуществить
христианскую истину, заключена в исторической необходимости
односторонней реализации этой истины. Ибо для Соловьева задачей
истинно христианской культуры является «установление во всем обществе
человеческом и во всех его деятельностях того отношения трех начал
человеческого существа, которое индивидуально осуществлено в лице
Христа. Это отношение <...> состоит в свободном согласовании двух
низших начал (рационального и материального) высшему
Божественному чрез их добровольное подчинение ему не как силе, а как благу» 9Г\
Но это согласование может быть по-настоящему свободным, только если
оба низших начала придут изнутри, из себя самих, и безо всякого
принуждения к признанию высшего начала, что возможно лишь тогда, когда
наивысшее начало, т. е. благо и любовь, исключает возможность любого
принуждения. Два низших начала сами по себе представляют
собственно человеческий независимый принцип. Однако именно для
православной Церкви, по мысли Соловьева, характерным было то, что огромное
большинство ее членов следовало христианской истине по
непосредственному влечению, а не пришло к ней сознательным ходом своей
внутренней жизни. Собственно человеческий элемент оказался слишком
слабым и недостаточным для свободного и разумного проведения
Божественного начала во внешнюю действительность. Но при этом не
связанная с христианством материальная действительность осталась вне
Божественного начала, следствием чего стал некий дуализм между
Богом и миром96. Согласно Соловьеву, искажение и отвержение
христианской вести на Западе по причине преувеличения роли рационального
и эмпирического начал противостояло несовершенству развертывания
христианской истины на Востоке, вызванному ограничением там
рационального и эмпирического начал. Если преодолеть эти
односторонности, то Запад и Восток должны будут соединиться: «Это несовершенство
[Востока], зависящее от слабости человеческого начала (разума и
личности), могло быть устранено только с полным развитием этого последнего,
которое и выпало на долю Запада. Таким образом, это великое западное
развитие, отрицательное в своих прямых результатах, имеет косвенным
образом положительное значение и цель»97.
е^ 316 #5
C^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^)
Если богочеловеческое сообщество, представленное Соловьевым в
качестве существенной цели истории, в соответствии со своим архетипом,
Богочеловеком, должно явить в себе свободное взаимодействие
Божественного и человеческого начал, то оно нуждается как в действии
Божественной силы, так и во взаимодействии с ней силы человеческой.
Отсюда возникает требование того, «чтобы общество, во-1-х, сохраняло
во всей чистоте и силе Божественное начало (Христову истину) и, во-2-х,
со всею полнотою развило начало человеческой самодеятельности»98.
Соловьев был того мнения, что совершенное осуществление этих двух
полюсов человеческого бытия, которые прообразовательно были
вычеканены в Иисусе Христе, в человечестве не могут быть осуществлены
сразу и в совершенстве. Скорее, «по закону развития или роста Тела
Христова совместное исполнение этих двух требований, как высший
идеал общества, не могло быть дано разом, а должно быть достигаемо, т. е.
прежде совершенного соединения является разделение, которое при
солидарности человечества и вытекающем из нее законе разделения
исторического труда выражается как распадение христианского мира на две
половины, причем Восток всеми силами своего духа привязывается к
Божественному и сохраняет его, вырабатывая в себе необходимое для
этого консервативное и аскетическое настроение, а Запад употребляет всю
свою энергию на развитие человеческого начала, что необходимо
совершается в ущерб Божественной истине, сначала искажаемой, а потом и
совсем отвергаемой» ".
Сохранение и отражение Божественной истины выше было связано
с imago, а свободная творческая деятельность человека — с similitudo.
Тезис Соловьева, по которому эти два начала развивались раздельно,
можно соотнести с тем фактом, что историю Востока (в частности,
Индии) можно осмыслить в принципе преимущественно под углом зрения
образа, imago (в индийской Санкхья обозначенного как «пуруша»), а
историю Запада — в основном в связи с подобием, similitudo (в Санкхья
названном «ахамкара» и считающимся пустой иллюзией). Если теперь
исходить из того, что также и восточное христианство стояло скорее под
знаком образа, а западное христианство — в основном под знаком
подобия, несущего в себе следы первородного греха, а потому подверженного
все новым падениям, — то тезис Соловьева делается понятнее: уясняется,
почему восточное христианство сохранило, хотя также в
несовершенном виде, Божественную истину, в то время как западное христианство
встретилось и встречается лицом к лицу с тремя искушениями. И тогда
становится очевидно, «что оба эти исторические направления не только
не исключают друг друга, но совершенно необходимы друг для друга
и для полноты возраста Христова во всем человечестве; ибо если бы
история ограничилась одним западным развитием, если бы за этим
непрерывным потоком сменяющих друг друга движений и взаимно унич-
е^317^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^)
тожающихся принципов не стояло неподвижное и безусловное начало
христианской истины, все западное развитие лишено было бы всякого
положительного смысла, и новая история оканчивалась бы распадением
и хаосом. С другой стороны, если бы история остановилась на одном
византийском христианстве, то истина Христова (Богочеловечество) так
и осталась бы несовершенною за отсутствием самодеятельного
человеческого начала, необходимого для ее совершения. Теперь же сохраненный
Востоком Божественный элемент христианства может достигнуть своего
совершения в человечестве, ибо ему теперь есть на что воздействовать,
есть на чем проявить свою внутреннюю силу именно благодаря
освободившемуся и развившемуся на Западе началу человеческому» 10°.
Соловьев был того мнения, что Богочеловечество осуществится через
соединение двух географически разделенных между собой начал:
Божественного, данного в откровении, и осуществляющегося человеческого,
причем «в истории христианства представительницею неподвижной
Божественной основы в человечестве является Церковь Восточная,
представителем человеческого начала — мир Западный»101. Если это
соединение должно быть свободным, то оно не может осуществляться с
помощью насилия со стороны Божественного начала, но должно свободно
исходить из творчески активного человеческого начала. Это означает
то, что Западу дано задание в конце его пути ошибок и искушений
стремиться к соединению с Божественным началом, сохраненным на
Востоке. Тогда человечество поймет, что эти ошибочные пути были оба
абсолютно необходимы, ибо прежде чем разум сможет сделаться началом,
оплодотворяющим Церковь, ему нужно было отдалиться от нее, чтобы
на свободе развернуть все свои силы. Ибо лишь «после того как
человеческое начало вполне обособилось и познало затем свою немощь в этом
обособлении, может оно вступить в свободное сочетание с
Божественною основою христианства, сохраняемою в Восточной Церкви, и
вследствие этого свободного сочетания породить духовное человечество» Ш2.
Необходимость или, по меньшей мере, возможность такого синтеза
предполагает, что те пути, которыми прошел на Западе человеческий
разум, хотя и могут считаться сами по себе ложными и окольными,
однако они имели определенную направленность и преследовали некую
цель. По Соловьеву, цель эта — великий синтез или всеединство, в
котором Богочеловечество осуществляется как «контрпроект» по
отношению к сверхчеловечеству Ницше, которое является одним из возможных
результатов одностороннего западного развития. Ибо, как было
показано в этой главе, софиология — это действительно философия свободы.
Этот новый тип философии вместе с его главными положениями был
подготовлен западной метафизикой свободы; однако он преодолевает
кризис последней и указывает перспективу развития. Задачей Соловьева
было прежде всего обоснование этого утверждения, что привело к «чте-
е^318^с)
Сг^ VIII. Софиология как метафизика свободы ^
ниям о Богочеловечестве». Но если различные теоретические позиции,
возникавшие одна за другой в метафизической традиции Нового
времени, фактически вливаются в перспективу софиологии, то можно
показать, что те отвлеченные начала, которые при этом породило западное
мышление и на которых оно застыло, приведут ко всеединству, если они
последовательно критикуются в их ограниченности и односторонности
и снимаются, преодолеваются в ходе диалектического развития мысли.
За философски-богословским введением представления о
Богочеловечестве (1878 г.) последовала «Критика отвлеченных начал». В 1879—
1880 гг. Соловьев совершенно закономерно берется именно за этот труд,
который становится его докторской диссертацией.
Как будет показано в следующей главе, софиология превращается при
этом в такую философию, в которой вновь воскресает изложенная в
главе VI субстанциально-онтологическая метафизика сущности, —
воскресает в видоизмененной форме, соответствующей философскому
развитию Нового времени.
IX
СОФИОЛОГИЯ КАК МЕТАФИЗИКА СУЩНОСТИ
Критика отвлеченных начал
и осуществление всеединства
Решить вопрос об истине какого-либо предмета мы
можем лишь в том случае, если мы знаем, в чем состоит
истинность вообще, то есть мы имеем критерий истины, —
вопрос об истине предмета предполагает вопрос об
истинности познания, задача метафизическая требует
предварительного решения задачи гносеологической...
Владимир Соловьев1
1. ВВЕДЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ «СОБОРА ПОЗНАНИЯ»
своей «Критике чистого разума» Кант подвергнул исследованию
три основных познавательных начала средневековой
метафизики сущности — sensus, ratio и intellectus, — подвергнул с целью
выяснить, могут ли они рассматриваться в качестве
«строительных камней» для выдерживающего все удары критики
здания философской мысли, однозначно приводящей к Богу. Sensus
обсуждался в «Трансцендентальной эстетике», ratio — в «Трансцендентальной
аналитике» и intellectus — в «Трансцендентальной диалектике».
Критика Канта оказалась сокрушительной для отдельных познавательных
способностей и для возможности познания природы и Бога; ее
результаты сопоставимы с последовательным систематическим разрушением
«средневекового собора познания»2.
Примененный в соловьевской диссертации метод также является
критикой, благодаря чему Соловьев оказывается включенным в послекан-
товскую философскую традицию. Конечно, метод этот не есть критика
в понимании, например, Канта. Соловьев ставит перед собой задачу
«проинформировать» разум относительно его собственной деятельности,
чтобы разум опознал себя в качестве того, чем он, собственно, по
Соловьеву, является, — в качестве становящегося разума истины. В первой
части своего труда Соловьев идет к своей цели, исследуя каждое
отдельное положение моральной философии, а во второй части — изучая по-
С^ 320^5
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
ложения учения о познании. Разумеется, эта принципиальная критика
отдельных начал одновременно представляет собой некое органическое
движение, которое не дает мысли остановиться на каких-либо
отвлеченных началах, но вовлекает ее в диалектический процесс, проводя ее через
каждое отдельное абстрактное начало и его значение для
мировоззрения. Мышление не застывает на каком-либо определенном начале; оно
также не исчерпывается одной критикой этих начал: оно движется
вперед, проходя весь ряд возможных этических и
теоретико-познавательных точек зрения. Если мышление обращается при этом к наблюдению
за своим собственным движением, то обнаруживается некий ascensus —
тянущаяся снизу вверх органическая цепочка ставших
самостоятельными отвлеченных начал старой метафизики. При этом в атмосфере
становления истины происходит оживление и развитие философского разума.
Отдельные точки зрения больше не кажутся лишь «развалинами»,
которые философская мысль Нового времени оставила позади себя в своем
аналитическом движении: они предстают в качестве вех, которые
указывают разуму путь к постижению всеединящей идеи, или идеи
всеединства как живого существа — Софии.
Осмысляя отвлеченные начала и свою критическую задачу, Соловьев
использовал различные выражения3. Но нет сомнения в том, что
существует тесная связь между тем, что Шеллинг называл «отрицательной
философией», а Соловьев — «отвлеченными началами». Так как
«Критика отвлеченных начал» целиком и полностью осуществляется
философским разумом и потому разум остается в своих пределах, эта критика
все еще является «отрицательной философией»; однако в конце концов
здесь возникает нужда в науке другого типа — в свободной теософии,
которую можно было бы поэтому сопоставить с «положительной
философией» Шеллинга, несмотря на то что последнюю, как показано в
главах II и III, Шеллинг как раз хочет дистанцировать от какого бы то ни
было теософизма. Но из рассуждений в конце данной главы вытекает,
что ту разновидность свободной теософии, которую имеет в виду
Соловьев, нельзя спутать с «теософизмом», от которого Шеллинг отличает
положительную философию.
«Критика отвлеченных начал», однако, не только сближается с
положительной философией Шеллинга: она открывает также в условиях
Нового времени путь к метафизике сущности, поскольку в своем развитии
она как бы проходит через все философские позиции Нового времени.
Чтобы понять метод и предмет «Критики отвлеченных начал» в этой
перспективе современной метафизики сущности, нам достаточно
ограничиться критикой Соловьевым в конце второй части его сочинения
тех начал, которые были представлены в метафизике сущности (sensus,
ratio, intellectus, Deus; см. гл. VI данной книги); при этом мы там, где
необходимо, привлекаем для обсуждения мысли Шеллинга и Булгакова.
е^ 321 ^э
(г^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^z)
Соловьев, как и Кант до него, вначале выясняет границы этих начал
и указывает на возможность их преодоления на пути к познанию
истины. Основные направления мысли, которые соответствуют этим
началам (эмпиризм, рационализм, идеализм и богословие), однако, не только
анализируются с помощью диалектического метода, но также
оказываются ступенями развития разума в направлении всеединства, — т. е.
постепенное самотрансцендирование разума приводит к тому, что sensus,
ratio и intellectus заново восстанавливаются в мышлении в этой
последовательности, а отвлеченное начало богословия преодолевается
началом мистическим, создающим возможность для реализации всеединства
или Софии.
2. SENSUS И ЕГО КРИТИКА
Мировоззрение, опирающееся на один sensus, называется эмпиризмом.
Разумеется, эмпиризм — это неоднородная система, и он имеет
различные формы. Прежде всего, эмпиризм включает в себя постулат,
согласно которому единственным непосредственным источником познания
служит чувственное восприятие объективных фактов. Мы познаем не
сам по себе факт, — и здесь ошибка наивного реализма, — но скорее
познаем факт в его явлении для нас, т. е. таким, каким он дан нам в нашем
восприятии. Поэтому для критического реализма, т. е. эмпиризма,
единственно возможными предметами нашего познания являются наши
субъективные состояния (чувственные восприятия, представления, понятия),
которые возникают в нас благодаря восприятию внешнего мира. Эти
состояния отличаются от других субъективных состояний нашей души
(мыслей, желаний, фантазий, воспоминаний) тем, что мы не сами
вызываем их, они порождены не нашей активностью: в основе их находятся
восприятия внешнего мира, и мы лишь пассивно переживаем эти
состояния. Так как восприятия совершаются с помощью наших чувств, то
этим последним принадлежит решающая роль в познании. В силу всего
сказанного первую ступень эмпиризма можно назвать сенсуализмом.
Но представим себе, что эти субъективные состояния, опосредованные
чувствами, изменяются. Они приходят и уходят, ничего пребывающего
в них обнаружить нельзя. Как нам убедиться в том, что эти чувственные
восприятия основаны на истине? Что придаст им устойчивую,
пребывающую (ибо истина есть то, что устойчиво пребывает в явлениях) связь?
Если мы сравним между собой чувственные восприятия, то мы
можем заметить, что все они протекают сходным образом, следуют некоему
определенному правилу. Устойчивым в текучих чувственных
восприятиях является присущее всем им это общее правило или их
закономерность. Само по себе правило это не относится к чувственной области, но
(2^322^3
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
его представляет язык, который выражает наши субъективные
восприятия. Таким образом, сенсуализм выходит за свои пределы. Исследование
языка, который обращается к нам в наших чувственных восприятиях, т. е.
установление их закономерностей и порядка, происходит с помощью
научных исследований, метод которых характеризует научный эмпиризм —
вторую, собственную ступень эмпиризма. Но если бы существовали
лишь различные конкретные законы, которые изучает эмпиризм, то мы
очутились бы перед необозримым количеством предметов
исследования, имеющих между собой лишь одну общую черту — обнаруживать
себя в форме соответствующего конкретного закона; мы, таким образом,
имели бы столько наук, сколько существует эмпирических
закономерностей, — т. е. у нас вообще не было бы никакой обобщающей науки.
Однако выясняется, что сами конкретные законы определенным
образом связаны между собой; они открывают общие структуры или начала
и возводятся к единой системе.
Обнаружение этой общей системы законов и начал и ее дальнейшая
разработка составляют задачу позитивизма. Позитивизм есть, тем
самым, третья и высшая ступень эмпиризма; он ориентирован на систему,
внутри которой получают объяснение как отдельные эмпирические
данные и факты, так и те закономерности, которые в них раскрываются.
Поэтому определения истины, основывающиеся на трех указанных
ступенях эмпиризма, таковы: «1) истина есть действительное явление,
данное нам в ощущениях внешних чувств (сенсуализм); 2) истина есть
необходимый закон явлений, открываемый научным опытом (эмпиризм
в собственном смысле); 3) истина есть всеобщая система явлений,
познаваемая наукою как таковою, или системою всех наук (позитивизм)»4.
а) Сенсуализм
Рассмотрим последовательно одну за другой три ступени эмпиризма.
Основной догмат сенсуализма гласит: в восприятиях внешних чувств,
и только в них, мы познаем объективную действительность явления
или явление как объективно действительное.
Однако только ли в восприятии дана нам объективная
действительность явления? Если, к примеру, я рассматриваю розу — с ее красным
цветом, гармоничной формой, нежным запахом и шипами, то
воспринимаю ли я действительно ее в качестве определенного предмета только
с помощью моих чувств? Конечно, все, что я вижу, обоняю, ощущаю на
вкус, осязаю, — это не роза, а нечто красное, эфирное, благоухающее,
острое. Хотя я воспринимаю нечто из того, что присуще розе (ее цвет, запах,
поверхность), у меня, однако, нет возможности воспринять с помощью
чувств саму розу в ее целостности: у меня нет органа для чувственного
восприятия упорядоченной целостности предмета. Собрать в единый,
С^323^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
индивидуальный образ некую чувственную данность мои чувства не в
состоянии: в соответствии со своим устроением, они передают мне
множество оптических, акустических, обонятельно-вкусовых и осязательных
данных. Но дело не обстоит так, что на меня обрушивается лавина
всевозможных красок, запахов, шумов и т. д., что происходило бы в том
случае, если бы я, познавая мир, опирался лишь на свои чувства. Тому, что
я не нахожусь в какой-то мешанине неустойчивых, бесформенных
чувственных восприятий, а представляю розу в ее устойчивом единстве,
я обязан отнюдь не чувственности. «Таким образом, для того чтобы из
таких данных, которые не представляют сами по себе ни определенного
единства, ни объективной реальности, образовать определенное
объективное явление, очевидно, необходим некоторый самостоятельный (то
есть не заключающийся в ощущениях как таких) акт, который мы и
называем воображением.
Итак, действительность объективного явления дается не
чувственным опытом, а воображением; она открывается не в ощущениях чувств,
а в образах или идеях ума»5.
То, что розу делает розой, это не чувственное восприятие, ибо
последнее передает мне лишь ее чувственно воспринимаемые свойства: тому,
что я собираю эти свойства в конкретный предмет, розу, я обязан скорее
тем, что Соловьев именует воображением. И, согласно Соловьеву, это
воображение оперирует понятиями и идеями рассудка. Следовательно,
понятие (или идея) розы, которое объединяется с восприятием в
воображении или представлении этой розы, относится как к розе, так и к ее
восприятию. Объединение восприятия и понятия происходит также
и тогда, когда мы воспринимаем нечто поначалу лишь в качестве
предмета, без дальнейших его определений: ибо в каком бы общем и
неопределенном виде мы ни воспринимали предмет, в нем уже присутствуют
рассудочные определения, — по крайней мере, то, что он есть нечто
существующее, действительное*. Итак, средствами одной лишь
восприимчивости предмет как таковой не может быть нам дан. Тем самым, при
более точном рассмотрении основной постулат сенсуализма терпит
крушение: объективная действительность конкретного предмета никак не
может быть мне передана посредством одной голой восприимчивости;
для того чтобы мне вообще могло быть передано из сферы
чувственности нечто определенное у при этом предмете должны присутствовать
определения рассудка
Ь) Научный эмпиризм
Научный эмпиризм тем отличается от голого сенсуализма, что он
отвечает на вопрос: «Откуда берутся определения предмета?» А именно,
эти устойчивые определения я получаю с помощью точного научного
С^ 324 ^э
(г^ IX. Софиология как метафизика сущности ^)
наблюдения и последующего абстрагирования существенных
признаков в каждом конкретном случае: «Исходя из данных непосредственного
опыта, наука путем повторенных наблюдений и экспериментов
(индуктивная сторона науки), путем аналогий, вычислений и выводов
(дедуктивная часть науки) освобождает явление от его изменчивых и
случайных элементов, выделяет из него необходимое и постоянное, открывает,
таким образом, его закон»7.
Закон, к которому приходит научный эмпиризм, есть, следовательно,
нечто в качественном отношении совершенно иное, чем отдельный
чувственно воспринимаемый факт: этот последний есть некое явление,
которое наличествует в тех или иных моих восприятиях; закон же должен
быть таким фактом, который значим независимо от моих конкретных
восприятий, — значим для сколь угодно большого числа аналогичных
случаев. Факт случаен, закон должен обладать необходимостью. Но и
теперь подобный закон, в соответствии с предпосылками эмпиризма,
дается мне опять-таки исключительно посредством восприятия. Хотя я
должен многократно и точно проводить наблюдения некоего факта, чтобы
обнаружить лежащий в его основе закон, но тем источником,
посредством коего мне дается закон, служит одно это определенное,
повторяющееся восприятие; закон — это лишь абстракция конкретного случая.
Однако все, данное мне в восприятии, всегда есть лишь некий
конкретный, здесь и теперь совершающийся, мною воспринятый факт, ибо
«нам доступны только фактические явления в их также фактических
взаимоотношениях подобия, сосуществования (в пространстве) и
последовательности (во времени)»8. Среди именно таких внешних
взаимоотношений научный эмпиризм различает, с одной стороны, изменчивые
и непостоянные, а с другой — неизменные и абсолютно устойчивые. Но
каков критерий различия случайного и закономерного,
относительности и абсолютной значимости? Чувственно воспринимаемая
действительность всегда предоставляет в мое распоряжение лишь конкретное,
совершающееся здесь и теперь. И если даже это конкретное раньше всегда
повторялось, мир внешних восприятий не дает мне никаких оснований
утверждать, что в будущем не произойдет ничего другого; всякое
высказывание относительно будущего есть рассудочный вывод, а не
чувственно воспринимаемая реальность. Но что это за вывод? Может ли он
извлечь свою материю из одной чувственности? Если бы это было так,
вывод этот не мог бы претендовать на абсолютное, т. е. всеобщее
значение. Правда, я могу сказать, что, вероятно, процесс, наблюдаемый мною
в данный момент, будет протекать также и в ближайший, и во все
последующие моменты, — протекать с уже наблюдавшимися, сопоставимыми
результатами; но поскольку, согласно предположениям научного
эмпиризма, я всегда вынужден ограничиваться эмпирическими
восприятиями, я обязан в каждом новом случае проверять лишь эмпирическим
мест^ 325 ^5
(^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^5
тодом, действительно ли он соответствует уже наблюдавшимся
процессам. Поэтому на пути эмпиризма я не в силах найти закона, обладающего
абсолютной значимостью не только для прошлого, но также и для
будущего. Но если нет закона абсолютно значимого, то вообще нет никакого
всеобщего закона. Если нет никакого всеобщего закона, тогда
существуют только вероятности тех или иных степеней. Если существуют лишь
большие или меньшие вероятности, тогда нет никакого общего
масштаба, в соответствии с которым я могу оценить эти «большие» или
«меньшие». А потому как эмпиризм может обосновать различение закона и
явления? Почему эмпиризм принимает какие-то фактические отношения
между явлениями за неизменные и устойчивые? Какие гарантии их
устойчивости и сопряженной с ней относительной необходимости он
может предоставить? «Представители научного эмпиризма, при
отсутствии настоящих оснований для утверждения неизменности законов
явлений, вынуждены прибегать к таким основаниям, которых
несостоятельность и даже странность с точки зрения эмпиризма бросается в
глаза; таково знаменитое положение, что природа однообразна и постоянна
в своих действиях. <...> Выражение "природа однообразна и неизменна
в своих действиях" есть только другой оборот речи для утверждения,
что законы явлений неизменны; но ведь именно это-то утверждение и
составляет вопрос, его-то и следует обосновать; ссылаться же для этой цели
на неизменность природы — значит основывать неизменность законов
природы на простом утверждении этой самой неизменности, значит
впадать в circulus vitiosus [порочный круг] и доказывать idem per idem [то же
самое через то же самое], причем грубость логической ошибки только
маскируется метафорическим выражением "природа и ее действия"»9.
Итак, эмпиризм или продолжает догматически отстаивать свою
позицию, отказываясь от всякого дальнейшего размышления, или же он
вспоминает об участии мышления в установлении всякого закона. Мышление
имеет прямое отношение к тому, что делает закон законом, ибо закон
есть не что иное, как сформулированная устойчиво-конкретная мысль.
Его структура — это как бы выведенный на поверхность поток
мышления; и так как этот поток движется непроизвольно, как происходит в
случае «я мыслю», но общей формулой его движения служит тезис
«необходимо мыслить именно так» (то есть каждый, кто пользуется мышлением,
с необходимостью приходит к признанию этого закона), то этот
мыслительный поток обладает закономерностью. При этом движение мысли
совершается отнюдь не в одной чистой эмпирии, ибо, как показано
выше, оно в противном случае никогда не достигло бы всеобщности и
необходимости. То, что сообщает ему необходимость, — это скорее идея.
Никакой абсолютно значимый закон не может проистекать из одной
области эмпирии: это, впрочем, явствует уже из того факта, что идея
абсолютно значимого закона, которая прежде всего мотивирует искания
С^ 326 ^3
(^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
научного эмпиризма, сама не может быть извлечена из чувственного
восприятия. Эта идея — чисто умозрительного происхождения и
коренится исключительно в мышлении. И подобно тому как идея
закономерности наблюдаемого мира проистекает не из эмпирии, а из мышления,
так же и всякая конкретная сформулированная закономерность
проистекает из мышления. Мышление соединяет чувственно наблюдаемое с
общей закономерностью, лежащей в его основе. Если речь идет о
конкретном предмете, то такая общая закономерность есть понятие, относящееся
к этому предмету. Если речь идет о различных отношениях к различным
предметам и между этими предметами, тогда общая закономерность
указывает на идею.
Поскольку я отыскиваю в воспринимаемом мире закономерность,
именно мое мышление привносит в восприятие эту закономерность,
т. е. понятие или идею наблюдаемых фактов, и благодаря этому
наблюдаемые факты получают определенность. Если речь идет о наблюдении
отдельного предмета, то он становится для меня конкретным
представлением, названным у Соловьева «воображением». Если же речь идет о
связи между различными данностями или предметами, то эта связь
делается для меня законом.
Сенсуализм, настаивающий на том, что отвлеченное начало
восприятия есть единственный критерий познания, не выдержал скрупулезной
критики и, преодолев свои пределы, подошел к воображению,
указующему на понятие. Научный эмпиризм, который настаивает на
отвлеченном начале закономерности всех явлений как на единственном критерии
познания, как показано, также не выдержал более точного исследования
и привел нас к идее. Но существуют не только различные явления,
которые входят в одно и то же понятие, и различные понятия, которые
подпадают под один и тот же закон, но также и различные законы, в основе
которых лежит один и тот же принцип, — к примеру, законы
математические, физические, химические, биологические, социальные. Научный
позитивизм, во-первых, признает участие мышления в научном
познании и, во-вторых, — исследует единый принцип различных
закономерных явлений, устанавливая тем самым систему позитивного знания.
с) Позитивизм
Законы мировых явлений, которые составляют содержание частных
наук, представляют нам «только отдельные стороны феноменального
мира, а не его всеобщую истину. Для достижения этой последней
необходимо соединение всех этих частных законов и, следовательно, частных
наук в одну цельную связную систему знания. Таково совершенно
законное требование позитивизма»10. Чтобы осуществить свою программу,
он «указывает на существующее между научными законами явлений
е^327^Э
Сг^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
отношение большей или меньшей сложности, в силу которого законы
явлений более сложных предполагают законы менее сложные и более
элементарные и зависят от них» п. Это возрастание сложности при
одновременной зависимости более сложного от более простого в
позитивистской системе наук приводит к тому, что существуют науки (к примеру,
математика), которые свободны от случайного или, по крайней мере,
свободнее других (так, математика в этом смысле свободнее, скажем,
механики; эта последняя опять-таки имеет со случайным меньше дела,
чем астрономия; последняя меньше, чем биология; последняя меньше,
чем социология и т. д.). Хотя математика вместе с некоторыми другими
науками используется также и в общественных науках, отдельные
общественные явления не суть явления математические, биологические,
астрономические и т. д.: это явления жизненно-социальные со всеми их
случайностями, с их не поддающейся количественной оценке природой,
так что их «закономерность» никак не сравнима с закономерностями
чистой математики. Так что в ряду эмпирических наук не может быть
такой науки, которая в состоянии свести воедино частные науки, дать
их резюме. «Эта общая функция, внутренно соединяющая все
специфические элементы частных наук, очевидно, не представляется ни одною
из этих последних, а равно не может быть образована и их простым
соединением, ибо в таком случае мы получили бы только сумму частных
элементов, а не общую их функцию. Эта последняя не слагается из
частных наук, а предполагается ими» ,2.
Позитивизм отыскивает такую науку, которая представляет собой
синтез всех наук и одновременно порождает общие принципы всех
частных наук. Эта наука — как бы наука наук, и возникает вопрос, что она
могла бы собою являть. Как показывает Соловьев, среди существующих
наук ни одна не смогла бы сыграть такую роль, ибо эти науки в своей
фактичности не охватывают собой всего круга явлений; также ни одна
из существующих наук не описывает всех аспектов какого-либо одного
явления. Хотя в Новое время был выдвинут такой идеал, как mathesis
universalis или modus geometricus, т. е. математика или геометрия
выступили в качестве идеала всякой научности, однако легко понять, что,
к примеру, жизнь, или душевная восприимчивость, или даже
человеческий социум хотя и могут быть представлены и отчасти исследованы
с помощью статистической математики или с привлечением геометрии,
однако в своей самобытности, в своем существе они не сводятся к мате-
матико-статистическим или геометрическим закономерностям: случись
это, то лишь ценой того, что качества жизненности, душевной
восприимчивости и социальности будут утрачены. Итак, хотя в мире растений,
животных и человека присутствуют математика и геометрия, однако
никакое живое существо, никакое социальное явление и никакой
моральный поступок нельзя представить и понять как абстрактное мате-
е^ 328^3
(г^ IX. Софиология как метафизика сущности ^9
матическое уравнение или как геометрическую фигуру. По этой
причине можно было бы вообще отменить требование некоей первой науки,
дабы качества не растворились в абстракциях. Каждое качество (жизнь,
восприятие, социальное поведение) требует специфической,
определенной лишь своим предметом науки. Но затем можно спросить: в чем же
состоит общенаучный характер всех этих направлений исследования?
Если эти науки действительно хотят быть научными, они должны быть
также извещены о том, что такое вообще наука, т. е. наука наук. То, что
в науках является закономерным, можно обнаружить только с помощью
такой науки, которая занимается закономерным как таковым и которая
поэтому имеет в качестве своего предмета необходимое и всеобщее. Но
такой предмет, как показано выше, всецело находится за пределами
любой эмпирической науки. Когда мы ищем эту науку наук, нам
указывают на философию: «Такая всеобщая наука есть рациональная философия,
то есть систематическое умозрение из принципов, содержащее в себе
истины, безусловно всеобщие и необходимые, истины, предполагаемые
всяким частным опытом и всякою частною наукой»13.
Итак, при более точном рассмотрении научный позитивизм выходит
за свои пределы точно так же, как научный эмпиризм и сенсуализм.
Система положительных наук нуждается в некоей особой науке, которая
имеет своим предметом «саму системность» этой системы, т. е. то, что
впервые делает всякую частную науку наукой, — а также всеобщий и
необходимый аспекты всякого явления, т. е. его закономерность. Так как
эти начала системности, необходимости и всеобщности принадлежат
области мышления, а не восприятия и эмпирии, то соответствующая им
наука может быть только такой, которая отдает себе отчет во
внутренней структуре и закономерности мышления. Эмпиризм при этом
переходит в рационализм.
3. RATIO И ЕГО КРИТИКА
Рационализм, подобно эмпиризму, также имеет различные ступени.
Когда «объективное значение разума прямо предполагается как нечто
данное и само по себе ясное и затем истины разума прямо развиваются
как истины вещей (истины логические как истины онтологические),
тогда рационализм представляет характер догматический»14. Если разум
отыскивает заложенные в нем общие способности к познанию истины,
то рационализм приобретает форму критического рационализма. Если
обнаруженные в результате критики разума формы использования
разума применяются для познания действительной истины объективного
мира, то налицо абсолютный рационализм.
е^329^)
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^9
а) Догматический рационализм
Тезис рационализма гласит: логическая форма мышления — это
истинная форма мира. В логических формах для меня заключено все
действительное содержание мира; разум — это всеединящее начало, которое
лежит в основе всего преходящего, т. е. в совокупности всех прошедших,
настоящих и еще предстоящих вещей и явлений, и сообщает им истину
и сущность: «Истинное знание возможно только под формой разумности
или всеединства. <...> Но эта разумность познаваемого, как мы видели,
не дается опытом, потому что в опыте мы всегда имеем только частную
и множественную действительность, потому что в опыте нет ни "всего",
ни "единого". Разум, или смысл познаваемых вещей и явлений, может
быть познан только разумом же или смыслом познающего субъекта. <...>
Таким образом, мерило истины переносится из внешнего мира в самого
познающего субъекта, основанием истины признается не природа вещей
и явлений, а разум человека»,5.
Таков основной принцип рационализма. При этом догматический
рационализм принимает в качестве некоей данности, некоего факта
разумную структуру человеческого познания, т. е. законы и сам ход мышления.
Но тем самым он просто переносит эмпирию из объекта в субъект. То,
что разум воспринимает в себе самом, на этой ступени он считает
непосредственно данным. Однако одним из основных признаков
человеческого разума является то, что он исходит из данности, а затем приходит
в удивление и приступает к вопрошанию. Догматический рационализм,
ставящий во главу угла существо разума, тем самым как раз это-то
существо и упускает из виду; оно, между прочим, открывается тогда, когда
разум начинает исследовать те способности, которые догматический
рационализм считает непосредственной данностью, — свою собственную
закономерность и структуру. Ту разновидность философии, которая
подвергает принципиальной критике ratio и деятельность разума, можно
назвать критическим рационализмом. При этом догматический
рационализм сменяется критическим рационализмом16.
Ь) Критический рационализм
Критический рационализм, неразрывно связанный с Иммануилом
Кантом, в силу его методических предпосылок предполагает резкий,
непреодолимый разрыв между эмпирическим и рациональным
элементами познания. Эту разницу между восприятием, которое подразумевает
внутренние состояния субъекта, конечно, все еще обусловленные
эмпирией, и спонтанностью, под которой понимается деятельность в акте
познания ratio как такового, Кант представил в качестве методического
постулата своей «Критики чистого разума», чтобы иметь возможность
е^ззо^)
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^)
заниматься исключительно субъективно-рациональной стороной
действительности. Итак, критический рационализм «исходит из
самостоятельности нашего разума, признает априорный характер его истин, но
принимает эти истины лишь как общие формы и законы явлений (для
нас) или как необходимые условия нашего опыта и в этом только
смысле придает им объективное значение. Здесь разумность или всеединство
есть только формальный принцип, выражающий только требование или
умственную потребность сводить все к одному идеальному началу,
которое само, так же как и это требование, существует только в нашем уме,
есть наша мысль, которой, может быть, ничего и не соответствует во
внешнем бытии, так как это бытие совершенно нам неизвестно, то же,
что нам известно, — мир явлений — сам по себе не представляет никакого
всеединства или разумности, происходя из эмпирических воздействий
вещей на наше чувственное восприятие»17.
В соответствии с этим наше познание слагается из двух факторов: «из
данных чувственного восприятия, составляющих все реальное
содержание познания и имеющих лишь эмпирическое значение (как факты
сознания), и из априорных форм и законов нашего ума (то есть, во-первых,
из способов созерцания — пространства и времени, 2) категорий
рассудка и 3) идей разума, не имеющих никакого собственного содержания, не
представляющих собою никакого истинного бытия, а только
придающих характер всеобщности и необходимости тому эмпирическому
материалу ощущений, который дается в нашем чувственном восприятии»18.
с) Критика критического рационализма
«Критика чистого разума» исходит из того, что в каждой вещи,
данной нам в пространстве и времени, следует различать два момента (идет
ли речь о субстанции или акциденции, причине или действии):
1 ) то, что привнесено в эту вещь познавательной способностью;
2) то, что остается в этой вещи независимым от познавательной
способности. Но это непознаваемое, как бы математический х, как называет
его сам Кант, присутствует во впечатлении: мы даже обязаны, вольно
или невольно, получить от него это впечатление; мы не можем
элиминировать этот х. Критический рационализм, принципиально
остающийся на той стороне действительности, которая непосредственно доступна
для познавательной способности, — а это сама познавательная
способность и данное ей восприятие, — воздвигает тем самым непреодолимый
барьер между познающим субъектом и «вещью в себе», т. е. тем, что
существует независимо от познающего, так называемым лг-ом. Конечно,
этот познавательный барьер уже потому не может сохраниться, что (как
заметил уже Шеллинг) суждения относительно непознаваемого (х), —
а именно, утверждение, что существует нечто непознаваемое, — суть уже
С^ 331 ^5
(^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
суждения разума19. Поэтому когда Кант утверждает, что априорное
познание вещей невозможно (при этом имеется в виду вещь в себе,
сущность вещей), то он не только впадает в логическую ошибку —
рассуждает в определенных категориях и понятиях о том, что per definitionem
как раз и не должно описываться в этих понятиях, — но и устанавливает
непреодолимую противоположность между эмпирией и
рациональными формами. Ибо если сущность вещи ускользает от нашего познания
и не имеет с ним абсолютно ничего общего, то тогда и те данные,
которые сообщаются нашим чувствам, не зависят от нашей познавательной
способности, т. е. от априорных форм разума. Потому эти данные как раз
и не обладают всеобщностью и необходимостью априорных форм
разума и, поскольку они исходят из абсолютно внеразумного источника, не
имеют никакого отношения к разуму. Абсолютная субъективная форма
и конкретное эмпирическое бытие тем самым оказываются в резком
противостоянии. И поскольку при таком абсолютном противостоянии
априорного и эмпирического элементов не существует никакого
третьего, общего им обоим фактора, «требуемая связь сама должна иметь или
чисто эмпирический, или чисто априорный характер, но в первом
случае она лишена всеобщности и необходимости и, следовательно, не
может сообщить познанию характера объективной истины; во втором же
случае она есть только субъективная форма, не могущая дать познанию
объективной реальности. Таким образом, критический рационализм не
дает нам возможности познания: оно немыслимо при взаимной
независимости двух его непременных факторов»20.
Критический рационализм — это метод всеобъемлющей критики
субъективного аспекта познания, и он утверждает следующее: «Чтобы
понять априорное участие разума в познании, я должен вести себя так, как
если бы внешний мир с его действительностью, как если бы вещь в себе
были непознаваемы». Тем самым критический рационализм может
оказать большую услугу философии. Но если критический рационалист
утверждает, что его методологические предпосылки соответствуют
истинному положению вещей, то он становится жертвой своего метода: он
не может претендовать на то, что результаты его критики содержат
научную истину, ибо истинное бытие вещей из них исключается; также он
не в состоянии каким-то способом освободиться от апорий чистого
разума, которые возводятся к этому первому методологическому
постулату, ибо чистым формам разума всегда противостоит фактическое
существование вещей, их quod est. Если критический рационалист не желает
оставаться в плену у непреодоленного сомнения, он оказывается перед
выбором: или вновь впасть в эмпиризм, неизбежно запутавшись в
вышеописанных противоречиях эмпиризма, или же утверждать, что все
содержание истинного познания зависит от формы познания и
определяется исключительно категориями разума.
е^332^с)
(г^ IX. Софиология как метафизика сущности ^)
d) Переход к абсолютному рационализму
Как показал Шеллинг, в пользу последнего утверждения говорит
следующее: всякое высказывание относительно вещи в себе (т. е.
относительно того, что существует прежде разума и по ту сторону разума, что
недоступно для разумного познания) впадает в грубую логическую
ошибку: я высказываюсь относительно того предмета, который, по
определению, недоступен для моего познания и тем самым исключает всякую
возможность какого-либо высказывания на свой счет21. Кроме того,
своим высказыванием я претендую на то, что я обыкновенным способом
узнал об этом предмете по крайней мере то, что он, во-первых,
существует, во-вторых, то, что он есть причина моих чувственных
впечатлений, — и, в-третьих, что он для меня непознаваем. Тем самым я выношу
суждения о его бытии, о котором я, однако, одновременно утверждаю,
что оно совершенно недоступно для моей способности суждения,
поскольку я не могу применять здесь никаких рассудочных категорий.
Или существует в принципе непознаваемая вещь в себе, — но тогда я не
могу еще настаивать на этом с рациональной необходимостью. Или же
я должен признать, что по ту сторону моего разума нет никакой
недоступной вещи в себе. Но если ее нет по ту сторону моего разума, тогда
она может отыскаться в нем самом. При этом все бытие оказывается
интеллигибельным и заключается в априорные формы разума; ответом на
вопрос об истине становится абсолютный рационализм.
е) Абсолютный рационализм
Воззрение, которое априорно выводит все бытие из форм разума, т. е.
из его бесконечной потенциальности, можно назвать абсолютным
рационализмом] и теперь мы должны посмотреть, в состоянии ли эта
абсолютная форма рационализма удовлетворительно разрешить проблему
познания и истины.
Существуют две разновидности учения о разуме. Первая из них
такова. Бытие выводится из разума, и при этом не предполагается, что
полученное таким образом бытие тождественно фактическому,
эмпирическому бытию. В этом случае возникает учение, которое доводит до конца
кантовскую критику разума, рассматривая ее исключительно как метод;
при этом не утверждается, что бытие в разуме соответствует бытию вне
разума. Это чистое учение о разуме, которое как раз не является
эмпирической наукой, ничего не говорит о действительном существовании
вещей с присущей им эмпирической фактичностью. Ибо даже если разум
занимается чувственным предметом, — постольку поскольку этот
предмет опосредован чувственностью, т. е. обнаруживается в
трансцендентальных формах этой чувственности, которые обуславливают собой вся-
е^ззз^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
кое созерцание, — разум не затрагивает действительно существующего22.
То, что разум может познать a priori во всяком существующем предмете,
так навсегда и останется в его, разума, собственной сфере. Но тут
возникает вопрос: что же таким способом, т. е. a priori, познается во всяком
существующем предмете? Сущность ли это данного предмета, его quid
sit, или же то, что он фактически существует, т. е. его quod sit? —
Несомненно, это quid sit, интеллигибельная сущность вещи. Познание ее
является делом учения о разуме; напротив, фактического существования
вещи, quod sit, разум не в состоянии ни доказать, ни постигнуть, ибо
это — дело исключительно опыта. Итак, хотя разум может утверждать,
что познание предмета, могущего в принципе существовать ныне и в
будущем, есть его, разума, задача, однако отсюда отнюдь не следует, что этот
предмет существует, — ведь может и вообще ничего не существовать.
То, что нечто существует, разум не может утверждать, не привлекая для
этого опыта.
Вторая возможность чистого учения о разуме состоит в том, чтобы
исходить из тождественности бытия в разуме с фактическим бытием.
По данному пути пошел Гегель, который воспользовался при этом
основными идеями молодого Шеллинга, осмыслив их в духе абсолютного
рационализма.
Так как фактическое бытие вещей, согласно определению Канта, есть
их «в себе», то разум в этом случае занимается «в себе» вещей. И
поскольку содержание разума — это разумность, а «в себе» вещей — их
действительность, то, согласно данному пониманию, разумное
действительно и действительное разумно. Но при этом «в себе» вещей
становится чем-то совершенно иным, чем в случае Канта: для последнего
бытие вне разума было тем, что вещи суть не для нас, а для самих себя;
однако для абсолютного рационалиста это «в себе» есть
интеллигибельное понятие вещи, ее разумная форма, так что при этом не остается
никакого бытийственного остатка и все бытие вбирается в понятие.
Если учение о чистом разуме, то есть выведение бытия из априорных
форм разума, понимается в духе позднего Шеллинга, — а именно, разум
не претендует ни на какое действительное отношение к фактическому
эмпирическому бытию, но есть лишь пустая форма, — то дело этого
учения чисто отрицательное, не имеющее силы онтологического суждения23.
Но если вместе с Гегелем исходить из того, что выведение бытия из
форм разума («Энциклопедия философских наук») или выведение
самих этих форм из диалектического движения разума («Логика») есть
истина действительного мира, то завершенное учение о разуме есть
пришедшее к самому себе и тем самым завершенное действительное
бытие, следовательно, нечто положительное. Абсолютный рационализм
предполагает реальное существование вещей; по его воззрению, их «в
себе» есть разумная форма самой вещи и одновременно ее полное объяс-
е^ 334^3
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
нение без какого бы то ни было бытийственного остатка. Поэтому учение
о разуме является для него истинной наукой, а философское умозрение
в состоянии раскрыть истинный образ бытия.
f) Критика абсолютного рационализма
Против «в себе» вещей, под которым понимается разумная форма
вещей, их понятие, можно выдвинуть следующее возражение: невозможно
высказать ничего по поводу действительного существования вещей, ибо
понятие какой-либо вещи не зависит от того, существует ли сама вещь24.
Но абсолютный рационализм, понимающий под «в себе» вещей их
понятие, а вместе с понятием — все их существование, не только не может
вынести никакого суждения относительно реальности существования
некоей действительно существующей вещи: он также сталкивается с
неразрешимым внутренним противоречием: «Вся истина, все содержание
истинного познания должно быть выведено из чистого разума как
формы познания. Здесь не допускается никакого внешнего предмета, все
предметы, все возможные определения бытия должны быть созданы
самим познанием. Но если, таким образом, все содержание является лишь
результатом познания в процессе его развития, то, следовательно, в
начале этого процесса может полагаться только чистая форма познания;
но такая форма безо всякого предмета и содержания не может уже
называться и познанием, — это есть чистое мышление. Итак, за начало
принимается акт чистого мышления, или чистое понятие, то есть не понятие
чего-нибудь, какого-нибудь определенного бытия, а понятие бытия
вообще, безо всякой определенности, ничего в себе не содержащее, ничем
не отличающееся от понятия "ничто" и, следовательно, ему равное. Таков
принцип, а так как здесь (в абсолютном рационализме) все выводится
из принципа, то, следовательно, все должно быть выведено из ничего,
или все должно явиться как саморазвитие ничего — результат
колоссальной нелепости, но совершенно неизбежный для отвлеченного
рационализма, признающего единственным принципом разум сам по себе, то
есть пустую форму истины, отвлеченно взятую»25.
Возражения в адрес системы Гегеля полностью зависят от понимания
того, существует ли разум «в себе» или же он есть пустая форма
истины. Каково его отношение к нашему субъективному мышлению? И как
он относится к природе или сущности объективных вещей, т. е. к их
понятию? Для Гегеля разум — это условие осуществления Логоса:
благодаря тому что мышление с самого начала осознает свою собственную
деятельность в форме определенных понятий, оно в состоянии
постигнуть, что если эта деятельность протекает логически или правильно, то
она есть свое собственное понятие и что ее собственное понятие есть
Логос26.
е^ззб^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
g) Переход к идеализму
Чистая наука разума не только претендует на то, что в-себе- и для-се-
бя-существующее есть известное понятие, а понятие как таковое — это
в-себе- и для-себя-существующее: она приводит субъекта,
возвысившегося до чистого мышления, к переживанию Логоса или к реальному
духовному опыту, т. е. ему делается доступным опыт первоначального
состояния понятий и идей. Потому в связи с учением Гегеля мы имеем
дело не с голым абсолютным рационализмом, а скорее с возможностью
преодоления рационализма и с переходом к некоей новой духовной
философии: субъект познания, или мыслящий субъект, приводится не
только к тождеству познающего мышления и познаваемого объекта, но
также и к переживанию или обнаружению сущности всякой понятийно-
сти, т. е. диалектического движения чистого понятия или Логоса,
который лежит в основе как природы вещей, так и всякой мысли. Постольку
поскольку Гегель в своей философии пришел к имманентной системе,
он заложил основы абсолютного рационализма, которые критикуют
Шеллинг и Соловьев. Но постольку поскольку он уловил само
движение мысли и привел мыслящего субъекта к постижению Логоса, он
преодолел рационализм, обретя реальное переживание понятия, идеи, духа.
В свете уже проведенного нами схоластического различения трех
начал познания (sensus, ratio, intellectus) этот важнейший аспект
философии Гегеля оказывается шагом от ratio и связанного с ratio рационализма
к intellectus'y как возможности идей и понятий, а тем самым —
собственно к идеализму.
Intellectus и опирающееся на него мировоззрение — идеализм не
рассматриваются Соловьевым в его «Критике отвлеченных начал» столь
же подробно и детально, как sensus и ratio. Его критика идеализма,
переходящего в богословие, направлена в первую очередь на абсолютный
идеализм или монизм идей. Он составляет без внимания две другие
формы идеализма — идеализм Фихте и идеализм Гегеля. Ими занимался
другой софиолог — ученик Соловьева Сергей Булгаков. Поскольку
критика Фихте и Гегеля со стороны Булгакова имеет пропедевтическое
значение для софиологии, она, несомненно, также относится к «критике
отвлеченных начал»27.
4. INTELLECTUS И ЕГО КРИТИКА
Описанное в этой главе восхождение мысли, начавшись с наивного
реализма, через три установки эмпиризма (оказавшиеся непрочными)
привело к рационализму с его тремя формами (догматический,
критический и абсолютный рационализм). Кризис рационализма можно усмот-
е^ 336 ^Э
(г^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
реть в философии Канта, который резко противопоставляет реальное
бытие вещей (их «в себе») и эмпирическое восприятие вещей (их «для
себя»), уже принадлежащее области деятельности разума, — причем Кант
исключает как раз «в себе» вещей из сферы априорного познания28. Но
если действительное бытие вещей недоступно для познавательной
способности, то всякое познание имеет одно субъективное значение,
лишенное объективной, относящейся к истине ценности.
Философское рассмотрение, устремленное к познанию истины,
поэтому не может остановиться на этом предположении Канта: если дело
философии — не скептицизм, а обнаружение истины, она должна встать
над противоречием, в котором запутывается разум при разрешении
вопроса, совпадает ли понятие бытия (т. е. определения и категории разума,
с помощью которых разум постигает бытие) с истиной бытия. Два пути
открываются перед разумом, когда он, познав «неудовлетворительность
рассудочных определений» и вместо того чтобы отступить «к
чувственному существованию»29, хочет сделать последний шаг вверх: разум или
может усматривать источник истины в изначальной апперцепции
«я мыслю, и это сопровождает все мои представления» (Кант), или же
он может сделать своим принципом само противоречие и тем самым
диалектику признать в качестве явления истины. В первом случае
происхождение всего бытия связывается с абсолютным «Я», из которого все
возникает; в другом случае происхождение бытия соотнесено с
диалектическим саморазвитием понятия. Разница систем Фихте и Гегеля,
кроме всего прочего, заключена в различии этих двух путей.
а) Субъективный идеализм
Фихте исходит из убеждения, что в том случае, если вообще
существует априорное познание, также и сам существующий предмет может
быть познан a priori, и, следовательно, форма и материя вещей
выводятся из одного и того же источника — а именно, из «я»: «Источник,
первое основание всего существующего, заключен в "Я", или, собственно,
в "Я есмь", — в том вневременном акте, в котором всякое разумное
существо достигает сознания; с этим вневременным актом для каждого
индивида зараз полагается вся система внешних явлений»30.
Этот акт, посредством коего всякое разумное существо достигает
сознания, характеризуется с помощью некоего первичного опыта —
переживания «Я» себя самого. Под этим следует понимать переживание «Я»,
существующего исключительно у себя и для себя, данного и
обусловленного лишь самим собою, — «Я», которое по отношению к «Я», отданному
на откуп «другому» (восприятиям, чувствам, мыслям, предметам и т. д.)
и обусловленному этим «другим», не находясь у себя, может быть
обозначено как «абсолютное Я». Благодаря тому что это абсолютное Я есть
е^ 337 ^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
свой собственный единственный объект (т. е. выступает как субъект-
объект), оно содержит в себе самом вообще все условия субъективности
и объективности. Будучи единством субъекта и объекта, оно в
абсолютном смысле самодостаточно и есть дух. Подразумеваемый здесь
идеализм, впервые действительно заслуживающий данного имени,
отличается поэтому от рационализма тем, что он, в отличие от последнего, резко
не противопоставляет всему эмпирическому рациональный элемент, но
скорее делает предметом опыта чистый дух — «Я», порождающее само
себя, а все остальное выводит из этого «первичного опыта». Поскольку
эта разновидность философии исходит из эмпирического или квази-чув-
ственного опыта сверхчувственного начала, Фихте вправе утверждать,
что его учение требует некоего совершенно нового органа познания31.
Могущий осуществиться через посредство этого органа внутрирацио-
нальный, сверхчувственный и в этом отношении априорный опыт —
созерцание чистого «Я» — становится у Фихте исходной точкой некоей
в полной мере априорной науки, причем предмет такого опыта не есть
голый объект, мертвая субстанция, как у Спинозы, но оказывается
живым субъект-объектом32.
Ь) Критика идеализма Фихте
Сверхчувственное начало, рассматриваемое в качестве чистого «Я»,
конечно, не предполагает никакого «другого», реально существующего
вне «Я», — это всегда лишь «не-Я». Существуют четыре возможных
понимания этого «не-Я». Во-первых, это полагание чистого ничто, т. е.
тьма33. Во-вторых, «не-Я» может иметь чисто логическое значение
«противопоставления одного содержания мысли другому, негативное
суждение, которое имеет лишь тогда положительный смысл, когда находится
в отношении к позитивному и отрицательно только по форме»34.
В-третьих, «не-Я» может иметь значение με. В этом случае «не-Я» не имеет
отрицательного значения, но подразумевает положительное отношение
к «Я». Это не отрицание, а утверждение35. Если же под «Я» понимают
личность или личностное начало, тогда, в-четвертых, «не-Я»
приобретает значение чужого, другого «Я» или «ты». В системе Фихте не
находится места для этого «ты», — также и когда оно предполагается, — к
примеру, в его философии права36.
Субъективный идеализм в известной степени с самого начала обречен
на неудачу из-за полагания «не-Я» через «Я», ибо он не дает ни
настоящего объяснения природы, ни определения действительной сущности
«Я» другого: «Область полагания ограничивается этой
самоутверждающейся ясностью, а Фихте далее заставляет Я "полагать" и не-Я, между
тем как в подлинном не-Я, т. е. в его природе, сказуемом, Я есть, живет,
открывается для себя, а не полагается собою. Вследствие этого
"полагаем 338^)
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^о>
ния" не-Я в Я у Фихте явилась одна черта, безобразящая всю его
систему, образующая в ней неизбежную брешь и в то же время составляющая
ее неустранимую принадлежность: это применение количественного
определения в отношении между Я и не-Я. Противоположив Я и не-Я,
Фихте нужно было и соположить их, соединить. Вследствие скудости
основоначал системы, т. е. одного Я, ему пришлось не-Я истолковать не
как природу для Я, но как минус в Я или же не-Я, причем абсолютной
величиной осталось только Я. Я не есть еще личность. Личное начало
в полноте своей есть Я, осуществляющееся в природе, голое Я еще не
есть лицо: личность выражается в подлежащем и сказуемом и их бытии
друг для друга. Не так у Фихте»37.
Но если идеализм в его субъективной разновидности, нашедшей свое
завершение у Фихте, в силу названных причин также не выдерживает
критики, то, согласно Булгакову, просто пройти мимо Фихте
невозможно, ибо он открыл значение «Я» как одного из краеугольных камней
софиологии: «В этом выявлении Я и заключается главное значение фих-
тевского эксперимента "погулять на голове" и посмотреть на мир в этом
положении. В выявлении Я заключается и правда фихтевской системы
как философии чистой, хотя, к сожалению, и отвлеченной ипостасно-
сти»38.
с) Переход к идеализму Гегеля
Если субъективный идеализм или фихтевский монизм исходит из
того, что абсолютное Я, будучи металогическим началом, изводит из
самого себя все логические формы разума и одновременно — все понятия
(в частности, и понятие самого себя, а также понятие всякого «не-Я»),
и если как раз в этом и состоит его крушение, то, быть может, верным
окажется обратный ход мыслей?39 В таком случае в начале находилось
бы понятие или чистое мышление, ибо это последнее изводит из самого
себя не только все понятия и логические формы разума, но также
объект и субъекта вместе с понятием «Я». Итак, понятие — это первое,
единственное объективное наличное бытие. При этом субъективный
идеализм переходит в идеализм панлогический.
d) Панлогический идеализм
Если я противопоставляю себя переживаемой идее, т. е. если она в
моем сознании опытно познается не как рационалистическая гипотеза,
а в качестве реальной действительности, действующей в моем сознании,
то я могу рассматривать эту идею или как некое деяние, т. е. в
субъективной форме, так что она выступает в форме абсолютного Я, первого
основания всякой системы, — или же я пытаюсь пережить то, что по-
С^ 339 ^Э
(^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^9
движная идея или понятие производит в моем сознании (и с моим
сознанием), противостоящем этому переживаемому понятию. В последнем
случае самодвижущееся понятие порождает «Я», или субъективное
начало, в точности так же, как начало объективное или «не-Я». Тогда
я должен лишь проследить за движением понятия через мою
собственную мыслительную деятельность, — и тем самым произойдет полное
откровение сущности этого понятия в моем собственном сознании в
качестве самопорождающегося, развертывающегося и, наконец, —
обладающего сознанием понятия.
Этим путем, связанным с совершенно новым значением логики для
всякой философской системы, пошел Гегель. На этом пути логика
становится одновременно некоей онтологией и метафизикой всего бытия,
т. е. она представляет логическое создание мира, в котором мыслящий
субъект принимает участие в качестве (логического) сотворца. При этом
мышление восходит от допущения полной беспредпосылочности —
чистого бытия — к логическому изведению сущности и ее диалектическим
закономерностям, прежде чем, в конце концов, сделавшись логикой
понятия и достигнув вершины логического движения, оно становится
самосознающим абсолютным знанием, т. е. Божественным сознанием «до
сотворения мира», который оно вновь обретает в формах
«феноменологии духа» и делает предметом «энциклопедии философских наук». В
эксперименте Гегеля — его попытке поместить в начале чистое, еще не
понятийное и не прошедшее через опыт, следовательно, еще не знающее
субъекта и предиката мышление и привести в движение логический ход
мысли — идея беспредпосылочности обретает принципиальное значение
для философии. Подобное мышление противопоставляет себя не чему
иному, как «чистому бытию», которое одновременно есть совершенная
пустота40. Но возникает вопрос: действительно ли с помощью понятия
или идеи чистого бытия обеспечивается искомая полная беспредпосы-
лочность?
е) Критика идеализма Гегеля
Чистое бытие — это выражение того факта, что мышление
переносится в состояние совершенной беспредпосылочности и абстрагируется от
какого бы то ни было субъекта или предиката. Но бытие, копула
(связка) в основном предложении (Grund-Satz) мышления, состоящем из
субъекта, предиката и этой самой копулы, отнюдь не может
абстрагироваться от субъекта и предиката, не отпав тотчас же в ничто, в состояние,
лишенное сущности. Если, тем не менее, произвести это
абстрагирование, если обратиться к копуле как таковой, то хотя попадешь при этом
в область чистой, существующей для самой себя логики, но поскольку
логика — это предицирование, т. е. установление закономерных связей
е^340^)
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
субъекта и предиката, начальное бытие делается не таким, каким оно
оказывается в дальнейшем ходе развития. Ибо благодаря тому что бытие,
отвлеченное путем абстракции от своих связей и отношений, делается
начальной точкой некоего движения, которое в конце предполагает вновь
обрести всякое возможное субъектное бытие вместе с предикатом (т. е.
вновь обрести все предложение), оно не только уже допускает субъекта
и предикат, но и ориентировано на них, не отдавая себе отчета
относительно прошлого и будущего «чистого бытия»: «Именно таковым
относительным понятием и является бытие, и оно безусловно не годится для
начала, потому что оно за себя выводит, пред собой предполагает, собой
вводит, не в гегелевском смысле всеобщей диалектической
соотносительности, нет, а в другом им же указанном смысле, что нельзя понятие
понять (по-ять), брать вне его контекста, без его (логического) прошлого,
настоящего и будущего. Бытия в смысле гегелевского начала логически
нет, — так, как хотел Гегель, нельзя его помыслить, чистое бытие —
немысль, non-sens. Идея чистого бытия есть совершенно фальшивая идея,
и на эту фальшивую монету Гегель и покупает всю "Логику"»41.
f) Переход к идейному монизму
При сравнении Фихте и Гегеля бросается в глаза то, что первый
начинает свою систему с «Я», предшествующего всякому творению или
всякому становлению «не-Я», — тогда как система Гегеля начинает как раз
с «не-Я», чистого бытия, а субъект конституируется лишь в ходе
развития 42. Однако обе системы отличаются односторонностью и не в
состоянии разрешить проблему истины. Но обязан ли всякий идеализм
основываться на одностороннем выпячивании какого-либо начала, делающегося
по этой причине отвлеченным? Состоит ли идеализм всегда и безо
всяких исключений в абсолютизировании одного из элементов основного
предложения (Grund-Satzes) мышления, поставленного Булгаковым во
главу угла всякого философствования?43 Или же возможна такая
форма идеализма, которая относится ко всему предложению? В последнем
случае произошло бы соединение фихтеанства (субъект), гегельянства
(копула) и спинозизма (объект)44.
Формой такого идеализма, который на вопрос об истинном познании
отвечает не на основе одного субъективного принципа45, не на основе
одного объективного принципа46, а на основе всеединой идеи,
объединяющей оба этих принципа, является идейный монизм.
g) Идейный монизм
Идейный монизм постигает то, что выходит за пределы как
логических форм абстрактной рассудочности, так и многообразия объективных
чувственных впечатлений, — постигает идею. Идея недоступна нашему
С^341 ^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
обыкновенному сознанию; но все же она вносит в наш дух образ самого
существа, самой характерности предмета. Благодаря этому
воображению предмет отражается в нашем духе или же вызывает в нем некий
образ 47, причем надо принять во внимание то, что предмет
взаимодействует с воспринимающим его субъектом. Субъект этот, подобно предмету,
имеет свой собственный характер, собственную сущность, т. е. свою
собственную идею. Поэтому образ предмета, возникший благодаря этому
взаимодействию, определяется не только особенностями предмета
познания, но и особенностями познающего субъекта, «то есть если
предмет воображается в нас, то и мы воображаем предмет, то есть даем ему
образ, соответствующий нашей собственной сущности, — субъект видит
идею предмета в свете своей собственной идеи, видит в предмете только
то, что так или иначе может ей соответствовать»48. Это воображение
происходит самопроизвольно, так что мы, как правило, не сознаем того,
какое участие идея принимает в познании. Хотя мы несем в себе образы
предметов познания, эти образы, однако, соотносятся с предметами
только с помощью нашего рассудка, который упорядочивает хаос внешних
впечатлений и чувственных восприятий; иначе говоря, рассудок
относит эти предметы к идеям, которые соответствуют им в нашем духе.
Подобно тому как наши внешние чувства направлены на предметы,
а эти последние одновременно действуют на наши внешние чувства,
существует также взаимодействие между нашим рассудком и идеей
предмета: с одной стороны, идея, сокрытая в бессознательной глубине духа,
с помощью рассудка, приведенного в движение внешними
впечатлениями, выводится на поверхность дневного сознания и, будучи сама по себе
бестелесной формой, «воплощается» в той материальной среде,
которая образуется из наших наличных чувственных впечатлений; с другой
стороны, идея вызывает при этом процессе в нашем рассудке образ
предмета49.
Но если путь здесь ведет от субъекта, вносящего образ идеи в
чувственные ощущения, к объекту, проявляющемуся в этих ощущениях, то
какова тогда речь этого объекта? Ибо о том, что объект влияет на то,
какую идею субъект вносит в свои ощущения, свидетельствует уже хотя бы
тот факт, что субъект изводит из своей «сокровищницы идей» не
всякую произвольную идею, но лишь такую, которая соответствует
объекту. Итак, из физических воздействий предмета, данных нам в наших
чувственных ощущениях, исходит нечто такое, что побуждает наш
рассудок к определенной организующей деятельности. Эти ощущения (в их
качествах) имеют «некоторое предрасположение к этой именно идее:
сами ощущения, так сказать, тяготеют к этому идеальному образу,
потому что этот образ выражает собою внутреннее, метафизическое
взаимодействие наше с тою самою сущностью, которой они (ощущения) суть
внешнее проявление» w.
С^342^Э
<Ξ^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
Материал наших ощущений, следовательно, не есть равнодушно
противостоящая идее и произвольно формируемая ею масса: он содержит
в себе «известные признаки идеи, как бы некоторые отпечатки
первообраза и следы своего происхождения»51. Поэтому ощущения «не
безусловно равнодушны к тому идеальному образу, который на них налагается
умом нашим; они так или иначе ему соответствуют, и потому творческое
действие нашего ума при воплощении идеи в ощущениях может быть
скорее сравнено с деятельностью поэта, который уже в самом своем
материале, в человеческом слове, находит не мертвую массу, а некоторый
мысленный организм, способный воспринять и усвоить его
художественную идею, дать ей живую плоть и кровь»52. В результате этих
рассуждений обнаруживаются три столпа, на которых основывается идейный
монизм:
«Во-первых, мы утверждаем с непосредственною уверенностью, что
есть некоторый самостоятельный предмет, что есть нечто, кроме
субъективных состояний нашего сознания. <...>
Во-вторых, мы умственно созерцаем или воображаем в себе идею
предмета <...>, отвечающую на вопрос, что есть этот предмет. Этому
нашему воображению, или умственному созерцанию, соответствует в самом
предмете второе его основное определение, по которому он есть
некоторая сущность, или идея, тождественная себе самой и потому
остающаяся неизменною во всех внешних положениях и отношениях предмета;
эта идея <...> может быть доступна субъекту не в его внешнем,
эмпирическом познании как чувственном, а в его собственной внутренней
сущности, или идее; таким образом, эта вторая степень познания
основывается на взаимодействии между умопостигаемою сущностью субъекта,
или его идеей, и таковою умопостигаемою сущностью, или идеей
предмета (объективная идея). <...>
В-третьих, присущий уму нашему образ предмета мы воплощаем
в данных нашего опыта, в наших ощущениях, сообразно с
относительным качеством, сообщая ему, таким образом, феноменальное бытие или
обнаруживая его актуально в природной сфере»53.
Без обнаружения или воплощения идеи в ощущениях эти последние
не имели бы никакого объективного значения и не составляли бы
предмета познания. С другой стороны, сама идея при этом не обладала бы
никакой действительностью в сознании и оставалась бы в глубине
метафизического бытия. Сам предмет актуально не существовал бы без
взаимодействия идеи с многообразными внешними впечатлениями и
ощущениями; ему бы не была присуща внешняя природная действительность.
С другой стороны, эти ощущения не представляли бы актуальности
определенного предмета, если бы они не определялись его идеей.
«Следовательно, этому третьему фазису нашего познания, который можем назвать
психическим творчеством, соответствует в самом предмете некоторое
е^343^>
(г^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^Э
основное определение его бытия, именно, определение его как
актуального, как природного явления, определение, для предмета необходимое,
так как без того он не имел бы полной действительности»54.
Если истинное познание зависит от трех вышеназванных условий,
т. е. если «предмет в своей настоящей и полной действительности
определяется, во-первых, как безусловно-сущий (ens, οϋτως öv), во-вторых,
как некоторая неизменная и единая сущность (essentia, ουσία), или идея
и, наконец, в-третьих, как некоторое актуальное бытие или явление
(actus, phaenomenon)»55, то соответственно познание предмета
предстает, «во-первых, как вера в безусловное существование предмета,
во-вторых, как умственное созерцание или воображение его сущности или
идеи, и, наконец, в-третьих, как творческое воплощение или реализации
этой идеи в актуальных ощущениях, или эмпирических данных нашего
природного чувственного сознания.
Первое сообщает нам, что предмет есть, второе извещает нас, что он
есть, третье показывает, как он является. Только совокупность этих трех
фазисов выражает полную действительность предмета»56.
Идейный монизм возводит от многообразия предметов к идеям
предметов, а от них — к общей всем им идее. Всеобщность вначале
подразумевает то, что является общим у различных предметов, в то время как
особенное представляет их специфическое отличие. Но если мышление
выходит не только на общие закономерности, доступные для ratio, но
также и на истинную сущность предмета или его идею,
воспринимаемую intellectus'oM, то степень всеобщности возрастает до
универсальности или всеединства. А именно, поскольку отдельный, особенный
предмет связывается со своей идеей, в своем истинном идеальном бытии он
соединяется с идеальным бытием всех прочих предметов, т. е. когда
мышление воспринимает идею или сущность предмета, оно восстанавливает
его связь со всем. Потому в своем истинном определении каждый
предмет находится в единстве со всем. Он есть единство себя самого со
всем57. Поэтому идейный монизм состоит главным образом в том
утверждении, что в начале всякого существующего предмета находится не
только его идея, но также и идея всеединства.
h) Критика идейного монизма
Но для того чтобы соединиться со всем, предмет должен также
отличаться от всего, ибо иначе было бы нечего соединять, и вместо
соединения мы имели бы простую неразличимость; все сводилось бы к голому
бытию, равноценному ничто. Итак, каждое существо есть одновременно
не всё (нечто особенное) и всё. А так как второе нельзя вывести из
первого аналитически, ибо это особенное существо не может быть всем
лишь на основании его особенности, «его универсальность (оно как все)
е% 344^3
G^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
есть нечто синтетически привходящее к его особенности, или, другими
словами, единство всех требует некоторого самостоятельного начала
единства, независимо от особенности каждого, и которым каждое
определяется как все»Г)8.
Мысль Соловьева о том, что всеединящее единство не вытекает
аналитически из отдельного особенного, но привносится синтетически,
можно, к примеру, обосновать так. Когда я говорю себе самому «я», я
пребываю в единстве со всеми существами, которые также могут сказать себе
«я»; тем самым я есмь все или нахожусь в единстве со всеми. Но
одновременно я также не есмь все, ибо именно благодаря этому действию —
называнию себя «я» — я экзистенциально отличаю себя от всех прочих,
переживаю себя в качестве особенного «я» (и есмь это особенное «я»),
которому все прочие существа — также и те, которые могут сказать себе
«я», — противостоят как другие. И когда я противопоставляю себя им
в качестве этой особенной индивидуальности, я отказываюсь как раз от
единства с ними. Но единство, не являющееся
экзистенциально-действительным, есть лишь умозрительное или абстрактное единство:
«мыслимое, или отвлеченное, единство есть равенство»59. Итак, аналитически
из различных особенных предметов или существ можно вывести не
единство, а только равенство.
Поэтому мне также не удается действительно соединить различные
предметы, ибо в моем мышлении они с необходимостью существуют
как два различных акта, и потому я могу только утверждать, что первый
предмет равен второму, т. е. что они едины или тождественны не по
существованию, а только по своему понятию или содержанию, по своим
признакам(Ю. Когда я утверждаю равенство двух предметов, я
подразумеваю под этим отнюдь не единство их реального существования, а
также не единство моих мысленных актов, относящихся к ним, но только
единство их мыслимого содержания. «Такое чисто логическое единство
и называется равенством, на понятии же равенства основано все
логическое, или отвлеченное, мышление: всякая мысль сводится к
уравнению»61. Но уравнение или соединение в мышлении предполагает, что
в действительности соединяемое дано как многое: «Мыслимое единство
предполагает действительную рознь. Когда единство всего имеет
значение только отвлеченное, тогда значение действительности принадлежит
многому несоединенному. Если я должен соединиться с познаваемым
в отвлеченном мышлении, это познаваемое, очевидно, дано мне
предварительно как отличное от меня, для меня внешнее и чуждое. Таким
образом, логическое мышление предполагает внешний опыт. Я мыслю единое,
потому что испытываю многое; я мыслю свое тождество с предметом,
потому что испытываю свое различие с ним. В самом деле, во внешнем
опыте я именно переживаю другое как другое; всякое ощущение
внешних чувств хотя есть мое ощущение, но я, во-первых, отличаю его от себя
е^345^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ) ДВУХ ПУТЕЙ ^9
как ощущение от ощущающего, во-вторых, его действительное
присутствие во мне является для меня внешним, поскольку оно от меня не
зависит, и, наконец, в-третьих, в самом содержании этого ощущения я
усматриваю признаки бытия, для меня внешнего и чуждого»ö2.
Но при этом познающий субъект оказывается перед некоей
противоречивой ситуацией: в то время как внутренняя связь субъекта со всем
существующим проявляется в существенном тройном акте веры,
воображения и творчества, — внешнее отношение субъекта к познаваемому
предмету выражается в чувственном опыте внешнего многообразия,
а также в чисто логическом, рациональном мышлении, приводящем
к внешнему (отрицательному) единству. Если исходить из того, что
внутренняя связь всего (всеединство или всеединая идея) есть истина, то эта
истина уже была утрачена в чувственном опыте, ибо в нем все предметы
внеположены друг другу. Правда, логически-рациональное мышление
стремится к тому, чтобы восстановить в сознании это единство всего,
утраченное в действительности. Конечно, это удается ему только в
отношении формы истины, в то время как все содержание принадлежит
чувственно воспринимаемой действительности, — но эта
действительность не истинна. С одной стороны, у самого по себе рационального
мышления нет никакого содержания; с другой стороны, внешний опыт
никакого всеединого или истинного содержания дать ему не может.
Следовательно, мышление должно извлекать свое содержание из
познания, которое передает не только положительное, действительное
содержание, но также затрагивает и сущность всего, благодаря чему оно
обладает истиной, т. е. определяется верой и идеальным созерцанием.
i) Переход к теологии
Если само по себе внешнее знание ничего не может сообщить
относительно истинной сущности предмета, если сами по себе наши
ощущения и мысли не могут передать нам ничего достоверного по поводу
объективной истины, то к ним должно присоединиться нечто такое, что
придаст им истинное объективное значение. Это происходит тогда,
когда они «поставлены в связь с тем мистическим знанием, которое дает
нам не внешние отношения предмета, а самый предмет в его внутренней
связи с нами»63.
Наоборот, для того «мистического знания», о котором говорит
Соловьев, точно так же необходимо знание естественное, так как в
противном случае, с одной стороны, это мистическое знание действительно
для нашего природного сознания, а с другой стороны, само по себе, т. е.
без природного и рационального элементов, оно не полно. Правда, оно
выражает безусловное существование и безусловную сущность
предмета, но оно не затрагивает его актуального или феноменального бытия,
(^346^3
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^Э
его проявления, или бытия для другого, которое обнаруживается в
природной сфере64.
Мистический элемент может проникать в человеческое сознание
двумя путями: как переживание в душе высшей реальности (внутреннее
откровение) или как внешнее проявление в истории человечества (внешнее
или положительное откровение). Обе области дают содержание
особому систематическому знанию — науке о вещах Божественных, или
теологии65. Если мы теперь назовем систему рационального знания
философией, то это означает, что философия получает свое содержание от
религиозного знания, или теологии, под которой Соловьев понимает
знание всего в Боге или знание существенного всеединства66. Итак,
получается, что критика отвлеченных начал философии вновь приводит
к тому средневековому воззрению, по которому философия оправдана
только в качестве служанки теологии (philosophie ancilla theologiae)?
5. ТЕОЛОГИЯ («DEUSO
Подобно эмпиризму, рационализму и догматизму, теология может
выступать в трех различных формах. Если обсуждаемое ею содержание
веры рассматривается как абсолютно аутентичное и истинное, а
соответствующие теологические истолкования утверждаются в качестве
разрешенных и узаконенных интерпретаций, принятие коих
верующими составляет для них de fide, то теология имеет догматический
характер. Если как первоисточники (Священное Писание и свидетельства),
так и традиционные предания подвергаются критическому
исследованию, то налицо историко-систематическая, критическая теология®. Если
разум в своем свободном решении руководствуется светом откровения
и претерпевает изменение, дабы обрести опыт теологических истин
в своего рода мистическом эмпиризме и свободно вывести эти истины
из сущности разума, применив их для всех областей бытия, то налицо
мистическая теология или, на языке Соловьева, — свободная теософия.
а) Догматическая теология
Во все времена теология давала положительные ответы на основные
вопросы человеческого разума, взыскующего истину. Эти ответы
опираются на данное Богом откровение, которое выражается в Его
вмешательстве в человеческую историю, описанном в Священном Писании; они
засвидетельствованы пророками, святыми, мучениками и «частными
откровениями», признанными за подлинные. Так как источники,
представленные в Священном Писании и свидетельствах предания,
происходят не от человека, а от Бога, человеческий разум не может и не
долез^ 347 ^Э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^3
жен подвергать их сомнению: скорее он заботился о том, чтобы их
адекватно истолковывать (экзегеза); чтобы делать их содержание
доступным для общины верующих, придавая ему понятную форму (катехеза);
чтобы делать их пригодными для распространения веры (миссия). При
этом истины веры, лежащие в основе экзегезы, катехезы и миссии,
исключают сомнение и базируются на абсолютной истине, за которую
поручился Бог.
В этом отношении теология, узаконенная и разрешенная для дела
истолкования, катехезы и миссии, имеет строго догматический характер,
а ее ответы на вопрошания веры истинны. Конечно, эти ответы
базируются исключительно «на религиозных данных, которые для природного
сознания могли являться если не по содержанию своему, то по форме,
как нечто внешнее и чуждое»68. Этот их внешний и чуждый характер
побуждал человеческий ум искать общие рациональные принципы и
отношения всего существующего помимо теологии, — а именно, в
рациональной философии и в эмпирической науке. Но как было показано, ни
абстрактно-рациональный принцип философии, ни
абстрактно-эмпирический принцип положительной науки, последовательно продуманные
до конца, приводят не к единому, но всегда к разнородному
объективному познанию. Оба пути естественного знания, взятые сами по себе,
приводят к отрицательным результатамö9, а в конце концов — в «бездну
скептицизма»70.
Рациональный принцип философии и эмпирический принцип науки
могут быть с успехом применены к содержанию теологии, дабы
посредством этого достигнуть объединения всех трех. Разумеется, в данном
случае речь идет об оправдании истин веры перед лицом рационального
мышления и эмпирического исследования, которые призваны здесь к
тому, чтобы скорректировать религиозные утверждения. Такова задача ис-
торико-критической теологии.
Ь) Историко-критическая теология
Историко-эмпирическая и рационально-системная критическая
теология сомневается не в Божественном происхождении исследуемых ею
источников, но скорее в аутентичности и надежности передачи
откровений. Откровения происходят через посредство человеческого начала,
также и когда они имеют Божественное происхождение: как
составители Ветхого и Нового Заветов, так и авторы «Апокалипсиса», Посланий,
Деяний и т. д. были людьми, которых надлежит понимать в
соответствии с историческими, психологическими и социальными
обстоятельствами, — равно как и образы, представленные в Священном Писании.
Критическая теология учитывает это, рассматривая данные источники
в их общественных, географических, психологических и социальных
е^ 348^5
(?^ IX. Софиология как метафизика сущности ^z)
контекстах с помощью сравнительного анализа текстов и результатов
исторического исследования. Привлекая психологию, этнографию,
языкознание и т. д., критическая теология делает религиозное содержание
понятным и доступным для просвещенного сознания.
Конечно, такой подход влечет за собой то, что содержание веры, до
того считавшееся священным, подвергается демифологизации и десуб-
станциализации: если поначалу методически ставить под вопрос
свидетельства откровения (когда критически проверяются и подвергаются
сомнению их происхождение и аутентичность), то это со временем
неизбежно приведет к экзистенциальному сомнению в самом предмете.
Утвержденное на Божественном начале доверие к свидетельствам
откровения все больше отступает на второй план, — на первый же
выходит человеческий принцип методического сомнения в этих
свидетельствах и основывающегося на сомнении исследования их исторических
и антропологических предпосылок. Поэтому со временем это
исследование утверждает свою достоверность на совершенно ином, чем вначале,
основании: если порукой аутентичности свидетельств откровения
раньше было признание их Божественного происхождения, то теперь их все
чаще истолковывают исключительно из этих этнических,
психологических, социальных, экономических и т. п. источников.
Так, шаг за шагом, критическая теология лишается своего истинного
(Божественного) предмета: в конце концов, лишь те утверждения
представляются ей приемлемыми и в научном отношении устойчивыми,
которые не только оправданны перед лицом чисто человеческого,
абстрактно-рационального и абстрактно-эмпирического начала, но и опираются
только на человеческое начало. Отдалившись до такой степени от
своего Божественного истока и соответствующей «ауры», свидетельства
откровения утратили связь с живым Божеством.
Так как эта демифологизирующая, десубстанциализирующая
тенденция, приводящая к голому гуманизму и атеизму, действительно
присутствует в теологии XIX и XX столетий (прежде всего в протестантской
теологии), возникает вопрос, не ошибочно ли в самом своем начале
духовное развитие Нового времени, результатом которого является, среди
прочего, и данная форма теологии? В таком случае имело бы смысл
заново обратиться к проектам некоей всеобъемлющей теологии,
разработанным в патристике и в Средние века71.
Конечно, на это можно возразить, что, хотя в случае этих великих
теологических систем восточных и западных отцов Церкви речь идет о
непревзойденных в отношении совершенства их логической формы
духовных памятниках, которыми может гордиться разум человека72, — однако
надо спросить как раз о том, почему же человек не остался при этих
возвышенных мысленных сооружениях. Ибо если эти теологические
системы по своим форме и содержанию гораздо ближе подошли к истине, не-
С^349^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^
жели абстрактно-философские и теологические системы человека
Нового времени, то почему же тогда он отказался от истины религиозного
значения? «...Отчего он неудержимо стремится идти своими путями, на
которых хотя он и делает мимоходом богатые приобретения, но
которые, в конце концов, неизбежно приводят его к сомнению в себе и делах
своих, к пустоте и ничтожеству бесплодного скептицизма?»73
Последовательные приверженцы традиционной теологии, как
правило, отвечают на эти вопросы в таком ключе, что все духовное развитие
последних столетий основано на переоценке человеком самого себя; что
переход от теоцентризма к антропоцентризму был прискорбной
ошибкой, вызванной произволом и ведущей к новому грехопадению. Прежде
чем присоединиться к такому мнению, следует, однако, со всей
тщательностью проверить, нет ли «более удовлетворительного объяснения этого
великого исторического факта»74. Такое объяснение на самом деле
возможно, ибо «основания для такого объяснения мы легко найдем в самом
характере религиозного знания, той традиционной теологии, от которой
отделился и которую отверг наш ум»75.
с) Критика отвлеченных начал теологии
При всей своей возвышенности и достоинствах догматическая
теология лишена двух признаков, с необходимостью входящих в полное
понятие истины: «Во-первых, она исключает свободное отношение разума
к религиозному содержанию, свободное усвоение и развитие разумом
этого содержания; во-вторых, она не осуществляет своего содержания
в эмпирическом материале знания. В этой величественной системе
религиозных истин недостает свободного развития человеческого разума
и богатого знания материальной природы, а между тем и то и другое
необходимо» 76.
Историко-критическая теология, которая пытается удовлетворить
этому требованию, примиряя вероучительные положения с
рациональным и эмпирическим принципами, считается при этом с притязаниями
на господство рационализма и эмпиризма и подчиняет им
теологический принцип. Но необходимо, чтобы оба они (рациональный и
эмпирический принципы) приближались как раз к тому «предмету», с
которым имеет дело теология, — т. е. чтобы они обогащались мистическим
началом. Эта необходимость вытекает из понятия самой истины,
которая лишь тогда осуществляется и действует в полном смысле, когда она
может быть постигнута и усвоена разумом, свободно развивающимся из
своих собственных предпосылок, а также когда она распространяется
и на чувственный опыт. Хотя опыт дает лишь материал для
осуществления истины, а разум — лишь общие формы, обеспечивающие ее
развитие (в то время как в догматической теологии сама истина положитель-
е^350^с)
C^ IX. Софиология как метафизика сущности '^Э
но утверждается лишь для области религиозного знания), однако сама
истина требует как материального осуществления, так и формального
развития: подобно тому как разум и опыт без мистического знания не
обладают истиной, то если истина остается по ту сторону разума и
опыта, ей в таком случае не хватает полноты и действительности. Но если
она лишена полноты и действительности, то ее голое утверждение
делается столь же отвлеченным, как в случае отвлеченных начал опыта и
разума: «Поэтому если реализм и рационализм, то есть исключительное
утверждение реального опыта или разумного мышления в области
знания, представляют собой отвлеченные, односторонние начала,
приводящие только к отрицательным результатам, то точно так же
отвлеченным, односторонним началом является и исключительное утверждение
религиозного элемента в области знания. Если истина не может
определяться как только мысль разума, если она не может определяться как
только факты опыта, то она точно так же не может определяться как
только догмат веры»77.
d) Переход к мистическому измерению
В соответствии со своим понятием, истина должна распространяться
на все три области — опыта, разума и содержания веры, синтетически
объединяя их; при этом истина должна опираться не на один
догматический принцип, а на свободное соотношение разума и мистического
принципа. Там, где это не имеет места (а таков, по Соловьеву, признак
традиционной теологии), истина обнаруживается только в виде веро-
учительной догмы. Так теология делается отвлеченным догматизмом,
который отрицательно относится к разуму и науке. Подобный
отвлеченный догматизм основан, однако, на очевидном внутреннем
противоречии: «В области теологии мы познаем истину как абсолютную, или
Божественную, но именно абсолютная, Божественная истина и не может
быть одностороннею, исключительною; она должна быть всею истиной,
должна быть всем во всем. Поэтому, раз дано мышление и опыт, раз наш
субъект относится ко всему не только мистически, но также
рационально и эмпирически, абсолютная истина должна проявиться и в этих
отношениях, должна распространиться и на них, должна стать истиною
разума и опыта; в противном случае она не будет уже абсолютною»78.
Из понятия истины вытекает, что вне ее не может существовать
ничего реального, действительного. Поэтому она должна также
распространяться и на те способности, которые приводят нас к различным формам
реальности, — постольку поскольку в них присутствует истина. Пока
«истина веры не может стать истиною разума, не может быть истиною
и для него, не имеет, следовательно, над ним силы»79, — разум имеет все
е^ 351^5
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^)
основания отрицать эту истину. В переносном смысле это справедливо
также и для опытной науки: если эта истина не может стать истиной
и для опыта, то ее надо отвергнуть80.
е) Свободная теософия
Отрицательное отношение разума и науки к религиозному знанию
обусловлено и оправдано отвлеченно-догматическим характером самой
теологии. Но так как это противоречит абсолютному значению
религиозной истины, задача не может заключаться в том, чтобы просто
восстановить заново традиционную теологию в ее прежнем значении81. С другой
стороны, соединение мистического начала с началами рациональным
и эмпирическим, как это происходит в феномене критической теологии,
не приводит к новому обретению религиозного измерения теми
областями, которые доступны для рассудка и чувственного восприятия: оно
приводит к рационализации и десубстанциализации этого измерения.
Для той науки, которая хочет сохранить мистическое измерение и
заново обрести его, сделав плодотворным для двух других областей, речь
может поэтому идти только о том, чтобы «освободить [теологию] от
отвлеченного догматизма, ввести религиозную истину в форму свободно-
разумного мышления и реализовать ее в данных опытной науки»82. Такая
внутренняя связь теологии с философией и наукой имеет своим
заданием «организовать всю область истинного знания в полную систему
свободной и научной теософии»83. Эта организация знания в свободную
теософию не является произвольным требованием, но вытекает с
внутренней необходимостью из критики развития западной мысли и
отвлеченной теологии: «Как мы видели, наука и философия в своей
отдельности и отвлеченности, без внутренней связи с мистическим знанием
лишены истины и сами себя подрывают, теология же без такой
органической связи с философским и научным элементом хотя и обладает
истинным содержанием, но без той полноты и действительности, какие
требуются истиной абсолютною.
Итак, организация всего знания в свободную теософию безусловно
необходима» м.
Критика отвлеченных начал привела мышление к четырем
принципам средневековой метафизики сущности и к соответствующим им
формам знания, развитым, в частности, в Новое время, — но, сверх того,
одновременно привела к требованию некоей новой, современной формы
метафизики сущности, которая считается с развитием мысли в Новое
время, — привела к свободной теософии как организации цельного —
мистического, рационального и эмпирического знания.
е^ 352 ^
C^ IX. Софиология как метафизика сущности ^
6. СОФИОЛОГИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В первой части данной книги (см. главы II—IV) были намечены
важнейшие принципы положительной философии Шеллинга. Если
сравнить их с подходом Соловьева, изложенным в главах VIII и IX, то
бросится в глаза ряд параллелей. Как упоминалось, Соловьев не только прямо
ссылался на Шеллинга во время защиты своей диссертации «Критика
отвлеченных начал»85, но он также избрал философский подход к со-
фиологии, сходный с подходом Шеллинга к положительной философии.
Оба начинают с критики предшествующей им философии: Шеллинг
называет ее «отрицательной философией», усматривая ее кульминацию
в гегелевской системе86, Соловьев же обозначает ее как «отвлеченные
начала» и видит их самое последовательное развертывание также у
Гегеля87. В предисловии к своей «Критике отвлеченных начал» Соловьев
определяет отвлеченные начала как ставшие самостоятельными,
обособившиеся элементы всеединой идеи88. Эти ставшие самостоятельными
начала притязают на то, чтобы быть целым, и потому задача критики
«этих отвлеченных и в отвлеченности своей ложных начал» заключается
для Соловьева в том, чтобы устранить эти притязания частных
принципов на значение целого. Во второй главе «Критики отвлеченных начал»
такие начала охарактеризованы как отвлеченные или отрицательные]
они обретаются лишь путем рассудочного знания, а потому суть
результаты деятельности личностного, опирающегося лишь на само себя
рационального сознания. Соловьев отличает от этих отвлеченных начал
«положительные или субстанциальные начала», которые в основном не
зависят от разума и, следовательно, вводятся с помощью веры. Эти
начала обязательно имеют религиозную природу89. Подходы Шеллинга
и Соловьева сходны вплоть до выбора слов {отрицательные или
отвлеченные начала — отрицательная философия; чисто рациональный
способ рассуждений — чисто рациональная философия; с другой стороны,
положительные или религиозные начала — положительная философия
откровения). Это сходство распространяется и на оценку чисто
рациональной предшествующей философии: как для Шеллинга, так и для
Соловьева эта философия есть необходимая предварительная ступень
положительной философии90 и, соответственно, свободной теософии.
Нужно преодолеть притязание отрицательной философии (или
отвлеченных начал) на осуществление ими полноты, из-за чего они делаются
ложными и вводят в заблуждение. Итак, обнаруживается, что разница
между тем, что Шеллинг считает отрицательной или чисто
рациональной философией, и тем, что Соловьев рассматривает в качестве
отвлеченных начал, имеет в первую очередь терминологическую природу.
Другая очевидная общность касается той роли, которую эти два
мыслителя придают при переходе от отрицательной, чисто рациональной,
е^ 353 ^э
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ) ДВУХ ПУТЕЙ ^
отвлеченной философии к положительной философии или,
соответственно, к софиологии, — с одной стороны, самоотрицанию Бога (яснее
всего выраженному у Лурия в качестве цимцума), а с другой — образу
Софии, — также и в тех случаях, когда они по-разному оценивают их
онтологический статус. Можно исходить из того, что цимцум и София —
это те основные «столпы», на которые опираются как положительная
философия, так и софиология.
Конечно, возникает вопрос, не является ли все же принципиальным
различием подходов Шеллинга и Соловьева то, что Шеллинг при
представлении modus'a progrediendi положительной философии
решительно отвергает какой бы то ни было «теософизм»91, в то время как
Соловьев приходит именно к свободной теософии. Шеллинг имеет в виду
в особенности Якоба Бёме, которому он ставит в вину плененность
субстанциальным началом: она должна быть преодолена в свободной,
ориентированной на абсолютную Личность философии. Но именно этот
упрек нельзя обратить против Соловьева, философия которого с самого
начала оказывается философией свободы и ориентирована на
свободную личность. Поэтому Соловьев говорит не просто о «теософии», но
именно о свободной теософии. В связи с этим он вводит понятие
«мистического начала», что вновь, по-видимому, отличает его от Шеллинга,
ибо Шеллинг выразительно протестует против любого «мистицизма»92.
Но при более точной проверке выясняется, что сходство между
положительной философией и софиологией распространяется и на
мистическое начало, — также и тогда, когда Шеллинг в связи с представлением
положительной философии исключает это понятие. Так, к примеру,
рассматривая образы абсолютного духа, открывающиеся через таинство
цимцума, он использует понятия, взятые из области мистики93.
Этот выбор слов совершенно уместен, ибо в тот момент, когда Бог
полагается вне мышления, единственно возможный доступ к нему
имеет не чисто рациональную природу, а природу мистическую,
превосходящую рациональное начало. Когда Соловьев ясно выражает этот факт
в «Критике отвлеченных начал», он не знает о сдержанном отношении
Шеллинга к понятию «мистика». Разумеется, в другом месте он
проводит отчетливое различение между ложными формами «мистицизма»
и тем, что он в «Критике отвлеченных начал» понимает под
мистическим принципом94.
Не только на основании этих удивительных параллелей, но также и по
той причине, что Соловьев считал себя в известном смысле
продолжателем поздней философии Шеллинга, можно сделать следующий вывод:
софиология, основанная Соловьевым, есть продолжение положительной
философии, вызванной к жизни Шеллингом. Или, выражаясь иначе:
софиология есть новый вариант положительной философии.
е^354^с>
Сг^ IX. Софиология как метафизика сущности ^)
Этот результат имеет различные следствия. С одной стороны,
становится понятным то, что поздний Шеллинг на самом деле строит мост
между немецким идеализмом и русской софиологией, так что можно
было бы, несколько преувеличивая, сказать, что русская софиология
родилась из духа немецкого идеализма. Далее, подтверждается оценка
Шеллингом основанного им нового типа философствования: он
является открытым и пригоден для того, чтобы взорвать замкнутую систему
(в частности, и его собственную), — в любой момент подобная
философия допускает продолжение. Все это нашло отклик у Соловьева,
рассуждающего о «становящемся разуме истины». И наконец,
сформулированный выше результат ставит русскую софиолгию в контекст западной
философской традиции.
7. ЦЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Наряду с понятием «свободная теософия» ключевое место у
Соловьева занимают понятия «свободная теургия», «реализация всеединства»
как цельное знание, а также «свободная теократия». В. Леттенбауэр
указал на то, что Соловьев обсуждал их уже в своем незаконченном
трактате «Философские начала цельного знания»95. В конце первой главы
(«Общеисторическое введение. О законе исторического развития»)
Соловьев пишет: «Мы получили теперь ответ на поставленный нами
вначале вопрос о цели человеческого существования: она определилась как
образование всецелой общечеловеческой организации в форме
цельного творчества, или свободной теургии, цельного знания, или свободной
теософии, и цельного общества, или свободной теократии. Настоящая
объективная нравственность состоит для человека в том, чтобы он
служил сознательно и свободно этой общей цели, отождествляя с нею свою
личную волю, а это отождествление, которое есть вместе с тем
освобождение человека, неизбежно свершится, когда он действительно сознает
истинность этой идеи. "Познайте истину, и истина сделает вас
свободными"»9ii.
В связи с этим Соловьев указывает на то, что из трех общих сфер
человеческого бытия две подлежат в своем образовании и развитии таким
особенным условиям, которые «не находятся ни в какой прямой
зависимости от воли и деятельности отдельного лица»: это свободная теургия
и свободная теократия. Но иначе дело обстоит в отношении свободной
теософии или цельного знания, ибо здесь отдельный человек является
настоящим субъектом и деятелем и здесь также личное сознание идеи
есть уже начало ее осуществления. Поэтому трудовая деятельность
в этой сфере есть «обязанность для всякого, кто сознал нормальную цель
человеческого развития»97. Во второй главе, имеющей название «О трех
(^ 355^3
(г^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^5
типах философии», далее говорится следующее: «Свободная теософия
есть органический синтез теологии, философии и опытной науки, и
только такой синтез может заключать в себе цельную истину знания: вне его
и наука, и философия, и теология суть только отдельные части или
стороны, оторванные органы знания и не могут быть, таким образом, ни
в какой степени адекватны самой цельной истине»98.
Хотя идея цельного знания, преодолевающего ограниченность
рациональной философии и позитивизма, была впервые изложена
Соловьевым в «Философских началах цельного знания»99, она уже, однако,
обозначалась в его магистерской работе «Кризис западной философии
(против позитивистов)» 10°. В начале ее Соловьев коротко и ясно
заявляет: «В основу этой книги легло то убеждение, что философия в
смысле отвлеченности, исключительно теоретического познания окончила
свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего»lü1. «Критика
отвлеченных начал» делает из этого утверждения программу
преодоления отвлеченной философии, которая отчасти осуществляется, приводя
к идее всеединства, — эта идея, в сущности, есть София,
Соответствующее развитие мысли исходит из этой всеединой идеи
или Софии, и также в этом смысле — в смысле того, что на вершине
организма знания находится образ Софии Премудрости Божией, —
оправдывается соловьевский выбор имени, ибо это знание становится
некоей системой свободной тео-софии. Поэтому совершенно закономерно
Соловьев включает в понятие свободной теософии свою идею цельного
знания или великого синтеза теологии, философии и науки
(соответственно, мистического, рационального и эмпирического начал); с
помощью свободной теософии должно осуществиться положительное
всеединство102. При этом три элемента нашего познания должны быть
приведены в правильное отношение между собой. Но если истина
знания объективно должна выражать истину существования, то тогда
правильное отношение между элементами нашего познания возможно лишь
в том случае, если также существует правильное отношение между
элементами действительности. Природный (эмпирический) и
рациональный принципы должны быть внутренне связаны в нашем познании с его
мистическим принципом, чтобы этот последний осуществлялся в них
и через них, — а это требует того, чтобы Божественное начало
осуществлялось или реализовывалось посредством человеческого начала в
природных элементах, являющихся материей для него1()3. Только тогда
можно говорить о некоем знании, что оно основано на всеединстве и в этом
смысле может быть расценено в качестве цельного знания. Но ныне
такая реализация Божественного начала в нашей действительности
существует лишь в отдельных случаях, вообще же это начало остается за
пределами человеческой жизни; а так как Божественное начало может
быть внесено в природу только через начало человеческое,
Божественен 356 ^>
(г^ IX. Софиология как метафизика сущности ^)
ное начало и в природе не реализуется1(М. Однако если, как правило,
Божественное начало в человеческой сфере не реализуется, то мы не
живем в истине и непосредственно цельным знанием не обладаем:
«Конечно, истина вечно есть в Боге, но, поскольку в нас нет Бога, мы и живем
не в истине: не только наше познание ложно, ложно само наше бытие,
сама наша действительность. Итак, для истинной организации знания
необходима организация действительности. А это уже есть задача не
познания как мысли воспринимающей, а мысли созидающей, или
творчества» 105.
Для Соловьева здесь важно реализовать Божественное начало как
в человеческой, так и в природной действительности. Это означает, что
вся природа, все эмпирические элементы нашего бытия должны быть
организованы нашим духом, — но как раз не автономным,
рационалистическим человеческим духом, а духом, примиренным с духом
Божественным, добровольно служащим последнему. Но тем самым человек
приходит к свободному творчеству, которое состоит в свободном
взаимодействии с Божественным началом, — взаимодействии, которое
Соловьев называет свободной теургией: «Если всякий действительный
предмет, для нас существующий, представляет, как мы знаем, некоторую
организацию фактических элементов, обусловленную некоторым
частным актом естественного творчества, то организация всей нашей
действительности есть задача творчества универсального, предмет
великого искусства — реализации человеком общественного начала во всей
эмпирической, природной действительности, осуществление человеком
Божественных сил в самом реальном бытии природы — свободная
теургия» 1()6.
Свободная теософия предваряет в области познания это
осуществление всеединства и прокладывает ему путь тем, что религиозной истине
сообщается форма свободной мысли и эта истина реализуется в данных
опытной науки107. Но также и свободная теософия осуществляется
только тогда, когда не только знание, но и сама действительность
организуется в смысле ее соединения с Божественным началом, пронизывания
ее этим началом. Однако выполнение теургической задачи является
обязанностью не столько философии, сколько искусства, — философии
же дается новое задание — развитие основ эстетики свободного
творчества: «Таким образом, исследование теоретических элементов духа
человеческого приводит нас только к определению задачи и общих
принципов истинного знания, исполнение же этой задачи, осуществление
этих принципов, то есть действительная организация истинного знания
как свободной теософии, является обусловленною исполнением другой
великой задачи — организации самой нашей действительности или
реализации Божественного начала в самом бытии природы. Эту задачу
я определяю как задачу искусства, элементы ее я нахожу в
произведением 357 ^5
е^ Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ ^
ях человеческого творчества и вопрос об осуществлении истины
переношу, таким образом, в сферу эстетическую»108.
Итак, основание Соловьевым софиологии открывает перспективы
развития тем, присутствующих в обеих великих метафизических
традициях Запада: это учение о бытии или общности и открытие личности. Ибо
если в свободной теософии речь идет о разработке цельного знания,
которое свяжет между собой мистико-религиозную,
философски-рациональную и эмпирико-природную плоскости (то есть «небо, человека
и землю»), пронизав эти три сферы бытия некоей новой мудростью,
становящимся разумом истины; и если в свободной теургии, намеченной
Соловьевым, откроется обширное поле свободного художественного
творчества для находящейся в созвучии с Божественной волей
свободной воли пришедшей к себе самой человеческой личности, — то это
означает, что метафизика сущности и метафизика свободы шаг за шагом
будут соединяться в некий третий род метафизики, опирающийся на новую
эстетику.
Подходы к новой метафизике эстетики Кобуш распознал также у
Ницше109. Но, в отличие от Ницше, в великом синтезе, который намечен
у Соловьева, это соединение выражается в том, что во внимание
принимаются обе великие метафизики и тем самым оба полюса человеческого
существования — сущность и личность. При этом не только
оказывается противодействие заметным в этих метафизиках тенденциям
(вызванным преувеличенным вниманием к одному из данных полюсов) к
деперсонализации (= опасности односторонней метафизики сущности) или
к десубстанциализации (= результату односторонне проакцентирован-
ной метафизики свободы): с помощью свободного соединения
человеческой и Божественной воль, прообразовательно представленного в идеале
Богочеловечества, оказывается возможным избежать ницшеанской
мании «сверхчеловечества».
Движущей силой и целью этого процесса является взыскуемое
Соловьевым, диаметрально противоположное привлекательному для Ницше
«вечному возвращению» постепенное художественное преображение
человеческой и природной сфер в их совокупности, что ведет в
измерения, связанные с «новой Землей» и «новым человеком».
Проблему осуществления этой цели, акцентируя ее по-разному,
ставили все софиологи — от позднего Шеллинга, включая Соловьева и вплоть
до Флоренского, Булгакова, Бердяева и Томберга.
Часть IV
СИНТЕЗ
ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ
Итоги И ПЕРСПЕКТИВЫ
χ
синтез или единство ДВУХ
Итоги и перспективы
Этот великий синтез не есть чья-нибудь субъективная,
личная потребность: недостаточность эмпирической
науки и бесплодность отвлеченной философии, с одной
стороны, а с другой стороны, невозможность возвратиться
к теологической системе в ее прежней исключительности,
необходимость развить и восполнить мистическое начало
элементами рациональными и природными — реализовать
его как всеединое — все это ясно сознано умом
человечества как результат его отрицательного развития. <...> Тот
неизбежный вывод, к которому приводит реальный
исторический процесс, пережитый умом человеческим, <...>
есть положительное всеединство,
Владимир Соловьев1
1. ДВА ПУТИ К СОФИИ
ι урианская идея цимцума, представленная в этой книге, оказа-
|П |лась тем средством, с помощью которого стало возможным
Il увидеть в новом свете духовное развитие на протяжении двух
Г J II послеДних тысячелетий и его отражение в философии Запада.
Ч^г ^J Например, эта идея открывает новые перспективы для
понимания характерных именно для Нового времени попыток наметить
образ Бога: деизм, пантеизм и атеизм с их общей чертой — отрицанием
всякой самостоятельной и деятельной трансцендентности — при этом
оказываются на стороне дурной трансцендентности, так как в основе
их лежат ошибки — вытеснение Бога, отождествление с Ним [тварного
мира] или отрицание, соответственно.
Шеллинг обнаружил, что Божество, оказавшееся в ходе западного
развития метафизики вначале вне поля зрения, а затем — вне сознания,
не может быть попросту вновь «обретено» с помощью догматического
полагания, — однако при этом для всякого углубленного мышления не-
е^361 ^Э
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^э
возможно остановиться на атеизме как результате развития мысли в
Новое время. Шеллинг претендовал на решение трансцендентной проблемы
«старой» философии с помощью своей «положительной философии»:
в основе этого нового типа философствования заложена не деистическая,
атеистическая или пантеистическая предпосылка, а философское
развитие монотеизма. Шеллингов монотеизм исходит из некоего тринитар-
ного процесса, в котором в начале одним, в смысле божественности,
является лишь Отец, первое Лицо Троицы, тогда как Сын и Дух исходят
из Отца таким образом, что оказываются исключены из божественности
Отцом и только в ходе теогонически-космогонического процесса
приближаются к «славе Отца», так что в конце развития все три Божественных
Лица суть один Бог. Шеллинг обозначает три момента этого процесса
как таутусию, гетероусию и омоусию. Они осуществляются следующим
образом: Отец, будучи абсолютным духом по отношению к трем Своим
формам, предпринимает, отдавшись некоей «Божественной иронии»,
«перестановку», при которой Он единство этих трех форм обращает
внутрь Себя, а их множественный аспект обращает наружу, благодаря
чему возникает универсум, вселенная, или обращенное наружу единство.
Это второе, становящееся единство затем в историческом процессе
«вбирается» в первоначальное единство. Обращение Божества внутрь
Себя, отдельные фазы теогонического процесса и его цель —
реинтеграция второго единства в первое — могут рассматриваться как фазы
деизма, атеизма и, наконец, пантеизма.
Но именно теория Божественной перестановки представляет собой
слабый момент Шеллингова монотеизма. Было показано, что выход из
этой дилеммы указывает идея цимцума. Это выражается в философски-
богословских воззрениях Сергея Булгакова, который исправляет и
восполняет Шеллингов подход с его несколько проблематичными
импликациями. Отказавшись от предположения об абсолютном духе, который
мыслится как абсолютная личность в трех формах или образах,
Булгаков возвращается к традиционному богословскому представлению о
едином Боге в трех Лицах. С учетом предположения о Божественном
отступлении делается понятным разное отношение Лиц к Божественному
бытию или, по Булгакову, к Божественной у сии-Софии. Согласно
этому предположению, Сын обязан Своим Божественным бытием вечному
отступлению Отца или Его воздерживанию от всякого положительного
бытия, наследником которого в той же самой вечности является Сын.
С идеей цимцума неразрывно связано предположение о космической
пустоте, образовавшейся в результате Божественного отступления, т. е.
о небытии. Выше обсуждалась проблема: идет ли речь при этом о
полном небытии, о ничто; является ли возникшее благодаря цимцуму
отсутствие Бога абсолютным, а трансцендентное — недостижимо
трансцендентным, — или же можно исходить из той или иной формы присутствия
е^362^с)
C^ X. Синтез или единство двух ^Э
отсутствующего — из диалектики бытия и небытия, и тогда мы
оказываемся в начале логики Гегеля.
Сравнение системы Гегеля с поздней философией Шеллинга
показало, что хотя обе системы исходят из бытия, однако гегелевское понятие
чистого бытия и шеллинговское предположение необходимо сущего
(des notwendig Seienden) — непостижимого бытия — отличаются между
собой, как потенция и существование или же разум и действительность.
Допущение необходимо сущего даже возвратило Шеллинга к
философскому принципу Спинозы, т. е. к необходимо существующему (das
notwendig Existierende). Но он возражал Спинозе, что это необходимо
существующее нельзя непосредственно отождествить с Богом: его
божественность еще должна быть доказана. Только если необходимо
существующее понимается как начало философии, а не как ее высший
принцип, в нем свобода может присутствовать без насилия и необходимости.
Для этого с необходимо существующим, непостижимым бытием Бога
должно было бы произойти нечто такое, что могло быть вызвано только
Самим Богом.
Шеллинг объясняет это событие тем, что Бог Сам «от-творил от
Себя», «отстранил» Свое непостижимое бытие. В этом акте Бог
оказывается господином над Своим бытием, — являет Себя в качестве
Сверхсущего. И именно в этом начале Своего пути от необходимо существующего
к Сверхсущему Он показывает Свое Божество. Благодаря этому деянию
Бога возникает некое «бытие», которое не есть Бог, ибо Бог «от-творил»
его от Себя (Шеллинг) или же отступил из него (Лурия). Это «бытие»,
которое больше не тождественно Всесуществу, — или же в котором
больше не присутствует Бог и которое поэтому есть одновременно ничто, —
согласно Лурия, становится «пространством», в котором Бог может дать
ход некоему отличному от Него творению. Чистое бытие, которое Гегель
делает началом своей логики, оказывается, таким образом,
непостижимым бытием, покинутым Богом. Предположение о цимцуме
оказывается условием исследования «природы» или структуры этого пустого
«пространства» или ничто, а тем самым предпосылкой для диалектики,
представленной Гегелем.
Было указано на то, что это прапространство является матрицей для
тварного разнообразия и тем самым объединяющим «принципом» всего
творения, — принципом, который в иудео-христианской традиции
обозначается как София Премудрость Божия. Является ли эта матрица
голым принципом или же, будучи основанием всего сотворенного, она сама
есть некое существо? Является ли она просто планом творения, чистой
идеей в мышлении Бога, — она, будущее творение, которое Бог сделал
началом Своих путей в таинстве цимцума? Будучи потенциальной
исполнительницей Божественной творческой идеи, является ли она сама
неким творением — и в этом случае вообще первым творением? Или же,
е^ЗбЗ^Э
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^f)
будучи неразрывно связанной с Божеством через таинство цимцума,
она сама есть Божественное существо?
Эти вопросы обратили нас от чисто логических размышлений
немецких идеалистов к «материальной софиологии» русских софиологов,
и при этом Шеллингу было отведено центральное место и роль
посредника. Так, Владимир Соловьев под влиянием мыслей Шеллинга о
Премудрости, упомянутой Соломоном, называет Софию действительным,
живым существом; в этом за ним следуют Павел Флоренский и Сергей
Булгаков. Хотя относительно онтологического статуса Софии взгляды
всех трех разнятся, общим для них является убеждение, по которому
следует различать две формы или два образа Софии: это София в Боге
и Sophia creata. В то время как Флоренский рассматривает оба образа
Софии в качестве форм тварности, для Владимира Соловьева Sophia di-
vina> Вечноженственное в Боге, есть Божественное существо. Эту мысль
развивает Сергей Булгаков, рассматривающий Sophia divina в качестве
Божественной «сущности» или усии. Согласно Булгакову, она
определяет «область Бога» (Umfang Gottes), т. е. то, что является общим для всех
трех Божественных Лиц, ибо они суть Бог. Поэтому София в восточной
традиции символизируется окружностью, куда вписан равносторонний
треугольник — символ тринитарного Бога. Напротив, Sophia creata
объединяет в себе моменты возникновения и тварного становления.
Тем самым делается понятным свободное сотворение мира, при
котором София занимает в качестве «первенца созданий Божиих» место
посредницы, что препятствует тому, чтобы творение рассматривалось как
подчиненная необходимости эманация Божественного существа, как это
происходит в различных видах пантеизма. Разница между Sophia divina
и Sophia creata вместе с той решающей ролью, которая отводится
образовавшемуся в результате Божественного отступления пустому
пространству (или ничто), привели нас к такой космологии, в которой София
хотя и соотносится с Богом, однако одновременно может пониматься
как некий свободный процесс и как независимая, самостоятельная
реальность. Целью данного творческого процесса и при этом самим
существом творения является человек, который, согласно Шеллингу и всем
софиологам, выступает в качестве диалогического партнера Бога,
сотворенного по Его образу и подобию и полагающего Бога.
Во второй части настоящей книги речь шла о том, как можно
философски истолковать то, что человек — это образ и подобие Божий, сделав
эту идею плодотворной для понимания западного духовного развития.
Для этого было прослежено развитие данных понятий {образ и подобие;
греч. homoiosis и eikon), начиная с их библейских истоков; понятия эти
были привлечены для новой оценки основных мотивов метафизики
Средних веков и Нового времени. При этом образовался мост,
соединяющий Ветхий Завет с греческими отцами Церкви, затем с тяготеющими
е^364^Э
(^ X. Синтез или единство двух ^S>
к платонизму ранними схоластами XII в. и далее — с
антропологическими постулатами и предпосылками Соловьева и русских софиологов.
Существенный результат этого заключается в установлении параллели
между личностью и сущностью Софии, с одной стороны, и человеком
как образом и подобием Божиим — с другой, причем образ связан с не-
тварным аспектом Софии (Sophia divina), а подобие — с ее тварным
аспектом (Sophia creata). Поэтому можно сказать, что человек с его
полюсами образа и подобия представляет собой отражение Софии; по этой же
причине можно говорить о двух путях к Софии — о пути подобия и о
пути образа.
Было установлено, что философская традиция, связанная с образом,
или imago, может быть названа «метафизикой сущности», или
«субстанциальной онтологией», под которой следует понимать всякий тип
метафизики, имеющий дело с бытием (to on), с различными формами
субстанции (hypokeimenon, соотв. usia) и их объективной познаваемостью,
но в особенности — платоновскую или неоплатоническую и
аристотелевскую философию, а также ее средневековое продолжение в так
называемом «реалистическом» направлении ранней, высокой и поздней
схоластики, тяготеющем к платонизму или аристотелизму. Затем было указано
на то, что корни «метафизики свободы» надо искать в подобии, или si-
militudo. Эта другая форма метафизики, подготовленная номинализмом
Средневековья, достигла своего расцвета в различных философских
установках и системах Нового времени. Для этой философии,
ориентированной на подобие или на личность человека, не составляет проблемы
применить понятие «философия» к более старой «метафизике
сущности»; конечно, это понятие в данном случае уместно лишь в историческом
или системном смысле. Новейшая философия не придает
действительного значения для мышления в настоящем и будущем этому роду
мышления: с ее собственной точки зрения, он представляется ей рецидивом.
Различение двух типов метафизики также позволило объяснить тот
факт, что схоластика имела два «крыла» — реалистическое и
номиналистическое; с того времени существуют два разных понятия философии
или науки. Современная наука всецело связана с номиналистическим
крылом схоластической философии, а потому с понятиями similitudo/dis-
similitudo, тогда как реалистическое «крыло» схоластики было связано
с imago. Средневековое противостояние этих двух форм мировоззрения
было продемонстрировано описанием дебатов номиналистов и
реалистов. При этом весьма полезным оказалось представление, согласно
которому в основе идейно-реалистической «метафизики сущности» заложена
некая пространственно-статическая, «архитектоническая» структура,
которую мы определили как «собор познания» высокого
Средневековья: постепенное изменение перспективы на типичный для
номинализма динамически-волюнтаристский подход оказалось возможным пред,-
С^365^>
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^5
ставить с помощью образа разрушения этого «собора». Такое разрушение
совершалось в два основных этапа. В схоластическую эпоху произошла
«переориентация» в естествознании от объективности к
субъективности, связанная с пробуждением similitudo и «затемнением» или «субъекти-
вацией» imago. Затем, в Новое время, дело дошло до того, что философ
из Бохума Тео Кобуш назвал открытием личности, которое составляет
результат развития в эту эпоху. Открытие личности имеет лишь
косвенное отношение к платоно-аристотелевской традиции.
С открытием личности непосредственно связано открытие великой
метафизической традиции — традиции метафизики свободы, в центре
которой находится понятие морального бытия, корни которого были
исследованы Кобушем.
Описанная в данном труде метафизика свободы, или «открытие»
личности, представляет собой, таким образом, совершенно своеобразное
метафизическое направление, которое возникло в XIII в. и развивалось
на протяжении столетий Нового времени. С этим развитием был связан
ступенчатый процесс десубстанциализации: происходило постепенное
отделение вновь возникшего направления от платоно-аристотелевской
метафизики Средневековья, которую можно назвать метафизикой
сущности. Было показано, что личность человека связана с тем, что в
средневековой платонической метафизике и теологии называлось similitudo,
или подобием. Соответственно сущность человека связана с imago, или
образом. «Личность» начинает выступать на фоне затемнения
«сущности». С помощью сравнения позиции Томберга, в области философии
права ориентированного скорее на субстанциальную онтологию, с
позицией Кобуша, ориентированного на личность, было показано, что
можно говорить прямо-таки о постепенном «поглощении» imago со стороны
similitudo, — «поглощении», которое было подготовлено в
средневековой номиналистической философии, а затем осуществлено под знаком
субъективизма в философии Нового времени. Драматизм этого
процесса затемнения или «поглощения» обнаруживается в разрушении
многоступенчатого права в томизме, а в особенности в «судьбе» естественного
права — вплоть до его полного упразднения в современном правовом
позитивизме.
У Гегеля эта десубстанциализация бытия, осуществляющаяся в
пользу становления, т. е. динамизма воли, достигает своей критической точки:
с одной стороны, в гегелевских определениях ступеней свободы и
нравственного бытия был учтен интерсубъективный характер свободы; с
другой стороны, Гегель развивает свою систему все еще исключительно
в субстанциально-акциденциальных категориях субстанциальной
онтологии или «метафизики сущности». Отсюда возможны лишь два пути.
Или отбрасываются последние субстанциально-онтологические
предпосылки (а вместе с ними — последние следы imago Deï)y что и происхо-
е^366^>
Cr^ X. Синтез или единство двух '^Э
дит в случае следующих за Гегелем различных персоналистских
подходов (в частности, в правовом позитивизме), прежде всего, в XX в.; или
ставится вопрос, как должен измениться радикальный персонализм,
если он примиряется с сущностной стороной человека или с imago Del
Подобная попытка привела бы, между прочим, к совершенно новому,
освобожденному от субстанциально-онтологических предположений,
однако потом вновь их обретающему образу Божьему. При этом
большое значение имеет тот факт, что, согласно концепции Гегеля, свобода
«имеет интерсубъективный характер»: если Кобуш в связи с
концепцией интерсубъективно сообщенной свободы человеческой личности
указывает на добровольное ограничение ею своей собственной свободы,
обоснованное с помощью разума, — то есть на самоограничение как
условие для свободы другого, — то в качестве прообраза для этого, вместе
с Божественной Личностью и откровением ее свободы, можно взять
соответствующий акт Божественного самоограничения.
Исходя из этого первоначального акта Божественного
самоограничения, можно развить совершенно новую метафизику, в которой
преодолены и одновременно сняты односторонности средневековой
метафизики сущности и метафизики свободы (или личности) Нового времени.
В центре метафизики свободы находятся Кант и Гегель: первый —
поскольку он провел понятие личности и свободы сквозь игольное ушко
самого первого деяния разума, категорического императива; второй —
поскольку он описал личность и свободу в качестве результата
диалогического процесса взаимного признания. Было показано, что развитие
Кантом метафизики свободы намечает контуры совершенно особой
формы логики, которую Томберг называет моральной логикой. Хотя этот вид
логики обнаруживается в метафизике свободы, он представляет собой
мост между двумя формами метафизики — метафизикой свободы и
метафизикой сущности. Это было показано на примере философии Николая
Кузанского, логические рассуждения которого были истолкованы в
качестве фундамента для новой, качественной (моральной) логики.
Один из результатов настоящего труда можно поэтому
сформулировать так: моральная логика, которая была намечена Кузанцем в ее
вертикальном, иерархическом аспекте, должна была быть проведена через
метафизику свободы, разрушающую всякий вертикальный
иерархический порядок во имя горизонтального прогресса свободы, чтобы после
прохождения через «игольное ушко» практической философии Канта
ей обнаружиться в качестве собственной логики метафизики свободы.
Благодаря этому моральная логика имеет «структуру креста» и создает
формальную предпосылку для «воссоединения» образа и подобия (или
сущности и личности).
В третьей части этого труда был показан на примере Ницше кризис
метафизики свободы. Этот кризис изначально связан с переходом в
метаем 367 ^>
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^Э
физике свободы от теоцентризма к антропоцентризму, чему сопутствует
опасность апофеоза безбожного человека, вызванная сосредоточением
на воле человеческой личности, т. е. на esse morale и источнике свободы.
Эта опасность становится реальной тогда, когда человеческая воля
абсолютно полагается не только в теоретико-методическом, но и в
экзистенциально-практическом смысле.
Если свободная воля, esse morale, полагается в экзистенциальном
смысле абсолютно, то вне нее не может существовать никакой
инстанции, которая определяет ее в ее поступках, т. е. в ее морали, ибо всякой
такой инстанцией воля отчуждалась бы, теряя неограниченную
автономию. Для старой метафизики и для христианства этой инстанцией был
Бог. Для доведенной до конца антропоцентрической метафизики
свободы Бог становится поэтому совершенно ненужным, — и в конце концов
это означает, что Его существование уже не просто подвергается
сомнению со стороны разума опирающегося лишь на самого себя человека, но
сознательно предается забвению, — как это выражается в
исповедальном культурологическом анализе Ницше: «Где Бог? <...> Мы убили Его».
Для Ницше смерть Бога — это не только методическое, а также не
чисто метафорическое, но экзистенциально-реальное следствие
фактического забвения всякой надчеловеческой реальности. Если человек
настаивает на этом обстоятельстве, желает его, тогда к нему приходит
сознание некоей реальности высшего порядка. Он встает на тропу, ведущую
к сверхчеловеку, который сам задает себе путь и цель. Сверхчеловек —
это тот, кто до конца продумал урок и экзистенциально понял
внутреннюю метафизику свободы, а затем расчистил с помощью
«философствования молотом» занятое метафизическими предпосылками и интересами
место в центре предшествующей метафизики, чтобы самому
водрузиться на него, т. е. чтобы сделаться Богом.
Заслуга Ницше с его последовательной, бескомпромиссной
ориентацией на один из двух полюсов человеческого существования — на
лишенное трансцендентности подобие или на волю личности к
самоутверждению, самоосуществлению и власти — в том, что он со всей трагической
последовательностью показал, что эту односторонность и связанное с ней
осуществление идеала безбожного человека в качестве последней цели
метафизики свободы экзистенциально выдержать нельзя. На этом
основана пророческая сила жизни и творчества Ницше.
Так как невозможно ни вернуться к старой метафизике сущности, ни
принять в абсолютном смысле метафизику свободы, сохранив ее
односторонность, следует искать некоего синтеза. Этот синтез,
заключающийся в соединении философии сущности и философии личности, был
охарактеризован как задание, направленное на то, чтобы избежать Сциллы
отхода к «обезличенной» субстанциальной онтологии и Харибды «де-
субстанциализированного» персонализма, что возможно лишь в том слу-
е^Збв^Э
<c^ X. Синтез или единство двух ^Э
чае, если будет найден некий эвристический принцип, перед лицом
которого оба воззрения будут осмыслены в их своеобразном значении
и смогут одновременно существовать, не исключая друг друга.
Владимир Соловьев, русский современник Ницше, попытался
наметить основные контуры этого великого синтеза. В своих «Чтениях о Бо-
гочеловечестве» он делает набросок метафизики свободы, основанной на
софиологии. Это учение избегает односторонностей и узких мест
классической метафизики свободы, а также той бездны, на которую указал
Ницше. Благодаря христианству, заново открытому с помощью философии,
не только углубляются понятия личности и свободы, но и освещается
исторический процесс вместе с современной ситуацией человечества. При
этом все развитие метафизики в Новое время предстает в новом свете.
Если Кант в своей «Критике чистого разума» исследовал три
фундаментальных для познания принципа средневековой метафизики
сущности (sensus, ratio и intellectus) на предмет того, могут ли они
рассматриваться в качестве «камней» для постройки мыслительного
философского здания, способного выдержать любой натиск критики и с
несомненностью обеспечивающего богопознание, — причем результат
кантовской критики разума оказался сокрушительным в отношении
отдельных познавательных способностей и возможности познания
природы и Бога, — то Соловьев в своей диссертации «Критика отвлеченных
начал» задался целью таким образом просветить разум относительно
его собственной деятельности, чтобы можно было распознать его в его
собственном существе — как становящийся разум истины, В первой
части своего сочинения он движется к этой цели через конкретные
установки предполагаемой философии морали, а во второй части — через
установки учения о познании.
Эта фундаментальная критика отдельных установок представляет
собой одновременно органический путь, который не дает мышлению
возможности остановиться на каком-либо отвлеченном начале, но проводит
мышление в некоем диалектическом процессе через каждое отдельное
отвлеченное начало, учитывая его значение для мировоззрения.
Мышление не застывает ни на каком определенном начале и не сводится
целиком к этой критике; скорее оно шествует вперед, проходя весь круг
возможных этических и теоретико-познавательных установок. Если
мышление приступает при этом к наблюдению за своим собственным
движением, то обнаруживается ascensus — поднимающаяся снизу вверх
органическая цепочка сделавшихся самостоятельными отвлеченных
начал старой метафизики. Одновременно ощущается оживление и
возрастание философского разума в атмосфере становящейся истины.
Так как «Критика отвлеченных начал» развертывается с помощью
анализа философских установок Нового времени, она открывает путь
к метафизике сущности в условиях Нового времени. Подобно его
предел 369 ^Э
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^Э
шественнику Канту, Соловьев вначале обозначает границы этих начал
и показывает, что с их помощью невозможно прийти к познанию
истины. Однако соответствующие основные направления мысли (эмпиризм,
рационализм, идеализм и теология) не только анализируются с
привлечением диалектического метода, но и реализуются в качестве ступеней
продвижения разума ко всеединству, т. е. поэтапное самотрансцендиро-
вание разума ведет к тому, что sensus, ratio и intellectus вновь в этой
последовательности восстанавливаются в мышлении, а отвлеченное начало
теологии преодолевается мистическим началом, способным осуществить
всеединство. Отдельно взятые установки теперь больше не кажутся
«обломками», которые оставил позади себя философский анализ
Нового времени: это скорее «вехи», которые указывают разуму путь к
целостному познанию всеединой идеи или идеи всеединства в качестве
живого существа — Софии.
Было показано, что между теми рассуждениями, которые Шеллинг
назвал «отрицательной философией», и, по Соловьеву, «отвлеченными
началами» существует тесная связь. Так как «Критика отвлеченных
начал» осуществляется целиком и полностью философским разумом,
который при этом полностью остается у себя самого, сама эта критика есть
еще «отрицательная философия». Разумеется, завершаясь, она выдвигает
требование науки другого типа — «свободной теософии», которая в
мышлении Соловьева играет ту же роль, которая у Шеллинга отведена
положительной философии. Эта свободная теософия есть осуществленная
софиология, которая от голой спекуляции относительно Софии
приводит к живой и существенной встрече с ней. Существенная софиология
поэтому не только должна располагаться вблизи «положительной
философии», постулированной Шеллингом: она представляет собой
важный шаг к ее реализации. Значительным результатом данной работы
является обоснование того, что софиология — это действительно
дальнейшее развитие положительной философии, основанной Шеллингом.
Но «Критика отвлеченных начал» не только развивает философский
метод позднего Шеллинга: она также выдвигает требование свободного
творчества. И в этой новой практической эстетике заключается
перспектива софиологии, которую нам бы хотелось рассмотреть в конце этой
книги.
2. ПЕРСПЕКТИВА: СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ПУТЕЙ
И СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Мы предпослали каждой из четырех частей данной книги по одной
картине. Эти произведения искусства датируются тем самым временем,
когда Соловьев работал над своим сочинением «Оправдание добра»,
С^370^Э
C^ X. Синтез или единство двух '^Э
а Ницше — над книгой «По ту сторону добра и зла»2. При
внимательном рассмотрении они создают представление о тех существенных
закономерностях, которые обсуждались в данной книге. Например, одна из
картин образно указывает на те два пути, которые умозрительно
выразились в двух великих метафизических традициях Запада. Картины,
принадлежащие к позднему импрессионизму, сделали наглядной ту цель,
которая является также основным требованием софиологии, — это
соединение, или синтез, науки и искусства. Четыре избранных нами
картины к тому же проводят перед взором тот четырехступенчатый процесс,
который, с одной стороны, соответствует построению этой книги, а с
другой — представляет возможное осуществление соловьевского проекта
свободного, но при этом никак не произвольного творчества. Это будет
обосновано при дальнейшем изложении.
а) Воспоминание о Божественном отступлении
Предваряющий первую часть данной книги рисунок «Le Crépuscule
du Soir ou l'Angélus» («Вечерние сумерки, или Angélus»), который был
создан в 1883 г. Жоржем Сера, ориентировавшимся на
соответствующую картину Милле, датированную 1857—1859 гг., обнаруживает некий
момент того пути, который был проделан человеческим сознанием на
протяжении второй половины XIX столетия. От
благоговейно-смиренной молитвенной позы крестьянской пары на картине Милле (середина
XIX в.) на рисунке Сера, сделанном спустя четверть века, не осталось
ничего. Центральный персонаж не снял смиренно шляпы (как на картине
Милле); оба персонажа не склоняют головы в благочестивой молитве
(у Милле — после завершения полевой работы) в свете вечернего
солнца. У Сера прежде всего средняя, мужская фигура кажется вертикально
прямой; она располагается в центре рисунка, в его самом темном, почти
черном месте, и кажется, что она держит в левой руке прямой угол,
образованный светом. Образ этот напоминает очертания некоего
монумента. Другая, по-видимому, женская фигура бредет по узкому пути,
ведущему из глубины изображения к его переднему плану, и кажется, что
она напряженно вглядывается в темноте в монументальный образ,
словно хочет глазами уловить что-то такое, что непосредственно
физическому взору не открывается. Ситуация звона Ангелуса, создаваемая на
картине Милле церковью на заднем плане, на рисунке Сера отсутствует:
церковная колокольня там не видна. Вместо звона рисунок вызывает
ощущение глубокого молчания. Это молчание вместе с таинственной
темнотой и вертикальностью фигур наводит на мысль о медитации.
При таком подходе рисунок не изображает (как у Милле) внешний
призыв к благоговению и молитве — воспоминание об ангельском
приветствии, вызванное церковным звоном. Во второй половине XIX в.
е^ 371 ^Э
C^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^
в окрестностях больших городов вместо церковных колоколен
появляются фабричные трубы, дым которых восходит в небо, — их все вновь
и вновь изображает Сера. Люди перестают слышать колокола церквей,
поскольку естествознание и основанная на нем индустриализация
парализуют традиционные религиозные восприятия и вытесняют их. Если
должна состояться встреча с миром духа, как это выражается в
песнопении «Angélus nuntiavit Mariam», то душа должна заново искать ее, сама
вступая на путь, ведущий к этому переживанию, подобно второй
фигуре на рисунке Сера. При этом душа может приблизиться к внутреннему
переживанию, которое происходит в сумерках внешнего мира, в
вертикальном телесном положении и в молчании.
Этому медитативному опыту соответствует Божественная «прамеди-
тация», которая в первой главе этой книги была описана как путь
Божества в Свои собственные недра или как Божественное отступление. Ибо
подобно тому как Божественное Слово, создающее свободный мир,
могло прозвучать лишь после того, как для этого с помощью цимцума было
подготовлено космическое пространство глубокого молчания; подобно
тому как на повороте времен в душе Марии смогла прозвучать
радостная весть Ангела, сообщившего о воплощении Божественного Слова
для спасения падшего мира и осуществления второго творения,
поскольку в Марии имелась зона благоговейного молчания, — так и в
конце XIX века могло произойти соприкосновение с Божественным миром
и восприятие творческого Логоса — тогда, когда душа, лишенная своей
прежней религиозной среды, уходит внутрь себя и создает в себе
внутреннее пространство молчания, вслушивания и созерцания.
Итак, рисунок Жоржа Сера — «молчальника» в кругу
импрессионистов и неоимпрессионистов3 — считается, с одной стороны, с
самосознанием, возросшим благодаря просвещению, научному прогрессу и
связанному с ними индустриальному покорению природы. Но, с другой стороны,
этот рисунок может также пробудить в зрителе некое настроение (это
подсказывает уже название рисунка), которое основано на
воспоминании о первоначальных «сумерках богов», Божественном отступлении.
Это настроение одновременно осуществляет встречу с той вестью из
мира духа, которая призывает к тому, чтобы вызвать к жизни в своей душе
творческий Логос.
Ь) Пути личности и сущности
Второй части этой книги мы предпослали репродукцию главного
произведения Сера: «Un Dimanche Après-Midi à l'Ile de la Grande Jatte»
(«Воскресный день на острове Гранд Жатт»). Эрнст Блох замечает
в связи с этой картиной, созданной в 1884—1985 гг.: «На жанровом по-
С^ 372 ^5
<2^ X. Синтез или единство двух ^5
лотне Сера "Un Dimanche Après-Midi à l'Ile de la Grande Jatte"
представлена пародия на "Завтрак на траве" Мане, а другими словами — на
ставшее пустым воскресное времяпрепровождение. Эта картина —
единственная в своем роде мозаика скуки, шедевр в изображении
томительной неудовлетворенности и отрешенности в dolce far niente. Картина
изображает обывательский воскресный день — его послеполуденное
время — на одном из островов Сены неподалеку от Парижа, причем она
представляет его с язвительной насмешкой. Лица с пустым взглядом на
переднем плане; как бы деревянные фигуры, тупо шагающие взад и
вперед, подобно куклам из театра марионеток. Эти группы дополняет
бледная река с парусниками, весельной регатой, прогулочными
пароходиками, — фон, который, несмотря на свою приятность, кажется больше
похожим на Аид, чем на солнечный мир. В картине разлито лишенное
радости безделье; оно — в пронизывающем пространство тусклом свете,
в невыразительной воде воскресной Сены — предмете столь же
невыразимого чувства. Это сказочная страна, но кажется, что с наступлением
рабочего времени этот мир, всякий его предмет, исчезнет в безразличии
водной стихии. В итоге остается беспочвенная скука, отрешенная утопия
субботы в самой субботе, — утопия мелкобуржуазного ада; воскресенье
оказывается лишь выстраданным требованием, а не кратким мигом —
даром обетованной земли. Такой обывательский воскресный день — это
ландшафт самоубийства, которое не происходит лишь потому, что
отсутствует решимость на него. Короче говоря, этот вид dolce far niente,
если в нем вообще присутствует сознание, есть сознание полного
отсутствия воскресенья в оставшейся утопии воскресенья»4.
То, что описывает Блох, есть другая сторона вышеупомянутых
«сумерек богов» и лишения души ее наследия. Когда умолкают церковные
колокола, когда дым фабричных труб восходит в небеса и новый класс
разбогатевшей буржуазии извлекает пользу из такого развития, тогда
воскресенье утрачивает свое религиозное и мистическое измерение. Но
изображает ли Сера только обывательское воскресенье с его
зевающей, мертвенной скукой и без какой бы то ни было трансцендентности?
Хайо Дюхтинг полагает следующее: «Как бы ни оценивалась в
полемике с "Принципом надежды" Блоха загадочная, недоступная картина: как
критика общества с помощью "аллегорической антиутопии" (Линда Нох-
лин), или как "демонстрация современного общества" (менее
влиятельная и более натуралистичная точка зрения Кана), — рассматривается ли
она как почти безупречное применение закона цветовой теории (Фене-
он) или же как возврат к классической композиции (Мореа), — эти
оценки зависят от некоей личной точки зрения. Но какую бы позицию
мы ни заняли, "Воскресный день на Гранд Жатт" навсегда останется
тем, чем он был для защитников Сера, — одновременно техническим
и интеллектуальным шедевром»5.
е^ 373^5
С^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^Э
То, что картина есть даже еще нечто большее, чем технический и
интеллектуальный шедевр, и ее содержание выходит за пределы чисто
личностного видения, становится понятным, если принять во внимание
прежде всего то, что фигуры на переднем плане картины находятся
в тени, а фигуры в центре и на заднем плане, напротив, — на солнечном
свете. Одетая в темное пара благодаря изображению в профиль
выступает как некое двуединство, а благодаря тому, что она изображена почти
в натуральную величину (картина имеет размеры два на три метра), она
доминирует в картине; пара эта шествует параллельно горизонтальной
оси картины справа налево.
То, что путь, на котором находятся дама с «faux-cul»* и господин
с розой в петлице и сигарой, зажатой между пальцами, относится не
только к ним самим, но и, возможно, ко всему человечеству; то, что они
представляют собой как бы «прообраз человеческой пары в конце
XIX века», — это предположение делается более вероятным, если
принять во внимание то, что находится на втором плане — справа от них
и за их спиной: здесь указаны те этапы, которые уже были ими
пройдены или которые им предстоит пройти. Взгляд падает на семь стволов
деревьев, за которые художника упрекали еще при его жизни, поскольку
эти стволы похожи на колонны. Напоминающая шпалу черная палка
господина и черный зонт от солнца дамы кажутся таинственно
связанными с этими стволами. Конец палки, не использующейся при ходьбе,
касается середины второго ствола справа; кажется, что черный
солнечный зонт с пятью концами, вопреки всякому смыслу раскрытый в тени,
разделяет собою с третьего по шестой колонноподобные стволы6. Шесть
стволов доходят до верхней границы картины; четвертый, средний, как
бы исчезает в темноте поверх зонта. Три первых ствола соединены
наверху освещенной полосой из зеленой листвы, напоминающей капитель
колонны, — на двух первых она заметна сильнее, на третьем слабее,
причем тут виден узкий разрыв.
Перед вторым, третьим и четвертым стволами на лужайке сидят три
женские фигуры различного возраста; платье крайней справа фигуры
находится на одной линии с первым стволом, а платье второй — на
одной линии со вторым стволом. Правый образ, принадлежащий самой
старшей из женщин в большой шляпе, представлен в профиль и
расположен между вторым и третьим стволами; средняя фигура, помоложе
и без шляпы, помещается между третьим и четвертым стволами; эта
женщина обнимает левой рукой девочку, сидящую прямо под
четвертым стволом. Эта «колонна» примерно наполовину закрыта столом,
напоминающим алтарь, доходящим до пятого ствола. Алтарный стол и обе
шляпы, принадлежащие паре на переднем плане, образуют восходящие
* Особый фасон юбки, букв, «фальшивый зад». — Прим. пер.
С^374^5
<2^ X. Синтез или единство двух '^Э
ступени, которые начинаются в середине четвертого ствола и достигают
седьмого ствола, обрамленного снизу и сверху освещенной солнцем
зеленью листвы.
Такая композиция наводит на мысль, что путь следования пары на
переднем плане каким-то образом связан с семиступенчатым
развитием, как оно, к примеру, символически представлено в семи днях
творения книги Бытия или с помощью семи столпов книги Премудрости
Соломона. Также возникает ассоциация с семью ступенями сциенции
у Бёме7 или же с космической эволюцией, проходящей через семь
планетарных ступеней развития, как ее описал Рудольф Штейнер, следуя
представлениям теософии Е. П. Блаватской8.
В пользу того обстоятельства, что крупная темная пара на переднем
плане в известной степени находится на «пути человечества»,
свидетельствуют также и другие детали картины. Три фигуры располагаются
на лужайке в тени на переднем плане картины в позах лежания, сидения
и готовности встать, — позах, выражающих стадии, предшествующие
полному распрямлению, которое было осуществлено человеком в ходе
эволюции. На эволюцию указывают также изображенные рядом собака
и обезьяна, ибо эти виды животных в герметической традиции
связываются с нисходящим и восходящим развитием9.
Есть ли цель у того пути, на котором находится эта пара? — Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно перевести внимание на другую пару на
картине Сера. Речь, собственно, идет о двух центральных для всей
картины фигурах: это дама в розовой юбке, красноватом жакете, в шляпе
и с красным солнечным зонтом, и одетая в белое девочка в белой шляпе
и с розовым шарфом. Эти две фигуры, находящиеся в самом центре
картины (в отношении и вертикального, и горизонтального ее измерений),
движутся по некоему пути: они идут из глубины картины вперед по
направлению к зрителю. Легко представить, что в будущем в какой-то
момент их путь из глубины пересечется с горизонтальным путем темной
пары на переднем плане, так что произойдет встреча.
Стоит заметить, что маленькая девочка в белом является
единственным лицом на всей картине, которое смотрит прямо на зрителя, а ее
шарф цвета семги находится по вертикали точно в середине картины.
Этими двумя деталями мы займемся несколько позже.
Если темная пара в тени связана с путем падшего подобия или с
путем личности человека, то женщина и ребенок, изображенные без отца,
связаны с путем образа, избежавшего падения, или с действительной
сущностью человека. В пользу этого говорят белый цвет платьица
(белизна — это синтез всех цветов спектра и одновременно цвет
невинности), розовый, окраса семги, цвет шарфа (это цвет приближающегося,
воплощающегося духа), наибольшая сила света в центре картины (свет
идет от источника справа), а также тот факт, что девочка, кажется, вышла
е^ 375 ^Э
е^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^э
из некоей совершенно другой области, причем она смотрит каждому
зрителю прямо в глаза, поскольку она, очевидно, с каждым имеет нечто
общее.
На то, что речь идет о пути человеческой сущности, Сера указывает
также, изображая женскую фигуру и девочку в качестве единства, внося
тем самым в картину как бы некое вертикальное «построение». С
помощью двух древесных стволов слева и справа от головы дамы10,
солнечного зонтика и теней на жакете ее находящаяся в голубоватой тени
голова и светящаяся красноватым светом область сердца особо выделены,
словно они находятся в каком-то окне, в то время как нижняя область
излучает свет благодаря белой девочке, сохраненной в чистоте и
невинности.
Весьма важно также то, что, если смотреть с позиции наблюдателя,
справа от дамы с девочкой и слева от пары на переднем плане
открывается перспектива, ведущая вглубь картины, — перспектива, которая
разделена семью тенями от деревьев, падающими на горизонтальную
поверхность лужайки, и которая направляет внимание наблюдателя на
становление человеческой личности и на те биографические вехи,
которым всякий человек на Земле обязан своим существованием. Так, на
самом заднем плане картины стоит одинокий человек под зонтом; поближе
вперед идут двое, единая пара; еще ближе к наблюдателю, около дерева
посреди лужайки, ствол которого разделяется надвое, а три
вертикальные меньшие ветви устремлены в небо, стоит, выражая сердечное
единство, пара с младенцем на руках. Соединение двух привело к третьему,
что художник специально подчеркивает, помимо упомянутого дерева
с его необычным ветвлением, еще и тем, что заставляет редеть деревья
позади этой пары и тем самым направляет взор наблюдателя на три
«окна», находящихся прямо над головами этих троих людей,
увеличивающихся в направлении слева направо. Правое, самое большое окно,
самая светлая перспектива, оказывается над младенцем. И действительно,
возникновение третьего благодаря союзу двоих есть удивительное
событие, постоянно возобновляющее будущее земного человечества, —
событие, которое позволяет каждой конкретной человеческой личности
на Земле начать свое собственное развитие с его характерными
стадиями — младенчеством, детством, юностью и взрослым состоянием. На
картине присутствуют намеки на эти стадии: на лужайке перед парой
с младенцем прыгает со скакалкой девочка, а поближе к зрителю, на
границе тени и света, сидят на траве две подруги или сестры более
старшего, подросткового возраста; одна из них грациозно и сосредоточенно
предается известной игре (в ее левой руке — букетик цветов): «Любит...
не любит...» Наконец, на самом переднем плане в тени находится
темная дама со своим партнером — как представители мира взрослых,
обремененных последствиями грехопадения. Круг замкнулся.
е^376^с)
(^ X. Синтез или единство двух ^Э
Итак, в то время как на переднем плане картины образно намечен
филогенез человечества (весьма точно переданный с помощью семи
стволов) — различные стадии мирового развития и важнейшие душевные
и физические эволюционные изменения в человечестве, — в глубине
картины изображен онтогенез, т. е. возникновение, рост и развитие
человеческой личности, имеющий семь стадий, на которые указывают
падающие на «путь» тени от деревьев и. Этот онтогенетический путь
биографического развития невидимо сопровождается (как подсказывает
картина) представленной в образе девочки в белом сущностью
человека, движущейся параллельно и в том же самом направлении.
Состоящий из фило- и онтогенеза путь (взрослой) личности, после
грехопадения совершающийся во тьме бездуховности, и путь сущности
человека, не поврежденной грехопадением, путь, пролегающий в
светлой сфере духа, показаны на картине Сера таким образом, что хотя их
направления совершенно различны, несмотря на это (или как раз
поэтому), они стремятся к пересечению. Смысл этого пересечения в том, что
взрослая личность с ее светлым, дневным сознанием встретит ту самую
принадлежащую ей сущность, которая невидимо сопровождала ее
развитие с момента рождения. Таким образом, речь идет о сознательной
встрече, а эта встреча ведет к соединению и преображению обоих путей,
которыми следуют две пары.
Итак: в связи с картиной Сера, кажущейся поначалу столь
безобидной, почти что банальной, изображающей обывательский досуг в
воскресный день на берегу Сены, речь идет о великом синтезе и единстве!
Совершенно так же два женских образа на границе тени и света
(сидящая девочка-подросток, сосредоточенно созерцающая букетик цветов,
своей одеждой напоминающая образ высокой дамы на переднем
плане, — и ее подруга или сестра, которая наблюдает за сценой: она похожа
благодаря своей прямой осанке, платью и зонту от солнца на женщину
рядом с девочкой в белом) образуют единство на полпути между двумя
парами12.
Как показано в этой книге, стоит вопрос о построении моста между
двумя великими путями сознания западного человечества, которые
нашли себе выражение в двух метафизиках — сущности и свободы (или
личности). Этот мост может возникнуть только тогда, когда два пути
сойдутся; при этом перед внутренним взором встанет образ креста. И
картина «Воскресный день на острове Гранд Жатт» наряду с прочим
представляет некую подготовку момента этой встречи, — встречи, которой на
каждом из путей руководит и которую осуществляет величественный
женский образ: на одном, теневом, пути — это образ женщины в жакете
цвета оникса, с белым воротничком и карнеолово-красным цветком на
шляпе, — все это оттенки окраски сардоникса; образ другой женщины,
одетой в жакет цвета карнеола, идущей по лугу цвета хризолита, соот-
е^ 377 ^Э
С^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^
ветствует пути в свете. Эти образы кажутся выражением двух аспектов
Вечноженственного начала, или Софии12.
Поэтому картина ориентирована непосредственно на тот еще
принадлежащий будущему момент, когда пути личности и сущности
пересекутся и в светлом, дневном сознании произойдет встреча, которая станет
мостом, соединяющим две разные сферы. Два пути на образном языке
Сера являются «путями розы», на что указывает цветок в петлице
мужчины на переднем плане, которого сопровождает или ведет «темная
София», а также розовый цвет юбки и шляпы «светлой Софии», равно как
того же цвета шарф девочки, которую она ведет.
Итак, мост, крест и роза суть символическое выражение этой встречи.
Следующая картина, которую художник написал на острове Гранд Жатт,
(предположительно) изображает эту имагинацию и момент встречи
мужчины и девочки, — и все это с помощью поначалу кажущегося
безобидно-тривиальным ландшафта!
с) Встреча, или Скрещение двух путей
Третьей части этой книги мы предпослали картину «Le Pont de Cour-
bevoie» («Мост Курбевуа»), которая появилась в 1886 г., то есть через
год после окончания Сера работы над его вышеописанным главным
произведением. Композиция этой картины (погруженные в себя две
фигуры — мужчина и девочка — на берегу реки, которые смотрят на
водную поверхность перед собой; различного размера параллельно
вытянутые мачты парусных лодок, стоящих у берега на мелководье; пролеты
моста и дымящая фабричная труба над его центральной опорой; неясный
другой берег) порой вызывала упрек в банальности, который, конечно,
можно было отклонить, указав на роль голого темного дерева на
переднем плане14. Интерпретаторы все вновь указывали на факт перехода от
преимущественно романтической (Коро) или импрессионистской (Мо-
не) композиции к геометрически-научной организации пространства
картины. Другие открывали в ней «похвалу вертикали», а в
упорядоченном расположении различной длины мачт видели «метрический ритм»,
что относило Сера к кругу «поэтов реки»15. Хотя против этих
интерпретаций возразить невозможно, возникает вопрос, все ли этим сказано.
В глаза бросается уже цветовая гамма. Спокойная поверхность воды
похожа на тускло-серебристое, а в некоторых местах напоминающее
расплавленный свинец зеркало. На лужайку на переднем плане и на
листву дерева в правой верхней части картины легли краски осеннего
увядания. Мачты лодок, слегка склонившиеся влево, большой парус и
большой мост, изображенный в перспективе слева направо, имеют окраску
аметиста. Цвета соединенных между собой с помощью поперечины
лодок на переднем плане — длинной узкой лодки и лодки перед ней, со
С^ 378^3
G^ X. Синтез или единство двух ^Э
стороны кажущейся овальной; цвета мостика, к которому они
привязаны, будучи накрепко соединены между собой поперечиной, а также цвет
заборчика напоминают более темный аметист. И над этой сценой
распространяется розоватая атмосфера, — повсюду в воздухе словно
разлита роза.
Необычны также кресты, которые образуют с арками моста мачты,
большой парус и дымящая труба, — все они имеют тот же аметистовый
цвет, что и мост, и представляют вертикали к соответствующим
горизонталям. А перед взором наблюдателя в центре картины возникает
мощный крест, составленный из трубы вместе с ее отражением в воде
и двух пролетов моста, сходящихся к центральной опоре, — крест,
который словно занавешен фиолетовым покровом. Если взгляд смещается
вправо и одновременно в сторону переднего плана к мачте с
закрепленным на ней большим парусом, то эта мачта также образует с мостом
некий крест, который наполовину закрыт в горизонтальном направлении
пролетами моста, а в вертикальном — большим парусом. Каждый год
в Страстную пятницу на алтаре устанавливается крест, занавешенный
фиолетовой тканью, который в память о раздрании завесы в храме
медленно разоблачается, так что становятся видимыми вначале одна
перекладина вместе с половиной креста, а затем другая перекладина и
другая половина. Художнику, происходящему из католической семьи, этот
обычай был известен. Парус упоминается в литературе вновь и вновь
как главная особенность картины.
В пользу того, что речь здесь может идти о настроении в природе,
соответствующем распятию или Страстной пятнице, говорит не только
доминирование в картине цвета того драгоценного камня, который
имеет особую связь с этим днем, — аметиста16, но также и то обстоятельство,
что всякое движение на картине как бы парализовано. Большой парус
свидетельствует о почти полном штиле, позволяющем дыму подниматься
над рекой из трубы почти вертикально вверх. Метрический ритм,
который был задан с помощью изображения арок моста, а также
расстояниями между мачтами лодок, это бакхий (краткий — долгий — долгий
слоги): к маленькой левой мостовой арке, скрытой слева наверху листвой,
в центре и справа присоединяются две большие арки. А за коротким
расстоянием между двумя мачтами лодок слева, возле голого темного
дерева (другим мощным символом умирания), следуют гораздо большие
расстояния между мачтой и большим парусом, с одной стороны, и
парусом и следующей мачтой — с другой. Бакхий, стихотворный размер, как
бы «ритмизирует» картину справа и слева; для греков и римлян он был
выражением разочарования, парализованности и тяжести, а также
распятия, окоченения и смерти.
Настроение распятия становится еще интенсивнее, если принять во
внимание мачту справа, рядом с большим парусом. Она находится еще
е^ 379^)
(^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^э
ближе к переднему плану картины и образует отчетливый крест с узким
в этом месте, полностью горизонтальным пролетом моста. Если дать
этому кресту подольше действовать на себя, то там, где пересекаются
две его балки, постепенно показываются очертания цветка — розы.
Конечно, следует освободиться от представления, что при этом речь идет
о неясных контурах другого берега Сены17, поскольку роза возникает
перед этим берегом, как бы свободно паря в пространстве. При более
длительном рассмотрении этот цветок то кажется открытым фронтально,
то представляется большим раскрывающимся бутоном, который как бы
недолго покоится на кроне листвы над береговой линией. Если удалось
уловить двойственный облик розы, то можно увидеть наверху справа,
в углу, который образуют между собой второй сук и первая боковая
ветка голого дерева, еще один — маленький — розовый бутон.
Перед взором наблюдателя строится в три стадии имагинация
розового креста: вначале в глубине заднего плана картины распознается
образованный из двух пролетов моста, трубы и ее отражения мощный
занавешенный «центральный крест»; затем в средней плоскости раскрываются
контуры «креста Страстной пятницы», образованного из большого
паруса и моста, наполовину занавешенного, наполовину открытого. И,
наконец, на переднем плане становится виден образ «розового креста»,
образованного мачтой и мостом. Открыв однажды это, взгляд вновь и вновь
обращается туда, — и этот эффект подкрепляется перспективным,
идущим слева направо сужением моста. О гениальности художника
свидетельствует то, что он построил эти три креста именно из тех элементов,
которые соответствуют техническому прогрессу человечества (мост,
фабричная труба, парус), и что он включил эти элементы в высокий
метафизический контекст столь неназойливо и искусно, что этот контекст,
очевидно, не был замечен почти на протяжении 120 лет с момента
создания картины.
Другой элемент, по-видимому, также до сих пор открыт не был. Если
посмотреть на погруженного в себя мужчину на берегу и проследить за
его задумчивым взглядом, то как раз перед ним появляются контуры
цветка розы, одна половина которого образуется рябью на воде в этом
месте, другая — отражением обода на мачте. Эта роза перед задумчивым
взглядом мужчины слева на берегу и большой розовый крест справа
указывают на то, что мужчина руководствовался символом розы,
который привел его к кресту встречи с девочкой.
Дадим возможность отмеченным элементам «Моста Курбевуа»
подольше воздействовать на себя: розоватой атмосфере послеполуденного
часа, обозначенного тенью голого темного дерева, как бы выходящей из
правой нижней части картины; рассеянному свету солнечных лучей,
пробивающихся из глубины картины через влажный воздух и
бесформенную облачную дымку; свинцовой поверхности воды с серебристой
полоса 380^3
G^ X. Синтез или единство двух ^Э
сой возле противоположного берега, напоминающей о луне на картине
«Гранд Жатт», которая там, почти достигнув полноты и частично
закрытая облаками, появляется на небе над водами Сены; трем большим
крестам цвета аметиста; розам; обликам мужчины и девочки на берегу...
Не приводит ли этот язык картины к предположению о том, что здесь
совершилась встреча, которая заявлена сюжетом «Гранд Жатт»? Что это
тот самый момент, когда два пути пересекаются, так что для обоих, для
девочки и мужчины, прежний путь завершился, и это поначалу
побуждает каждого остановиться и задуматься (оба глядят на зеркальную
поверхность реки прямо перед собой), — момент, когда начинается слияние
и преображение обоих путей, что, возможно, приведет к чему-то новому?
Во введении к данной работе мы ссылались на предисловие к
«Философии права» Гегеля18, где философ-идеалист пишет о необходимости
«познать разум как розу на кресте современности». В связи с этим
Гегель делает акцент на примирении с действительностью, «которое
философия дает тем, кто однажды услышал внутренний голос, требовавший
постижения в понятиях и сохранения субъективной свободы не в
особенном и случайном, а в том, что есть в себе и для себя»19. При этом он
ориентируется именно на тот синтез метафизики сущности и
метафизики свободы, который спустя полвека стал результатом философского
творчества Соловьева. Во введении мы уже обращали внимание на то,
что Гегель помещает человеческий разум на то место розы в кресте
современности, которое, согласно убеждению Булгакова и Флоренского —
софиологов, последователей Соловьева, собственно, предназначено для
Софии. А как относится к этой проблеме Сера — современник
Соловьева? Помещает ли он, как Гегель на трон человеческий разум, будучи
французом, живущим в эпоху после Просвещения и революции,
воодушевленным естествознанием и техникой?
«Мост Курбевуа» открывает некую перспективу. Если рассматривать
картину указанным способом, то она изображает именно тот момент
схождения двух путей, о которых говорилось в этой книге и на которые
намекал Гегель. Но она строит из результатов тогдашнего прогресса
западного разума (а это промышленные мосты и фабричные трубы)
большой центральный крест, к которому присоединяются, вначале с правой
стороны, частично освобожденный от покрова крест Страстной пятницы,
а затем — розовый крест. Художник словно хочет сказать: естествознание
и индустриализация не являются той вершиной, которую в состоянии
достигнуть человечество. Сами по себе они, напротив, даже означают
крест для природы. Но этот крест может перекинуть мост в высшую
реальность, если сюда присоединится встреча с Тем, о Ком
свидетельствует Страстная пятница, а также с прообразом символа розы.
Мост, о котором идет речь, должен строиться с двух сторон — со
стороны свободной человеческой личности, обладающей автономным ра-
е^381^Э
e^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^
зумом, и со стороны человеческой сущности, которая связана с высшим
разумом и идет с ним рука об руку, подобно девочке в белом, идущей
рядом с высокой стройной дамой на «Гранд Жатт». То, что у высокого
господина на переднем плане в петлице роза, позволяет предположить,
что он, будучи выразителем автономности личности, обладает неким
отличительным признаком, ориентацией. Он движется к этой встрече
и одновременно к той самой розе, которую Гегель связал с разумом, а
русские софиологи соотнесли с существом Софии.
Итак, на двух вышеописанных картинах Сера образно было указано
на то, что в форме мысли выразил в своих «Чтениях о Богочеловече-
стве» и «Критике отвлеченных начал» Соловьев, русский современник
Сера: речь идет о критической оценке добивающегося своей
автономности разума и о необходимости соединения путей личности и сущности
под знаком креста и розы Софии. Является ли эта встреча с «розой на
кресте современности» последней темой философии XIX века,
движущейся к концу, а также философии будущего? И если говорить на
образном языке Сера, является ли «Мост Курбевуа» в конце XIX века той
последней художественной реальностью, которая достойна
воспроизведения?
Эти вопросы можно также сформулировать следующим образом: в чем
состоит прохождение через крест и смерть и каков тот путь, который
имеет свое начало в кресте, затем оставляет крест позади и ведет к чему-
то совершенно новому впереди?
Соловьев ответил на эти вопросы в конце своей «Критики
отвлеченных начал». Он называет эту новизну и путь к ней «свободным
творчеством». Выразил ли художник Жорж Сера в своем творчестве нечто
подобное? — Этот вопрос приводит нас к следующей картине, помеченной
именем «Сера», которая датирована 1887 годом и вновь имеет своим
предметом пейзаж острова Гранд Жатт.
d) Единство двух и свободное творчество
Если сравнить картину с названием «Pont Adroit» («умный» или
«ловкий мост») с полотном «Pont Courbevoie»20, то на первый взгляд
обнаруживается такое количество общих элементов, что начинает казаться,
что видишь перед собой второй вариант той же самой картины. Однако
при более углубленном всматривании в картину она представляется не
вторым вариантом, а скорее метаморфозой «Моста Курбевуа».
Бросаются в глаза совершенно иной цвет неба над мостом на заднем
плане, затем поверхность воды, большой парус и отвесно спускающийся
к реке луг с тенями на переднем плане, падающими параллельно берегу.
Их направленность и длина указывают на то, что здесь речь идет о
другом времени дня, чем в случае «Моста Курбевуа», — о раннем утре
пост^ 382 ^5
(г^ X. Синтез или единство двух ^Э
еле восхода солнца в отличие от туманного послеполуденного времени
на другой картине. Все в картине «Мост Адруа» предстает в свете
утреннего солнца, которое восходит на горизонте как раз на
продолженном вправо переднем плане картины, распространяя оранжево-золотой
свет, окрашивая небо с легкими облачками и отражаясь в воде, — в
отличие от скрывшегося в дымке заходящего солнца на другой картине,
которое, если проследить за тенью большого голого дерева, находится
слева на заднем плане и придает воде Сены серебристо-свинцовый
оттенок. И в то время как там вертикально восходящий из трубы дым,
гладкая как зеркало водная поверхность и притянутый к мачте большой
парус свидетельствуют о полном штиле, на другой картине веет свежий
ветер, направляющий вперед дым из трубы, создающий рябь на водной
поверхности и надувающий парус.
Художник придал этому парусу цвет, дополнительный к аметистовой
окраске паруса на другой картине (желто-золотой, переходящий в
зеленовато-голубой), и извлек его из золотого сечения, в котором находится
другой парус21. Благодаря этому расстояния между двумя мачтами
позади большой лодки и между парусом и одной из этих двух мачт
оказываются одинаковыми, в то время как расстояние от паруса до следующей,
находящейся скорее в центре картины, мачты гораздо значительнее.
Поэтому в направлении справа налево возникает такой метрический ритм,
как анапест (краткий — краткий — длинный слоги). Этот
стихотворный размер также выражается посредством арок моста, в этот раз в
направлении слева направо, так как за двумя арками меньшего размера,
идущими до середины картины, следует третья мостовая арка,
покрывающая собой всю правую часть картины. Анапест для греков и римлян
означал ритм пробуждения, оживления, воплощения, а также ритм
творческого духа, который врывается и увлекает за собой. Сколь велико
различие с бакхием другой картины, выражающим разочарование,
расслабленность, крест, отсутствие духа и смерть!
Мы говорили о мосте, — но мост ли это вообще? Где его опоры? Где
его физическая тяжесть и устойчивость, где его трасса? Не совпадает ли
эта трасса скорее с голубым небом, каким его можно, к примеру, увидеть
утром или вечером над вспыхивающими золотисто-зеленым светом
холмами на горизонте? Если сравнить этот «небесный мост» с «мостом
Courbevoir», то его цвет — это не аметист, а рассеивающий свет,
прозрачный сапфир22.
Этот мост не закрывает собой ничего; сквозь небо можно смотреть.
Он открывает вид на освещенную солнцем, на картине «Мост Курбе-
вуа» практически не видную фабрику, которой принадлежит дымящая
труба. И именно там, где «мост Курбевуа» погружает в дно Сены свои
мощные, неподвижные, остро выдвинутые вперед сваи, левые края
которых вспыхивают желтизной в рассеянном солнечном свете, на поверх-
е^звз^э
C^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^Э
ности воды перед «мостом adroit» появляются самые подвижные и
маневренные предметы, которые только можно себе представить на воде:
взгляд падает на два парусника с золотисто-желтыми парусами.
Можно продолжить разговор о противоположности двух картин. В то
время как на одной картине темное, мертвяще действующее дерево,
поглощая свет, затемняет почти четвертую часть картины, тем самым
вновь ясно подчеркивая связь всей сцены с прошлым, на другой
картине соответствующее дерево задвинуто в угол, и благодаря этому сцена
делается открытой взгляду. Само дерево уже больше не находится в
состоянии тягостного умирания: его ствол как бы вспыхивает
темно-синим цветом, а на ветках показываются первые нежные светло-зеленые
листочки.
Занавес как бы поднят, и перед взором предстает великий синтез или
соединение, символизирующееся, к примеру, тем, что там, где на
картине с «распятием» две лодки крепко соединены между собой
поперечиной и прикреплены к мачте, теперь появляется одна-единственная
лодка, которая, будучи по размеру почти такой же, как две другие вместе
взятые, покоится на ровной водной поверхности возле мачты, без
поперечины, как бы приглашая в себя своим наклоном. Также и сама мачта
своим видом показывает, что неясность расплывающихся в дымке
очертаний предметов преодолена, и все сделалось отчетливым и ясным.
Сравнение двух картин могло бы продолжаться еще сколь угодно
долго23; но уже названные детали ясно показывают, что с «мостом Соиг-
bevoie» произошло решающее событие. Всякая застылость, отвердение,
расслабленность исчезли; все разочарованное, безнадежное,
бездуховное, омертвевшее обрело новую жизнь. Свободно плавают парусники,
свободно покоится возле берега большая лодка. Аметист, серебро и
свинец, словно пройдя через алхимический процесс, превратились в
сапфир и золото, атмосфера которых разливается по всей картине.
Фигуры на берегу, на одной картине впавшие в меланхолию и, уйдя
в себя, неподвижно всматривающиеся в воду, теперь распрямились в
полный рост. Рыбак, который на другой картине, отойдя от закинутой
удочки, занимается своим рукавом, вертикально распрямился и
продвинулся вперед к девочке; он выглядит как бы «наэлектризованным», словно
на его закинутую удочку клюнула рыба.
Нет никакого сомнения: вместо общей расслабленности и настроения
распятия появилось новое движение, новый свет, новая жизнь.
Но сводится ли к этому весь смысл картины «Мост Адруа»? Не хотел
ли художник с помощью пейзажа лишь вызвать настроение пасхального
утра? Или же картина также содержит в себе некое сообщение
касательно поднятого в этой книге вопроса о соединении противоположных друг
другу метафизики сущности и метафизики свободы? — На берегу
водоема, расширяющегося в направлении слева направо и похожего на озеро
е^384^5
б^ X. Синтез или единство двух ^Э
(на другой картине сверху, с левой стороны, вниз и направо лениво
течет река), стоят (как и там) две фигуры — мужчина и строго
«геометрический» силуэт, который на первый, поверхностный взгляд напоминает
причальную тумбу для закрепления канатов. Если внимательнее
вглядеться в этот силуэт, то он оказывается изображением девочки с
большой шляпой и платьем с шарфом. Но эта девочка не глядит перед собой
на воду, как девочка на другой картине, — она повернулась к мужчине.
Если попытаться точно локализовать силуэт девочки, то сталкиваешься
с трудностями. Иногда кажется, что она стоит на берегу; иногда же
кажется, что лишь ее тень падает на воду. Но загадочнее всего то, что хотя
она, собственно, стоит на солнце, она кажется тенью и силуэтом. Да,
этот силуэт вызывает такое впечатление, как если бы он медленно
исчезал в лучах восходящего солнца или растворялся в воде, в то время как
мужчина на берегу, сосредоточенный и прямой, кажется вновь
обретшим жизнь.
Как понять это загадочное изображение?
Прежде всего надо согласиться с тем, что картина предполагает
синтетическое постижение ее смысла. К листве слева следует
присоединить древесный ствол с ветвями справа, чтобы можно было образовать
синтетическое понятие «дерево». Также к парусу на мачте надо добавить
лодку рядом с мачтой, и они вместе дадут понятие «парусник». А как
обстоит дело с мужчиной и силуэтом девочки? Каково там
синтетическое понятие? — Выше мы указали на картину «Гранд Жатт», на
которой пути личности и сущности символически представлены мужчиной
с розой в петлице и девочкой в белом, идущими навстречу друг другу.
Только если личность и сущность снова станут одним, это породит
истинное, синтетическое понятие «человек». Ибо человек тем более
является человеком, чем более он способен соединить в себе личность и
исполненную мудрости сущность. Если это соединение достигло полноты,
если, следовательно, сущность человека полностью познана и принята
личностью, став с ней одним, тогда мы имеем перед собой истинного
человека.
В этом случае вечная сущность воспринята, поглощена
феноменальной личностью, как бы «умерла» в ней, дабы воскреснуть в ней в
качестве некоего высшего «Я». И художник, представивший внешне
преходящую сущность человека в образе исчезающего силуэта, а человеческую
личность, проснувшуюся для себя и для тайн человека и природы, —
в виде бодро взирающего, даже деятельного человека — художника,
подметил и удержал сам момент перехода — переходное бытие в
гегелевском смысле: сущности в человеческую личность.
Но что это за момент? Каковы его последствия?
Обратимся еще раз к «Гранд Жатт». Мы говорим, что девочка в белом
находится на свету в центре картины, а господин с розой в петлице — на
С^385^Э
C^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^)
первом плане в тени. Их встреча происходит в полутени «Моста Курбе-
вуа».
Но не одна девочка находится в области света. Вокруг нее
изображены самые разные люди, которые заняты самыми различными делами.
Однако у всех этих видов деятельности есть нечто общее: они не
являются необходимыми. Они не нужны ни для поддержания жизни, ни для
того, чтобы содержать в порядке парк на острове.
Мы говорим, что эти занятия суть свободное времяпровождение, и
часто не замечаем того, что при этом высказываем нечто значительное, ибо
выражаем тем самым отношение между свободой человека, временем
его жизни и его способностью к оформлению. Вот человек неподалеку
от девочки трубит в рог; вот другой, погруженный в созерцание,
прислонился к стволу дерева; некая личность читает книгу; гребцы на реке
показывают даме с зонтиком красоты Сены и объясняют достоинства
гребли... Гуляют ли люди просто по парку или же в поисках
удовольствий досуга перебираются с помощью парома на остров — всюду речь
идет об оформлении свободного времени, для чего у нас есть также
слово «игра».
С игрой мы связываем детство, и действительно, центром всех этих
видов игры является ребенок — девочка в белом (а также девочка со
скакалкой). Ибо ребенок, детская игра — это ключ к занятиям людей,
находящихся на солнце, как они изображены на картине «Воскресный день на
острове Гранд Жатт». В основном они следуют «похвале игре»
Фридриха Шиллера (при всей их мещанской приземленности), игре, понятой
как ключ к жизни, достойной человека24. Ибо сущность человека связана
с детскостью и игровым началом; напротив, личность человека больше
связана с серьезностью, нуждами и потребностями повседневной жизни.
И теперь речь идет о задаче соединения этой серьезности и этого веселья
игры в некое третье душевное состояние, когда из работы ради
поддержания жизни делают игру, а тяжкие бремена и обязанности жизни
воспринимают с детской легкостью, как нечто само собой разумеющееся.
Ситуация, представленная на «Гранд Жатт», — это еще некое
исключение: речь идет о воскресном дне. Превращение в этом смысле всей жизни
в воскресенье (без того, чтобы человек стал пренебрегать своим долгом
и своими задачами), превращение, таким образом, рая снова в земное
состояние в контексте этой картины принадлежит отдаленному
будущему. Но, как было сказано, эта картина объявляет о встрече и
соответствующем задании, которое связано с крестом «Моста Курбевуа». Ибо
задание, которое надлежит исполнить, — это светоносное соединение
детскости и взрослости, игры и серьезности, представляющее собой как
бы алхимическое искусство. Оно требует художника, который, играя,
подобно ребенку, одновременно с глубочайшей серьезностью делает свое
дело.
е^386^
C5^ X. Синтез или единство двух ^2>
В картине «Мост Адруа» перед мужчиной на берегу изображен
прямоугольник под мачтой, который сначала кажется понтоном. Но под
этим прямоугольником находится нечто вроде планки, которая не
является отражением мачты. Благодаря этому прямоугольник оказывается
как бы укрепленным на балке и таким образом установлен на земле.
Чем дальше рассматриваешь его, тем сильнее он делается похожим на
столик — «Croqueton», как Жорж Сера называл свой маленький
деревянный столик, на котором он (одетый, как правило, в черный фрак и со
шляпой, напоминающей цилиндр на голове), заготавливал на природе
эскизы для своих живописных пейзажей, о чем писал его друг Поль Си-
ньяк: «Прежде чем положить штрих на свой маленький деревянный
столик, Жорж Сера подмечает и, моргая, наблюдает игру света и тени,
схватывает контрасты, постигает отражения, долго колдует над
крышкой коробки, служащей ему в качестве палитры, выбирает краски тихо,
как он выбирает натуру Только тогда из красок, расположенных в
соответствии со спектром, он берет те компоненты, которые лучше всего
передают постигнутую им тайну. Постепенно, штрих за штрихом, доска
заполняется. Так возникает шедевр» й.
А что если человек на берегу — это сам художник Сера, и речь идет
о некоем автопортрете? — Но даже если это и не так, все же многое
говорит в пользу того предположения, что там изображен художник,
живописец, — а именно, изображен в тот самый момент, когда ребенок,
девочка с картины «Гранд Жатт», исчезает как видимый образ,
поскольку она, став в душе художника одним с ним, воскресает в нем на некоем
более высоком душевно-духовном уровне. Ибо настоящий художник —
это настоящий человек, а настоящий человек — это тот, кто соединил
в себе личность и сущность в новое, нерушимое единство, осуществив
тем самым то свободное творчество, о котором говорит Соловьев. Это
творчество предполагает два способа видения: личное, перспективное
видение художника и внеперспективное, интегральное видение,
связанное с сущностью человека26. Оба они одновременно присутствуют на
картине; она в известной степени написана на основе их обоих. Один
способ видения связан с мужчиной на берегу, и это ясно подчеркивается
уменьшающимися в перспективе мачтами на воде перед его глазами; об
этом свидетельствует также направленность его взгляда, ибо он взирает
на великое таинство «откровения» оранжево-золотого утреннего света
на всколыхнувшейся от свежего ветерка воде, «откровения» раздутого
ветром мощного паруса — знака вторжения духа, и моста цвета сапфира
на горизонте как символа осуществившегося соединения (именно это
означает в переносном смысле название картины «Мост Адруа»).
Только с позиции человека на берегу возможно увидеть ствол большого
дерева темно-синим, — для внешнего наблюдателя он должен быть ярко
освещен солнечным светом27.
С^ 387^5
(г^ Часть IV. СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ ^)
Другой способ рассмотрения — это видение самого художника (и
наблюдателя всей картины), которые воспринимают извне всю панораму
без перспективы, как совокупную целостность.
Итак, тайна картины «Мост Адруа» — это синтетическое видение,
принадлежащее одновременно личности и сущности.
Метод так называемого «пуантилизма» — разложения
действительности на бесконечное число маленьких точек, развитый Сера, относится
к личностному, перспективному видению мира. В этом он является
художником модерна, ибо, как показано в этой книге, именно модерну
принадлежит метод декомпозиции — разложения действительности на
все меньшие единицы, — метод, сделавший XX век эпохой атома. Но
также и примененный Сера метод композиции — воссоединение
распавшейся действительности на полотне с помощью осмысленного упорядочения
этих самых точек — в таком понимании связан с модерном. Однако для
Сера в подобном создании действительности нет ничего
необоснованного, случайного, искусственного: оно следует не произволу свободной,
автономной личности. Скорее, в нем скрыты гармония, высшая
закономерность и мудрость, ибо оно не искусственно, а искусно,
художественно. Сера обязан этим великой традиции, связанной с другим великим
западным течением — течением сущности или мудрости. Поэтому он
воссоединяет разложенную — распавшуюся на точки — действительность,
относя ее к более высоким позициям с помощью «сущностных
искусств» — геометрии, арифметики, музыки, астрономии, а также
поэтических размеров28; при этом он обращает внимание на использованные
Гёте, а позднее, к примеру, Шеврёлем и Огденом Рутом симультанные
контрасты, которые особо подчеркивают сущность красок и вместе
с этим способствуют повышению их силы свечения, как это делают
пигменты при их специальном применении.
Благодаря тому что Жорж Сера понимал творчество как выражение
свободной личности человека и связывал его с легкостью игры и
высшей точностью, а также с более высокими закономерностями,
относящимися к сущности человека и к тому порядку, из которого она происходит,
его творчество может служить примером удавшегося синтеза, о котором
говорилось в этой книге и который можно назвать «Ликом
Премудрости» 29.
Примечания
Введение. Синтез традиции Премудрости
и персонализма Нового времени
1 См.: Schaup Susanne. Sophia. München, 1994; Schipflinger Thomas. Sophia—Maria.
Eine ganzheitliche Vision der Schöpfung // Koinonia, Schriftenreihe des
Ostkirchlichen Instituts/ Hrsg. von A. Rauch und P. Imhof. Bd. VII. München; Zürich, 1998
[Имеется русское издание этой книги: Шипфлингер Томас. София—Мария:
целостный образ творения / Пер. с нем. В. Бычкова. М.: Гнозис Пресс; Скарабей,
1997. — Прим. пер.]; Schwer Silvia. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Studien zur
Gestalt der Sophia in der biblischen Schriften. Mainz, 1996; Wodtke Verena (Hrsg.).
Auf der Spuren der Weisheit. Sophia — Wegweiserin für ein neues Gottesbild.
Freiburg, 1991.
2 Goerdt W. Sophiologie // Historisches Wörterbuch der Philosophie (далее —
HWPh). Bd. 9. Darmstadt, 1995. 1064 ff.
3 Булгаков С. H. Свет невечерний. M.: Республика, 1994. С. 187. [Если в
примечаниях встречается источник на русском языке, то там, где это оказалось
возможным, указаны новейшие издания. Цитаты из сочинений немецких философов
мы приводим по опубликованным переводам, если таковые имеются. В
противном случае мы даем собственный перевод цитаты. — Прим. пер.]
4 HWPh, 1064.
5 См.: Nigg W. Drei grosse Zeichen. Elias - Hiob - Sophia. Ölten, 1972. S. 222.
6 Именно в таком ключе дейстововал Томас Шипфлингер, собирая воедино
важнейшие документы, принадлежащие к софийной традиции, и показывая ее
отношение к восточным религиям.
7 См.: Pfleger К. Christozentrik und katholiche Sophiologie?//Die verwegenen
Christozentriker. 1964. S. 105-115.
н См.: Булгаков С. H. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство. М.: Наука,
1990. С. 98, 174-175.
9 Соловьев пишет об этом синтезе: «Будучи непосредственным предметом знания
мистического, истина (всеединое сущее) становится предметом знания
естественного, т. е. будучи сознательно усвояема человеческим разумом и
человеческими чувствами, она вводится в формы логического мышления и реализуется
е^389^)
C5^ Примечания ^)
в данных опыта. Этим образуется система истинного знания, или свободной
теософии, основанной на мистическом знании вещей Божественных, которое она
посредством рационального мышления связывает с эмпирическим познанием
вещей природных, представляя, таким образом, всесторонний синтез теологии,
рациональной философии и положительной науки» (Соловьев В. Критика
отвлеченных начал // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. I. С. 499-500).
10 Müller Мах. Über zwei Grundmöglichkeiten abendländischer Metaphysik — oder
Sein, Existenz und Freiheit in der abendländischen Ontologie //
Existenzphilosophie. Von der Metaphysik zur Metahistorik. Freiburg; München, 1986. S. 209 ff.; см.
также: Müller Max. Sinn—Deutungen der Geschichte. Drei philosophische
Bedachungen zur Situation. Zürich, 1976. S. 79 ff.
11 Ср.: Kobusch Theo. Die Entdeckung der Person, Metaphysik der Freiheit und
modernes Menschenbild. Freiburg; Basel; Wien, 1993.
12 Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und
Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13/14
Jahrhundert//Philosophie im Mittelalter, Entwicklungslinien und Paradigmen / Hrsg. von
Beckmann J. P., Honnefelder L., Schrimpf G., Wieland G. Hamburg, 1987. S. 185 f.
13 Новалис. Христианство и Европа / Пер. В. Микушевича // Новалис. Гимны к
ночи. М.: Энигма, 1996. С. 187-188.
14 Эта лекция была прочитана во время ежегодного заседания Берлинской
Высшей школы политики.
15 Ср.: Gabel Michael. Ausgleich als Verzicht. Schelers «später» Gedanke des Ausgleichs
im Licht seines phänomenologischen Ansatzes // Studien zur Philosophie von Max
Scheler. Phänomenologische Forschungen 28/29. Freiburg; München, 1994.
16 Ср.: Avé-Lallemant Ε. Die Aktualität von Schelers Politischer Philosophie // Ibid.
17 Об этом говорится в главах II и III части I данного труда. В связи с этим имеют
значение также работы Шеллинга, предваряющие его «положительную
философию».
18 К представителям так называемого «спекулятивного теизма» (именуемого также
«спекулятивной этикой») причисляют Иммануила Германа Фихте, И. П. В. Трок-
слера, X. М. Калибойса, X. Г. Вайсе, Г. Ульрици, а также польских и чешских
спекулятивных теистов (напр., Чешковского и Сметану). Кобуш относит
«спекулятивную этику» к метафизике свободы (Kobusch Theo. Die Entdeckung der Person...
S. 207 ff.). На фоне теософско-антропософских элементов (прямо названных
так Фихте и Трокслером) спекулятивного теизма понятие метафизики свободы
трактуется настолько широко, что под него подходит все что угодно, и это
значит, что данному виду метафизики угрожает размывание его контуров.
19 Конечно, эта тенденция к односторонности замечается также и в восточных
философских системах (напр., в философии санкхья). Абсолютно везде в восточных
религиях и философских воззрениях ударение делается на «образе» (пуруша), —
тогда как западные философские системы Нового времени сосредоточены на
«подобии» (которое в восточной традиции определяется как «ахамкара», или
голая видимость). Отсюда проистекает тенденция к деперсонализации в
восточных системах и к десубстанциализации в системах западных. В упомянутом док-
е^390^>
(^ Примечания ^f)
ладе Макс Шелер также выдвинул требование выравнивания, или согласия,
между великими философскими системами Востока и Запада. В конечном счете
такой синтез сводится к соединению под эгидой христианства «образа» и
подобия», как это предпринято Соловьевым в его софиологии.
20 Ср. главу IV.
21 Wenzler L. Die Freiheit und das Böse nach Vladimir Solov'ev. Freiburg; München,
1978. S. 367.
22 Таков тезис Teo Кобуша, подробно рассмотренный в гл. VII настоящего труда.
См. вышеупомянутый труд Кобуша (S. 177 ff., ком. 11).
23 Гегель Г. В. Ф. Философия права. Предисловие / Пер. Б. Г. Столпнера и М. И.
Левиной // Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 55.
24 В. Гёрд относит эту метафору прямо к софиологии: «Как для Г. В. Ф. Гегеля
разум, так для софиологов "София" — это "роза на кресте современности"»
(HWPh, 1067).
25 Гёрд в этом смысле замечает относительно Булгакова: «Согласно Булгакову, на
вопрос: что в философии есть собственно "философийное", <...> следует
отвечать, исходя из того, что претензии на абсолютность всех теорий и систем,
которые отражают только один перспективный разрез мира, критики не
выдерживают; надо понять, что "разум" философии не только не составляет высшего
достижения в области софийного постижения мира, он есть вообще преходящая
ступень». При этом никоим образом не совершается отказа от рационального
мышления, логики, науки и философии с их долгом «добросовестного
преодоления преодолимых трудностей» и «борьбы с умственной ленью», но человеку
поясняется «еще высшая задача — подняться над умом, стать выше ума». Мир,
человечество, культура, общество суть «София в своей основе» и не суть София
«в своем состоянии». [Гёрд здесь цитирует «Свет невечерний» Булгакова
(Отдел второй. Мир. Ч. II. Софийность твари. Ι. Σοφία. См.: Булгаков С. Н. Свет
невечерний. С. 197—198, 195 соотв. — Прим. пер.]
Часть I
ЦИМЦУМ И СОФИЯ
Отрицательная философия,
положительная философия и софиология
I. Божественное отступление и возникновение мира
1 Schelling F. W.J. Philosophie der Offenbarung // Schellings Werke, 6.
Ergänzungsband. S. 251—252. Существуют три издания «Философии откровения» Шеллинга:
I. полное собрание сочинений Шеллинга под редакцией К. А. Шеллинг; в
дальнейших ссылках это издание обозначено PO [Schelling F. W.J. Werke.
Originalausgabe. München, 1983]; 2. опубликованная Манфредом Франком в 1984 г.
в издательстве «Suhrkamp Verlag» так называемая Paulus-Mitschrift — запись
берлинских лекций 1841/42 гг.; при цитировании обозначается РОРМ; [Schel-
(с^ 391^5
С^ Примечания ^>
ling F. W.J. Philosophie der Offenbarung. 1841/42 [Paulus-Nachschrift]. F. a. M.,
1993]; 3. выпущенная в 1992 г. гамбургским издательством ««Felix Meiner Verlag»
«первоначальная редакция» («Urfassung») «Философии откровения»,
возможно, представляющая из себя авторизованную запись лекций Шеллинга; в
ссылках обозначается POU [Schelling F. W.J. Urfassung der Philosophie der
Offenbarung [1831/32]. Hamburg, 1992).
2 Исаак Лурия, иудейский мистик, родился в 1534 г. в Иерусалиме и скончался
в 1572 г. в Сафеде (Палестина). Он происходил из иудейской семьи,
переселившейся из Германии в Палестину. В 22 года Лурия начал вести в Египте
отшельническую жизнь. Достигнув 35 лет, он сделался главой палестинской
каббалистической школы в Сафеде. Уже вскоре после смерти Лурия вокруг его образа
стали складываться легенды. Учение Лурия передавалось из поколения в
поколение его учениками. Древнееврейское выражение «зод» означает «тайна», а «цим-
цум» — «Божественное сжатие». «Зод ха цимцум», таким образом, можно было
бы приблизительно перевести как «тайна Божественного сжатия».
3 Scholem Gershom. Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. F. a. M.: Suhr-
kamp, 1980. S. 285—286. См., кроме того: Scholem Gershom. Schöpfung aus dem
Nichts und Selbstverschränkung Gottes // Über einige Grundbegriffe des
Judentums. F. а. M., 1980.
4 Ms. British Museum 711, Bl. 140b: «В книгах каббалистов я нашел следующее
место: как Бог произвел мир и сотворил его? Подобно тому как человек втягивает
в себя дыхание и подбирается, чтобы малым можно было бы охватить многое,
Бог так же собрал Свой свет в некое малое место в Себе Самом, и мир остался
во тьме. В этой тьме Он произвел камни и скалы, чтобы проложить отсюда пути,
которые зовутся "чудесами Премудрости"». Шолем (Die jüdische Mystik...
S. 242) добавляет: «Совершенно аналогично объясняет и Нахманид в своем
комментарии первые слова книги Ецира; ср. мою публикацию в Kirjath Sefer, vol. IV
(1930), p. 402». Помимо того Шолем указывает на еще более древних
предшественников идеи цимцума. Он пишет: «Также и гностику Василиду (около 125 г.
н. э.) известно некое изначально "благословенное пространство", которое
невозможно представить или охарактеризовать словами; оно, однако, не полностью
оставлено "Сыновним началом". <...> Кроме того, мы имеем ранний прототип
цимцума в "Книге Великого Логоса", одном из удивительных памятников
гностической литературы, сохранившихся в коптских переводах. Из него мы узнаем,
что все прапространства вместе с соответствующими им "Отеческими
началами" возникают на основе "малой идеи", которую оставляет позади Себя Бог при
Своем отступлении в Себя — в качестве пространства, мира сияющего света.
Это отступление, предшествующее любой эманации, упоминается
неоднократно» (Ibid. S. 290). Шолем указывает и на источник взглядов Василида: Hippoly-
tus. Philosophoumena, VII, 22; ср.: Mead. Fragments of a Faith Forgotten. (3-е изд.,
1931.) P. 261.
5 Ср.: Exod. Rabba zu Exod. 25, 10. Lev. Rabba zu Lev. 23, 24; Pesikta de-Rab Kabana,
ed. Buber, Bl. 20a; Midrasch Schir ha-schirim, ed. Grünhut (1899). Bl. 15b.
6 Scholem G. Die jüdische Mystik... S. 286.
7 Ibid. S. 286, 287.
8 Ibid. S. 287.
e^ 392^5
(^ Примечания ^
9 Ibid.
10 Ср.: Николай Кузанский. Об ученом незнании (далее — ОУН). Глава 25 //
Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 91.
11 Dumoulin H. Begegnung mit dem Buddhismus. Eine Einführung. Freiburg, 1978.
S. 144. Дюмулен ссылается в связи с этим на теологию Карла Барта: «Согласно
многократно цитируемому высказыванию Карла Барта, творение является
внешним основанием для завета, а завет — внутренним основанием для творения.
Это означает, что завет между Яхве и Израилем, засвидетельствованный
Библией, находит свое исполнение во Христе, означает также, что на Нем исполнилось
творение посредством Слова. Карл Ранер строит христологическое понимание
учения о творении на "теологической антропологии", для которой "человек
<...>, собственно, подразумевается при творении как условие приобщенности
творения Богу"; он делает вывод, что "теологическое учение о творении <...>
должно быть соотнесено с христологией"».
12 Art. Schöpfungslehre // L Th К IX, Sp. 472.
13 Ibid. Ср.: Dumoulin. S. 144.
14 «Возможно, это характерно для дальневосточной духовности, которая хотела бы
видеть Божественную сущность не так, как греческая философия — в
неподвижной дали трансцендентности, но в живой близости к миру и человеку; поэтому
Абе, исходя из христологической теологии творения по Барту, распространяет
идею кенозиса Христа (Флп 2: 7) на Бога Творца и усматривает в творческом
действии Бога нечто вроде Божественного самоотречения. Движущей силой
является любовь Бога, но, как думает Абе, Бог при этом приобщается небытию.
Потому "христианского Бога следует понимать не как Бога, далекого от начал
небытия и отрицания, но как Бога, Который, следуя свободе воли, приобщается
небытию и самоотрицанию. Будучи самодостаточным, Бог по любви отрицает
Себя Самого и создает отличный от Него мир". Поскольку это самоотрицание
Бога в Его сущности, а именно, в Его агапической любви, является
основополагающим, оно предшествует самоотрицанию Бога в творении. Бог осуществляет
самоотрицание не под влиянием извне, но оно внутренне присуще Ему. Мотив
для Божественного самоотрицания обнаруживается в другом контексте у Ни-
шитани, также вдохновлявшегося Посланием к филиппийцам (2: 7). Основание
для самоотверженной Христовой любви, о которой говорится у Павла, он
находит в агапической любви "небесного Отца, Который повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных" (Мф 5: 45). На Нишитани оказывают глубочайшее впечатление эти слова
Нагорной проповеди, и он делает такой вывод из не различающей любви Отца,
"охватывающей все вещи в их конкретнейшей форме": "В Самом Боге
заключено содержание самоотрицания". Как показывает Нишитани, эта самозабвенная
любовь есть характерный признак дела Сына — Христа, а "в случае Отца она
является Его изначальной природой". Самоотвержение Бога, «опустошившего
Себя», соответствует буддийскому понятию "пустоты" (суниата). Подобно тому
как в Нагорной проповеди самоотвержение и прощающая, спасительная любовь
Бога связаны между собой и требуют от человека самой радикальной любви
к ближнему вплоть до любви к врагам, так и в буддизме, как показывает далее
Нишитани, утрата Я в пустоте есть основание для Великого Co-страдания Буд-
е^ 393 "^Э
(^ Примечания ^Э
ды, которое является нормой всех межличностных отношений» (Dumoulin.
S. 144).
15 Bulgakow Sergej. The Wisdom of God. A brief summary of Sophiologie. New York;
London, 1937. P. 68 ff.
16 «Помимо того большого значения, которое концепция цимцума имеет для
миропонимания Лурия, она привносит в это миропонимание такой элемент,
который уравновешивает пантеизм, характерный для теории эманации. В каждой
вещи не только продолжает действовать как бы остаток Божественного
проявления: в аспекте цимцума вещь также делается настолько реальной, что это
предохраняет ее от растворения в неиндивидуализированном бытии Божественного
"всего во всём". Сам Лурия был живым носителем явно теистической мистики»
(Scholem. S. 287).
17 Ср.: Schulte Chr. Zimzum bei Schelling // Goodman-Thau E., Mattenklott G.,
Schulte Chr. (Hrsg.) Kabbala und Romantik; «Conditio Judaica, Studien und Quellen zur
deutsch-jüdischen Literatur und Kulturgeschichte» / Hrsg. von Horch H. O. und
Shedletzky I. 7, 97 ff.
18 POPM, 175 ff.; PO, 310 ff.
19 Ср.: Silberer Michael. Die Trinitätslehre im Werk von Pavel A. Florensky // Das
östliche Christentum. Abhandlungen im Auftrag des Ostkirchlichen Instituts der
deutschen Augustiner / Hrsg. v. H. M. Biedermann. Neue Folge. Bd. 36. Würzburg:
Augustinus-Verlag, 1984.
20 Обзор различных «отвлеченных начал» предпринят в гл. VI в связи с
«Критикой отвлеченных начал» Соловьева. Там показывается, как само мышление
может решиться на отказ от начал мышления, не оставляя при этом своей
собственной сферы.
21 Ср. с цитатой из Шеллинга, служащей эпиграфом к данной главе.
22 Такие попытки предпринимались неоднократно. Первые из них принадлежат
Израэлю Заругу и Абрахаму Коэну Херрера. Шолем пишет: «Своим широким
распространением лурианская Каббала обязана другому каббалисту, Израэлю
Заругу, который в период примерно с 1592 по 1598 год развил среди каббалис-
тов Италии активную деятельность по распространению нового учения. Он
выдавал себя за одного из ближайших учеников Лурия, хотя, несомненно, таковым
не был, а своими знаниями был обязан лишь тем выкраденным спискам
сочинений Витала (Vitals Werke), которые ему попали в руки в Сафеде. Он полагал,
что самостоятельный ум глубже проникает в тайны нового учения, чем это
удается усердному ученику, и, будучи одушевлен миссионерским пылом, пустился
в некую авантюру, прикрывшись авторитетом непосредственного ученичества;
духом этого последнего, однако, он мог быть в высшей степени одержимым. Но
обмана никто не заметил, и вплоть до нашего времени Заруг считался как среди
сторонников, так и противников Каббалы наиболее точным интерпретатором
Лурия. В действительности же важнейшие моменты учения Лурия он развил
совершенно заново, обогатив их собственными рассуждениями, обсуждать
которые я не имею возможности. Они были прежде всего изложены в сочиненной им
книге "Учение об эманации" (Limmude Aziluth). Он попытался дать далеким от
философии учениям Лурия некую квазифилософскую основу в духе платониз-
е^394^)
(^ Примечания ^>
ма, и именно это (т. е. акцент на неаутентичных элементах его учения)
обусловило их успех. <...> Один из учеников Заруга довел эту тенденцию до конца
с особенной радикальностью, создав систему Кабаллы, которая представляет
собой специфическую эклетическую смесь из неоплатонической философии
итальянского Ренессанса и лурианской Каббалы в интерпретации Заруга. Выходец
из семьи марранитов Абрахам Коэн Херрера из Флоренции (скончавшийся
в 1635 или 1639 году в Амстердаме) был единственным каббалистом, который
писал свои сочинения по-испански» (Scholem. S. 282—283).
23 Соответствующие пояснения даются в гл. III и IV.
24 Baader F. von. Über Jakob Böhmes Lehre, aus den hinterlassenes Studienbüchern //
Sämtliche Werke. 16 Bd. Leipzig, 1851-1860, Reprint Aalen 1963. Bd. 13.
V.Anhang.
25 Притч 9: 1.
26 Эти мысли Кант развивал главным образом в «Грезах духовидца» при
обсуждении Сведенборга.
27 «Самая глубокая ступень эмпиризма есть та, на которой все знание
довольствуется одним чувственным опытом, а все сверхчувственное отрицается или
целиком, или же в качестве возможного предмета знания. <...> Но более высокой
ступенью философского эмпиризма является та, которая утверждает, что
сверхчувственное может стать действительным предметом некоего опыта; при этом
само собой разумеется, что этот опыт не может быть просто опытом чувств, но,
скорее, должен иметь в себе нечто таинственное, мистическое; именно поэтому
мы можем, пожалуй, вообще называть учения такого рода учениями
мистического эмпиризма. Среди этих учений располагается, вероятно, опять-таки глубже
всего то, которое дозволяет нам убеждаться в существовании сверхчувственного
только через посредство Божественного откровения, которое при этом
понимается как внешний факт. Следующей ступенью является та философия, которая,
правда, игнорирует все внешние факты, но взамен ссылается на внутренний
факт непреодолимого чувства, которое убеждает нас в существовании Бога,
тогда как разум неизбежно приводит к атеизму, фатализму, — стало быть, к системе
слепой необходимости. <...> В третьей разновидности эмпиризма
сверхчувственное сделалось предметом действительного опыта благодаря тому, что
допущена возможность экстатического вхождения человеческой сущности в Бога
и последующего необходимого, безошибочного видения — не только
Божественной сущности, но также и сущности творения вместе со всеми сопутствующими
ему процессами. Такая разновидность есть теософизм, преимущественно
спекулятивный или теоретический мистицизм. <...> То, что лежит в основе теософиз-
ма, та область, где он всегда обретает значение по меньшей мере материально-
научное или же спекулятивное, — что лежит в особенности в основе теософизма
Якоба Бёме, есть само по себе достойное уважения стремление постичь в
качестве действительного события исхождение вещей из Бога» (РО, 115 f)·
28 Ibid.
29 «О Бёме нельзя не сказать, что он есть чудесное явление в истории
человечества, а в особенности в истории немецкого духа. <...> Подобно тому как народные
мифологии и теогонии были предшественницами науки, Я. Бёме, описавший
(с^ 395^5
(z^ Примечания ^Э
нам рождение Бога, является предшественником всех научных систем Нового
времени. <...> То, что в нем было интуицией и непосредственным природным
вдохновением, у Спинозы, который скончался спустя почти сто лет после
рождения Я. Бёме, оказалось развитым в качества рационализма, но, конечно, не без
того, чтобы возвышенный взгляд на природу, присутствовавший у Я. Бёме,
оказался полностью вытесненным из философии. <...> Бёме — это воистину теого-
ническая натура, но как раз это мешало ему возвыситься до идеи свободного
сотворения мира и при этом также до свободы положительной философии. Как
известно, Бёме много говорит о колесе природы или рождений — одной из своих
глубочайших апперцепции, выражая тем самым мысль о дуализме сил в
природе, борющейся с самой собой, желающей породить саму себя, но не способной
к этому. Но он, собственно, сам — именно это колесо, он сам — это природа,
желающая породить науку, но не способная к этому. Из-за того, что он напрасно
пытается убежать от того субстанциального начала, во власти которого он
находится, и пробиться к свободной науке, возникает круговращение его духа. <...>
Это круговращение его духа внешне проявляется также в том, что в каждой из
своих работ Я. Бёме опять начинает сызнова, вновь и вновь показывает
зачастую достаточно объясненные начала, не двигаясь дальше с места. В этих началах
он всегда удивительным образом оказывается настоящей драмой, борющейся
с самой собой, требующей свободы и разумности природы, которая, однако, не
будучи способной начать действительное движение, вечно вращается вокруг самой
себя на одном и том же месте <...>» (РО, 125, 126). Несмотря на это, в целом
Шеллинг оценивает Бёме положительно: «То, что лежит в основе теософизма,
та область, где он всегда обретает значение по меньшей мере
материально-научное или же спекулятявное, — что лежит в особенности в основе теософизма
Якоба Бёме, — есть само по себе достойное уважения стремление постичь в
качестве действительного события исхождение вещей из Бога» (РО, 115 ff.).
Gehen Richard. Anthroposophie und Gnostizismus // Paderborner Theologische
Studien. Bd. 22. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1992. S. 167.
Здесь ошибается также и Рудольф Штейнер, когда он, имея в виду позднего
Шеллинга, пишет, что «теория познания мистицизма» должна быть написана
кем-то другим. Он не должен этим заниматься. {Steiner Rudolf. Goethes
naturwissenschaftliche Schriften. Dornach. S. 134—135).
В своем сочинении о свободе Шеллинг, правда, различает (опираясь на Якоба
Бёме) природу в Боге как основу Божества — и Самого Бога в Его
божественности; но там отсутствуют такие определения абсолютного Духа, как условия
возможности личностного начала вообще.
«Но я не должен от вас утаивать того простенького детского пути, который я
совершаю во Христе. Ибо я не могу писать о себе как-то иначе, чем как о дитяти,
который ничего не знает и не понимает, также никогда ничего не изучал, как
только то, что Господь во мне хочет знать по мере того, как Он открывает Себя
во мне. Ибо я никогда не стремился к тому, чтобы что-нибудь узнать о тайне
(Mysterio), и еще гораздо меньше понимал, как бы я мог ее искать или находить;
также я ничего не знал о том, каков род профанов в их простоте. Я искал лишь
сердца Иисуса Христа, чтобы укрыться внутрь него от яростного гнева Божия
и нападок дьявола, и всерьез просил у Бога Духа Его Святого и милости, чтобы
(С^ 396^5
C^ Примечания ^Э
Он возжелал меня в Себе благословить и вести, и отнять от меня то, что
отвращает меня от Него, и всецело предать меня Ему, чтобы я жил не по своей, но по
Его воле, и чтобы Он один вел меня и я смог бы стать дитятей в Его Сыне Иисусе
Христе. В этом моем совершенно серьезном искании и стремлении, когда я
преодолевал внутри себя сильное сопротивление, но, скорее, рискнул бы жизнью,
чем захотел отойти, отказаться от этого, — мне отверзлись врата, чтобы за
четверть часа я увидел и узнал больше, чем если бы много лет находился в высшей
школе, и это удивило меня в высшей степени. Я не знал, как это со мной
произошло, и через это сердце мое обратилось к хвале Бога. Ибо я увидел и узнал
сущность всех сущностей, основу и безосновное; также рождение Св. Троицы,
происхождение и прасостояние этого мира и всех тварей через Божественную
Премудрость. Я узнал и увидел в себе самом все три мира, а именно: 1.
Божественный ангельский, или райский; затем 2. Темный мир как прасостояние
природы в огне, и 3. Этот внешний видимый мир как творение и порождение — или
как явленную сущность обоих внутренних духовных миров. Я увидел и узнал
всю полную сущность (das ganze Wesen) в зле и добре, как одно изначально
сосуществовало с другим и как мать была родительницей, так что я не только
крайне удивился, но и обрадовался. Итак, сильно мне запало в душу записать
это себе на память. Правда, в своем внешнем человеке я едва ли мог постигнуть
это и описать пером. Я немедленно должен был начать работать в этой
величайшей тайне, подобно дитяти, который ходит в школу. Во внутреннем я видел это
хорошо, как бы в некоей великой бездне, ибо я смотрел сквозь, как бы в некий
хаос, так как все находится внутри, но развернуть это я не смог. Однако время от
времени это открывалось во мне, как бы в некоем растении, хотя я 12 лет
носился с этим, как бы беременея им, и было во мне сильное стремление, прежде чем
я смог это выразить, пока вслед за тем это на меня не обрушилось подобно
ливню. Чему бывать, тому не миновать. Так случилось и со мной. То, что я смог
ухватить и выразить, я записал» (Böhme Jakob. Theosophische Sendbriefe. I / Hrsg.
und eingel. von G. Wehr. Freiburg: Aurum Verlag, 1978. S. 129-130).
Ή Böhme J. Von der Gnadenwahl (далее - VdG), I, 4f., 20.
35 Ibid.
36 «Итак, безосновная воля зовется вечным Отцом. А найденная, схваченная,
рожденная воля безосновного зовется Его рожденным или единородным Сыном,
ибо Он есть сущее безосновного, в котором безосновное схватывает себя, ставя
на основание. А исхождение безосновной воли через схваченное сущее или
Сына зовется Духом, ибо Он [Отец] изводит схваченное бытие из Себя в некую
деятельность (weben) или жизнь воли как единую жизнь Отца и Сына. А
исшедшее есть радость как обретение вечного ничто, так как Отец, Сын и Дух внутри
видят, находят и именуют Божественную Премудрость или созерцательность»
(VdG, I, 6, [И]). Баадер так комментирует, перефразирует и цитирует бёмевское
описание этого прасостояния Божества: «Вечное начало есть уже вечная воля
в безосновном, прасостояние которой не должна исследовать никакая тварь; но
мы, пожалуй, знаем его [начала] основание, которое оно [начало] само создает,
покоится в нем (его цель и вечный конец), ибо воля тонка как ничто, поэтому
оно [начало] обладает желанием и хочет быть чем-то, чтобы открыться в себе
самом, так как ничто обусловливает волю к тому, чтобы оно [начало] обрело же-
е^397^Э
(г^ Примечания ^Э
лание, а желание есть воображение, ибо воля видит себя в зеркале Премудрости,
это зеркало воля заключила в свое желание; исходя из первоосновы в себе, воля
воображает и в воображении делает себя некоей основой в самой себе, и
беременеет воображением из Премудрости (девственного зеркала и матери без
рождения и желания)» (Baader F. von. Op. cit. S. 359).
Scholem. S. 285 f.
Имея в виду начало пролога Евангелия от Иоанна («В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог»: Ин 1: 1), Бёме пишет: «В этом
коротком описании заложена вся основа Божественного и природного откровения
в сущности всех существ. Ибо "в начале" означает вечное начало в воле
безосновного к основанию (как к Божественному схватыванию), так как воля
заключается в центр, стремясь к основанию [выделено мной. — М.Ф.] как к Божественной
сущности, — и вводится в силу, и из силы исходит в Дух, — и в Духе
видоизменяется в чувствительность силы» (VdG, I, 8, [20]). Баадер дополняет: «Это
пребывание Отца в беременности (полноте) есть центр Духа (вечность), так как
вечный Дух постоянно схватывает (стягивает) себя, ибо воля есть начало и
движение или такое втягивание в воображение (то, что исходит из воображения
и вновь, наполнившись, обращается вовнутрь), как если бы к зеркалу
Премудрости (движение идет именно туда, чтобы затем выйти оттуда) двигался вечный
безосновный Дух (Дух движется именно к зеркалу, чтобы втянуть [нечто]
оттуда. — Так взор воображения устремляется в зеркало, чтобы извлечь оттуда образ
и внести, втянуть в себя), который пребывает изначально в воле, схватывая себя
(центрируя) в центре сердца в силе втянутой Премудрости, и который есть
жизнь и дух сердца» (Baader, 361). В своих интерпретациях Баадер использует
цитаты из различных сочинений Бёме без особых ссылок на них.
То же самое имеет в виду Шеллинг, когда пишет: «Сознание всегда есть
концентрация, есть сосредоточенность, есть собирание самого себя. Эта отрицающая
сила некоего существа, возвращающаяся к нему самому, есть действительная
сила личного начала в нем, сила самости» (Schelling. Sämtl. Werke. Abt. I. Vol. VIII,
74).
Начиная с Псевдодионисия (De div. nom.), все представители theologia negativa
едины в том, что Божество в Своем действительном основании есть, скорее,
ничто, чем нечто, поскольку «нечто» намекает на именование некоего качества,
тогда как в Божественном безосновном ведь нет ни именования, ни качества (ср.,
напр.: Николай Кузанский. ОУН, XXIV—XXVI).
Баадер замечает по этому поводу: »Мы, таким образом, признаем одну вечно
безосновную сущность, а в ней три личности (Personen), ибо ни одна из них не
есть другая; первая личность — это вечная воля, единая причина всех существ;
но она не есть сущность, так как она есть безосновное. Прежде нее нет ничего,
что ее бы являло, но она сама являет себя, и об этом мы ничего не знаем. Она
есть все, однако при этом пребывает в себе в согласии, исключающем ничто, и в
этой согласной воле изначально присутствует вечное начало через воображение
или желание, и в желании воля беременеет из ока Премудрости (aus dem Auge
der Weisheit), которое, вместе с волей, также вечно, безосновно и безначально.
Это состояние беременности есть основа воли и сущности всех существ, воли
Сына, Которого воля рождает постоянно из вечности в вечность (рождает себя
е^398^с)
<с^ Примечания ^>
в себе) как свое сердце, слово, звук или откровение молчащей вечности, как уста
воли, ее разум; это воистину другая личность, нежели Отец, ибо это откровение
Отца, Его основа и сущность; ибо воля не есть сущность, но воображение воли
создает (macht) сущность. Итак, другая личность есть сущность Божества
(Святой Троицы), уста и откровение сущности всех существ, сила жизни всякой
жизни» {Baader R von. Op. cit. S. 362-363).
«В неприродном, нетварном Божество не есть больше единая воля, — которая
именуется также единым Богом, — Который в Самом Себе также ничего более
не желает, / кроме как найти Самого Себя и схватить, / и выйти из Самого
Себя, и затем ввести в невозмутимую созерцательность, / в которой распознается
Троица Божества / вместе с зеркалом Его Премудрости / как оком Его зрения, —
в котором распознаются все силы, цвета, чудо и сущность в единой
Премудрости, / с одинаковым весом и массой, / без свойств. / Как есть единая основа
сущности всех существ, / найденное в самом себе стремление к чему-то, стремление
к откровению или нахождению свойств, / которое есть Божественное
стремление или Премудрость в себе самой, в первооснове, / однако совершенно без
свойств, ибо есть запрет на свойства, / так должно было также быть нечто
такое, / что дает и обусловливает свойства» (VdG, II, 14, [22]).
«Итак, те же самые силы, которые покоятся все в одной силе, являются прасо-
стоянием Слова. Ибо вечная воля схватывает себя в единой силе, так как вся
сокровенность покоится внутри и выдыхает себя посредством силы в
созерцательность, и та же самая Премудрость, или созерцательность, есть начало
вечной души, будучи обозреванием себя самой» (Ibid., I, 8, [20—21]).
«Поймите, силы [к рождению] Слова суть Бог, и сциенция как магнетическая
тяга есть начало природы. Эти силы не могли бы открыться без этого влечения
тяги, Божественное величие не открылось бы в действенной силе к радости и
славе без тяги влечения» (Ibid., 8, [20—21]).
«Это значит теперь, что Слово было в начале у Бога и было Самим Богом, так
как воля есть начало, которое именуется Богом Отцом, / который схватывает
Себя в силе, которая именуется Богом Сыном, / а сущность силы есть
сциенция / и причина говорения, / как эссенция или различимость вечной силы, как
отделение души, / которую Дух вместе со Своим исхождением / выделяет из
силы» (VdG, II, 8 [21]). Баадер (361) в одной сноске замечает: «Это было бы
выдохом в зеркало — речь ответствовала бы взгляду наподобии эхо, — из видения
проистекало бы говорение. — После этого беременение (die Schwängerung)
(сердце — полнота) исходило бы лишь из Премудрости и обнаруживалось бы
(развивалось) ею все вновь и вновь. Вначале нечто забиралось из этого зеркала
(притягивалось из него), теперь же это нечто (звук) вступало в него! Зеркало, таким
образом, приходит к чему-то, к сущности, оно входит в сущность (в высказанное
слово или центр)» (Baader, 361). Баадер понимает здесь первоначальный
процесс откровения в качестве словообразующего процесса дыхания (сжатия —
расширения) и замечает, что при этом «прапространство», образовавшееся при
сжатии Бога, становится своей собственной сущностью. Это в точности
соответствует «двойному лику Софии», является началом различения Sophia divina,
которая остается в Божественной тайне (Mysterium), и Sophia creata.
е^ 399^Э
(^ Примечания ^ü)
46 VdG, HI, 3 [32]: «...Ибо притянутое является жестким и грубым / и, однако, в
вечном должно пониматься только как дух».
47 У Алануса аб Инсулиса и Николая Кузанского, к примеру, Бог сравнивается
с бесконечным шаром, центр которого находится повсюду, а поверхность —
нигде, так как в случае бесконечности центр и поверхность совпадают. Кузанец
пытался это доказать в «De Docta Ignorantia»; ср.: ОУН I, 13—16.
48 VdG, III, 1.
49 Кузанец, например, говорит о «вселенском духе». Ср.: ОУН, II, 9—10.
50 Понятия, применяемые также Кузанцем для описания возникновения
Вселенной. Ср.: ОУН, II, 3 ff.
51 Сравним мысли Бёме со следующим местом из сочинения Шеллинга «О
сущности человеческой свободы»: «Поскольку до Бога или вне Бога нет ничего, то
основа его существования должна быть в нем самом. Это утверждают все философы;
однако они говорят об этой основе только как о понятии, не превращая ее во
что-то реальное и действительное. Эта основа существования Бога, которую Бог
содержит в себе, не есть Бог в абсолютном рассмотрении, т. е. поскольку он
существует, ибо это ведь только основа его существования. Она есть природа в Боге,
неотделимая от него, но все-таки отличная от него сущность. <...> Бог содержит
в себе внутреннюю основу своего существования, которая тем самым
предшествует ему как существующему; однако вместе с тем Бог есть prius основы,
поскольку основа и в качестве таковой не могла бы быть, если бы Бог не
существовал actu.
К такому же различению приводит нас отправляющееся от вещей
рассуждение. Сначала следует полностью устранить понятие имманентности, поскольку
посредством этого понятия выражается мертвое пребывание вещей в Боге. Мы,
напротив, полагаем, что единственное соответствующее природе вещей понятие
есть понятие становления. Однако становление вещей в Боге — в абсолютном
значении этого — невозможно, ибо они toto génère, или, правильнее было бы
сказать, бесконечно отличны от него. Для того чтобы быть отделенными от Бога, их
становление должно происходить из отличной от него основы. Но так как вне
Бога ничего быть не может, то это противоречие разрешимо только тем, что
основа вещей содержится в том, что в самом Боге не есть он сам, т. е. в том, что есть
основа его существования. Если мы хотим сделать эту сущность понятнее с
человеческой точки зрения, то следует сказать: это — стремление (Sehnsucht)
порождать самого себя, которое испытывает вечно единое. Такое стремление не
есть само единое, но оно так же вечно, как единое. Оно хочет порождать Бога,
т. е. непостижимое единство, однако тем самым в нем самом еще нет единства.
Рассматриваемое для себя, оно есть поэтому и воля; но воля, в которой нет
разума (Verstand), и поэтому не самостоятельная и не совершенная воля, поскольку
разум есть по существу воля в воле. Тем не менее оно есть воля разума, т. е. его
стремление и вожделение; не сознательная, а предчувствующая воля, чье
предчувствие есть разум» {Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о
сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах / Пер. М. И. Левиной
и А. В. Михайлова // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 107-109).
Конечно, основа Бога оказывается отличной от Него Самого не тогда, когда ее
и Бога различает философ, но лишь если Бог полагает ее отличной от Себя. Это
е^400^>
(г^ Примечания ^z>
происходит тогда, когда Он поднимается над Собой или же отступает. Только
тогда природа и Бог полагаются в их различии. Отступление — это
концентрация, это как раз есть цимцум, о котором идет речь в данном разделе нашего
труда. Так называемый «средний период» Шеллинга уясняется благодаря
эвристическому принципу цимцума.
52 «Эти три образа, подобные как бы терпкости, / жалу горечи и страху, / суть три
первых образа в сциенции единой воли, которая именуется Отцом всех существ; /
они заимствуют свою основу и прасоотояние в сциенции из троичности
Божества. / Не надо думать, / что они суть Бог; / они — Его откровение в Его Слове
силы: — терпкость, / которая — начало силы и власти, / основа, из которой
появляется всё, / происходит из свойства Отца в Слове. / А жало горечи, как
начало жизни, происходит из свойства Сына из Слова, / ибо оно — причина всех сил
и различимости, также причина речи, разума и пяти чувств. / А страх
происходит из свойства Св. Духа в Слове, / ибо он — причина обоих огней: / света
ласкового огня / и мучительного, изнуряющего огня, — / и действительное прасосто-
яние обретенной тварной жизни, / а также стремления к радости и страданию, /
корень всякой жизни, исходящей из сциенции / единой вечной воли» (VdG, III,
[33]).
53 Нижеследующее краткое резюме уточняется в следующей главе. См. там же
ссылки на источники.
54 «Ее первый образ — это терпкое, как бы схваченность ее самой; / ее оформление
совершается забиранием ее вовнутрь; / они суть / как бы первичная тьма, / ибо
схватывание затеняет свободную волю в сциенции. / Во-вторых, терпкое есть
причина твердости, / ибо притянутое есть твердое и грубое / и, однако, должно
в вечном пониматься только как дух. В-третьих, оно есть причина острого. /
В-четвертых, причина холодного, / как холодное — свойство огня. / В-пятых,
причина всякой существенности / или постижимости. / А в Misterio magno
терпкое есть матерь всякой солености / и корень природы; / в Misterio оно
называется словом "соль" / как духовная острота, / прасостояние гнева Божия, / а
также прасостояние царства радости» (VdG, III, 3 [32]).
55 Baader, 368.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 «Другой образ сциенции есть жало чувствительности / как самодвижение; /
оттуда происходит ощущение и восприимчивость, / ибо чем сильнее сжимается
терпкость, / тем больше делается это жало, подобное бешеному разрушителю. /
Распределение его по образам дает горечь, / скорбь, / муку, / порицание; это
начало отвращения в температуре, / причина духовной жизни, / также причина
мучения, / отец / или корень меркуриальной жизни/в живом и растущем,/
причина мимолетных чувств, / также причина возвышенной радости в свете /
и причина враждебных противостояний в суровом сжатии твердости, / откуда
возникают спор и отвращение» (VdG, III, 3 [32]). Баадер комментирует:
«Терпкость (например, втягивая в себя, запирая в себе) дает как раз возникнуть в себе
беспокойству, неукротимости, неосмотрительности своего притягивания
(неполноте или неутоленности голода), боли, горечи, которая (или воля)
стремится 401 ^Э
Сг^ Примечания ^z)
ся воспрепятствовать этому притягиванию как своей причине, стремится
освободиться, отвязаться от нее» (Ibid.).
«Третий образ в сциенции есть страх, / который возникает в противоречивости
терпкости / и жалящей горечи / как существа чувства, / начало сущности и
души, / как корень огня и всякой болезненности, / как алкание и жаждание
свободы, / как следующее за безосновным / откровение в сциенции вечной
безосновной воли, / так как воля вводит себя в духовную образность; / также [он есть]
причина стремления / как рождение смерти, / ибо возникает ведь не смерть, /
а начало природной жизни, / и есть именно корень, / ибо Бог и природа
различаются, / не отделяясь друг от друга, / но из-за температуры [равновесия] в
Божестве, / так что возникает чувственная жизнь, / из которой творение получает
свое прасостояние» (VdG, III, 5 [32—33]). Баадер комментирует: «Терпкость
есть prima materia, есть суровость, суровое стягивание, то есть соль (суровость —
узость). В суровом притяжении возникает горечь, ибо в суровом притяжении
дух изощряется, полностью проникаясь страхом. Корень всякого чувства,
восприятия есть, таким образом, боль от нахождения взаперти или утеснения. —
Всякое чувство происходит от конденсации. Чувство, ощущение
(следовательно, жизнь) возникает только через самоподавление или через внешний гнет...»
(Баадер, 368; здесь он вновь перефразирует Бёме).
Ср. сн. 19. Можно подметить в связи с этим, что К. Г. Юнг говорит о семи
архетипах, которые лежат в основе всего душевного и которые, будучи в некотором
роде идентифицированы в переживании индивида, ведут к душевной инфляции.
Для понимания определенных душевных заболеваний — таких как неврозы,
психозы, истерия и т. д. — подход Якоба Бёме чрезвычайно плодотворен.
«Четвертый образ в сциенции из вечной воли есть возжигание огня, / так как
свет отделяется от тьмы / и каждый из них становится отдельным началом, /
ибо все есть прасостояние света — / как подлинной жизни в восприимчивости
трех первых [образов], / так и действительного отделения страха от радости, /
и так это и происходит. Первая воля в Троице, / которая именуется богом вне
природы и твари, / схватывает себя в самой себе [и стягивает] в свое
собственное место в рождении Троицы / со сциенцией / и ведет себя в силу, / а в силе —
в рождающее Слово / как в некий сущностный звук для откровения сил, /
и дальше в вожделение для восприимчивости и обнаружения сил / как в три
первых [образа] природы, / — об этом говорилось выше. / Но когда первая воля
введена в страх /как в прасостояние духовной жизни, / то она вновь схватывает
себя [и стягивается] желанием свободы — желанием освободиться от страха, /
то есть первая воля схватывает безосновное / как температуру [равновесие]
Божественного желания и Премудрости, / которая есть, таким образом, любезная
кротость и тишина. / А в температуре в схваченности возникает в страхе
великий ужас,/так как боль, прежде великой кротости, пугается/и, как некая
дрожь, / погружается в себя, / и здесь получает свое начало и основание
ядовитая жизнь в природе. / Ибо в страхе присутствует смерть, /ив страхе терпкость
схватывает себя[, стягивая] в сущность / как меркуриальная духовная вода, / из
которой происходят в состоянии сжатия в начале сотворения Земли / камни /
и металлы и меркуриальная серная вода, / откуда получают свое прасостояние
металлы и камни...» (VdG, III, 12—14 [34]).
(г^ 402^5
С^ Примечания ^Э
«Воистину так понимается теперь возжигание огня. Оно происходит через союз
трех первых начал в их схваченности в ярость, /ас другой стороны, от
любезной свободы сущности в температуре, / ибо любовь и гнев входят друг в друга, /
подобно тому, как воду льют в огонь; / это и есть ужас. / Итак, когда любовь
входит в гнев, / то возникает также ужас; / в любви ужас есть начало молнии
или блеска,/ибо единая любовь делается восприимчивой,/величественной
или сияющей, / как начало царства радости, / подобно тому как свет в огне
делается сияющим; / также в любви это есть начало различимости сил...» (Ibid. 16
[35]). Баадер дополняет: «В молнии и с молнией в своем прасостоянии
находится кротость, и молния есть цель разделения двух начал, ибо ярость идет вверх
(центробежно), а кротость вниз, и обе — это сущность телесности; ибо хотя
ярость в молнии возносится над собой (потенцируется), в ней есть, однако,
погружение в смерть <...> Терпкость, твердость, сухость и холод суть один образ;
горечь, язвительность, вражда суть другой образ, в центре; и затем страх, боль
и мука суть третий образ; и вместе со страхом, как бы в движении и жизни,
молния вскрывает огонь в твердой терпкости между ею (твердостью) и горьким
жалом, так что огонь появляется как молния, т. е. четвертый образ. Итак, теперь
нет кротости или сущности кротости, нет никакого света, но есть лишь некая
молния; ибо страх хочет иметь свободу, но, будучи слишком острым, он
достигает ее лишь в качестве молнии, то есть огня, не имея, однако, состава или
основания» (Baader. Op. cit.).
«Этот ужас порождает в трех первых [образах] / — в терпкости, / горечи и
страхе — после темного сжатия враждебную жизнь ярости / или гнева Божия, /
пожирания и изнурения, / ибо это — возжигание огня / как сущность
мучительности / или изнурительности огня, / и после темного сжатия это называется адом
или пещерой [слова "ад" (Holle) и "пещера" (Hohle) по-немецки звучат почти
одинаково, что Бёме и обыгрывает здесь в свойственной ему манере. — Прим.
пер.] /, будучи мучительно сжимающейся в себя саму жизнью, / которая только
в себе самой обладает восприятием и открытостью. /Ив противоположность
всей безосновной справедливости это называется потаенной пещерой, / которая
не открыта свету, / и, однако, причину возжигания света надо понимать так, /
словно во дне живет ночь, / причем одно не есть другое» (VdG, 15, [34—35].)
«В возжигании огня в соответствии с внутренним магическим огнем /Дух
Божий приходит в движение, / как если бы воздух исходил из огня. / Ибо здесь
в прасостоянии пребывает единый элемент, / который во внешнем мире
разделился на 4 элемента. / Итак, это понятно. Разделение происходит под видом
огня и света, / Дух разделяется, / огненная сциенция сил приходит к
пониманию себя,/ибо Дух исходит из огненного ужаса/как некая новая жизнь;/
и, однако, здесь нет ничего нового, / но Дух лишь воспринял таким образом
природу. / И существо любви остается посреди как некий центр Духа / и
испускает из себя некое масло, — / понимай духовно, — / в котором живет свет, / ибо
он есть существо огненной любви» (Ibid., 20 [36]).
«Пятый образ в сциенции есть теперь истинный любовный огонь, / который
выделяется в свете из мучительного огня; / Божественная любовь внутри теперь
понимается в [ее] сущности, / ибо силы разделяются в огненном ужасе / и
делаются жадными, / так как внутри постигаются также все виды трех первых [обра-
е^ 403^3
(^ Примечания ^z)
зов], / но теперь уже больше не в мучительности, / но в царстве радости / и в их
голоде / или вожделении; / можно было бы установить, / как в сциенции / они
увлекают самих себя в сущность; / они увлекают тинктуру от огня и света / как
деву Софию в себя, / чтобы или делать, / или вкушать; / она — их пища / как
великая нежность. / Происходит схватывание себя в вожделении трех первых
[образов], [стягивание] в сущность, / которая именуется корпусом
тинктуры/как Божественной существенности, / Христовой небесной телесности...»
(Ibid., 26 [38]). В связи с употреблением Шеллингом понятий «таутусия», «ге-
тероусия» и «омоусия» см. следующую главу.
«Этот пятый образ содержит в себе все силы Божественной Премудрости/
и есть центр, / в котором открывается Бог Отец в Своем Сыне через говорящее
Слово. / Это — ветвь древа вечной жизни духовной твари, / пища огненной
души, / а также ангел, / и это высказать невозможно, / Ибо это есть вечно
длящееся откровение триединого Божества, / так как все свойства святой Премудрости
получают внутри такие чувственные качества, как вкус, / запах / и жизнь
любовного огня, обретшую внутри себя качества; / эта сила называется славой Бо-
жией, / которая в творении излилась во все сотворенные вещи / и пребывает
в каждой вещи, / будучи спрятанной в ее центре в соответствии со свойством
вещи...» (VdG, 29 [39]).
Ср. выше, с. 26: «Первый из всех актов есть, таким образом, не акт откровения,
но акт сокрытия и ограничения. Только во втором акте Бог вместе с лучом
Своей сущности выступает из Себя и, как Бог Творец, начинает Свое откровение
или развертывание в том прапространстве, которое Он создал в Себе Самом.
Причем не только здесь, но, более того, перед каждым дальнейшим актом
эманации и манифестации Бога совершается новый акт концентрации и сокрытия»
(Scholem, 287).
«Шестой образ в сциенции есть речь в Божественной силе — / как
Божественные уста, / звук сил, / ибо Святой Дух в любви, будучи схвачен [в стянутость],
изводится, звуча, из стянутой силы, / как мы можем это понять по образу Бо-
жию, человеку в его речи. / Итак, есть также некая чувственно действующая
речь в Божественной силе в температуре, / каковая действующая речь вполне
постигается в 5-ти чувствах, / как то: духовные зрение, / слышание, / обоняние, /
вкус и осязание, / ибо действует откровение сил одна в другой, / каковое
действие Дух выражает в производимом звуке, / как это можно понять по человеку. /
Как в случае высказанного слова / в созданных живыми тварях, / так и в
тварях, растущих в немоте, / ибо здесь было показано, что духовный мир / и
духовный звук были внесены в творение, / откуда происходит звук всех сущностей, /
который в материях / называется меркуриальной силой / из огненной
твердости; / сюда вносят свое содействие другие силы, / чтобы возник некий звон или
песнь, / как это можно узнать по одушевленным [тварям], / а в немых [тварях]
есть звон...» (VdG, 31-32 [39-40].)
«Седьмой образ в сциенции / есть в [состоянии] схваченности сущность всех
сил в Божественной силе, / ибо звук / как говорящее слово в сциенции
схватывает себя [, стягиваясь] в сущность, / внутри звук схватывает себя в звучании.
5-е стягивание любовью, / как в пятом образе, / целиком духовно, / подобно
чистейшей сущности. / Но оно есть стягивание всех свойств / и называется
спрэев 404 ^Э
С^ Примечания ^
ведливостью, единой природой / или оформленным словом. / Это высказанное
слово — / как внутрибожественное небо, / которое не сотворено, / но пребывает
внутри, посередине, в Божественном действительном рождении температуры
[равновесия], / и именуется раем, / будучи зеленеющей сущностью / стянутой
действительной Божественной силы, / ибо растущее внутреннее [существо]
души понимается / так, как если бы сциенция порождала себя из земли /
посредством вожделения солнца, становясь растительностью дерев, / зелени и травы, /
ибо сциенция земли также получает свое прасостояние из следующего: / когда
Бог вводит духовный мир со всеми свойствами во внешнюю сущность,/то
внутреннее пребывает во внешнем, / — внешнее как тварь, / внутреннее же — как
рождающая сущность. И поэтому мы видим только половину мира, / ибо рай,
как внутренний мир, / который зеленел в невинности Адама сквозь внешнюю
землю, / мы потеряли» (Ibid., 37—38 [41—42]).
î0 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Разд. I. Гл. 2. А,Ь («Качество») / Пер. Б. Г. Столп-
нера // Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970. Т. 1. С. 176.
м Ср. обсуждение «Науки логики» Гегеля в гл. III.
II. Трансцендентность и троичность
1 РО, 169.
2 POU, 201.
3 Bulgakow Sergej. The Wisdom of God. P. 63-64.
4 «Выдвигая с самого начала доводы против обыкновенного истолкования
монотеизма, также можно было бы указать на то, что монотеизм как догма, как
особое учение (которым он все же является) должен обладать неким
положительным содержанием, а не быть голым отрицанием — таким, где лишь уверяют, что
никакие боги, кроме одного, не существуют или, как, собственно, следует
сказать, не могут существовать. Утверждение здесь, однако, может заключаться не
в том, что Бог один: при этом всегда лишь провозглашают, что Он — не
множество, — следовательно, выдвигают голое отрицание. Утверждение в собственном
смысле может, таким образом, заключаться скорее именно в противоположном —
в высказывании, что Он не один, но множество, хотя и не как Бог или не по
Божеству. Ошибка обычного утверждения состоит поэтому в представлении, что
то, что непосредственно содержится в понятии монотеизма, есть единство:
непосредственное содержание есть скорее множество, и лишь опосредовано, —
а именно, только через противопоставление множеству утверждается единство —
единство Бога как такового. Выражаясь самым точным образом, следовательно,
мы должны сказать: долой ту мысль, что в правильном понятии единство
утверждается непосредственно, — скорее правомерно отрицать, что Бог един в том
смысле, в каком одно начало <...> есть Единое. В этом смысле Бог скорее не
един. Правильным ощущением скорее отрицаемой в этом смысле (в смысле
исключительности) единичности обладали старые богословы, например, Иоанн Да-
маскин, к которому восходит почти все, что в нашей предшествующей теологии
есть спекулятивного, и который говорил: Бог не столько един, сколько
сверхъедин, — Он более чем просто Единый, unus sive singularis quis. Множество отри-
С^ 405^5
е^ Примечания ^>
цается не у Бога вообще, но лишь у Бога как такового. Бог един (т. е. не
множествен) лишь как Бог, или же Он — это не несколько богов, и только; но это не
препятствует тому, что хотя Он в действительности есть единый — единый по
Божеству Бог, необходимо однако признать, что в другом отношении, т. е.
поскольку Он не есть Бог, Он есть множество. — То, что Бог как Бог един, имеет
смысл и может стать предметом убежденности, лишь если Он един не вообще,
если Он, следовательно, понимаемый не как Бог или рассматриваемый помимо
Его Божества, есть множество» (Schelling F. W.J. Der Monotheismus // Schellings
Werke. Bd. 6. S. 302-303; далее - MT).
5 Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. О. Лосского. М, 1994. С. 380.
6 POU, Teilband I, 149.
7 «Должно быть возможно, чтобы [суждение] я мыслю сопровождало все мои
представления; в противном случае во мне представлялось бы нечто такое, что
вовсе нельзя было бы мыслить; иными словами, представление или было бы
невозможно, или, по крайней мере, для меня оно было бы ничем.
Представление, которое может быть дано до всякого мышления, называется созерцанием.
Все многообразное в созерцании имеет, следовательно, необходимое отношение
к [суждению] я мыслю в том самом субъекте, в котором это многообразное
находится. Но это представление есть акт спонтанности, т. е. оно не может
рассматриваться как принадлежащее чувственности. Я называю его чистой
апперцепцией, чтобы отличить его от эмпирической апперцепции; оно есть самосознание,
порождающее представление я мыслю, которое должно иметь возможность
сопровождать все остальные представления и быть одним и тем же во всяком
сознании; следовательно, это самосознание не может сопровождаться никаким
иным [представлением], и потому я называю его также первоначальной
апперцепцией. Единство его я называю также трансцендентальным единством
самосознания, чтобы обозначить возможность априорного познания на основе этого
единства» (Кант И. Критика чистого разума. С. 100).
8 Ср. с рассуждениями в гл. VII.
9 «Так как, однако, дело обстоит у нас совершенно иначе и мы при всем
напряжении нашего разума можем иметь только очень смутные и сомнительные виды на
будущее, а мироправитель позволяет нам только догадываться о его
существовании и его величии, но не позволяет нам видеть его или ясно доказать это,
моральный же закон в нас, не обещая с несомненностью ничего и не угрожая
ничем, требует от нас бескорыстного уважения, хотя впрочем, только тогда, когда
это уважение становится деятельным и преобладающим, позволяет нам в силу
этого заглянуть, и то мельком, в царство сверхчувственного, — то может иметь
место истинно нравственное убеждение, непосредственно относящееся к закону,
и разумное существо может стать достойным быть причастным к высшему
благу...» (Кант И. Критика практического разума / Пер. Н. М. Соколова // Кант И.
Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. I. М., 1965. С. 484 (курсив М. Френча).
0 Попытка избежать дурной трансцендентности (и одновременно агностицизма)
и тем не менее остаться при деистической предпосылке предпринята
Рудольфом Штейнером в его раннем сочинении «Естественнонаучные труды Гёте».
Поначалу Штейнер полностью принимает точку зрения деизма: «Единственное
(^ 406^3
(^ Примечания *Э
достойное человека — то, что он сам ищет истину, что его не направляет ни опыт,
ни откровение. <...> Он будет познавать наудачу, пожелает добиться удачи
собственными силами. <...> Самой возвышенной идеей Бога, однако, всегда
останется та, которая допускает, что Бог по сотворении человека полностью устранился
от мира и человек оказался полностью предоставлен себе самому» (Steiner
Rudolf. Goethes naturwissenschaftliche Schriften, 92). Но Штейнер утверждает деизм
не потому, что хотел бы защитить агностицизм, т. е. окончательную
непознаваемость ноуменального, — но, скорее, потому что считает дурной всякую
трансцендентность и хочет показать ее принципиальную ошибку, которая препятствует
в принципе возможному в его глазах ноуменальному познанию (установлению
связи между имманентной миру идеей и восприятием мира в представлении).
Цель Штейнера — как раз не агностицизм, но просвещение сознания
относительно возможного для него ноуменального знания и при этом заложение основ
гётеанистской науки.
11 «Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег
фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: "Я ищу Бога! Я ищу Бога!" —
Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него
раздался хохот. Он что, пропал? — сказал один. Он заблудился, как ребенок, —
сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание?
Эмигрировал? — так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец
вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. "Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу
сказать вам это! Мы его убили — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали
это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со
всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь
движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы
непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ?
Не блуждаем ли мы, словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое
пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше
ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим
еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах
божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы
его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное
Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами —
кто смоет с нас эту кровь?"» (Ницше Фридрих. Веселая наука. Афоризм 125/
Пер. К. А. Свасьяна // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. I. С. 592).
12 Фейербах выдвигает следующую программу своей философии: «Цель моих
сочинений, как и моих лекций, — это превратить людей из теологов в
антропологов, из теофилов — в филантропов, из кандидатов потустороннего мира — в
студентов мира здешнего, из религиозных и политических камердинеров небесной
и земной монархии и аристократии — в свободных и исполненных
самосознанием граждан земли» (Фейербах Людвиг. Лекции о сущности религии. Лекция 3.
Гейдельберг, декабрь 1848 г. / Пер. Ю. М. Антоновского // Фейербах Л.
Избранные философские произведения: В 2 т. Т. II. М., 1955. С. 157).
13 Мы придерживаемся здесь терминологии R. Spaemann'a. Ср.: Spaemann R.
Personen. Versuche über den Unterschied zwischen «etwas» und «jemand». Stuttgart,
1996.
е^407^Э
С^ Примечания ^Э
14 Николай Кузанский выразил это следующим образом: «В себе [человеческий]
интеллект созерцает это [божественное] единство не как оно есть, а как оно
понимается по-человечески, и уже через такое понимаемое в инаковости единство
он поднимается — чтобы абсолютнее войти в него как оно есть — от истинного
к истине, вечности и бесконечности. Здесь последнее совершенство интеллекта;
через нисходящую в него теофанию он постоянно восходит к более полному
уподоблению божественному и бесконечному единству, в котором бесконечная
жизнь, истина и покой ума» (Кузанский Николай. О предположениях / Пер.
B. В. Бибихина // Кузанский Николай. Соч.: В 2 т. Т. I. М., 1979. С. 271; курсив
М. Френча; вставки в квадратных скобках сделаны переводчиком на основании
сопоставления русского и немецкого переводов текста Кузанца).
15 Эта мысль у Григория Нисского облечена в следующие слова: «Ибо невозможно
тому, кто действительно восстает, когда-нибудь прекратить восставать; а кто
притекает к Богу, для того обширное пространство божественного течения
никогда не будет исчерпано» (Der versiegelte Quell. Einsiedeln, 1984. S. 59—64).
16 Некоторые отцы Церкви, равно как иудейские и арабские богословы,
противостояли этой опасности антропоморфизма с помощью постулата отрицательного
богословия: все наши понятия не достигают подлинного, собственного существа
Бога, и потому это существо достижимо скорее с помощью отрицания, а не
утверждения. При этом, по-видимому, отрицательное богословие относится к
личности Бога, положительное — к Его сущности. Бог поэтому не только постепенно
исчезает в несказанном, но и погружается в бессущностность (ничто), когда над
утверждением берет верх скепсис.
17 Ср.: Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Ч. III, гл. I.
18 См.: Фейербах Л. Сущность христианства. Гл. 24 / Фейербах Л. Указ. соч. Т. II.
C. 268.
19 Подход Фейербаха — это усеченное в определенном смысле христианское
воззрение. Согласно христианскому пониманию, если человек и может встретить
свою собственную сущность, то лишь когда он обратится к триединому Богу.
Это возможно, поскольку Бог открыл такой путь и создал благодаря Своему
вхождению в историю новую ситуацию. Человек встречает свою собственную
сущность, только если он встречает Бога; своим возрождением он обязан Богу.
Фейербах в видимости признает эту мысль, но придает ей новый разворот: хотя
человек, обращаясь к Богу, встречает свою собственную сущность, он обязан,
однако, этим экзистенциальным опытом не Богу, а разумному просвещению
относительно «истинного» характера подобного обращения. Из того понимания
христианства, согласно которому человек может найти свою истинную сущность
лишь через обращение к Богу, для просвещенного разума вытекает, что в Боге он
имеет перед собой только свою собственную сущность. Поскольку Фейербах
делает именно такой вывод относительно онтологического тождества (Бог =
истинный человек) на основании экзистенциального опыта (в Боге я встречаю свою
собственную сущность), его усеченное воззрение служит обоснованию атеизма.
20 Может вначале показаться необычным то утверждение, что пантеизм и атеизм
здесь переходят друг в друга. Но если под атеизмом понимают то, что человек
больше не имеет над собой высшего существа, тогда пантеизм в форме
предноси 408^Э
(^ Примечания ^f>
ложения, что раскрывшаяся целиком в творении Божественная субстанция свою
высшую форму обретает в человеке, в действительности является атеизмом.
21 Steiner Rudolf. Goethes naturwissenschaftliche Schriften, 150. Здесь Штейнер
интерпретирует Гёте.
22 Это понятие восходит к К. К. Ф. Краузе (1781 — 1832), который попытался с его
помощью объединить пантеизм и теизм.
23 Пример такого воззрения представляет также попытка молодого Рудольфа
Штейнера метафизически обосновать теоретико-познавательный монизм. В
своей «Философии свободы» он пишет: «Человеческий дух на самом деле никогда
не покидает той действительности, в которой мы живем, он и не имеет в этом
нужды, поскольку все, что ему необходимо для объяснения этого мира,
находится в нем, в этом мире. <...> Всякий выход из мира — одна видимость, а
вынесенные из мира принципы объясняют мир не лучше тех, которые остаются в нем.
<...> Каждый человек охватывает своим мышлением лишь часть всего мира
идей, так что индивиды различаются также в отношении фактического
содержания своего мышления. Но эти содержания находятся в некоем замкнутом в себе
целом, которое охватывает мыслительные содержания всех людей. Всеобщая
первосущность, пронизывающая всех людей, захватывает человека, таким
образом, в его мышлении. Жизнь, наполненная мыслительным содержанием, в
действительности есть одновременно жизнь в Боге. Мир есть Бог. Потусторонность
основывается на заблуждении тех, кто полагает, что посюсторонность не имеет
в себе самой почвы для своего существования» (Штейнер Рудольф. Философия
свободы, 233 ff.). Он добавляет в своей работе «Естественнонаучные труды
Гёте»: «Речь не идет о том, чтобы высшие формы бытия рассматривать как те,
которые соответствуют миру идей. <...> Реалисты не постигают того, что
объективное есть идея, идеалисты — того, что идея объективна» (Steiner Rudolf. Goethes
naturwissenschaftliche Schriften, 135, 136—137).
24 На эту связь обратил внимание Валентин Томберг (ср.: Tomberg V. Anthroposo-
phische Betrachtungen zum Alten Testament. Schönach: Achamoth Verlag, 1989.
S. 46 ff.). Валентина Томберга следует причислить к представителям русской
софиологии XX века, хотя его нельзя рассматривать исключительно в качестве
софиолога, как, скажем, Флоренского или Булгакова. Он родился в 1900 г.
в Санкт-Петербурге; в своих ранних работах (1929/1930—1942/1943) он пытался
примкнуть к антропософии Рудольфа Штейнера и ввести в нее преимущественно
представление и учение о Софии, — причем он исходил из Соловьева. Его
опыты, зафиксированные в ранних статьях (написанных по-немецки) и
обстоятельных толкованиях на Ветхий и Новый Заветы, а также на Апокалипсис,
постепенно наталкивались в антропософских кругах на непонимание и, в частности, были
отвергнуты. Во второй половине жизни Томберг, изначально протестант,
присоединился к католической Церкви (как и ранее до него Владимир Соловьев,
который, правда, сохранил свое русско-православное исповедание) и занялся,
наряду с другими вопросами, развитием философии права (см. главу VII).
25 РО, 169, 170.
26 «Теперь вы можете спросить, что такое "в себе" вещей. Может, то, что они
существуют, их бытие? Никоим образом, ибо "в себе" сущность, понятие, природа
человека, например, остается той же самой, даже если в мире не будет ни единого
(Ξ^ 409^9
(^ Примечания ^f)
человека, подобно тому, как "в себе" некоей геометрической фигуры остается
тем же, существует она или нет. — То, что вообще растение существует, не есть
случайность, если вообще нечто существует: не случайно то, что вообще
имеются растения, но ведь не существует растения вообще, существует только это
определенное растение, в данной точке пространства, в данный момент времени.
Итак, если я также признаю и, вероятно, если можно признавать a priori то, что
в ряду существующего должно присутствовать растение вообще, — с таким
признанием я все еще не выхожу за пределы понятия растения. Это растение все
еще существует — не реальное растение, но голое понятие растения. Дальнейшее
места не имеет, и я вовсе не хочу согласиться, если некто полагает, что можно
принять α ρήοή или посредством разума доказать, что это растение здесь или
теперь существует; он лишь докажет (насколько это ему удастся), что вообще
существуют растения» (РО, 59, 60; курсив М. Френча).
27 Ibid., 61.
28 Ср. сн. 27.
29 РО, 126.
30 В Paulus-Mitschrift (одна из рукописей «Философии откровения» Шеллинга. —
Прим. пер.) имеется, правда, одно место, согласно которому «мистический
эмпиризм» может рассматриваться в качестве предшественника положительной
философии: «Мистический эмпиризм, обнаруживающийся как в Средневековье,
так и после Реформации, доказывает, что философия еще не в состоянии
научным, для всех очевидным и убедительным для разума способом достичь того,
что эти учения достигли ненаучно, мифологически, неразумно. Этот эмпиризм
в наше время занимает место еще не существующей положительной
философии» (РОРМ, 146). То, о чем здесь прикровенно говорит Шеллинг, есть нечто
большее, чем подразумеваемая им положительная философия. То, что ему
требуется, есть, скорее, нечто вроде научной мистики или некоего научного
сверхчувственного эмпиризма. Рудольф Штейнер претендует своей антропософией
на заполнение именно этого пробела. Философское обсуждение антропософии
с данной точки зрения еще впереди.
31 «Положительная философия в такой же малой степени исходит из бытия,
присутствующего лишь в опыте, в какой она исходит из того, что существует только
в мышлении (ибо тогда она обратилась бы в отрицательную философию). <...>
Но это бытие вне мышления — в той же мере над всяким опытом, в какой оно
предшествует всякому мышлению. Итак, бытие, из которого исходит
положительная философия, безусловно трансцендентное, и оно также не может больше
быть лишь неким относительным prius'oM, подобным потенции, которая лежит
в основе науки разума» (РО, 127). «Итак, эмпиризм не является положительной
философией хотя бы потому, что она не исходит из опыта — в том смысле, что
она не мнит, что обладает этим своим предметом в непосредственном опыте (как
мистицизм), а также поскольку она не пытается, исходя из опытных данных,
эмпирических фактов, путем умозаключений достичь своего предмета» (Ibid.,
127).
32 «Если положительная философия не исходит из опыта, то ничто не
препятствует тому, чтобы она шла к опыту и тем бы доказывала a posteriori то, что она
должна доказать, — что ее prius есть Бог, т. е. Сверхсущий. Ибо a priori есть то, из
(с^ 410^2)
(г^ Примечания ^>
чего она исходит, — a priori — это не Бог, Бог — это только a posteriori. <...> Это
Бог. Значение этой фразы не то, что понятие того prius'a = понятию Бога; ее
значение таково: тот prius есть Бог, — не по понятию, но в действительности» (Ibid.,
128).
33 «Положительная и отрицательная философии: каждая имеет собственную
позицию по отношению к опыту, — но каждая свою. Для последней опыт, быть
может, подтверждает, но не доказывает. Рациональная философия видит свою
истину в имманентной необходимости своего развития; она [истина] не зависит от
существования настолько, что она <...> осталась бы истиной также, если бы
ничего не существовало. Если происходящее в опыте согласуется с ее конструкциями,
то это для нее нечто радостное, на что она охотно указывает, но что, собственно,
для нее ничего не доказывает. Позиция положительной философии совершенно
иная. Положительная философия сама входит в опыт и как бы срастается с ним.
Она также априорная наука, но тот prius, из которого она исходит, не просто
прежде всякого опыта, — так, чтобы ему с необходимостью затем в этот опыт
войти, — он над всяким опытом, и поэтому для него необходимости перехода в опыт
нет. От этого prius'a она производит в достоверной последовательности
свободного мышления апостериорное или происходящее в опыте, — не в качестве
возможного, как это делает отрицательная философия, а в качестве
действительного: она производит его в качестве действительного, ибо только будучи таковым,
оно обладает значением и силой доказательства... Не сам абсолютный prius
должен быть доказан (он выше любого доказательства, он — абсолютное,
определяемое через самое себя начало), — итак, не сам он должен быть доказан, а его
следствия, они должны быть доказаны фактически, и при этом доказана
божественность этого prius'a: то, что он — Бог и, следовательно, что Бог существует. <...>
Итак, этот факт показывает нам, — существование подобных следствий
показывает нам, что также и сам prius существует так, как мы его постигли» (РО, 128).
м «Итак, здесь, в положительной философии, присутствует в собственном смысле
эмпиризм — в меру того, как само происходящее в опыте делается элементом,
участником философии. Выразим это различие наиболее точно и кратко:
отрицательная философия есть априорный эмпиризм, она есть априорность
эмпирического (поскольку она прежде всякого опыта логически выводит из разума то,
что принадлежит эмпирии. — Прим. М. Френча)] напротив того, положительная
философия есть эмпирическая априорность, или же она есть эмпиризм
априорного, поскольку она доказывает per posterius, что prius есть Бог» (Ibid., 130). В
рукописи лекций Paulus-Nachschrift (1841/42) стоит следующее: «Положительная
философия, которая развивается только в свободном мышлении, для
доказательства нуждается в опыте. Хотя абсолютный prius в доказательстве не нуждается,
однако выведенные следствия по-видимому нуждаются в фактическом
удостоверении и доказательстве. Опыт становится участником. Положительная
философия есть априорный эмпиризм» (РОРМ, 147). В редакции РО утверждается,
что положительная философия есть эмпирическая априорность, в редакции
Paulus-Nachschrift — что она есть априорный эмпиризм. Но априорный эмпиризм —
это как раз название отрицательной философии, которая занимается
априорностью эмпирического. Оспоренная Шеллингом редакция Paulus-Nachschrift,
очевидно, здесь содержит ошибки.
е^ 411^5
С^ Примечания ^Э
35 «Опыт, которому соответствует положительная философия, это не просто
какой-то определенный опыт, но опыт цельный, имеющий начало и конец. То, что
принимает участие в доказательстве, — это не какая-то часть опыта, это весь опыт.
Но именно поэтому само это доказательство не есть лишь начало или часть
науки (меньше всего это некое силлогистическое доказательство, водруженное
в самый центр философии), оно — это вся наука, а именно — вся положительная
философия: последняя есть не что иное, как шествующее вперед, постоянно
растущее, с каждым шагом набирающее силу доказательство действительного бытия
Бога. А поскольку царство действительности, в котором Он движется, не
завершенное и не замкнутое (ибо если также природа на данный момент и пребывает
в окончательном покое, однако в истории она еще является движением и
непрестанным прогрессом), — поскольку царство действительности не замкнуто, но
постоянно противодействует своему завершению, то также и доказательство
никогда не заканчивается, и поэтому также эта наука есть лишь фило-софия» (РО,
130-131).
36 «Само по себе настоящее здесь не является границей, но именно тут
открывается перспектива в будущее, которое также окажется не чем иным, как
продолжающимся доказательством силы, властвующей над бытием, — доказательством
того, что не есть лишь сущее, которым занимается отрицательная философия,
но сверхсущее. Вся эта философия есть поэтому вечно развивающееся знание,
всегда лишь фило-софия, а не застывшая, неподвижная и в этом смысле
догматическая наука. Но поэтому это доказательство есть также доказательство лишь
для тех, кто идет вперед, и для желающих развивать мысль, только для умных, —
не как геометрическое доказательство, которым можно принудить также и
ограниченных, даже и глупых, тогда как я не могу никого принуждать через опыт
сделаться глупым, если он того не желает. <...> Положительная философия есть
свободная в собственном смысле философия; тот, кто ее не желает, может ею
пренебречь, я предоставляю в этом каждому свободу, я лишь говорю, что если
некто, к примеру, желает действительного хода событий, если он желает
свободного сотворения мира и т. д. — он может обладать всем этим лишь на путях
такой философии» (Ibid., 132).
37 «Одновременно здесь обнаруживается еще одно различие между отрицательной
и положительной философией. Первая — это целиком замкнутая в себе,
пришедшая к концу наука, — следовательно, в этом смысле система. Напротив,
положительная философия не может в этом смысле именоваться системой именно
потому, что она никогда не является абсолютно замкнутой» (Ibid., 133).
38 Гегель Г. В. Ф. Философия права. Предисловие. С. 56.
39 РО, 152-153.
40 «Но если для какого-то дела требуются два элемента А и В, а я обладаю лишь
одним А, то из-за того, что к А добавится В или я буду обладать не одним А, но
А + В, само А не изменится; мне лишь не надо думать, что с помощью А я смогу
достигнуть того, чем можно обладать только благодаря прибавлению В. Так
обстоит дело с отрицательной и положительной философией» (Ibid., 81).
41 Шеллинг имеет в виду это смирение человеческого разума, когда говорит
следующее: «Поскольку положительная философия намеревается познавать именно
то, что в отрицательной оставалось непознаваемым, постольку как раз
положись 412^3
е^ Примечания ^
тельная философия вновь распрямляет согбенный в отрицательной философии
разум, содействуя ему в действительном познании того, что она научилась
познавать как свое лишь пребывающее и не утрачиваемое содержание» (Ibid., 153).
42 Ibid., 155.
43 Шеллинг подробно занимается монотеизмом, разрабатывая философию
мифологии в ряде своих лекцией (ср. МТ, 354 ff.).
44 PO, 251.
45 См. эпиграф к гл. I и сн. 1.
46 РО,253. Ср.: гл. I, сн. 17.
47 МТ, 307.
48 РО, 253.
49 МТ, 307, 308.
50 МТ, 308. В связи с этим Шеллинг говорит о некоем глубоко моральном
процессе, который одновременно служит доказательством высшей истины данных
понятий и является их осмыслением (Ibid., 309). Здесь надо заметить, что при этом
Шеллинг называет элемент, который имеет значение для внесения в логику
моральности: нечто истинно постольку, поскольку оно морально и поскольку
моральность представляет силу, просвещающую сознание: в ее свете нечто может
быть признано истинным (понятным). Тогда познание истины совершается в
вертикальной последовательности и связано соответственно с тремя условиями:
1. Моральность подлежащего познанию.
2. Становящаяся благодаря этому очевидность познанного.
3. Познание истины понятия.
Это означает, что нечто является понятным или очевидным, прежде всего если
оно морально. Поэтому орган познания истины — это в первую очередь
моральное чувство, логическое мышление лишь следует за ним. Голова и сердце
действуют совместно, а результатом оказывается такое третье, в котором оба начала
присутствуют в снятом виде и впредь не могут быть разделены: это логическое
мышление, обнаруживающееся в моральном тепле.
51 Ibid., 310.
52 «Тождество следует <...> понимать в самом строгом смысле как
субстанциальное тождество. Предположение не состоит в том, чтобы как могущее быть, так
и чисто сущее считать за нечто для себя сущее, т. е. каждое из них считать за
субстанцию (ибо субстанция — это то, что существует для самой себя вне
всякого другого). Они являтся не самой субстанцией, а лишь определениями Единого
Сверхреального. Предположение, следовательно, состоит не в том, что могущее
существовать присутствует вне чисто сущего: предположение состоит в том, что
одно и то же, т. е. та же самая субстанция в ее единстве, а потому не
раздваиваясь, является могущим существовать и чистым бытием. Мы полагаем не 1 + 1:
мы всегда полагаем лишь единицу, но это такое Одно, которое не перестает быть
единицей из-за того, что оно является как могущим существовать, так и
существующим, — это Одно, именно как единство, является могущим существовать
и чисто сущим, — следовательно, в известной степени является
противоположен 413 ^Э
е^ Примечания ^э
ностью самого себя» (РО, 218). Поэтому Флоренский вновь отличает нумери-
ческое тождество от обычного понимания омоусии, согласно которому три
Божественных Лица нумерически различны, но субстанциально суть Единица.
«Одно (Das Eine) благодаря этому поставлено в центр — как свободное от
одностороннего бытия и односторонней возможности; но так как оно лишь свободно
от этих односторонностей, предполагая обе их, т. е. будучи также ими обеими
(ибо если мы их мысленно отбросим, то за этим ничего не последует, как если
бы мы вновь должны были начать с самого начала; то, что будет, для нас
поначалу оказывалось бы все вновь и вновь непосредственно могущим существовать), —
так как оно, следовательно, лишь свободно от них обеих, поскольку оно их
предполагает, т. е. само также является ими обеими, то оно свободно от них лишь как
некое Третье, и тогда отсюда следует, что, напротив, его также следует
определять в качестве лишь такого Третьего, которое свободно от односторонней
возможности и одностороннего бытия» (РО, 218).
«<...> Третье следует определять лишь как действительную свободу
существовать или не существовать, поскольку оно в деянии или в волении не прекращает
быть источником деяния, волей, а потому, чтобы быть потенцией или волей, для
него не является необходимым быть чистым без-волием» (Ibid., 234).
В лекциях о монотеизме Шеллинг так характеризует это третье начало: «Если
мы примем в качестве положительного (начала) бытие или Actus, а небытие или
голую потенцию — в качестве (начала) отрицательного, и само существующее
назовем А, то в первый момент или в первой потенции своего бытия
существующее <...> есть, следовательно, -А (этим мы выражаем как раз то, что здесь
налицо не существующее, не объект); во второй потенции своего бытия оно есть +А
(в котором нет ничего от отрицания, есть лишь чисто и бесконечно
существующее), в своей третьей потенции или третьем образе оно — могущее быть как
таковое, существующая в качестве таковой власть быть, следовательно, ±А». При
этом Шеллинг замечает: «±А здесь означает не ту отрицательную
индифферентность, которой прежде всякого определения обладает А в себе, но ту
положительную, которая больше не является ни голым -А, ни голым +А, но является,
следовательно, Третьим — положительной индифферентностью, тем положительным
безразличием, которое мы должны видеть в абсолютной свободе быть или не
быть, обнаруживаться и не обнаруживаться» (Ibid., 235).
«Третье замечание, соответствующее нашим предшествующим разъяснениям по
поводу отношения между могущим существовать и чисто сущим, таково.
Могущее существовать мы истолковали в качестве субъекта, а чисто сущее поставили
в такое отношение к нему, в котором предикат находится к субъекту. Но
субъект — это внутреннее, предикат — внешнее. Теперь, однако, подобно тому как
могущее существовать и (+) чисто сущее (минус А + плюс А) — есть субъект
самого себя как нераздельного субъект-объекта — последний, следовательно, есть
нечто вроде самого внешнего, самого открытого аспекта сущности, а голая
возможность существовать есть самое внутреннее, самое скрытое. Три этих понятия
суть лишь определения одного и того же, но именно поэтому оно, к примеру,
может быть определено как объект лишь постольку, поскольку ранее оно было
определено как субъект, а как субъект-объект — лишь поскольку уже определялось
как субъект и как объект» (МТ, 314).
е^414^Э
(^ Примечания ^Э
57 Ibid., 314-315.
58 «Первое, которое мы полагаем, уже = Одному, не = Всему, и это здесь означало
бы = 0. Subjectum ultimum всего бытия, конечно, больше чем просто Одно (unum
quid), однако не потому, что оно является в обычном смысле бесконечной или
всеобщей субстанцией, но потому, что оно есть всеединство (ибо всякое замкнутое
в себе и законченное множество = полноте = всеединству). То, что будет, субъект
всего бытия, есть с необходимостью всеединство, но не в смысле материальной
внеположности, не 1 + 1 + 1, когда эти элементы соотносятся как части
единства. Ибо часть есть всегда нечто отличное от целого, поскольку предполагается,
что целое больше, чем эта часть, что оно содержит в себе нечто большее, чем она,
а также и другие части, которые исключают ее из себя. Части существуют лишь
там, где есть взаимоисключение. Но как раз такое исключение здесь не имеет
места: каждая часть есть целое. Часть (если хотят говорить о части) здесь сама
есть целое и не меньше, чем целое, — и напротив, целое также не больше, чем
каждая часть. Но это как раз особенность завершенного духа» (РО, 237).
59 Ibid., 238.
60 «...Начало находится именно там, где конец, а конец — именно там, где
начало, — так, как Христос описывает дух, когда сравнивает его с веянием ветра:
ветер веет, где хочет (т. е. все точки для него равнозначны), и хотя слышишь его
шум, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, т. е. не можешь отделить
начало от конца; он всюду имеет начало и конец, каждая точка его пути может
рассматриваться как начало, а может — как конец. Поэтому если такое единство,
какое мы положили в "том, что будет", возможно только в духе, то мы получили
тем самым, что "то, что будет", есть дух, а именно, в качестве всеединства, — это
завершенный, замкнутый в самом себе и в этом смысле абсолютный дух» (Ibid.,
238).
61 МТ, 354 ff.
62 «Конечно, теперь мы должны сказать, что этот последний — совершенный дух.
Но это означает лишь следующее: пускай в этом последнем дух будет завершен,
(пускай это будет) только действительно совершенный дух. Ибо иначе мы не
сможем этот высший образ или дух в этом образе положить отдельно от других,
самостоятельно. Ибо: 1) дух непосредственно может быть только в себе сущим,
и лишь во втором образе — для себя сущим (ибо чем он обязан быть для себя, он
должен быть лишь в себе); и только потому, что дух уже есть в себе и для себя
сущий, он как бы обязан одновременно быть третьим образом в себе сущего и для
себя сущего, — как субъект-объект и как объект-субъект. Если бы он мог
вернуться, то вначале он был бы лишь объектом, или же, если бы перед собой он
ничего не имел — лишь субъектом; для него возможно быть в Одном субъектом
и объектом, лишь поскольку ему заказаны обе возможности — быть как чистым
субъектом, так и чистым объектом; ничего другого теперь ему не остается, как
быть обоими в Одном. 2) Если бы также существовала возможность
непосредственно полагать дух как нераздельный субъект-объект, то тогда, безусловно,
с ним ничего нельзя было бы начать делать, он должен был бы сохраняться
неизменным и потому оказался как бы бессильным, — именно потому, что субъект
и объект в нем были бы нераздельны» (РО, 255 f.).
fi3 Ibid., 255.
(Ξ^ 415^5)
С^ Примечания ^Э
«Мы также представили дух в третьем образе. Но абсолютный дух нельзя
привязать и к этому образу, поскольку это лишь один вид и способ его бытия.
Правда, мы можем говорить, что дух в третьем образе — это дух как таковой, ибо
в первом образе он был лишь в себе сущим и поэтому не мог быть просто
существующим, существующим как дух, ибо "как" обозначает "быть познанным" или
"быть познаваемым". <...> По отношению к существованию как таковому просто
в себе бытие есть как раз противоположность; это бытие отступает назад, в
абсолютную глубину. Можно сказать, что это ignorando cognoscitur; существование
же как таковое — это предметное бытие... Теперь, кроме того, дух в третьем
образе — это дух как таковой; если дух — это необходимость бытия и именно
поэтому — лишь одна форма бытия, то он привязан к форме бытия и не абсолютен.
Абсолютный дух выходит за пределы всех форм. Он — дух, свободный от своего
духа, — быть духом для него самого — лишь одна из форм бытия. Эта свобода от
себя самого дает ему вначале преизбыточную свободу, которая, так сказать,
настолько заполняет и расширяет все сосуды нашего мышления и познания, что
мы чувствуем, что находимся на самой вершине, — мы чувствуем, что достигли
точки, выше которой уже нет ничего. Свобода — это вершина нас самих и
Божества, Мы стремимся к ней как к последней причине всех вещей. Мы ведь не
стремимся к самому абсолютному духу, если мы не признаем его в качестве
абсолютно свободного духа. Итак, совершенный дух не был бы совершенным, будь он
лишь третьим образом. Абсолютный дух выше всех родов бытия, в этом — его
абсолютная трансцендентность. Вместе с тем он — в себе, для себя
существующий дух и дух как таковой» (POU, 78—79; курсив М. Френча). В РО, 256,
очевидно, присутствует опечатка. Там значится: «Свобода — это вершина нас
самих, наше божество, мы стремимся к ней как к последней причине всех вещей».
«Совершенный дух не следует мыслить так, как если бы он последовательно
составлялся из трех образов, как если бы он был вначале в себе сущим, затем для
себя и, наконец, — существующим в себе для себя. Это не имеет места, и
поскольку ни один из трех образов не существует без других, то, как по волшебству,
в один момент, мгновенно полагается целое. <...> Когда мы мыслим три образа,
представляя себе их не изолированно, но в необходимой и <...> нерасторжимой
связанности, то мы мыслим дух; и обратно, если мы мыслим совершенный дух,
то мы мыслим его в качестве трех образов» (РО, 258, 259).
«Дух в себе — это чистый центр, без внешней стороны или периферии; дух для
себя или объект — это выход из центра или периферия; в себе и для себя
существующий дух — это центр, положенный вне центра, или эксцентрическое,
периферийное, положенное как центр. Если периферия становится центром, а центр —
периферией, то это есть третье и высшее. Полагаю, что так я просто и ясно
пришел к высшей идее философии» (POU, 79). Аланус аб Инсулис (Алан
Островитянин) и Николай Кузанский сравнивали Бога с бесконечным шаром, у которого
периферия и центр совпадают или же периферия отсутствует, а центр находится
везде. Шеллинг употребляет здесь тот же самый образ, который используют
Якоб Бёме и Франц фон Баадер, чтобы представить внутритройческие процессы
и связанное с этим образование сциенции. В связи с историей этого символа см.:
Mahnke D. Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt. Stuttgart, 1966 (Reprint).
POU, 70.
e^ 416^5
С^ Примечания ^f)
68 PO, 304-305.
69 «Для себя сущий дух был как раз духом исходящим, духом, не возвращающимся
к самому себе; он был как бы лишь изживающим себя, излившимся в бытие
духом. Но он был таковым лишь потому, что в себе сущий дух был свободен от
всякого бытия и поэтому принимал его в качестве объекта. Только поскольку он
воздерживался от собственного бытия, он привлекал к себе чисто сущий дух. Но
если теперь выступил сам в себе сущий дух, то это взаимовлияние
прекращается. Ибо так как в себе сущий дух перестал быть точкой притяжения для чисто
сущего духа, для него теперь необходимо отступить в свое Я, поскольку у него
нет больше того, в отношении чего он является Я; этим обуславливается то, что
он становится самостоятельным» (POU, 84).
70 «Таким образом, вступило небытие, поскольку он (чисто сущий дух. — Прим.
М. Френча) именно от в себе сущего духа принимать больше не может. Но так
как он не отказывается, в согласии со своей природой, быть чисто сущим духом,
то он должен поэтому действовать и не может действовать иначе, как
стремиться стать чисто сущим. Но так как это невозможно, если только выступивший
в себе сущий дух вновь не возвратится в свое "в себе", то он должен действовать
против него» (POU, 85).
71 Ibid.
72 «При еще более глубоком отрицании дух возвращается в свой третий образ, ибо
при возникновении напряжения, будучи существующим как таковой духом, он
также был бы выставлен из того бытия, которым он обладал внутри единства;
едва в себе сущему духу предоставляется такая возможность, он оказывается
способным к другому бытию, т. е. он делается возможностью некоего будущего
бытия. Он выставлен из своего бытия, т. е. бытие в нем подвергнуто отрицанию,
оно положено в качестве будущего. Но он один не может вновь поднять бытие
в его прошлое состояние. Когда он, поднятый из бытия, полагается в качестве
могущего быть, он еще сильнее отдален от будущего бытия, чем чисто сущий
дух; он совсем не может непосредственно действовать, как это делает последний.
Когда выступившее из себя "в себе" вновь возвращено в себя, чисто сущий дух
становится непосредственно полагающим в себе сущий дух. Отношение
крайней удаленности от бытия выражается с помощью понятия голой
необходимости бытия» (Ibid., 85).
7 J Ibid., 86.
74 «Между тем, как то другое бытие показывается духу в качестве возможного, он
становится, в согласии со своей сущностью, как бы всеединым, и между тем, как
он видит себя в качестве всеединого духовным, следовательно, также
всеединым, не зависящим от всякого материального всеединства, он сознает себя как
бы не привязанным ни к чему, — в частности, к своему собственному бытию. Он
видит себя независимо от изначального бытия, в котором он находит себя
самого. Ибо именно это духовное, превосходящее всякое бытие, трансцендентное
всеединство дает ему свободу не быть всеединым также по бытию. Эта свобода не
быть также и всеединым дается ему благодаря тому, что он сознает свое
нематериальное единство. Это нематериальное единство с тем же успехом было бы
неединством, что и единством, и поэтому ему, в согласии с его сущностью, все рав-
е^417^Э
е^ Примечания ^э
но, выступит ли он или нет в показанное ему бытие; ему ничто не препятствует,
в согласии с бытием, быть единством или напряжением, поскольку он по своей
сущности всегда является единством» (POU, 87—88).
75 МТ, 354 ff.
76 «Бог, который свободен в том, чтобы положить в Себе бытие Своей сущности
как противоположность в себе сущего, как из себя существующее (das von sich
Seiende) или вне себя существующее и дать тем самым начало некоему
процессу, — этот Бог — непременно весь Бог, Бог в полном всеединстве, а не просто
в себе сущий: сам по себе этот последний не был бы свободным Богом» (POU,
158).
77 Ibid., 86.
78 «Эту абсолютную личность мы можем назвать Отцом также и в философском
смысле именно потому, что она — основоположник, инициатор всего. Этот
Отец — уже весь Бог. Под "Отцом" всегда надо понимать все Божество, а не одну
конкретную форму» (Ibid., 87—88).
79 Ibid., 130. Шеллинг указывает на то, что Бог всегда достигает Своих целей,
казалось бы, через противоположное тому, что Он, собственно, намеревается
создать.
80 «Если эта потенция, выведенная из своего Божества, преодолела напряжение
и это contrarium (противоположное) внесла в свое в себе, где оно вновь
сделалось полагающим то, что, собственно, обязано быть, — коротко говоря, если все
сопротивление преодолено, то восстанавливается чистый поток Божественной
жизни, а потенция, которая совершает это, вновь возвращается в свое Божество.
Но поскольку она была самостоятельной, она возвращается в Божество как
самостоятельная, особенная личность, — не так, как прежний голый образ
Божества, но как вторая Божественная личность и все же лишь тот самый Бог,
который есть Отец» (МТ, 354 ff.).
81 «А именно, здесь следует распознавать двоякую волю: thelema — это просто
воля Отца, которой Он производит напряжение, a boule — это настоящая,
финальная воля Отца, которой Он волит единство. Настоящее Его желание — не
напряжение, а рождение Сына, — переведение в потенцию чистого существования
Своей сущности и через это его собственное самоосуществление» (POU, 155,
158).
82 «Вначале Бог положен только как абсолютно завершенный дух, который
обладает высшей свободой перейти в бытие или не переходить, который имеет себя
самого, обладает самим собой и поэтому существует. <...> К этому моменту
присоединяется от вечности второй момент, когда Ему предоставляется возможность
бытия вне себя, которое, однако, возможно лишь через Его воление, — бытие,
которым Он также будет впоследствии владеть и управлять... Здесь понятие
Бога сразу переходит в понятие Отца, у которого сосредоточена вся власть, —
в понятие зачинателя, в котором как раз сосредоточена вся изначальная власть.
В тот момент, когда Бог определен уже как Отец, то, что станет Сыном, еще
скрыто в Отце. Но это не мешает тому, что этот образ Его бытия признан в качестве
будущего Сына и как таковой возлюблен. <...> В этом смысле Сын — это Сын
для Отца <...>, и, следовательно, еще не самостоятельная личность вне Отца.
(г^ 418^5)
С^ Примечания ^Э
<...> Но мы еще не постигли того, как Он и вне Божества должен пониматься
также в качестве Сына. Итак, мы теперь приходим к напряжению; теперь надо
объяснить, как Сына надлежит мыслить вне Отца; это определение Сына или
порождения можно мыслить только в начале творения. <...> Если порождение в
собственном значении, когда мыслимо действительное выставление бытия,
может мыслиться только одновременно с творением, то начало творения — это
также начало творения Сына» (Ibid., 156).
83 «<...> Три Лица — и, однако, лишь один Бог: иначе говоря, мы пришли к той
точке, где все в Божестве осуществлено, — весь Бог в трех различных Лицах, —
<...> где каждое (Лицо) в отдельности есть весь Бог. Отец в осуществленном
бытии — уже больше не голая потенция, но действительно Он сам. <...> Мы уже
говорили: потенциальность — это противоположность пребывания. Это
пребывание говорит, что Отец существует больше не как голая потенция, но Отец как
таковой, Отец существует во всей Его самостоятельности. Но только потенция,
а не сам Отец, исключает Сына и Духа. Подобно тому как Отец прежде, вне
процесса, был всем Божеством, будучи внемировой причиной, также и теперь в
возникшем Я сам Он есть весь Бог; вернувшись в Свое "в себе", здесь Он обладает
Сыном и Духом. Сын — больше не потенция Сына, но Он — это Он сам; но Он
существует не без Отца и Духа, Он — это весь Бог. То же самое должно иметь
место и в случае Духа. Итак, после снятия сопротивления вновь восстановлено
действительное Я, actus purissimus, — лишь с тем отличием, что теперь имеются
три разных имени, что три образа теперь суть три личности. Но они суть лишь
разные имена одной и той же абсолютной личности» (POU, 156 ff.).
84 Ibid., 201.
85 Шеллинг говорит об абсолютном духе на самом деле как о некоем
вращающемся в себе самом, не обладающем блаженством существе, которое
высвобождается из этого состояния только благодаря посредничеству Софии как лица
будущего совершенного творения: «В этом чистом потоке Божественного бытия есть
начало, середина и конец; но начало, середина и конец существуют не порознь.
Как чистая бесконечность Бог был бы непостижим; Он не мог бы постичь
самого себя. Стремление удержать себя оказалось бы чем-то вроде вращения, ибо то,
что не может отделить начало от конца, вращается. Так как всякое вращательное
движение, т. е. невозможность найти начало и конец, само по себе есть
отсутствие блаженства, то для Бога весьма желательно появление первой
возможности этого. Не имеет блаженства тот, кто не может ни жить, ни умереть, как те
осужденные, которые не находят конца. Именно эта возможность избавляет его
от того вращательного движения, которое должно быть при нем без такой
возможности» (POU, 92). Понятие непостижимого Бога, который постигает сам
себя, Шеллинг без ссылки на источник заимствует у Якоба Бёме (ср.
предшествующую главу).
86 «Хотя в эссенции Божественного существа до цимцума (так мы читаем у самого
Лурия * присутствовали такие качества, как любовь и милость, там присутство-
* Ср. с текстом, опубликованным Г. Шолемом, в изд.: Kiijath Sefer, vol. XIX, 197—
199. Несомненно, его происхождение восходит к Лурия.
е^ 419^5
е^ Примечания -^Э
вали также качества Божественного суда и суровости, — то, что каббалисты
называют "дин". Силы этого "дина" сами по себе в Боге, однако, распознать было
невозможно: они были полностью как бы растворены в любви и милости, подобно
крупице соли в океане, если процитировать Иосифа ибн Табула. В акте цимцума
разрозненные элементы правящей в основании Божественного существа силы
стягиваются и становятся распознаваемыми. Ибо сам цимцум как таковой — это
акт правящей в Боге силы, поскольку он обусловливает самоограничение и
самоотрицание Бога *. Ведь сущность правления для каббалистов состоит в том,
что устанавливаются границы и все верным образом определяется, — или же,
как это сформулировал Кордоверо: у каждой вещи есть качество ограничения,
поскольку она хочет оставаться тем, что она есть, и ей хотелось бы застыть в своих
границах**. Итак, в понимании каббалистов, уже в бытии индивидуальных
вещей играет важную роль мистическая категория ограничения. Если, таким
образом, Мидраш говорит, что Бог сотворил мир с помощью такого свойства, как
точное право, "дин", но затем увидел, что при этом мир не может существовать,
и добавил сюда свойство милости, то это означает, в смысле Лурия, в точности
следующее: первый акт, акт цимцума, которым Бог самого себя определяет и
ограничивает, есть акт "дина"; акт цимцума поэтому раскрывает в мировом процессе
корень дина. Но эти "корни Божественной суровости" остаются хаотически
смешанными с отблеском или остатком Божественного света, который также и после
отступления Божественной сущности сохранился в прапространстве, созданном
при цимцуме. Только второй луч из эссенции Эн-Софа порождает в этом
неупорядоченном бытии мировой процесс, — тем, что он разделяет скрытые элементы
и по мере возрастания порядка пронизывает их и придает им форму***. При
этом, как уже сказано, происходит постоянное взаимодействие между приливом
и отливом, между принципами расширения и сжатия; каббалисты называют их
Hithpaschtuth, центробежное выступание, и Histalkuth, центробежный акт
отступления, регрессии ****; они постоянно реагируют друг на друга. Подобно тому
* Шолем замечает: «Этот момент во всех ранних документах, связанных с учением
о цимцуме, играет особо важную роль».
** Шолем замечает: «Это точка зрения, принятая Кордоверо в "Pardes rimmonim".
Глава 8 этого труда посвящена глубокомысленной дискуссии вокруг значения
атрибута суровости или суда в Боге. См. там также главы 5 и 4, где Кордоверо
излагает учение о том, что прамиры были разрушены не вследствие "избытка"
суровости, но вследствие "недостатка". Этот новый вариант учения открывает
совершенно новые перспективы».
*** Шолем замечает: «В то время как это представление отчетливо выступает в лури-
анском фрагменте, процитированном в примечании 3, а также у ибн Табула, у
Витала оно присутствует прикровенно».
**** Шолем замечает: «"Ez Chaim", 57 и особенно 59. Подробнейшее обсуждение этой
диалектики исхода и возвращения, центробежной и центростремительной
тенденций в Божественной эманации находится в томе 3 большого каббалистического
труда "Leschem schebo we-achlama", принадлежащего Соломону Элиасофу
(Иерусалим, 1924). Его автор был одним из самых значительных иудейских мистиков
начала этого столетия».
С^420^Э
е^ Примечания *Э
как человеческий организм существует благодаря двойному процессу вдыхания
и выдыхания, причем каждое из них немыслимо без другого, целокупное
творение конституируется в таком же вдыхании и выдыхании Божественной жизни.
Таким образом, корень всякого зла в некоем глубоком смысле лежит в мире, что
обосновано категорией правящей силы (дин) и скрыто уже в акте цимцума»
(Scholem G. Die jüdische Mystik... S. 288-289).
87 Шеллинг подчеркивал, что Евангелия целиком и полностью созвучны
положительной философии, которая впервые делает понятными некоторые места,
доселе остававшиеся темными.
88 В каббалистической системе сефирот поэтому делается различие между «левой
колонной» суровости (или Божественной справедливости) и «правой
колонной» милости (или Божественной любви).
89 О влиянии Каббалы на Шеллинга см.: Horst Folkers. Das immanente Ensoph. Der
kabbalistische Kern des Spinozismus bei Jacobi, Herder und Schelling // Evelyne
Goodman-Thau, Gert Mattenklott und Christoph Schulte (Hrsg.). «Kabbala und
Romantik», Conditio Judaica 7, 71 ff.
90 PO, 253.
91 Bulgakow. Op. cit., 63-64.
92 Ibid., 65. Понятие «природа в Боге», конститутивное для философии Шеллинга
(а раньше уже для философии Бёме и Баадера), у Булгакова подразумевается
в связи с понятием Софии. Ср. гл. IV.
93 Ibid.
94 PO, 253.
95 МТ, 307.
96 Ibid.
97 PO, 307, 308.
98 Ibid., 309.
99 Bulgakow. Op. cit., 71.
100 Ср. гл. IV, где софиология Булгакова представлена детально.
101 Bulgakow. Op. cit., 74.
102 Цит. по: Silberer M. Die Trinitätslehre im Werk von Pavel A. Florenski. S. 183.
103 Томас Буххейм (Eins von Allem. Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schel-
ling's Spätphilosophie//Paradeigmata 12. Hamburg, 1992) различает, в
соответствии с тремя Шеллинговыми потенциями, выступающими как causae formalis,
materialis и finalis, три формы возможности — логическую, материальную и
реальную. Потенции, истолкованные лишь в качестве возможностей, однако, не
могут привести ни к чему действительному, как отмечает сам Шеллинг: «Голые
возможности творить не будут, будет творить только действительное, т. е.
конкретное. — Но, конечно, вместе с каждым действительным также были
допущены возможности (я говорю "допущены", следовательно, они не суть предмет
творения), — они, однако, были допущены как такие возможности, которые
могут выступить после действия, post actum, следовательно, после окончания
творения» (РО, 281). Но если потенции как таковые открываются только после
е^421^>
е^ Примечания ^Э
окончания творения, то остается открытым вопрос, как же творится
действительное, превосходящее потенцию, на которое, тем не менее, потенция может
указывать.
104 Шеллинг называет это «возвышением» непостижимого бытия, становящегося
«потенцией»: «Откуда это бытие, над которым Бог является Господином, как не
от Его собственного непостижимого существования? Непостижимое бытие
возвышается благодаря тому, что оно становится потенцией, чтобы быть не
только асЫу но и божественно необходимым* (РОРМ, 172—173).
105 Ср. ниже гл. IV.
106 РОРМ, 189.
107 РО, 60.
108 Используя понятие «Божественной иронии», Шеллинг, однако, приписывает
это «притворство» как раз Богу. Кажется, слабость пути Шеллинга в области им
открытой и обоснованной положительной философии на самом деле
заключается в отсутствии философской полемики с Люцифером, — собственно говоря,
с личным принципом зла: отразить этот принцип в своих рассуждениях Шеллинг
не только не считает нужным, но даже отказывается от этого, поскольку
соотносит зло с прачеловеком. Так, он следующим образом отвечает на
соответствующее возражение некоего слушателя его лекции о «Философии мифологии»:
«Дальнейшее соображение, выдвинутое против меня господином автором,
таково: когда он соглашается также с тем, что этот мир — расколовшееся единство,
то он по меньшей мере не понимает, как можно узнать a priori или a posteriori,
что это единство было расколото человеком. <...> Следовательно, когда
господин слушатель уверяет, что именно это можно знать a priori или a posteriori, то
он должен знать некую третью причину помимо Бога и помимо человека, по
которой единство было расколото. На его взгляд, этой причиной мог быть
Люцифер — глава падших духов. Конечно, это некое мнение, которое я пока должен
допустить. До настоящего момента (т. е. после философского осмысления
первородного греха. — Μ. Ф.) нет оснований для того, чтобы еще думать о подобном
мнении» (РО, 359—360). Понятие философии характеризуется теперь
Шеллингом так: «В каждом предмете, с которым связывают <...> понятие философии,
мы должны предположить некую истину; он не может быть ничем просто
сделанным, субъективным, он должен быть чем-то воистину объективным, как,
например, природа есть объективное» (МТ, 259). Итак, в положительной
философии следовало бы сперва показать, можно ли априорное допущение третьего
объективного начала, ответственного за космическое падение, т. е. Люцифера,
принять a posteriori ради более правильного понимания действительной
ситуации с миром и человеком. До сих пор философы избегали этой задачи, охотно
передавая ее богословам; она, вероятно, позволяла удерживать в игре тесно
связанную с философией опасность того инспирированного платоновской притчей
о пещере высокомерия, которое кое-где присутствует у Шеллинга и
выражается, например, так: «Как у Плутарха посвященный и очистившийся наблюдает
сверху вниз толпу профанов (ungereinigte Menge), как они втаптывают друг
друга в грязь и гоняются друг за другом, так можно, пожалуй, сказать, что
посвященный в истинную философию наблюдает сверху вниз толпу, которая
погружена в мертвую материальность, не достигая ни в одном предмете чистых
е^ 422^3
С^ Примечания ^)
или самосознающих причин, которая барахтается в луже голых мнений, — в них
всегда есть лишь большая или меньшая толика истины, но ни одно из них не
обладает истиной во всей ее полноте» (РО, 459).
109 То, что Божественная сущность — это любовь, а потому она отреклась от себя,
т. е. принесла себя в жертву, — это видит также Л. Фейербах. Конечно, отсюда
он делает несогласованные (ибо несимметричные) выводы: «Кто же наш
спаситель и примиритель? Бог или любовь? Любовь, потому что мы спасены не богом
как таковым, а любовью, которая выше различия между божественной и
человеческой личностью. Бог отрекся от себя ради любви, так же мы из любви должны
отречься от него, и если мы не принесем бога в жертву любви, то принесем
любовь в жертву богу и найдем в нем, несмотря на предикат любви, злого идола
религиозного фанатизма» (Фейербах Л. Сущность христианства. С. 85; курсив
М. Френча).
110 Это настоящее преодоление деизма. Бог не трансцендентен, поскольку таким
Его сделал человек, а также поскольку Он сам хочет быть неограниченным. Он
трансцендентен только в одной Ипостаси, — с тем, чтобы иметь возможность
открыться в независимом от Него творении.
111 Выражение, принадлежащее Гершому Шолему. Ср.: Scholem G. Von der
mystischen Gestalt der Gottheit. Zürich, 1962 (F. a. M, 1977).
III. Присутствие отсутствующего
1 Соловьев В. Теоретическая философия // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. I. М.,
1990. С. 829.
2 РОРМ, 129.
3 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. I. С. ИЗ.
4 Там же. С. 103.
5 Там же. С. 136.
6 Флюгге разработал эту точку зрения следующим образом (см.: Flügge J. Die
sittlichen grundlagen des Denkens bei Hegel. Hamburg, 1953). По его мнению,
мышление Гегеля определяется стремлением преодолеть тяготеющую к апориям
структуру рассудка в примиряющей диалектической природе разума. Рассудок — это
состояние отчуждения разума, и это отчуждение надлежит «снять», дабы разум
смог вернуться в царство духа и соединиться с ним. Но для этого мышление
должно выйти из царства рассудка и сделаться «пустым». При этом диалектика
выполняет двойную службу: «Живой дух, который неподвижно застыл в
абстрактных мыслительных определениях, через диалектику освобождается.
Диалектика, как мышление мышления, обладает всеобъемлющим смыслом. Но ее
можно понимать и в более узком смысле; тогда она есть снятие противоречия
в конкретном мыслительном определении, представляющемся
непротиворечивым. Бесчисленные упражнения по обнаружению подобных противоречий
имеют, в первую очередь, тот смысл, что становится явной та сила, которая пытается
устранить из понятийных определений имеющееся там в наличии противоречие.
Эта сила рассудка двойственна: она — необходимый момент в развитии духа, но
е^423^)
С^ Примечания ^Ξ)
также, будучи наделенной свободой, она сопротивляется внутреннему развитию
духа. Во-вторых, упражнение в диалектике дает возможность свободно
обнаружиться самовластно действующей в мышлении и во всяком мыслительном
определении силе связи, примирения, объединения, проявления и осуществления
абсолюта — абсолютной жизни и абсолютного духа» (Ibid. S. 145).
7 Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. I. С. 127-128.
8 Там же. С. 128.
9 Там же.
10 Там же.
11 Очевидно, что у Гегеля первый образ Божества отказывается от своего
собственного бытия, благодаря чему он «отпускает» себя в образ чистого бытия. Отсюда
следует, что чистое бытие — это как бы «гроб сознания» абсолютного духа или
Божества, тогда как эволюционное развитие логики соответствует структуре
«воскресения» Божественного духа.
12 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. I. С. 139—140. Ср. критическое обсуждение этих
вопросов в исследовании Д. Хенриха «Начало и метод логики Гегеля» (Hegel im
Kontext. F. a. M., 1971).
13 «Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина — это
не бытие и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в
ничто, и ничто не переходит, а перешло в бытие. Но точно так же истина не есть их
неразличенность, она состоит в том, что они не одно и то же, что они абсолютно
различны, но также нераздельны и неразделимы, и что каждое из них
непосредственно исчезает в своей противоположности. Их истина есть, следовательно,
это движение непосредственного исчезновения одного в другом: становление;
такое движение, в котором они оба различны, но благодаря такому различию,
которое столь же непосредственно растворилось» {Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. 1.
С. 140-141).
14 Там же. С. 166 (выделено мной. — Μ. Ф.).
15 Там же. С. 140. Следует обратить внимание на форму перфекта!
16 РОРМ, 154.
17 РО, 171. Поэтому Шеллинг указывает познанию на другую способность —
эмпирию внешних чувств: «Если разум ищет действительного бытия, если он
хочет считать действительным какой-нибудь объект, найденный его собственными
средствами — с помощью понятия, следовательно, в качестве голой
возможности, — то он должен подчиниться авторитету внешних чувств. Ибо свидетельство
внешних чувств есть не что иное, как авторитет, поскольку через него мы
познаем то, что невозможно постичь из одной лишь природы вещей, значит, из
разума, — например, наличного существования данного растения. Если теперь кто-то
назовет верой всякое подчинение некоему авторитету, то он выберет правильное
слово: именно с помощью веры (то есть через авторитет наших внешних чувств,
а не через разум) мы знаем то, что вещи вне нас существуют <...>. Все, что имеет
отношение к существованию, превосходит то, что можно постичь на основании
одной природы, а также средствами чистого разума» (РО, 172).
18 Там же, 162.
(^ 424^5
е^ Примечания ^Э
19 Там же.
20 «Кант называет безусловную, предшествующую всякому мышлению
необходимость бытия настоящей бездной для человеческого разума. "Даже вечность, в
какой бы устрашающей возвышенной форме ни описывал ее Галлер, вовсе не
производит столь потрясающего впечатления на ум, так как она только измеряет
продолжительность вещей, но не служит их носителем. Нельзя отделаться от
мысли, хотя нельзя также и примириться с ней, что сущность, которую мы
представляем себе как высшую из всех возможных сущностей, как бы говорит сама
себе: я существую из вечности в вечность, вне меня существует лишь то, что
возникает только по моей воле; но откуда же я сама? Здесь все ускользает из-под
наших ног, и величайшее, так же как и наименьшее совершенство лишь витает
без всякой опоры перед спекулятивным разумом, которому ничего не стоит
беспрепятственно устранить как то, так и другое". Я привожу эти слова, потому что
они выражают то, как глубоко Кант чувствовал всю возвышенность этого
бытия, предшествующего всякому мышлению; вместо этого в наше время, хотя
бытие тоже считалось началом философии, но лишь в качестве момента
мышления, тогда как эта неизбежная, порожденная глубинами человеческой природы
мысль направлена на то бытие, которое существует до всякого мышления»
(Шеллинг цитирует пятый раздел («О невозможности космологического
доказательства бытия Бога») третьей главы («Идеал чистого разума») книги второй второго
отдела («Трансцендентальная диалектика») «Критики чистого разума» Канта.
См.: Кант И. Критика чистого разума. С. 462).
21 РО, 163.
22 РОРМ, 157.
23 «В том способе, каким старая метафизика обращалась с понятием, всегда
содержится обман в силу того, что чистому понятию необходимо существующего, в
котором еще нельзя усматривать никакой сущности, уже приписывают некую
сущность (а именно, Божество), не дав понятию полностью пасть (как мы показали
раньше), чтобы прийти в точности к голому существованию. Критикуя
космологический аргумент, Кант утверждает, что вся задача (трансцендентального
идеала) — обратиться или к абсолютной необходимости некоего понятия, или к
понятию какой-либо вещи, чтобы обнаружить ее абсолютную необходимость. "Если
можно достигнуть первого, — продолжает он, — то и второе должно быть
достижимым; в самом деле, разум познает как абсолютно необходимое лишь то, что
обладает необходимостью согласно своему понятию". — Но что касается
последнего утверждения, то я отрицаю, что какая-либо сущность постигается из своего
понятия в качестве необходимой; ибо будь этой сущностью Бог, то из Его
понятия можно постичь не то, что Он с необходимостью существует, но то, что Он
может быть только необходимо существующим, следовательно, что Он с
необходимостью есть необходимо существующий, а именно — если Он существует; но
что Он существует, (из Его понятия) не следует» (РО, 157).
24 В истории метафизики онтологическое доказательство бытия Божия получало
многочисленные формулировки: «Старейший (Ансельмов) вариант
онтологического доказательства таков: наивысшее, над которым нет ничего, quo majus non
datur, есть Бог, но наивысшее не было бы наивысшим, если бы оно не
существовало, ибо мы могли бы затем представить некую сущность, бытие которой
предел 425 ^Э
(^ Примечания ^
шествует ей самой, и тогда она уже не была бы наивысшим. Но что это означает,
как не то, что в наивысшей сущности мы уже помыслили существование? Итак,
конечно, наивысшая сущность существует, — лучше сказать так: если
наивысшая сущность наличествует в том смысле, что она включает в себя
существование, то тогда фраза "она существует", разумеется, лишь еще одна тавтология»
(РО, 157). Клаус Ризенхубер (см.: Die Selbsttranszendenz des Denkens zum Sein.
Intentionalitätsanalyse als Gottesbeweis in «Proslogion» Kap. 2 // Beckmann J. P.,
Honnefelder L., Schrimpf G., Wieland G. (Hrsg). Philosophie im Mittelalter.
Entwicklungslinien und Paradigmen. Hamburg, 1987) указал на то, что Ансельм
исходил из в некотором роде «непостижимого бытия»: «Окончательное утверждение,
согласно которому то, что получило определение, существует "как в интеллекте,
так и в действительности" (Proslogion, гл. 2, 102, 2—3), проистекает не из
интеллекта: мышление — это не "только мышление", поскольку мышление берется из
бытия, первичного по отношению к нему» (Riesenhuber, 58).
25 Против Декартовой формулировки онтологического доказательства Шеллинг
выдвигает следующий аргумент: «В случае картезианского варианта
паралогизм, допущенный в онтологическом аргументе (ибо речь идет только об изъяне
формы), еще формальнее можно продемонстрировать так: против
Божественной сущности возражает чисто случайное существование, — это предпосылка;
следовательно, речь при этом идет только о необходимом существовании, т. е. об
одном способе существования; потому в последней фразе речь может идти не
о существовании вообще, но тоже лишь о необходимом существовании, лишь об
одном способе существовать... Последняя фраза может выглядеть лишь так: итак,
Бог существует необходимым образом, то есть если Он существует, — и
следовательно, все еще не решено, существует ли Он или нет» (РО, 157—158).
26 Формулировку Лейбница Шеллинг опровергает так: «Предпринимались
попытки дать ряд вариантов онтологического аргумента — именно потому, что его
рассматривали преимущественно как метафизический и как бы агх (вершину)
так называемой рациональной теологии. Также и Лейбниц стремился свести его
к неопровержимому, по его мнению, силлогизму. Но и в этом силлогизме вся
сила была сосредоточена на определении Бога: Deus est Ens, ex cuius essential se-
quitur existentia (Бог есть такое существо, из сущности которого следует его
существование). Однако из сущности, из природы, из понятия Бога (все это
только разные обозначения одного и того же) в вечности следует лишь следующее:
если Бог существует, то Он должен быть a priori существующим; но отсюда не
следует того, что Он существует» (РО, 156). Альберт Циммерман позаимствовал
для себя Лейбницев спор с онтологическим аргументом Ансельма (см. его
работу «Wie beurteilt Leibniz den ontologischen Gottesbeweis? // Beckmann J. P. u. a.
S. 425—438). Также Дитер Хенрих (Der ontologische gottesbeweis. Sein Problem
und seine Geschichte in der Neuzeit. Tübingen, 1976) и Герхард Шмидт (Das
ontologische Argument bei Descartes und Leibniz // Analecta Anselmiana. Bd. IV, в
особенности S. 228—230) подробно разобрали Лейбницев подход к этой проблеме.
Для нас речь идет не о том, насколько точно Шеллинг передает аргументацию
Ансельма (а также имплицитно и Дунса Скота), равно как Декарта и Лейбница,
но о том, какими были при этом его цели.
27 «Но если речь идет просто о необходимо существующем, то опять нельзя
говорить, что существование вытекает из его понятия, ибо его понятие как раз
должен 426^)
(^ Примечания ^Э
но быть голым существующим; существование здесь — не следствие понятия
или сущности: существование здесь — это само понятие и сама сущность. Но что
касается другого члена кантовского "или-или" (первый член заключался в том,
что ищется необходимое существование для понятия какой-либо сущности, — это
происходило и в случае онтологического аргумента; второй, наоборот — в том,
что ищется понятие для абсолютной необходимости), — итак, что касается этого
второго члена, то он есть собственный предмет положительной философии,
которая как раз старается достигнуть понятия, сущности (Бога) в качестве posterius'a,
исходя из необходимо существующего (как prius'a, еще не имеющего понятия).
Как видно, это путь, в точности обратный по отношению к онтологическому
аргументу; но чтобы проложить этот путь, нужно вначале решиться принять
понятие голого, простого существования; также вначале должна быть полностью снята
ложная зависимость, при которой это понятие в предшествующей метафизике
удерживалось идеей Бога. Ибо необходимо существующее не есть необходимо
существующее, поскольку речь идет о Боге; ибо тогда это было бы как раз не
необходимо, безосновно существующее, поскольку в понятии Бога
присутствовала бы некая основа необходимого существования...» (РО, 167—168).
28 РОРМ, 155.
29 РО, 164.
30 РОРМ, 167-168.
31 РО, 169.
12 «Все трансцендентное есть, собственно, нечто относительное, оно существует
только по отношению к чему-то такому, что станет трансцендентным. Если я на
основании идеи наивысшей сущности заключаю о ее существовании, то это есть
некое трансцендирование: вначале я положил идею и хочу теперь от нее перейти
в существование; следовательно, здесь налицо некая трансценденция. Но если
я исхожу из того, что предшествует всякому понятию, то при этом я ни через
что не переступил, — и более того, если это бытие называют трансцендентным
и в нем я продвигаюсь по направлению к понятию, то я переступил, превысил
трансцендентное и, таким образом, вновь сделался имманентным.
Трансцендентность старой метафизики была лишь относительной, т. е. робкой,
половинчатой, так что в ней старались остаться одной ногой на понятии.
Трансцендентность положительной философии есть абсолютная трансцендентность, и именно
поэтому она не есть трансцендентность в том смысле, в котором ее запрещал
Кант. Только если я стал имманентным, т. е. замкнулся в чистом мышлении,
делается возможной некая трансцендентность; но если я начинаю с
трансцендентного (как это делает положительная философия), то тогда ведь нет ничего, что
бы я переступил. Кант запрещает метафизике трансценденцию, но он запрещает
ее только догматическому разуму, т. е. такому разуму, который хочет достичь
существования с помощью умозаключений, отправляясь от самого себя. Но он не
запрещает достигать понятия наивысшей сущности в качестве posterius'a, а
исходя, напротив, из голого, следовательно, бесконечного существования (ибо об
этом он не думал, такой возможности ему вовсе не представлялось)» (РО, 170).
33 Там же.
34 РО, 170.
е^427^)
е^ Примечания ^z)
35 РОРМ, 157.
36 PO, 164.
37 РОРМ, 170.
38 Ibid., 173.
39 Ibid., 172.
40 «О представлении в первую очередь говорится только по отношению к
предметам чувственного восприятия. Вследствие полученного впечатления мы
представляем себе в пространстве некий предмет; дальнейшим содержанием этого
представления является лишь существование чего-то вообще; что это такое —
то, что мы представляем (das quid), это лишь второе; итак, das quod, в
соответствии с которым представление, возможно, даже получит имя, присутствует
в этом представлении прежде, чем quid. Следовательно, представление и
мышление соотносятся как существование и сущность, но при этом сразу же выясняется,
что оба они не могут существовать в этой абстракции и взаимоисключенности,
так что одно стремится к другому. Бытие, предшествующее всякому мышлению,
есть в этом отношении именно абсолютно представленное. Но теперь против
этого, против чистого "как", немедленно восстает мышление, вопрошающее о "что"
или о понятии» (РО, 173).
41 Целостное знание было бы, следовательно, объединением обоих типов
философии.
42 «Ибо по крайней мере мне неизвестно, что кто-то оспаривал право Спинозы
начинать именно с бесконечно существующего, так как то существующее, чье
бытие не ограничено никакой предшествующей потенцией, мы можем назвать также
и бесконечно существующим. Голое существование, только-существующее — это
именно то, посредством чего подавляется все, имеющее свой источник в
мышлении, это то, перед чем мышление умолкает, перед чем склоняется разум; ибо
мышление как раз имеет дело лишь с возможностью, с потенцией;
следовательно, где эта возможность, потенция исключена, мышление властью не обладает»
(РО, 161).
43 Ibid., 157.
44 Ibid.
45 В своем «Изложении чисто рациональной философии» Шеллинг указывает на
то, что «потребность для "я" иметь Бога <...> за пределами разума возникает
целиком из практики» (XI, 596). Эта позиция полярно противоположна «Этике»
Спинозы. Томас Буххейм {Buchheim Т. Eins von Allem. Die Selbstbe-scheidung des
Idealismus in Schellings Spätphilosophie. Hamburg, 1992) указывает на то, что
это воззрение Шеллинга «неоднократно обсуждалось в литературе и
подвергалось плодотворной интерпретации. См. в особенности:^ Habermas (1954), 114
и (1988), 182 (более ранняя публикация — 1963), а также: W. Kasper (1965), 122,
W. Schmied-Kowarzik (1969), 217, К. Hemmerle (1969), 108 ff., D.Jähnig (1975),
62, M. Frank (1973), 167 f.». Метафизическую основу для плодотворности этой
мысли составляет, однако, не то, что она предоставила бы разуму возможность
устранить Бога из мышления, но скорее то, что прежде всего Бог устранился из
всякого бытия. Только при обращении к идее цимцума вышеприведенная цитата
из Шеллинга утрачивает привкус эмансипации и произвола.
(Ξ^428^Ξ>
(^ Примечания ^f)
46 РОРМ, 177. Термин «Бог уходит в Себя» в точности тот самый, который Шолем
использует для описания цимцума.
47 Имеющая здесь свой исток практическая философия есть философия свободы
по той причине, что из своего высшего принципа она не выводит никаких
необходимых следствий, так что то первоначало Спинозы, в котором свобода и
необходимость совпадают, остается в качестве единственного фактора свободы. В
отличие от этики Спинозы, эта этика проистекает как из теории (чистый разум),
так и из практики (разум, склоняющийся перед тайной цимцума — истинного
образа последней ступени восхождения, недоступной для человеческого
разума). Данная мысль присутствует у Буххейма : «Однако все же речь здесь никоим
образом не идет о практической философии как дисциплине, ибо эта последняя
характеризуется задачей или теоретически исследовать практику человека,
предложив для нее нормативные правила, — или обосновать эту практику с
точки зрения морали. В положительной философии осмыслению подлежит скорее
то, с чем действительно имеют дело, т. е. она требует от всякого мыслящего
человека учета притязаний самого мышления (ср. Шеллингово положение о том,
что мышление должно стать поступком; см.: "Изложение чисто рациональной
философии", XI, 560). Хотя можно иметь различные мнения об этом, однако все
эти позиции обладают общим источником: это теоретическое уразумение и
этическое увещание». Буххейм замечает в одной сноске: «Роберт Шпеман заново
потребовал такого учета претензий мышления (последнее он называет
"бодрствующим" или "внимательным" мышлением); он продемонстрировал его и развил
его этические следствия: "интуиция бытия «я»", в которой действительность во
мне, равно как и в другом, замечается и принимается "uno actu", по его мнению,
обладает указанной двойной валентностью теоретического и этического <...>;
как и у Шеллинга, пробуждение этой интуиции вносит новый оттенок в мироот-
ношение человека <...>». Положительная философия сходным образом требует
совершенно другого modus'a progrediendi, который есть не что иное, как искомая
нами моральная логика. По-видимому, Буххейм, продолжая свои рассуждения,
имеет в виду этот другой модус: «Только та философия, которая не
препятствует этому учету претензий мышления, может быть положительной философией
и при этом, как мы уже часто подчеркивали, действительным мышлением. И
подобное мышление, ориентированное уже не на одно только содержание, став
практическим, затем должно быть призвано во всех вопросах находиться в том
измерении, которое здесь обозначалось лишь с помощью выражений "случай"
и "обращение". — Конечно, так же дело обстоит и в вопрошании о Боге.
Шеллинг говорит об этом следующее в лекциях о философии откровения (1841/42):
"Главной предпосылкой этой философии служит не чисто идеальное,
опосредованное разумом и свободным познанием, но реальное отношение к Богу; ибо
существует такое старое, возвращающееся в само бытие отношение человека к
Богу, как познание. В противном случае откровение было бы лишь информацией,
но эта информация касается уже существующего. В отношении человека к Богу
она ничего не смогла бы изменить; <...> откровение имеет реальную цель. Но эта
цель изначально предполагает наличие реального отношения человека к Богу.
<...> Подобное реальное отношение уже представлено до всякого откровения
в философии мифологии" (изд. Frank, 257 f.; более подробное осмысление этого
см.: РО, X, IV, 28 f., а также НКЕ XI, 81 f.)».
е^ 429^5
(г^ Примечания ^
48 «Дабы эти мертвые кости логики оживотворились духом и получили, таким
образом, содержимое и содержание, ее методом должен быть тот, который
единственно только и способен сделать ее чистой наукой» (Гегель Г. В. Ф. Наука
логики. Введение. Т. I. С. 106). См. цитату о «царстве теней» в начале главы.
49 Там же. С. 116.
50 Там же. С. 141. В другом месте Гегель замечает: «Ex nihilo nihil fit — это одно из
положений, которым в метафизике приписывалось большое значение. В этом
положении можно либо усматривать лишь бессодержательную тавтологию:
ничто есть ничто; либо, если действительным смыслом этого положения должно
быть (высказывание о) становлении, то следует сказать, что так как из ничего
становится только ничто, то на самом деле здесь нет речи о становлении, ибо
ничто так и остается здесь ничем. <...> Если позже метафизика, особенно
христианская, отвергла положение о том, что из ничего ничего не происходит, то она
этим утверждала, что ничто переходит в бытие; как бы она ни брала последнее
положение — в виде ли синтеза или просто в виде представления, — даже в
самом несовершенном соединении имеется точка, в которой бытие и ничто
встречаются, и их различие исчезает. — Положение: из ничего ничего не происходит,
ничто есть именно ничто, приобретает свое настоящее значение благодаря тому,
что противопоставляется становлению вообще и, следовательно, также
сотворению мира из ничего» (Там же. С. 142).
51 «Было бы нетрудно показать это единство бытия и ничто на любом примере, во
всякой действительной вещи или мысли. О бытии и ничто следует сказать <...>,
что нет ничего ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе и бытие,
и ничто. Разумеется, так как при этом речь заходит о каком-то нечто и
действительном, то в этом нечто указанные определения наличествуют уже не в той
совершенной неистинности, в какой они выступают как бытие и ничто, а в
некотором дальнейшем определении и понимаются, например, как положительное
и отрицательное; первое есть положенное, рефлектированное бытие, а
последнее есть положенное, рефлектированное ничто; но положительное и
отрицательное содержат как свою абстрактную основу: первое — бытие, а второе — ничто. —
<...> Так как это единство бытия и ничто раз навсегда лежит в основе как первая
истина и составляет стихию всего последующего, то помимо самого
становления все дальнейшие логические определения: наличное бытие, качество, да и
вообще все понятия философии служат примерами этого единства» (Там же.
С. 143; курсив М. Френча).
52 Там же. С. 144.
53 «Решиться — это некий actus. Ибо с ним начинается совершенно другая
философия. Также и рациональная философия расстается с чисто логическим
рядом» (РОРМ, 127). Шолем подметил эту параллель между Шеллингом и Лу-
рия. Он пишет: «Нижеследующая цитата из Шеллинга читается как описание
цимцума и его значения для личности Бога: "Всякое сознание — это
концентрация, это собирание, это стягивание воедино самого себя. Эта отрицательная сила
некоей сущности, возвращающаяся к ней самой, есть истинная сила личности
в ней, сила самости"» (Scholem G. Die jüdische Mystik... S. 444). X. Шульте
исследовал «цимцум» у Шеллинга (ср. гл. I, сн. 17).
е^дзо^э
(^ Примечания ^Э
54 Шеллинг видел то, что абстракция у Гегеля означает возврат в мышление (или
возврат мышления), когда написал о методе Гегеля: «Но самоотстранение
(выделено мной. — Μ. Ф.) в чистое мышление у Гегеля предполагается только по
отношению к логике; имеются в виду не вещи, как они a priori существуют в
мышлении, а понятия как таковые, как субъективные» (РОРМ, 129).
55 Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 166.
56 Там же. С. 128.
57 «...Лурия, верный традиции Зохара, понимает процессы в прапространстве
после цимцума вплоть до вполне определенной стадии в качестве процессов в
Самом Боге. <...> Эта концепция процесса после цимцума как происходящего в
Самом Боге была упрощена Лурия так: он <...> предположил, что некий след или
остаток Божественного света (названный Лурия режиму) при отступлении
субстанции Эн-Софа из прапространства, созданного при цимцуме, остался в этом
прапространстве. Лурия сравнивает это со следами масла или вина, которые
остаются в сосуде даже и после того, как масло или вино вылиты из него. Можно было
бы обосновать то, что этот регииму еще обладает Божественным качеством, но
с тем же правом можно сделать акцент на том, что субстанция Эн-Софа во
всяком случае оттуда исчезла; следовательно, то, что оказалось результатом этого
процесса, должно находиться вне Бога. Некоторые откровенные теисты среди
каббалистов, недолго думая, выбросили целиком всю идею регииму из своих
систем» (Scholem, 289-290).
58 «Крайне примечательно то, что эта идея регииму также имела точную параллель
в системе гностика Василида, расцвет которой приходится на 125 г. по Р. X. Ва-
силид тоже признавал некое изначально "благословенное пространство, которое
невозможно ни представить, ни каким-то образом словесно охарактеризовать;
однако оно не до конца покинуто «сыновством»"; сыновство означает у
Василида высшее совершенство всех космических потенций, приходящих в действие.
Василид говорит об отношении этого "сыновства" к Святому Духу или Пневме
и утверждает, что даже когда Пневма оказалась пустой и отделенной от
сыновства, тем не менее в то же самое время она удержала в себе его аромат. И этот
аромат проникает всюду, сверху и донизу, — даже до бесформенной материи
и до нашей собственной формы бытия. Василид также использует сравнение с
сосудом, в котором аромат оставляет особенно сладко благоухающую "мазь", хотя
этот сосуд был со всей тщательностью опорожнен. Кроме того, мы имеем ранний
прототип цимцума в "Книге великого Логоса" — удивительном памятнике
гностической литературы, сохранившейся в коптских переводах. Из него мы узнаем,
что все прапространства и их "отечества" возникли на основании "малой идеи",
которую Бог оставил за Собой "при Своем отступлении в Самого Себя" в
качестве пространства, в качестве блистающего светового мира. Неоднократно
указывалось на это отступление, которое предшествует всякой эманации» (Ibid.
О Василиде см.: Ипполит. Philosophoumena VII, 22; ср.: Mead. Fragments of a Faith
forgotten. 3-е изд. (1931). P. 261).
59 Гегель Г В. Φ. Наука логики. Т. I. С. 231.
60 Там же.
61 Там же.
(^ 431^5
Cz^ Примечания ^Э
62 Там же,
63 Там же.
64 Там же. С. 232.
65 Там же. С. 233.
66 Это «абстрактное соотношение отрицания с самим собой. Но от простой
непосредственности, от бытия "одного", которое также утвердительно, пустота как
ничто отличается совершенно... Но, отличаясь от сущего, ничто как пустота
находится вне сущего "одного"» (Там же).
67 «Воззрение, согласно которому пустота составляет основание движения,
заключает в себе ту более глубокую мысль, что в отрицательном вообще находится
основание становления, беспокойства самодвижения, — в этом смысле, однако,
отрицательное следует понимать как истинную относительность
бесконечного. — Пустота есть основание движения лишь как отрицательное соотношение
"одного" со своим отрицательным, с "одним", т. е. с самим собой, которое,
однако, положено как налично сущее» (Там же. С. 234).
68 «Утверждение, что пустота — источник движения, имеет не тот незначительный
смысл, что нечто может вдвинуться лишь в пустоту, а не в уже наполненное
пространство, так как в последнем оно уже не находило бы свободного для себя
места; в этом понимании пустота была бы лишь предпосылкой или условием, а не
основанием движения, равно как и само движение предполагается при этом
имеющимся налицо и забывается существенное — его основание» (Там же).
69 «"Одно" и пустота составляют для-себя-бытие в его ближайшем наличном
бытии. Каждый из этих моментов имеет своим определением отрицание и в то же
время положен как некоторое наличное бытие. Со стороны отрицания "одно"
и пустота есть соотношение отрицания с отрицанием как соотношение
некоторого иного со своим иным; "одно" есть отрицание в определении бытия,
пустота — отрицание в определении небытия» (Там же. С. 235).
70 «Для-себя-бытие "одного" по своему существу есть <...> идеальность наличного
бытия и иного; оно соотносится не с иным, а лишь с собой. Но так как для-себя-
бытие фиксировано как "одно", как для-себя-сущее, как непосредственно
наличное, то его отрицательное соотношение с собой (это есть исключение иного и при
этом полагание конкретного иного. — М.Ф.) есть в то же время соотношение
с некоторым сущим; но это соотношение также и отрицательно, поэтому то, с чем
для-себя-бытие соотносится, остается определенным как некоторое наличное
бытие и некоторое иное; как сущностное соотношение с самим собой, иное есть
не определенное отрицание как пустота, а есть равным образом "одно". Тем
самым "одно" есть становление многими "одними"» (Там же. С. 235).
71 «Однако это отталкивание как полагание многих "одних" через само "одно" есть
собственный выход "одного" вовне себя, но выход к чему-то такому вне его, что
само есть лишь "одно". Это — отталкивание по понятию, в себе сущее
отталкивание» (Там же. С. 236).
72 «Выше мы уже выяснили, что "одни" суть одно и то же, каждое из них есть так
же "одно", как и иное. Это не только наше соотнесение, внешнее сведение
вместе, а само отталкивание есть соотнесение; "одно", исключающее "одних",
соотноси 432 ^Э
С^ Примечания ^Ξ>
сит само себя с ними, с "одними", т. е. с самим собой. Отрицательное отношение
"одних" друг к другу есть, следовательно, лишь некое слияние-с-собой. Это
тождество, в которое переходит их отталкивание, есть снятие их разницы и
внешности, которую они как исключающие должны были скорее удержать по
отношению друг к другу. Это полагание-себя-в-"одно" многих "одних" есть притяжение»
(Там же. С. 240).
73 Там же. С. 241.
74 «Это свобода, столь ошибочно полагающая свою сущность в этой абстракции
и льстящая себя мыслью, будто, оставаясь самой собой, она обретает себя в
чистом виде. Говоря определеннее, эта самостоятельность есть заблуждение: на то,
что составляет ее сущность, смотрят как на отрицательное и относятся к нему
как к отрицательному. Эта самостоятельность, таким образом, есть
отрицательное отношение к самой себе, которое, желая обрести собственное бытие,
разрушает его, и это его действование есть лишь проявление ничтожности этого дей-
ствования» (Там же).
75 «Примирение заключается в признании, что то, против чего направлено
отрицательное отношение, есть скорее его сущность, заключается лишь в отказе от
отрицательности своего для-себя-бытия, вместо того чтобы крепко держаться за
него» (Там же).
76 Там же. С. 242.
77 При своем экзистенциалистском подходе Хайдеггер подверг особой проблемати-
зации «заброшенность». Следовательно, идея цимцума может с успехом служить
в качестве эвристического принципа при более глубоком обосновании
экзистенциальной философии. Одновременно цимцум мог бы внести поправку в
решение Хайдеггером той проблемы, которая была поставлена им в 1933 г. в
ректорской речи: согласно Хайдеггеру, в сегодняшней бытийственной ситуации человек
хотя и выходит к вопрошанию, но не о вопрошании. Сам вопрос — это ответ,
если бытие сокрыто. Но при предположении цимцума бытие всегда
одновременно и сокрыто, и открывается (вдох и выдох). Мы живем в эпоху скрывающего
себя бытия, — но скрывающего лишь затем, чтобы мы заново искали его и чтобы
в ответ на это искание оно могло бы открыться заново.
78 Scholem, 287, указал на эту возникающую множественность: «Итак, самый
первый из всех актов — это не акт откровения, но некий акт сворачивания и
ограничения. Только во втором акте Бог — луч Его сущности — выступает из Себя
и начинает (в качестве Бога Творца) Свое откровение или развертывание в том
прапространстве, которое Он сотворил в Самом Себе. Но это имеет место не
только здесь: и перед каждым следующим актом эманации и манифестации Бога
происходит новый акт концентрации и сворачивания» (выделено автором. —
М. Ф.).
IV. Лик Софии
1 РО, 292.
2 Соловьев В. С. Смысл любви // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М, 1990. С. 534.
3 Мы ограничимся здесь исключительно «Философией откровения» Шеллинга.
С^ 433 ^Э
е^ Примечания ^>
4 См. подробный анализ этих вещей в главе II.
5 РО, 302-303.
6 «"Я была помазана, говорит она, от начала, прежде бытия земли". "Я была
помазана" здесь означает princeps constituta sum, и слово "princeps" здесь должно
пониматься в точном смысле: оно значит "начинающее". <...> Таким образом, в
данном смысле Премудрость существует от века как начало всего, как prius всякого
становления; "помазана" — через посредство воли Творца, который берет ее в
качестве начала, первой точки, к которой Он привязывает весь еще неведомый
процесс. Итак, сама она не является порождением Бога, — она была при Нем как
дитя. <...> Она была как дитя при нем, т. е. не снаружи (nicht herausgesetzt), <...>
и "веселилась пред лицем Его", как дитя в доме отца. Иными словами, она
показывала Ему зеркало или служила Ему зеркалом, в котором Он видел (если того
желал) то, что может произойти в будущем, поскольку она есть не что иное, как
действительная совокупность всех возможностей (die wahre Allmöglichkeit).
Она "веселилась пред лицем Его", день за днем, т. е. во все дни (основные
моменты) будущего, ради нее разворачивающегося процесса творения; ибо в ней
Он хотел взрастить будущих свидетелей Своих деяний. Но ее высшей радостью
было представить Ему образец будущего человека, который был целью всего
творения и который был ее собственной высочайшей целью и одновременно
блаженством. Ибо как раз этот всеобщий субъект, который понес на себе все фазы
и перемены, все наслаждения и страдания твари, должен был в своей последней
манифестации стать принципом человеческого сознания, в человеке
определенно прийти к себе самому и оказаться, таким образом, соучастником творения,
сопровождая Бога на всем Его пути» (РО, 302—303).
7 «Будущие образования проходят перед Ним, словно видения, ибо прежде чем
выступит воля, полагающая действительное напряжение, нет еще ничего
устойчивого. Прекрасное греческое слово "идея" выражает на деле то же самое, что
и наше слово "лицо", — а именно, обладает двояким смыслом: оно означает как
"внешность" и собственно "облик", так и мимолетные изменения в лице. Учение
об этих вечных прообразах вещей <...>, безусловно, обретает благодаря этому
представлению более реальное (в сравнении с обычным) значение. Становится
понятным, каким образом идеи осуществляют посредничество между Богом
и вещами, т. е. между верховным единством (Einheit) и теми конкретными,
модифицированными единицами (Einheiten), которые мы называем вещами. <...>
Бог от вечности знал все Свои творения. Они наличествуют в качестве видений
Творца, прежде чем им стать действительными. Поэтому неудивительно, что
в той мере, как человеческое знание и воспоминание обращаются назад,
начинает торжествовать и прославляться та прапотенция (Urpotenz), которая дает
первый импульс всему отличному от Бога бытию. <...> Эта прапотенция почиталась
также в греческих представлениях в качестве Мировой кормилицы, Мировой
материи (поскольку ведь она есть материя будущего мира). Она есть индийская
Майя, которая растягивает перед Творцом сеть видимости (того, что лишь
является, не будучи действительным), чтобы как бы подтолкнуть Творца и побудить
Его к действительному творению» (Ibid., 293—294).
8 Ibid., 301.
(^ 434^5
(^ Примечания ^Э
9 «To, что скрыто в Боге (и когда-то просто не существовало, имея лишь
вероятностный характер), должно как раз из Него выйти, чтобы при возврате назад
теперь быть знающим и сознательным там, где вначале оно было лишь
бессознательным» (Ibid., 296).
10 «То, что при своем исхождении отрицает Божественное единство, при своем
возврате оказывается началом, полагающим Бога. Принцип начала в его латентнос-
ти есть прасостояние, prius всего движения, — без того, однако, чтобы
мыслиться как prius, без того, чтобы знать себя в качестве этого принципа. При возврате
этот принцип также есть прасостояние, но со знанием этого, — есть,
следовательно, рассудок, и потому совершенно по праву называется "Премудростью"»
(Ibid.).
11 «Можно было бы поднять вопрос, как же допустить, что та начальная потенция,
которая в своем действительном выступлении оказывается мнимо
существующим, здесь обозначается именем Премудрости. <...> Я хочу <...> напомнить
о том, что уже обсуждалось, — что этот принцип именно в своей
окончательности, то есть в своем полном возврате назад, на деле является Премудростью: это
сознание, постигающее все во взаимосвязи, знающее начало, середину и конец»
(Ibid., 295).
12 «Тот же самый субъект, то же самое изначальное Могущее быть, пронизывавшее
все аспекты природы, в которой оно появляется в форме объективности, —
именно оно оказывается в конце цепи своих превращении вновь
возвысившимся до субъекта — человеческого Я; и если бы человек не предпочел (вместо того
чтобы быть кем-то вроде наследника всего прошлого) сделаться началом
некоего нового движения, этот субъект в человеке духовно овладел бы всеми вещами
и даже оказался бы их двигателем...» (Ibid., 297).
13 В то время как диалектическое движение разума по логическим ступеням (как
его осуществляет Гегель в своей логике) в формальном отношении является
экспликацией сущности Софии (постольку, поскольку это движение
действительно соответствует Божественному мышлению прежде творения), движение
человеческой жизни, находящейся в согласии с Божественной творческой волей,
через все возможности развития означает, при учете соответствующего
жизненного опыта, в материальном отношении некое сущностное откровение Софии.
14 «...Но хотя субъект материальной власти над вещами утратил ее (он обладал бы
ею, если бы оставался на своем месте), формальная власть над вещами
сохраняется, и эта власть — не что иное, как рассудок. Выражением этой врожденной
власти над вещами служат те общие понятия, с помощью которых человек
действительно постигает все вещи: таковы понятия субстанции, причины и
действия и т. д., — понятия, получающие свою санкцию не только от опыта. Их
власть и априорное значение происходят скорее от того обстоятельства, что сам
рассудок есть не что иное, как прапотенция, prius всех вещей» (РО, 297—298).
15 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве (далее — БЧ) // Соловьев В. С. Соч.
Т. 2. С. 5-172.
16 Там же. С. 107-108.
17 Там же. С. 108.
18 Там же.
(?^435^Э
С^ Примечания ^D
Там же.
Там же.
Там же.
Там же. Соловьев подходит вплотную к Шеллингу (который возводил свою со-
фиологию к Соломону), когда вслед за этим замечает: «Говорить о Софии как
о существенном элементе Божества не значит, с христианской точки зрения,
вводить новых богов. Мысль о Софии всегда была в христианстве, более того —
она была еще до христианства. В Ветхом Завете есть целая книга,
приписываемая Соломону, которая носит название Софии. Эта книга не каноническая, но,
как известно, и в канонической книге "Притчей Соломоновых" мы встречаем
развитие этой идеи Софии (под соответствующим еврейским названием
Хохма). "София, говорится там, существовала прежде создания мира (т. е. мира
природного): Бог имел ее в начале путей Своих" (Притч 8: 22—24), т. е. она есть
идея, которую он имеет перед Собою в Своем творчестве и которую,
следовательно, Он осуществляет. В Новом Завете также встречается этот термин в
прямом уже отношении ко Христу (у ап. Павла)» (Там же. С. 108—109; ср.: 1 Кор
1: 24-30; Еф 1:17; Кол 2:3).
Сам Соловьев прямо говорил об этой близости. В его письме к А. А. Кирееву
(1881 г.) описано то, как он отстаивал свою докторскую диссертацию «Критика
отвлеченных начал» против одного из оппонентов, профессора богословия
Рождественского: «Докторант ответил, что напрасно оппонент смешивает столь
разнородные вещи, как религиозный взгляд Шлейермахера <...> с умозрительным
пантеизмом первой Шеллинговой системы (Identitäts philosophie) и с
теософическими построениями второй Шеллинговой системы (так называемой
положительной философии); докторант признал сродство своих взглядов только с этой
последней системой Шеллинга, в которой этот философ уже освободился от
ложного пантеизма своих прежних теорий» (Письма В. С. Соловьева, II / Под
ред. Е. Л. Радлова. СПб., 1909. С. 95).
«Бог как единый, различая от себя свое другое, т. е. все, что не Он сам, соединяет
с собою это все, представляя себе его вместе и зараз, в абсолютно совершенной
форме, следовательно, как единое. Это другое единство, различное, хотя и не
отделимое от первоначального единства Божия, есть относительно Бога единство
пассивное, женское, так как здесь вечная пустота (чистая потенция) воспринимает
полноту божественной жизни. Но если в основе этой вечной женственности
лежит чистое ничто, то для Бога это ничто вечно скрыто воспринимаемым от
Божества образом абсолютного совершенства. <...> То идеальное единство, к
которому стремится наш мир и которое составляет цель космического и
исторического процесса, оно не может быть только чьим-нибудь субъективным
понятием (ибо чьим же?), оно истинно есть как вечный предмет любви Божией, как
Его вечное другое» (Соловьев В. С. Смысл любви. С. 533—534).
Там же.
«Та возможность, которая теперь детально описана, есть, таким образом, то
самое среднее звено, которое мы должны предположить между вечным бытием
Бога и творческим деянием, чтобы постигнуть это деяние в качестве предельно
свободного решения...» (РО, 304).
(Г^ 436 ^>
е^ Примечания ^
27 Соловьев В. С. Смысл любви. С. 533.
28 Там же. С. 534.
29 Там же.
30 Соловьев запечатлел эти «три свидания» в одноименной поэме с подзаголовком:
«Москва — Лондон — Египет. 1862—1875—1876». Ср.: Solowjew W. Biographie. —
Gesamtausgabe der Werke. Freiburg; München, 1957. S. 267—275.
11 Ibid. S. 22-23.
32 Детскую встречу во время литургии можно осмыслить как встречу с
Божественной волей, открывающей перед человеком его судьбу (т. е. как откровение
Отеческого начала через материнскую Софию). В самом деле, детский опыт от
общения с родителями кладет отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека.
Встреча студента с ликом Софии и диалог с ней в читальном зале библиотеки
указывает на исследование и учебу перед лицом Бога, т. е. на откровение Логоса
(Сына) через Софию. Третья встреча в Египте стояла под знаком действующего
через Софию откровения Святого Духа, и лишь здесь Соловьев пережил
всеединство универсума.
33 В связи с этим понятием Соловьев замечает: «От греч. сизигия — сочетание.
Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей
терминологии другого, лучшего. Замечу, что гностики употребляли слово "сизигия"
в другом смысле и что вообще употребление еретиками известного термина еще
не делает его еретическим» {Соловьев В. С. Смысл любви. С. 545, сноска).
34 РОРМ, 166 ff. В связи с этим Шеллинг говорит о некоем прабытии (Ursein)
Бога, предшествующем Ему Самому. Идея другого бытия открывает Ему средство
«освободить Себя от непостижимого прабытия» (Ibid., 168).
35 «Истинный Бог есть Бог живой; жив тот, кто располагает собственным бытием;
жив тот Бог, который властен выйти из Себя, который делается неким Другим
в Своем непостижимом прабытии, отличном от того бытия, в котором Он
пребывает a se. Мыслить Бога без этой возможности означает лишать Его
возможности какого-либо движения» (РОРМ, 170). В другом месте Шеллинг говорит
о том, что Бог уходит в Себя (Ibid., 177; ср. гл. IV, примеч. 48); еще в одном месте
он говорит об «отстранении непостижимого прабытия» (Ibid., 173). Эта
двойственность объясняется тем, что хотя Шеллинг в своих рассуждениях вплотную
подходит к цимцуму, он, тем не менее, философски не развивает этой идеи.
36 См.: Weis Adolf. Die Madonna Platytera. Entwurf für ein Christentum als
Bildoffenbarung anhand der Geschichte eines Madonnenthemas. Königstein, 1985. Вайс
проследил идею божества, которое порождает само себя, и соответственно идею
«самозарождения солнечного бога в утробе его матери» (S. 30) в религиозной
и культурной истории человечества от ее (египетских) истоков вплоть до образа
апокалипсической Жены в Иоанновом Апокалипсисе. Повсюду присутствует
женский аспект бога (или же богиня), который зачинает самозарождающегося
и затем развивающегося бога, вынашивает его в себе и рождает. Если эти
образы, восходящие к египетским воззрениям, завершить представлениями Лурия
о цимцуме, то они окажутся не первым, а вторым актом теогонически-космиче-
ской драмы, которому в вечности предшествует Божественное отступление.
е^ 437^5
С* Примечания ^Э
37 Silberer M. Die Trinitätslehre im Werk von Pavel A. Florenski.
38 См.: Ibid. S. 205. [Флоренский П. Л. Столп и утверждение Истины. Т. I (I). М,
1990. С. 326]. Зильберер замечает: «В этом переводе мы сознательно используем
формы, близкие к русскому оригиналу — creandum (творимое) и perficiendum
(завершаемое), чтобы отличить Божественный замысел от его фактического
осуществления во времени. <...> Тварь существует, поскольку она познаваема
Богом. "Сущий в Вечности и 'познает* в Вечности же; но то, что он 'познает'
в Вечности, появляется во времени в единый, определенный момент
[Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. Т. I (I). С. 327. — Прим. пер.]". Связь
между познаванием и творением уже присутствует в слове "София", которое
означает не только пассивное знание (Wissen), но и творческое познавание
(Erkennen) — наподобие того, что совершает художник. Через эту первую
творческую мысль струится любовь Божия, благодаря чему эта мысль обретает "жизнь,
единство и бытие"; София есть "творческая Любовь Божия"» [Там же. С. 326. —
Прим. пер.] (см.: Silberer M., 250 ff).
39 Зильберер комментирует: «Флоренский ясно говорит об этом participatio:
"София участвует в жизни Триипостасного Божества, входит в Троичные недра
и приобщается Божественной Любви. Но, будучи четвертым, тварным
и, значит, не едино-сущным Лицом, она не Ό б ρ а з у е т' божественное
Единство, она не 'е с τ ь' Любовь, но лишь входит в общение Любви,
допускает войти в это общение по неизреченному, непостижимому, недомысли-
мому смирению Божественному"» (Ibid.) [Флоренский П. Л. Столп и утверждение
Истины. Т. I (I). С. 349. - Прим. пер.].
40 «София есть идеальная форма творения, небесный образ Божий, который в
своем земном существовании развивается вплоть до образа Божия в человеке.
Идеальная форма открывается в просвещенном человеке и вместе с тем в
просвещенном творении. Также надо онтологически осмыслить противоположность
между вечным предсуществованием (в качестве библейского основания для
идеи предсуществования Флоренский среди прочего цитирует Мф 25: 34) и
временным существованием. Православная идея предсуществования не означает
того, что Церковь, тварь и т. д. хронологически предшествуют миру: она
подразумевает "полноту реальности, в них содержащейся" [Флоренский П. Л. Столп
и утверждение Истины. Т. I (I). С. 340], совершенство. София есть предсуще-
ствующая творческая мысль, "res realior", — то, что "полно-бытийнее, нежели
мир" [Там же]. В качестве "ens realium" София онтологически пребывает между
Богом — "ens realissimum" — и существующим космически, во времени, "entia ге-
alia"» (Silberer, ibid.).
41 «София отличается от творения, существующего в пространстве и во времени,
своим единством, которым она обладает в Боге. Единая в Боге, она
множественна в творении. В "Пастыре" Ерма, где София представлена в качестве предсуще-
ствующей Церкви, Флоренский прежде всего подчеркивает этот самый момент
цельности, единства и простоты: изначальное единство творческой мысли
(Софии) в связи с этим указывает путь спасения и аскетический идеал
совершенства. <...> В Божественной мысли София объединяет не только все отдельные
тварные существа, но также и решающие моменты целостной истории творения:
создание мира, его искупление и завершение. Она есть не только начало творе-
е^ 438^5
е^ Примечания *Э
ния, но также начало творения искупленного (в качестве предсуществующей
Церкви) и творения, пришедшего к завершению» (Silberer, 206—207).
42 «София, эта объединяющая в себе все Божественные планы творения любовь-
мысль Бога, пронизанная от вечности Божественной жизнью, отличается в конце
концов от Самого Бога пассивной восприимчивостью, поскольку Бог — начало
активно подающее» (Silberer, 207; цитата из труда Зильберера в основном тексте
содержит выдержки из «Столпа ...» Флоренского; см. с. 346—348 указ. изд. —
Прим. пер.].
43 «Все многообразие цветов неба основывается на энергии освещающего света, на
пассивности освещаемого вещества и на ничто (пустом пространстве) — чистой
возможности воссиять свету. Соотношения этих физических начал "имеют
полное себе соответствие в соотношении начал бытия метафизического". Бог есть
чистый, беспримесный свет, без какого-либо ущерба или ограничения. Лишь
когда чистая энергия света наталкивается на "чуждую ей пассивность", она
становится окрашенной, склоняется к тому или иному цвету. Этой пассивной
средой в ее тончайшем явлении бывает тварь. София — это "тварь, так сказать, в ее
перво-истоке", среда, придающая свету цветность. Она не есть самый свет
Божества, не есть самое Божество, но "первое огустение" Божией деятельности. Если
дальше развивать эту мысль, то София, будучи "образующим разумом в
отношении к твари", есть та первая творческая мысль, которая сообщает окраску всем
другим Божиим мыслям» (Ibid.; в данном месте Зильберер цитирует и излагает
близко к тексту эссе Флоренского «Небесные знамения»: Флоренский П., свящ.
Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 414—417. Последняя цитата взята Зильберером из
«Столпа...», с. 326. — Прим. пер.].
44 Ibid., 212.
45 Summa Theol. I 44, 3.
46 Silberer, 213.
47 Bulgakow Sergei. The Wisdom of God. A brief Summary of Sophiology. [Перевод
выдержек из данного труда Булгакова с английского на немецкий выполнен
М. Френчем. Для нас английский оригинал булгаковского сочинения 1937 года,
к сожалению, остался недоступен. — Прим. пер.]
48 Томас Шипфлингер собрал документацию, подтверждающую это
отождествление. Ср.: Schipßinger Th. Maria-Sophia. Eine ganzheitliche Vision der Schöpfung.
Verlag Neue Stadt, 1988.
49 Цит. по: Bulgakow S. The Wisdom of God.
50 Ibid.
51 Bulgakow, 52-54.
52 Шеллинг в своем докладе о монотеизме дал вольное истолкование этой связи:
«С самого начала наряду с основаниями, выдвинутыми против обычных
объяснений монотеизма, можно было бы также привести тот довод, что монотеизм в
качестве догмата, в качестве конкретного учения, которым он все же является,
должен был бы обладать неким положительным содержанием, а не заключаться
в голом отрицании, как это имеет место там, где только уверяют, что кроме
единого Бога нет другого бога или других богов, или же, как, собственно, надо было
(с^ 439^5
е^ Примечания ^f>
бы сказать, их не может быть. Но утверждение, в конце концов, не может вообще
состоять в том, что Бог един, ибо при этом всегда сказано лишь то, что Он не
есть множество, а это — голое отрицание. Настоящее утверждение, таким
образом, может, скорее, заключаться лишь в противоположном высказывании: Он
есть не Единство, а Множество, хотя не как Бог и не по Божеству. Ошибка
обыкновенного заявления, следовательно, состоит в представлении, что то, что
непосредственно содержится в понятии монотеизма, есть единство, тогда как
непосредственное утверждение, скорее, подразумевает множественность; и лишь
опосредованно, а именно, только через противопоставление этому утверждению,
декларируется единство — Божественное единство как таковое. Выражаясь
предельно точно, мы должны, таким образом, скорее, сказать: прочь ту мысль, что
в правильном понятии непосредственно содержится единство; напротив,
единство есть противоречие; то, что Бог единственен в том смысле, в каком
существует одно единое начало, отрицается... В этом смысле Бог, напротив, не
единственен. Имея правильное чувство единственности, в этом смысле (в смысле
исключительности), скорее отрицаемой, совсем древние богословы, например,
Иоанн Дамаскин, от которого исходит практически все то спекулятивное
содержание, которое присутствует в наших имеющихся на сегодня богословских
системах, — этот Иоанн Дамаскин сказал: Бог — не столько единство, сколько
сверхъединство, — больше, чем просто Один, unus sive singularis quis.
Множественность отрицается не у Бога вообще, но только у Бога как такового. Бог
только как Бог Один, т. е. не множество, или: Он лишь не несколько богов. Но
это не создает препятствия: напротив, если Он в действительности тот
единственный Бог, который единственен по Божеству, то это положение требует, чтобы Он
в другом отношении, т. е. поскольку Он не есть Бог, был бы Множеством. — То,
что Бог в качестве Бога единственен, только тогда имеет смысл и может стать
достоверностью, когда Он единственен не вообще, когда Он, рассматриваемый
не в качестве Бога или помимо Своего Божества, есть, таким образом,
Множество» (МТ, 302—303). О тех следствиях, которые Шеллинг выводит из этого
различия, см. гл. III настоящей книги.
53 Bulgakow, 43-46.
54 Ibid.
55 Ibid., 56. Подчеркнуто автором.
56 Ibid.
57 «Принадлежа Ипостасям, София отличается тем, что она вобрана (ist
hineingenommen) в них. Это полностью согласуется с тем обстоятельством, что сама по
себе она не имеет ипостасной природы. Бог есть Дух, а признак Духа в том, что
Он обладает Ипостасью, которая является таковой по своей природе, что Он
есть субъект Своей собственной природы, которая, со своей стороны, есть
единство собственных предикатов, причем их взаимоотношение и связь выражают
жизнь Духа. Но эта действительная жизнь предполагает то, что природа Духа
есть не вещь, но живое начало, также и когда оно не является личностным. Усия-
София есть жизнь ипостасного Духа, и при этом сама она не ипостасна» (Ibid.).
58 Ibid., 57.
59 Ibid.
е^440^с>
С^ Примечания ^Э
6Ü Ibid.
61 Ibid., 60.
62 Ibid., 57-58.
63 Ibid.
64 Ibid. Выясняется, что разница между Sophia divina и Sofia creata та же самая,
которая в философии Иоанна Скота Эриугены существует между natura поп
creata creans (Божественной природой или Sophia divina) и natura creata creans
(natura naturans или Sophia creata). Таким образом, софиологи совершенно на
другом пути заново возвращаются к результатам философии раннего
Средневековья.
Часть II
ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ
Основные черты западной метафизики
V. Образ и подобие
1 Введение к кн.: Scheffczyk L. (Hrsg.). Der Mensch als Bild Gottes. Darmstadt, 1969.
2 Ср.: Otto Stephan. Zur Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12.
Jahrhunderts // Schmaus M. (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters, XL, 1; также см.: Javelet R. Image et Ressemblance au 12ème
siècle du St. Anselme à Alain de Lille.
3 Otto, 312.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ср.: Scheffczyk L. Op. cit.
7 Otto, 312.
8 Выделено мной. - Μ. Φ.
9 Otto, 312.
10 При этом обнаруживаются очевидные противоречия между первой и второй
главами книги Бытия (например, согласно первой главе, человек был сотворен
только после сотворения животных и растений, а согласно второй главе, он
появился прежде их).
11 В основу этой главы положено издание: Scheffczyk L. Op. cit.
12 KoehlerL. Die Grundstelle der Imago-Dei-Lehre, Genesis 1, 26 // Theologische
Zeitschrift. 1948. 4. S. 16-22. Перепечатано в изд.: Scheffczyk L. Op. cit. S. 3-9.
13 Koehler, 16.
14 На основании сравнения текстов сам Кёлер придерживается такого мнения, что
под понятием «сэлэм» подразумевается прямой (aufrechte) образ человека
(Koehler, 16 f)> поднимающий его над прочими царствами природы, в то время
е^441 45
(^ Примечания ^Э
как «демут» указывает на некое уточнение: прямой образ не совпадает с
Божественным образом, но лишь подобен ему. Это слово показывает, что
«абстрактное понятие "демут" означает такое подобие, которое заключается в похожести,
сходстве, но не такое, которое свидетельствует о совпадении двух величин»
(Koehler, 7).
15 Например, Кёлер, Лоретц и др.
16 Эдмунд Шлинк замечает: «Что касается проблематики отдельных понятий, по-
настоящему спорный вопрос состоит в том, что означают они (т. е. сэлэм и
демут) совместно: повторяют ли они друг друга, дополняют ли, истолковывают
или исправляют; возможно, они связаны как Hendiadyoin, и возможность этого
так велика, что догматическое различение eikon и homoiosis в первой главе
книги Бытия обосновать невозможно. Также предлоги "в" и "к" в этом месте можно
понимать как Hendiadyoin. Конечно, экзегетическая наука не пришла к
согласному и убедительному пониманию значения и чередования предлогов в этом
месте» (Schlink £. Die biblische Lehre vom Ebenbilde Gottes // Pro Veritate. Ein
theologischer Dialog. Festschrift für Erzbischof Dr. h. с Lorenz Jäger und Bischof
Prof. D. Dr. Wilhelm Stahlin D. D. Hrsg. v. E. Schlink u. H. Volk. Münster und
Kassel, 1963, 1—23. Перепечатано в изд.: Scheffczyk L. Op. cit., 93). Ср. также сн. 14.
17 Например, вот что пишет Б. Л. Хёдль: «Оптико-этическое соотношение образа
и подобия Божия в человеке в учении о первоначальном состоянии твари вело
к важному различению "Imago secundum naturalia" и "Similitudo secundum gra-
tuita"» (Hödl L Frühscholastische Lehre von der Gottebenbildlichkeit des
Menschen // L'Homme et son Destin, d'àpres les penseurs du moyen age. Actes du premier
congrès international de philosophie médiévale. Louvain; Bruxelles, 1960, 347—359.
Перепечатано в изд.: Scheffczyk L. Op. cit., 202).
18 Loretz O. Der Mensch als Ebenbild Gottes // Anima. 1964. 19. S. 109-120.
Перепечатано в изд.: Scheffczyk L· Op. cit., 119.
19 Ibid.
20 В связи с этой проблемой Л. Кёлер пишет: «Для полноты понимания начала
Быт 1: 26 следует сказать еще кое-что по поводу "мы" во фразе "сотворим
человека..." Известно, насколько по-разному толкуется это "мы": и в тринитарном
духе (современные католические экзегеты), и как пережиток или отзвук
политеизма, и с привлечением ангелов или духов стихий, и на психологический лад.
<...> Язык священства (в соответствии вообще с его сущностью) не
праздничный и не возвышенный, а реальный, трезвый и повседневный». Кёлер полагает,
что еврейский священник поступает как англичанин, который вместо
местоимения «я» использует «us» (мы), или как швейцарец, применяющий слово «man»:
«В основе всех этих примеров лежит тот факт, что "я" заменяется на "man" или
на "мы". Таков повседневный язык. Это соответствует языку священства, в
котором Бог вообще крайне редко и лишь в праздничных случаях берет слово и
только в Быт 15 представляет и открывает Себя и Свое имя. Так что в Быт 1:26 "мы"
применено не в силу какой-то иной причины, а с намерением избежать
преждевременного использования "я"» (Koehler L., 9). Конечно, Быт 1 сообщает о том,
что говорил Элогим, а не священники.
21 Освальд Лоретц пишет: «Также с этой точки зрения "сотворим" в Быт 1:26
можно истолковать следующим образом: в Божественном собрании к собравшимся
е^442^Э
(^ Примечания ^Э
обращается верховный Бог и сообщает им, что Он хочет теперь вызвать к жизни
человечество» (Loretz. Op. cit., 118).
22 Такого понимания придерживается, например, Шеллинг. Разумеется, он
придает ему философский облик, следуя собственному вкусу. В своих лекциях по
монотеизму он исходит из того, что Элогимы в действительности представляют
множество, но что они не суть тринитарный Бог в Его собственном образе, а
«обращенный наружу» экзотерический Бог, в котором произошла некая
«перестановка» (ср. гл. II).
23 Ср. обзор идей Булгакова в гл. П.
24 Быт 2: 4-7.
25 Быт 1:18; Быт 2: 18.
26 Быт 2: 21-22.
27 Bulgakow S. The wisdom of God. P. 59. Ср. гл. IV.
28 См. цитату в сн. 20.
29 Сир 17: 1-3.
30 На вопрос, обсуждавшийся в так называемом номиналистском споре, есть ли
имя нечто большее, чем чисто рассудочная классификация, можно,
следовательно, ответить в духе реализма, имея в виду человека в раю.
31 Быт 2: 19.
32 Различные исследователи гнозиса (см.: Rudolph К. Die Gnosis; Geisen R. Anthro-
posophie und Gnostizismus) представляют ту точку зрения, что ранние
гностические течения положительно оценивали действия змея, поскольку эти действия
дали возможность человеку выйти из замкнутого круга творения, созданного
«неразумным» демиургом Ялдаваофом и падшей Софией Ахамот. Но так как
гностики исходили из того, что человеческая душа была изначально создана
сверхкосмическим Отцом, который посылает для ее избавления Спасителя —
Сотера, открывающего ей изначальное ведение и при этом путь, возвращающий
ее в дом Отца, т. е. в свободу, — то хотя здесь налицо путаница имен Люцифера
и Ягве-Ялдаваофа, в положении дел, однако, это ничего не меняет.
33 Ср. выше, сн. 20. В связи с Соломоном см.: Притч 8.
34 Отождествление Элогимов с Exusiai, четвертым сонмом небесной иерархии,
описанной Псевдодионисием, предпринял Рудольф Штейнер. Ср.: Steiner
Rudolf. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte, GA 122, Rudolf Steiner
Verlag, Dornach, 5. Vortrag.
35 Различению сущности и личности я обязан Роберту Шпеману. Он определяет
личность человека как вид бытия, лишенный особой манеры (weiselose). (Ср.:
Spaemann R. Personen. Versuche über den Unterschied zwischen «etwas» und
«jemand». Stuttgart, 1996).
36 Очевидно, Евангелия склоняются именно к этому пониманию, так как Иисус
Христос в первый раз именуется Сыном Божиим (следствие первого понимания
свободы), во второй раз — учителем (следствие второго понимания свободы),
а в третий — Мессией (следствие третьего понимания свободы).
37 Быт 3: 28. Три первые главы книги Бытия можно соотнести с тремя
традиционными понятиями философии — духом, душой и телом. Так, в первой главе речь
(с^443^Э
(z^ Примечания ^>
идет преимущественно об изображении духовных прообразов всех творческих
существ и того, как Божественный дух создает все в соответствии с этими
прообразами, — прежде чем Он, завершив Свою творческую деятельность и обозрев
все сотворенное, выносит суждение, что творение весьма хорошо. Образ и
подобие там также упоминаются в их духовной прообразовательности — в их связи
с творческим духом Бога. Во второй главе книги Бытия особый акцент сделан
на человеческой душе, т. е. на человеке как самоопределяющемся, способном
свободно поступать (а также грешить) существе, которое занимает свое
собственное место в окружающей его природе и наслаждается даром жизни,
пульсирующей во всем тварном мире. В третьей главе книги Бытия описываются
условия для того, чтобы человек вообще смог предстать в качестве такого
единства духа, души и тела, которое использует физический план в качестве пашни,
поля для своего производства и воспроизводства.
Об одном таком исключительном для области познания случае говорит
Рудольф Штейнер в своей «Философии свободы». Данная ситуация наступает
тогда, когда человек предметом созерцания делает свое собственное мышление, ибо
тогда созерцаемое (мышление) и созерцатель (тот, кто мыслит) одновременно
различны и тождественны: различны, поскольку я могу созерцать только уже
завершенное мышление; тождественны, поскольку процесс созерцания, т. е.
мышление, по сути дела, тот же самый, каким он был завершен мышлением, которое
подверглось созерцанию. Таким образом, налицо некое событие диалогического
понимания мышлением себя самого. Ср.: Steiner R. Die Philosophie der Freiheit.
Dornach, 1983 (глава 4: «Мышление служит пониманию мира»).
Здесь обнаруживаются следствия такой экзегезы, которая отказывается считать
образ и подобие понятиями, описывающими две разные стороны человеческого
бытия. Ни миф о Каине и Авеле, ни описание разделения народа Израилева на
два течения — царей Иудейских и царей прочих десяти колен, ни роль пророков
как носителей образа Божия («сынов человеческих») не могут быть в принципе
поняты, если не проводить различия между райским состоянием «подобия»,
связанного с «образом», и структурным изменением «подобия» в результате
грехопадения, — т. е. его отделением от «образа». «Род Авеля» и «род Каина»
соответствуют этому различию, которое выражается в изображении Каина и
Авеля с помощью восходящего вертикально и распространяющегося по
горизонтали дыма.
Ср. 167 и далее. Ладнер (169) показывает, что Оригену также знакомо это
различение: «Ориген <...> различает eikon и homoiosis в богоподобном человеке; он
настойчиво утверждает, что утраченное из-за первородного греха подобие
человека Богу вновь может быть обретено через подражание Богу и следование за
Ним» (De Principiis III, 6, 1, CGS, Origenes V, 280). В качестве созерцающего
существа, которое отражает в себе Божество, человек есть действительный образ
Божий — imago Dei. В качестве деятельного, самоопределяющегося центра он
подобен Богу, который также действует творчески свободно и определяет Сам
Себя. Этот деятельный центр может следовать по пути полного возвращения
себе богоподобия через добродетельную жизнь. Поскольку образ (imago) не пал
и может отражать Божественную сущность, человек в состоянии понять, как он
должен действовать, чтобы вновь уподобиться Богу. Будь различие между imago
е^444^)
е^ Примечания ^)
и similitudo сглажено, человек выродился бы в одномерное существо. Тогда
исчезло бы вообще напряжение между созерцанием и действием, покоем и
движением, ночью и днем, сущностью и личностью.
41 Указанное Иринеем различие с отчетливостью демонстрируется учением
Иоанна Скота Эриугены (De div. nat. I, 66 [PL 122, 510D]), согласно которому в Боге
также следует различать similitudo и dissimilitudo. Познание per dissimula есть
принцип theologia negativa, восходящей к Псевдодионисию Ареопагиту. Гуго
Сен-Викторский (в комментарии к трактату Псевдодионисия «О небесной
иерархии», 954 D) учит, что этот путь dissimilia имеет не менее важное значение для
богопознания, чем similia. «Именно через свое неподобие dissimilia передает
manifestior signification (Otto Stephan. Die Funktion des Bildbegriffes in der
Theologie des 12. Jahrhunderts, 133). Однако круг викторинцев знает и о том, что
similitudo (подобие) утрачено человеком. Так, Ришар Сен-Викторский учит:
«Пожалуй, similitudo [подобие] человеком утрачено; однако в своем образе — imago
(т. е. в ratio и voluntas) — он причастен Богу. Этой высшей ступени познания
достигают одни только добрые и духовные. Благодаря тому, что они стараются
взойти к Богу, живя добродетельно, они формируют imago ex parte similitudo»
(Otto, 150 f)· Иную интерпретацию соотношения imago и similitudo предлагает
Ансельм Лаонский. Согласно его мнению, через грехопадение утрачен образ
(imago), который был обновлен Христом (ср. Otto, 45). Otto указывает на то,
что также и в сентенции «Plasmavit Dens hominem» школы Лаона налицо
перемена ролей imago и similitudo: «Plasmavit Deus hominem весьма близка сентенции
образа (Bildsentenz) из Cod. lat. 1299 fol 54 га, принадлежащего Парижской
Национальной библиотеке. А именно, в обеих утверждается, что через
грехопадение человек утратил imago, similitudo же — подобие — при этом сохранилось.
Такое отклонение от обычной для этой школы терминологии встречается
единственный раз, насколько это удалось к данному моменту установить» (Otto, 60).
42 Adv. Haereses V, 2. Цит. по: Ladner, ср. сн. 18.
43 Symposion I, 4, CGS Methodius 13. Цит. по: Ladner, ibid.
44 Иоанн Дамаскин (De imaginibus, oratio III, PG XCIV, 1420 В) цитирует Мефо-
дия (De ressurectione. II, 24. — CGS, Methodius 379 f.).
45 Ladner G. B. The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine
Iconoclastic Controversy// Dumbarton Oaks Papers. 1953. № 7. P. 1—34.
Перепечатано под названием «Понятие образа у греческих отцов» в изд.: Scheffczyk L.
Op. cit., 159-160.
46 De opificio mundi I, 69; Hrsg. Cohn u. Wendland, loc. cit. I, 23.
47 Stromata V, 14 (94, 5), CGS, Clemens Alex., II, 388.
48 De Principiis IV, 4, 10, CGS, Origenes, V, 363.
49 Ладнер ссылается на Афанасия (Oratio II contra Arianos 78, PG XXVI, 312 В f.).
50 Ladner, 160-161.
51 Ладнер ссылается на труд: Struker А. Die Gottebenbildlichkeit in der christlichen
Literatur der ersten zwei Jahrhunderte. Münster, 1913, 55 ff.
52 Adv. Haereses V, 6, 1, Hrsg. Harvey, II, 334 f.
53 Stromata II, 22 (131, 6), CGS, Clemens Alex., II, 185.
(Ξ^ 445^3
(^ Примечания ^
54 De principiis HI, 6, 1, CGS, Origenes, VI, 119.
55 Ladner, 161-162.
56 Alcuin, Disput. 2 (1102 D): «...qui te mirabiliter ad similitudinem suam in primo
Adam condidit, mirabilliusque in secundo reformavit...»
57 Otto, 27 f.; Alcuin, Disput. 2 (PL 101, 1102 B).
58 Как сообщает X. Берл, Шелер сказал ему в 1927 году: «Хайдеггер —
статический мыслитель, я — динамический. Для него важны греки, для меня —
иудейские пророки» («Встреча с современниками-иудеями» // Menorah, 10 [1932], 59).
59 Л. Хёдль в сочинении «Friihscholastische Lehre von der Gottebenbildlichkeit des
Menschen» (в изд.: Scheffczyk, 198—199) замечает: «Обстоятельное тематическое
исследование проповеднической литературы XII в. обнаруживает, что учение
о богоподобии человека в это время не было забытым предметом
вероисповедания. Проповеди Бернарда (прежде всего, на "Песнь песней") постоянно
возвращаются к этой теме (Bernhard, In Cantica serm. 80—83, PL 183, 1166—1184; ср.:
Tract, de gratia et libero arbitno, с 9, 10, PL 182, 1016, 1020); также см.: Die
Schriften des hl. Bernhard von Clairvaux. Bd. 3, Wittlich 1935,116 f.». В некоторых
случаях Бернард говорил о неутрачиваемом образе (imago) и утрачиваемом подобии
(similitudo); в другом месте, напротив — об утрачиваемом образе и
неутрачиваемом подобии. Отто замечает: «В то время как в "De gratia et libero arbitrio" не-
утрачиваемый образ — imago — обнаруживается в liberum arbitrium, а
утрачиваемое подобие — similitudo — в liberum consilium, в комментарии к "Песни песней"
Бернард заменяет неутрачиваемую imago на magnitudo души, а утрачиваемую
imago — на ее rectitudo. Также в этом комментарии говорится о некоей тройной
similitudo, которая обнаруживается также и в liberum arbitrium в качестве sim-
plicitas и immortalitas души. Эта similitudo не может быть утрачена, но грех
может ее скрывать» {Otto, 284).
60 Своеобразную интерпретацию отношения между imago и similitudo предлагает
Теодор Хекер. Ф. Майр («Theodor Haecker. Eine Einführung in sein Werk».
Paderborn, 1994, 30, 31) характеризует суть его учения следующим образом:
«Человек, как quodammodo omnia, как индивидуальное, психосоматическое
сосредоточение исследуемых им с помощью мышления бытийственных уровней космоса,
познает себя в зеркале "всей вселенной", постигает себя в своем естественном
подобии [similitudo] мировой целокупности. Чтобы постигнуть самого себя в
качестве "субъекта духовной жизни", т. е. в качестве личности с ее свободой и
ответственностью, конечно, этой природной similitudo еще недостаточно, — даже
и тогда, когда, следуя концепции Änalogia entis, возвышают весь космос вместе
с "космическим" человеком, — как "большой", так и "малый" тварный мир, — до
ступенчатого, приближающегося к Богу, Его "подобия" [similitudo]. При этом
еще не принимается во внимание абсолютный момент в личности, "совершенная
субъектность по отношению ко всем вещам". Отсюда вытекает проводимое Хеке-
ром различение: "Личностью в этом материальном мире является только
человек, и в качестве личности он сотворен ad imaginera Dei, а не только ad
similitudinem" (WiM, 172)». Таким образом, Хекер применяет понятия imago и similitudo
в точности в обратном смысле по сравнению с тем, как они трактовались и
разрабатывались в патристике и ранней схоластике. Если принять эту перестанов-
е^446^5
е^ Примечания ^z>
ку, то учение Хекера об образе и подобии вместе с философией человеческой
личности открывает путь к современному пониманию антропологии книги
Бытия. Майр (31) замечает: «По-видимому, Хекер возвращается здесь, по сути
дела, к антропологии Тертуллиана с ее представлением о богоподобии человека».
С этим можно согласиться, также и если Тертуллиан не использовал понятий
imago и similitudo (как позднее Хекер) в смысле, обратном по отношению к
большинству представителей патристики. Тертуллиан по преимуществу сглаживал
различие этих понятий и тем самым, конечно, предвосхищал другое
современное понимание этой проблемы (освещенный в этой работе подход современной
экзегезы). Штефан Отто пишет об антропологии Тертуллиана («Der Mensch als
Bild Gottes bei Tertullian» в изд.: Scheffczyk, 142): «Заимствуя у стоической
философии интерес к свободе воли, Тертуллиан делает акцент на самовластии
человека. Он — первый представитель раннехристианского богословия, видящий
в обладании liberum arbitnum "основной закон" человека как "imago et similitudo
Deinр. Otto (143) устанавливает, что при этом различие imago и similitudo
сглаживается, и это имеет важные следствия для учения о спасении: «За отказом от
иринеевского различения между imago и similitudo с неизбежностью следовал
также отказ от учения о рекапитулятивной икономии спасения. Другими
словами: восстановление образа Божия больше не является исходным пунктом
учения о благодати».
51 «Естественный образ [imago]» в ранней схоластике также отличался от
«сверхъестественного образа [imago]». Вышеприведенное представление не таково. В нем
налицо «современная» интерпретация этого соотношения, которая, конечно,
имеет отзвук (или даже прообразы) в разных раннесхоластических учениях. В
связи с этим ср.: Hödl L. Frühscholastische Lehre von der Gottebenbildlichkeit des
Menschen в изд.: Scheffczyk, 197 ff.; также: Otto, op. cit.
52 Alanus ab Insulis, Sent., Reg. 99, 673 D f.: «Excessus autem superior dicitur
apotheosis quasi deificatio, quae fit, quando homo ad divinorum contemplationem rapi-
tur...» Бросается в глаза то, что Алан говорит здесь не о Deus, но о divini (или di-
vina).
33 Фома Аквинский пишет так: «Поэтому отображение, состоящее в подражании
Божественной природе, не исключает отображения Бога через воспроизведение
трех Лиц; скорее, одно следует за другим. Итак, это должно означать
следующее: в человеке образ Божий присутствует как в приобщении (Anlangung) к
Божественной природе, так и в приобщении к троице Лиц: ведь существует же
в Боге одна природа в трех Лицах» (Summa Theol. I, 93, 5).
и Kobusch Theo. Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes
Menschenbild. Freiburg; Basel; Wien, 1993.
VI. Метафизика сущности и imago Dei
[образ Божий]
1 Heinzmann R. Philosophie des Mittelalters. Stuttgart; Berlin; Köln, 1992. S. 26.
2 Schimpf G. Bausteine für einen historischen Begriff der scholastischen
Philosophie// Beckmann J. R, Honnefelder L., Schrimpf G., Wieland G. (Hrsg.).
Philosophie im Mittelalter. Entwicklungslinien und Paradigmen. Hamburg, 1987. S. 5.
е^447^Э
С^ Примечания ^Э
3 Haureau В. Histoire de la philosophie scholastique, 1ère partie. Paris, 1872.
Перепечатка: Frankfurt/Main, 1966. Гл. Ill: «De la philosophie scholastique». P. 28—41.
4 Baeumker С Die christliche Philosophie des Mittelalters // Allgemeine Geschichte
der Philosophie. Hg. v. W. Wundt et al. — Hinneberg P. (Hrsg.). Die Kultur der
Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Leipzig; Berlin, 1913. S. 338-431.
5 Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode. I—II. Freiburg, 1909—
1911; особенно см.: I, 28—37.
6 De Wulf M. Histoire de la philosophie médiévale, I—III. Louvain; Paris, 1934—1947.
Особенно см.: I (1934), 13-25.
7 Koch J. Scholastik // RGG. 1961. 5. S. 1494 f.
8 Kluxen WA) Weltbild einer Epoche. Zur Gesamtinterpretation der Philosophie des
lateinischen Mittelalters // Wissenschaft und Weltbild. 1975. 28. S. 83-90; 2) Der
Begriff der Wissenschaft // Weimar P. (Hrsg.) Die Renaissance der Wissenschaften
im 12. Jahrhundert. Zürich, 1981. S. 273-293.
9 ChenuM.-D. Scholastik// Handbuch theologischer Grundbegriffe. 1963. 2. S. 478-
494 (Schnmpf, 3).
10 Schnmpf, 25.
11 Ibid.
12 Негпгтаппу 20.
13 Ibid., 21.
M Ibid.
15 Ibid., 27.
16 Ср. гл. II настоящей книги.
17 Heinzmann, 27.
18 Ср. данное представление в гл. VII.
19 Хорошее резюме этого исследования вместе с его результатами можно найти
в изд. «Philosophie im Mittelalter» (см. сн. 2).
20 Людвиг Хоннефельдер говорит о «втором начале метафизики», подразумевая
при этом рецепцию Аристотеля представителями высокой и поздней схоластики
XIII—XIV вв. (собственно началом метафизики является подлинный метод
самого Аристотеля). Ср.: Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik.
Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik in 13/14.
Jahrhundert//Philosophie im Mittelalter. S. 165—186. Напротив, понятие «начало»
в представленной здесь ситуации применяется для того, чтобы
охарактеризовать подход раннесхоластического платонизма и отделить его от «второго
начала» аристотелизма высокой и поздней схоластики.
21 Thierry de Chartres. Heptateuchon. Carnot. 497—498.
22 Wieland G. Rationalisierung und Verinnerlichung. Aspekte der geistigen
Physiognomie des 12. Jahrhunderts // Philosophie im Mittelalter. S. 61—79; особ. S. 64—65.
23 CurtiusE. R. Europäische Kultur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1984. S. 50.
24 Male E. 1) Notre Dame de Châtres. Paris, 1948; 2) L'Art religieux du XIHè siècle en
France. Paris, 1925; цит. по: Heyer К. Martianus Capeila und die sieben freien
Klines 448 ^5
С^ Примечания ^D
sie // Die Drei. 1925. 12. В связи с иконографией семи свободных искусств,
которые благодаря связи их аллегоричности с темой Божественной Премудрости
представляют разновидность средневековой софиологии, см.: D'Alverny M.-Th.
La sagesse et ses sept filles. Mélanges dédiés à la mémoire de Felix Grat. Paris, 1946.
Также см.: Verdier Ph. L'Iconographie des arts libéraux dans l'art du moyen age jusqu'à
la fin du quinzième siècle // Arts libéraux et philosophie au moyen age. Actes du
quatrième congrès international de philosophie médiévale (Montréal, 1967).
Montréal; Paris, 1969.
25 Wieland, 65-66.
26 «Первым источником был рассудок (Verstand), intellectus, под которым
понималась способность [к образованию] общих понятий; последние, будучи
приложены к опыту, становятся общими принципами, А именно, подобно тому как можно
наблюдать то, что в общем, равно как и в научном употреблении рассудка
известные формы суждений и умозаключений применяются как бы инстинктивно
и с надежностью повторяются, — формы, которые, будучи освобождены от
материи, необходимой для их применения, предстают в их чистоте и абстрактности,
а затем становятся содержанием так называемой общей или формальной
логики, — можно было с легкостью заметить, что в основе всех наших суждений и
умозаключений лежат в известной степени последние общие понятия, без чего было
бы невозможно никакое — а не только философское — мышление. <...> Итак,
первый источник знания старая метафизика полагает в чистом рассудке,
который она определяет как исток или как способность [к образованию] всех тех
понятий и законов, которые в наших глазах принимают характер всеобщности и
необходимости. Но они пребывали бы безо всякого применения, если бы не были
дополнены опытом. Следовательно, в качестве второго источника знаний,
получаемых в метафизике, рассматривался опыт, который затем вновь
подразделялся на внутренний и внешний, — в зависимости от того, преподавался ли он нам
явлениями или состояниями вне нас или же в нашем собственном внутреннем
существе. Опыт раскрывает не общее, необходимое и пребывающее начало вещей,
но лишь особенное, случайное и преходящее. Но именно это особенное и
случайное в вещах и есть собственная точка опоры науки, — то, на чем
основывается опыт, продуцируя знание и науку, ибо, кроме того, всегда предполагается, что
метафизика не есть никакая уже данная и наличествующая помимо нашего
участия наука, но наука, лишь подлежащая созданию. В тех самых общих понятиях
и законах рассудка вообще нет никакой порождающей деятельности, сами по
себе они не создали бы ничего, в них как таковых нет никакого действительного
знания. <...> Только та порождающая деятельность, которая может называться
философской и благодаря которой возникает метафизика, имеет свои
предпосылки в двух первых источниках знания — в intellectus'e и опыте. Но та же
самая способность, которая пользуется, как точками опоры, этими предпосылками,
чтобы с их помощью достичь того, что нам не дано ни непосредственно на путях
чистого рассудка (который вообще не сообщает ничего конкретного,
действительного, — и еще в меньшей степени чего-либо личностного), ни через опыт, —
то, что не дано ни посредством чистого рассудка, ни через опыт, есть как раз
абсолютно сверхчувственное; итак, та способность, которая помогает нам, исходя
из тех двух предпосылок, достичь познания сверхчувственного (познания, кото-
е^449^Э
(^ Примечания ^Э
рое, как обнаруживается, во всяком случае может быть только
опосредованным), есть третий источник знания вообще и непосредственный источник
свободно полученных знаний. Можно сделать вывод, что такая способность — это
ratio, разум (Vernunft). Этот вывод состоит в простом приложении общих
принципов, данных самим рассудком, к тому случайному, которое предоставляет
опыт, благодаря чему мы приходим к некоему третьему началу, которое
возвышается над двумя первыми и одновременно должно иметь с ними нечто общее
(или соединять их), — а именно, речь идет о совершенно всеобщем, которое в
качестве такового есть одновременно конкретное, или об абсолютно конкретном,
которое именно потому, что оно таково, одновременно есть совершенно
всеобщее, — речь идет о Боге, который, будучи действительно причиной всего,
одновременно в качестве причины всего есть некая личность и потому особенность;
именно этого метафизика предполагает достичь исключительно посредством
разума как способности к умозаключениям» (РО, 36 ff.).
27 Викторинцы, а также платоники Шартра и его окружения при этом исходили из
«разделения» Иоанна Скота Эриугены. А. Штокль (Geschichte der Philosophie des
Mittelalters. Mainz, 1886. S. 79) замечает по поводу функции intellectus'a у Скота
Эриугены: «Разуму (intellectus, nous) подобает знать о вечной основе Божества;
итак, его знание восходит до второй природы (идеи, тварные сущности,
первопричины)». Ришар Сен-Викторский (De contempl., I, 1; с. 3; с. 7) подхватывает
эту мысль и называет intellectus органом сверхчувственного восприятия:
«Наконец, интеллигенция есть некое высшее духовное чувство, благодаря которому
мы воспринимаем сверхчувственное». То сверхчувственное, которое
подразумевает Ришар, есть мир идей или тварных сущностей, воспринимаемый только in-
tellectus'oM, а не ratio или sensus'oM; эти сущности Скот Эриугена, следуя Псев-
додионисию, отождествляет с девятью духовными иерархиями или ангельскими
сонмами (De div. nat., I, с. 4, 5). Это учение об intellectus'e подхватывает Алан
Островитянин: «Intellectus potentia animae, quae comprehendit invisibilia...»
(Dist., 819C). Как у Скота Эриугены, так же и у Алана благодаря этому
познанию сверхчувственного мира человек сам становится духовным существом:
«...per quam comprehensionem homo fit spiritus...» (Reg., I). Напротив, ratio есть
чисто человеческая способность, применяя которую («speculatio rationis»)
человек впервые делается человеком: «...Sicut per speculationem rationis homo fit
homo...» (Reg., 99, 674A). Эти соотношения Алан представляет в образной форме
в своем сочинении «Anticlaudian» (ср.: Alanus von Lille. Anticlaudianus, I. Buch,
Vers 55 ff (PL 210)).
28 Ср. образно-имагинативное описание данного познавательного восхождения
у Алана Островитянина в изд.: Der Anticlaudian oder Die Bücher von der
himmlischen Erschaffung des neuen Menschen, ubers. u. eingel. v. Willhelm Rath. Stuttgart,
1966. E. Боссард (Alani ab Insulis Anticlaudianus cum divina Dantis Alighieris Co-
media collatio. Andegavi, 1885) исследовал связь этих описаний с
представлениями флорентийцев раннего Возрождения (Брунетто Латини и Данте Алигьери).
Сходные описания имеются также в иудейском неоплатонизме. Ср.: Abraham Ihn
Ezra (1092, Толедо — 1167, Калахорра, Арагония). Hai Ben Megis // Studien zum
Neuplatonismus. Die Religionsphilosophie des Abraham Ibn Ezra / Hrsg. von
Hermann Greive. Berlin; New York, 1973. S. 149-165.
(^ 450^5)
е^ Примечания ^>
29 Это можно показать на конкретном примере Шартрского собора. Так, к
примеру, нисхождение и восхождение (dencensus и ascensus), равно как и их синтез
представлены на трех порталах (северном, южном и западном порталах). Ср.:
Frensch M. 1) Die Botschaft von Chartres. 12 Betrachtungen zur Kathedrale // Her-
metika. 1984-1987. 7-19; 2) Wie öffnet sich das Grosse Portal? 7 Betrachtungen
zum Westportal der Kathedrale von Chartres // Novalis. 1992. 1-6; 1993. 1.
30 Ср.: Duby G. Die Zeit der Kathedralen, Kunst und Gesellschaft 980-1420.
Frankfurt/Main, 1992. Новалис (Фридрих фон Гарденберг) облек в поэтические
образы эту иерархию средневекового европейского общества в своем сочинении
«Христианство или Европа»: «То было прекрасное, блистательное время, когда
Европа была христианской страной, — такой очеловеченной частью мира, где
обитал некий христианский дух. Великий общий интерес связывал
отдаленнейшие провинции этого обширного духовного царства. — Его глава, не будучи
крупным собственником, объединял и направлял значительные политические
силы. — Многолюдный цех, куда всякий имел доступ, непосредственно
подчинялся ему, исполняя его указания, и усердно стремился укреплять его
благодетельную власть».
31 Шримпф указал на значение уничтожающей критики Эриугены в адрес Готшал-
ка и установил следующее: «С возникновением явной необходимости
действовать в соответствии с правилами логики (которые может проверить всякий
человек, также и неверующий) был преодолен порог (так можно сказать, следуя
сегодняшнему научному словоупотреблению) между донаучным и научным
отношением к вероучению. <...> Необходимым условием для того, чтобы
высказанное содержание могло быть признано истинным со стороны науки, сделалась
научность высказывания» (Schnmpf, 7).
32 J. Scotus Eriugena. Über die Einteilung der Natur, I, 1. Hamburg, 1994, 3—4.
33 Plotin. Enn. III, 1 ff.
34 Alanus ab Insulis, PL 210, 579.
35 Ср.: Paqué R. Das Pariser Nominalistenstatut, 1970.
36 Heyer K. Martianus Capella und die sieben freien Künste // Die Drei. 1925. 12. Cp.
си. 24.
37 Wieland, 72.
38 Ibid., 66. Виланд здесь подхватывает тезис, который уже лежит в основе
учебного стихотворения (Lehrgedicht) «La Bataille des septs Arts» (относящегося ко
времени Анри д'Андели), где определяющую роль играет борьба между
грамматикой и диалектикой. В конце битвы диалектический метод Парижа одерживает
верх над придворной поэзией Орлеана и Блуа.
39 Wieland, 66, 69.
40 Ibid., 75.
41 Ibid.
42 SchellingF. W.J. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1802) //
Anrieh E. (Hrsg.) Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus
der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen
Idealismus. Darmstadt, 1956. S. 80.
е^451^Э
С^ Примечания ^f)
43 Wieland, 76.
44 Ibid., 69.
45 Ibid. Ср.: «La découverte de la nature» // De Chenu M.-D. La théologie au
douzième siècle. Paris, 1957. P. 21—30.
46 Wilhelm von Conches. In Boethium / Hrsg. v. P. Courcelle // AHDLMA. 1939. 12.
P. 5-140. Цит. по: Wieland, 69 f.
47 Wieland, 70.
48 Эту природу имел в виду Фрэнсис Бэкон (1561—1626), очень рано наметивший
перспективы для понимания «природы разума Нового времени» и обращения
с ней. В области теории природа подчиняется разуму, развивающемуся в логико-
математико-геометрическом направлении, и его закономерностям, превращаясь
в некую чисто конструируемую величину; в практической области настоящая,
«естественная» природа все больше утрачивает свою естественность и в конце
концов (с полной очевидностью — на протяжении двух последних столетий)
превращается в искусственную конструкцию.
49 Alanus ab Insulis. De planctu naturae.
50 Ср.: Huizinga I. Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei
Alanus de Insulis. Amsterdam, 1932.
51 Alanus ab Insulis. Anticlaudian, IX Buch, Vers 236 f.
52 Ср. гл. V и введение к данной главе.
53 В учебном стихотворении Алан Островитянин выражает то мнение, что с
помощью семи свободных искусств можно глубже проникнуть в тайны воплощения
Христа, в принципе до конца не постижимые на основании «парадокса
воплощения».
54 Tomberg Valentin. Die Problemgeschichte der Völkerrechtswissenschaft, 221. Автор
располагает рукописным вариантом данной неопубликованной работы [Томбер-
га], которая будет рассматриваться в следующей главе.
55 Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik // Philosophie im Mittelalter.
S. 185 f.
56 Ср.: Thomas von Aquin, Met. proem.; Met. VI 1 η 1164; VI 3 η. 1220.
57 Honnef elder, 175.
58 Ibid.
59 Ср., напр.: Thomas von Aquin, ScG II 52, а также всю совокупность текстов
у Эйинг-Ханхофа: Ens et unum convertuntur. Stellung und Gehalt des Grundsatzes
in der Philosophie des hl. Thomas von Aquin. Münster, 1953. S. 22—66 (цит. по:
Honnef elder, 176).
60 Honnef elder, 176.
61 Ср.: Rahner К. Geist in Welt. München, 1957. S. 153-232.
62 Ср.: Oeing-HanhoffL. Art. Abstraktion// Hist. Wörterb. Philos., Bd. I, 51 ff.; ders.
Art. Metaphysik (Anm. 8) 1222 f.
63 Honnef eider, 176.
64 Thomas von Aquin, Sent. 13 1,2.
e^ 452^9
(2^ Примечания ^5
65 Honnefelder, 176.
66 «Основной принцип аналогии бытия при своем применении имеет два
значения: с одной стороны, он означает расположение вещей по ступеням
(иерархическое подразделение бытия), и с другой стороны — установление связи между
ступенями (гармония). "Jus enim humanum habet extrahi a jure divino: non enim
est jus quod contrariatur praeceptis et jure divino", — учил Альберт Великий (в
своей "Summa de creaturis"), а Фома Аквинский говорит по поводу естественного
права: "Поэтому каждый закон, принимаемый человечеством, имеет характер
закона, если он выводится из закона природы. Если же он, напротив, в чем-то не
совпадает с природным законом, он больше не является законом, но есть порча
закона" (Summa theol., q. 95, art. 2 // Thomas von Aquino. Summe der Theologie.
Stuttgart, 1985). Эти высказывания Универсального доктора и Ангелического
доктора содержат в себе принцип аналогии бытия вместе с его двумя основными
следствиями: низшее есть "образ" высшего и вступать в противоречие с
последним не имеет права. Ибо "священная наука сделалась нами (ist uns geworden)
посредством некоего Другого, Высшего, который осуществляет ее. Она есть
некий оттиск, как бы отпечаток в нас Божественной мудрости, так что
человеческий дух несет на себе печать Божественной мудрости и воспринимает оттиск
форм и понятий первой причины, которая в своей премудрости создает,
восстанавливает и просвещает обусловленное ею" (ibid). Поэтому печать — это
Божественное право; отпечаток в человеческом духе — это естественное право;
а практическое применение принципов естественного права в определенных
отношениях и для определенных групп людей есть человеческое или
положительное право. Это воззрение также лежит в основе всего учения св. Фомы Аквинско-
го о трехступенчатом праве. Наряду с вечным законом, который есть господство
Божественного разума во Вселенной, естественным законом, который есть
отпечаток вечного закона на внутренней сущности человека, и человеческим законом,
который извлек их с помощью практического разума из принципов естественного
закона и сделал содержанием выводов, направленных на конкретное, — имеется
еще, однако, некий четвертый вид закона, а именно, так называемое
"положительное Божественное право" или просто Божественный закон. Этот
Божественный закон (lex divina) был дан человечеству через посредство откровения; его
содержанием служит вечный закон (lex aeterna) или его часть, касающаяся
человечества; он не может противоречить вечному закону и естественному закону,
так как он по существу тождествен им. Тем не менее, он существует в духовной
культуре человечества в качестве самостоятельного явления» (Tomberg, 42 ff.
Поскольку этот примечательный труд до сих пор не опубликован, цитаты из
него, как правило, приводятся полностью).
61 Фома проводит различие между истинами откровения и теми истинами,
которые относятся к области praeambula fidei и доступны для «естественного» знания.
68 Ср.: 291 ff.
69 Ср. гл. VII.
70 Wieland, 66.
71 Inciarte F. «Natura ad unum — Ratio ad opposita» // Philosophie im Mittelalter.
S. 260.
e^453^>
(Ξ^ Примечания ^
72 Honnefelder (177) упоминает Генриха Гентского (Summa I а. 6 q. 3,45v С; ibid. а.
19 q. 2 и. а. 7 q. 6, 115v L u. 56 r S. Также см.: Summa I a 21 qq. 2-3; 124r - 125v).
73 Honnefelder, 177.
74 Ibid., 178.
75 Ibid.
76 Scotus. Ord. I d. 3 p. 1 n. 124, ed. Vat. Ill, nn. 49-56; 76 ff; ed. Vat. XVI 249-254;
цит. no: Honnefelder, 178.
77 Honnefelder, 178.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid., 180.
81 Inciarte, 260. (Здесь, как и впоследствии, Φ. Инчиарте ссылается на сочинение
Иоанна Дунса Скота «Quaestiones Subtilissimae super libros metaphysicorum
Aristoteles», lib. IX.)
82 Inciarte, 261.
83 Ibid., 271.
84 Ibid.
85 Ibid., 262.
86 Ibid., 272.
87 Ibid., 262 f.
88 Ibid.
89 Ibid., 270. Inciarte видит, какие изменения происходят в природе одновременно
с «утратой власти» intellectus'oM: «Быть обусловленным Единым (determinate
ad unum) здесь, следовательно, означает нечто совсем иное, чем у Аристотеля.
Природа в широком, но фундаментальном смысле слова, то есть в том смысле,
который один имеет значение в свете размышлений Скота, больше ничего не
делает ради самой себя. Она не замкнута в себе, но открыта. Она находит свой
смысл не в самой себе, но вне себя: природные вещи — преимущественно в
других (сродных или несродных) вещах, сама природа в целом — вообще вне себя.
Она не принадлежит себе самой, она отчуждается от самой себя и делается
доступной для последующей эксплуатации. Во всяком случае, развитие явно
происходит в этом направлении».
90 «Что касается активности и пассивности интеллекта, то, по сравнению с
Аристотелем, у Скота отчетливо перевес происходит в пользу пассивного момента»
(Inciarte, 262, сноска).
91 «Voluntas autem actionis suae, sive circa hoc oppositum in quod potest, sive circa
illud, non est principium ex se determinatum sed potestative determinatum sui ad
alterutrum» (n. 8; цит. no: Inciarte, 271).
92 Heinzmann, 281. Автор данного труда попытался представить в своей
диссертации новизну мышления Кузанца в сравнении с духовным развитием в Средние
века. Ср.: Frensch M. Das gelehrte Nichtwissen. Die Philosophie des Nikolaus von
Kues im Verhältnis zur Geistesentwicklung des Mittelalters. Diss. München, 1978.
e^ 454^3
С^ Примечания ^5
Напр., Heinzmann, 279 ff.
В этом смысле его воспринял прежде всего Джордано Бруно, который, между
прочим, обязан Кузанцу своими рассуждениями о максимуме и минимуме. Ре-
нессансный гуманизм проявляется в особенности в сочинении Николая Кузан-
ского «Idiota de Mente» [«Простец об уме»].
Так, Штефан Отто пишет (Nikolaus von Kues // Hoffe. 1985. S. 259), что хотя Ку-
занец оставался «в основном забытым мыслителем», но, конечно, только «до
XIX века, когда гегелевская диалектика создала такую атмосферу, что учение
Кузанца о совпадении противоположностей смогло пробудить новый интерес».
X. Вакерцап (Der Einfluss Meister Eckharts auf die ersten philosophischen
Schriften des Nikolaus von Kues // BGPhThMA. 1962. 39. Heft 3) обратил внимание на
связь немецкой мистики с мышлением Кузанца.
Прежде всего в сочинении «Cribratio Alchorani» (1441).
Николай Кузанский написал, собственно, сочинение о религиозном мире в
смысле экуменического диалога. Ср.: Depacefidei (1453).
Николай Кузанский. Об ученом незнании. Кн. III. Письмо автора господину
кардиналу Юлиану / Пер. В. В. Бибихина // Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. Т. I.
М., 1979. С. 184.
Л. Габриэль говорит о том, «что "очки" для разума соответствуют единству
противоположностей, принципу coincidentia oppositorum». (Во введении к
«Бериллу» Кузанец детально описывает совпадение противоположностей в качестве
метода и пути. См.: Николай Кузанский. Берилл / Пер. В. В. Бибихина // Там
же. Т. 2. С. 98 и далее.)
Семь свободных искусств для Кузанца суть такие дисциплины, в которых
рассудок укоренен в самом себе (De coniectuns, II, 2). Так, геометрия, арифметика
и логика суть такие искусства, в которых разворачивается рассудочная сила,
музыка же яснее всего показывает, что «чувственные сочетания <...> суть некие
развертывания рационального единства». Музыка — это сияние данного
единства в инаковости сферы чувств. Так как каждое из семи искусств возможно
лишь при уклонении от совпадения противоположностей, т. е. так как в них
противоположности не совпадают, то septem artes становятся одним искусством,
которое есть принцип совпадения противоположностей. При этом первопринци-
пом семи свободных искусств делается intellectus, и поэтому их совокупность
представляет собой путь к испытанию и познанию этого принципа. Потому они
уже не приводят к миру объективно сверхчувственного, как это имело место
в раннесхоластическом платонизме, т. е. духовному миру, но они ведут к
субъективно сверхчувственному — к самопознанию разума.
Поэтому Л. Габриэль (op. cit.) прав, когда он утверждает, что в творчестве
Кузанца наличествуют «подходы к интегральной логике», опирающиеся на метод,
открытый с помощью «берилла».
Эту связь детально осмыслил в своем раннем творчестве Рудольф Штейнер (ср.:
«Goethes naturwissenschaftliche Schriften», «Goethes Weltanschauung»,
«Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goetheschen Weltanschauung»; также см.: «Die
Philosophie der Freiheit», где Штейнер обращает особое внимание на связь
восприятия, представления и понятия).
е^455^с>
е^ Примечания ^f>
«Диаметр круга есть прямая линия, а окружность — кривая линия, большая
диаметра; если эта кривая тем меньше в своей кривизне, чем большего круга
окружностью она является, то окружность максимального круга, больше которого не
может быть, минимально крива, а стало быть, максимально пряма. Минимум
совпадает, таким образом, с максимумом. Даже и на глаз видно, что максимальная
линия с необходимостью максимально пряма и минимально крива. Здесь не
может оставаться ни тени сомнения, когда мы рассмотрим на фигуре сбоку, что
дуга CD большего круга больше отступает от кривизны, чем дуга EF меньшего
круга, а та больше отходит от кривизны, чем дуга GH еще меньшего круга,
почему прямая линия AB будет дугой максимального круга, который уже не может
увеличиться. Так мы видим, что максимальная и бесконечная линия по
необходимости совершенно прямая и кривизна ей не противоположна; мало того,
кривизна в этой максимальной линии есть прямизна» (Николай Кузанский. Об
ученом незнании. С. 67).
«Шаг или прыжок в совпадение противоположностей есть, согласно Кузанцу,
наш отказ от собственного "я", ввержение себя во мрак. <...> Потому учение
о совпадении противоположностей не есть одна лишь теория. Это учение
постигло то, что сегодня называют существенным, экзистенцией, признавая
разрыв между теорией и жизнью. Но отказ от себя никоим образом не должен
означать того, что на место интеллекта ставится аффект. "Я", которое должно быть
оставлено, есть то самое, что зафиксировало само себя с помощью
рационального фиксирования своего мира. <...> Утрата овеществленным "я" самого себя есть
обретение заново "я" истинного, которое должно конституироваться из
бесконечного единства в качестве квазибесконечного. Наше "я", которое само должно
совершать восхождение, следовательно, не заменимо ничем и не может быть
чисто пассивным; его, как разумное существо, нельзя погасить. <...> Кузанец
хотел, ограничив принцип противоречия, так реформировать философию, что эта
проблематика единого и многого больше не должна являться для нее
"мистической", или "иррациональной", или в качестве недостижимой христианской
тайны» (Flasch Kurt. Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues.
Problemgeschichtliche Stellung und systematische Bedeutung. Meisenheim, 1972. S. 200 f.).
О совпадении противоположностей можно говорить, только применяя
формулировки, содержащие противоречия.
Автор детально представил все эти вещи в вышеупомянутой диссертации. Ср.:
Frensch M. Op. cit., 68 ff. Сам Кузанец указывает на то, что он в «Ученом
незнании» говорит о Боге с помощью интеллектуального языка: «Когда мы говорим
о Боге как люди, обладающие рассудком, то мы прилагаем к Богу правила
рассудка, одно о Боге утверждая, а другое отрицая, и применяем к нему
контрадикторные противоположности разделительно» (Николай Кузанский. О
предположениях, ч. I, гл. 8 / Пер. 3. А. Тажуризиной // Николай Кузанский. Соч. Т. 1. С. 203).
С одной стороны, Кузанец, рассматривающий intellectus в качестве активного
принципа, a ratio — вообще в качестве принципа, лишь подлежащего
развертыванию, представляет собой полную противоположность Дунсу Скоту, который
приписал интеллекту чисто пассивную роль, тогда как ratio, понимаемая как
voluntas, у него есть как раз активный принцип. С другой стороны, однако,
intellectus как рационально-интеллектуальный, неоднозначно определяемый принцип
е^ 456^3
(^ Примечания ^)
имеет благодаря своей активности, вообще говоря, «волюнтаристские» черты»;
в противоположность его раннесхоластическому платоническому пониманию
в качестве чистого зеркала высших сфер, он у Кузанца сплошь «субъективизи-
рован». Однако общим с этим раннесхоластическим пониманием у Кузанца
является отражающий характер интеллекта: в интеллекте отражается Божество,
что достигается на пути мистического видения Бога (опыт, приписываемый
самому Кузанцу) (ср.: Николай Кузанский. О видении Бога, особ. V).
109 Об ученом незнании, кн. И, гл. 1—4.
110 Об уме, гл. 6; О предположениях, ч. I, гл. 3, 4, 9.
111 Интересно, что мыслитель XX в. Карл Поппер подхватил понятие
конъектуры — предположения и осмыслил его, совершенно в духе Кузанца, в качестве
грандиозной авантюры человеческого ума — как попытку ближе подойти к
Абсолюту по непрерывному и опасному пути, — впрочем, без того, чтобы достичь
Абсолют, причина чему — несовершенство человеческого ума и возможность
для него впадения в ошибки (ср.: Popper К. Conjectures and refutations).
1,2 Ср.: FlascK 249 ff.
113 «Всем этим [т. е. платоникам. — Μ. Ф.] и другим писателям, сколько я ни читал,
недоставало нашего берилла» (Николай Кузанский. Берилл, XXII. С. 111).
114 О предположениях, I, 10.
115 Кузанец описывает этот процесс (который соответствует категории deificatio
у Алана Островитянина) в первую очередь в трактате «О видении Бога»; при
этом он постоянно указывает на дистанцию между человеческой и Божественной
личностью, — дистанцию непреодолимую и лишь допускающую некое
временное мистическое сокращение. Кузанцу здесь помогает отрицательное богословие
Псевдодионисия Ареопагита, которое, кажется, дает возможность различить в
Боге личность и сущность. Ибо если личность Бога (равно как и человека) остается
неприступной (личностной) тайной и постичь ее можно лишь очень
приблизительно, следуя по пути отрицаний, — то заключения о сущности Бога в
откровении могут быть сделаны в сфере положительного богословия.
116 Как правило, интегральная логика рассматривается в качестве единой системы
понятий рассудка и разума, а третья, высшая ступень остается без внимания.
117 Schwarz W. Das Problem der Seinsvermittlung bei Nikolaus von Kues. Leiden, 1970.
S. 106 f.
118 Ср., например, различение у Иоганна Герсона (1363—1429) ens reale (как esse
objectale mentis divinae) и esse objectale mentis humanae как трансцендентально-
познавательного понятия — различение, благодаря которому между созданной
Богом объективной вещью (кантовской вещью в себе) и человеческим
познанием устанавливается непреодолимая дистанция, — также и в том случае, когда
наши обозначения вещей известным образом вещам «уподобляются» (GersonJ.
De cone. met. с. Log. К; De mod. sign. 8).
119 В отношении подхода функциональность Кузанца родственна «Системе
трансцендентального идеализма» Шеллинга, — хотя, в частности, у Кузанца еще не
обнаруживаются или не развиваются телеологические предпосылки.
120 Понятие «maximum contractum» или ограничения в качестве принципа
универсума у Кузанца, так же как представленное в «Системе трансцендентального
е^ 457 **Э
(^ Примечания ^>
идеализма» Шеллинга понятие абсолютного субъект-объекта, присутствующего
определенным образом, как некая перспектива, в каждом конечном предмете, —
до тех пор не свободно от подозрения в пантеизме, пока сжатие не понимается
в смысле самоограничения Бога. Конечно, нельзя сомневаться в том, что Кузанец
со своим понятием сжатия очень близко подошел к цимцуму, а благодаря своей
интерпретации действия десяти универсалий он не только делает объяснимым
процесс эманации, но и приходит к постижению логической структуры тварного
мира, основывающейся на категориях Аристотеля (о цимцуме см. гл. I).
121 Шварц (op. cit., 239) приходит к выводу, что Кузанец в конечном счете создал
философию тотальной разумности («Но бытие полностью интеллигибельно,
поскольку в нем больше не признается никакого внеразумного остатка, —
пускай познание всей глубины бытия и остается недостижимым; все бытие
оказывается умом <...>; полнота бытия, omnitudo realitatis, есть mens ipsa»). Поэтому
Шварц интерпретирует объективный подход в «Compendium»'e не как возврат
к идеям «De docta ignorantia», но полагает, что внеразумная действительность
(res, natura) имеет лишь предварительный характер: она «вновь привязывается
к предшествующему ей разуму; потому вся исходящая от res sensibilis
каузальность оказывается теперь опосредованной разумом и его порождением» (292).
122 «Поскольку Бог пребывает во всем так, что все в нем, он не утрачивает своего
равенства всякому бытию при соединении с человечностью Иисуса. Но
соединение это максимально, потому что максимальный человек не может пребывать
в Боге иначе как тоже максимально» (Николай Кузанский. Об ученом незнании.
С. 154).
123 «Мне надо поэтому перескочить через стену невидимого видения, за которой
я смогу найти тебя, Господи. <...> Ты, который предстаешь как бы всем и вместе
ничем из всего, живешь внутри этой высокой стены. Никакой ум своей силой не
может совершить скачок через нее» (Николай Кузанский. О видении Бога,
разд. 12 / Пер. В. В. Бибихина // Николай Кузанский. Соч. Т. 2. С. 58).
124 Ср. выше, сн. 102.
125 Понятие «моральная логика» было сформулировано Валентином Томбергом.
Оно присутствует повсюду в его трудах и может рассматриваться как одно из
его центральных положений. Нам важно то, что Томберг использует это понятие
в своей полемике с Кантом.
126 Ср. сн. 3.
127 Николай Кузанский. Об искании Бога / Пер. В. В. Бибихина // Николай
Кузанский. Соч. Т. 1. С. 302-303.
VII. Метафизика свободы и similitudo Dei
[подобие Божие]
1 Kobusch, 11,12.
2 Ibid., 19.
3 Кобуш (op. cit., 262) ссылается на Гегеля: «Лишь в принципе христианства
индивидуальный, личный дух обладает по своему существу бесконечной
абсолютен 458 ^5
(^ Примечания ^D
ной ценностью. <...> В христианской религии выступило учение, что перед
Богом все люди равны, ибо Христос определил их к христианской свободе. Эти
определения делают свободу независимой от происхождения, сословия,
образования и т. д. И этим был сделан необычайно огромный шаг» (Гегель Г. В. Ф.
Введение в историю философии. Лекции по истории философии / Пер. Б. Стол-
пнера// Гегель Г. В. Ф. Собр. соч. Т. IX. М., 1932. С. 50).
4 Kobusch, 262.
5 «Личность, которую Александр Гальский вместе с Ришаром Сен-Викторским
также называет "определенным экзистенциальным модусом", согласно этому
учению, существует как "моральная вещь", а именно — поскольку ей присуща
свобода. Но будучи свободным существом, личность обладает "достоинством"»
(Ibid., 24).
6 Решающую роль в связи с этим играет Послание апостола Павла к филиппий-
цам (2: 5—8): «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу,
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти». Итак,
согласно Павлу, Христос свободно отказался от Своей Божественной сущности
и воспринял сущность человеческую.
7 Alexander von Hales [Александр Гальский], Glossa in I Sent., d. 25, 244, 30: «Ita
enim distinguntur haec tria: persona, Individuum, subiectum, quod "persona" ad
mores refertur et est nomen moris, "individuum" pertinet ad rationalem, "subiectum" ad
naturalem» (цит. no: Kobusch. Op. cit., 23). Кобуш указывает (25) на то, что
Александр следует здесь стоико-августинской традиции: «Есть все основания
предполагать, что это различение трех областей бытия (природная, рациональная
и моральная) связано со стоическим подразделением (воспринятым и
эксплицированным Августином) философии, включающей при этом в себя
натурфилософию, логику и философию морали (ср.: Рппсгре W. Н. Alexander of Hales,
Theology of Hypostatic Union, 61). В действительности Августин обосновал (без
использования соответствующего понятия) метафизику природного, логического
и морального бытия. <...> Однако разница между онтологией Августина и
возникающей в XIII в. онтологией esse morale бесконечна: в то время как, согласно
Августину, бытие природных вещей, человеческих мыслей и всего того, что
человек делает и допускает, укоренено в идеях, т. е. в Божественных мыслях, —
в XIII в. возникает первая самостоятельная, обособленная онтология
морального бытия, онтологическим основанием которого служит не что иное, как
человеческая свобода».
8 Alexander von Hales [Александр Гальский]: «Persona res moris est, quia dicit
proprietatem dignitatis» (Glossa in III Sent. d. 6(E)87, 8; цит. no: Kobusch, 24);
Philipp. Cancellarius: «Esse personae est morale et respicit dignitatem» (Quaestio-
nes de incarnatione, q. 2, n. 30).
9 Ср.: Hufnagel Л. Wesensbestimmung der Person bei Alexander von Haies, 166.
10 Kobusch, 25.
11 Ibid., 31.
12 Риторический вопрос, который Кобуш (31) ставит перед Средневековьем.
е^459^Э
С^ Примечания ^z)
13 Поэтому уже такие современные томизму его критики, как Генрих Гентский
и Дуне Скот, трудились над упразднением analogia entis.
14 Summa theol., qu. 94, art. 2.
15 Ср.: Tomberg V. Die Problemgeschichte der Völkerrechtswissenschaft, 50, 51.
Поскольку речь идет о до сих пор не опубликованной рукописи, в сносках
приводятся обширные цитаты из нее.
16 Ibid., 54.
17 «Согласно основному положению св. Фомы, мир — это не просто состояние
отсутствия войны между государствами, но такой порядок, который не содержит
в себе даже и зародыша войны. <...> Если порядок некоего города или
королевства своим прообразом имеет мировой порядок, то также и управление
государством должно соответствовать Божественному управлению: таково основное
положение "analogia entis", значимой как для государственного порядка, так и для
порядка в человечестве. Итак, согласно Фоме Аквинскому, более глубокий смысл
и содержание понятия "мир" есть порядок в человечестве, который основан не
на воле людей (все равно, отдельных индивидов или их множества), а на вечном
законе, естественном законе и человеческом законе, если этот последний не
противоречит закону естественному и Божественному. Но на практике это означает
наличие трех авторитетных инстанций, соподчиненных иерархически: это
инстанция государственного авторитета, международного авторитета и
Божественного авторитета, — соответственно человеческому закону, естественному закону
и Божественному закону. Средневековье знало эти три авторитета в форме
князя или магистрата, императора и папы. "Князь, император и папа" означает
конкретное выражение трехступенчатого правового порядка, конкретную форму
средневековой идеи мира, представителем и глашатаем которой был Фома Ак-
винский. Подлинный мир — в отличие от вооруженного противостояния и
скрытого состояния войны — это такое положение на Земле, при котором горизонталь
сосуществования личностей, семей, групп и народов определяется
иерархической вертикалью человеческого закона, естественного закона и Божественного
закона (De Regno, cap. 24, art. 1). <...> Созвучие гуманизма и религии, как
существо подлинного мира, в области права означает примат Божественного права
и естественного права перед правом положительным, а также примат
международного права перед внутригосударственным положительным правом, так как
международное право (jus gentium) представляет первую ступень перехода от
естественного права к праву положительному (Summa theol., II, qu. 95, art. 4).
<...> Международное право, т. е. jus gentium, понятое в античном смысле как
правовые нормы, значимые для всего цивилизованного человечества, есть
связующее звено между естественным правом и jus civile, особенным правом отдельных
государств. Поэтому оно относится непосредственно к отношениям — мирным
и военным — государств между собой. Если отдельные системы гражданского
права образуют правовые основания для соответствующих государственно
организованных обществ людей, то международное право есть значимое правовое
основание для сообщества человечества, — а именно, не только сообщества
государств, но также и сообщества человечества, т. е. это правовое сообщество,
охватывающее все человеческие личности. Следовательно, идея мира св. Фомы
Аквинского — это гармоническое трезвучие из положительного, естественного
е^460^Э
е^ Примечания ^)
и Божественного права; но в качестве историко-практической задачи для
человечества остается нахождение или создание соответствующих инстанций и
снабжение их соответствующим авторитетом и правом санкций. Св. Фома Аквинский
лишь закладывает для этого фундамент, предоставляя всему переменчивому
право (и даже необходимость) развития» (Tomberg, 55—58).
18 Здесь — решающее отличие средневекового учения о естественном праве от
соответствующего учения Нового времени.
19 «Фома Аквинский также воспринял идею метафизики морального бытия, — как
со стороны терминологической, так и с концептуальной. Конечно, понятие
морального бытия нельзя интерпретировать как relatio relationis, как нечто чисто
мыслимое, — т. е. в значении определенного направления в испанской
схоластике. Скорее, Фома, подобно его современникам, смотрел на моральное бытие как
на такую область бытия, которая хотя и предполагает природное бытие, однако
независимо от него. В его "Сумме теологии" (I—II, qq. 18—21)
парадигматически изложена как раз онтология нравственного поступка, — в известной степени
с постоянной оглядкой на природные вещи» (Kobusch, 38—39).
20 Ibid.
21 Ibid., 39.
22 Ibid., 32.
23 Ср.: Villey M. Le droit et les droits de l'homme, a также: La formation de la pensée
juridique moderne; La genèse du droit subjectif chez Guilllaume dOccam (цит. по:
Kobusch, 33).
21 Kobusch, 33.
25 Ibid., 33 f.
26 Ibid.
27 Ibid., 34 f.
28 Ibid., 41.
29 Ibid., 45.
30 Ibid.
31 Ibid., 51.
32 Ibid., 43.
33 Ibid.
34 Ibid., 52. Здесь назван Бонавентура, In IV Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 3 contra 3, IV, 42 b.
35 Ibid., 33.
36 Ibid., 54.
37 Ср.: Tomberg, op. cit.
38 Л. Оппенгейм (Lehrbuch des Völkerrechts. Cambridge: H. Lauterpracht, 1946)
называет Альберика Жантили отцом международного права, так как его книга «De
Jure Belli» служила Гроцию в качестве оригинала.
39 Tomberg, 169.
40 Ibid.
е^461^)
(^ Примечания ^>
41 Ibid.
42 H. Grotius. Mare Liberum (цитируется предисловие).
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Tomberg, 169 f.
46 «Гроций настойчиво повторяет здесь те основные положения, которые
поддержали бы также, например, Виторий и даже Фома Аквинский. Но одновременно
Гроций делает шаг, который его великие предшественники не одобрили бы: он
отсылает Божественное право на небеса и позволяет ему быть значимым,
собственно, лишь в качестве природного права на субъективной арене совести и в
качестве общественного мнения — на земле. От трех ступеней права (Божественное,
природное и положительное право) Гроций отделяет высшую ступень, право
Божественное, делая его трансцендентным, — т. е. он отсылает его в ту сферу
бытия, которая находится по ту сторону практической области, где значима
правовая жизнь. <...> Для Гроция Божественное право теряет свое свойство
объективного присутствия на Земле, в ходе истории: оно существует при Боге. Правда,
оно открыто Священным Писанием, однако понимание, истолкование и оценка
значения этого откровения зависит от понимания и совести индивида. Тем
самым оно предоставлено субъективному суду отдельной личности. Оно значимо
не в том смысле, что снабжает все человечество авторитетными объяснениями,
истолкованиями и обязательствами, т. е. что Церковь существует в качестве ис-
толковательницы, учительницы, хранительницы и представительницы на Земле
Божественного права. <...> Хотя Гроций стремится сохранить для будущего
принципы своих католических предшественников и, где это необходимо и
возможно, обосновать их заново, — он обязан, однако, разделить общую судьбу
протестантизма: в исторической земной области человеческого бытия Церковь
не является для него хранительницей и носительницей Божественного права,
сообщенного откровением; также при этом для него упраздняется объективное,
общезначимое право, которое становится личным делом индивида, приобретая
чисто субъективное значение. <...> Гуго Гроций потому — не "отец науки о
международном праве", а один из выдающихся ранних представителей той школы
в науке о международном праве, которая стремилась придать традиции,
укорененной в мире католической мысли, образ, приемлемый для мира мысли
протестантской. Так как это Гроцию в значительной мере удалось, он сделался "отцом
современной науки о международном праве"» (Jbmberg, 170 f).
47 Kobush, 65, указывает на то, что уже Суарец демонстрировал это понимание:
«Согласно Суарецу, следует различать агрегатоподобное собрание людей, в
котором отсутствует какое-либо физическое или моральное единство, и
"мистическое сообщество", которое посредством некоей "особой воли или общего
согласия становится политическим телом, скрепленным общественными связями",
так что, "представляя собой некое мистическое тело", оно подобно моральному
единству» (De legibus, disp. 7, sect. 2 в изд.: Suarez F. De legibus III, 1 — 16, CHP
XV, 278—289). Кобуш продолжает: «Только такое "множество" людей,
следовательно, можно понимать как persona moralis или институцию, которая имеет
одну волю и обнаруживает себя вовне в качестве единства, связанного скрепой
е^ 462^5
(^ Примечания ^)
согласия. По-видимому, существуют отчетливые признаки того, что Суарец
понимал государство как "юридическое лицо" в современном смысле, т. е. в
качестве самостоятельного субъекта права. Таким способом Суарец, дав перспективу
на века, также связал проблему институции с теорией морального бытия.
Личность (в двойном значении слова — как индивидуальная личность, наделенная
свободой и достоинством, и как институция с единой волей) — это великая тема,
основная для определенной традиции философии Нового времени, — традиции,
которая включила в себя изложение подхода схоластики, и в особенности Суа-
реца, продолжив их развитие и тем самым принципиально изменив мировую
действительность (как философское мышление, так и общество и политику)»
(Kobusch, 65 f).
48 Lib. II, с. 18, «De légationum jure».
49 Tomberg, 177.
50 De Regimine Principium, Lib. I, cap. 1.
51 Tomberg, 181.
52 Vgl.z. B. Kobusch, 71.
53 «Естественное состояние человеческого общества, предшествующее
общественному договору, различными мыслителями в ходе истории представляется на
различный лад: для одних это состояние невинности, подобное райскому (Локк,
Руссо); для других, напротив, — это некий ад войны всех против всех (Гоббс);
для третьих опять-таки — это как бы чистилище для неоднородной
человеческой природы и общества, где низшая природа человека достигает признания
требований его высшей природы путем ошибок и страдания (Платон, Гроций);
наоборот, для иных государство вообще не является результатом общественного
договора, но есть лишь выражение человеческой природы, а потому столь же
старо, как и сама человеческая природа, так что и здесь социальное единство и
подчинение существовало в состоянии невинности (Аристотель, Фома Аквинский).
Также сам общественный договор в ходе истории понимался по-разному: одни
понимали его как некое внешнее историческое событие (Гроций); другие же —
как теоретическую конструкцию, постулат разума (Руссо, Кант). Но для
представителей схоластики и неосхоластики он, собственно, не был ни действительным,
однажды совершившимся историческим событием, ни некоей чисто
субъективной конструкцией, но беспрестанно меняющимся отношением разума и
инстинктивной природы человека и человечества, так что, с одной стороны, его можно
понимать как многократное событие создания и преобразования государства, но
с другой также — как устойчивое отношение в сознании человека естественного
права к праву положительному и положительного права к силам хаоса. <...> Вся
западная традиция — с платонической ли ориентацией, т. е. основанная на идее
правосудия, или с аристотелевской установкой, т. е. базирующаяся на
справедливости, внутренне присущей человеческой природе, — вплоть до
возникновения волюнтаризма противопоставляла примат разума и естественного права воле
и положительному праву, что было ее общей существенной чертой.
Естественное право выдвигало обязательства как для властителя, так и для его
подданных; государство (а также сообщество государств) означало главным образом
(безразлично, шла ли речь о монархии или о республике) правовой порядок, ко-
е^463^Э
(^ Примечания ^Э
торый не противоречил основам разума и справедливости. Это воззрение было
отвергнуто Гоббсом. Его "естественное право" — это не справедливость с ее
идеальным и этическим содержанием, а претензия человеческой воли на обладание
и пользование всеми вещами; его "естественные законы" (которых он
насчитывал девятнадцать) — это не нормы, выведенные из идеала, не идеи и понятия
справедливости, а закономерности человеческих поступков, полученные
посредством наблюдения и оценки человеческой природы. Гоббс отбросил
долженствование норм традиционной школы естественного права; он заменил их
долженствованием принудительных законов, опирающихся на мощь государства.
В силу этого государство для него — это не правовой порядок, которому служит
государственная мощь, а насильственный порядок, которому служит
действующее право (положительное право). Его учение об общественном договоре в
конечном счете есть не что иное, как обоснование и оправдание абсолютизма: речь
идет об однажды случившемся и не подлежащем отмене подчинении народа
государственному насилию, которое отныне является насилием личности над
всеми ей подчиненными личностями» (Tomberg, 195 f.).
54 KobuscK 68.
55 «Оно опирается на то основополагающее представление, что человек — в
противоположность Аристотелю, схоластической школе и Гроцию — по природе не
является "общественным существом", но есть существо, живущее в борьбе за
существование, т. е. естественным образом вовлеченное в войну всех против всех
(предпосылка дарвинизма), — существо, по разумным причинам, т. е. ввиду
пользы и выгоды, связанное с другими существами, чтобы совместно господствовать
над иным сообществом или защищаться от него (предпосылка марксизма); те
же самые "разумные причины" с необходимостью ведут людей к безусловному
подчинению насилию, т. е. к образованию государства (предпосылка
тоталитарного государства — фашистского, национал-социалистического,
коммунистического типа)» (Tombergy 193 f).
56 Ibid.
57 Pufendorf Samuel. De jure naturae et gentium. Введение.
58 Ср.: DenzerH. Moralphilosophie und Naturrecht, 125, 260.
59 «Приняв решение придать естественному праву строго научную форму,
элементы которой связаны друг с другом и по законам разума происходят один от
другого, я прежде всего позаботился о том, чтобы заложить подходящий для этого
фундамент или установить некий фундаментальный принцип, призванный
собрать все предписания в компендиум, из которого их можно было бы вывести
с помощью несложной и ясной процедуры и в котором они бы присутствовали
в снятом виде. <...> Этот принцип должен был быть таким, чтобы из него не
только с очевидной логикой вытекали прочие предписания, но и свет его истины
был не чем иным, как светом разума» (Pufendorf S. Ens Scandica, 231 f.).
60 Ibid.
61 Kobusch, 69; Pufendorf S. Eris Scandica, 117.
62 KobuscK 70.
63 Pufendorf S. De jure nat. et gent, I, 1, 1.
64 Кобуш ссылается здесь на труд: DenzerH. Moralphilosophie und Naturrecht, 244 f.
e^ 464^Э
С^ Примечания ^D
65 Pufendorf S. Eris Scandica, 204.
66 Ср.: Pufendorf S. Brief an Thomasius vom 19. 6.1688, 31 f; ср.: Brief an Pregitzer
vom 29. 7. 1687, 19.
67 Kobusch, 70 f.
68 «Итак, постановка вопроса, метод исследования и получающиеся отсюда
результаты познания в схоластике и иберийской постсхоластике были
полностью "теоцентричными", т. е. их представители исходили из Бога и
открывающего Его "ordo rerunT. <...> Для них была значима следующая установка:
"Загадочность вещи — это ее несоотнесенность с Богом". Поэтому также и право
составляло для них проблему лишь постольку, поскольку оно испытывало
нужду в соотнесении с Богом. Это соотнесение видели именно в том, что право
рассматривалось как ступенчатая связь Бога и человека: в Боге оно господствовало
в качестве Божественного права, в человеке оно было правом естественным, а из
человека оно проецировалось в социальный порядок как положительное право»
{Tomberg, 225).
69 «Отныне имеет место тезис: "Загадочность вещи — это ее несоотнесенность с
человеком". "Вещи в себе" загадочны (само их существование проблематично); но
если они как бы "очеловечиваются", т. е. если они могут быть подвергнуты
анализу с помощью врожденных форм содержания и мышления, присущих
человеческой познавательной способности, без возникновения противоречий с этой
последней, — то они становятся составными частями "необходимого и всеобщего"
познания, причем необходимый характер этого познания определяется не
существенным состоянием вещей или порядком их бытия, а существенным состоянием
человека, формами его созерцания и мышления; а всеобщность этого познания
укоренена не во всеобщности мирового порядка, а в общности категориальной
структуры познавательной способности людей. Познающий (т. е. наделенный
чистым разумом) человек и нравственный (т. е. наделенный практическим
разумом) человек становятся мерой всех вещей. Для "антропоцентрической"
установки право — это форма и категория разума» (Tomberg, 226).
70 «"Теоцентризм" определенно "реалистичен", — а именно, или крайне
реалистичен ("universalia ante res"), или умеренно реалистичен ("universalia in rebus"),
тогда как "антропоцентризм" "номиналистичен", — а именно, существует в форме
умеренного номинализма или концептуализма (Вильгельм Оккам: universale
Signum et terminus) — или же в форме крайнего номинализма (Росселин Компь-
еньский: universalia mere flatus vocis)» (Tomberg, 227 f.).
71 «"Интеллигибельный мир" "абсолютных истин и ценностей" прошлого отныне
становится для человеческой познавательной способности пустой, темной и
безмолвной областью, которая заполнена и покрыта лишь догматическими
утверждениями некритических умов прошлого и настоящего. Поэтому надо
придерживаться того, что является данностью, и ограничиваться ею: человеку сам человек
дан как элемент бытия, и потому при познании надо исходить из человека и не
искать ответов, которые человеческий разум дать не в состоянии. Но то, что
недоступно человеческой познающей воле, которая пользуется человеческим
разумом, что, однако, действует в мире и чего нельзя избежать, — это следует
терпеть как установление власти, возвышающейся над порядком, которой следует
покориться. — Примерно так можно вообразить себе переход от реализма, для ко-
е^465^Э
(^ Примечания ^Э
торого бытие и долженствование одно и то же, к умеренному номинализму, для
которого бытие и долженствование представляют собой две разные области
(область человеческого разума и человеческой воли). При этом происходит в
основном ограничение области познаваемого, в то время как сфера вне познаваемого,
т. е. непознаваемое, передается воле. Здесь мы находимся на подступах к
различению способностей чистого и практического разума в смысле Канта» {Tomberg,
228 f.).
72 «Ту роль, которую у Канта будет играть "практический разум" (постулирующий
Бога, душу и бессмертие), у Пуфендорфа играла лютеранская Церковь, которая
выдвигала веру в Бога, душу и бессмертие, не претендуя на их разумное
обоснование (следовательно, к примеру, без "quinque viae", пяти доказательств бытия
Божия у св. Фомы Аквинского). Лютеранская Церковь предоставляла
возможность провести четкую разграничительную линию между "знанием" и "верой",
между разумом и волей и при этом освободить разум от делающихся все более
тягостными богословских пут и вновь вернуть воле "первоначальную
незамутненную чистоту детской веры". Лютеранская Церковь идущего к концу
семнадцатого столетия была прибежищем для тех людей, "рассудок которых хотел
освободиться от веры, а чье сердце желало веровать" (к ним принадлежал и Пу-
фендорф); эти люди представляли ту линию развития, которая свою вершину
и завершение нашла в Канте. При этом Пуфендорф "детеологизирует" область
разума, но одновременно он также выталкивает из области религии, которую
целиком передает воле (человеческой и Божественной), элементы разума. Право
и несправедливость, добро и зло не потому суть "право" и "несправедливость",
что они "сами по себе" таковы и открываются как таковые разуму, но потому, что
они соответствуют или противоречат установлению некоей сверхъестественной
воли. Добро есть добро потому, что так захотел Бог; истина верна, так как она
соответствует природе человека, которая, со своей стороны, такая, какой ее
возжелал видеть Бог» {Tomberg, 228 f.). Сам Пуфендорф пишет: «Для того чтобы
теперь это знание естественного права (то знание, которым мы здесь
занимаемся и которое включает в себя всякое подлинное и достоверное знание о
нравственности и праве) всецело удовлетворяло научным требованиям, мы не
нуждаемся (в отличие от некоторых писателей) в том, чтобы заявлять, что те или
иные вещи сами по себе благородны или неблагородны (помимо
соответствующего установления) и что подобные вещи являются предметом естественного
или вечного права, тогда как те вещи, ценность или негодность которых зависит
от воли законодателя, имеют отношение к положительному праву. Ибо здесь
высокая ценность или нравственная необходимость, а также негодность суть
свойства человеческих поступков, — свойства, проявляющиеся благодаря тому,
что они соответствуют или не соответствуют некоей норме или закону, — закон
же — это заповедь начала сверхъестественного; поэтому невозможно понять то,
как мыслить существование чего-то ценного или негодного прежде
установления закона и без предписания или заповеди, исходящих от сверхъестественного
начала» {Pufendorf S. De jur. nat. et gent., I, 2).
73 Kobusch, 67 f.; см. у нас выше.
74 «Обоснование нравственности и права поэтому следует искать не в основах
человеческого разума, а в воле Божией. Тезис св. Фомы Аквинского,
характернее 466^Э
<ü* Примечания ^Э
зующий мысль учителей, принадлежащих к его школе, отныне лишен "analogia
entis", аналогии существующего. Одновременно лишенность эта означает
отрицание как познаваемости бытия, сверхъестественного для человека, так и
примата разума (вытекающего из аналогии или "образности и подобия"
человеческого существа по отношению к Богу) перед волей. "Lex aeterna", некий вечный
закон в качестве принципа метафизической, содержательно обусловленной
необходимости Божественной мудрости, открывающийся во внутреннем человеке
как "естественное право", для Пуфендорфа не существует. Место "вечного
закона", разумной необходимости теперь занимают "желание" или "мнение" воли
Божией. При этом также упраздняется содержательное обоснование
нравственности и права: сами по себе поступки человека не хороши и не дурны, не
справедливы и не несправедливы, поскольку не существует ни добра и зла самих по
себе, ни права и несправедливости, но существует лишь заповедь Божия,
которая делает хорошими или дурными, справедливыми или несправедливыми эти
поступки, соответствующие или противоречащие этой заповеди. "Добро" — это
то, что заповедует Бог; "зло" — это то, что Он запрещает. Собственные
"моральные суждения" человека невозможны: они появляются как таковые лишь как
следствие скопившейся <...> в сознании из прошлого, пришедшей через
воспитание и внешнее влияние ненависти по отношению к тем вещам, которые
считаются "дурными". Но существует естественное право, хотя и не как вечный закон
или Божественная мудрость, внесенные во внутреннюю жизнь человека, но как
созвучная с волей Божией наклонность человеческой природы, которая, "словно
глина горшечника", была сформирована так, что те вещи, которые возжелал
Творец, представляются ей не иначе как "разумными", т. е. как если бы они
обладали внутренней необходимостью. Естественное право в смысле Пуфендорфа
есть при этом "человеческая природа, склонная к общественности" (socialitas ho-
minis), которая есть одновременно разум (т. е. предстает как разумность), — но
не разум, царящий в мире, а как бы субъективный человеческий разум с его
категориями и постулатами. Источник естественного права, общего для всех
людей, который является поэтому также источником международного права как
права человечества, — это человек. Пуфендорф отказался от "теоцентрического"
понимания естественного права <...> и вместо этого в качестве естественного
права принял "антропоцентрическое" его понимание» {Tomberg, 232 f.).
75 «В качестве научного достижения учение Руссо для истории международного
права имело бы весьма малое значение (поскольку, не говоря уже о недостатках
его формы и содержания, оно не внесло также никакого прямого вклада в
проблемы международного права), не окажи оно сильного психологического
влияния на представления о сущности государства как субъекта международного
права и просто на существо организованного человеческого сообщества
(следовательно, и международно-правового сообщества) и не будь оно ценнейшим
симптомом, который способствовал пониманию последующих тенденций в
области международного права, — тенденций, также усматривающих источник
международного права в "государственной воле"» {Tomberg, 299).
76 Руссо Ж.-Ж. Фрагменты и наброски. [О естественном состоянии] / Пер. В. С.
Алексеева-Попова // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 419.
77 «Когда Руссо представляет себе человека в природном состоянии как
самодостаточного, изолированно живущего дикаря, он хочет сказать, что природность
е^467^Э
e^ Примечания ^Э
в ее радикальности до сих пор еще не была осмыслена. Предшествующие учения
о природном состоянии всегда еще смешивали собственно природное с тем, что
принадлежит области воли, смешивали природу и свободу индивида с
общественным началом... Мыслить человека в природном состоянии означает
понимать его в качестве чистого природного существа, в качестве устойчивой в себе
и существующей для себя природной вещи. Но как только один из дикарей
сказал по поводу некоего клочка земли: "это мое", снискав при этом уважение
окружающих, — начинается вторая часть "Трактата" — человек как природное
существо сделался свободным существом. Поэтому "Трактат" описывает собственно
переход (в схоластических понятиях, которые, однако, соответствуют и языку
Руссо) от человека как природного существа (esse naturae) к человеку как
моральному бытию. Неравенство людей, — таков тезис данного сочинения, —
заключено в их моральном бытии, т. е. основывается на человеческой свободе, с
помощью которой человек вступает в отношения с окружающими» (Kobusch, 118).
Кобуш замечает: «В предисловии к своему "Рассуждению о происхождении
и основаниях неравенства между людьми" Руссо ссылается на "современных"
учителей естественного права, т. е. на Пуфендорфа и его школу, которые, в
отличие от учителей римского права, понимали закон, обосновывающий
неравенство, как "правило, предписываемое существу нравственному, т. е. разумному,
свободному и рассматриваемому в его отношениях с другими существами"»
[Руссо Ж.-Ж. Рассуждение.../ Пер. А. Д. Хаютина// Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 42].
78 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (первый набросок) / Пер. А. Д. Хаютина
и В. С. Алексеева-Попова // Там же. С. 304.
79 KobmcK 120.
80 Кобуш (ibid.) замечает: «С помощью таких понятий, как уважение, честь,
оценка, ценность и т. д., Руссо возвращается к словарю учения об entia moralia, —
вернее сказать, к понятиям existimatio и aestimatio, которые использовались Пу-
фендорфом и его учениками <...> в качестве обозначения моральных качеств,
присущих личности как таковой. Однако у Руссо это понятие уважения или
оценки, которое возможно лишь на основе сравнения, уже не обозначает какого-
либо категориального определения отдельной личности, но обозначает элемент,
конституирующий некое общество или общину как таковые. Искание почестей
связывает между собой людей и делает их зависимыми друг от друга».
81 «Задолго до гегелевской теории Руссо понял, что эта "система потребностей", т. е.
современное общество, основанное на разделении труда, на стремлении к
прибыли и почестям, на частных интересах и конкуренции, ведет к накоплению
богатства на одной стороне и к обнищанию на другой. В конце концов, в
побежденной эгоизмом буржуазии возникает противостояние всех против всех. Мысль
Гоббса о bellum omnium contra omnes находит здесь свое подтверждение.
Согласно Руссо, стоит признать эту войну, развязанную благодаря частным интересам,
не чем-то природным, но тем, что относится к области être moral» (Kobusch,
120).
82 «Так как частные интересы сталкиваются между собой, то, чтобы избежать хаоса
и анархии, следует создать искусственное общество. Поэтому Руссо и говорит,
что "противоположность частных интересов сделала необходимым создание
общества", чему, однако, одновременно содействовал некий общий момент в этих
е^ 468^5
е^ Примечания ^Ξ>
разных интересах. Только поскольку все отдельные интересы связаны между
собой неким общим интересом, можно говорить о некоем всеобщем волении,
volonté générale» (Kobusch, 121).
83 Cassirer Ε. Das Problem J.-J. Rousseau, 22. Кобуш (124) замечает: «И. Фетчер
("Политическая философия Руссо", 94) справедливо указал на то, что Руссо
благодаря этому различению ориентируется на старую традицию esse morale,
в которой (например, у Суареца) различаются "агрегат" и corpus mysticum как
два способа рассмотрения, соответствующие одному множеству людей».
Конечно, существует большая разница, рассматривают ли (как Суарец) с
«геоцентрической» точки зрения некое corpus mysticum — или же с «антропоцентрической»
(как Руссо в своей «мистике без Бога»).
ы Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Кн. I, гл. 6. С. 161.
85 «Для того чтобы понять, что имеет в виду Руссо, надо признать: вместе с
понятием aliénation totale воспринят terminus technicus из той мистической традиции,
которая, как и учение о воле, тоже представляет форму метафизики морального
бытия. Через госпожу де Варан Руссо познакомился с мистикой госпожи Гийон
и Фенелона, усвоившей многие термины древней мистики. В этой традиции
"отчуждение" означает то, что человеческий дух становится чужим по отношению
к вещам этого мира и к самому себе, — постольку поскольку он еще желает "того"
или "этого", — не для того чтобы вообще больше ничего не желать, но дабы
осуществить в себе самом воление действительно всеобщего, Божественное воле-
ние. Благодаря "отчуждению" воление души не умерщвляется, а преобразуется.
Такова главная мысль, которая также лежит в основе концепции Руссо о volonté
générale. Когда индивид полностью отдается тотальной aliénation, сама его воля
преобразуется. Та же самая воля, которая прежде, в природном состоянии, лишь
следовала партикулярным интересам, теперь, после заключения договора, желает
просто всеобщего, общественного блага, свободы для всех. Именно это
принципиальное изменение воли через одно тотальное овнешнение и означает понятие
отчуждения у Руссо» {Kobusch, 124 f.). Он замечает: «Применение позднейшего
понятия отчуждения в связи с процессом образования общества у Руссо вообще
не имеет текстуальных оснований. Те интерпретации, которые называют бытие
за пределами природного состояния "отчужденным", <...> с этого момента
делаются проблематичными». В связи с этим Кобуш упоминает труды: Spaemann R.
Rousseau и Barth H. Über die Selbstentfremdung des Menschen bei Rousseau.
86 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Кн. I, гл. 7. С. 162—164.
87 Kobusch, 125.
88 В связи с отказом от собственной воли и его трансцендентальными причинами
ср. точку зрения Соловьева, представленную в гл. VIII.
89 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Кн. I, гл. 6. С. 161.
9Ü Kobusch, \26 f.
91 Kobusch, 126, цитирует Руссо: «Подобный отказ несовместим с природою
человека; лишить человека свободы воли — это значит лишить его действия какой
бы то ни было нравственности» {Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Кн. I,
гл. 4. С. 156).
С^ 469^3
(^ Примечания ^>
Kobusch, 127, здесь противоречит P. Шпеману, который интерпретирует
«Эмиля» Руссо как возвращение разочарованного в volonté générale индивида из
области истории и политики во внутренний мир совести. Шпеман говорит о
«результате резиньяции, а именно, понимания того, что век полиса, политическая
эпоха позади». Это воззрение, согласно Шпеману, обязано христианству. В
совести современный человек вновь обрел самодостаточность, возвратил в самого
себя абсолютный центр тяжести (Spaemarm R. Rousseau, 21). Напротив, Кобуш
интерпретирует Руссо таким образом, что развитие общества должно как бы
стимулироваться внутренним развитием индивида, чтобы последняя глубина
совести и политическое бытие не исключали, но, напротив, обусловливали друг
друга, дабы свобода и общее благо могли гармонически сосуществовать.
К этому примыкает то, что для Кобуша «"Эмиля" следует понимать в качестве
сочинения, параллельного, аналогичного сочинениям политическим, поскольку
там изображается развитие одной индивидуальной жизни в известной степени
от природного состояния до нравственного сознания, и, соответственно, впервые
используется понятие нравственного бытия в его полном значении. Но то, что
volonté générale представляет с объективной стороны, совесть являет с
субъективной. Одна обнаруживает объективную свободу, другая — субъективную.
<...> Согласно Руссо, совесть — это не прибежище для разочарованных
развращенной действительностью, а дополнительный по отношению к volonté générale
принцип, который, как amour de Tordre, всегда соотносим с последней. Homme
sauvage не обладает совестью. Совесть может иметь лишь тот, кто в царстве
морального неравенства может производить сравнения и тем самым вообще может
что-то оценивать; таким образом он находится уже в царстве être moral»
(Kobusch, 127 f.).
Руссо Ж.-Ж. Об общественном соглашении / Пер. В. С. Алексеева-Попова //
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 423.
Kobusch, 126.
При этом надо иметь в виду, что со времен Христиана Томазиуса
нравственность и право считались разными областями: «Вообще, признаваемое важным
различение между "внешним" характером права и существенно "внутренним"
состоянием нравственности обычно приписывали Христиану Томазиусу. В
труде Томазиуса "Fundamentum Juris Naturae et Gentium" (1705) и в некоторых
других его сочинениях было выражено воззрение, по которому право, будучи
порядком, утверждаемым с помощью государственного насилия, именно из-за
этой насильственности совершенно чуждо области нравственности. Существо
нравственности — это свобода; вынужденность (или сама ее возможность)
ничего общего не имеет с нравственностью; она относится к другой сфере, — а
именно, к сфере права» (Tomberg, 244).
Tomberg, 302 f., пишет о труде: Jellinek Georg. Allgemeine Stattslehre. Wien, 1882,
который, по его мнению, демонстрирует применение учения Руссо о
суверенитете государственной воли в теории международного права: «Право лишь
постольку есть право, поскольку оно с помощью разума задает норму воле, т. е. полагает
ей пределы и указывает направление; но если вместо этого оно есть выражение
воли, — также и "общей воли", или "усредненной воли", или же "правовых
убеждений" массовой психологии (все это имеет один и тот же источник), то речь
С5^ 470 ^Э
(^ Примечания ^
уже идет не о праве, а о политике, т. е. о борьбе и равновесии властных
устремлений. Идет ли речь при этом об "общей воле" Руссо или о "государственной воле"
Еллинека, значения не имеет: обе делают невозможным международное право
и одновременно делают беспредметной науку о международном праве. <...> Так
как учение Еллинека о суверенной государственной воле есть лишь следствие
(в области международного права) государственно-правовых учений его и
Руссо об общей воле и "господствующем правовом убеждении", то отсюда можно
заключить, что непрямое влияние Руссо в принципе враждебно
международному праву. Однако его влияние было обязано скорее его пафосу "свободы" и
"незыблемости прав человека", чем тезисам его трудов, и оказывало действие в
большей степени на публицистов и политических писателей, чем на теоретиков
"естественного" и "международного права", что и правомерно, так как его учение
об общей воле как источнике права означало то, что право подменяется
политикой, что, собственно, нет никакого права как такового, а есть только политика».
98 «Когда его представители отказывались от сверхисторических и общих
принципов Божественного права и в качестве источника права признавали один
эмансипированный разум, они тотчас же из-за этого впадали в релятивизм
субъективных и обусловленных временем систем, которые, однако, все претендовали
на роль "системы естественного права" или "учения разума о праве". Например,
с 1780 года к моменту каждой лейпцигской книжной ярмарки появлялось более
восьми новых систем "естественного права". По сравнению с определенностью
учения philosophia perennis о вечном трезвучии права, — учении, глубоко
обоснованном мыслительно и религиозно, — представления о праве, отступающие от
него, возникшие под влиянием просветительской философии XVIII века и
естественнонаучного мышления XIX века, кажутся чем-то вроде
насекомых-однодневок. Ибо когда происходит отказ от схоластического учения о естественном
праве, а также от находящихся еще в пределах традиции учений Гуго Гроция,
Готфрида Вильгельма Лейбница, а также еще, скажем, Христиана Вольфа, то
при этом покидают область великих соборов и оказываются в области домиков,
хижин, сараев и, наконец, казарм и тюрем» (Tomberg, 302 f.).
99 Tomberg, 304, в связи с этим цитирует труд: Stadtmüller Georg, Das Naturrecht im
Lichte der geschichtlichen Erfahrung. Recklinghausen, 1948. S. 23.
100 Tomberg, 305.
101 Kaum И. Критика чистого разума. С. 45.
102 «Пресыщенные, таким образом, догматизмом, который нас ничему не научает,
а также скептицизмом, который нам вообще ничего не обещает, даже покоя
законного неведения, побуждаемые важностью нужного нам познания и
наученные долгим опытом быть недоверчивыми ко всякому знанию, которым мы, как
нам кажется, обладаем или которое предлагается нам под именем чистого
разума, мы ставим лишь один критический вопрос, от ответа на который может
зависеть наш образ действий в будущем: возможна ли вообще метафизика?»
(Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может
появиться как наука, § 4 / Пер. В. С. Соловьева // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М„
1994. С. 27).
103 «От разрешения этой задачи целиком зависит сохранение или крушение
метафизики, а следовательно, ее существование. С каким бы правдоподобием ни из-
(^471^)
С^ Примечания «Э
лагали в ней свои утверждения, как бы ни нагромождали выводы, если сначала
не ответят утвердительно на указанный вопрос, я имею право сказать: все это
пустая, беспочвенная философия и ложная мудрость. Ты рассуждаешь
посредством чистого разума и имеешь притязание как бы создавать a priori познания,
не только расчленяя данные понятия, но и претендуя на новые соединения,
которые не основаны на законе противоречия и которые тебе кажутся совершенно
независимыми от всякого опыта, — как же ты до этого доходишь и как ты
намерен обосновать такие притязания? Ссылаться на согласие общего человеческого
разума ты не вправе, так как это есть свидетельство, достоверность которого
основана только на общепринятом мнении. <...> Итак, все метафизики
торжественно и закономерно освобождены от своих занятий до тех пор, пока они не ответят
удовлетворительно на вопрос: как возможны априорные синтетические
познания} Ведь только в этом ответе заключается верительная грамота, которую они
должны показывать всякий раз, когда заводят о чем-то речь от имени чистого
разума. Без этой верительной грамоты они могут ожидать только того, что
разумные люди, обманутые уже столько раз, отвергнут их без всякого
дальнейшего исследования того, о чем они заводят речь» (Там же, § 5. С. 30, 32).
104 «Следовательно, метафизика природы и нравов и в особенности
предварительная (пропедевтическая) критика разума, отваживающегося летать на
собственных крыльях, составляют, собственно, все то, что можно назвать философией
в подлинном смысле» {Кант И. Критика чистого разума, В 878 f. С. 618).
105 «Кант следует при этом определенному методу, который позднее был назван
трансцендентальным. Согласно этому методу, исходят из синтетических
суждений как из некоего факта, возвращаясь затем к их условиям, чтобы получить
с этого момента возможность собственного суждения» (Kobusch, 134).
106 Ibid.
107 Ibid.
108 «Если бы наше созерцание было таковым, что оно представляло бы вещи так,
как они существуют сами по себе, то вообще не было бы никакого априорного
созерцания: созерцание было бы всегда эмпирическим. В самом деле, то, что
содержится в предмете самом по себе, я могу узнать только тогда, когда он
находится передо мной и дан мне. Правда, и тогда непонятно, каким образом
созерцание присутствующей вещи позволяет мне познать, какова она сама по себе: не
могут же ее свойства перебраться в мою способность представления; но если
допустить эту возможность, то такое созерцание во всяком случае не будет иметь
место a priori, т. е. прежде, чем мне представится предмет; иначе нельзя
придумать никакого основания для отношения моего представления к предмету, разве
только допустить вдохновение» {Кант И. Пролегомены, § 9. С. 36—37).
109 Tomberg, 308 f.
110 Это понятие Шеллинг выдвигает в противовес понятию разума у Гегеля.
111 «Если познание бытия вещей как доступно для сознания познающего субъекта,
так одновременно и ограничено, то то же самое справедливо и для сферы
долженствования. Человек — сам себе законодатель. Он полностью автономен в
нравственном отношении. Кант решительно отклоняет какую бы то ни было
гетерономию, противоречащую достоинству свободного существа. "Моральный закон
е^ 472-5с)
С^ Примечания ^Э
дан как факт чистого разума, который известен нам a priori и определен с
достоверностью". Этот моральный закон открывается практическому разуму в
качестве категорического императива: "Поступай так, как если бы максима твоего
поступка должна была сделаться по твоей воле всеобщим законом природы"»
(Tomberg, 307). Кобуш (136) приходит к тому же результату: «Метафизика
нравов — это критическая метафизика, постольку поскольку она в качестве
системы познания опирается на высший принцип познания, который основывается
исключительно на чистом разуме независимо от какого бы то ни было опыта.
"Критика практического разума'1 в своей "Аналитике" показывает, как этот
принцип, являющийся синтетическим и практическим положением, возможен
a priori и в качестве закона в состоянии объективно определять волю. Эта
"Критика" имеет в данном отношении совершенно иную цель, нежели "Критика
чистого разума". Ибо в то время как эта последняя отклоняет самонадеянные
притязания чистого разума тем, что всякое возможное спекулятивное познание
этого разума ограничивается предметами опыта, "Критика практического
разума" должна "удерживать эмпирически обусловленный разум от дерзновенного
желания отказаться от единоличного руководства волей"» (курсив мой. —
Л/. Ф.).
112 Tomberg, 307. Из трех формулировок категорического императива,
представленных в «Основоположениях», Томберг цитирует вторую формулировку.
113 Кобуш (137) замечает: «Такова причина, по которой Кант, несмотря на сильную
зависимость от традиции моральной метафизики, был в состоянии потребовать
расчистки "совершенно нового поля", — в особенности по отношению к
всеобщей мировой мудрости Вольфа. А именно, данная традиция "смешанной этики"
учитывала желание как таковое вместе с пружинами чувств и склонностей,
а также понятия разума. Метафизика же нравов, "основоположением" которой,
по Канту, служит критика практического разума, напротив, исследует "идею
и принципы некоей возможной чистой воли" (Kant I. Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten. Verrede Weischedel. 4, 15 = AA 4, 178 ff.)».
114 «Этот принцип, постольку поскольку ему отвечает безусловность и объективная
необходимость, является законом, который подчиняет себе только человеческую
волю. Но для того чтобы вообще суметь постичь всеобщую необходимость
морального закона для всех разумных существ, а также внутреннюю связь
объективного закона с понятием воли, надо, уже в соответствии с примечательной
формулировкой Канта, "сделать шаг" по направлению к метафизике нравов, —
точнее говоря, к центру традиционной metaphysica moralis. Но таким центром
учения о человеке служит личность. Значение этого места "Основоположений"
еще едва ли осознано. Кант стремится здесь ни больше ни меньше как к
изложению метафизических импликаций верховного принципа» (KobuscK 137).
115 «Если поразмыслить о том, что всякое воление имеет определенный предмет,
который Кант называет "целью", то тогда всеобщая значимость этого закона для
всех разумных существ может быть постигнута лишь в том случае, если
существует нечто такое, что является не просто относительной целью и как таковое
обладает лишь ограниченной ценностью для некоей способности желать, но
существует само по себе в качестве цели и никогда не может рассматриваться
просто как средство для произвольного употребления. Но это человек — постольку
е^ 473 ^Э
(^ Примечания ^
поскольку он является личностью. Ибо в качестве личности человек обладает
"достоинством", т. е. некоей абсолютной, бесконечной ценностью, и тем самым
отличается от всех вещей, которым присуща лишь конечная, оплачиваемая
ценность, т. е. цена. Уважение, подобающее абсолютной ценности, Кант называет
"почтением". <...> Кант впервые увидел человека в качестве личности,
свободного существа, — увидел человека в качестве человека с его "абсолютной
ценностью"» (Kobusch, 138).
16 «Так как теперь разумное существо в качестве субъекта целей лежит в основе
(будучи целью самой по себе) всех максим поступков, — максим, которые могут
обладать всеобщей значимостью для каждого разумного существа, то способом
законодательства должна оказываться автономия. Это то, что создает основание
для достоинства человеческой природы. Свобода автономии — это последнее
основание всех законов и нравственности, всякого права и каждой добродетели.
Вообще, основывая само долженствование, т. е. все разновидности долга, на
принципе автономии, создающем возможность для воления, Кант совершает
собственно критический поворот в философии морали» (Kobusch, 138),
17 Tomberg, 308.
18 Jäsche Gottlob Benjamin. Immanuel Kants Logik, 3.
19 Mill John Stuart. System der deduktiven und induktiven Logik II; «Введение», 2:
«Часто логику называли искусством умозаключения. <...> Каждое искусство
с необходимостью предполагает некое знание — научное знание, если речь идет
о любом другом его [искусства] состоянии, нежели изначальное. <...>
Следовательно, логика включает в себя науку умозаключения, будучи искусством,
основанным на этой науке».
20 Wulf es Detlev. Die Grenzen der Logik und die Aufgabe des Erkennens im Recht
(диссертация). Hannover, 1994, 134.
21 В связи с логическим подходом Энгиша Вульфс (26) пишет: «Способ
рассмотрения юридического хода мыслей у Энгиша при этом является не
теоретико-познавательным, а специфически логическим. Этот логический способ видения он
хочет применить для обоснования юридических суждений долженствования,
так как они совершаются посредством некоего юридического мыслительного
акта. Пускай юридические суждения долженствования с их претензией на
справедливость составят тематический круг некоей юридической логики, которая
была бы материальной логикой <...>, — "логики, которая не ограничена
чистыми формами мышления, но принимает во внимание особенность материала"
(Engisch Karl. Beiträge zur Rechtstheorie, 70). Энгиш описывает свои
представления по поводу идеи некоей (юридической) логики как логики материальной,
чья задача заключена в том, "чтобы представить взаимодействие логических
форм с конкретным материалом, который входит в эти формы" (Engisch, 79)».
22 «Юридическая логика — <...> это не что иное, как конкретное применение форм
мышления в области права. Идея юридической логики как логики
материальной принадлежащая Карлу Энгишу, по сути дела, есть искание познания.
Понятие материальной логики — это, разумеется, некая конструкция, не совпадающая
с сущностью логики. Поэтому оно не обладает никакими правами
действительности. Ничего содержательного логика не в состоянии исполнить; ее образ — это
е^474^Э
<с^ Примечания ^Э
чистые законы мышления» (Wulfes, 134). Попутно следует заметить, что уже
Готтлоб Фреге («Logik» (1897) // Schriften zur Logik und Sprächphilosophie. Aus
dem Nachlass. Hamburg, 1978. S. 38—39) отказался от «специальной» логики. Он
указывает, — конечно, иначе, чем Вульфс, — на то, что логика в качестве
«нормативной науки» непосредственно характеризуется с помощью предиката
«правильный»: «Логику, как этику, также можно назвать нормативной наукой. Как
я должен мыслить, чтобы достигнуть цели — истины? Ответа на этот вопрос мы
ждем от логики, но мы не требуем от нее того, чтобы она сосредотачивалась на
особенностях каждой области науки и ее предметов: мы предоставляем логике
в качестве ее задания лишь указание на то самое всеобщее, что значимо для всех
областей мышления. Правила для нашего мышления и критерии истины мы
должны определять с помощью законов действительного бытия. Первые
обусловлены последними. Поэтому мы можем также сказать: логика — это наука
о самых общих законах действительного бытия». Соответственно, моральная
логика могла бы дать ответ на вопрос: как я должен мыслить, чтобы достигнуть
цели т. е. блага?
Scheler Мах. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Bern;
München, 1980.
«Требование истины, следовательно, выдвигается и существует также и для
ценностных высказываний. Ценностное высказывание точно так же, как всякое
суждение, должно быть логически "правильным", т. е. соответствовать
формальным правилам образования суждения, а кроме того — чтобы быть истинным —
согласовываться с какими-нибудь "фактами". Не существует никаких особых
правил для эстетических и этических "суждений", эстетических и этических
умозаключений и т. д., — правил, которые отличались бы от логических правил.
По крайней мере, мне такие правила не известны. Но, вероятно, существуют
законы эстетического и этического оценивания каких-либо ценностных
обстоятельств. Но эти законы не являются формами суждения и умозаключения: это
законы переживания конкретных фактов и материй, которые сообщают
единство этике с эстетикой и убежденности в этом переживании» (Scheler, 197).
«С другой стороны, логика не может быть поставлена в один ряд в качестве
ценностной науки с этикой и эстетикой на основании того, что она ведь тоже
должна иметь дело с такой ценностью, как "истина". Ибо истина — это вообще не
"ценность". Есть смысл приписывать ценность актам поиска истины,
исследования ее, а также уверенности в том, что некое утверждение истинно, — равно как,
например, можно говорить о вероятностных ценностях; и само по себе познание
истины — тоже ценность. Но истина как таковая — это не ценность, а
отличающаяся от всех ценностей идея, которая осуществляется тогда, когда
сформулированное смысловое содержание некоего суждения согласуется с
вещественными обстоятельствами и само это согласование дано с очевидностью. Но в этом
смысле наши ценностные высказывания должны также быть "истинными" и
могут также быть "ложными"; напротив, нет смысла требовать от некоего
теоретического суждения, чтобы оно было "добрым" или "прекрасным" (или же
приписывать ему это)» (Ibid., 197 f.). Переживание самой истины Шелер описывает
следующим образом: «Истина — это вообще не только "идеал" этого поиска,
исследования или же идеал, который мы "задаем своей воле" (согласно "Логике"
е^ 475^5
(Ξ^ Примечания ^Ξ>
Зигварта, т. II). Также существуют уже найденные истины, которые не являются
"идеалом"; и существует лишь некий "поиск истины", когда и поскольку мы
с очевидностью заключили однажды действительное бытие в некое положение.
Тогда мы снова можем "искать" этот обнаруженный в смысловом содержании
момент — в отношении других фактов, вопросов, положений. Если нашему
обретению истины должны были предшествовать еще многочисленные "деяния"
духа (а также, например, деяния воли), то постижение истины — это все же
внезапная вспышка, которая не имеет степеней и всегда обладает характером
восприятия, а не совершения, деяния, оформления».
126 Scheler, 370.
127 Шиллер Ф. Ксении (388, 389).
128 «Так как долгом или обязанностью определяется общая форма нравственного
принципа как всеобщего и необходимого, симпатическая же склонность есть
психологический мотив нравственной деятельности, то эти два фактора не
могут друг другу противоречить, так как относятся к различным сторонам долга —
материальной и формальной; а так как в нравственности, как и во всем
остальном, форма и материя одинаково необходимы, то, следовательно, рациональный
принцип морали как безусловного долга или обязанности, т. е. всеобщего и
необходимого закона для разумного существа, вполне совместим с началом
нравственности как естественной склонности к сочувствию в живом существе»
(Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Собрание сочинений В. С. Соловьева.
Т. II. Брюссель, 1966. С. 65-66).
129 Это не мешает Соловьеву резко осуждать вторую формулировку
категорического императива Канта («Поступай так, чтобы все разумные существа как таковые
составляли бы цель, а не только средство твоего поступка»): «Только разумные
существа могут быть такою целью; но это ограничение проистекает только из
одностороннего рационализма Канта и лишено всяких объективных оснований»
(Там же. С. 67). Ибо следовало бы прояснить, кто является разумным существом.
Если под ним подразумевается всякий, кто обладает способностью не к одному
формальному, но также и активному использованию практического разума, то
тогда эта обязанность относилась бы лишь к праведникам, которые на деле
осуществили нравственный закон. Но это был бы порочный круг, ибо нравственный
закон определялся бы через его объект, объект же — снова через нравственный
закон. С другой стороны, если бы вообще не существовало праведников, то
также не существовало бы того объекта, в отношении которого можно было бы
применить нравственный закон; но если бы его нельзя было применить, то он сам
сводился бы ad absurdum.
130 KobuscK 141.
131 Ср.: Scheler Мах. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (122):
«Самое важное и фундаментальное во всех априорных отношениях заключено,
однако, в значении рангового порядка среди качественных систем материальных
ценностей, которые мы называем ценностными модальностями. Собственно они
образуют материальное apriori для нашего понимания ценностей и их иерархии.
Их существо таково, что оно представляет одновременно самое резкое
опровержение Кантова формализма».
е^ 476 ^Э
(z^ Примечания ^
132 Ibid.
133 Вопрос о том, как надо мыслить себе связь материального содержания с чистой
априорной формой разума: а) в качестве ли отпечатка материального
содержания в «субстанции мысли» и его последующего отступления; Ь) как creatio rei
rationibus intellectus modo или с) adaequatio intellectus ad rem, здесь разрешен
быть не может.
134 В рамках этой традиции можно выделить четыре формы или «ступени» этики:
функциональная, материальная, формальная и конечная, — соответственно
четырем «причинам» аристотелево-средневековой философии.
135 Kobusch, 142.
136 Kobusch, 139.
137 Кант И. Основоположения метафизики нравов / Пер. Л. Д. Б. // Кант И. Собр.
соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1994. С. 228.
138 В то время как эмпирический характер определяется как внутренней, так и
внешней необходимостью (врожденными способностями, благоприятными или
неблагоприятными обстоятельствами и случайностями и т. д.), а потому не полностью
свободен в своем волении (ибо он, будучи феноменом, ограничен царством
природной необходимости), — изначально обусловливающий его интеллигибельный
характер свободен, поскольку он является внутренним, не выступающим в
явлениях сущностным ядром человека (следовательно, ноуменом). Владимир
Соловьев оспаривает утверждение Канта, согласно которому интеллигибельный
[умопостигаемый] характер в его рационалистической этике полностью свободен: «Но
затем еще остается роковой вопрос: чем определяется этот умопостигаемый
характер каждого существа, почему такое-то существо может действовать в силу
своего трансцендентального характера только так, а не иначе?
Рационалистическая этика в лице Канта, следовательно, отказывается от окончательного
разрешения вопроса о свободе воли» {Соловьев В. Критика отвлеченных начал, с. 113).
139 Kobusch, 139.
140 Jakob L. N. Philosophische Sittenlehre, § 190.
141 Это становится очевидным с появлением компьютера, так как благодаря этому
сделалось возможным отличать специфически человеческое мышление от
другого вида «мышления» (электронно-машинного). Логика человеческого
мышления (уже и чисто формальная) — это нечто качественно иное, нежели «логика
машины».
142 Шелер называет этику цели материальной этикой: «Одно из самых основных
притязаний формальной этики, в особенности этики Канта, состоит в том, что
она одна, дескать, наделяет личность "достоинством", превосходящим всякую
"цену"; напротив, в соответствии с данной этикой, всякая материальная этика
должна уничтожать достоинство личности и ее ниоткуда не выводимую
собственную ценность. То, что это справедливо для всякой этики благ и ценностей, также
можно принять безоговорочно» (Scheler, 370). Но в соответствии с четырьмя
Аристотелевыми причинами (действенной, материальной, формальной,
конечной) можно, собственно, расценить в качестве материальной лишь этику благ;
напротив, этика целей должна рассматриваться как конечная.
е^477^Э
е^ Примечания ^Э
143 Шелер (VI, В. ad 4,492. Teil 6 [«Формализм и личность», 370 f.]) в целом
содействует расширению понятия личности за пределы формалистической
концепции Канта, связывая это понятие, с одной стороны, с «я» и телесностью, а с
другой — с отдельной личностью и совокупной личностью. Аве-Лаллеман замечает:
«Шелер выразительно демонстрирует то, что к человеческой личности
относятся в существенном смысле как тело, так и "я". Понятие "совокупная личность"
он считает проблематичным: "Это обозначение вряд ли можно назвать удачным,
но пока нет более подходящего, лучше использовать имеющееся, чем упускать
из рассмотрения подразумеваемое содержание. Сам я говорю <...> о личностном
обществе или обществе-личности"» (Ave-Lallement Е. Die Aktualität von Schelers
Politischer Philosophie / E. W. Orth (Hrsg.). Studien zur Philosophie von Max Sche-
ler, Phänomenologische Forschungen 28/29, Freiburg; München, 1994. S. 128, 130).
В пределах метафизики свободы речь, конечно, идет тоже именно о личностном
начале внутри сверхиндивидуальных, общественных структур, например,
государства. Со времен Суареца государство в его философском аспекте
охватывается понятием, которое использует Шелер («совокупная личность»); напротив,
в определение Аве-Лаллемана государство не входит.
144 Пожалуй, самую значительную попытку такого соединения Шелер предпринял
в своем позднем докладе «Человек в эпоху уравнивания» (GW IX, 145—170),
где он обсуждает такие противоположности, как дионисийское и аполлониче-
ское, мужское и женское, западная и восточная культурные области и т. д., за
которыми в конечном счете скрыта «пра-противоположность» подобия и образа.
145 Антон Ронер (Thomas von Aquin oder Max Scheler // Di vus Thomas. Jahrbuch für
Philosophie und speculative Theologie. 1923. 1. S. 329—355; перепечатано в изд.:
Scheffczyk L. (Hrsg.) Der Menschais als Bild Gottes. S. 260 f.) критикует понимание
Шелером образа Божия и полагает, что Шелер смог бы избежать своих ошибок
(«Он сильно ошибается, но, несмотря на это, у него можно многому поучиться»
(Rohner, 291)) с помощью томистского различения акта (= сверхприродному
духу, Богу) и потенции (= природному, метафизическому духу, человеку): «Какая
жалость! Понятие потенции попросту пропало из современного мышления»
(Rohner, 283). Но настоящая проблема заключена в первую очередь не в
исчезновении понятия потенции и не в утрате при этом противоположности потенции
и акта, а в исчезновении из метафизики Нового времени imago Dei и
одностороннем предпочтении similitudo Dei. Тем самым все вновь и вновь происходило
и происходит приписывание атрибутов, относящихся к imago, — как это было
в случае Шелера, — подобию, similitudo, или наоборот.
146 Отсюда делается понятным не только отождествление у Энгиша, но и
рассуждение Шелера о «материальном apriori», — также и когда в обоих случаях
необходимо уточнение, возможное только при условии названного различения образа
и подобия.
147 Kobusch, 143.
148 Кобуш (134) увидел эту связь: «Совершенно очевидно, что критика
представляет аналитическую часть, а следующая за нею метафизика — синтетическую.
Ф. Каульбах обнаружил эту методологическую связь: "Основоположения", в
которых принципы, оправдывающие значимость категорического императива,
разыскиваются с помощью аналитического метода, "дополняются" самой
снитесь 478 ^Э
(^ Примечания ^Э
тически ориентированной метафизикой нравов. Поэтому Каульбах говорит о
"дополнительном пути синтетического метода"» (ср.: Kaulbach F. Immanuel Kants
Grundlegung der Metaphysik der Sitten 2. 16. 17. 18. 46. 116-118).
149 Kobusch (142) ссылается на «Метафизику нравов» Канта (АА6, 218 f.).
150 Kobusch, 92.
151 Achenwall G, Prolegomena juris naturalis, § 112; цит. no: Kobusch, 92.
152 Kobusch, 92.
153 Kobusch, 93.
154 «Обыкновенно считающееся важным различие между "внешним" характером
права и "внутренним" качеством нравственности, как правило, приписывают
Христиану Томазиусу. В его труде "Fundamentum Iuris et Gentium" (1705) и в
некоторых других его сочинениях выражено мнение, по которому право в качестве
насильно устанавливаемого государством порядка именно из-за этой насильст-
венности совершенно чуждо сфере нравственности. Сущность нравственного —
это свобода; насильно насажденное или то, что можно так насадить, не имеет
ничего общего с нравственностью: оно относится к другой области, а именно —
к области права» (Tomberg, op. cit., 244).
15Г> Ibid.
156 Kobusch, 142.
157 Ср.: Stephani H. Anmerkungen zu Kants metaphysischen Anfangsgründen der
Rechtslehre, 6 (цит. по: Kobusch, 143).
158 Kobusch, 143.
159 «Целью правового законодательства является поддержание внешней свободы,
т. е. свободы делать все то, что не наносит урон свободе других членов общества.
Поддержка внешней свободы непременно требует принуждающих законов,
призванных защищать свободу индивидуума. При этом, по Канту, внутреннее
законодательство (т. е. нравственное законодательство) не может быть внешним,
а внешнее (т. е. правовое) законодательство не может быть внутренним, т. е.
обладать нравственным значением» (Tomberg, 309). Юрген Хабермас (Faktizität
und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats. Frankfurt, 1992, напр., 52 f.) указывает на то, что, в отличие от Канта и
кантианцев, современное государство сегодня легитимируется «положительным»
правом, причем адресаты права суть одновременно и его инициаторы. В
действительности правовой позитивизм является возможным следствием тотальной
формализации права и нравственности у Канта, — если настаивать на персона-
листической позиции метафизики свободы и тем не менее стремиться к
преодолению разрыва между правом и нравственностью. Тогда не остается никакого
нормативно обязывающего естественного права. Право создается.
160 «Свобода в качестве исходной точки и изначального принципа естественного
права из-за своего чисто формального характера делает невозможным
материальное естественное право. <...> Формализм Канта, т. е. теория о чистых
условиях познания и автономной нравственной свободе, является основанием для
этой специфики (т. е. этического рационализма) кантовской этики; такая
специфика позволяет Канту прийти не к материальной ценности, но лишь к учению
е^479^Э
<z^ Примечания ^>
об условиях, при которых ценности могут быть даны. Принцип свободы
слишком формален и потому неплодотворен в сравнении с тем, как если бы он давал
возможность выявить материальный порядок: здесь — долженствования, там —
сущностного бытия, — будь то в отношении познания, будь то в отношении во-
ления. <...> Как следствие этого, каждый внешний способ поступания тотчас же
оказывался бы правовым и свобода произвола каждого из субъектов права не
встречала бы препятствий со стороны прочих, т. е. взаимное согласие и
единодушие субъектов права положительным образом делало бы правовым каждый
возможный поступок, совершенно независимо от "материи" его нравственного
качества (как известно, здесь сказывается сильное влияние Руссо на мысль
Канта). Итак, при условии формальной свободы других безнравственные поступки
могли бы делаться правовыми, — к примеру, ростовщичество, самоубийство,
нарушение супружеской верности» (Kommen Heinnch. Die ewige Wiederkehr des
Naturrechts. Leipzig, 1936. S. 118 ff.). Это высказывание Роммена комментирует
Томберг: «Ростовщичество, самоубийство, нарушение супружеской верности
и другие безнравственные поступки, конечно, могут при условии формальной
свободы других становиться правовыми поступками, что, однако, самому Канту
не могло прийти в голову. Его фантазия была слишком невинной и чистой,
чтобы допустить возможность злоупотребления принципом защиты внешней
свободы, выступающей в качестве цели правопорядка. Он был еще слишком сильно
укоренен всем своим существом в христианском предании, чтобы прийти к
выводу, что право, теоретически освобожденное от нравственности, однажды
сможет освободиться от нравственности и на практике, т. е. что безнравственные
поступки не только могут допускаться со стороны права, но могут самим правом
предписываться» (Tomberg, 310).
161 Этим, конечно, не высказано никакого согласия с мыслями Гегеля. Критика Ге-
гелева богословия государства еще ожидает своей очереди.
162 Kobusch, 160, 162.
163 KobuscK 149.
164 «Совершенное Кантом разделение права и нравственности, равно как примат
формального по отношению к материальному, который он выдвинул в качестве
условия научного метода, живут и по сей день, будучи общими основаниями для
трех современных школ философии права, стремящихся продолжать дело
Канта. Это так называемая неокантианская школа, логистическая школа и школа
чистой феноменологии» (Tomberg, 321).
165 «Влияние кантианства, т. е. критического и трансцендентального методов, на
науку о международном праве состояло — и состоит — в особенности в том, что
все понятия, которые относились к теории и практике международного права
и которыми, к примеру, свободно пользовался Ваттель <...>, подверглись новой
проверке, анализу и переформулированию. Докантовский период быстрого
создания множества систем (особенно систем естественного права) сменился
теперь периодом критической проверки и нетворческой <...> "малой работы" по
уточнению всех понятий и по исследованию остатков в них "догматизма", а
также "естественного права" (в смысле "догматизма"). В свою очередь этот период
опять-таки привел к почти необозримому "перепроизводству" критических
достижений, когда, в конце концов, вообще не знали, как быть. Так, к примеру, не-
(с^ 480 ^Э
С^ Примечания ^Э
давно подверглось принципиальному пересмотру такое понятие, как "война",
которое на протяжении веков было очевидным для всех людей. Скажем, Фриц
Гроб восстановил семьдесят определений правового понятия "война", которые
были сформулированы исследователями международного права в период между
1900 и 1940 годом, проверив при этом их обоснованность. В своем труде "The
Relativity of War and Peace. A Study in Law, History, and Politics" (Yale University
Press, USA) он пришел к тому результату, что до сих пор вообще еще не
существует ясного, обоснованного и удовлетворяющего всем требованиям правового
понятия "война" или "состояние войны". Но из этого результата вытекает
следующее: если отсутствует понятие войны, то также может отсутствовать понятие
мира; но если отсутствует понятие мира, то также может отсутствовать понятие
"мирного сосуществования" государств и т. д. — вплоть до того, что выясняется,
что все международное право — это пустая игра слов, где нет ни единого
обоснованного понятия» (Tomberg, ibid., 322 f.).
6 «То, что одной критической позиции недостаточно и творческое начало все-таки
первично в отношении к началу критическому, было основополагающим
убеждением традиционной школы (т. е. субстанциальной онтологии. — Μ. Ф.). Также
это поняли "свободные умы", покинувшие почву традиции. Иоганн Готлиб
Фихте (1762—1814) отказался от "вещи в себе" (т. е. от истинной сущности, скрытой
за явлением, неизбежно определяемым присутствием субъекта) и ввел вместо
нее в качестве субъект-объекта теперь уже не скрытое, а проявляющееся
разумное "я", которое раскрывается и как сознание, и как внешнее событие. "Я" как
абсолютный "субъект-объект" полагает себя в качестве как "я", так и "не-я". "Я",
поскольку оно определяет себя через "не-я", является созерцающим "я" и, как
таковое, — предметом "теоретического наукоучения"; "я" поступающее и
определяющее "не-я", напротив, есть предмет "практического наукоучения". Свобода
и абсолютная самостоятельность сами по себе являются не условием и
предпосылкой нравственности (как это имеет место у Канта), но ее содержанием и
верховной задачей. Соответственно этому, право для Фихте, в согласии с Кантом,
также есть свобода в качестве врожденной и изначальной (т. е. в смысле
естественного права) данности, которая лежит в основе всей правовой жизни»
(Tomberg, 323 f.). А. Берк («Briefe über Immanuel Kant's Metaphysische Anfangsgründe
der Rechtslehre», 50 f.) указывает, что Фихте еще до Канта пришел к мысли
о том, что внешнее право основывается только на совместной жизни людей и их
влиянии друг на друга, — пришел к ней, истолковывая право с помощью
представления об ограничении свободы каждого индивида, — ограничении,
создающем возможность для свободы всех прочих индивидов (ср.: Kobusch, 154).
7 «Подобно тому как воля "я" создает законы этики, сознание "я" представляет
собой разумное движение, устремляющееся вперед в своем развитии от тезиса
к антитезису и синтезу. Познание бытия упразднено — в качестве предмета
философского познания — вместе со своим последним остатком, а именно — с
"вещью в себе" Канта, и вместо этого ориентировано теперь исключительно на
становление. Отказавшись от бытия и обратившись к становлению, Фихте совершил
значительный, с далеко идущими последствиями шаг к освобождению от
колебаний кантовского критицизма, парализующих творческое метафизическое
познание» (Tomberg, 324).
С^ 481 ^Э
е^ Примечания ^Э
168 Kobusch, 164.
169 В 1983 г. Дитер Хенрих издал лекции по философии права 1819/1820 гг. Они
цитируются здесь с указанием RPhVorl.
170 «Особое значение метафизики воли во введении к "Философии права" <...>
состоит в том, что она впервые показывает различие между произволом и
свободой. Хотя это терминологическое различие между произволом и свободой не
является изобретением Гегеля, в "Философии права" оно впервые становится
теоретической основой философской теории свободы» (Kobusch, 161). В качестве
более ранних попыток (до Гегеля) Кобуш называет следующие труды: Schlatt-
weinJ.A. Die Rechte der Menschheit oder der einzig wahre Grund aller Gesetze,
Ordnungen und Verfassungen, § 4; Ratze J. G. Betrachtung über die Kantische
Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft.
171 Ратце (105) увидел это: «Не следует смешивать между собой произвол и
свободу. Произвол — это тоже свобода, но не абсолютная, а такая, в силу которой
можно по желанию делать что-то или не делать... Произвол возникает только из
склонностей». Это означает, что произвол относится к «эмпирическому», а не
к «интеллигибельному» характеру.
172 Гегель Г. В. Ф. Философия права, § 13 / Пер. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной.
М., 1990. С. 79.
173 Kobusch, 162; в связи с этим он ссылается на труд: Oeing-Hanhoff L. Konkrete
Freiheit, «где гегелевское различение [свободы и произвола] делается исходной
точкой для представления всего учения».
174 Hegel. Vorlesung zur Bestimmung der Religiem. Lasson H/2, 107.
175 Kobusch, 163.
176 Гегель Г В. Φ. Философия права, § 21. С. 85.
177 Уже ранний Гегель провозглашал моральную автономию, т. е. нравственный
закон в смысле Канта, в качестве неотчуждаемого человеческого права: «И ни
один человек не может отрекаться от своего права самому себе давать законы
<...>; отчуждая от себя такое право, человек перестал бы быть человеком»
(Гегель Г В. Ф. Позитивность христианской религии / Пер. А. В. Михайлова //
Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 1. М., 1970. С. 176).
178 «Великий тезис этой метафизики воли состоит в том, что истинная свобода
лишь там становится действительной, где свободу желают видеть в качестве
всеобщего содержания, т. е. свобода эта — свобода для всех. Тот, кто говорит, что
право, всеобщие законы, нравственные нормы ограничивают его желания, тот
имеет в виду произвол, который этим на самом деле ограничивается, — но не
свободу, которая реализуется как раз посредством воления этого всеобщего
содержания. Поэтому также представление, по которому моя свобода простирается
до тех пор, пока она не будет ограничена свободой другого, совершенно не
соответствует действительности свободы... Основную мысль гегелевской
метафизики воли можно сформулировать так: истинная свобода — это такое определение
воли, при котором она безусловно и неограниченно желает всеобщей свободы,
т. е. своей собственной — только в связи со свободой других. Коротко говоря,
свобода — это не что иное, как то, что сообщает себя другим. Но при этом также
е^482^Э
С* Примечания ^D
ясно, в чем состоит историческое значение гегелевской метафизики воли: это
первая концепция, в которой свобода понимается в качестве коммуникативной
свободы. Сам Гегель выразил это с полной однозначностью: "Итак, я
действительно свободен только тогда, когда также и другой свободен и мною
признается в качестве свободного"» (Kobusch, 163; цитата из Гегеля: «Differenz des
Fichteschen und Schellingschen Systems», GW 4, 54).
179 «Окончательное освобождение от "кантовской познавательной робости" и
извлечение последних выводов из тезиса об идентичности того, что выступает в
явлении в качестве "субъективного" и "объективного", равно как и из замены бытия
становлением, сделавшимся предметом философского познания, <...> оставил
за собой Георг Вильгельм Фридрих Гегель, — вместе с тем влиянием, которое
это завершение оказало на обсуждение и решение проблемы международного
права» (Tomberg, 168).
180 Tomberg, 324.
181 Гегель Г. В. Ф. Философия права, § 341. С. 370.
182 Там же, § 4. С. 68.
183 Tomberg, 324 f.
184 Гегель Г В. Ф. Философия права, § 27. С. 89.
185 «Право есть нечто святое вообще уже потому, что оно есть наличное бытие
абсолютного понятия, самосознательной свободы. Формализм же права (а затем
и формализм обязанности) возникает из различия между ступенями в развитии
понятия свободы. По сравнению с более формальным, т. е. более абстрактным
и поэтому более ограниченным правом та сфера и та ступень духа, на которой он
довел в себе до определенности и действительности содержащиеся в его идее
дальнейшие моменты, имеет в качестве более конкретной в себе, более богатой
и истинно всеобщей и более высокое право. Примечание. Каждая ступень
развития идеи свободы обладает своим собственным правом, так как она есть наличное
бытие свободы в одном из ее определений. Когда говорят о противоположности
между моральностью, нравственностью, с одной стороны, и правом — с другой,
то под правом понимают лишь первое формальное право абстрактной личности.
Моральность, нравственность, государственный интерес — каждое в
отдельности представляют собой особое право, так как каждая из этих форм есть
определение и наличное бытие свободы» (Гегель Г. В. Ф. Философия права, § 30. С. 90).
186 См.: Там же, § 35. С. 97. Гегель, хорошо знавший философию Якоба Бёме, с этим
первым определением воли близко подходит к бёмевскому определению,
согласно которому воля вначале является непостижимо абсолютной, не ставящей
перед собой никакой цели и не дающей себе никакого определения. Лишь делая
второй шаг, эта «безосновная воля» создает для себя словесную формулировку,
благодаря чему ее абсолютность отступает на задний план и становится первым
определением, т.е. праосновой и источником всякой формулировки (Böhme J.
Von der Gnadenwahl, I, 4).
187 «Моральность, будучи противоположностью чисто физической сфере,
охватывает как моральное в нашем смысле слова, так и аморальное. Ее предмет — homo
moralis, человек долженствующий; это слово Гегель также понимал совершенно
в духе естественного права как виновность или инициативность в совершении
(2^ 483^5)
е^ Примечания ^
поступка. Поэтому данному месту соответствует также принцип моральности —
в качестве "великой и возвышенной стороны" кантовской философии» (Kobusch,
166).
188 «Гегелем критикуется это одностороннее тематизирование морального, т. е. того,
что рассматривается в качестве условия морального акта или вообще
внутренней свободы. На деле вся традиция метафизики свободы занимается
преимущественно и односторонне моральными актами, их условиями и обстоятельствами
и т. д. Бытие свободы, постольку поскольку это есть «поступок» или
«моральный акт», было темой этой метафизической традиции. Но, собственно говоря
(а в испанской схоластике, как и у Пуфендорфа, это происходило к тому же и
осознанно), к области метафизики свободы принадлежат также объективные
формы свободы, институции: они одни делают возможными субъективные акты;
традиционно они называются personae morales. Итак, гегелевская критика позиции
моральности не ставит под вопрос достижений новой философии
субъективности, которые являются плодом традиционной метафизики свободы, — она
намеревается лишь поднять заново всеобъемлющую тему свободы, т. е. проблему того,
что представляют собой в итоге субъективная и объективная свобода» (Kobusch,
167).
189 Согласно Кобушу (168), «...сомнения быть не может: моральность — это ступень
произвола. Да, сам Гегель высказал это: абстрактное право и мораль — это еще
не то же самое, что нравственность, т. е. дух. В праве присутствует только
особенность естественной воли, и с точки зрения моральности субъект еще имеет
форму произвола. Напротив, с нравственной точки зрения "воля есть как воля
духа и обладает субстанциальным, соответствующим себе содержанием"
(Гегель Г. В. Ф. Философия права, § 151. С. 205)».
190 «При этом названа важнейшая характеристика нравственного бытия:
существует некое воление, которое привязывает себя к "прочному содержанию", "которое
в себе необходимо и обладает прочным пребыванием, стоящим выше
субъективного мнения и желания; это в себе и для себя сущие законы и учреждения". <...>
Поэтому, согласно Гегелю, институциям соответствует свой собственный способ
бытия, который опирается на их власть в противоположность воле индивида,
склонной к произволу» (Kobusch, 168, 169; цитата из Гегеля: Философия права,
§ 144. С. 200).
191 При этом Кобуш встает на сторону Ф. Хёсле: «Это справедливо подчеркивает
Ф. Хёсле (Hegels System 2, 474), возражая M. Тениссену».
192 Kobusch, 168. Цитата из Гегеля: RPhVorl, 316.
193 Ibid., 169. Цитата из изд.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия, § 485 / Пер. Б. А. Фох-
та // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3: Философия духа. М,
1977. С. 327.
194 Там же, § 484. С. 326: «...факт признания, т. е. ее значимость для сознания».
195 Там же, §431. С. 241.
196 Там же, § 432. С. 243. В связи с этим Кобуш ссылается на труд: Düsing Ε. Inter-
subjektivität und Selbstbewusstsein, 357 ff.
197«Только право мирового духа есть неограниченно абсолютное» (Гегель Г. В. Ф.
Философия права, § 30. С. 90).
С^484^Э
С^ Примечания ^)
198 Там же, § 352. С. 374.
199 Там же, § 29. С. 89.
200 Tomberg, op. cit., 327.
201 Гегель Г В. Ф. Философия права, § 33. С. 94.
202 Там же, § 36. С. 98. «Поскольку личность теперь обладает неким производным
("абстрактным" в терминах Гегеля) правом, в то время как государство — это то,
что в качестве "действительного и органического духа народа" восходит, в ходе
мировой истории, через отношение к другим духам народов ко всеобщему
мировому духу, а при этом — к истинному, не производному ("конкретному" на языке
Гегеля) праву, то в действительности субъектом права является государство, а не
личность» (Ibmberg, 327 f. Цитата из Гегеля: Философия права, § 257. С. 279).
203 Ibid. Цитата из Гегеля: Там же.
204 Там же, § 258. С. 279.
205 О правовом государстве Пруссии и других стран во времена Гегеля Георг Штат-
мюллер пишет следующее: «Памятником этих достижений (Просвещения. —
Μ. Ф.) служат возникшие из духа разумного права своды законов XVIII и
начала XIX века (Австрия, Пруссия, Саксония), которые гарантировали отдельному
гражданину такую правовую безопасность, которая прежде была неведома
Европе» (Stadtmüller G. Das Naturrecht im Lichte der geschichtlichen Erfahrung.
Recklinghausen, 1948).
206 Гегель Г В. Φ. Энциклопедия... § 432 Ζ. С. 243.
207 Nelson L. Die Rechtswissenschaft ohne Recht. Göttingen; Hamburg, 1949. S. 59.
208 Tomberg, 273.
209 Ср.: Schelling. Philosophie der Offenbarung.
2.0 Клаус Дёрнер (Todliches Mitleid. Gütersloh, 1989) указал на то, что психиатрия
второй половины XIX века выделилась из философии, и психических больных
ориентировали на соответствующие частные науки, — к их вреду, ибо они
потеряли защиту со стороны философии (Dörner, 25 f.).
2.1 Ср.: Kobusch, 188 ff.
212 «Однако можно ли обоснованным образом сомневаться в том, что "философия
права", будучи продолжением в Новое время старой метафизики свободы,
является первым наброском понятия коммуникативной свободы?» (Kobusch, 170).
213 Кобуш (170 f.) замечает в сноске: «Эдит Дюзинг в своем проникновенном труде
("Intersubjektivität und Selbstbewusstsein", 182) назвала Фихте "первым
теоретиком понятия межличностного" и тем самым с полным правом выступила
против широко распространенного тезиса, согласно которому идеализм
представляет точку зрения солипсизма. Но так как для Фихте, — как устанавливает автор
(252), — ограничение есть лишь "ущербный модус свободного стремления" и не
обосновывается с помощью самой диалектики воления свободы, фихтевское
учение о "вызове" (Aufforderung) хотя и может рассматриваться в качестве
первой теории межличностного, но оно не является теорией коммуникативной
свободы, согласно которой волящий субъект желает ограничения своего
собственного стремления ради того, чтобы предоставить свободу другим».
е^485^)
e^ Примечания ^Э
214 Ср. гл. I.
215 Томберг (328 ff.) подметил это. Он предлагает читателю произвести мысленный
эксперимент: представить себе Гегеля перенесенным во времена Августина, а
затем вновь возвращенным в Берлин первой трети XIX века в качестве
преподавателя философии. На месте «Civitas Dei» (синоним Церкви у Августина) у Гегеля
оказывается нравственное государство: «Во всех деталях учения Гегеля о
государстве и международном праве обнаруживается его увлеченность идеей
Церкви, — идеей, которую он проецирует на государство. Поэтому война для него
равнозначна спору, а истинный гражданин — то же, что исповедник и мученик. В силу
этого все войны для него — это войны религиозные, все походы — это крестовые
походы и все захватнические войны — это апостольская проповедь».
216 «Современная критика даже упрекала Гегеля в том, что из-за своей концепции
абсолютного духа он оказывается позади теории объективного духа (теории
интерсубъективности), отпадает в философию субъективности и остается при этом
на том же самом уровне, что и его предшественники Кант и Фихте. Для того
чтобы увидеть, что этот упрек не оправдан, нужно лишь вспомнить о том, что
уже в "Феноменологии духа" абсолютный дух понимается как "взаимное
признание" и никогда не умаляется в своем содержании» (Kobusch, 171).
2.7 Ibid.
2.8 Ibid., 188 ff.
Часть III
СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ
(Диалогический вклад в преодоление
дилеммы философии
VIII. Софиология как метафизика свободы
Понятие Богочеловечества у 5. Соловьева
РОРМ, 97.
Соловьеве. С БЧ. С. 15, 16.
«Человек заключает в себе гораздо больше личностей, чем он думает.
"Личность" — это лишь акцентирование, некая выжимка из совокупности отдельных
черт и качеств характера» (Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente, Frühjahr 1884,
25 [363] KSA 11, 108). То, о чем говорит здесь Ницше, в современной
психиатрии описывается под названием «многоличностная личность» (multipersonale
Persönlichkeit).
«Всякое уважение имеет источник в единстве воли и ориентировано на эту
волю; само уважение — это лишь воля к власти» (Ibid. November 1887 — März
1881,11 [96], KSA 13, 45).
Ibid. Mai-Juni 1888, 17 [3], KSA 13, 522.
C^486^c)
с=^ Примечания ^
G Ср.: Ницше Φ. К генеалогии морали. Рассмотрение III, раздел 24 // Ницше Ф.
Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. II. С. 514-517; Ницше Ф. По ту сторону добра и зла.
Отдел II, глава 34 / Пер. Н. Полипова // Там же. С. 268—269.
7 Kobusch, 203 f. Здесь в новом свете представлена новейшая дискуссия о Ницше,
о которой Кобуш замечает: «В новейшей дискуссии, в первую очередь между
Мартином Хайдеггером и Вольфгангом Мюллер-Лаутером, упущено то, что
учение Ницше о воле к власти есть фактически метафизика сферы искусства,
критически направленная против метафизики нравов Шопенгауэра, т. е. против
метафизики моральной воли» (Ibid. Ср.: Heidegger M. «Nietzsche» и Müller-La-
ter W. «Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht»).
8 «Критическое послание Ницше обращено к нашему столетию: метафизика
морали сама по себе обусловлена другой метафизикой, а именно, метафизикой
искусства, ибо воля к истине есть уже симптом вырождения. Постольку поскольку
метафизика морали занимается абсолютными предметами, она делается
проблематичной. Критика метафизики морали со стороны Ницше (прежде всего в тех
ее формах, которые представлены у Канта и Шопенгауэра) является критикой
фундаментальной, ибо она лишает почвы эту метафизику или, скорее, подводит
под нее новый фундамент, стоя на котором, она больше не может оставаться
такой, какой была до тех пор. В этом смысле философы будущего, как
пророчествовал Ницше, также должны сделаться творцами, художниками, ибо "их воля
к истине есть воля к власти"» (Kobusch, 204. Ср.: Ницше Ф. По ту сторону добра
и зла. С. 336).
9 Ницше Ф. Веселая наука. Афоризм 125 / Пер. К. А. Свасьяна // Ницше Ф. Соч.:
В 2 т. М, 1990. Т. I. С. 592.
10 БЧ. С. 14.
11 Соловьев В. С. Смысл любви. С. 505.
12 Там же.
13 См.: Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М„
1990. Т. I. Таково соловьевское понимание «цимцума», т. е. Божественного
отступления, которым мы занимались в первой части данной книги и по поводу
которого Соловьев выражается так: «Итак, когда мы говорим, что абсолютное
первоначало, по самому определению своему, есть единство себя и своего
отрицания, то мы повторяем только в более отвлеченной форме слово великого
апостола: Бог есть любовь» (Там же. С. 705). Ср. ч. I, гл. IV, где обсуждается
понятие Софии у Соловьева.
14 Гегель указал на это в своей «Логике». Ср. ч. I, гл. III данной книги.
15 «Если сила личности, самоутверждаясь в своей отдельности, есть зло и корень
зла, то та же самая сила, подчинившая себя высшему началу, тот же самый огонь,
проникнутый Божественным светом, является силою мировой всеобъемлющей
любви: без силы самоутверждающейся личности, без силы эгоизма самое добро
в человеке является бессильным и холодным, является только как отвлеченная
идея. Всякий деятельно-нравственный характер предполагает подчиненную
силу зла, т. е. эгоизма» (БЧ. С. 150).
16 «Для того чтобы отказаться от своей исключительной воли, необходимо сначала
иметь ее; для того чтобы частные начала и силы свободно воссоединились с бе-
(^487^3
С^ Примечания ^Э
зусловным началом, они должны прежде отделиться от него, должны стоять на
своем} стремиться к исключительному господству и безусловному значению,
ибо только реальный опыт, изведанное противоречие, испытанная коренная
несостоятельность этого самоутверждения может привести к вольному отречению
от него и к сознательному и свободному требованию воссоединения с
безусловным началом» (Там же. С. 15).
Для наглядности Соловьев приводит пример из области физики: « Как в мире
физическом известная сила для того, чтобы действительно обнаруживаться,
стать энергией, должна потребить или превратить в свою форму
соответствующее количество прежде бывшей (в другой форме) энергии (так свет превращается
из теплоты, теплота из механического движения и т. д.), подобно этому и в
нравственном мире подпавшего природному порядку человека заключающаяся в
душе его потенция добра может действительно обнаружиться, только потребивши
или превративши в себя уже существующую наличную энергию души, которая
в природном человеке есть энергия самоутверждающейся воли, энергия зла,
которая и должна быть переведена в потенциальное состояние для того, чтобы
новая сила добра перешла, напротив, из потенции в акт. Сущность добра дается
действием Божиим, но энергия его проявления в человеке может быть лишь
превращением осиленной, перешедшей в потенциальное состояние силы
самоутверждающейся личной воли» (Там же. С. 150—151).
Там же. С. 155.
Там же.
«Если это отношение состоит в прямом и непосредственном подчинении
природного начала Божественному, то мы имеем первобытного человека —
прототип человечества, заключенный, еще не выделившийся из вечного единства
жизни Божественной; здесь природное человеческое начало содержится как
зародыш, potentia, в действительности Божеского бытия. Когда, напротив,
действительность человека принадлежит его материальному началу, когда он находит
себя как факт или явление природы, а Божественное начало в себе — лишь как
возможность иного бытия, тогда мы имеем человека природного. Третье
возможное отношение есть то, когда и Божество, и природа одинаково имеют
действительность в человеке, и его собственная человеческая жизнь состоит в деятельном
согласовании природного начала с Божественным или в свободном подчинении
первого последнему. Такое отношение составляет духовного человека» (Там же).
Концепция Соловьева демонстрирует большое сходство с учением о трех гунах
(тамас, раджас, саттва) в индийской философии Санкхья.
Прогрессивный ход этого процесса Соловьев объясняет следующим образом:
«Мировая душа первоначально, как чистое бессодержательное стремление
к единству всего, может получить это единство сперва лишь в самой общей и
неопределенной форме (в законе всеобщего тяготения). Это есть некоторая
действительная, хотя еще совершенно общая и пустая форма единства, и,
следовательно, мировая душа здесь уже некоторым образом реализуется. Но этою формою
единства мировая душа не покрывается, так как она есть потенция не этого, а
абсолютного единства. Поэтому она снова стремится, но уже не как чистая
потенция, а как потенция, уже в некоторой мере реализованная (в первой общей
форме единства), и, следовательно, стремится не к единству вообще, а к некоторому
е^ 488^9
О^ Примечания ^f>
новому, ей еще неведомому единству, могущему более удовлетворить ее, нежели
то, которое она имеет. С своей стороны, активное начало мирового процесса
(Божественный Логос), имея теперь перед собою мировую душу уже не как чистую
потенцию, а как потенцию, известным образом реализованную, именно как
действительное единство тяготеющих друг к другу элементарных сил, может
соединиться с нею уже некоторым новым, более определенным образом и породить
через нее некоторую новую, более сложную и глубокую связь мировых
элементов, для которой прежняя, уже осуществленная их связь служит реальным
базисом или материальною средою. На этой новой ступени процесса мировая душа
является, таким образом, облеченною в некоторую уже более совершенную
форму единства, является полнее реализованною; но поскольку и эта новая форма
еще не выражает собою абсолютного единства, возникает новое стремление, при
осуществлении которого достигнутая перед тем форма единства, в свою очередь,
служит материальною основою, и т. д. Таких последовательных ступеней в
мировом процессе можно различать великое множество, но мы укажем три
главные эпохи этого процесса: первая, когда космическая материя господствующим
действием силы тяготения стягивается в великие космические тела, — эпоха
звездная, или астральная; вторая, когда эти тела становятся базисом для
развития более сложных тел (т. е. форм мирового единства) — теплоты, света,
магнетизма, электричества, химизма и вместе с тем конкретно расчленяются на
сложную и гармоническую систему тел, какова наша солнечная система; и, наконец,
третья эпоха, когда в пределах такой системы некоторый уже обособившийся
индивидуальный член ее (какова наша Земля) становится материальным
базисом для таких образований, в которых вместо господствовавшего дотоле
противоположения весомой, косной, непроницаемой материи и невесомого, вечно
движущегося и всепроникающего эфира как чистой среды единства является
конкретное слияние единящей формы с осиленными ею материальными
элементами в жизни органической» (БЧ. С. 138—139).
22 Там же. С. 139-140.
23 Там же. С. 140.
24 Там же.
25 «Все остальные существа, порожденные космическим процессом, имеют в себе
actu лишь одно начало: природное, материальное; Божественная же идея в
действии Логоса есть для них лишь внешний закон, внешняя форма бытия, которой
они подлежат по естественной необходимости, но которую они не сознают как
свою; здесь между частным конечным бытием и универсальною сущностью нет
внутреннего примирения, "все" есть лишь внешний закон для "этого"; только
один человек изо всего творения, находя себя фактически как "это", сознает себя
в идее как "все"» (Там же).
26 Там же.
27 Там же.
28 Там же. С. 141.
29 Там же.
30 Ср.: Там же.
31 Там же. С. 147.
С^ 489 ^
О5* Примечания ^z)
32 Там же. С. 148.
33 Там же.
34 Там же. С. 148-149.
35 Там же. С. 156.
36 Ср. цитату из Шеллинга в эпиграфе к настоящей главе.
37 Ср. гл. IV, примеч. 23.
38 Оба этих понимания были представлены в ч. I, где было также проведено их
сравнение. См. гл. III и IV.
39 БЧ. С. 153.
40 Там же.
41 Соловьев замечает: «Самое понятие Бога как всецелого или совершенного
(абсолютного) устраняет оба односторонние определения (деизма и пантеизма. —
Μ. Ф.) и открывает путь иному воззрению, по которому мир как совокупность
ограничений, будучи вне Бога (в этих своих границах), как вещественный,
вместе с тем существенно связан с Богом своею внутреннею жизнью, или душою,
которая состоит в том, что каждое существо, утверждая себя в своей границе как
это, вне Бога, вместе с тем не удовлетворяется этою границею, стремится быть
и всем, т. е. стремится к внутреннему единству с Богом; соответственно этому, по
нашему воззрению, и Бог, будучи сам по себе трансцендентным (пребывающим
за пределами мира), вместе с тем по отношению к миру является как
действующая творческая сила, волящая сообщать мировой душе то, чего она ищет и к чему
стремится, — т. е. полноту бытия в форме всеединства, волящая соединиться
с душою и родить из нее живой образ Божества. Этим определяется уже и
космический процесс в природе материальной, оканчивающийся рождением
натурального человека, и следующий за ним исторический процесс,
подготовляющий рождение человека духовного» (Там же. С. 153—154).
42 Там же. С. 154. Поэтому для Соловьева воплощение Божества «не есть
что-нибудь чудесное в собственном смысле, т. е. не есть нечто чуждое общему порядку
бытия, а, напротив, существенно связано со всей историей мира и человечества,
есть нечто подготовляемое и логически следующее из этой истории.
Воплощается в Иисусе не трансцендентный Бог, не абсолютная в себе замкнутая полнота
бытия (что было бы невозможно), а воплощается Бог-Слово, т. е.
проявляющееся вовне, действующее на периферии бытия начало, и его личное воплощение
в индивидуальном человеке есть лишь последнее звено длинного ряда других
воплощений, физических и исторических, — это явление Бога во плоти
человеческой есть лишь более полная, совершенная теофания в ряду других неполных
подготовительных и прообразовательных теофаний. С этой точки зрения,
появление духовного человека, рождение второго Адама не более непонятно, чем
появление человека природного на земле, рождение первого Адама. И то и другое
было новым, небывалым фактом в мировой жизни, и то и другое представляется
в этом смысле чудесным; но это новое и небывалое было подготовлено всем
прежде бывшим, составляло то, чего желала, к чему стремилась и шла вся
прежняя жизнь» (Там же).
43 «Этот характер проявляется во всей исторической жизни иудеев, во всем, что
создал и создает этот народ. Так, в поэзии мы видим, что иудеи создали нечто
е^490^)
(^ Примечания ^
свое, особенное только в том роде, который представляет именно субъективный,
личный элемент поэзии: они создали гениальную лирику псалмов, лирическую
идиллию Песни Песней; ни настоящего эпоса, ни драмы, какие мы видим у
индусов и греков, они не могли создать не только во время своего самостоятельного
исторического существования, но и впоследствии, — можно указать на
гениального лирика из иудеев Гейне, но нет между ними ни одного замечательного
драматурга именно потому, что драма есть объективный род поэзии. Замечательно
также, что евреи отличаются в музыке, т. е. в том искусстве, которое по
преимуществу выражает внутренние субъективные движения души, и ничего
значительного не произвели в искусствах пластических. В философской области иудеи
в свою цветущую эпоху не пошли далее нравственной дидактики, т. е. такой
области, в которой практический интерес нравственной личности преобладал над
объективным созерцанием и мышлением ума» (Там же. С. 149—150). В
«Великом споре и христианской политике» Соловьев подытоживает свою мысль:
«Подчинение Божественному началу было свойственно всему Востоку, — но это
было подчинение только страдательное, ибо человеческое начало не имело
свободы и энергии. И стада бессловесных подчиняются воле Божией, но это не
возвышает их достоинства. С другой стороны, Запад, развивший человеческое
начало на свободе, не находил Бога в себе и мог поклониться только неведомому
Богу. Один лишь народ в древнем мире при живой и напряженной
религиозности (чувстве своей связи с Божеством) обладал и высокой энергией
человеческого начала — его нравственной свободой. Энергия человеческой субъективности
в народном характере евреев открывала здесь возможность личного
взаимодействия с Божеством: Богу было на чем проявиться. Не случайно Бог вочелове-
чился в иудее» (Соловьев В. С. Великий спор и христианская политика //
Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. I. М., 1989. С. 85).
44 БЧ. С. 150.
45 Соловьев детально описывает эти ступени в одиннадцатом «Чтении» (см.: Там
же. С. 151 и далее).
16 Там же. С. 151.
47 «Такое самоотвержение представляет до известной степени уже и весь
космический и исторический процесс; ибо здесь, с одной стороны, Логос Божий
свободным действием своей Божественной воли или любви отрекается от
проявления своего Божеского достоинства (славы Божией), оставляет покой вечности,
вступает в борьбу с злым началом и подвергается всей тревоге мирового
процесса, являясь в оковах внешнего бытия, в границах пространства и времени;
является затем природному человечеству, действуя на него в различных конечных
формах мировой жизни, более закрывающих, нежели обнаруживающих истинное
существо Божие; с другой стороны, и натура мирская и человеческая в своем
постоянном томлении и стремлении к все новым и новым восприятиям
Божественных образов непрерывно отвергается самой себя в своих данных
действительных формах» (Там же. С. 156—157).
48 Там же. С. 157.
49 Там же.
50 В своих «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев сам указывает на эту связь:
«Это определение, вытекающее из нашего понятия о "духовном человеке", или
е^ 491^5
(^ Примечания ^Э
втором Адаме, безусловно тождественно с догматическими определениями
Вселенских Соборов V—VII веков, выработанными против ересей несторианской,
монофизитской и монофелитской, из коих каждая представляет прямое
противоречие одному из трех существенных логических условий для истинной идеи
Христа» (Там же. С. 156).
51 Соловьев В. С. Великий спор и христианская политика. С. 92.
52 Там же.
53 Докетизм — это гностический вариант индийского учения об аватарах, которые
в определенное время воплощаются в призрачных телах, лишенных кармы, для
того чтобы восстановить заново Божественный закон и Божественный порядок.
Последний великий аватар в индийском эпосе «Бхагавадгита» именуется
Кришной. Индуистские представления исходят из того, что в столетие, последующее
за Кали-югой, преемником аватара Кришны станет аватар Калки.
54 Воззрение, согласно которому земной мир есть царство сатаны, «князя мира
сего», или, в зороастрийском учении, Аримана, а потому принадлежит царству
тьмы и зла, было усвоено Мани и манихейцами и объединено с христианскими
воззрениями. Оно продолжало существовать в манихейских общинах
богомилов и катаров.
55 Это учение об избранности определенных совершенных, богоподобных людей
восходит к почитанию египетских фараонов и существовало в видоизмененной
форме в различных гностических течениях, в частности, в течениях египетского
типа (Маркион, Валентин, общины Наг Хаммади и т. д.). Согласно этому
учению, гностик спасается через свое знание и просвещение.
56 Соловьев В. С. Великий спор... С. 92.
57 Там же. С. 94. Учение, по которому человек может все сильнее приближаться
к Божеству с помощью особенного нравственного поведения, представлено в
восточной концепции бодхисаттв, которые, следуя по пути все более совершенных
инкарнаций, в конце концов восходят к достоинству Будды. В центре этого
чисто гуманистического мировоззрения стоит идея чисто человеческого
усовершенствования.
58 Вплоть до XIII в. несторианство представляло собой одну из величайших
национальных Церквей Востока, будучи распространено в Персии, на севере
Аравийского полуострова, в передней Индии, во всей Средней Азии до Китая. В 1551 г.
произошло объединение некоторой части несториан с католической Церковью;
в 1898 г. другая их часть соединилась с русской православной Церковью.
59 Соловьев В. С. Великий спор... С. 95.
60 Там же. С. 94.
61 Там же. С. 95.
62 Так, к примеру, следует понимать высказывание апостола Павла, уже
обсуждавшееся в главе I части I: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2: 6—8). Второе Лицо Божества
поступилось Своим «Божественным образом», т. е. Своей Божественной
прирост 492 ^)
(г^ Примечания ^f)
дой, дабы воспринять человеческий образ, человеческую природу. Поэтому Оно
оказалось в состоянии свободно располагать обеими природами. Евангелия
указывают на то, что Христос свободно пользовался ими и говорил то из Своей
Божественной природы, то из Своей человеческой природы: «Почему ты называешь
Меня благим? Никто не благ, только один Бог». Слово «Меня» здесь
совершенно очевидно относится к несовершенной, т. е. человеческой природе Христа.
В другой раз Христос говорит: «Я и Отец одно», указывая при этом на омоусию,
единосущие Отца и Сына, и тем самым на Свою Божественную природу.
63 БЧ. С. 152.
64 Там же. С. 152, 153.
β!ϊ В. Томберг заимствовал соловьевскую интерпретацию истории искушений и ее
значение для развития человечества; он излагал ее на разнообразный манер,
с использованием антропософских понятий (См.: Tomberg V. Anthroposophische
Betrachtungen zum Neuen Testament. Schönach, 1991. S. 13—53).
66 БЧ. С 157.
07 «В ответ на это искушение Христос утверждает, что Слово Божие не есть орудие
материальной жизни, а само есть источник истинной жизни для человека» (Там
же. С. 158).
68 «Во-первых, свободному от материальных побуждений Богочеловеку
представляется новое искушение — Сделать свою Божественную силу орудием
самоутверждения Своей человеческой личности, подпасть греху ума — гордости.
<...> Это действие ("верзися низу") было бы гордым зовом человека Богу,
искушением Бога человеком» (Там же).
69 Там же. С. 158—159. Соловьевская интерпретация третьего искушения сходна
с описанием Великого инквизитора в романе Достоевского «Братья
Карамазовы». Поднятая Достоевским проблема многократно обсуждалась в истории
христианства в формулировке «цель оправдывает средства», в силу исторических
причин обозначенной как «иезуитский принцип». Так как Соловьев разрешает
эту проблему, осмысляя историю искушений, ключ к ней не только связывается
с основателем христианства: становится также понятным, что «иезуитский
принцип» базируется на искушении.
70 Томберг в своих «Антропософских рассмотрениях Нового Завета» обращает
внимание на то, что экзистенциально-человеческая свобода Иисуса Христа
проявилась в ходе искушений в пустыне в том, что Он опирался исключительно на
Себя Самого: Он не был окружен людьми и не находился в связи с существами
духовного мира (ангелами), которые приблизились к Нему только после
преодоления искушения. В Его распоряжении было лишь знание, переданное
посредством письменного слова («написано»), которое Ему Самому надлежало
истолковывать и применять (Tomberg, op. cit., 21 ff.).
71 БЧ. С. 160.
72 «Духовный подвиг — преодоление внутреннего искушения — должен быть
довершен подвигом плоти, т. е. чувственной души, претерпением страданий и смерти,
поэтому-то в Евангелии после рассказа об искушении в пустыне сказано, что
диавол отошел от Христа до времени. Злое начало, внутренно побежденное
самоотвержением воли, не допущенное в центр существа человеческого, еще
сохранясь 493 ^Э
(^ Примечания ^Э
ло свою власть над его периферией — над чувственной природой, и эта
последняя могла быть избавлена от него также только через процесс самоотрицания —
страдание и смерть; и после того как человеческая воля Христа свободно
подчинилась Его Божеству, она чрез это подчинила себе Его чувственную природу
и, несмотря на немощь сей последней (моление о чаше), заставила ее
осуществить в себе Божественную волю до конца — в физическом процессе страдания
и смерти» (Там же. С. 159—160).
73 Там же. С. 160.
74 Там же.
75 Там же.
76 Там же.
77 «Это откровение и слава сынов Божиих, которой с надеждою ожидает вся тварь,
есть полное проведение свободной богочеловеческой связи во всем человечестве
во все сферы его жизни и деятельности; все эти сферы должны быть приведены
к богочеловеческому согласному единству, должны войти в состав свободной
теократии, в которой Вселенская Церковь достигнет полной меры возраста
Христова» (Там же. С. 160-161).
78 Там же. С. 161.
79 Там же.
80 Например, в смысле Евангелия от Иоанна: «Верующий в Него не судится, а не
верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Бо-
жия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин 3: 18—19).
81 БЧ. С. 162. Соловьев продолжает: «Церковь христианская исторически
составилась изо всех людей, принявших Христа; но Христа можно было принять
внутренним и внешним образом. Внутреннее принятие Христа, т. е. нового
духовного человека, состоит в духовном возрождении, в том рождении свыше или от
духа, о котором говорится в беседе с Никодимом, т. е. когда человек, сознав
неистинность плотской, материальной жизни, ощущает в себе положительный
источник другой истинной жизни (независимый ни от плоти, ни от ума
человеческого), закон, который дан в откровении Христовом, и, признав эту новую жизнь,
открытую Христом, за безусловно должную как благо и истину, добровольно
подчиняет ей свою плотскую и человеческую жизнь, внутренно соединяясь
с Христом как родоначальником этой новой духовной жизни, главою нового
духовного царства. Такое принятие Христовой истины освобождает от греха (хотя
и не от грехов) и образует духовного человека. Но может быть и внешнее
принятие Христа, только признание чудесного воплощения Божественного существа
для спасения людей и принятие Его заповедей по букве как внешнего,
обязательного закона. Такое внешнее христианство заключает в себе возможность
подпасть первому искушению злого начала» (Там же).
82 «Этому искушению религиозного властолюбия подпала часть Церкви,
предводимая римскою иерархиею, и увлекла за собою большинство западного
человечества в первый великий период его исторической жизни — средние века.
Существенная ложность этого пути заключается в том скрытом неверии, которое
(г^ 494^)
(с^ Примечания ^Э
лежит в его корне. <...> И это неверие, сначала незаметным зародышем
скрывавшееся в католичестве, впоследствии явно обнаруживается. Так, в иезуитстве —
этом крайнем и чистейшем выражении римско-католического принципа —
движущим началом становится уже прямо властолюбие, а не христианская ревность;
народы покоряются не Христу, а церковной власти, от них уже не требуется
действительного исповедания христианской веры, — достаточно признания папы
и подчинения церковным властям. Здесь христианская вера оказывается
случайной формой, а суть и цель полагается во владычестве иерархии; но это уже
есть прямо самообличение и самоуничтожение ложного принципа, ибо здесь
теряется всякое основание той самой власти, ради которой действуют» (Там же.
С. 162—163). Конечно, поздний Соловьев занял другую позицию по отношению
к римско-католической Церкви. Владимир Сцилкарскии пишет в своем труде
«Путь Соловьева к Una Sancta» (Werke II. Freiburg, 1957. S. 157 ff.): «Когда
Соловьев писал первую из своих статей ("О расколе в русском народе и
обществе". — Μ. Ф.), он уже спешил, поначалу не отдавая себе в этом отчета, на всех
парусах в католическую гавань. Переворот в его душе совершился спустя
короткий промежуток времени — самое большее через несколько месяцев, которые
разделяли написание статей "О духовной власти в России" и "О расколе". <...>
Уже первую из тех статей, которые объединены в сочинении о русском расколе,
Соловьев писал после того, как он превратился из ожесточенного противника
католической Церкви в ее восторженного апологета. В сочинении о расколе уже
развиты предпосылки для того вывода, который Соловьев предлагает
читателям. То, что этот вывод неизбежно вытекает из этих предпосылок, он впервые
определенно и обоснованно выскажет в своем "Великом споре" (1883), вызвав
тем самым горькое разочарование у своих прежних единоверцев —
славянофилов» (Szylkarski, 182 f.). Главной причиной признания Соловьевым
римско-католической Церкви было изменение понимания им папства. Если до того он считал
римскую кафедру местопребыванием антихриста, то в «Великом споре и
христианской политике» он заявляет о своей вере в уникальное значение кафедры
Петра для Христовой Церкви, допуская некий мистический факт: «Для того
чтобы иметь объединяющее значение для Церкви не только различных мест, но
и различных времен, эта кафедра должна быть в реальном смысле кафедрою
св. Петра, т. е. за настоящего руководителя земной Церкви во всем течении ее
исторического бытия должен быть принят один и тот же могучий и бессмертный
дух первоверховного апостола, таинственно связанный с его могилою в вечном
городе и действующий чрез весь преемственный ряд пап, получающих таким
образом единство и солидарность между собою. Таким образом, видимый папа
является орудием, часто весьма несовершенным, а иногда и совсем негодным,
посредством которого незримый руководитель Церкви проводит свое действие
и направляет исторические дела земной Церкви в каждую данную эпоху; так что
каждый папа есть не столько глава Церкви, сколько вождь данной исторической
эпохи» (Соловьев В. С Великий спор... С. 138—139). Соловьев различает те
исторические эпохи, в которых обнаруживалось истинное папство, от таких эпох,
в которые действовала скорее его призрачная тень: «Несмотря на многих
достойных представителей папства и в последующие века (после Льва и Григория. —
Μ. Ф.), несомненно, что со времени разделения Церквей и параллельно
развитию византизма на Востоке является на Западе другое нечистое течение мыслей
е^495^Э
С^ Примечания ^)
и дел, которое мы обозначим названием папизма для отличия от папства в его
истинном значении» (Там же. С. 140).
83 БЧ. С. 163.
84 Там же.
85 Там же. С. 164.
86 Поэтому Соловьев полагает, что немецкая философия (в особенности немецкий
идеализм) завершает собою рационализм: «Теоретически начало рационализма
выражается в притязании вывести из чистого разума (apriori) все содержание
знания или построить умозрительно все науки: притязание это составляло
сущность германской философии — наивно предполагаемое Лейбницем и Вольфом,
сознательно, но в скромной форме и с ограничениями выставленное Кантом,
решительно заявленное Фихте и, наконец, с полною самоуверенностью и
самосознанием и с таким же полным неуспехом проведенное Гегелем» (Там же). Здесь
Соловьев упускает, разумеется, основное различие между рационализмом и
идеализмом, которое рассматривается у нас в следующей главе и сравнивается с его
характеристикой в соловьевской «Критике отвлеченных начал» (см. гл. IX).
87 БЧ. С. 164.
88 Там же. С. 165.
89 Там же.
90 Ниже (глава IX) последовательность исторического появления эмпиризма,
рационализма, идеализма и (софиологической) теософии определяется
по-другому и связывается соответственно с Англией, Францией, Германией и Россией.
Противоречие здесь только кажущееся: поскольку после того, как метафизика
сущности пришла в упадок (это можно представить себе в образе разрушения
средневекового собора познания), все части, так сказать, оказались «на земле»,
и с самого начала эмпирическая ориентация победила рационалистические,
идеалистические и софиологически-теософские попытки заново воздвигнуть
верхние «этажи».
91 БЧ. С. 166.
92 Там же.
93 Там же. Соловьев продолжает: «В какой мере суждено западному человечеству,
впавшему в последнее искушение злого начала, испытать все эти его
последствия, заранее сказать нельзя. Во всяком случае, изведав на опыте ложность
трех широких путей, испытав обманчивость трех великих искушений, западное
человечество рано или поздно должно обратиться к богочеловеческой истине.
Откуда же и в какой форме явится теперь эта истина? и прежде всего, есть ли
это сознательное, но невольное обращение к истине путем испытания на деле
всякой лжи единственный возможный для человечества путь?» (Там же). В свой
последний творческий период, ориентируясь преимущественно на
апокалипсический конец времен, Соловьев, разумеется, исходит из того, что вначале
западному, но позднее и всему остальному человечеству предстоит четвертое
искушение — искушение со стороны антихриста. Соловьев изображает это в своей
«Краткой повести об антихристе» (в конце его «Трех разговоров»).
«Антихриста» Соловьев представляет как «сверхчеловека», — и здесь вполне сознательный
е^496^Э
С^ Примечания ^D
намек на Ницше, чье учение о сверхчеловеке в девяностых годах XIX в.
сделалось популярным также и в России, привлекая к себе все больше приверженцев.
Лудольф Мюллер пишет: «Начиная с 1894 г. Соловьев полемизировал с
идеалом сверхчеловека, проповедуемым Ницше. С самого начала сверхчеловек
Ницше пробудил в Соловьеве апокалипсические размышления. Сравним статьи
Соловьева "Литература или истина?" и "Идея сверхчеловека"». Интересно в связи
с этим, что В. Томберг, последователь Соловьева, рассматривал судьбу Ницше
на фоне искушений в пустыне (ср.: Tomberg V. Anthroposophische Betrachtungen
zum Neuen Testament und zur Apokalypse, 17 ff.). Также Томбергом написаны
самые ранние в исследовательской литературе статьи о понятии богочеловечества
и об антихристе у Соловьева, вышедшие в свет в штутгартском журнале « Anthro-
posophie» между 1930 и 1932 годами. Антихрист одолевается, согласно
«Краткой повести...», совместными усилиями глав трех великих конфессий и путем
воссоединения трех великих христианских Церквей. В связи с этим Лудольф
Мюллер указывает на близость этих идей к Шеллингу: «В этом отношении
действительное влияние <...> на Соловьева оказал философ Ф. В. Й. Шеллинг,
очень близкий Соловьеву. В своих последних лекциях о "философии
откровения" <...> Шеллинг охарактеризовал три ступени развития христианской
Церкви с помощью образов Петра, Павла и Иоанна, причем Петр является
представителем средневеково-католического, Павел — протестантского христианства,
а Иоанн — христианства будущего. Несомненно, Соловьев был знаком с этими
рассуждениями Шеллинга; частично он заимствовал их у него, но значительно
видоизменил их: Иоанн, бывший у Шеллинга представителем надконфессиональ-
ной религии будущего, равно как и два других апостола, у Соловьева
принадлежат к конкретным конфессиям (Иоанн — к восточному православию).
Католицизм и протестантство у Шеллинга — лишь подготовительные ступени, которые
будут упразднены в эпоху Иоаннова христианства; у Соловьева все три
конфессии выражают собой не подлежащие отмене начала, которые после окончания
эпохи их разделения, в конце времен, вновь соединяются для совместных
действий» {Midler L. Op. cit., 568). Итак, в момент написания «Трех разговоров»
Соловьев уже не придерживался той точки зрения, что римский католицизм
и немецкое протестантство в принципе связаны с «искушениями в пустыне»,
выступающими в истории, и преодолеваются, снимаются в русской
православной Церкви.
94 БЧ. С. 167.
95 Там же. Поэтому восточное христианство не вполне избежало опасности со
стороны докетического «бесчеловечного Бога», — совершенно так же, как Западу
угрожает опасность «безбожного человека», восходящая к арианству (ср.
введение к данной главе).
96 БЧ. С. 167.
97 Там же.
98 Там же. С. 168.
99 Там же.
00 Там же. С. 168—169. Соловьев обосновывает необходимость синтеза Востока
и Запада не только исторически, но также придает ему мистический смысл: «Если
е^ 497 ^Э
С^ Примечания ^>
осенение человеческой Матери действующею силою Божиею произвело
вочеловечение Божества, то оплодотворение Божественной матери (Церкви)
действующим началом человеческим должно произвести свободное обожествление
человечества. До христианства природное начало в человечестве было данное (факт),
Божество было искомое (идеал) и как искомое действовало (идеально) на
человека. В Христе искомое было дано, идеал стал фактом, событием, действующее
Божественное начало стало материальным. Слово плоть быстъ, эта новая плоть
есть Божественная субстанция Церкви. До христианства неподвижною основою
жизни была натура человеческая (ветхий Адам), Божественное же было
началом изменения, движения, прогресса; после христианства, напротив, само
Божественное как уже воплощенное становится неподвижною основою, стихией
жизни для человечества, искомым же является человечество, отвечающее этому
Божественному, т. е. способное от себя соединиться с ним, усвоить его. Как
искомое, это идеальное человечество является действующим началом истории,
началом движения, прогресса. Как в дохристианском историческом ходе основою,
материей была натура, или стихия человеческая, действующим и образующим
началом — разум Божественный, ό λόγος του θεοΰ и результатом
(порождением) — Богочеловек, т. е. Бог, воспринявший человеческую натуру, так в процессе
христианства основою, или материей, является натура, или стихия
Божественная (Слово, ставшее плотью, или Тело Христово, София), действующим и
образующим началом является разум человеческий, а результатом является
человеко-бог, т. е. человек, воспринявший Божество; а так как воспринять Божество
человек может только в своей безусловной целости, т. е. в совокупности со всем,
то человеко-бог необходимо есть коллективный и универсальный, т. е. всечело-
вечество, или Вселенская Церковь; Богочеловек индивидуален, человекобог
универсален; так радиус круга один и тот же для всей окружности в любой из ее
точек и, следовательно, сам по себе есть уже начало круга, точки же периферии
лишь в своей совокупности образуют круг» (БЧ. С. 169). Развитие в XX
столетии протекало иначе, чем надеялся Соловьев. Хотя Россия прежде других
восприняла западное начало — в первую очередь в форме диалектического
материализма и основанного в нем социалистически-коммунистически организованного
общества, а затем, после падения «железного занавеса», в форме
удовлетворения материальных потребностей через рыночное хозяйство и проникновения
эмпирико-позитивистского принципа в область права и науки, — однако
православное христианство оказалось слишком слабым (как в эпоху ленинизма-
сталинизма, так и после вторжения в Россию западной общественной и
хозяйственной систем), чтобы существовать самостоятельно, и пошло по пути
приспособления; уже и помыслить было невозможно о какой-то силе, способной
преобразовать западное начало и повести его к цели. Впрочем, Соловьев видел
эту опасность, угрожающую православной Церкви. В своих
религиозно-философских сочинениях он обосновывает, что всякая национальная Церковь раньше
или позже должна выродиться в «государственную Церковь», так что не
государство шаг за шагом движется в направлении свободной теократии —
церковного государства, но, напротив, Церковь служит интересам государственной
власти. Соловьев не проблематизировал и другой опасности — опасности
религиозного фундаментализма как несвободной теократии. Но важно указать на то,
что он всегда говорит о свободной теократии, которая, по его мнению, осуществ-
(^ 498^5
(^ Примечания ^э
ляется через свободное отношение личности или сообщества личностей к
Божественному началу.
101 БЧ. С. 169-170.
102 Там же. С. 170.
IX. Софиология как метафизика сущности
Критика отвлеченных начал и осуществление всеединства
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 596 (далее — КОН).
2 В связи со строительством «средневекового собора познания» см. гл. VI.
Однажды (см.: Frensch Λ/. [Hrsg.] Esoterik von der Antike bis zur Gegenwart. München,
1991. S. 279 ff.) автор уже указал на то, что, «между прочим, из-за
одностороннего преувеличения, или субъективного, или объективного, принципов познания
(что связано с именами Декарта (рационализм, идеализм) и Френсиса Бэкона
(эмпиризм, реализм)) здание средневековой метафизики обрушилось,
распавшись на свои четыре составные части: это его прежний фундамент и "первый
этаж" — эмпирия, или sensus; бывший "второй этаж" — ratio; прежний "третий
этаж" — intellectus, и, наконец, "крыша" — творческое начало, Deus. Впоследствии
каждый из этажей сам по себе сделался предметом философской рефлексии и
соответствующей системы. Эти системы возникали в Европе одна за другой в
течение столетий Нового времени, как бы перемещаясь с запада на восток: речь
идет о британском эмпиризме (представленном, к примеру, Ф. Бэконом, Юмом
и Локком), французском рационализме (важнейшие представители — Декарт,
Вольтер и Дидро), немецком идеализме (Фихте, Шеллинг, Гегель) и русской со-
фиологии (Соловьев, Флоренский и Булгаков)». В одной своей статье автор
вовлек в воображаемый «разговор» представителя метафизики сущности и
представителя метафизики свободы; при этом «падение собора» обсуждалось на
фоне общественного развития в Европе в течение последних трех столетий (см.:
Frensch M. Europa als Kathedrale und Europa als Prozess // Novalis. 1995. 9.
S.31ff.).
3 Ср. мысли В. Леттенбауэра в его послесловии к изданию 4Критики
отвлеченных начал», где он также ставит этот труд в контекст духовной истории:
Lettenbauer W. Nachwort der Herausgebers // KAP. S. 751 ff. Ср. сн. 89 к данной главе.
4 КОН. С. 643.
5 Там же. С. 651.
6 Таково возражение Шеллинга (РО, 49) Канту.
7 КОН. С. 652.
8 Там же. С. 654.
9 Там же. С. 660.
10 Там же. С. 668.
11 Там же.
12 Там же. С. 672.
13 Там же. С. 673-674.
е^ 499^9
(г^ Примечания ^э
14 Там же. С. 676.
15 Там же. С. 674-675.
16 Там же. С. 676.
17 Там же. С. 677.
18 Там же.
19 «Но каким образом этот х, который мы ведь непременно мыслим в причинной
связи со впечатлением, этот χ — то, что предшествует всем категориям, — мог
оказаться не определимым с помощью категорий? Ведь мы, вольно или невольно,
обязаны мыслить его как нечто существующее, действительное и потому с
помощью некоей категории; ведь мы даже не имеем для него никакого другого
понятия, кроме как именно понятия существующего; по крайней мере, оно останется,
если мы также отбросим все прочие определения: ведь этот χ должен быть, по
крайней мере, существующим. Как мог бы он быть лишенным всех
определений, — этот х, к которому мы, вольно или невольно, применяем понятие
причины? Итак, здесь очевидное противоречие; ибо, с одной стороны, это неизвестное,
х, должно предшествовать применению категорий (должно, поскольку только
оно опосредует их применение ко впечатлению чувств или побуждает применить
их), — с другой стороны, мы ведь не можем не приписывать этому неизвестному
отношения к познавательной способности, — например, не определять его как
причину чувственных впечатлений. Мы должны применить категории
существующего, причины и т. д. к тому, что, согласно предположению, существует вне
всяких категорий, что сам Кант называет вещью в себе, т. е. обозначает как вещь
до и вне познавательной способности. Вы видите: с этой теорией решительно
невозможно сладить; даже не надо ставить вопроса, каким образом та вещь,
которая сама по себе не определима ни в пространстве, ни во времени, а также с
помощью категорий, — как все-таки она в нашем воображении подчиняется его
формам, воспринимает определения нашей познавательной способности, которые
имеют основания лишь в нашем субъекте. Всегда остается главный вопрос: что
такое сама эта вещь в себе? Только когда я познаю ее, я поверю в то, что узнал,
собственно, значение знания. Итак, эта вещь в себе была тем камнем
преткновения, который кантовская критика чистого разума преодолеть не смогла и о
которой она, в качестве самостоятельной науки, должна была разбиться» (Schelling.
PO, 49-50).
20 КОН. С. 678.
21 В связи с этим Шеллинг задает риторический вопрос: «Должно ли поэтому
априорное в трансцендентальных, обусловливающих всякое созерцание формах
чувственности, формах пространства и времени, должно ли было априорное в этих
формах, к которым ведь не примешивается ничего эмпирического, чувственно
воспринимаемого, быть чем-то иным, нежели именно априорным разума, только
примененным особым образом?» Сам он тотчас же отвечает на него:
«Следовательно, то, что Кант называет трансцендентальной чувственностью, есть не
что иное, как сам разум, находящийся в особом отношении к чувственному»
(РО, 57).
22 «Занимается ли разум априорным чувственности, категориями рассудка или
диалектикой своего собственного движения, он всегда вынужден иметь дело
е^500-^Э
(^ Примечания ^Э
с самим собой и никак не с действительным существованием вещей; в своем
деле он всегда остается всецело наедине с собой: разум, будучи направлен на
самого себя, становится предметом самого себя, находит в себе prius или, что то же,
субъекта всего бытия, а в последнем он также имеет средство или скорее
принцип его же априорного познания» (РО, 58). Напротив, «в большинстве случаев
познание <...> есть, собственно, узнавание; к примеру, когда я познаю некое
растение и знаю, что это такое, я узнаю то понятие, которое у меня уже есть, в
наличествующем растении, т. е. в растении существующем. В познании всегда
должны присутствовать двое, которые сходятся, — таков смысл латинского слова
cognitio. Следовательно, уже здесь (сразу же после этого различения) нам,
вероятно, покажется, что, если только встает вопрос относительно "что", этот вопрос
адресован разуму, и напротив, о том, что нечто имеется, существует, может
сообщить только опыт. Доказательство того, что нечто существует, уже потому не
может быть делом разума, что то, что он может узнать об этом существующем,
в основном принадлежит опыту; но для того, что есть дело опыта, как раз не
нужно доказательства его существования: как раз в опыте этот предмет определен
в качестве действительно существующего» (РО, 58—59).
23 Поздний Шеллинг утверждал, что в своей «Системе трансцендентального
идеализма» он предпринял попытку создания такой науки, которая выводит бытие
из разума, не претендуя на то, что это бытие также принадлежит
действительности. Та природа, которая является плодом умозрений трансцендентального
идеализма, никоим образом не может быть поэтому отождествлена с фактической,
эмпирической природой (РО, 58—59).
24 «То, что некое растение вообще существует, не есть случайность, если вообще
что-нибудь существует: не случайно то, что вообще имеются растения, но ведь
растения вообще — не существует, существует только это определенное растение,
в этой точке пространства, в этот момент времени. Следовательно, если я также
сознаю — и, быть может, это можно сознавать a priori, — что в порядке
существования вообще должно иметься растение, то, сознавая это, я еще не выхожу
за пределы понятия растения. Это растение еще не есть действительное
растение, это лишь голое понятие растения. Ни к чему другому это не приведет, и я
вовсе не хочу допустить того, что некто полагает, будто он может доказать a priori
или с помощью разума, что это определенное растение здесь или теперь
существует; он лишь станет доказывать по мере своих возможностей, что вообще
имеются растения» (РО, 59—60).
25 КОН. С. 678-679.
26 «Когда мы предаемся какому-нибудь ощущению, какой-нибудь цели, интересу
и чувствуем себя в них ограниченными, несвободными, то областью, в которую
мы в состоянии выбраться из них и тем самым вновь прийти к свободе, является
эта область достоверности самого себя, область чистой абстракции, мышления.
Или, когда мы хотим говорить о вещах, их природу или их сущность мы равным
образом называем понятием, которое существует только для мышления; о
понятиях же вещей мы имеем гораздо меньшее основание сказать, что мы ими
владеем или что определения мысли, комплекс которых они составляют, служат нам;
напротив, наше мышление должно ограничивать себя сообразно им и наш
произвол или свобода не должны переделывать их по-своему. Стало быть, посколь-
е^ 501^5
Сг^ Примечания ^>
ку субъективное мышление есть наиболее характерная для нас деятельность, а
объективное понятие вещей составляет самое суть, то мы не можем выходить за
пределы указанной деятельности, не можем стать выше ее, и столь же мало мы
можем выходить за пределы природы вещей. <...> Если критическая философия
понимает отношение между этими тремя терминами так, что мы ставим мысли
между нами и вещами как средний термин, в том смысле, что этот средний
термин скорее отгораживает нас от вещей, вместо того чтобы соединять нас с ними,
то этому взгляду следует противопоставить простое замечание, что как раз эти
вещи, которые будто бы стоят на другом конце, по ту сторону нас и по ту
сторону соотносящихся с ними мыслей, сами суть мысленные вещи и как совершенно
неопределенные они суть лишь одна мысленная вещь (так называемая вещь в
себе), пустая абстракция. <...> Если образование понятия совершается в
соответствии с истиной, то оно совершается как действительное движение, и в этом
действительном движении открывается прообраз всякого понятия вообще. Это
само понятие, прообраз всех понятий, основа всех определенных понятий. <...>
Определенность же понятия есть определение формы указанного
субстанциального единства, момент формы как целокупности, момент самого понятия,
составляющего основу определенных понятий. Это понятие чувственно не
созерцается и не представляется; оно только предмет, продукт и содержание
мышления и в себе и для себя сущая суть, логос, разум того, что есть, истина
того, что носит название вещей. Уже менее всего должно оставлять вне науки
логики логос» (Гегель Г. В. Ф. Предисловие ко второму изданию «Науки логики-
» // Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 86-87, 90-91).
27 Мы основываемся здесь на книге Сергея Булгакова «Трагедия философии»
(ниже даются ссылки на изд.: Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 311 —
518. — Прим. пер.).
28 «Кант утверждает, что существует некое познание вещей в себе, но из этого
познания a priori он исключает как раз главный момент, а именно — само
существующее, "в себе", сущность вещей, то, что, собственно, в них есть» (РО, 49).
29 См.: Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 99.
30 РО,51.
31 «Это учение предполагает некий совершенно новый инструмент чувств,
посредством которого открывается новый мир, вовсе не существующий для
обыкновенного человека. <...> Вообразим для себя мир слепорожденных, которым
поэтому знакомы лишь те вещи и их отношения, которые существуют для них
только через чувство осязания. Вы приходите к ним и говорите с ними о красках
и других отношениях, которые существуют только для зрения благодаря свету.
Или вы говорите с ними как бы ни о чем, и лучше, если они скажут вам об этом,
ибо таким образом вы скоро заметите ошибку и в случае, если вы не сможете
открыть им глаза, вы прекратите пустые разговоры. <...> Или же они захотят все
же по какой-то причине понять ваше учение. Тогда они смогут понять его,
только руководствуясь тем, что им известно через посредство осязания: они захотят
ощутить цвет, краски и прочие отношения видимого мира; они станут
воображать подобное чувство, в этом чувстве им померещится нечто такое, что они
назовут краской. И они впадут в заблуждение, искажение действительности, в ее
С^502^Э
е^ Примечания ^>
ложное толкование» (Fichte J. G. Einleitungsvorlesung in die Wissenschaftslehre.
Berlin, 1913 // Fichtes Werke. Bd. 9. Berlin, 1991. S. 4).
32 «Настоящее значение Фихте состоит в том, что он был противоположностью
Спинозе в том отношении, что для последнего абсолютная субстанция была
лишь мертвым, неподвижным объектом. Этот шаг, состоящий в определенной
бесконечной субстанции "Я", а следовательно, субъект-объекта <...>, — этот шаг
сам по себе настолько значителен, что забывают о том, что для этого было
сделано самим Фихте: его огромная, незабываемая заслуга всегда будет состоять в
постижении, прежде всего в собственном уме, идеи совершенной априорной
науки» (РО, 54).
33 «Если Я есть все и вне Я нет ничего, "тьма кромешная", то первое значение не-Я
есть абсолютная метафизическая пустота. И спрашивается: может ли Я так
погасить себя, чтобы получилось Не-я в точном смысле — à-privativum? Таковым
погашением можно мыслить только абсолютную смерть, но смерть, как и время,
является трансцендентной для Я. Я вне и выше времени, а потому не знает
смерти, впрочем, как и жизни. Абсолютное Я есть само Божество» (Булгаков С.
Трагедия философии. С. 510). Он продолжает: «Явно, что применить à-privativum
к Абсолютному есть нелепость и бессмыслица. Сам Фихте этой возможности не
исследует, хотя он и должен был бы именно с нее начать: возможно ли
ограничить или отвергнуть Абсолютное или, если Я есть Абсолютное, то возможно ли,
мыслимо ли, дедуцируемо ли не-Я? На религиозном языке это значит: если есть
Бог, то Бог есть все, а потому возможно ли, мыслимо ли понятие не-Бог? В
известном смысле не-Бог есть ничто — ούκ öv — "тьма кромешная", или то, что
абсолютно не-есты>. Булгаковское возражение разбивается о то обстоятельство, что
он сам, — как, впрочем, и Фихте — вовсе не думает о возможности цимцума,
открытой Лурия. Если бы Фихте говорил о возникновении «не-Я» через
предшествующую всему жертву — действительно первый поступок «Я» (вместо того
чтобы говорить о полагании «не-Я»), то он пришел бы к различению ипостаси
и усии в Божественном существе, а также к «ты» как истинному «не-Я», которое
одновременно есть другое «Я». Эта мысль детально разъяснялась в ч. I данной
книги.
34 Там же. С. 511. Булгаков продолжает: «Отрицательное суждение в этом смысле
неразрывно с положительным и его имеет в основе, оно существует лишь в
ткани мысли, в ее диалектике (как "антитезис"). Но Я не допускает с собой никакой
диалектики и никакого отрицания и умаления: оно строптиво, неумолимо и не-
умалимо. И это понятно, потому что Я никогда не бывает сказуемым, а только
подлежащим, отношение же, в том числе и отрицание, существует только в
сказуемом. Фихте выдумал тожесловие: Я есть Я, или Я равно Я, и тем превратил
я из подлежащего в сказуемое, вернее, подставил зеркало и тем только удвоил
образ». Ср. в связи с этим гл. III ч. I, где представлена общая возможность
диалектики при допущении цимцума.
35 «Не-я есть лишь модус Я, есть Я, его мэон. Это может быть становящееся я,
возникающее в природе и из природы, и тогда мы имеем разные виды натурализма
и эволюционизма, от материалистов до Шеллинга; может быть "инобытие духа",
его обморок, как у Гегеля. Неясность и известная плутоватость мысли Фихте
заключается в том, что он берет не-я преимущественно в этом значении, с тем
е^ 503^5
C^ Примечания ^f>
чтобы под флагом μή втащить в Ich-Philosophie всяческую контрабанду, т. е.
природу, но обосновывает, "дедуцирует" не-я путем простой рефлексии из я»
(Там же. С. 512). Конечно, Шеллинг попытался преодолеть именно голый
трансцендентализм и голый натурализм, примирив их, — попытался сделать это
с помощью процесса (который не был оценен Булгаковым, как и, впрочем,
Соловьевым и Флоренским) обращения вовнутрь единства и обращения наружу
множества; эта попытка оказывается перспективной, только если она
предваряет философское развитие мысли о цимцуме (см. ч. I).
«Фихтевское Я, как монада у Лейбница, не имеет окон, оно замкнуто и
непроницаемо. Правда, Фихте патетически говорит о достоинстве каждой человеческой
особи как такой, которая может сказать о себе: Я есмъ, но эта декламация <...>
лишена всякой почвы в философствовании Фихте, и нигде в "Наукоучении" эта
мысль не получила серьезного обсуждения. Более того, оно и не имеет средств
для постижения ты. Ибо абсолютное Я, составляющее и единственный
источник реальности, Я как субстанция в единственном числе, дает место лишь пола-
ганию не-я и полаганию я, но невозможно и противоречиво полагание мы, т. е.
чужого я, которое есть вместе с тем собственное не-я. На проблеме ты в самом
деле и терпит крушение Ich-Philosophie. С одной стороны, многоипостасность Я
необходима для практической философии Фихте, особенно для философии
права, но для нее не дано никакого места в "Наукоучении". Своеобразие ТЫ как я
и не-я вынуждает иной выход из я, нежели только его положение в не-я, ибо ты
столь же полагается в чужом я, сколько его же и полагает. Оно не вмещается
в бесприродную Ich-Philosophie, для которой мир есть только не-я или Schranke,
материал для упражнений я в его устремлении к бесконечности. <...> Учение
Фихте есть философское отрицание триипостасности, и постольку его можно
определить как унитаризм, моноипостасность, идеалистический ислам: "Нет
Бога, кроме Бога-Я, и Фихте пророк его"» (Там же. С. 513—514, 516). В связи
с критикой философии права Фихте см. гл. VI.
Там же. С. 512—513. В своем сочинении «Трагедия философии» Булгаков
исходит из того, что в основе всякого суждения нашего сознания лежит некое
трехчленное предложение. Это основное предложение нашего мышления состоит из
подлежащего, сказуемого и связки-копулы. Если началом философии делается
одна из трех составных частей этого предложения (на которой и строится
данная философия), то такая часть превращается в отвлеченное начало. Один из
разделов своей книги Булгаков посвящает критике системы Гегеля.
Там же. С. 516.
«Напрашиваются на сопоставление и противопоставление оба мыслителя
(Фихте и Гегель. — Μ. Ф.). Для Фихте Ich = Alles, как и Alles = Ich, для Гегеля
такую же роль играет чистое мышление, νόησις νοήοεως. Фихте из Я "дедуцирует"
и формы мысли, категории, и формы бытия — пространство и время; напротив,
у Гегеля само Я дедуцируется из категорий, точнее, составляет лишь
преходящий момент диалектики понятия. Таким образом, путь, проходимый от Я к
мышлению и обратно, у обоих мыслителей противоположен» (Там же. С. 517).
Ученик Гегеля и его издатель Карл Розенкранц так описывает в своем дневнике
впечатления от собственной попытки помыслить это чистое бытие и
представить его: «Самое головокружительное представление, которое я едва осмелива-
е^504^3
(г^ Примечания ^>
юсь выдумать и почти не в состоянии выразить, это представление о том, что
нечто вообще существует. В этой мысли для меня разверзается абсолютная,
лишенная образов мировая бездна. Я слышу нашептывание, словно призыв
предать Бога. Меня охватывает страх, как в детстве, когда я читал Иоаново
"Откровение", и в нем рушились небо и земля...» (Rosenkranz Karl. Aus einem Tagebuch.
Leipzig, 1854. S. 24 f.).
41 Булгаков С. Трагедия философии. С. 474. Обусловленное этим переворачивание
причинности в гегелевской системе, выдающей себя за христианскую, для
Булгакова является тем критерием, с помощью которого можно отличить
гегелевское учение о возникновении от истинного христианства: «Христианская идея
создания мира из ничего не имеет ничего общего с гегелевским логическим
возникновением даже внешне, п<отому> ч<то> здесь противоположный порядок
следования: ничто — бытие, а не: бытие — ничто. Но, самое главное, здесь есть
творение, а не логическое, имманентное возникновение. <...> Колоссальная
и принципиальная разница между христианским догматом и Гегелевым учением
в том, что первое содержит в себе антиномию, разрывает мысль и в этом смысле
сверхразумно: оно констатирует трансценс из укона, ούκ öv, абсолютного не-бы-
тия, к (гегелевскому) мэону-бытию, μή öv, и между этими началами нет никакого
моста, разум не видит его и не может усмотреть, ибо здесь мание десницы Божи-
ей, творческое да будет Господа Бога, и не дано твари понять своего творения,
хотя и ничего она не может понять, если не будет считаться со своей сотворен-
ностью. Итак, христианское творение из ничего находится по ту сторону
гегелевской диалектики, ею предполагается как совершившееся: диалектика бытия
уже по сю сторону, в бытии. И этого не понимает сам Гегель, который, растворяя
в диалектике бытия творение с его антиномией, — этим следом прохождения
Божества, есть, конечно, пантеист» (Там же. С. 479—480). Подробная критика
понятия бытия в гегелевской логике проводится нами в гл. III ч. I.
42 «Поэтому же — но только поэтому — система Фихте притязает быть
абсолютной философией, не будучи в то же время философией откровения. Он
повествует об Я еще до сотворения мира, т. е. до не~я. Мы видели, что сходными же
чертами отличается и философия Гегеля, которая тоже мнит себя абсолютной
системой и притязает на божественный разум. Система Фихте, исходя из
до-логического или мета-логического Я, тем не менее, остается всецело в логике, есть
рационалистическая философия; система Гегеля, исходя из совершенной безыпо-
стасности, старается втиснуть в себя ипостасность, сделать идею субъектом, Я.
В этом, и только в этом смысле обе абсолютные системы суть виды философии
тожества, каковая именно и характеризуется снятием коренного,
первоначального различия между ипостасью и сущностью, лицом и природой, подлежащим
и сказуемым и рассматривает их как модусы общей субстанциальной потенции,
которая не есть ни то, ни другое, но "полагает" для себя и в себе, по нуждам
своим, и то, и другое. И в этом смысле они обе становятся в один непрерывный ряд
философских систем нового и древнего времени, которые суть ряд христианских
ересей. <...> И самое основное, исходное понятие субстанщи берется в
философии тожества заведомо неверно, упрощенно, — монистически, и заранее
обрекает систему на ложь и насилие над действительностью. Субстанция есть живое
предложение, в котором имеется и подлежащее, и сказуемое, и связка» (Там же.
С. 518).
(^505^)
(^ Примечания ^Э
Ср. сн. 37.
Булгаков смотрит именно в эту сторону, когда пишет: «Гегельянство есть <...>
учение моноипостасности. Однако оно как система в целом есть сплошное
заблуждение, потому что в нем вторая ипостась принята за первую, извращен
порядок ипостасей; напротив, фихтеанство может быть удержано, но в соединении...
с своим отрицанием — натурализмом, в виде ли спинозизма или другой какой-
либо форме. Фихте плюс Спиноза — таково задание» (Булгаков С. Трагедия
философии. С. 516—517).
«Наш разум, наше логическое мышление, без сомнения, говорит нам, как можем
мы мыслить этот предмет, если он дан нам. На вопрос: что есть этот предмет,
в собственное существование которого мы верим, разум может отвечать нам, что
этот предмет есть причина, определяющая наши ощущения, что это есть нечто
действительное, некоторое единство и т. п. Но все эти определения выражают
только общие возможности отношения этого предмета к нам и к другим
предметам и, следовательно, нисколько не отвечают на вопрос: что есть сам этот
предмет. В самом деле, те же самые определения (причина, единство, реальность)
могут быть даны всем другим предметам столько же, сколько и этому: всякий
предмет есть причина своих действий, есть единство своих элементов, некоторая
реальность и т. д. Следовательно, вопрос о том, что есть этот предмет, остается
неразрешенным посредством одних логических категорий» (КОН. С. 726).
«Но так же мало разрешается он посредством данных чувственного опыта. <...>
С одной стороны, все чувственные качества, которые открываются опытом,
совершенно общи или, точнее говоря, неопределенны в своем объеме, ибо одни и те
же чувственные качества, например, красный цвет, твердость, шарообразность
и т. п., могут принадлежать неопределенному числу различных предметов, и,
следовательно, данный предмет нисколько еще не определяется этими качествами;
с другой стороны, все данные чувственного опыта, все мои действительные
ощущения по своему частному и случайному характеру могут выражать только
известные реальные отношения предмета к моим чувствам в данный момент, а
никак не постоянную сущность самого предмета — то, что он есть везде и всегда;
в самом деле, если бы мои актуальные ощущения выражали самую суть
предмета — то, что он есть, то в таком случае я не имел бы права переносить на тот же
предмет других ощущений, исключающих мои данные ощущения, я не имел бы
права, например, утверждать, что это дерево, которое я теперь вижу без листьев
и покрытое инеем, есть то же самое дерево, которое я видел прошлое лето
зеленым и цветущим и таким же увижу в будущее лето. Между тем мы не только
постоянно делаем такие утверждения, но и каждый раз, когда мы имеем в виду
какой-нибудь существующий предмет, мы разумеем под ним именно нечто
такое, что может производить на нас самые различные и частию
противоположные чувственные впечатления, оставаясь при этом одним и тем же. Таким
образом, данные чувственного опыта, то есть наши действительные ощущения, даже
если им придавать объективное значение, то есть видеть в них выражение
чувственных качеств предмета, а не только состояний нашего сознания, во всяком
случае оказываются, с одной стороны, слишком общими, а с другой — слишком
частными и случайными, для того чтобы представлять самую суть предмета
и отвечать на вопрос: что есть этот предмет?» (Там же. С. 726—727).
е^506^с)
(ü^ Примечания ^)
47 Там же. С. 728 и далее.
48 Там же. С. 729.
49 Там же. С. 730.
50 Там же. С. 731.
51 Там же.
52 Там же. С. 731-732.
53 Там же. С. 732-733.
54 Там же. С. 734.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Там же.
59 Там же.
60 Там же. С. 735-736.
61 Там же. С. 736.
62 Там же.
63 Там же. С. 737.
64 Там же. С. 738.
65 Там же. С. 739.
66 Там же. С. 737.
67 Историко-критический богословский подход Соловьевым не обсуждается. Но
он имеет отношение к системе критики отвлеченных начал и потому
рассматривается здесь. Благодаря этому рассмотрению становится понятнее соловьевское
требование мистической теологии, или свободной теософии.
68 КОН. С. 739.
69 «Наш век видел крайнее развитие и отвлеченно-философского принципа (в
гегельянстве), и принципа отвлеченно-научного (в позитивизме); в первом мы
имеем систему понятий безо всякой действительности, во втором — систему
фактов безо всякой внутренней связи; чистая философия не дает разуму
никакого содержания, чистая наука отрекается от самого разума» (Там же. С. 740).
70 Там же.
71 «Итак, что же? Не следует ли отсюда, что должно просто вернуться назад и,
осудив независимую философию как заблуждение, оставив независимой науке
область частных полезных сведений, признать значение истины исключительно за
религиозным знанием, восстановить как нормальную и окончательную систему
истинного знания "Summa theologiae" Фомы Аквинского, согласно столь
авторитетной рекомендации папы Льва XIII, или же учение восточных отцов
Церкви, согласно менее авторитетному, но также уважительному указанию
некоторых русских писателей?» (Там же).
72 Ср.: Там же.
(^507^)
е^ Примечания ^
73 Там же.
74 Там же. С. 740-741.
75 Там же. С. 741.
76 Там же.
77 Там же.
78 Там же. С. 741-742.
79 Там же. С. 742.
80 Ср.: Там же.
81 Ср.: Там же.
82 Там же.
83 Там же.
84 Там же.
85 Ср. сн. 23 к гл. IV.
86 Ср. первый эпиграф к гл. II.
87 Вообще Гегель почти всегда является у софиологов объектом самой резкой
критики, которая, к примеру, явно присутствует в соловьевской цитате, служащей
первым эпиграфом к гл. III.
88 КОН. С. 586.
89 Там же. С. 589. В своем послесловии к «Критике отвлеченных начал» Вильгельм
Леттенбауэр пишет следующее: «Здесь предполагается противоположность
между религиозным и рациональным началами, которая отсутствует в предисловии,
составленном, очевидно, позднее, ибо здесь под отвлеченными началами
подразумеваются частные идеи, обособленные элементы всеединства. Правда, во
второй главе еще предполагается, что абсолютная, не допускающая никакой связи
противоположность между положительным и отвлеченным началами
существует только в устремлении, а не в действительности, что ни положительные начала
не обходятся в действительности без отвлеченного философского элемента, ни
отвлеченные начала не смогут когда-нибудь полностью освободиться от
догматического элемента, — однако также и здесь с отвлеченным понятием
связывается понятие рационалистического элемента, а не момент частности (как в
предисловии). Очевидно, здесь можно распознать следы той философской традиции,
из которой исходил Соловьев» {Lettenbauer W. Nachwort // Solowjew W. Werke.
Op. cit., S. 751 ff.).
90 Ср. сн. 31, 32 к гл. II.
91 Ср. выше, гл. II (особенно разд. 3).
92 Ср. сн. 30 к гл. П.
93 Ср. эпиграф к гл. I.
94 Ср. статью Соловьева «Мистика, мистицизм», написанную для словаря
Брокгауза и Эфрона (Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов-на-Дону,
1997. С. 287-291).
95 «Философские начала цельного знания» появились в 1877 г. в «Журнале
Министерства народного просвещения». Леттенбауэр замечает: «В этом исследовании
е^ 508 ^>
(г^ Примечания ^)
он затрагивает те проблемы, которые имеют особое значение для его позднейших
сочинений; он обращается к ним также в "Чтениях о Богочеловечестве", в
"Оправдании добра" и в статьях под общим заглавием "Теоретическая философия"»
(Lettenbauer. Op. cit., 753).
96 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Соч.:
В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 177.
97 Там же. С. 178.
98 Там же. В связи с этим Леттенбауэр указывает на диссертацию Хельмута Дама,
автор которой сопоставил идею «цельного знания» у Соловьева с «системой
конформности» Макса Шелера (См.: Dahm Helmut. Wladimir Solovjew und Max
Scheler. Ein Beitrag zur Geschichte der Phänomenologie im Versuch einer
vergleichenden Interpretation. München; Salzburg, 1971. S. 45—54; ср. также: Meier
Raimund. Abstrakte Prinzipien und integrales Wissen in den Frühschriften Wladimir
Solowjews. Diss. Münster, 1970).
99 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 139—288.
100 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) //
Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 3-138.
101 Там же. С. 5.
102 Леттенбауэр указывает на то, что Соловьев к тому же заимствовал эту идею из
учений так называемого классического славянофильства, — прежде всего, у
Ивана Киреевского: «Программа борьбы против рационализма, которую
намеревались вести славянофилы, была изложена, в частности, в трактате "О характере
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России" (сочинение это
было опубликовано в 1852 г. в качестве открытого письма к графу Комаровско-
му в журнале "Московский сборник". Статья вызвала недовольство цензуры, на
основании этого журнал был запрещен). В следующих фразах особенно ясно
обнаруживается близость к мыслям Соловьева: "Многовековой холодный анализ
разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого
начала своего развития, так что собственные его коренные начала, из которых
оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, противоречащими его
последним результатам; между тем как прямою собственностию его оказался
этот самый разрушивший его корни анализ, этот самодвижущийся нож разума,
этот отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя и личного
опыта, этот самовластвующий рассудок — или как вернее назвать эту логическую
деятельность, отрешенную от всех других познавательных сил человека, кроме
самых грубых, самых первых чувственных данных, и на них созидающую свои
воздушные диалектические построения. <...> Этот последний результат
европейской образованности <...> принадлежит новейшей и, вероятно, уже
окончательной эпохе отвлеченно-философского мышления" (см.: Киреевский И. В. О
характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России//
Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 201—202). Киреевский
говорит о влиянии все еще очень живого, спасенного при распаде древнеримской
культуры остатка на возникшее в его время западное образование и
высказывает следующую мысль: "Отличительный склад римского ума заключался в том
именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутреннею сущ-
(г^509^с)
С^ Примечания ^z>
ностью вещей" (с. 209). Киреевский предполагает, что эта римская склонность
к отвлеченной рассудочности и чрезмерное увлечение внешним нанизыванием
понятий было одной из важнейших причин "отпадения Рима от вселенской
Церкви" (под которым он понимает разделение греческой и католической
Церквей в 1054 г.). Наконец, он приводит пространное противопоставление элемента
отвлеченности, связанного с учением католической Церкви, элементу
положительному, присутствующему в Церкви православной: "Богословие на Западе
приняло характер рассудочной отвлеченности — в православном мире оно
сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума — здесь стремление
к их живой совокупности; <...> там искание наружного, мертвого единства —
здесь стремление к внутреннему, живому" (с. 234). В "Критике отвлеченных
начал" Соловьев, обсуждая также и православную Церковь, занимает позицию,
которая явно близка представлениям Киреевского. Когда он в конце предисловия
прослеживает развитие отвлеченных начал, совершенное западным
человечеством, он относит гегельянство к отвлеченной философии, современный
позитивизм — к отвлеченной науке, папство — к отвлеченному клерикализму.
Подытоживая, однако, по поводу размышлений Киреевского можно заметить, что для
него философия не является ни верой, ни наукой. Если бы существовала только
вера и отсутствовало рациональное воспитание, то в условиях Нового времени
философия была бы невозможна; если бы существовала только наука, то
присутствовала бы опасность, что ложные убеждения заменят собой веру» (см.:
Goerdt Wilhelm. Vergöttlichung und Gesellschaft. Studien zur Philosophie von Ivan
V. Kireevskij. Wiesbaden, 1968. S. 156; Lettenbauer. Op. cit., 756 ff.).
103 КОН. С 742.
104 «Уже тот основной факт, что для нас существуют внешние, чуждые нам и
случайные для нас вещи, что вся природа является для нас чем-то чужим, роковым
и на нас тяготеющим, вследствие чего наш разум, не находя в своей природе
никакого внутреннего содержания, должен ограничиваться пустым, отвлеченным
единством, тогда как при нормальном отношении разумное существо наше,
получая и свободно усвояя Божественное содержание, проводило бы его и им
объединяло бы всю множественность природного бытия, и это последнее, как
реализованная истина, а не как случайный факт, воздействуя на наш разум, давало
бы ему все новое и новое содержание, ясное и внутренно необходимое, — уже
один тот основной факт, что мир, в котором мы существуем, вместо того чтобы
быть реализацией нашего глубочайшего Божественного существа, есть для нас
мир внешний и чуждый, очевидно, означает, что в нашей действительности нет
истины, что мы живем не в истине, а потому и не познаем истину» (КОН. С. 743).
105 Там же.
106 Там же.
107 Леттенбауэр указал на то, что «выдвижение понятия теософии или свободной
теософии в качестве ключевого понятия для такой системы, которая должна
содержать в себе истину христианской веры, <...> побудило, впрочем, некоторых
к тому, чтобы предложить для первой фазы творчества Соловьева (до 1881 г.)
общее название "теософский период"» (Lettenbauer. Op. cit., 755). Из этого
можно было бы сделать тот вывод, что впоследствии Соловьев отказался от идей
е^510^Э
С^ Примечания ^Э
своего раннего творчества. Однако это не так. Сам Леттенбауэр пишет: «Если
при попытках дать обзор и оценку всему творчеству Владимира Соловьева, как
правило, возникает впечатление нескольких, по-видимому, явно
различающихся между собой периодов, то здесь следует сказать, что в мышлении Соловьева
имелось множество подходов ко всякой новой проблеме. Этому, однако, не
противоречит то, что в развитии соловьевской мысли усматривается известная
непрерывность; ибо те изменения, которые оправдывают разделение его
творчества на ряд отстоящих друг от друга во времени отрезков, имеют скорее более
внешний характер, чем если бы они соответствовали некоему действительному
разрыву в соловьевской линии поведения, в разворачивании его основных
мыслей» (op. cit., 750). В связи с этим Леттенбауэр указывает на одного из
биографов Соловьева — К. Мочульского, которому удалось представить творчество
Соловьева в качестве «внутреннего единства» (Ibid.).
108 КОН. С. 743-744.
109 Ср. введение к гл. VIII данной книги.
Часть IV
СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ
Итоги и перспективы
X. Синтез или единство двух
Итоги и перспективы
1 КОН. С. 590.
2 Бросается в глаза параллельность путей Соловьева и Ницше, начиная примерно
с 1876 г., при совершенно противоположной их ориентации, что побудило
Соловьева в 90-е гг. начать фундаментальную критику Ницше. Это можно расценить
как симптом духовного развития в последнюю четверть XIX века.
3 Пьер Куртьон (Georges Seurat. Köln, 1969. S. 28) пишет: «Будучи одиноким
путником, он (Сера. — Μ. Ф.) не доверял никому и ни перед кем не открывал своего
сердца. Очевидно, Сера никогда не говорил о своей частной жизни, своих
политических и религиозных убеждениях».
4 Blovh Ernst. Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt am Main, 1959; цит. по: Suhrkamp TB
Wissenschaft. 1970. Bd. II. 953.
5 Düchting Hajo. Seurat. Köln; London; Madrid; New York; Paris, 1999. P. 48.
6 На инфернальное значение зонта у Сера было указано одним из исследователей
(Madelaine-Perdnllat Alain. Seurat. Genf, 1990. P. 158).
7 Ср. с рассуждениями в гл. I данной книги.
8 Ср.: Штейнер Р. Очерк тайноведения. Ереван, 1992. Полотно Сера
удивительным образом соответствует концепции Штейнера. Так, Штейнер утверждает, что
на второй космической ступени планетарной эволюции (названной им
«древним Солнцем») совершается приостановка в развитии (как бы «укол» тьмы),
что можно рассматривать как «борьбу духа света с духом тьмы — Ормузда и Ари-
е^511^Э
С^ Примечания ^Э
мана в древнеперсидской мифологии. — На картине Сера «укол» производит
острие черной «шпаги», — укол в центр второго колоннообразного ствола.
На третьей ступени («древней Луне»), согласно Штейнеру, натиск
враждебных сил сделался еще отчетливей и привел к временному разделению планеты
[праземли. — Прим. пер.] на две части. — На картине Сера третий ствол делится
на две половины посредством «солнечного зонта», похожего на летучую мышь.
В связи с четвертой ступенью эволюционного процесса (это наша современная
земная эволюция) Штейнер показывает, как нисходящее развитие вело к
сгущению тьмы и отвердению вещества, кульминацией чего стала угроза полного
забвения духовного света. — На картине Сера затемняющее, экранирующее действие
черного зонта проявляется сильнее всего междду третьим и пятым стволами;
четвертый ствол погружается в мрак над зонтом и исчезает из поля зрения.
Между тем в середине пути развития Земли совершается событие Голгофы
и учреждается Евхаристия; на Земле фактически воздвигается христианский
алтарь, благодаря чему нисходящее земное развитие преобразуется в
восходящее. Это восходящее развитие, согласно Штейнеру, продолжается на трех
следующих планетарных ступенях, достигая все более высоких духовных уровней,
названных Штейнером будущими Юпитером, Венерой и Вулканом. — Перед
серединой четвертого ствола на картине Сера виден колоннообразный столик,
напоминающий алтарь. Алтарный стол и две фигуры с накрытыми головами
составляют род духовного водительства, так что с возведением алтаря перед
четвертым стволом начинается ступенчатое восхождение, при котором
затемняющее влияние черного зонта постепенно уменьшается, а перед седьмым стволом
полностью исчезает. При этом пятый ствол делается видным в своей более
высокой части, шестой начинается еще выше, а седьмой с его сияющей кроной
появляется в еще более высокой области.
Штейнер описывает также, как на соответствующих планетарных ступенях
(это так называемые манвантары) и в промежутках космического покоя между
ними (так называемые иралайи) возникли зачатки телесности для трех
душевных способностей — мышления, чувствования и воления. В этом смысле
«старейшей» душевной силой является мышление, связанное с нервной системой
и органами чувств, которые в зачаточной форме возникли уже на первой
планетарной системе (на «древнем Сатурне»), — совсем как то, что платье первого
женского образа, изображенного в профиль и в головном уборе, достигает
основания первого ствола. Следующая, более «молодая» средняя душевная сила —
это чувствование, связанное с ритмической системой, которая, по Штейнеру,
была заложена на второй планетарной ступени развития (на «древнем Солнце»)
и достигла полной зрелости уже на следующей ступени, — как платье второго
женского образа достигает основы второго ствола, тогда как сам образ
находится перед третьим стволом. Воля, которая связана с системой обмена веществ
человека, возникшей на третьей планетарной ступени («древняя Луна»),
представляет собой самую «молодую», еще несовершенную и лишь стремящуюся
к зрелости силу души; она еще как бы ребенок, совсем как девочка, чье платье
мыслится перед третьим стволом, тогда как сама она сидит перед четвертым.
И подобно тому как мышление, чувство и воля образуют душевное единство,
три женских образа на лугу также составляют некое единство.
(^ 512 ^Э
С^ Примечания ^D
Аналогии можно было бы продолжать и дальше; однако уже перечисленных
соответствий довольно для подтверждения тезиса о том, что на картине Сера
образно представлена вся теософия в той ее форме, какую ей придал после
1900 года Рудольф Штейнер, — представлена уже в 80-х годах XIX века.
Кроме того, заметим, что русские софиологи, как правило, высказывались
лишь отрицательно о теософии Е. П. Блаватской (а также об антропософии
Рудольфа Штейнера, — к примеру, Бердяев). Конечно, в свете того, о чем сказано
в данной книге, соотношение софиологии и антропософии заслуживает более
точной оценки. Узловыми пунктами обсуждения могли бы стать различное
отношение к трансцендентному, разное понимание человеческой личности, а
также на первый взгляд кажущиеся непримиримыми христологические установки.
9 К примеру, на десятой карте марсельского Таро, о чем герметик Anonymus
d'Outre Tombe пишет: «Собака, допрыгивающая до сфинкса (изображения на
карте. — Μ. Ф.), представляет собой животность, стремящуюся заново
соединиться с человечностью; обезьяна, спускающаяся вниз, делает современным
процесс превращения человека в животное...» (Anonymus dOutre Tombe, op. cit.,
278).
10 Два ствола, один на солнце, а другой в тени, могут напоминать маленькие
колонны, как, например, колонны якин и боас в храме Соломона. Также две
колонны присутствуют на правом боковом портале Шартрского собора: между ними
сидит на троне Мадонна с Младенцем, — также без отца.
11 Так, теософия в варианте Р. Штейнера подразделяет биографию человеческой
личности и первые 63 года земной жизни человека на семь стадий, связанных
с классическими планетами: это так называемые «семилетние ритмы», причем
средняя ступень — фаза взросления — охватывает три семилетних отрезка
(развитие «я»). Удивляет то, что Сера образно выразил эти мысли Штейнера уже за
четверть века до него.
12 Anonymus d'Outre Tombe сравнивает огбраз и подобие с сестрами Марфой и
Марией Магдалиной из Иоаннова Евангелия: по его мнению, они должны были бы,
объединившись, действовать совместно. Он пишет: «Правильная мера в
текущем соотношении абсолютного радикализма монады (образа) и релятивизма
феноменальной личности (подобия) составляет основу для духовного,
душевного и телесного здоровья. <...> Можно сказать много метких слов по поводу
противоположности Марии и Марфы, — они действительно были сказаны, — но
мы, все мы, только тогда живем здоровой жизнью, когда обе сестры в нас
обитают и действуют как сестры, т. е. работают совместно, взирая на Третьего. Никто
не может игнорировать Марию как таковую, так же как и таковую Марфу,
оставаясь при это здоровым духом, душой и телом» (Anonymus d'Outre Tombe, op.
cit., 421).
13 Гностическая традиция говорит о падшей Софии как о самостоятельном
образе — Софии Ахамот, которая связана с матерью-материей, недрами Земли и
сардониксом, а также с подсознанием падшей человеческой души; ей противостоит
София, не подвергшаяся падению, которая связана с карнеолом и избежавшей
падения душой человека. Два образа Софии в тот момент вновь соединятся,
когда падшая личность человека (подобие) вновь полностью соединится с его
сущностью (образом).
С^513^Э
е^ Примечания ^Э
14 Например, Роберт Л. Херберт пишет: «Вверху плывет опавшая с невидимого
дерева масса листвы, напоминающая пену, тогда как на противоположной стороне,
как бы в виде компенсации, высится дерево, на котором листвы нет. Это
привносит многозначительный штрих в сцену, которая иначе могла бы быть
банальной» (Herbert Robert L et al Georges Seurat (1859-1891). New York: The
Metropolitan Museum of Art, 1991. P. 256).
15 Ср.: Courthion Pierre. Op. cit. S. 32: «В "Мосте Курбевуа" почитание вертикалей
достигает своей наивысшей точки. Мачты разной длины вместе с дымящейся
фабричной трубой в центре пейзажа представляют как бы симфонию,
лейтмотив которой — чередование длинных и коротких перпендикуляров. Они
располагаются на картине, словно ноты, заполняя пространство неким метрическим
ритмом». Ср.: Ibid. S. 30.
16 Гомеопат и знаток драгоценных камней Эдит Дёрре открыла эту связь. Ср.:
Dörre Edith. Das Edelsteinfundament des Neuen Jerusalem. Eine Grundlegung der
Homöopathie. Schaffhausen (в печати). В статье на эту тему (Der Amethyst als
Fundament des Neuen Jerusalem // Novalis. Zeitschrift für spirituelles Denken. 3/1998,
26 ff.) Э. Дёрре пишет: «Аметист — это камень превращения и очищения. Он
ведет через Страстные дни к Страстной пятнице, кресту, — проводит через Крест,
сквозь смерть.
17 Именно об освобождении от привычных представлений и пишет Э. Дёрре в
связи с темой «аметистового фундамента». Речь идет о том, «чтобы отпустить все
старое, позволить ему умереть, — дать умереть всем отношениям, с трудом
добытым представлениям о Боге и мире, дать им заново оплодотвориться через
смерть, чтобы воскресли новые импульсы. Наконец, надо пригвоздить ко Кресту
представления о себе самих, чтобы в нас самих проснулось высшее начало. "Кто
не умрет прежде смерти, тот прежде смерти — истлеет". — Страстная пятница
потрясла землю, и давка в храме, скрывающая Святое святых, раздралась»
(Ibid., 27).
18 См. выше введение.
19 Гегель Г. В. Ф. Философия права. Предисловие. С. 55.
20 Пригород Парижа. Французские названия обеих картин, конечно, можно также
осмыслить как игру слов и перевести «Pont de courbe voie» как «Мост,
продолжающий кривой путь», a «Pont à droit», напротив, — как «Мост, переходящий
в прямую линию». Обе картины вместе в переносном смысле тогда были бы
посвящены теме: «мост, приводящий от кривого пути к прямому». Августин
говорит о грехопадении как о некоей curvatio in se ipsum, — т. е. об «искривлении»
человека в себе самом и его распрямлении («разгибании») на кресте. На картине
«Мост Курбевуа» мужчина и рыбак стоят, слегка согнувшись, напротив трех
мощных крестов — мужчина и рыбак на картине «Мост Адруа» стоят прямо, как
свечи, — кресты же исчезли. «Мост Курбевуа» перспективно слегка
расширяется в том направлении, куда наклоняются все мачты на картине, т. е. влево (в
соответствии с традицией — это путь падения, каков и путь следования высокой
темной пары на картине «Гранд Жатт». «Мост Адруа» отчетливо расширяется
вправо. Мачты на картине в левой ее половине частью наклоняются влево
(например, мачта слева от мужчины и рыбака, так же ведет себя и труба), частью
е^514^)
С^ Примечания ^Э
устремлены прямо в небо (мачты перед рыбаком и мужчиной, смещенные в
правую сторону); в правой половине картины все мачты слегка склонились вправо.
При таком рассмотрении «Мост Адруа» изображает «мост в прямизну и
правоту» («droit» по-французски означает «прямой» или «правый» как
противоположный левому; но также это слово означает право и искренность).
Конечно, это не означает, что художник полностью отказался от золотого
сечения. Напротив: не только помост и линия противоположного берега находятся
в горизонтальном золотом сечении, но также место на помосте, где помещен
парус, разделяет расстояние от начала помоста до правой границы картины точно
в этом соотношении. Более того: художник применяет два возникших при этом
линейных размера для установления длины мачт лодок (меньшее расстояние),
а также большинства расстояний между различными элементами картины
(меньшее и большее расстояния). «Арифметическому» пониманию картины,
основанному на числовых пропорциях, соответствует «геометрическое» понимание,
поскольку эта картина (как и «Мост Курбевуа») имеет в основе треугольник,
прямоугольник и коническое сечение. Так, например, в большом парусе
содержится намек на эллипс в отличие от параболического сечения на другой
картине, которое напоминает о чаше или скорлупе, перед которой (или внутри
которой) находится розовый крест. Эллипс имеет два фокуса; эллипс — это то третье,
которое соединяет в гармоническое единство два разных центра (на картине их
можно помыслить один над другим на вертикальной мачте). Кроме того, вся
картина построена на гармоничных трезвучиях, о которых вначале сообщается
с помощью ветки, отходящей от ствола возле паруса, поднимающейся в два
яруса — вначале раздваиваясь, а затем разделяясь натрое: три паруса присутствуют
на картине, три фигуры стоят на берегу, три лодки без парусов покоятся или
движутся по воде; трем небольшим мачтам справа над забором соответствуют
три большие мачты слева, которые совместно с тремя мачтами, идущими в
перспективе от мужчины на берегу в глубину картины, опять-таки образуют
гармоничное трезвучие. Три «светящиеся» тени, расположенные параллельно берегу,
ритмически подразделяют зеленую освещенную лужайку. Три арки имеет мост
(в случае «Моста Курбевуа» отчетливо видны только две), и три краски
придают ему особый колорит («Мост Курбевуа» с его опорами и арками имеет лишь
два основных цвета).
Сапфир состоит из чистого глинозема (силикат алюминия) с включением
рутила (двуокись титана), который в синеву кристалла привносит белый звездный
цвет; на картине белизна появляется как в синеве «моста», так и в пространстве
под ним. Эдит Дёрре пишет об этом камне: «Занимаясь сапфиром, я вновь и вновь
убеждаюсь, что ссылаться на закон и устойчивый порядок означает лезть
напролом и только создавать препятствия и головную боль. Сущность сапфира не
укладывается в рамки соответствующих законов: она нужздается в свободном
пространстве, где можно расслышать небесные звуки. Это пространство возникает
в состоянии всецелого внутрьпребывания (Ganz-bei-zich-Sein), — например, при
медитации, при некоей встрече, в художественном образе. "Человек является
человеком, только когда он играет", — это слова Шиллера. В подобных творческих
игровых пространствах возможна встреча с ангелом. Фантазия — это та дверь,
через которую в человеческую жизнь может войти Божественная мудрость
(Dörre Ε. Der Saphir als Fundament des Neuen Jerusalem // Novalis. 2/1998, 41).
C^ 515 ^5
(г^ Примечания ^Э
23 К примеру, можно было бы указать на то, что на картине «Мост Курбевуа»
забор, круто обрывающийся вдоль береговой линии, который самим своим
«ходом» вновь передает тоску обоих людей на берегу, а также то, что вся картина
как бы играет роль занавеса, — этот забор на другой картине, как и все
настроение там, «укреплен», «усилен», ибо он тянется до горизонтального помоста,
направляя тем самым взгляд в центр картины, где совершается таинство нового
света и свежего ветра. Вертикальные острия и поперечные планки забора при
этом направлены в перспективе к тому месту у помоста, где неподвижно стоит
большой парус, указывая таким образом на центральное значение паруса для
откровения этой тайны.
24 Anonymus d'Outre Tombe пишет в связи с «Письмами об эстетическом
воспитании человека» Шиллера: «По-видимому, Фридрих Шиллер знал кое-что об
этом аркане, когда излагал свое учение о синтезе интеллектуального сознания
и тяжкого груза обязанностей и правил, утвердив на "игровом инстинкте"
инстинктивную природу человека. По его мнению, "истинное" и "желаемое"
находят синтез в "прекрасном", ибо лишь в "прекрасном" "игровой инстинкт" делает
легким ношу "истинного" или "правильного", одновременно возвышая темные
силы инстинктов до уровня света сознания. Другими словами: кто видит красоту
того, что он признал за истинное, тот не откажется это возлюбить, — возлюбив
же, он избавится от элемента принуждения со стороны долга, предписанного
истинным: долг превращается в склонность. Так работа делается игрой, а
концентрация не требует усилий» (Anonymus d'Outre Tombe, op. cit., первое письмо
«Шут»).
25 Цит. по: Courthion Pierre. Op. cit. S. 28-29.
26 Культуролог Жан Гебзер в связи с этим говорит о «внеперспективном мире»
и об «интегральном сознании». Ср.: GebserJ. Ursprung und Gegenwart. 3 Bd. //
Jean-Gebser-Gesamtausgabe. Schaffhausen, 1999.
27 Темно-синим дерево кажется в своей нижней области, если рассматривать его
против солнца с его теневой стороны.
28 В творчестве Сера можно обнаружить присутствие пяти из семи свободных
искусств, обсуждавшихся в гл. VI.
29 Можно было бы привести и другие примеры. Остается добавить, что
обсуждавшаяся здесь часть творческого наследия Сера загадочно связана с его личной
судьбой: художник, которому был всего 31 год, на Страстной неделе 1891 года
заболевает воспалением горла, что побуждает его 27 марта, в Страстную
пятницу, разыскивать квартиру своих родителей. Болезнь усиливается. Двумя днями
позднее, в пасхальное воскресенье, в 6 часов утра он умирает.
Указатель имен
Абе 393
Абеляр П. 197
Август Октавиан 209
Августин Блаженный 166, 192, 244,
459,486,514
Аве-Лаллеман Э. 390, 478
Аверроэс (Ибн Рушд) 209
Авиценна (Ибн Сина) 209, 210
Аделяр Батский 200
Аквинат — см. Фома Аквинский
Алан Островитянин 82, 193, 201-
203, 206, 207, 229, 400, 416, 441,
447, 450-452, 457
Аланус аб Инсулис — см. Алан
Островитянин
Александр Гэльский 194, 239, 242,
459
Алексеев-Попов В. С. 467, 468, 470
АлкуинФ. А. 192,446
Альберт Великий 209, 236, 244, 453
Анаксагор 218
Анрид'Андели 451
Ансельм Кентерберийский 42, 125,
126, 197, 425, 426, 441
Ансельм Лаонский 445
Антоновский Ю. М. 407
Арий 302, 303, 445
Аристотель 9, 22, 166, 167, 171, 197,
209, 214, 216, 217, 225, 231-233,
242, 244-246, 249, 250, 448, 454,
458, 463, 464, 477
Арнольд Брешианский 28
Архимед 246-248
Афанасий Великий
(Александрийский) 64, 88, 89, 92, 163, 165, 177,
191, 303, 445
Ахенвалль Г. 267, 479
Баадер Ф. К. фон 11, 18, 19, 28, 34,
47, 48, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 395,
397-403, 416, 421
Барт К. 393
Бахтин M. М. 23
Бёме Я. 10, 11, 18, 19, 28, 34, 47-62,
76, 103, 144, 292, 354, 375, 395-
398, 400, 402, 403, 416, 419, 421,
483
Бердяев Н. А. 9, 18, 19, 23, 29, 35,
178, 358, 513
БеркА. 481
Берл X. 446
Бернард Клервоский 192,446
Бернард Сильвестр 202
Бернгард Турский 196
Бибихин В. В. 408, 455, 458
Блаватская Е. П. 375, 513
Блох Э. 372, 373
Бонавентура 241-243, 461
е^ 517^9
е* Указатель имен *5>
Бонецкая Н. К. 9-24
Боссард Е. 450
Боэций А. М. Т. С. 199, 217, 452
Брокгауз Ф. А. 508
Брунетто Латини 450
Бруно Дж. 73, 455
Булгаков С. Н. 9, 11, 15, 16, 20-22,
27-29, 35, 42, 51, 63-65, 79, 89,
92-96, 98, 105, 107, ИЗ, 149, 153,
161, 164-170, 172, 173, 182, 186,
278, 321, 336, 339, 341, 358, 362,
364, 381, 389, 391, 394, 405, 409,
421, 439, 440, 443, 499, 502-506
БуххеймТ. 421,428,429
Бычков В. 389
Бэкон Ф. 13,248,452,499
Бюхнер Г. 255
Вайс А. 437
Вайсе X. Г. 390
Вакерцап X. 455
Валентин 191,492
Варан Ф.-Л. де 469
Василид 138,392,431
Василий Великий 166
ВаскесФ. 244
Ваттель Э. де 243, 245, 480
ВенцлерЛ. 33,34,391
Вер Г. 18,397
Виланд Г. 199, 200, 205, 213, 390,
426, 447-449, 451-453
Вилле И. 158
Биллей М. 241,242,461
Вильгельм из Конше 206, 452
Витал X. 394, 420
Витгенштейн Л. 128
Виторий Ф. де 244, 462
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 65, 499
Вольф X. 242, 243, 245, 471, 473,496
ВульфсД. 260,474,475
Габриэль Л. 227,455
Гайденко П. П. 19
Гайзен Р. 49
Галлер А. фон 425
Гарденберг Ф. фон — см. Новалис
Гебзер Ж. 516
Гегель Г. В. Ф. 13, 22, 35, 54, 62, 71,
77, 78, 81, 106, 112, 114-126, 128,
131-141, 143, 144, 146-148, 229-
233, 243, 252, 260, 266, 268-278,
334-337, 339-341, 353, 363, 366,
367, 381, 382, 391, 405, 408, 412,
423, 424, 430, 431, 435, 458, 459,
472, 480, 482-487, 496, 499, 502-
506, 508, 514
Гейне X. И. Г. 491
Генрих Гентский 213, 214, 454, 460
Гёрд В. 389, 391, 510
Гермес Трисмегист 218
Герсон И. 242, 457
Гете И. В. 78, 219, 220, 388, 396, 406,
407, 409, 455
Гийон Ж. 469
Гихтель И. Г. 28
Гоббс Т. 12, 243, 245-249, 252, 253,
257, 289, 463, 464, 468
Готшалк 451
Гоффман 252
Григорий I Великий 495
Григорий Нисский 408
Григорий Палама 28
Григорий Турский 200
Гроб Ф. 481
Гроций Г. 12, 242-246, 461-464, 471
Гуго Сен-Викторский 445
Дам X. 509
Данте Алигьери 450
Дантон Ж. Ж. 255
Декарт Р. 13, 30, 71, 126, 204, 246-
249, 426, 499
С^ 518 ^э
е* Указатель имен ^Э
Дёрнер К. 485
Дёрре Э. 514, 515
Дидро Д. 499
Достоевский Ф. М. 493
Дуне Скот И. 12, 208, 213, 214,
426, 454, 456, 460
Дурандус В. 242
Дюзинг Э. 484, 485
ДюмуленГ. 41,393,394
Дюхтинг X. 373, 511
Евтихий 304
Еллинек Г. 275, 470, 471
Ерма 438
ЖантилиА. 461
Заруг И. 394, 395
Зенон 138
ЗёнченГ. 180
Зигварт X. фон 476
Зильберер М. 162, 164, 394, 421,
438, 439
Инчиарте Ф. 213, 216, 453, 454
Иоанн (an.) 61, 62, 70, 74, 100, 101,
103, 108, 204, 226, 305, 398, 437,
494, 497, 505, 513
Иоанн Дамаскин 166, 191, 405, 440,
445
Иосиф ибн Табул 420
Ипполит 392, 431
Ириней Лионский 180, 190-193,
445
Йеше Г. Б. 259, 474
Калибойс X. М. 390
Кант И. 13,22,48,65-67,71,75,125,
130, 134, 189, 207, 216, 231-233,
243, 251, 253, 256-272, 274, 313,
320, 322, 330-332, 334, 337, 367,
369, 370, 395, 406, 425, 427, 458,
463, 466, 471-474, 476-482, 486,
487, 496, 499, 500, 502
Кассиодор Ф. М. А. 200
Кассирер Э. 253, 469
Каульбах Ф. 478, 479
КёлерЛ. 179,182,441,442
Киреев А. А. 436
Киреевский И. В. 509, 510
Климент Александрийский 191,445
Кобуш Т. 195, 236-238, 241-243,
245-248, 250, 251, 254, 255, 263,
265, 266, 268, 276-278, 282, 310,
358, 366, 367, 390, 391, 447, 458,
459, 461-466, 468-470, 472-474,
476-487
Комаровский Е. Е. 509
Кордоверо М. 420
Коро Ж. Б. К. 378
Краузе К. К. Ф. 409
Кузанец — см. Николай Куэанский
КуртьонП. 511,514,516
КурциусЭ. Р. 199,448
Л. Д. Б. 477
Ладнер Г. Б. 444-446
Лев I Великий 304, 495
Лев XIII 507
Левина М. И. 391, 400, 482
Лейбниц Г. В. 129, 243, 245, 426,471,
496, 504
Леонардо да Винчи 113
Лессинг Г. Э. 65
Леттенбауэр В. 355, 499, 508-511
Линднер К. 50
Локк Дж. 243, 245, 247, 252, 289,
463, 499
Лоретц О. 179, 180, 442, 443
(с^ 519^5
<Ξ* Указатель имен *Э
Лосский Н. О. 23, 406
Лука(<ш.) 101, 173,306
Лурия И. 16, 18, 20, 21, 34, 39-44,
47, 51, 53, 56, 59-61, 64, 88-91,
НО, ИЗ, 115, 131-133, 135, 138,
144, 146, 148, 160, 163, 177, 354,
363, 392, 394, 419, 420, 430, 431,
437, 503
Лютер М. 218
Майр Ф. 446, 447
Максим Исповедник 28, 304
МалеЭ. 199,448
МанеЭ. 373
Мани 492
Маркион Синопский 492
Маркс К. 32
Мартин I Исповедник 304
Марциан Капелла 200, 448, 451
Матфей (an.) 101,103, 306,307,311,
312, 393, 438
Матфей из Акваспарты 242
Мейстер Экхарт 254, 455
Мефодий Олимпийский 190, 191,
445
Микушевич В. 390
МиллеЖ.-Ф. 371
Милль Дж. С. 259, 474
Михайлов А. В. 400, 482
Мореа 373
Мочульский К. В. 511
Мюллер Л. 158,497
Мюллер М. 29, 390
Мюллер-Лаутер В. 487
Нахманид (Моше бен Нахман) 392
Нельсон Л. 275,485
Несторий 303,304
Нигг В. 27, 389
Николай Кузанский 11, 12, 22, 41,
82, 217-222, 224-227, 229-231,
234-236, 367, 393, 398, 400, 408,
416, 454-458
Ницше Ф. 10,14,31,32, 68,276,278,
282-284, 286, 287, 296, 318, 358,
367-369, 371, 407, 486, 487, 497,
511
Нишитани К. 393
Новалис 31,390,451
Нохлин Л. 373
Ньютон И. 253
Оетингер Ф. X. 18
Оккам В. 12, 241, 242, 461, 465
Оппенгейм Л. 461
Ориген 191, 193, 444-446
Отто Ш. 178, 192, 441, 445-447, 455
Павел (an.) 42,70,100,226,301,393,
436, 459, 492, 497
Парменид 138
Пастернак Б. Л. 78
Петр(аи.) 495,497
Петр Компостелла 200
Платон 9, 22, 28, 58, 107, 203, 244-
246, 463
Плотин 28, 203, 451
Плутарх 422
Полипов Н. 487
Поппер К. 457
ПордеджДж. 28
Протагор 218
Псевдодионисий Ареопагит 28, 398,
443, 445, 450, 457
Пуфендорф С. 12, 242, 243, 245,
249-252, 257, 464-468, 484
Пфафф 252
Пфлегер К. 28, 389
Пьерд'Айли 242
е^520^>
С* Указатель имен *Э
Радлов Е. Л. 436
Ранер К. 210, 393, 452
Ратце И. Г. 482
Рейман 65
Ремигий Оксерский 200
Ризенхубер К. 426
Ришар Сен-Викторский 238, 445,
450, 459
Робеспьер М. 254, 255
Розенкранц К. 504, 505
Роммен Г. 268, 480
РонерА. 478
Росселин Компьеньский 465
Руссо Ж.-Ж. 13, 243, 247, 252-257,
289,463,467-471,480
Рут О. 388
Савелий 21
Свасьян К. А. 407, 487
Сведенборг Э. 395
Сен-ЖюстЛ.-А. 254
Сера Ж.-П. 371-373, 375-378, 381,
382,387,388,511-513,516
Синьяк П. 387
Скот Эриугена И. 28, 196, 200, 202,
203, 206, 207, 225, 441, 445, 450,
451
Сметана А. 390
Соколов H. М. 406
Соловьев В. С. 9-11, 14-17, 22, 27-
29, 33, 35, 107, 112, 147, 149, 153-
162, 173, 178, 179, 182, 262, 278,
281, 284, 285, 287-292, 294, 296-
302, 305, 306, 308-310, 312-322,
324, 327, 328, 336, 345, 347, 351,
353-358, 361, 364, 365, 369, 370,
381, 382, 387, 389-391, 394, 409,
423, 433, 435-437, 469, 471, 476,
477, 486-488, 490-499, 504, 507-
511
Спиноза Б. 13, 114, 126, 129-133,
148, 228-230, 338, 363, 396, 428,
429, 503, 506
Столпнер Б. Г. 391, 405, 459, 482
Суарец Ф. 244, 462, 463, 469, 478
СузоГ. 28
Сцилкарский В. 495
Тажуризина 3. А. 456
Тениссен М. 484
Тертуллиан К. С. Ф. 447
ТоландДж. 65
Томазиус X. 243, 267, 465, 470, 479
Томберг В. 9, 38, 211, 243-245, 247,
248, 251, 256, 258, 259, 262, 271,
275, 277, 280, 285, 310, 358, 366,
367, 409, 452, 453, 458, 460-467,
470-474, 479-481, 483, 485, 486,
493, 497, 513, 516
Трокслер И. П. В. 278, 390
Тук Р. 242
Тьерни Б. 242
Тьерри Шартрский 199, 202, 448
Ульрици Г. 390
Фейербах Л. А. фон 32, 69, 71, 72,
75, 407, 408, 423
Фенелон Ф. 469
Фенеон Ф. 373
Феофан Затворник 39
Фетчер И. 469
Филон Александрийский 191
Фихте Иммануил Г. 390
Фихте Иоганн Г. 13, 42, 44, 81, 105,
128, 269, 278, 336-339, 341, 390,
481,483,485,486,496,499,503-506
Флаш К. 221, 456, 457
Флоренский П. А. 9, 16, 18, 23, 27,
29,44, 58,96, 97,107,111,149,153,
е^521 *э
е* Указатель имен *5>
161-165, 168, 169, 173, 278, 358,
364, 381, 394, 409, 414, 421, 438,
439, 499, 504
Флюгге И. 423
Фома Аквинский 18, 108, 157, 161,
164, 165, 168, 169, 178, 208-211,
213, 214, 216, 217, 236, 240, 241,
243, 244, 246, 447, 452, 453, 460-
463, 466, 478, 507
Фохт Б. А. 484
Франк М. 391
Франк С. Л. 23
Фреге Г. 475
Хабермас Ю. 428, 479
Хайдеггер М. 192, 433, 446, 487
Хайнцман Р. 196-198, 217, 447, 448,
454, 455
Халибойс Г. М. 278
Хаютин А. Д. 468
Хёдль Б. Л. 442, 446
Хейер К. 204, 448, 451
Хекер Т. 446, 447
Хенрих Д. 424, 426, 482
ХербертР.Л. 514
Херрера А. К. 394, 395
ХёслеФ. 484
Хоннефельдер Л. 31, 209, 390, 426,
447, 448, 452-454
Циммерман А. 426
Чезарини Ю. 218, 455
Чешковский А. 390
Шварц В. 224, 457, 458
ШеврёльМ.-Э. 388
Шелер М. 9, 32, 33, 192, 261-263,
265, 390, 391, 446, 475-478, 509
Шеллинг К. А. 391
Шеллинг Ф. В. Й. 11, 18-22, 28, 32,
34, 35, 39, 44-46, 48-51, 53, 55, 56,
59-65, 73, 75-110, 112-115, 122-
133, 135, 137, 144, 145, 147-154,
156-163, 173, 177, 200, 201, 222,
269, 276, 278, 281, 290, 292, 296,
297, 321, 331, 333, 334, 336, 353-
355, 358, 361-364, 370, 390-392,
394, 396, 398, 400, 401, 404, 406,
410-414, 416, 418, 419, 421, 422,
424-426, 428-431, 433, 436, 437,
439,440,443,451,457,458,472,483,
485, 490, 497, 499-501, 503, 504
Шеню М.-Д. де 196, 197, 448, 452
Шестов Л. И. 22, 23
ШеффцикЛ. 177,441,442,445-447,
478
Шиллер И. К. Ф. фон 185, 261, 386,
476, 515, 516
Шипфлингер Т. 389, 439
Шлейермахер Ф. Д. Э. 436
Шлинк Э. 442
Шмидт Г. 426
Шолем Г. 39, 46, 392, 394, 395, 398,
404, 419, 420, 421, 423, 429, 430,
431, 433
Шопенгауэр А. 278, 487
Шпеман Р. 38, 407,429,443, 469, 470
Шримпф Г. 196, 197, 390, 426, 447,
448, 451
Штатмюллер Г. 471, 485
Штейнер Р. 72, 375, 396, 406, 407,
409, 410, 443, 444, 455, 511-513
ШтокльА. 450
Шульте X. 394, 421, 430
Эвклид (Евклид) 17
Эйинг-Ханхоф Л. 210,452,482
ЭлиасофС. 420
Энгельс Ф. 32
е^522^Э
е^ Указатель имен ^
Энгиш К. 260, 474, 478
Эфрон (Ефрон) И. А. 508
Юлиан — см. Чезарини Ю.
Юм Д. 499
Юнг К. Г. 402
Abraham Ibn Ezra 450
Ahenwall G. — см. Ахенвалль Г
Alain de Lille — см. Алан
Островитянин
Alanus ab Insulis — см. Алан
Островитянин
Alcuin — см. Алкуин Ф. А.
Alexander von Hales — см. Александр
Гальский
Alverny M.-Th. d' 449
Anonymus d'Outre Tombe — см. Том-
берг ß.
Anrieh Ε. 451
Anselme — см. Ансельм Кентерберий-
ский
Arius — см. Арий
Avé-Lallemant Ε. — см. Аве-Лалле-
манЭ.
Baader F. von — см. Баадер Φ. К. фон
BaeumkerC. 448
Barth Η. 469
Beckmann J. P. 390, 426, 447
Bernhard — см. Бернард Клервоский
Biedermann Η. M. 394
BlovhE. 511
Boethius — см. Боэций Α. Μ. Т. С.
Böhme J. — см. Бёме Я.
Buchheim Т. — см. Буххейм Г.
Bulgakow S. — см. Булгаков С. Н.
Cassirer Ε. — см. Кассирер Э.
Chenu M.-D. — см. Шеню М.-Д.
Clemens Alex. — см. Климент
Александрийский
Courcelle Р. 452
Courthion Р. — см. Куртьон П.
Curtius Ε. R. — см. Курциус Э. Р.
Dahm Η. — см. Дам X.
Denzer Η. 464
Descarte — см. Декарт Р.
De Wulf M. 448
Dörner — см. Дёрнер К.
Dörre Ε. — см. Дёрре Э.
DubyG. 451
Diichting Η. — см. Дюхтинг X.
Dumoulin H. — см. Дюмулен Г
Düsing Ε. — см. Дюзинг Э.
Engisch К. — см. Энгиги К.
Fichte J. G. — см. Фихте Иоганн Г.
Flasch К. — см. Флаги К
Florensky Р. А. — см. Флоренский П. А.
Gabel M. 390
Gebser J. — см. Гебзер Ж.
Geisen R. 396
Gerson J. — см. Герсон Я.
Goerdt W. - см. Герд В.
Goethe J. W. — см. lerne И. В.
Goodman-Thau Ε. 394, 421
Grabmann M. 448
Grat F. 449
Greive H. 450
Grotius H. — см. Гроций Г.
Habermas J. — см. Хабермас Ю.
Haecker Th. — см. Хекер Т.
Haureau В. 448
Hegel — см. Гегель Г В. Ф.
Heidegger M. — см. Хайдеггер М.
е^523^)
(^ Указатель имен ^
Heinzmann R. — см. Хайнцман Р.
Hemmerle К. 428
Herbert R. L. — см. Херберт Ρ Л.
Herder J. G. 421
Heyer К. — см. Хейер К
Hinneberg Р. 448
Hippolytus — см. Ипполит
Honnefelder L. — см. Хоннефельдер Л.
Horch Η. О. 394
Horst F. 421
Hufnagel Α. 459
Huisinga I. 452
ImhofP. 389
Inciarte F. — см. Инчиарте Φ.
JacobiK. G.J. 421
Jäger L. 442
Jähnig D. 428
Jakob L. N. 477
Jäsche G. B. — см. Йегие Г. Б.
JaveletR. 441
Jellinek G. — см. Еллинек Г.
Kant I. — см. Кант И.
Kasper W. 428
Kaulbach F. — см. Каульбах Φ.
Kireevskij I. V. — см. Киреевский И. В.
Kluxen W. 448
Kobusch Th. — см. Кобуги T.
Koehler L. — см. Кёлер Л.
Koch J. 448
Kriele M. 38
Ladner G. В. — см. Ладнер L Б.
Lauterpracht H. 461
Leibniz G. W. — см. Лейбниц Г. В.
Lettenbauer W. — см. Леттенбауэр В.
Loretz О. — см. Лоретц О.
Madelaine-Perdrillat А. 511
MahnkeD. 416
Male Ε. — см. Мале Э.
Martianus Capella — см. Марциан
Капелла
Mattenklott G. 394,421
Meier R. 509
Meiner F. 392
Meister Eckhart — см. Мейстер Эк-
харт
Methodius — см. Мефодий
Олимпийский
Mill J. S. — см. МилльДж. С
Müller L. — см. Мюллер Л.
Müller M. — см. Мюллер М.
Müller-Later W. 487
Nelson L. — см. Нельсон Л.
Nietzsche F. — см. Ницше Φ.
Nigg W. — см. Нигг В.
Nikolaus von Kues — см. Николай Ку-
занский
Occam W. d' — см. Оккам В.
Oeing-Hanhoff L — см. Эйинг-Хан-
хоф Л.
Origenes — см. Ориген
Orth Ε. W. 478
Otto S. — см. Отто Ш.
Paqué R. 451
Pfleger К. — см. Пфлегер К.
Philippus Cancellarius 459
Plotinus — см. Плотин
Popper К. — см. Поппер К.
Principe W. H. 459
Pufendorf S. — см. Пуфендорф С.
Rahner К. — см. Ранер К.
Ratze J. G. — см. Ратце И. Г.
е^524^)
е^ Указатель имен ^Э
Rauch Α. 389
Rohner Α. — см. Ронер А.
Rommen Η. — см. Роммен Г.
Rosenkranz К. — см. Розенкранц К.
Rousseau J.-J. — см. Руссо Ж.-Ж.
Rudolph К. 443
Schaup S. 389
Scheffczyk L. — см. ШеффцикЛ.
Scheler M. — см. Шелер M.
Schelling F. W.J.— см. Шеллинг
Φ. В. Й.
Schipflinger Th. — см. Шипфлингер Т.
SchlattweinJ. А. 482
Schlink Ε. — см. Шлинк Э.
Schmaus M. 441
Schmied-KowarzikW. 428
Scholem G. — см. Шолем Г.
Schrimpf G. — см. Шримпф Г.
Schroer S. 389
Schulte Chr. — см. Шулыпе Χ.
Schwarz W. — см. Шварц В.
Scotus Eriugena J. — см. Скот Эриу-
гена И.
Seurat G. — см. Сера Ж.-П.
Shedletzky I. 394
Silberer M. — см. Зильберер M.
Solov'ev V. — см. Соловьев В. С.
Solowjew W. — см. Соловьев В. С
Spaemann R. — см. Шпеман Р.
Stadtmüller G. — см. Штатмюллер Г.
Stahlin W. 442
Steiner R. — см. Штейнер Р.
Stephani H. 479
Struker Α. 445
Suarez F. — см. Суарец Φ.
Szylkarski W. — см. Сцилкарский 5.
Tertullian — см. Тертуллиан К. С Ф.
Thierry de Chartres — см. Тьерри
Шартрский
Thomas von Aquin — см. Фома Аквин-
ский
Thomasius — см. Томазиус X.
Tomberg V. — см. Томберг В.
Verdier Ph. 449
Villey M. — см. Биллей M.
Vital — см. Витал Χ.
Wehr G. — см. Вер Г.
Weimar Р. 448
Weis А. — см. Вайс А.
Wenzler L. — см. Венщер Л.
Wieland G. — см. Виланд Г.
Wilhelm von Conches — см. Вильгельм
из Конгие
Wodtke V 389
Wulfes D. — см. ВульфсД.
Wundt W. 448
Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»
Научное издание
Михаэль Френч
ЛИК ПРЕМУДРОСТИ
Редактор: Т. Л. Самсонова
Корректор: Ю. А. Курбатова
Компьютерная верстка: С. В. Степанов
Формат 70 χ 100 У16. Бум. офсетная. Гарнитура Petersburg.
Печ. л. 33,00. Тираж 1000 экз.
Заказ № 350
ООО «Издательство "Росток"»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8-921-937-98-70
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10
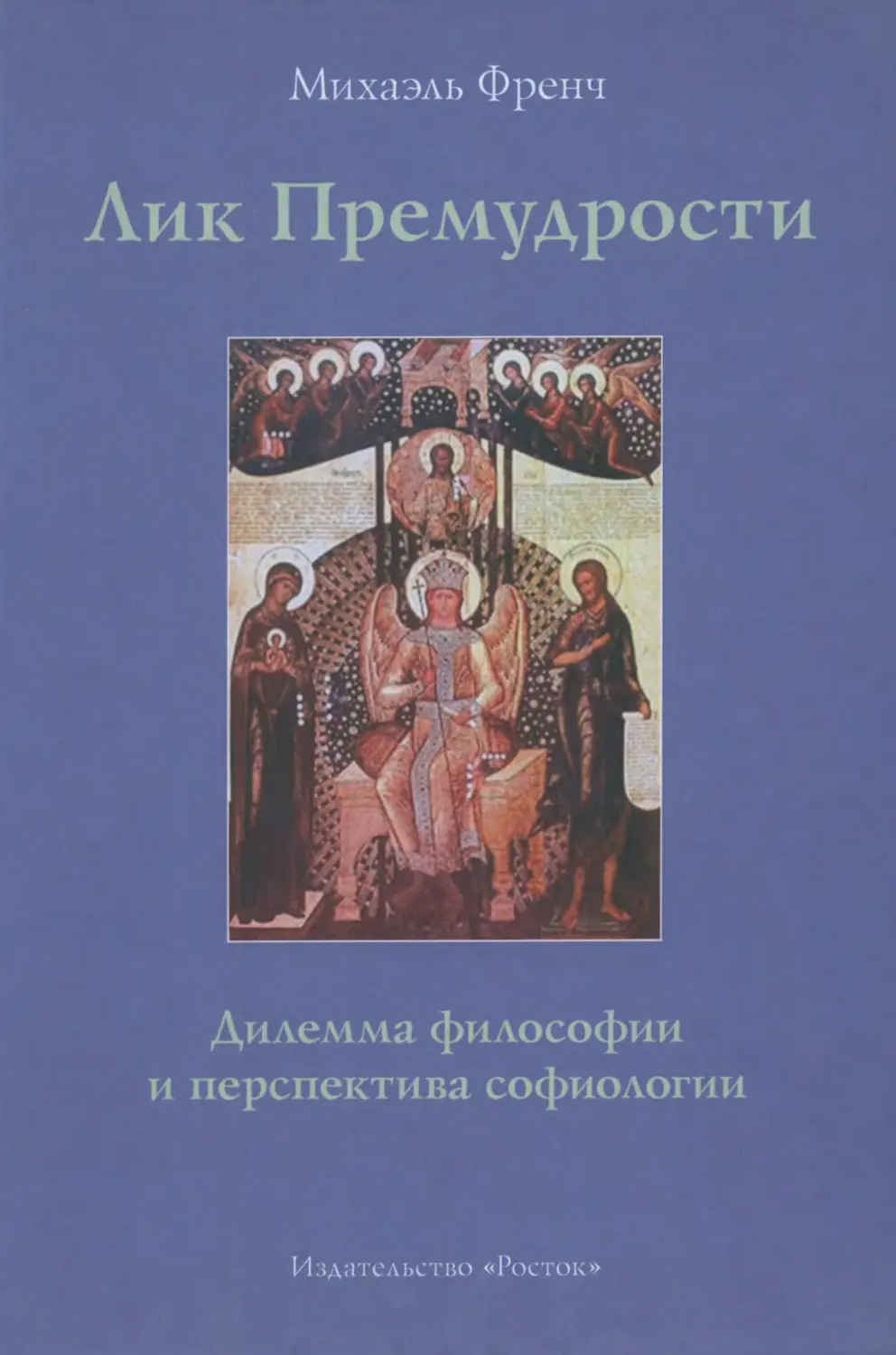


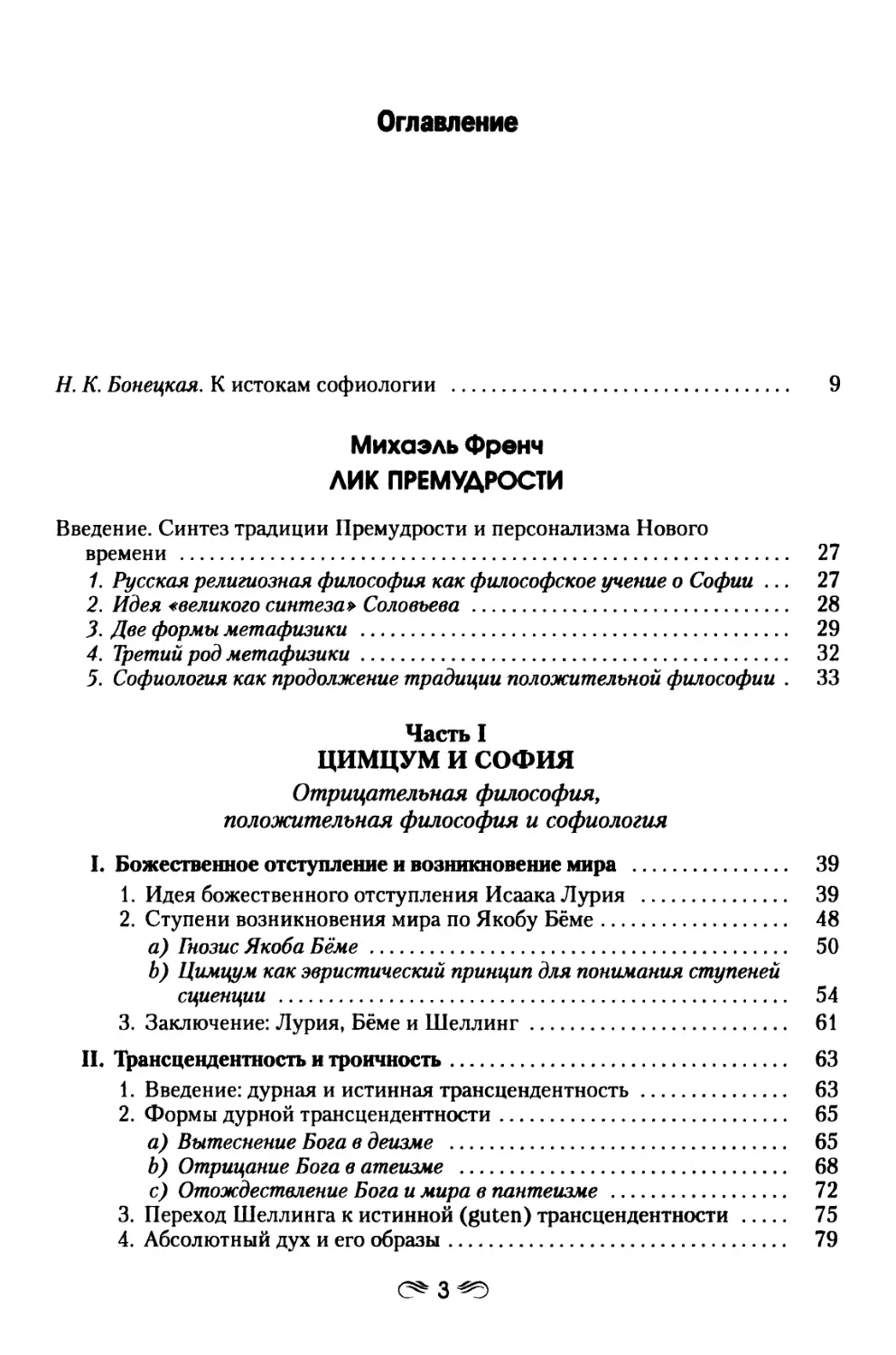





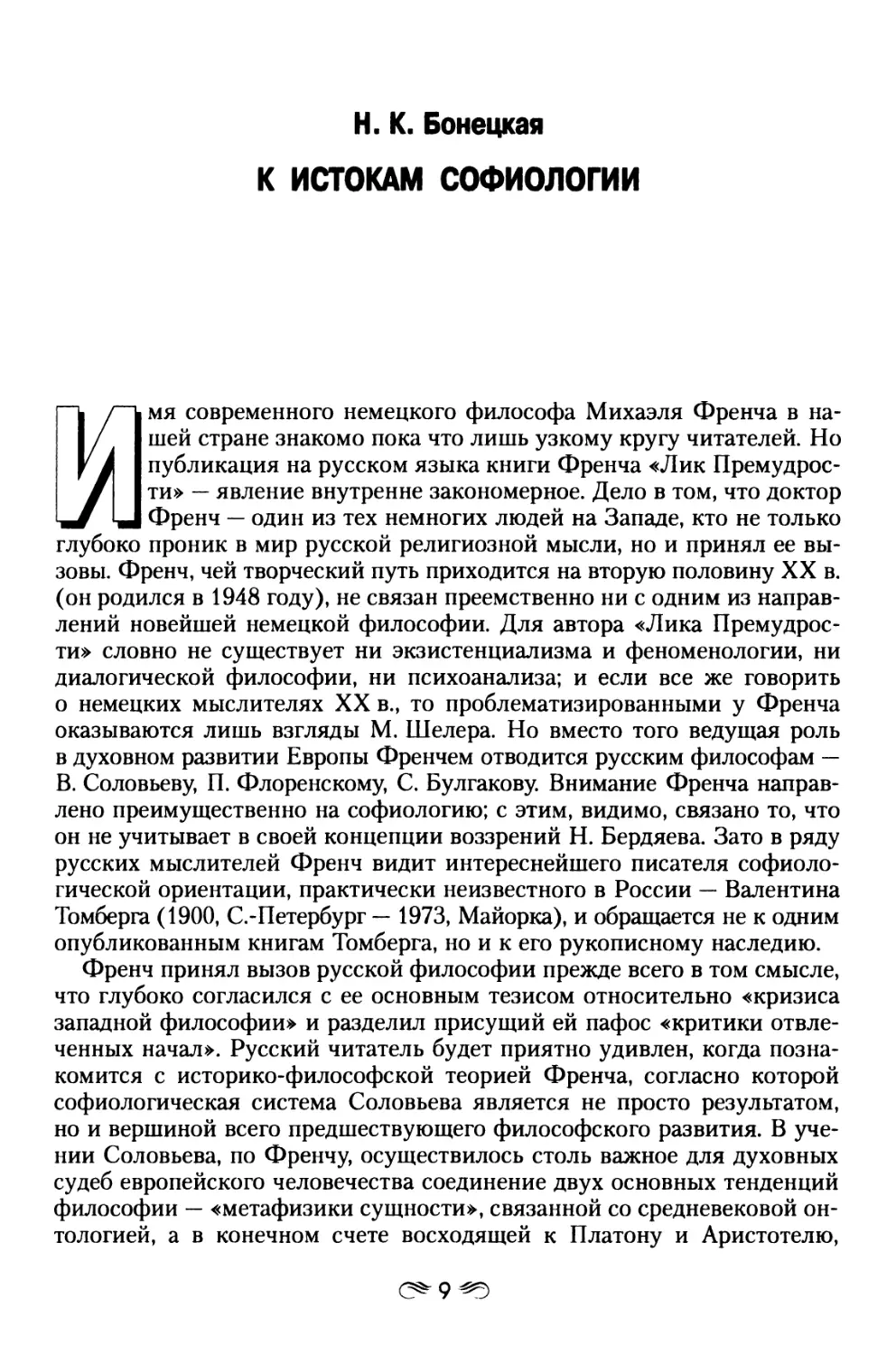


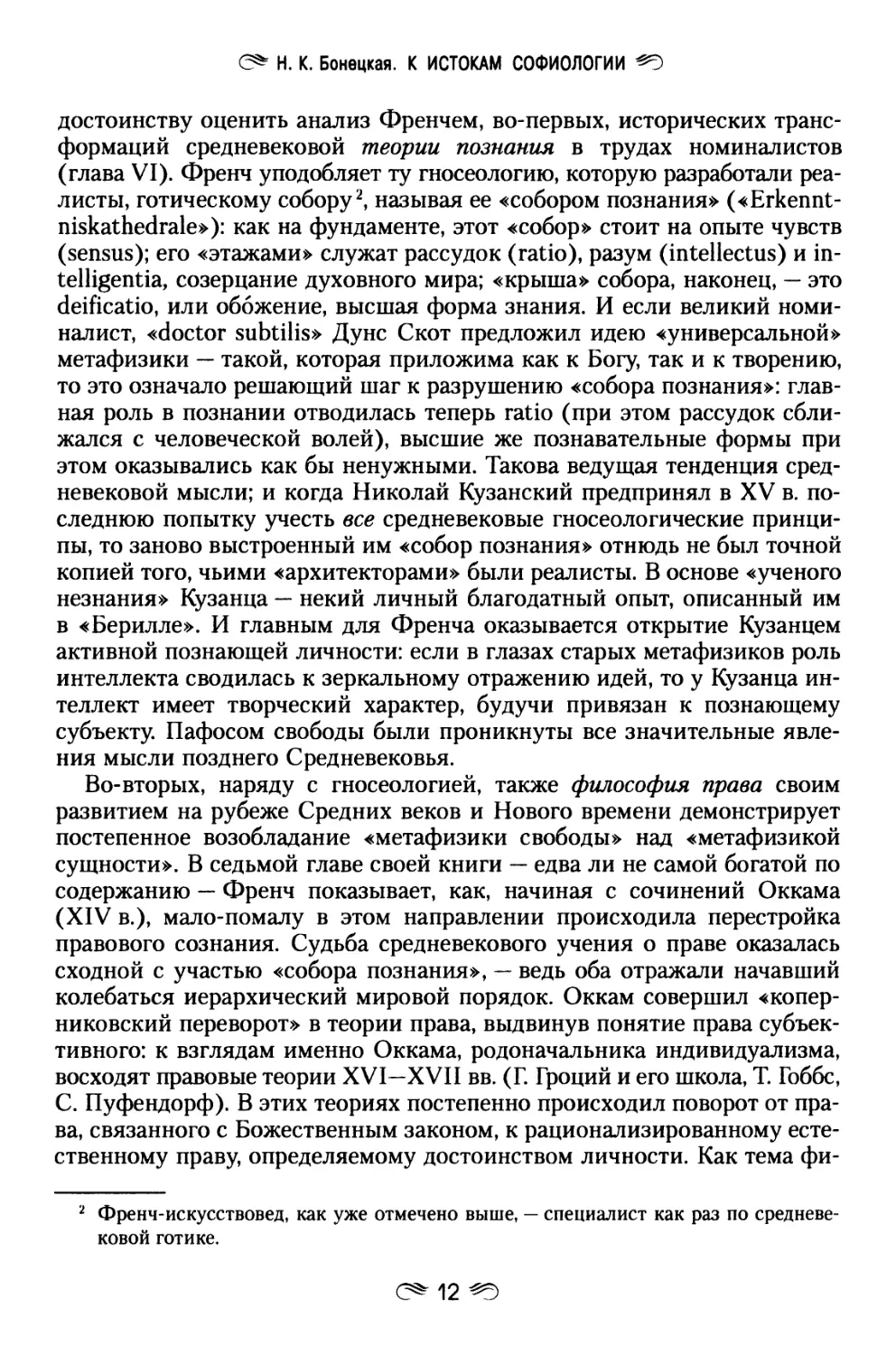














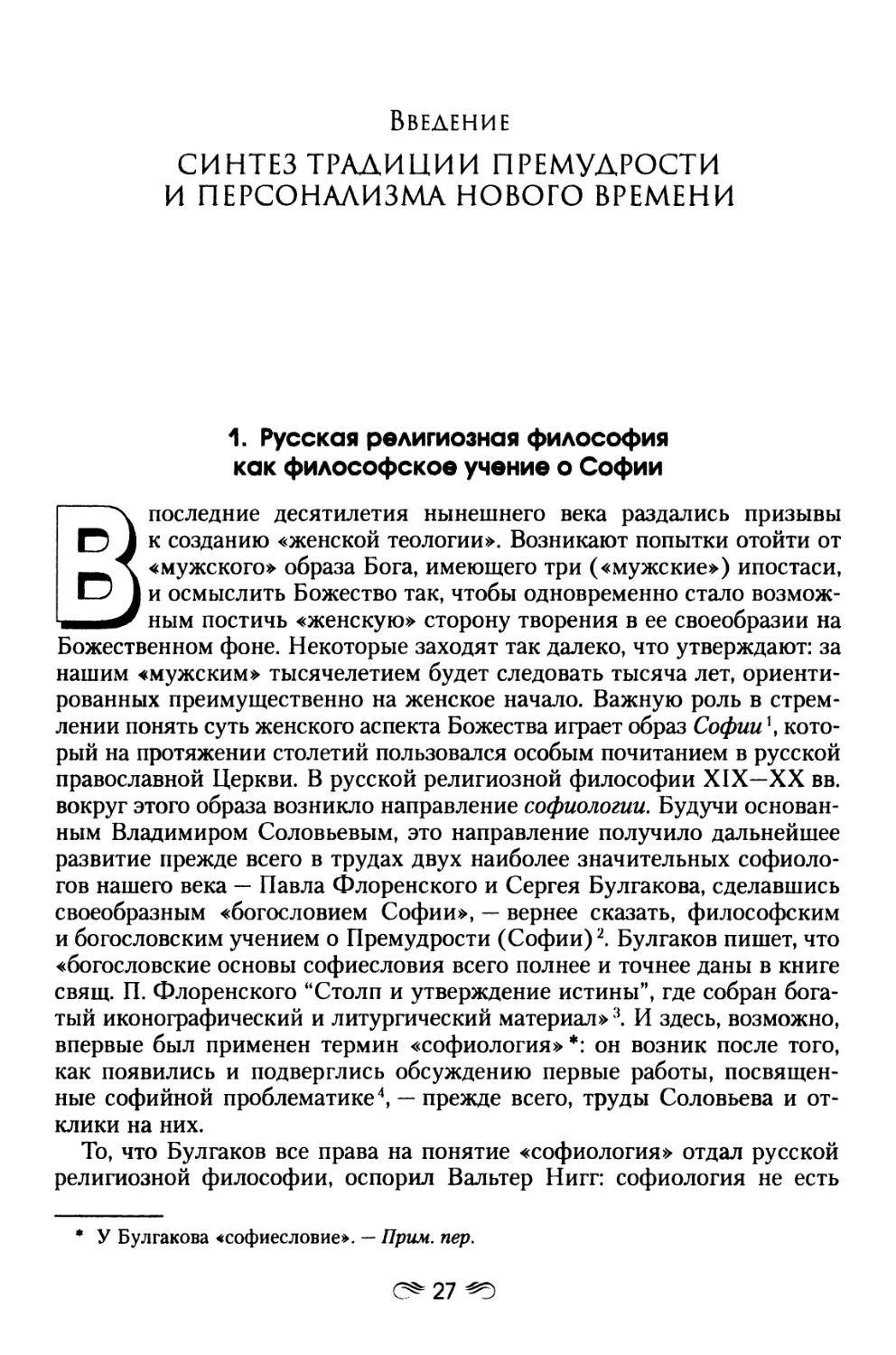
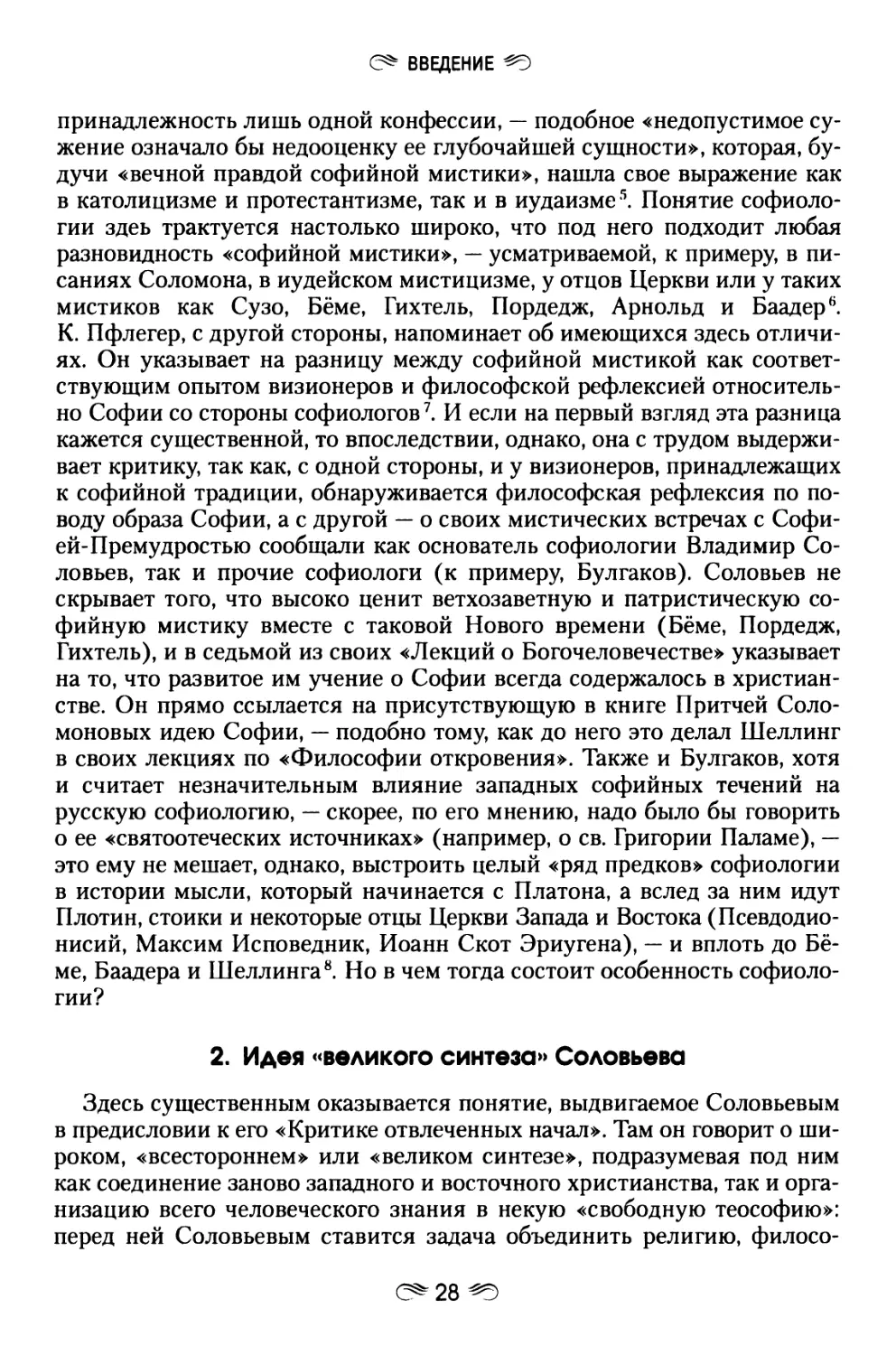
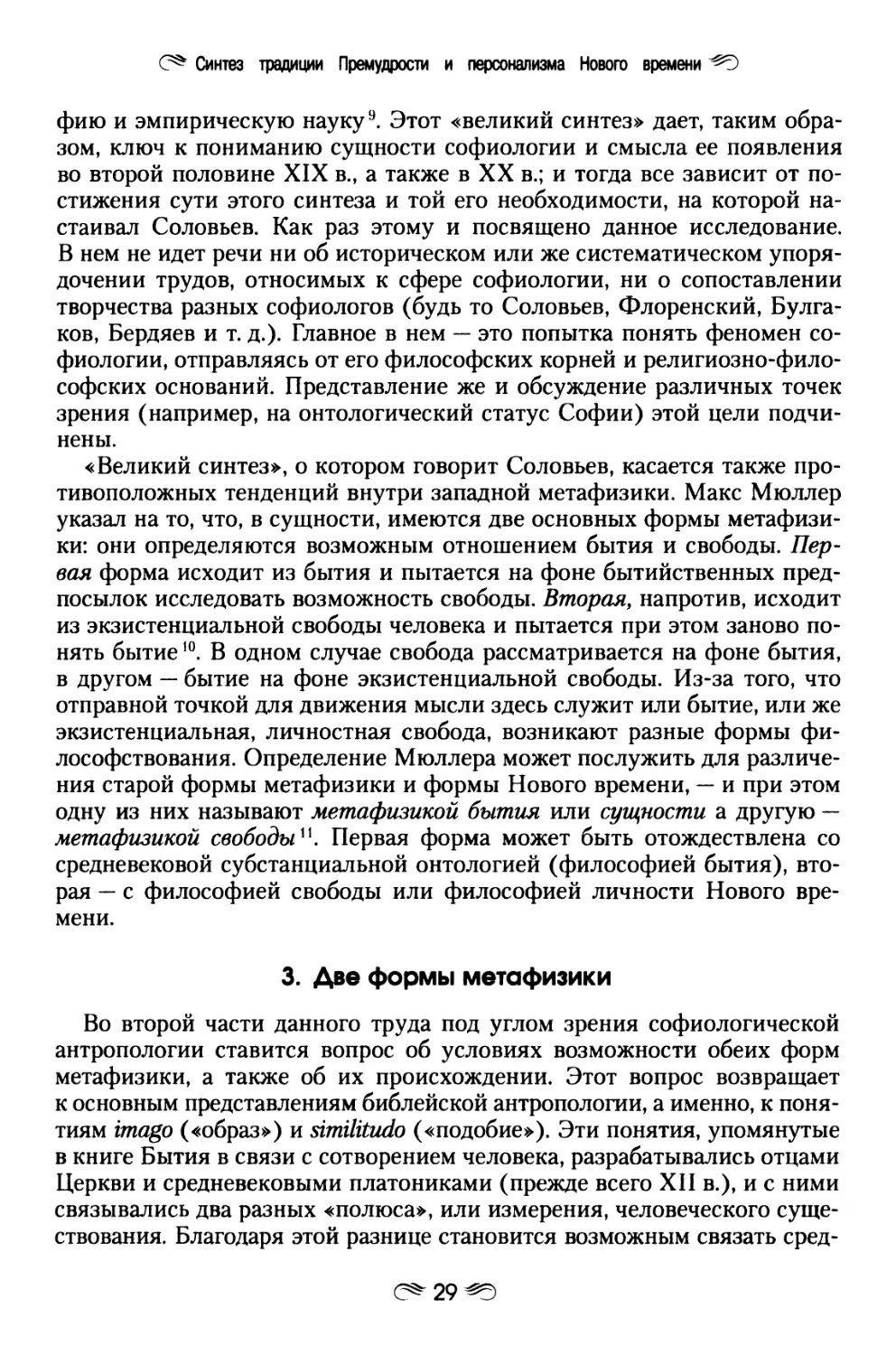


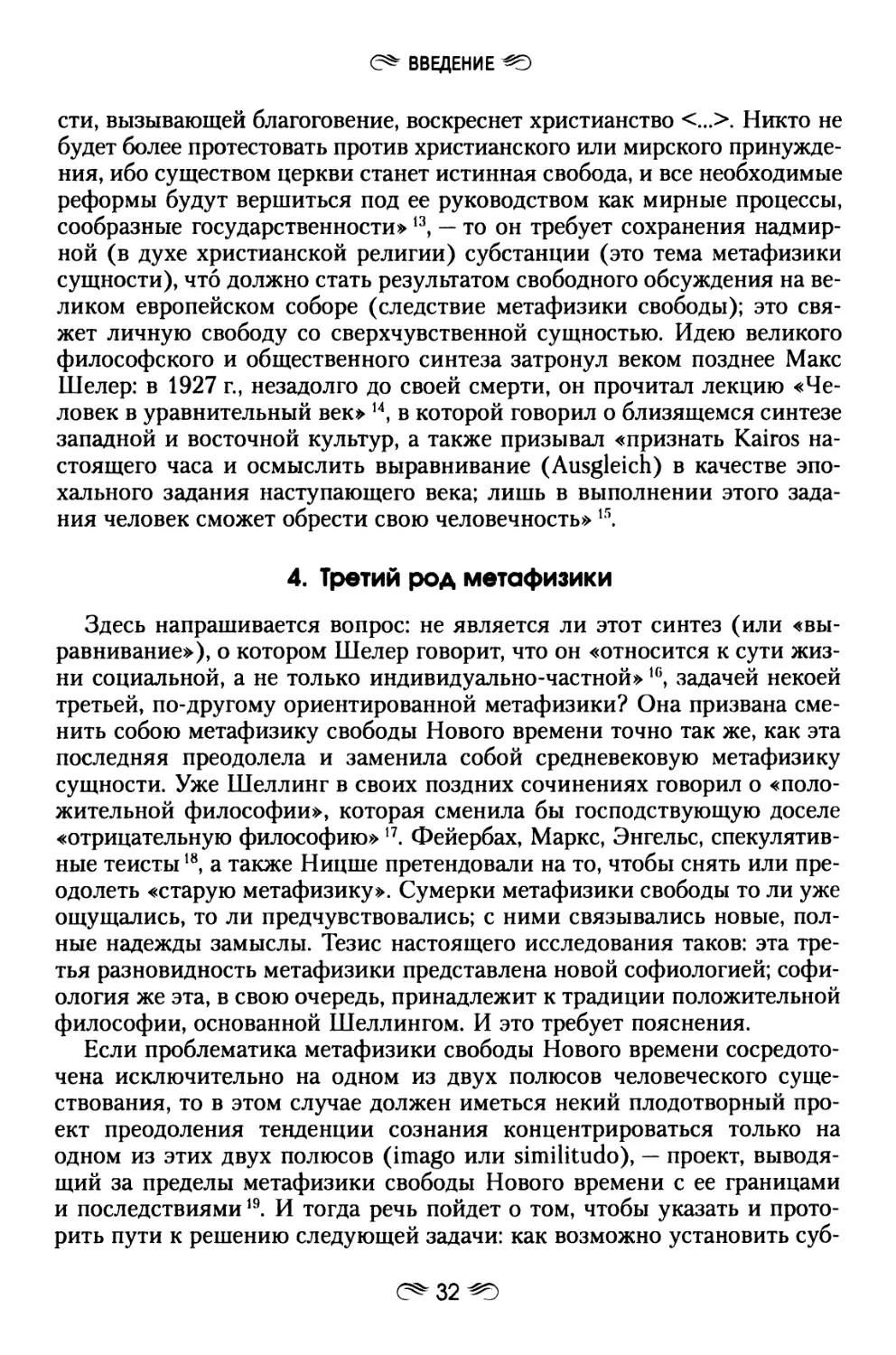
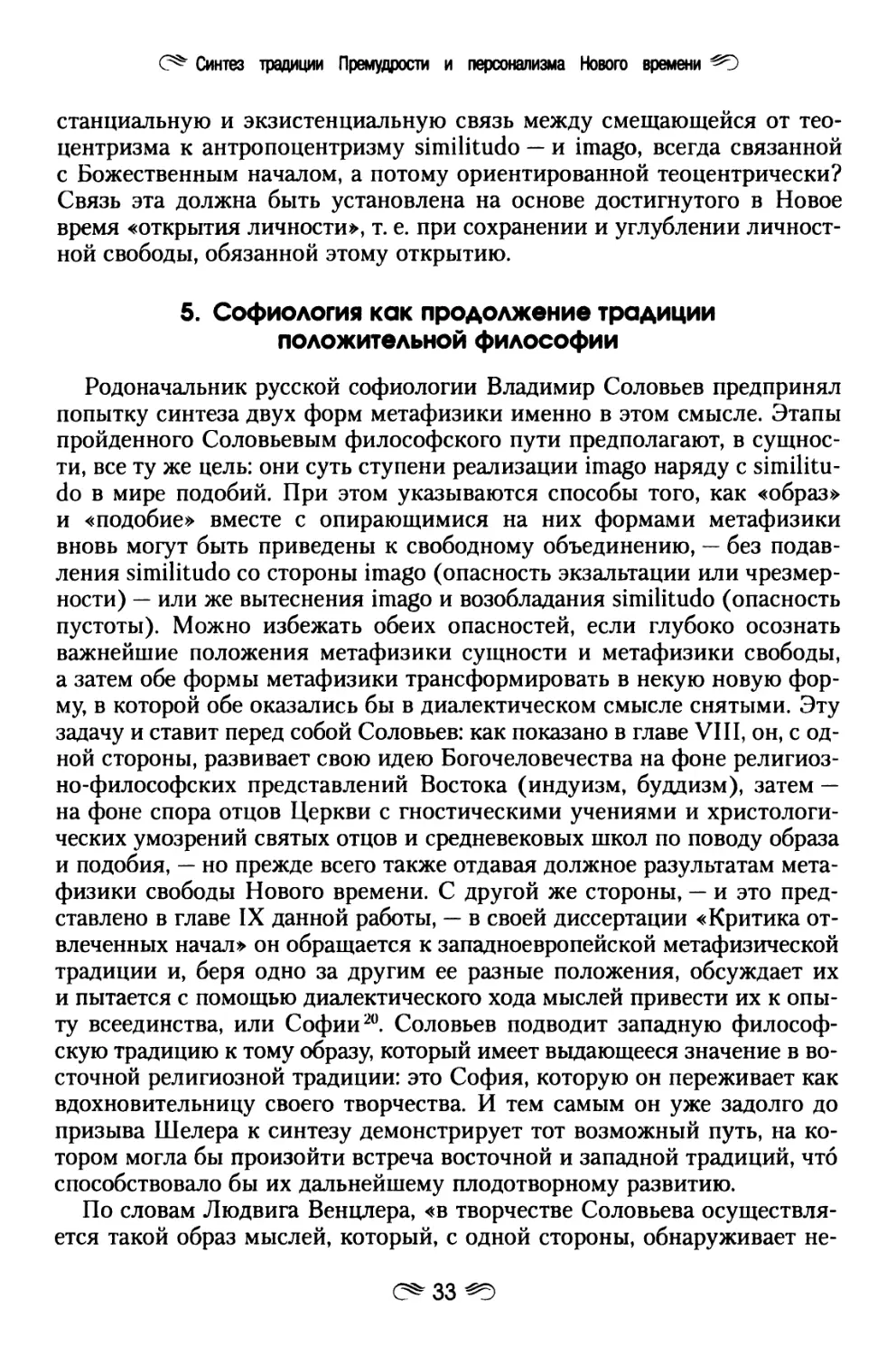



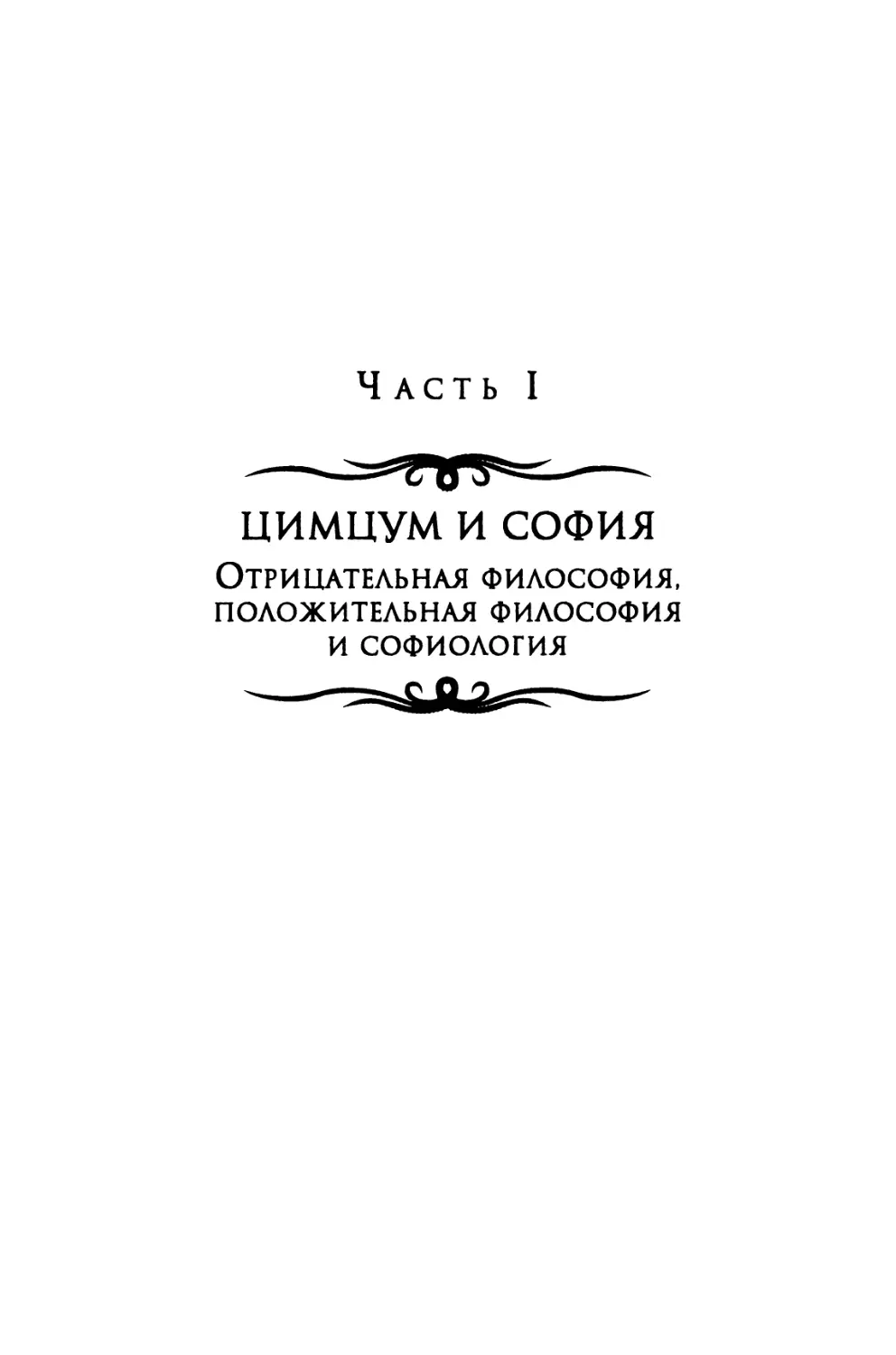







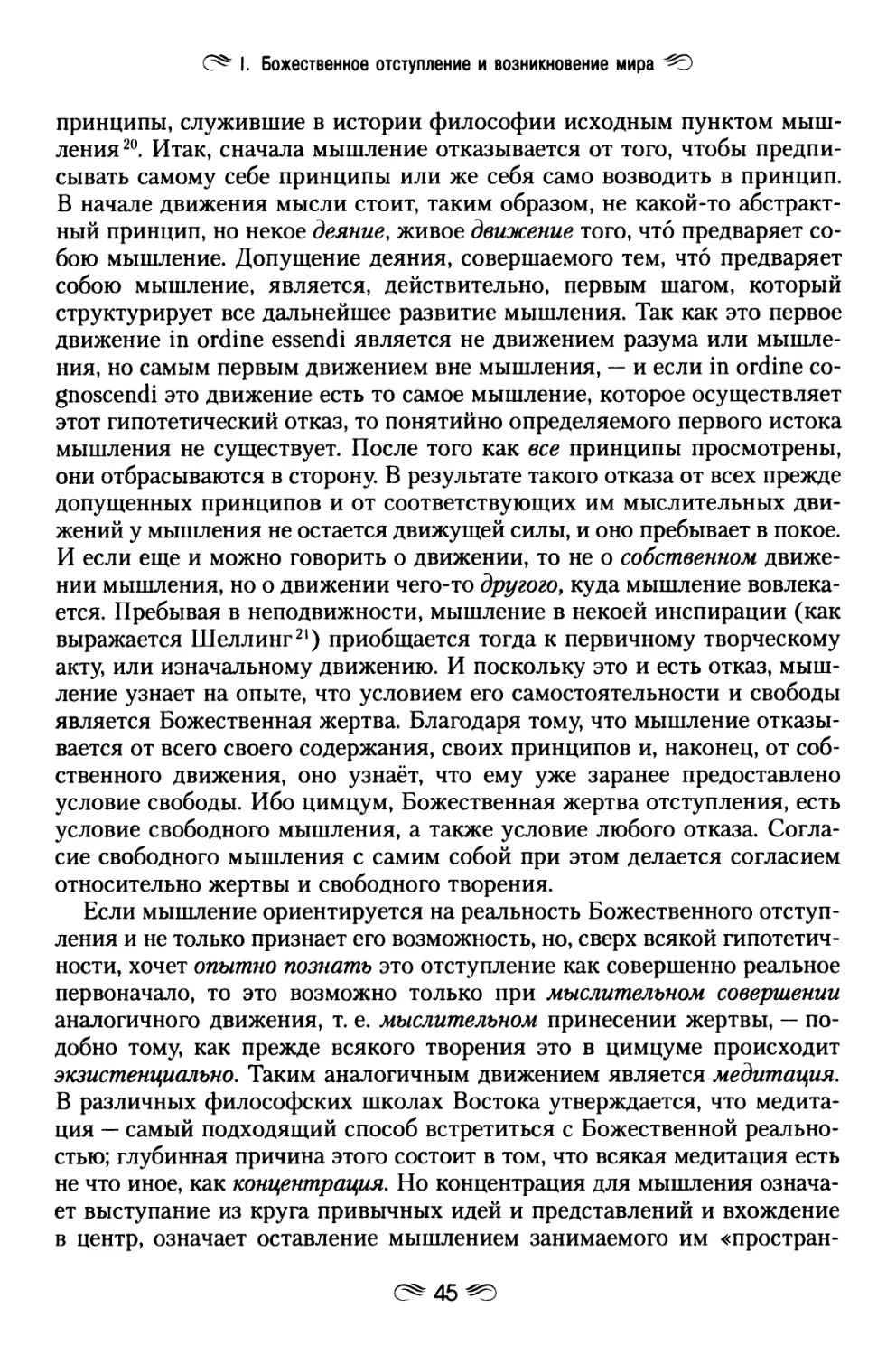
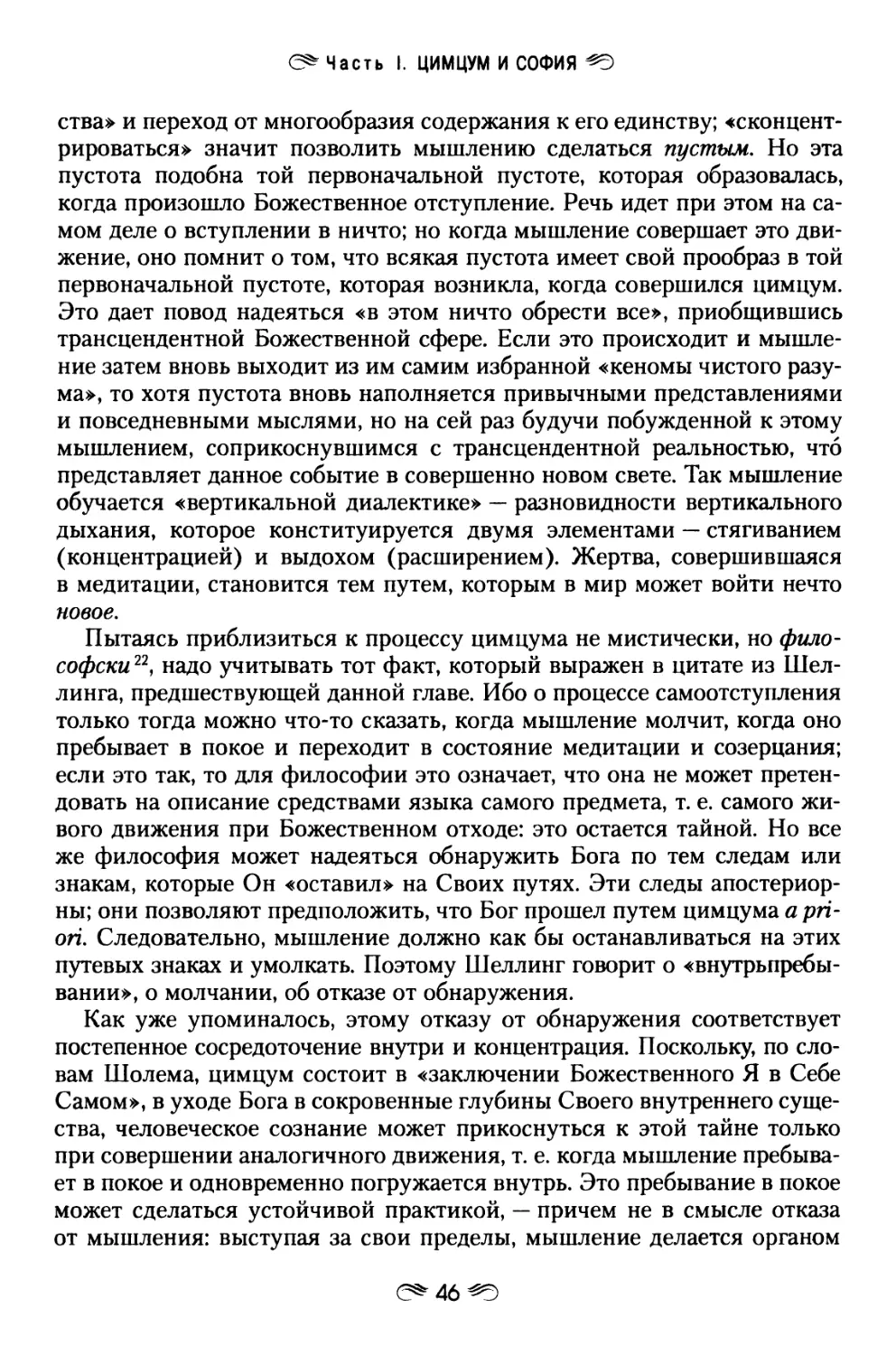

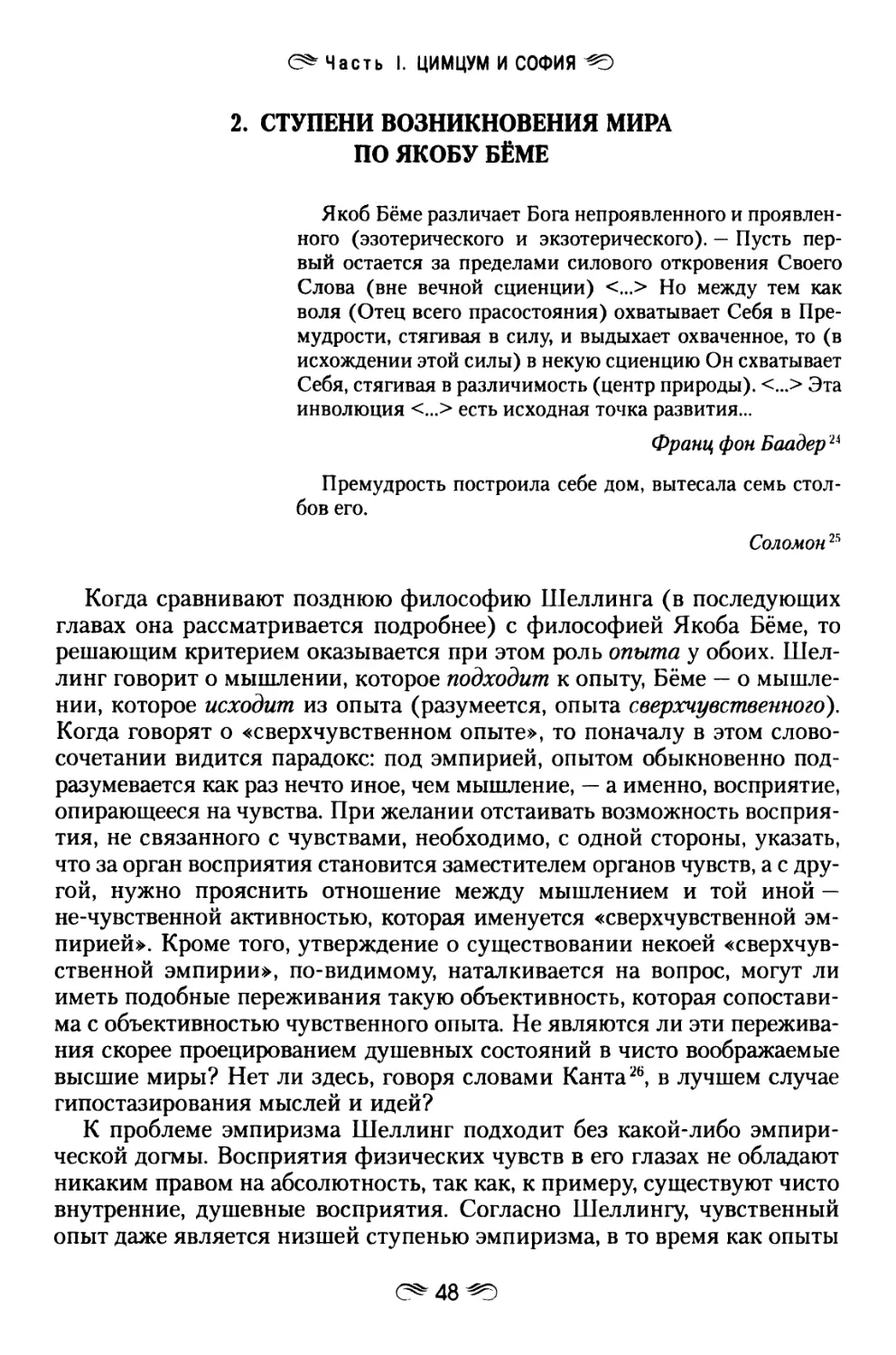



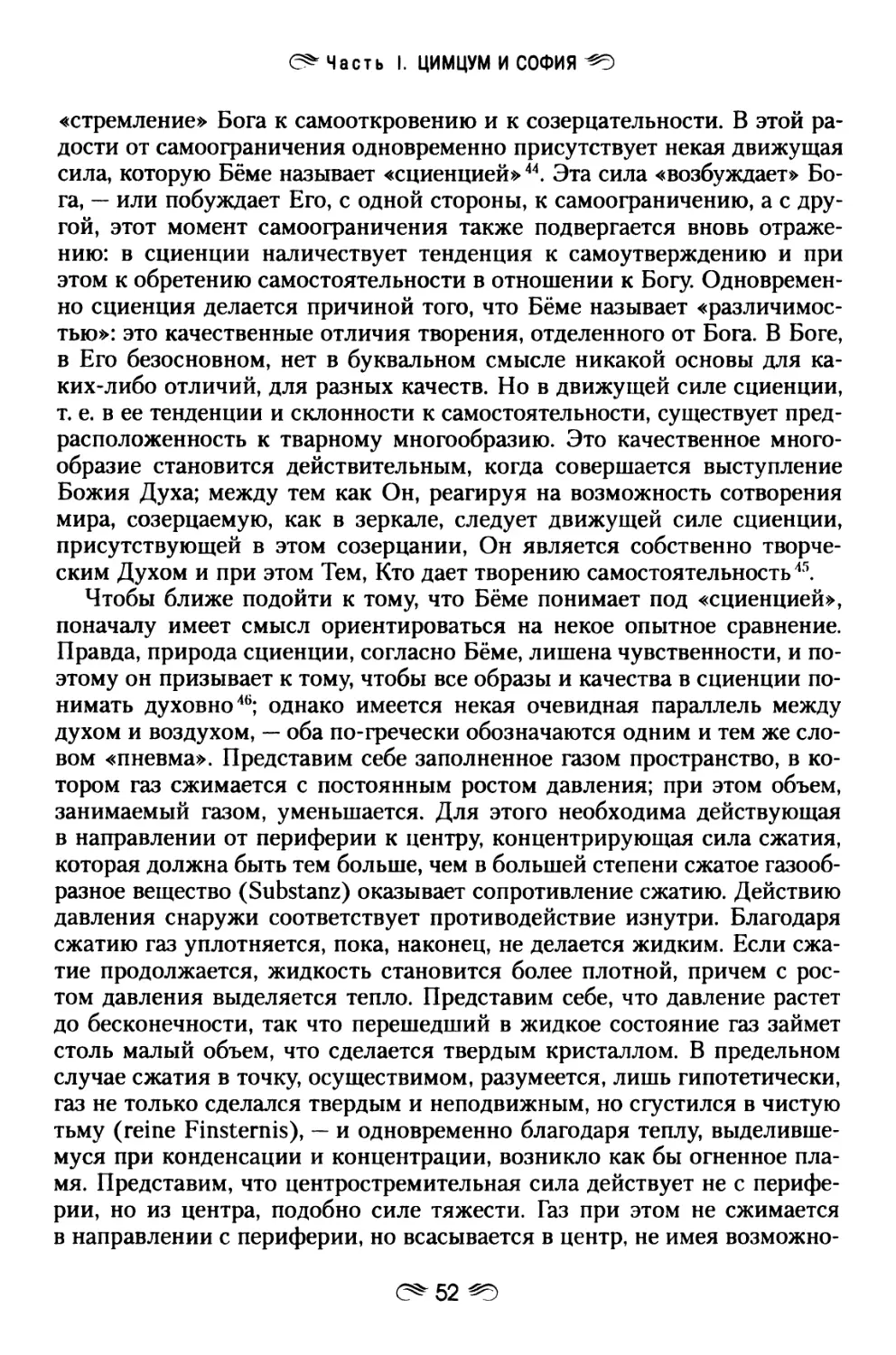
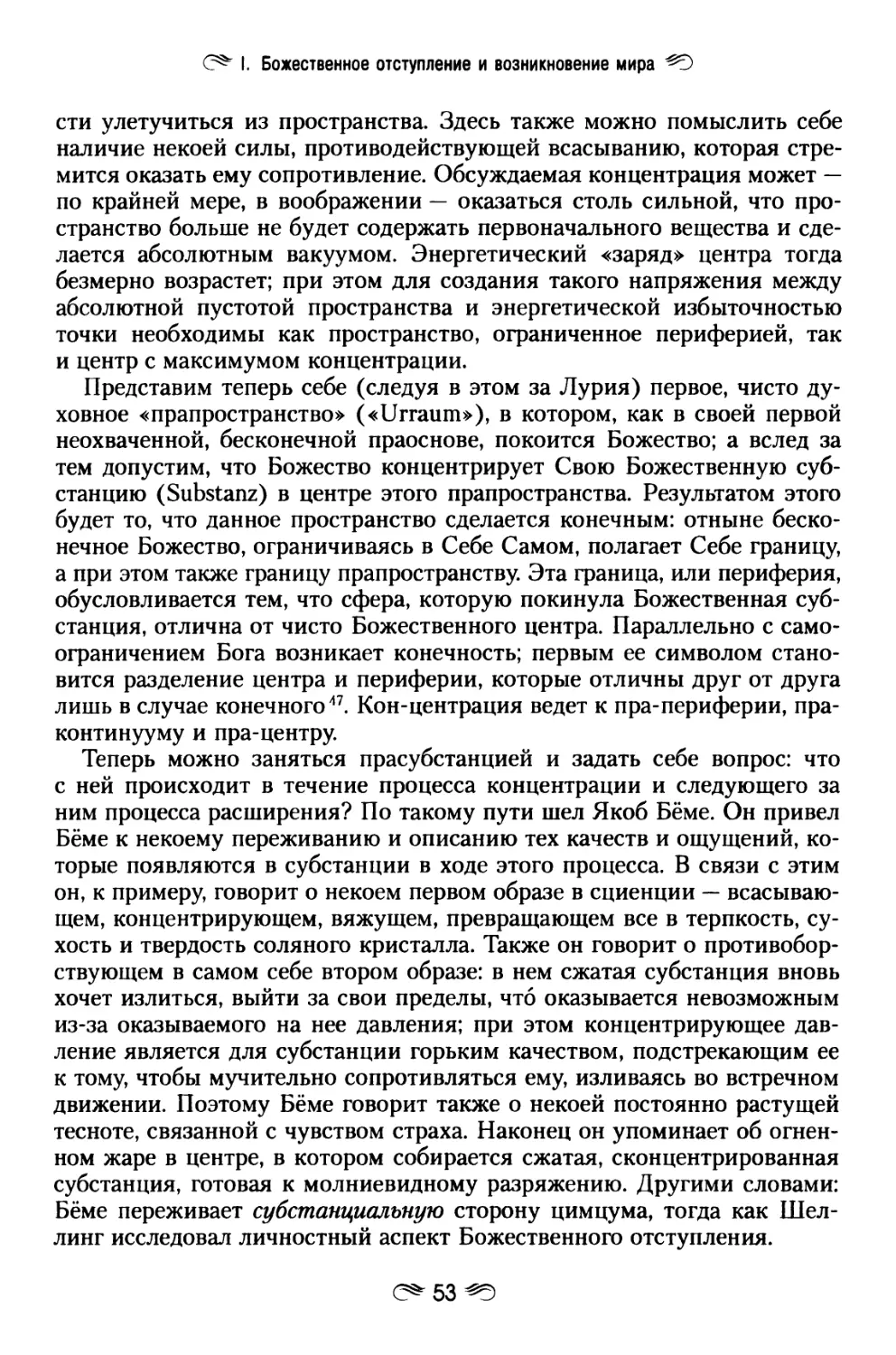

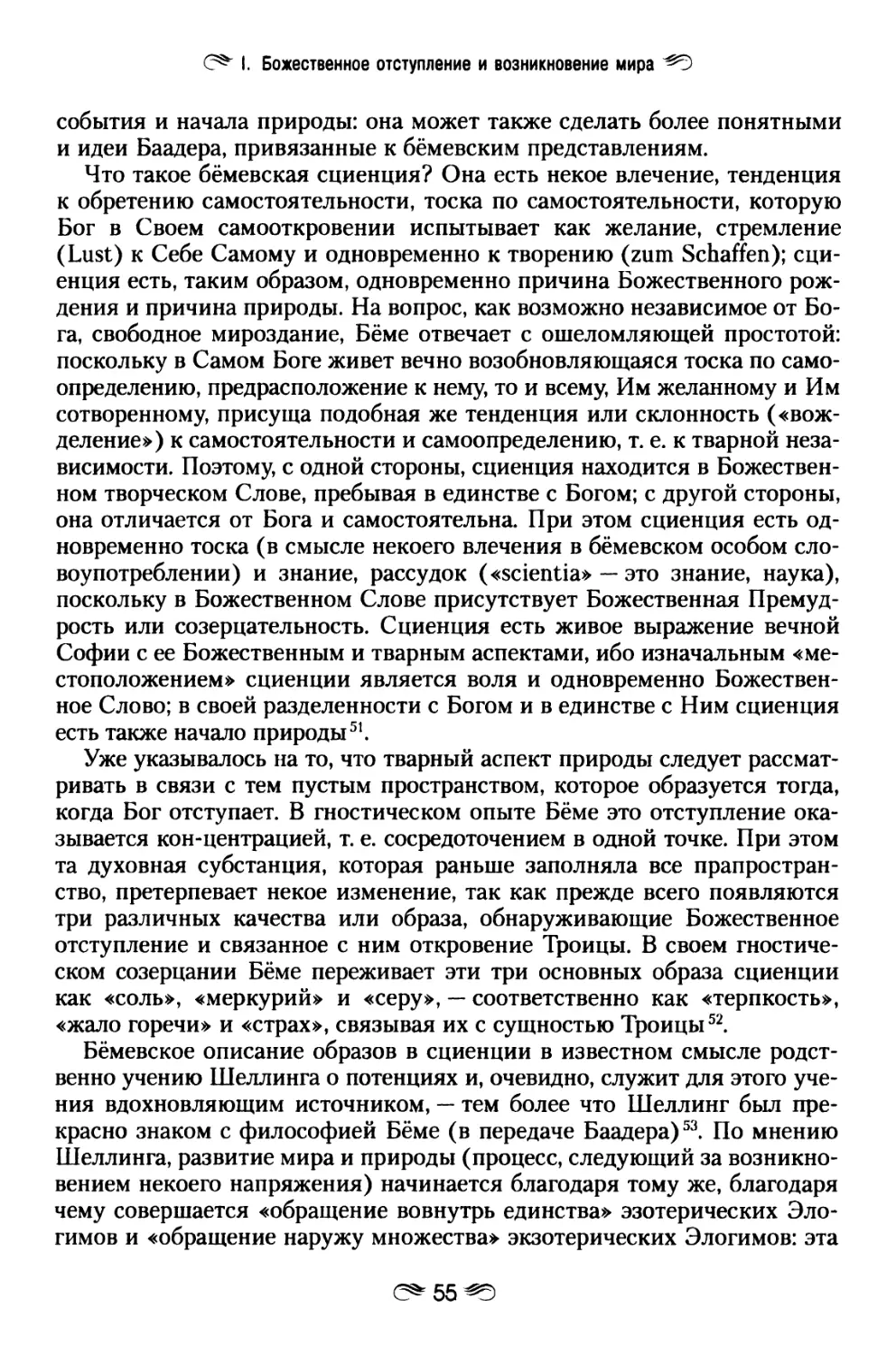





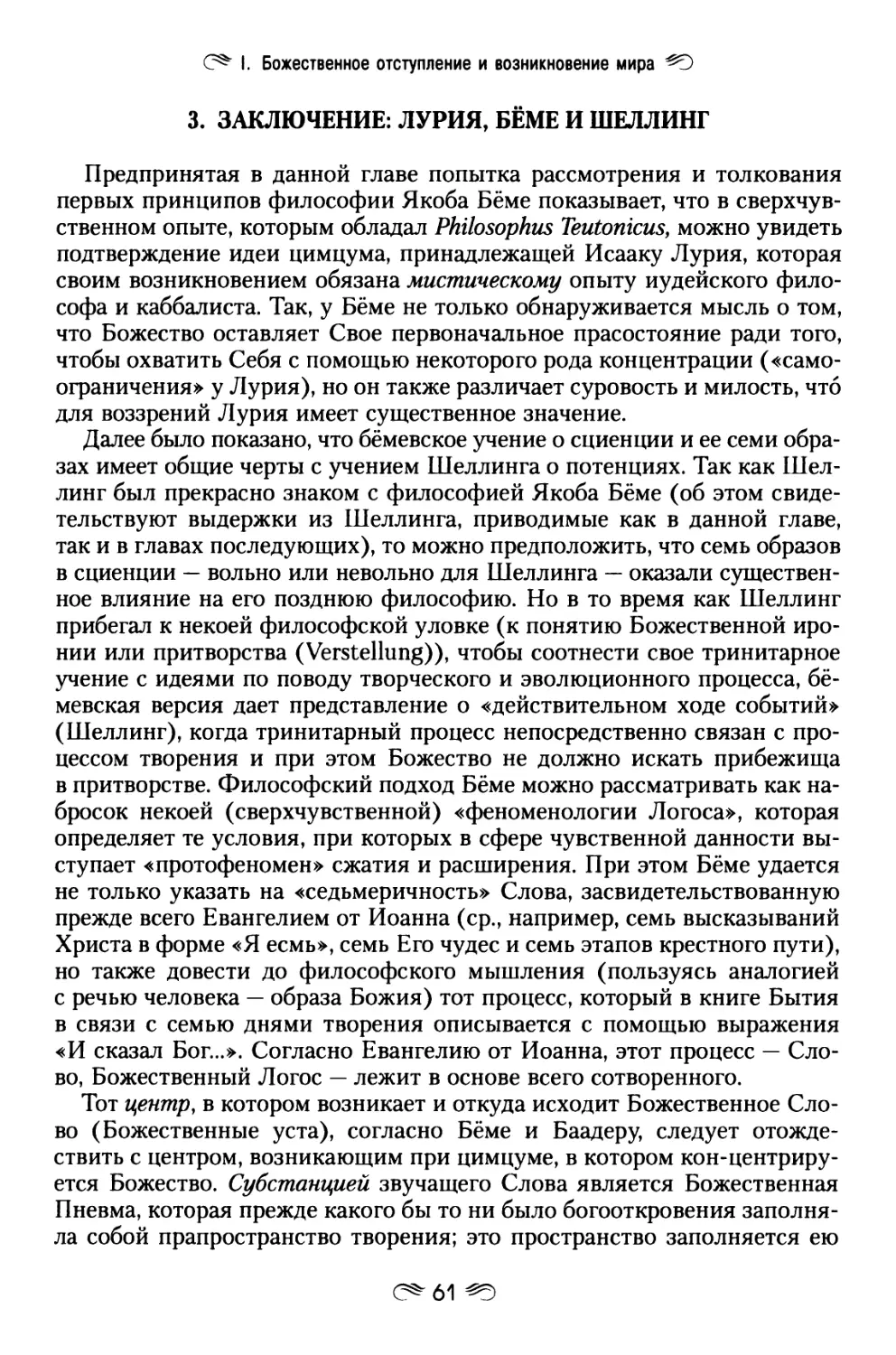

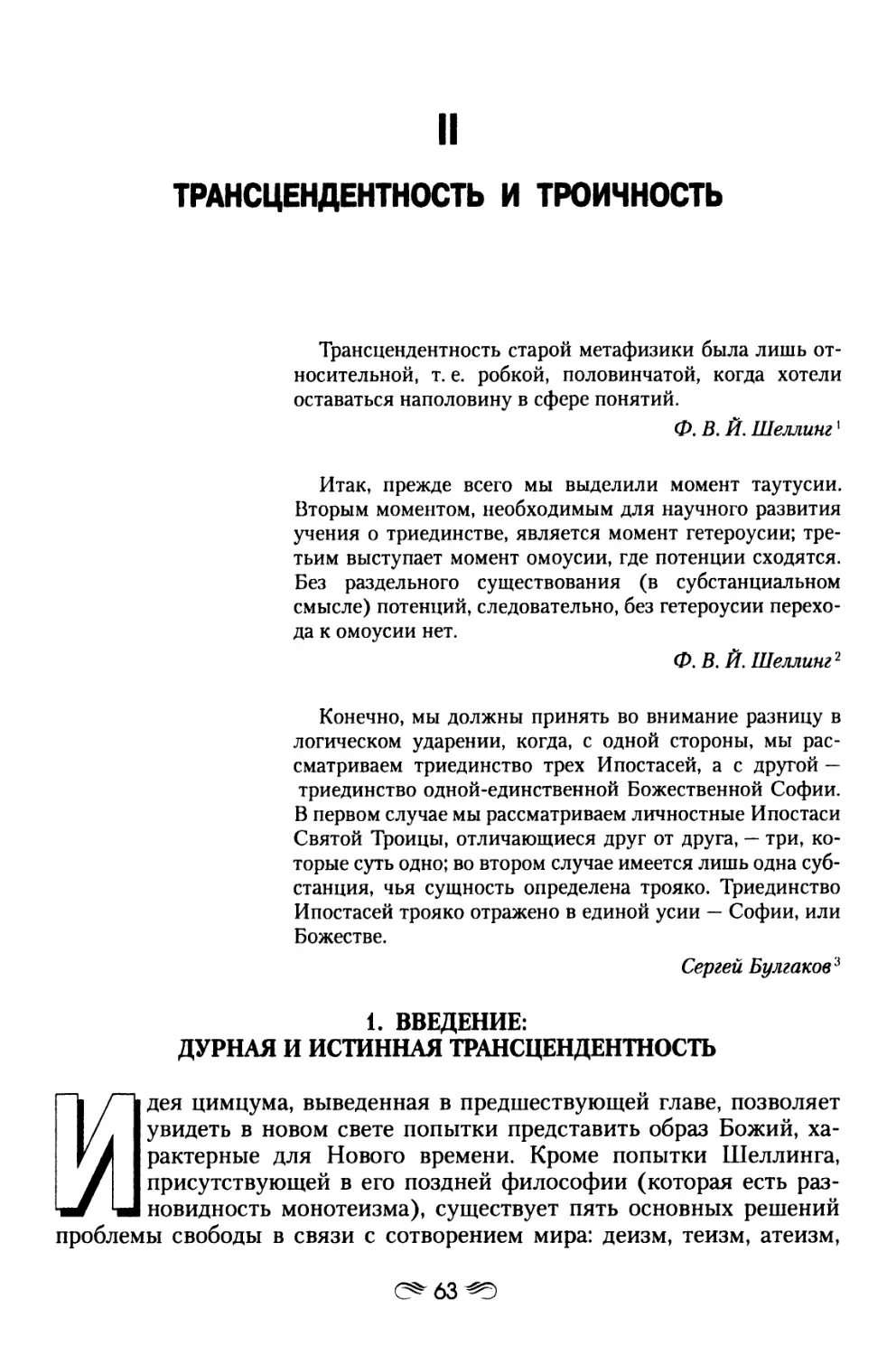

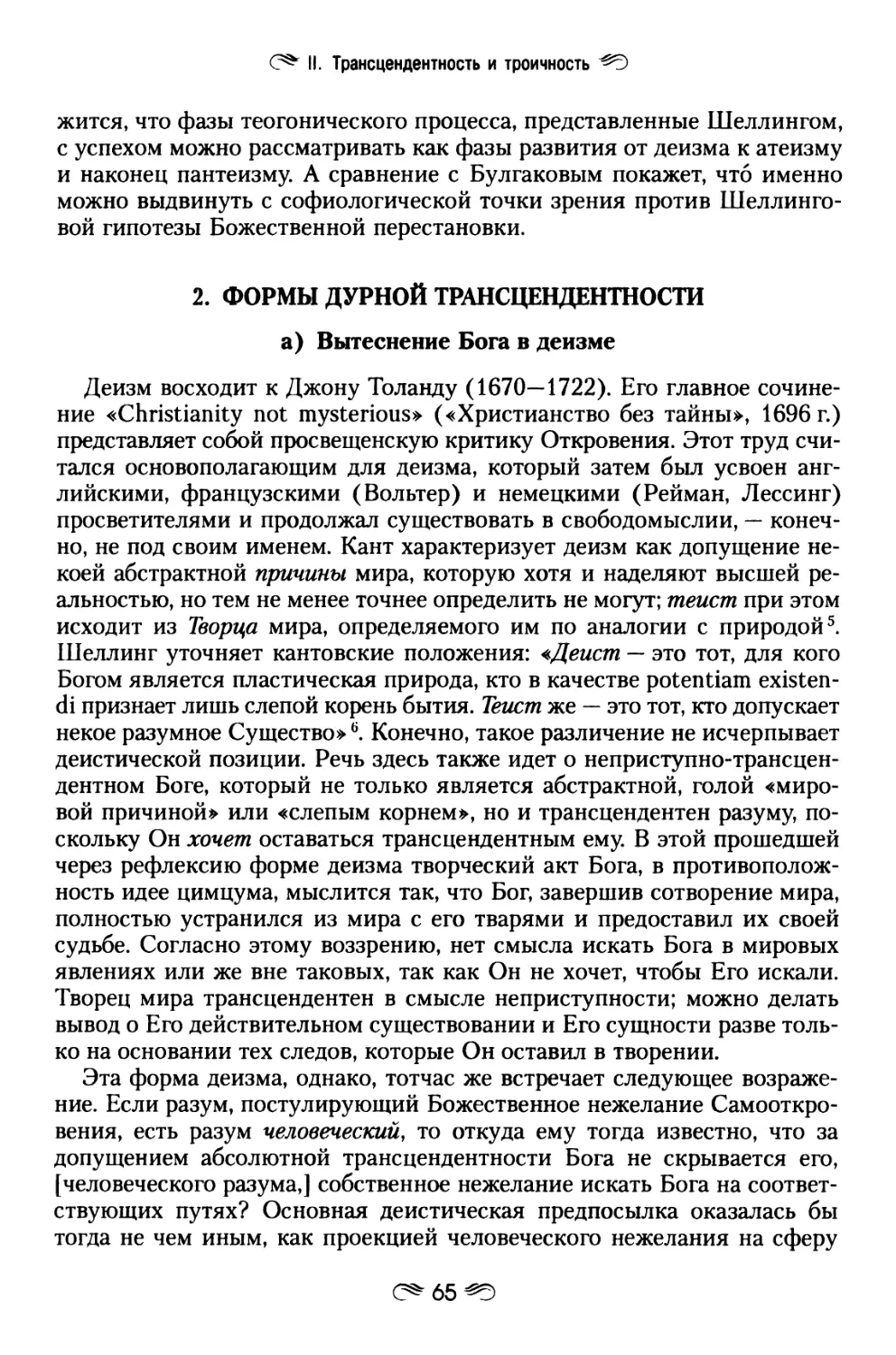


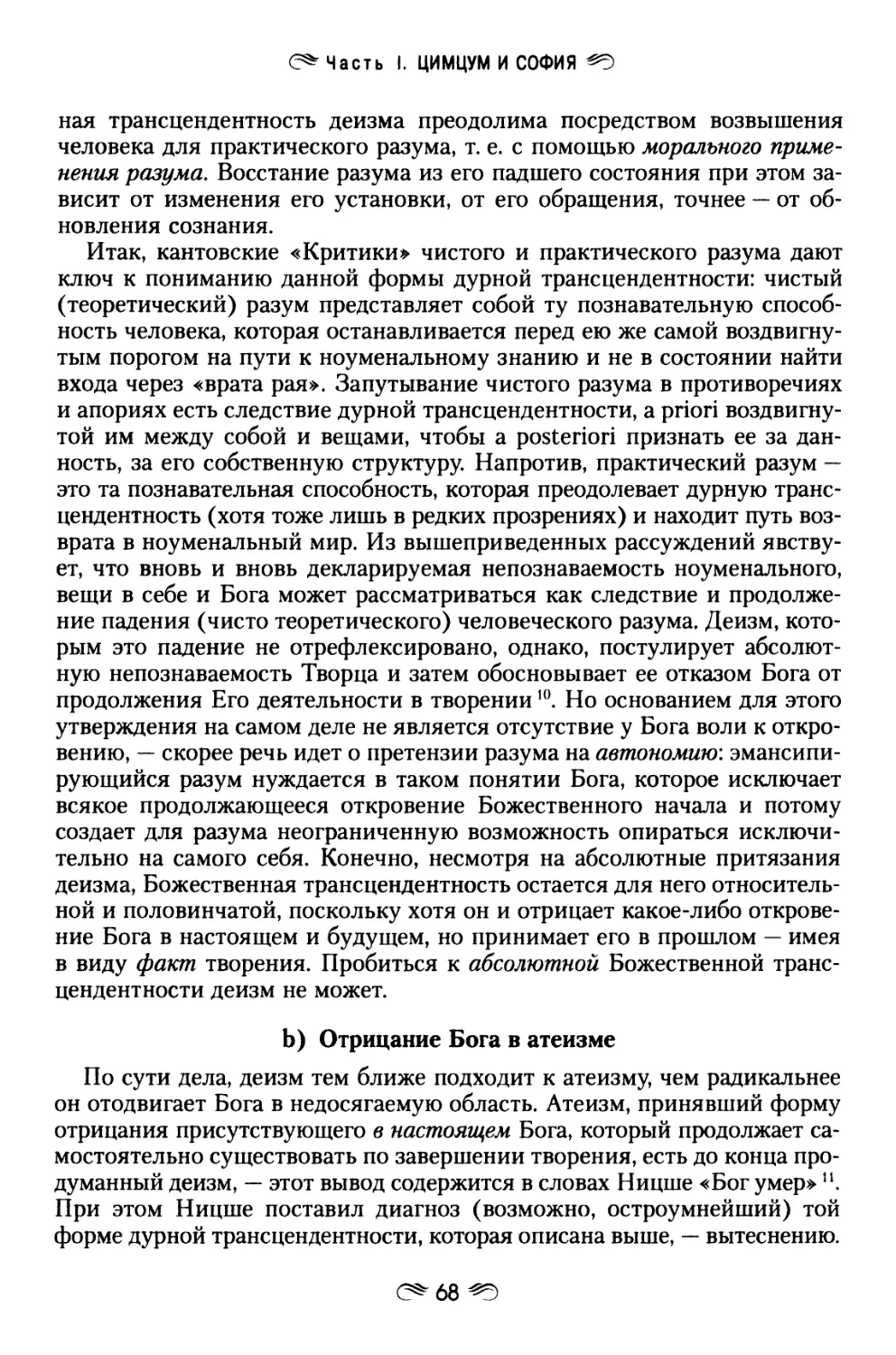



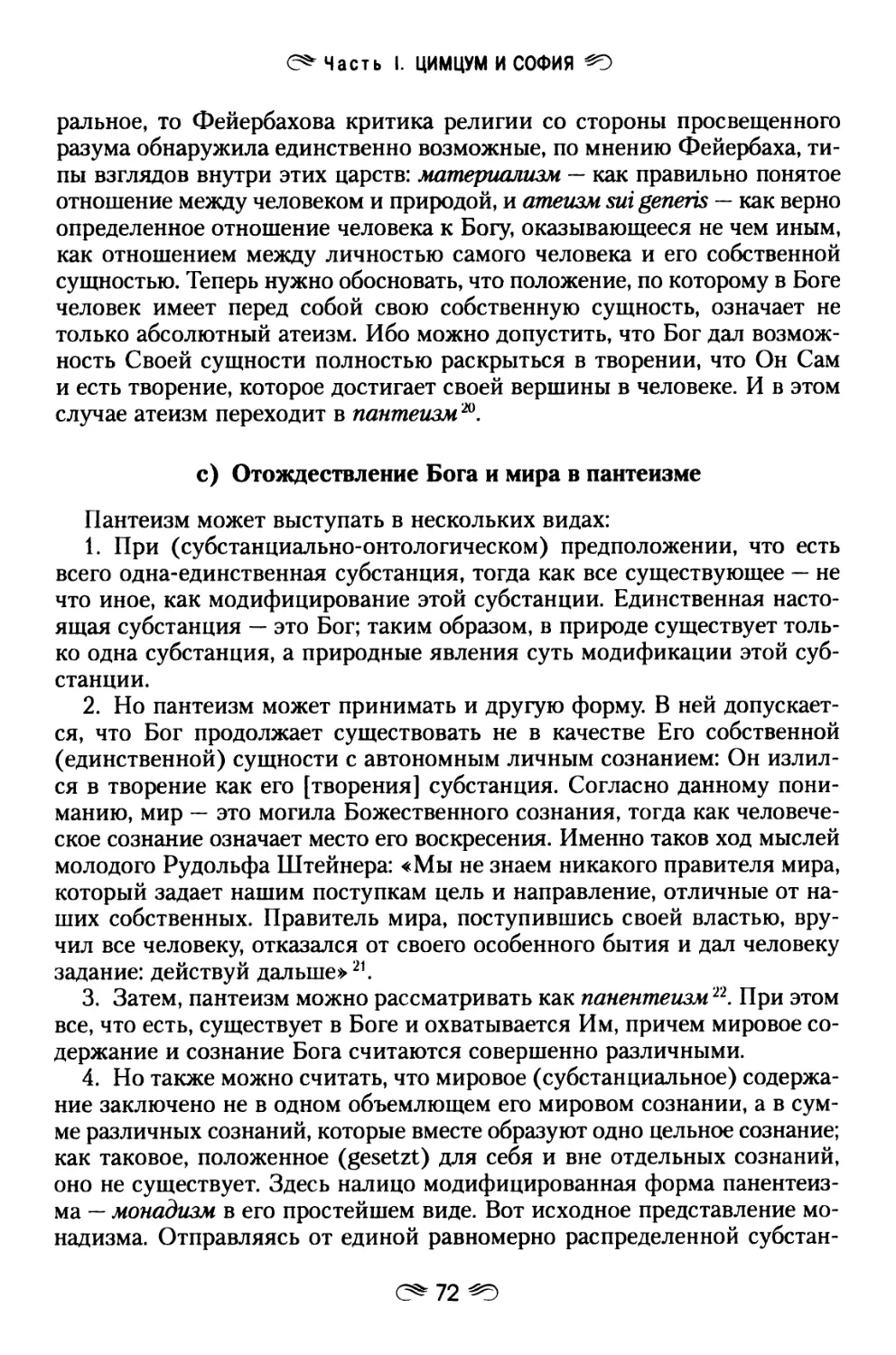


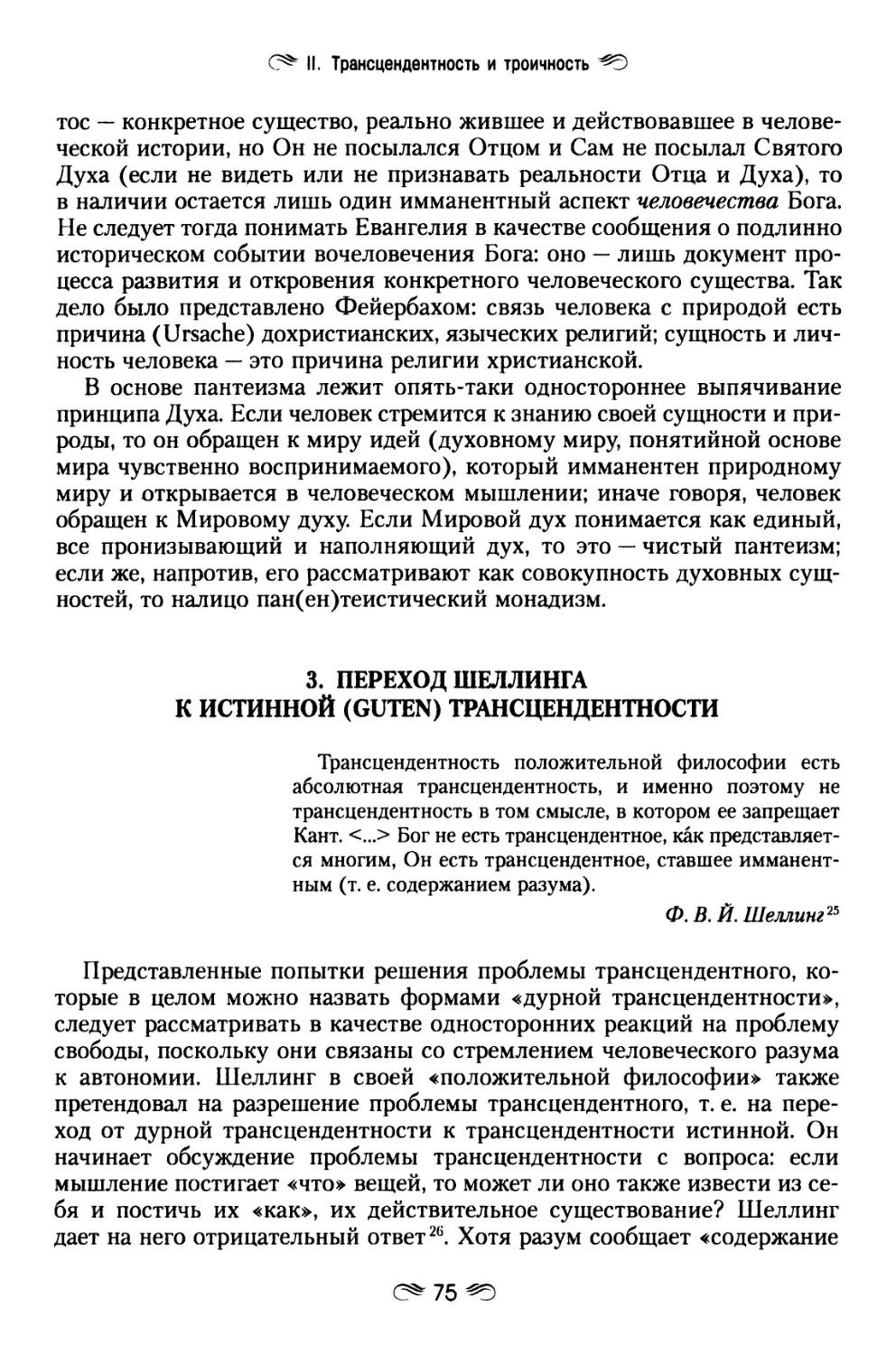



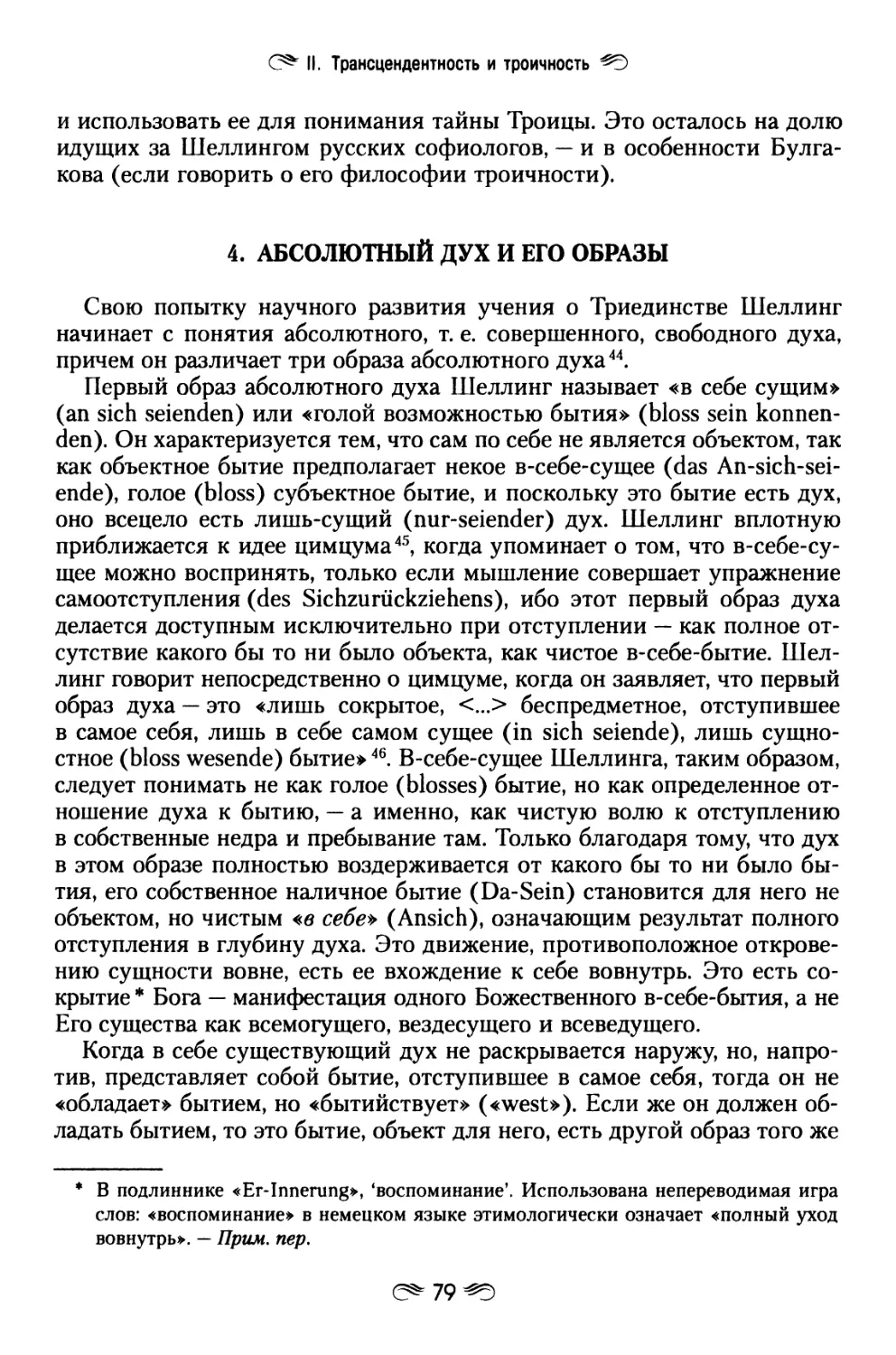


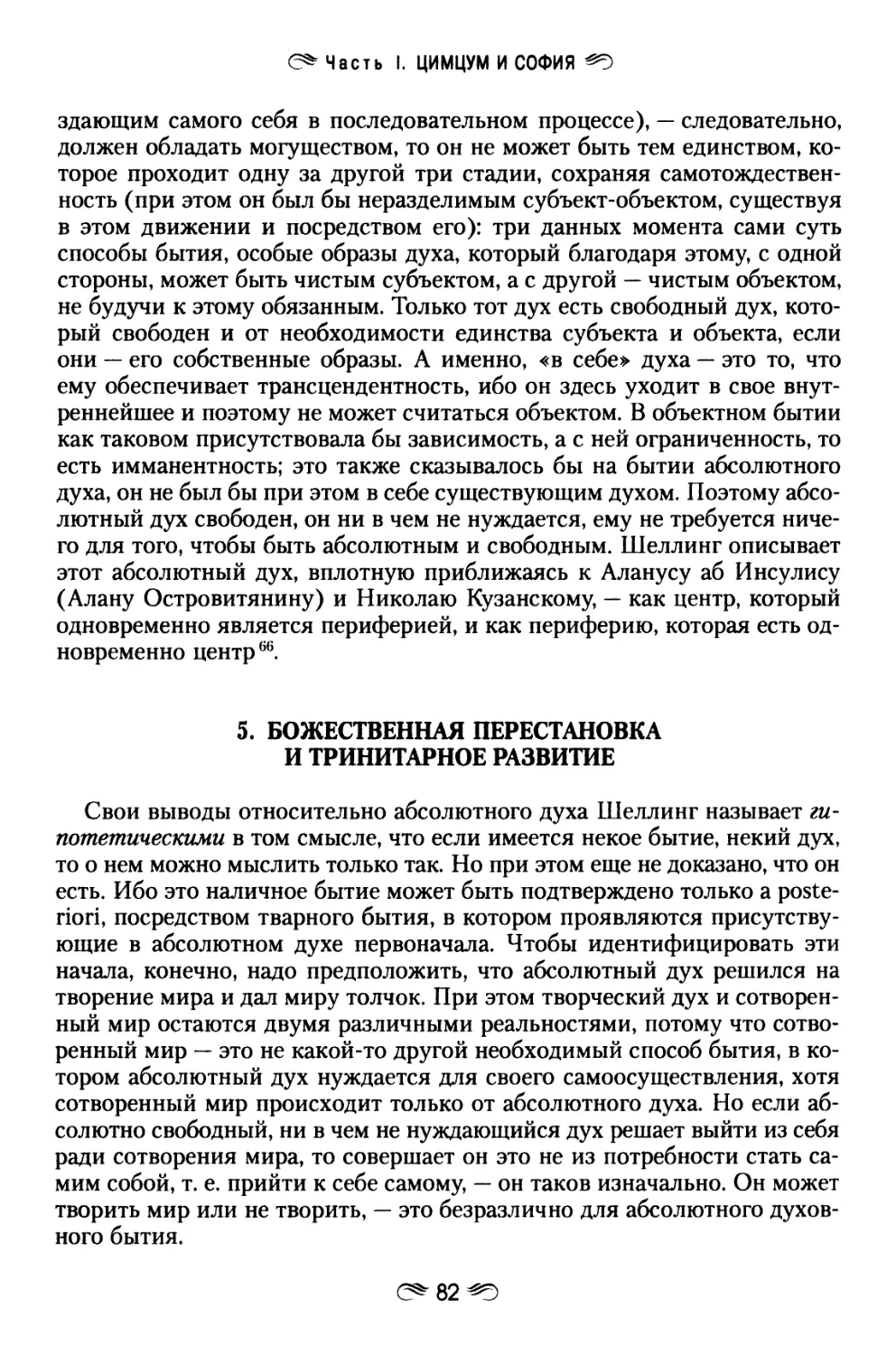


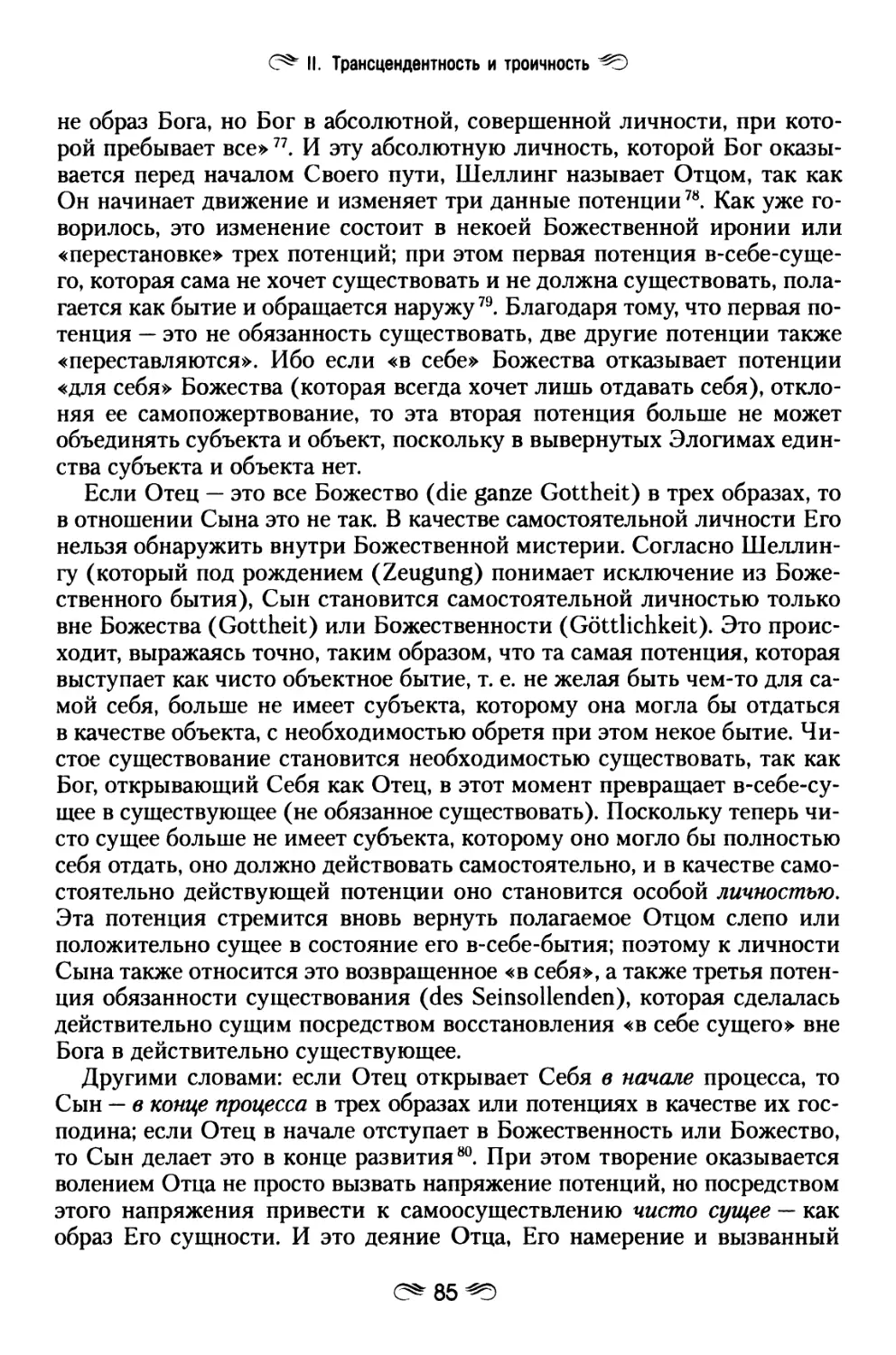
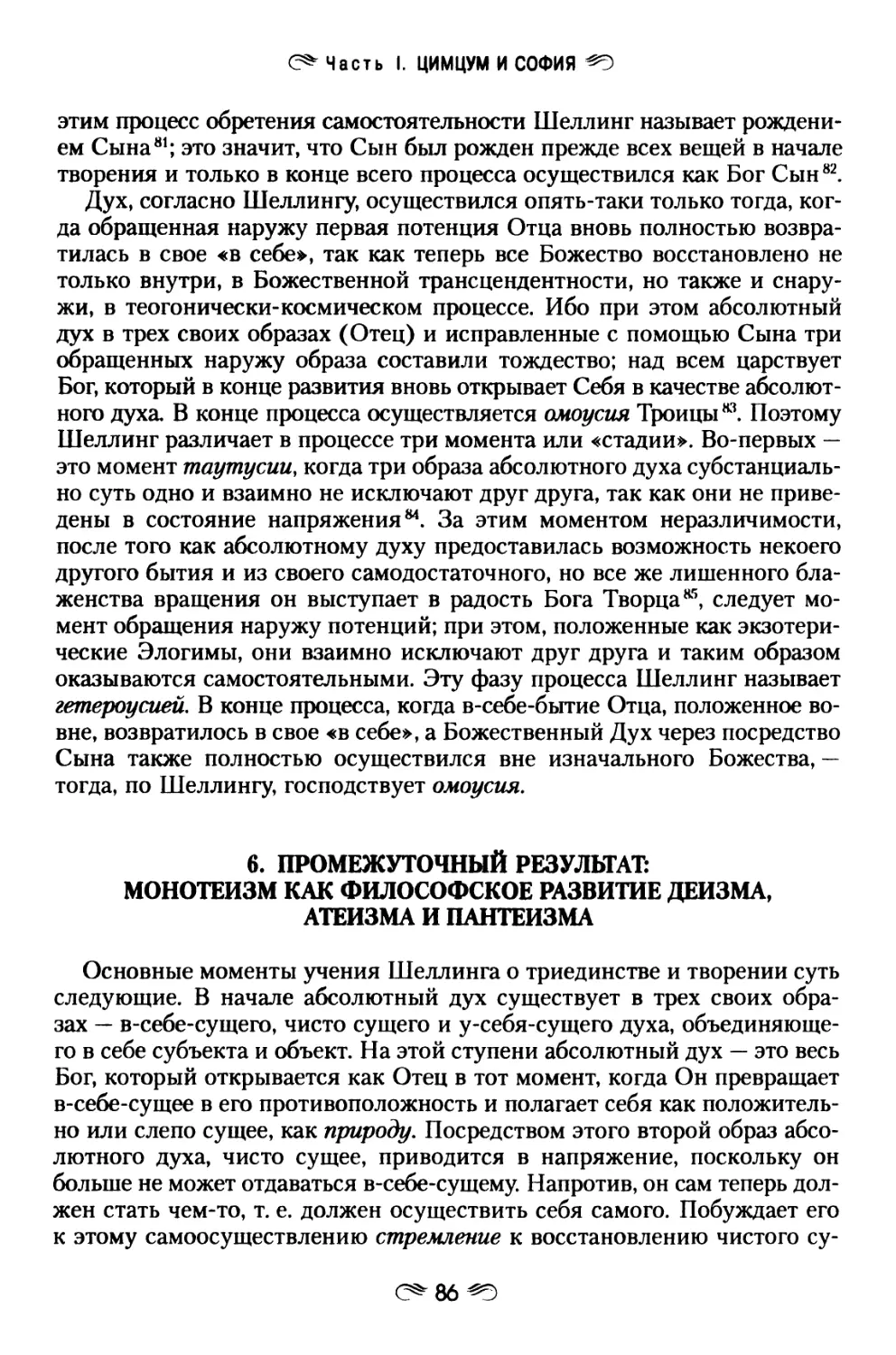


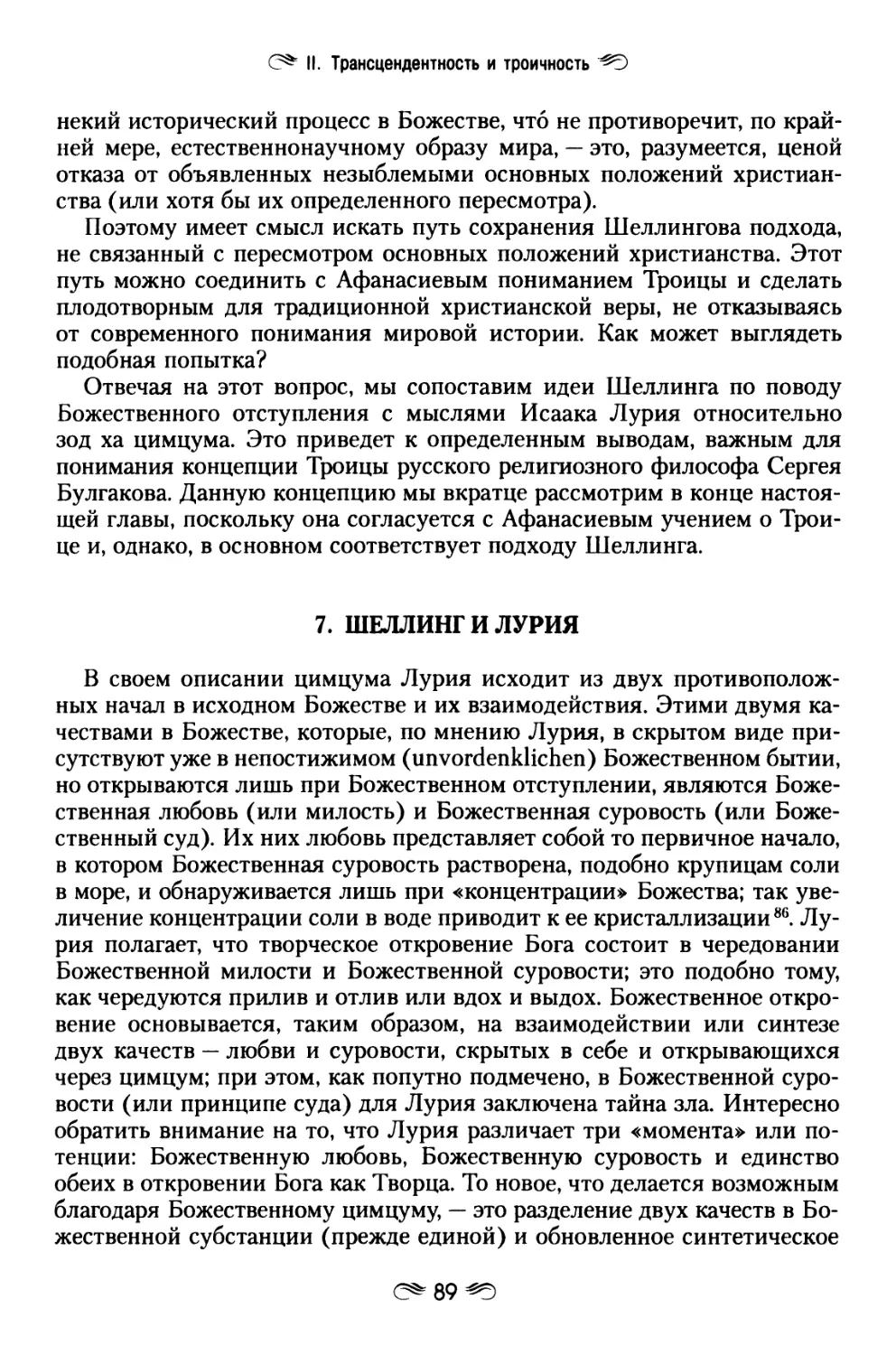


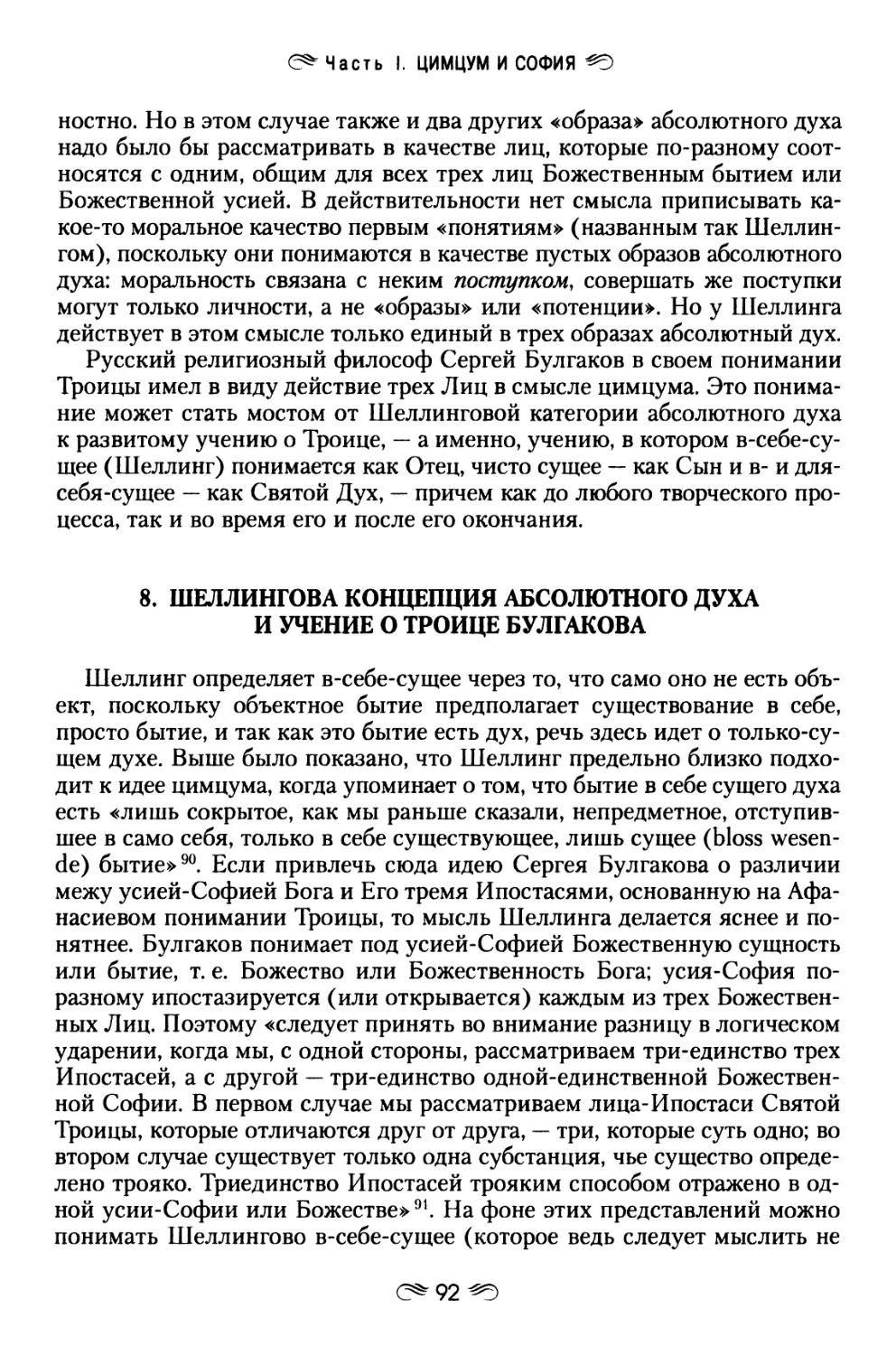
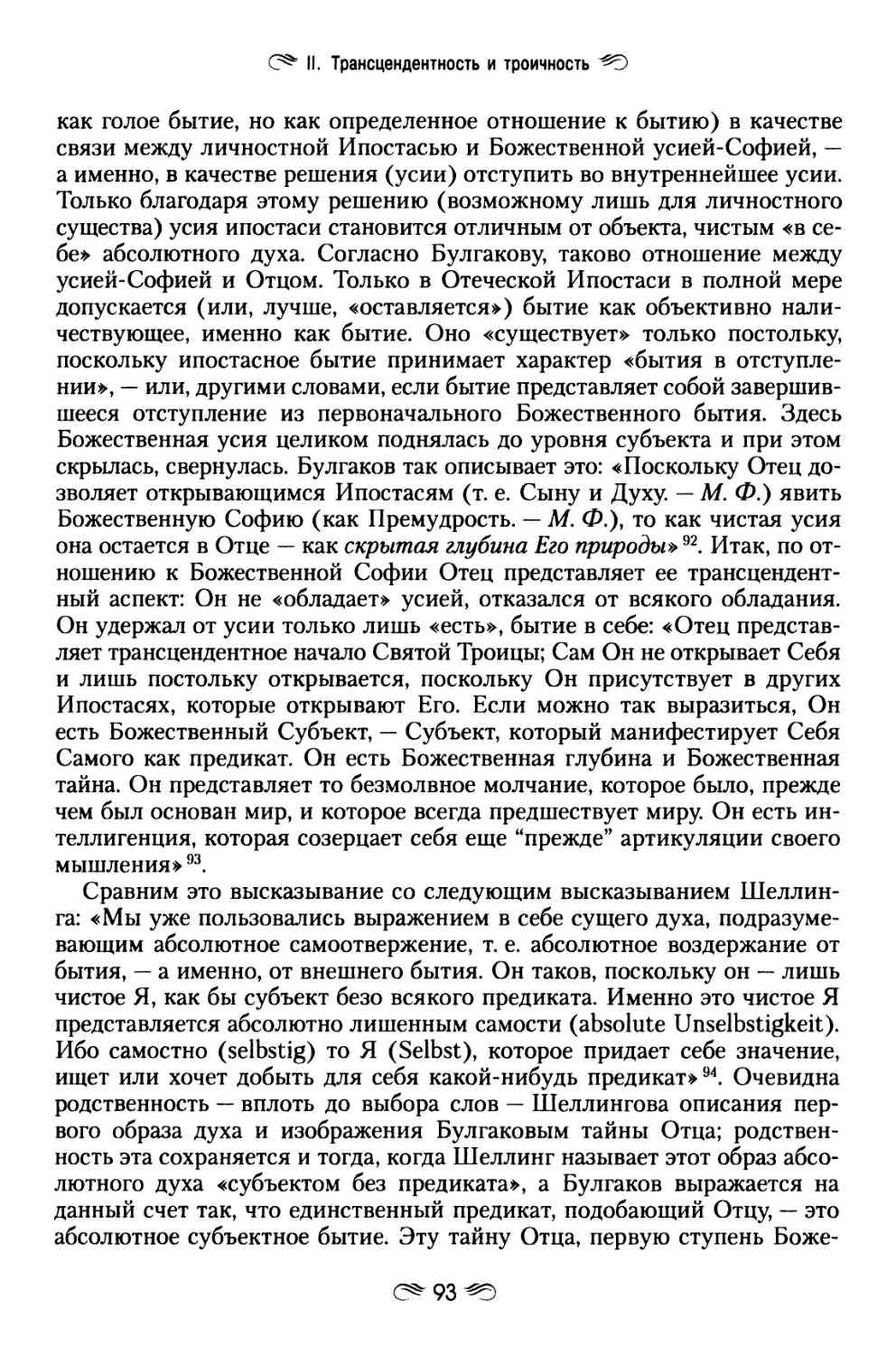

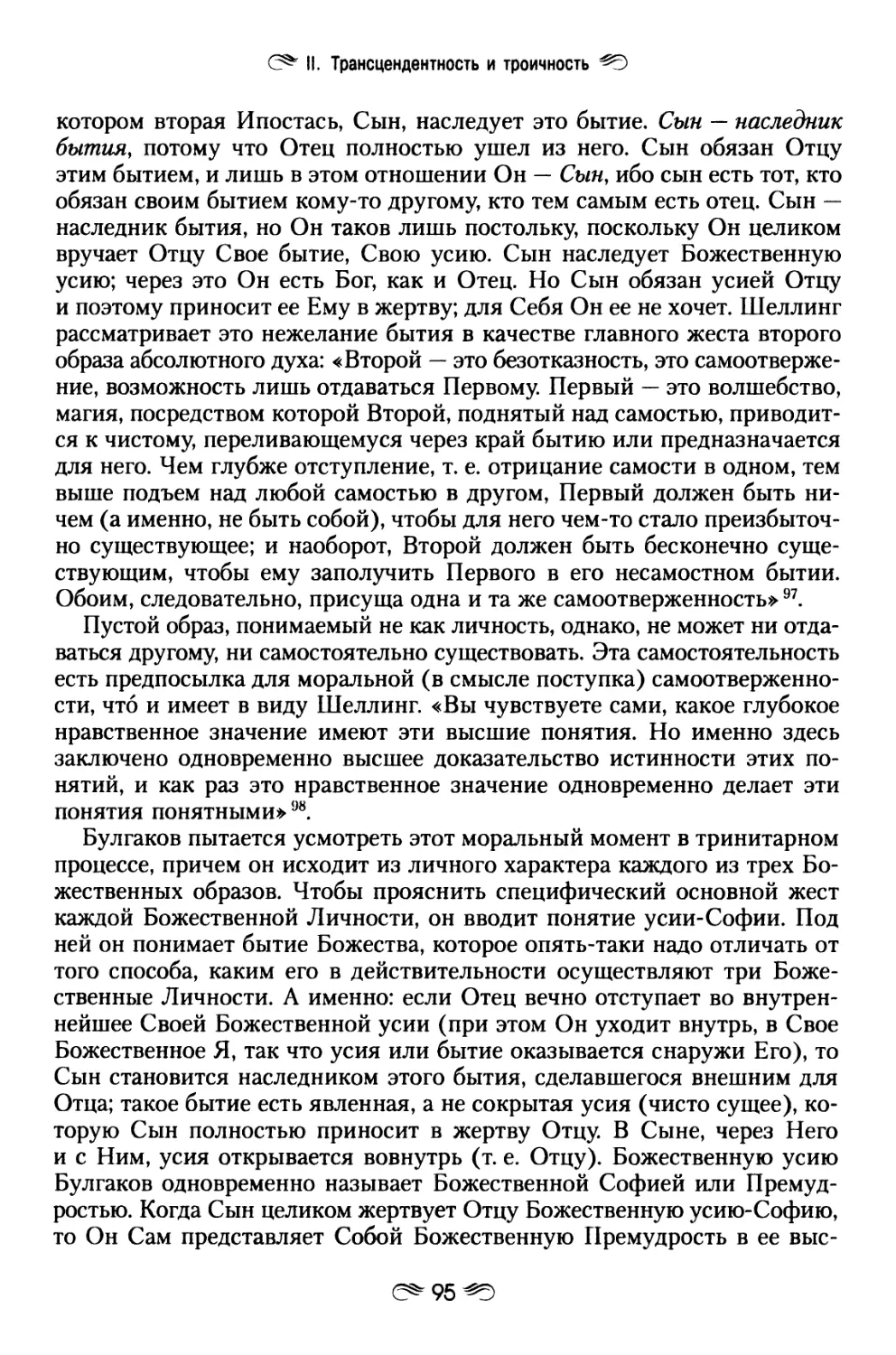

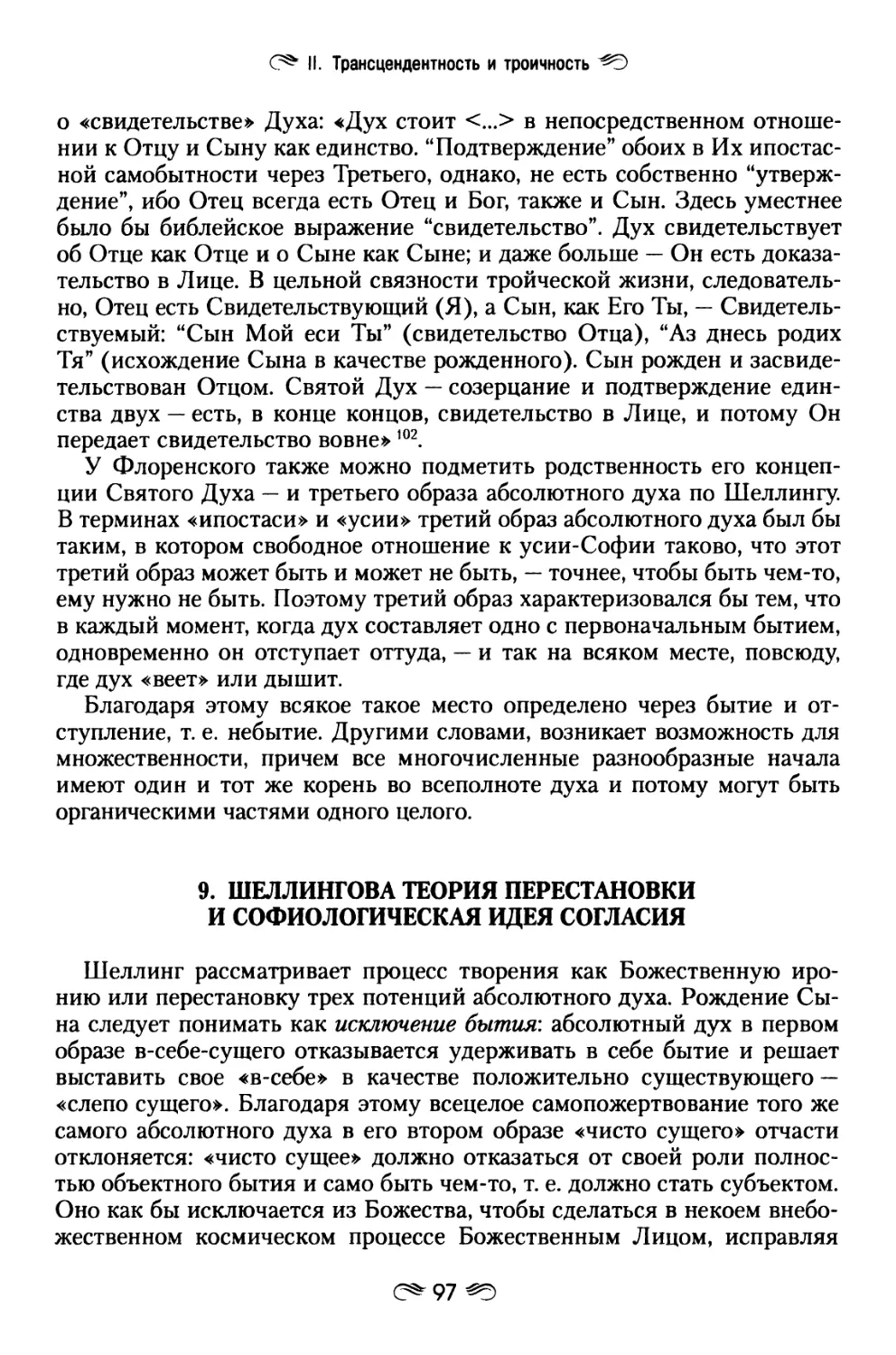

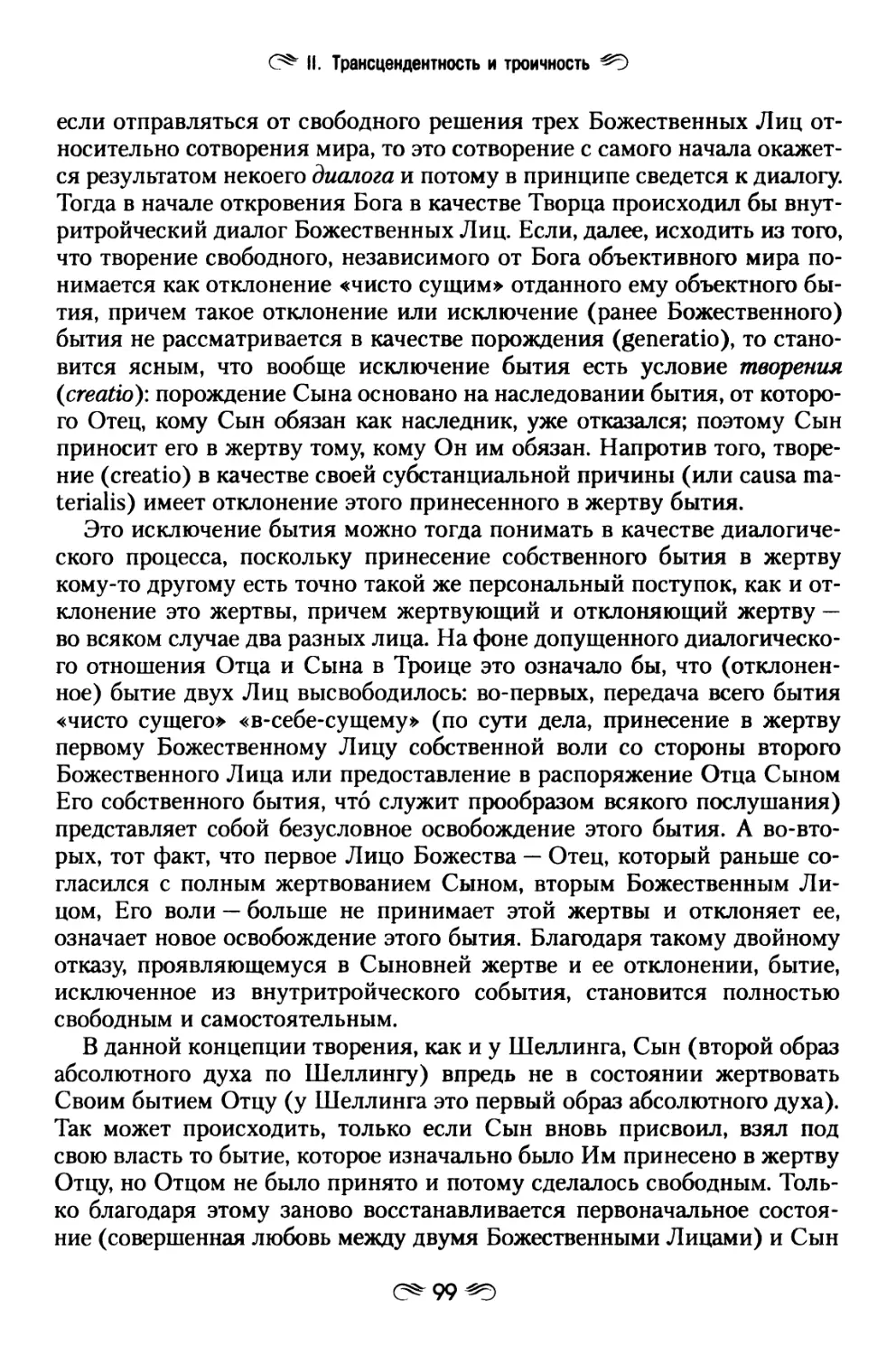









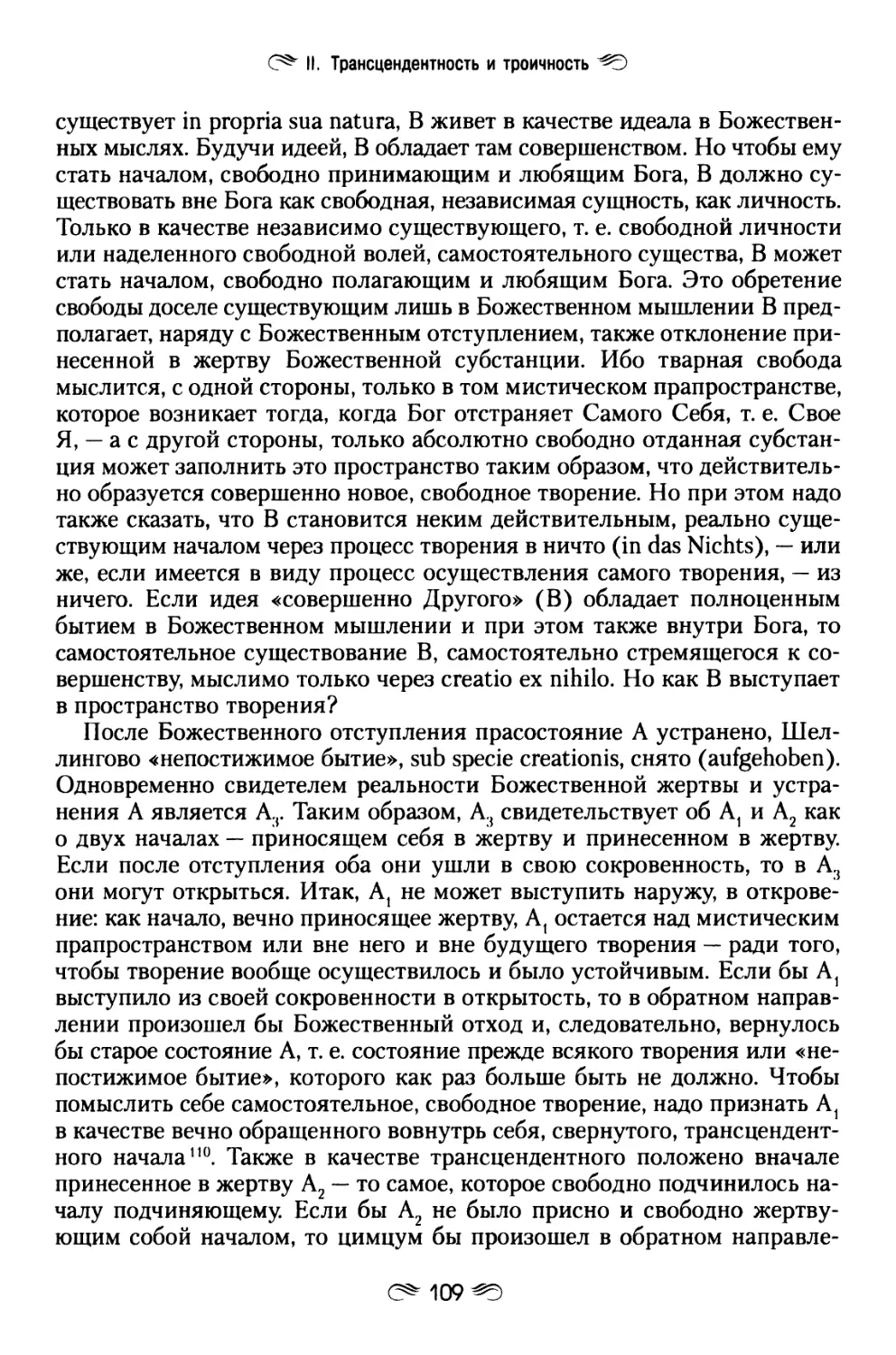

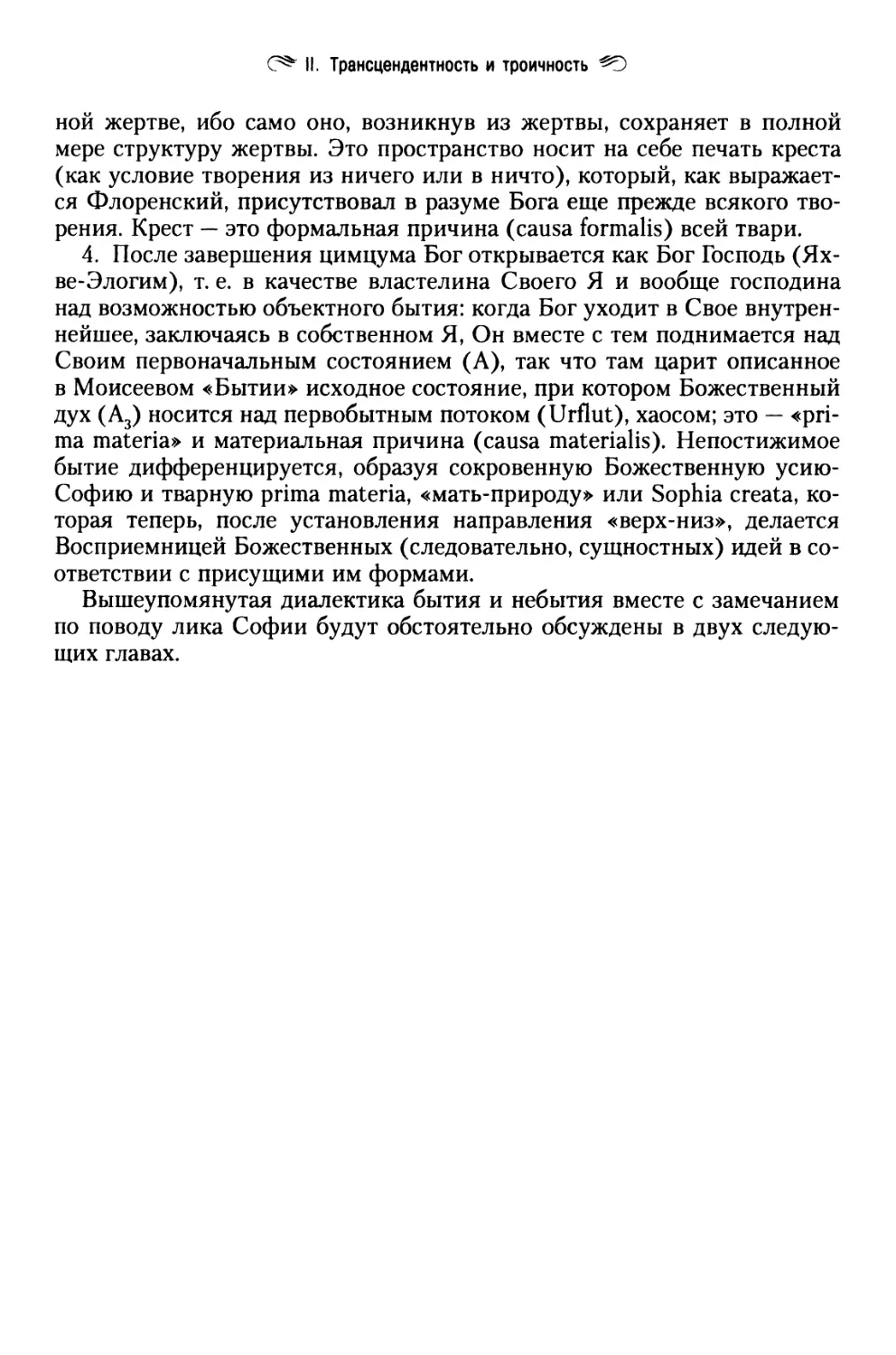
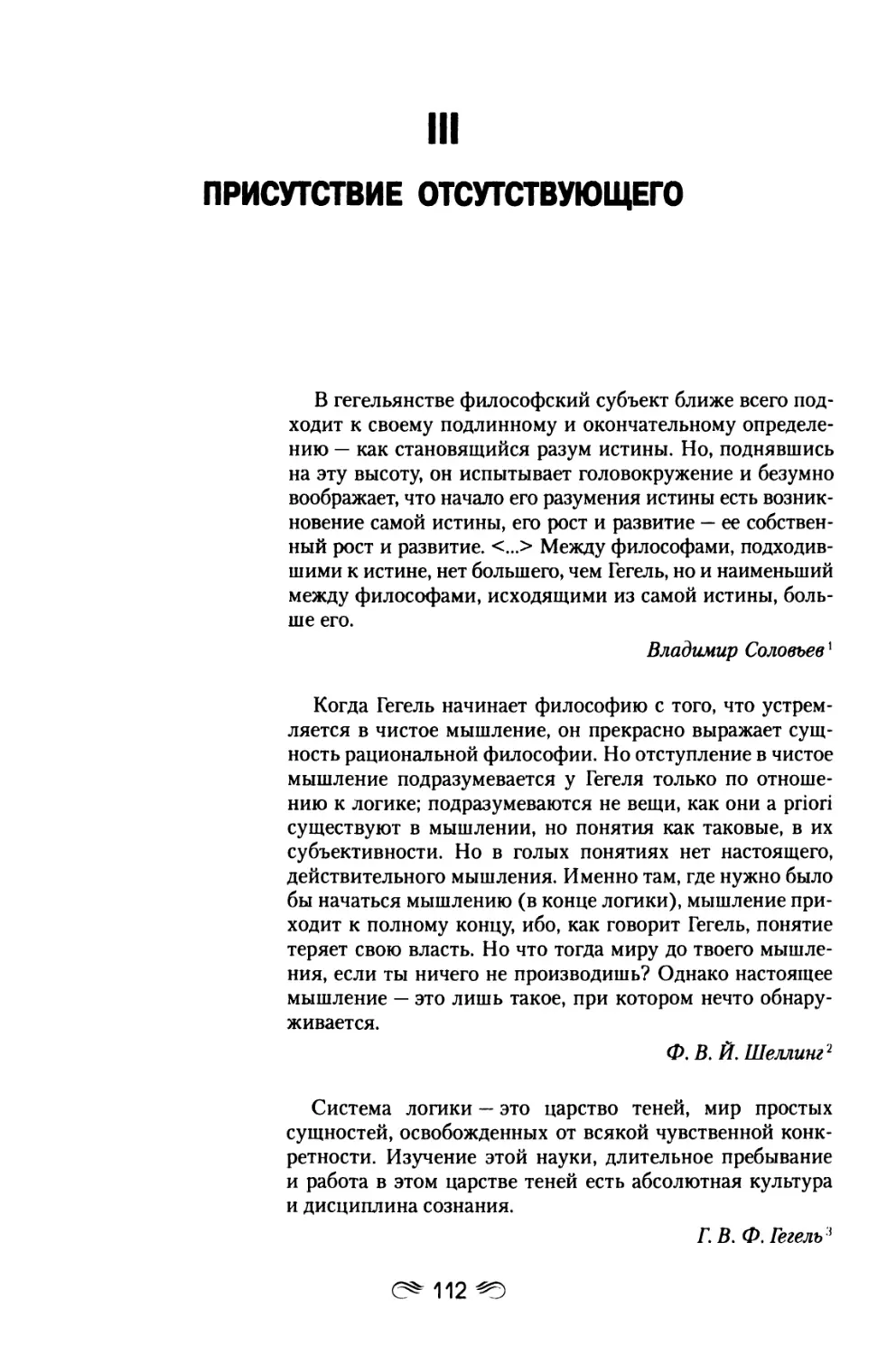

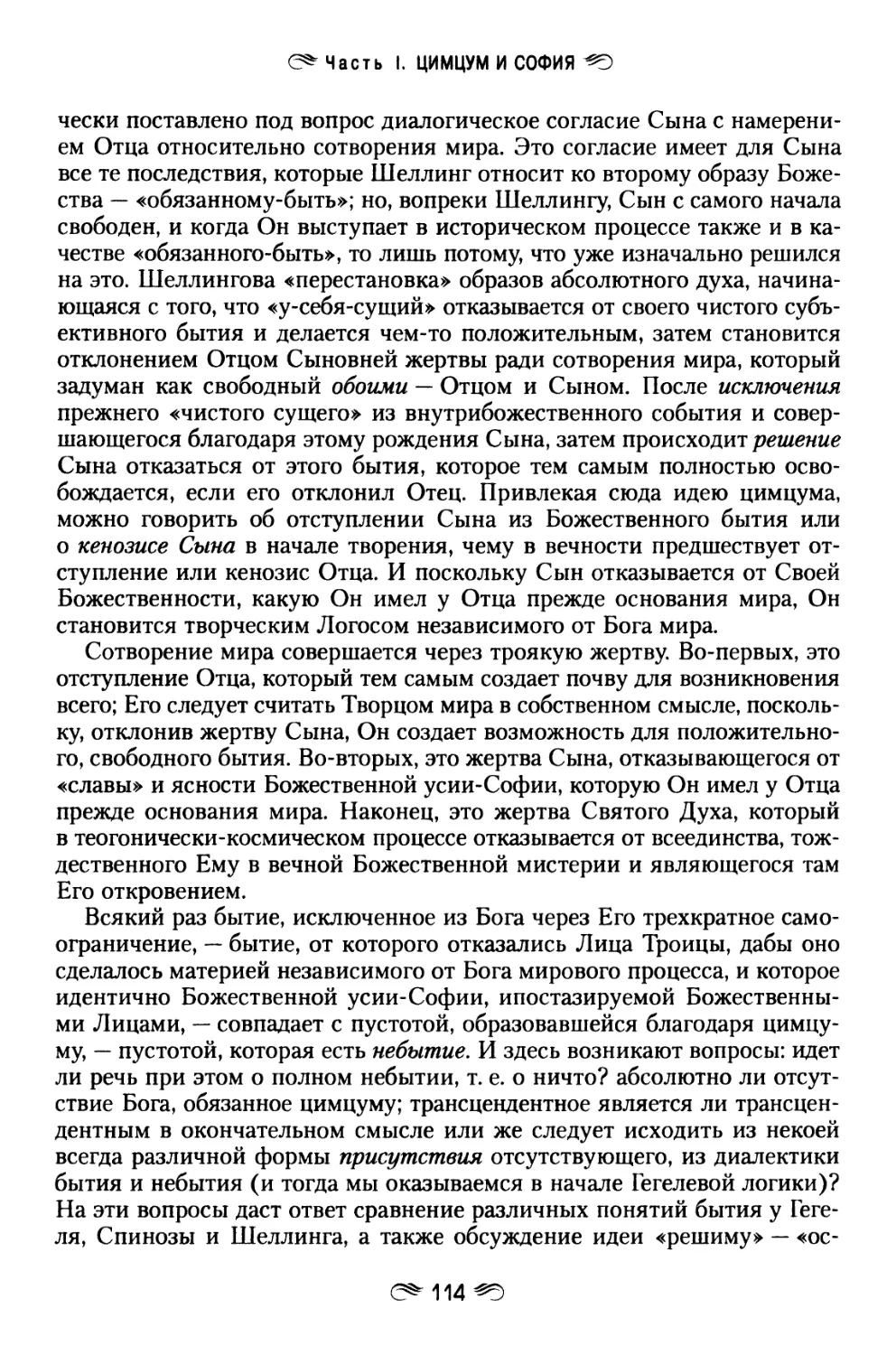
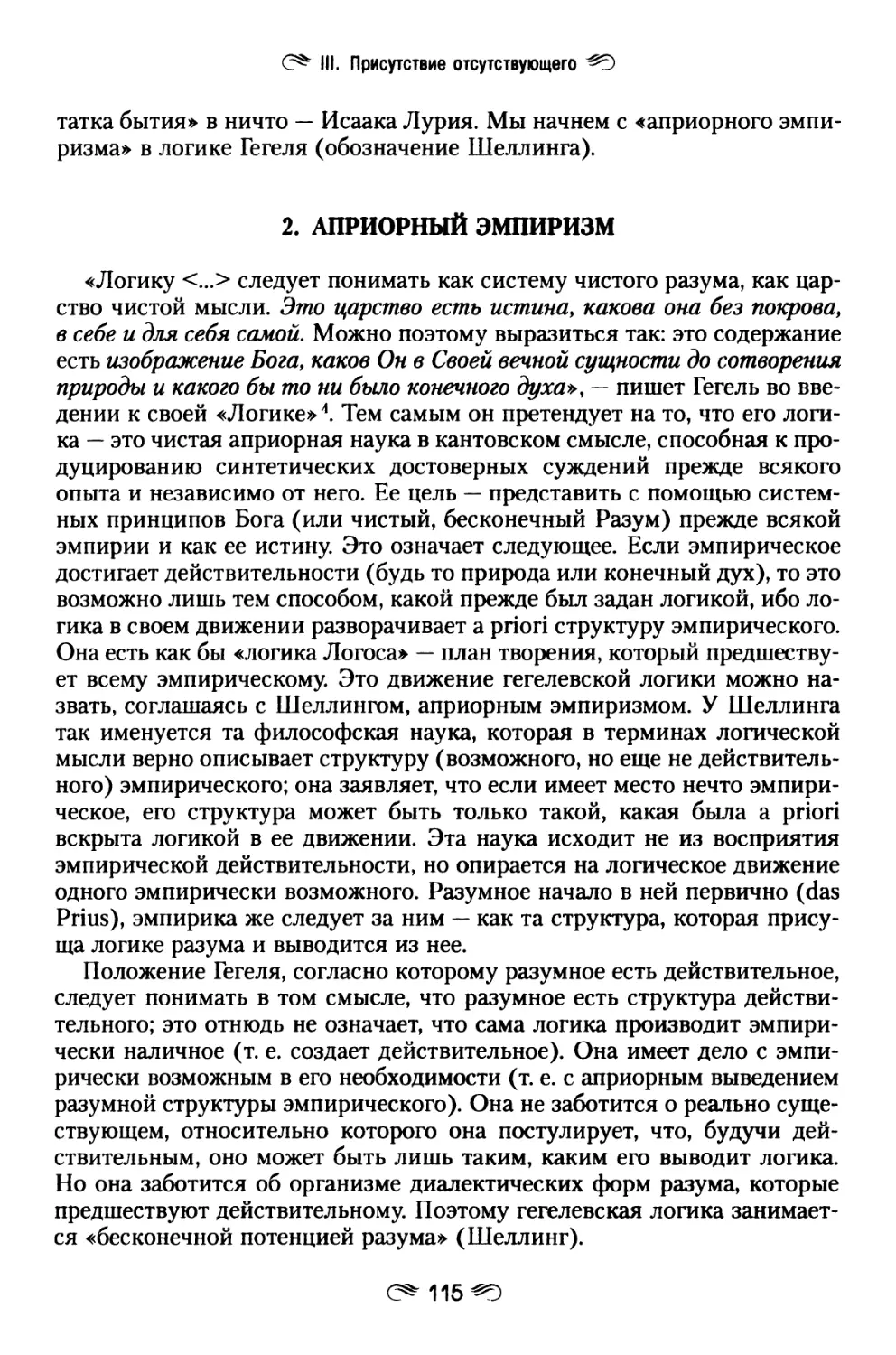
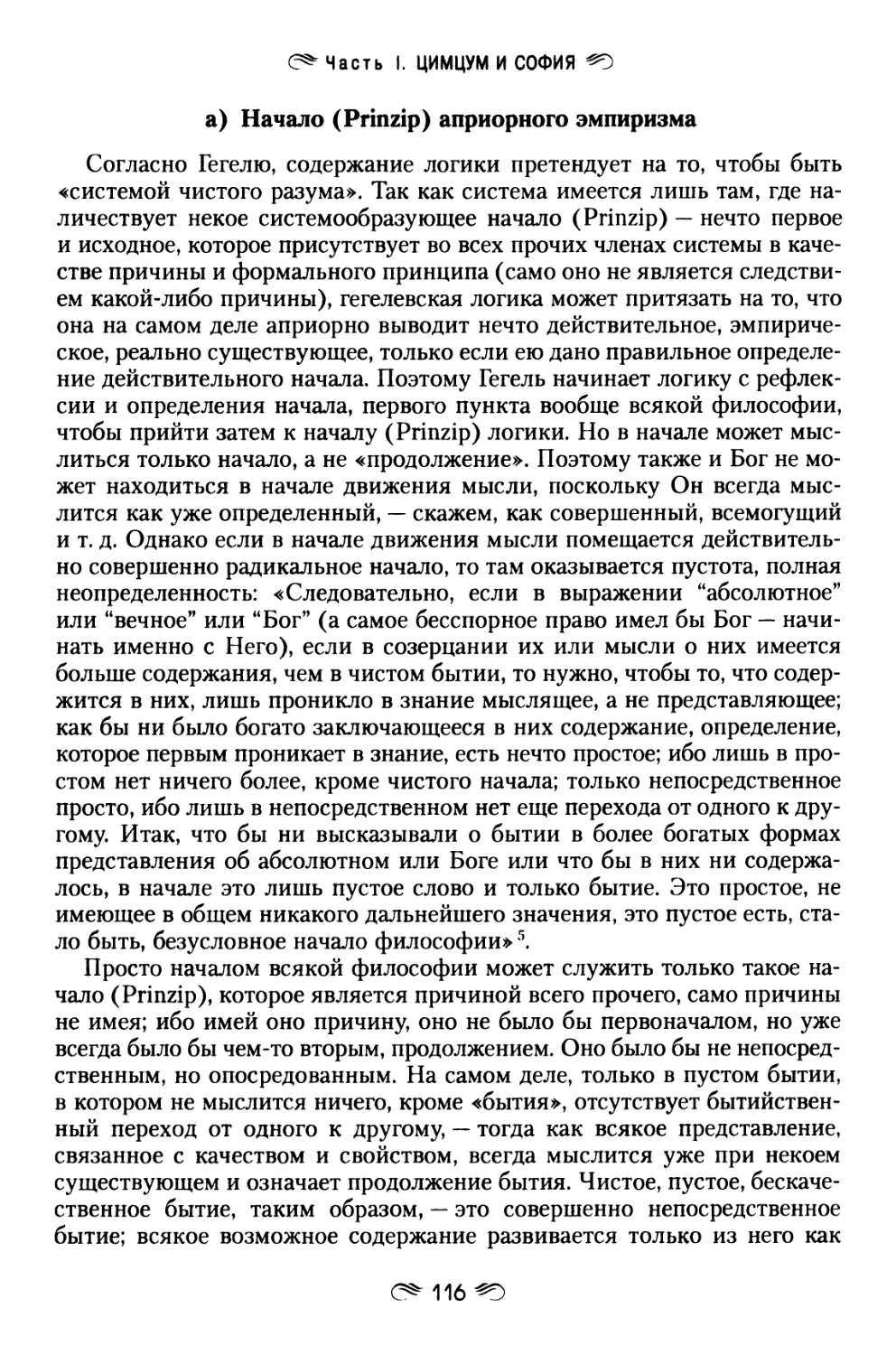



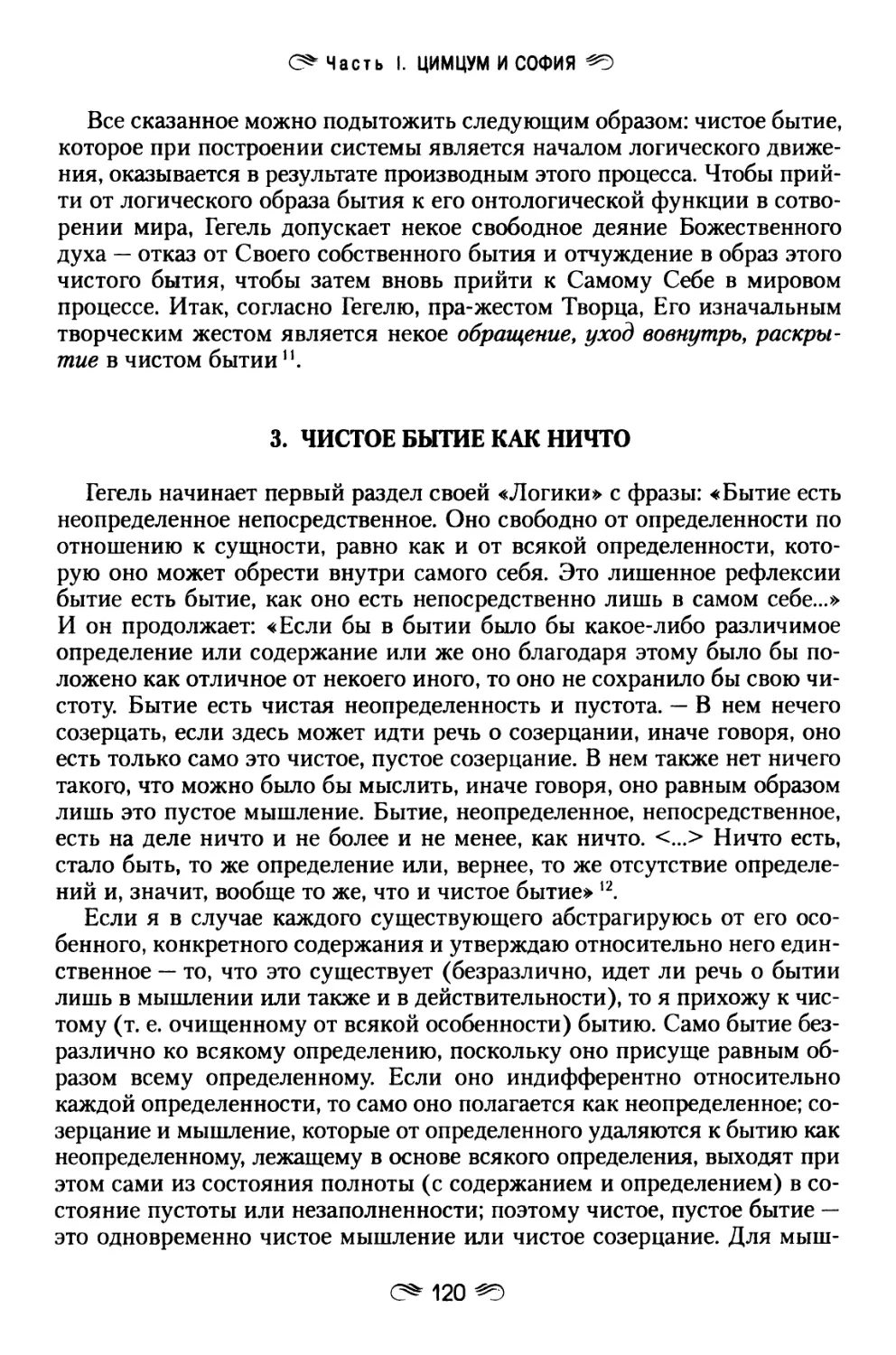
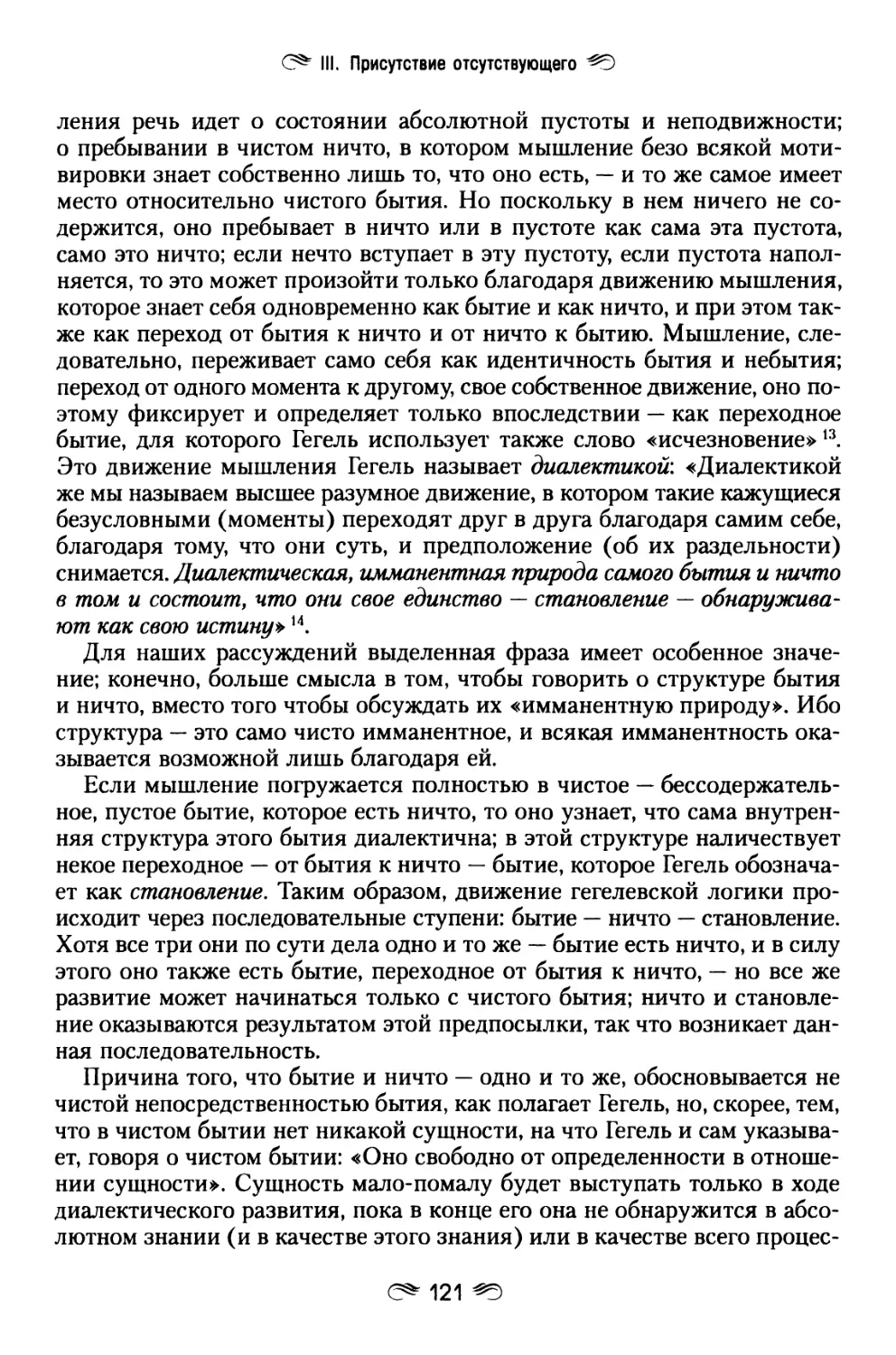


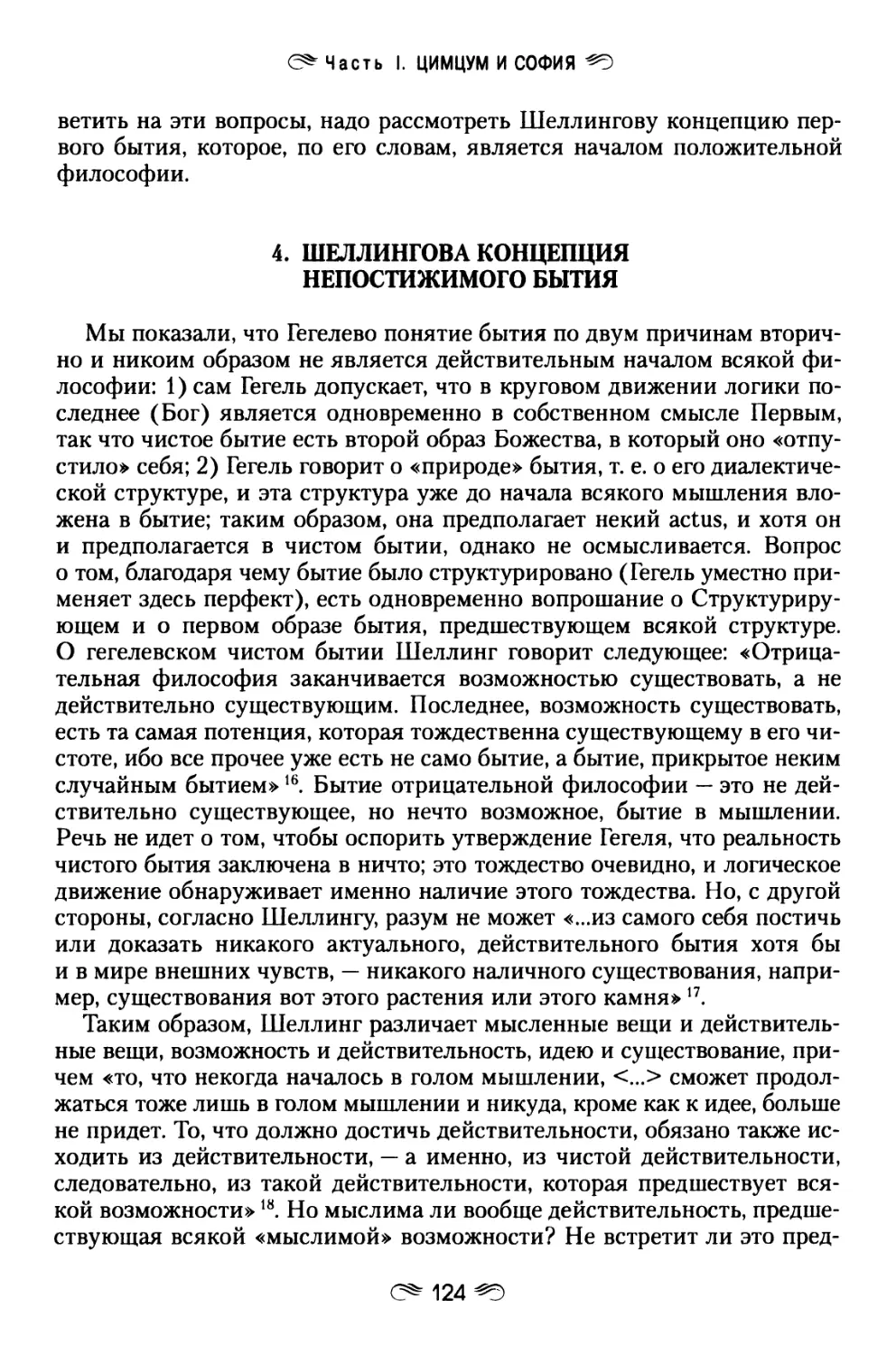



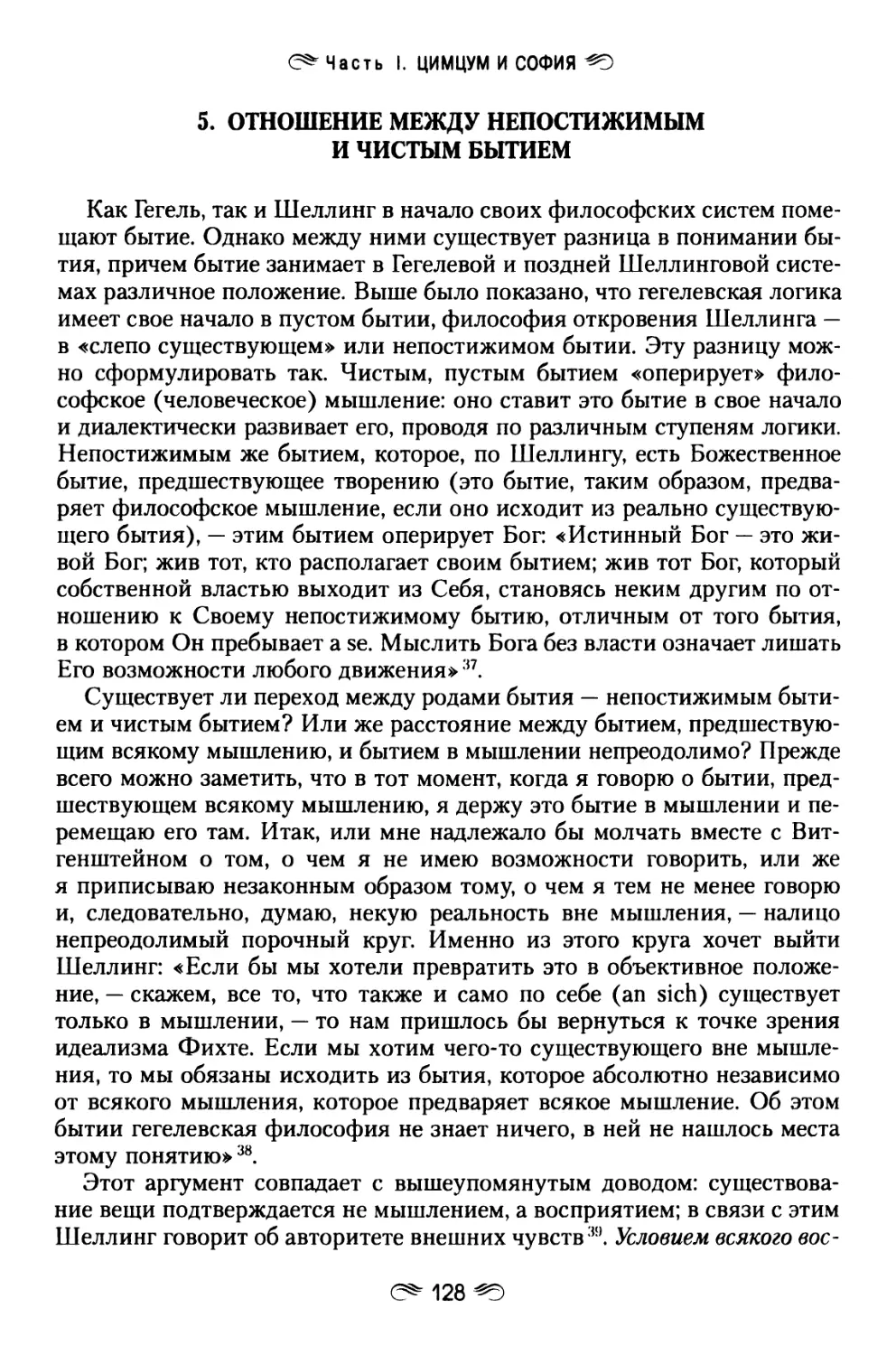




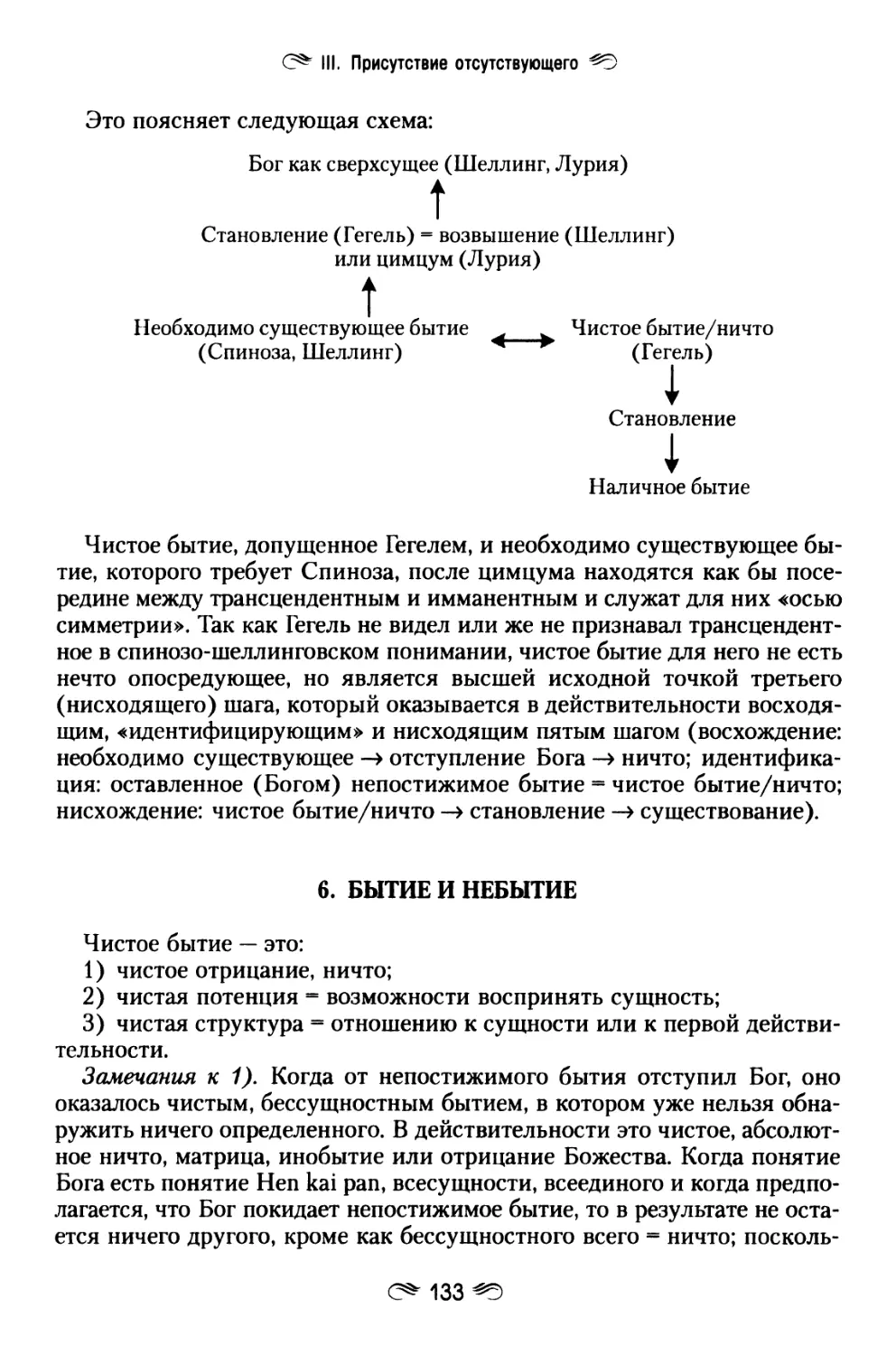
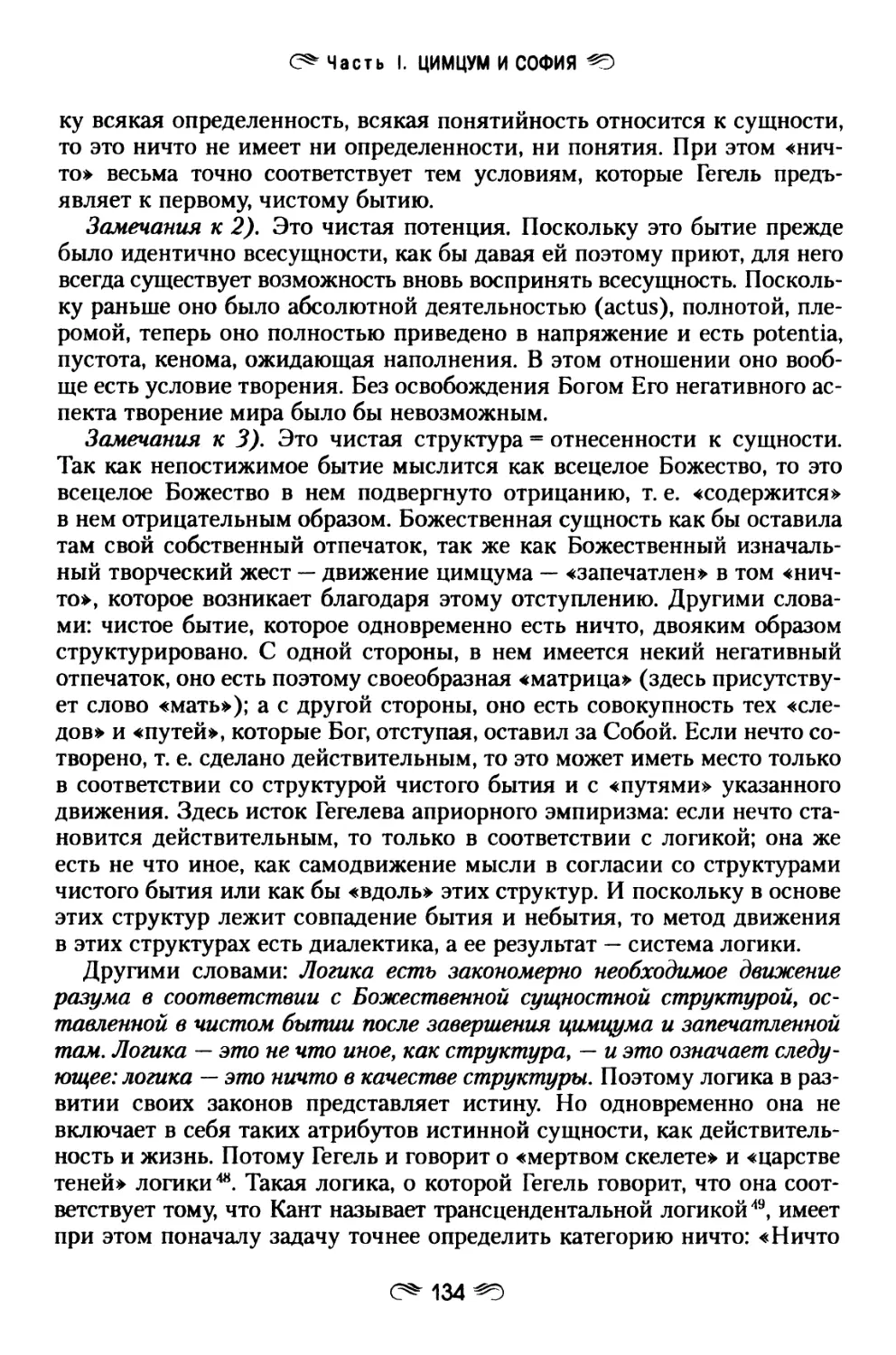


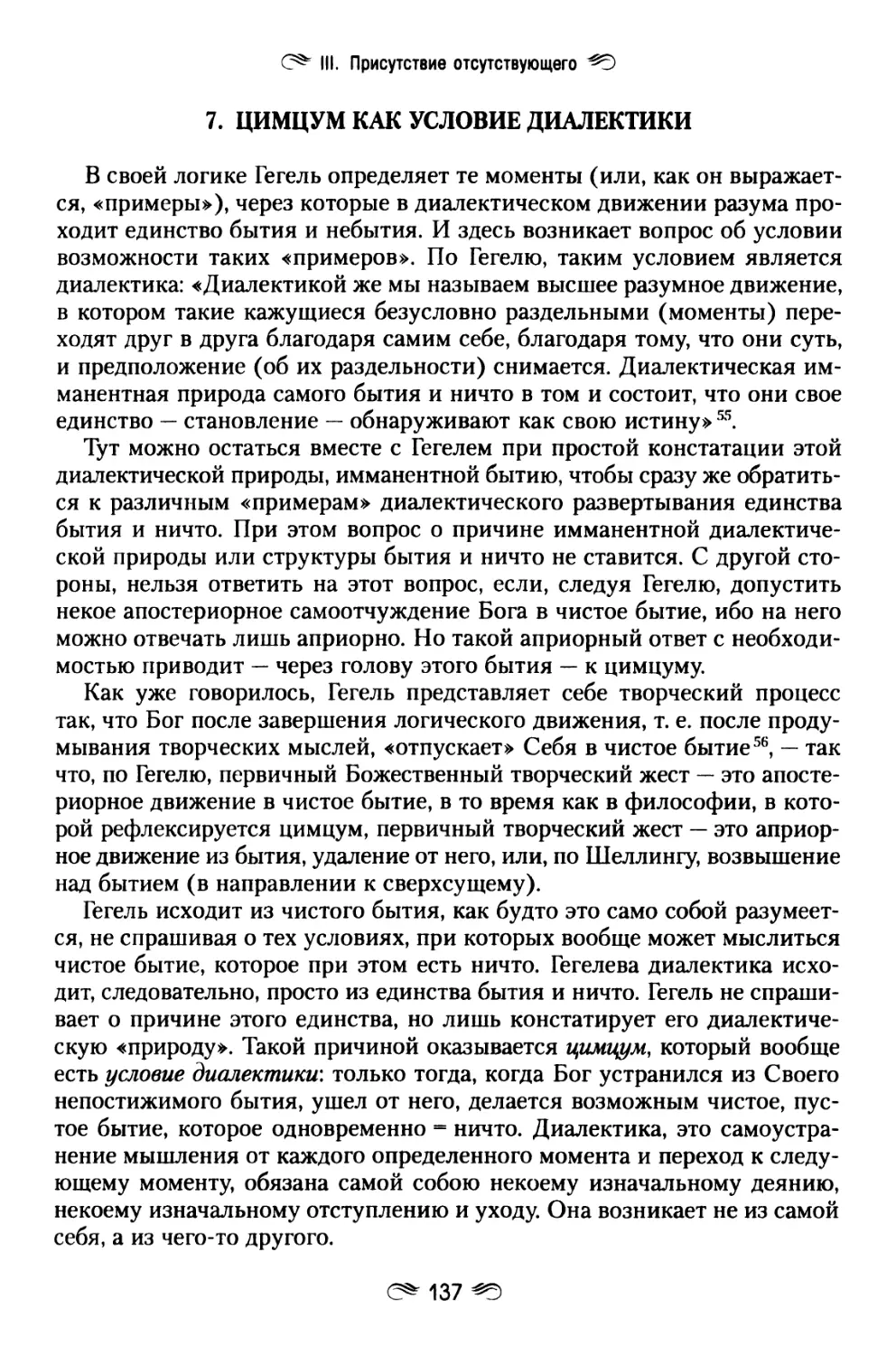
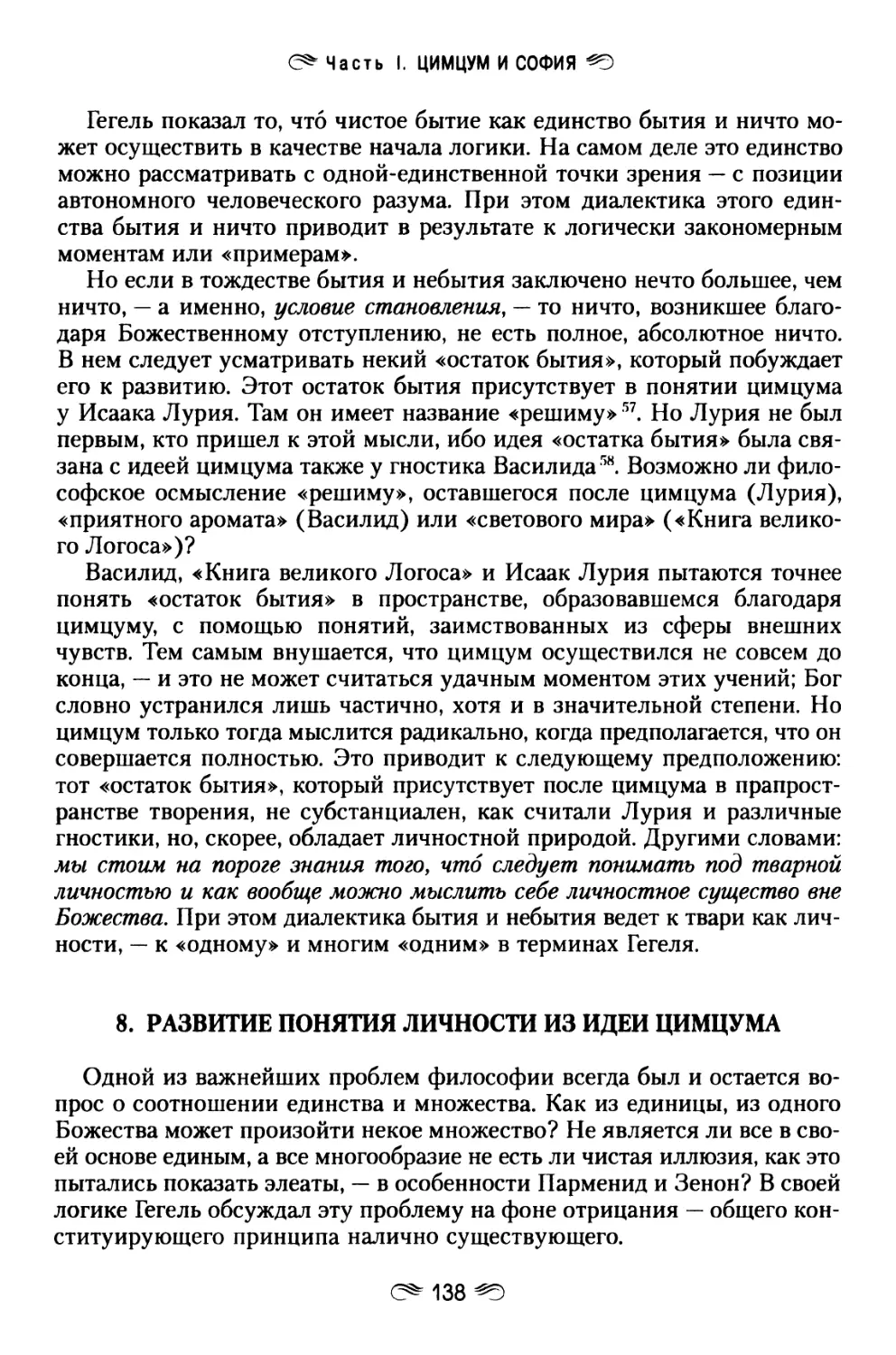
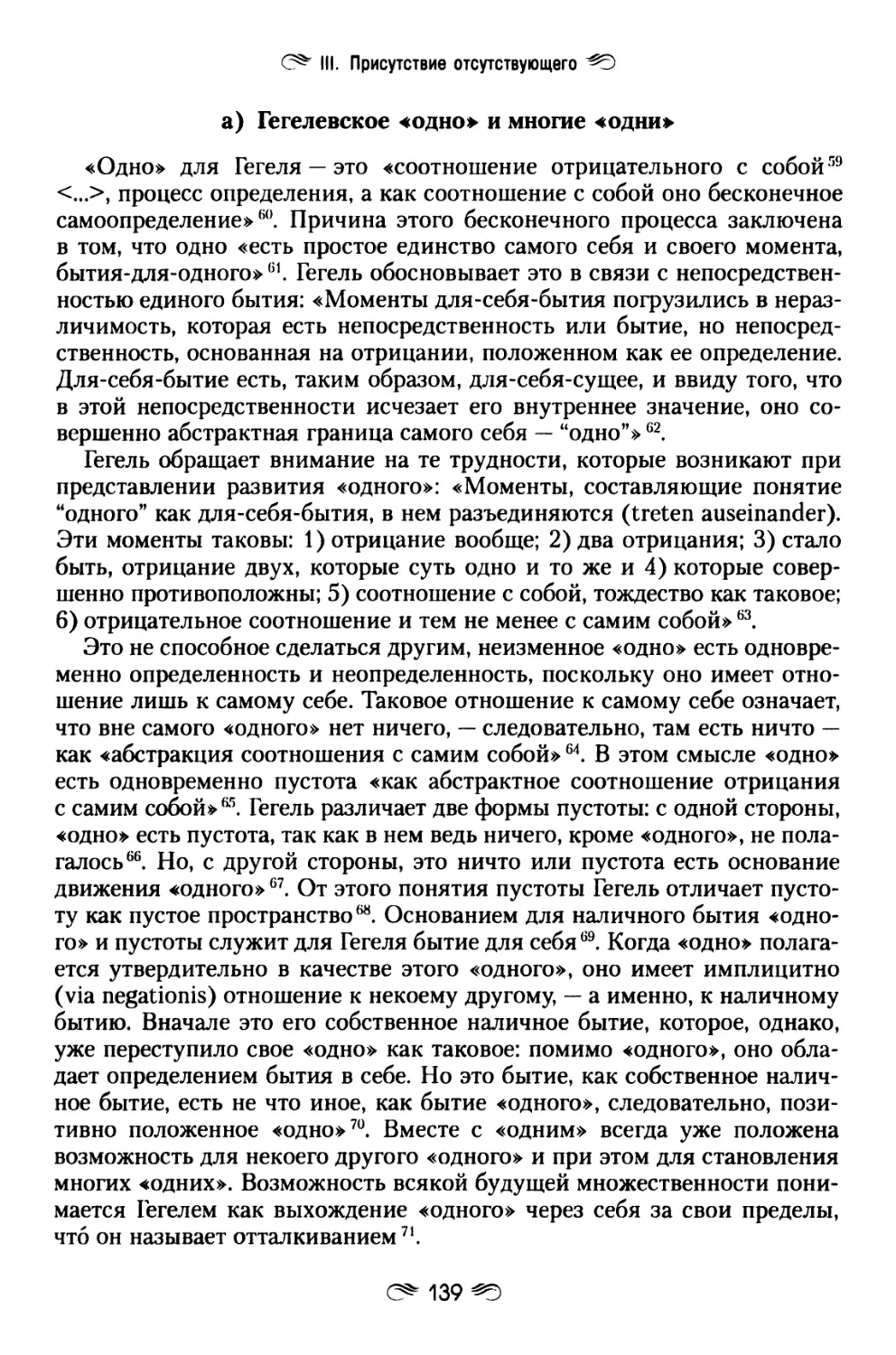







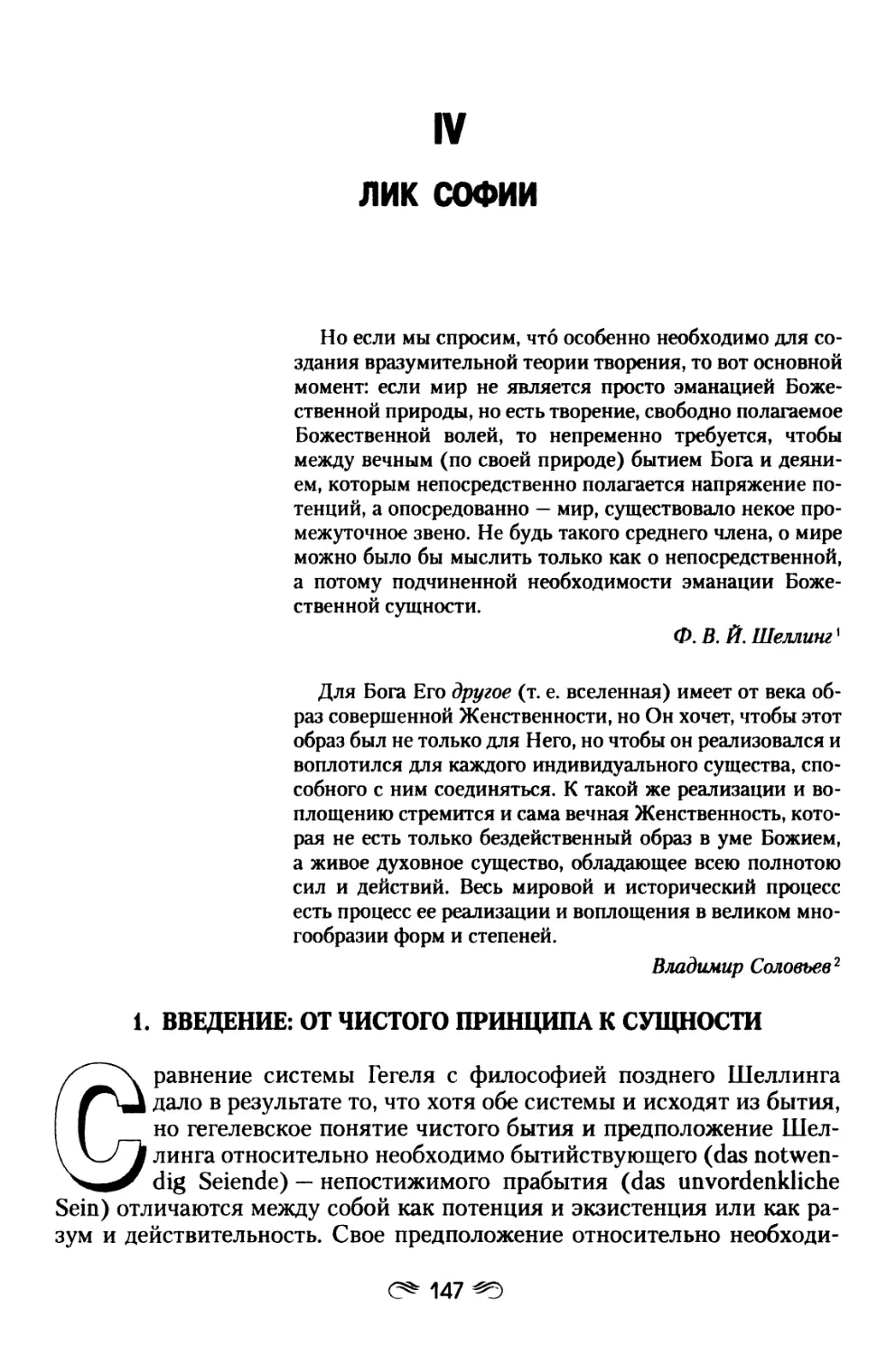

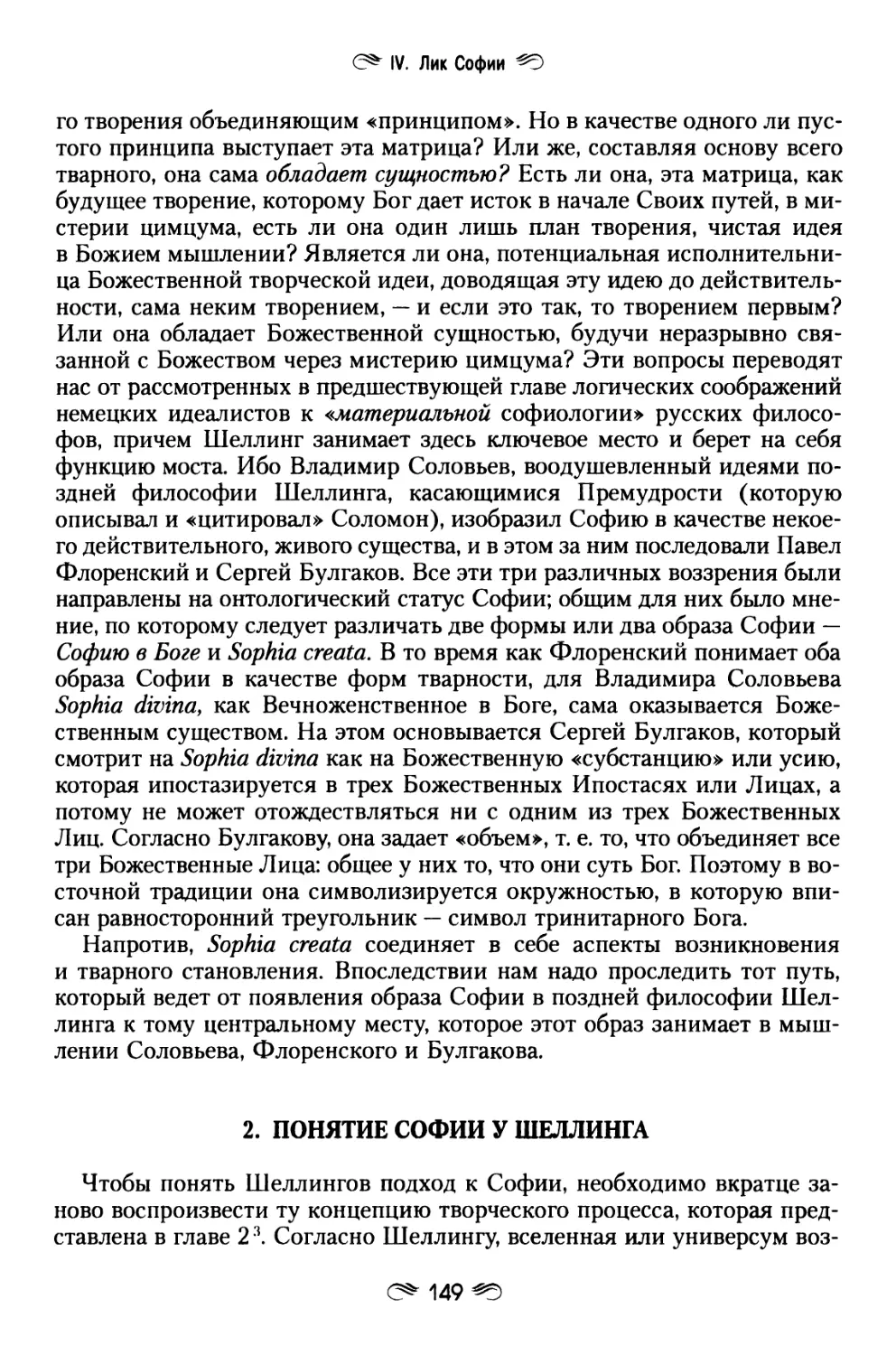

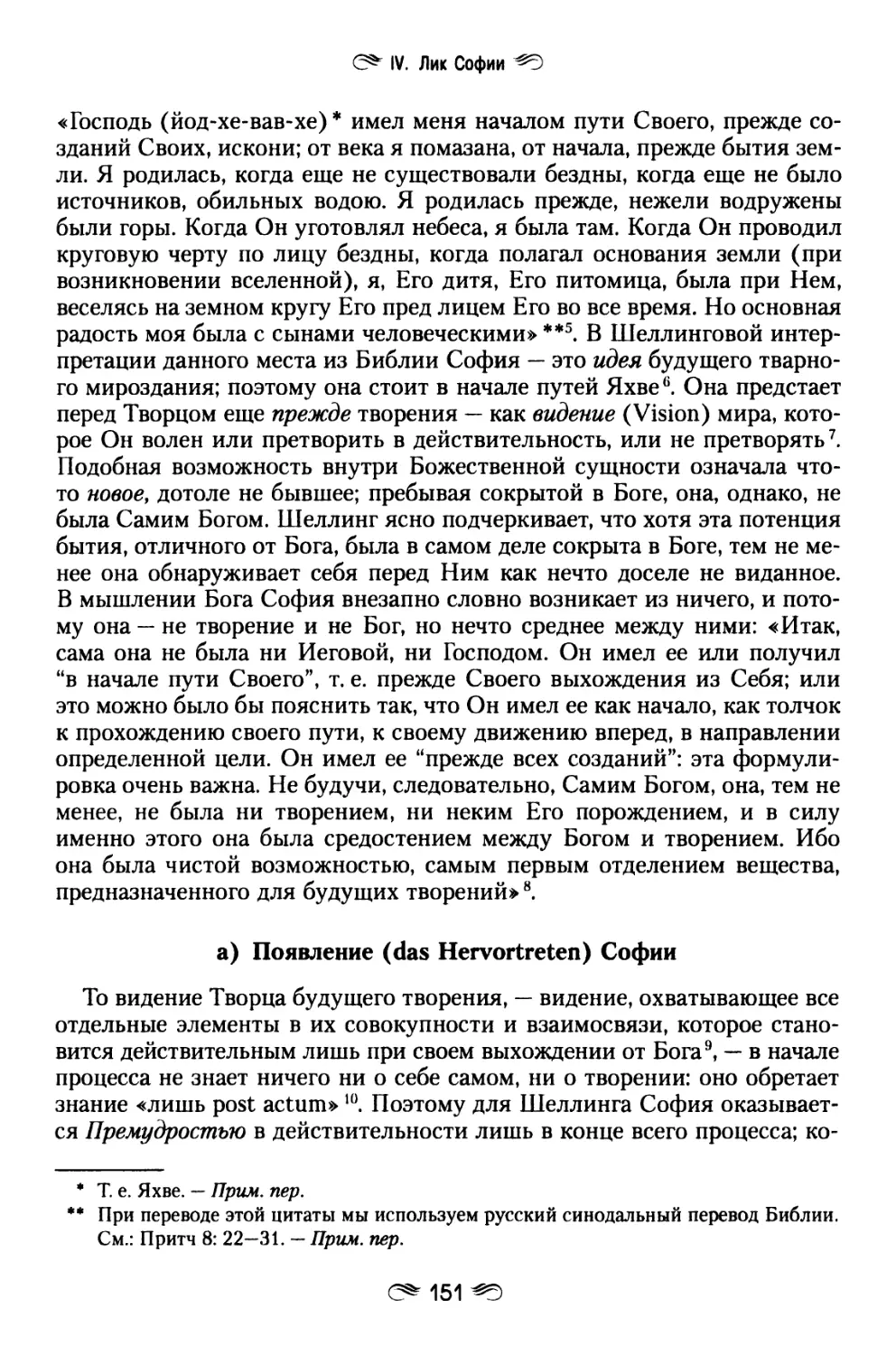
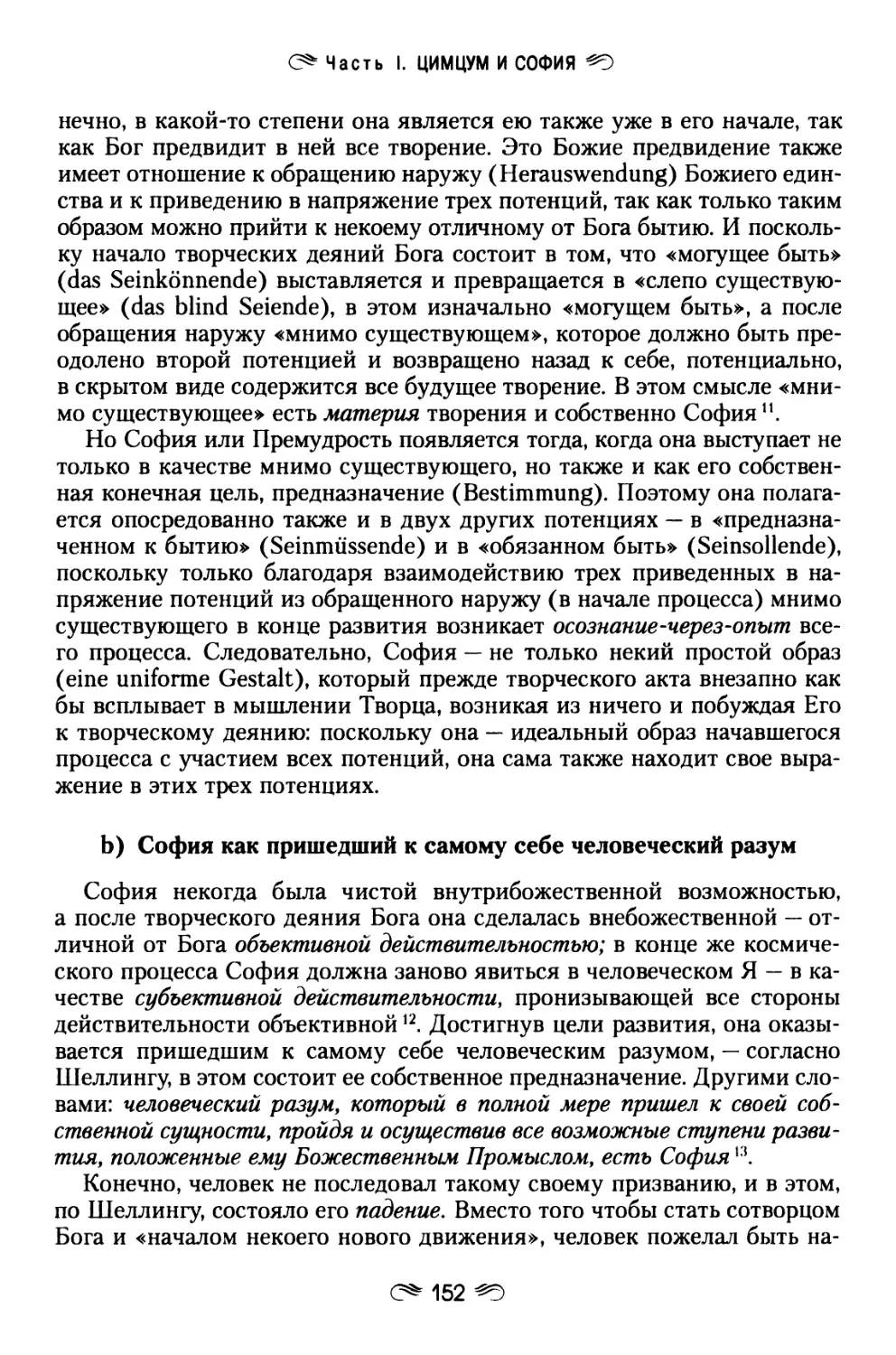
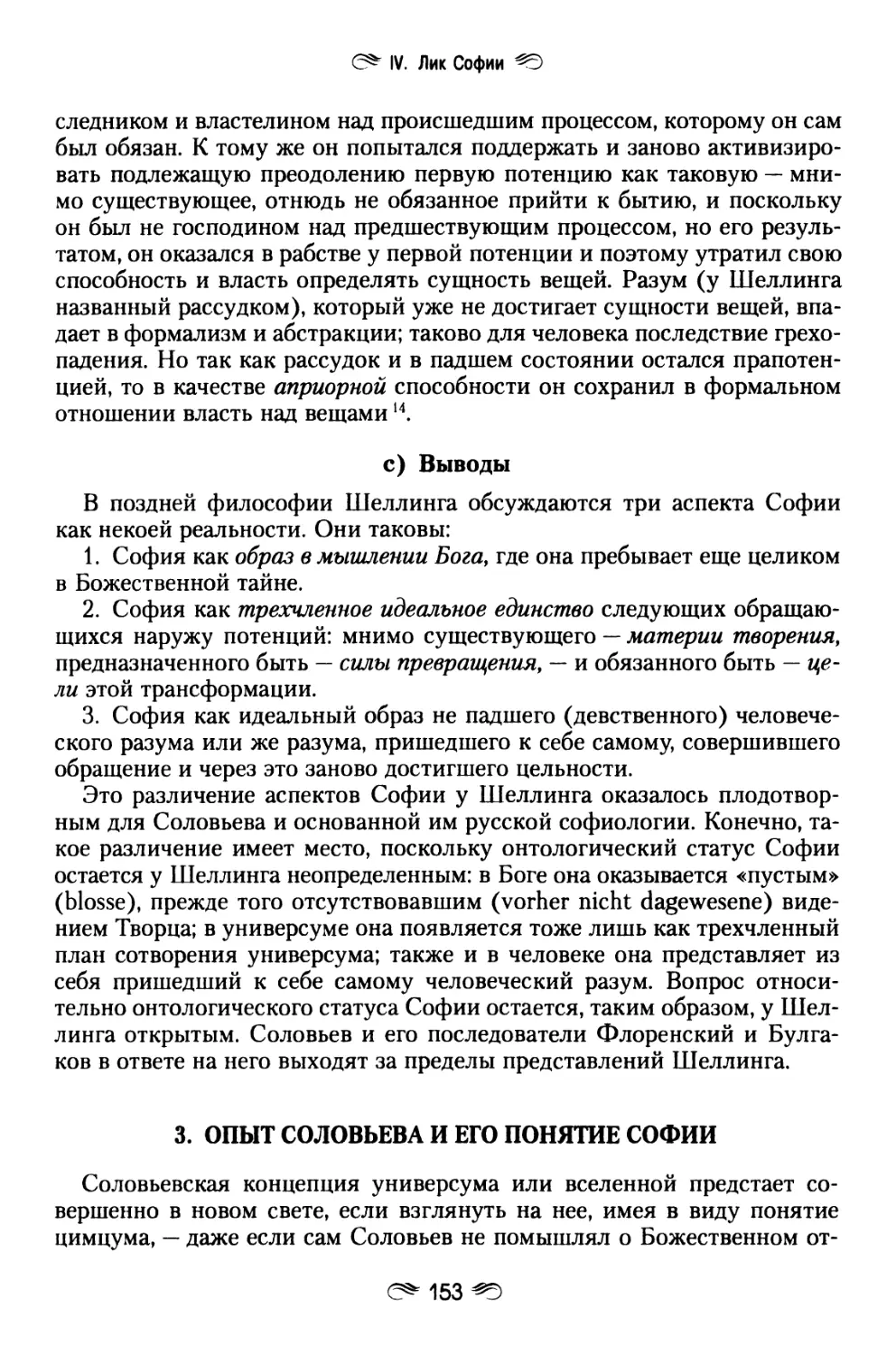
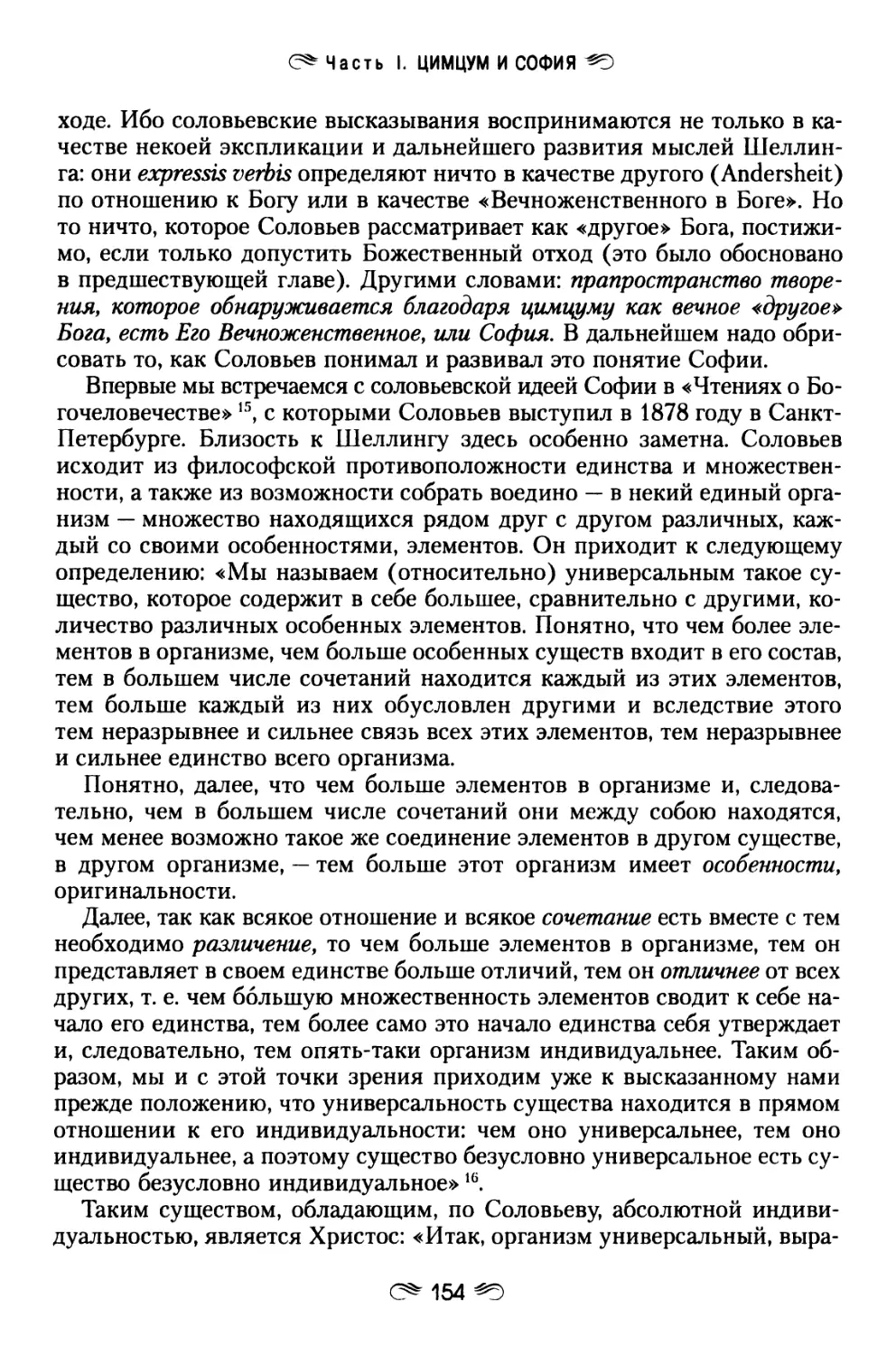







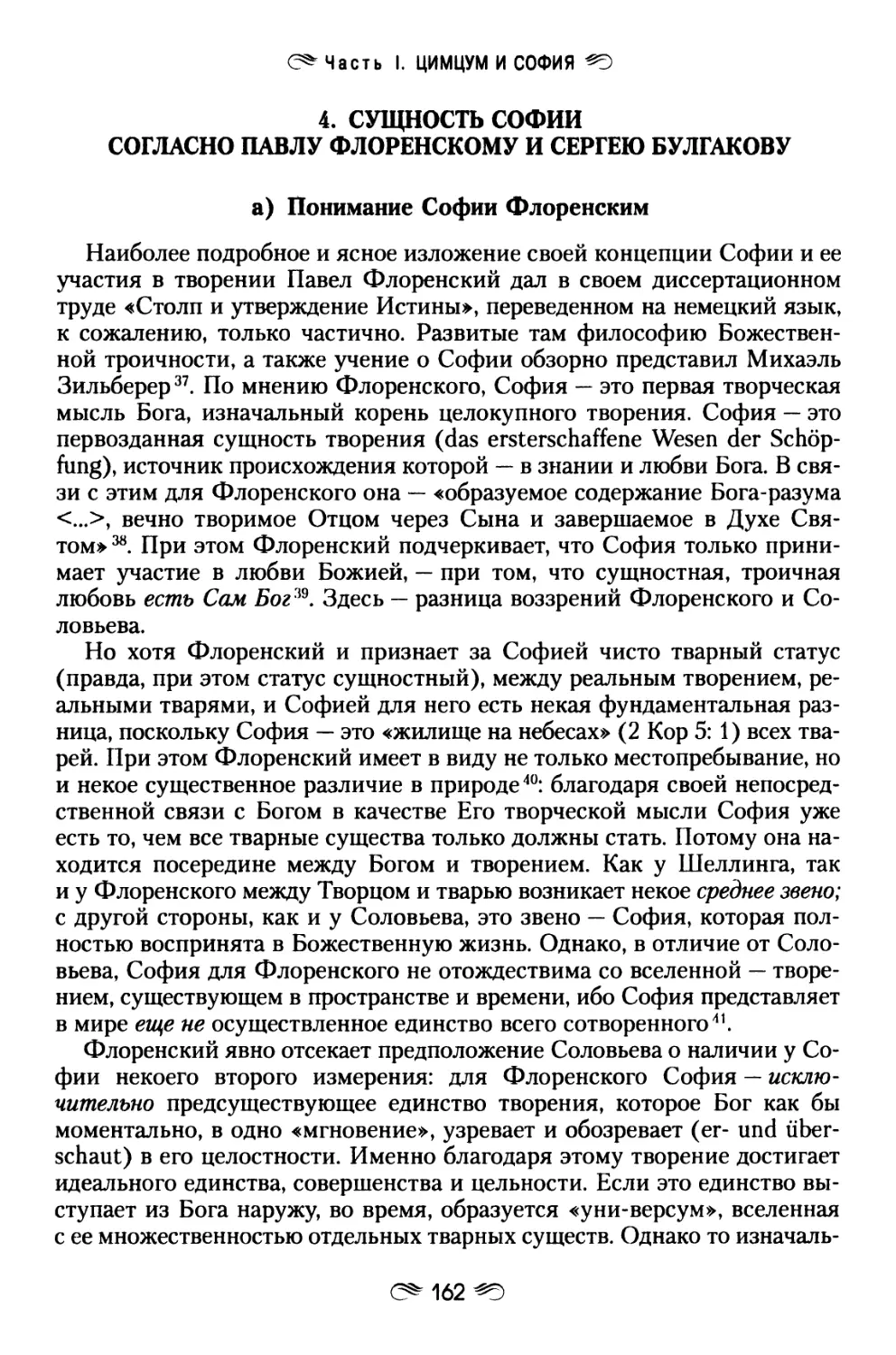


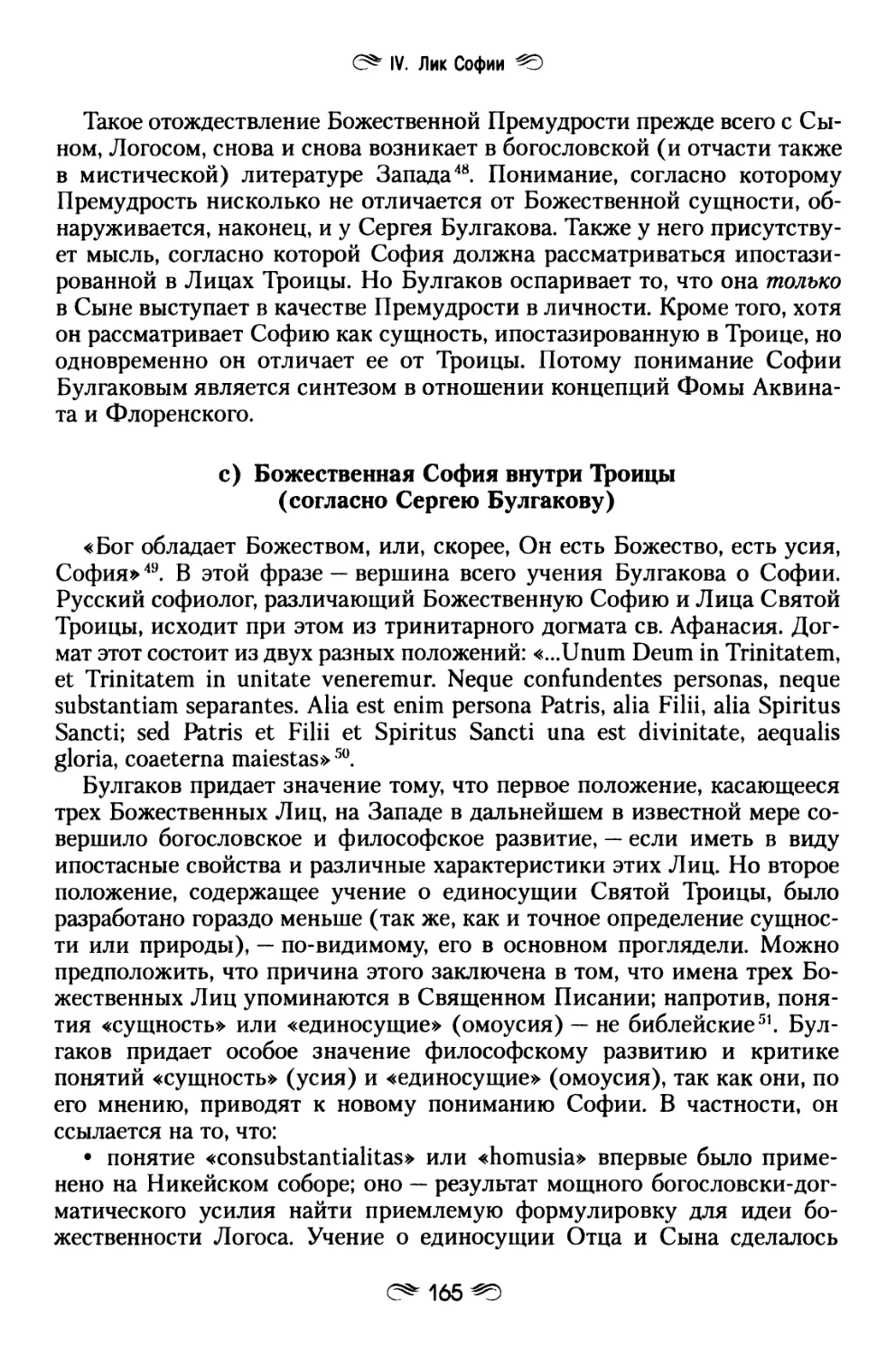

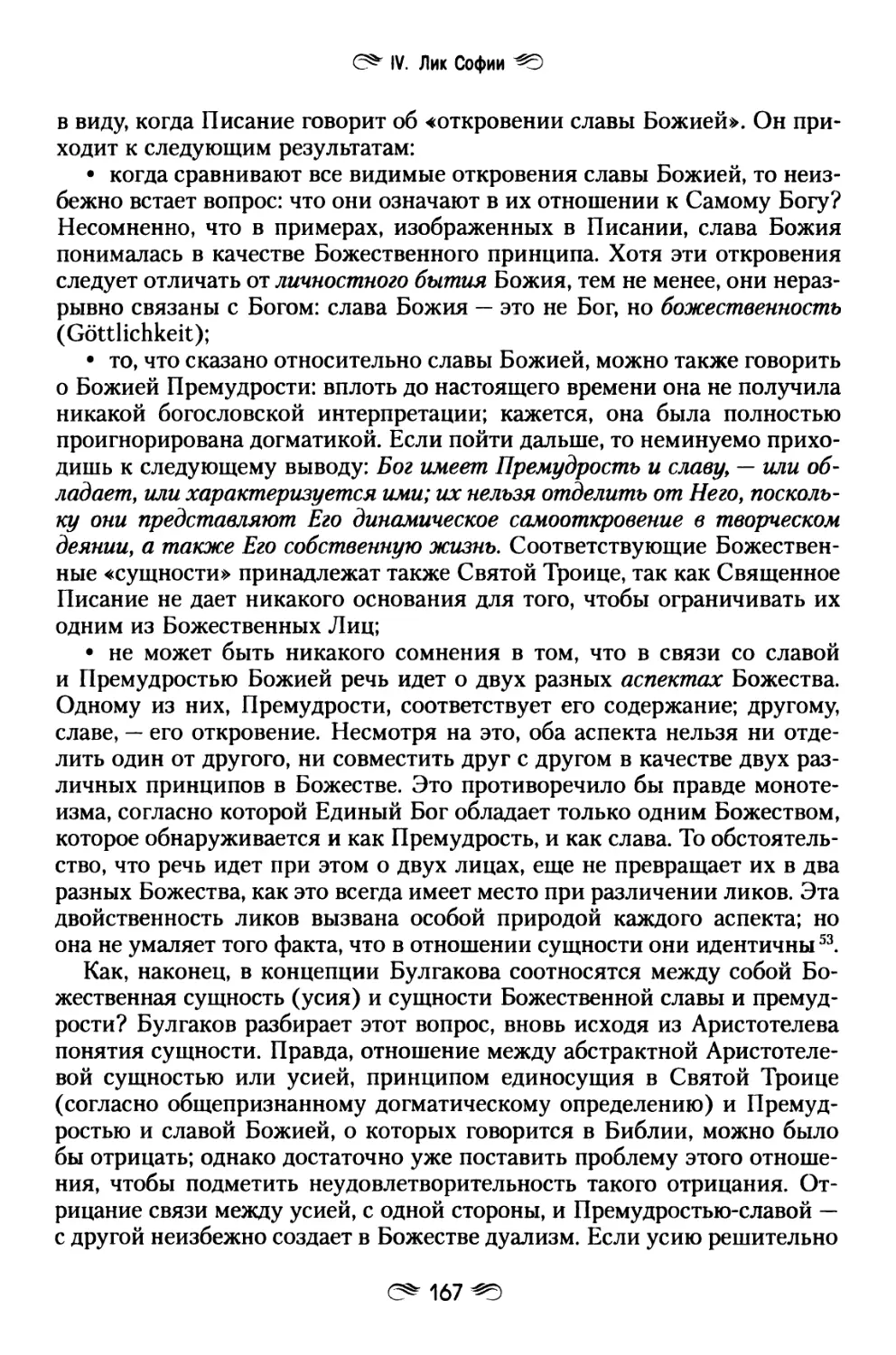




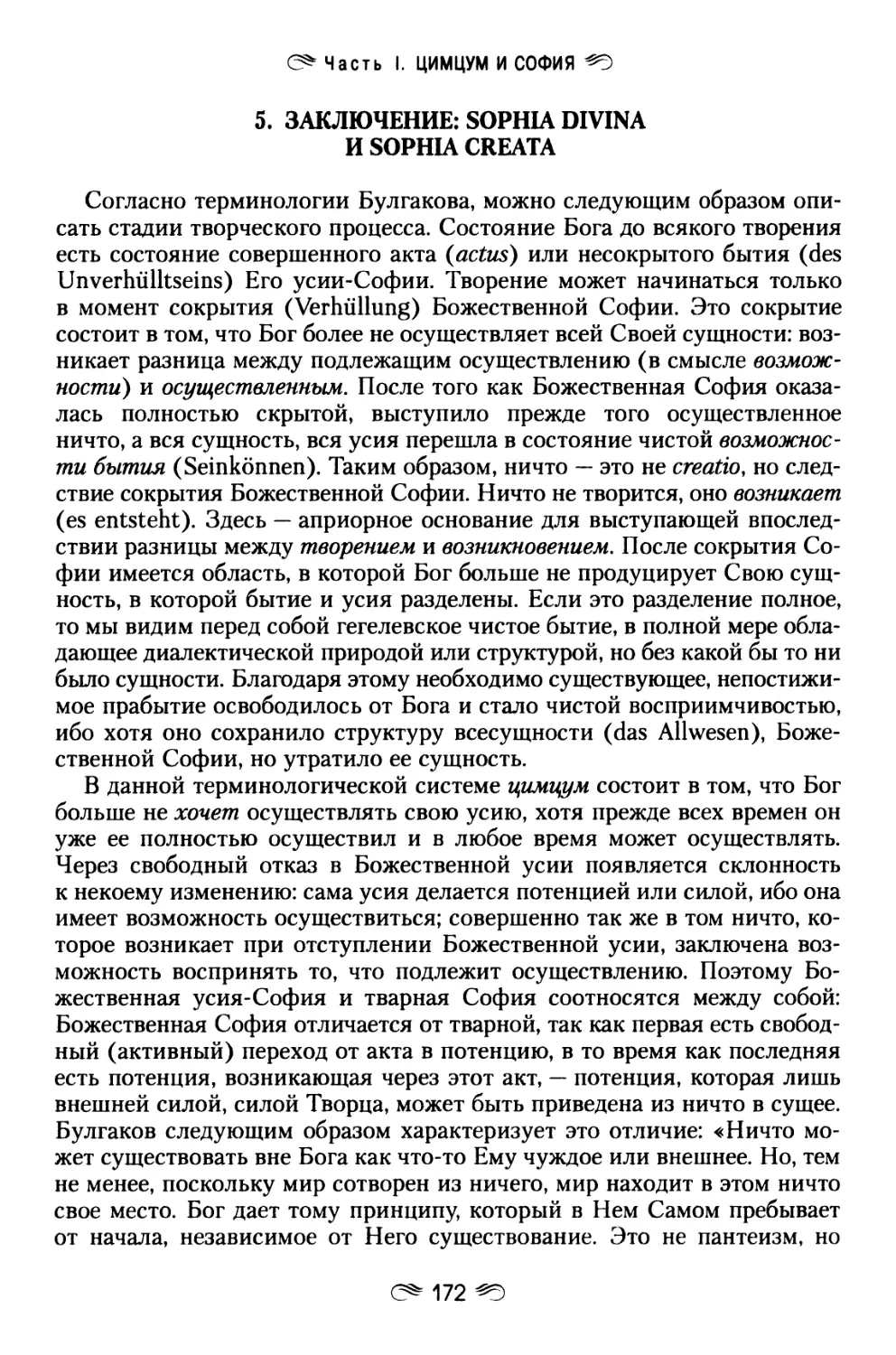






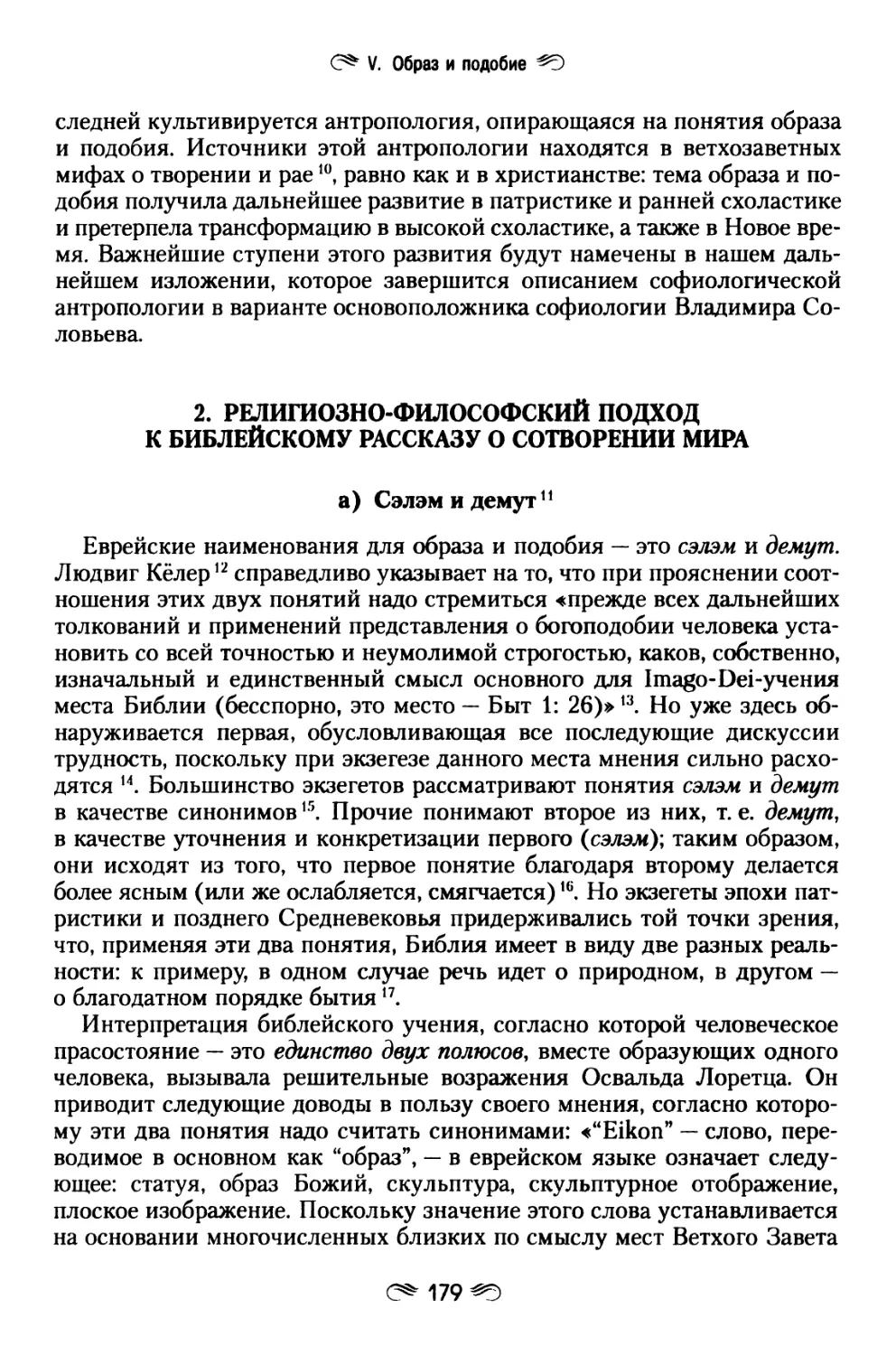
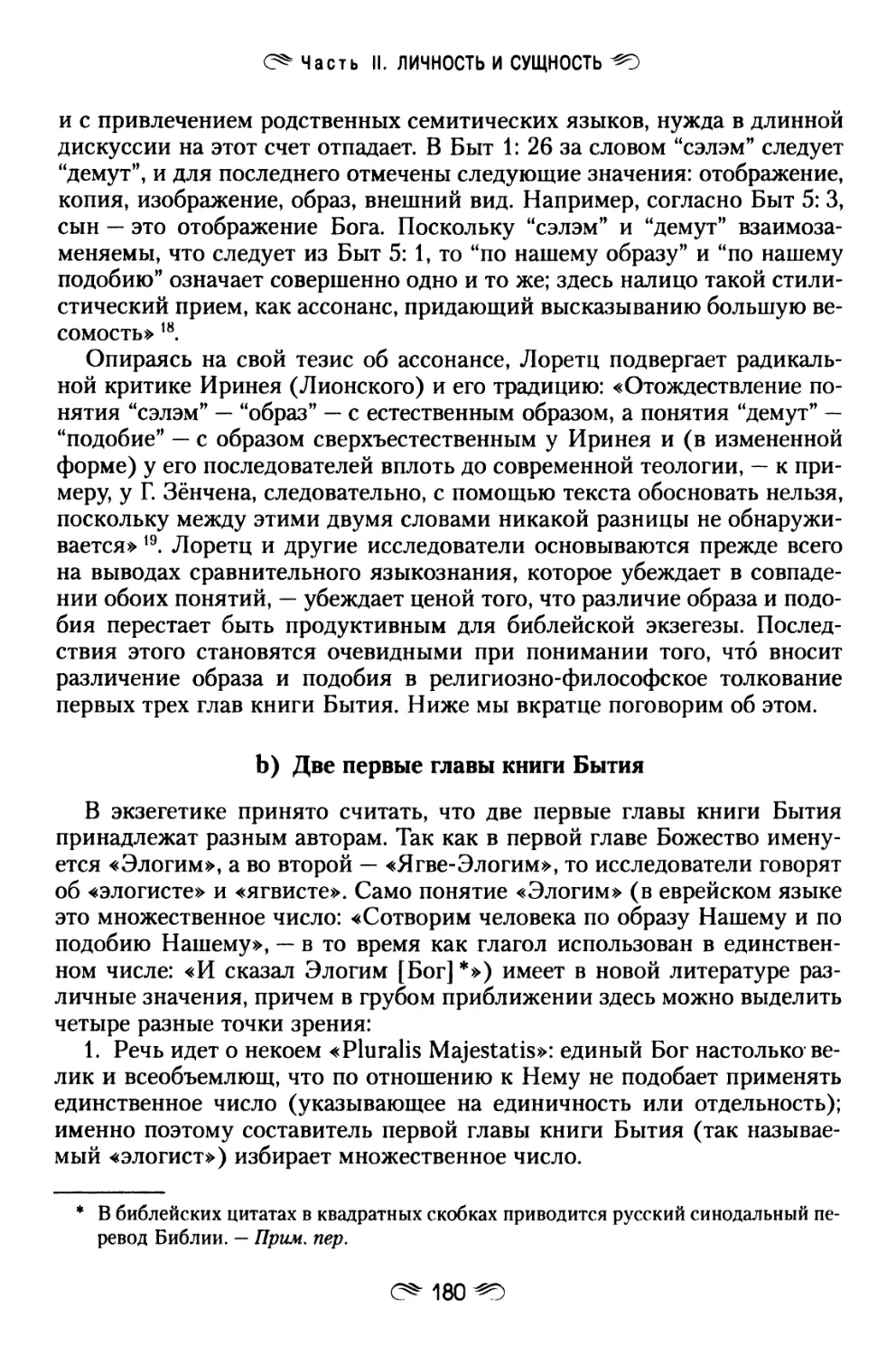

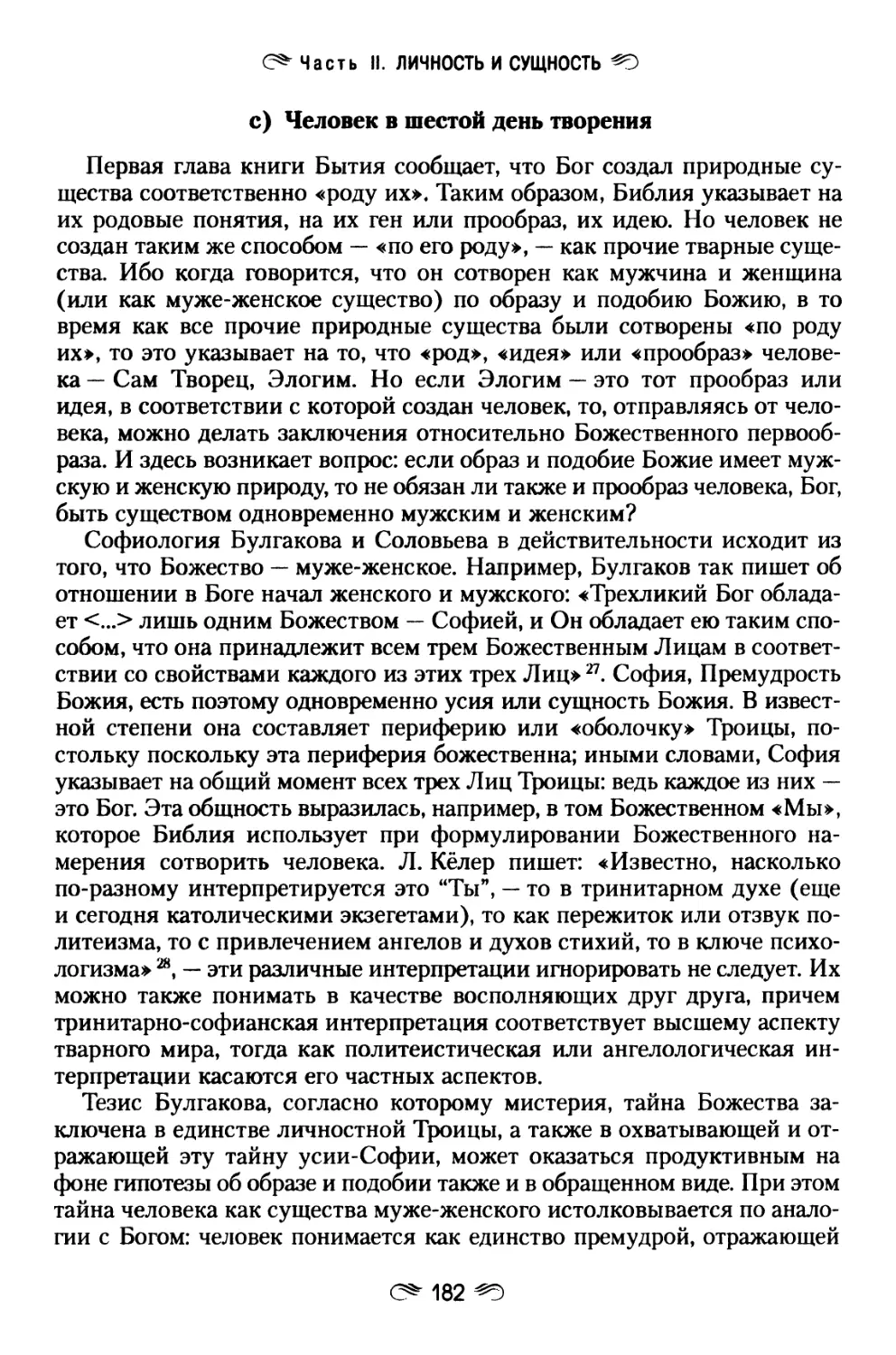






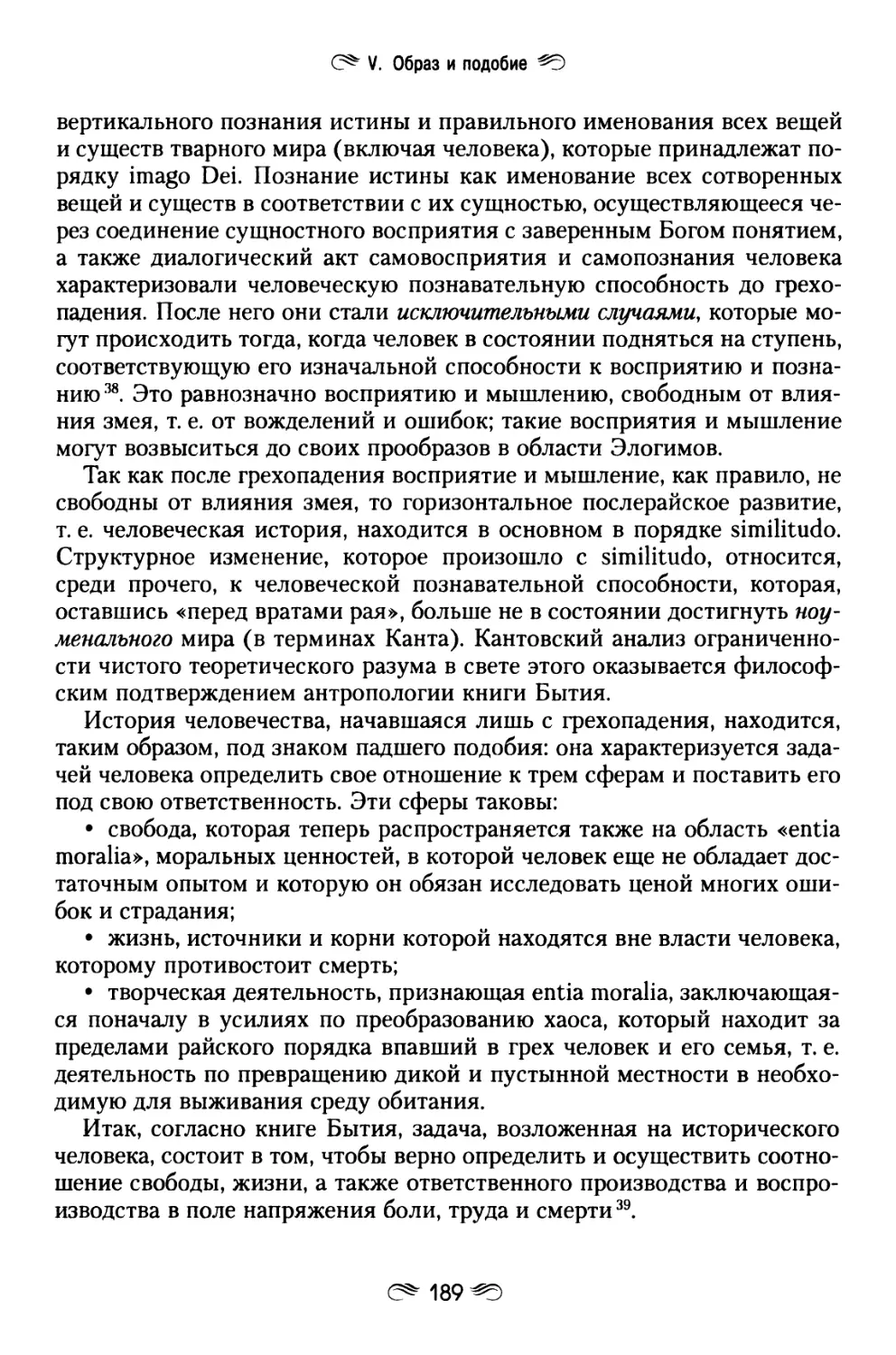
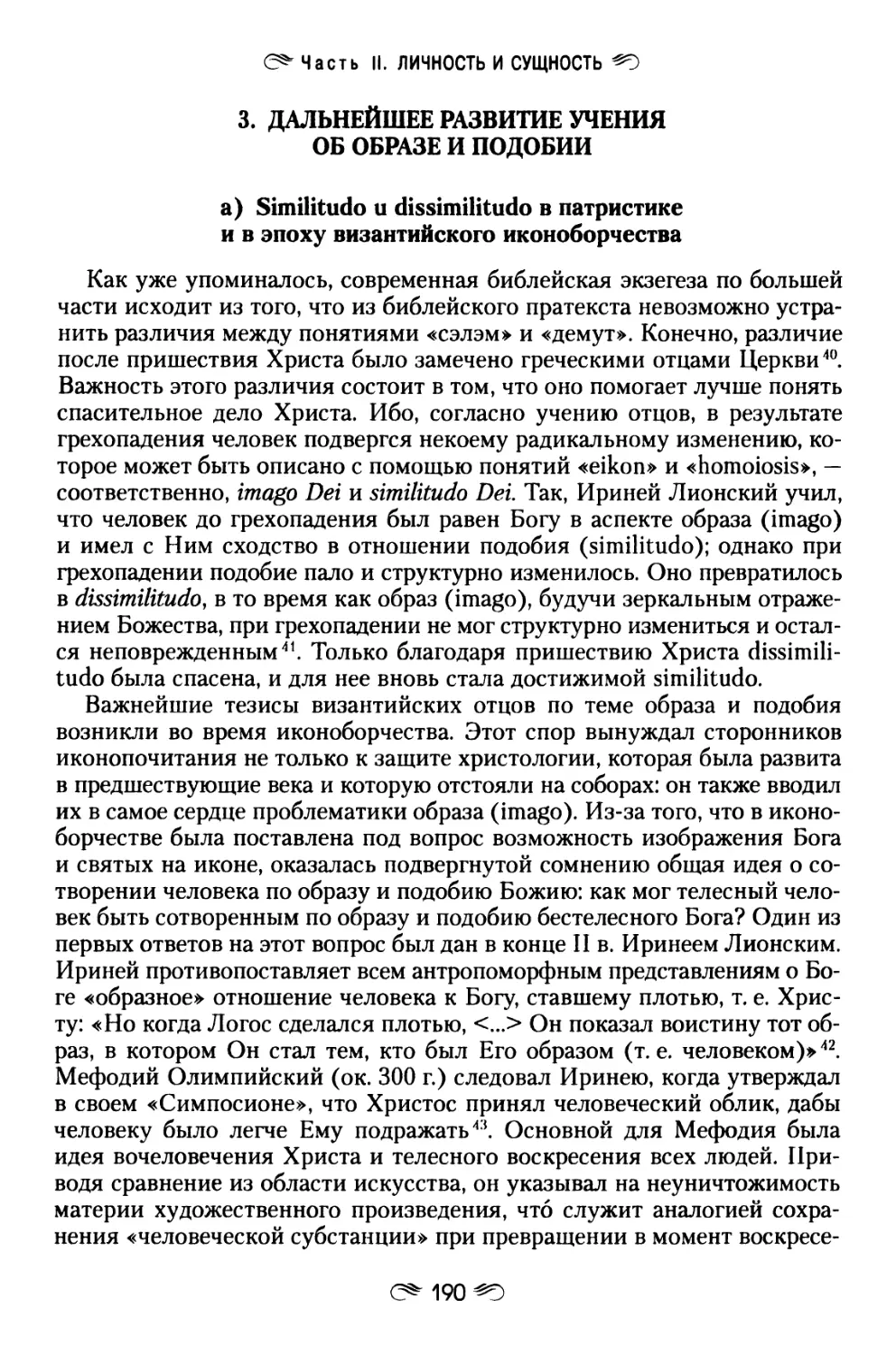



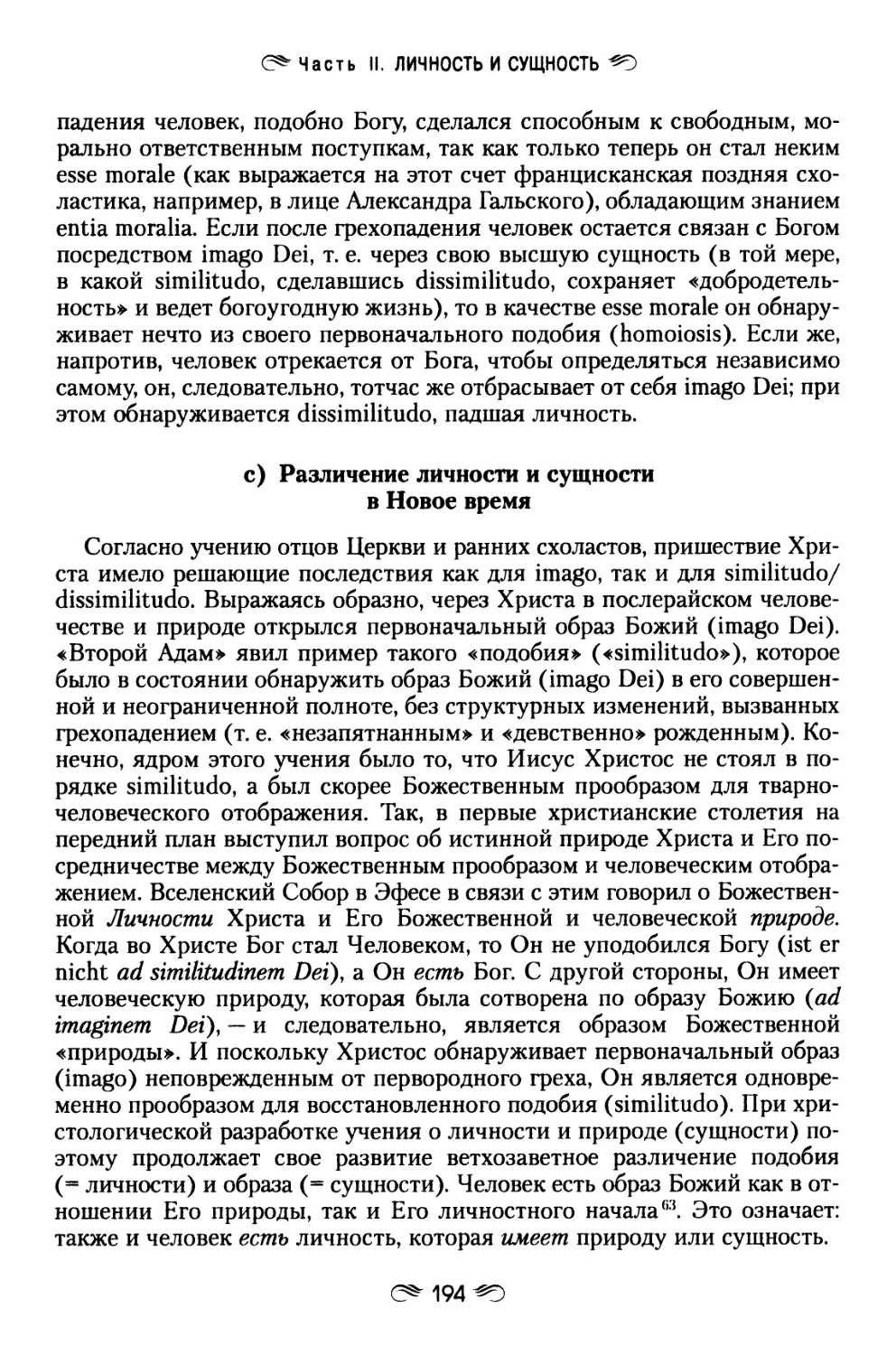
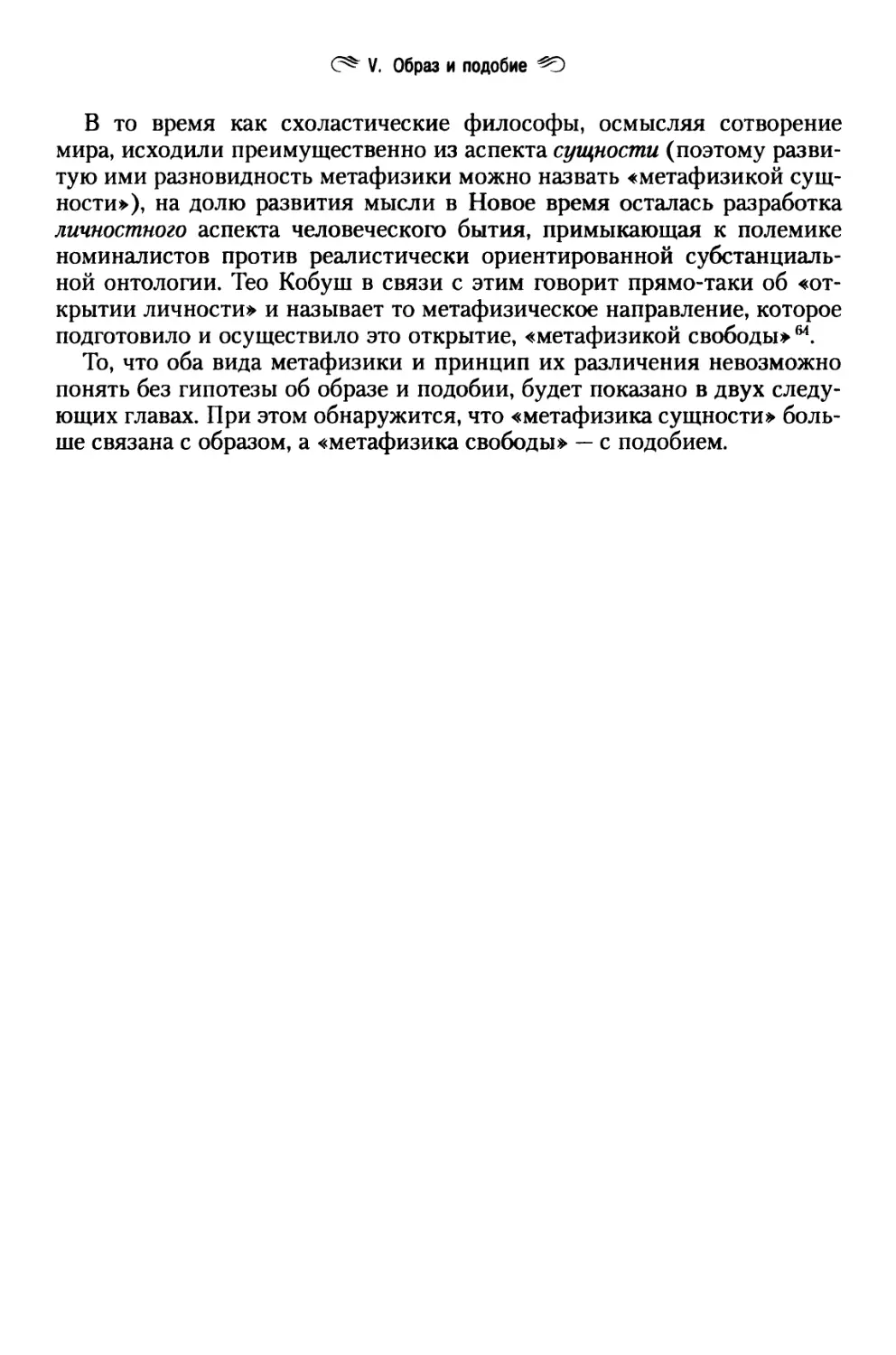
![VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий]](https://djvu.online/jpg/O/f/G/OfGX4D2MNq9TU/197.webp)


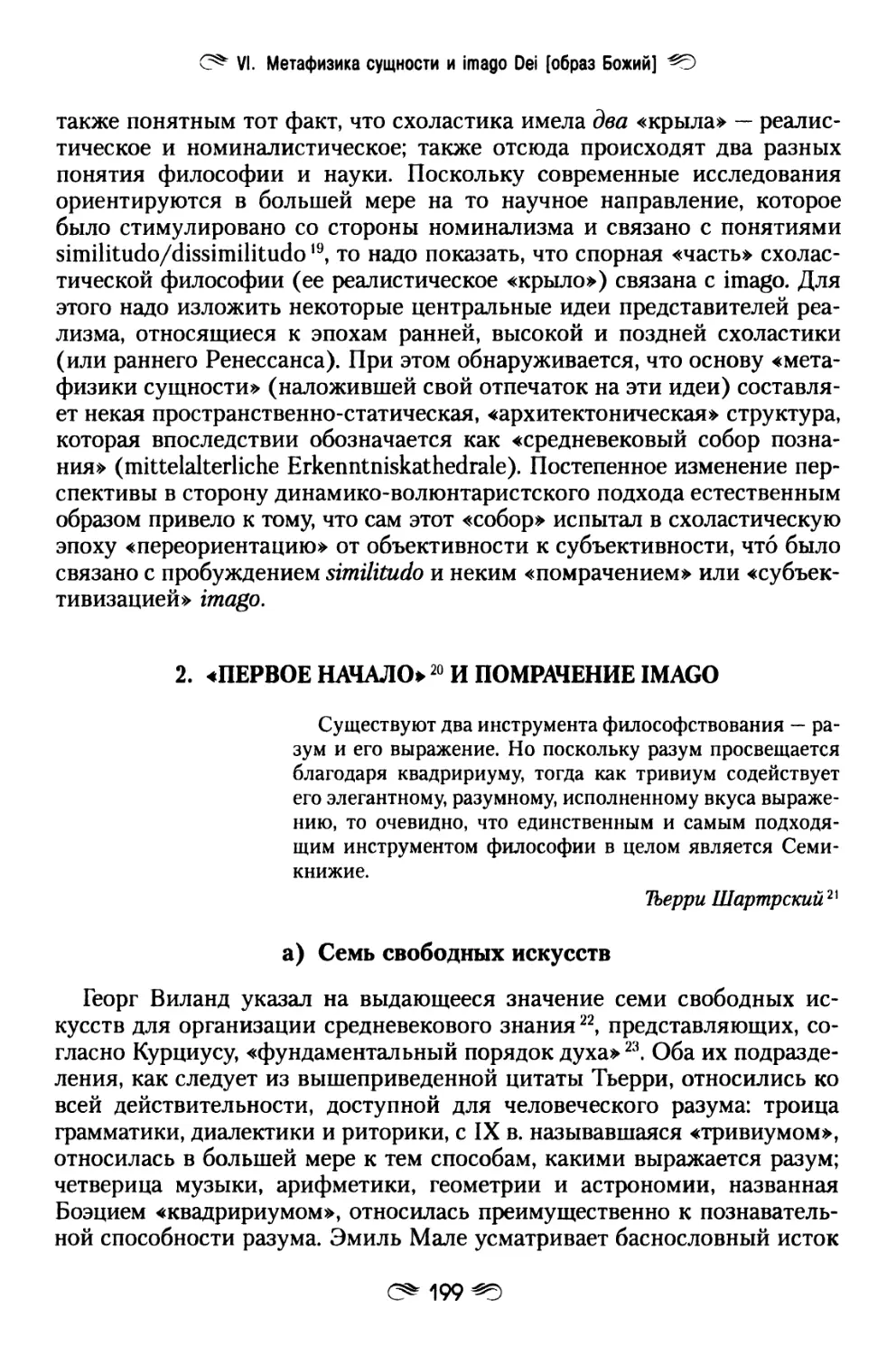



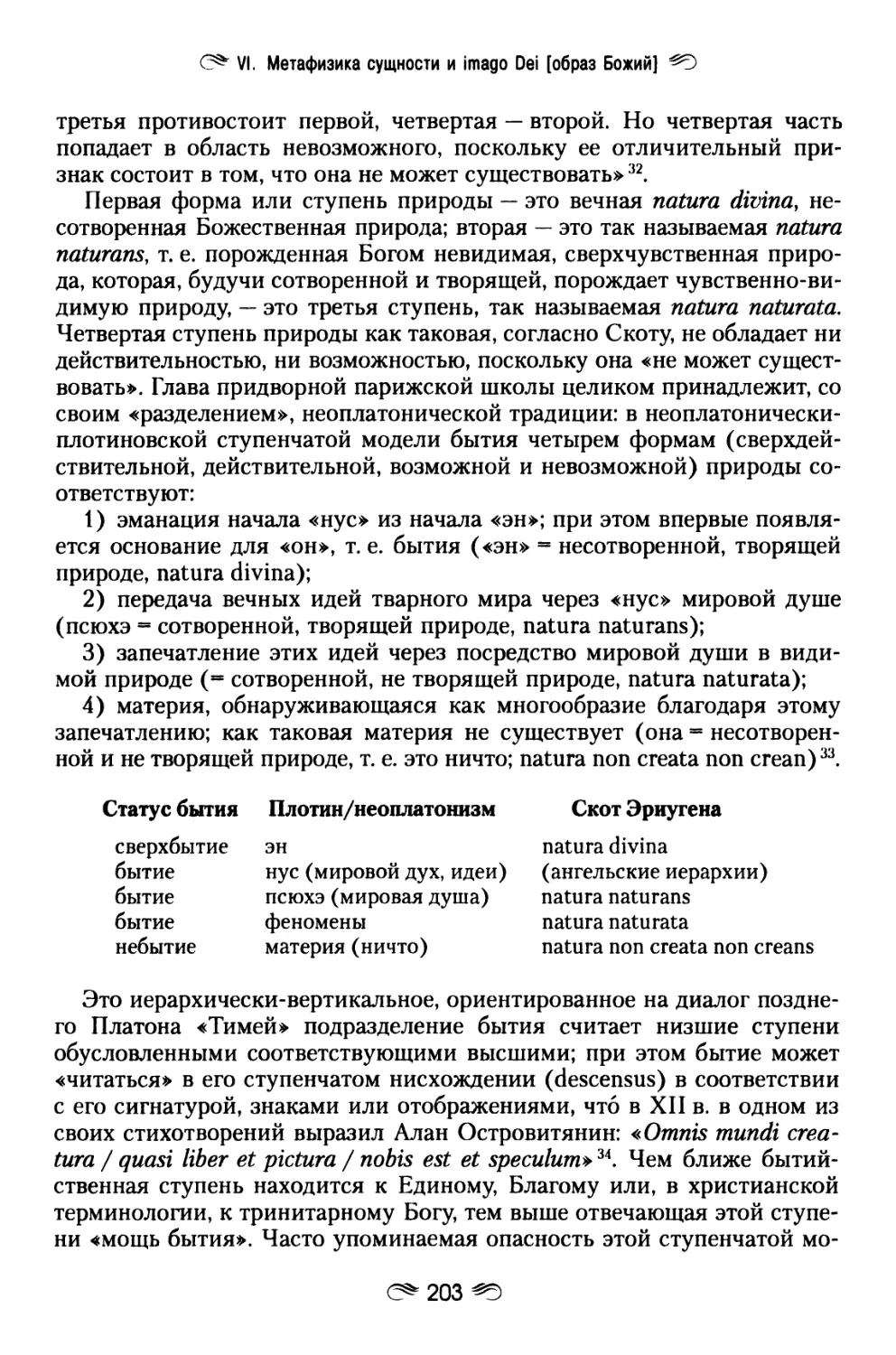





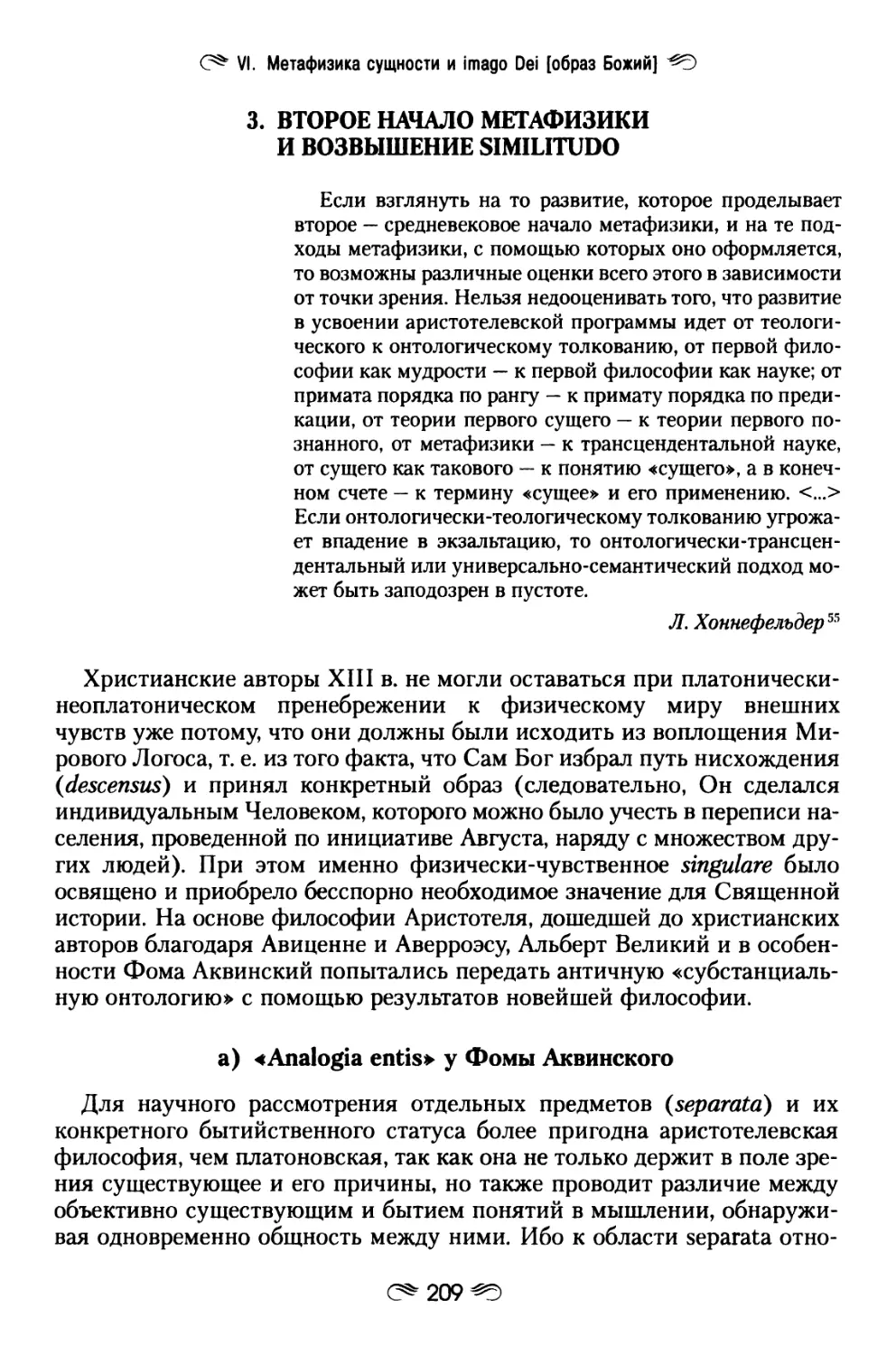



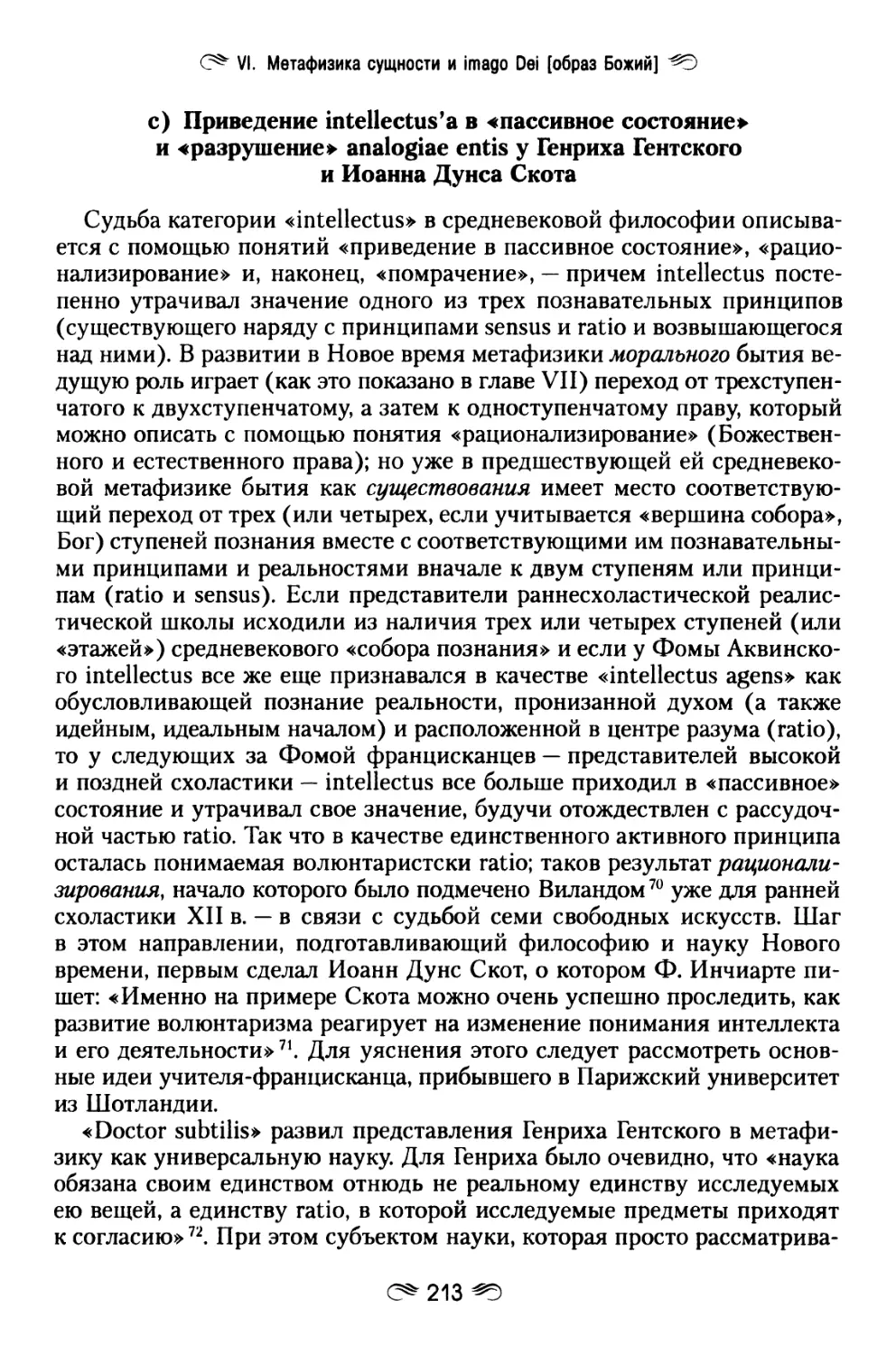




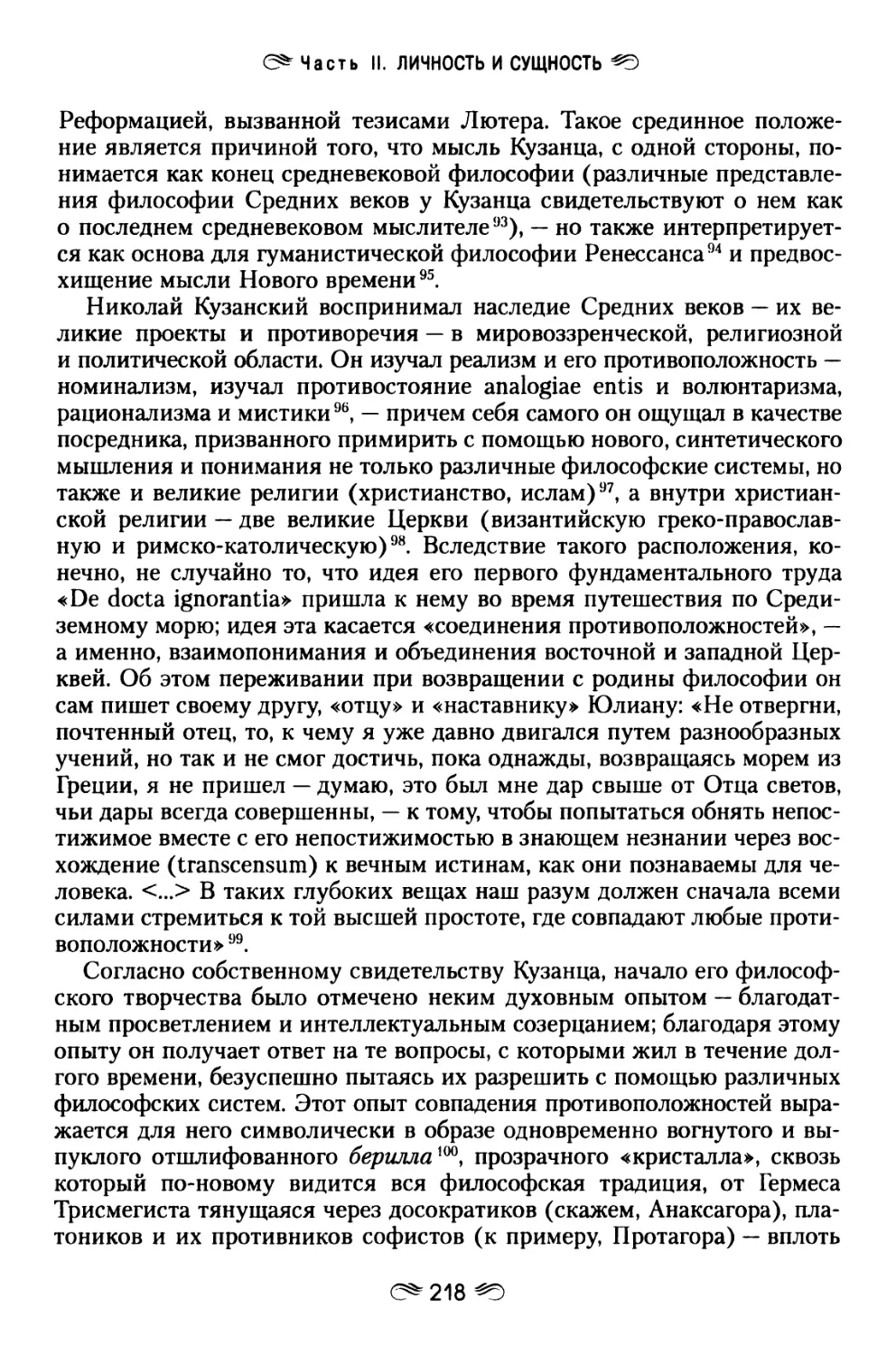
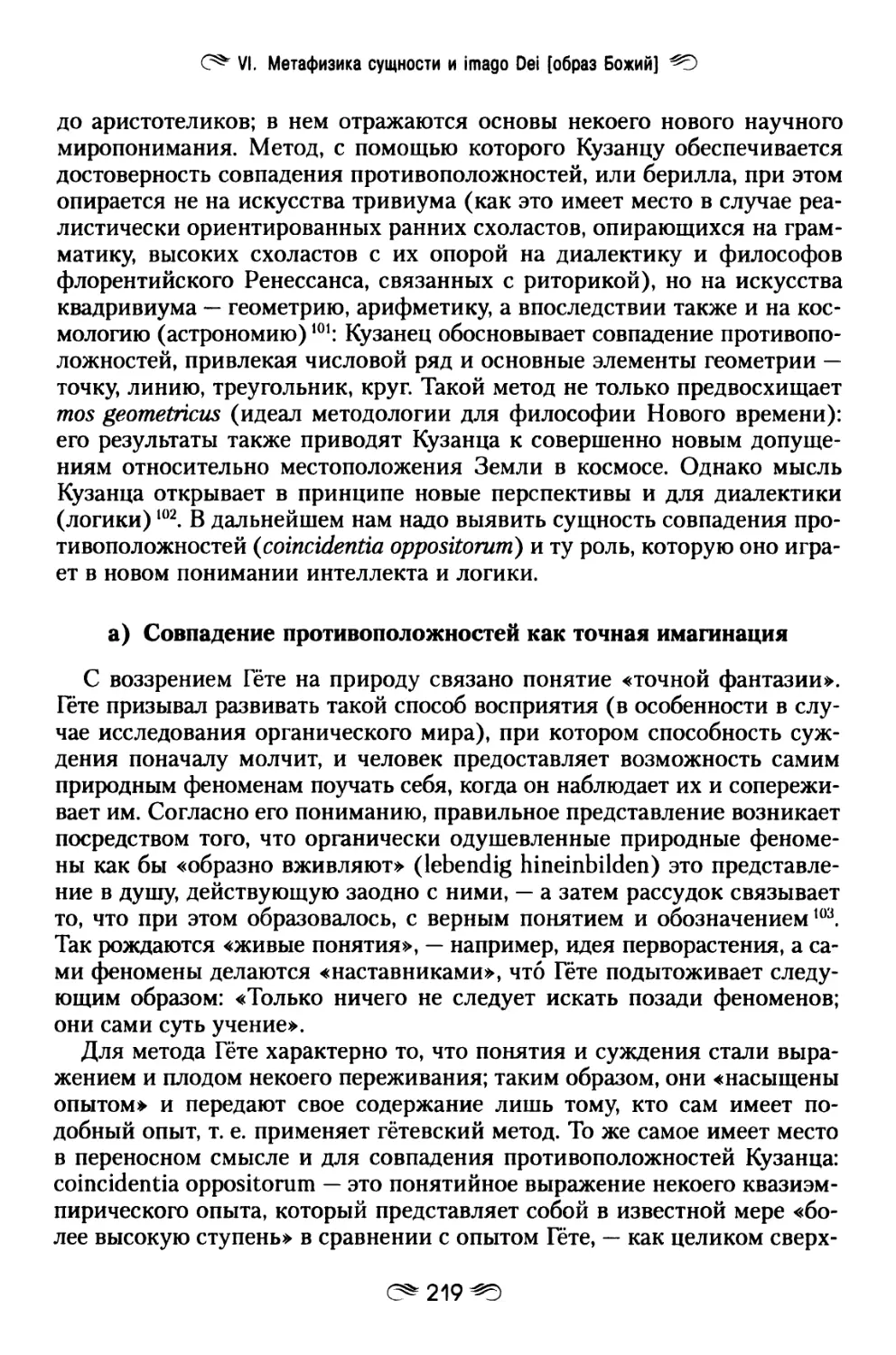






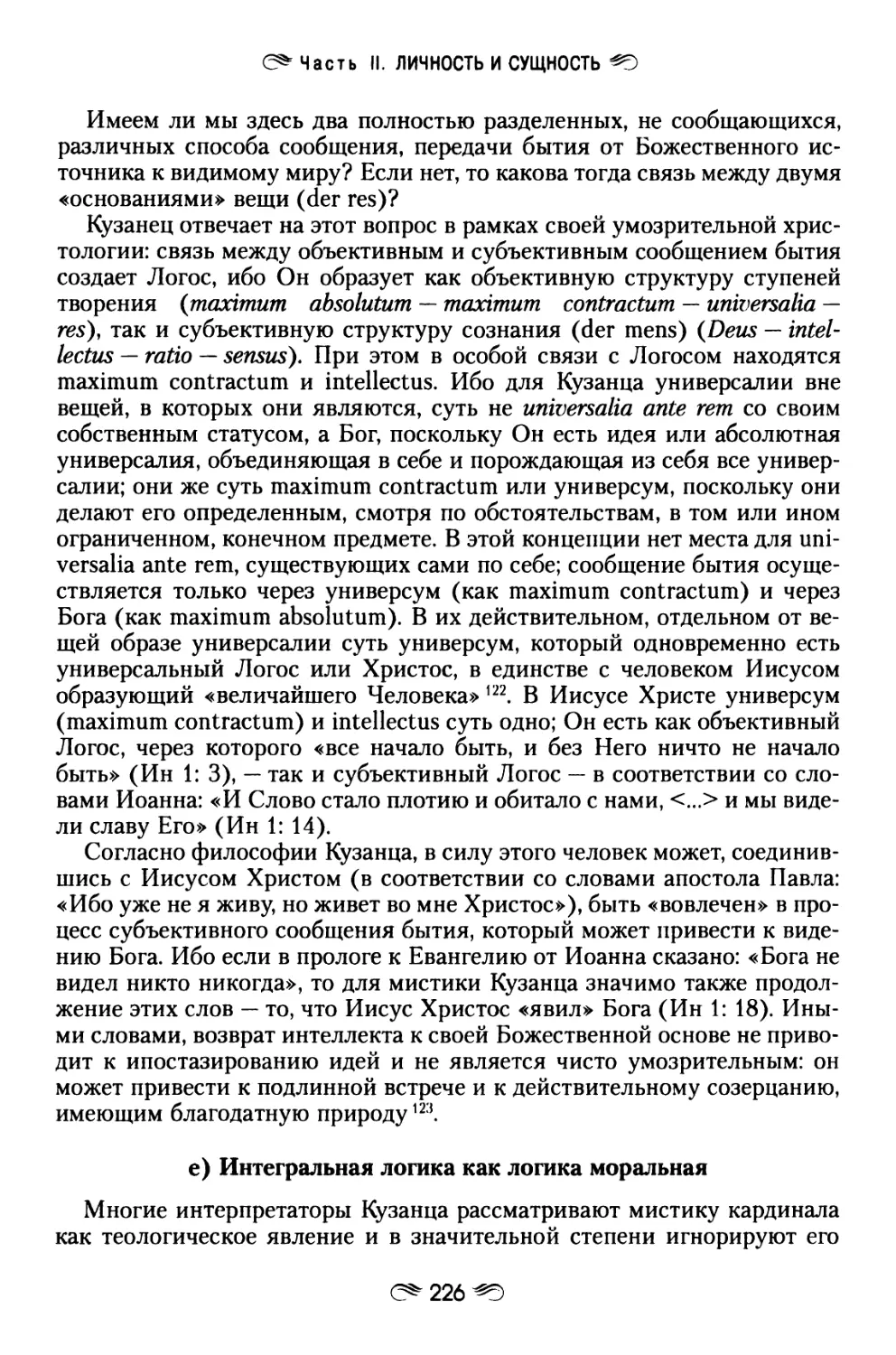








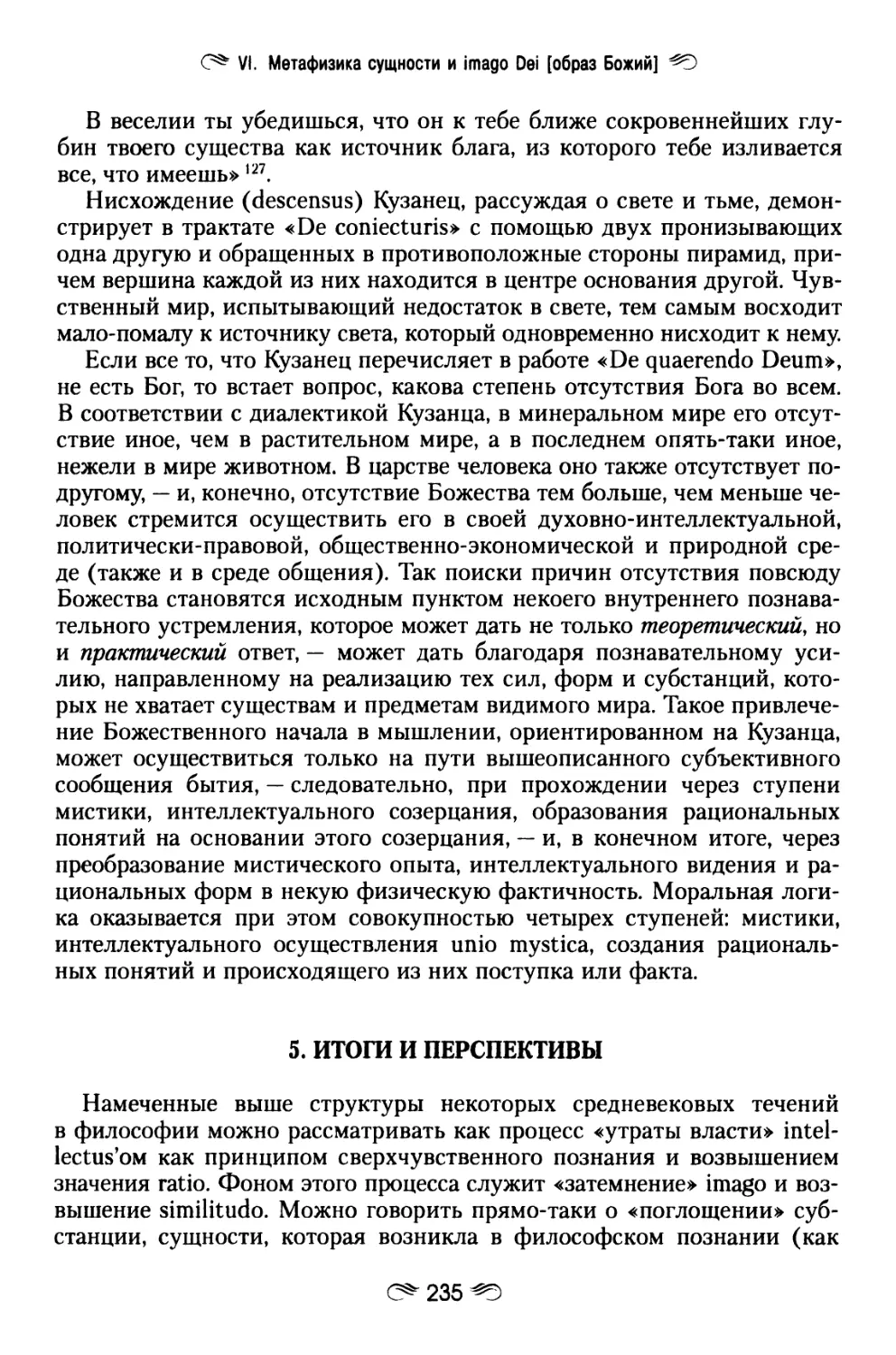

![VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие]](https://djvu.online/jpg/O/f/G/OfGX4D2MNq9TU/238.webp)
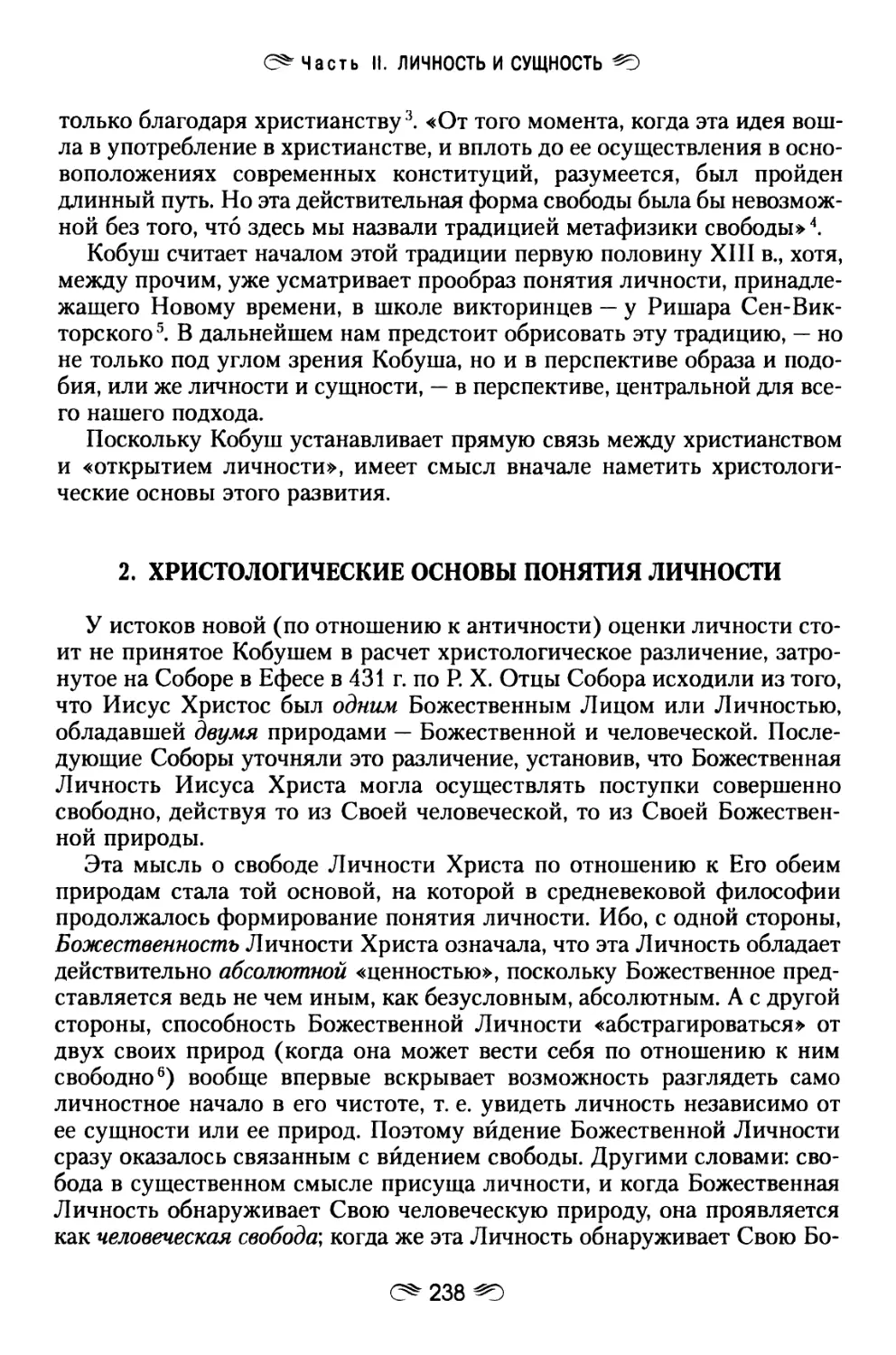

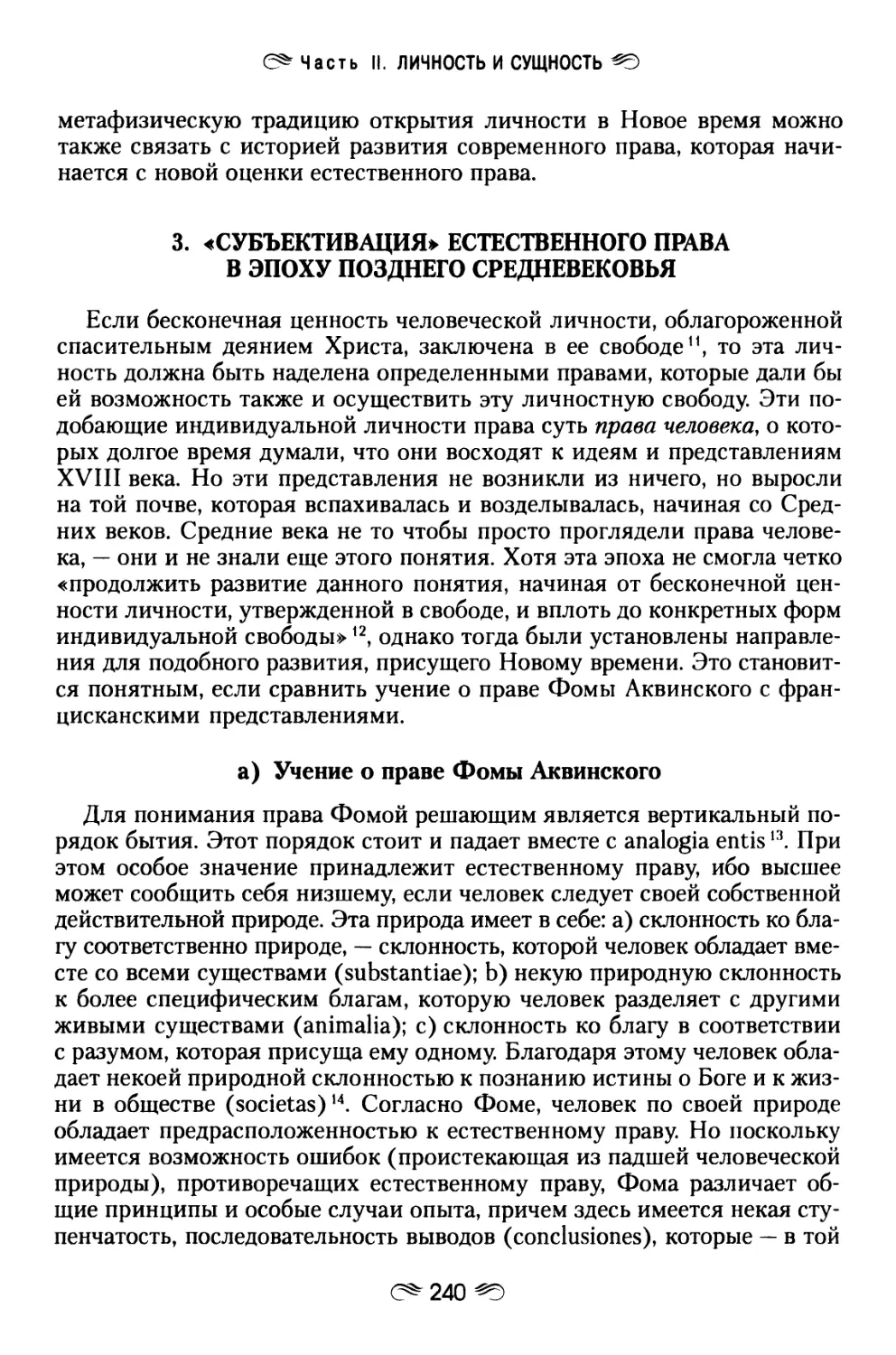
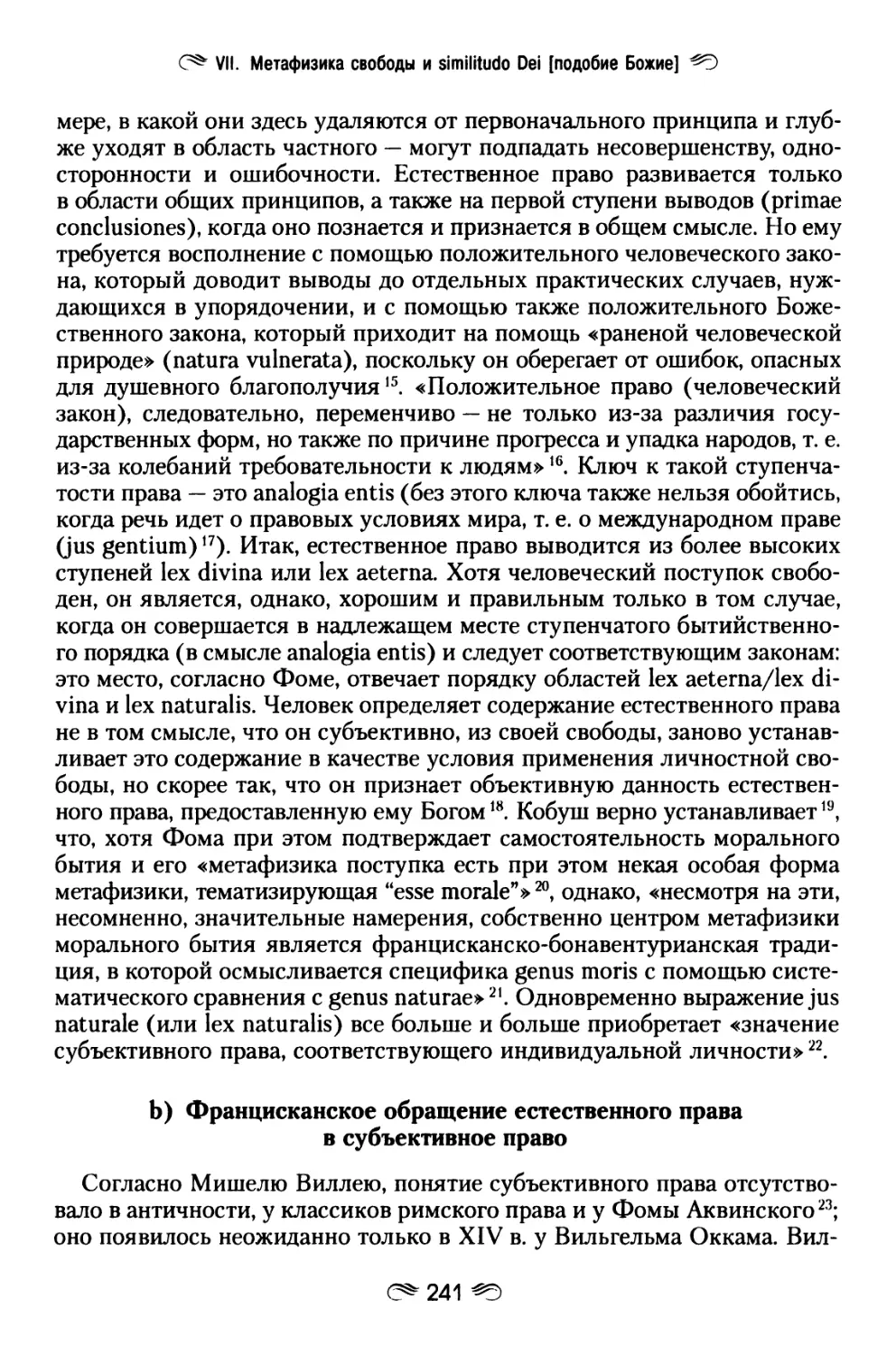
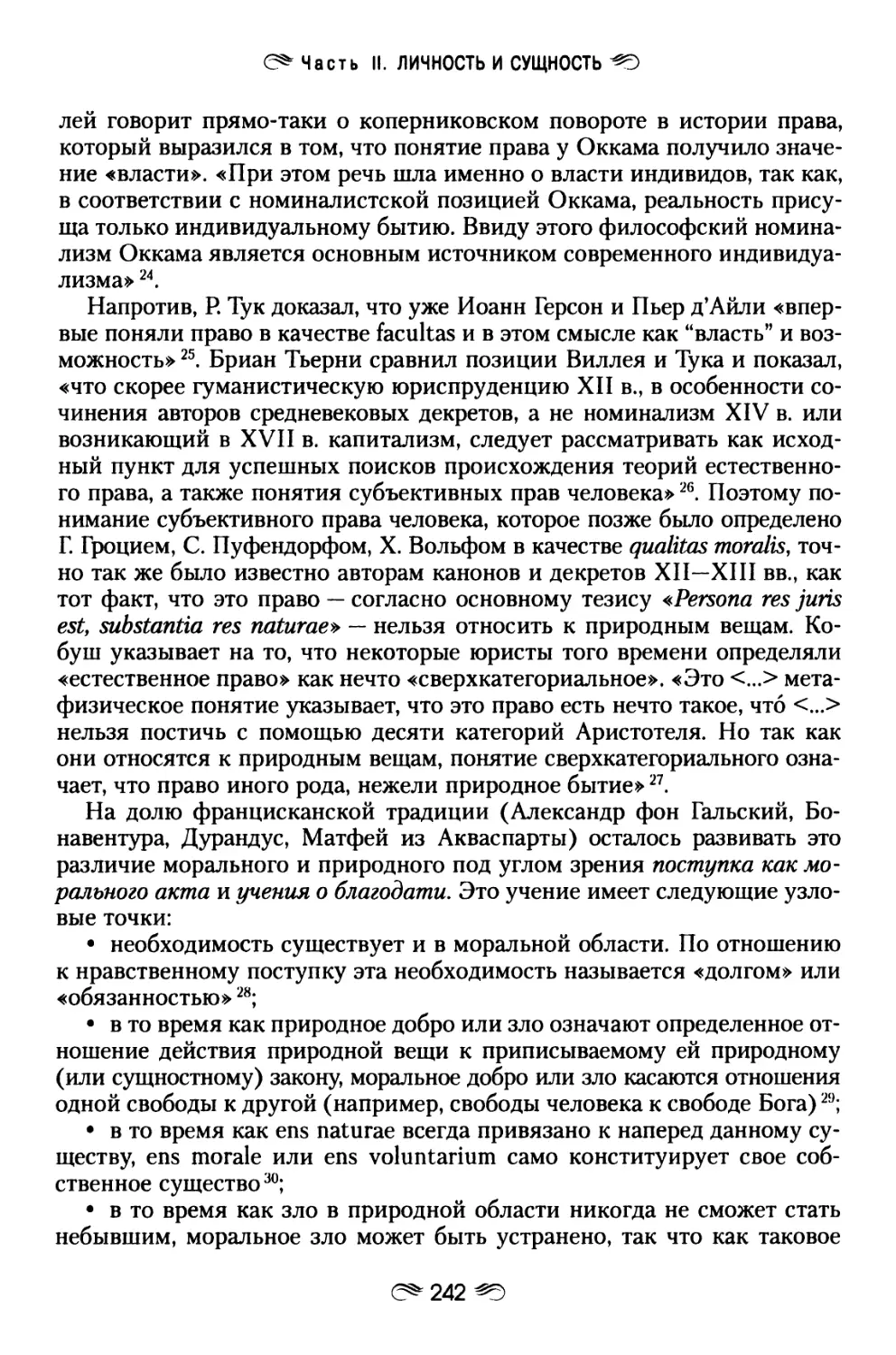
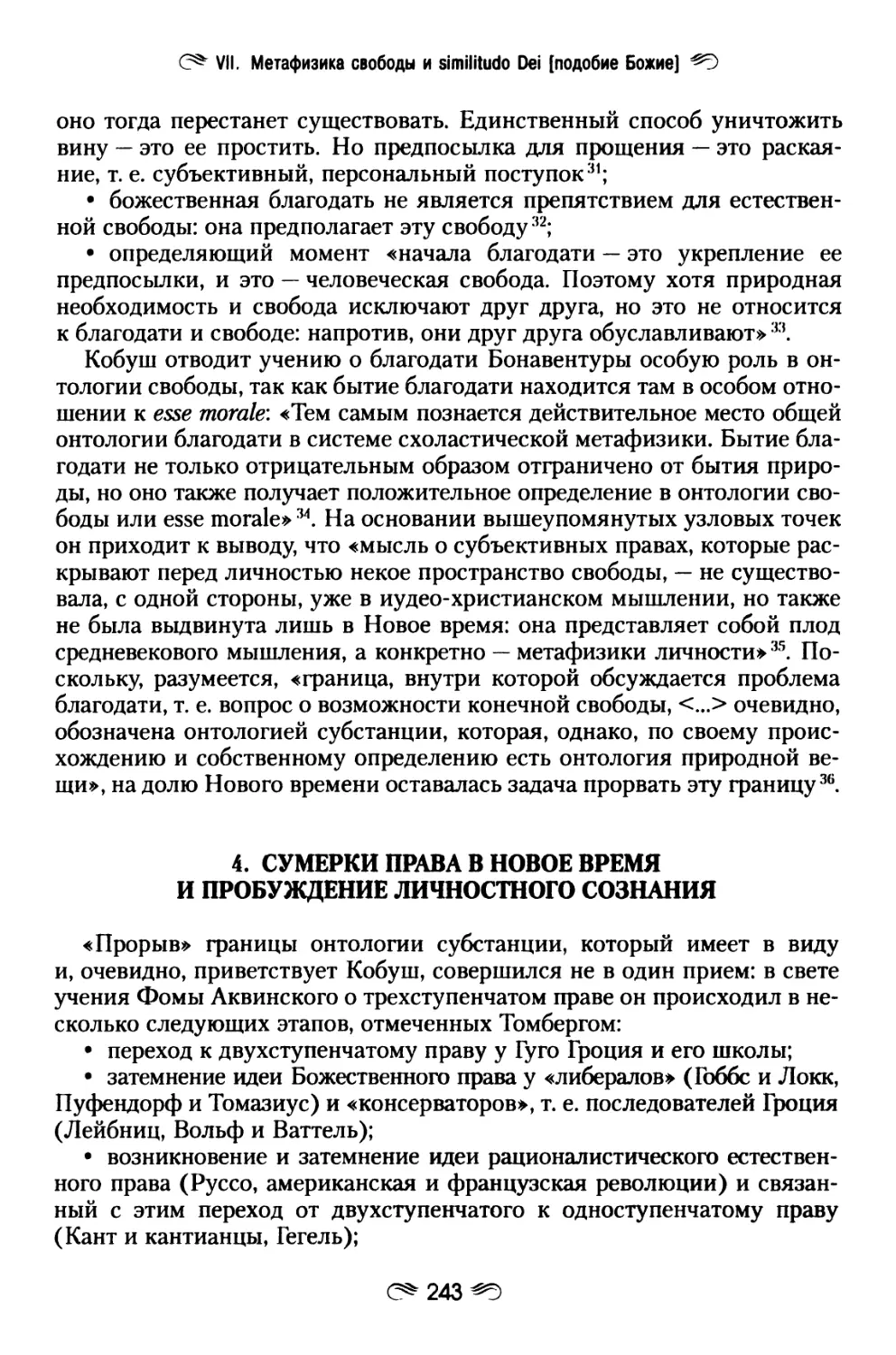








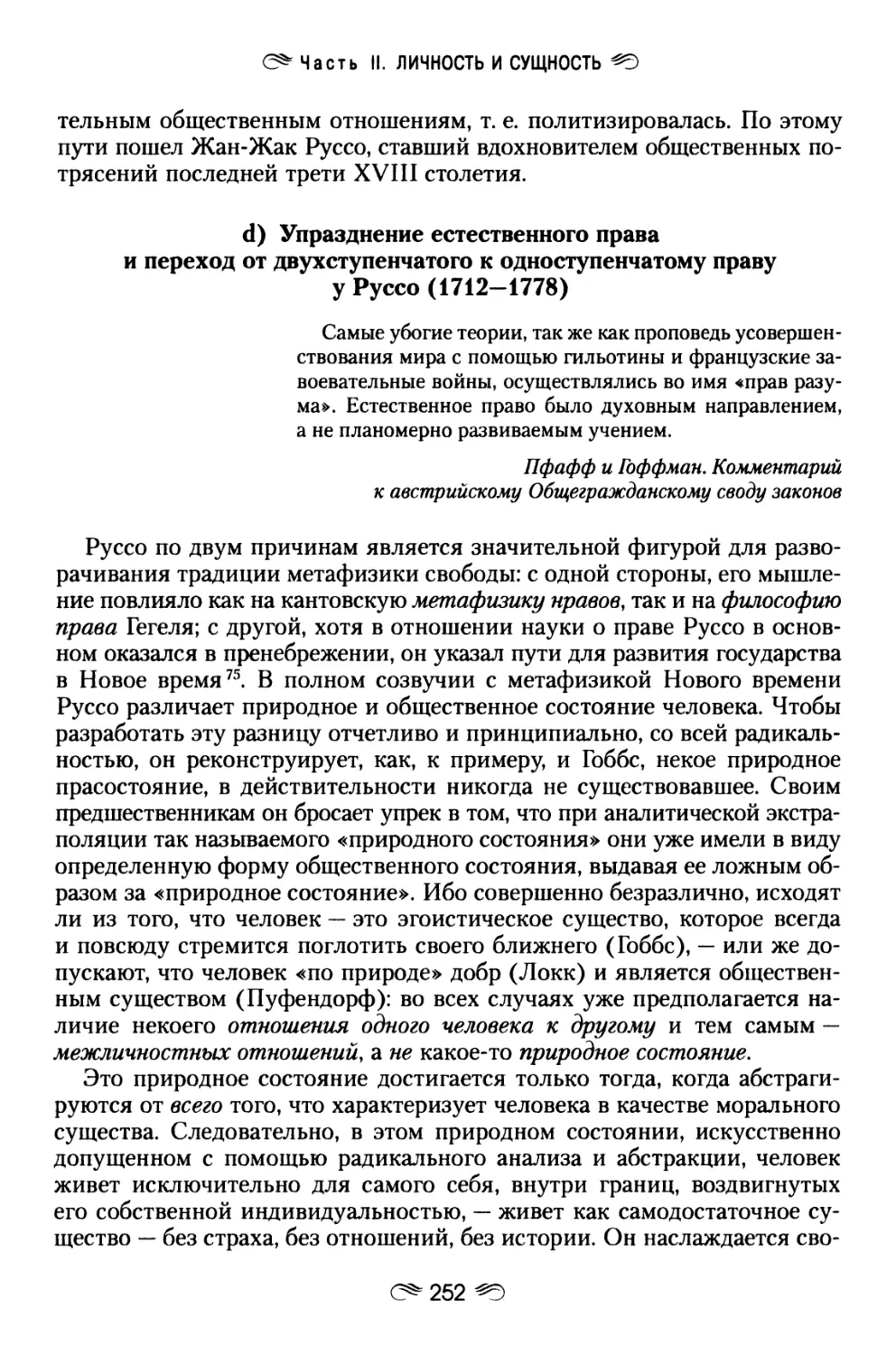



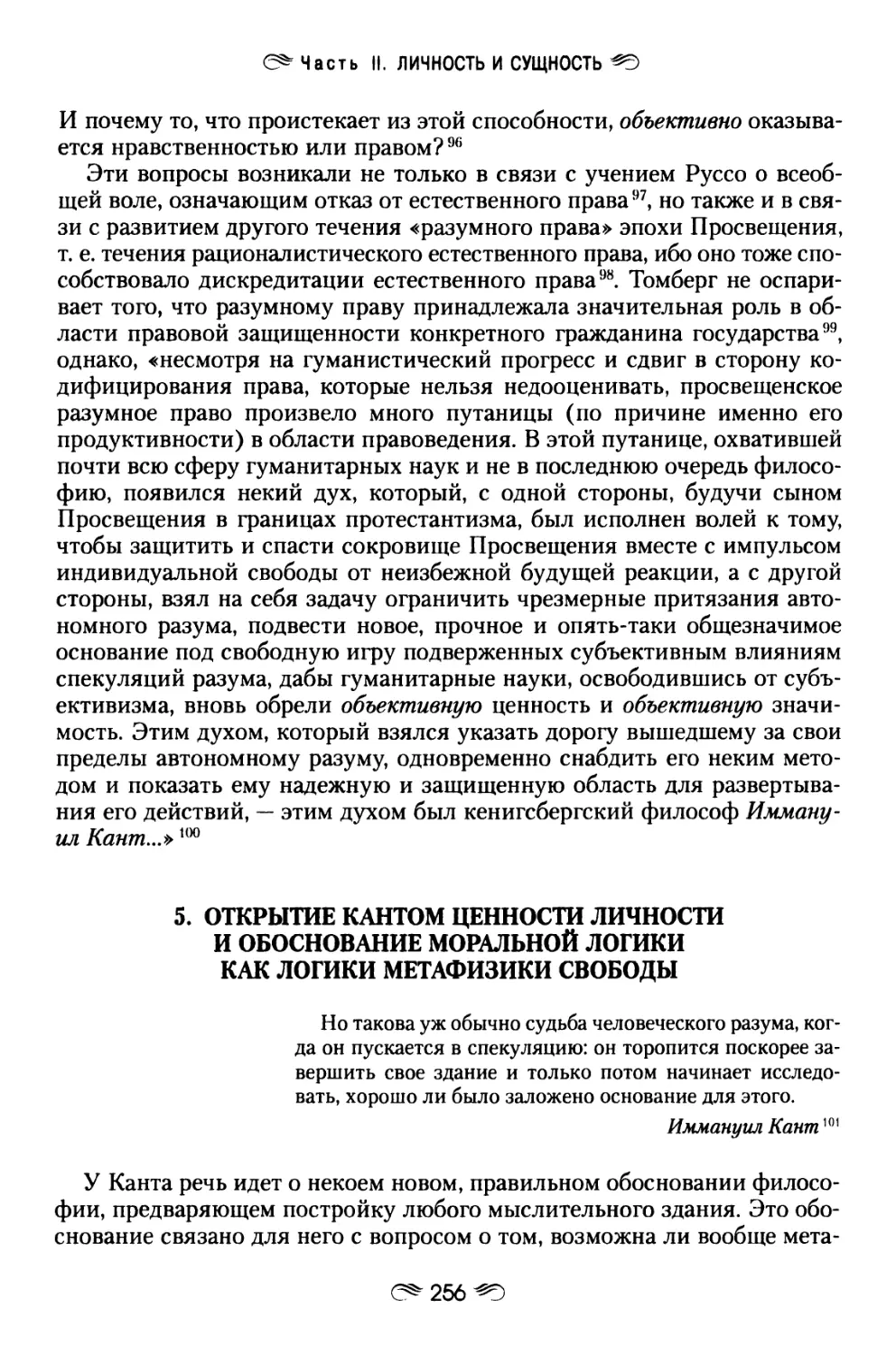









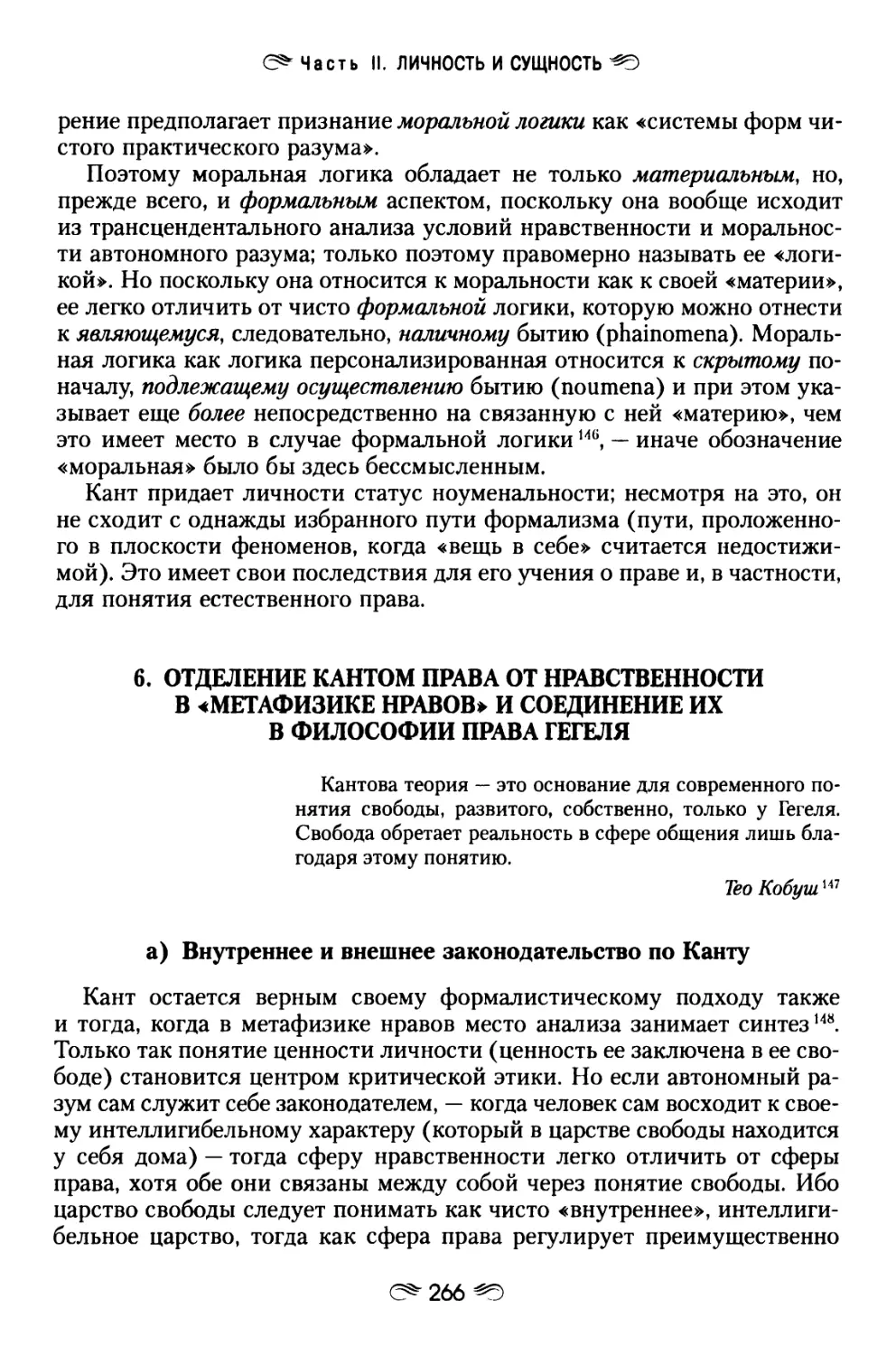






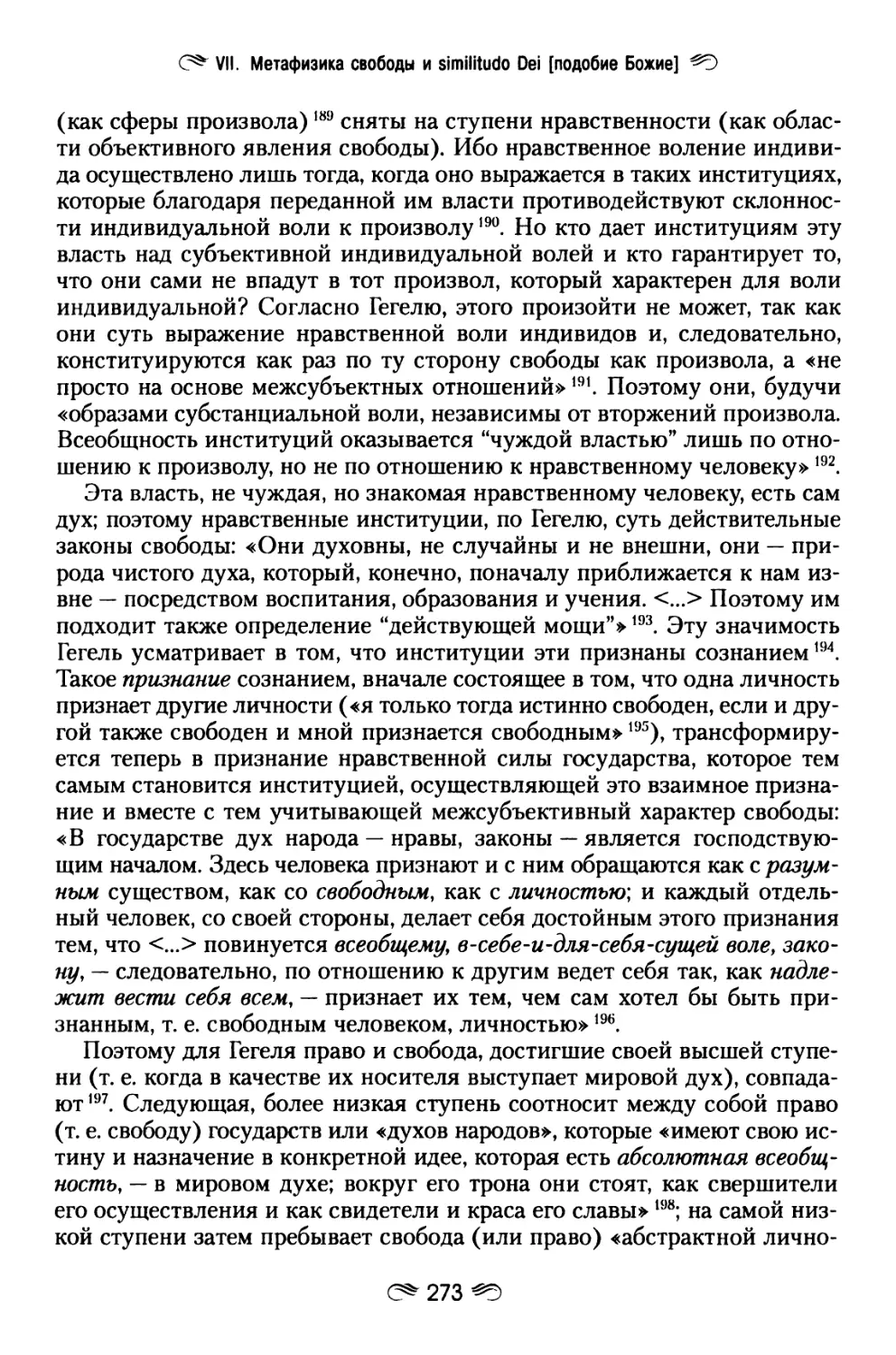


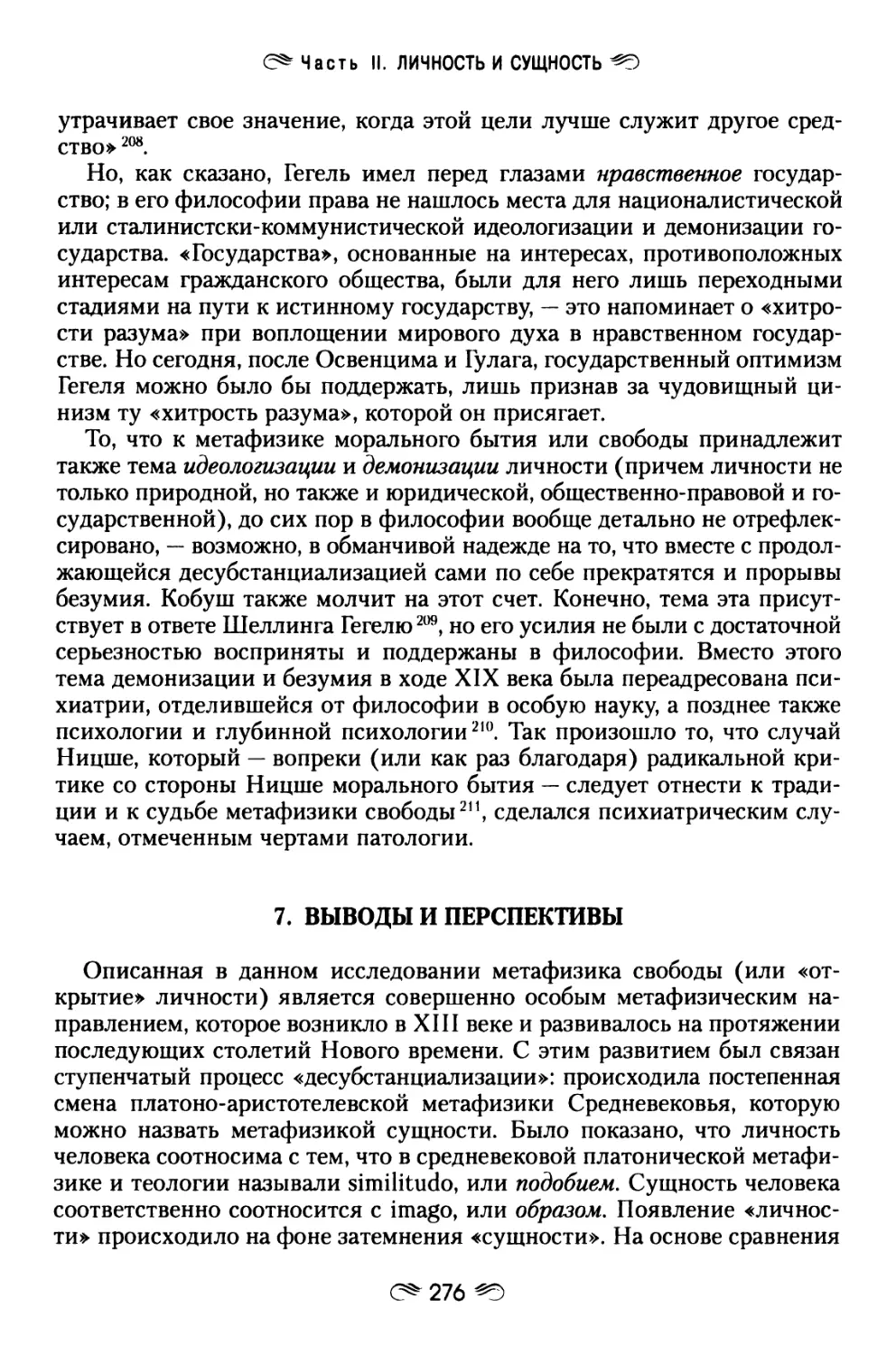
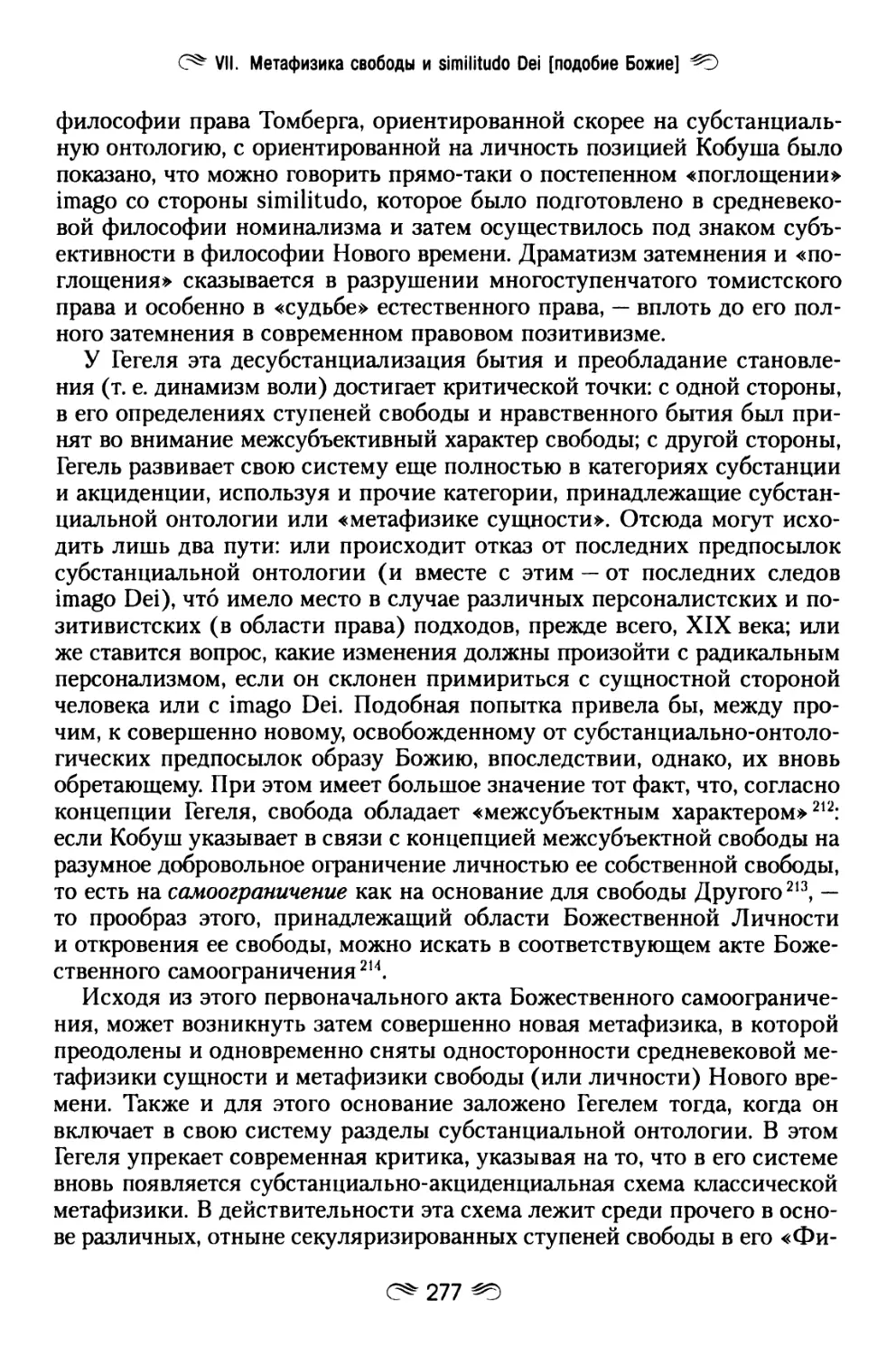

![Часть III. СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZ] ДВУХ ПУТЕЙ. Софиологический вклад в преодоление дилеммы философии](https://djvu.online/jpg/O/f/G/OfGX4D2MNq9TU/280.webp)