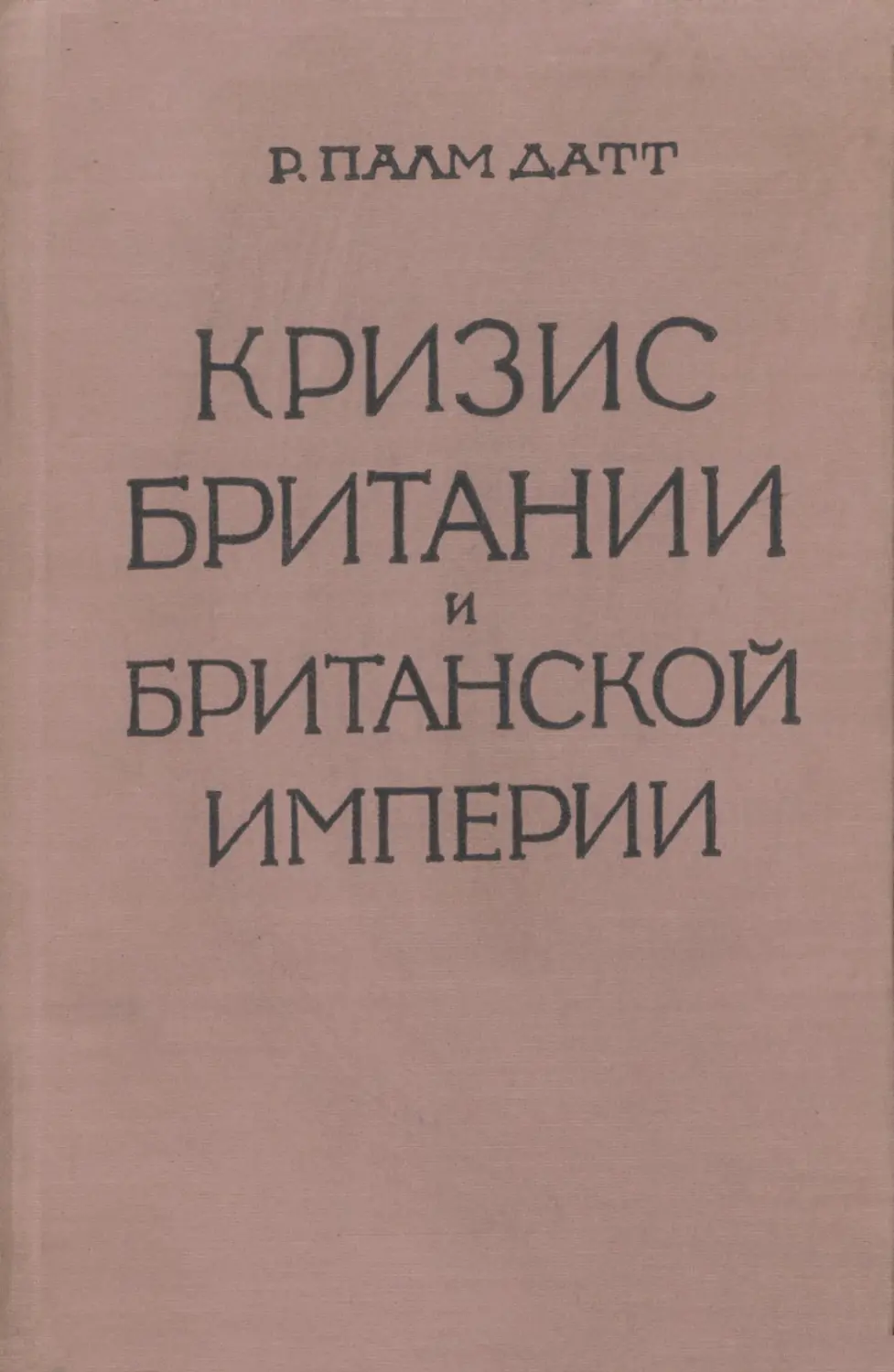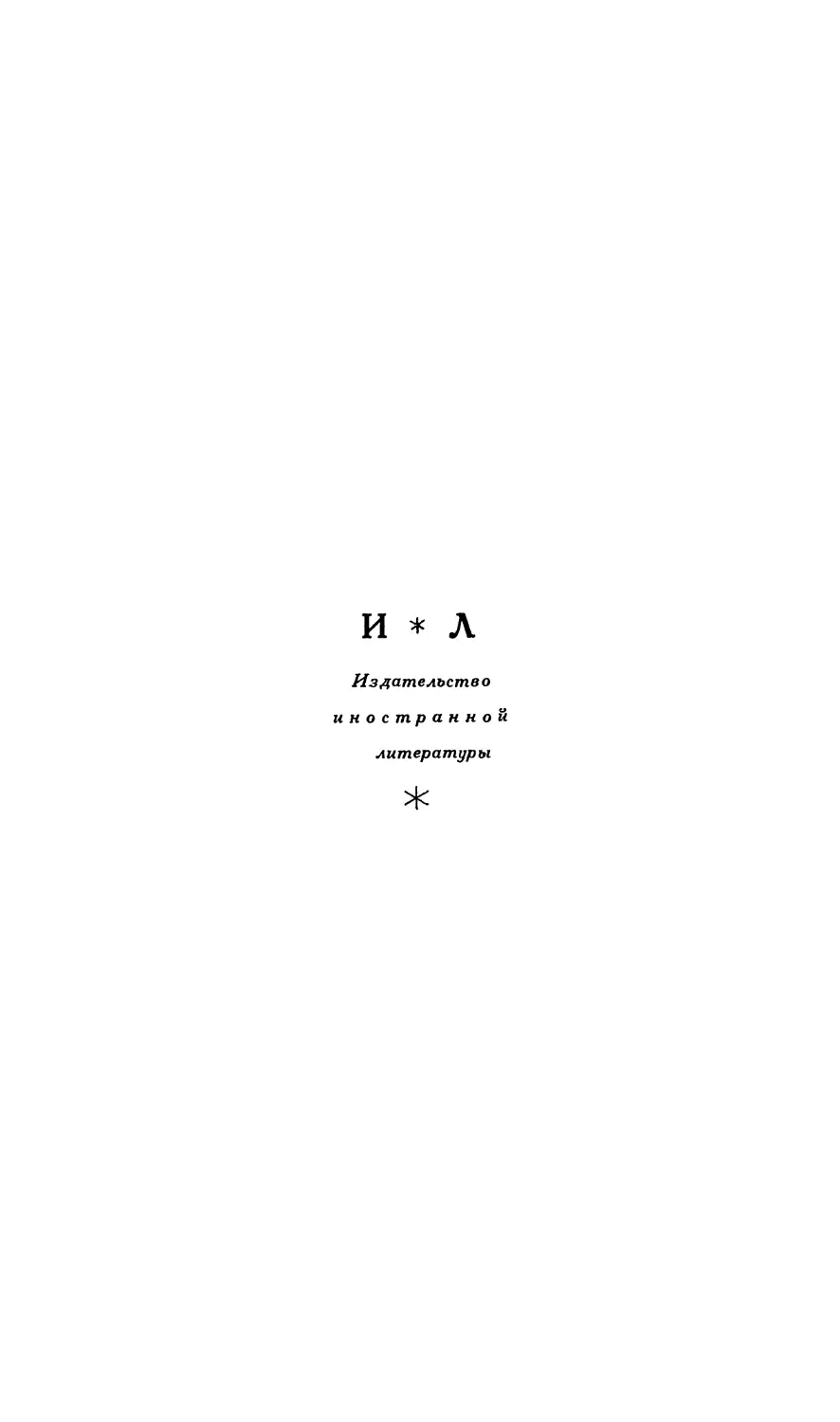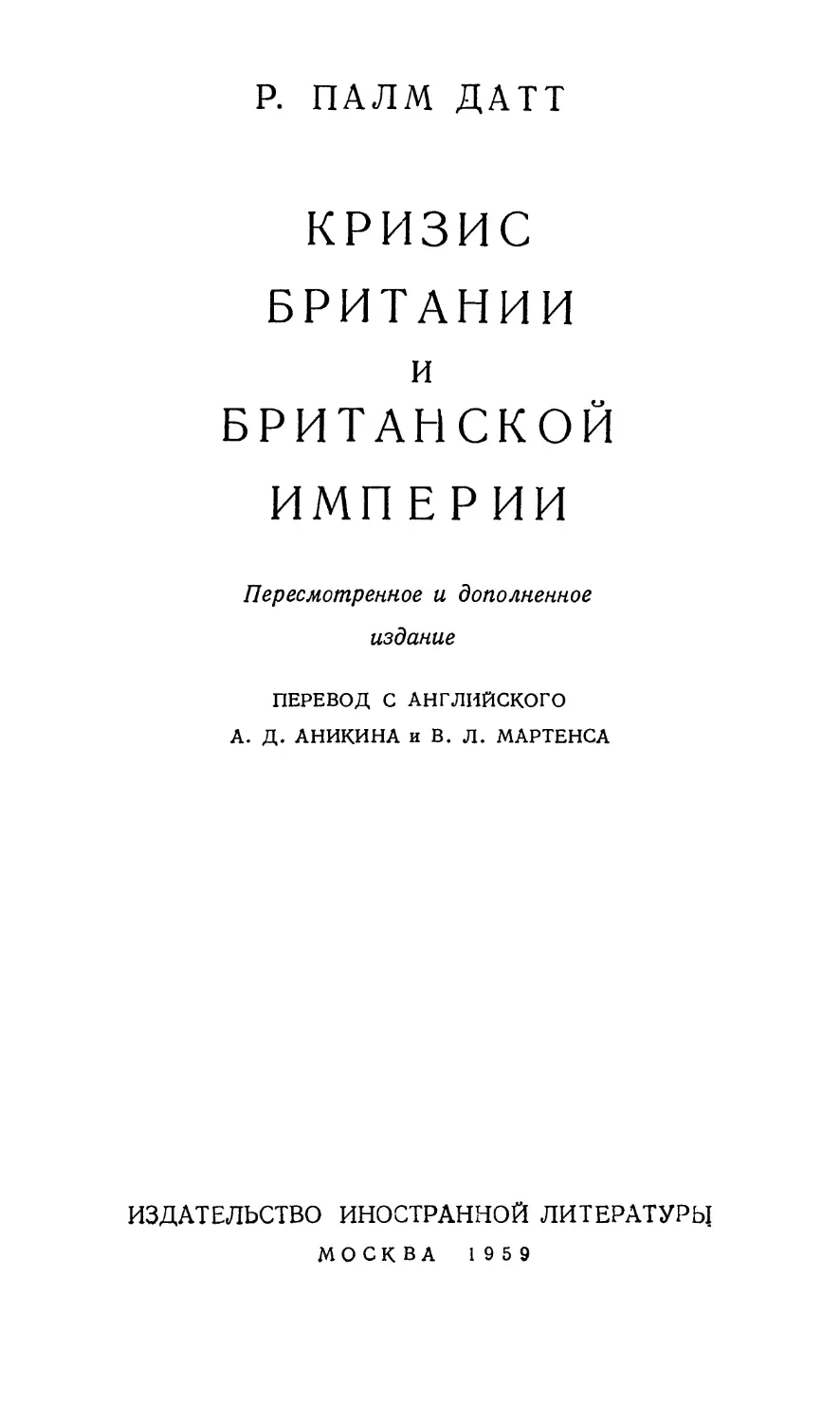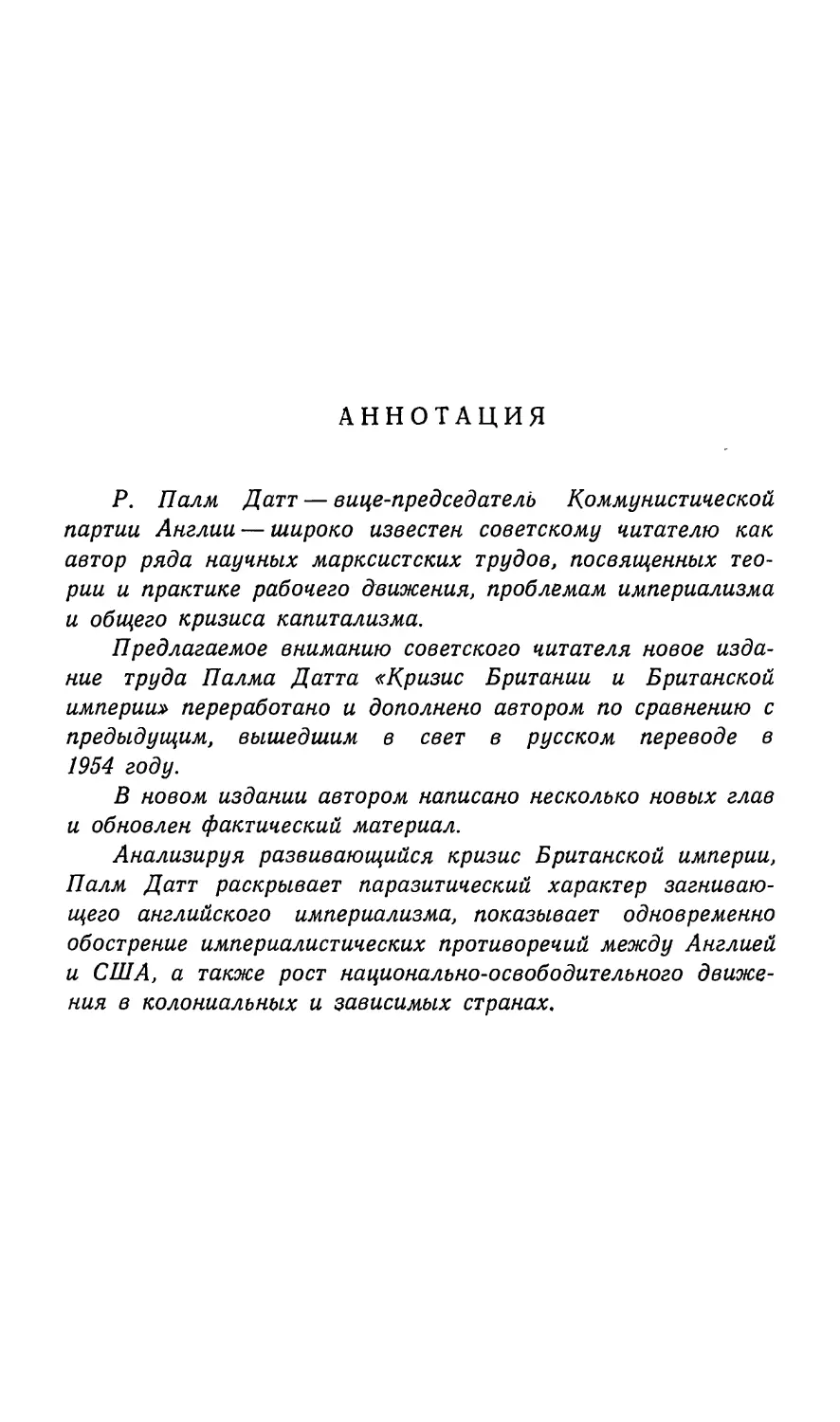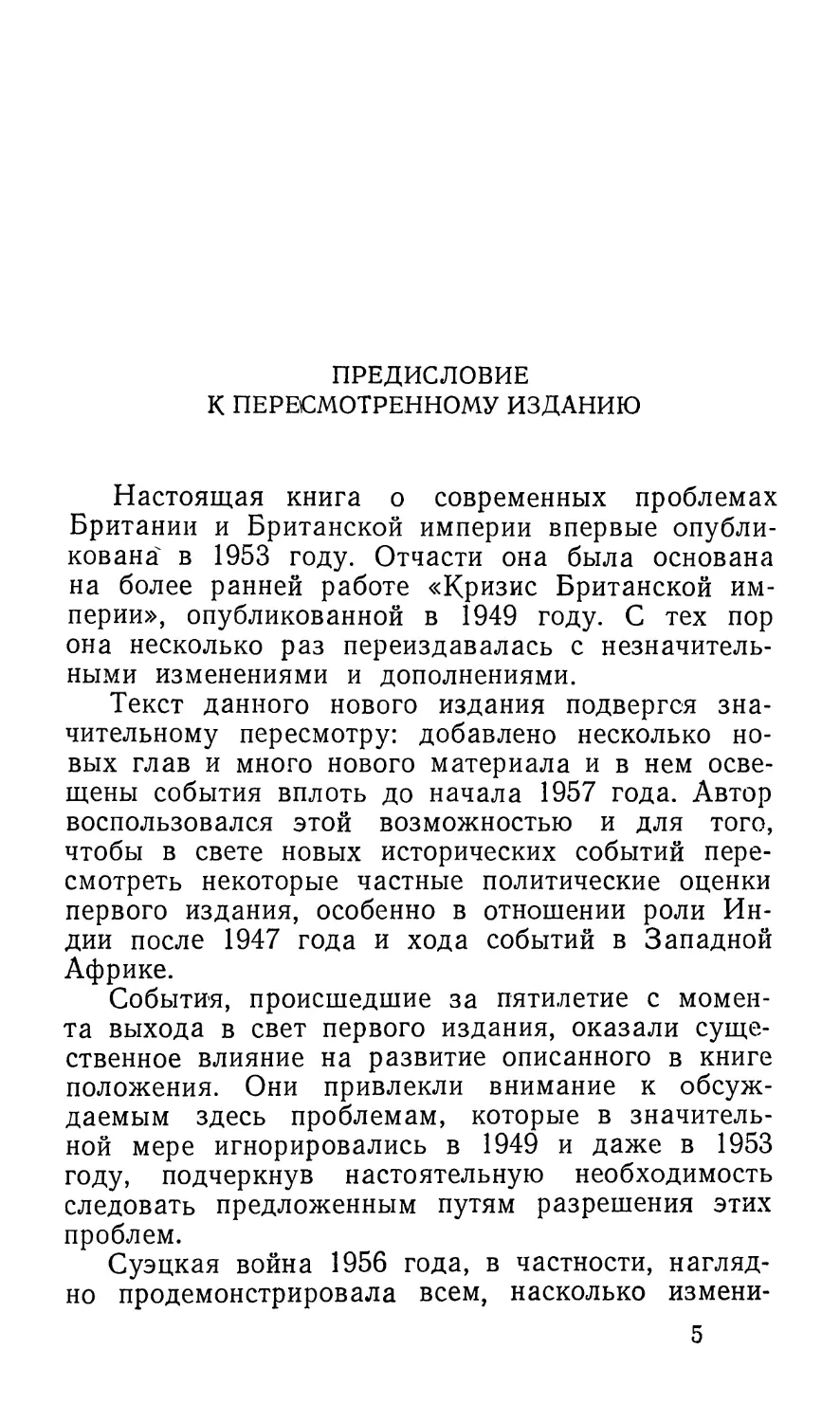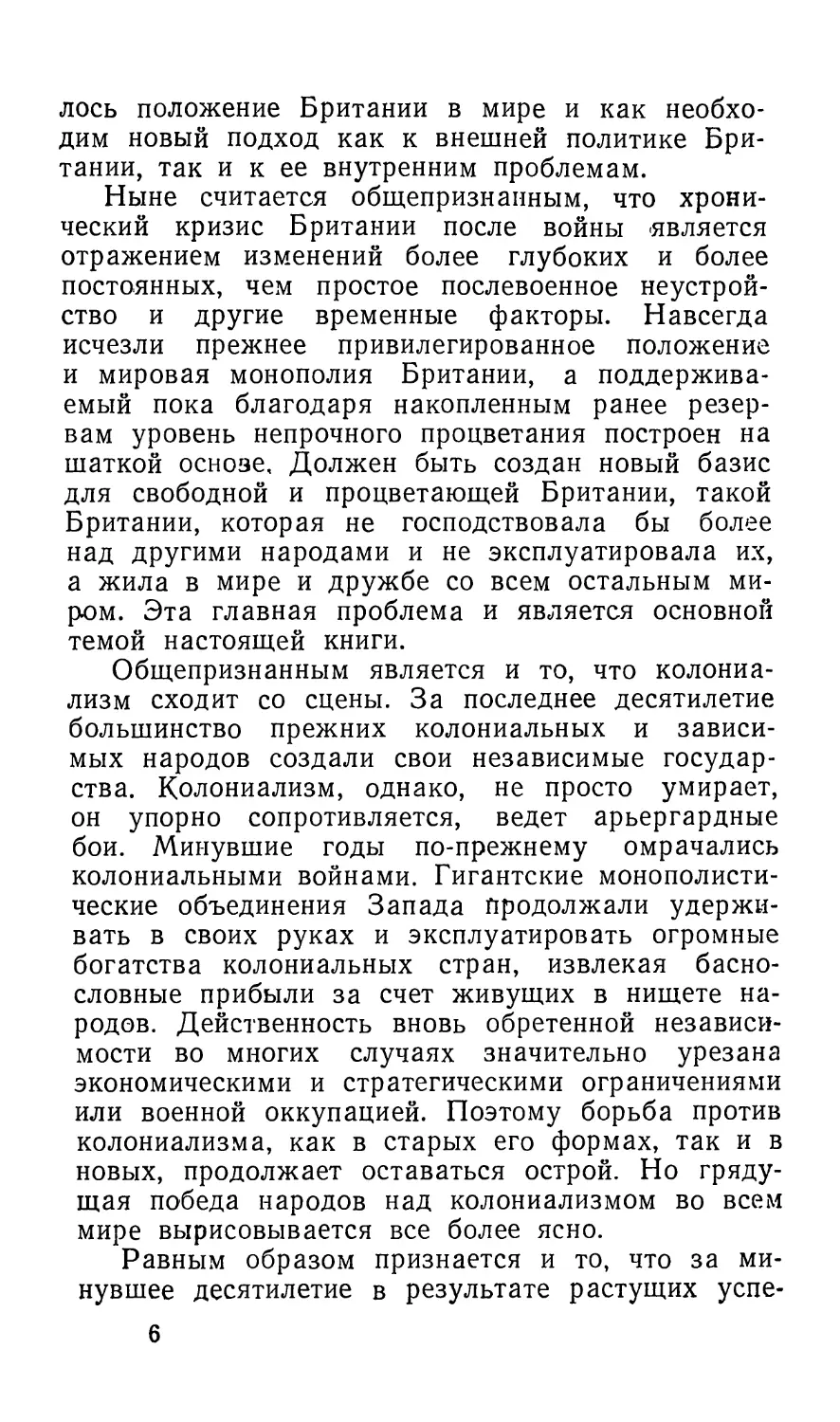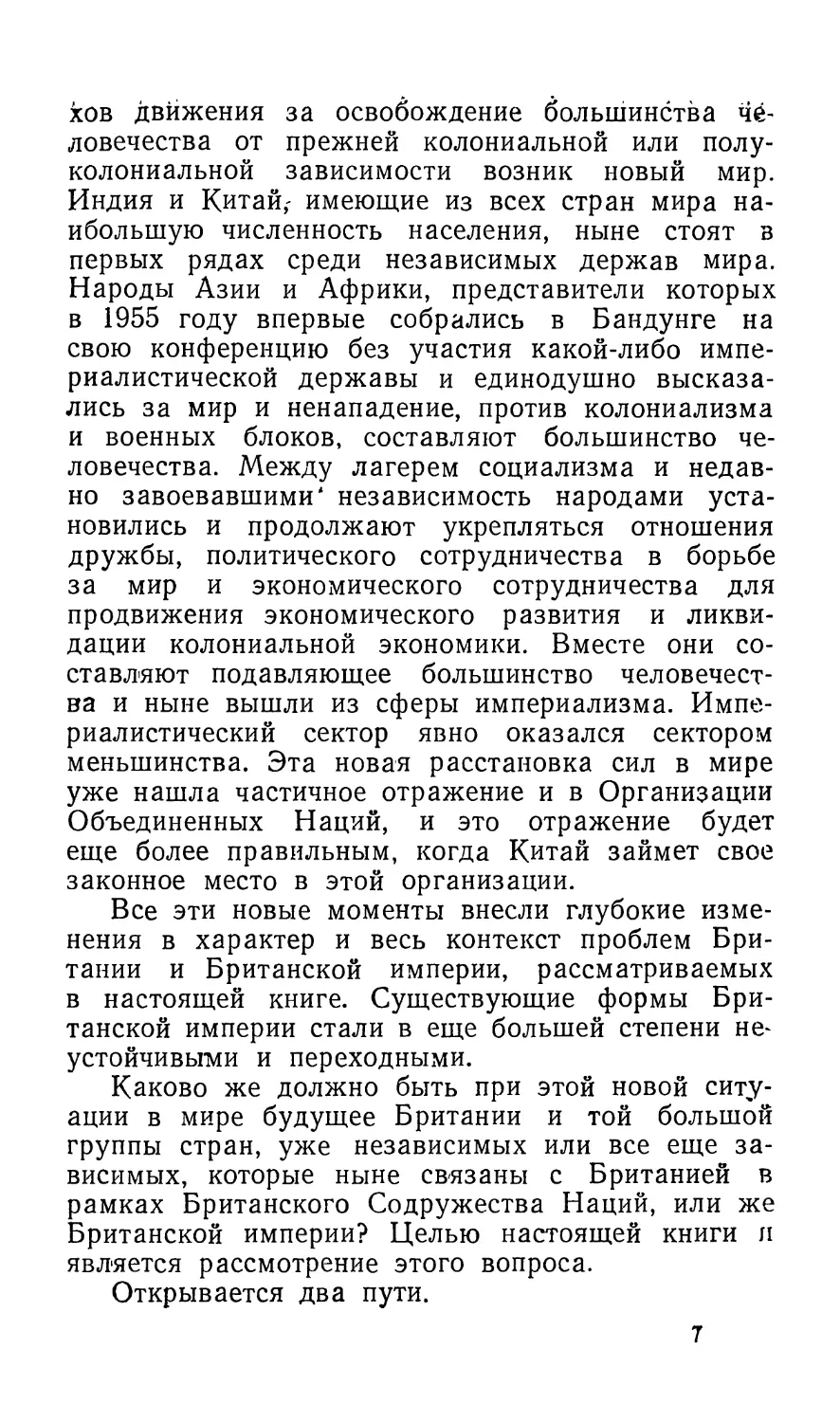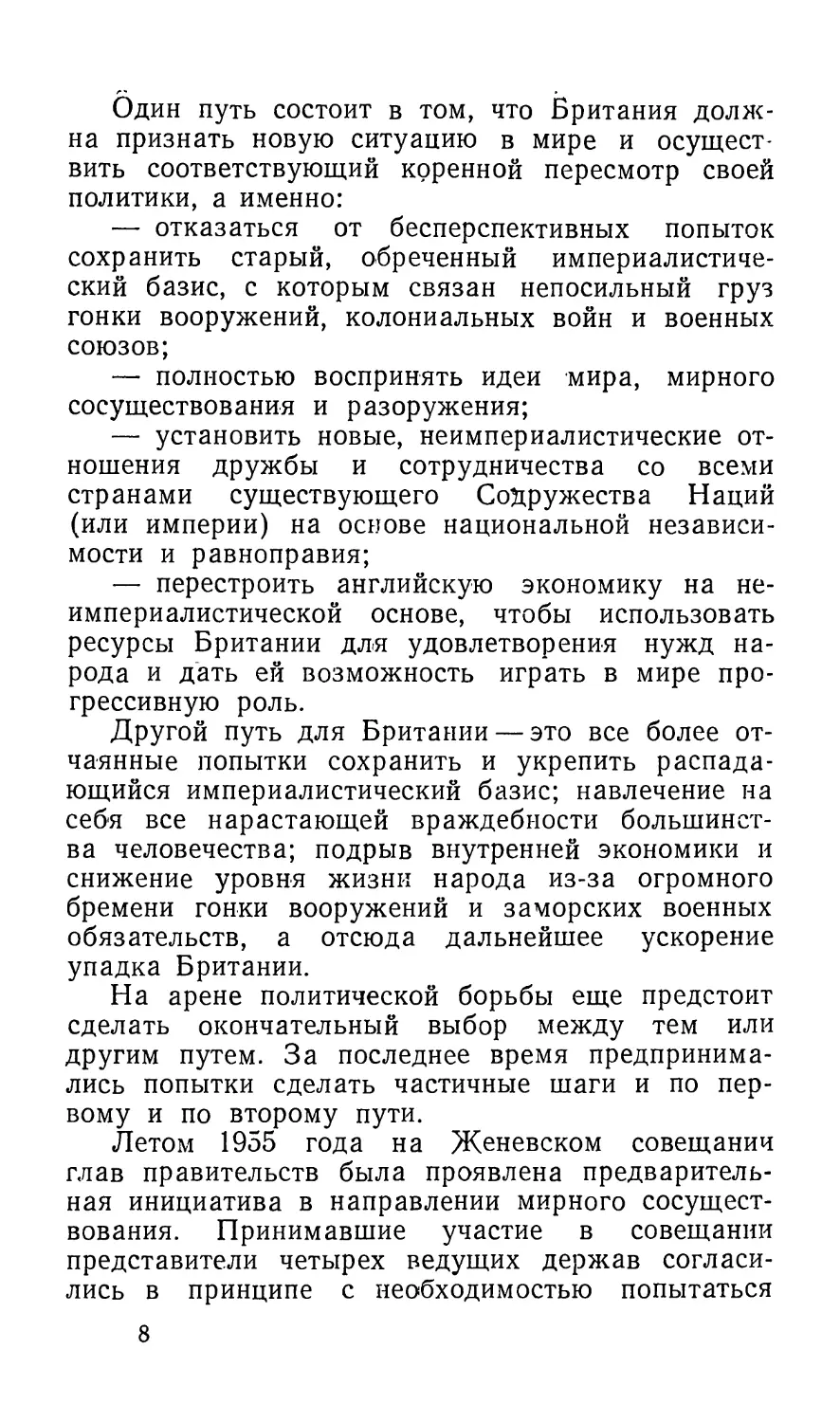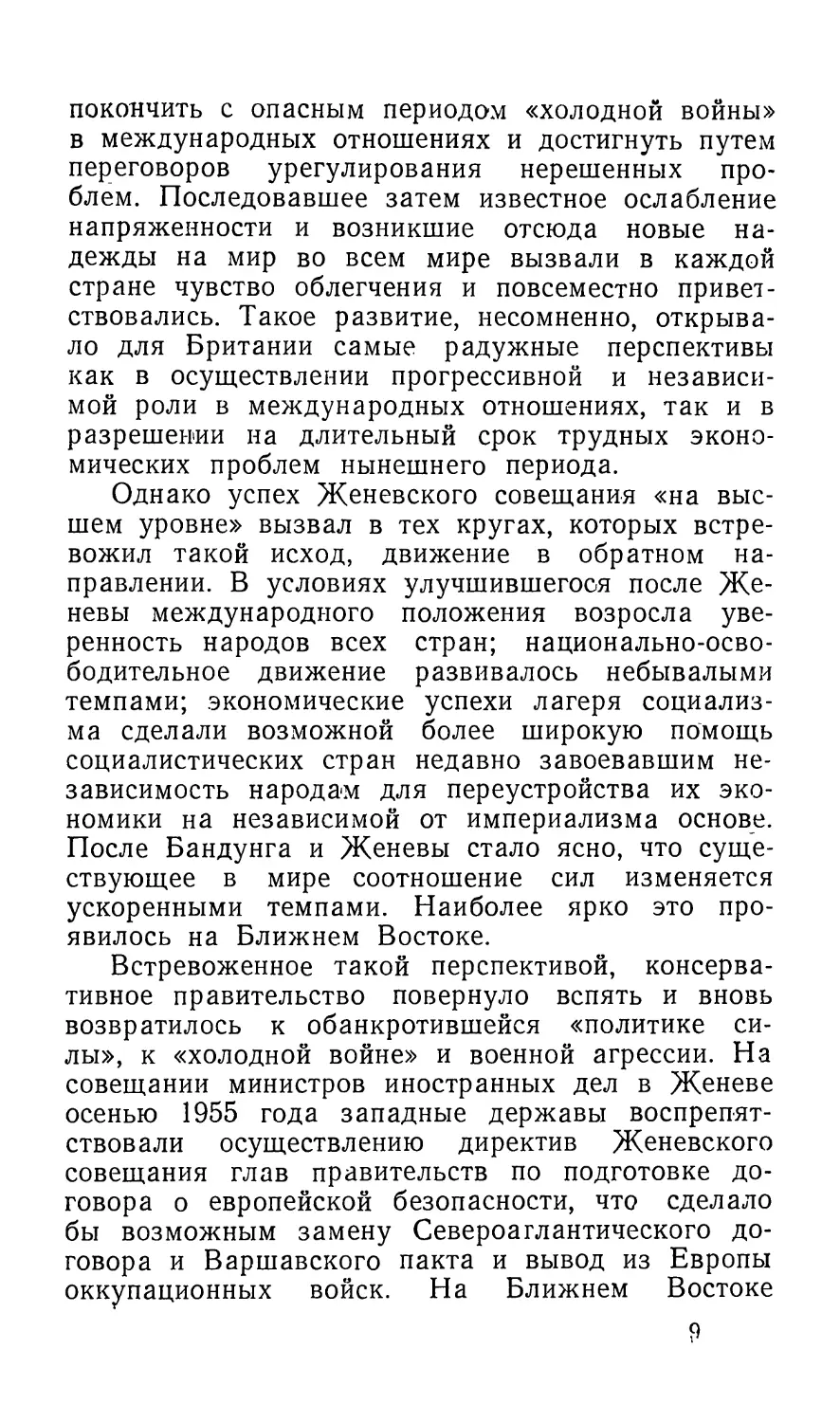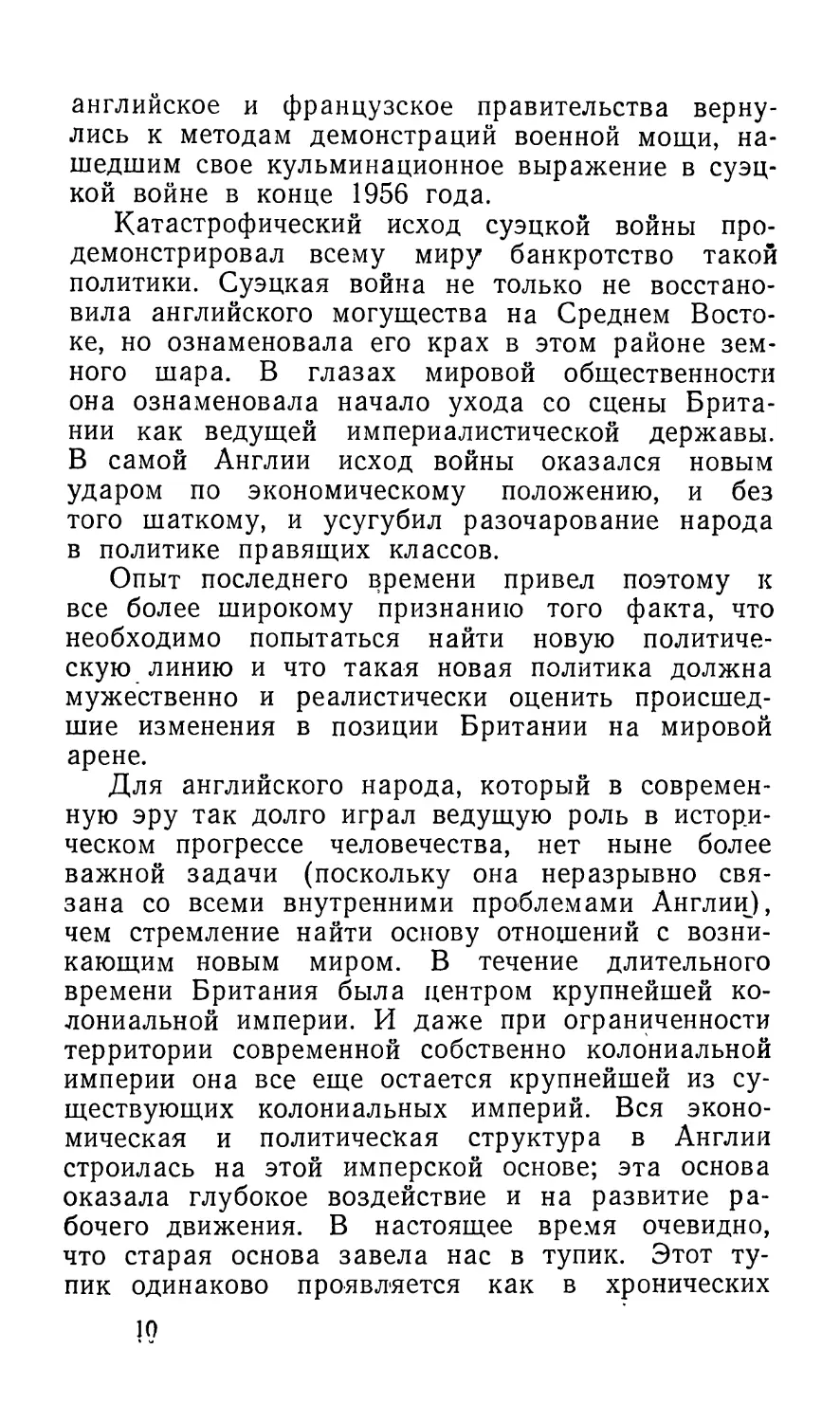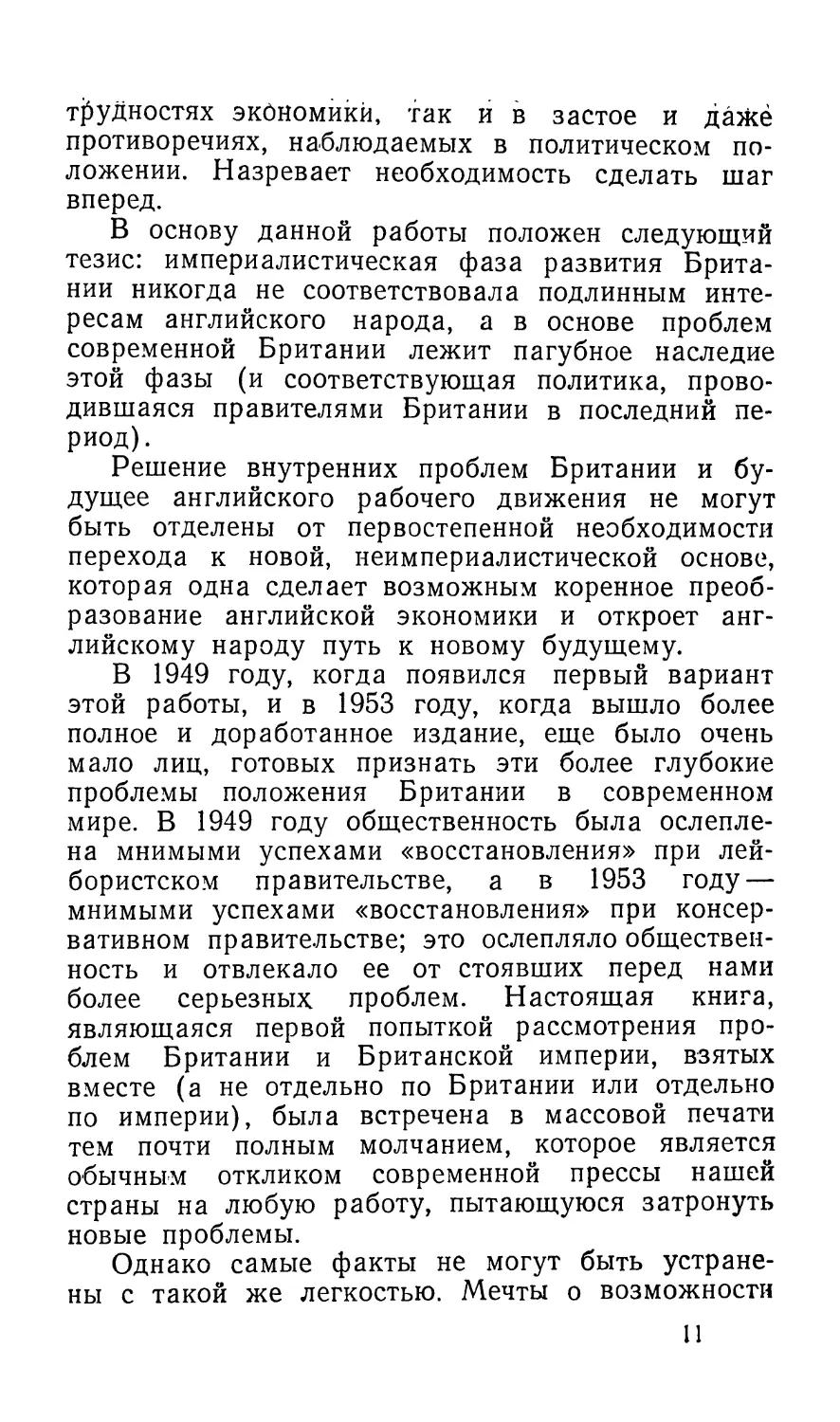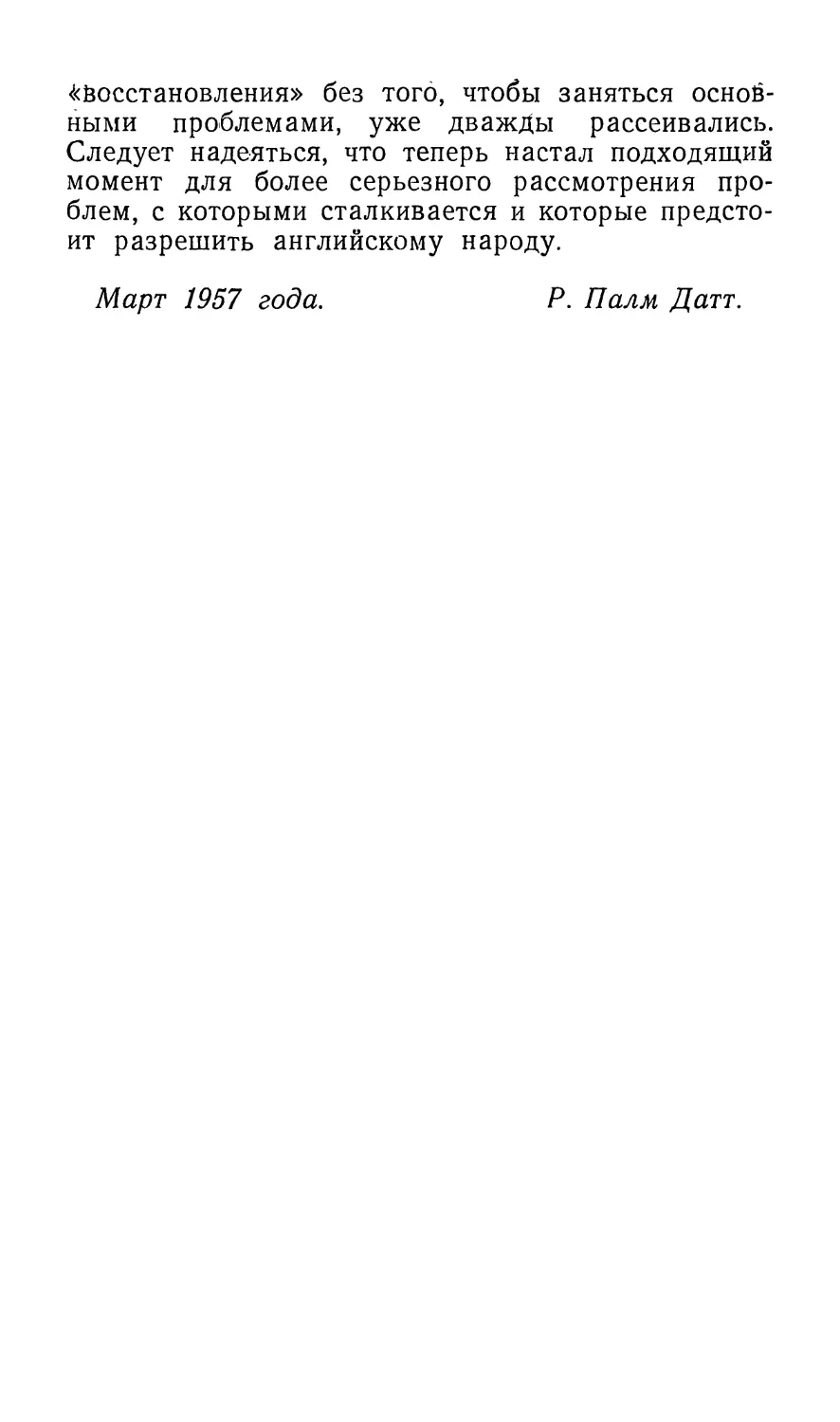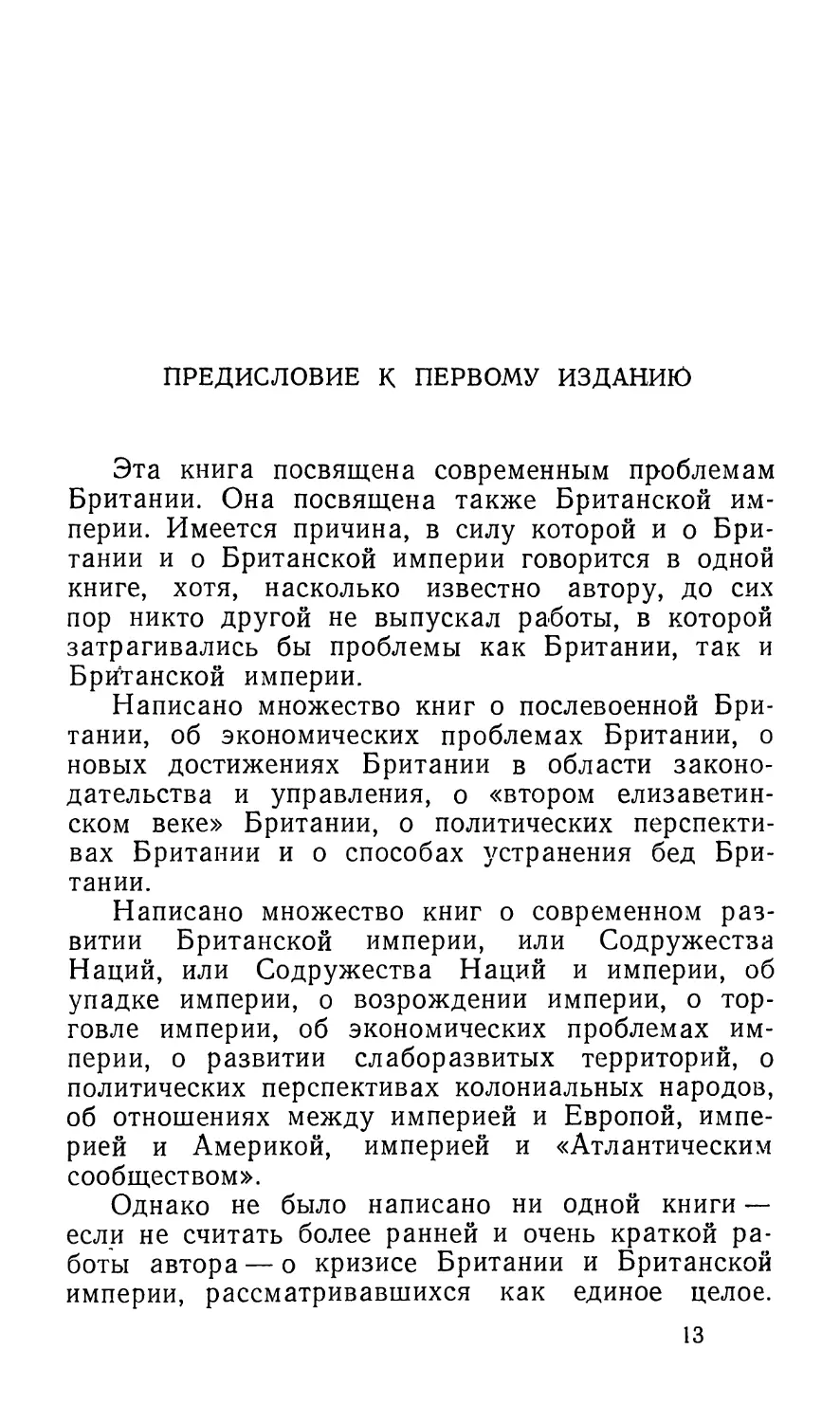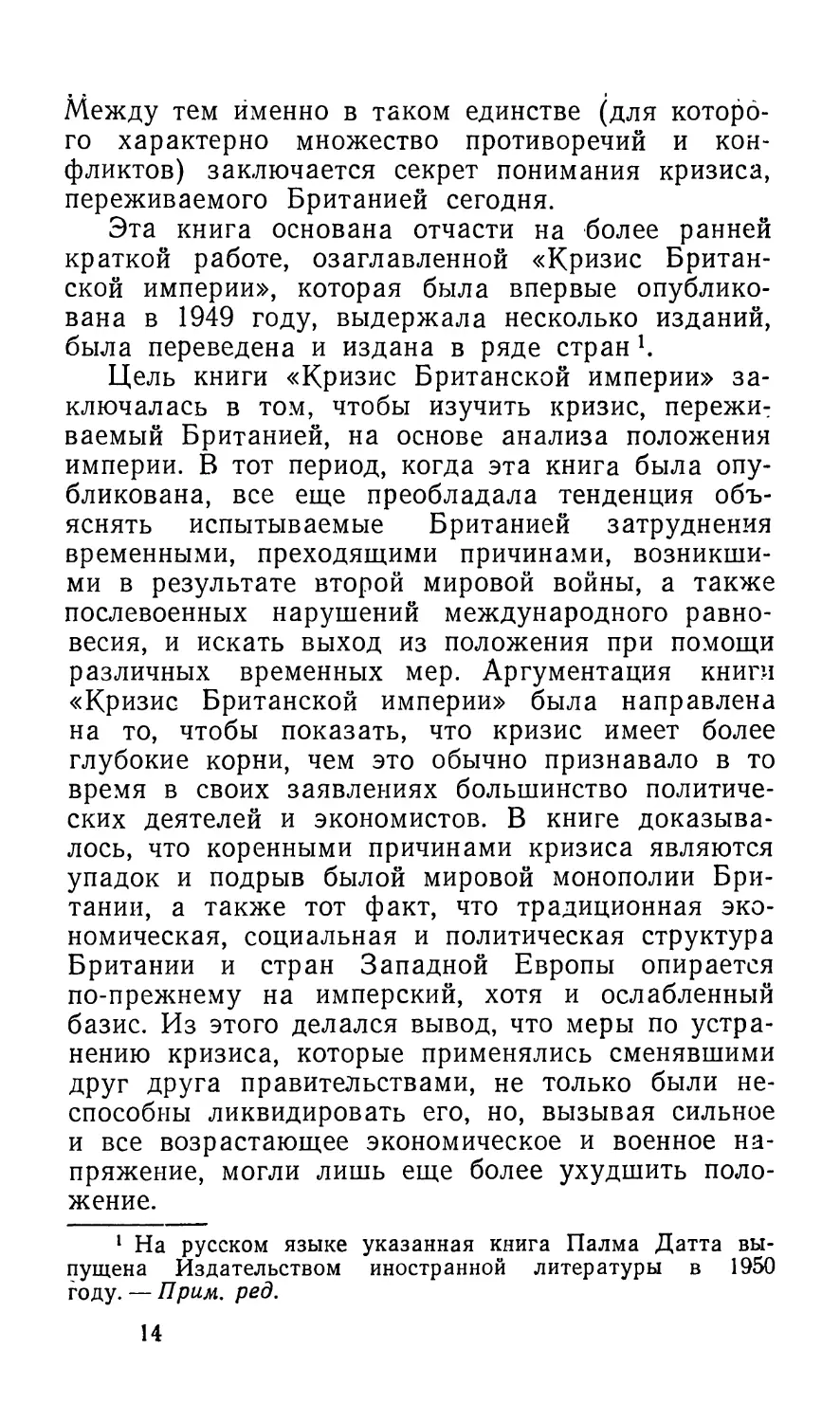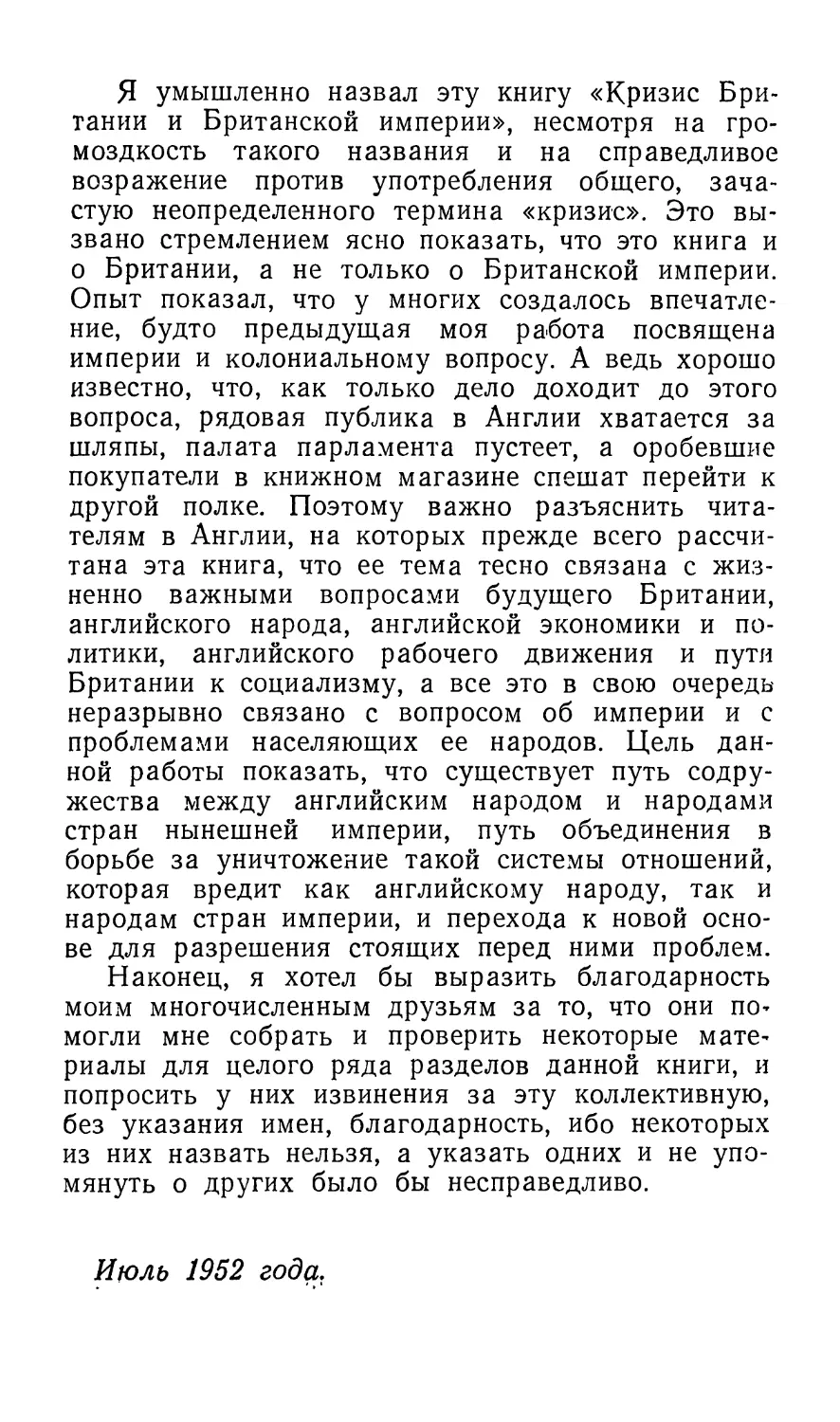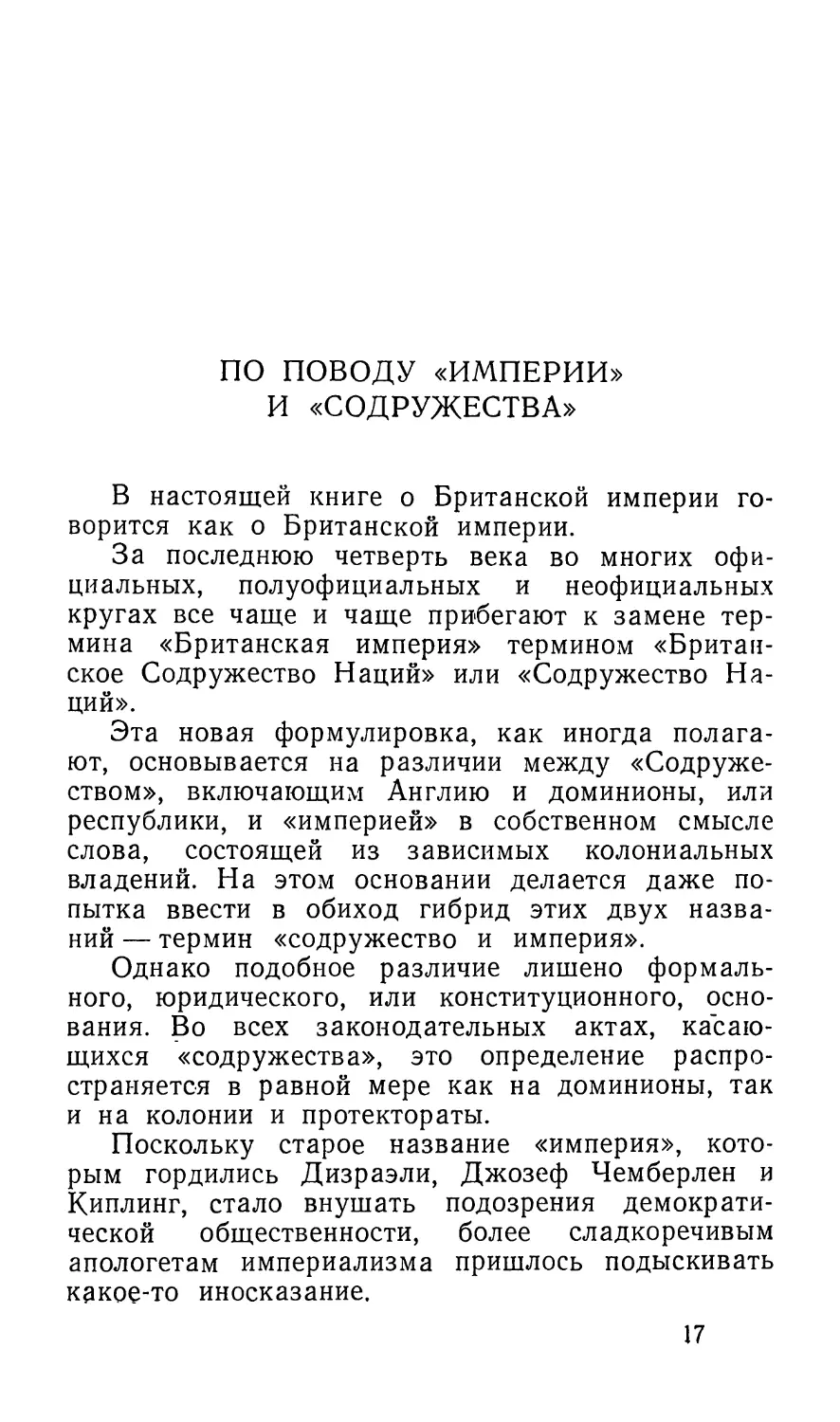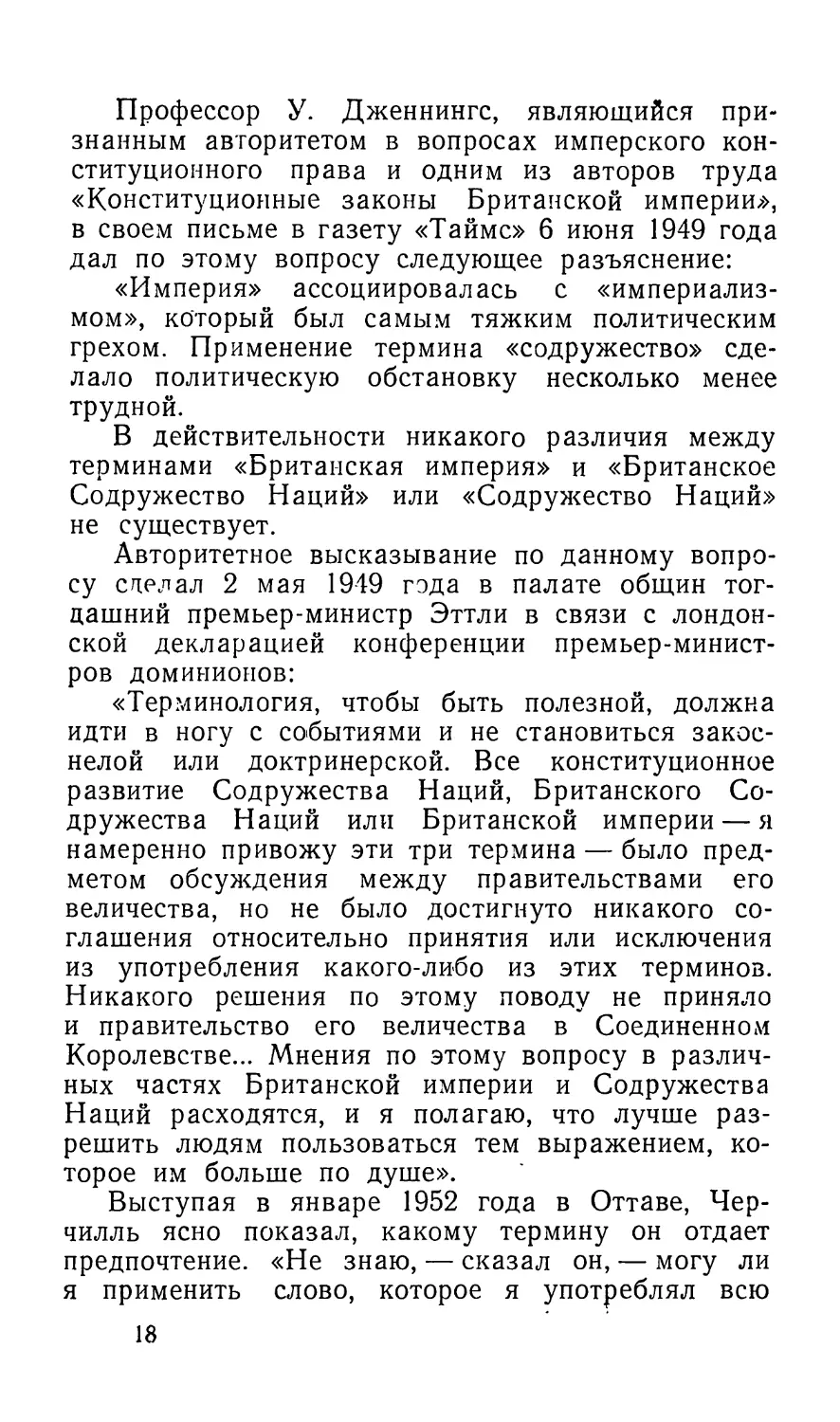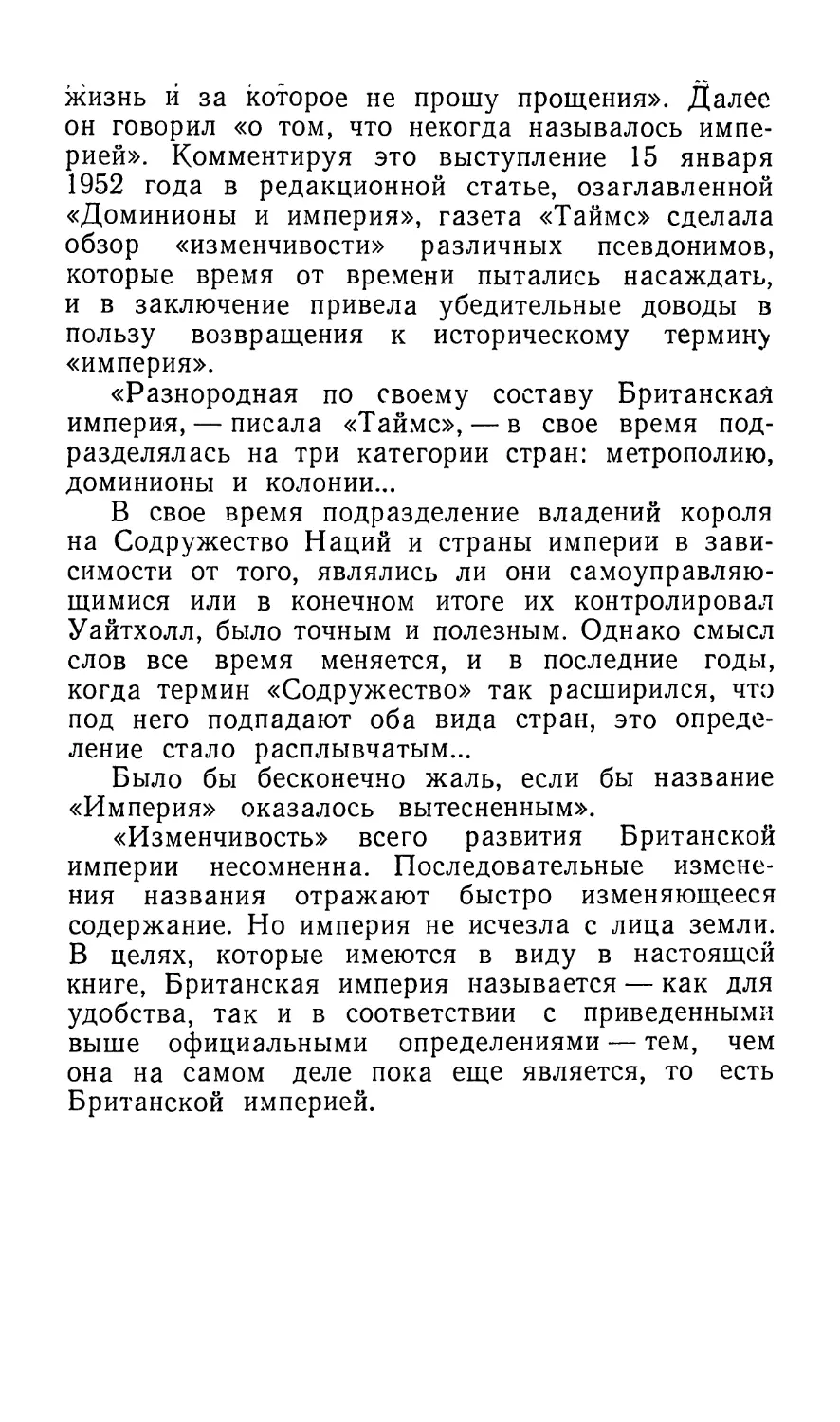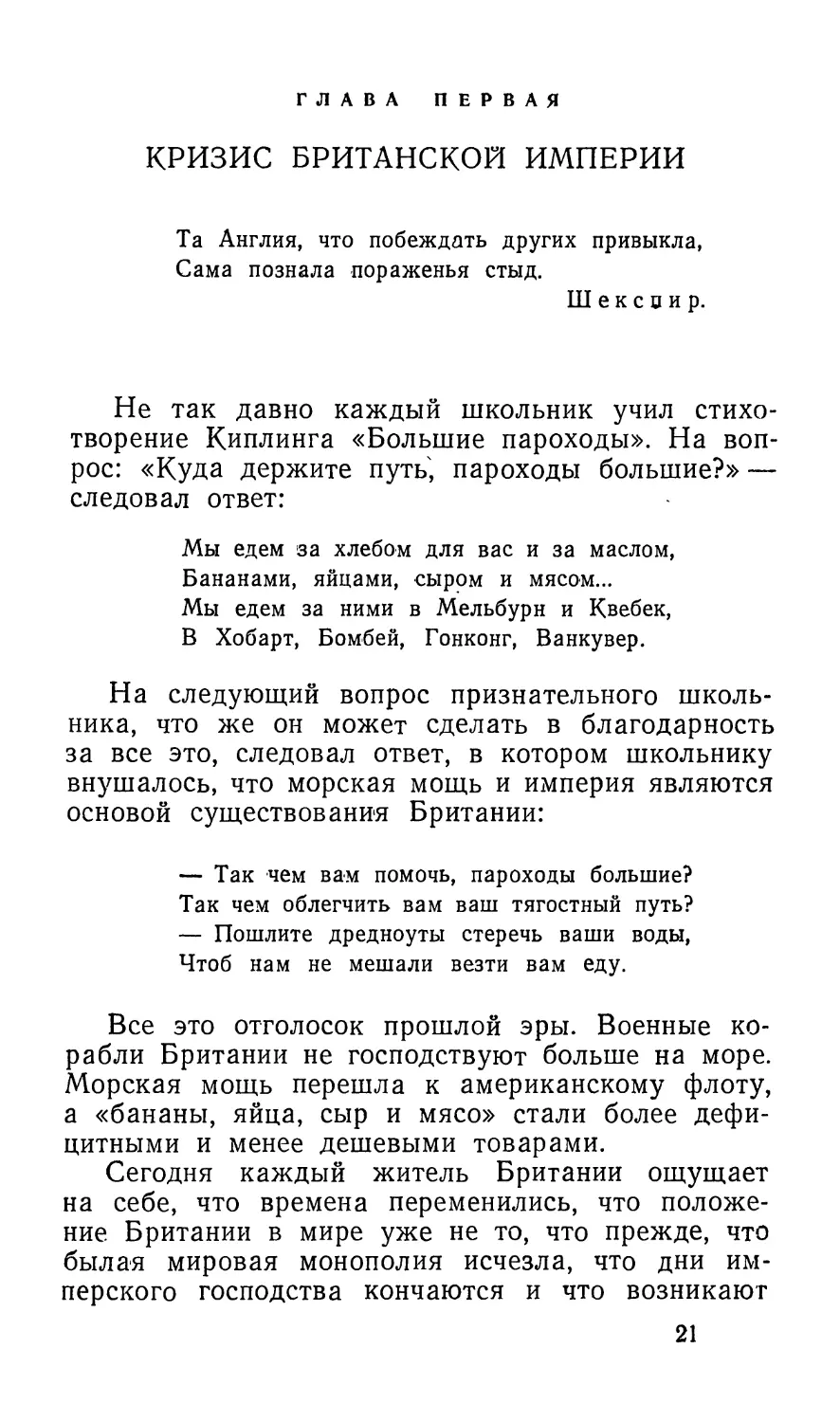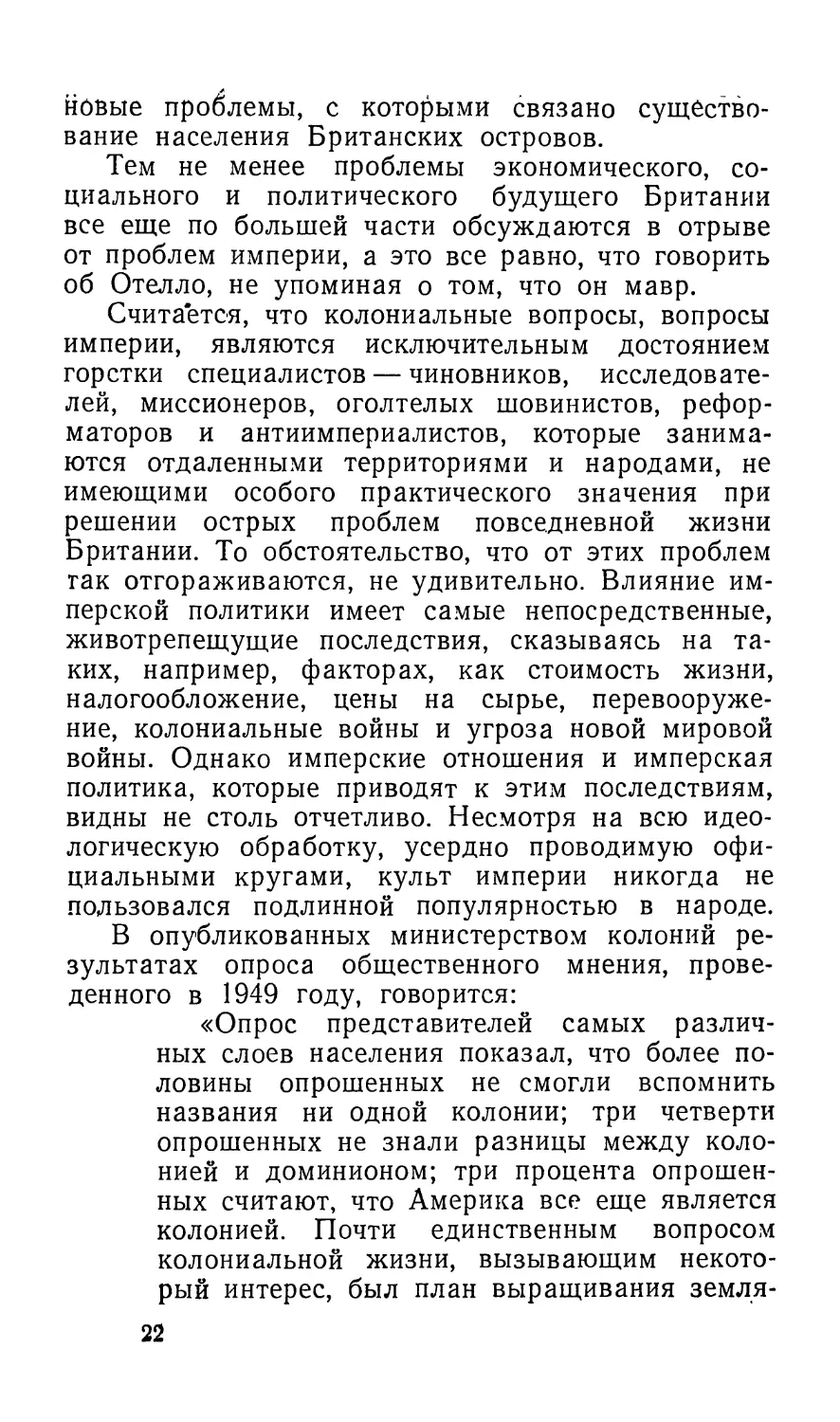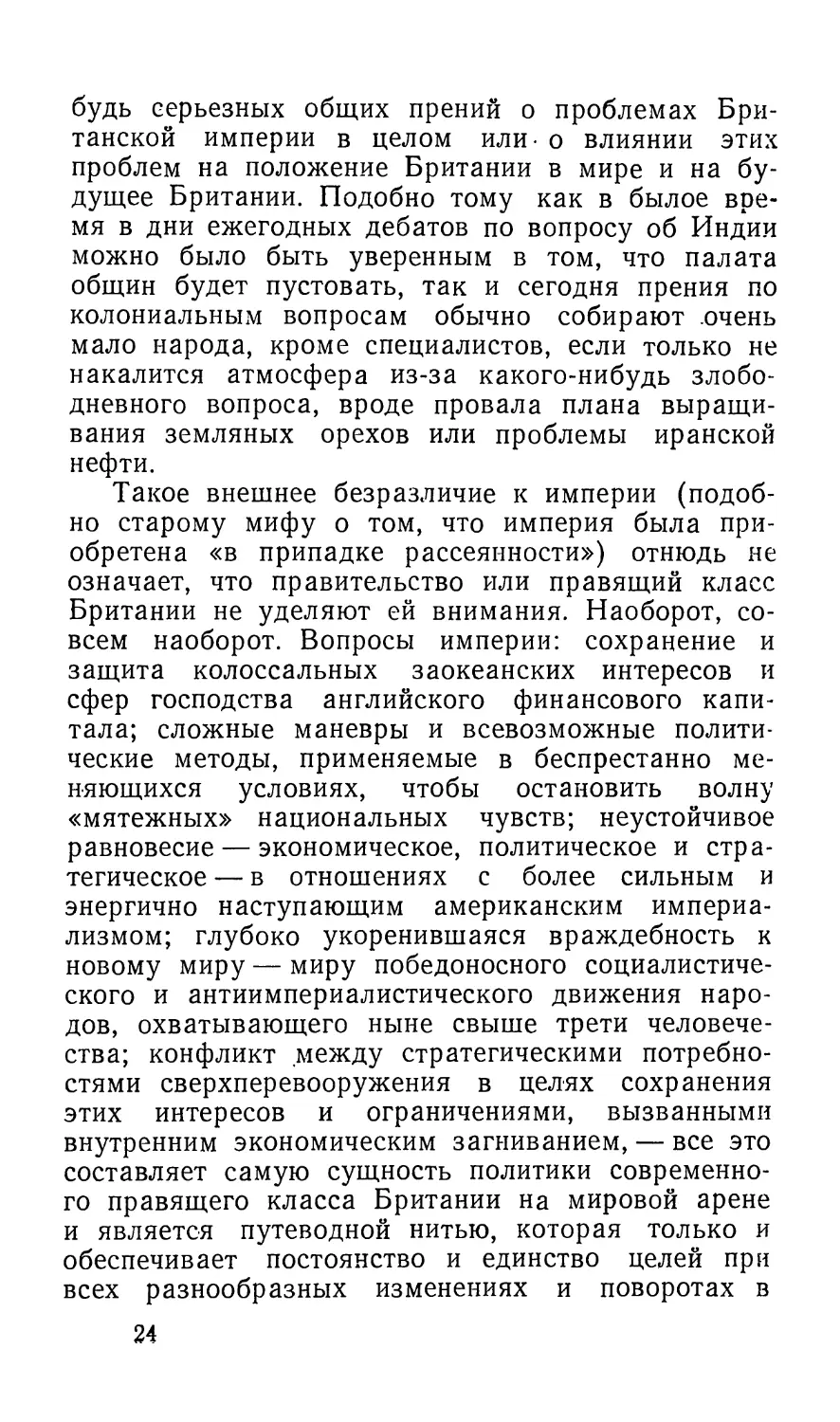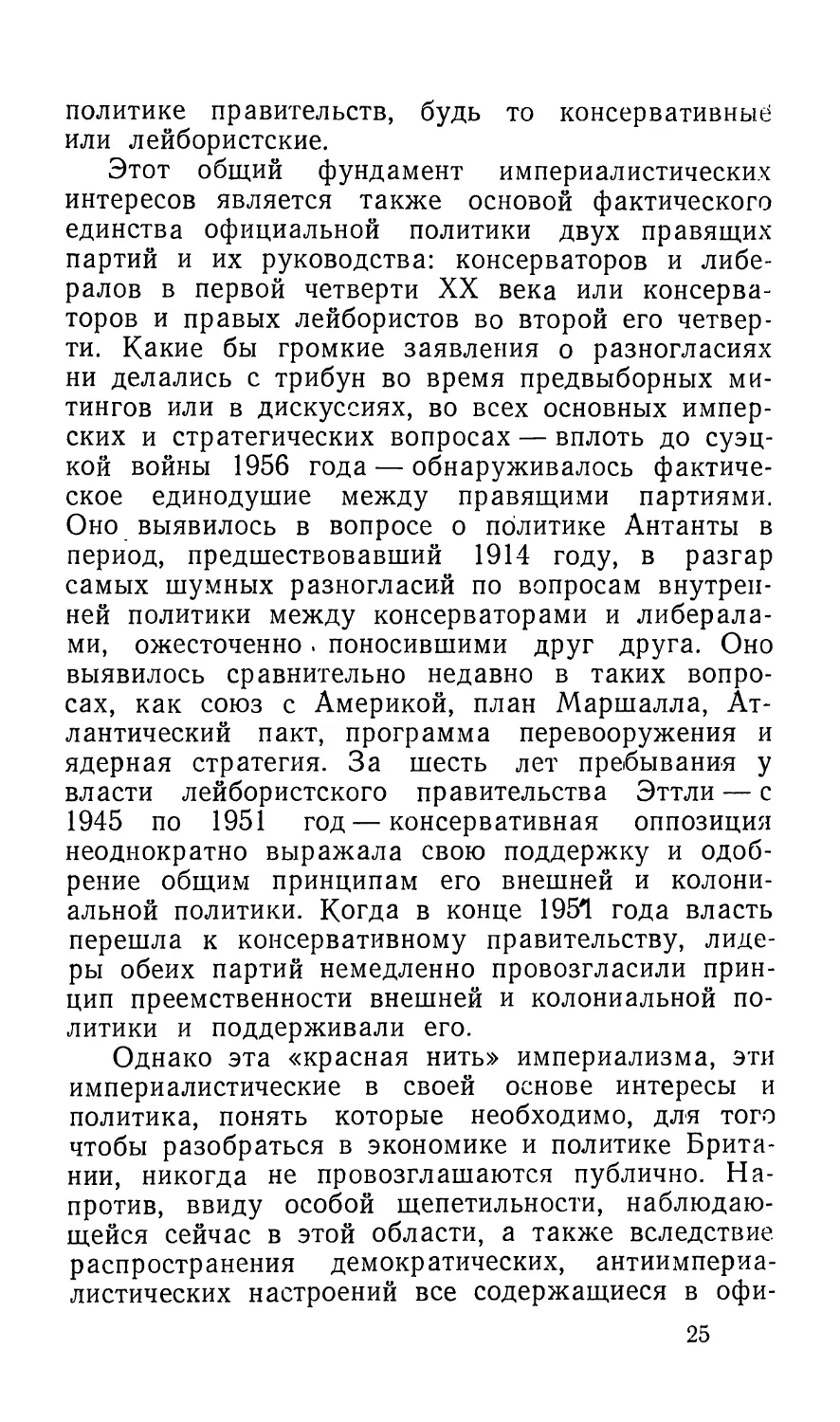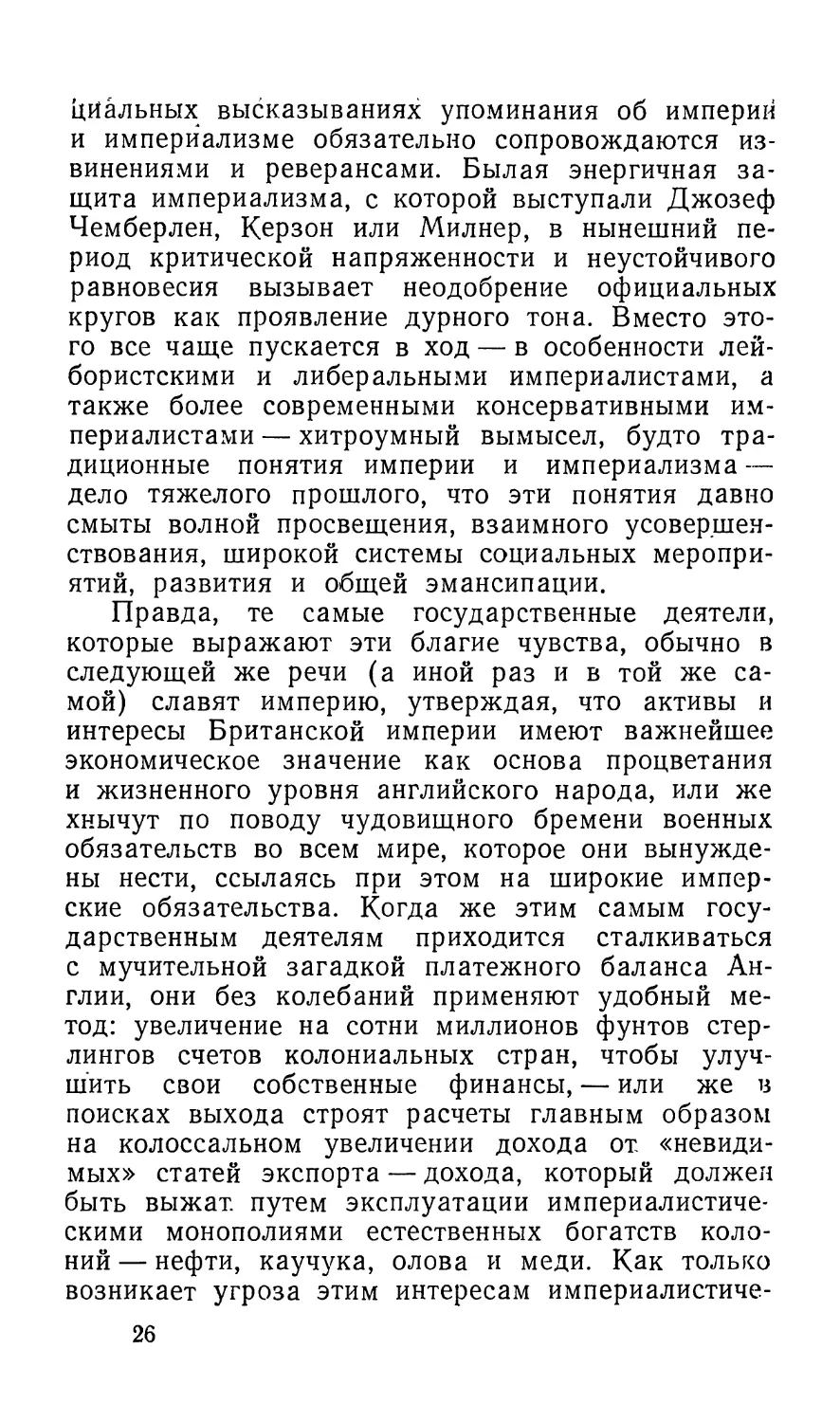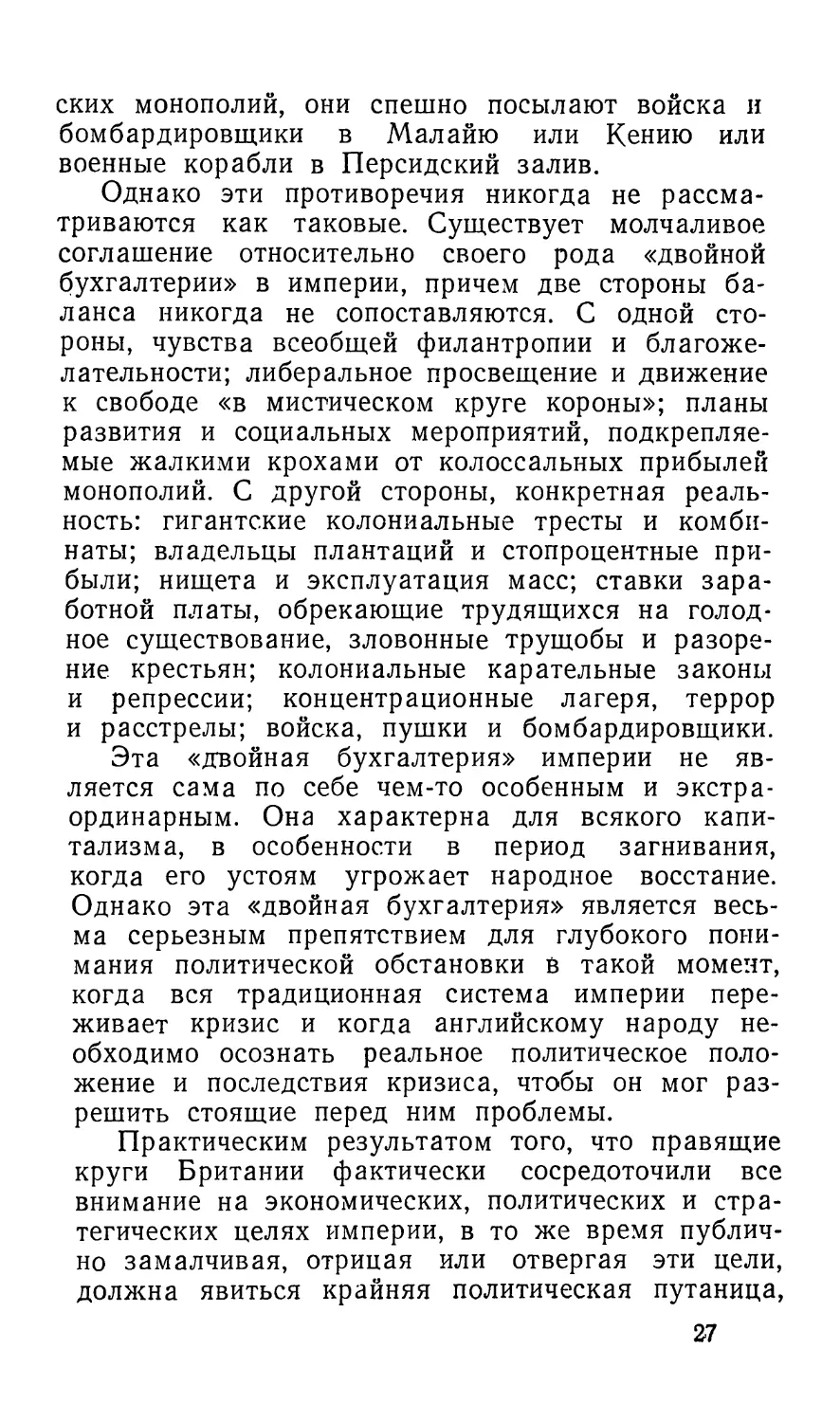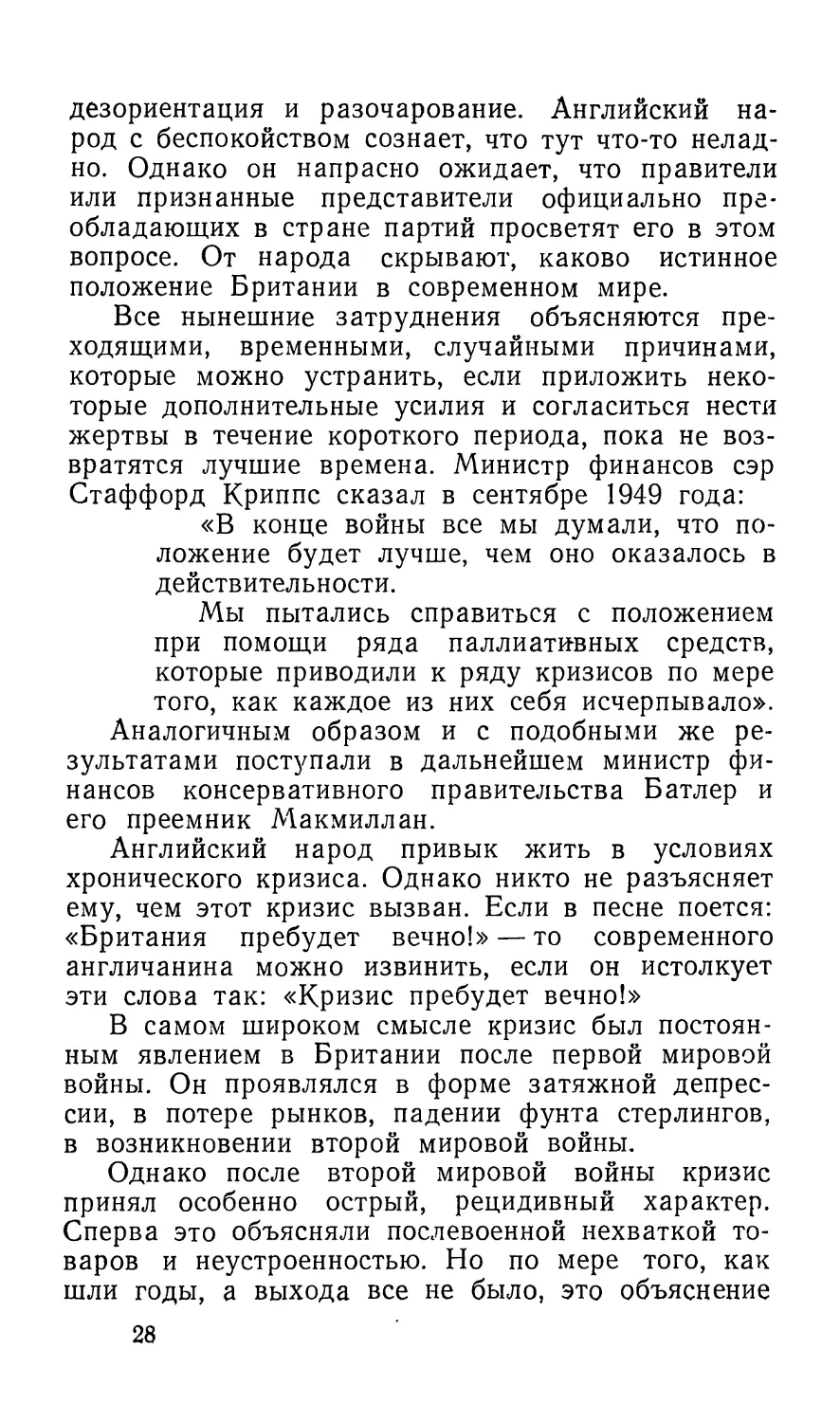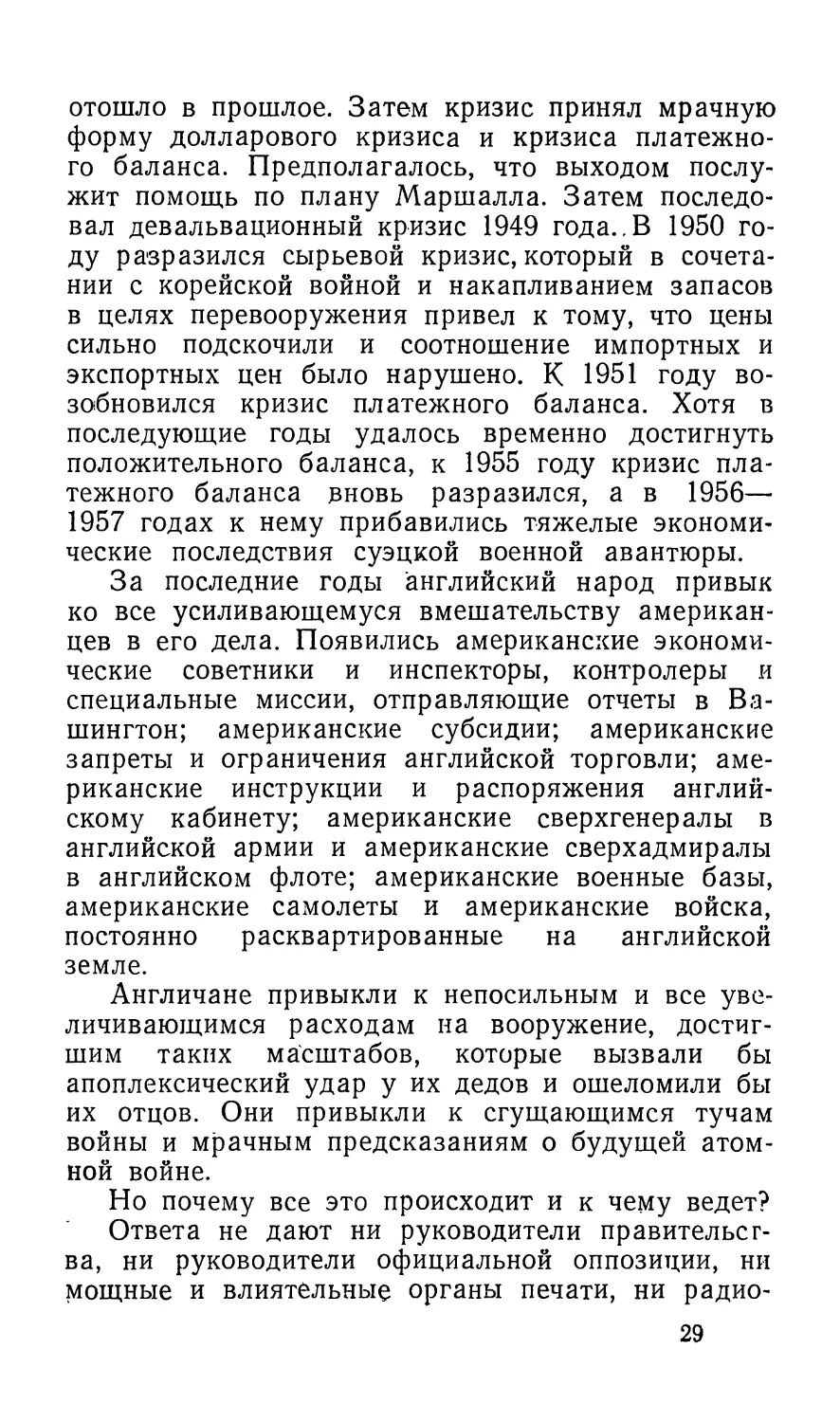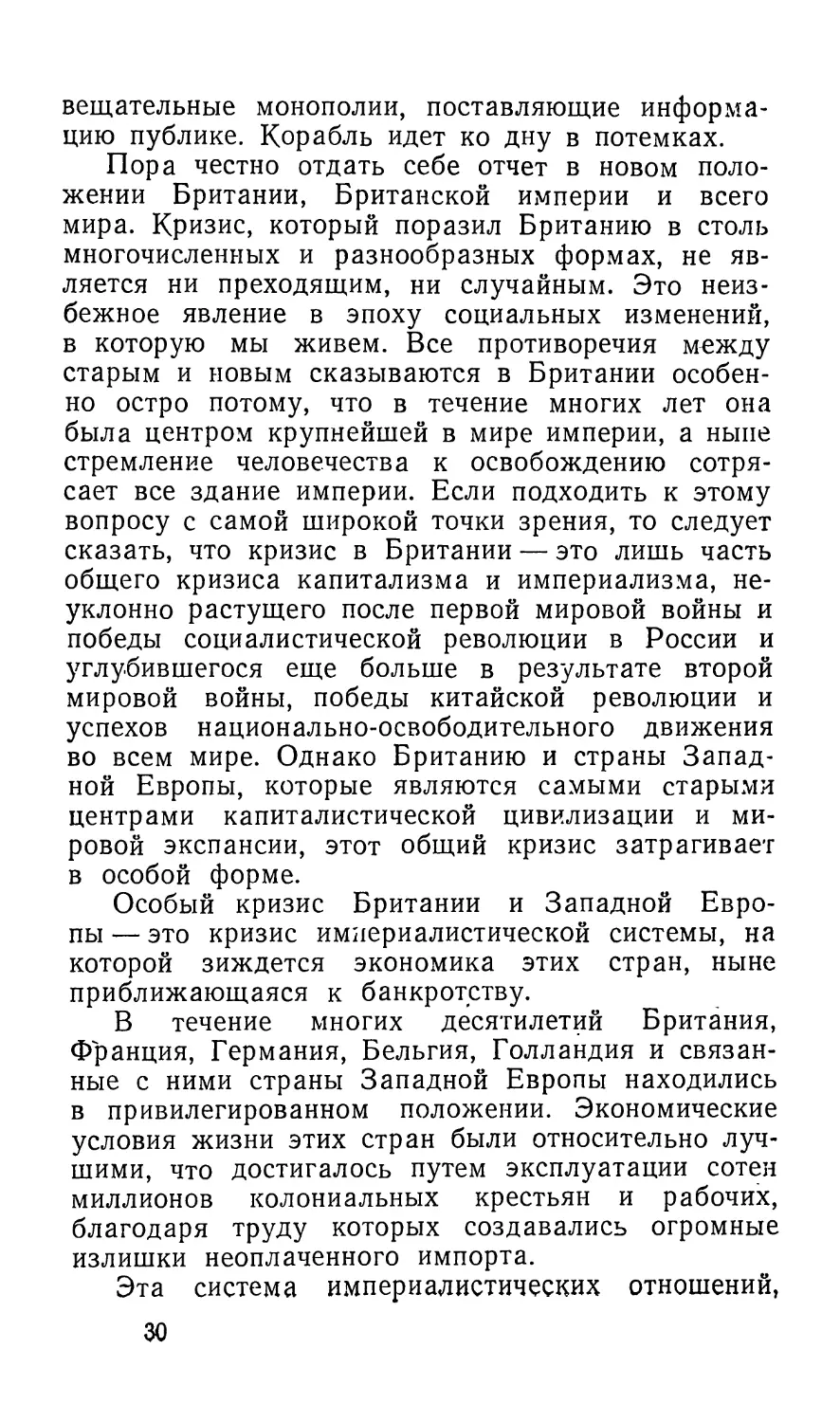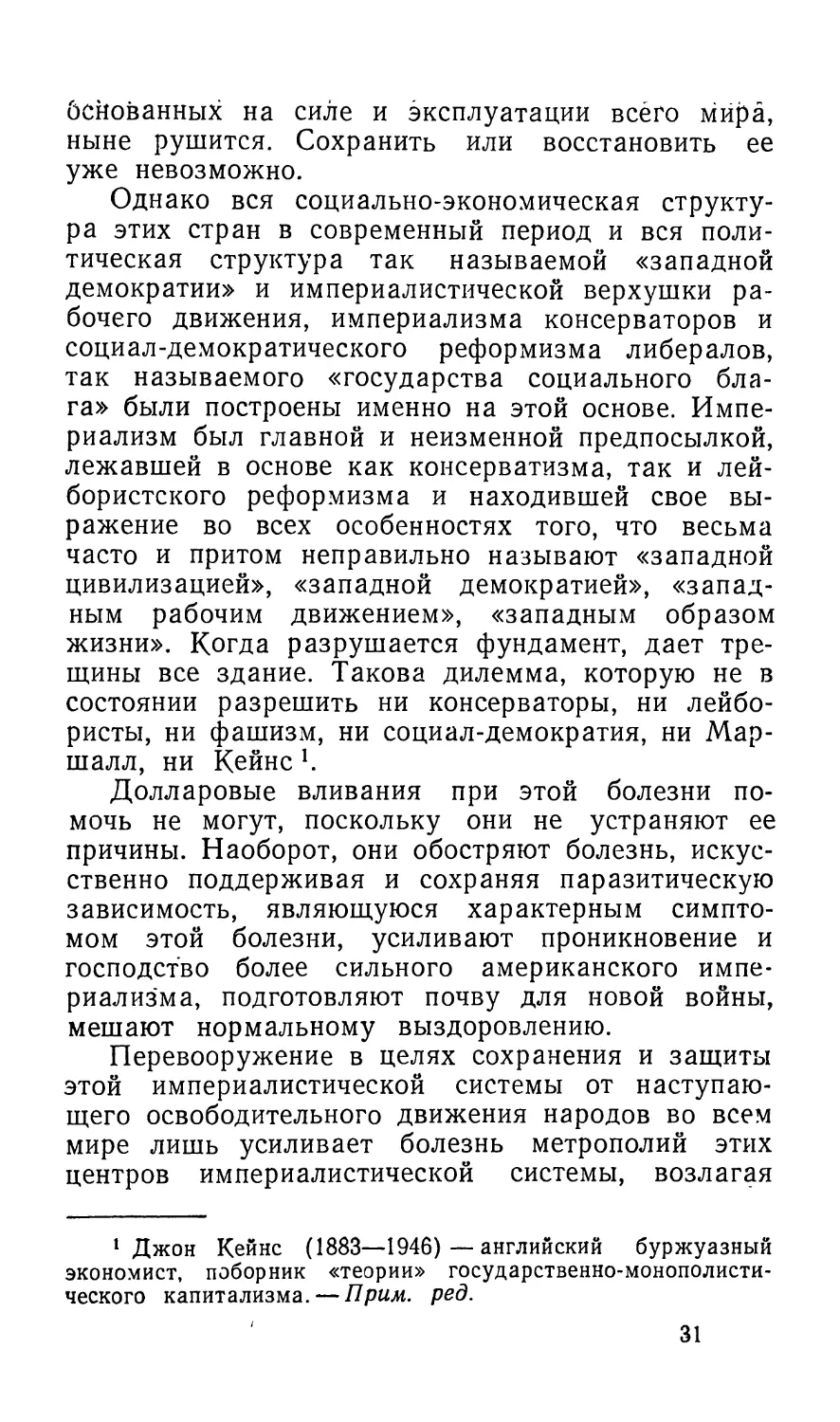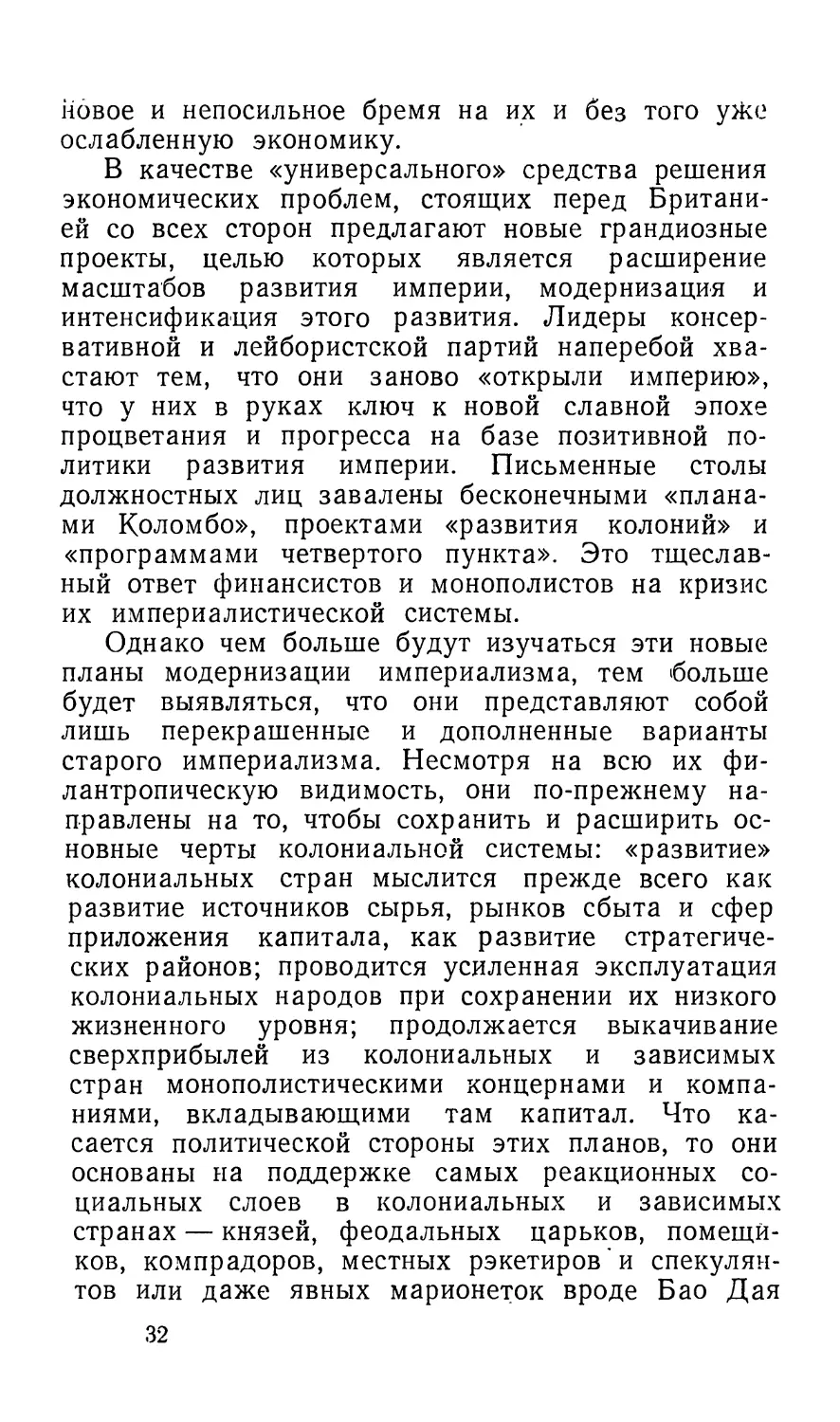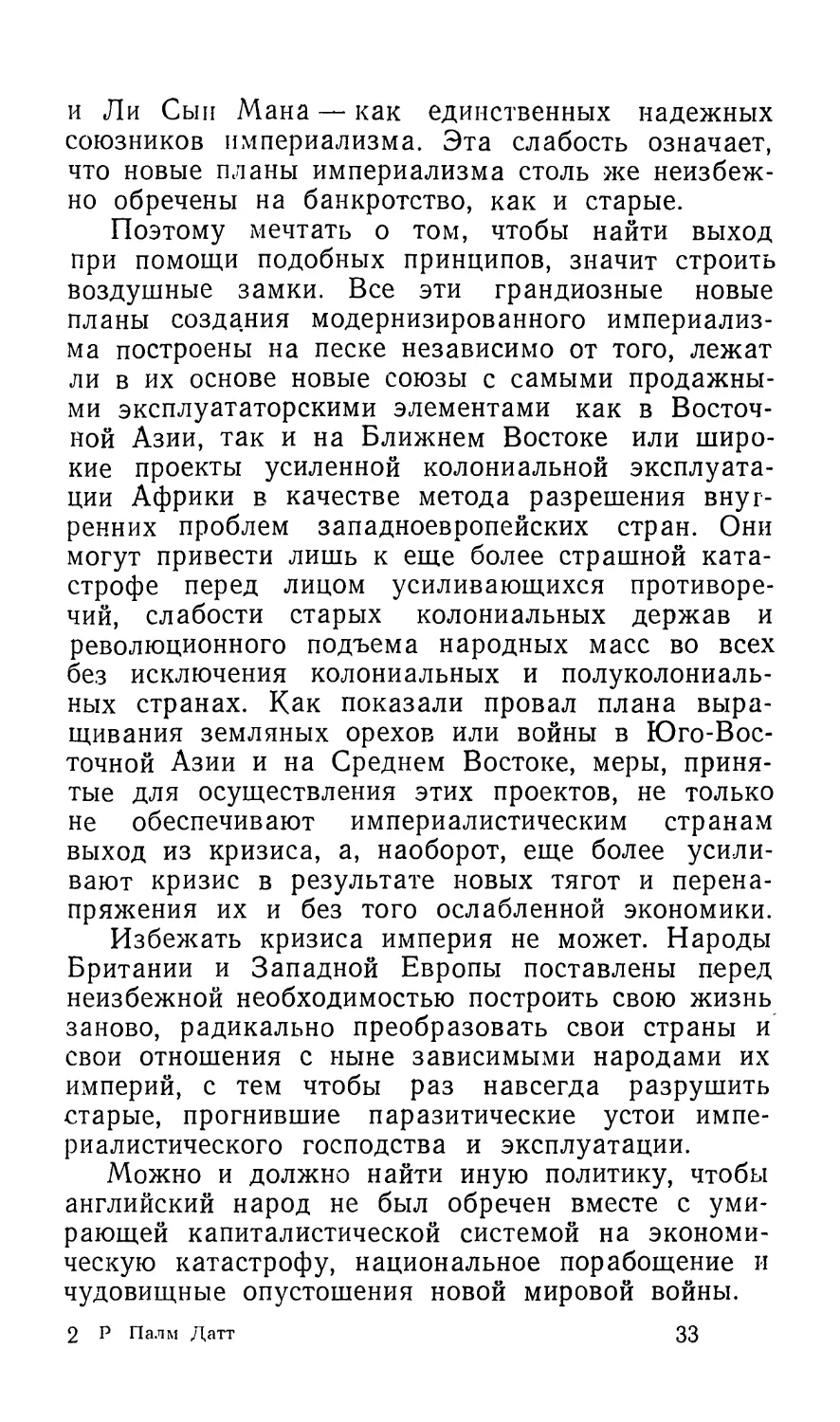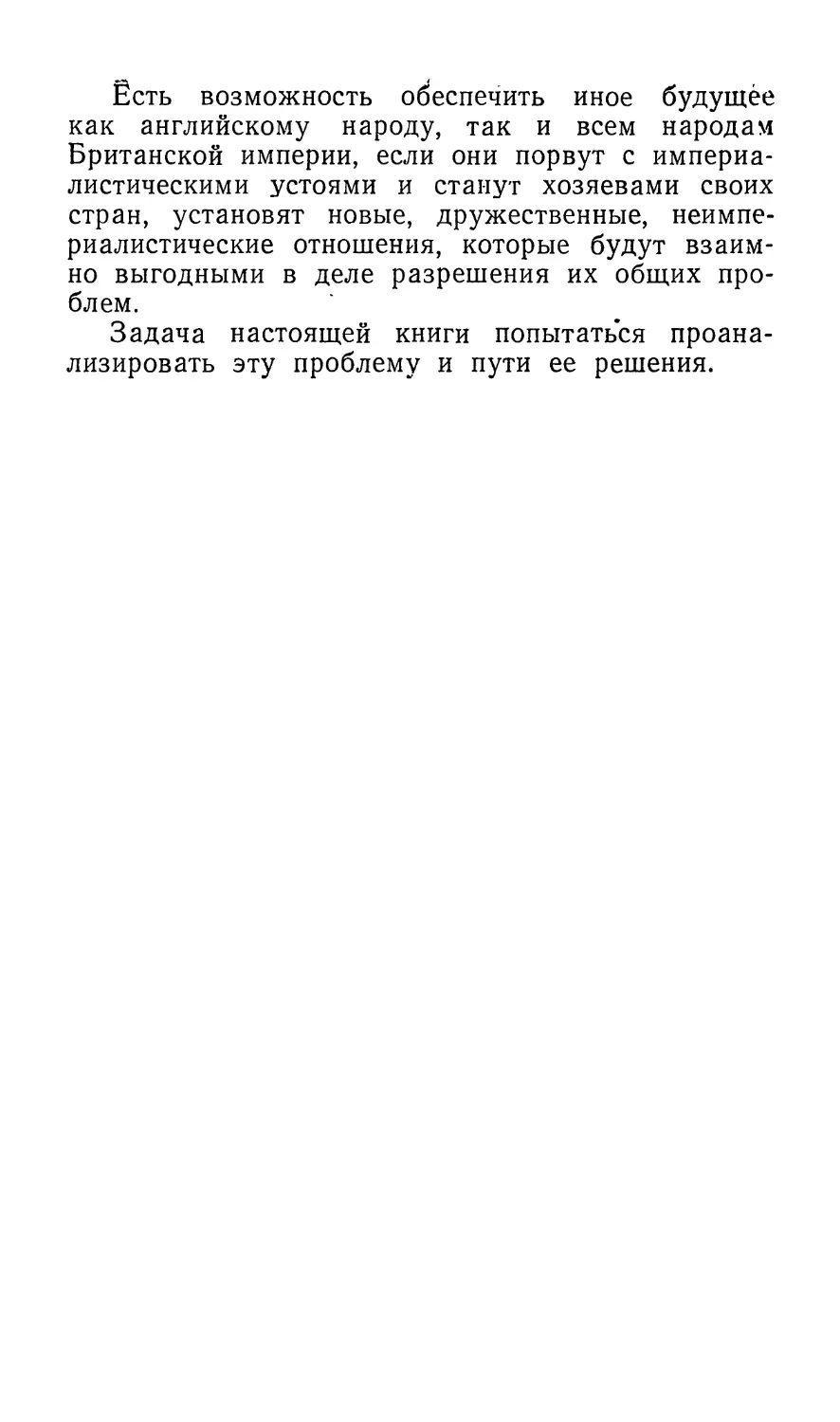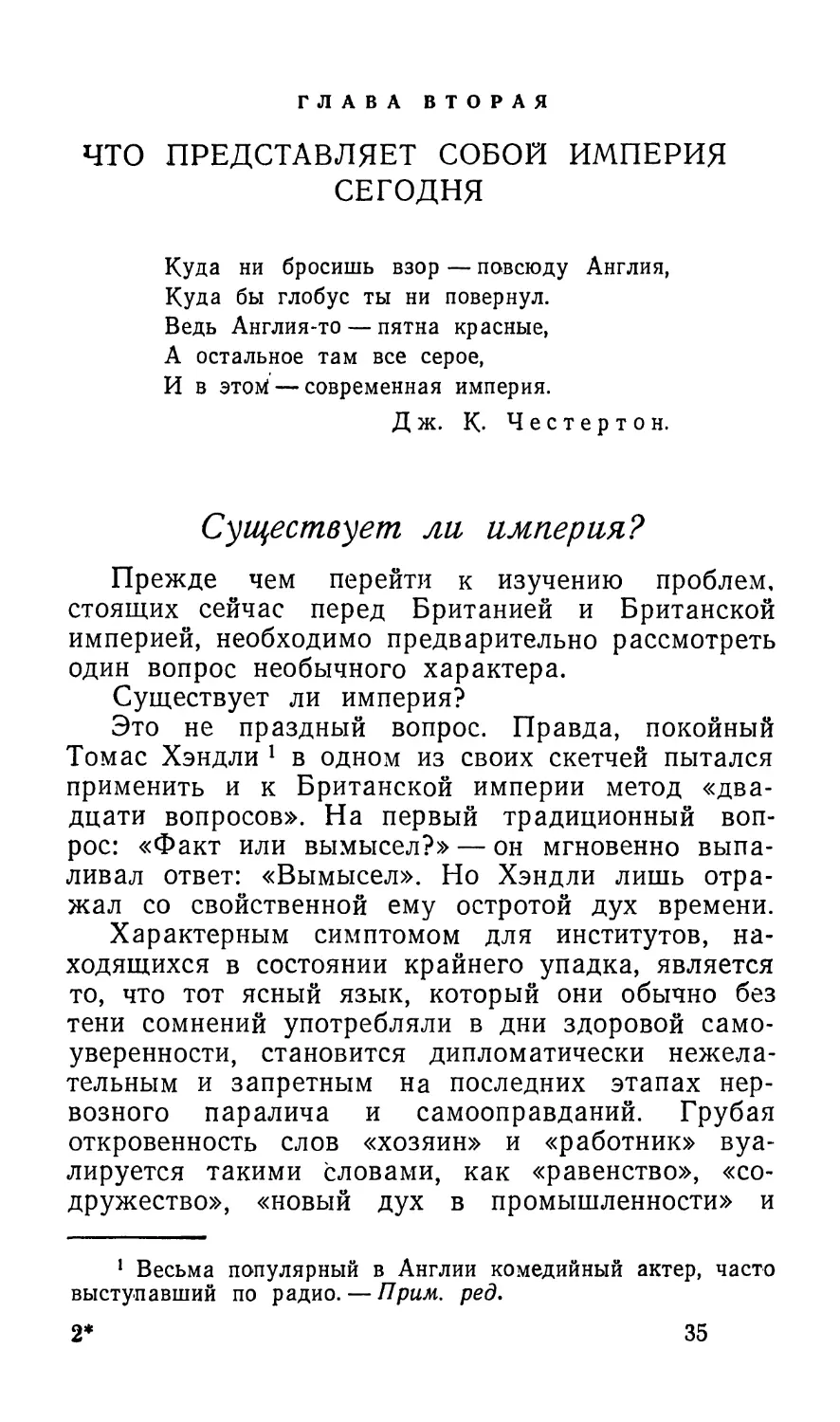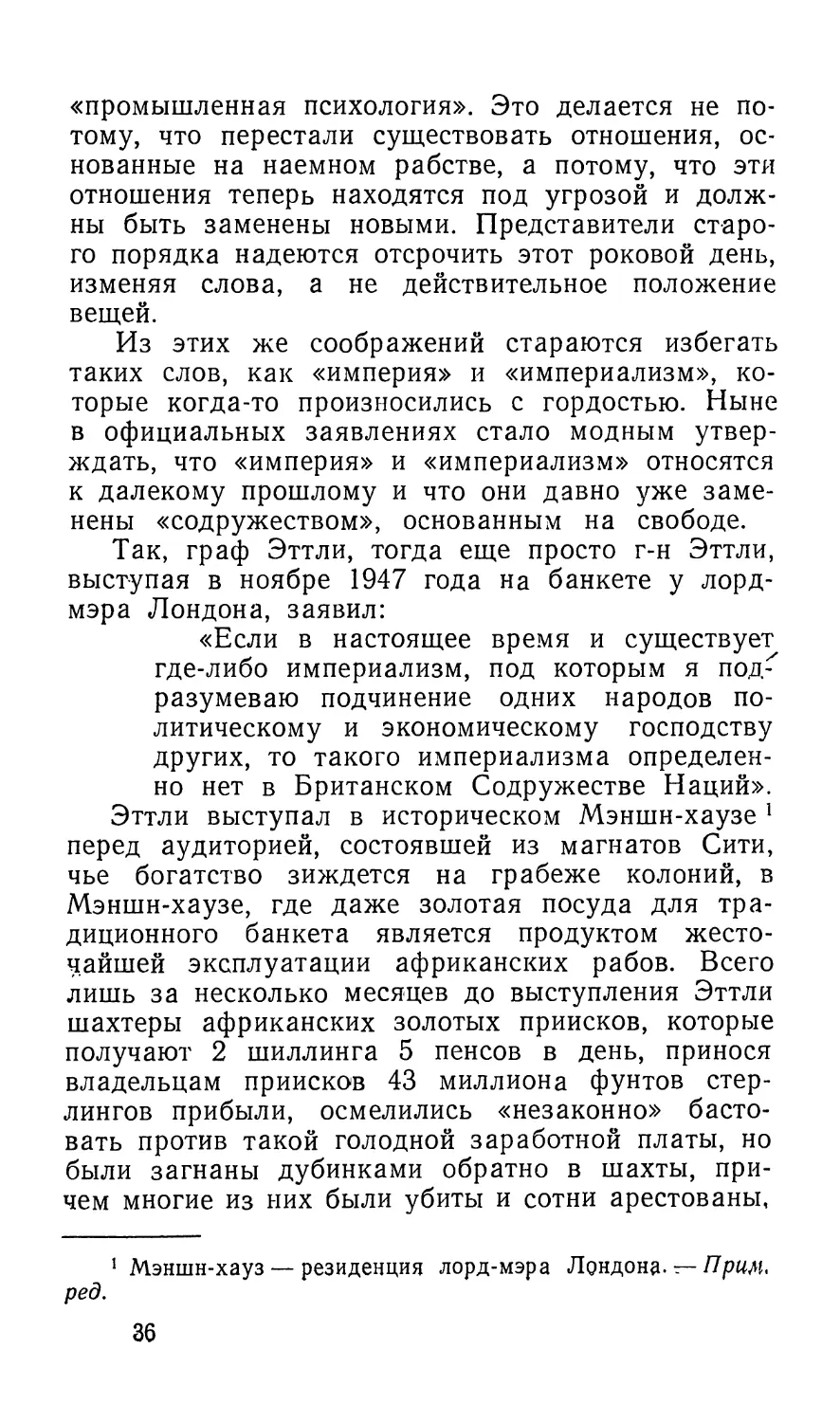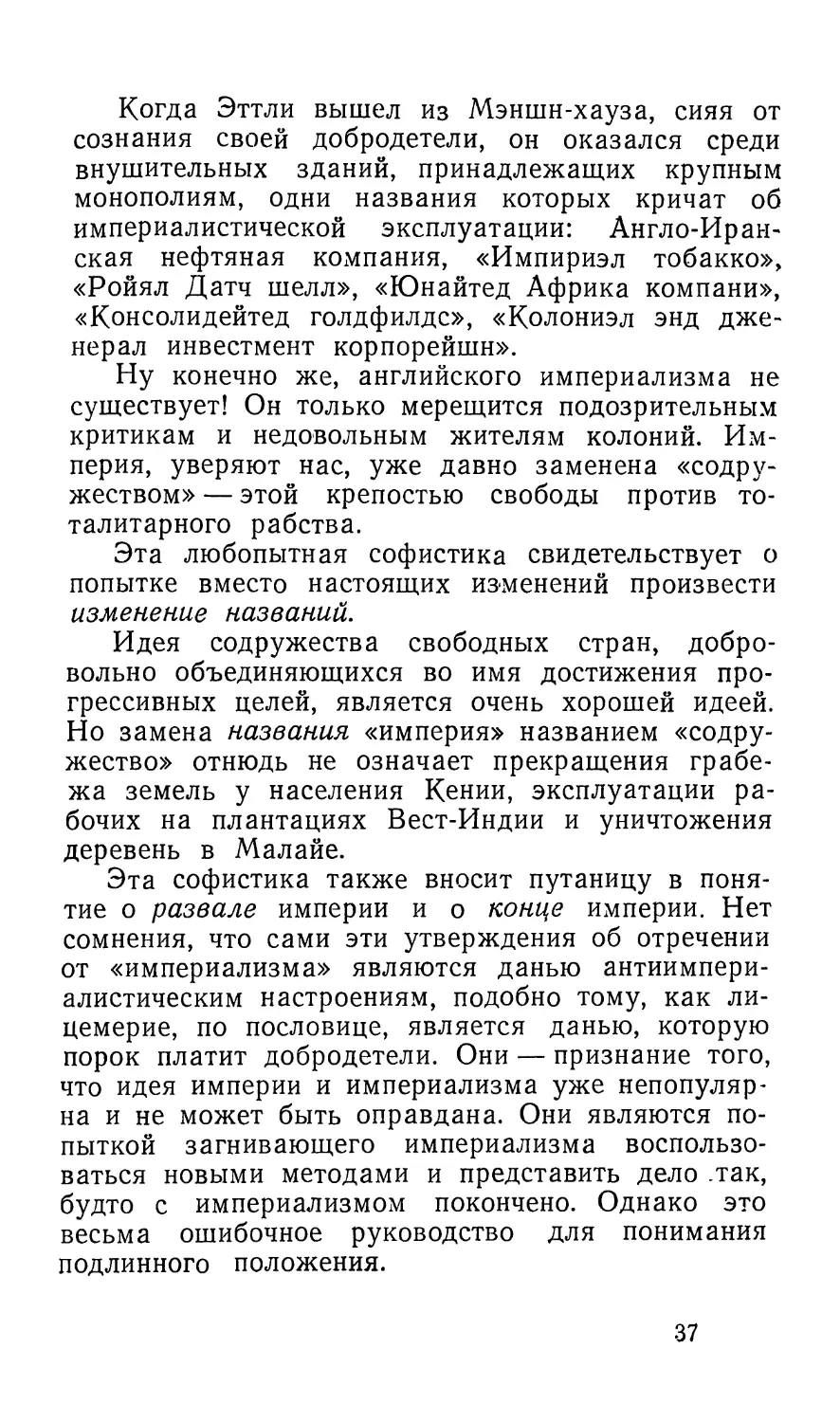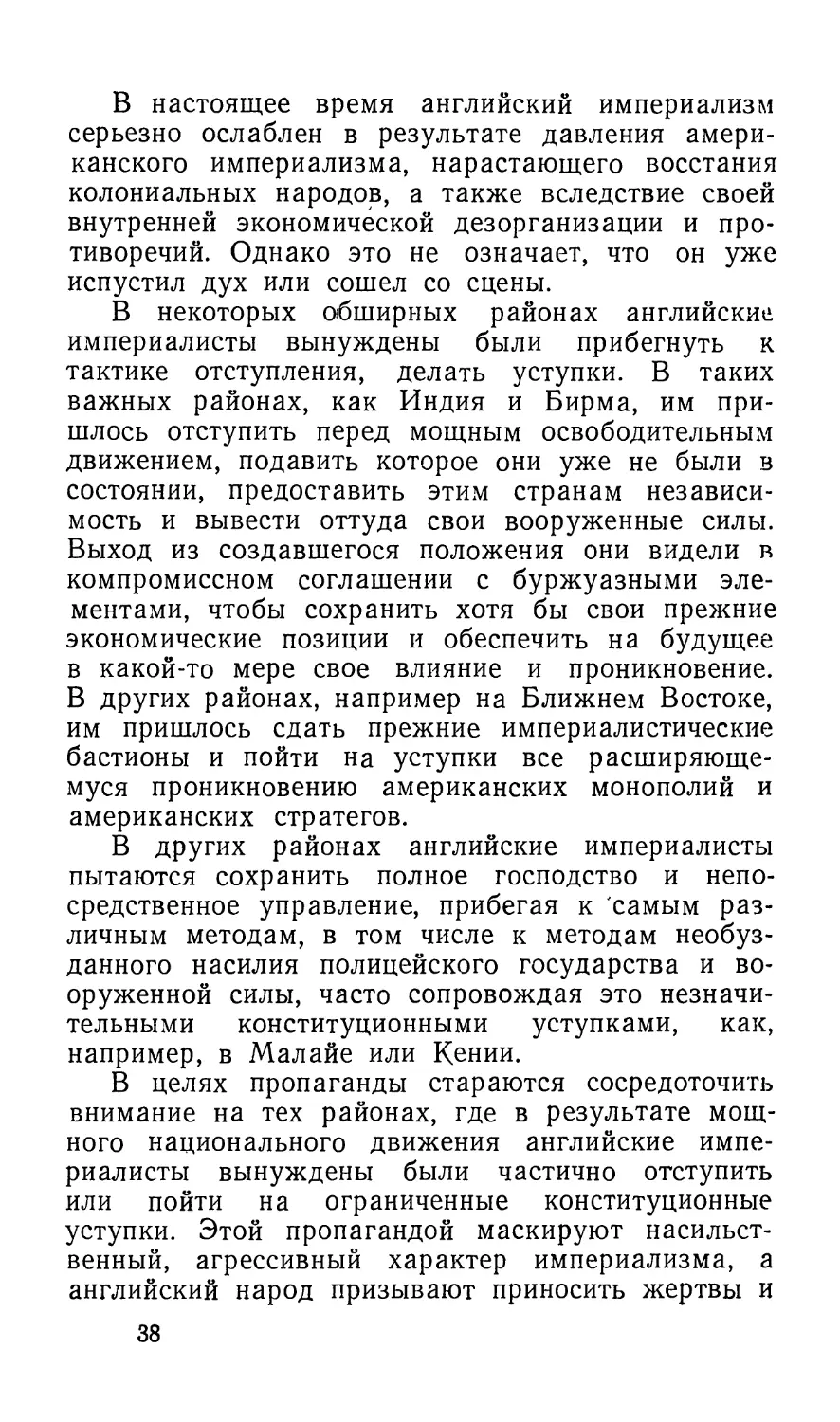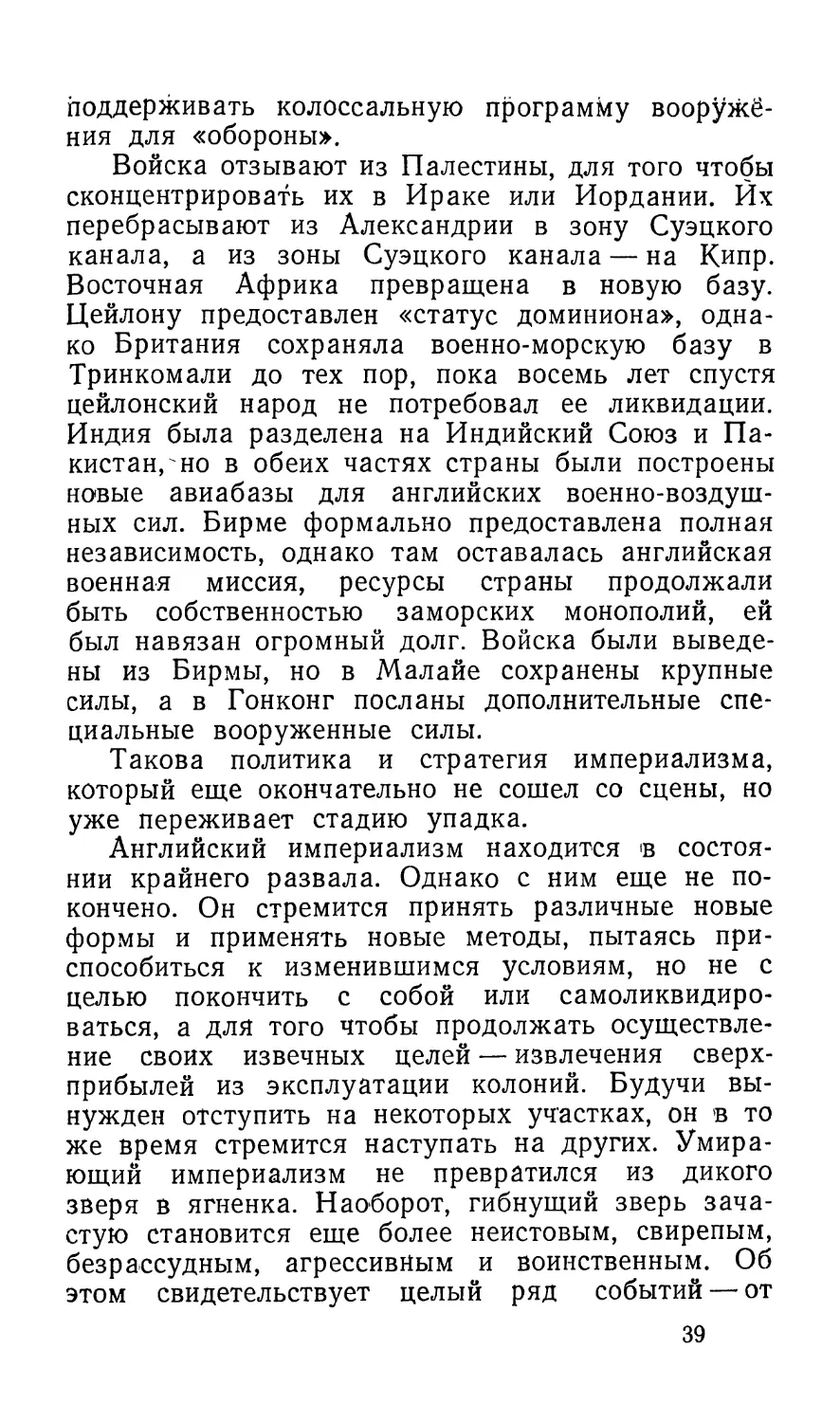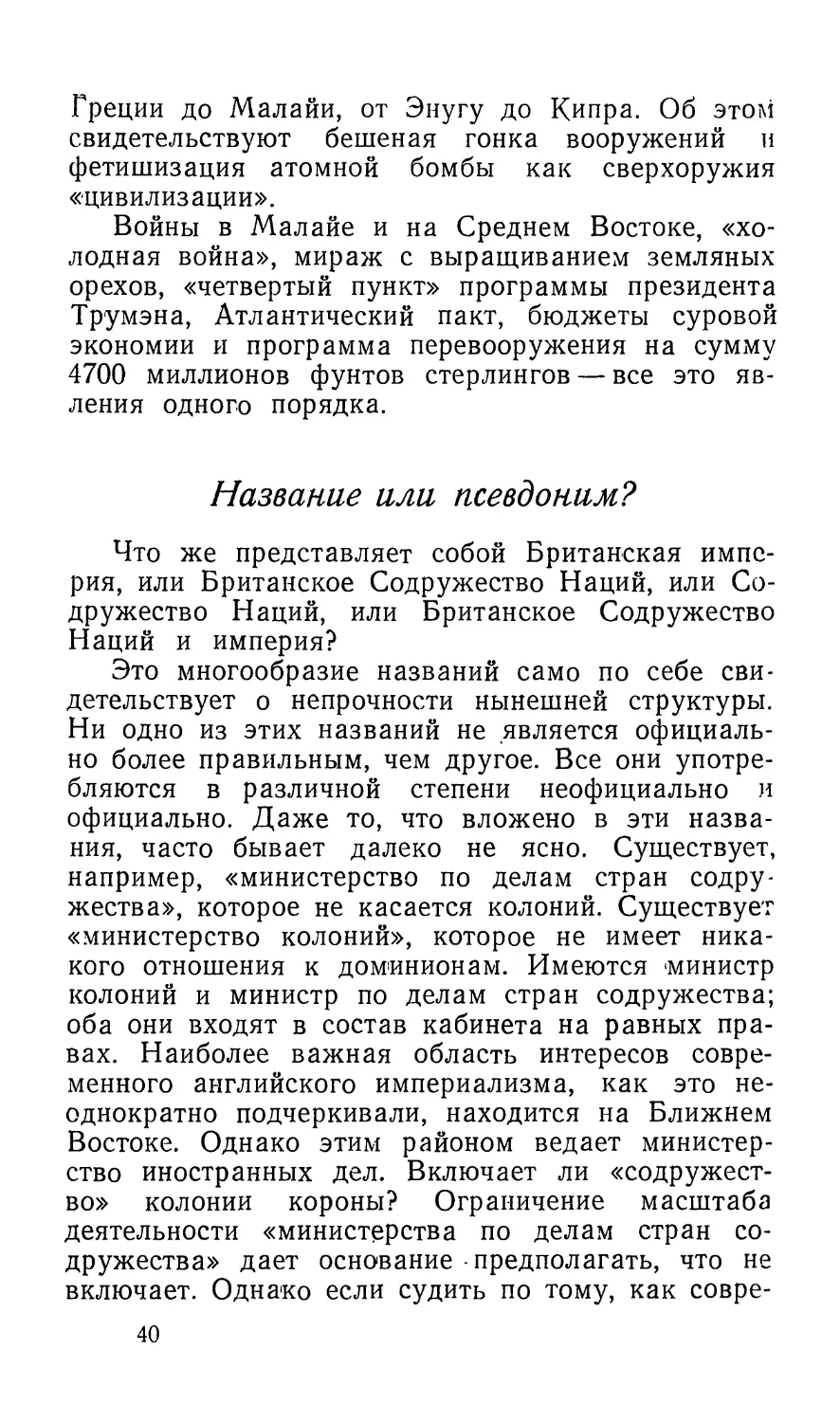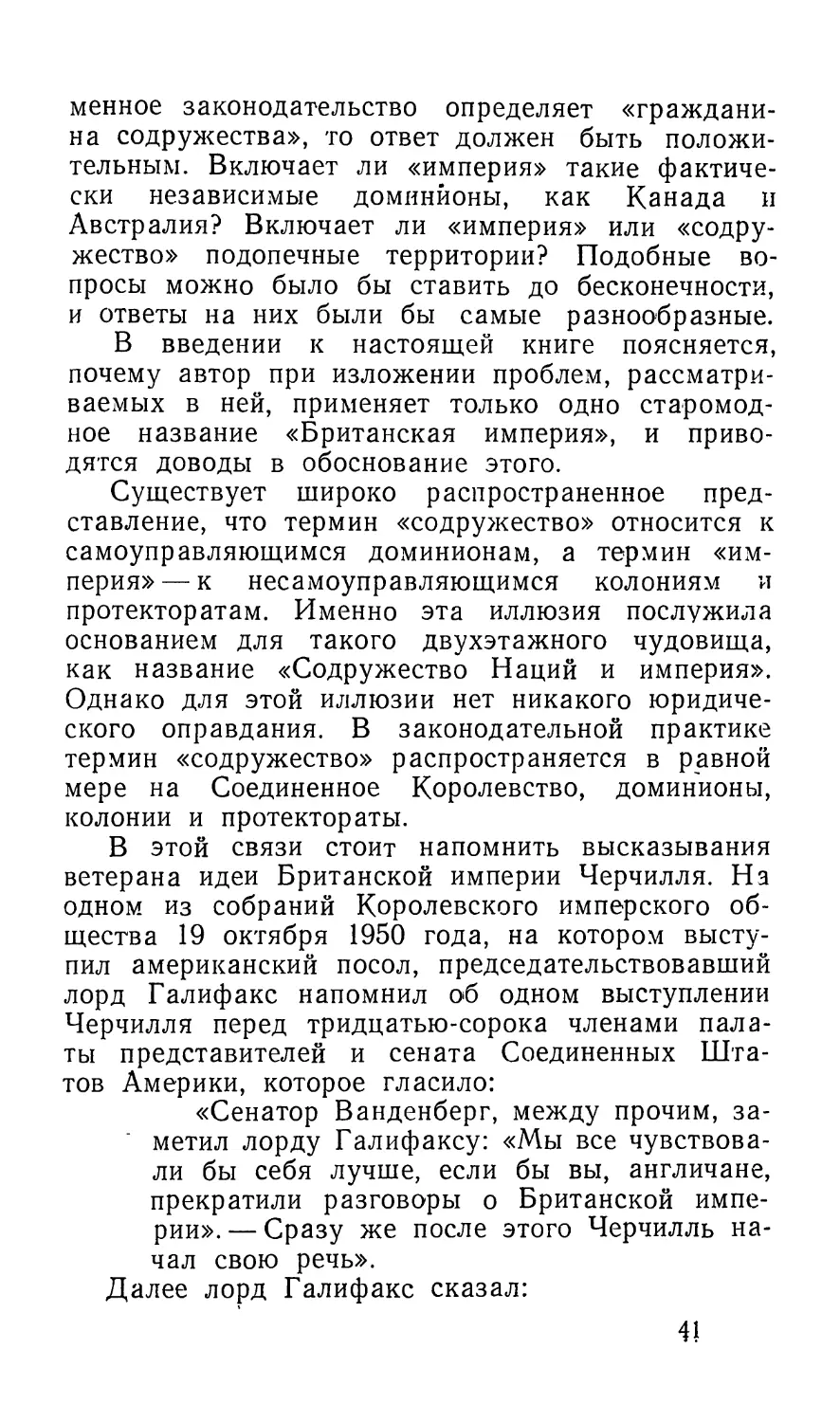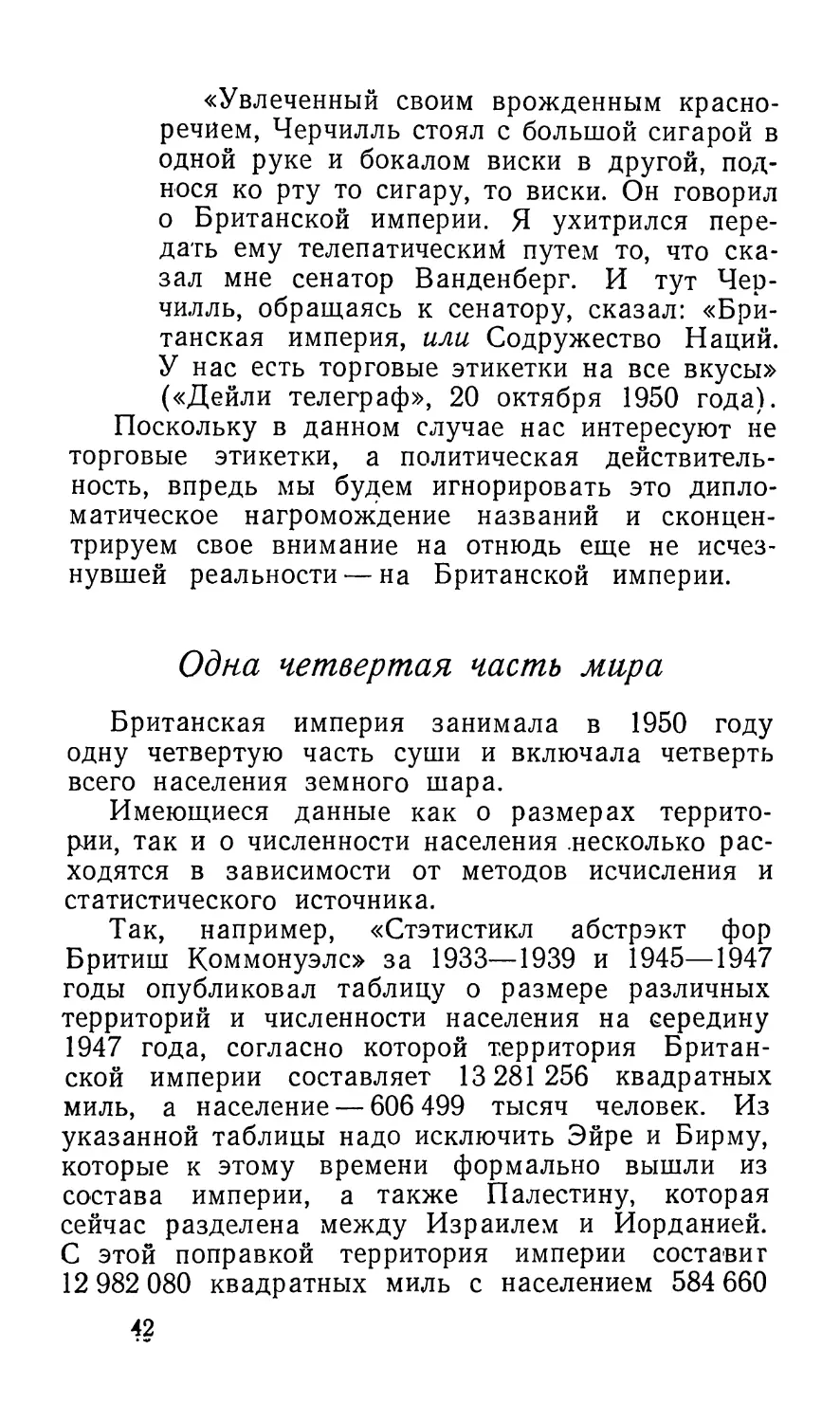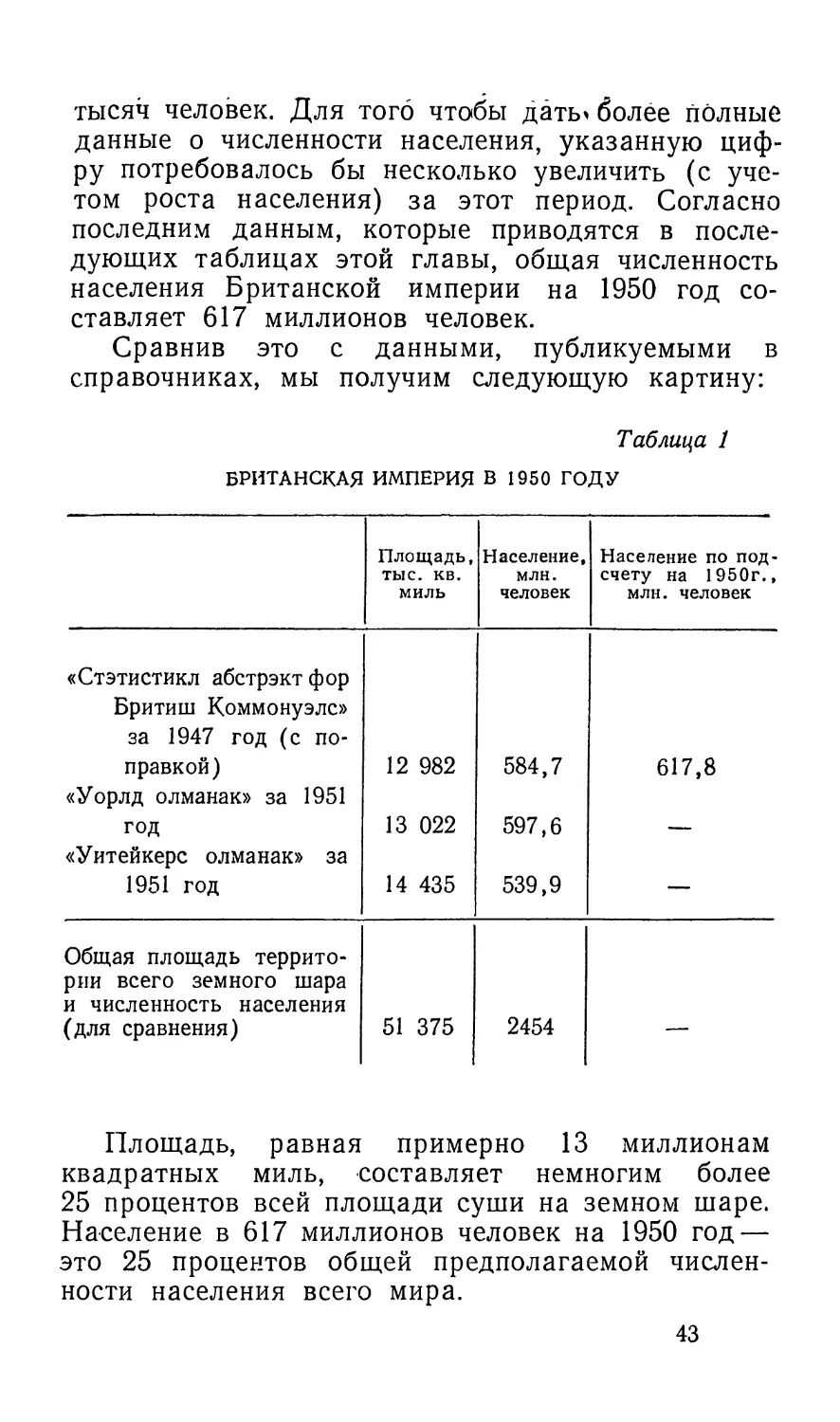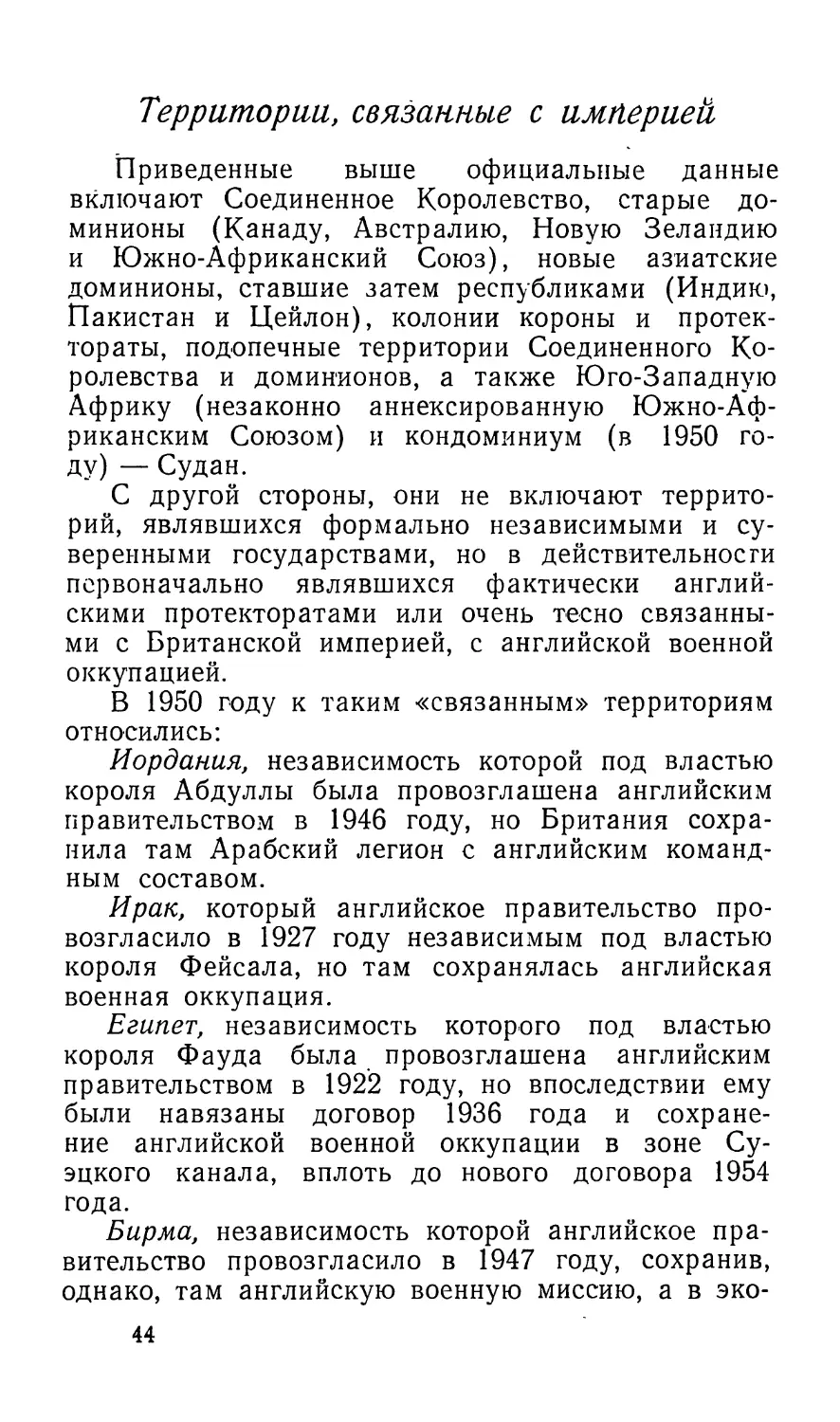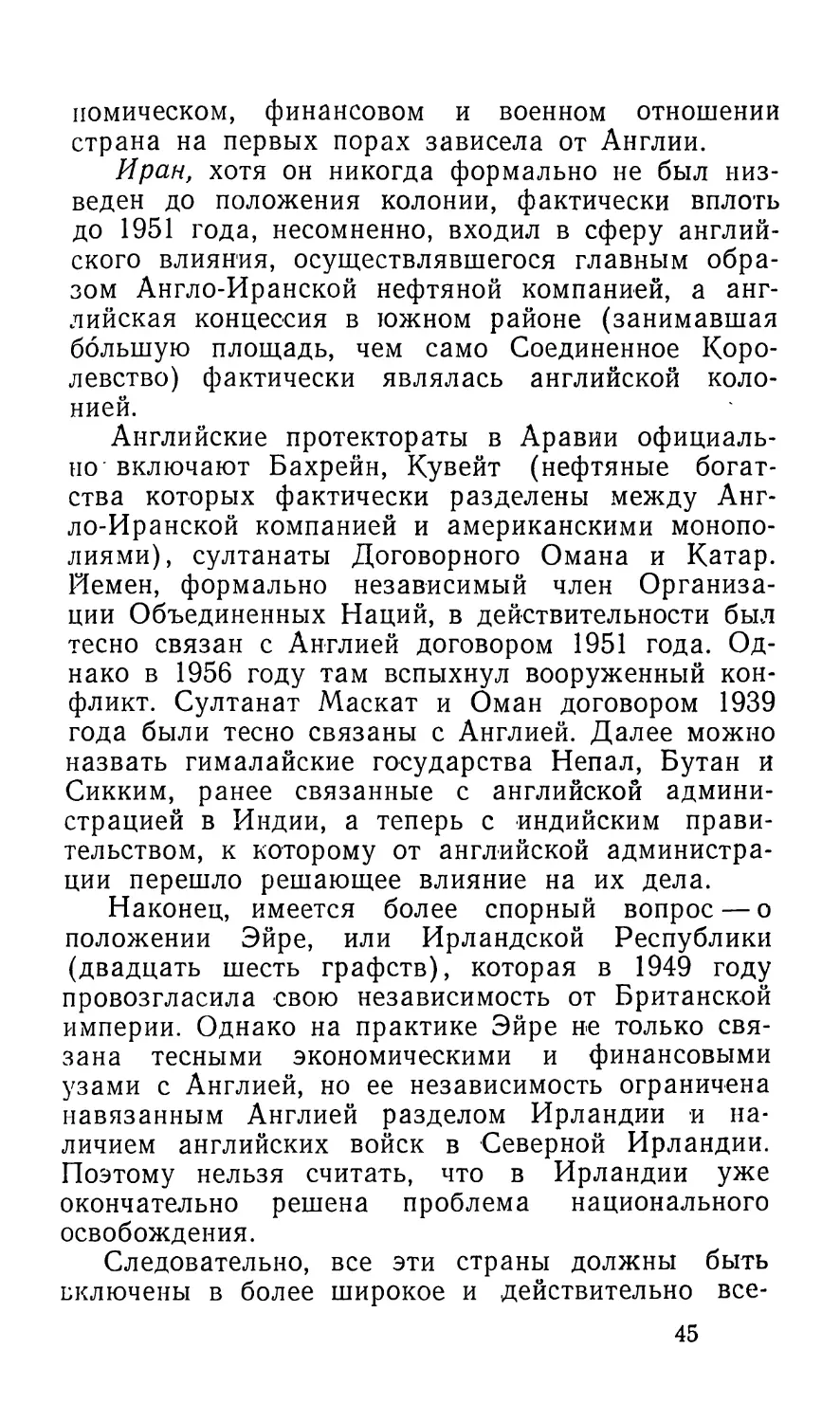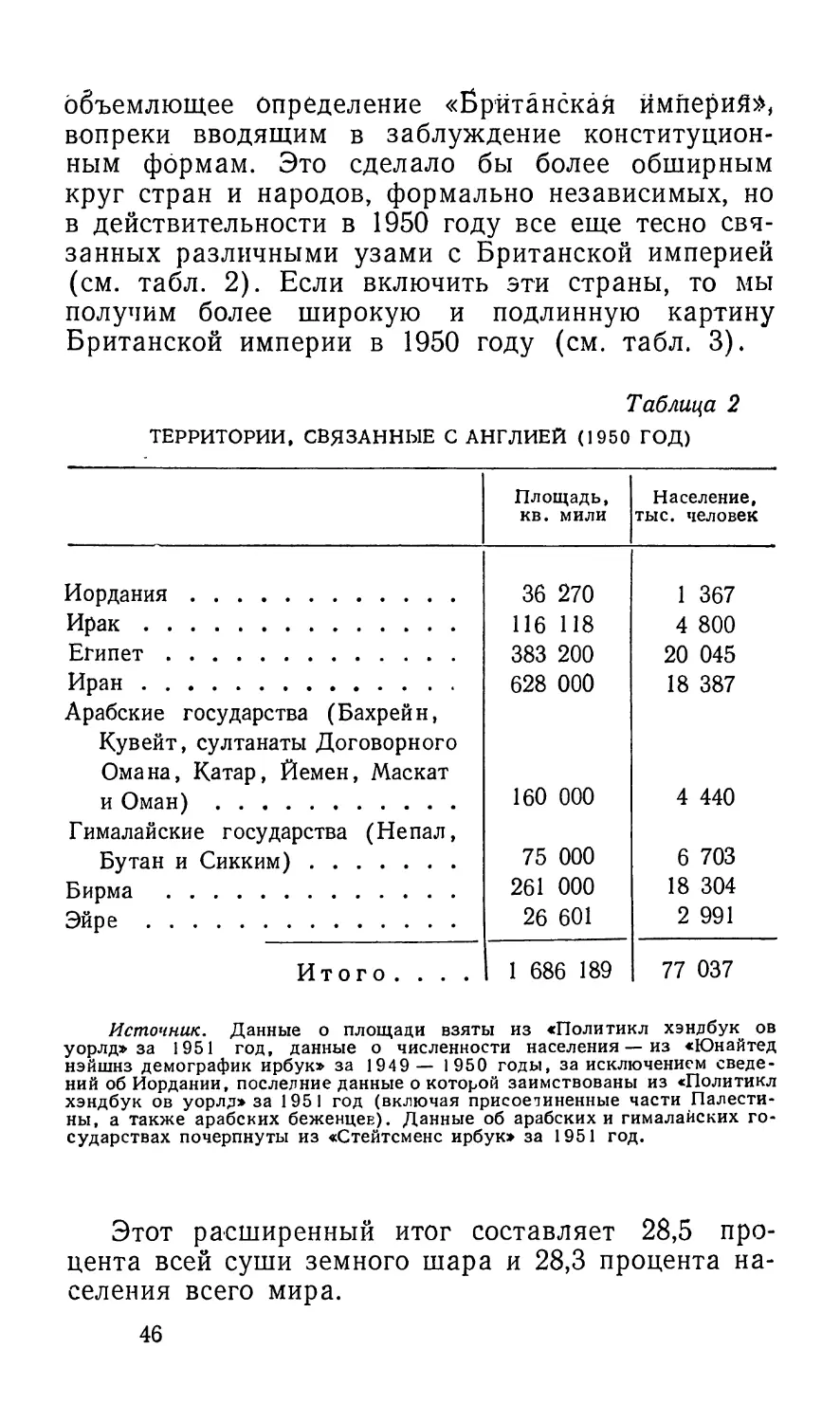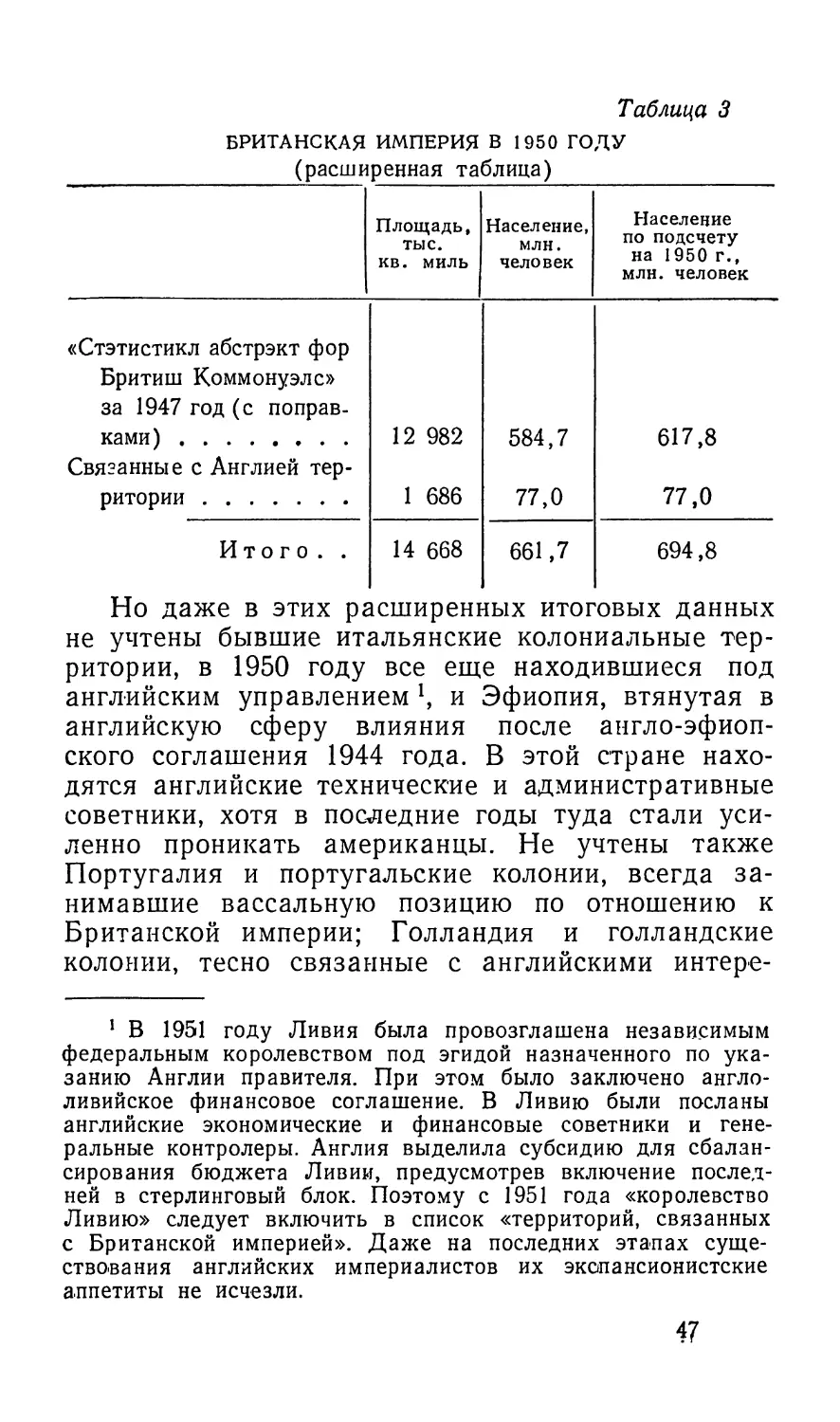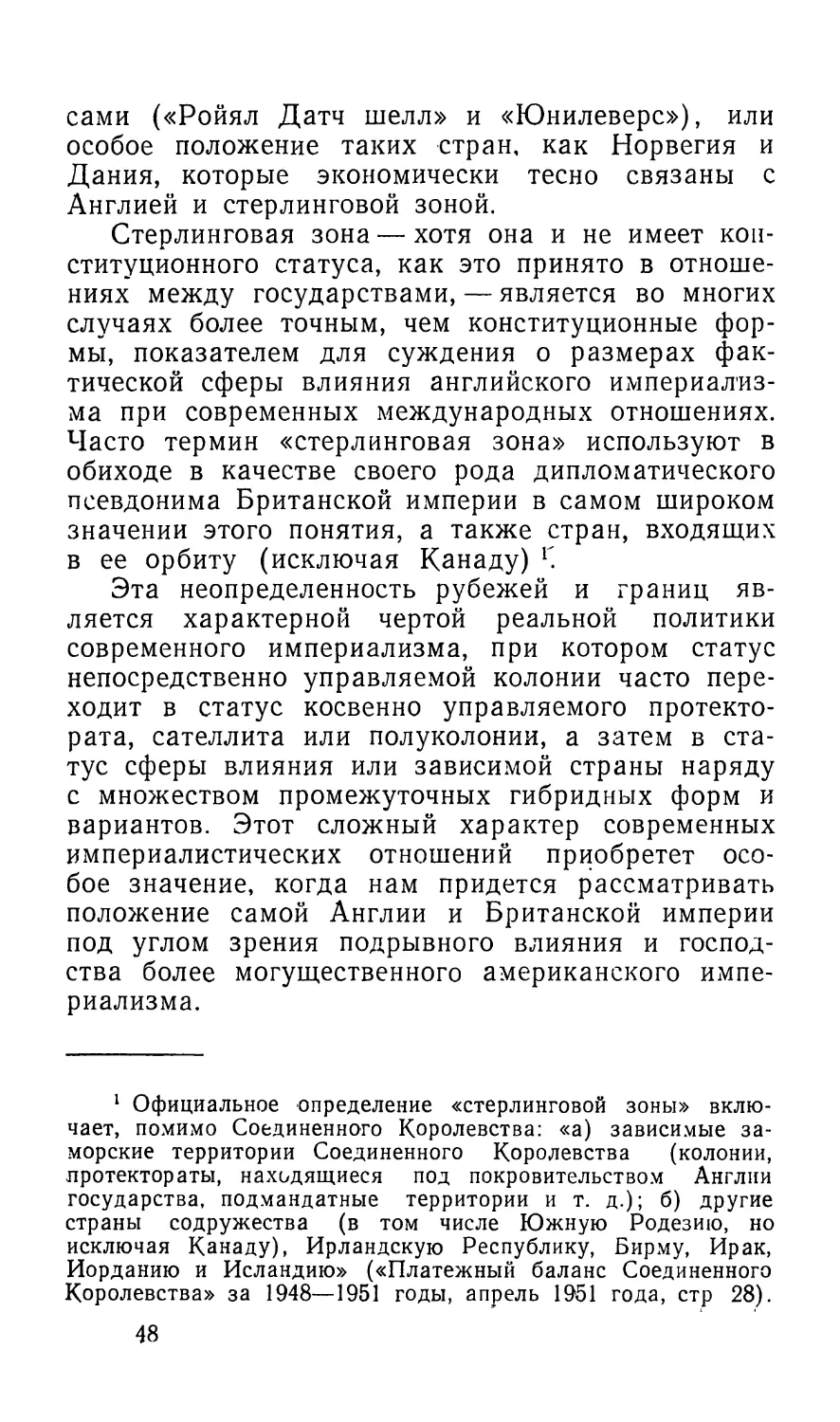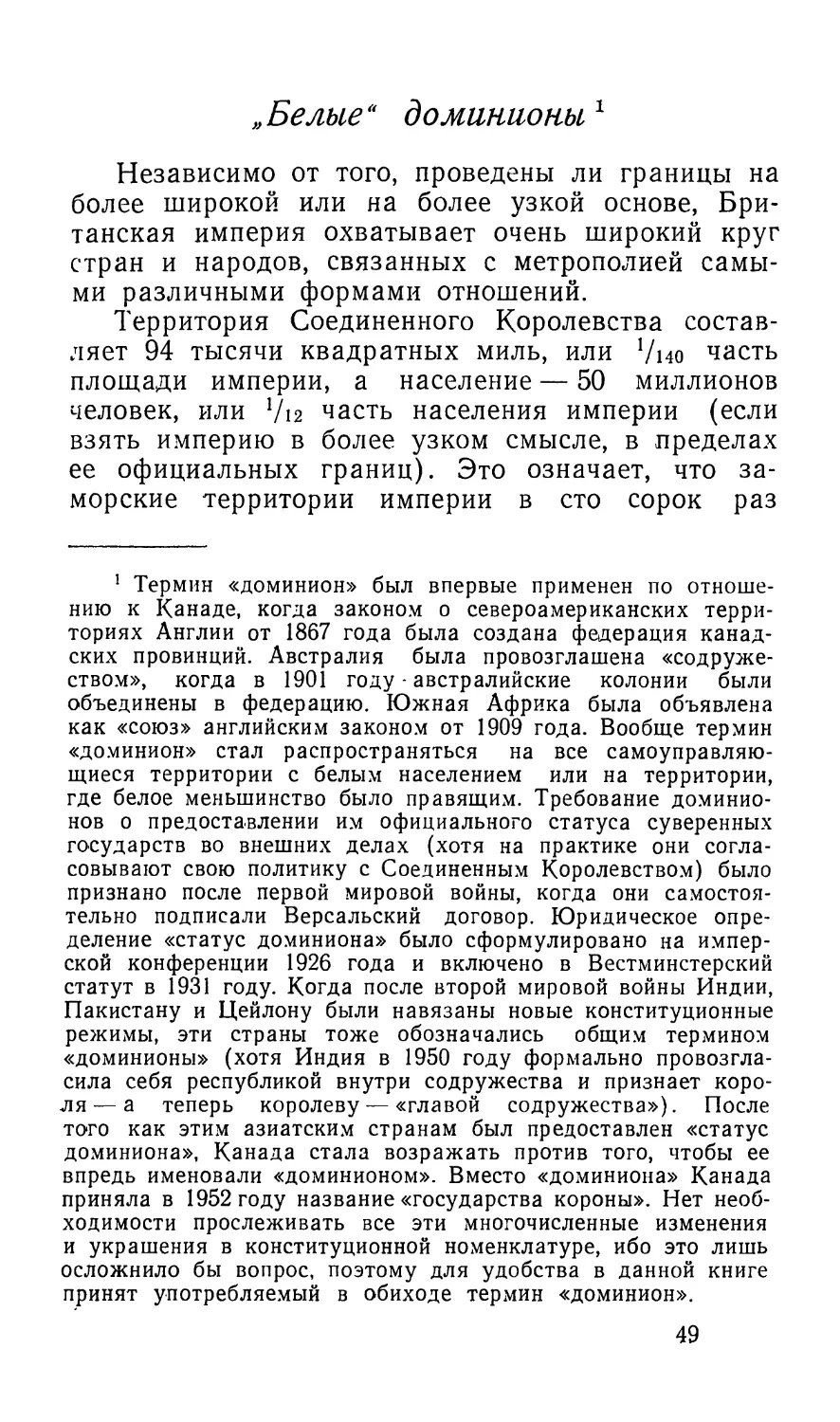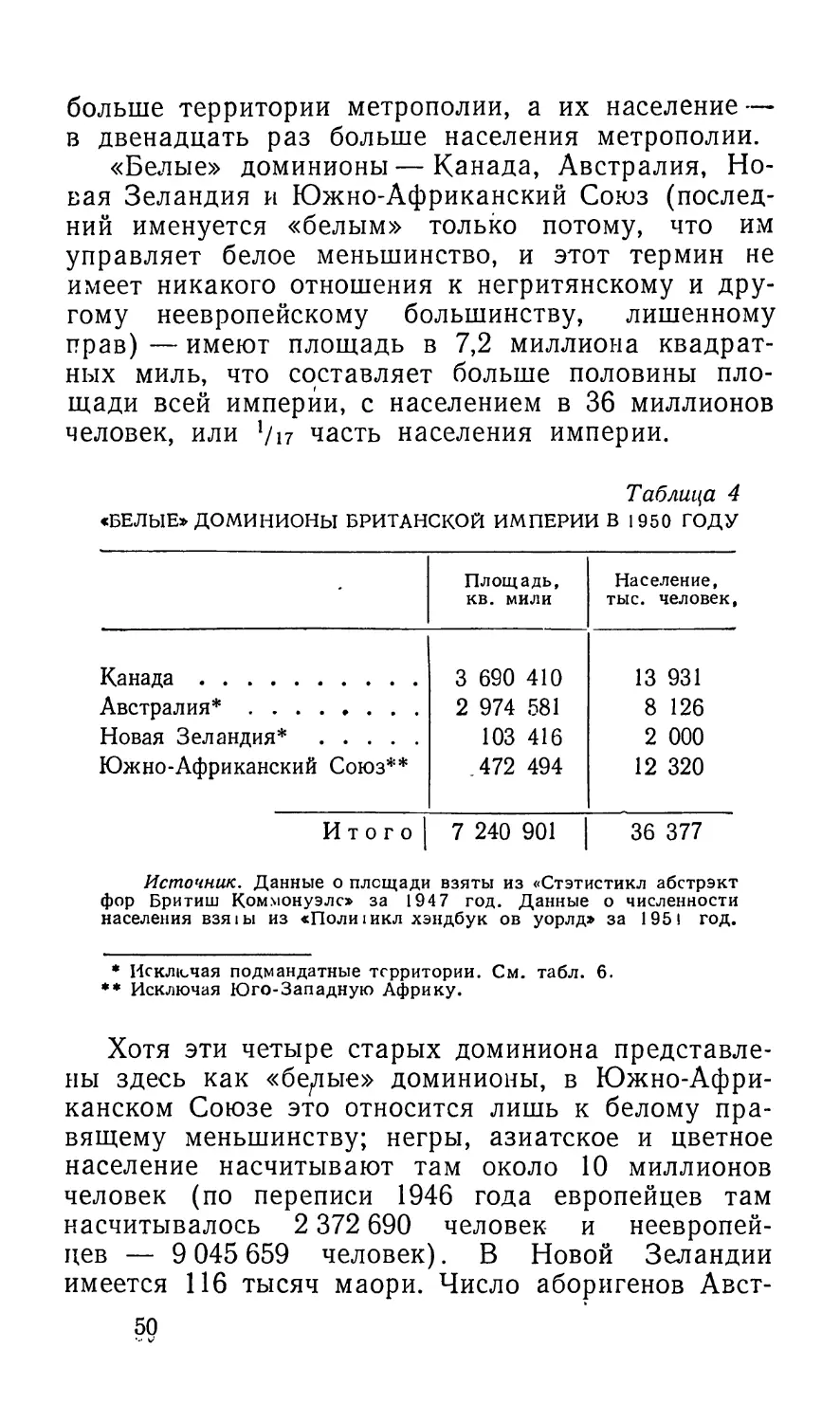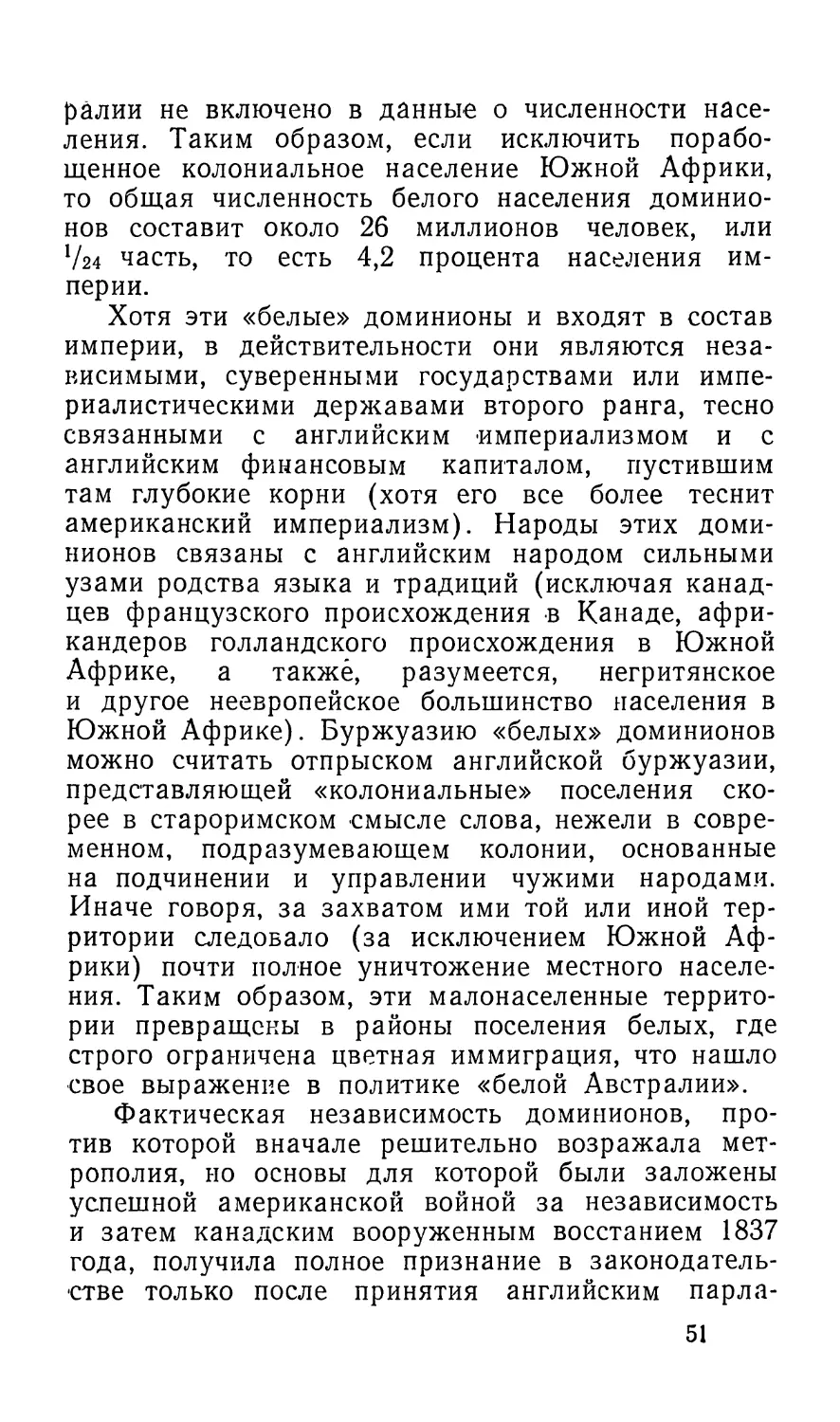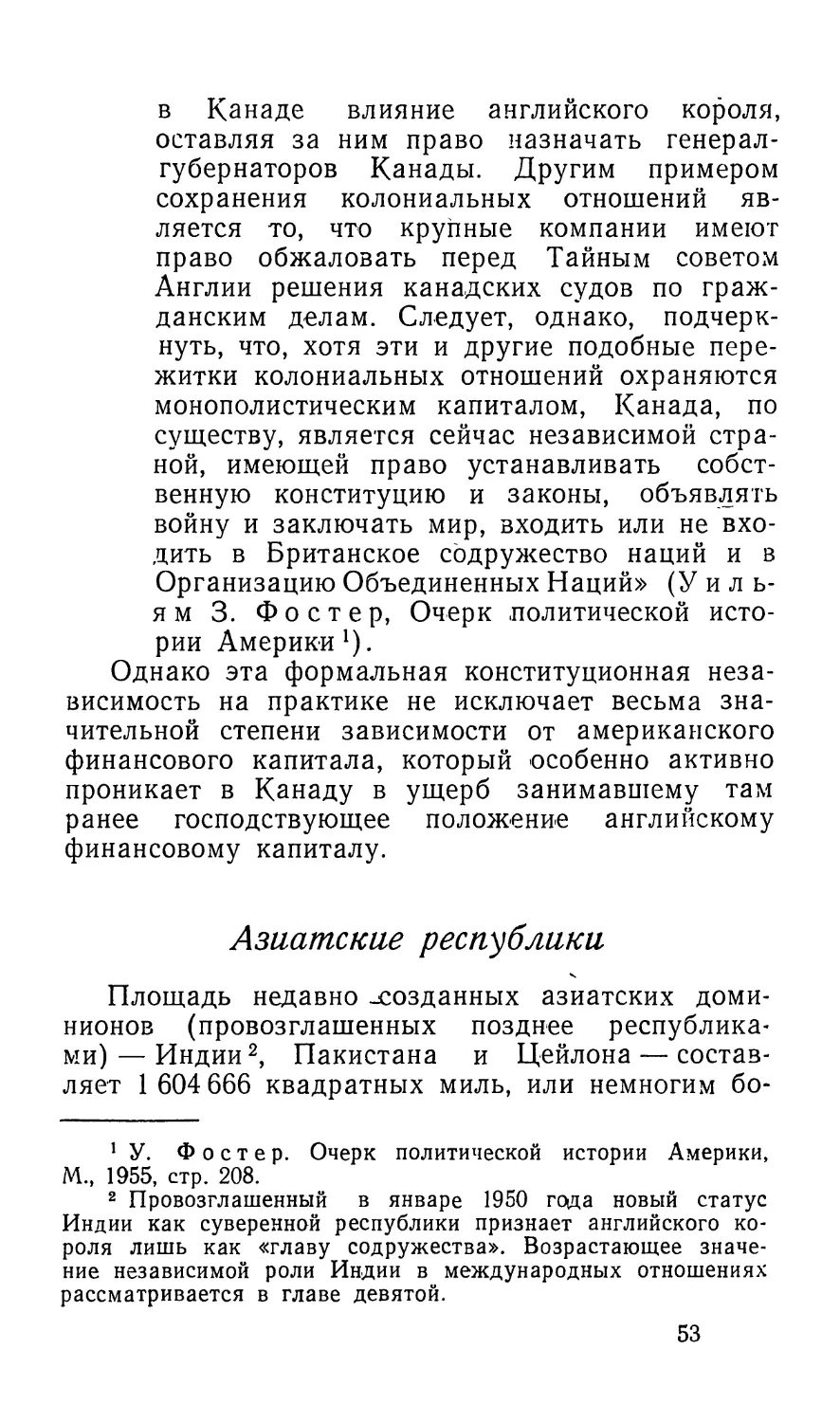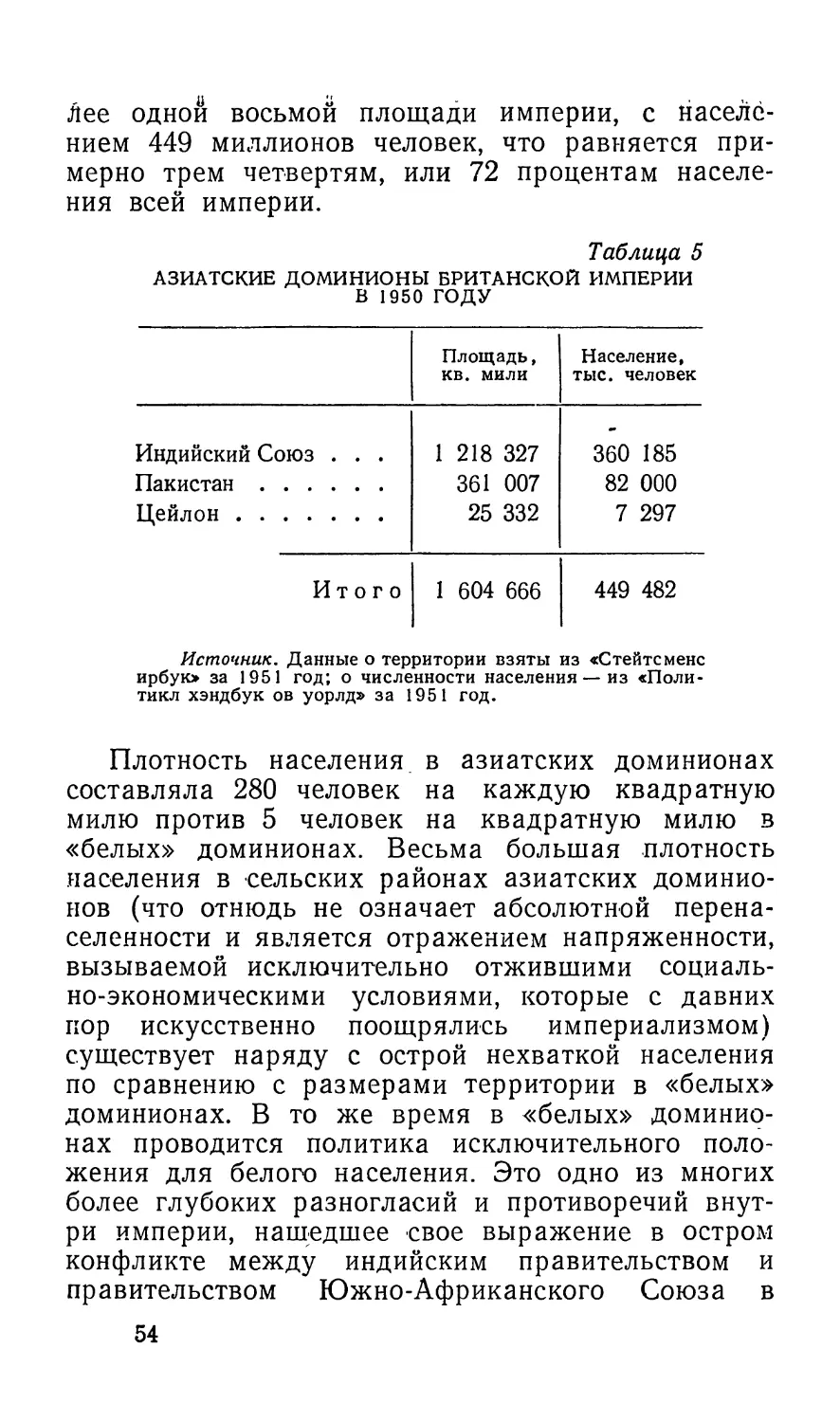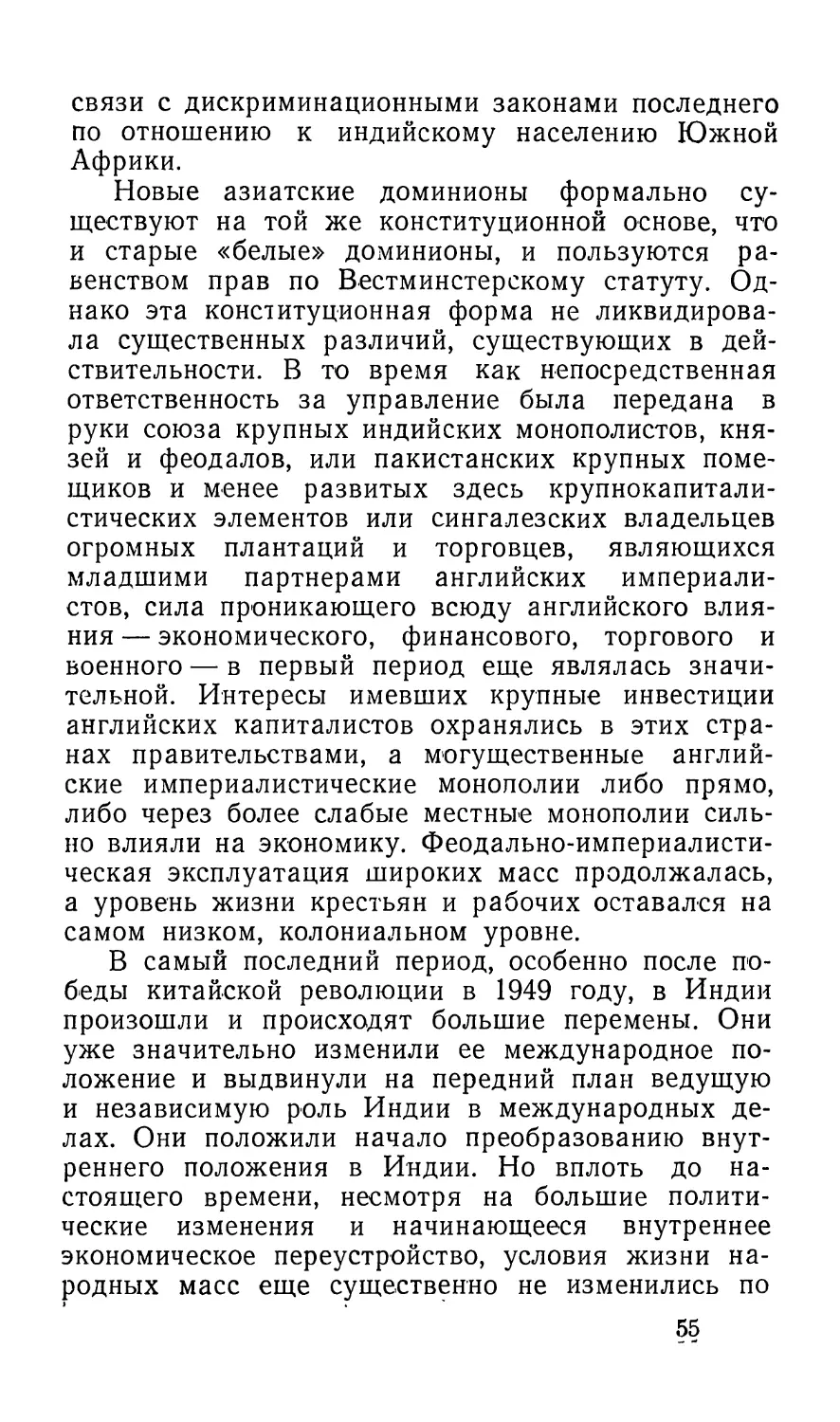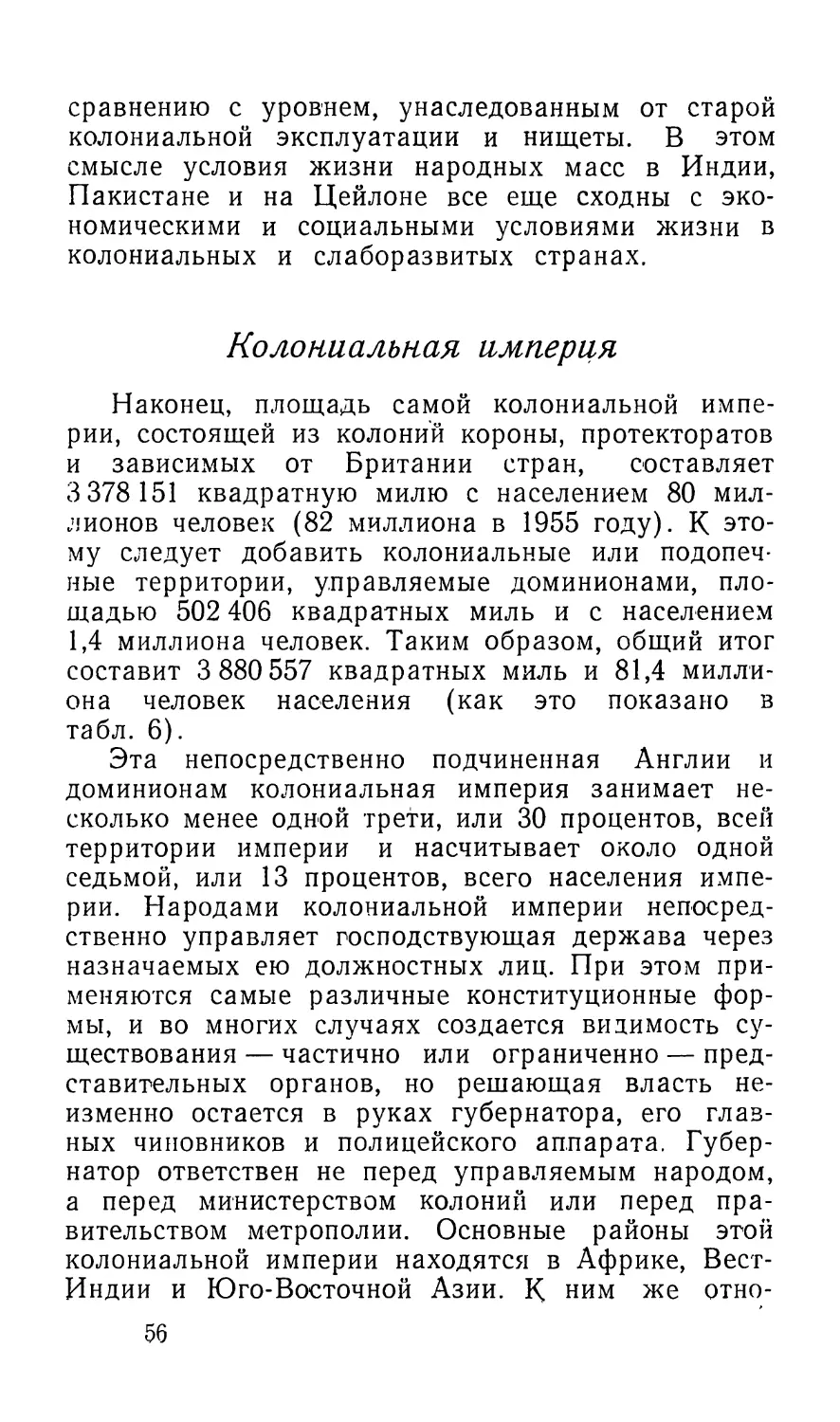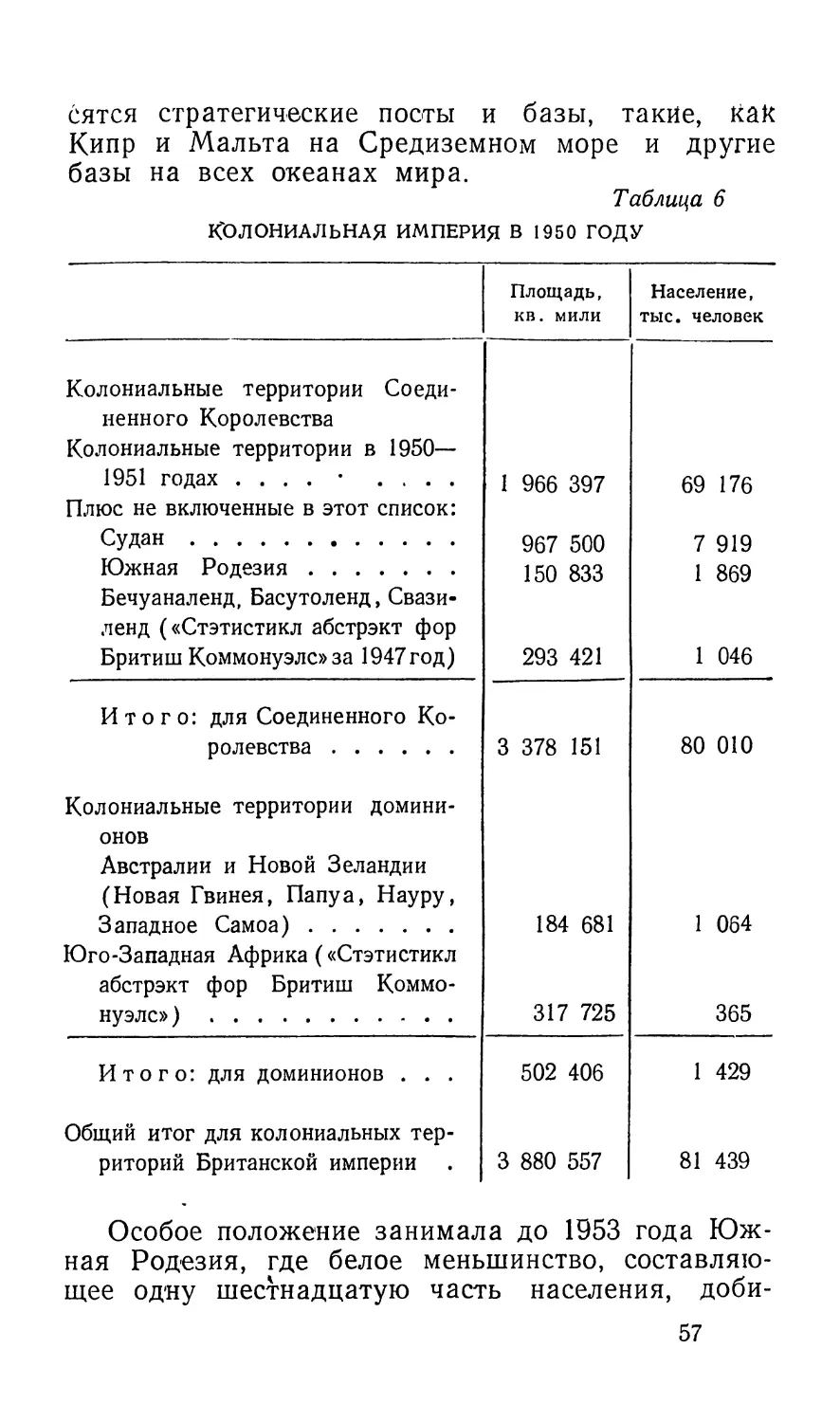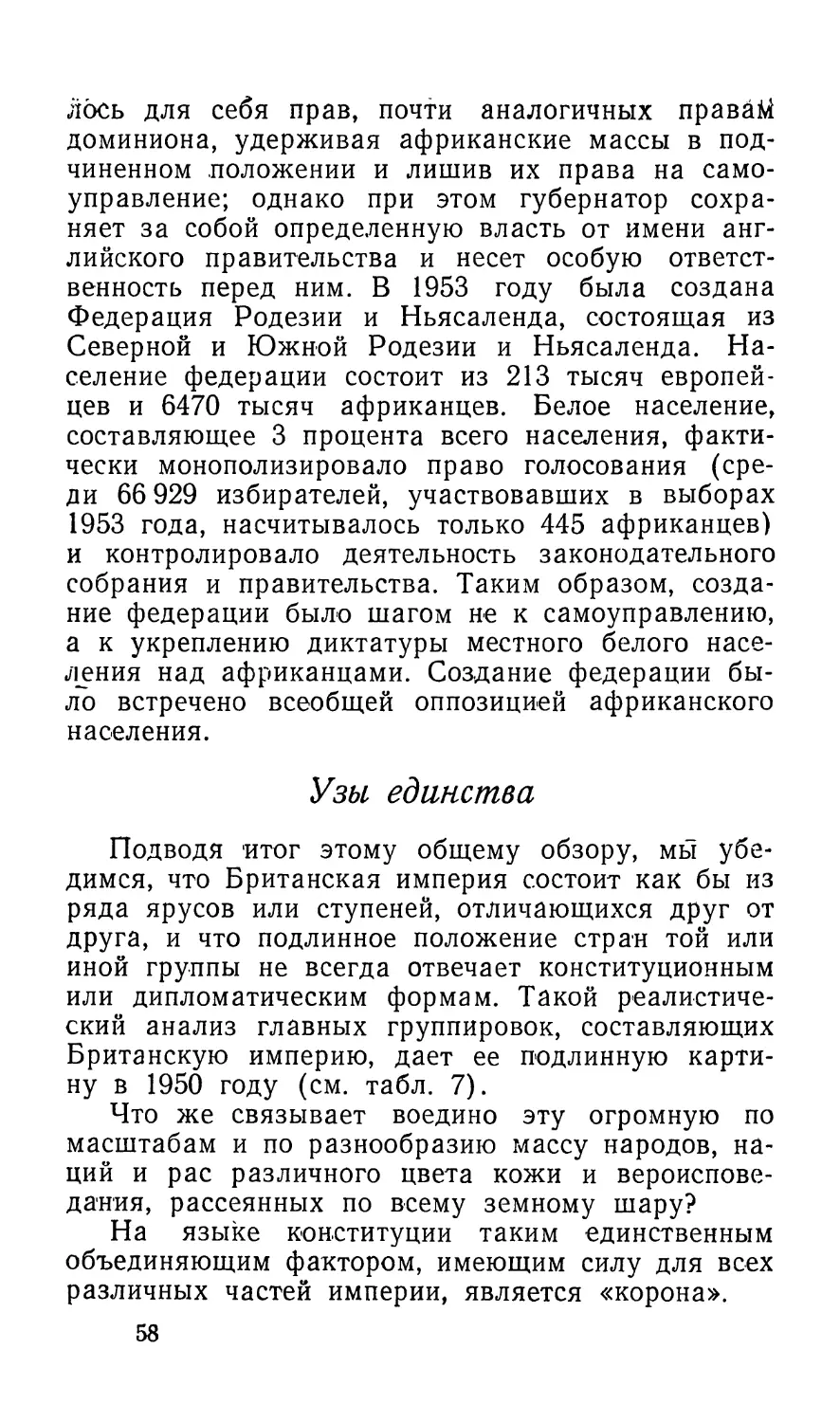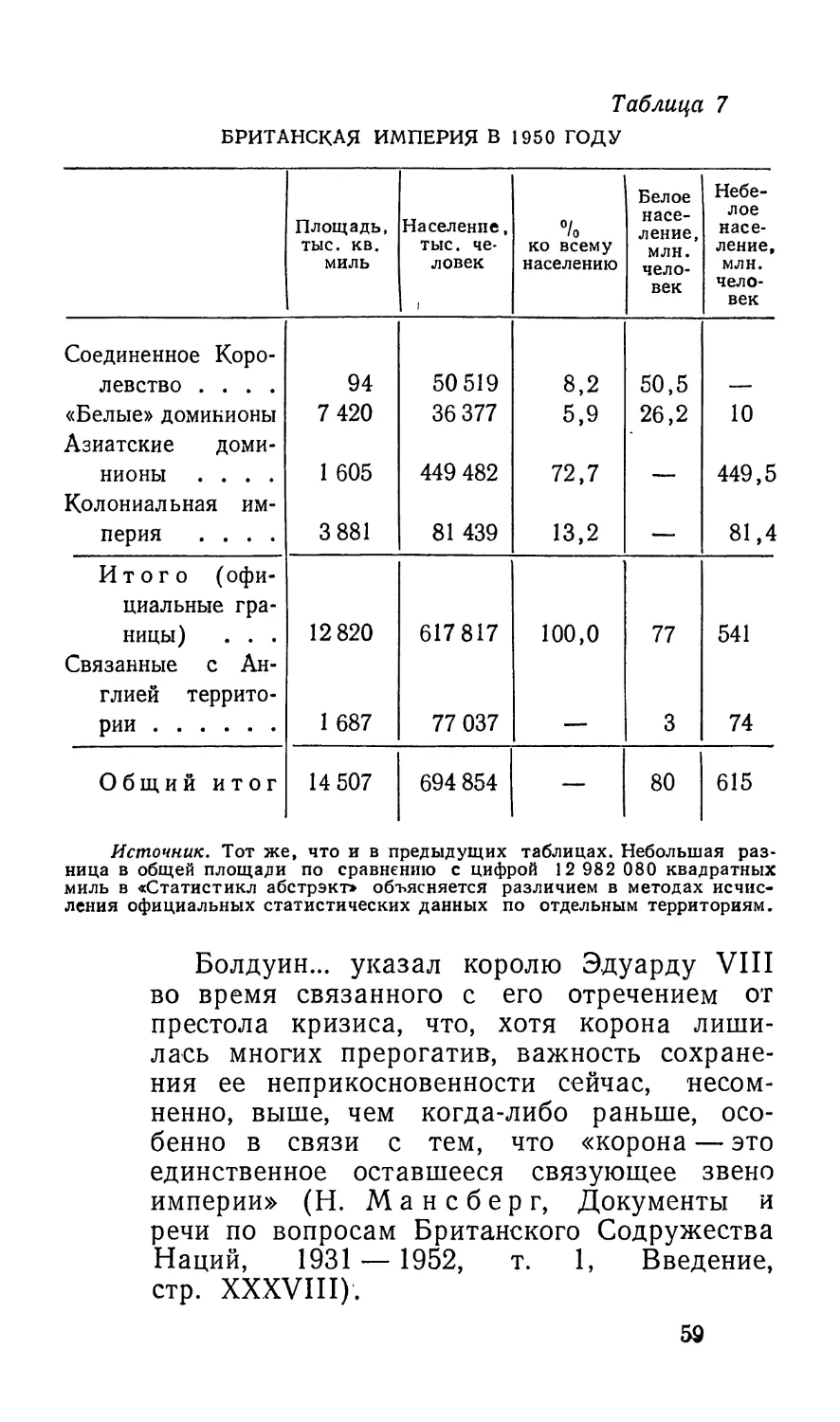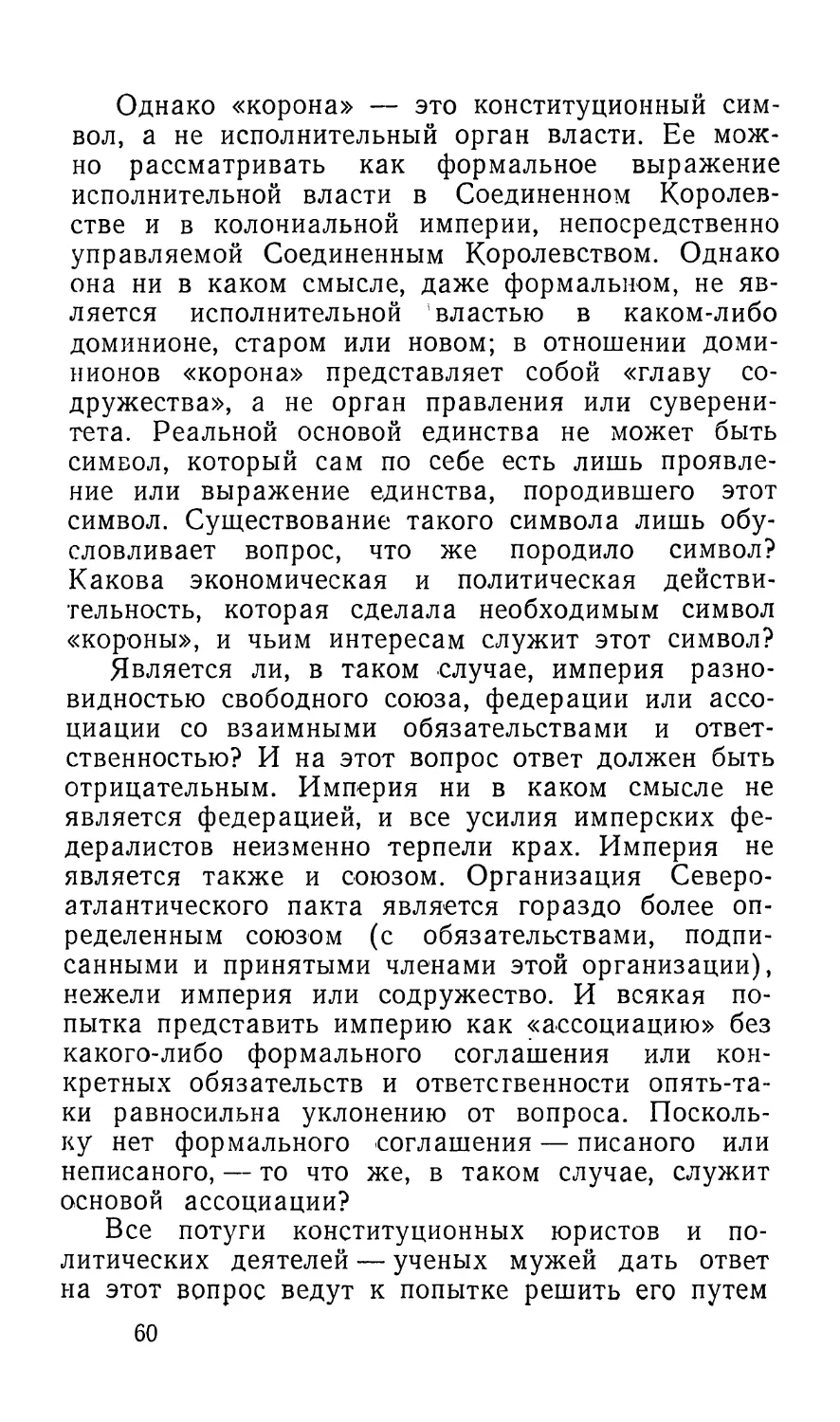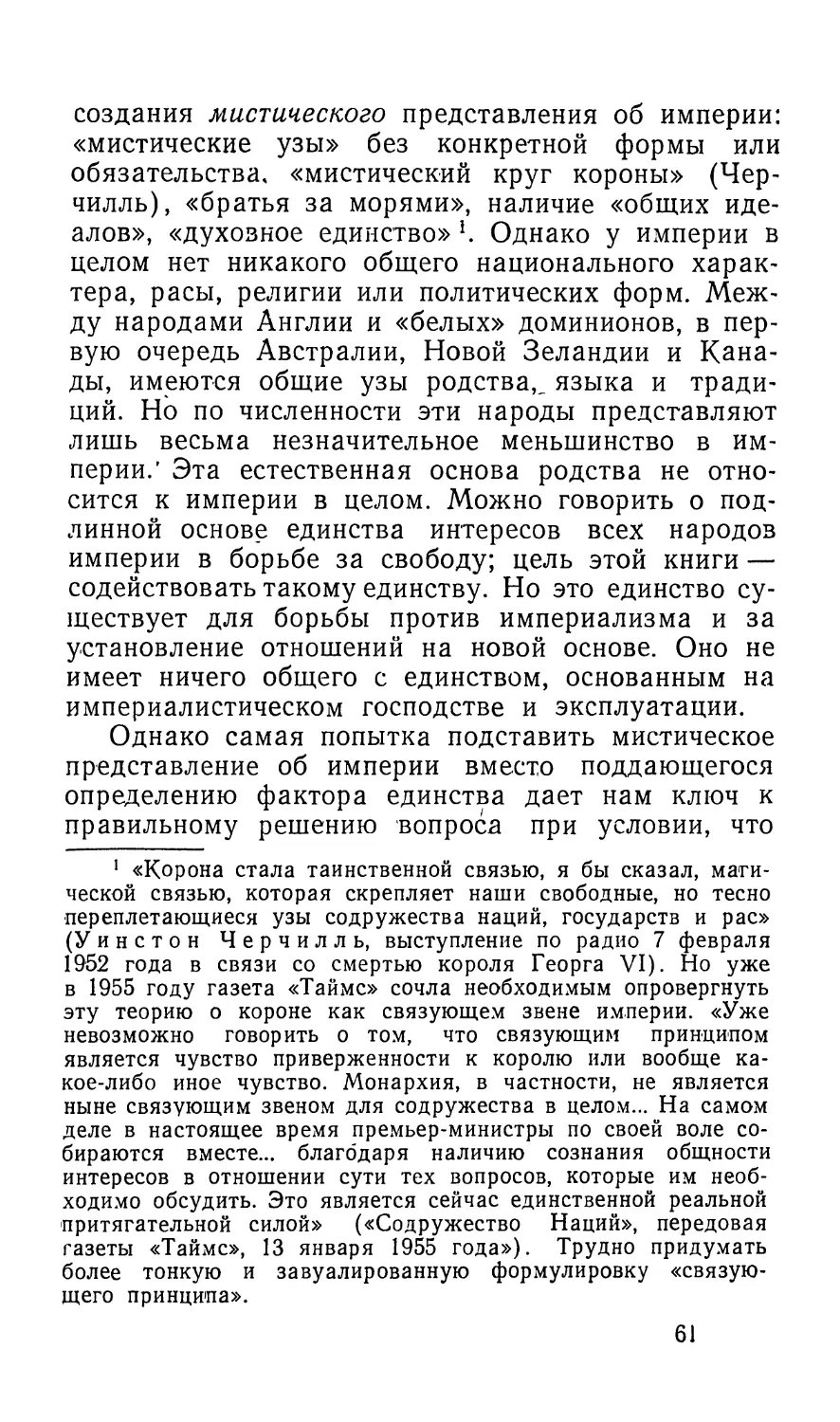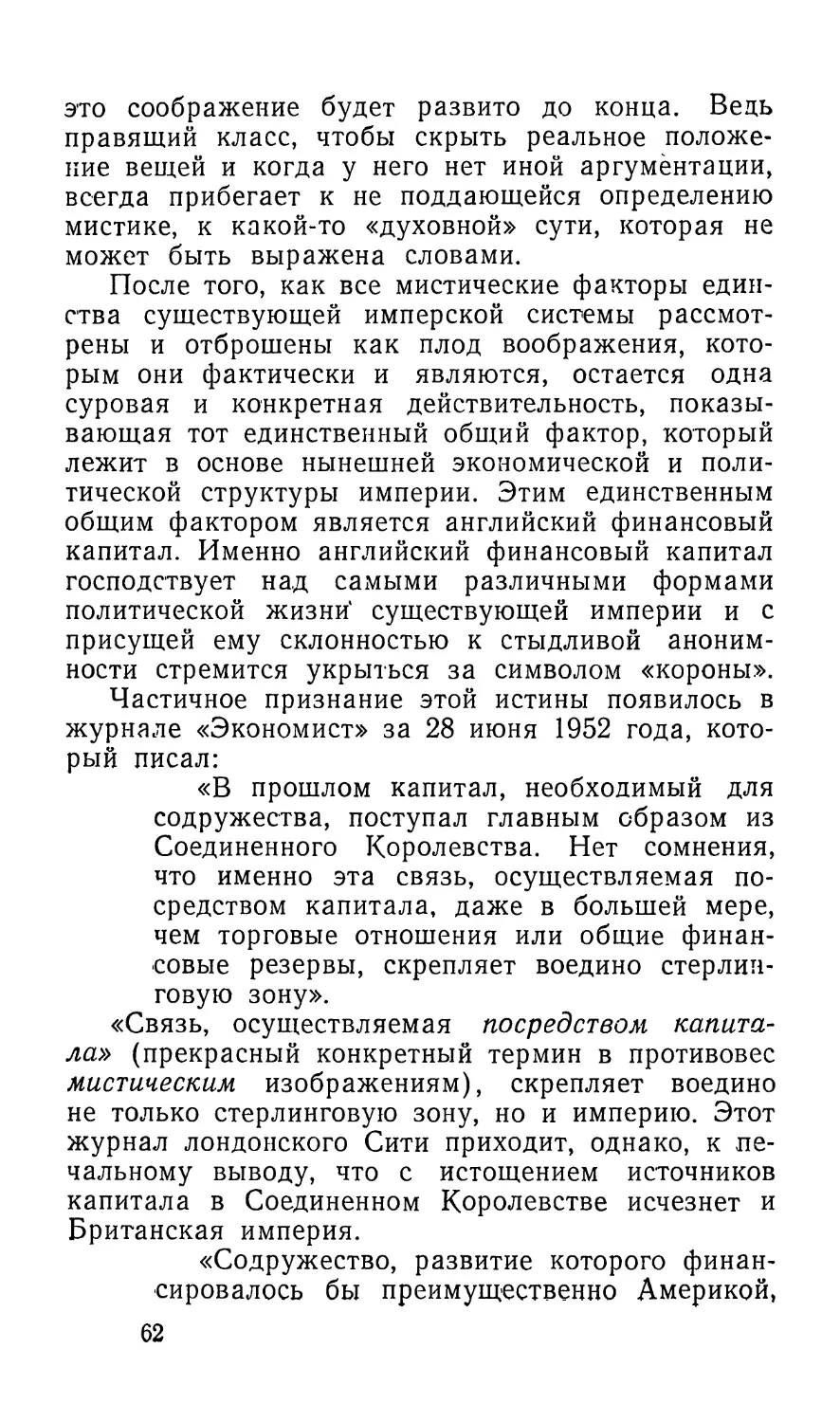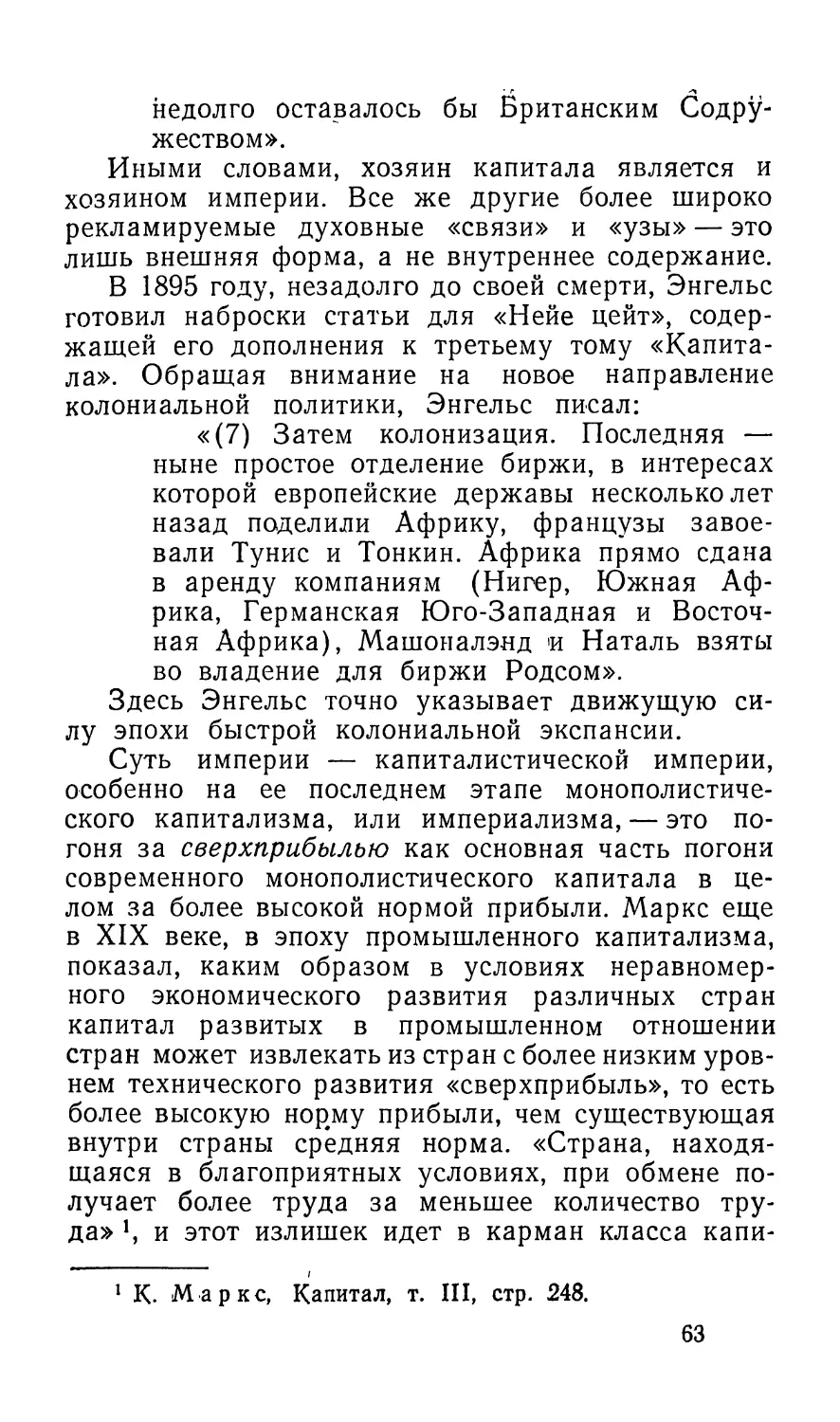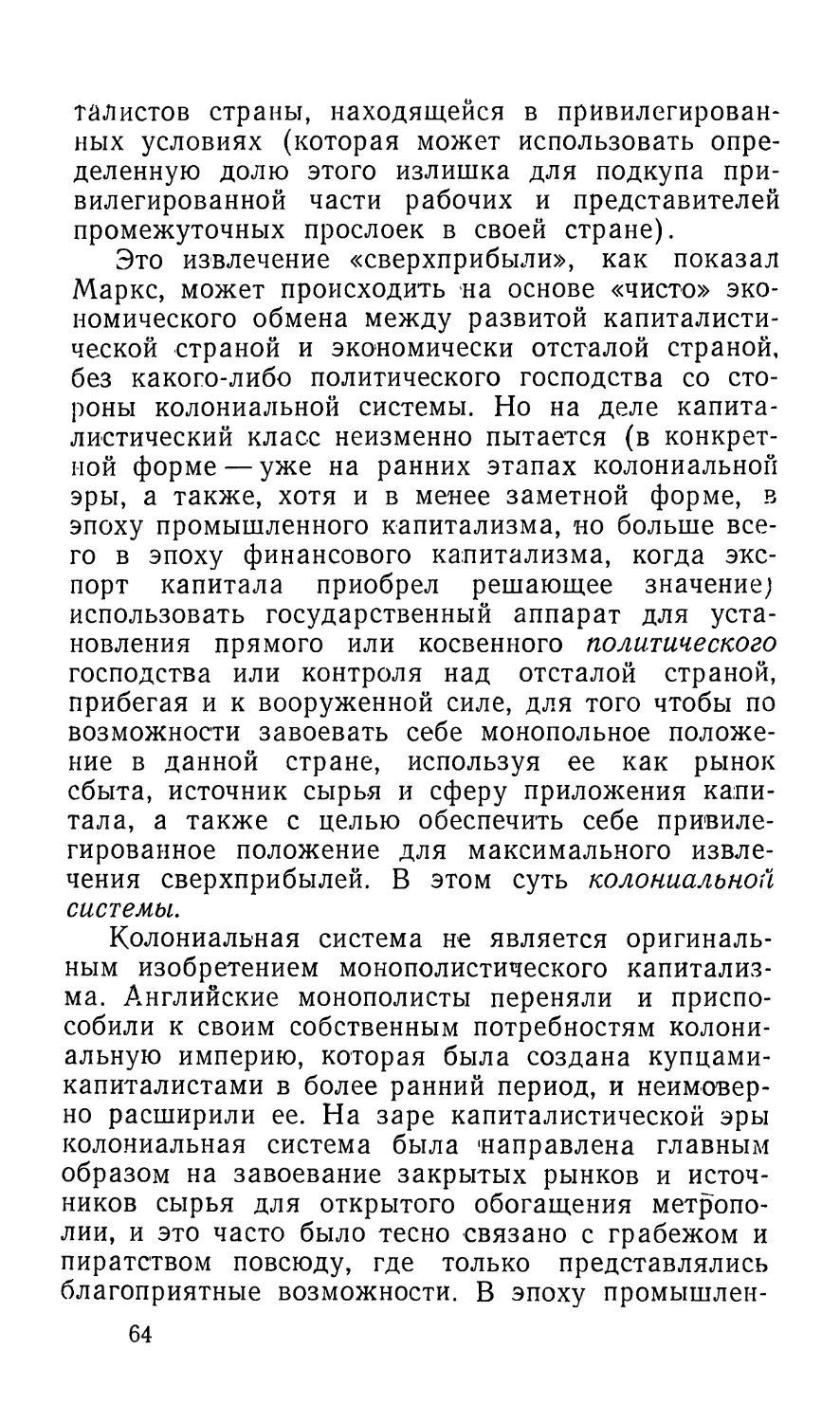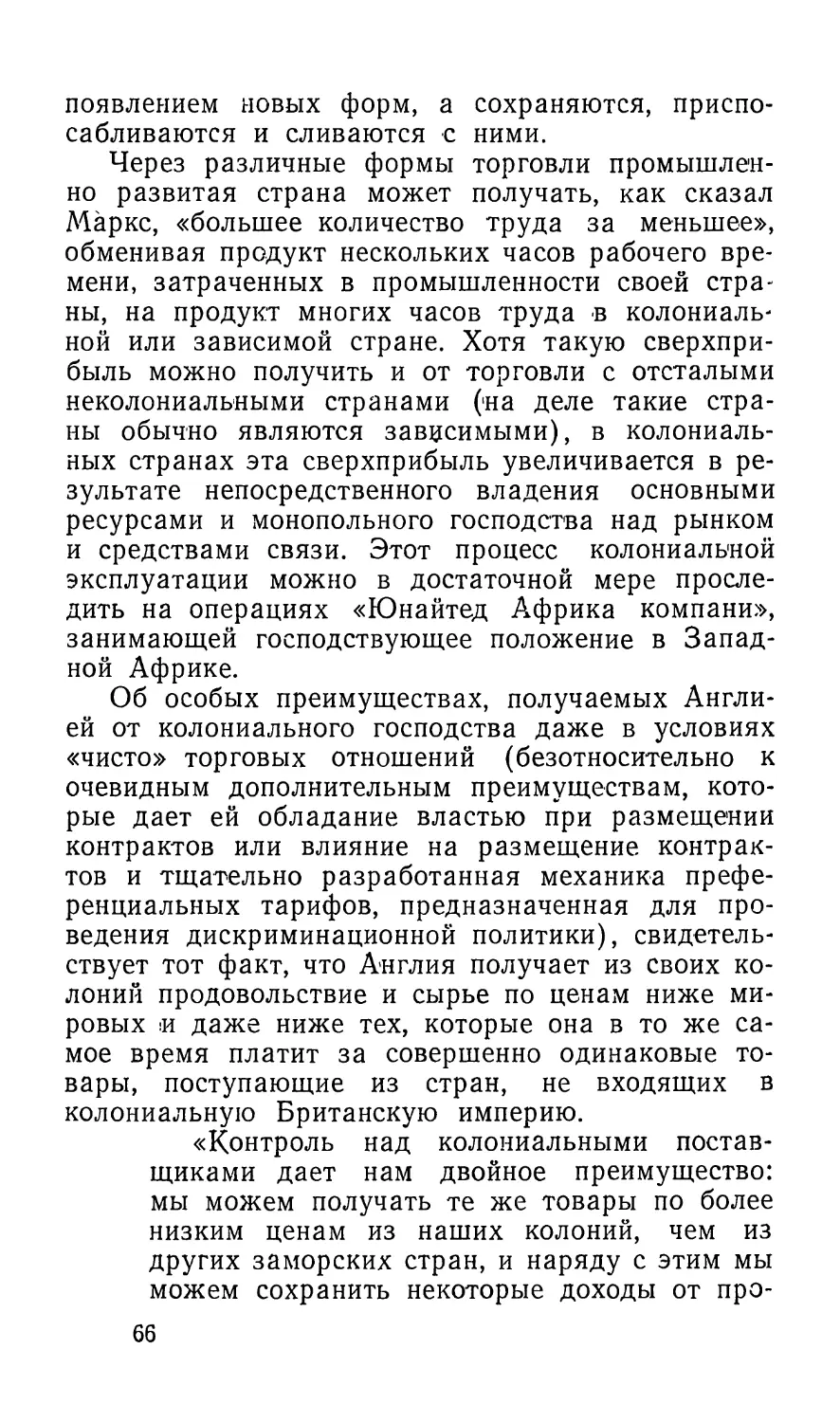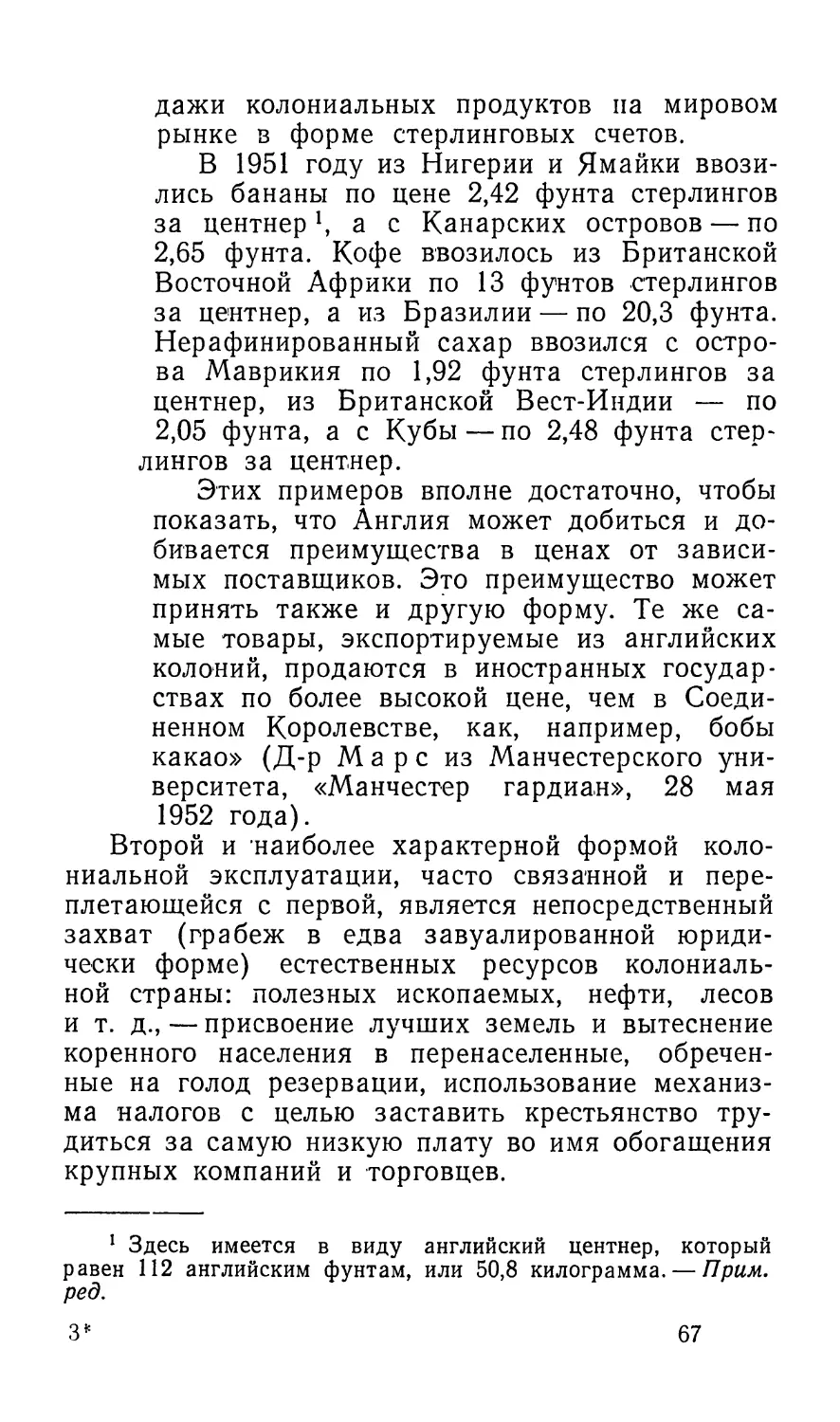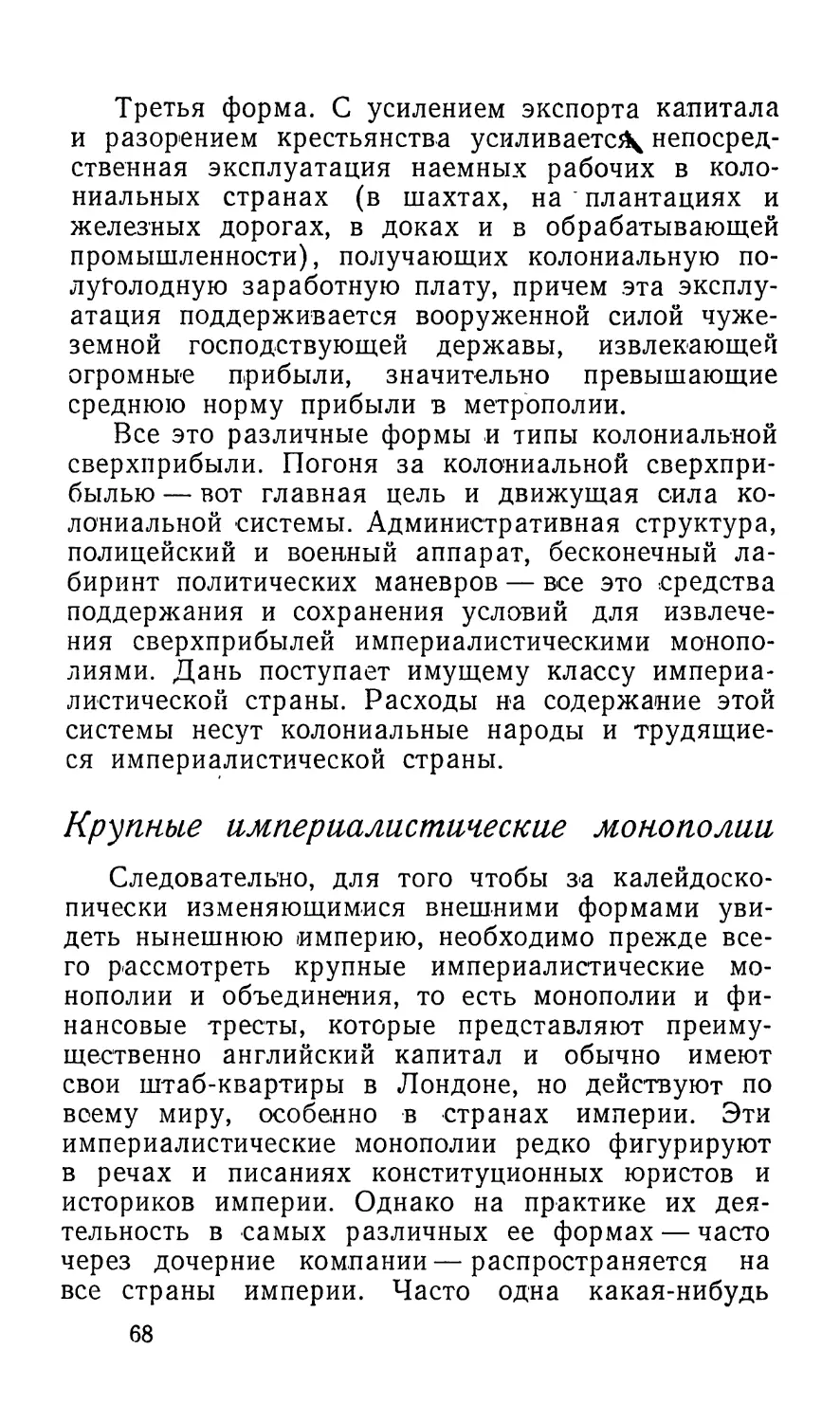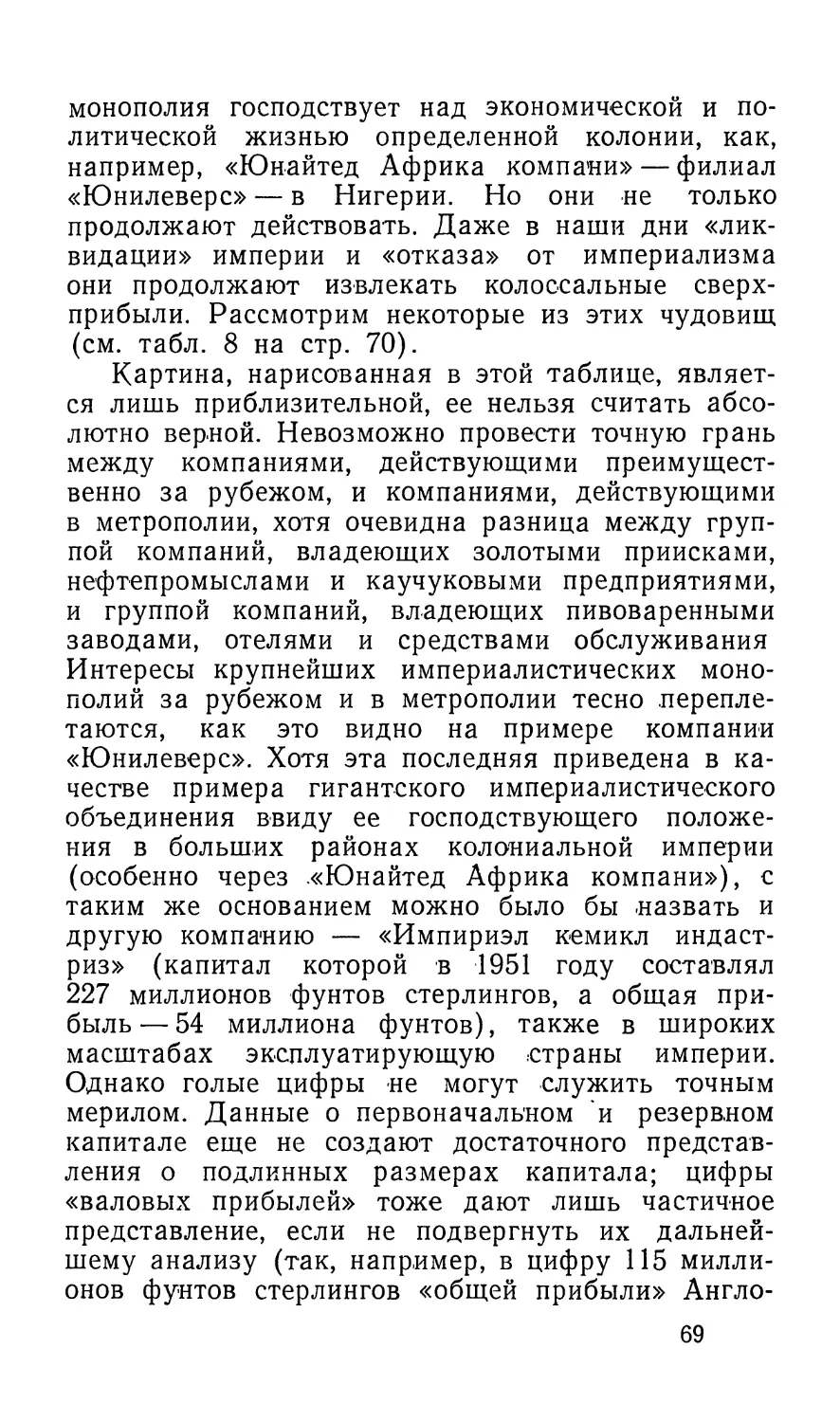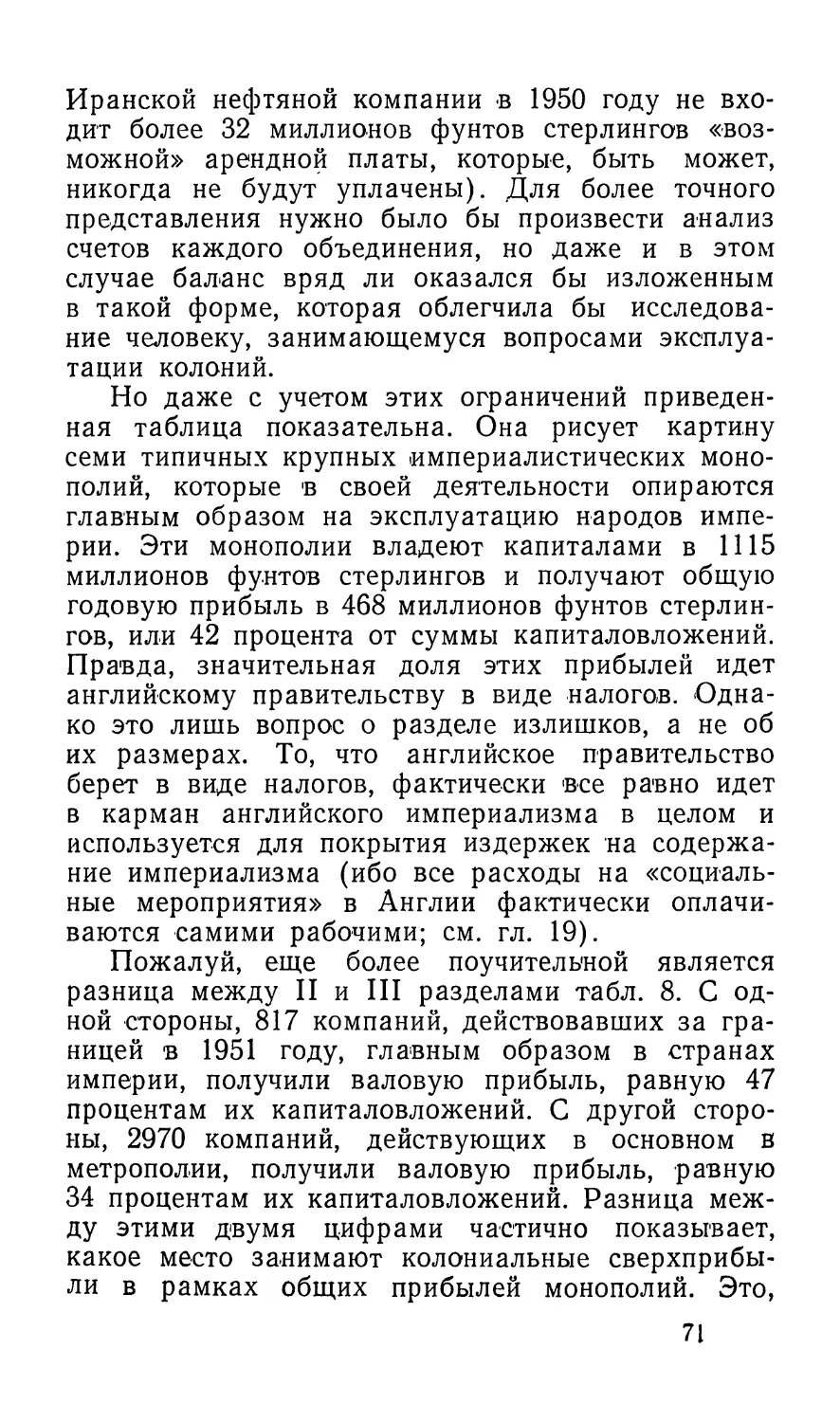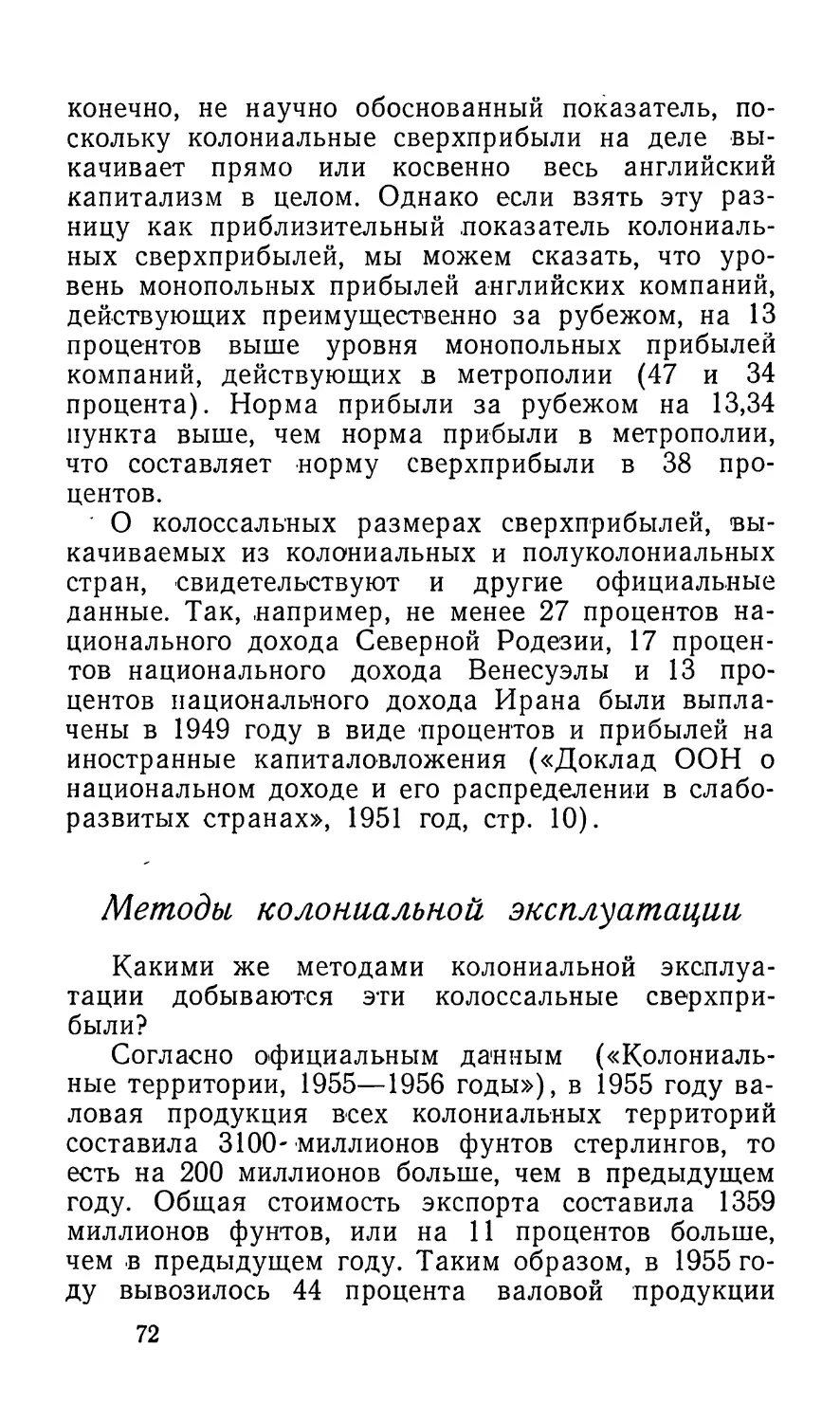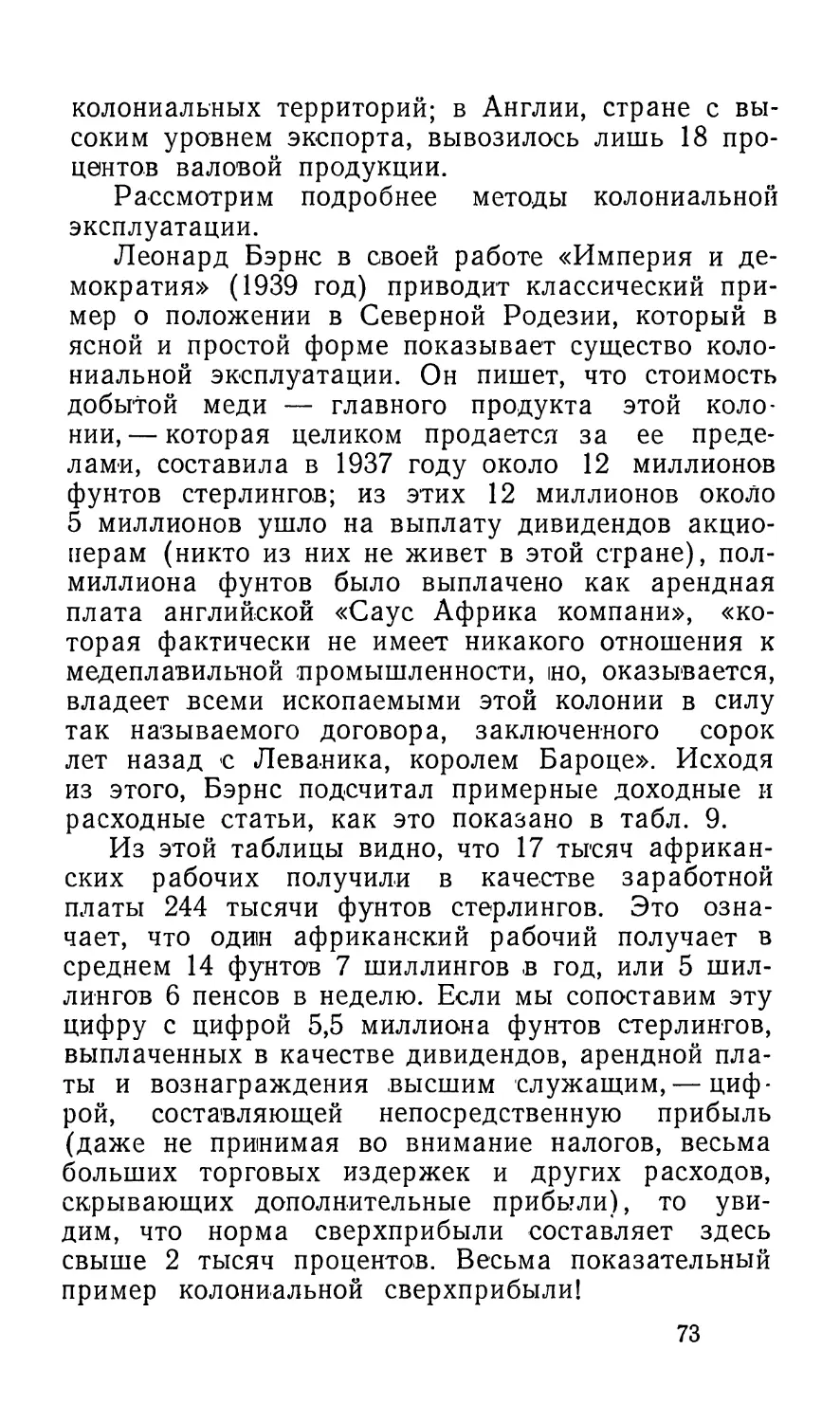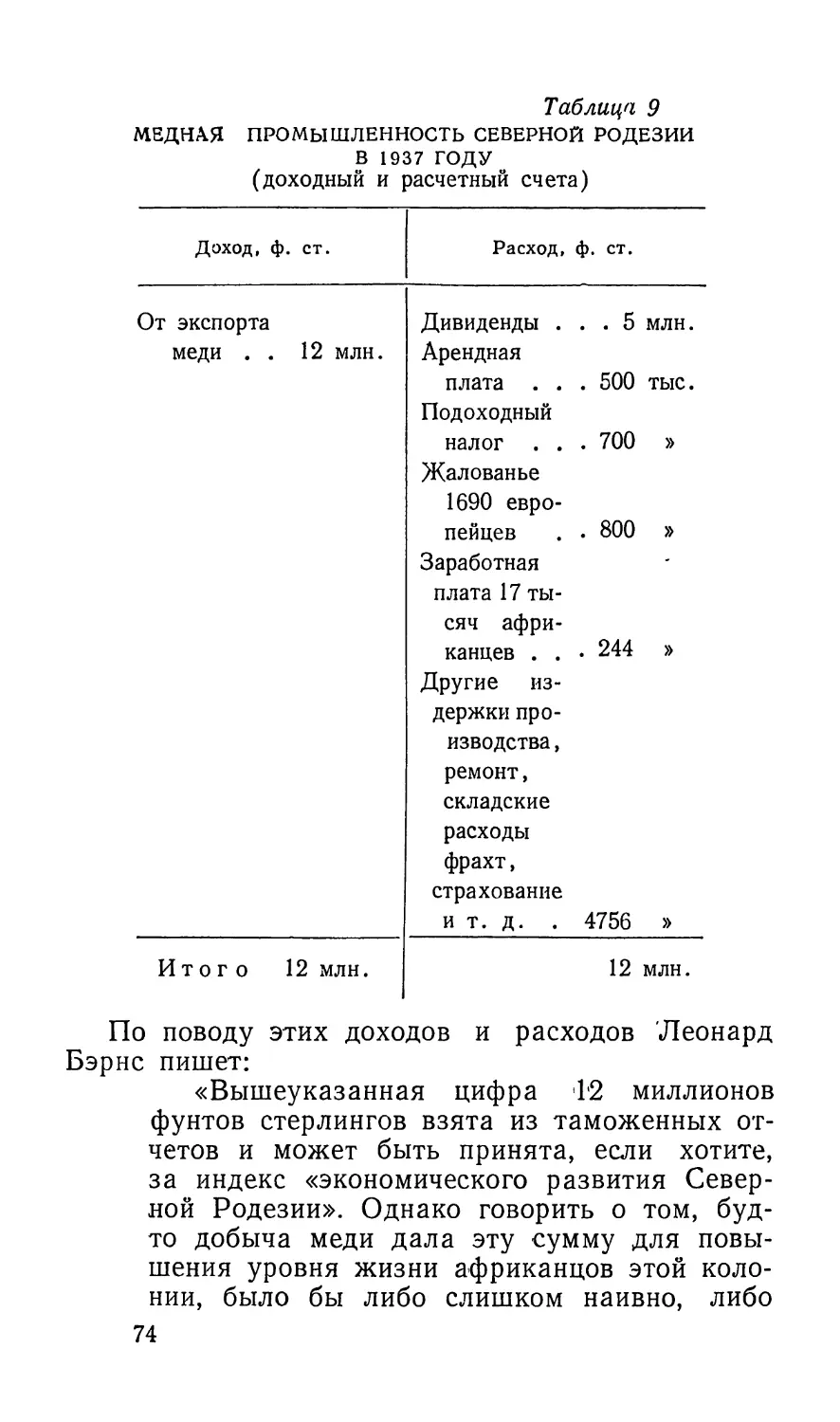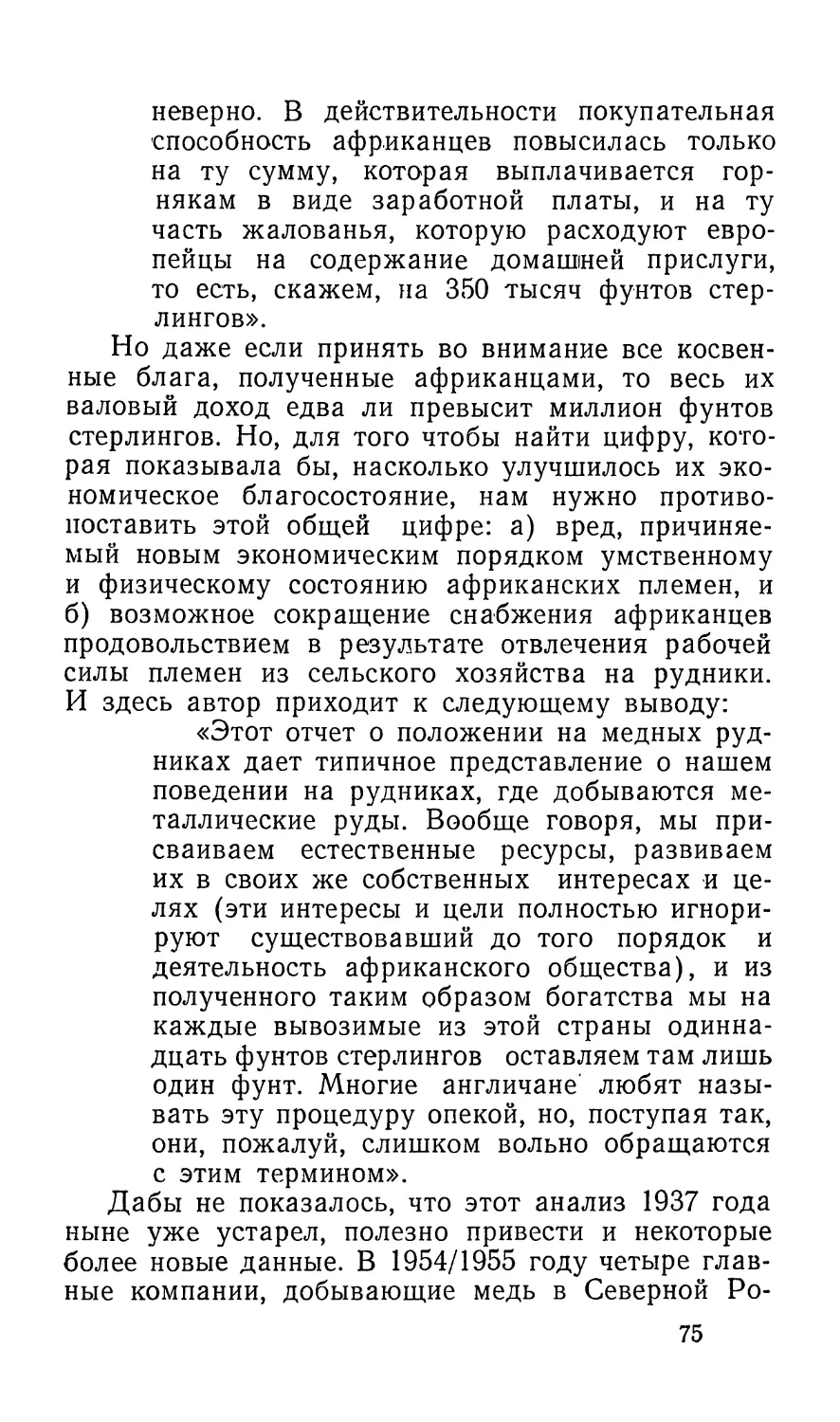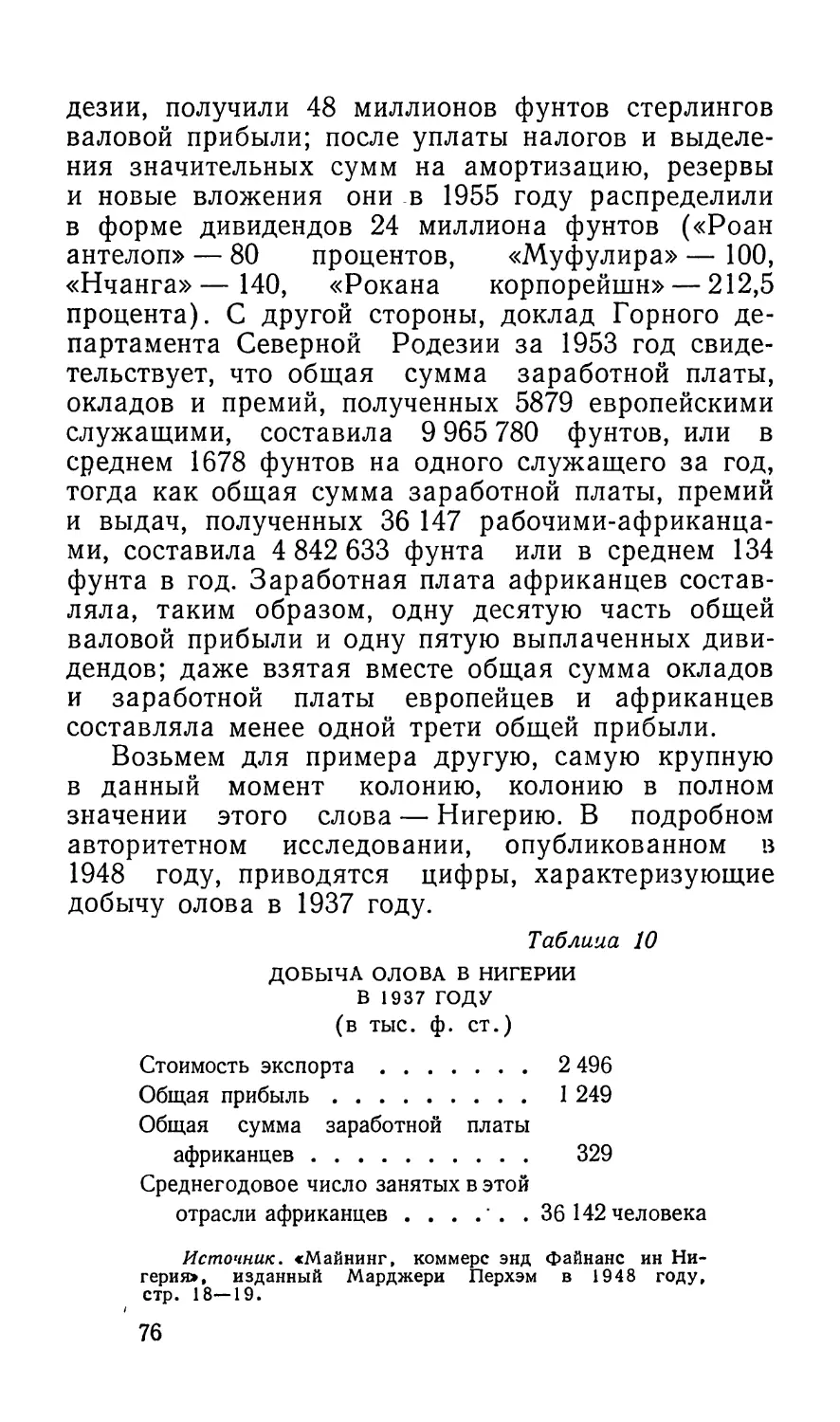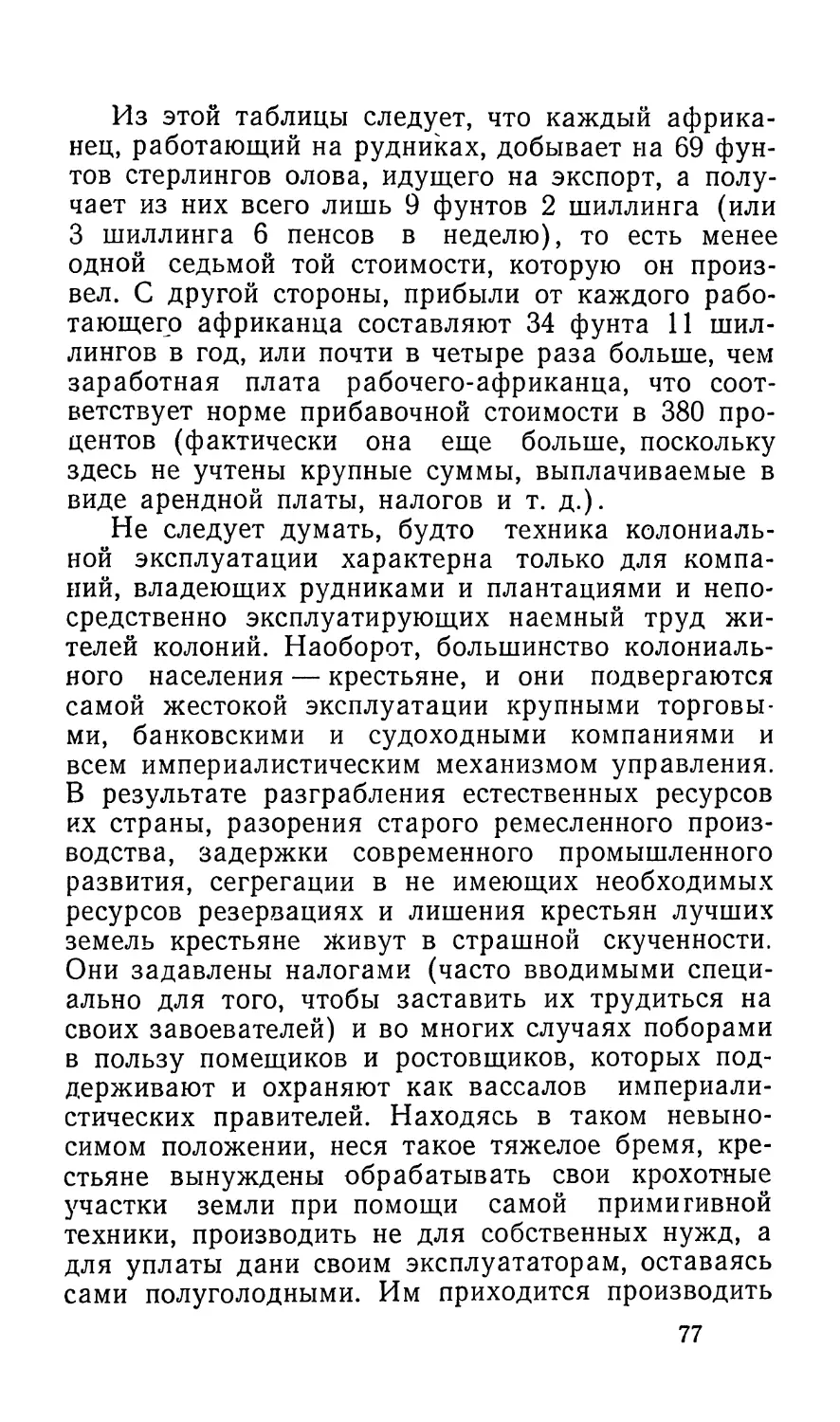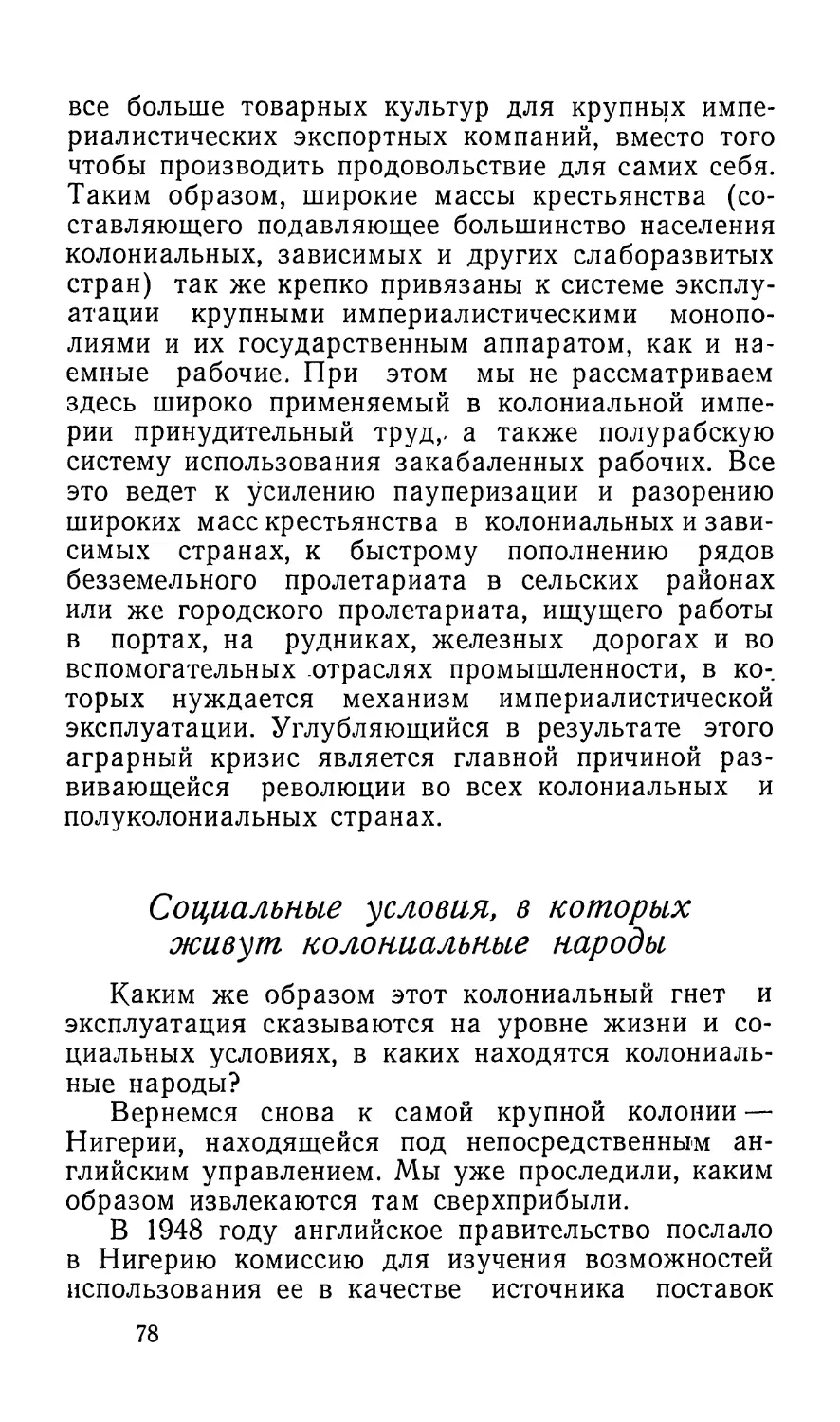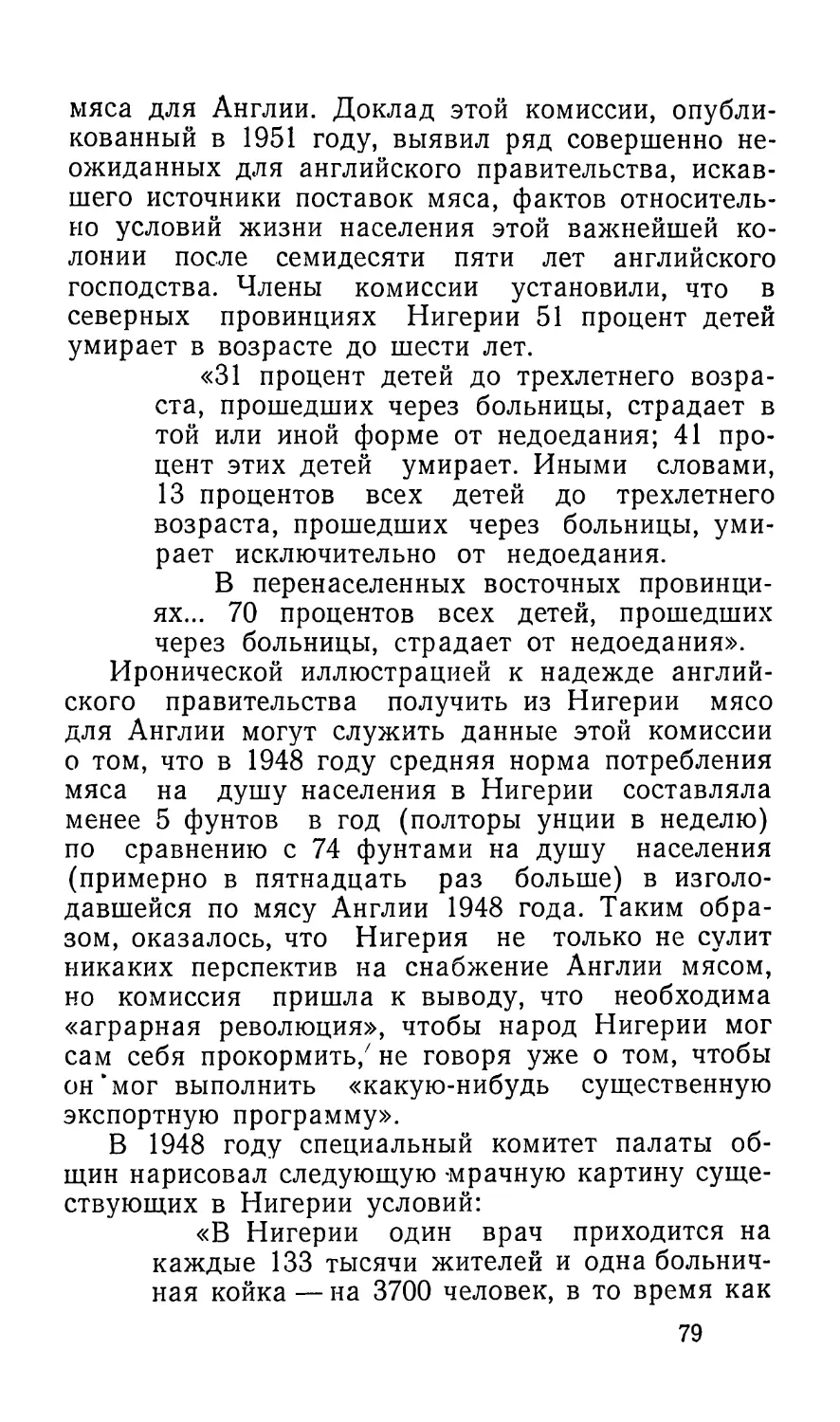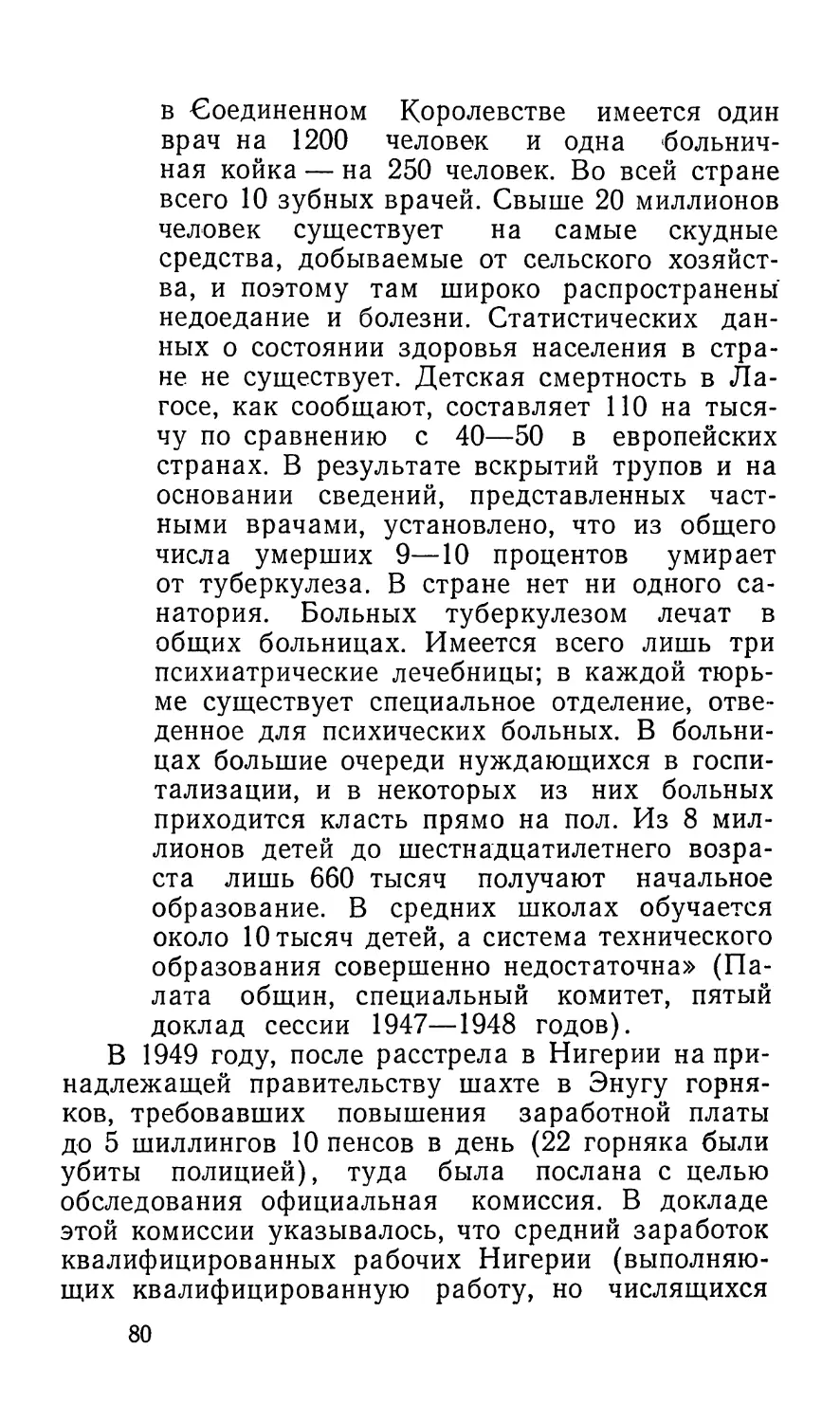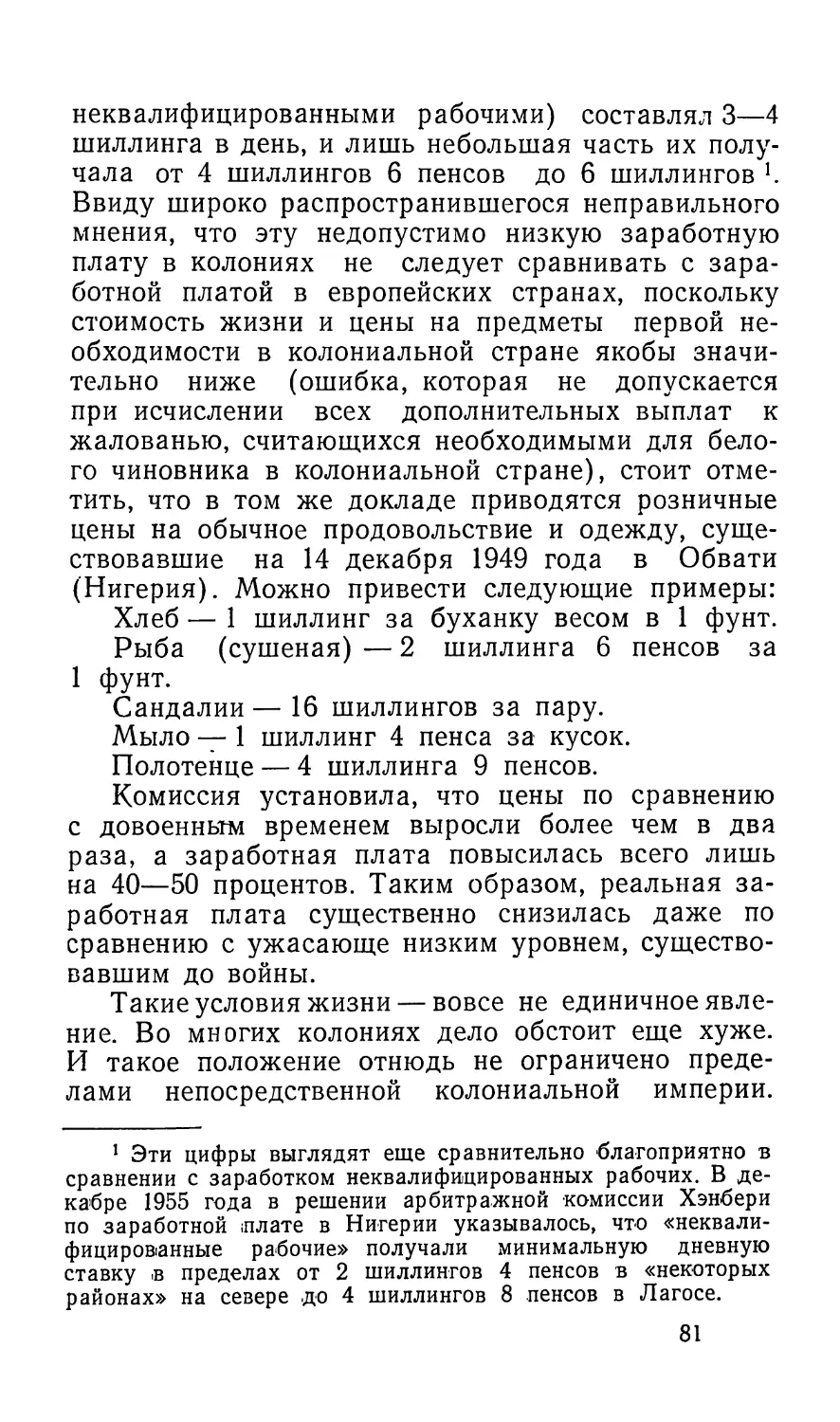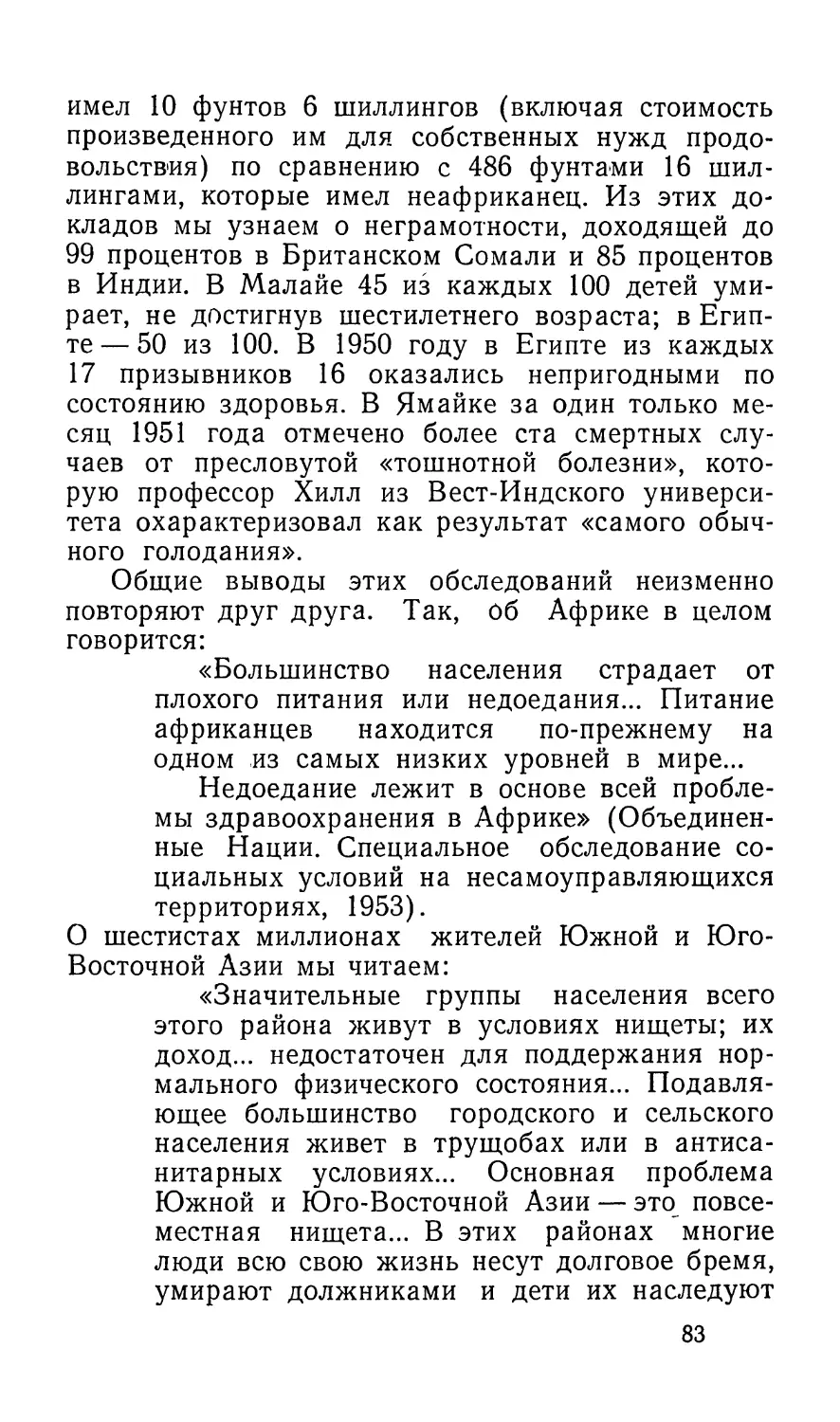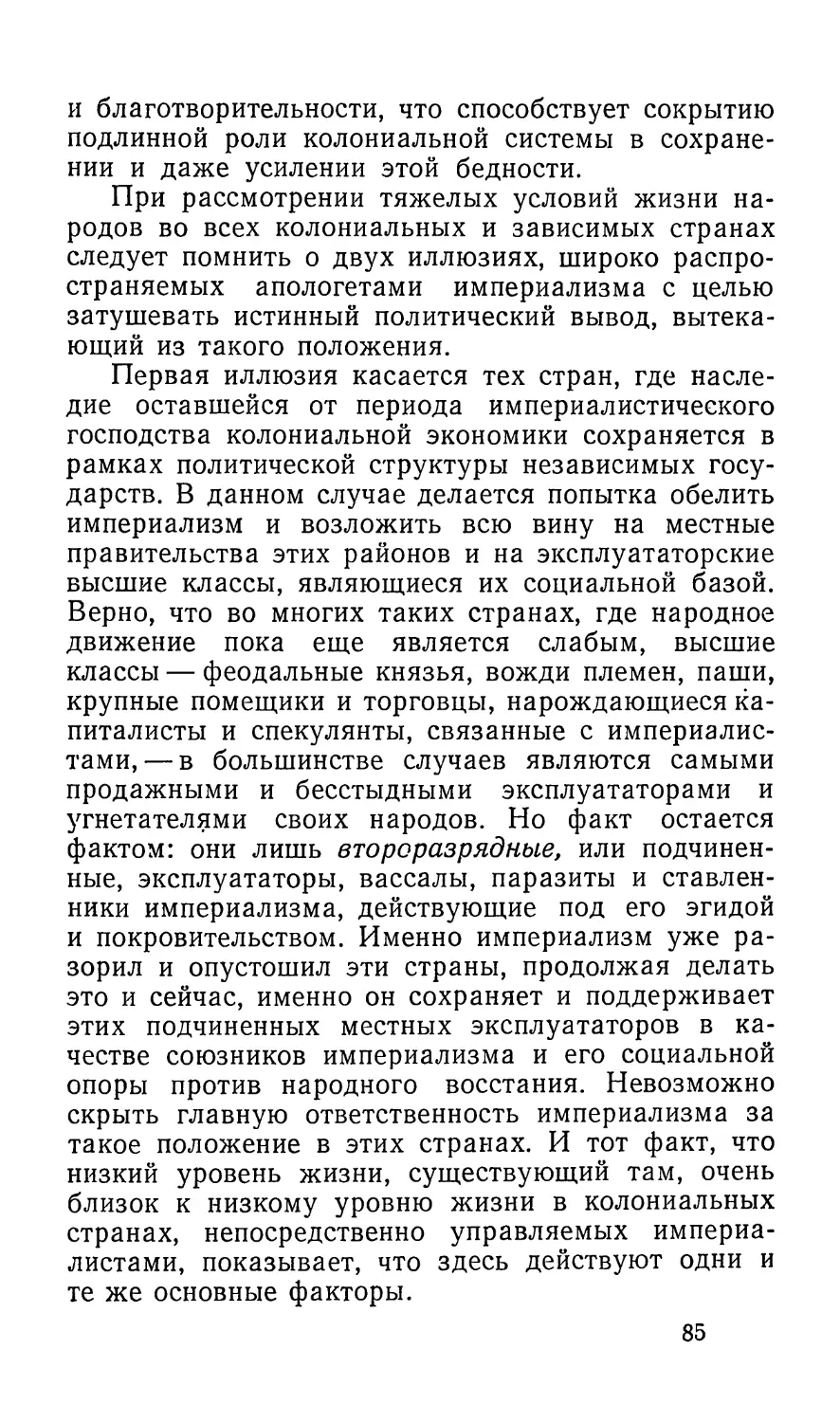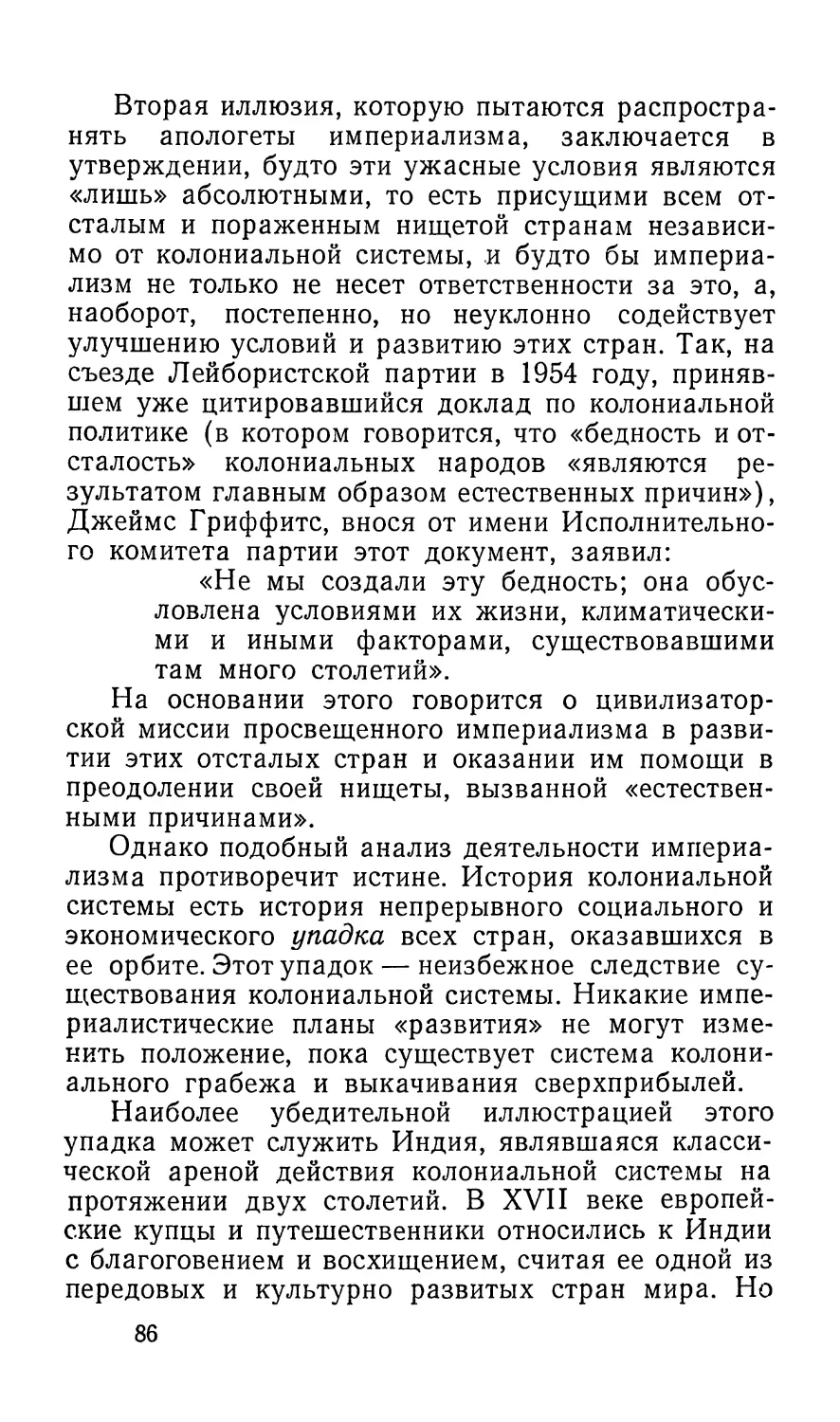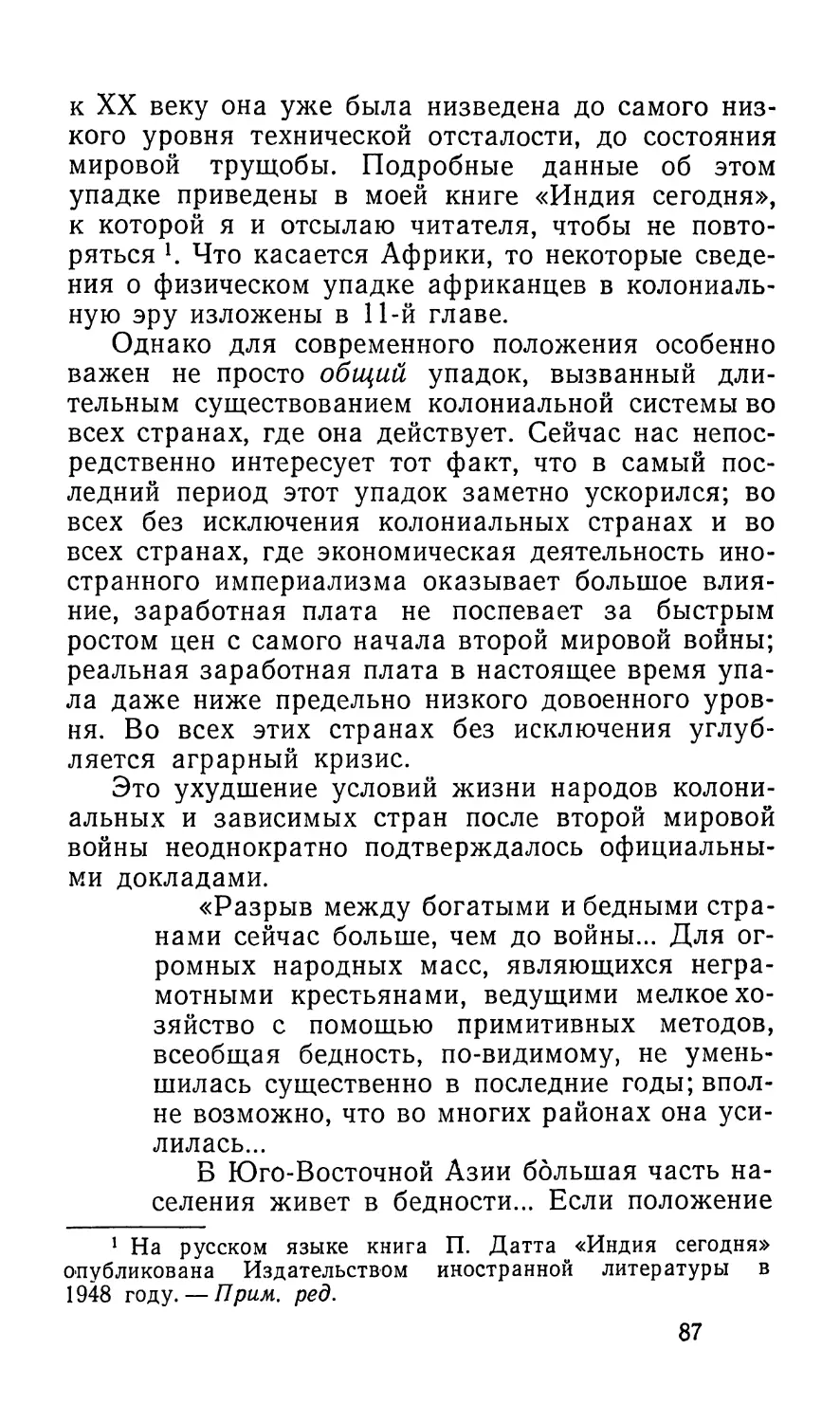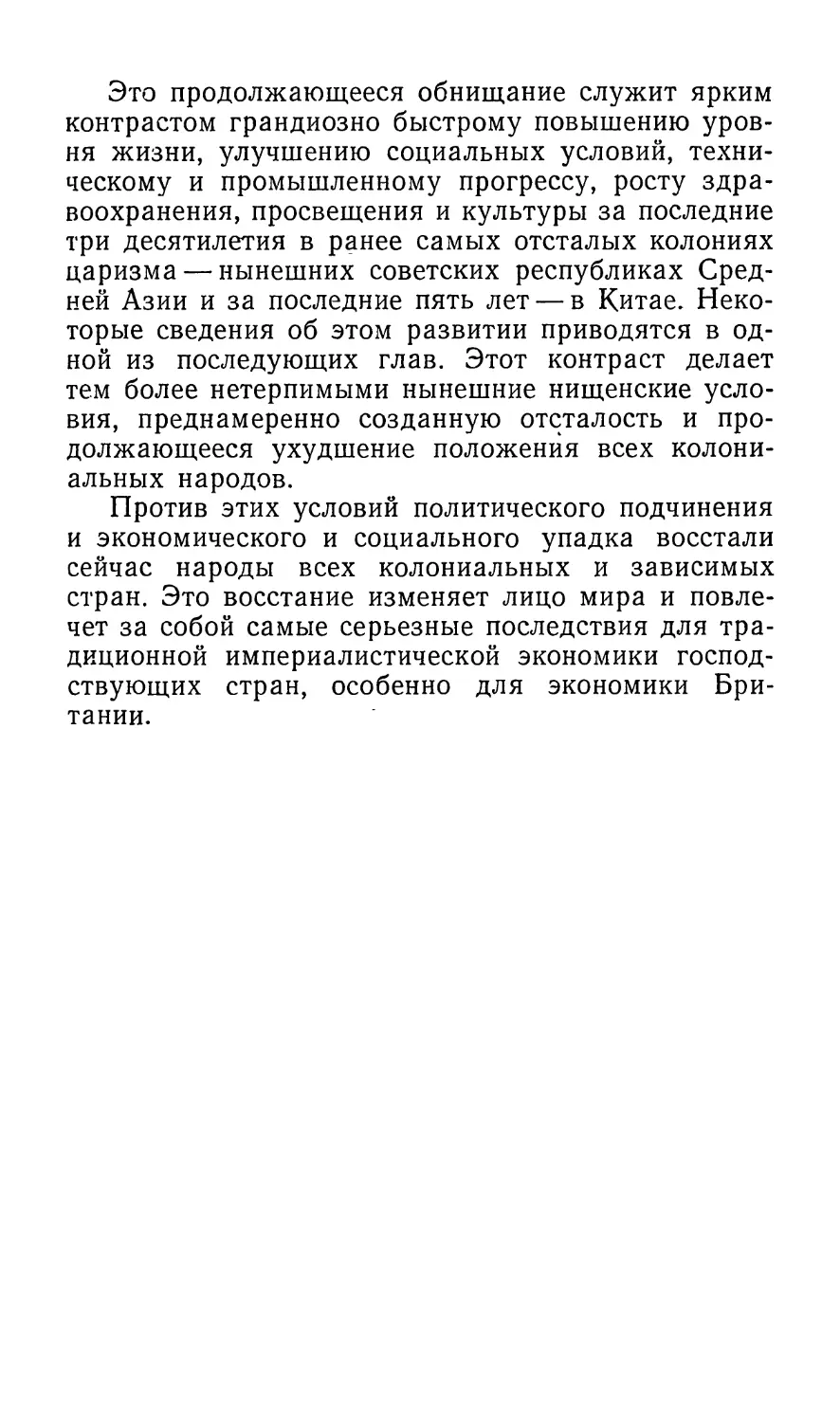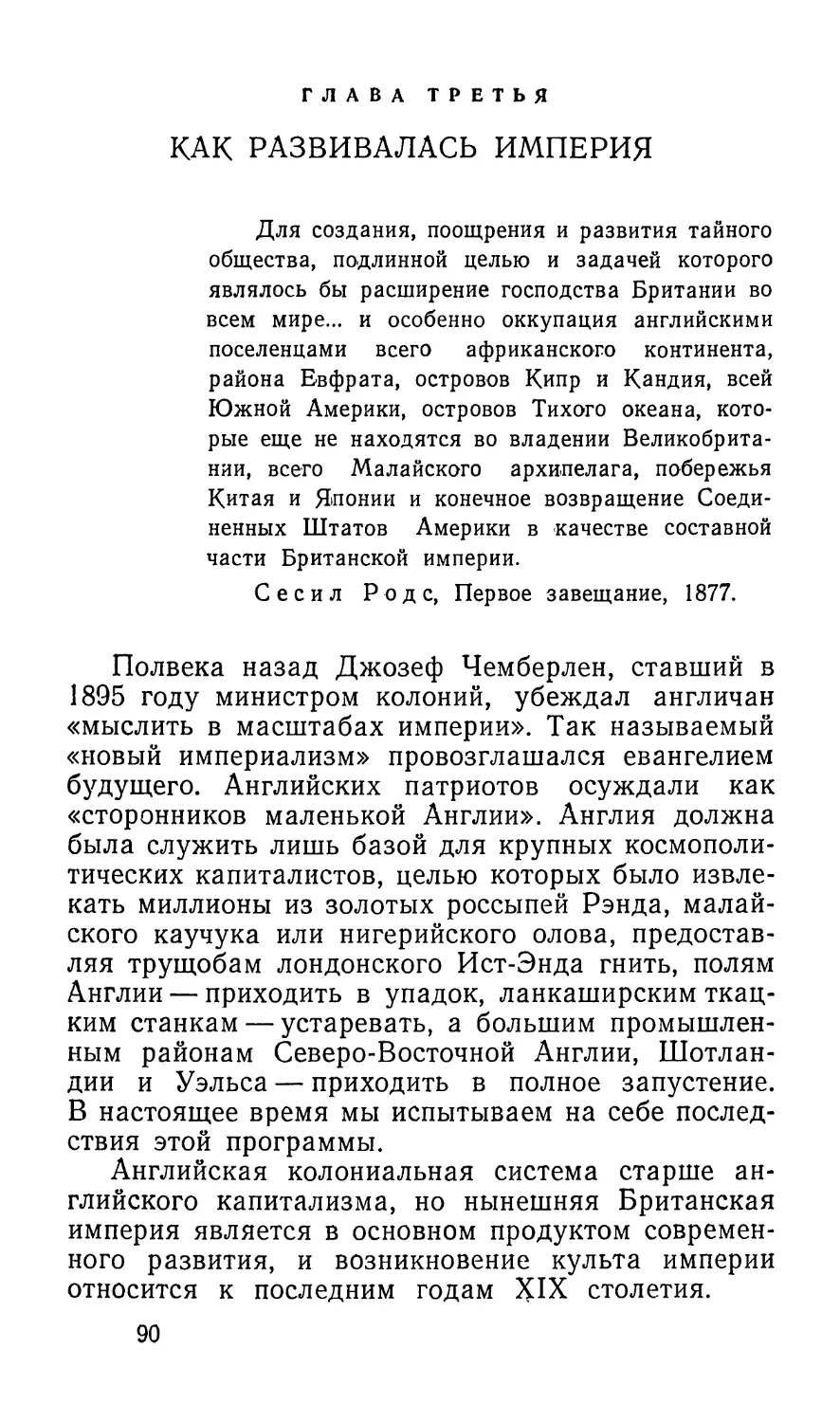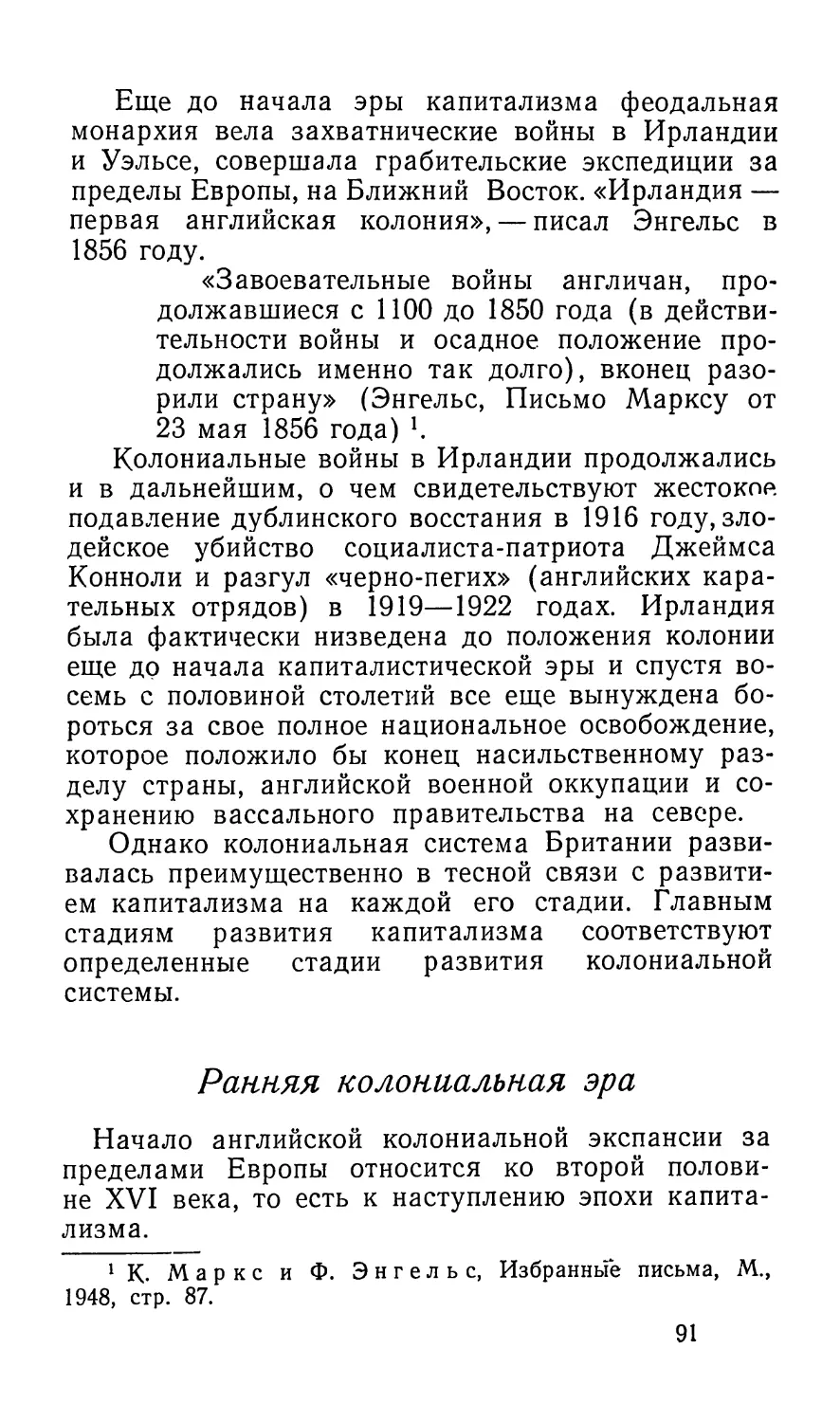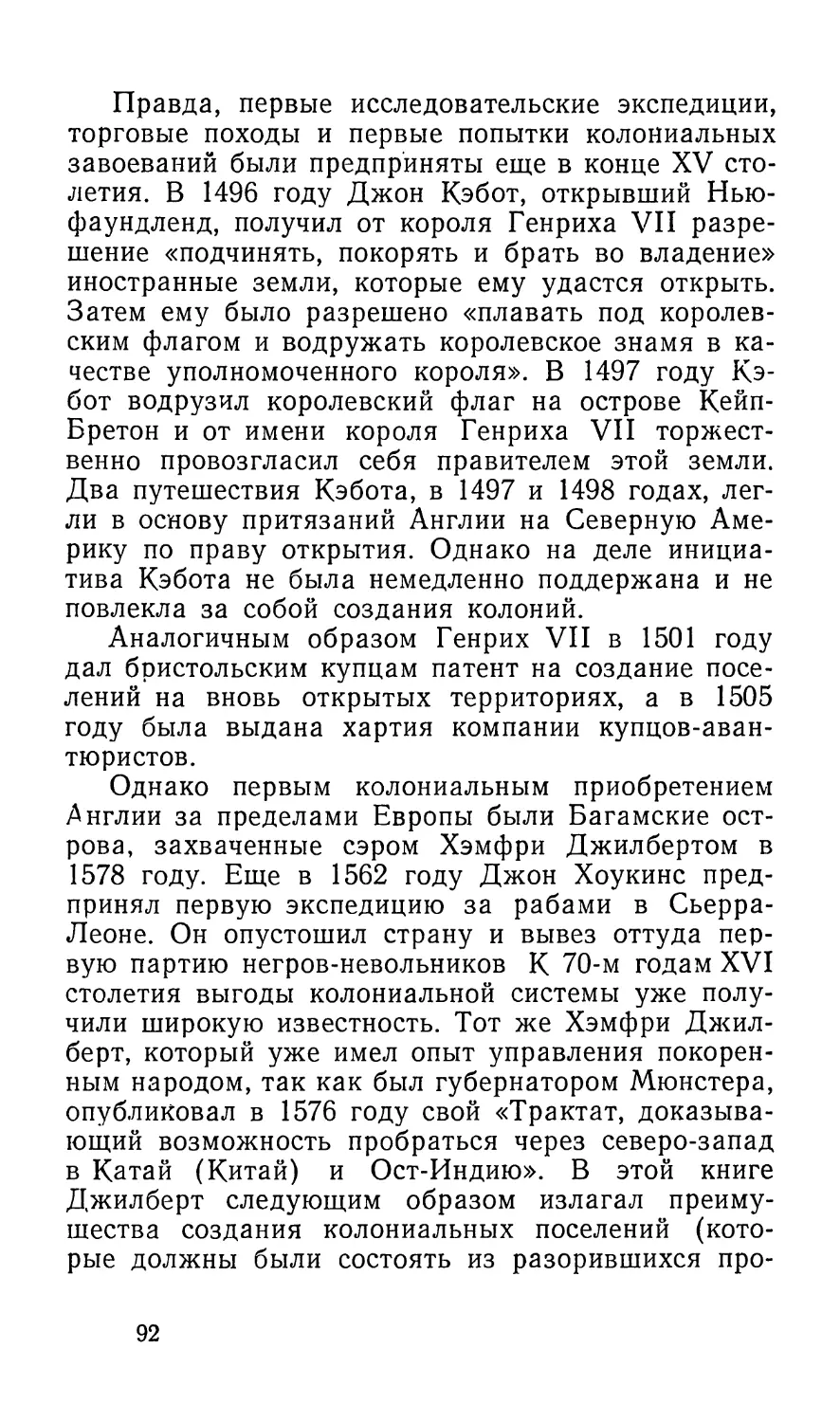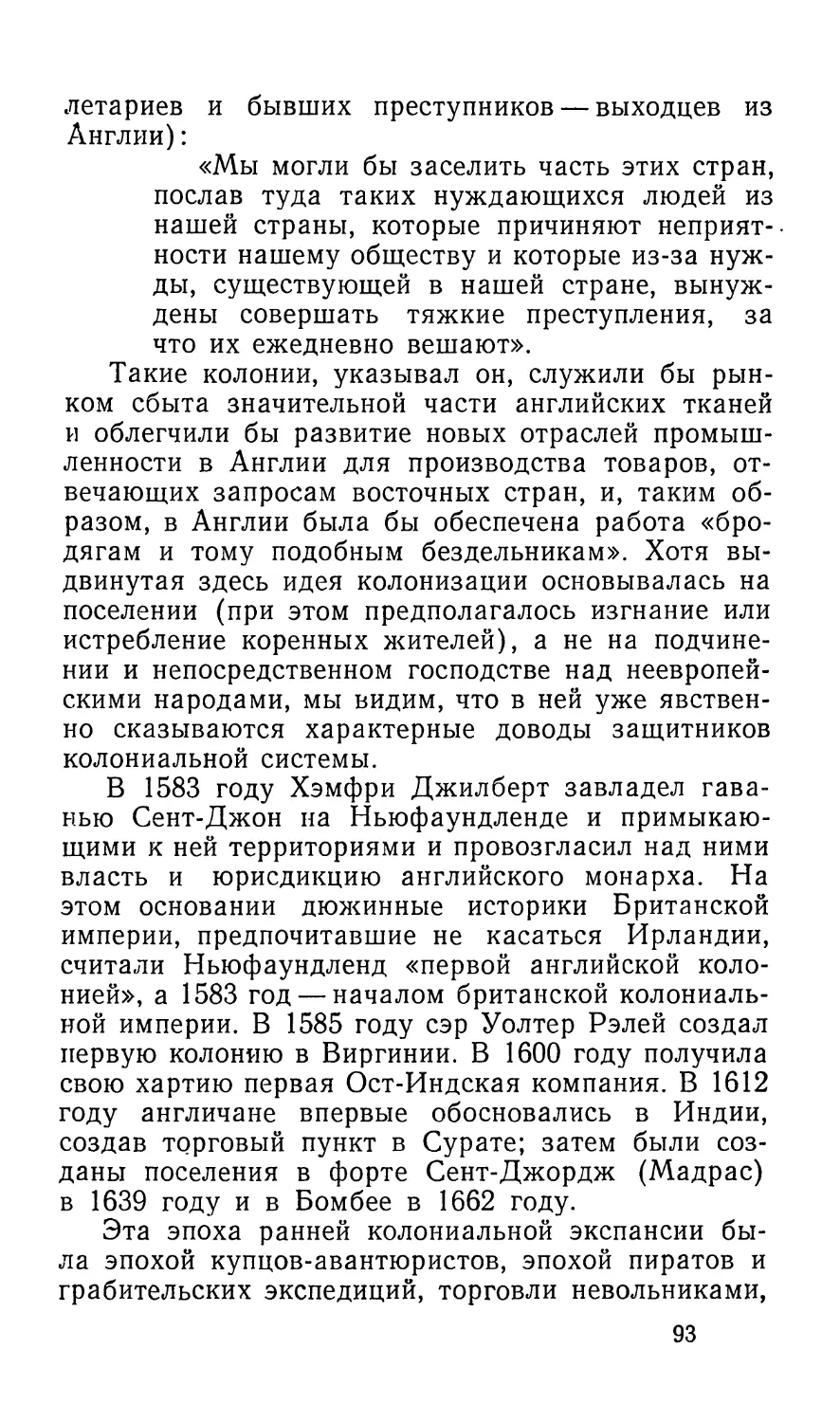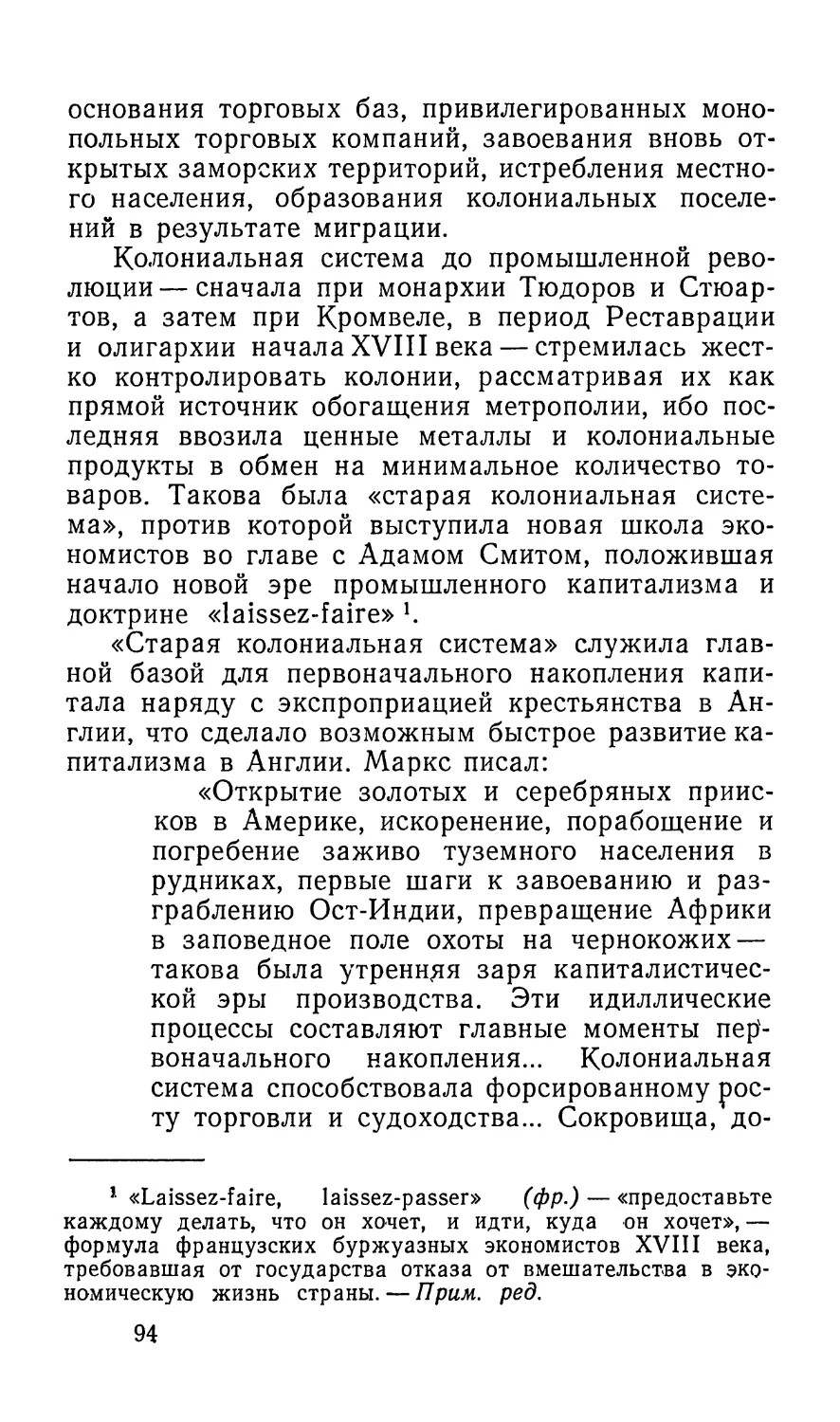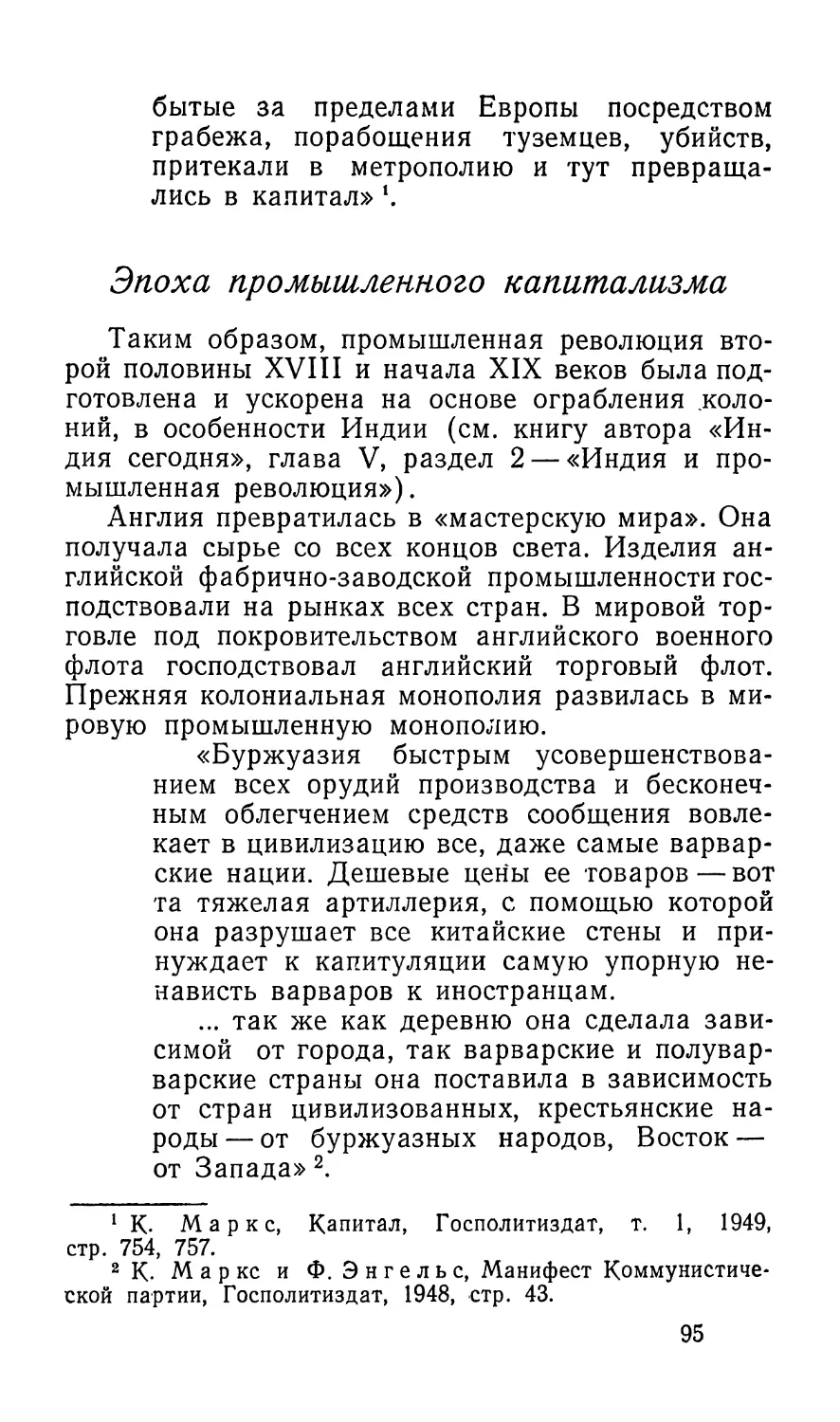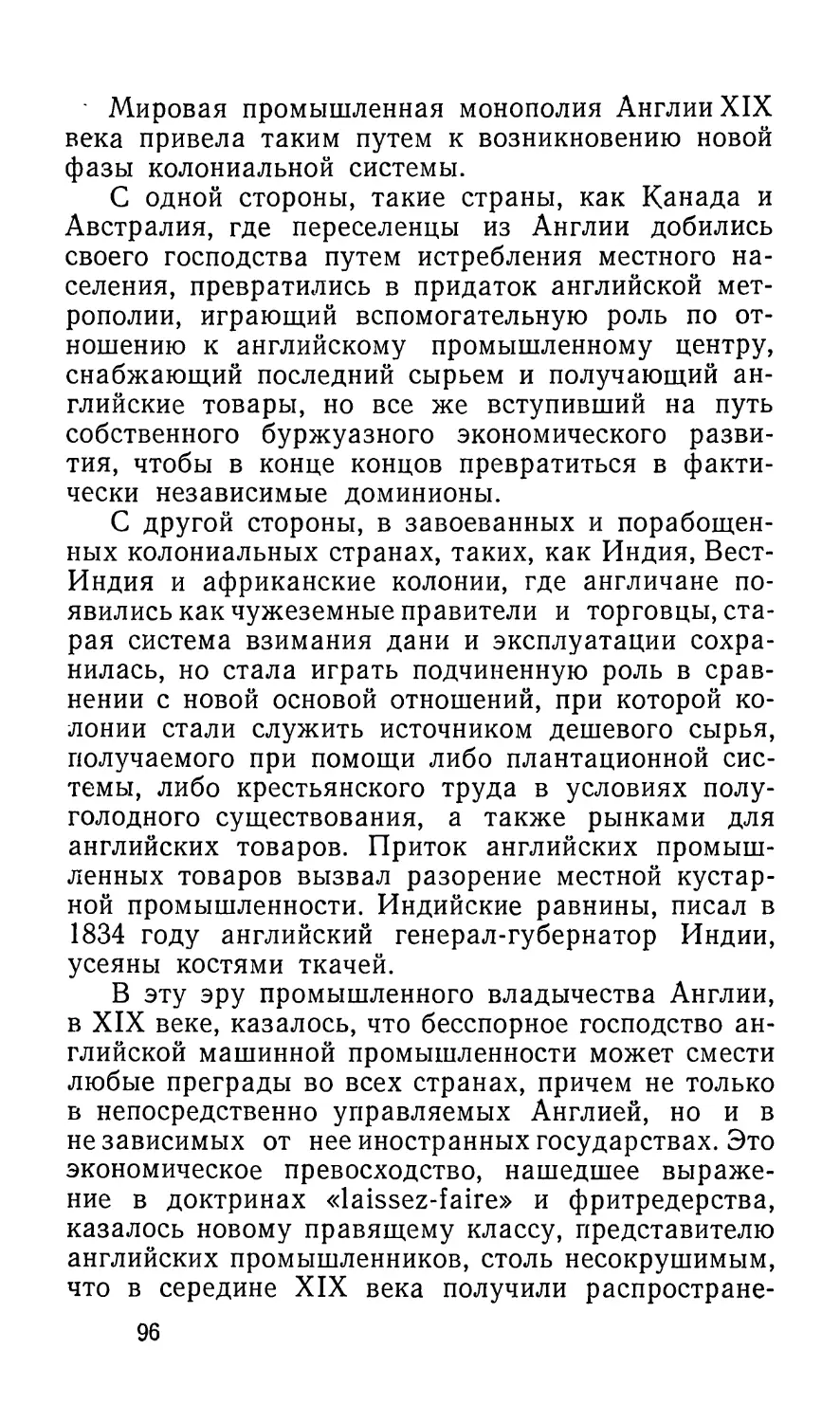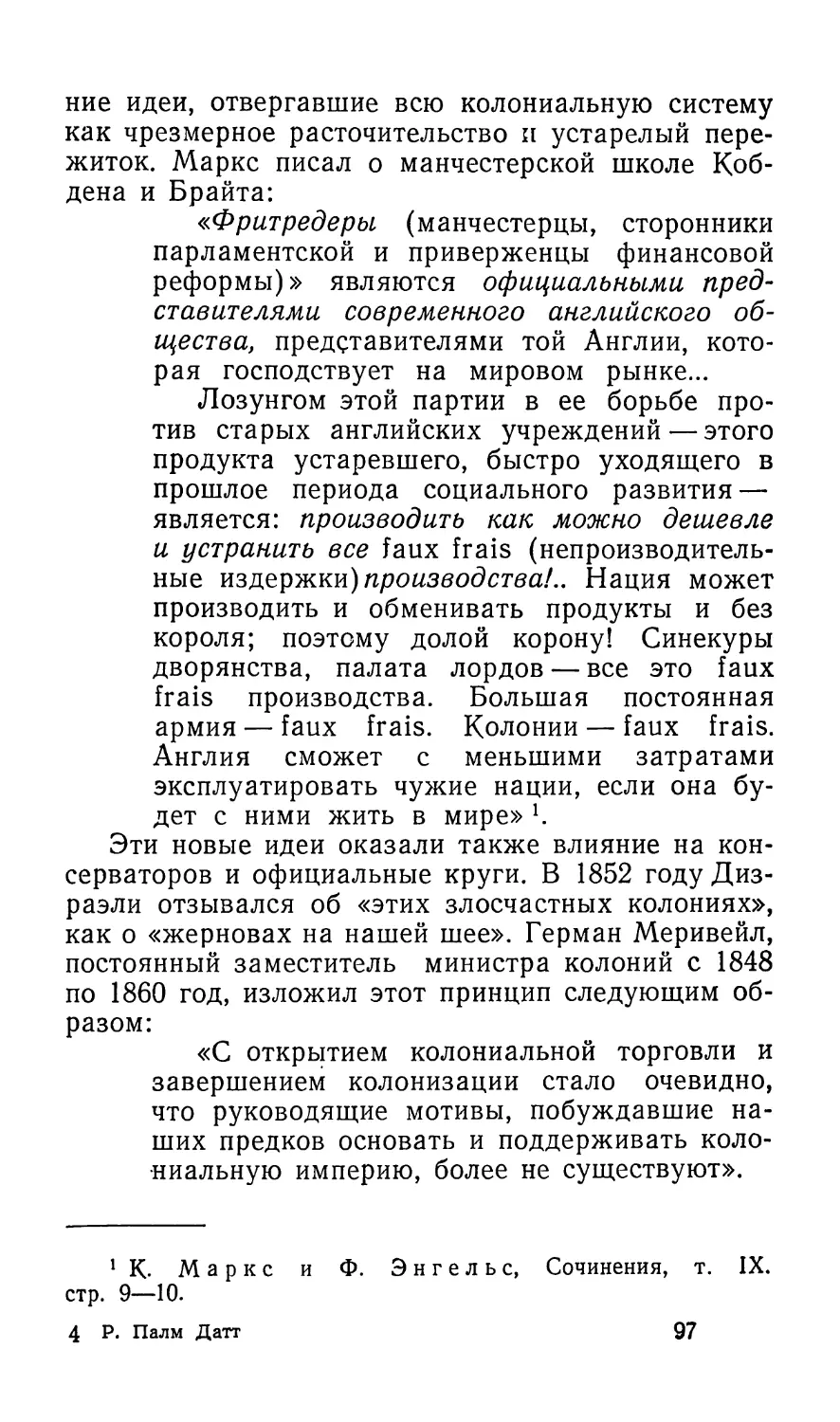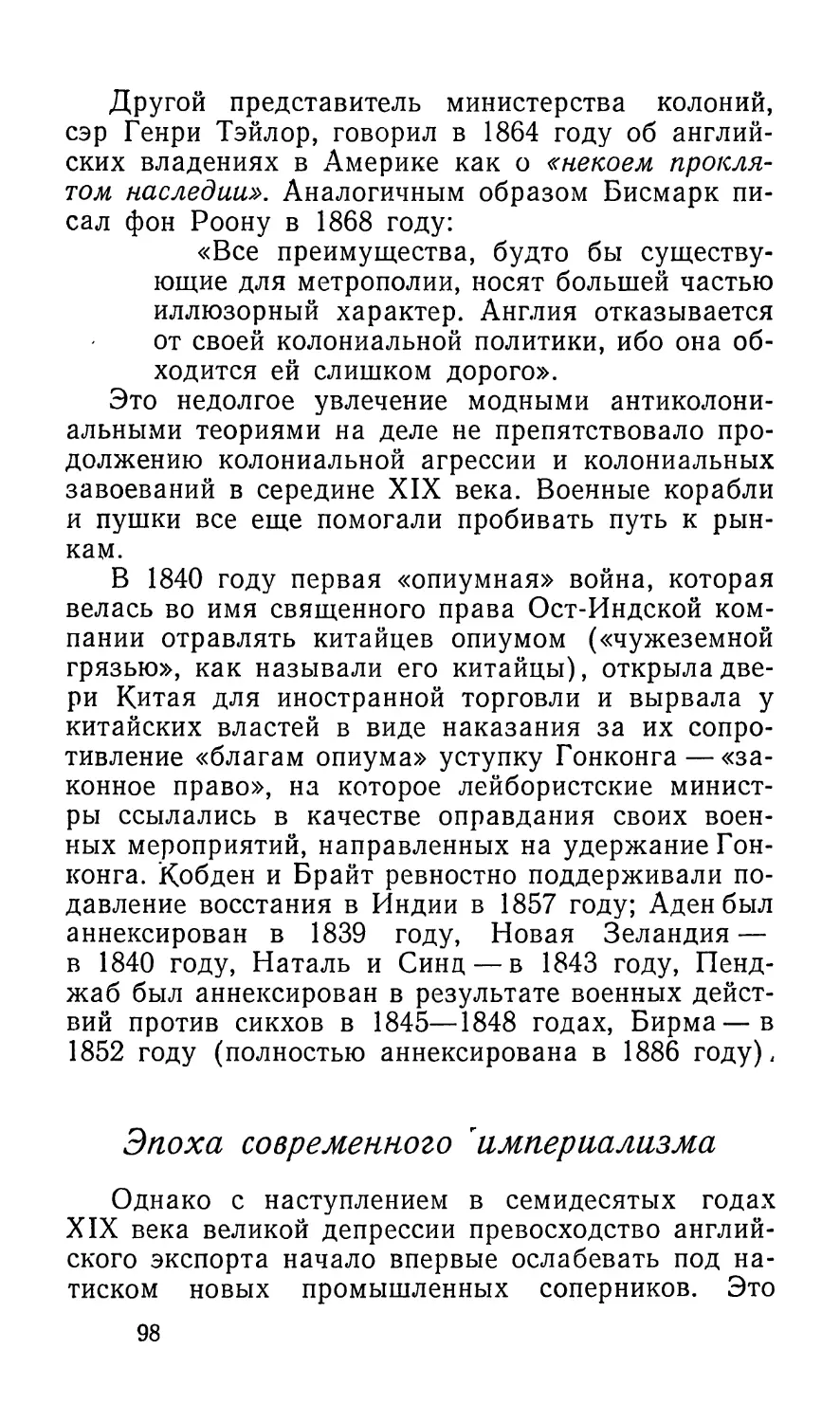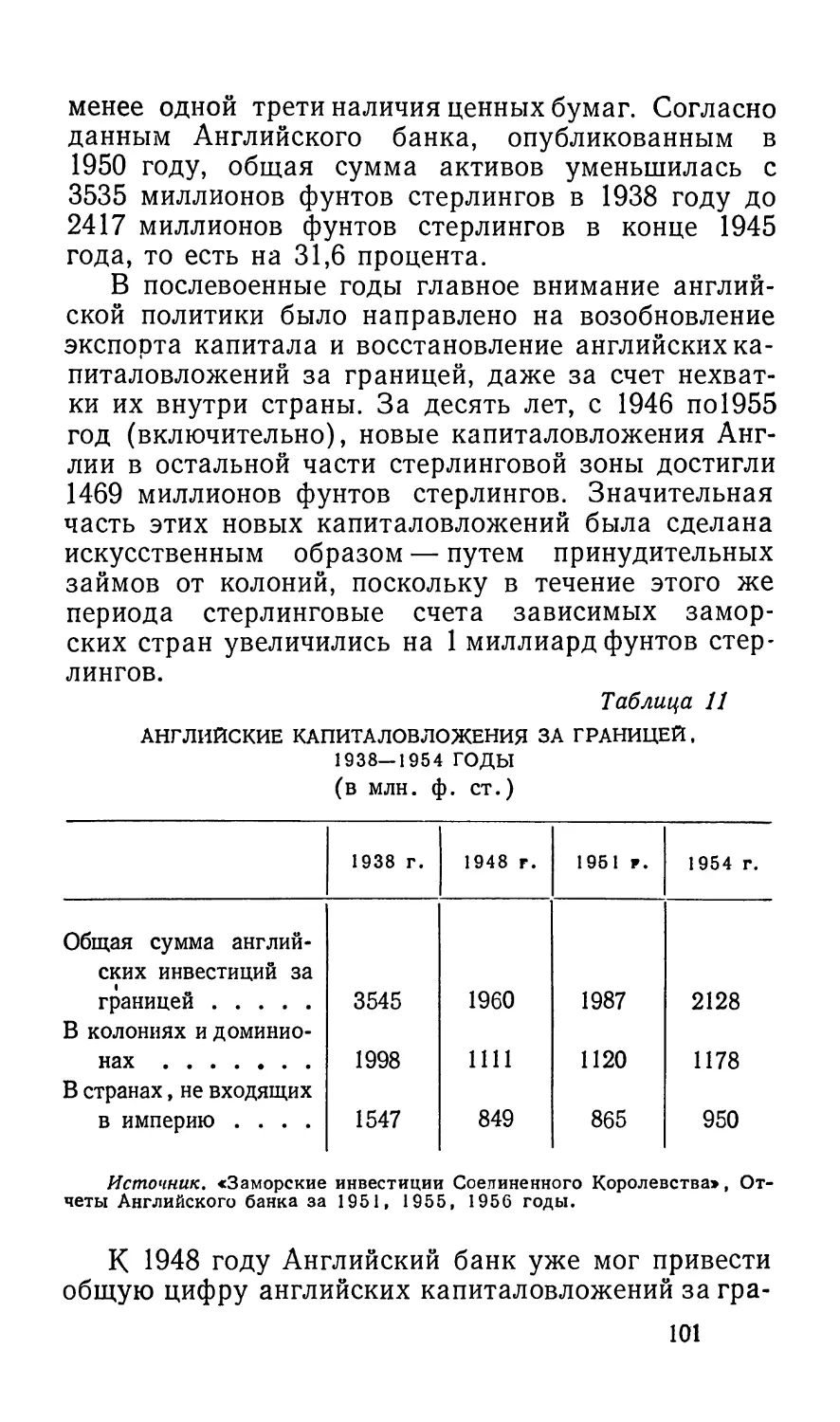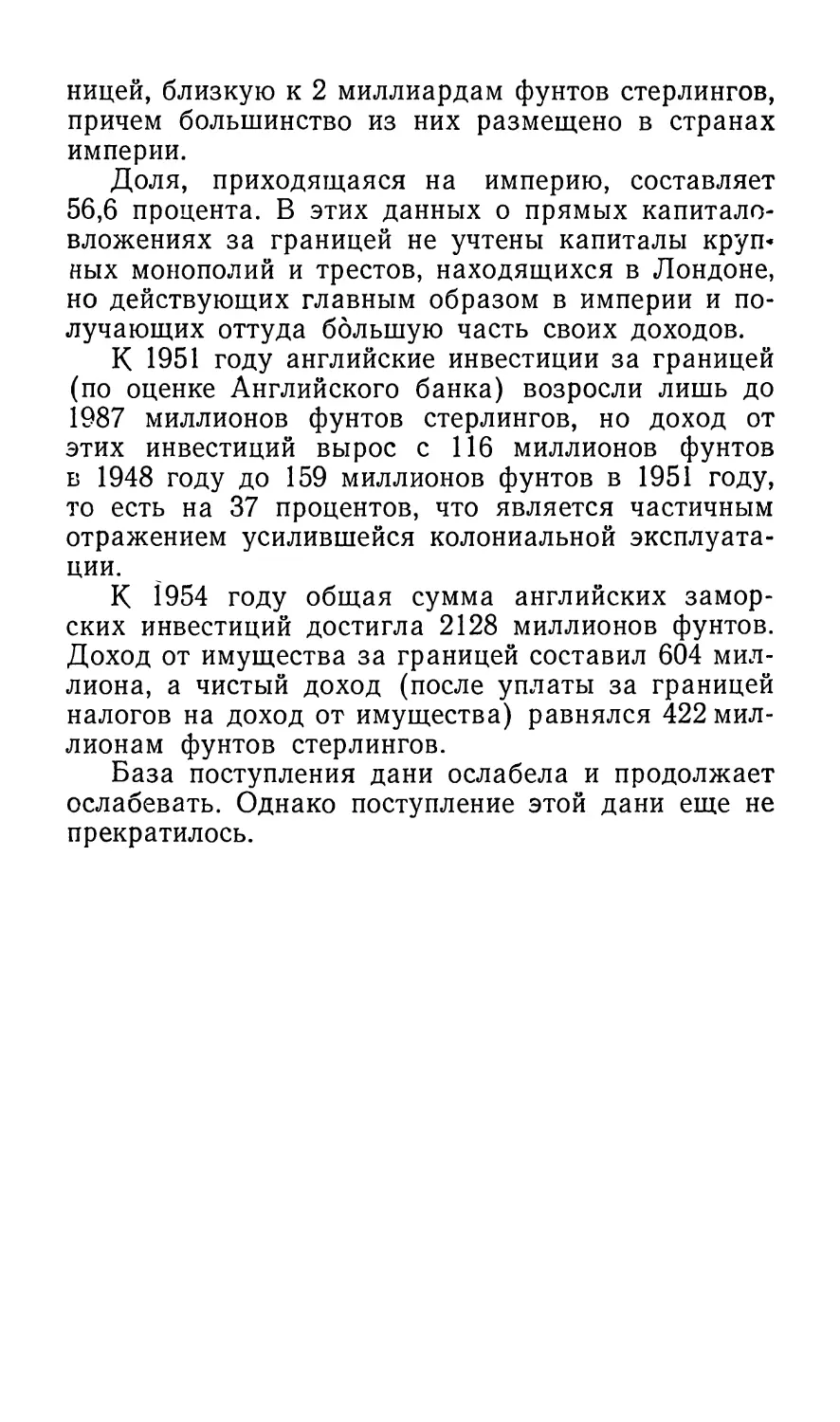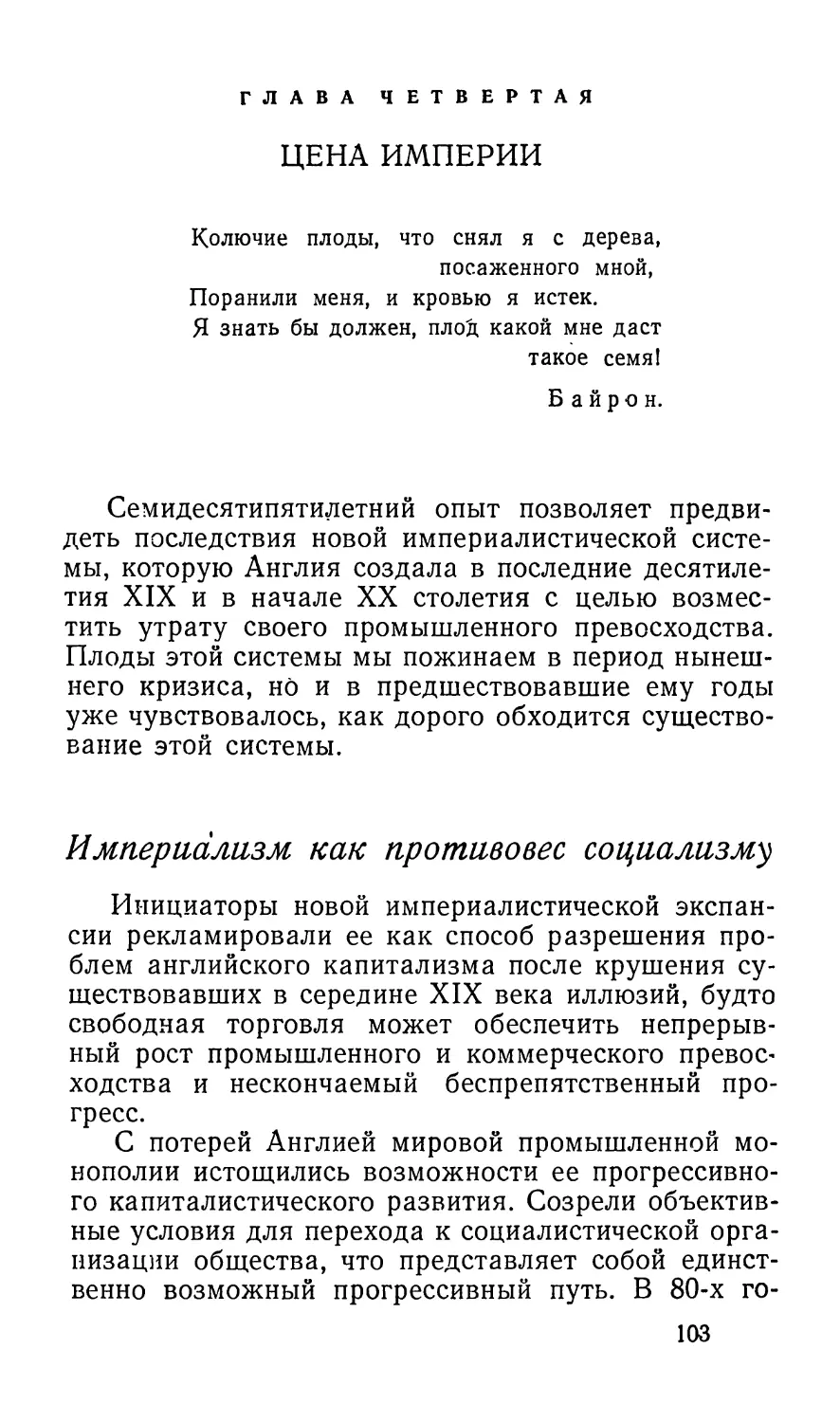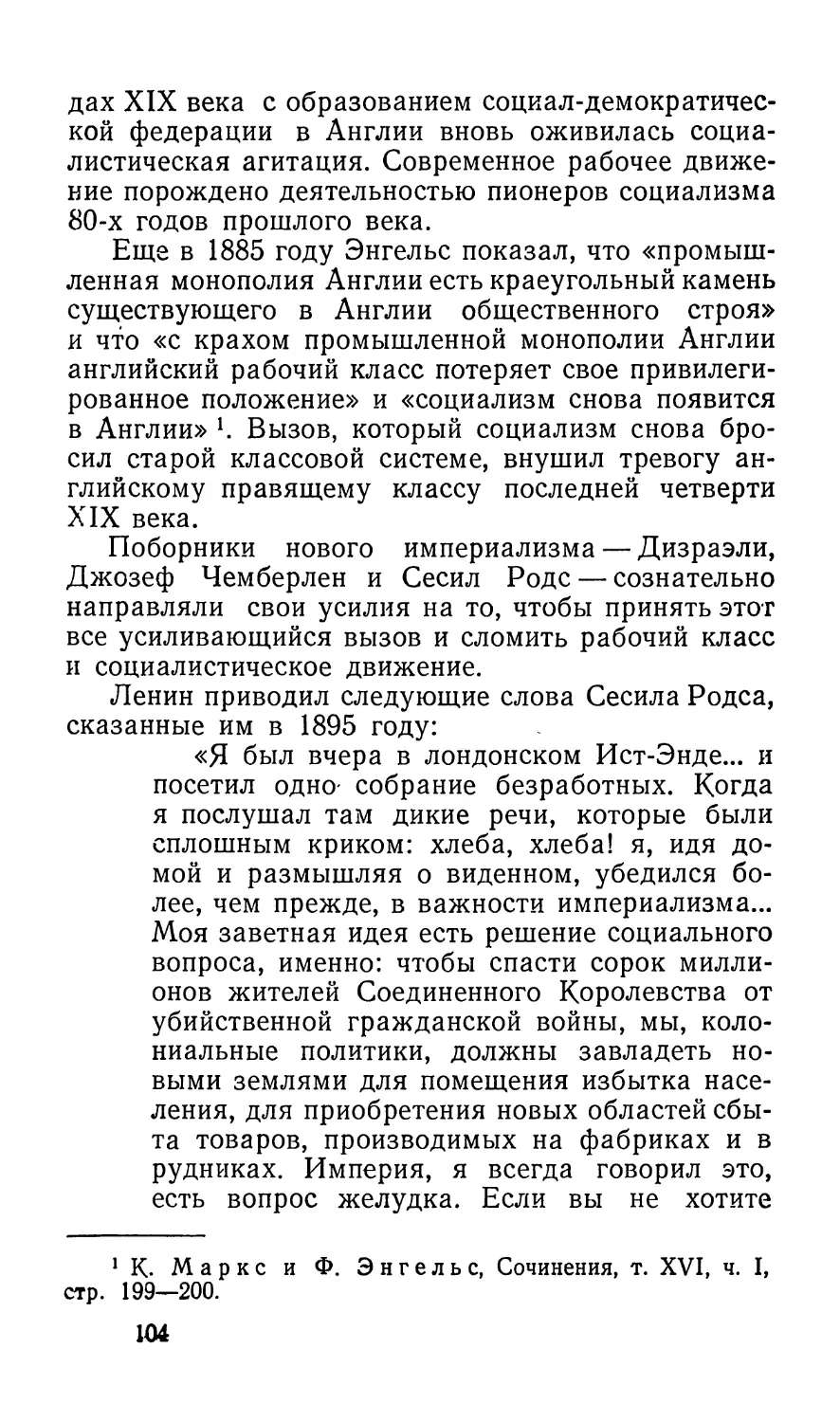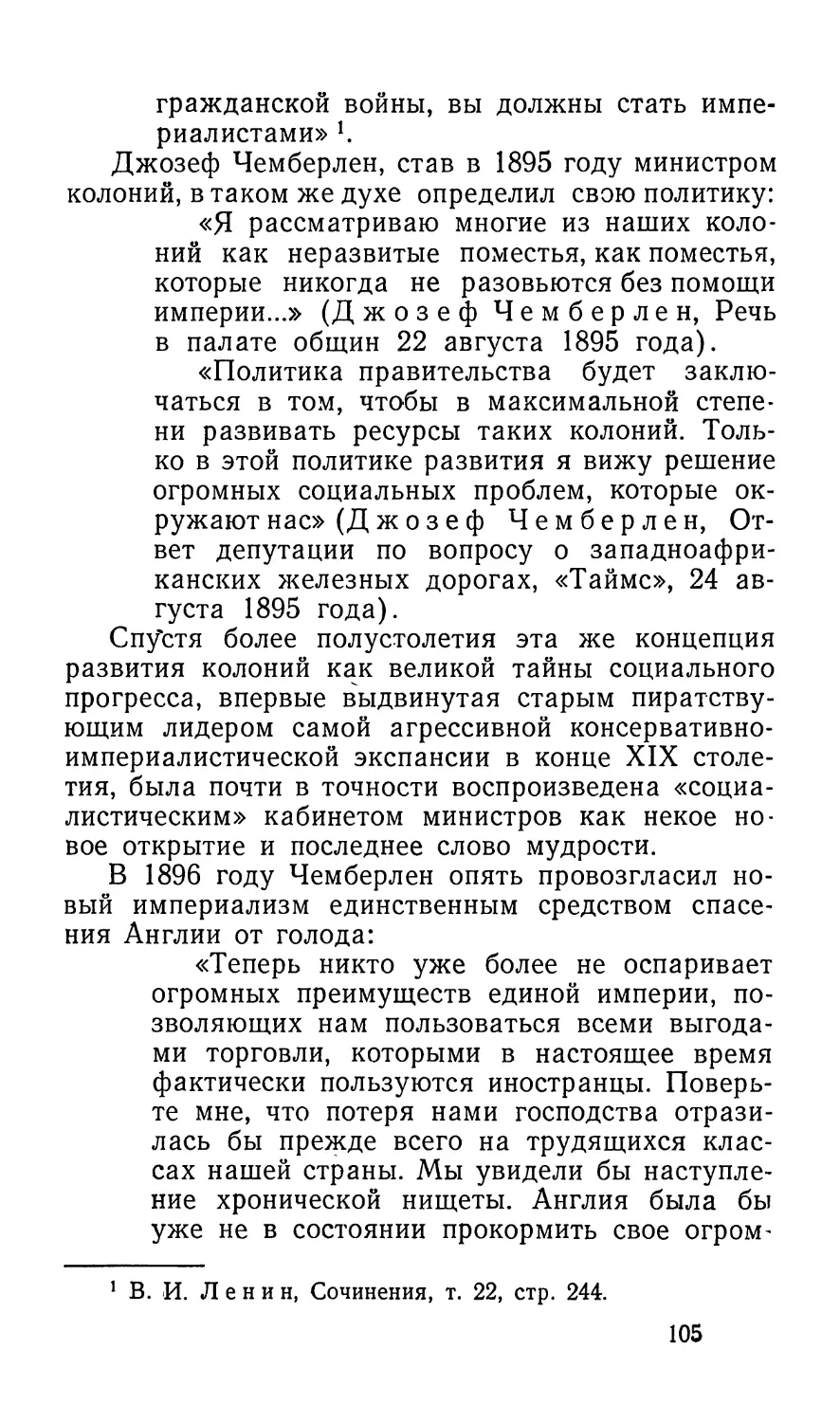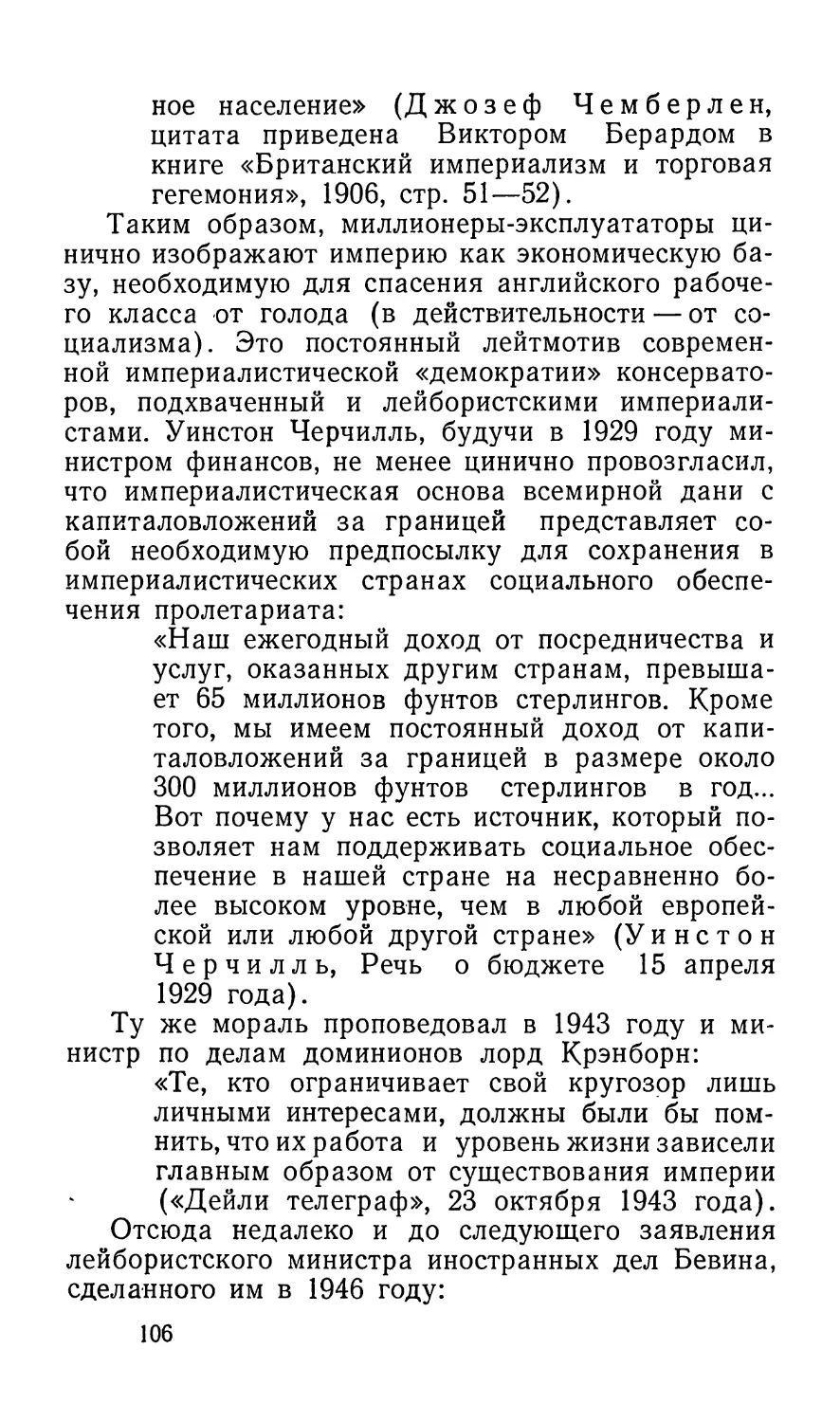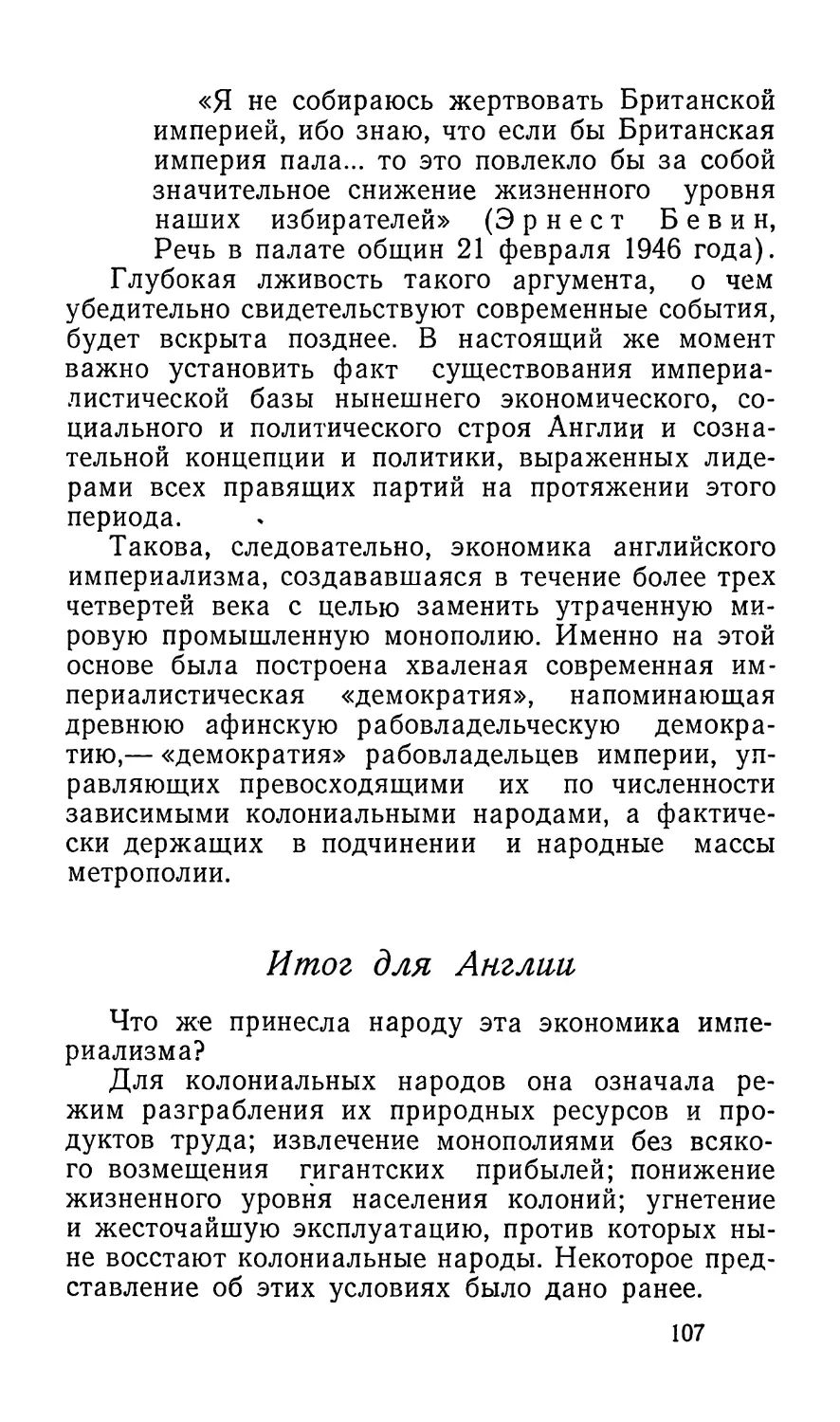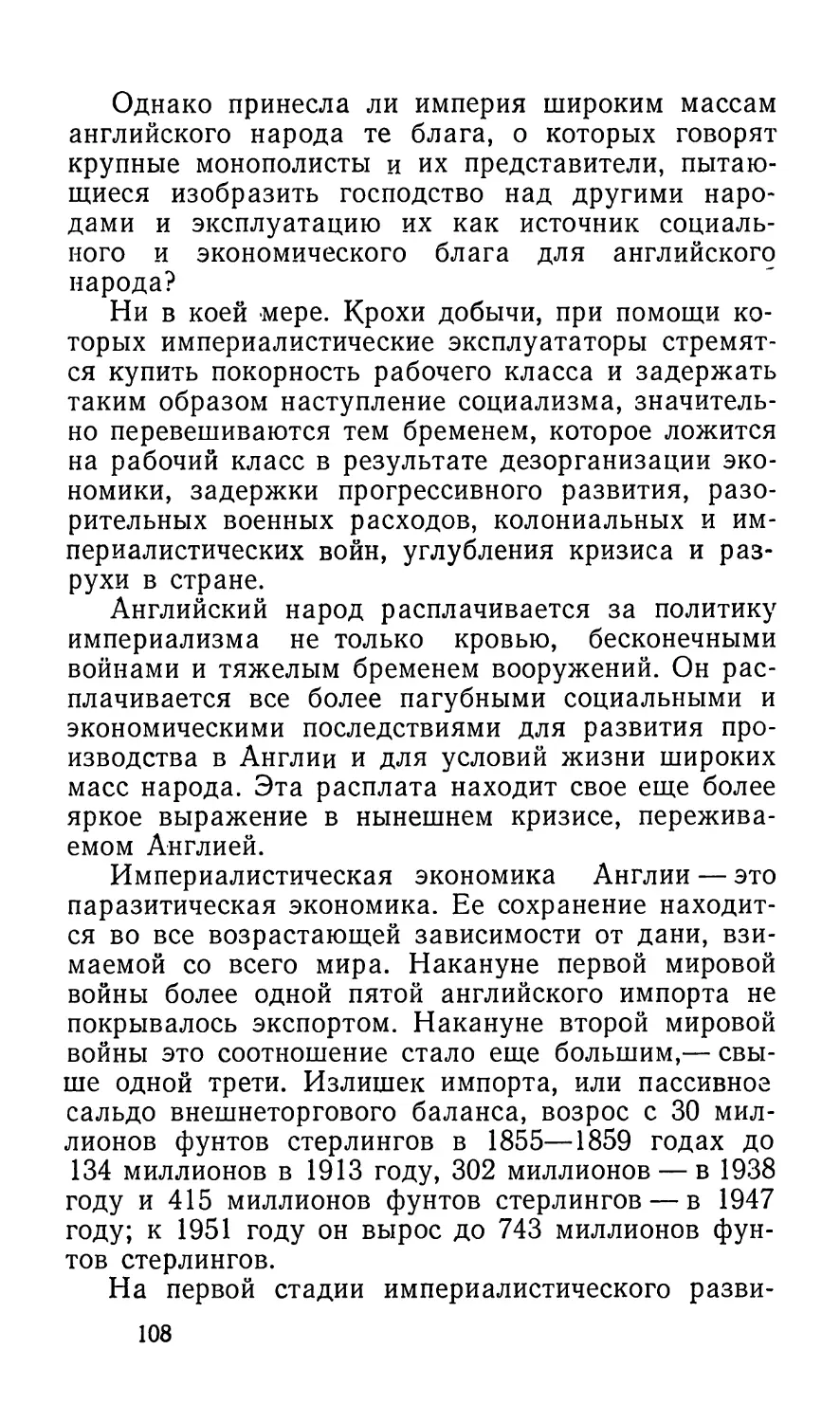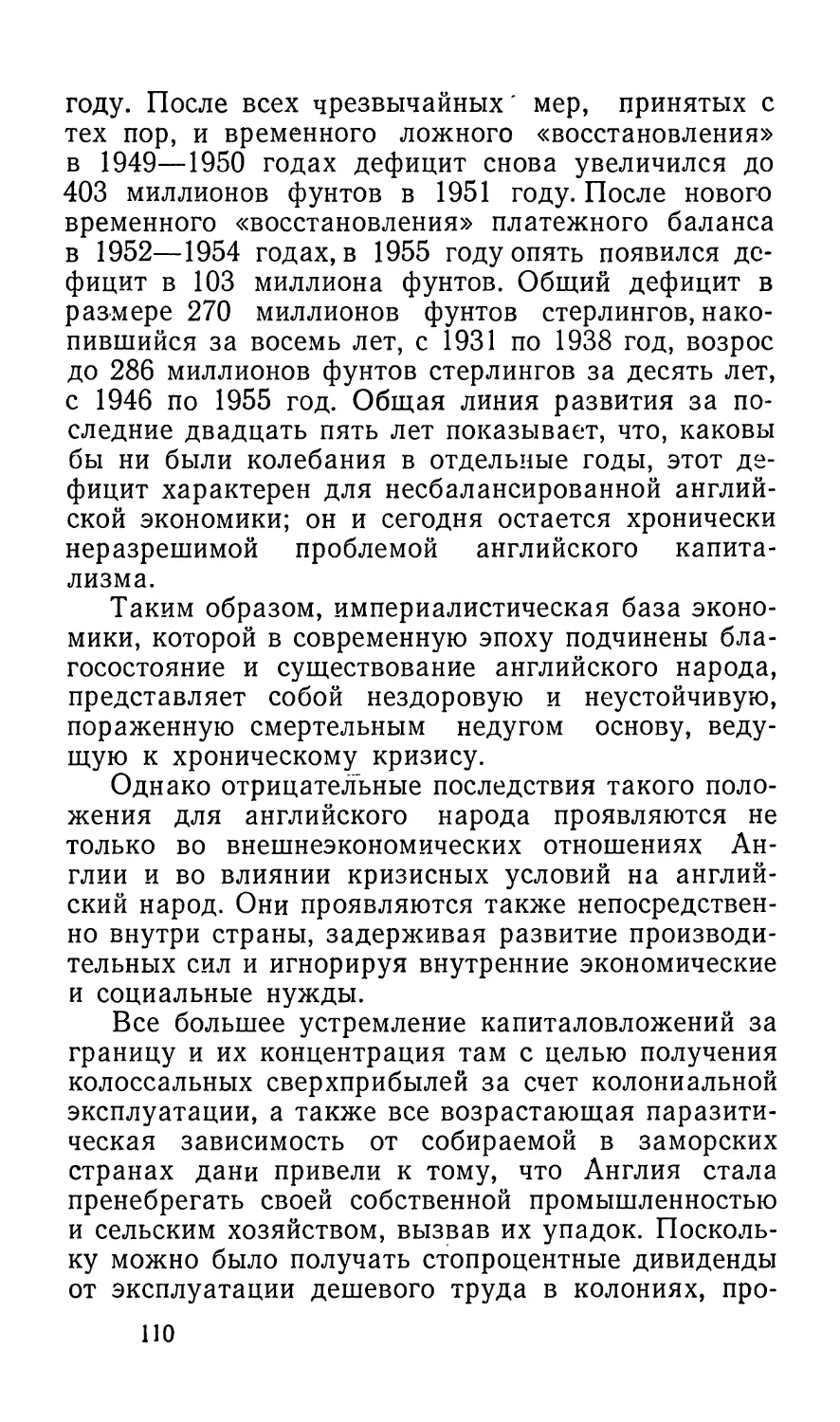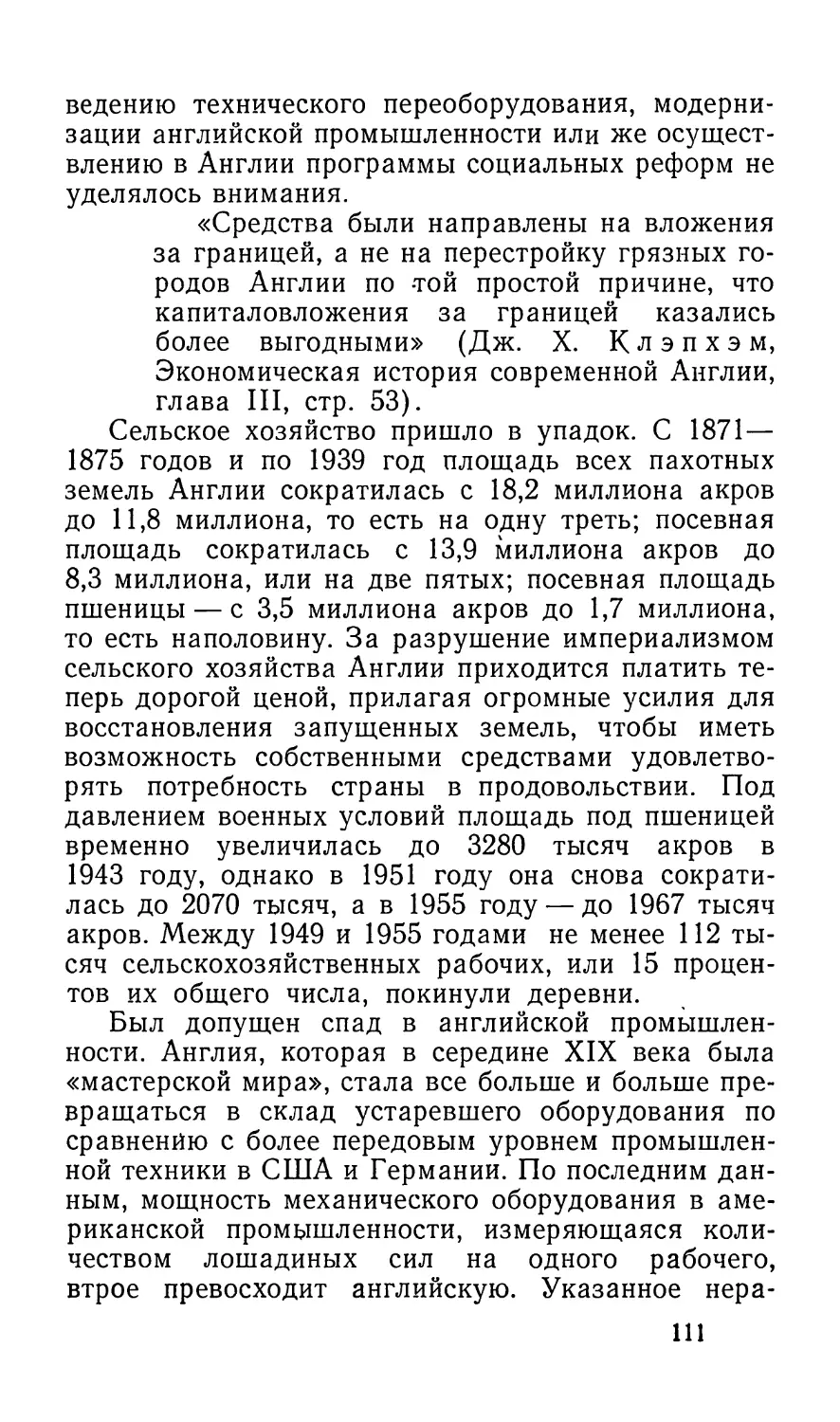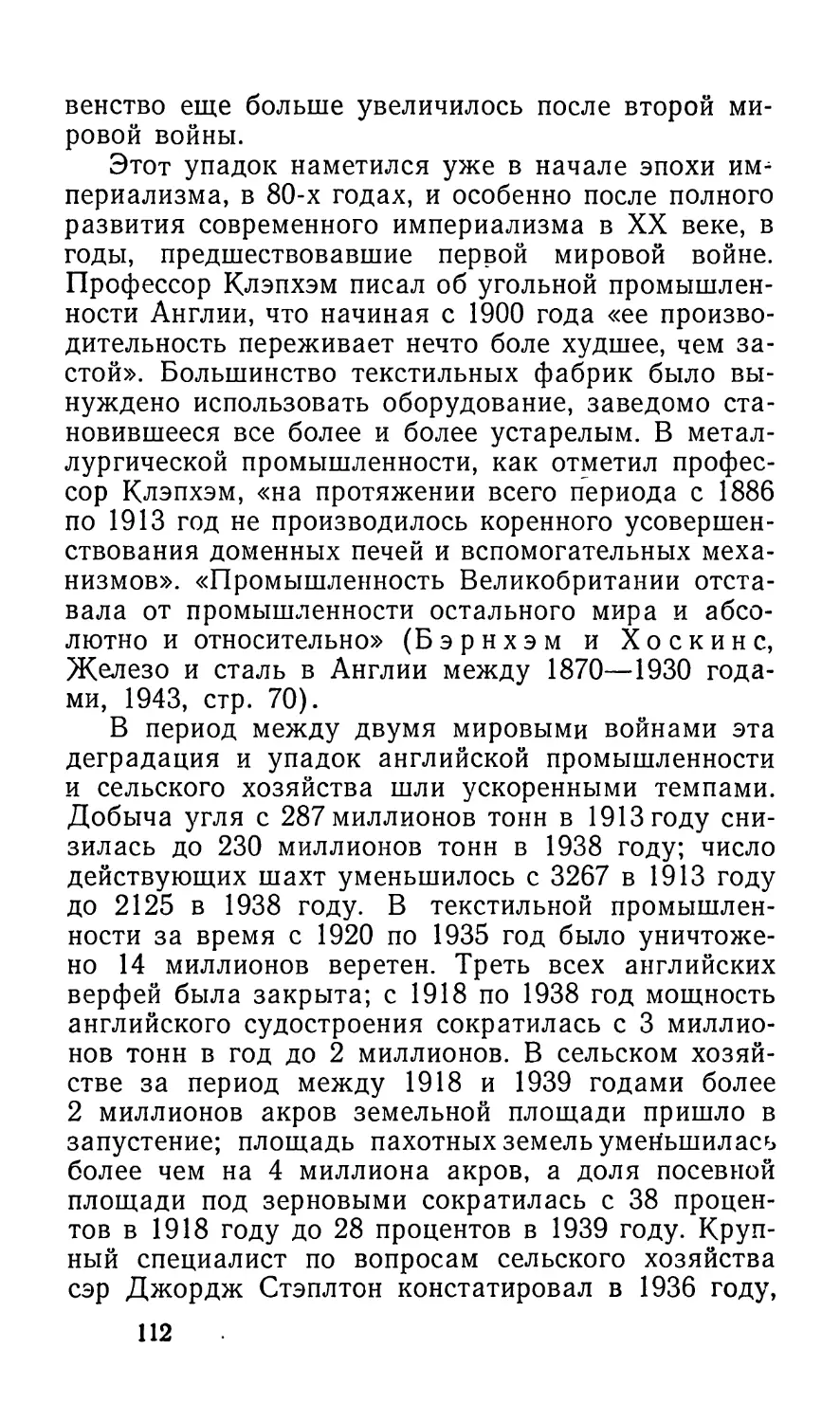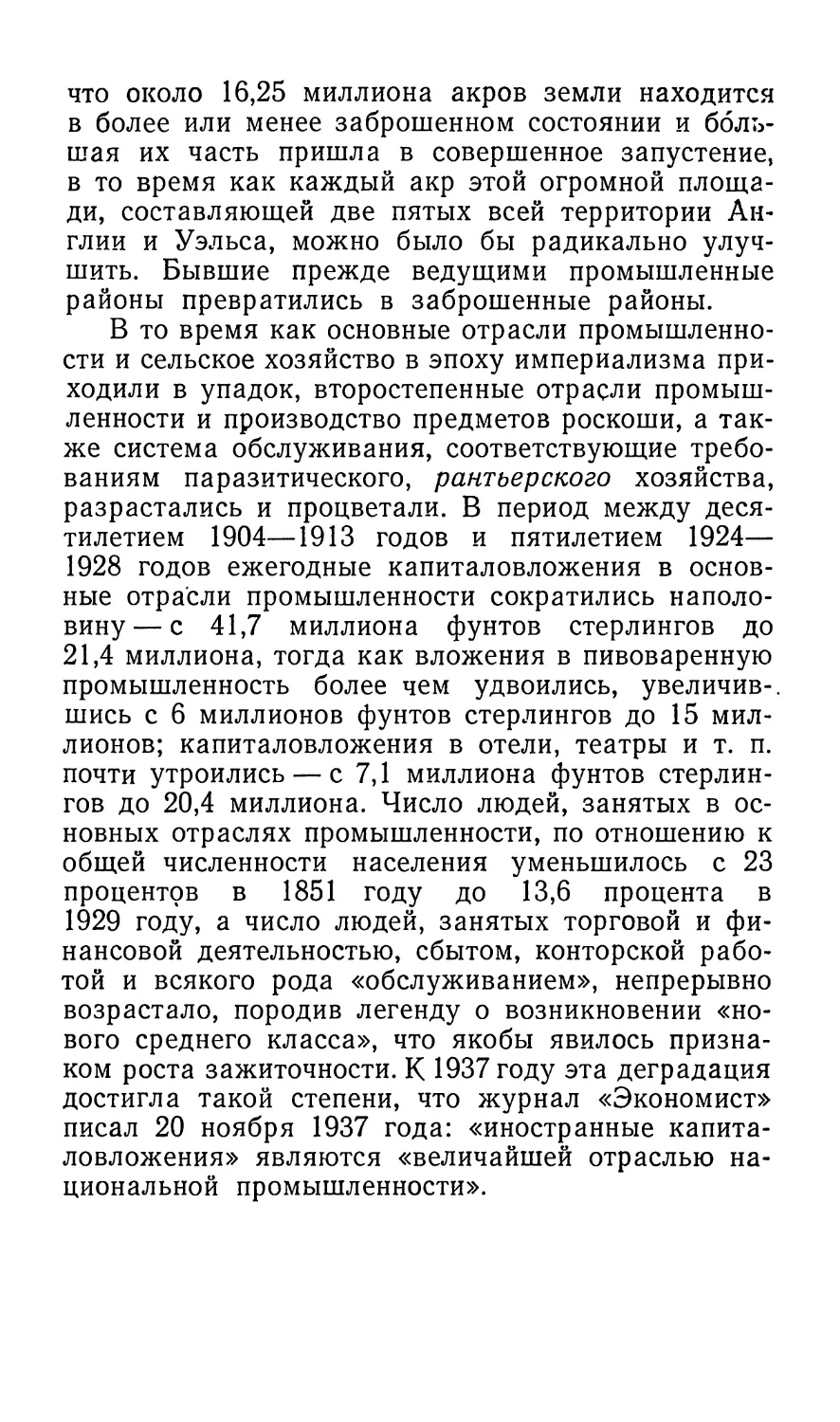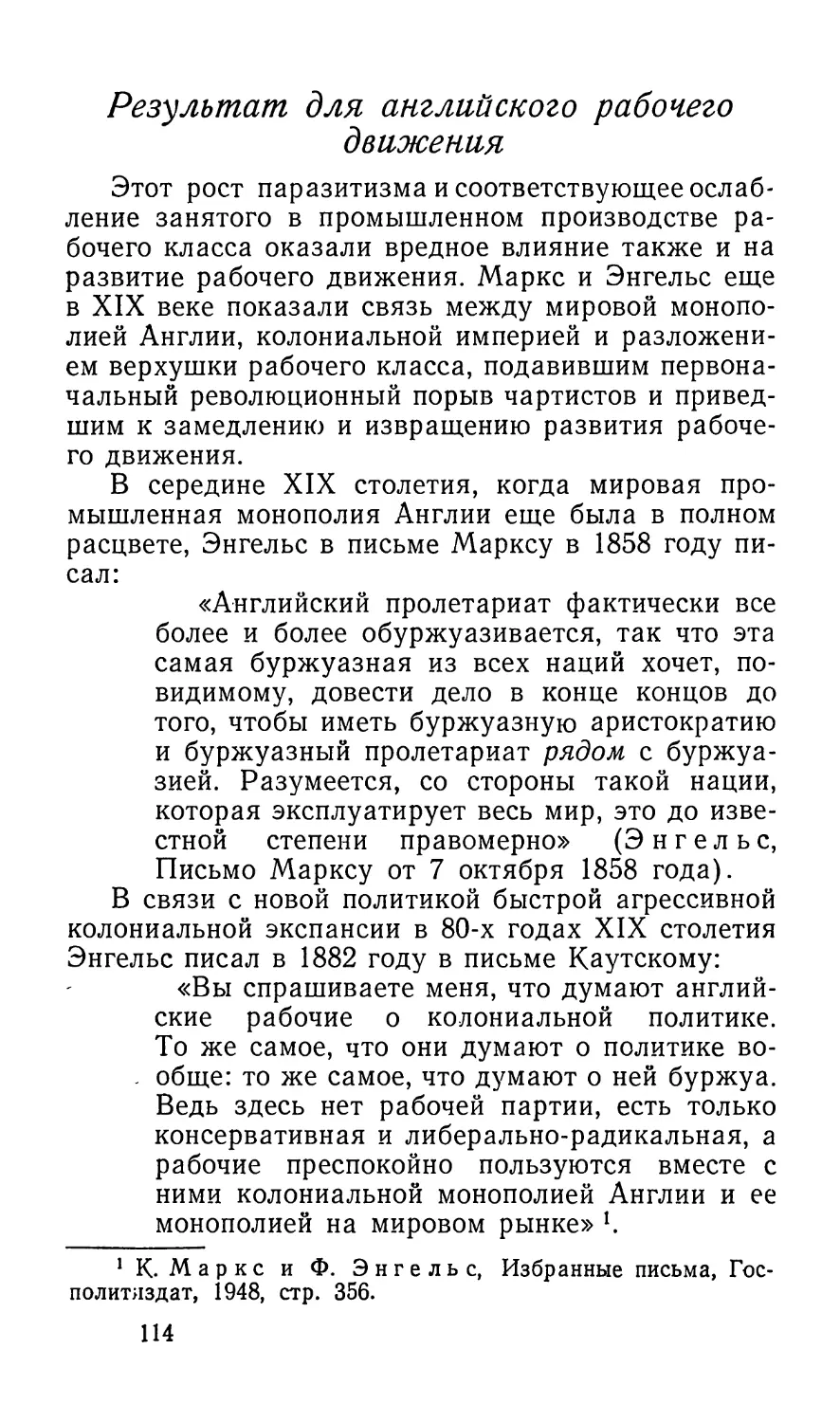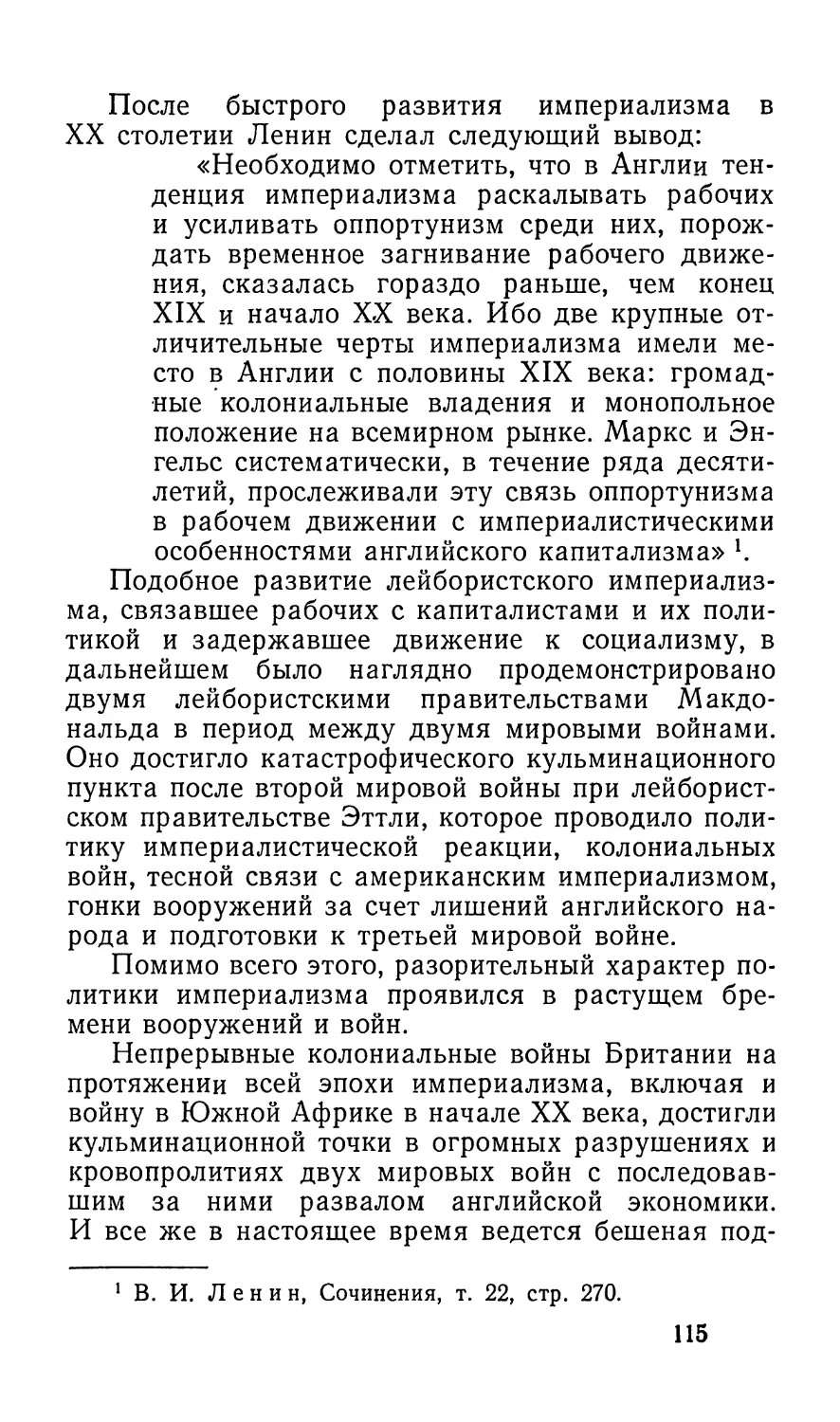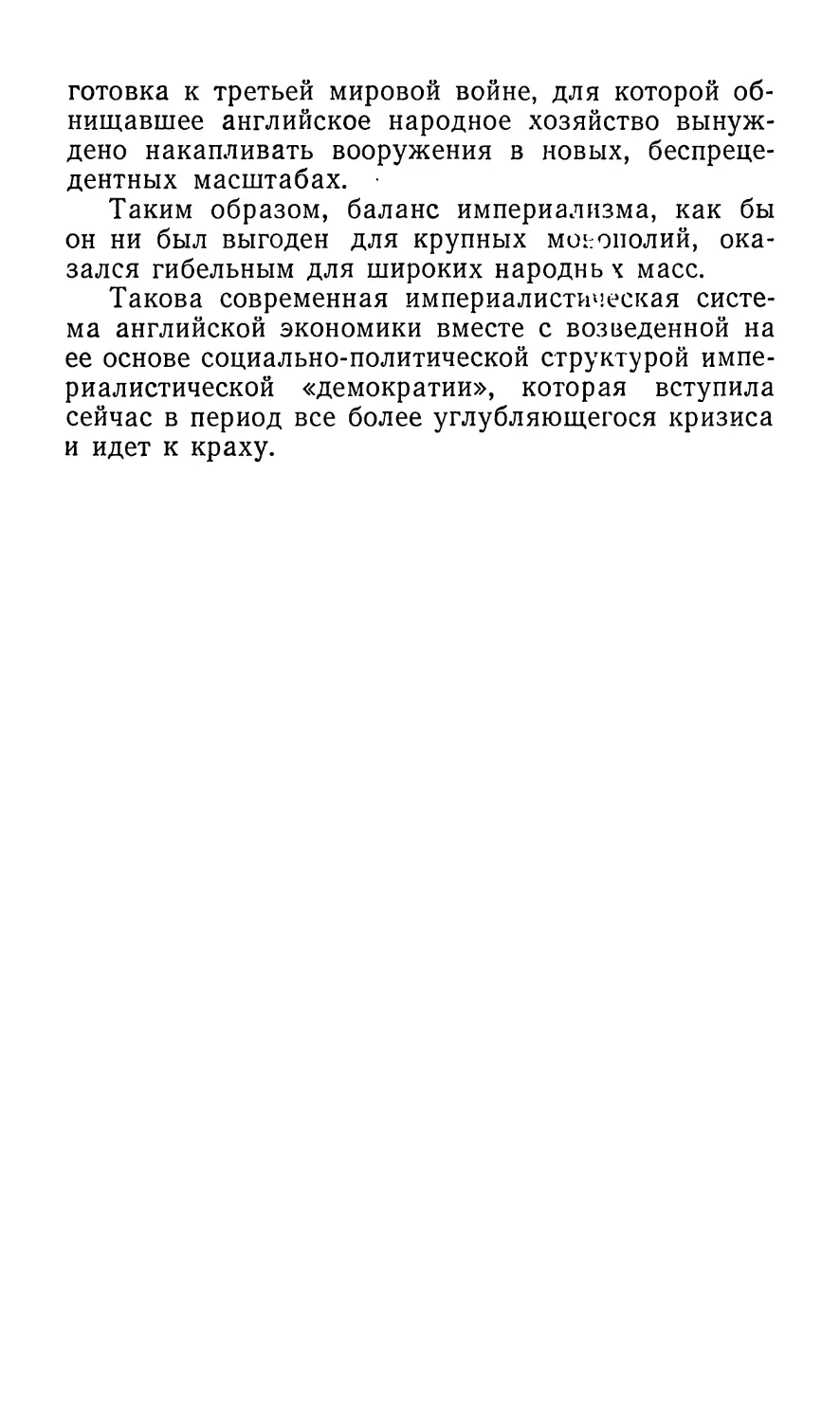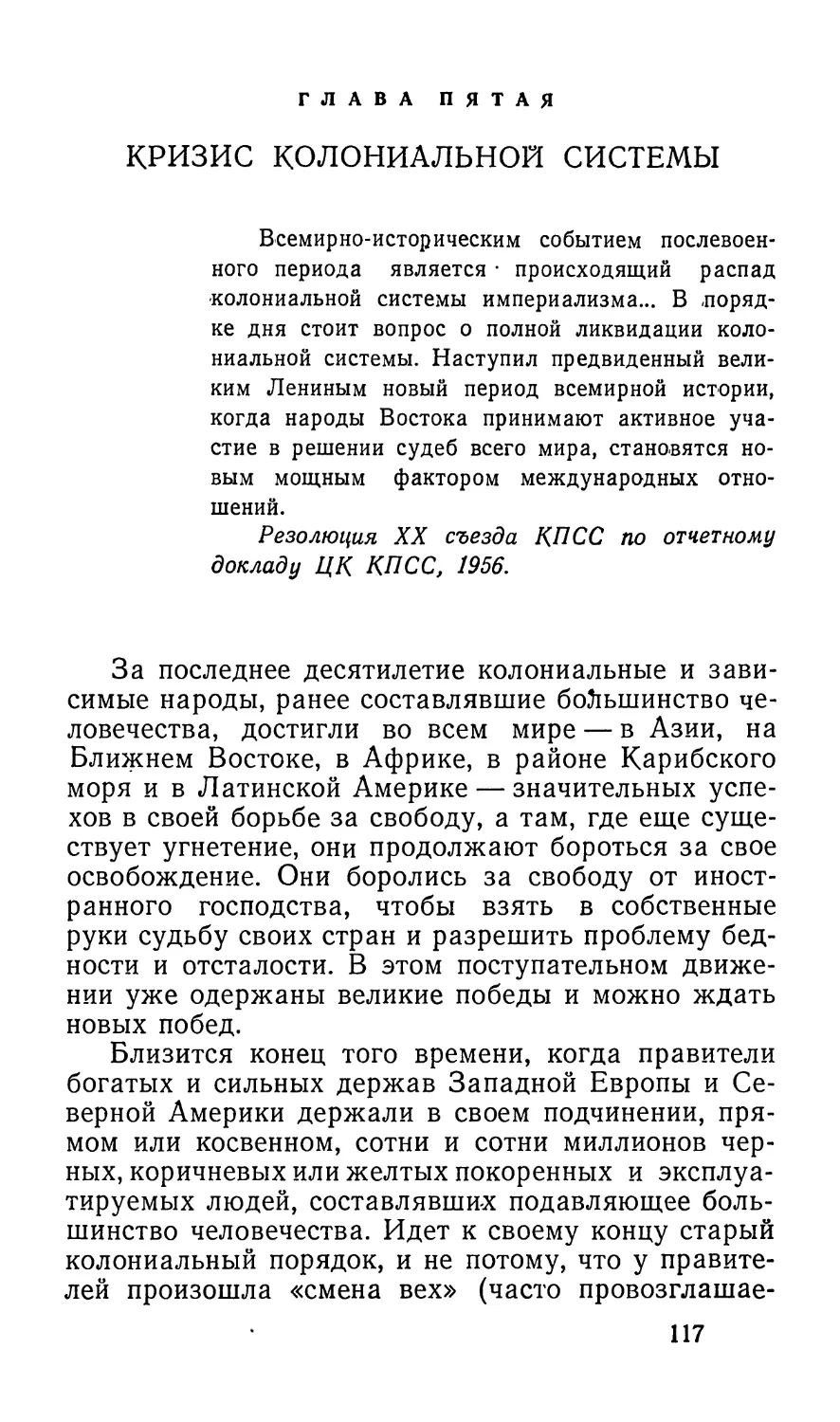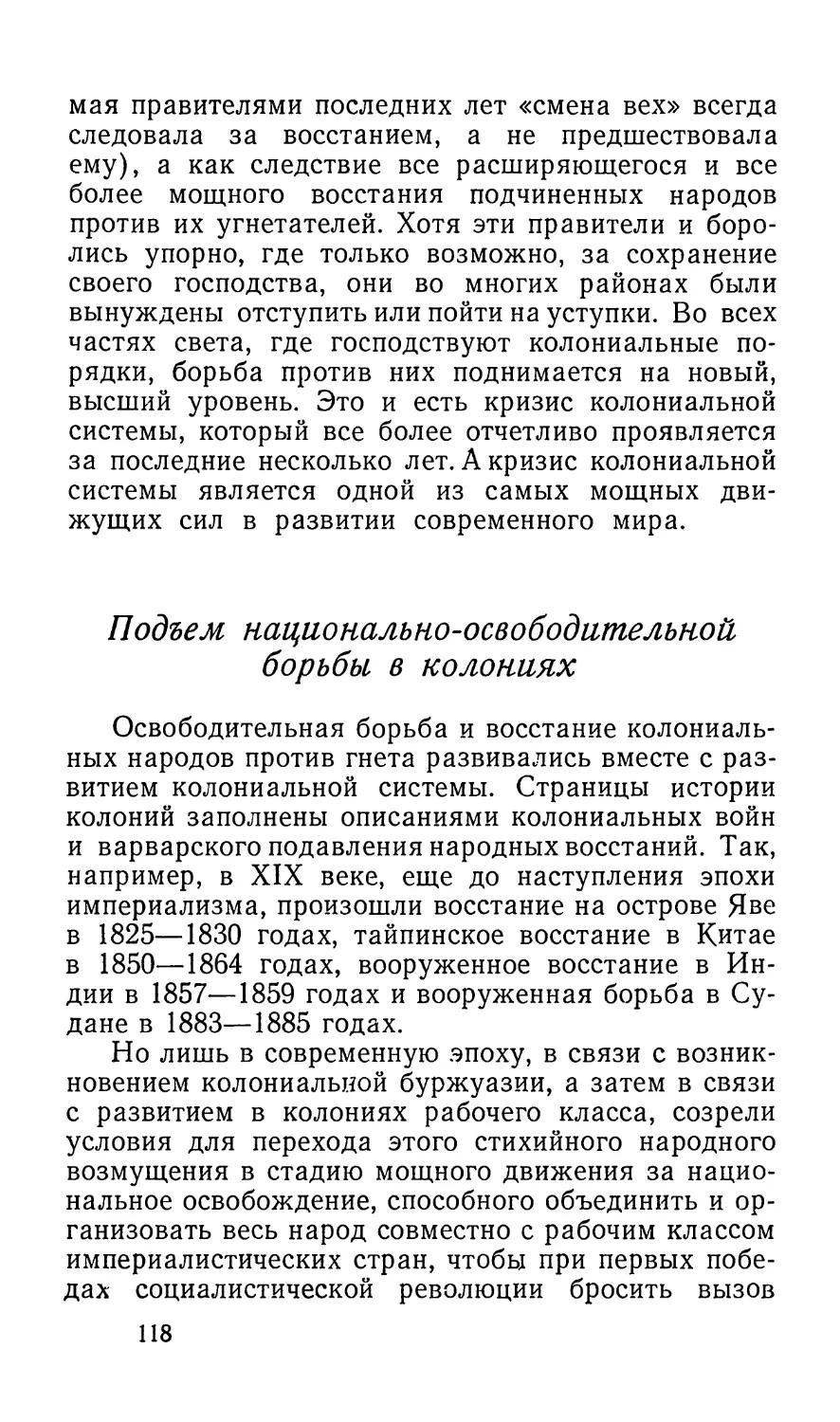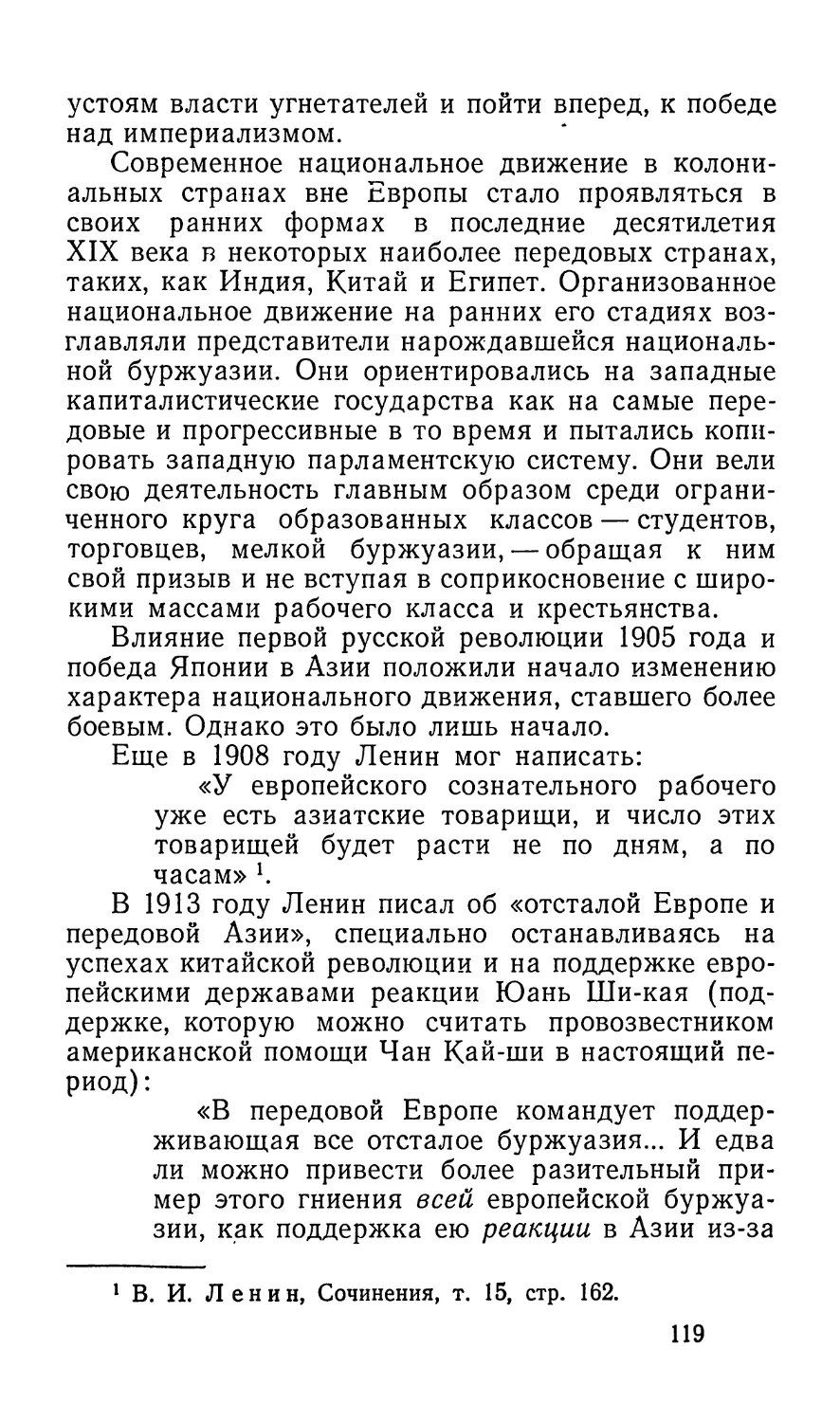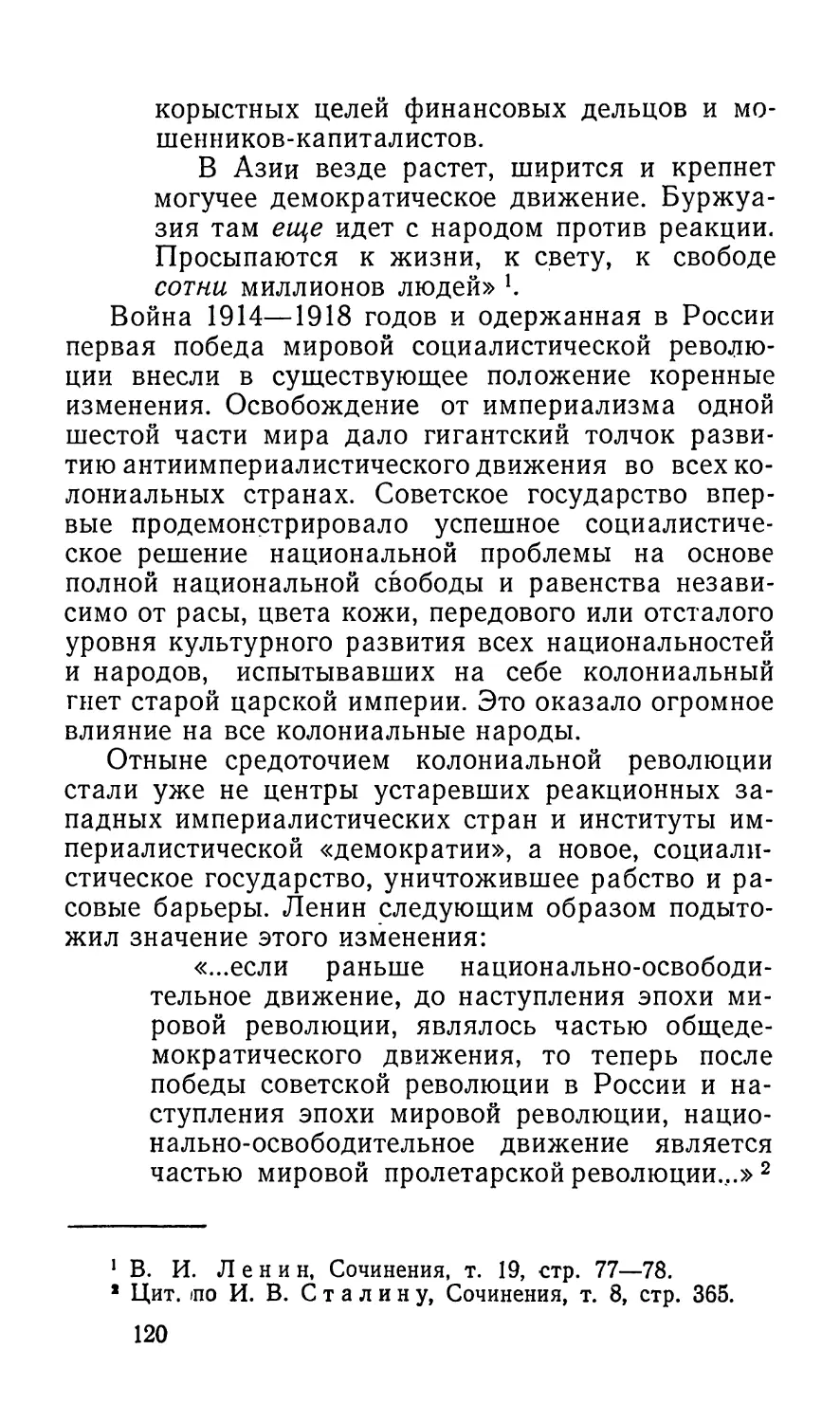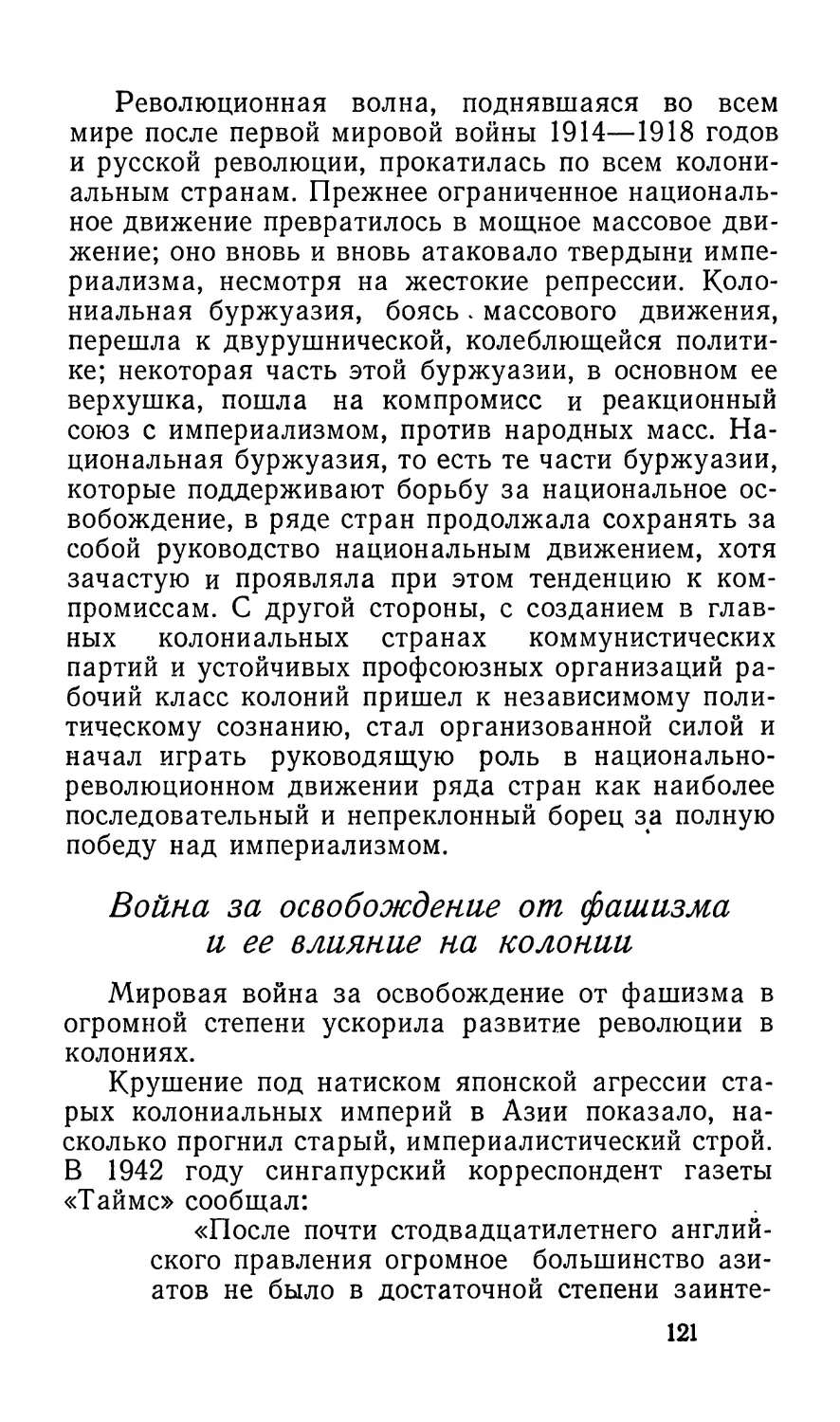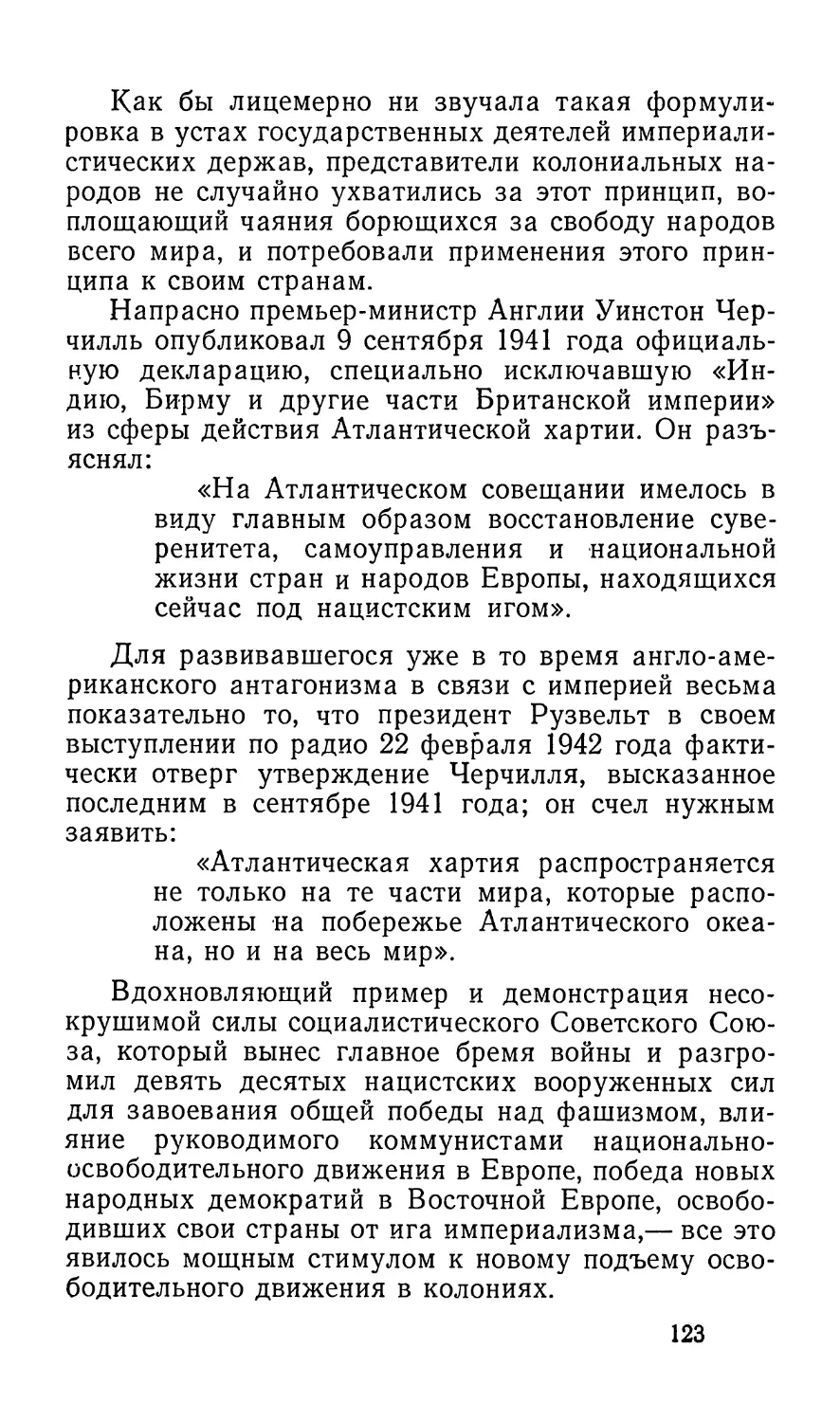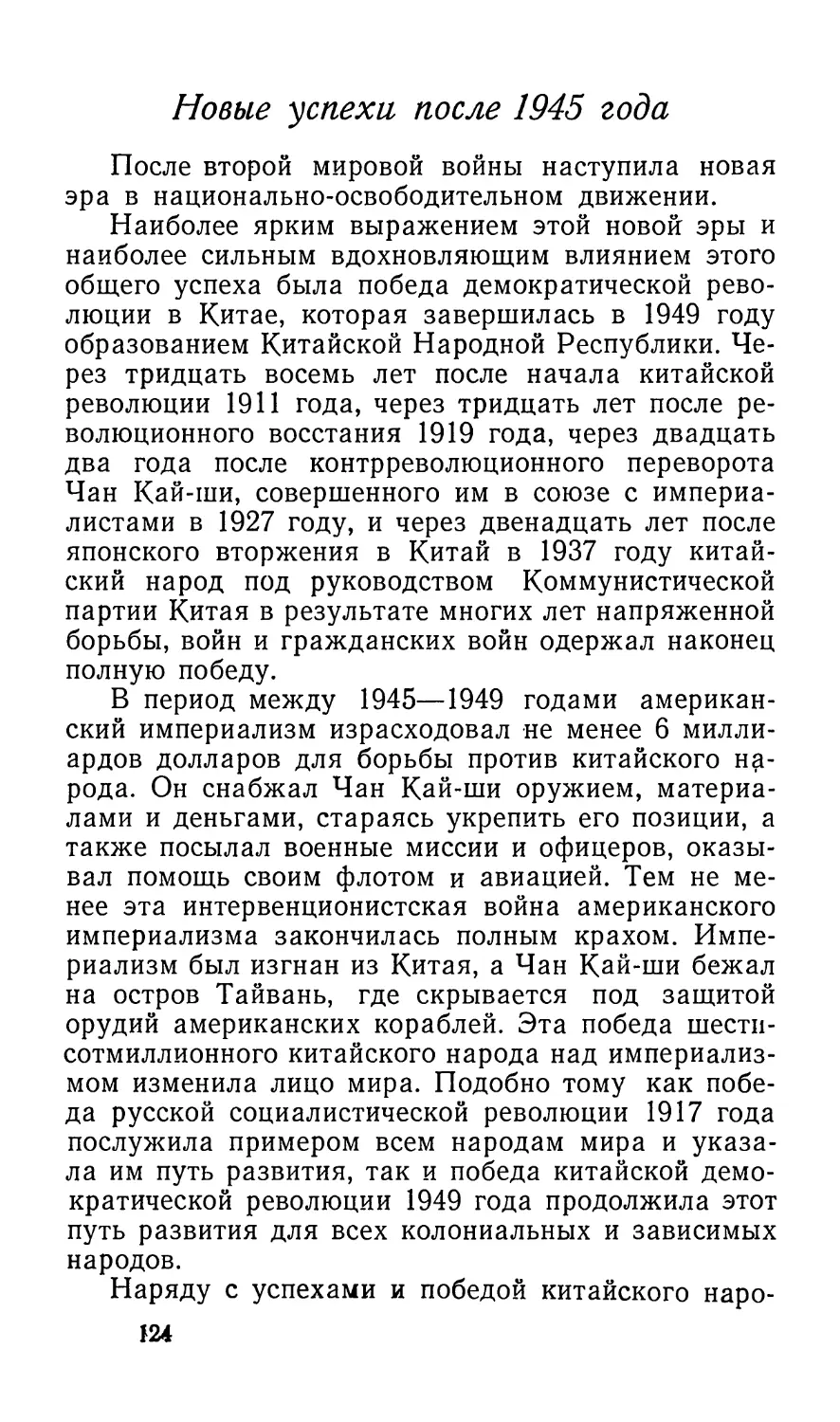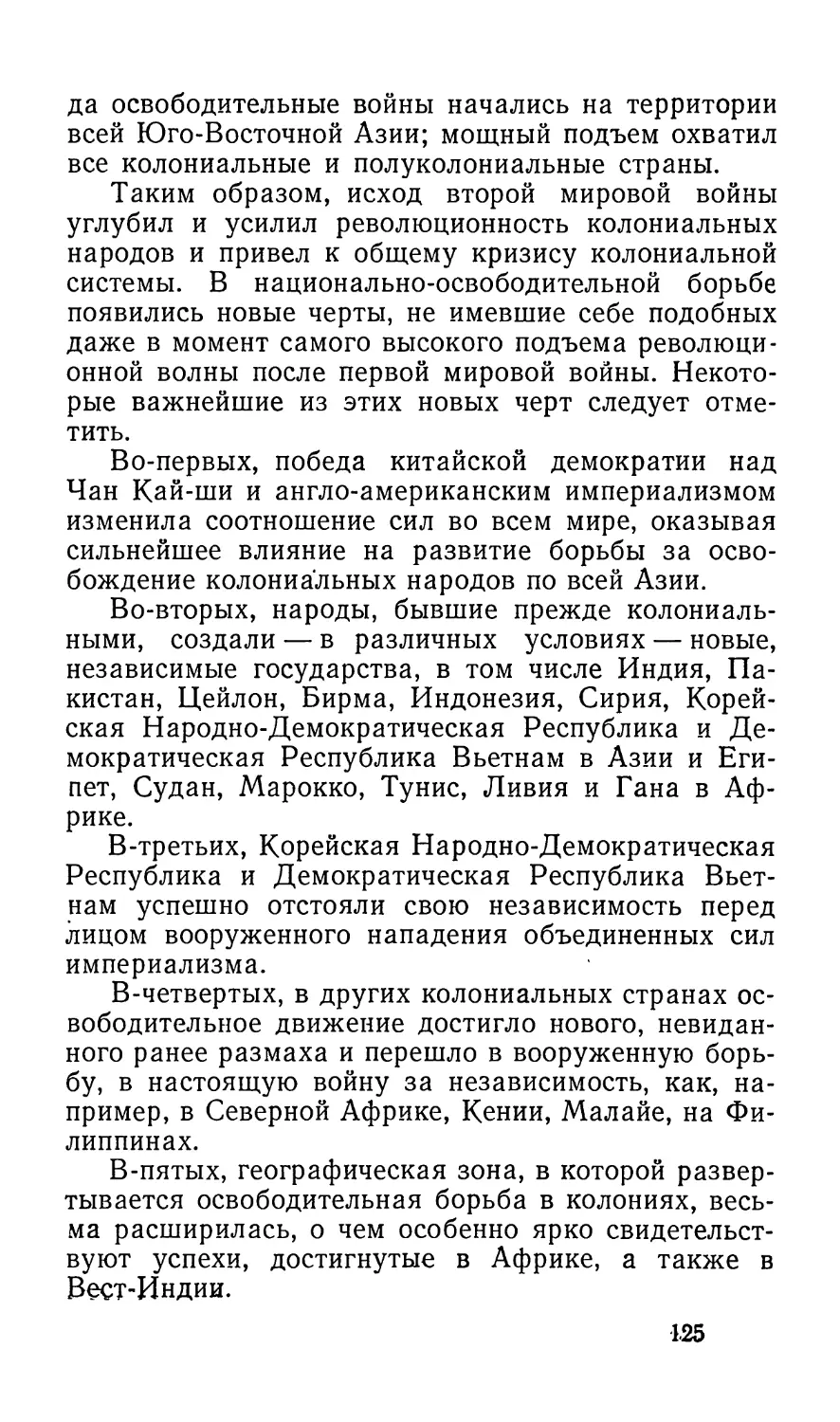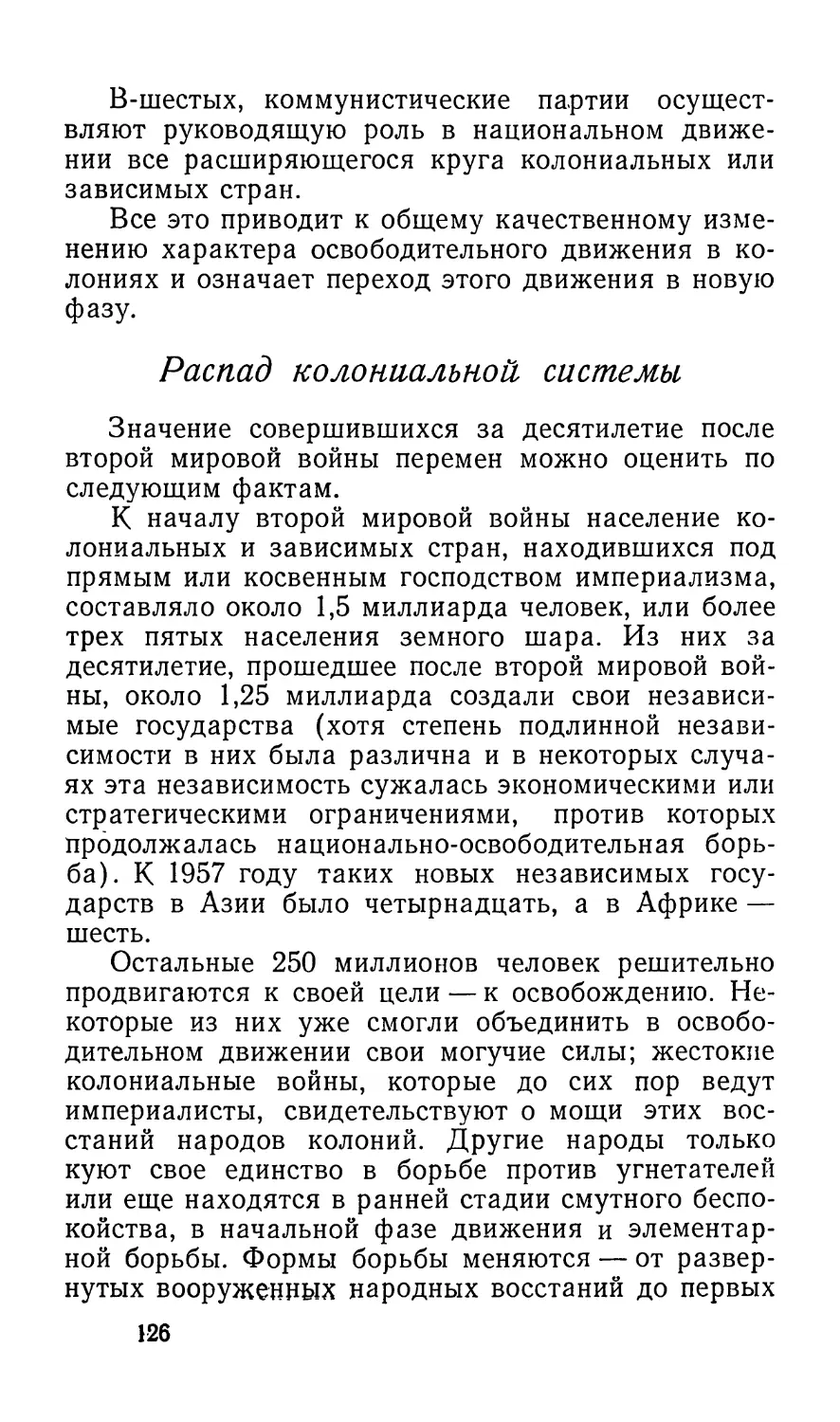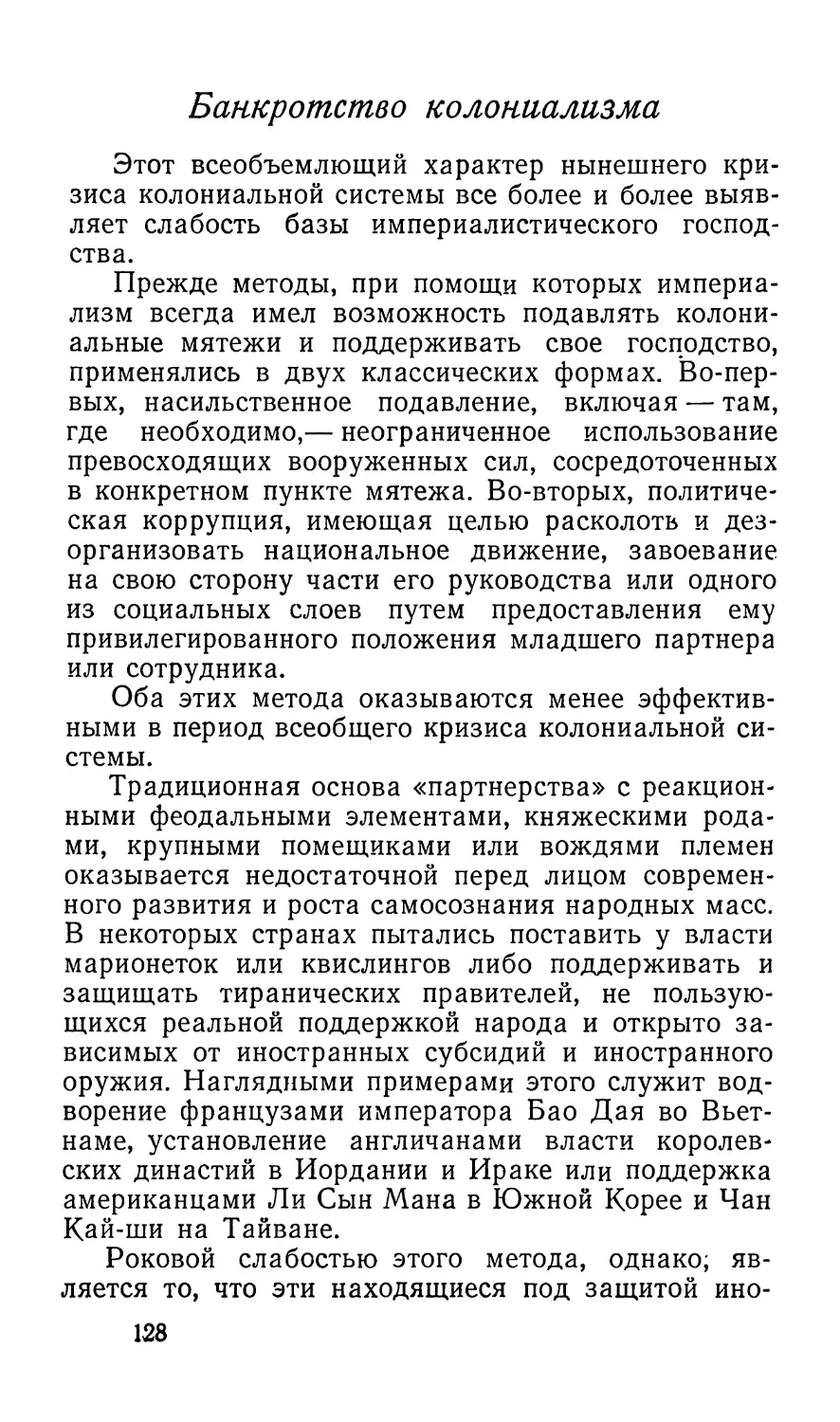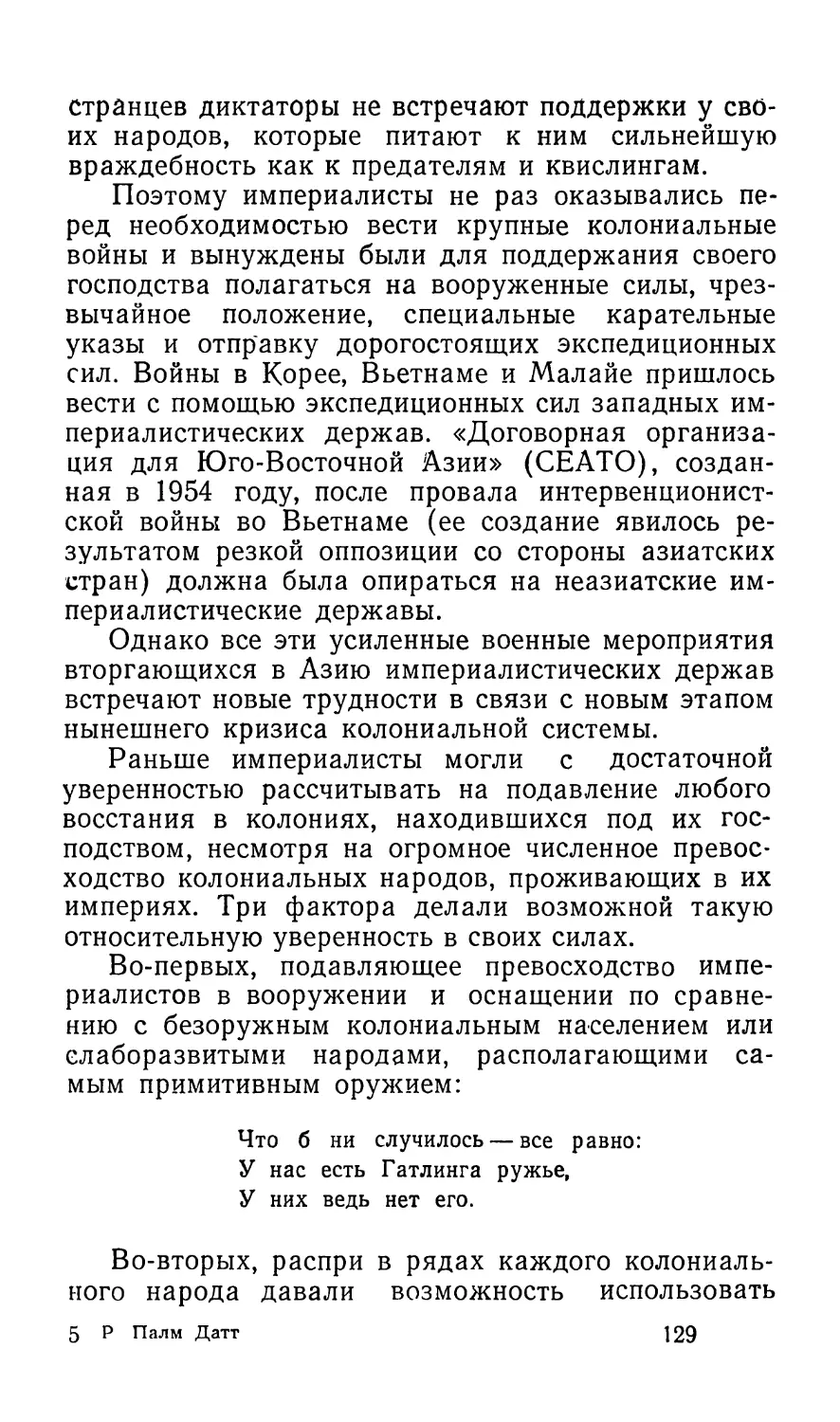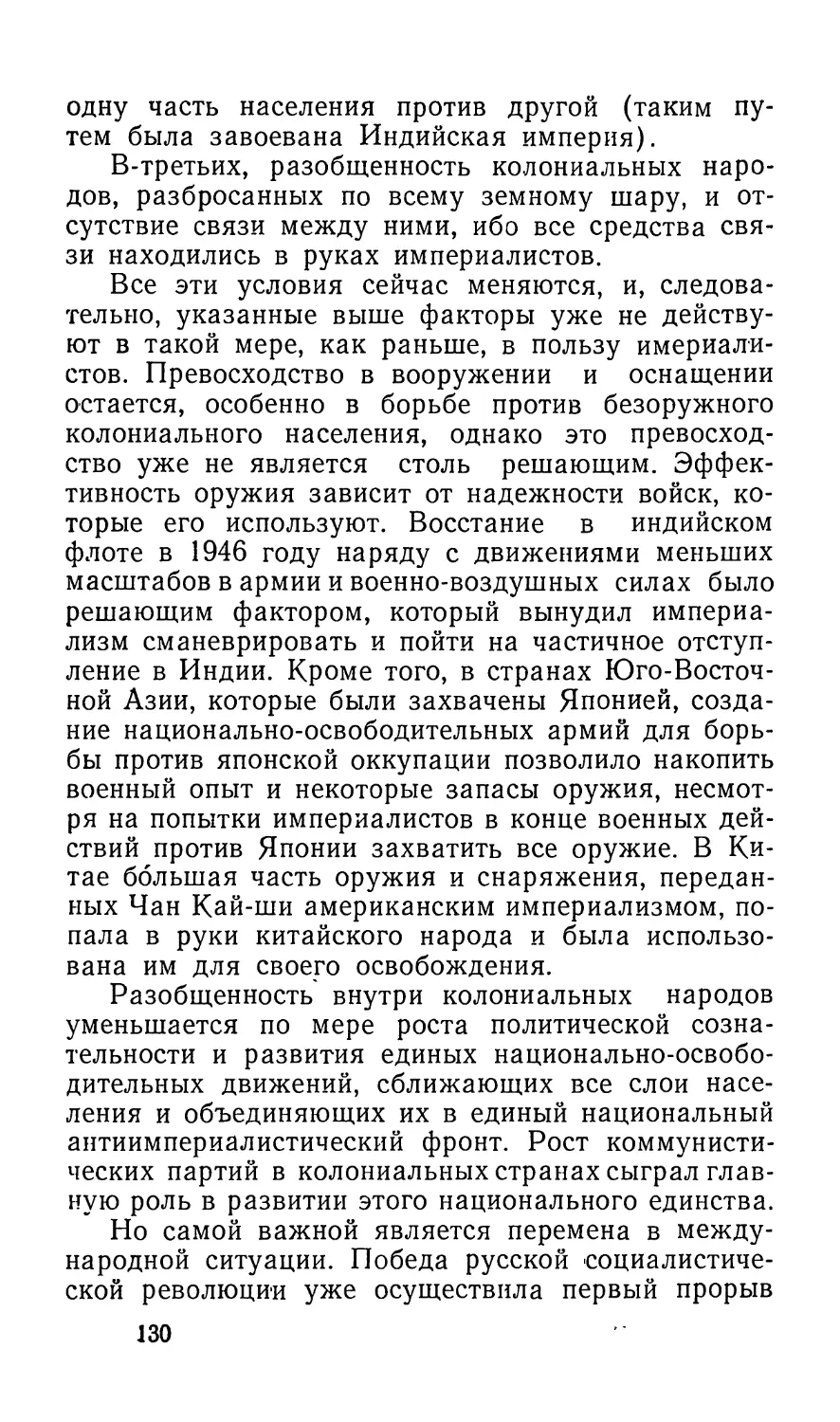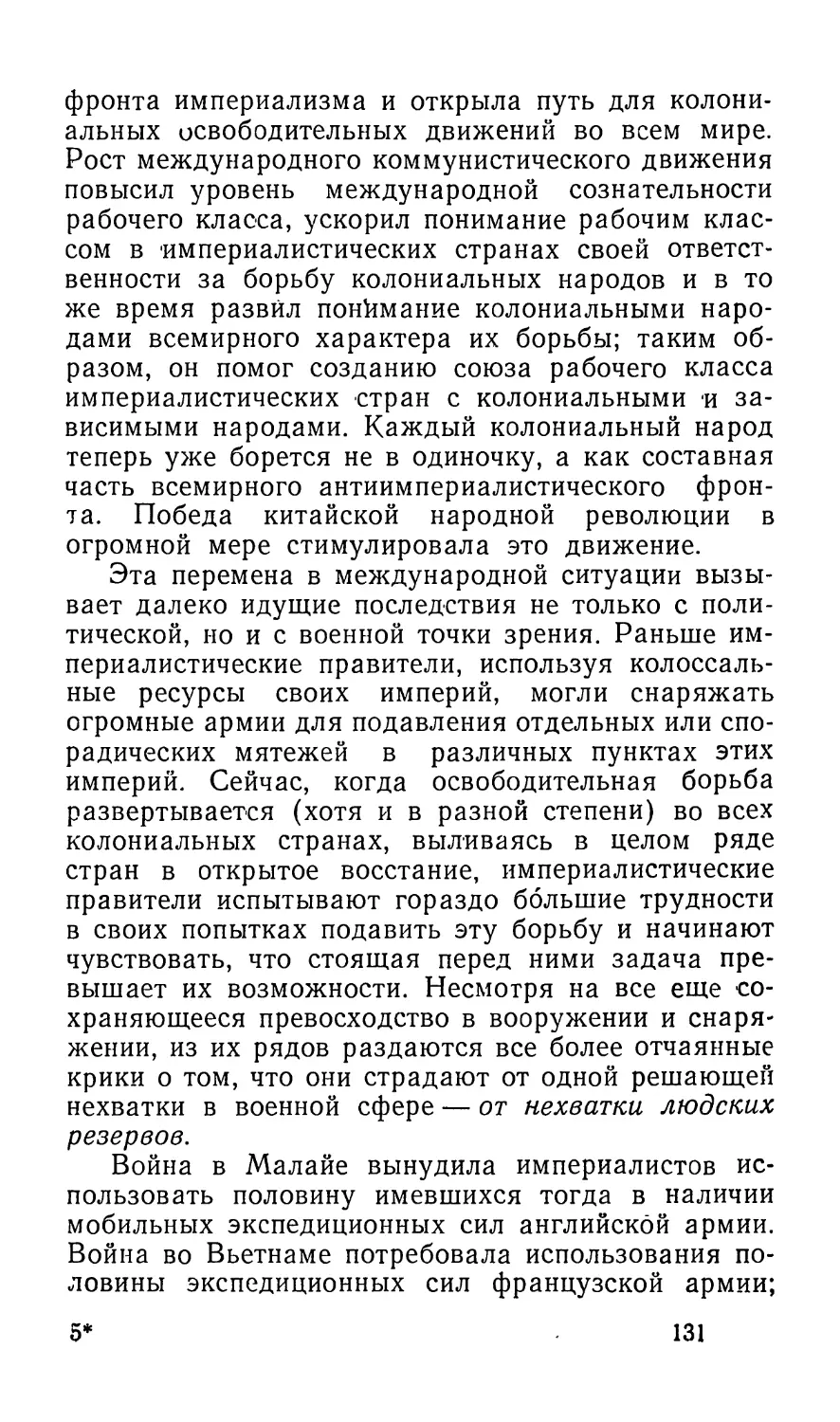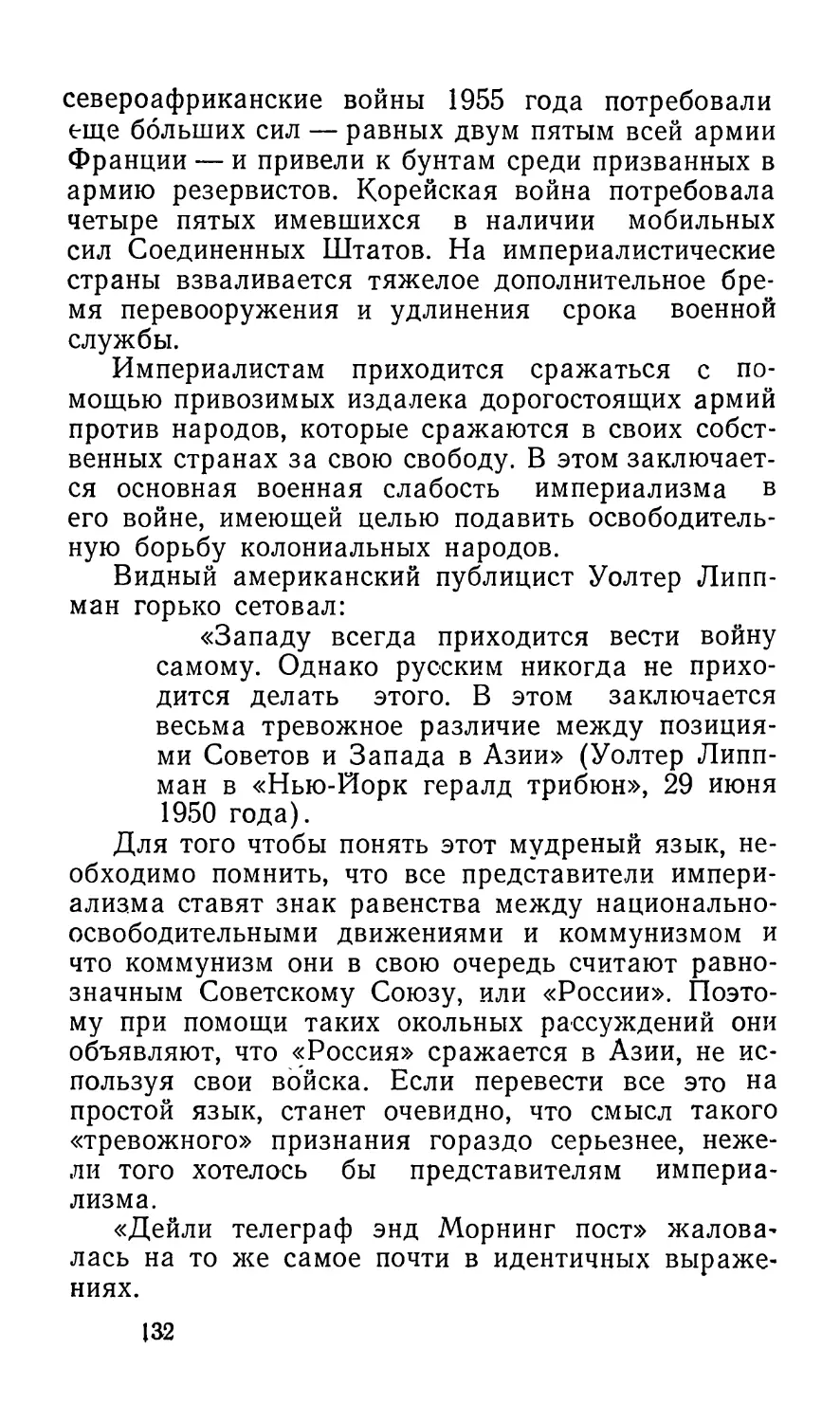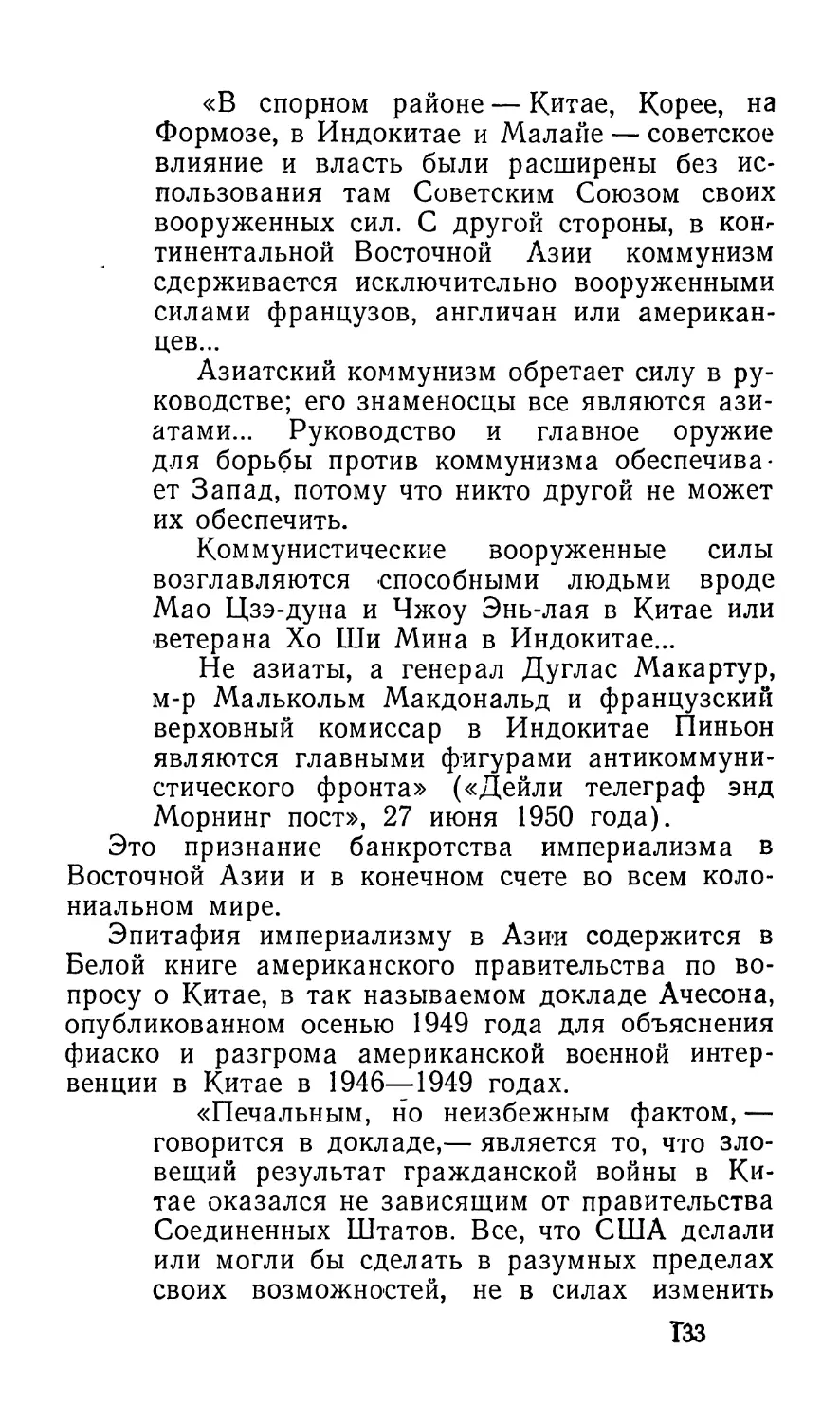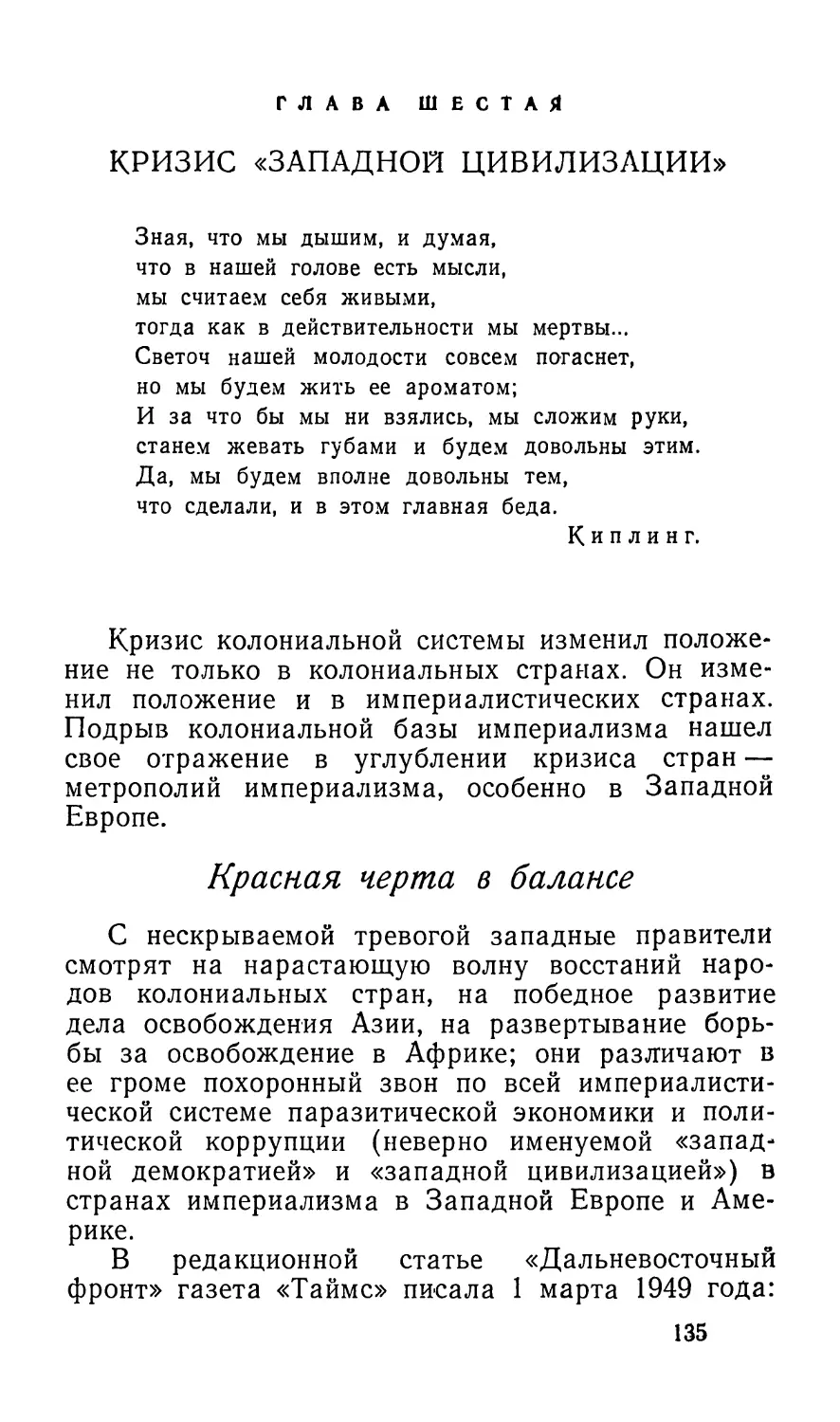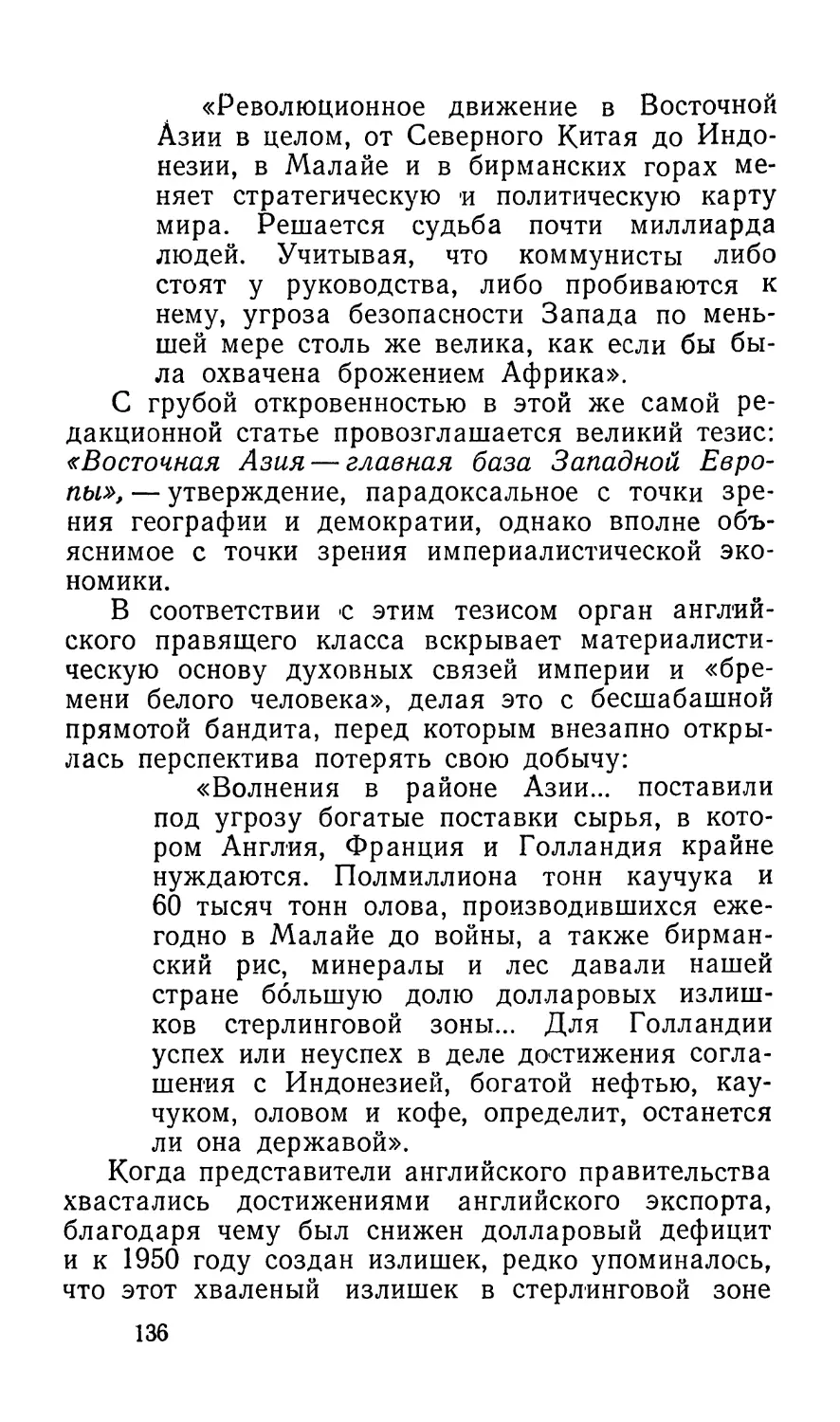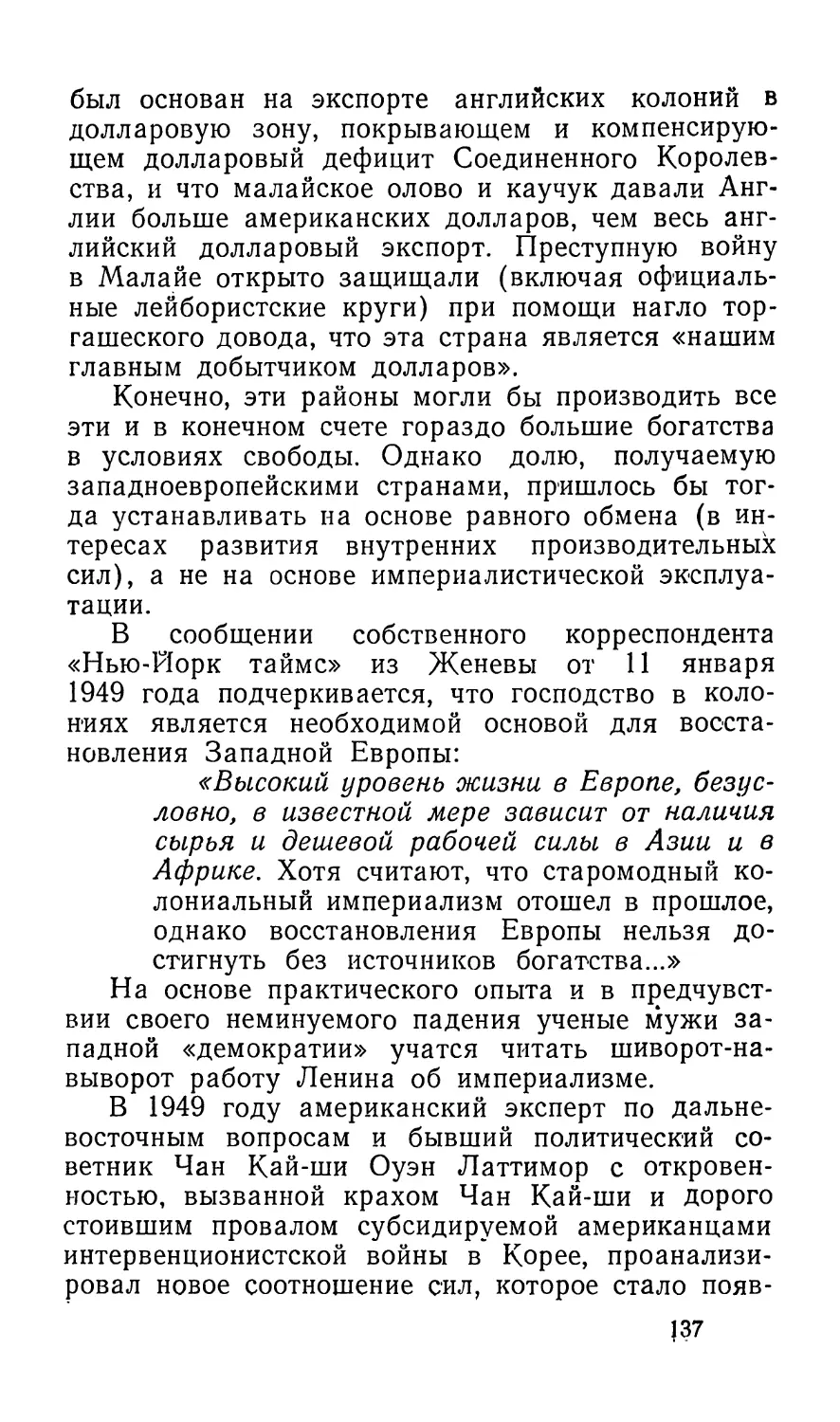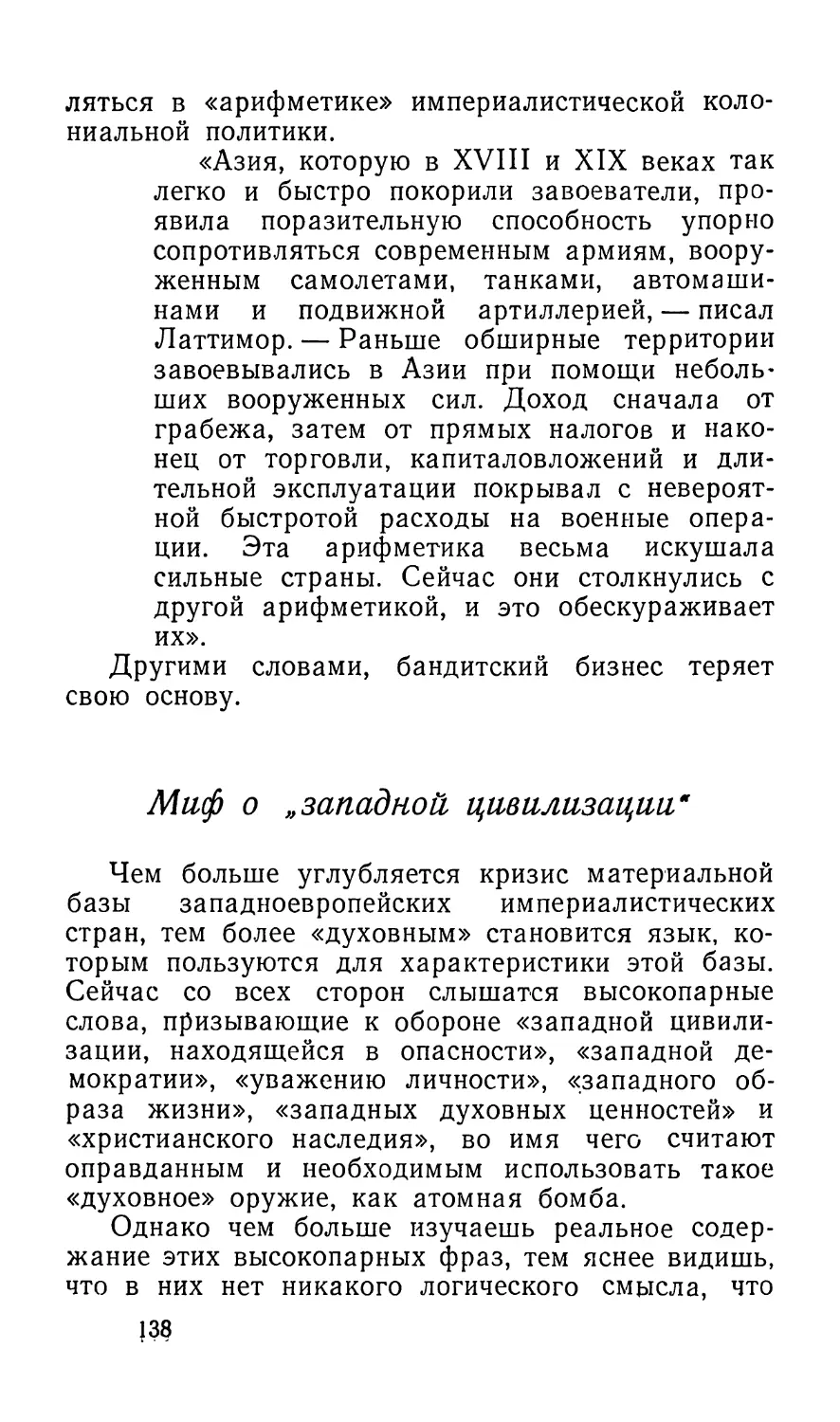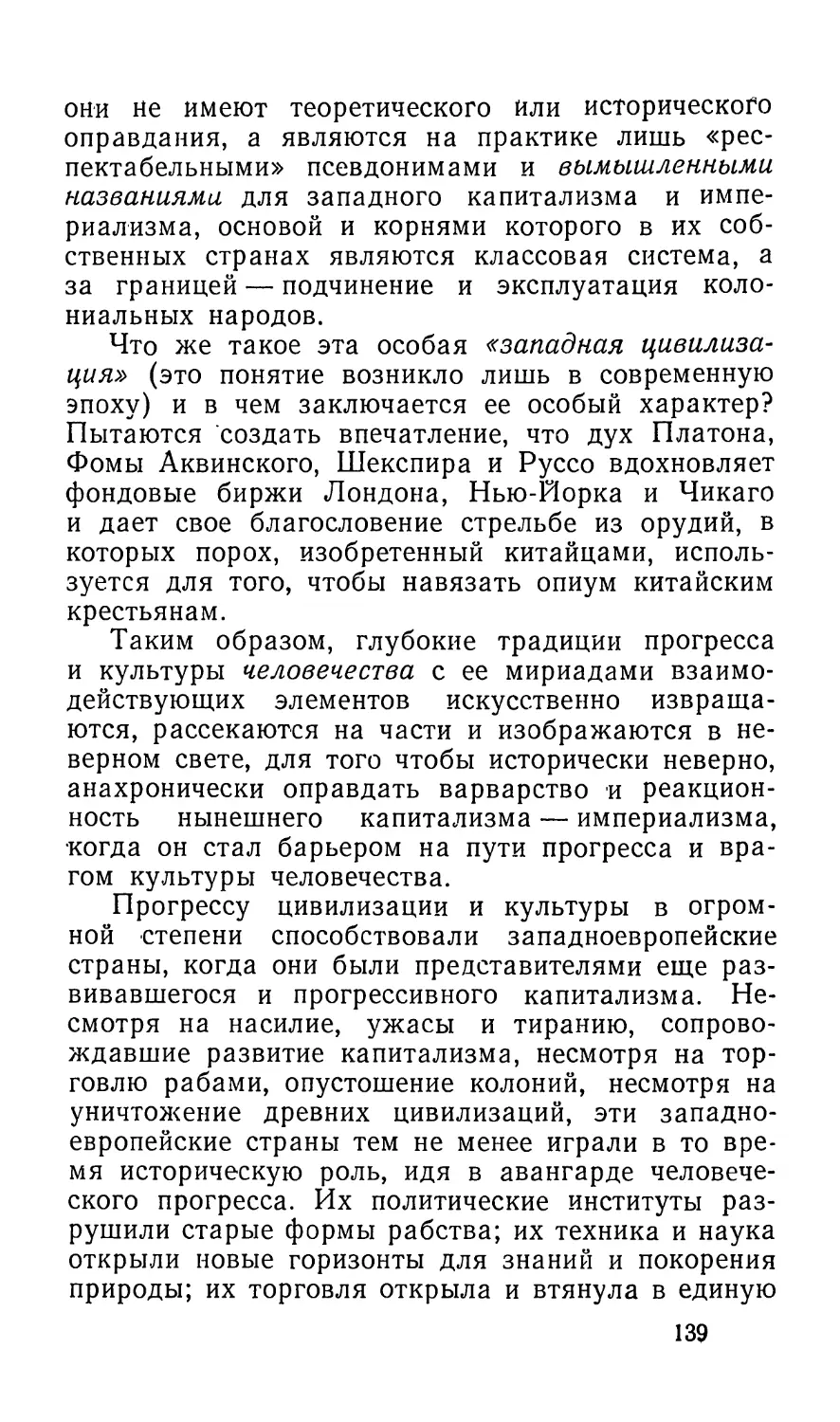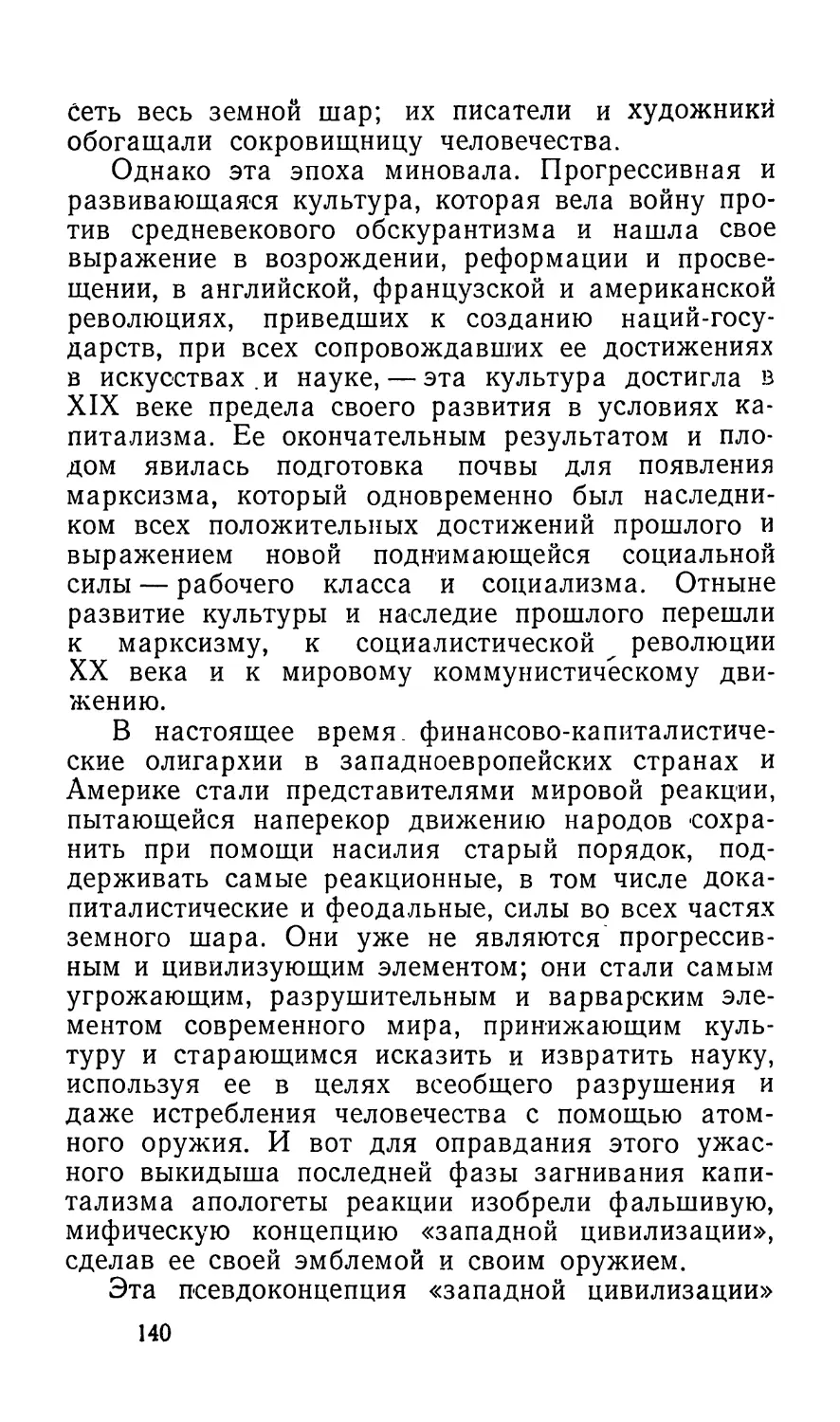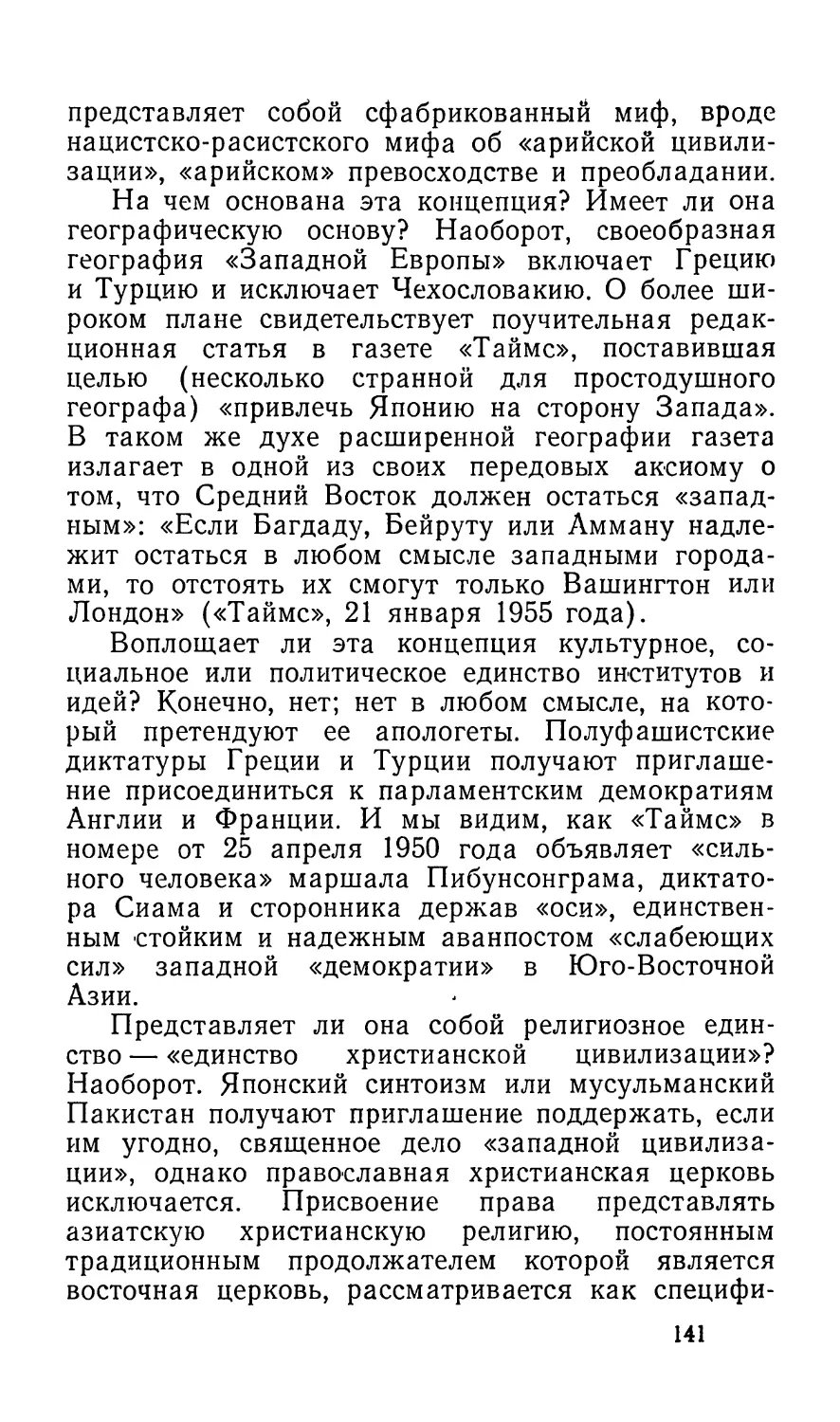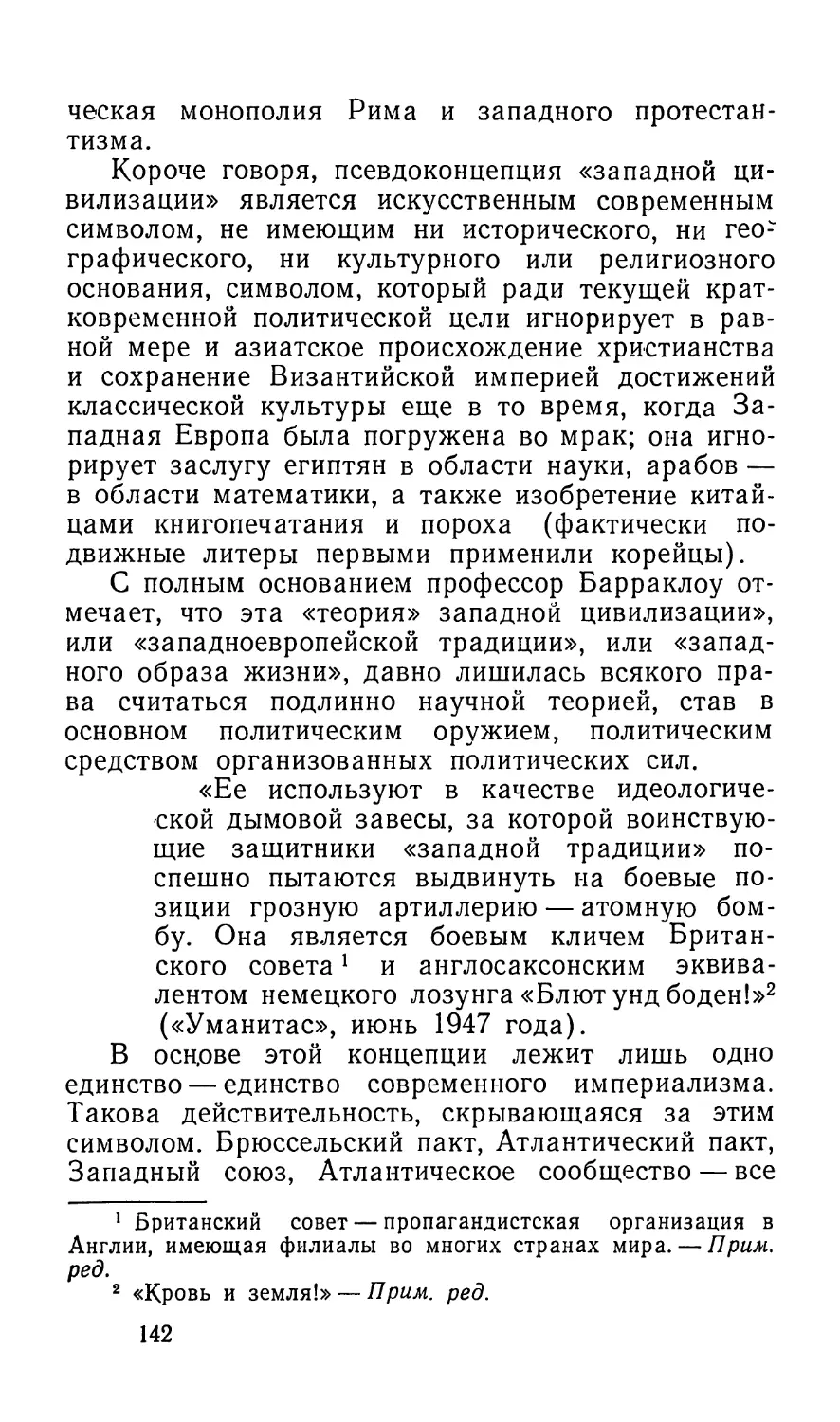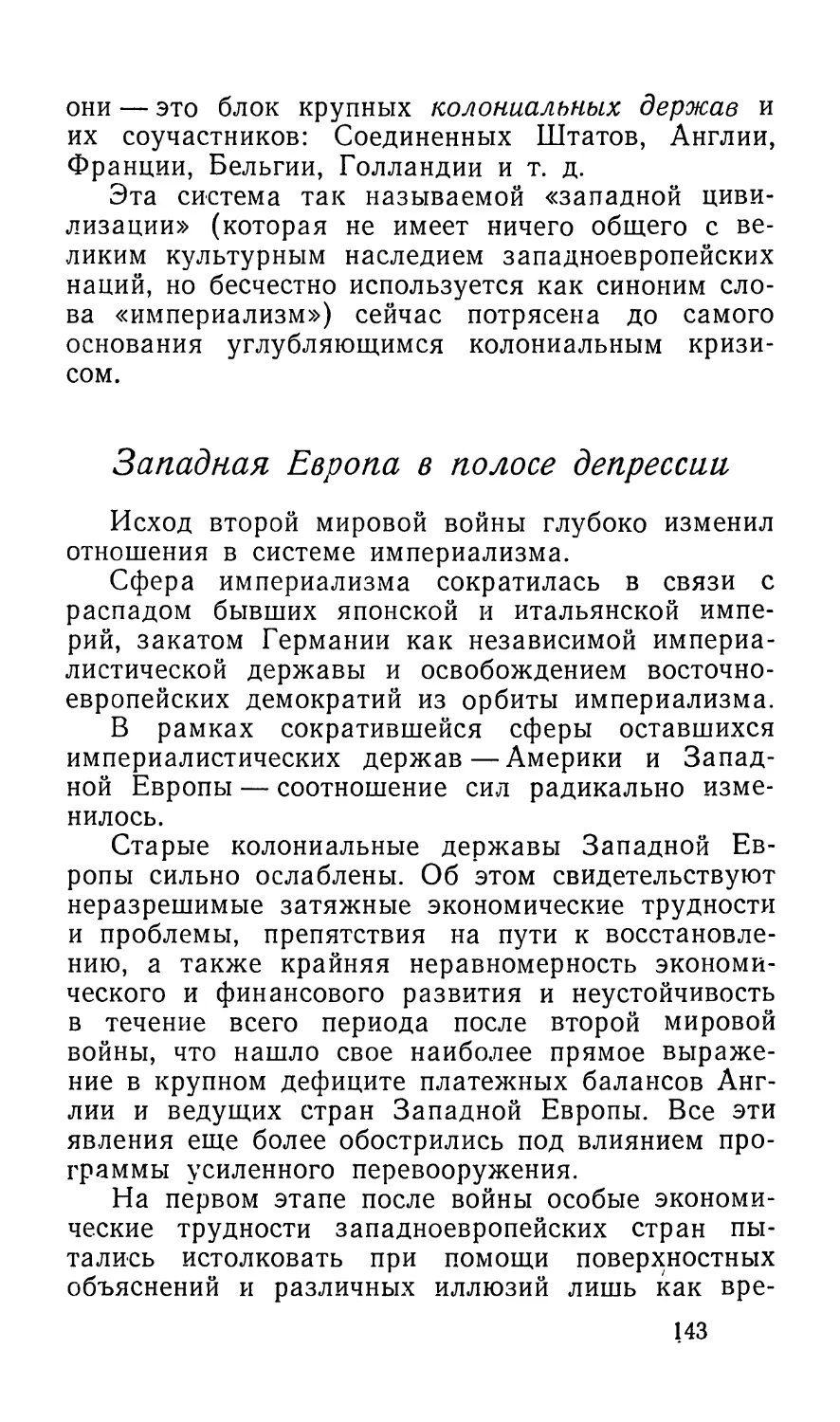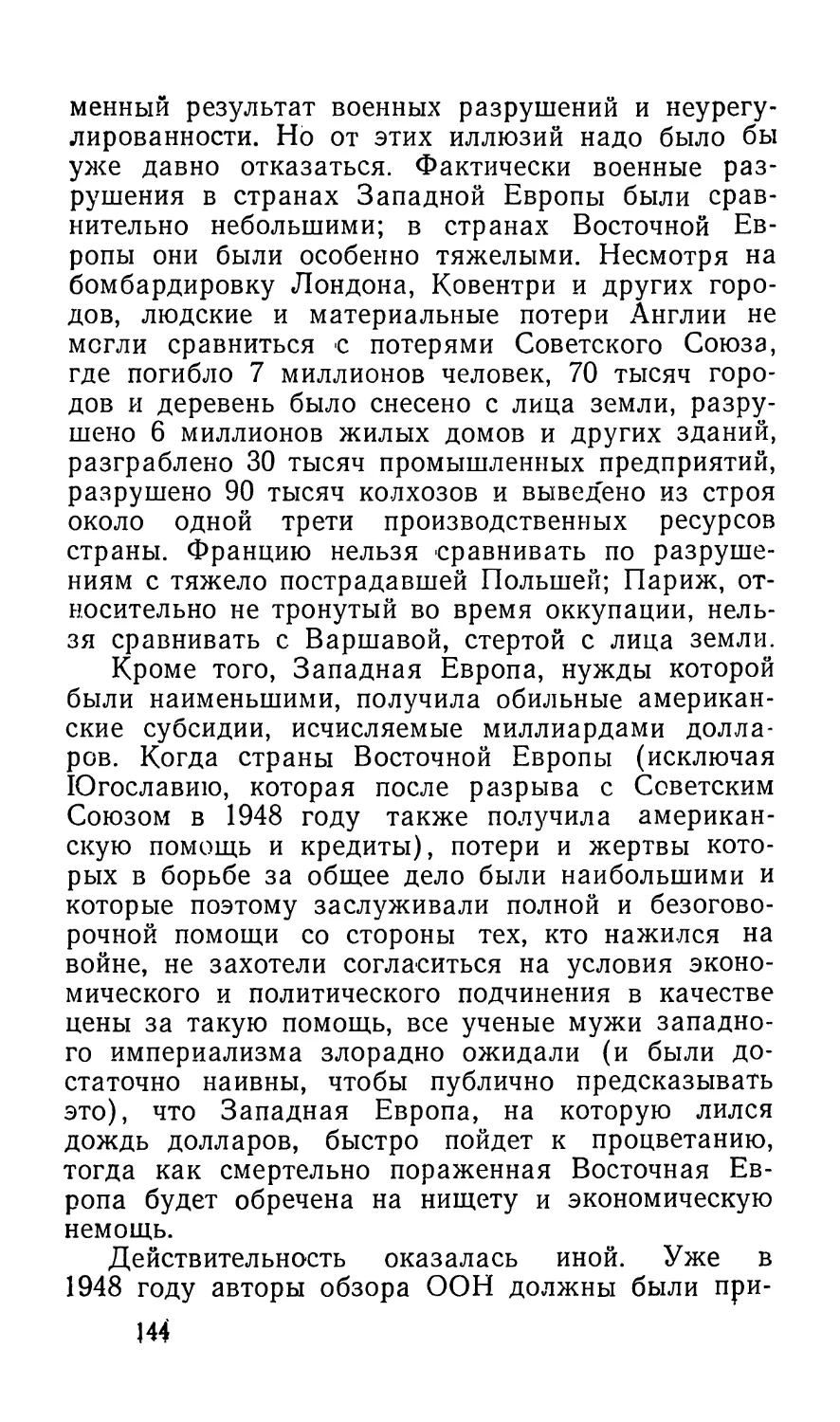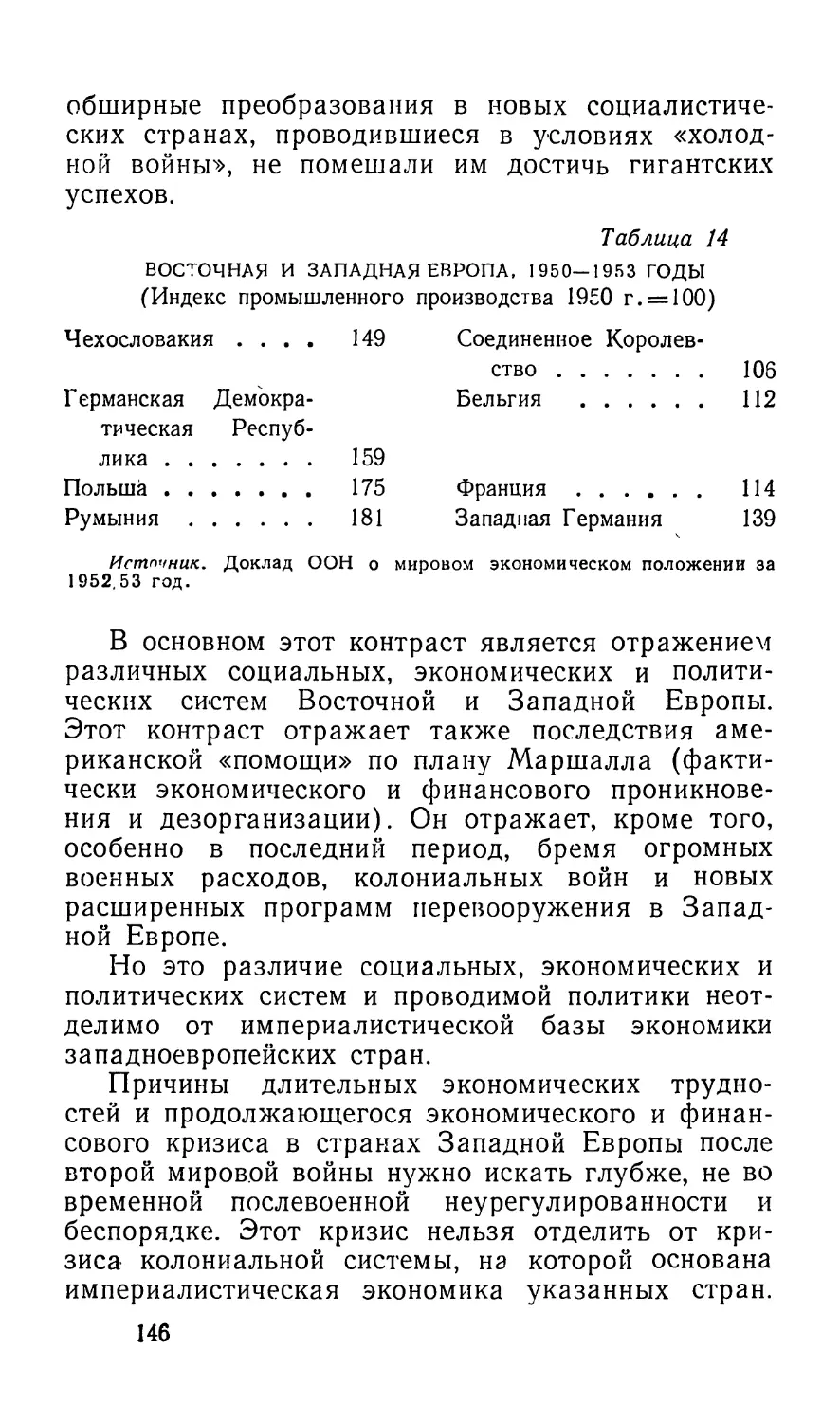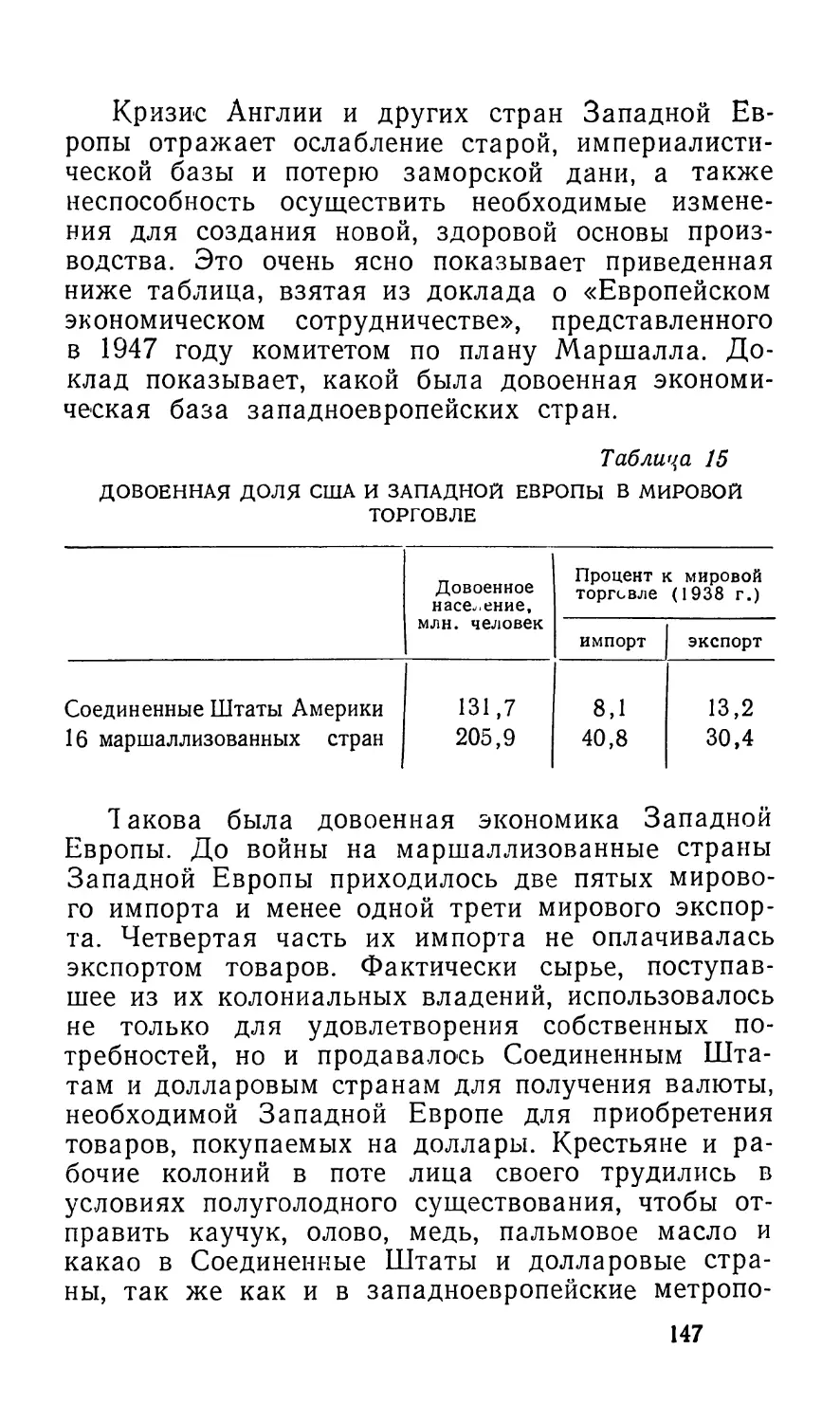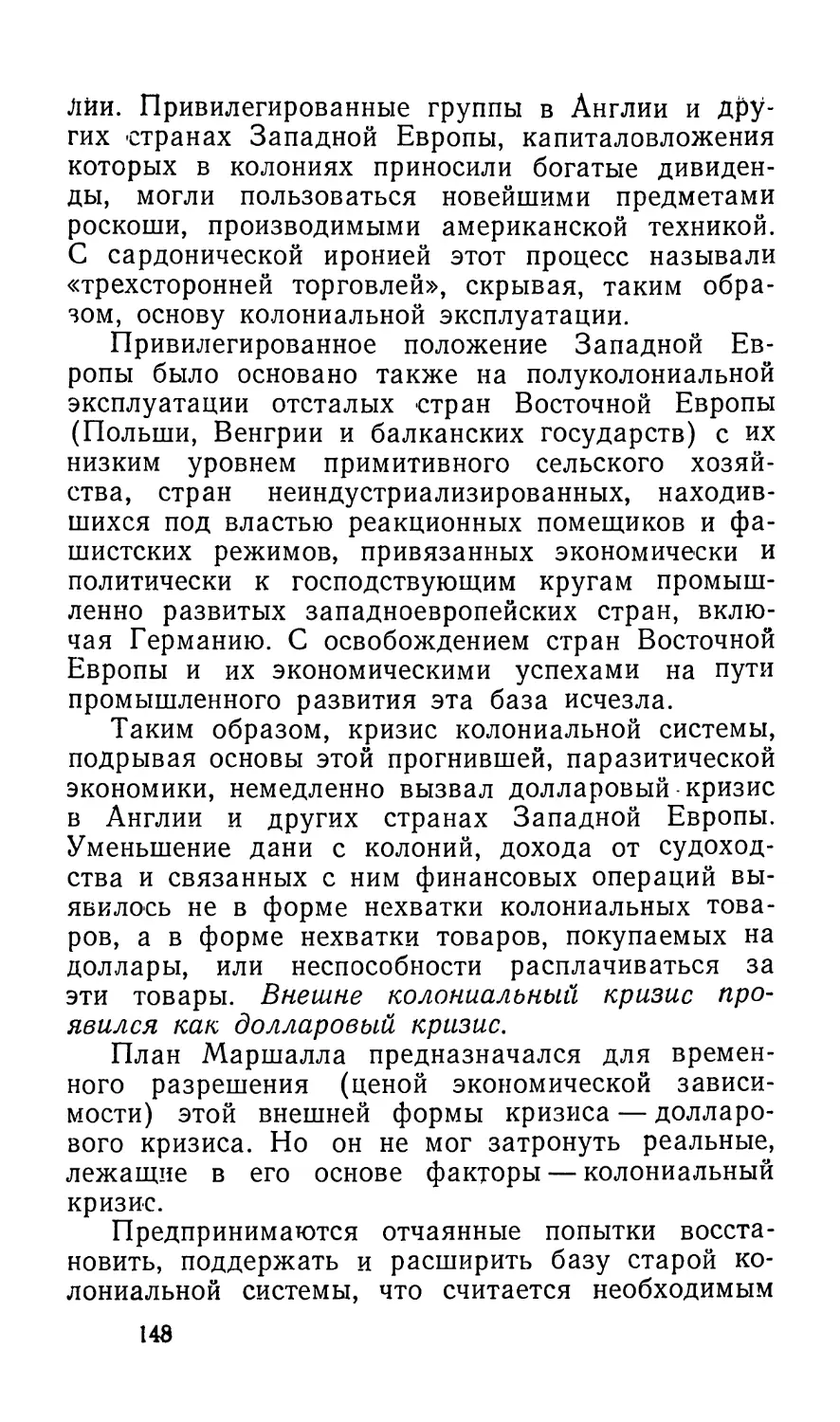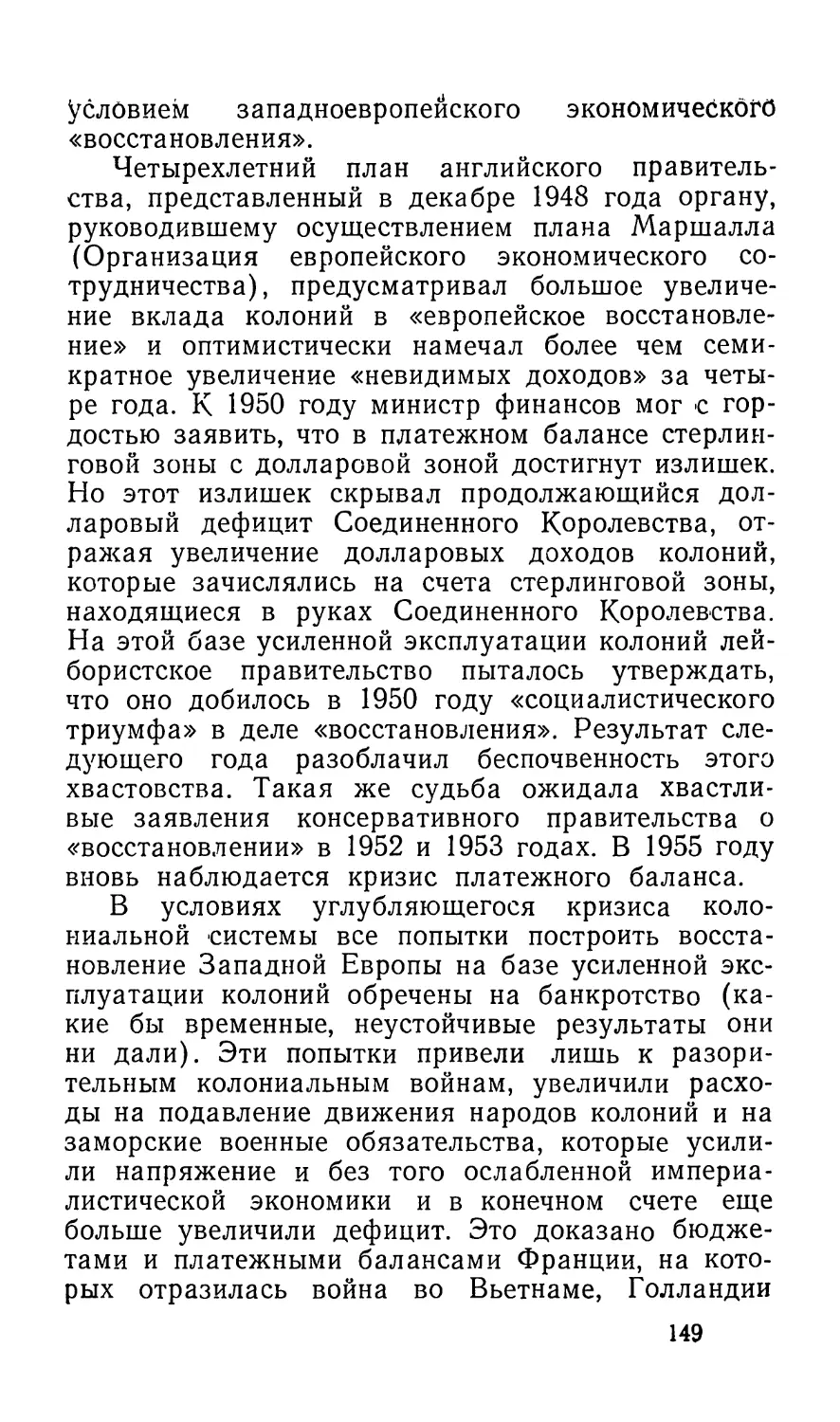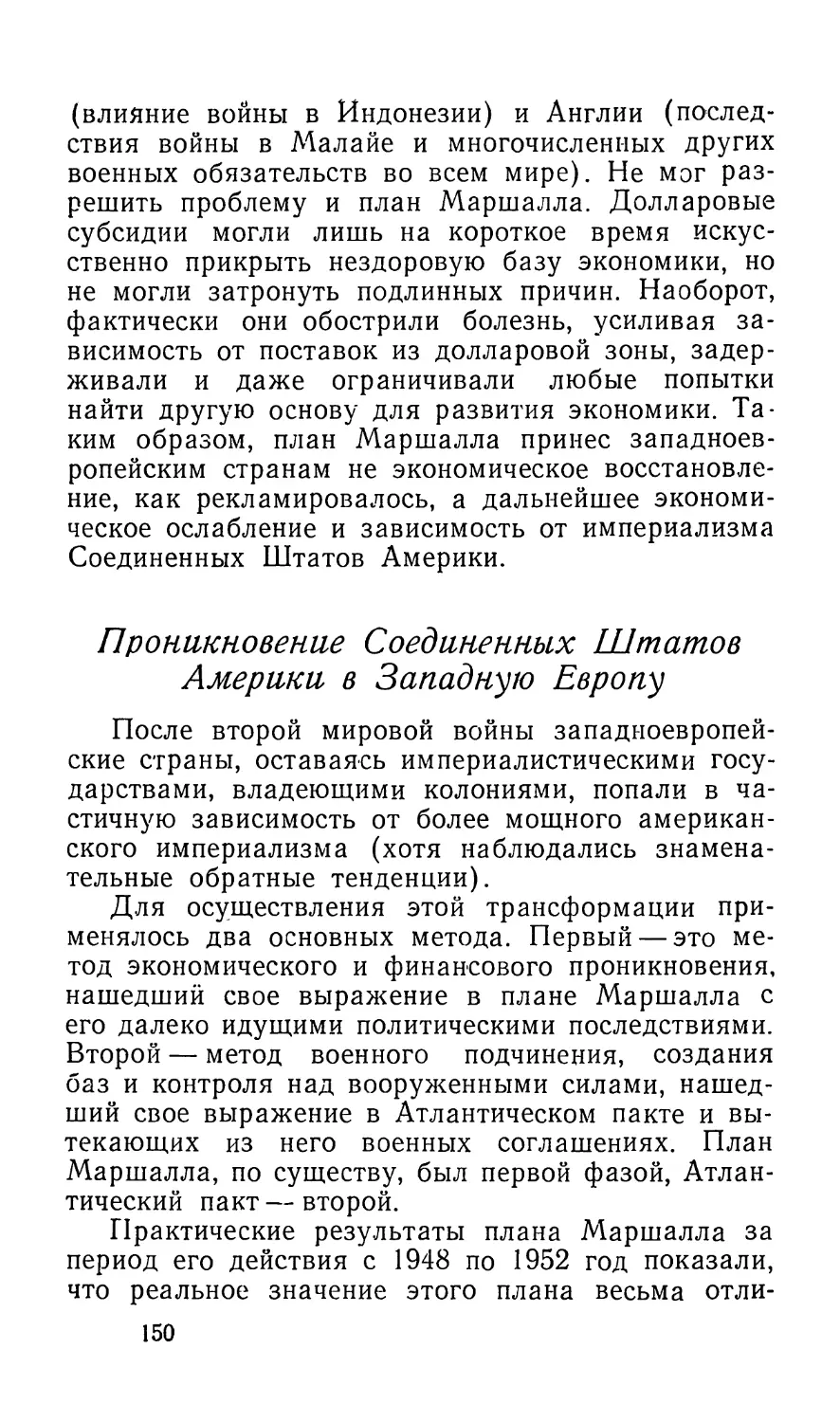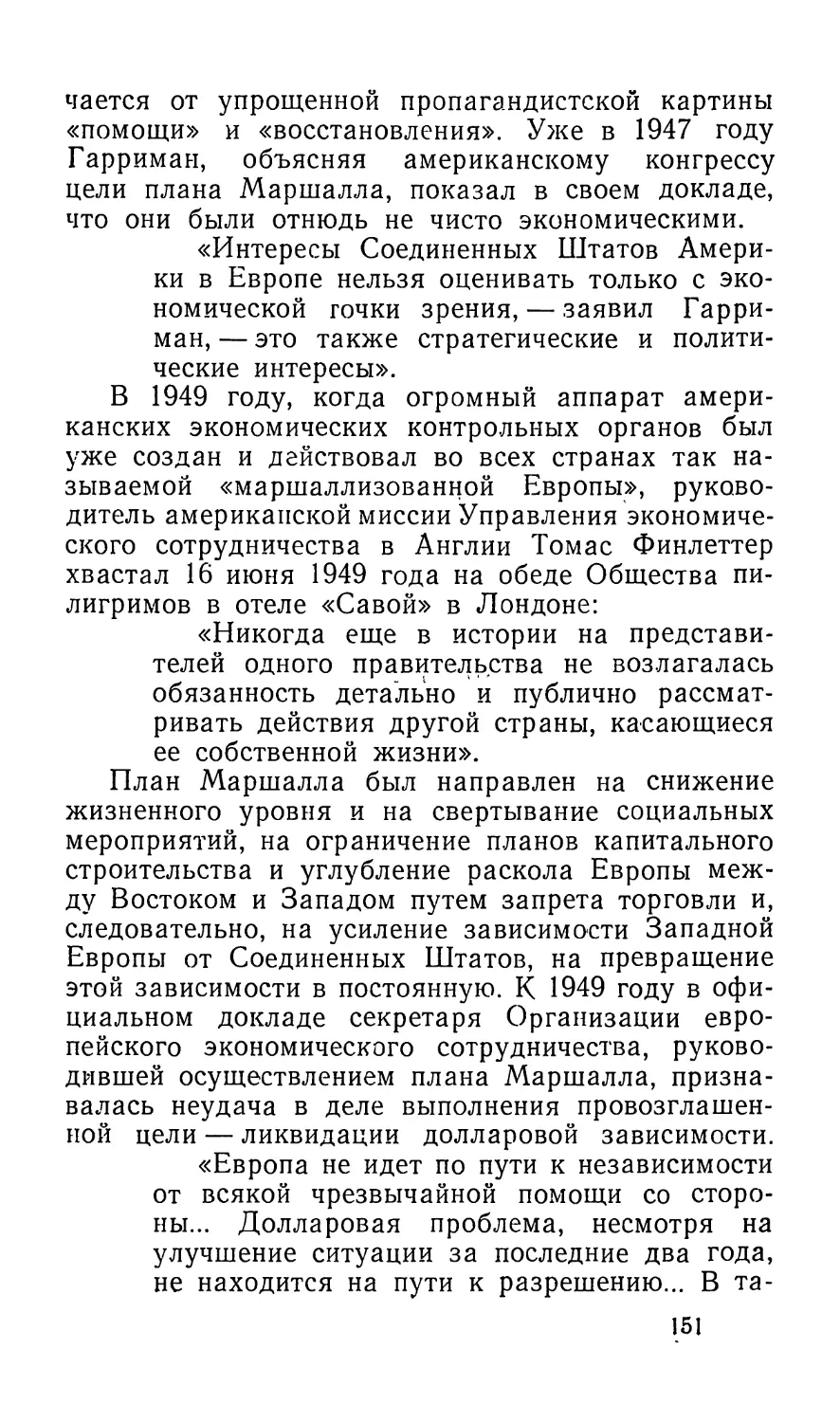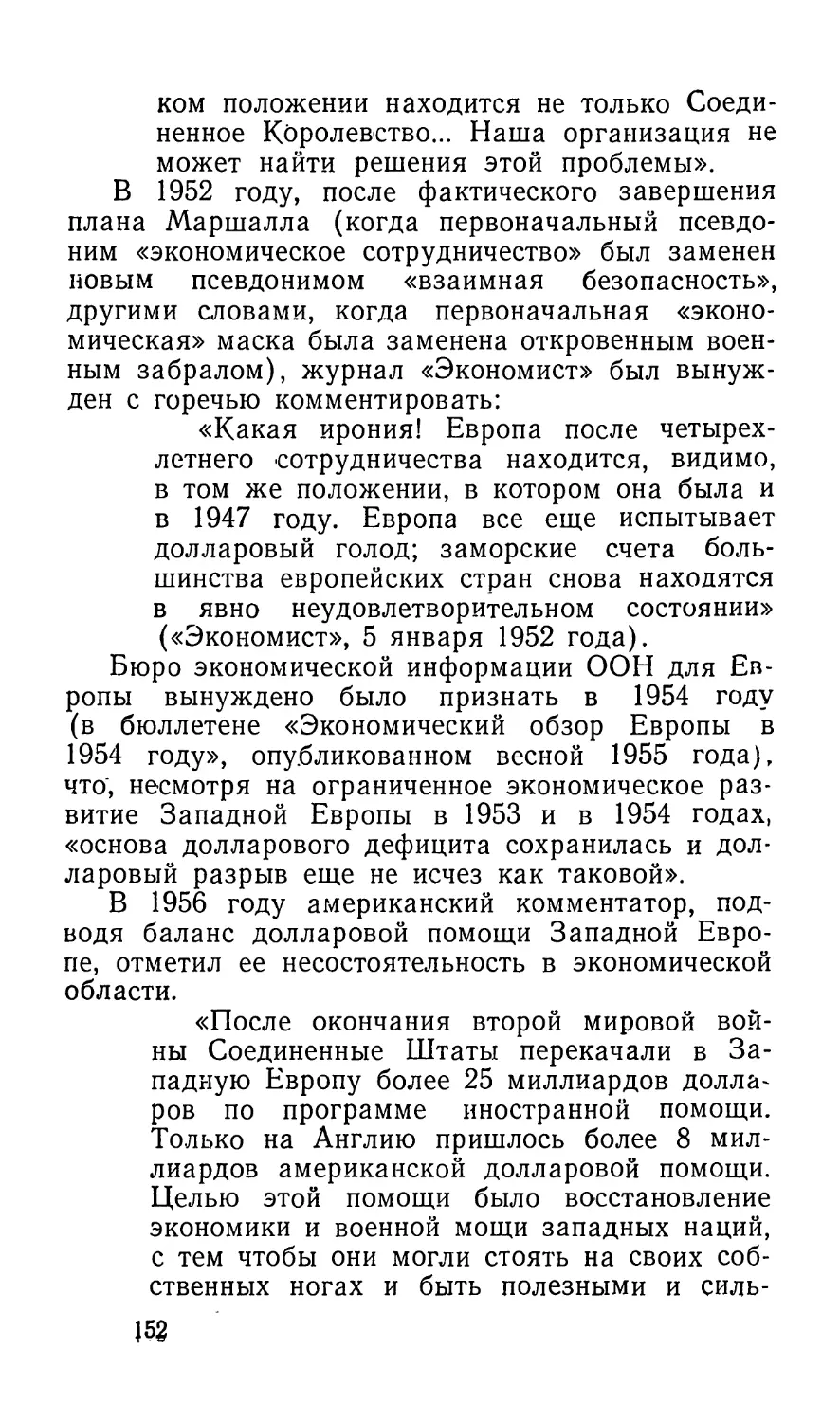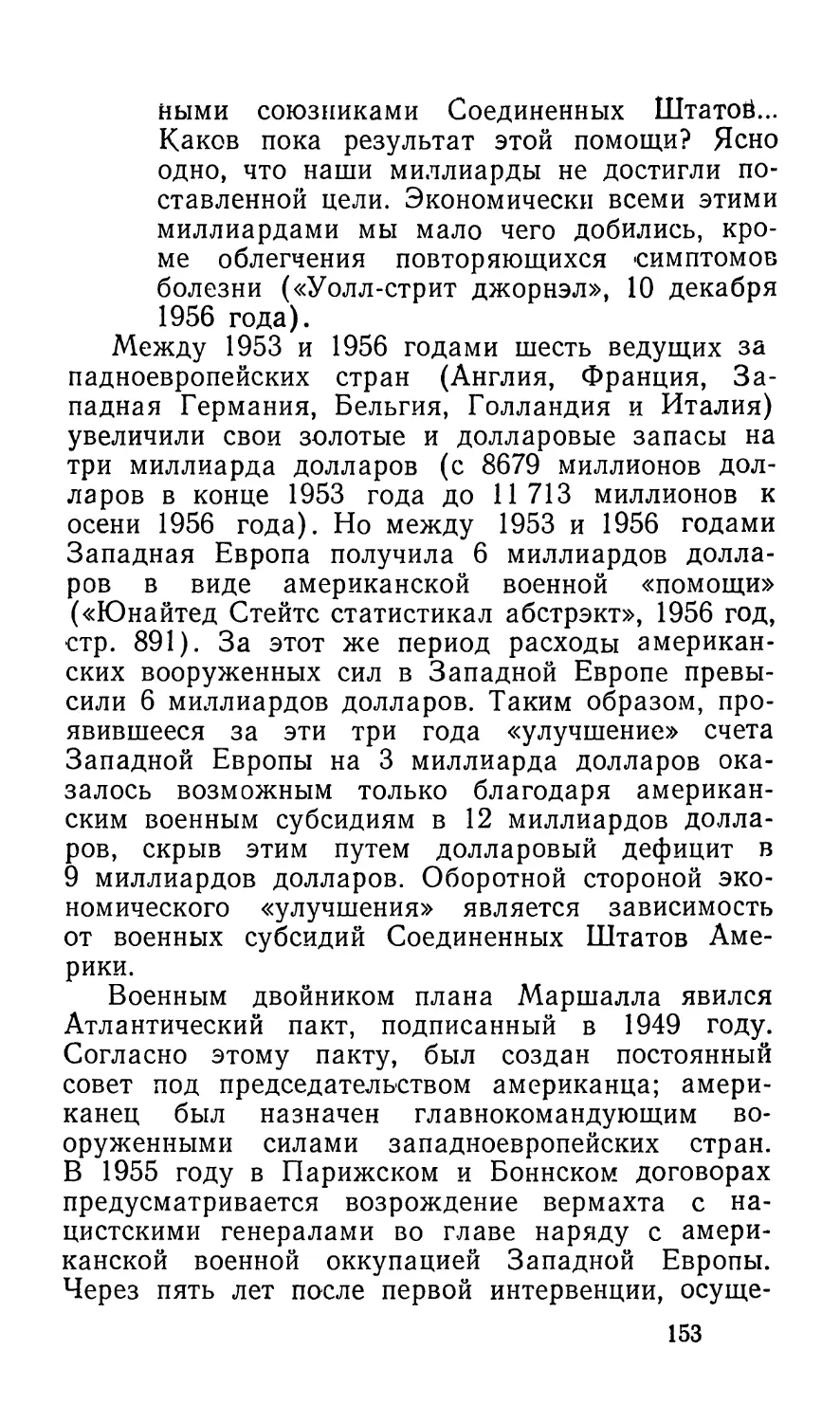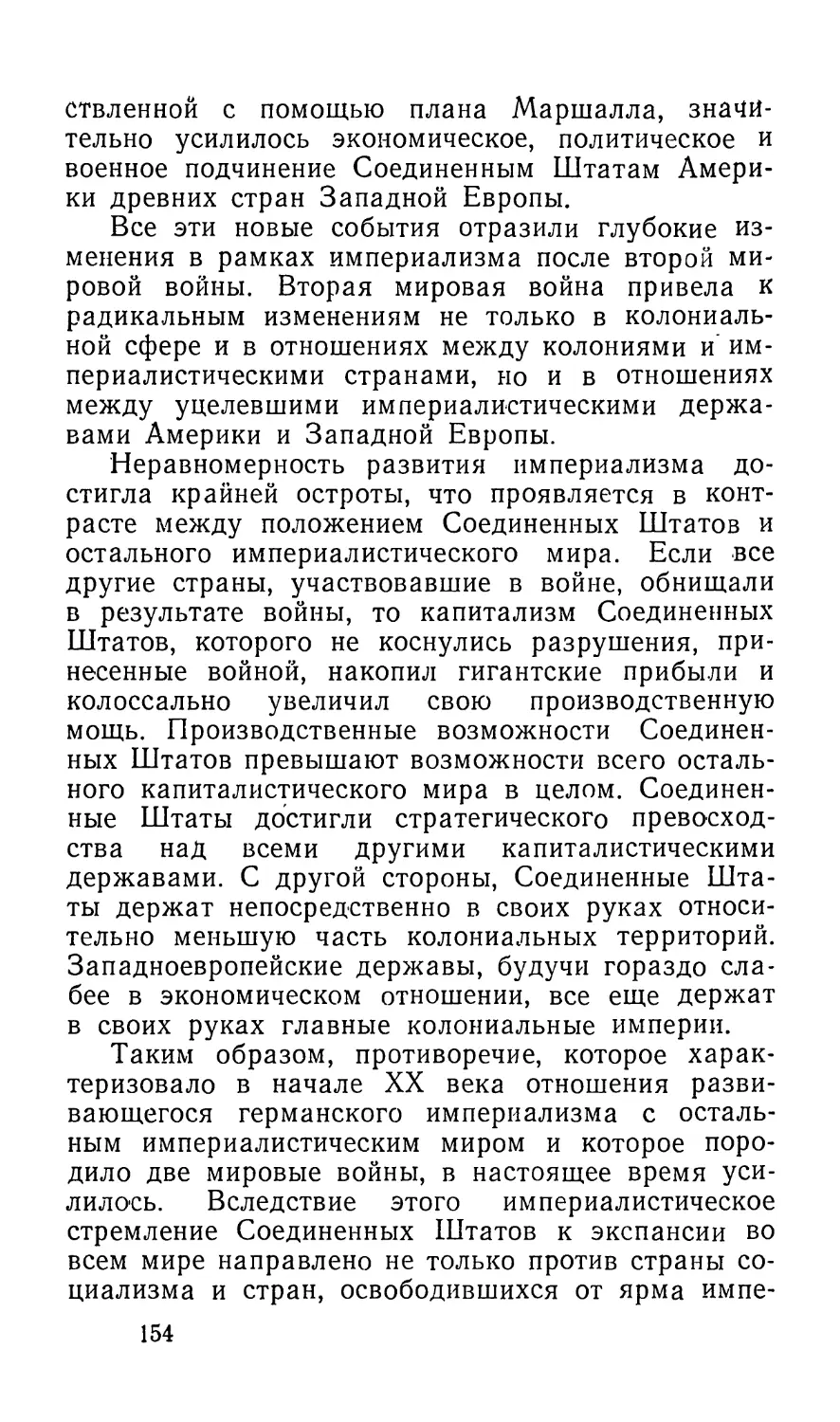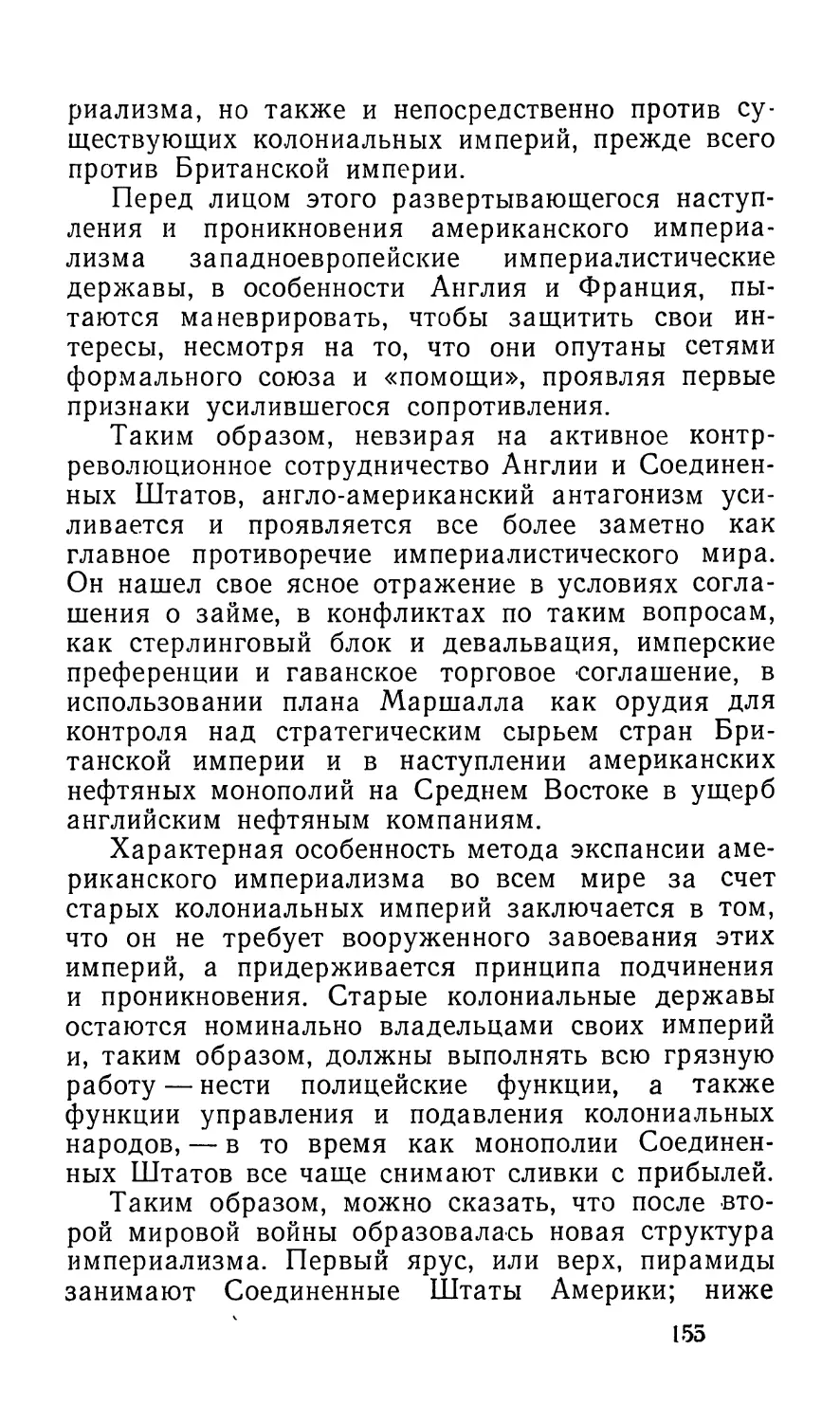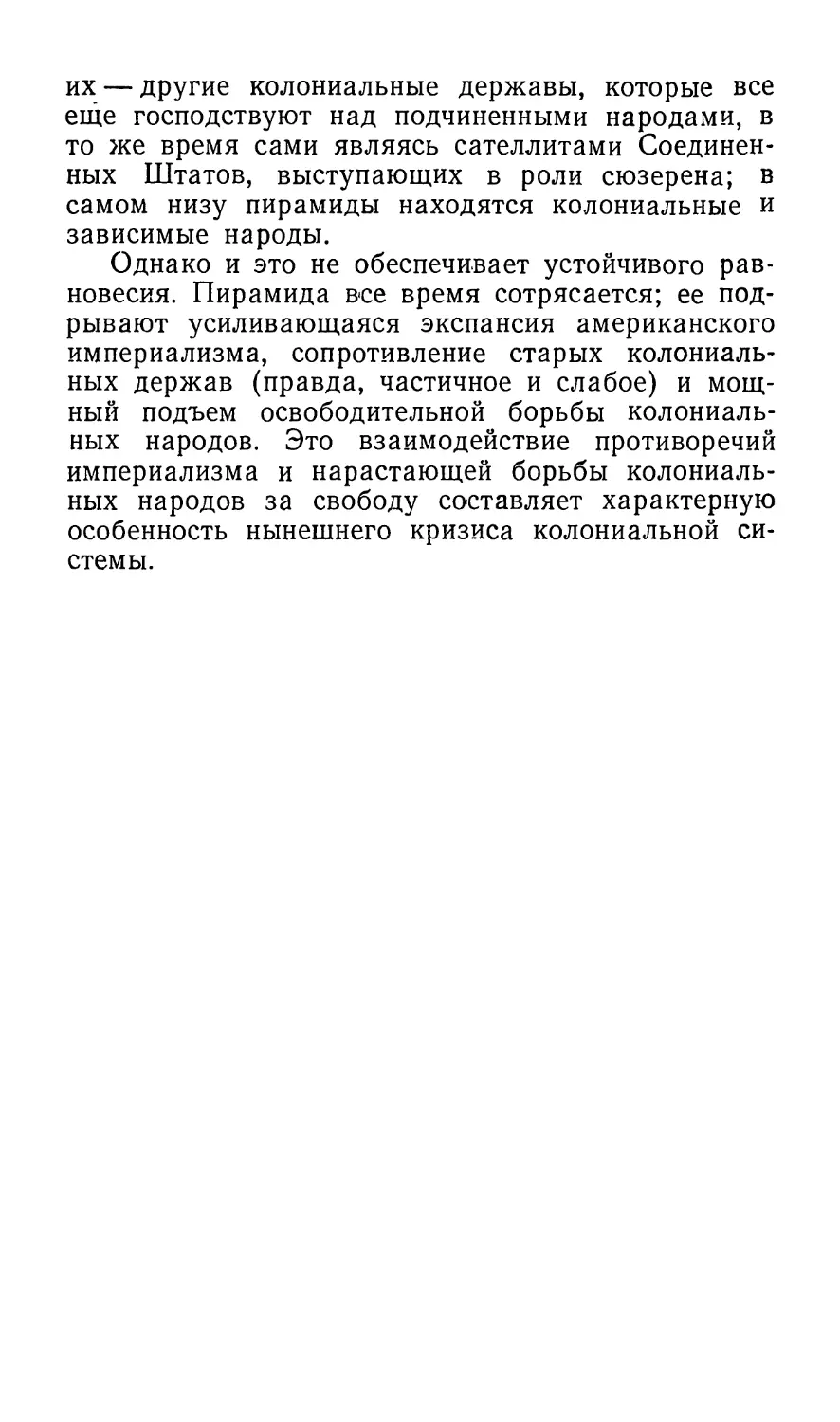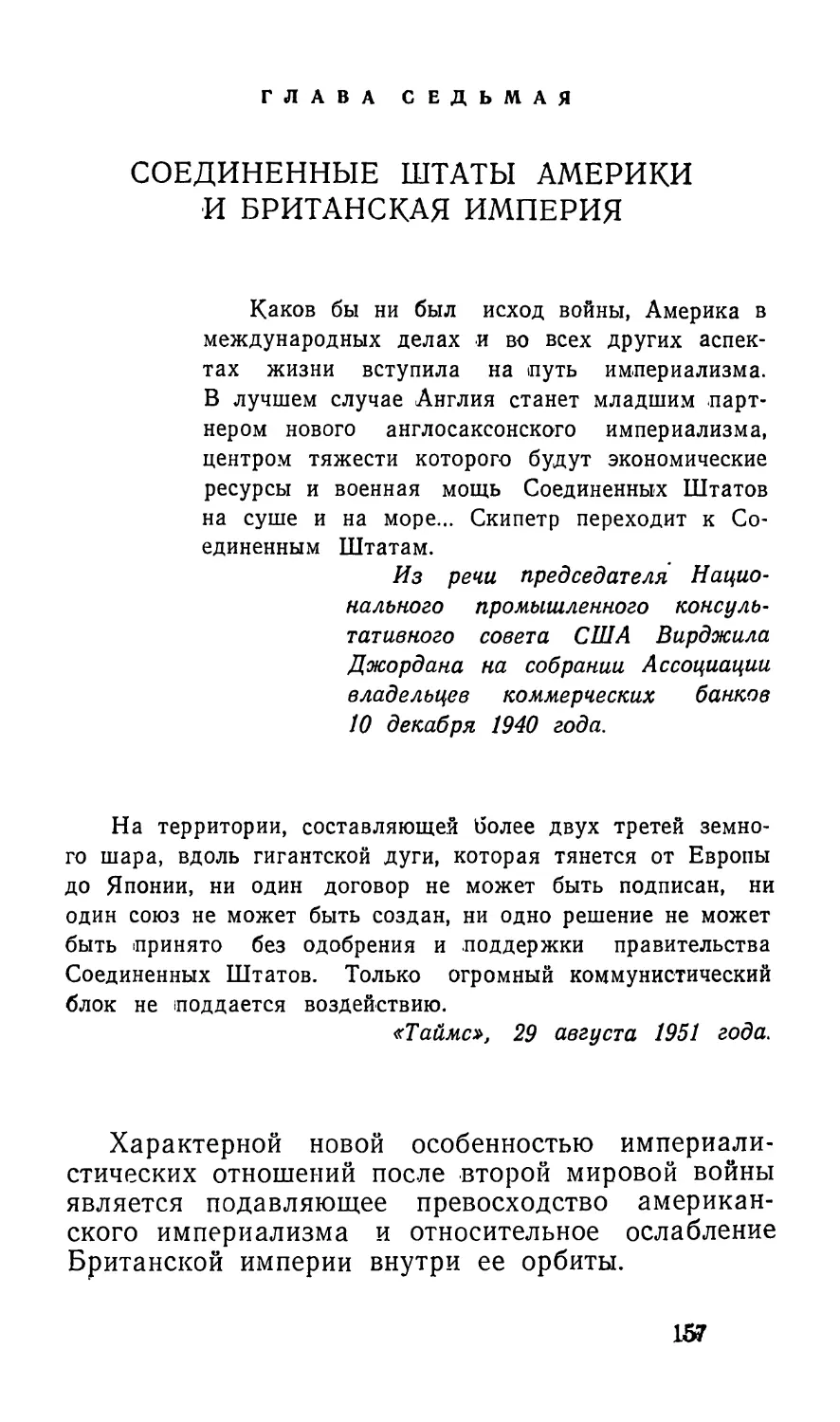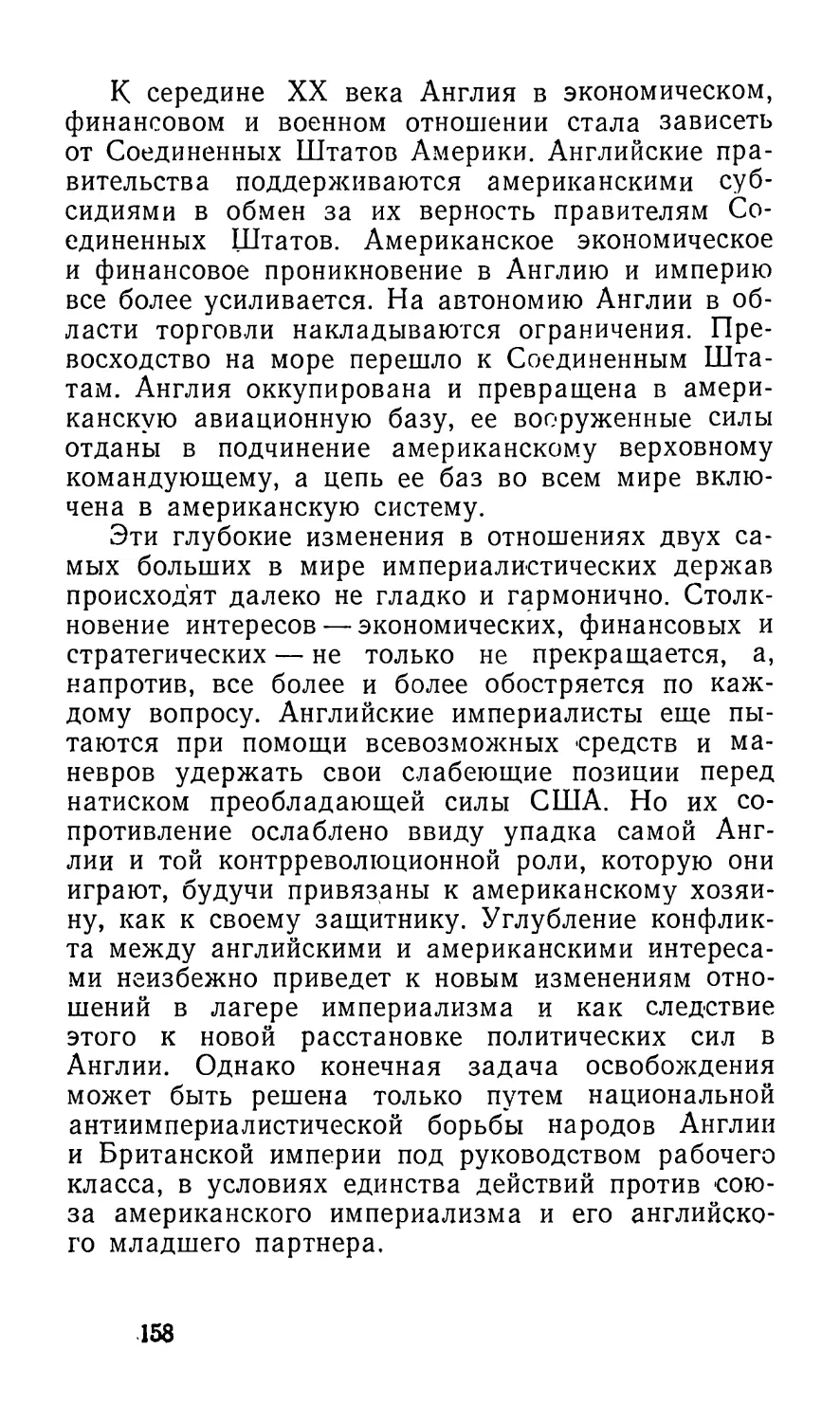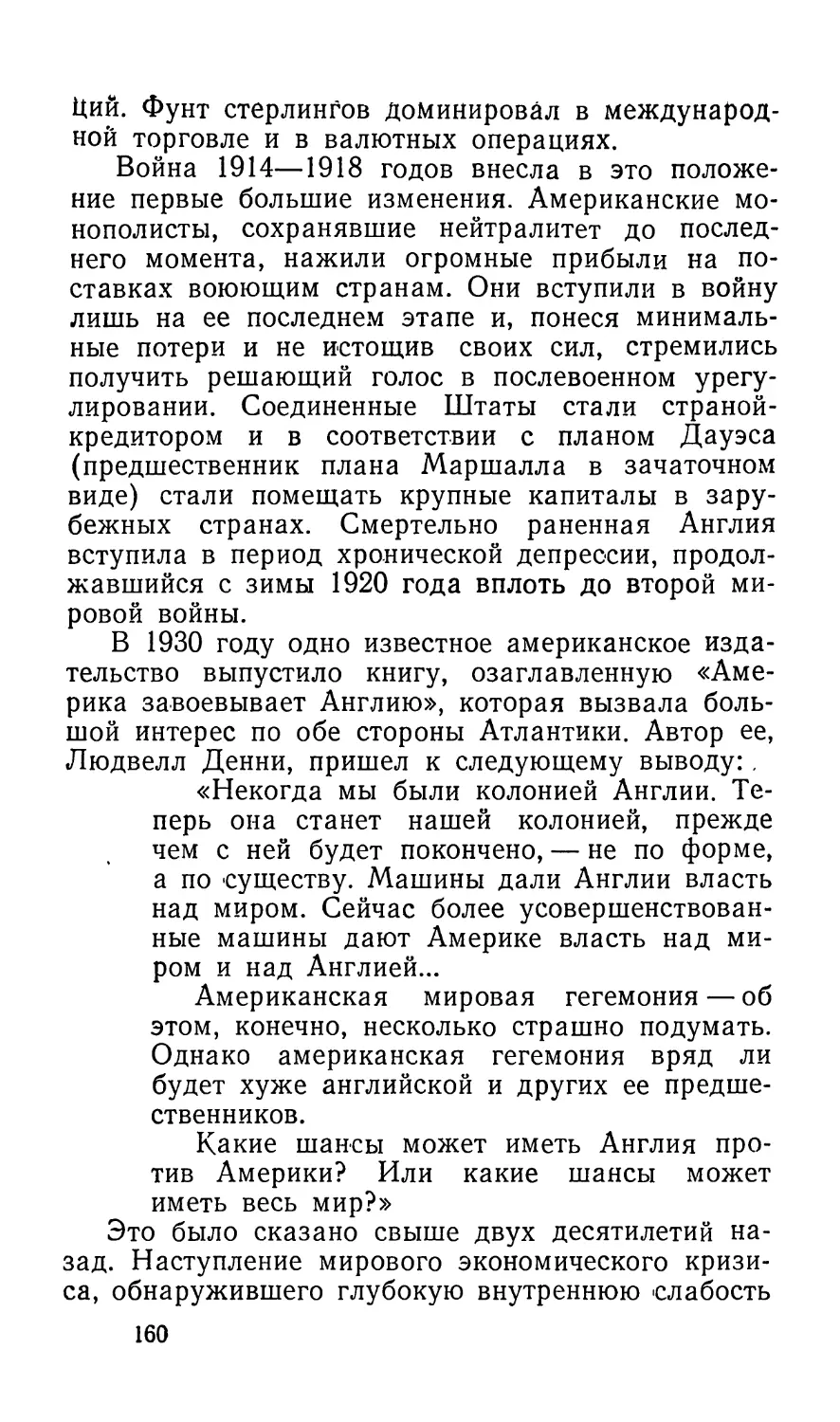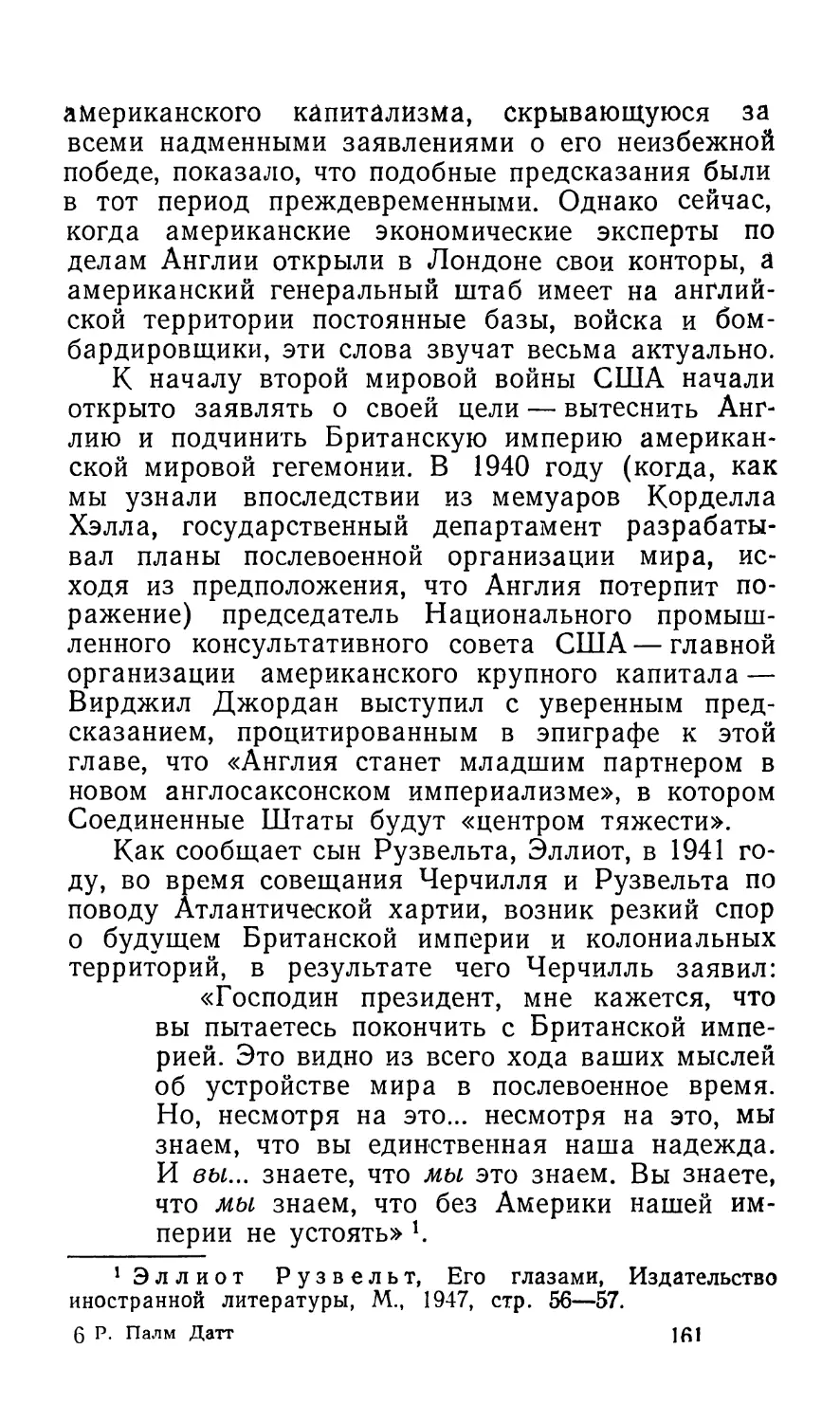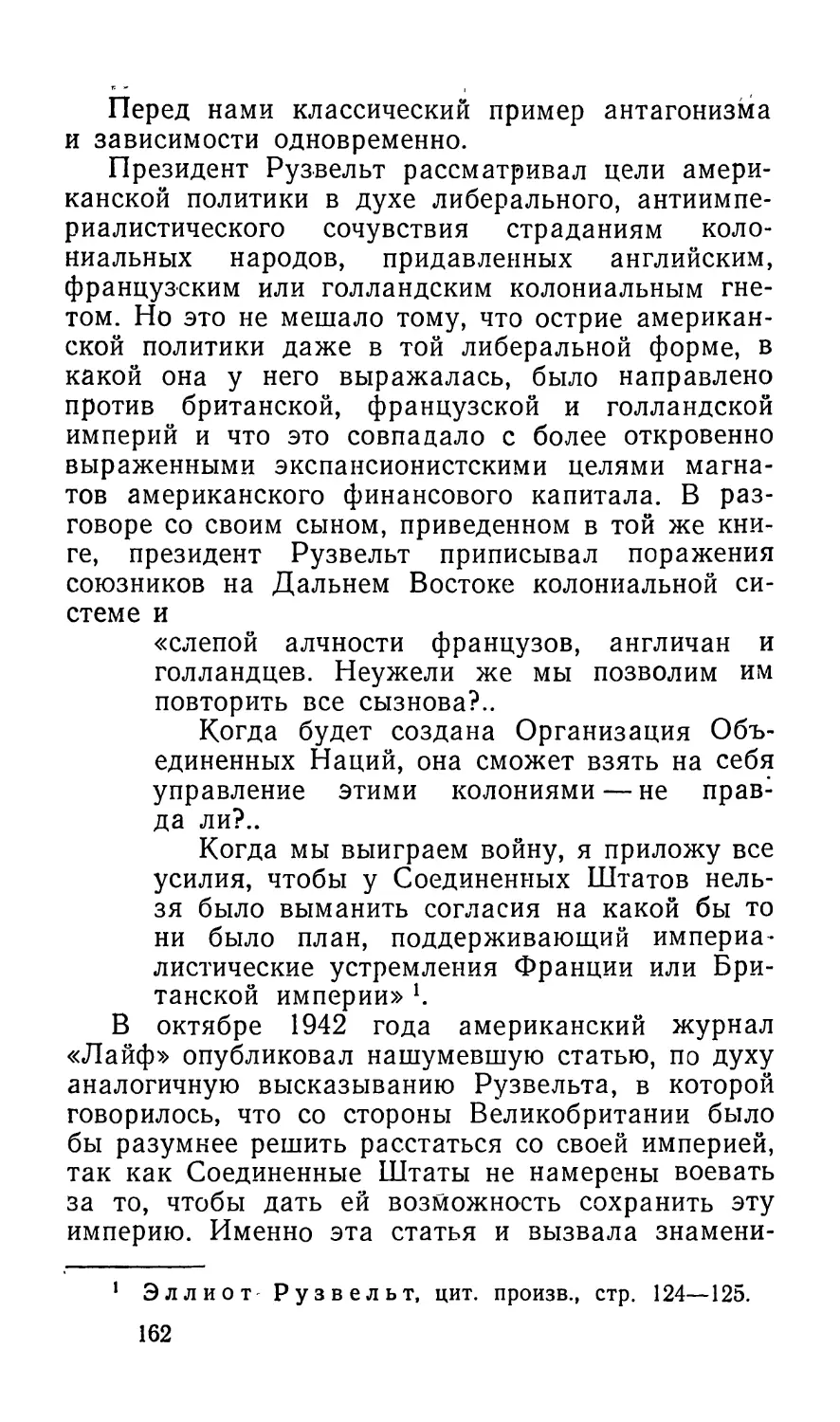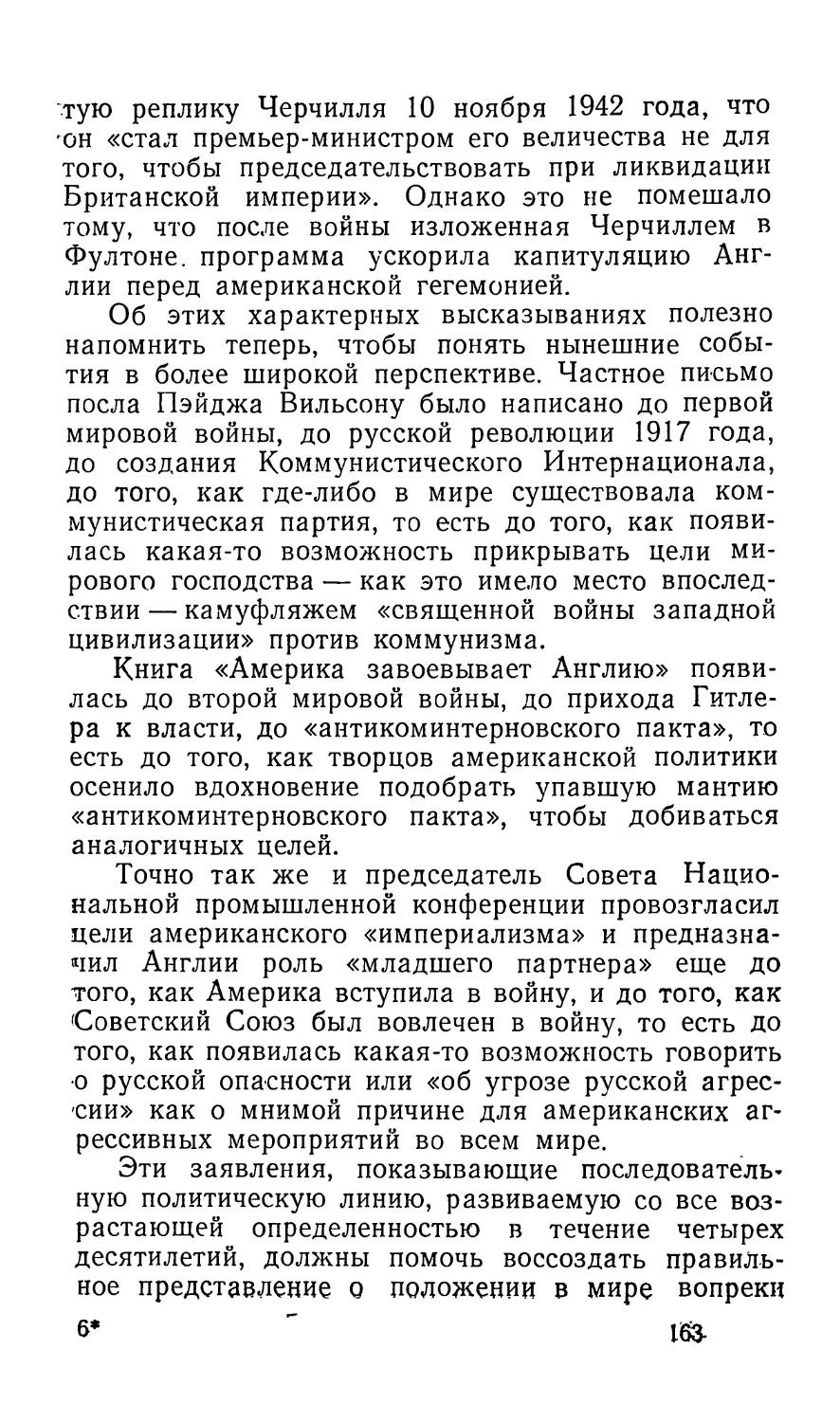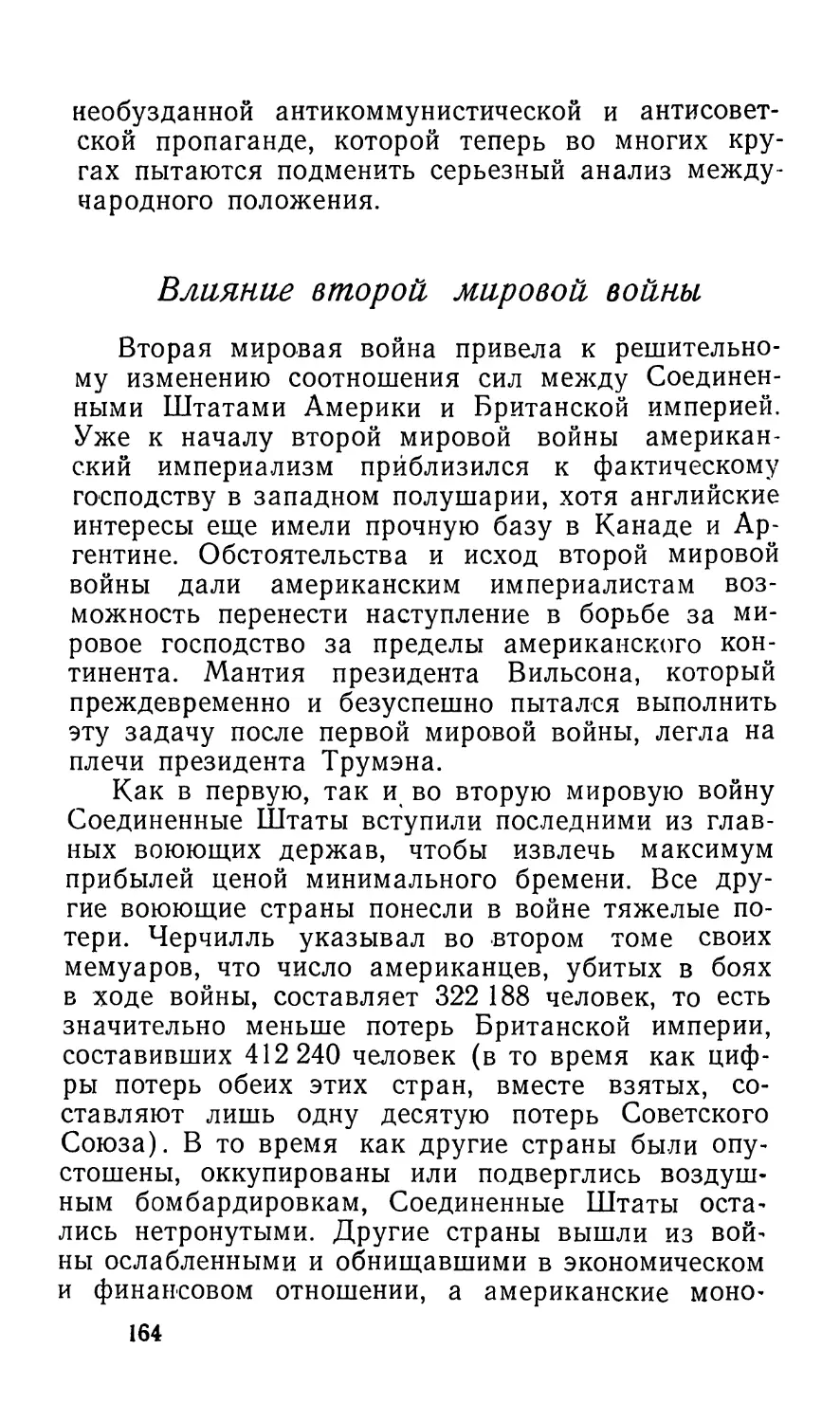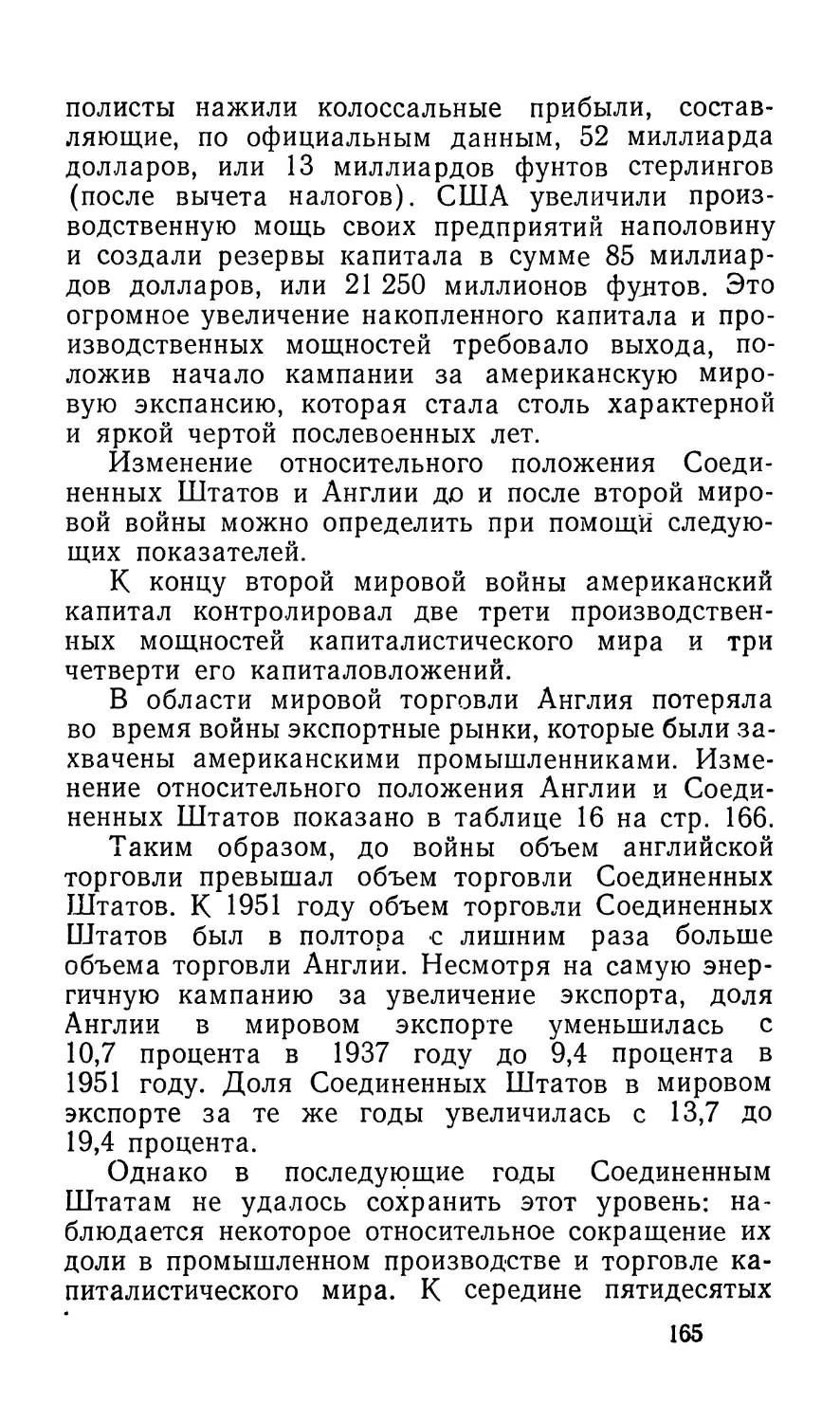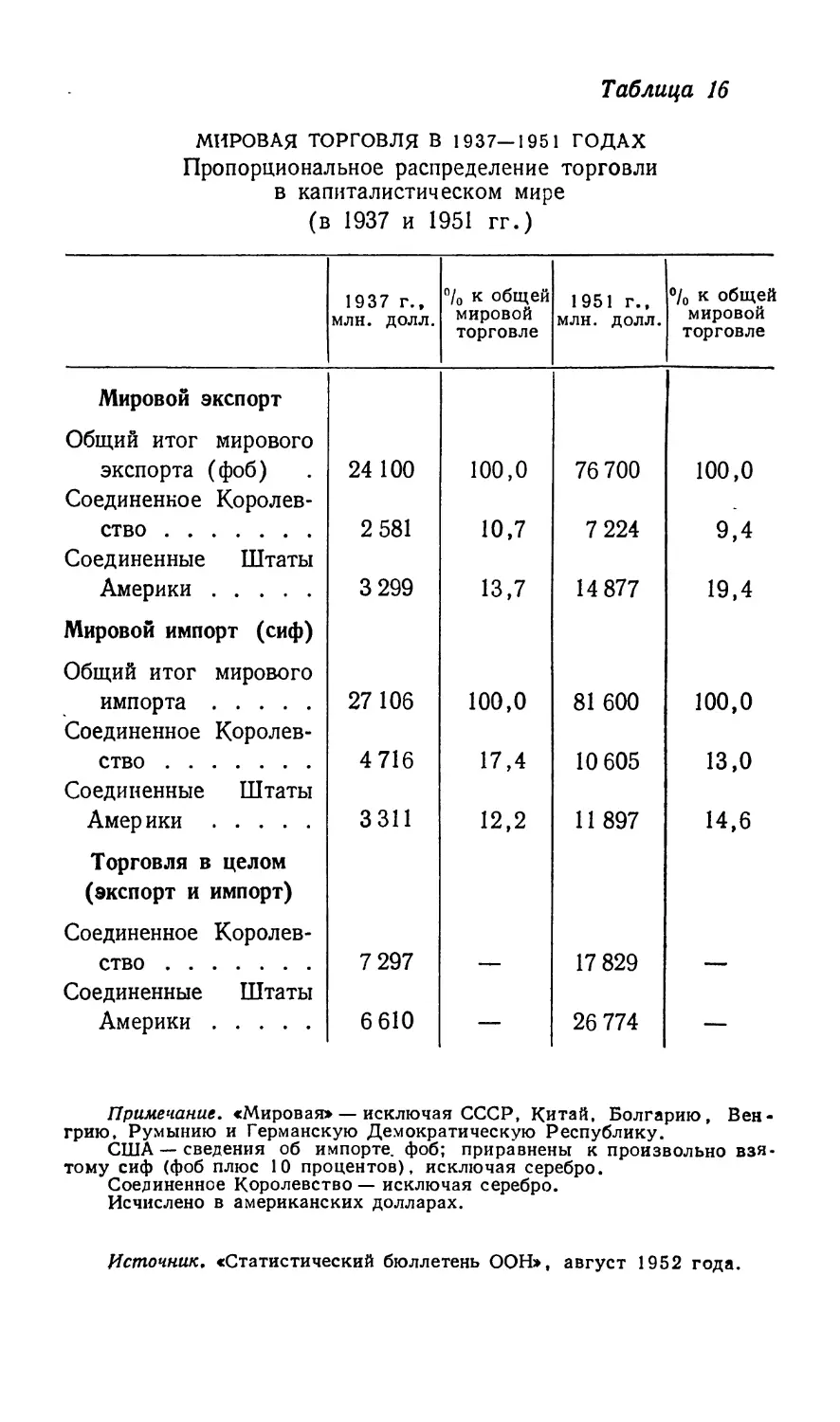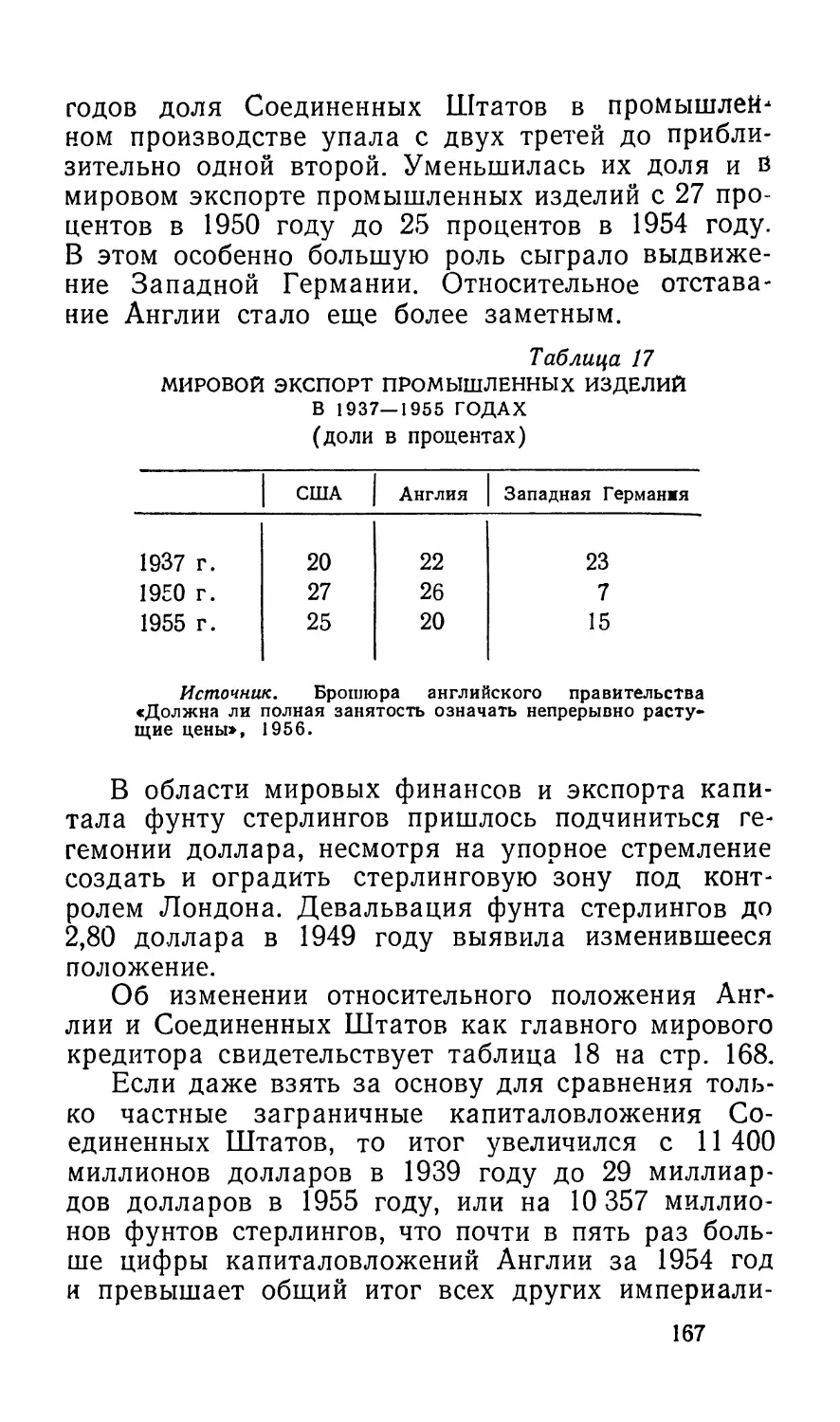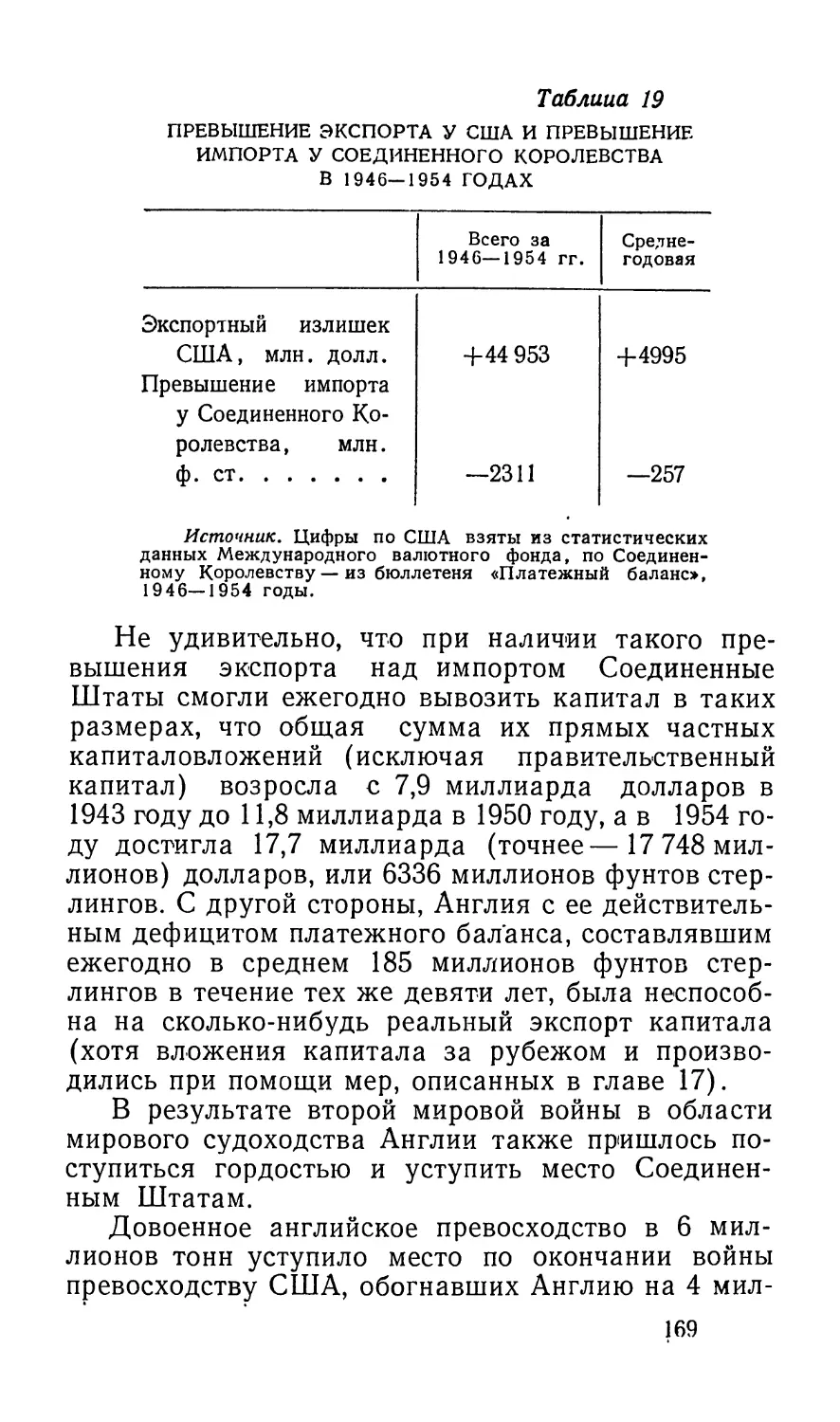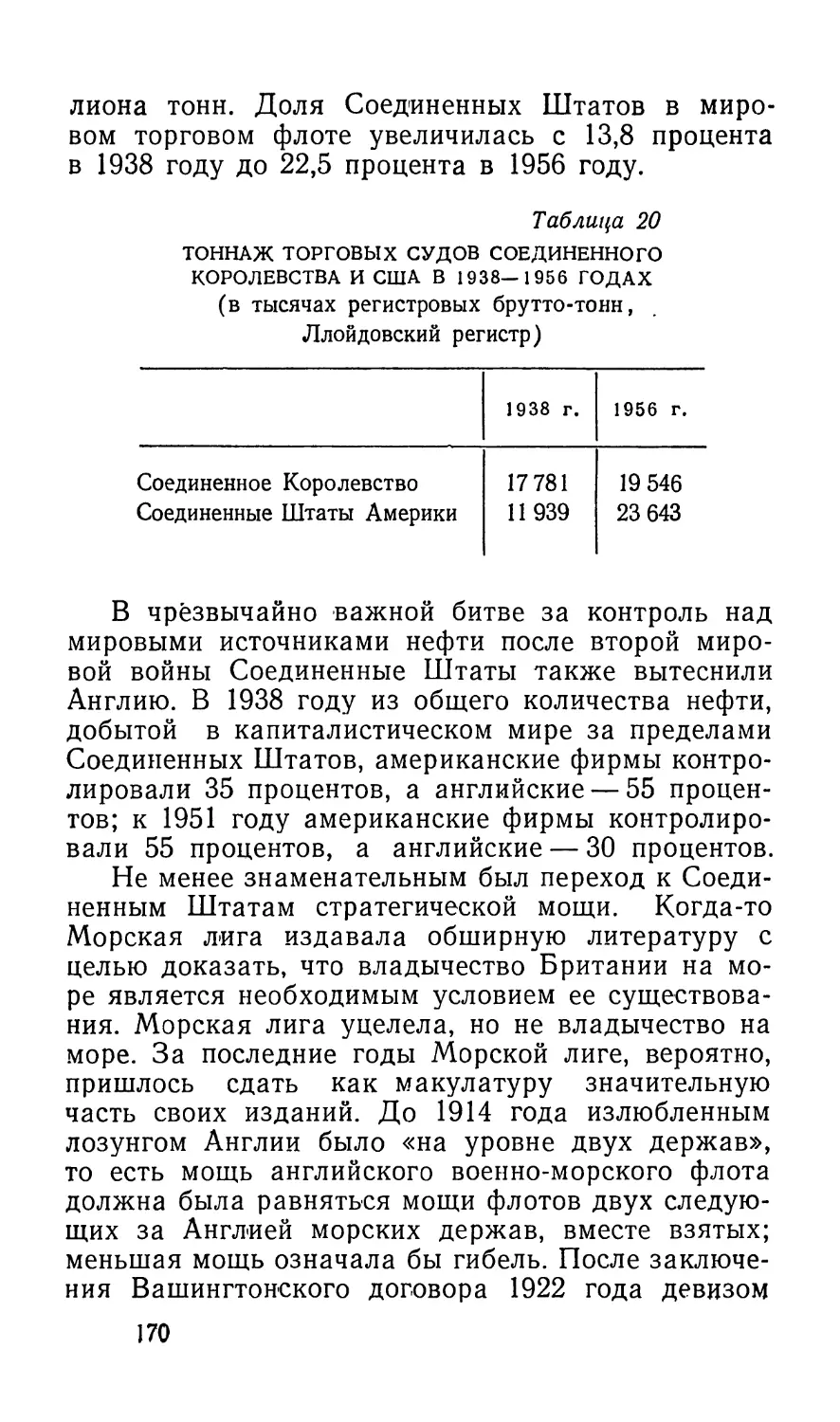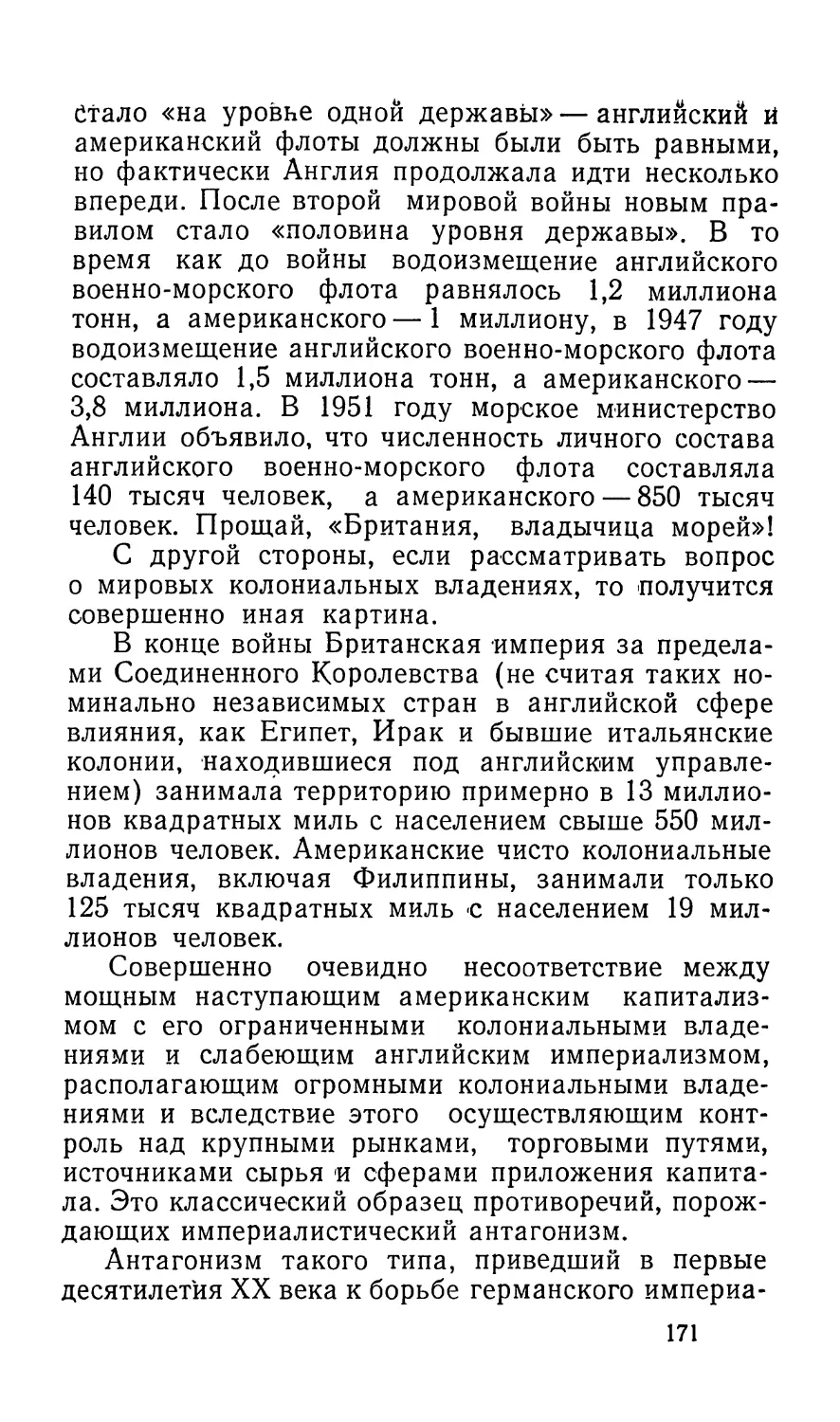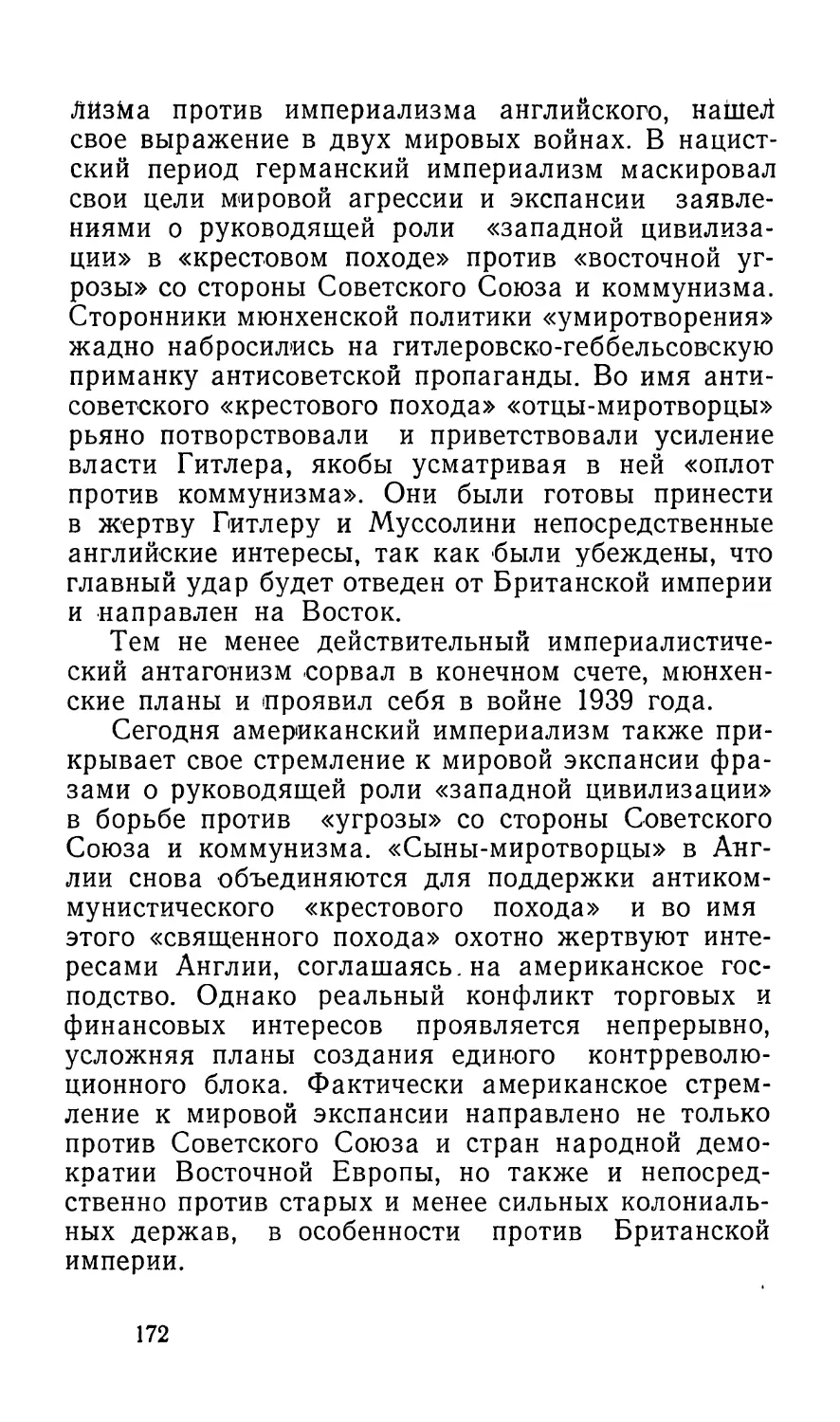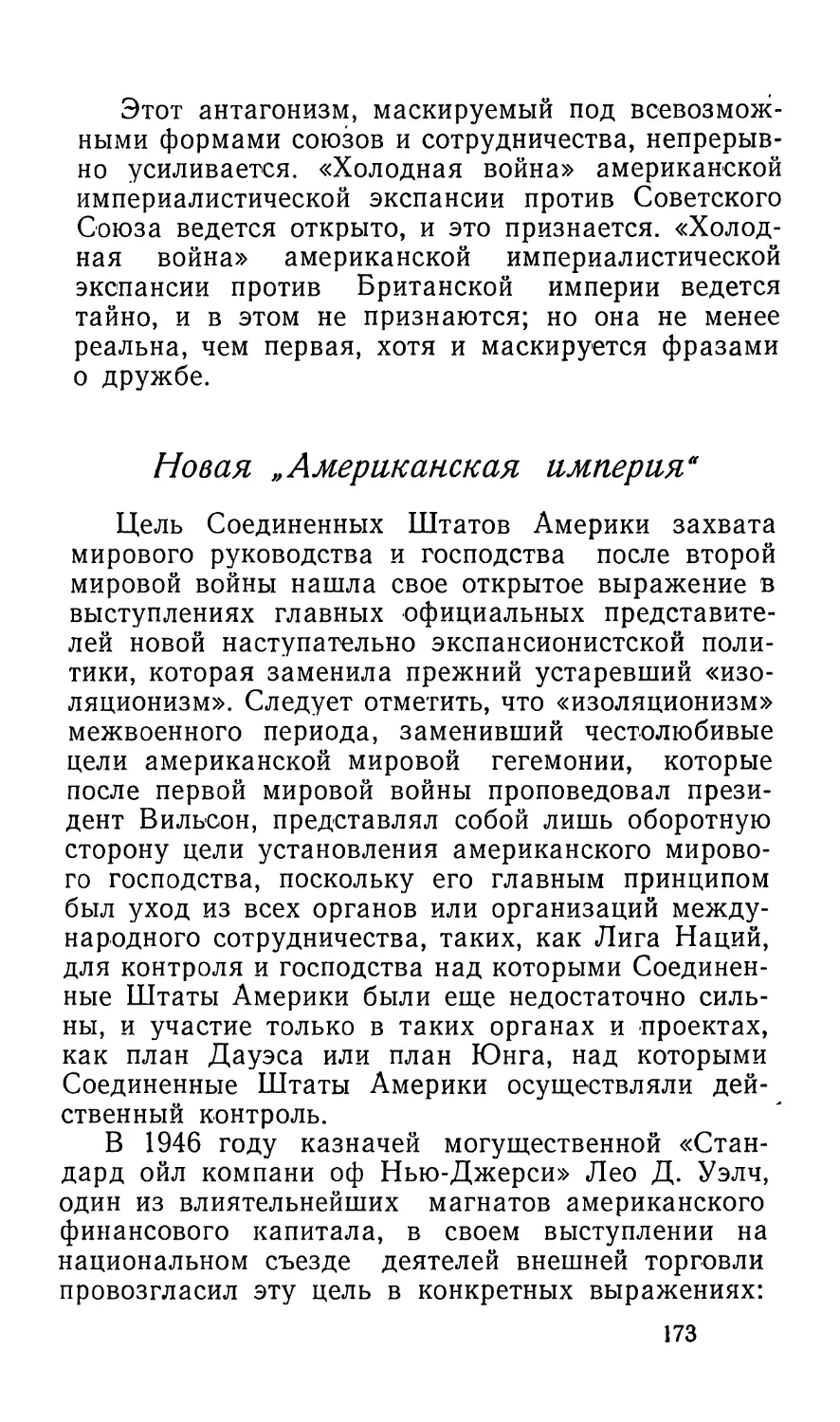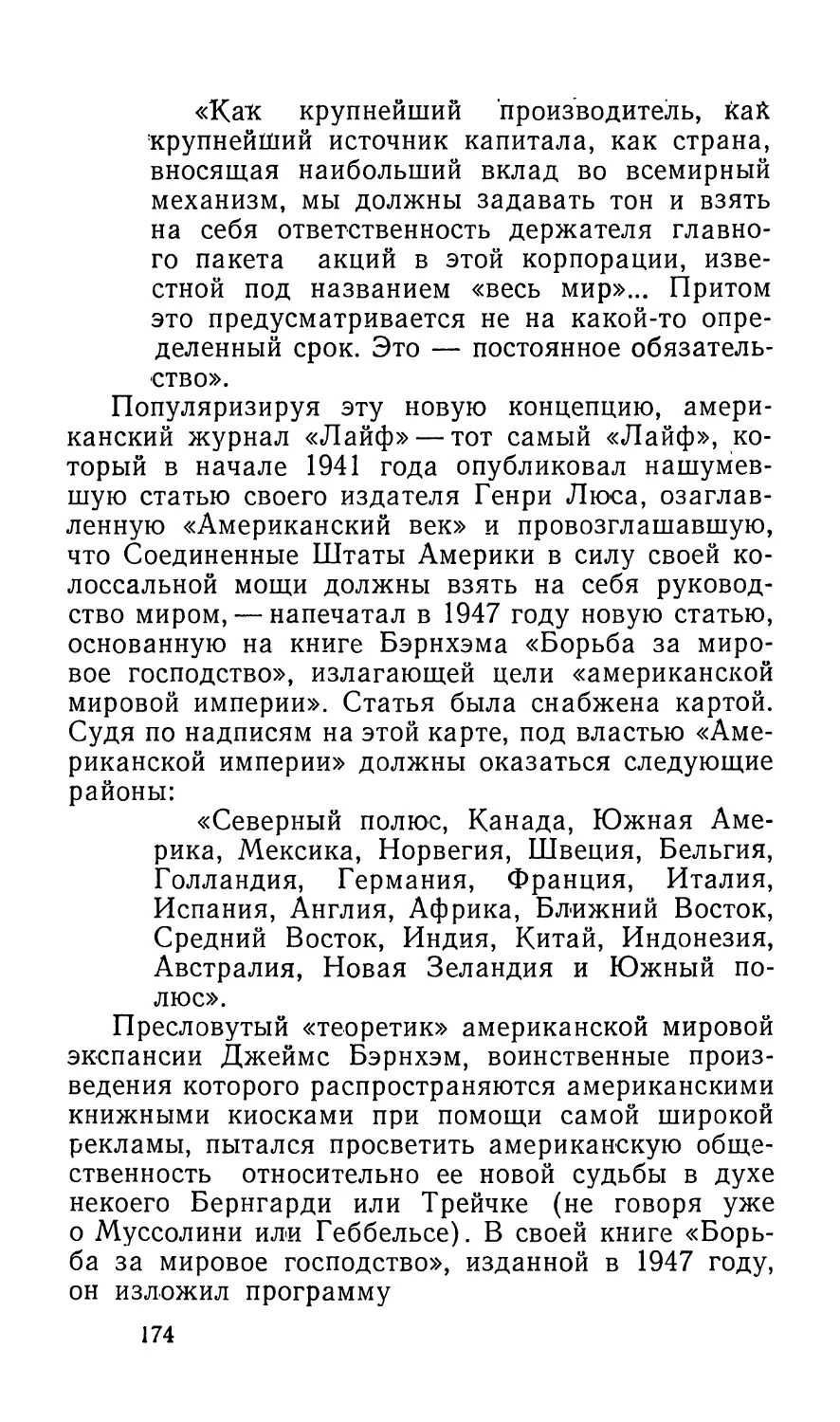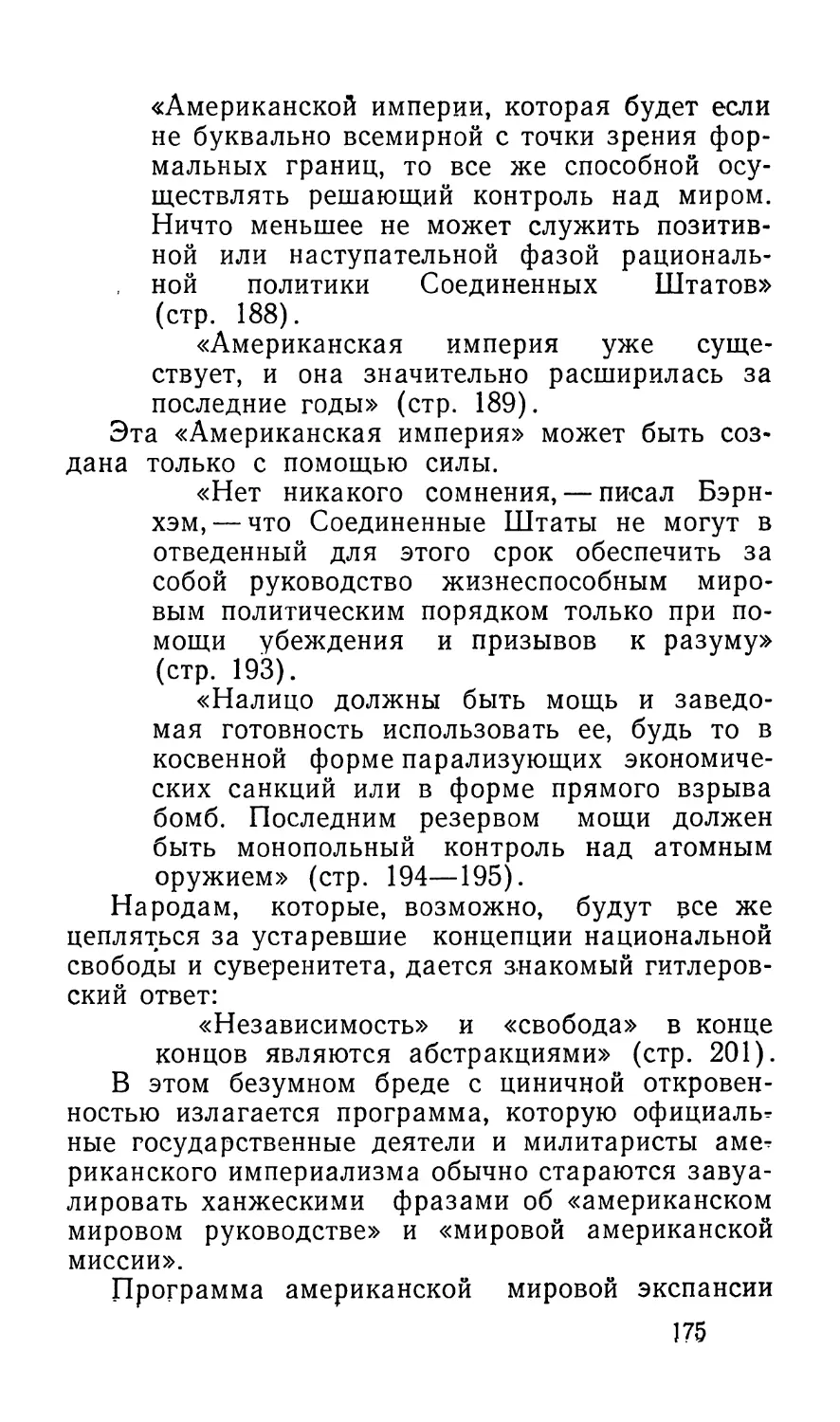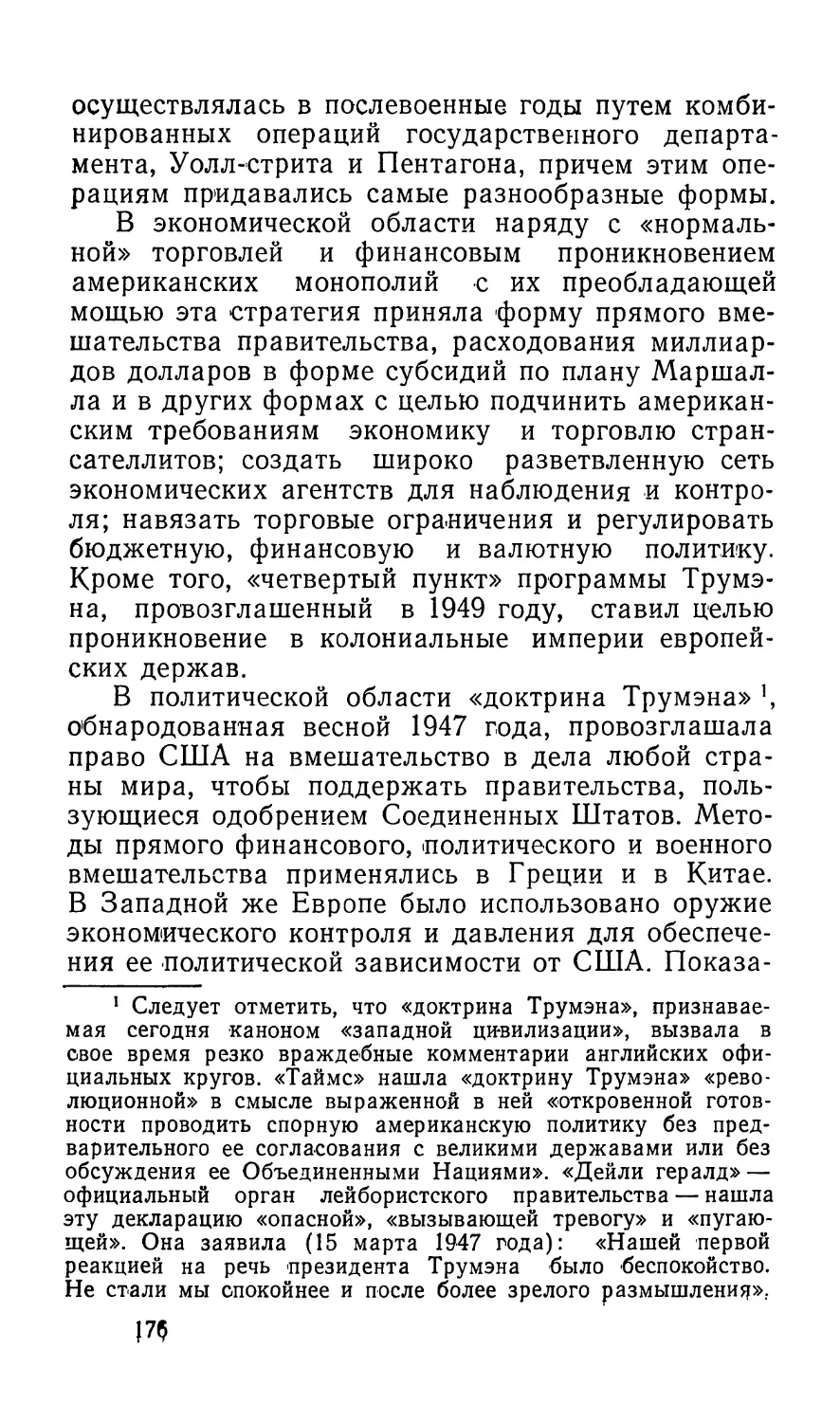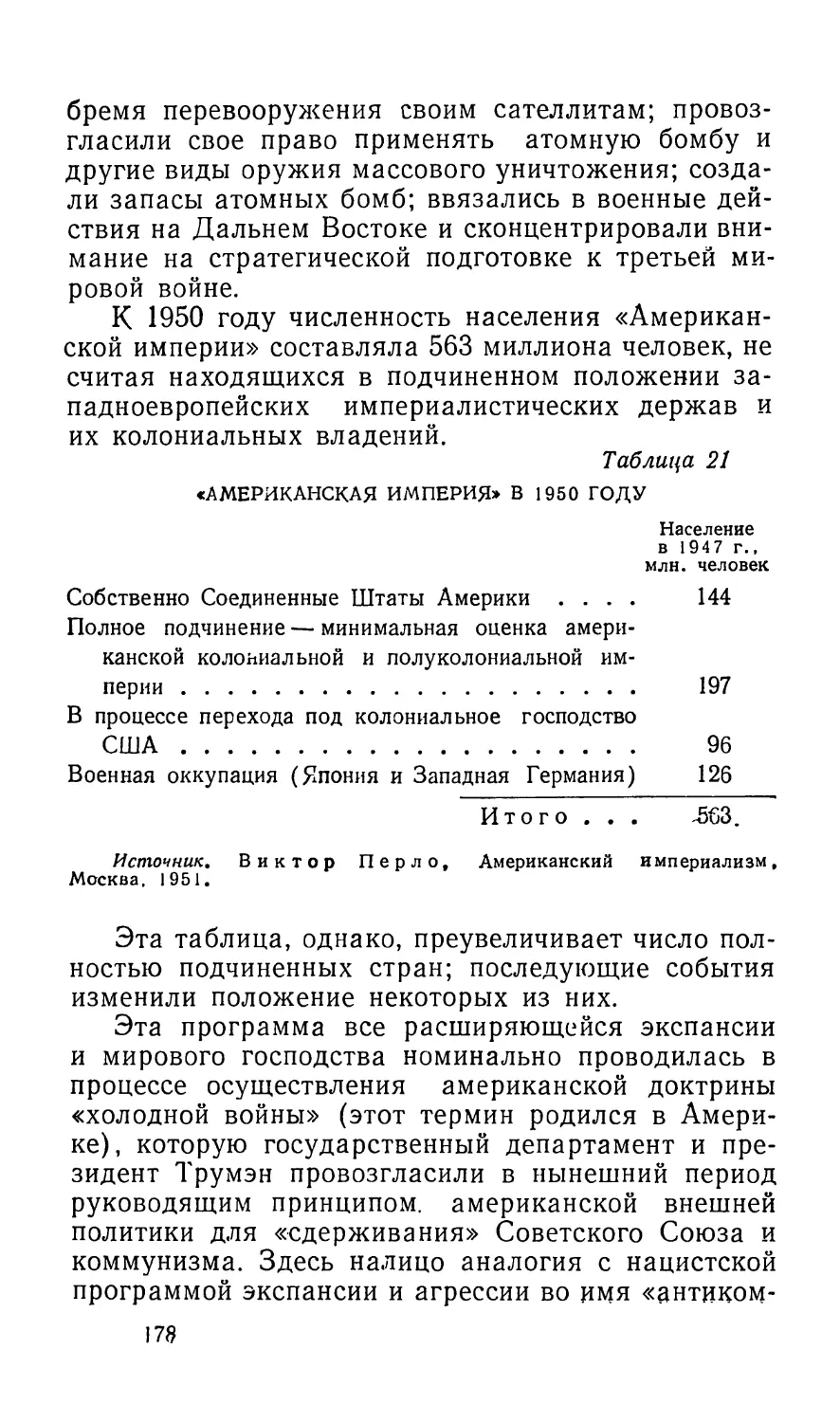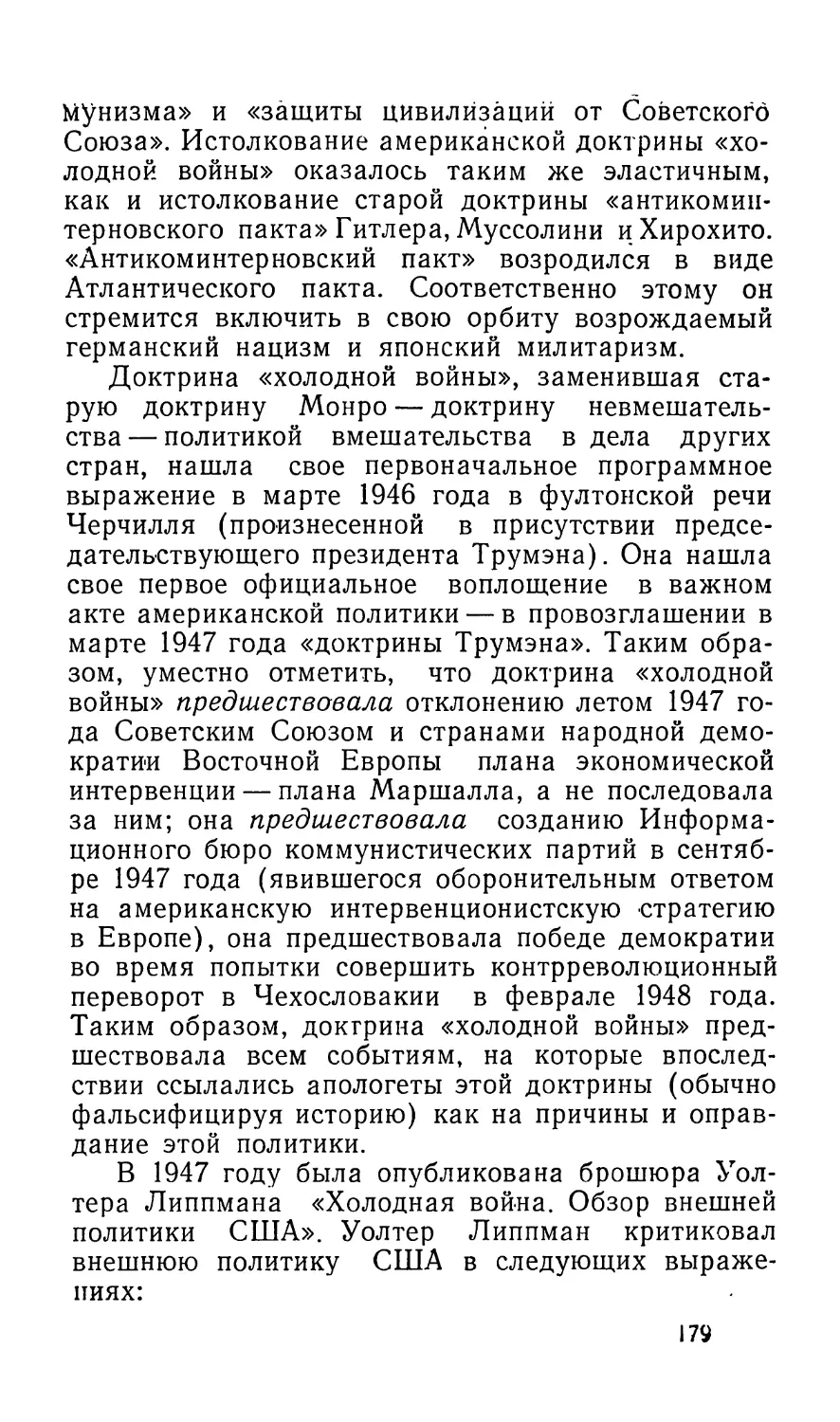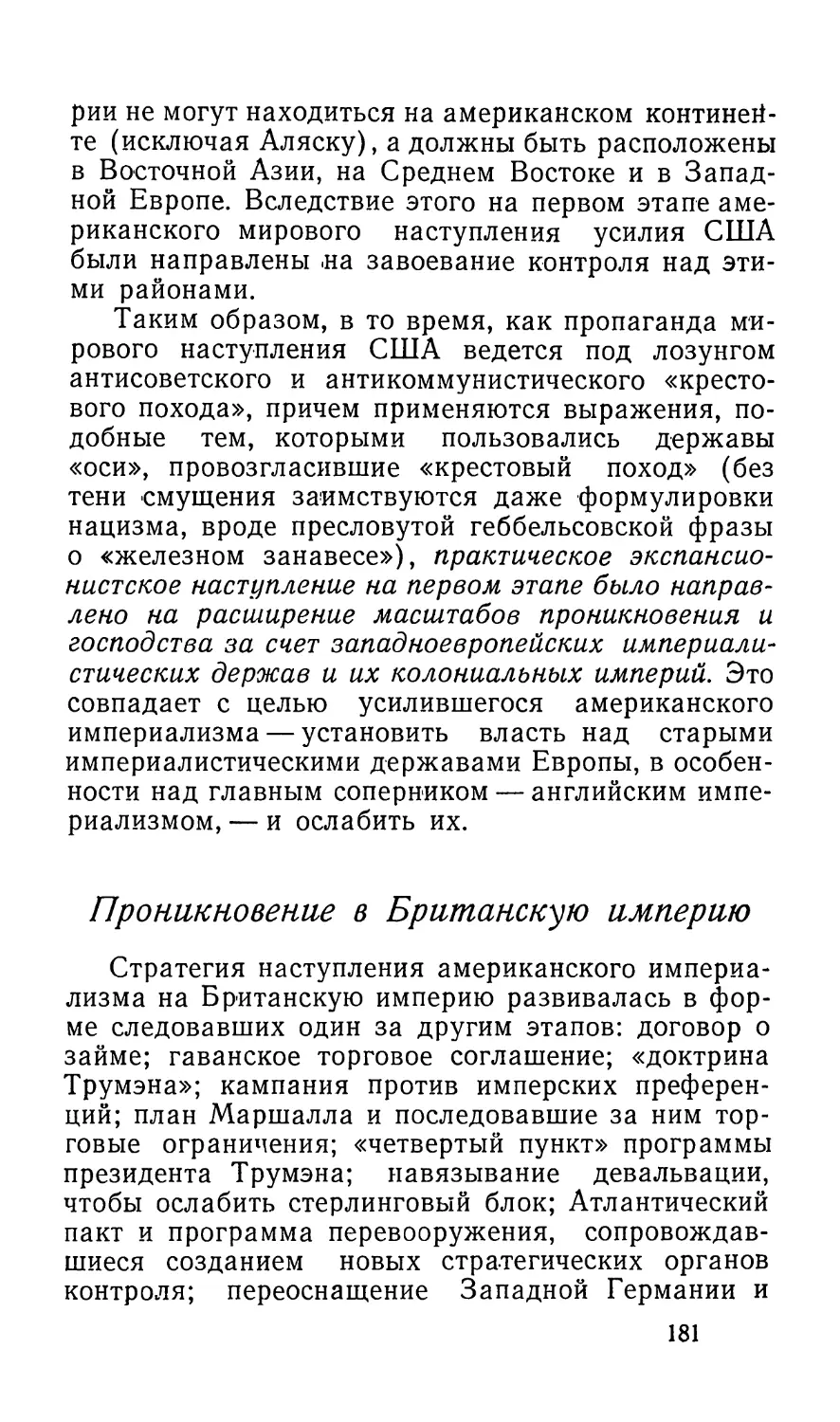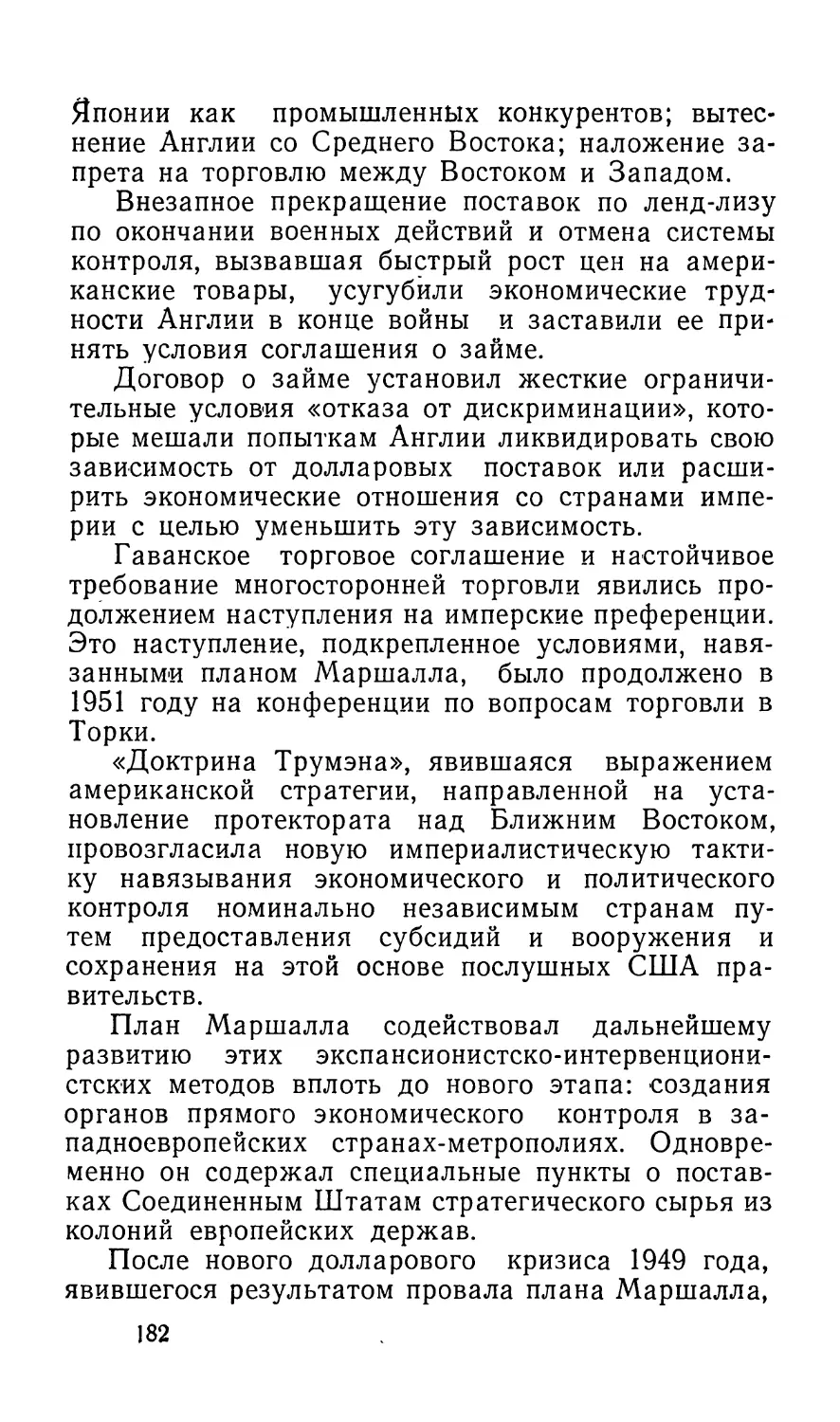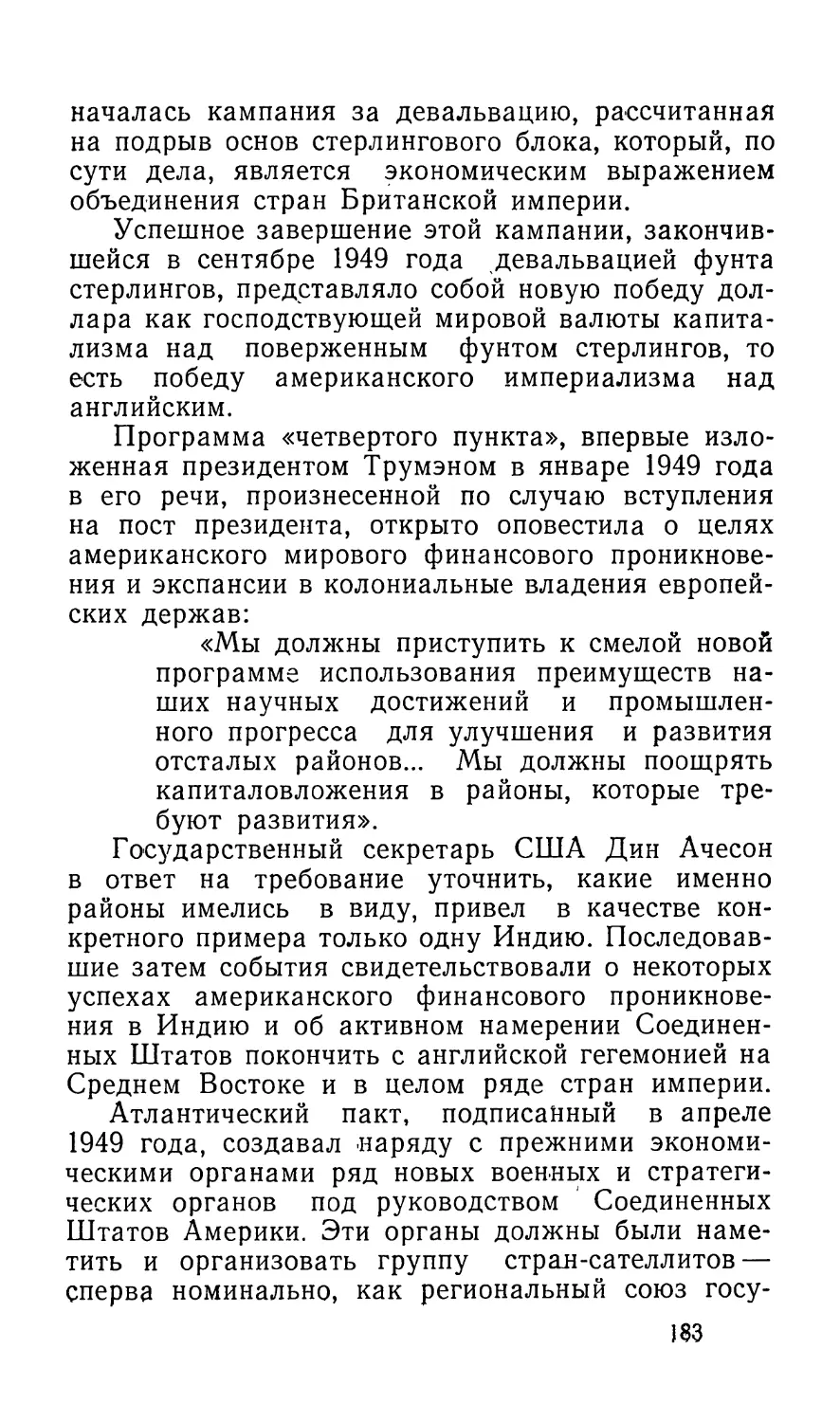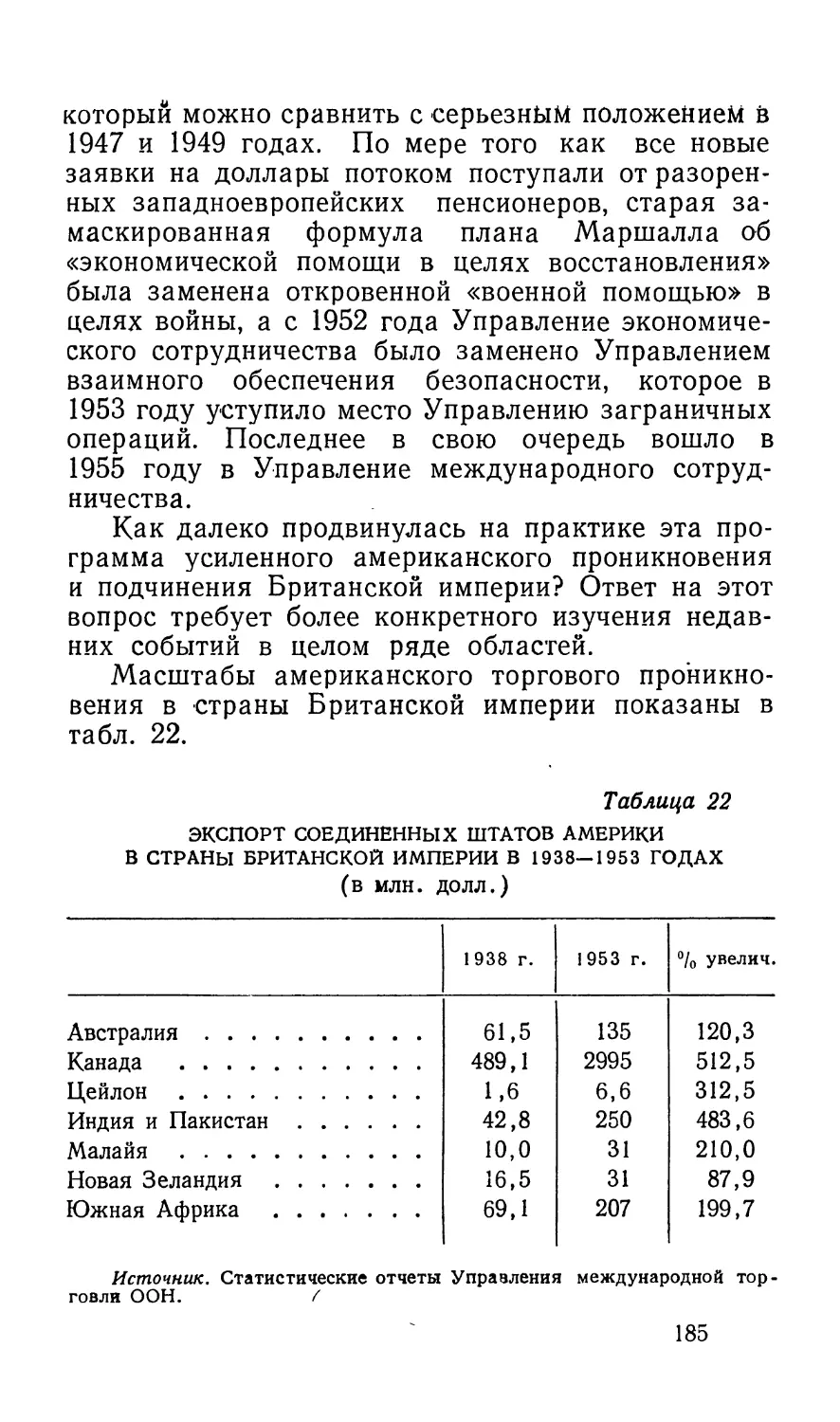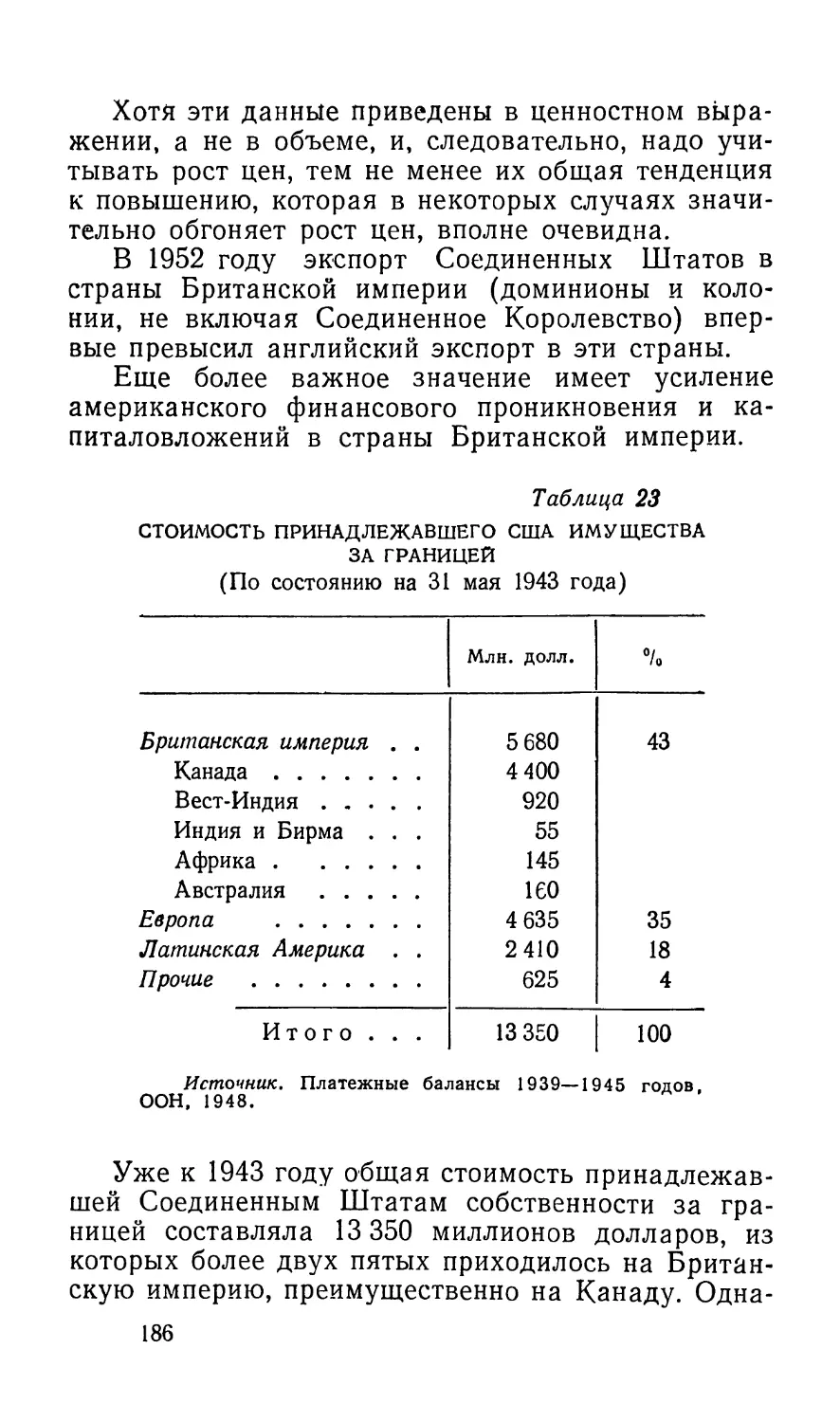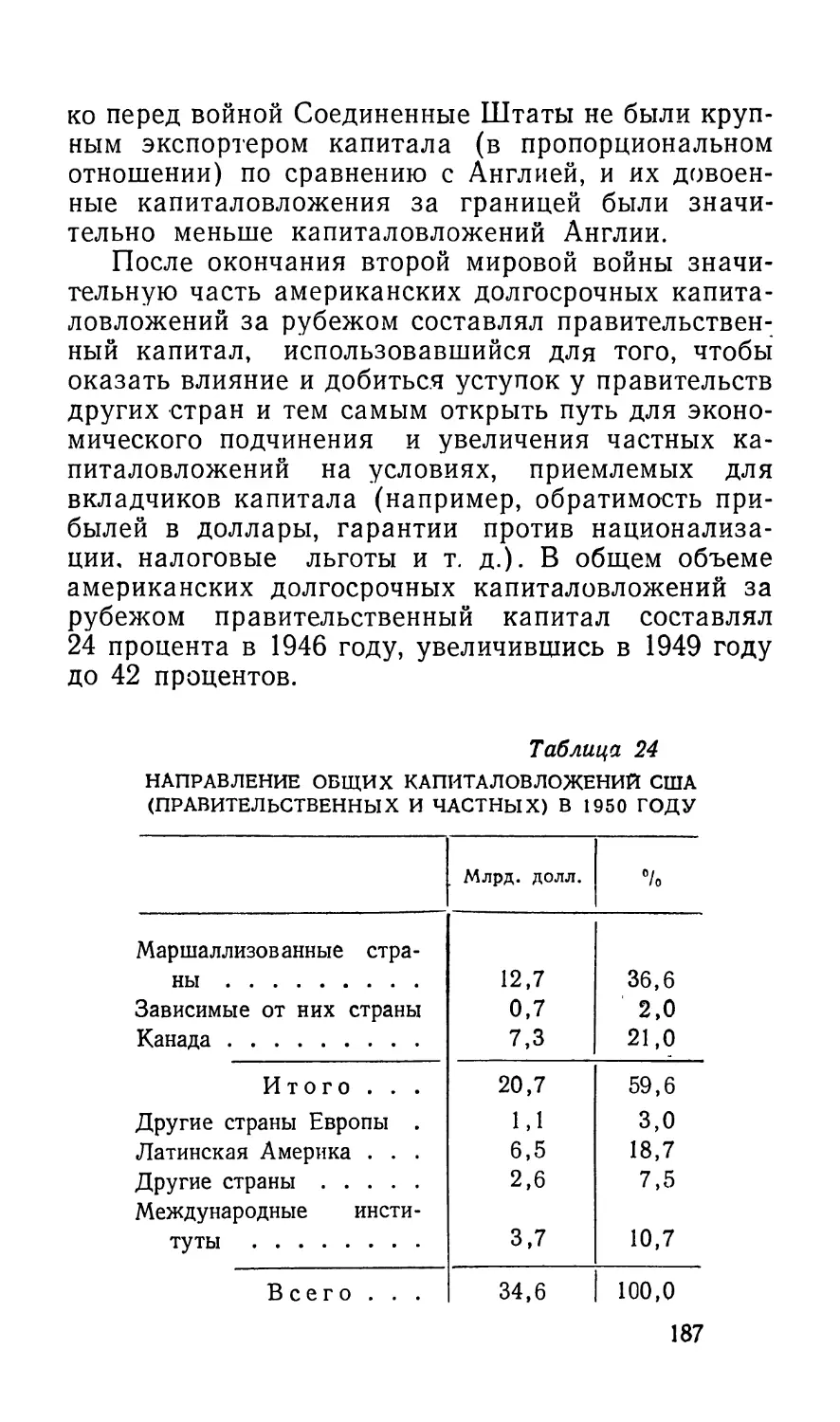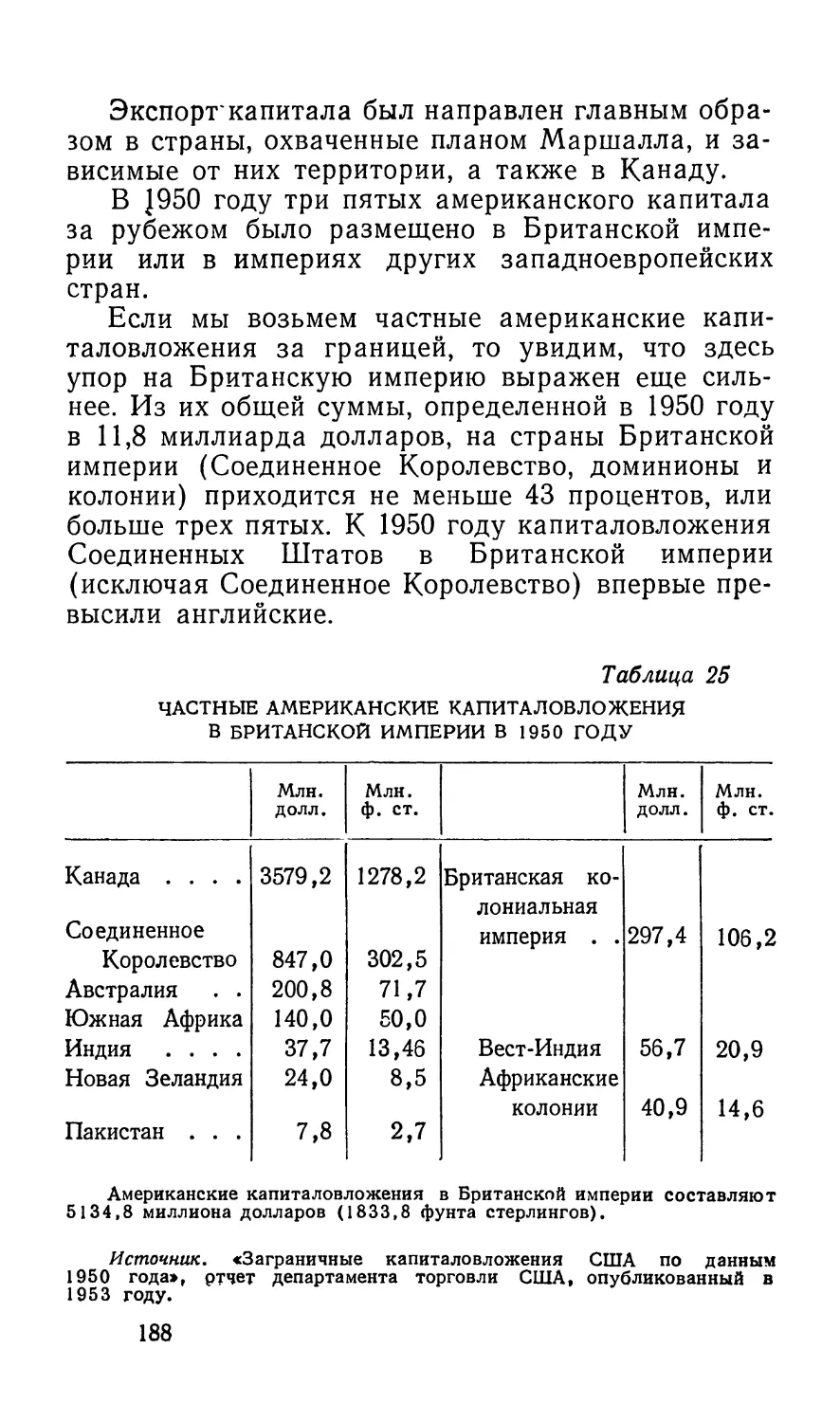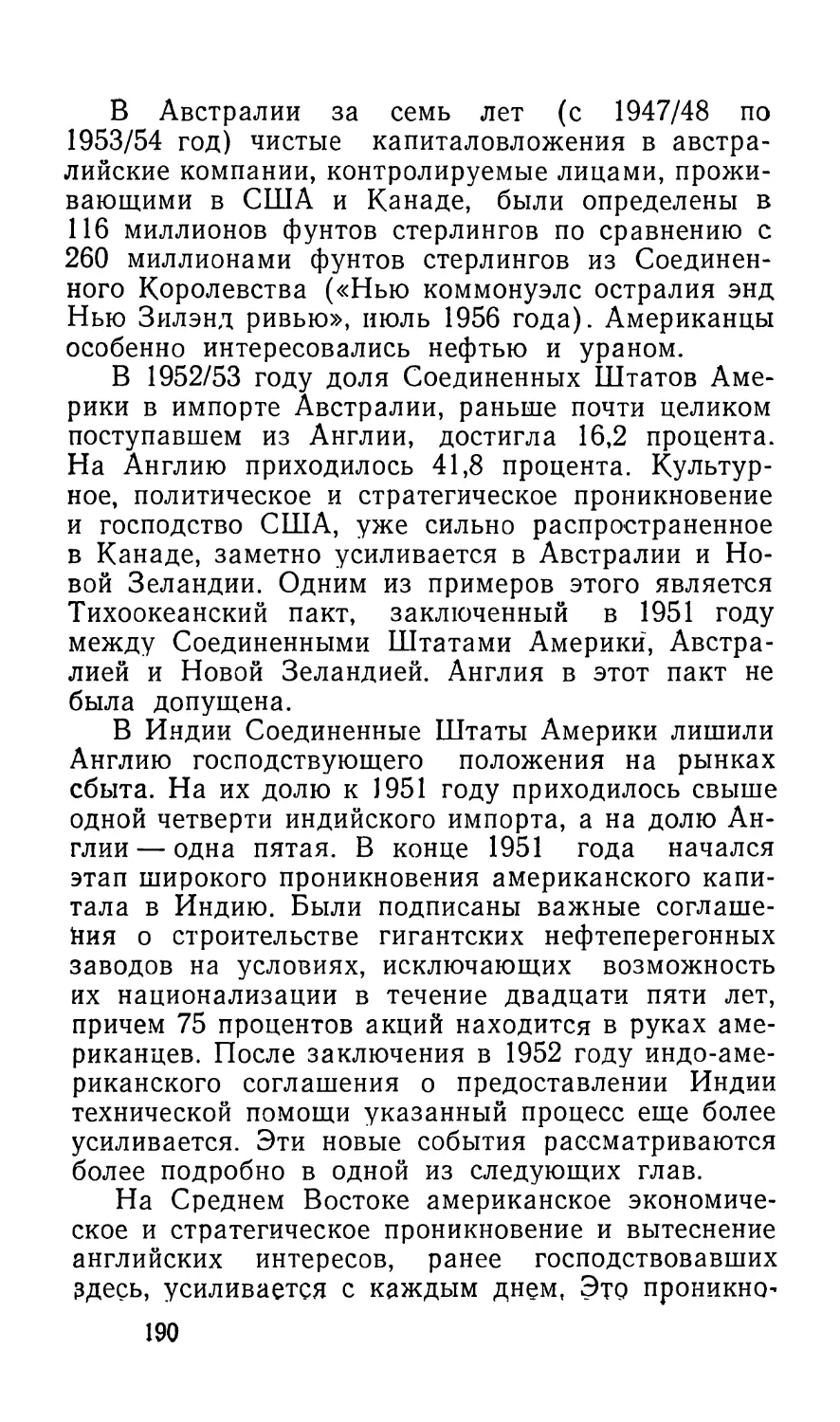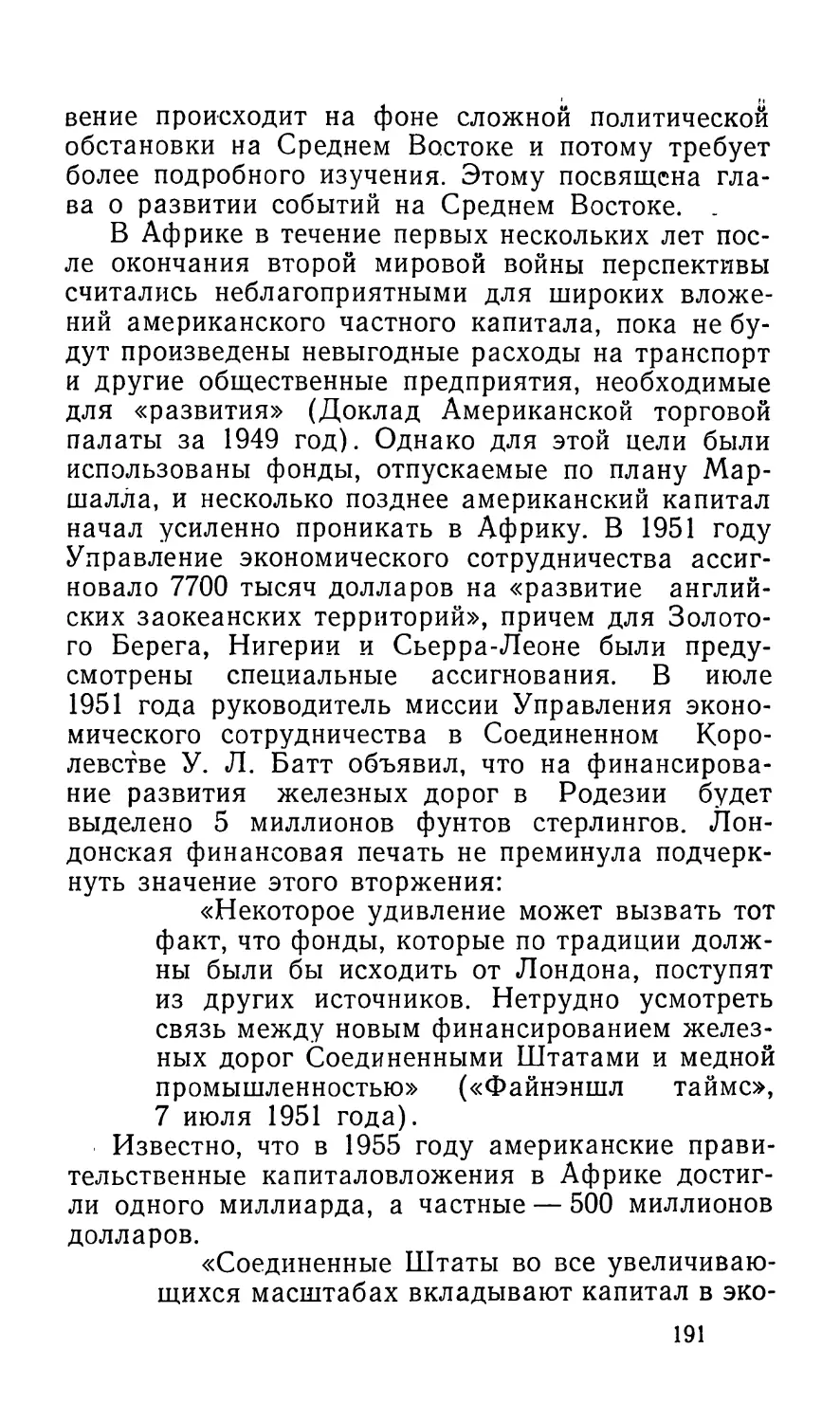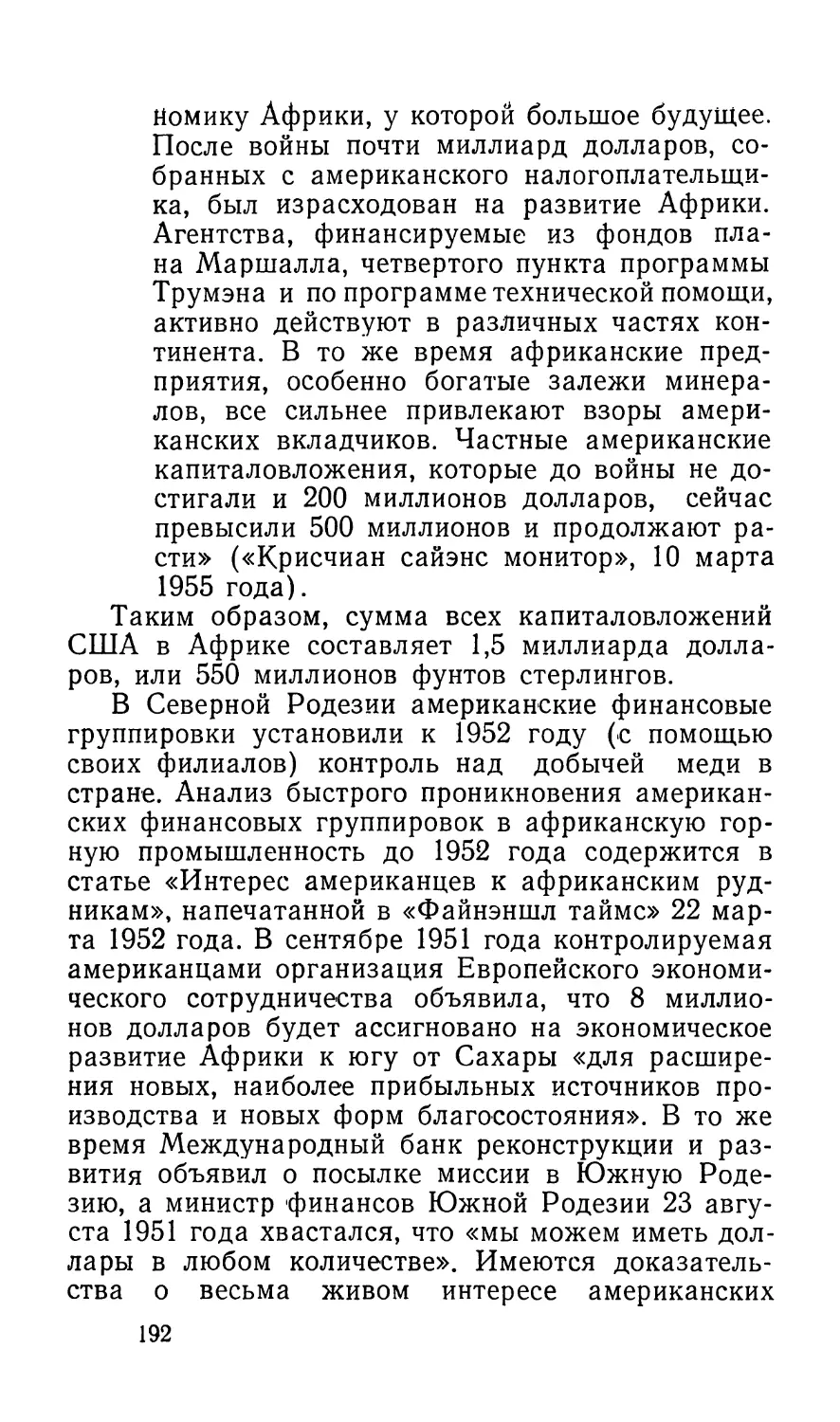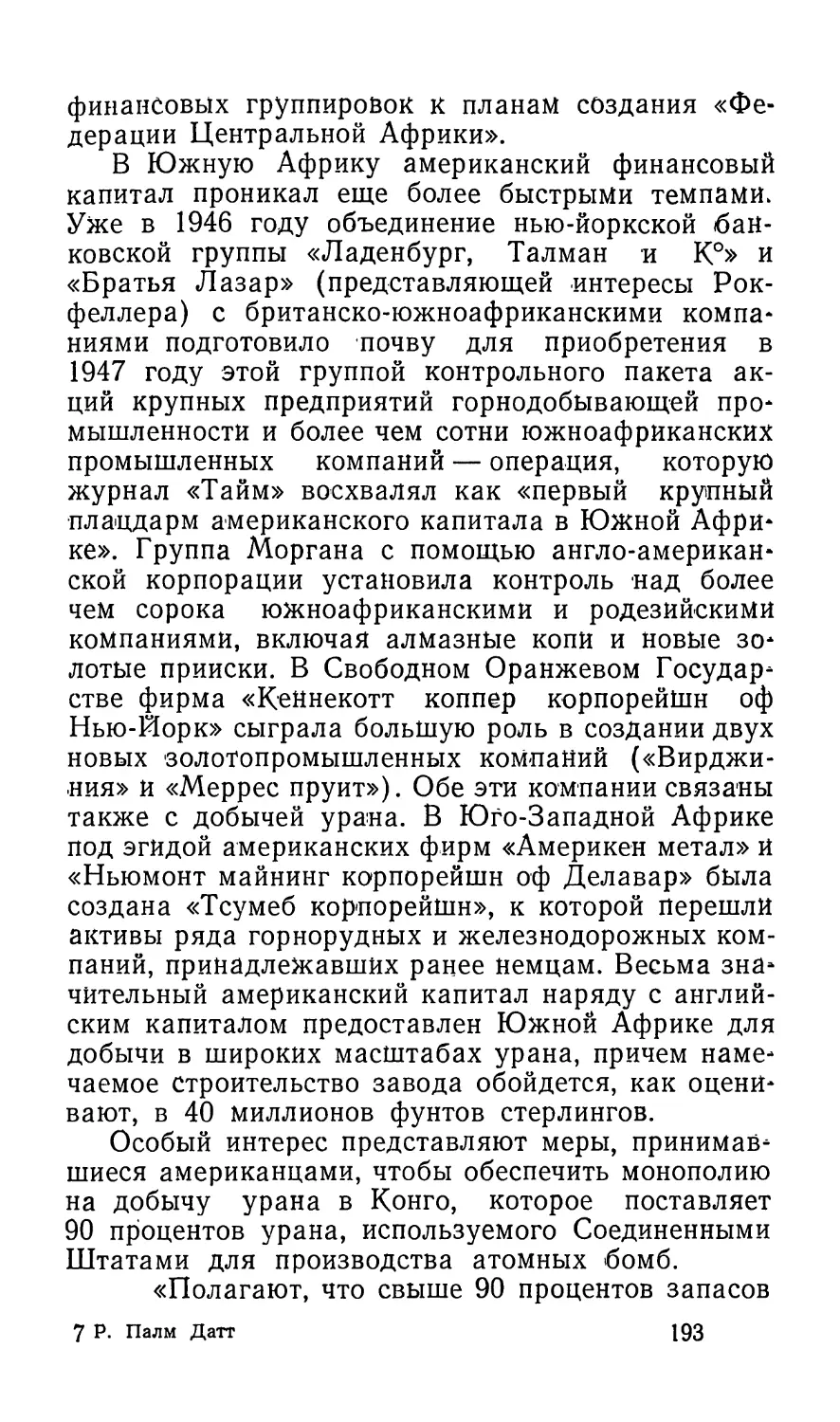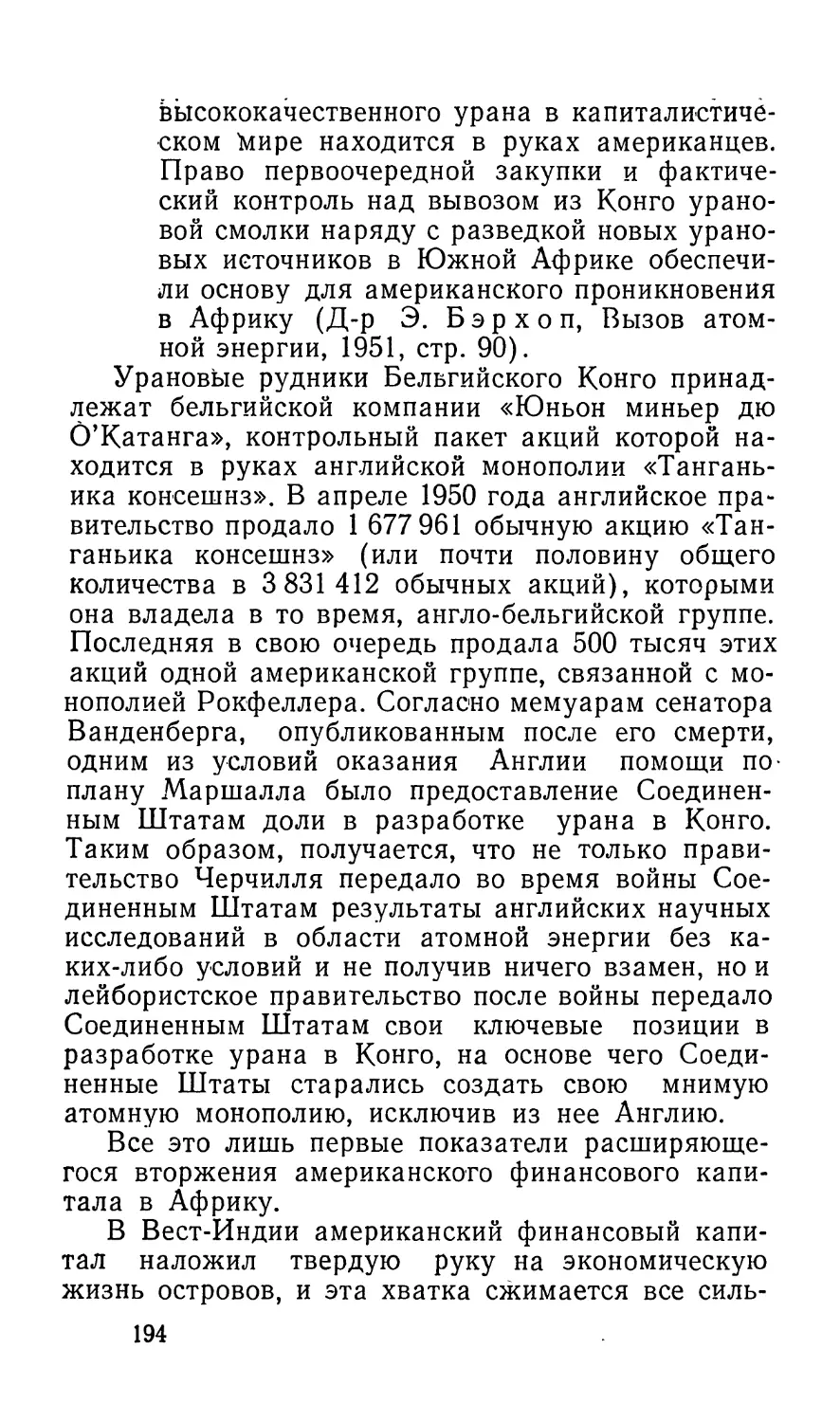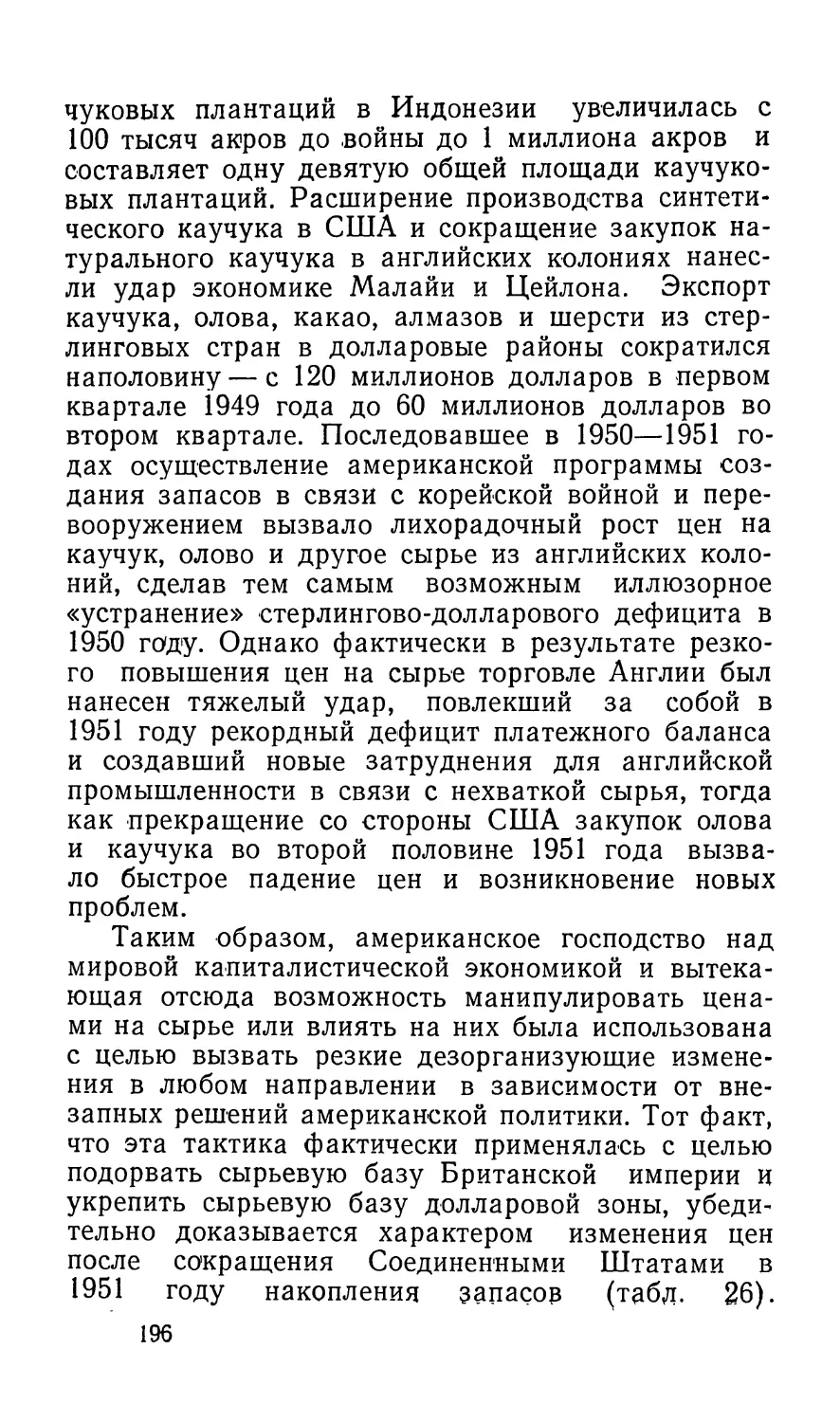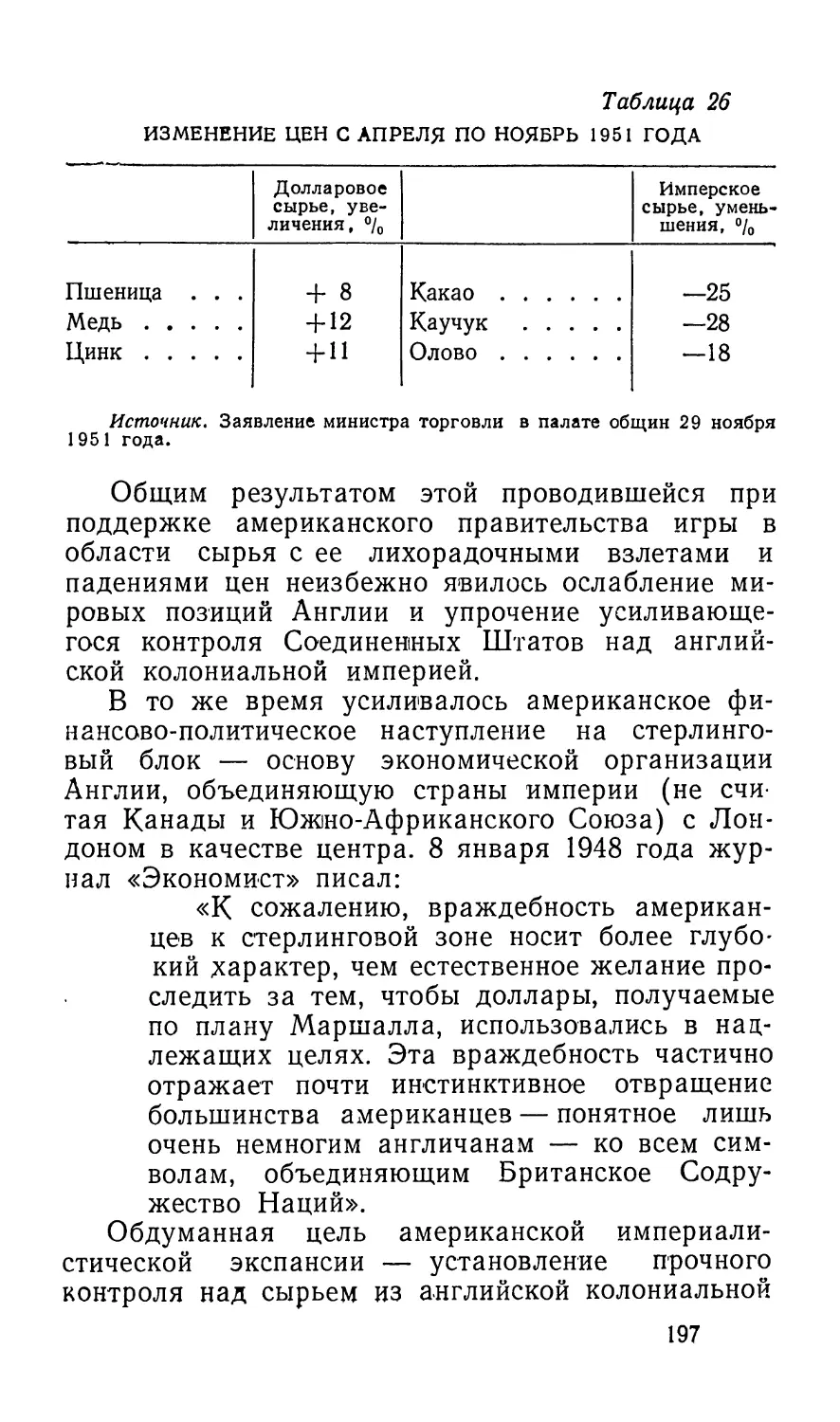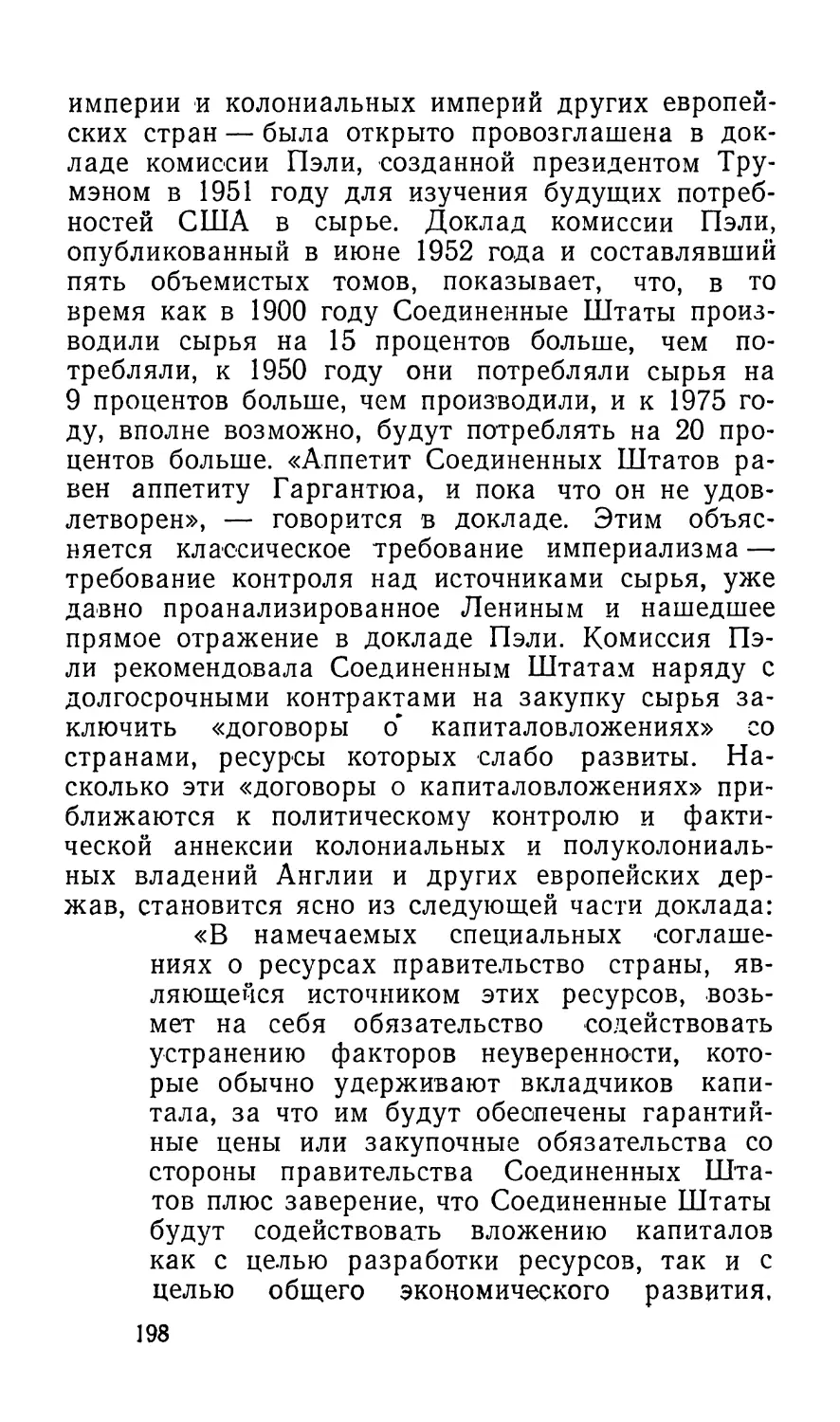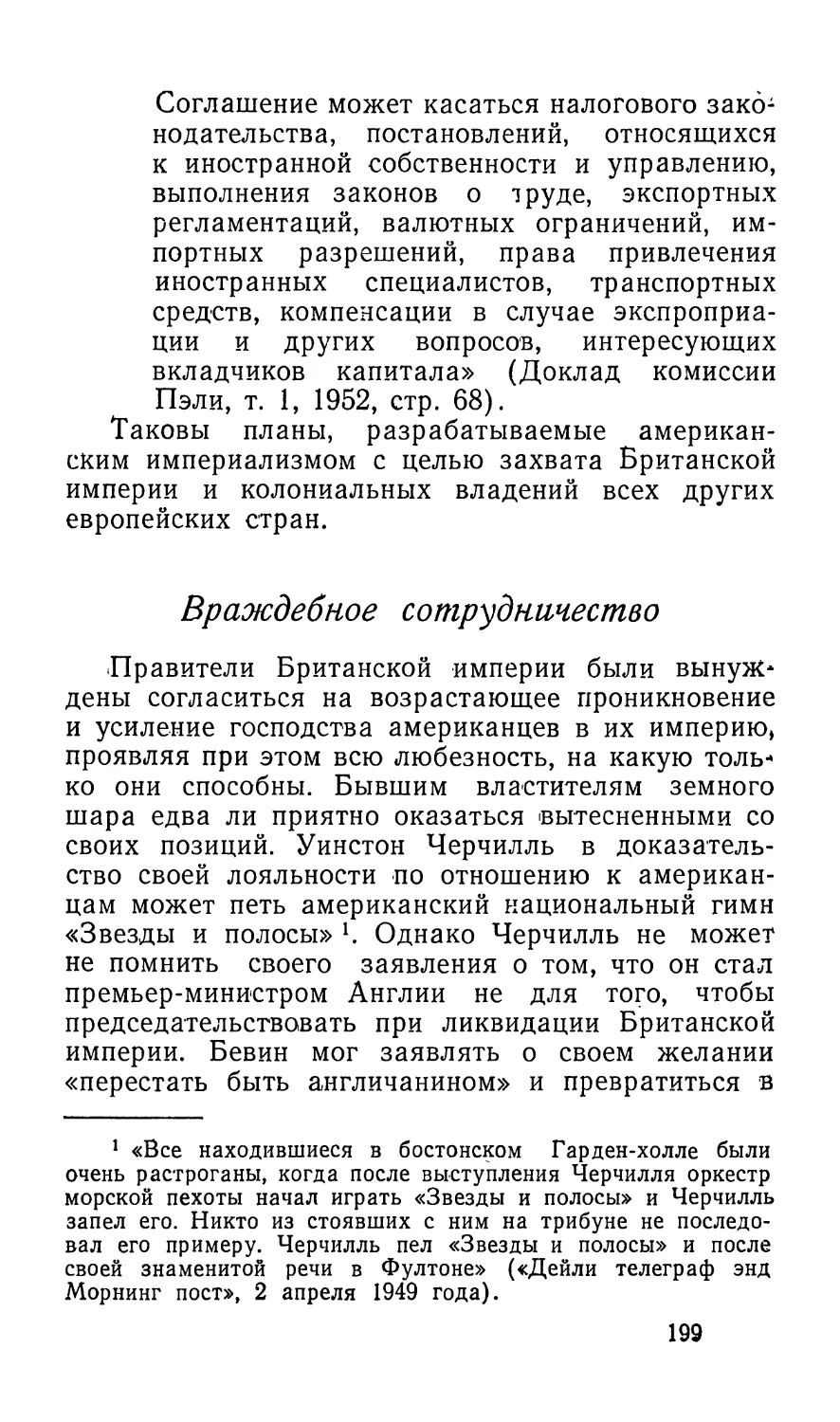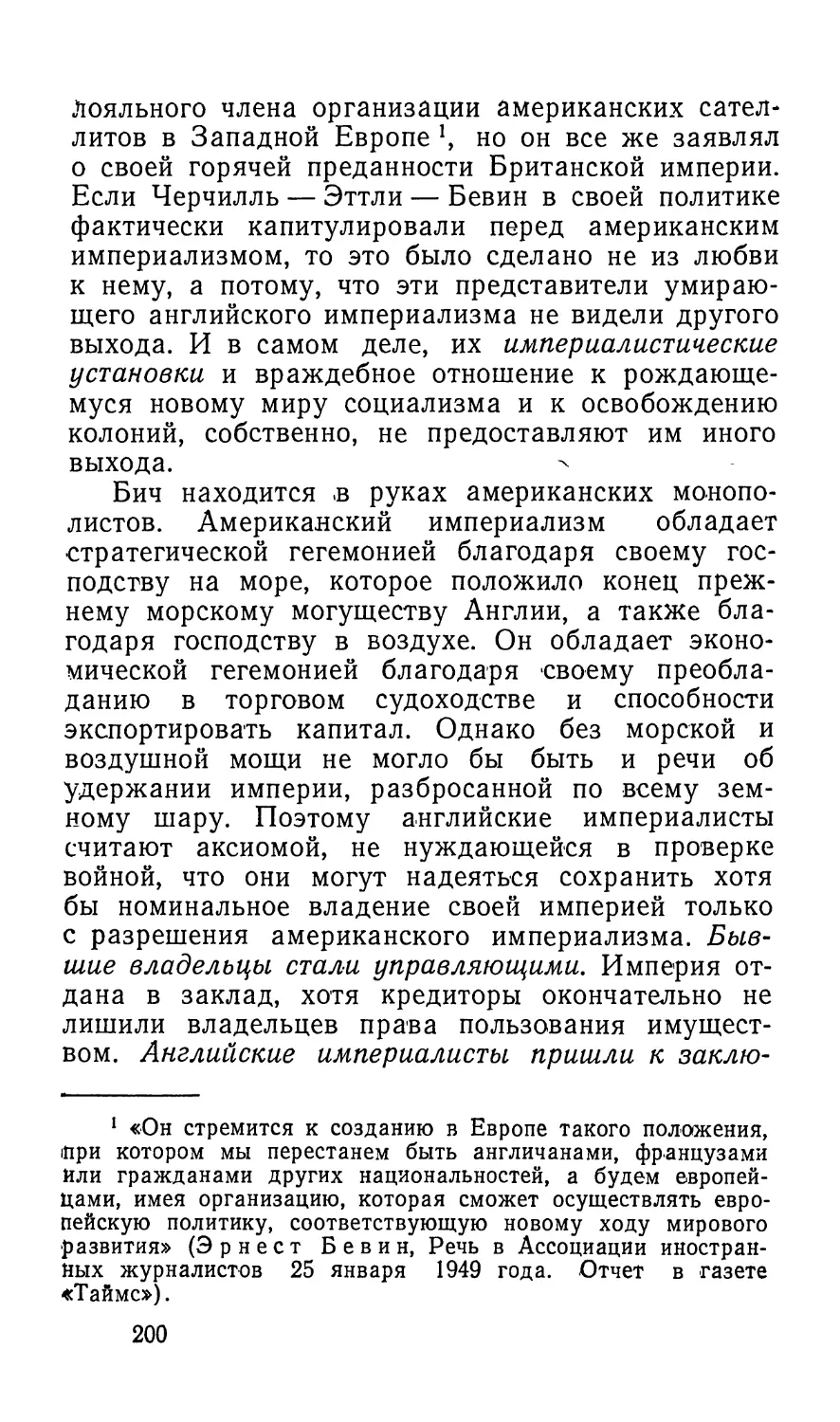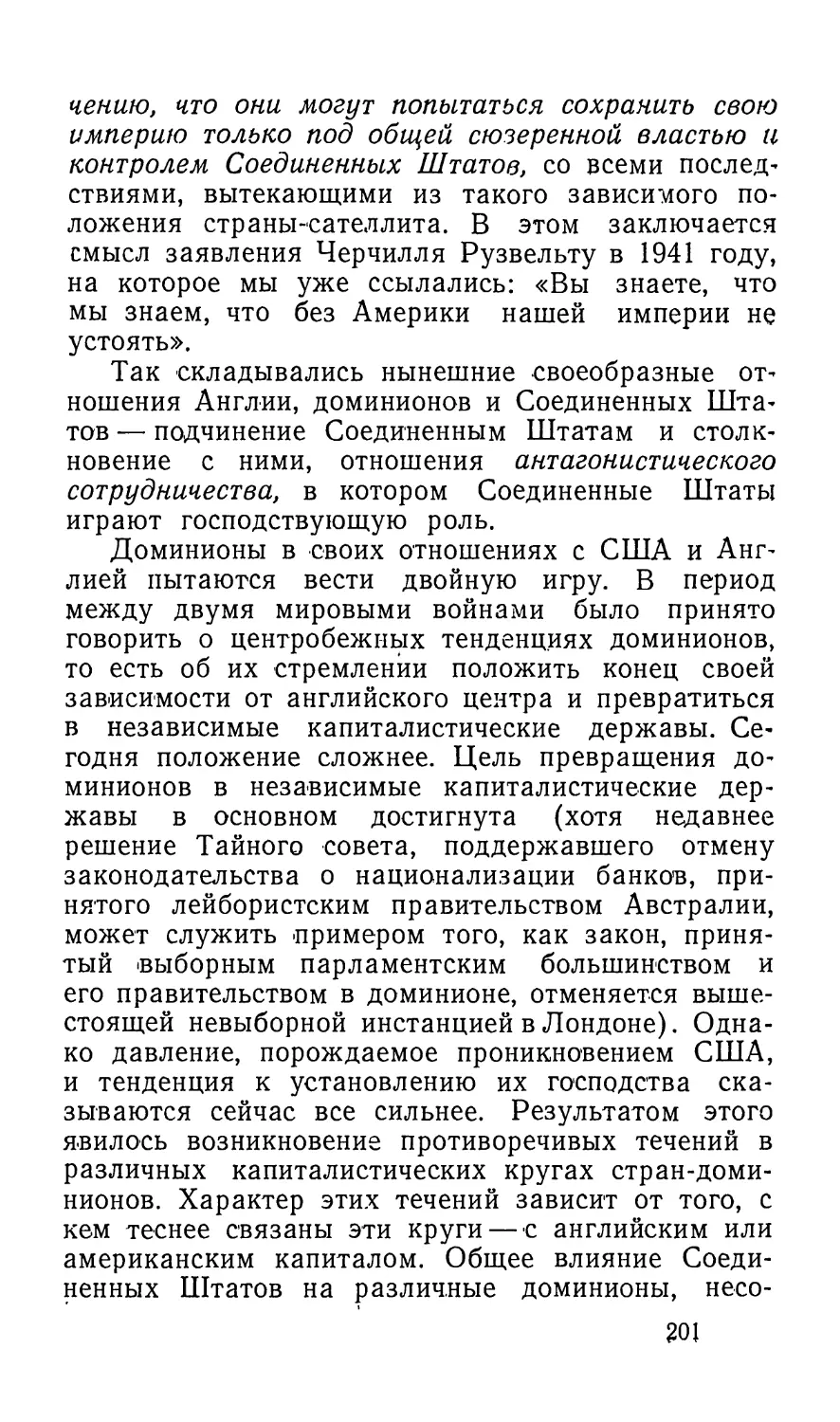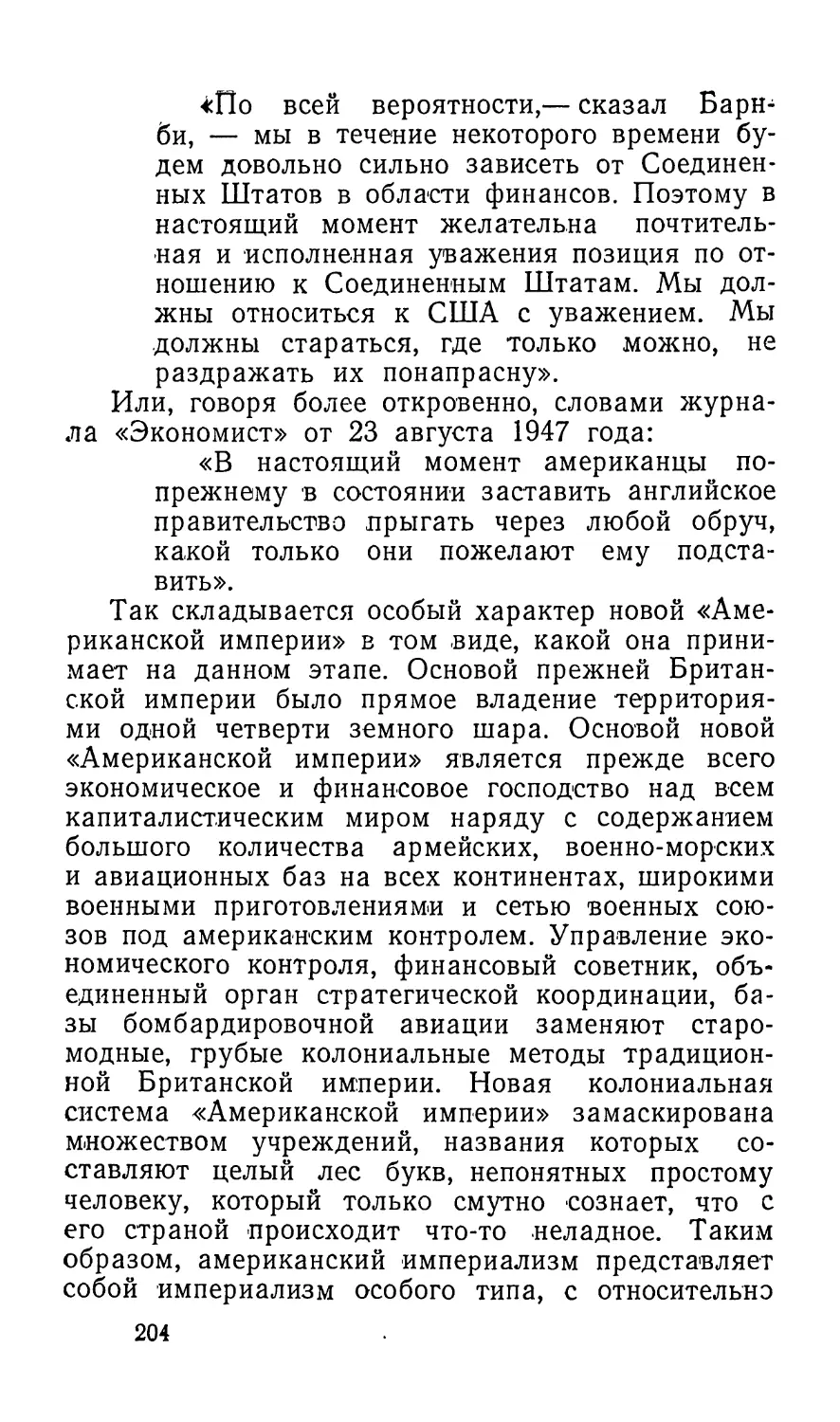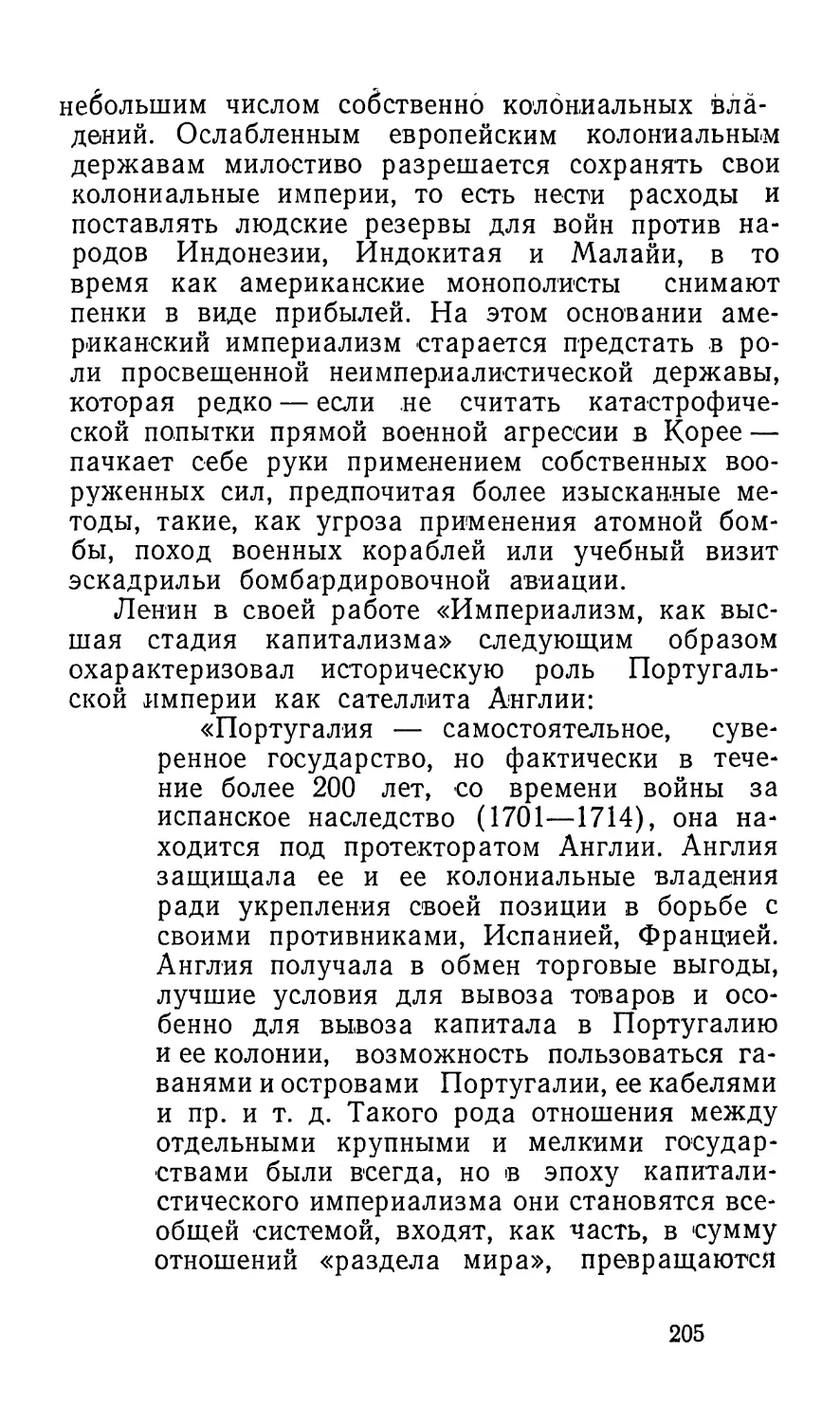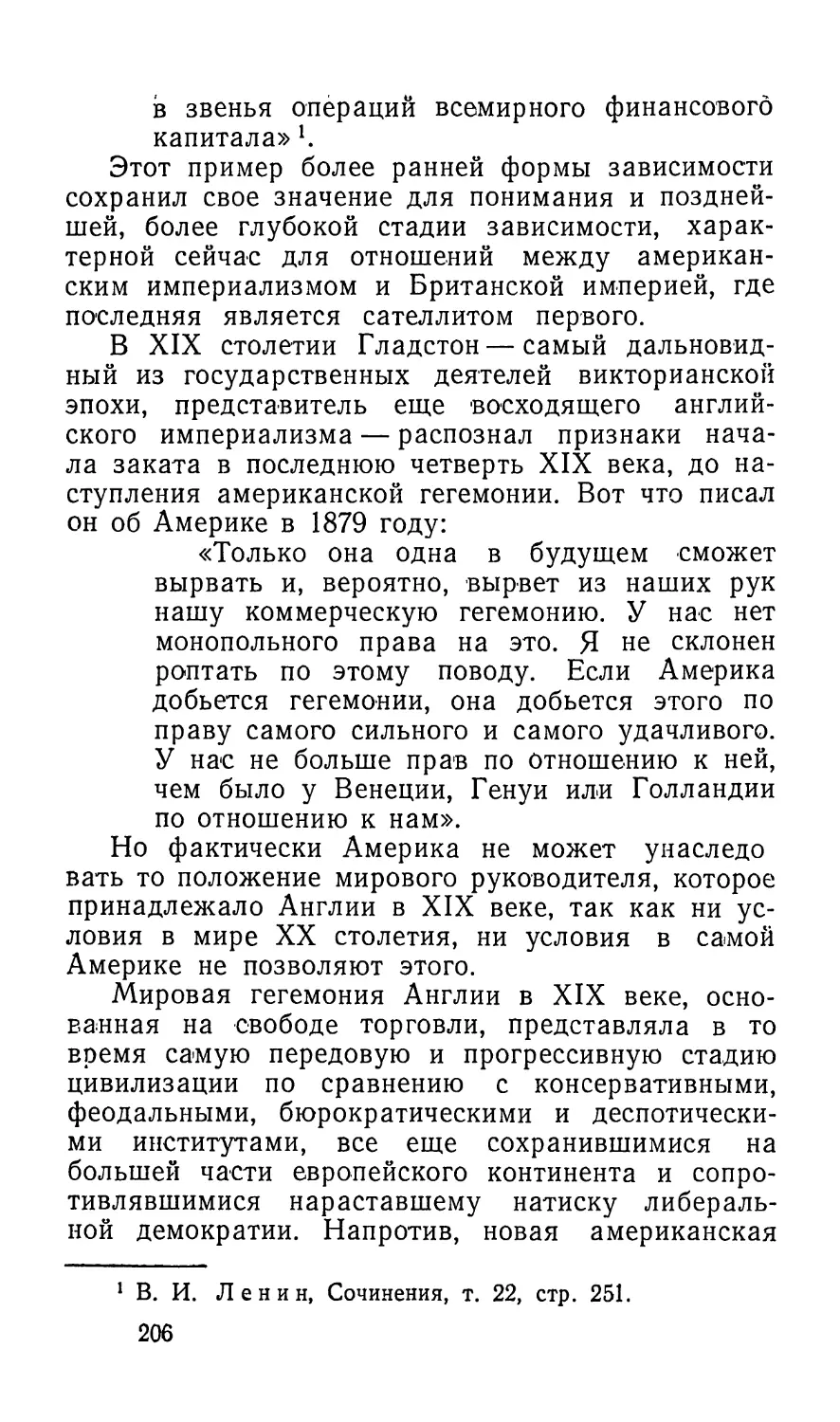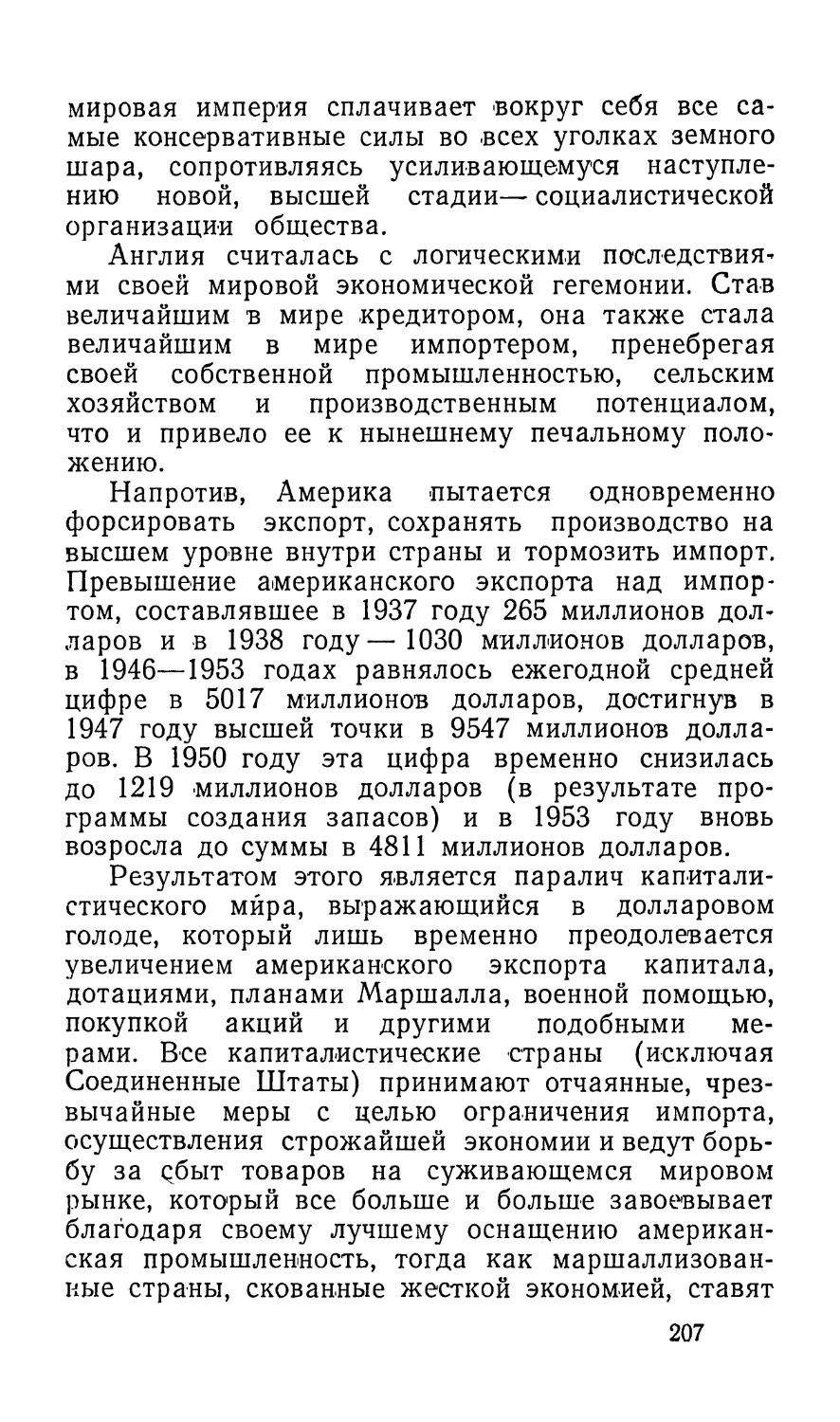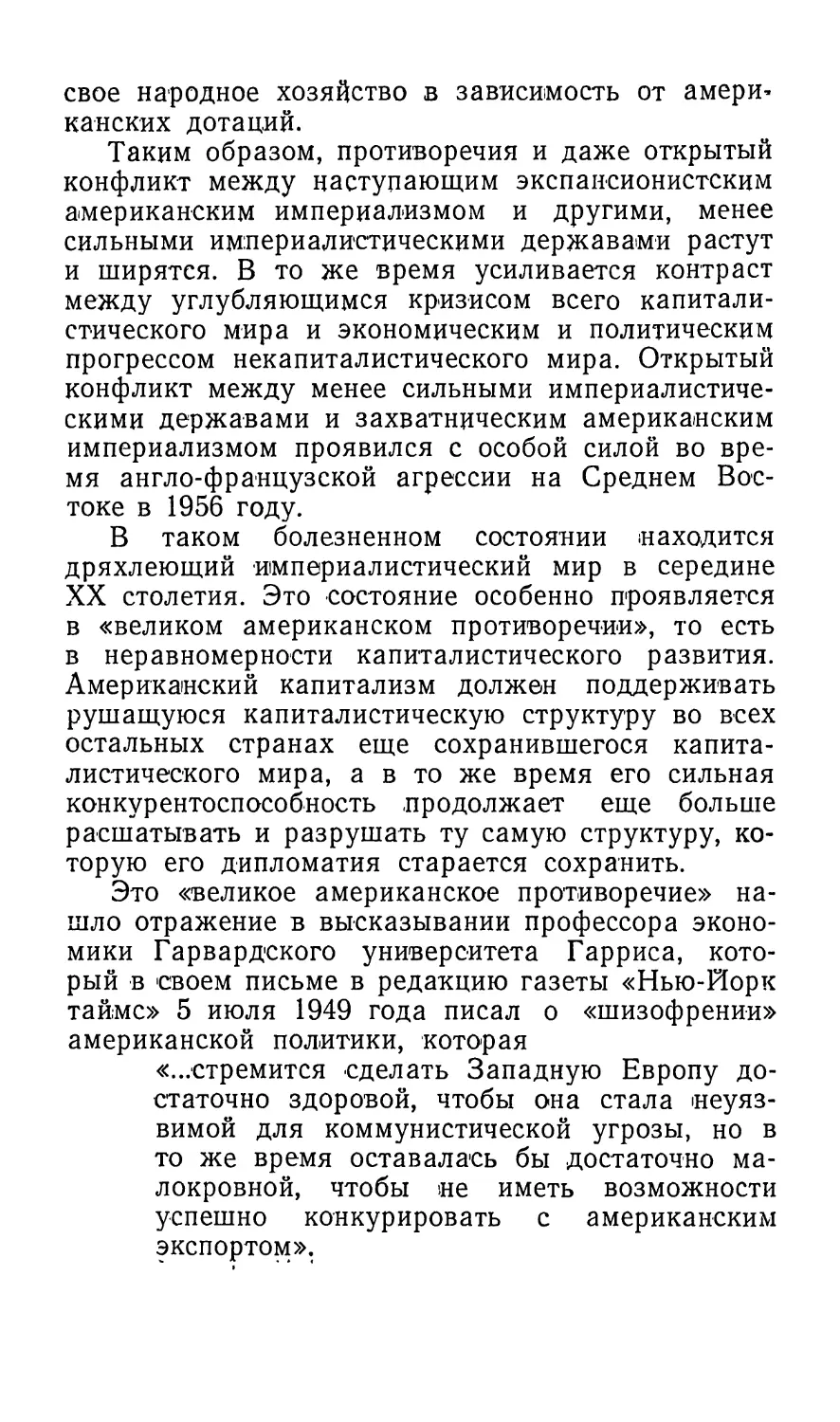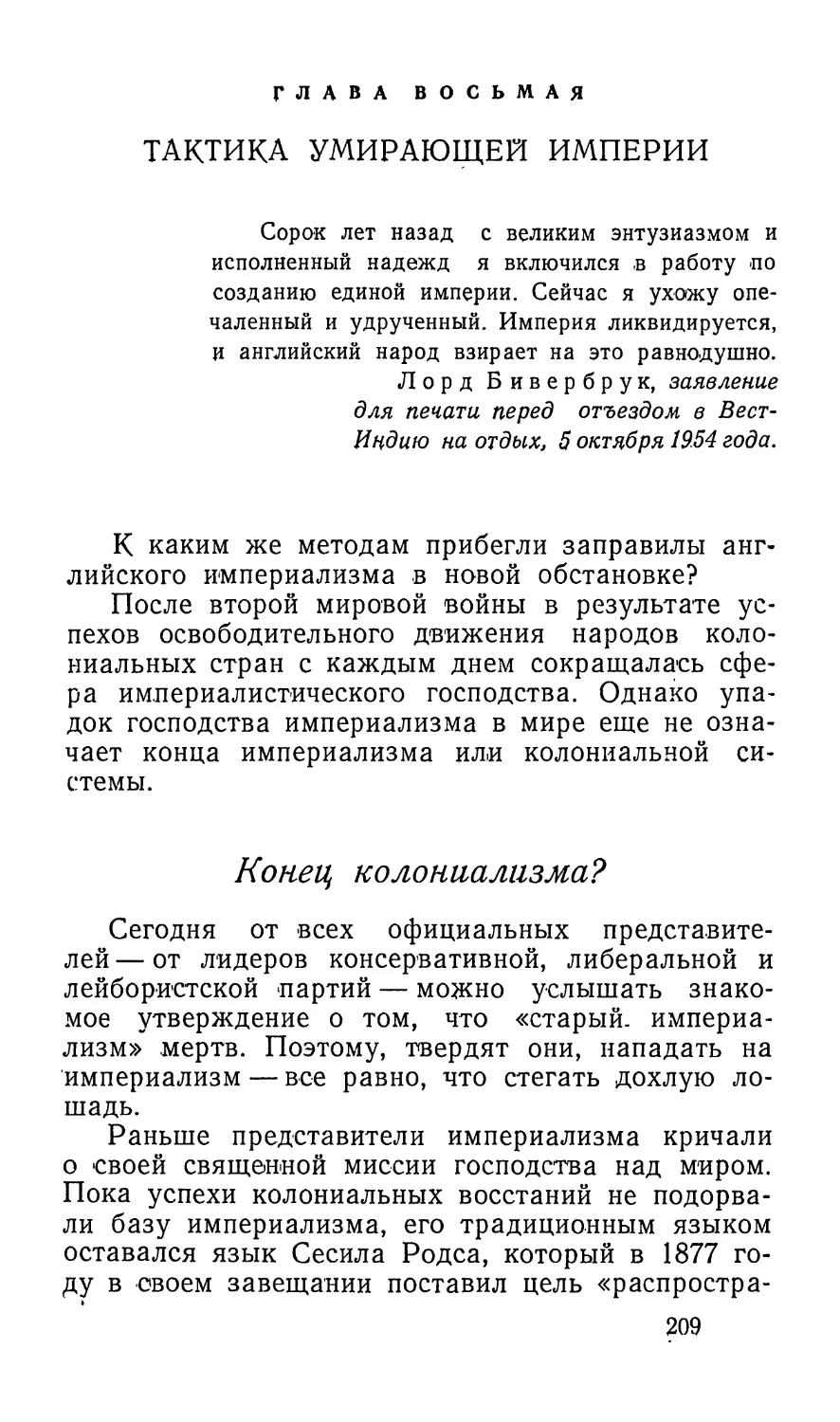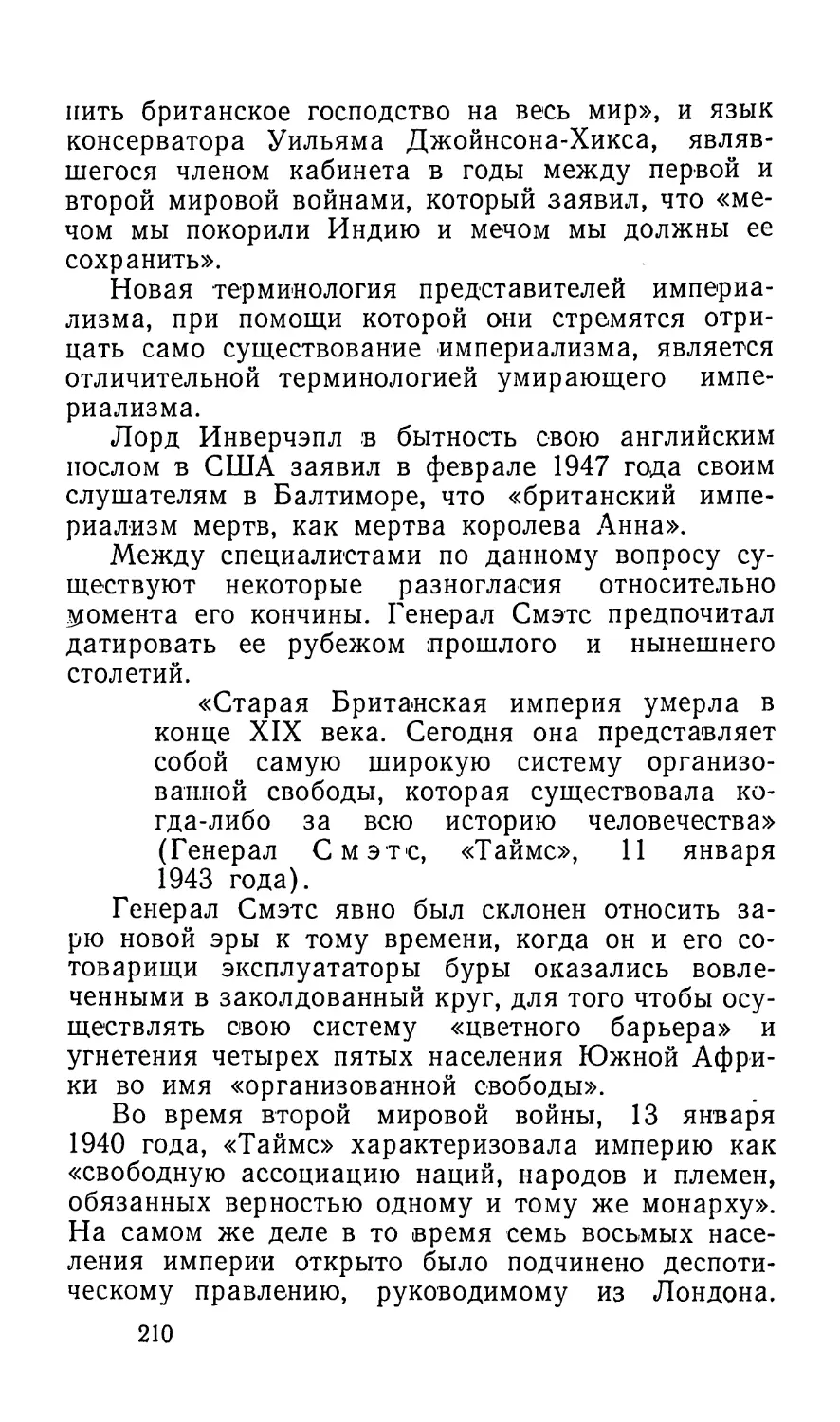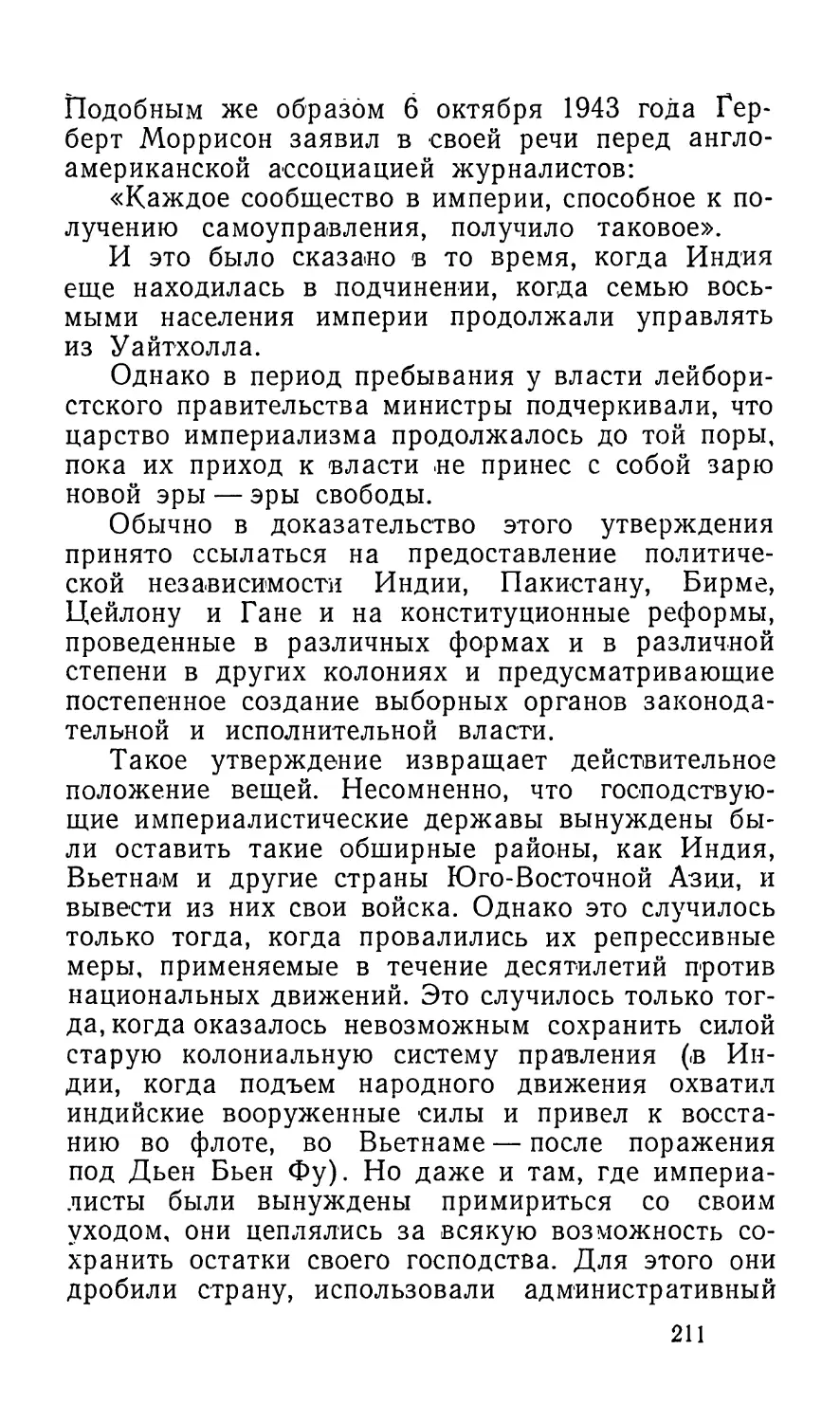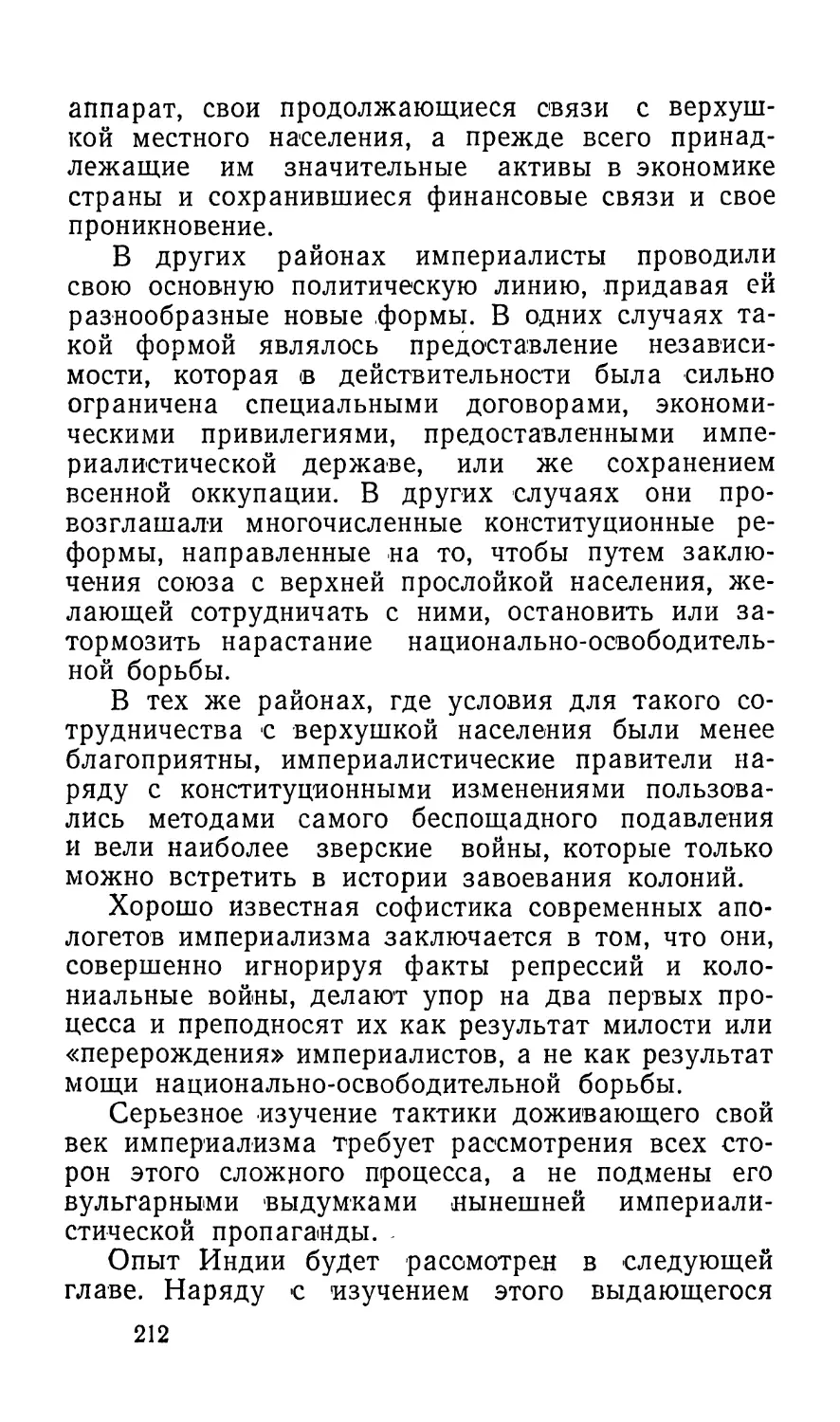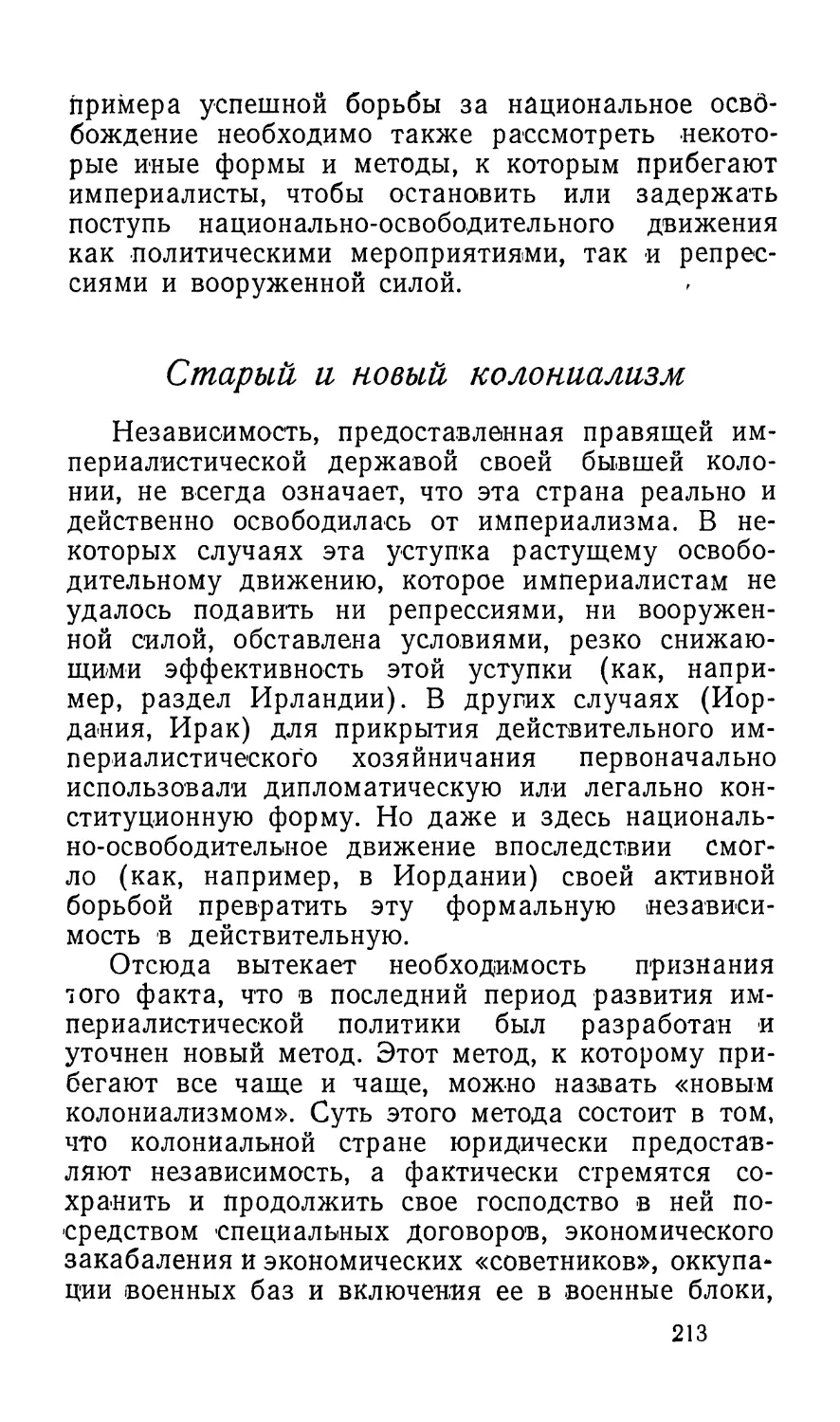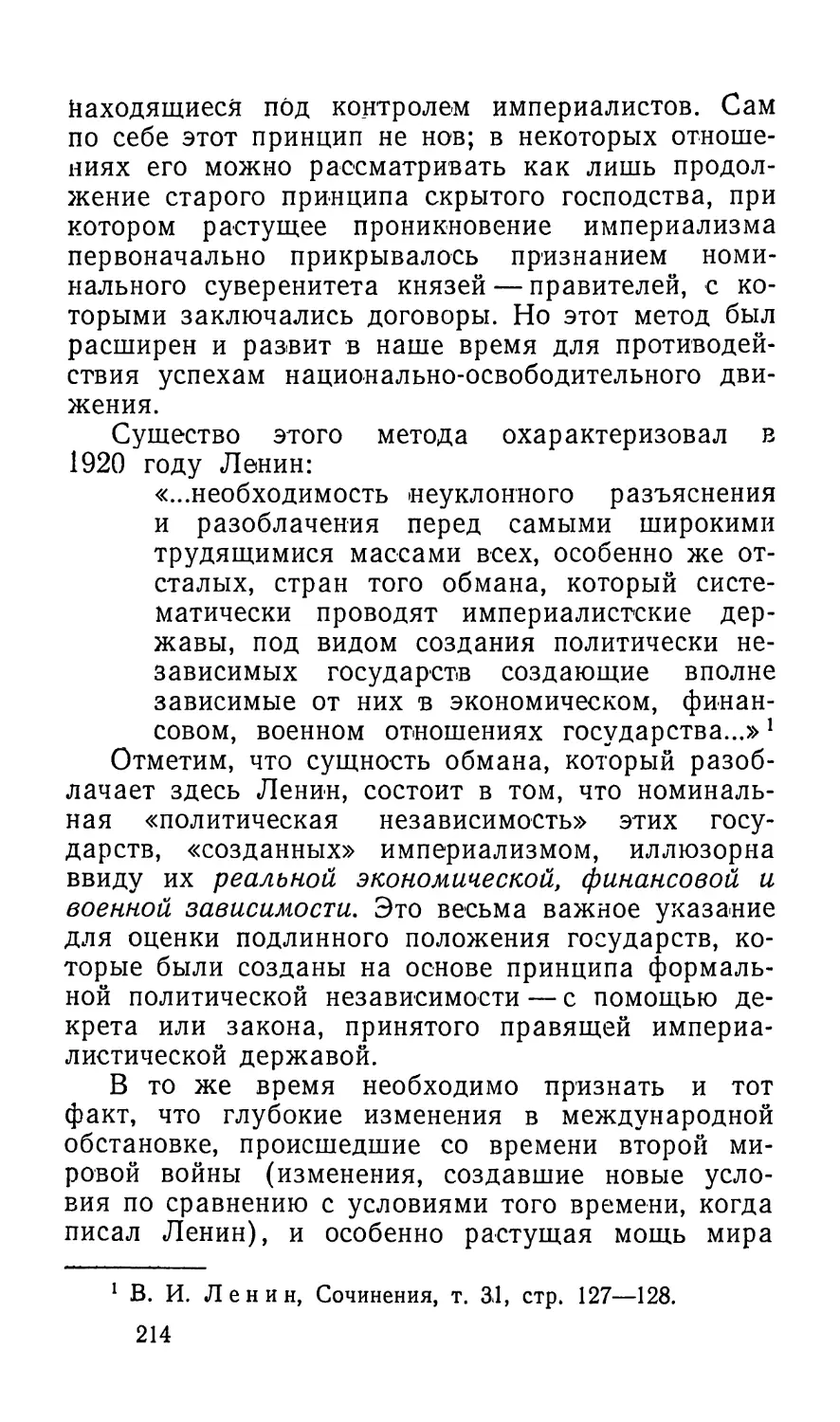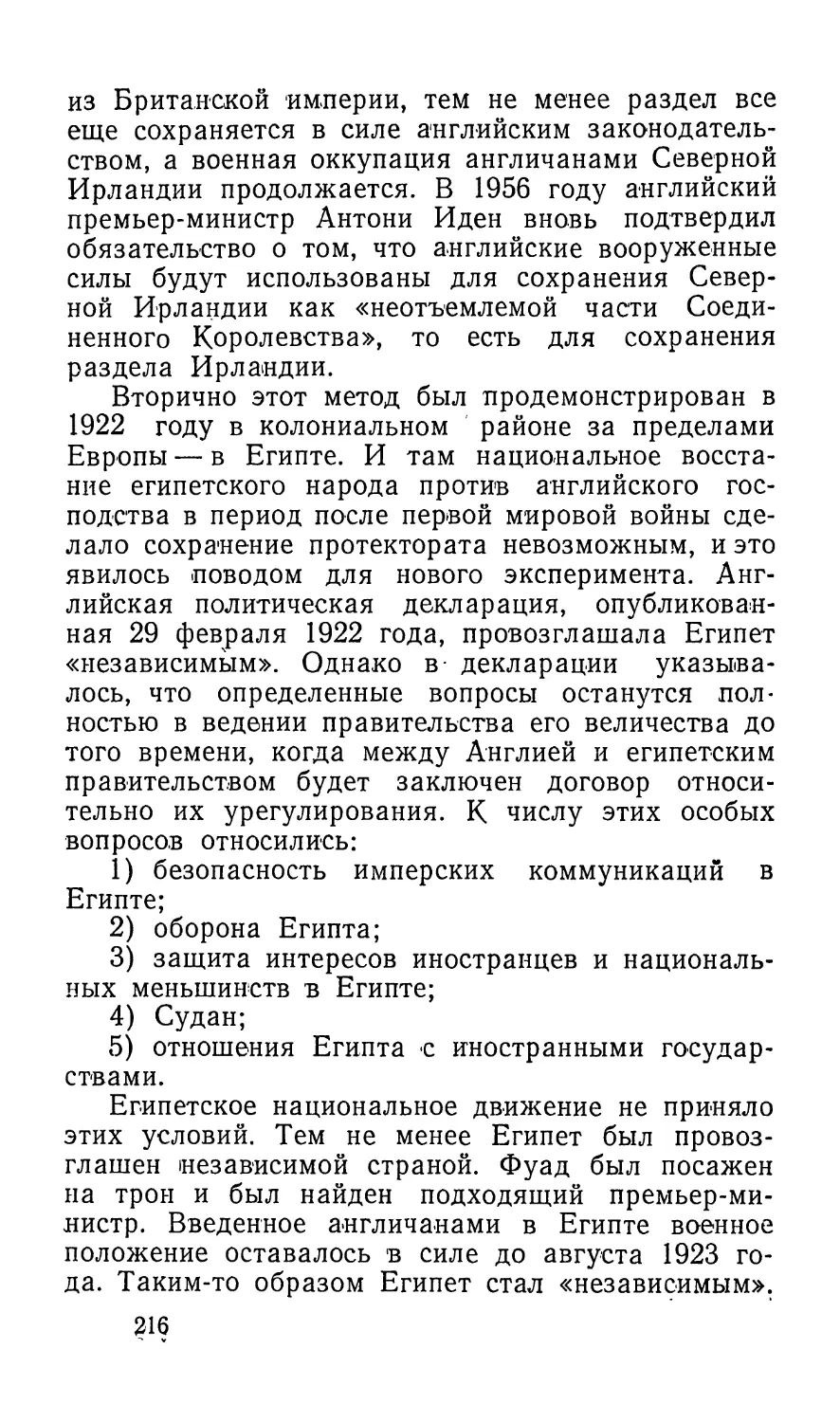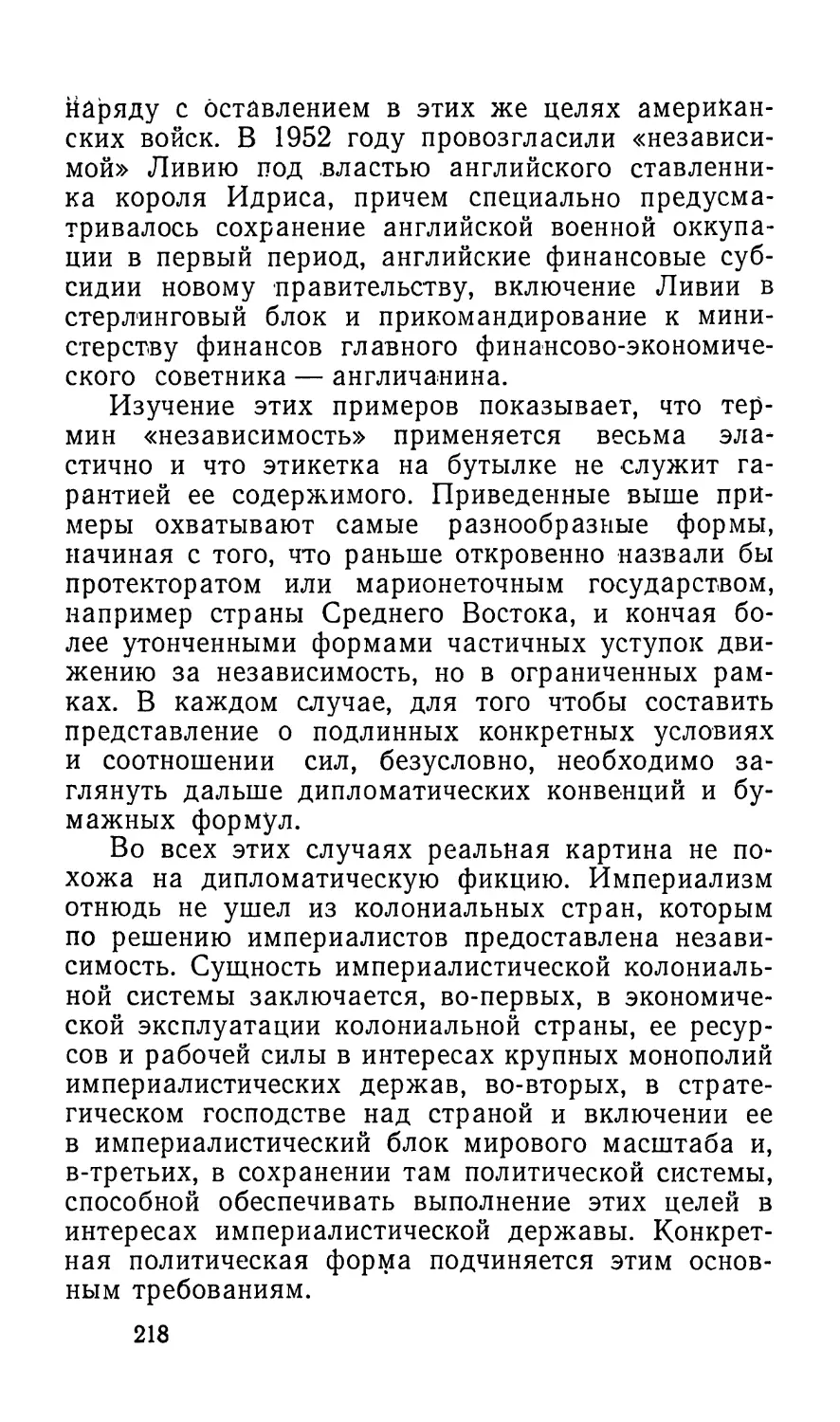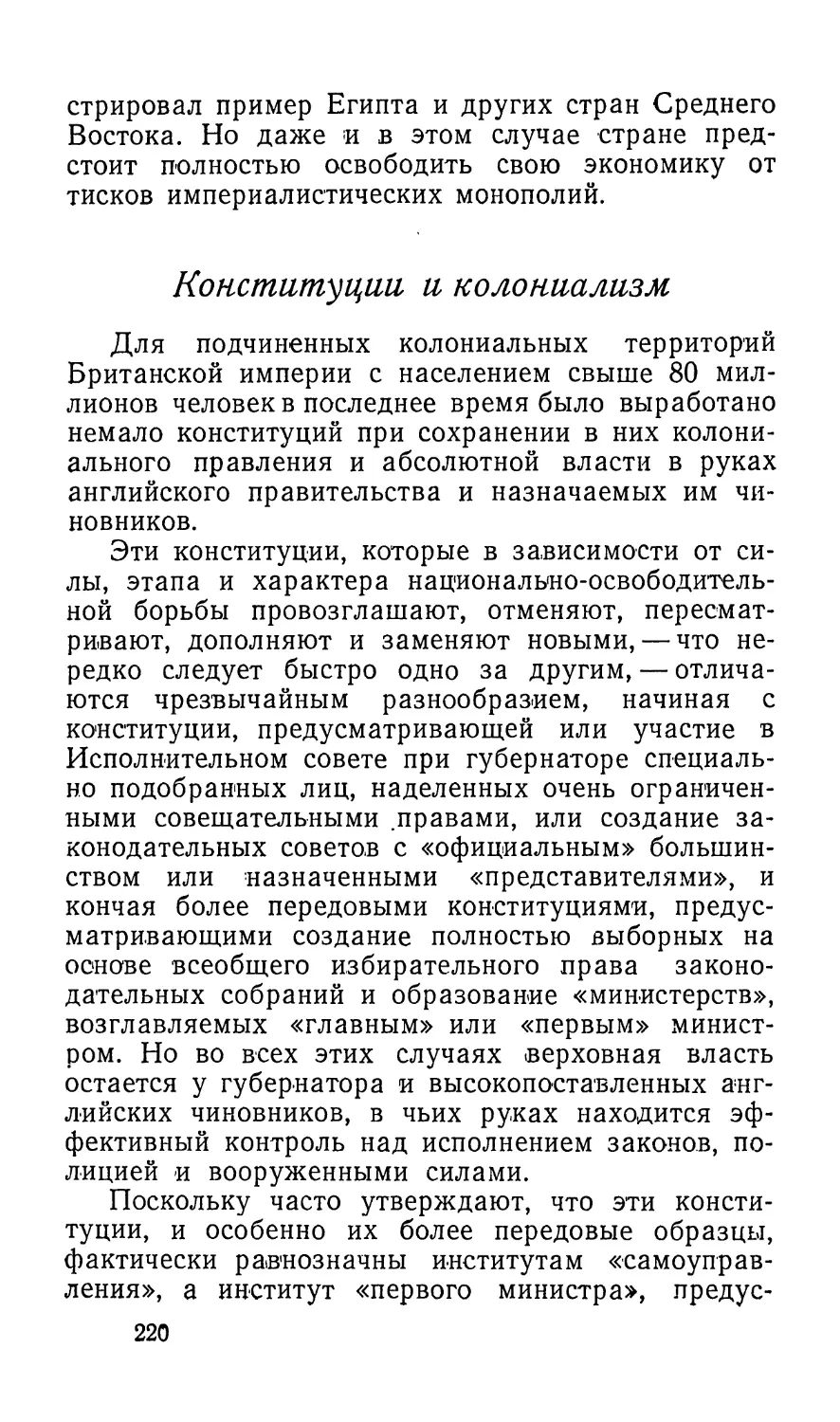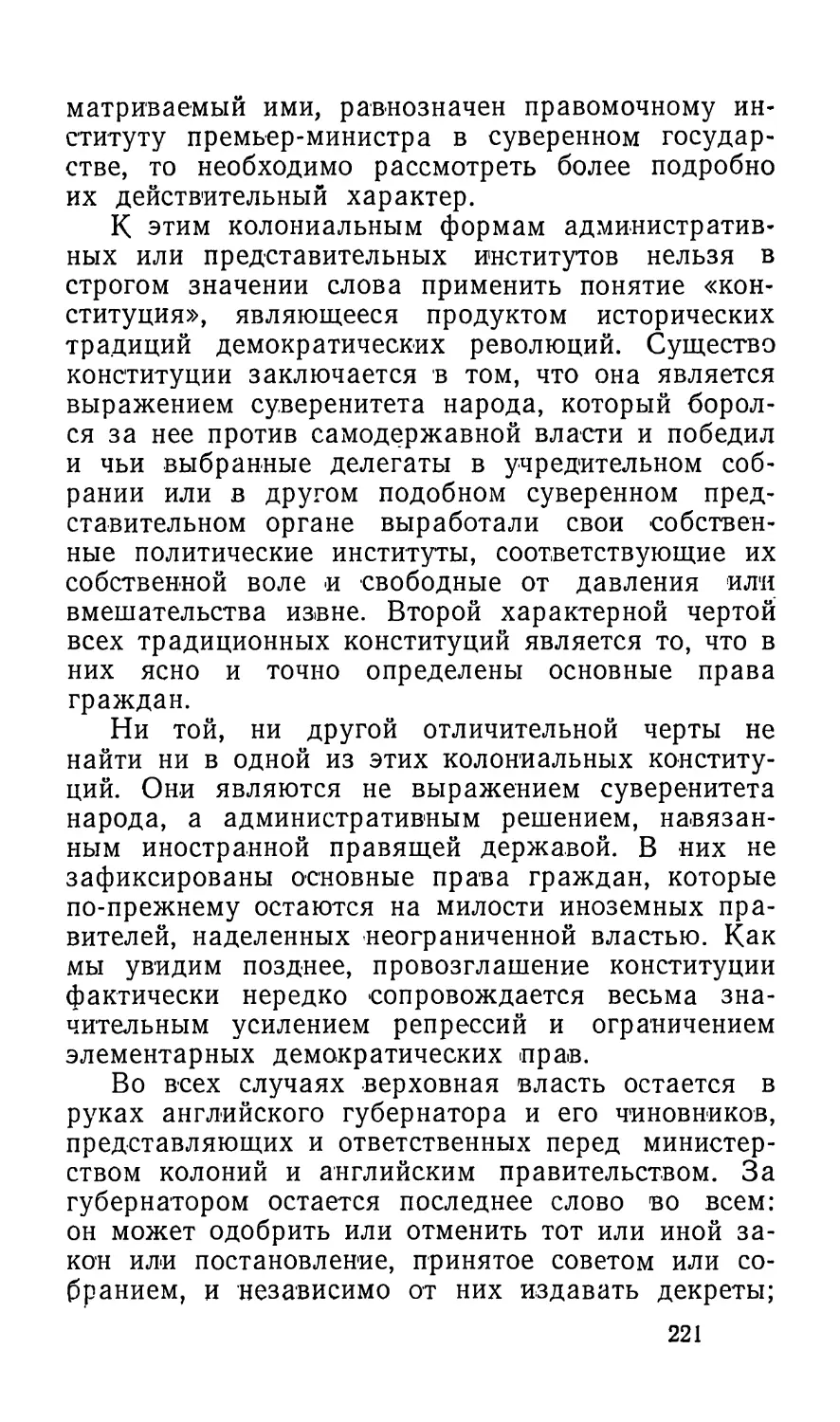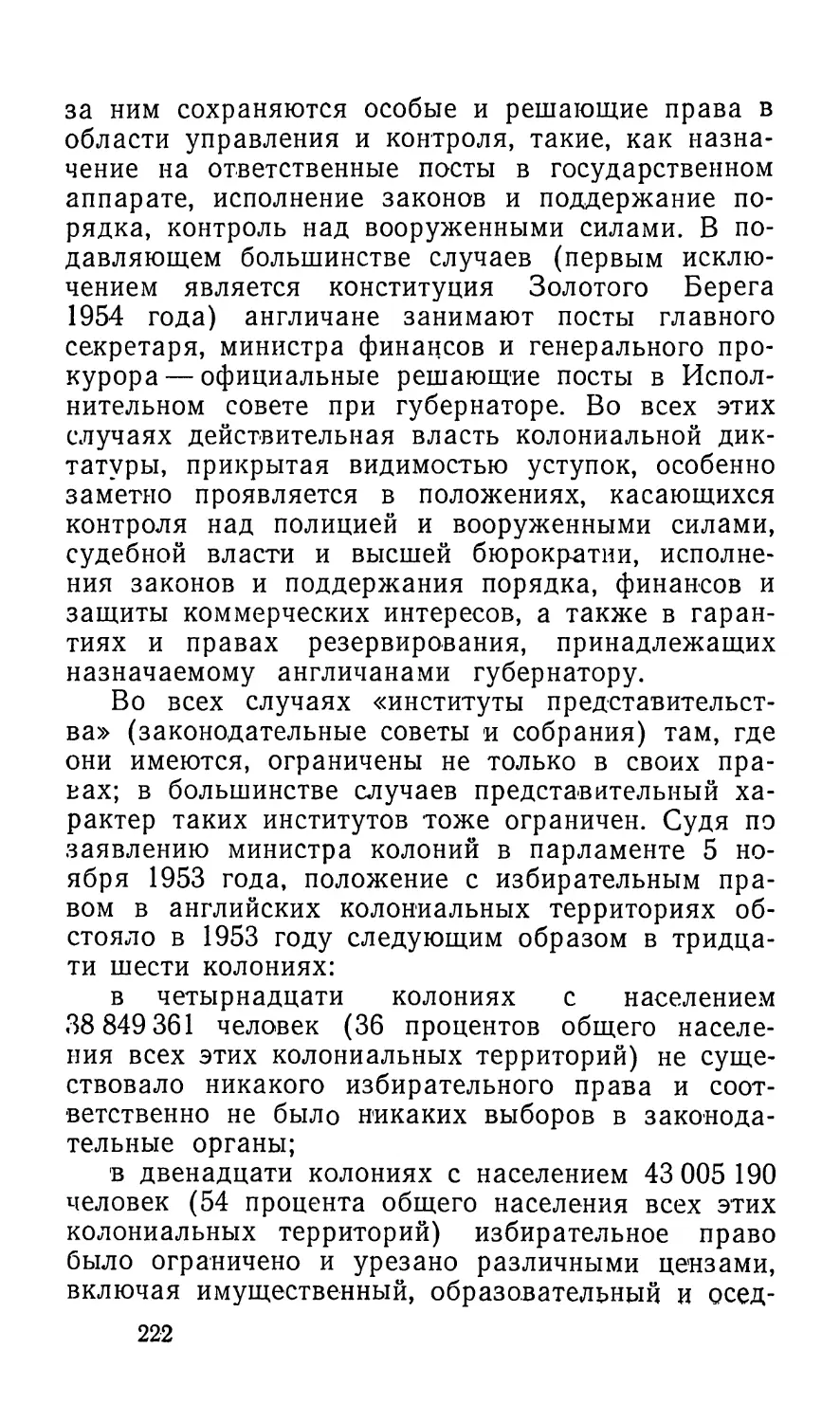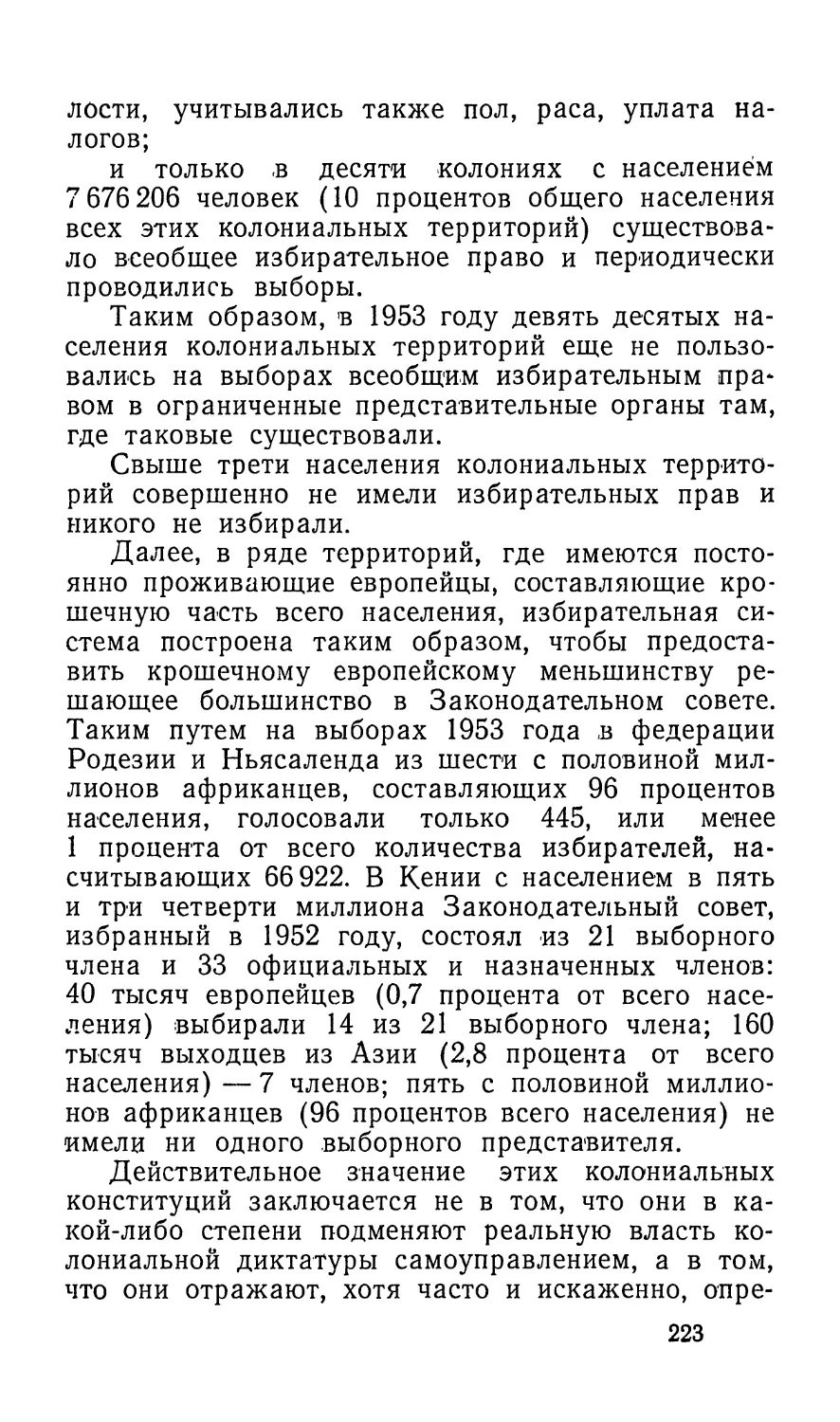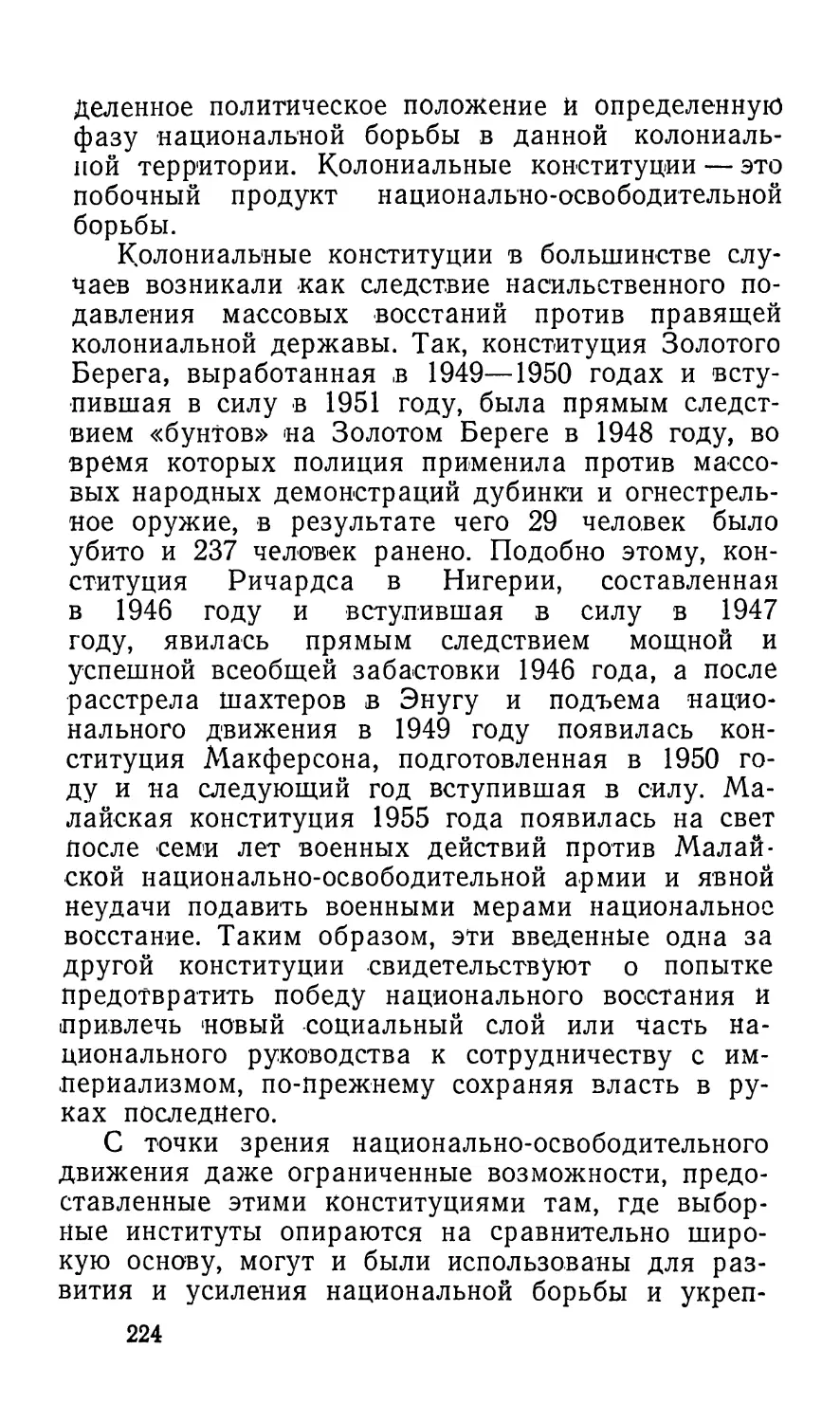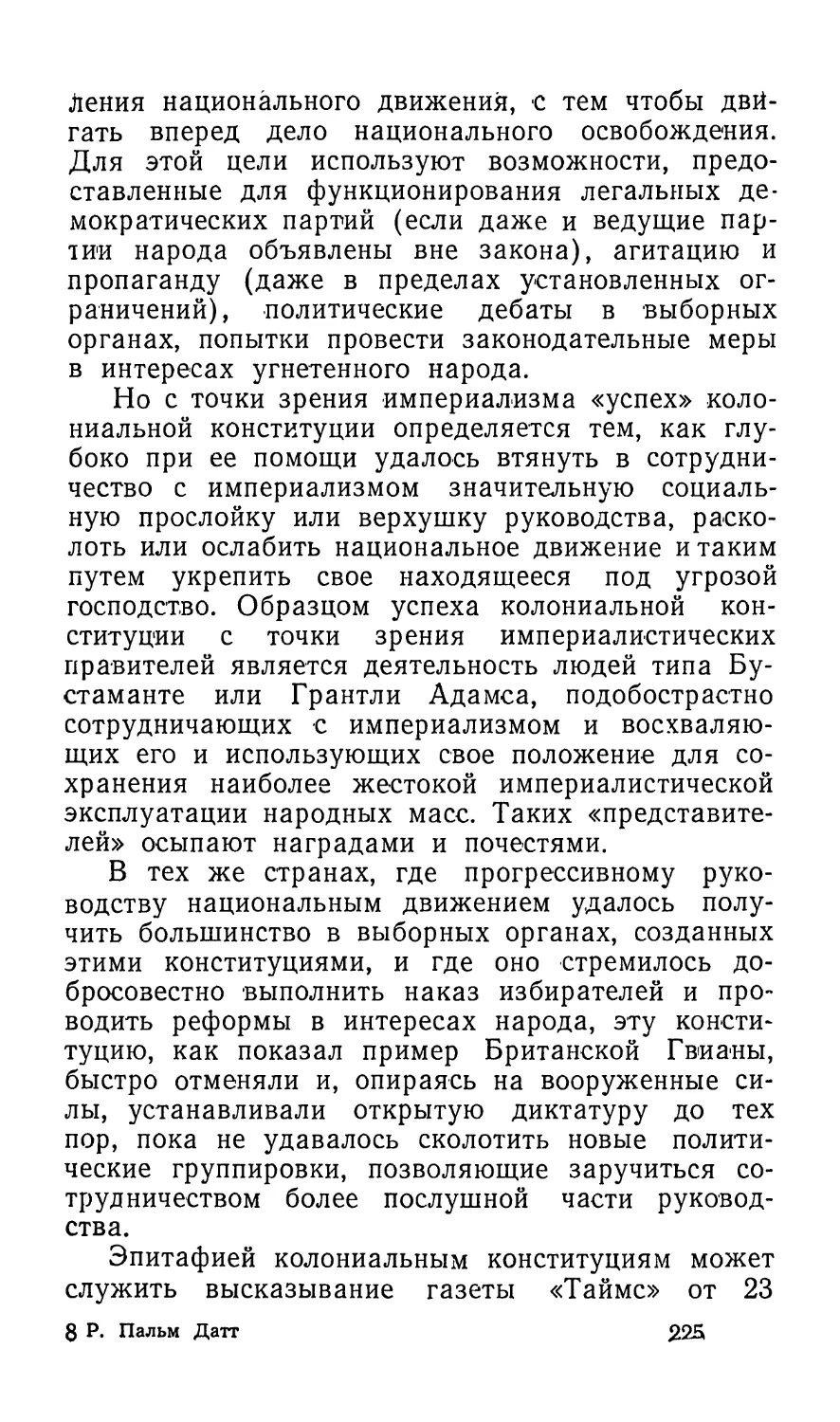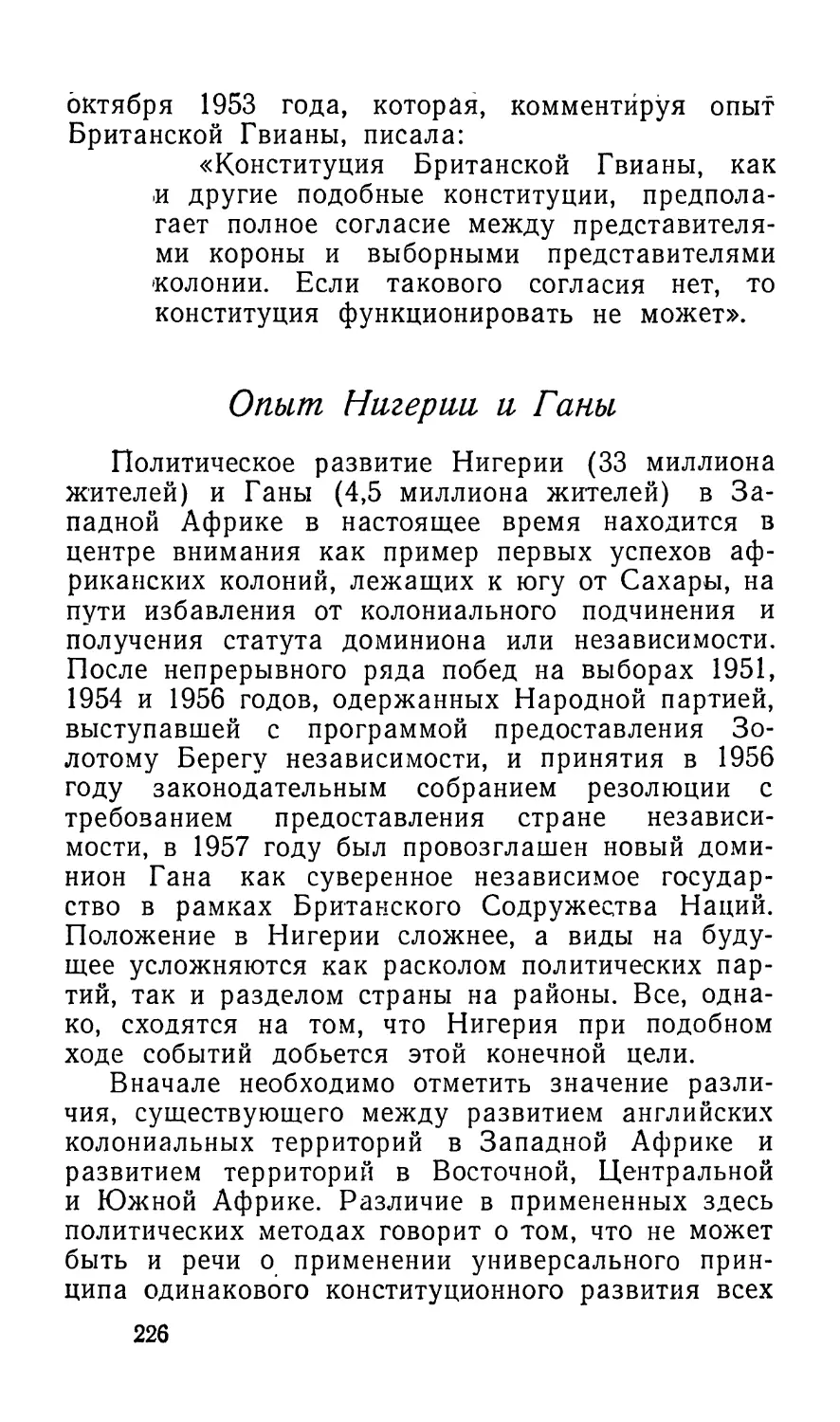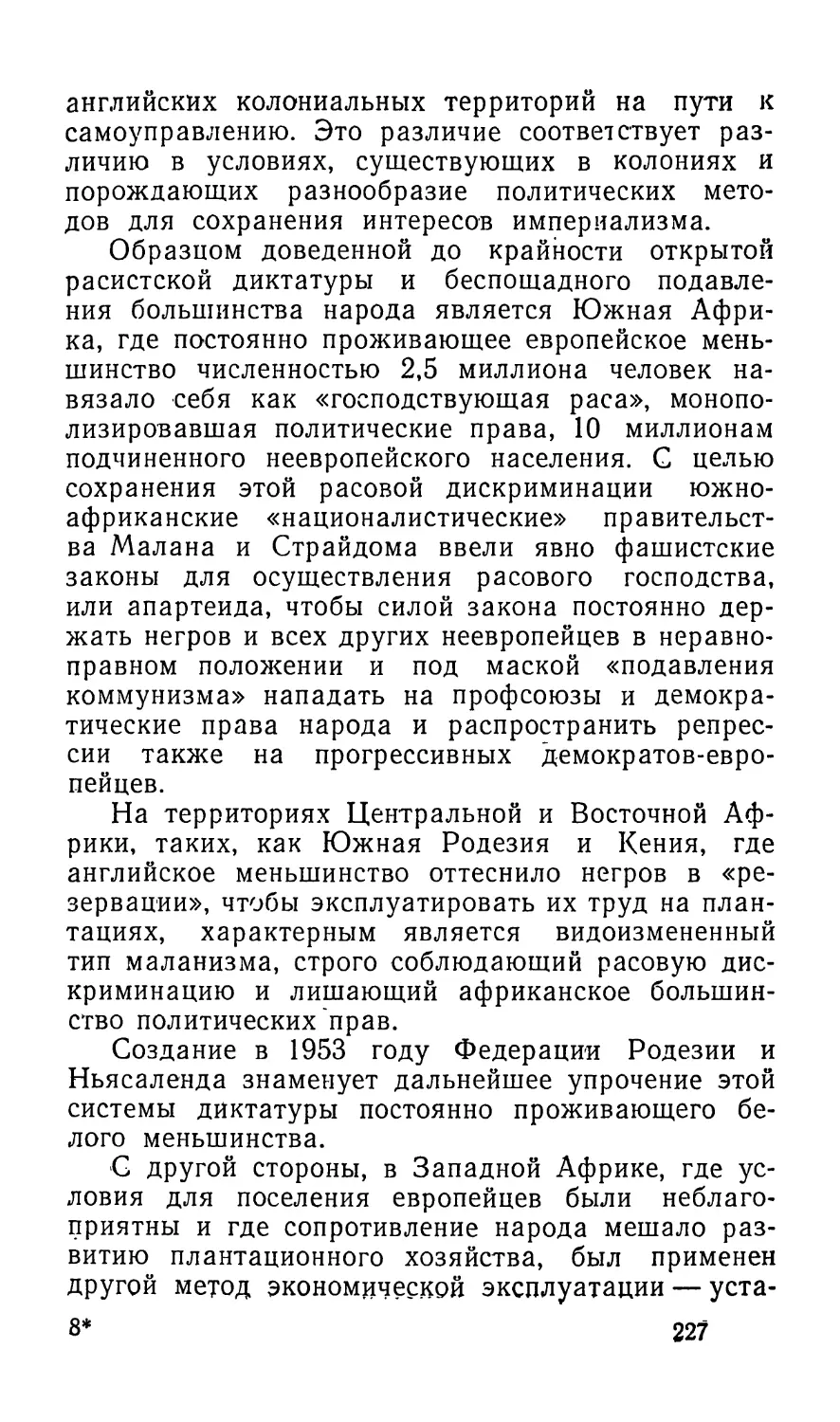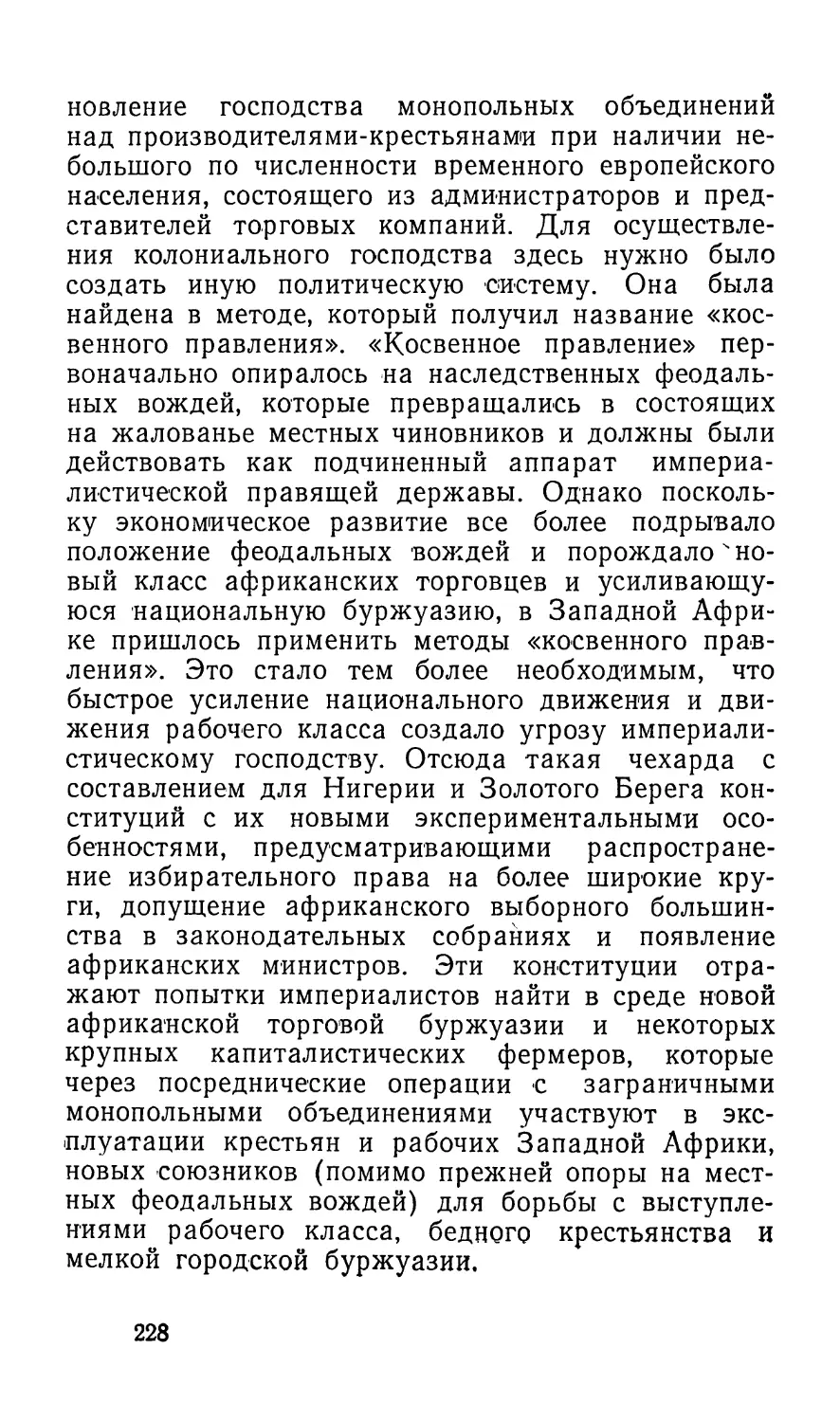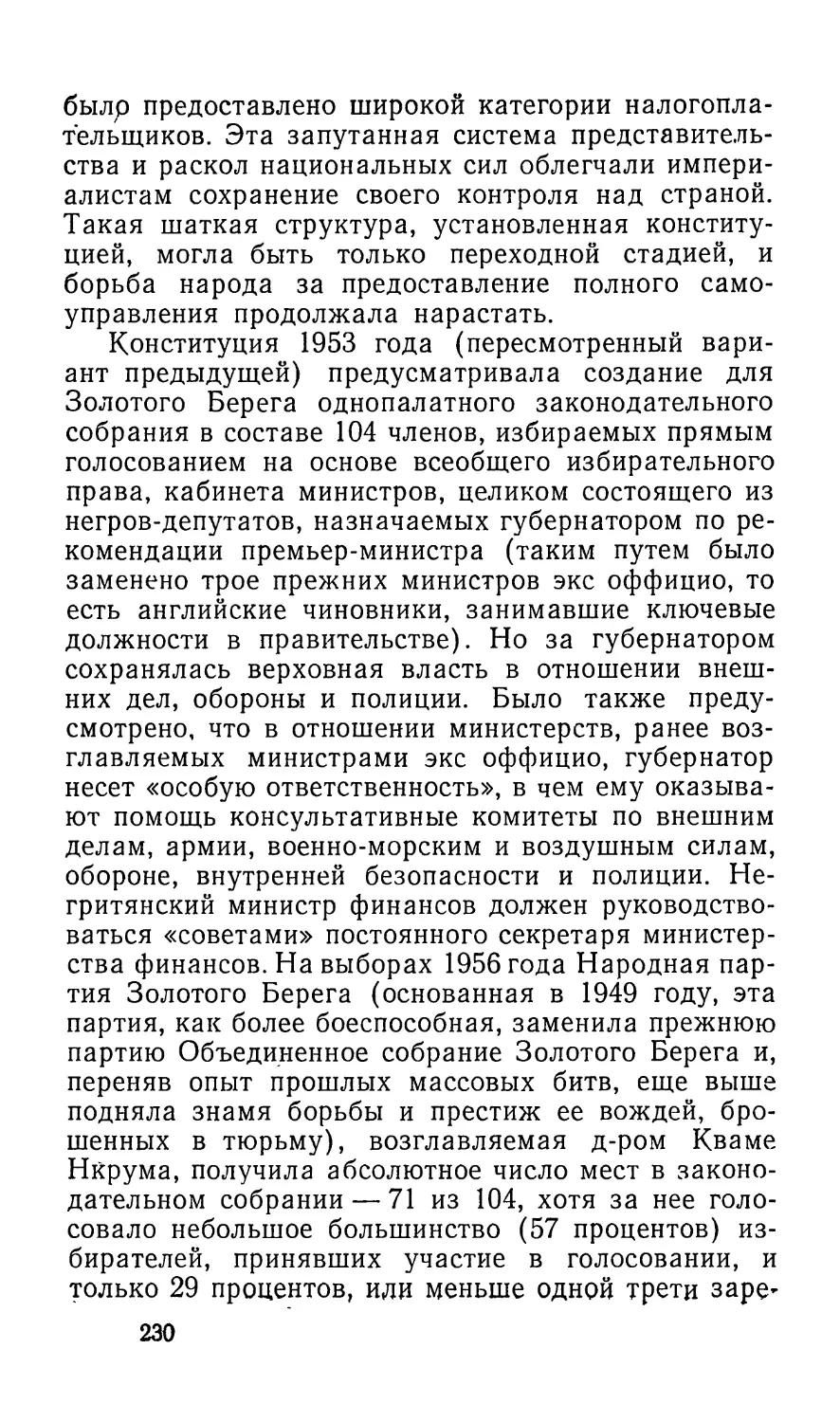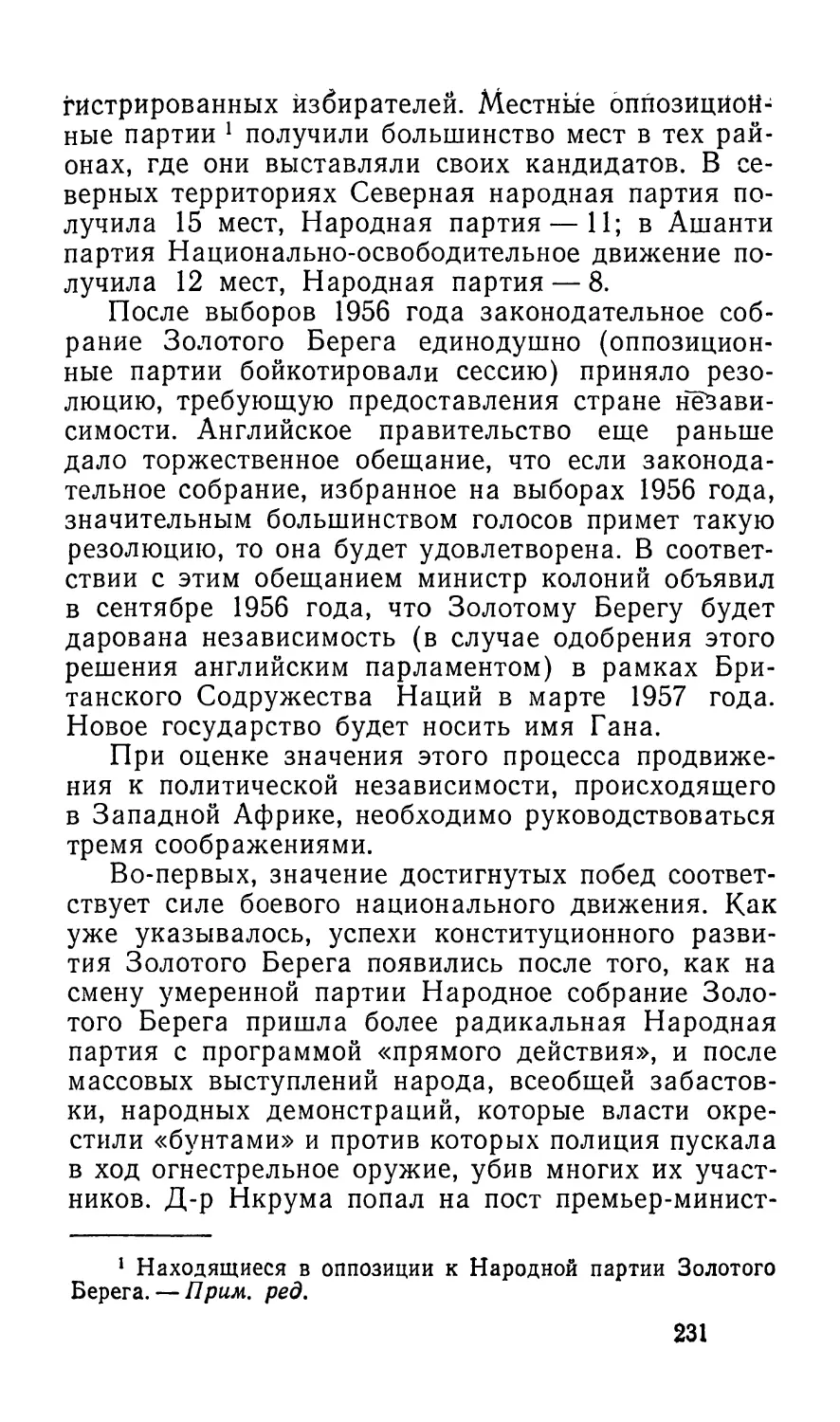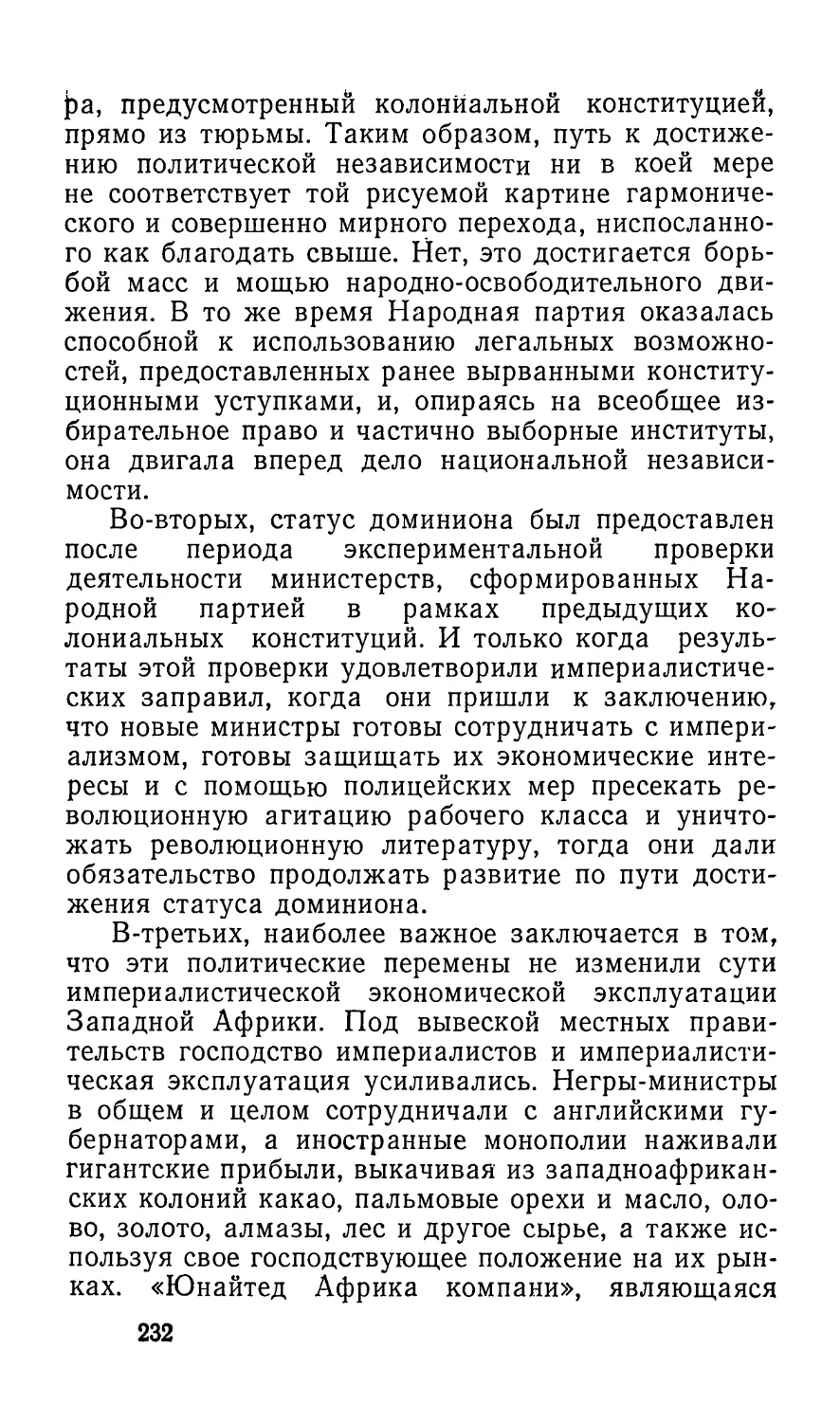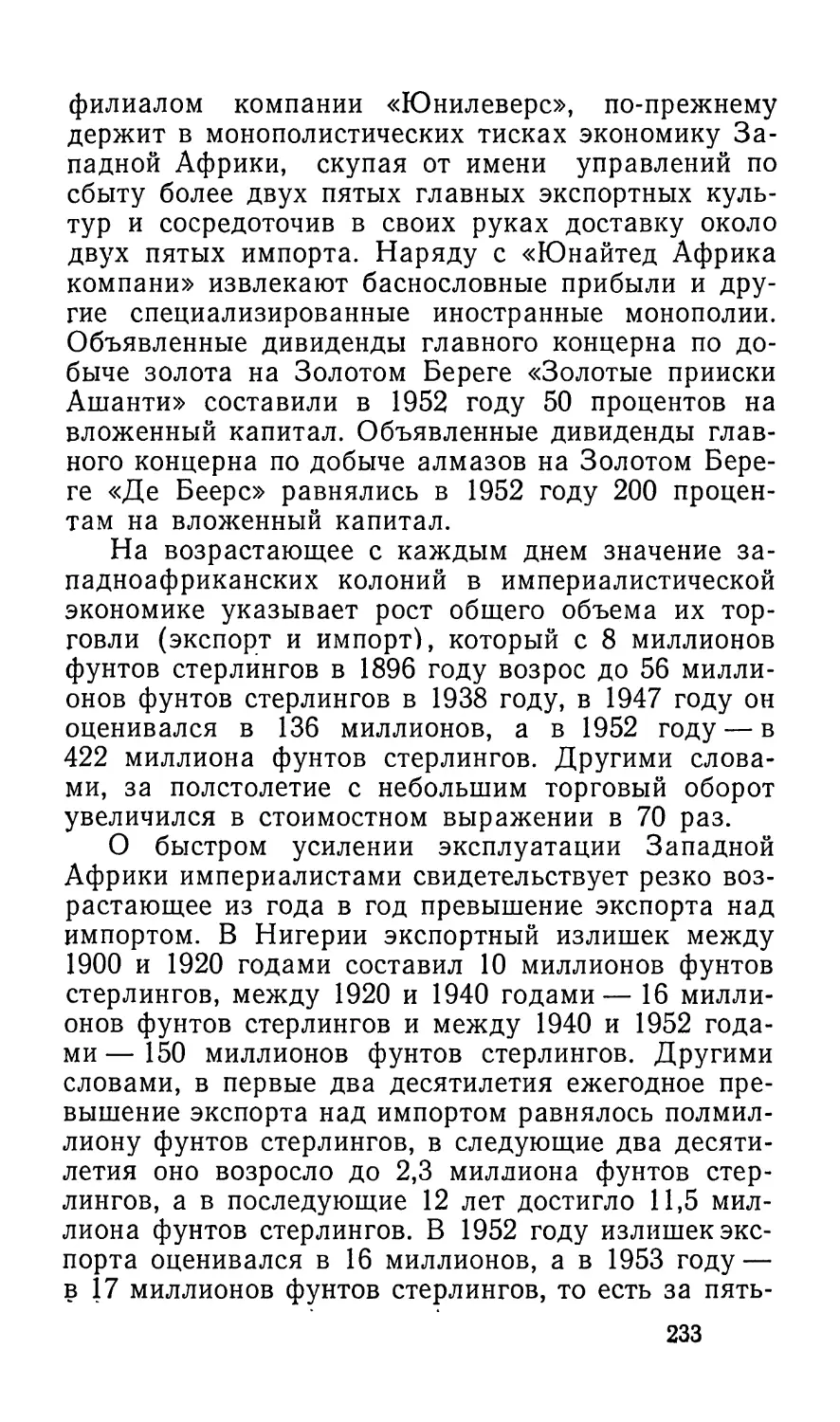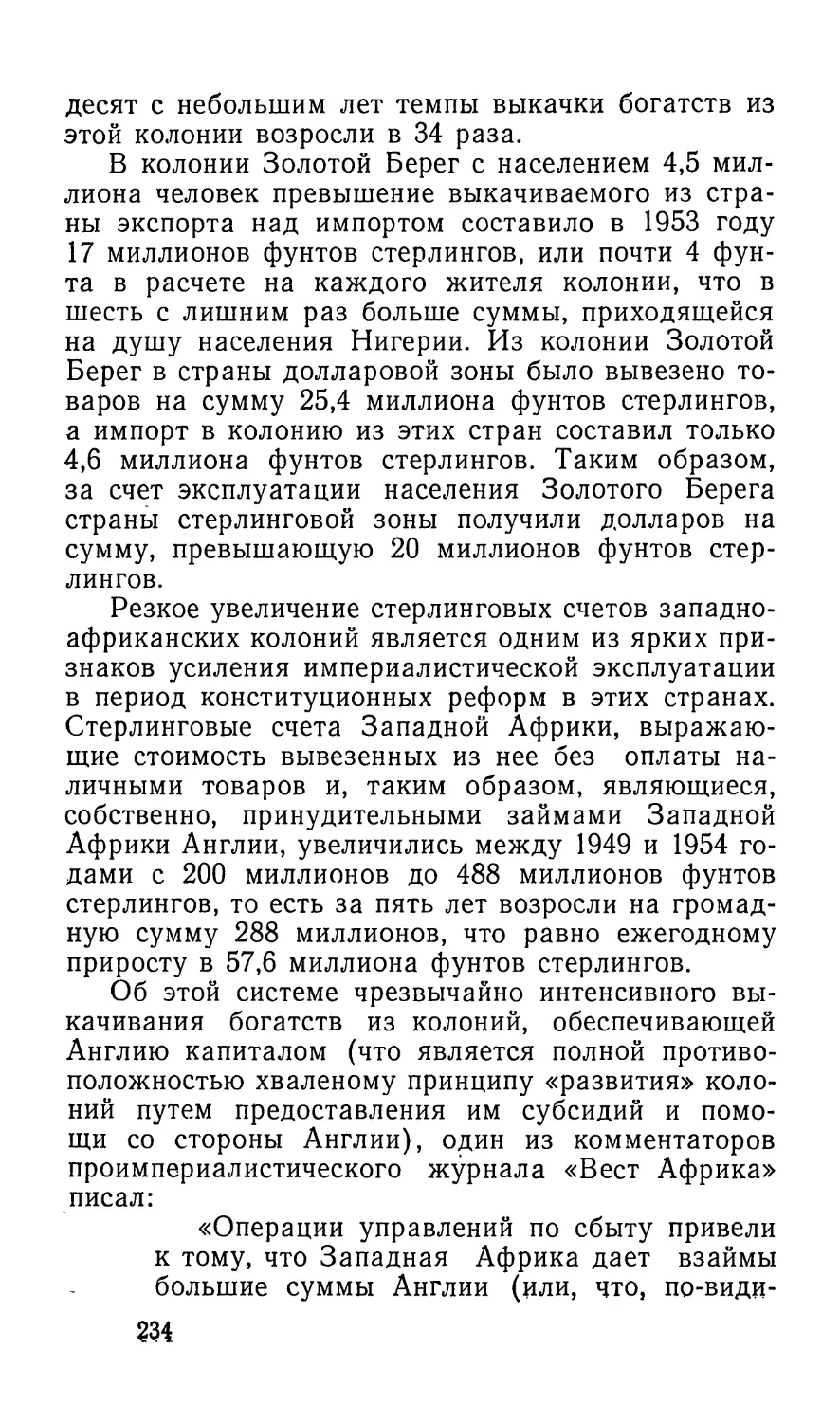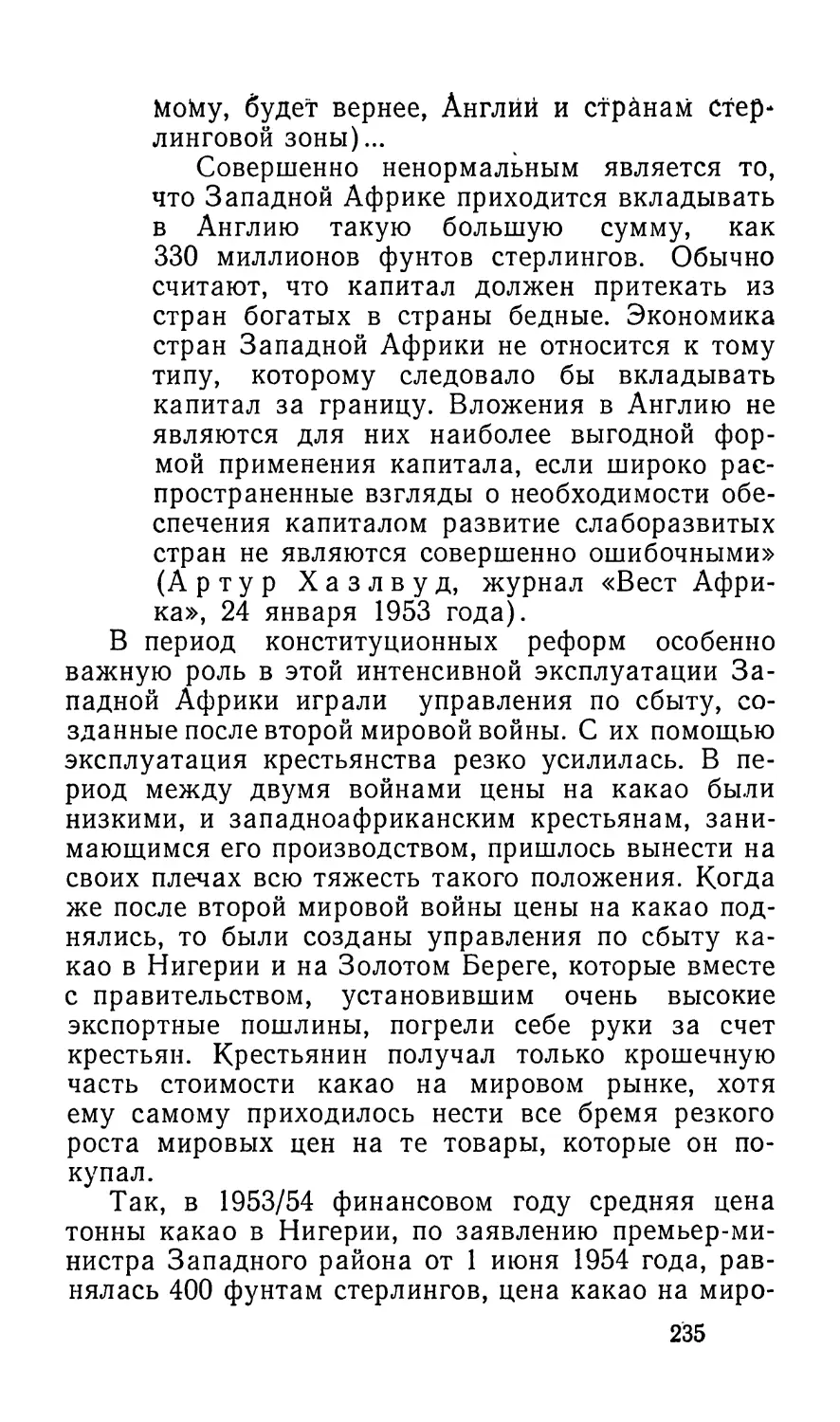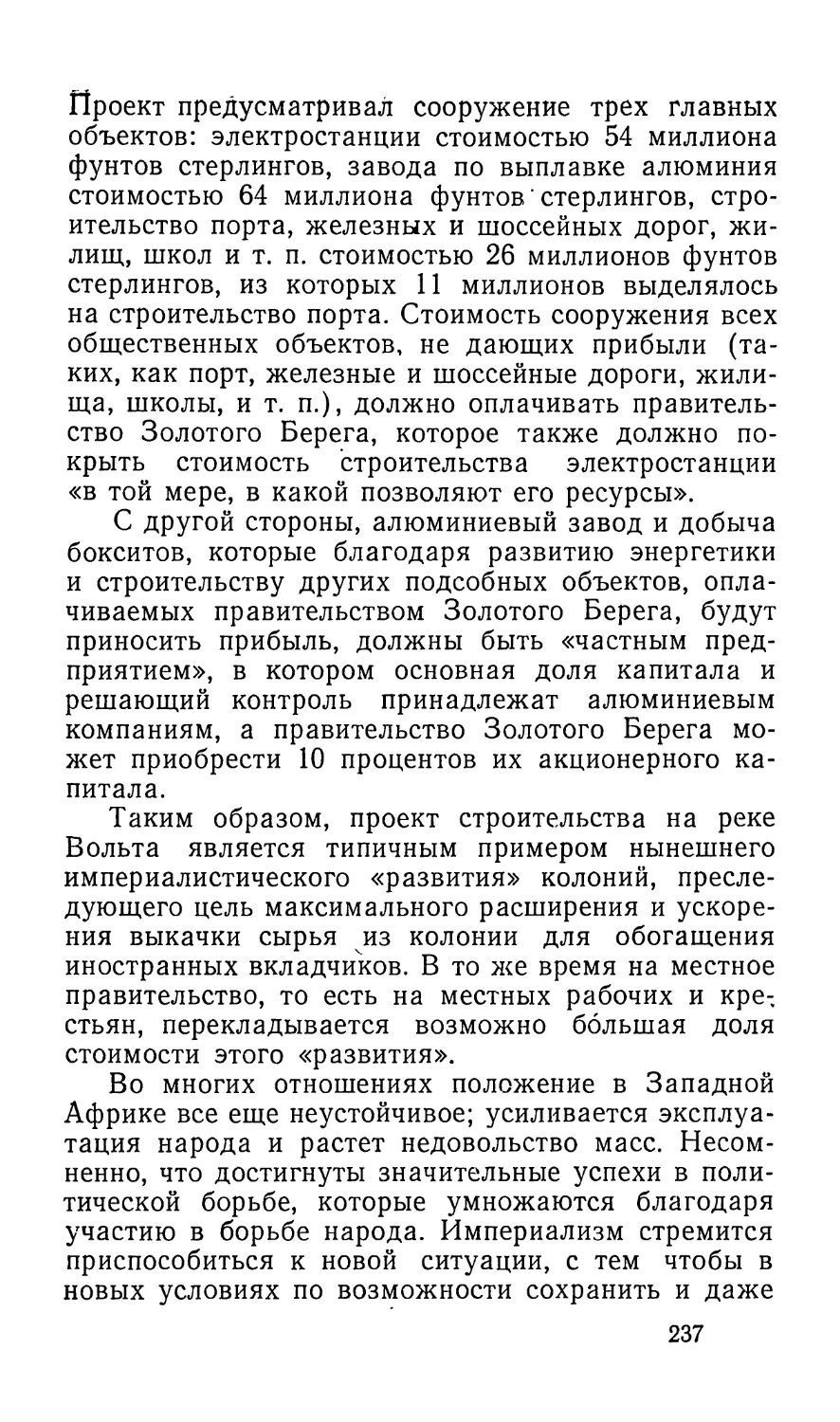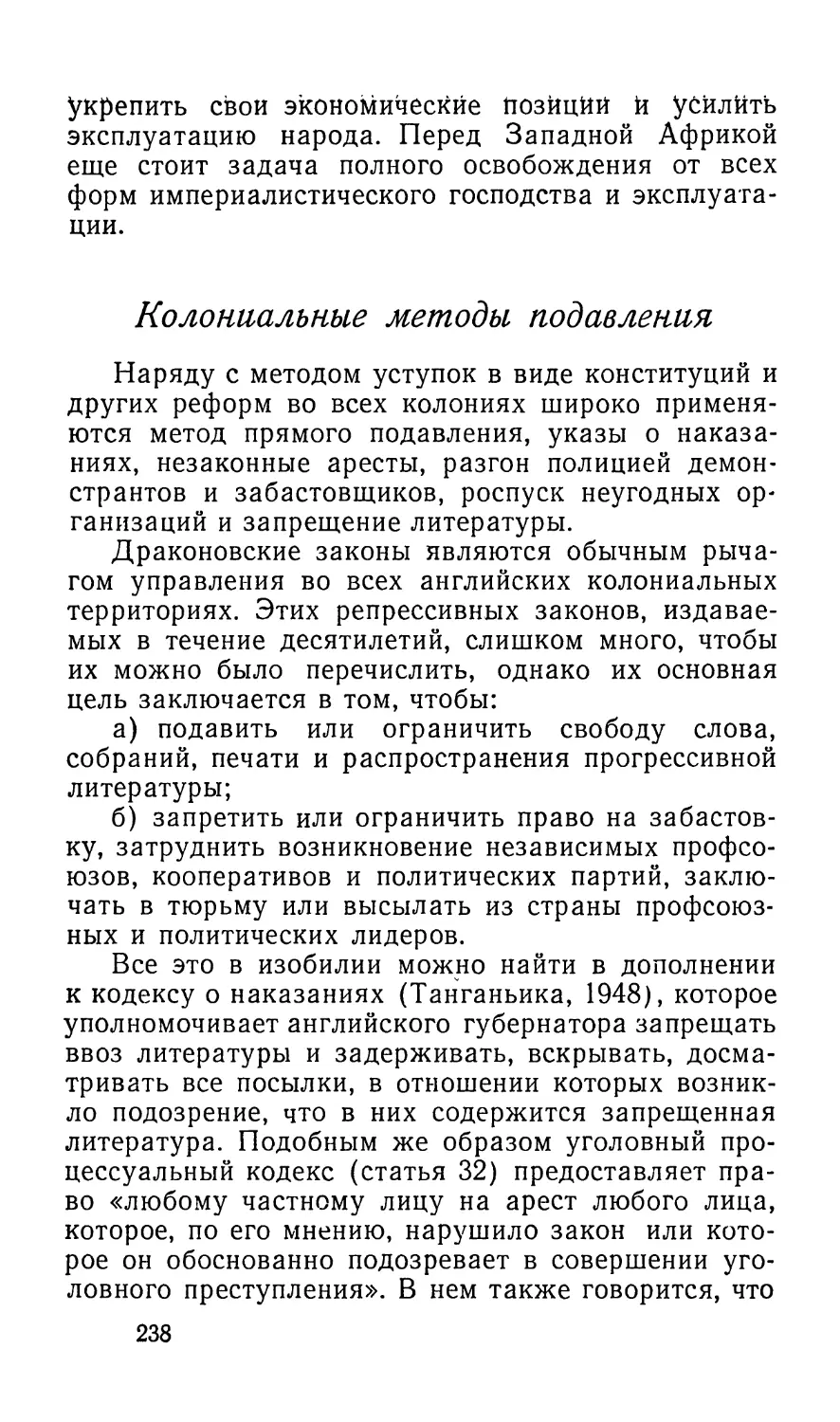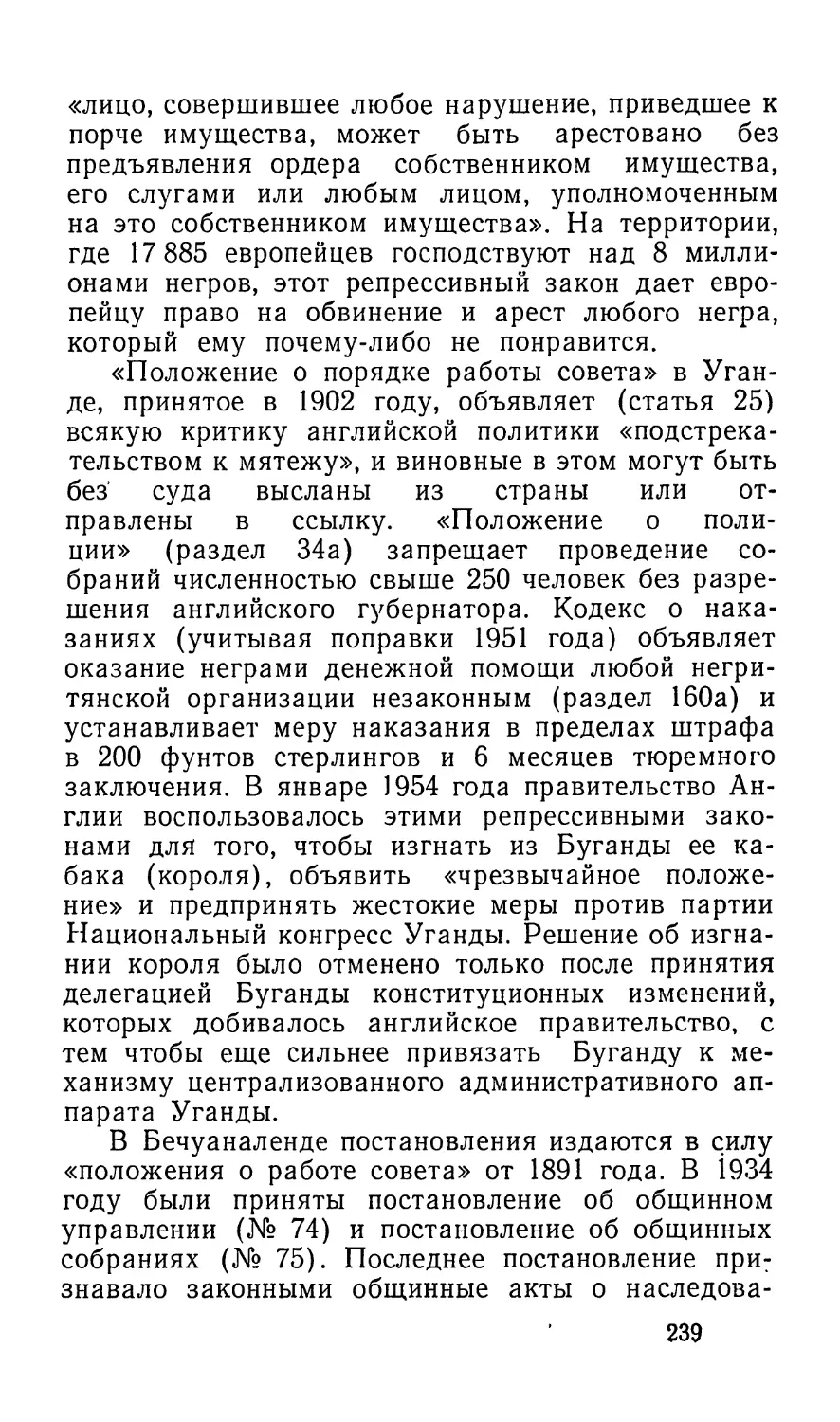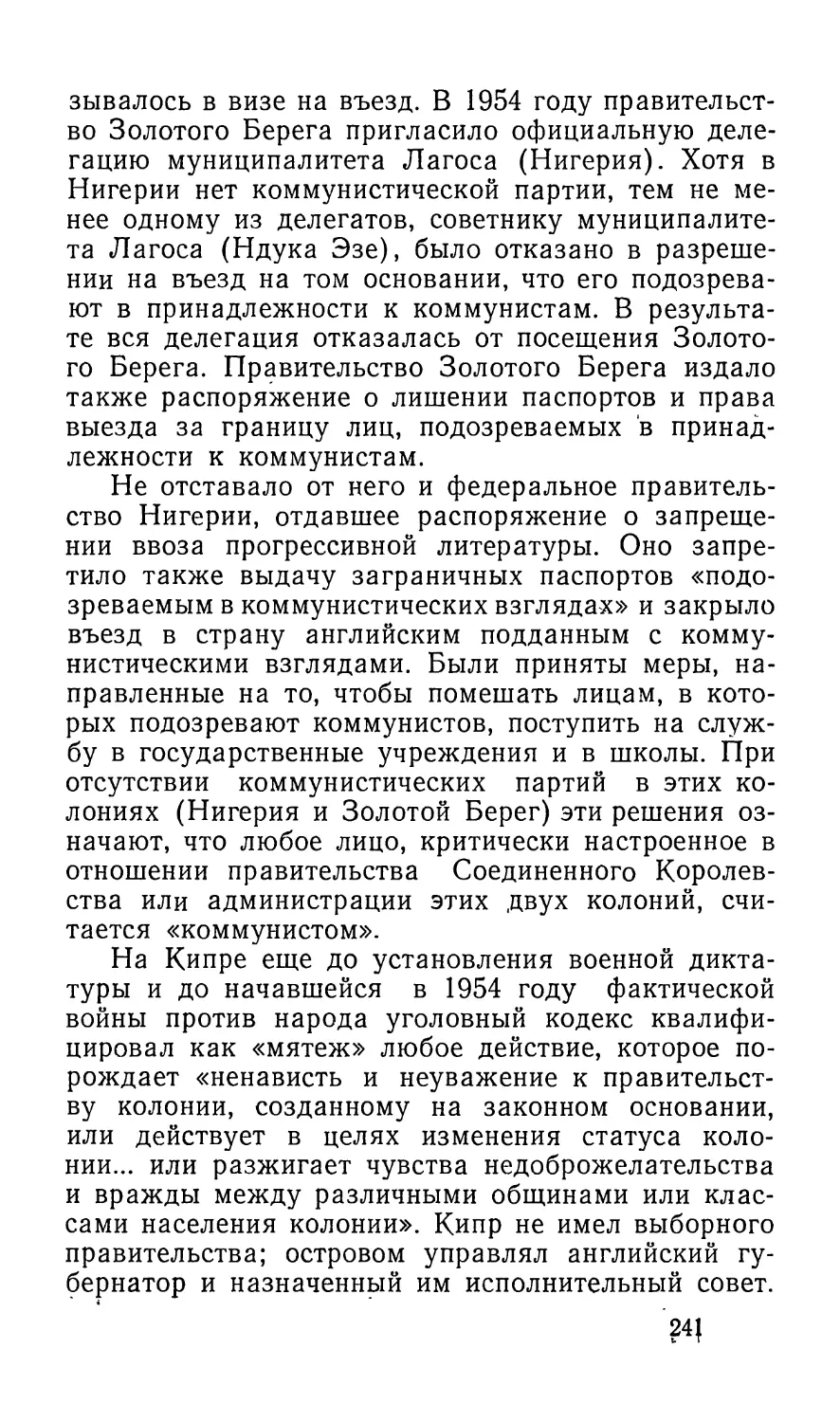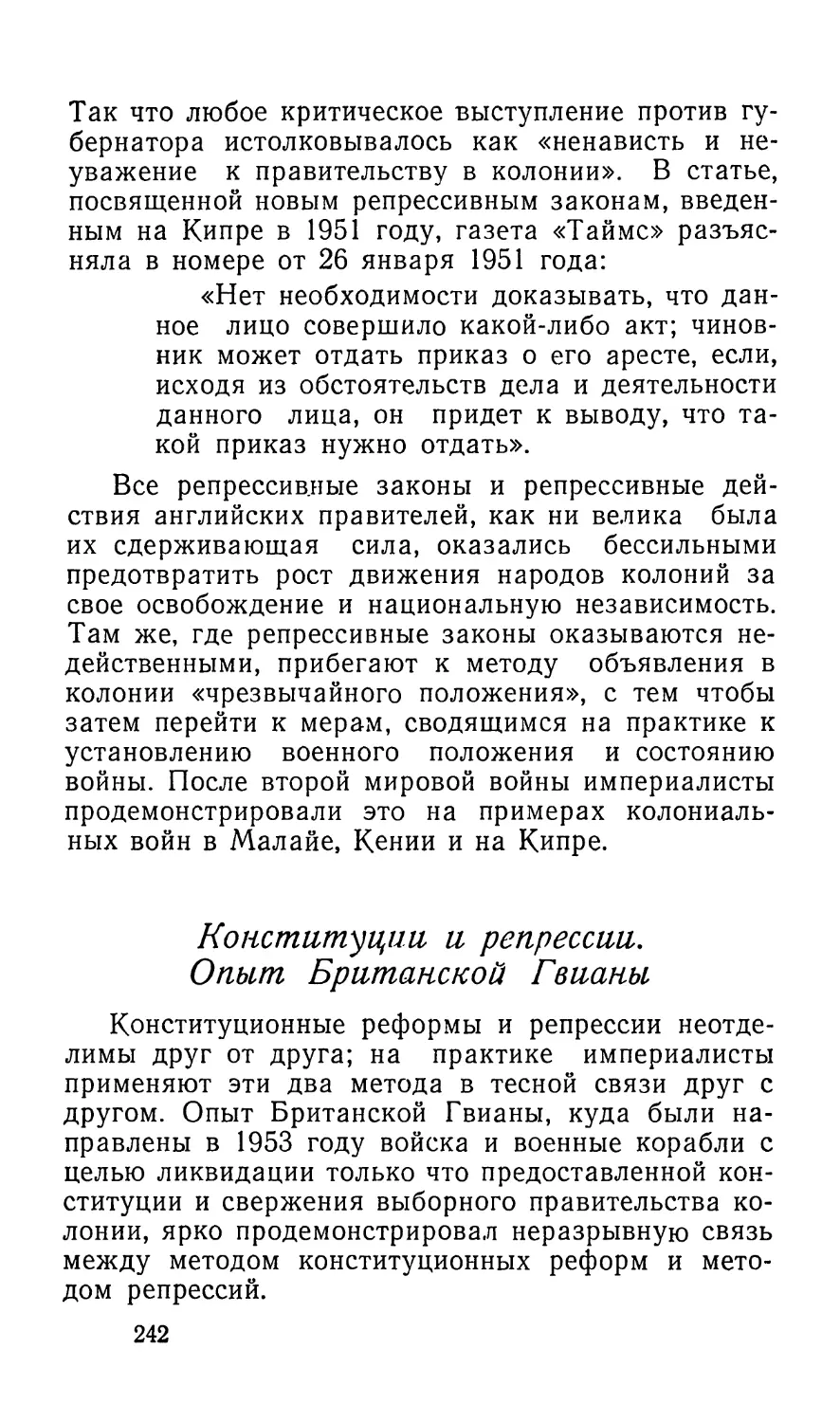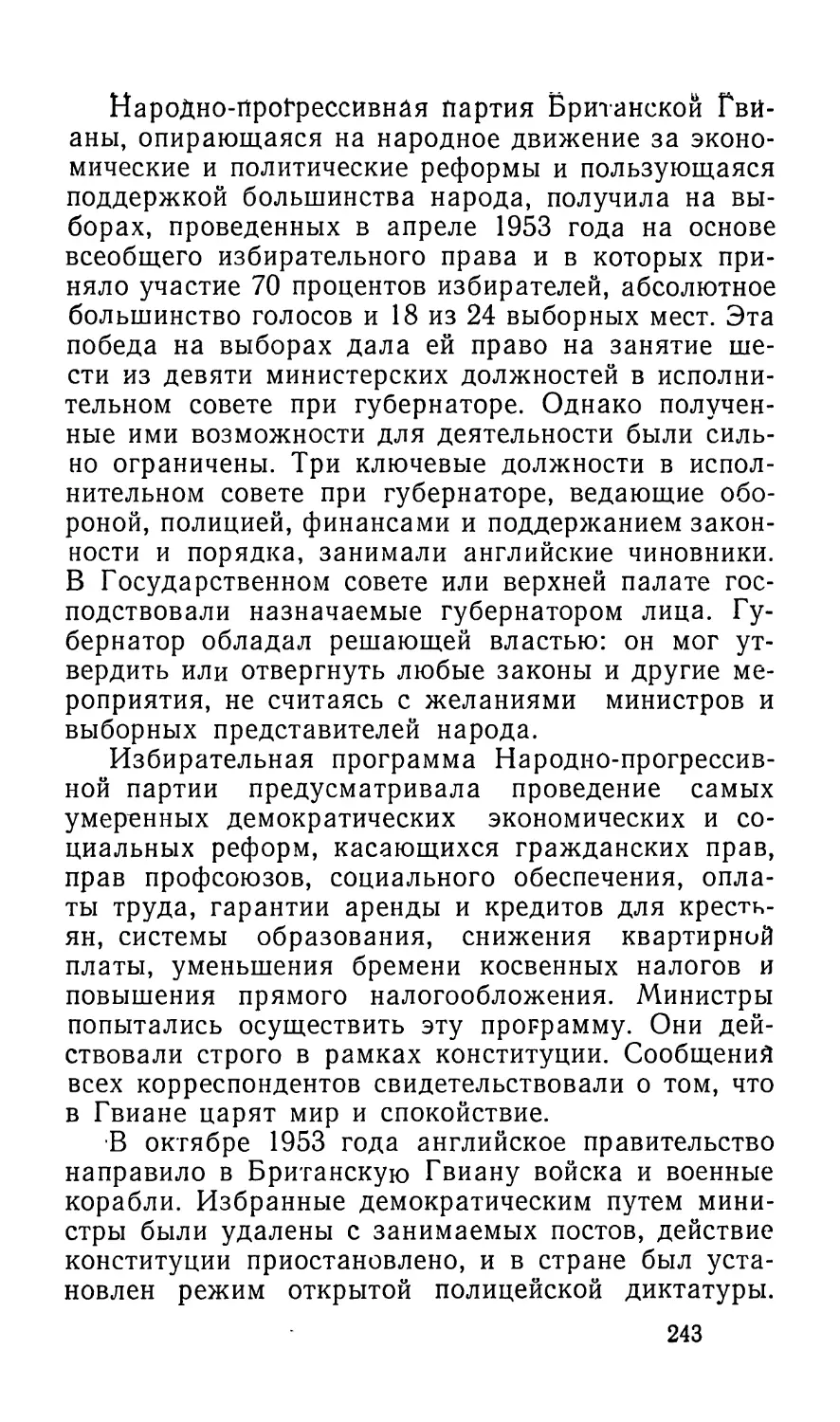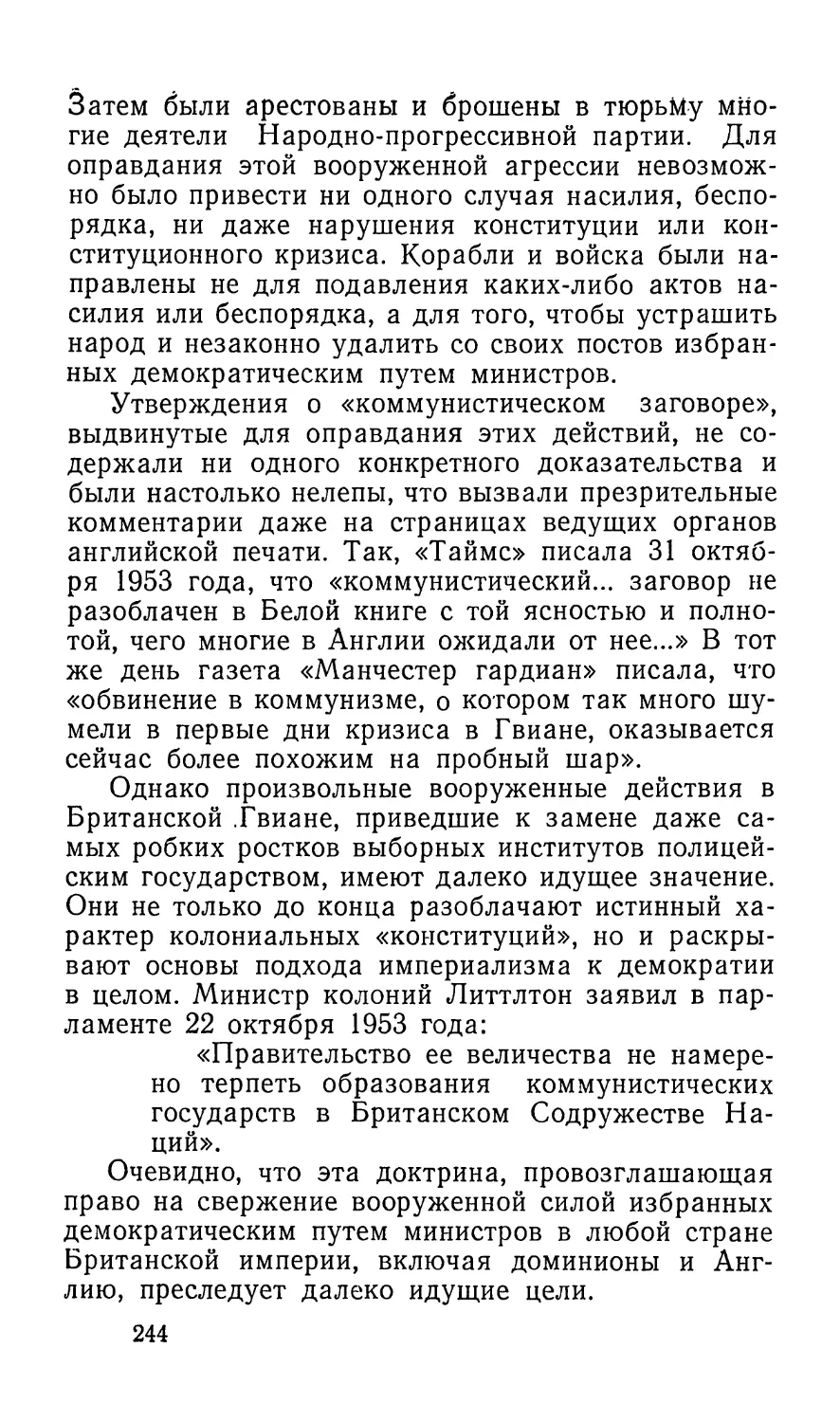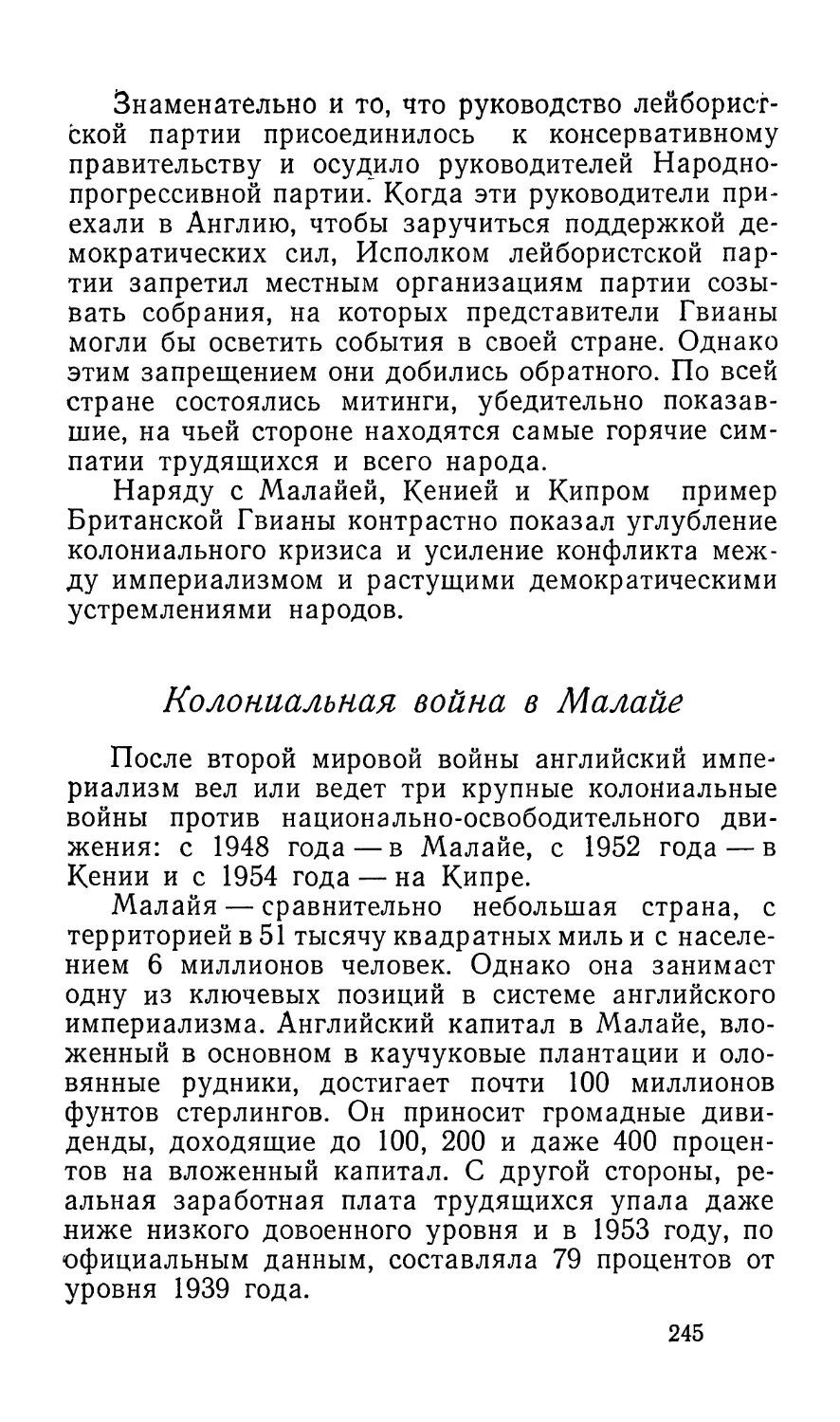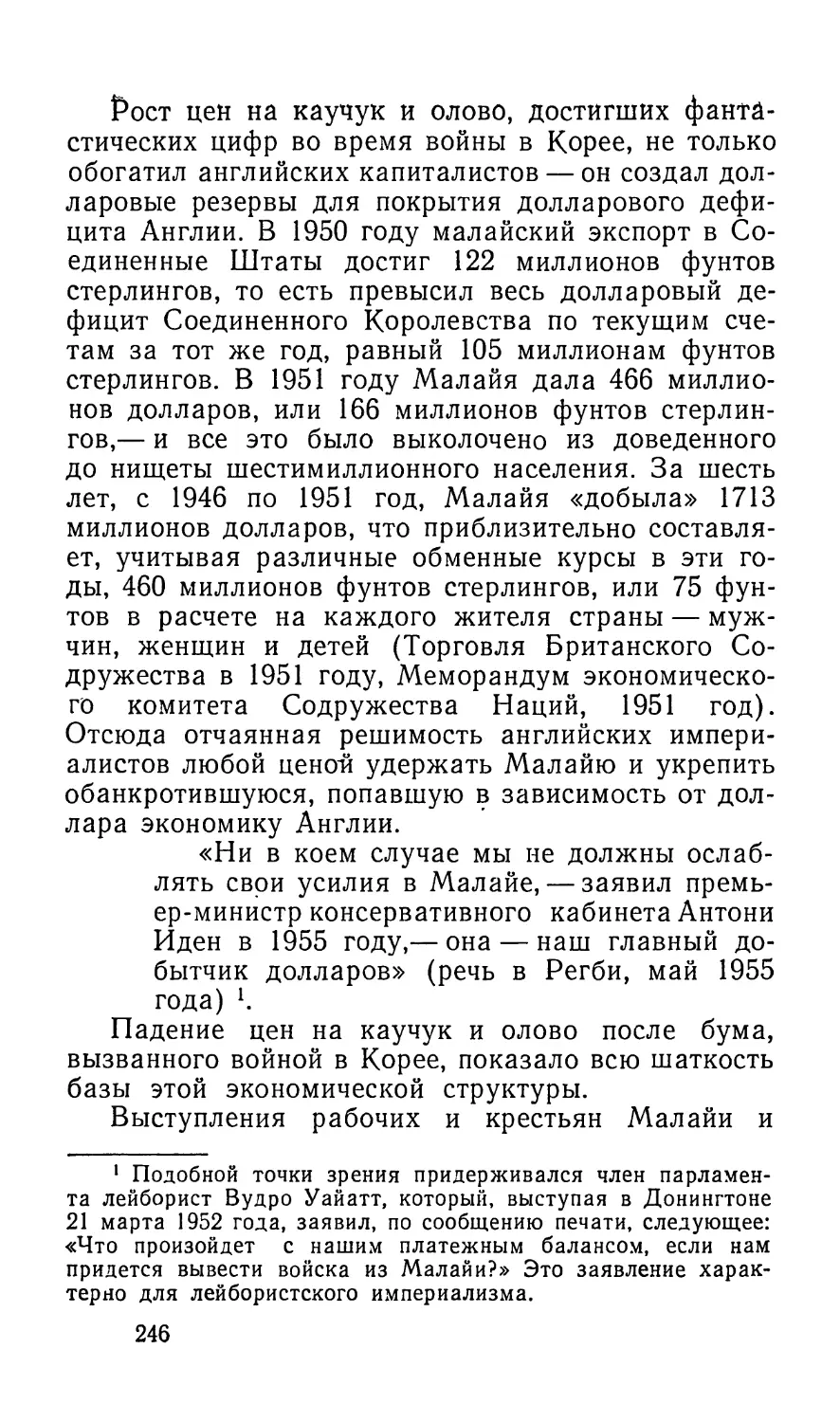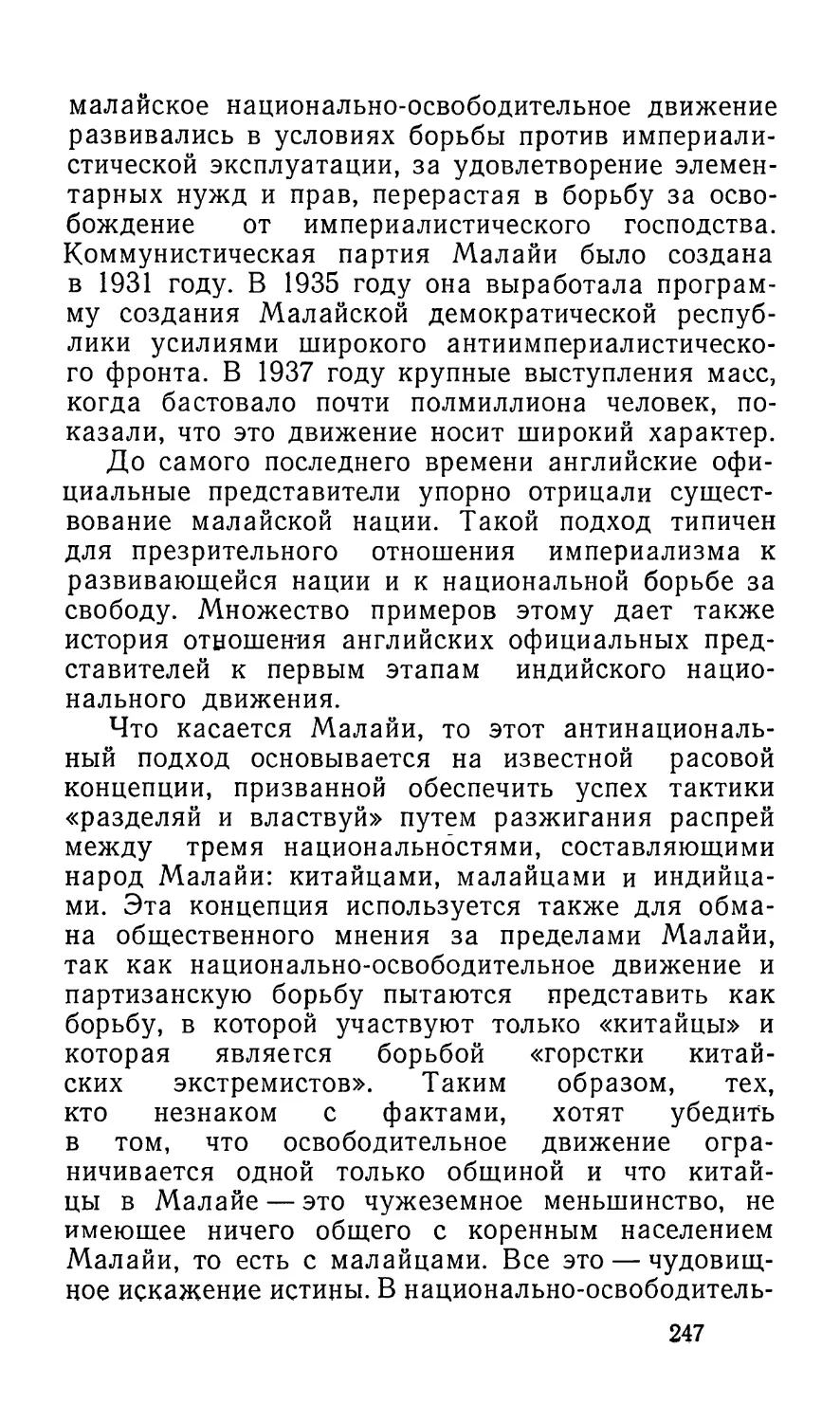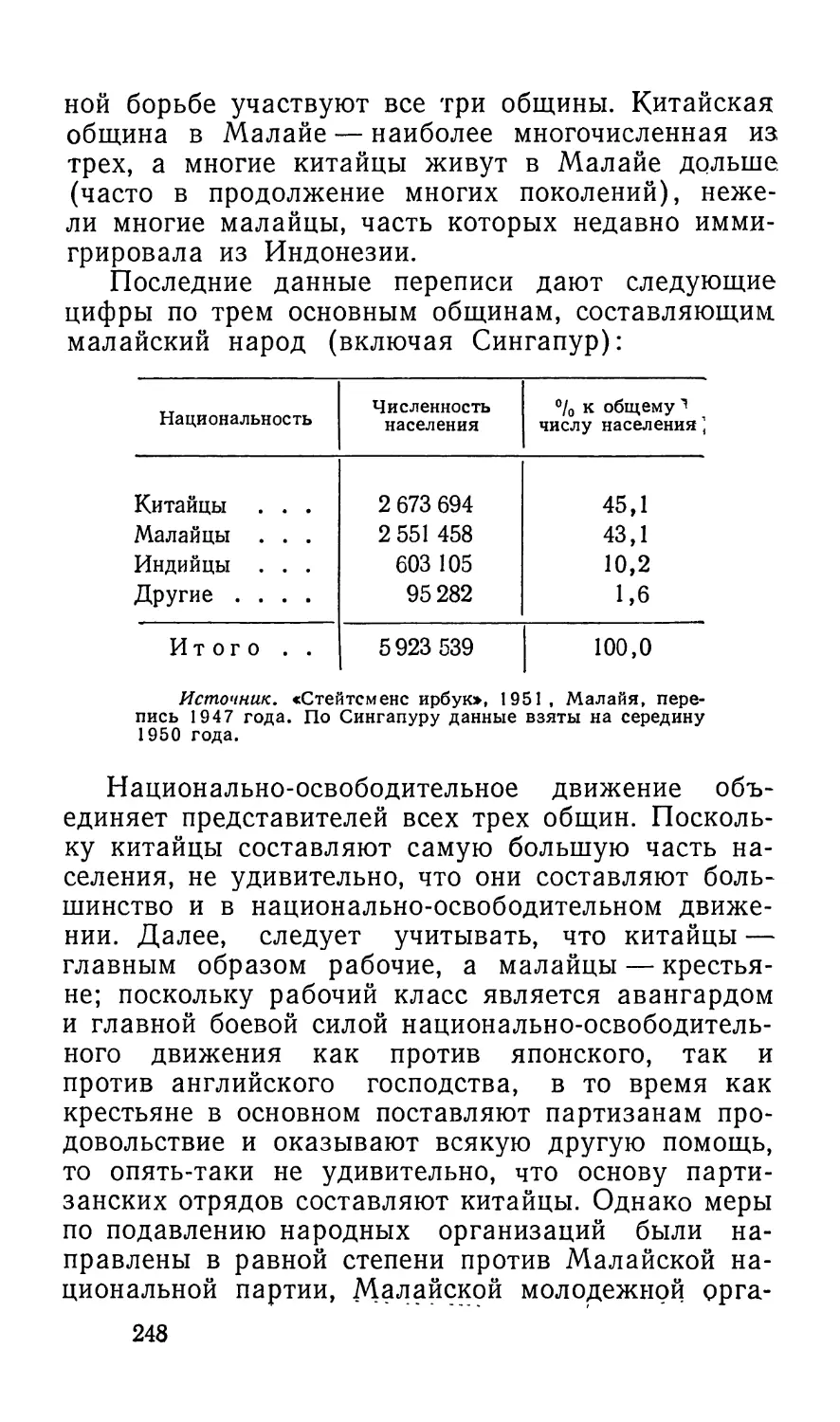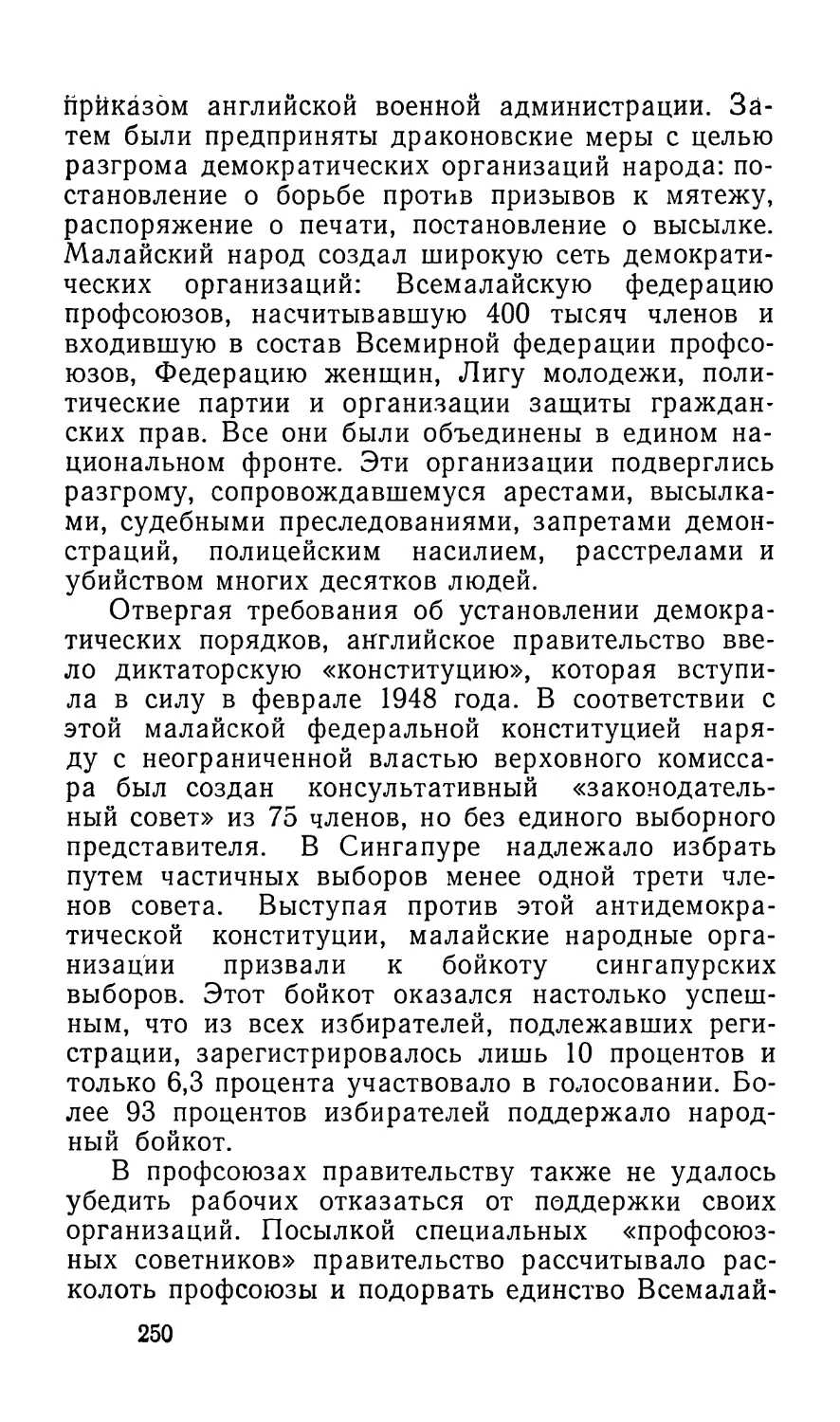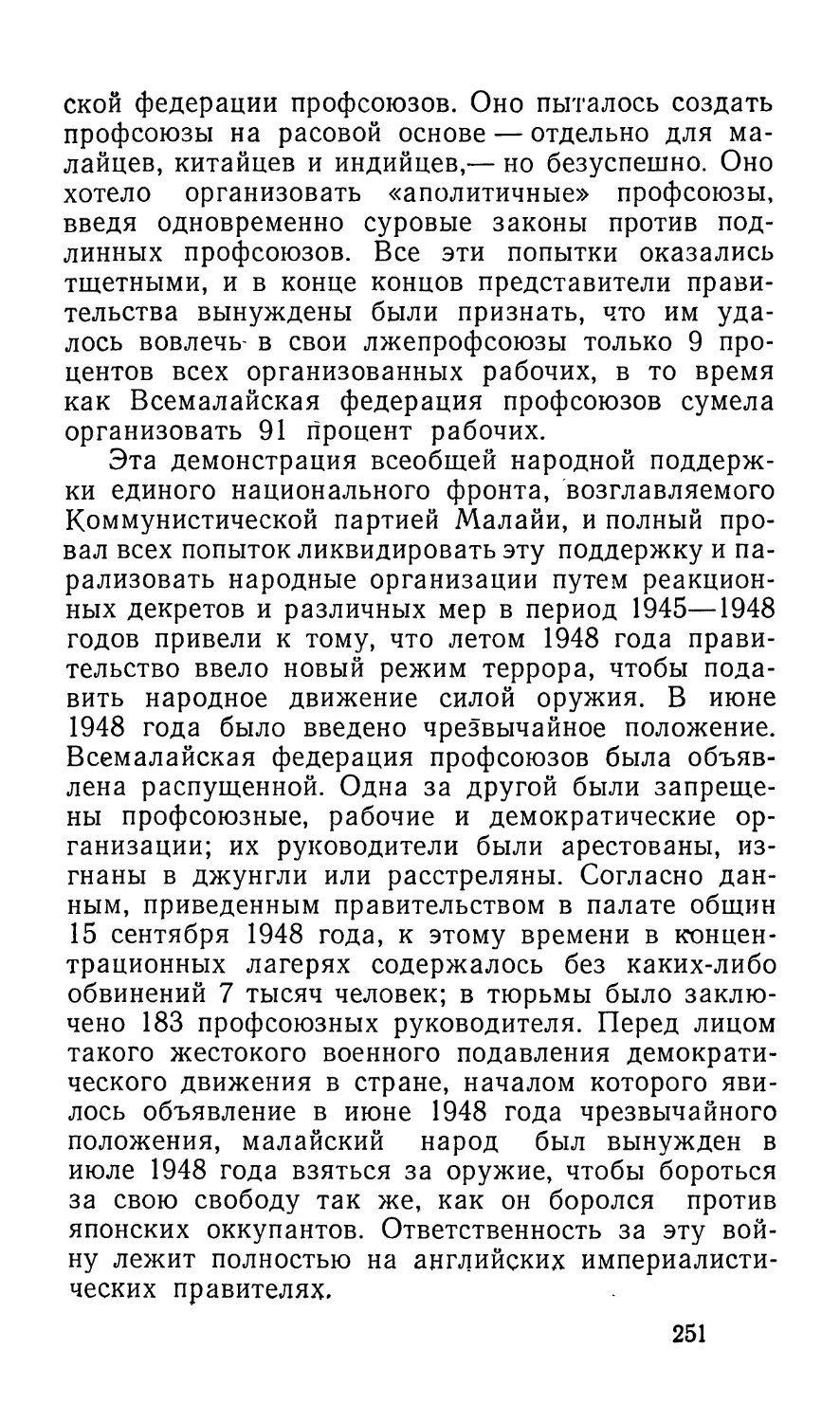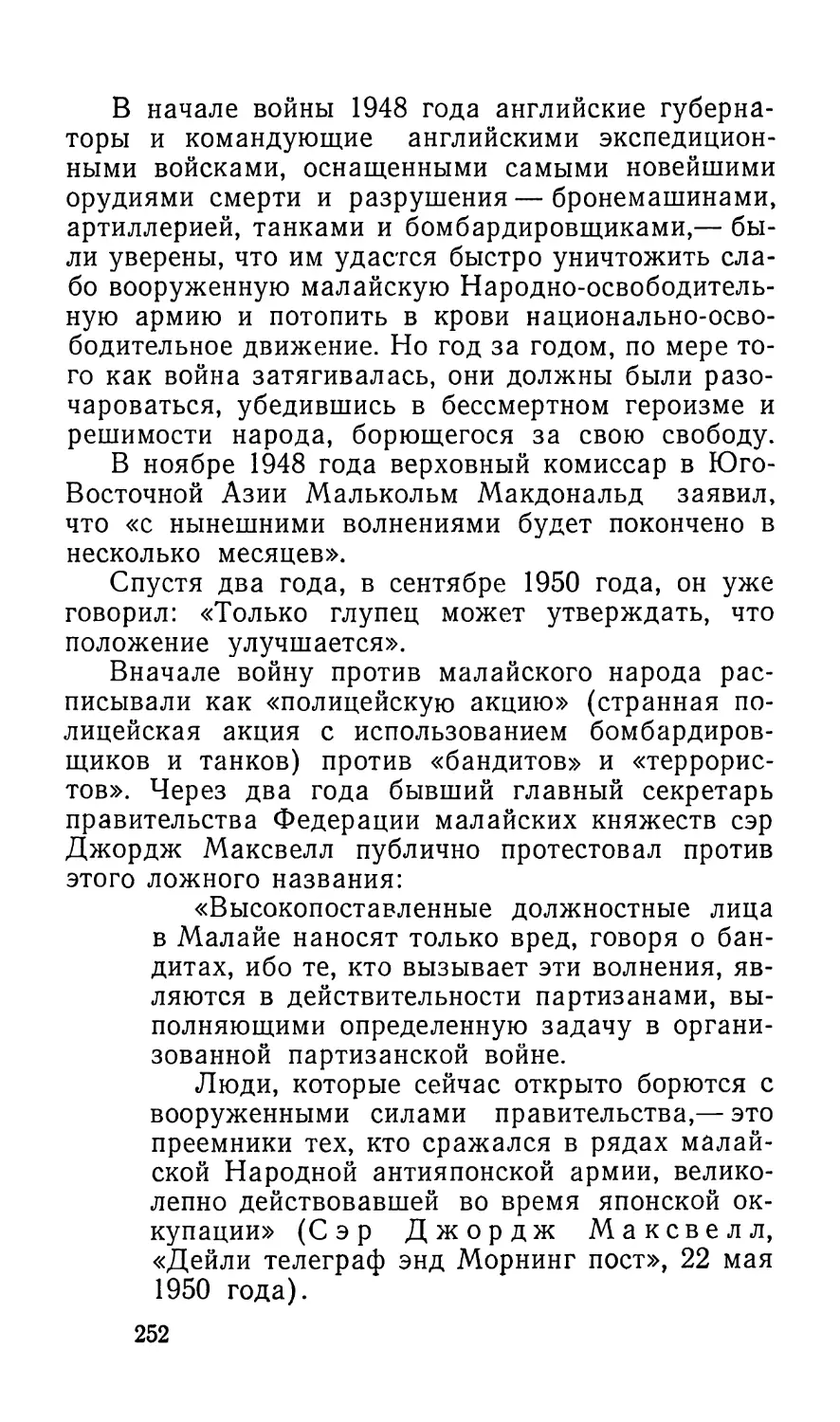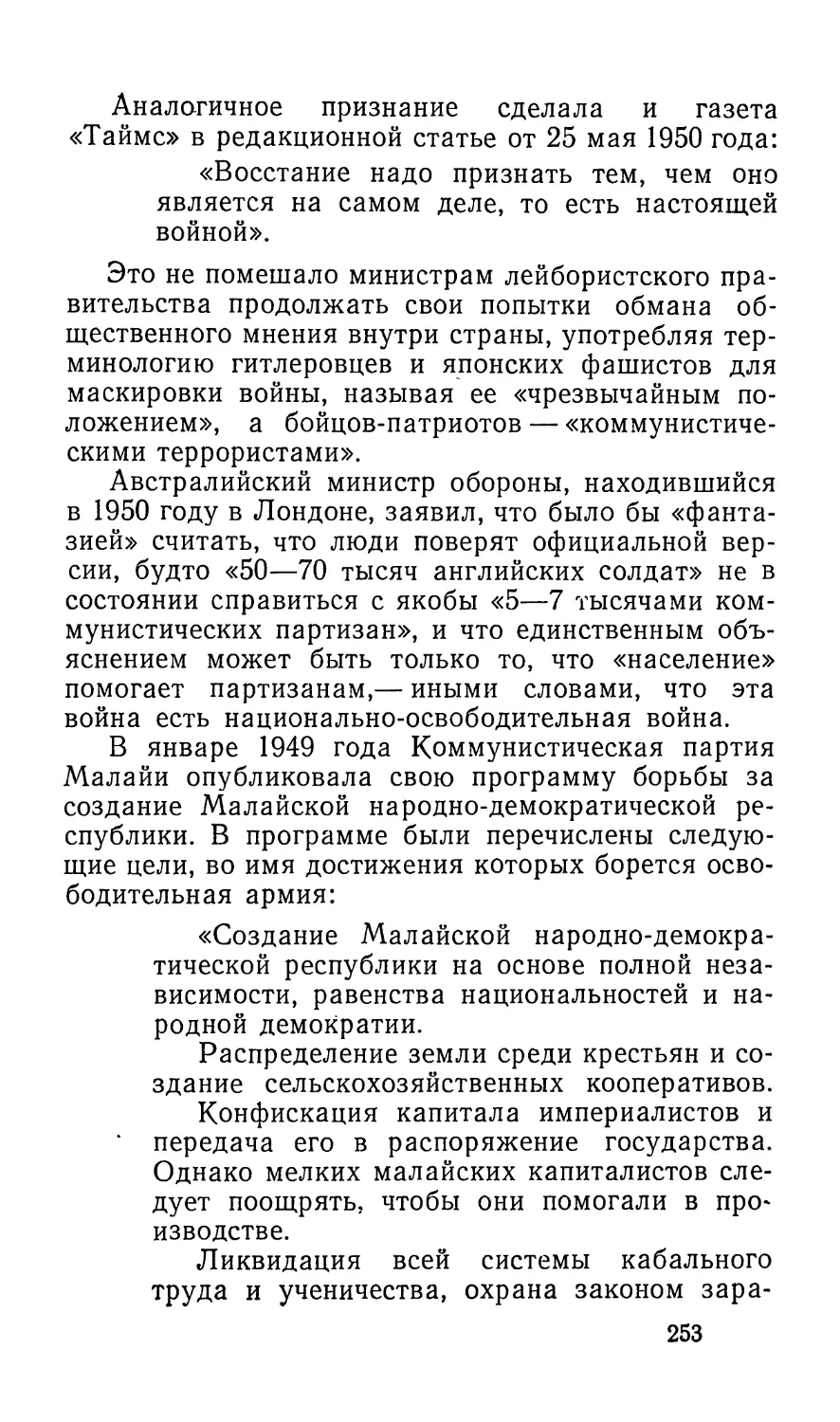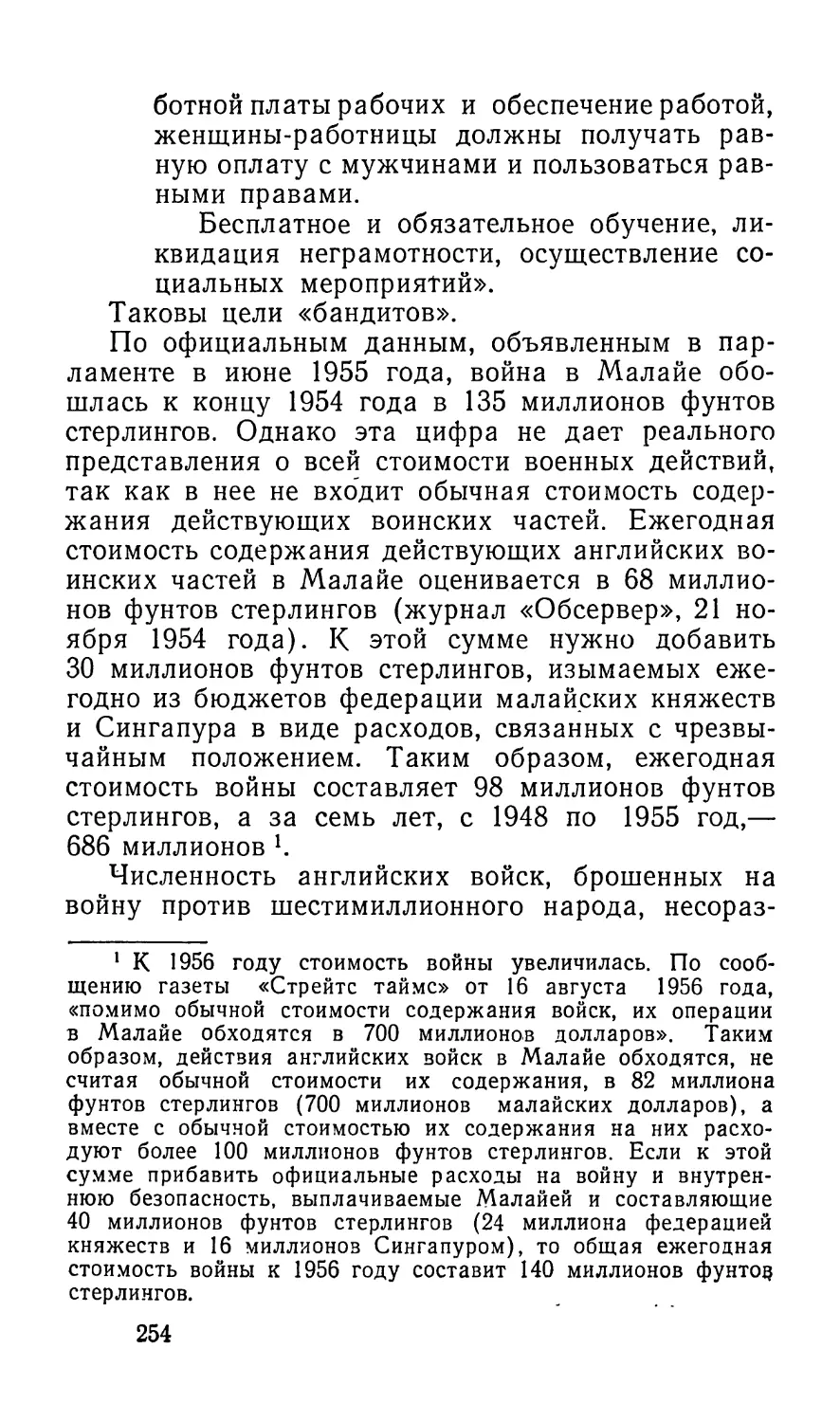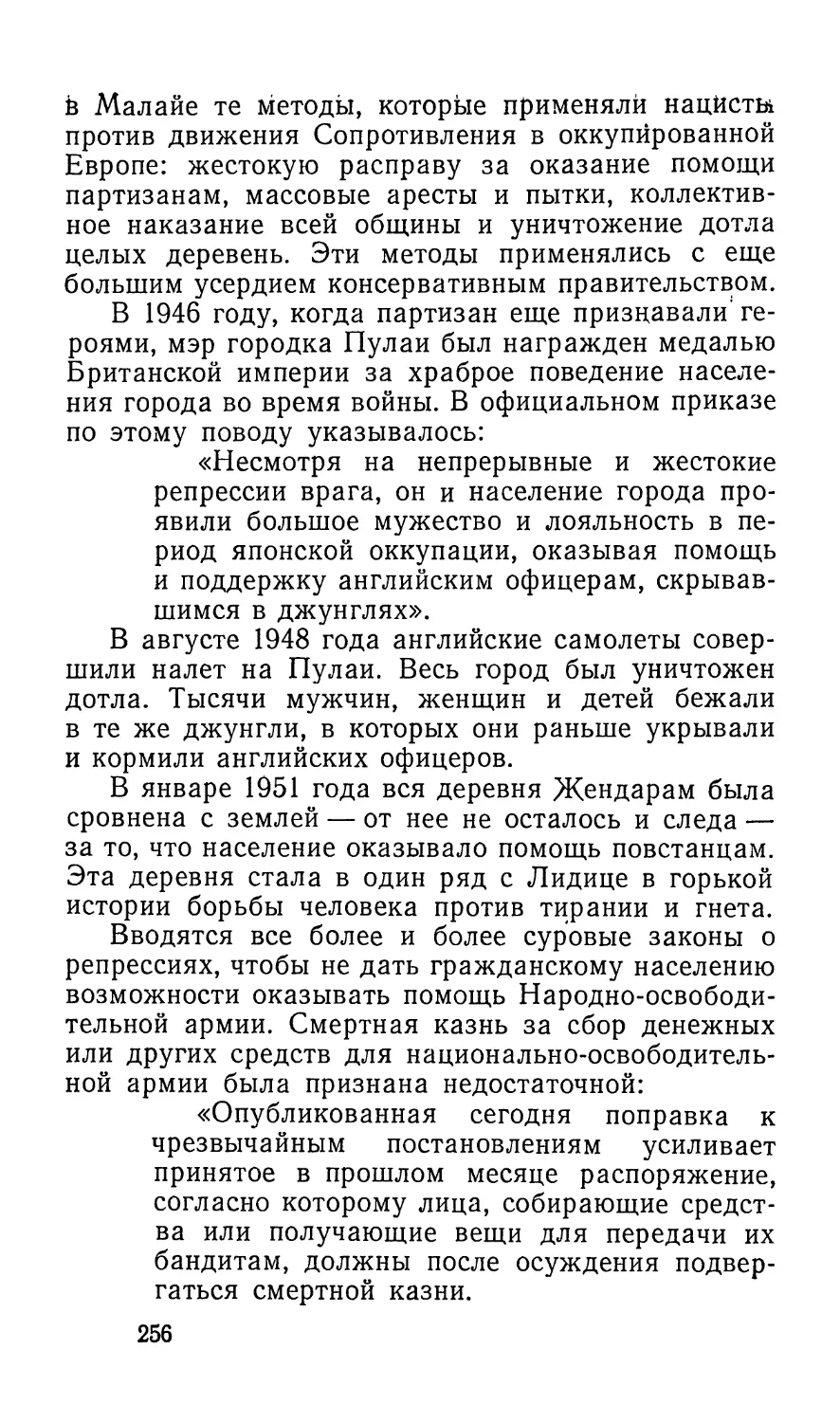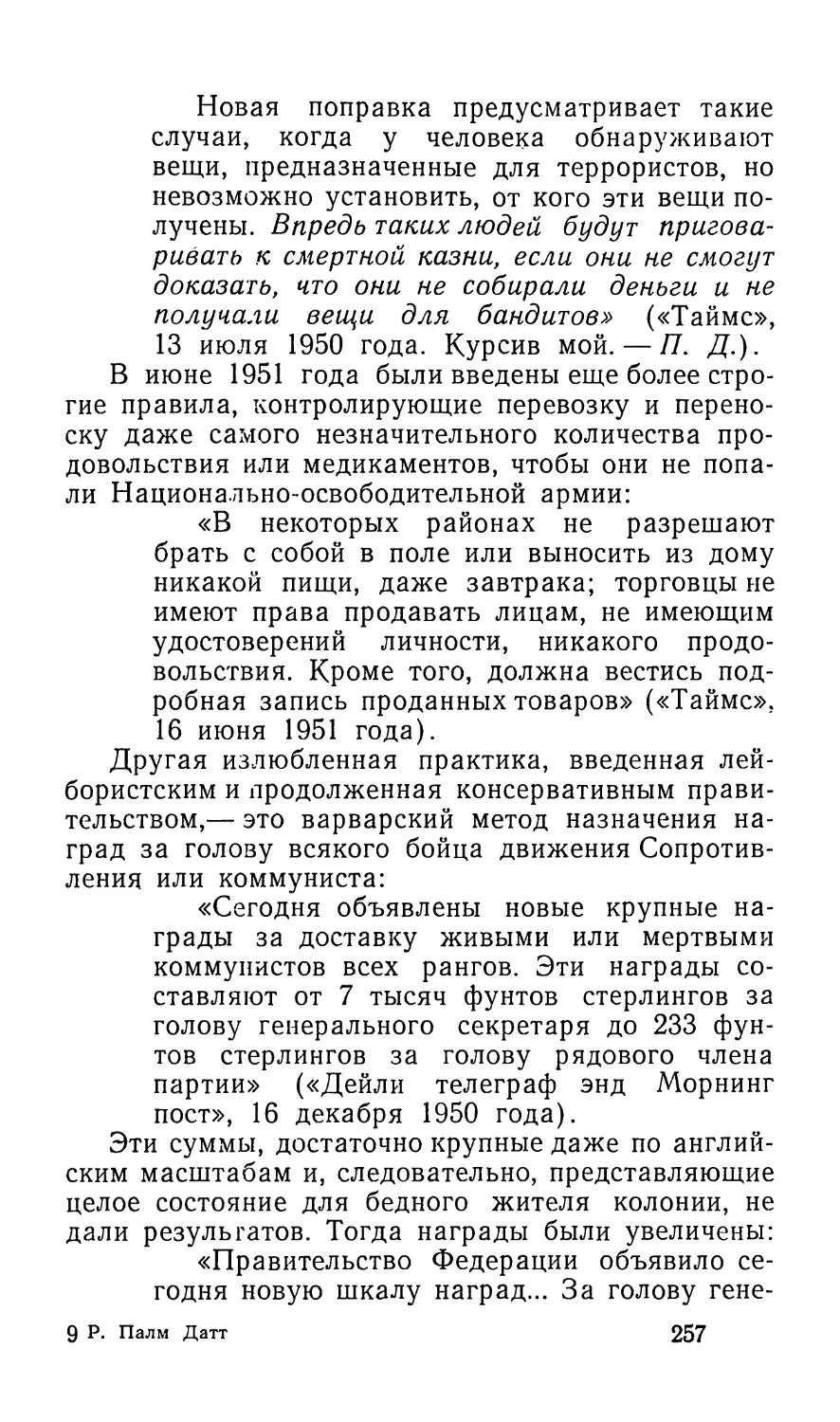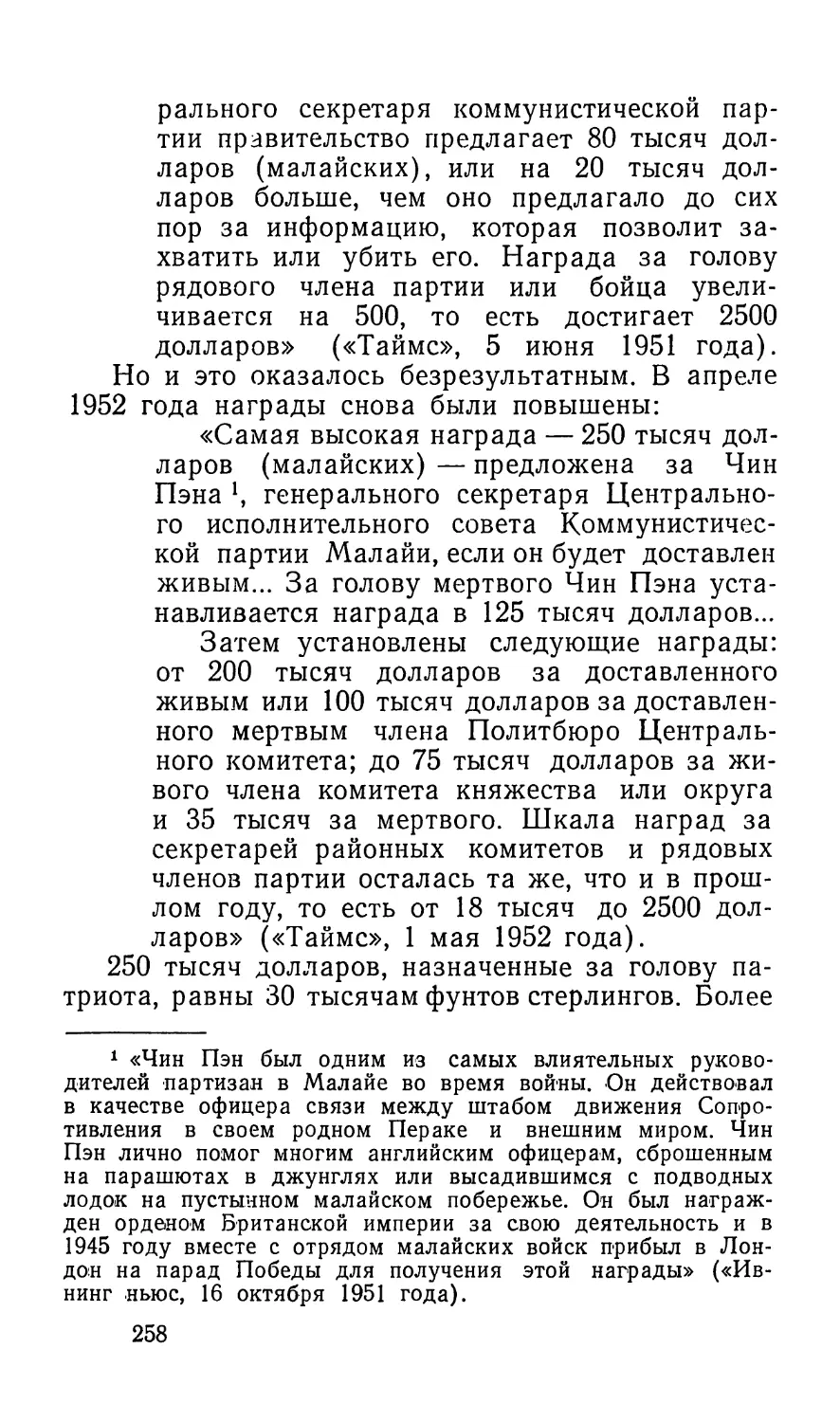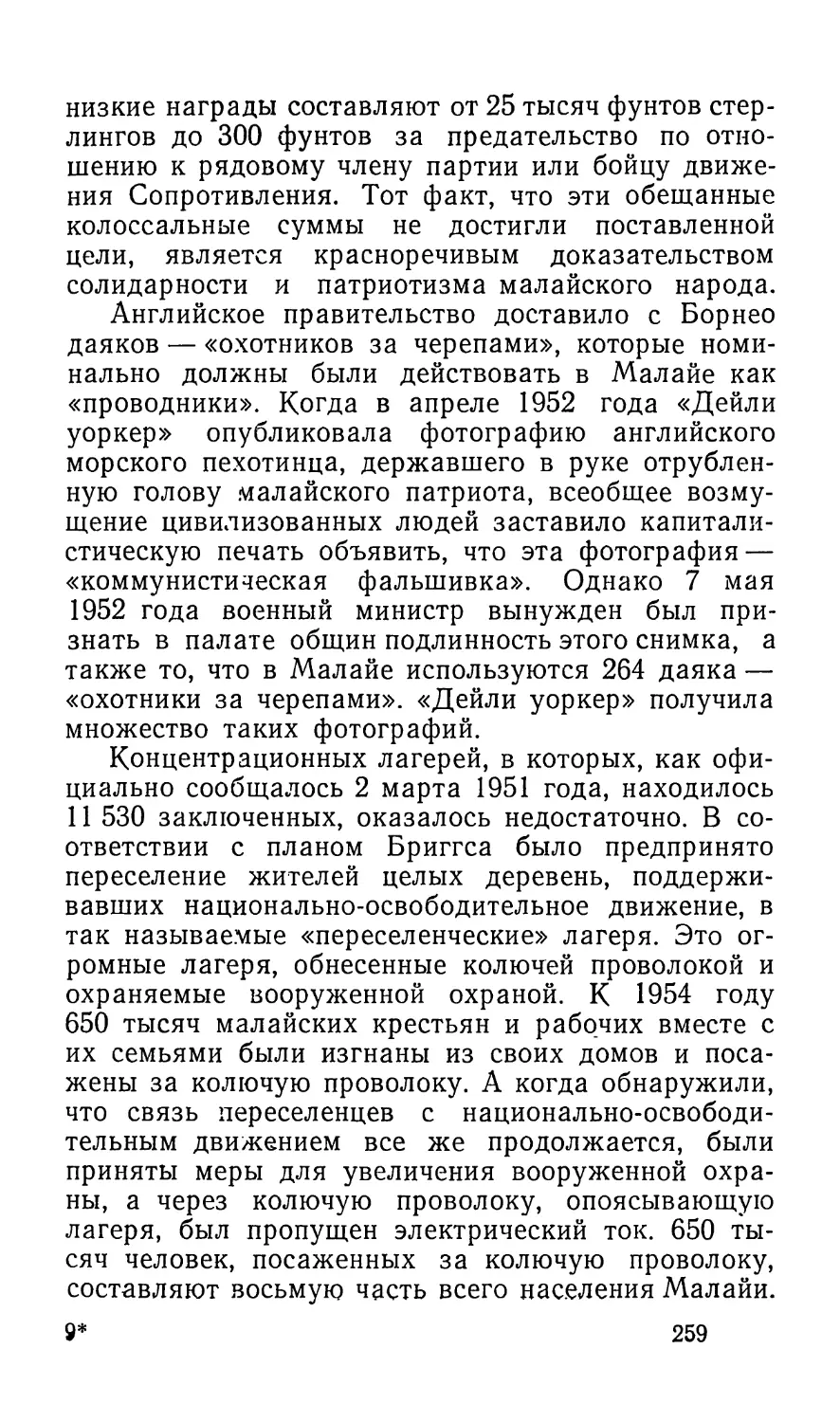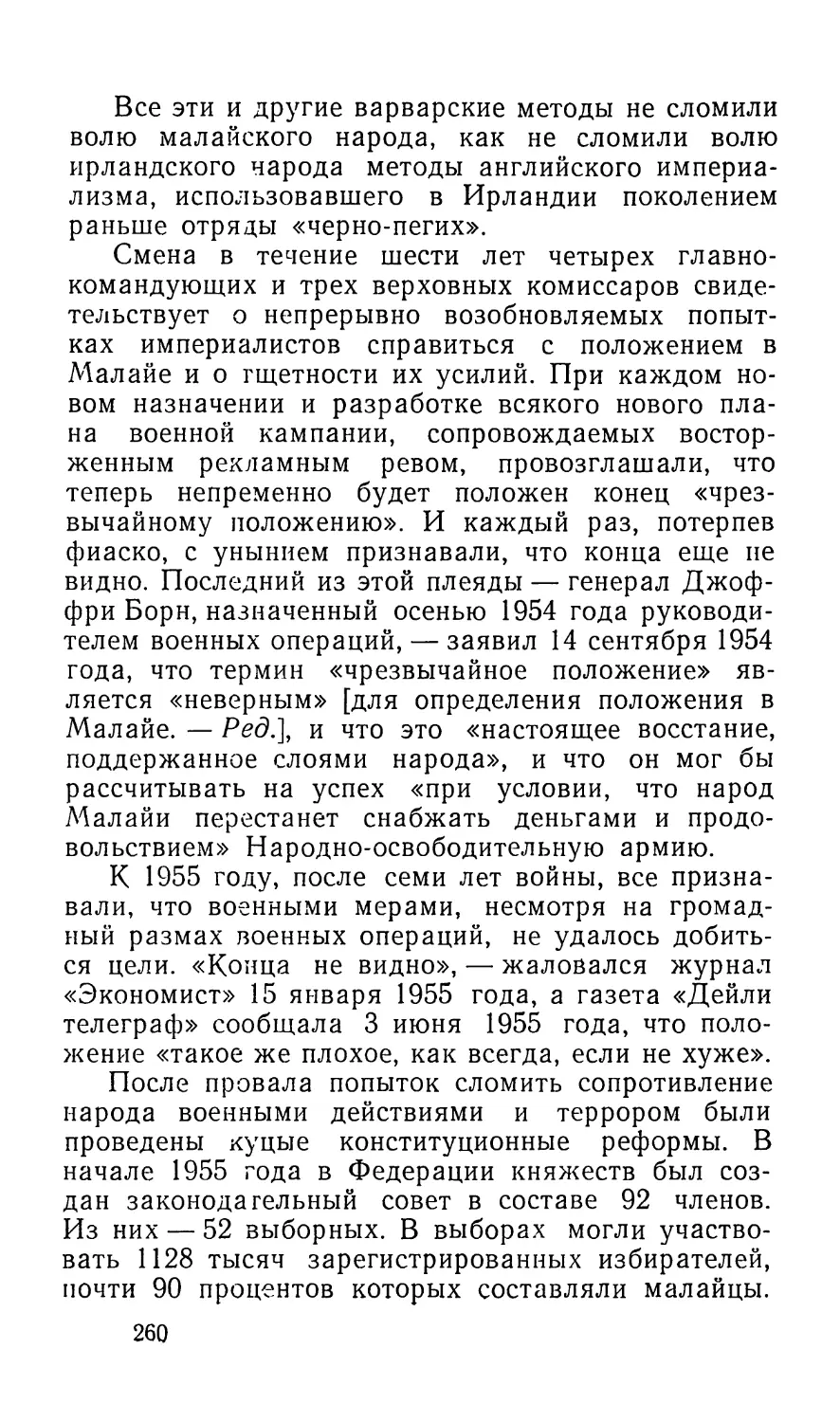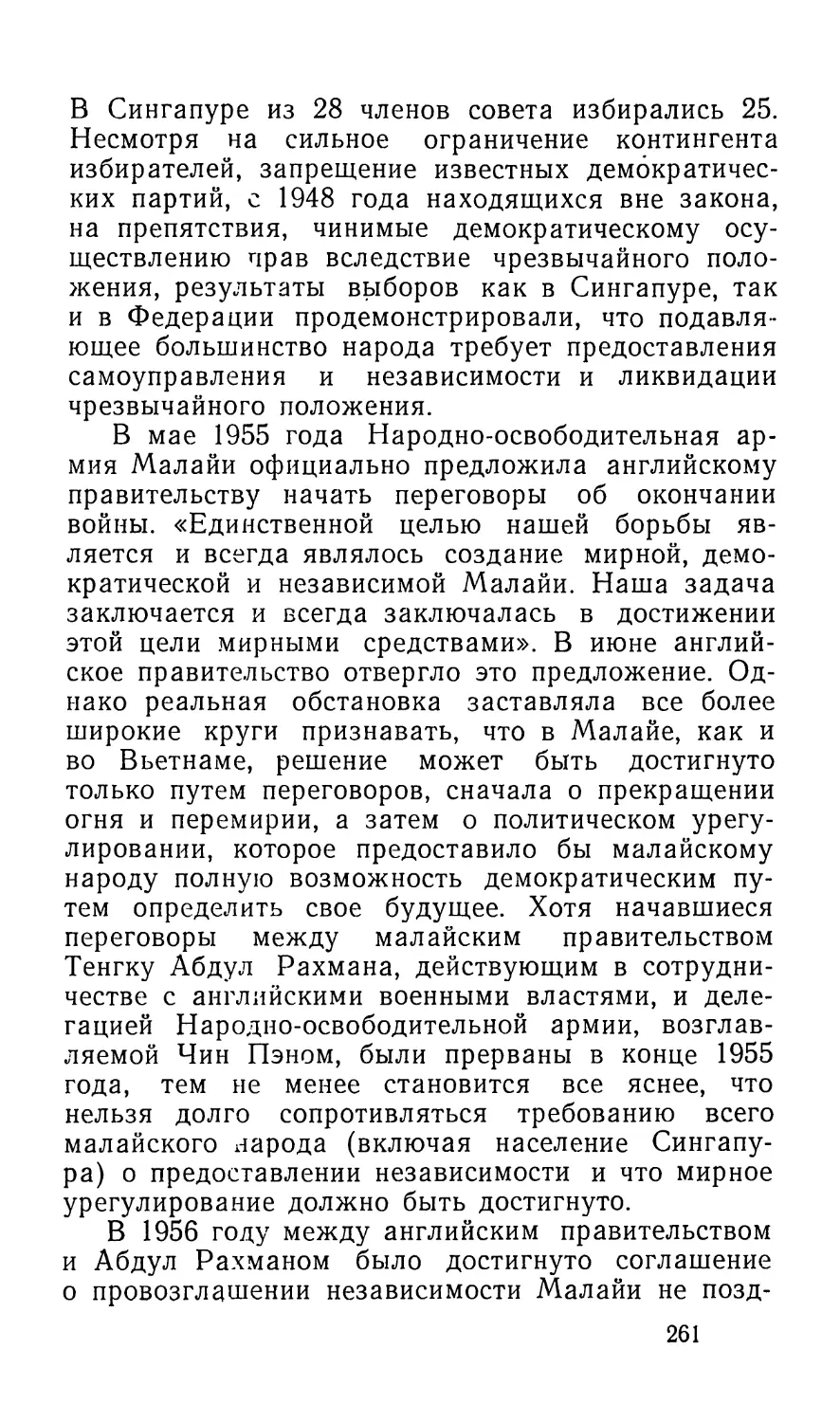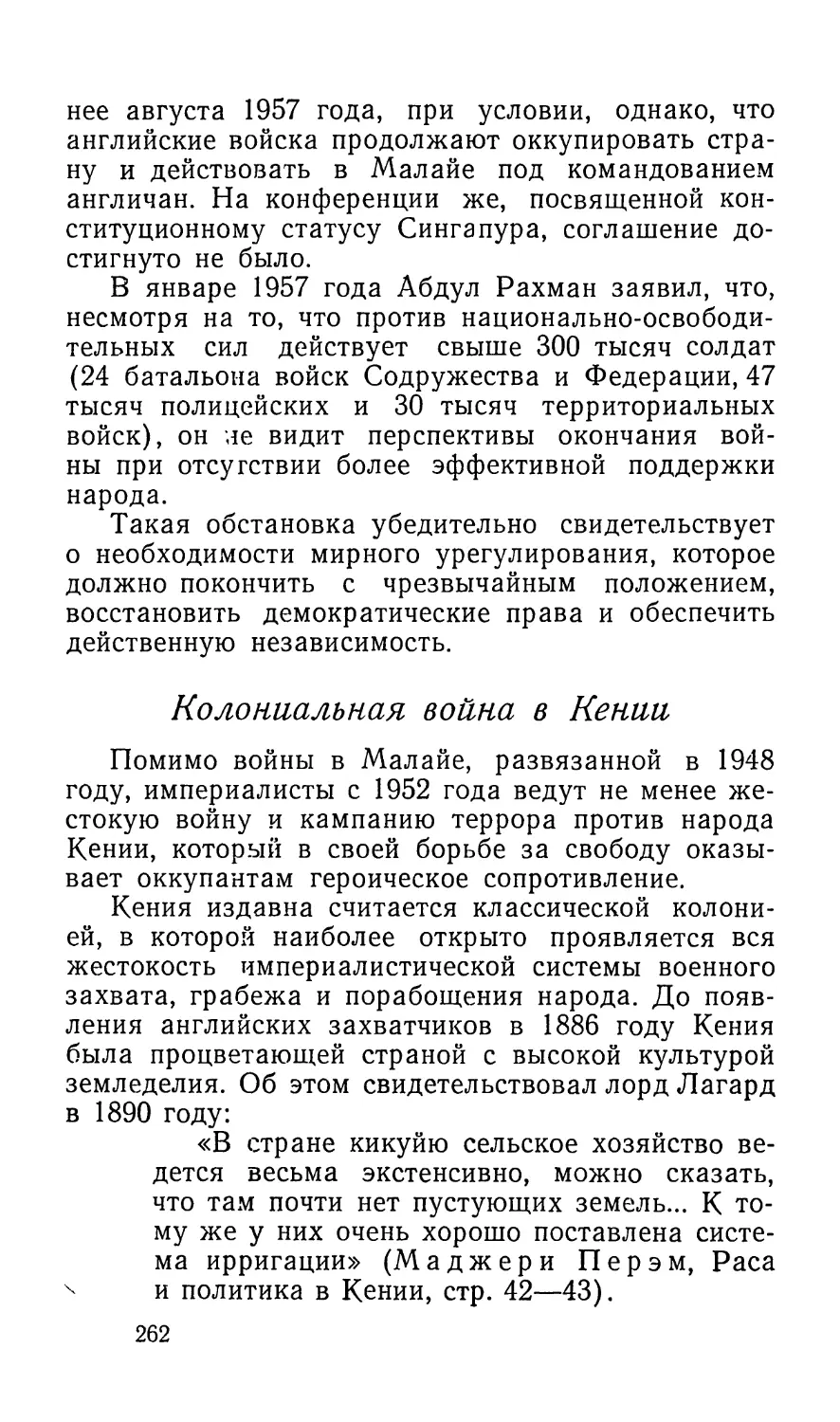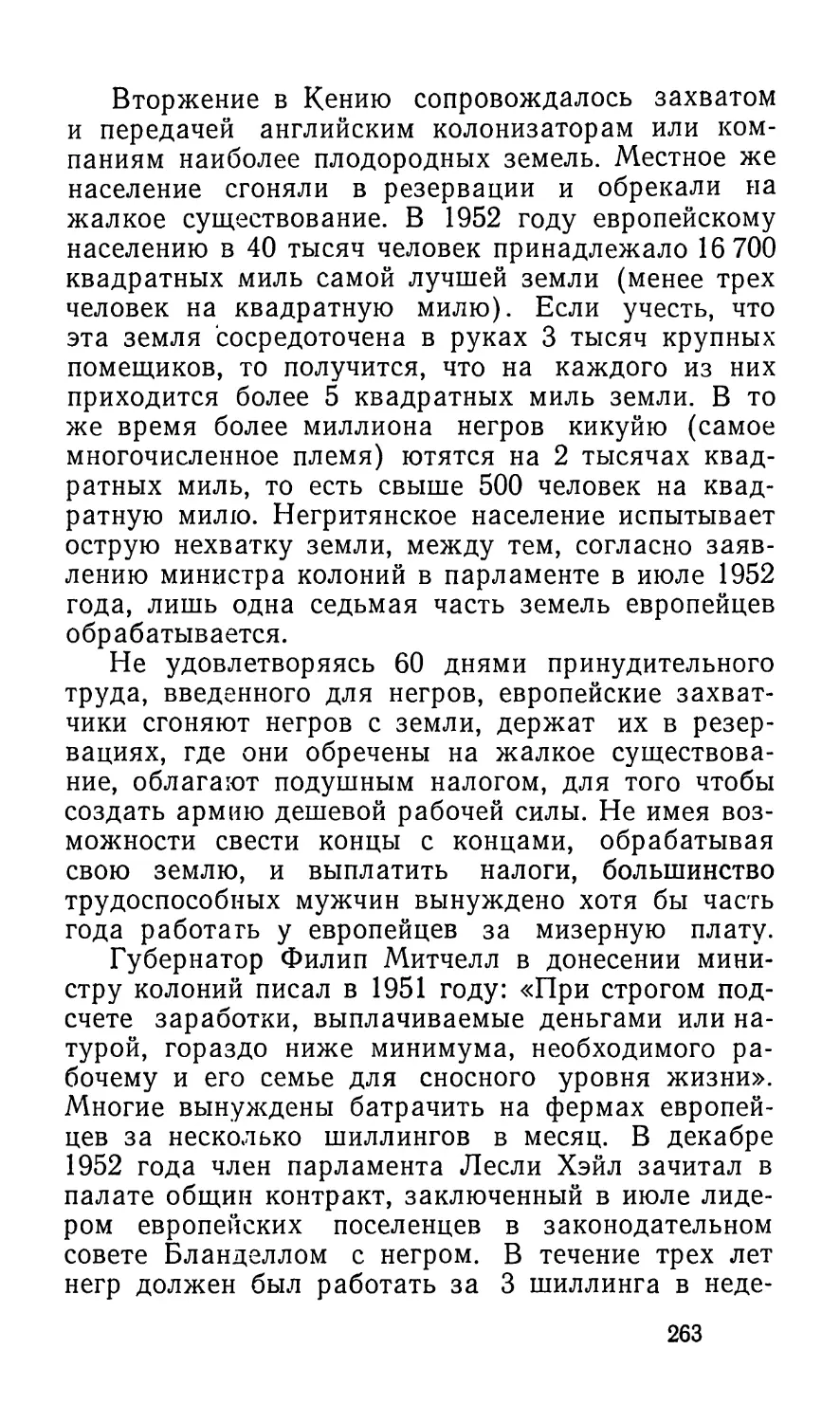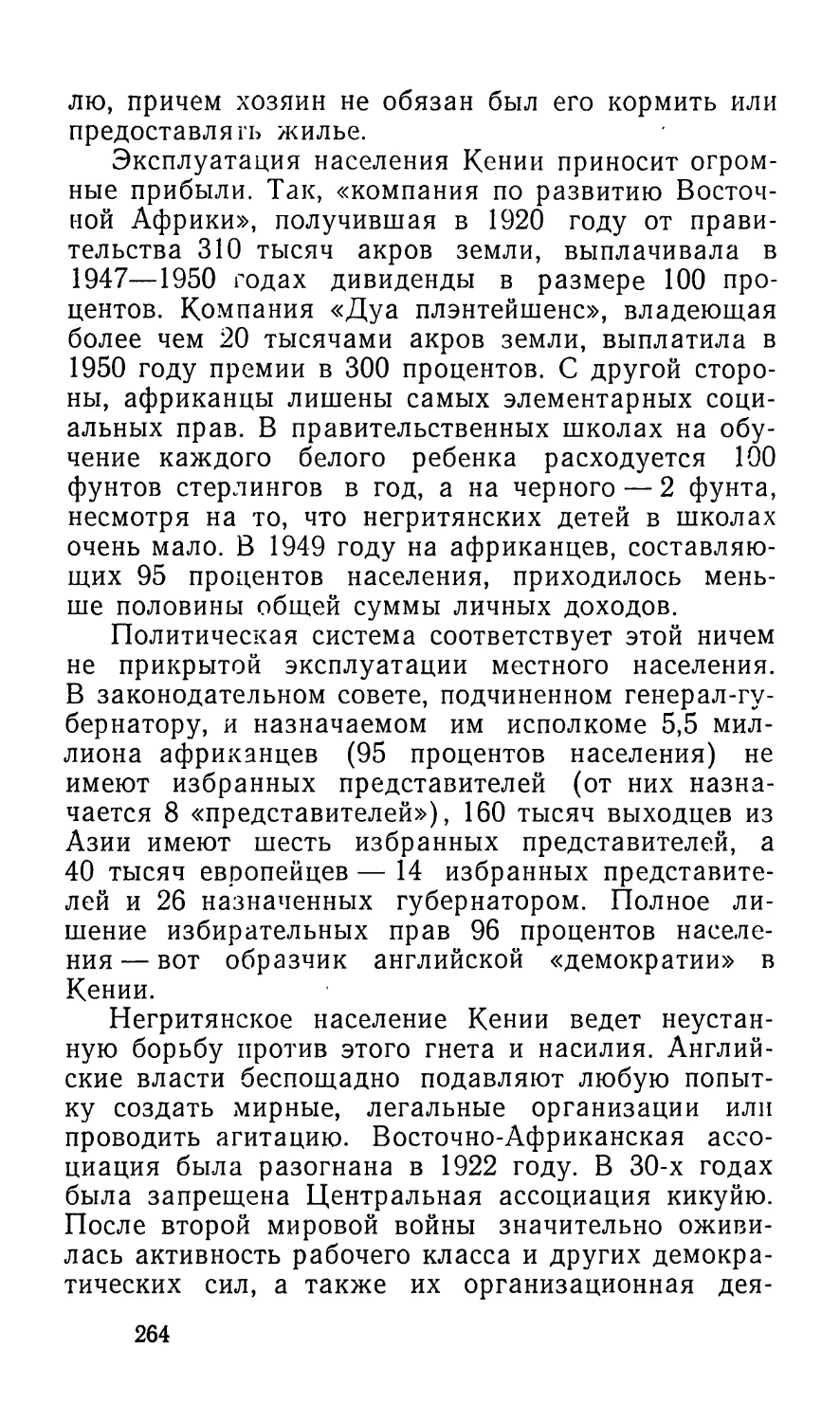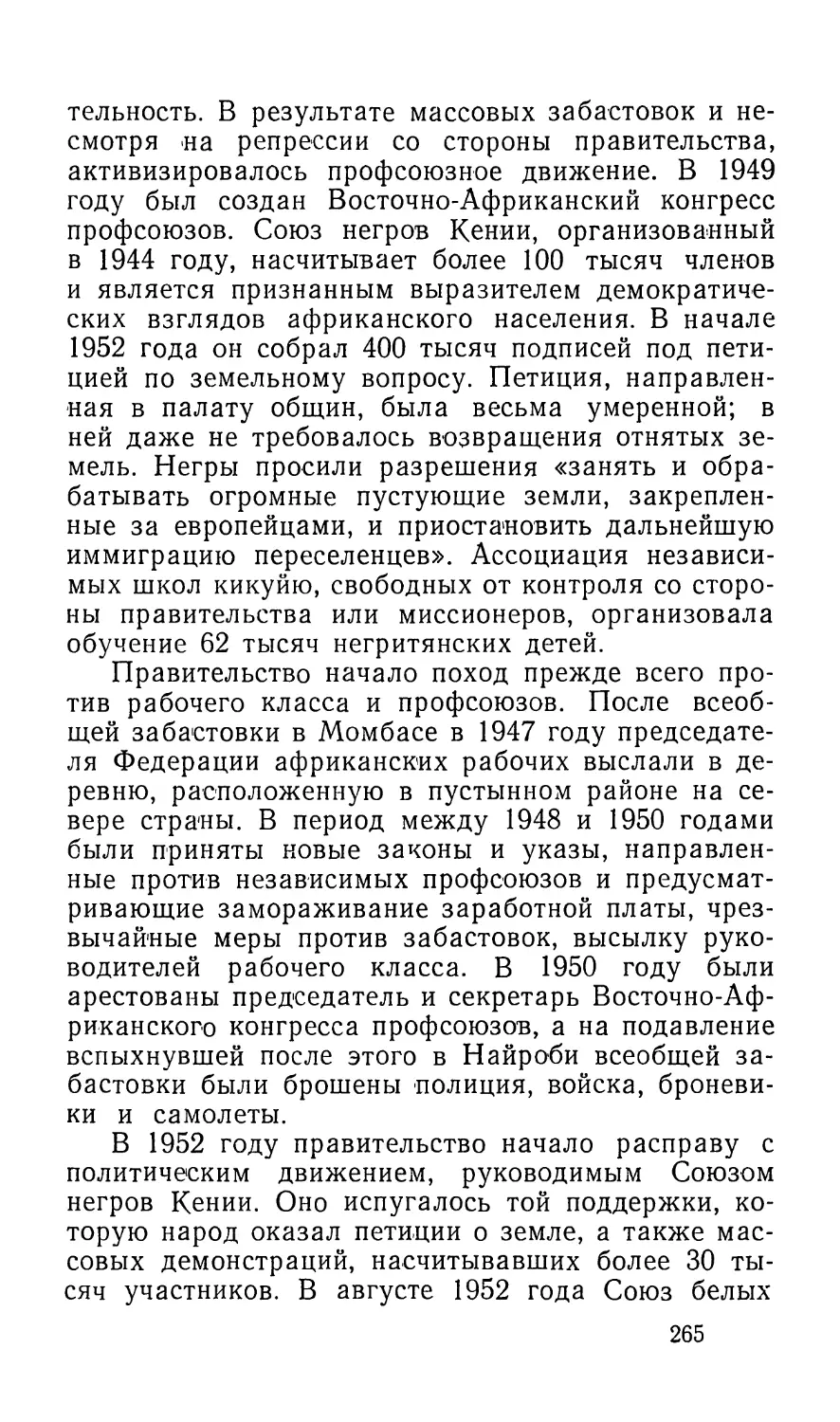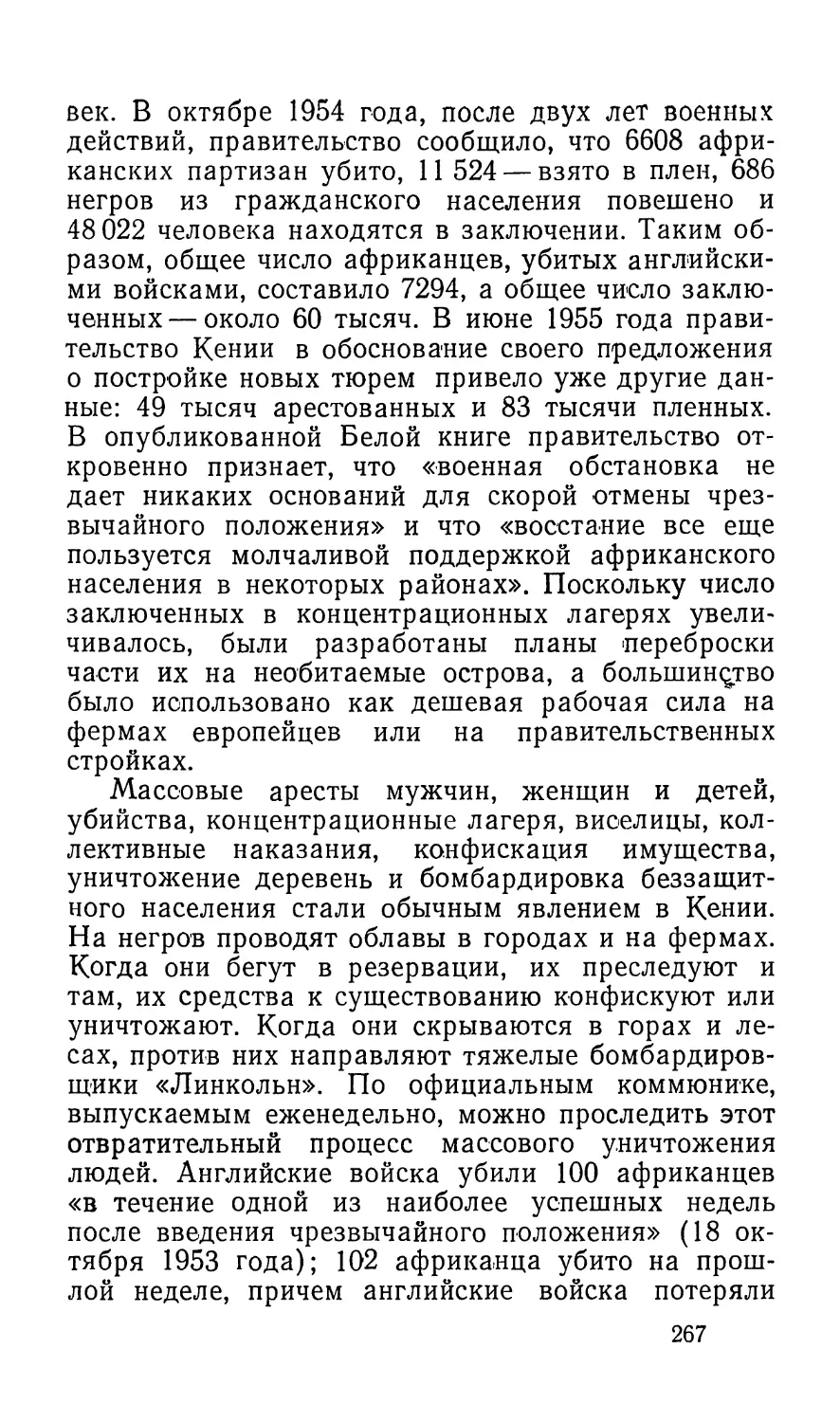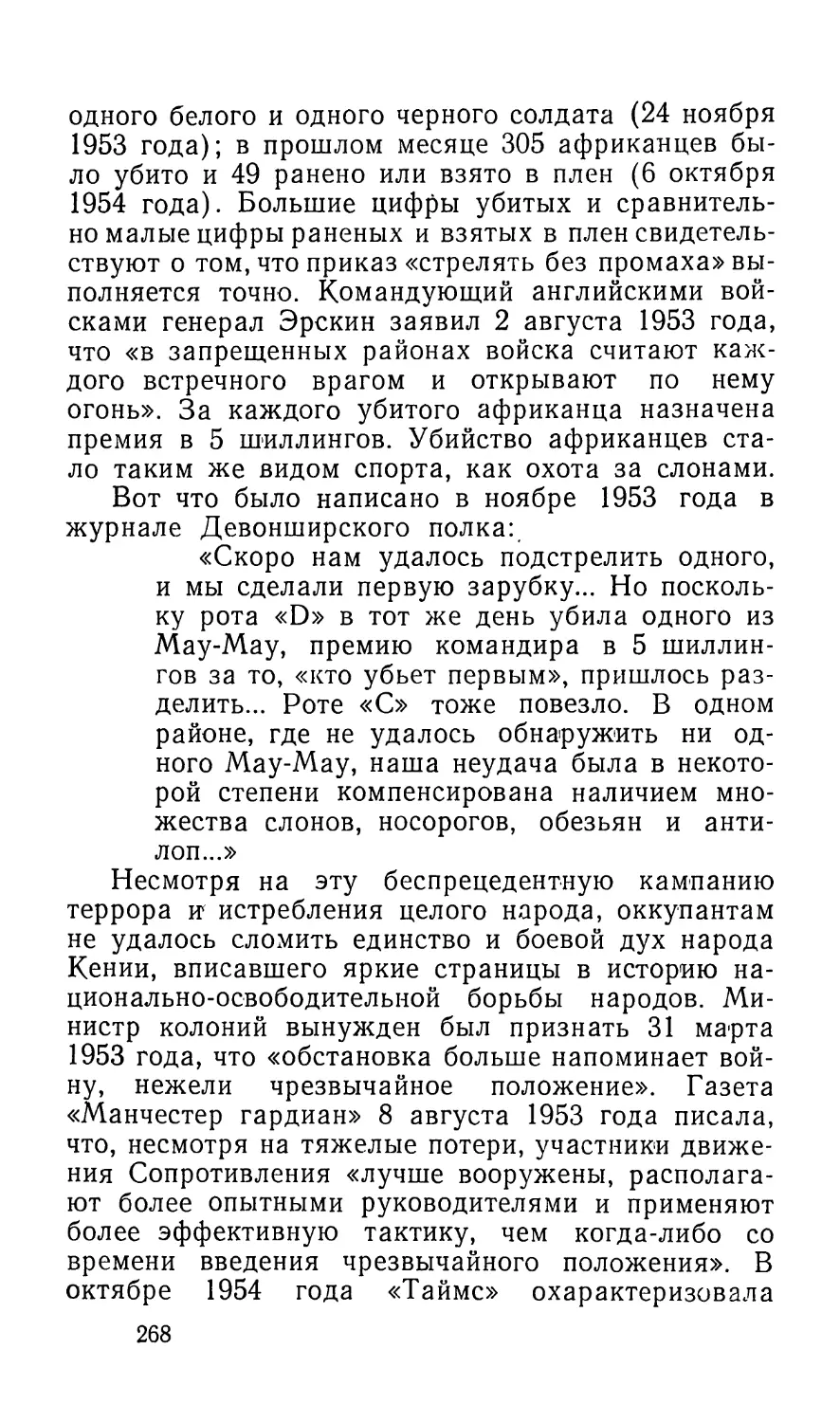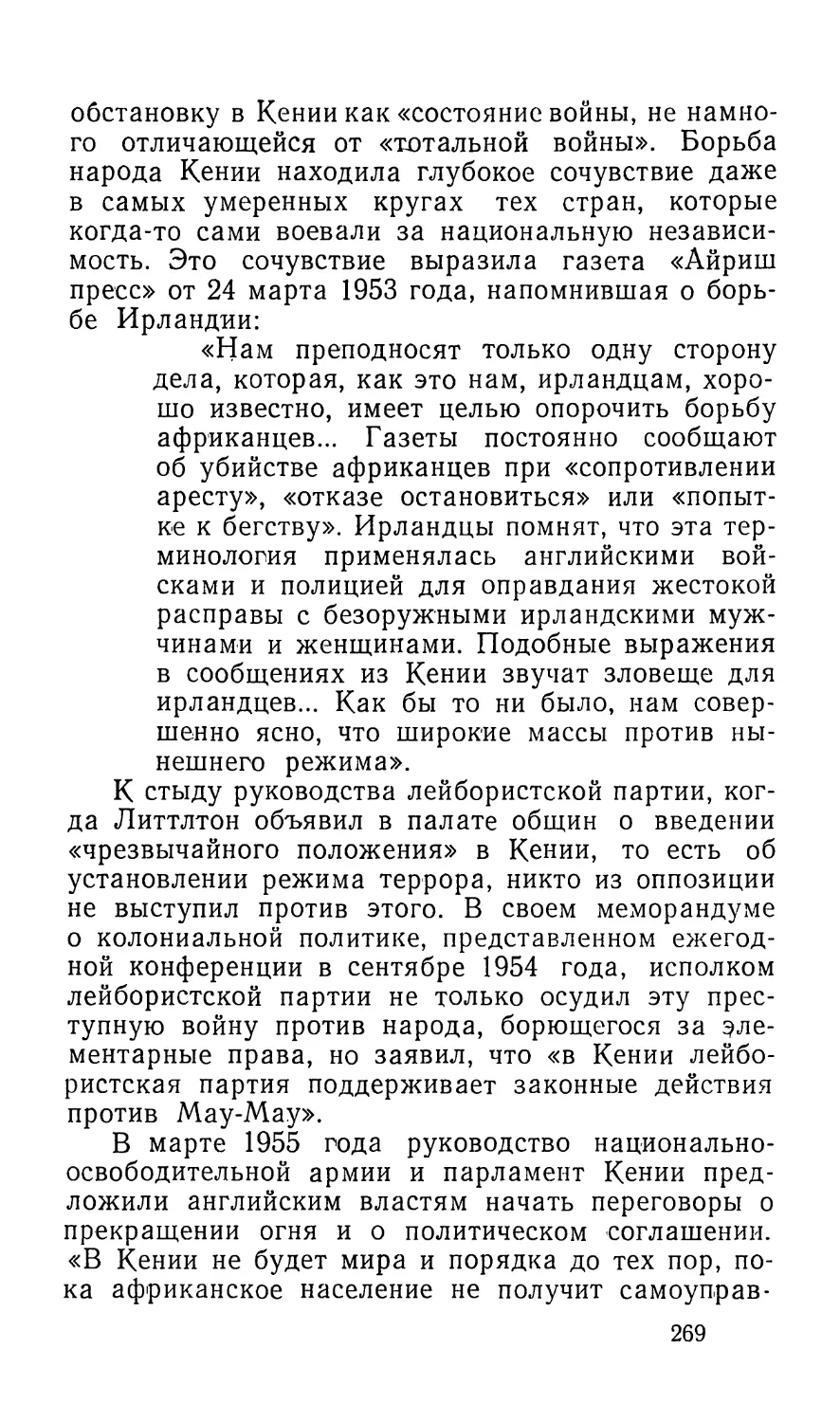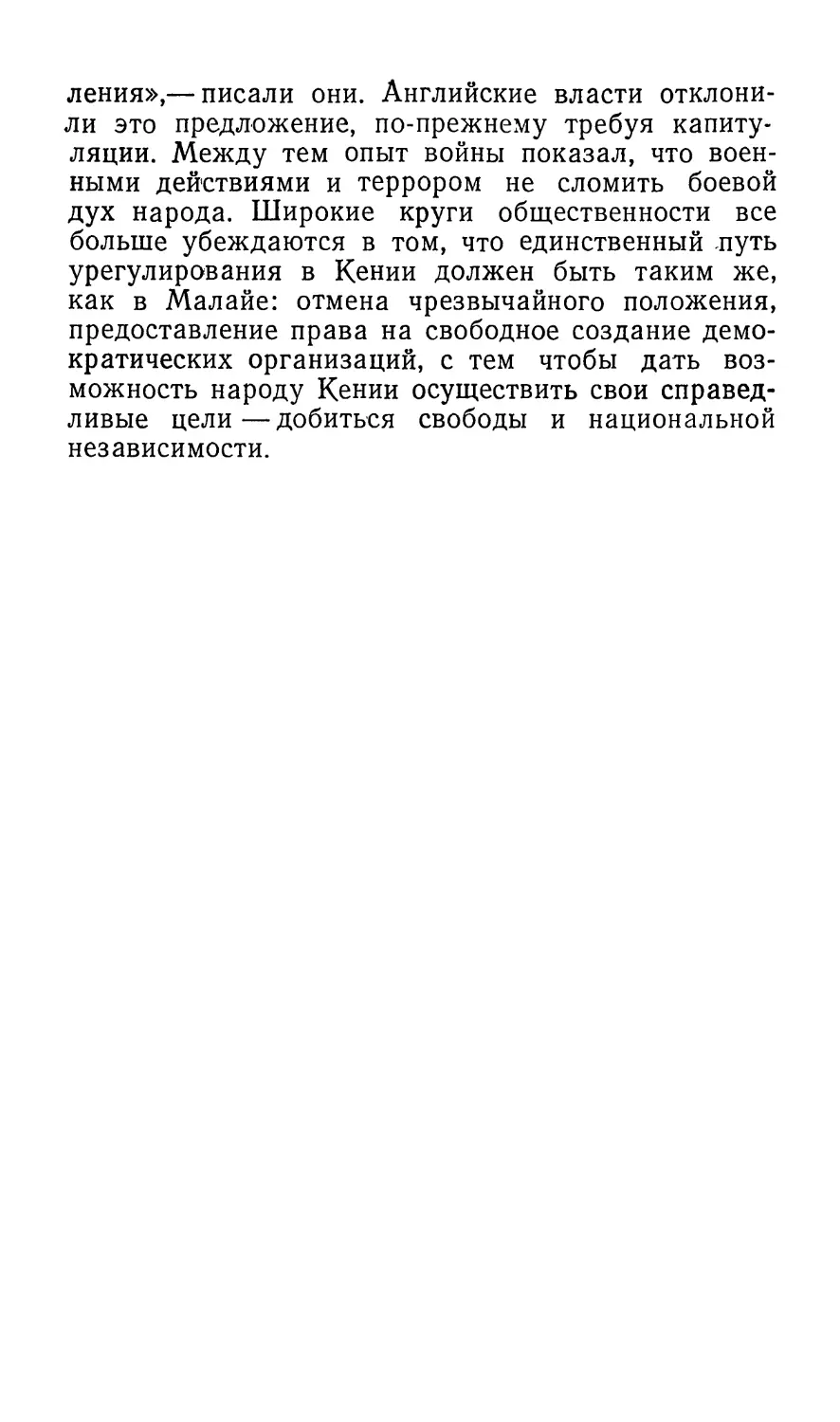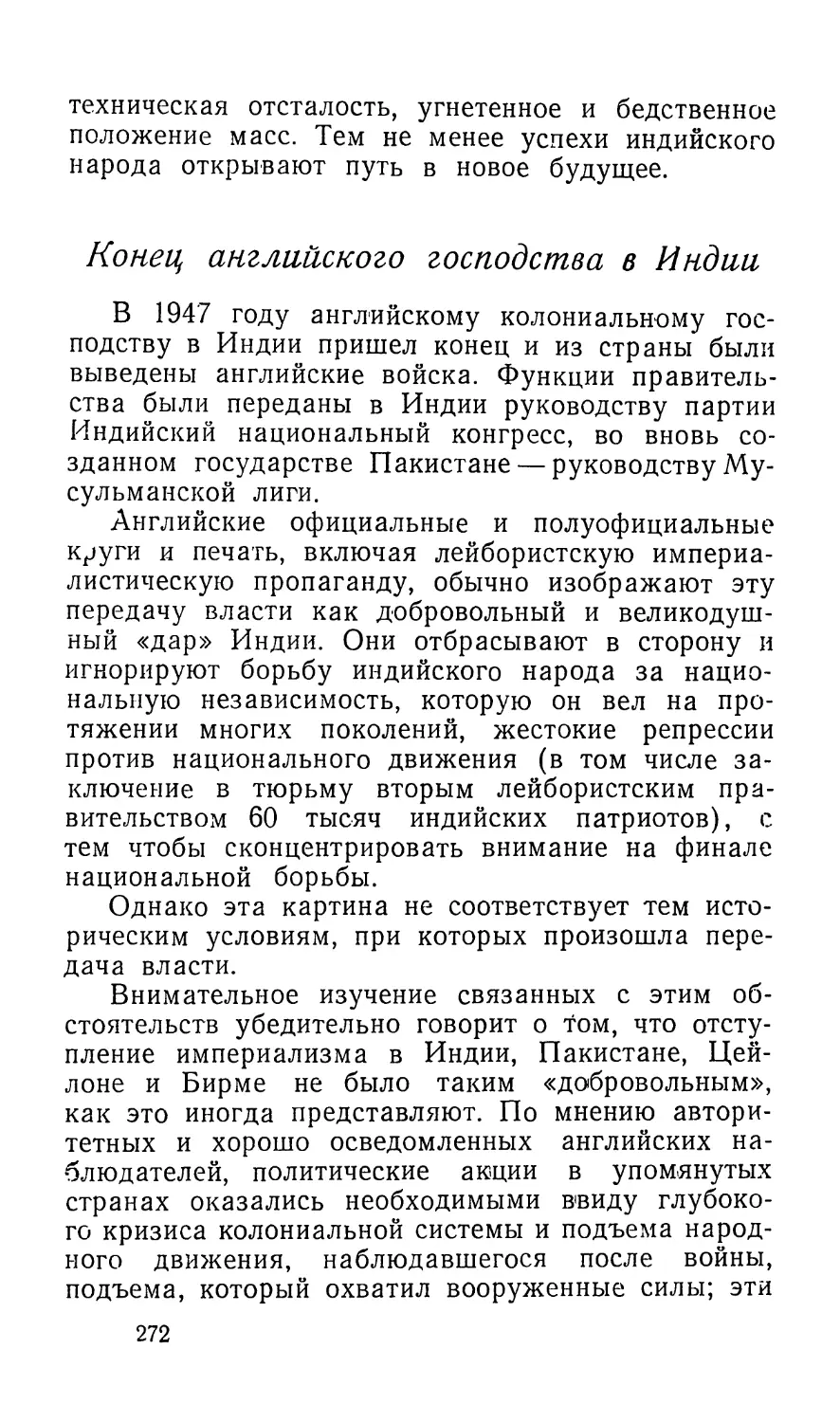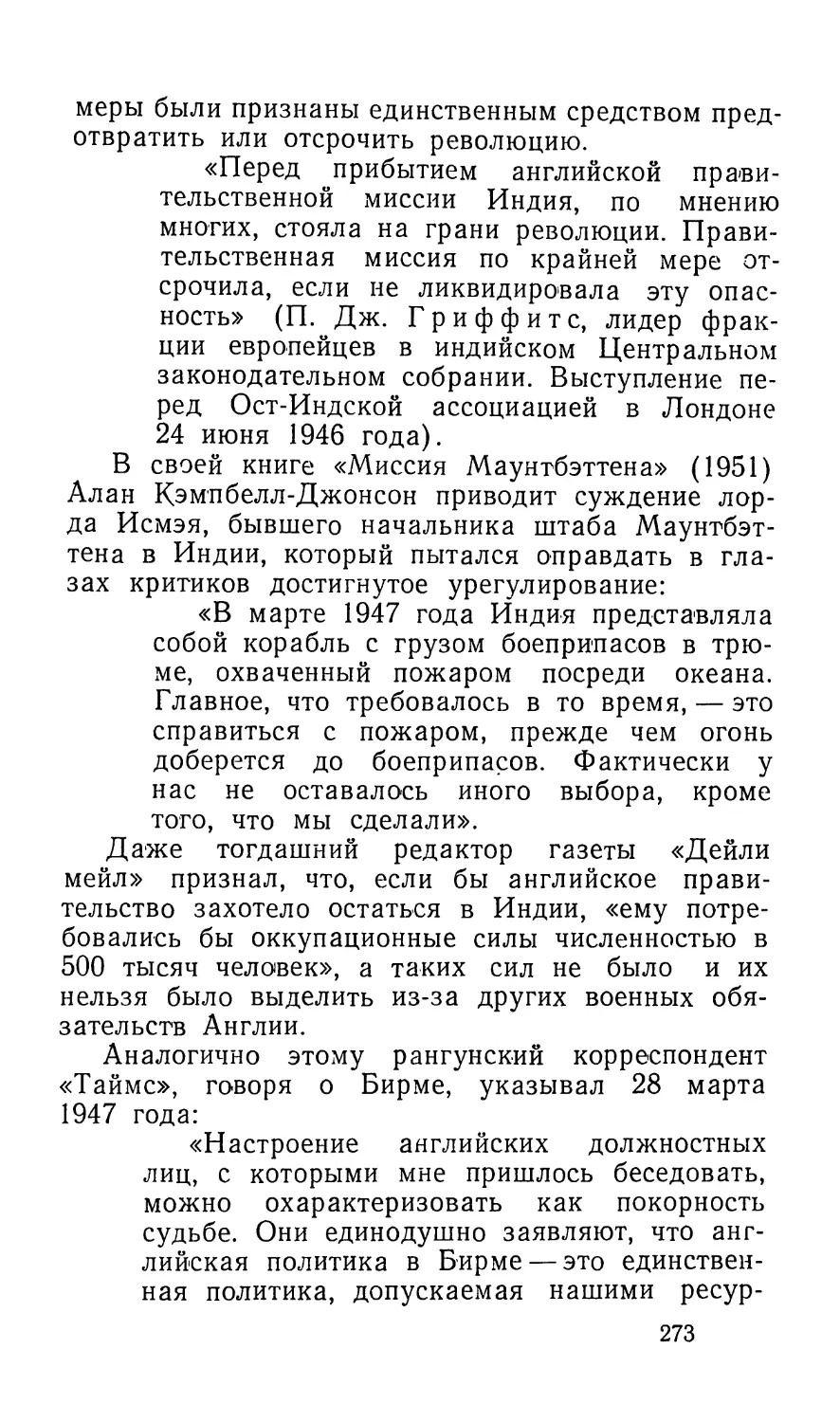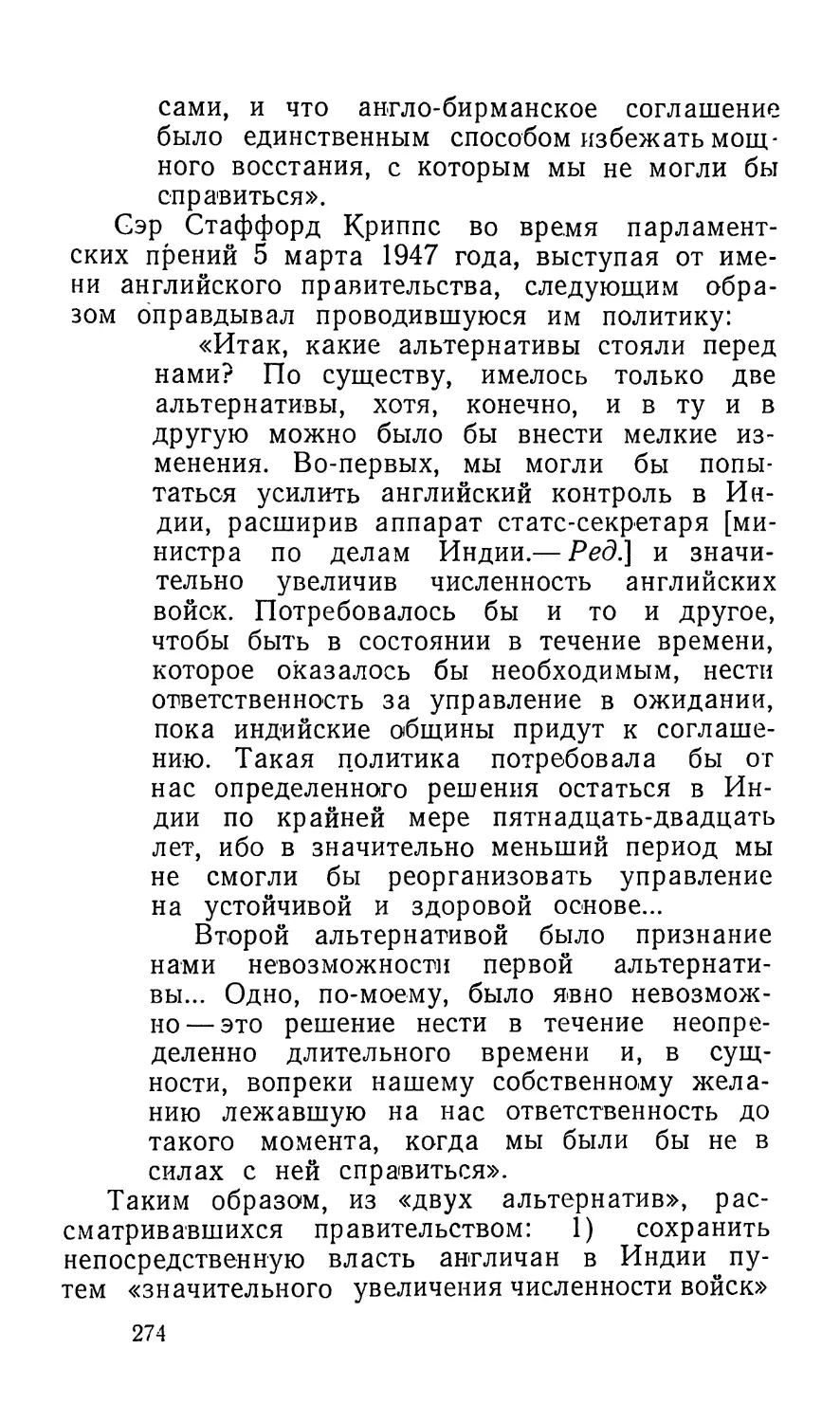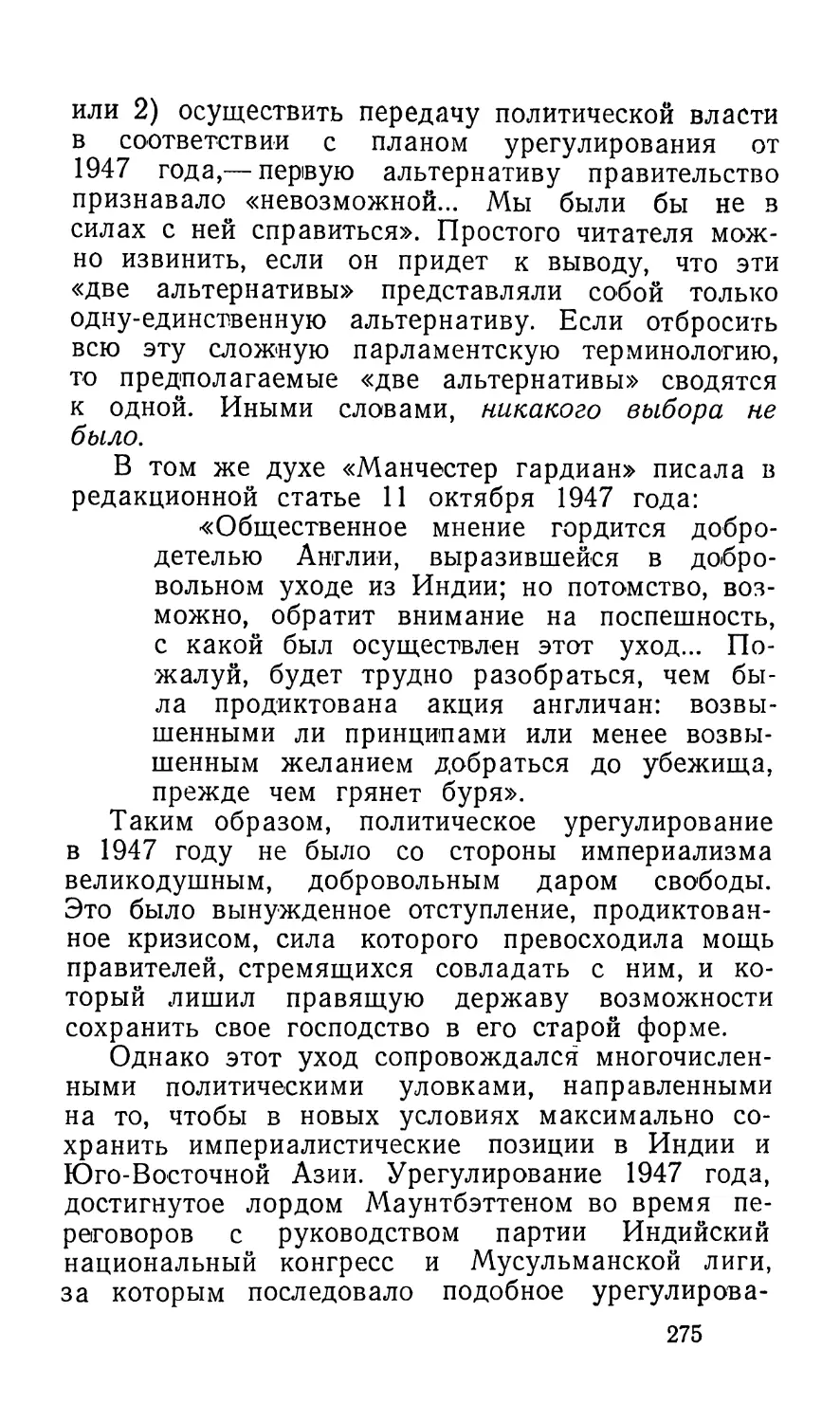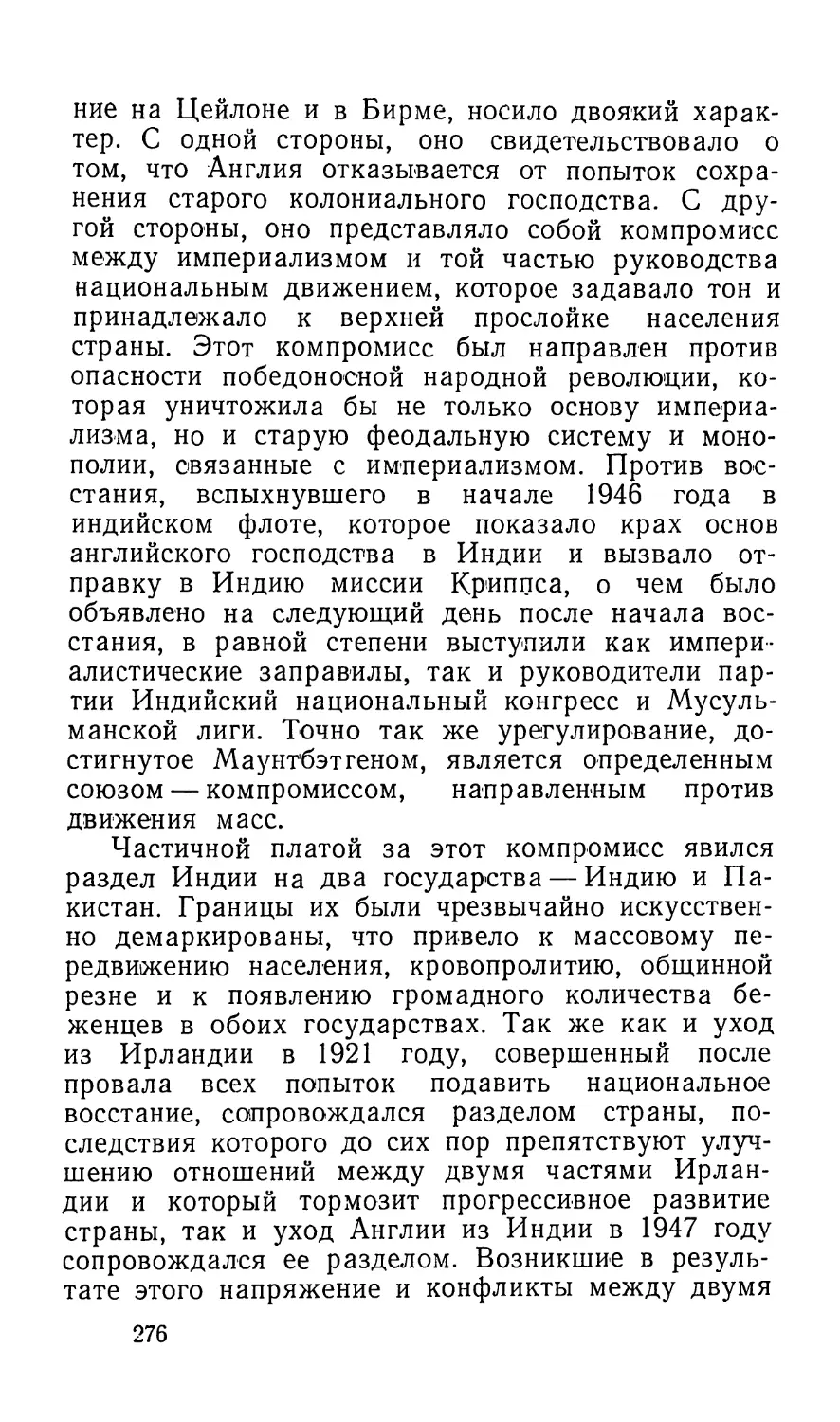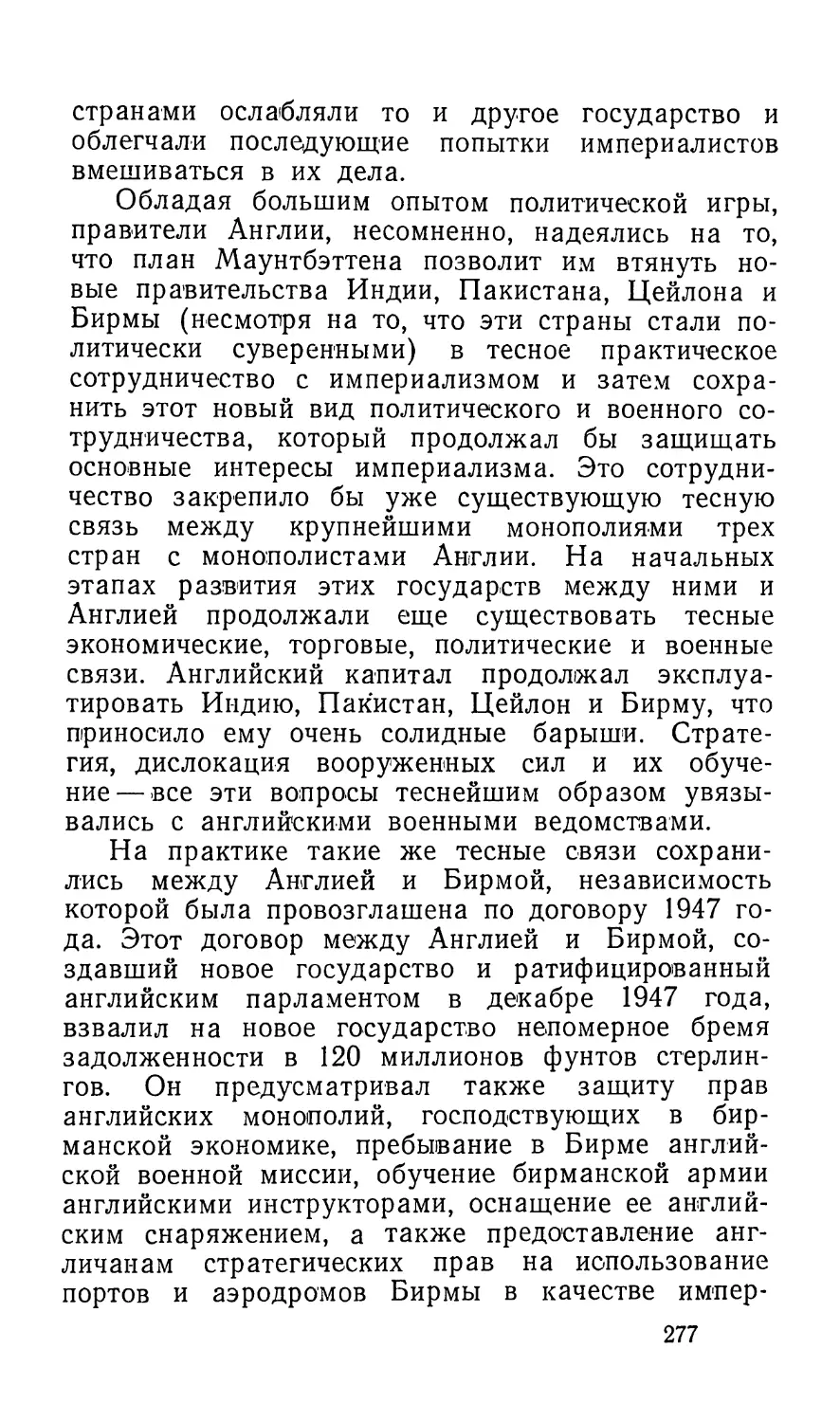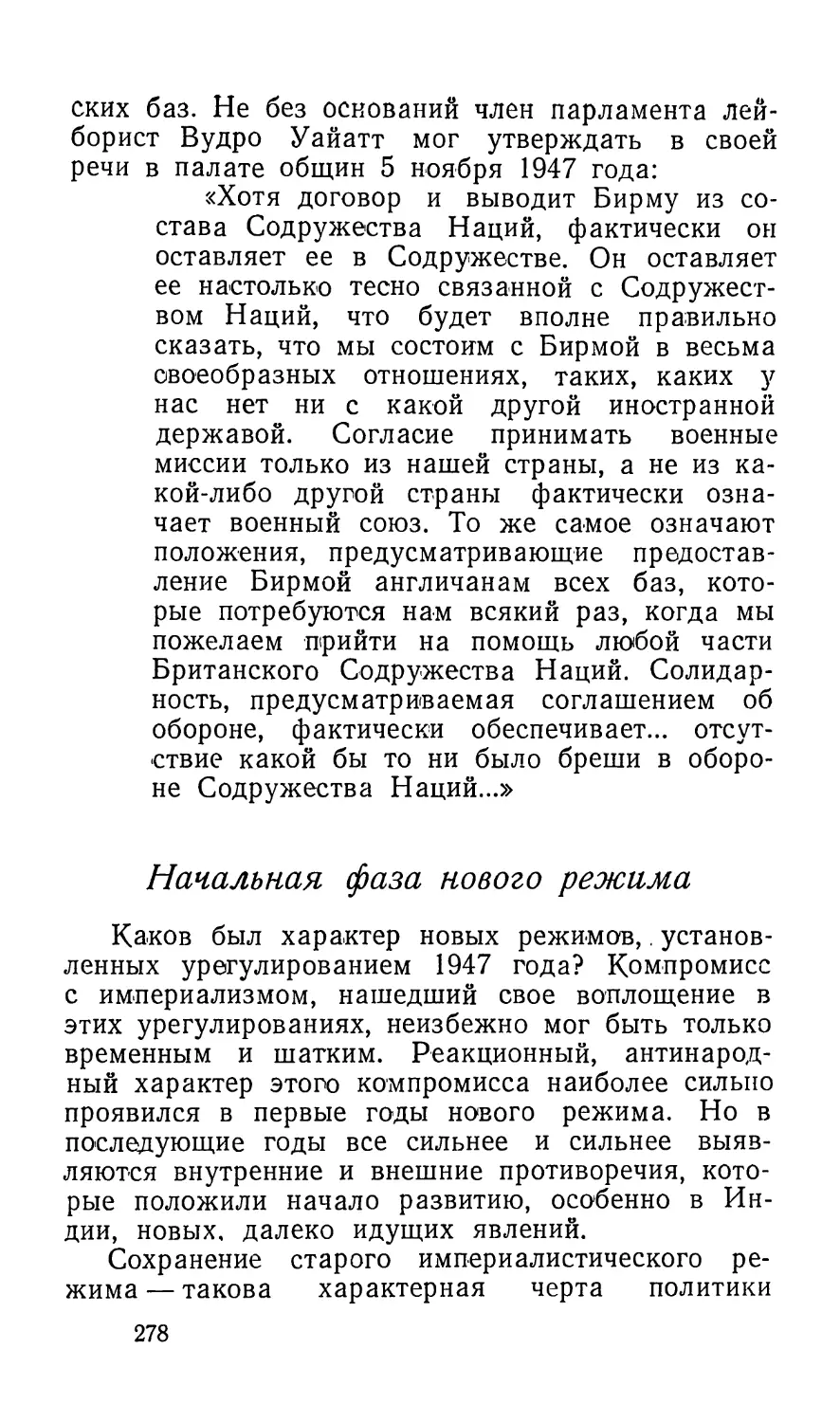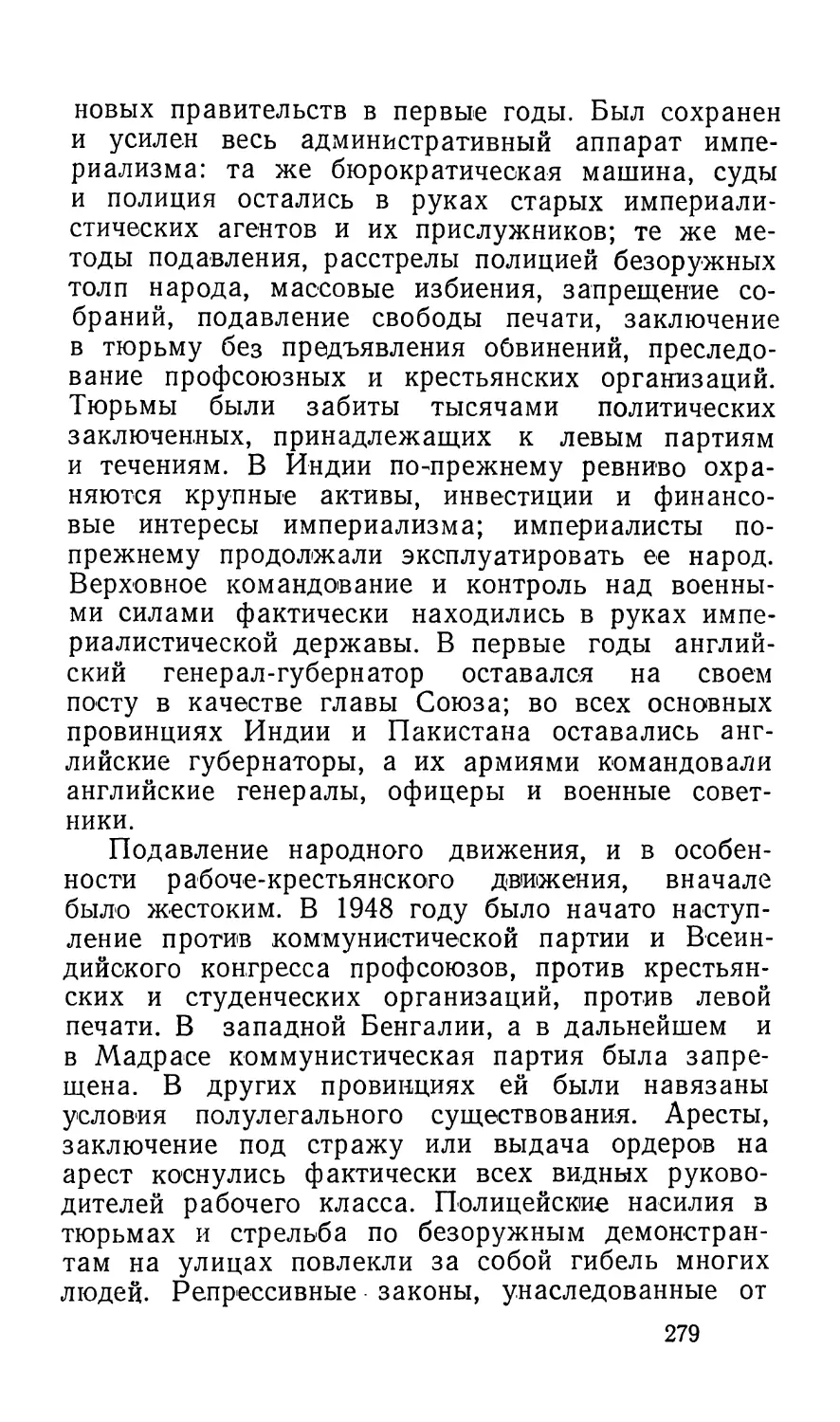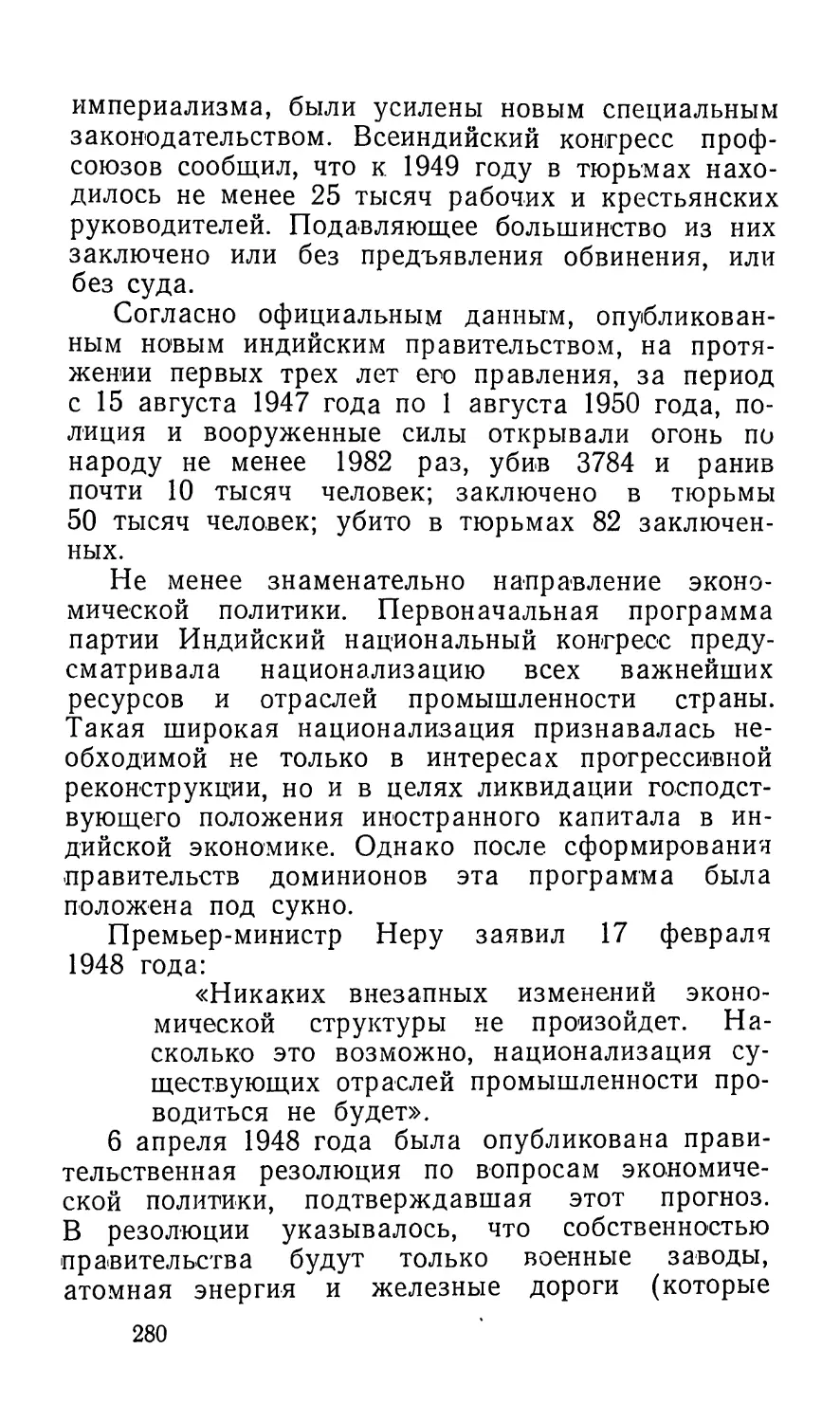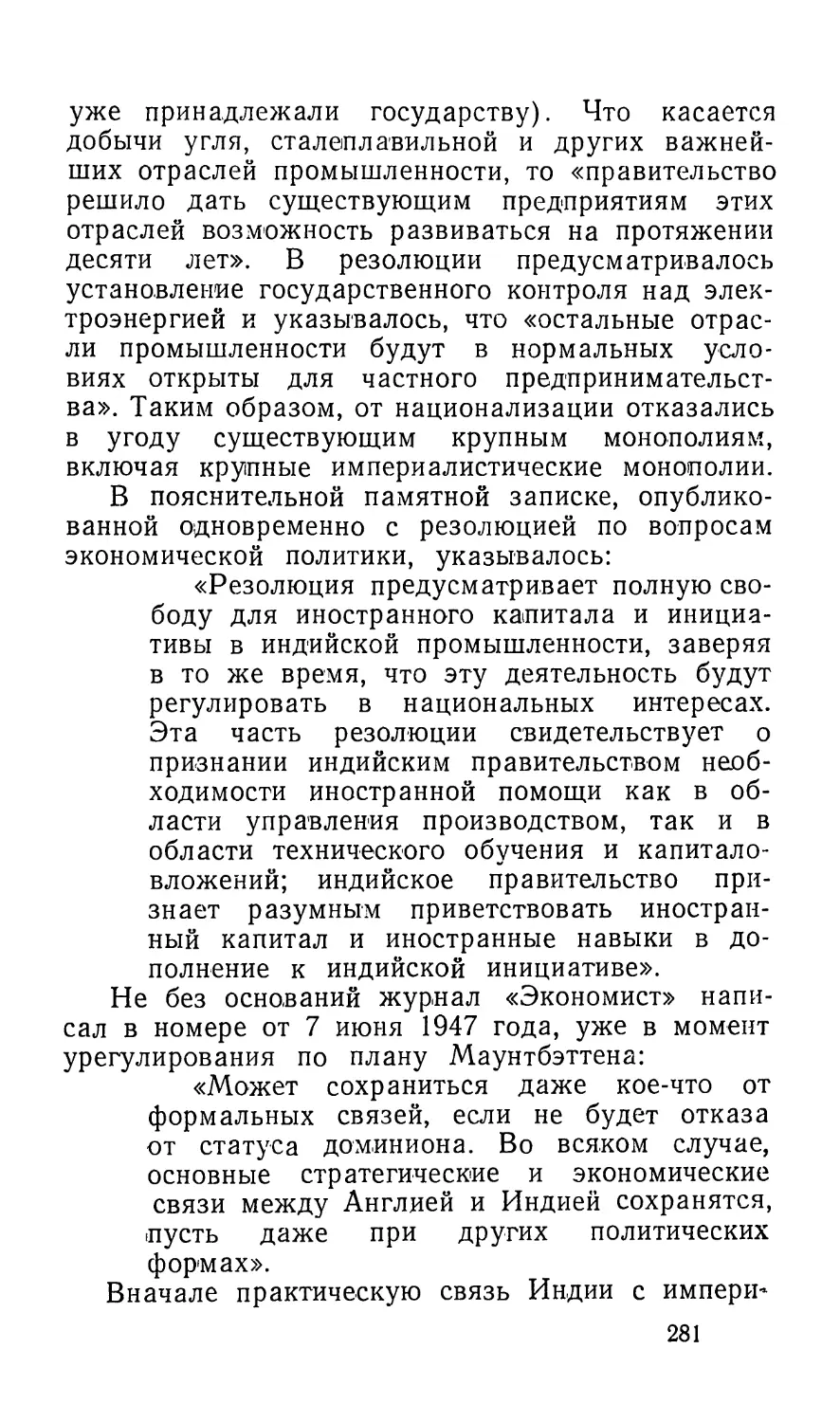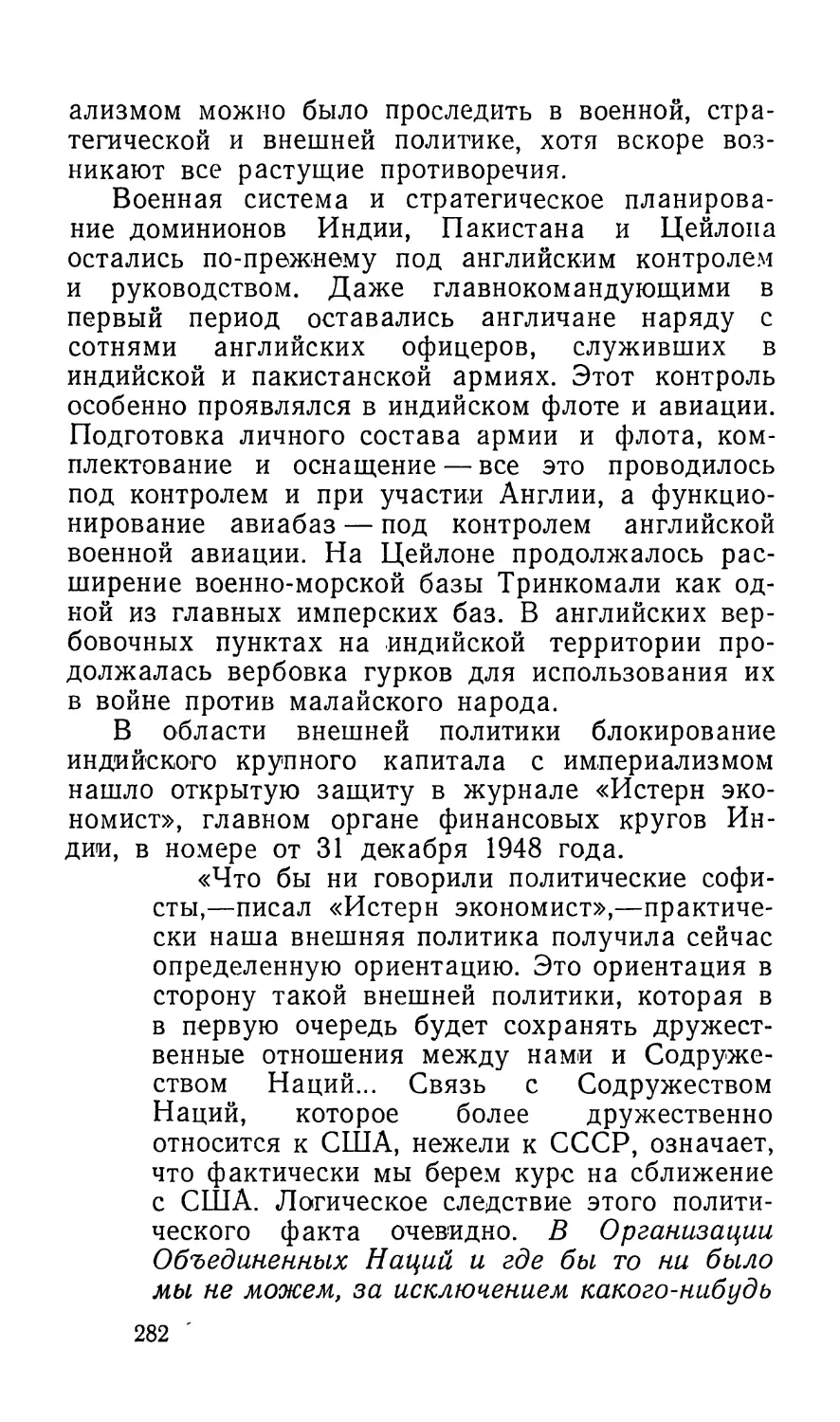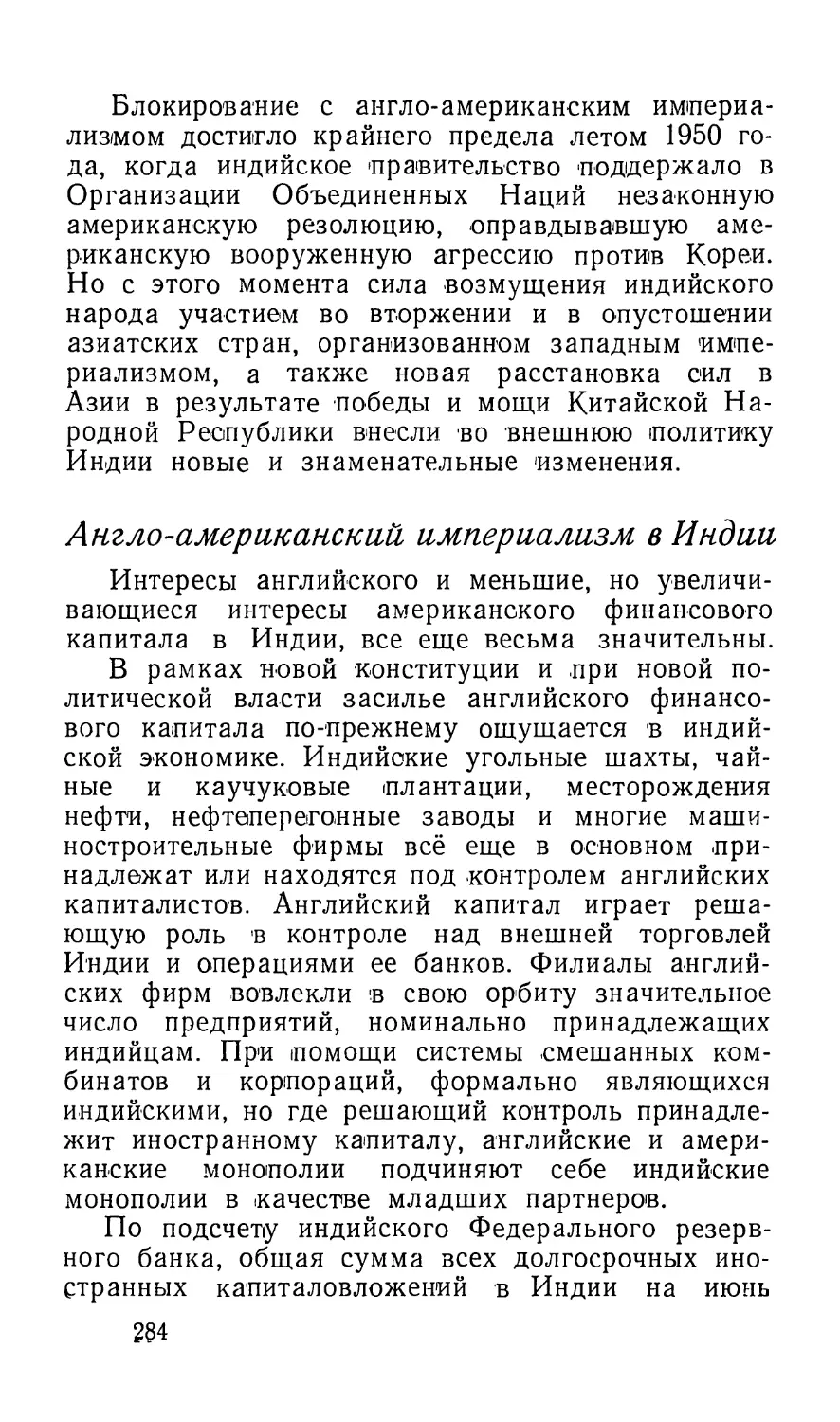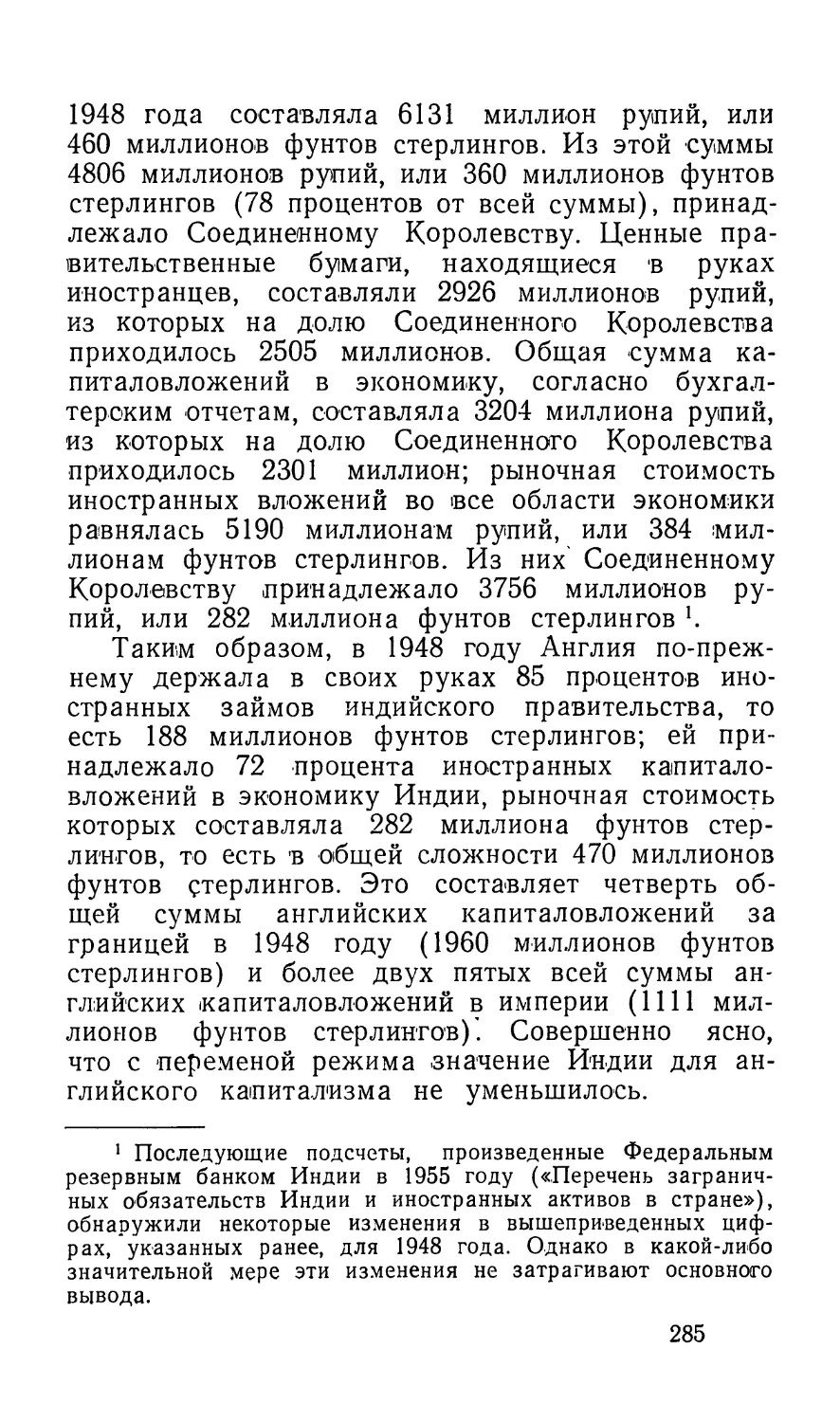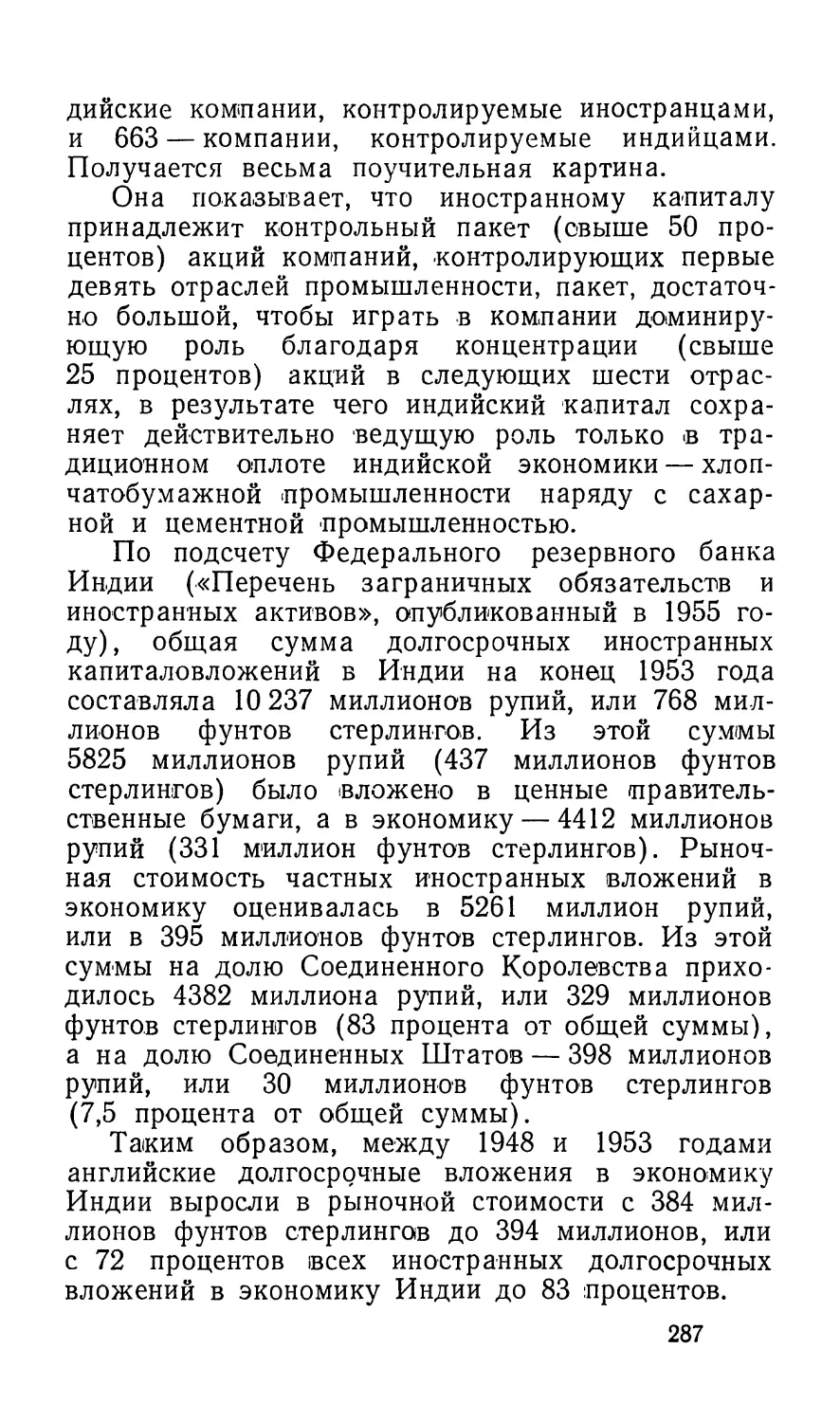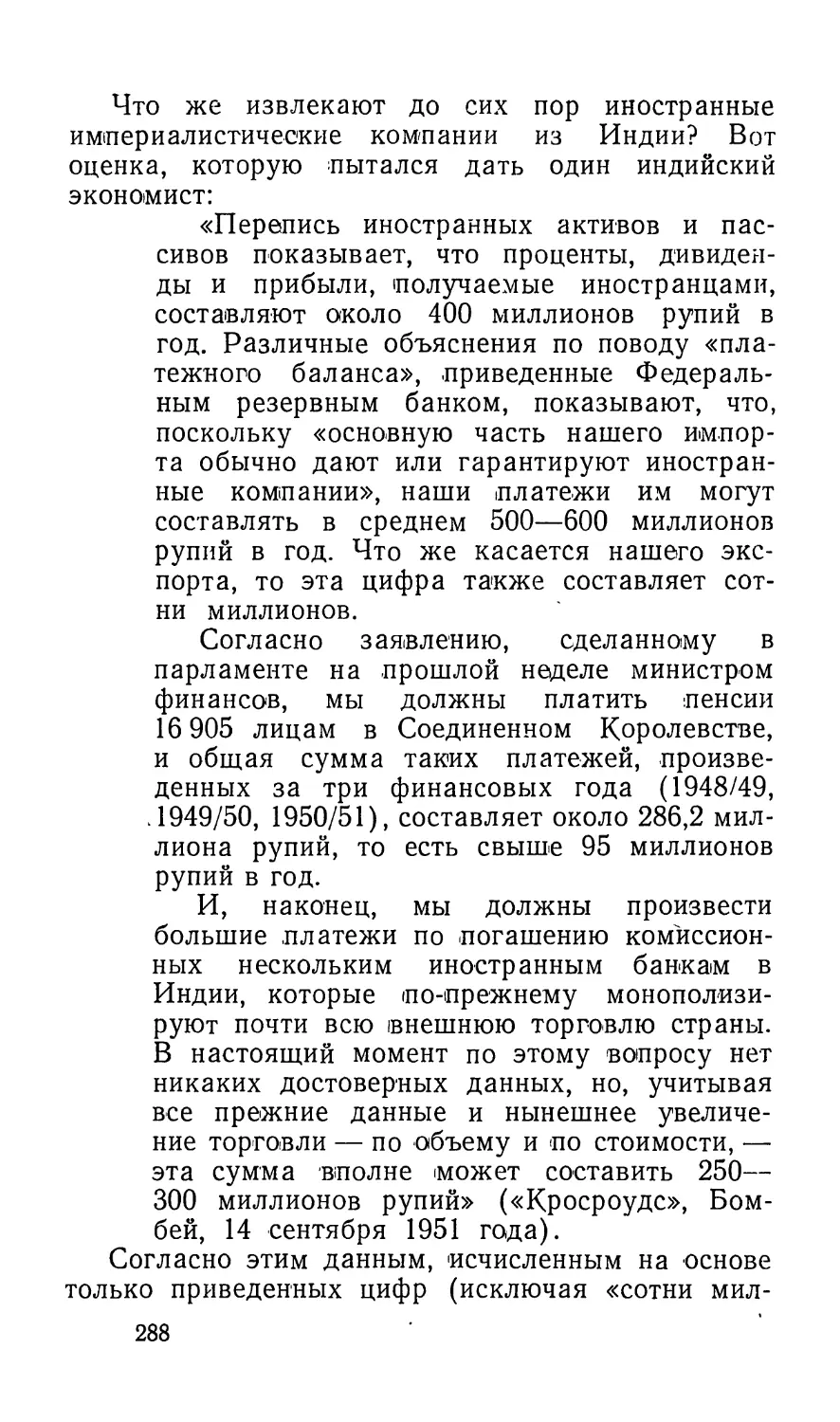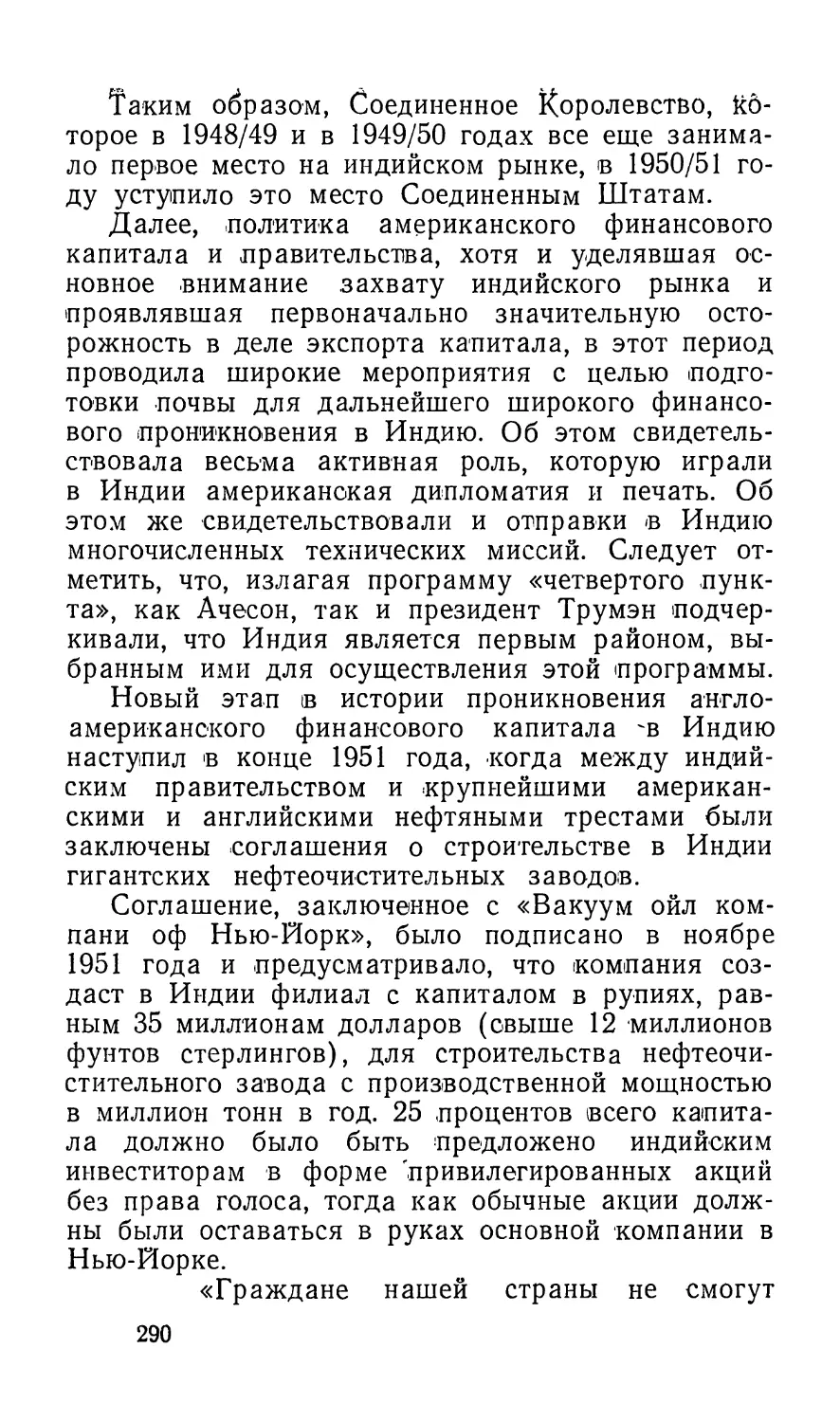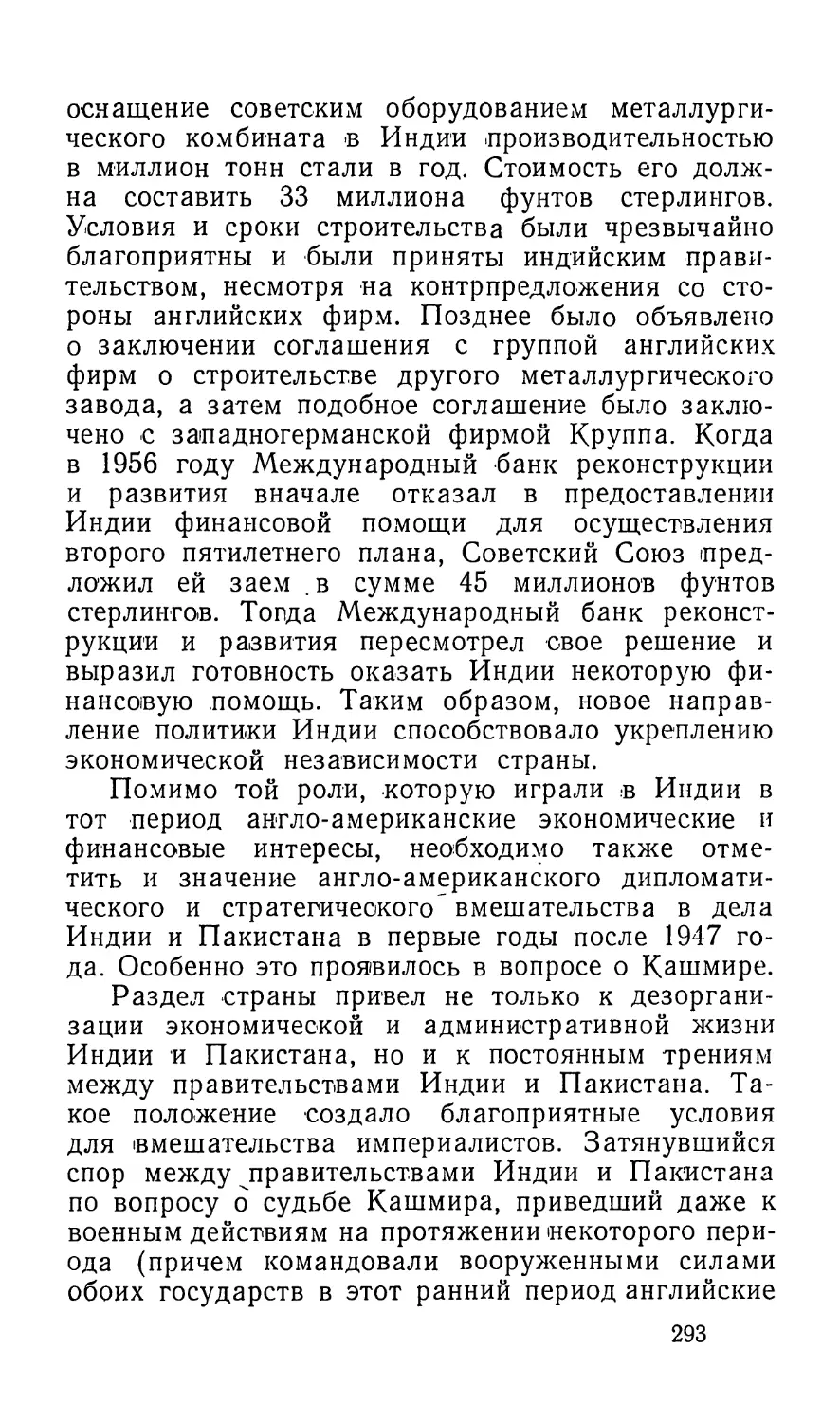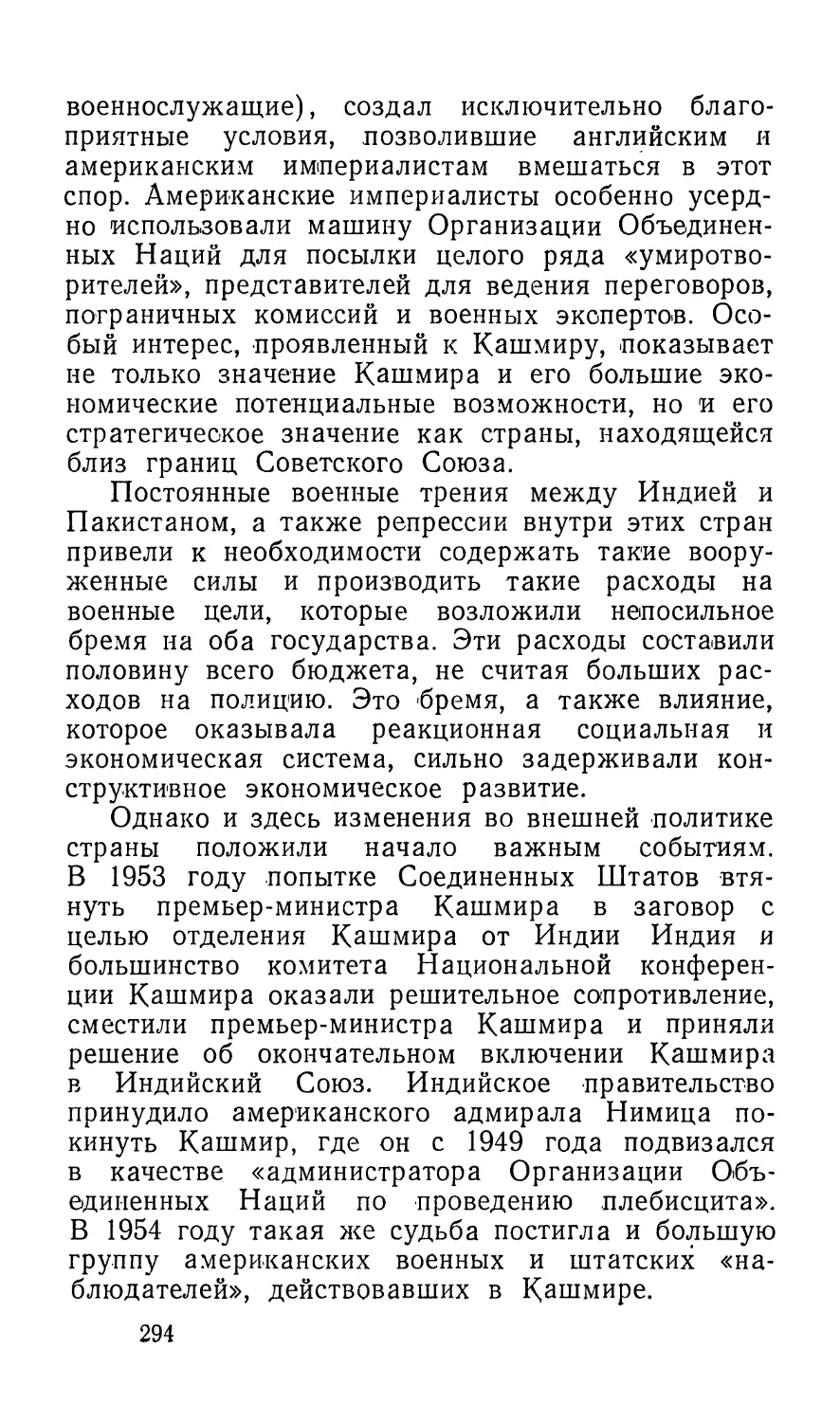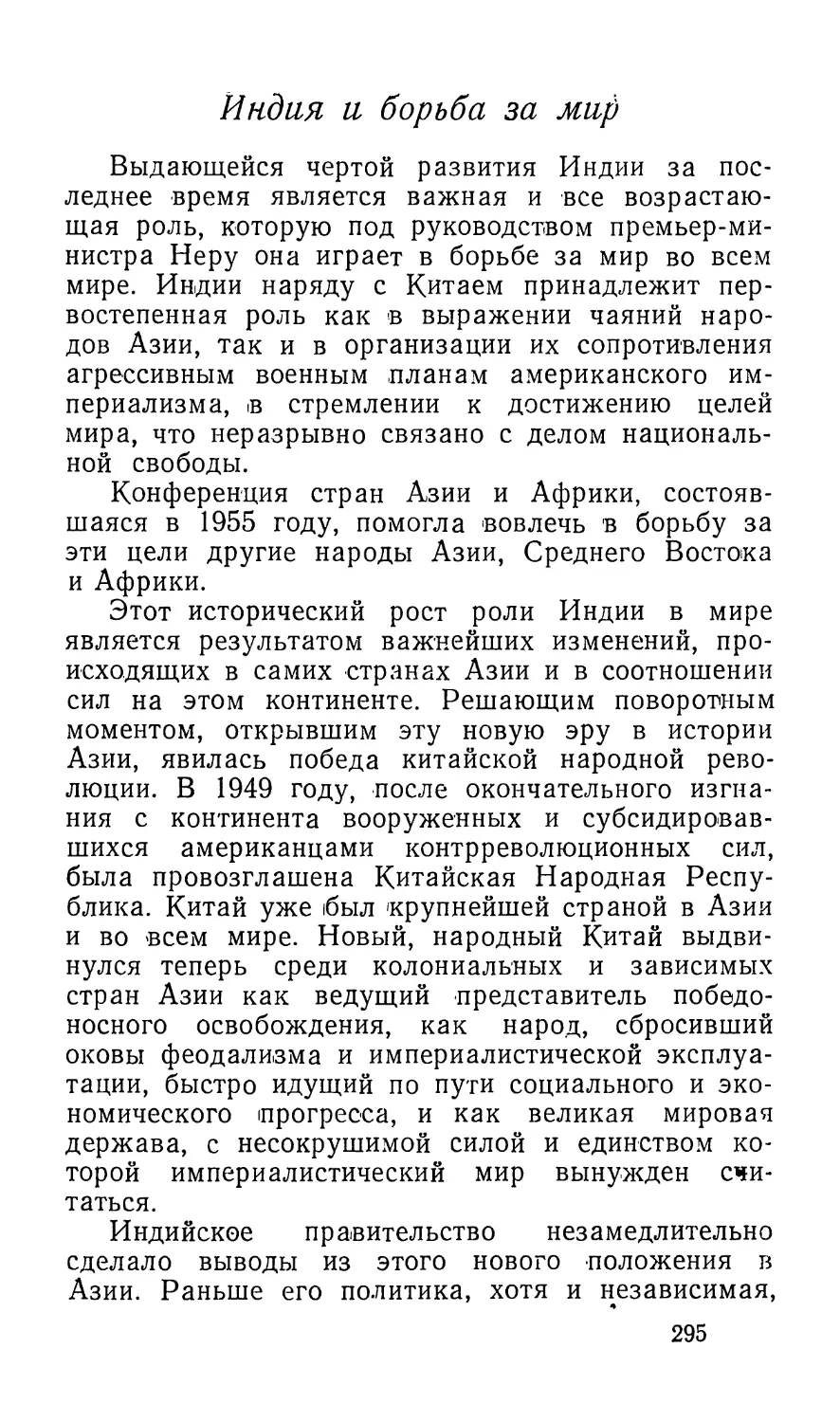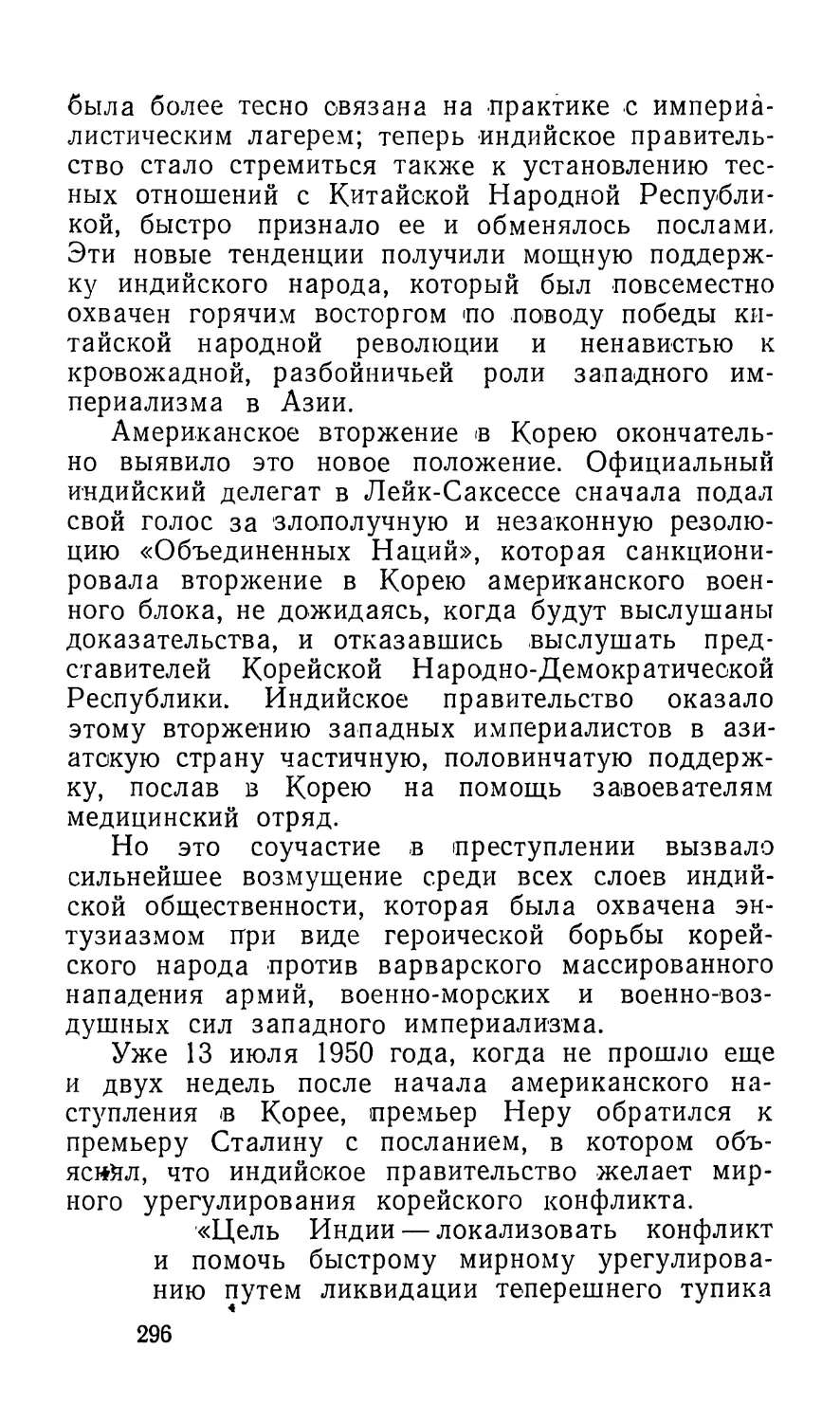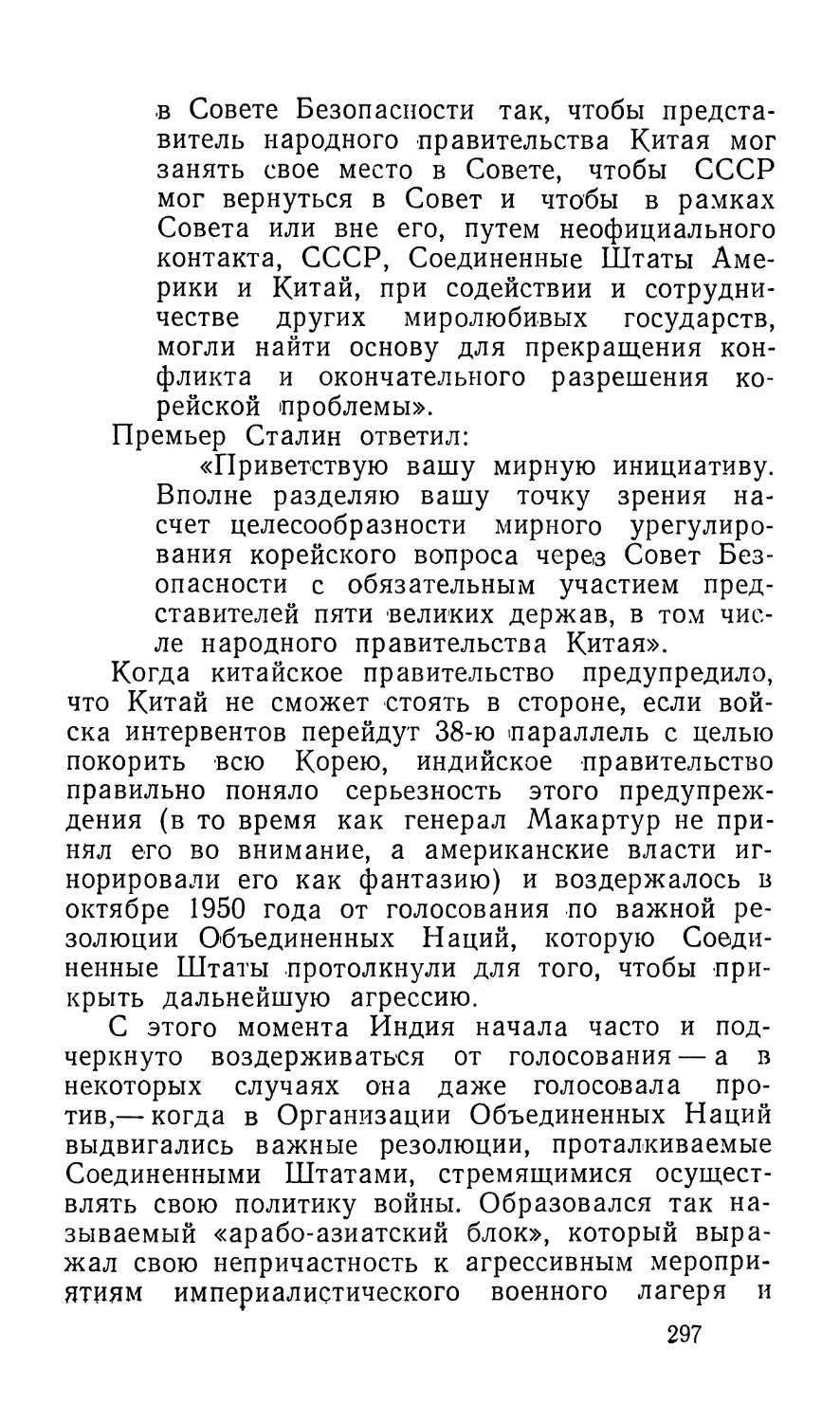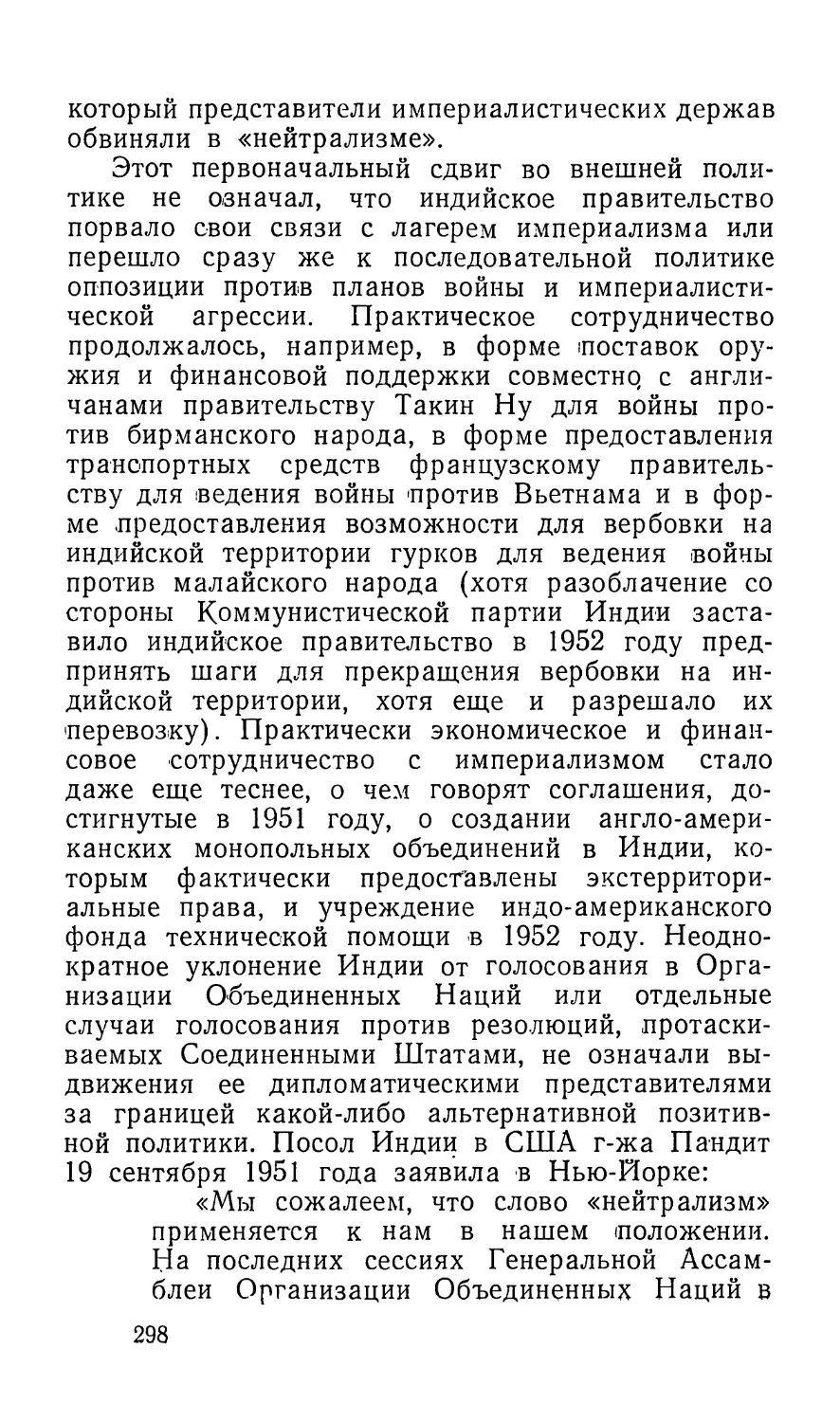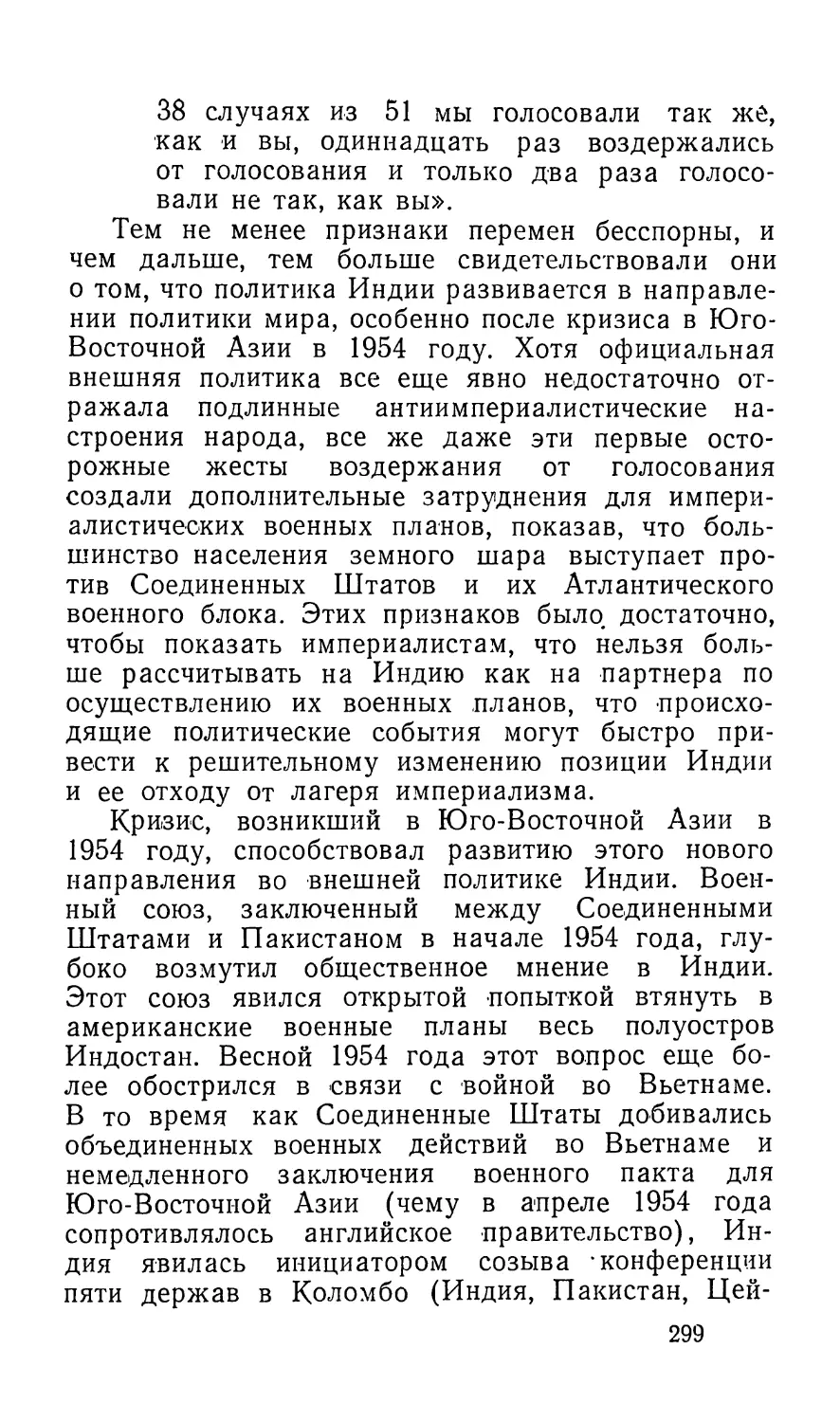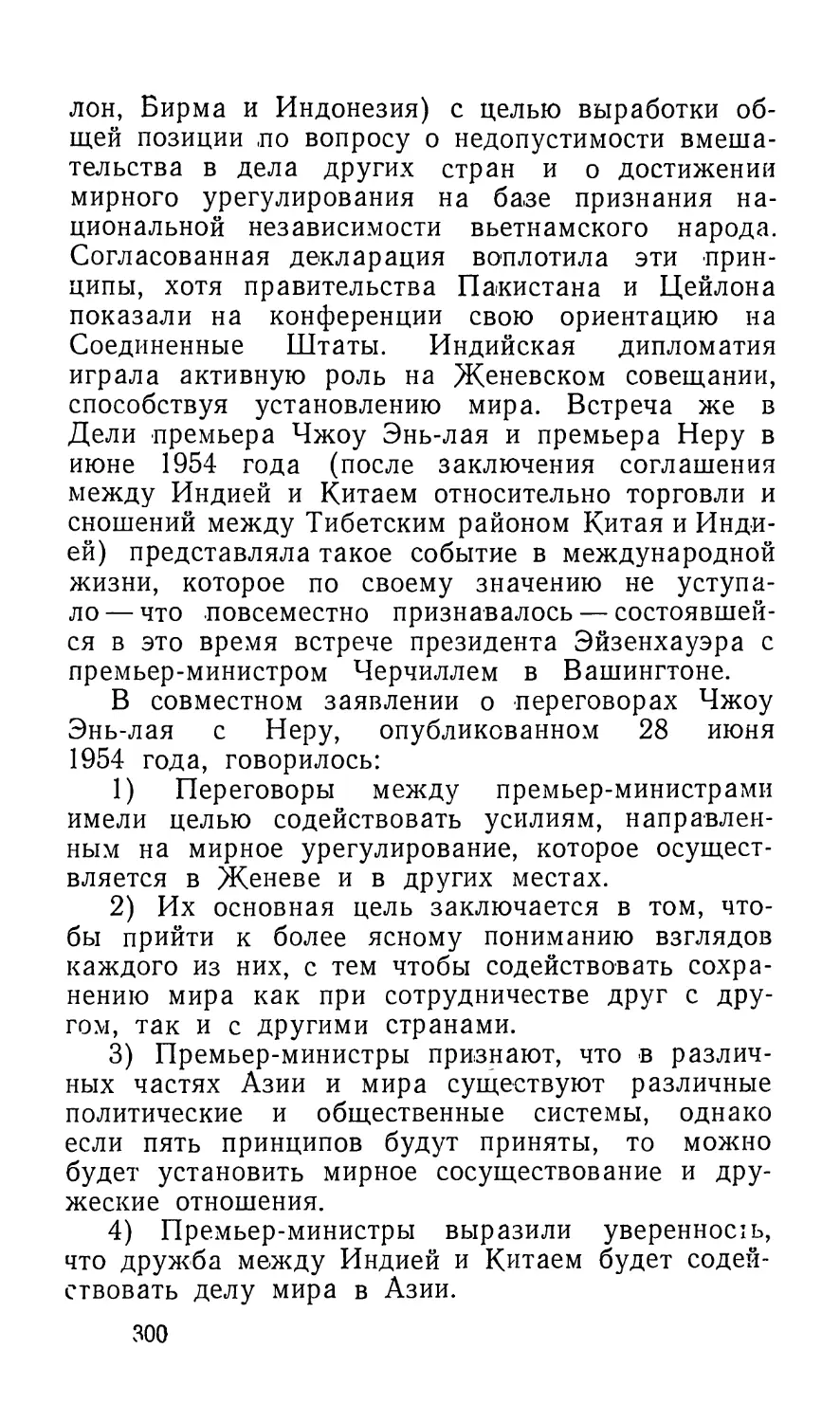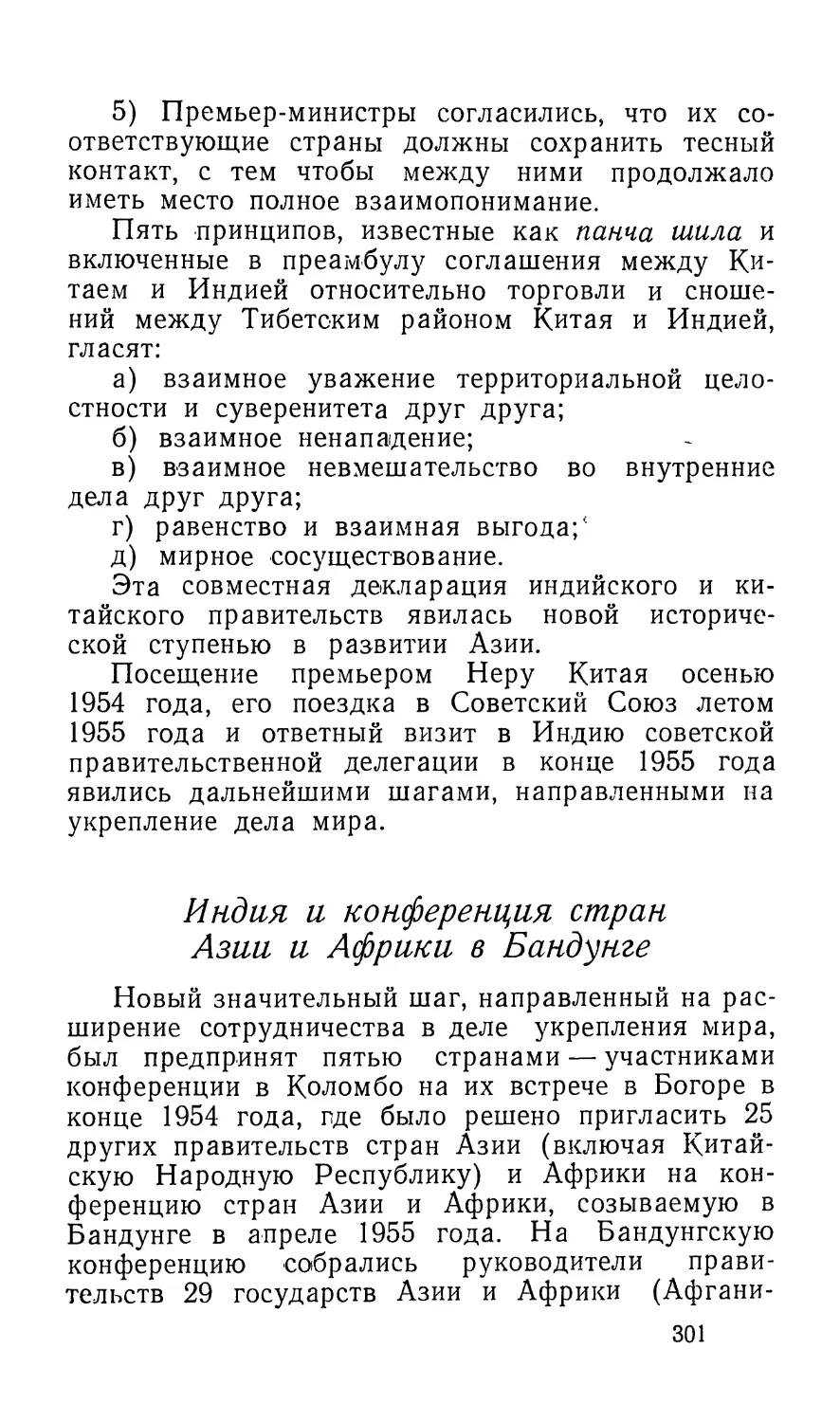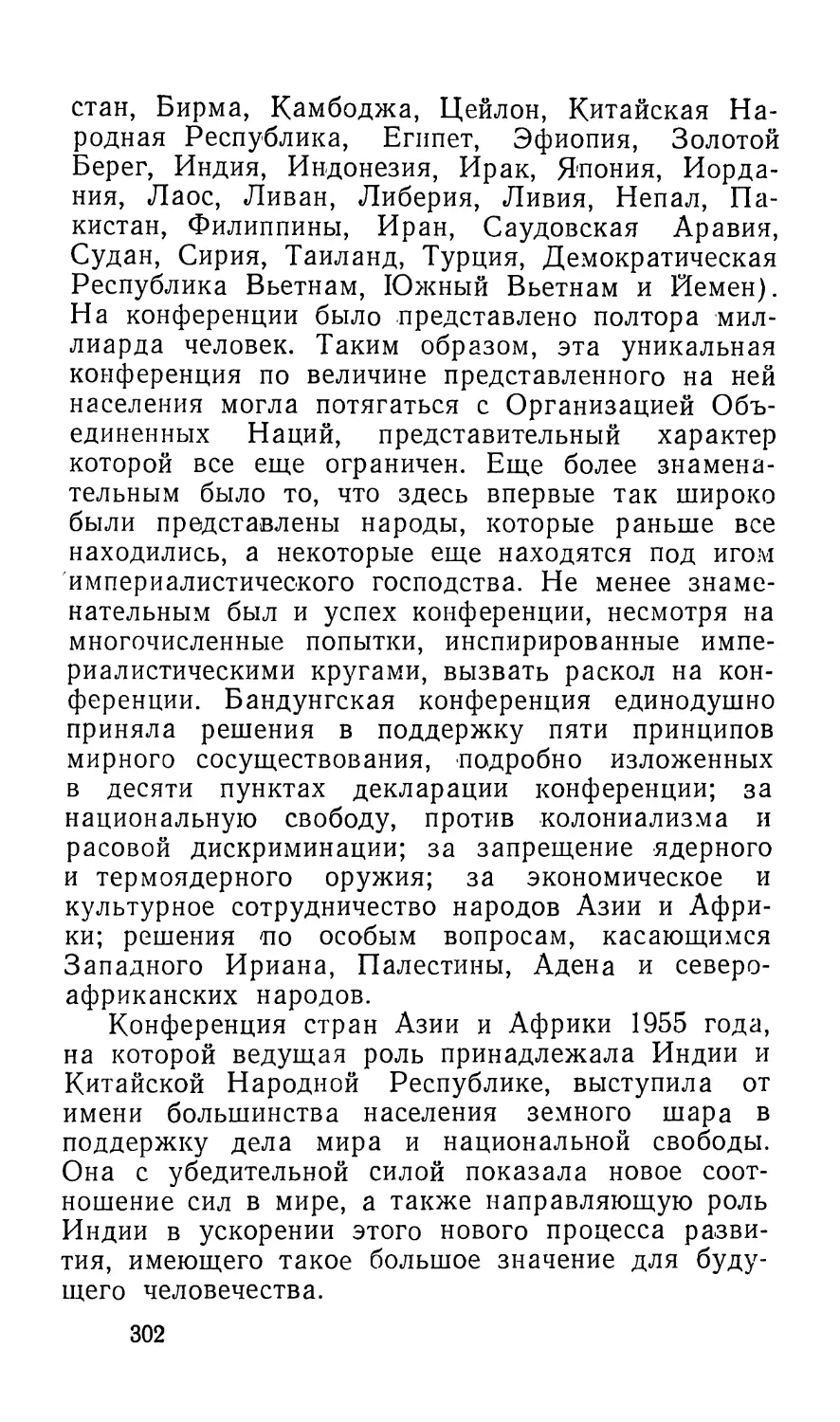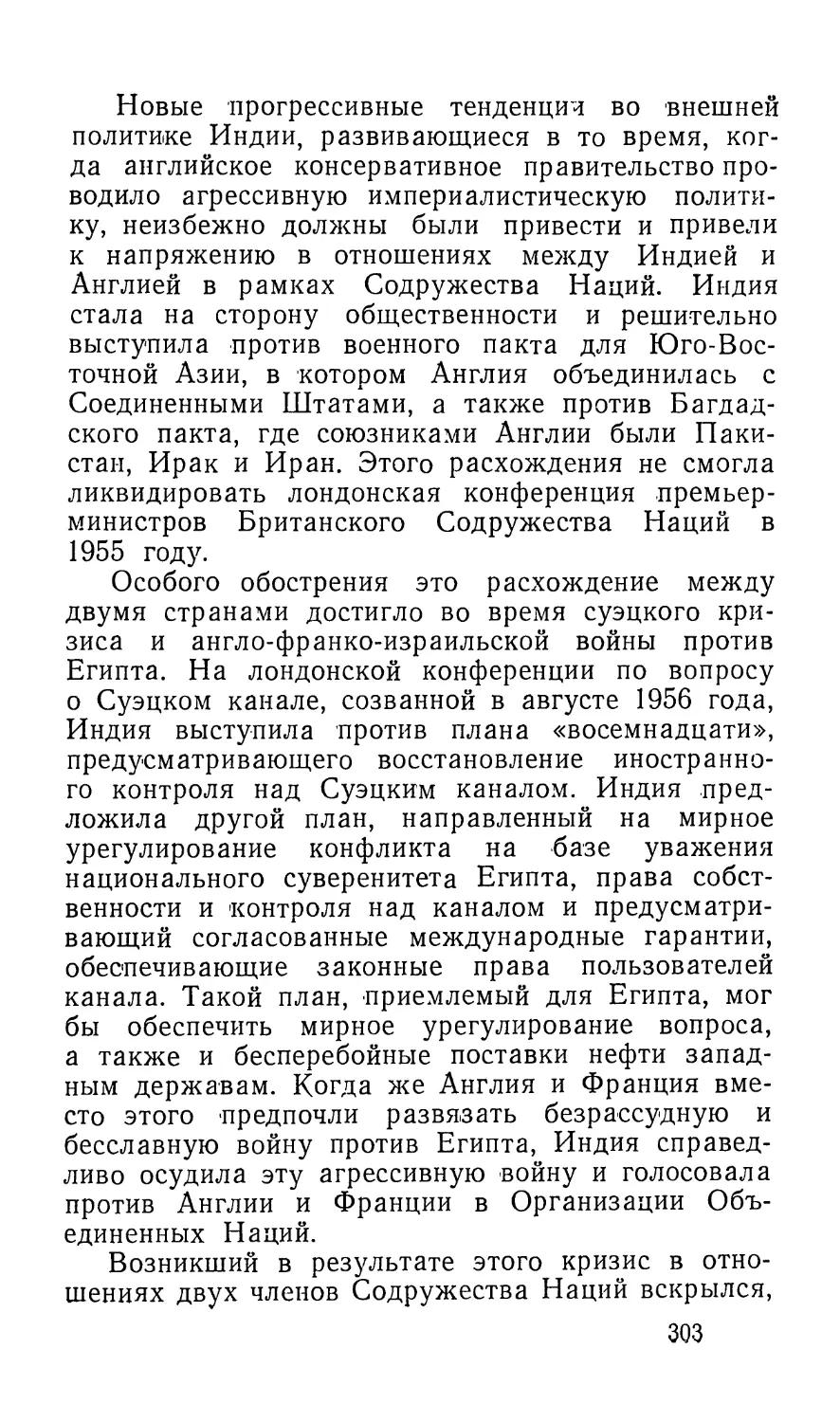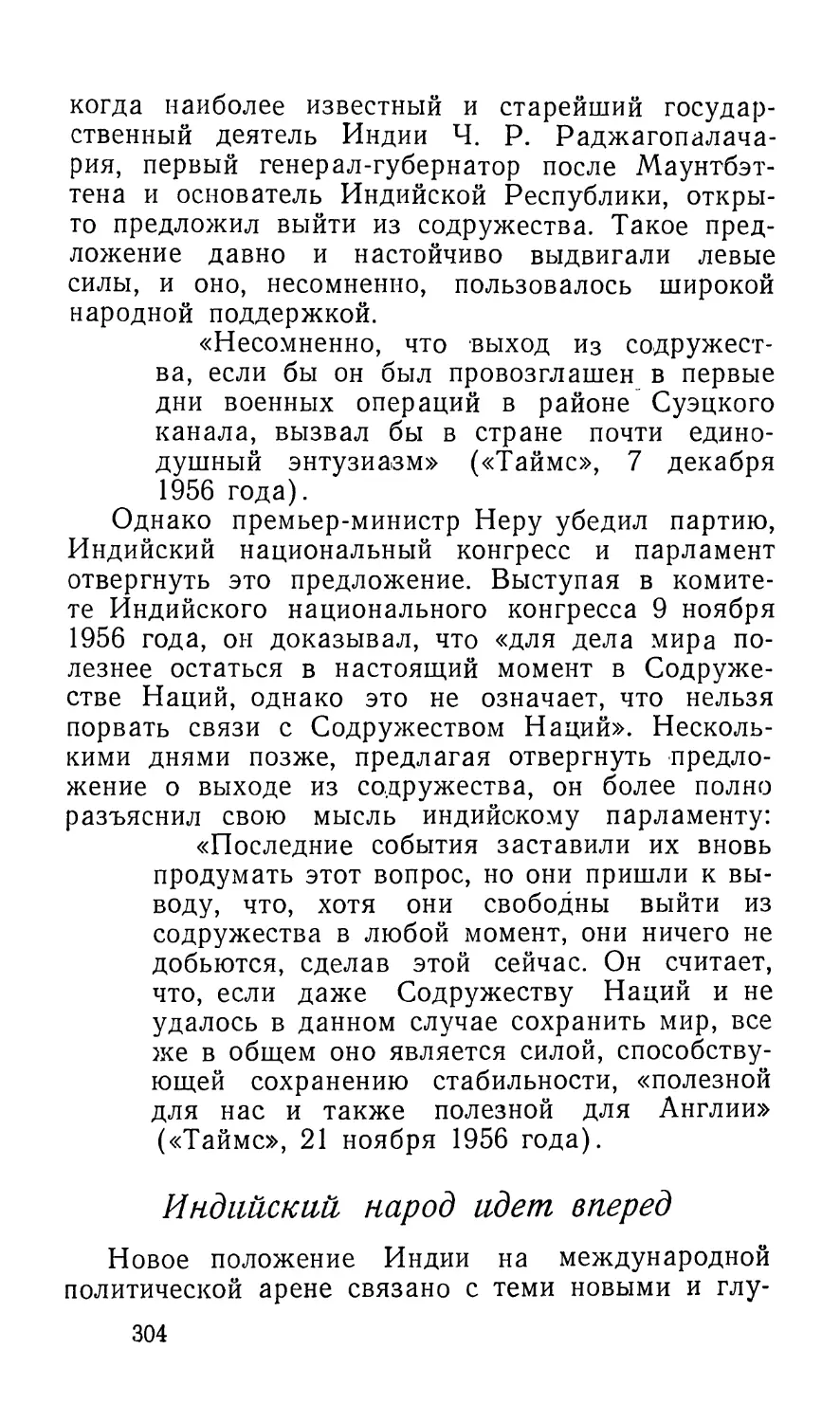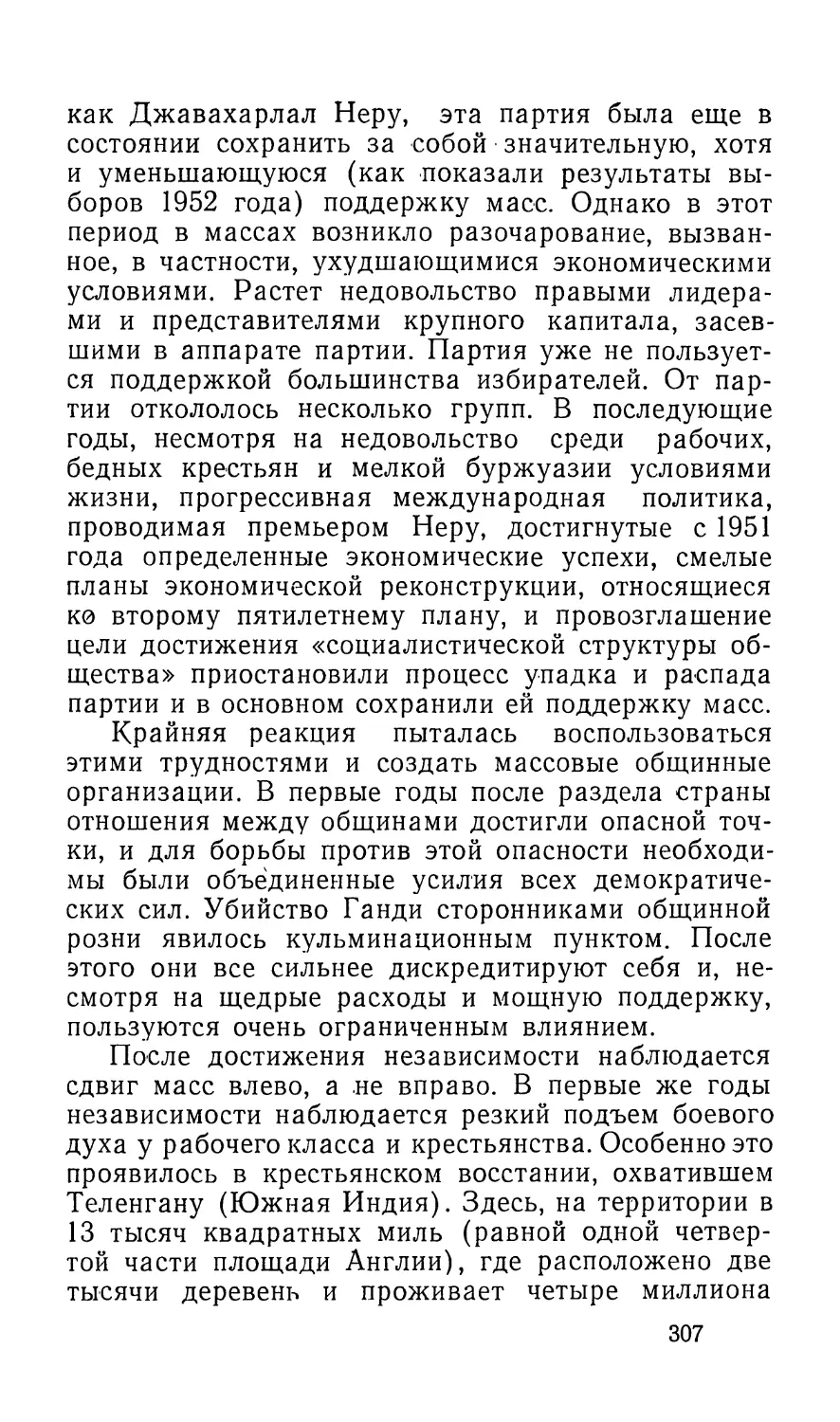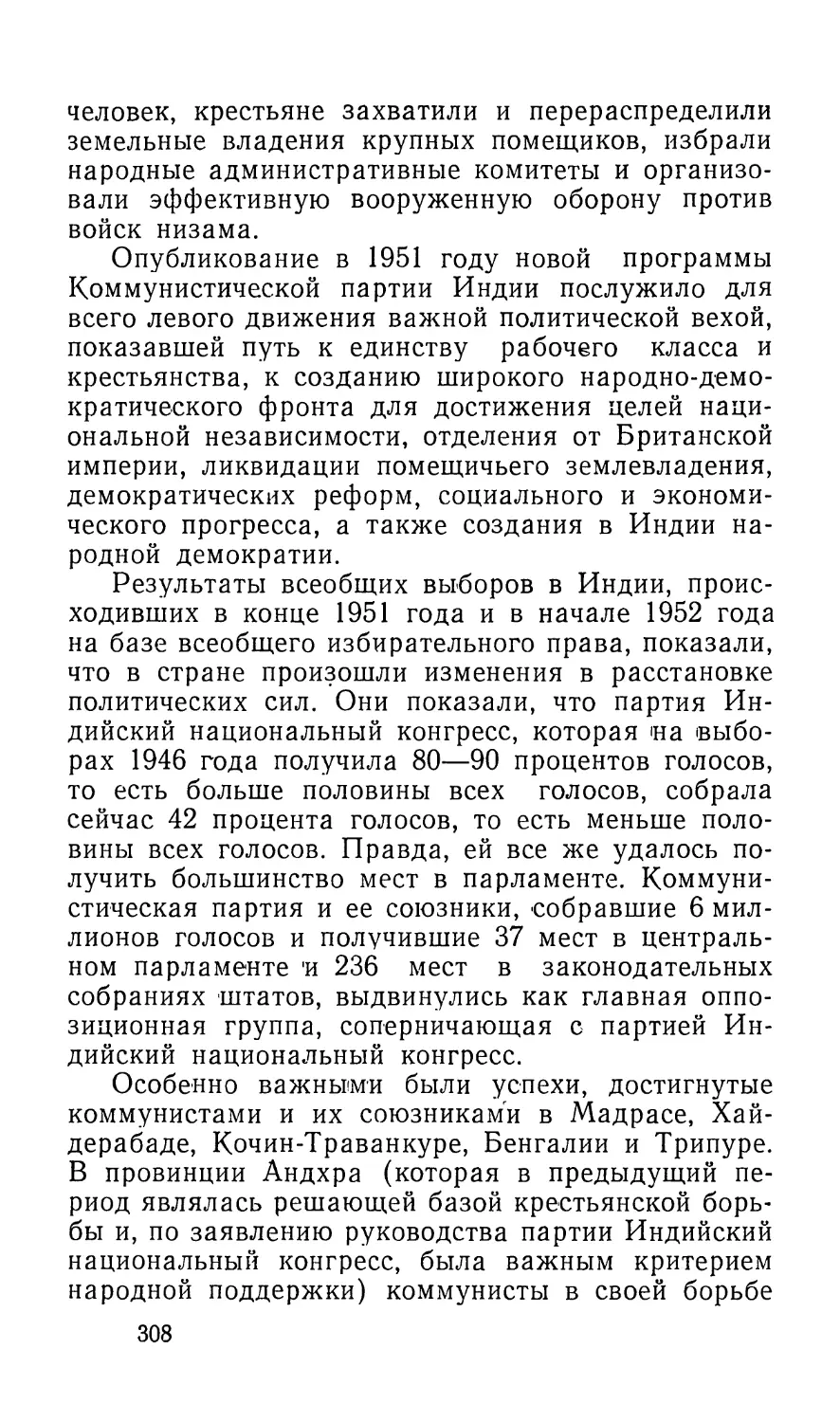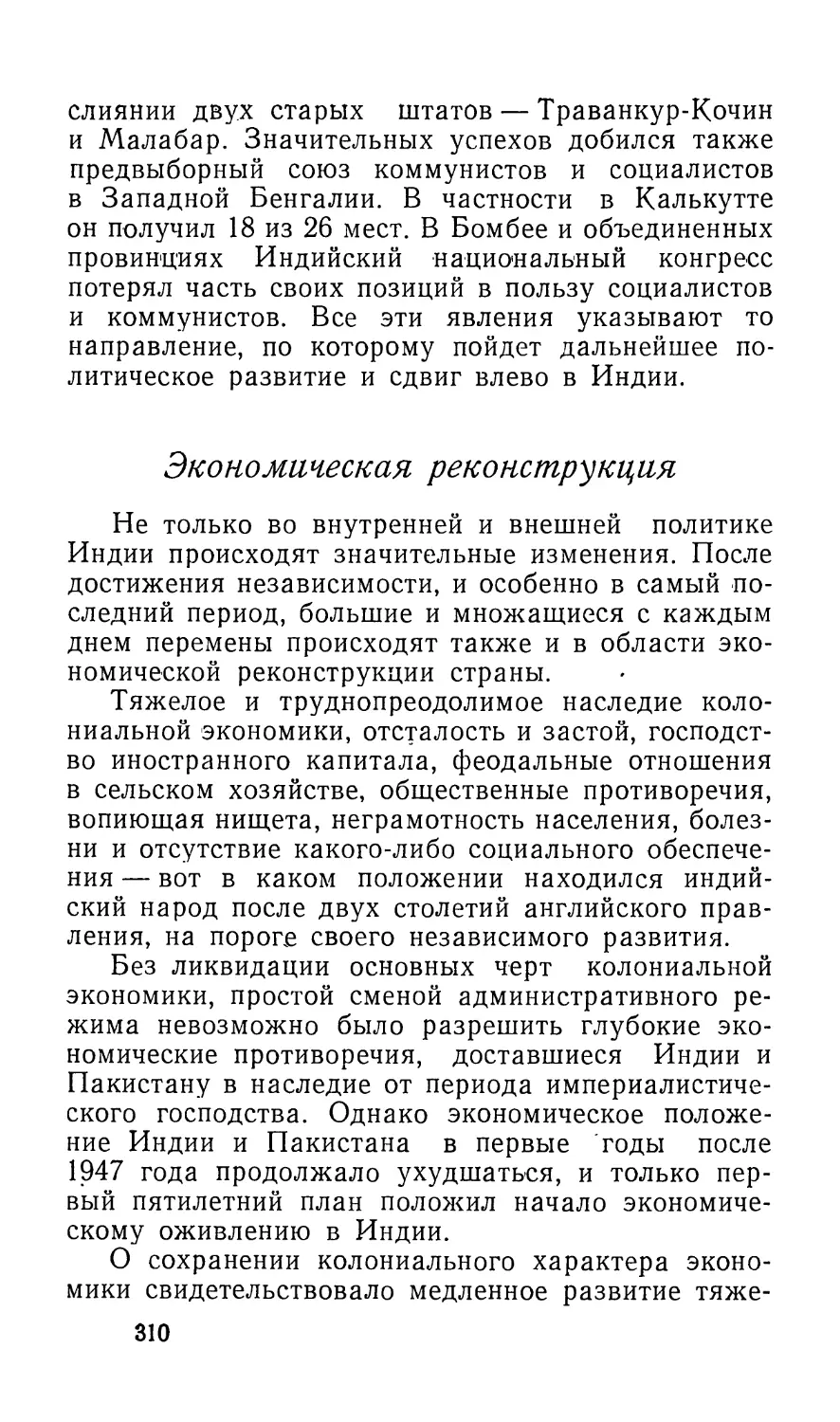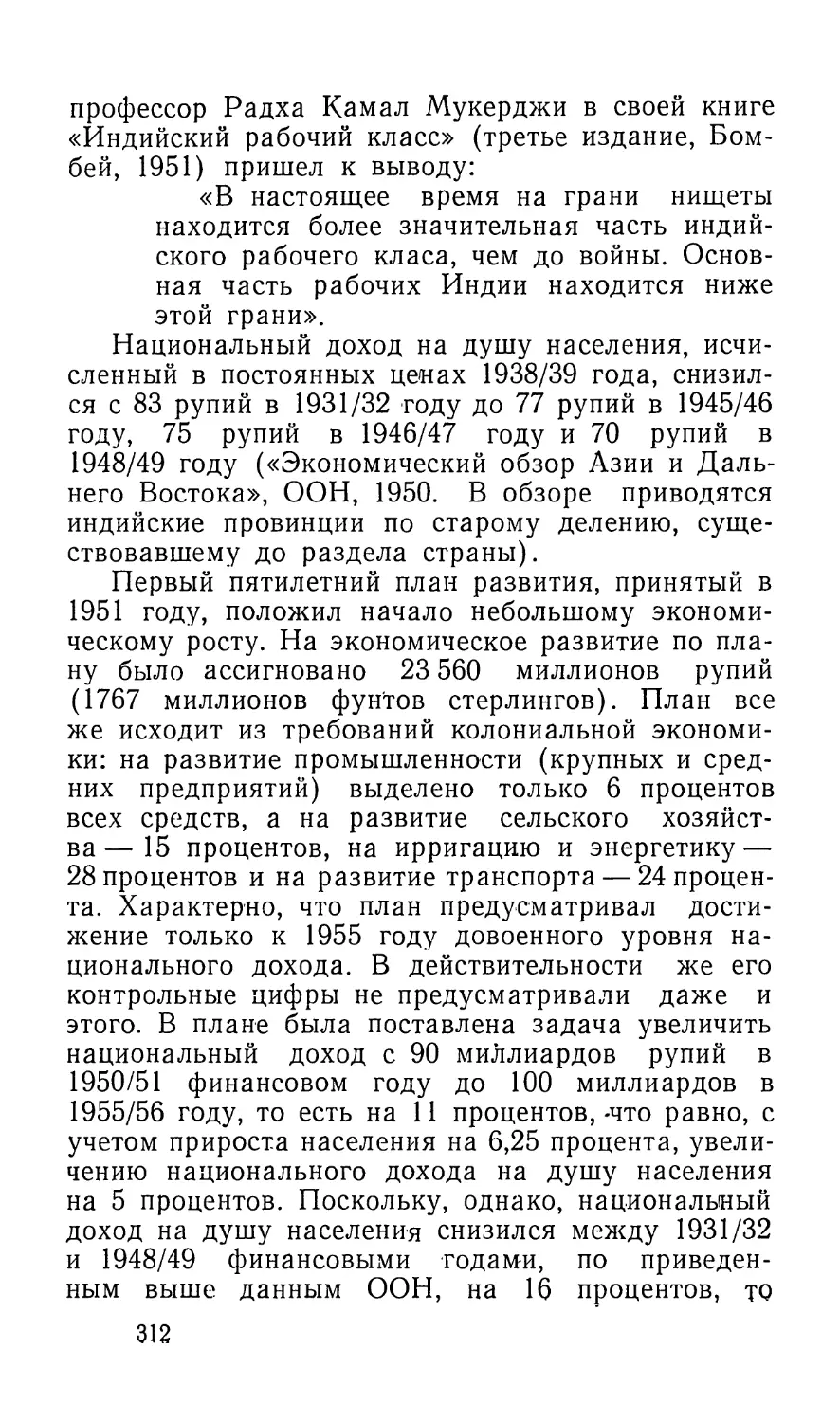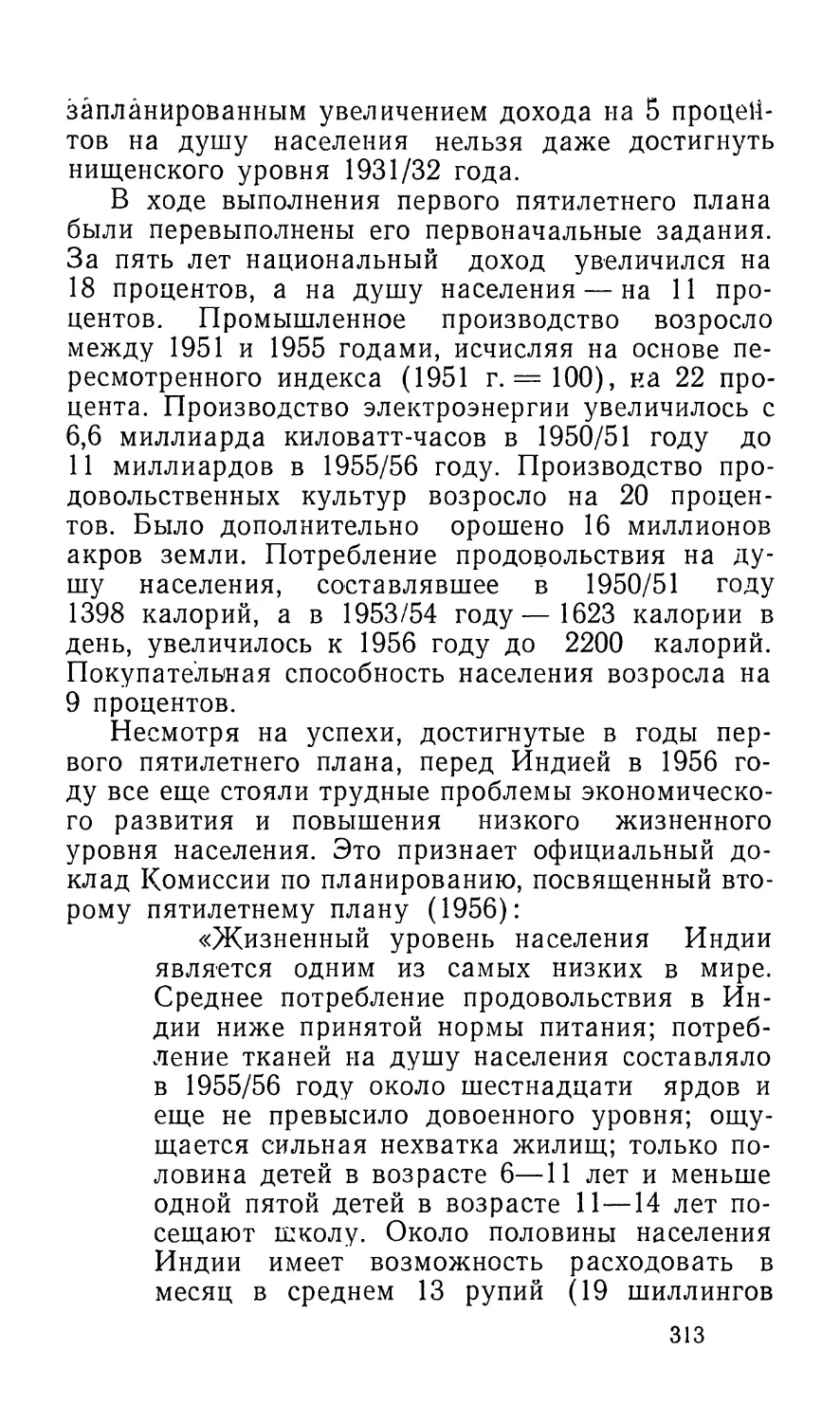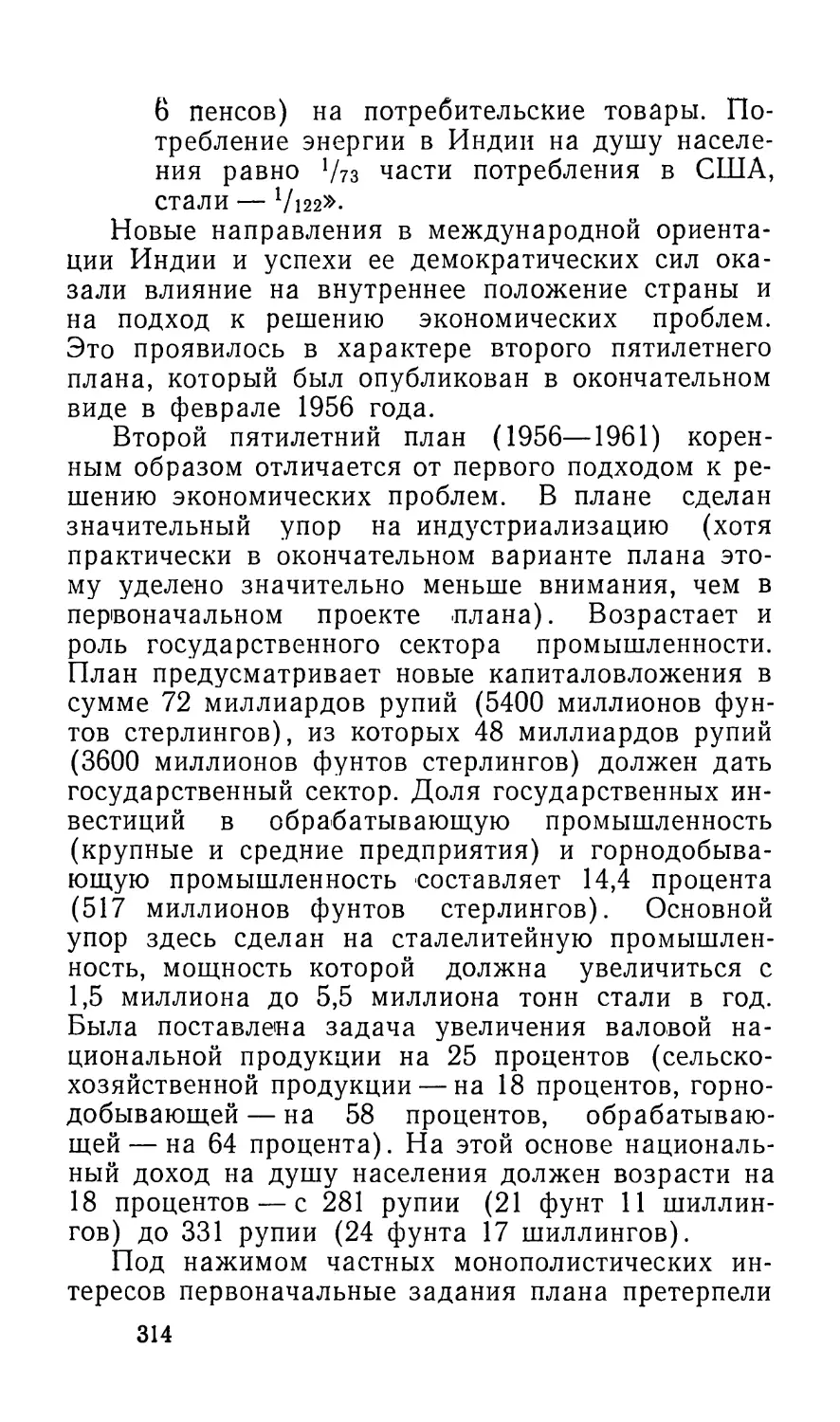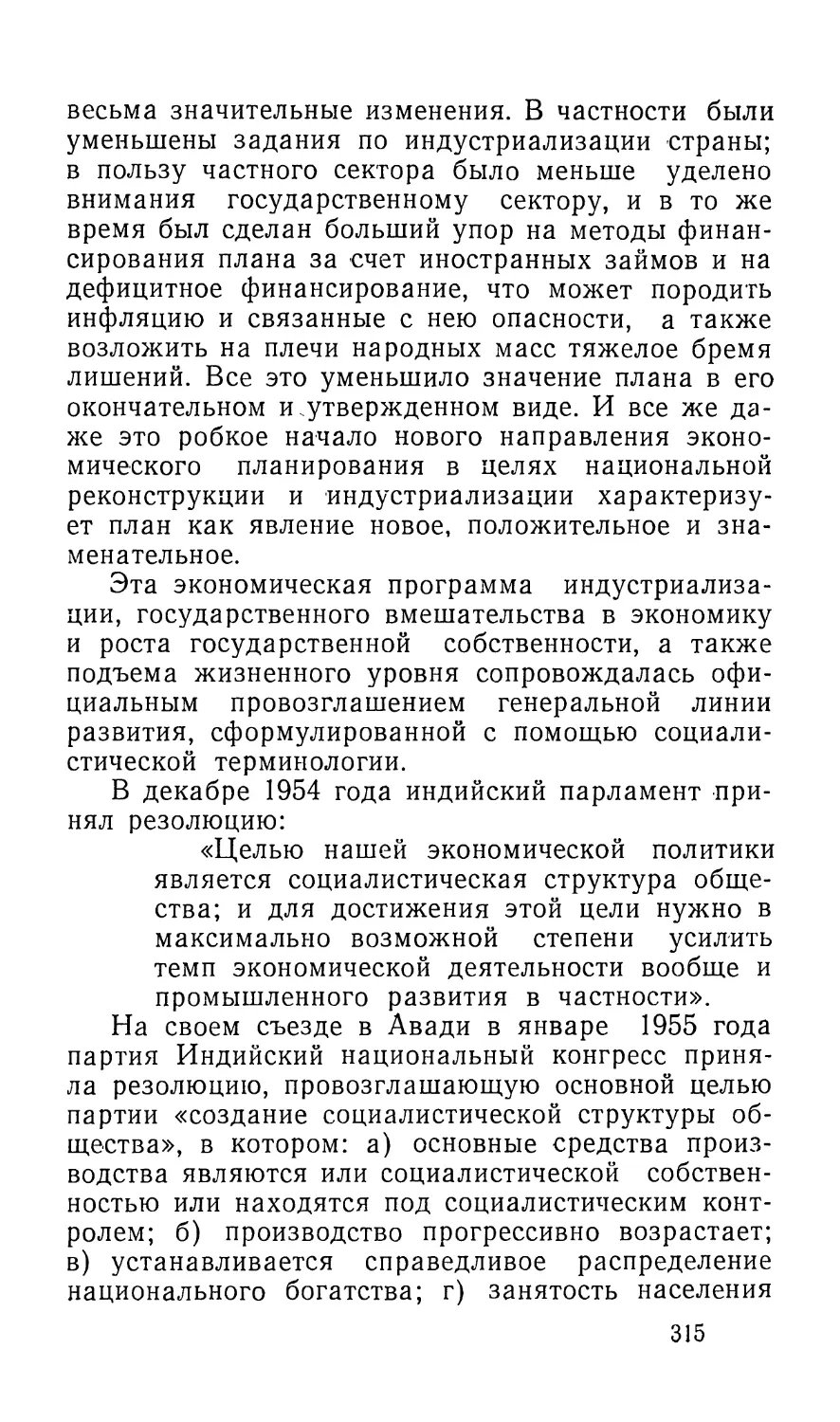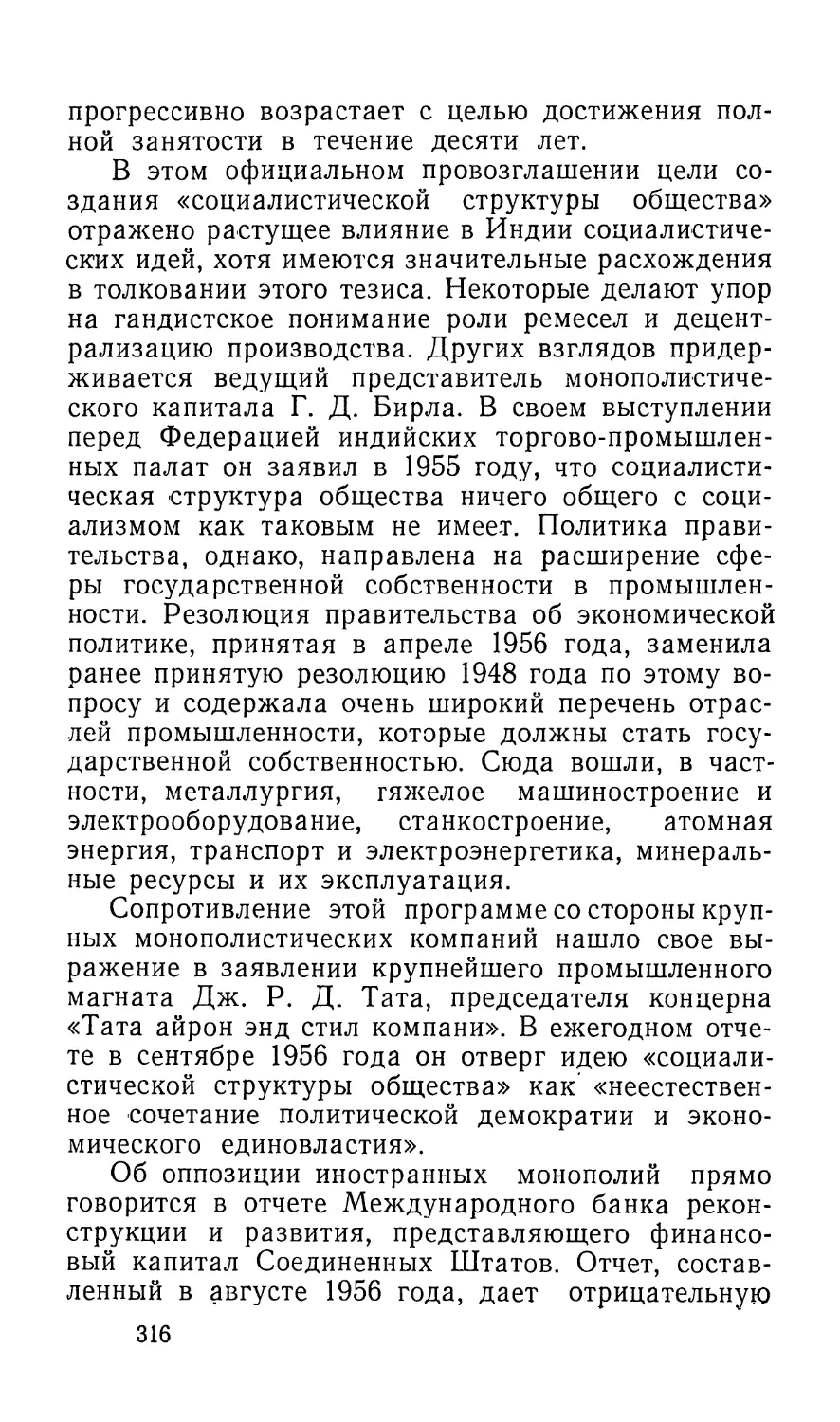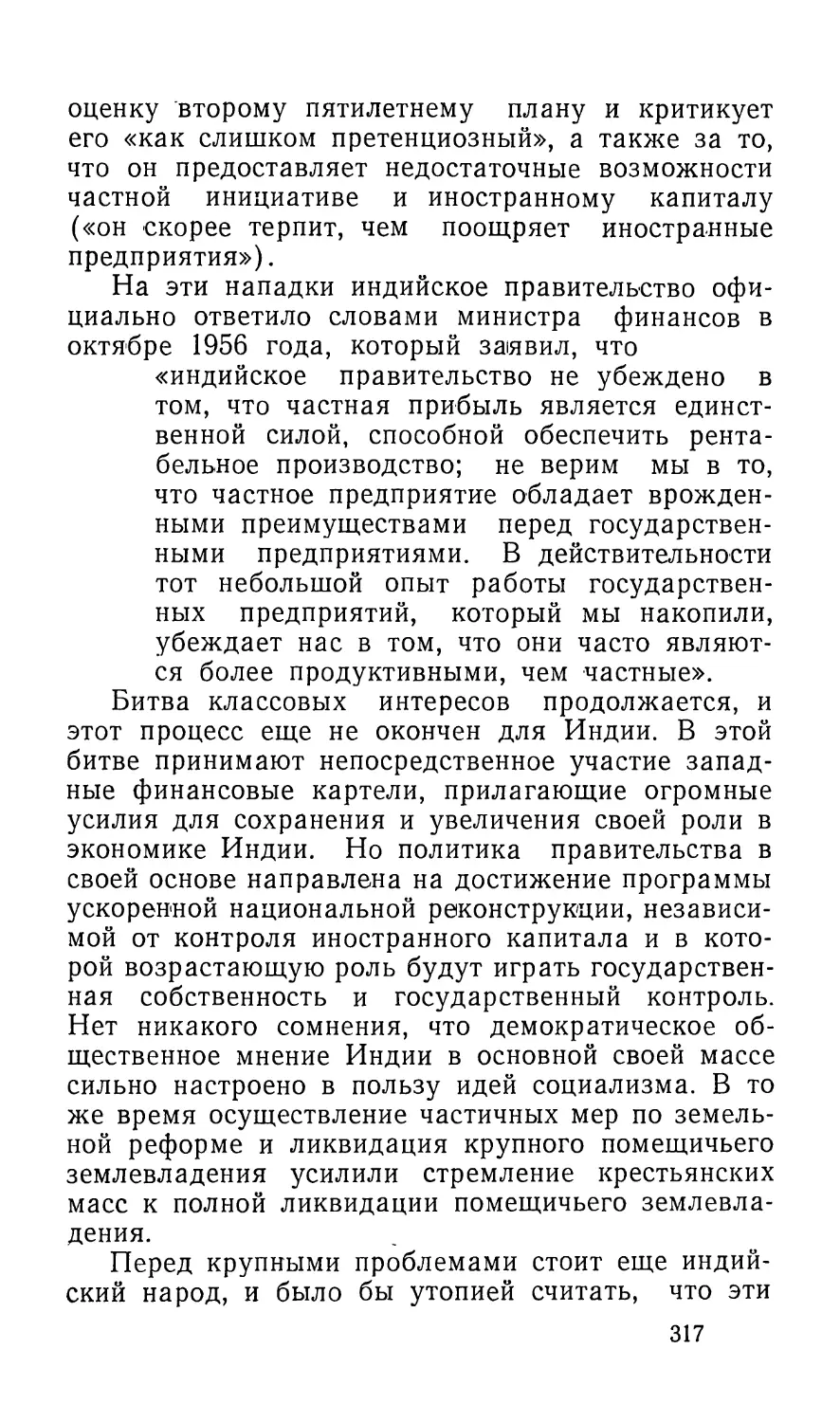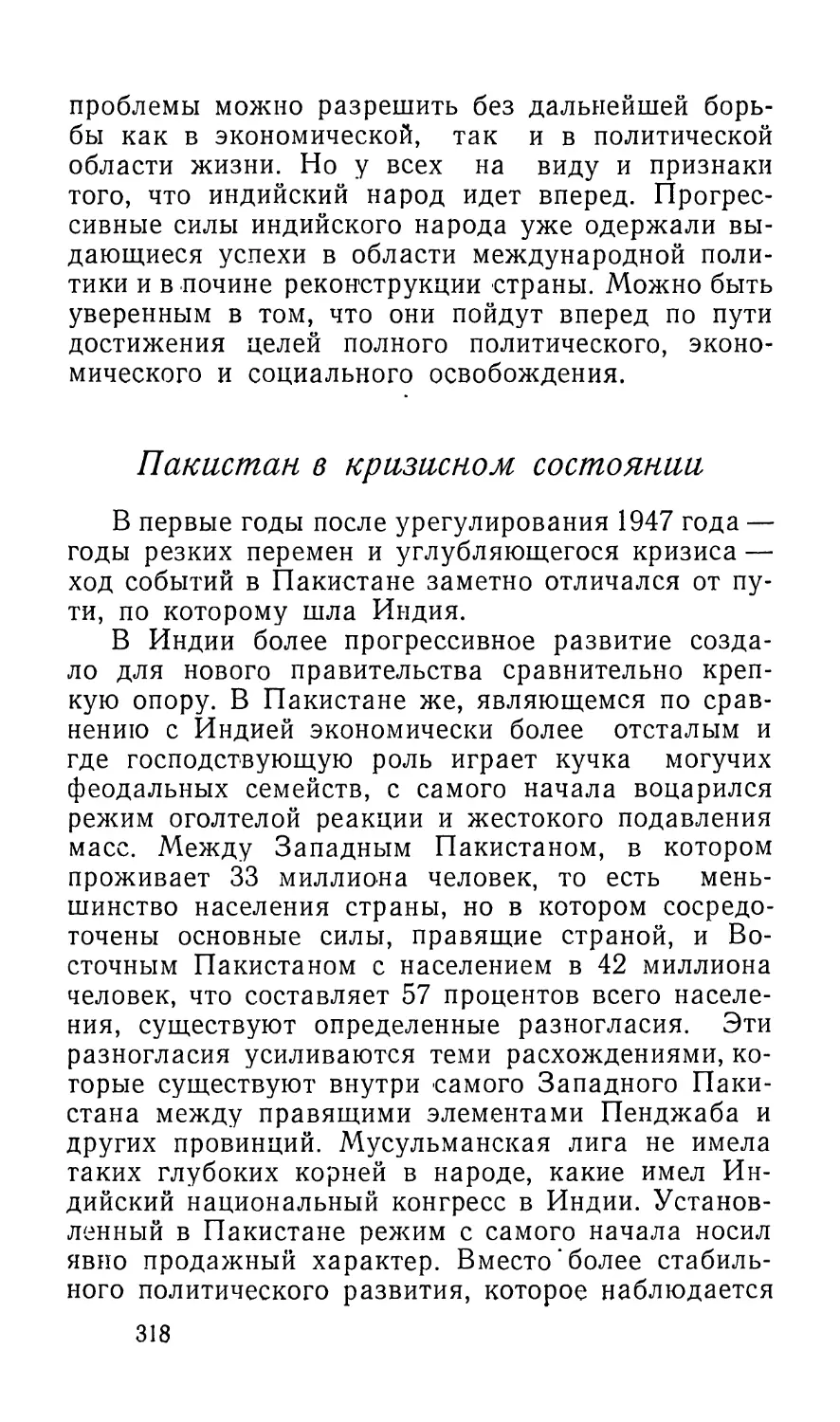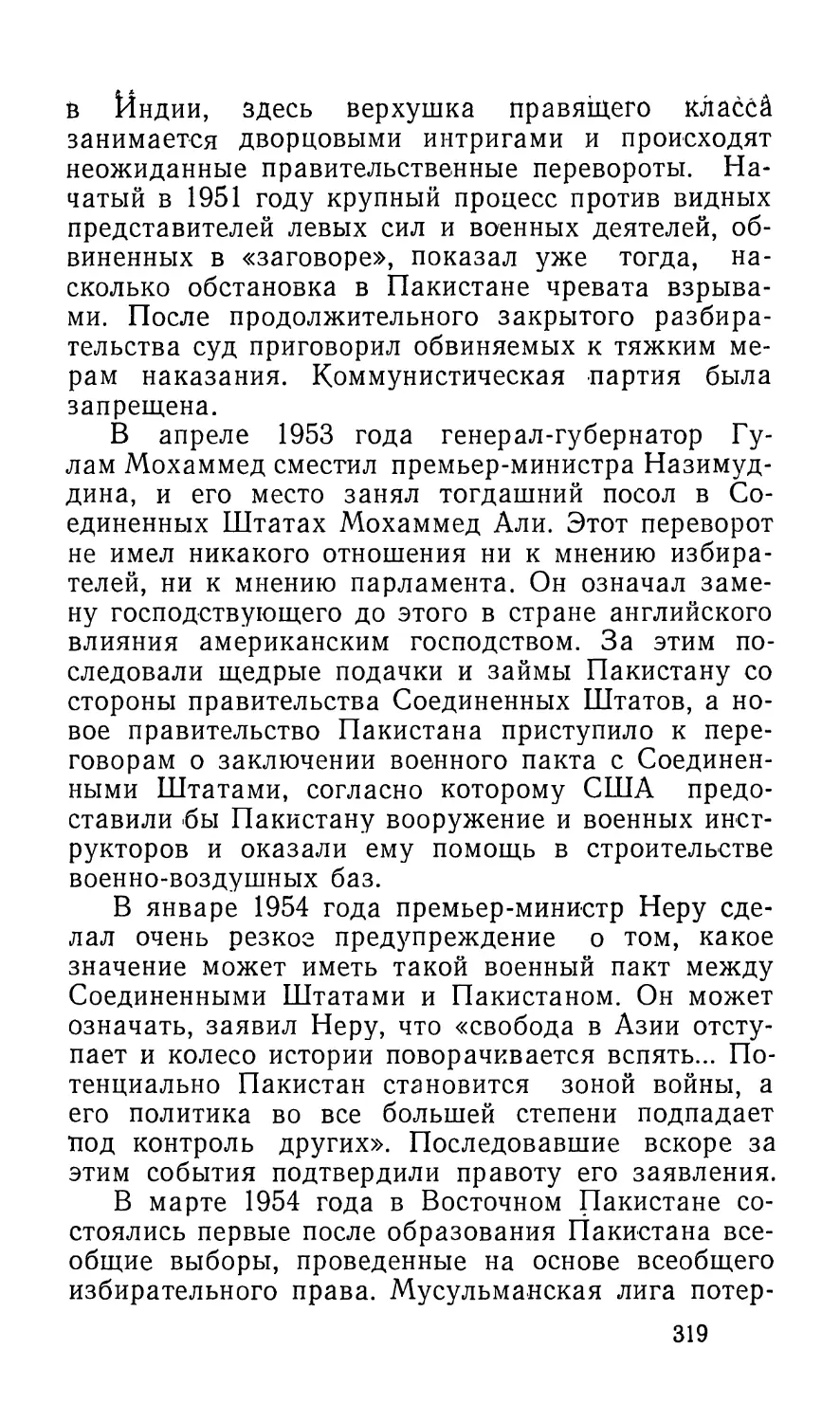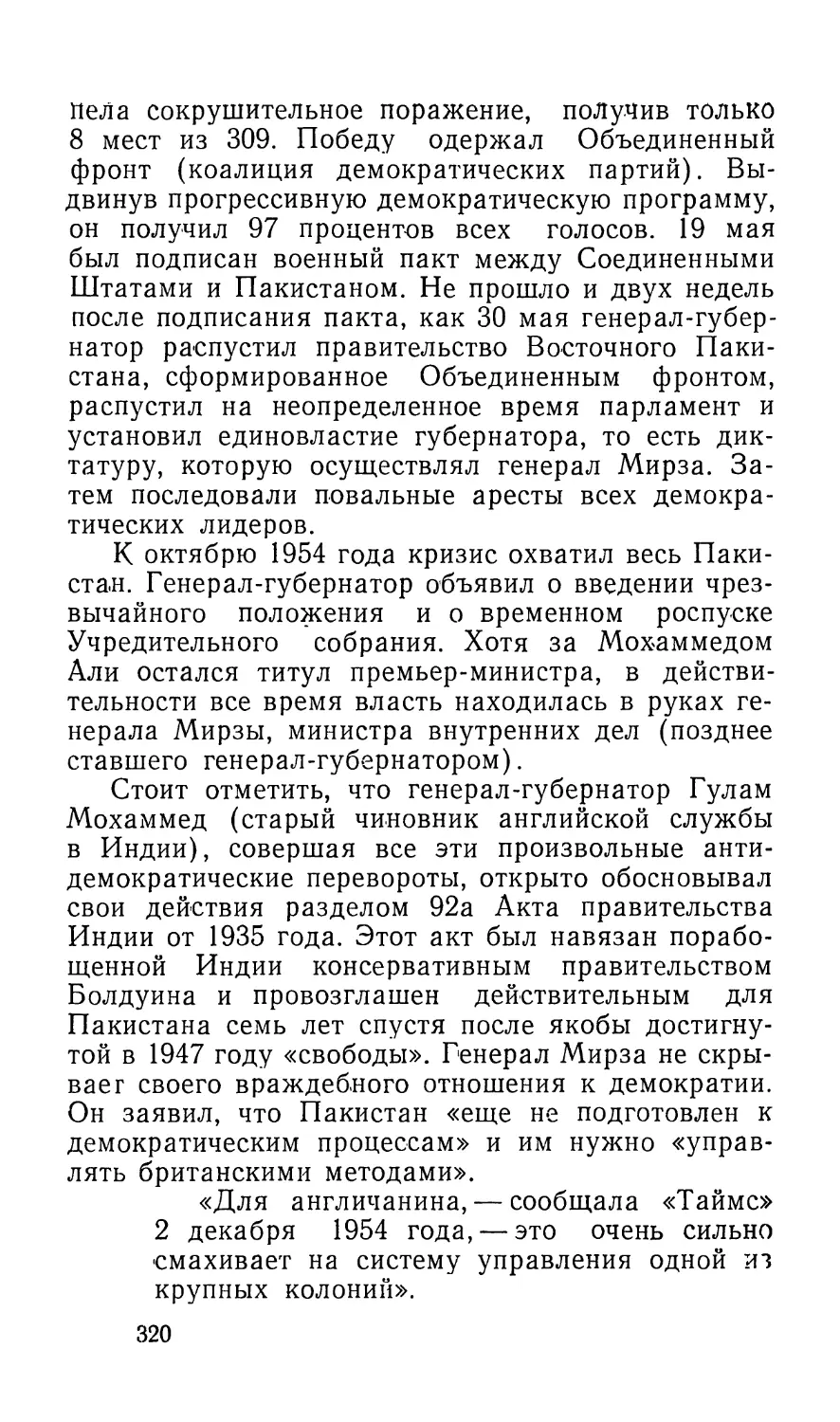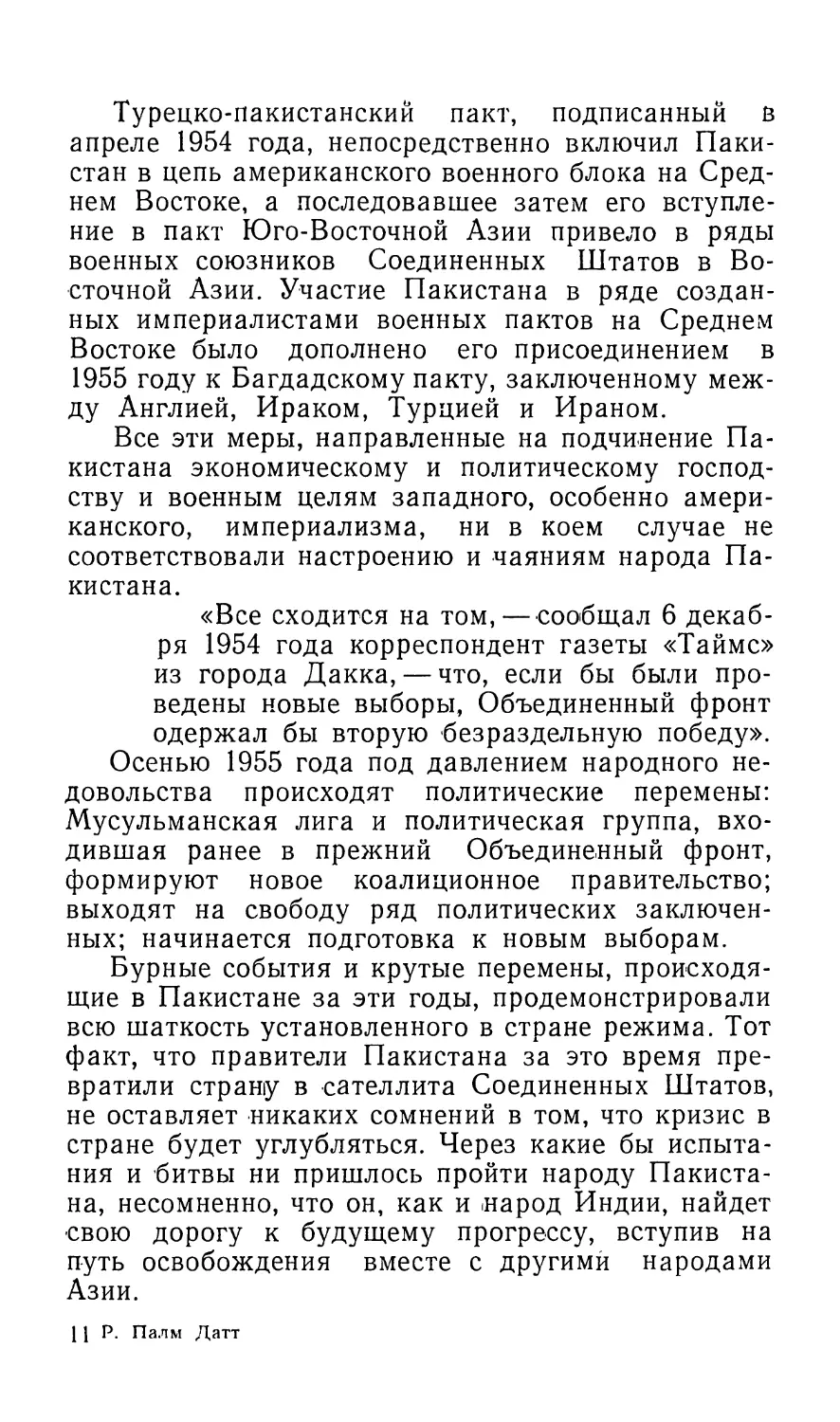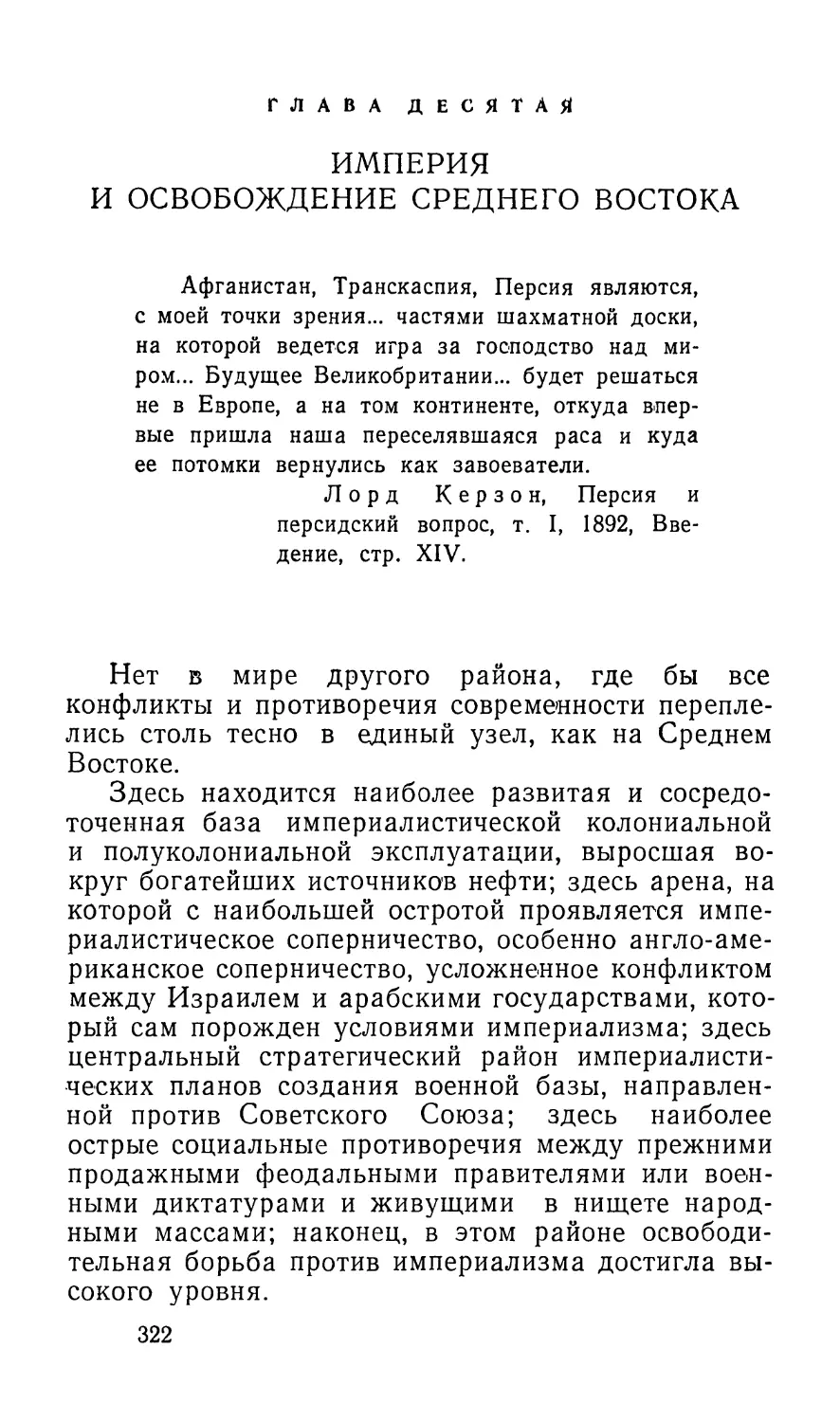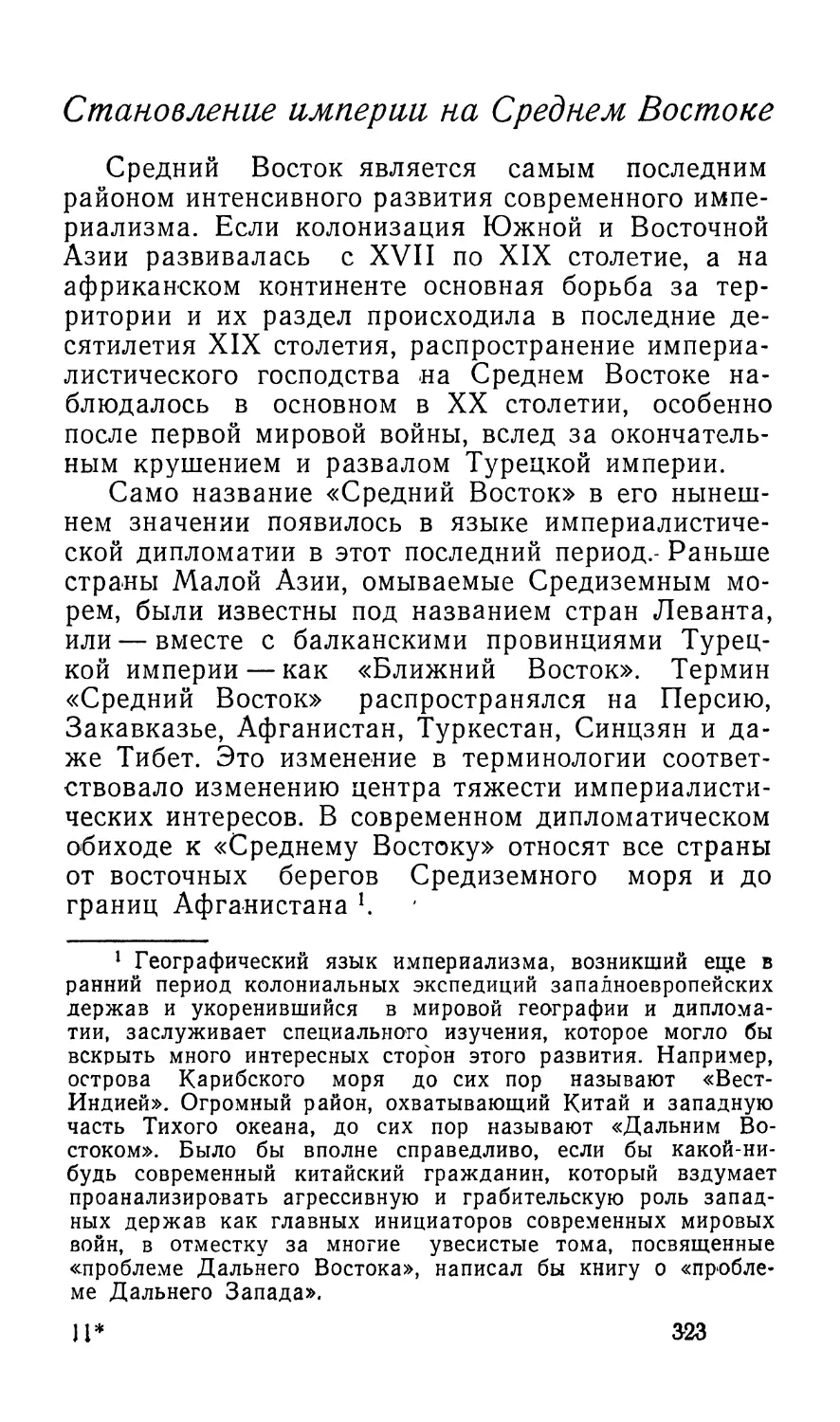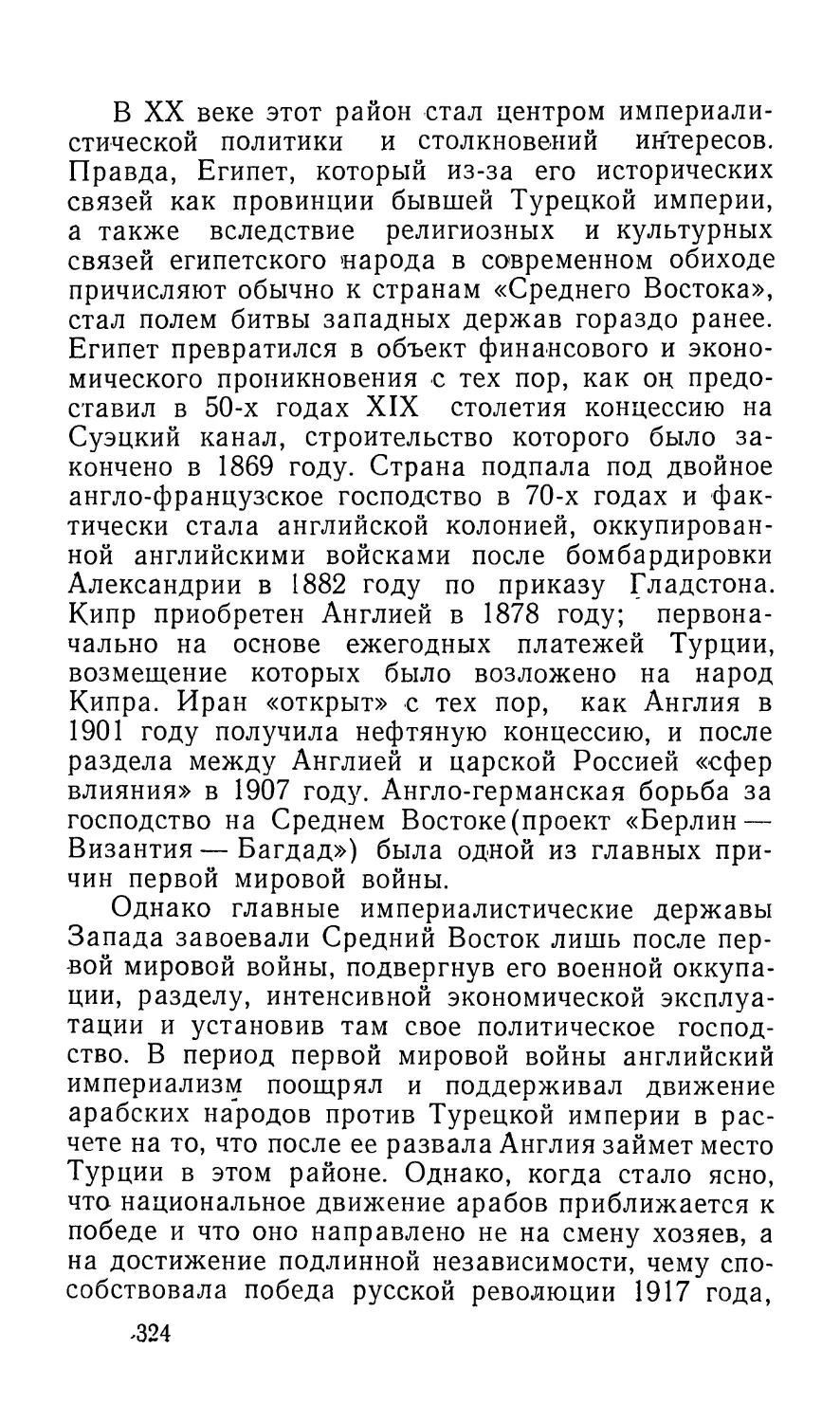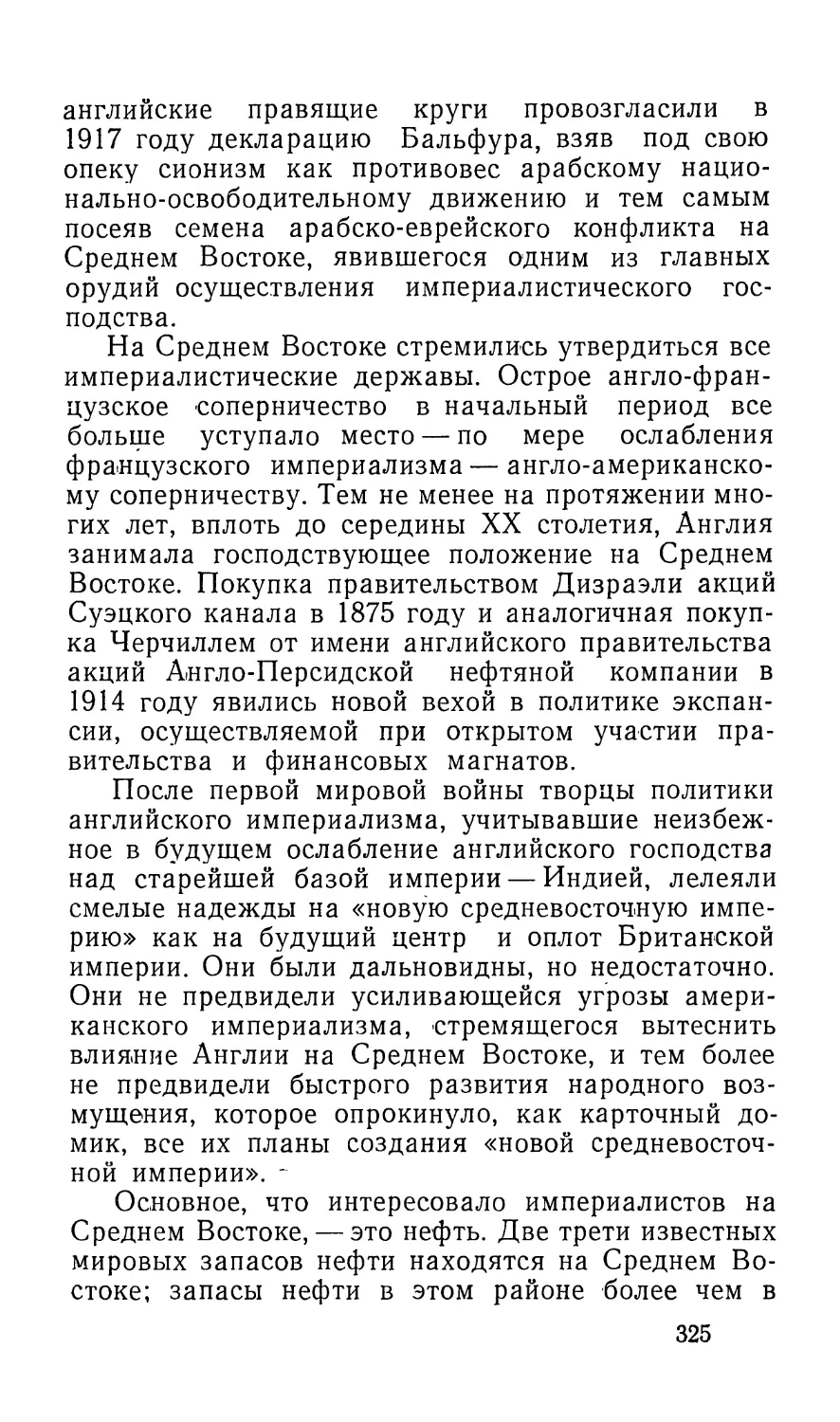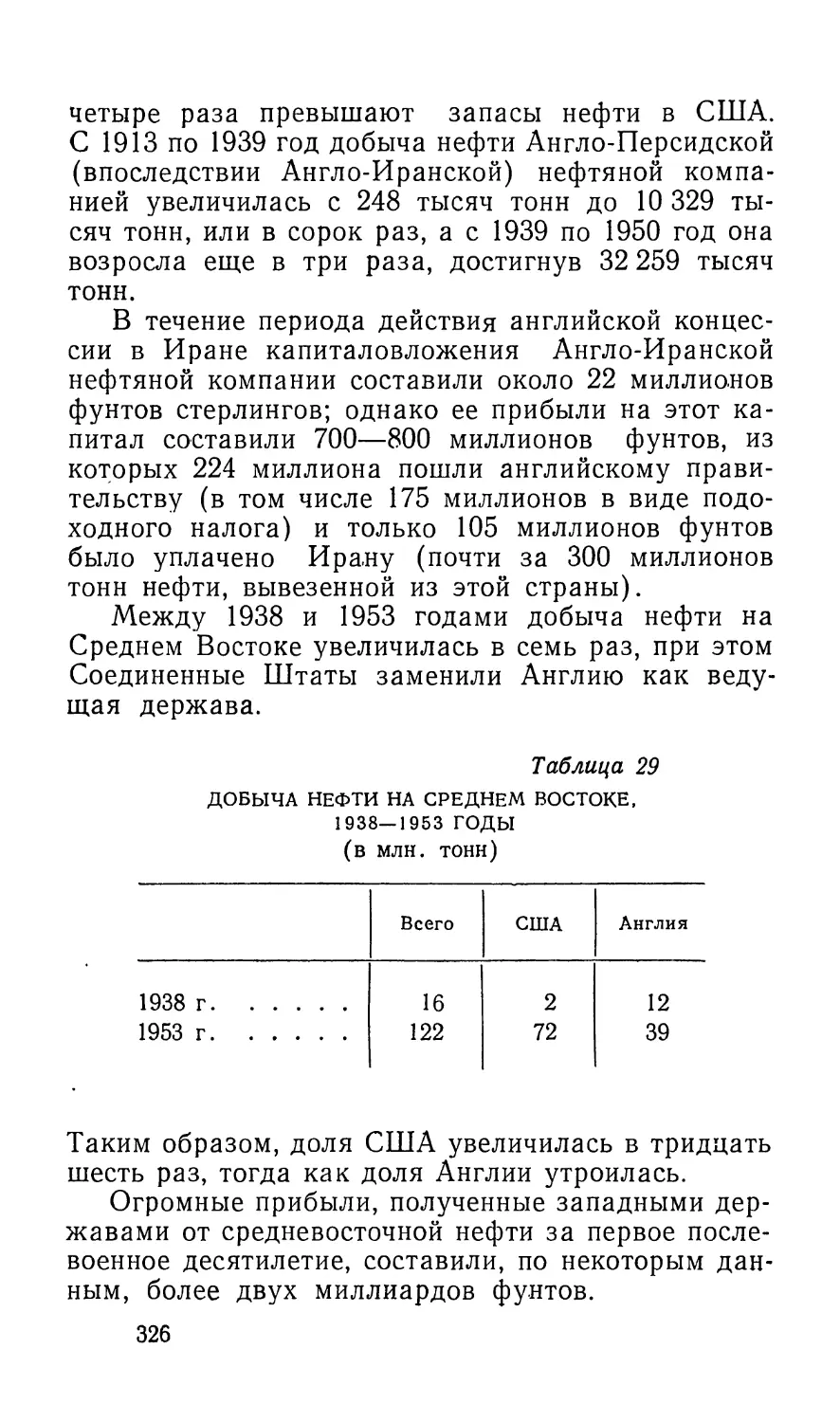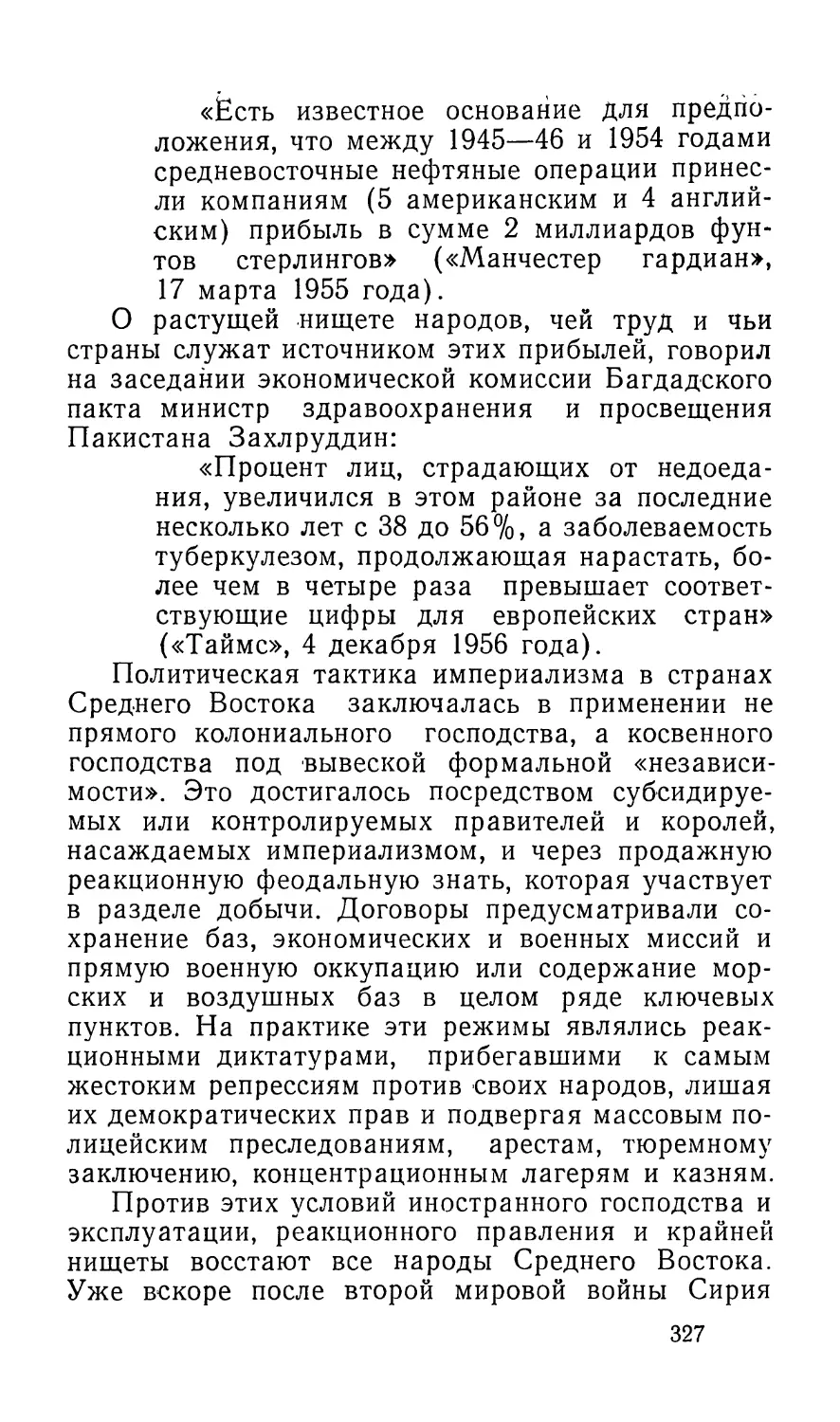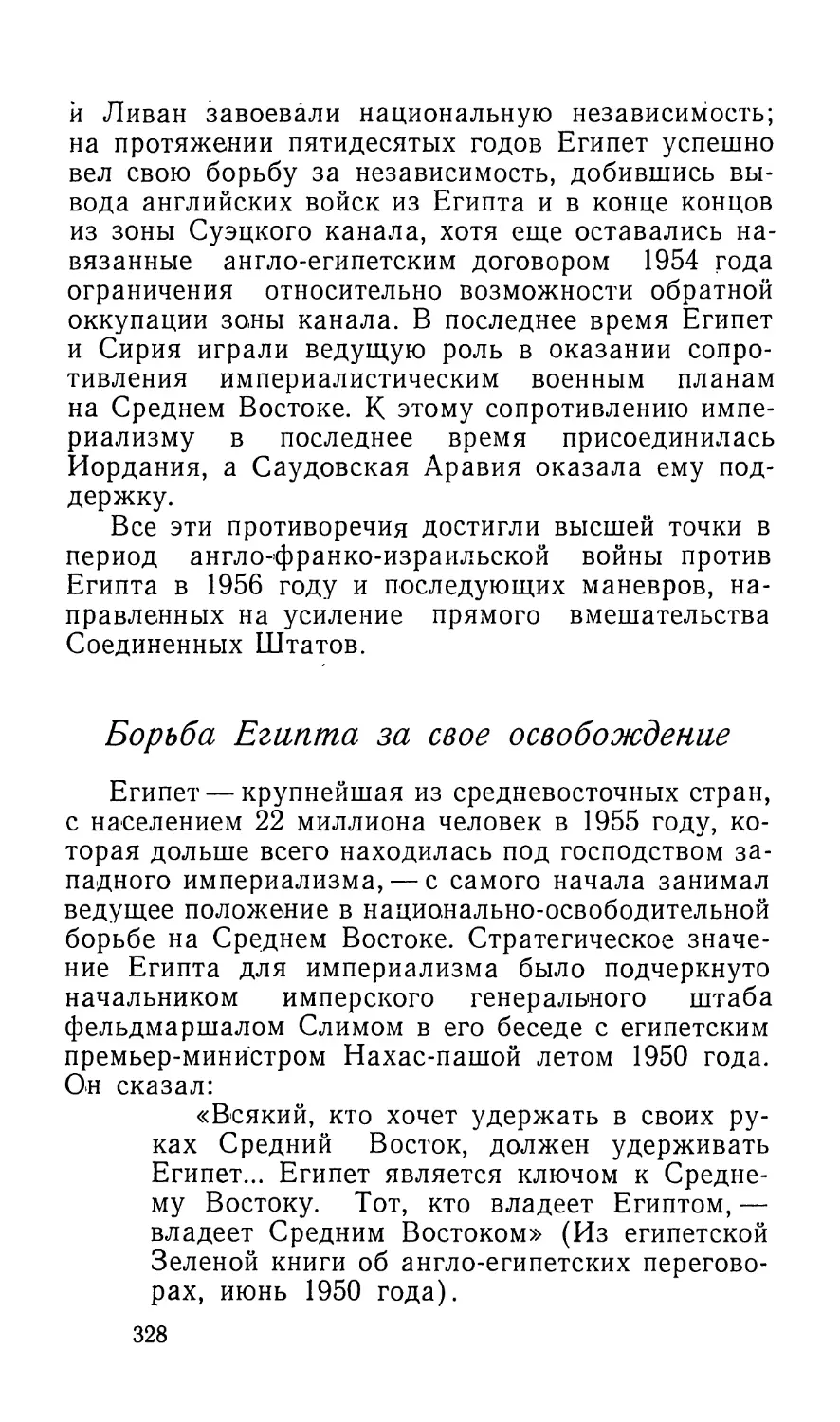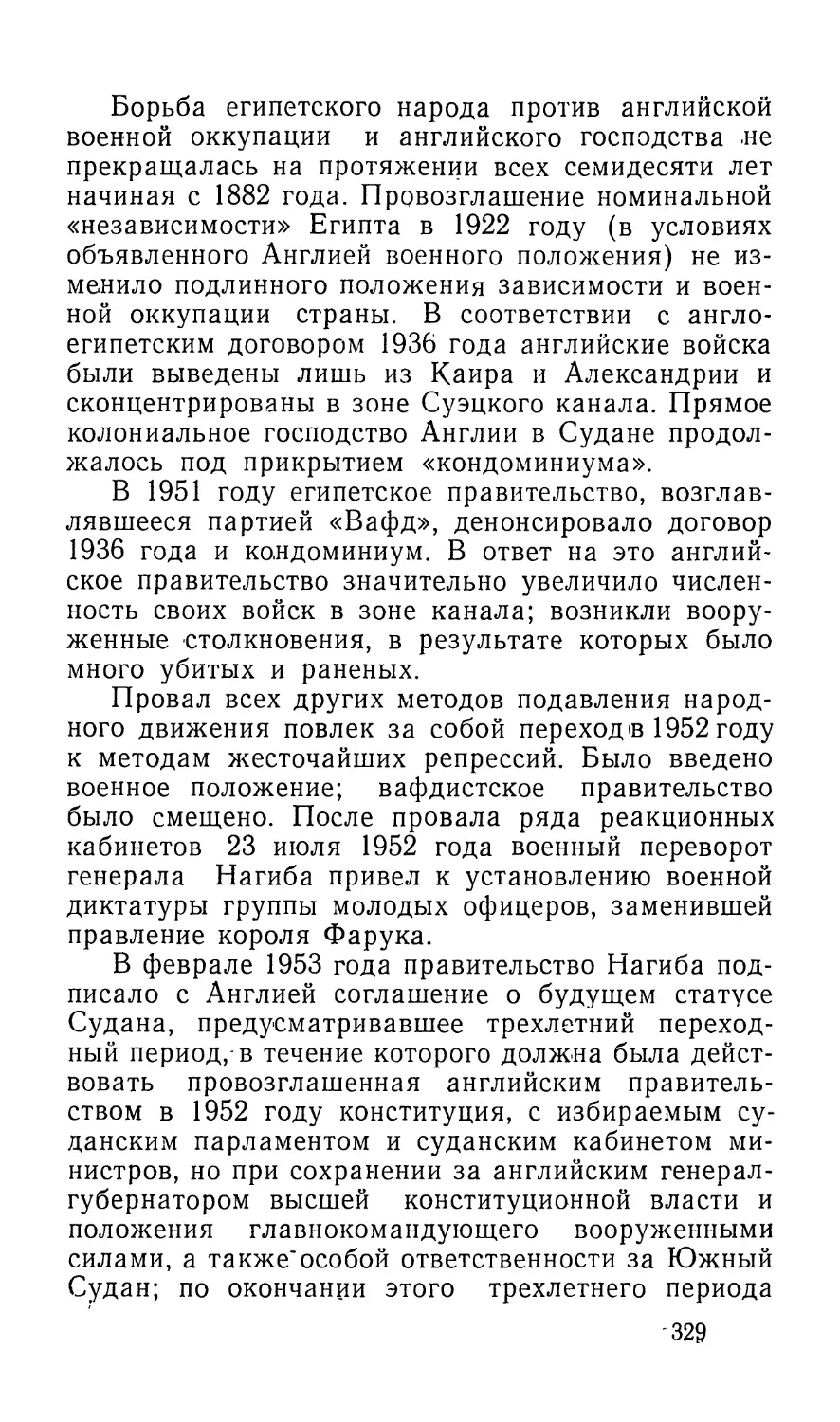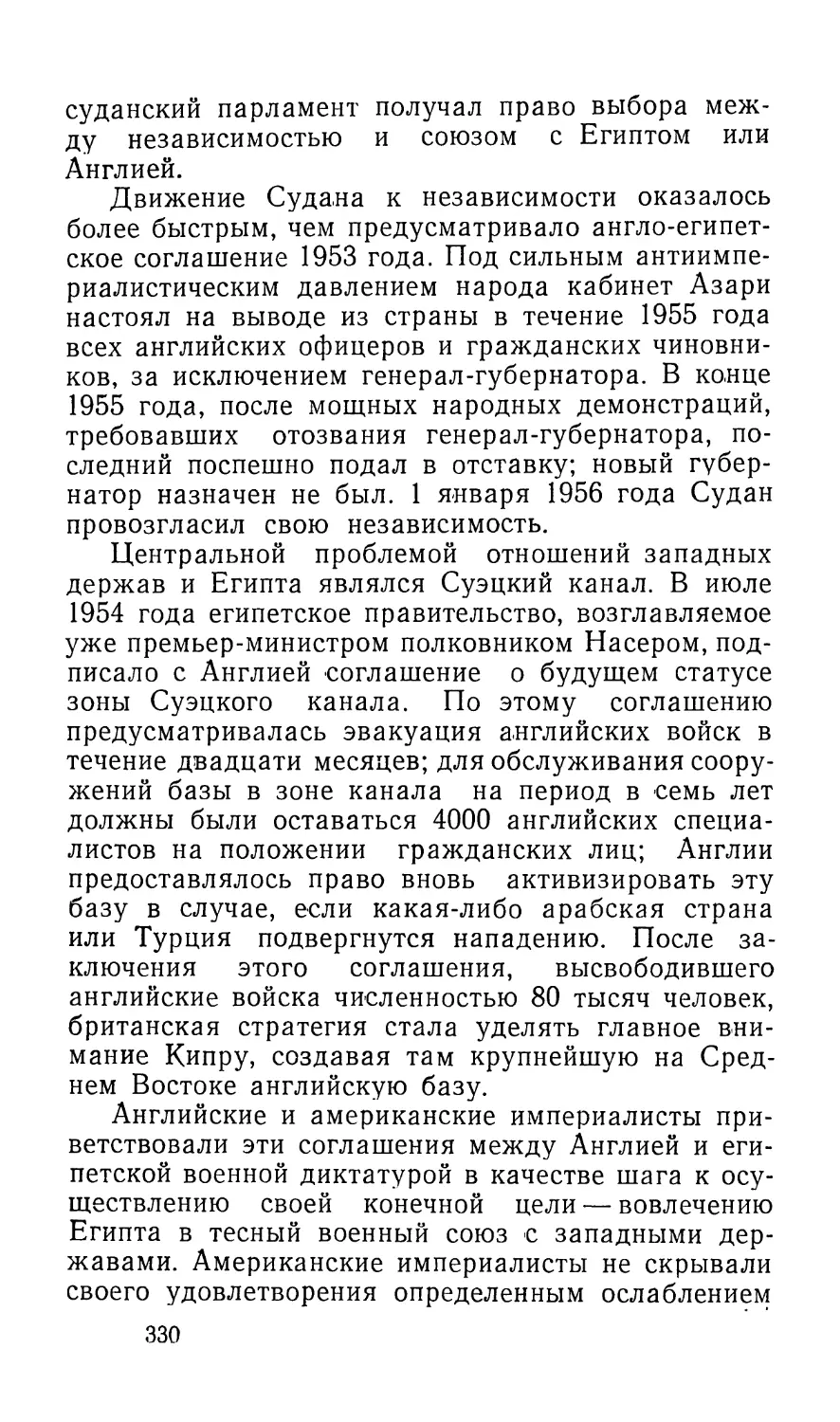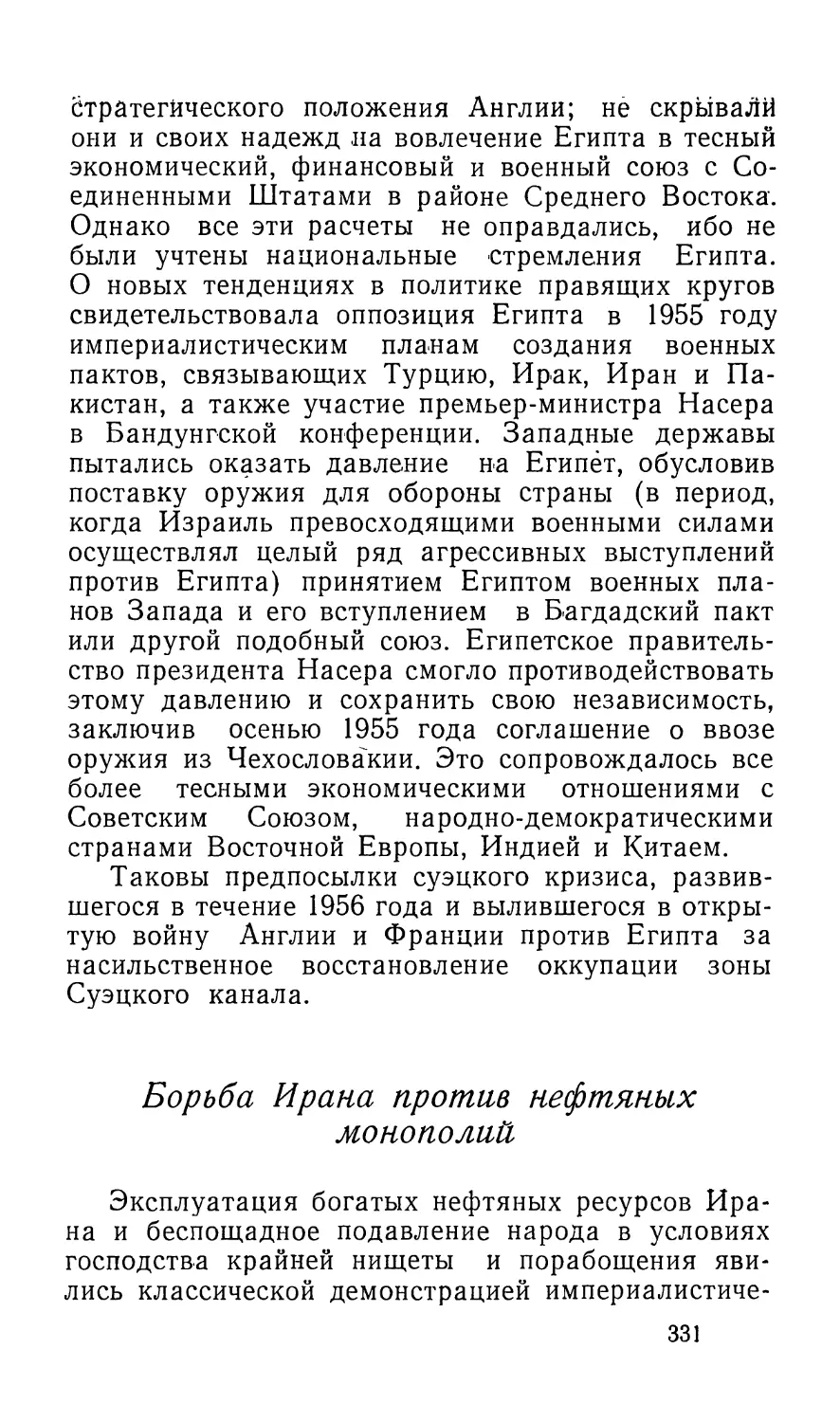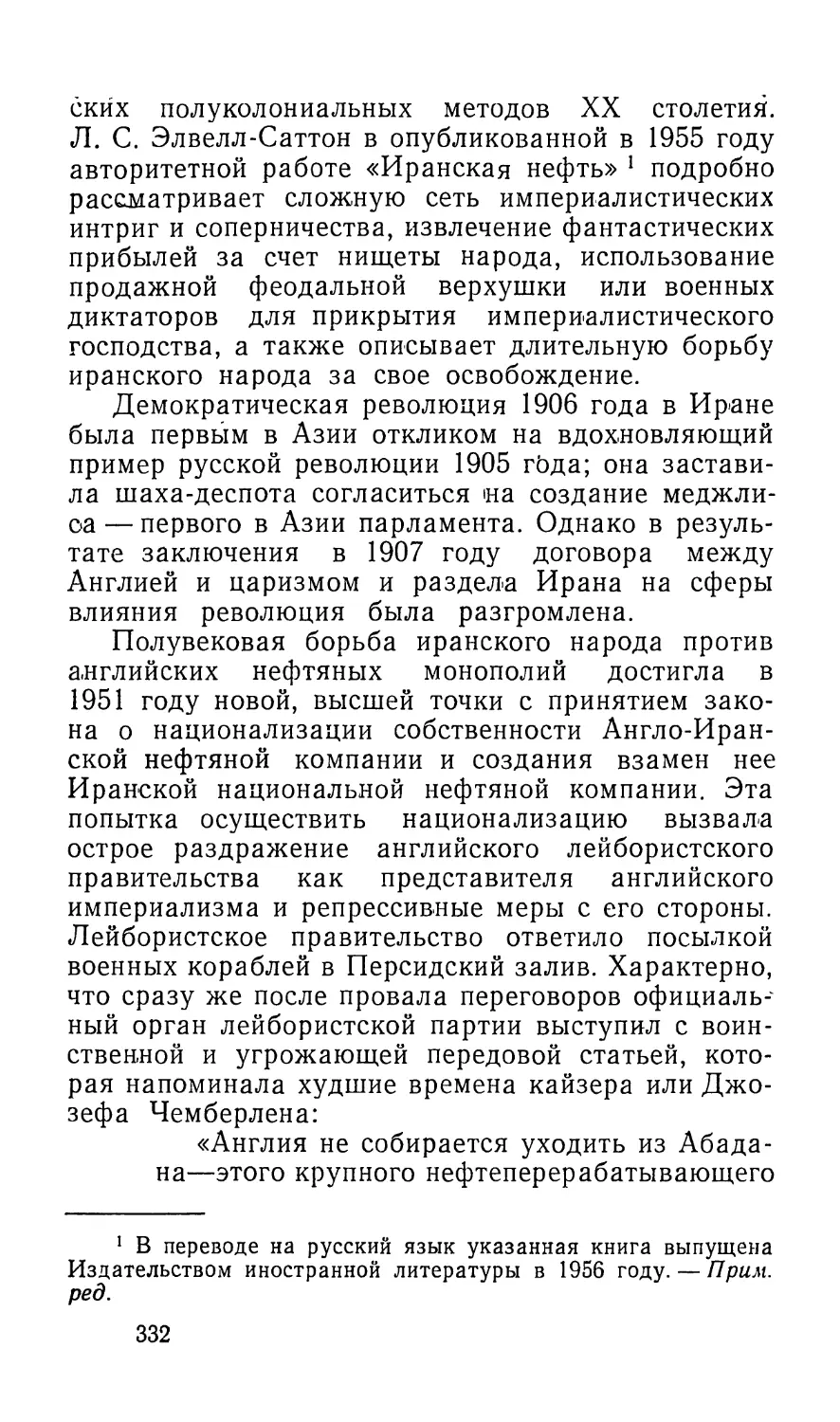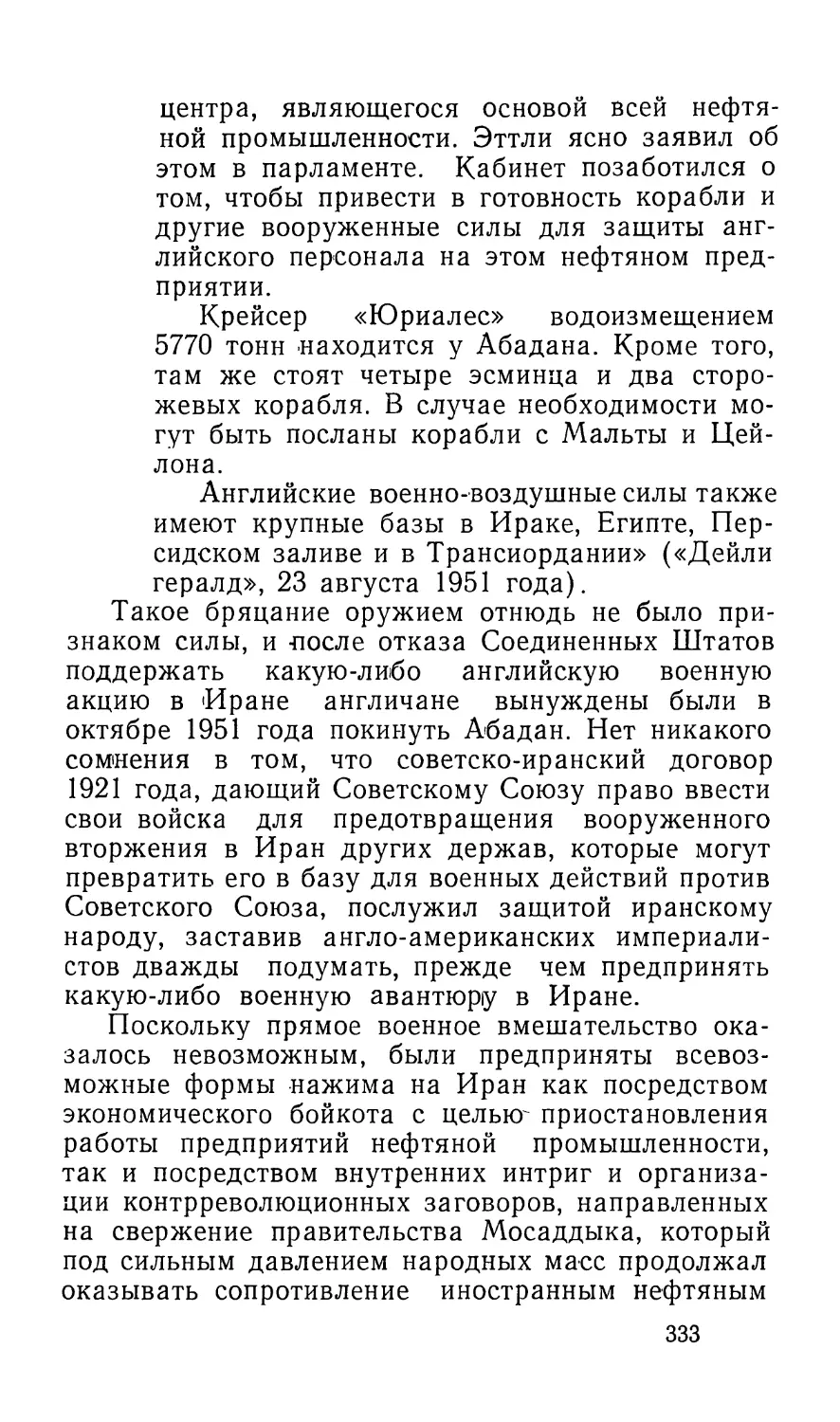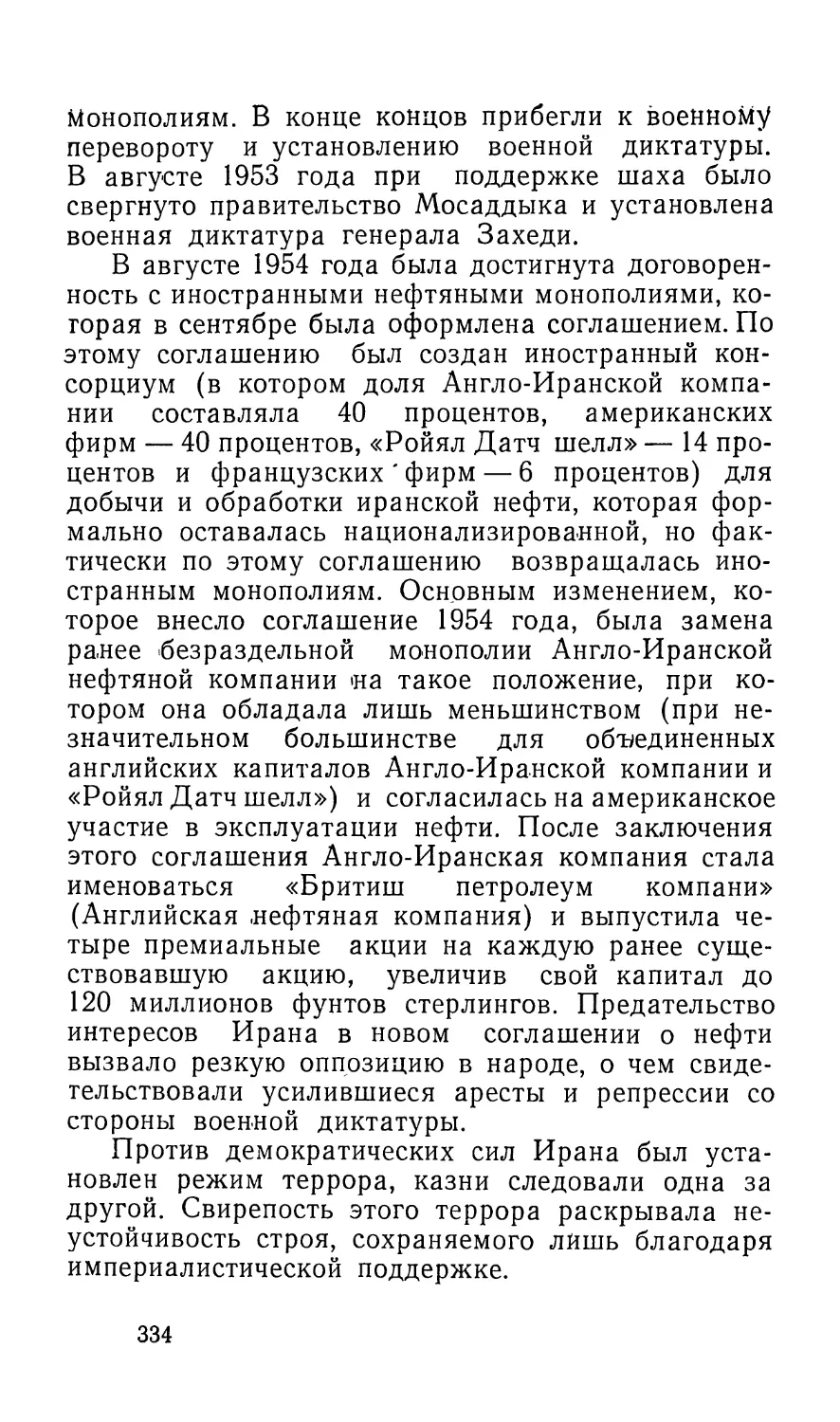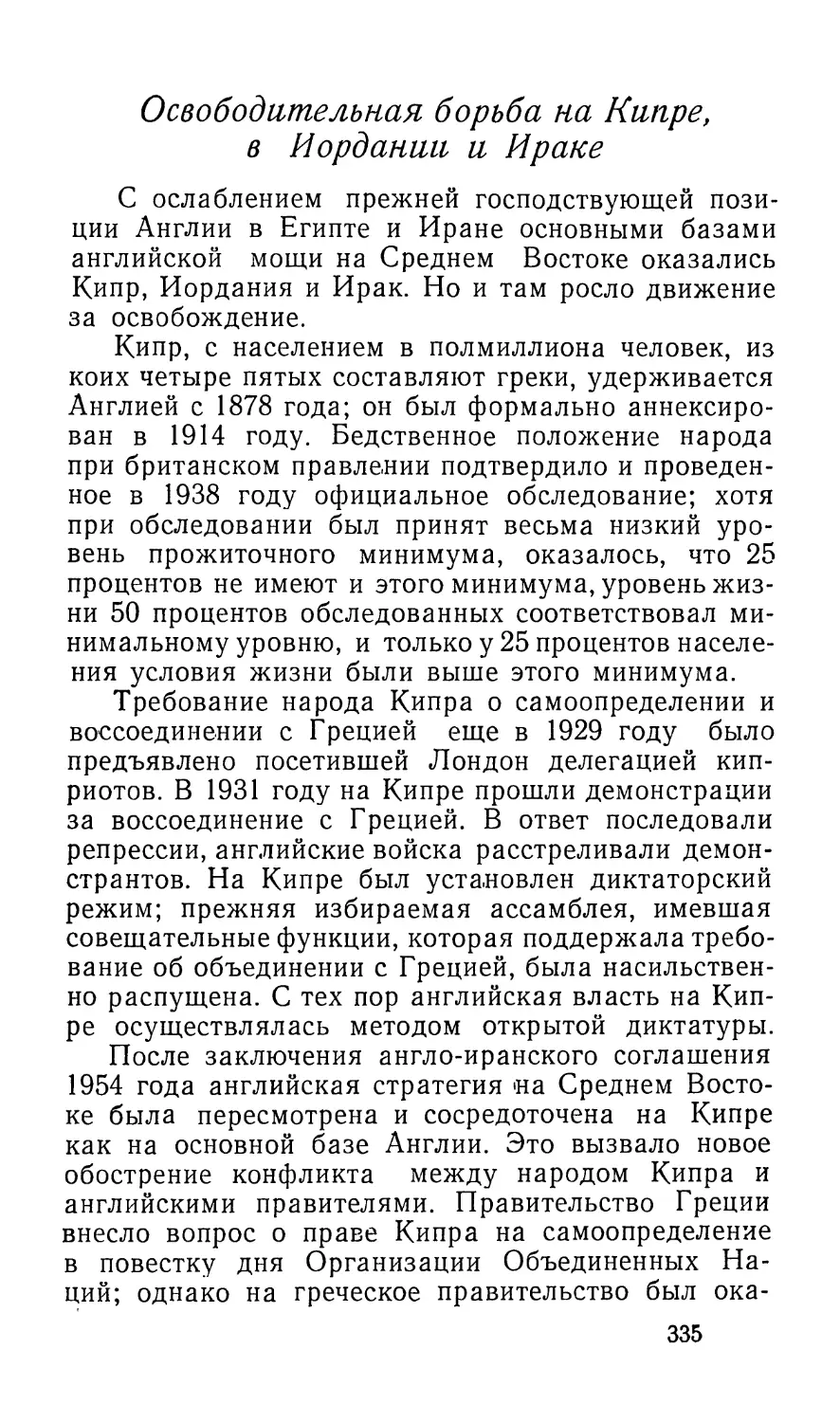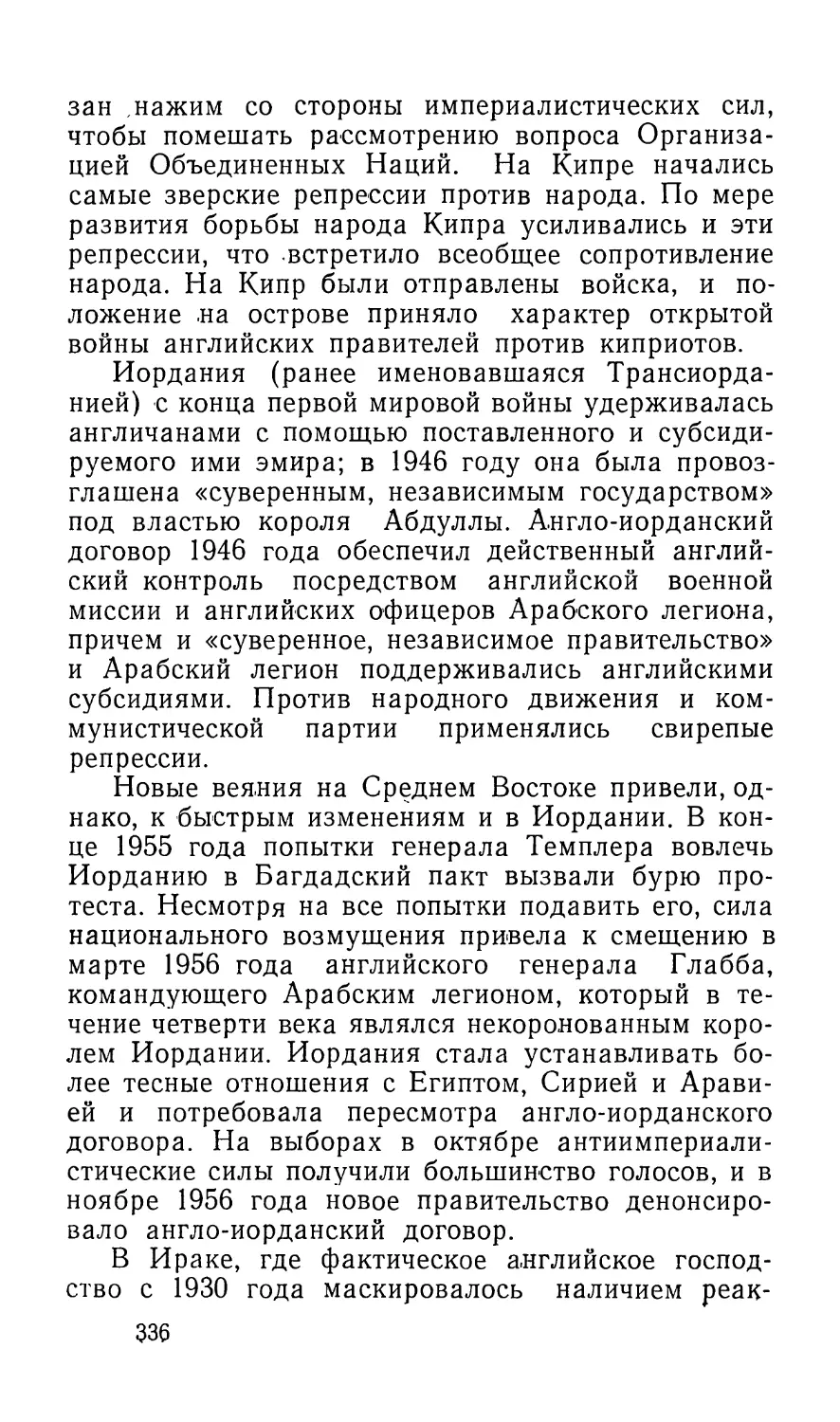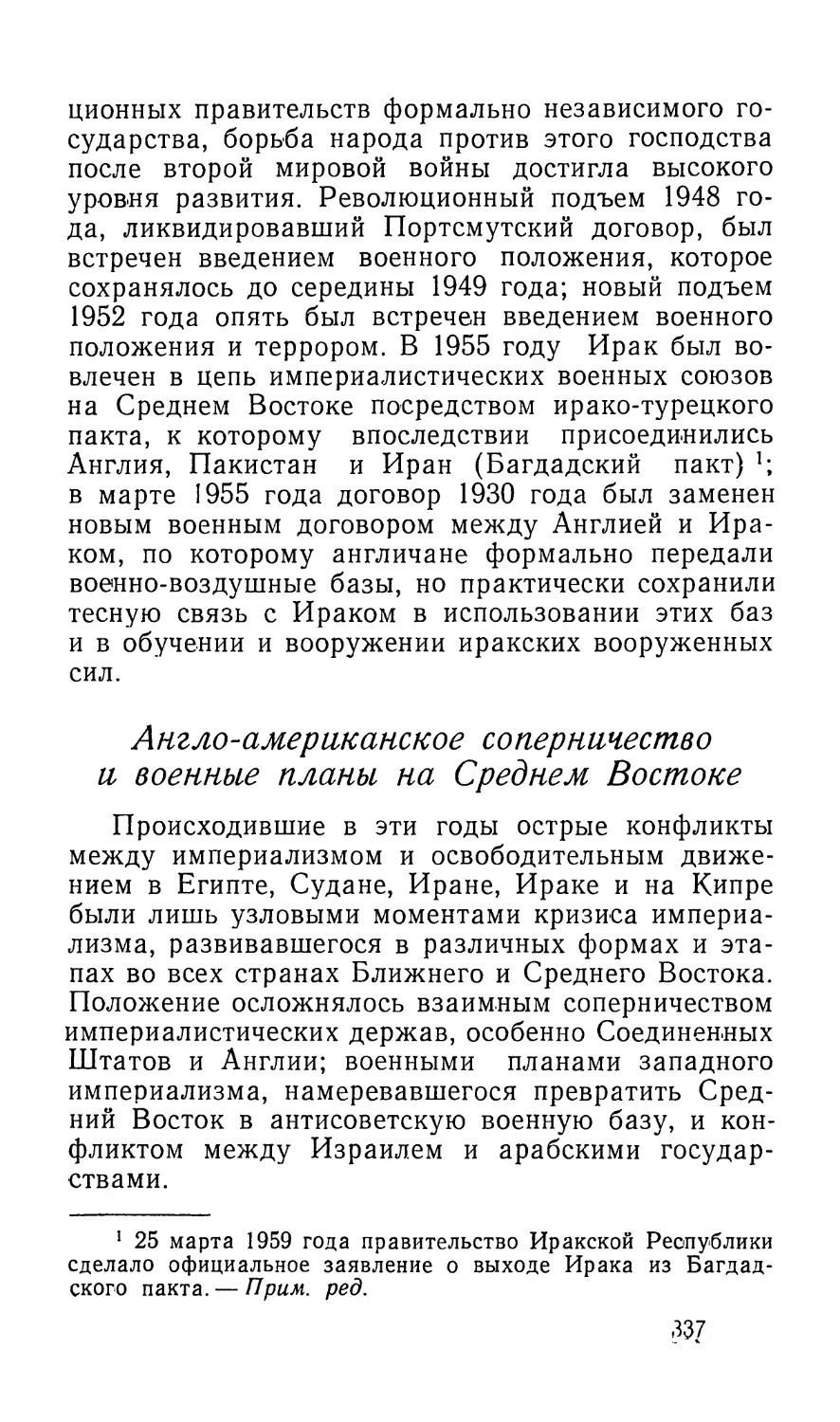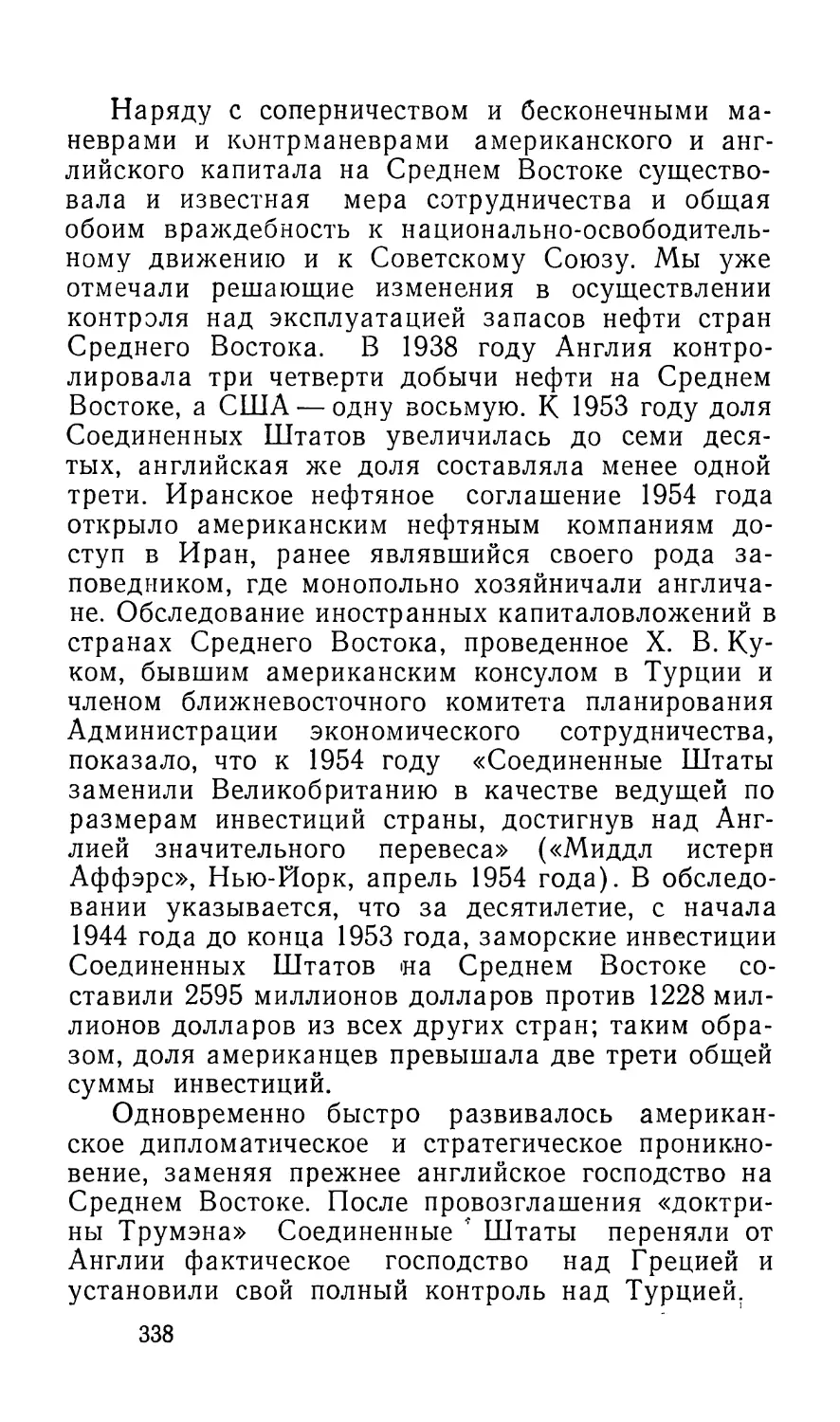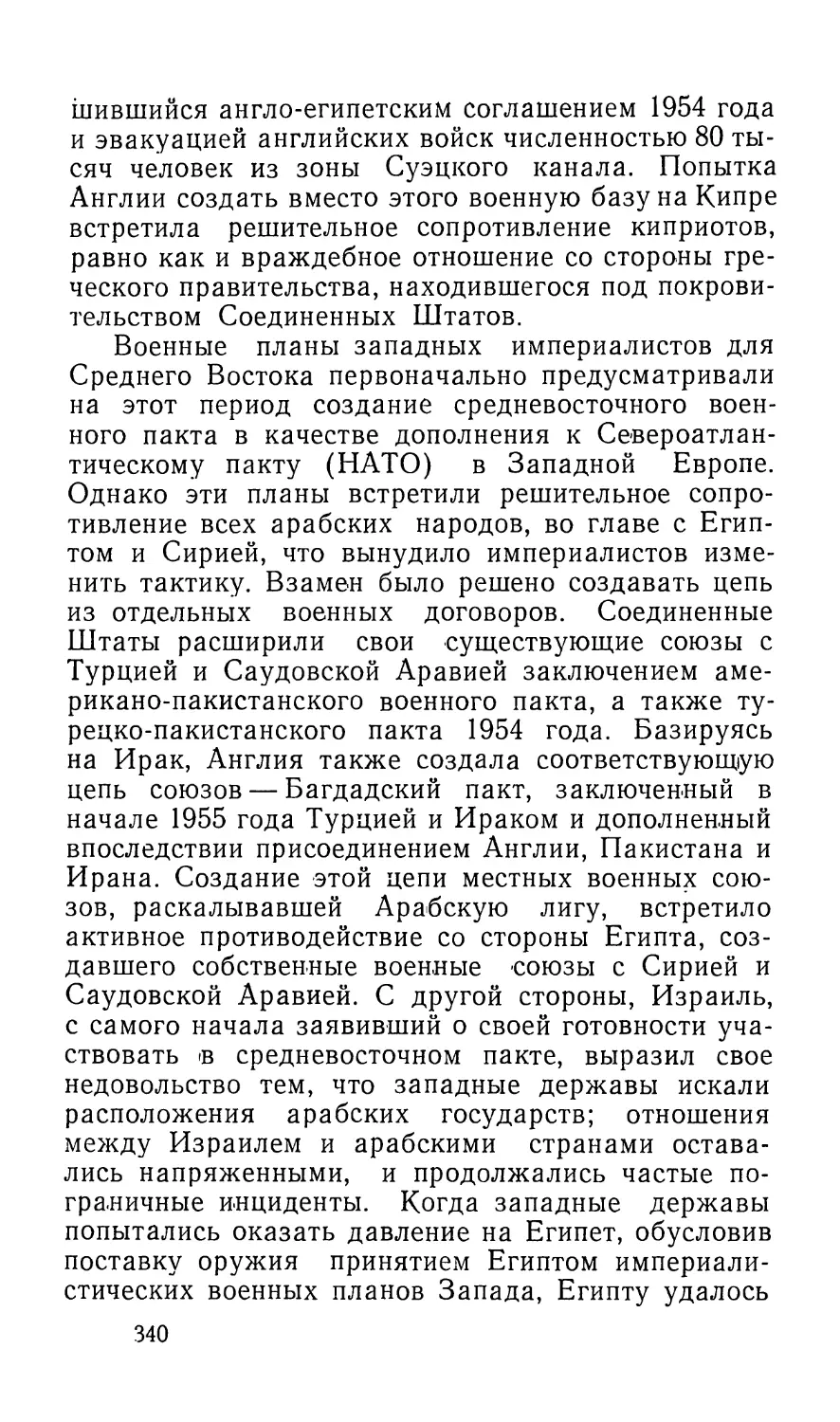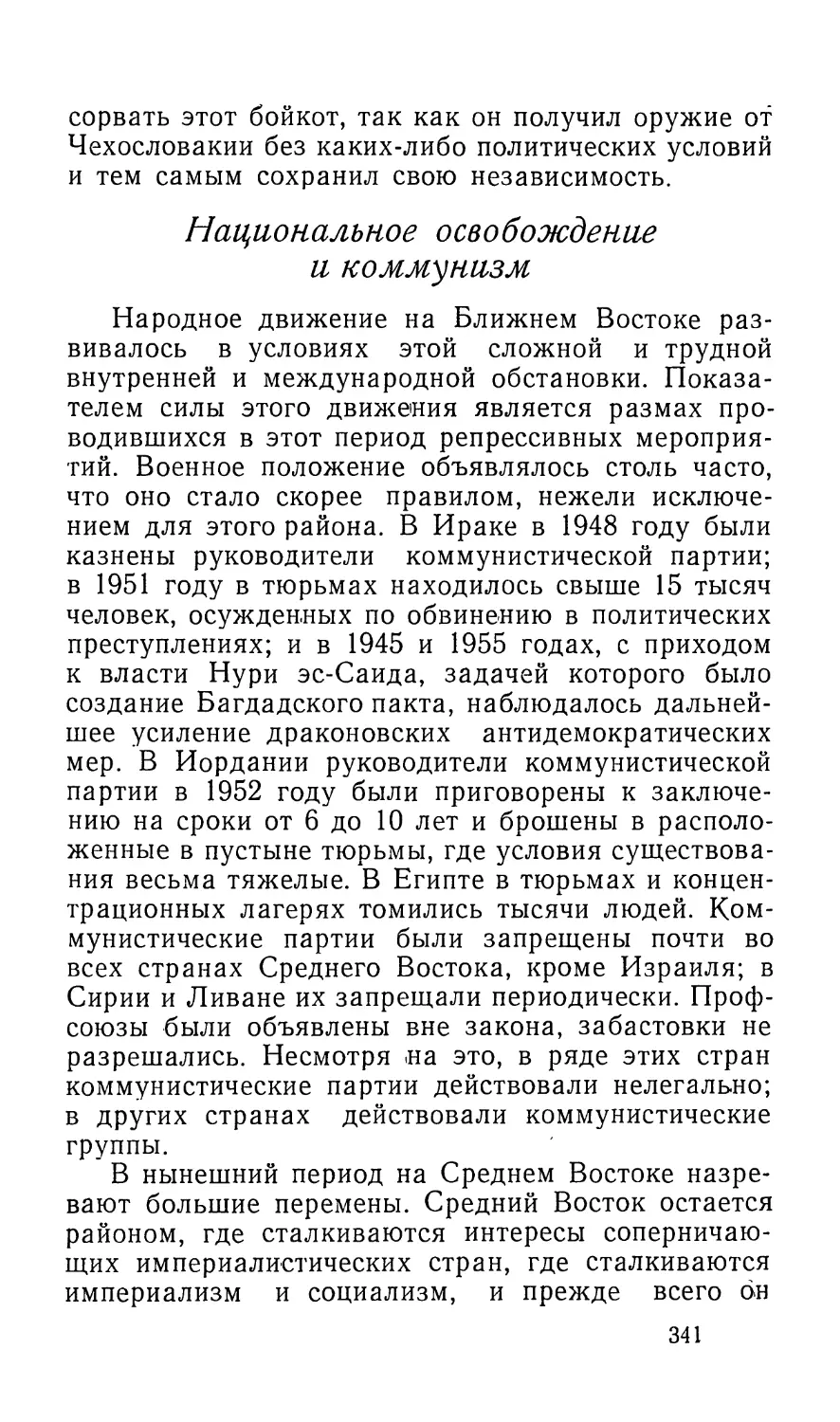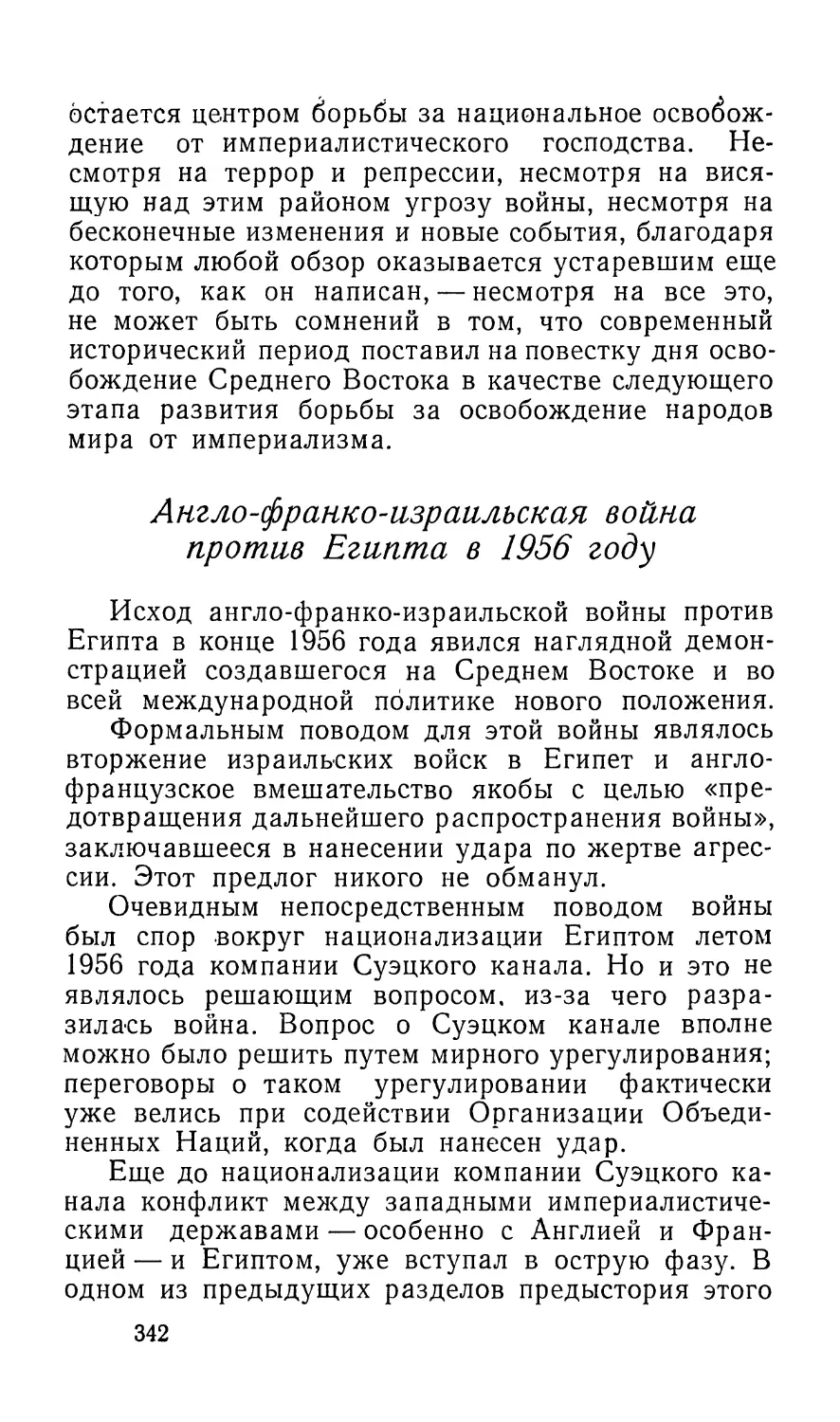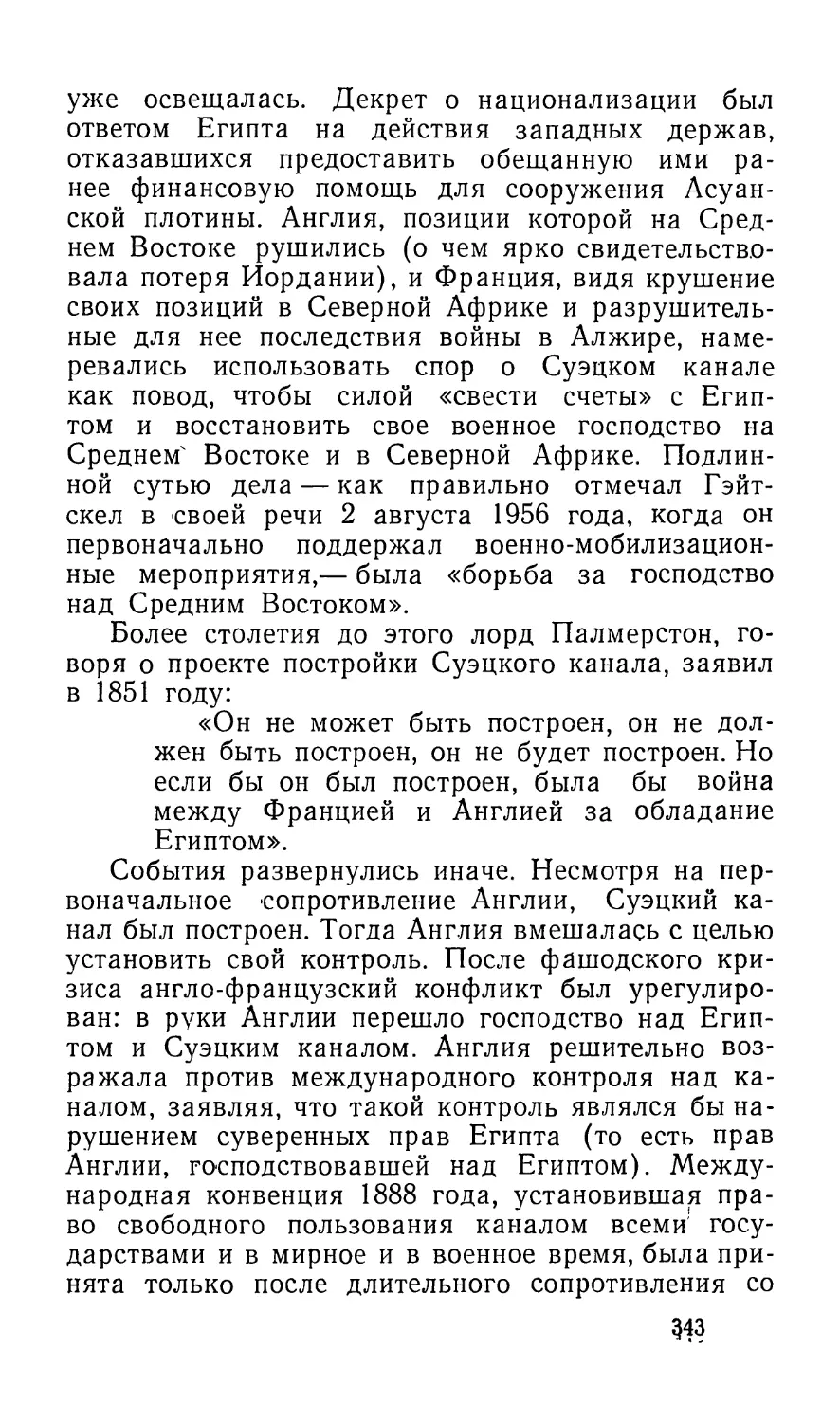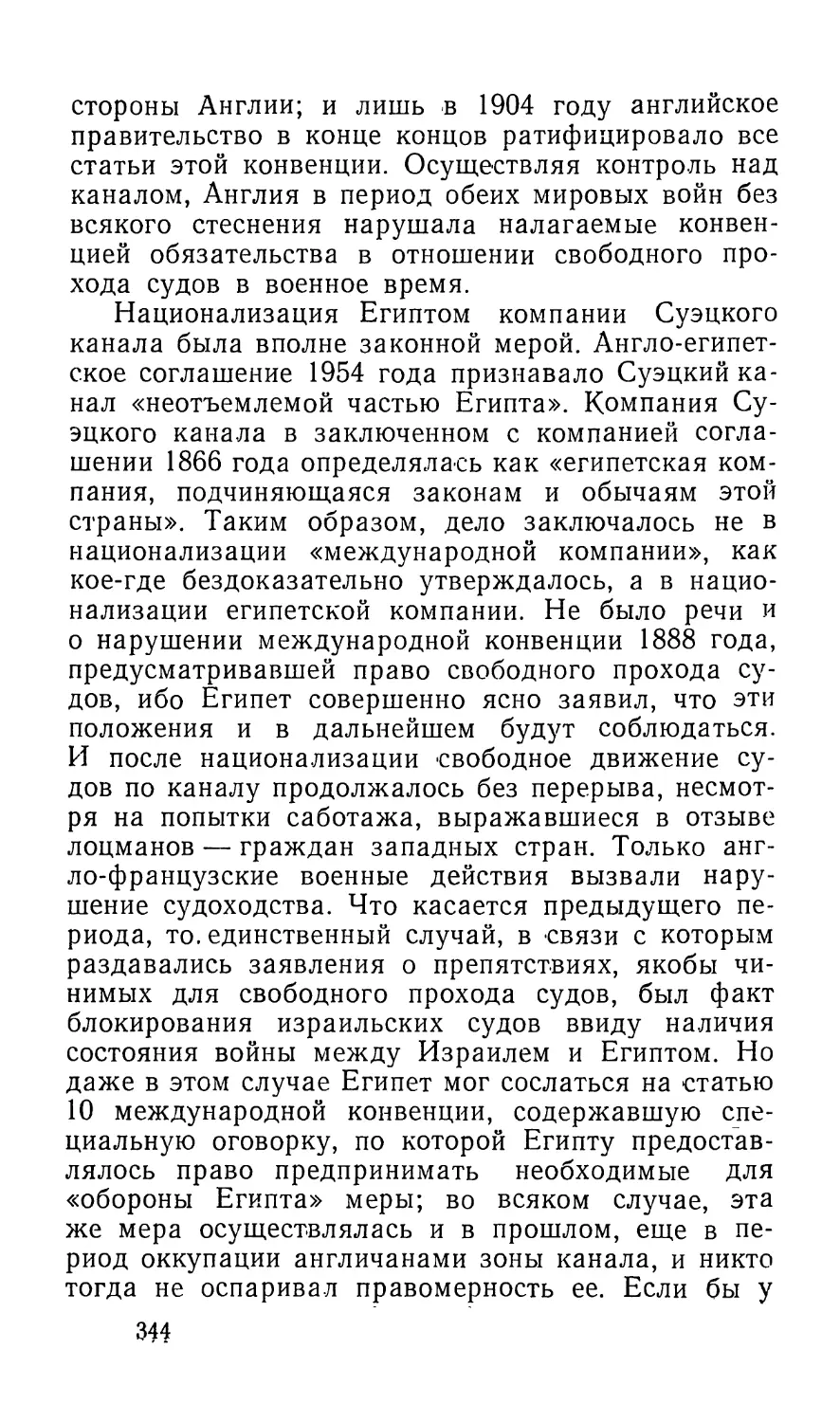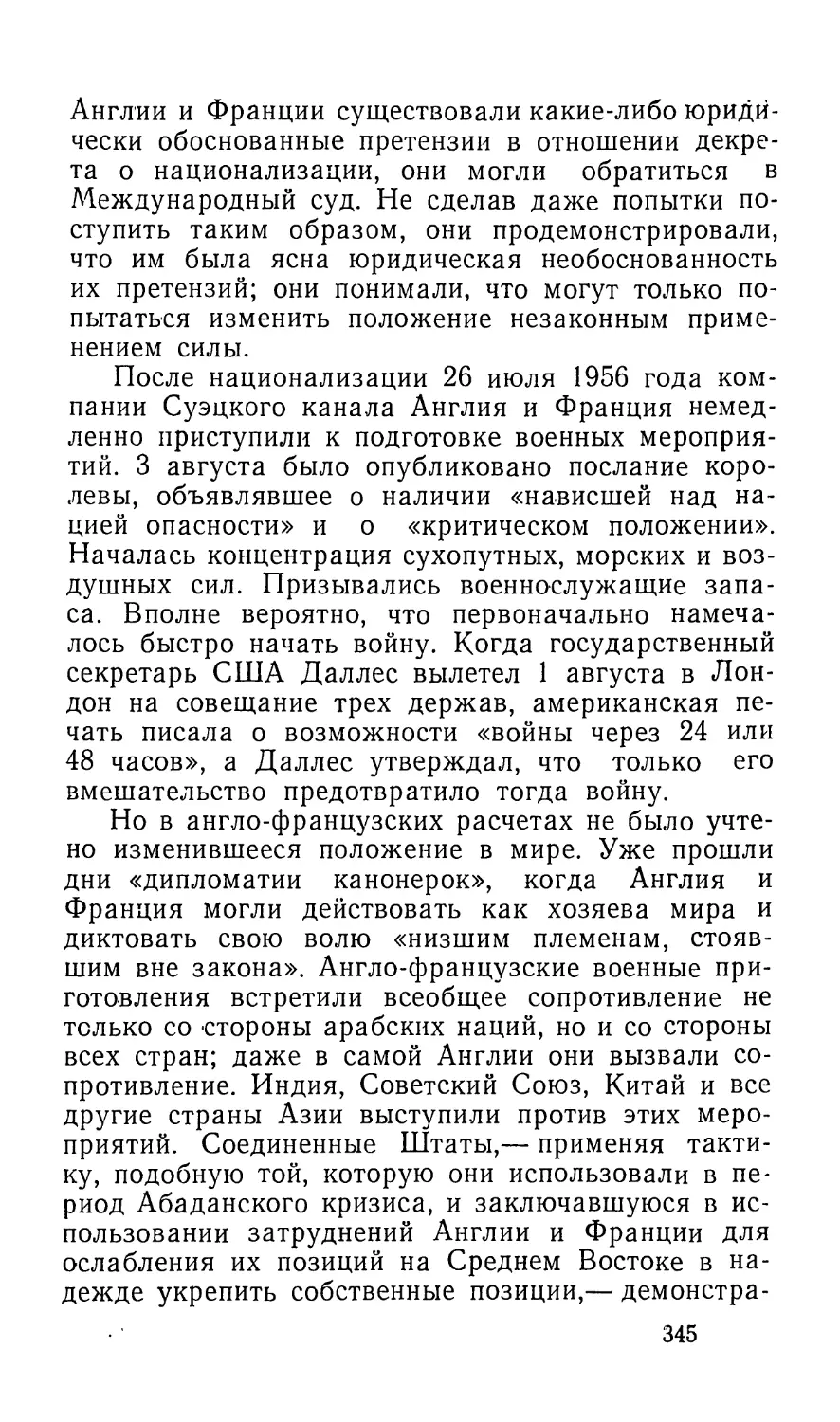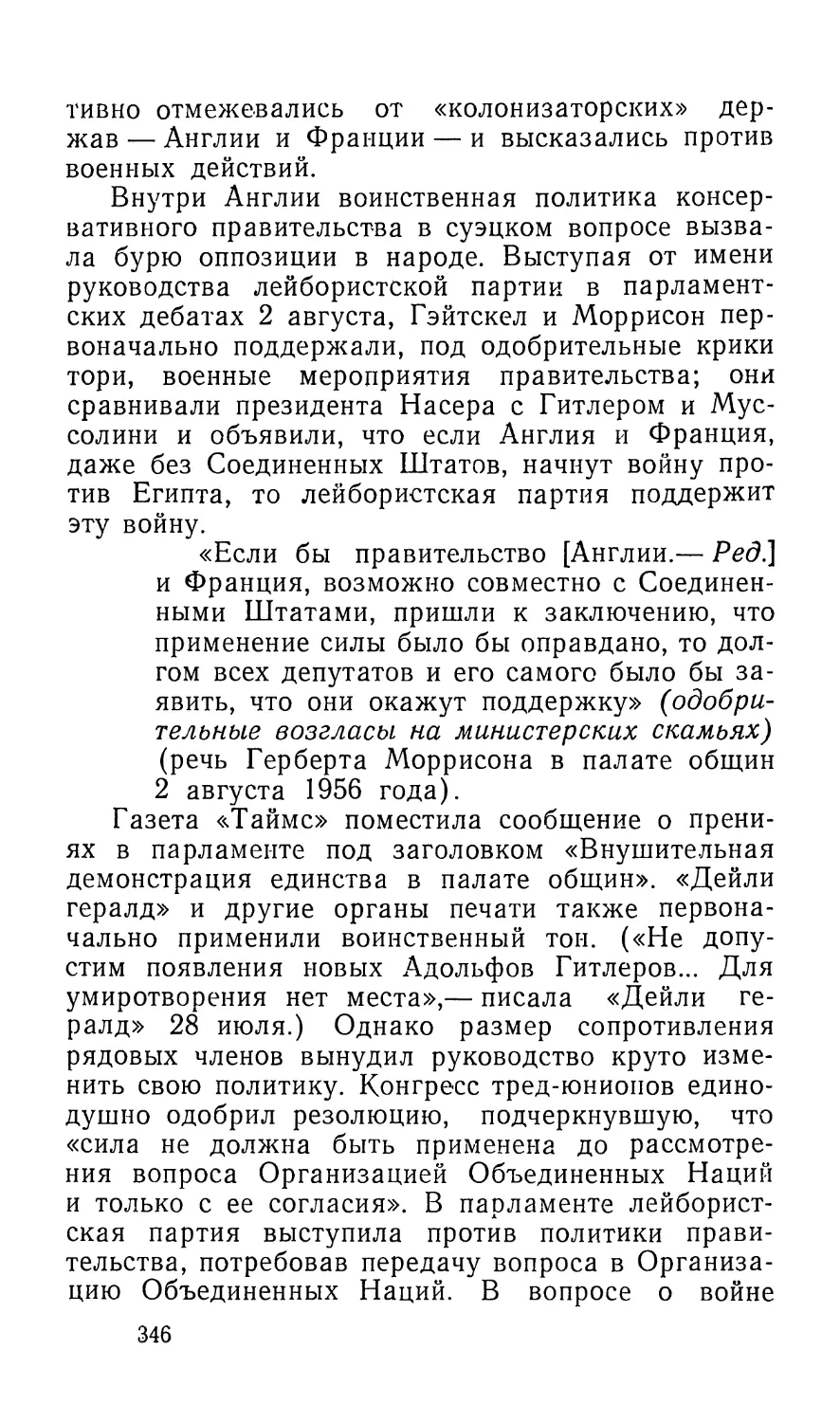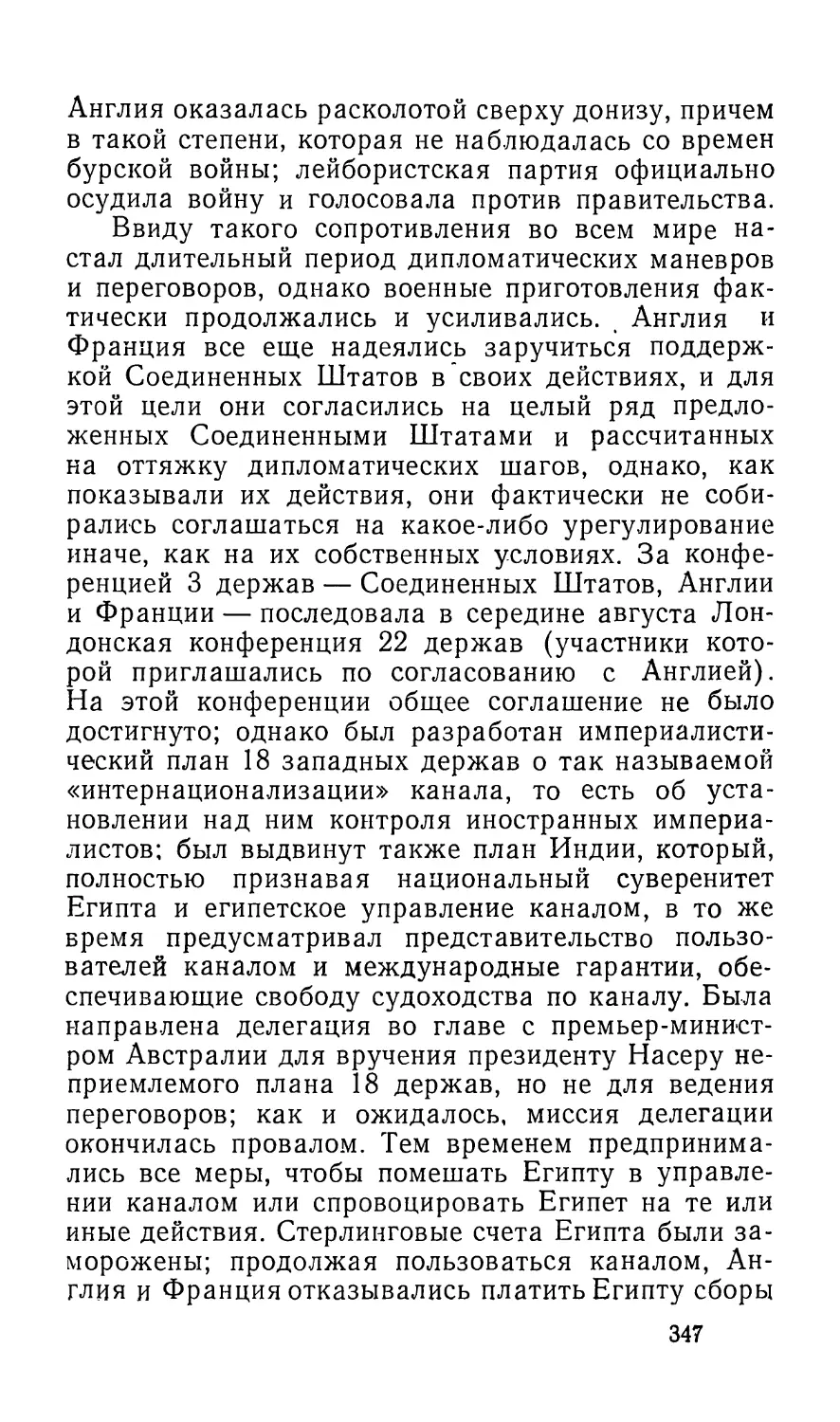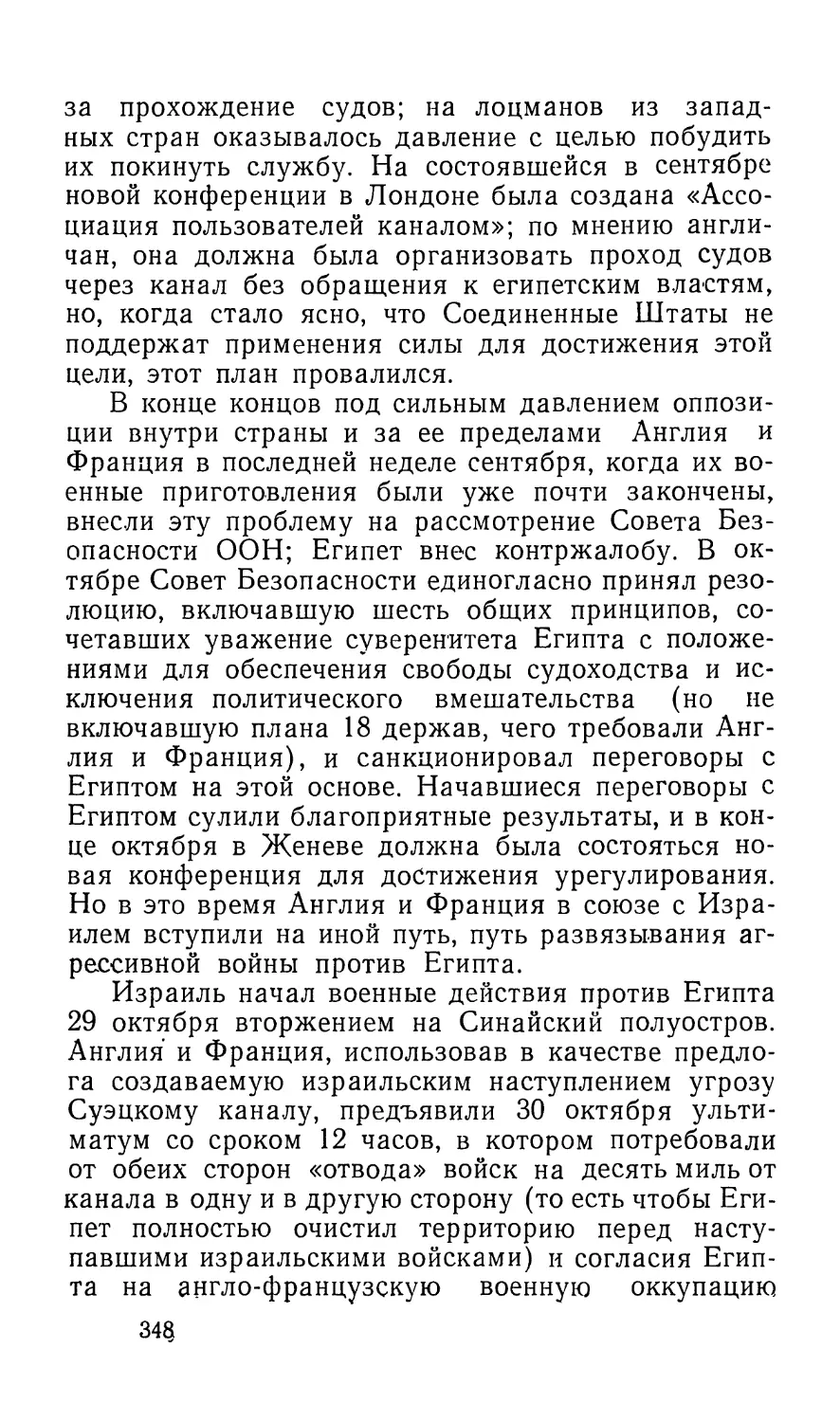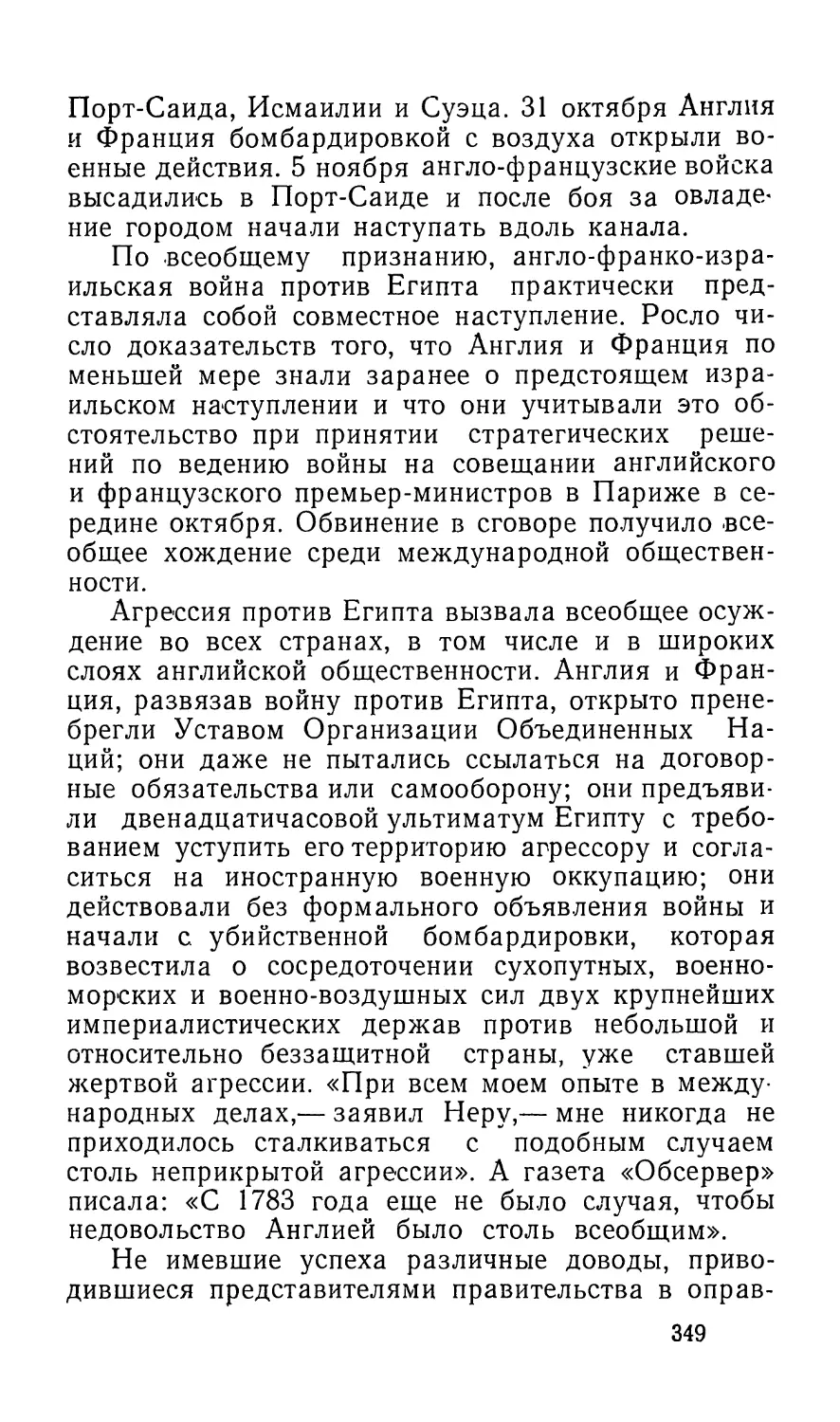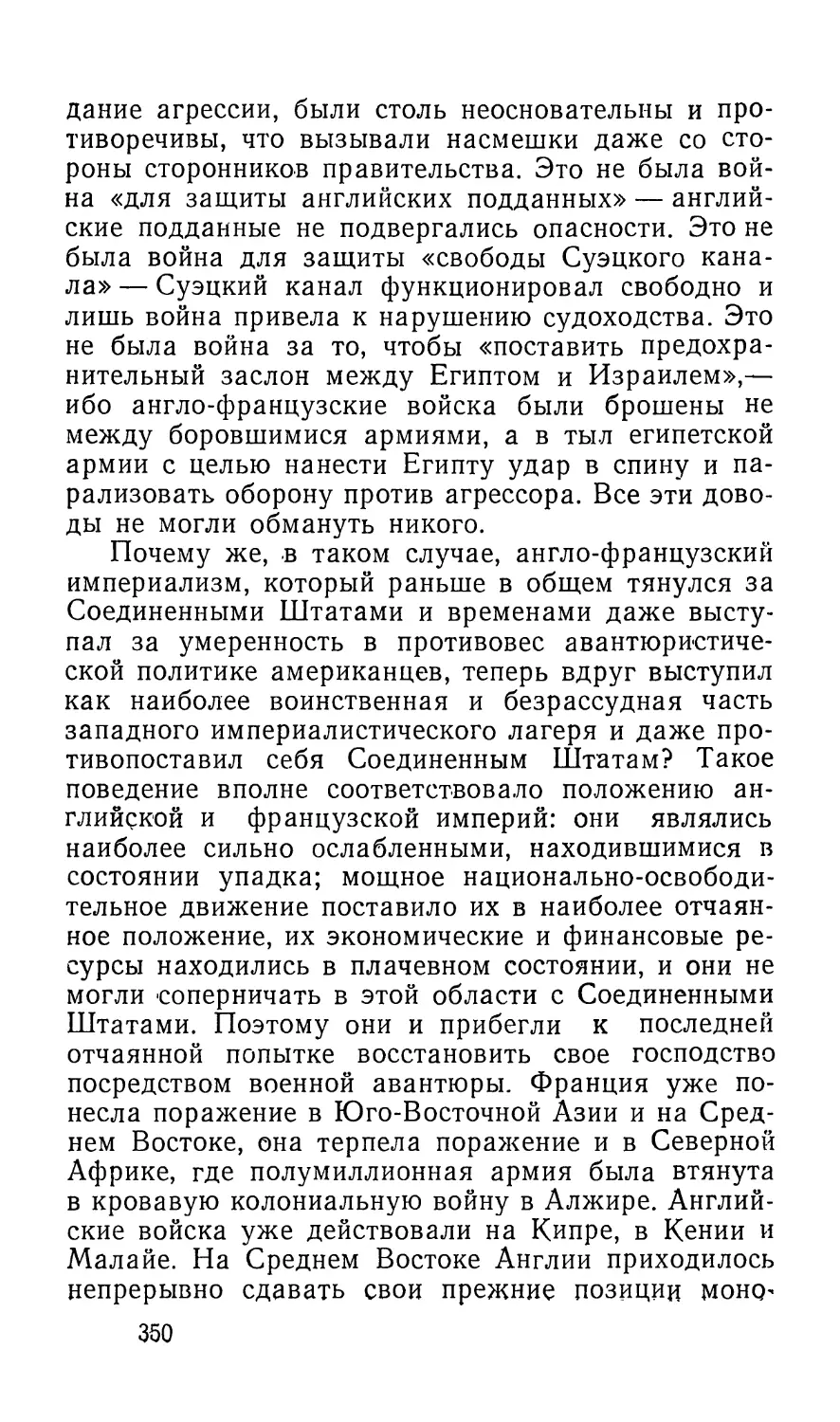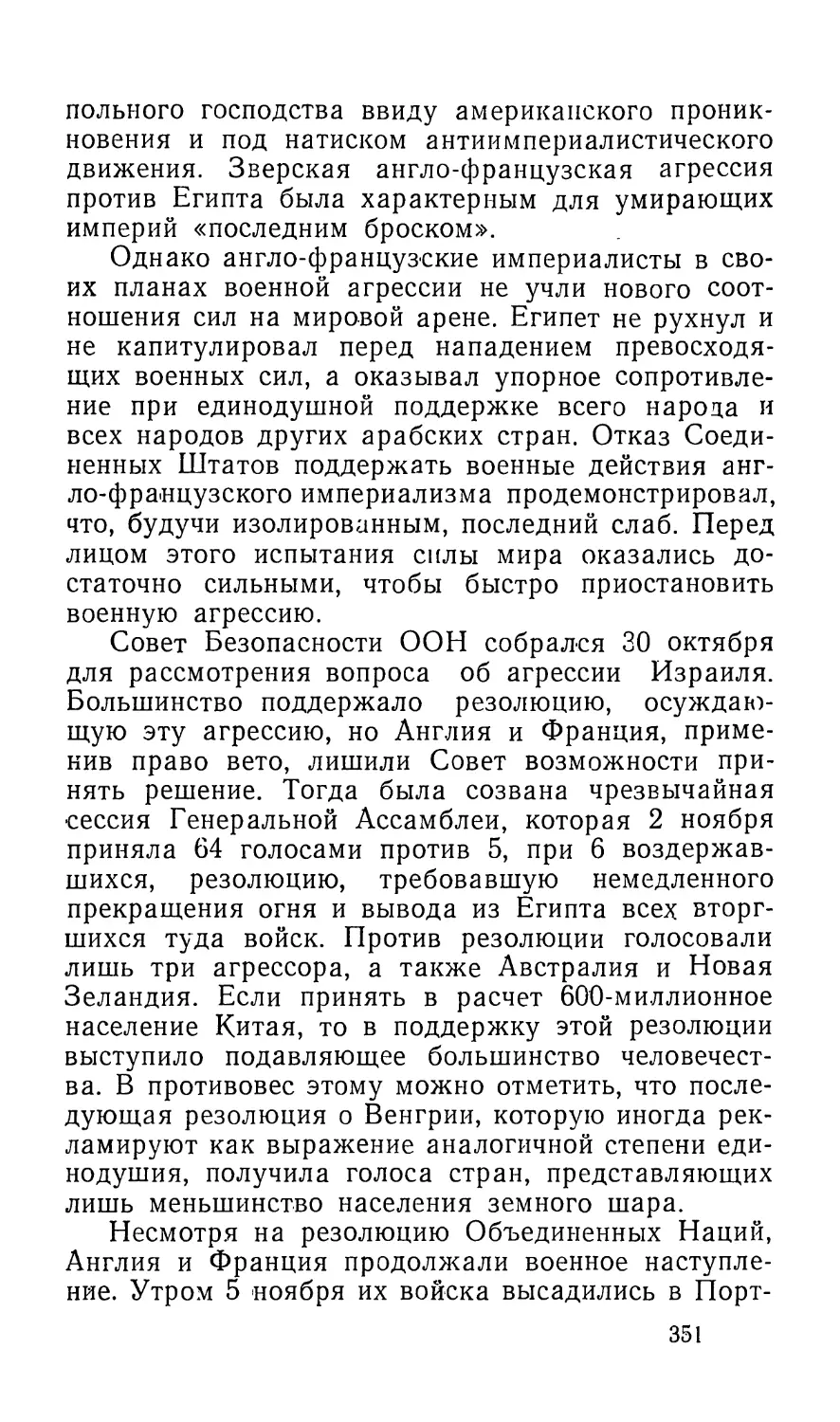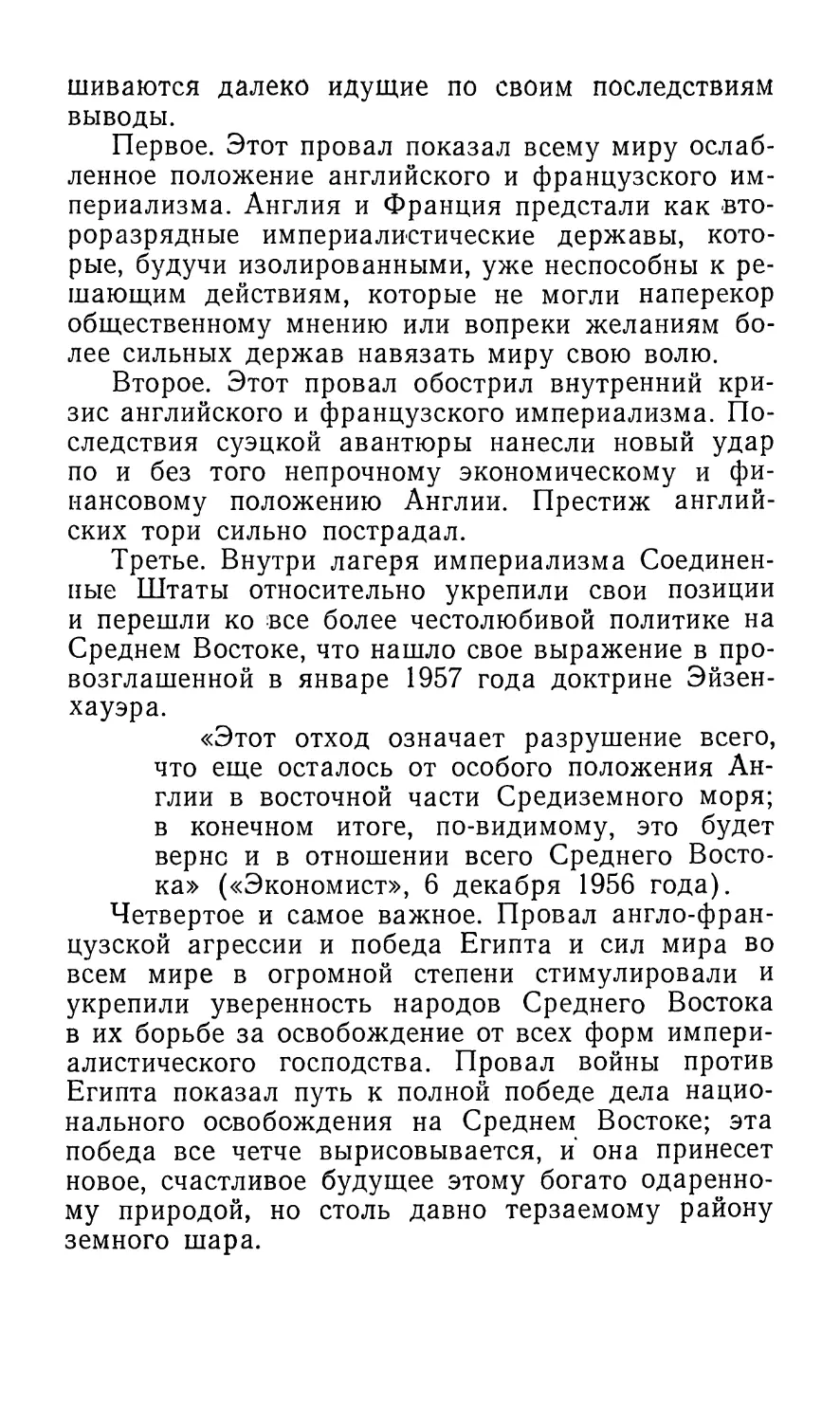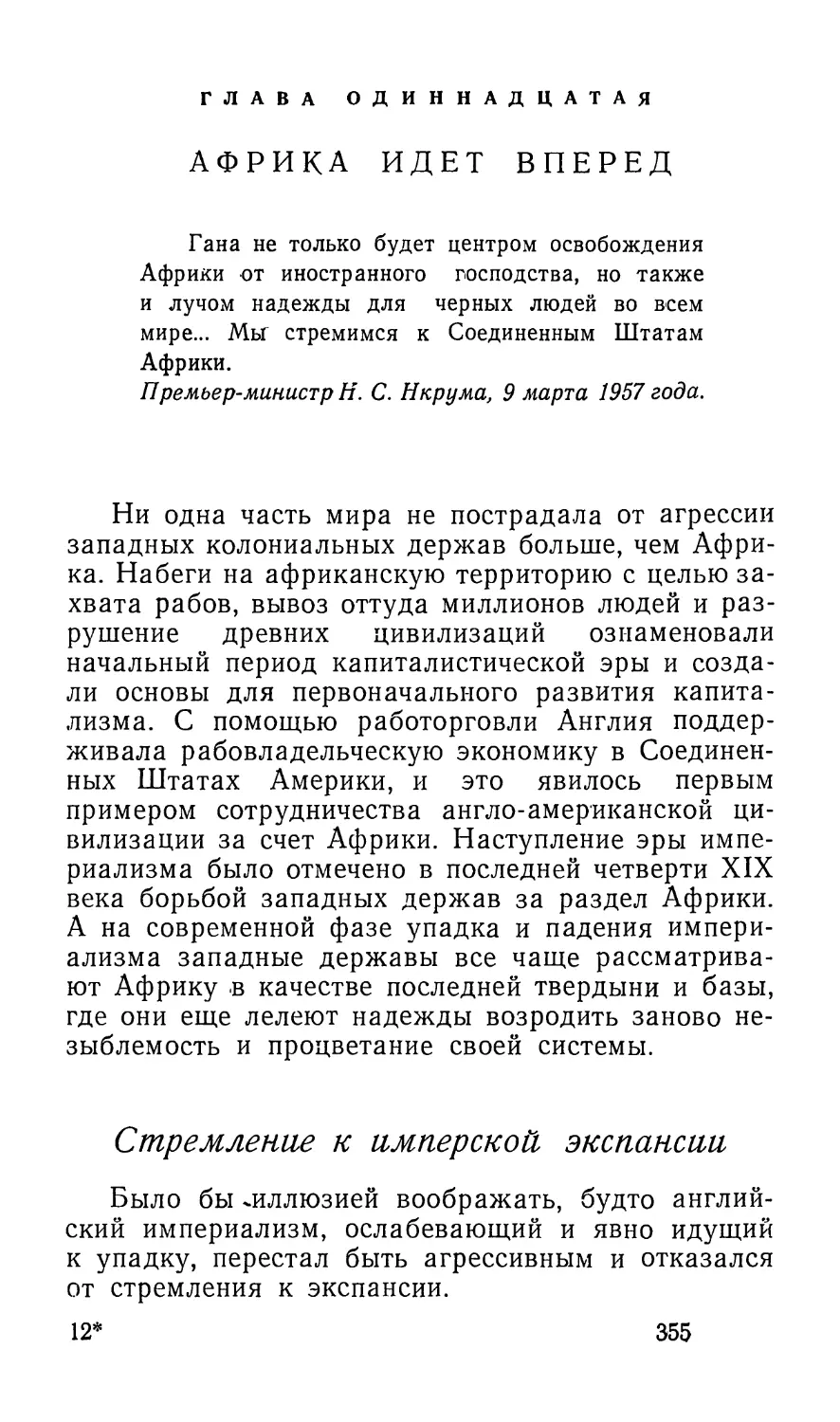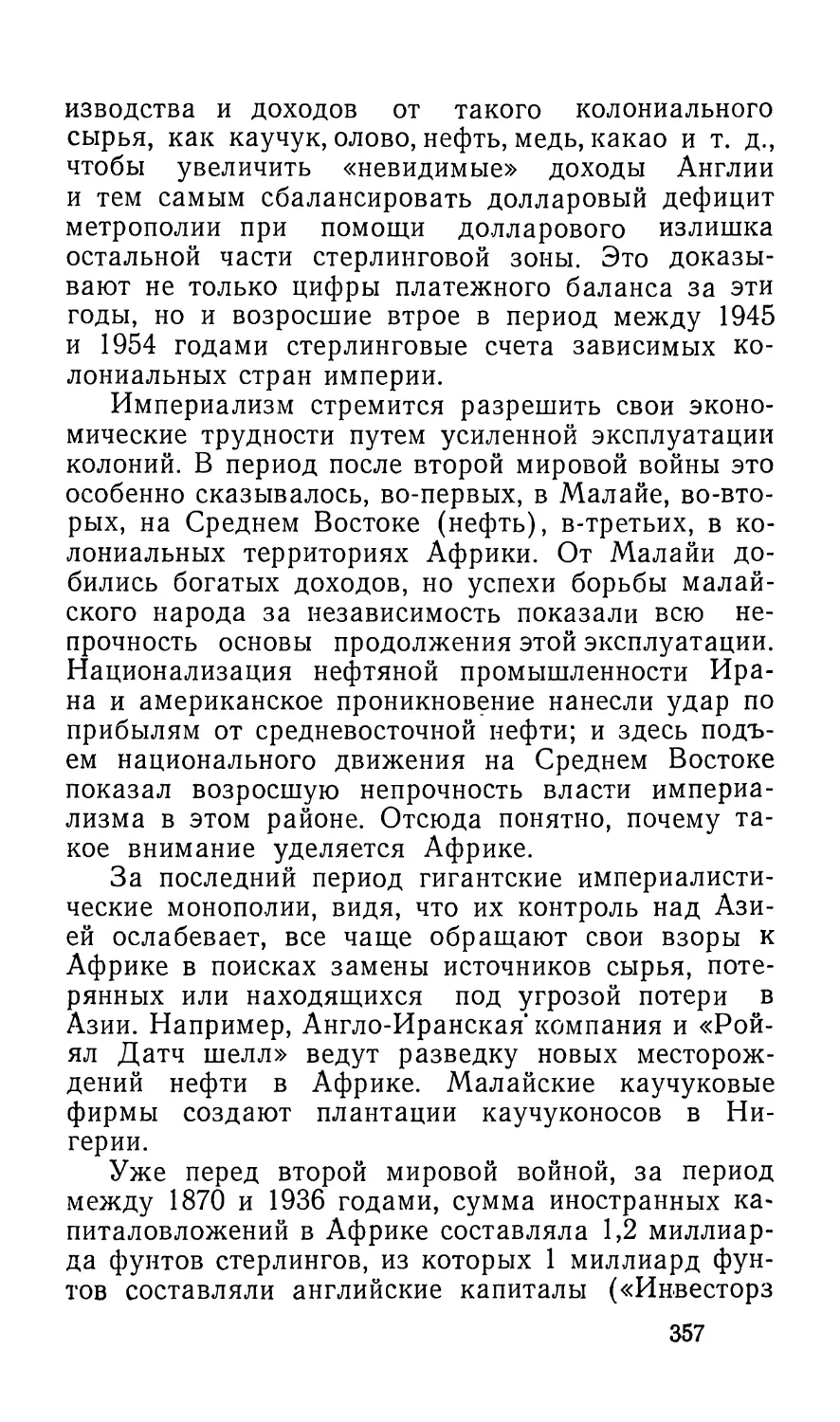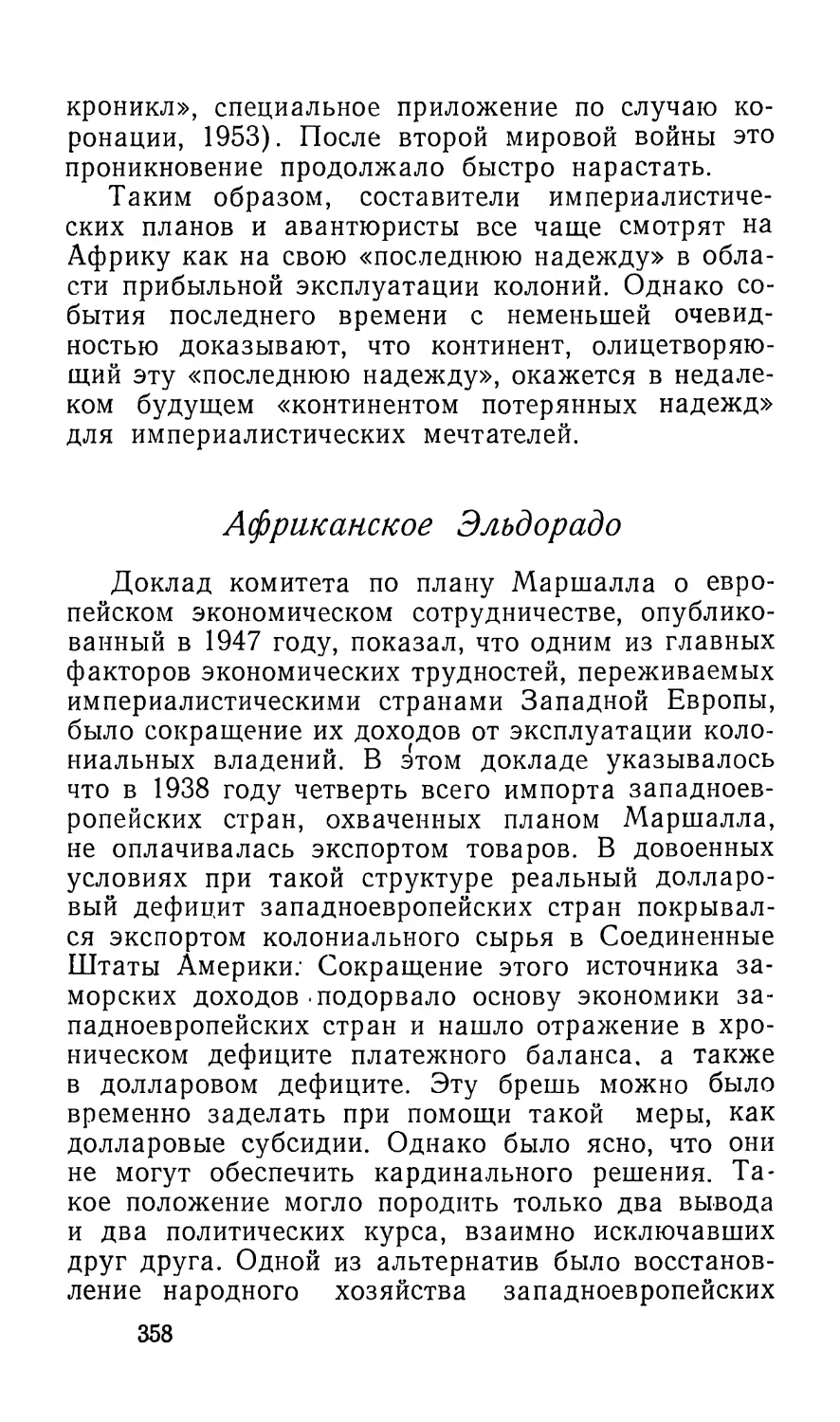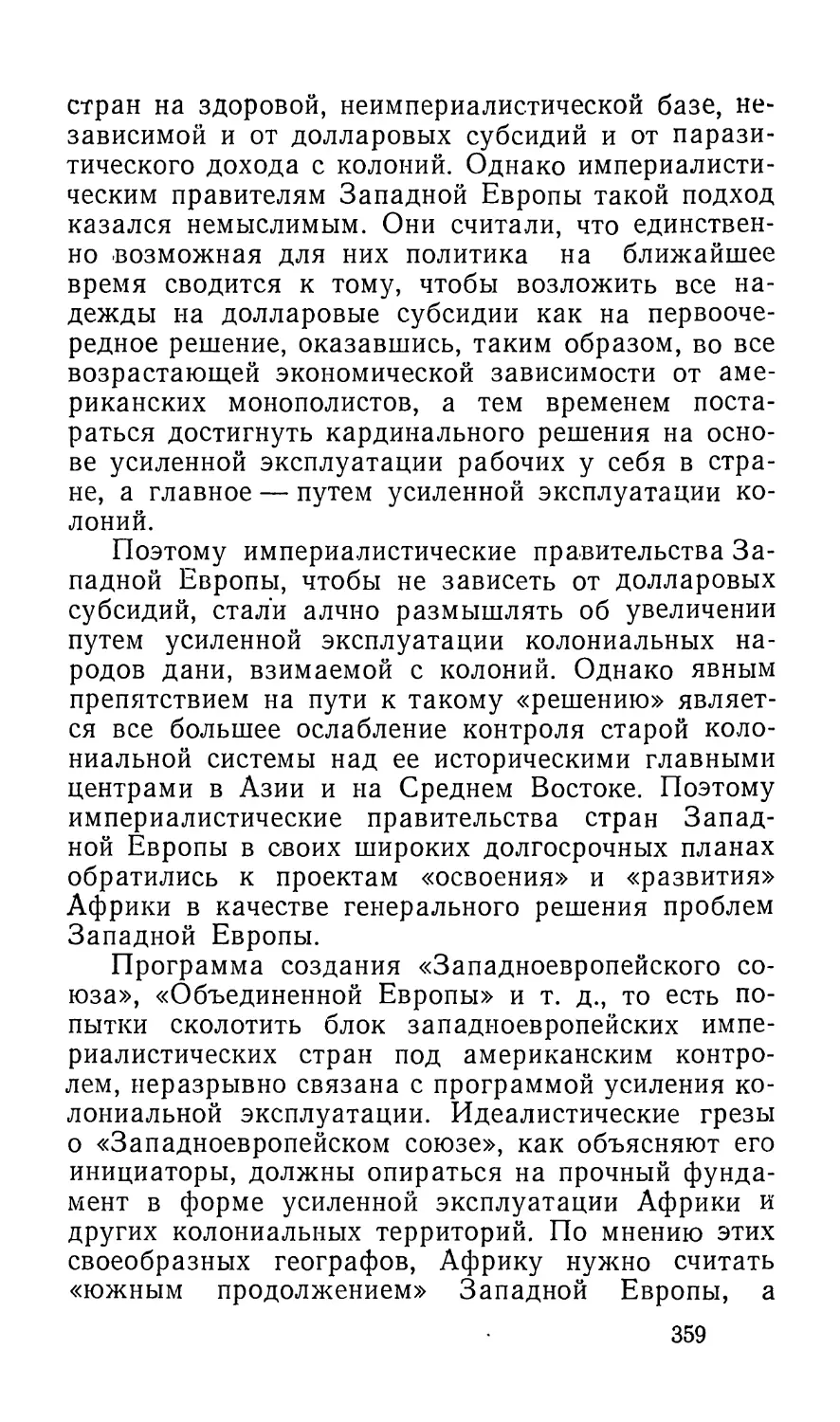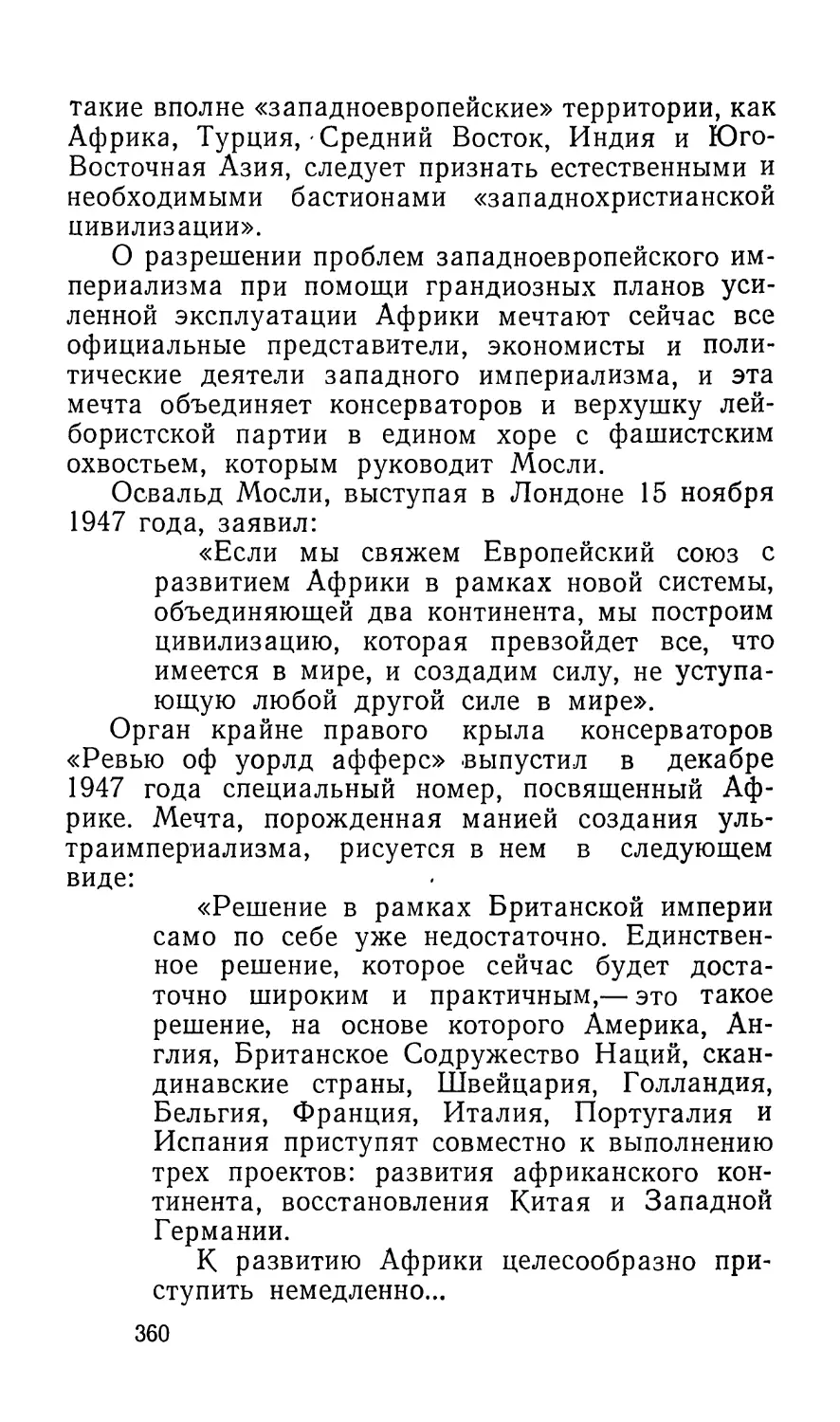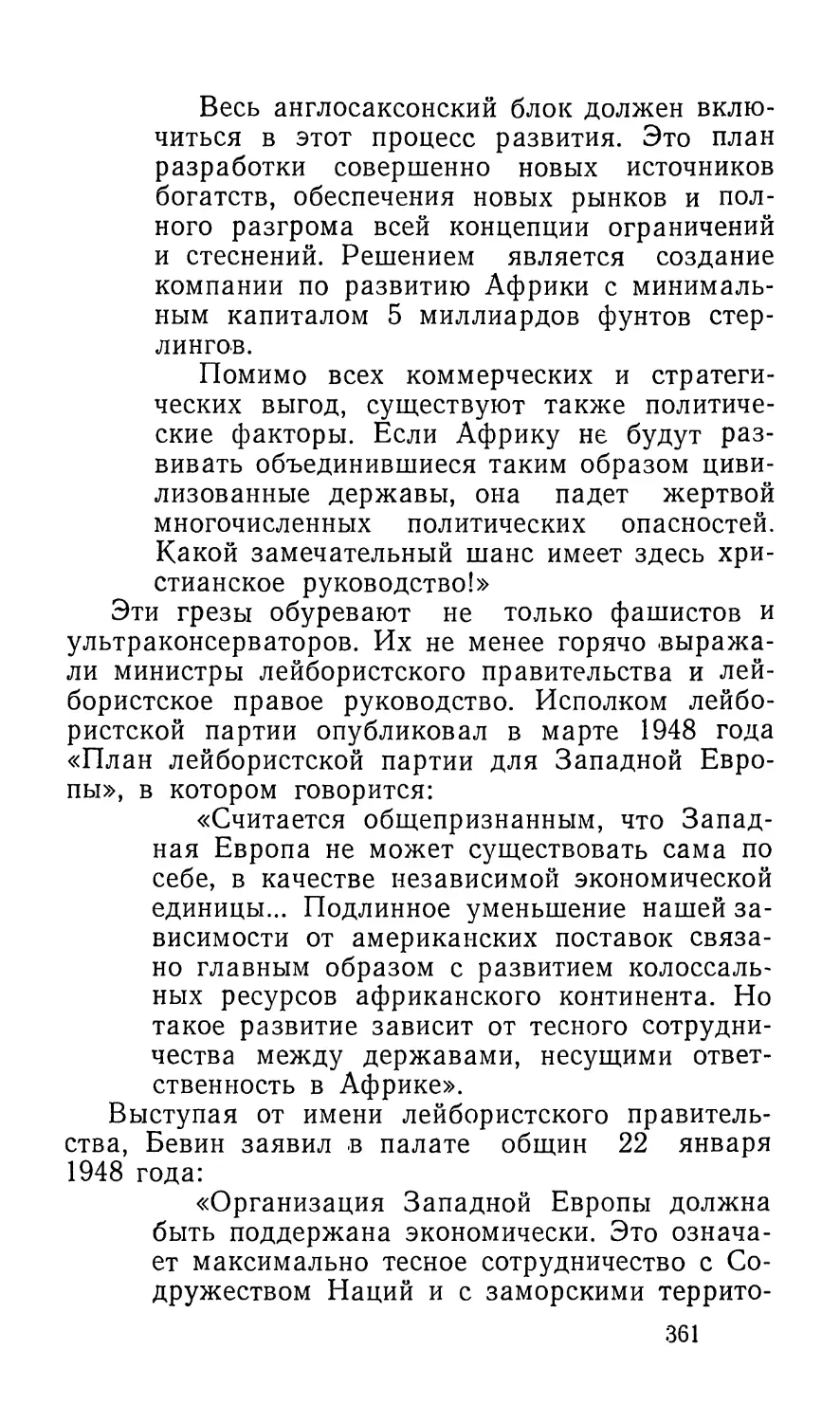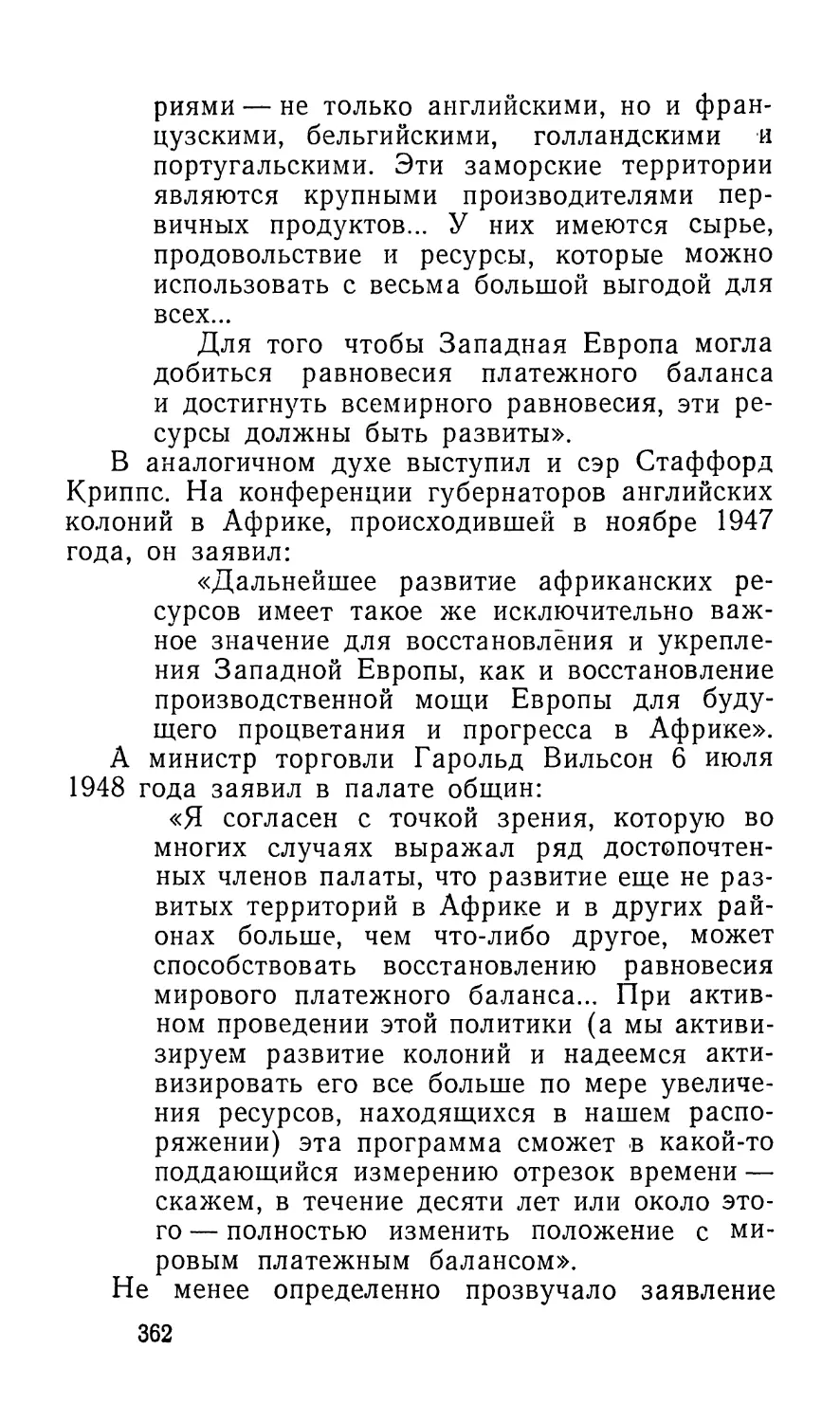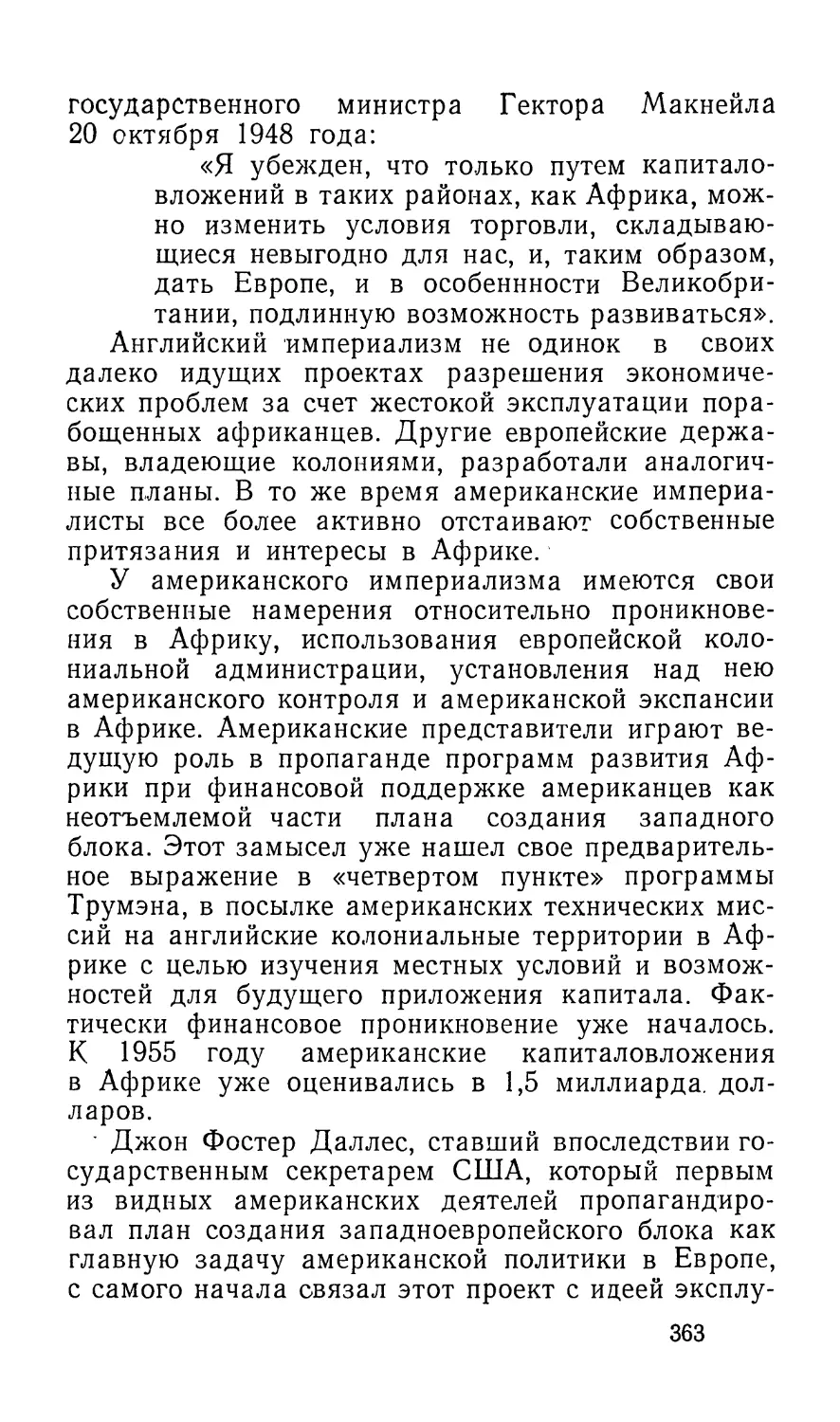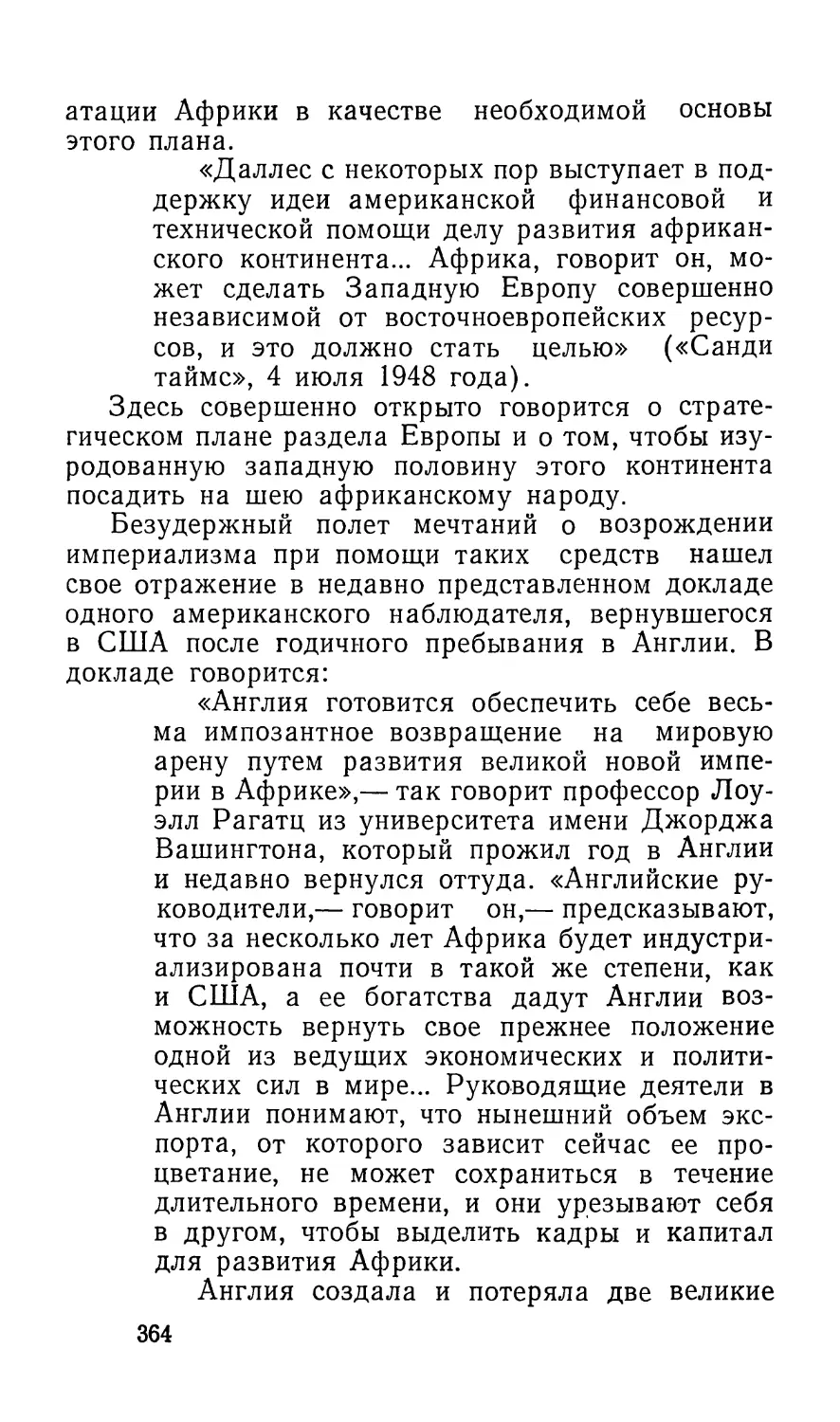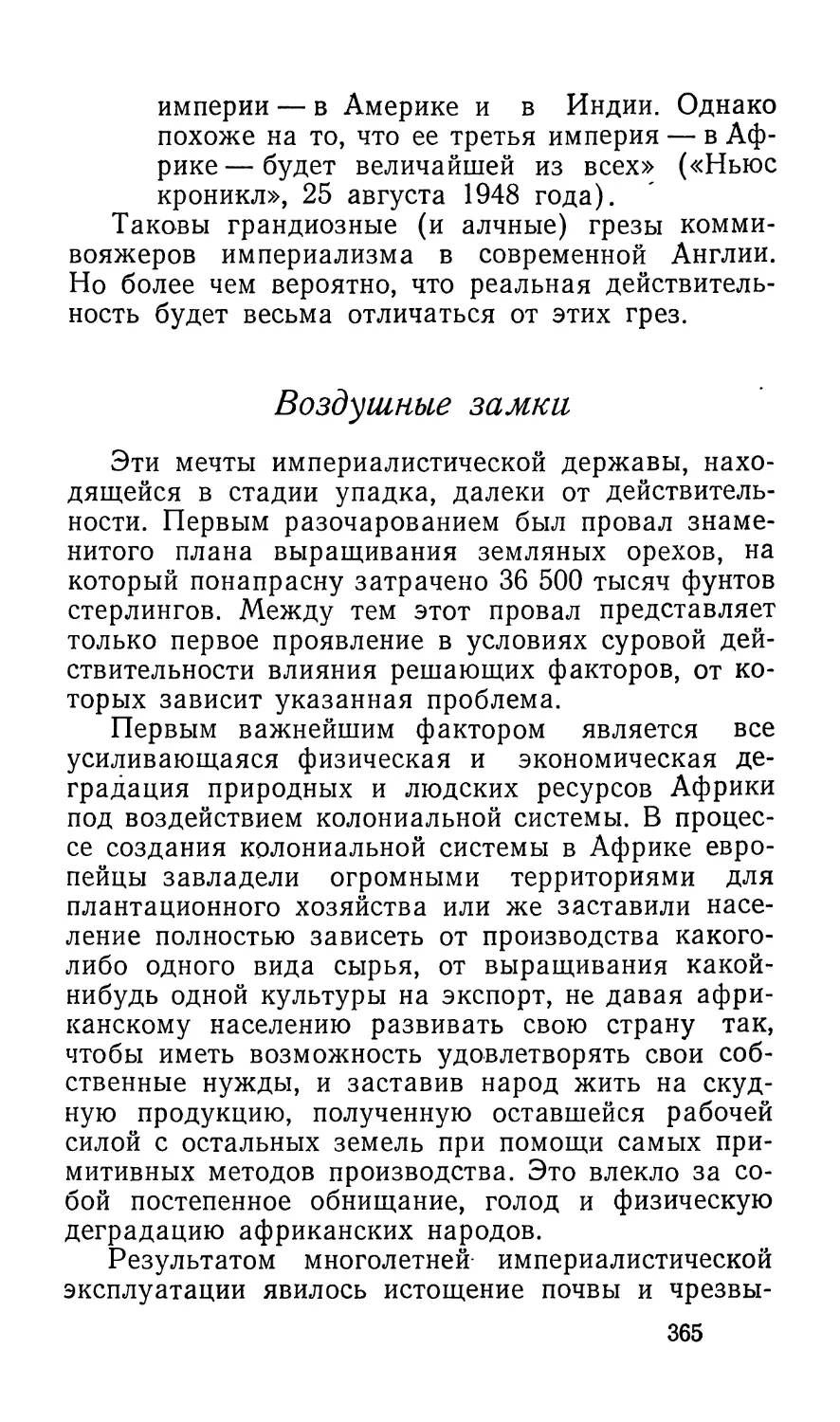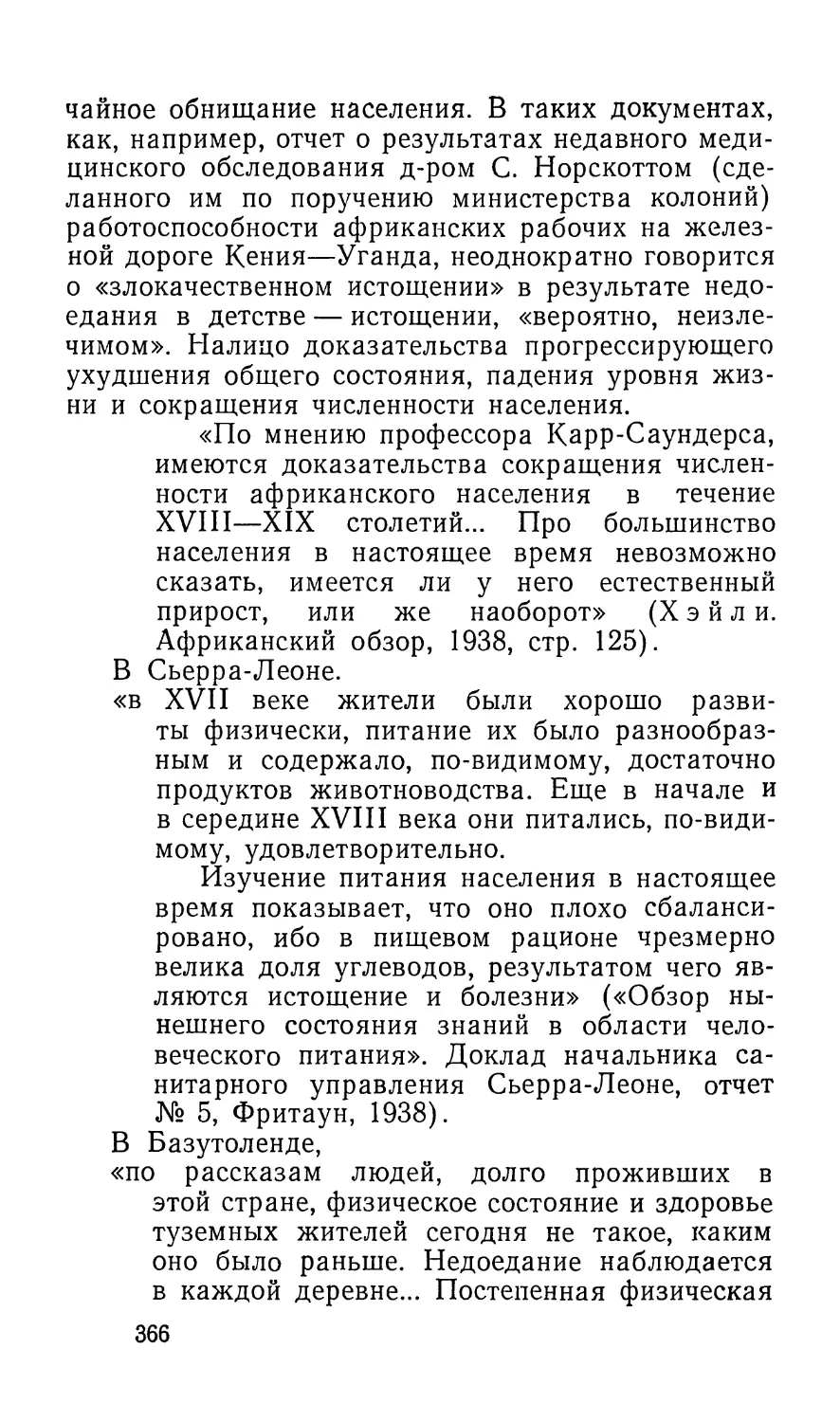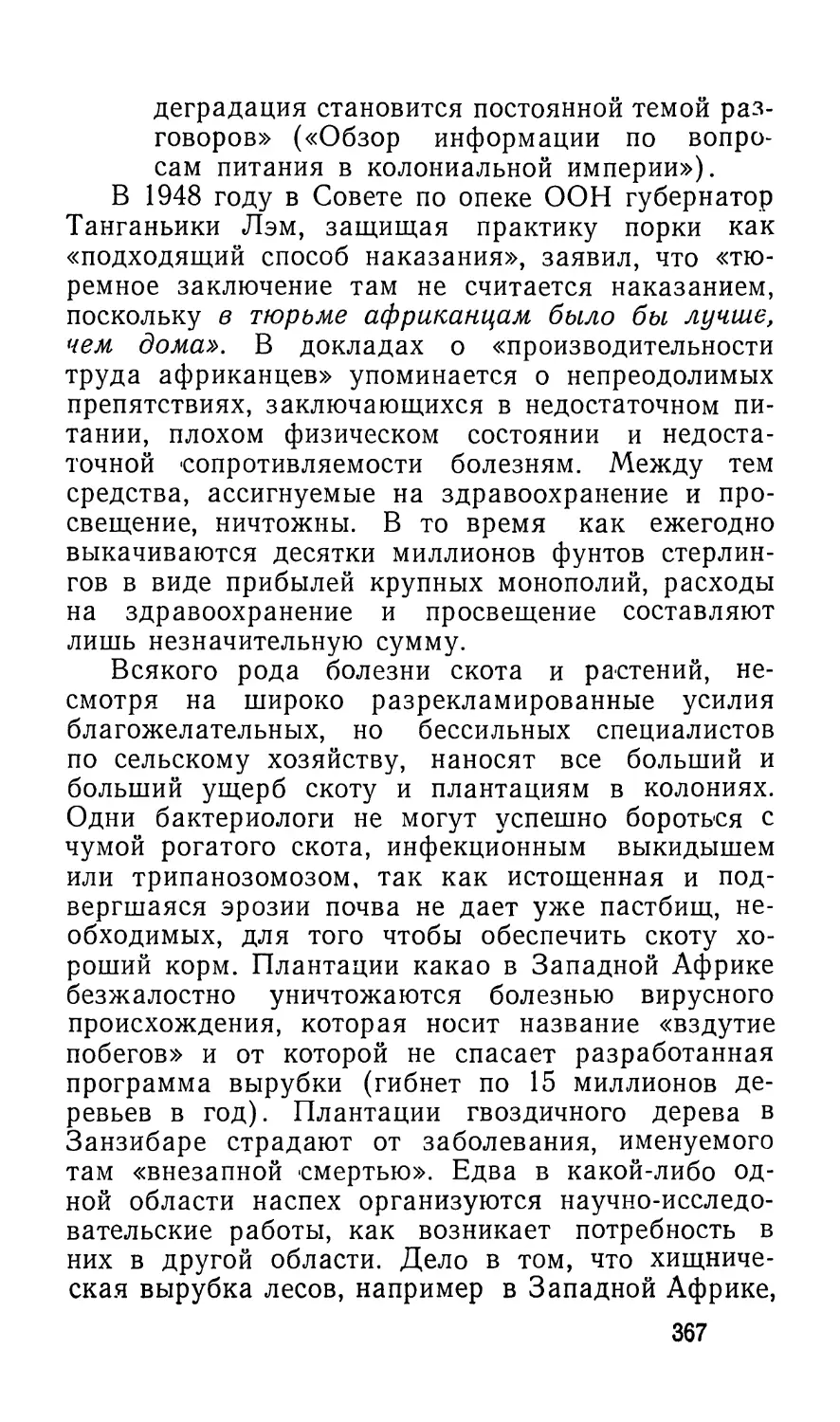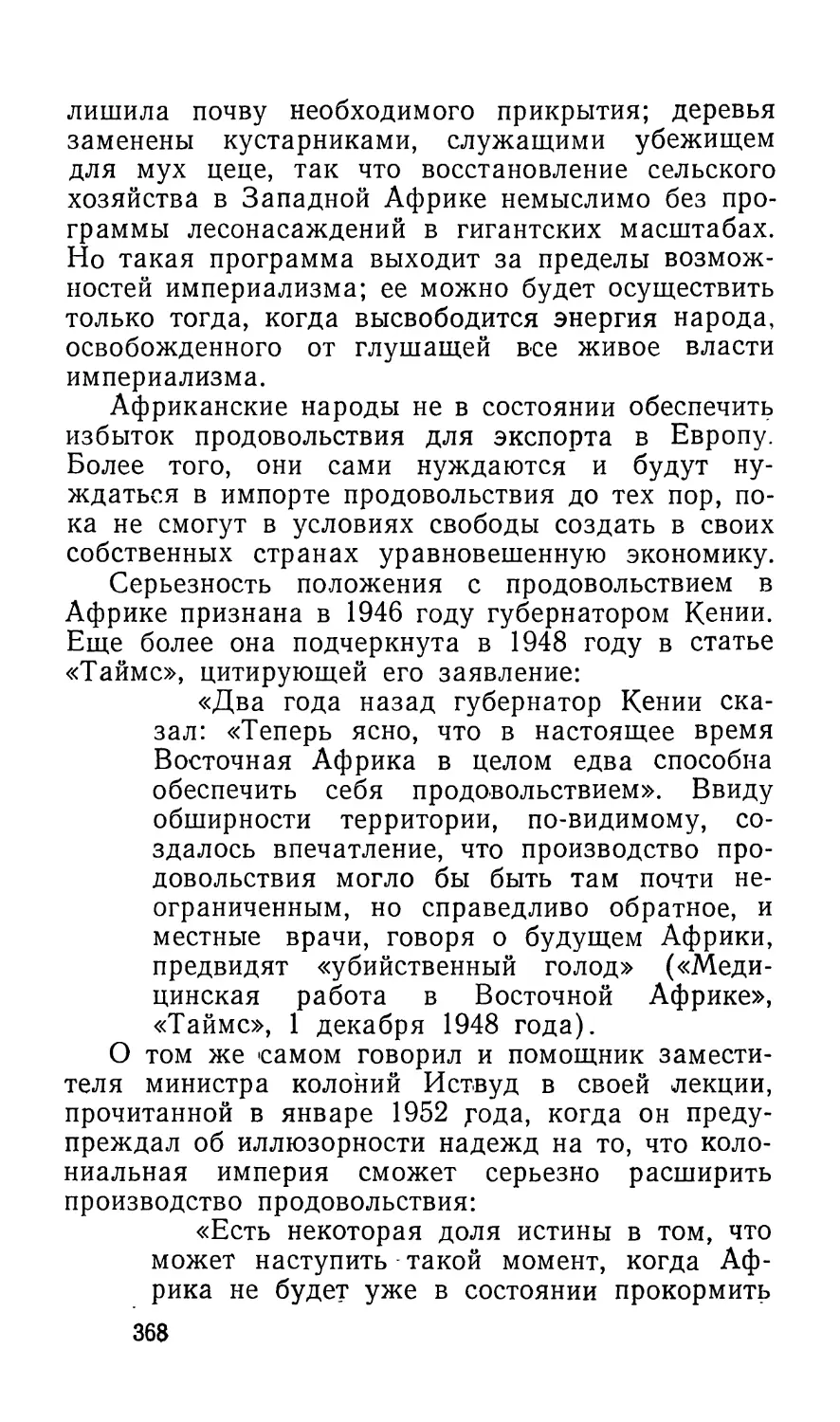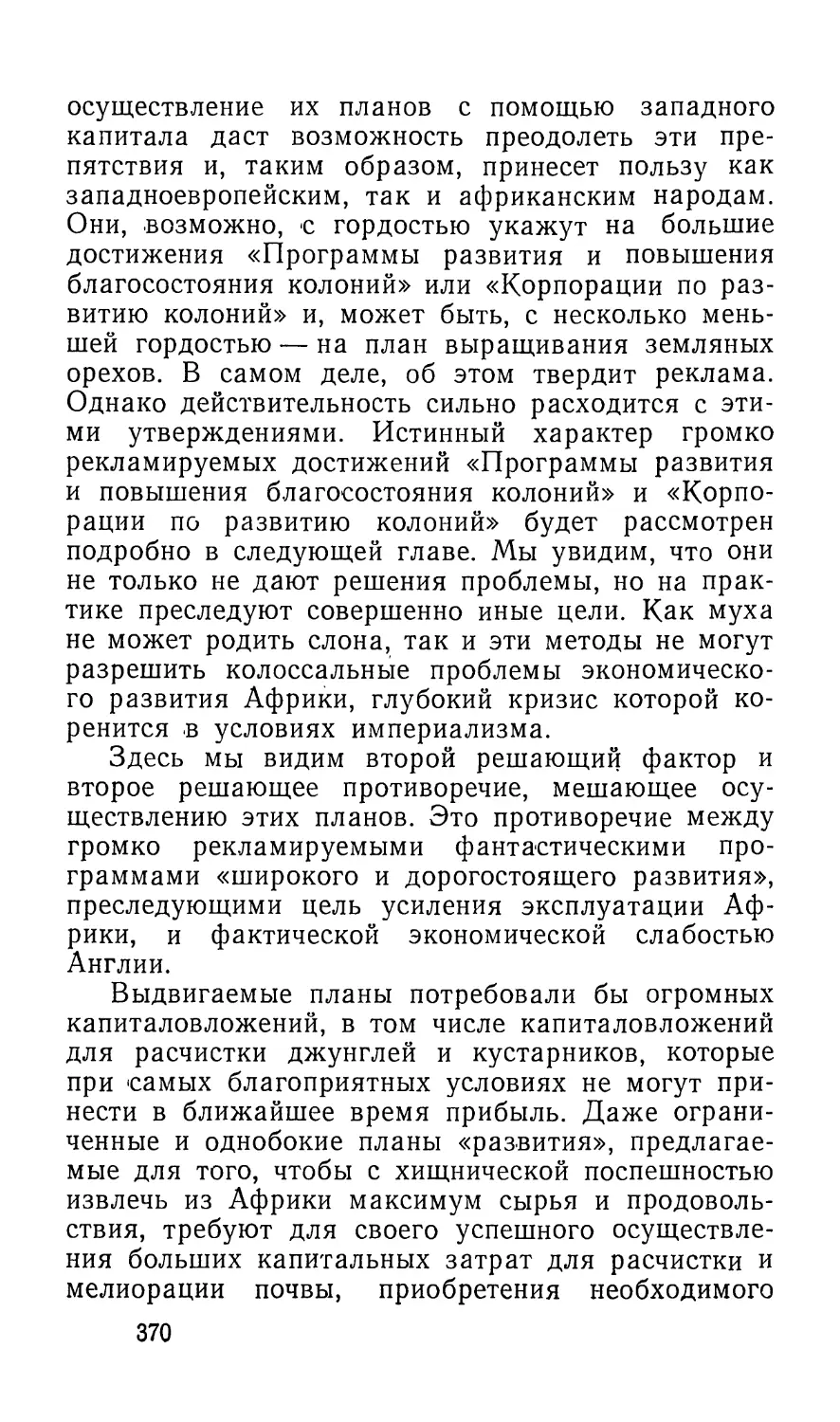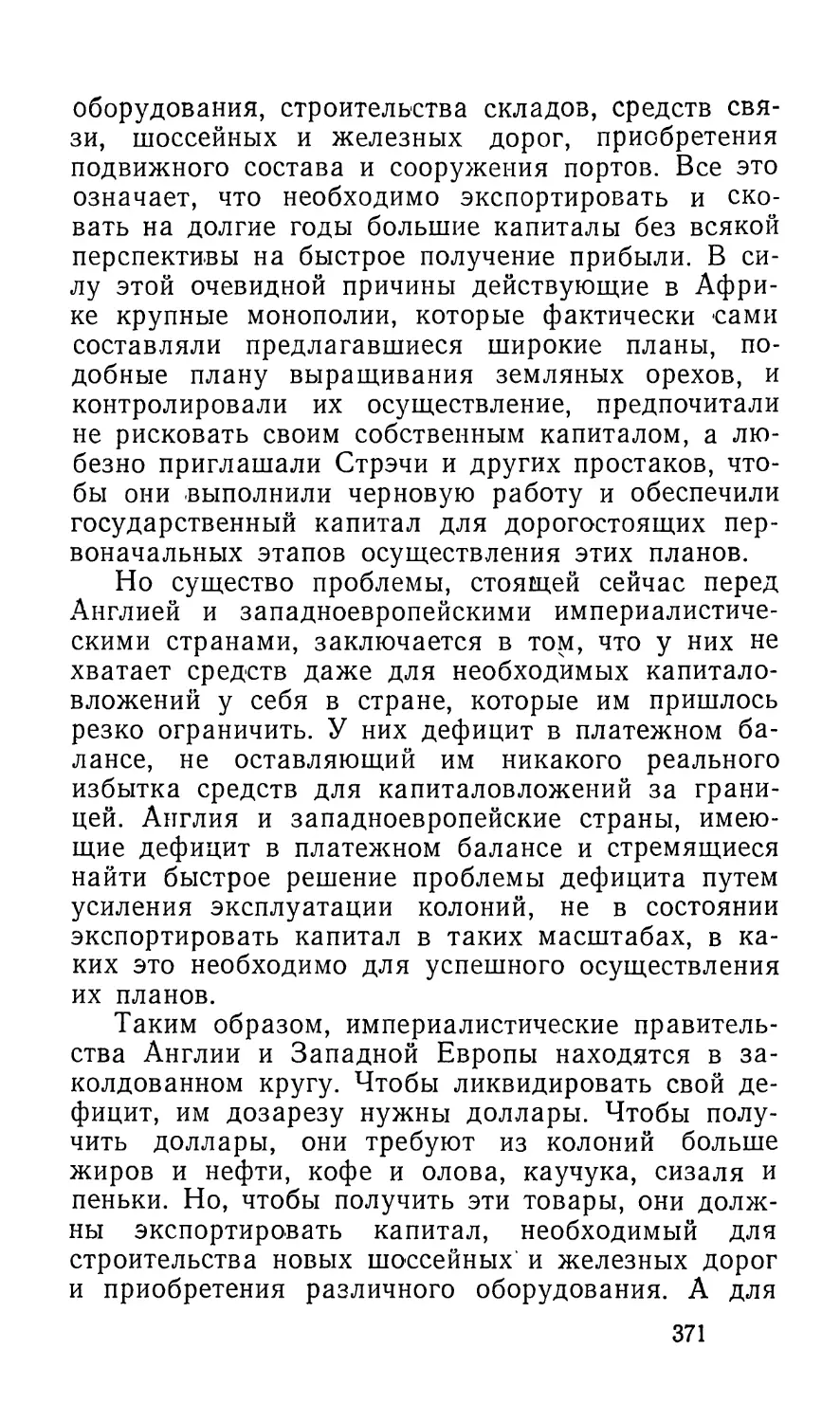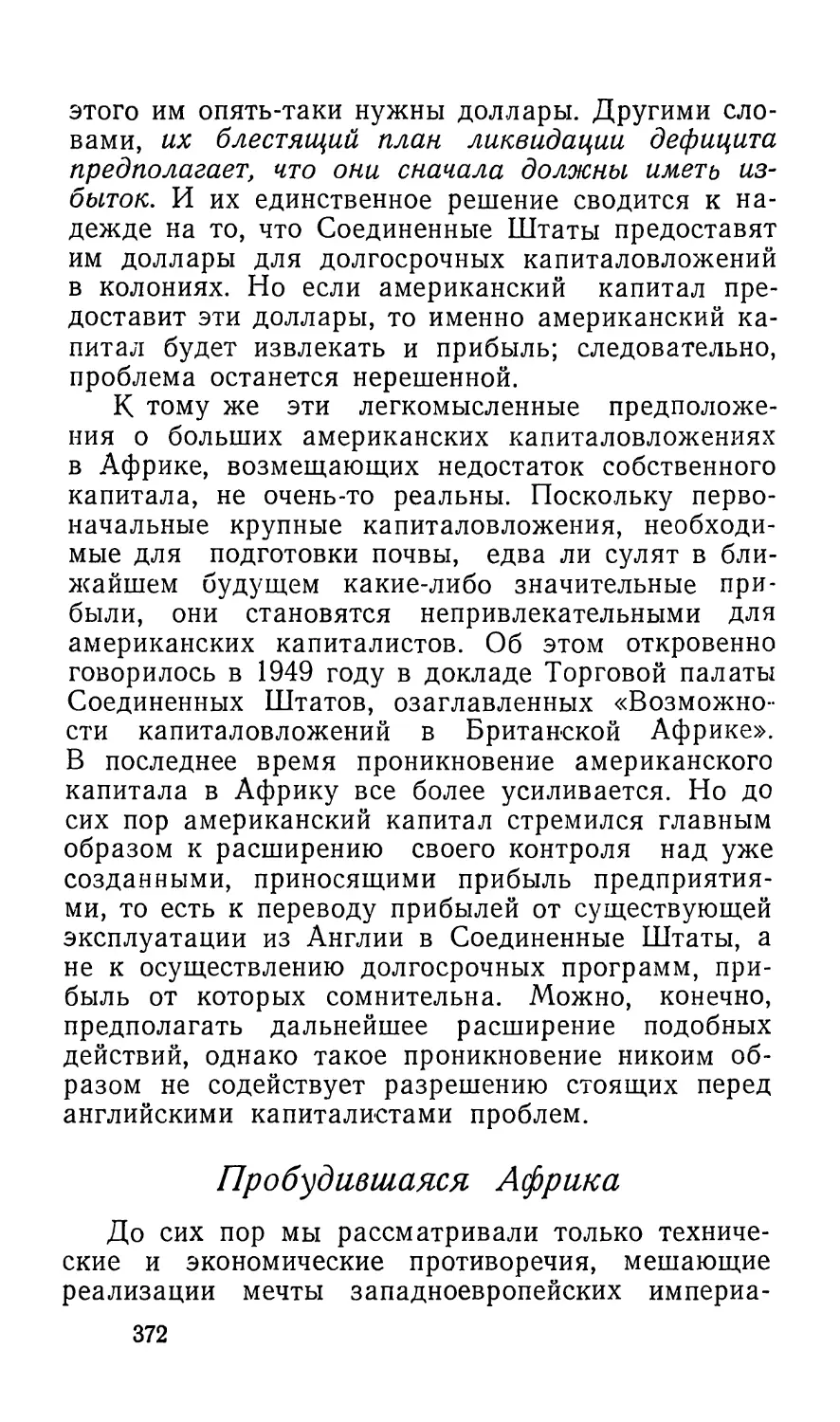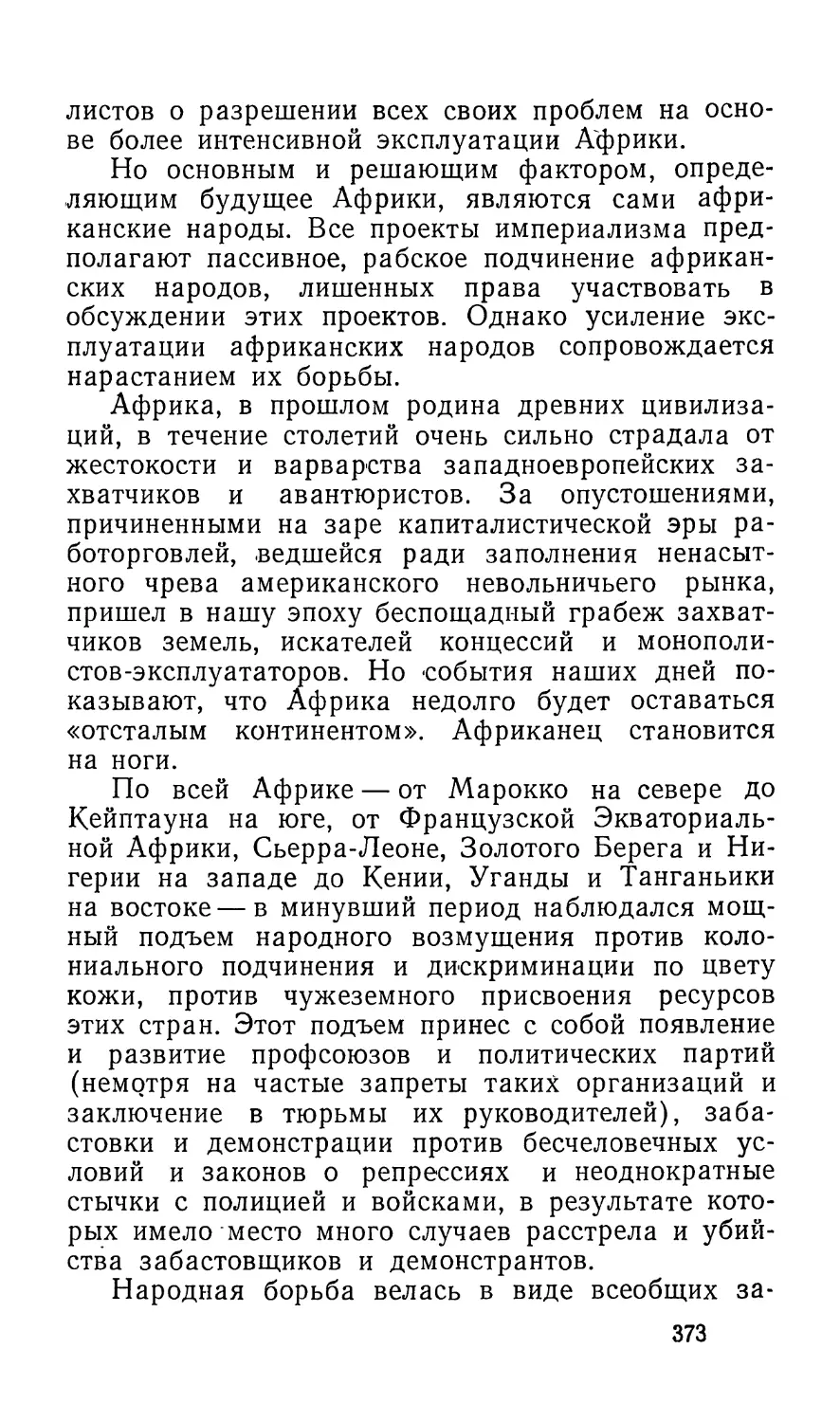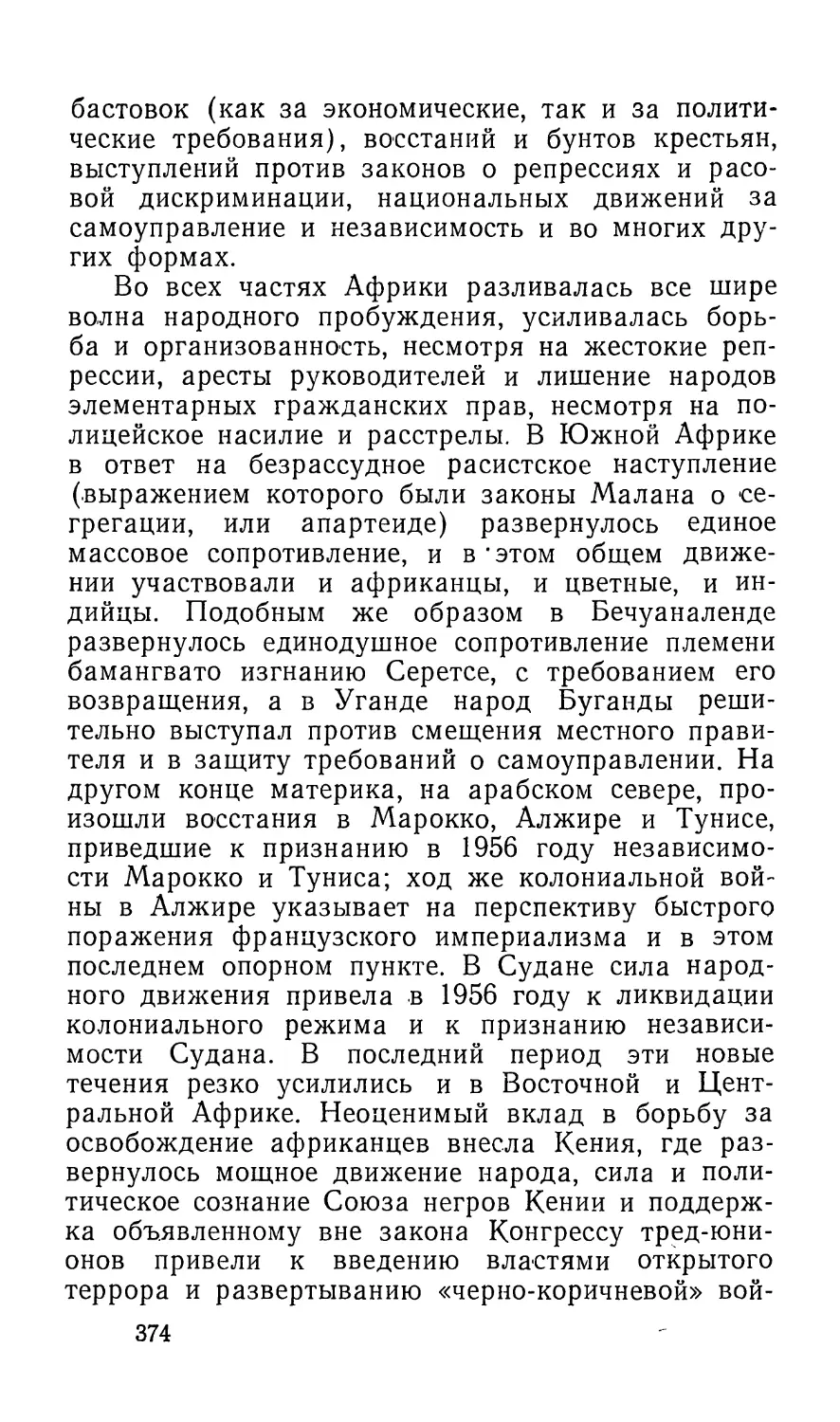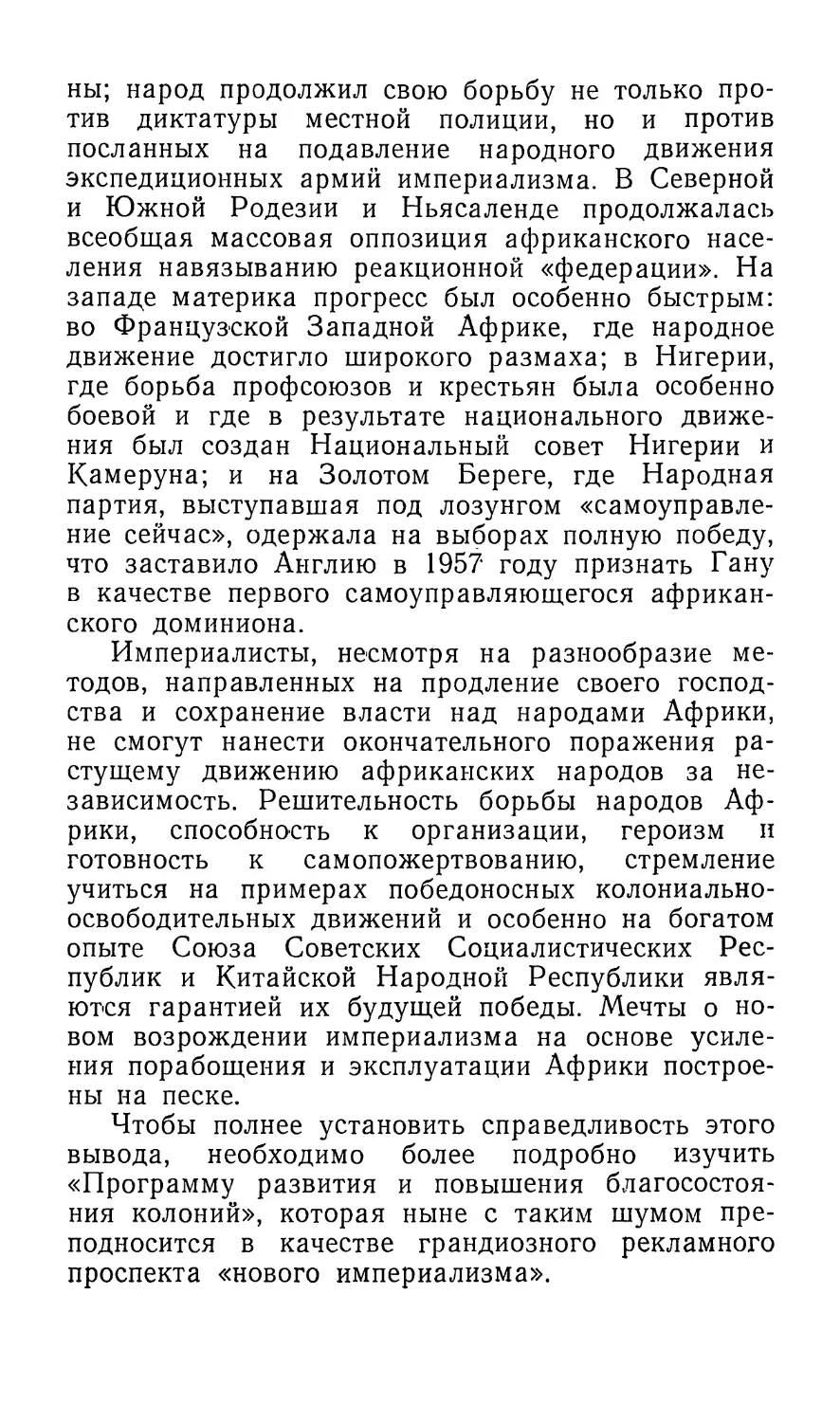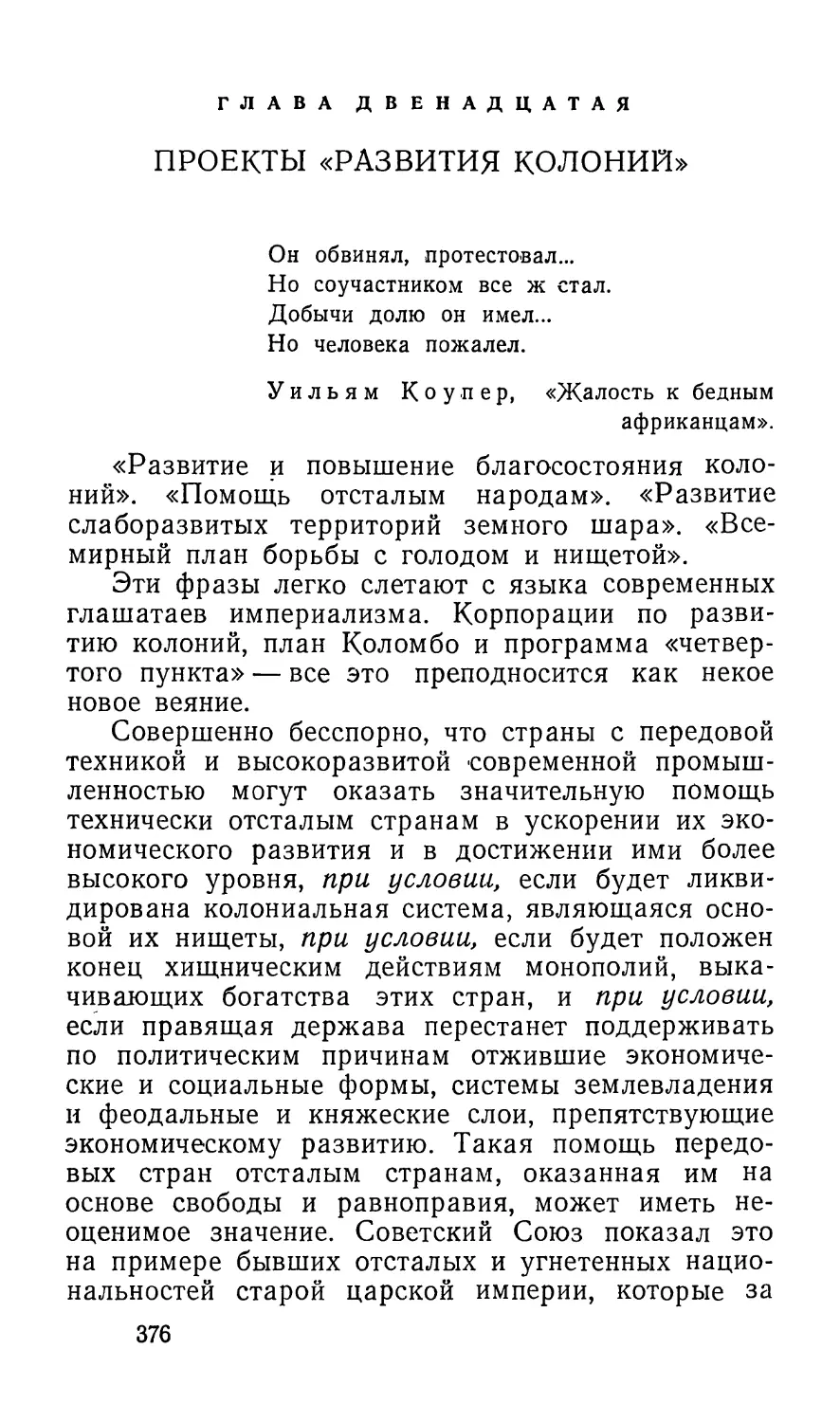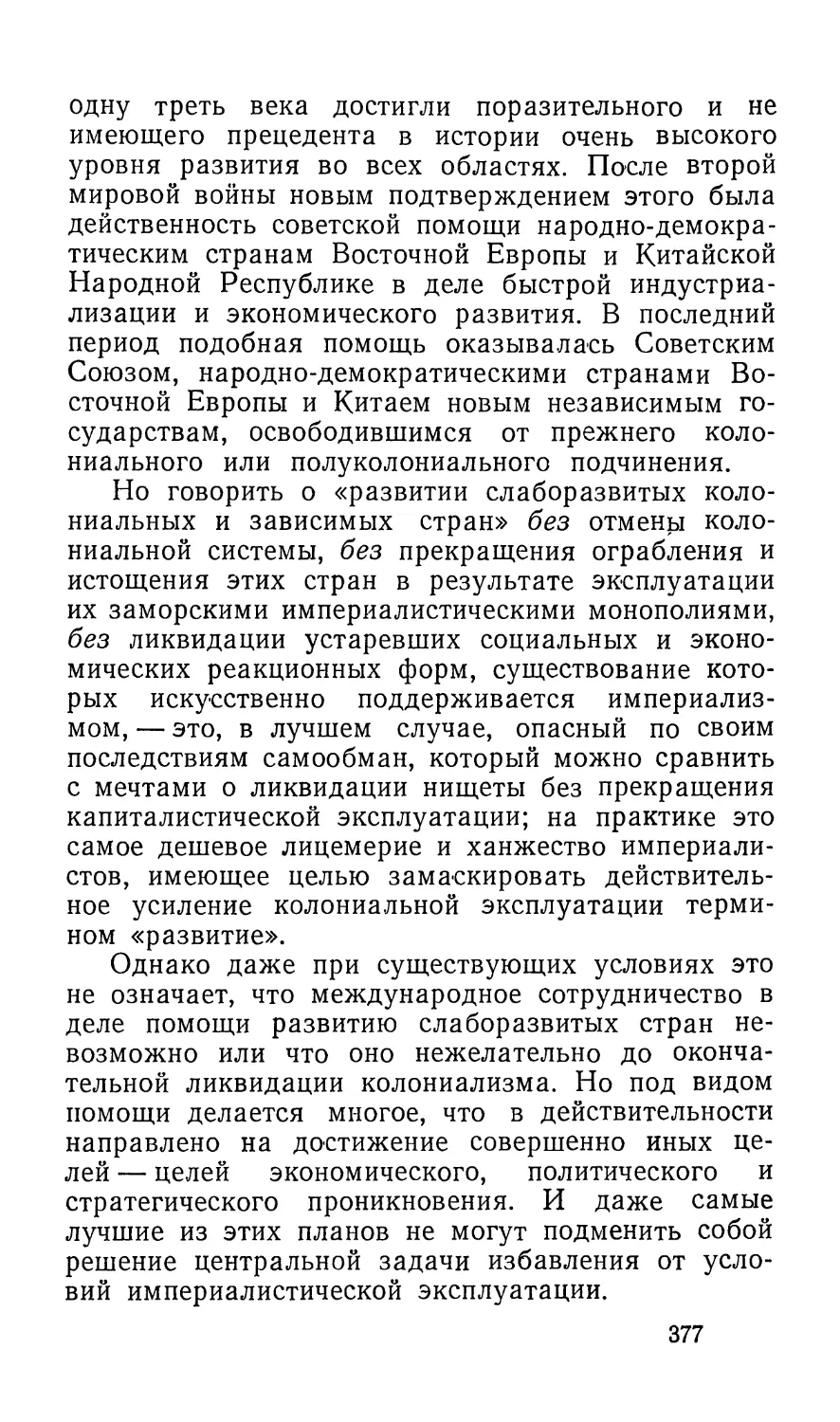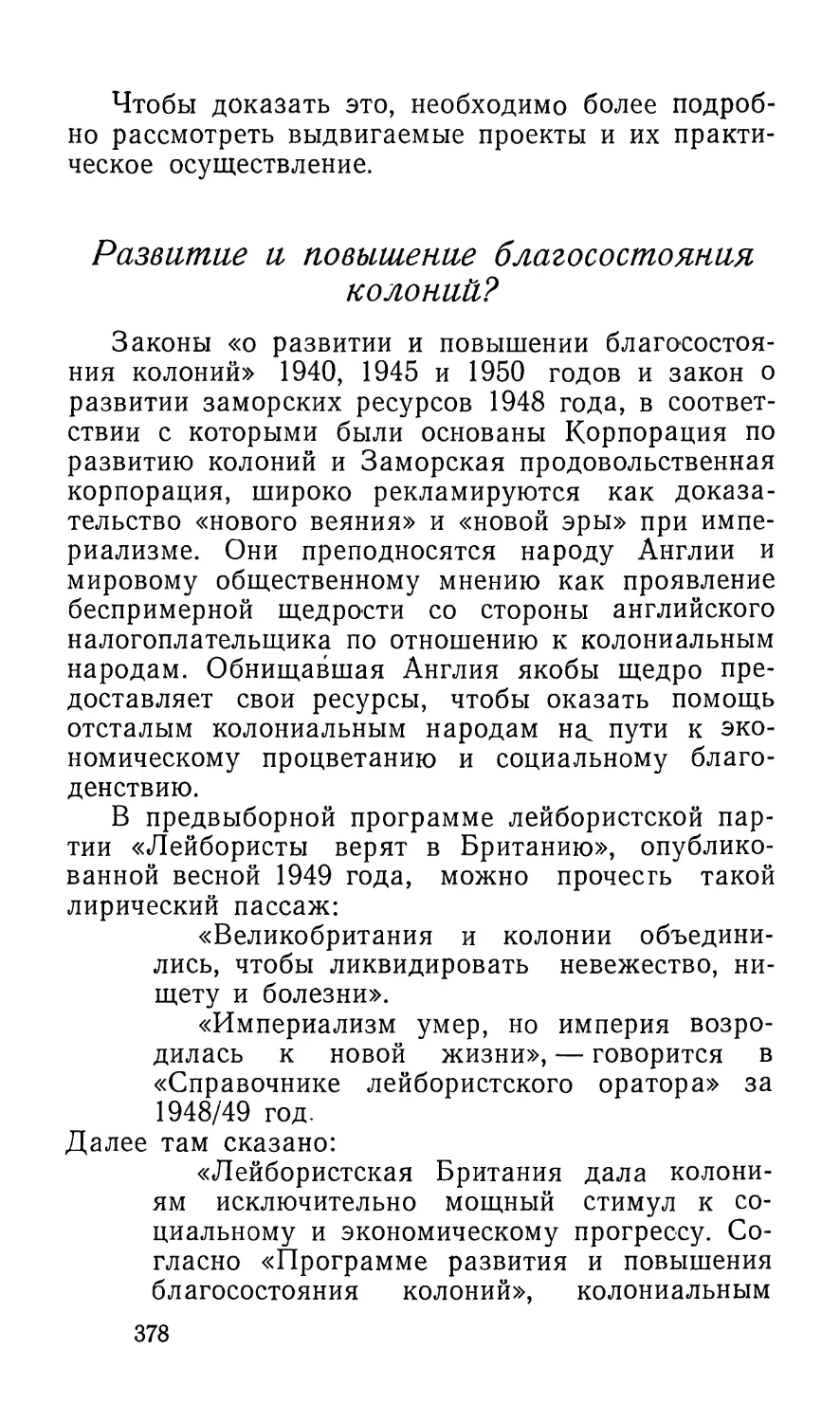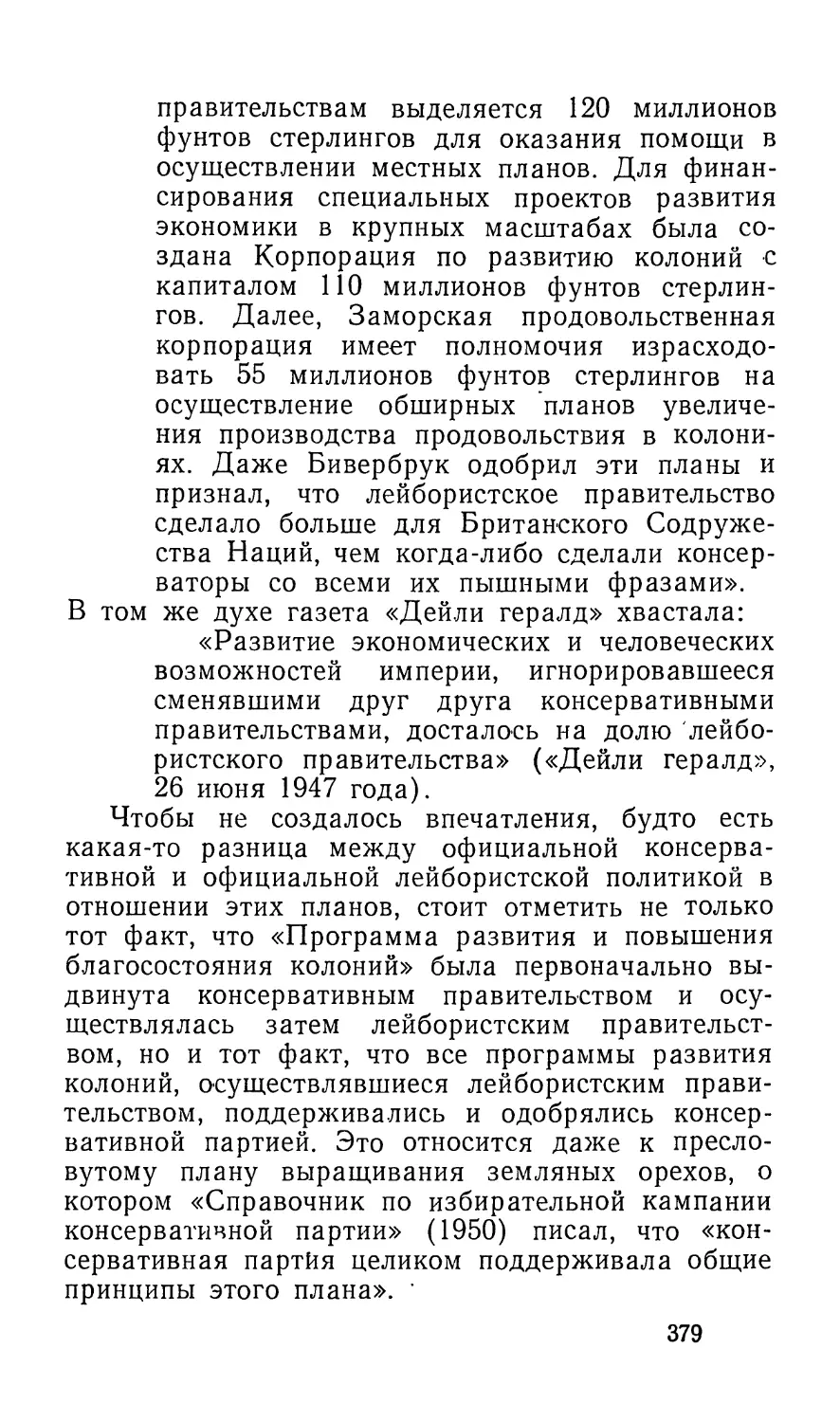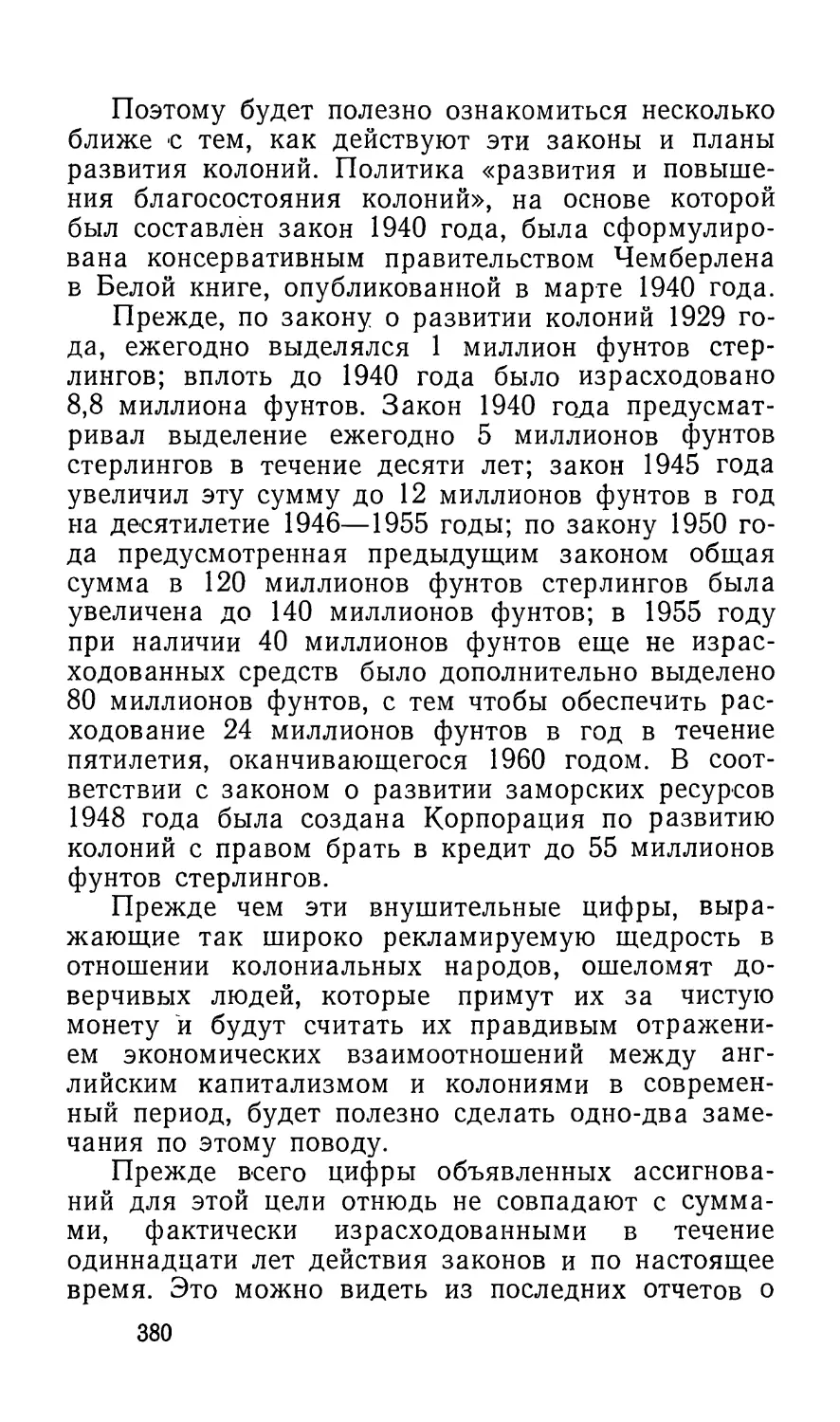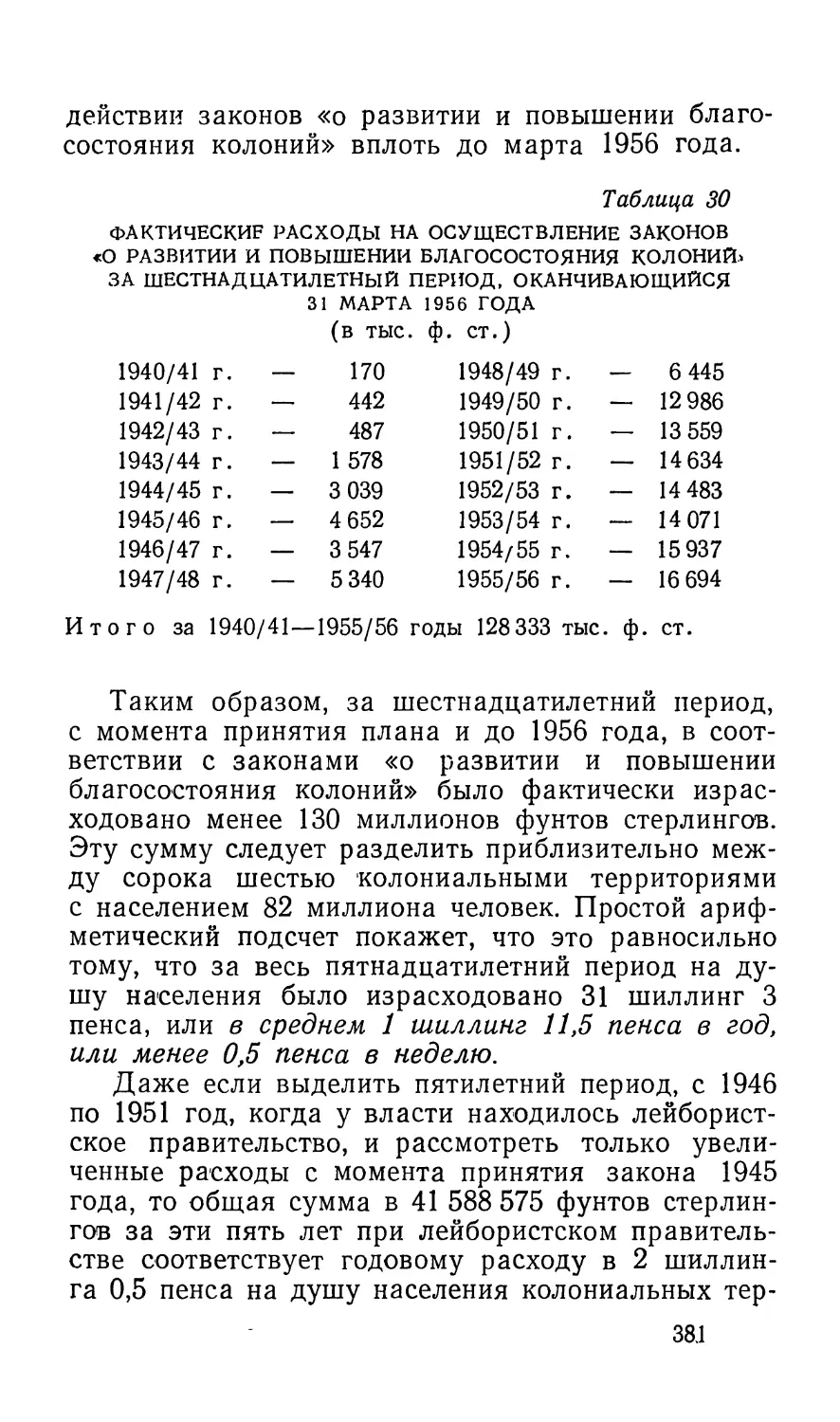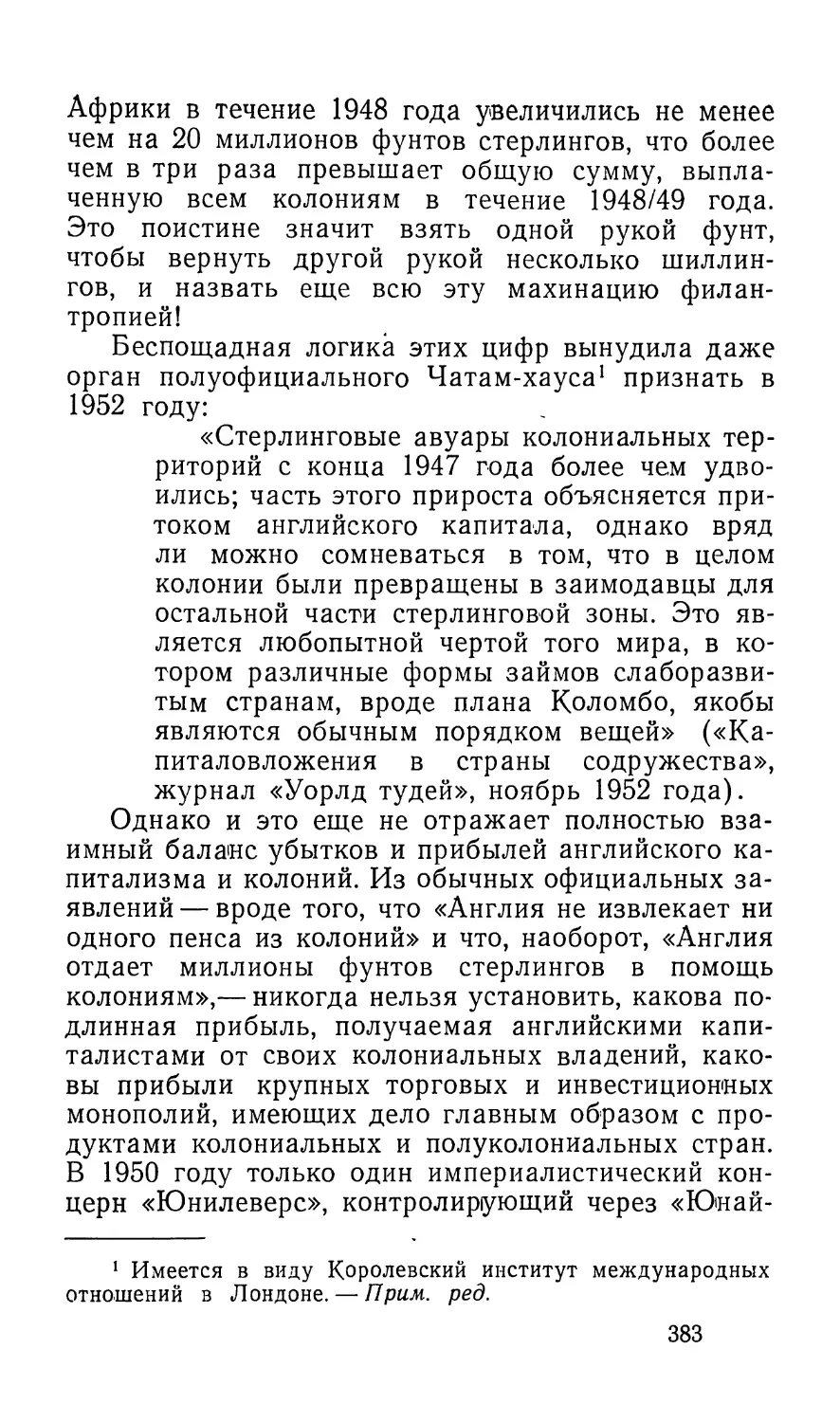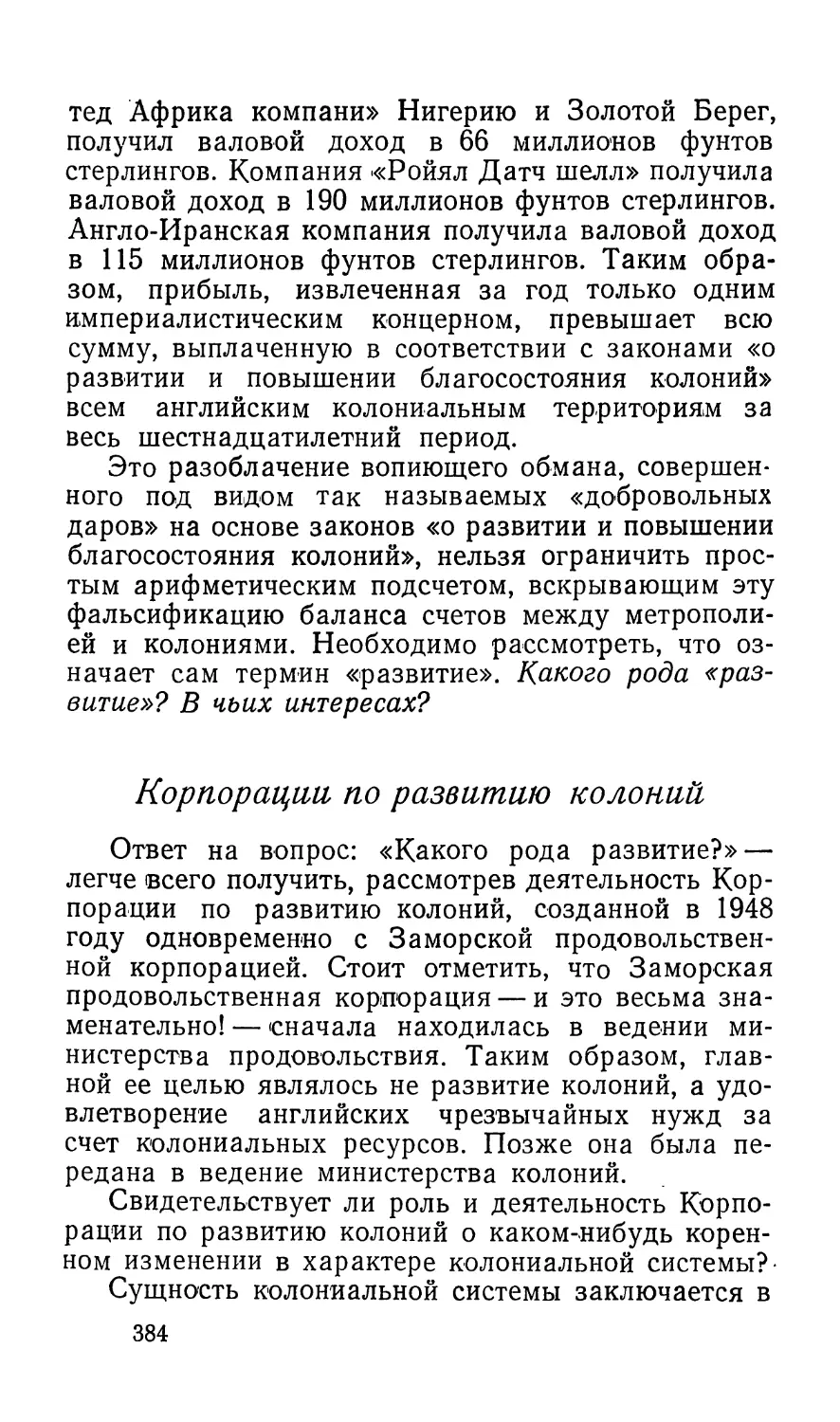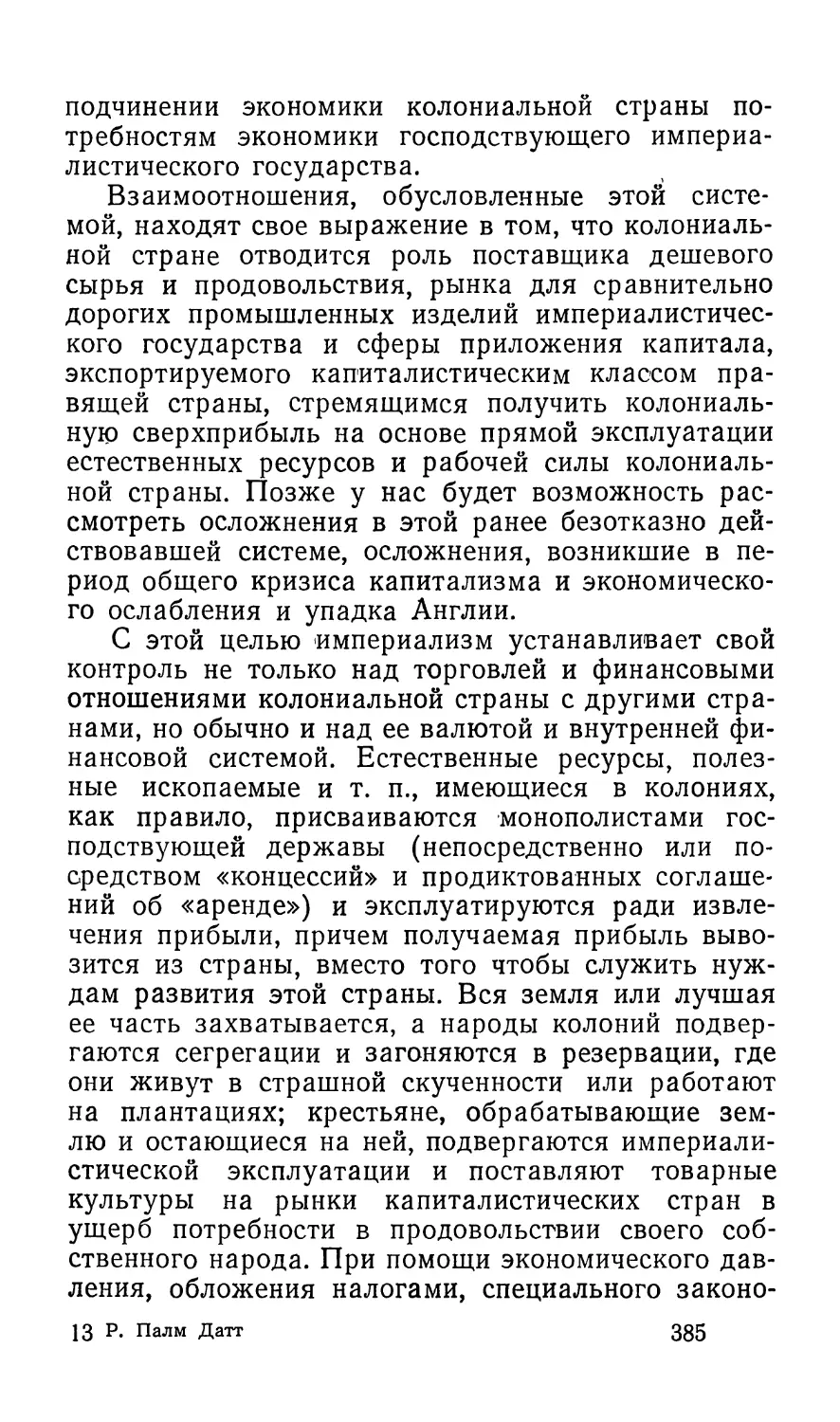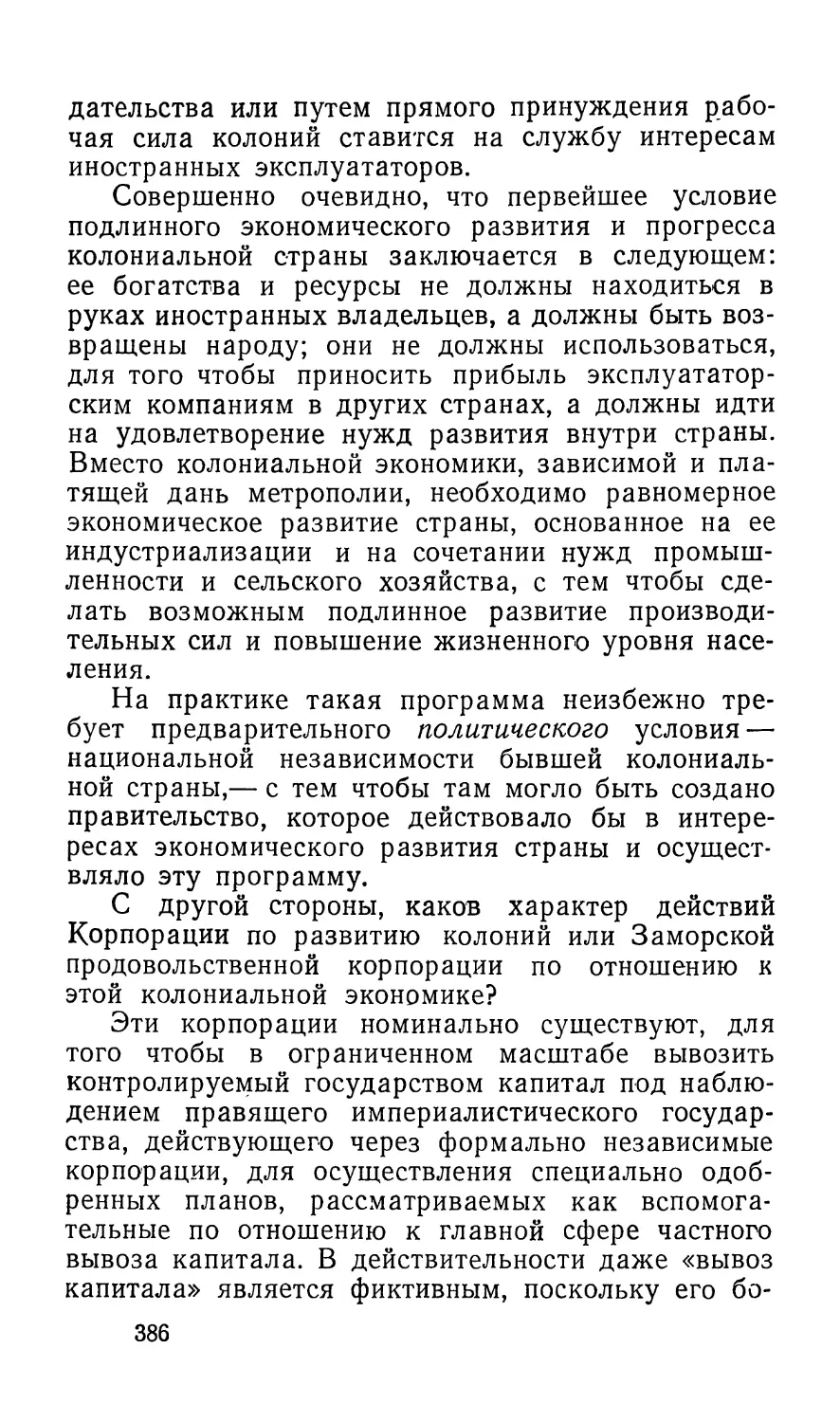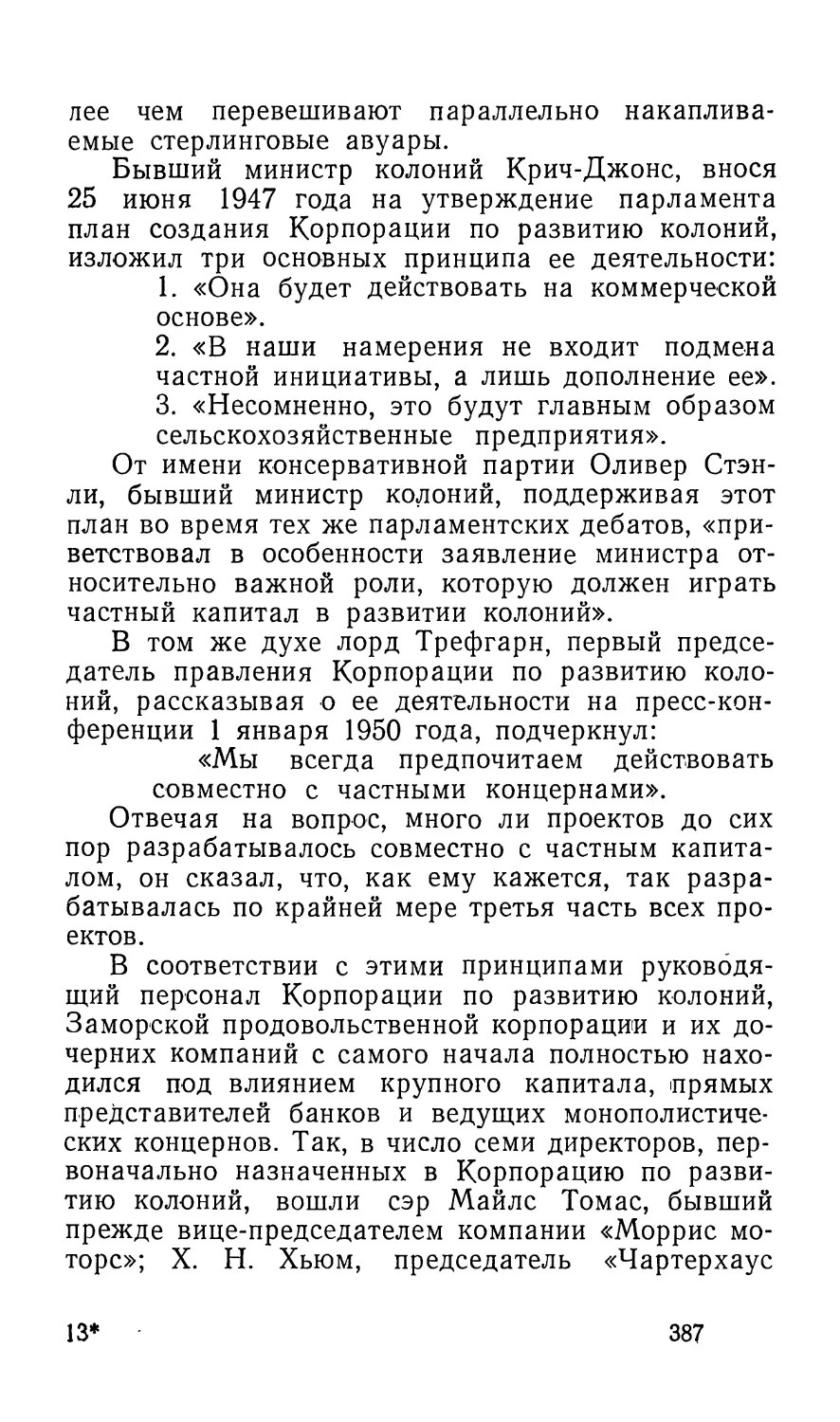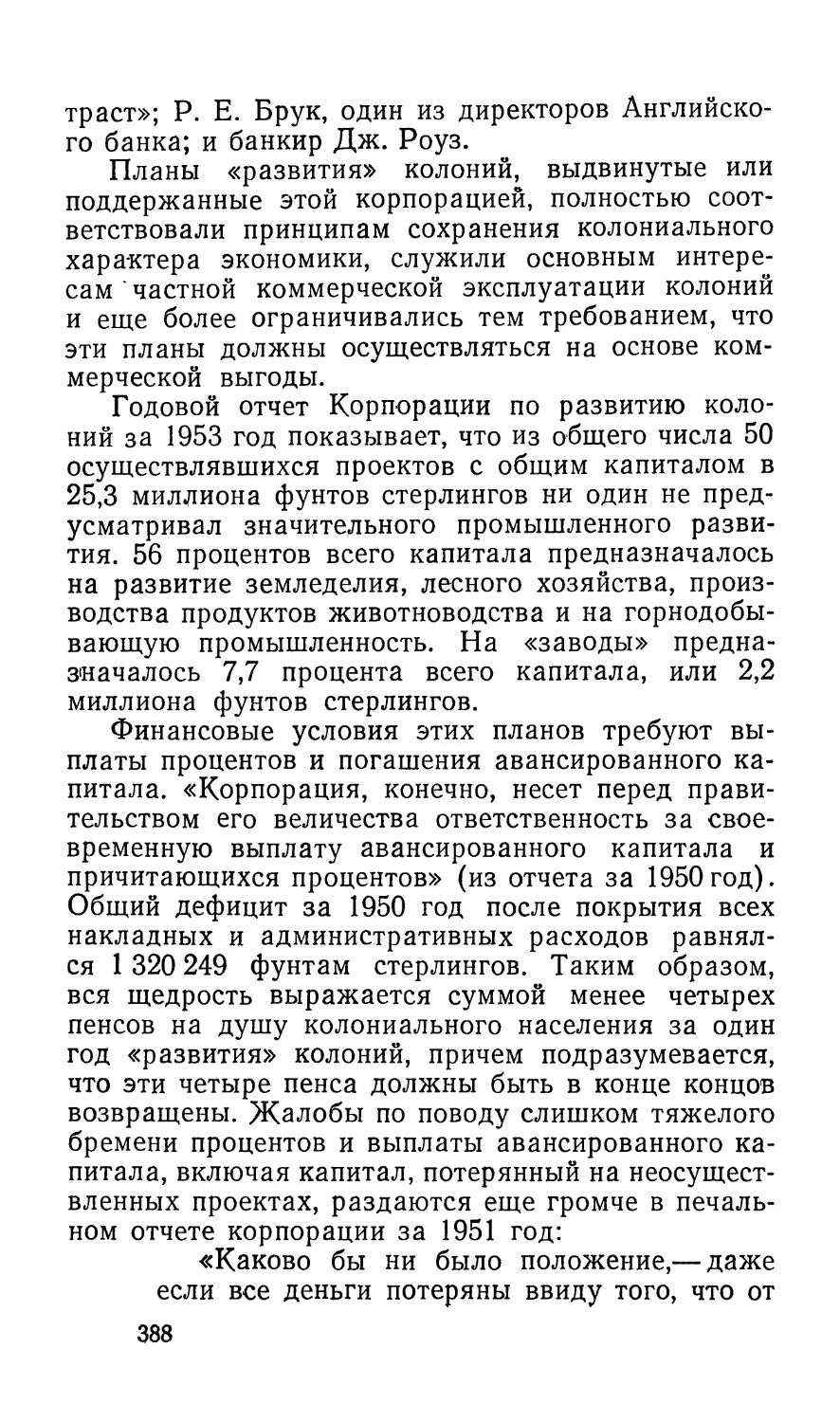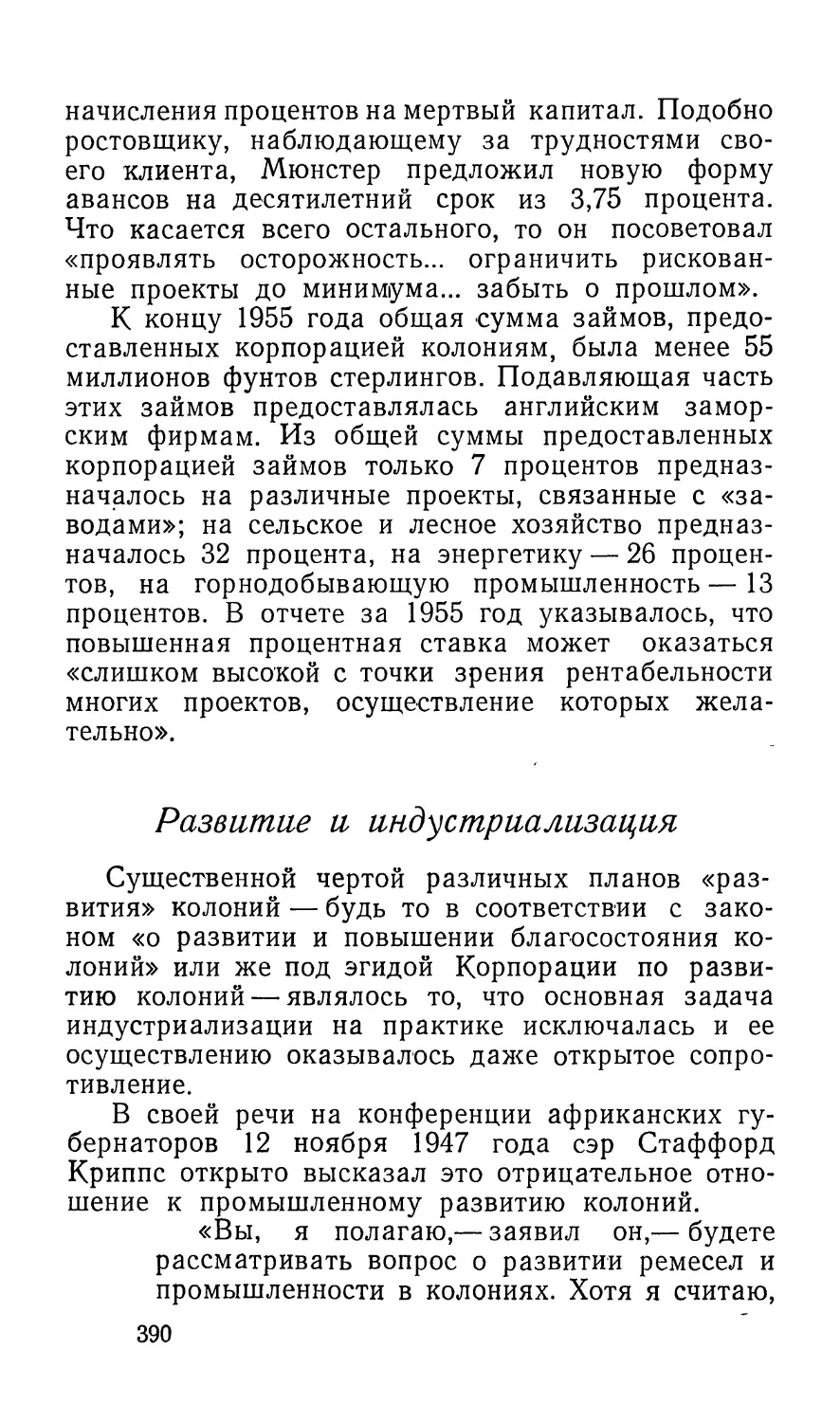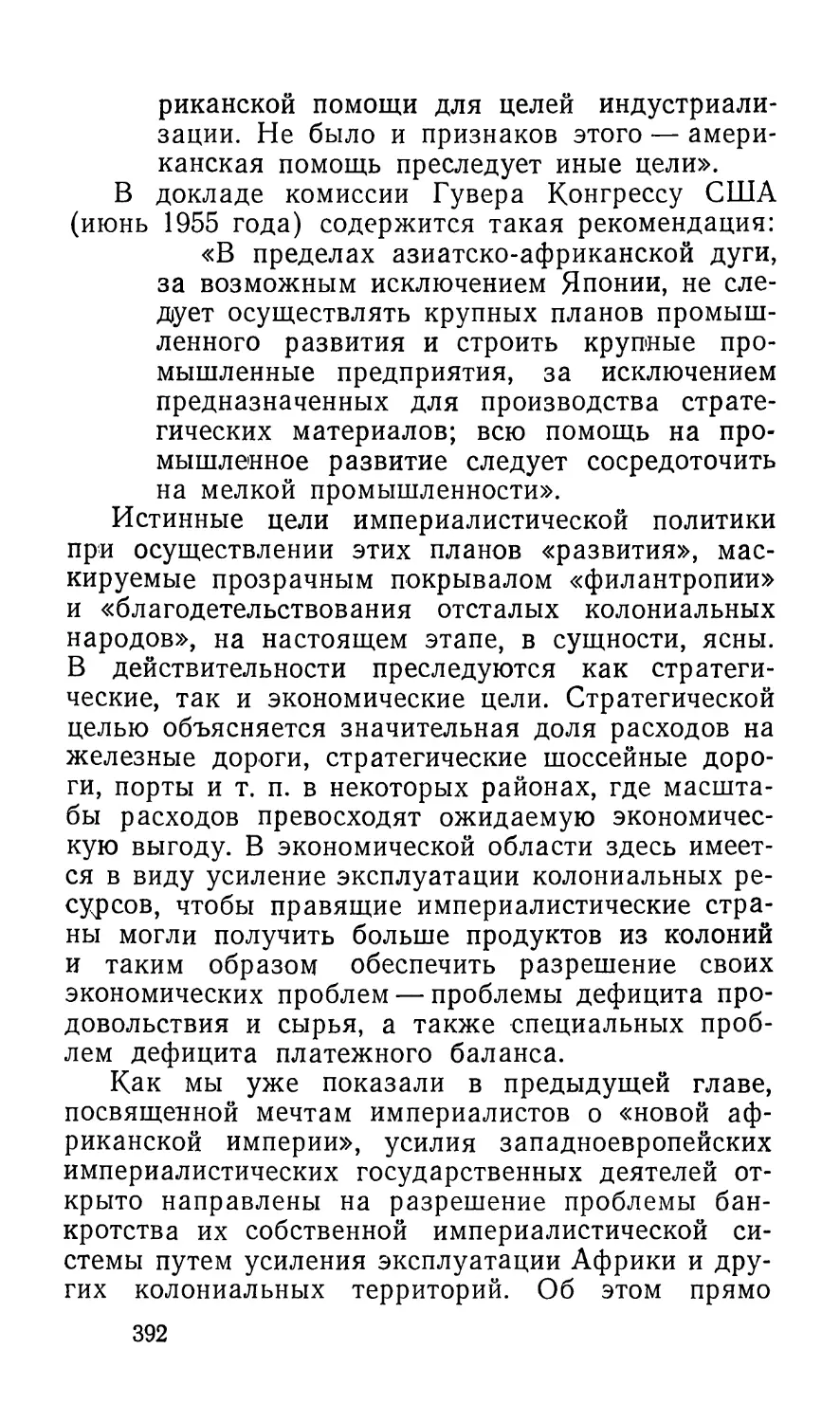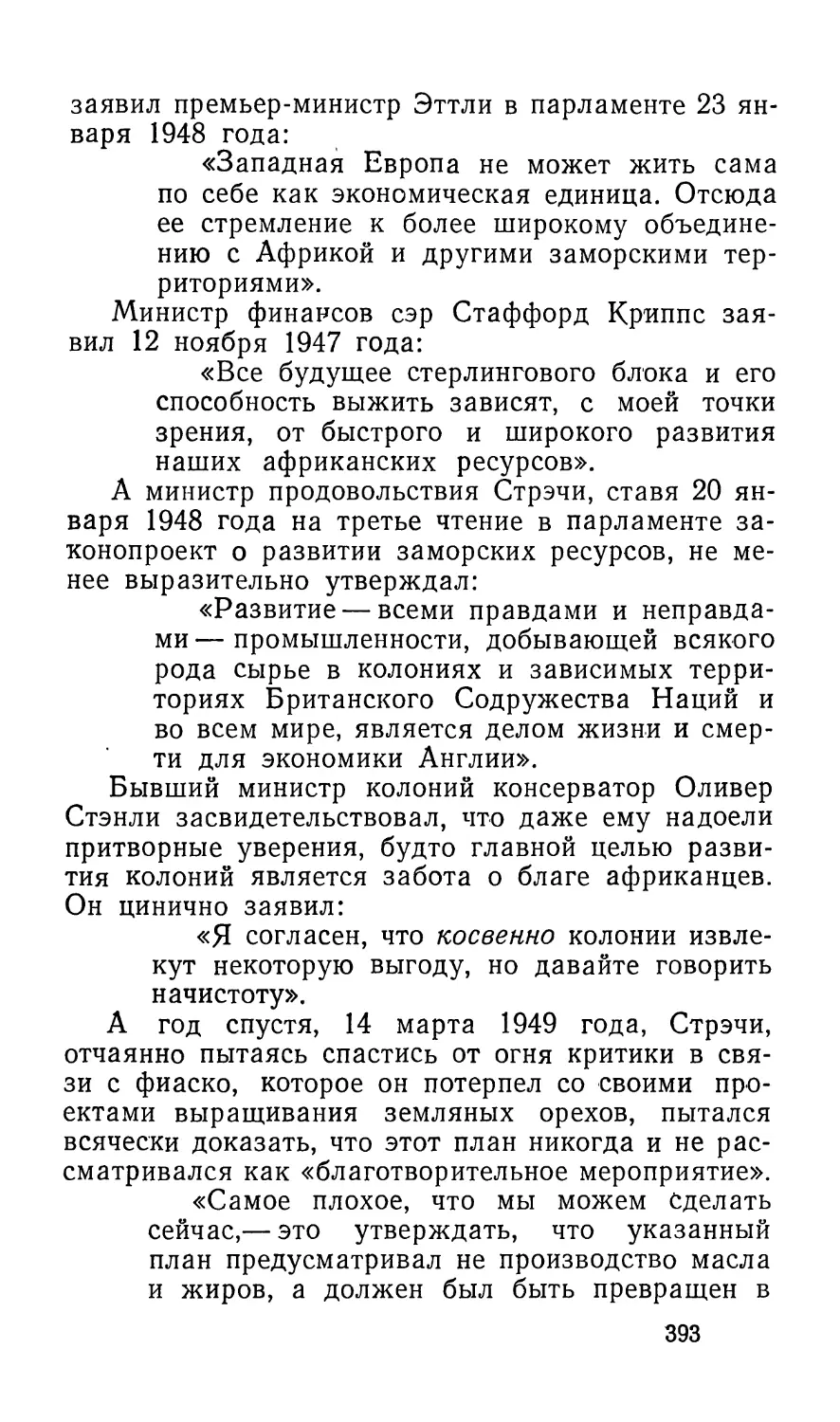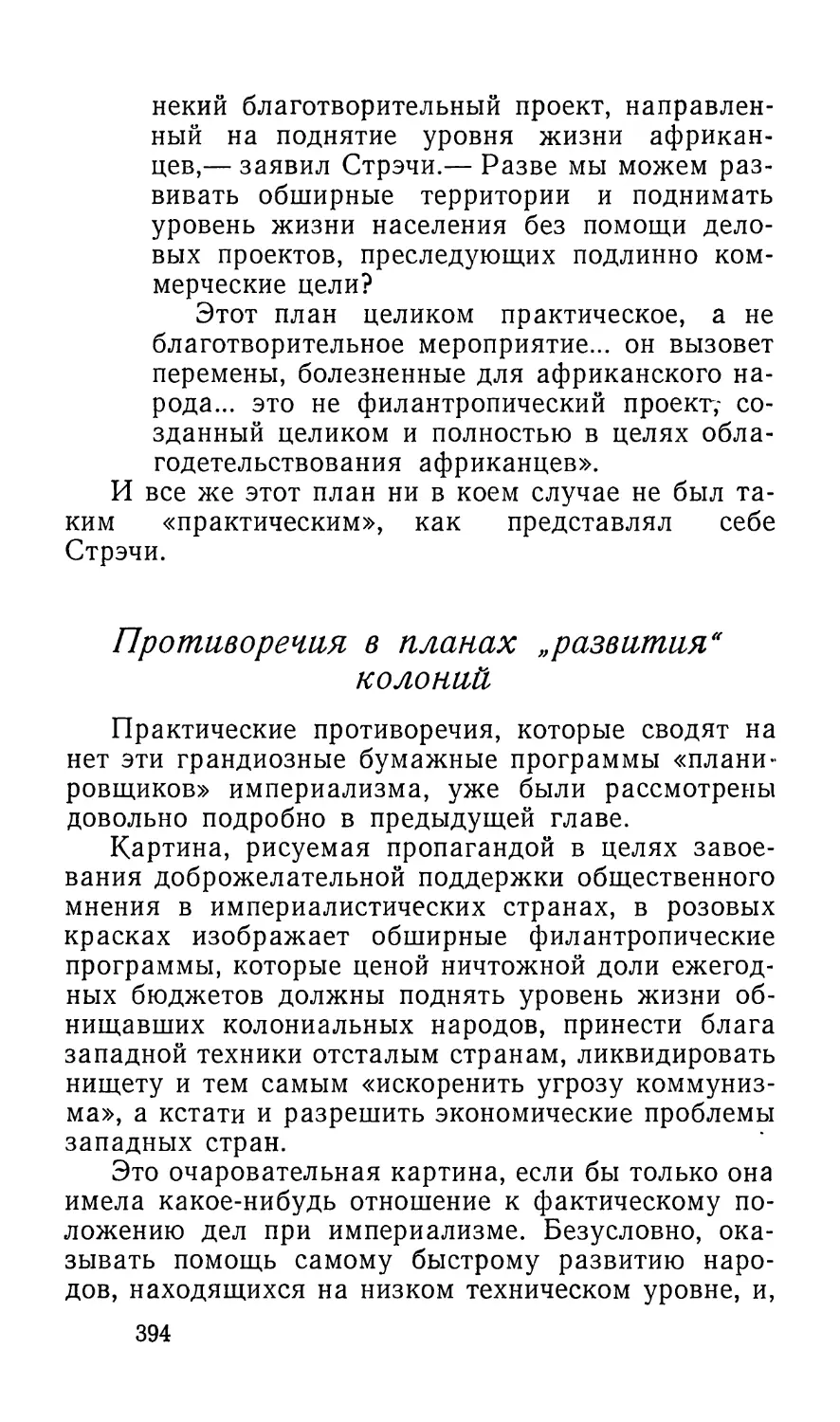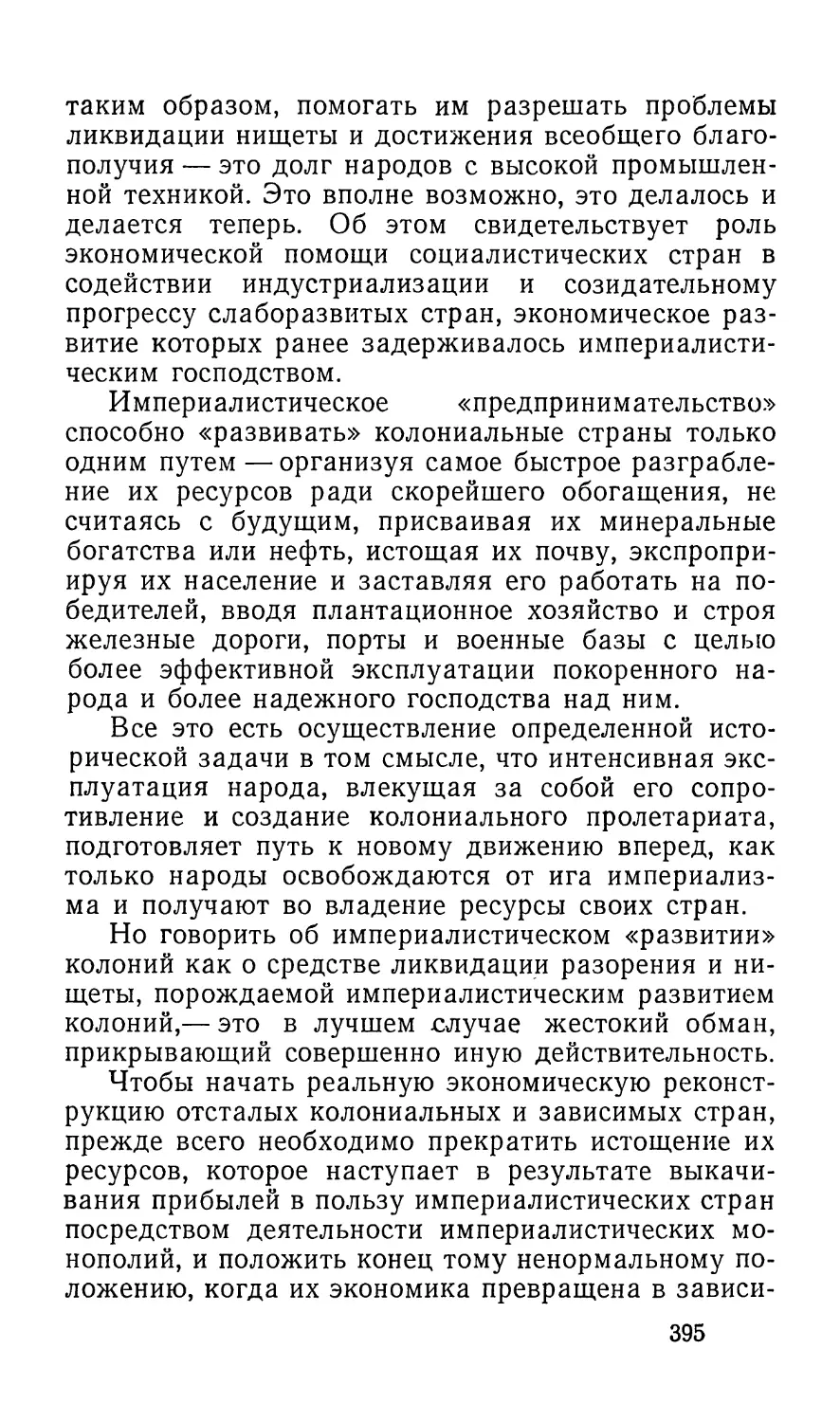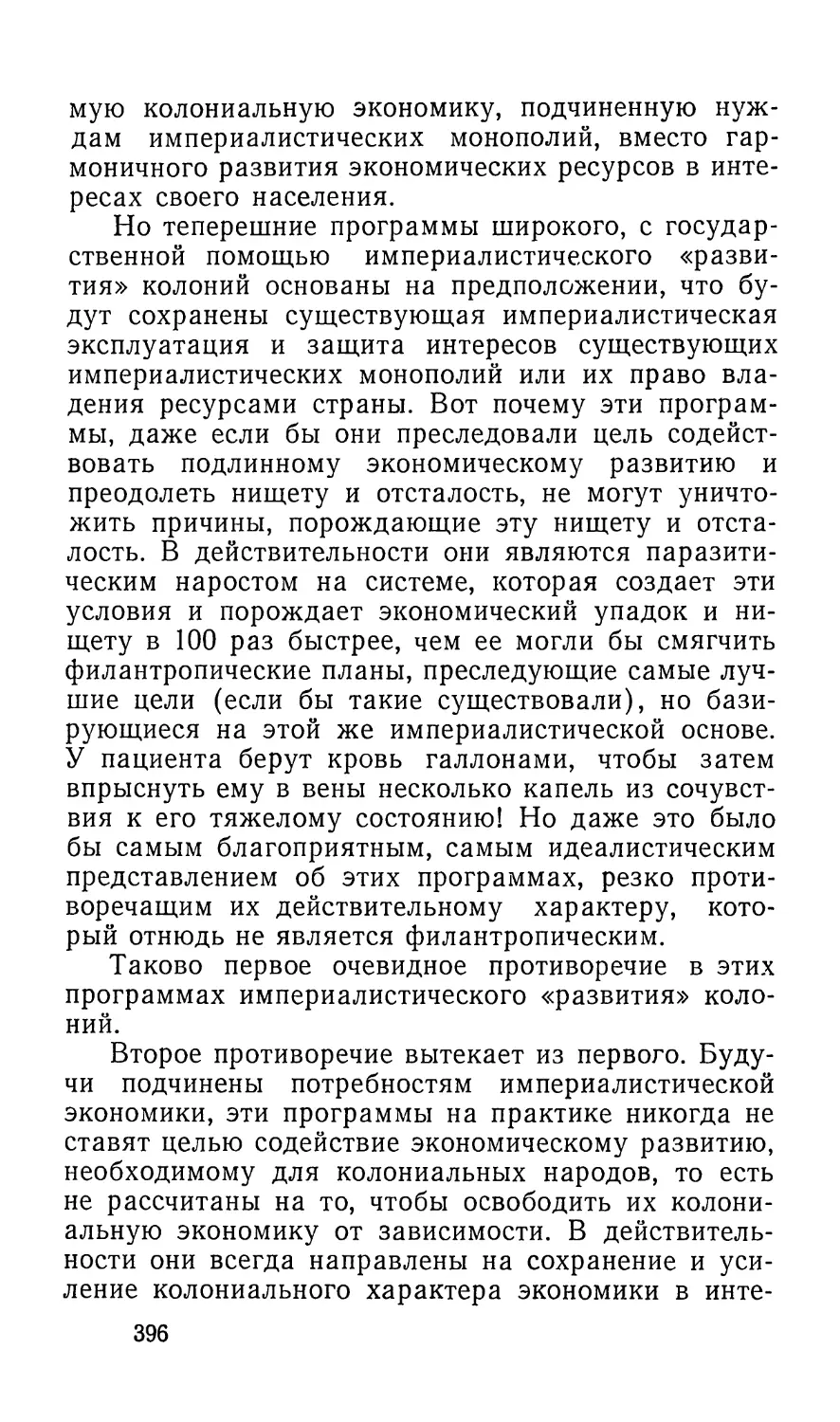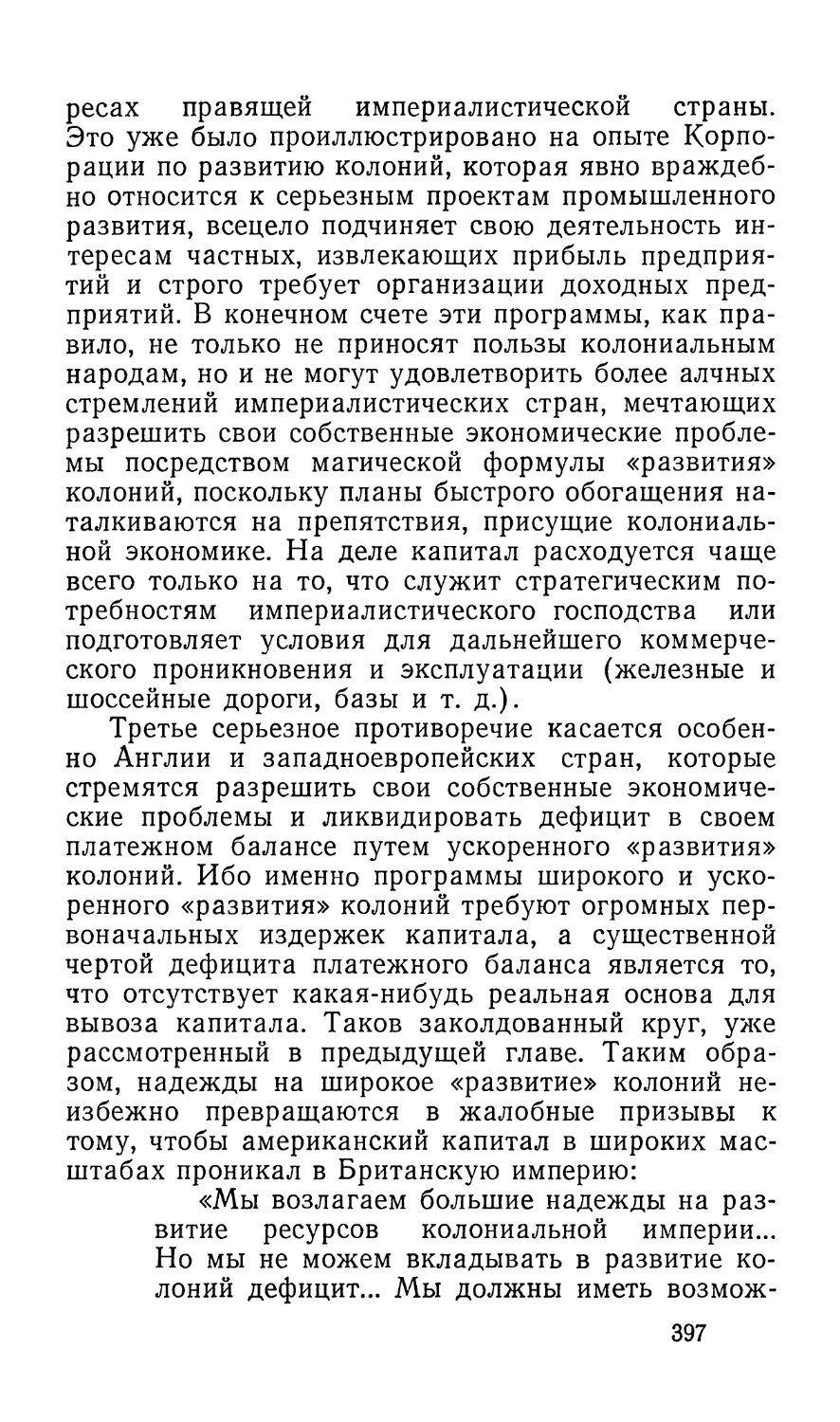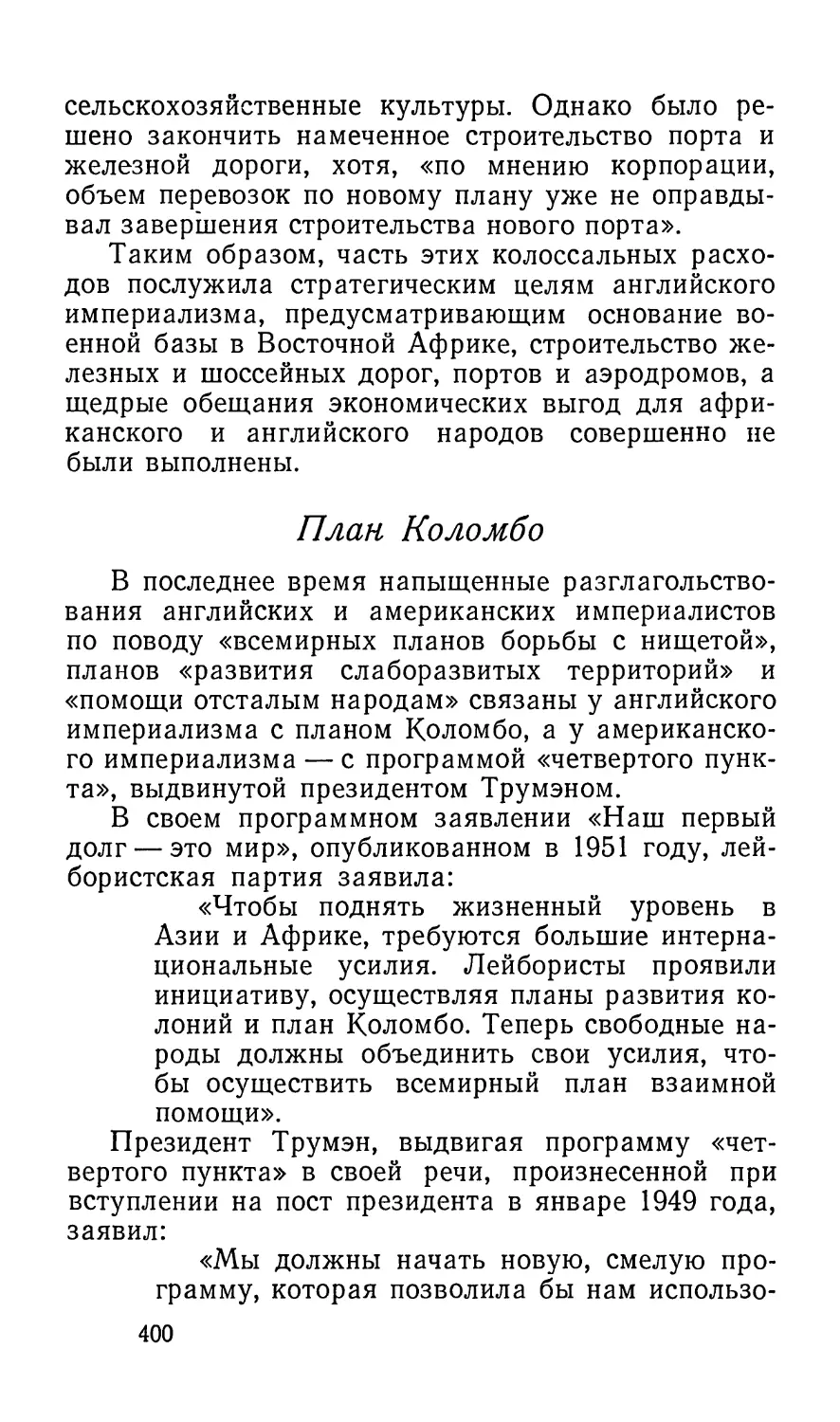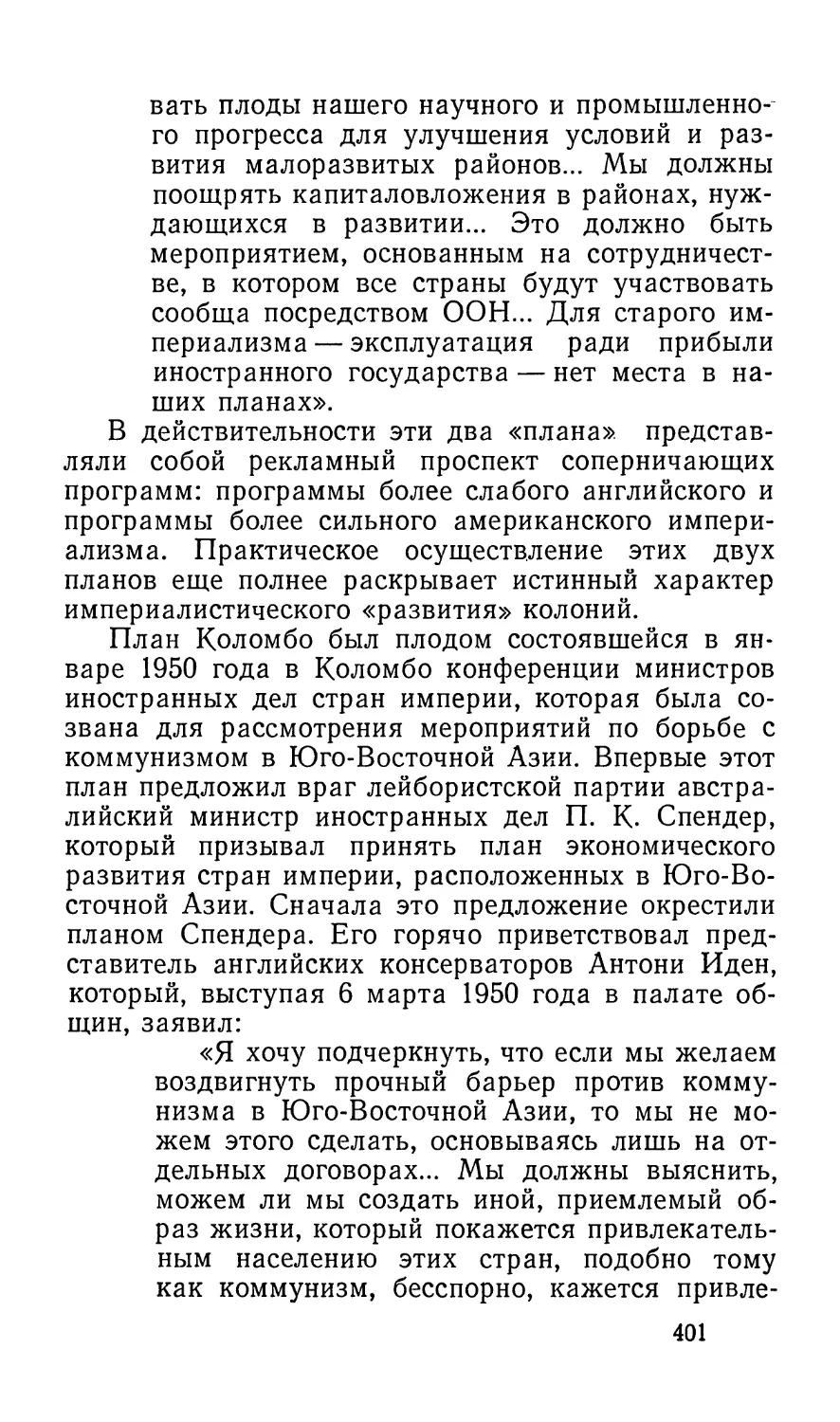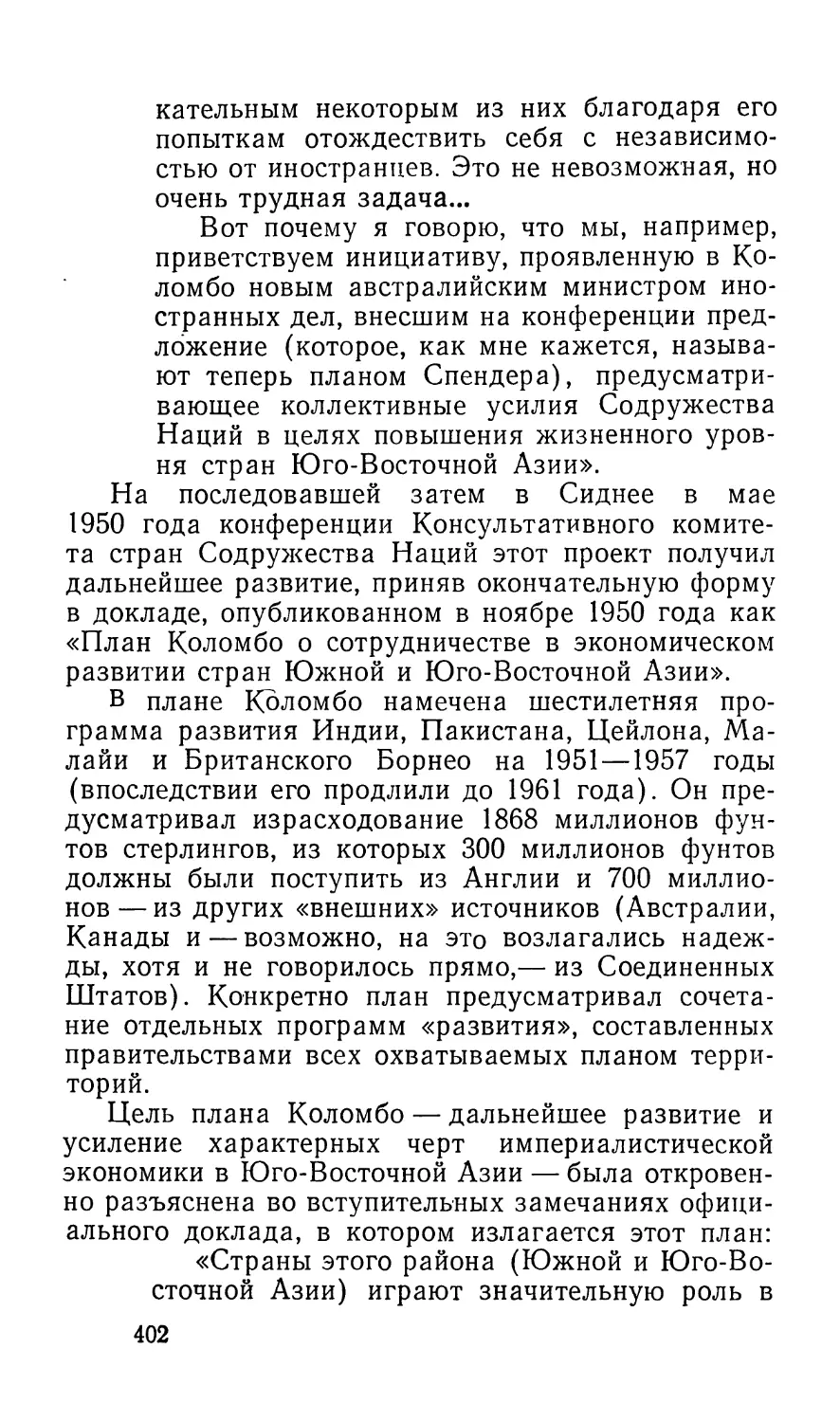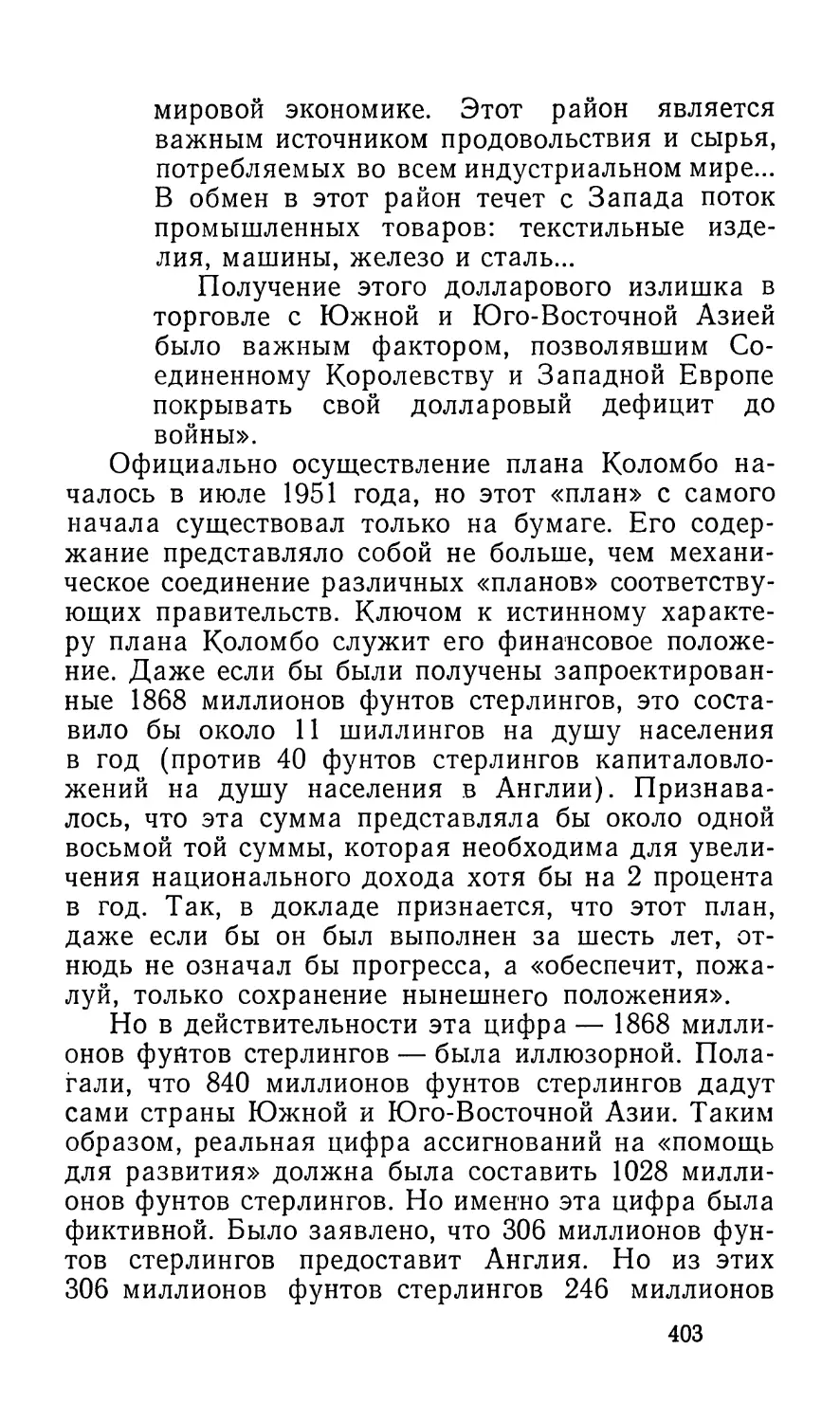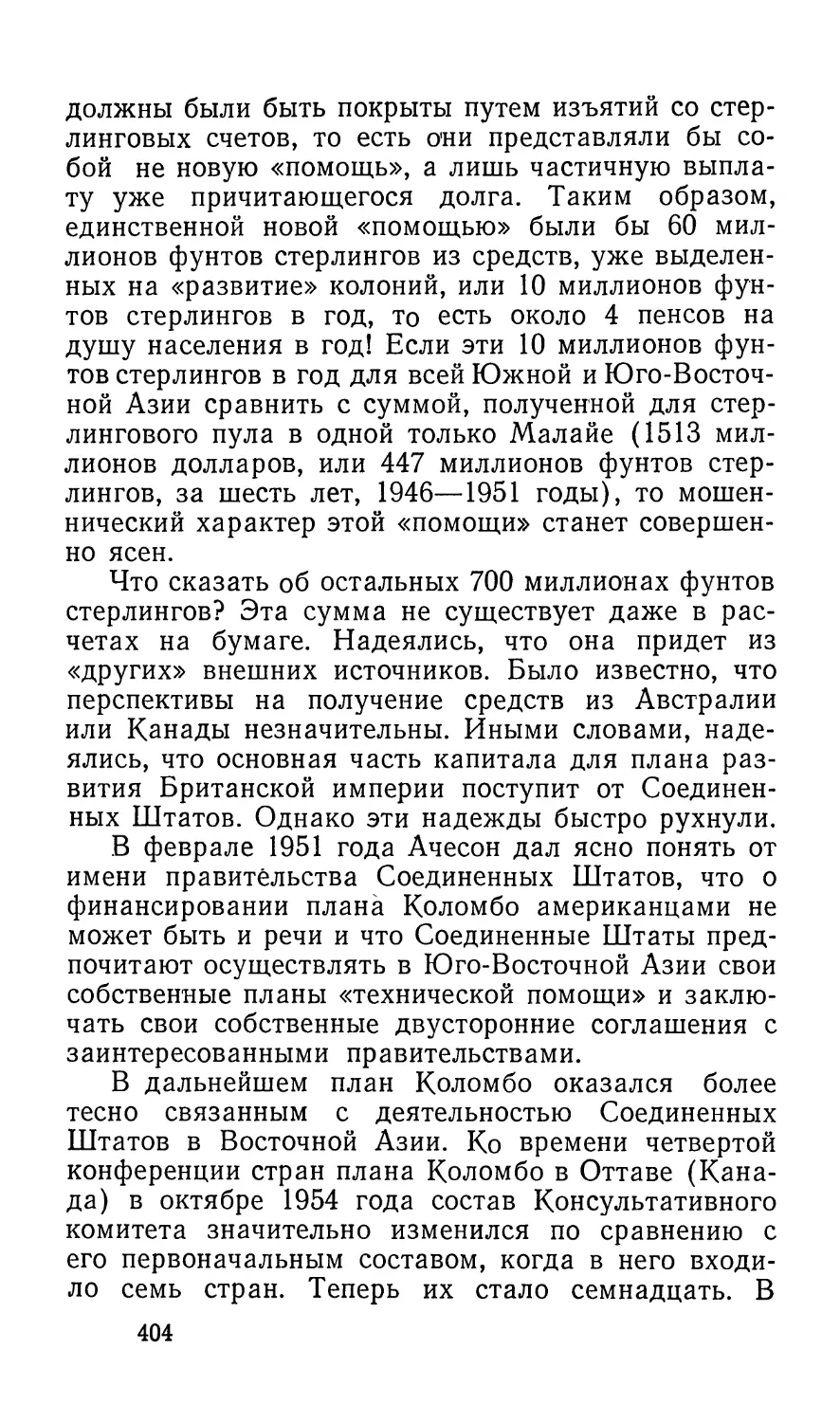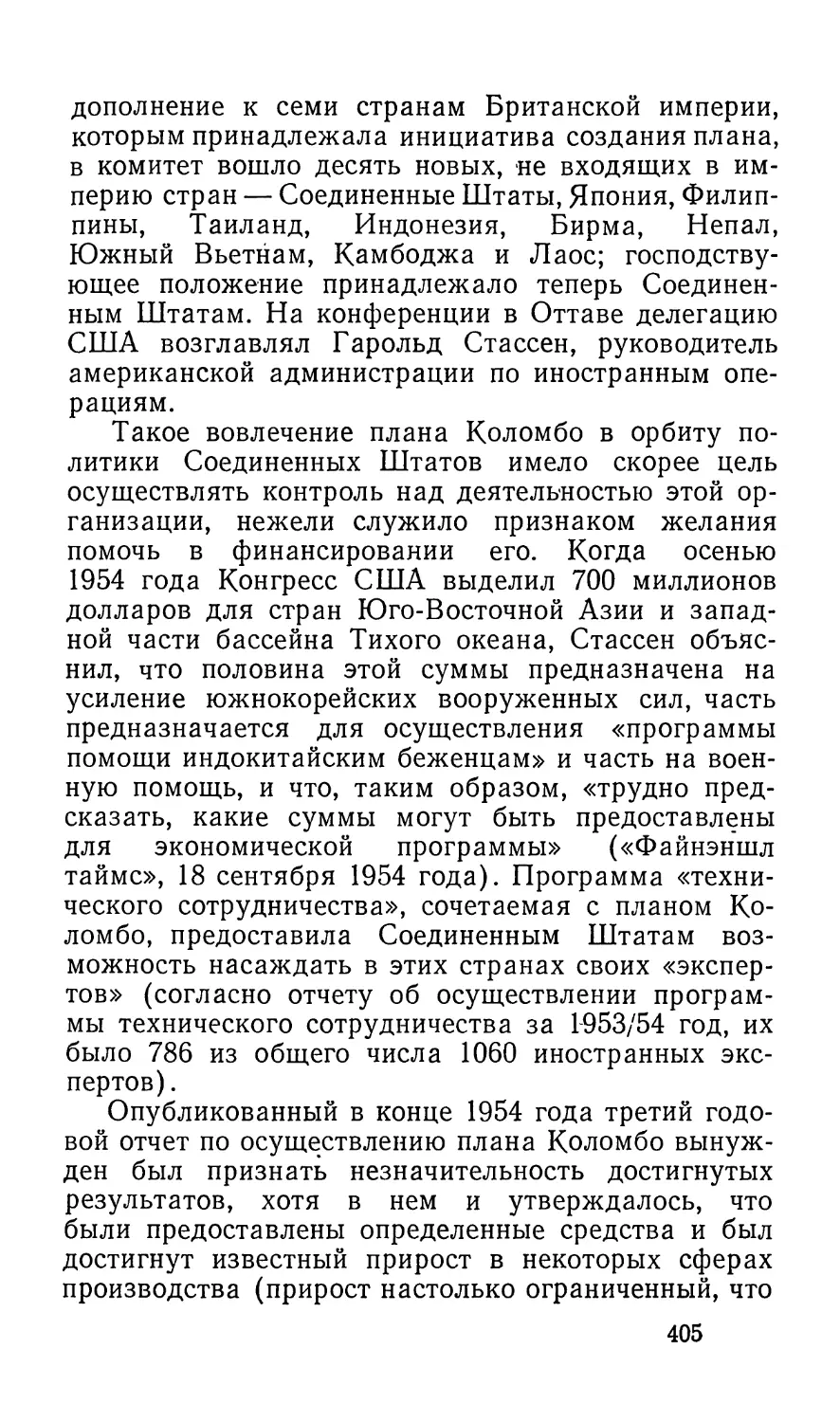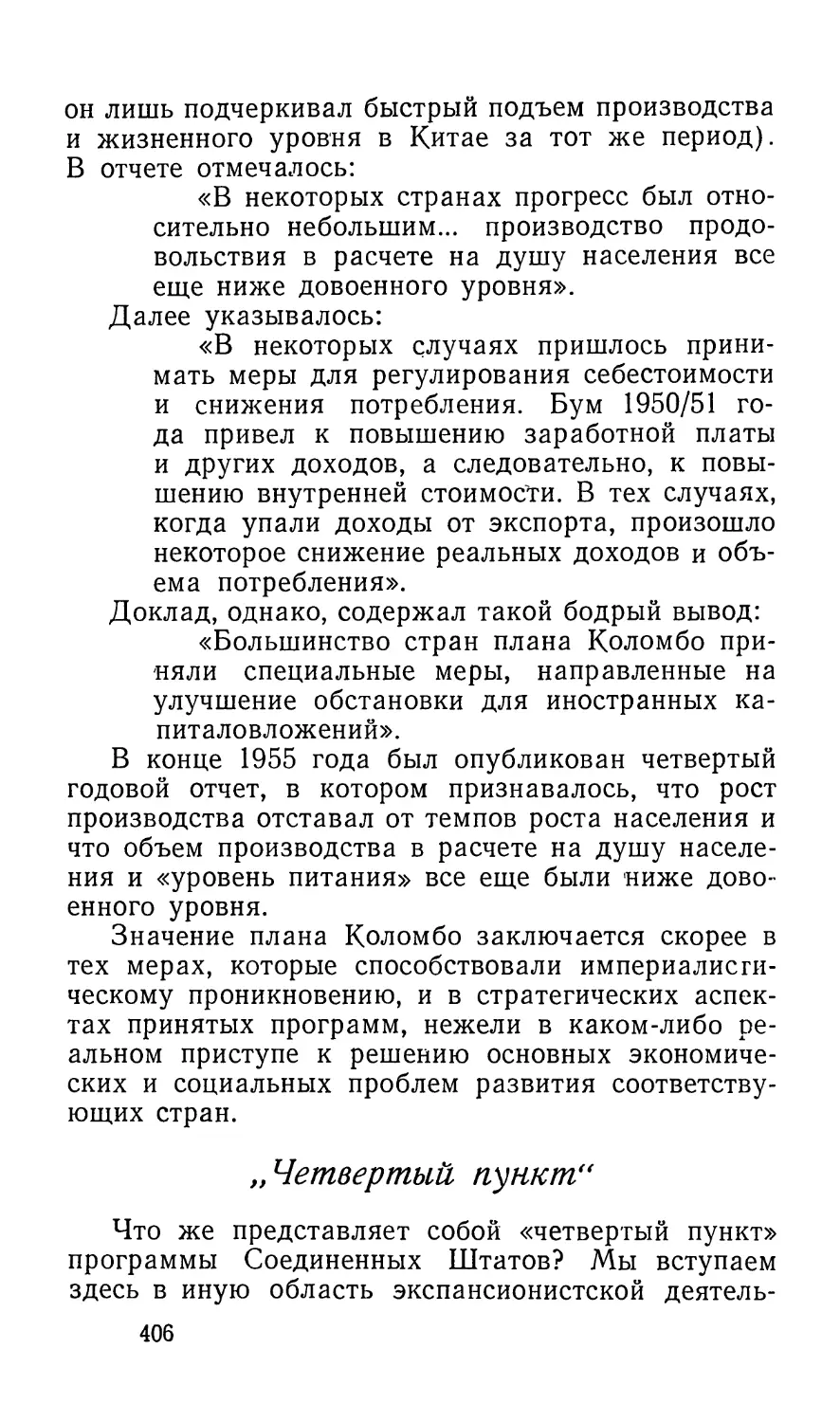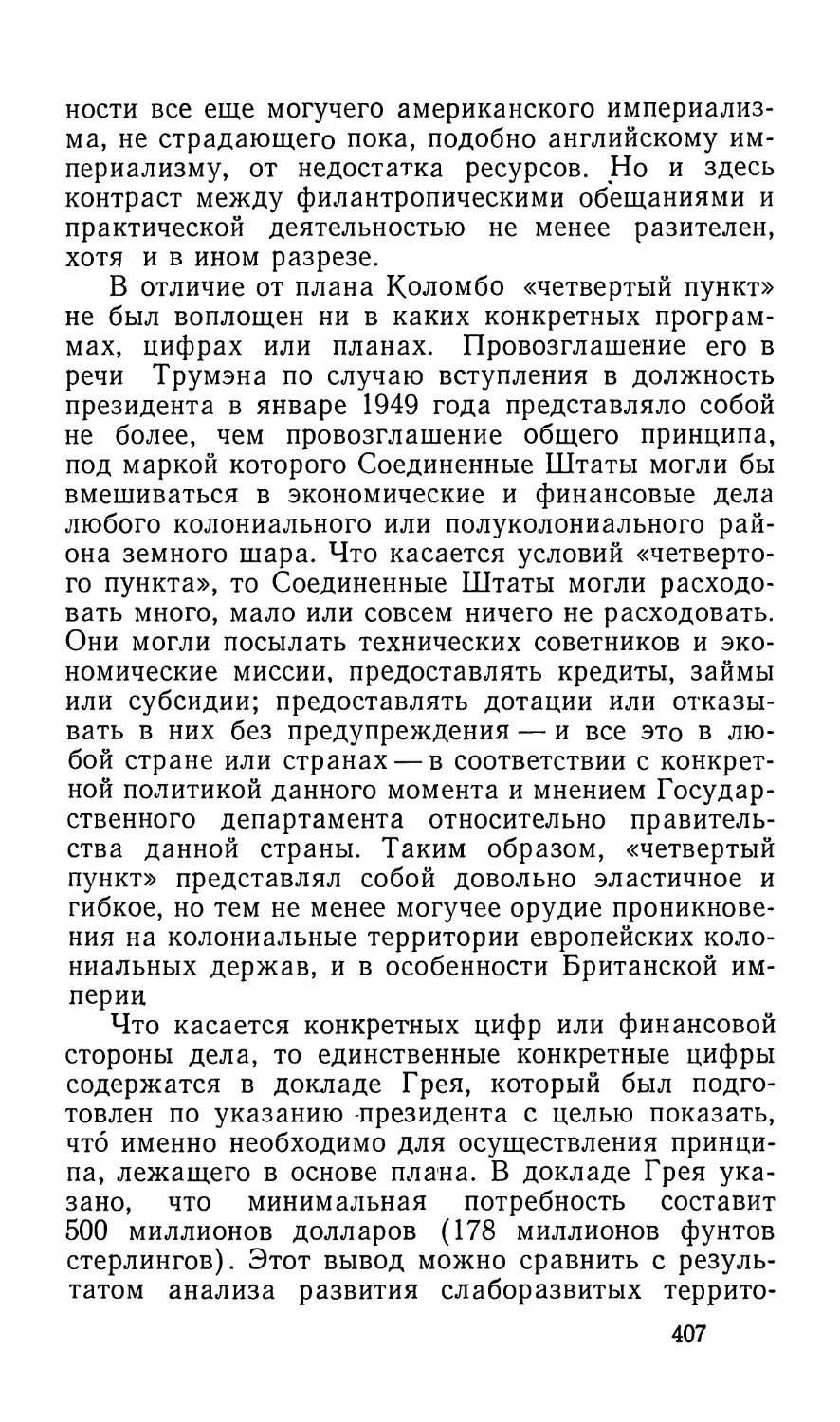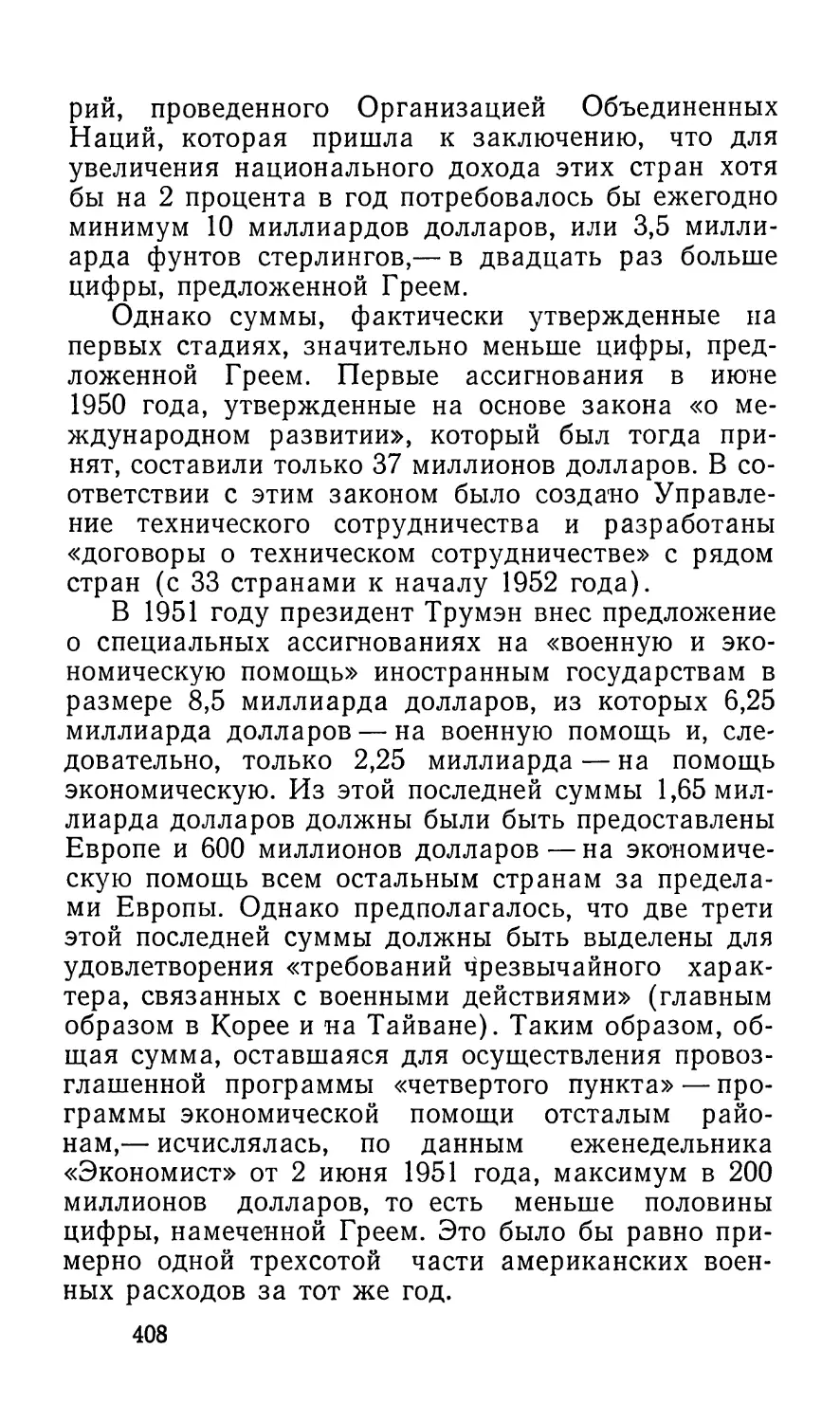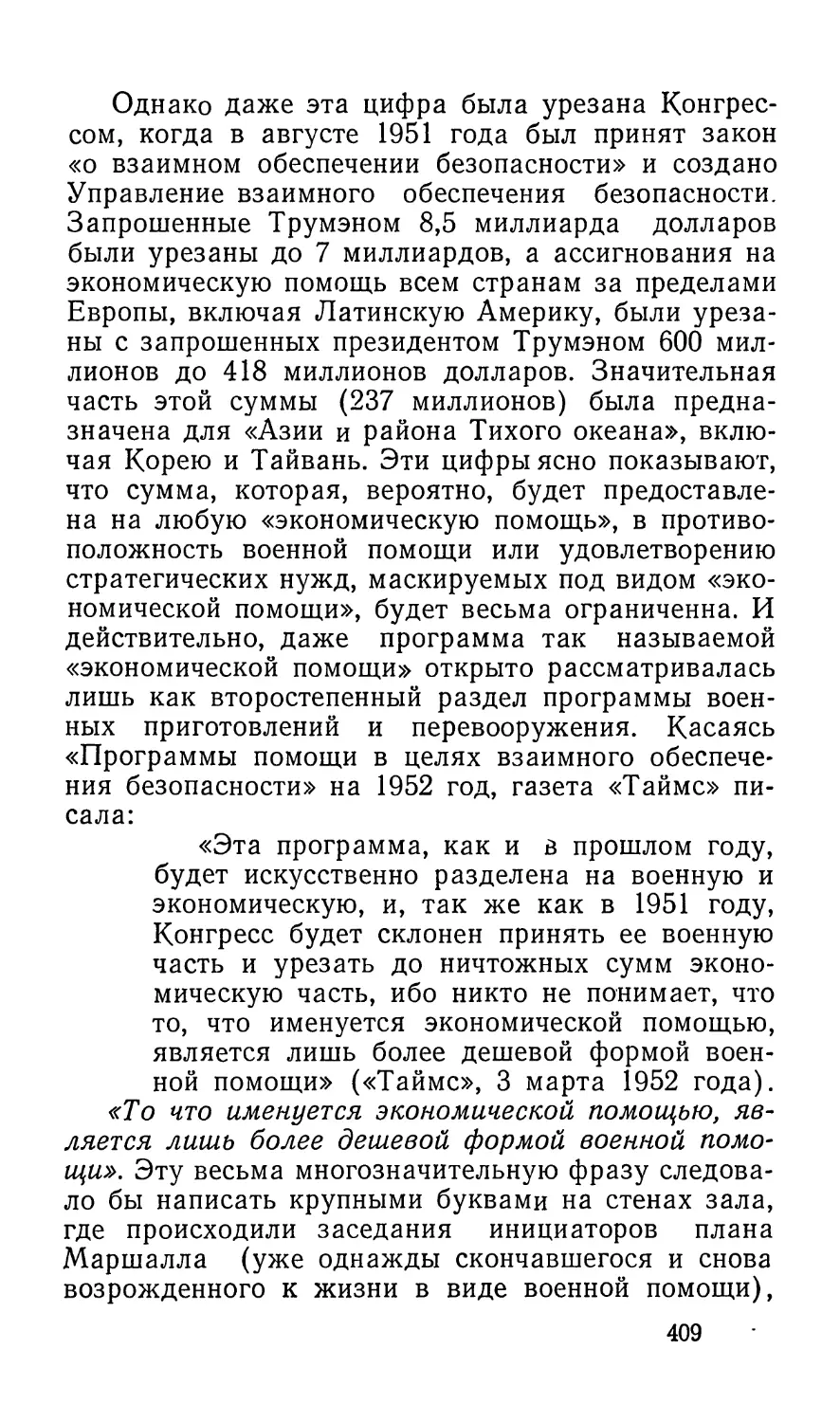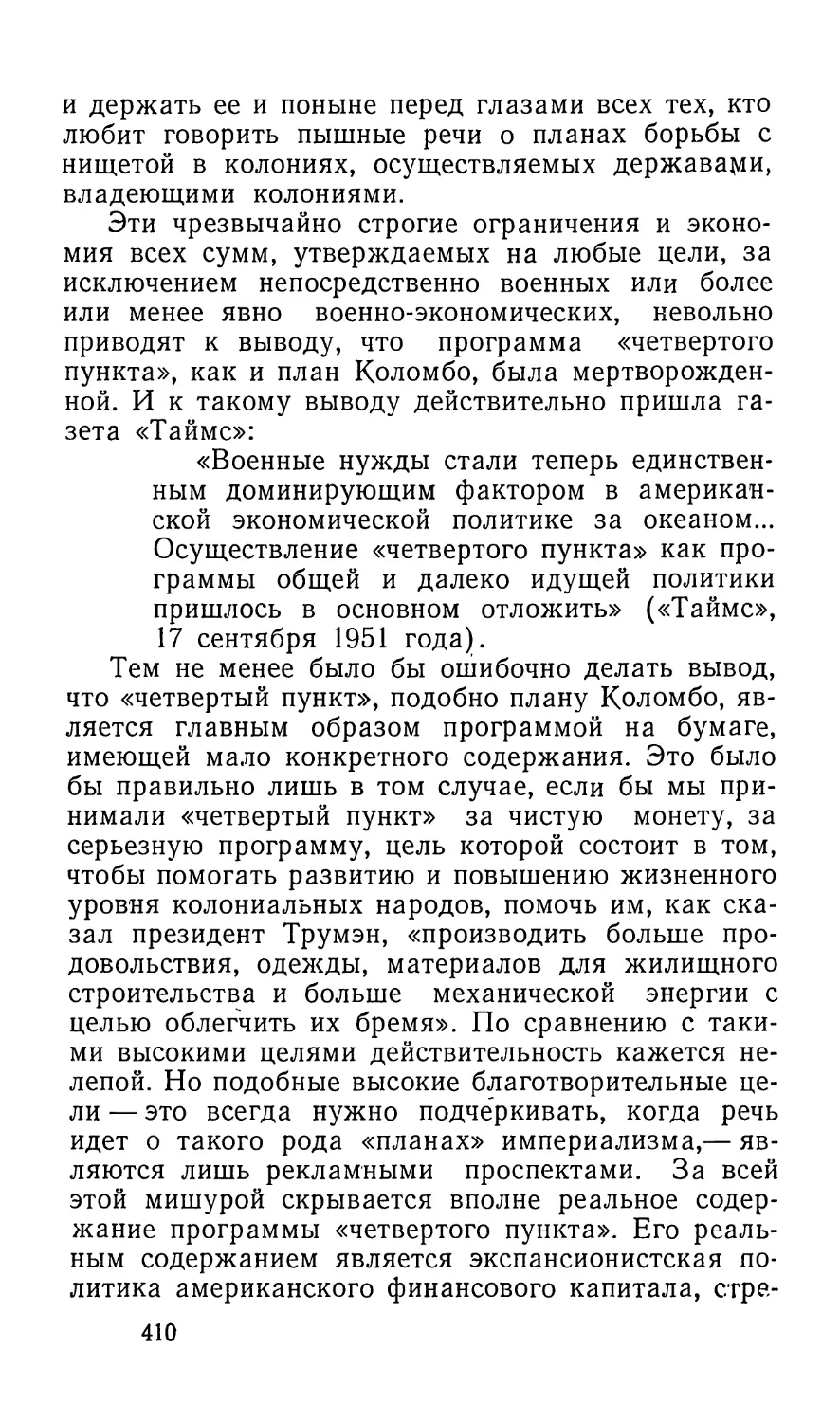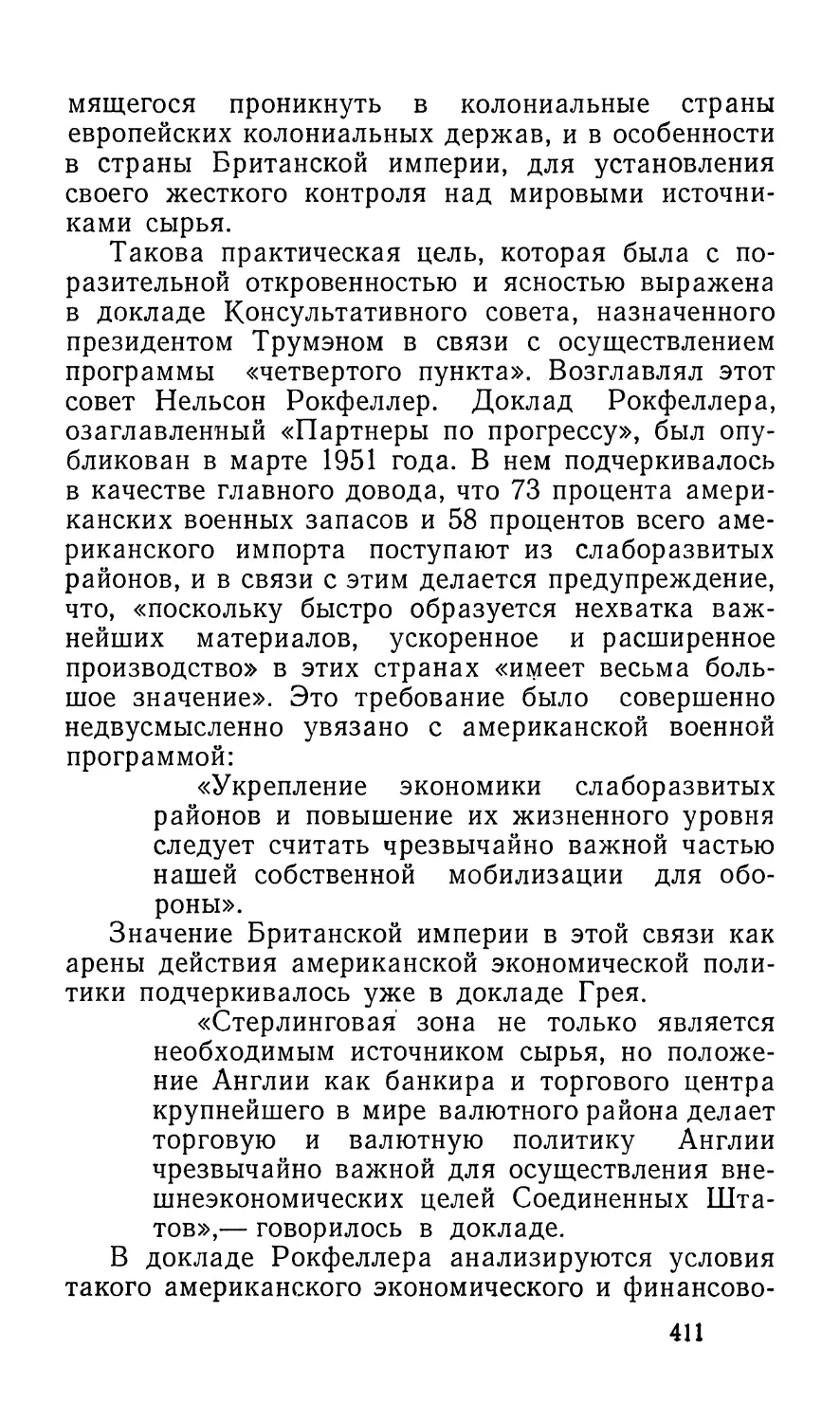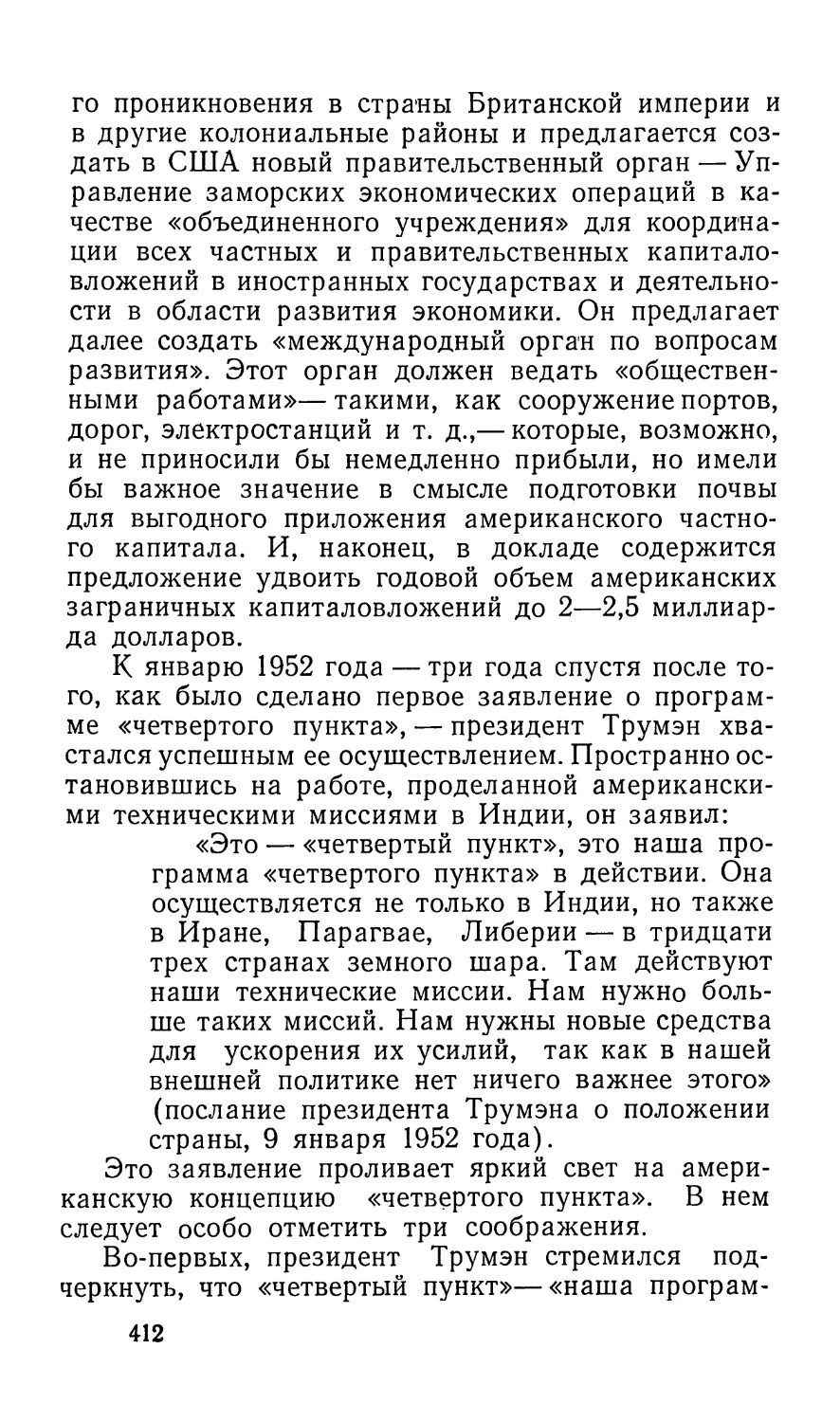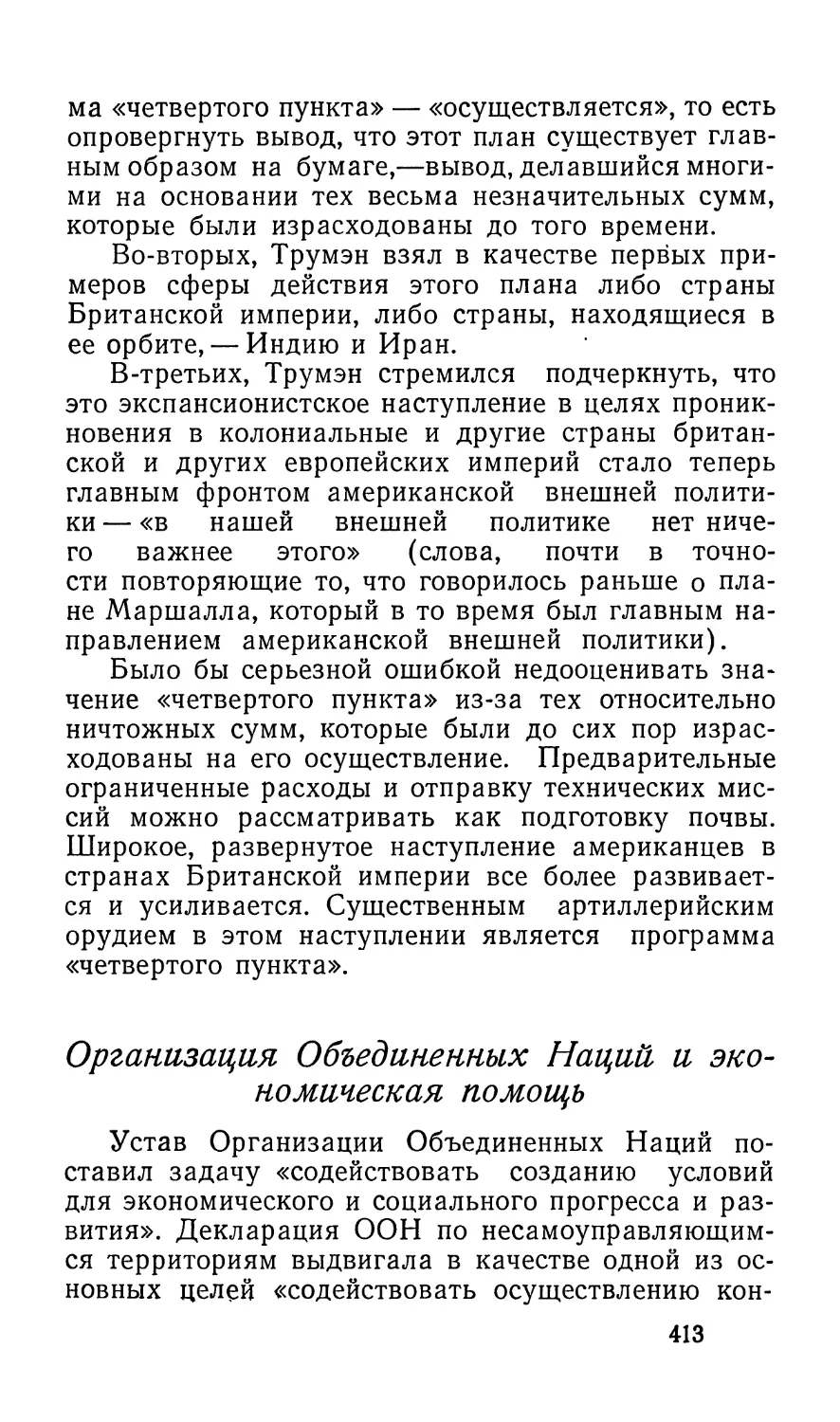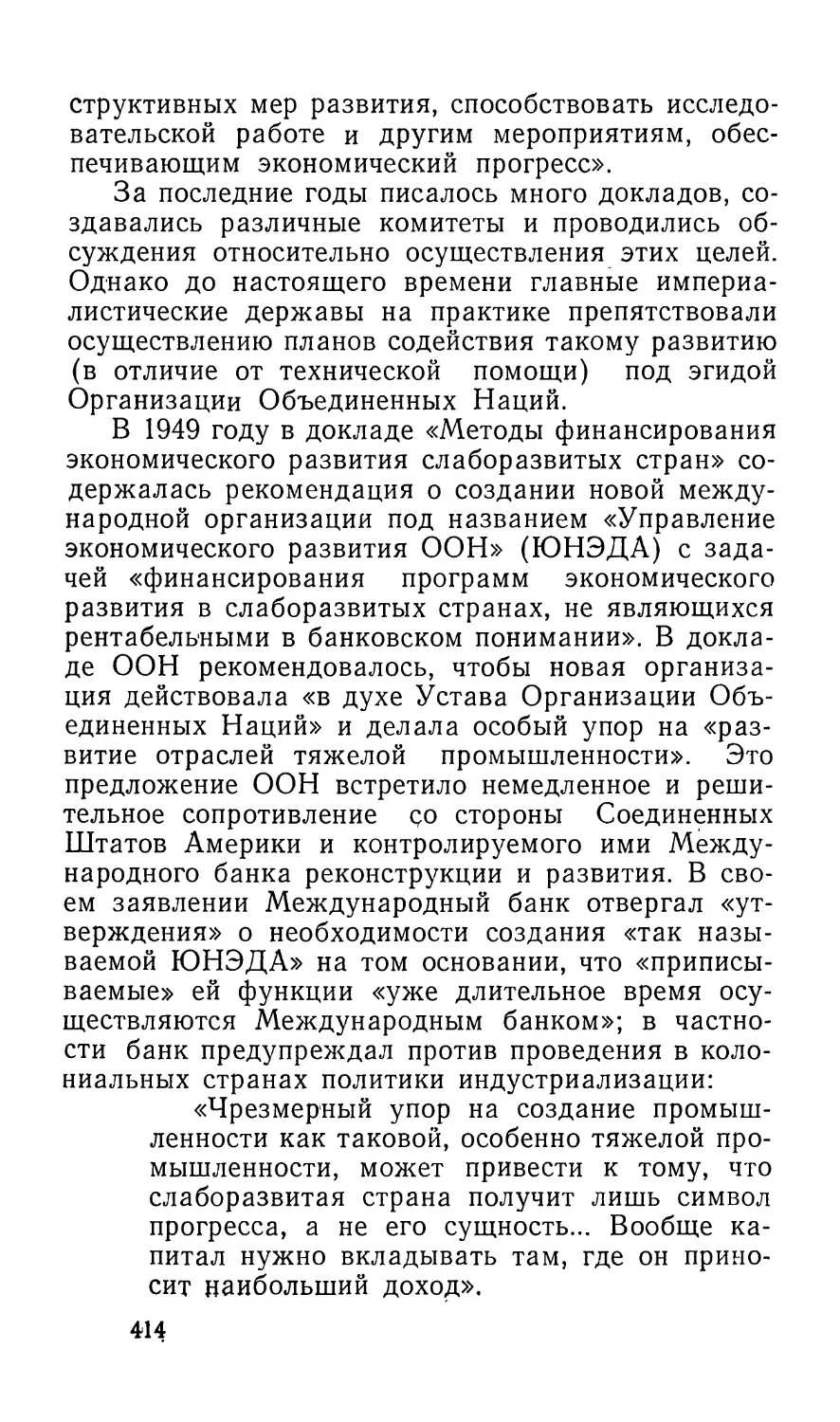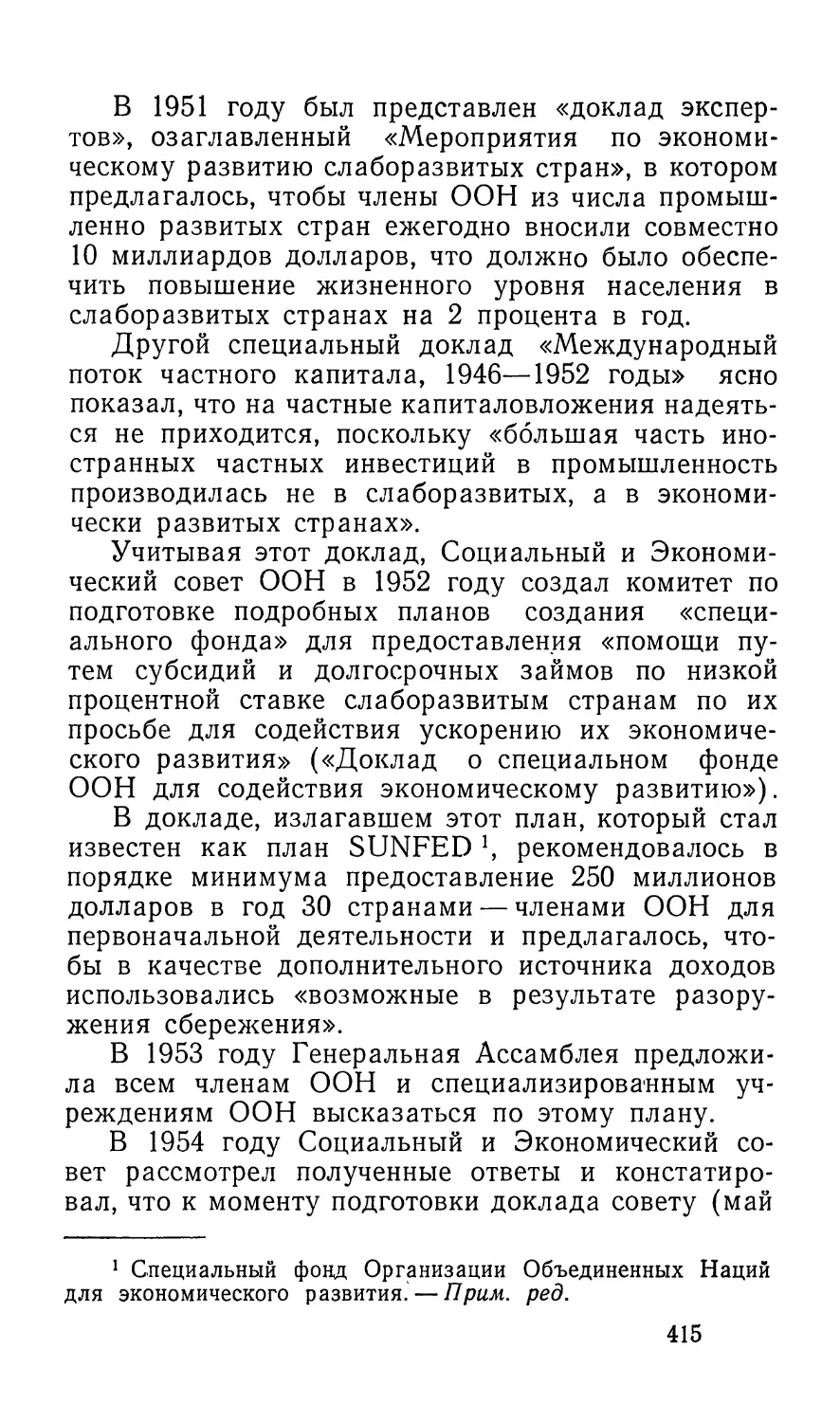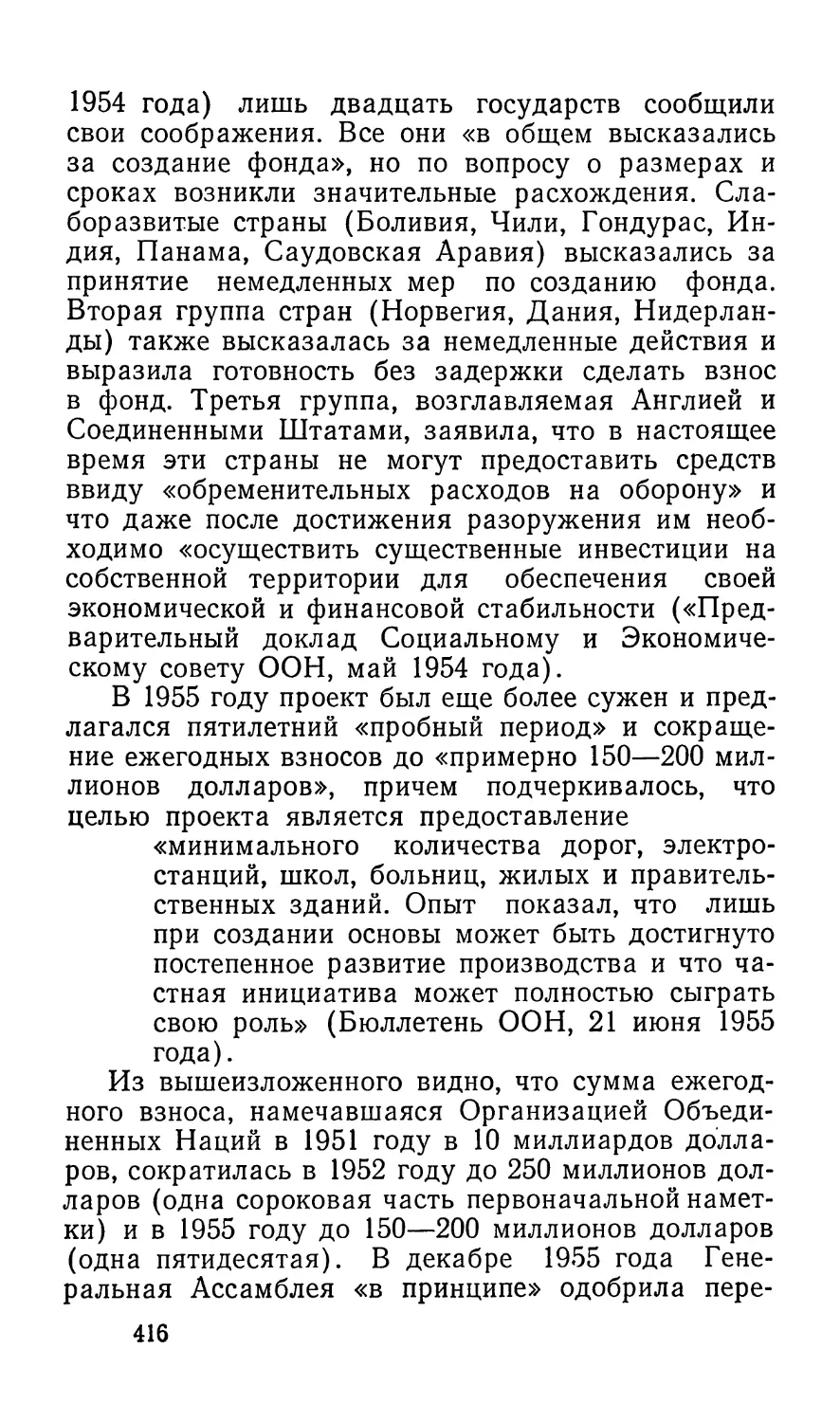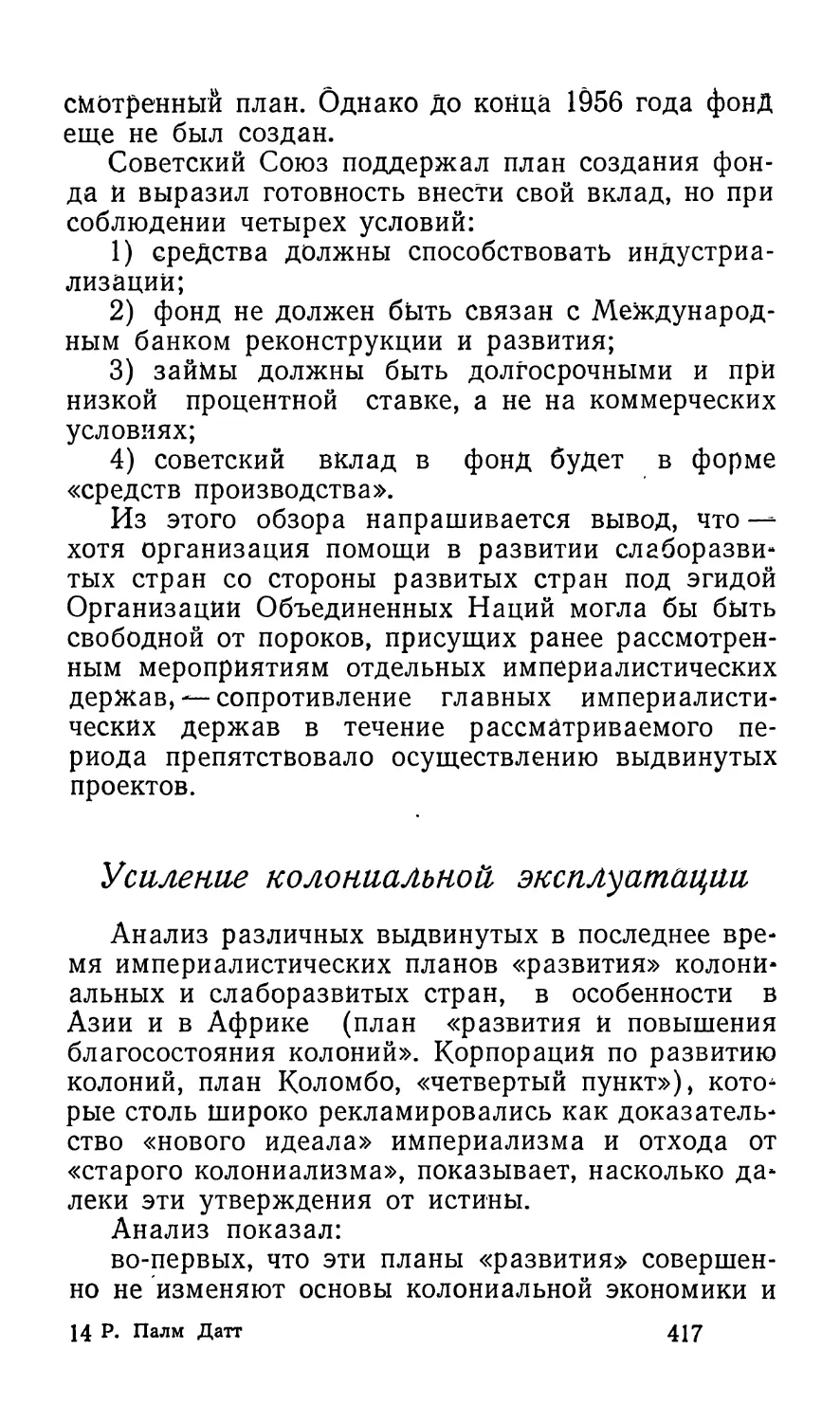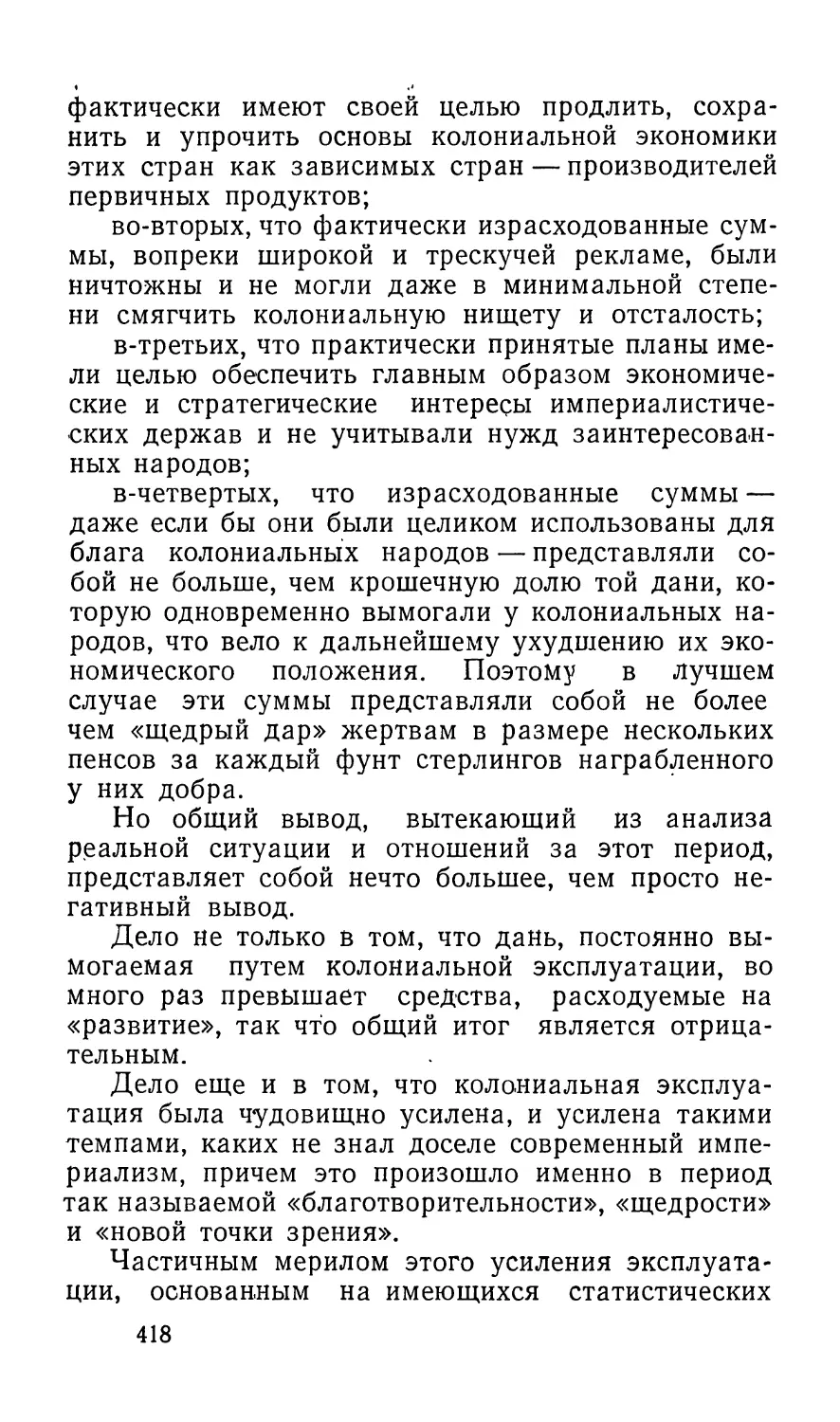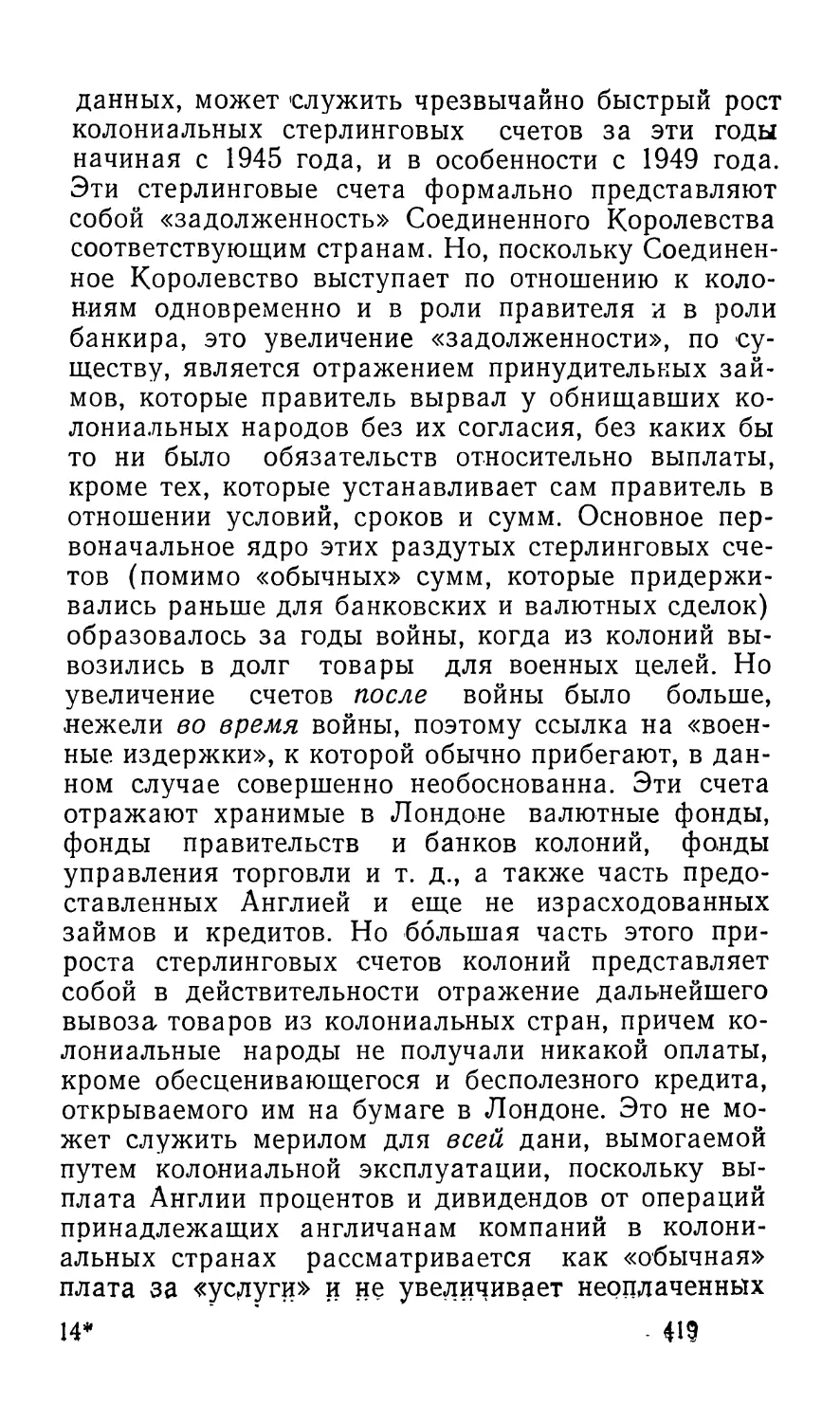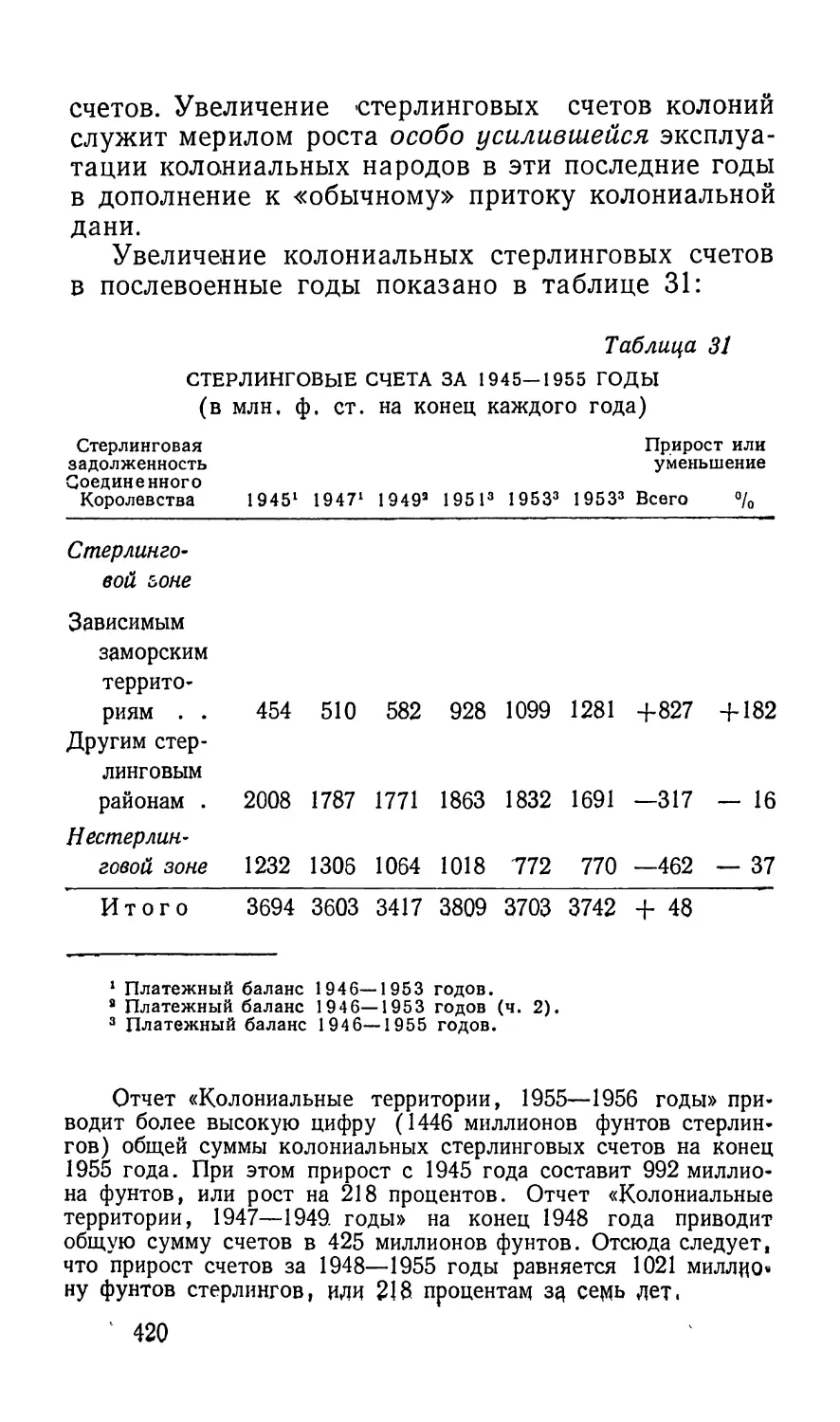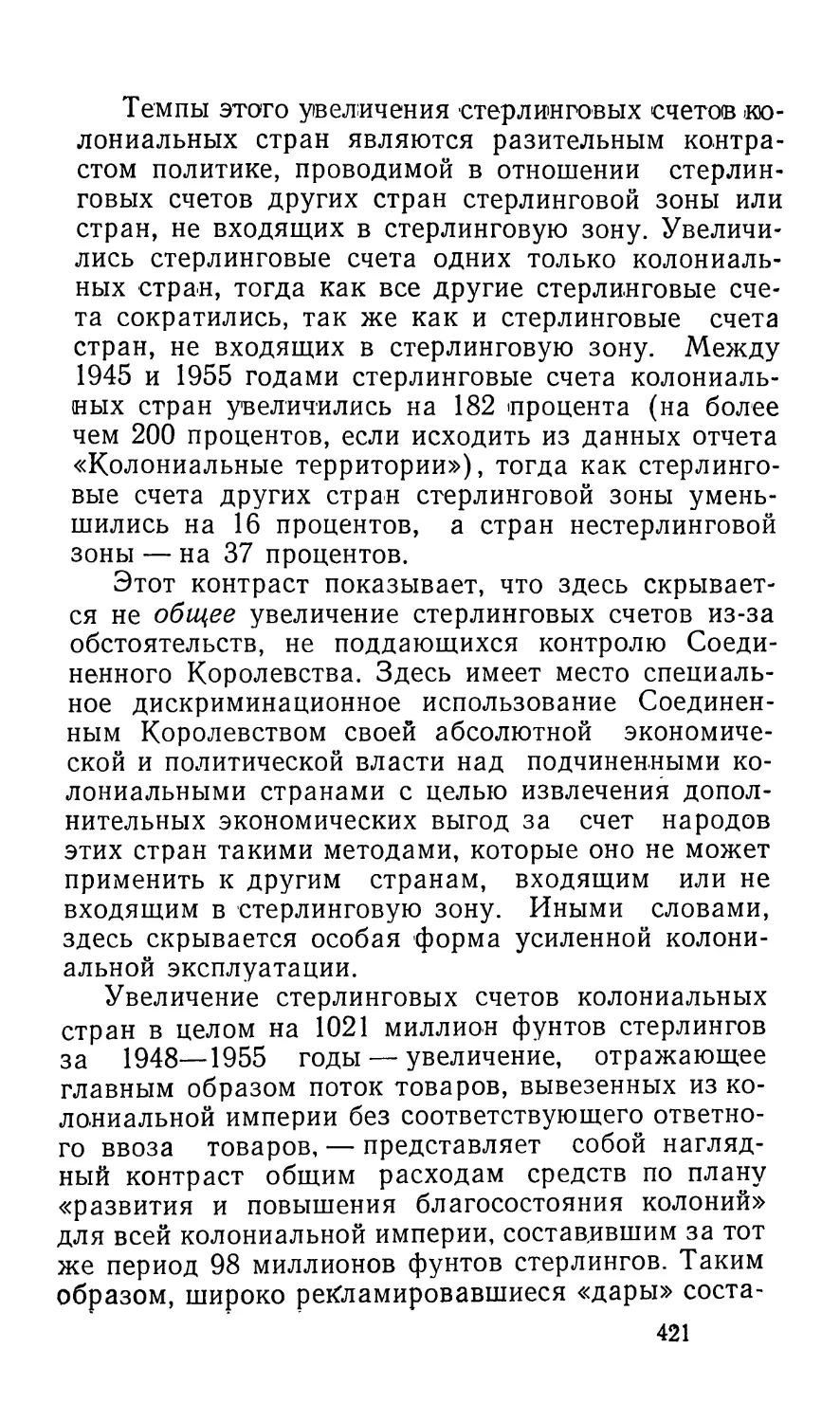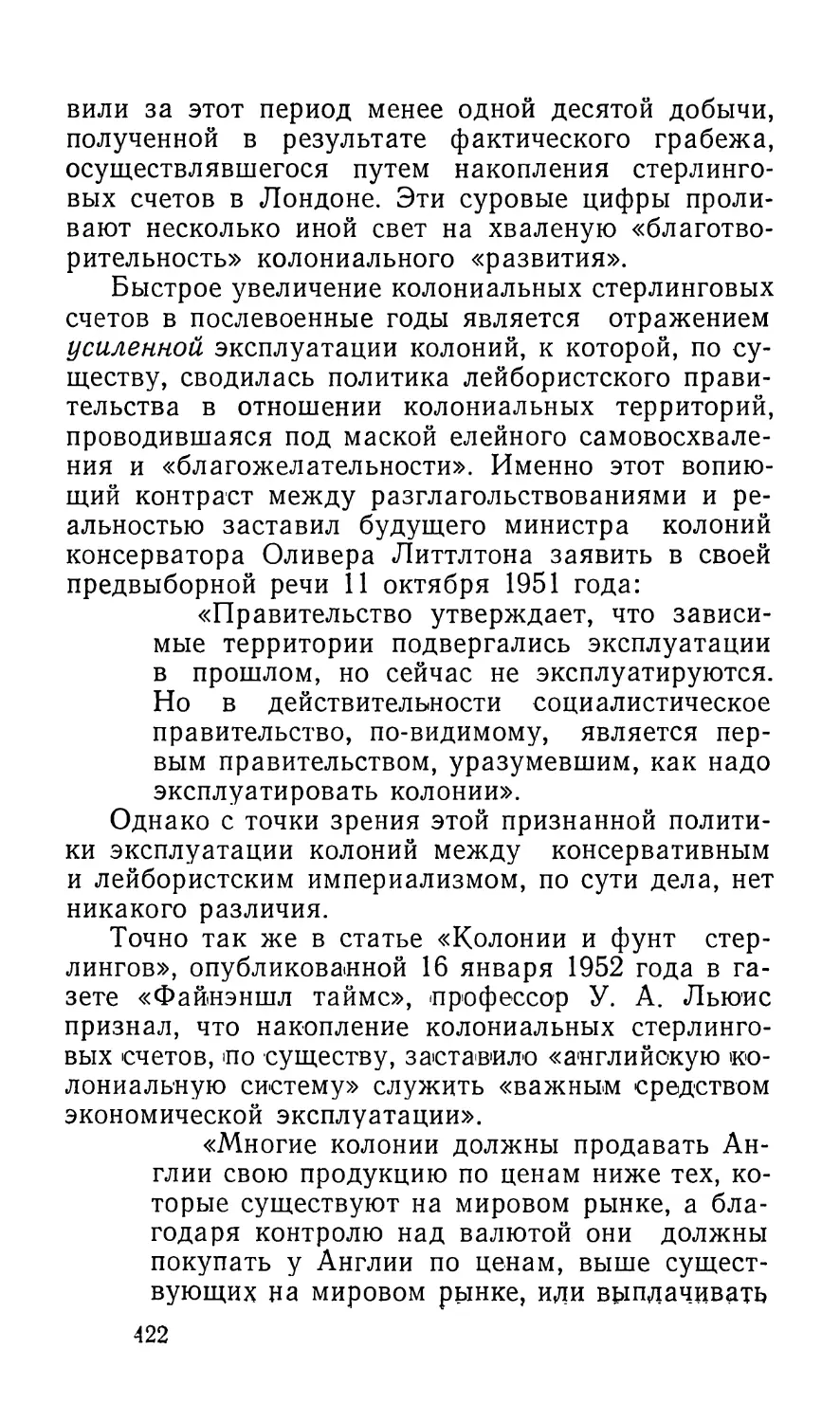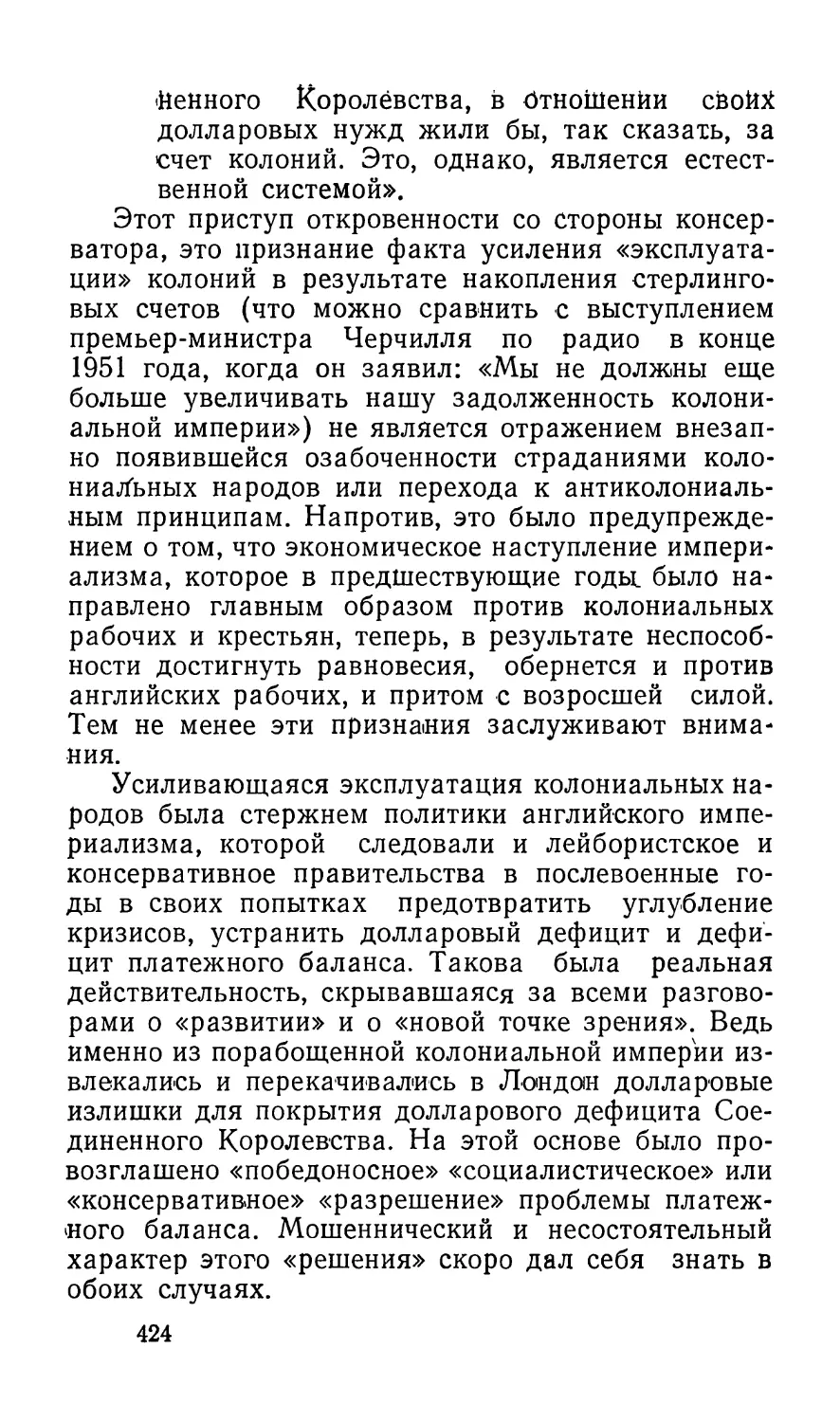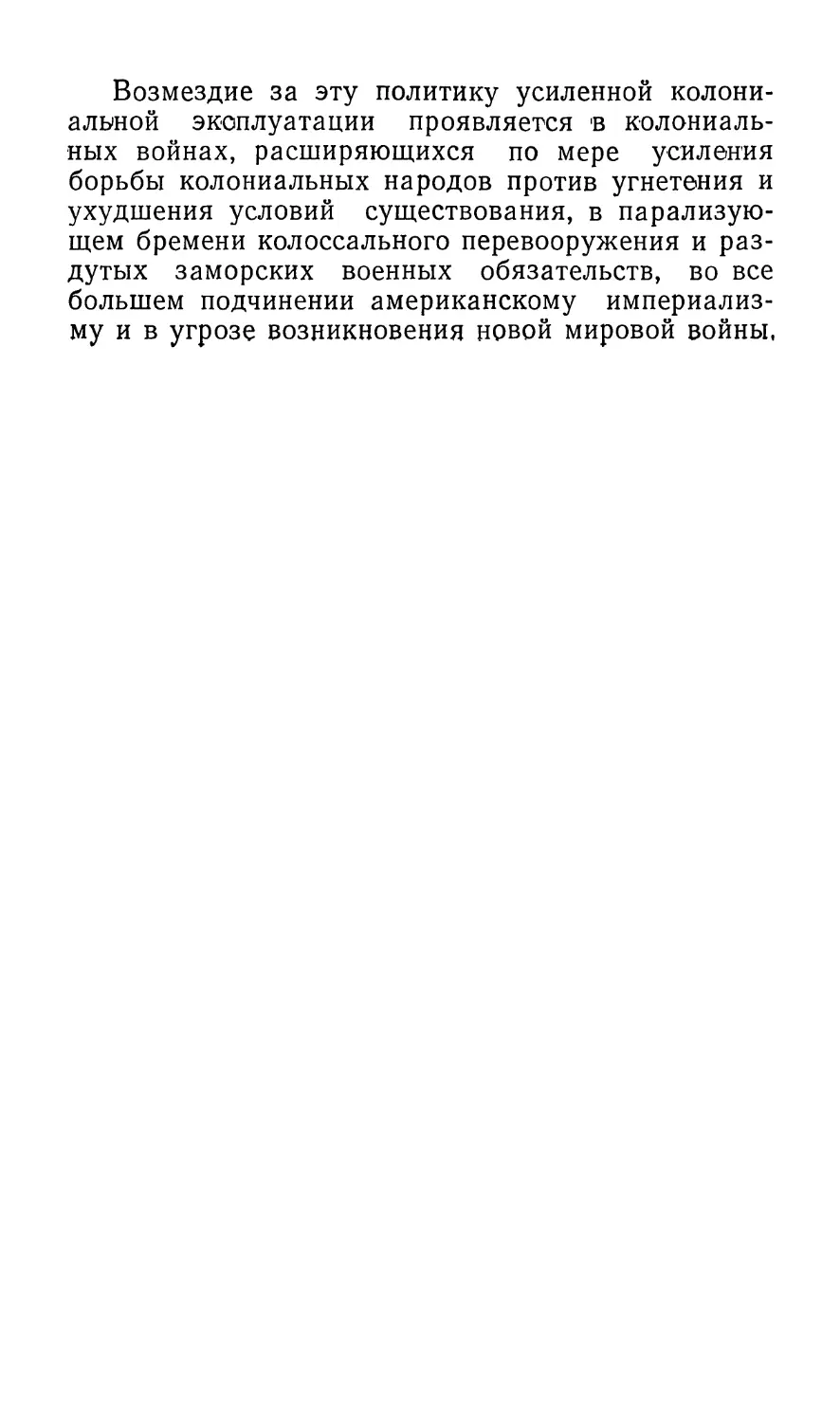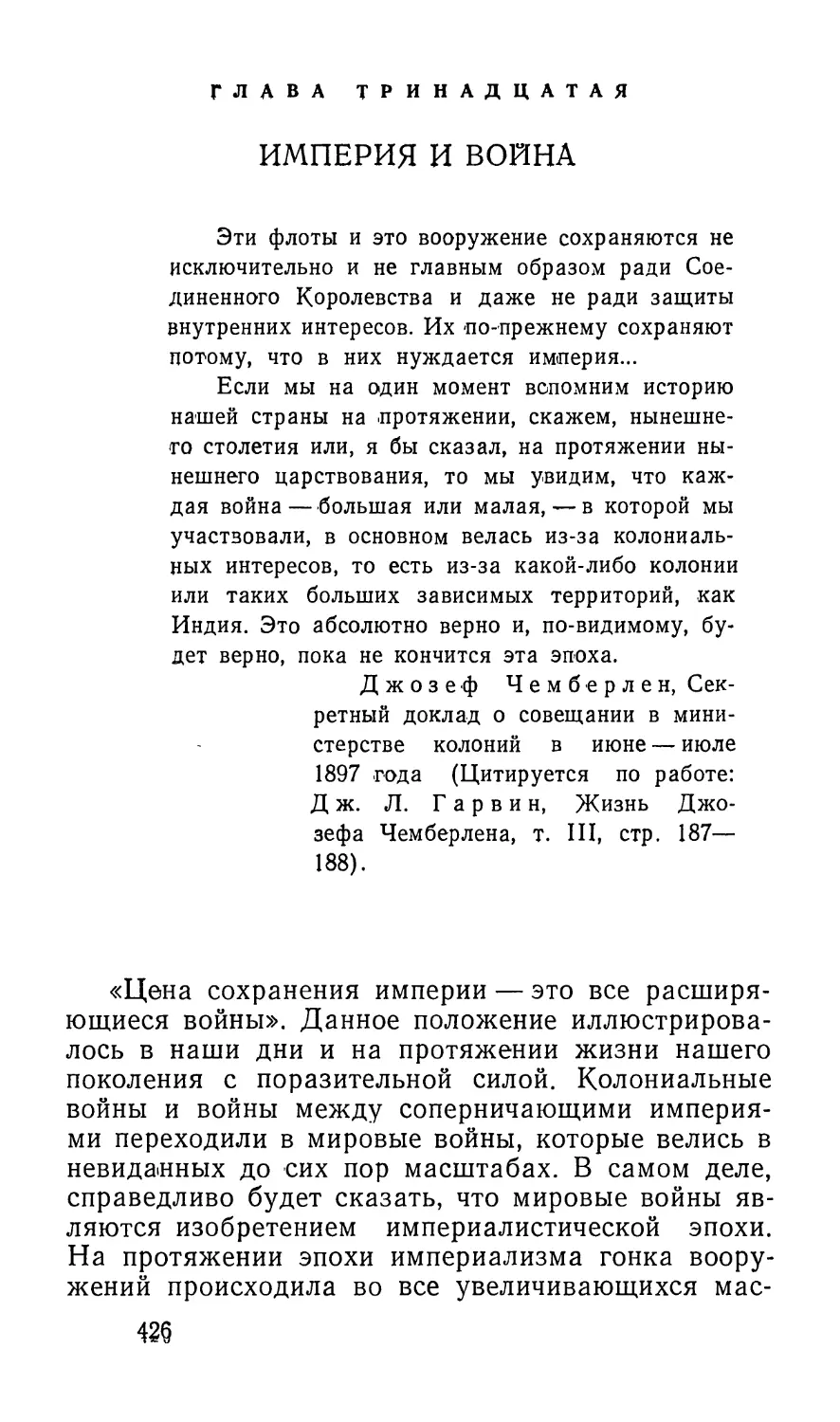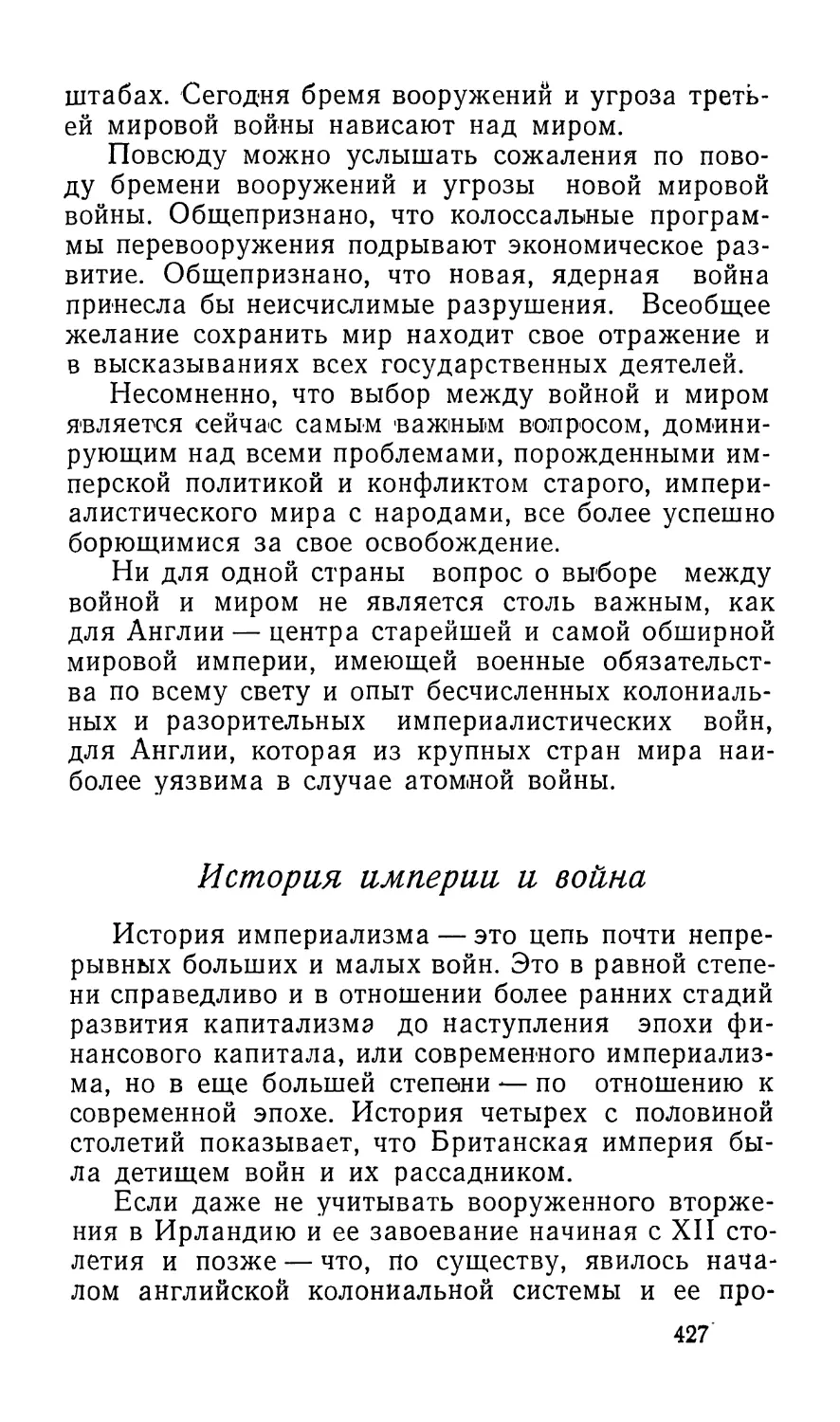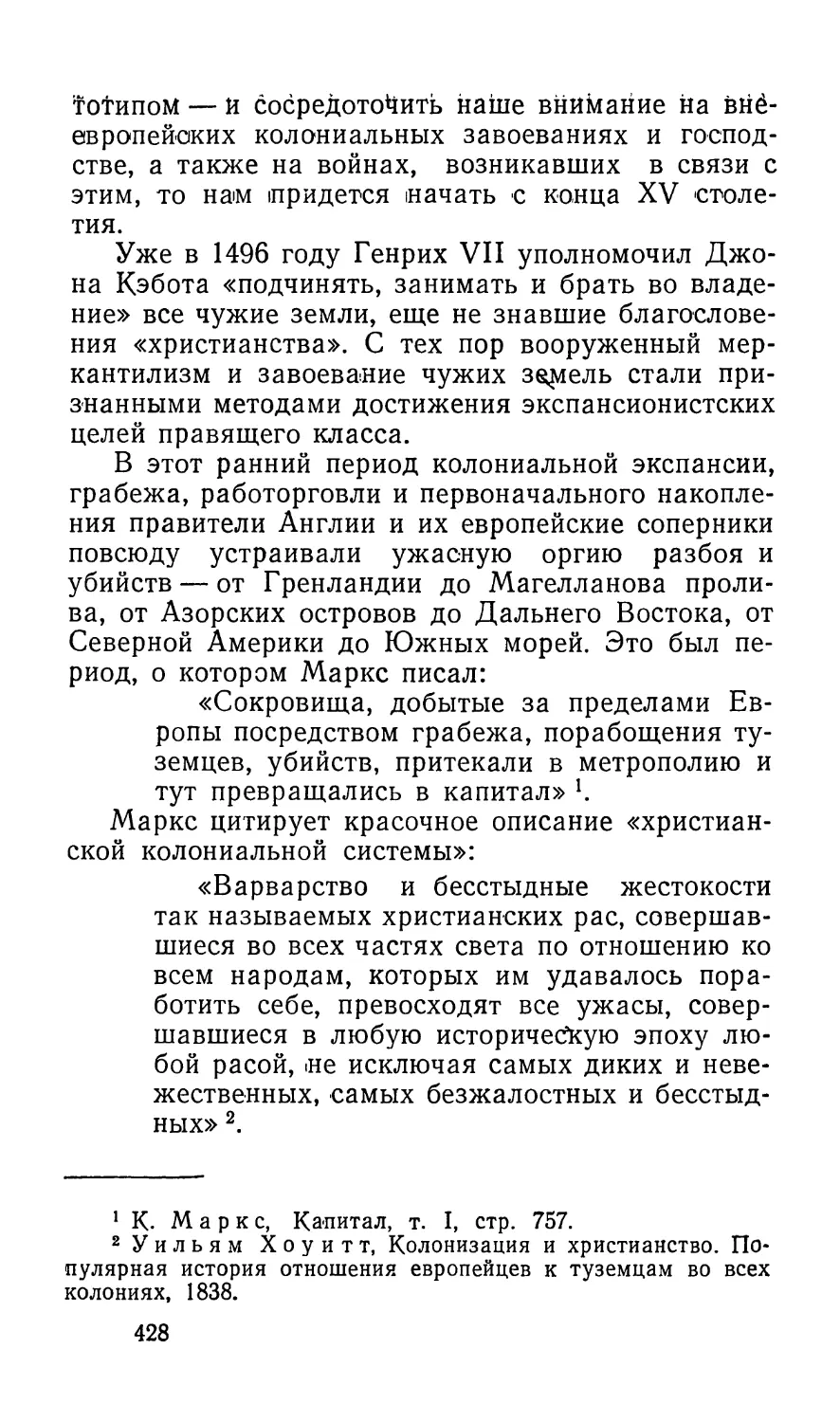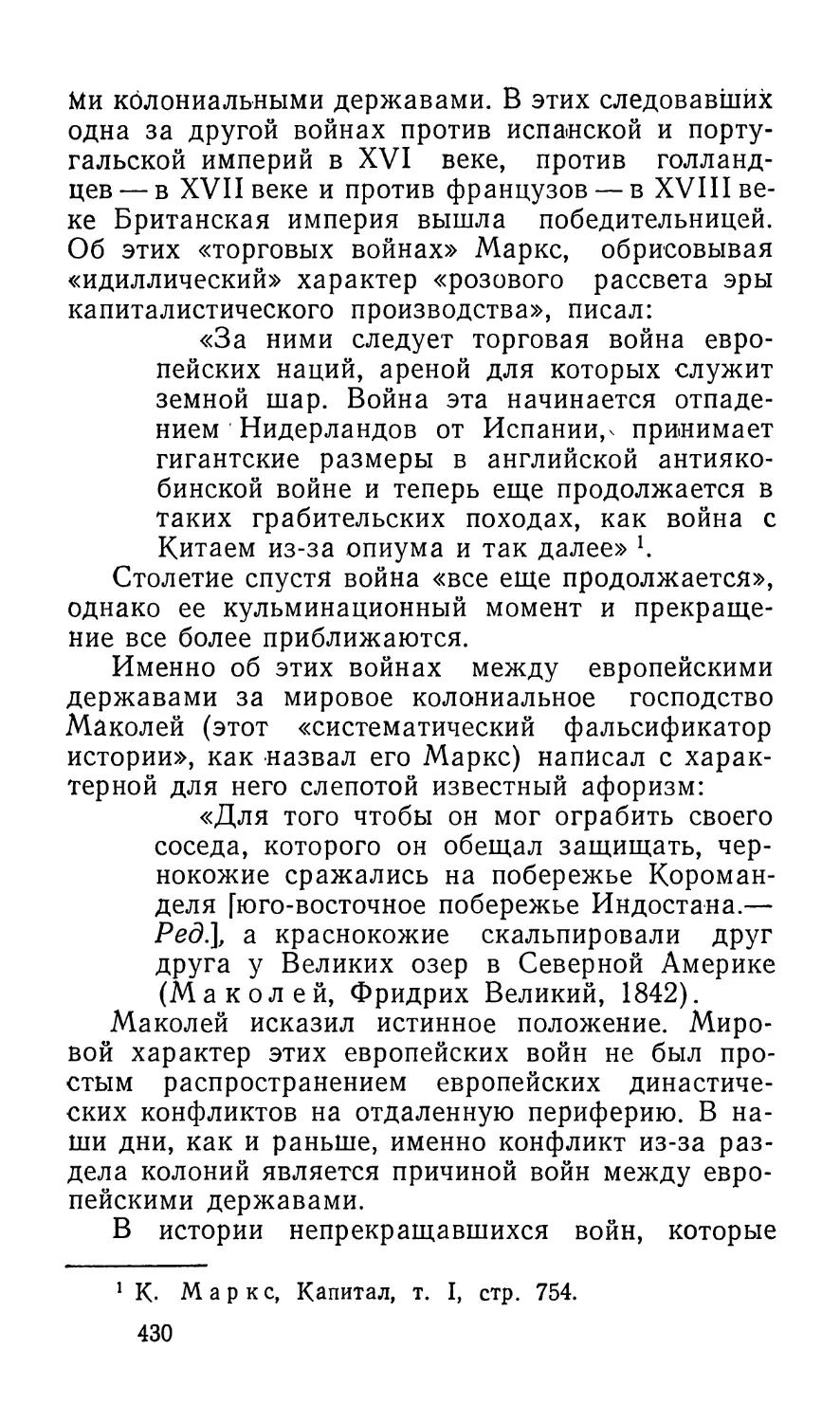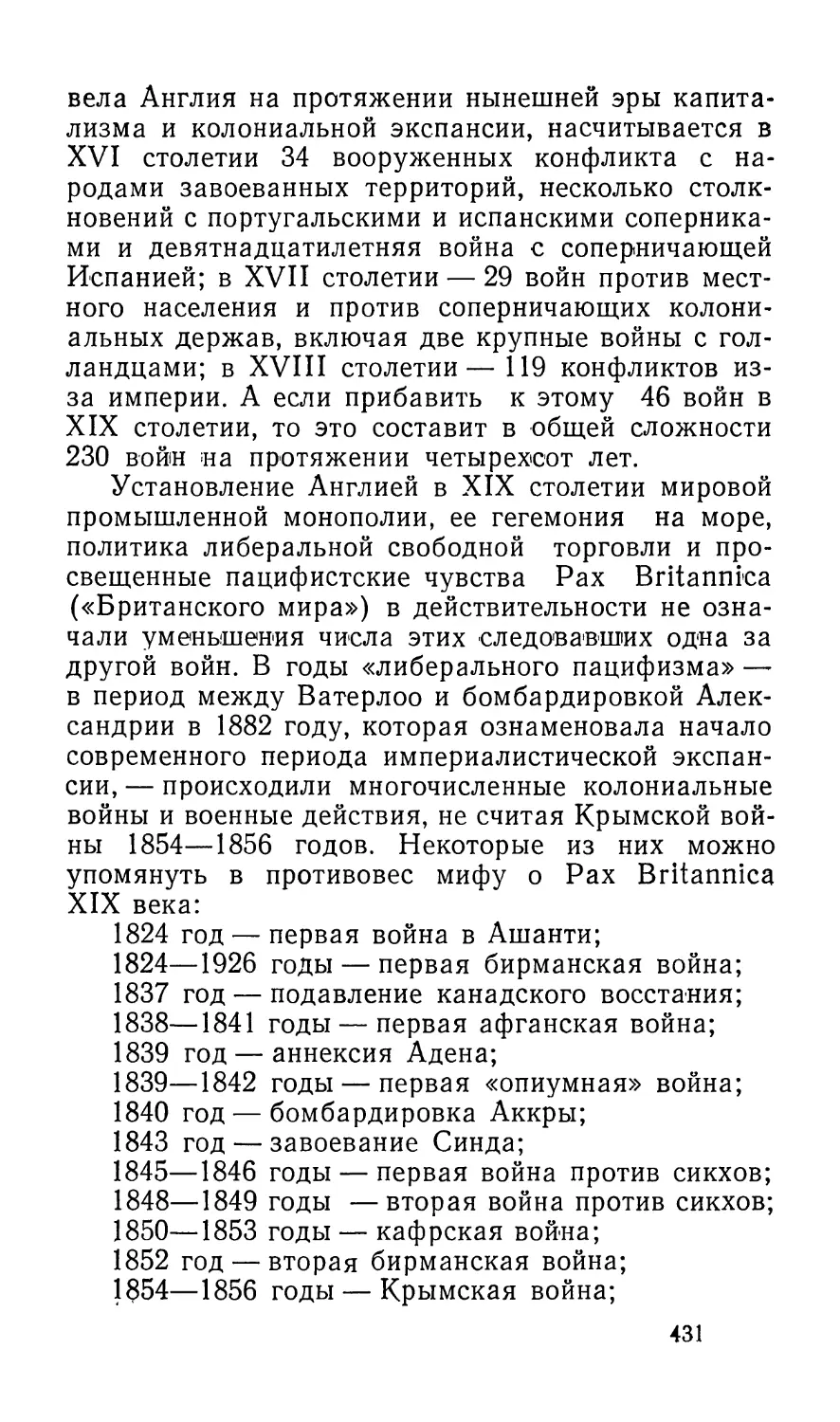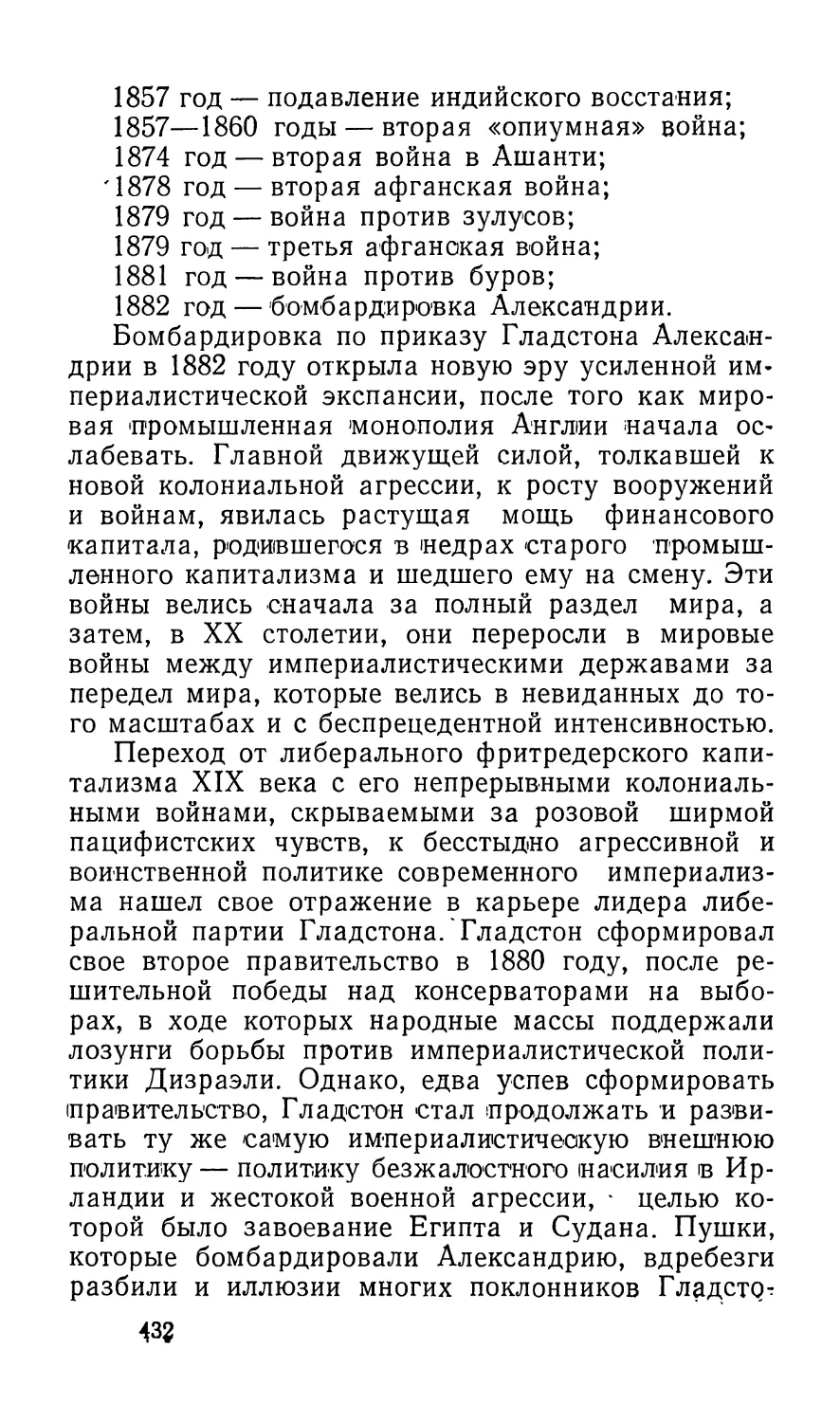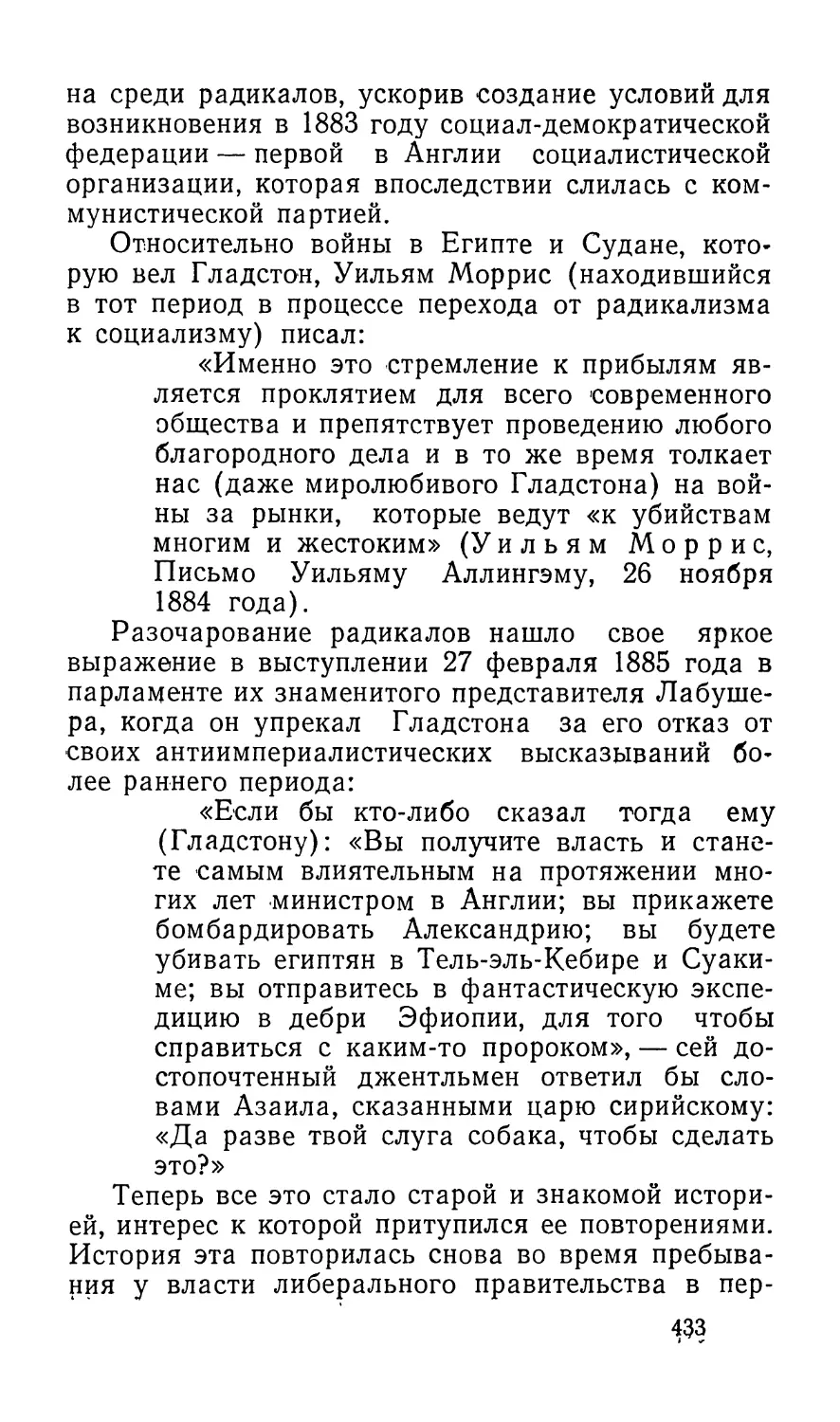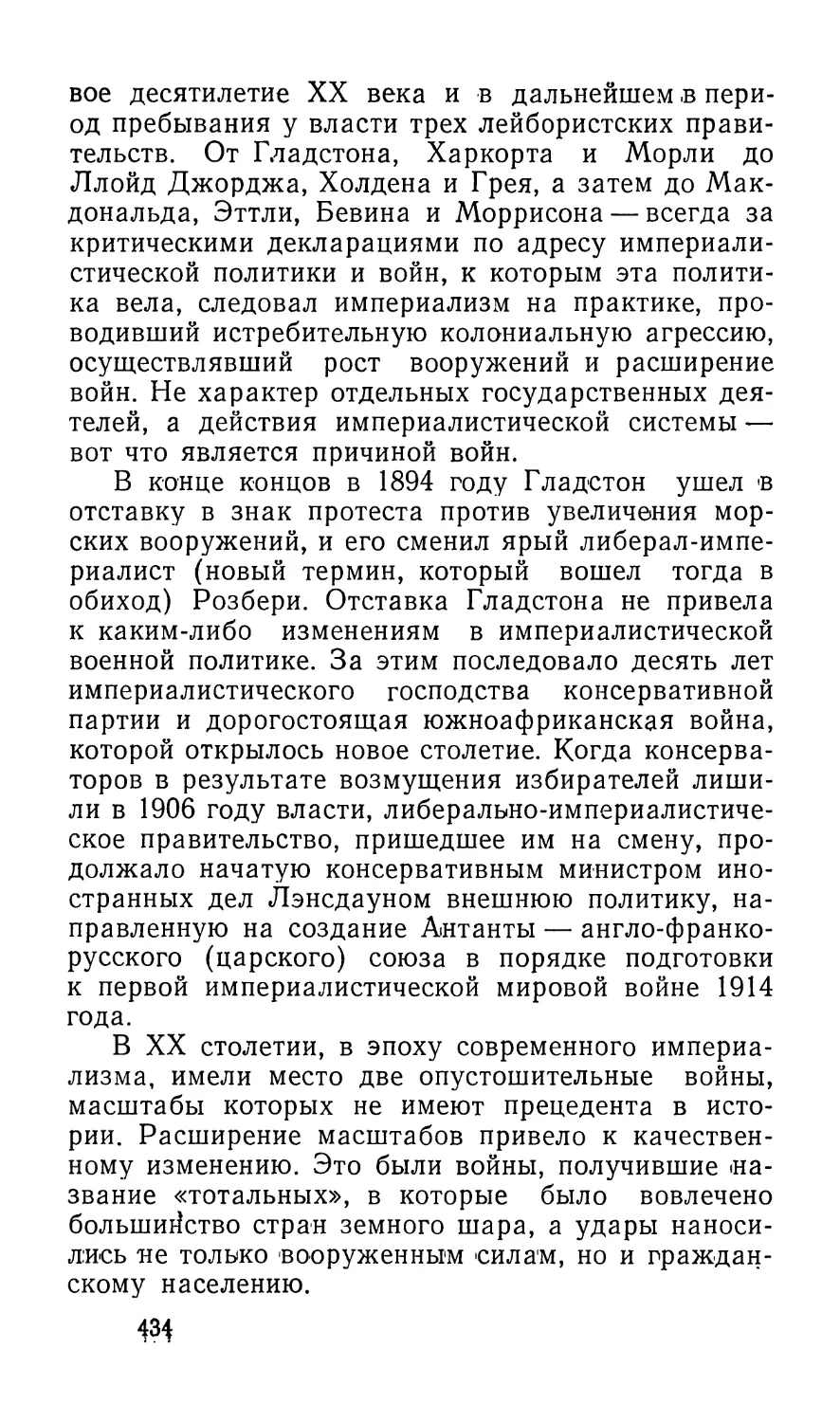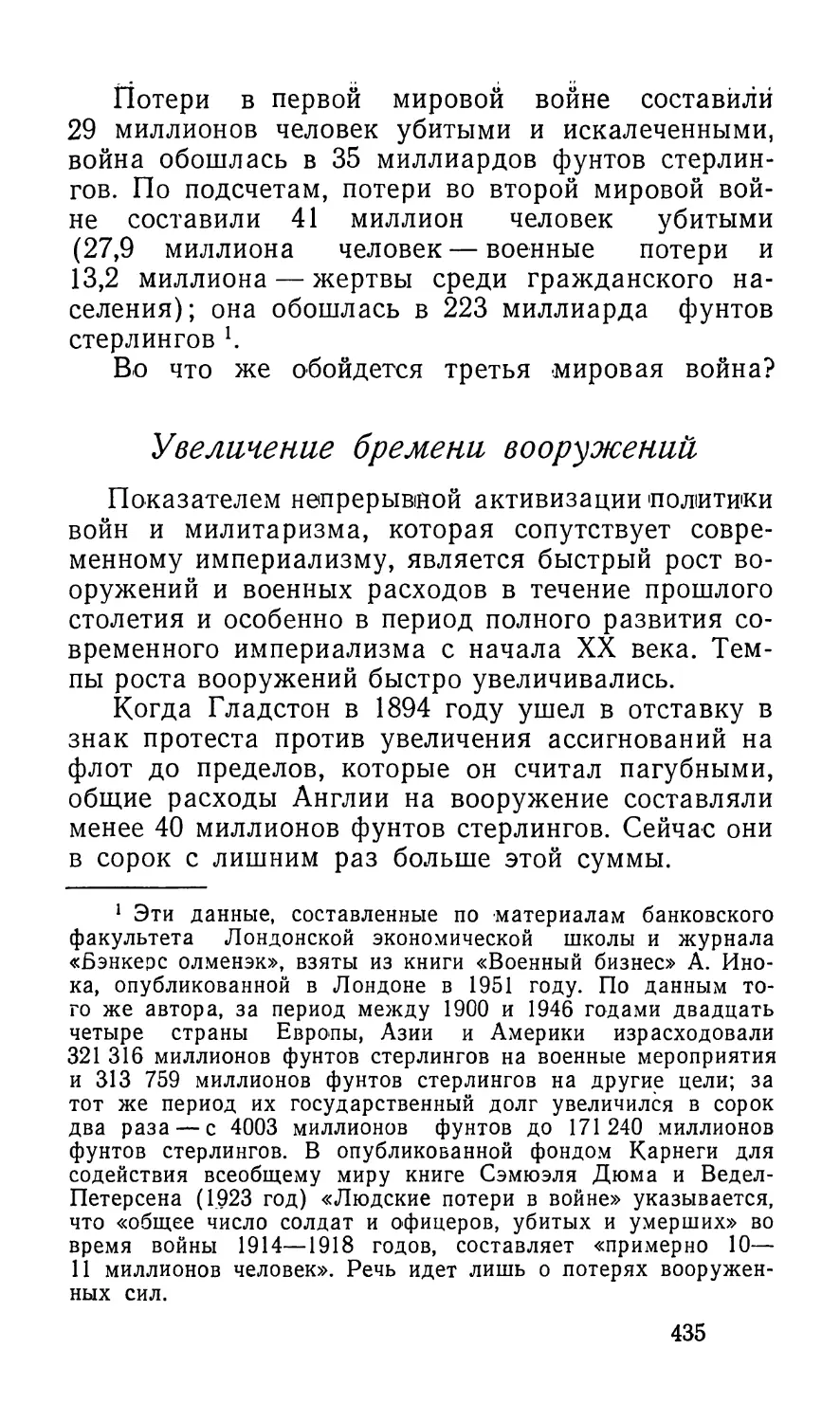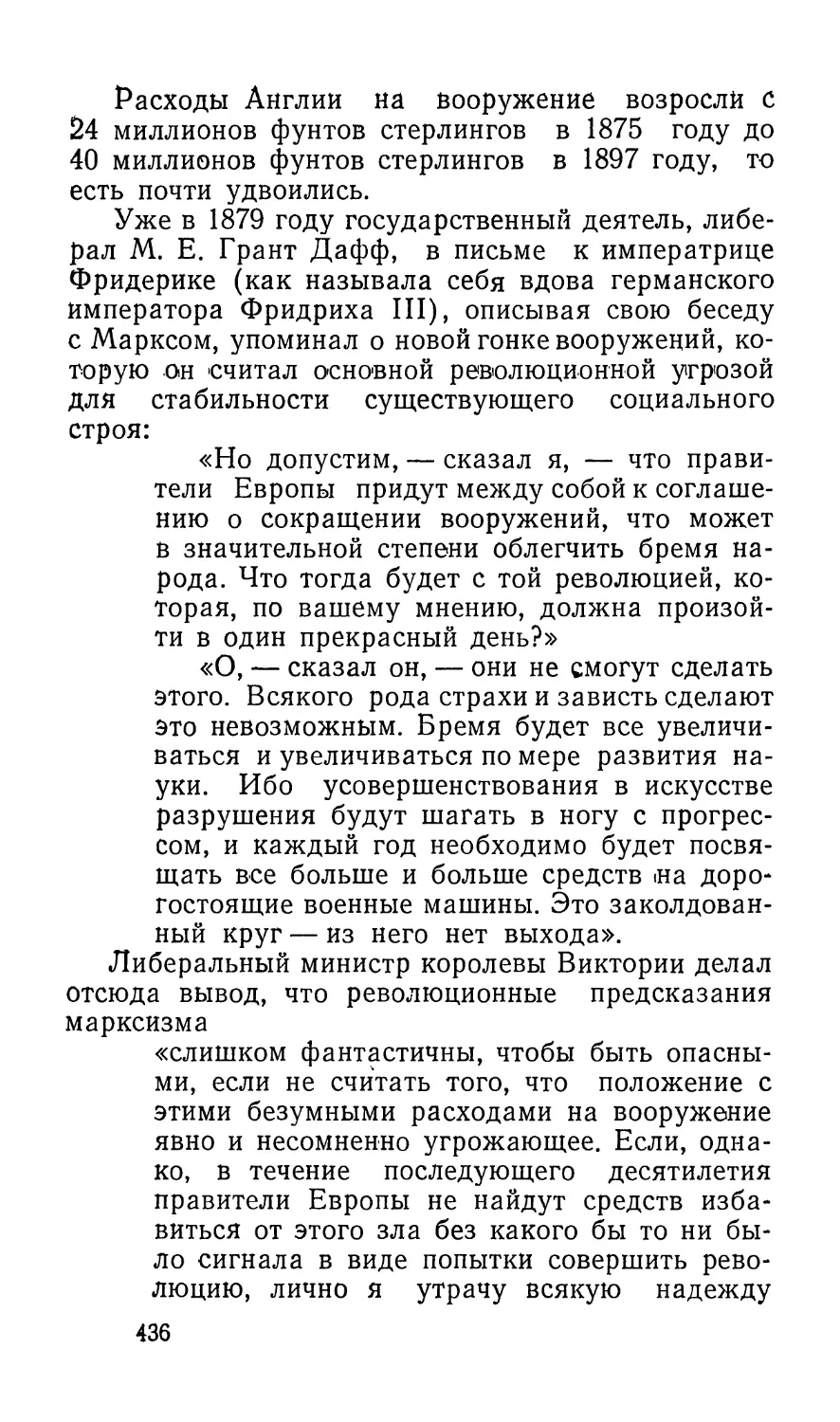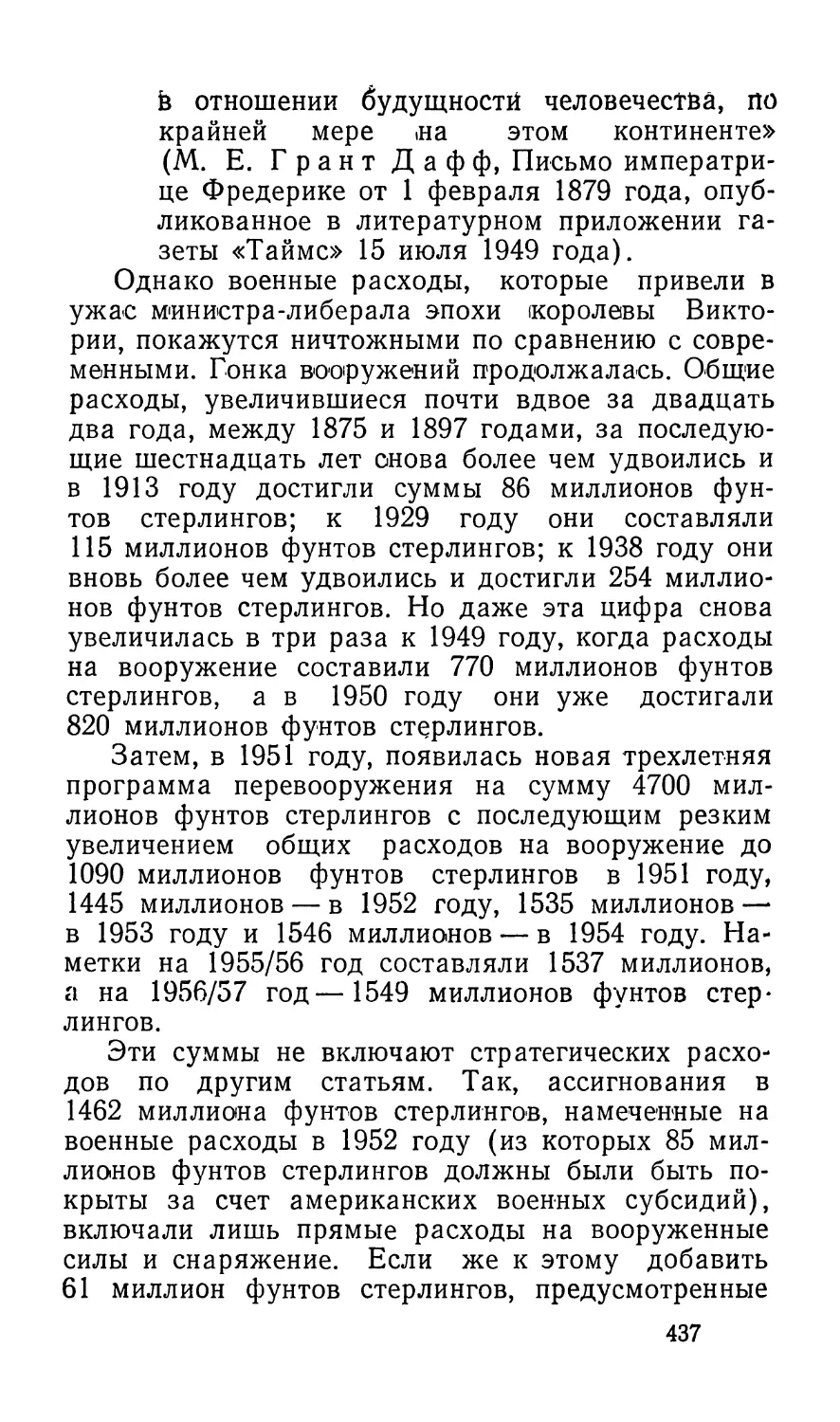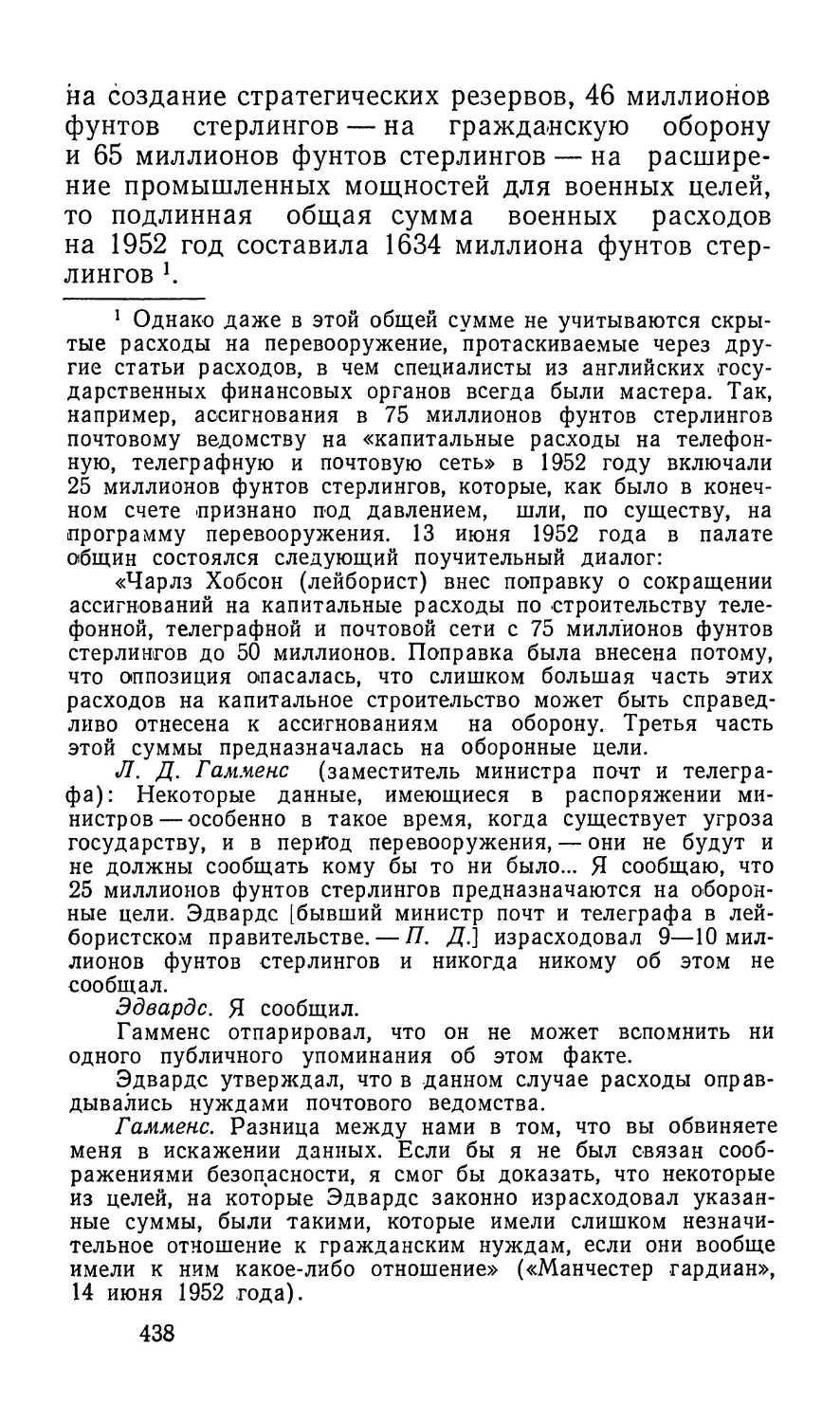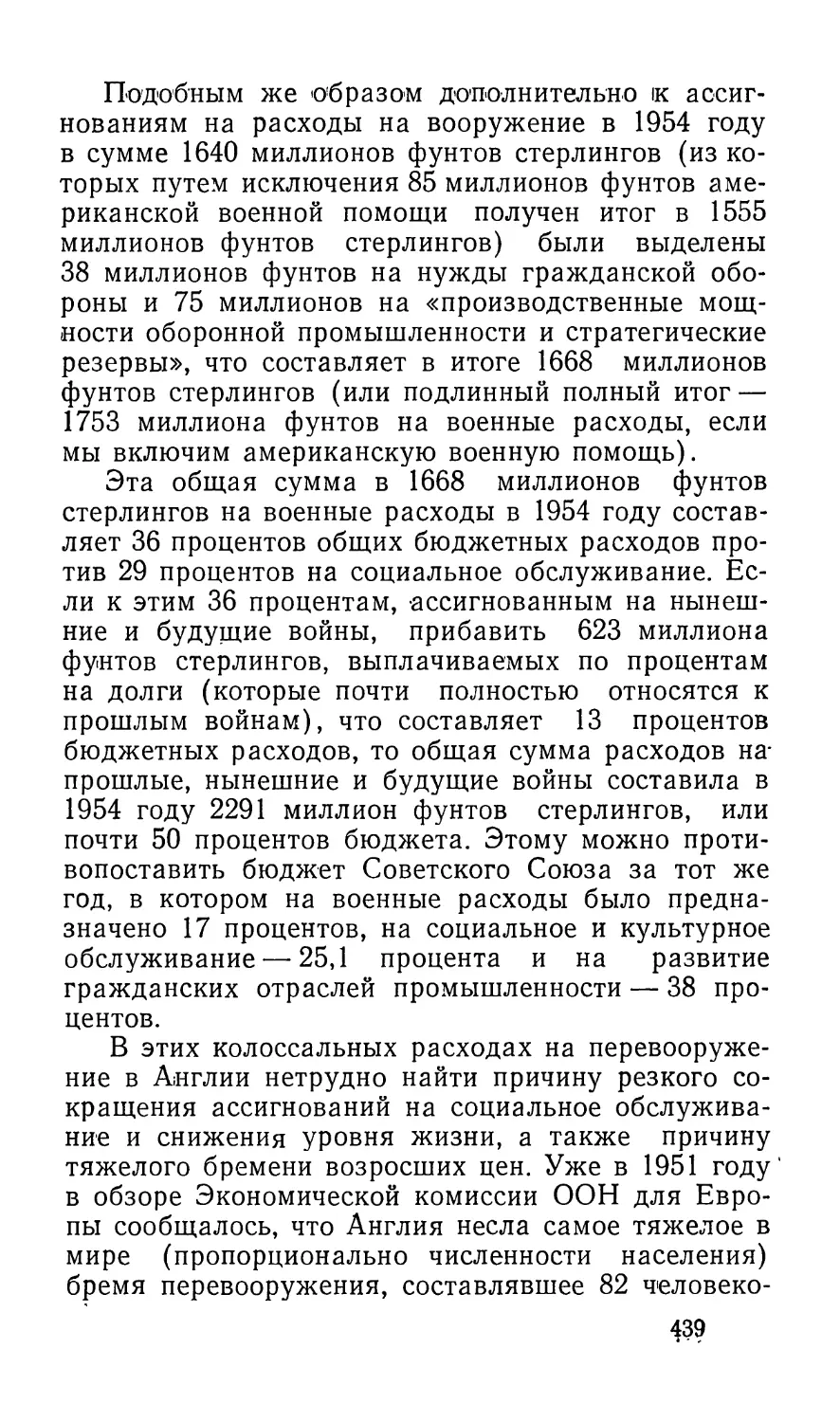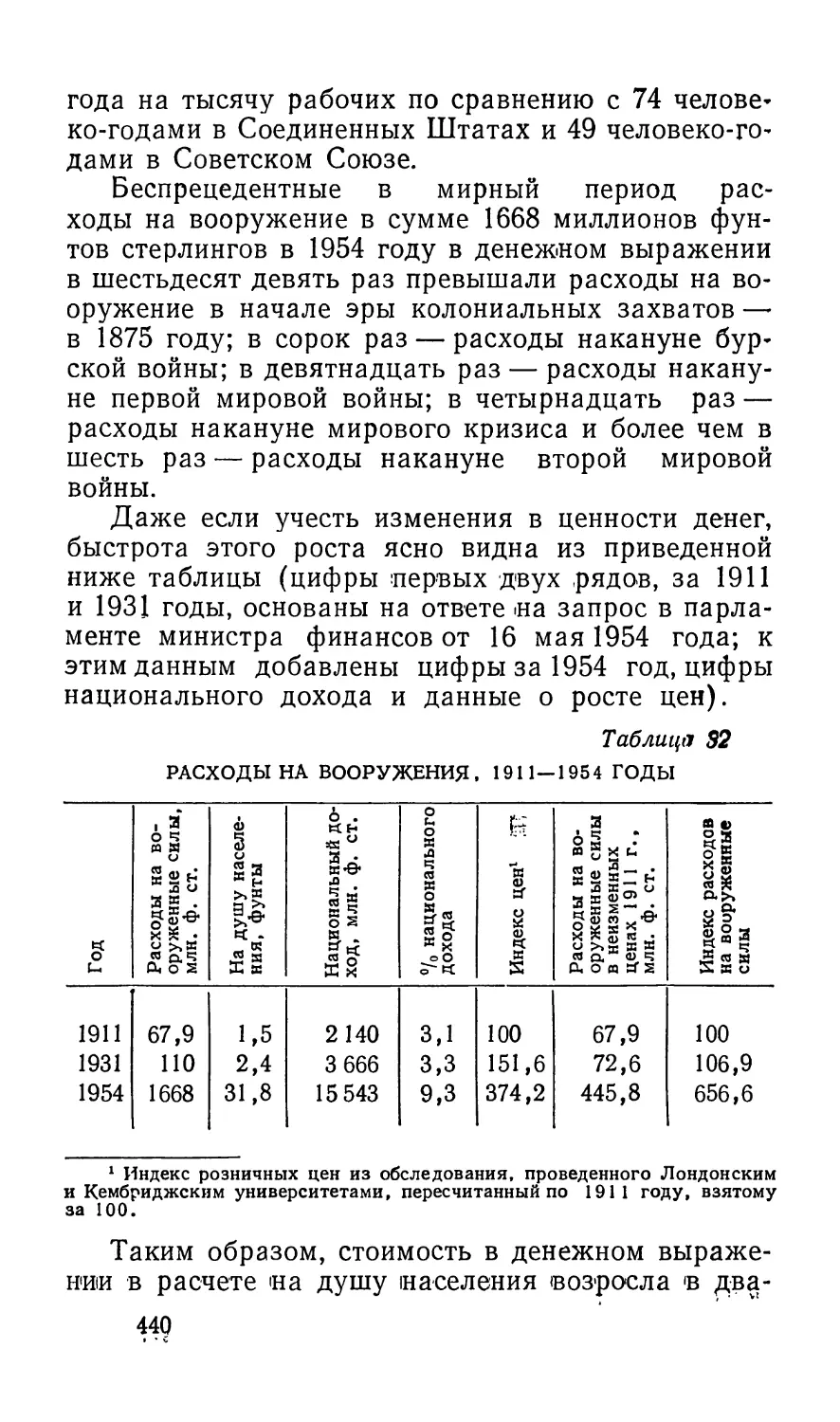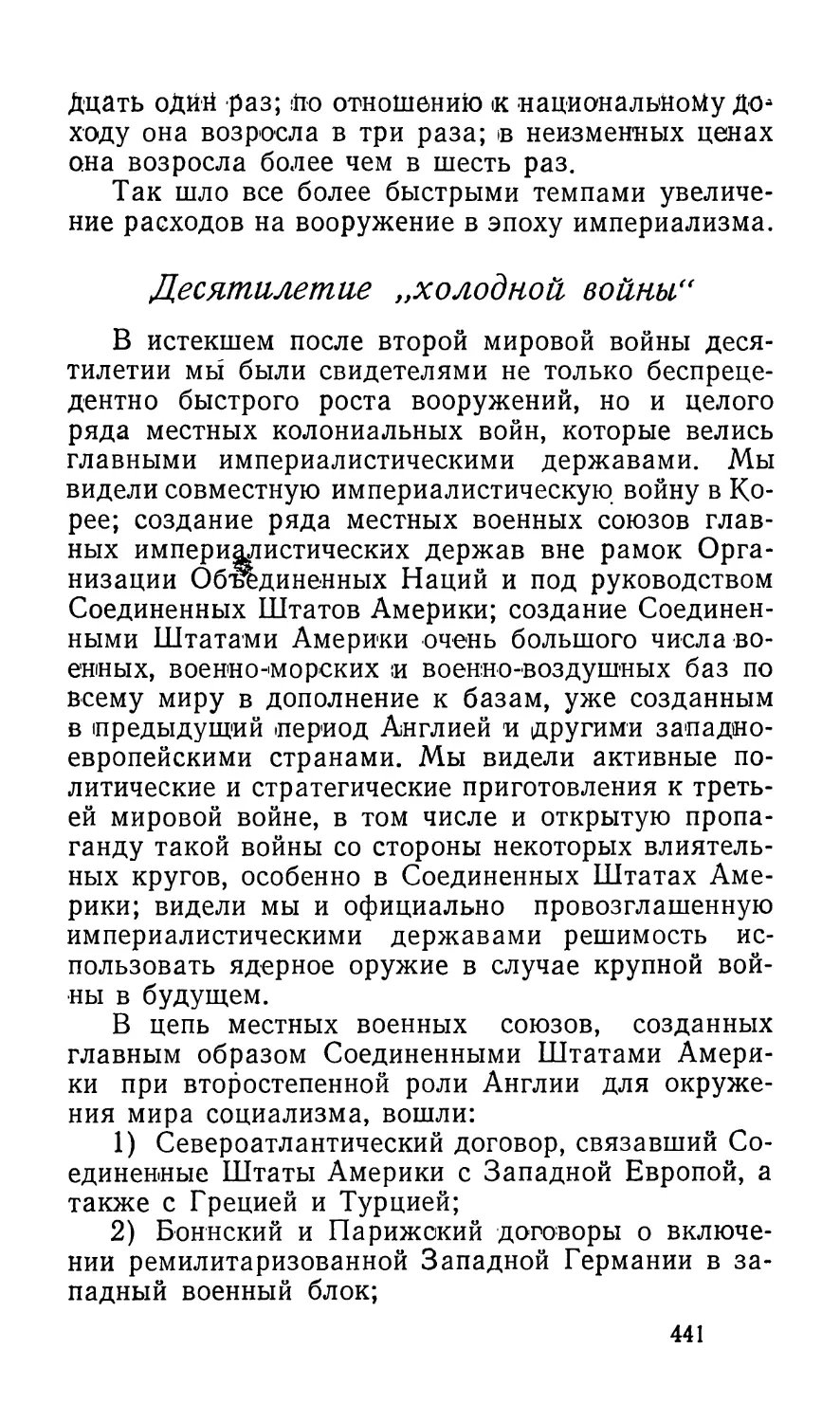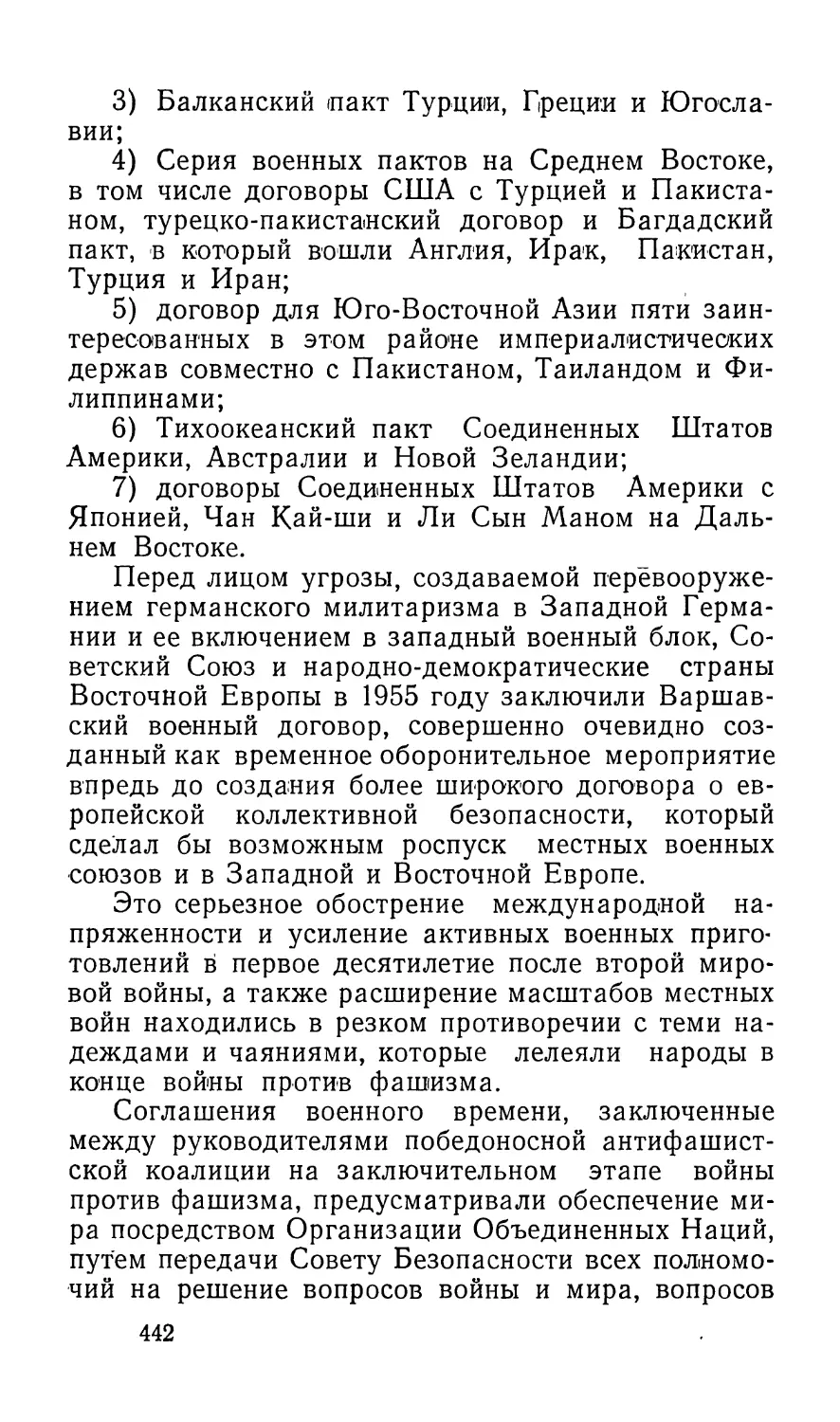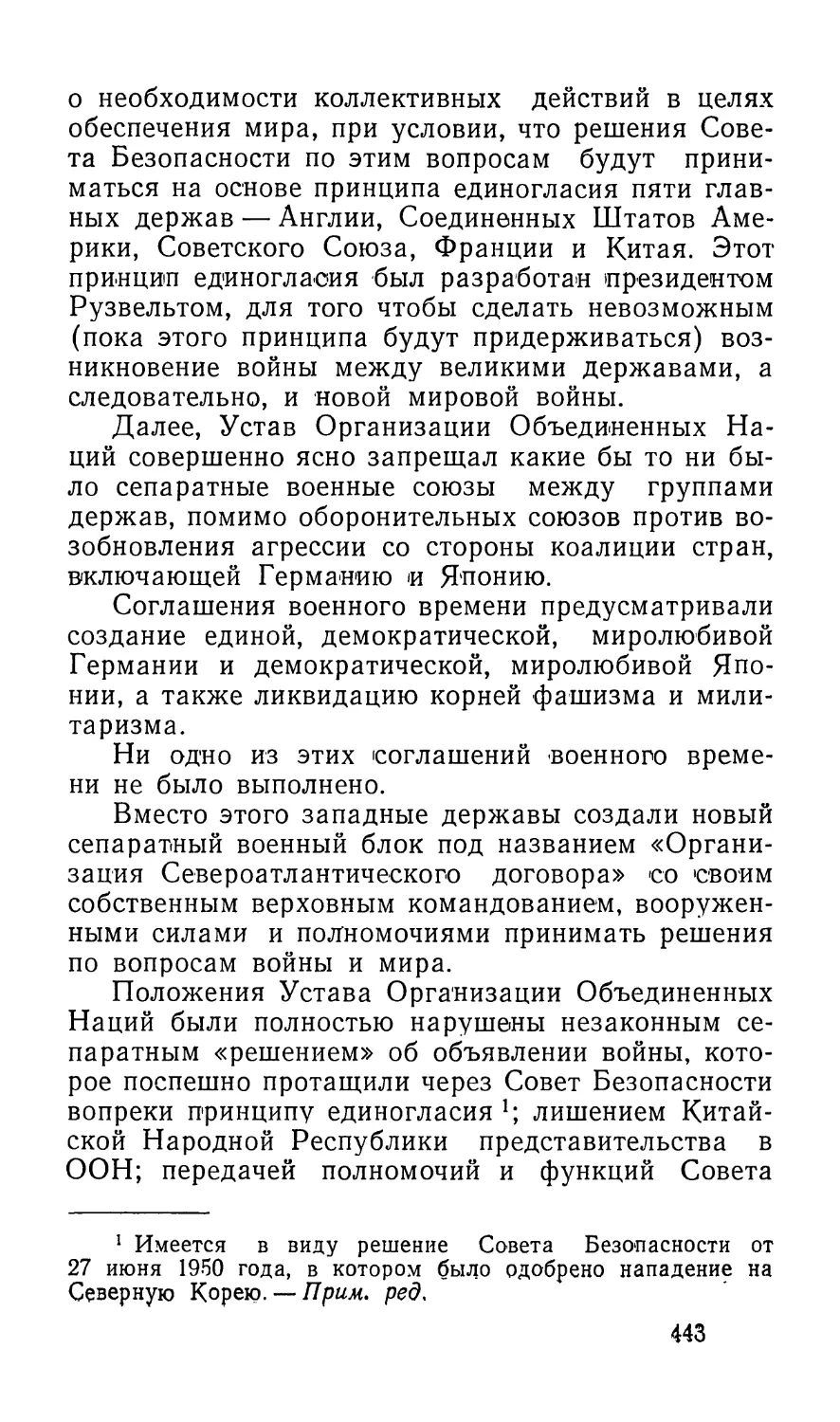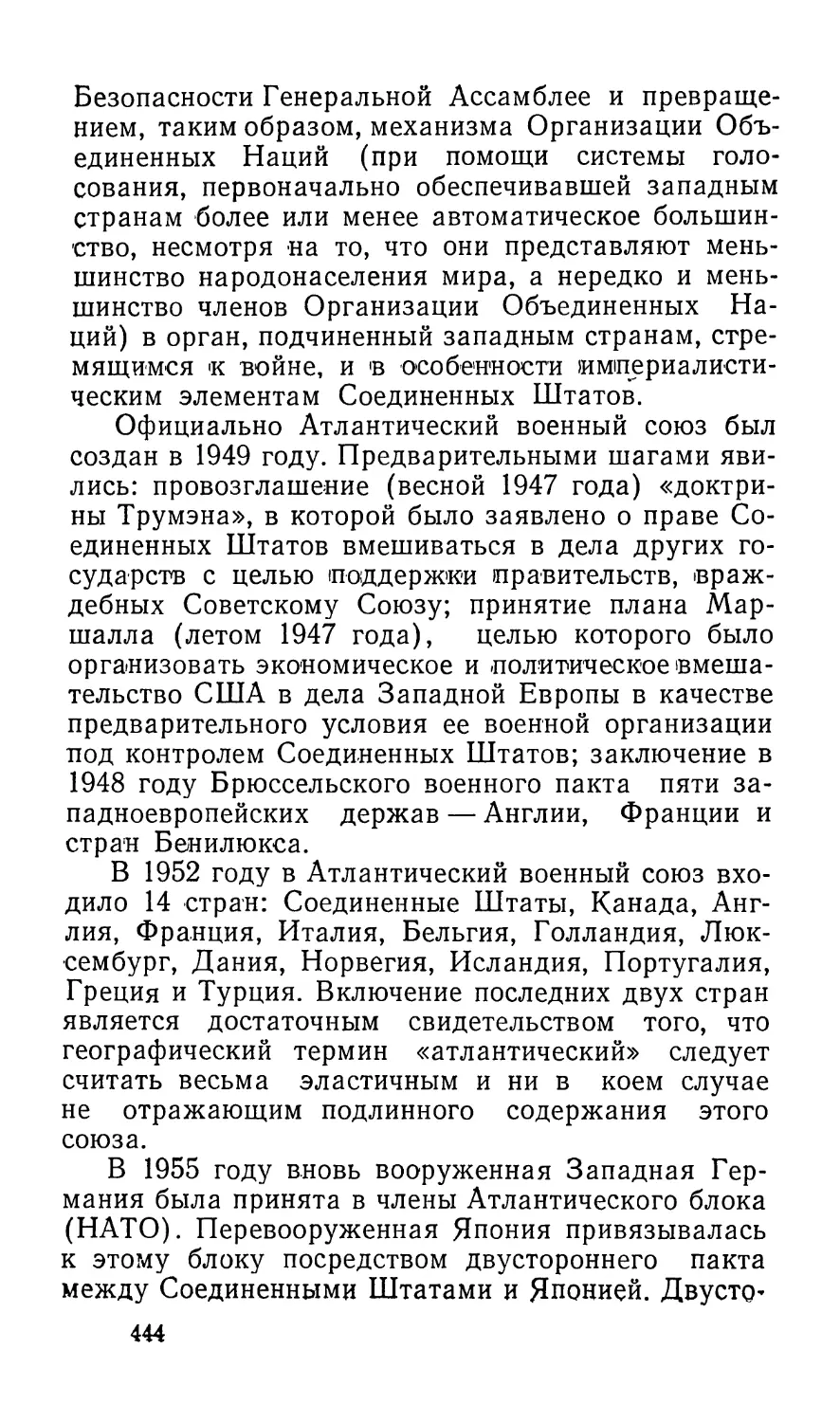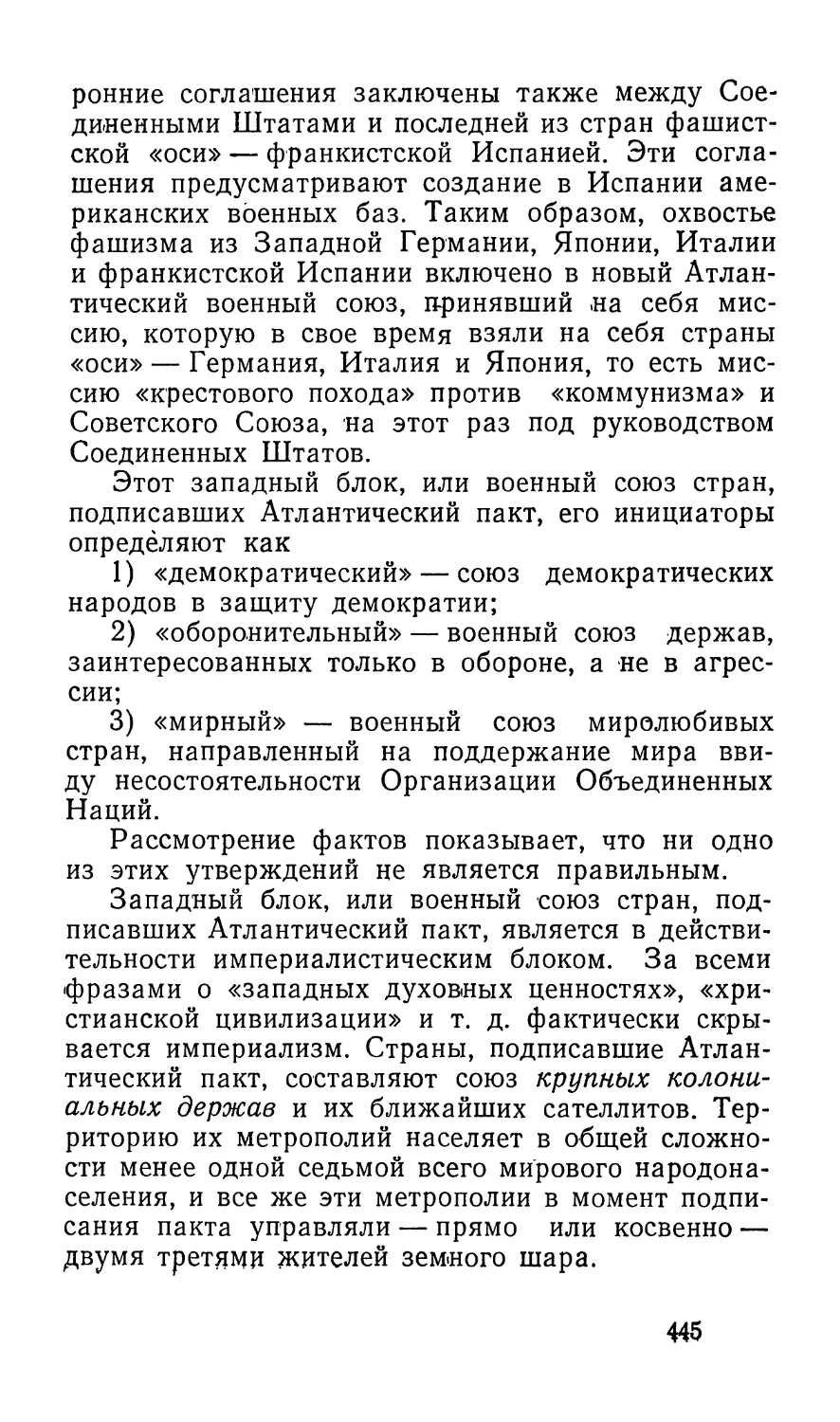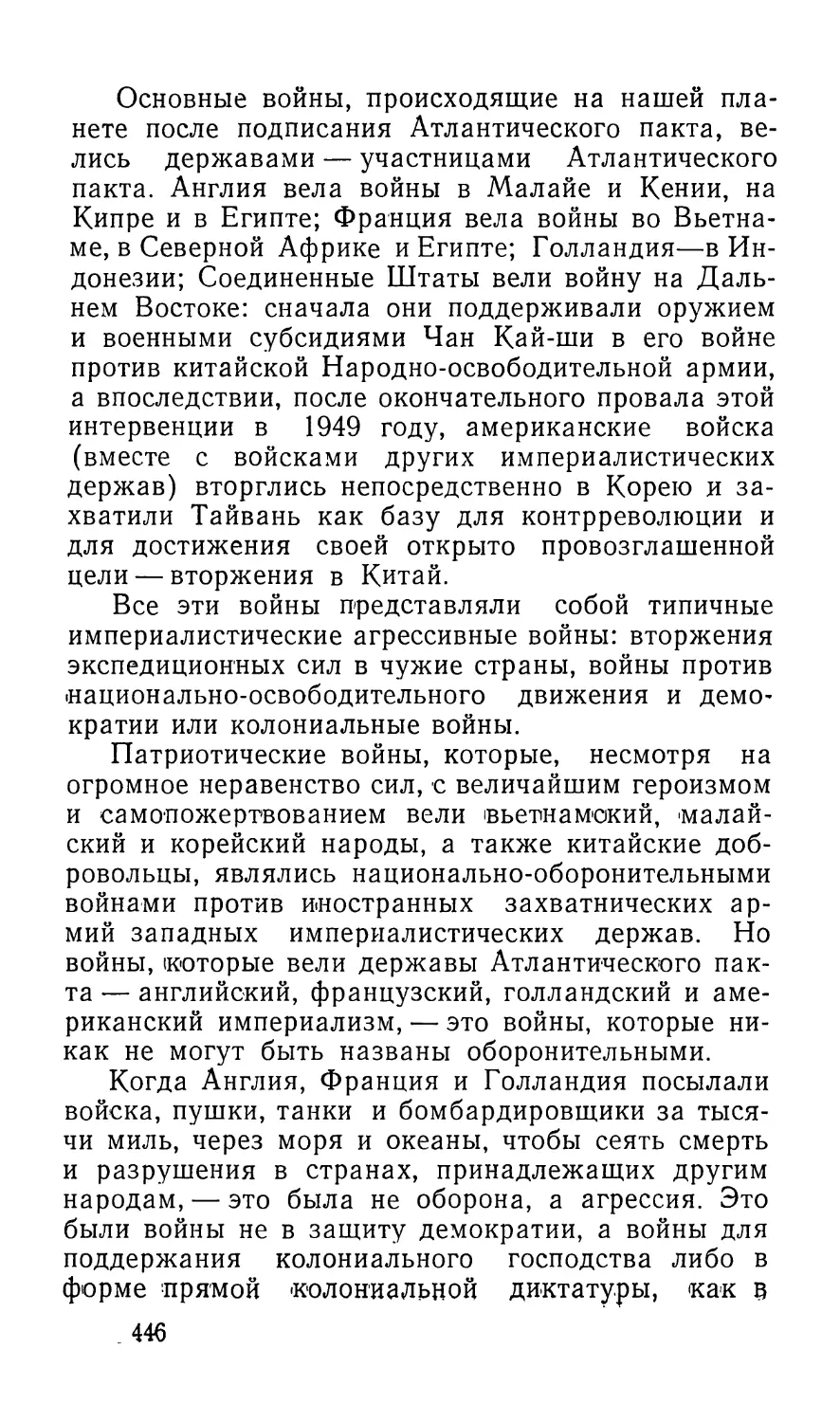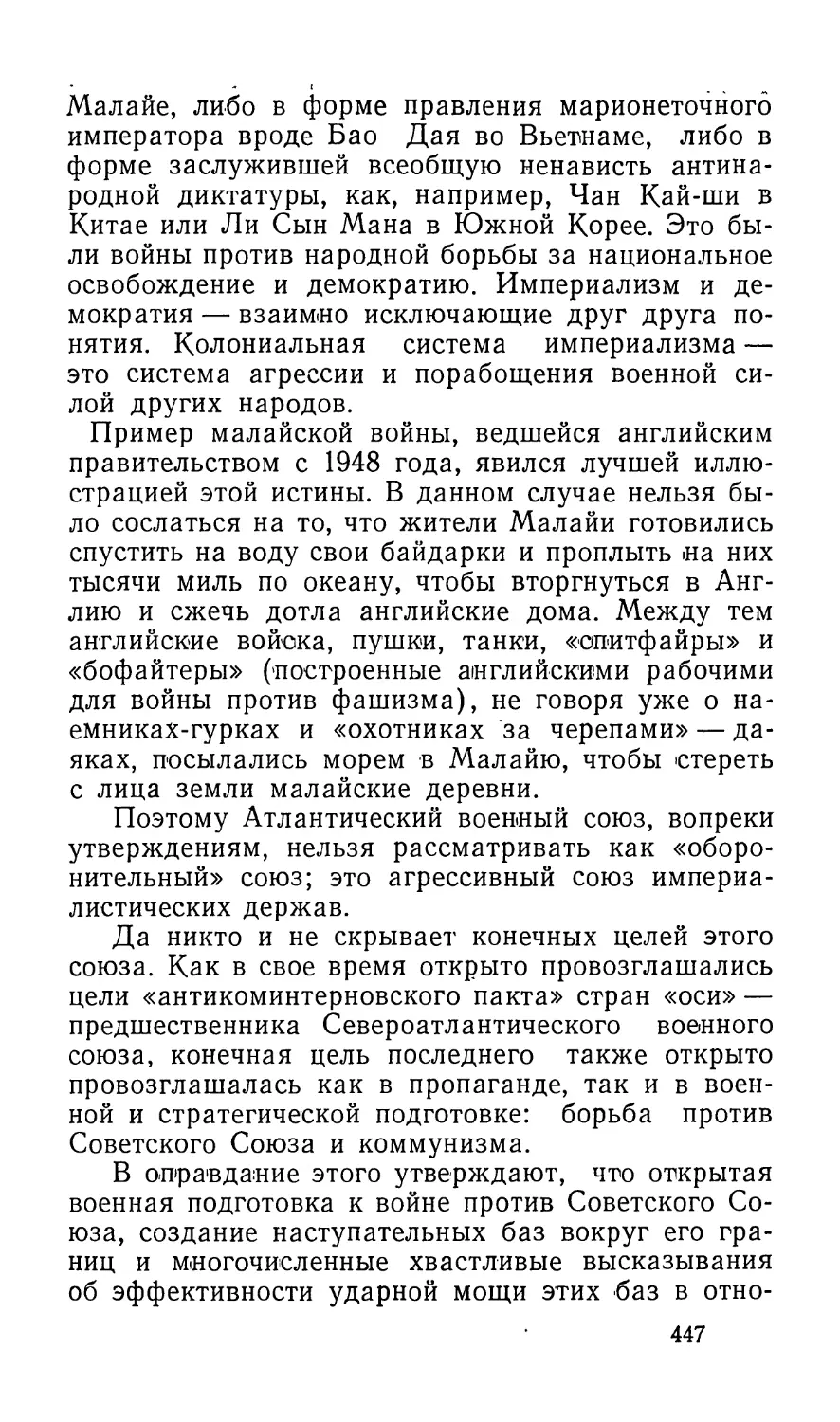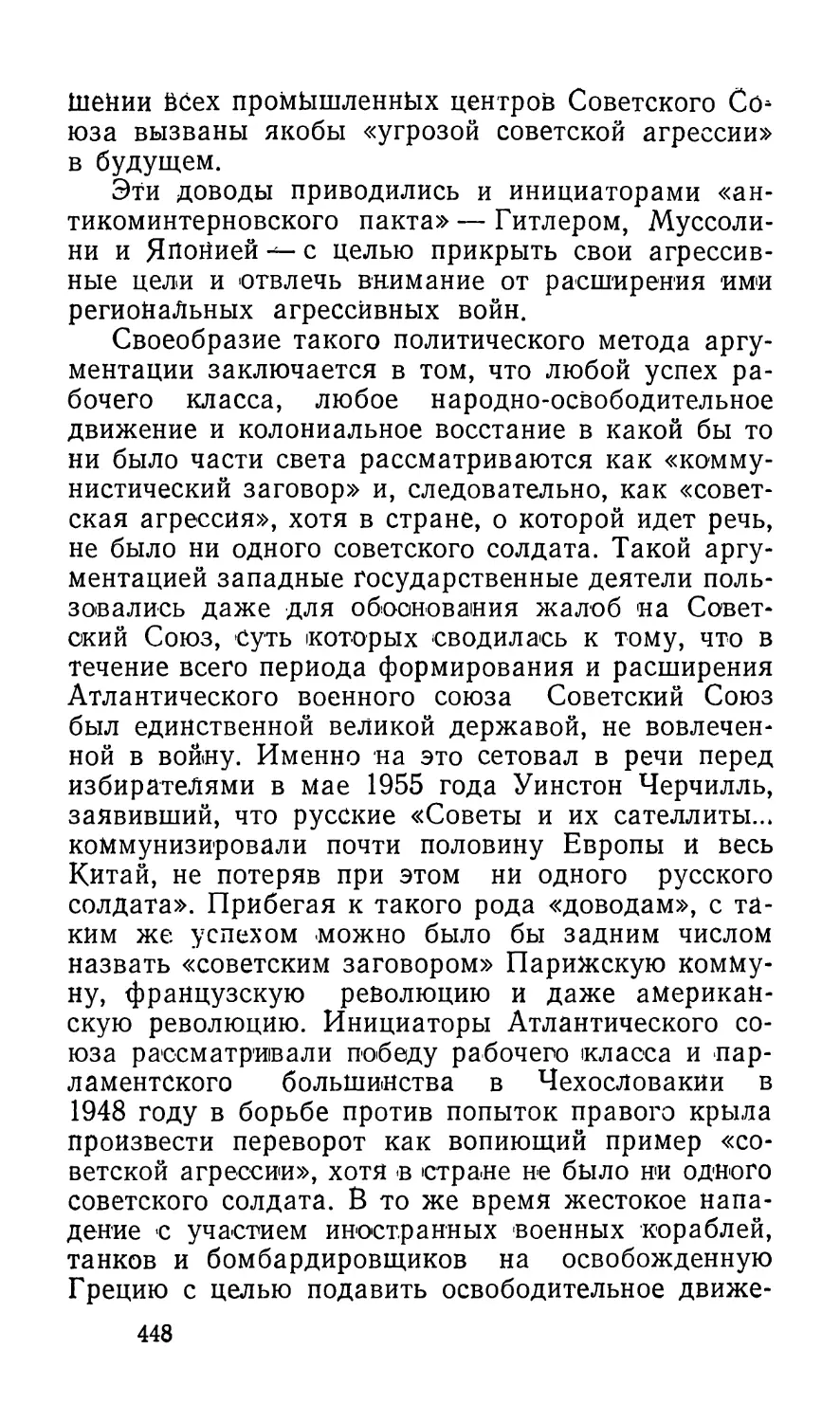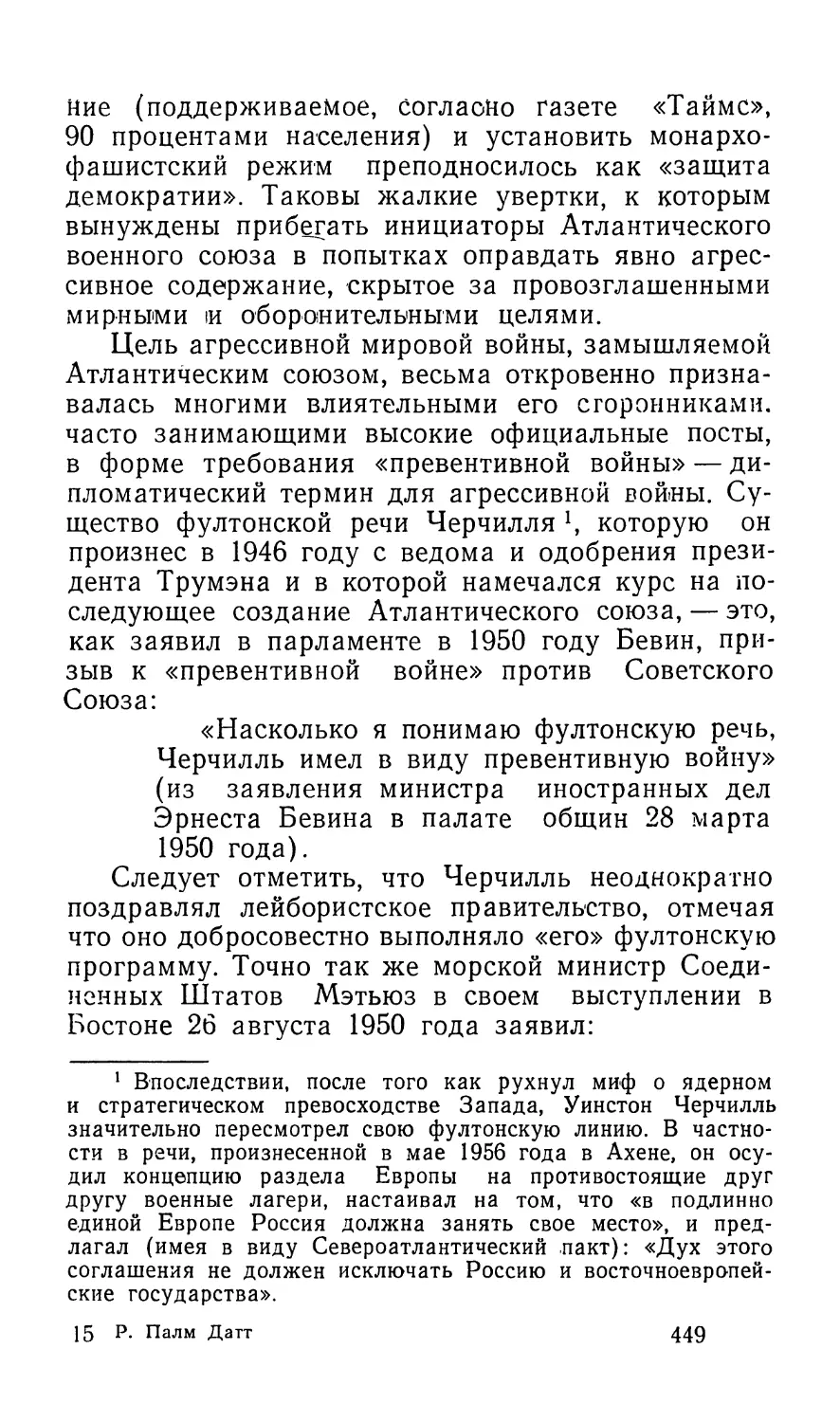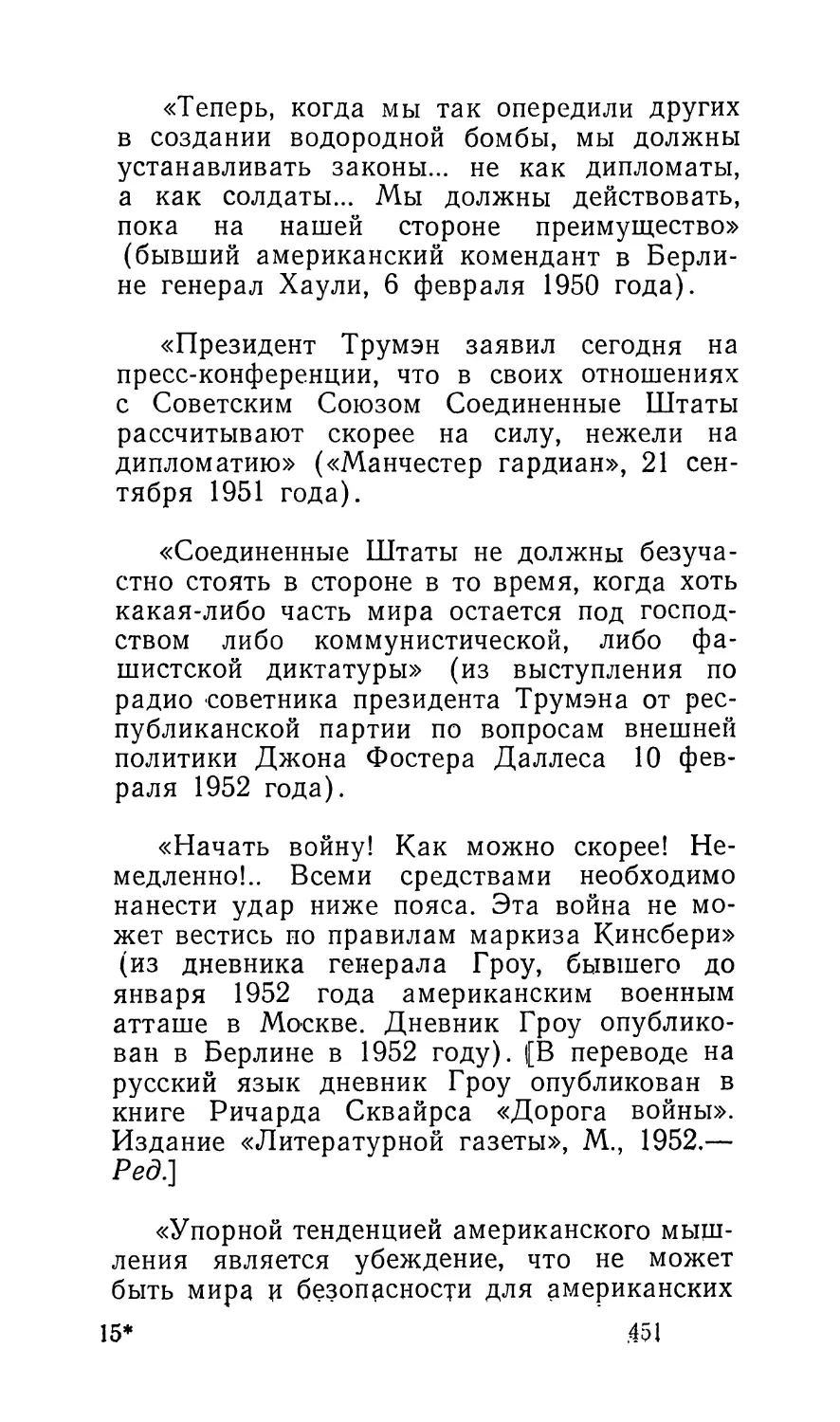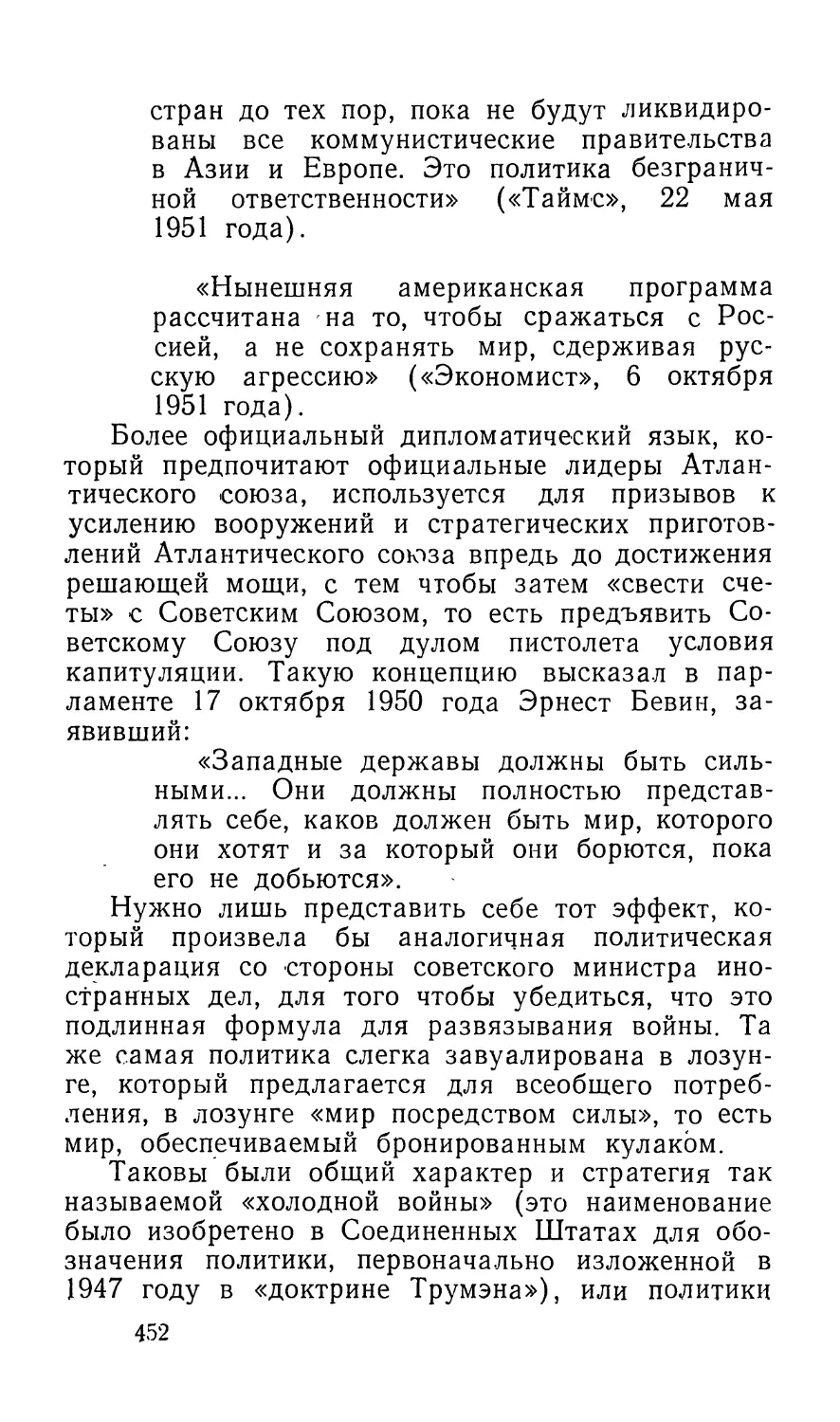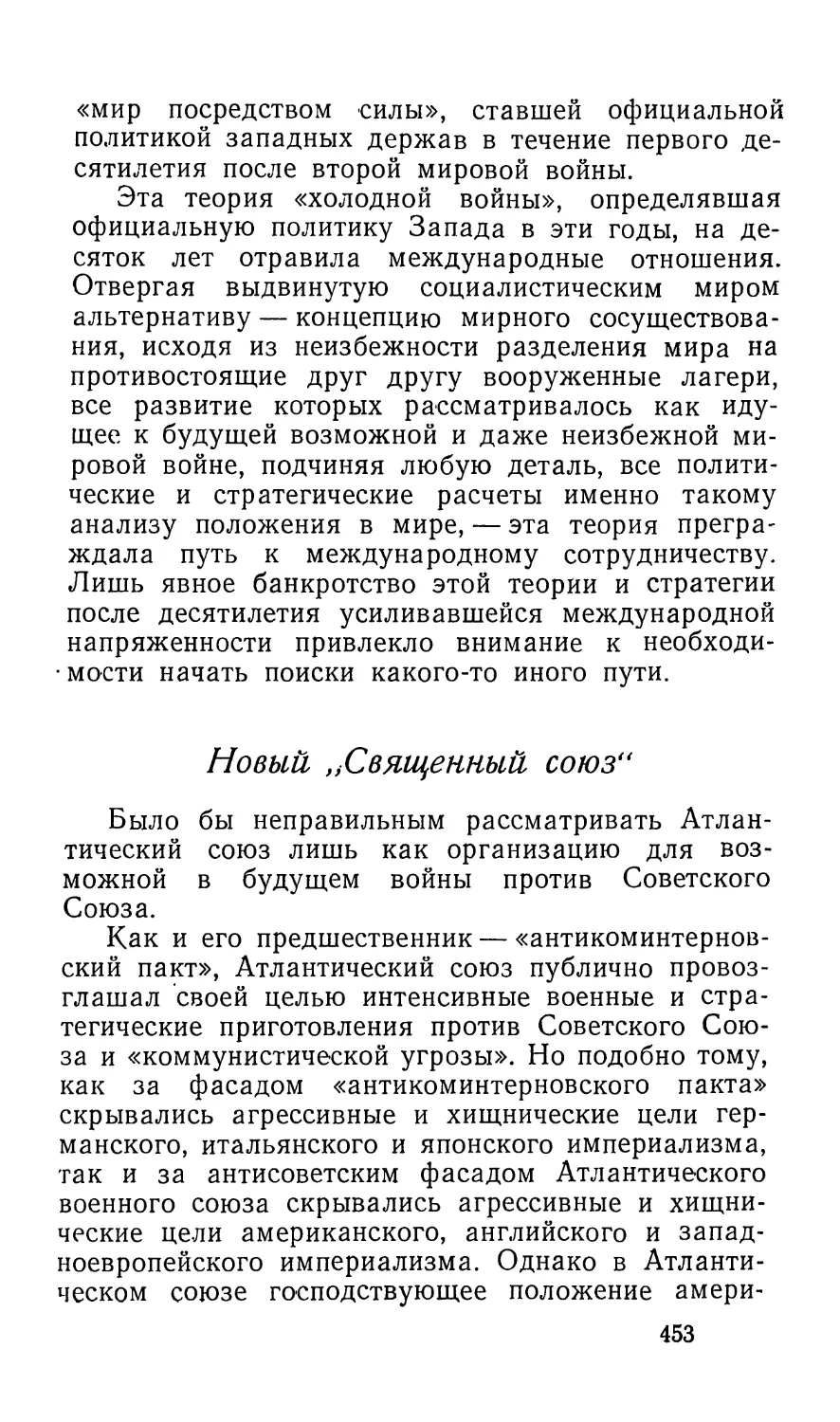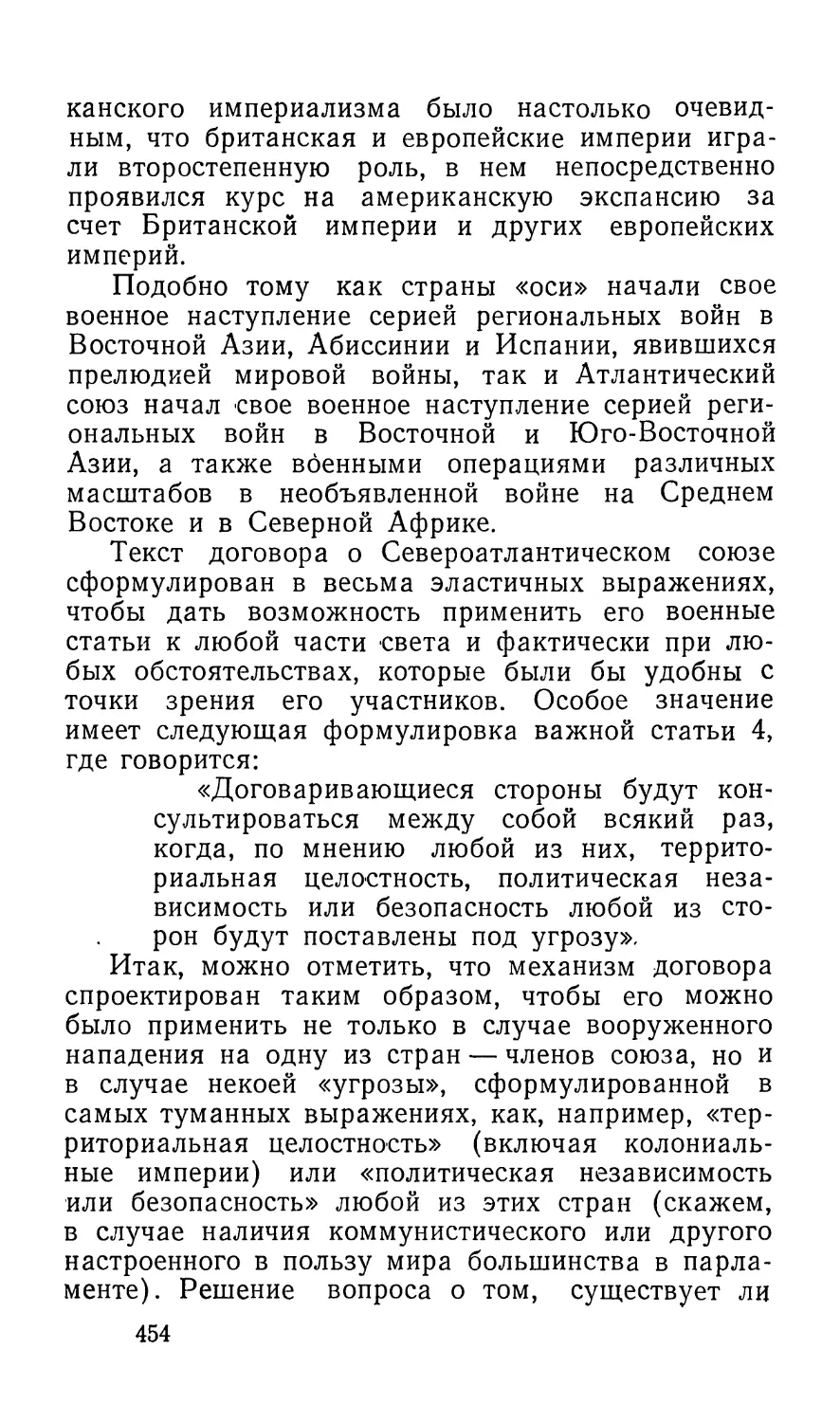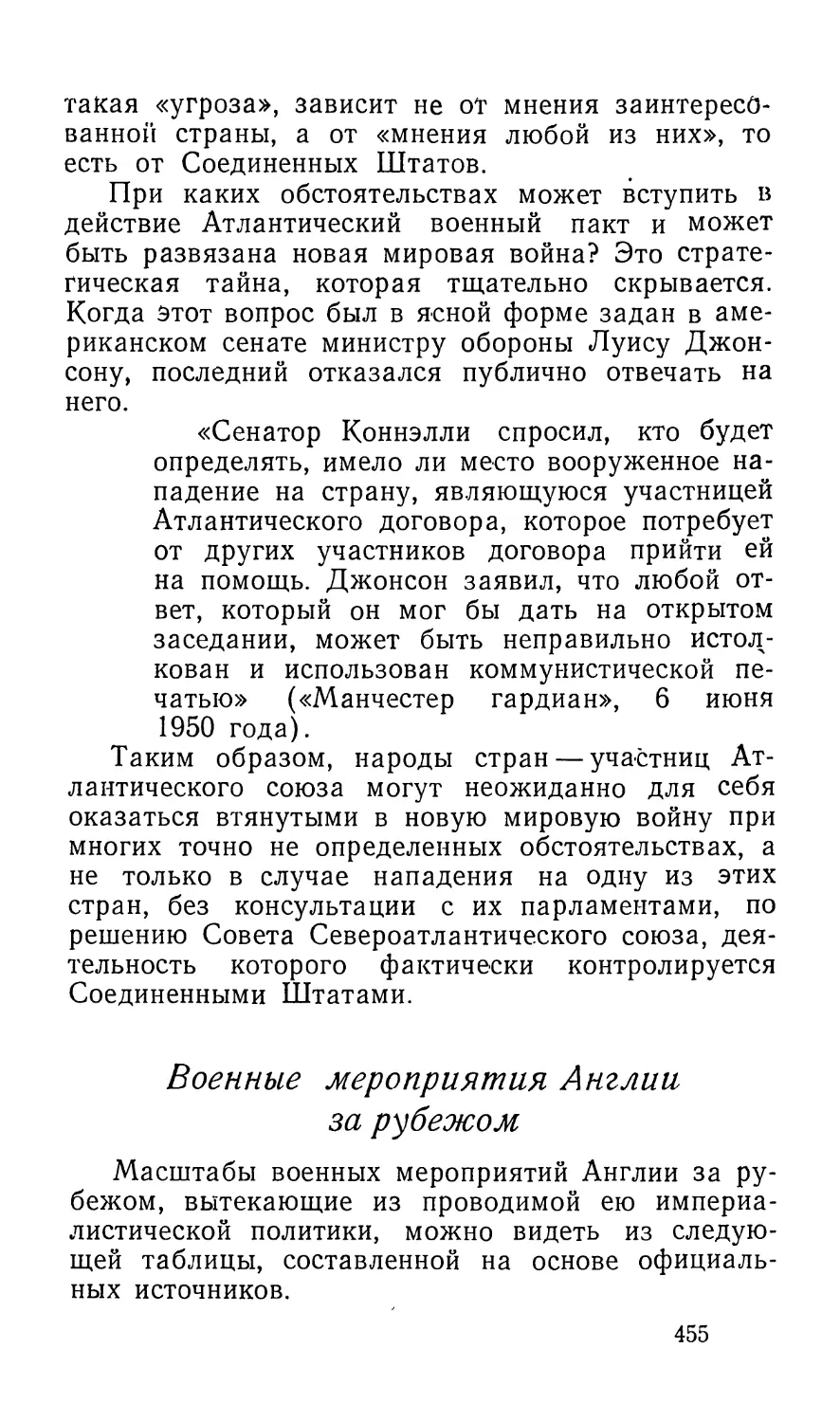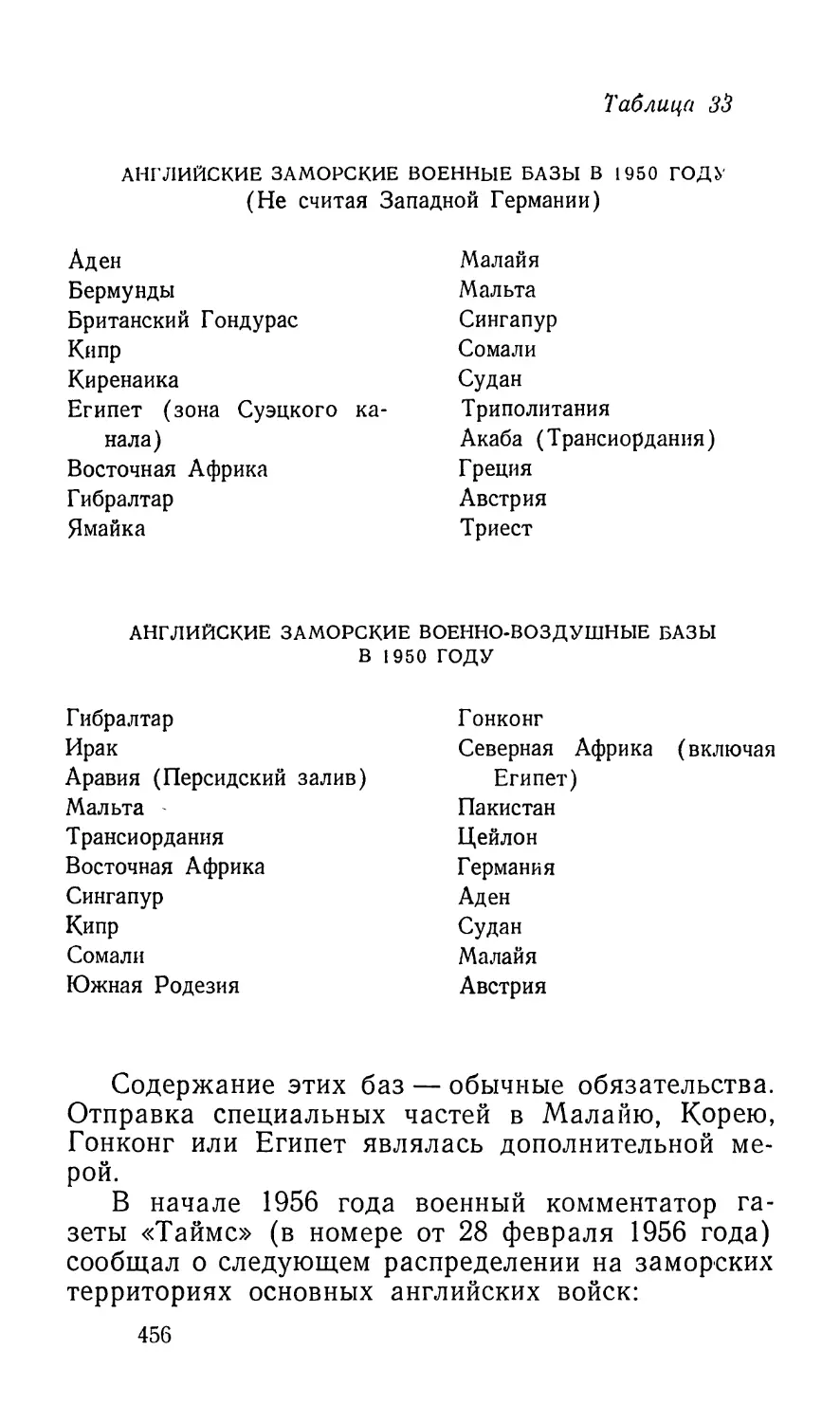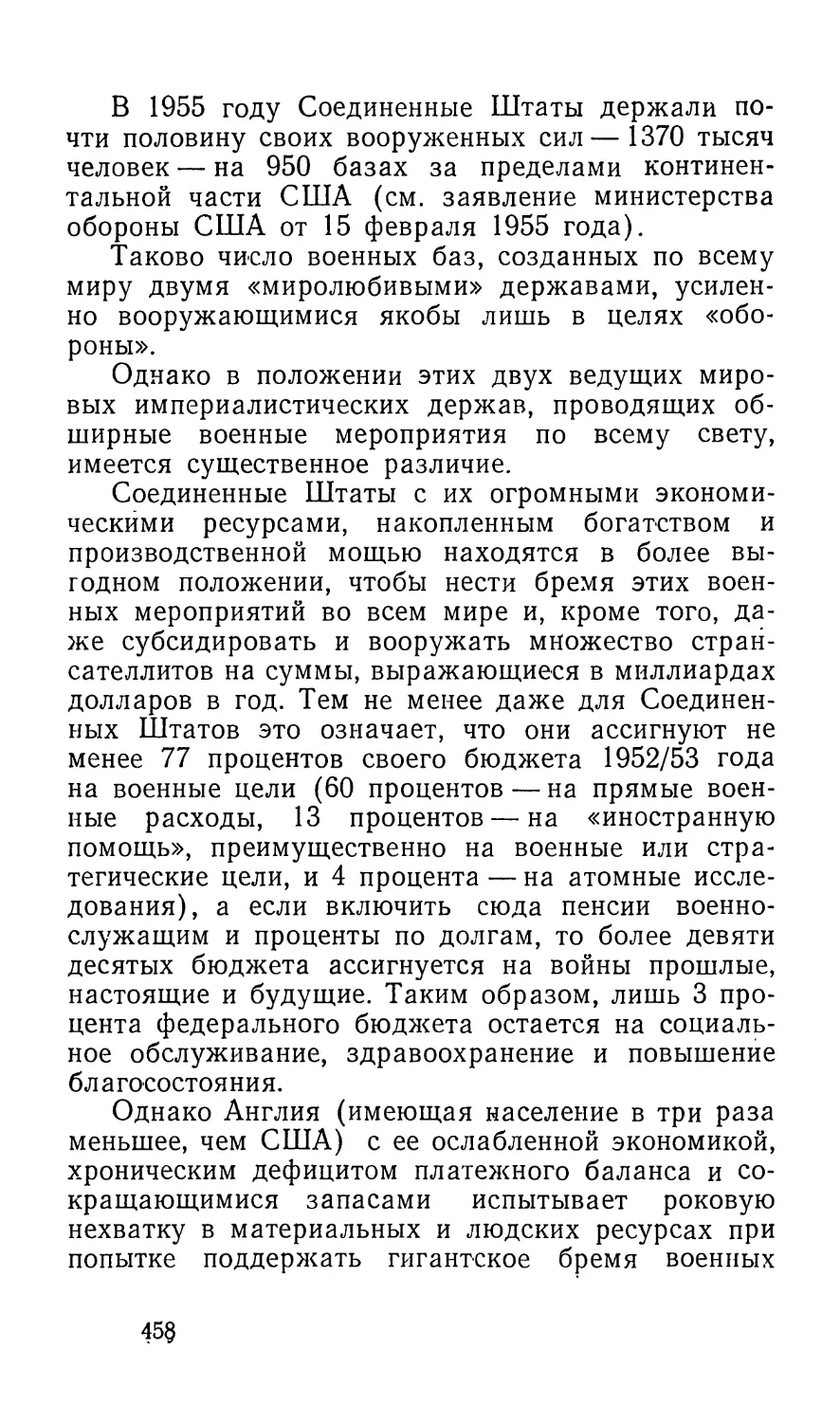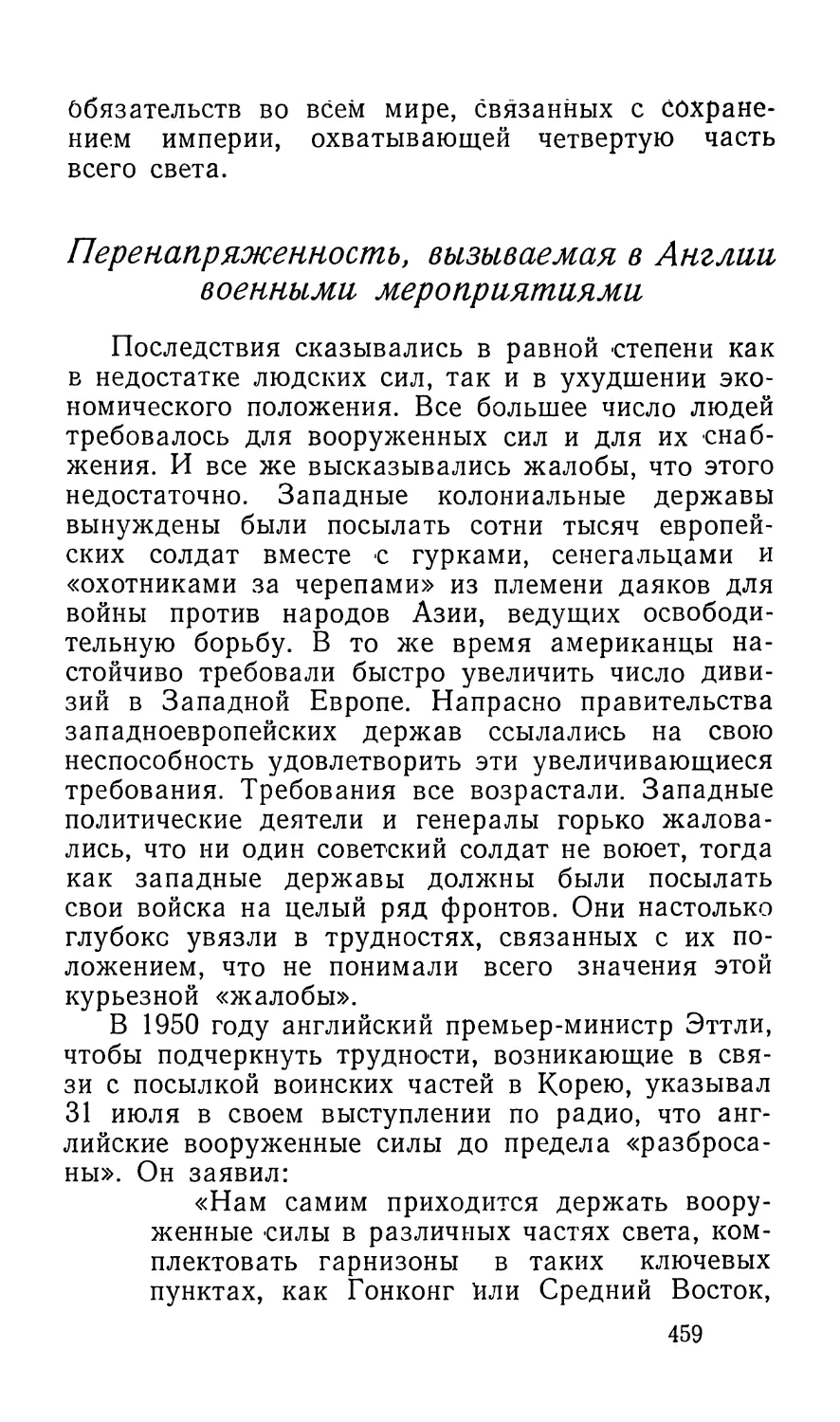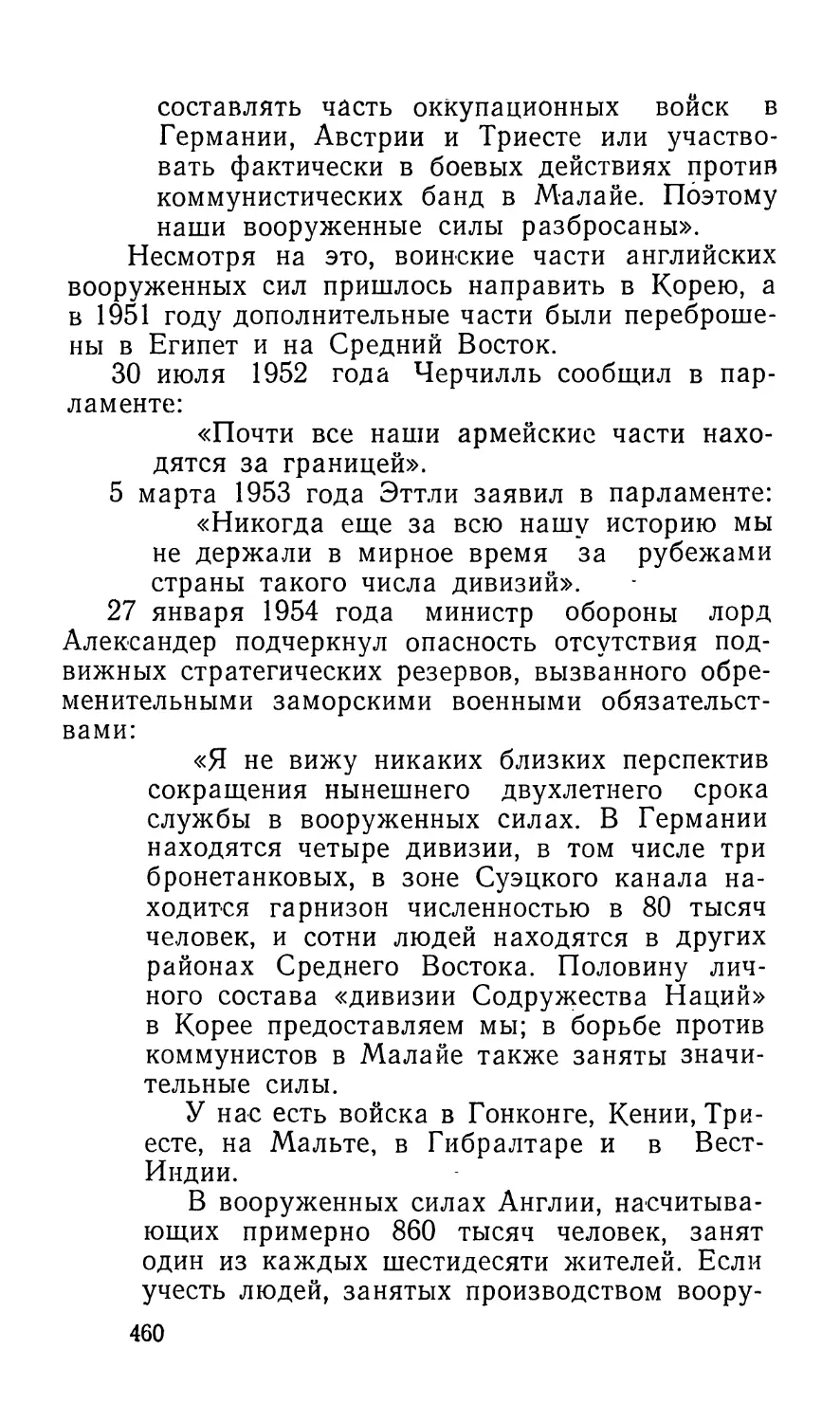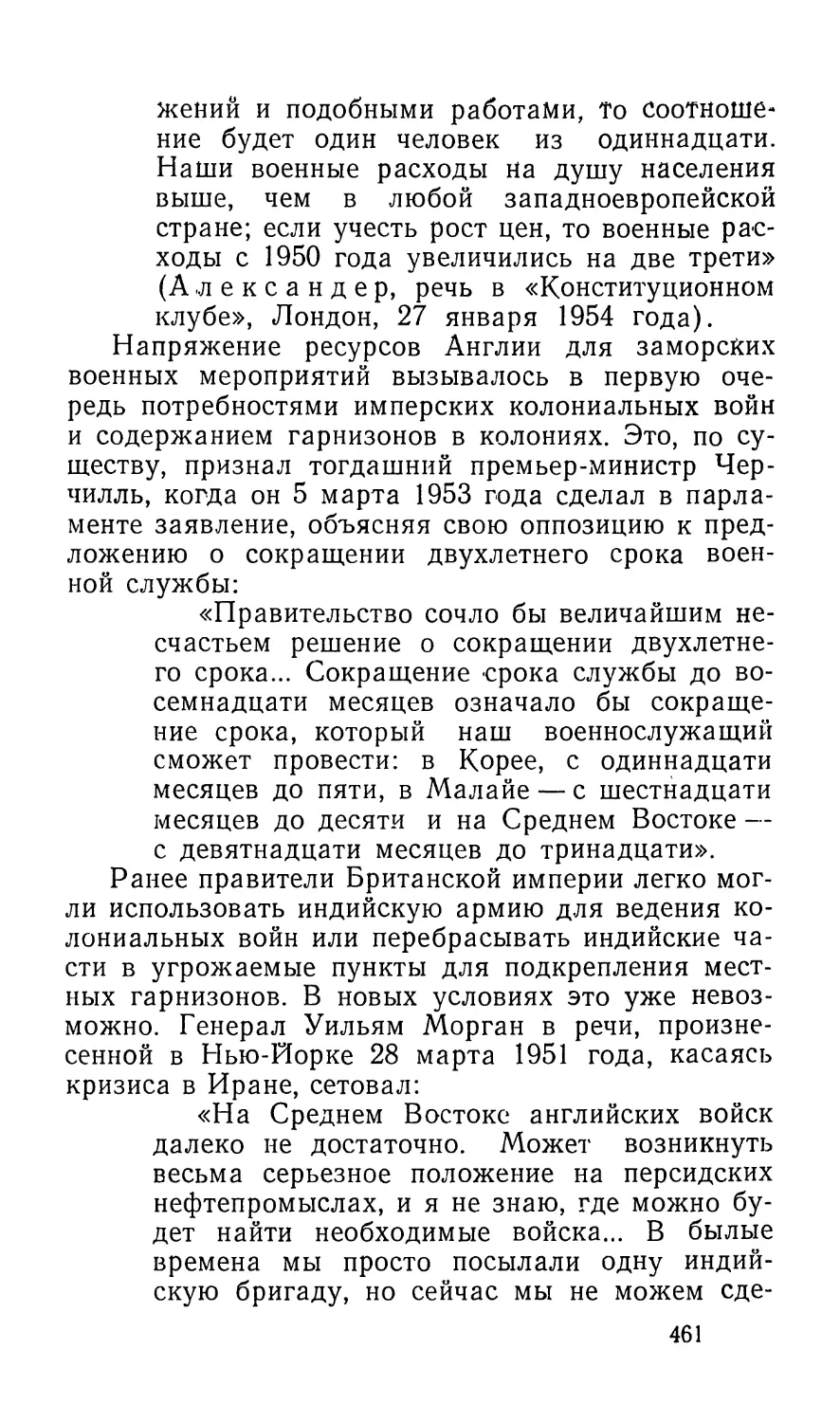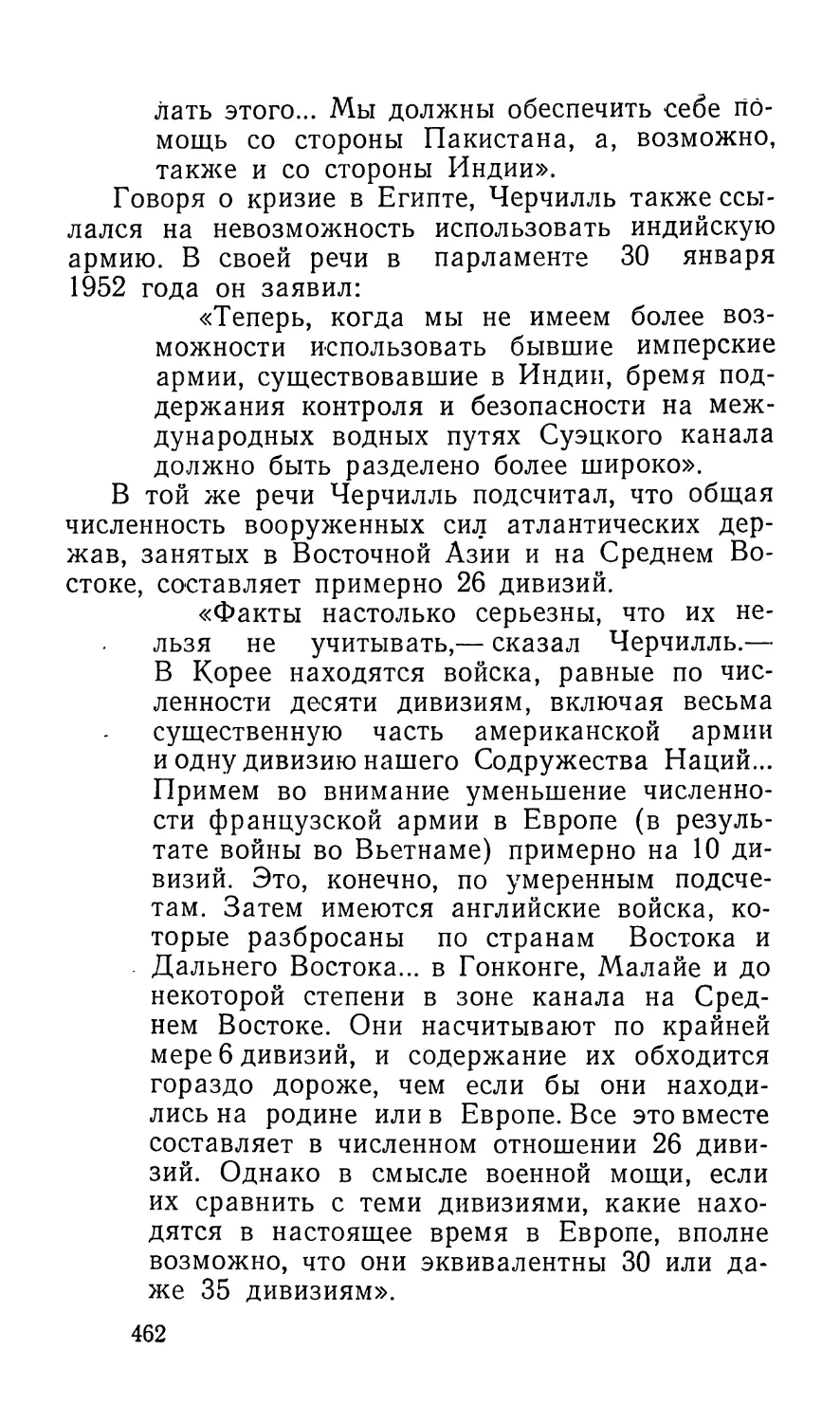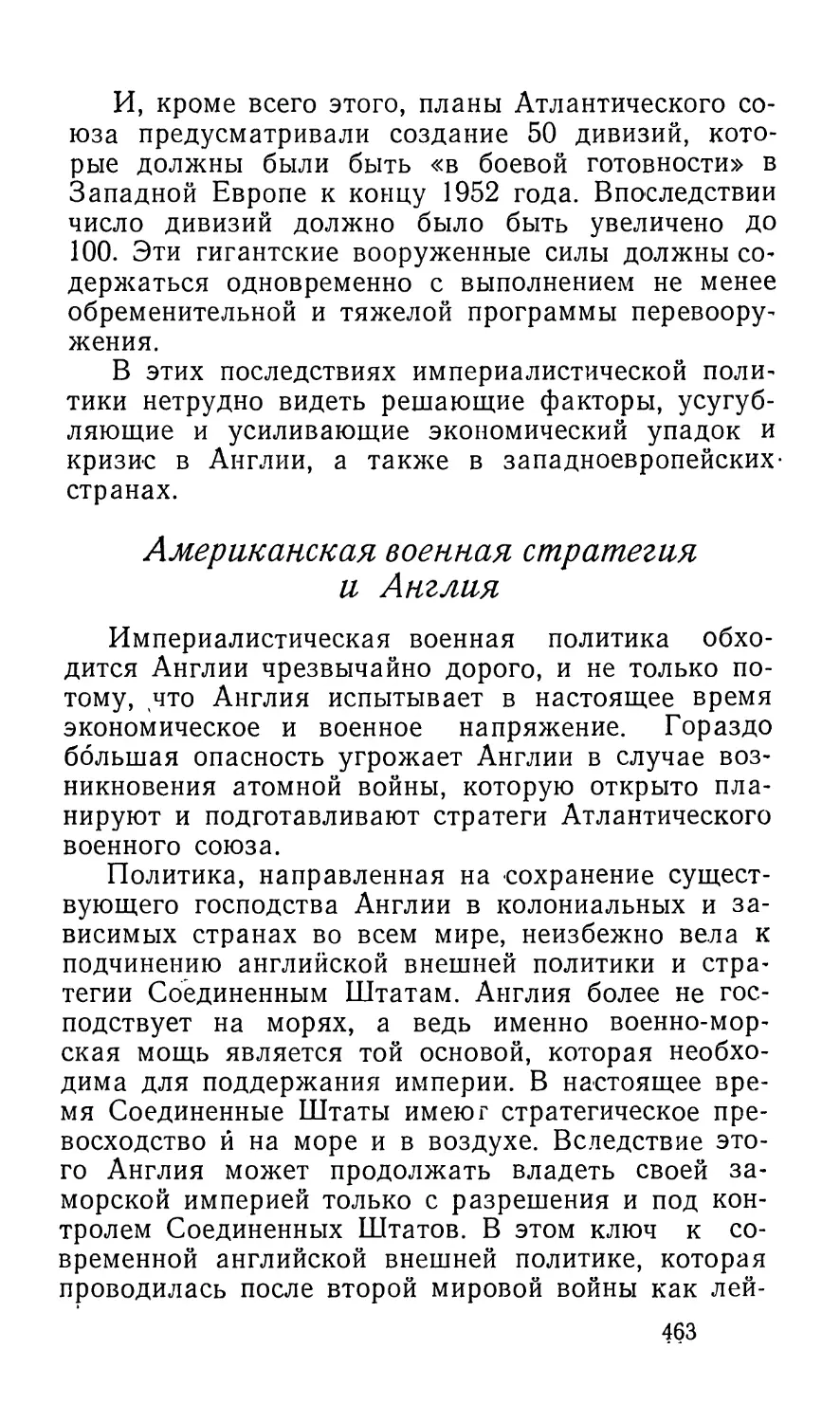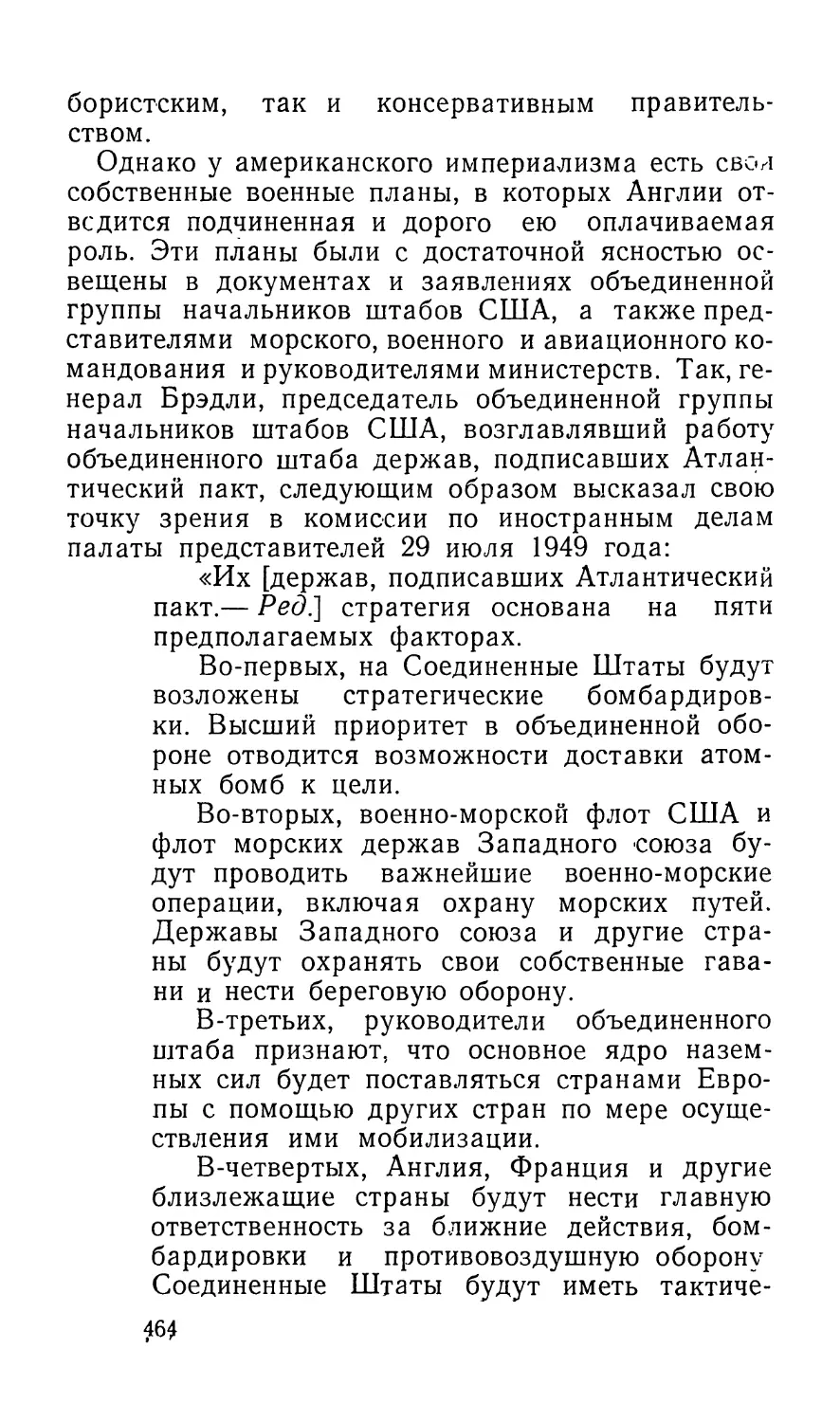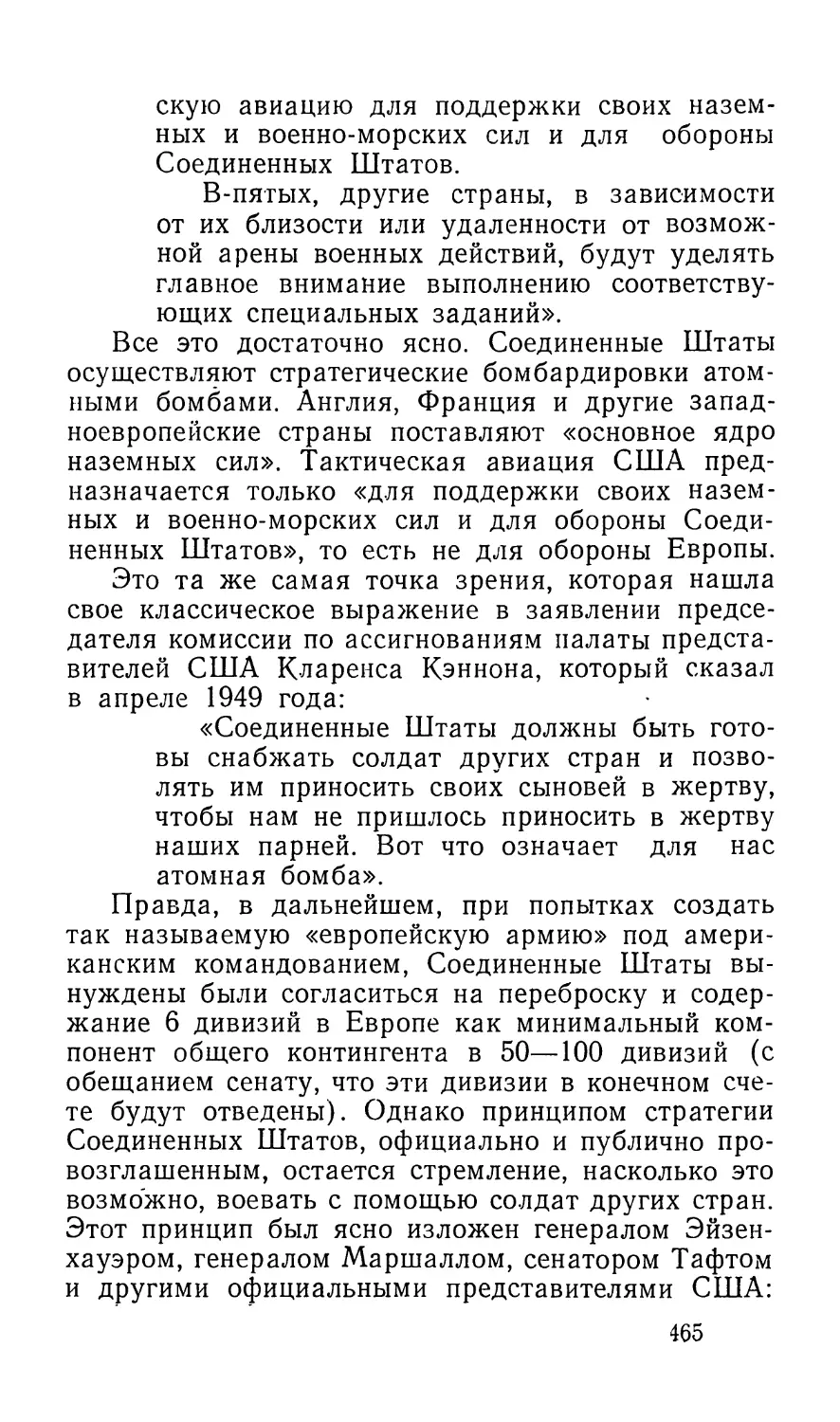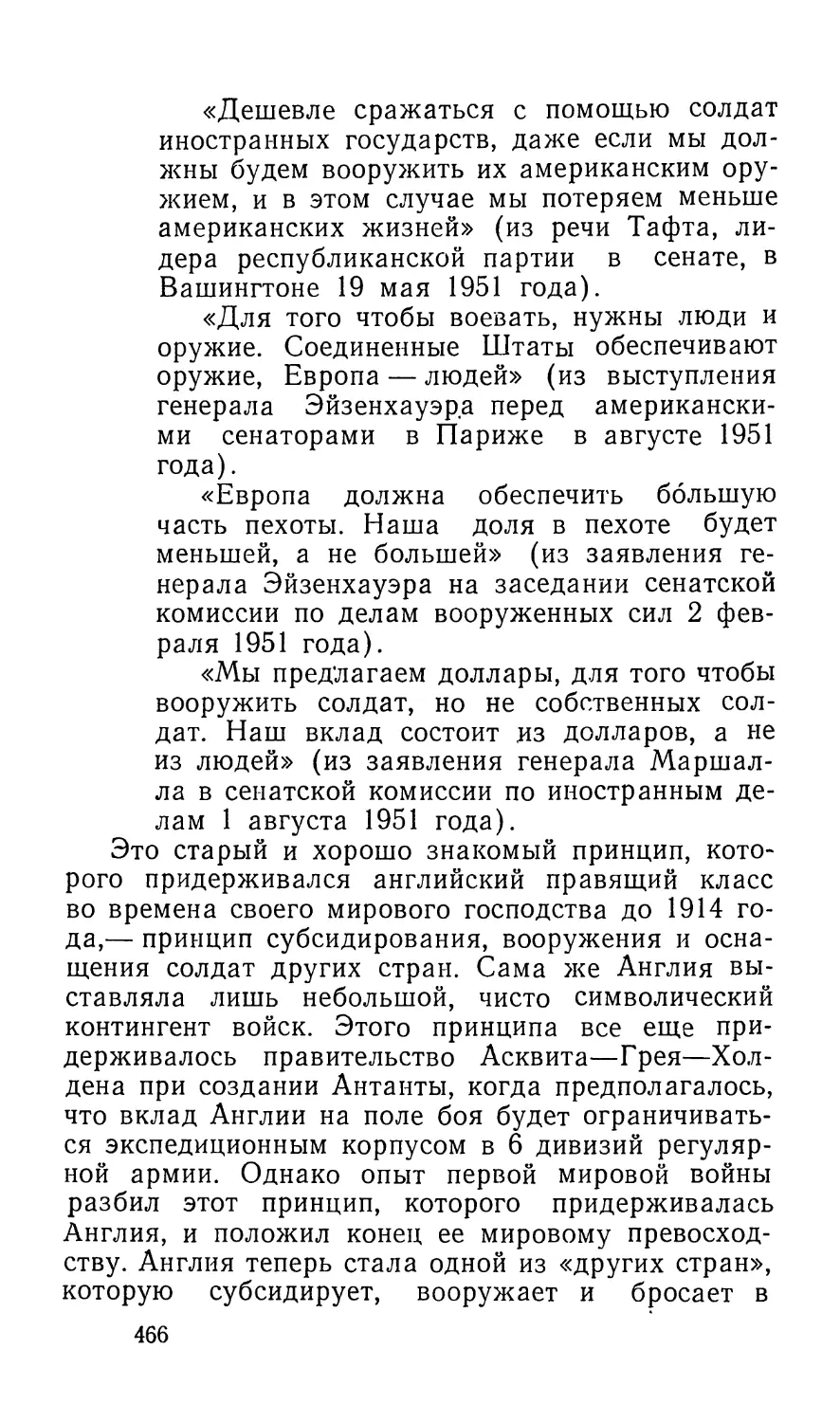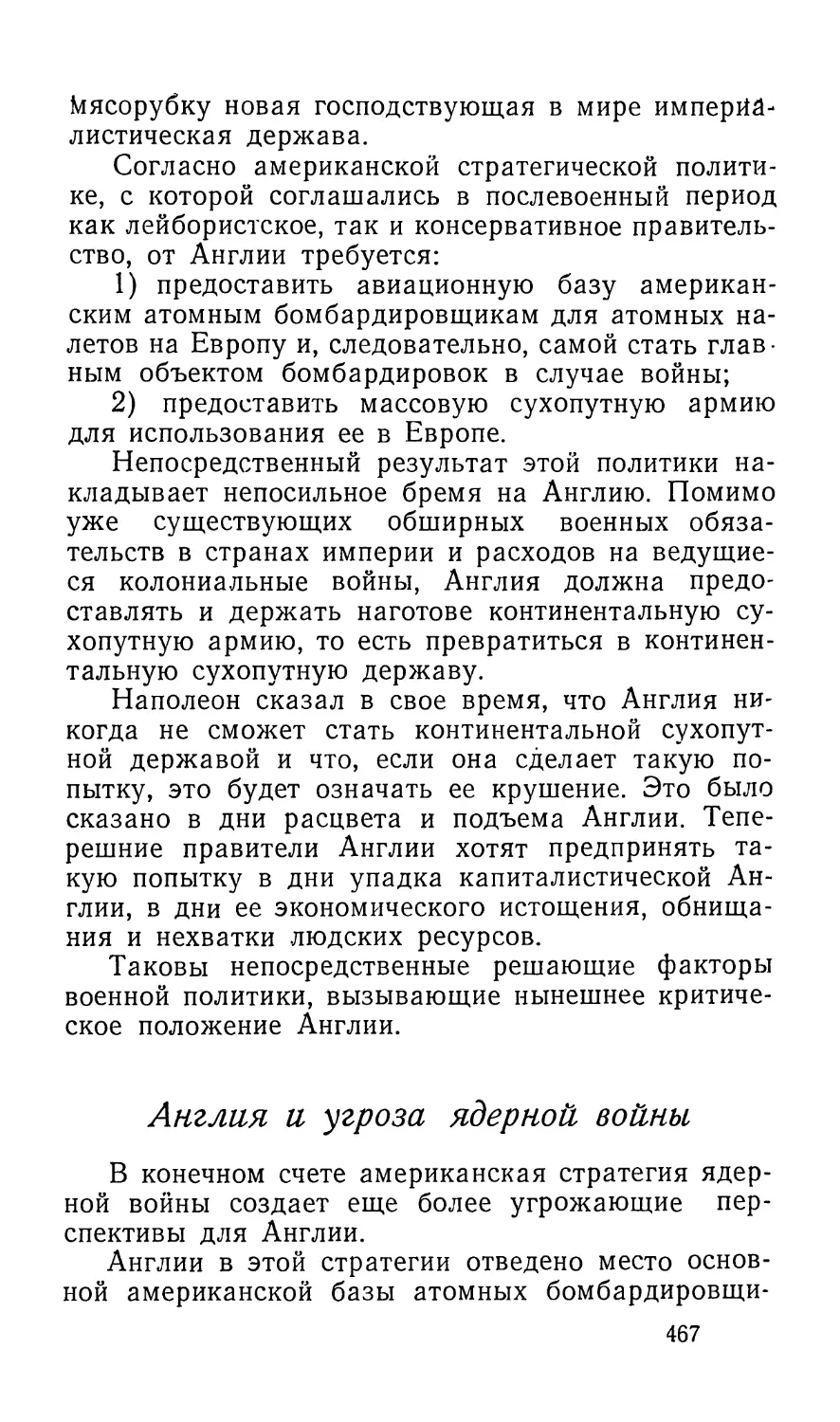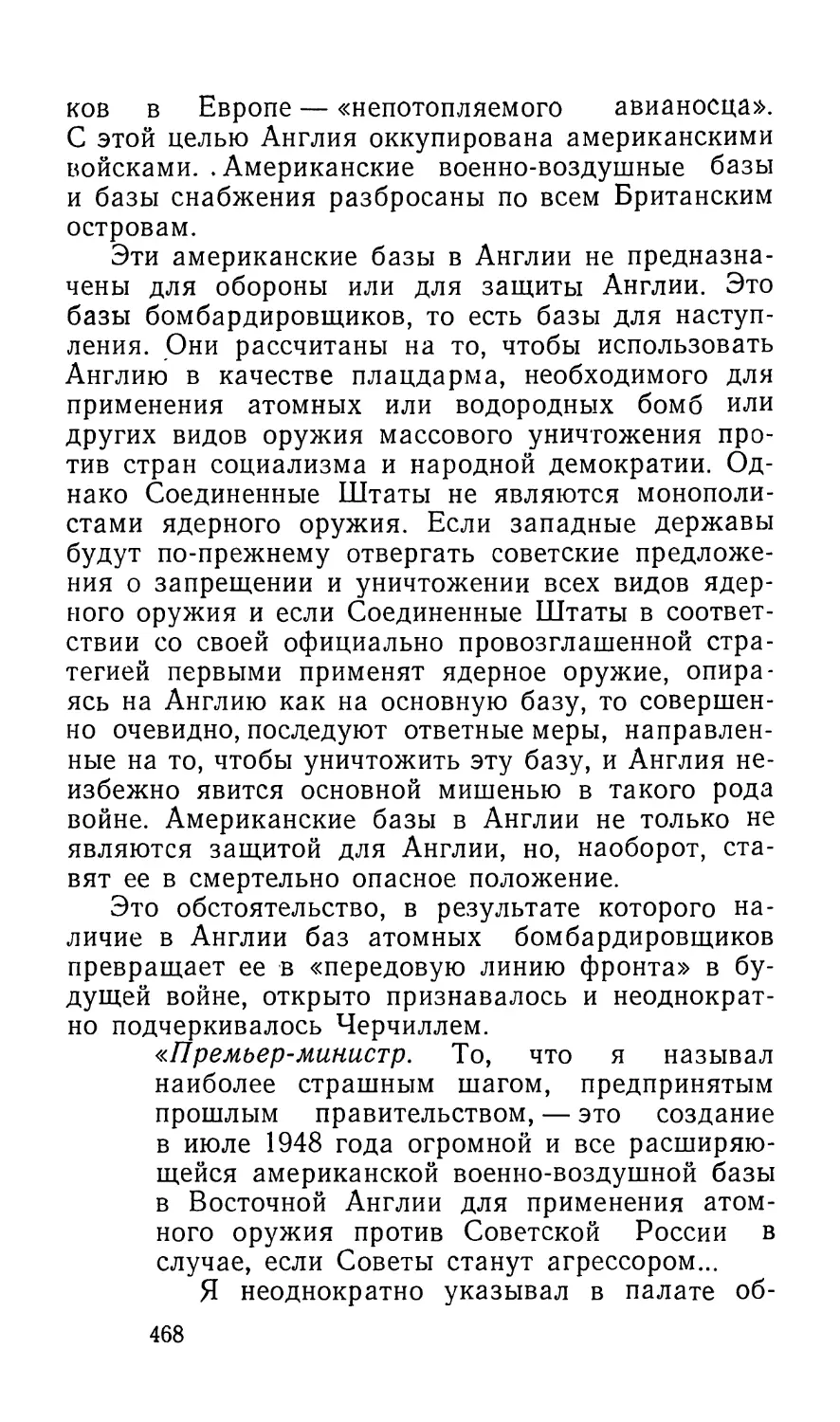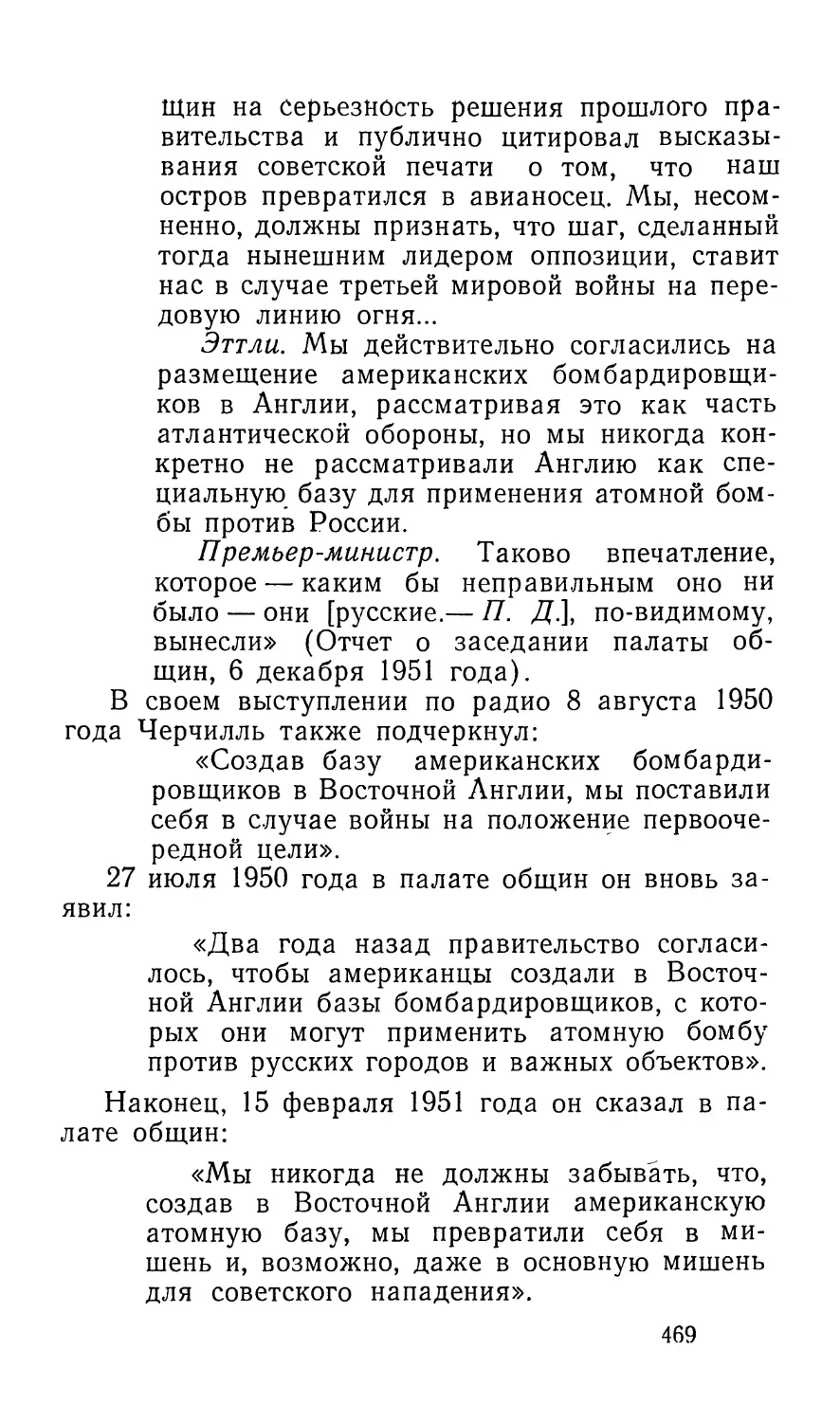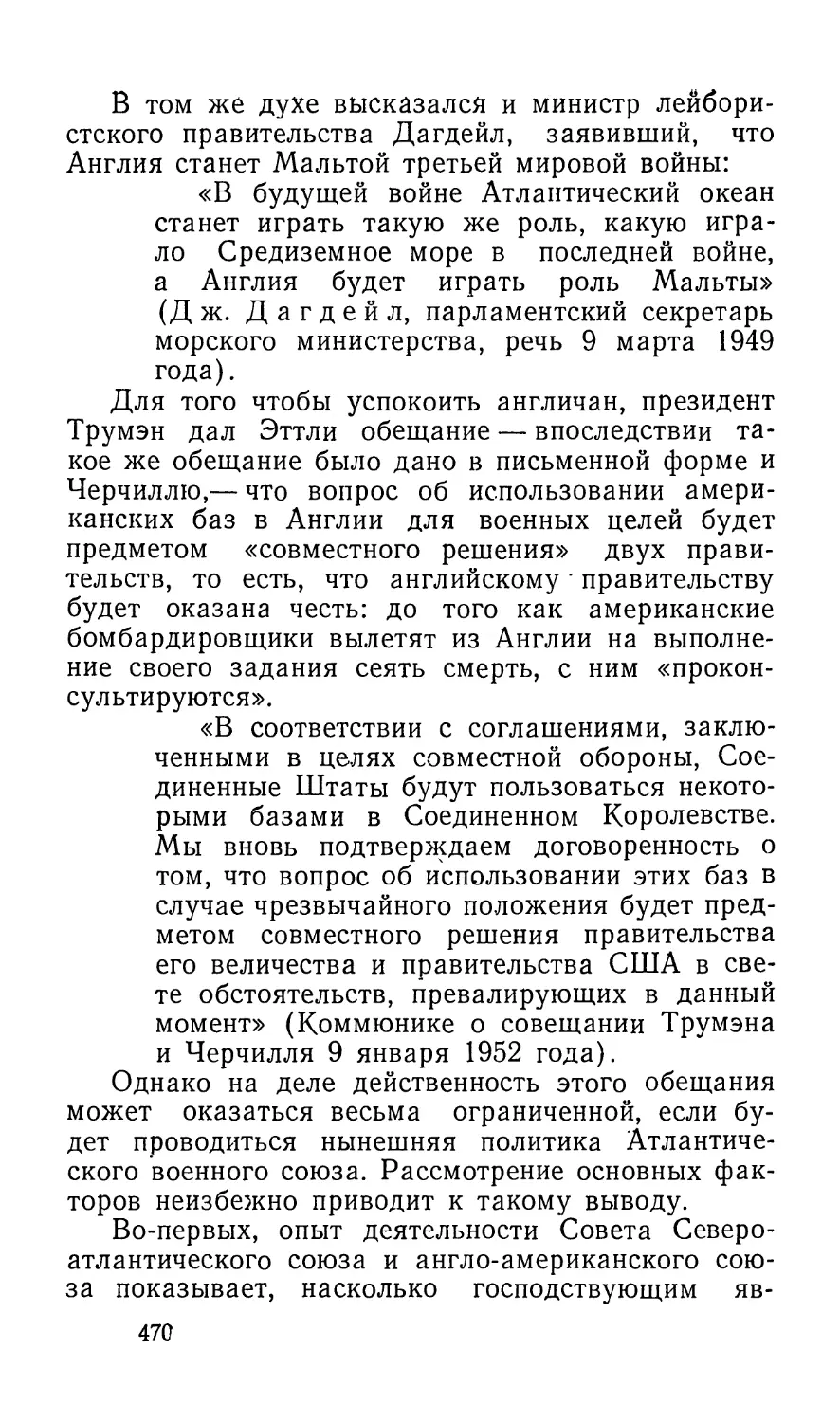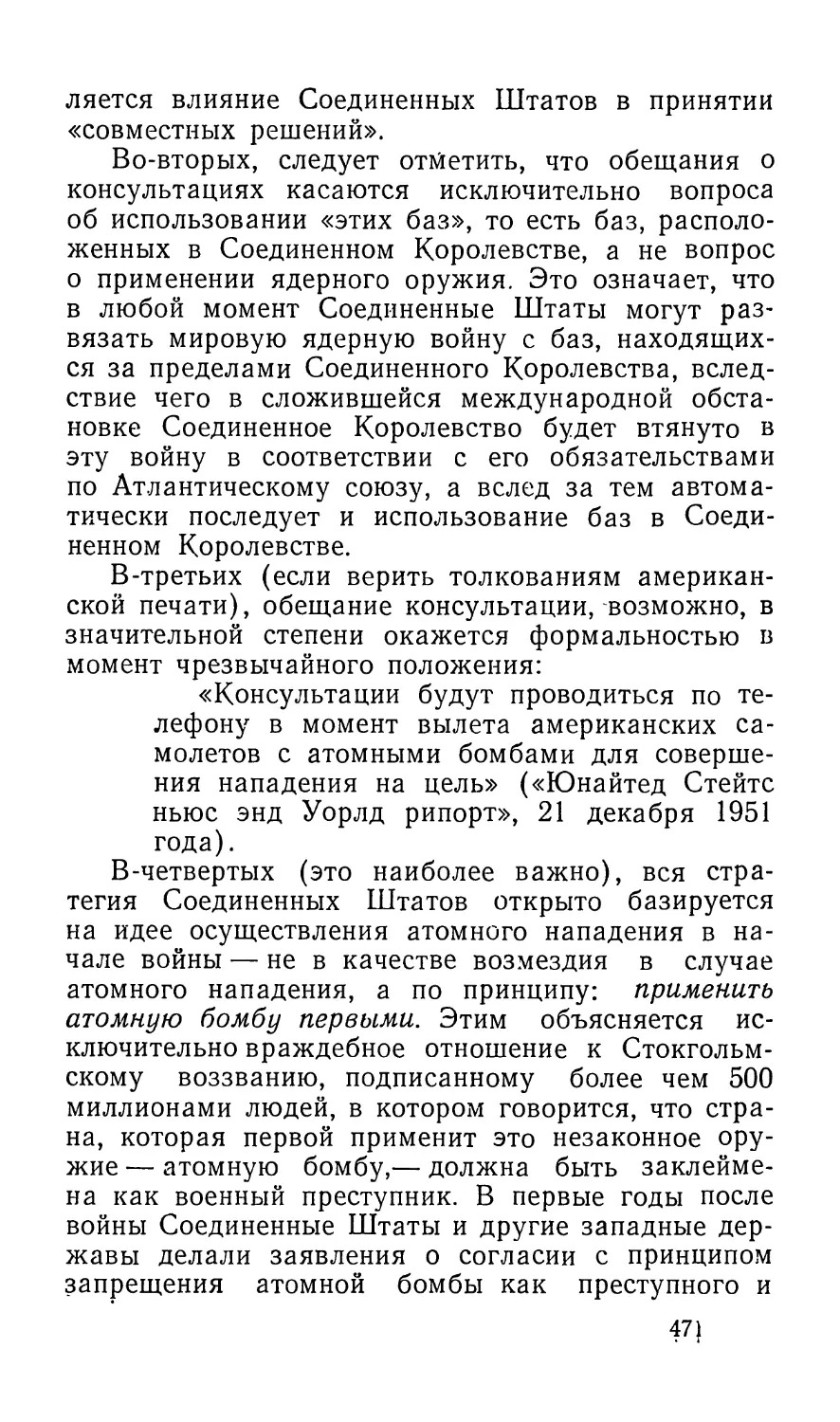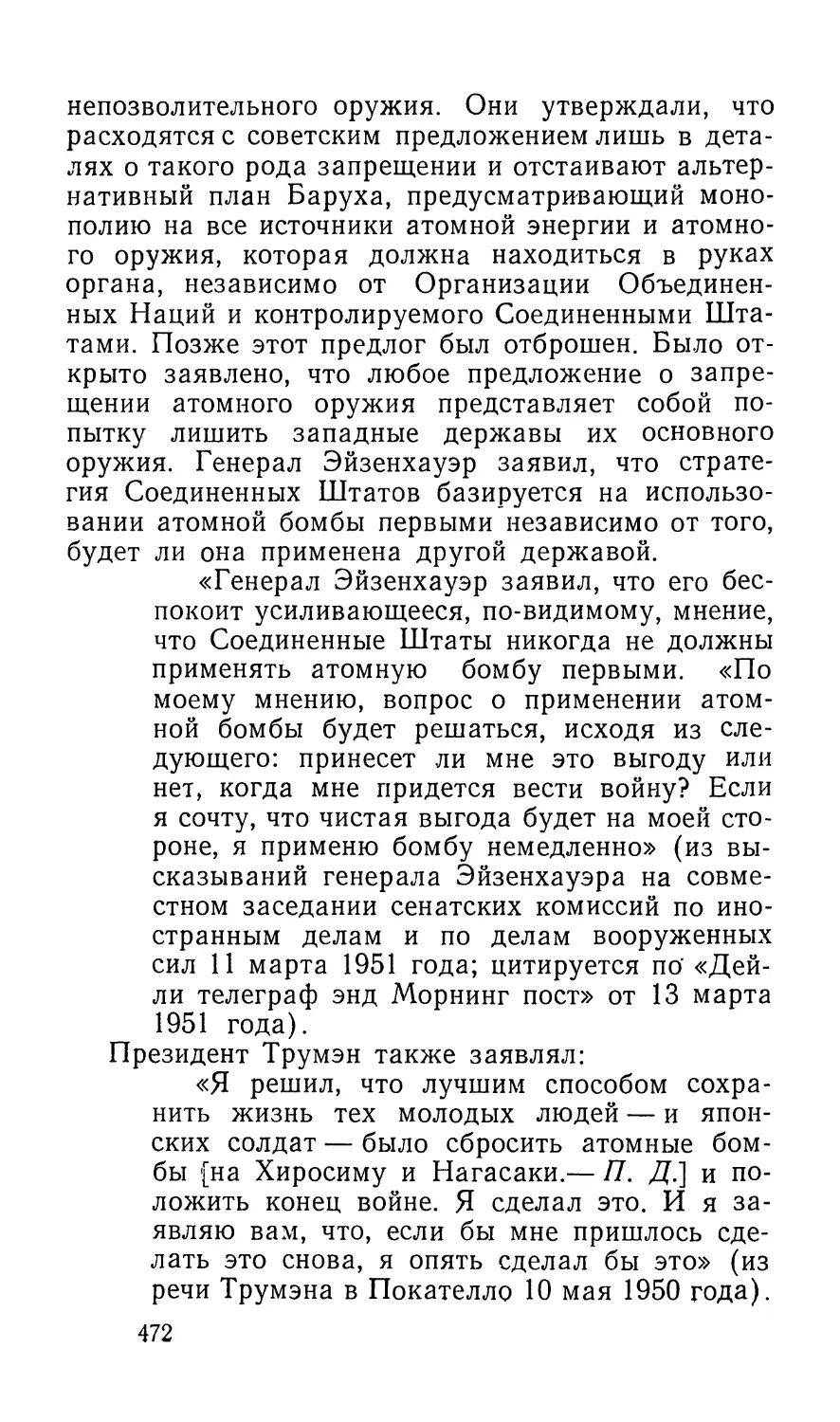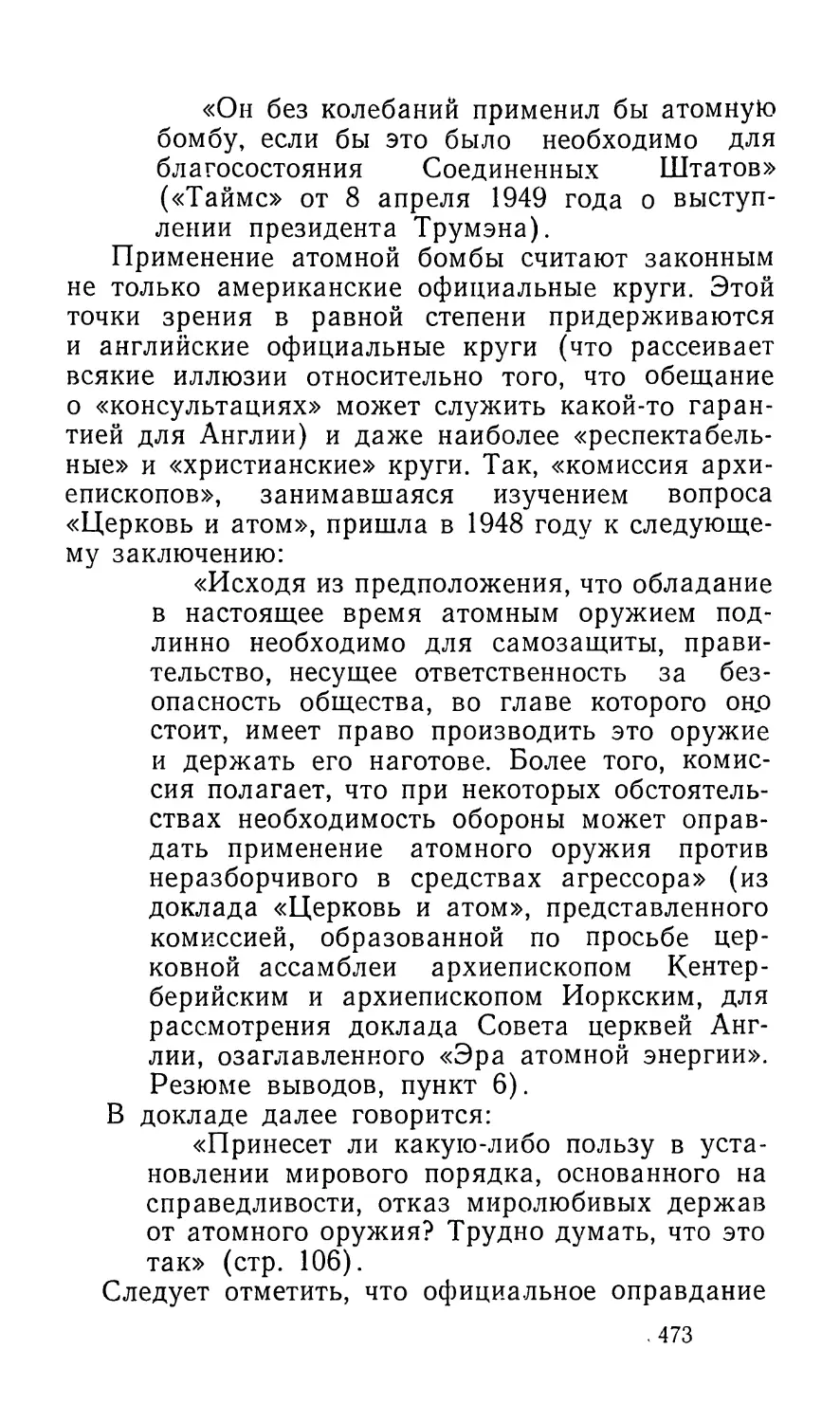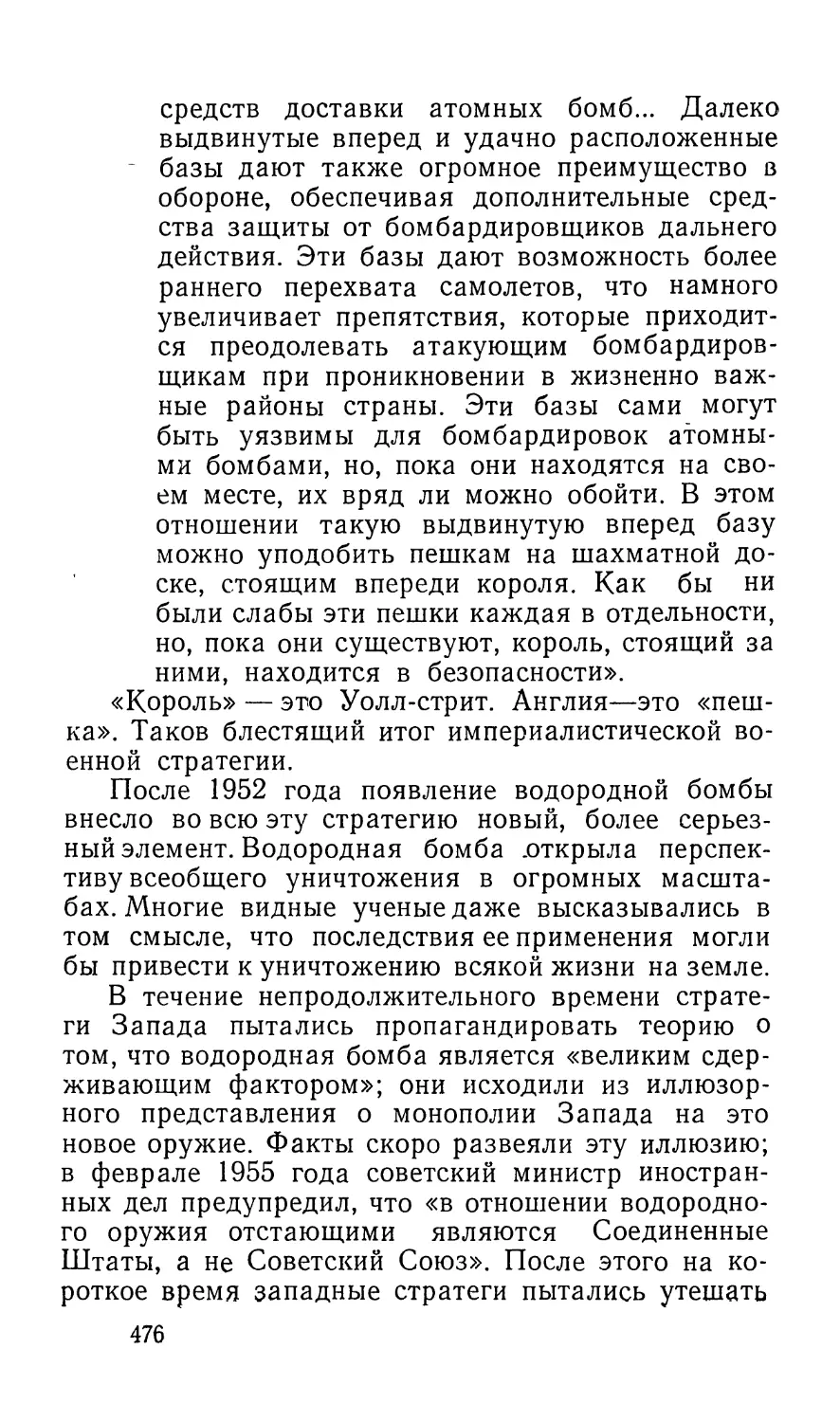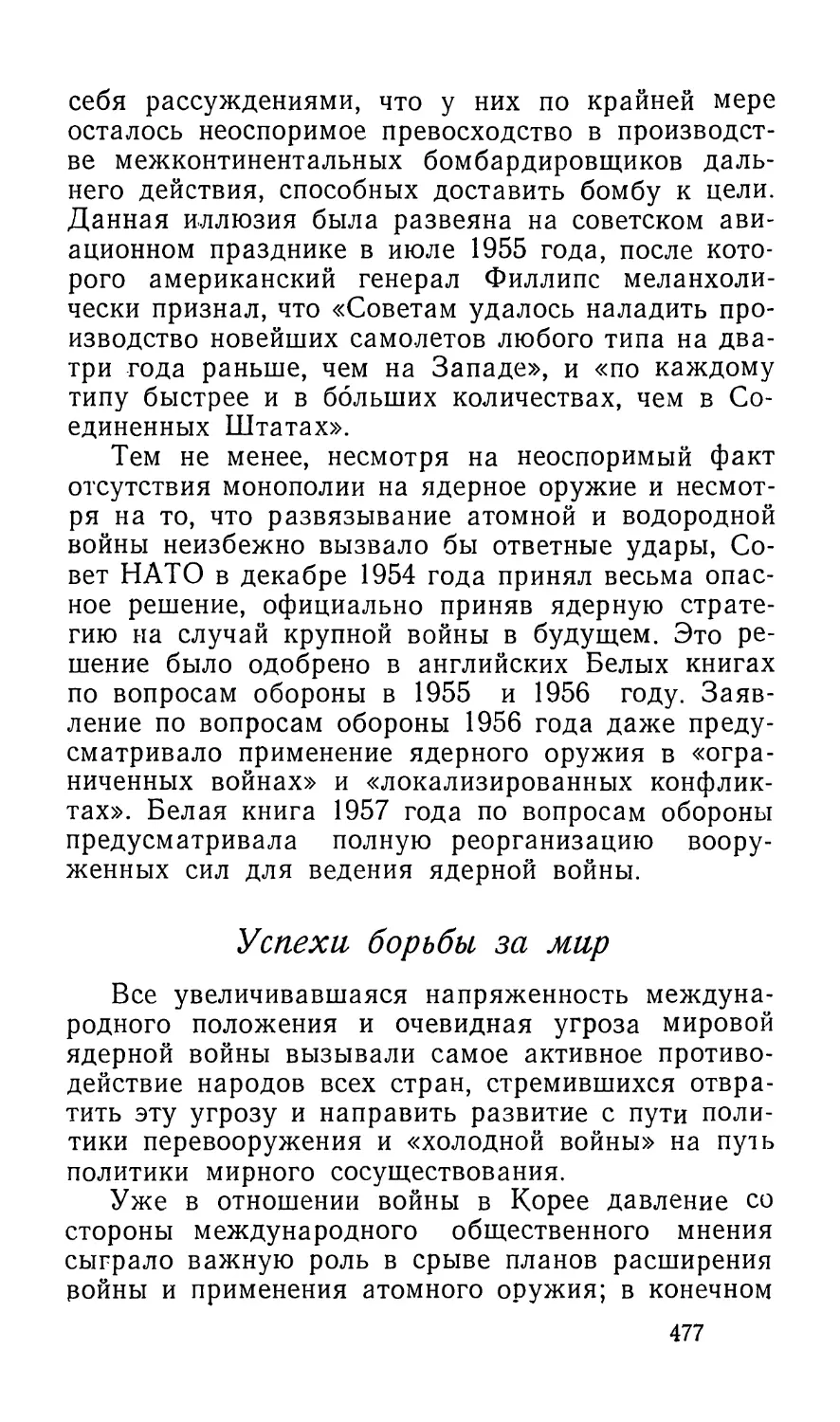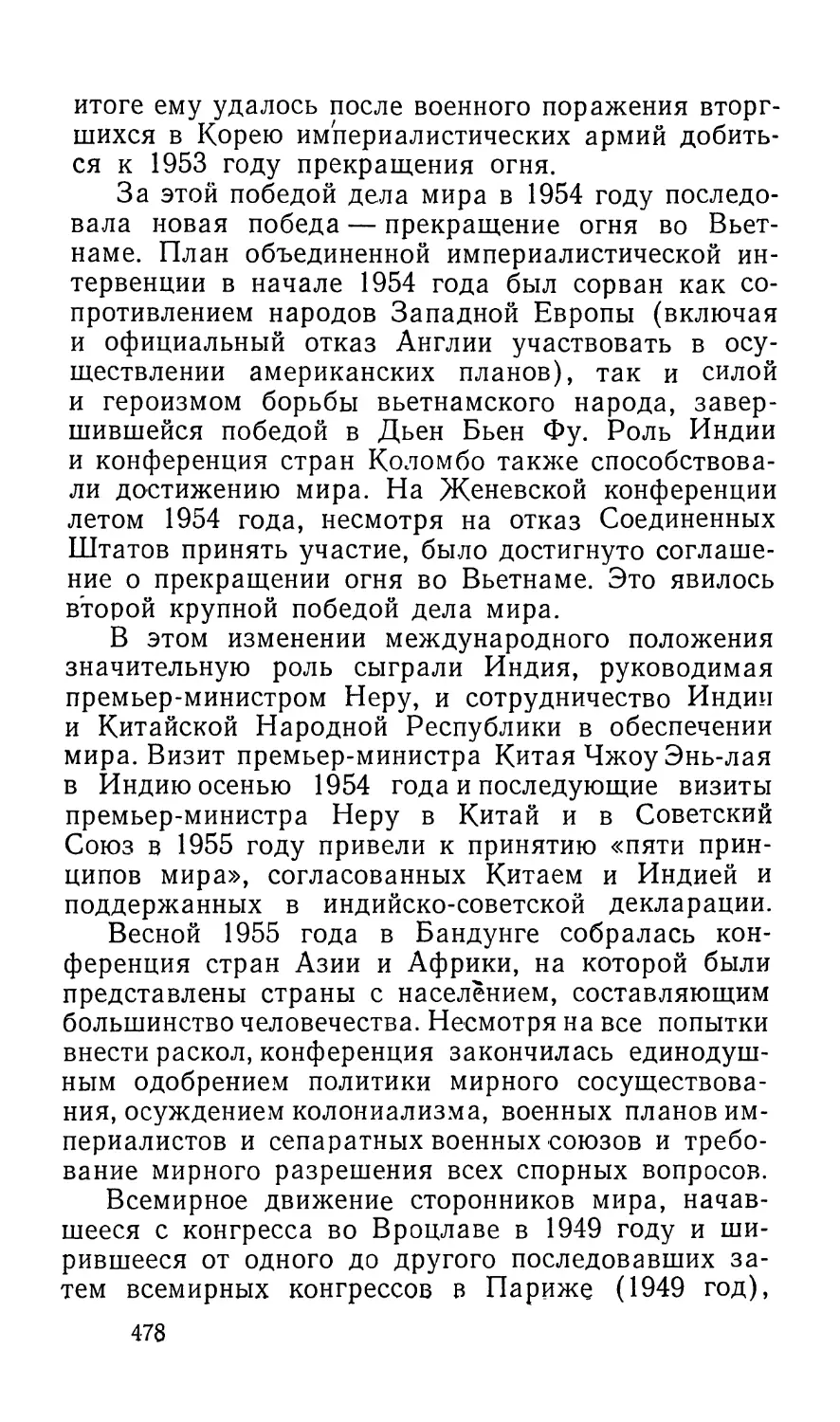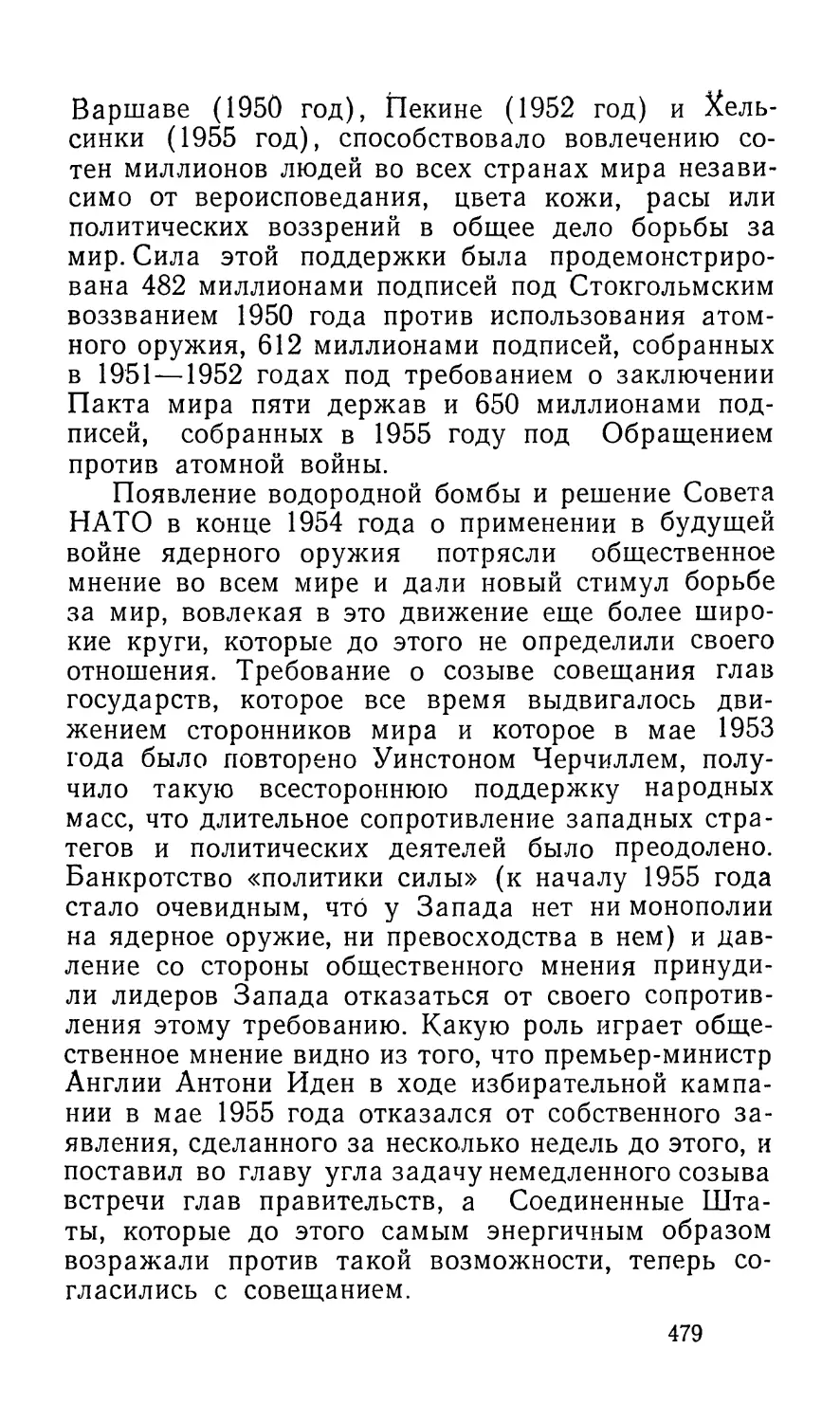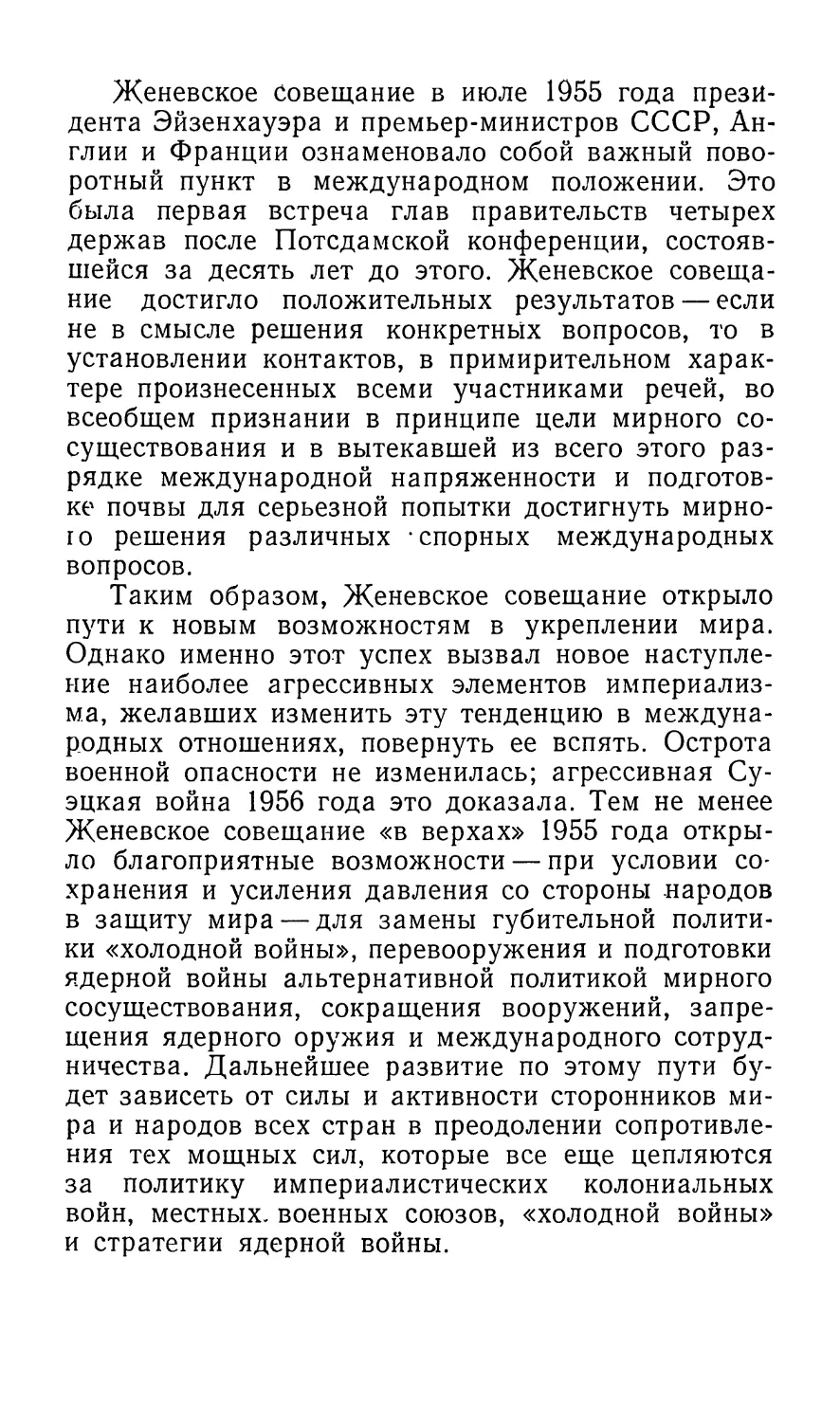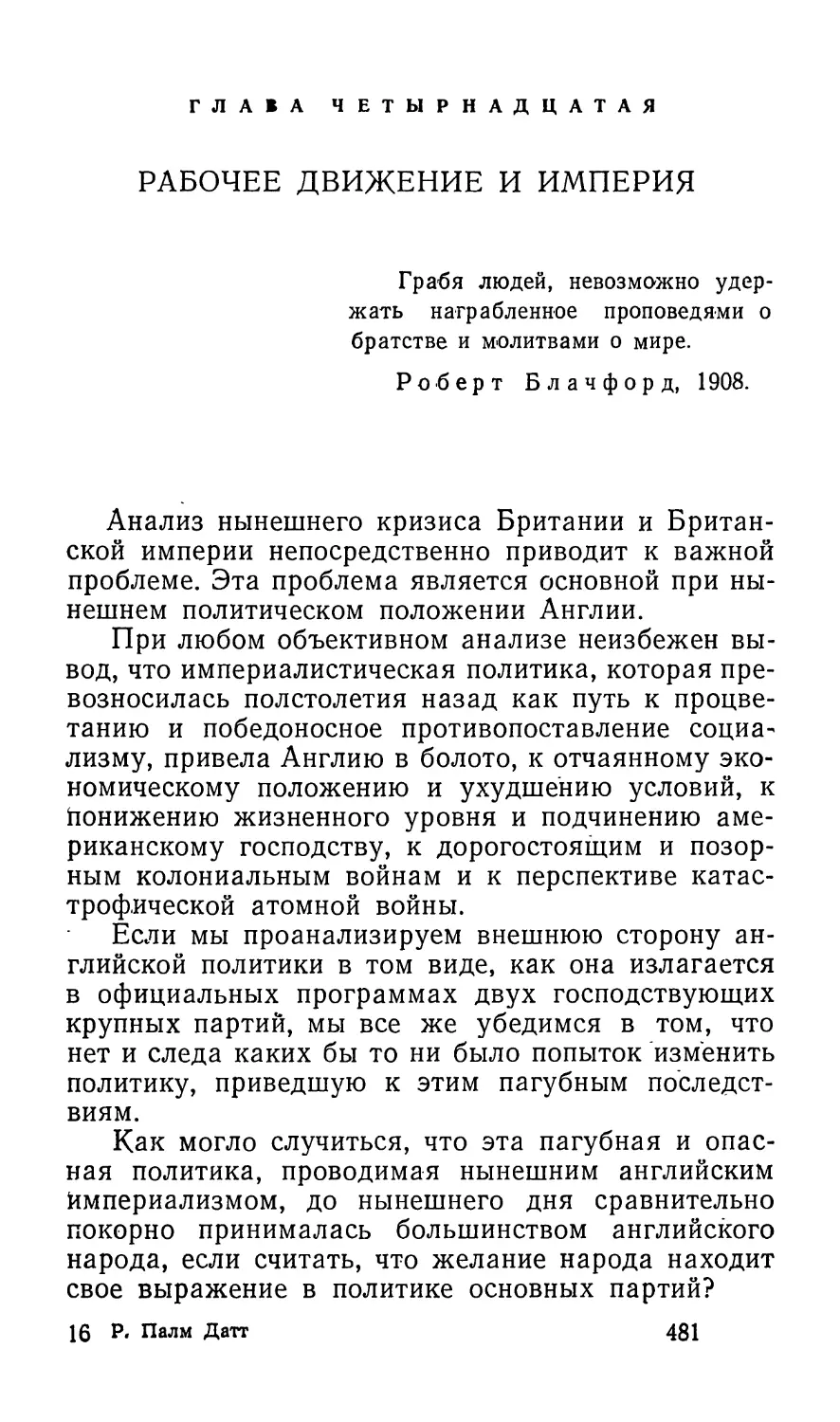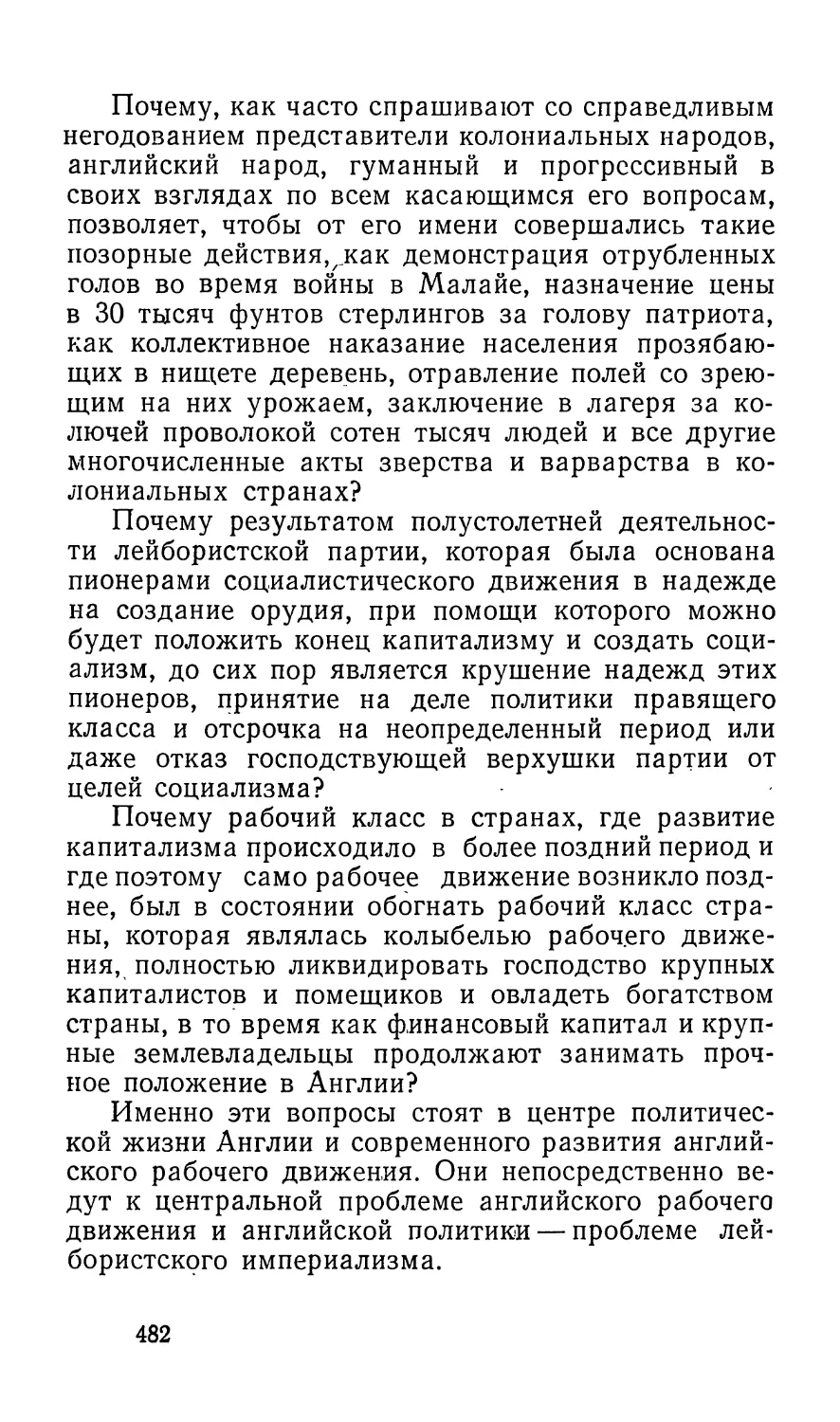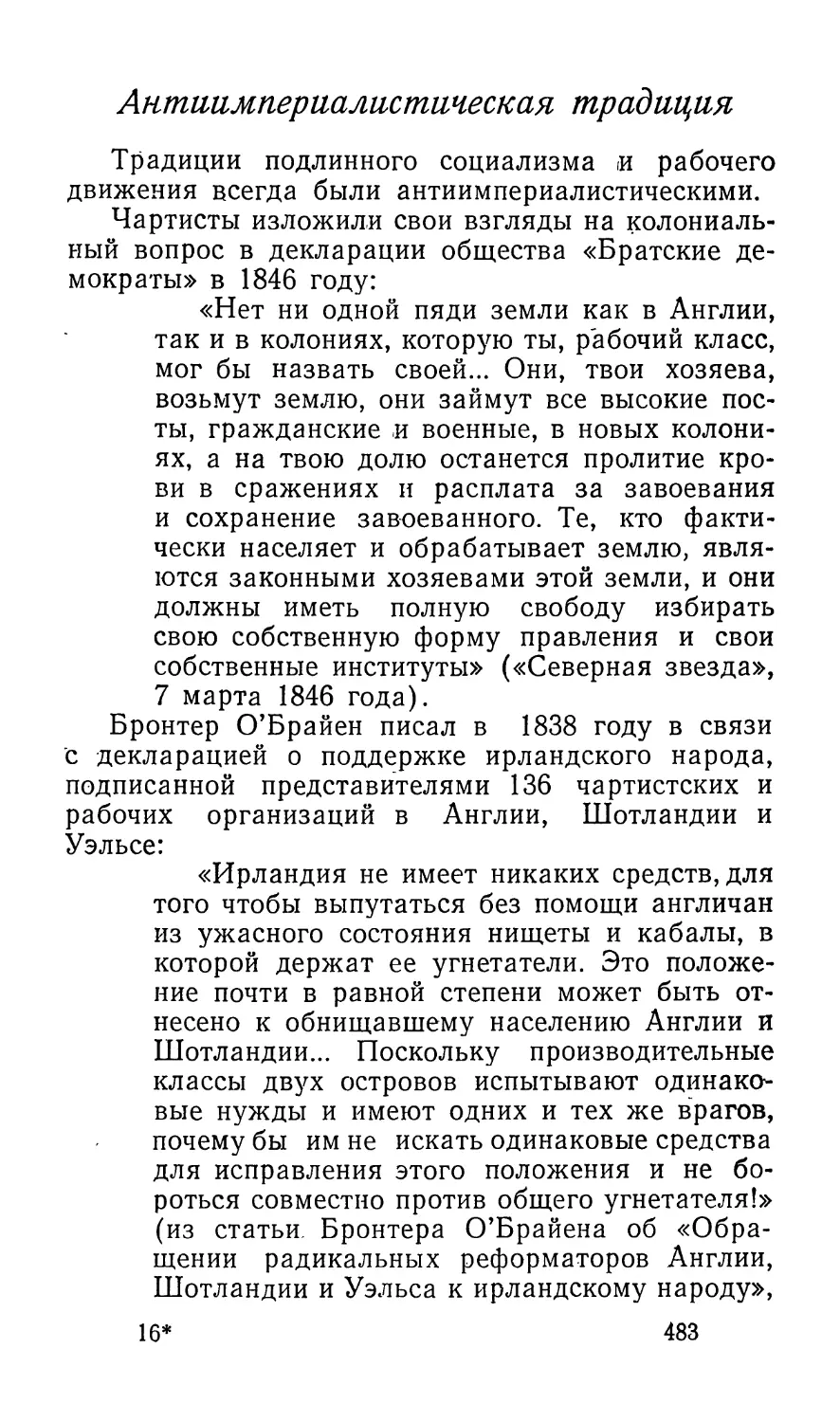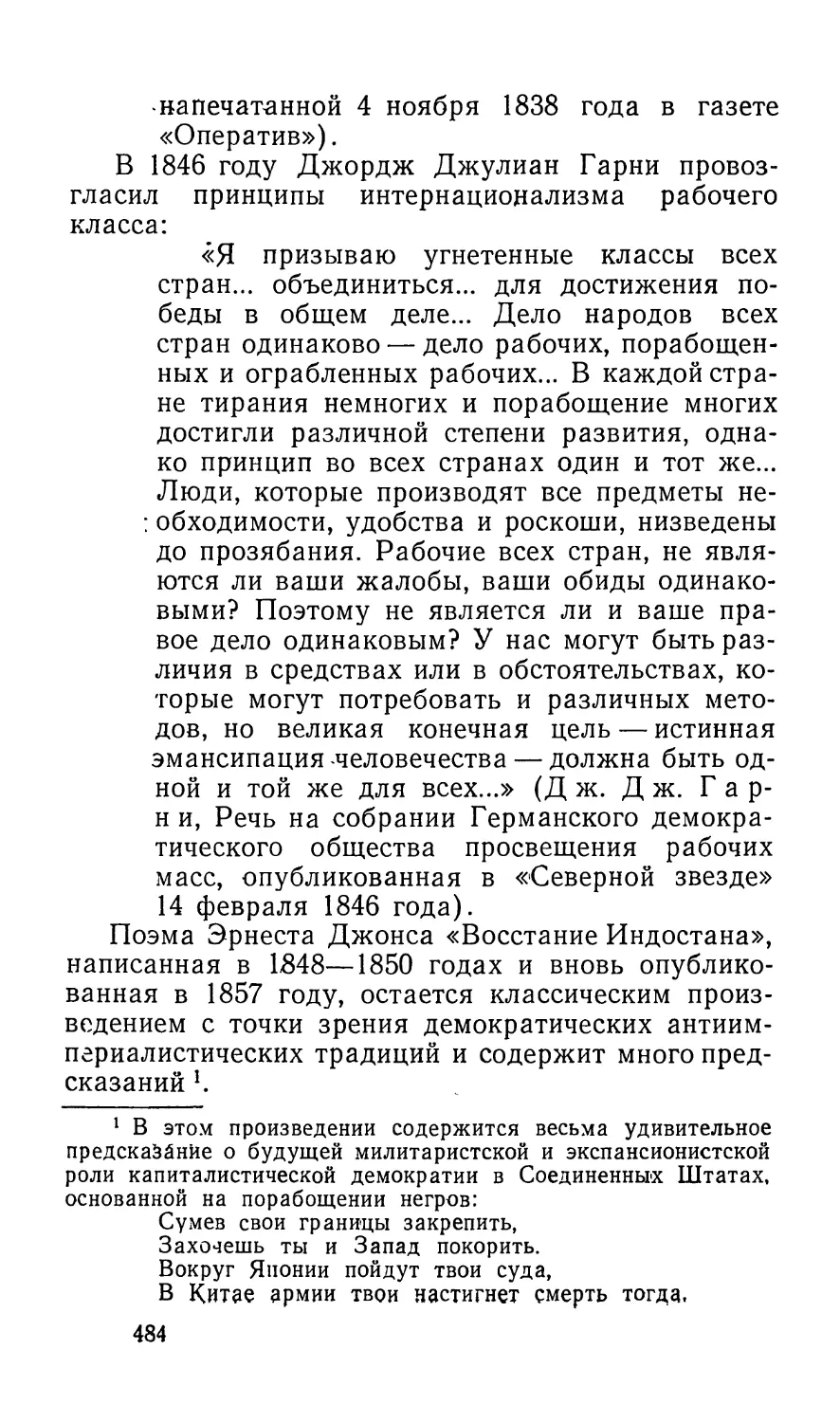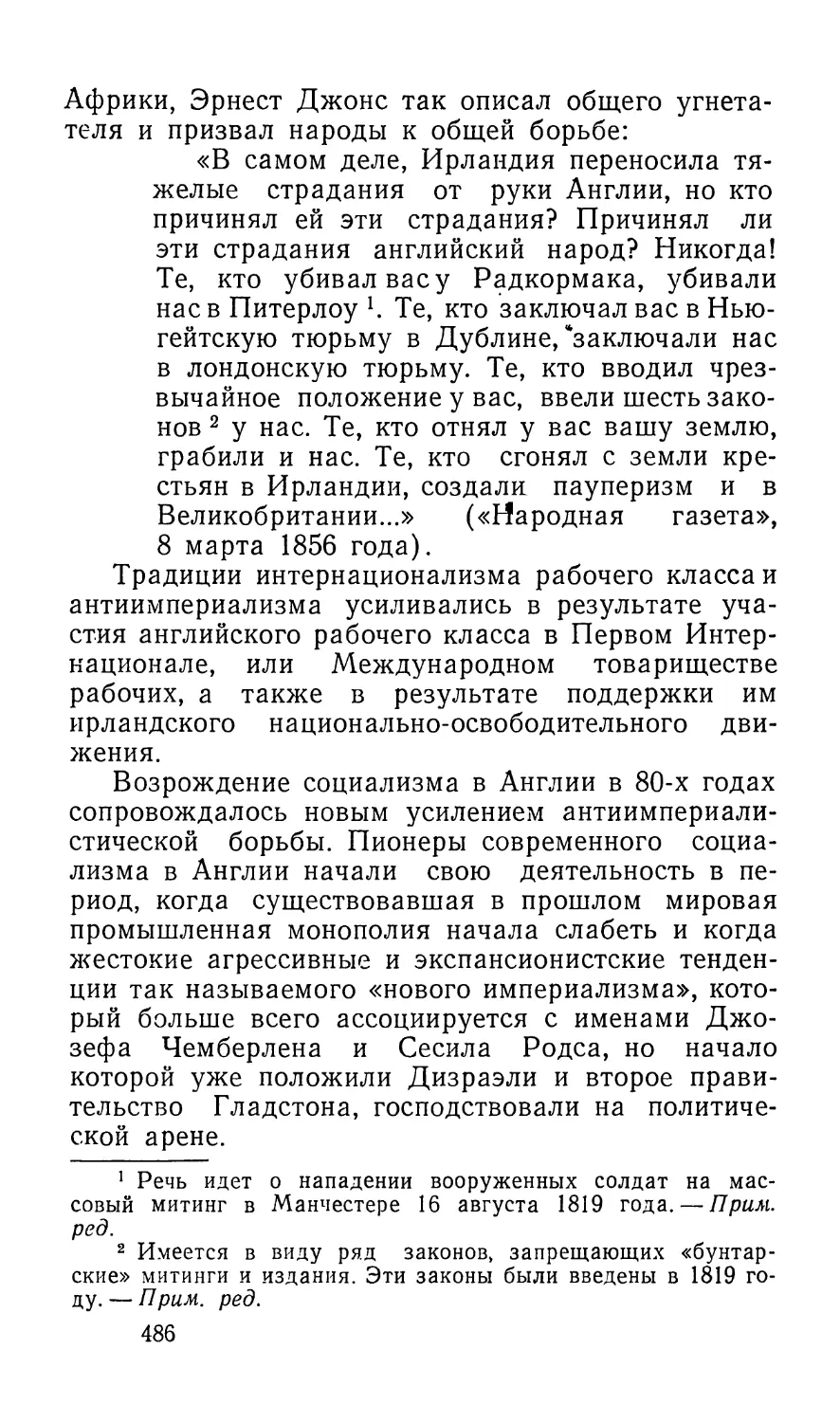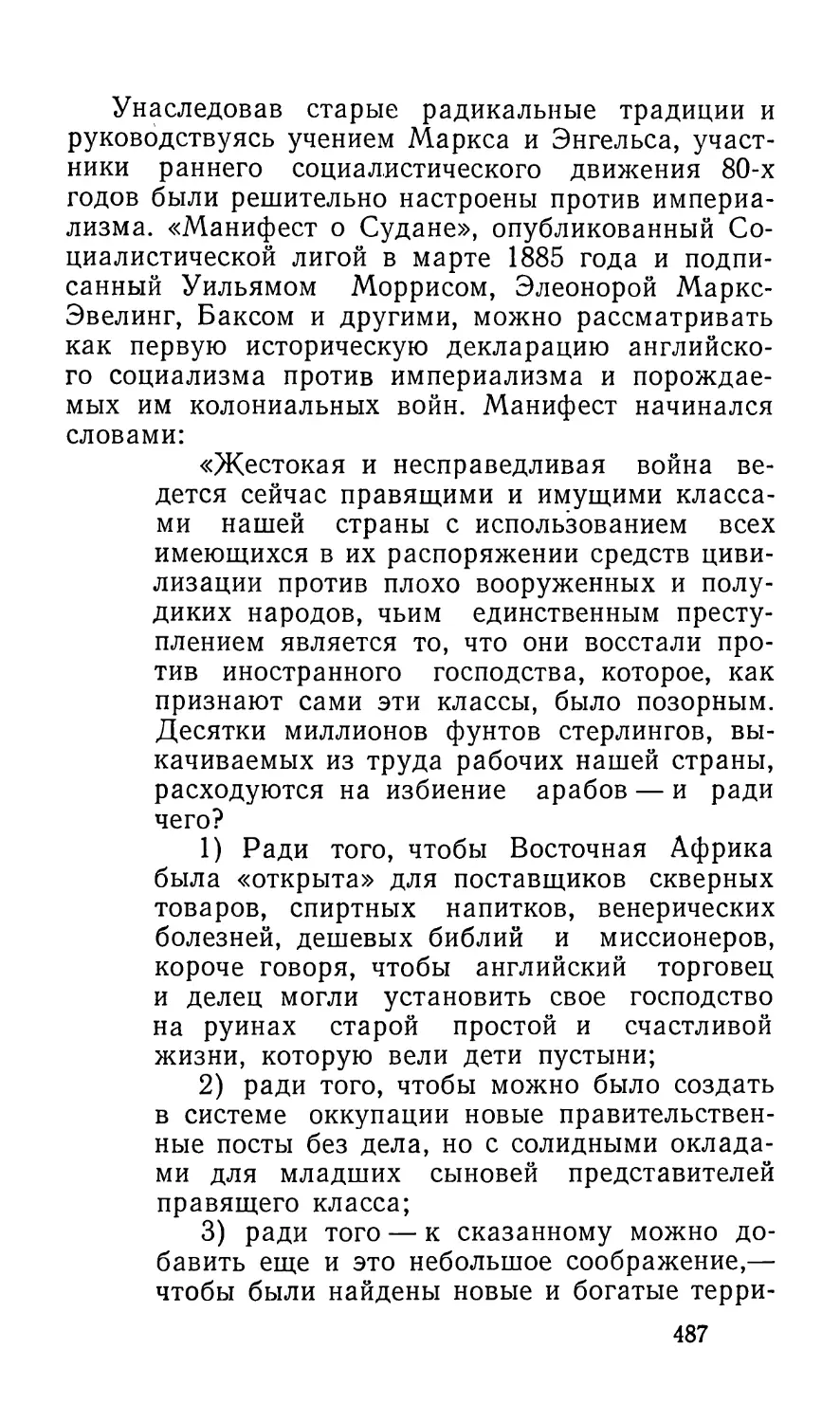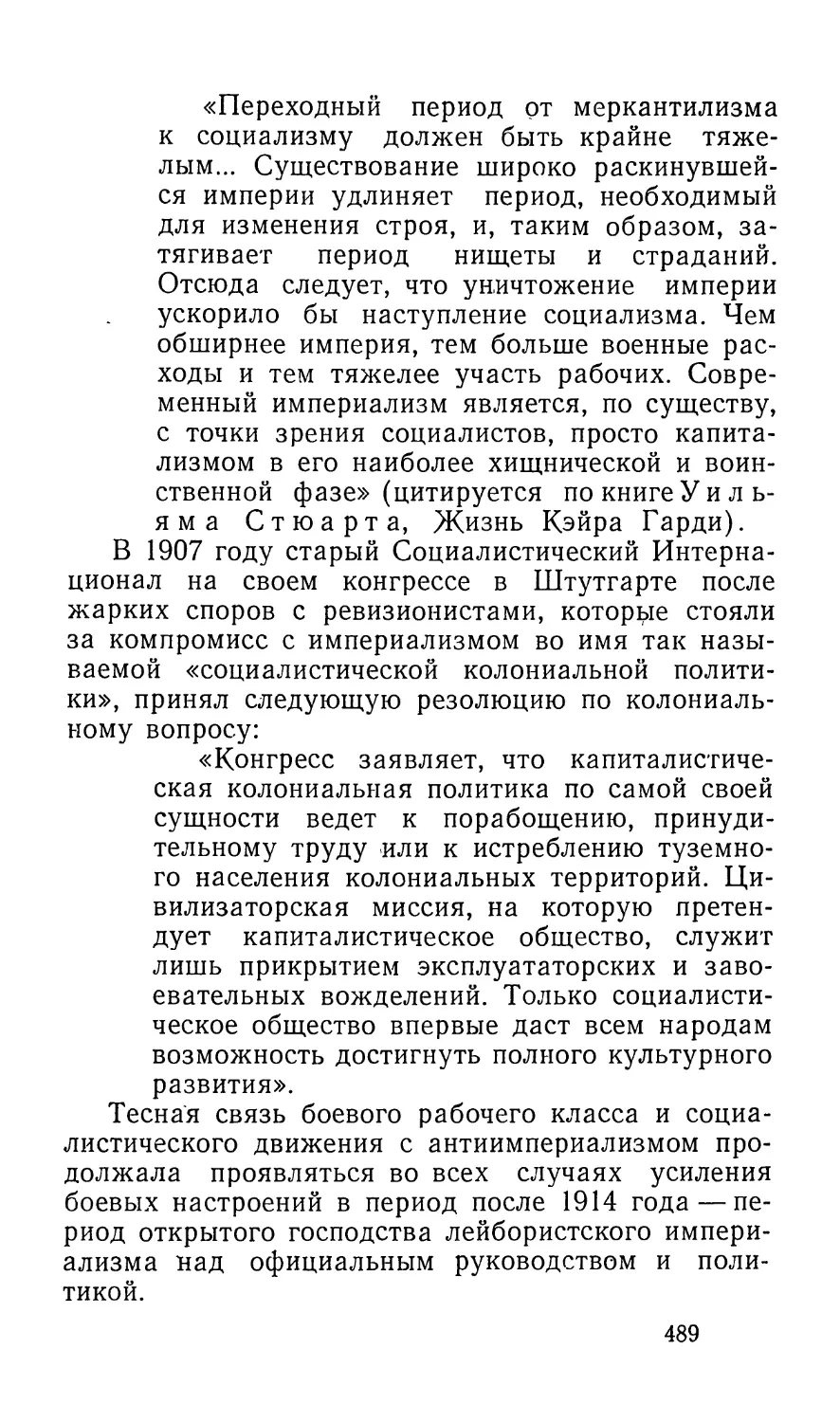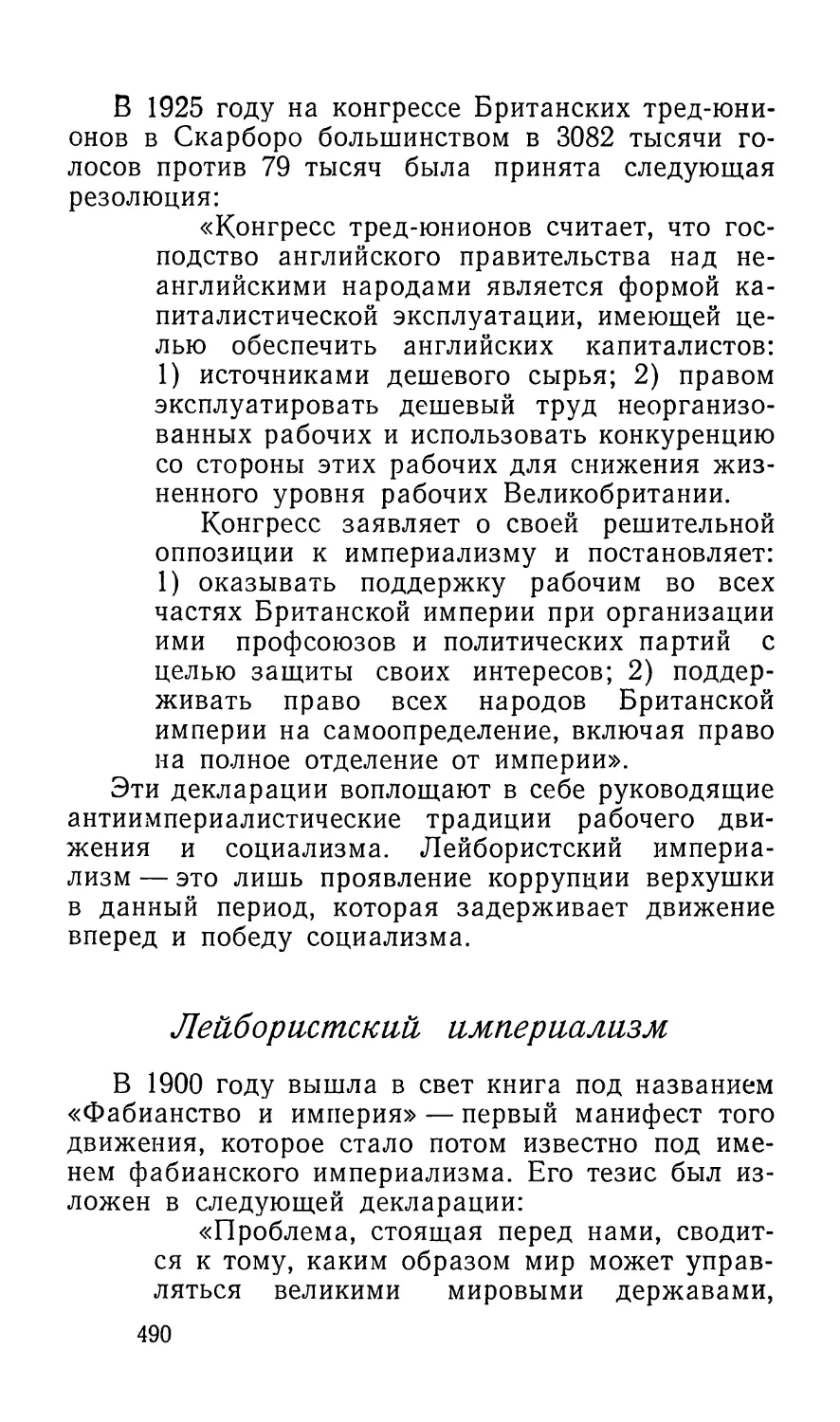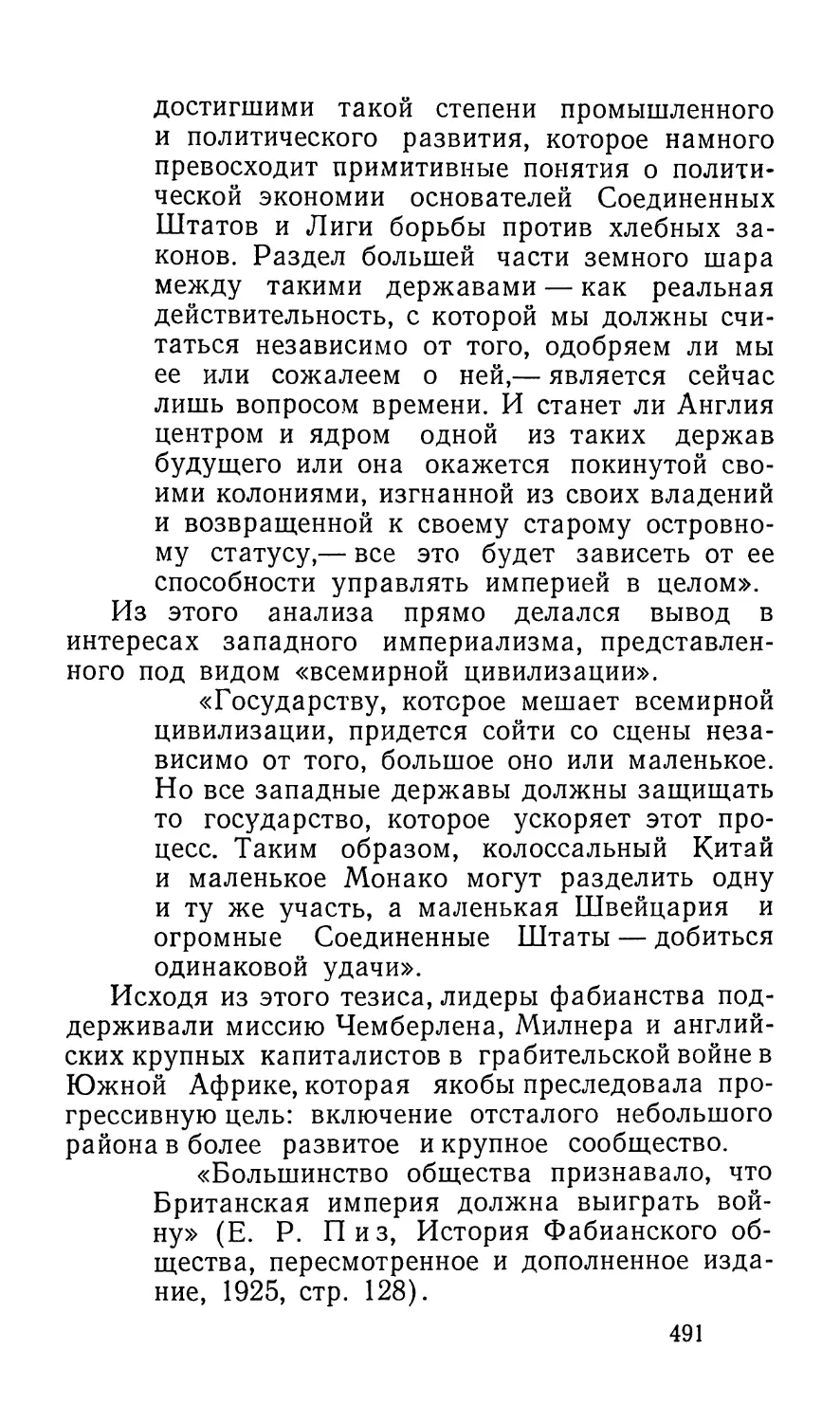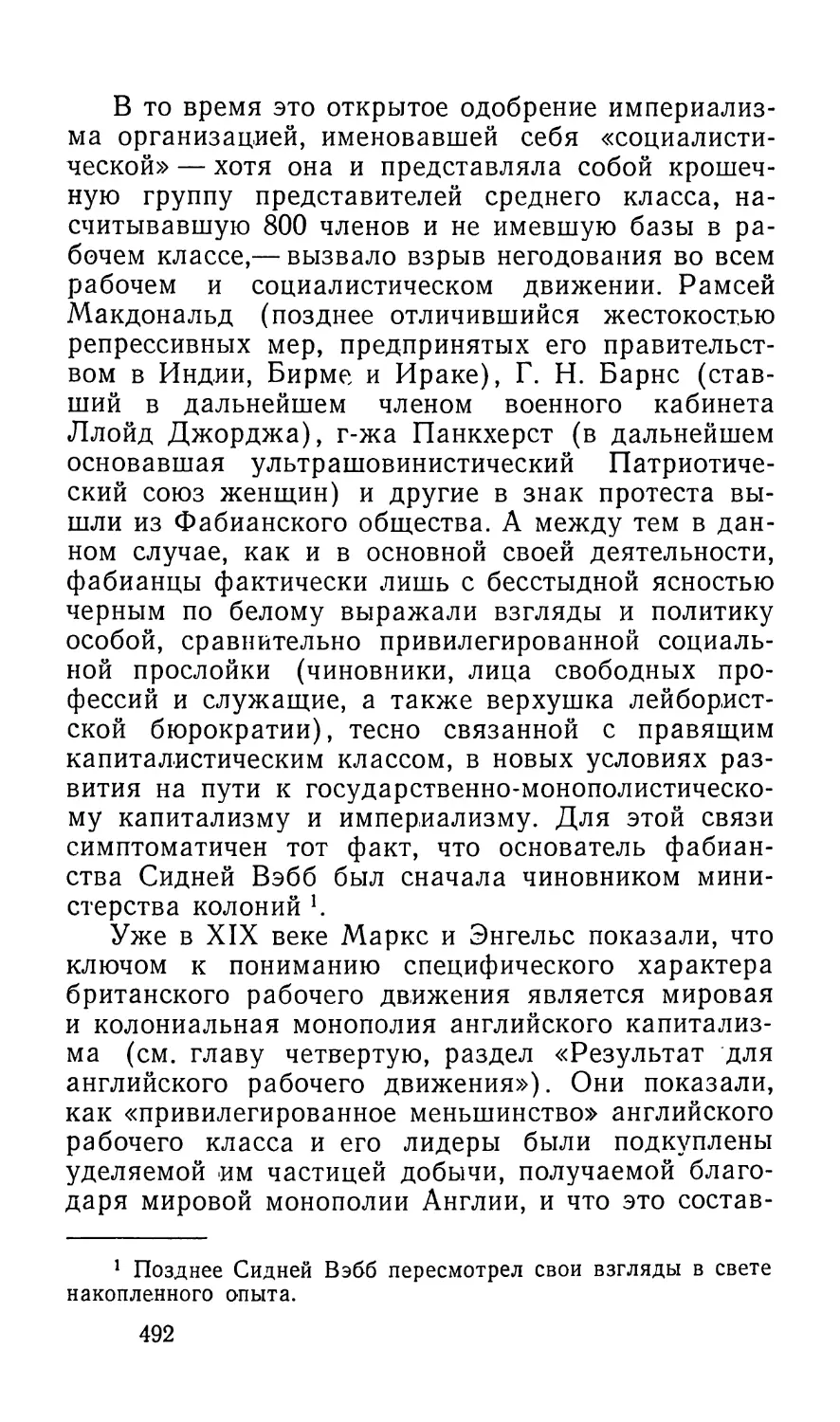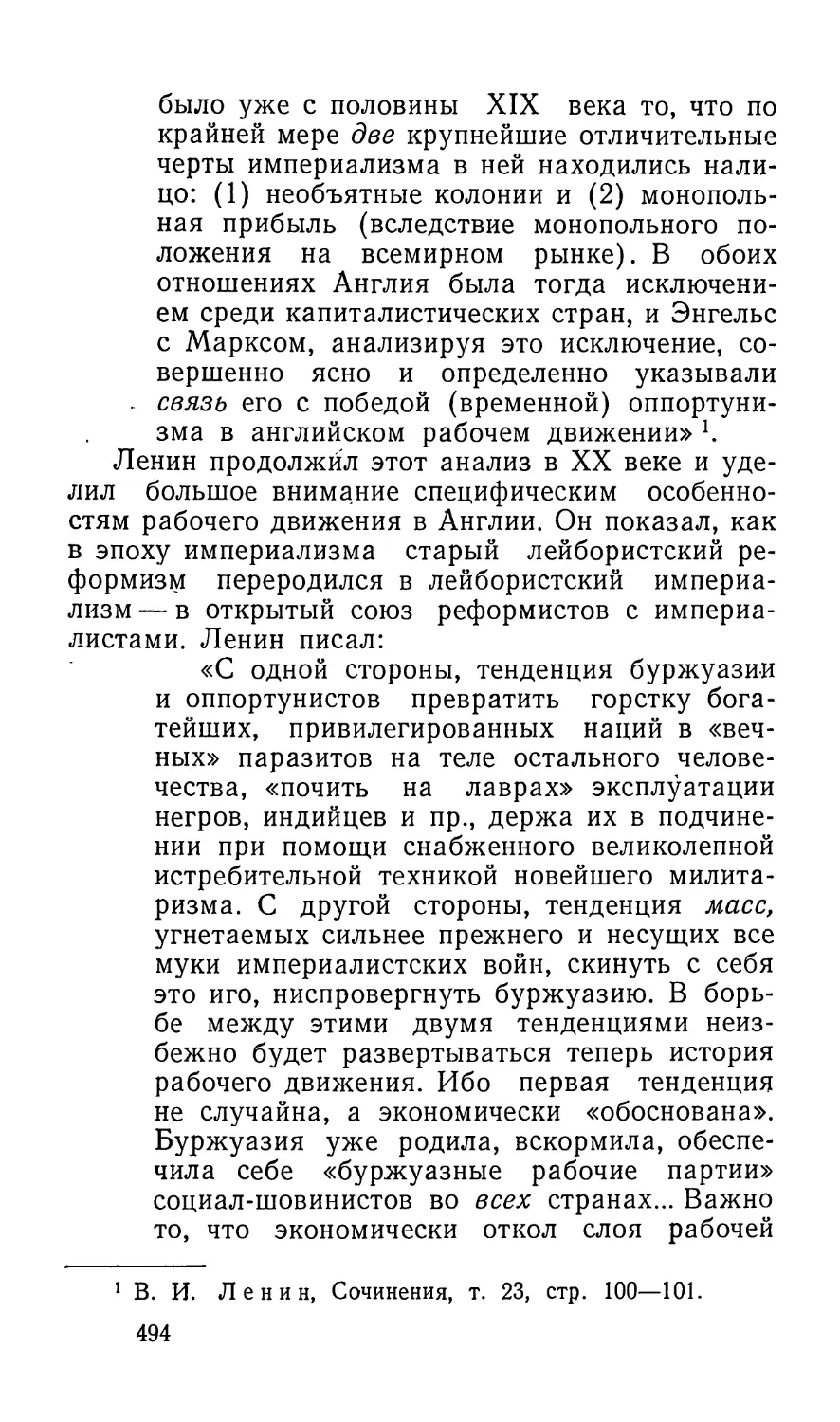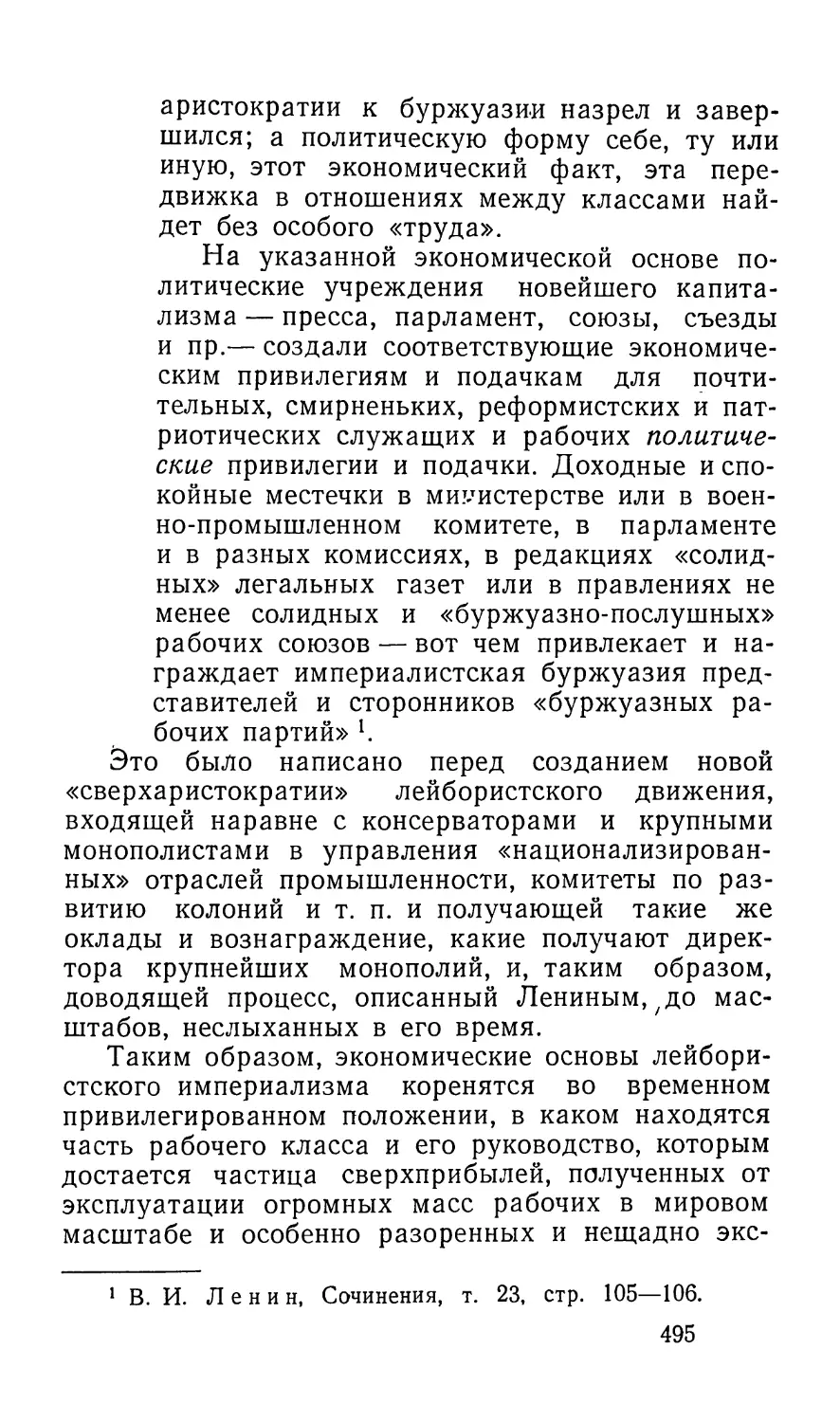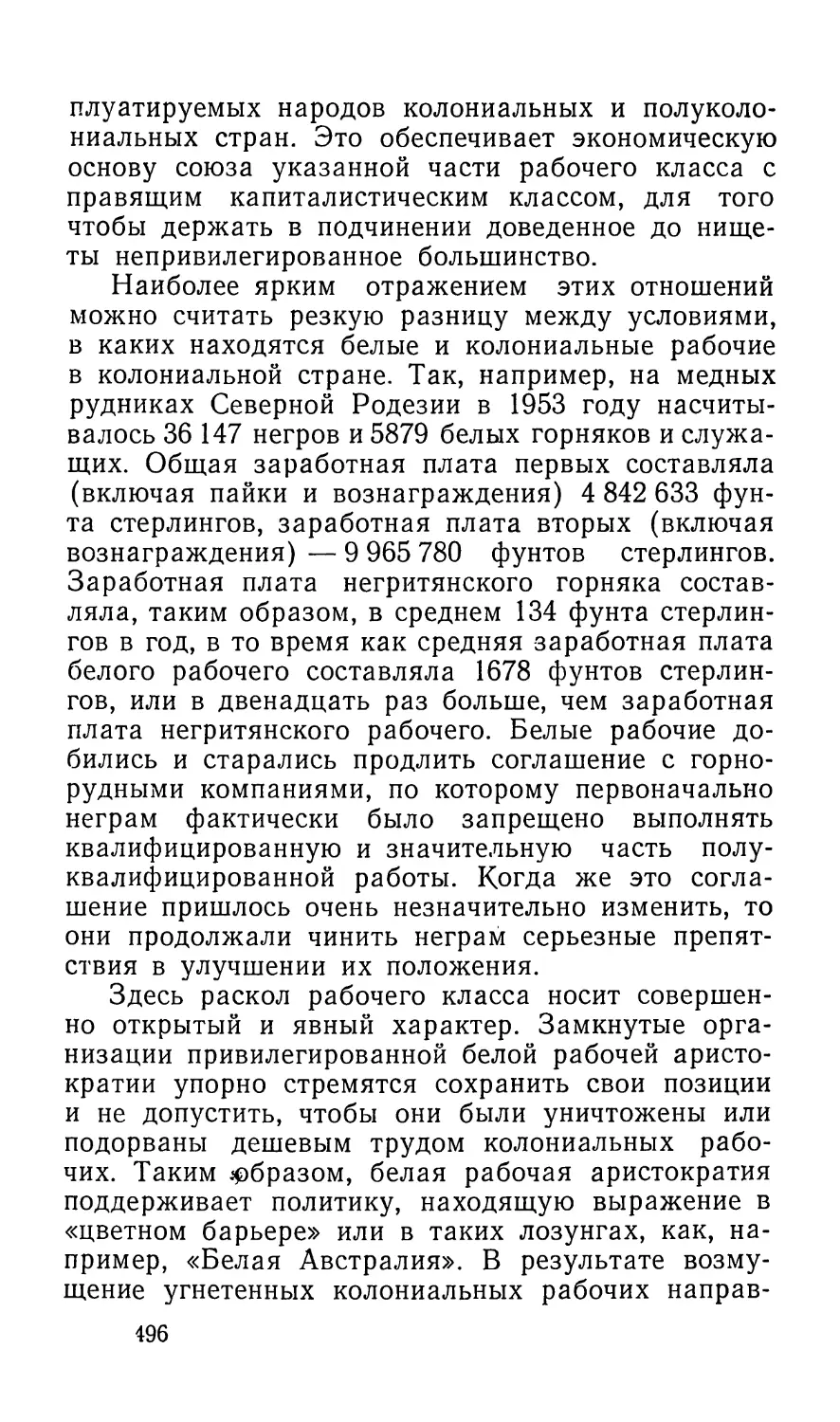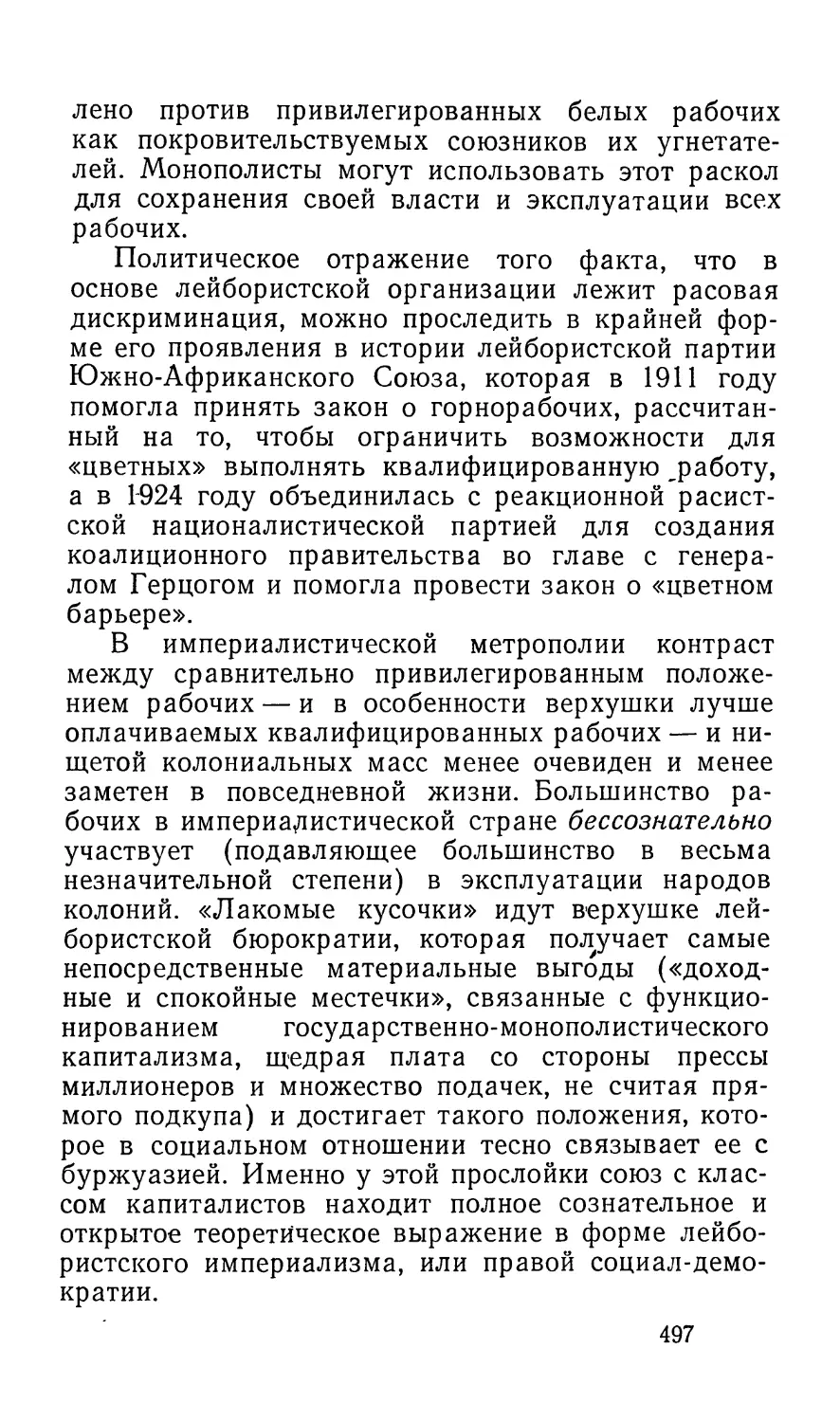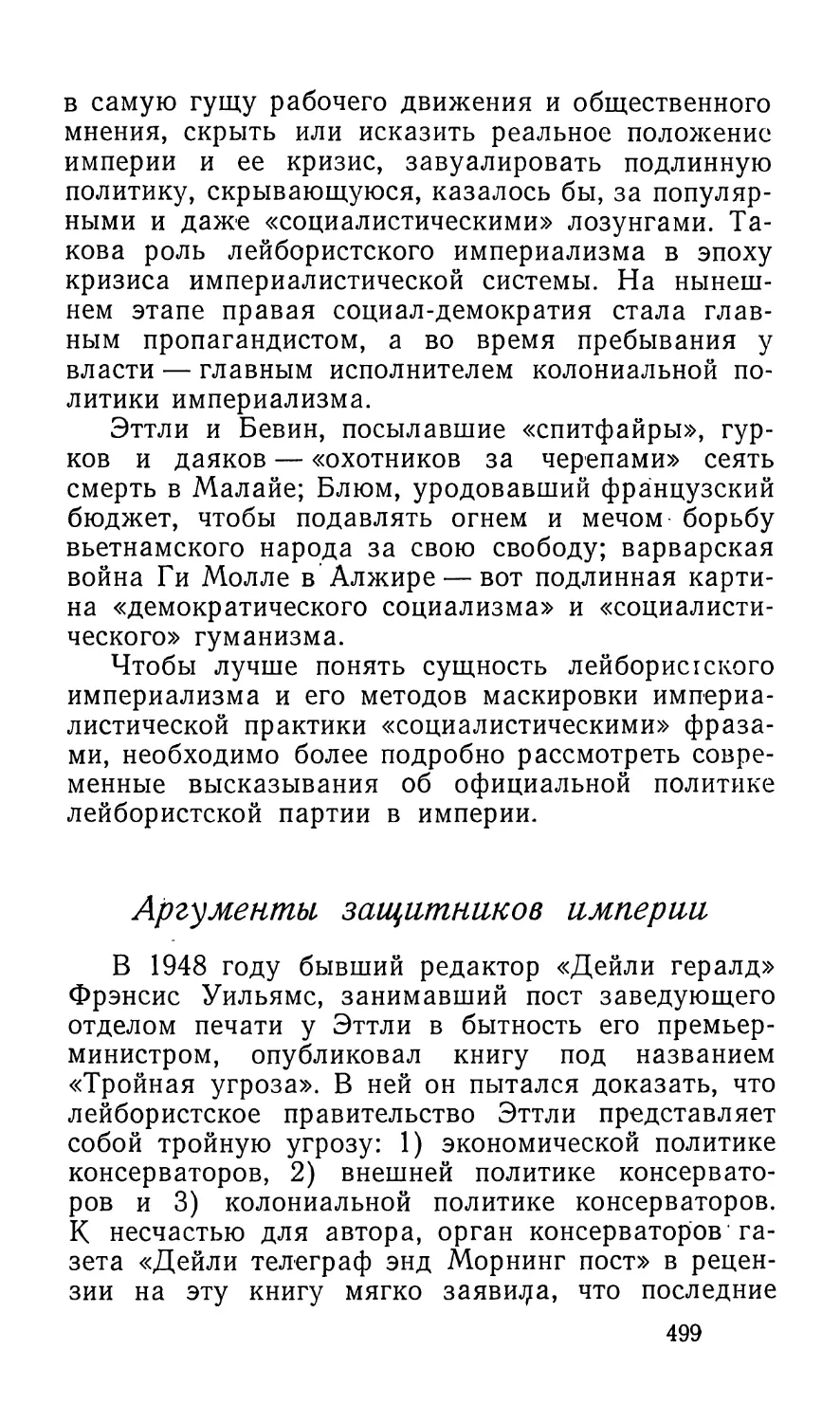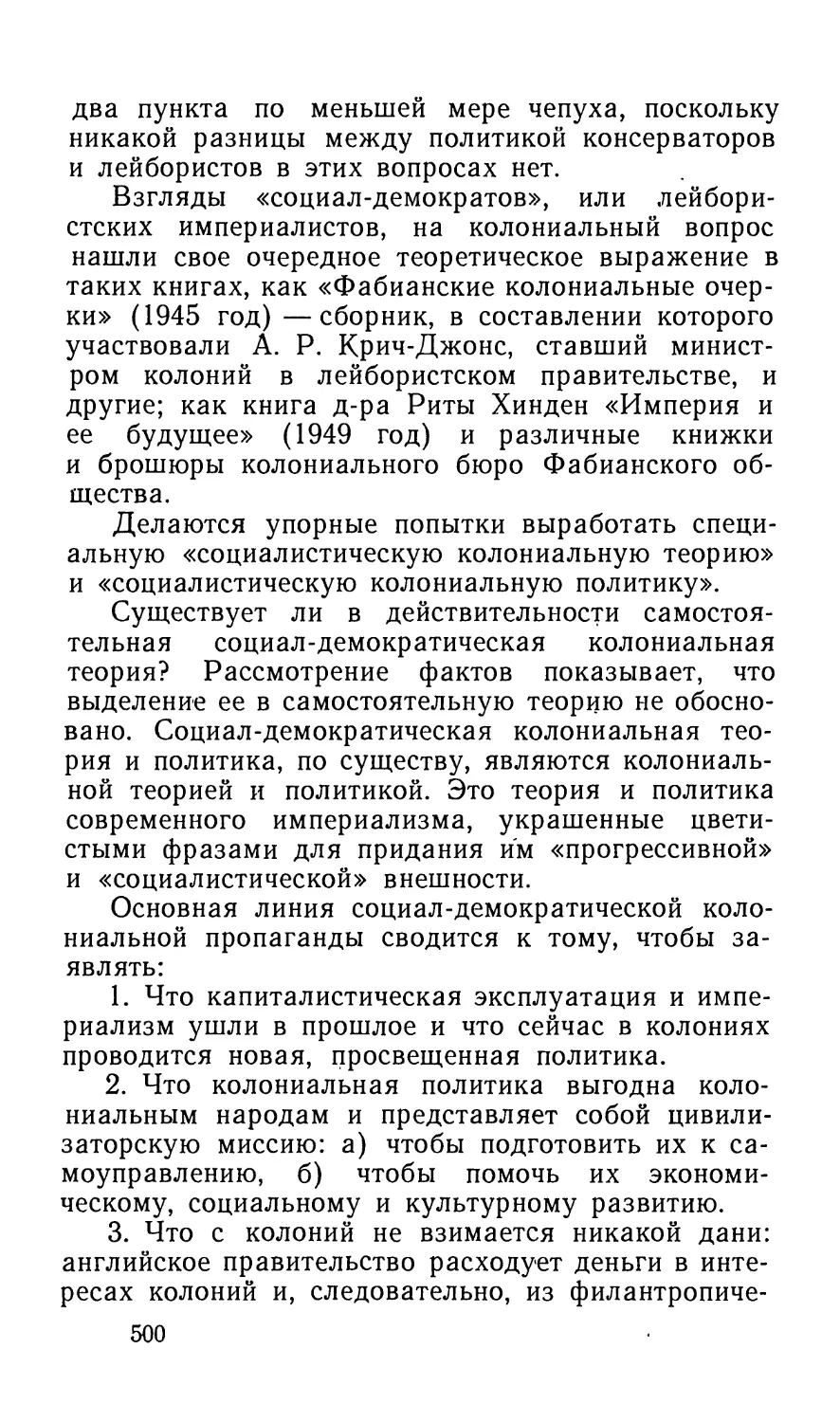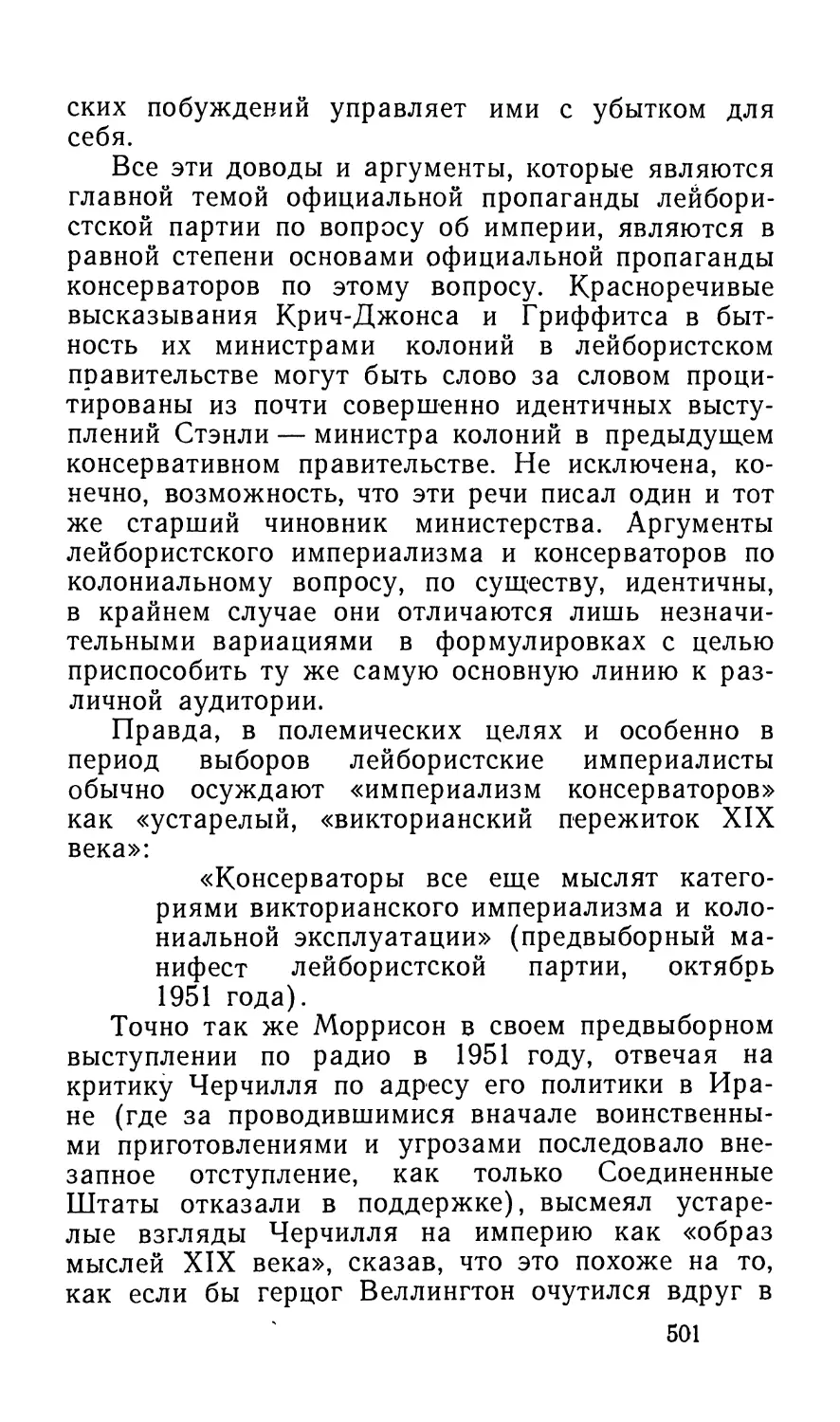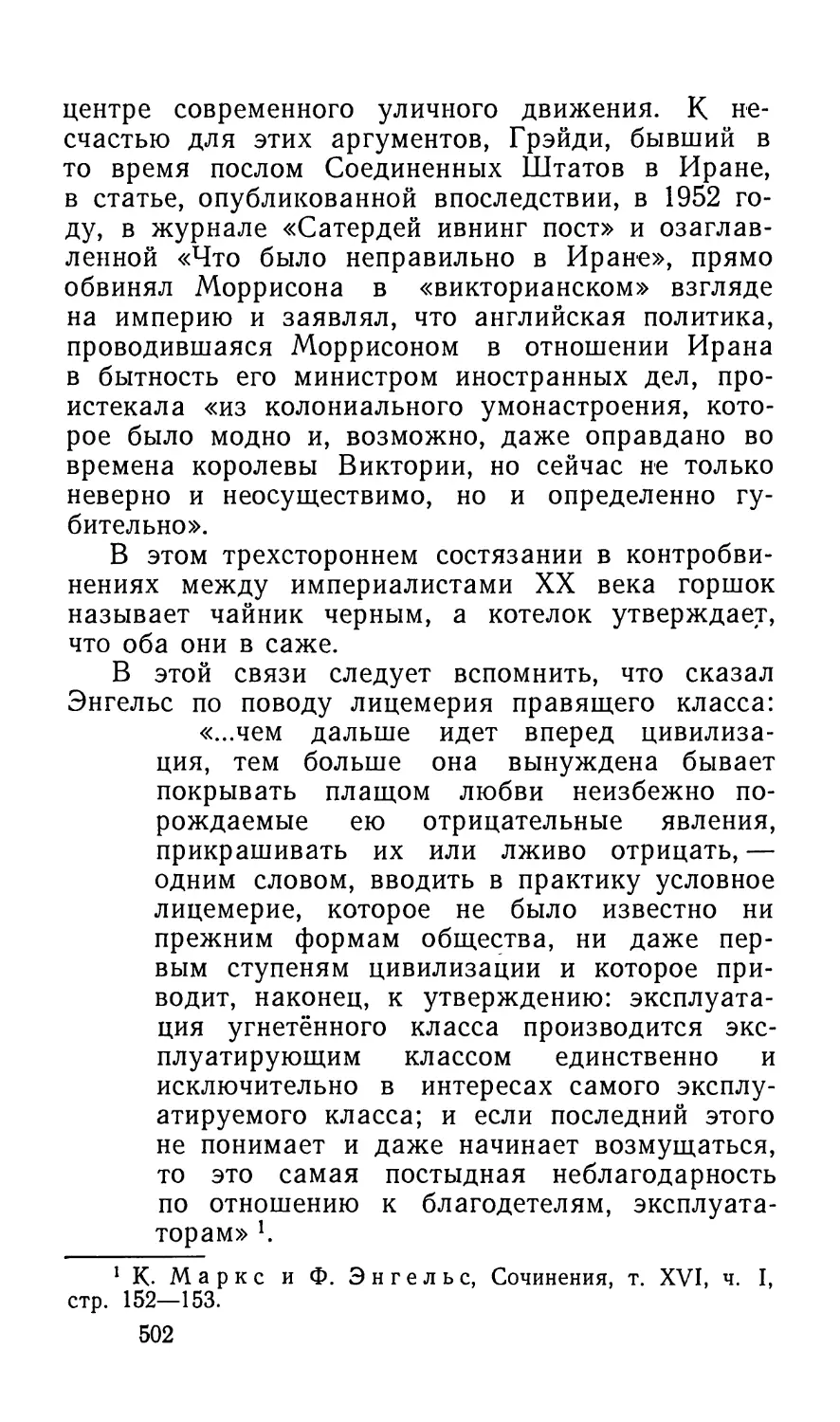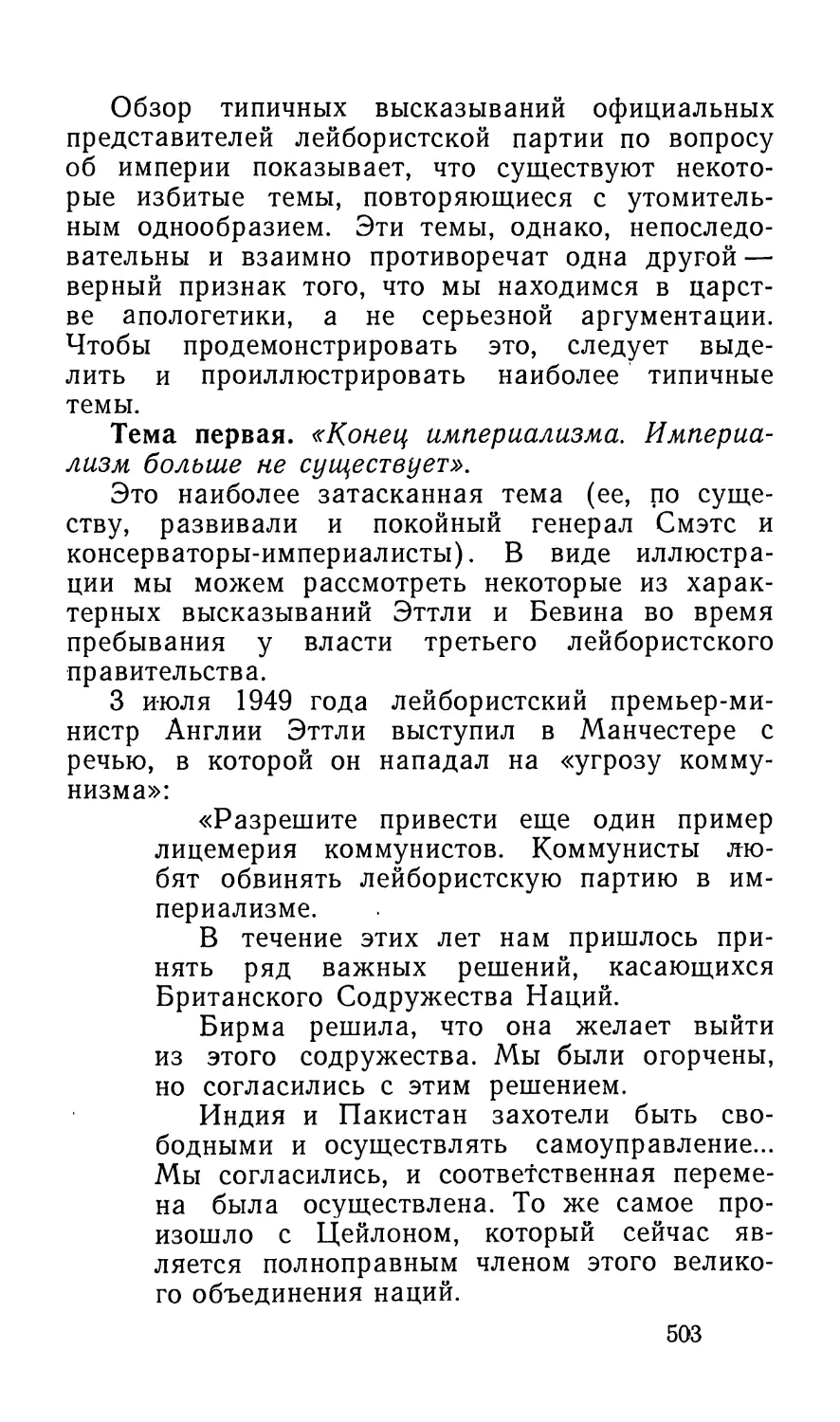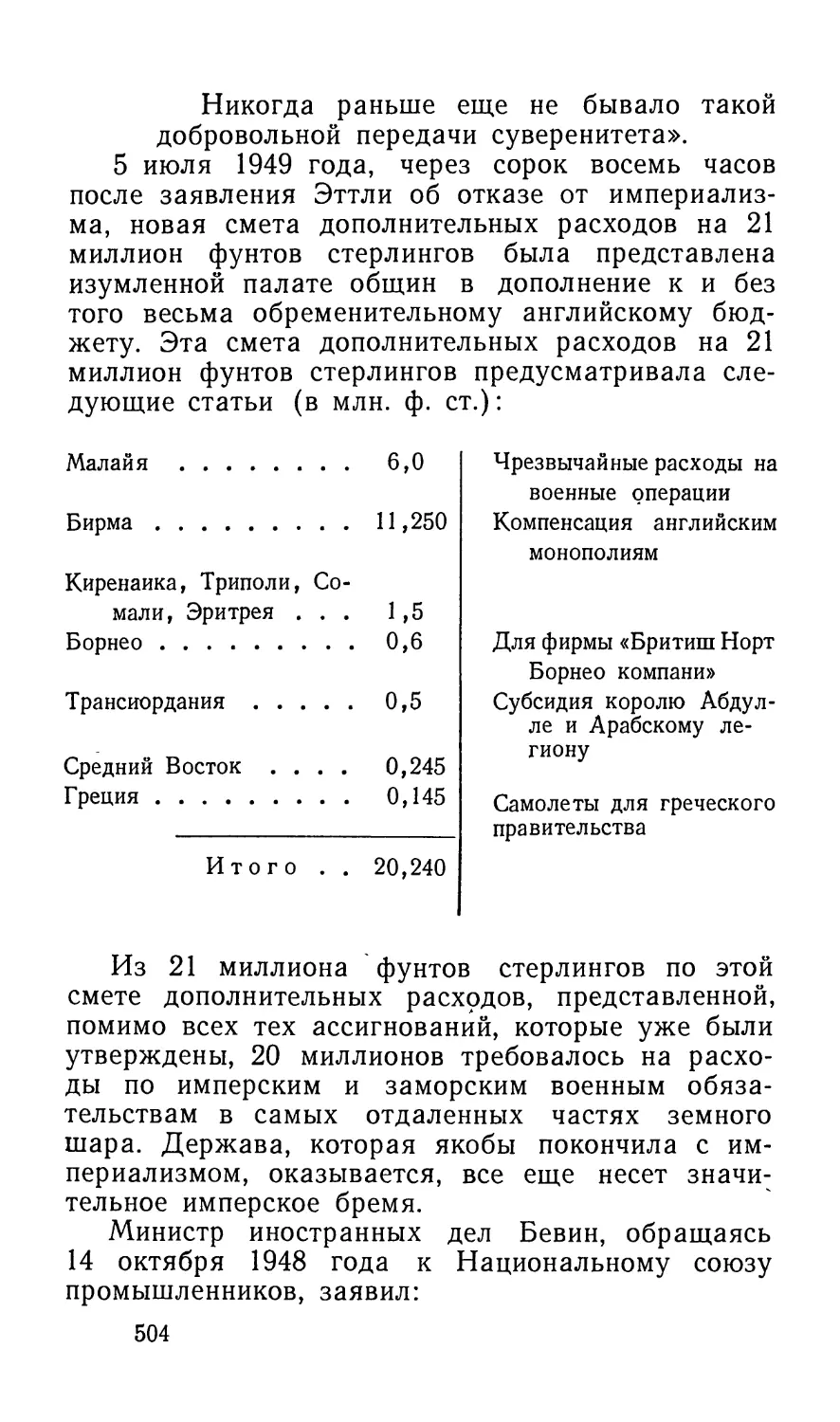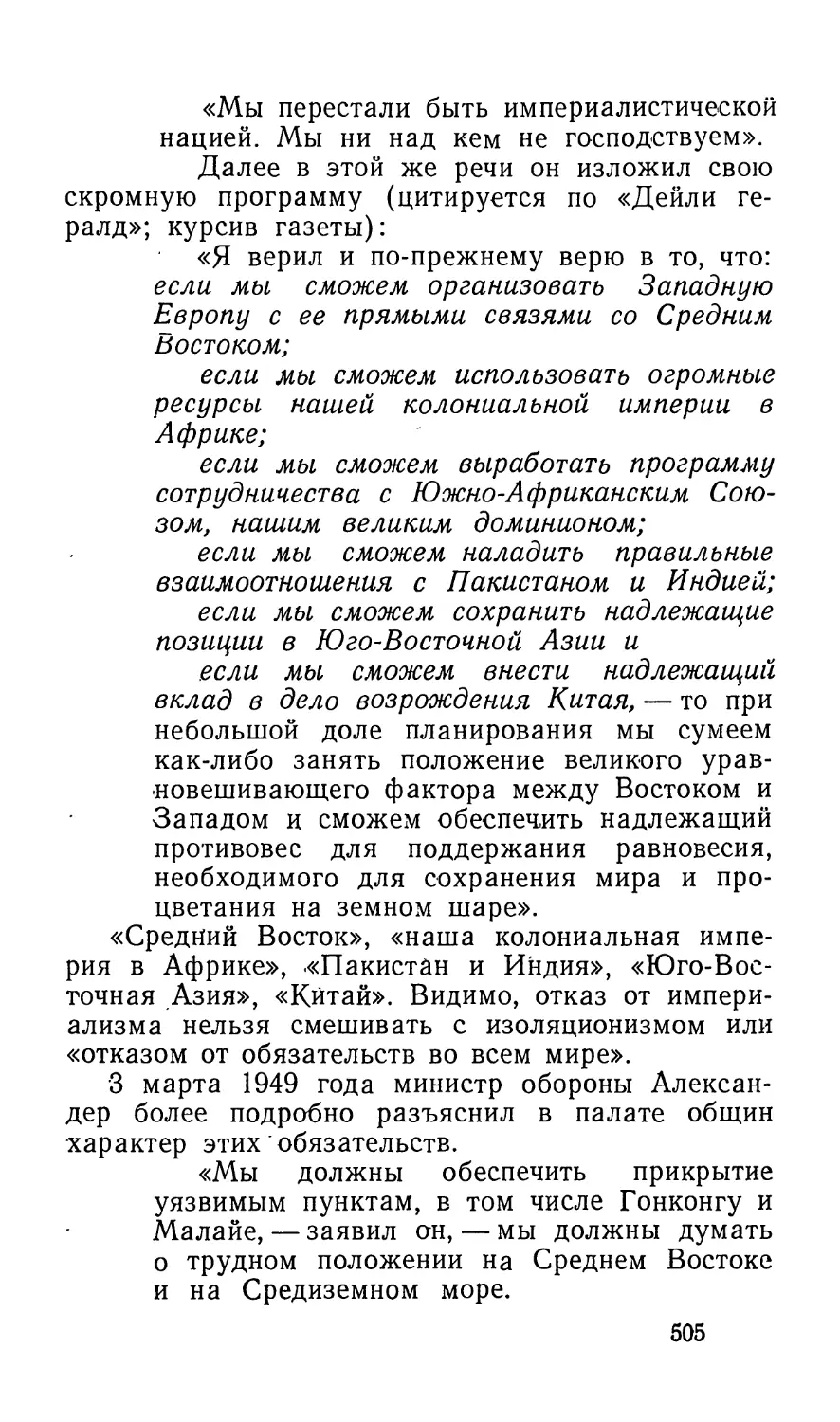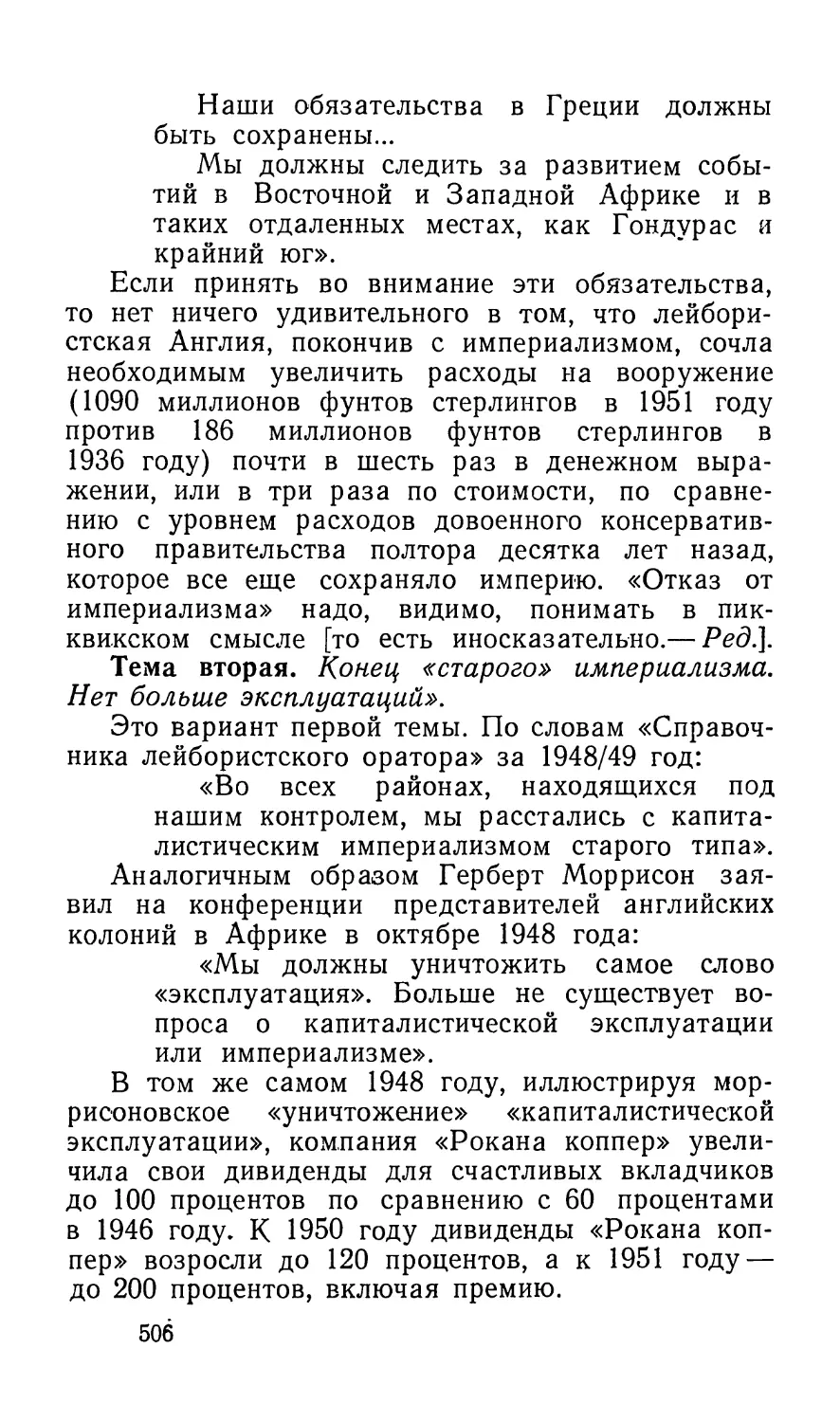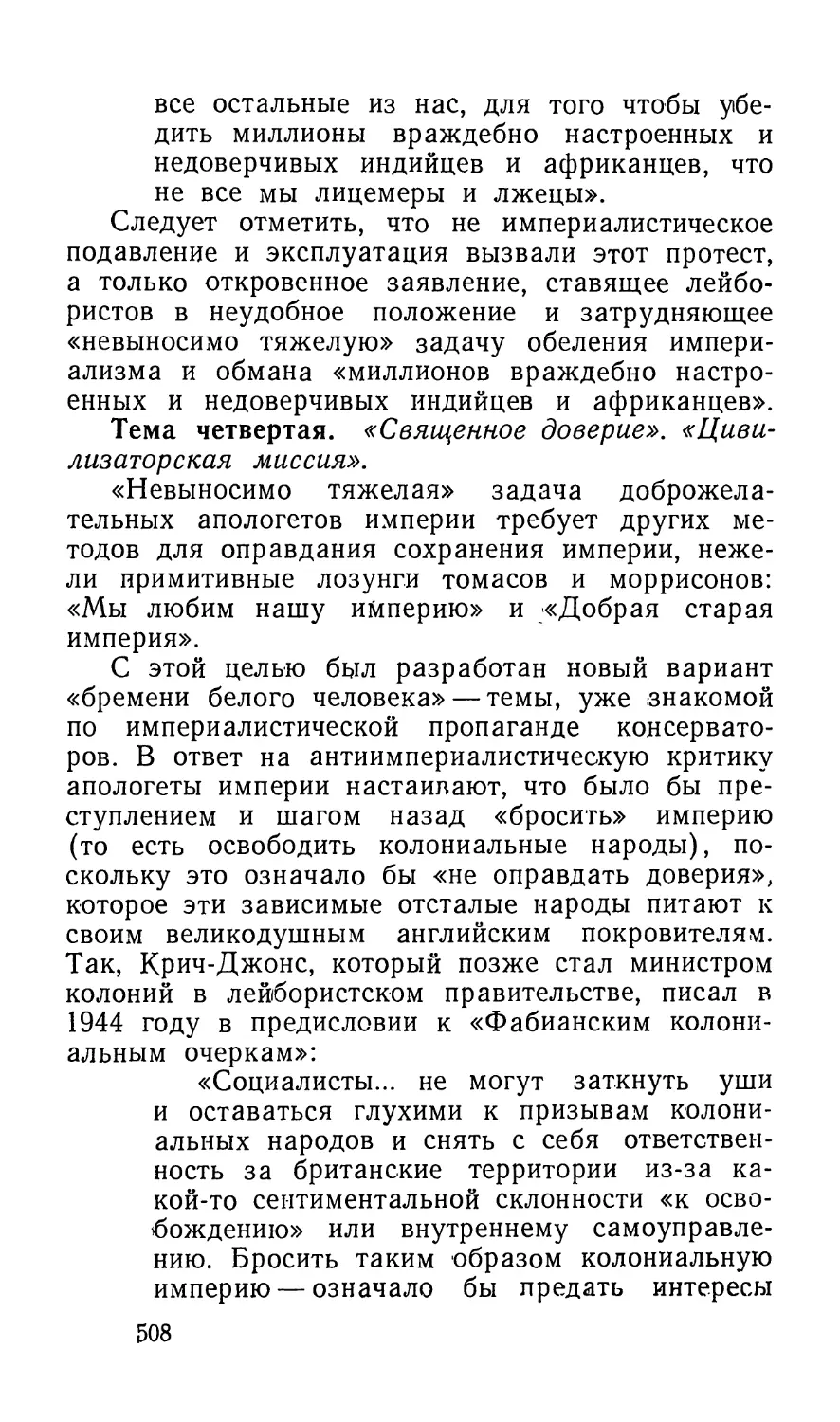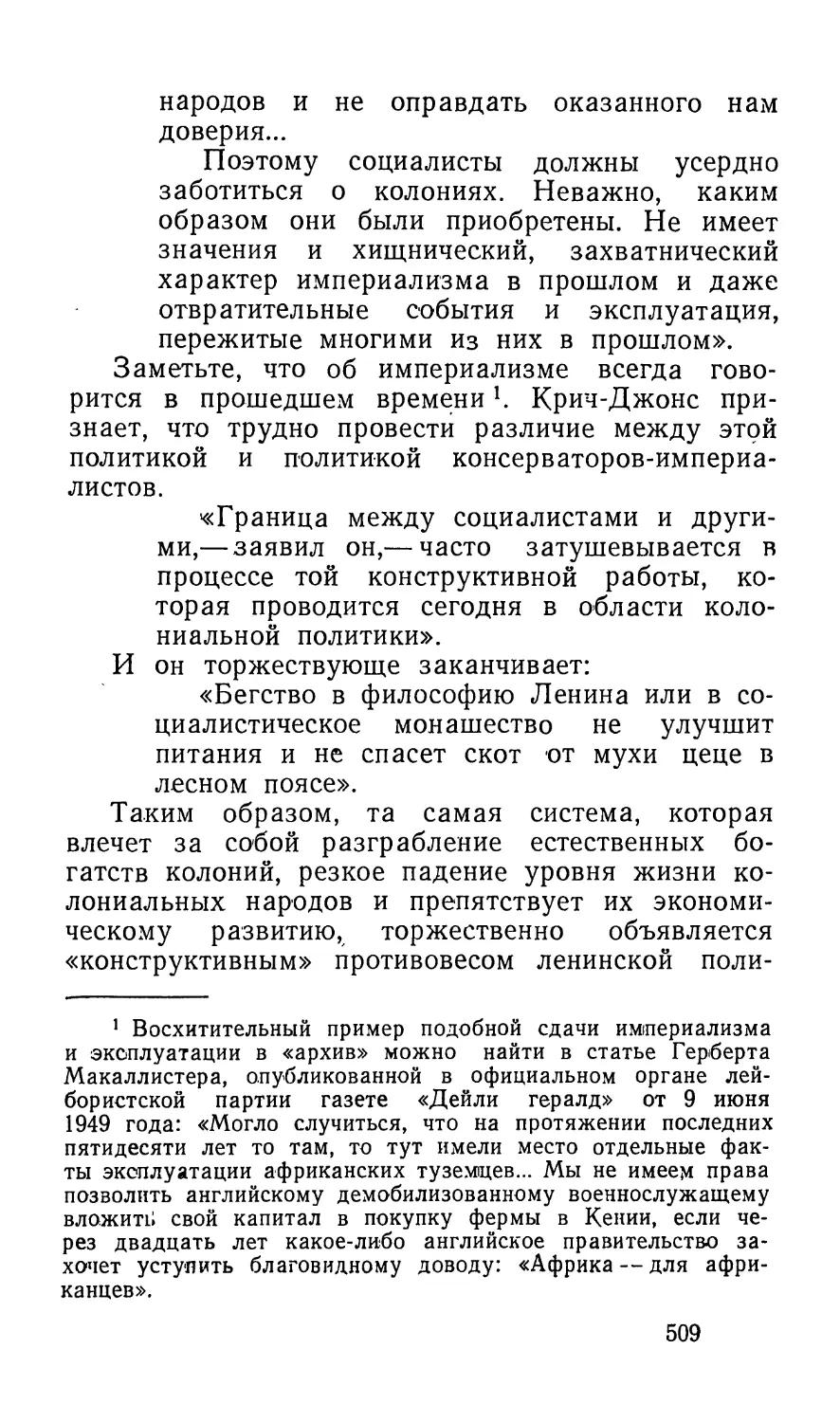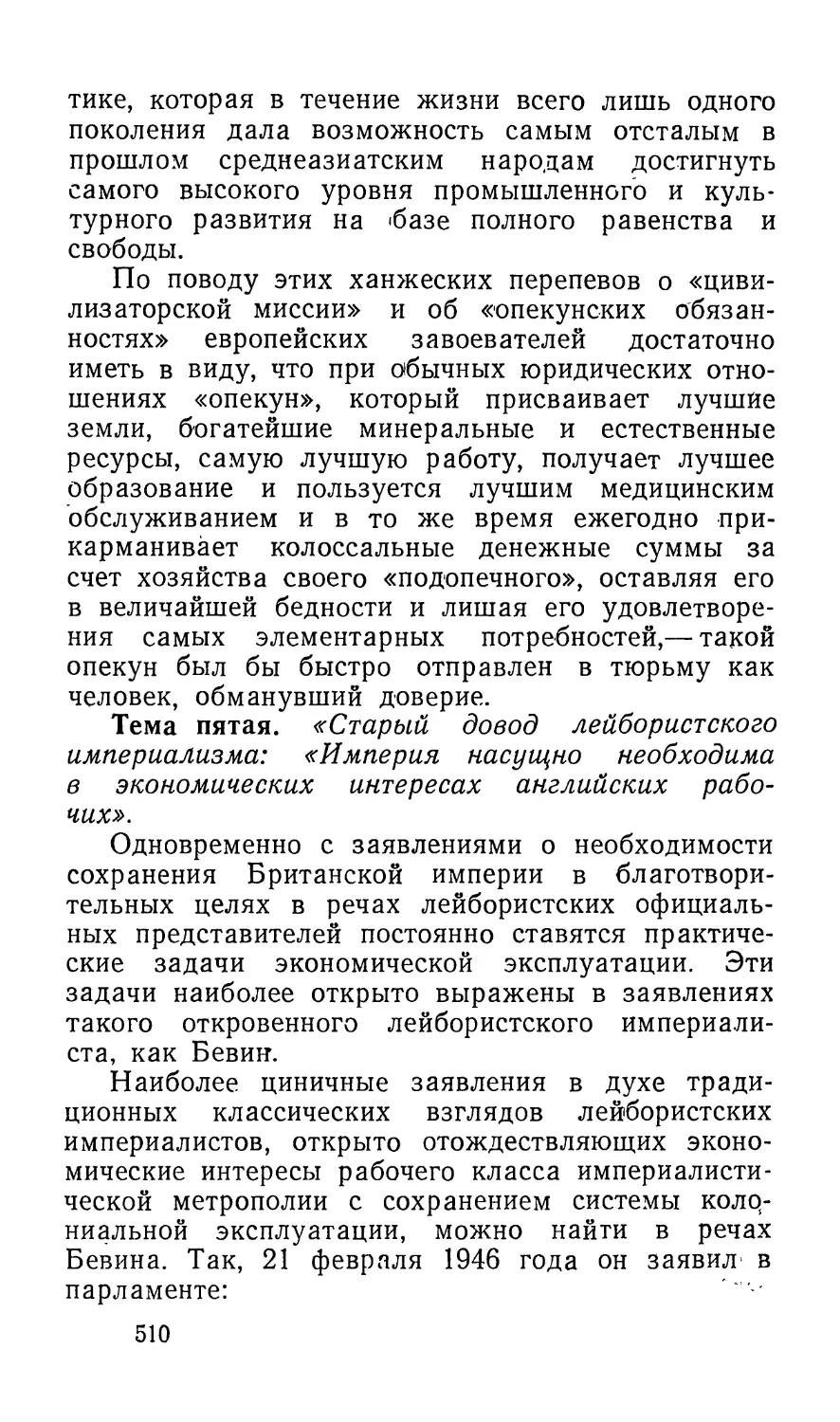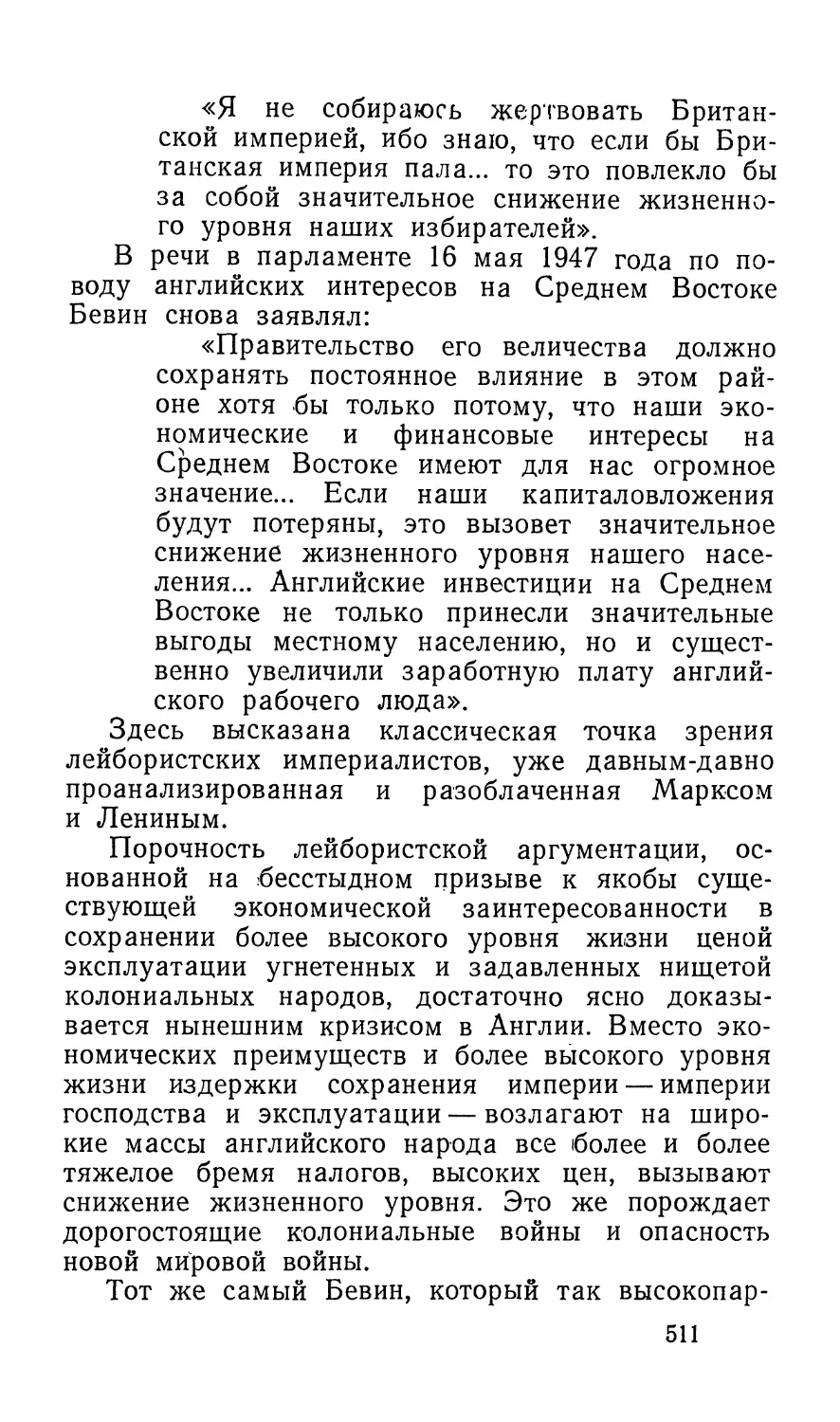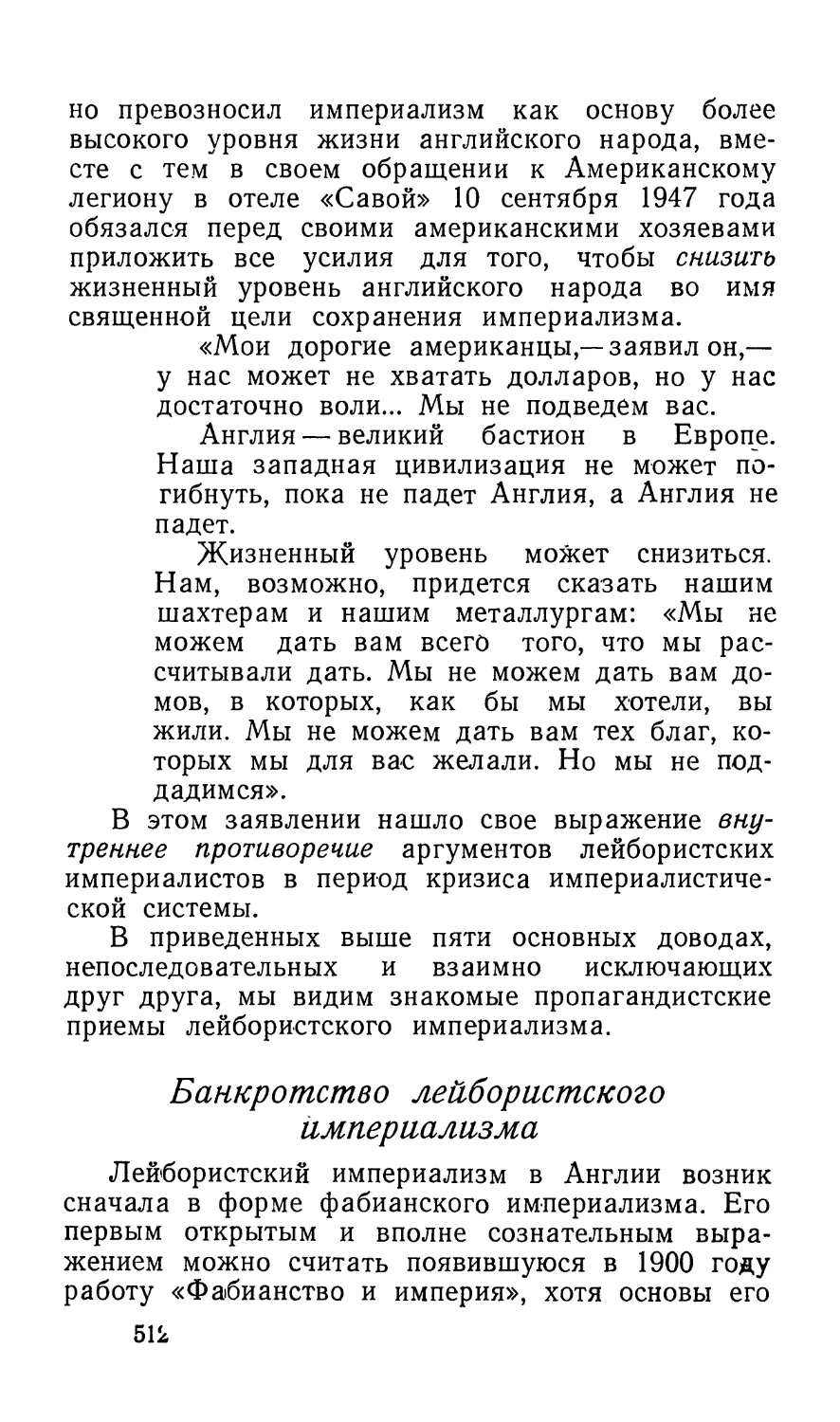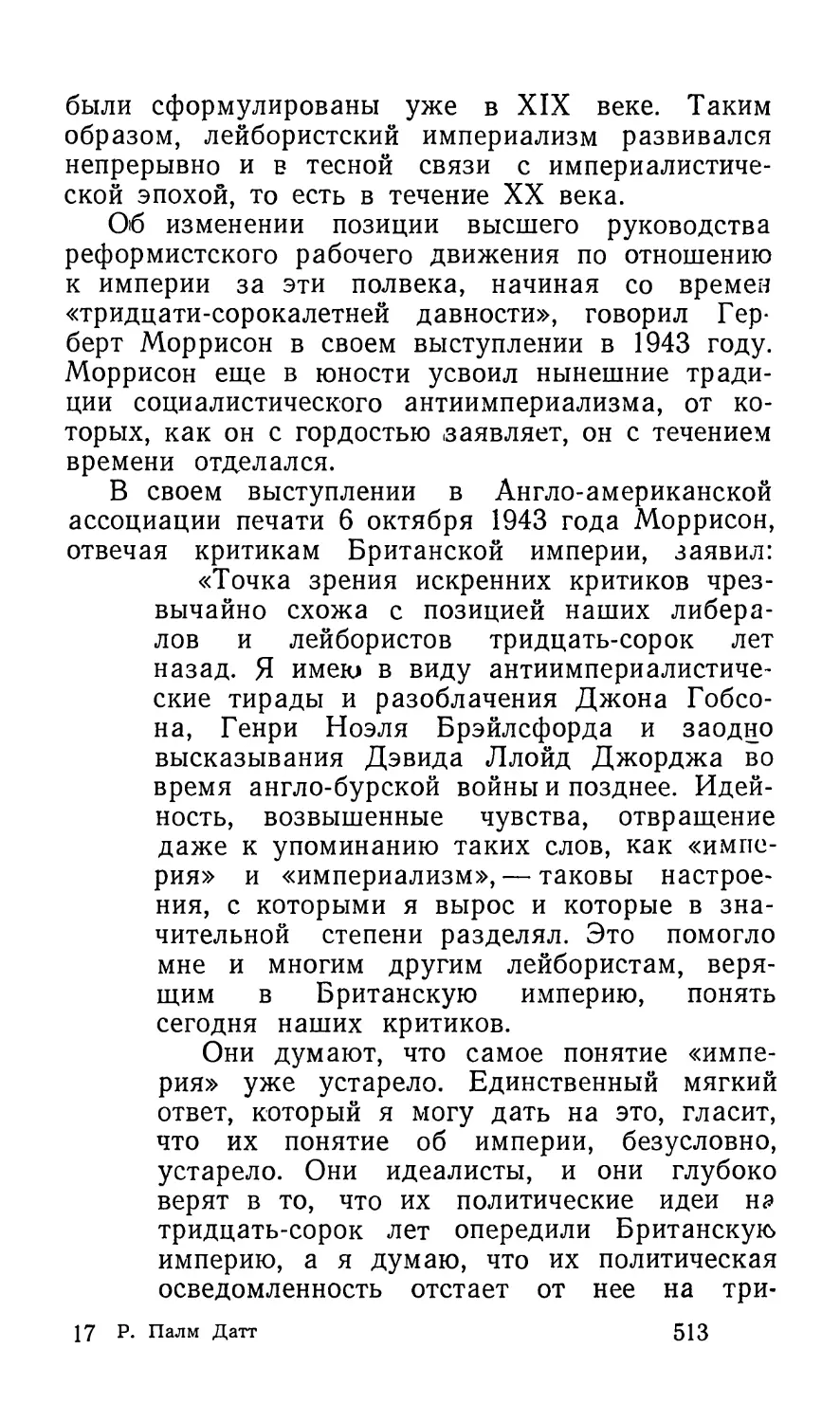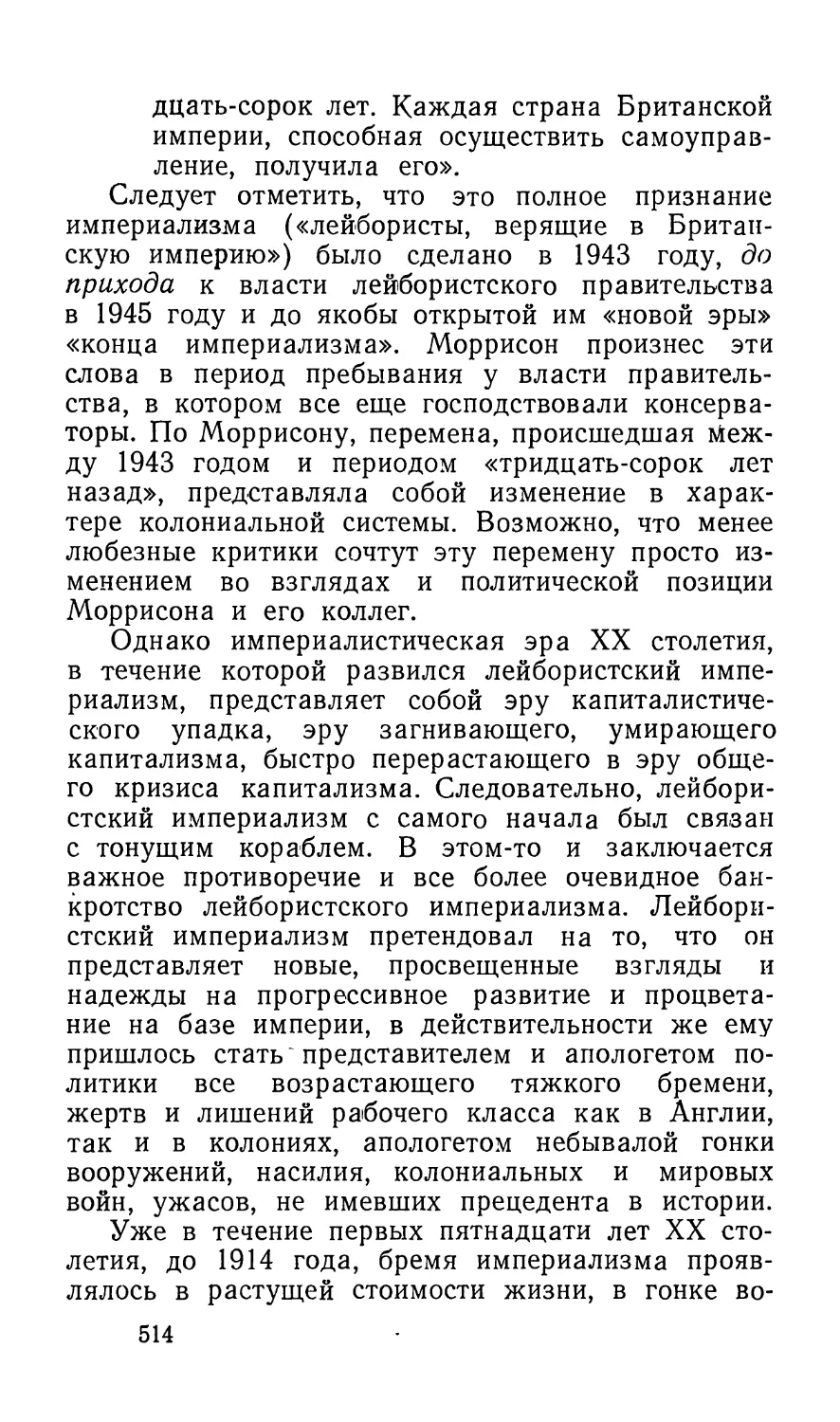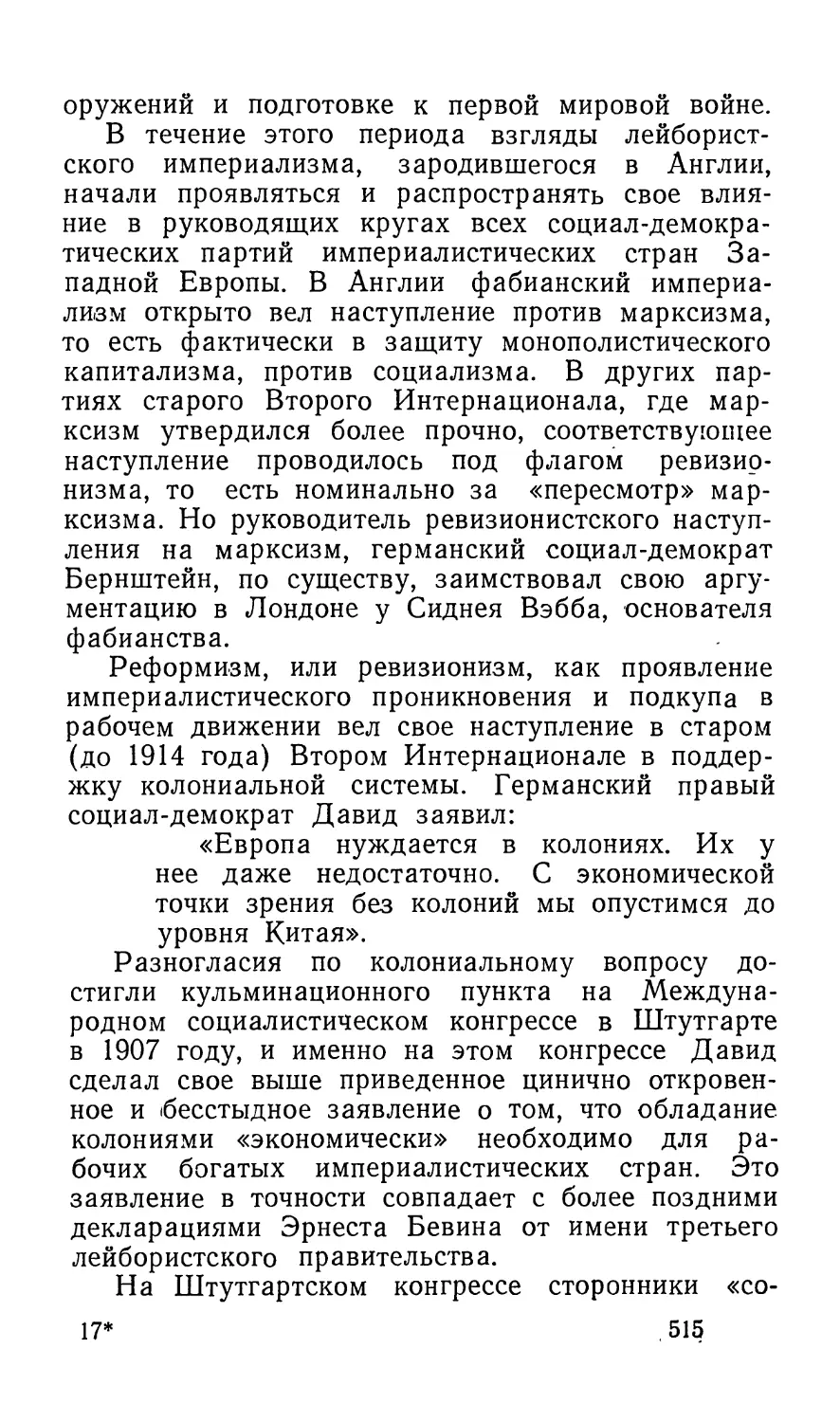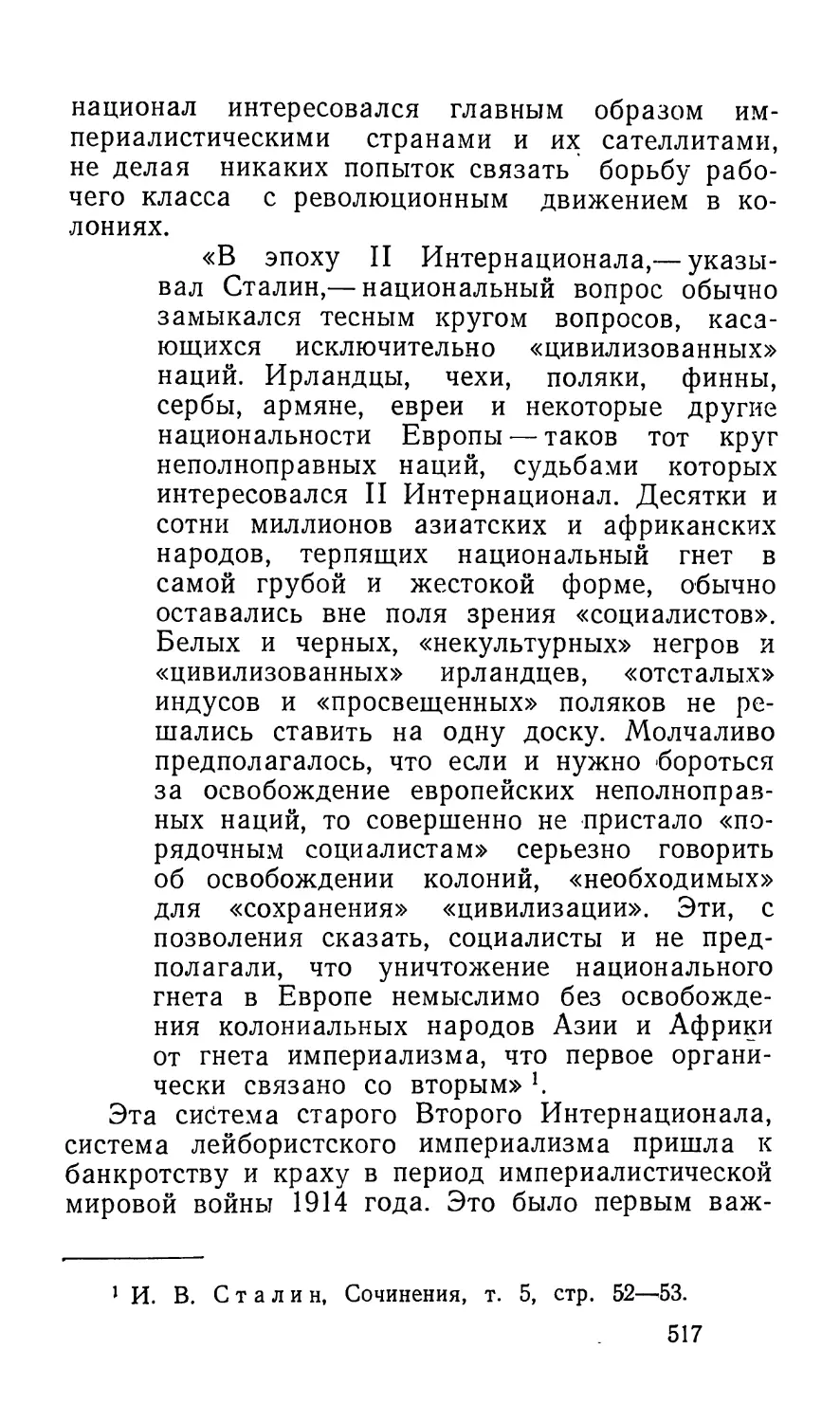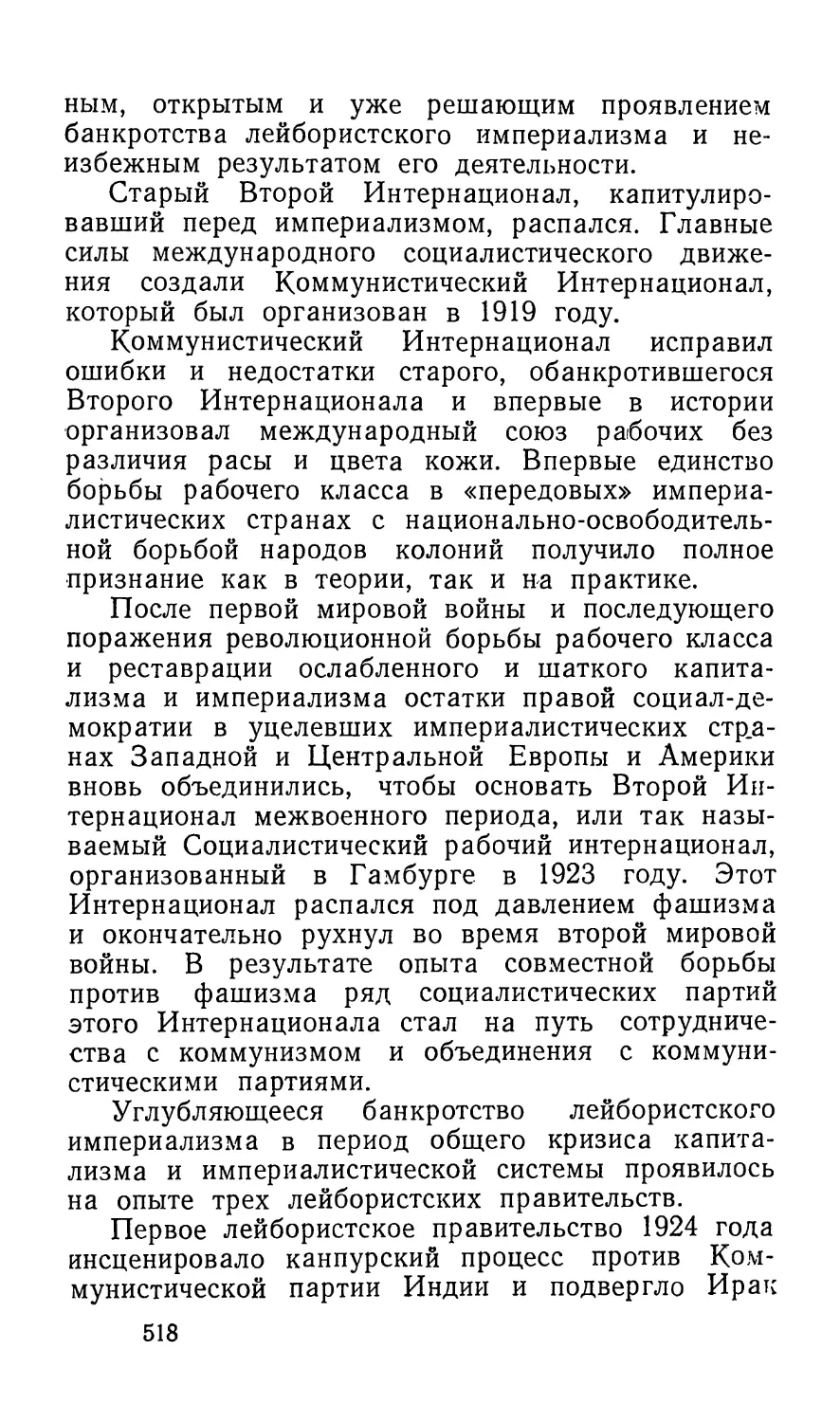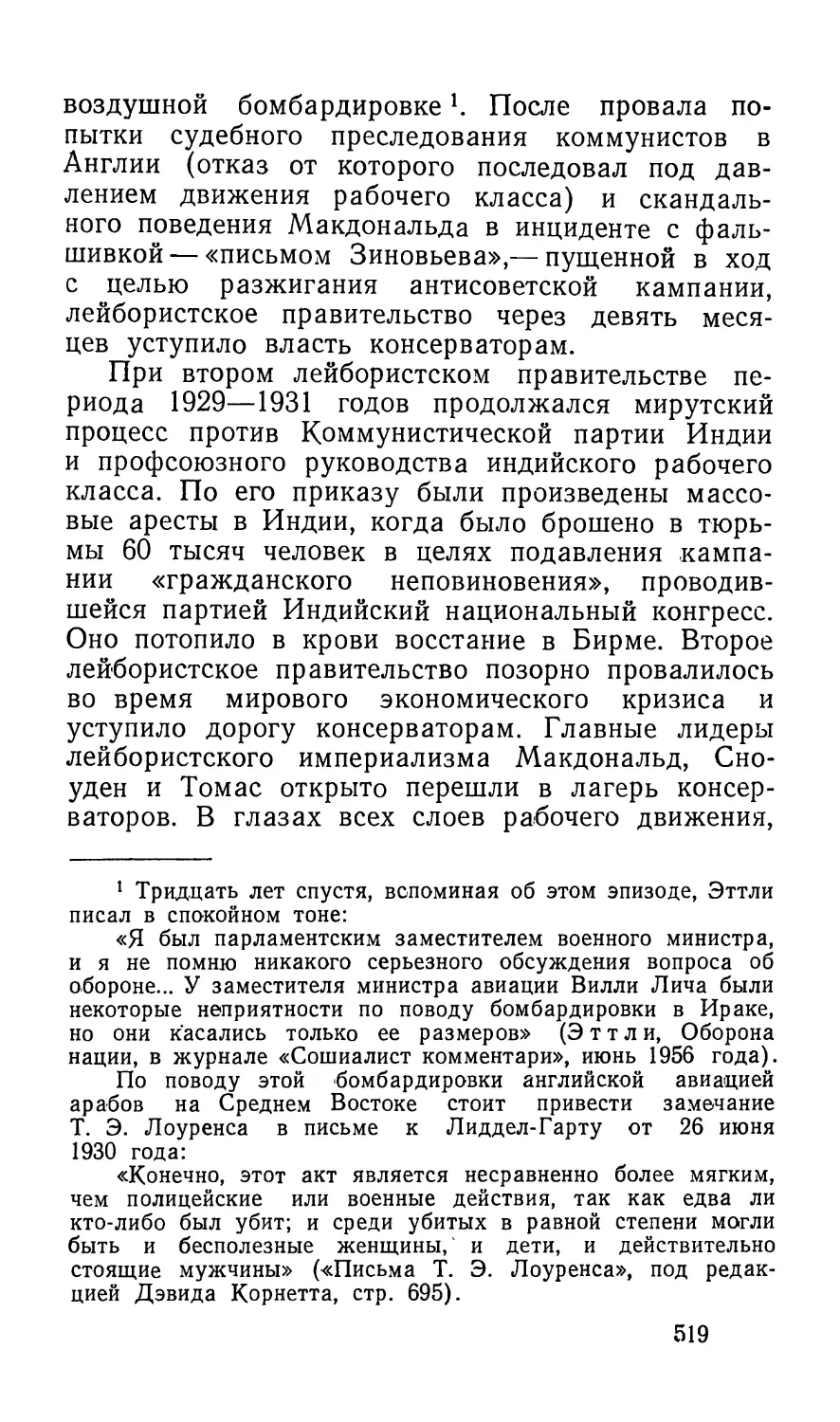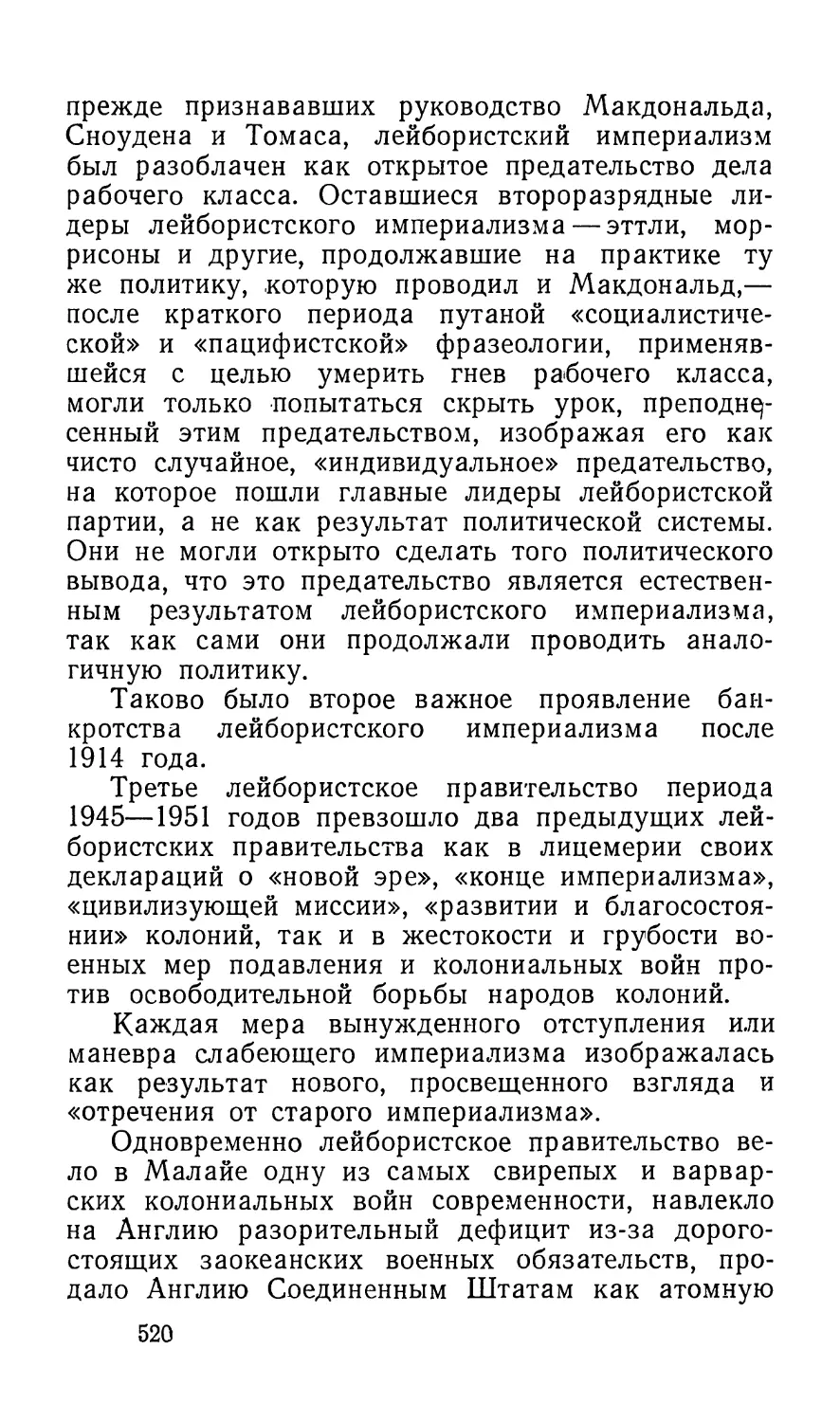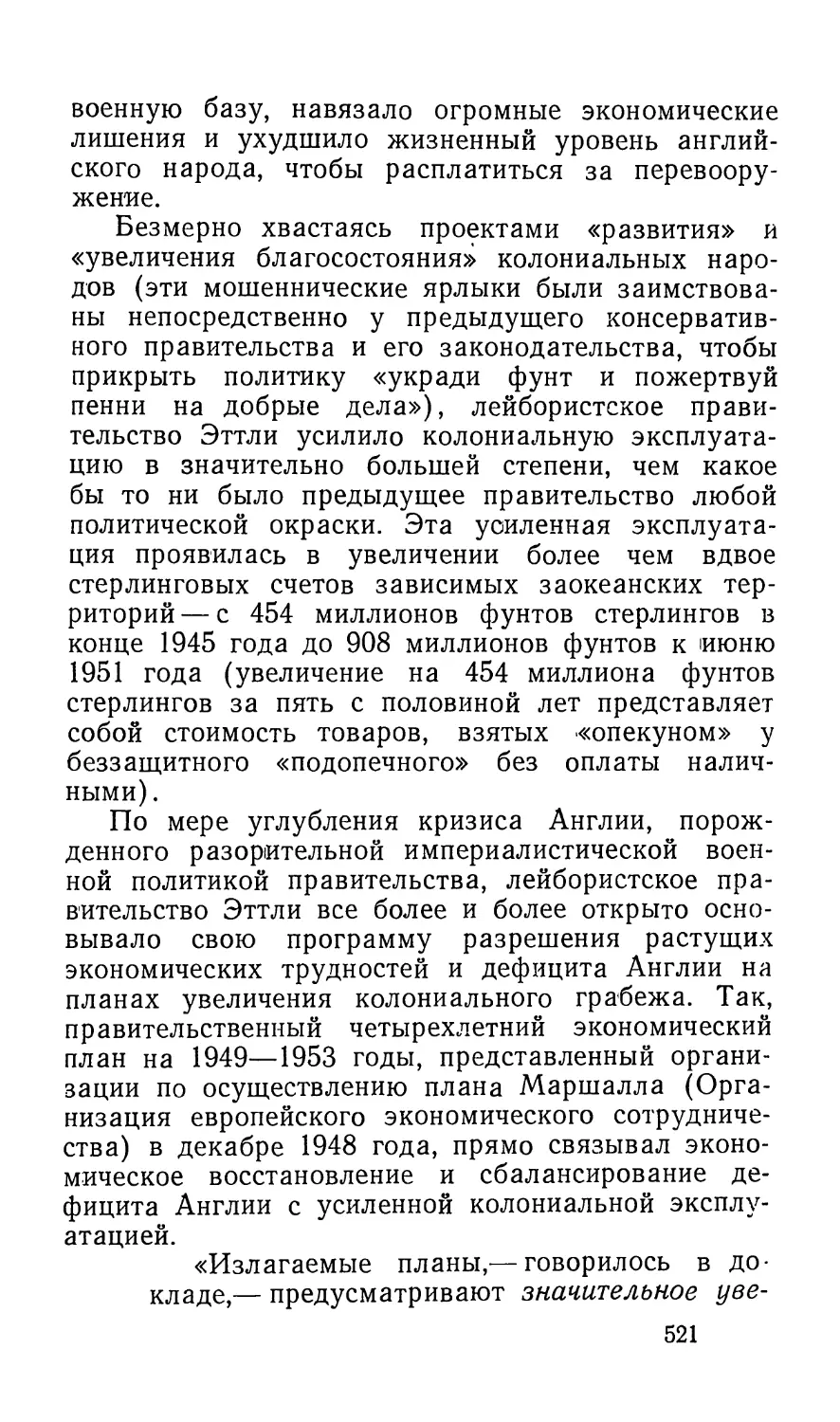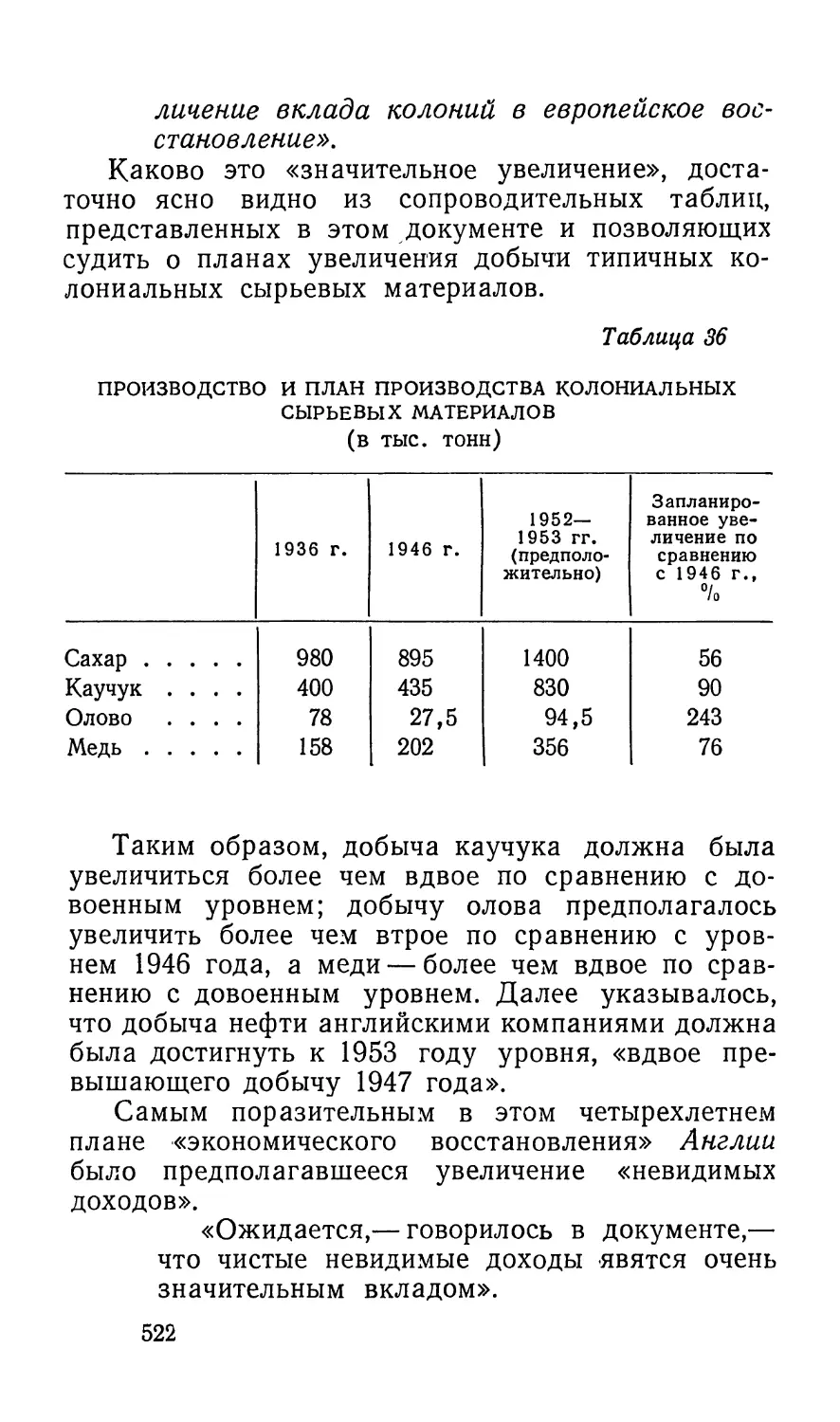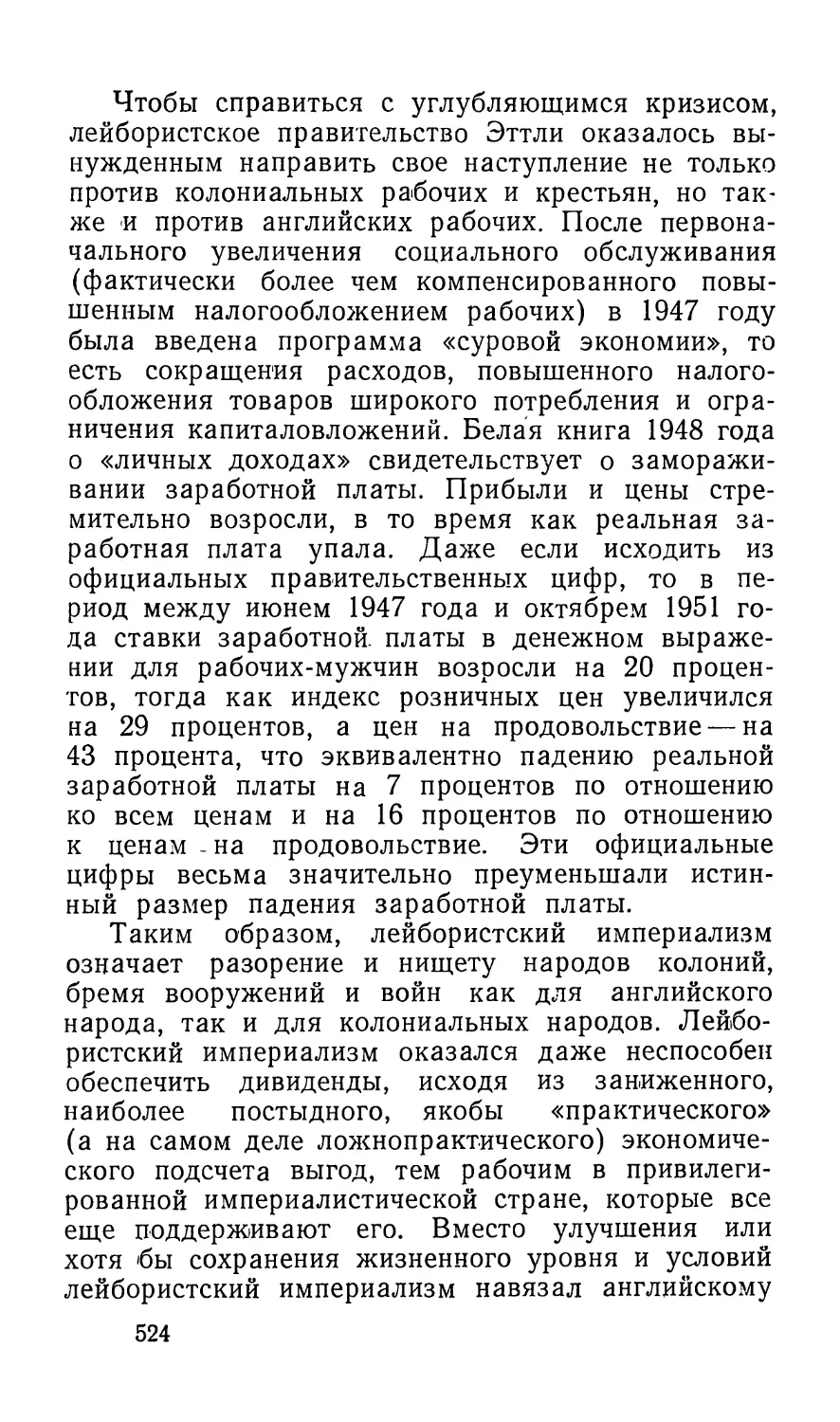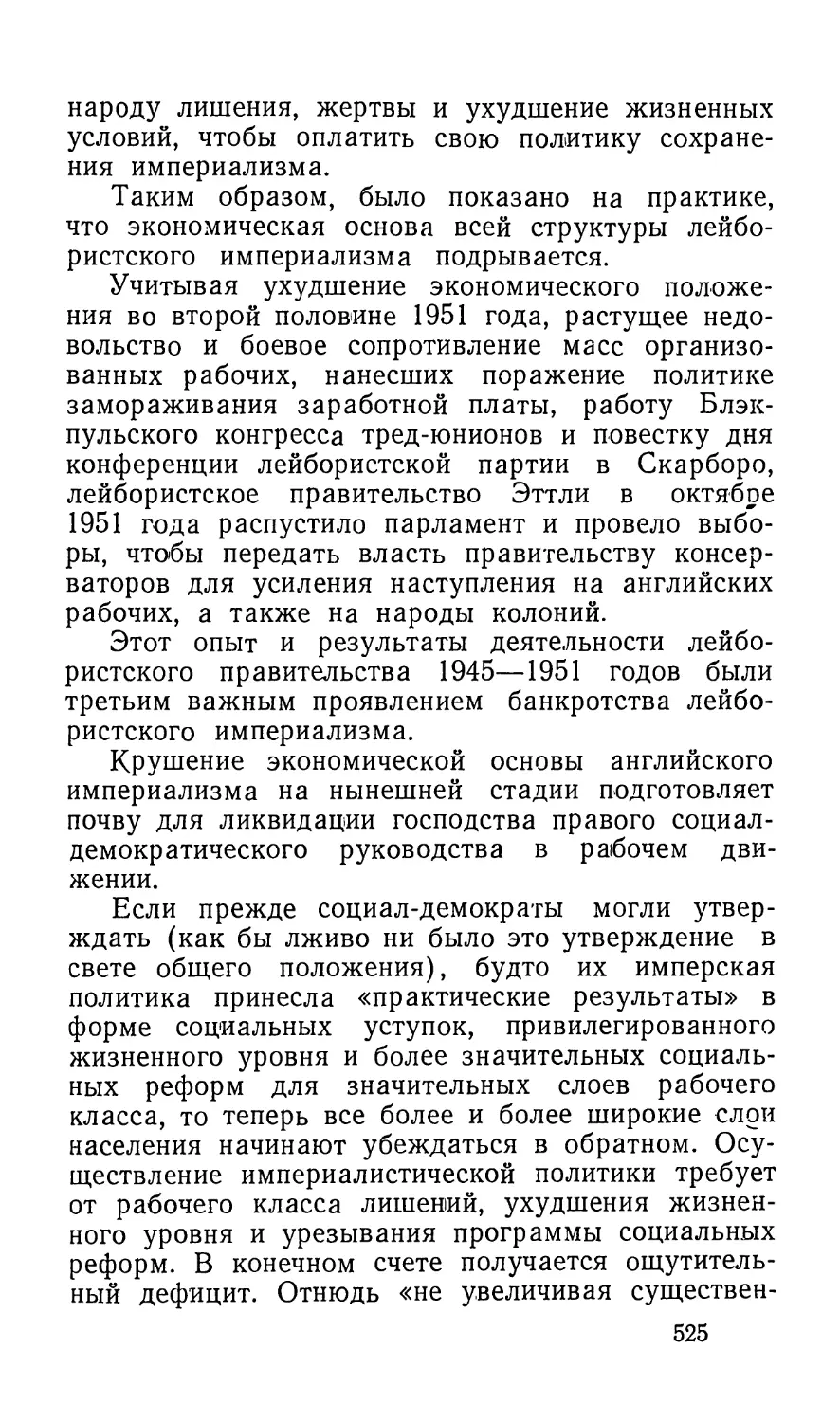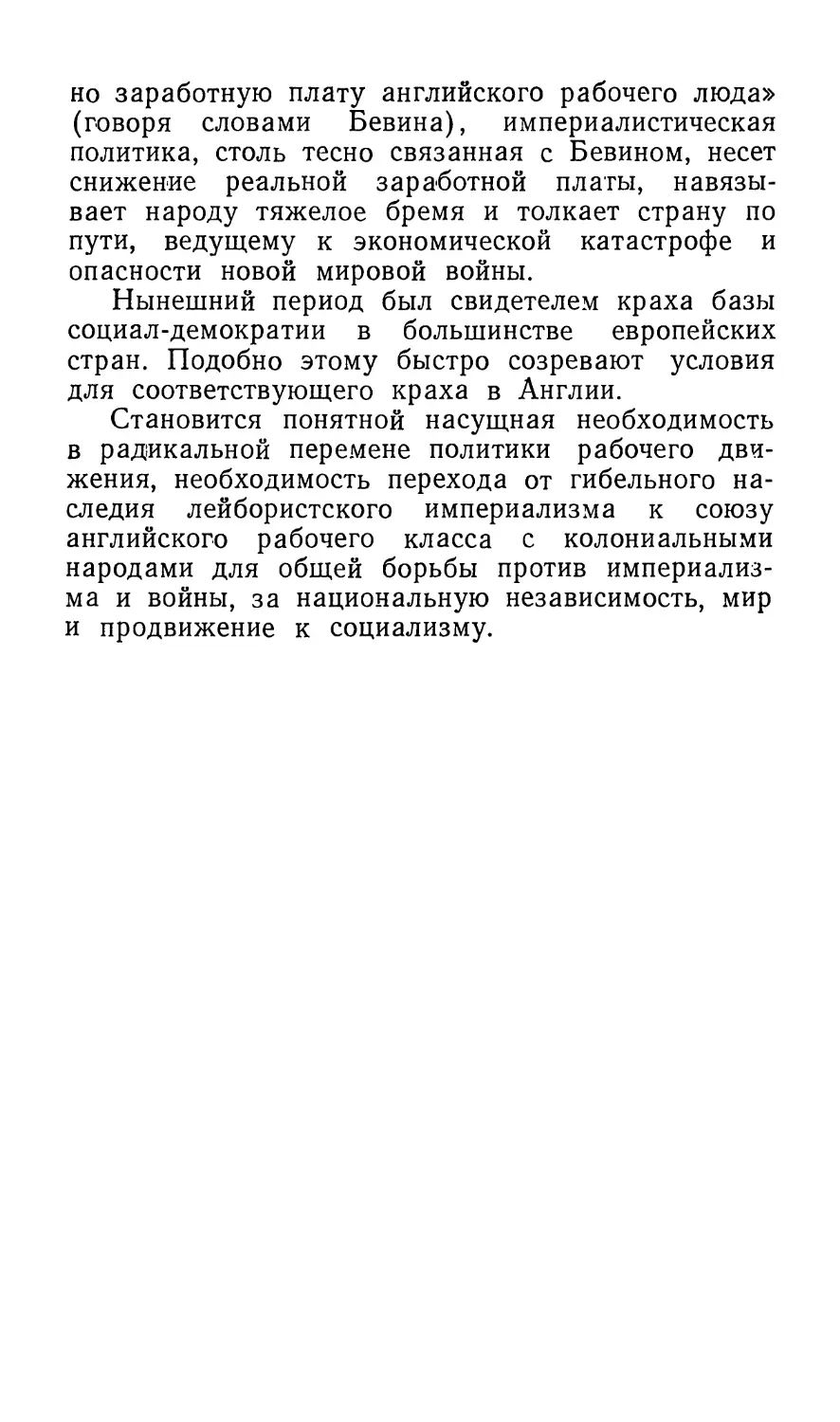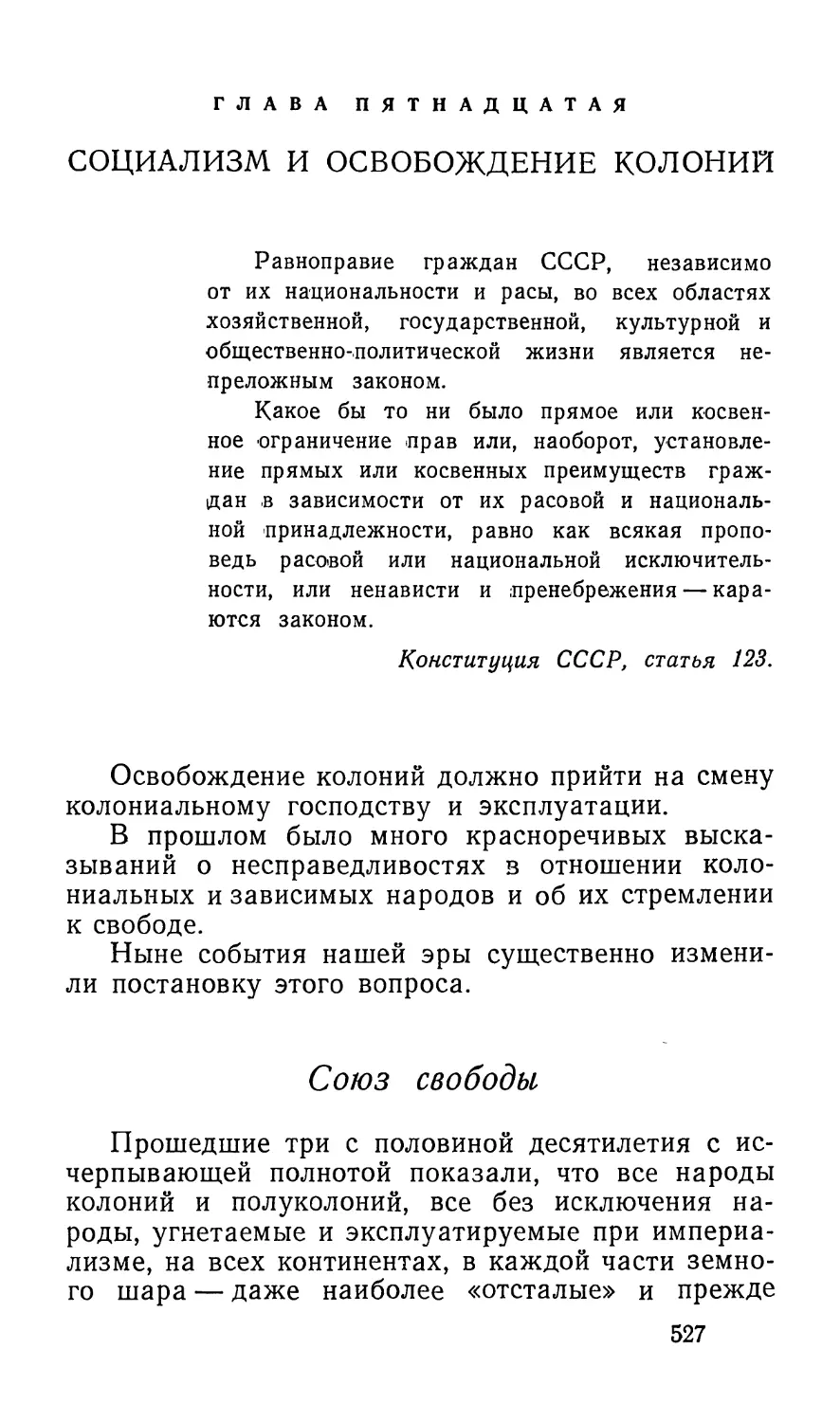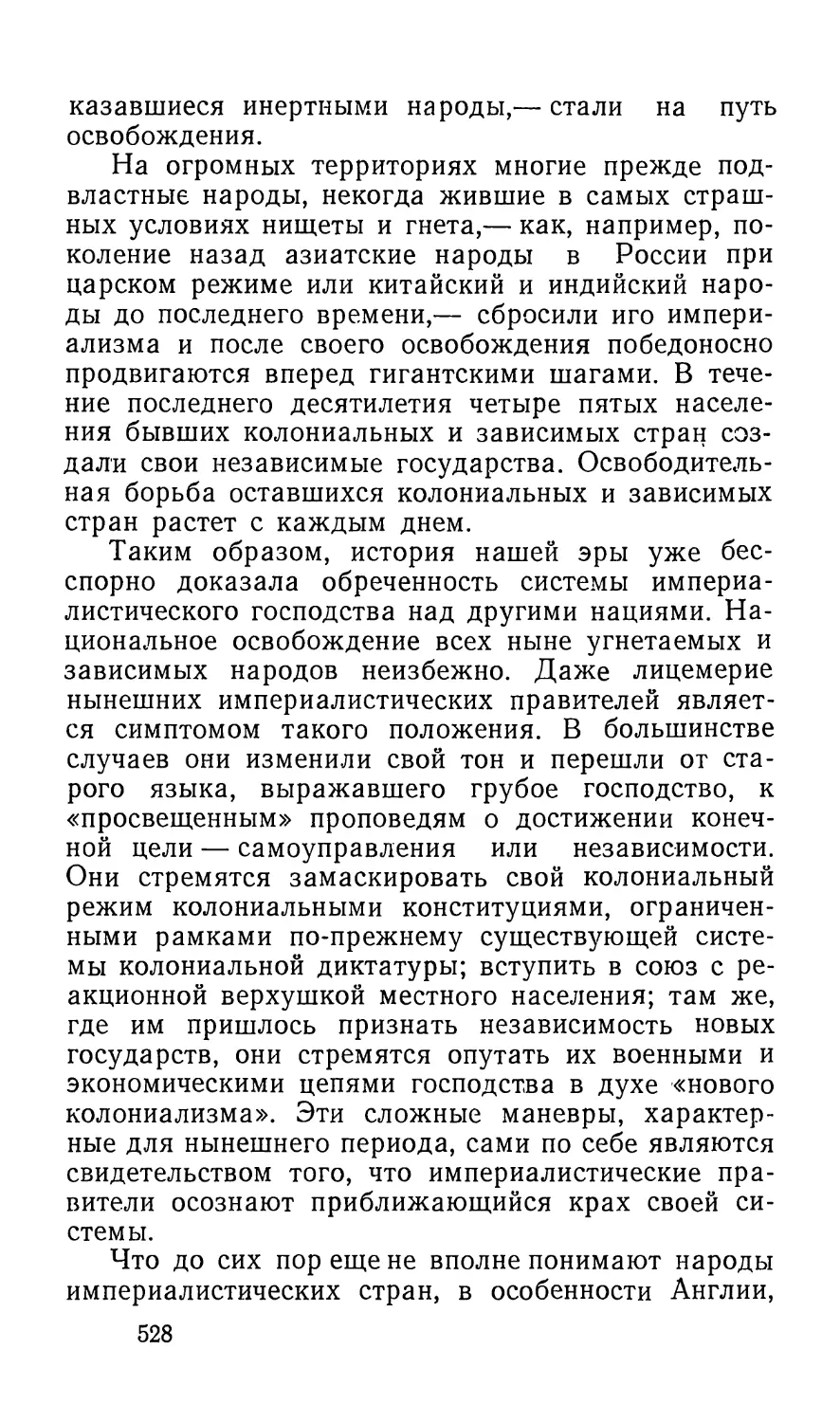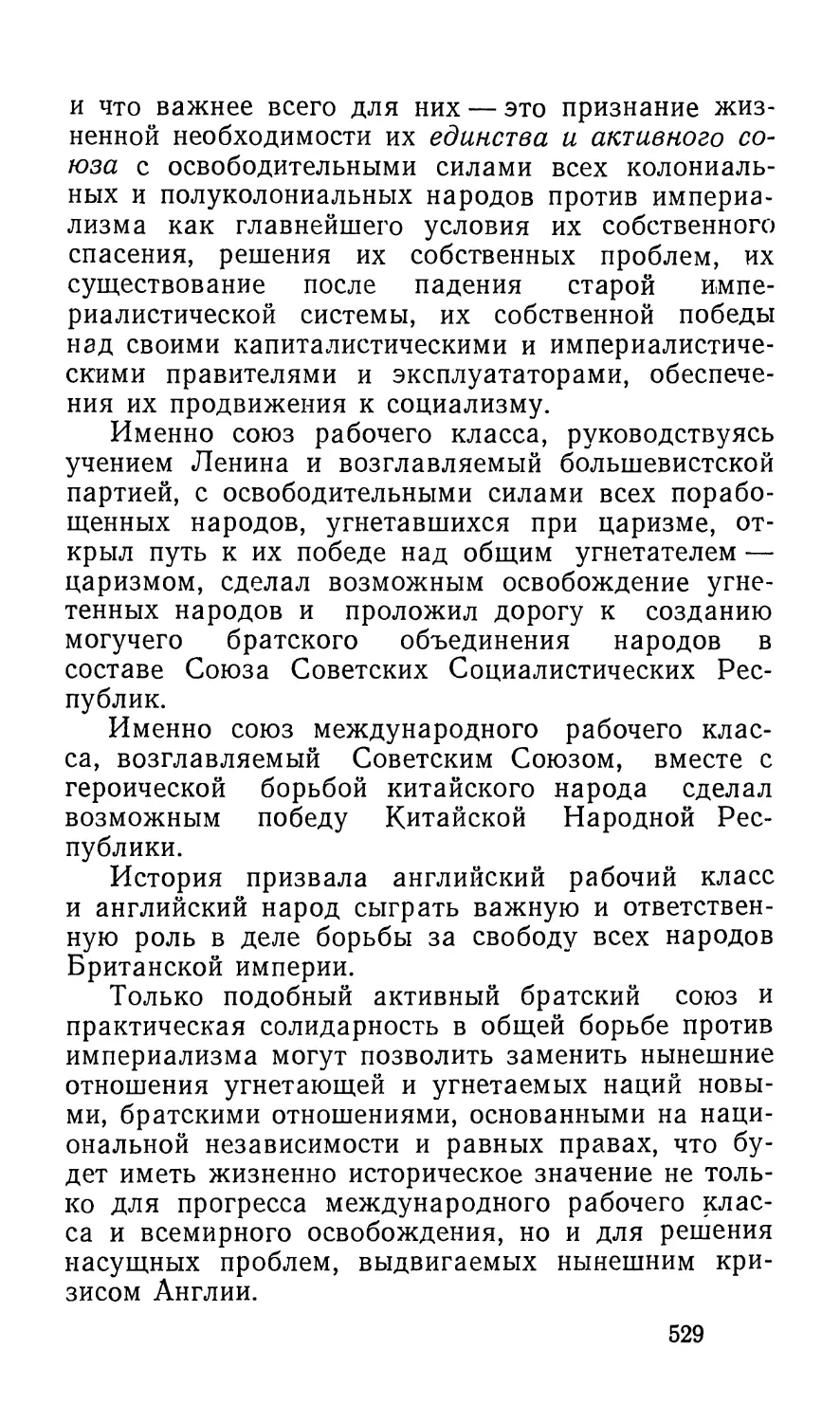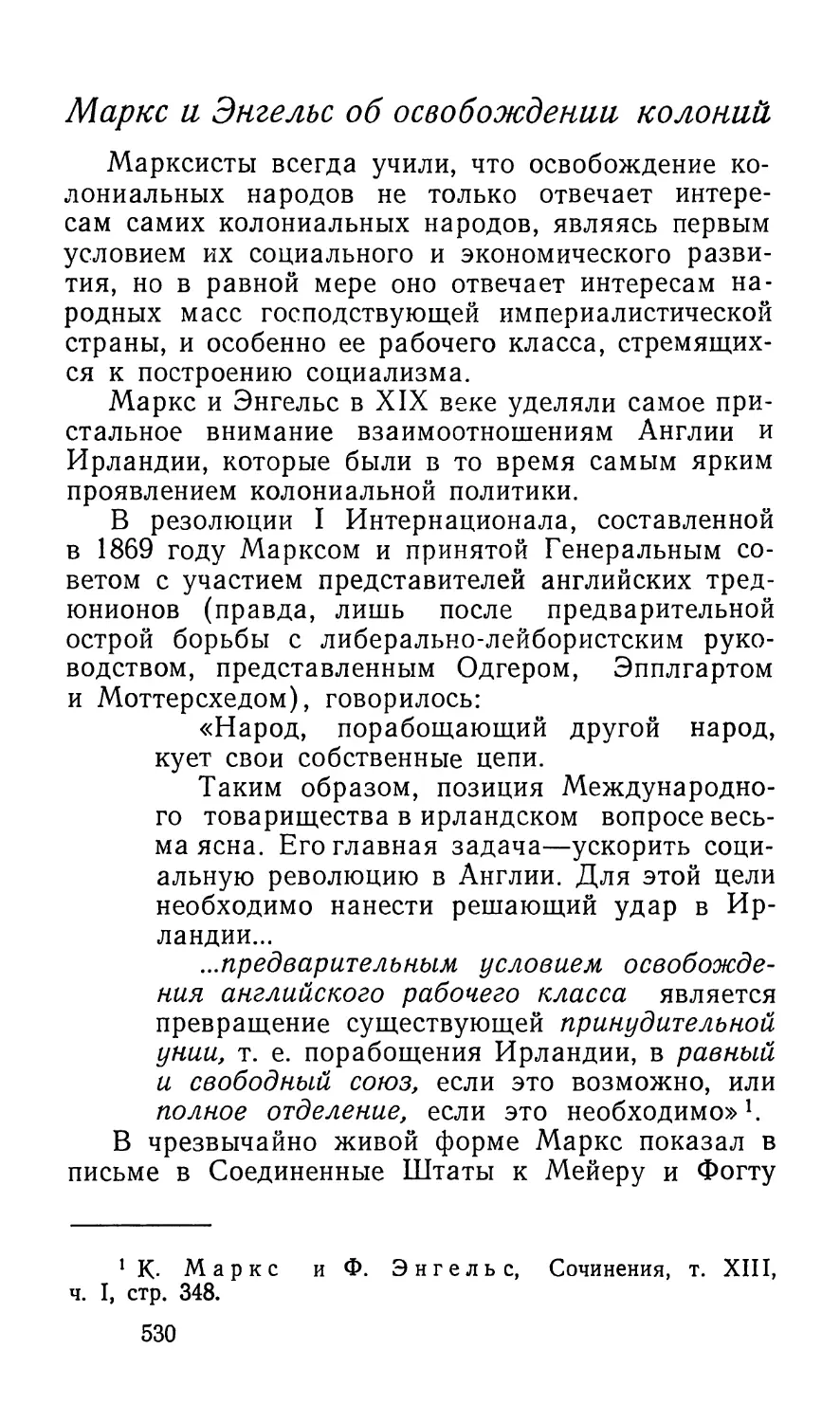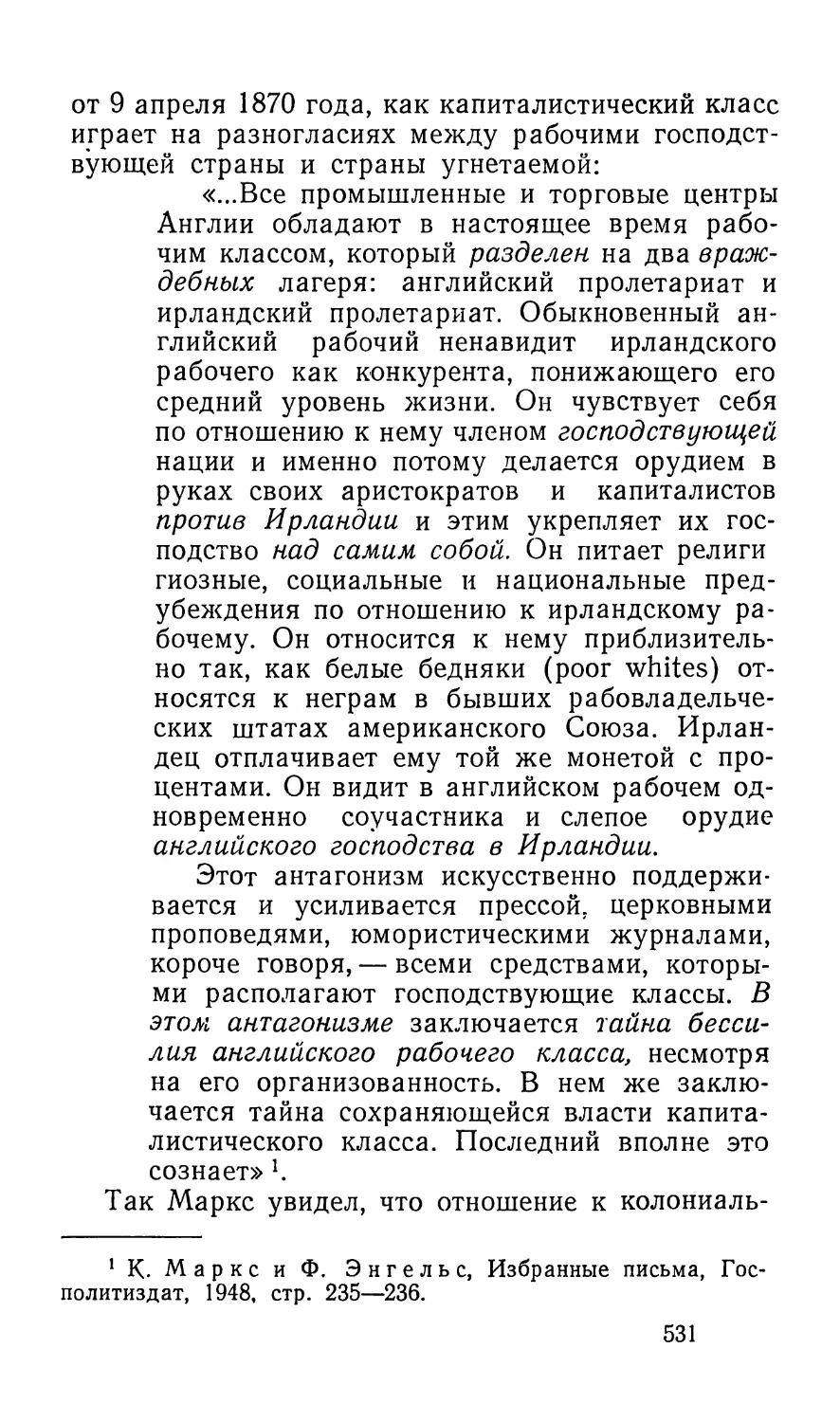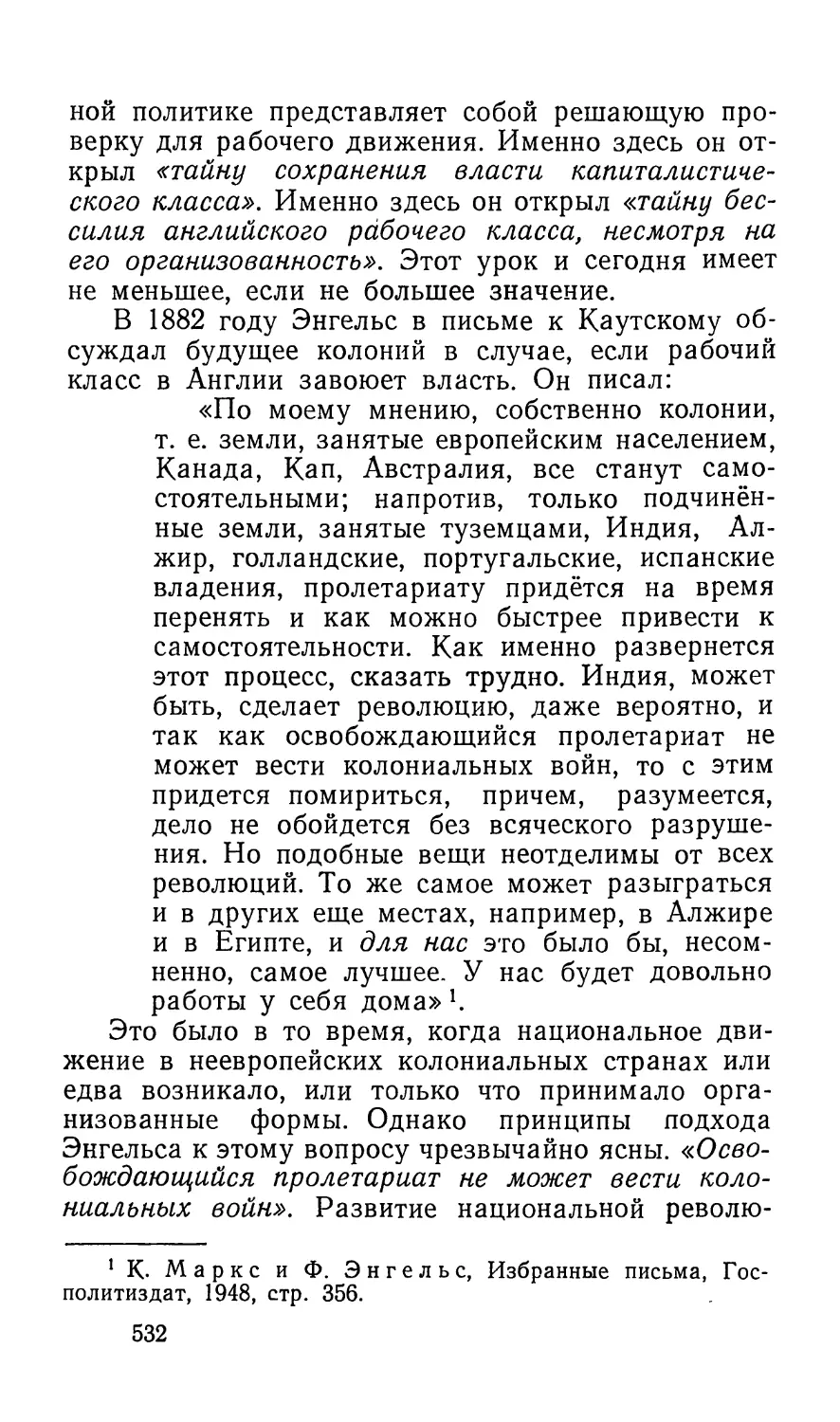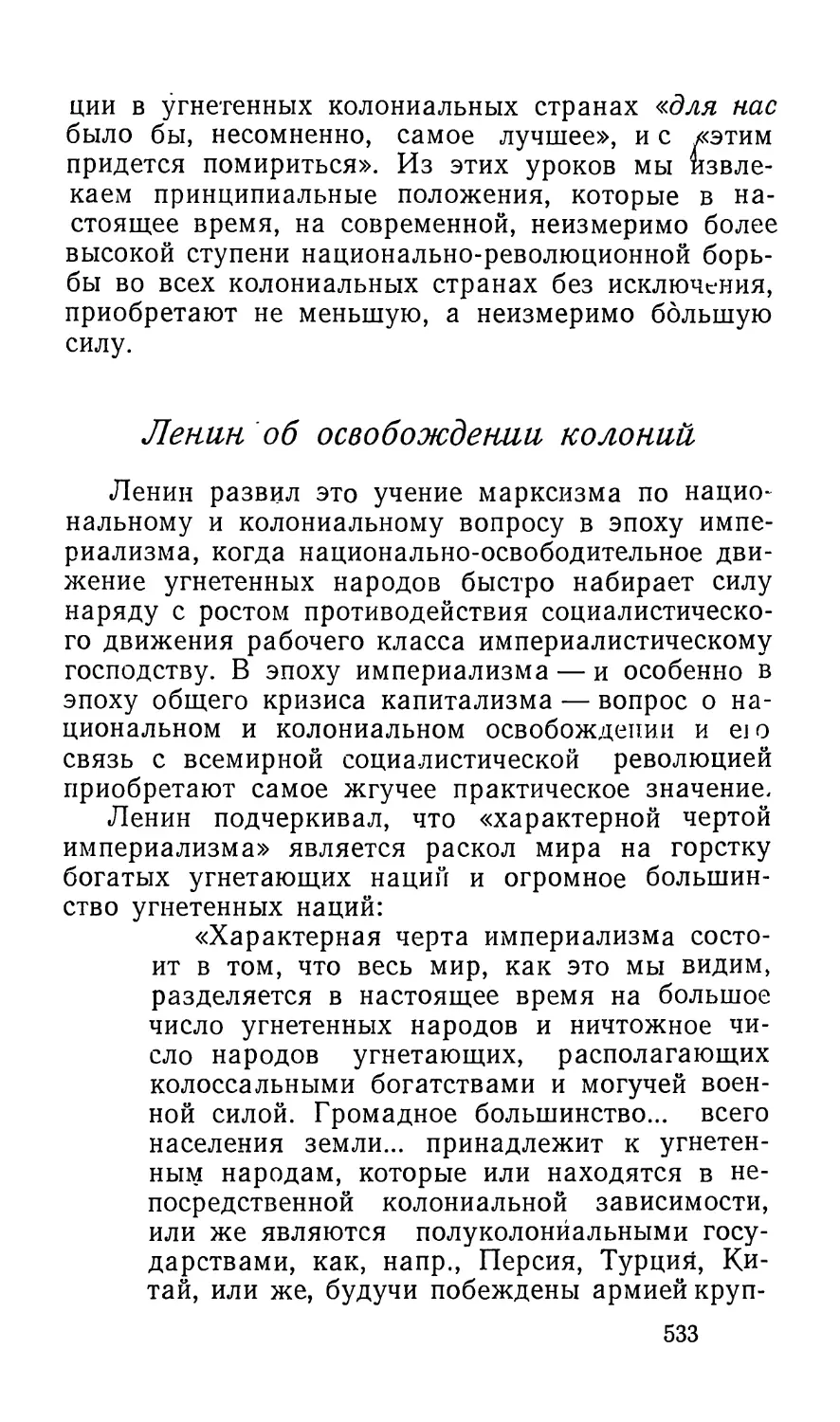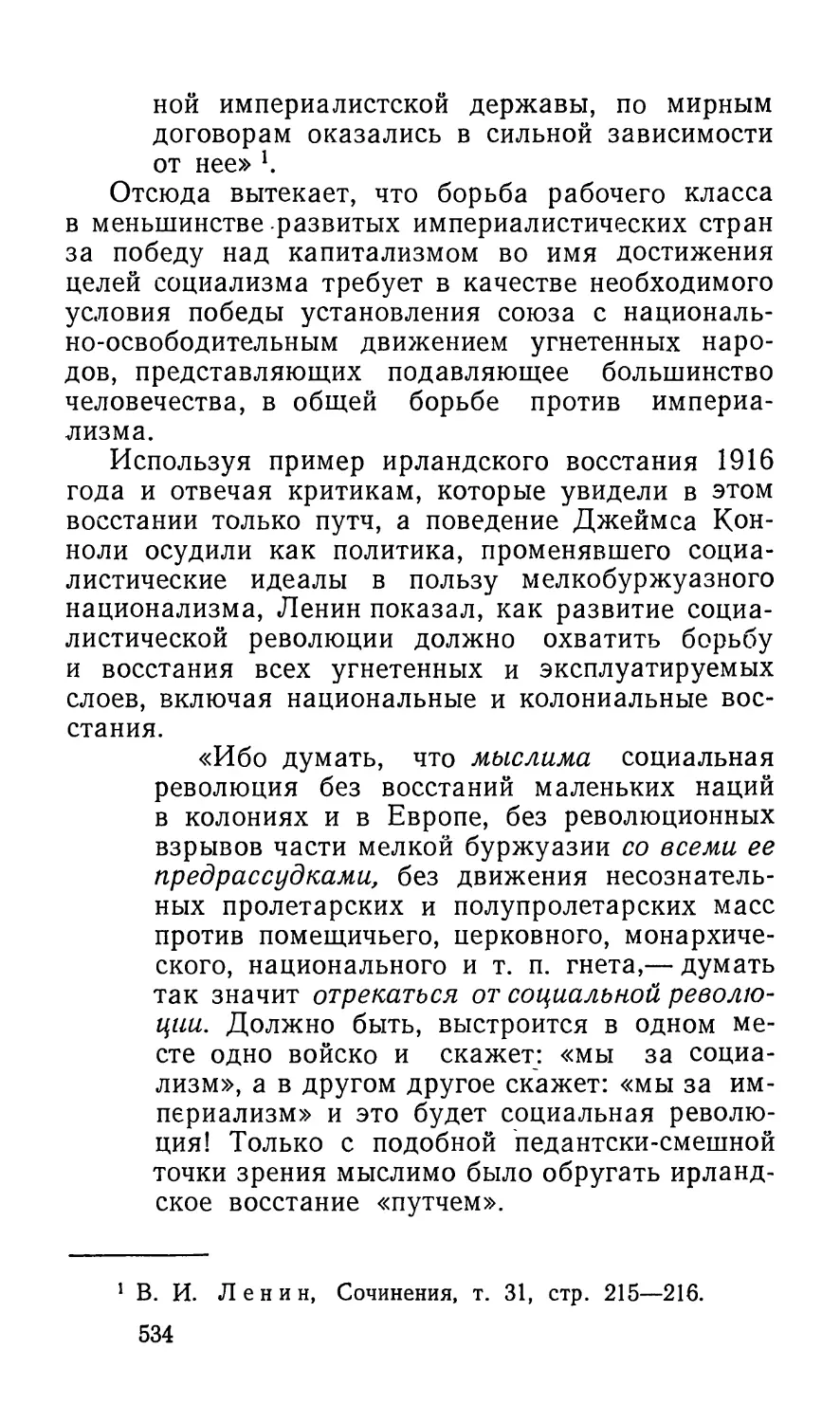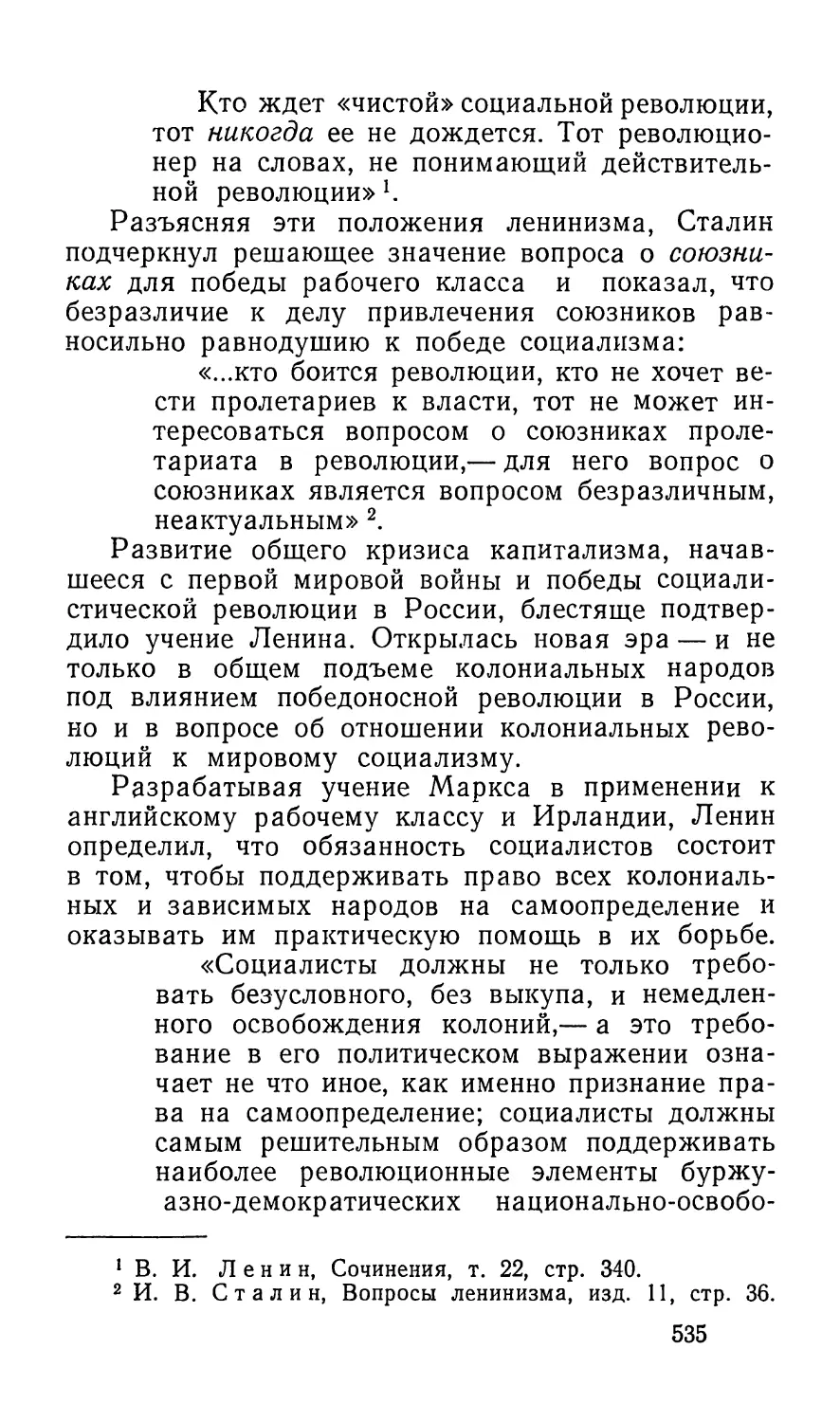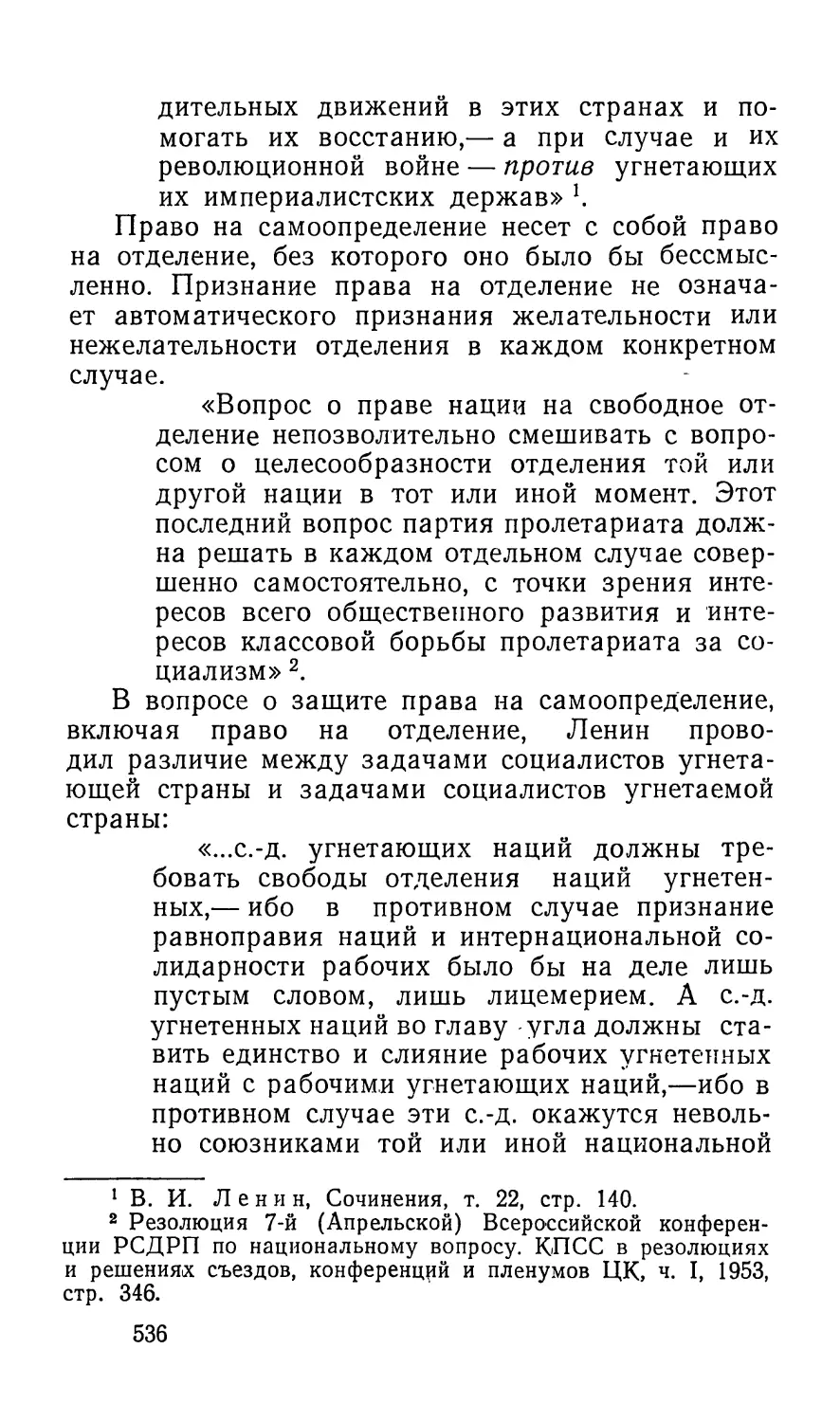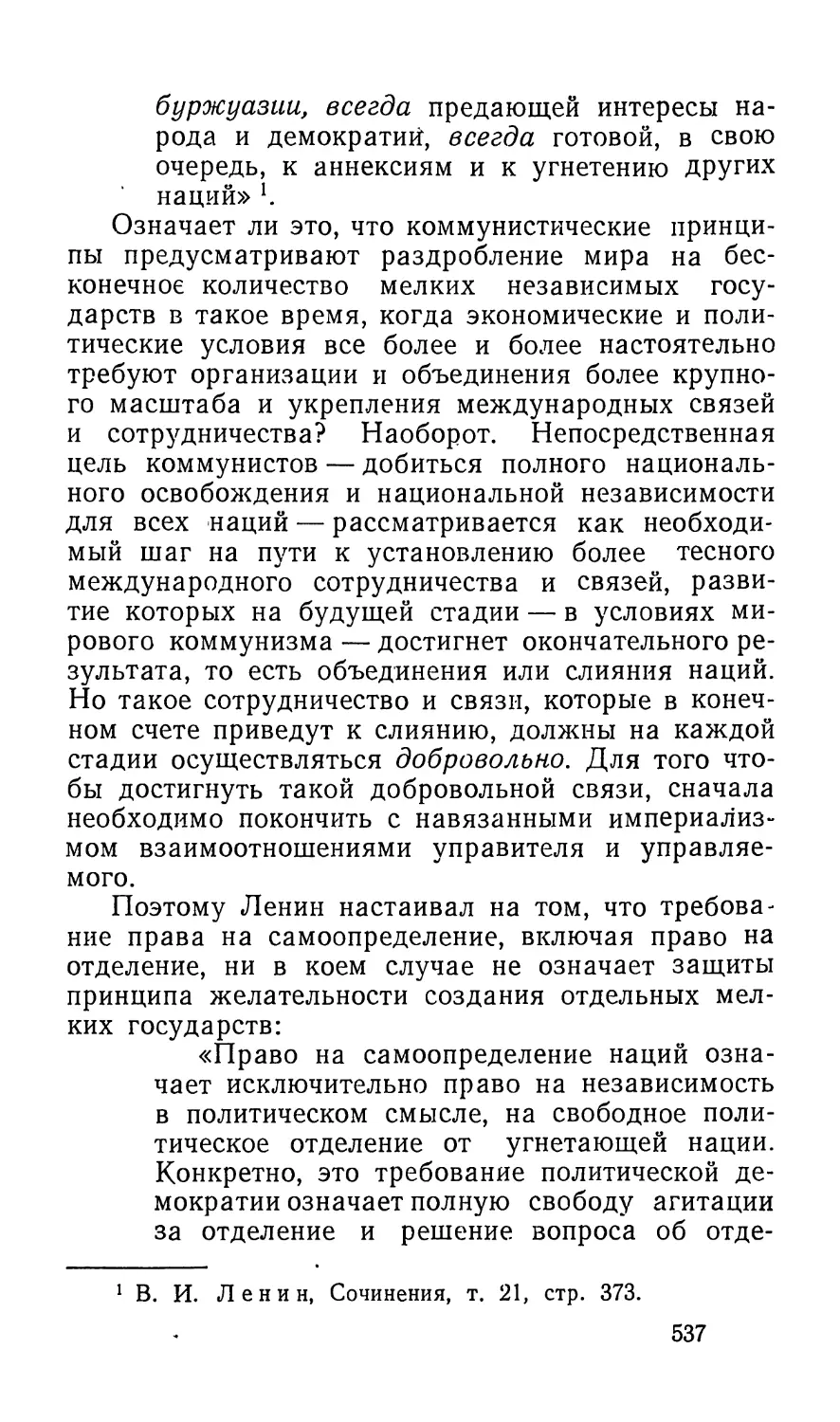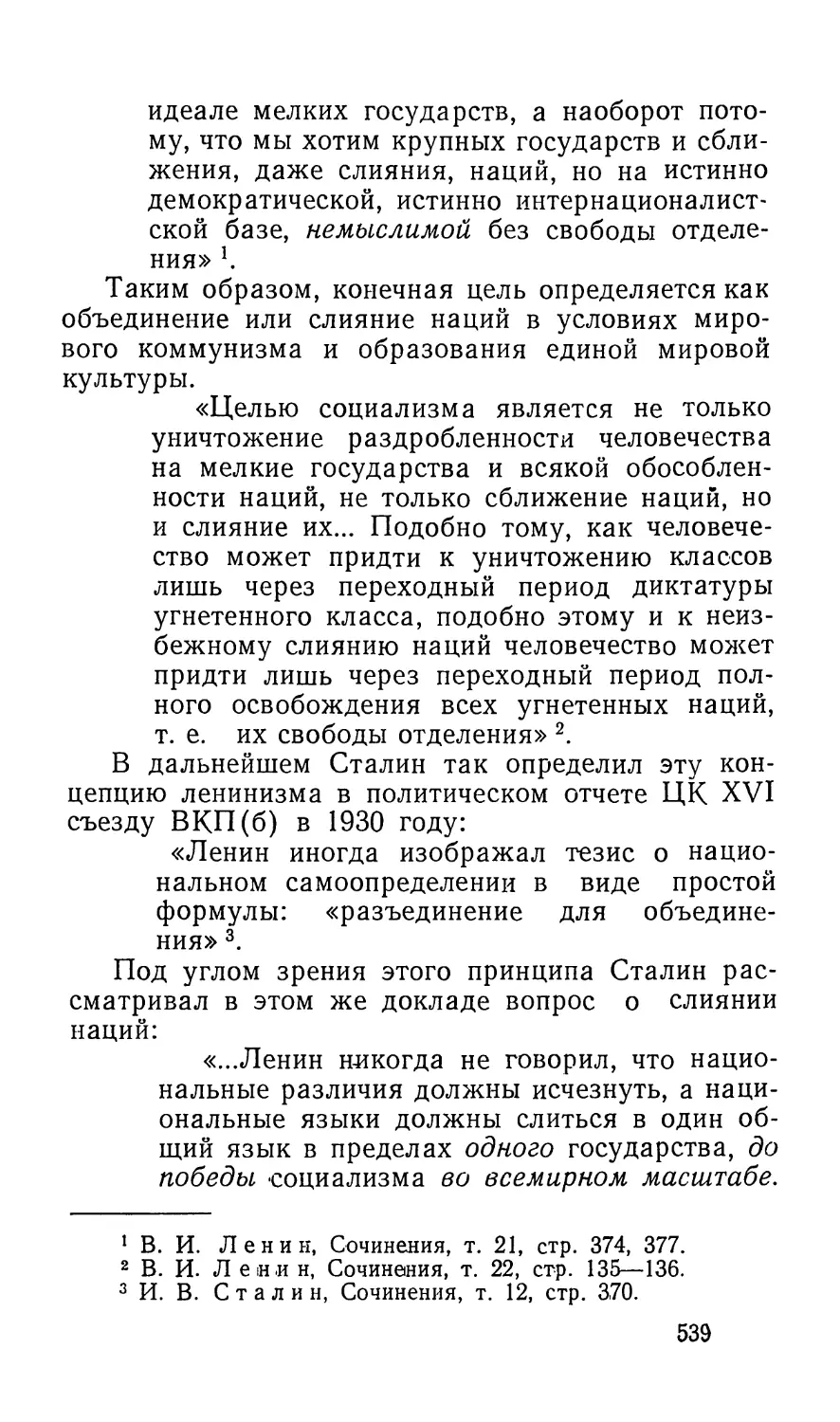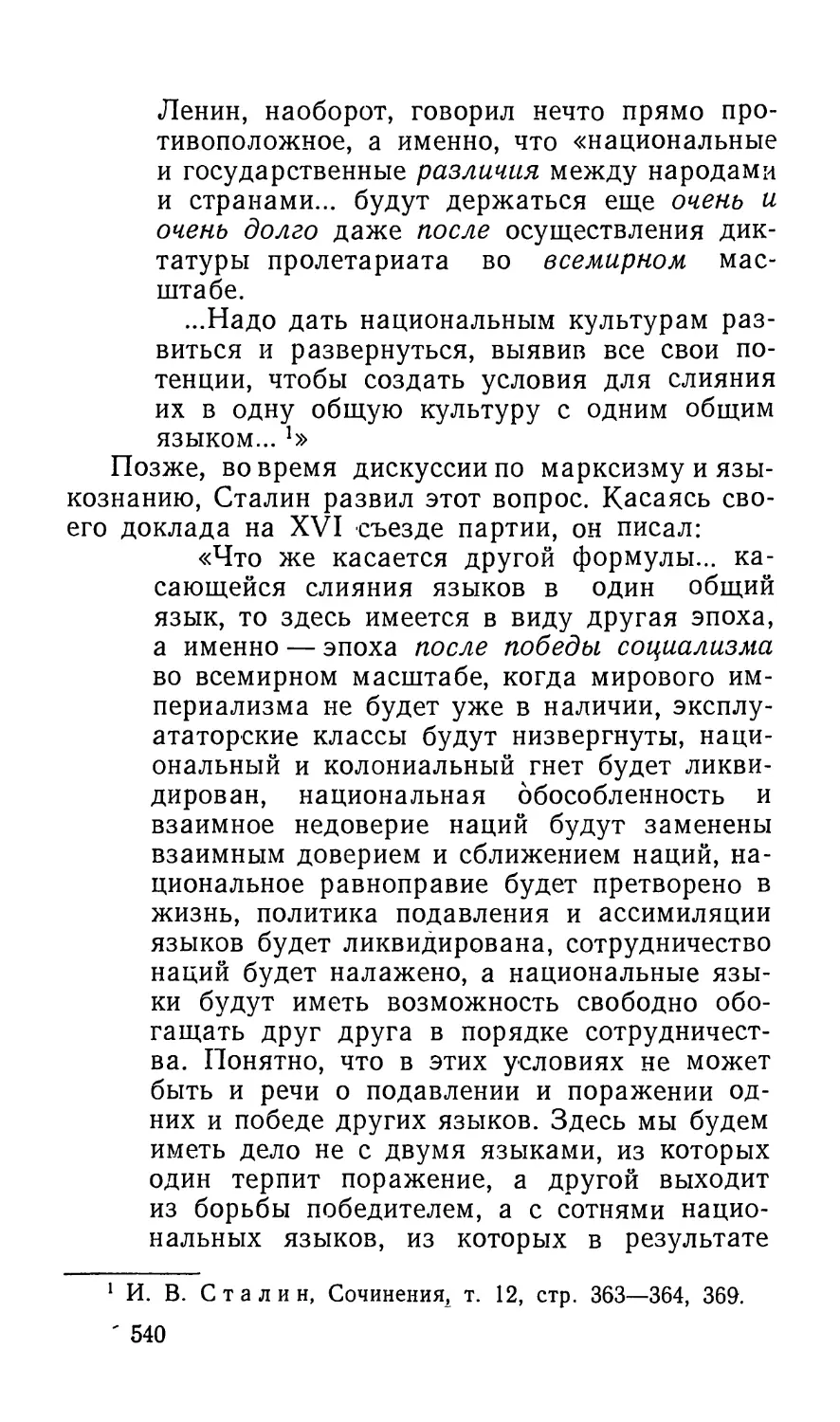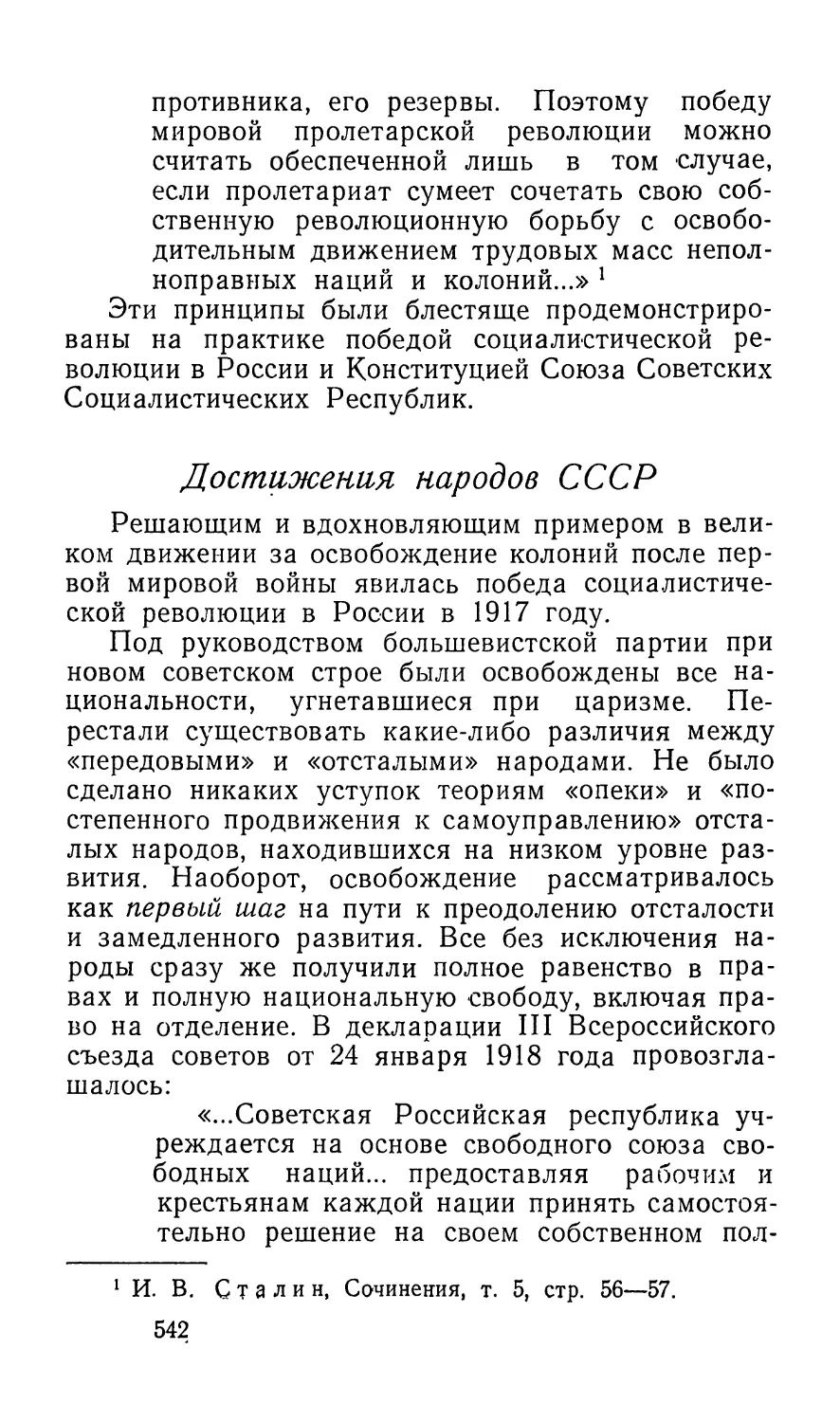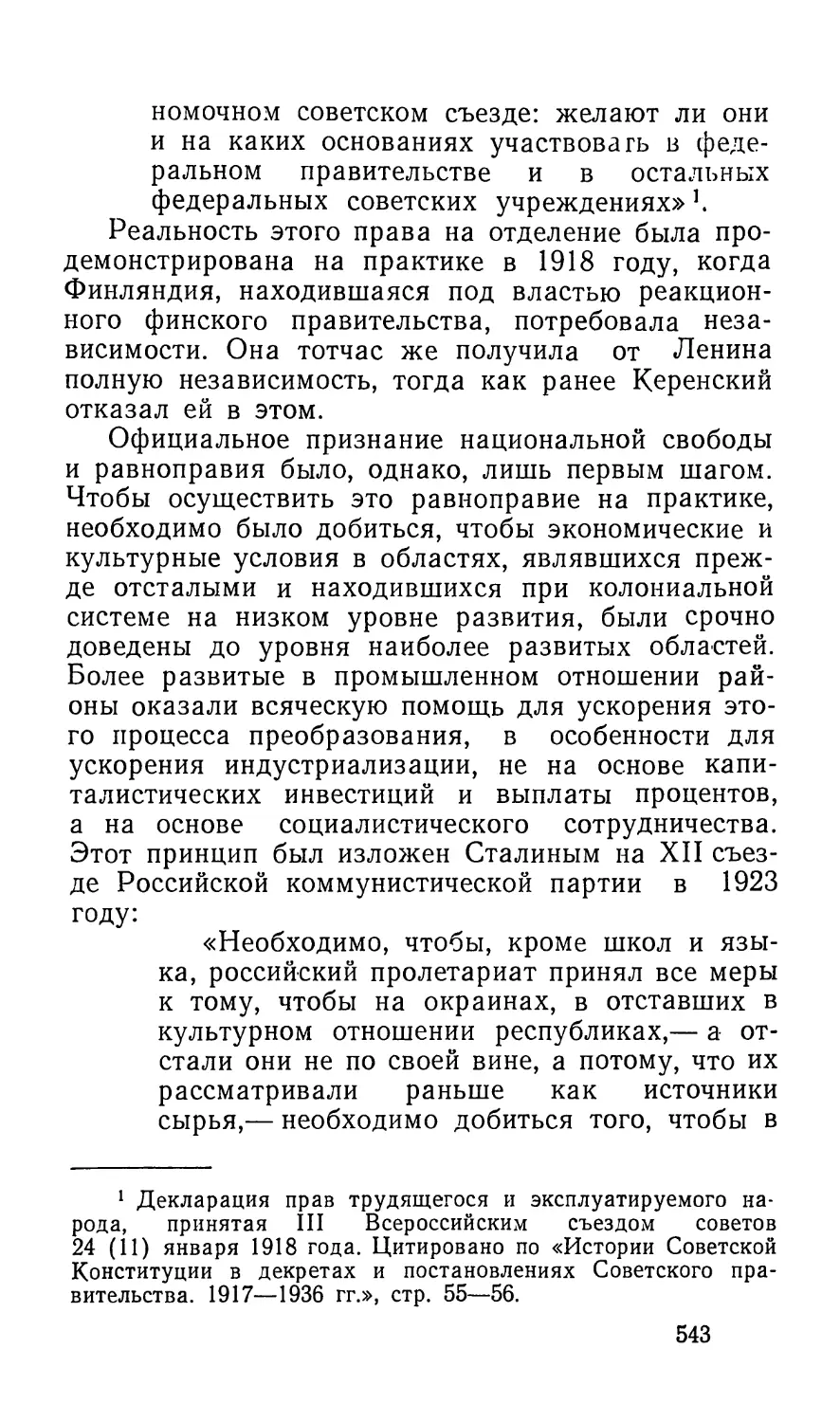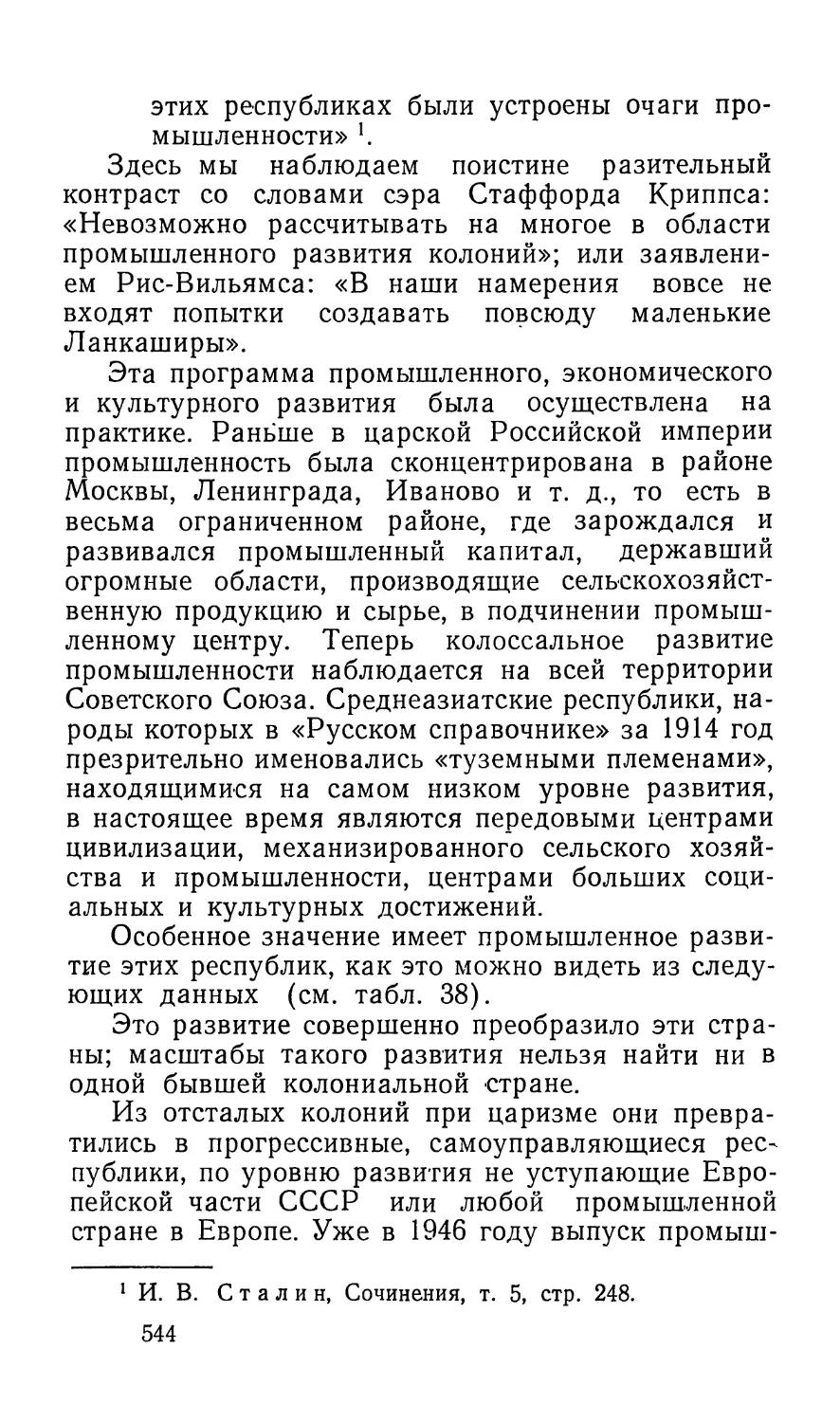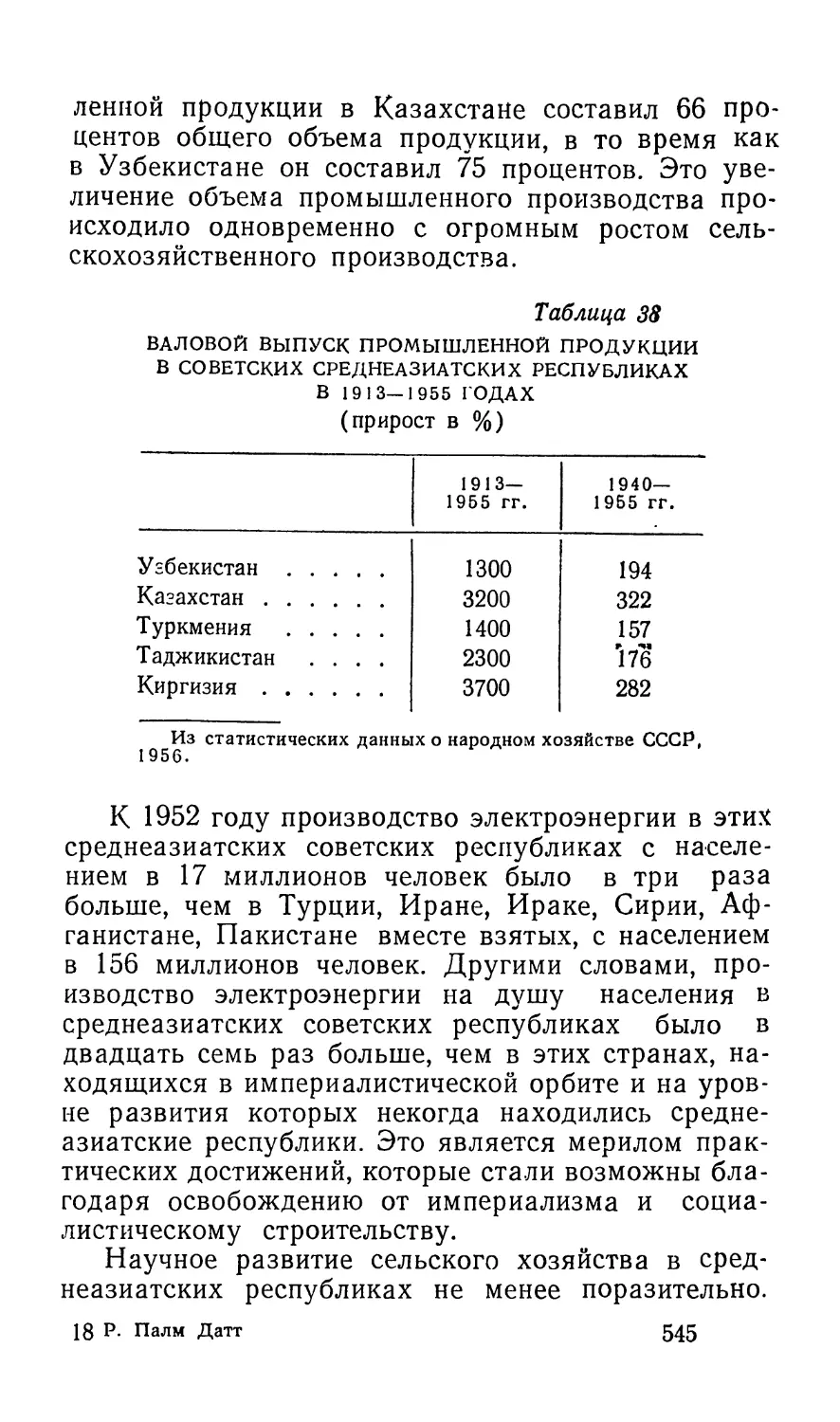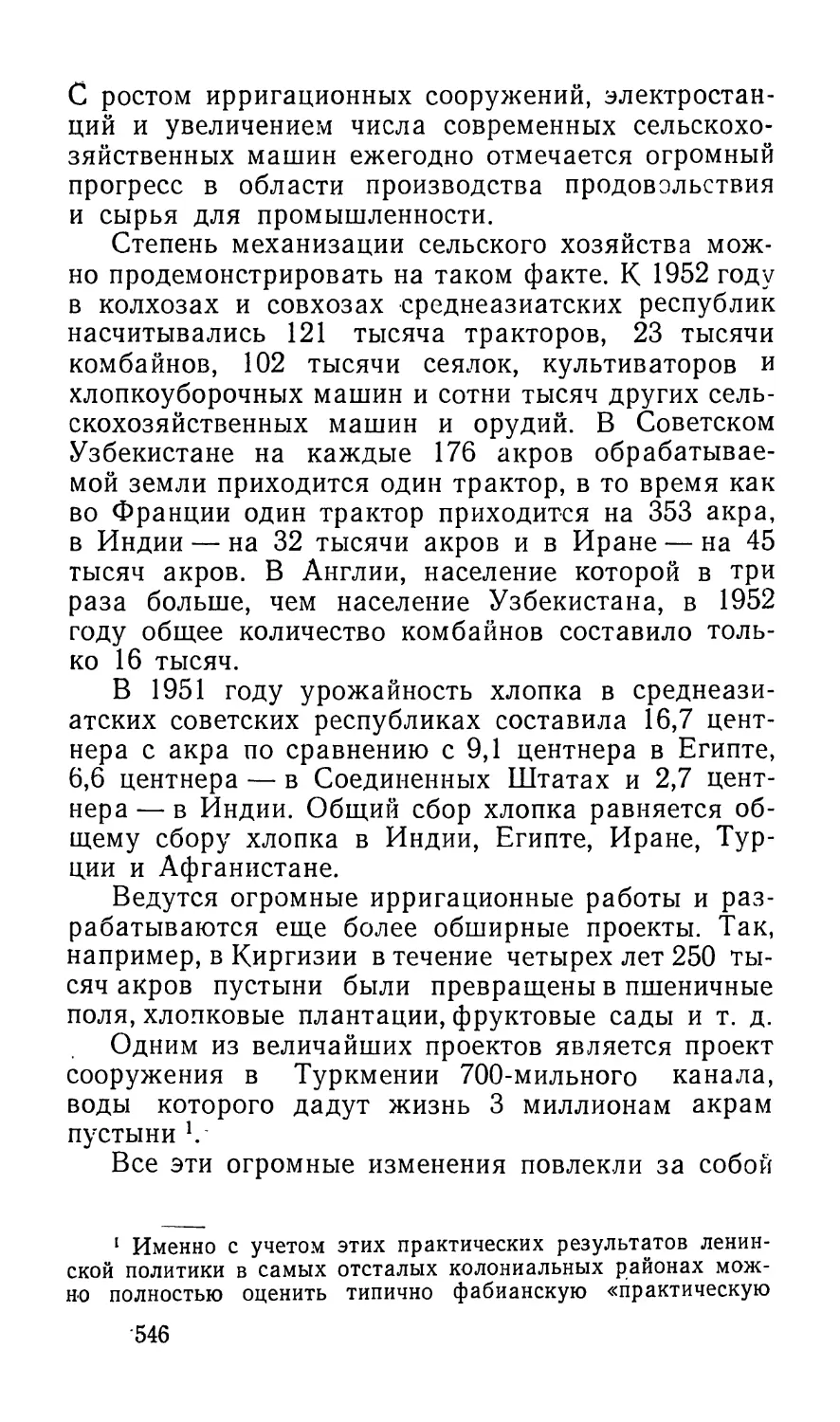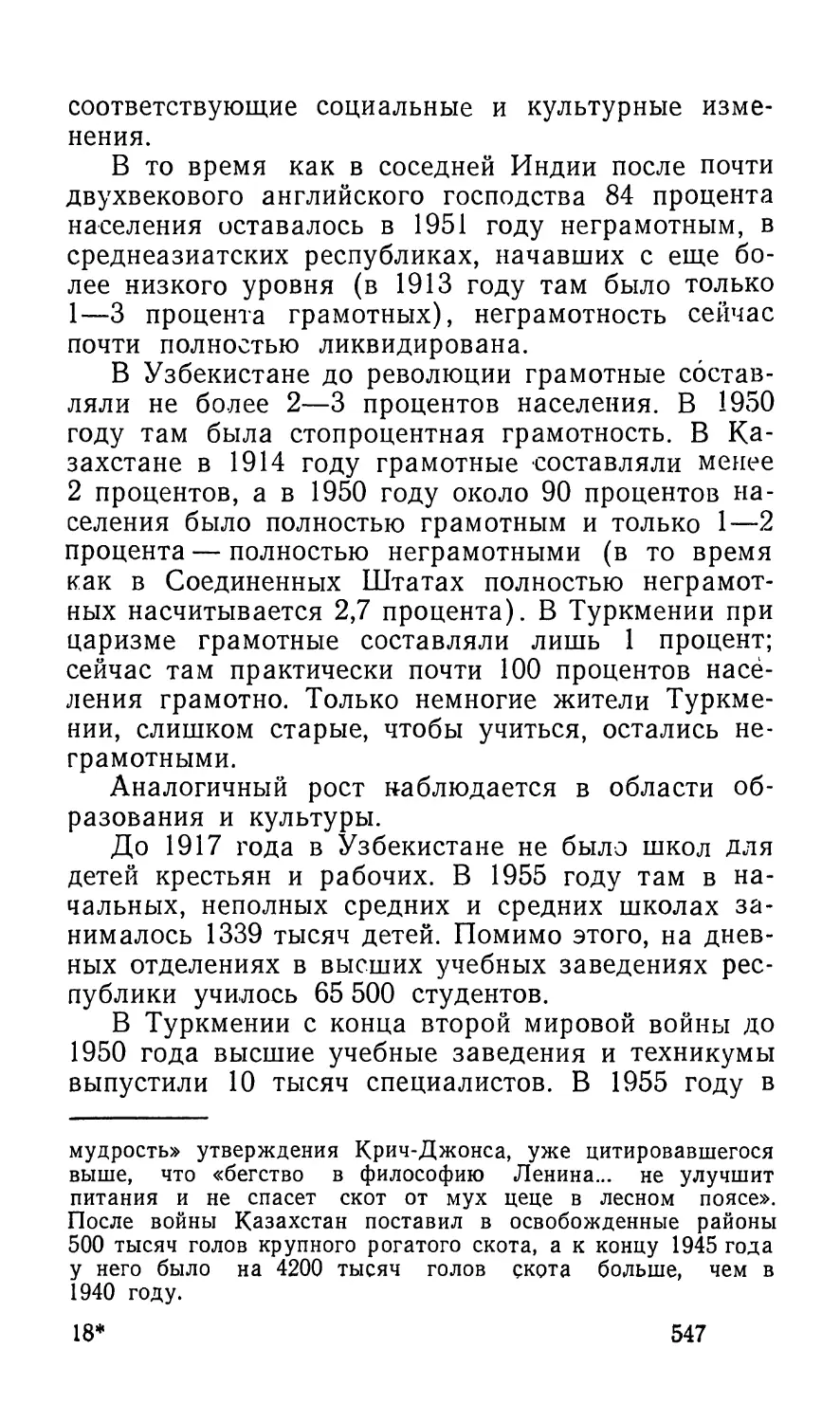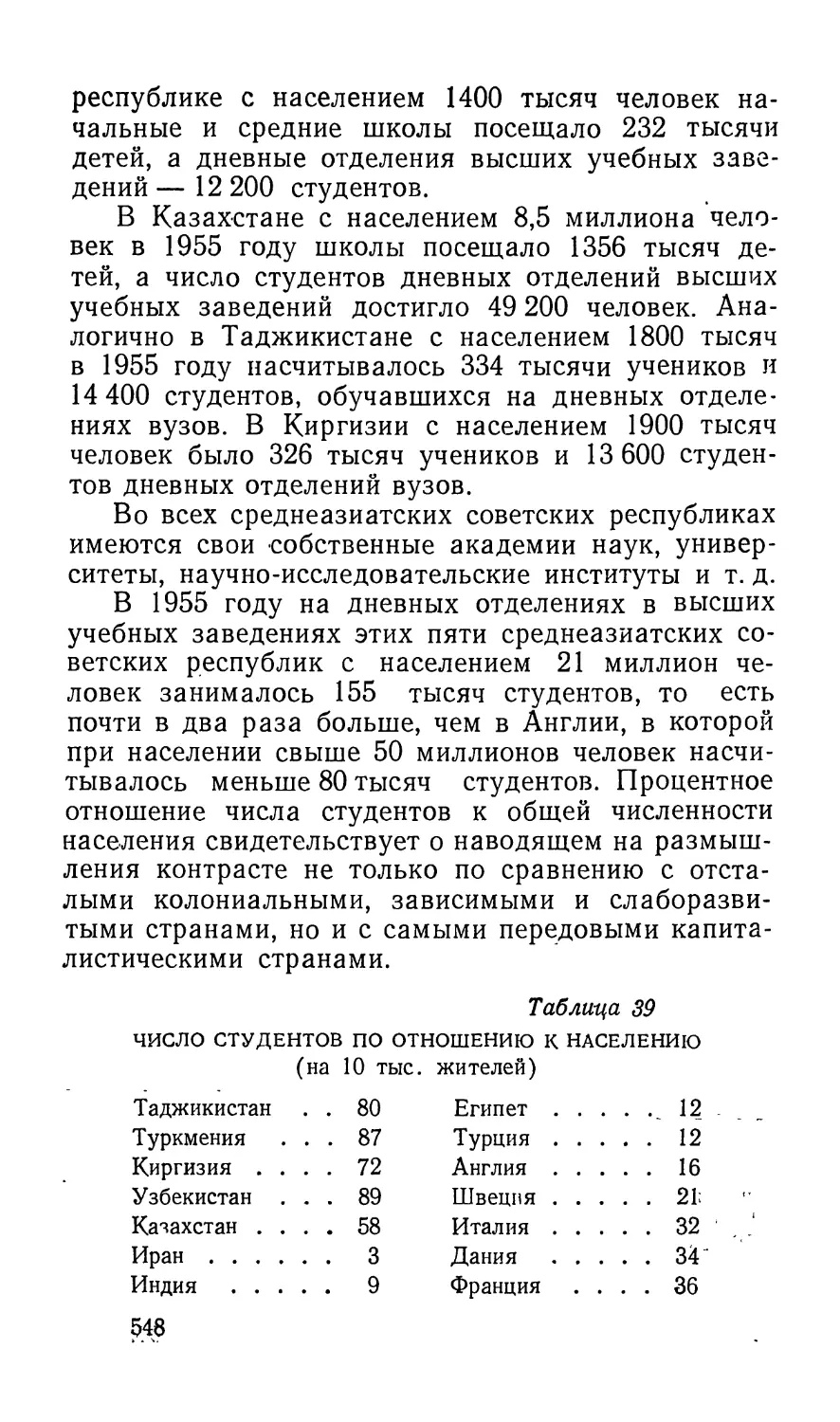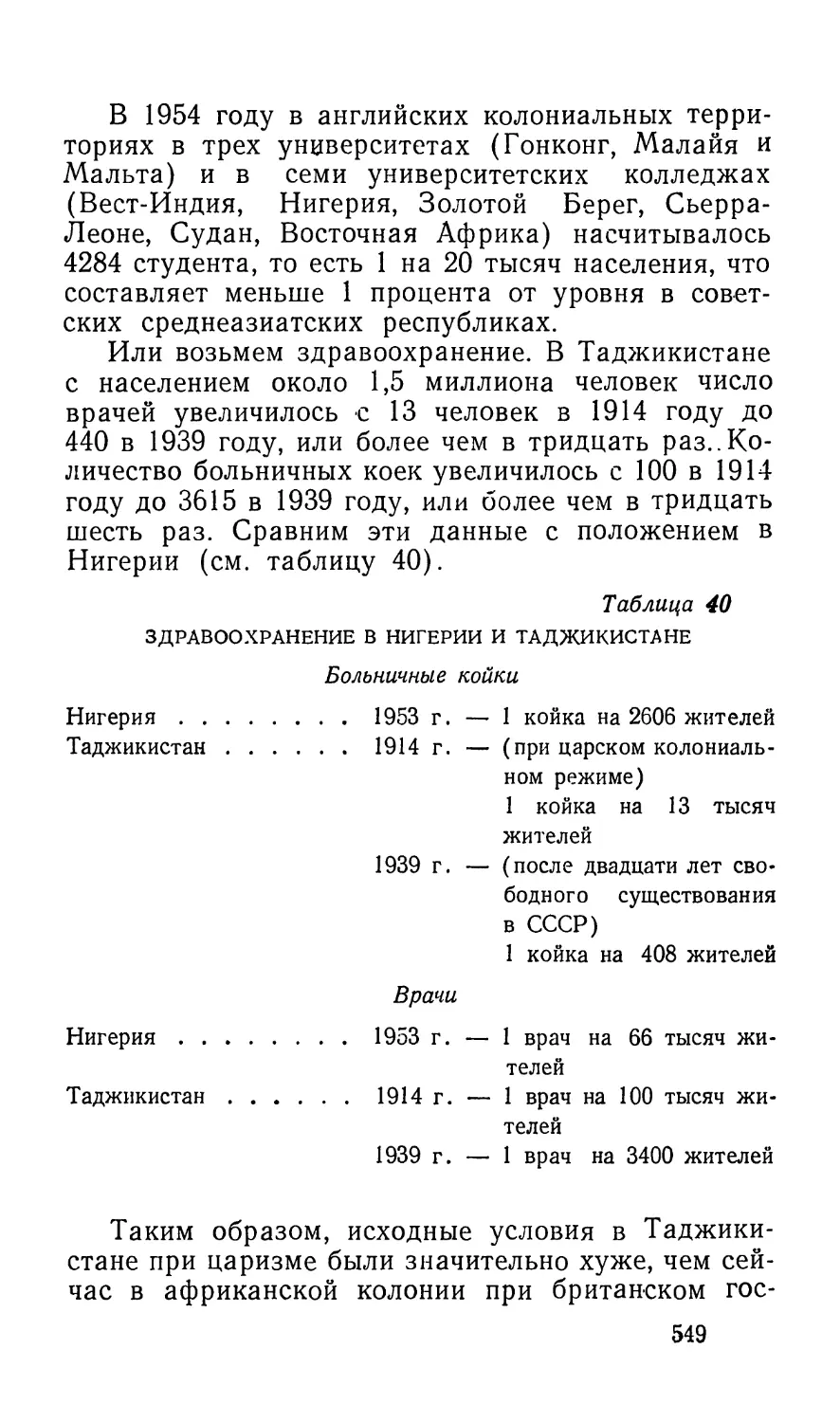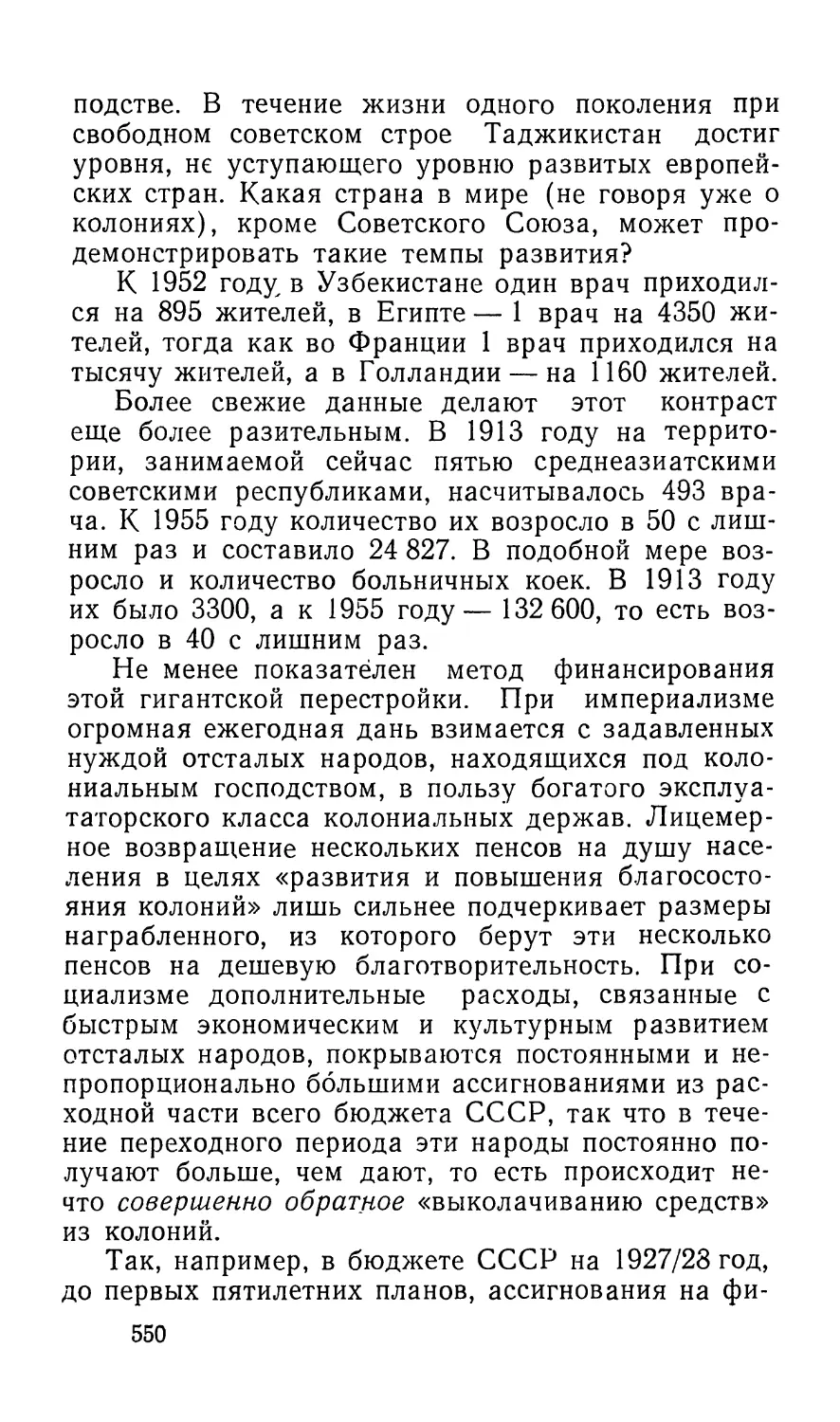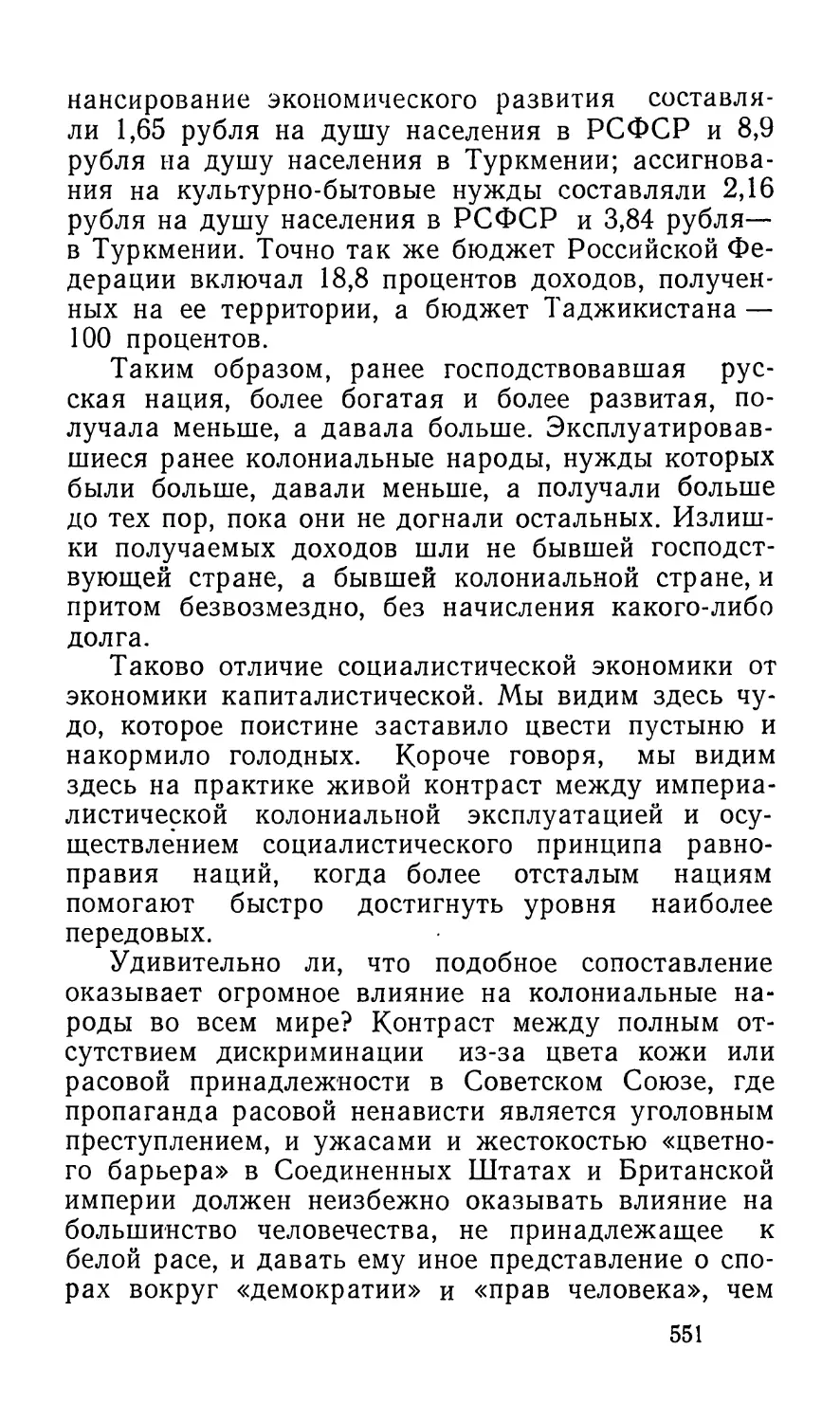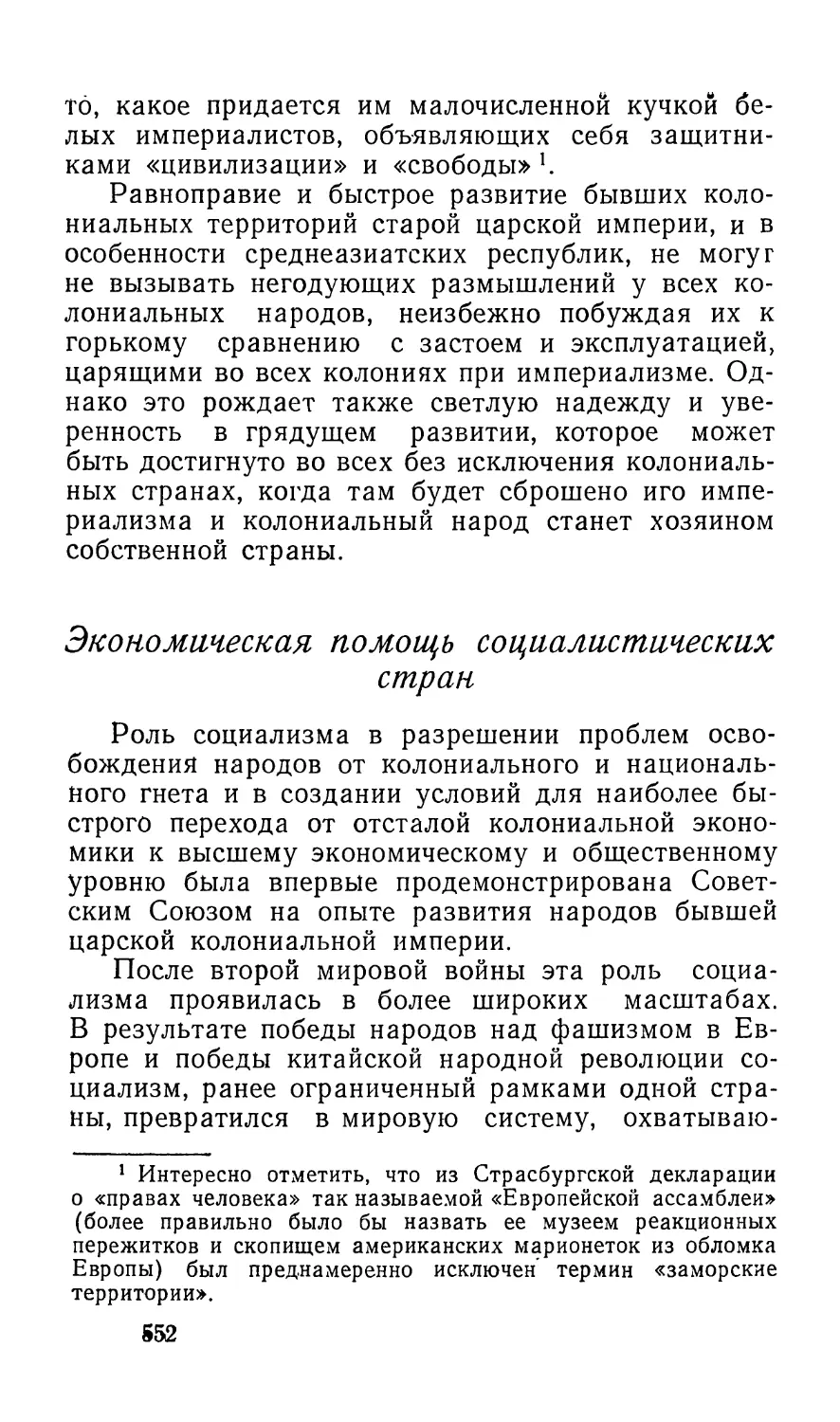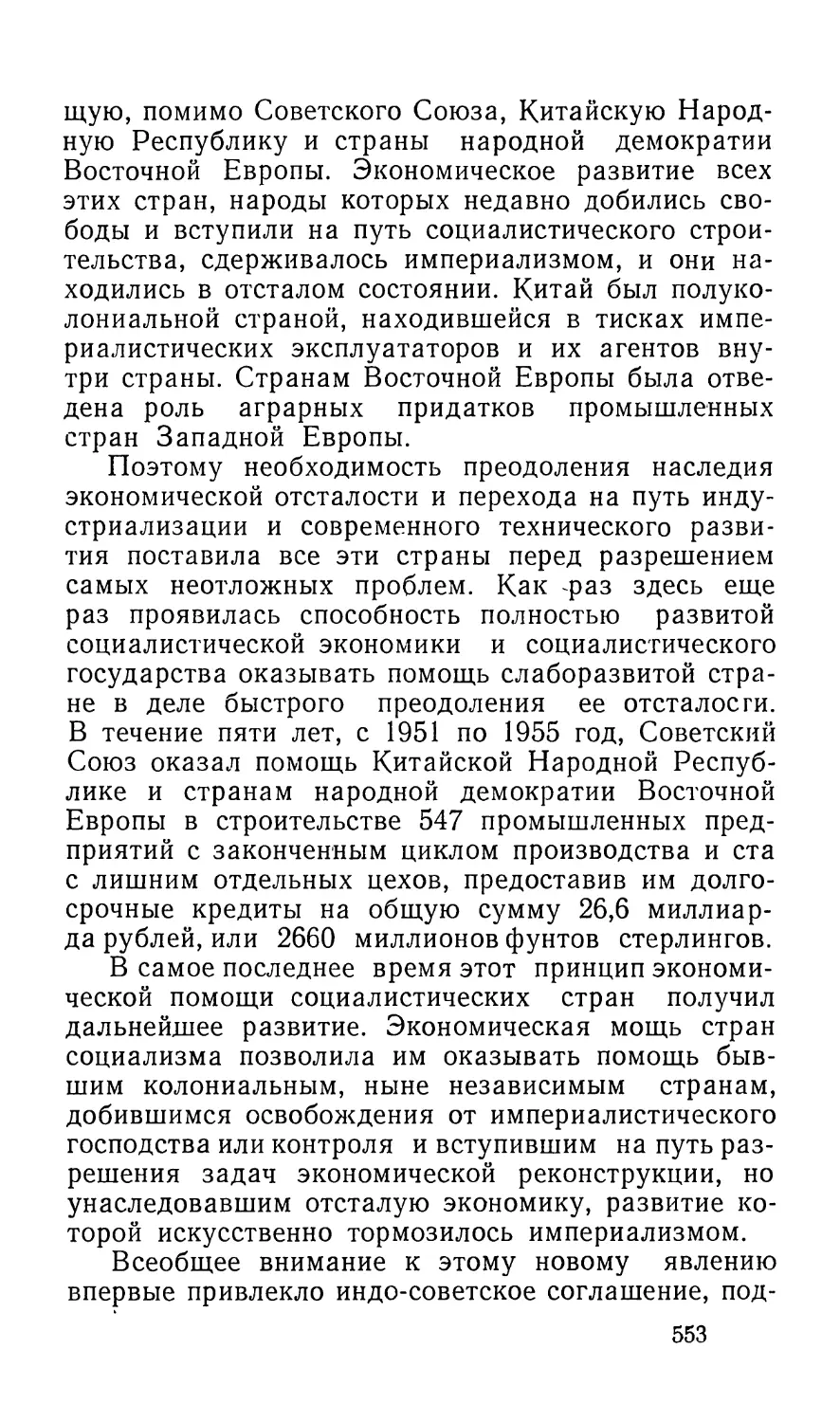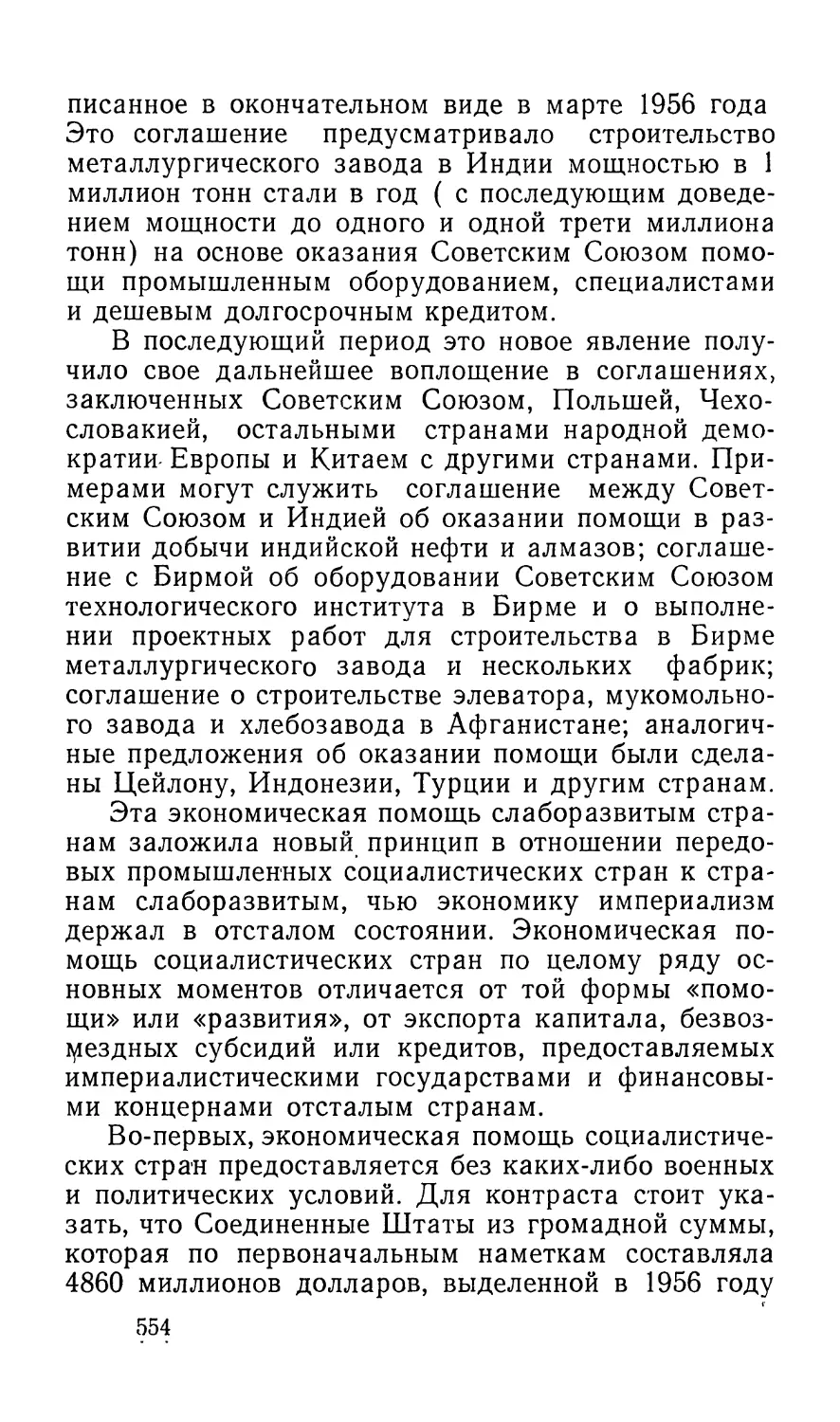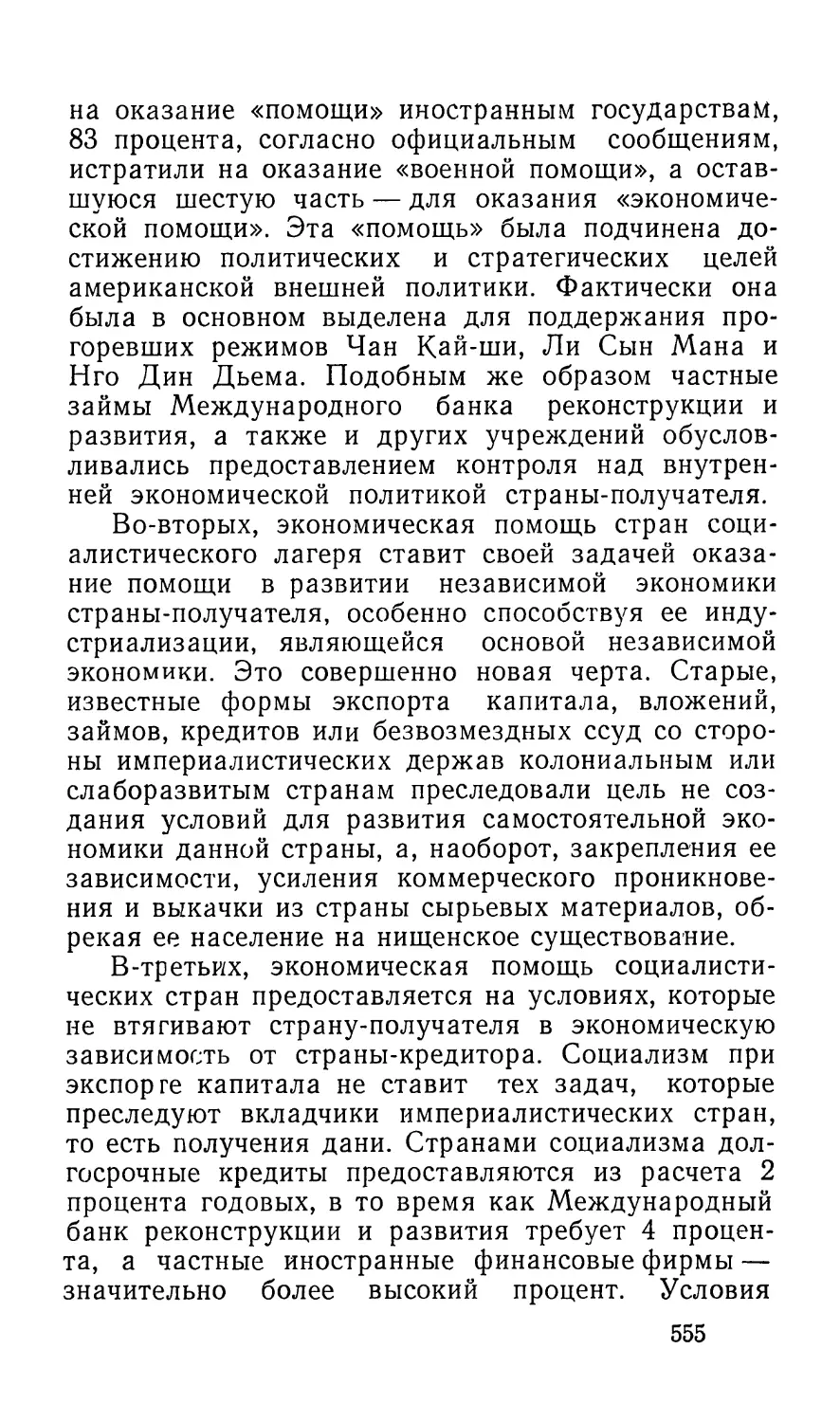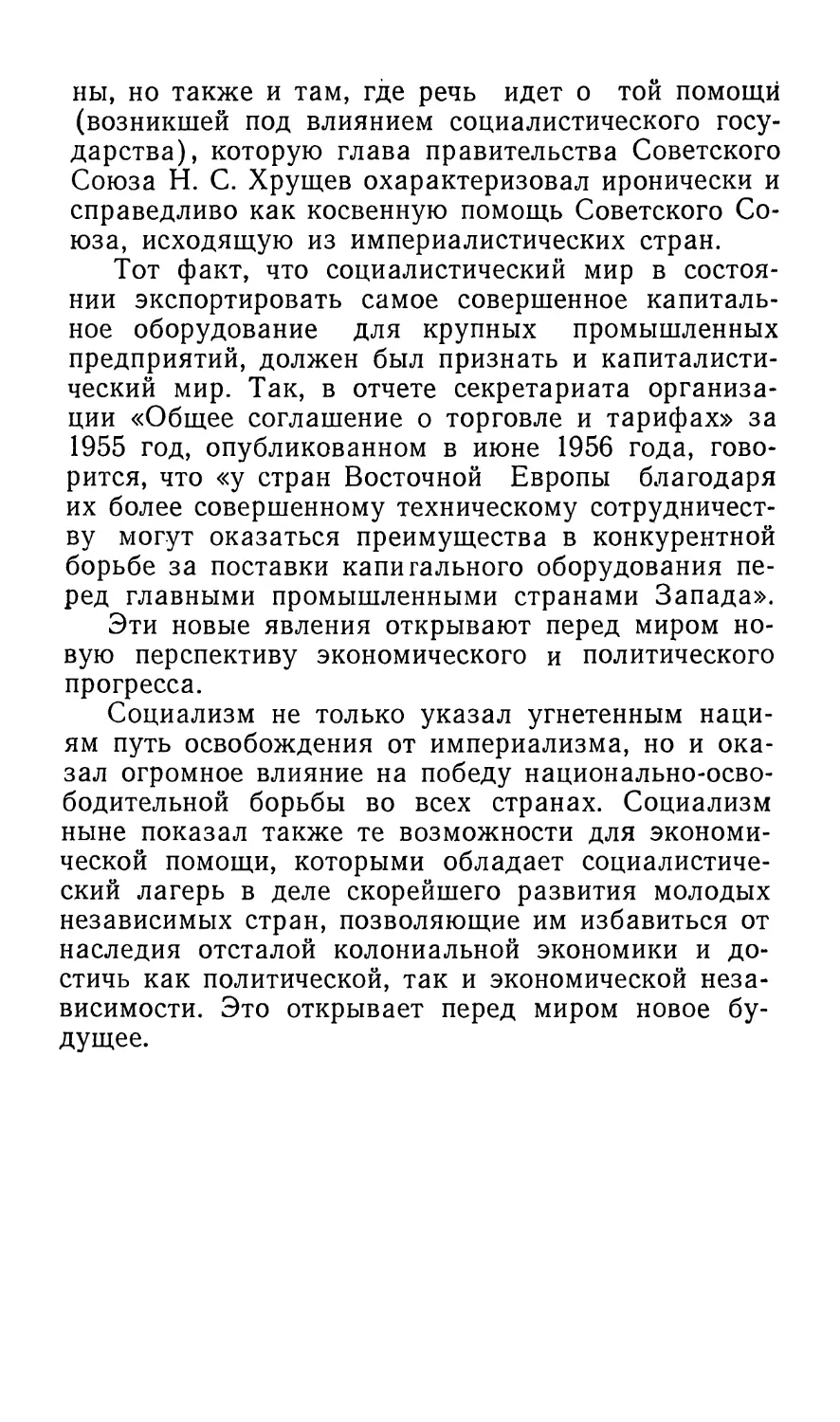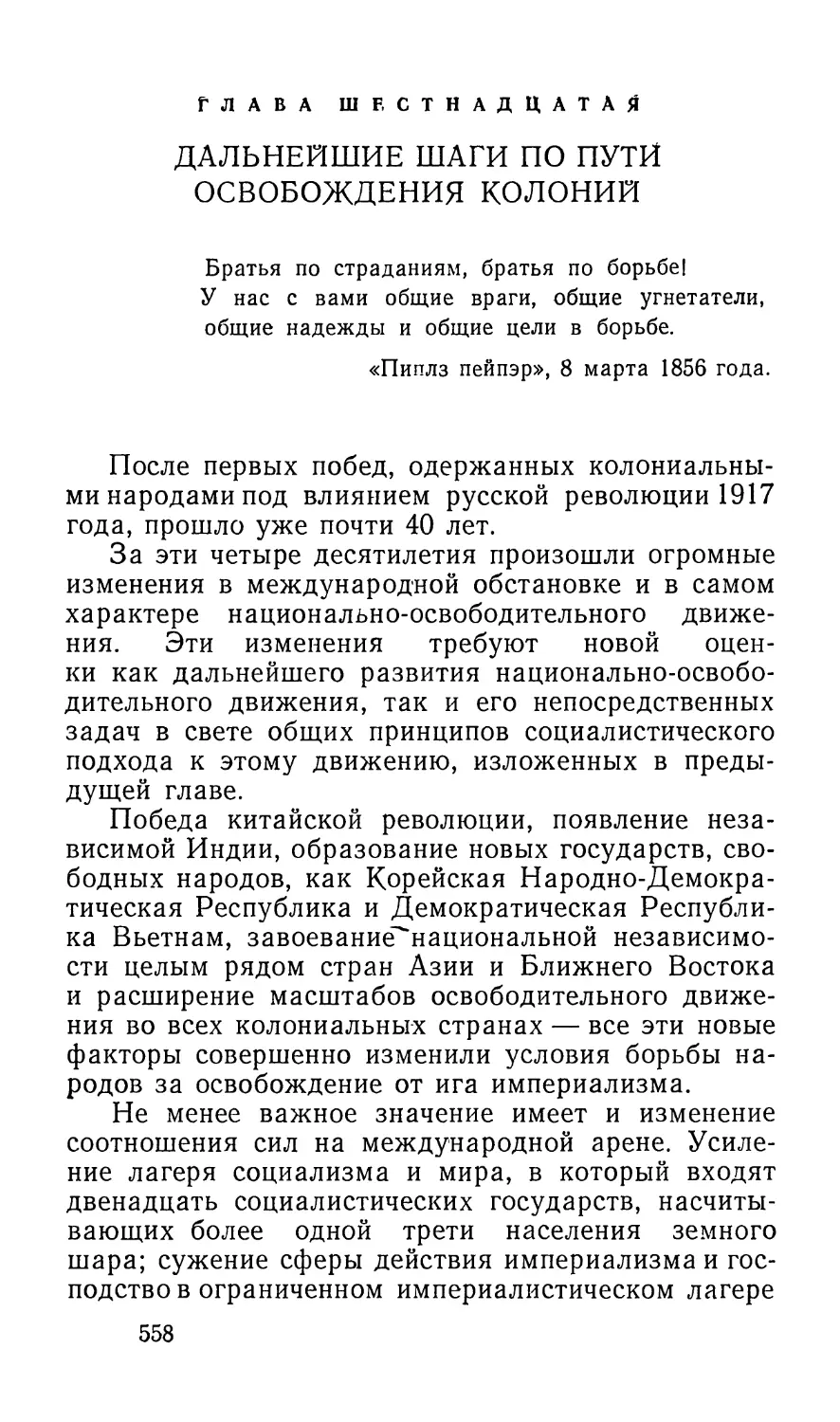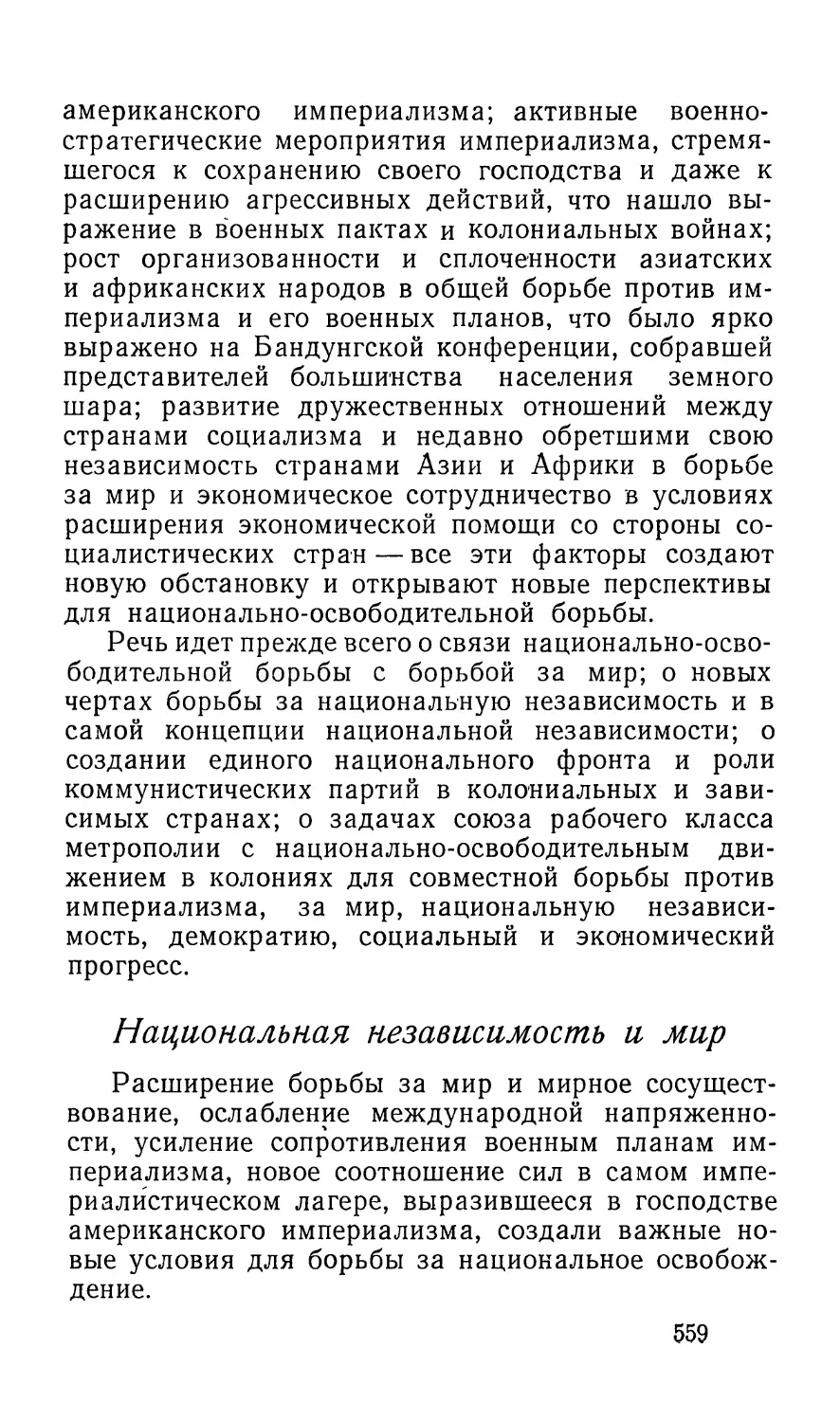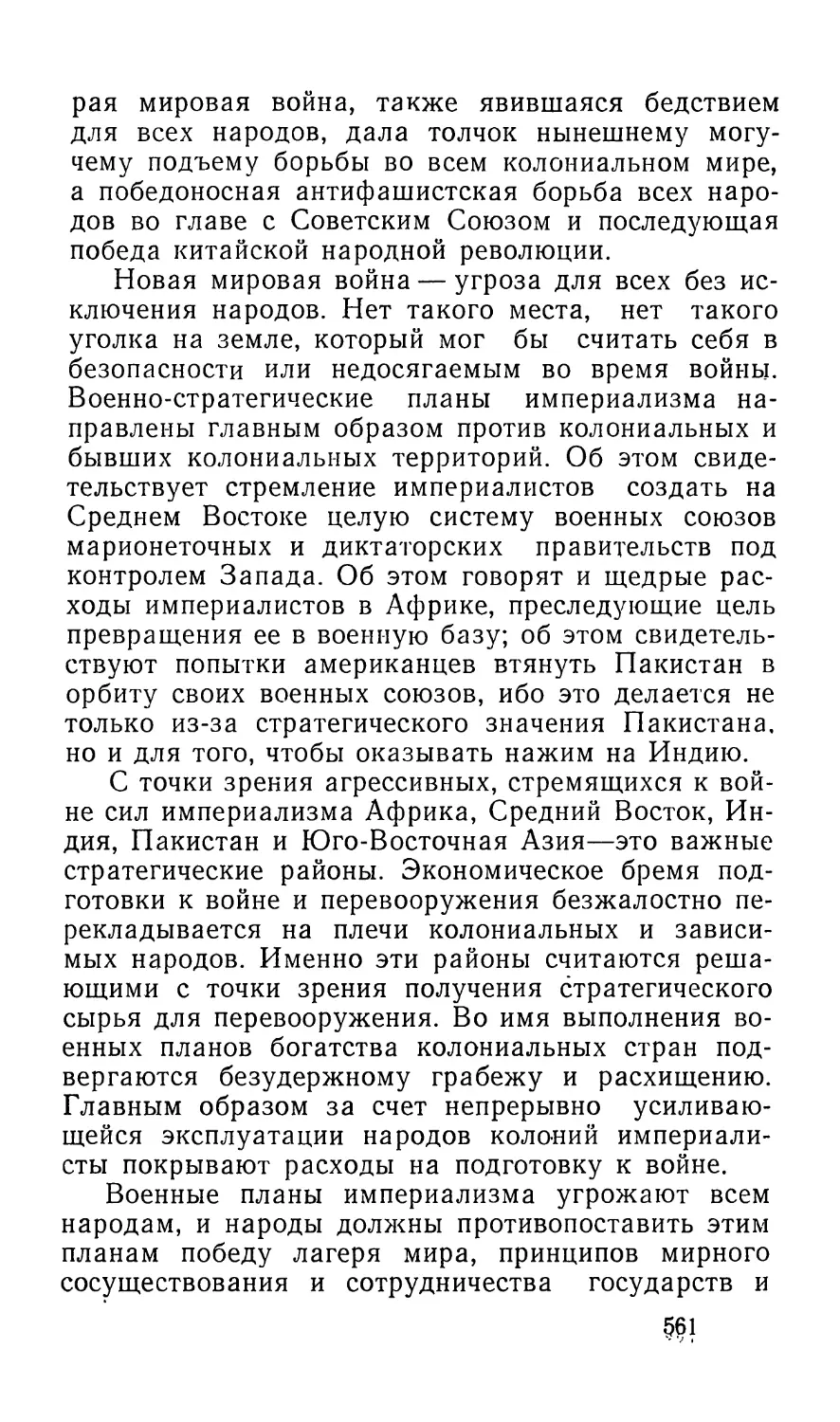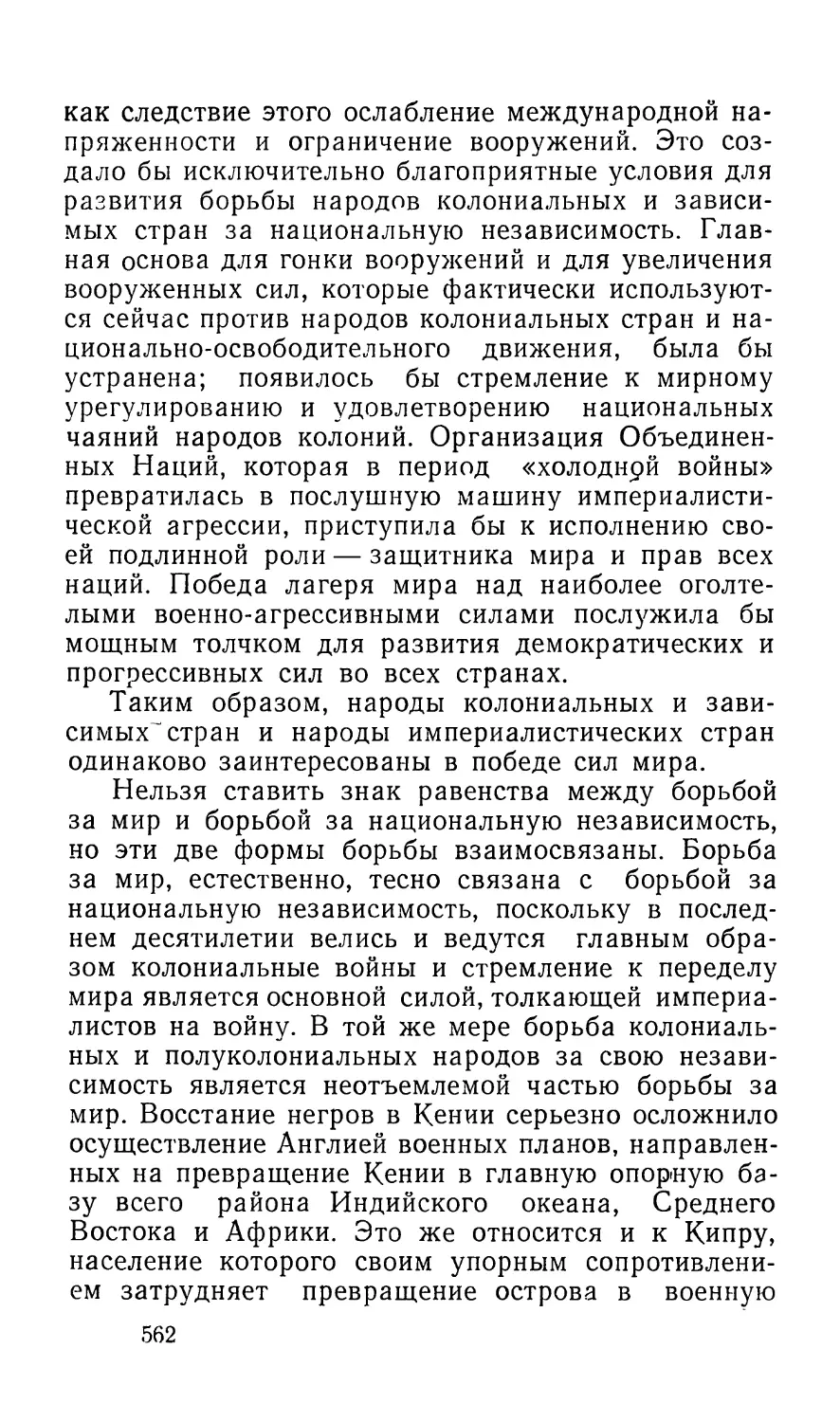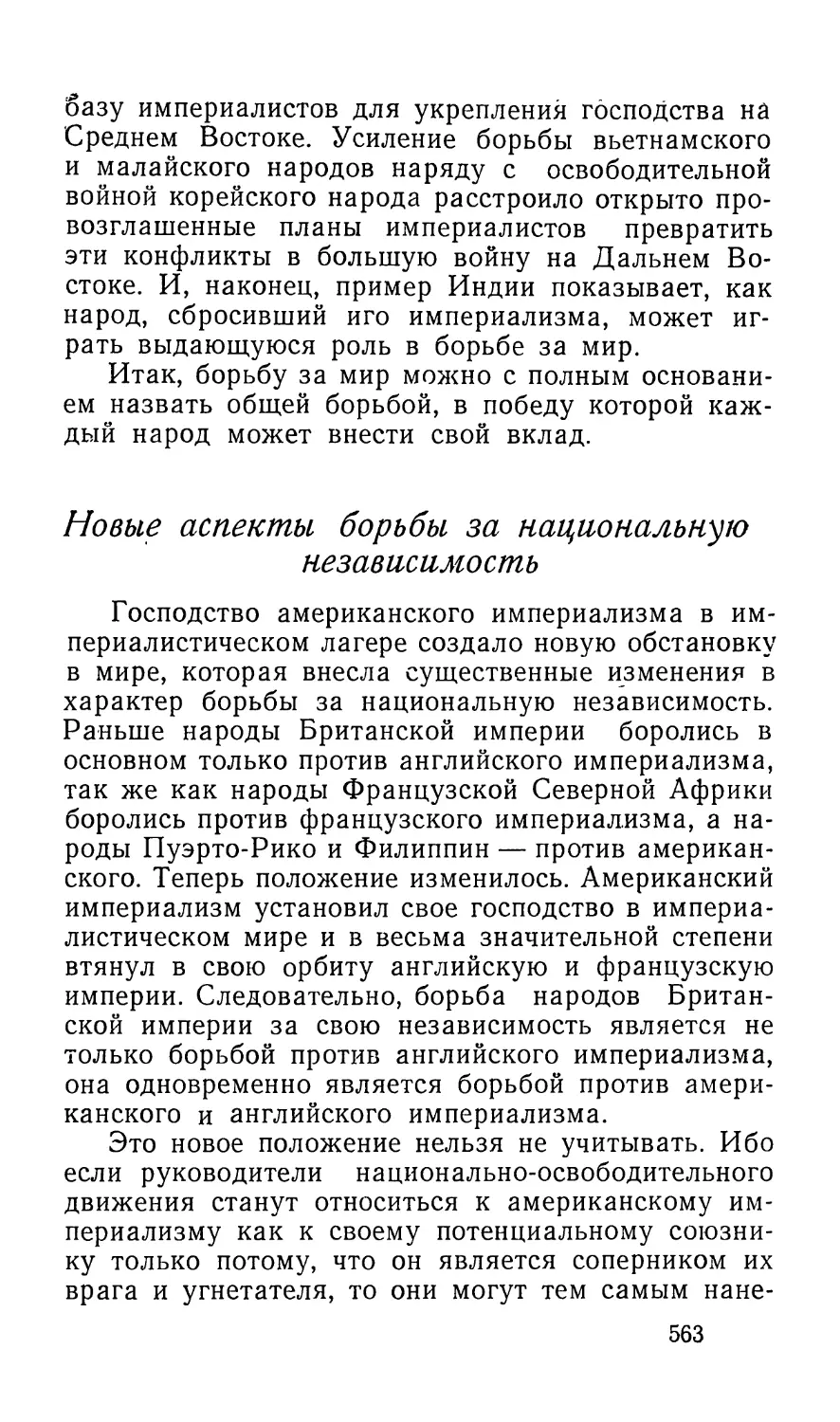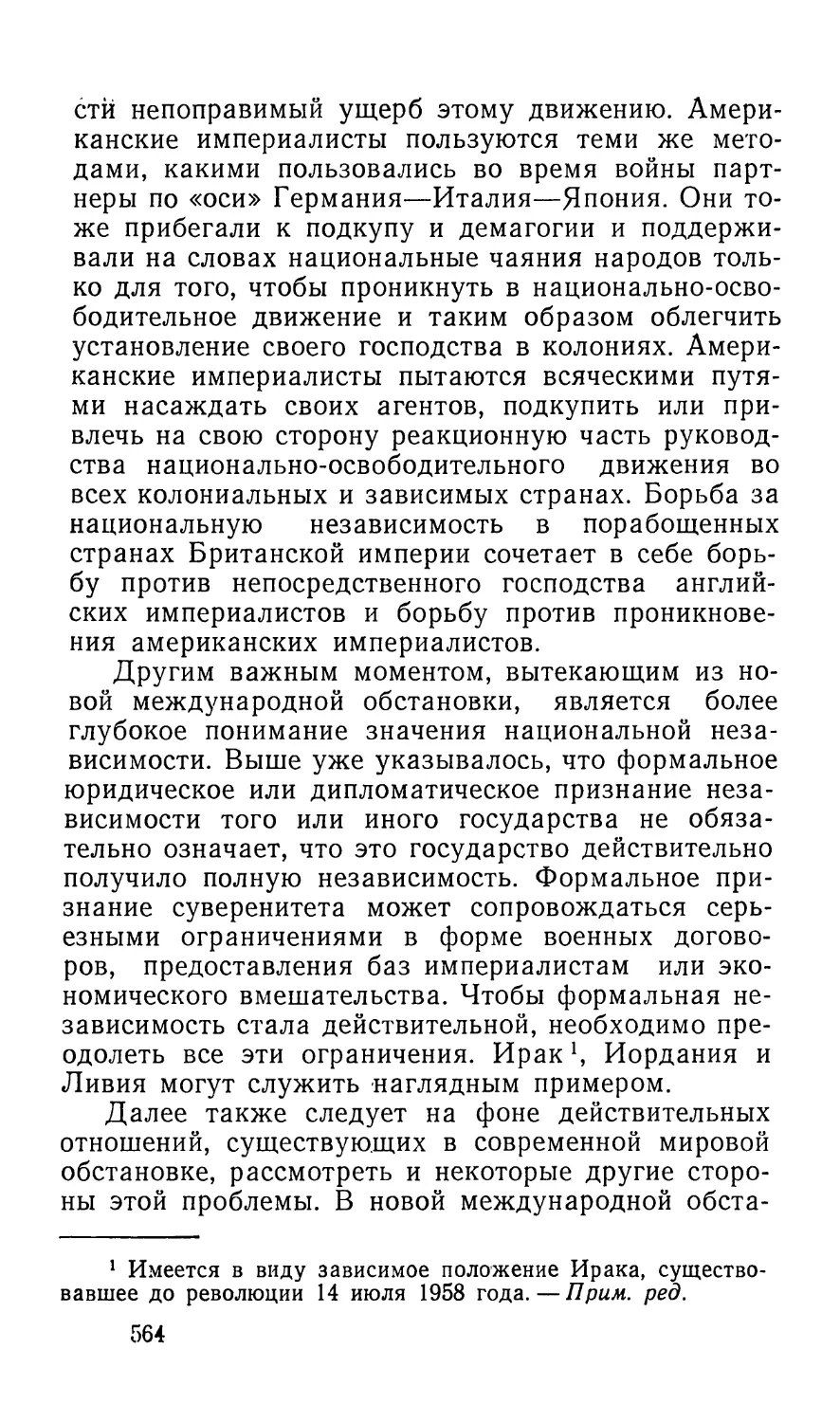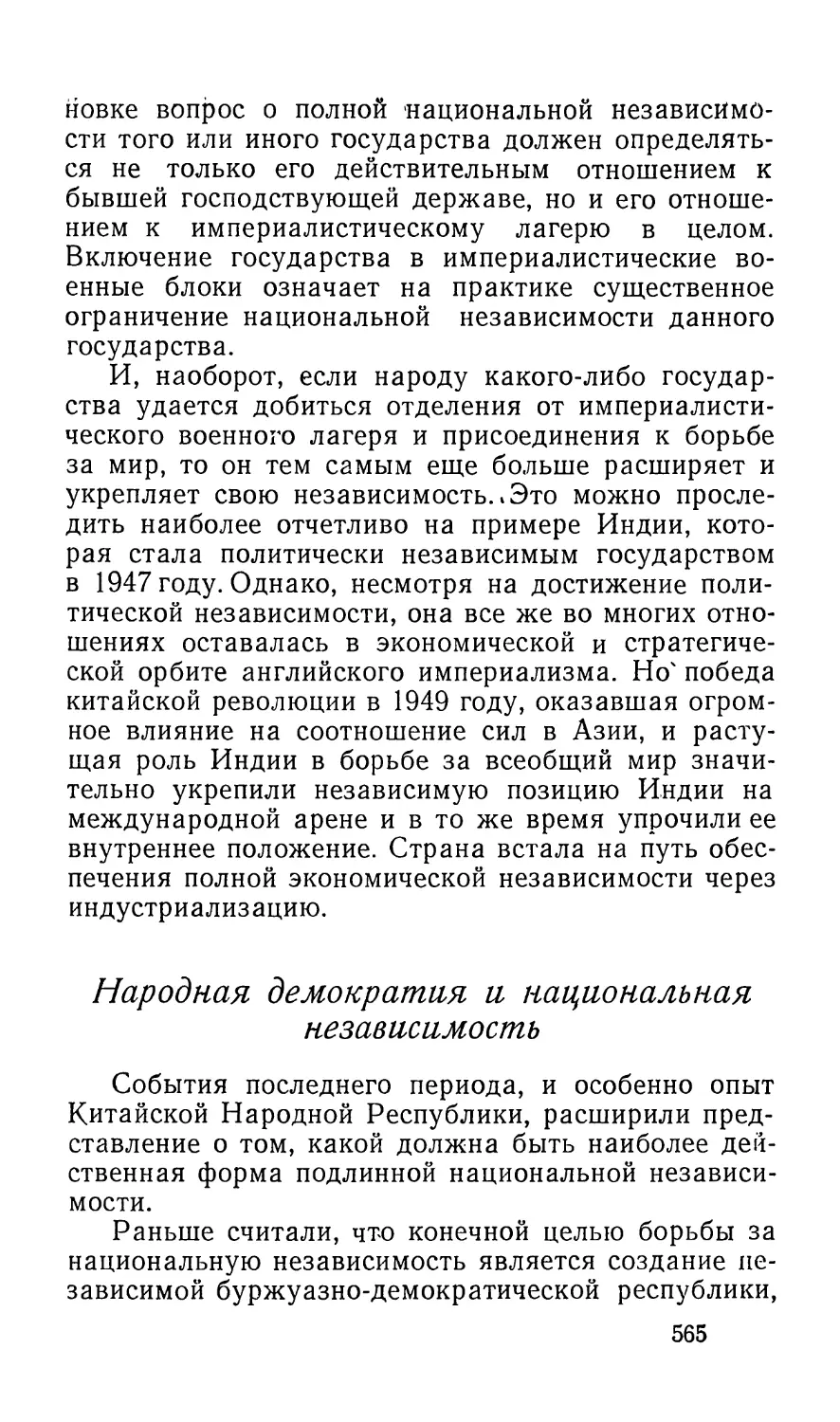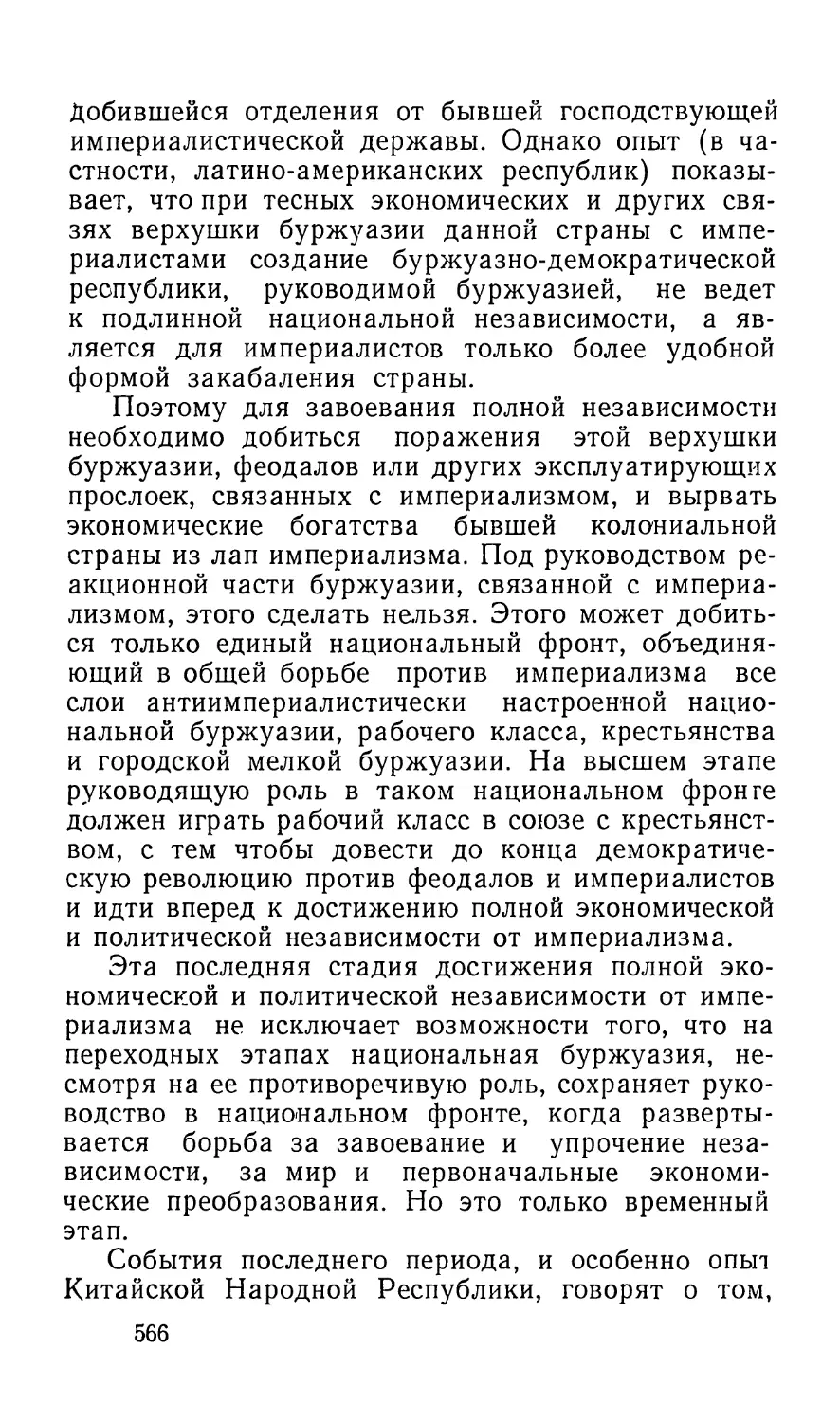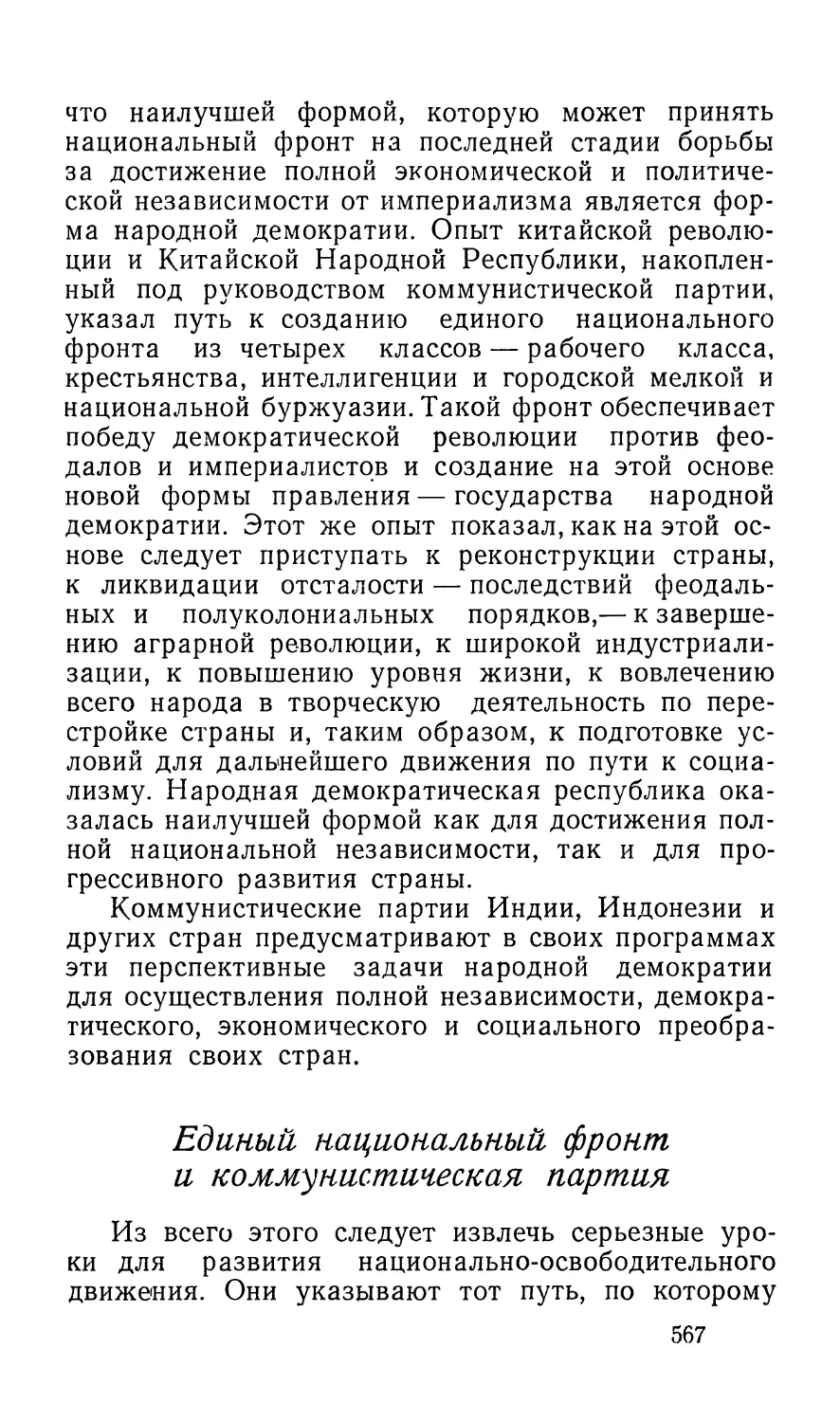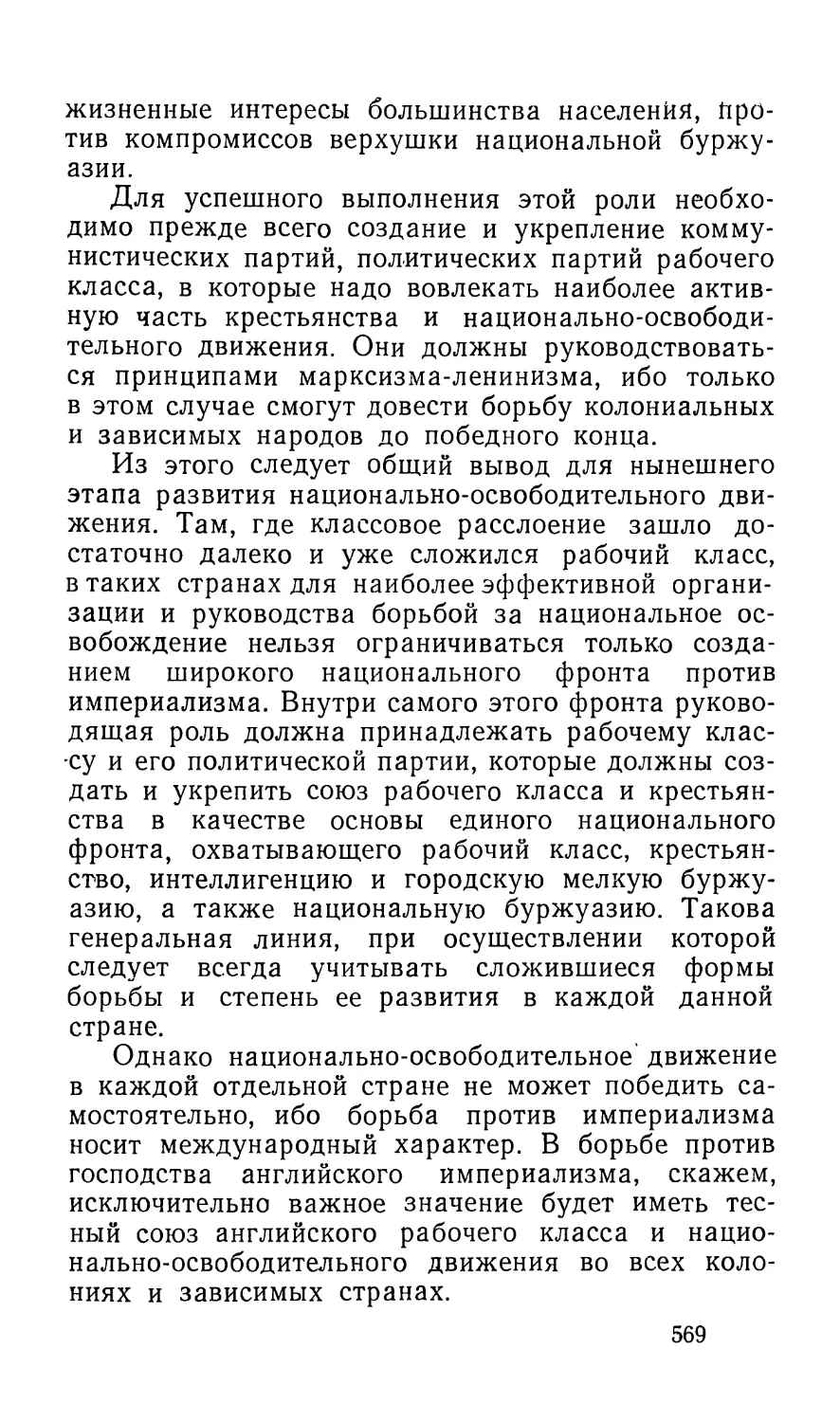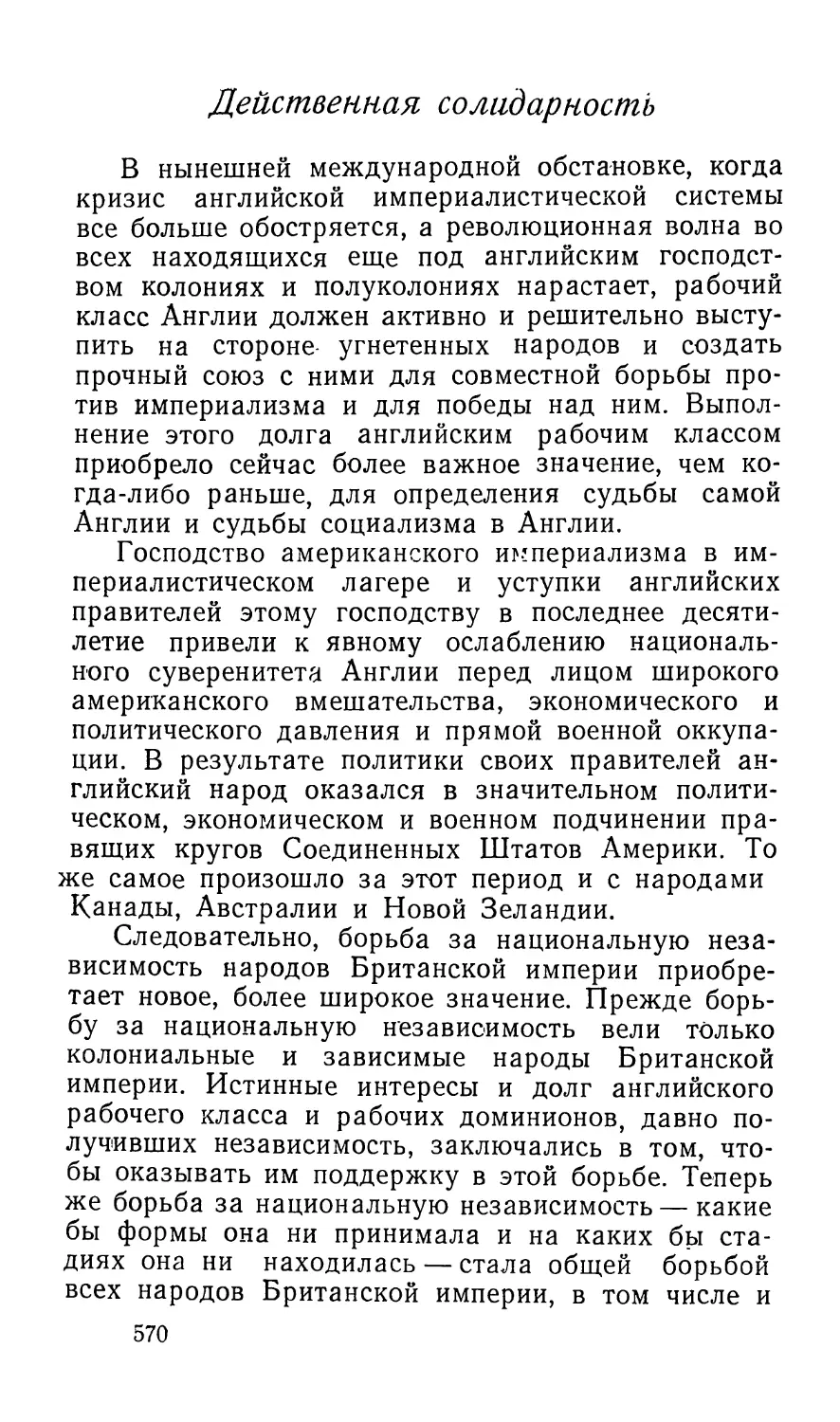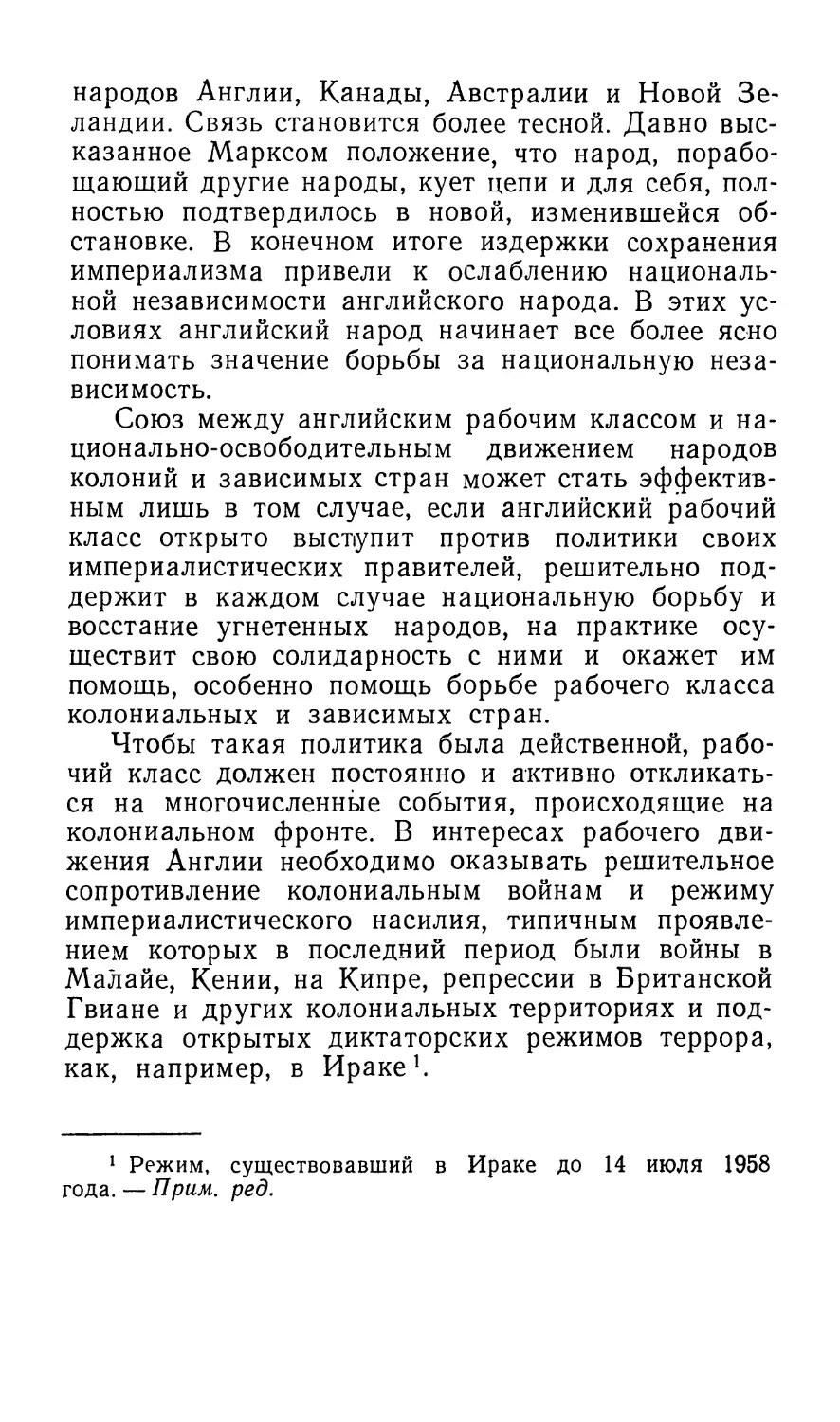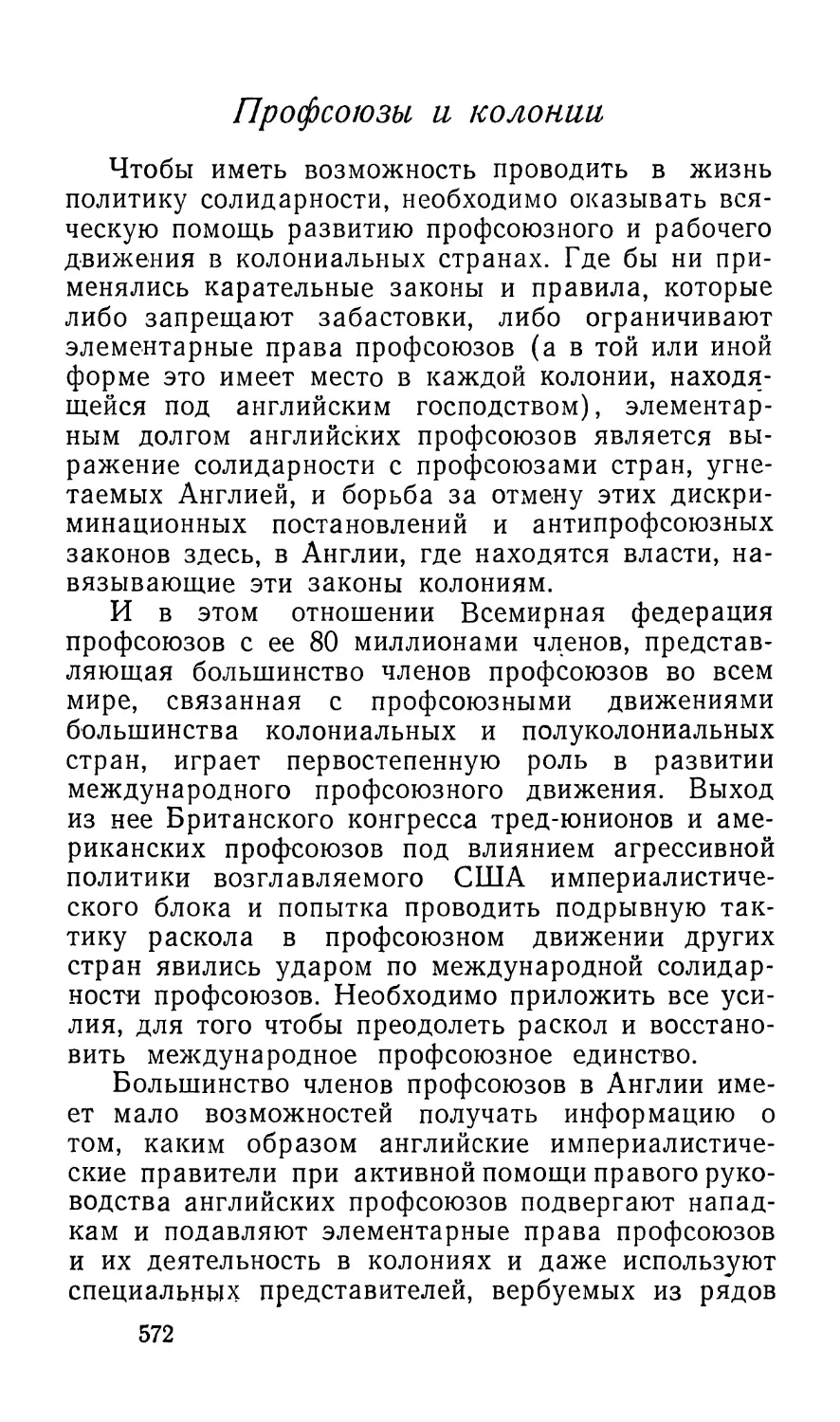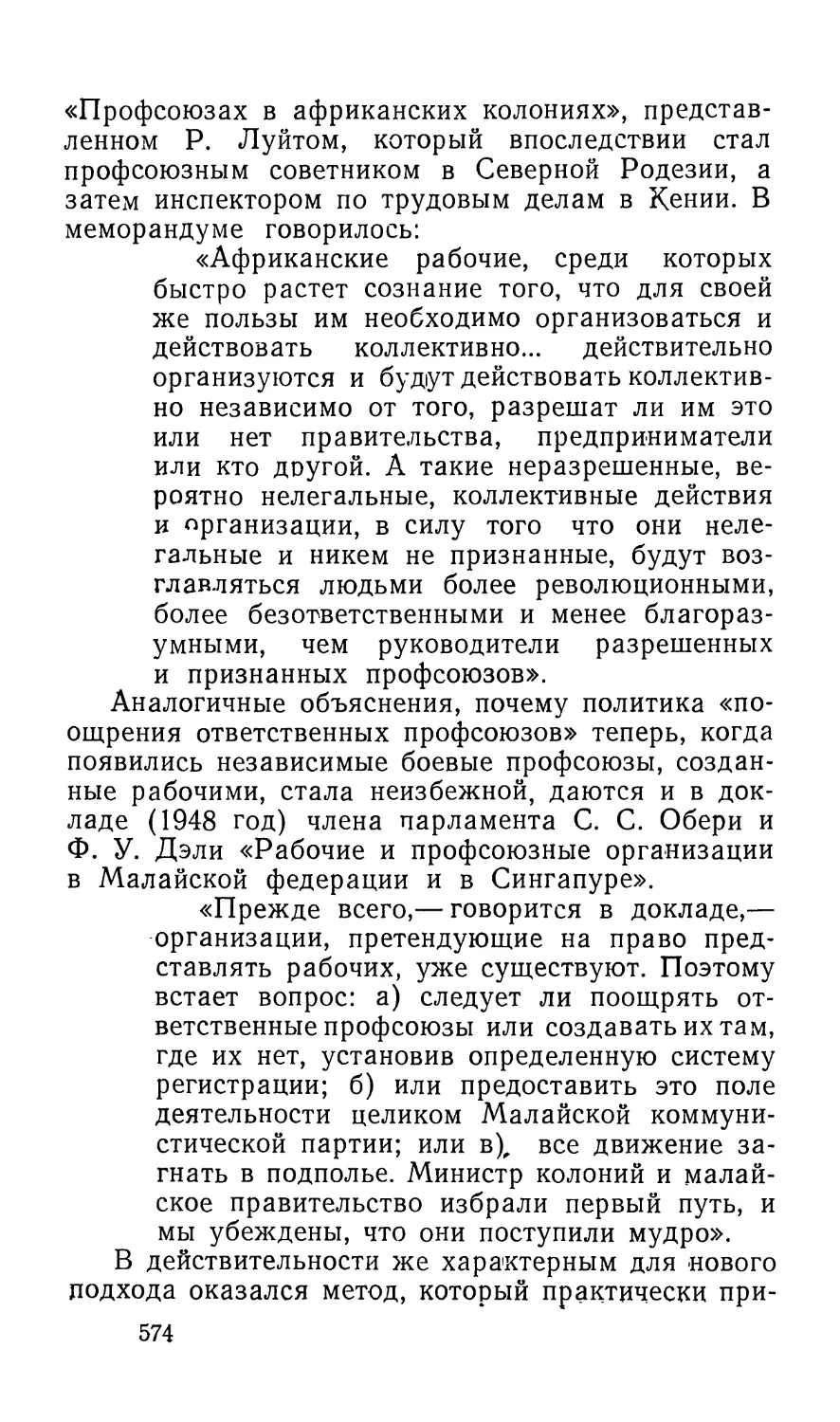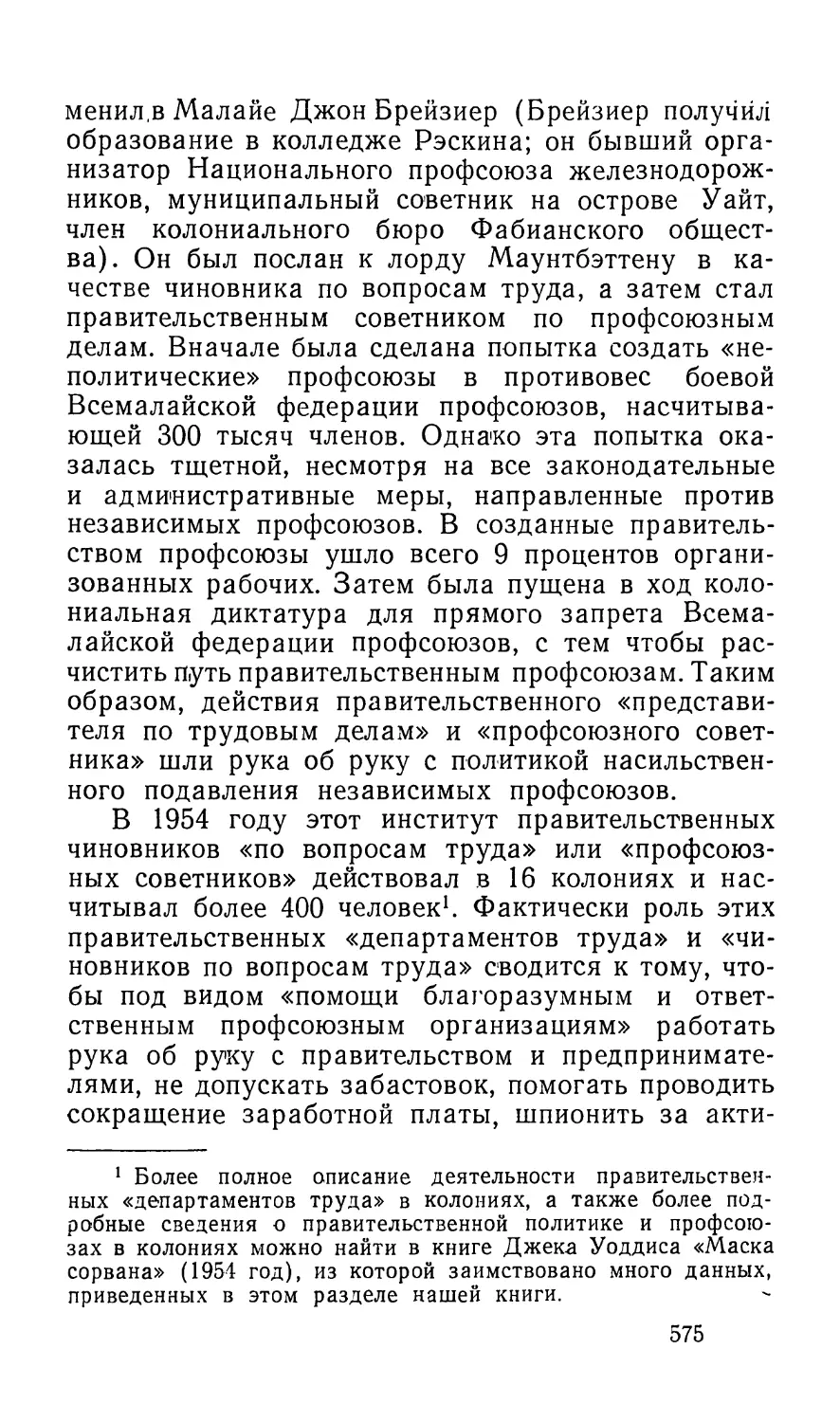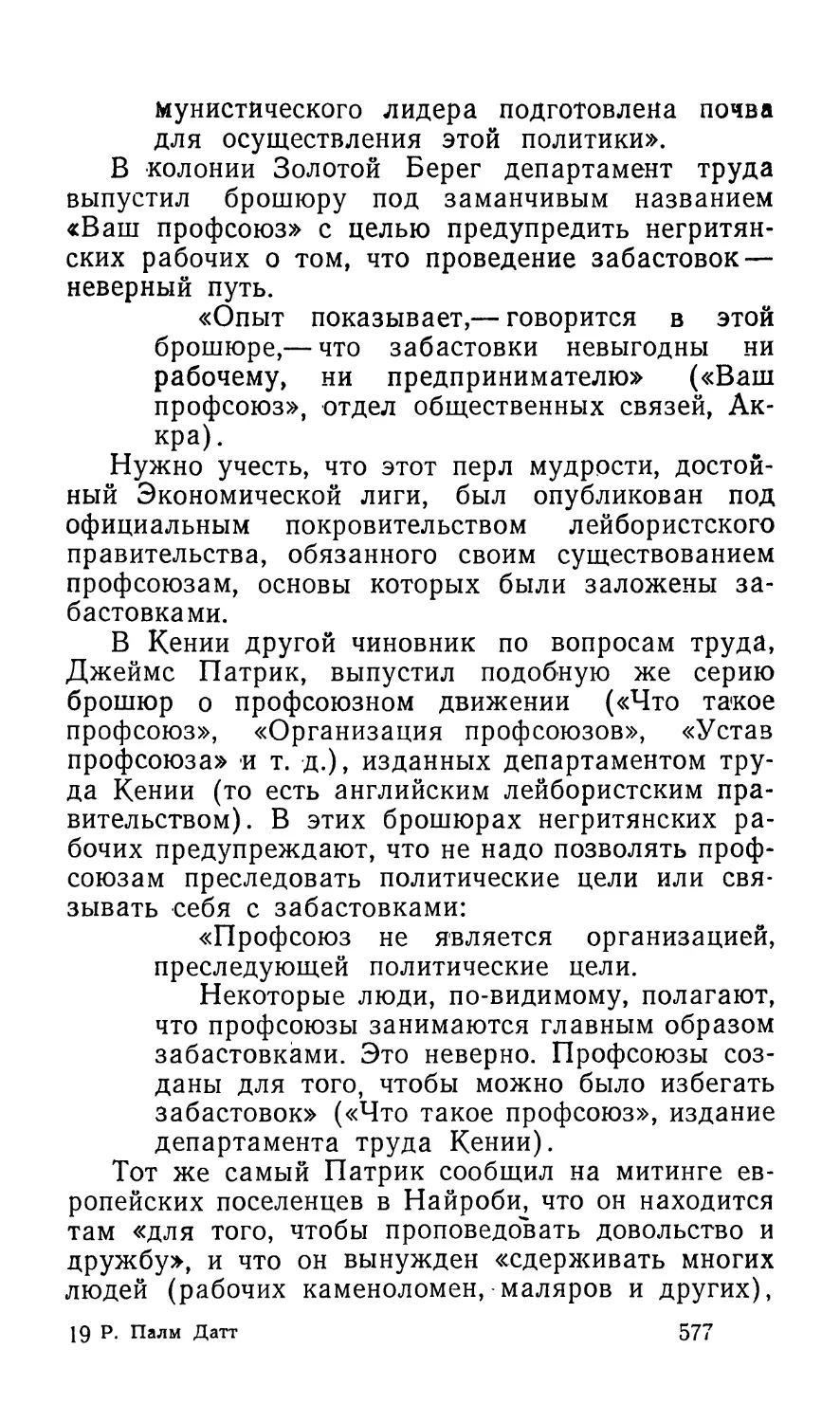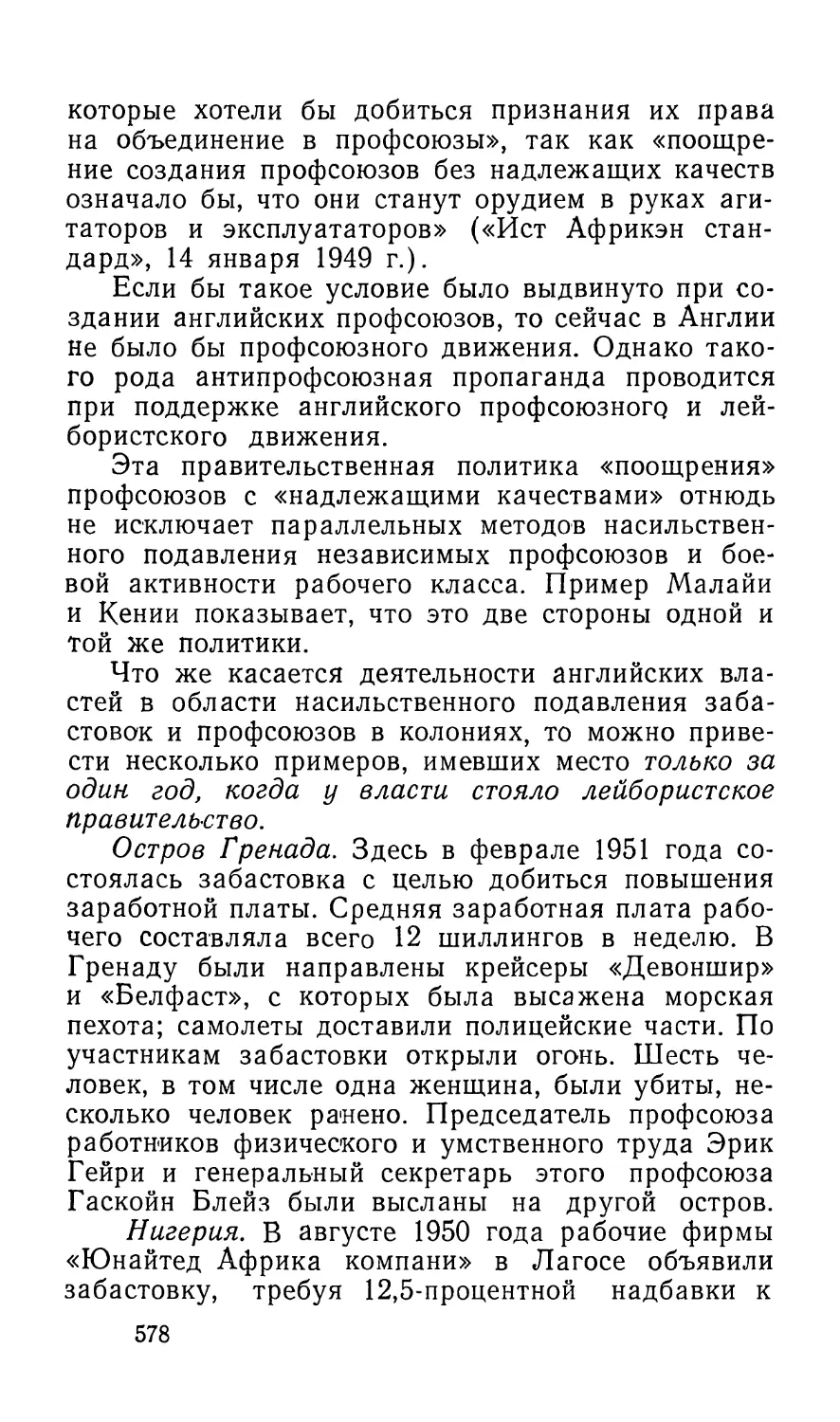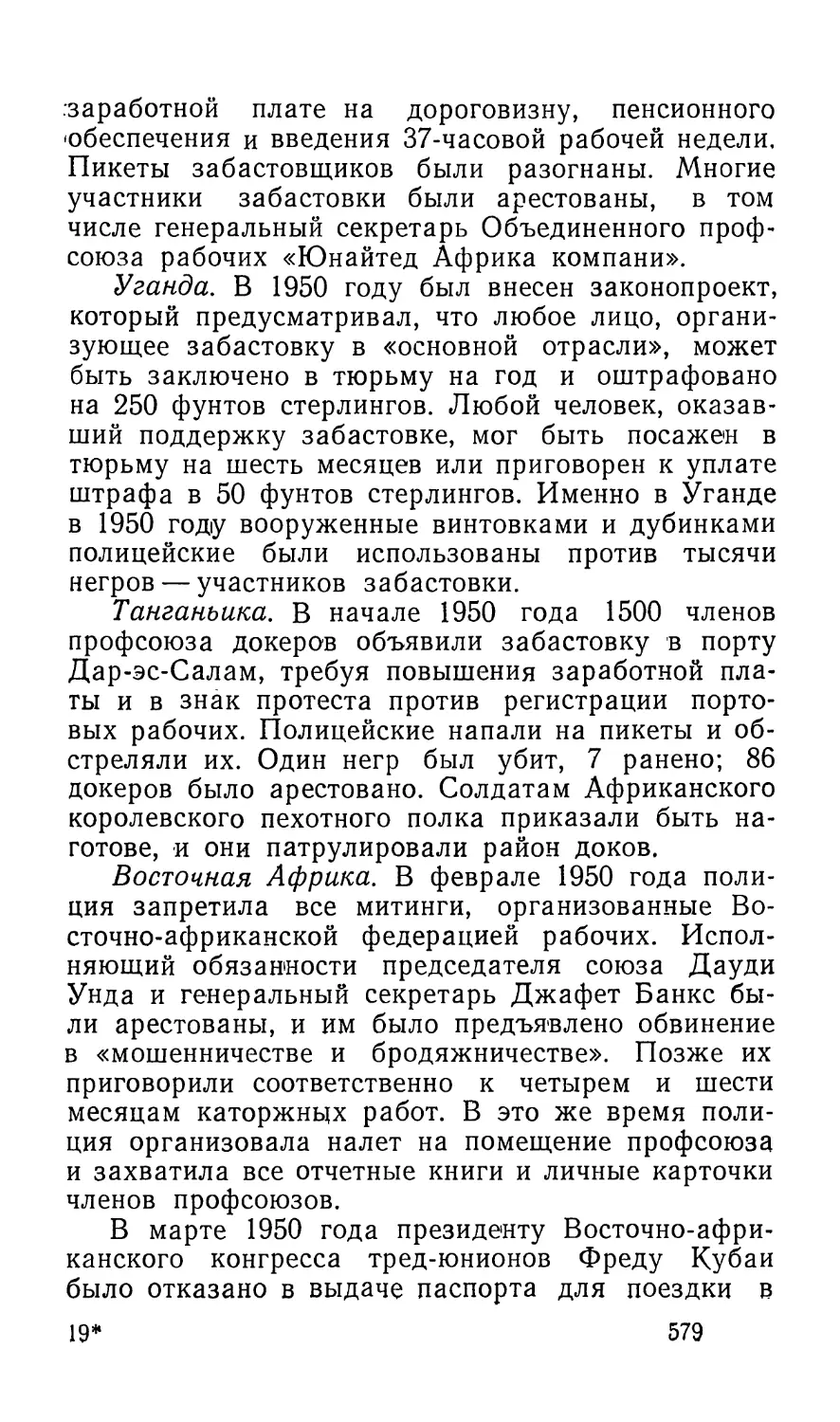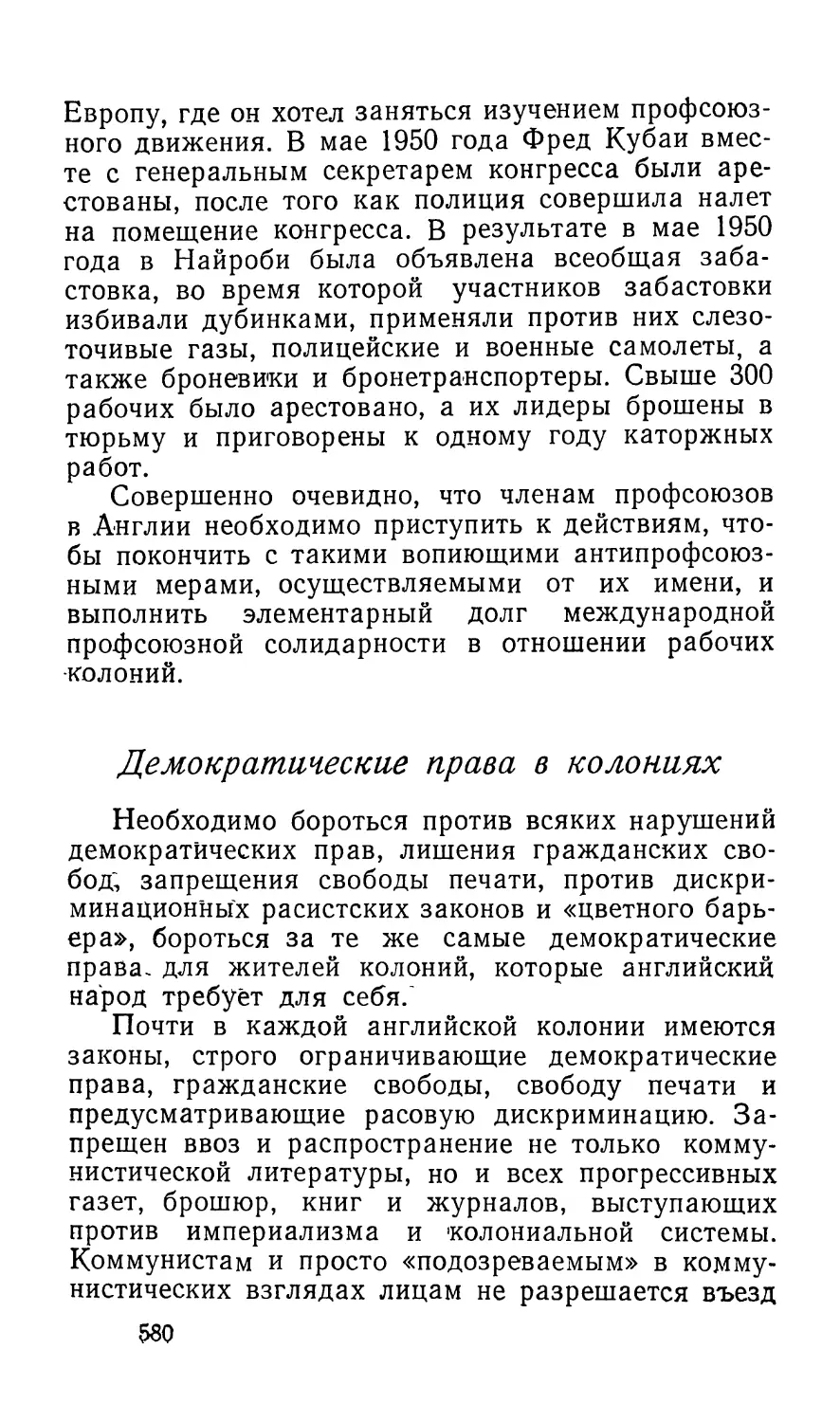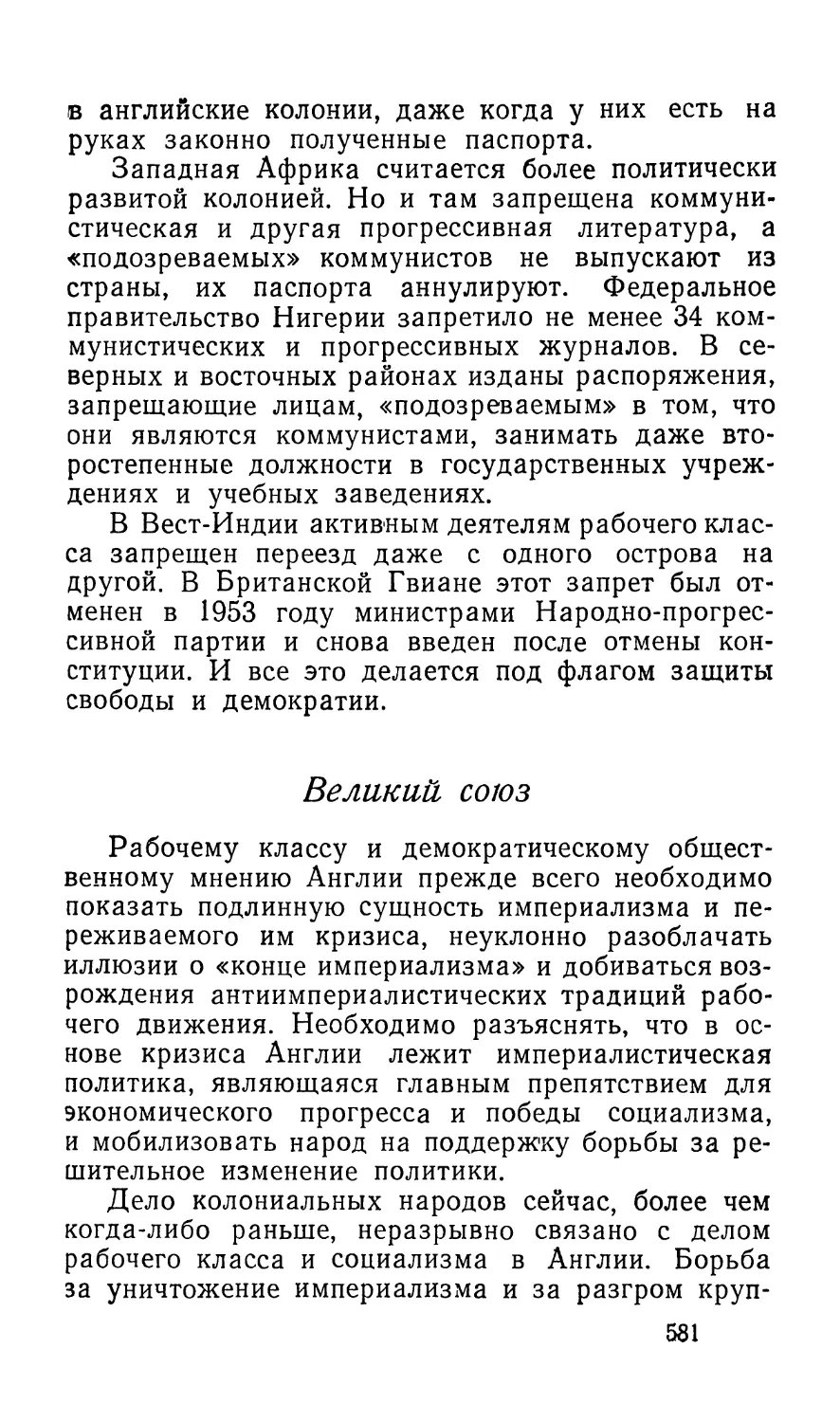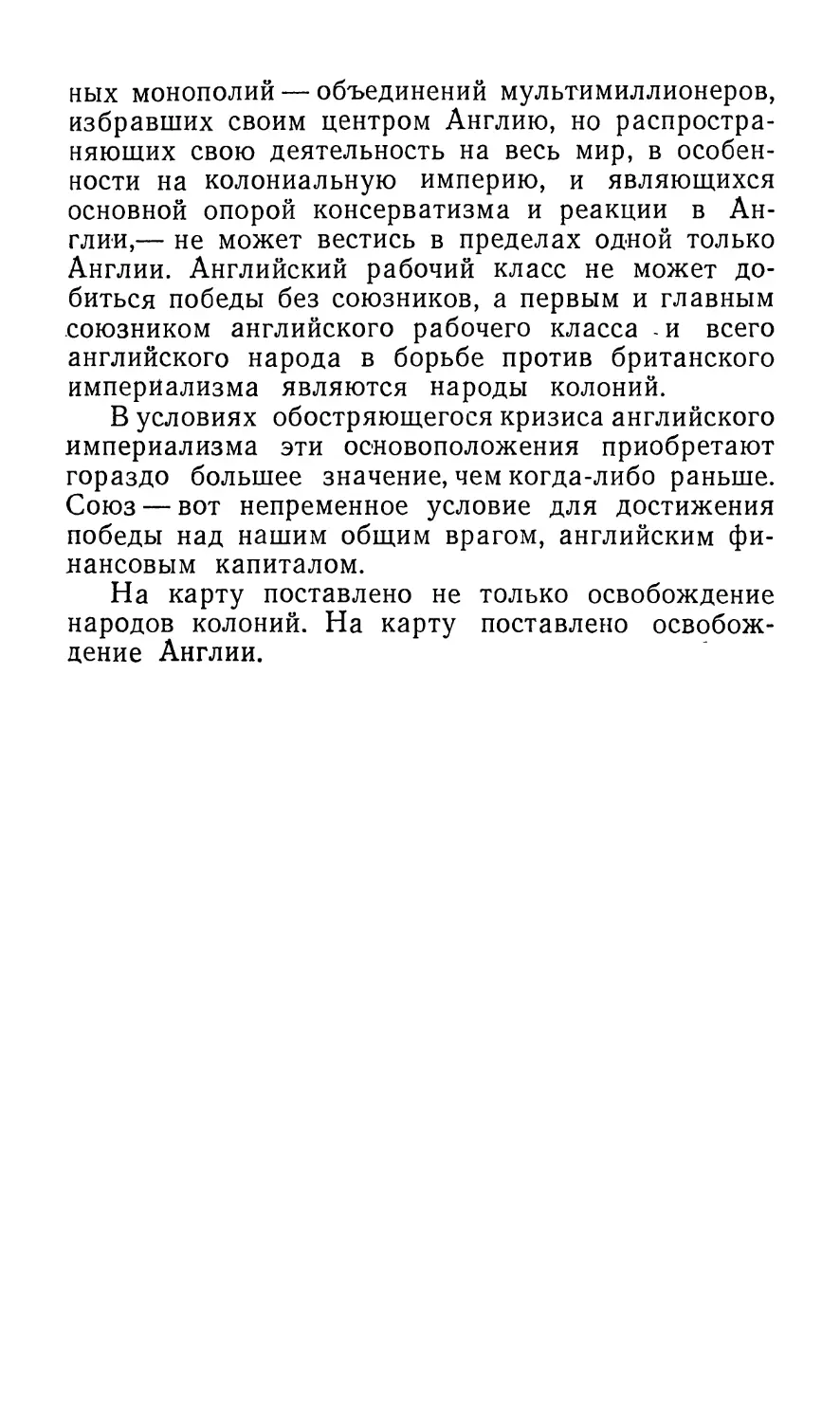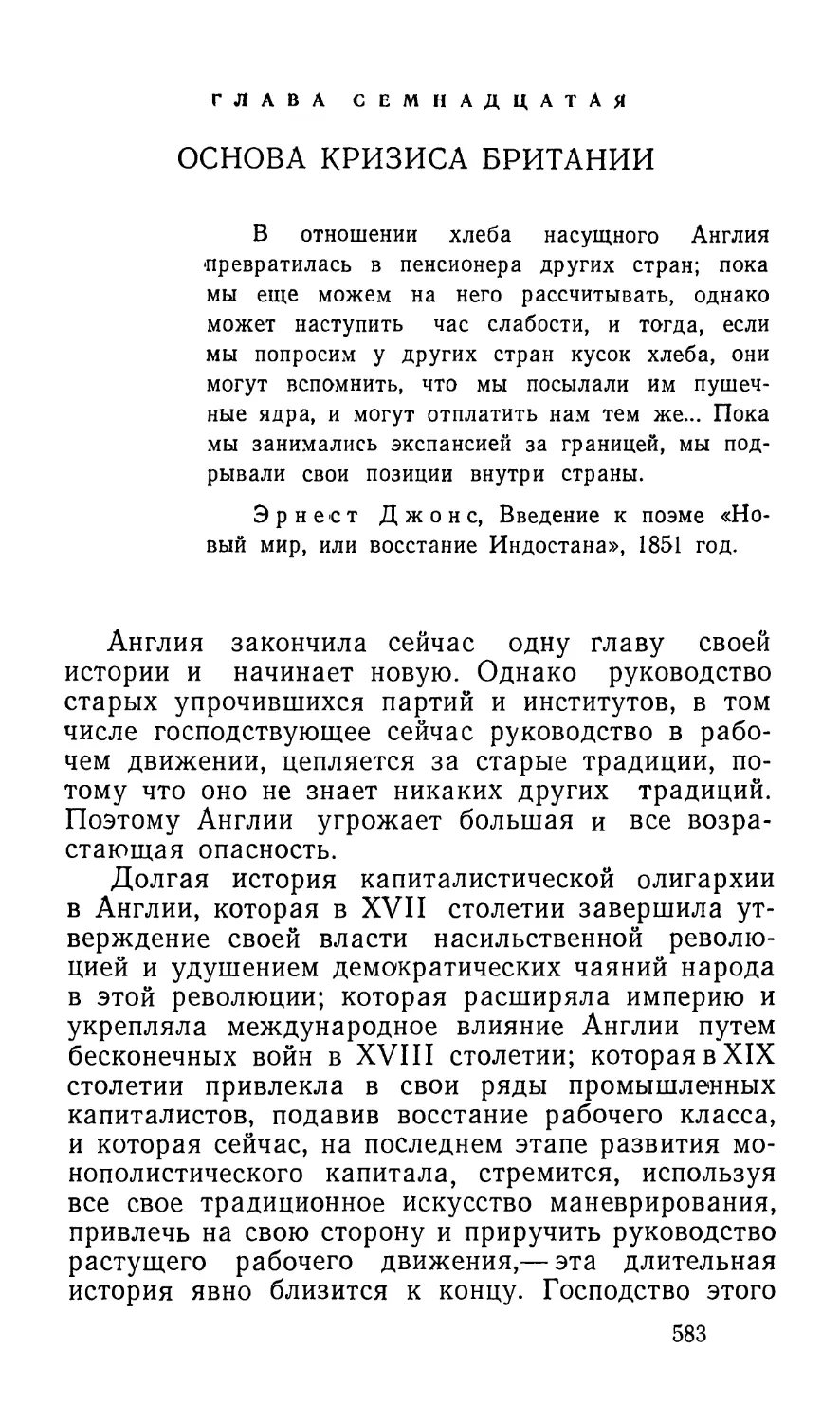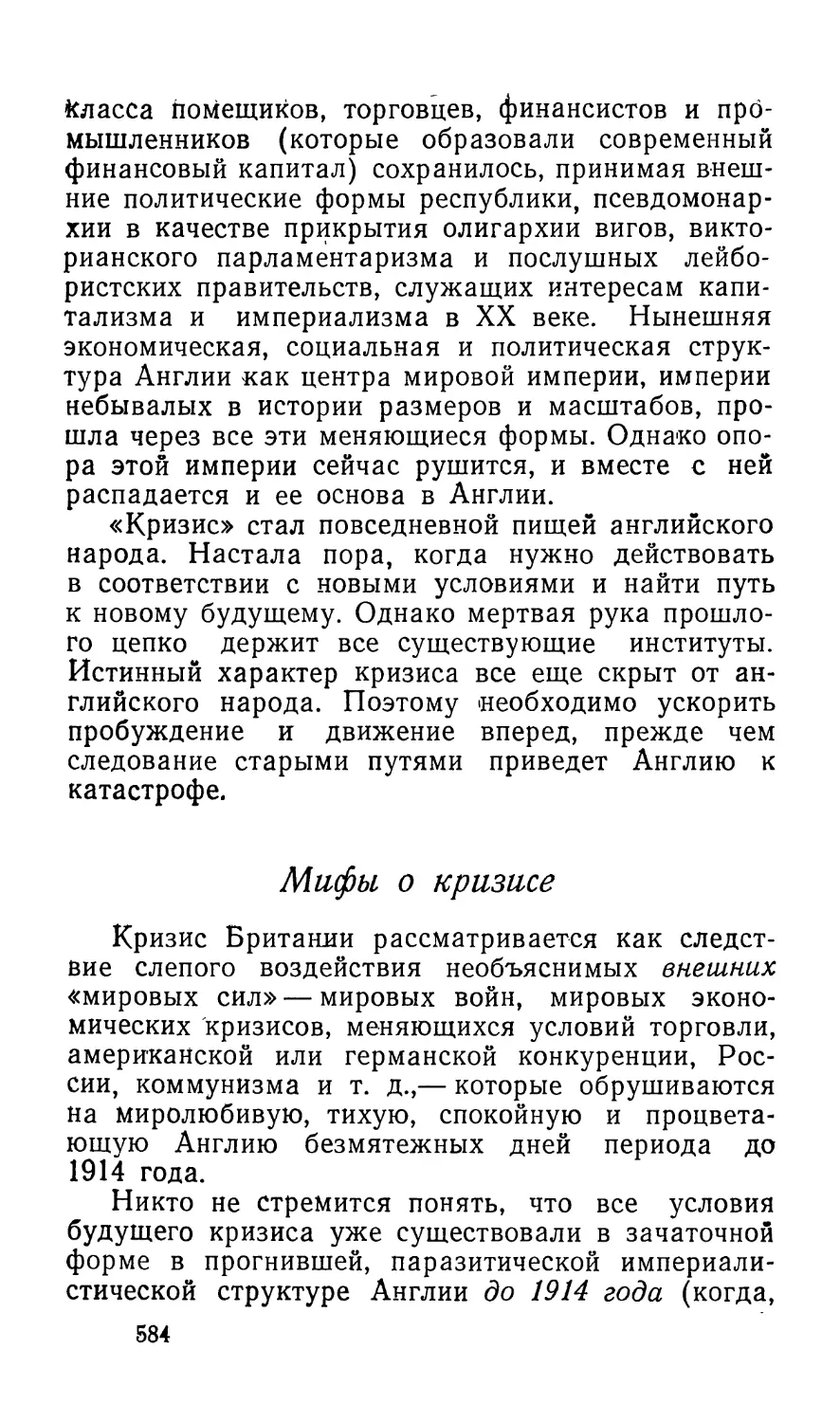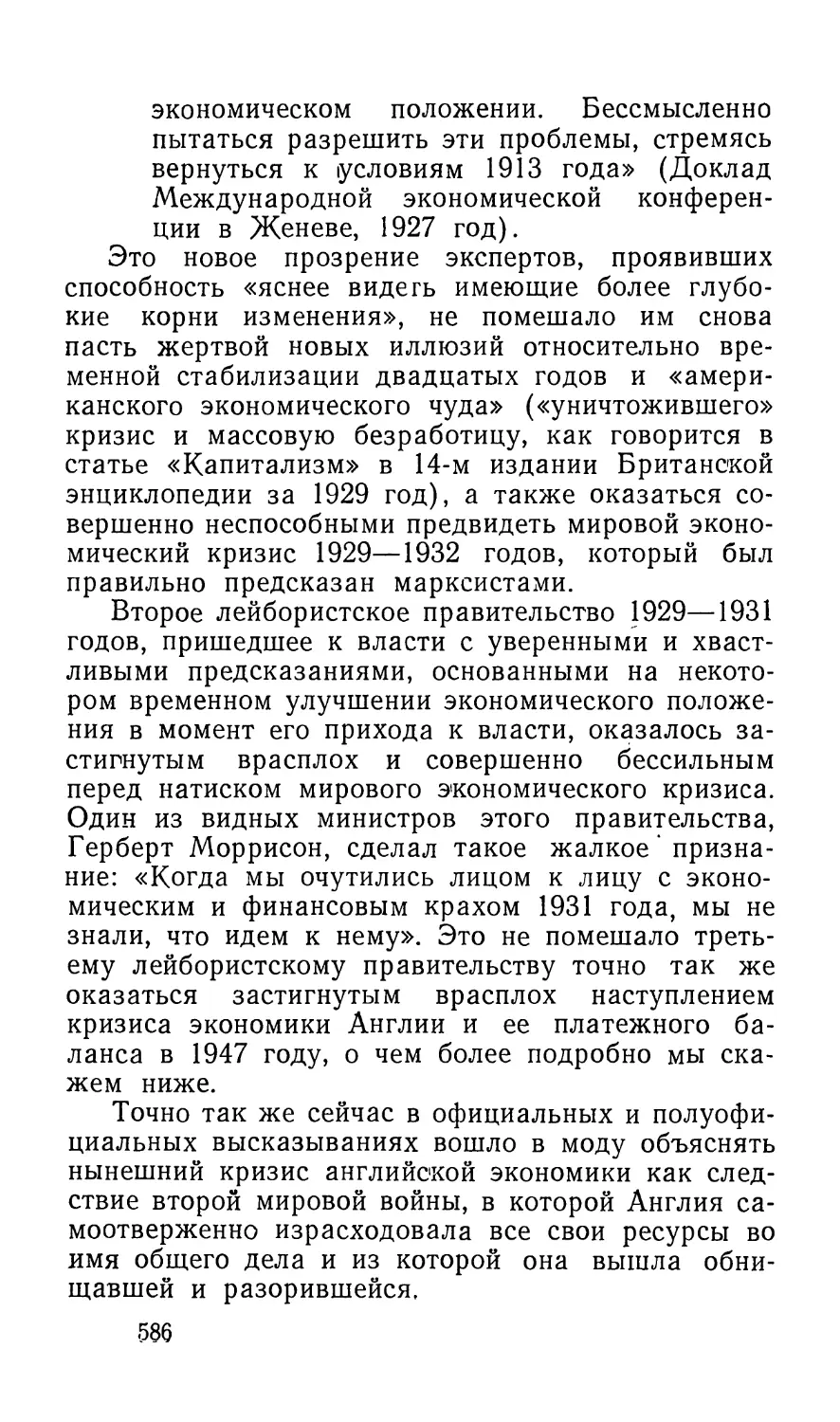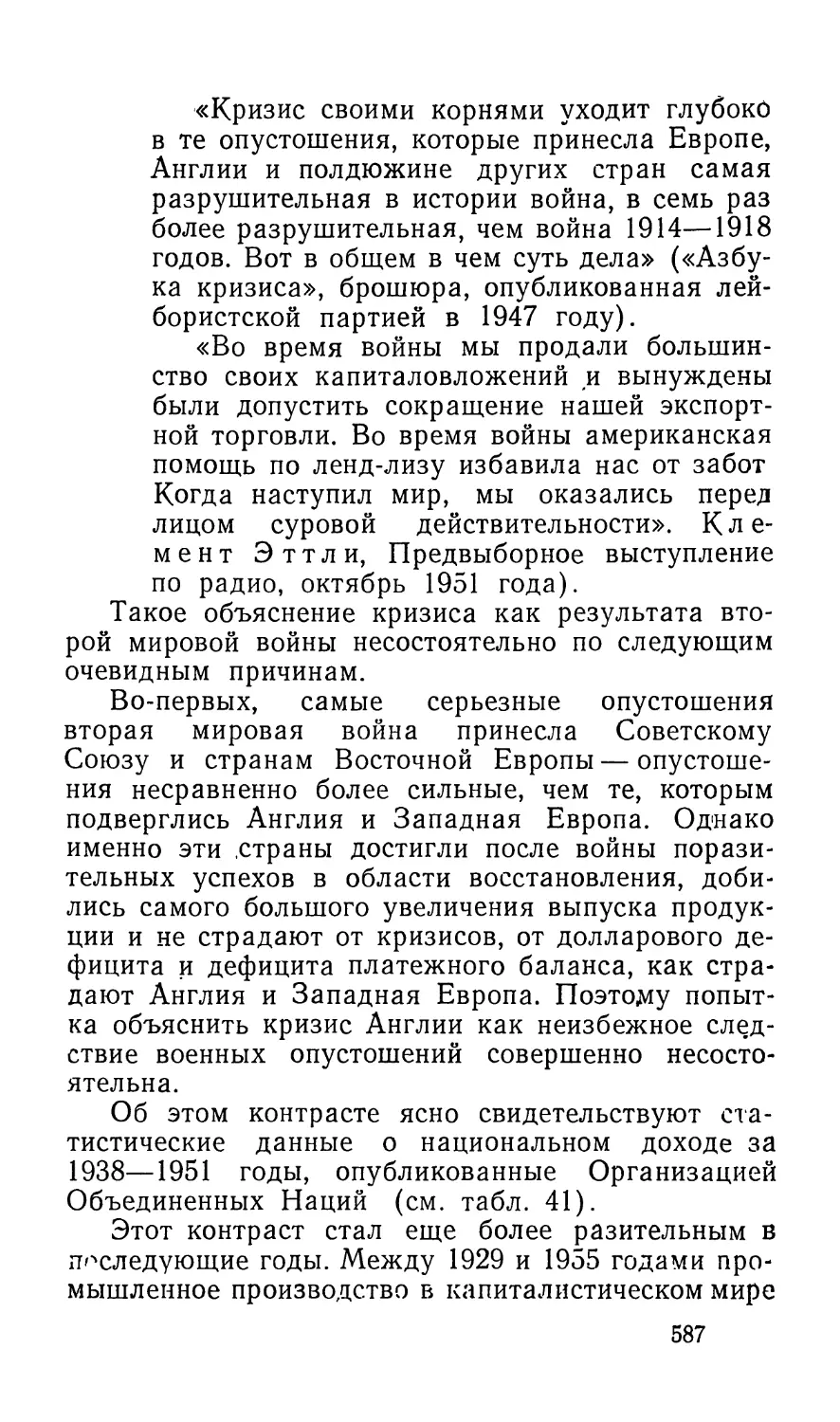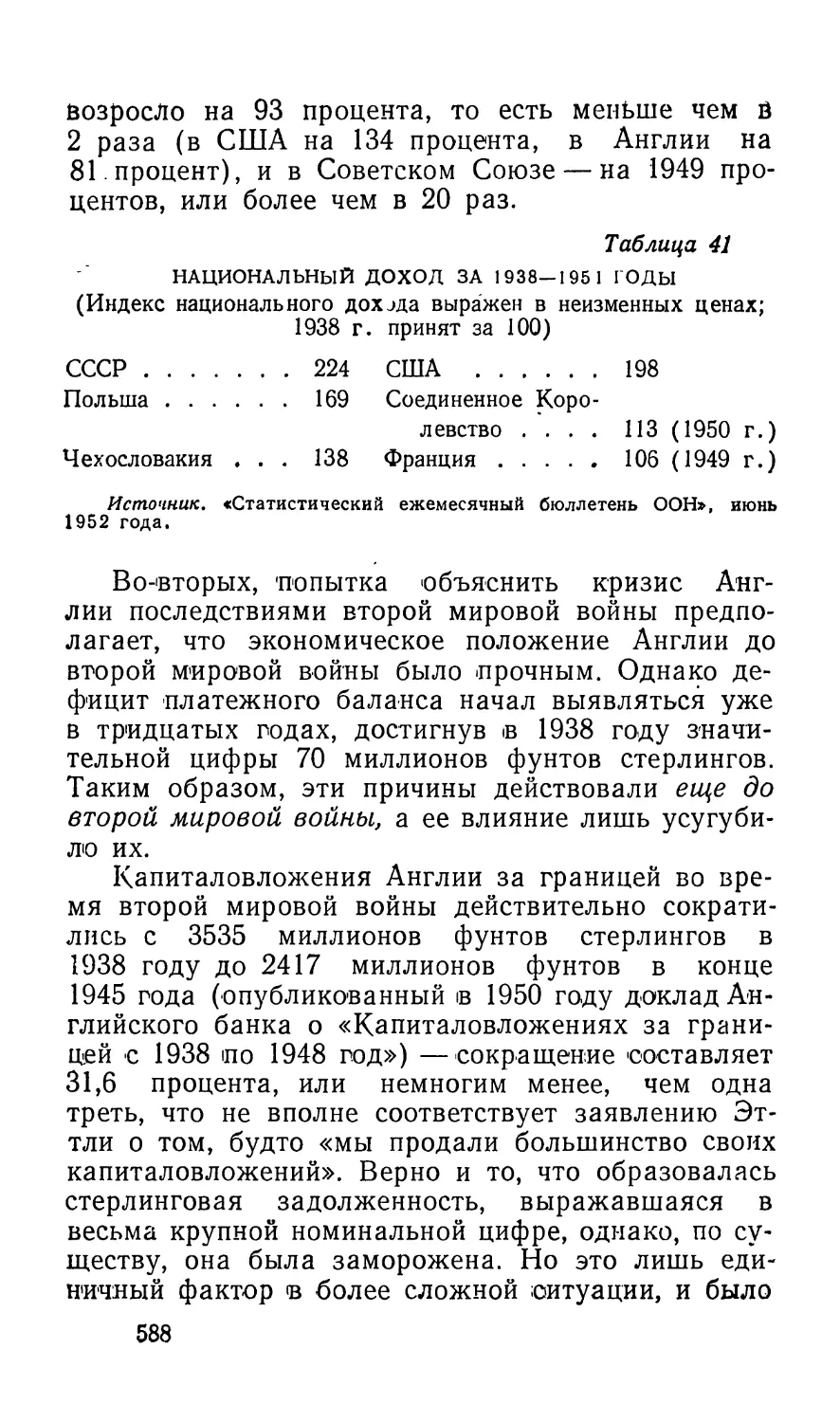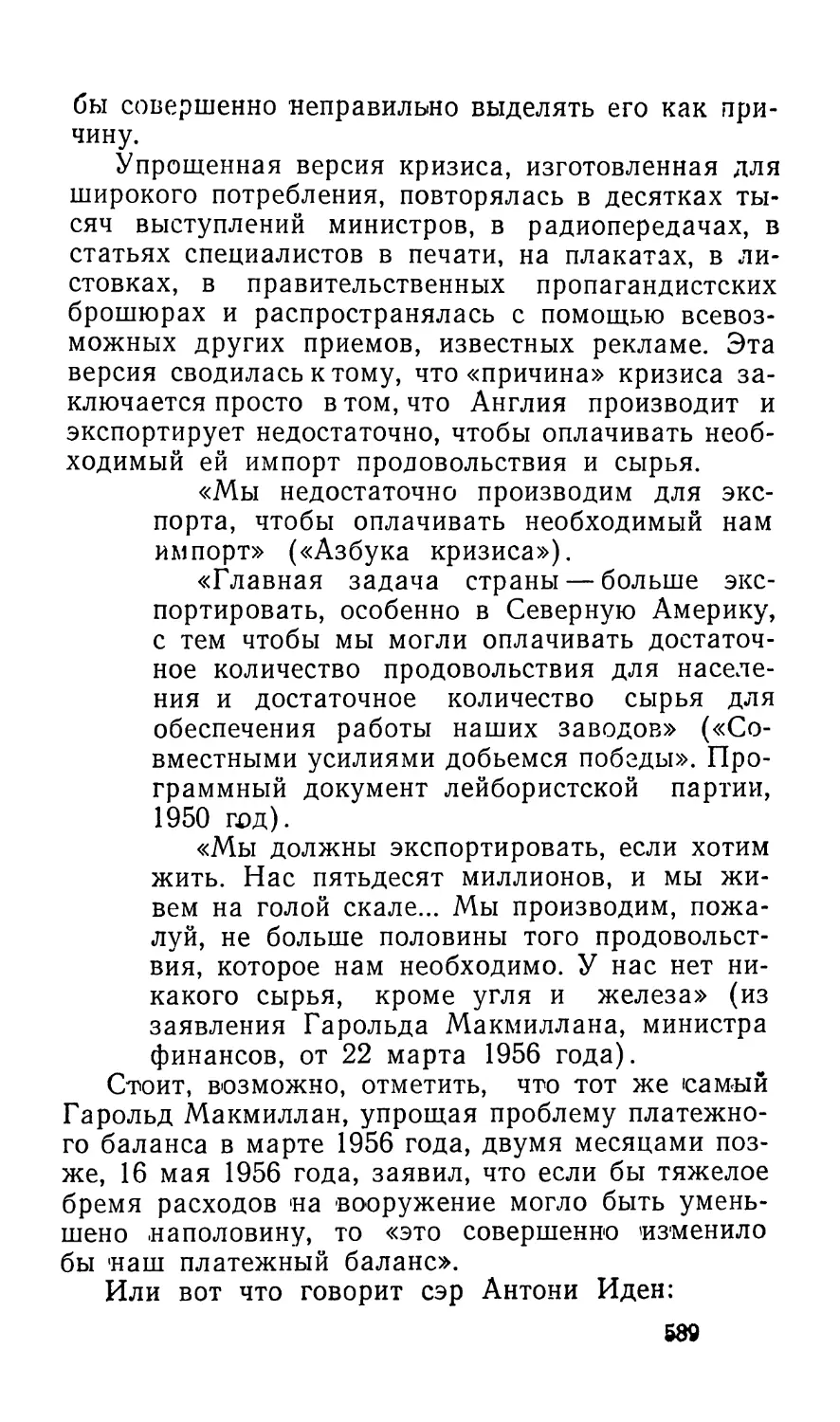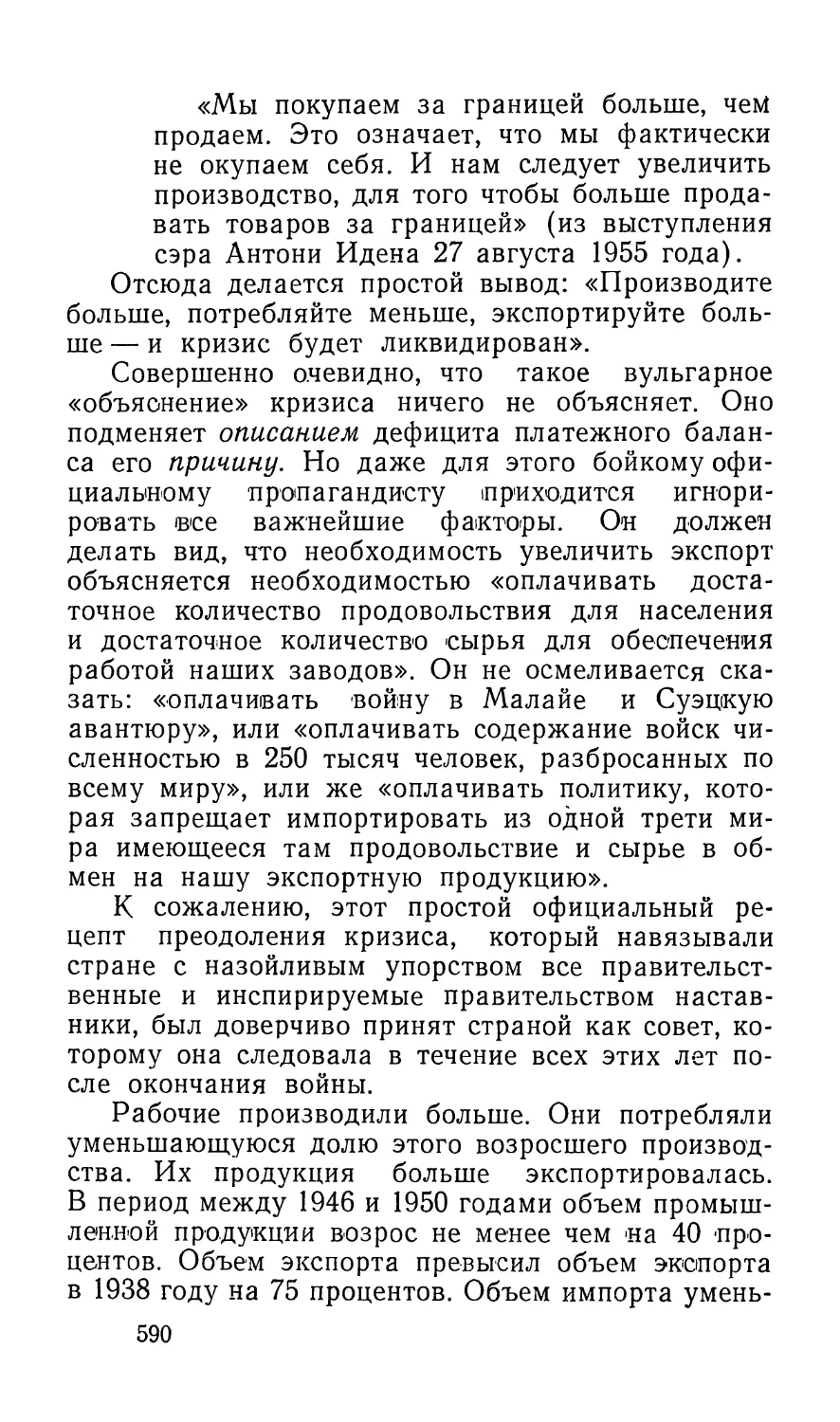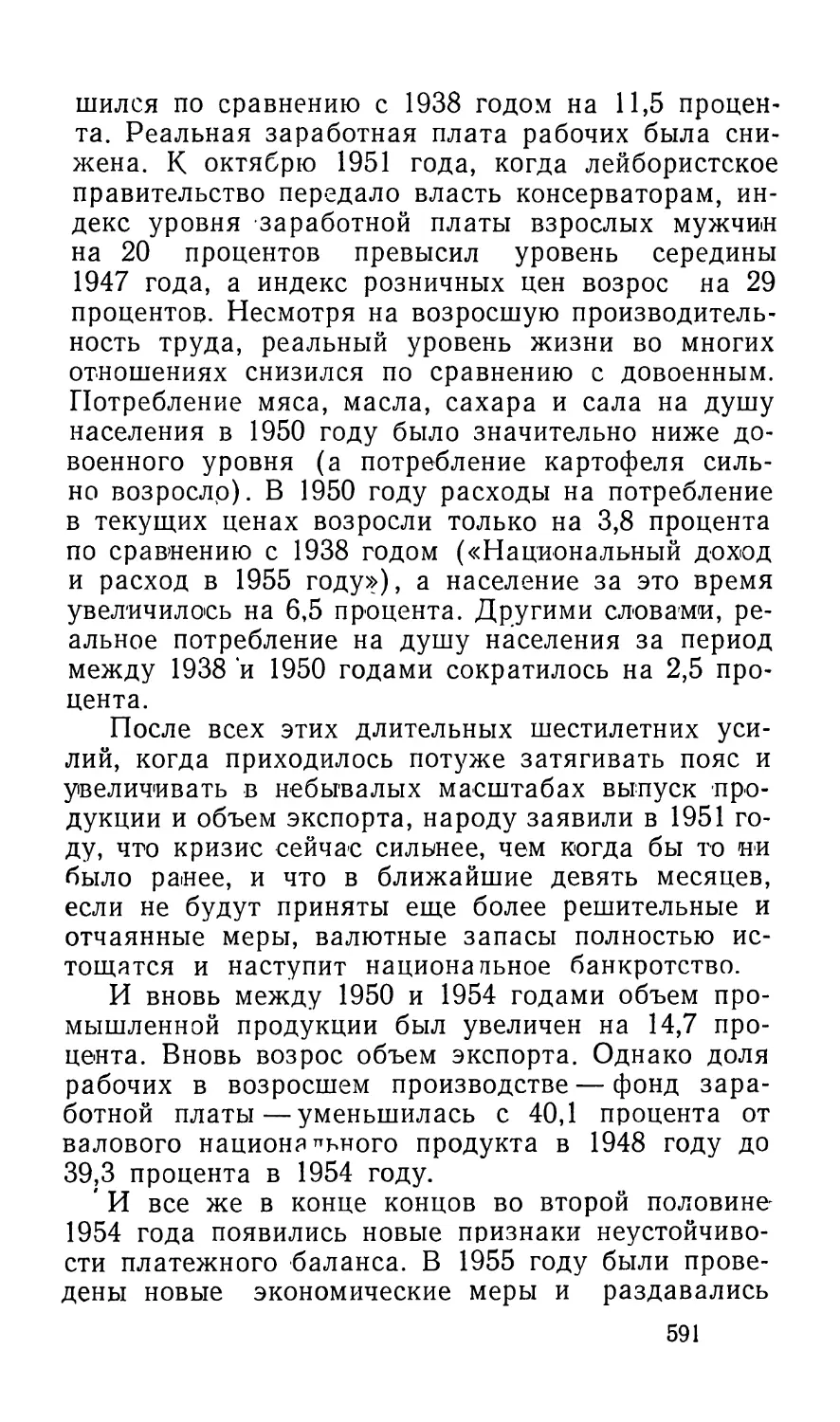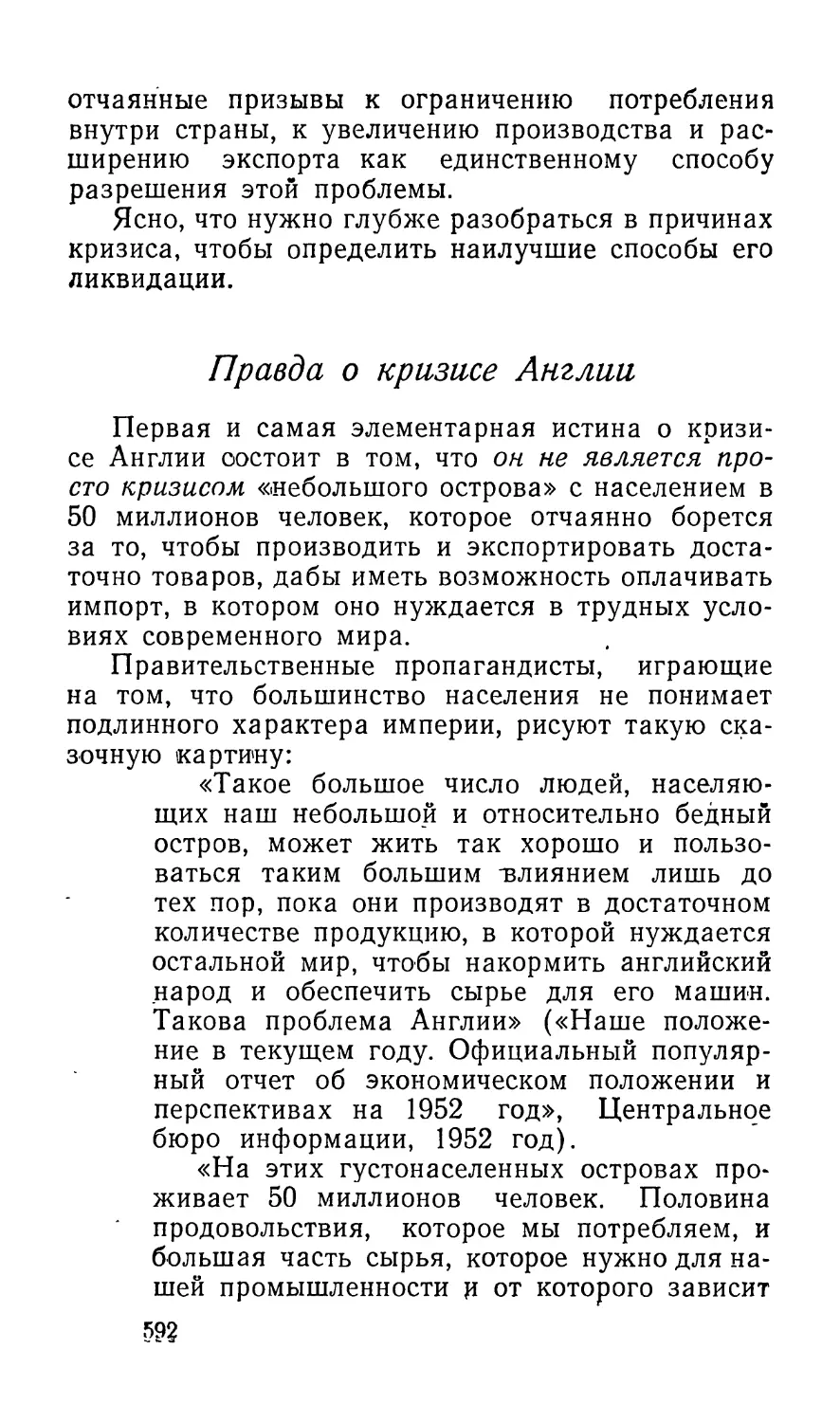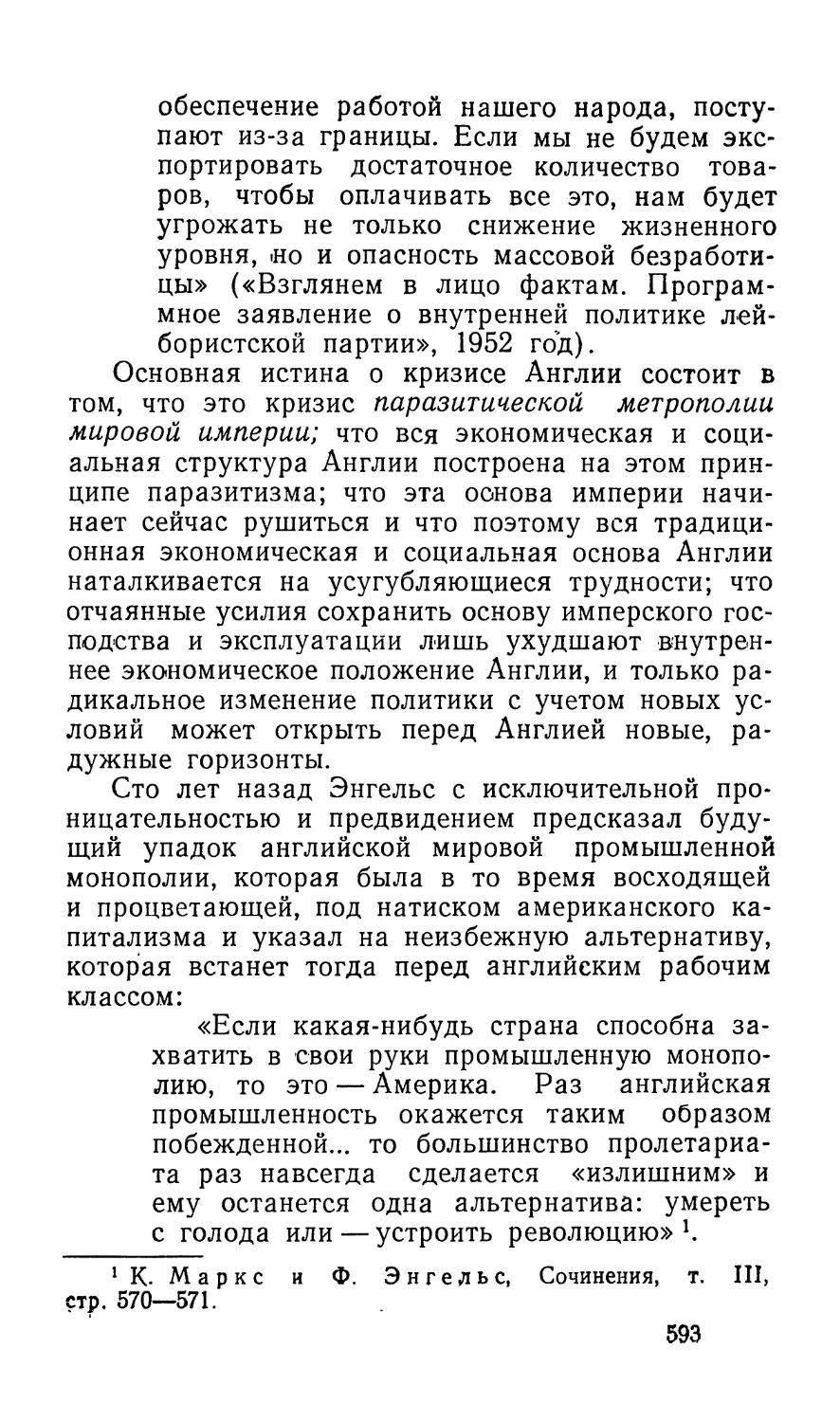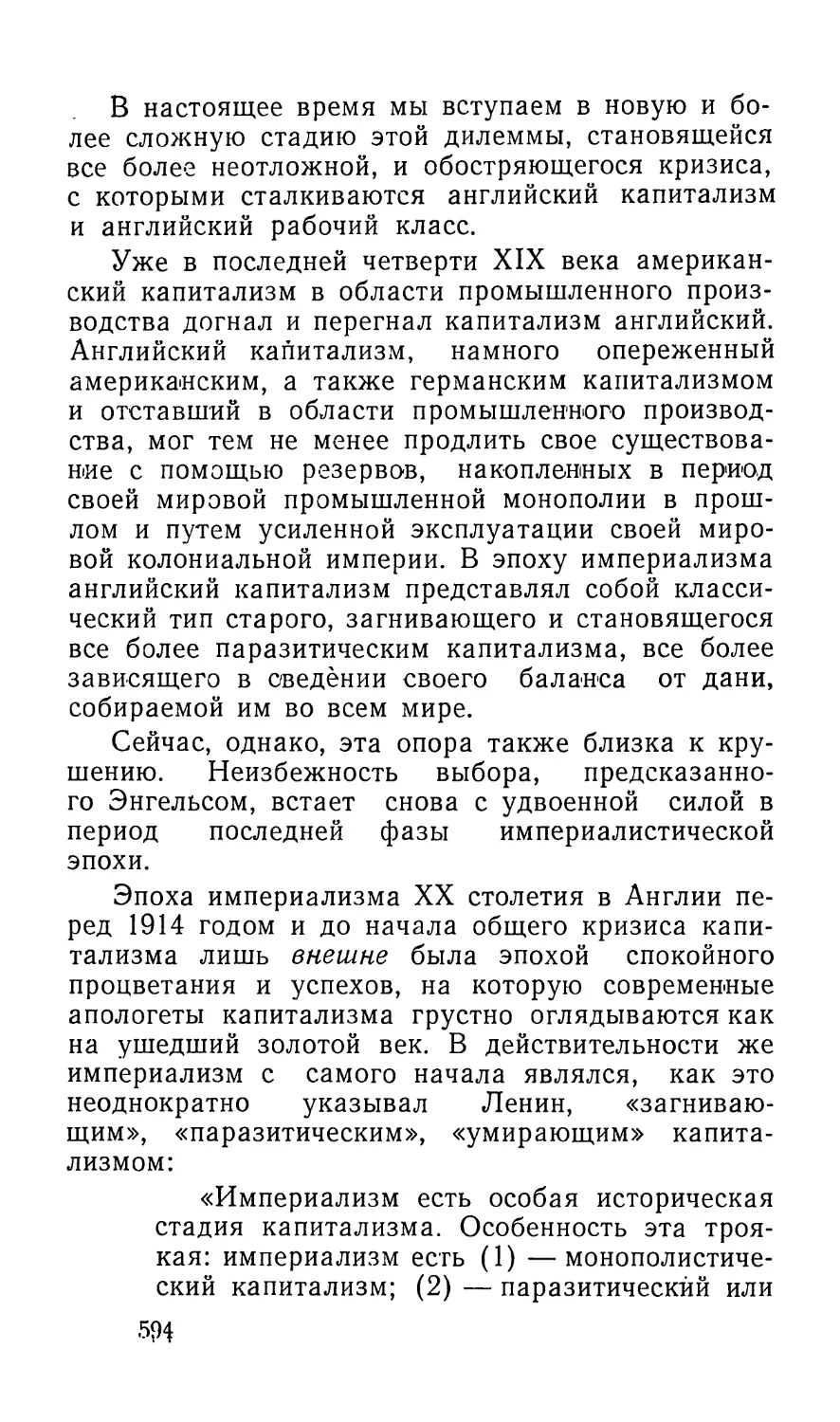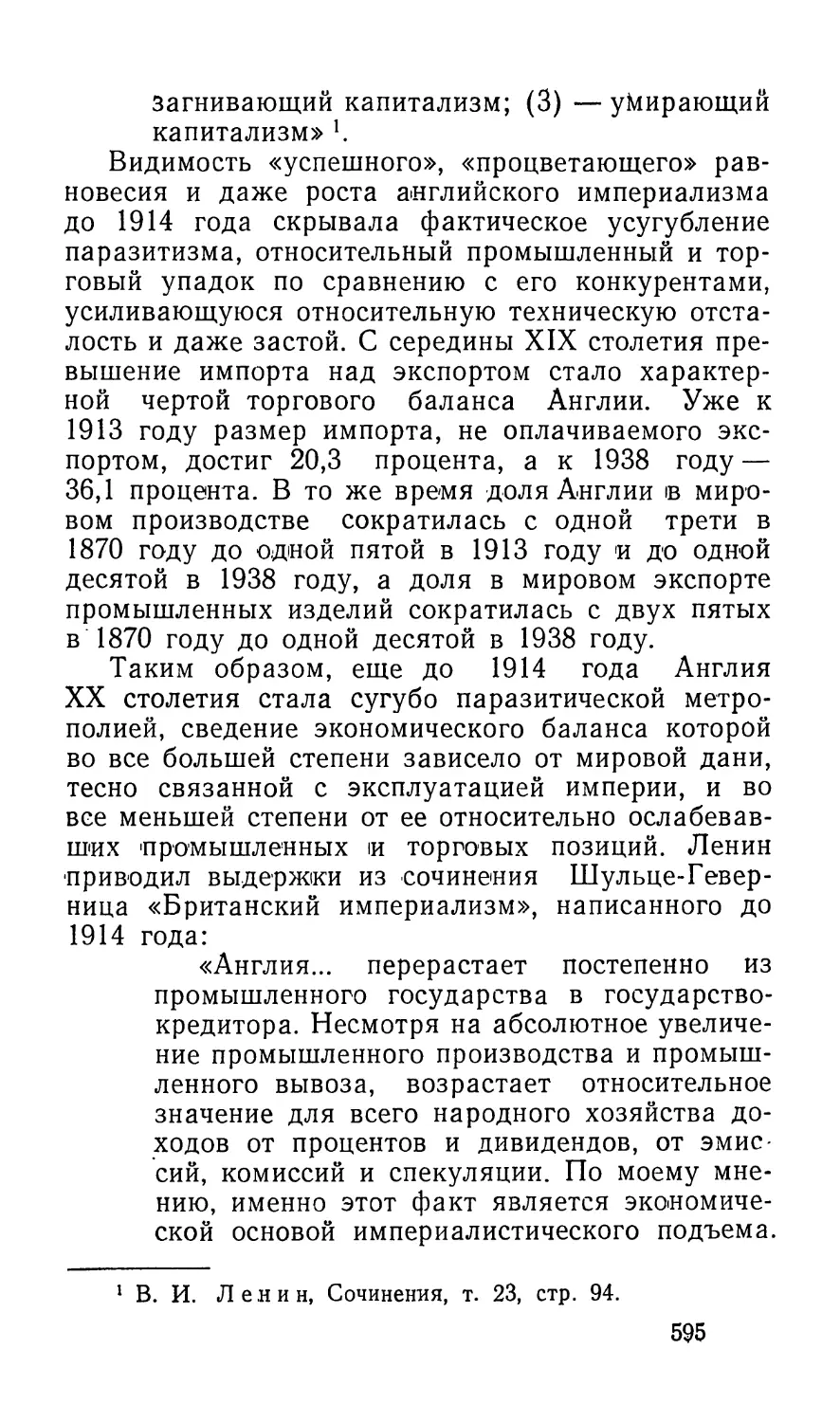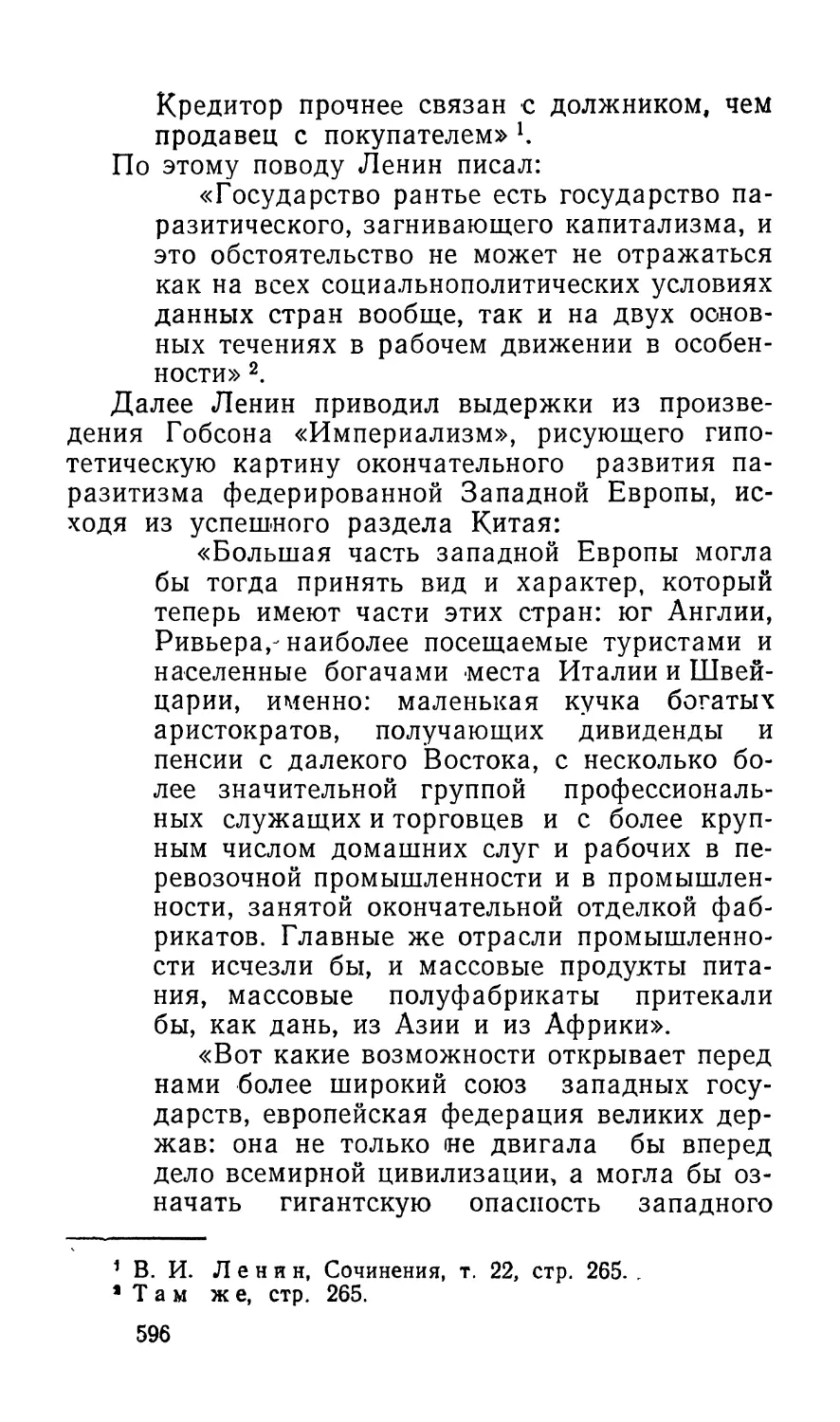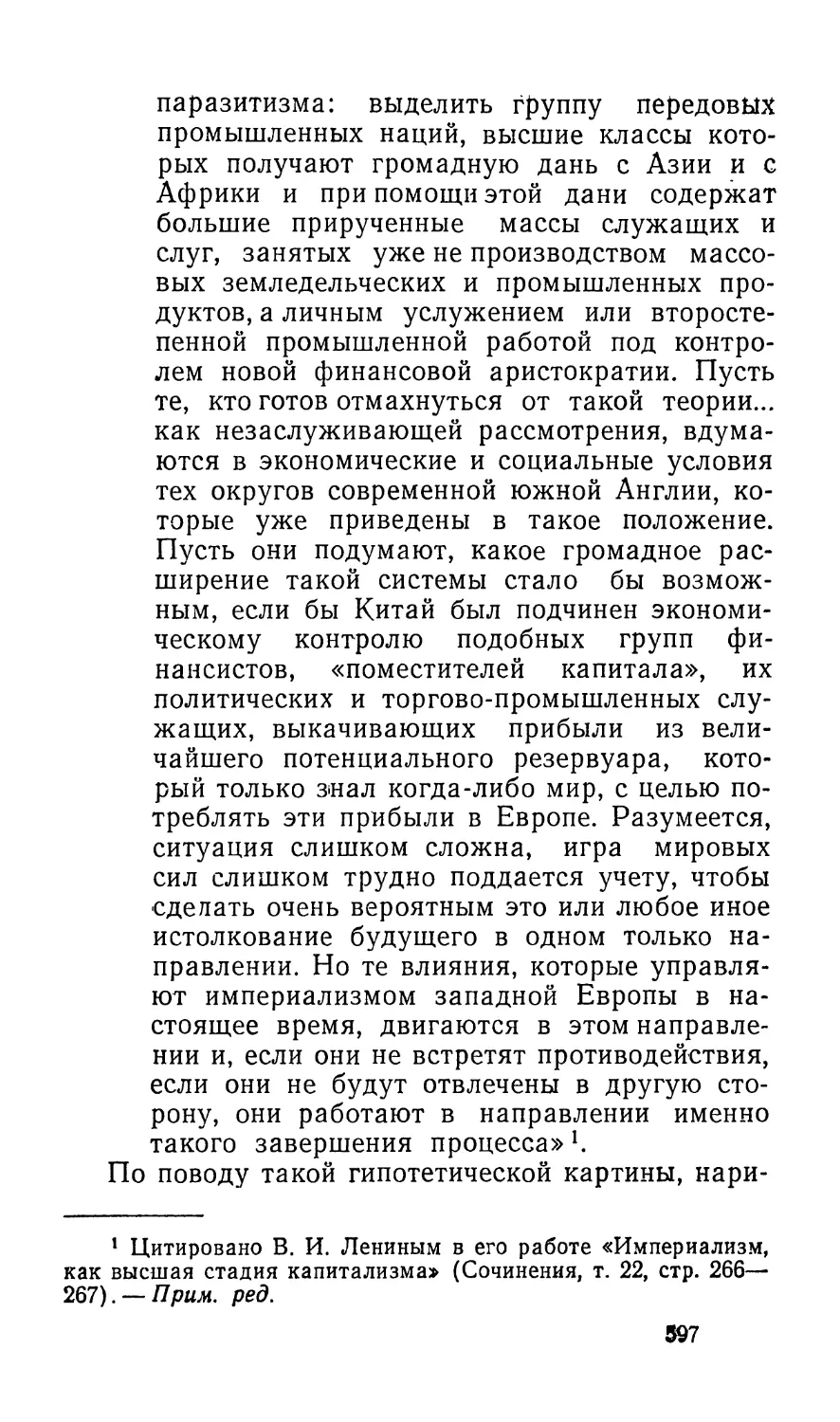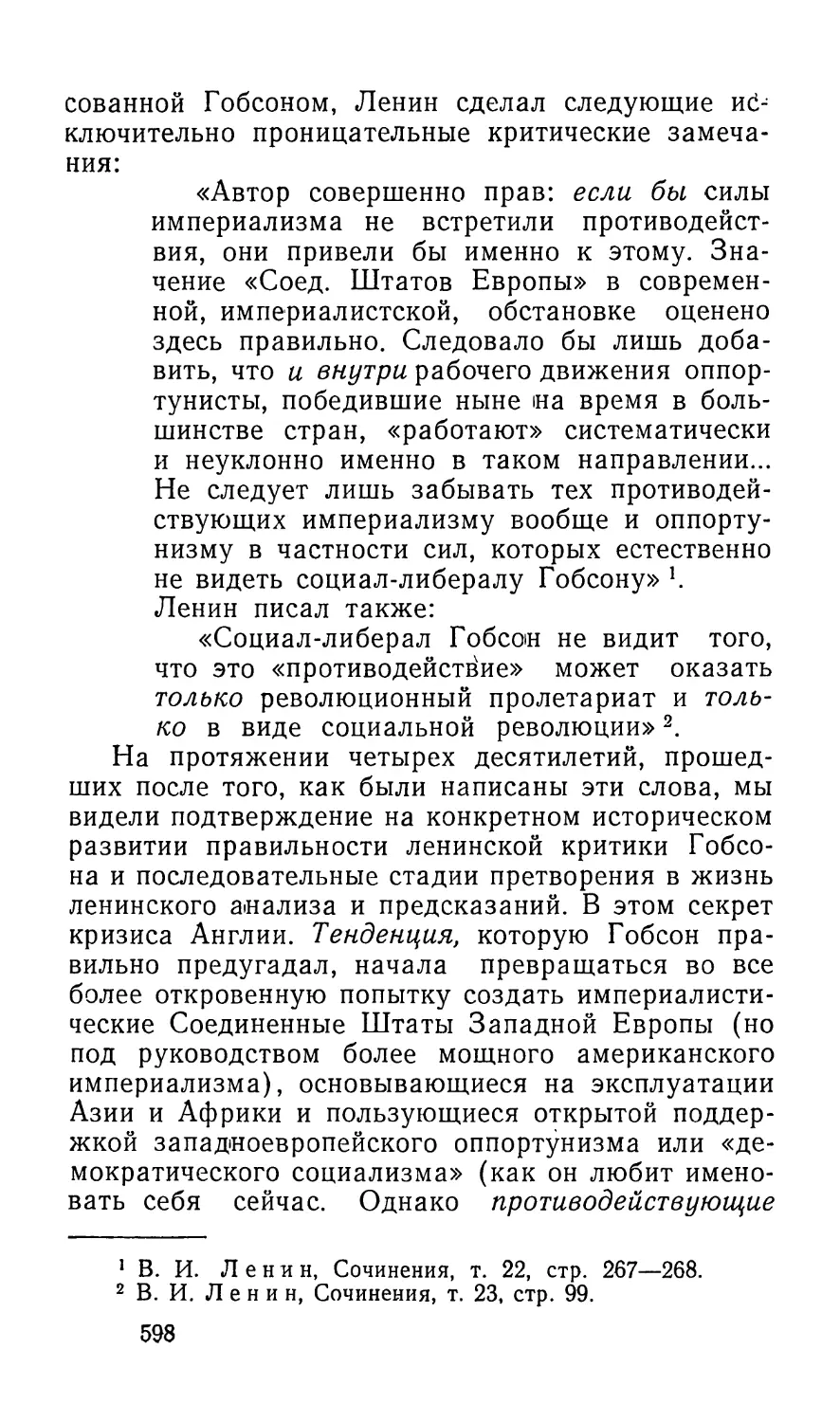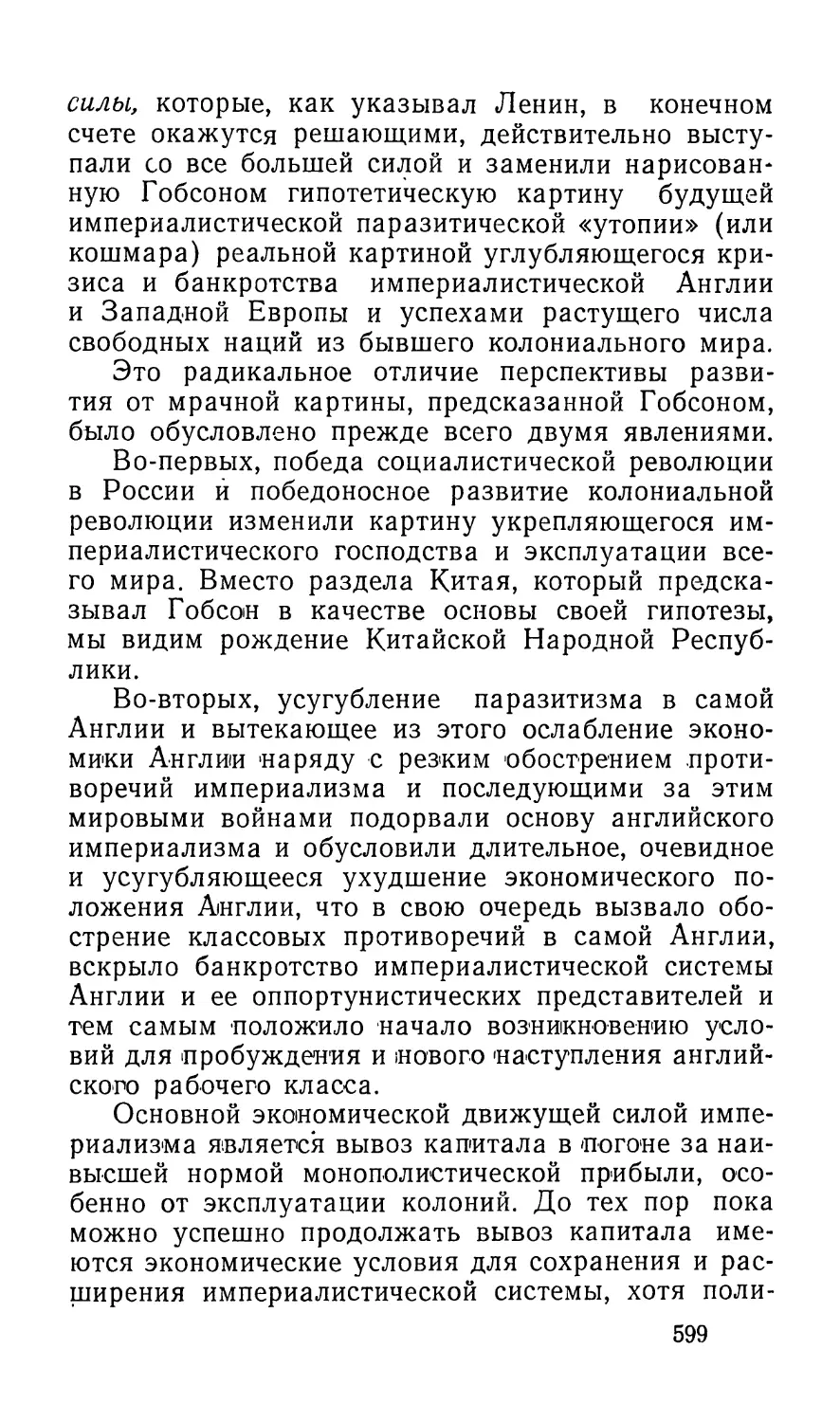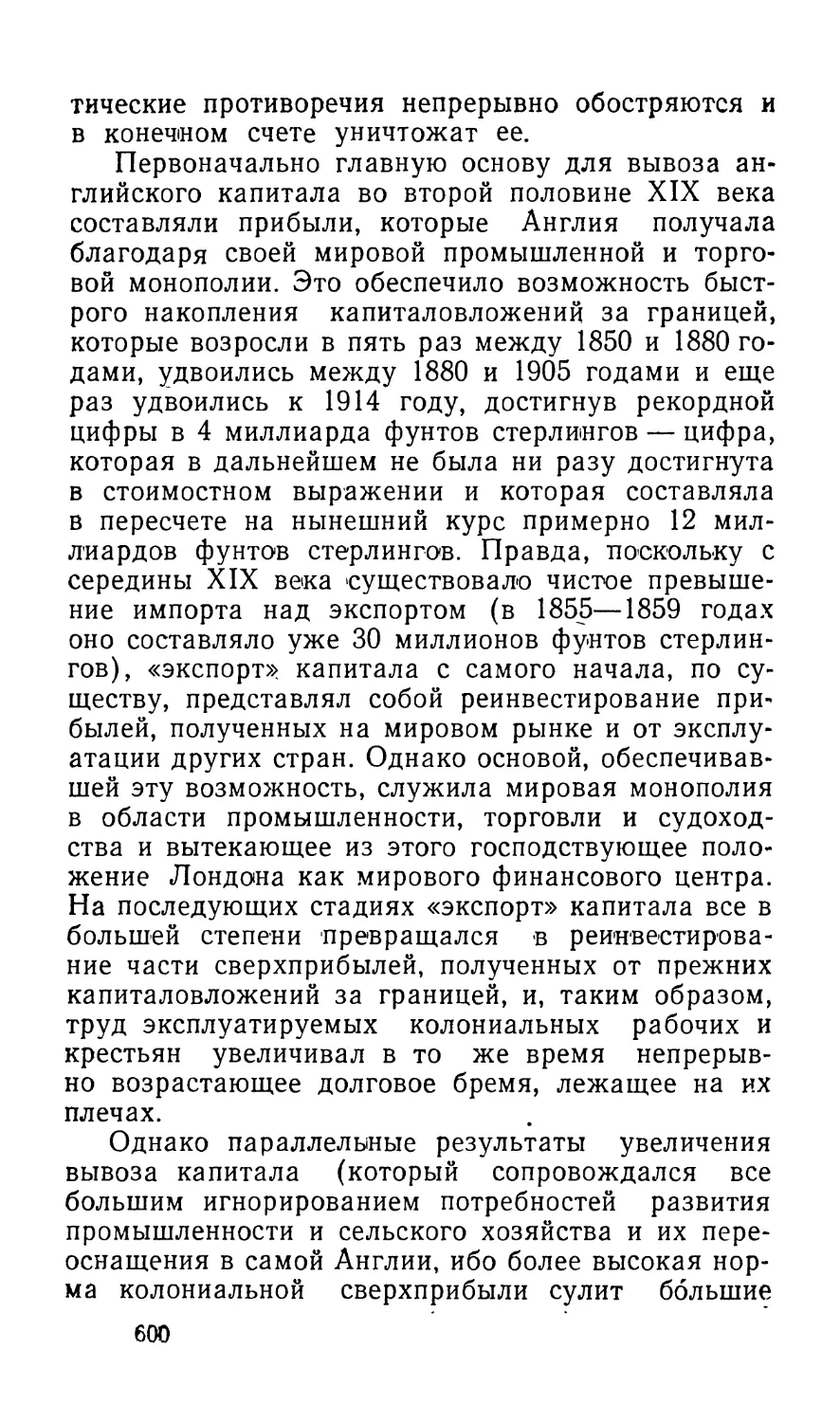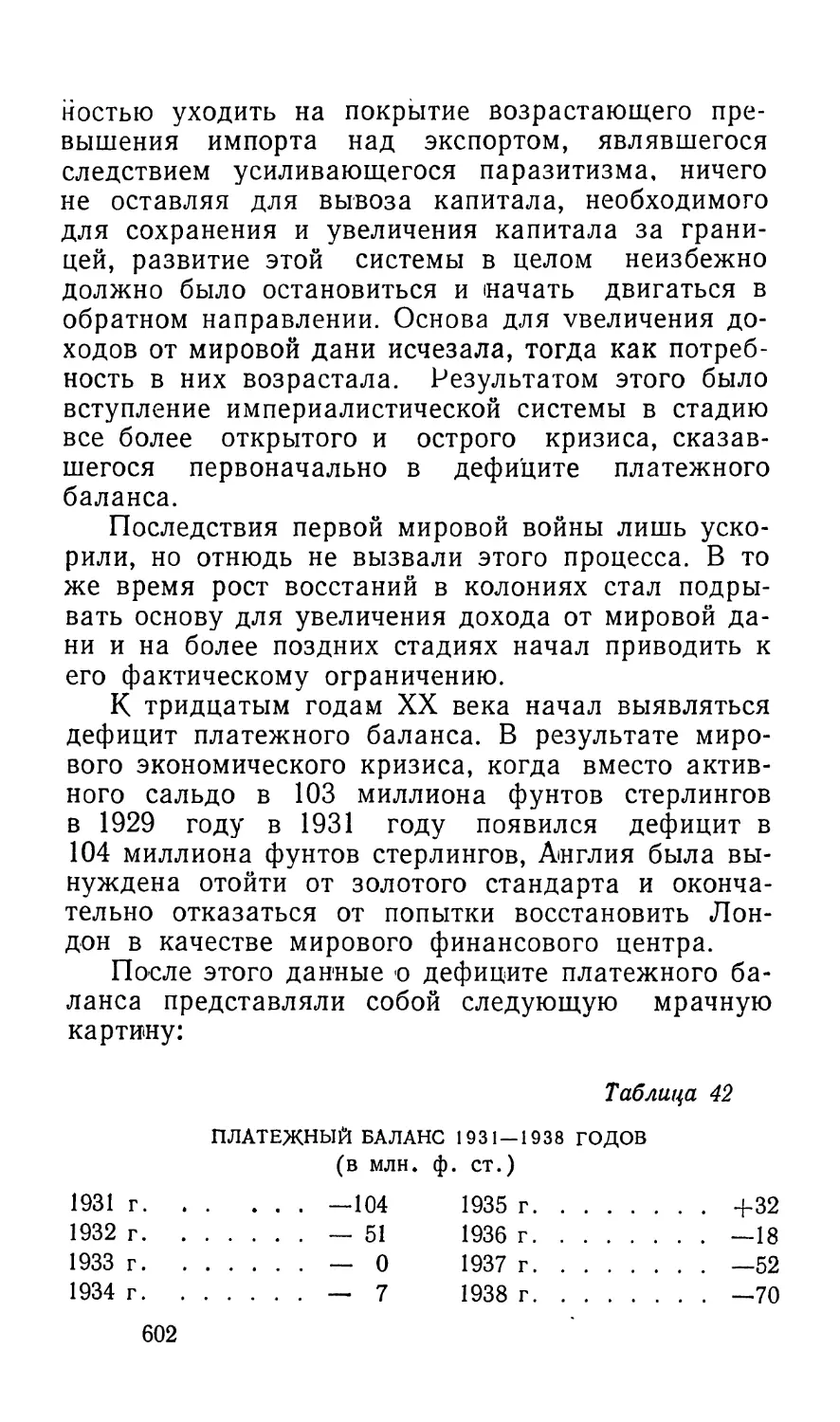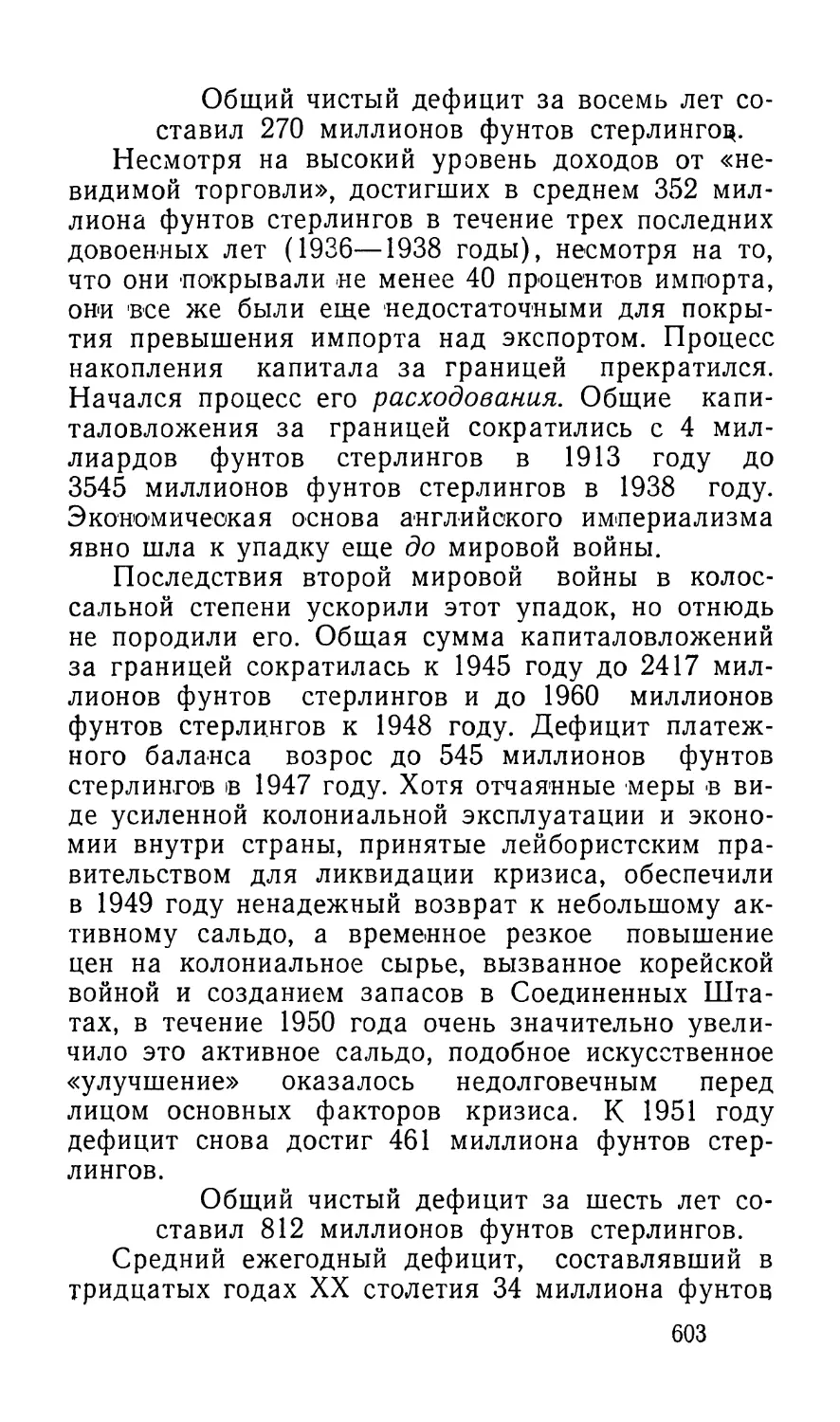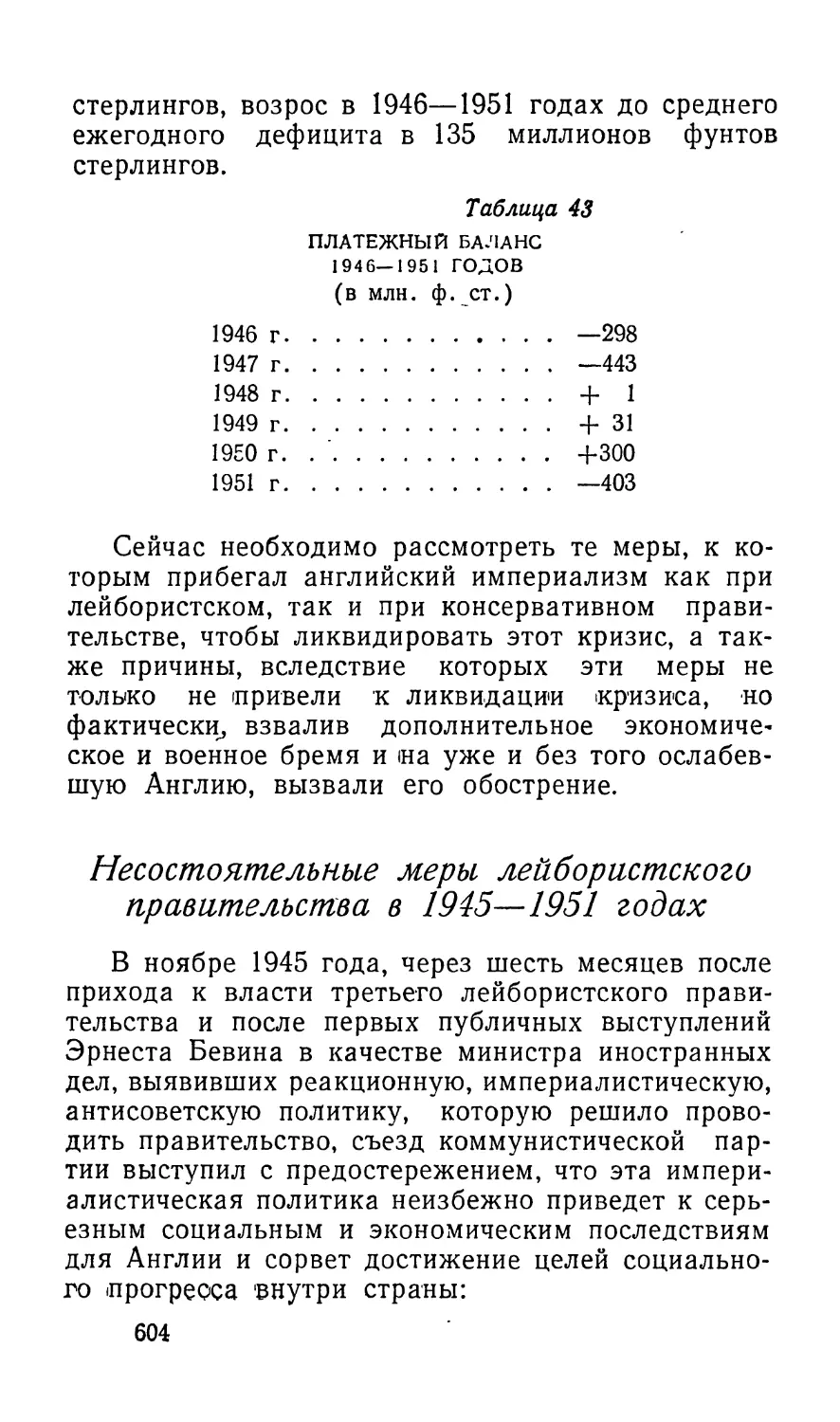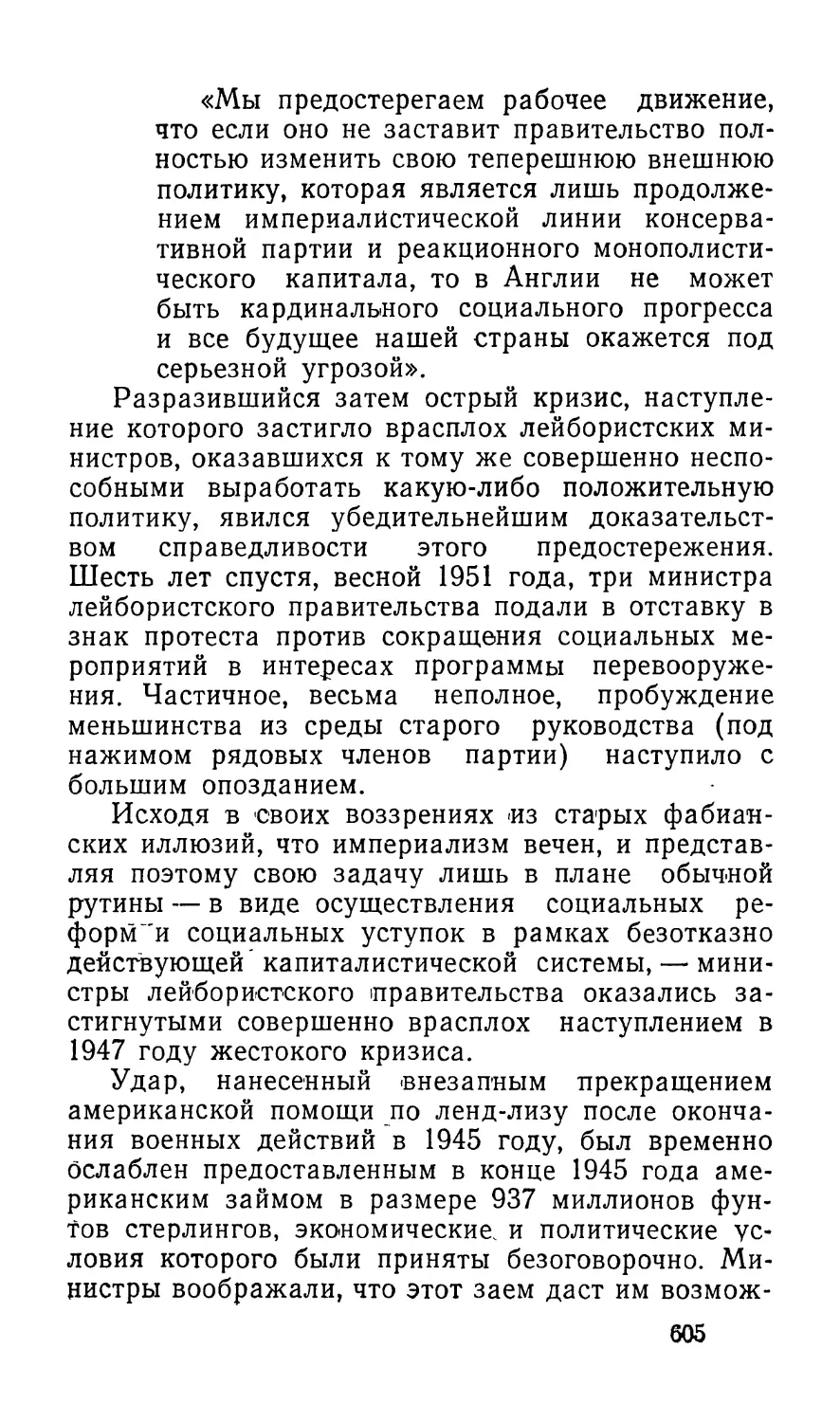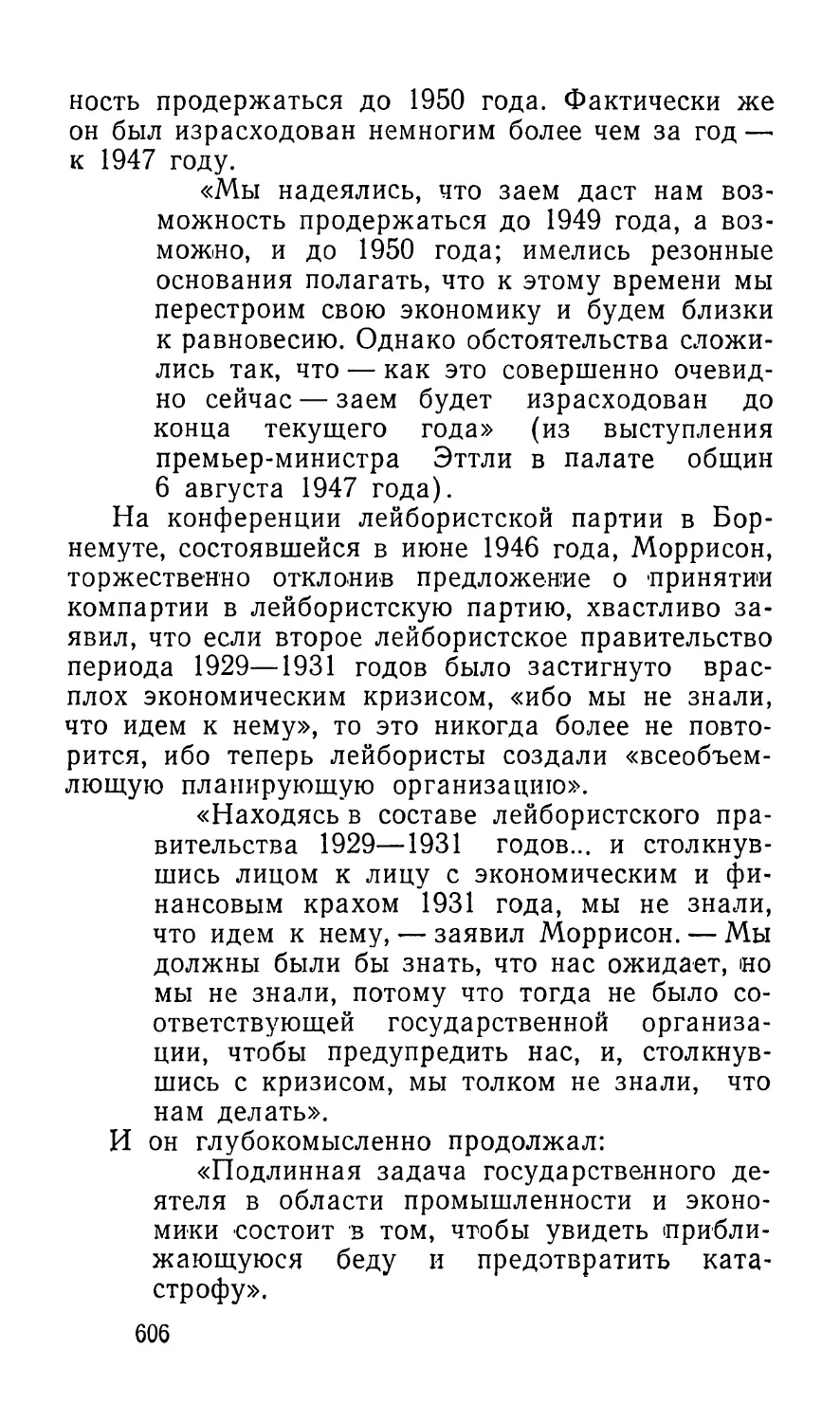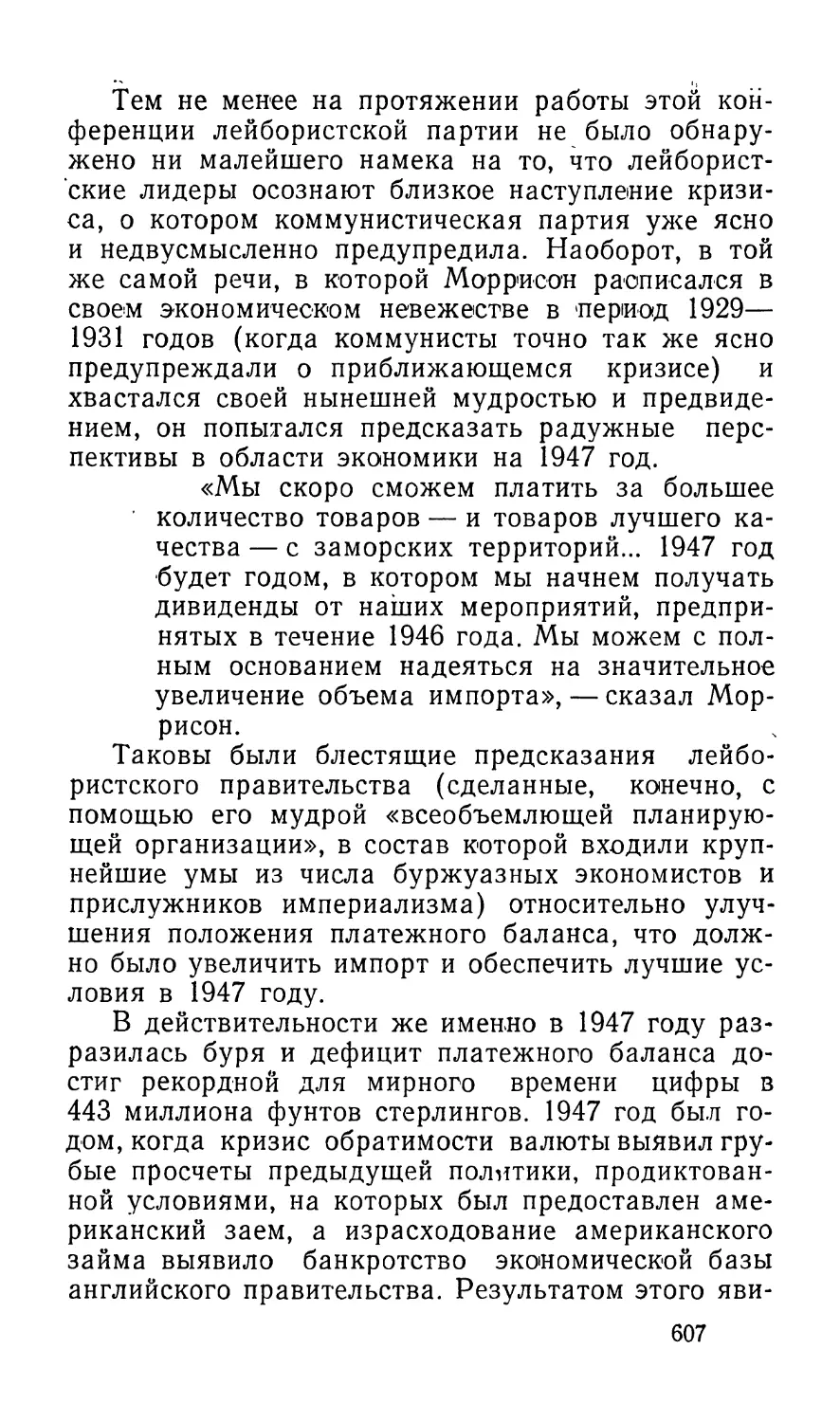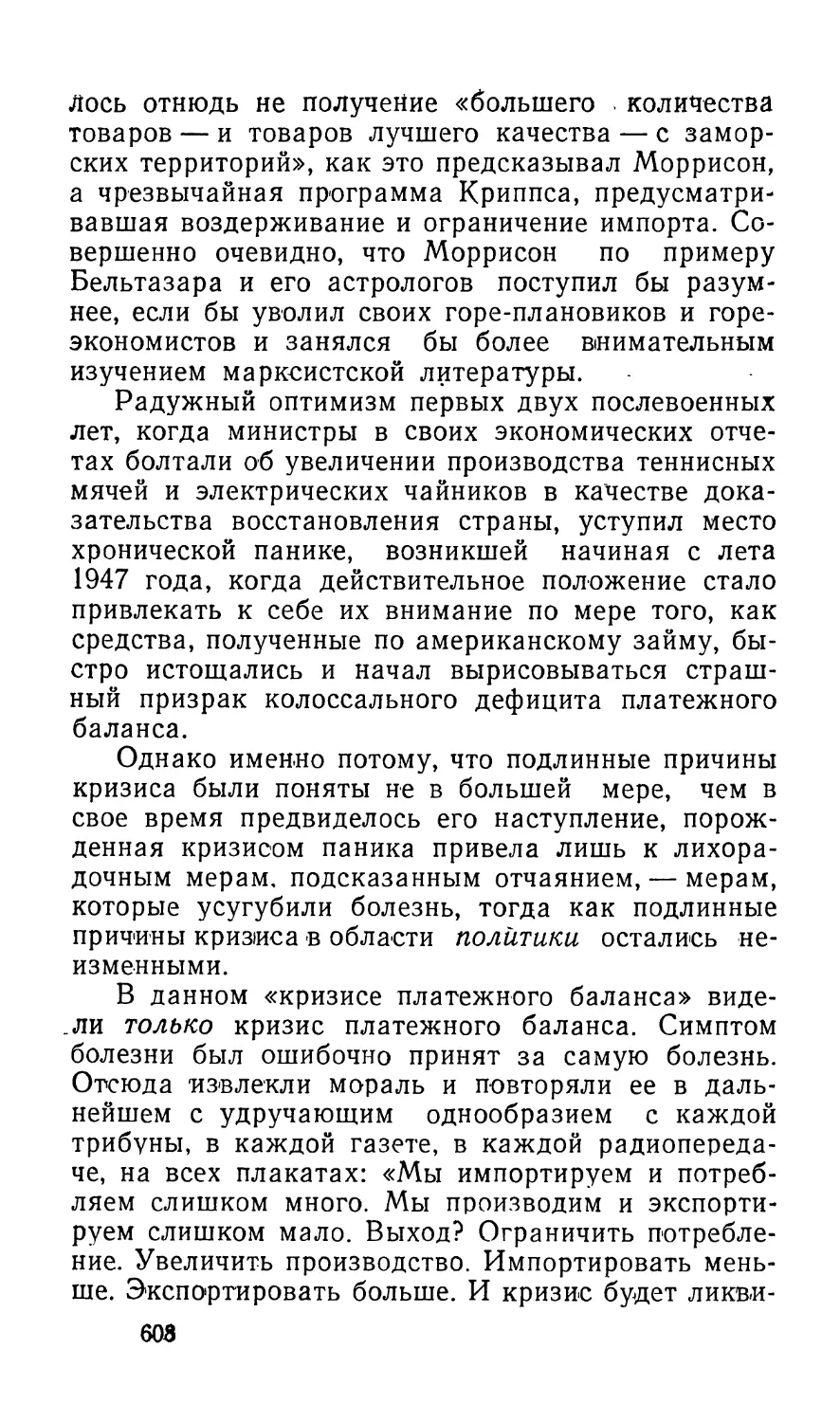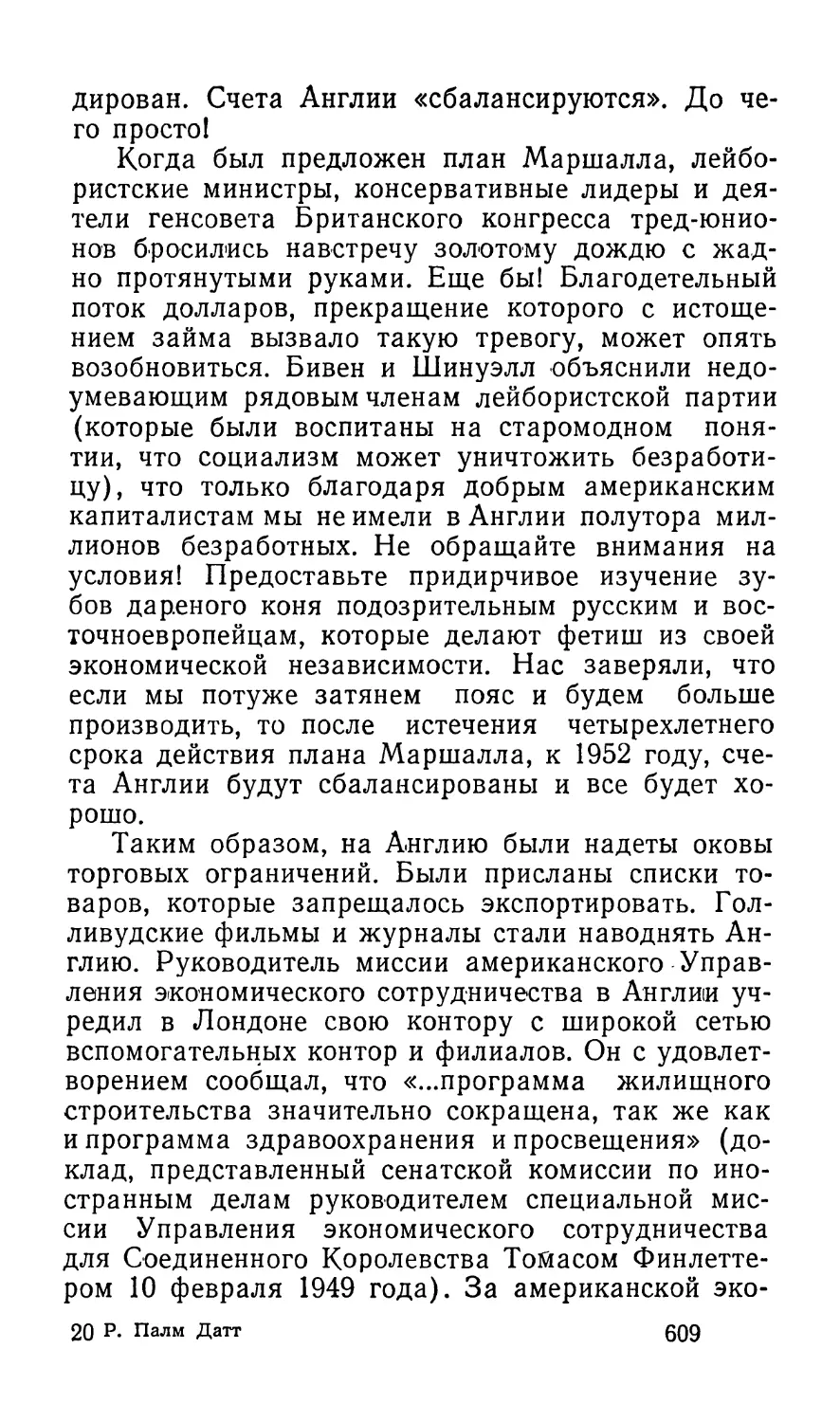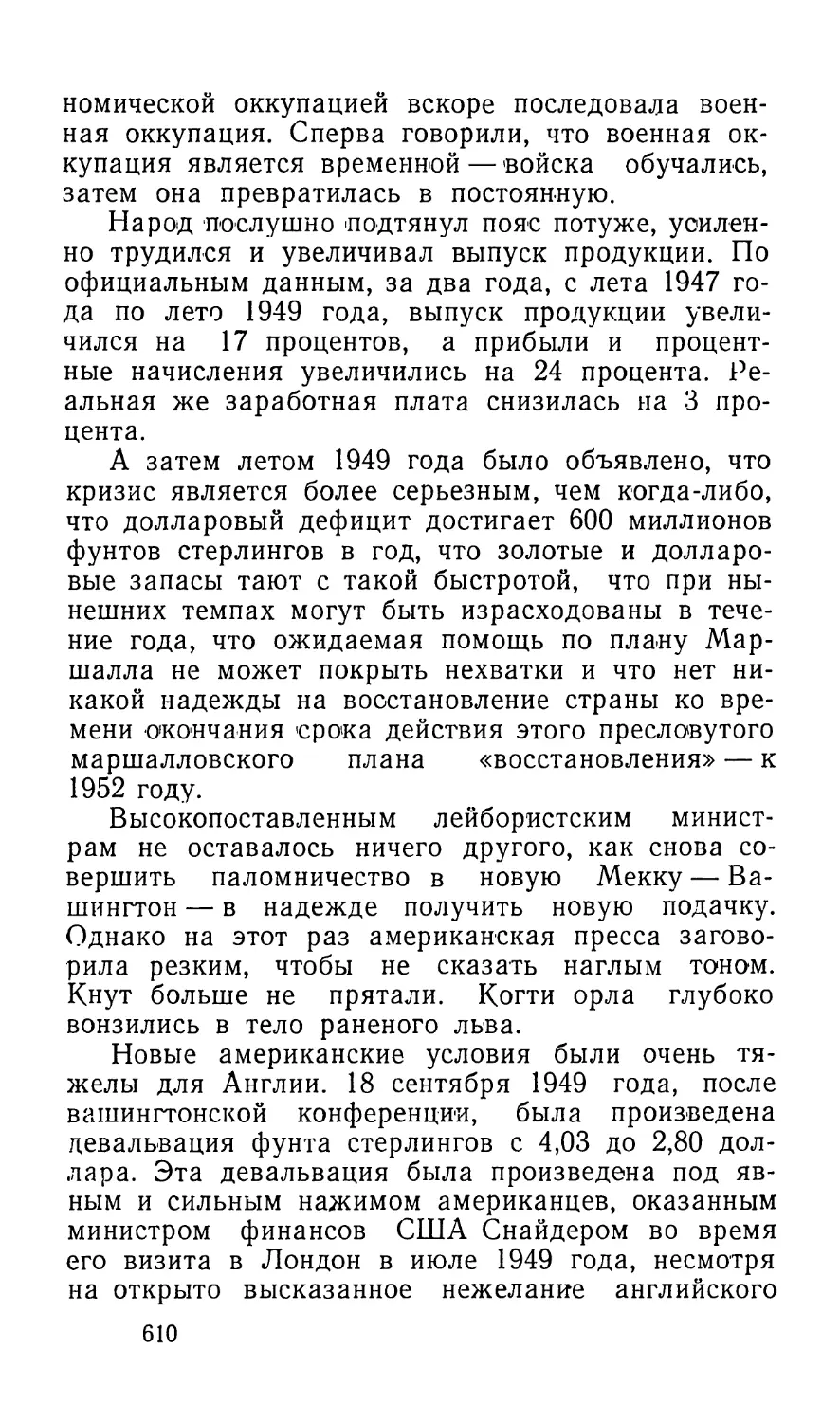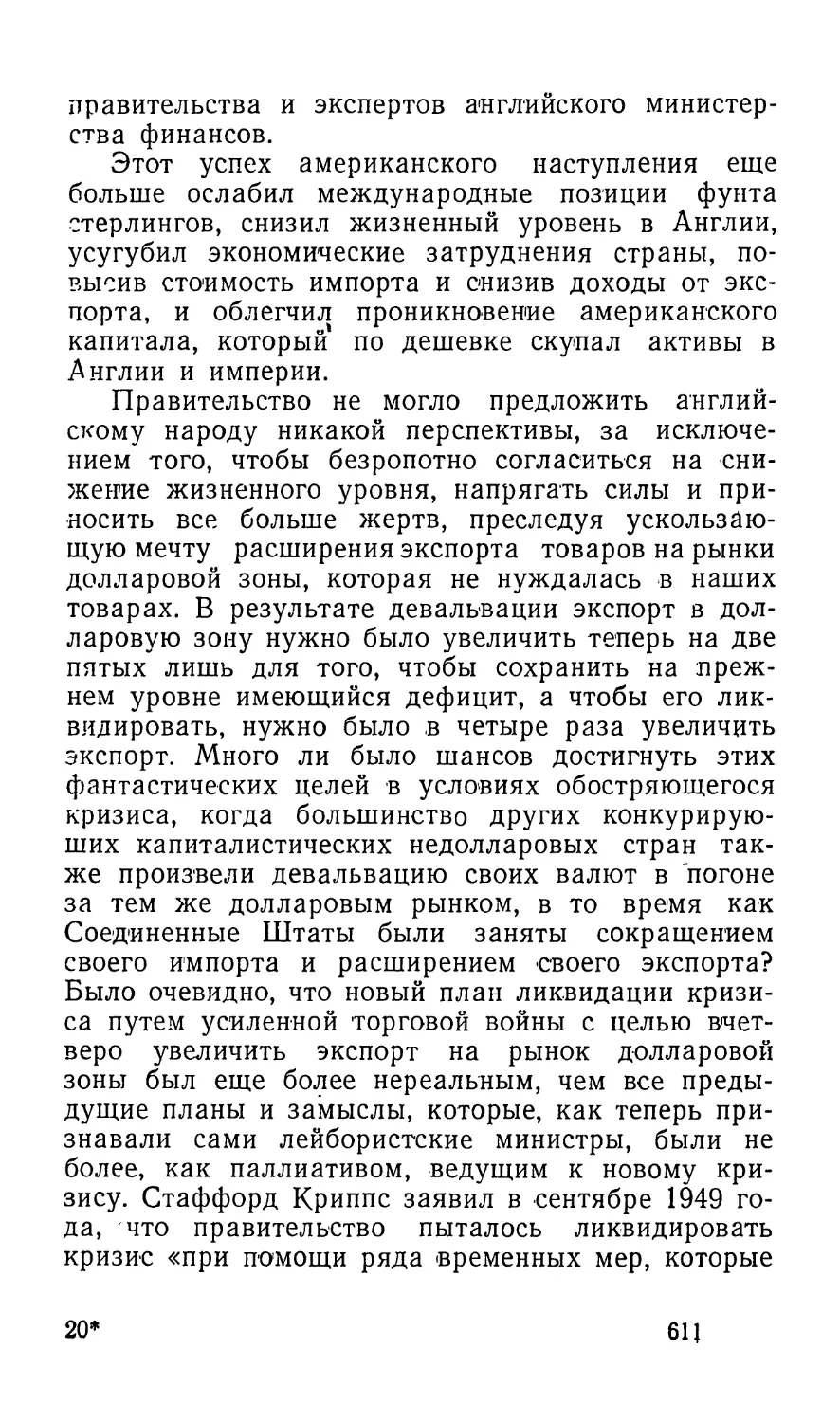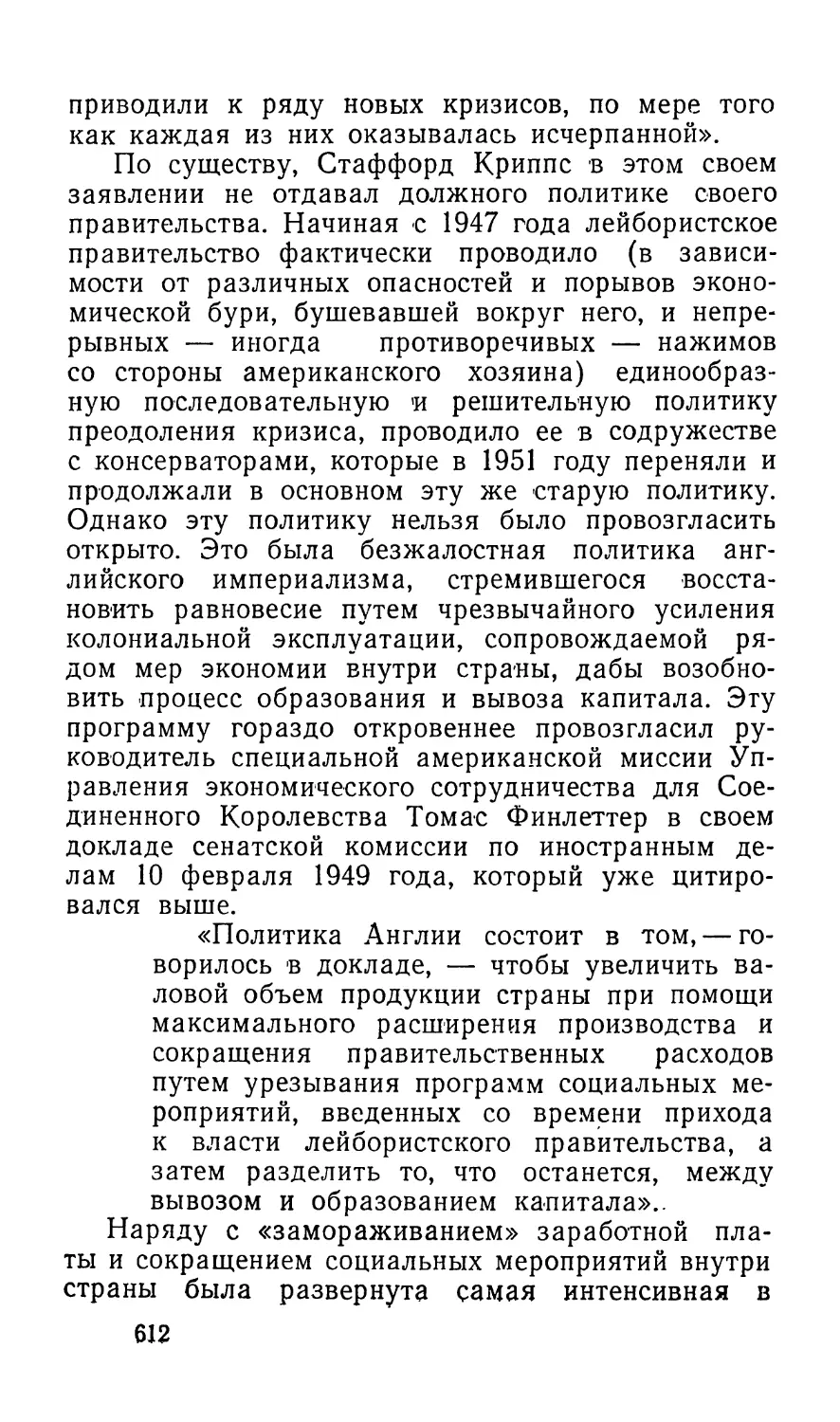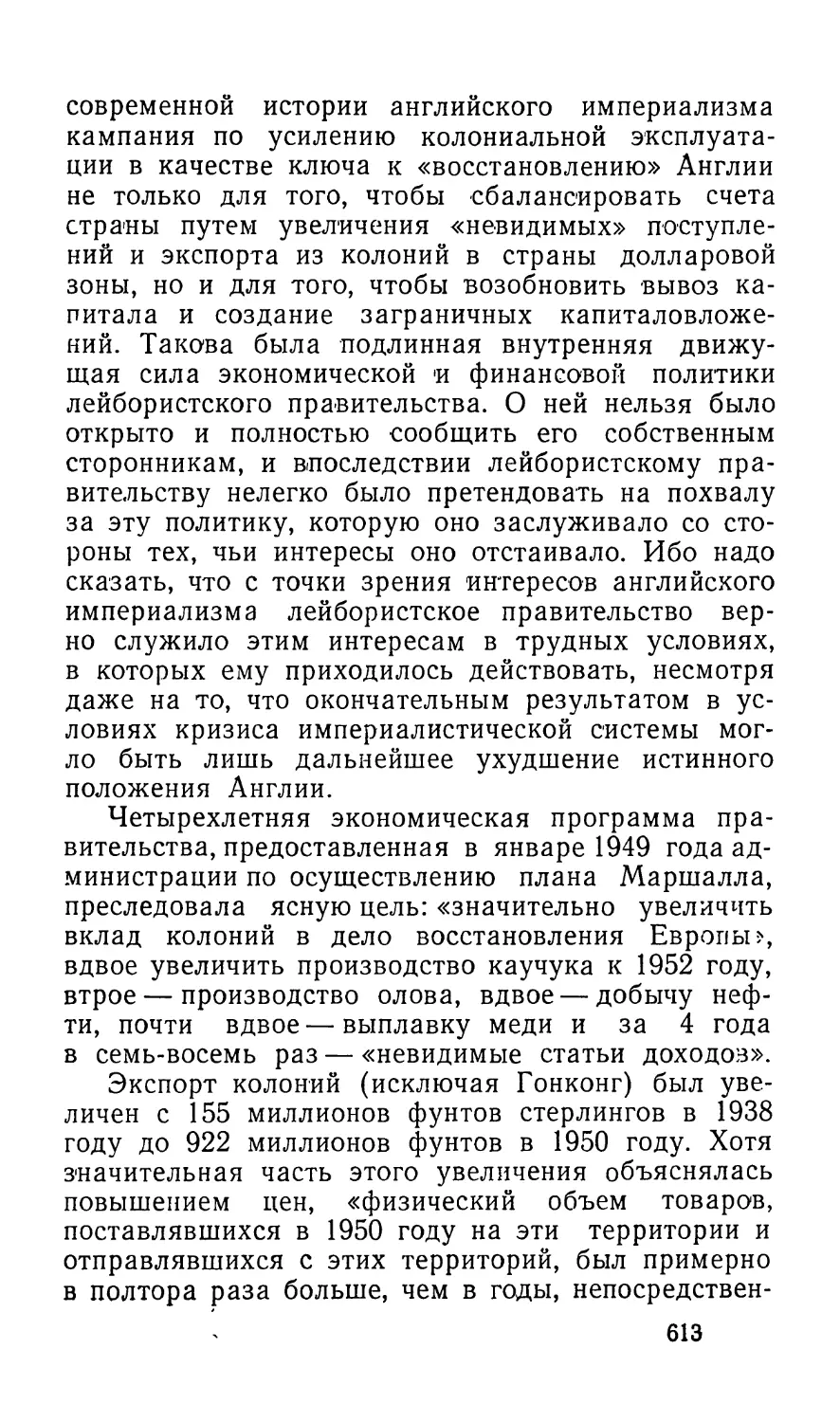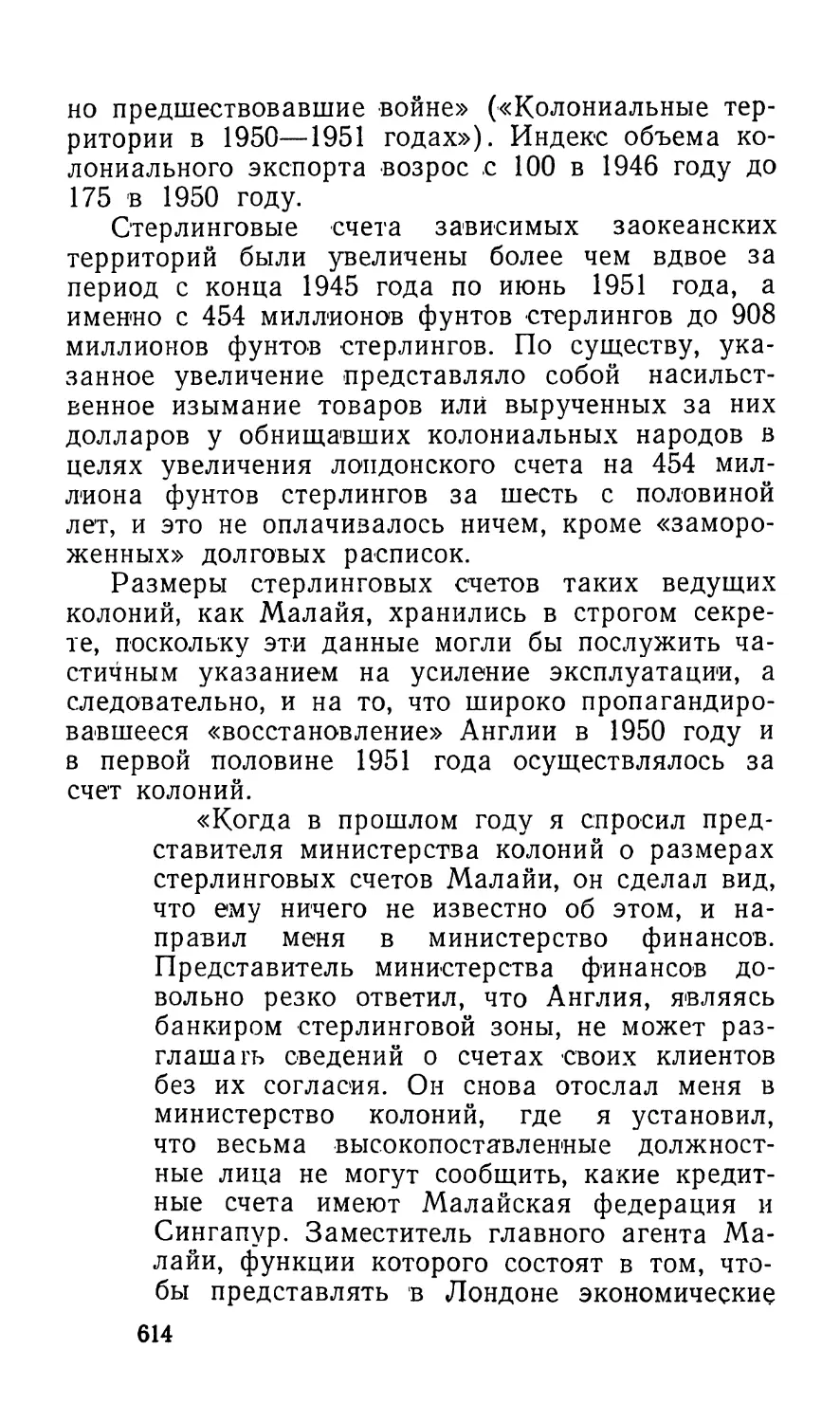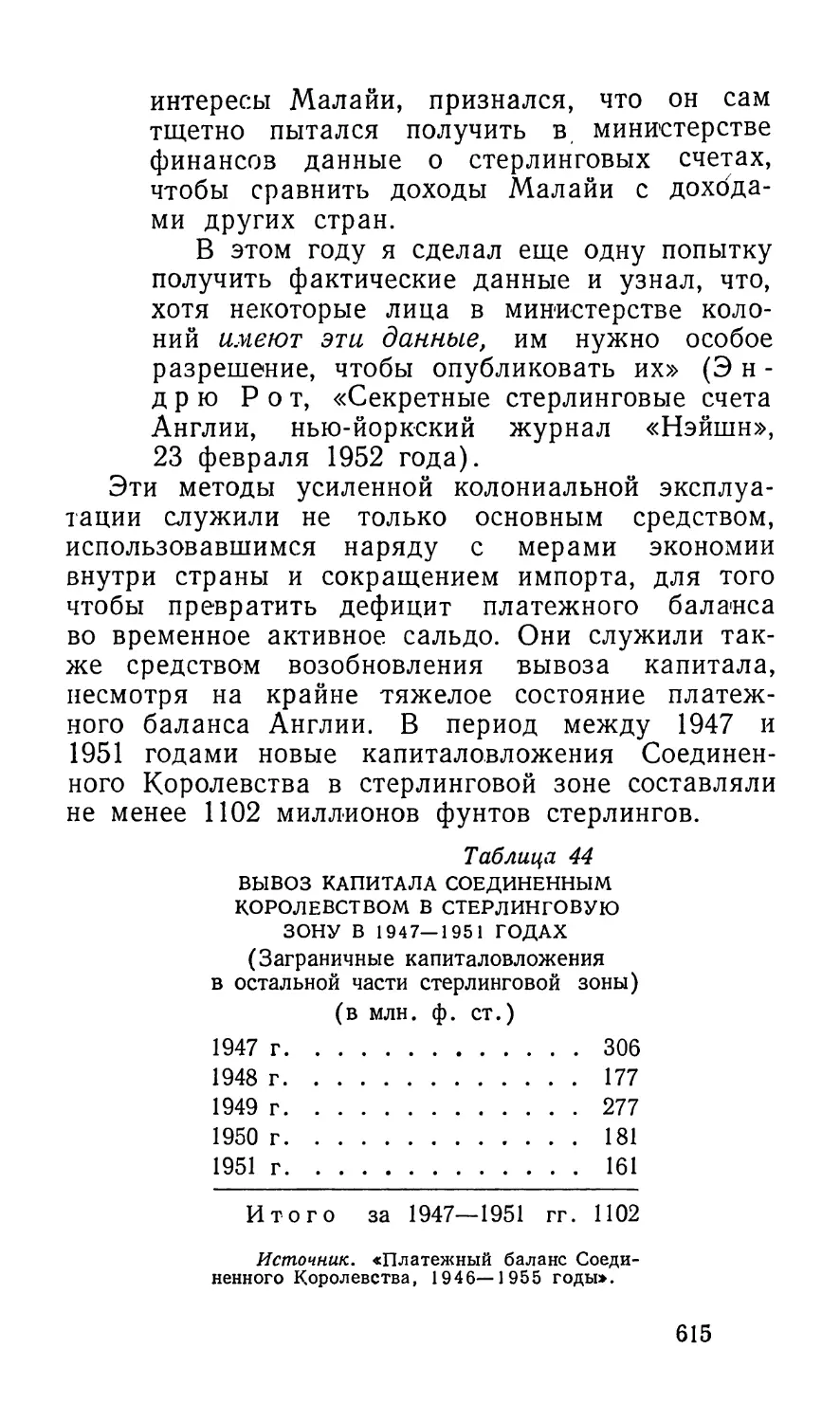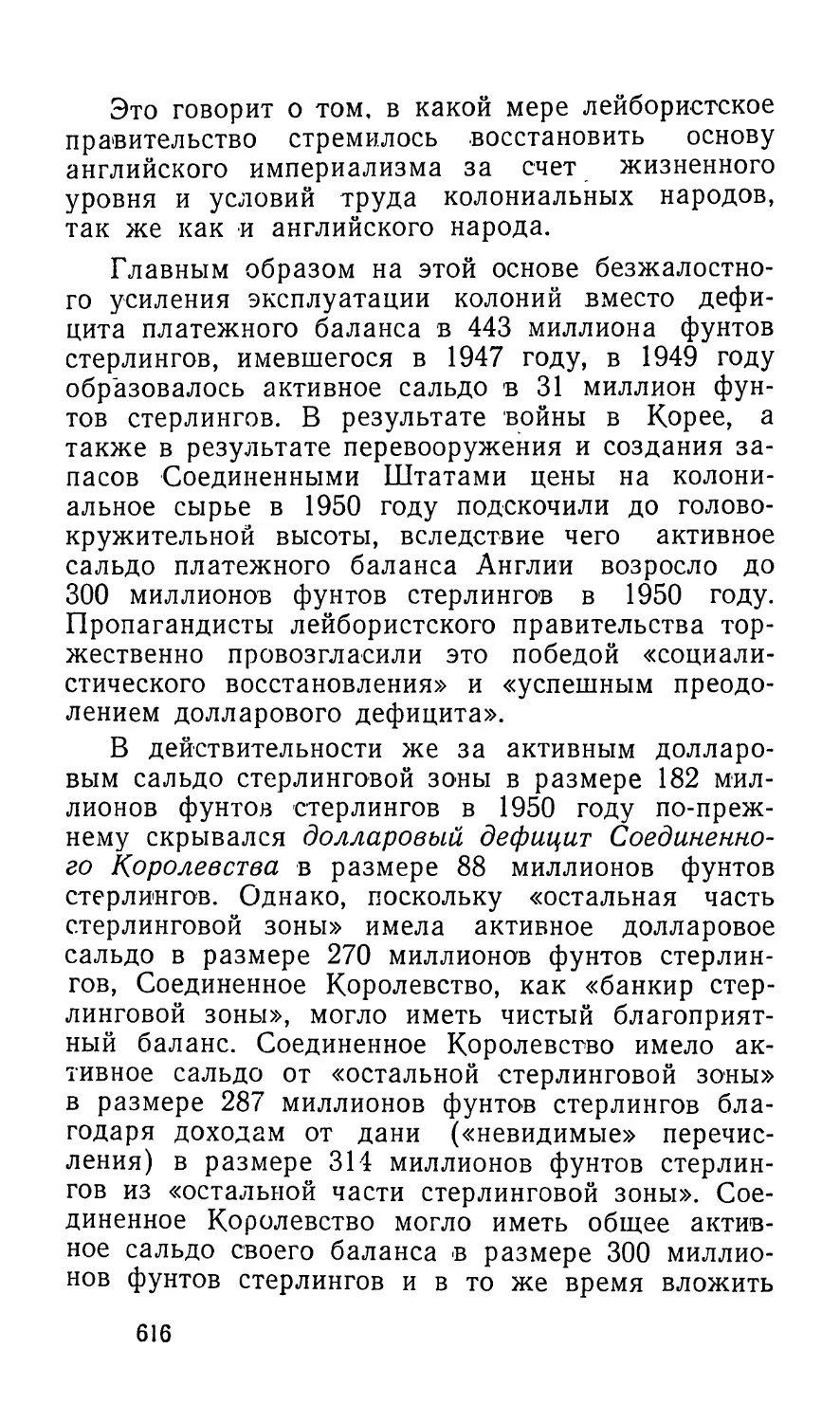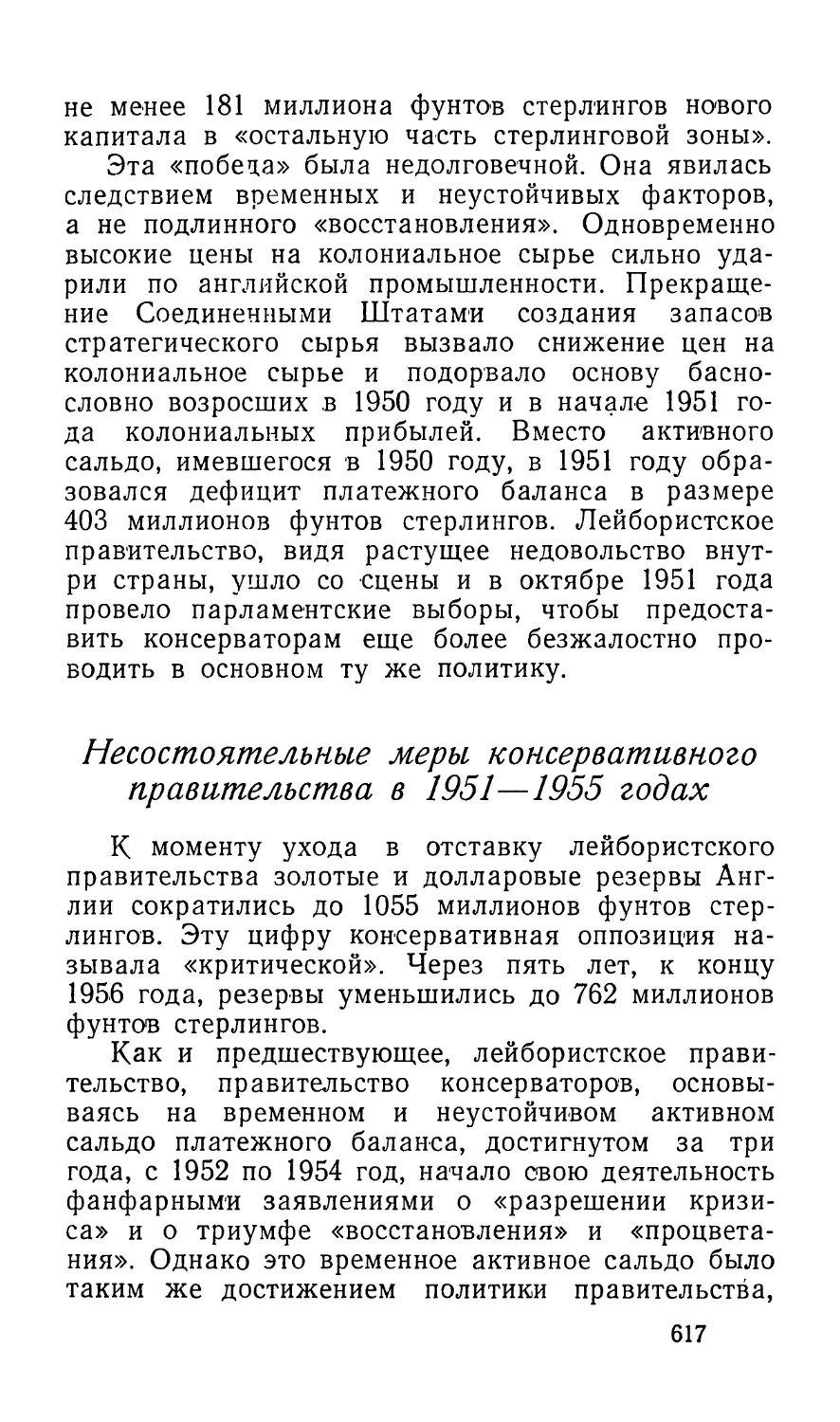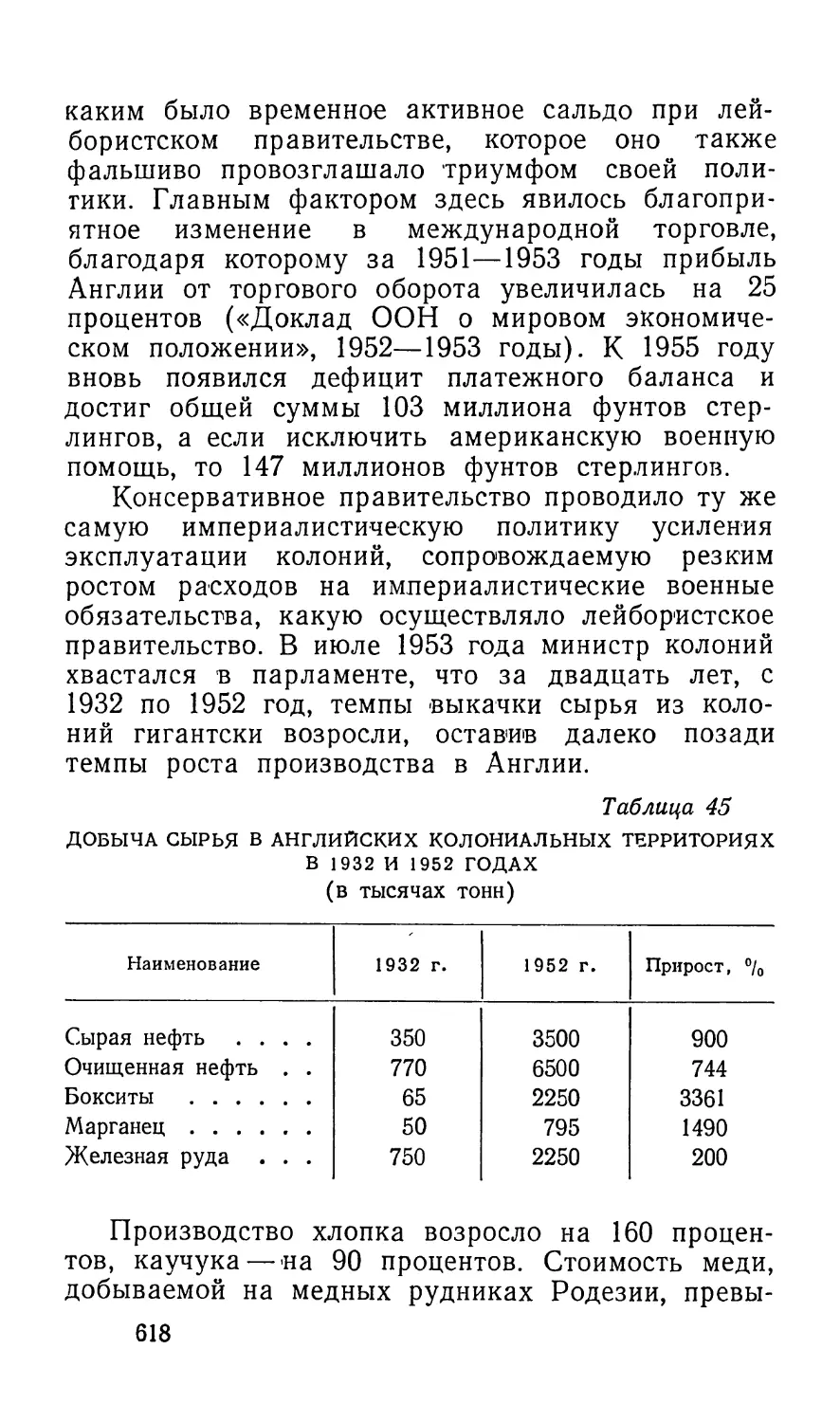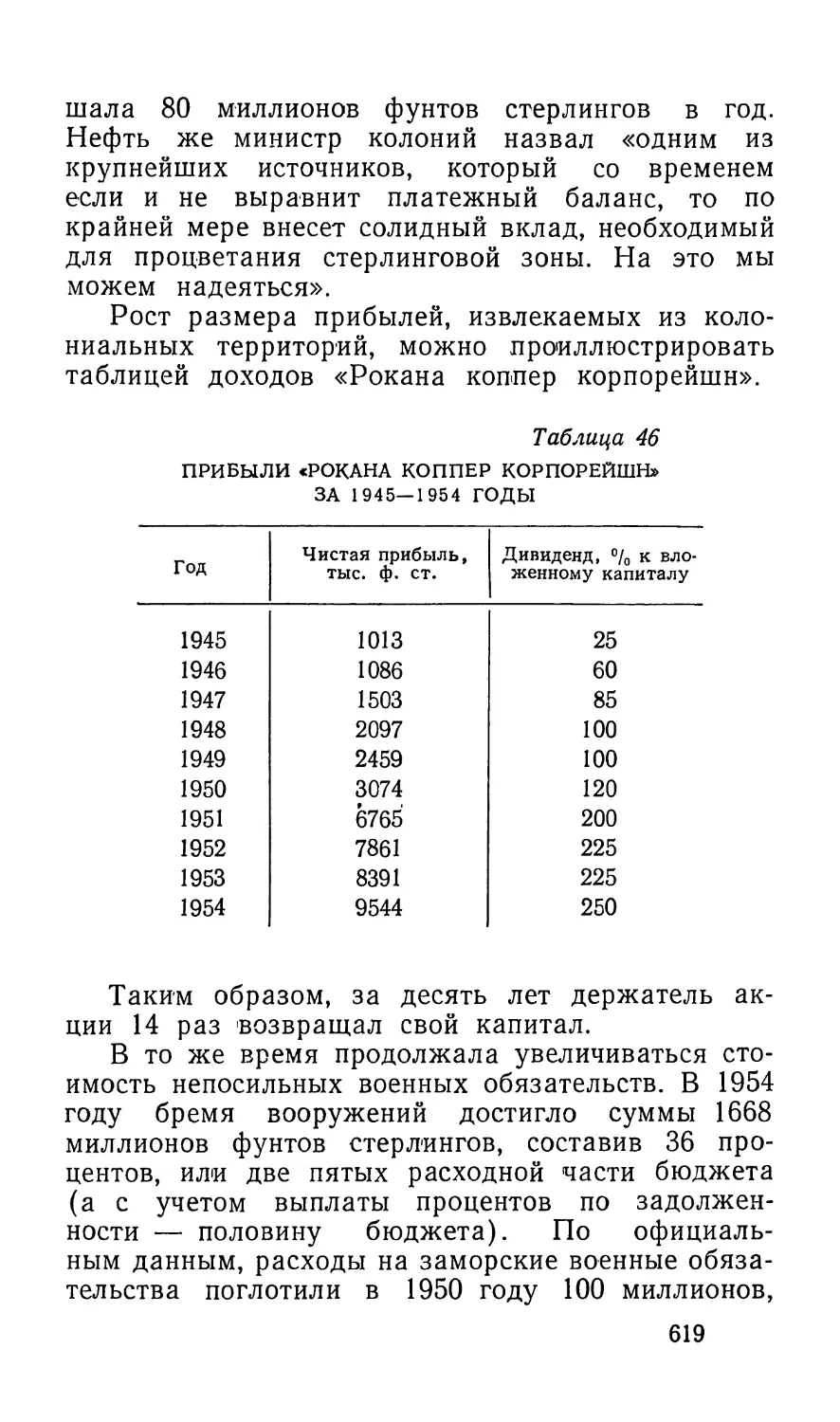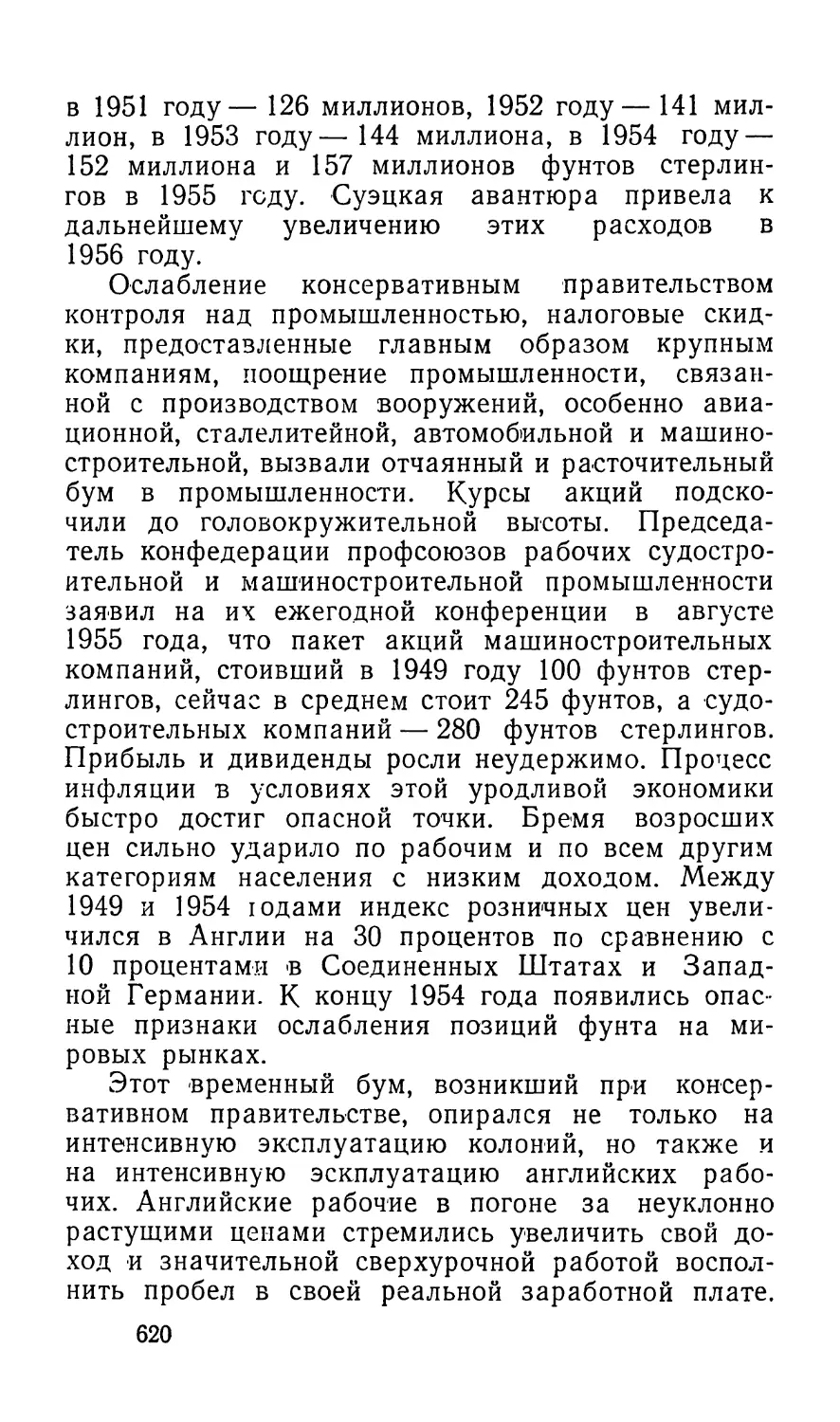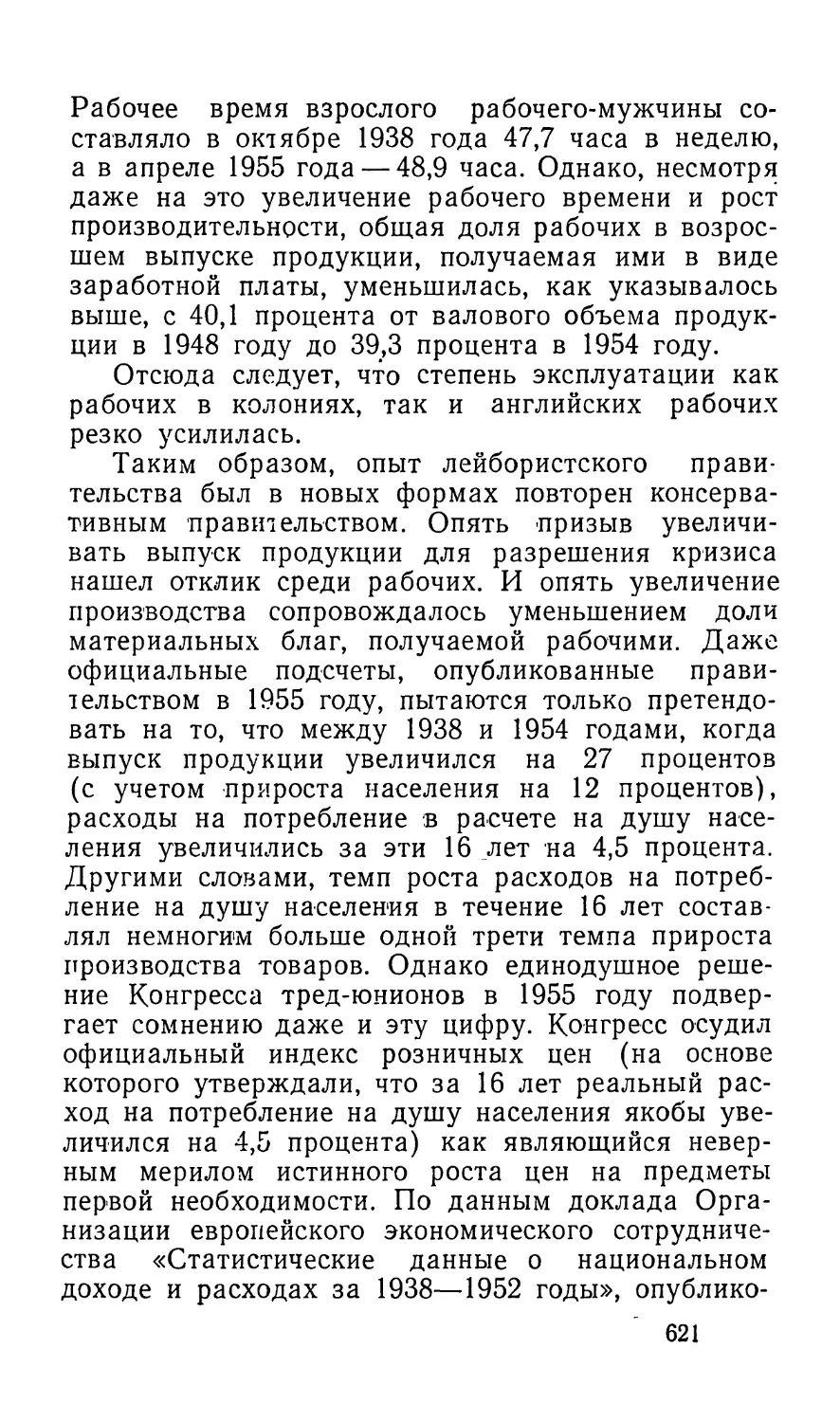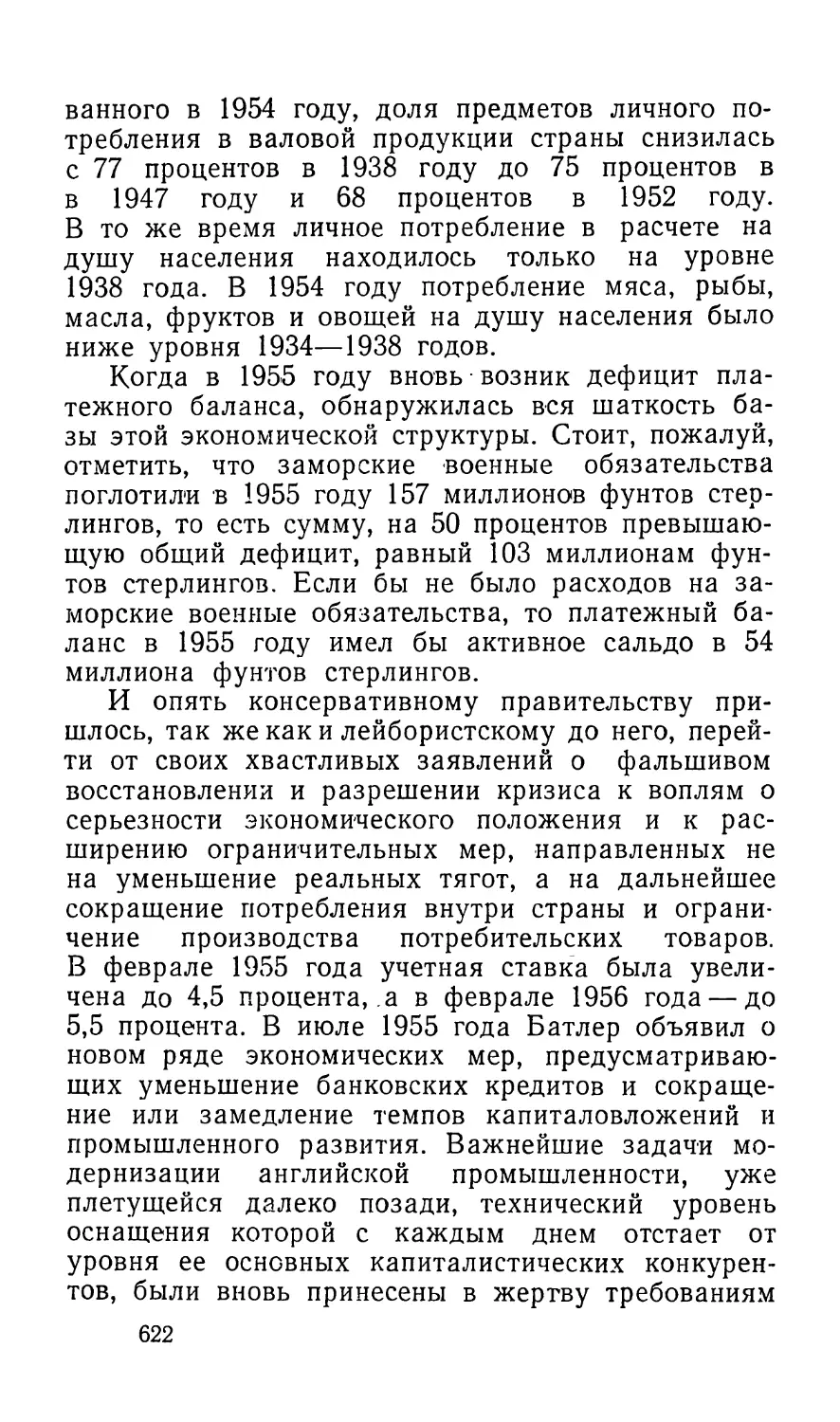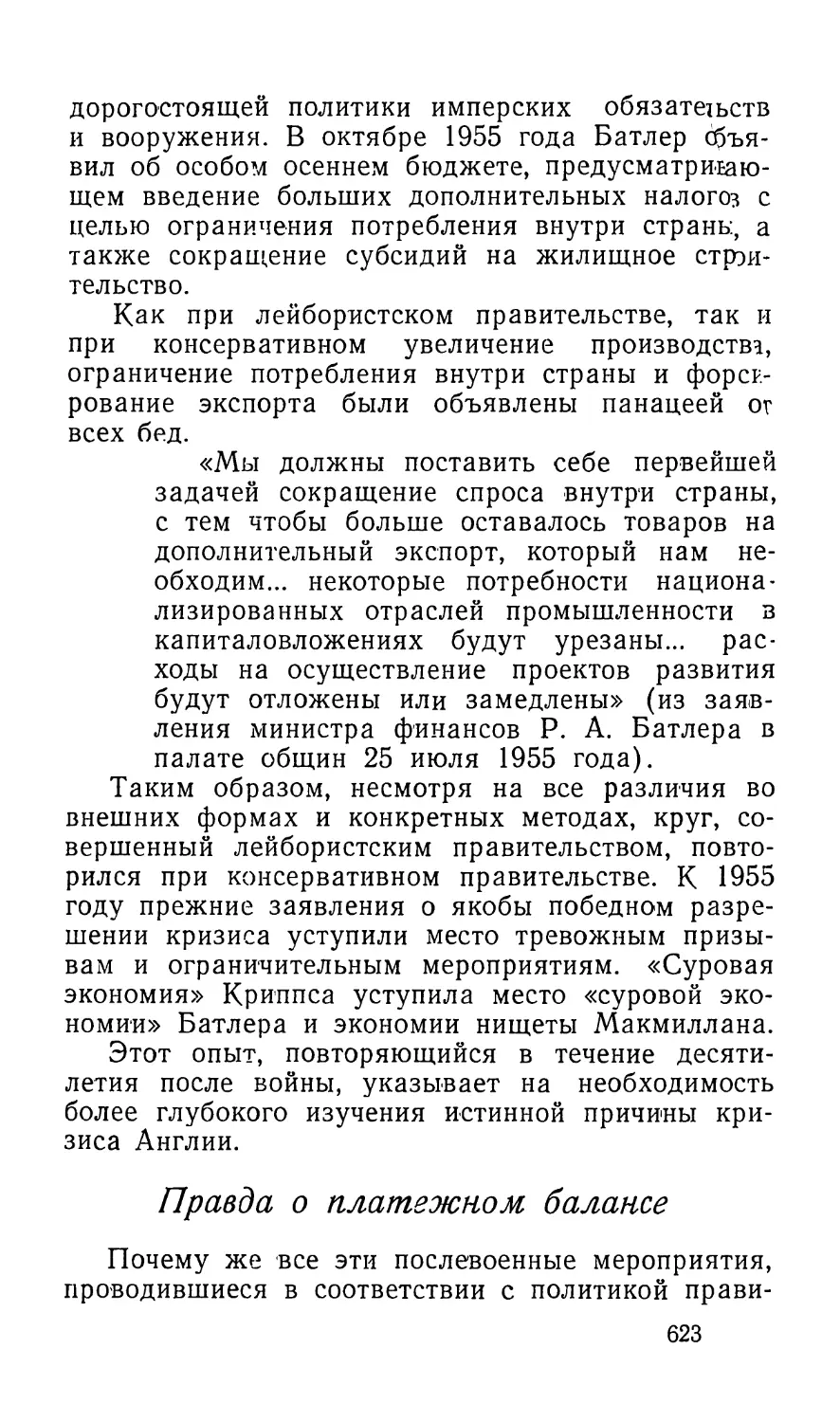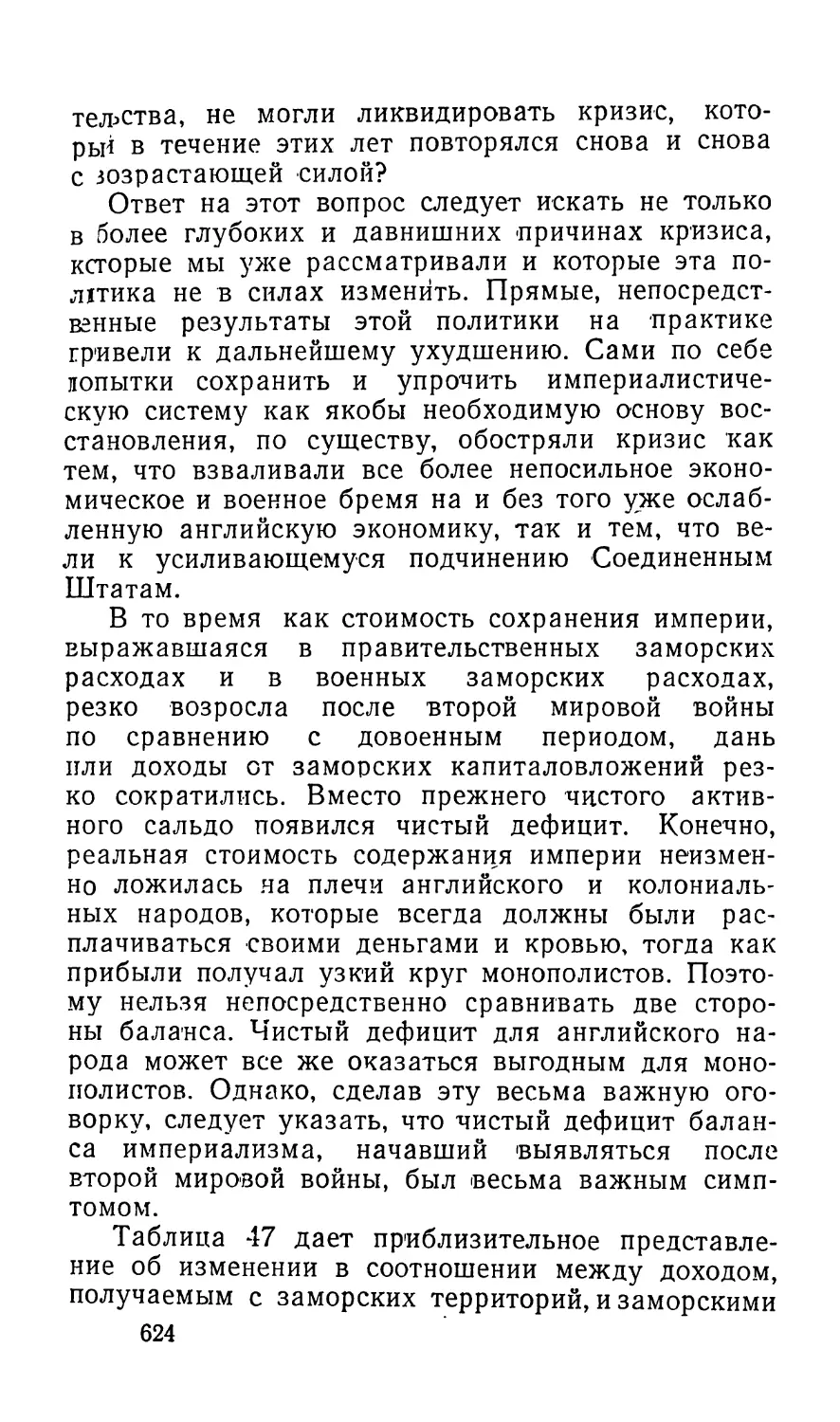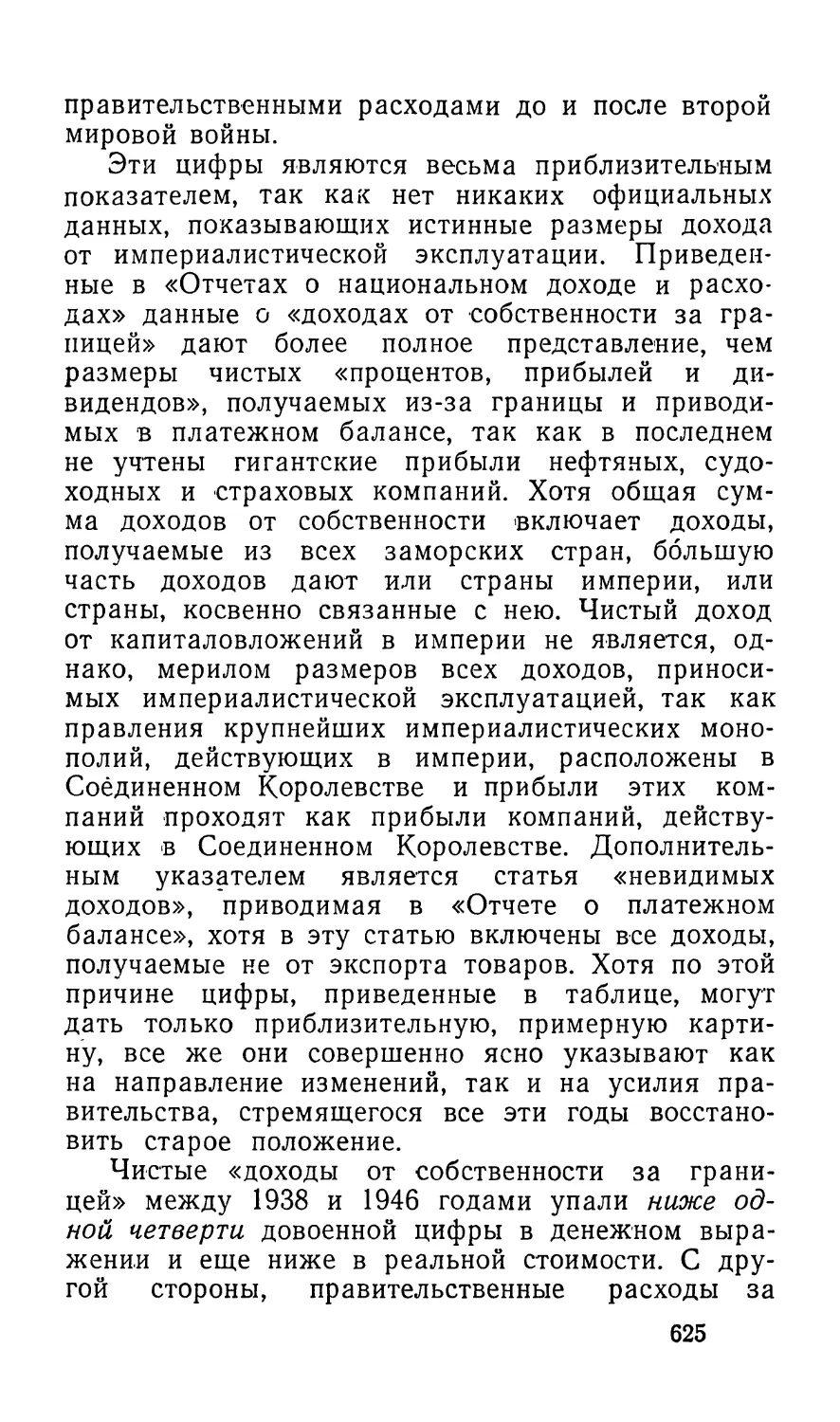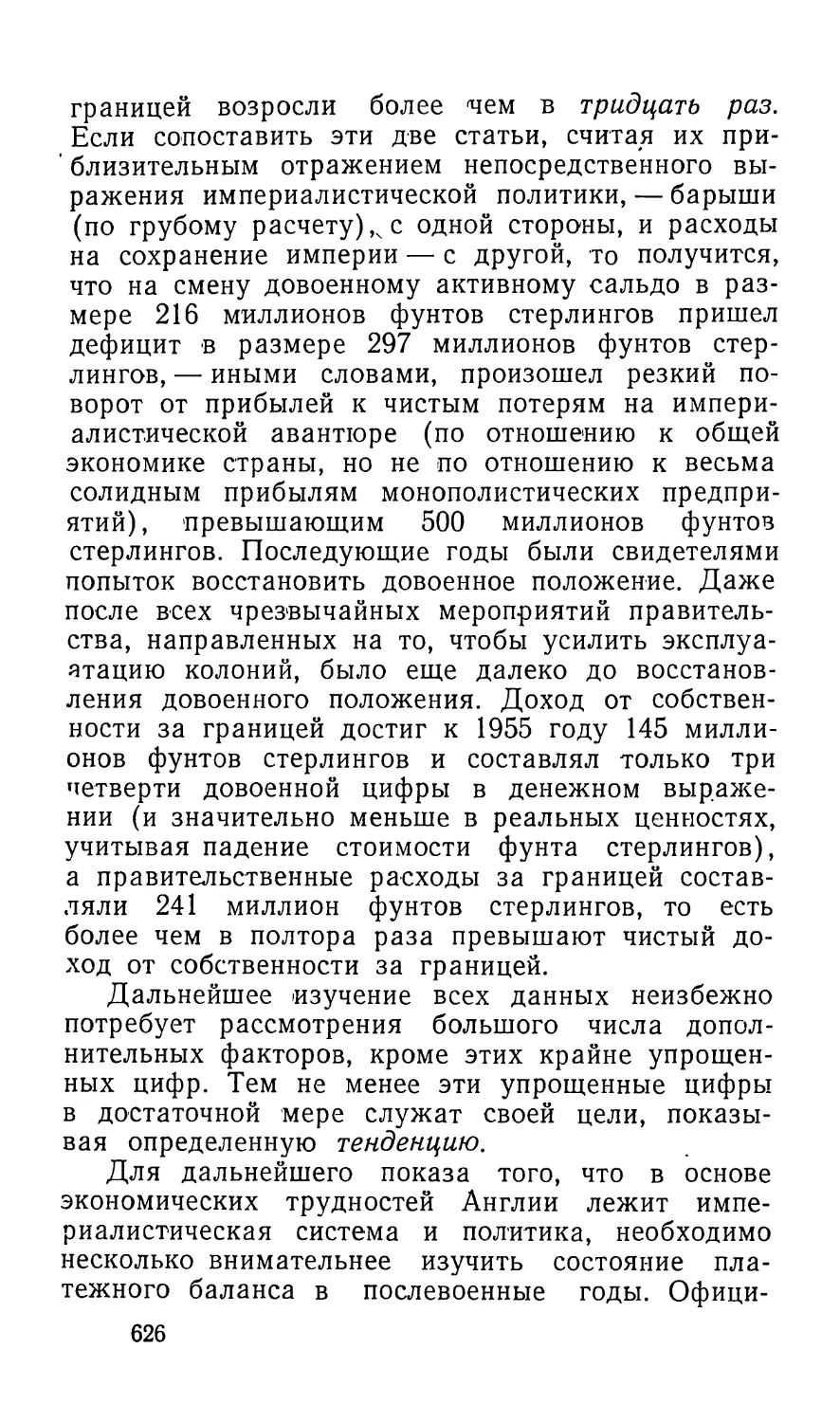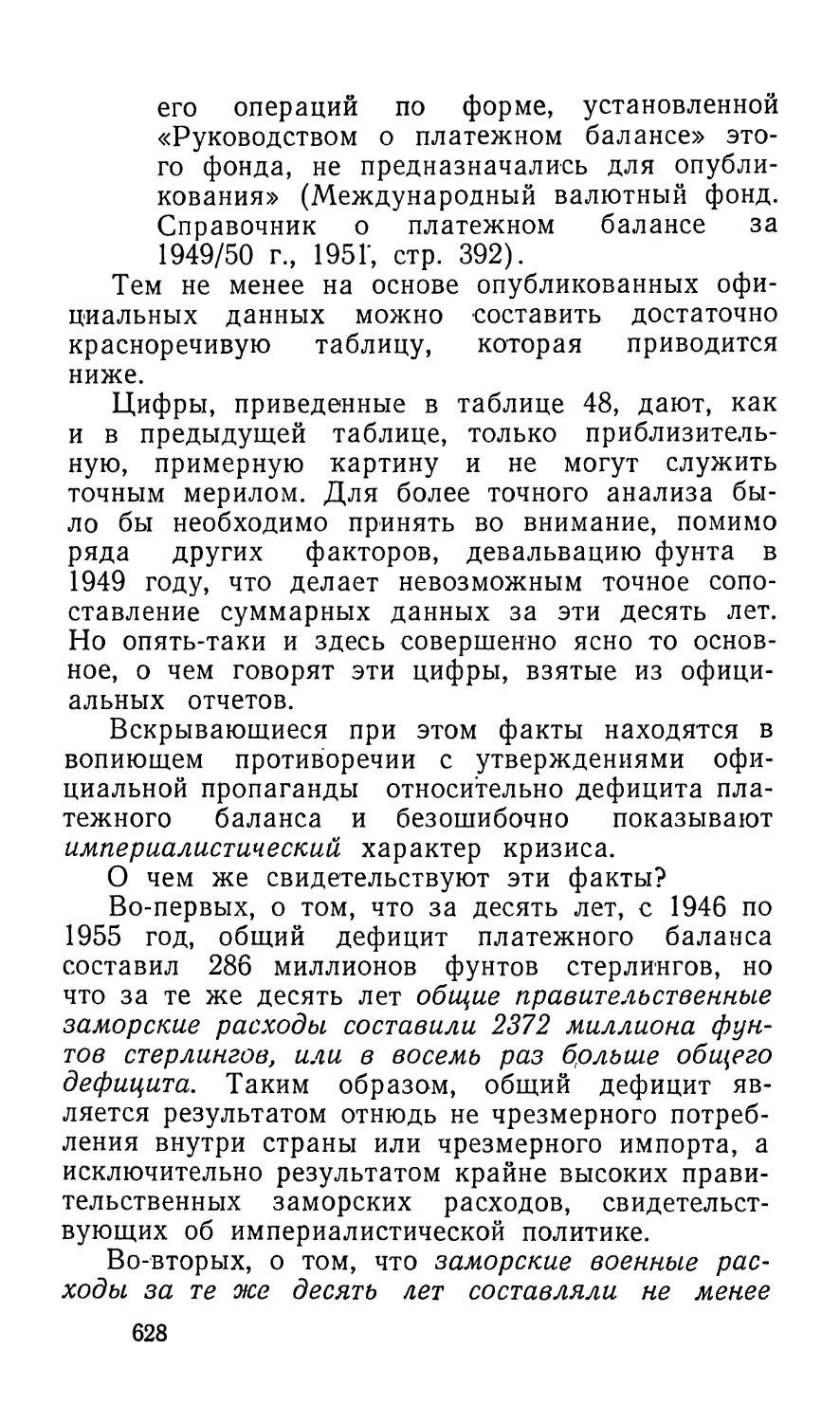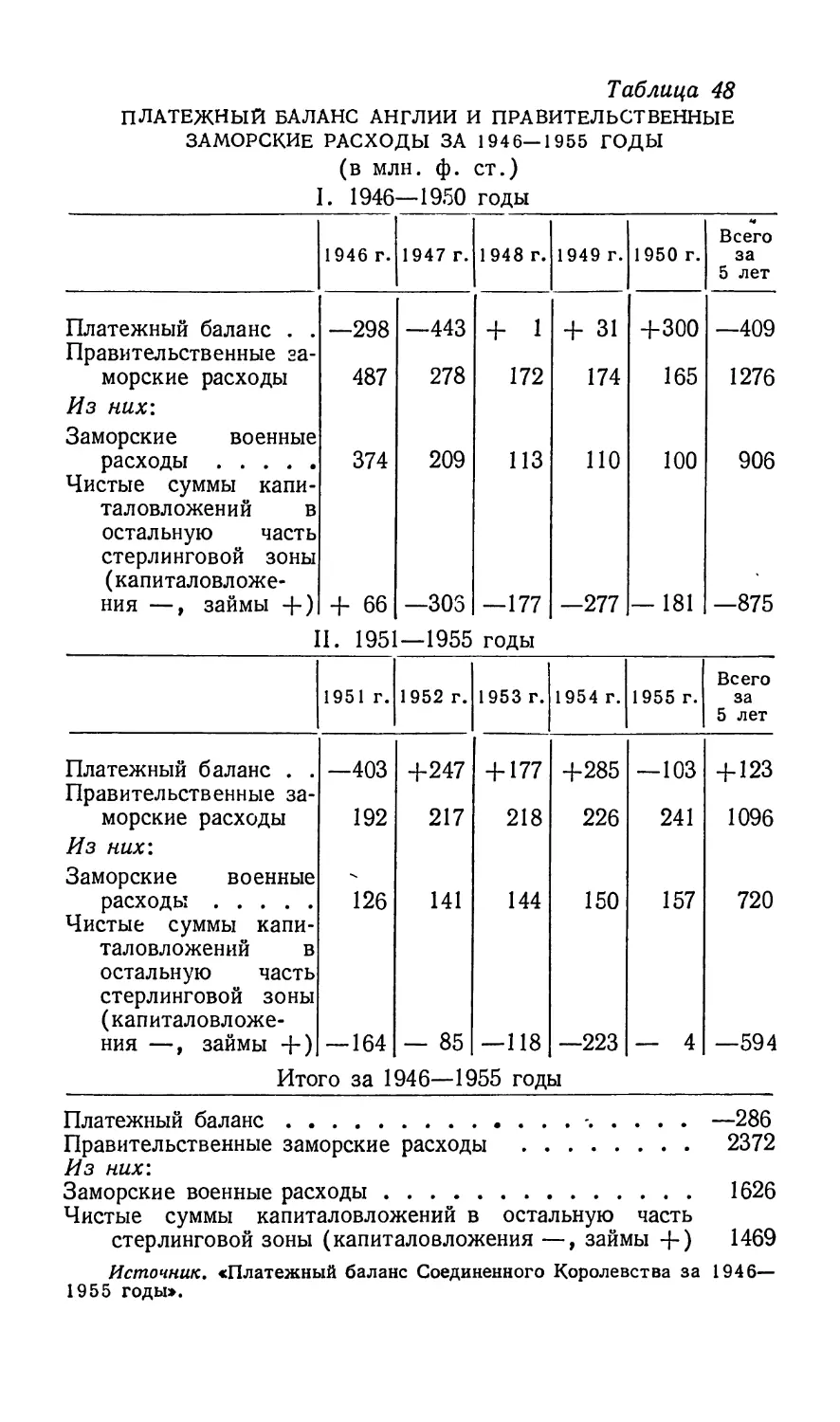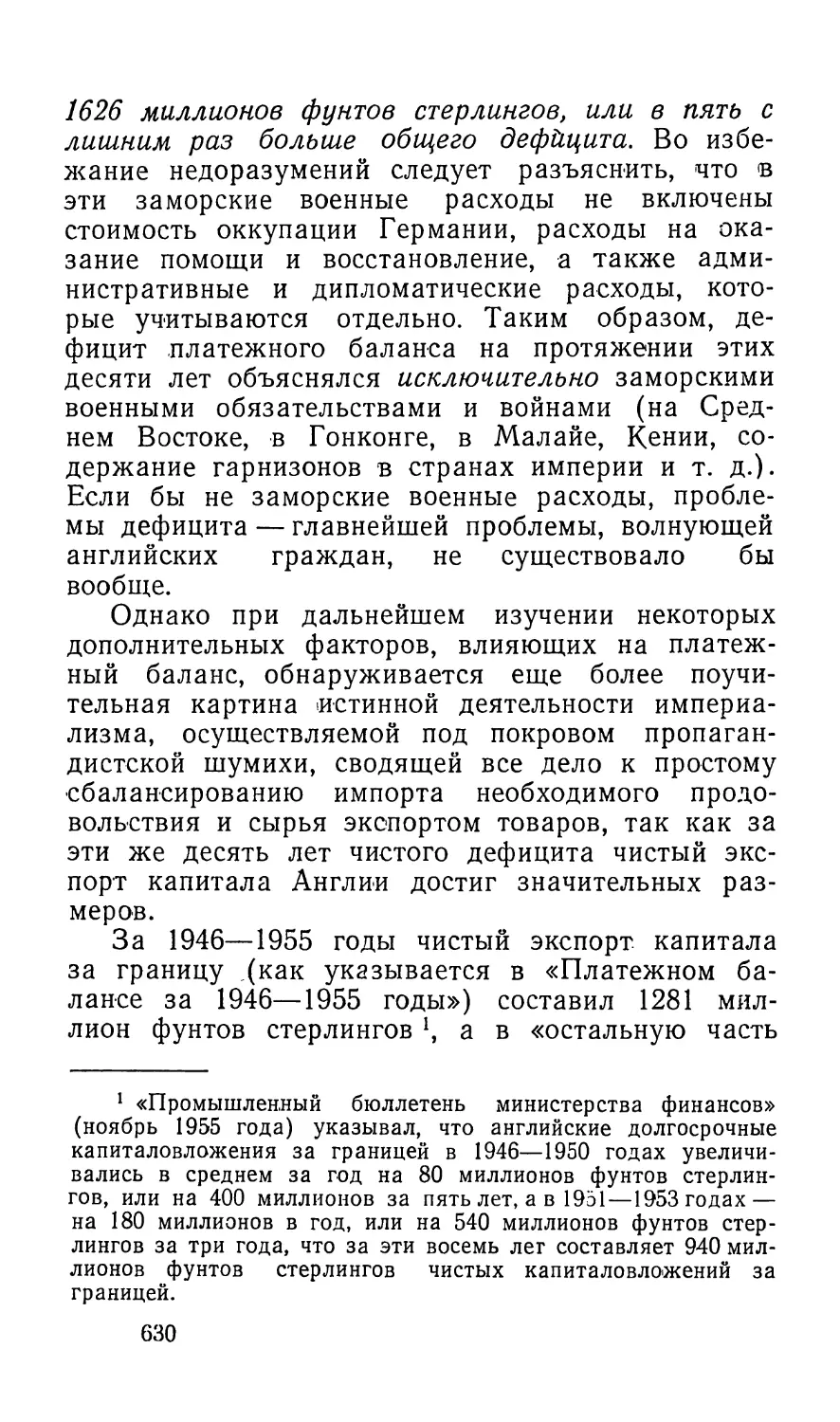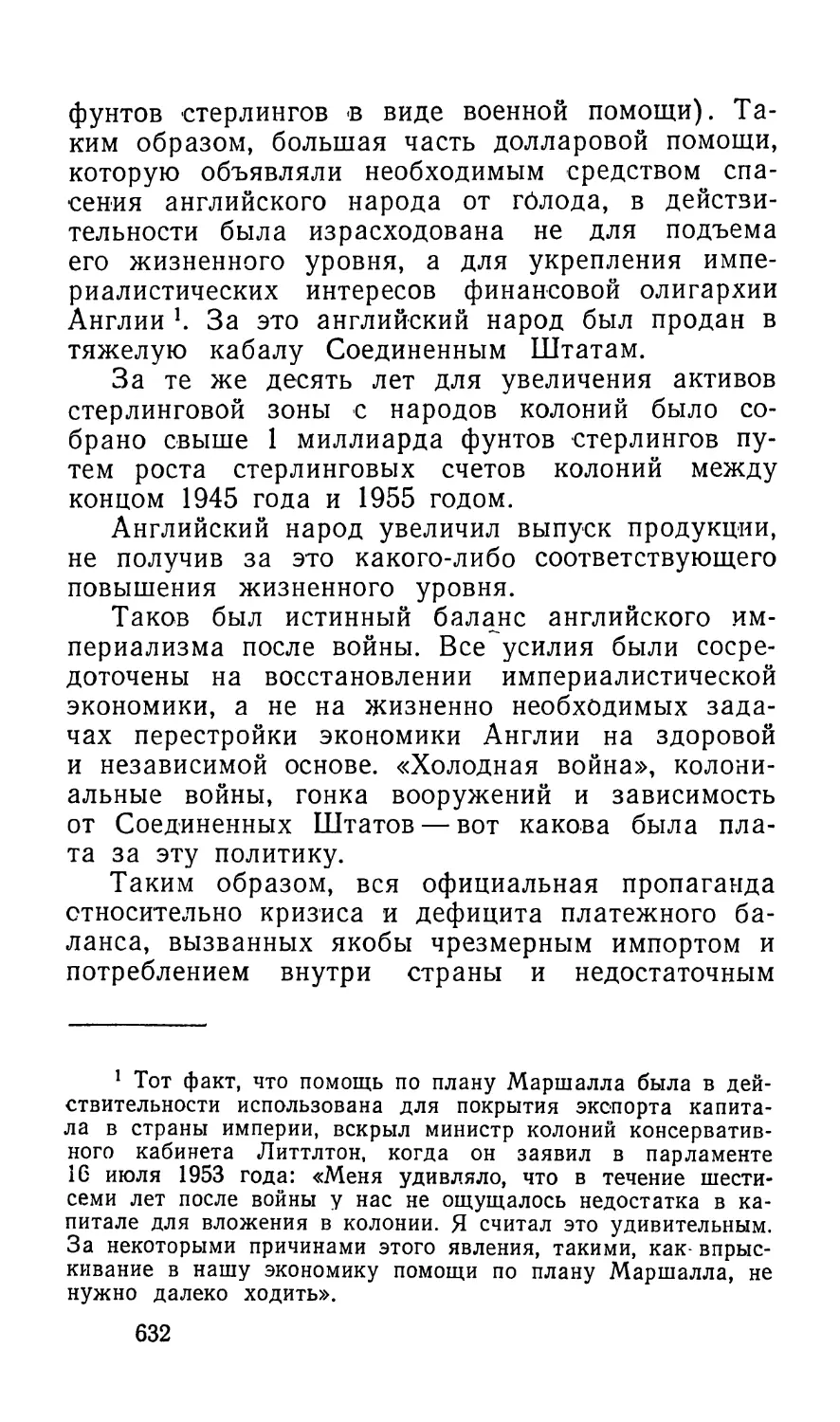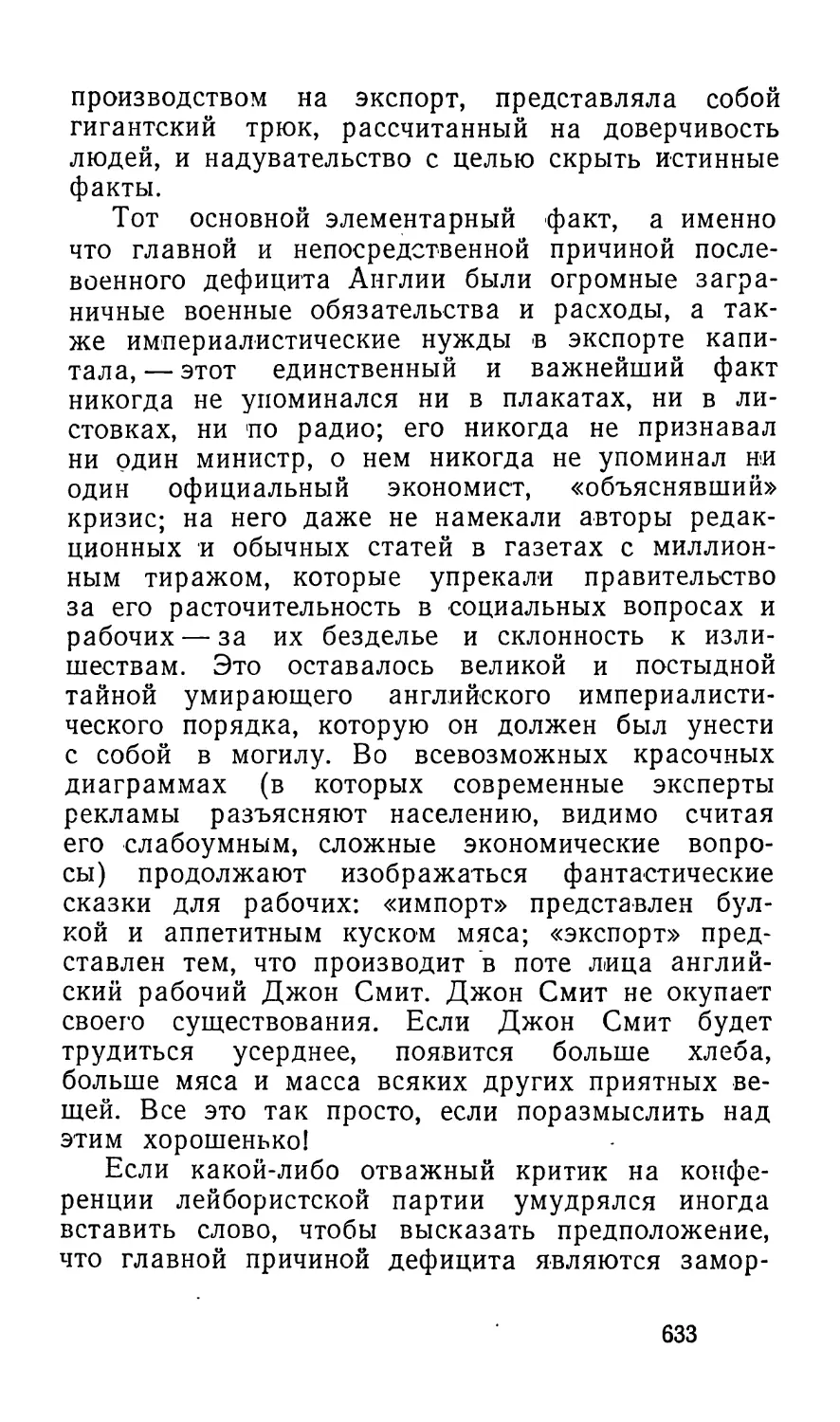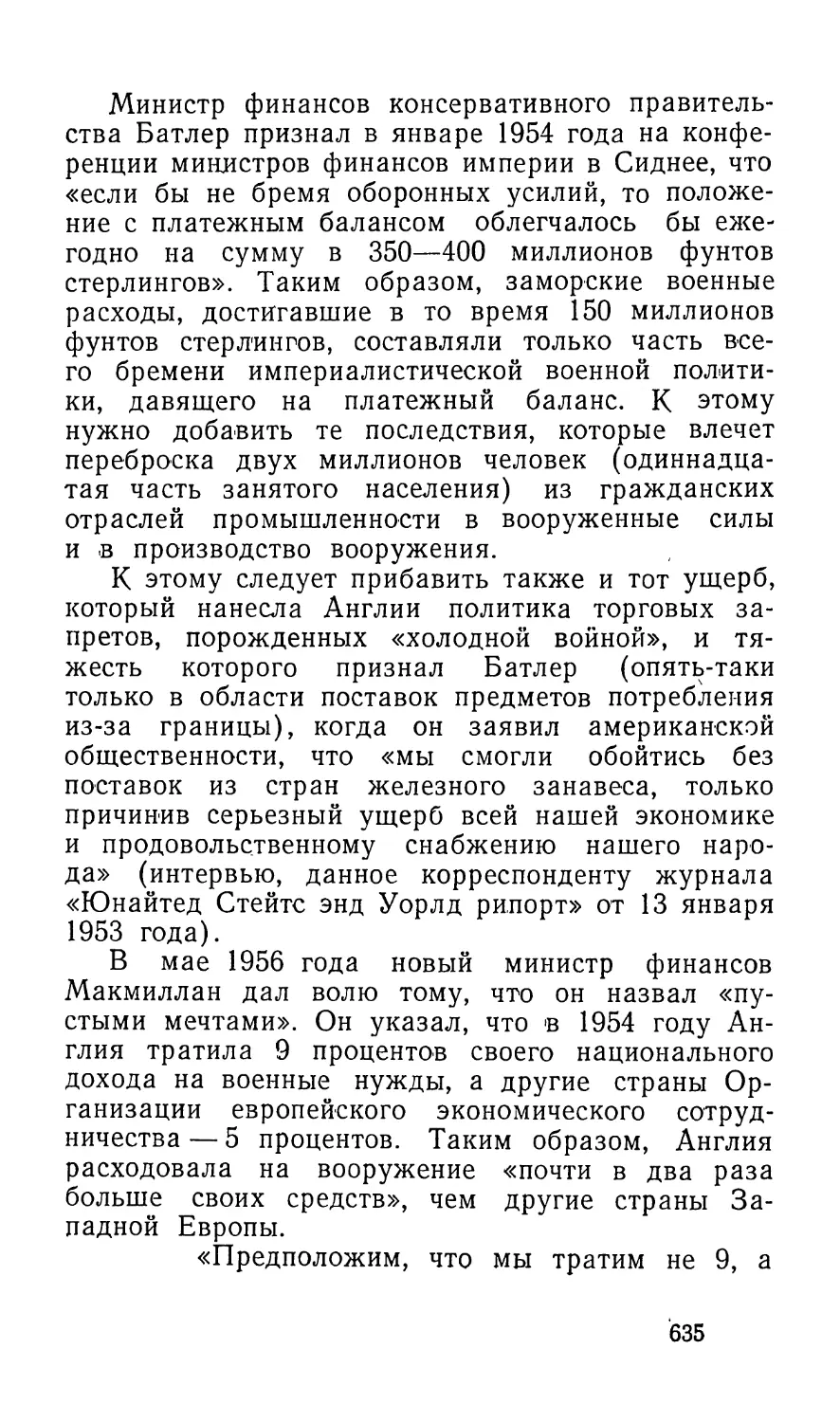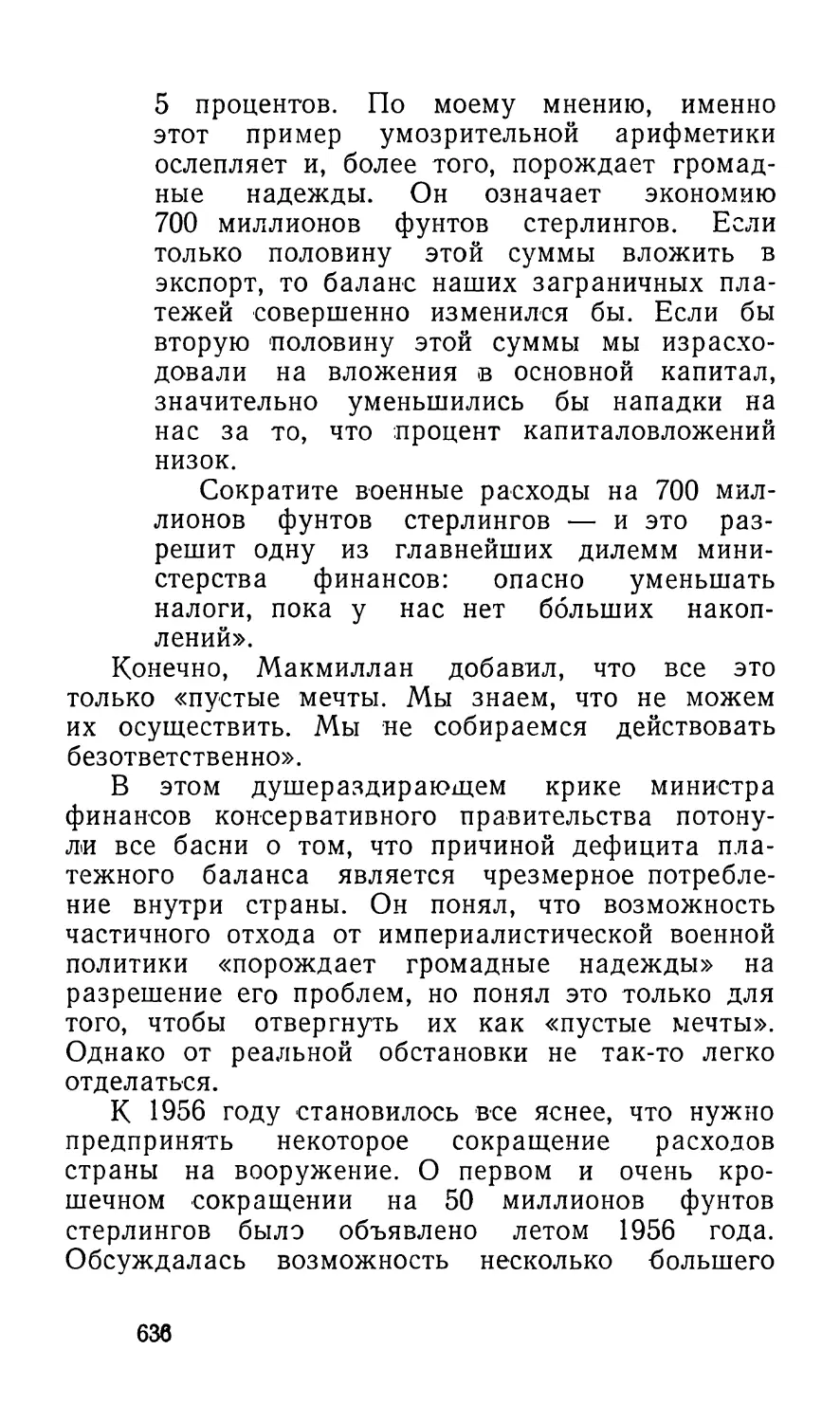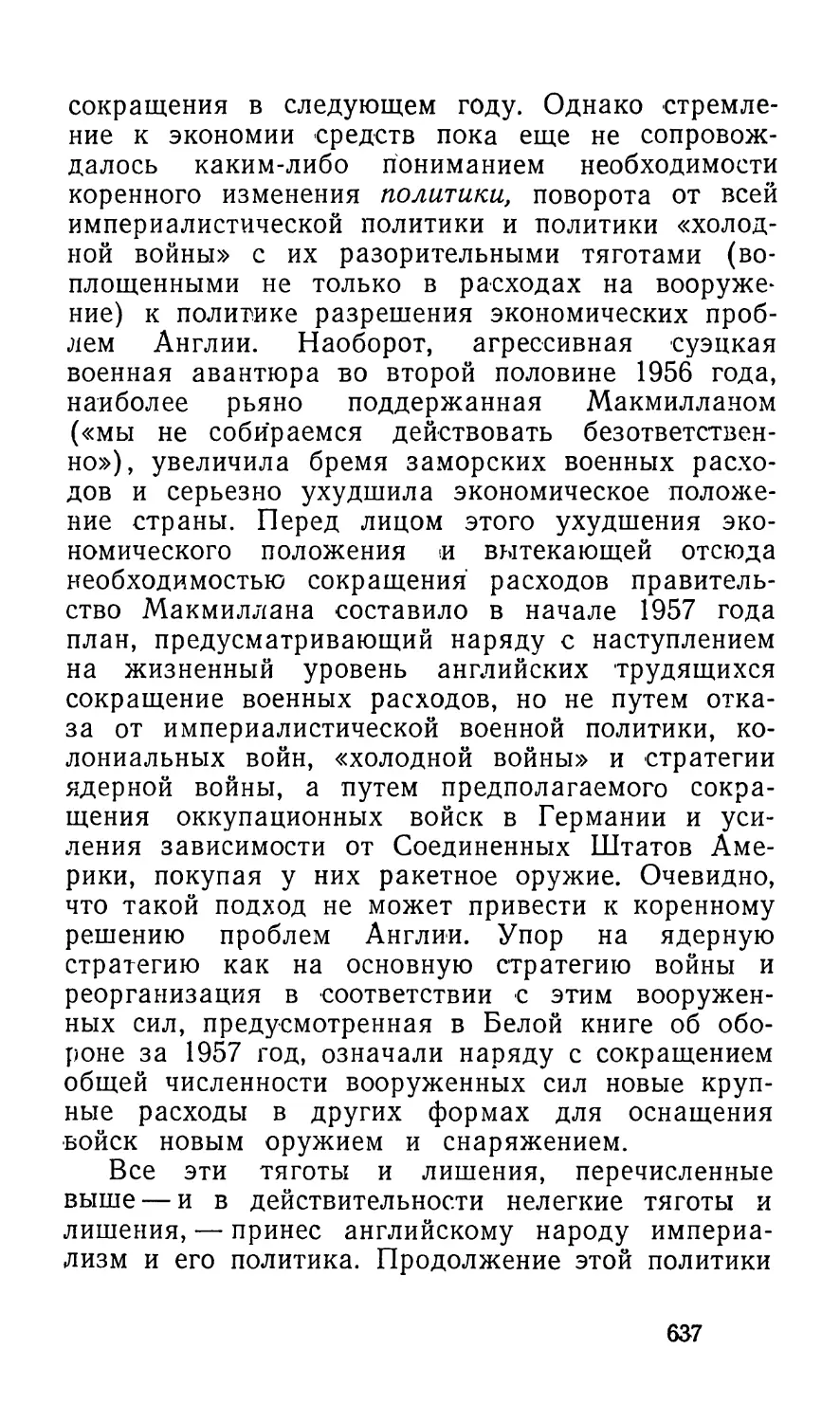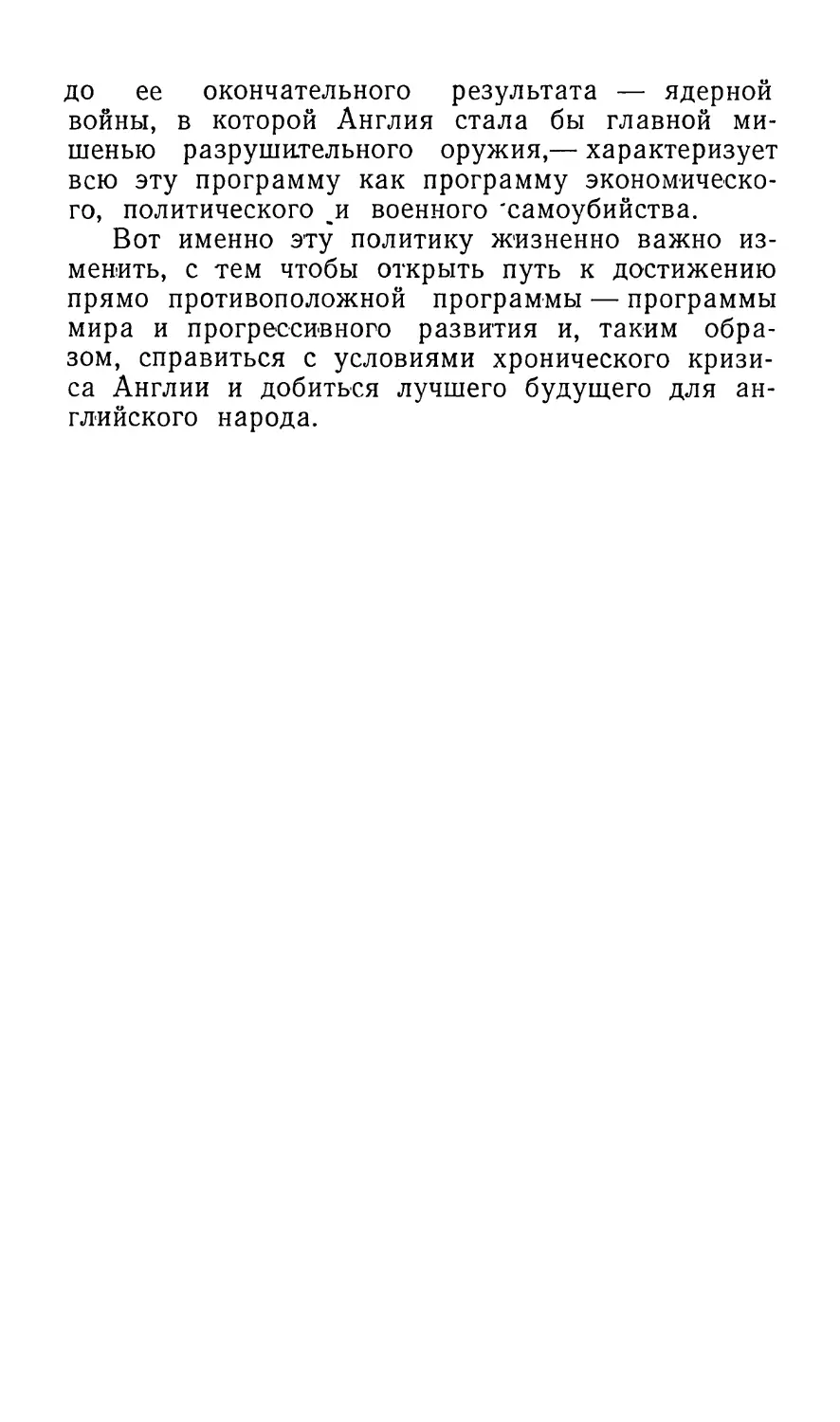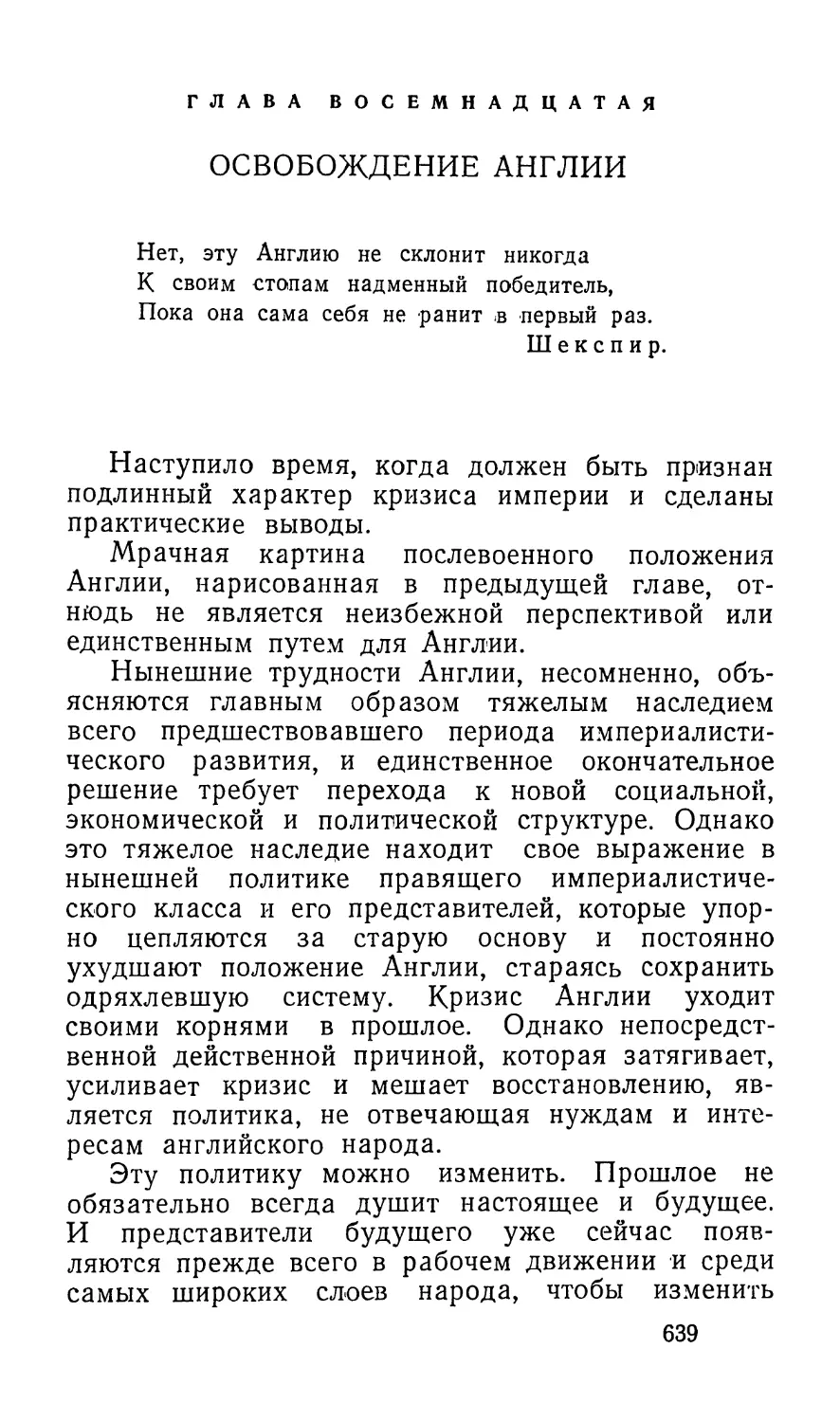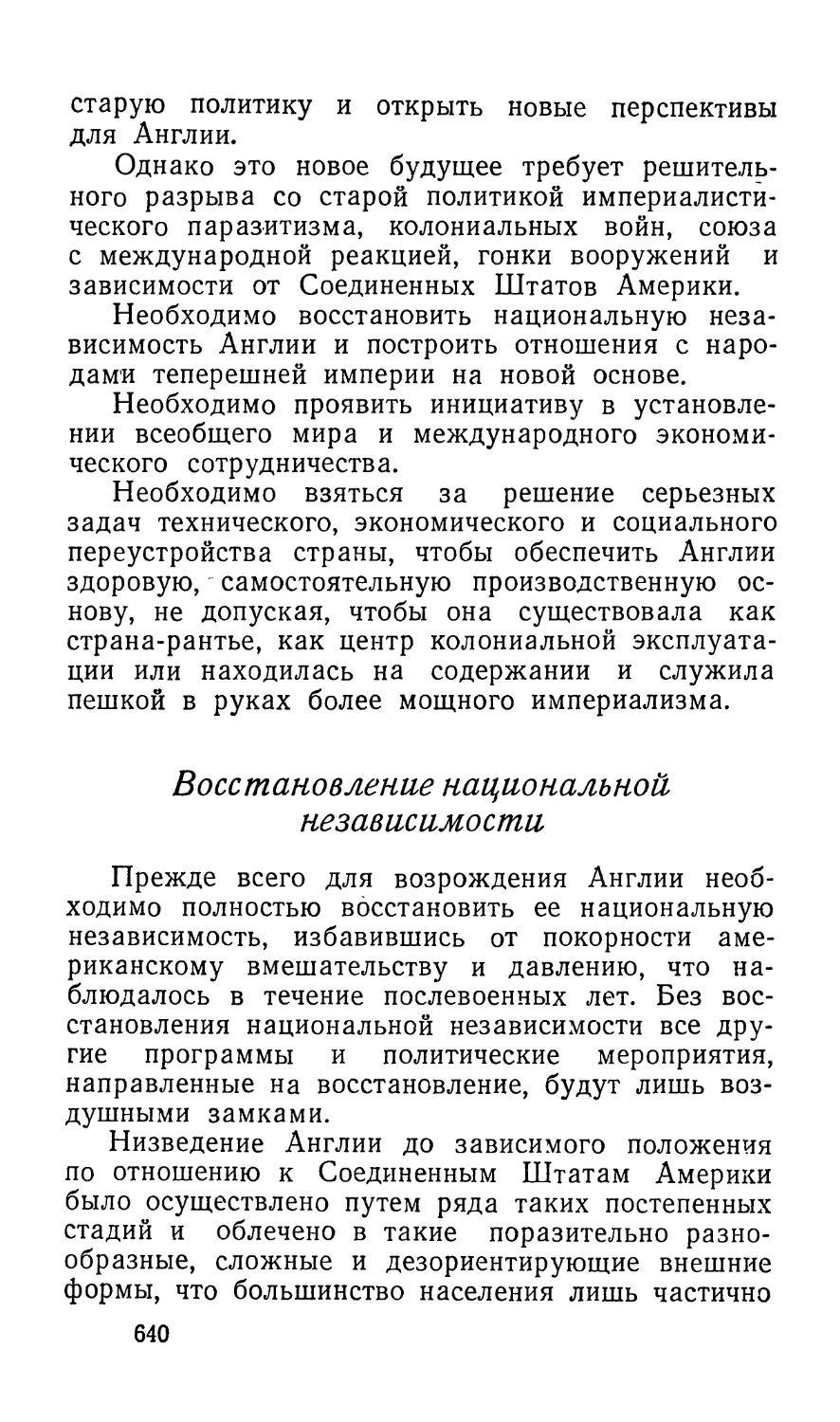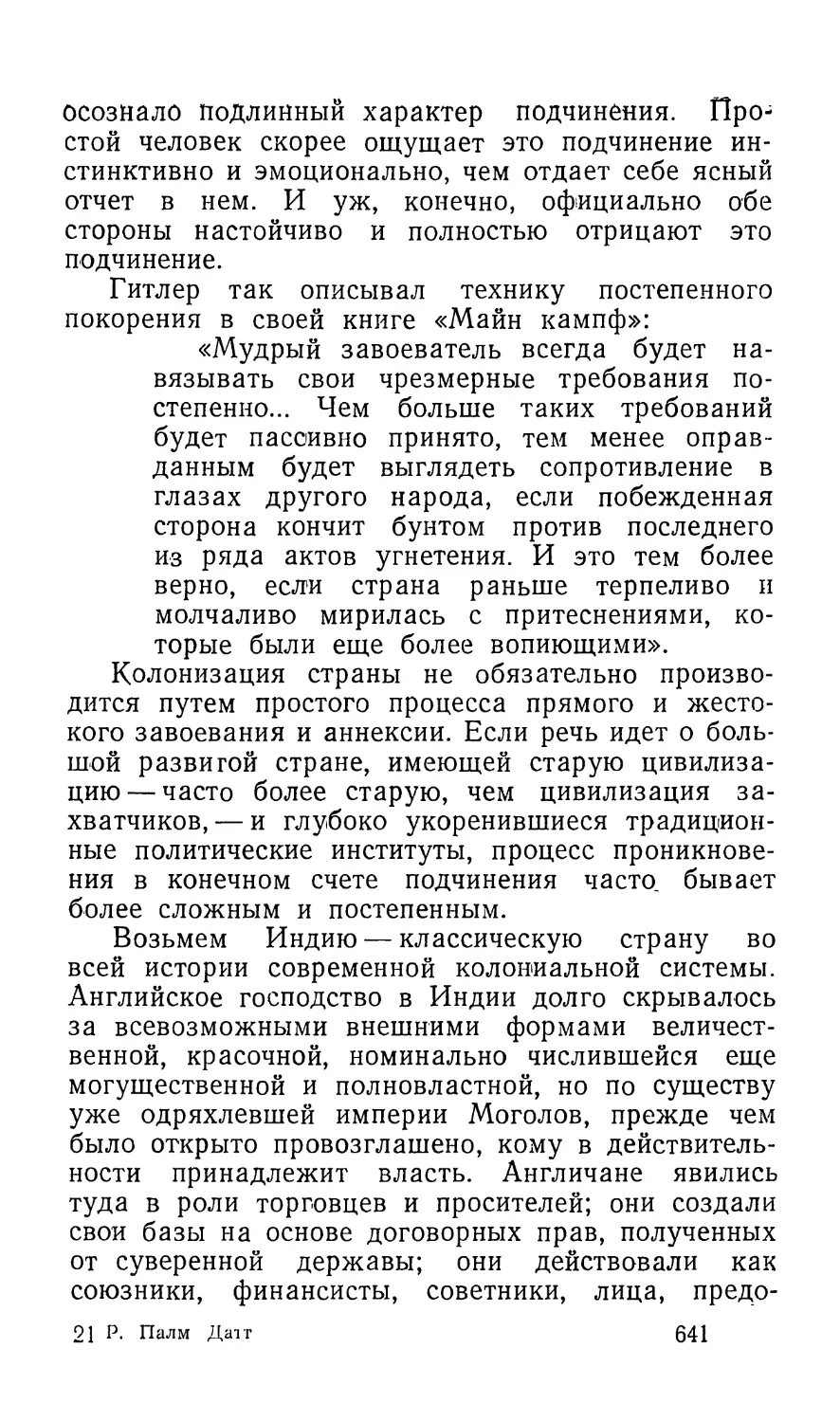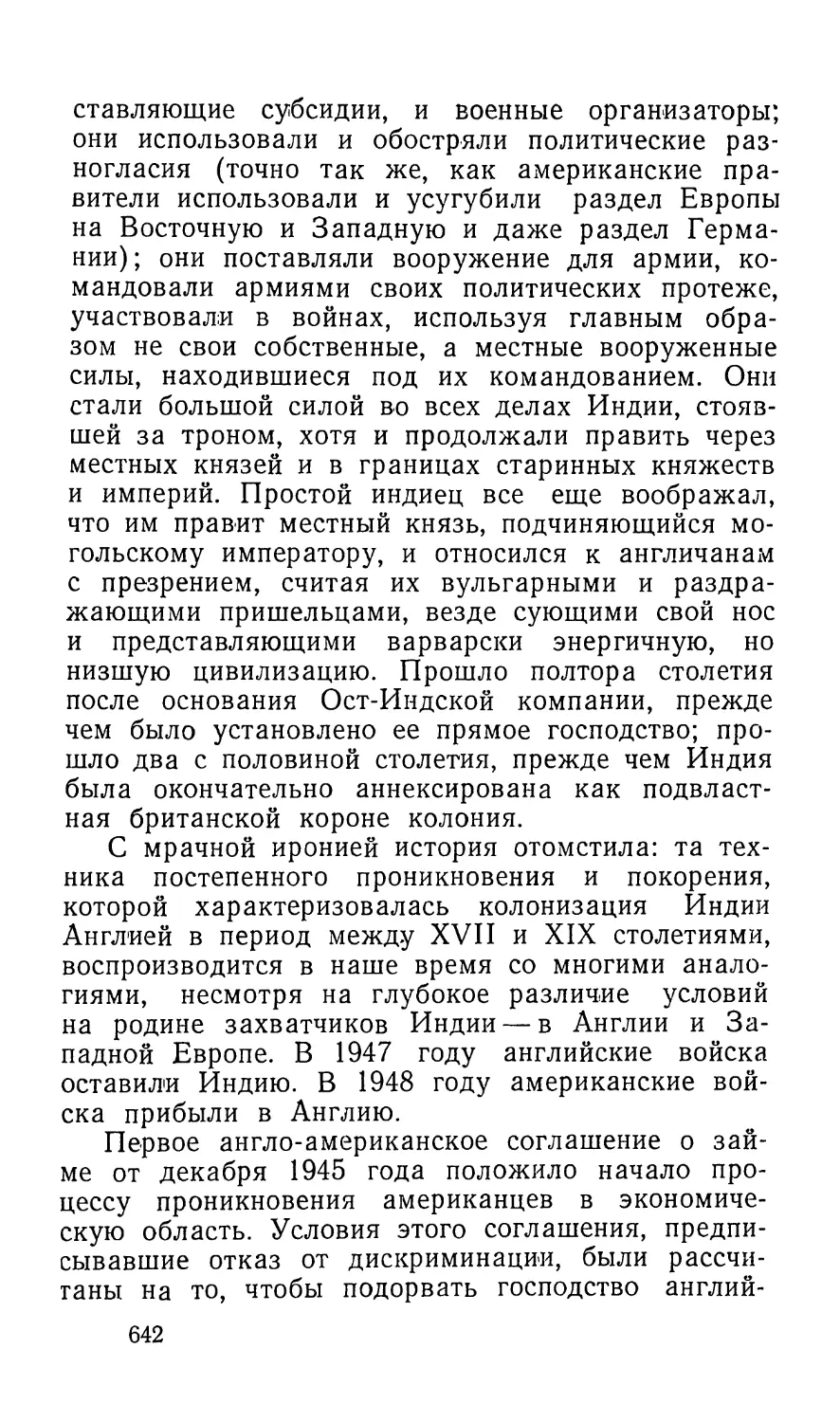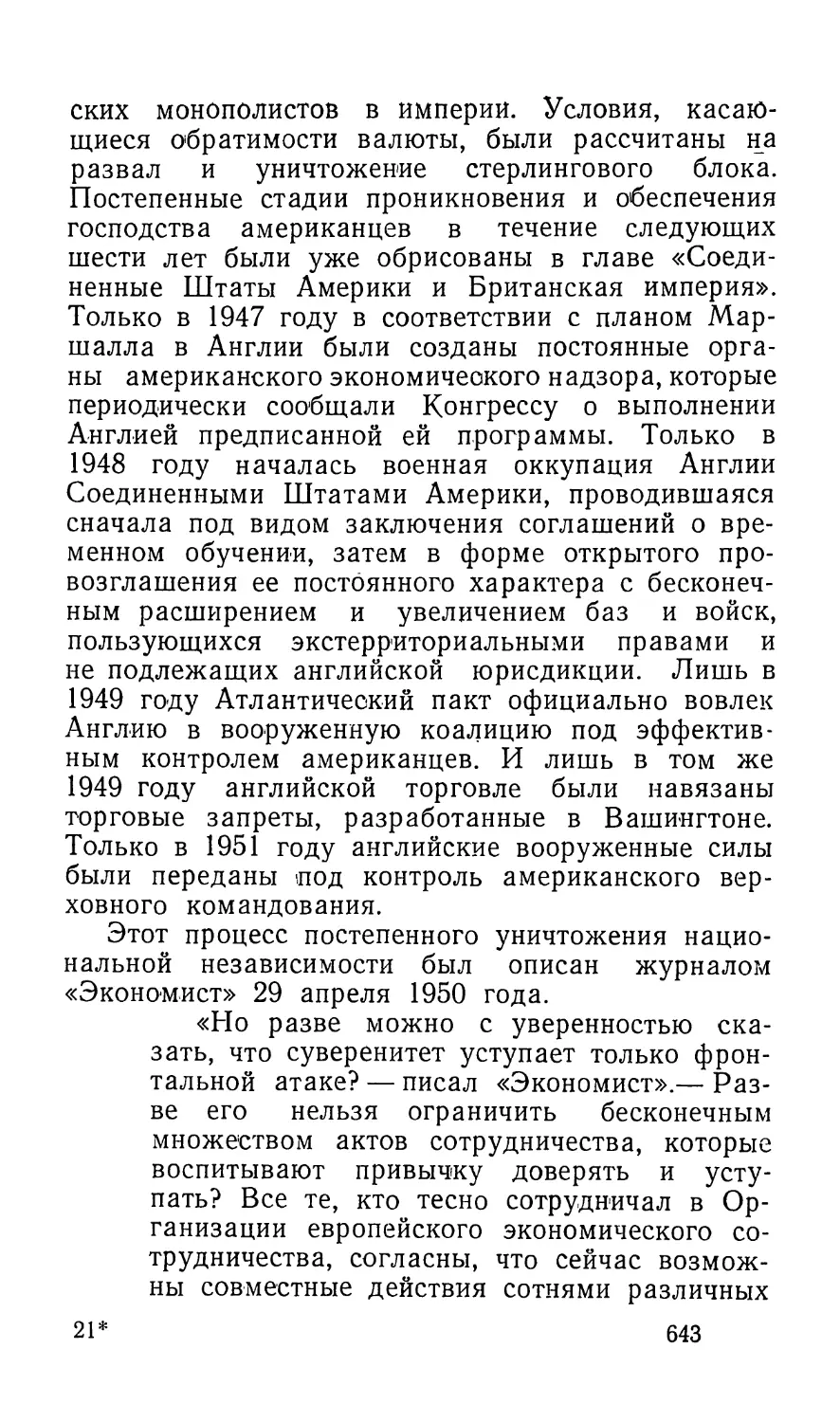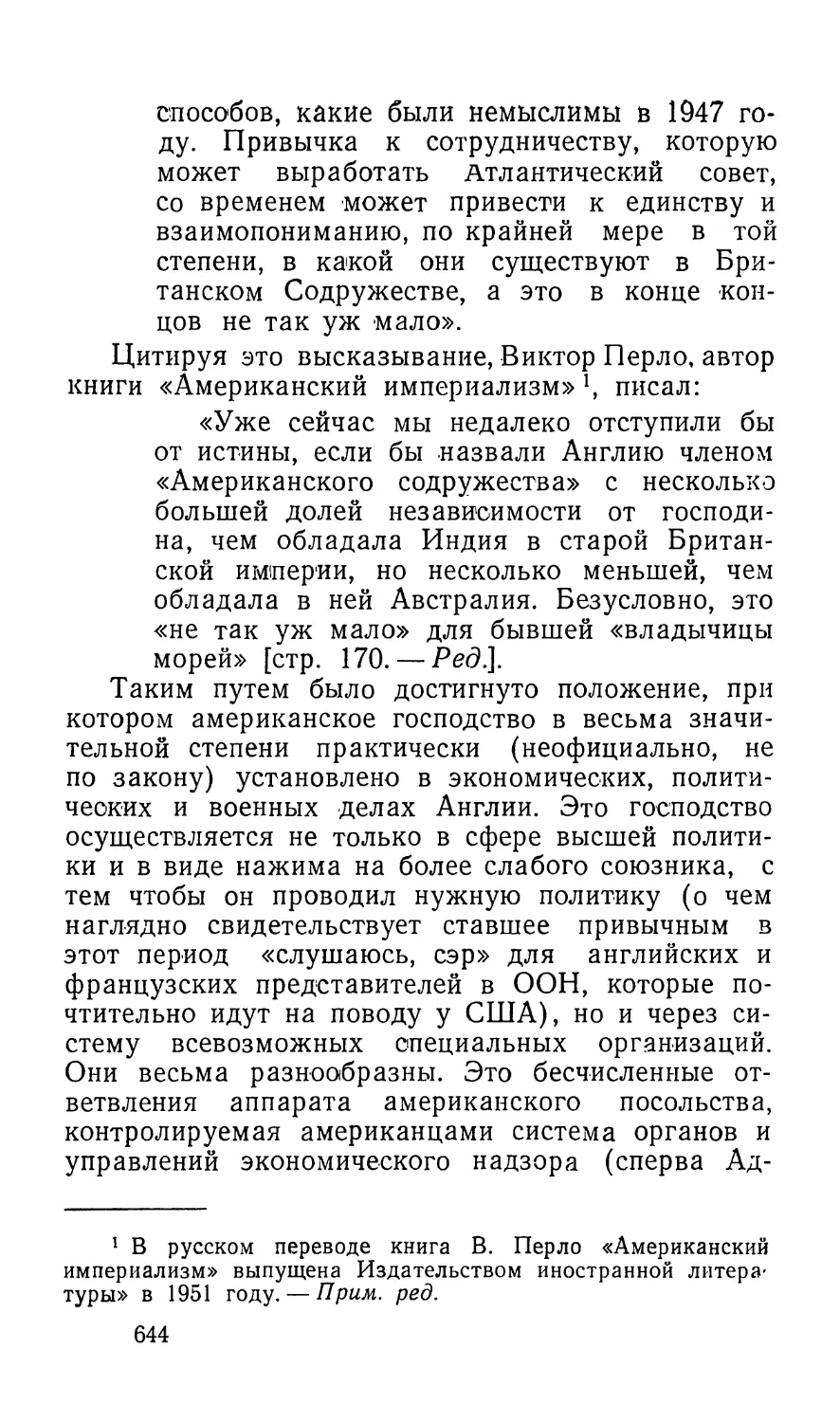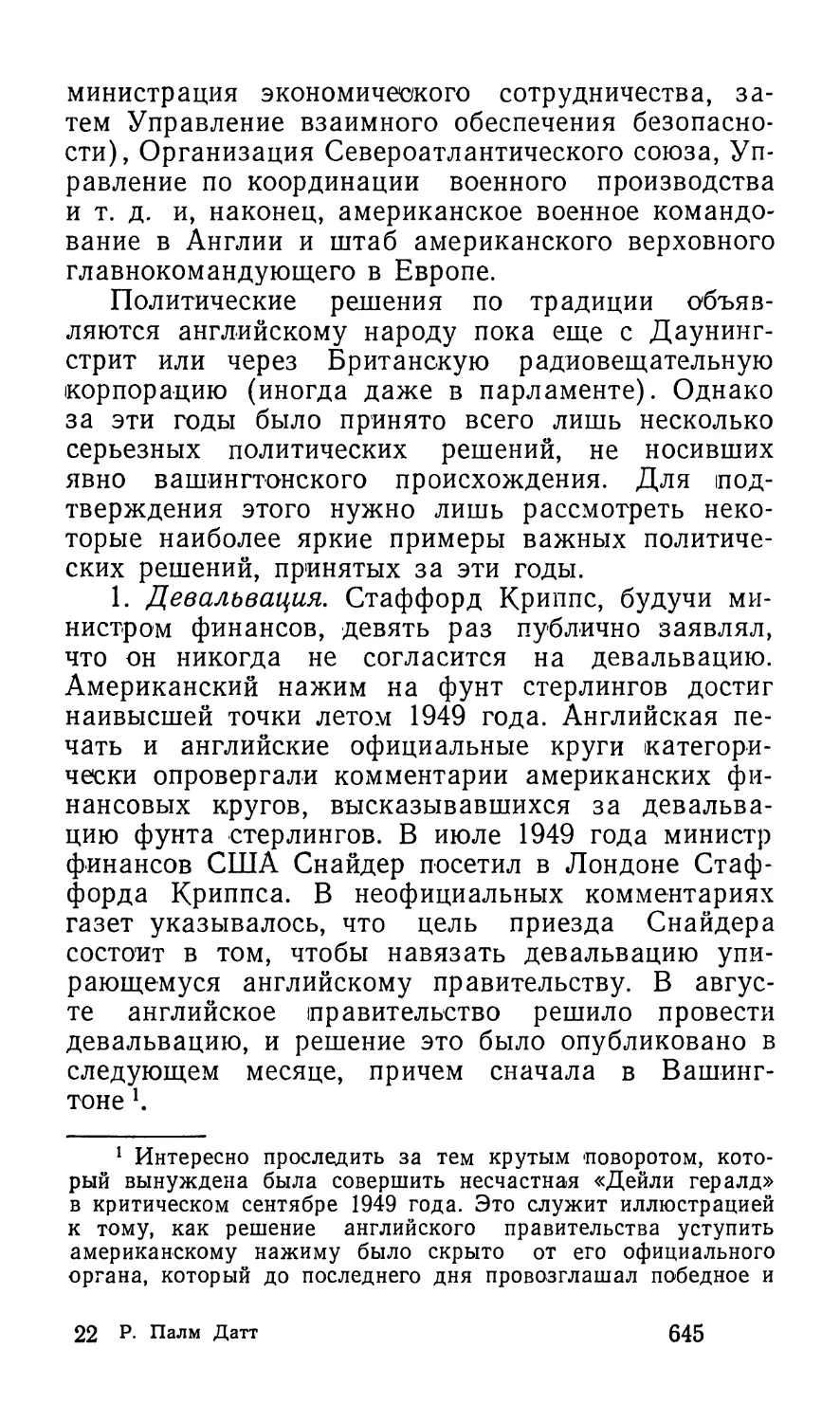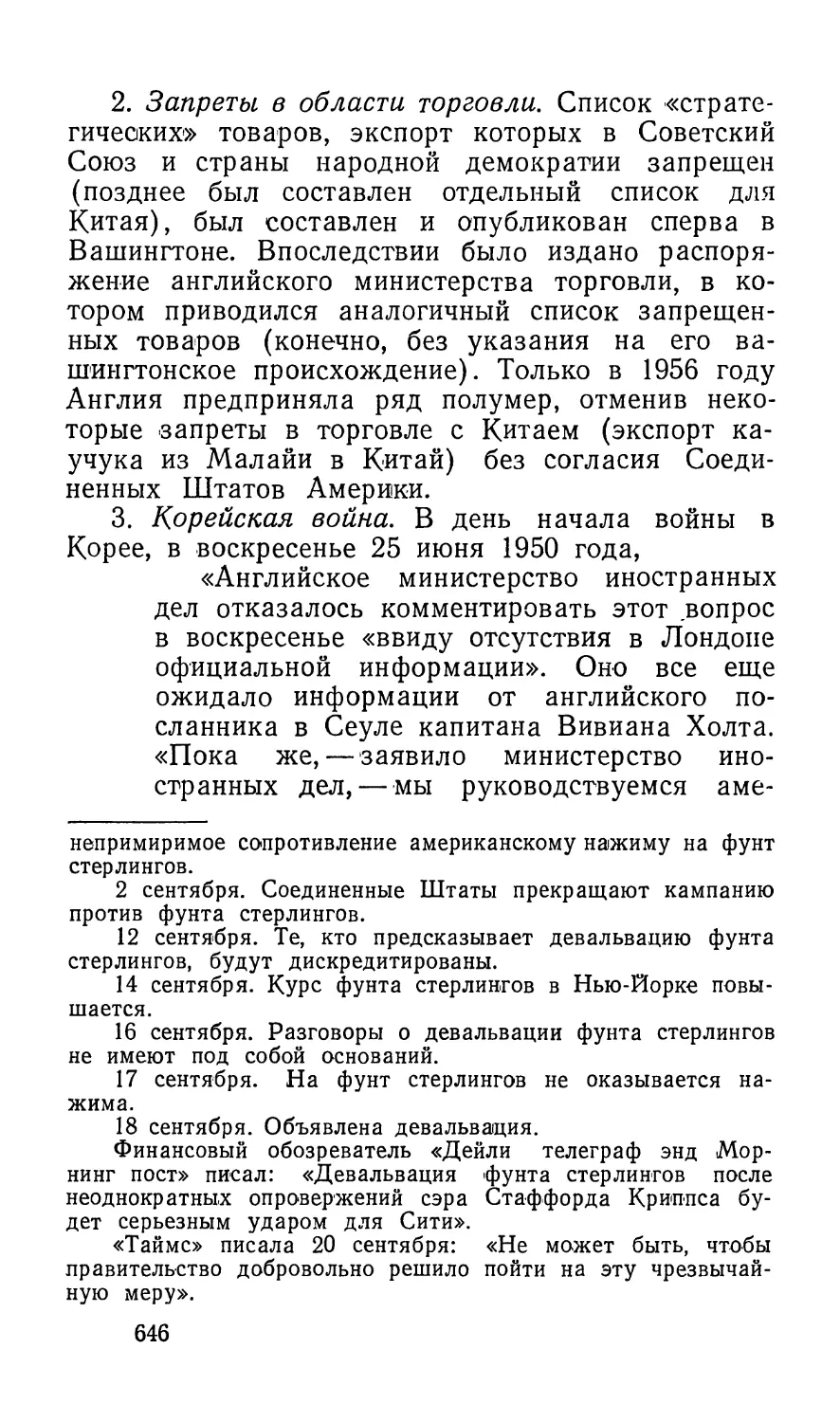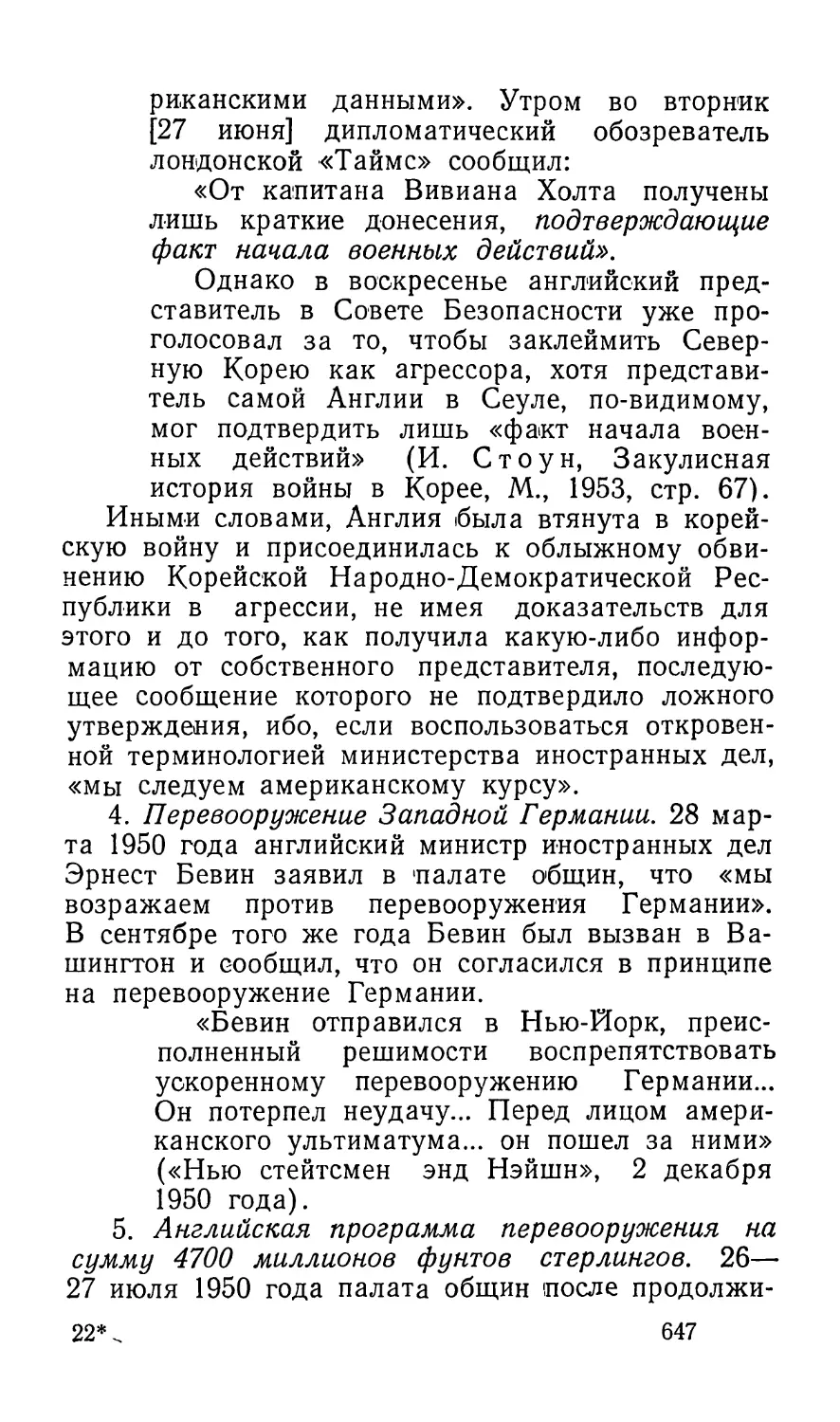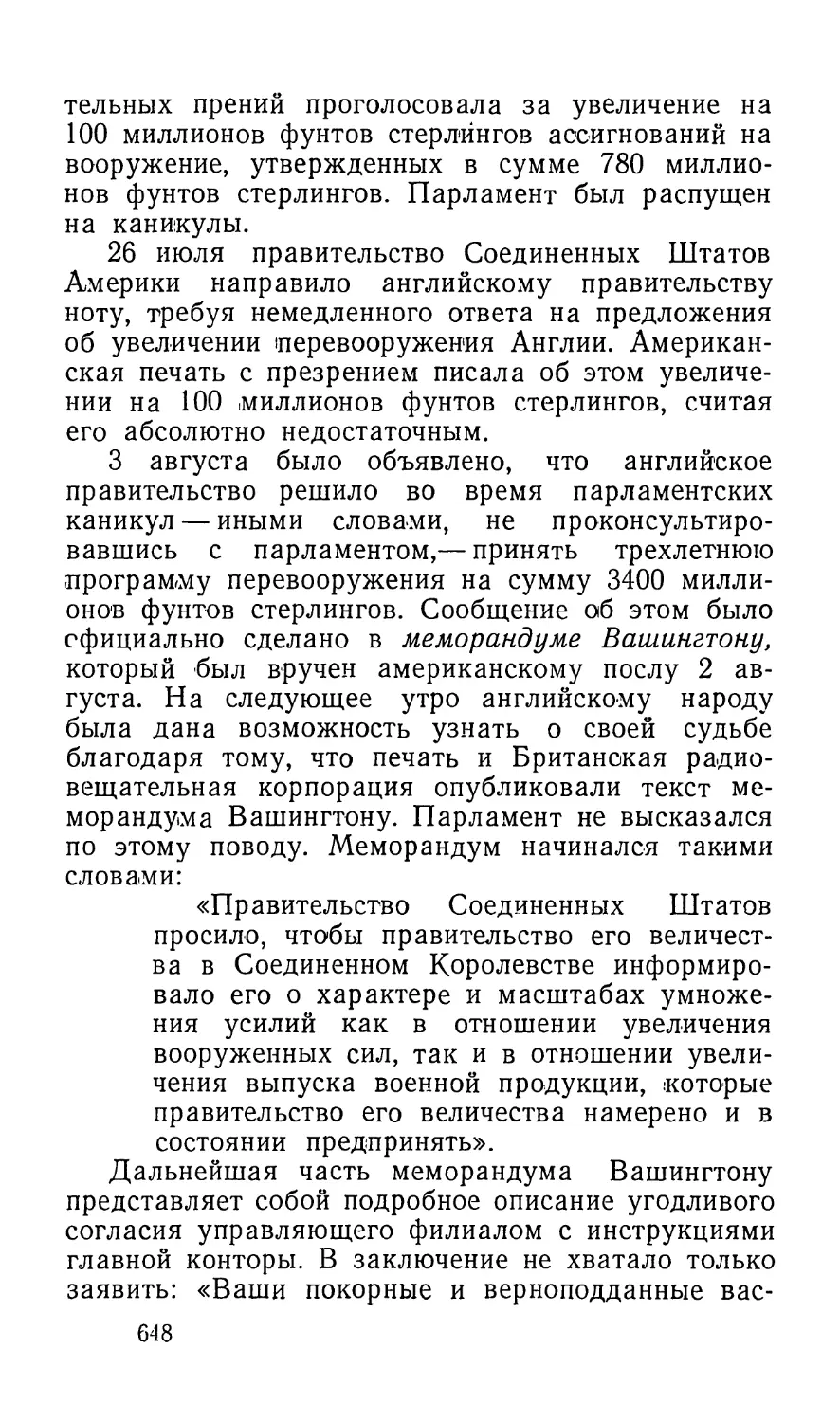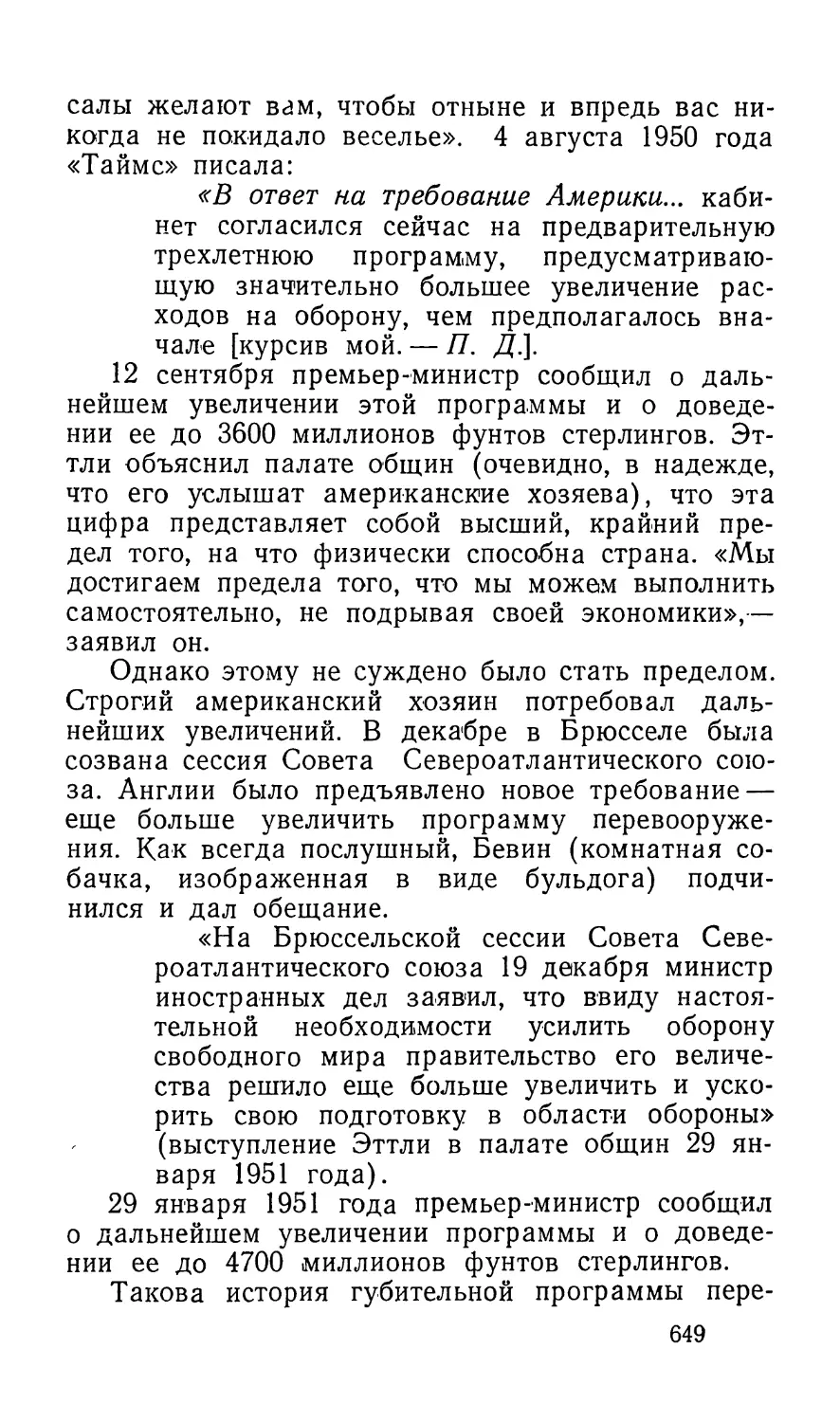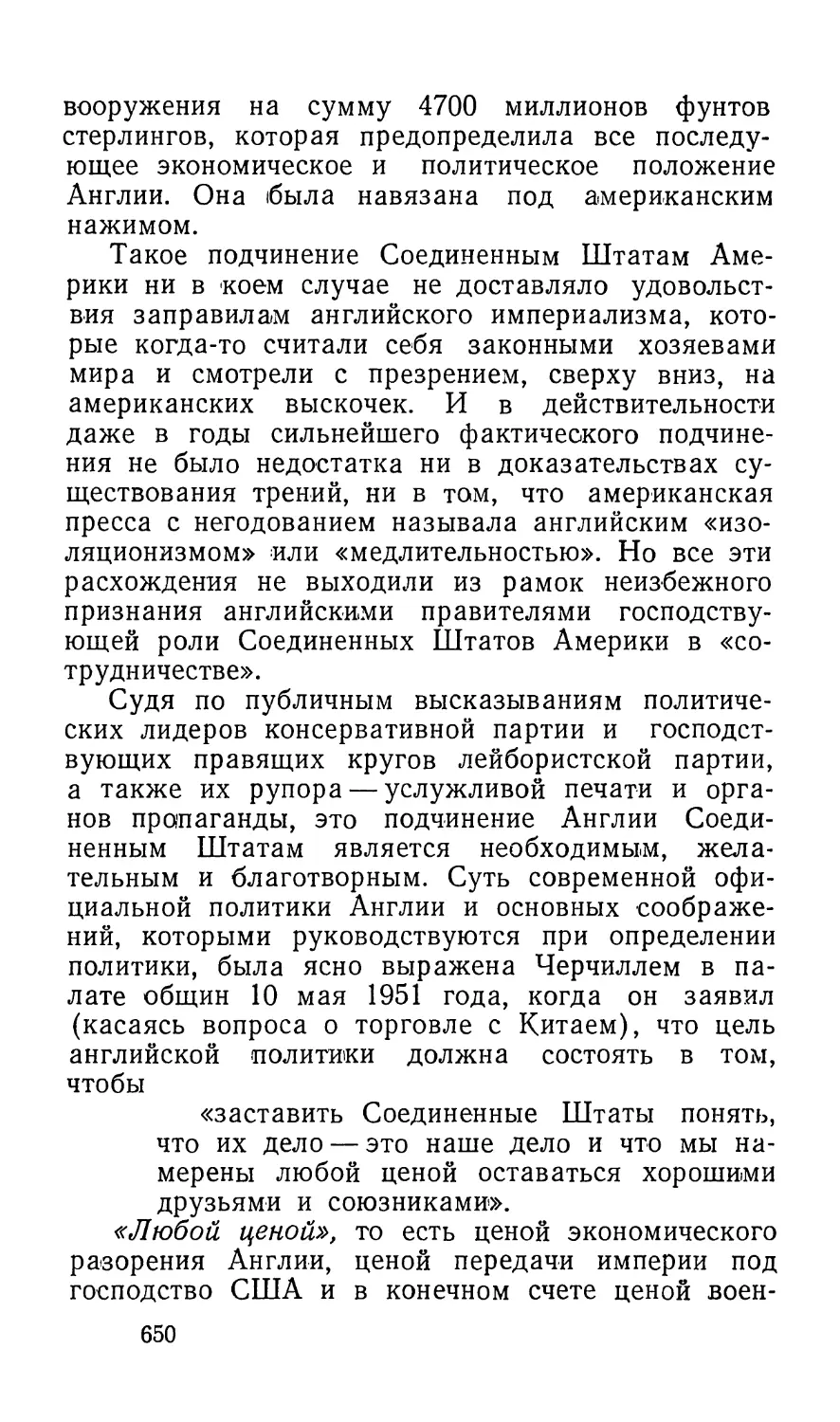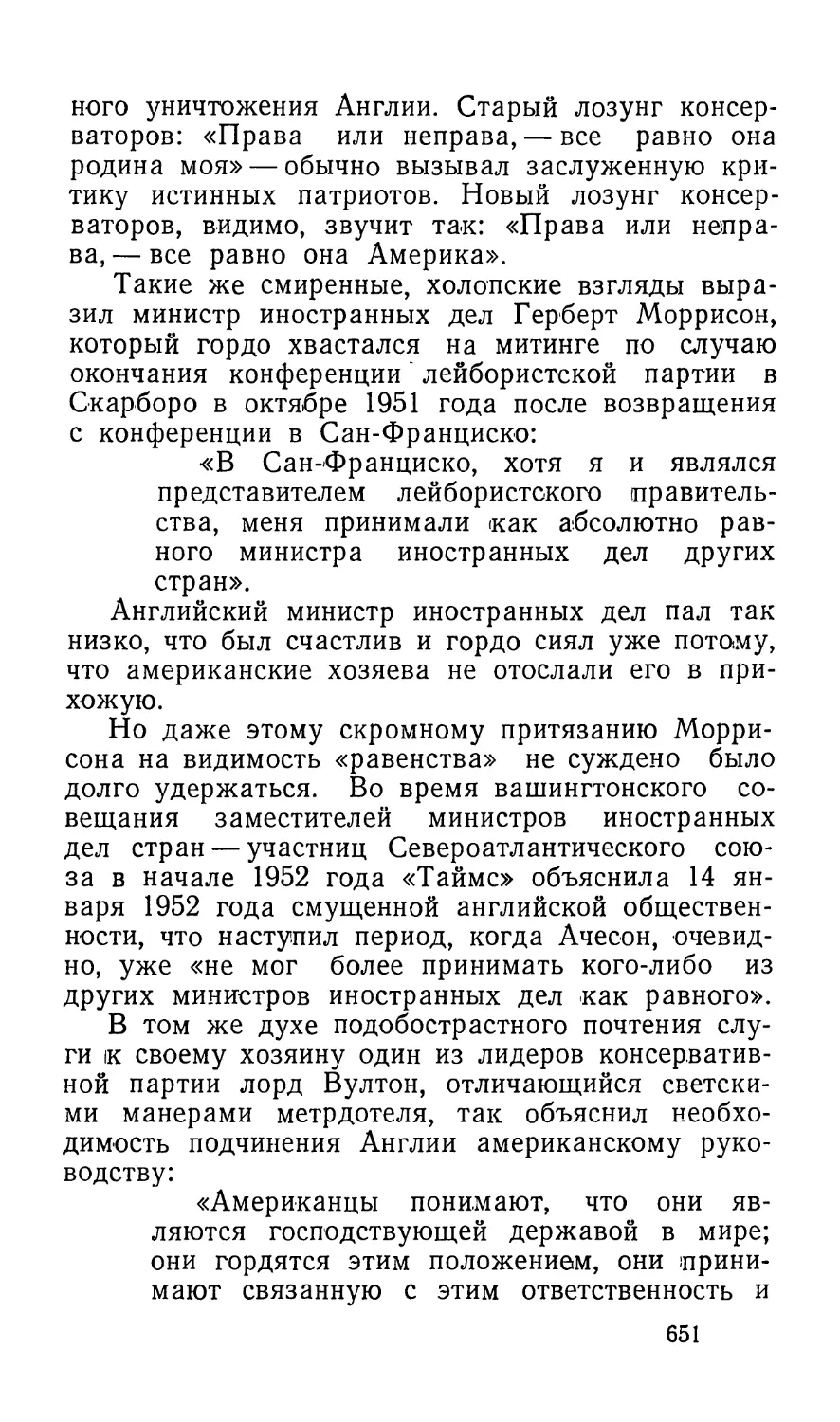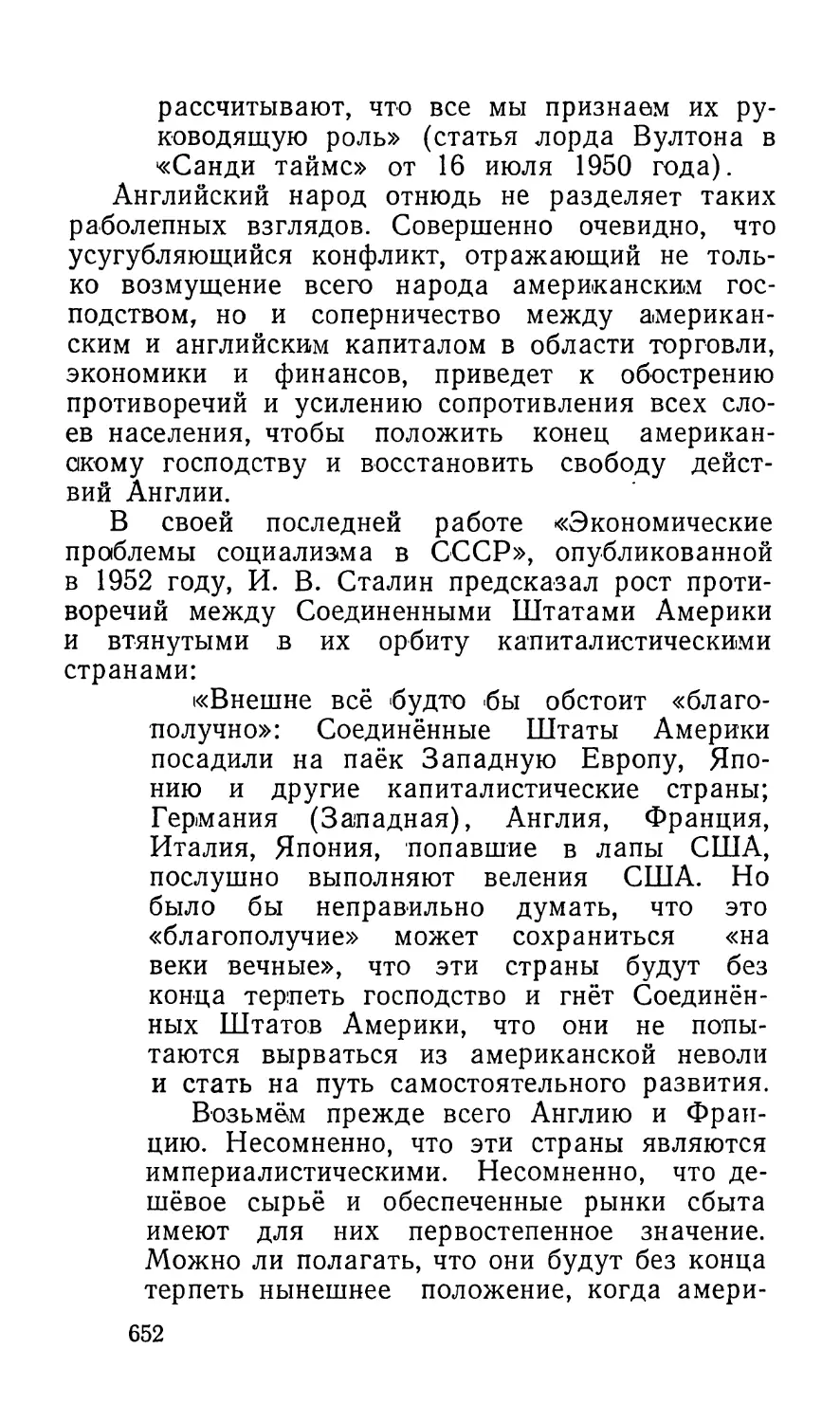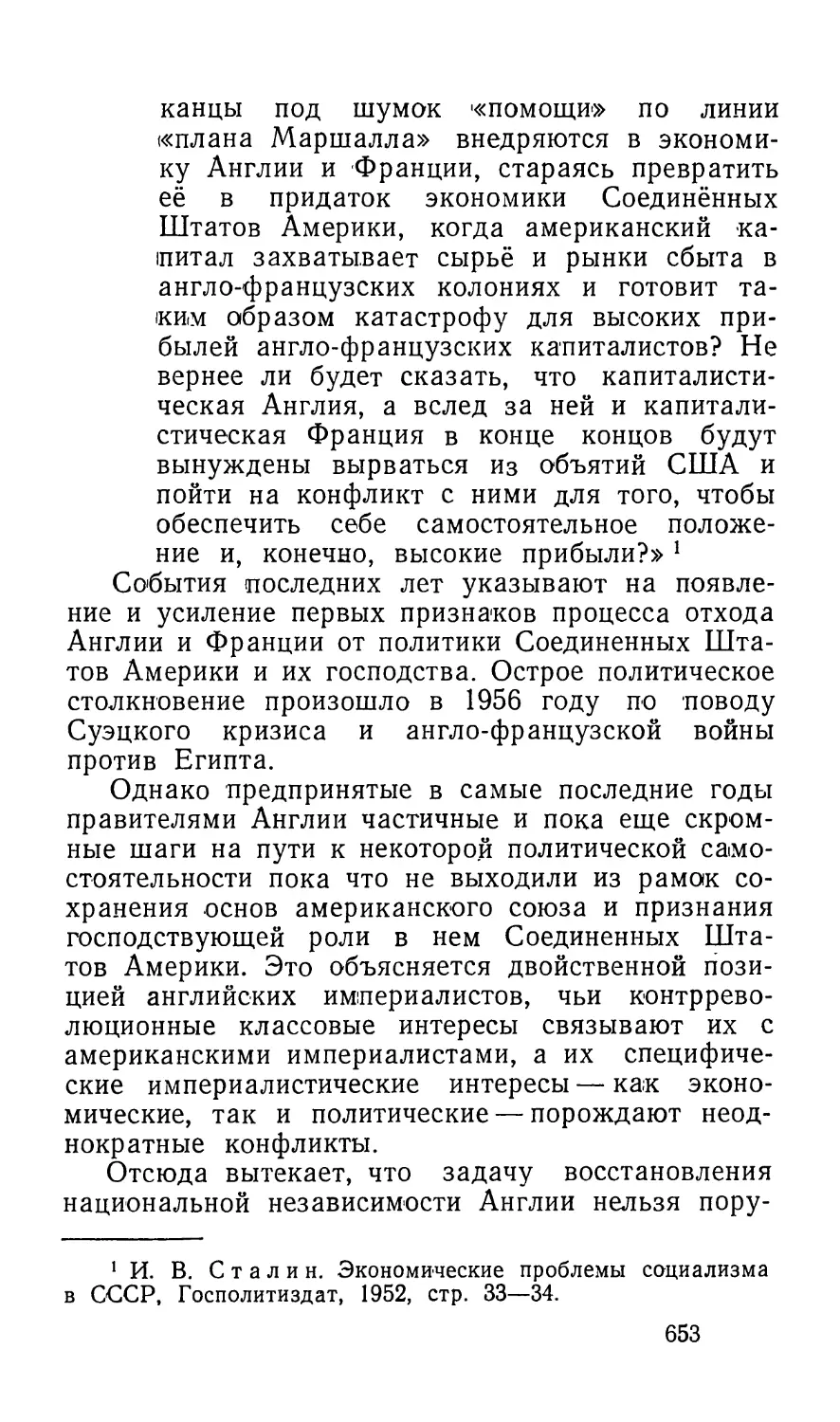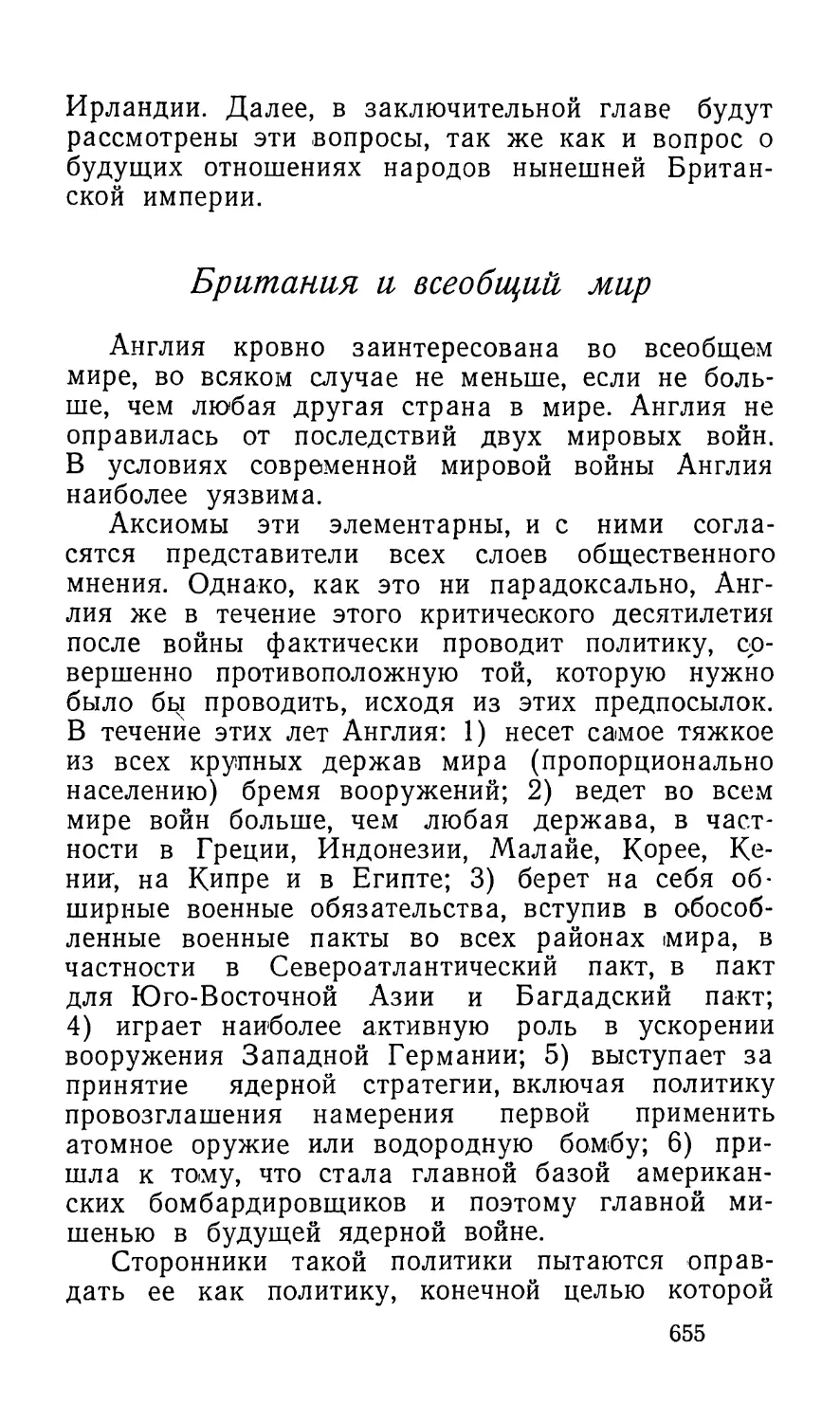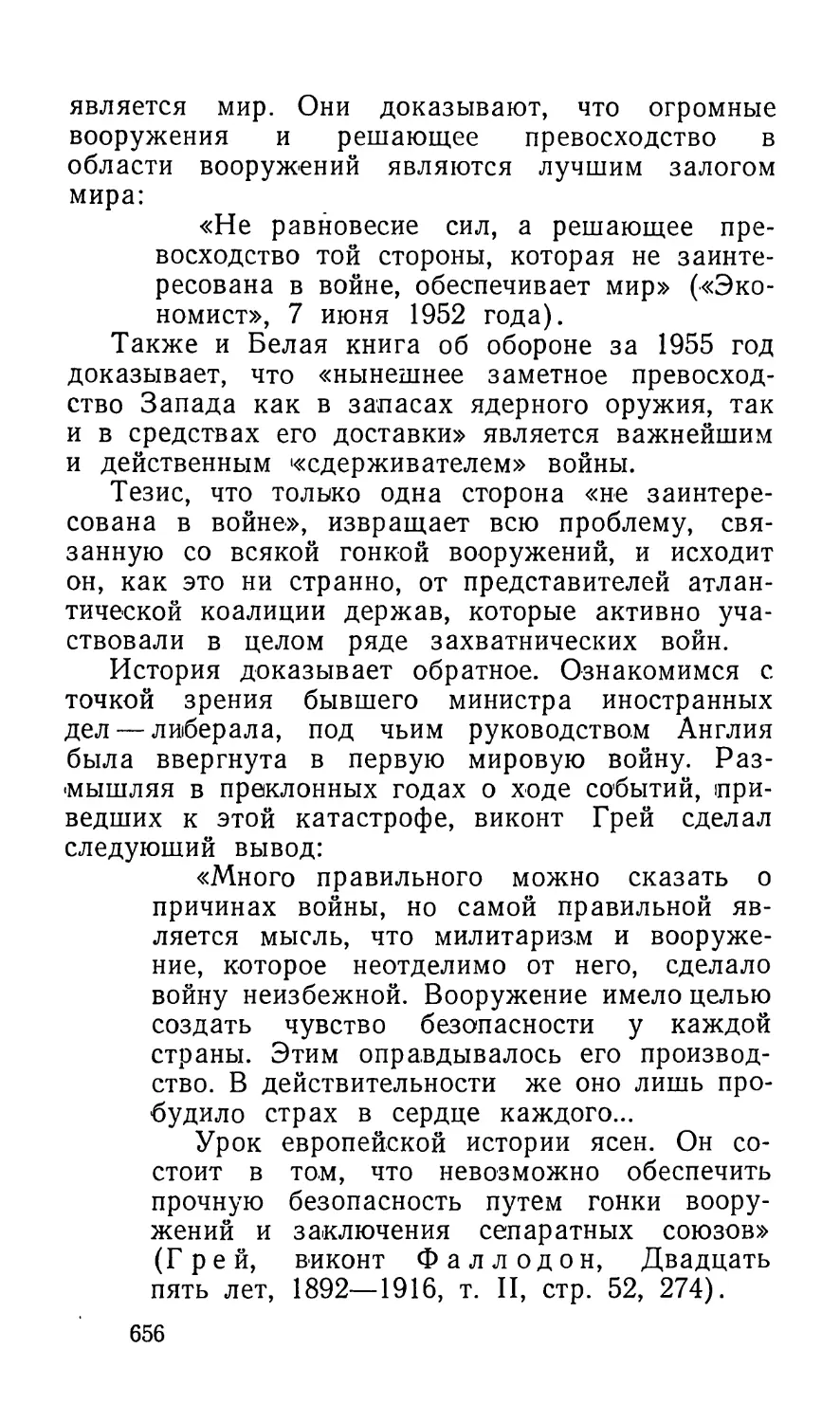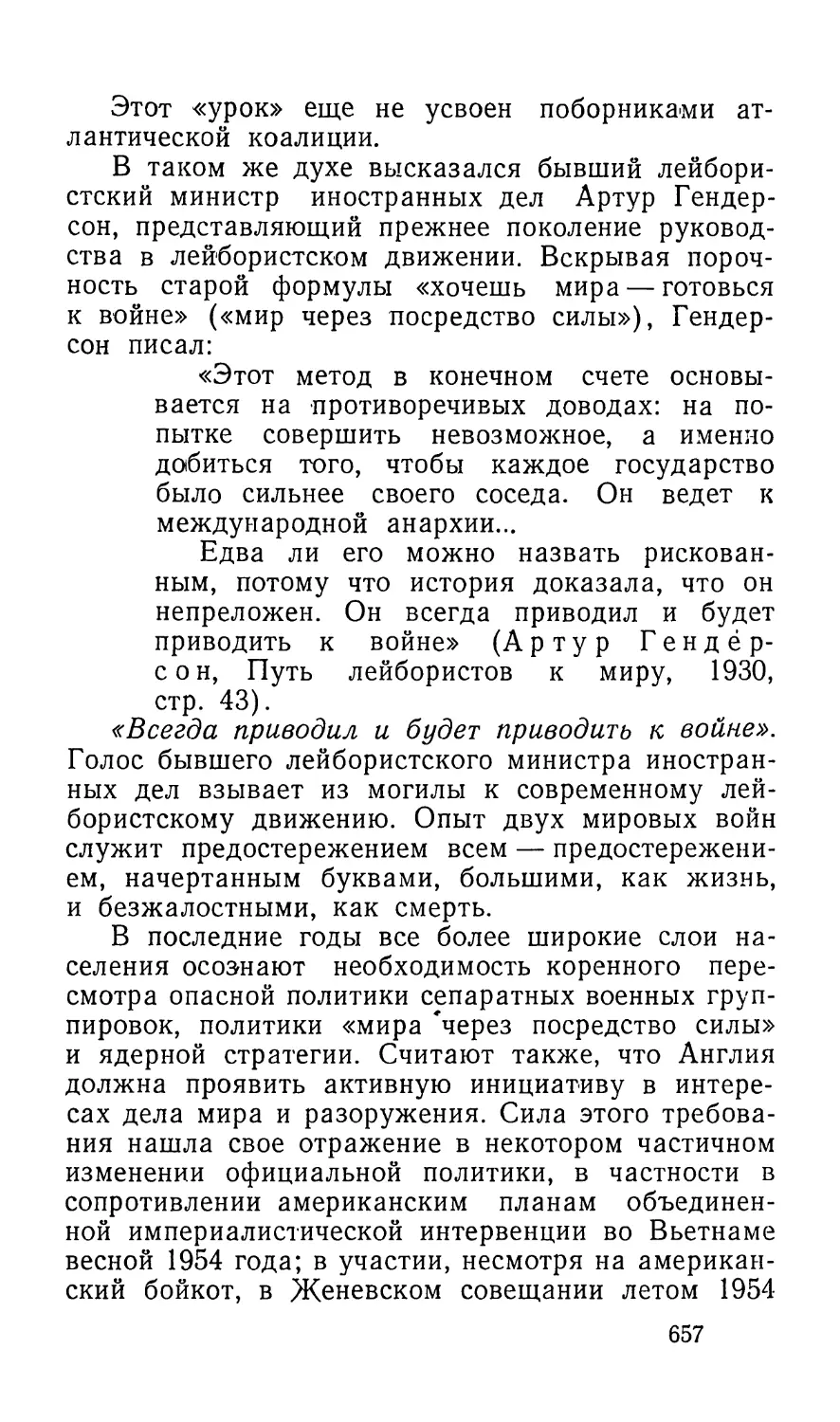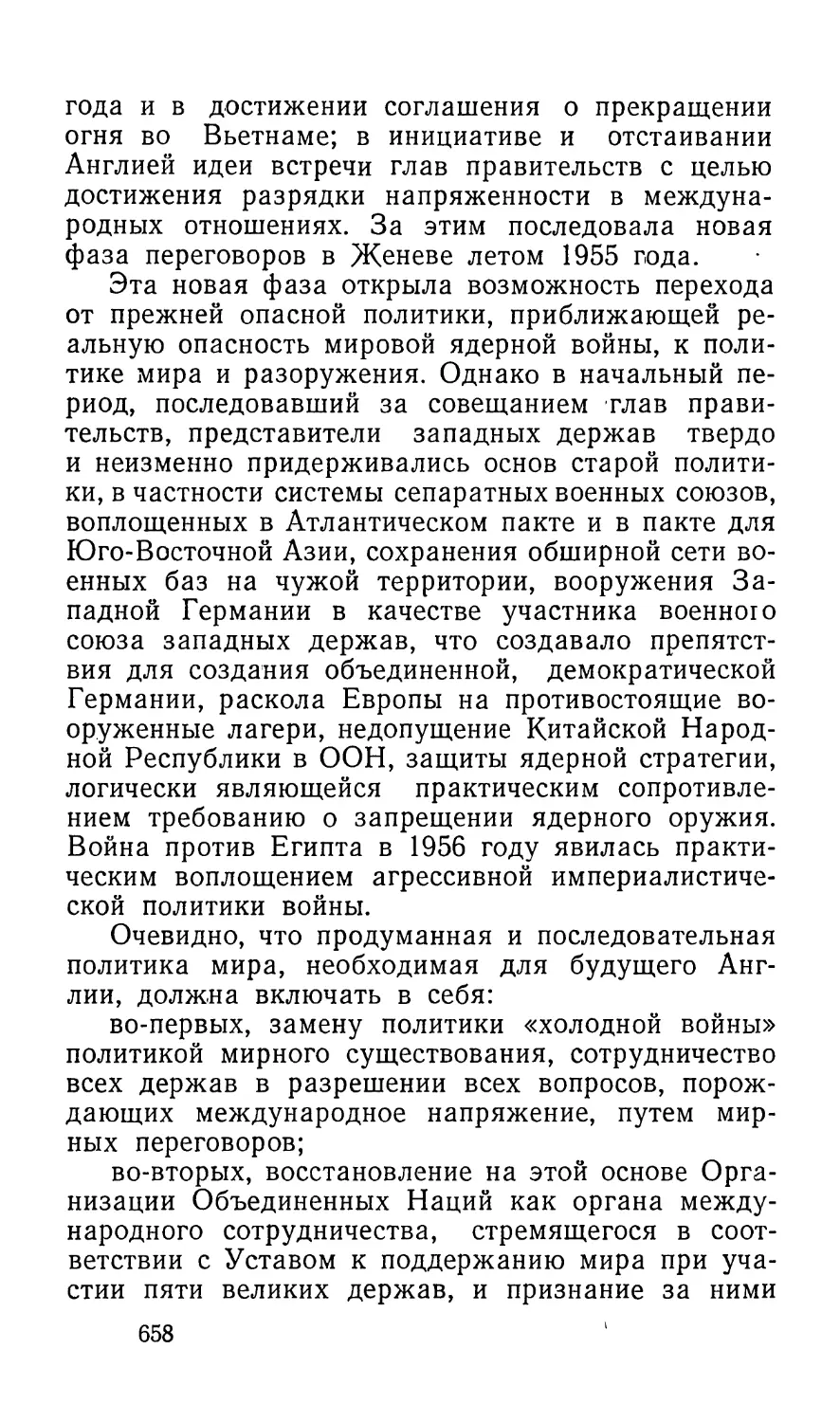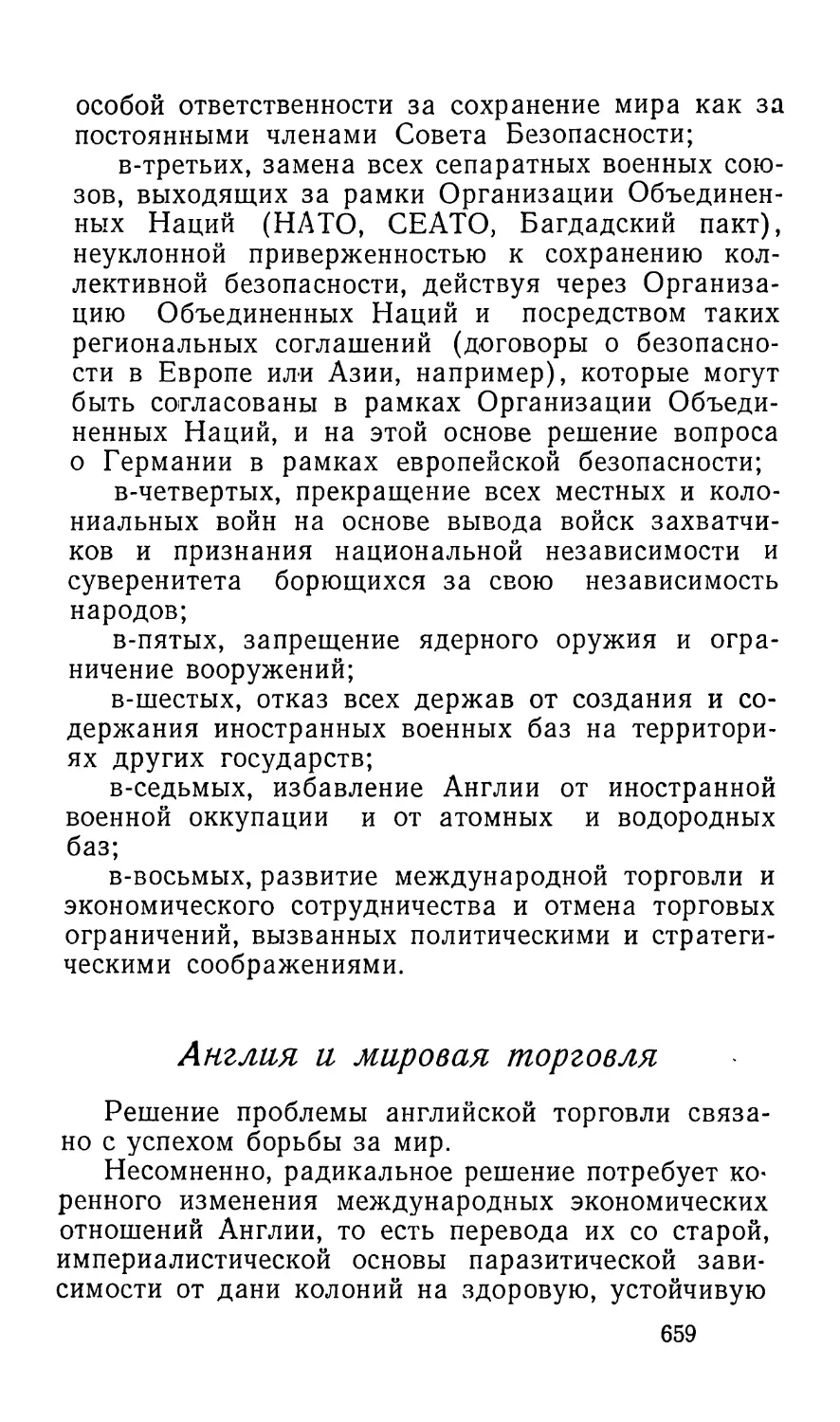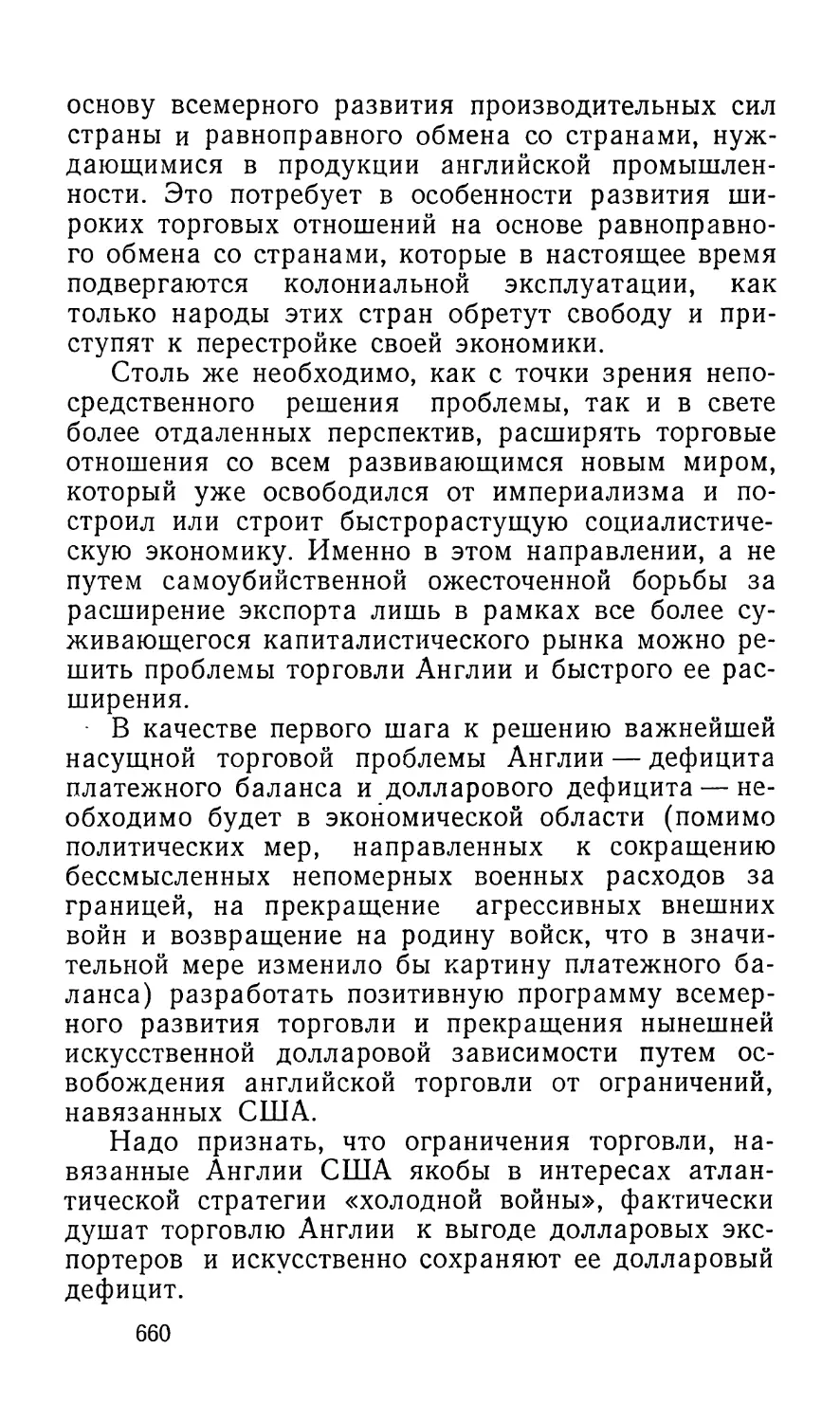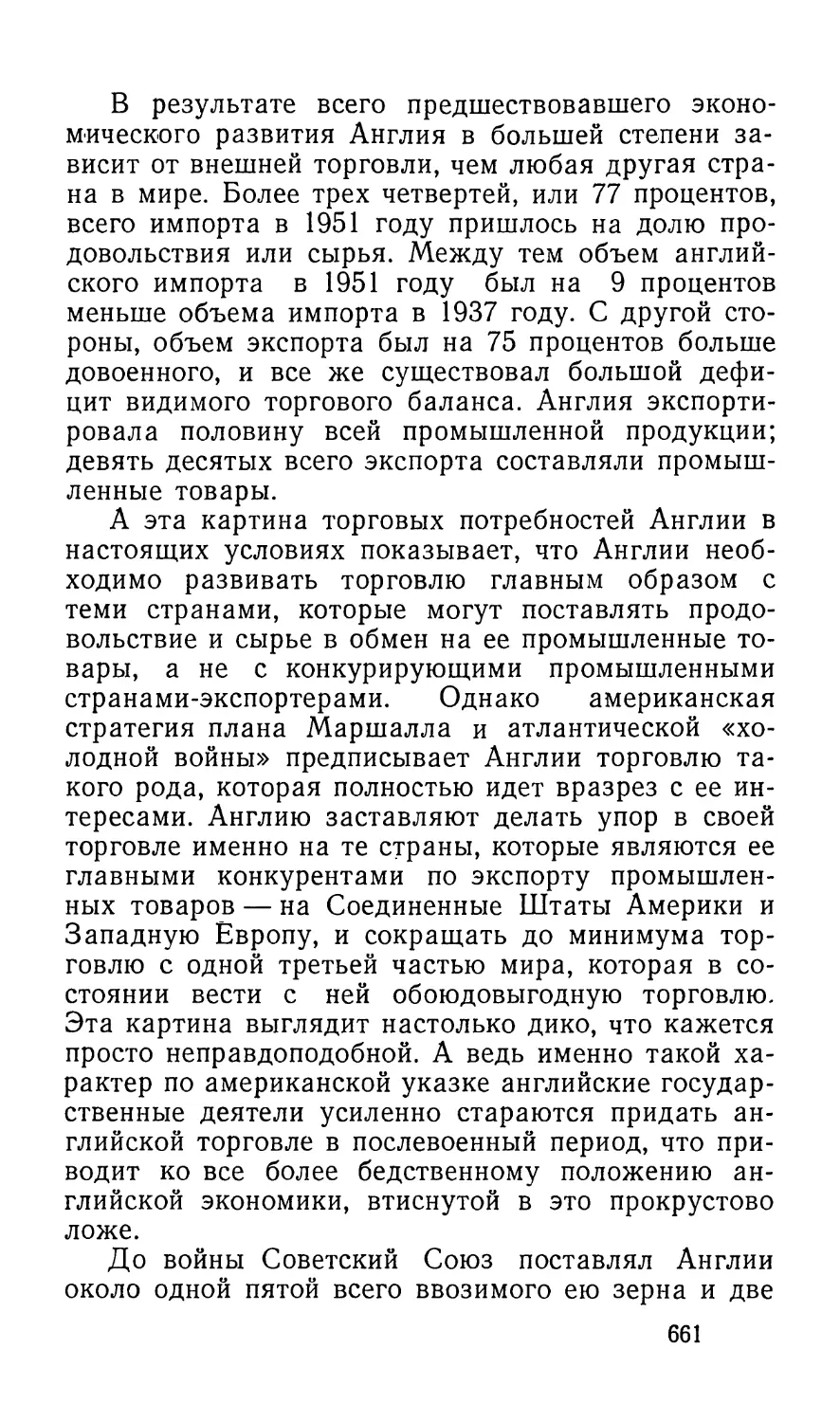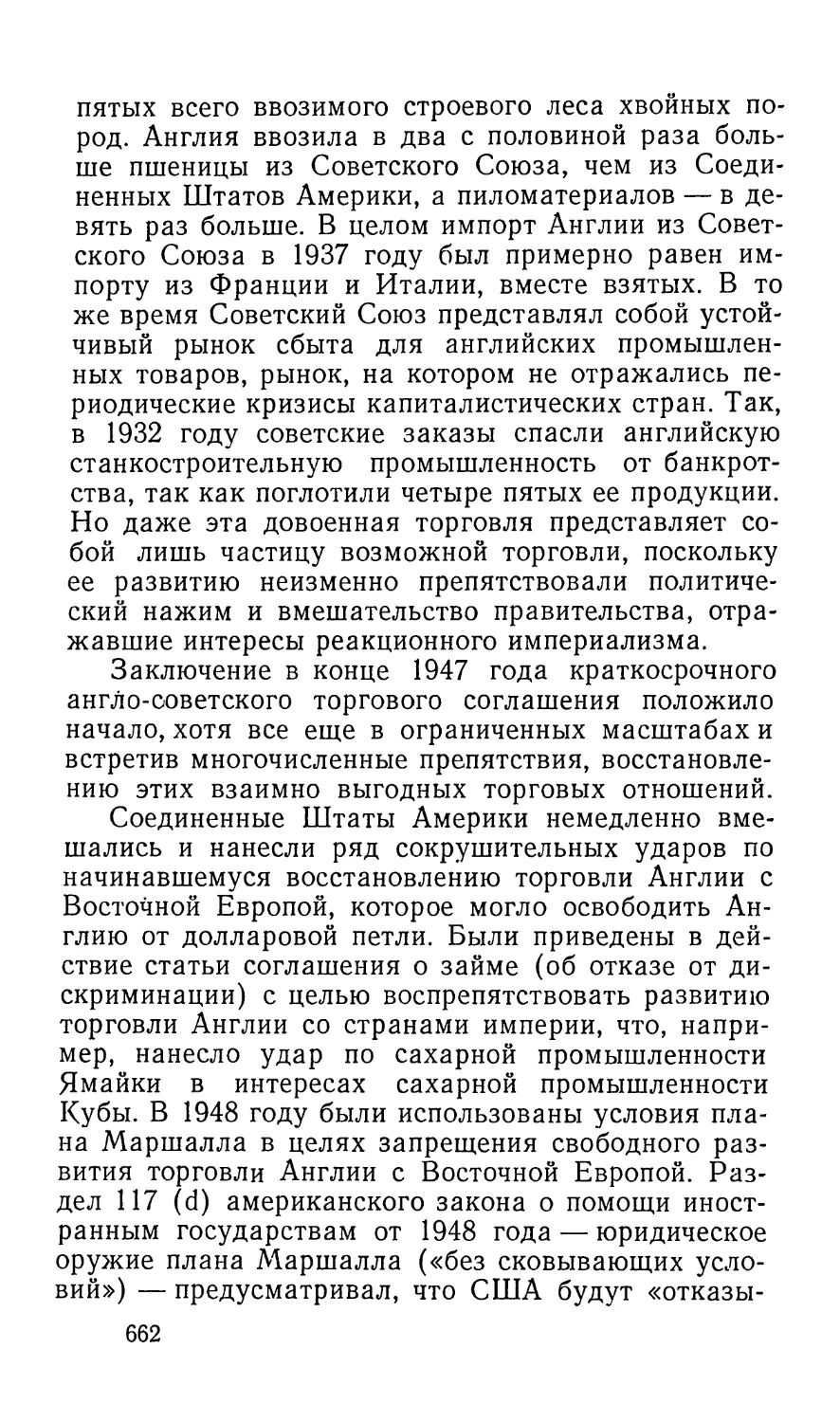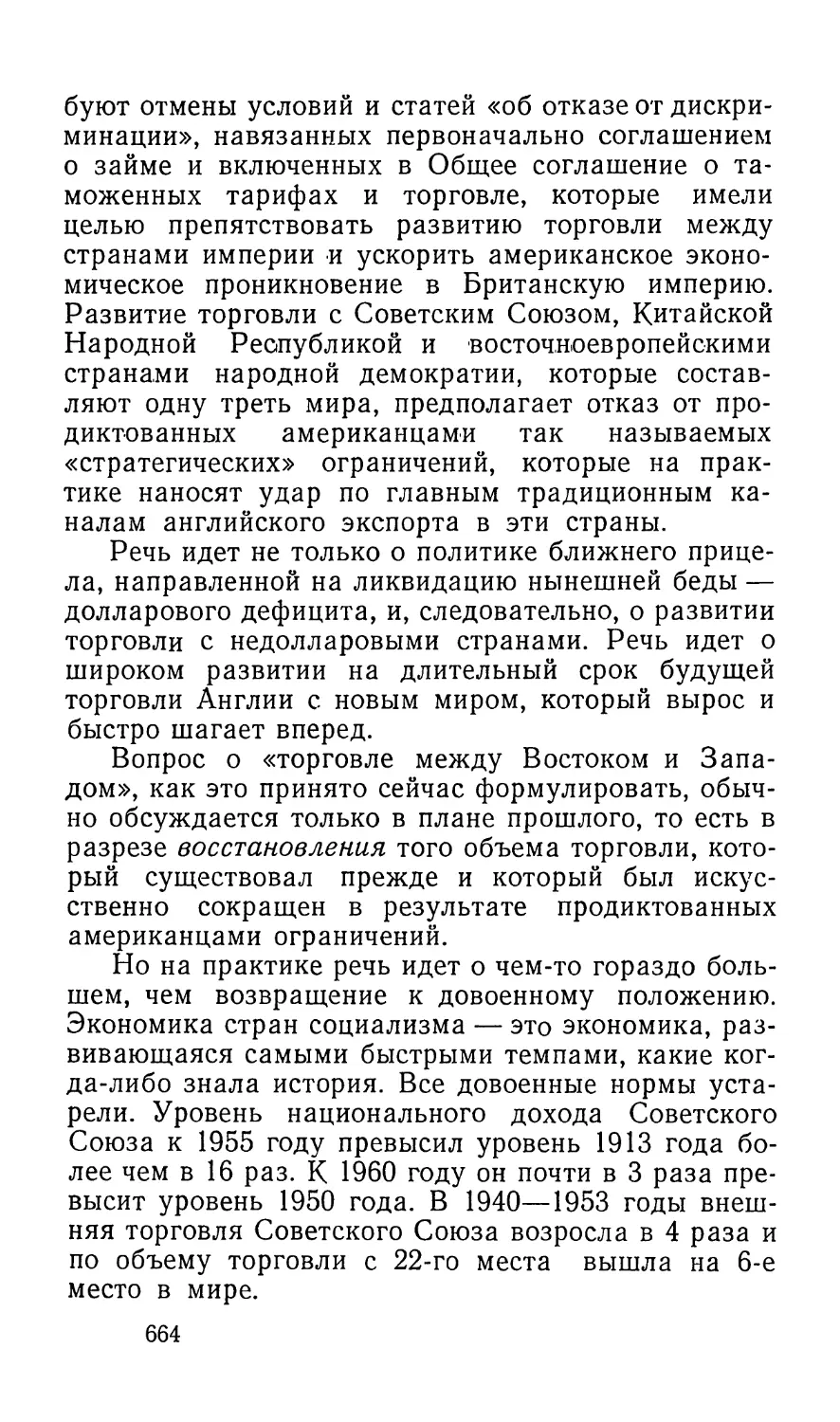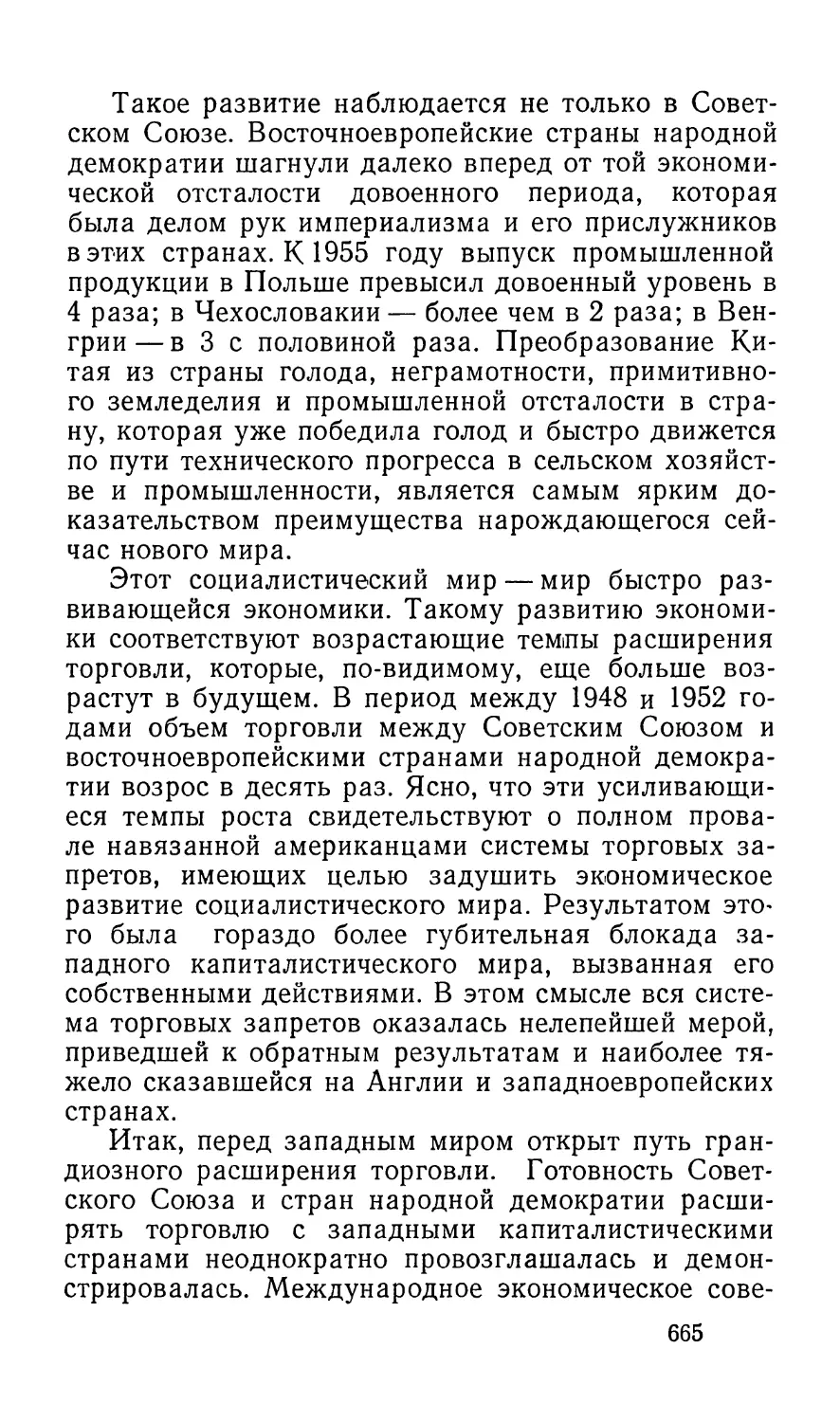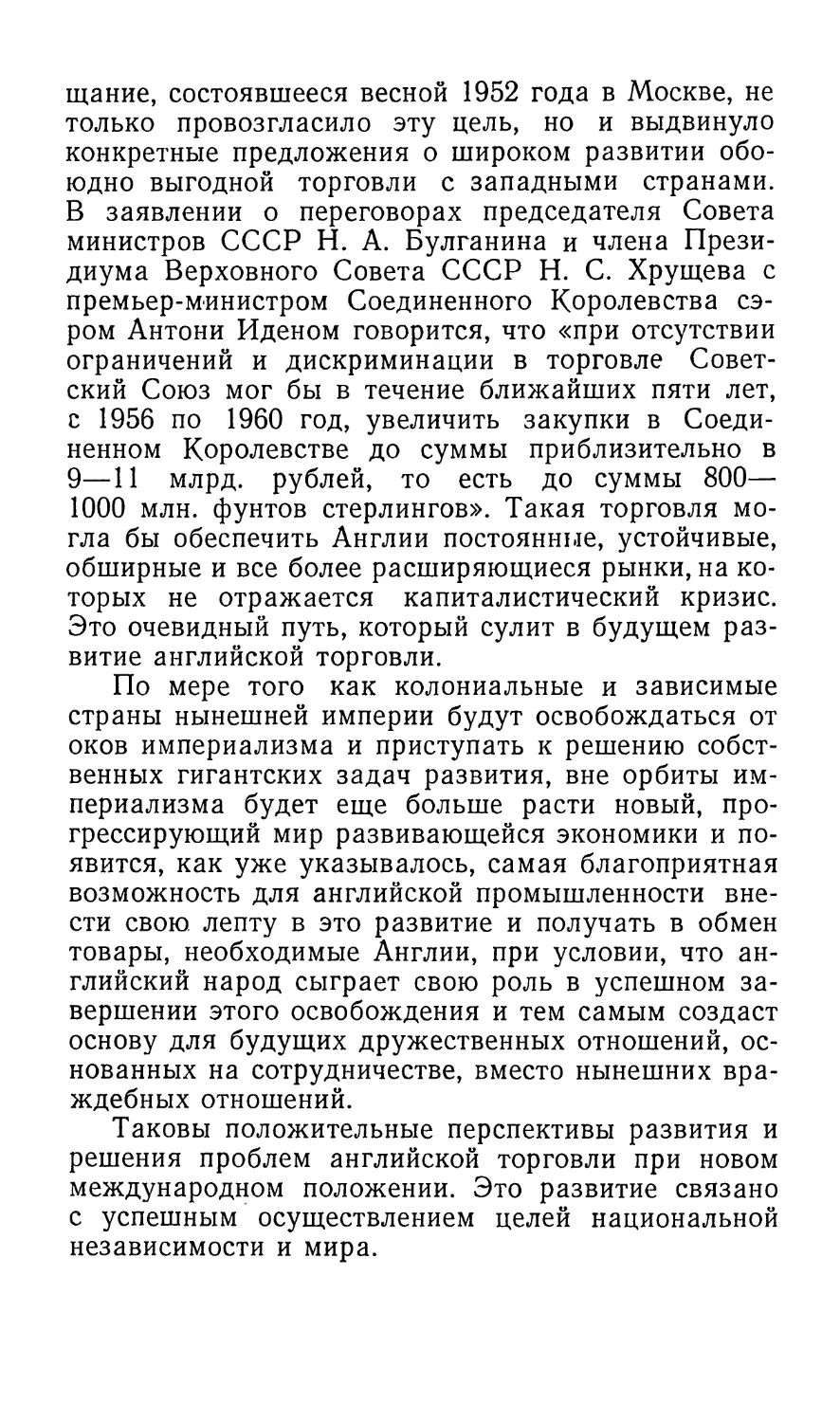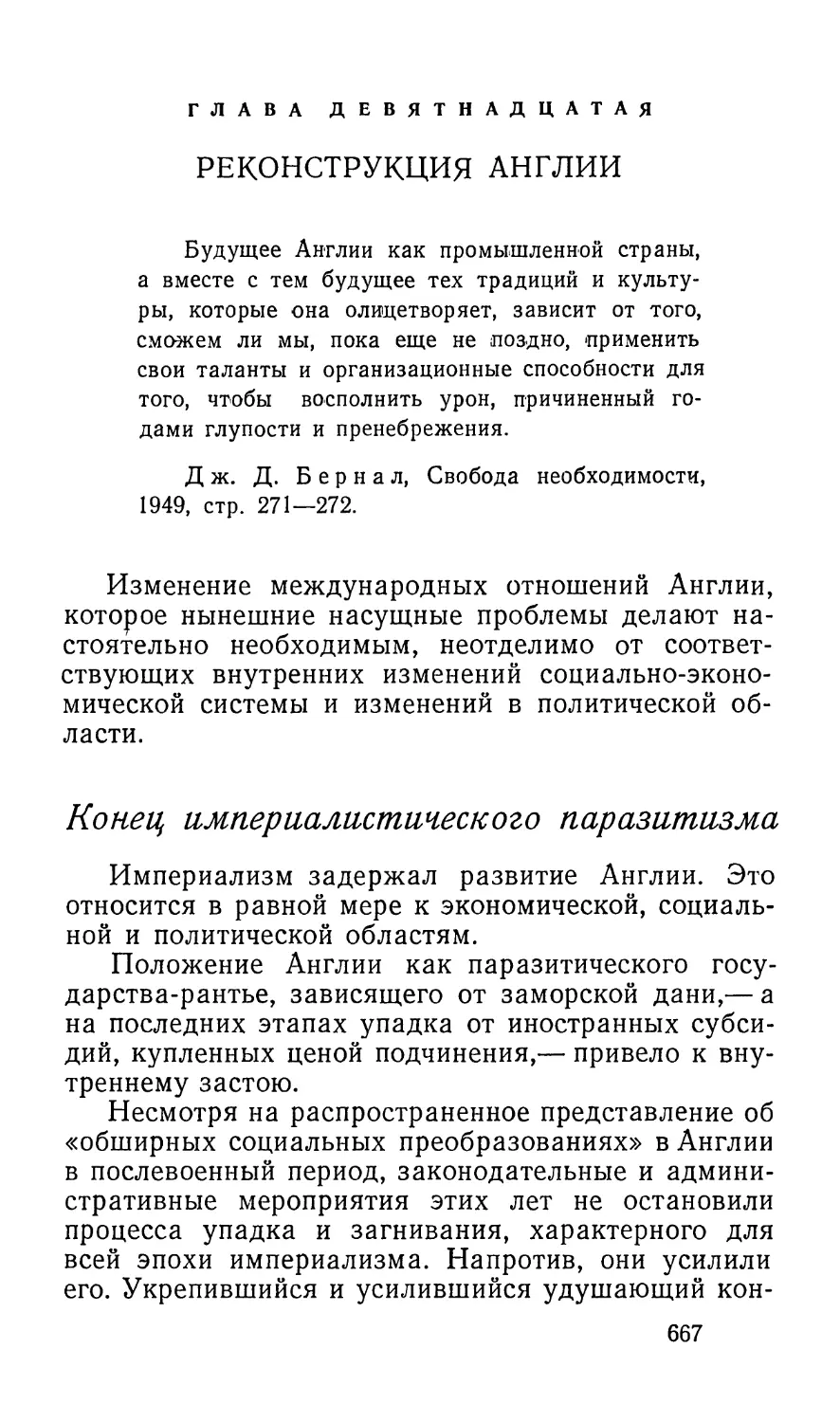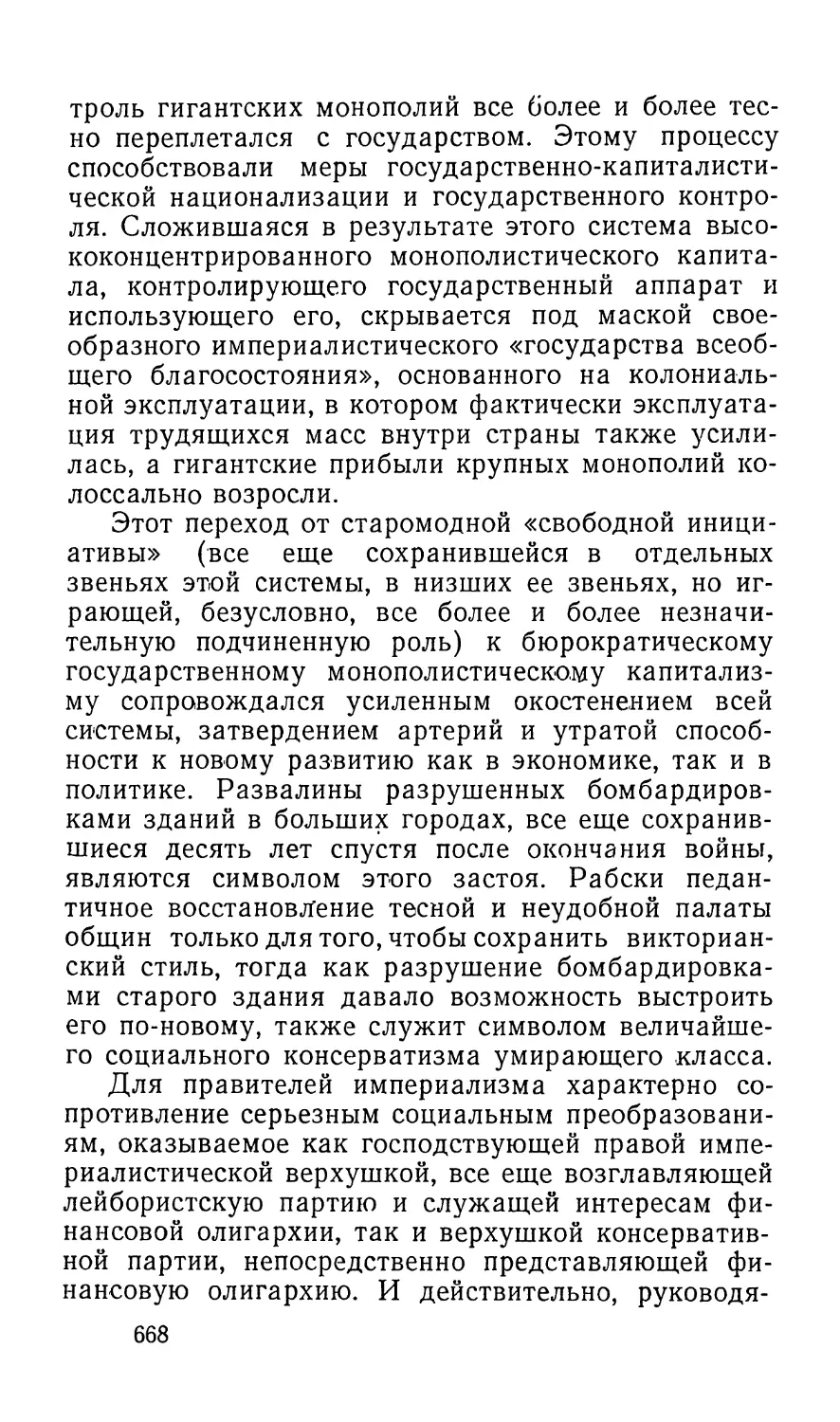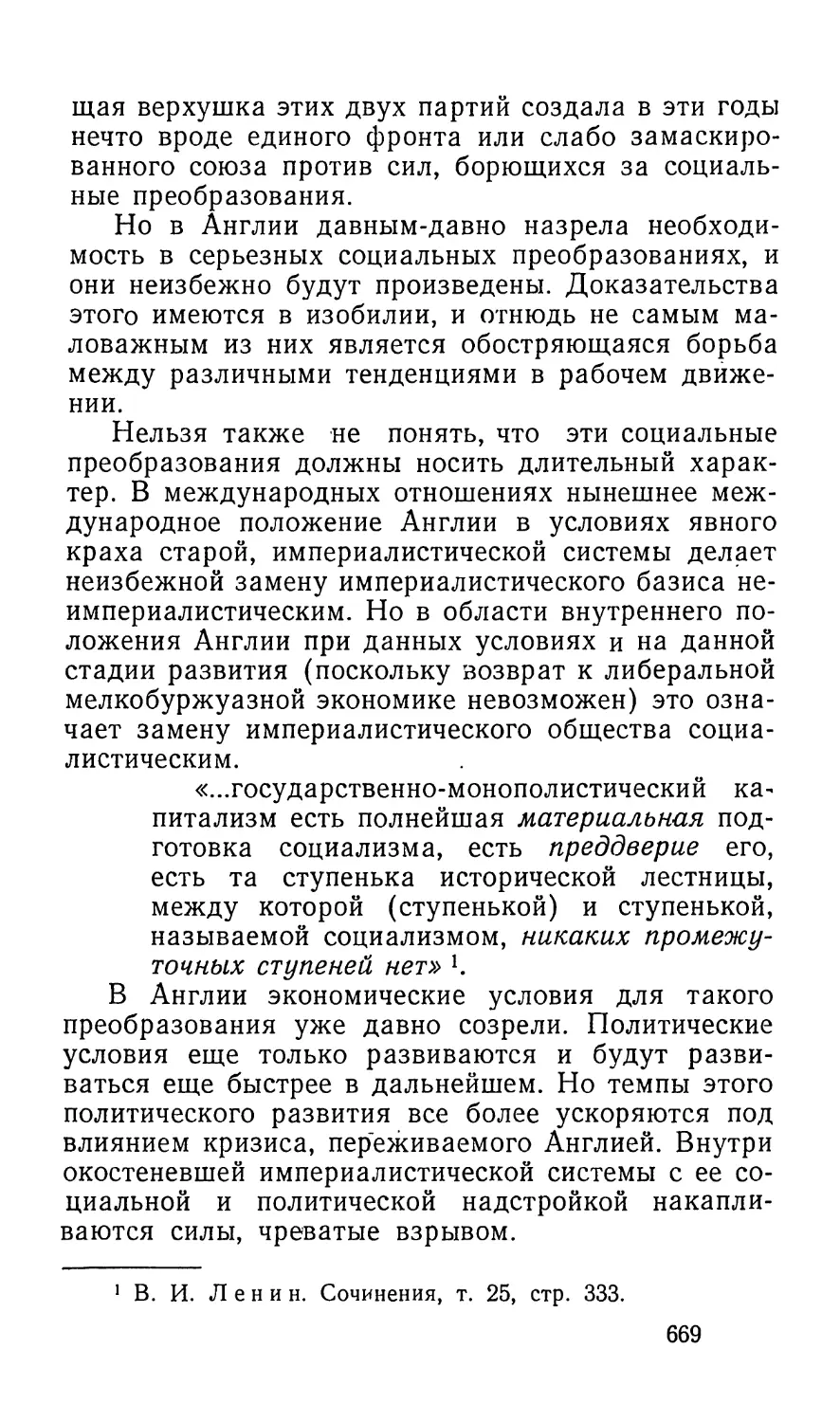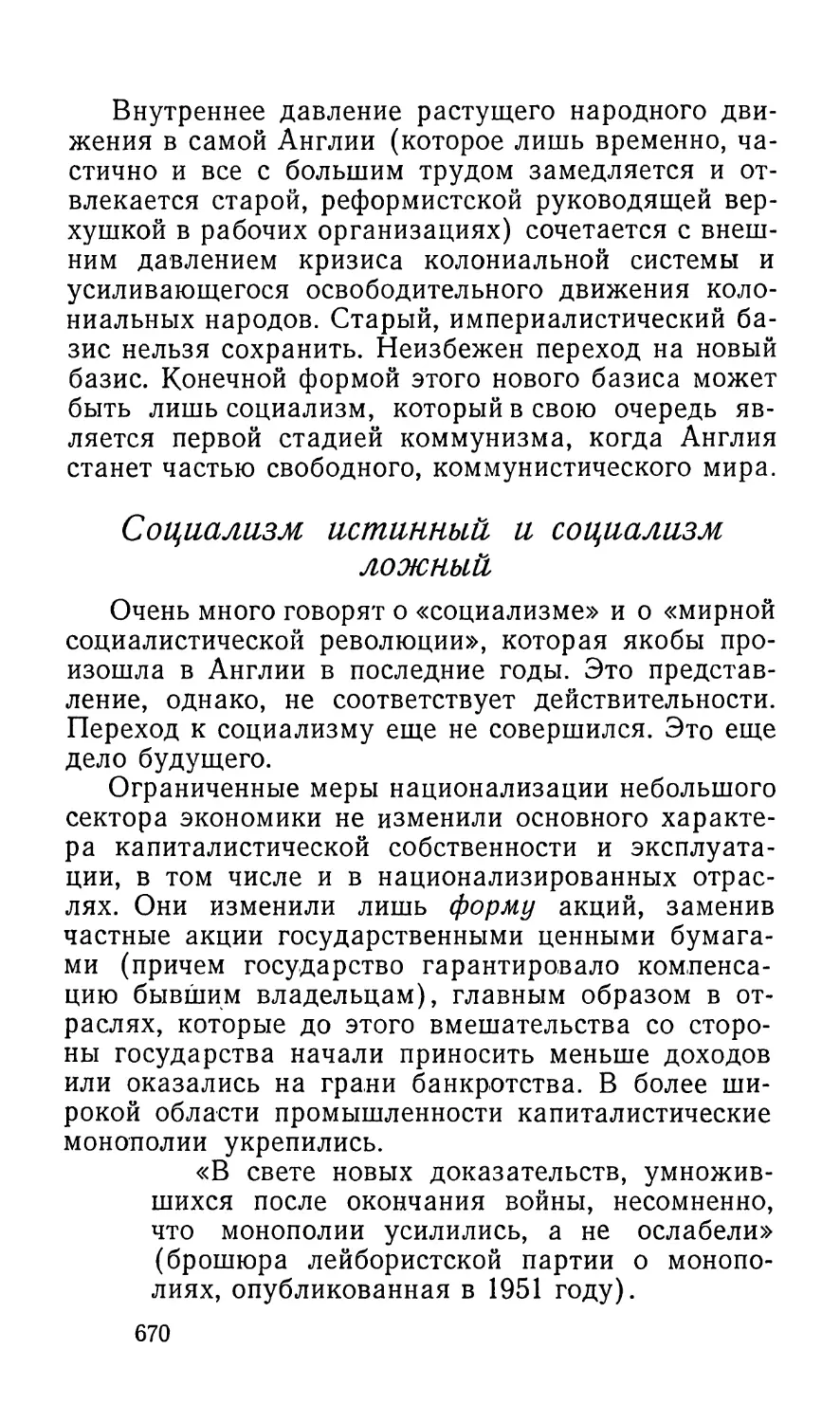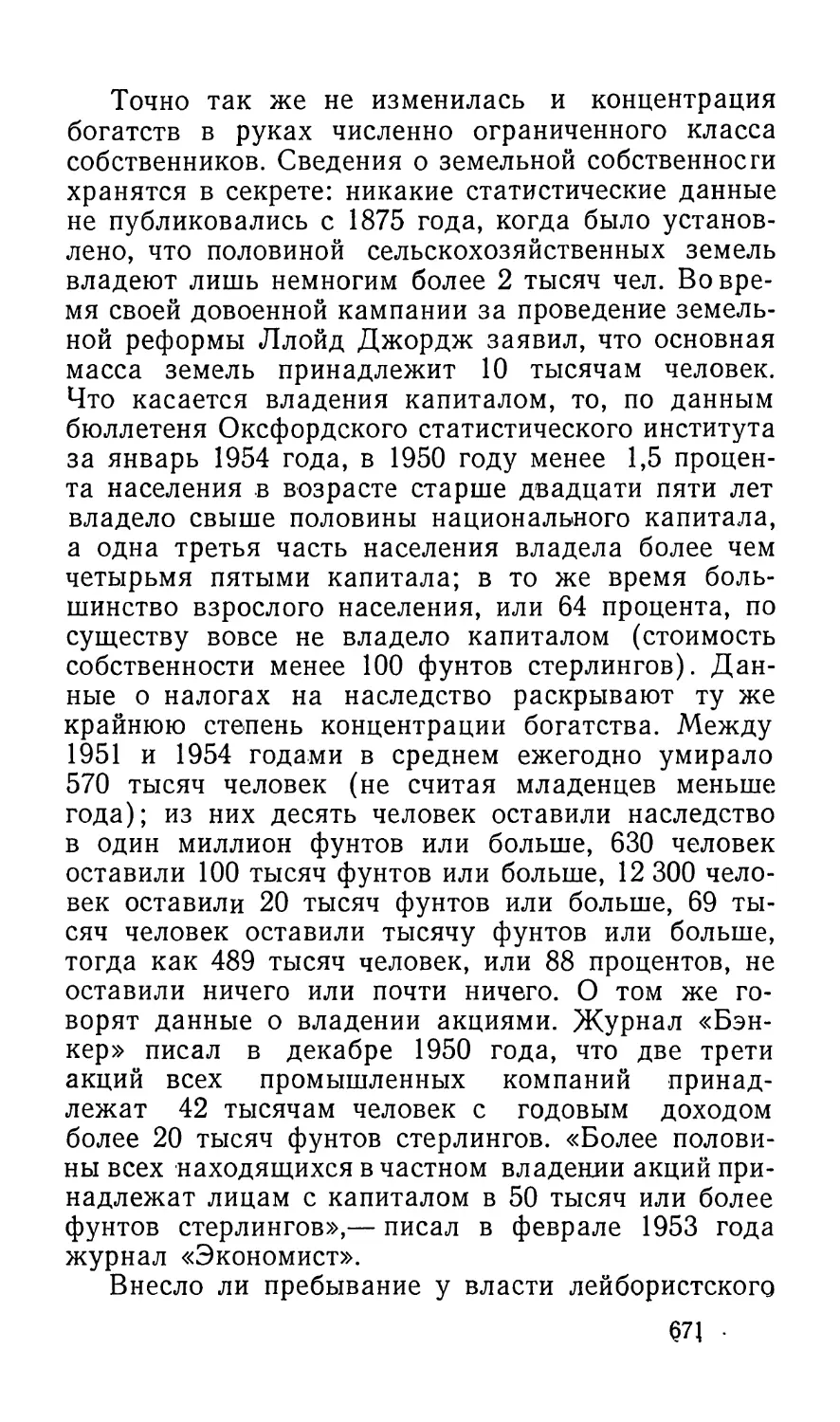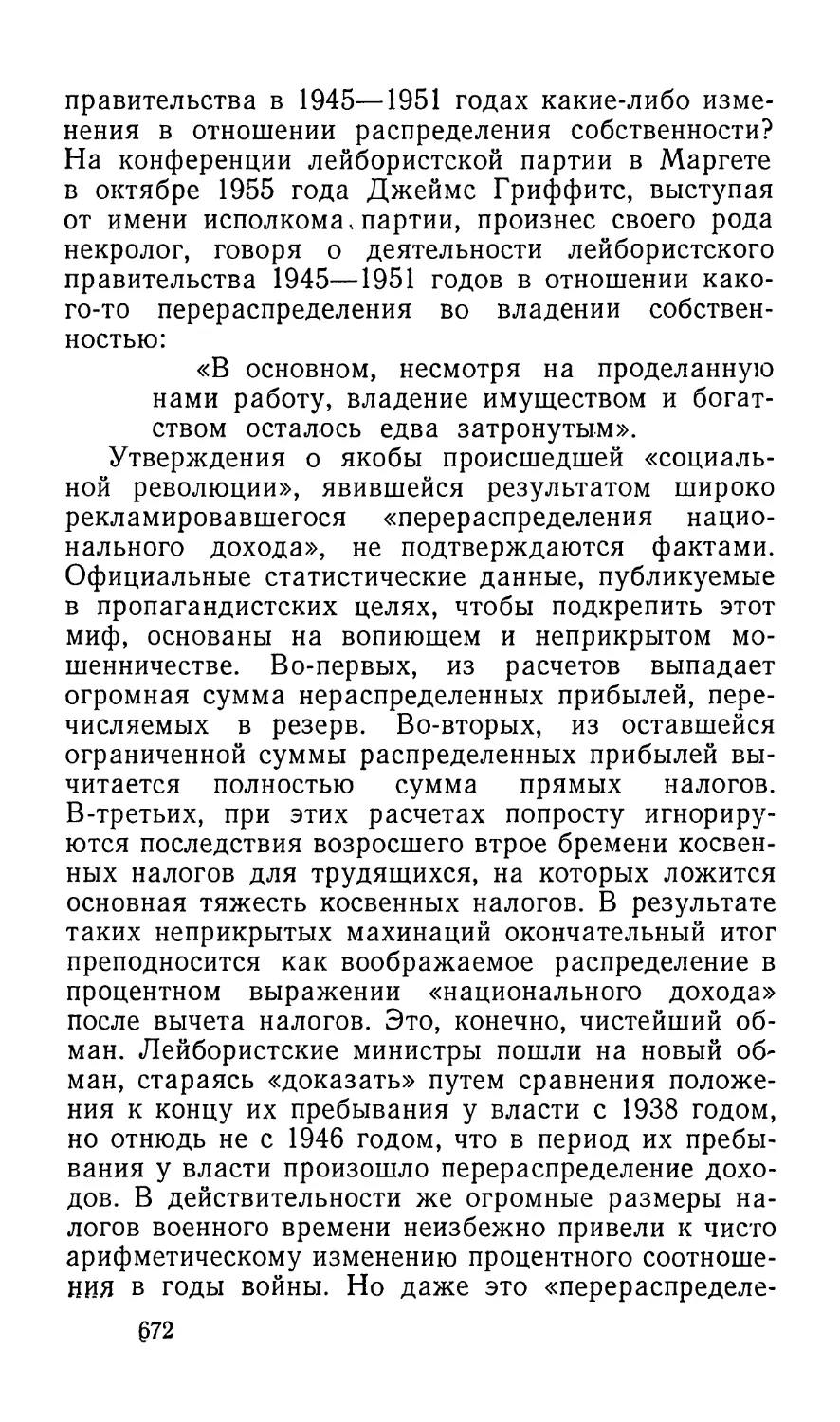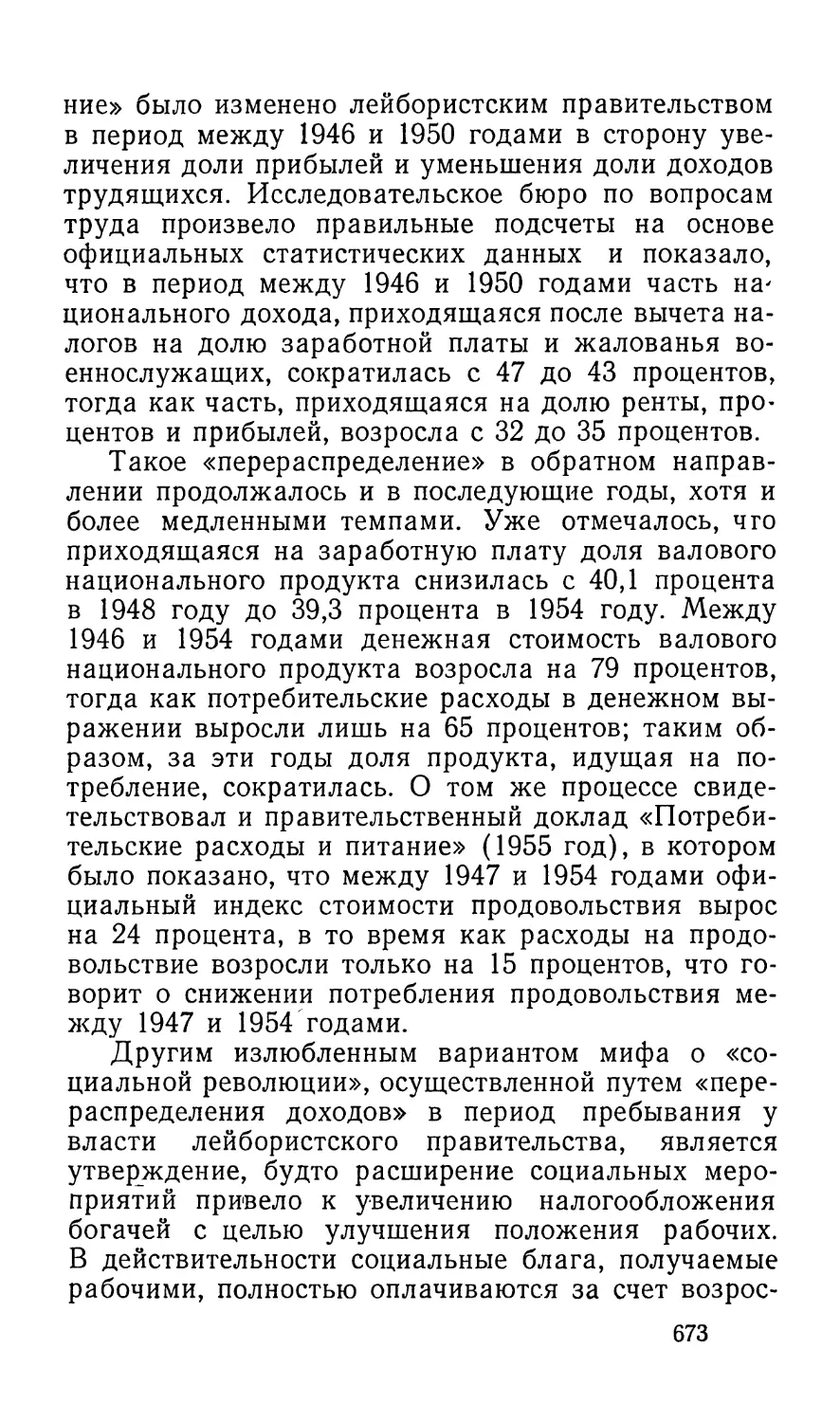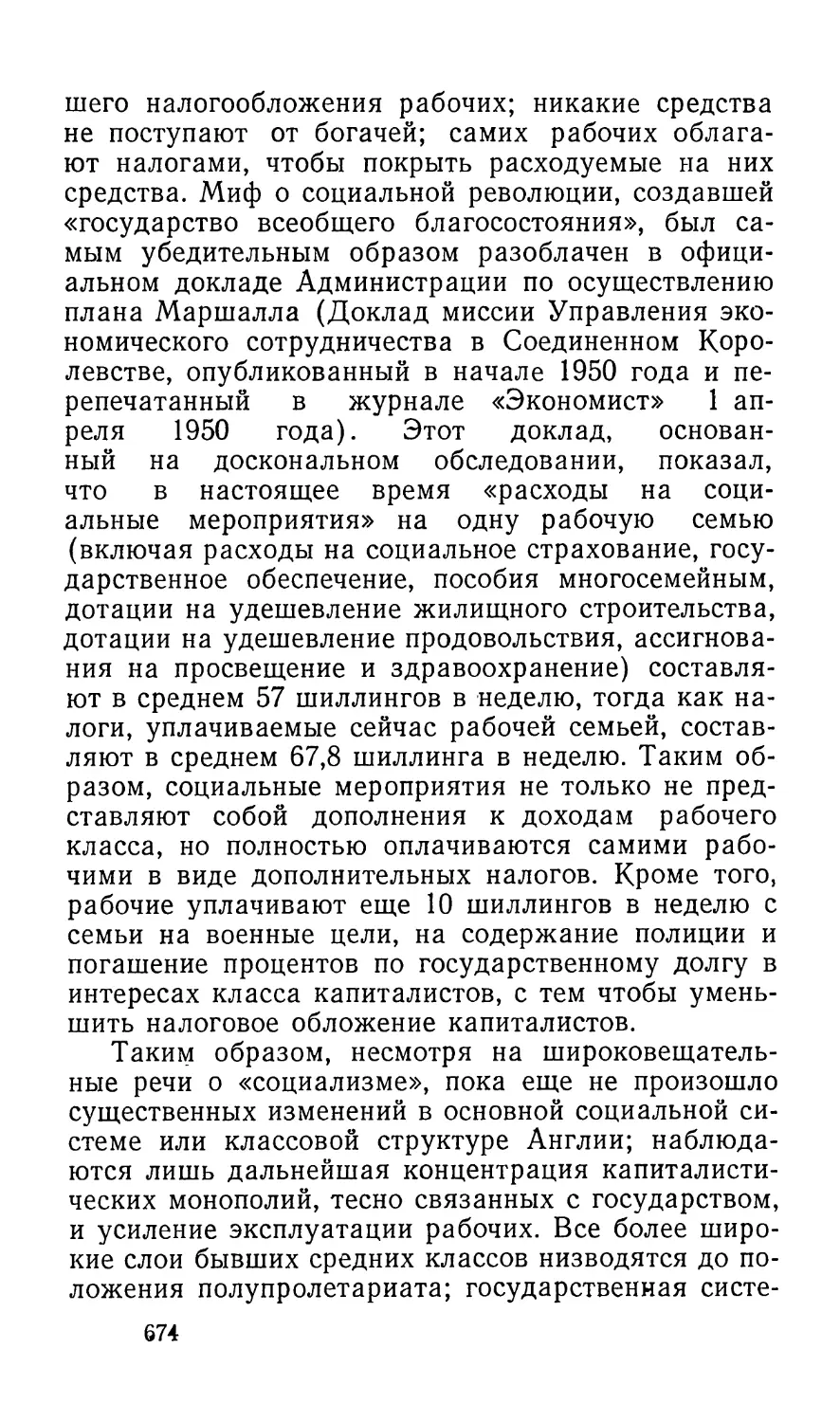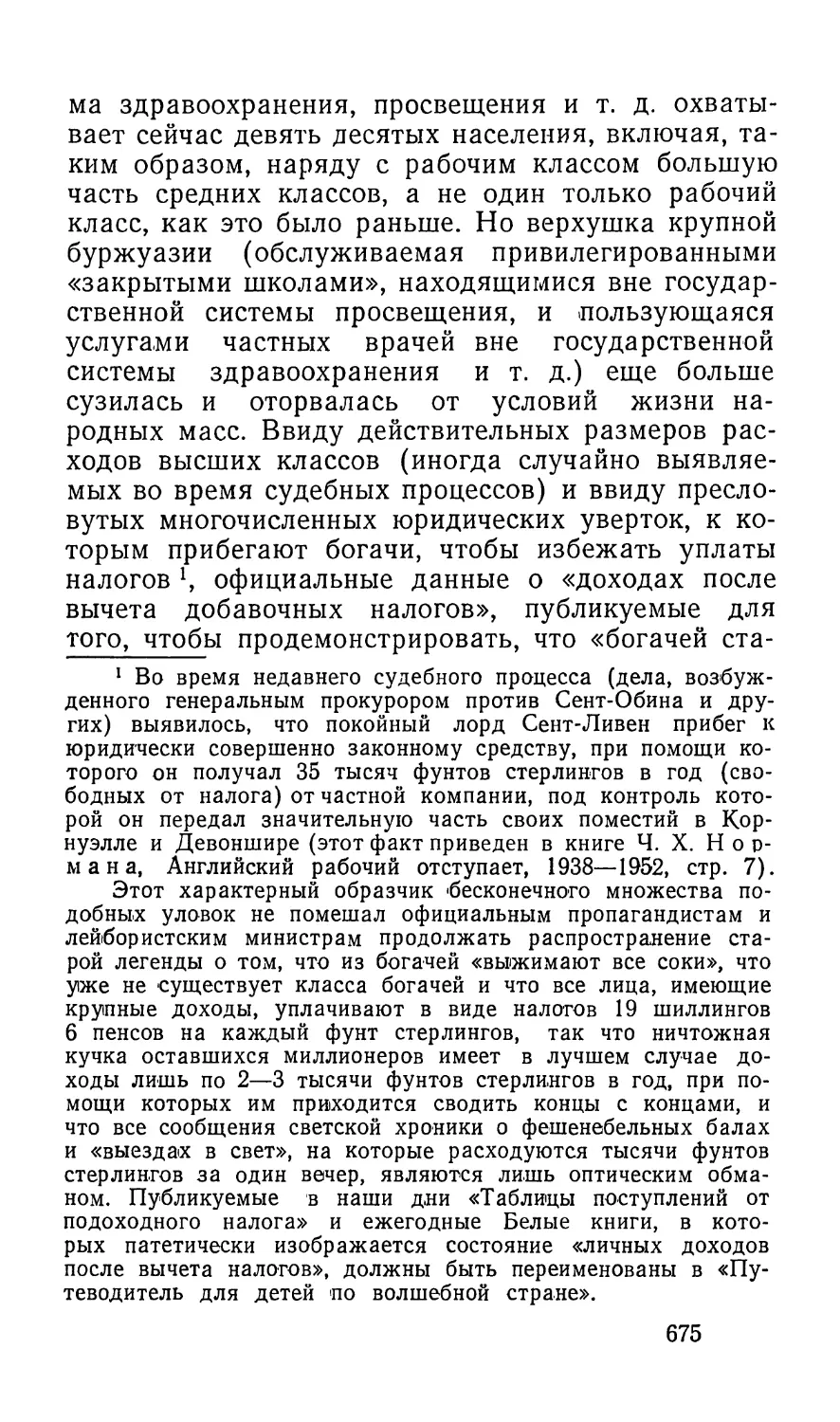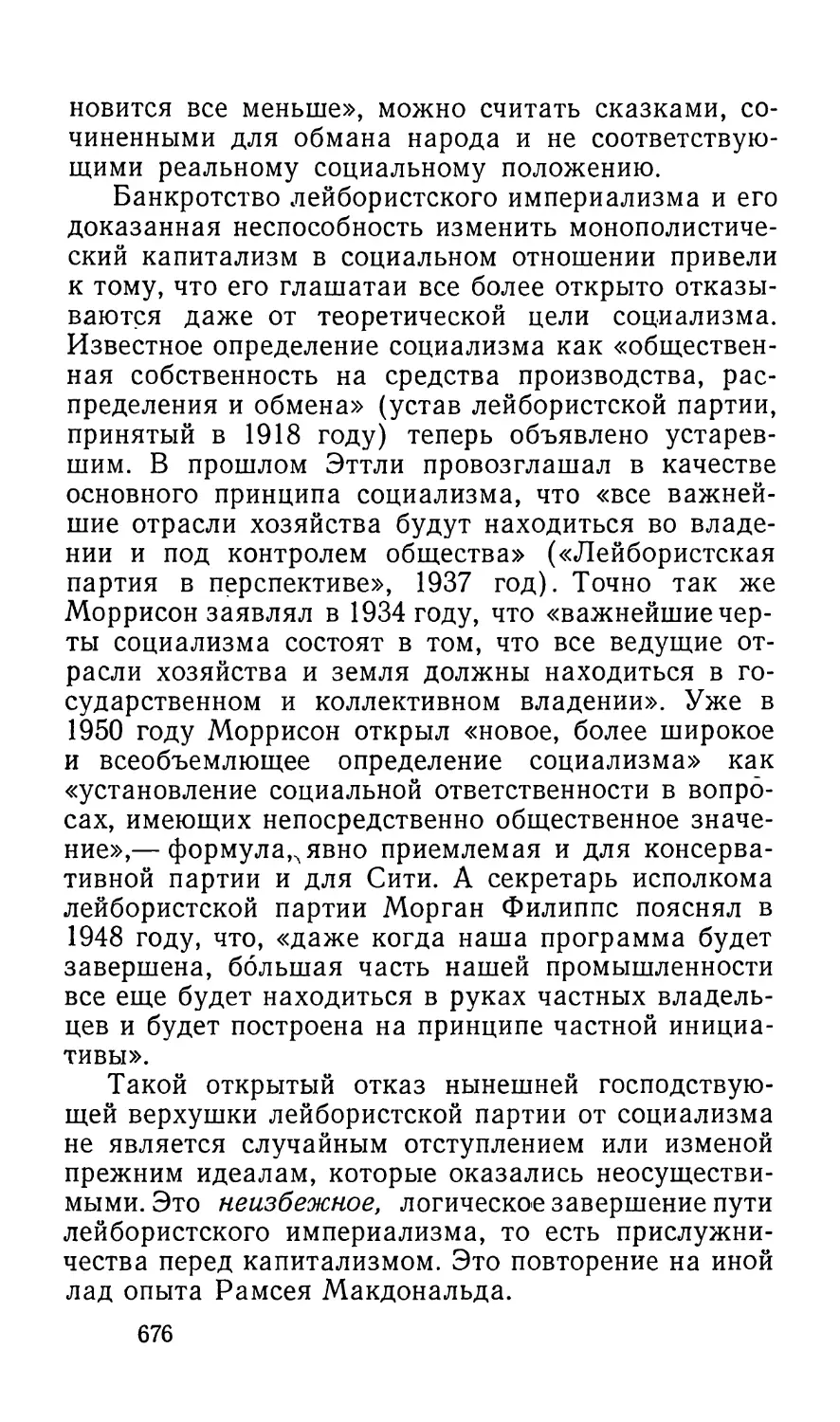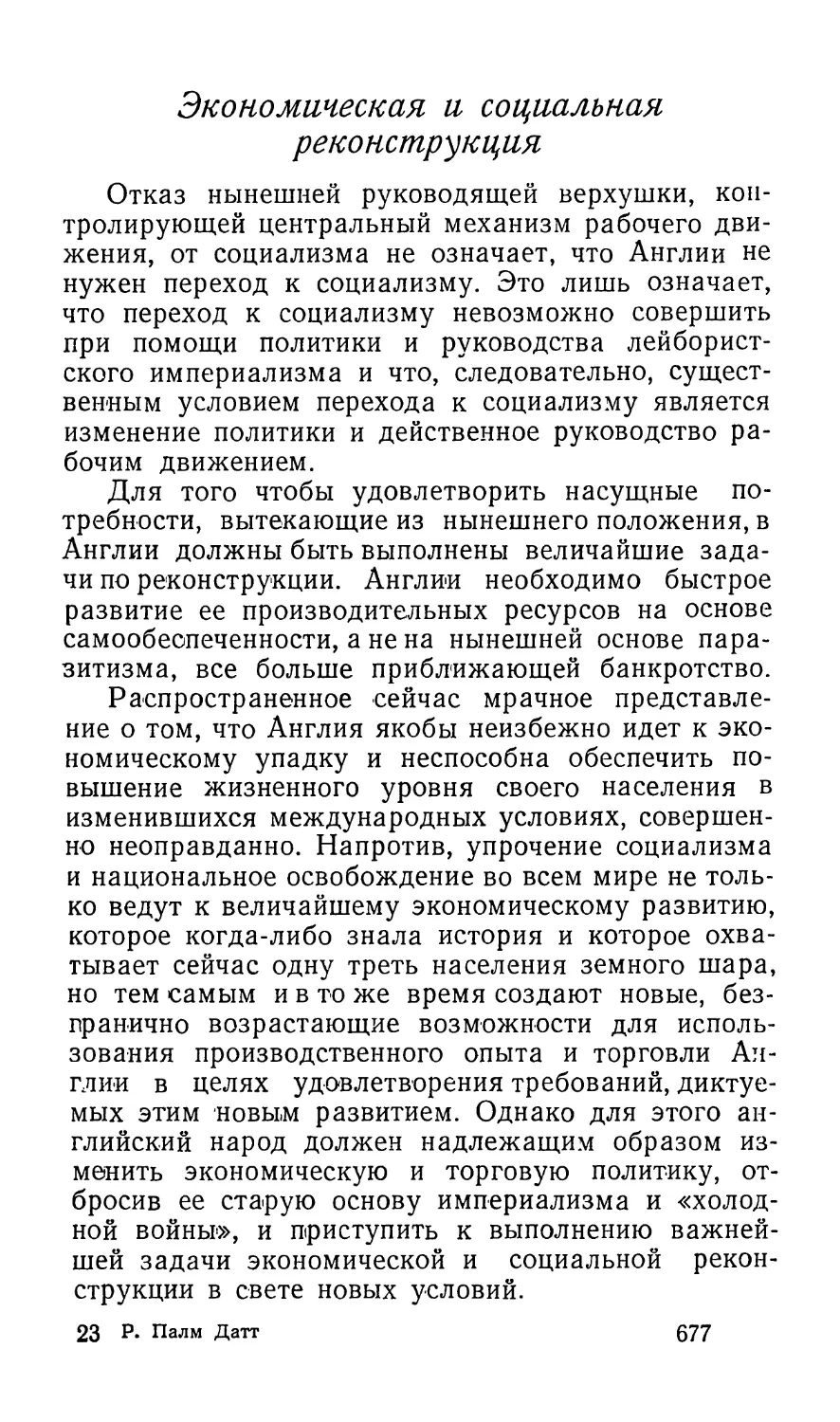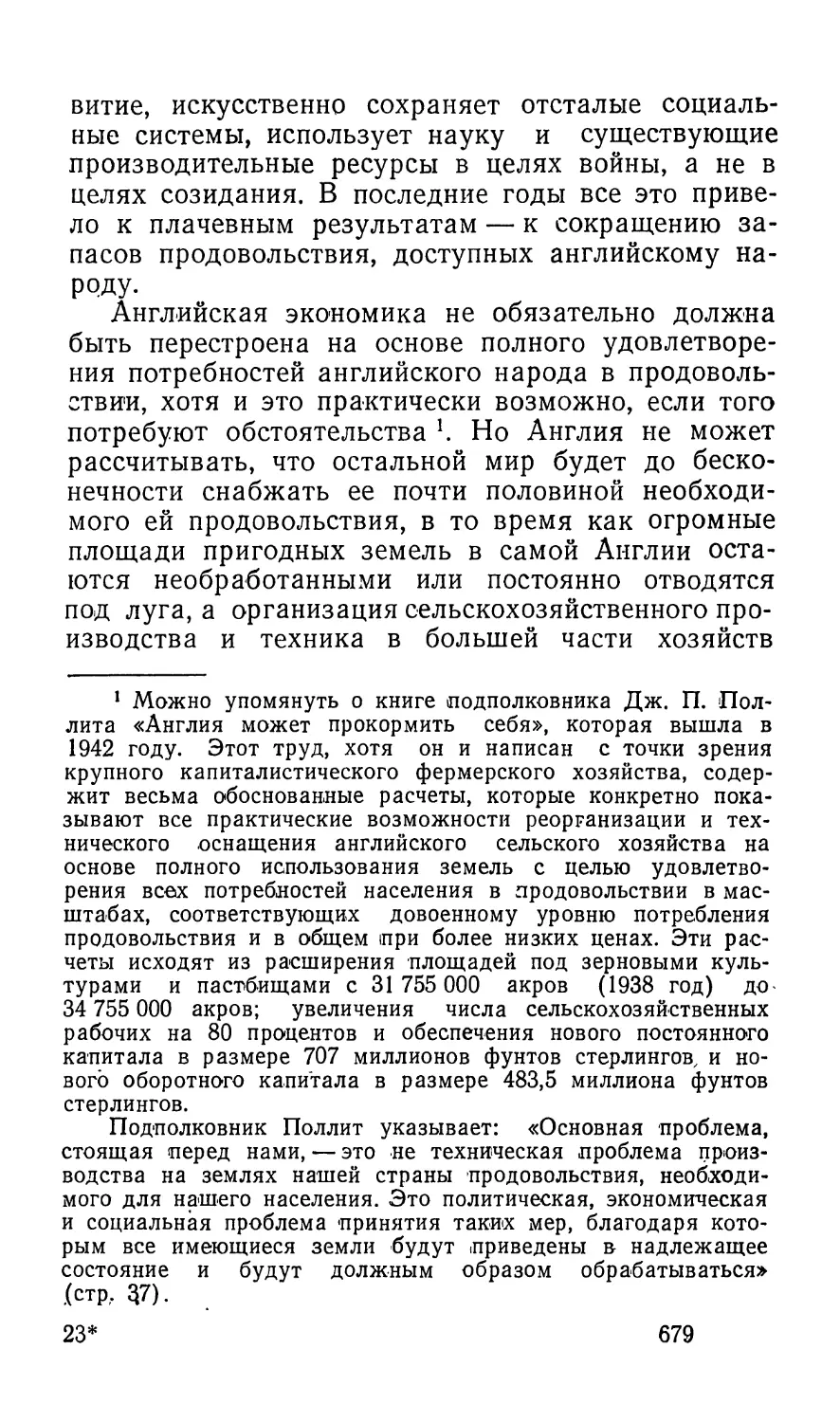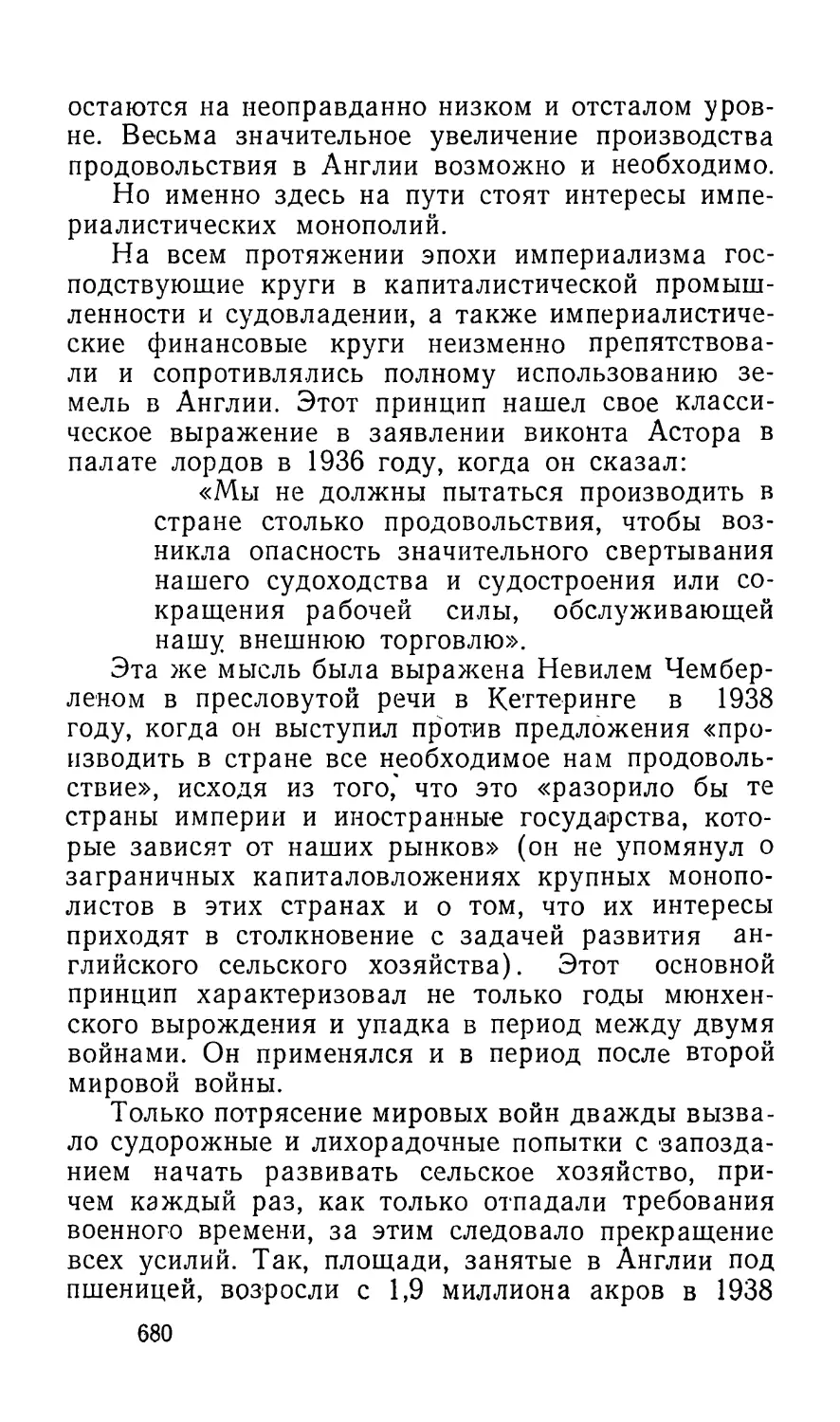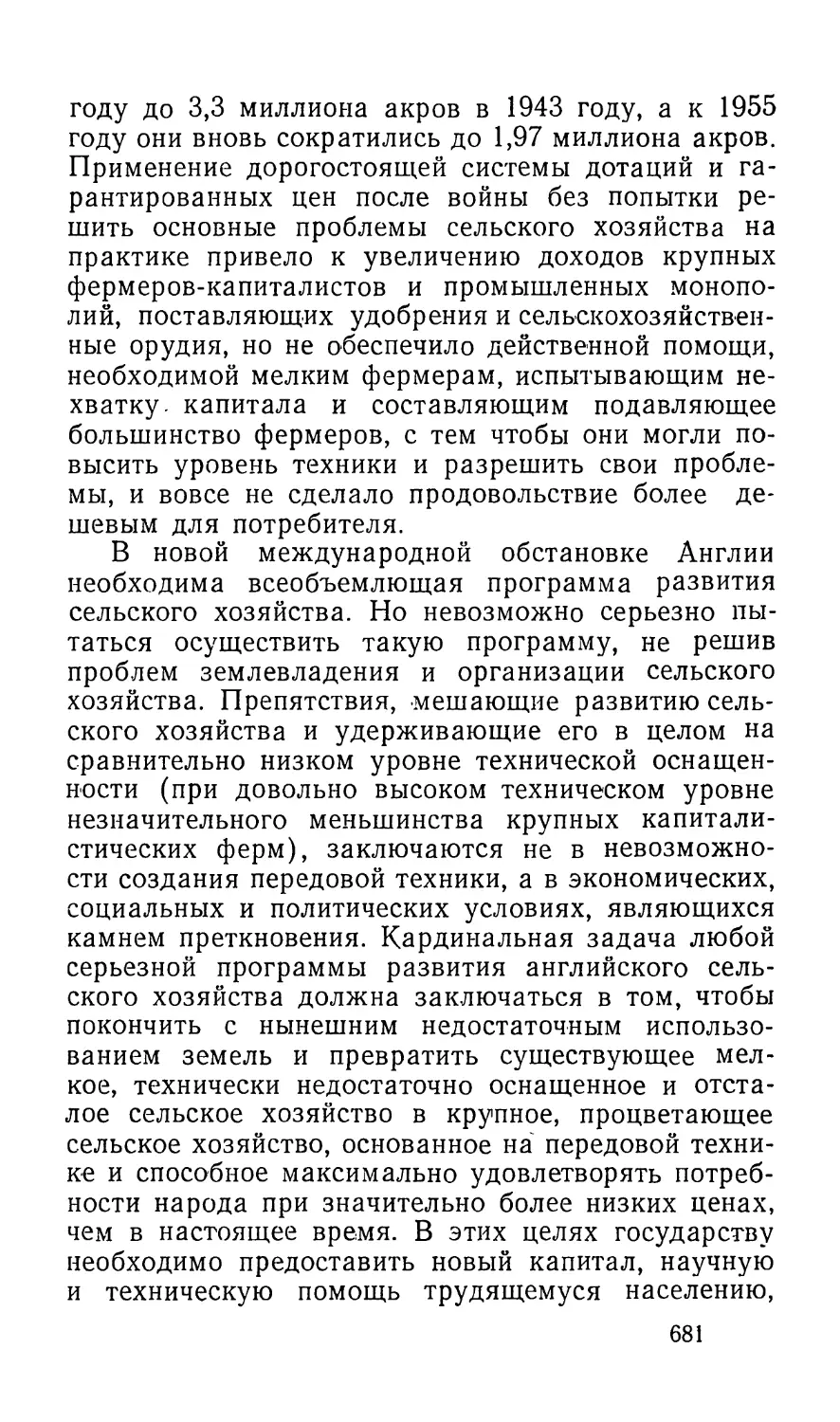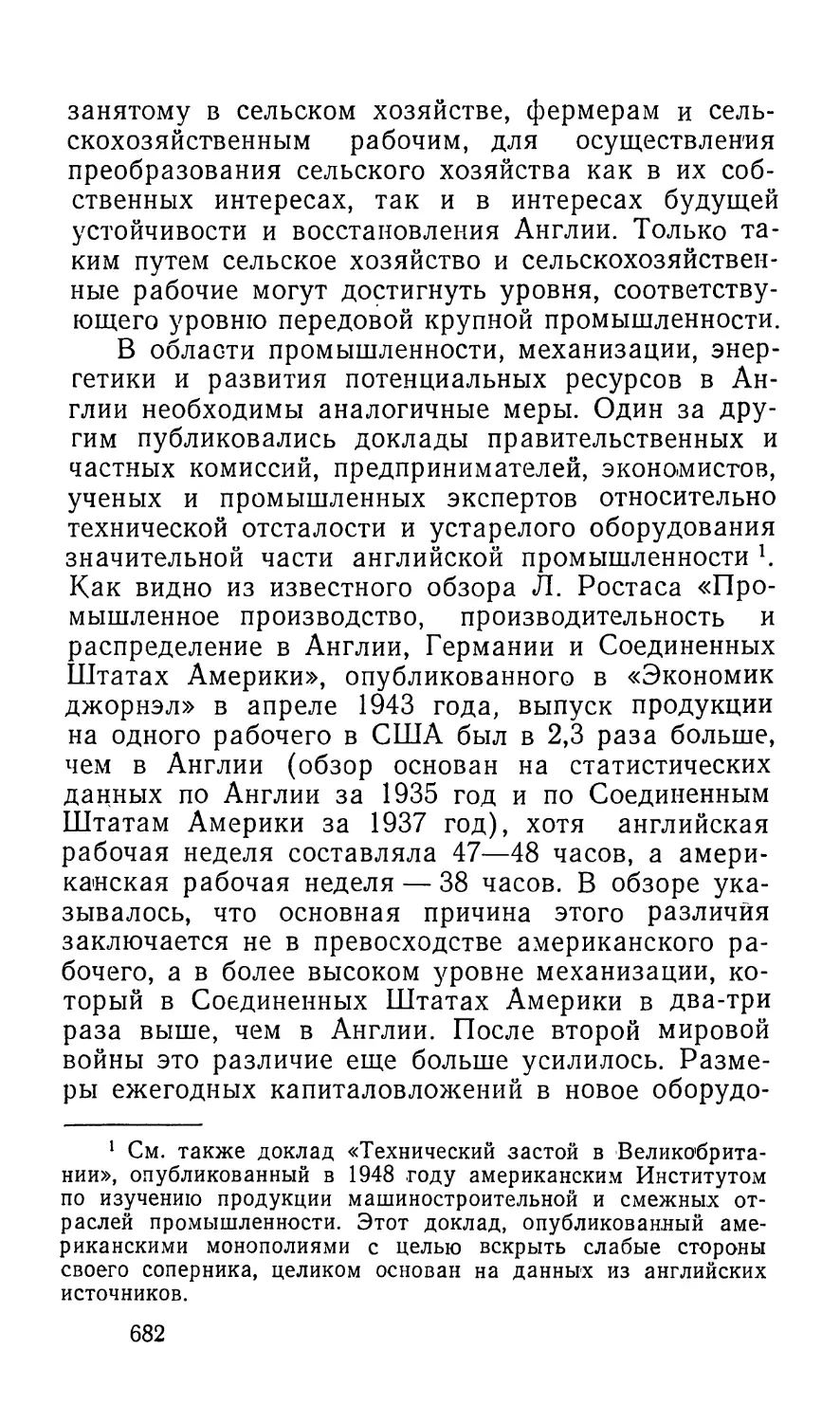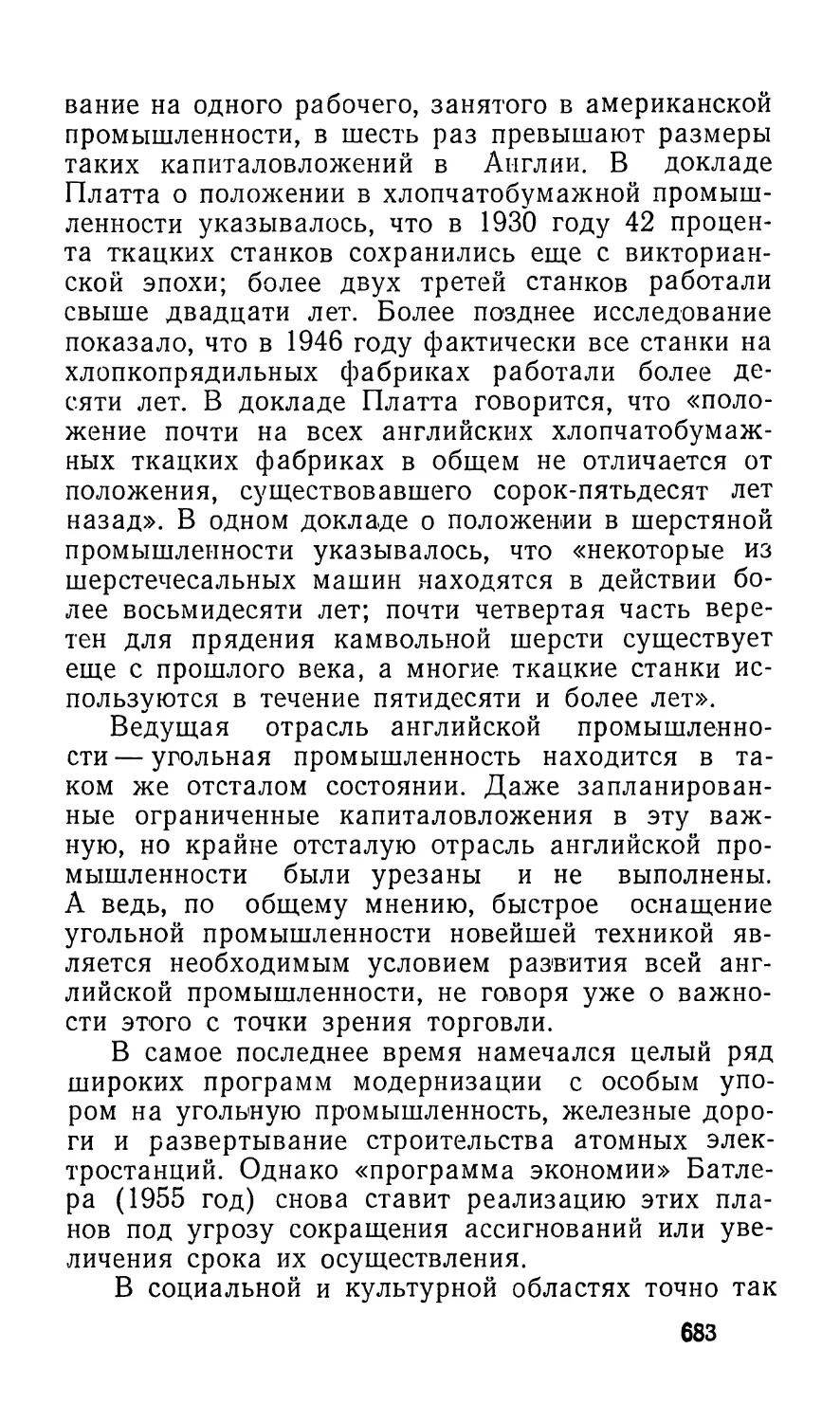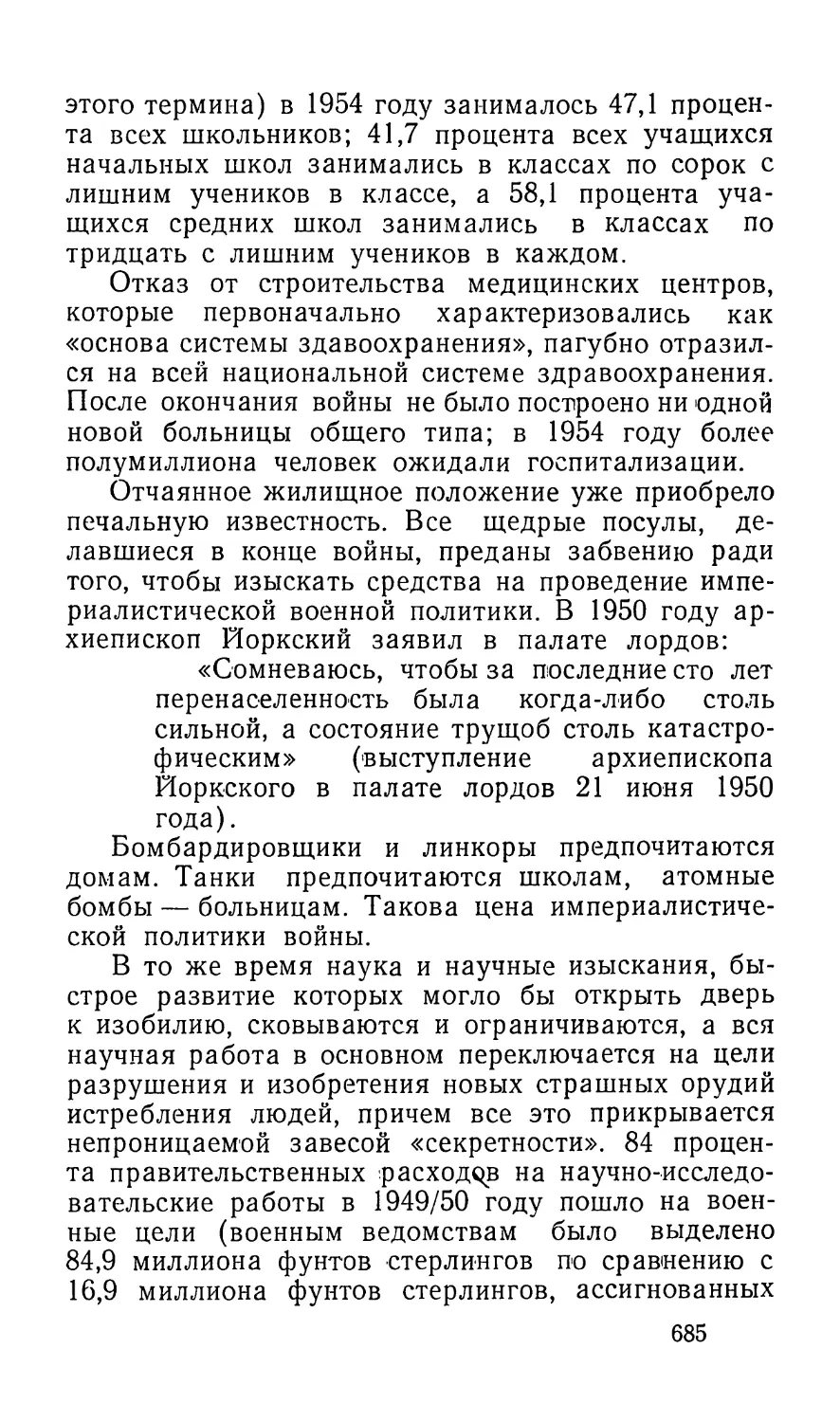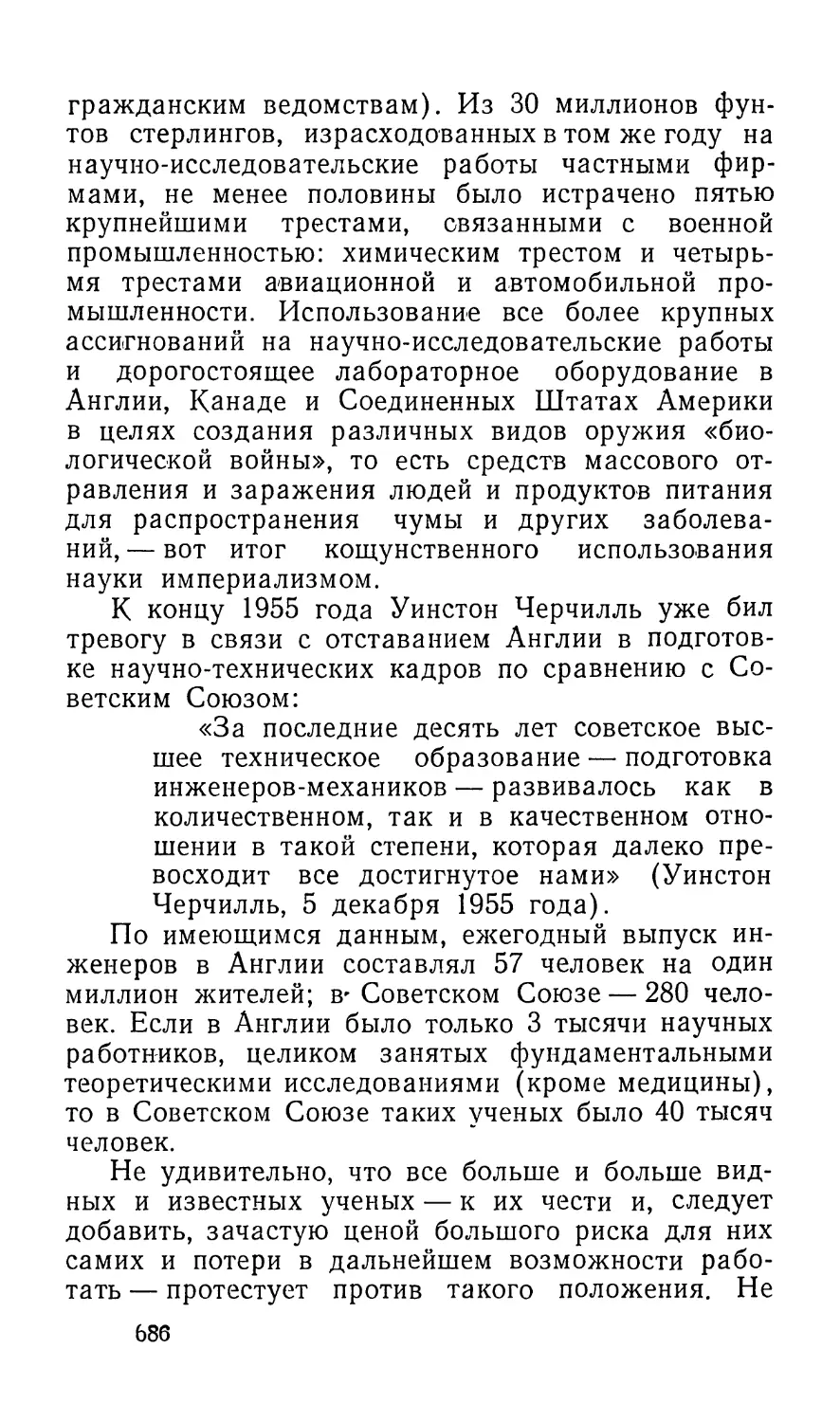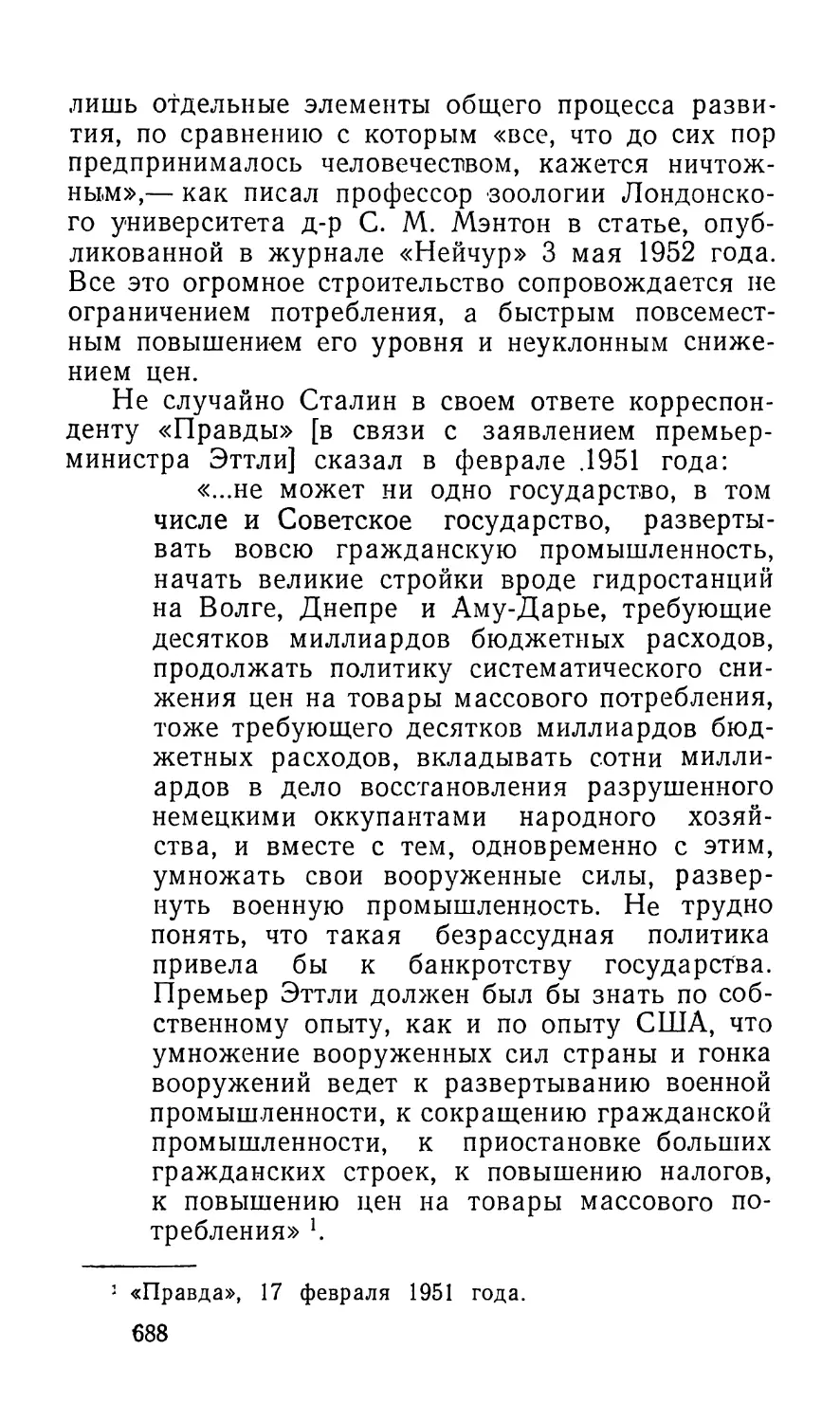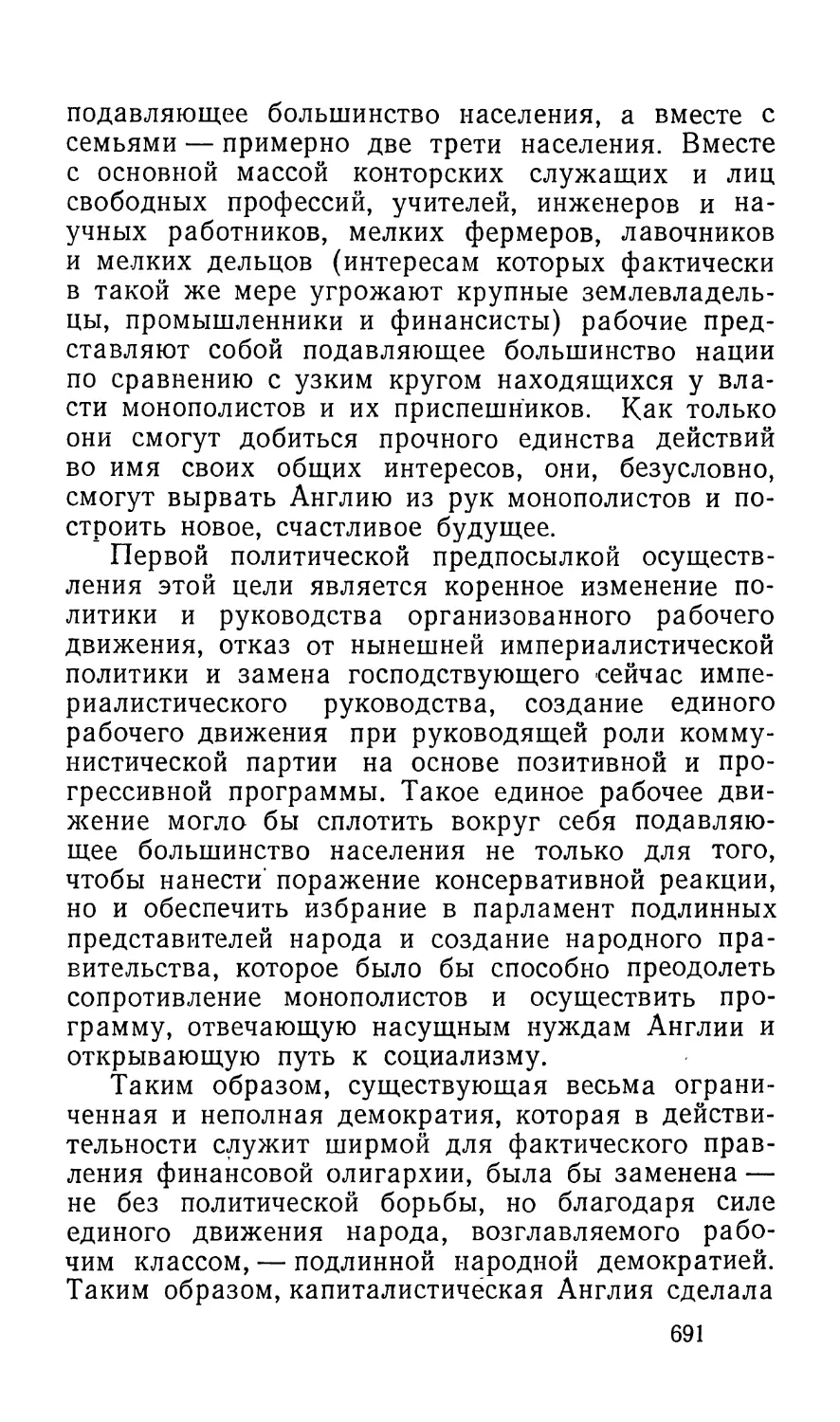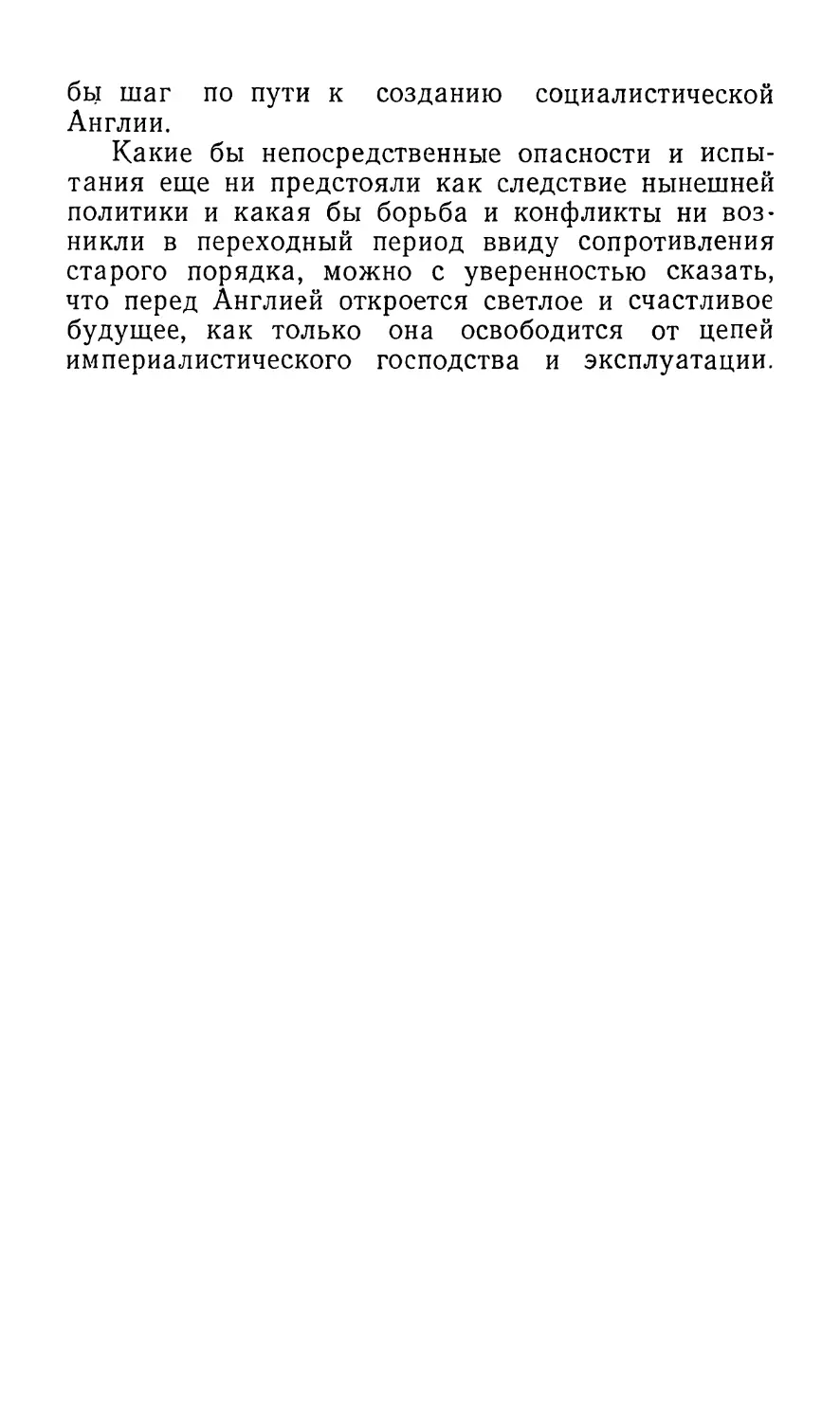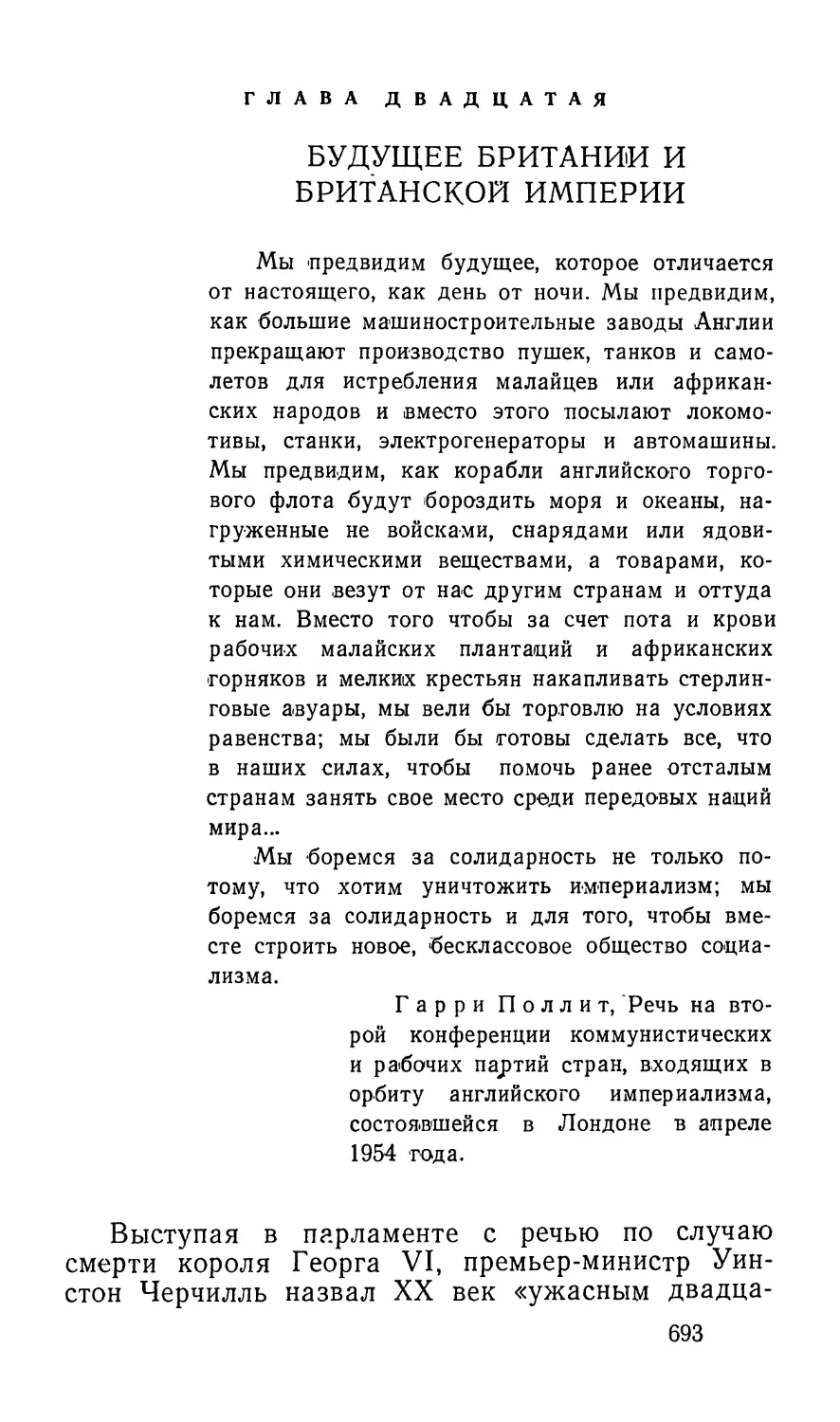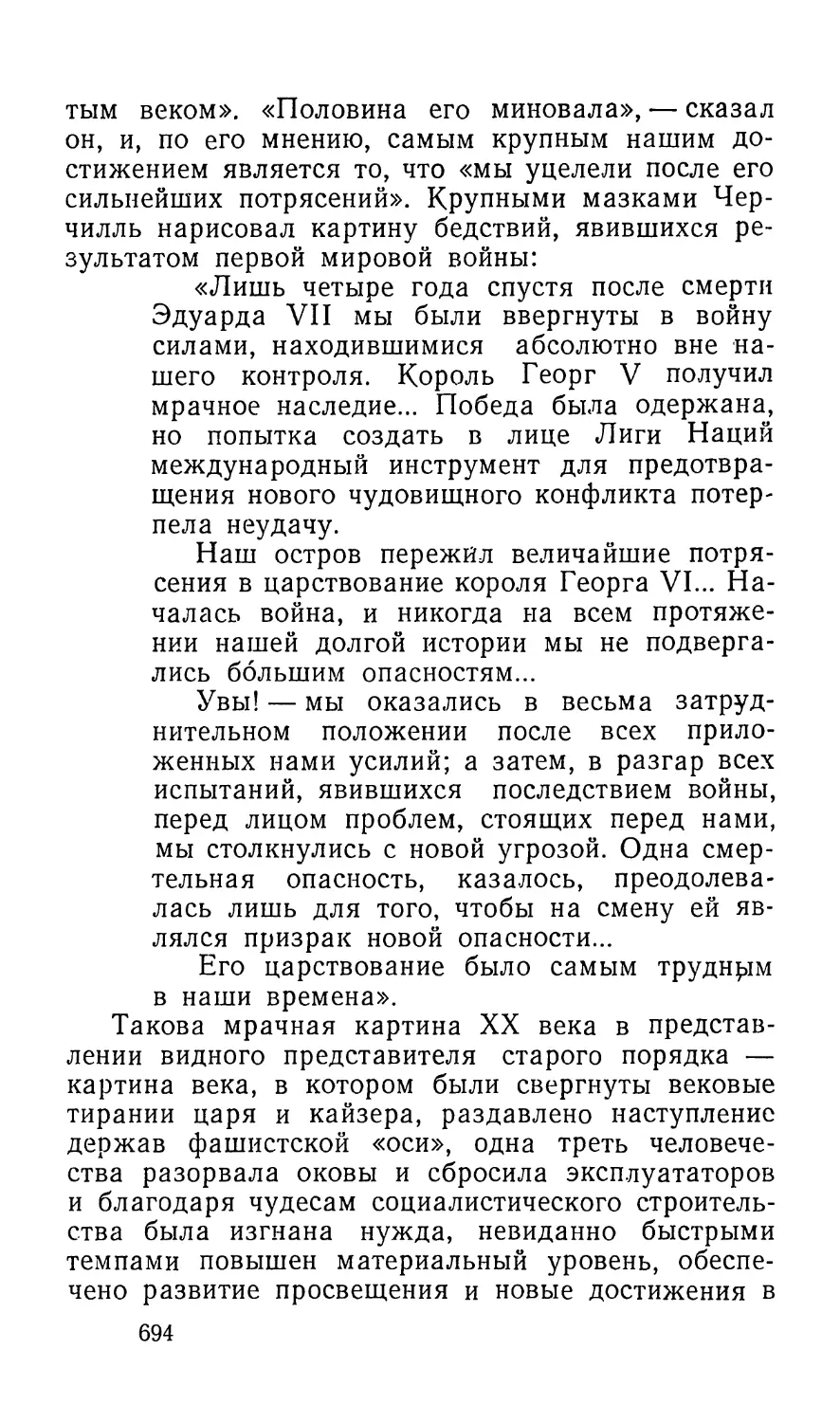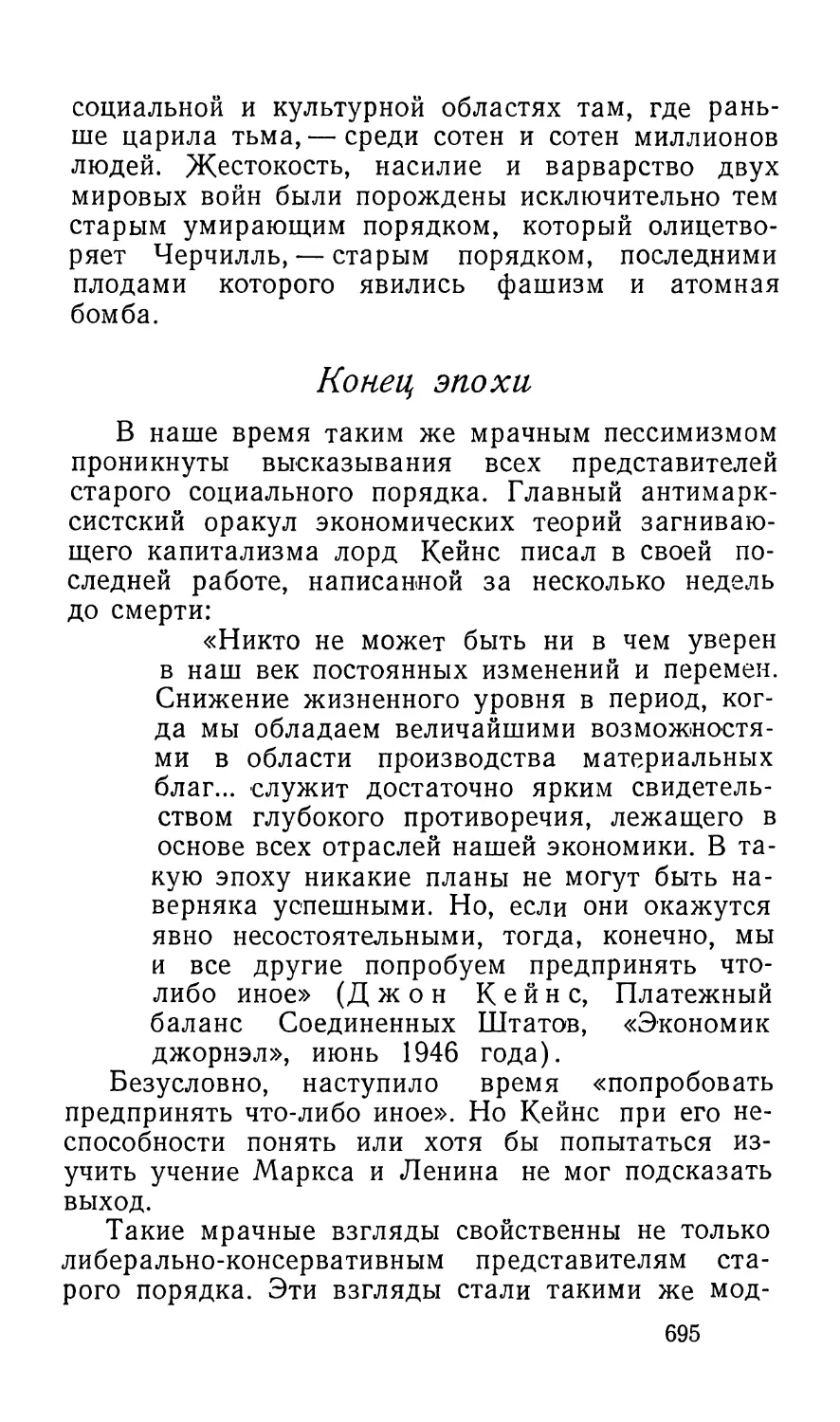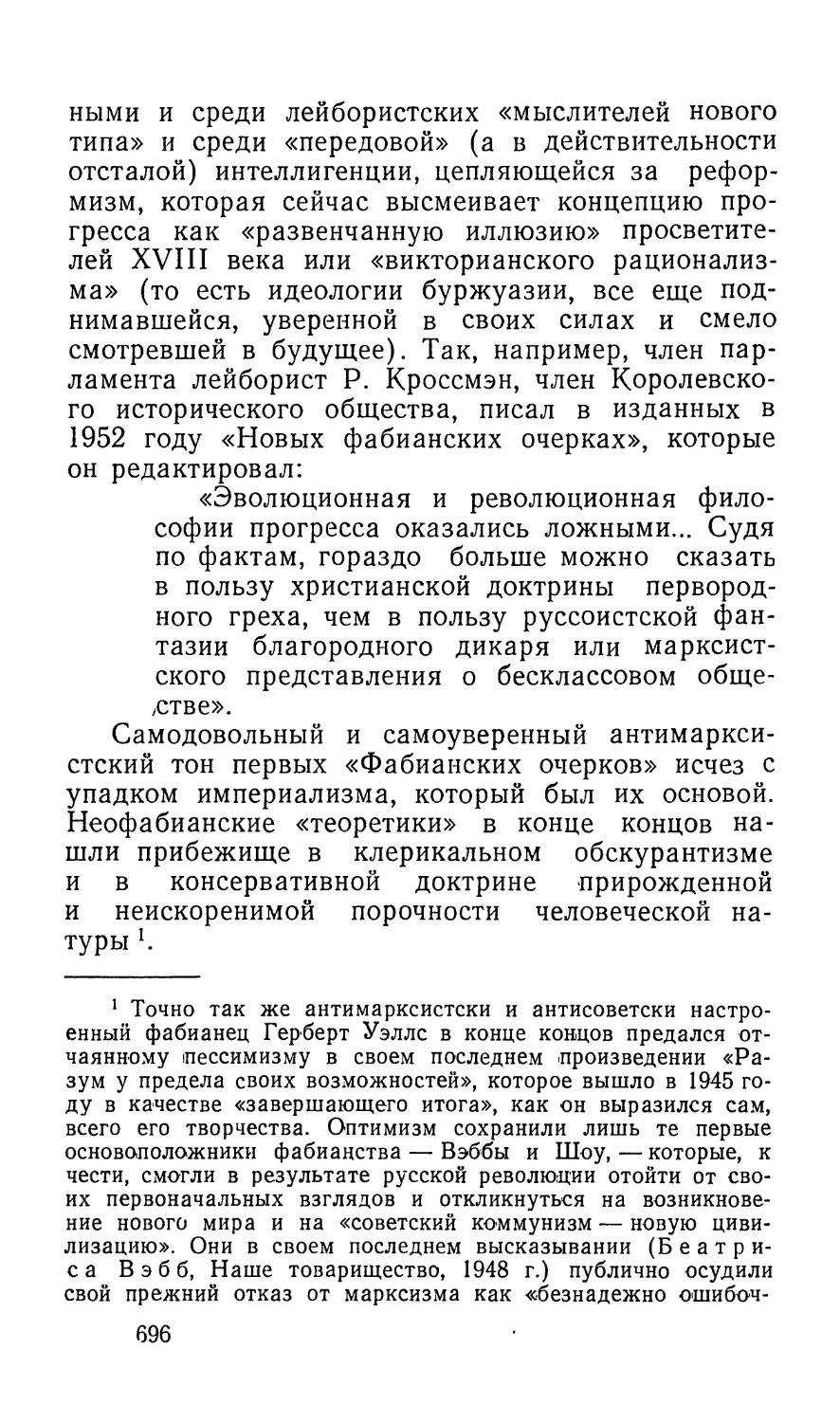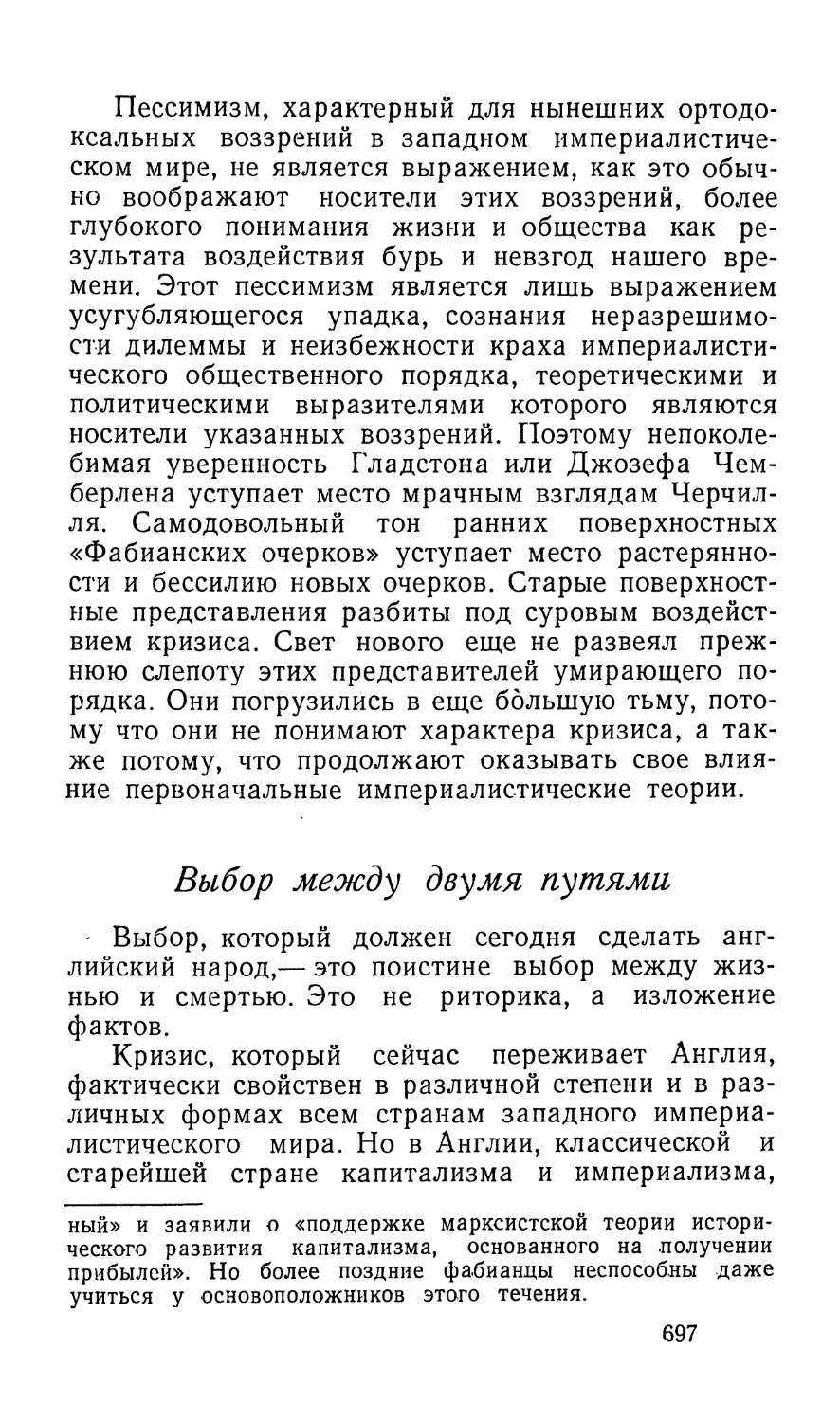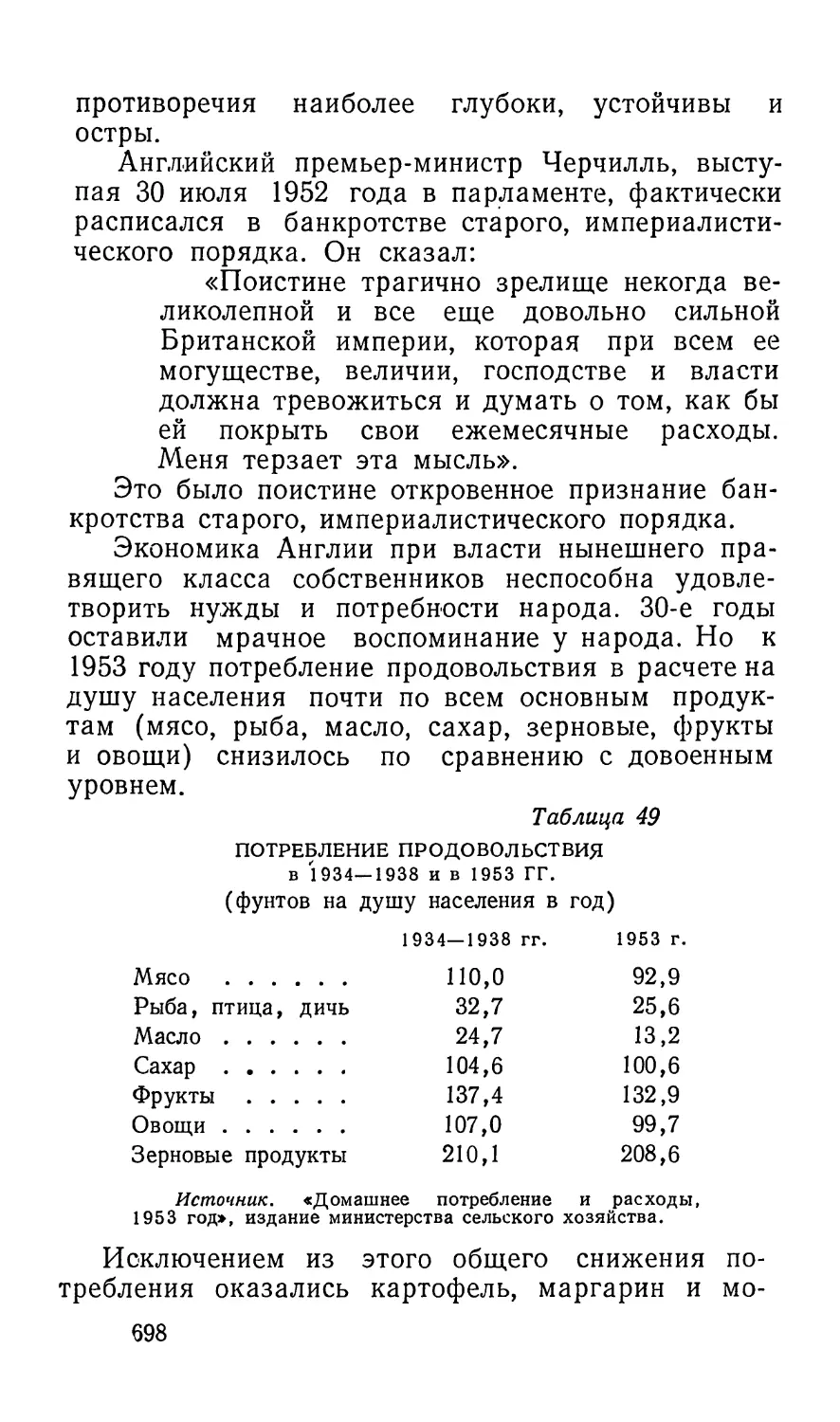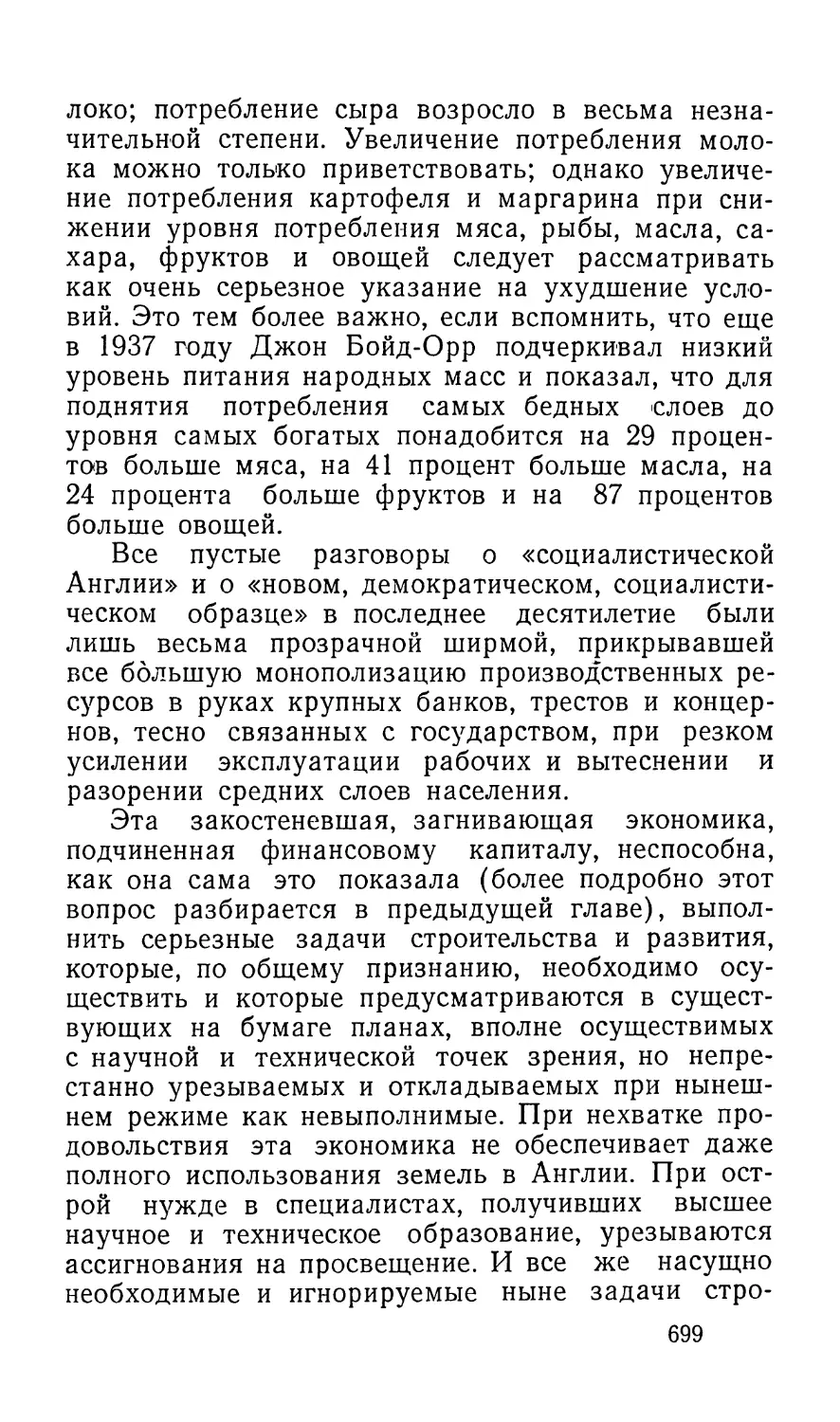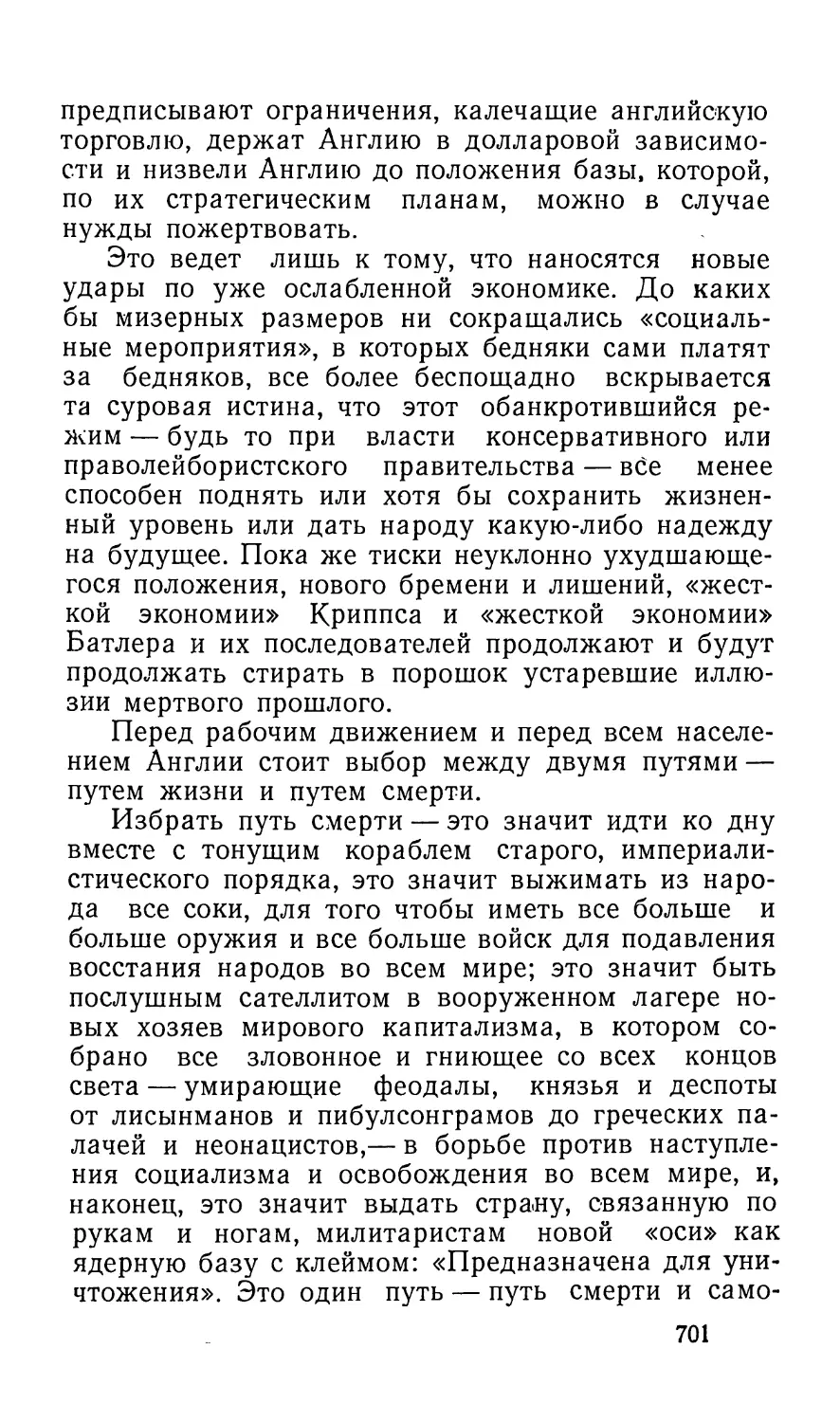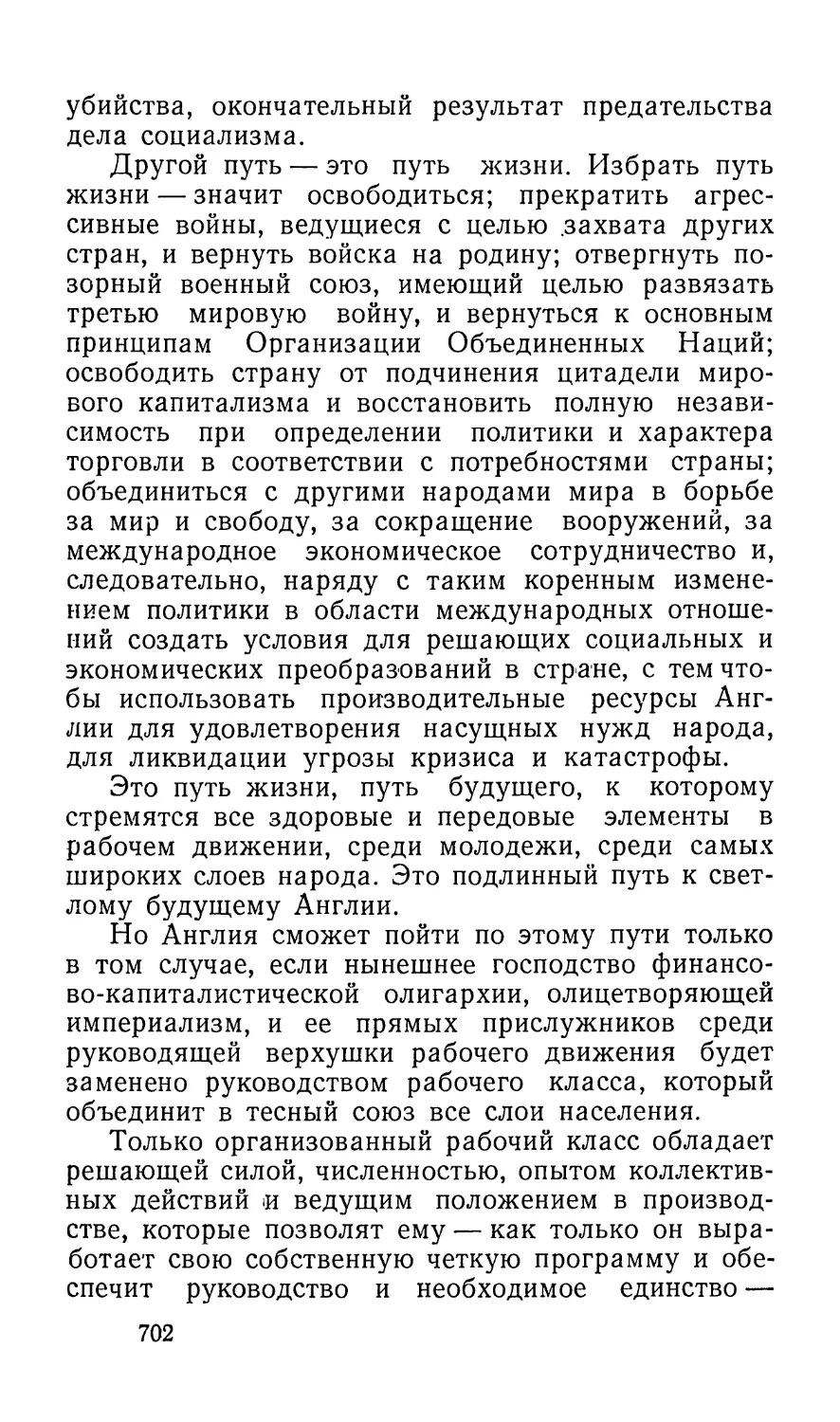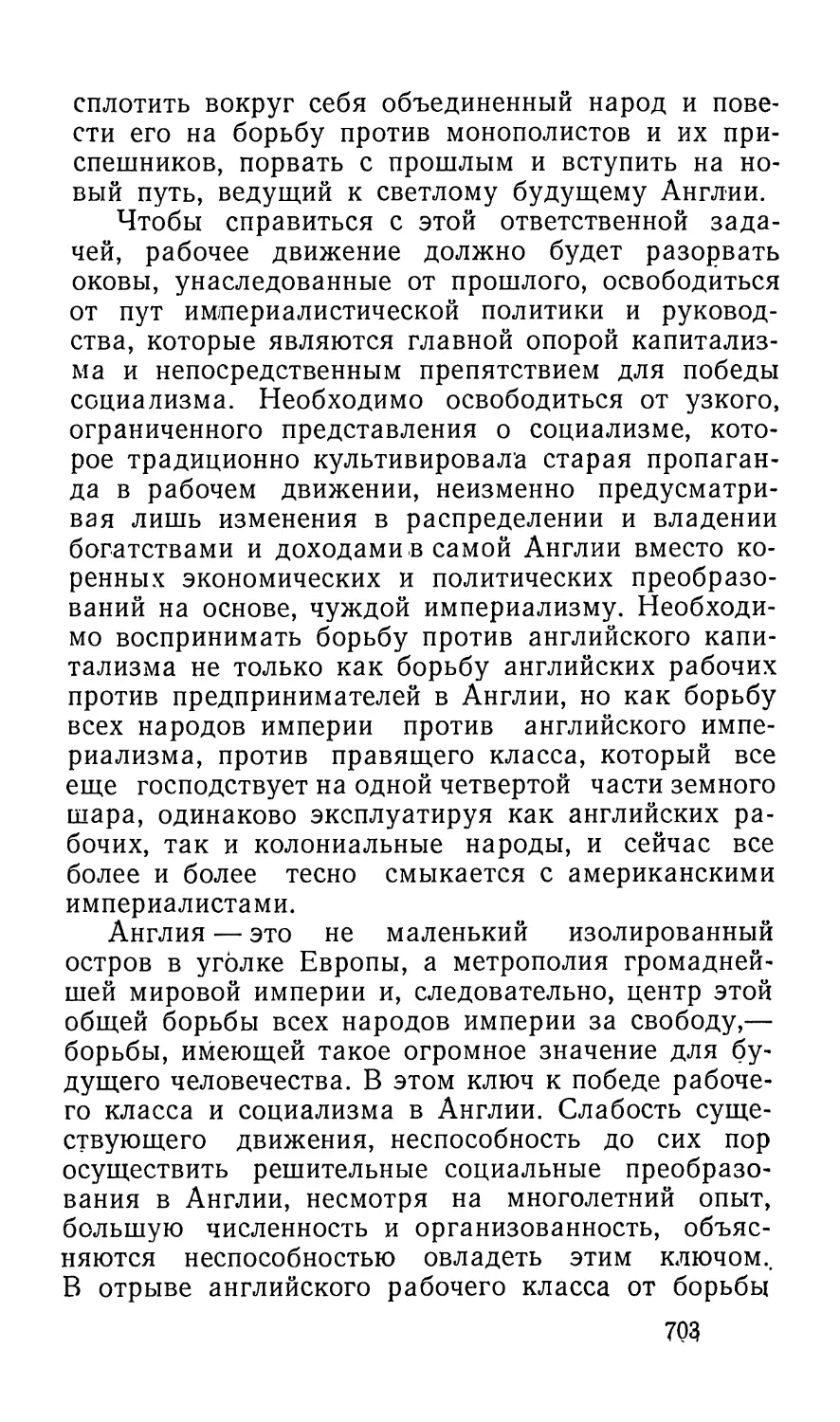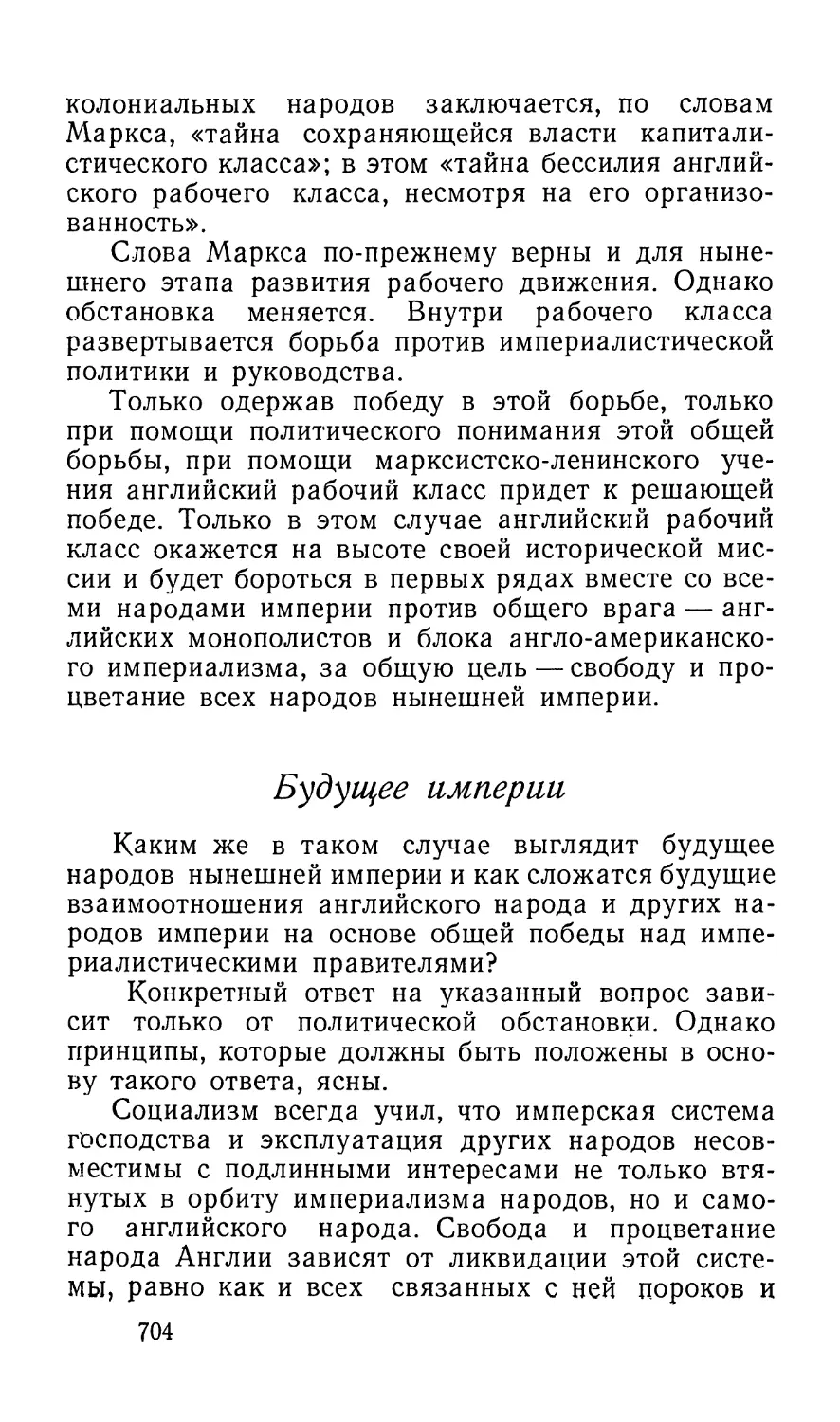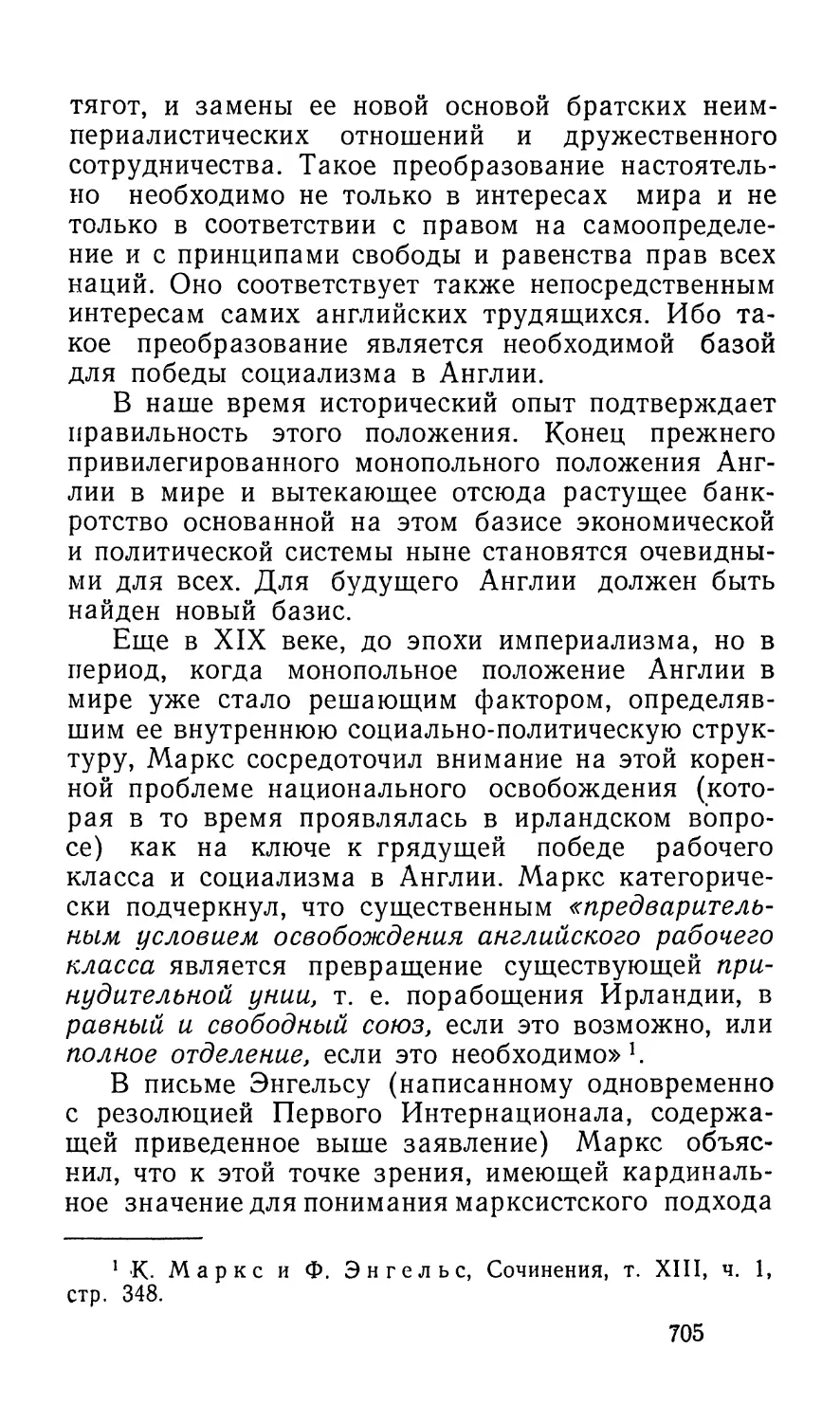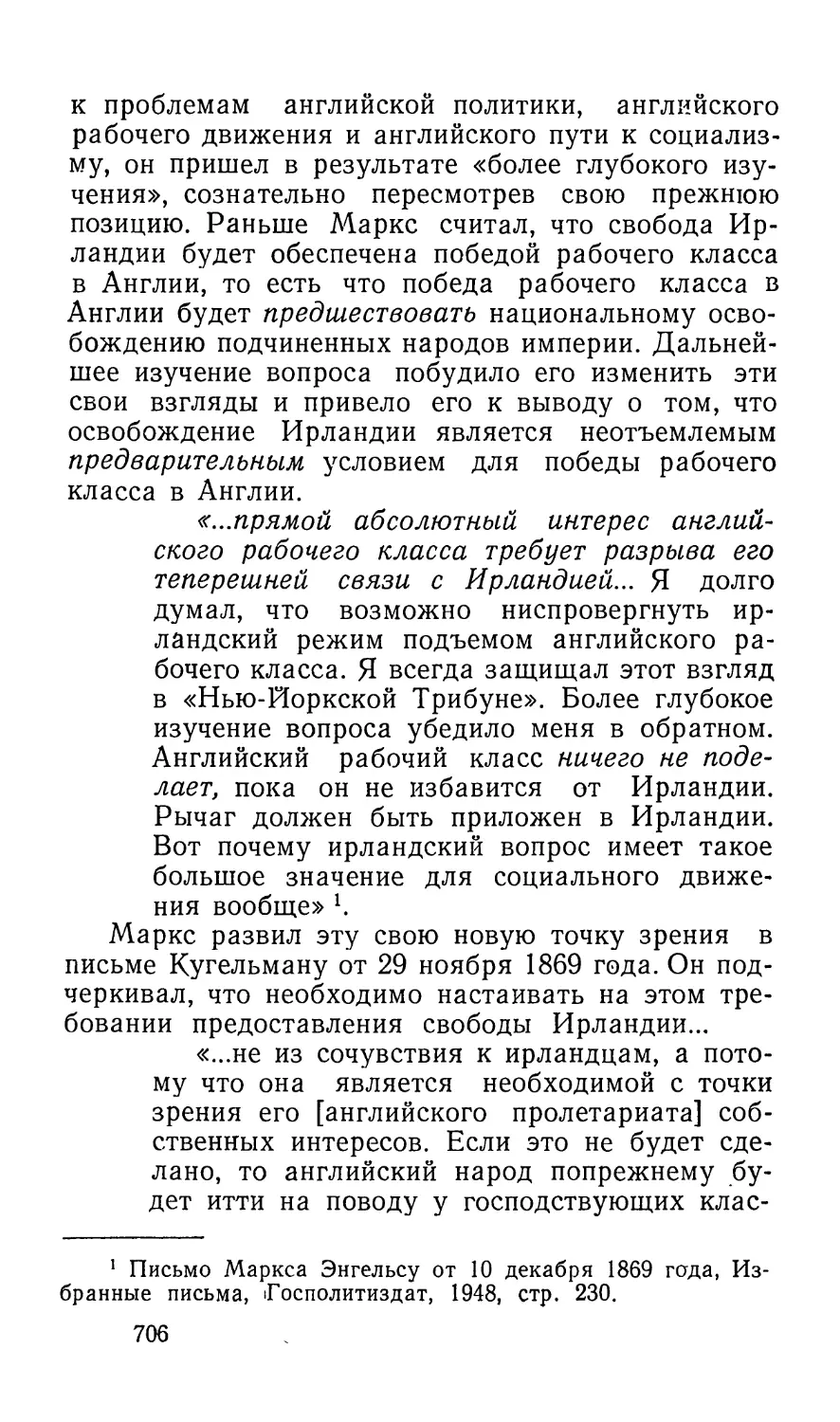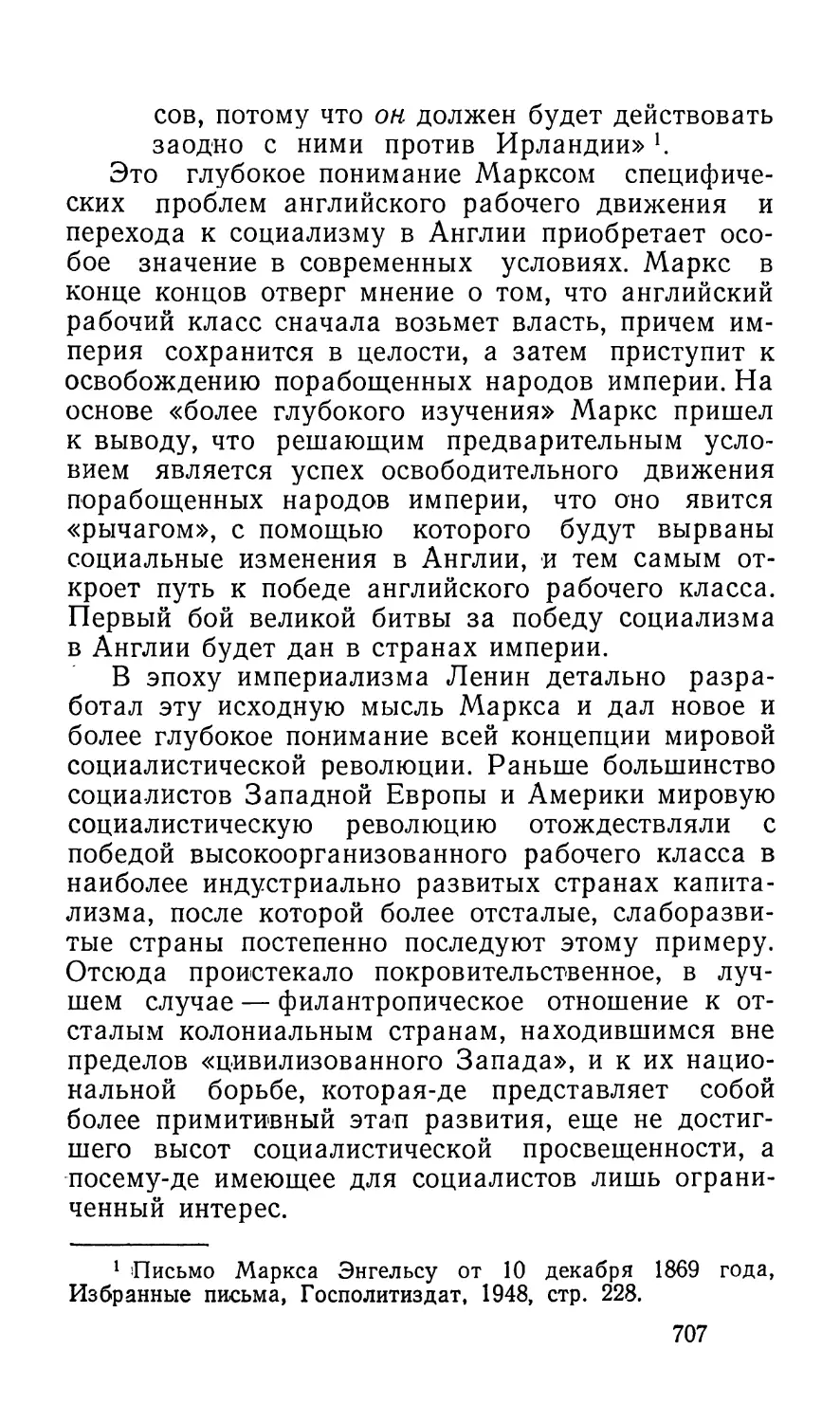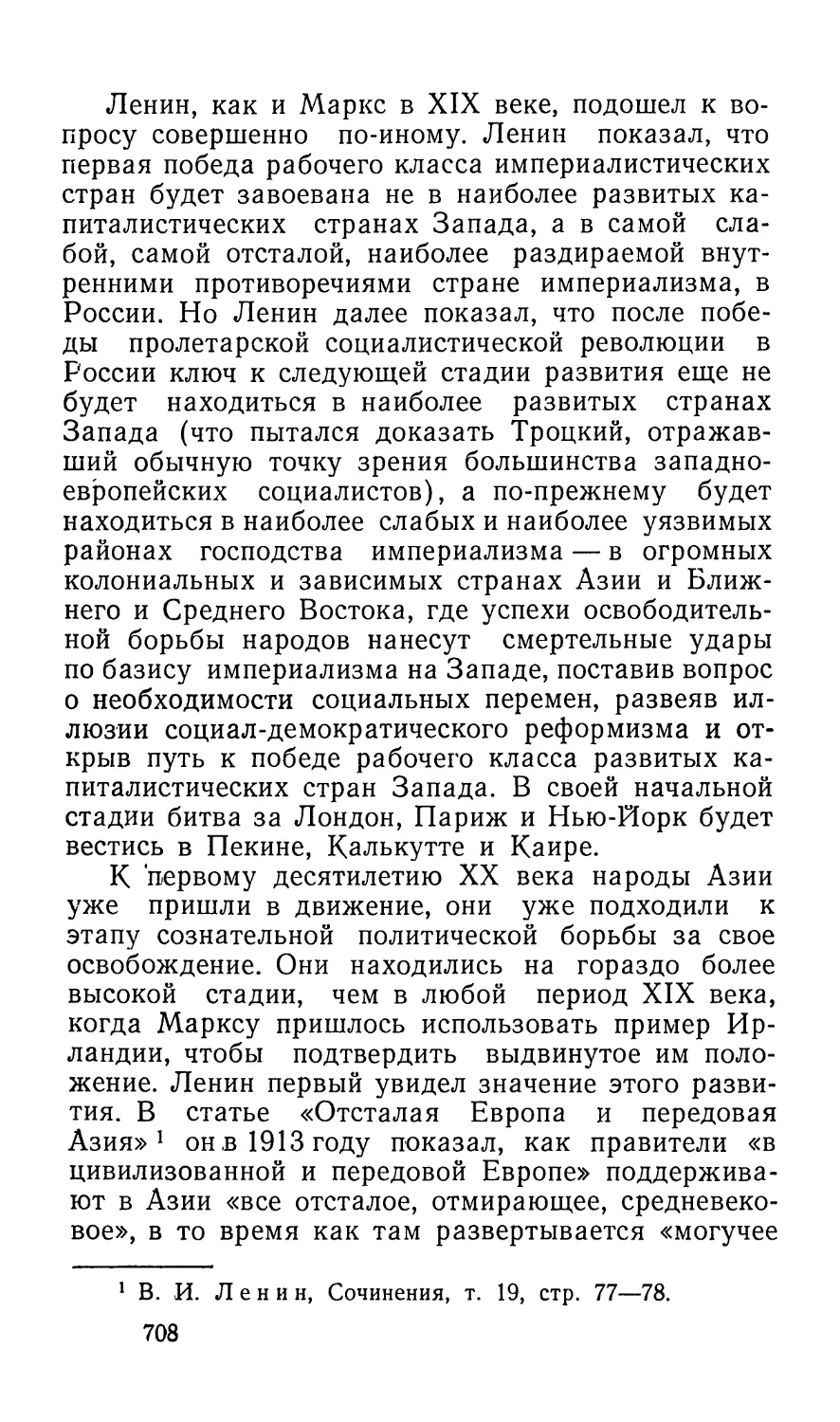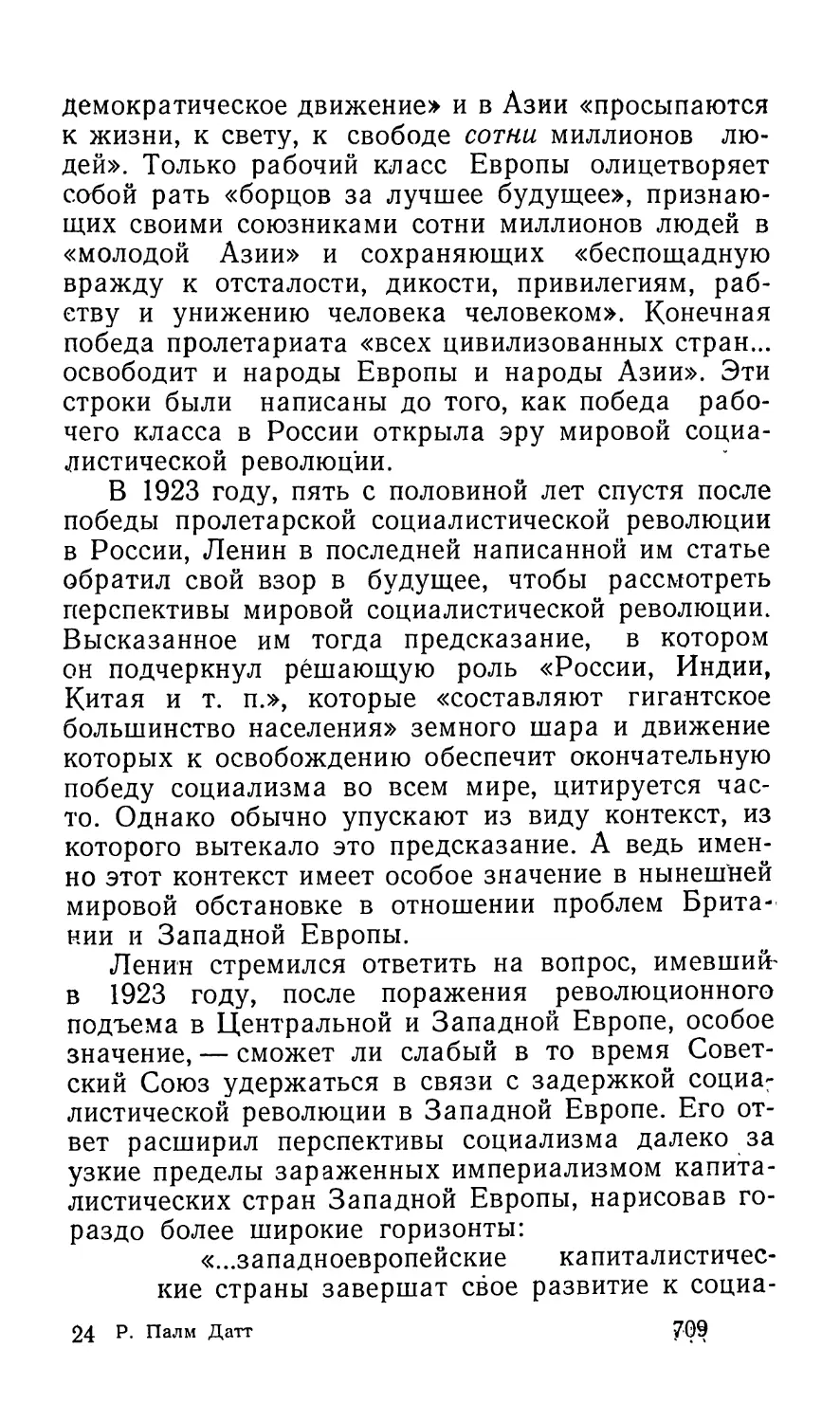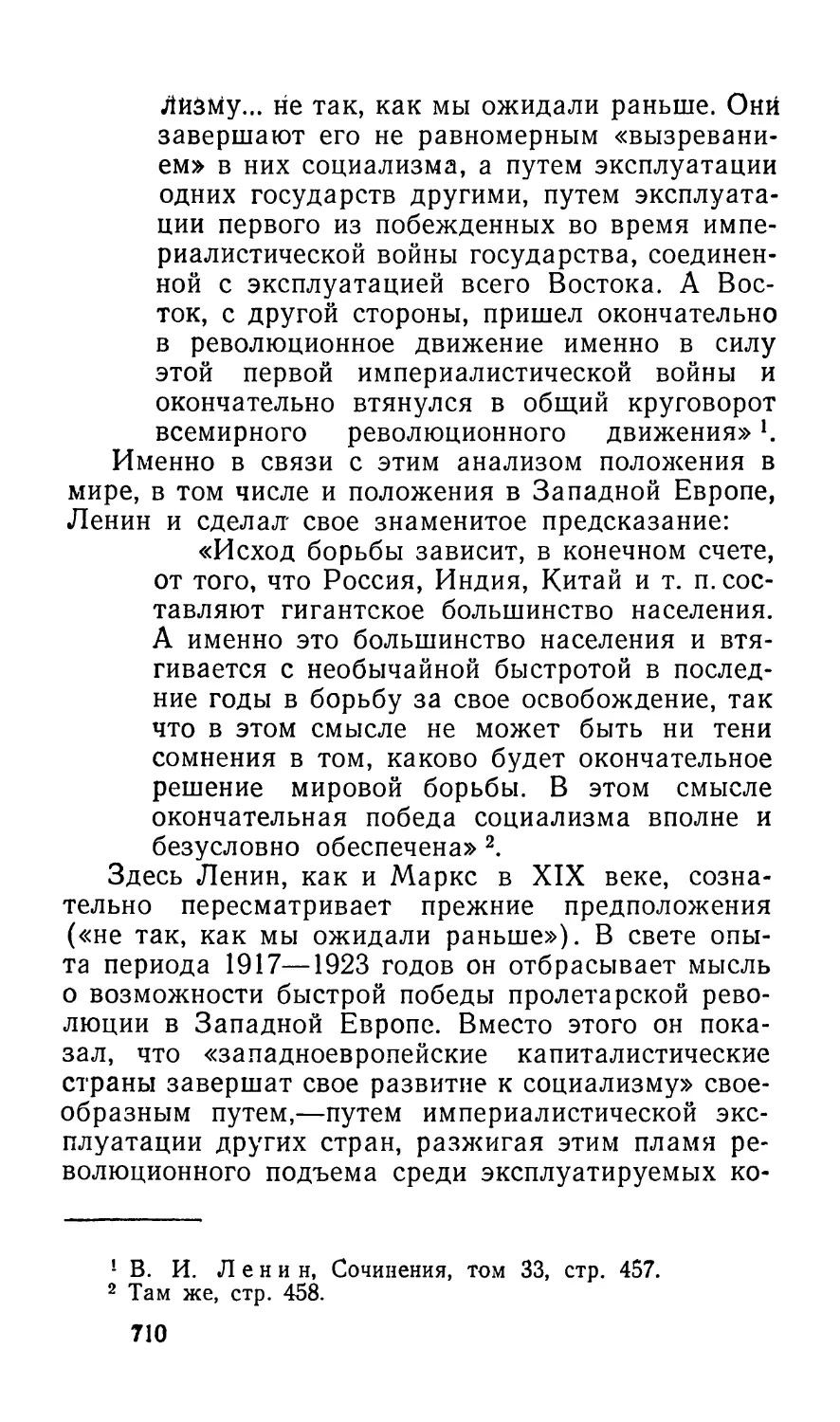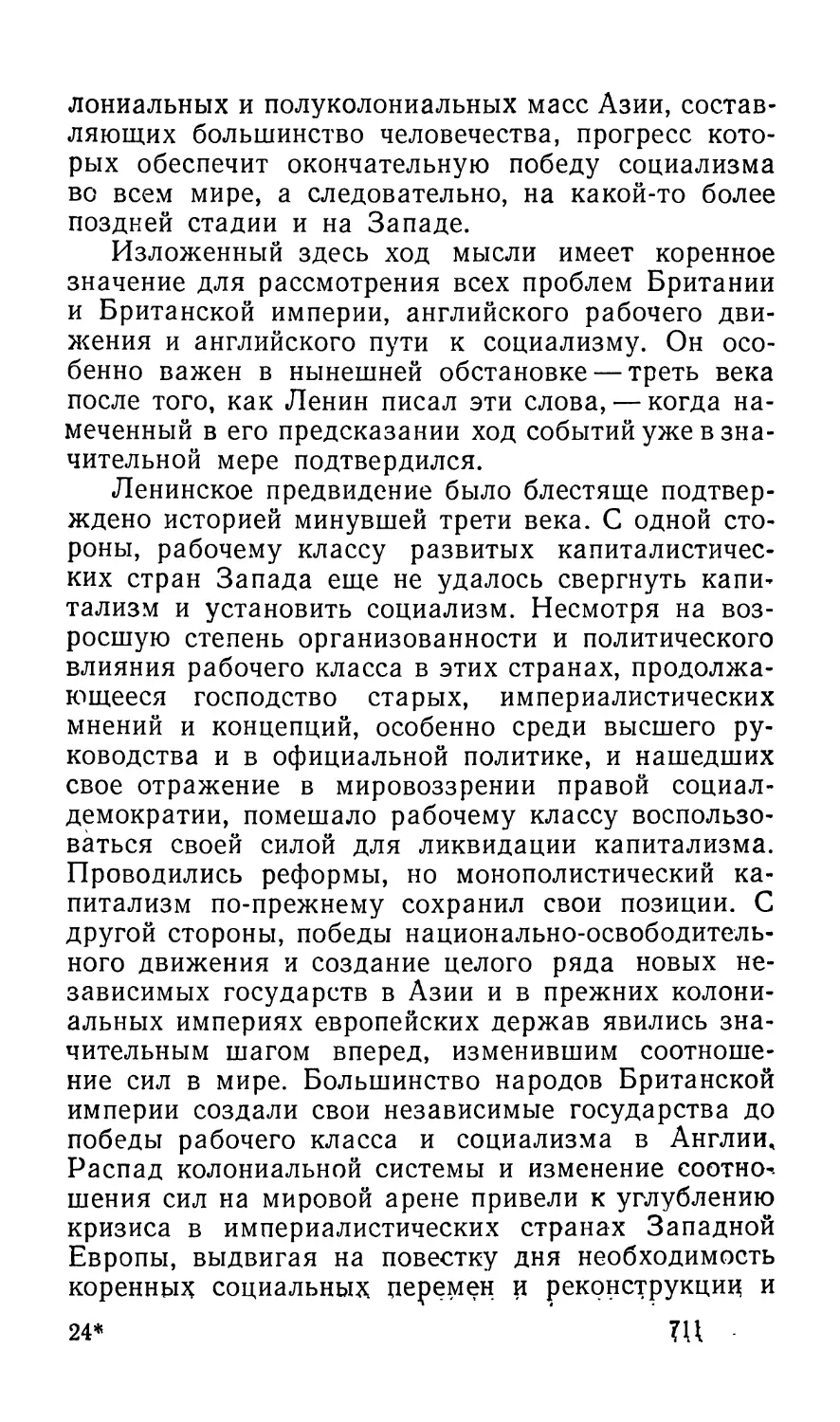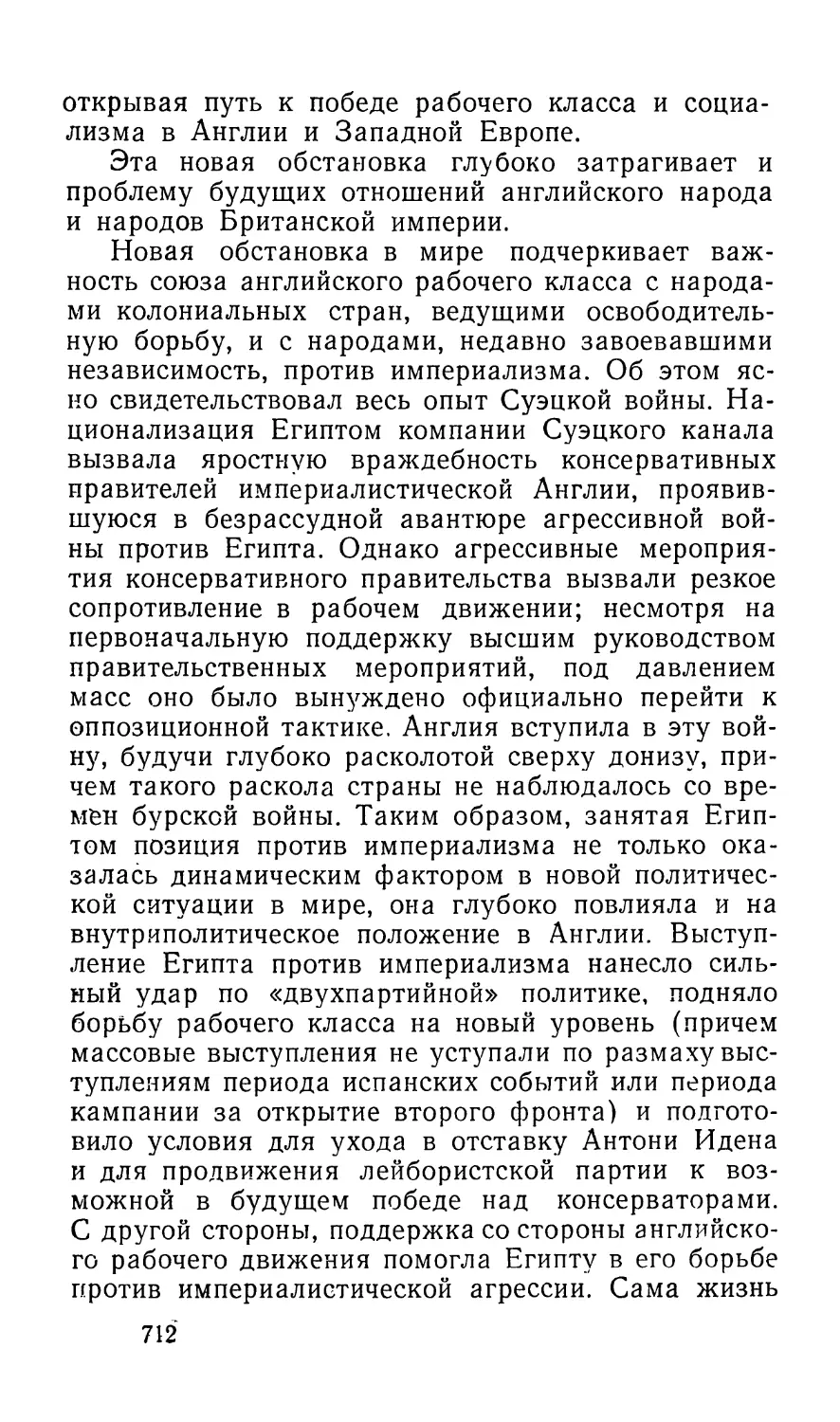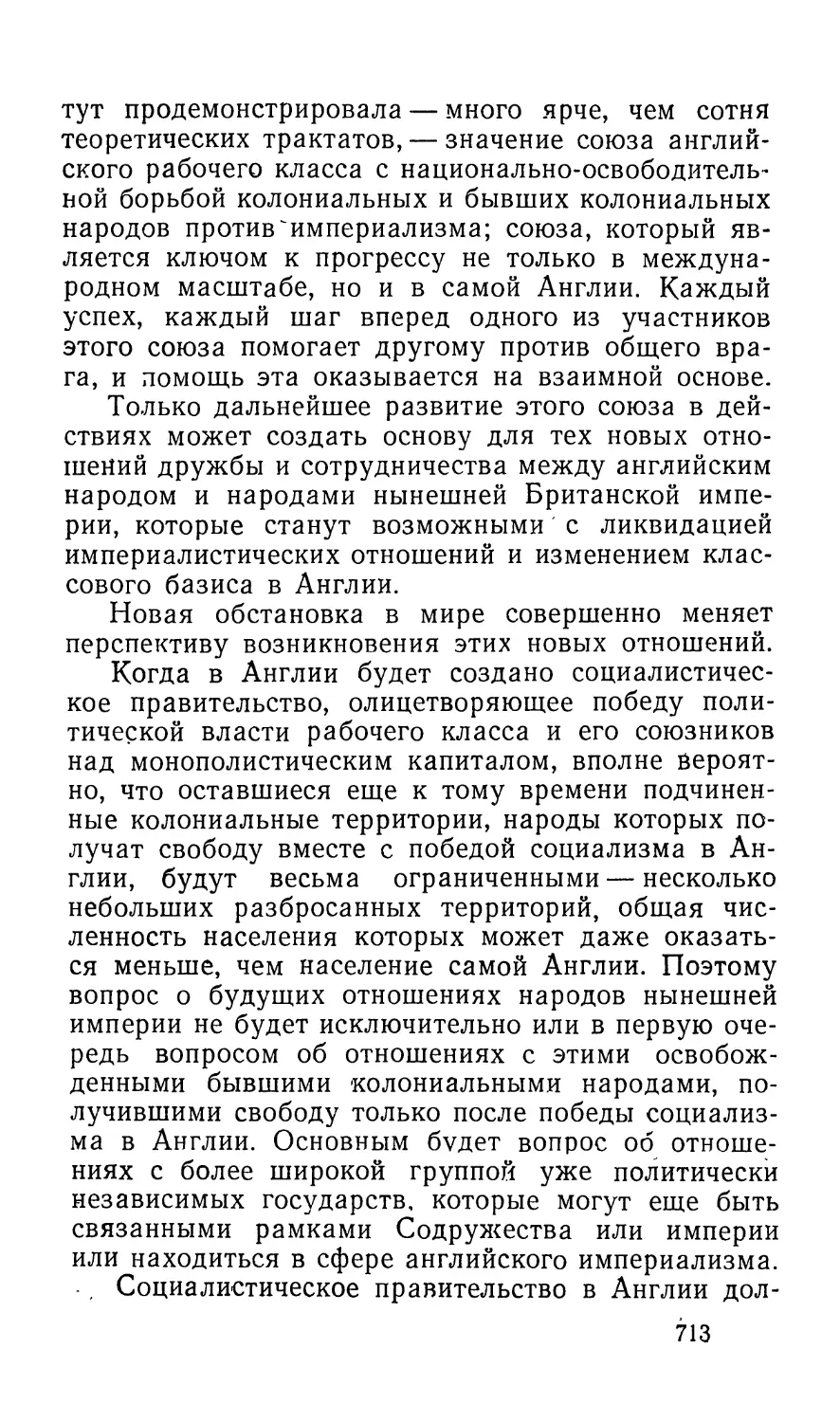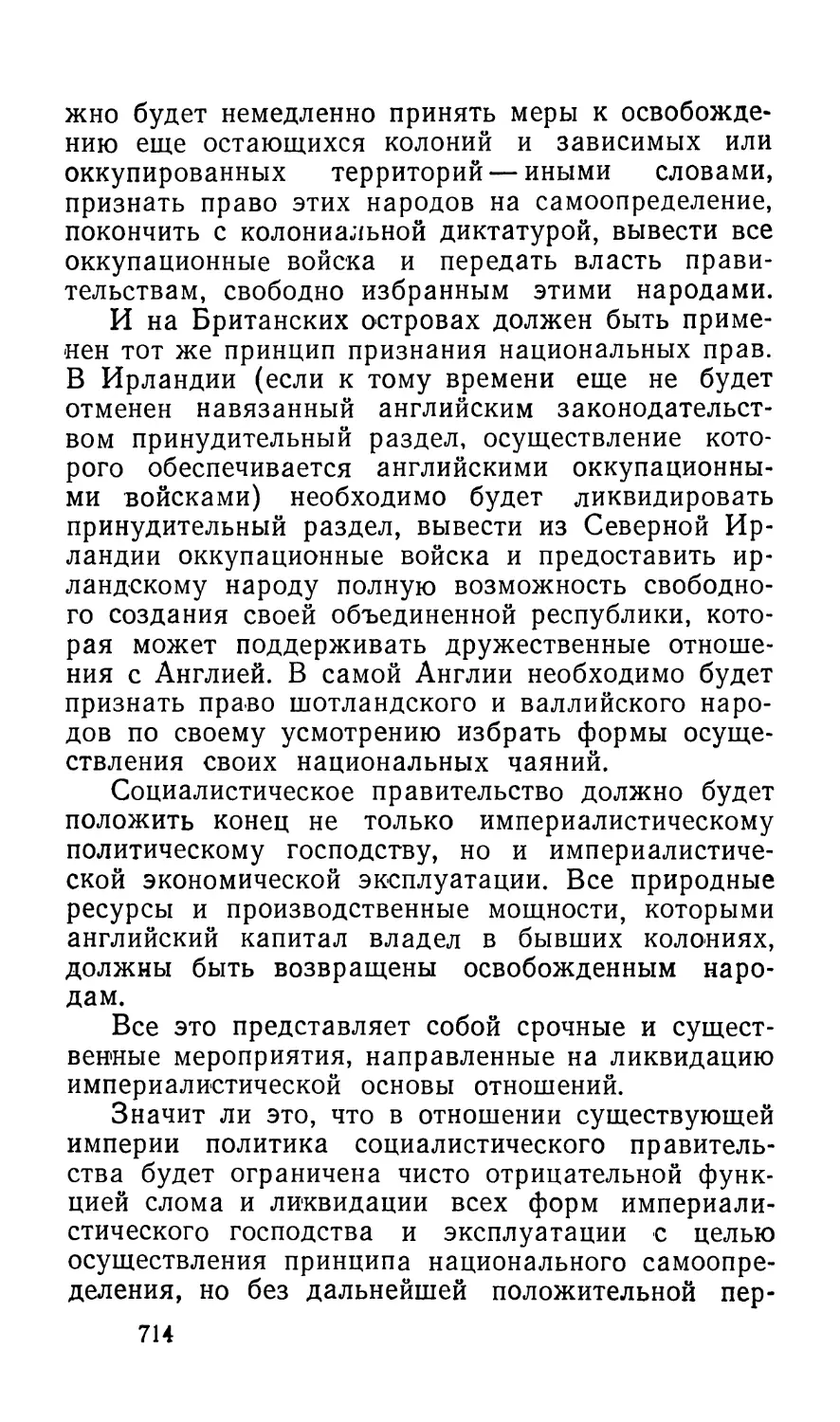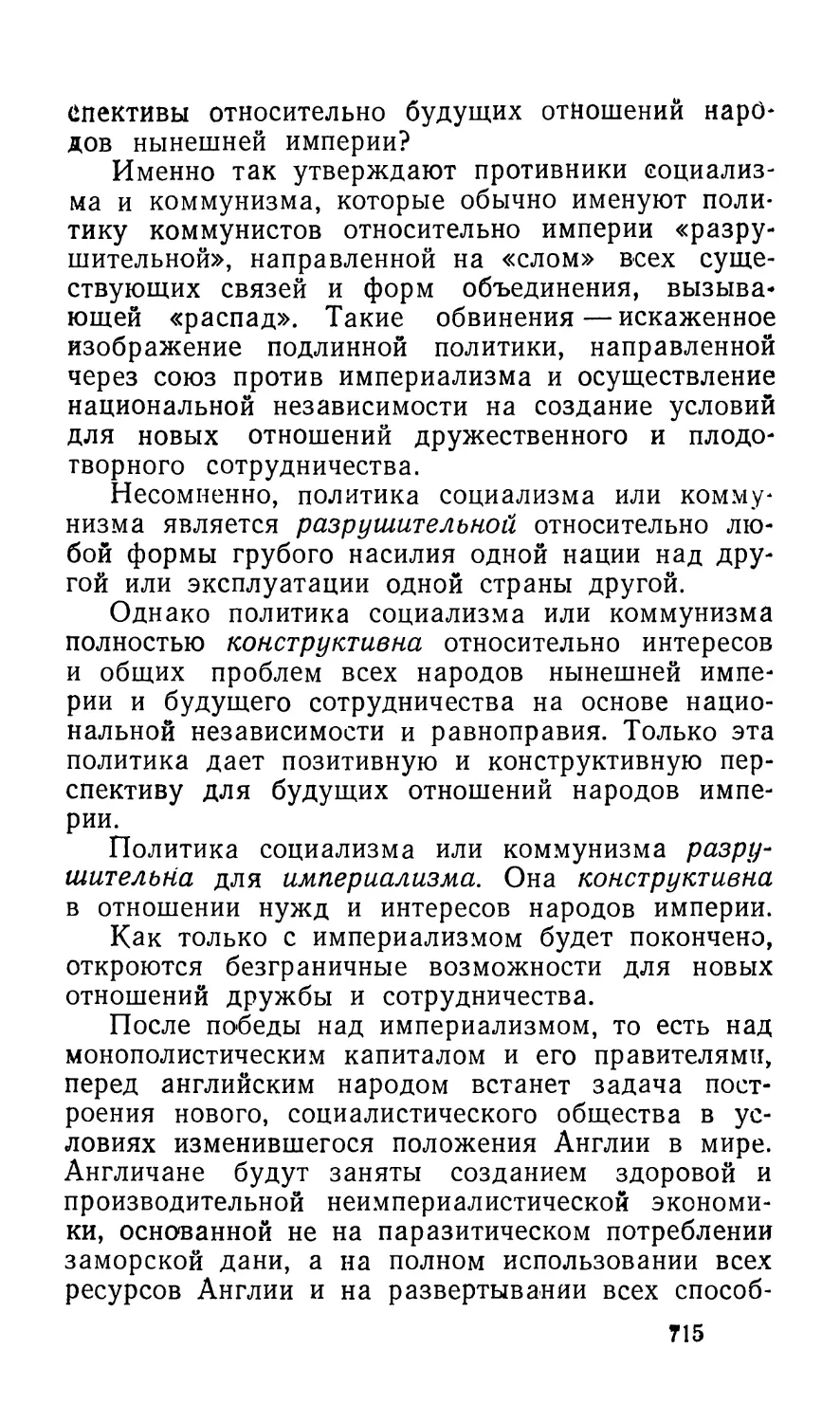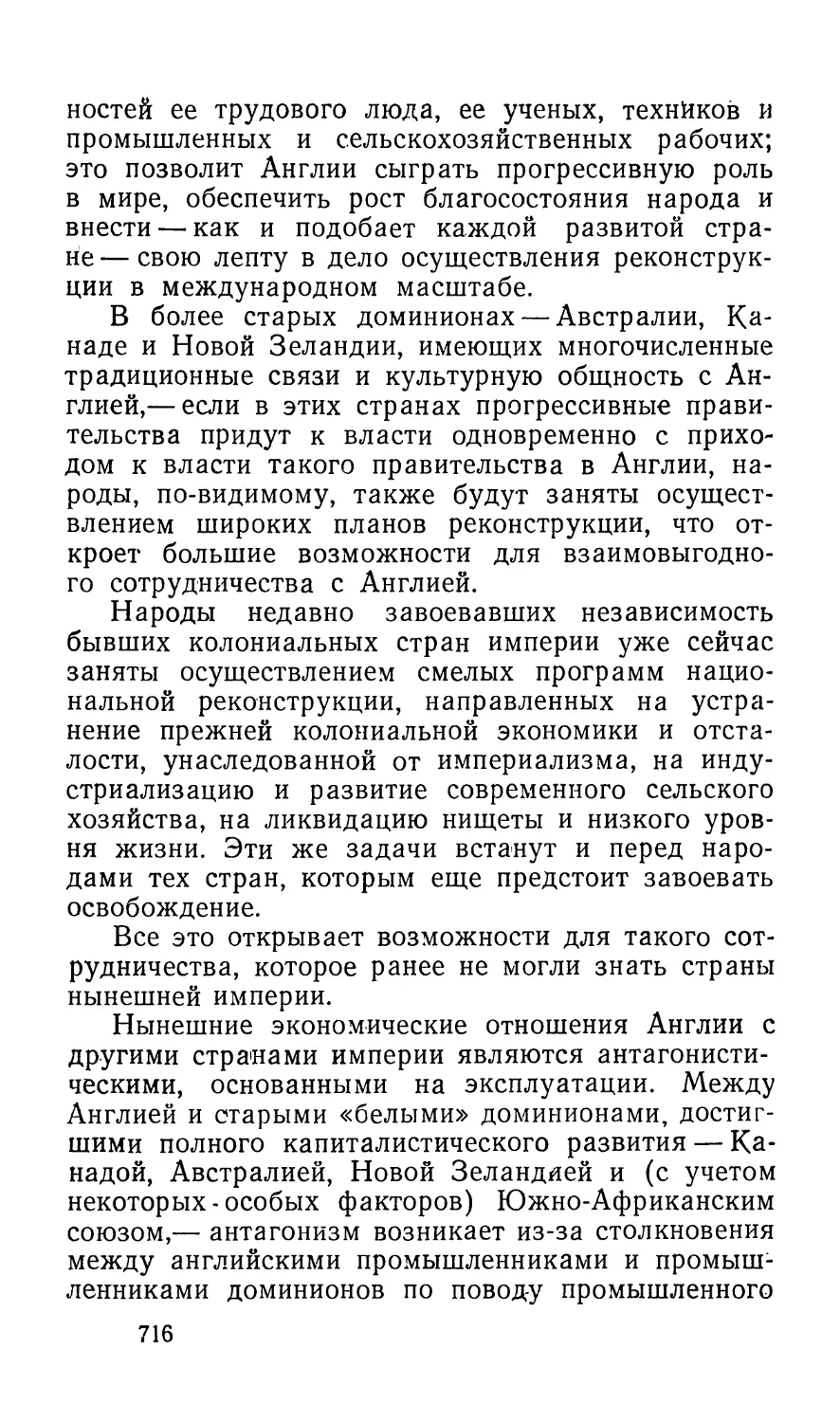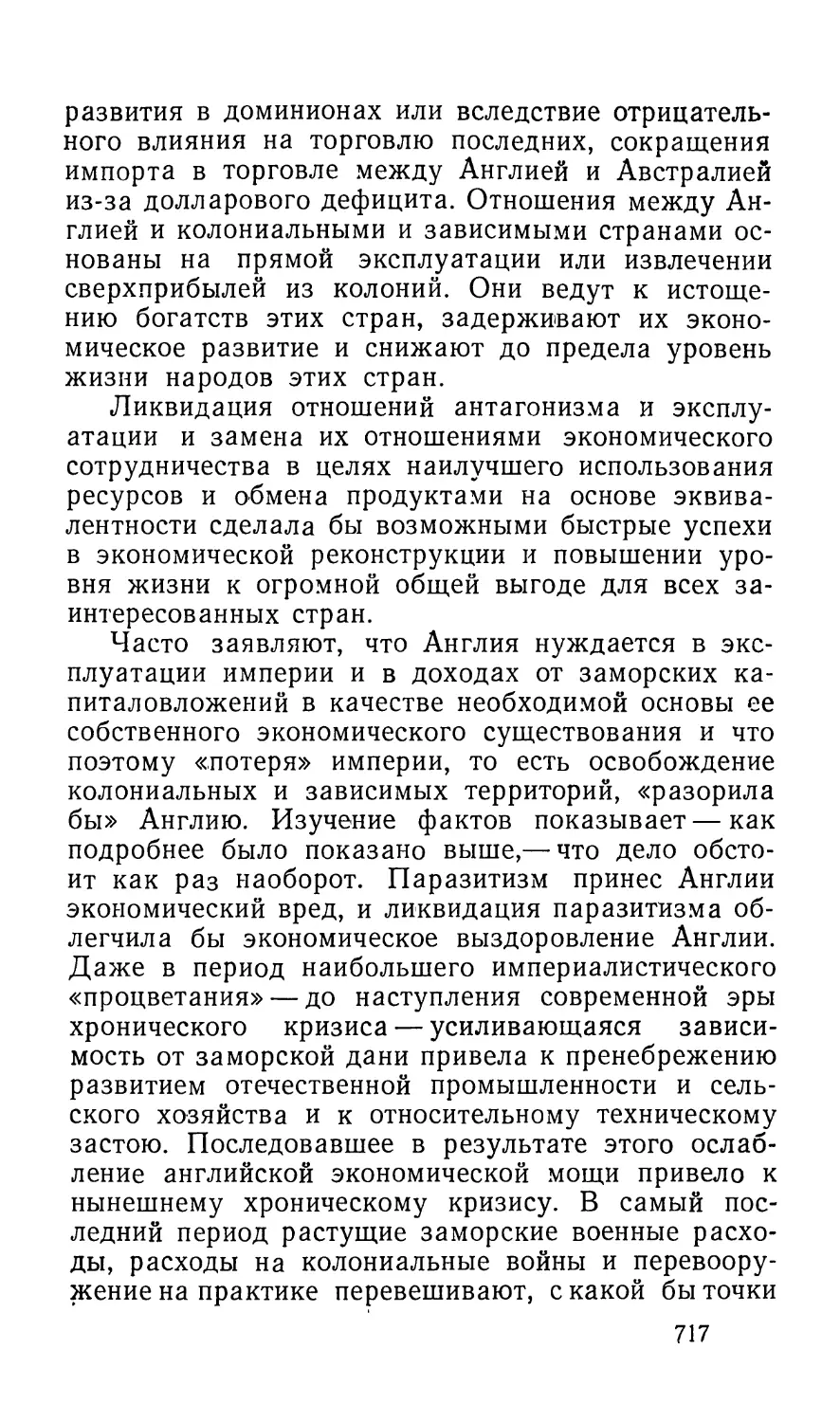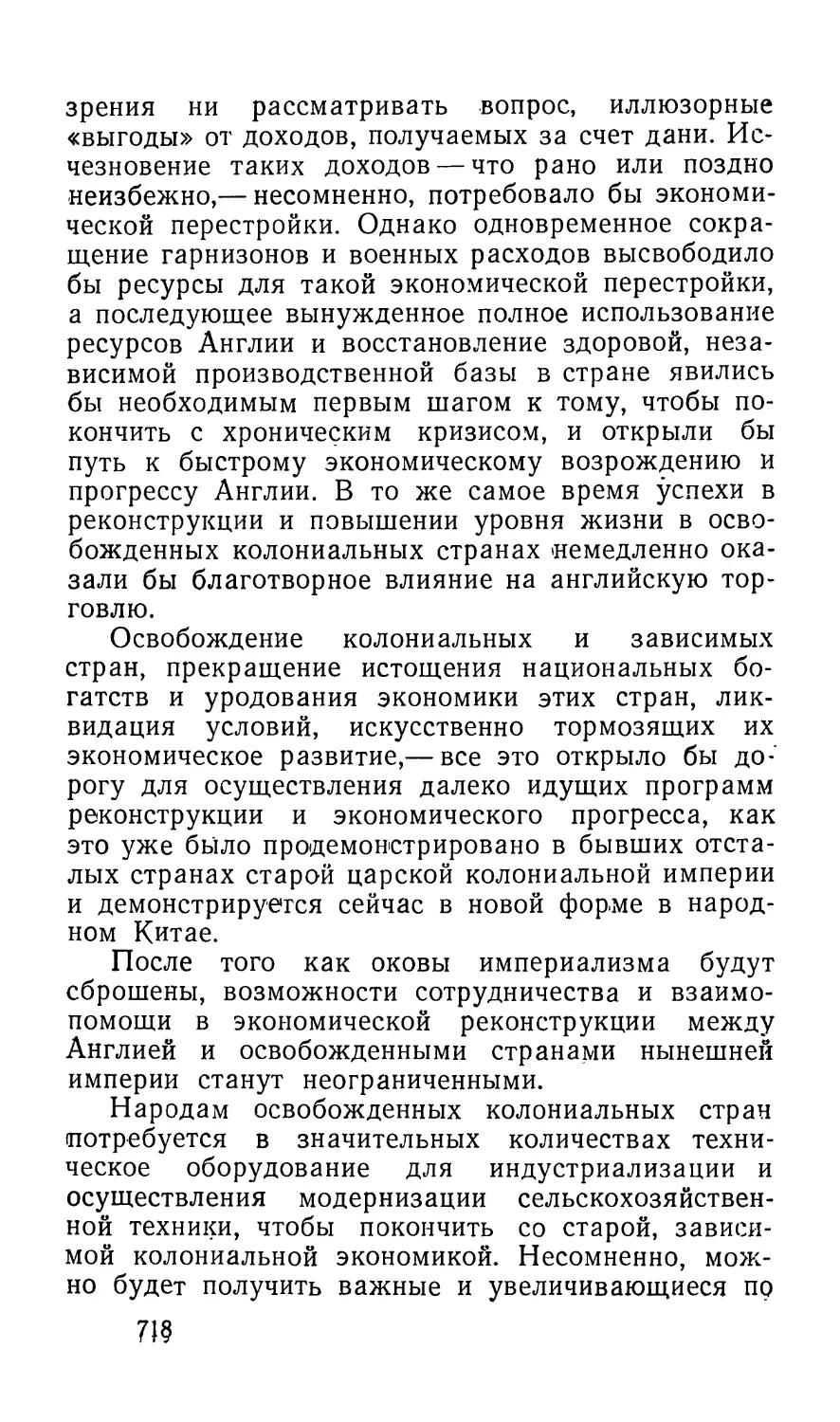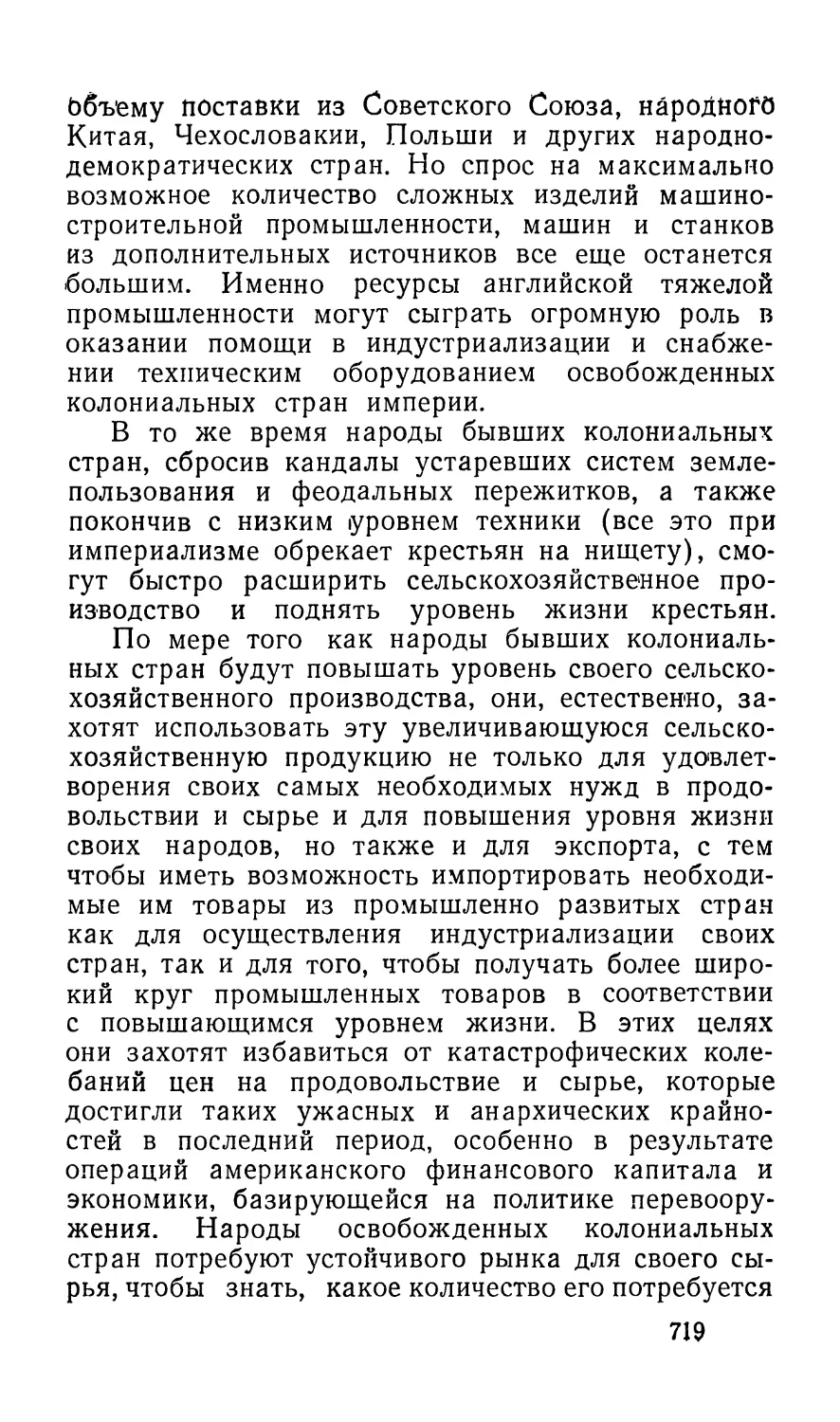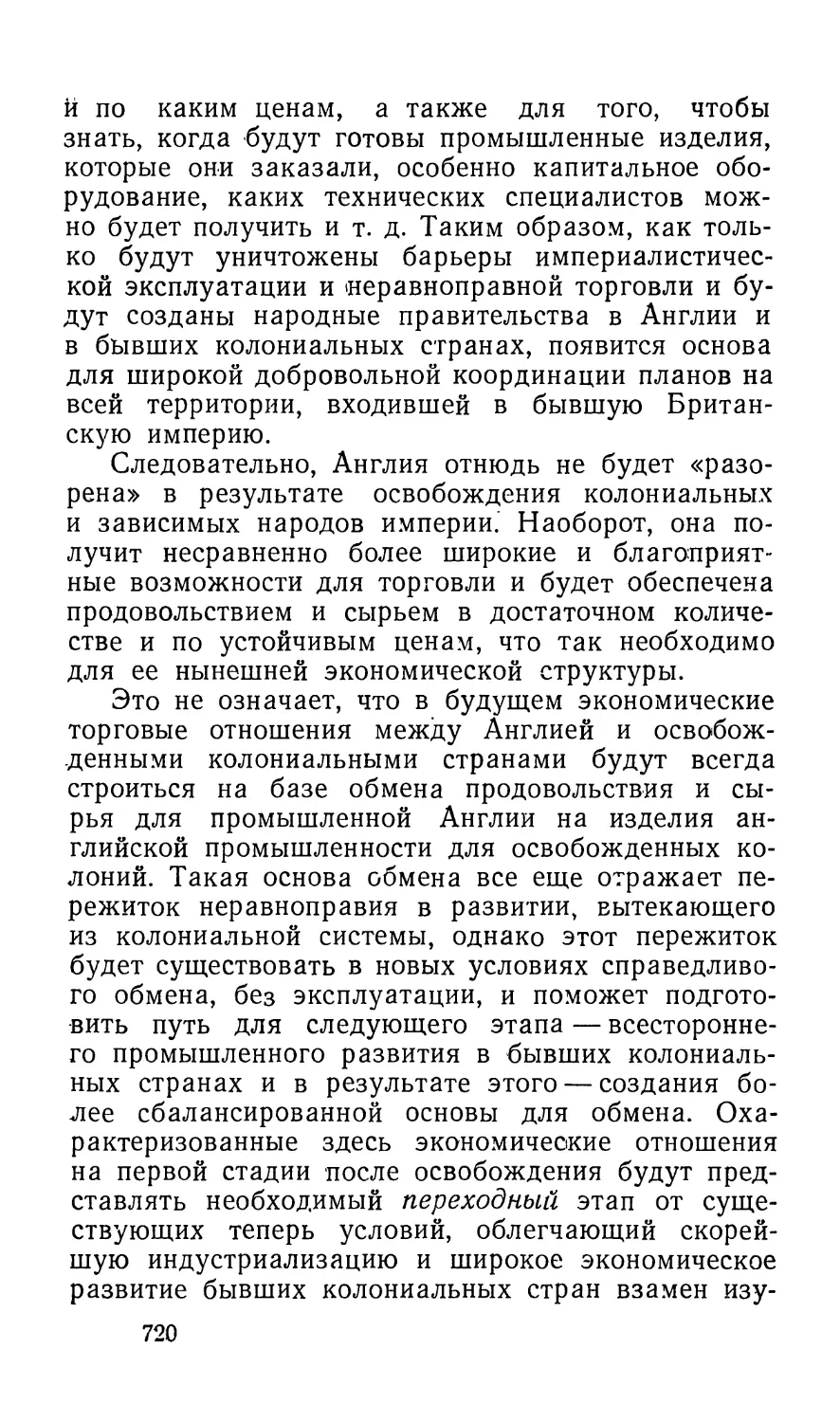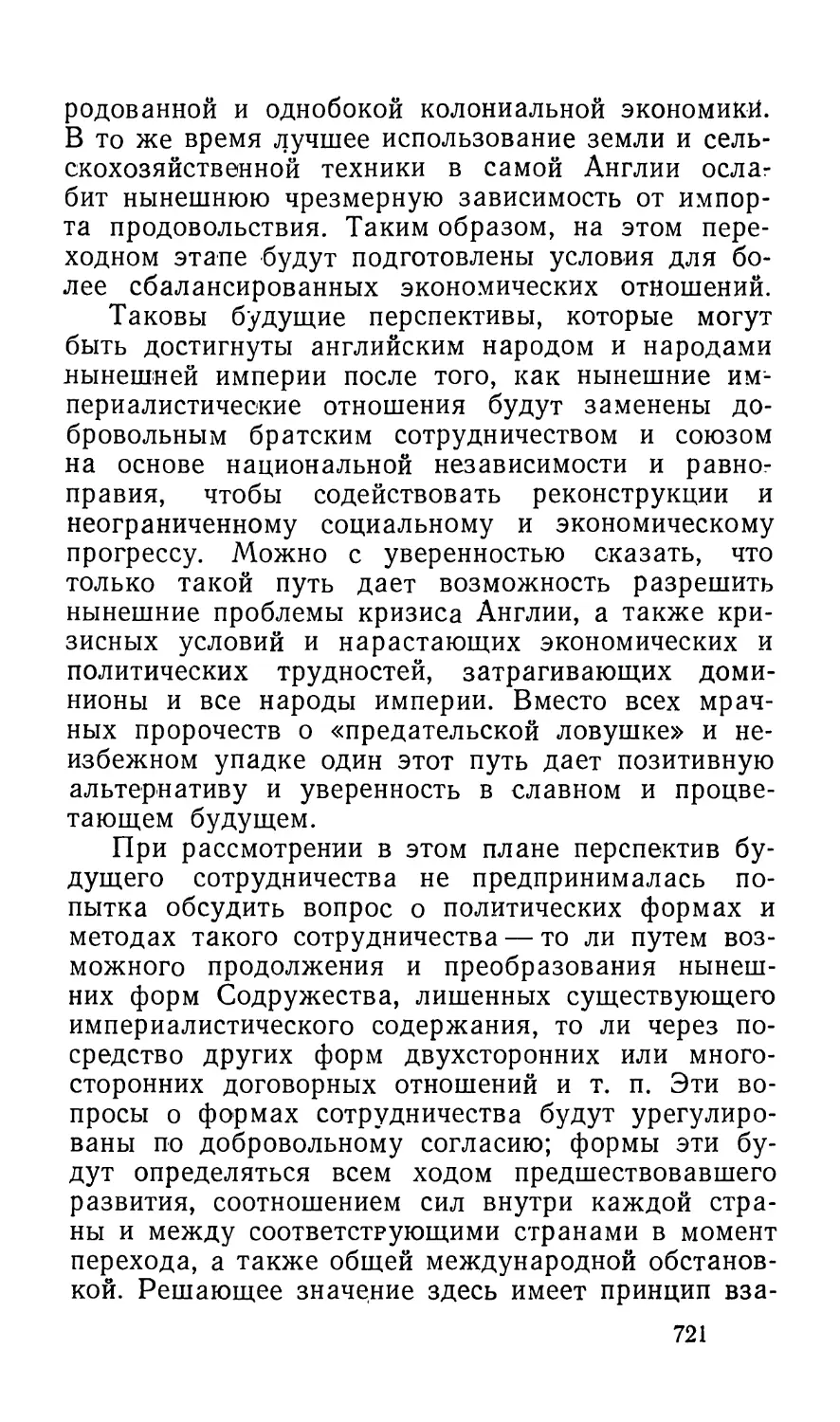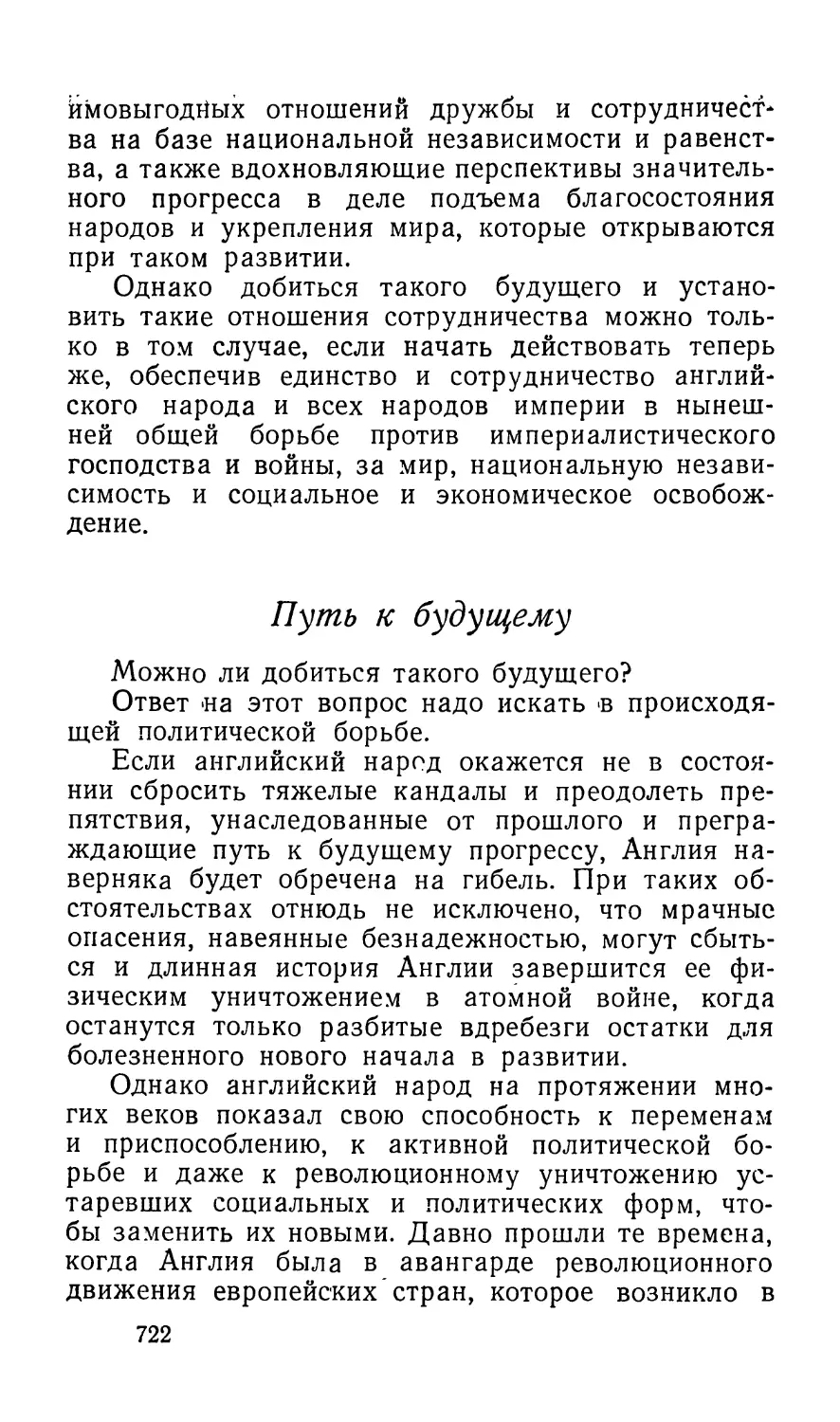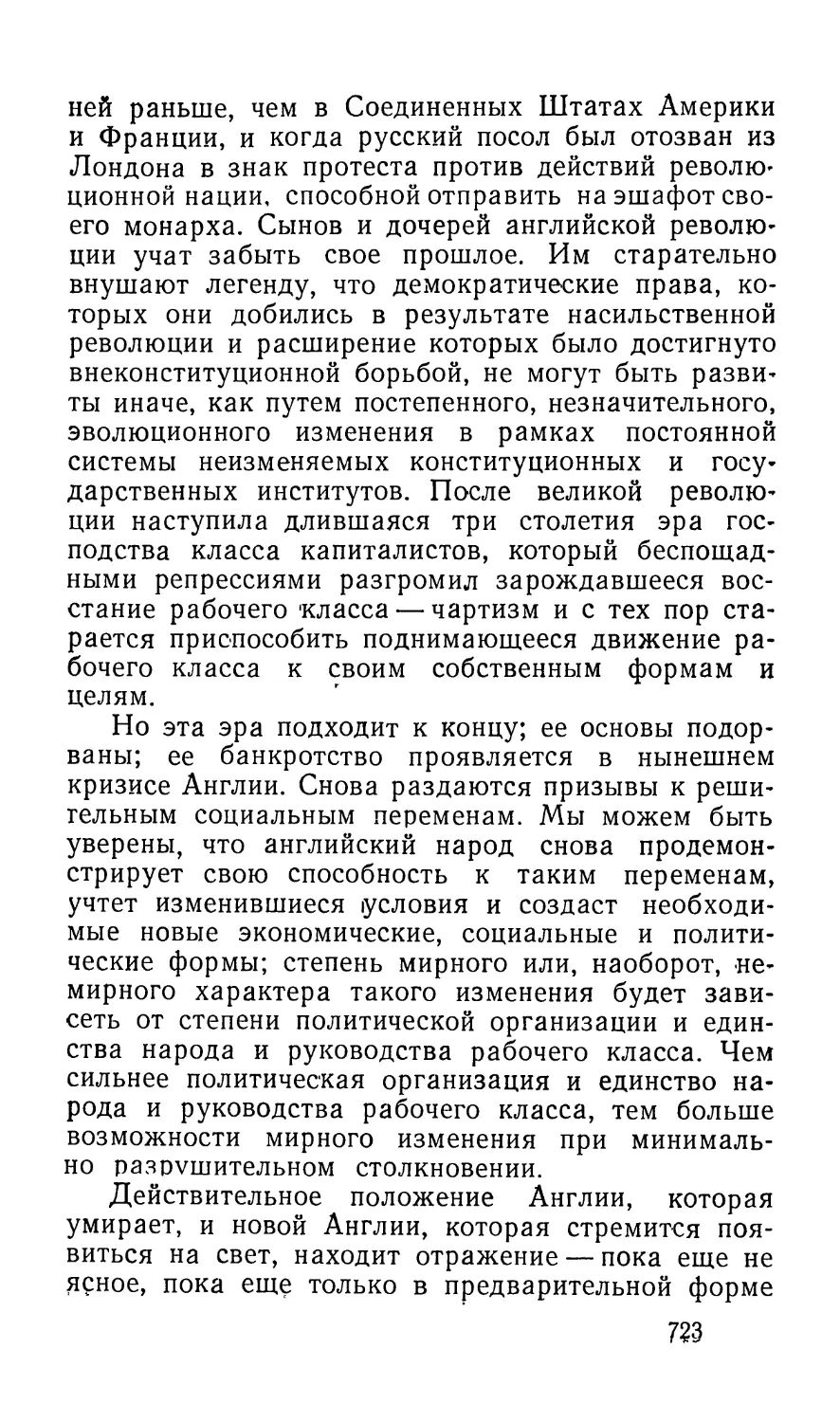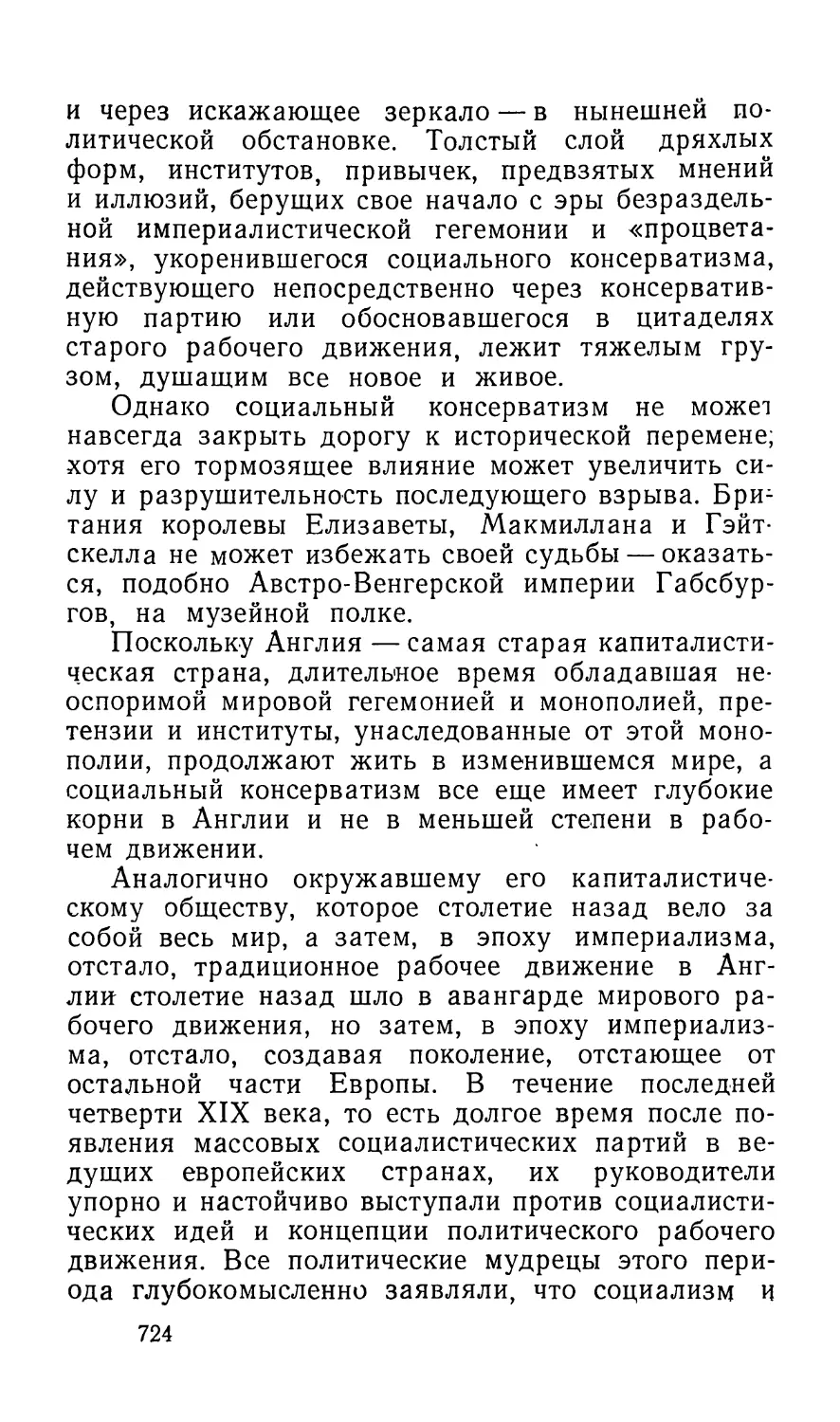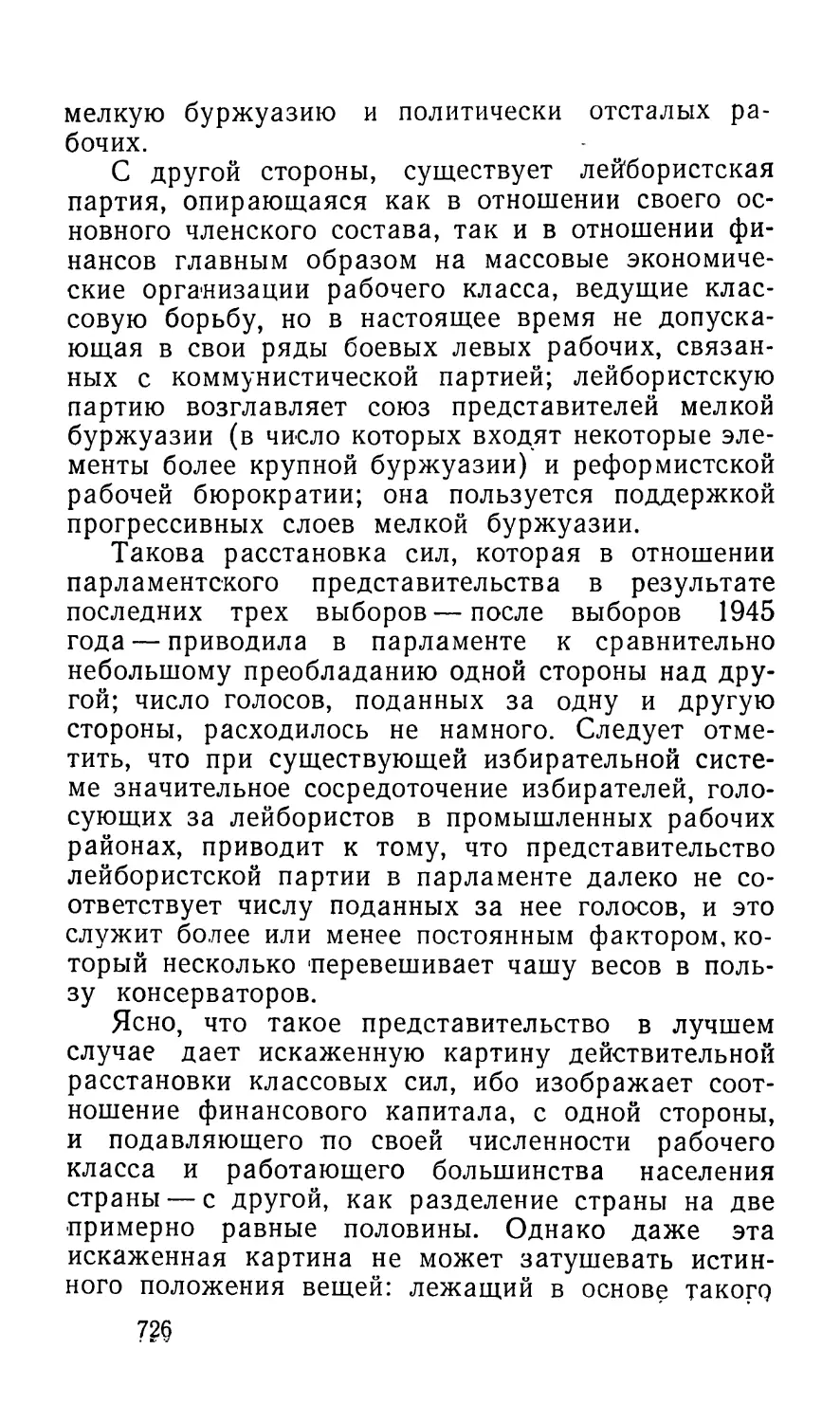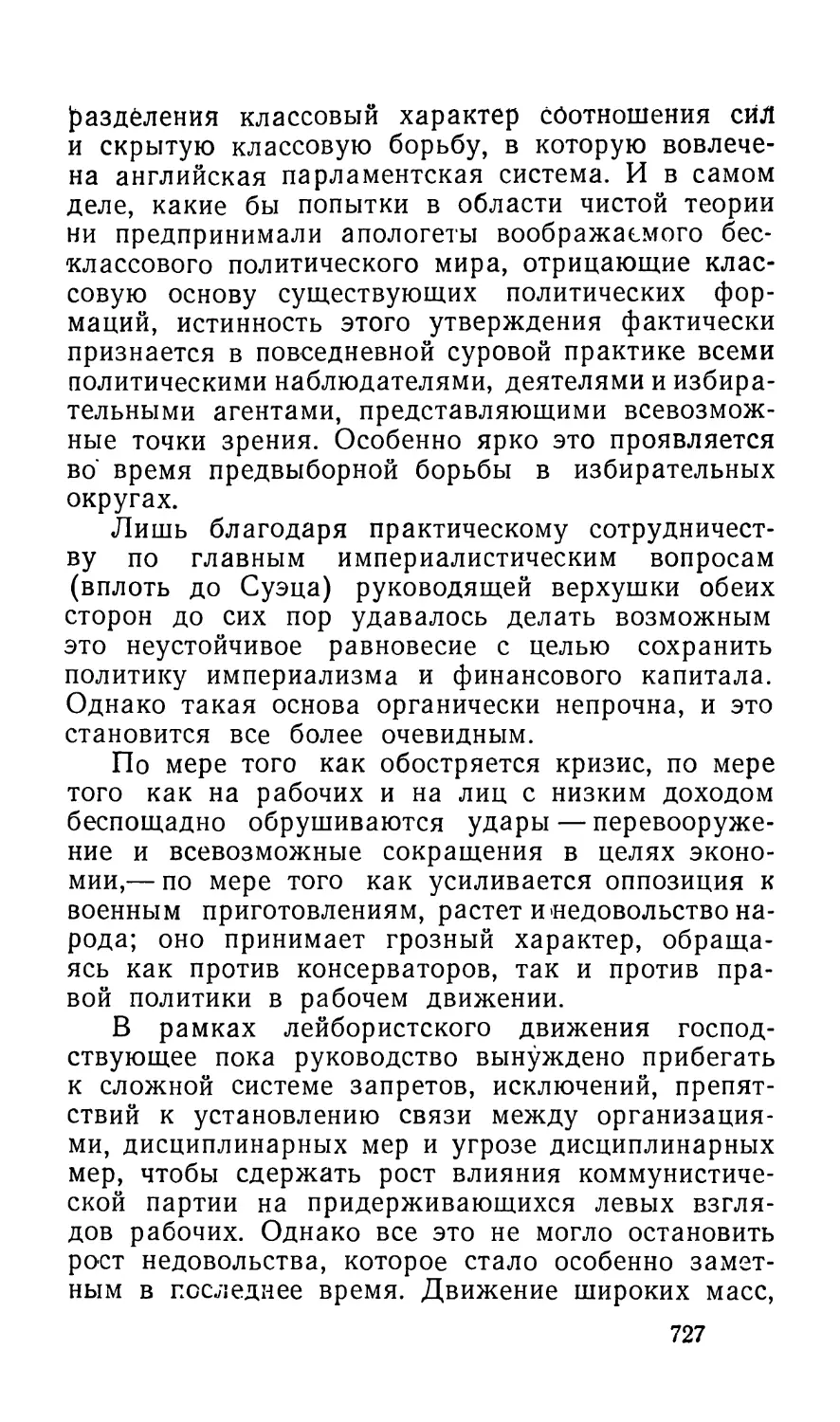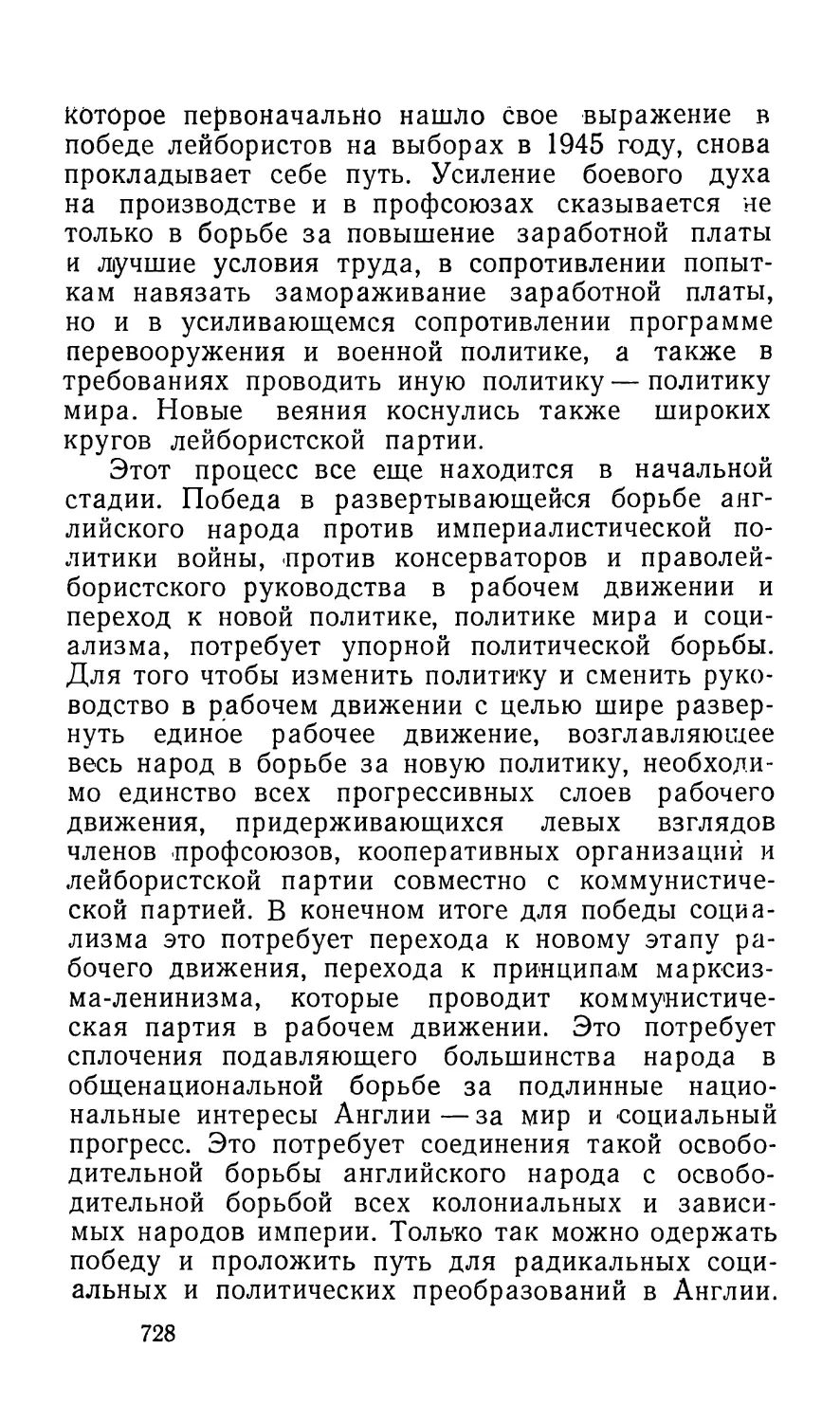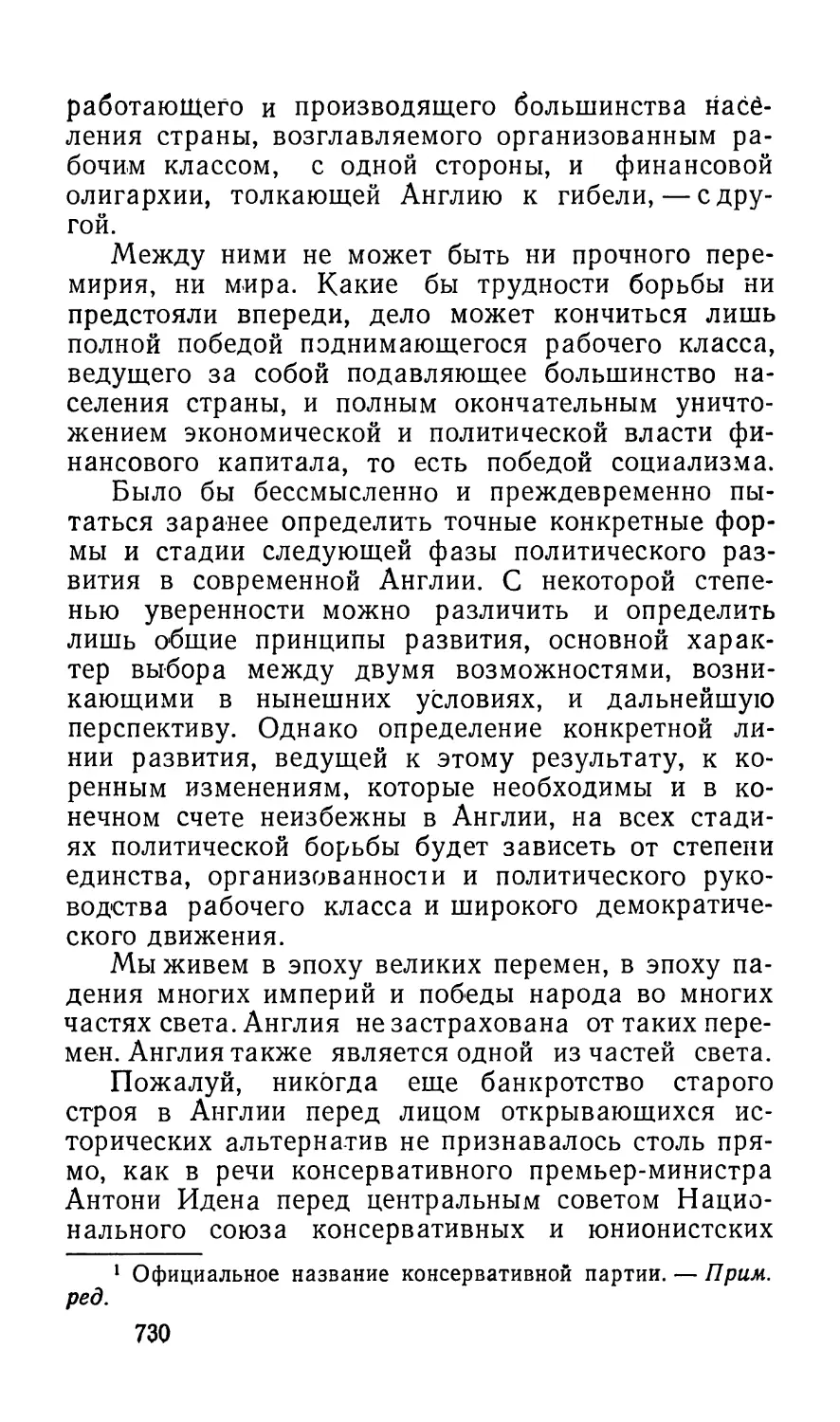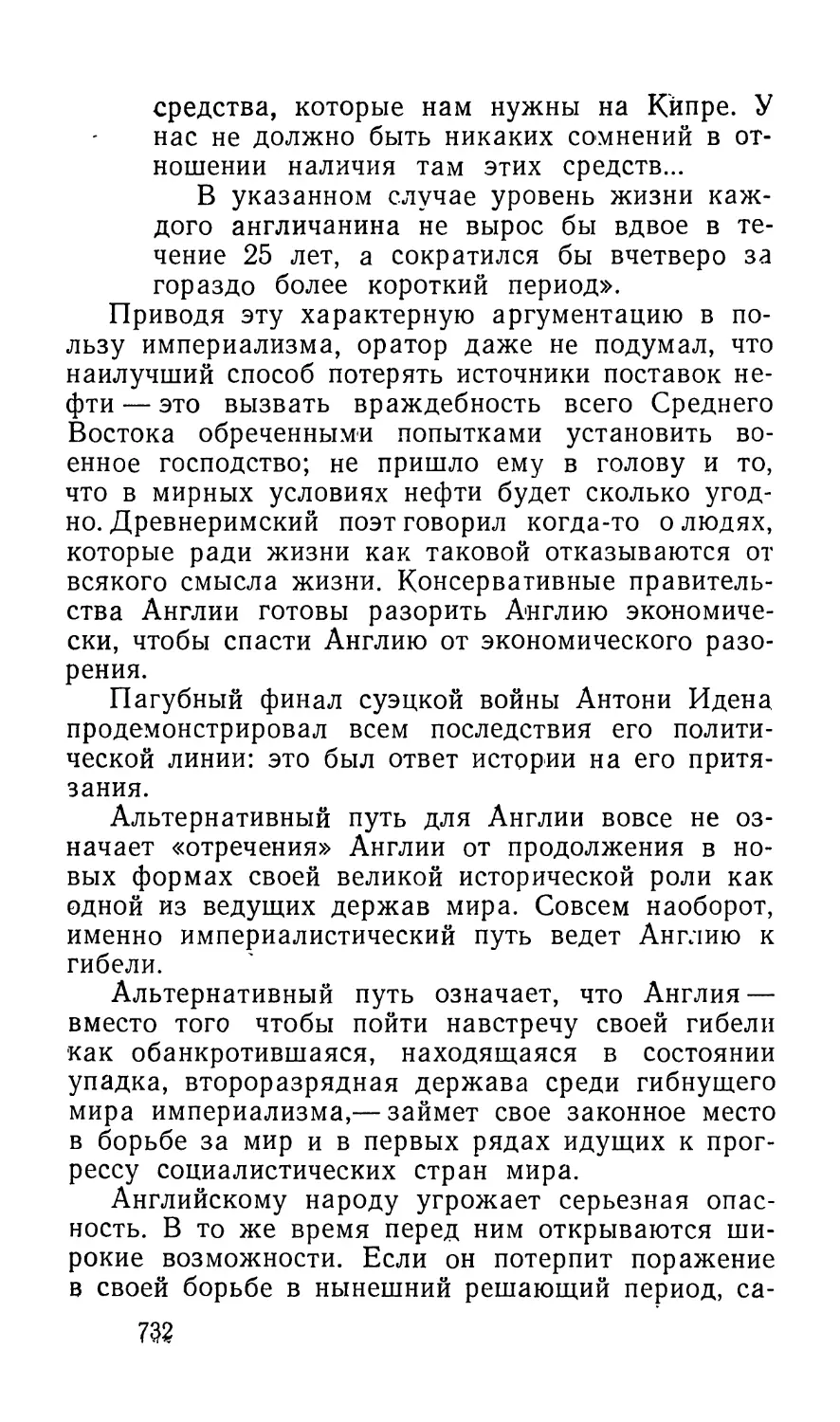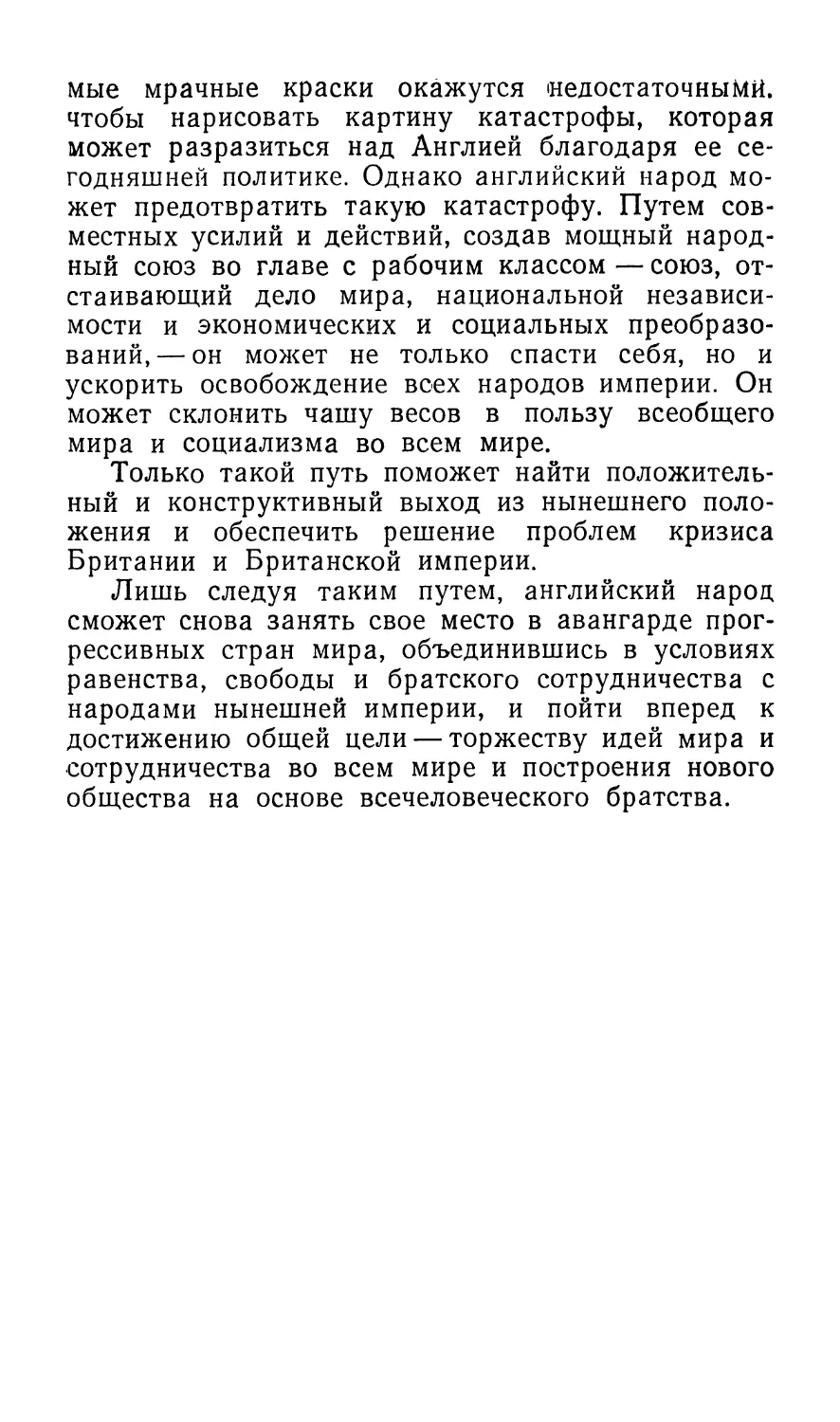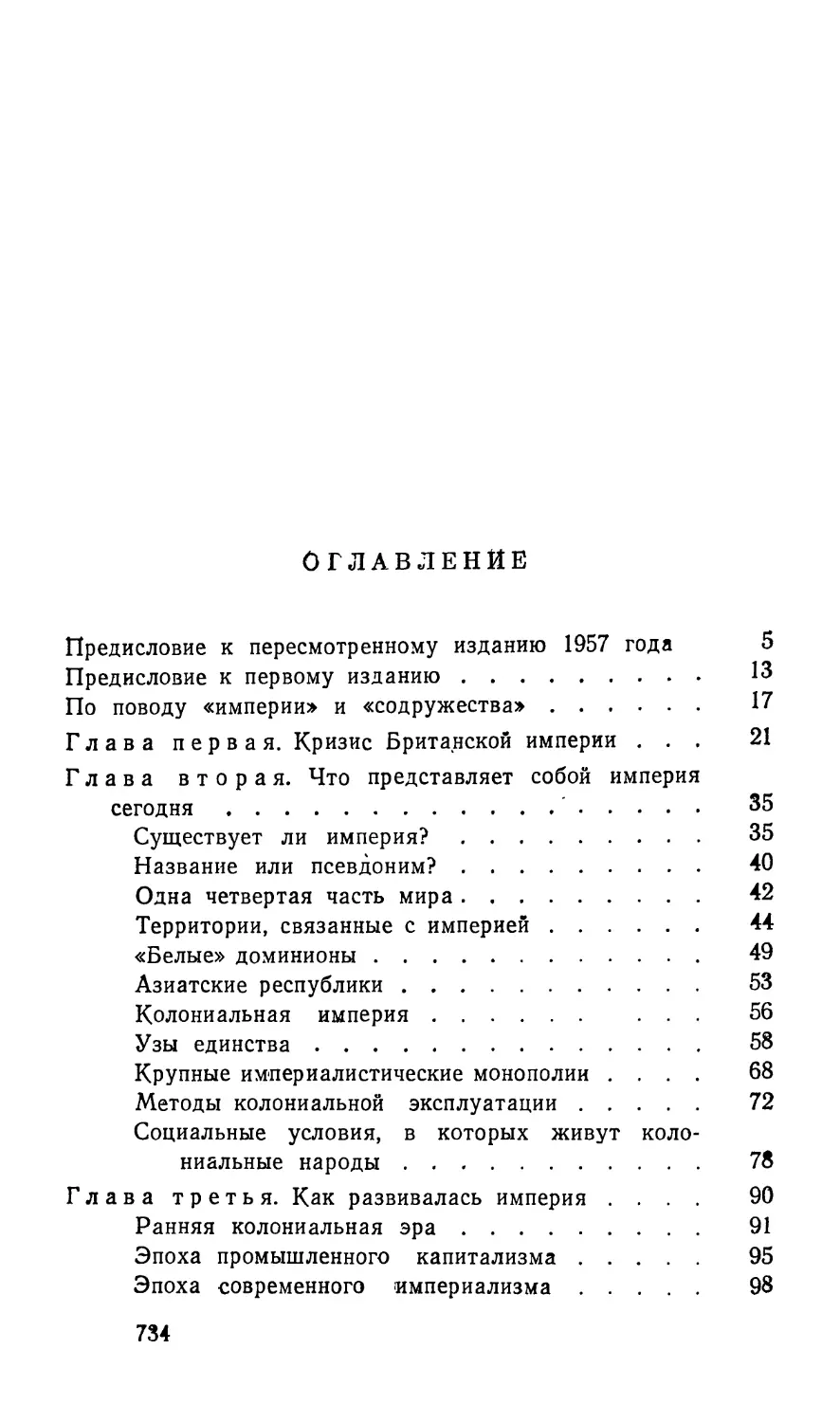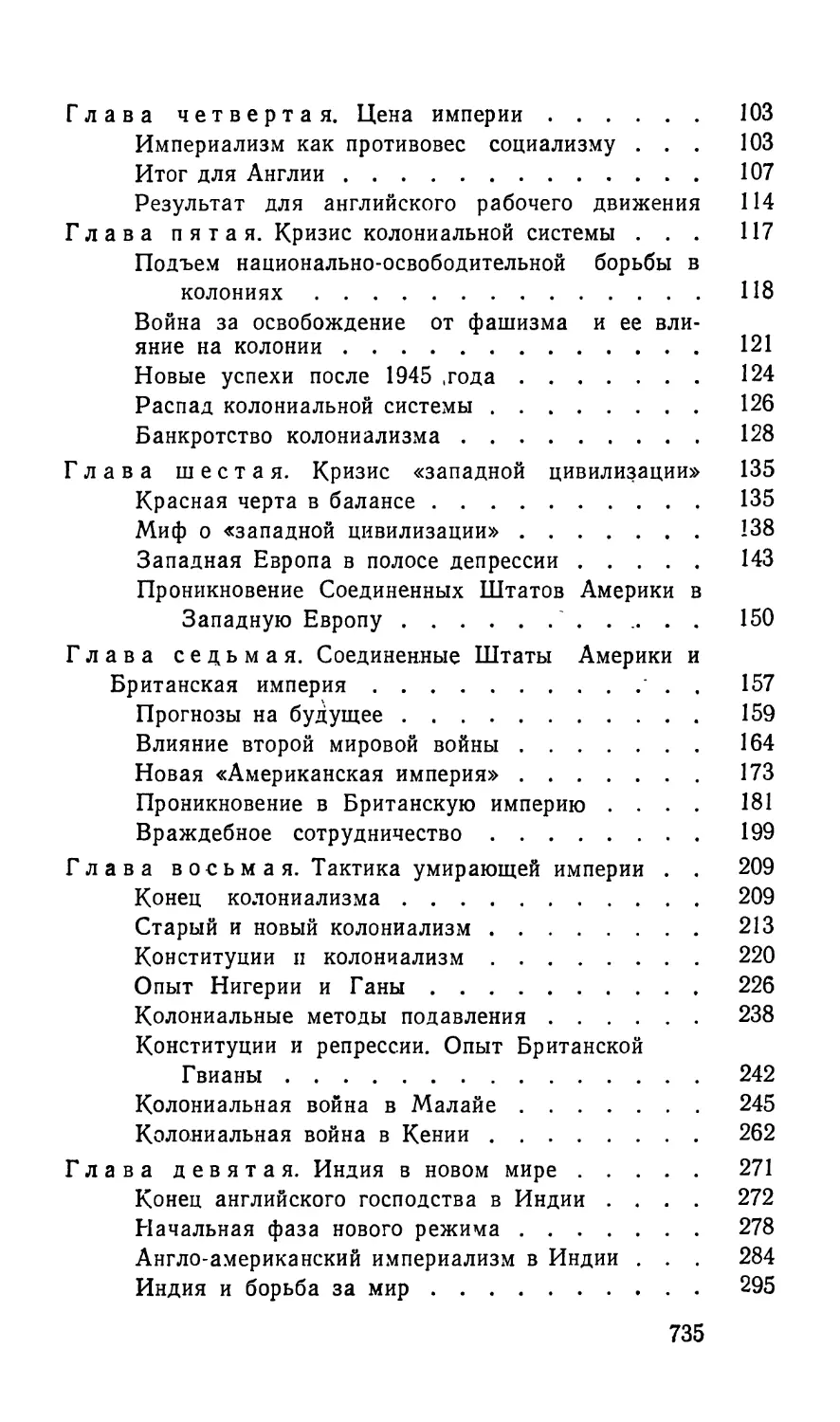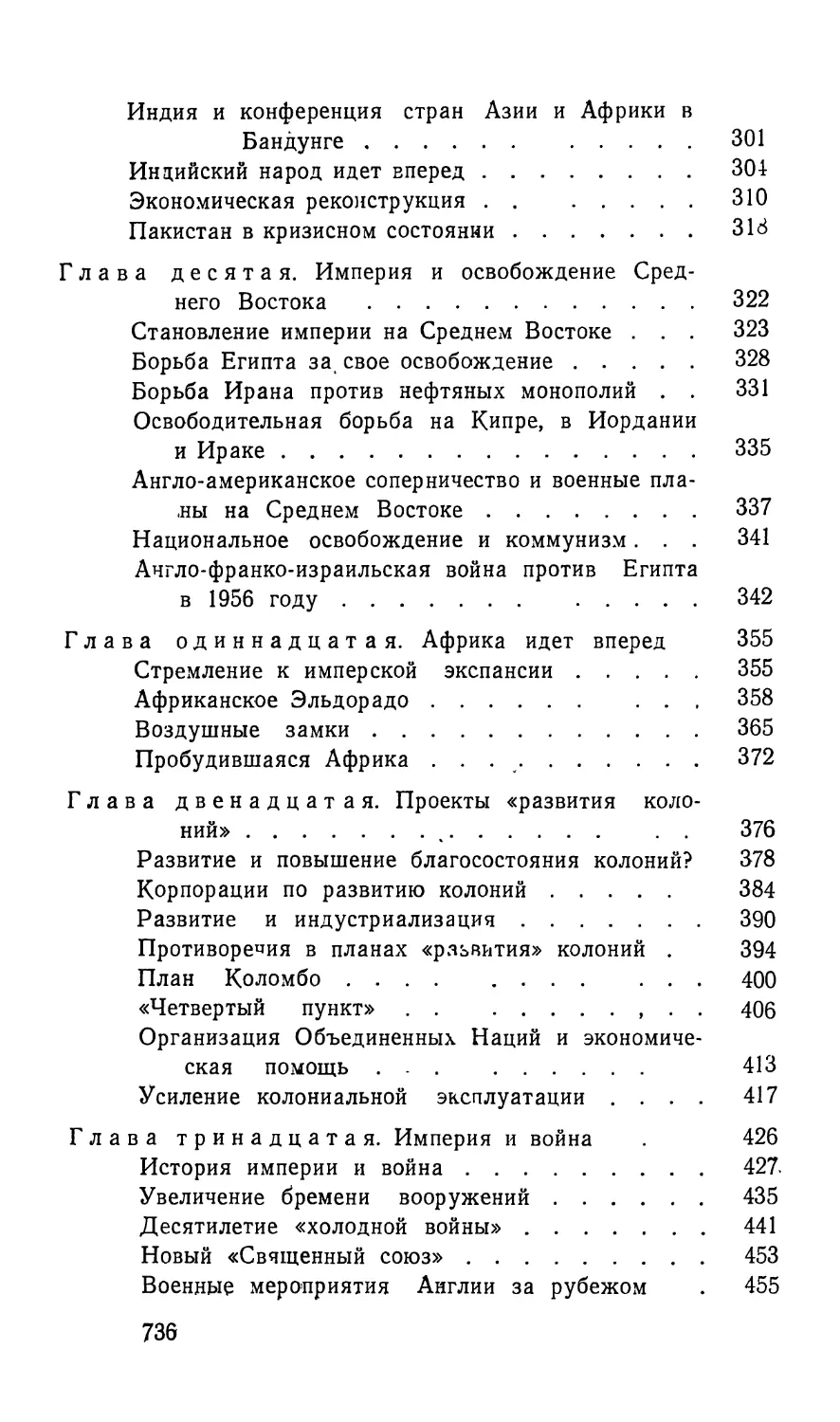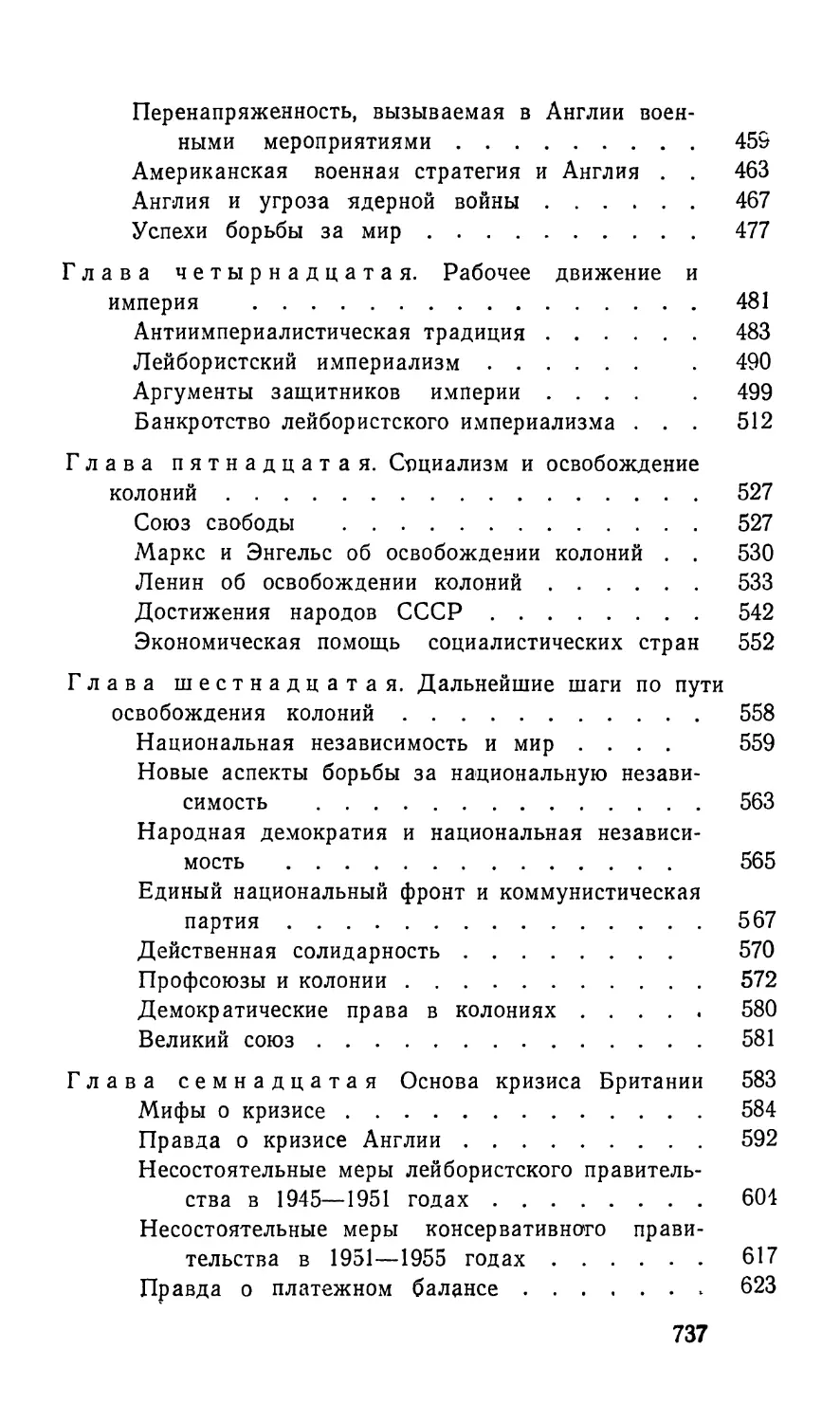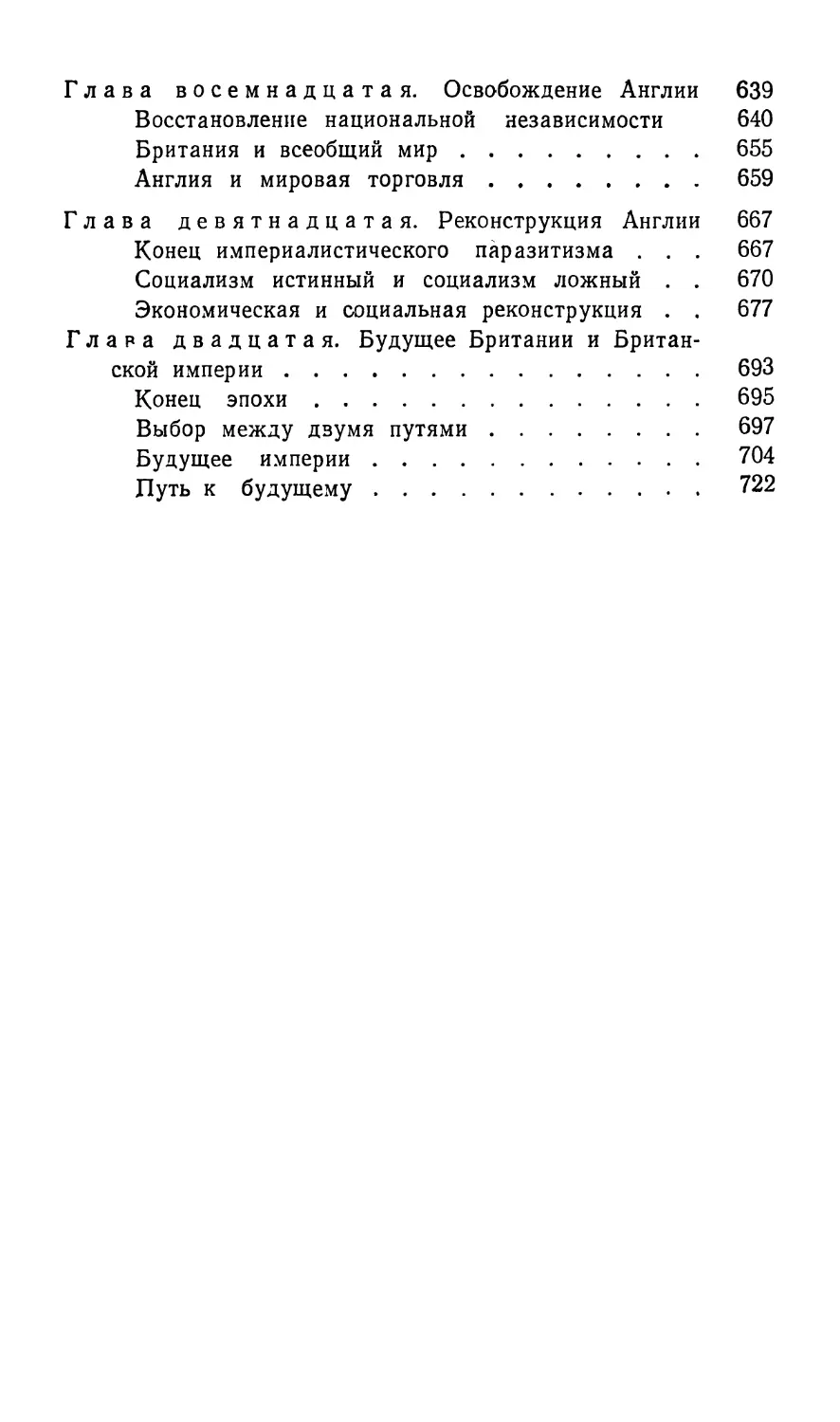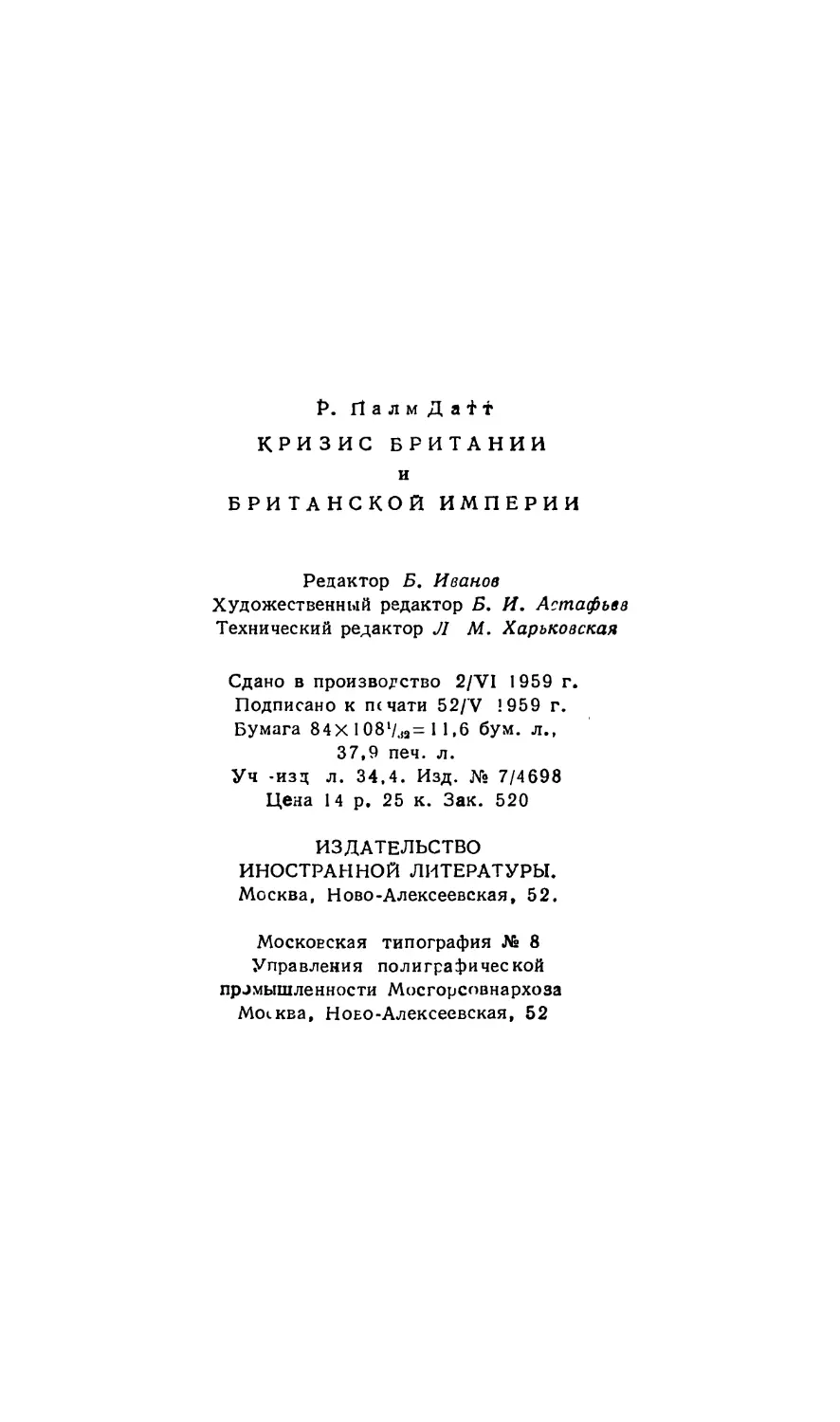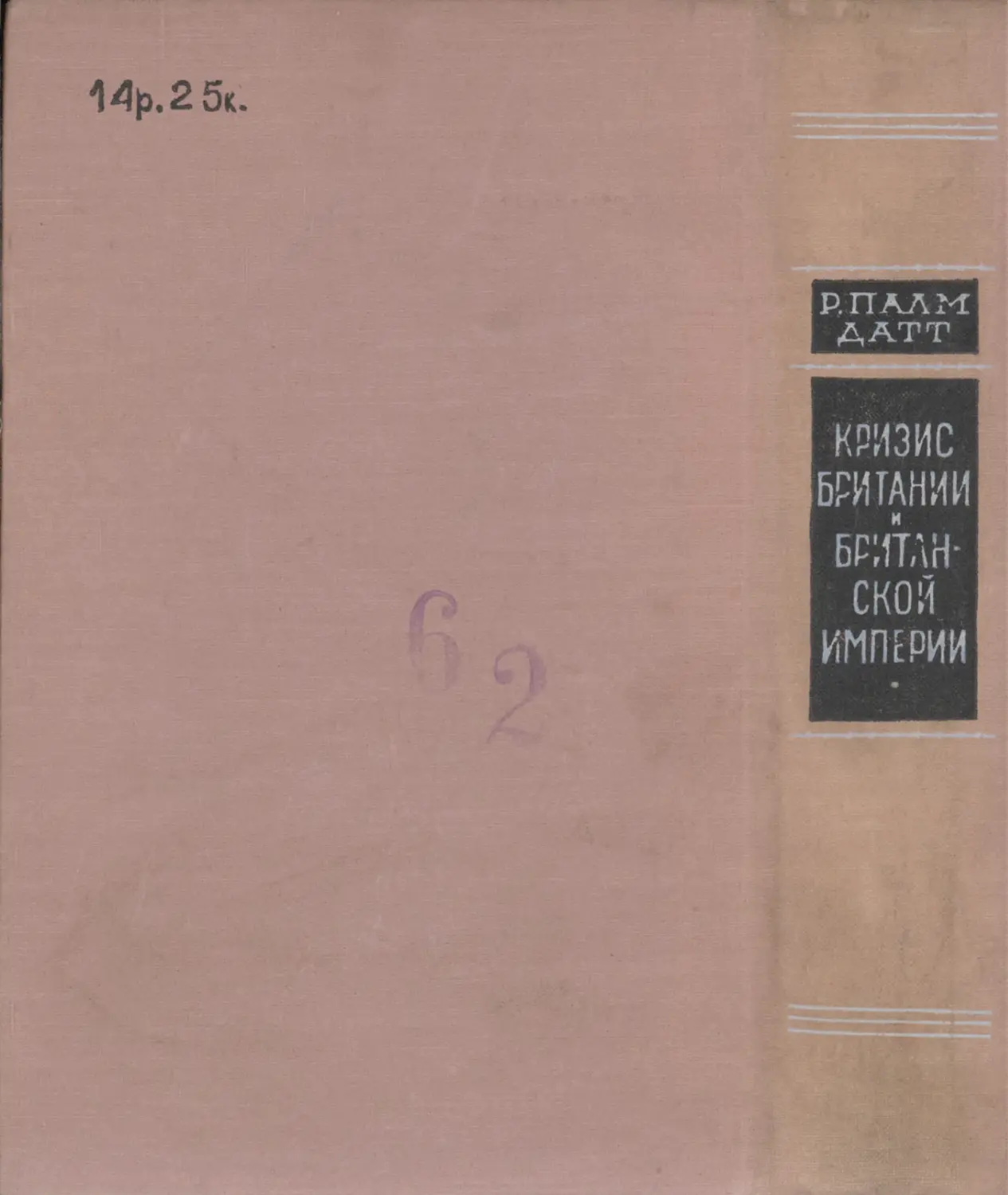Text
Р. ПАЛМ ДАТТ
КРИЗИС БРИТАНИИ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
И * л
Издательство иностранной литературы
R. PALM DUTT
THE CRISIS OF BRITAIN and
THE BRITISH EMPIRE
New and Revised Edition 1957
LAWRENCE & WISHART LTD L О N D О N
Р/ ПАЛМ ДАТТ
КРИЗИС
БРИТАНИИ и БРИТАНСКОЙ
ИМПЕРИИ
Пересмотренное и дополненное издание
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО А. Д. АНИКИНА и В. Л. МАРТЕНСА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959
АННОТАЦИЯ
Р. Палм Датт — вице-председатель Коммунистической партии Англии — широко известен советскому читателю как автор ряда научных марксистских трудов, посвященных теории и практике рабочего движения, проблемам империализма и общего кризиса капитализма.
Предлагаемое вниманию советского читателя новое издание труда Палма Датта «Кризис Британии и Британской империи» переработано и дополнено автором по сравнению с предыдущим, вышедшим в свет в русском переводе в 1954 году.
Б новом издании автором написано несколько новых глав и обновлен фактический материал.
Анализируя развивающийся кризис Британской империи, Палм Датт раскрывает паразитический характер загнивающего английского империализма, показывает одновременно обострение империалистических противоречий между Англией и США, а также рост национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ИЗДАНИЮ
Настоящая книга о современных проблемах Британии и Британской империи впервые опубликована в 1953 году. Отчасти она была основана на более ранней работе «Кризис Британской империи», опубликованной в 1949 году. С тех пор она несколько раз переиздавалась с незначительными изменениями и дополнениями.
Текст данного нового издания подвергся значительному пересмотру: добавлено несколько новых глав и много нового материала и в нем освещены события вплоть до начала 1957 года. Автор воспользовался этой возможностью и для того, чтобы в свете новых исторических событий пересмотреть некоторые частные политические оценки первого издания, особенно в отношении роли Индии после 1947 года и хода событий в Западной Африке.
События, происшедшие за пятилетие с момента выхода в свет первого издания, оказали существенное влияние на развитие описанного в книге положения. Они привлекли внимание к обсуждаемым здесь проблемам, которые в значительной мере игнорировались в 1949 и даже в 1953 году, подчеркнув настоятельную необходимость следовать предложенным путям разрешения этих проблем.
Суэцкая война 1956 года, в частности, наглядно продемонстрировала всем, насколько измени-
5
лось положение Британии в мире и как необходим новый подход как к внешней политике Британии, так и к ее внутренним проблемам.
Ныне считается общепризнанным, что хронический кризис Британии после войны является отражением изменений более глубоких и более постоянных, чем простое послевоенное неустройство и другие временные факторы. Навсегда исчезли прежнее привилегированное положение и мировая монополия Британии, а поддерживаемый пока благодаря накопленным ранее резервам уровень непрочного процветания построен на шаткой основе. Должен быть создан новый базис для свободной и процветающей Британии, такой Британии, которая не господствовала бы более над другими народами и не эксплуатировала их, а жила в мире и дружбе со всем остальным миром. Эта главная проблема и является основной темой настоящей книги.
Общепризнанным является и то, что колониализм сходит со сцены. За последнее десятилетие большинство прежних колониальных и зависимых народов создали свои независимые государства. Колониализм, однако, не просто умирает, он упорно сопротивляется, ведет арьергардные бои. Минувшие годы по-прежнему омрачались колониальными войнами. Гигантские монополистические объединения Запада продолжали удерживать в своих руках и эксплуатировать огромные богатства колониальных стран, извлекая баснословные прибыли за счет живущих в нищете народов. Действенность вновь обретенной независимости во многих случаях значительно урезана экономическими и стратегическими ограничениями или военной оккупацией. Поэтому борьба против колониализма, как в старых его формах, так и в новых, продолжает оставаться острой. Но грядущая победа народов над колониализмом во всем мире вырисовывается все более ясно.
Равным образом признается и то, что за минувшее десятилетие в результате растущих успе- 6
ков движения за освобождение большинства человечества от прежней колониальной или полуколониальной зависимости возник новый мир. Индия и Китай; имеющие из всех стран мира наибольшую численность населения, ныне стоят в первых рядах среди независимых держав мира. Народы Азии и Африки, представители которых в 1955 году впервые собрались в Бандунге на свою конференцию без участия какой-либо империалистической державы и единодушно высказались за мир и ненападение, против колониализма и военных блоков, составляют большинство человечества. Между лагерем социализма и недавно завоевавшими* независимость народами установились и продолжают укрепляться отношения дружбы, политического сотрудничества в борьбе за мир и экономического сотрудничества для продвижения экономического развития и ликвидации колониальной экономики. Вместе они составляют подавляющее большинство человечества и ныне вышли из сферы империализма. Империалистический сектор явно оказался сектором меньшинства. Эта новая расстановка сил в мире уже нашла частичное отражение и в Организации Объединенных Наций, и это отражение будет еще более правильным, когда Китай займет свое законное место в этой организации.
Все эти новые моменты внесли глубокие изменения в характер и весь контекст проблем Британии и Британской империи, рассматриваемых в настоящей книге. Существующие формы Британской империи стали в еще большей степени неустойчивыми и переходными.
Каково же должно быть при этой новой ситуации в мире будущее Британии и той большой группы стран, уже независимых или все еще зависимых, которые ныне связаны с Британией в рамках Британского Содружества Наций, или же Британской империи? Целью настоящей книги л является рассмотрение этого вопроса.
Открывается два пути.
7
Один путь состоит в том, что Британия должна признать новую ситуацию в мире и осуществить соответствующий коренной пересмотр своей политики, а именно:
— отказаться от бесперспективных попыток сохранить старый, обреченный империалистический базис, с которым связан непосильный груз гонки вооружений, колониальных войн и военных союзов;
— полностью воспринять идеи мира, мирного сосуществования и разоружения;
— установить новые, неимпериалистические отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами существующего Содружества Наций (или империи) на основе национальной независимости и равноправия;
— перестроить английскую экономику на неимпериалистической основе, чтобы использовать ресурсы Британии для удовлетворения нужд народа и дать ей возможность играть в мире прогрессивную роль.
Другой путь для Британии — это все более отчаянные попытки сохранить и укрепить распадающийся империалистический базис; навлечение на себя все нарастающей враждебности большинства человечества; подрыв внутренней экономики и снижение уровня жизни народа из-за огромного бремени гонки вооружений и заморских военных обязательств, а отсюда дальнейшее ускорение упадка Британии.
На арене политической борьбы еще предстоит сделать окончательный выбор между тем или другим путем. За последнее время предпринимались попытки сделать частичные шаги и по первому и по второму пути.
Летом 1955 года на Женевском совещании глав правительств была проявлена предварительная инициатива в направлении мирного сосуществования. Принимавшие участие в совещании представители четырех ведущих держав согласились в принципе с необходимостью попытаться 8
покончить с опасным периодом «холодной войны» в международных отношениях и достигнуть путем переговоров урегулирования нерешенных проблем. Последовавшее затем известное ослабление напряженности и возникшие отсюда новые надежды на мир во всем мире вызвали в каждой стране чувство облегчения и повсеместно приветствовались. Такое развитие, несомненно, открывало для Британии самые радужные перспективы как в осуществлении прогрессивной и независимой роли в международных отношениях, так и в разрешении на длительный срок трудных экономических проблем нынешнего периода.
Однако успех Женевского совещания «на высшем уровне» вызвал в тех кругах, которых встревожил такой исход, движение в обратном направлении. В условиях улучшившегося после Женевы международного положения возросла уверенность народов всех стран; национально-освободительное движение развивалось небывалыми темпами; экономические успехи лагеря социализма сделали возможной более широкую помощь социалистических стран недавно завоевавшим независимость народам для переустройства их экономики на независимой от империализма основе. После Бандунга и Женевы стало ясно, что существующее в мире соотношение сил изменяется ускоренными темпами. Наиболее ярко это проявилось на Ближнем Востоке.
Встревоженное такой перспективой, консервативное правительство повернуло вспять и вновь возвратилось к обанкротившейся «политике силы», к «холодной войне» и военной агрессии. На совещании министров иностранных дел в Женеве осенью 1955 года западные державы воспрепятствовали осуществлению директив Женевского совещания глав правительств по подготовке договора о европейской безопасности, что сделало бы возможным замену Североатлантического договора и Варшавского пакта и вывод из Европы оккупационных войск. На Ближнем Востоке 9
английское и французское правительства вернулись к методам демонстраций военной мощи, нашедшим свое кульминационное выражение в суэцкой войне в конце 1956 года.
Катастрофический исход суэцкой войны продемонстрировал всему миру банкротство такой политики. Суэцкая война не только не восстановила английского могущества на Среднем Востоке, но ознаменовала его крах в этом районе земного шара. В глазах мировой общественности она ознаменовала начало ухода со сцены Британии как ведущей империалистической державы. В самой Англии исход войны оказался новым ударом по экономическому положению, и без того шаткому, и усугубил разочарование народа в политике правящих классов.
Опыт последнего времени привел поэтому к все более широкому признанию того факта, что необходимо попытаться найти новую политическую линию и что такая новая политика должна мужественно и реалистически оценить происшедшие изменения в позиции Британии на мировой арене.
Для английского народа, который в современную эру так долго играл ведущую роль в историческом прогрессе человечества, нет ныне более важной задачи (поскольку она неразрывно связана со всеми внутренними проблемами Англии), чем стремление найти основу отношений с возникающим новым миром. В течение длительного времени Британия была центром крупнейшей колониальной империи. И даже при ограниченности территории современной собственно колониальной империи она все еще остается крупнейшей из существующих колониальных империй. Вся экономическая и политическая структура в Англии строилась на этой имперской основе; эта основа оказала глубокое воздействие и на развитие рабочего движения. В настоящее время очевидно, что старая основа завела нас в тупик. Этот тупик одинаково проявляется как в хронических 19
трудностях экономики, так и в застое и даже противоречиях, наблюдаемых в политическом положении. Назревает необходимость сделать шаг вперед.
В основу данной работы положен следующий тезис: империалистическая фаза развития Британии никогда не соответствовала подлинным интересам английского народа, а в основе проблем современной Британии лежит пагубное наследие этой фазы (и соответствующая политика, проводившаяся правителями Британии в последний период).
Решение внутренних проблем Британии и будущее английского рабочего движения не могут быть отделены от первостепенной необходимости перехода к новой, неимпериалистической основе, которая одна сделает возможным коренное преобразование английской экономики и откроет английскому народу путь к новому будущему.
В 1949 году, когда появился первый вариант этой работы, и в 1953 году, когда вышло более полное и доработанное издание, еще было очень мало лиц, готовых признать эти более глубокие проблемы положения Британии в современном мире. В 1949 году общественность была ослеплена мнимыми успехами «восстановления» при лейбористском правительстве, а в 1953 году — мнимыми успехами «восстановления» при консервативном правительстве; это ослепляло общественность и отвлекало ее от стоявших перед нами более серьезных проблем. Настоящая книга, являющаяся первой попыткой рассмотрения проблем Британии и Британской империи, взятых вместе (а не отдельно по Британии или отдельно по империи), была встречена в массовой печати тем почти полным молчанием, которое является обычным откликом современной прессы нашей страны на любую работу, пытающуюся затронуть новые проблемы.
Однако самые факты не могут быть устранены с такой же легкостью. Мечты о возможности 11
восстановления» без того, чтобы заняться основными проблемами, уже дважды рассеивались. Следует надеяться, что теперь настал подходящий момент для более серьезного рассмотрения проблем, с которыми сталкивается и которые предстоит разрешить английскому народу.
Март 1957 года. Р. Палм Датт.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга посвящена современным проблемам Британии. Она посвящена также Британской империи. Имеется причина, в силу которой и о Британии и о Британской империи говорится в одной книге, хотя, насколько известно автору, до сих пор никто другой не выпускал работы, в которой затрагивались бы проблемы как Британии, так и Британской империи.
Написано множество книг о послевоенной Британии, об экономических проблемах Британии, о новых достижениях Британии в области законодательства и управления, о «втором елизаветинском веке» Британии, о политических перспективах Британии и о способах устранения бед Британии.
Написано множество книг о современном развитии Британской империи, или Содружества Наций, или Содружества Наций и империи, об упадке империи, о возрождении империи, о торговле империи, об экономических проблемах империи, о развитии слаборазвитых территорий, о политических перспективах колониальных народов, об отношениях между империей и Европой, империей и Америкой, империей и «Атлантическим сообществом».
Однако не было написано ни одной книги — если не считать более ранней и очень краткой работы автора — о кризисе Британии и Британской империи, рассматривавшихся как единое целое. 13
Между тем именно в таком единстве (для которого характерно множество противоречий и конфликтов) заключается секрет понимания кризиса, переживаемого Британией сегодня.
Эта книга основана отчасти на более ранней краткой работе, озаглавленной «Кризис Британской империи», которая была впервые опубликована в 1949 году, выдержала несколько изданий, была переведена и издана в ряде стран Ч
Цель книги «Кризис Британской империи» заключалась в том, чтобы изучить кризис, переживаемый Британией, на основе анализа положения империи. В тот период, когда эта книга была опубликована, все еще преобладала тенденция объяснять испытываемые Британией затруднения временными, преходящими причинами, возникшими в результате второй мировой войны, а также послевоенных нарушений международного равновесия, и искать выход из положения при помощи различных временных мер. Аргументация книги «Кризис Британской империи» была направлена на то, чтобы показать, что кризис имеет более глубокие корни, чем это обычно признавало в то время в своих заявлениях большинство политических деятелей и экономистов. В книге доказывалось, что коренными причинами кризиса являются упадок и подрыв былой мировой монополии Британии, а также тот факт, что традиционная экономическая, социальная и политическая структура Британии и стран Западной Европы опирается по-прежнему на имперский, хотя и ослабленный базис. Из этого делался вывод, что меры по устранению кризиса, которые применялись сменявшими друг друга правительствами, не только были неспособны ликвидировать его, но, вызывая сильное и все возрастающее экономическое и военное напряжение, могли лишь еще более ухудшить положение.
1 На русском языке указанная книга Палма Датта выпущена Издательством иностранной литературы в 1950 году. — Прим. ред.
14
Я умышленно назвал эту книгу «Кризис Британии и Британской империи», несмотря на громоздкость такого названия и на справедливое возражение против употребления общего, зачастую неопределенного термина «кризис». Это вызвано стремлением ясно показать, что это книга и о Британии, а не только о Британской империи. Опыт показал, что у многих создалось впечатление, будто предыдущая моя работа посвящена империи и колониальному вопросу. А ведь хорошо известно, что, как только дело доходит до этого вопроса, рядовая публика в Англии хватается за шляпы, палата парламента пустеет, а оробевшие покупатели в книжном магазине спешат перейти к другой полке. Поэтому важно разъяснить читателям в Англии, на которых прежде всего рассчитана эта книга, что ее тема тесно связана с жизненно важными вопросами будущего Британии, английского народа, английской экономики и политики, английского рабочего движения и пути Британии к социализму, а все это в свою очередь неразрывно связано с вопросом об империи и с проблемами населяющих ее народов. Цель данной работы показать, что существует путь содружества между английским народом и народами стран нынешней империи, путь объединения в борьбе за уничтожение такой системы отношений, которая вредит как английскому народу, так и народам стран империи, и перехода к новой основе для разрешения стоящих перед ними проблем.
Наконец, я хотел бы выразить благодарность моим многочисленным друзьям за то, что они помогли мне собрать и проверить некоторые материалы для целого ряда разделов данной книги, и попросить у них извинения за эту коллективную, без указания имен, благодарность, ибо некоторых из них назвать нельзя, а указать одних и не упомянуть о других было бы несправедливо.
Июль 1952 года.
ПО ПОВОДУ «ИМПЕРИИ» И «СОДРУЖЕСТВА»
В настоящей книге о Британской империи говорится как о Британской империи.
За последнюю четверть века во многих официальных, полуофициальных и неофициальных кругах все чаще и чаще прибегают к замене термина «Британская империя» термином «Британское Содружество Наций» или «Содружество Наций».
Эта новая формулировка, как иногда полагают, основывается на различии между «Содружеством», включающим Англию и доминионы, или республики, и «империей» в собственном смысле слова, состоящей из зависимых колониальных владений. На этом основании делается даже попытка ввести в обиход гибрид этих двух названий — термин «содружество и империя».
Однако подобное различие лишено формального, юридического, или конституционного, основания. Во всех законодательных актах, касающихся «содружества», это определение распространяется в равной мере как на доминионы, так и на колонии и протектораты.
Поскольку старое название «империя», которым гордились Дизраэли, Джозеф Чемберлен и Киплинг, стало внушать подозрения демократической общественности, более сладкоречивым апологетам империализма пришлось подыскивать кзкое-то иносказание.
17
Профессор У. Дженнингс, являющийся признанным авторитетом в вопросах имперского конституционного права и одним из авторов труда «Конституционные законы Британской империи», в своем письме в газету «Таймс» 6 июня 1949 года дал по этому вопросу следующее разъяснение:
«Империя» ассоциировалась с «империализмом», который был самым тяжким политическим грехом. Применение термина «содружество» сделало политическую обстановку несколько менее трудной.
В действительности никакого различия между терминами «Британская империя» и «Британское Содружество Наций» или «Содружество Наций» не существует.
Авторитетное высказывание по данному вопросу стел ал 2 мая 1949 года в палате общин тогдашний премьер-министр Эттли в связи с лондонской декларацией конференции премьер-министров доминионов:
«Терминология, чтобы быть полезной, должна идти в ногу с событиями и не становиться закоснелой или доктринерской. Все конституционное развитие Содружества Наций, Британского Содружества Наций или Британской империи — я намеренно привожу эти три термина — было предметом обсуждения между правительствами его величества, но не было достигнуто никакого соглашения относительно принятия или исключения из употребления какого-либо из этих терминов. Никакого решения по этому поводу не приняло и правительство его величества в Соединенном Королевстве... Мнения по этому вопросу в различных частях Британской империи и Содружества Наций расходятся, и я полагаю, что лучше разрешить людям пользоваться тем выражением, которое им больше по душе».
Выступая в январе 1952 года в Оттаве, Черчилль ясно показал, какому термину он отдает предпочтение. «Не знаю, — сказал он, — могу ли я применить слово, которое я употреблял всю 18
жизнь и за которое не прошу прощения». Далее он говорил «о том, что некогда называлось империей». Комментируя это выступление 15 января 1952 года в редакционной статье, озаглавленной «Доминионы и империя», газета «Таймс» сделала обзор «изменчивости» различных псевдонимов, которые время от времени пытались насаждать, и в заключение привела убедительные доводы в пользу возвращения к историческому термину «империя».
«Разнородная по своему составу Британская империя, — писала «Таймс», — в свое время подразделялась на три категории стран: метрополию, доминионы и колонии...
В свое время подразделение владений короля на Содружество Наций и страны империи в зависимости от того, являлись ли они самоуправляющимися или в конечном итоге их контролировал Уайтхолл, было точным и полезным. Однако смысл слов все время меняется, и в последние годы, когда термин «Содружество» так расширился, что под него подпадают оба вида стран, это определение стало расплывчатым...
Было бы бесконечно жаль, если бы название «Империя» оказалось вытесненным».
«Изменчивость» всего развития Британской империи несомненна. Последовательные изменения названия отражают быстро изменяющееся содержание. Но империя не исчезла с лица земли. В целях, которые имеются в виду в настоящей книге, Британская империя называется — как для удобства, так и в соответствии с приведенными выше официальными определениями — тем, чем она на самом деле пока еще является, то есть Британской империей.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
КРИЗИС БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Та Англия, что побеждать других привыкла, Сама познала пораженья стыд.
Шекспир.
Не так давно каждый школьник учил стихотворение Киплинга «Большие пароходы». На вопрос: «Куда держите путь, пароходы большие?» — следовал ответ:
Мы едем за хлебом для вас и за маслом, Бананами, яйцами, сыром и мясом...
Мы едем за ними в Мельбурн и Квебек, В Хобарт, Бомбей, Гонконг, Ванкувер.
На следующий вопрос признательного школьника, что же он может сделать в благодарность за все это, следовал ответ, в котором школьнику внушалось, что морская мощь и империя являются основой существования Британии:
— Так чем вам помочь, пароходы большие?
Так чем облегчить вам ваш тягостный путь?
— Пошлите дредноуты стеречь ваши воды, Чтоб нам не мешали везти вам еду.
Все это отголосок прошлой эры. Военные корабли Британии не господствуют больше на море. Морская мощь перешла к американскому флоту, а «бананы, яйца, сыр и мясо» стали более дефицитными и менее дешевыми товарами.
Сегодня каждый житель Британии ощущает на себе, что времена переменились, что положение Британии в мире уже не то, что прежде, что былая мировая монополия исчезла, что дни имперского господства кончаются и что возникают 21
новые проблемы, с которыми связано существование населения Британских островов.
Тем не менее проблемы экономического, социального и политического будущего Британии все еще по большей части обсуждаются в отрыве от проблем империи, а это все равно, что говорить об Отелло, не упоминая о том, что он мавр.
Считается, что колониальные вопросы, вопросы империи, являются исключительным достоянием горстки специалистов — чиновников, исследователей, миссионеров, оголтелых шовинистов, реформаторов и антиимпериалистов, которые занимаются отдаленными территориями и народами, не имеющими особого практического значения при решении острых проблем повседневной жизни Британии. То обстоятельство, что от этих проблем гак отгораживаются, не удивительно. Влияние имперской политики имеет самые непосредственные, животрепещущие последствия, сказываясь на таких, например, факторах, как стоимость жизни, налогообложение, цены на сырье, перевооружение, колониальные войны и угроза новой мировой войны. Однако имперские отношения и имперская политика, которые приводят к этим последствиям, видны не столь отчетливо. Несмотря на всю идеологическую обработку, усердно проводимую официальными кругами, культ империи никогда не пользовался подлинной популярностью в народе.
В опубликованных министерством колоний результатах опроса общественного мнения, проведенного в 1949 году, говорится:
«Опрос представителей самых различных слоев населения показал, что более половины опрошенных не смогли вспомнить названия ни одной колонии; три четверти опрошенных не знали разницы между колонией и доминионом; три процента опрошенных считают, что Америка все еще является колонией. Почти единственным вопросом колониальной жизни, вызывающим некоторый интерес, был план выращивания земля22
ных орехов, о котором кое-что знали 67 процентов опрошенных» («Таймс», 22 июня 1949 года).
Это не значит, что пропаганда правящего класса была в целом безрезультатной. Напротив, представление об империи и о Британии — центре крупнейшей в мире империи — чуть ли не как о естественном порядке вещей все еще глубоко коренится в народном сознании.
«Имперское чувство, — писал когда-то либерал Гладстон, — является врожденным у каждого англичанина. Это часть нашего наследия, которое появляется на свет вместе с нами и умирает лишь после нашей смерти».
После того, как от всех шовинистических манифестаций и «крестовых походов» Бивербрука остается лишь усталость и скептицизм, после того, как слова школьных учебников о «созидателях империи» и о «подвигах, которые создали империю», забываются, — все-таки сохраняется неясное, самое общее и наполовину подсознательное представление о том, что Британии предназначено самой судьбой править другими народами; об «империи, в которой никогда не заходит солнце»; о естественном праве Британии посылать военные экспедиции в- Малайю и Гонконг, на Кипр и в Ирак; о «цивилизаторской миссии» Британии, заключающейся в том, чтобы вводить законность и порядок, полицию и железные дороги и обеспечивать отсталым народам продвижение к самоуправлению под соответствующим контролем; об исконном превосходстве английских институтов и социальных и экономических норм Британии. Империя остается постоянной негласной исходной предпосылкой британской политики. Однако эта предпосылка обычно не связывается в сознании с глубоким пониманием вновь возникших проблем.
Напрасно было бы искать в отчетах о заседаниях палаты общин за последние годы каких-ни¬
будь серьезных общих прений о проблемах Британской империи в целом или - о влиянии этих проблем на положение Британии в мире и на будущее Британии. Подобно тому как в былое время в дни ежегодных дебатов по вопросу об Индии можно было быть уверенным в том, что палата общин будет пустовать, так и сегодня прения по колониальным вопросам обычно собирают .очень мало народа, кроме специалистов, если только не накалится атмосфера из-за какого-нибудь злободневного вопроса, вроде провала плана выращивания земляных орехов или проблемы иранской нефти.
Такое внешнее безразличие к империи (подобно старому мифу о том, что империя была приобретена «в припадке рассеянности») отнюдь не означает, что правительство или правящий класс Британии не уделяют ей внимания. Наоборот, совсем наоборот. Вопросы империи: сохранение и защита колоссальных заокеанских интересов и сфер господства английского финансового капитала; сложные маневры и всевозможные политические методы, применяемые в беспрестанно меняющихся условиях, чтобы остановить волну «мятежных» национальных чувств; неустойчивое равновесие — экономическое, политическое и стратегическое — в отношениях с более сильным и энергично наступающим американским империализмом; глубоко укоренившаяся враждебность к новому миру — миру победоносного социалистического и антиимпериалистического движения народов, охватывающего ныне свыше трети человечества; конфликт между стратегическими потребностями сверхперевооружения в целях сохранения этих интересов и ограничениями, вызванными внутренним экономическим загниванием, — все это составляет самую сущность политики современного правящего класса Британии на мировой арене и является путеводной нитью, которая только и обеспечивает постоянство и единство целей при всех разнообразных изменениях и поворотах в 24
политике правительств, будь то консервативный или лейбористские.
Этот общий фундамент империалистических интересов является также основой фактического единства официальной политики двух правящих партий и их руководства: консерваторов и либералов в первой четверти XX века или консерваторов и правых лейбористов во второй его четверти. Какие бы громкие заявления о разногласиях ни делались с трибун во время предвыборных митингов или в дискуссиях, во всех основных имперских и стратегических вопросах — вплоть до суэцкой войны 1956 года — обнаруживалось фактическое единодушие между правящими партиями. Оно выявилось в вопросе о политике Антанты в период, предшествовавший 1914 году, в разгар самых шумных разногласий по вопросам внутренней политики между консерваторами и либералами, ожесточенно. поносившими друг друга. Оно выявилось сравнительно недавно в таких вопросах, как союз с Америкой, план Маршалла, Атлантический пакт, программа перевооружения и ядерная стратегия. За шесть лет пребывания у власти лейбористского правительства Эттли — с 1945 по 1951 год—консервативная оппозиция неоднократно выражала свою поддержку и одобрение общим принципам его внешней и колониальной политики. Когда в конце 195*1 года власть перешла к консервативному правительству, лидеры обеих партий немедленно провозгласили принцип преемственности внешней и колониальной политики и поддерживали его.
Однако эта «красная нить» империализма, эти империалистические в своей основе интересы и политика, понять которые необходимо, для того чтобы разобраться в экономике и политике Британии, никогда не провозглашаются публично. Напротив, ввиду особой щепетильности, наблюдающейся сейчас в этой области, а также вследствие распространения демократических, антиимпериалистических настроений все содержащиеся в офи25
Циальных высказываниях упоминания об империй и империализме обязательно сопровождаются извинениями и реверансами. Былая энергичная защита империализма, с которой выступали Джозеф Чемберлен, Керзон или Милнер, в нынешний период критической напряженности и неустойчивого равновесия вызывает неодобрение официальных кругов как проявление дурного тона. Вместо этого все чаще пускается в ход — в особенности лейбористскими и либеральными империалистами, а также более современными консервативными империалистами — хитроумный вымысел, будто традиционные понятия империи и империализма — дело тяжелого прошлого, что эти понятия давно смыты волной просвещения, взаимного усовершенствования, широкой системы социальных мероприятий, развития и общей эмансипации.
Правда, те самые государственные деятели, которые выражают эти благие чувства, обычно в следующей же речи (а иной раз и в той же самой) славят империю, утверждая, что активы и интересы Британской империи имеют важнейшее экономическое значение как основа процветания и жизненного уровня английского народа, или же хнычут по поводу чудовищного бремени военных обязательств во всем мире, которое они вынуждены нести, ссылаясь при этом на широкие имперские обязательства. Когда же этим самым государственным деятелям приходится сталкиваться с мучительной загадкой платежного баланса Англии, они без колебаний применяют удобный метод: увеличение на сотни миллионов фунтов стерлингов счетов колониальных стран, чтобы улучшить свои собственные финансы, — или же в поисках выхода строят расчеты главным образом на колоссальном увеличении дохода от «невидимых» статей экспорта — дохода, который должен быть выжат путем эксплуатации империалистическими монополиями естественных богатств колоний — нефти, каучука, олова и меди. Как только возникает угроза этим интересам империалистиче26
ских монополий, они спешно посылают войска и бомбардировщики в Малайю или Кению или военные корабли в Персидский залив.
Однако эти противоречия никогда не рассматриваются как таковые. Существует молчаливое соглашение относительно своего рода «двойной бухгалтерии» в империи, причем две стороны баланса никогда не сопоставляются. С одной стороны, чувства всеобщей филантропии и благожелательности; либеральное просвещение и движение к свободе «в мистическом круге короны»; планы развития и социальных мероприятий, подкрепляемые жалкими крохами от колоссальных прибылей монополий. С другой стороны, конкретная реальность: гигантские колониальные тресты и комбинаты; владельцы плантаций и стопроцентные прибыли; нищета и эксплуатация масс; ставки заработной платы, обрекающие трудящихся на голодное существование, зловонные трущобы и разорение крестьян; колониальные карательные законы и репрессии; концентрационные лагеря, террор и расстрелы; войска, пушки и бомбардировщики.
Эта «двойная бухгалтерия» империи не является сама по себе чем-то особенным и экстраординарным. Она характерна для всякого капитализма, в особенности в период загнивания, когда его устоям угрожает народное восстание. Однако эта «двойная бухгалтерия» является весьма серьезным препятствием для глубокого понимания политической обстановки в такой момент, когда вся традиционная система империи переживает кризис и когда английскому народу необходимо осознать реальное политическое положение и последствия кризиса, чтобы он мог разрешить стоящие перед ним проблемы.
Практическим результатом того, что правящие круги Британии фактически сосредоточили все внимание на экономических, политических и стратегических целях империи, в то же время публично замалчивая, отрицая или отвергая эти цели, должна явиться крайняя политическая путаница, 2=7
дезориентация и разочарование. Английский народ с беспокойством сознает, что тут что-то неладно. Однако он напрасно ожидает, что правители или признанные представители официально преобладающих в стране партий просветят его в этом вопросе. От народа скрывают, каково истинное положение Британии в современном мире.
Все нынешние затруднения объясняются преходящими, временными, случайными причинами, которые можно устранить, если приложить некоторые дополнительные усилия и согласиться нести жертвы в течение короткого периода, пока не возвратятся лучшие времена. Министр финансов сэр Стаффорд Криппс сказал в сентябре 1949 года:
«В конце войны все мы думали, что положение будет лучше, чем оно оказалось в действительности.
Мы пытались справиться с положением при помощи ряда паллиативных средств, которые приводили к ряду кризисов по мере того, как каждое из них себя исчерпывало». Аналогичным образом и с подобными же результатами поступали в дальнейшем министр финансов консервативного правительства Батлер и его преемник Макмиллан.
Английский народ привык жить в условиях хронического кризиса. Однако никто не разъясняет ему, чем этот кризис вызван. Если в песне поется: «Британия пребудет вечно!» — то современного англичанина можно извинить, если он истолкует эти слова так: «Кризис пребудет вечно!»
В самом широком смысле кризис был постоянным явлением в Британии после первой мировой войны. Он проявлялся в форме затяжной депрессии, в потере рынков, падении фунта стерлингов, в возникновении второй мировой войны.
Однако после второй мировой войны кризис принял особенно острый, рецидивный характер. Сперва это объясняли послевоенной нехваткой товаров и неустроенностью. Но по мере того, как шли годы, а выхода все не было, это объяснение 28
отошло в прошлое. Затем кризис принял мрачную форму долларового кризиса и кризиса платежного баланса. Предполагалось, что выходом послужит помощь по плану Маршалла. Затем последовал девальвационный кризис 1949 года.,В 1950 году разразился сырьевой кризис, который в сочетании с корейской войной и накапливанием запасов в целях перевооружения привел к тому, что цены сильно подскочили и соотношение импортных и экспортных цен было нарушено. К 1951 году возобновился кризис платежного баланса. Хотя в последующие годы удалось временно достигнуть положительного баланса, к 1955 году кризис платежного баланса вновь разразился, а в 1956— 1957 годах к нему прибавились тяжелые экономические последствия суэцкой военной авантюры.
За последние годы английский народ привык ко все усиливающемуся вмешательству американцев в его дела. Появились американские экономические советники и инспекторы, контролеры и специальные миссии, отправляющие отчеты в Вашингтон; американские субсидии; американские запреты и ограничения английской торговли; американские инструкции и распоряжения английскому кабинету; американские сверхгенералы в английской армии и американские сверхадмиралы в английском флоте; американские военные базы, американские самолеты и американские войска, постоянно расквартированные на английской земле.
Англичане привыкли к непосильным и все увеличивающимся расходам на вооружение, достигшим таких масштабов, которые вызвали бы апоплексический удар у их дедов и ошеломили бы их отцов. Они привыкли к сгущающимся тучам войны и мрачным предсказаниям о будущей атомной войне.
Но почему все это происходит и к чему ведет? Ответа не дают ни руководители правительства, ни руководители официальной оппозиции, ни мощные и влиятельные органы печати, ни радио29
вещательные монополии, поставляющие информацию публике. Корабль идет ко дну в потемках.
Пора честно отдать себе отчет в новом положении Британии, Британской империи и всего мира. Кризис, который поразил Британию в столь многочисленных и разнообразных формах, не является ни преходящим, ни случайным. Это неизбежное явление в эпоху социальных изменений, в которую мы живем. Все противоречия м^жду старым и новым сказываются в Британии особенно остро потому, что в течение многих лет она была центром крупнейшей в мире империи, а ныне стремление человечества к освобождению сотрясает все здание империи. Если подходить к этому вопросу с самой широкой точки зрения, то следует сказать, что кризис в Британии — это лишь часть общего кризиса капитализма и империализма, неуклонно растущего после первой мировой войны и победы социалистической революции в России и углубившегося еще больше в результате второй мировой войны, победы китайской революции и успехов национально-освободительного движения во всем мире. Однако Британию и страны Западной Европы, которые являются самыми старыми центрами капиталистической цивилизации и мировой экспансии, этот общий кризис затрагивает в особой форме.
Особый кризис Британии и Западной Европы — это кризис империалистической системы, на которой зиждется экономика этих стран, ныне приближающаяся к банкротству.
В течение многих десятилетий Британия, Франция, Германия, Бельгия, Голландия и связанные с ними страны Западной Европы находились в привилегированном положении. Экономические условия жизни этих стран были относительно лучшими, что достигалось путем эксплуатации сотен миллионов колониальных крестьян и рабочих, благодаря труду которых создавались огромные излишки неоплаченного импорта.
Эта система империалистических отношений, 30
Основанных на силе и эксплуатации всего мира, ныне рушится. Сохранить или восстановить ее уже невозможно.
Однако вся социально-экономическая структура этих стран в современный период и вся политическая структура так называемой «западной демократии» и империалистической верхушки рабочего движения, империализма консерваторов и социал-демократического реформизма либералов, так называемого «государства социального блага» были построены именно на этой основе. Империализм был главной и неизменной предпосылкой, лежавшей в основе как консерватизма, так и лейбористского реформизма и находившей свое выражение во всех особенностях того, что весьма часто и притом неправильно называют «западной цивилизацией», «западной демократией», «западным рабочим движением», «западным образом жизни». Когда разрушается фундамент, дает трещины все здание. Такова дилемма, которую не в состоянии разрешить ни консерваторы, ни лейбористы, ни фашизм, ни социал-демократия, ни Маршалл, ни Кейнс L
Долларовые вливания при этой болезни помочь не могут, поскольку они не устраняют ее причины. Наоборот, они обостряют болезнь, искусственно поддерживая и сохраняя паразитическую зависимость, являющуюся характерным симптомом этой болезни, усиливают проникновение и господство более сильного американского империализма, подготовляют почву для новой войны, мешают нормальному выздоровлению.
Перевооружение в целях сохранения и защиты этой империалистической системы от наступающего освободительного движения народов во всем мире лишь усиливает болезнь метрополий этих центров империалистической системы, возлагая
1 Джон Кейнс (1883—1946)—английский буржуазный экономист, поборник «теории» государственно-монополистического капитализма. — Прим. ред.
31
новое и непосильное бремя на их и без того у>ке ослабленную экономику.
В качестве «универсального» средства решения экономических проблем, стоящих перед Британией со всех сторон предлагают новые грандиозные проекты, целью которых является расширение масштабов развития империи, модернизация и интенсификация этого развития. Лидеры консервативной и лейбористской партий наперебой хвастают тем, что они заново «открыли империю», что у них в руках ключ к новой славной эпохе процветания и прогресса на базе позитивной политики развития империи. Письменные столы должностных лиц завалены бесконечными «планами Коломбо», проектами «развития колоний» и «программами четвертого пункта». Это тщеславный ответ финансистов и монополистов на кризис их империалистической системы.
Однако чем больше будут изучаться эти новые планы модернизации империализма, тем больше будет выявляться, что они представляют собой лишь перекрашенные и дополненные варианты старого империализма. Несмотря на всю их филантропическую видимость, они по-прежнему направлены на то, чтобы сохранить и расширить основные черты колониальной системы: «развитие» колониальных стран мыслится прежде всего как развитие источников сырья, рынков сбыта и сфер приложения капитала, как развитие стратегических районов; проводится усиленная эксплуатация колониальных народов при сохранении их низкого жизненного уровня; продолжается выкачивание сверхприбылей из колониальных и зависимых стран монополистическими концернами и компаниями, вкладывающими там капитал. Что касается политической стороны этих планов, то они основаны на поддержке самых реакционных социальных слоев в колониальных и зависимых странах — князей, феодальных царьков, помещиков, компрадоров, местных рэкетиров и спекулянтов или даже явных марионеток вроде Бао Дая 32
и Ли Сын Мана — как единственных надежных союзников империализма. Эта слабость означает, что новые планы империализма столь же неизбежно обречены на банкротство, как и старые.
Поэтому мечтать о том, чтобы найти выход при помощи подобных принципов, значит строить воздушные замки. Все эти грандиозные новые планы создания модернизированного империализма построены на песке независимо от того, лежат ли в их основе новые союзы с самыми продажными эксплуататорскими элементами как в Восточной Азии, так и на Ближнем Востоке или широкие проекты усиленной колониальной эксплуатации Африки в качестве метода разрешения внутренних проблем западноевропейских стран. Они могут привести лишь к еще более страшной катастрофе перед лицом усиливающихся противоречий, слабости старых колониальных держав и революционного подъема народных масс во всех без исключения колониальных и полуколониальных странах. Как показали провал плана выращивания земляных орехов или войны в Юго-Восточной Азии и на Среднем Востоке, меры, принятые для осуществления этих проектов, не только не обеспечивают империалистическим странам выход из кризиса, а, наоборот, еще более усиливают кризис в результате новых тягот и перенапряжения их и без того ослабленной экономики.
Избежать кризиса империя не может. Народы Британии и Западной Европы поставлены перед неизбежной необходимостью построить свою жизнь заново, радикально преобразовать свои страны и свои отношения с ныне зависимыми народами их империй, с тем чтобы раз навсегда разрушить старые, прогнившие паразитические устои империалистического господства и эксплуатации.
Можно и должно найти иную политику, чтобы английский народ не был обречен вместе с умирающей капиталистической системой на экономическую катастрофу, национальное порабощение и чудовищные опустошения новой мировой войны.
2 Р Палм Датт 33
Есть возможность обеспечить иное будущее как английскому народу, так и всем народам Британской империи, если они порвут с империалистическими устоями и станут хозяевами своих стран, установят новые, дружественные, неимпериалистические отношения, которые будут взаимно выгодными в деле разрешения их общих проблем.
Задача настоящей книги попытаться проанализировать эту проблему и пути ее решения.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИМПЕРИЯ СЕГОДНЯ
Куда ни бросишь взор — повсюду Англия, Куда бы глобус ты ни повернул.
Ведь Англия-то — пятна красные,
А остальное там все серое,
И в этом — современная империя.
Дж. К. Честертон.
Существует ли империя?
Прежде чем перейти к изучению проблем, стоящих сейчас перед Британией и Британской империей, необходимо предварительно рассмотреть один вопрос необычного характера.
Существует ли империя?
Это не праздный вопрос. Правда, покойный Томас Хэндли 1 в одном из своих скетчей пытался применить и к Британской империи метод «двадцати вопросов». На первый традиционный вопрос: «Факт или вымысел?» — он мгновенно выпаливал ответ: «Вымысел». Но Хэндли лишь отражал со свойственной ему остротой дух времени.
Характерным симптомом для институтов, находящихся в состоянии крайнего упадка, является то, что тот ясный язык, который они обычно без тени сомнений употребляли в дни здоровой самоуверенности, становится дипломатически нежелательным и запретным на последних этапах нервозного паралича и самооправданий. Грубая откровенность слов «хозяин» и «работник» вуалируется такими словами, как «равенство», «содружество», «новый дух в промышленности» и 1 Весьма популярный в Англии комедийный актер, часто выступавший по радио. — Прим. ред.
2* 35
«промышленная психология». Это делается не потому, что перестали существовать отношения, основанные на наемном рабстве, а потому, что эти отношения теперь находятся под угрозой и должны быть заменены новыми. Представители старого порядка надеются отсрочить этот роковой день, изменяя слова, а не действительное положение вещей.
Из этих же соображений стараются избегать таких слов, как «империя» и «империализм», которые когда-то произносились с гордостью. Ныне в официальных заявлениях стало модным утверждать, что «империя» и «империализм» относятся к далекому прошлому и что они давно уже заменены «содружеством», основанным на свободе.
Так, граф Эттли, тогда еще просто г-н Эттли, выступая в ноябре 1947 года на банкете у лорд- мэра Лондона, заявил:
«Если в настоящее время и существует где-либо империализм, под которым я под/ разумеваю подчинение одних народов политическому и экономическому господству других, то такого империализма определенно нет в Британском Содружестве Наций».
Эттли выступал в историческом Мэншн-хаузе 1 перед аудиторией, состоявшей из магнатов Сити, чье богатство зиждется на грабеже колоний, в Мэншн-хаузе, где даже золотая посуда для традиционного банкета является продуктом жесточайшей эксплуатации африканских рабов. Всего лишь за несколько месяцев до выступления Эттли шахтеры африканских золотых приисков, которые получают 2 шиллинга 5 пенсов в день, принося владельцам приисков 43 миллиона фунтов стерлингов прибыли, осмелились «незаконно» бастовать против такой голодной заработной платы, но были загнаны дубинками обратно в шахты, причем многие из них были убиты и сотни арестованы,
1 Мэншн-хауз — резиденция лорд-мэра Лондона. — Прим, ред.
36
Когда Эттли вышел из Мэншн-хауза, сияя от сознания своей добродетели, он оказался среди внушительных зданий, принадлежащих крупным монополиям, одни названия которых кричат об империалистической эксплуатации: Англо-Иран- ская нефтяная компания, «Импириэл тобакко», «Ройял Датч шелл», «Юнайтед Африка компани», «Консолидейтед голдфилдс», «Колониэл энд дже- нерал инвестмент корпорейшн».
Ну конечно же, английского империализма не существует! Он только мерещится подозрительным критикам и недовольным жителям колоний. Империя, уверяют нас, уже давно заменена «содружеством» — этой крепостью свободы против тоталитарного рабства.
Эта любопытная софистика свидетельствует о попытке вместо настоящих изменений произвести изменение названий.
Идея содружества свободных стран, добровольно объединяющихся во имя достижения прогрессивных целей, является очень хорошей идеей. Но замена названия «империя» названием «содружество» отнюдь не означает прекращения грабежа земель у населения Кении, эксплуатации рабочих на плантациях Вест-Индии и уничтожения деревень в Малайе.
Эта софистика также вносит путаницу в понятие о развале империи и о конце империи. Нет сомнения, что сами эти утверждения об отречении от «империализма» являются данью антиимпериалистическим настроениям, подобно тому, как лицемерие, по пословице, является данью, которую порок платит добродетели. Они — признание того, что идея империи и империализма уже непопулярна и не может быть оправдана. Они являются попыткой загнивающего империализма воспользоваться новыми методами и представить дело .так, будто с империализмом покончено. Однако это весьма ошибочное руководство для понимания подлинного положения.
37
В настоящее время английский империализм серьезно ослаблен в результате давления американского империализма, нарастающего восстания колониальных народов, а также вследствие своей внутренней экономической дезорганизации и противоречий. Однако это не означает, что он уже испустил дух или сошел со сцены.
В некоторых обширных районах английские империалисты вынуждены были прибегнуть к тактике отступления, делать уступки. В таких важных районах, как Индия и Бирма, им пришлось отступить перед мощным освободительным движением, подавить которое они уже не были в состоянии, предоставить этим странам независимость и вывести оттуда свои вооруженные силы. Выход из создавшегося положения они видели в компромиссном соглашении с буржуазными элементами, чтобы сохранить хотя бы свои прежние экономические позиции и обеспечить на будущее в какой-то мере свое влияние и проникновение. В других районах, например на Ближнем Востоке, им пришлось сдать прежние империалистические бастионы и пойти на уступки все расширяющемуся проникновению американских монополий и американских стратегов.
В других районах английские империалисты пытаются сохранить полное господство и непосредственное управление, прибегая к 'самым различным методам, в том числе к методам необузданного насилия полицейского государства и вооруженной силы, часто сопровождая это незначительными конституционными уступками, как, например, в Малайе или Кении.
В целях пропаганды стараются сосредоточить внимание на тех районах, где в результате мощного национального движения английские империалисты вынуждены были частично отступить или пойти на ограниченные конституционные уступки. Этой пропагандой маскируют насильственный, агрессивный характер империализма, а английский народ призывают приносить жертвы и 38
поддерживать колоссальную программу вооружения для «обороны».
Войска отзывают из Палестины, для того чтобы сконцентрировать их в Ираке или Иордании. Их перебрасывают из Александрии в зону Суэцкого канала, а из зоны Суэцкого канала — на Кипр. Восточная Африка превращена в новую базу. Цейлону предоставлен «статус доминиона», однако Британия сохраняла военно-морскую базу в Тринкомали до тех пор, пока восемь лет спустя цейлонский народ не потребовал ее ликвидации. Индия была разделена на Индийский Союз и Пакистан, но в обеих частях страны были построены новые авиабазы для английских военно-воздушных сил. Бирме формально предоставлена полная независимость, однако там оставалась английская военная миссия, ресурсы страны продолжали быть собственностью заморских монополий, ей был навязан огромный долг. Войска были выведены из Бирмы, но в Малайе сохранены крупные силы, а в Гонконг посланы дополнительные специальные вооруженные силы.
Такова политика и стратегия империализма, который еще окончательно не сошел со сцены, но уже переживает стадию упадка.
Английский империализм находится в состоянии крайнего развала. Однако с ним еще не покончено. Он стремится принять различные новые формы и применять новые методы, пытаясь приспособиться к изменившимся условиям, но не с целью покончить с собой или самоликвидироваться, а для того чтобы продолжать осуществление своих извечных целей — извлечения сверхприбылей из эксплуатации колоний. Будучи вынужден отступить на некоторых участках, он в то же время стремится наступать на других. Умирающий империализм не превратился из дикого зверя в ягненка. Наоборот, гибнущий зверь зачастую становится еще более неистовым, свирепым, безрассудным, агрессивным и воинственным. Об этом свидетельствует целый ряд событий — от 39
Греции до Малайи, от Энугу до Кипра. Об этом свидетельствуют бешеная гонка вооружений и фетишизация атомной бомбы как сверхоружия «цивилизации».
Войны в Малайе и на Среднем Востоке, «холодная война», мираж с выращиванием земляных орехов, «четвертый пункт» программы президента Трумэна, Атлантический пакт, бюджеты суровой экономии и программа перевооружения на сумму 4700 миллионов фунтов стерлингов — все это явления одного порядка.
Название или псевдоним?
Что же представляет собой Британская империя, или Британское Содружество Наций, или Содружество Наций, или Британское Содружество Наций и империя?
Это многообразие названий само по себе свидетельствует о непрочности нынешней структуры. Ни одно из этих названий не является официально более правильным, чем другое. Все они употребляются в различной степени неофициально и официально. Даже то, что вложено в эти названия, часто бывает далеко не ясно. Существует, например, «министерство по делам стран содружества», которое не касается колоний. Существует «министерство колоний», которое не имеет никакого отношения к доминионам. Имеются -министр колоний и министр по делам стран содружества; оба они входят в состав кабинета на равных правах. Наиболее важная область интересов современного английского империализма, как это неоднократно подчеркивали, находится на Ближнем Востоке. Однако этим районом ведает министерство иностранных дел. Включает ли «содружество» колонии короны? Ограничение масштаба деятельности «министерства по делам стран содружества» дает основание-предполагать, что не включает. Однако если судить по тому, как совре40
менное законодательство определяет «гражданина содружества», то ответ должен быть положительным. Включает ли «империя» такие фактически независимые доминионы, как Канада и Австралия? Включает ли «империя» или «содружество» подопечные территории? Подобные вопросы можно было бы ставить до бесконечности, и ответы на них были бы самые разнообразные.
В введении к настоящей книге поясняется, почему автор при изложении проблем, рассматриваемых в ней, применяет только одно старомодное название «Британская империя», и приводятся доводы в обоснование этого.
Существует широко распространенное представление, что термин «содружество» относится к самоуправляющимся доминионам, а термин «империя»— к несамоуправляющимся колониям и протекторатам. Именно эта иллюзия послужила основанием для такого двухэтажного чудовища, как название «Содружество Наций и империя». Однако для этой иллюзии нет никакого юридического оправдания. В законодательной практике термин «содружество» распространяется в равной мере на Соединенное Королевство, доминионы, колонии и протектораты.
В этой связи стоит напомнить высказывания ветерана идеи Британской империи Черчилля. На одном из собраний Королевского имперского общества 19 октября 1950 года, на котором выступил американский посол, председательствовавший лорд Галифакс напомнил об одном выступлении Черчилля перед тридцатью-сорока членами палаты представителей и сената Соединенных Штатов Америки, которое гласило:
«Сенатор Ванденберг, между прочим, заметил лорду Галифаксу: «Мы все чувствовали бы себя лучше, если бы вы, англичане, прекратили разговоры о Британской империи». — Сразу же после этого Черчилль начал свою речь».
Далее лорд Галифакс сказал:
«Увлеченный своим врожденным красноречием, Черчилль стоял с большой сигарой в одной руке и бокалом виски в другой, поднося ко рту то сигару, то виски. Он говорил о Британской империи. Я ухитрился передать ему телепатическим путем то, что сказал мне сенатор Ванденберг. И тут Черчилль, обращаясь к сенатору, сказал: «Британская империя, или Содружество Наций. У нас есть торговые этикетки на все вкусы» («Дейли телеграф», 20 октября 1950 года). Поскольку в данном случае нас интересуют не торговые этикетки, а политическая действительность, впредь мы будем игнорировать это дипломатическое нагромождение названий и сконцентрируем свое внимание на отнюдь еще не исчезнувшей реальности — на Британской империи.
Одна четвертая часть мира
Британская империя занимала в 1950 году одну четвертую часть суши и включала четверть всего населения земного шара.
Имеющиеся данные как о размерах территории, так и о численности населения .несколько расходятся в зависимости от методов исчисления и статистического источника.
Так, например, «Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1933—1939 и 1945—1947 годы опубликовал таблицу о размере различных территорий и численности населения на середину 1947 года, согласно которой территория Британской империи составляет 13 281 256 квадратных миль, а население — 606 499 тысяч человек. Из указанной таблицы надо исключить Эйре и Бирму, которые к этому времени формально вышли из состава империи, а также Палестину, которая сейчас разделена между Израилем и Иорданией. С этой поправкой территория империи составит 12 982 080 квадратных миль с населением 584 660 42
тысяч человек. Для того чтобы дать^ более полные данные о численности населения, указанную цифру потребовалось бы несколько увеличить (с учетом роста населения) за этот период. Согласно последним данным, которые приводятся в последующих таблицах этой главы, общая численность населения Британской империи на 1950 год составляет 617 миллионов человек.
Сравнив это с данными, публикуемыми в справочниках, мы получим следующую картину:
Таблица 1
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1950 ГОДУ
Площадь, тыс. кв. миль
Население, млн. человек
Население по подсчету на 1950г., млн. человек
«Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1947 год (с поправкой)
12 982
584,7
617,8
«Уорлд олманак» за 1951 год
13 022
597,6
«Уитейкере олманак» за
1951 год
14 435
539,9
—
Общая площадь территории всего земного шара и численность населения (для сравнения)
51 375
2454
—
Площадь, равная примерно 13 миллионам квадратных миль, составляет немногим более 25 процентов всей площади суши на земном шаре. Население в 617 миллионов человек на 1950 год — это 25 процентов общей предполагаемой численности населения всего мира.
43
Территории, связанные с империей
Приведенные выше официальные данные включают Соединенное Королевство, старые доминионы (Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южно-Африканский Союз), новые азиатские доминионы, ставшие затем республиками (Индию, Пакистан и Цейлон), колонии короны и протектораты, подопечные территории Соединенного Королевства и доминионов, а также Юго-Западную Африку (незаконно аннексированную Южно-Африканским Союзом) и кондоминиум (в 1950 году) — Судан.
С другой стороны, они не включают территорий, являвшихся формально независимыми и суверенными государствами, но в действительности первоначально являвшихся фактически английскими протекторатами или очень тесно связанными с Британской империей, с английской военной оккупацией.
В 1950 году к таким «связанным» территориям относились:
Иордания, независимость которой под властью короля Абдуллы была провозглашена английским правительством в 1946 году, но Британия сохранила там Арабский легион с английским командным составом.
Ирак, который английское правительство провозгласило в 1927 году независимым под властью короля Фейсала, но там сохранялась английская военная оккупация.
Египет, независимость которого под властью короля Фауда была провозглашена английским правительством в 1922 году, но впоследствии ему были навязаны договор 1936 года и сохранение английской военной оккупации в зоне Суэцкого канала, вплоть до нового договора 1954 года.
Бирма, независимость которой английское правительство провозгласило в 1947 году, сохранив, однако, там английскую военную миссию, а в эко- 44
комическом, финансовом и военном отношении страна на первых порах зависела от Англии.
Иран, хотя он никогда формально не был низведен до положения колонии, фактически вплоть до 1951 года, несомненно, входил в сферу английского влияния, осуществлявшегося главным образом Англо-Иранской нефтяной компанией, а английская концессия в южном районе (занимавшая большую площадь, чем само Соединенное Королевство) фактически являлась английской колонией.
Английские протектораты в Аравии официально включают Бахрейн, Кувейт (нефтяные богатства которых фактически разделены между Англо-Иранской компанией и американскими монополиями), султанаты Договорного Омана и Катар. Йемен, формально независимый член Организации Объединенных Наций, в действительности был тесно связан с Англией договором 1951 года. Однако в 1956 году там вспыхнул вооруженный конфликт. Султанат Маскат и Оман договором 1939 года были тесно связаны с Англией. Далее можно назвать гималайские государства Непал, Бутан и Сикким, ранее связанные с английской администрацией в Индии, а теперь с индийским правительством, к которому от английской администрации перешло решающее влияние на их дела.
Наконец, имеется более спорный вопрос — о положении Эйре, или Ирландской Республики (двадцать шесть графств), которая в 1949 году провозгласила свою независимость от Британской империи. Однако на практике Эйре не только связана тесными экономическими и финансовыми узами с Англией, но ее независимость ограничена навязанным Англией разделом Ирландии и наличием английских войск в Северной Ирландии. Поэтому нельзя считать, что в Ирландии уже окончательно решена проблема национального освобождения.
Следовательно, все эти страны должны быть включены в более широкое и действительно все45
объемлющее определение «Британская империя*, вопреки вводящим в заблуждение конституционным формам. Это сделало бы более обширным круг стран и народов, формально независимых, но в действительности в 1950 году все еще тесно связанных различными узами с Британской империей (см. табл. 2). Если включить эти страны, то мы получим более широкую и подлинную картину Британской империи в 1950 году (см. табл. 3).
Таблица 2 ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С АНГЛИЕЙ (1950 ГОД)
Площадь, кв. мили
Население, тыс. человек
Иордания
36 270
1 367
Ирак
116 118
4 800
Египет
383 200
20 045
Иран
628 000
18 387
Арабские государства (Бахрейн, Кувейт, султанаты Договорного Омана, Катар, Йемен, Маскат и Оман)
160 000
4 440
Гималайские государства (Непал,
Бутан и Сикким)
75 000
6 703
Бирма
261 000
18 304
Эйре
26 601
2 991
Итого ....
1 686 189
77 037
Источник. Данные о площади взяты из «Политикл хэндбук, ов уорлд» за 1951 год, данные о численности населения — из «Юнайтед нэйшнз демографии ирбук» за 1949 — 1950 годы, за исключением сведений об Иордании, последние данные о которой заимствованы из «Политикл хэндбук ов уорлд» за 1951 год (включая присоединенные части Палестины, а также арабских беженцев). Данные об арабских и гималайских государствах почерпнуты из «Стейтсменс ирбук» за 1951 год.
Этот расширенный итог составляет 28,5 процента всей суши земного шара и 28,3 процента населения всего мира.
46
Таблица 3
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1950 ГОДУ (расширенная таблица)
Площадь, тыс. кв. миль
Население, млн. человек
Население по подсчету на 1950 г., млн. человек
«Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1947 год (с поправками)
Связанные с Англией территории
12 982
1 686
584,7
77,0
617,8
77,0
Итого. .
14 668
661,7
694,8
Но даже в этих расширенных итоговых данных не учтены бывшие итальянские колониальные территории, в 1950 году все еще находившиеся под английским управлением \ и Эфиопия, втянутая в английскую сферу влияния после англо-эфиопского соглашения 1944 года. В этой стране находятся английские технические и административные советники, хотя в последние годы туда стали усиленно проникать американцы. Не учтены также Португалия и португальские колонии, всегда занимавшие вассальную позицию по отношению к Британской империи; Голландия и голландские колонии, тесно связанные с английскими интере-
1 В 1951 году Ливия была провозглашена независимым федеральным королевством под эгидой назначенного по указанию Англии правителя. При этом было заключено англоливийское финансовое соглашение. В Ливию были посланы английские экономические и финансовые советники и генеральные контролеры. Англия выделила субсидию для сбалансирования бюджета Ливии, предусмотрев включение последней в стерлинговый блок. Поэтому с 1951 года «королевство Ливию» следует включить в список «территорий, связанных с Британской империей». Даже на последних этапах существования английских империалистов их экспансионистские аппетиты не исчезли.
47
сами («Ройял Датч шелл» и «Юнилевере»), или особое положение таких стран, как Норвегия и Дания, которые экономически тесно связаны с Англией и стерлинговой зоной.
Стерлинговая зона — хотя она и не имеет конституционного статуса, как это принято в отношениях между государствами, — является во многих случаях более точным, чем конституционные формы, показателем для суждения о размерах фактической сферы влияния английского империализма при современных международных отношениях. Часто термин «стерлинговая зона» используют в обиходе в качестве своего рода дипломатического псевдонима Британской империи в самом широком значении этого понятия, а также стран, входящих в ее орбиту (исключая Канаду) г.
Эта неопределенность рубежей и границ является характерной чертой реальной политики современного империализма, при котором статус непосредственно управляемой колонии часто переходит в статус косвенно управляемого протектората, сателлита или полуколонии, а затем в статус сферы влияния или зависимой страны наряду с множеством промежуточных гибридных форм и вариантов. Этот сложный характер современных империалистических отношений приобретет особое значение, когда нам придется рассматривать положение самой Англии и Британской империи под углом зрения подрывного влияния и господства более могущественного американского империализма.
1 Официальное определение «стерлинговой зоны» включает, помимо Соединенного Королевства: «а) зависимые заморские территории Соединенного Королевства (колонии, протектораты, находящиеся под покровительством Англии государства, подмандатные территории и т. д.); б) другие страны содружества (в том числе Южную Родезию, но исключая Канаду), Ирландскую Республику, Бирму, Ирак, Иорданию и Исландию» («Платежный баланс Соединенного Королевства» за 1948—1951 годы, апрель 1951 года, стр 28).
48
„Белые" доминионы 1
Независимо от того, проведены ли границы на более широкой или на более узкой основе, Британская империя охватывает очень широкий круг стран и народов, связанных с метрополией самыми различными формами отношений.
Территория Соединенного Королевства составляет 94 тысячи квадратных миль, или V140 часть площади империи, а население — 50 миллионов человек, или V12 часть населения империи (если взять империю в более узком смысле, в пределах ее официальных границ). Это означает, что заморские территории империи в сто сорок раз 1 Термин «доминион» был впервые применен по отношению к Канаде, когда законом о североамериканских территориях Англии от 1867 года была создана федерация канадских провинций. Австралия была провозглашена «содружеством», когда в 1901 году - австралийские колонии были объединены в федерацию. Южная Африка была объявлена как «союз» английским законом от 1909 года. Вообще термин «доминион» стал распространяться на все самоуправляющиеся территории с белым населением или на территории, где белое меньшинство было правящим. Требование доминионов о предоставлении им официального статуса суверенных государств во внешних делах (хотя на практике они согласовывают свою политику с Соединенным Королевством) было признано после первой мировой войны, когда они самостоятельно подписали Версальский договор. Юридическое определение «статус доминиона» было сформулировано на имперской конференции 1926 года и включено в Вестминстерский статут в 1931 году. Когда после второй мировой войны Индии, Пакистану и Цейлону были навязаны новые конституционные режимы, эти страны тоже обозначались общим термином «доминионы» (хотя Индия в 1950 году формально провозгласила себя республикой внутри содружества и признает короля— а теперь королеву — «главой содружества»). После того как этим азиатским странам был предоставлен «статус доминиона», Канада стала возражать против того, чтобы ее впредь именовали «доминионом». Вместо «доминиона» Канада приняла в 1952 году название «государства короны». Нет необходимости прослеживать все эти многочисленные изменения и украшения в конституционной номенклатуре, ибо это лишь осложнило бы вопрос, поэтому для удобства в данной книге принят употребляемый в обиходе термин «доминион».
49
больше территории метрополии, а их население — в двенадцать раз больше населения метрополии.
«Белые» доминионы—Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз (последний именуется «белым» только потому, что им управляет белое меньшинство, и этот термин не имеет никакого отношения к негритянскому и другому неевропейскому большинству, лишенному прав) — имеют площадь в 7,2 миллиона квадратных миль, что составляет больше половины площади всей империи, с населением в 36 миллионов человек, или 1/п часть населения империи.
Таблица 4 «БЕЛЫЕ» ДОМИНИОНЫ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 1950 ГОДУ
Площадь, кв. мили
Население, тыс. человек,
Канада
3 690 410
13 931
Австралия*
2 974 581
8 126
Новая Зеландия*
103 416
2 000
Южно-Африканский Союз**
472 494
12 320
Итого
7 240 901 |
36 377
Источник. Данные о площади взяты из «Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 194 7 год. Данные о численности населения взя!Ы из «Поли!икл хэндбук ов уорлд» за 195! год.
* Исключая подмандатные территории. См. табл. 6.
** Исключая Юго-Западную Африку.
Хотя эти четыре старых доминиона представлены здесь как «беглые» доминионы, в Южно-Африканском Союзе это относится лишь к белому правящему меньшинству; негры, азиатское и цветное население насчитывают там около 10 миллионов человек (по переписи 1946 года европейцев там насчитывалось 2 372 690 человек и неевропей- цев — 9 045 659 человек). В Новой Зеландии имеется 116 тысяч маори. Число аборигенов Авст-
50
ралии не включено в данные о численности населения. Таким образом, если исключить порабощенное колониальное население Южной Африки, то общая численность белого населения доминионов составит около 26 миллионов человек, или V24 часть, то есть 4,2 процента населения империи.
Хотя эти «белые» доминионы и входят в состав империи, в действительности они являются независимыми, суверенными государствами или империалистическими державами второго ранга, тесно связанными с английским империализмом и с английским финансовым капиталом, пустившим там глубокие корни (хотя его все более теснит американский империализм). Народы этих доминионов связаны с английским народом сильными узами родства языка и традиций (исключая канадцев французского происхождения в Канаде, африкандеров голландского происхождения в Южной Африке, а также, разумеется, негритянское и другое неевропейское большинство населения в Южной Африке). Буржуазию «белых» доминионов можно считать отпрыском английской буржуазии, представляющей «колониальные» поселения скорее в староримском смысле слова, нежели в современном, подразумевающем колонии, основанные на подчинении и управлении чужими народами. Иначе говоря, за захватом ими той или иной территории следовало (за исключением Южной Африки) почти полное уничтожение местного населения. Таким образом, эти малонаселенные территории превращены в районы поселения белых, где строго ограничена цветная иммиграция, что нашло свое выражение в политике «белой Австралии».
Фактическая независимость доминионов, против которой вначале решительно возражала метрополия, но основы для которой были заложены успешной американской войной за независимость и затем канадским вооруженным восстанием 1837 года, получила полное признание в законодательстве только после принятия английским парла51
ментом Вестминстерского статута в 1931 году. Остатки колониальных отношений в конституционной области не имеют большого значения. Вестминстерский статут определил конституционное положение доминионов и Соединенного Королевства в следующих выражениях (составленных мастером империалистической казуистики лордом Бальфуром):
«Они являются автономными общинами внутри Британской империи с равным статусом и ни в коей мере не подчиняются друг другу в любых внутренних и внешних вопросах, хотя их объединяет общая верность короне. Они свободно объединились как члены Британского Содружества Наций».
Следует отметить, что это определение ловко сочетает названия «Британская империя» и «Британское Содружество Наций». Уильям Фостер в своем известном труде о политической истории Америки следующим образом определил конституционный статус Канады в 1951 году:
«В 1871 году последние английские войска покинули Канаду, за исключением отдельных подразделений, оставленных в Эс- кималте и Галифаксе. На имперской конференции 1926 года Канада получила «статус равенства» с Соединенным Королевством. В 1927 году Канада открыла свою первую дипломатическую миссию за границей — в Вашингтоне, в 1931 году Вестминстерским статутом были отменены последние существенные юридические ограничения суверенитета Канады. Монополисты, которые направляют политику финансового капитала, и политические представители этого капитала в Канаде (к ним относятся и некоторые весьма известные капиталисты США) продолжают, однако, использовать некоторые формы колониальных отношений в качестве преград для развития демократии. Характерно в этом смысле то, что они сохраняют 52
в Канаде влияние английского короля, оставляя за ним право назначать генерал- губернаторов Канады. Другим примером сохранения колониальных отношений является то, что крупные компании имеют право обжаловать перед Тайным советом Англии решения канадских судов по гражданским делам. Следует, однако, подчеркнуть, что, хотя эти и другие подобные пережитки колониальных отношений охраняются монополистическим капиталом, Канада, по существу, является сейчас независимой страной, имеющей право устанавливать собственную конституцию и законы, объявлять войну и заключать мир, входить или не входить в Британское содружество наций и в Организацию Объединенных Наций» (Уильям 3. Фостер, Очерк политической истории Америки1).
Однако эта формальная конституционная независимость на практике не исключает весьма значительной степени зависимости от американского финансового капитала, который особенно активно проникает в Канаду в ущерб занимавшему там ранее господствующее положение английскому финансовому капиталу.
Азиатские республики
Площадь недавно .созданных азиатских доминионов (провозглашенных позднее республиками) — Индии1 2, Пакистана и Цейлона — составляет 1 604 666 квадратных миль, или немногим бо1 У. Фостер. Очерк политической истории Америки, М., 1955, стр. 208.
2 Провозглашенный в январе 1950 года новый статус Индии как суверенной республики признает английского короля лишь как «главу содружества». Возрастающее значение независимой роли Индии в международных отношениях рассматривается в главе девятой.
53
лее одной восьмой площади империи, с населением 449 миллионов человек, что равняется примерно трем четвертям, или 72 процентам населения всей империи.
Таблица 5 АЗИАТСКИЕ ДОМИНИОНЫ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В 1950 ГОДУ
Площадь, кв. мили
Население, тыс. человек
Индийский Союз . . .
1 218 327
360 185
Пакистан
361 007
82 000
Цейлон
25 332
7 297
Итого
1 604 666
449 482
Источник. Данные о территории взяты из «Стейтсменс ирбук» за 1951 год; о численности населения — из «Поли- тикл хэндбук ов уорлд» за 1951 год.
Плотность населения, в азиатских доминионах составляла 280 человек на каждую квадратную милю против 5 человек на квадратную милю в «белых» доминионах. Весьма большая плотность населения в сельских районах азиатских доминионов (что отнюдь не означает абсолютной перенаселенности и является отражением напряженности, вызываемой исключительно отжившими социально-экономическими условиями, которые с давних пор искусственно поощрялись империализмом) существует наряду с острой нехваткой населения по сравнению с размерами территории в «белых» доминионах. В то же время в «белых» доминионах проводится политика исключительного положения для белого населения. Это одно из многих более глубоких разногласий и противоречий внутри империи, нашедшее свое выражение в остром конфликте между индийским правительством и правительством Южно-Африканского Союза в 54
связи с дискриминационными законами последнего по отношению к индийскому населению Южной Африки.
Новые азиатские доминионы формально существуют на той же конституционной основе, что и старые «белые» доминионы, и пользуются равенством прав по Вестминстерскому статуту. Однако эта конституционная форма не ликвидировала существенных различий, существующих в действительности. В то время как непосредственная ответственность за управление была передана в руки союза крупных индийских монополистов, князей и феодалов, или пакистанских крупных помещиков и менее развитых здесь крупнокапиталистических элементов или сингалезских владельцев огромных плантаций и торговцев, являющихся младшими партнерами английских империалистов, сила проникающего всюду английского влияния — экономического, финансового, торгового и военного — в первый период еще являлась значительной. Интересы имевших крупные инвестиции английских капиталистов охранялись в этих странах правительствами, а могущественные английские империалистические монополии либо прямо, либо через более слабые местные монополии сильно влияли на экономику. Феодально-империалистическая эксплуатация широких масс продолжалась, а уровень жизни крестьян и рабочих оставался на самом низком, колониальном уровне.
В самый последний период, особенно после победы китайской революции в 1949 году, в Индии произошли и происходят большие перемены. Они уже значительно изменили ее международное положение и выдвинули на передний план ведущую и независимую роль Индии в международных делах. Они положили начало преобразованию внутреннего положения в Индии. Но вплоть до настоящего времени, несмотря на большие политические изменения и начинающееся внутреннее экономическое переустройство, условия жизни народных масс еще существенно не изменились по 55
сравнению с уровнем, унаследованным от старой колониальной эксплуатации и нищеты. В этом смысле условия жизни народных масс в Индии, Пакистане и на Цейлоне все еще сходны с экономическими и социальными условиями жизни в колониальных и слаборазвитых странах.
Колониальная империя
Наконец, площадь самой колониальной империи, состоящей из колоний короны, протекторатов и зависимых от Британии стран, составляет 3 378 151 квадратную милю с населением 80 миллионов человек (82 миллиона в 1955 году). К этому следует добавить колониальные или подопечные территории, управляемые доминионами, площадью 502 406 квадратных миль и с населением 1,4 миллиона человек. Таким образом, общий итог составит 3 880 557 квадратных миль и 81,4 миллиона человек населения (как это показано в табл. 6).
Эта непосредственно подчиненная Англии и доминионам колониальная империя занимает несколько менее одной трети, или 30 процентов, всей территории империи и насчитывает около одной седьмой, или 13 процентов, всего населения империи. Народами колониальной империи непосредственно управляет господствующая держава через назначаемых ею должностных лиц. При этом применяются самые различные конституционные формы, и во многих случаях создается видимость существования — частично или ограниченно — представительных органов, но решающая власть неизменно остается в руках губернатора, его главных чиновников и полицейского аппарата. Губернатор ответствен не перед управляемым народом, а перед министерством колоний или перед правительством метрополии. Основные районы этой колониальной империи находятся в Африке, Вест- Индии и Юго-Восточной Азии. К ним же отно56
сятся стратегические посты и базы, такие, как Кипр и Мальта на Средиземном море и другие базы на всех океанах мира.
Таблица 6
Колониальная империя в 1950 году
Площадь, кв. мили
Население, тыс. человек
Колониальные территории Соединенного Королевства
Колониальные территории в 1950—
1951 годах . . . . • ....
1 966 397
69 176
Плюс не включенные в этот список:
Судан
967 500
7 919
Южная Родезия
150 833
1 869
Бечуаналенд, Басутоленд, Свазиленд («Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» за 1947год)
293 421
1 046
Итого: для Соединенного Королевства
3 378 151
80 010
Колониальные территории доминионов
Австралии и Новой Зеландии
(Новая Гвинея, Папуа, Науру,
Западное Самоа)
184 681
1 064
Юго-Западная Африка («Стэтистикл абстрэкт фор Бритиш Коммонуэлс» )
317 725
365
Итого: для доминионов . . .
502 406
1 429
Общий итог для колониальных территорий Британской империи
3 880 557
81 439
Особое положение занимала до 1953 года Южная Родезия, где белое меньшинство, составляющее одну шестнадцатую часть населения, доби57
лось для себя прав, почти аналогичных правйМ доминиона, удерживая африканские массы в подчиненном положении и лишив их права на самоуправление; однако при этом губернатор сохраняет за собой определенную власть от имени английского правительства и несет особую ответственность перед ним. В 1953 году была создана Федерация Родезии и Ньясаленда, состоящая из Северной и Южной Родезии и Ньясаленда. Население федерации состоит из 213 тысяч европейцев и 6470 тысяч африканцев. Белое население, составляющее 3 процента всего населения, фактически монополизировало право голосования (среди 66 929 избирателей, участвовавших в выборах 1953 года, насчитывалось только 445 африканцев) и контролировало деятельность законодательного собрания и правительства. Таким образом, создание федерации было шагом не к самоуправлению, а к укреплению диктатуры местного белого населения над африканцами. Создание федерации было встречено всеобщей оппозицией африканского населения.
Узы единства
Подводя итог этому общему обзору, мы убедимся, что Британская империя состоит как бы из ряда ярусов или ступеней, отличающихся друг от друга, и что подлинное положение стран той или иной группы не всегда отвечает конституционным или дипломатическим формам. Такой реалистический анализ главных группировок, составляющих Британскую империю, дает ее подлинную картину в 1950 году (см. табл. 7).
Что же связывает воедино эту огромную по масштабам и по разнообразию массу народов, наций и рас различного цвета кожи и вероисповедания, рассеянных по всему земному шару?
На языке конституции таким единственным объединяющим фактором, имеющим силу для всех различных частей империи, является «корона».
58
Таблица 7
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1950 ГОДУ
Площадь, тыс. кв. миль
Население, тыс. человек
°/о ко всему населению
Белое население, млн.
человек
Небелое население, млн.
человек
Соединенное Королевство ....
94
50 519
8,2
50,5
«Белые» доминионы
7 420
36 377
5,9
26,2
10
Азиатские доми¬
нионы ....
1 605
449 482
72,7
449,5
Колониальная империя ....
3 881
81 439
13,2
—
81,4
Итого (официальные границы) . . .
12820
617817
100,0
77
541
Связанные с Англией территории
1 687
77 037
—
3
74
Общий итог
14 507
694 854
—
80
615
Источник. Тот же, что и в предыдущих таблицах. Небольшая разница в общей площади по сравнению с цифрой 12 982 080 квадратных миль в «Статистикл абстрэкт> объясняется различием в методах исчисления официальных статистических данных по отдельным территориям.
Болдуин... указал королю Эдуарду VIII во время связанного с его отречением от престола кризиса, что, хотя корона лишилась многих прерогатив, важность сохранения ее неприкосновенности сейчас, несомненно, выше, чем когда-либо раньше, особенно в связи с тем, что «корона — это единственное оставшееся связующее звено империи» (Н. Мансберг, Документы и речи по вопросам Британского Содружества Наций, 1931 — 1952, т. 1, Введение, стр. XXXVIII).
59
Однако «корона» — это конституционный символ, а не исполнительный орган власти. Ее можно рассматривать как формальное выражение исполнительной власти в Соединенном Королевстве и в колониальной империи, непосредственно управляемой Соединенным Королевством. Однако она ни в каком смысле, даже формальном, не является исполнительной властью в каком-либо доминионе, старом или новом; в отношении доминионов «корона» представляет собой «главу содружества», а не орган правления или суверенитета. Реальной основой единства не может быть символ, который сам по себе есть лишь проявление или выражение единства, породившего этот символ. Существование такого символа лишь обусловливает вопрос, что же породило символ? Какова экономическая и политическая действительность, которая сделала необходимым символ «короны», и чьим интересам служит этот символ?
Является ли, в таком случае, империя разновидностью свободного союза, федерации или ассоциации со взаимными обязательствами и ответственностью? И на этот вопрос ответ должен быть отрицательным. Империя ни в каком смысле не является федерацией, и все усилия имперских федералистов неизменно терпели крах. Империя не является также и союзом. Организация Северо- атлантического пакта является гораздо более определенным союзом (с обязательствами, подписанными и принятыми членами этой организации), нежели империя или содружество. И всякая попытка представить империю как «ассоциацию» без какого-либо формального соглашения или конкретных обязательств и ответственности опять-таки равносильна уклонению от вопроса. Поскольку нет формального соглашения — писаного или неписаного, — то что же, в таком случае, служит основой ассоциации?
Все потуги конституционных юристов и политических деятелей — ученых мужей дать ответ на этот вопрос ведут к попытке решить его путем 60
создания мистического представления об империи: «мистические узы» без конкретной формы или обязательства, «мистический круг короны» (Черчилль), «братья за морями», наличие «общих идеалов», «духовное единство» L Однако у империи в целом нет никакого общего национального характера, расы, религии или политических форм. Между народами Англии и «белых» доминионов, в первую очередь Австралии, Новой Зеландии и Канады, имеются общие узы родства,_ языка и традиций. Но по численности эти народы представляют лишь весьма незначительное меньшинство в империи/ Эта естественная основа родства не относится к империи в целом. Можно говорить о подлинной основе единства интересов всех народов империи в борьбе за свободу; цель этой книги — содействовать такому единству. Но это единство существует для борьбы против империализма и за установление отношений на новой основе. Оно не имеет ничего общего с единством, основанным на империалистическом господстве и эксплуатации.
Однако самая попытка подставить мистическое представление об империи вместо поддающегося определению фактора единства дает нам ключ к правильному решению вопроса при условии, что
1 «Корона стала таинственной связью, я бы сказал, магической связью, которая скрепляет наши свободные, но тесно переплетающиеся узы содружества наций, государств и рас» (Уинстон Черчилль, выступление по радио 7 февраля 1952 года в связи со смертью короля Георга VI). Но уже в 1955 году газета «Таймс» сочла необходимым опровергнуть эту теорию о короне как связующем звене империи. «Уже невозможно говорить о том, что связующим принципом является чувство приверженности к королю или вообще какое-либо иное чувство. Монархия, в частности, не является ныне связующим звеном для содружества в целом... На самом деле в настоящее время премьер-министры по своей воле собираются вместе... благодаря наличию сознания общности интересов в отношении сути тех вопросов, которые им необходимо обсудить. Это является сейчас единственной реальной притягательной силой» («Содружество Наций», передовая газеты «Таймс», 13 января 1955 года»). Трудно придумать более тонкую и завуалированную формулировку «связующего принципа».
61
это соображение будет развито до конца. Ведь правящий класс, чтобы скрыть реальное положение вещей и когда у него нет иной аргумёнтации, всегда прибегает к не поддающейся определению мистике, к какой-то «духовной» сути, которая не может быть выражена словами.
После того, как все мистические факторы единства существующей имперской системы рассмотрены и отброшены как плод воображения, которым они фактически и являются, остается одна суровая и конкретная действительность, показывающая тот единственный общий фактор, который лежит в основе нынешней экономической и политической структуры империи. Этим единственным общим фактором является английский финансовый капитал. Именно английский финансовый капитал господствует над самыми различными формами политической жизни' существующей империи и с присущей ему склонностью к стыдливой анонимности стремится укрыться за символом «короны».
Частичное признание этой истины появилось в журнале «Экономист» за 28 июня 1952 года, который писал:
«В прошлом капитал, необходимый для содружества, поступал главным образом из Соединенного Королевства. Нет сомнения, что именно эта связь, осуществляемая посредством капитала, даже в большей мере, чем торговые отношения или общие финансовые резервы, скрепляет воедино стерлинговую зону».
«Связь, осуществляемая посредством капитала» (прекрасный конкретный термин в противовес мистическим изображениям), скрепляет воедино не только стерлинговую зону, но и империю. Этот журнал лондонского Сити приходит, однако, к печальному выводу, что с истощением источников капитала в Соединенном Королевстве исчезнет и Британская империя.
«Содружество, развитие которого финансировалось бы преимущественно Америкой, 62
недолго оставалось бы Британским Содружеством».
Иными словами, хозяин капитала является и хозяином империи. Все же другие более широко рекламируемые духовные «связи» и «узы» — это лишь внешняя форма, а не внутреннее содержание.
В 1895 году, незадолго до своей смерти, Энгельс готовил наброски статьи для «Нейе цейт», содержащей его дополнения к третьему тому «Капитала». Обращая внимание на новое направление колониальной политики, Энгельс писал:
«(7) Затем колонизация. Последняя — ныне простое отделение биржи, в интересах которой европейские державы несколько лет назад поделили Африку, французы завоевали Тунис и Тонкин. Африка прямо сдана в аренду компаниям (Нигер, Южная Африка, Германская Юго-Западная и Восточная Африка), Машоналэнд и Наталь взяты во владение для биржи Родсом».
Здесь Энгельс точно указывает движущую силу эпохи быстрой колониальной экспансии.
Суть империи — капиталистической империи, особенно на ее последнем этапе монополистического капитализма, или империализма, — это погоня за сверхприбылью как основная часть погони современного монополистического капитала в целом за более высокой нормой прибыли. Маркс еще в XIX веке, в эпоху промышленного капитализма, показал, каким образом в условиях неравномерного экономического развития различных стран капитал развитых в промышленном отношении стран может извлекать из стран с более низким уровнем технического развития «сверхприбыль», то есть более высокую норму прибыли, чем существующая внутри страны средняя норма. «Страна, находящаяся в благоприятных условиях, при обмене получает более труда за меньшее количество труда» и этот излишек идет в карман класса капи-
1 К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 248.
63
талистов страны, находящейся в привилегированных условиях (которая может использовать определенную долю этого излишка для подкупа привилегированной части рабочих и представителей промежуточных прослоек в своей стране).
Это извлечение «сверхприбыли», как показал Маркс, может происходить на основе «чисто» экономического обмена между развитой капиталистической страной и экономически отсталой страной, без какого-либо политического господства со стороны колониальной системы. Но на деле капиталистический класс неизменно пытается (в конкретной форме — уже на ранних этапах колониальной эры, а также, хотя и в менее заметной форме, в эпоху промышленного капитализма, но больше всего в эпоху финансового капитализма, когда экспорт капитала приобрел решающее значение) использовать государственный аппарат для установления прямого или косвенного политического господства или контроля над отсталой страной, прибегая и к вооруженной силе, для того чтобы по возможности завоевать себе монопольное положение в данной стране, используя ее как рынок сбыта, источник сырья и сферу приложения капитала, а также с целью обеспечить себе привилегированное положение для максимального извлечения сверхприбылей. В этом суть колониальной системы.
Колониальная система не является оригинальным изобретением монополистического капитализма. Английские монополисты переняли и приспособили к своим собственным потребностям колониальную империю, которая была создана купцами- капиталистами в более ранний период, и неимоверно расширили ее. На заре капиталистической эры колониальная система была направлена главным образом на завоевание закрытых рынков и источников сырья для открытого обогащения метрополии, и это часто было тесно связано с грабежом и пиратством повсюду, где только представлялись благоприятные возможности. В эпоху промышлен-
64
ного капитализма, когда господство английских товаров на мировом рынке давало Англии и без особого политического контроля над страной, покупавшей эти товары, неоспоримое экономическое превосходство, колониальной системе не придавали большого значения, хотя ее все же упорно сохраняли как для господства над торговыми путями, так и для особых преимуществ, которые давали монополизация торговли в данной стране и торможение ее собственного экономического развития, как, например, в Индии. Однако с наступлением эпохи финансового капитализма, когда экспорт капитала стал решающей экономической движущей силой, отодвинув прибыли от торговли и судоходства на сравнительно второстепенное место, связав и подчинив их экспорту капитала, вопрос о политическом господстве над страной, где сделаны вложения капитала, особенно если эта страна находилась в докапиталистической стадии развития, приобрел особое значение. Сделка между экспортером товаров и покупателем совершается в короткий срок, и поэтому требуется лишь приемлемая политическая устойчивость. Однако отношения между кредитором и дебитором более длительны и поэтому, естественно, требуют установления политического контроля над более слабой или отсталой страной для защиты капиталовложений и обеспечения регулярной выплаты процентов или погашения. Следовательно, экспорт капитала играет исключительно важную роль в деле резкого расширения колониальной системы в последний период XIX столетия и в современную эпоху империализма.
Таким образом, колониальные сверхприбыли извлекаются самыми различными способами и не ограничиваются каким-либо одним методом. Различные формы извлечения колониальных сверхприбылей соответствуют различным историческим этапам, в которых они возникли. В процессе развития капитализма старые формы не исчезают с
3 Р. Палм Датт 65
появлением новых форм, а сохраняются, приспосабливаются и сливаются с ними.
Через различные формы торговли промышленно развитая страна может получать, как сказал Маркс, «большее количество труда за меньшее», обменивая продукт нескольких часов рабочего времени, затраченных в промышленности своей страны, на продукт многих часов труда -в колониальной или зависимой стране. Хотя такую сверхприбыль можно получить и от торговли с отсталыми неколониальными странами (на деле такие страны обычно являются зависимыми), в колониальных странах эта сверхприбыль увеличивается в результате непосредственного владения основными ресурсами и монопольного господства над рынком и средствами связи. Этот процесс колониальной эксплуатации можно в достаточной мере проследить на операциях «Юнайтед Африка компани», занимающей господствующее положение в Западной Африке.
Об особых преимуществах, получаемых Англией от колониального господства даже в условиях «чисто» торговых отношений (безотносительно к очевидным дополнительным преимуществам, которые дает ей обладание властью при размещении контрактов или влияние на размещение контрактов и тщательно разработанная механика преференциальных тарифов, предназначенная для проведения дискриминационной политики), свидетельствует тот факт, что Англия получает из своих колоний продовольствие и сырье по ценам ниже мировых и даже ниже тех, которые она в то же самое время платит за совершенно одинаковые товары, поступающие из стран, не входящих в колониальную Британскую империю.
«Контроль над колониальными поставщиками дает нам двойное преимущество: мы можем получать те же товары по более низким ценам из наших колоний, чем из других заморских стран, и наряду с этим мы можем сохранить некоторые доходы от про66
дажи колониальных продуктов на мировом рынке в форме стерлинговых счетов.
В 1951 году из Нигерии и Ямайки ввозились бананы по цене 2,42 фунта стерлингов за центнер а с Канарских островов — по 2,65 фунта. Кофе ввозилось из Британской Восточной Африки по 13 фунтов стерлингов за центнер, а из Бразилии — по 20,3 фунта. Нерафинированный сахар ввозился с острова Маврикия по 1,92 фунта стерлингов за центнер, из Британской Вест-Индии — по 2,05 фунта, а с Кубы — по 2,48 фунта стерлингов за центнер.
Этих примеров вполне достаточно, чтобы показать, что Англия может добиться и добивается преимущества в ценах от зависимых поставщиков. Это преимущество может принять также и другую форму. Те же самые товары, экспортируемые из английских колоний, продаются в иностранных государствах по более высокой цене, чем в Соединенном Королевстве, как, например, бобы какао» (Д-р Марс из Манчестерского университета, «Манчестер гардиан», 28 мая 1952 года).
Второй и наиболее характерной формой колониальной эксплуатации, часто связанной и переплетающейся с первой, является непосредственный захват (грабеж в едва завуалированной юридически форме) естественных ресурсов колониальной страны: полезных ископаемых, нефти, лесов и т. д., — присвоение лучших земель и вытеснение коренного населения в перенаселенные, обреченные на голод резервации, использование механизма налогов с целью заставить крестьянство трудиться за самую низкую плату во имя обогащения крупных компаний и торговцев.
1 Здесь имеется в виду английский центнер, который равен 112 английским фунтам, или 50,8 килограмма. — Прим, ред.
3* 67
Третья форма. С усилением экспорта капитала и разорением крестьянства усиливаете^ непосредственная эксплуатация наемных рабочих в колониальных странах (в шахтах, на плантациях и железных дорогах, в доках и в обрабатывающей промышленности), получающих колониальную полуголодную заработную плату, причем эта эксплуатация поддерживается вооруженной силой чужеземной господствующей державы, извлекающей огромные прибыли, значительно превышающие среднюю норму прибыли в метрополии.
Все это различные формы и типы колониальной сверхприбыли. Погоня за колониальной сверхприбылью — вот главная цель и движущая сила колониальной системы. Административная структура, полицейский и военный аппарат, бесконечный лабиринт политических маневров — все это средства поддержания и сохранения условий для извлечения сверхприбылей империалистическими монополиями. Дань поступает имущему классу империалистической страны. Расходы на содержание этой системы несут колониальные народы и трудящиеся империалистической страны.
Крупные империалистические монополии
Следовательно, для того чтобы за калейдоскопически изменяющимися внешними формами увидеть нынешнюю империю, необходимо прежде всего рассмотреть крупные империалистические монополии и объединения, то есть монополии и финансовые тресты, которые представляют преимущественно английский капитал и обычно имеют свои штаб-квартиры в Лондоне, но действуют по всему миру, особенно в странах империи. Эти империалистические монополии редко фигурируют в речах и писаниях конституционных юристов и историков империи. Однако на практике их деятельность в самых различных ее формах — часто через дочерние компании—распространяется на все страны империи. Часто одна какая-нибудь 68
монополия господствует над экономической и политической жизнью определенной колонии, как, например, «Юнайтед Африка компами» — филиал «Юнилевере» — в Нигерии. Но они не только продолжают действовать. Даже в наши дни «ликвидации» империи и «отказа» от империализма они продолжают извлекать колоссальные сверхприбыли. Рассмотрим некоторые из этих чудовищ (см. табл. 8 на стр. 70).
Картина, нарисованная в этой таблице, является лишь приблизительной, ее нельзя считать абсолютно верной. Невозможно провести точную грань между компаниями, действующими преимущественно за рубежом, и компаниями, действующими в метрополии, хотя очевидна разница между группой компаний, владеющих золотыми приисками, нефтепромыслами и каучуковыми предприятиями, и группой компаний, владеющих пивоваренными заводами, отелями и средствами обслуживания Интересы крупнейших империалистических монополий за рубежом и в метрополии тесно переплетаются, как это видно на примере компании «Юнилевере». Хотя эта последняя приведена в качестве примера гигантского империалистического объединения ввиду ее господствующего положения в больших районах колониальной империи (особенно через .«Юнайтед Африка компани»), с таким же основанием можно было бы назвать и другую компанию — «Импириэл кемикл индастриз» (капитал которой в 1951 году составлял 227 миллионов фунтов стерлингов, а общая прибыль— 54 миллиона фунтов), также в широких масштабах эксплуатирующую страны империи. Однако голые цифры не могут служить точным мерилом. Данные о первоначальном и резервном капитале еще не создают достаточного представления о подлинных размерах капитала; цифры «валовых прибылей» тоже дают лишь частичное представление, если не подвергнуть их дальнейшему анализу (так, например, в цифру 115 миллионов фунтов стерлингов «общей прибыли» Англо-
69
Таблица 8
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ МОНОПОЛИИ И СВЕРХПРИБЫЛИ
Капитал в 1951 г. (первоначальный и резервный) , млн. ф. ст.
Общая прибыль, млн.
ф. ст.
Дивиденды за 1951 г., °/о
°/о прибыли
к капита¬
лу в 1951 г.
1950 г.
1951 г.
1. Компании
«Юнилевере» ....
188,5
66,0
70,8
13,5
38
Англо-Иранская нефтяная компания . .
136,0
115,7
75,9
30
56
«Ройял Датч шелл» .
550,8
190,4
249,5
15
44
«Импириэл тобакко»
97,0
27,8
30,2
(без налогов)
32
31
«Пасифик энд Ориент»
87,9
15,2
20,0
16
23
«Дэнлап раббер» . .
45,1
17,8
18,2
17,5
40
«Тейт энд Лайл» . .
9,7
3,1
3,8
20
39
Итого по 7 монополиям . . .
1115,0
436,0
468,4
—
42
II. Группы компаний, действующих за рубежом
89 золотых приисков
244,0
51,0
68,0
28
95 компаний по добыче олова, меди и других основных металлов ....
109,0
35,0
59,0
54
13 других рудников .
77,0
20,0
27,0
—
35
18 нефтяных компаний
345,0
146,0
225,0
—
65
401 резиновая компания
102,0
12,0
38,0
37
201 чайная компания .
53,0
13,0
21,0
—
40
Итого по 817 заморским компаниям
930,0
277,0
438,0
—
47
III. Компании метрополии
2970 компаний . . .
4227
1154
1437
34
Источник. Для I раздела: «Экономист» и финансовая печать.
Для II и III разделов: «файнэншл тайме», 5 января 1952 года.
Иранской нефтяной компании в 1950 году не входит более 32 миллионов фунтов стерлингов «возможной» арендной платы, которые, быть может, никогда не будут уплачены). Для более точного представления нужно было бы произвести анализ счетов каждого объединения, но даже и в этом случае баланс вряд ли оказался бы изложенным в такой форме, которая облегчила бы исследование человеку, занимающемуся вопросами эксплуатации колоний.
Но даже с учетом этих ограничений приведенная таблица показательна. Она рисует картину семи типичных крупных империалистических монополий, которые в своей деятельности опираются главным образом на эксплуатацию народов империи. Эти монополии владеют капиталами в 1115 миллионов фунтов стерлингов и получают общую годовую прибыль в 468 миллионов фунтов стерлингов, или 42 процента от суммы капиталовложений. Правда, значительная доля этих прибылей идет английскому правительству в виде налогов. Однако это лишь вопрос о разделе излишков, а не об их размерах. То, что английское правительство берет в виде налогов, фактически все равно идет в карман английского империализма в целом и используется для покрытия издержек на содержание империализма (ибо все расходы на «социальные мероприятия» в Англии фактически оплачиваются самими рабочими; см. гл. 19).
Пожалуй, еще более поучительной является разница между II и III разделами табл. 8. С одной стороны, 817 компаний, действовавших за границей в 1951 году, главным образом в странах империи, получили валовую прибыль, равную 47 процентам их капиталовложений. С другой стороны, 2970 компаний, действующих в основном в метрополии, получили валовую прибыль, равную 34 процентам их капиталовложений. Разница между этими двумя цифрами частично показывает, какое место занимают колониальные сверхприбыли в рамках общих прибылей монополий. Это, 71
конечно, не научно обоснованный показатель, поскольку колониальные сверхприбыли на деле выкачивает прямо или косвенно весь английский капитализм в целом. Однако если взять эту разницу как приблизительный показатель колониальных сверхприбылей, мы можем сказать, что уровень монопольных прибылей английских компаний, действующих преимущественно за рубежом, на 13 процентов выше уровня монопольных прибылей компаний, действующих в метрополии (47 и 34 процента). Норма прибыли за рубежом на 13,34 пункта выше, чем норма прибыли в метрополии, что составляет норму сверхприбыли в 38 процентов.
■ О колоссальных размерах сверхприбылей, выкачиваемых из колониальных и полуколониальных стран, свидетельствуют и другие официальные данные. Так, .например, не менее 27 процентов национального дохода Северной Родезии, 17 процентов национального дохода Венесуэлы и 13 процентов национального дохода Ирана были выплачены в 1949 году в виде процентов и прибылей на иностранные капиталовложения («Доклад ООН о национальном доходе и его распределении в слаборазвитых странах», 1951 год, стр. 10).
Методы колониальной эксплуатации
Какими же методами колониальной эксплуатации добываются эти колоссальные сверхприбыли?
Согласно официальным данным («Колониальные территории, 1955—1956 годы»), в 1955 году валовая продукция всех колониальных территорий составила 3100-миллионов фунтов стерлингов, то есть на 200 миллионов больше, чем в предыдущем году. Общая стоимость экспорта составила 1359 миллионов фунтов, или на 11 процентов больше, чем в предыдущем году. Таким образом, в 1955 году вывозилось 44 процента валовой продукции 72
колониальных территорий; в Англии, стране с высоким уровнем экспорта, вывозилось лишь 18 процентов валовой продукции.
Рассмотрим подробнее методы колониальной эксплуатации.
Леонард Бэрнс в своей работе «Империя и демократия» (1939 год) приводит классический пример о положении в Северной Родезии, который в ясной и простой форме показывает существо колониальной эксплуатации. Он пишет, что стоимость добытой меди — главного продукта этой колонии,— которая целиком продается за ее пределами, составила в 1937 году около 12 миллионов фунтов стерлингов; из этих 12 миллионов около 5 миллионов ушло на выплату дивидендов акционерам (никто из них не живет в этой стране), полмиллиона фунтов было выплачено как арендная плата английской «Саус Африка компани», «которая фактически не имеет никакого отношения к медеплавильной промышленности, но, оказывается, владеет всеми ископаемыми этой колонии в силу так называемого договора, заключенного сорок лет назад с Леваника, королем Бароце». Исходя из этого, Бэрнс подсчитал примерные доходные и расходные статьи, как это показано в табл. 9.
Из этой таблицы видно, что 17 тысяч африканских рабочих получили в качестве заработной платы 244 тысячи фунтов стерлингов. Это означает, что один африканский рабочий получает в среднем 14 фунтов 7 шиллингов в год, или 5 шиллингов 6 пенсов в неделю. Если мы сопоставим эту цифру с цифрой 5,5 миллиона фунтов стерлингов, выплаченных в качестве дивидендов, арендной платы и вознаграждения высшим служащим, — цифрой, составляющей непосредственную прибыль (даже не принимая во внимание налогов, весьма больших торговых издержек и других расходов, скрывающих дополнительные прибыли), то увидим, что норма сверхприбыли составляет здесь свыше 2 тысяч процентов. Весьма показательный пример колониальной сверхприбыли!
73
Таблица 9
МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕВЕРНОЙ РОДЕЗИИ В 1937 ГОДУ (доходный и расчетный счета)
Доход, ф. ст.
Расход,
ф. ст.
От экспорта
Дивиденды .
. . 5 млн.
меди . . 12 млн.
Арендная плата . .
. 500 тыс.
Подоходный налог . .
. 700 »
Жалованье
1690 европейцев
. 800 »
Заработная плата 17 тысяч африканцев . .
. 244 »
Другие издержки производства , ремонт, складские расходы фрахт, страхование и т. д. .
4756 »
Итого 12 млн.
12 млн.
По поводу этих доходов и расходов Леонард Бэрнс пишет:
«Вышеуказанная цифра 12 миллионов фунтов стерлингов взята из таможенных отчетов и может быть принята, если хотите, за индекс «экономического развития Северной Родезии». Однако говорить о том, будто добыча меди дала эту сумму для повышения уровня жизни африканцев этой колонии, было бы либо слишком наивно, либо 74
неверно. В действительности покупательная способность африканцев повысилась только на ту сумму, которая выплачивается горнякам в виде заработной платы, и на ту часть жалованья, которую расходуют европейцы на содержание доманиней прислуги, то есть, скажем, на 350 тысяч фунтов стерлингов».
Но даже если принять во внимание все косвенные блага, полученные африканцами, то весь их валовый доход едва ли превысит миллион фунтов стерлингов. Но, для того чтобы найти цифру, которая показывала бы, насколько улучшилось их экономическое благосостояние, нам нужно противопоставить этой общей цифре: а) вред, причиняемый новым экономическим порядком умственному и физическому состоянию африканских племен, и б) возможное сокращение снабжения африканцев продовольствием в результате отвлечения рабочей силы племен из сельского хозяйства на рудники. И здесь автор приходит к следующему выводу:
«Этот отчет о положении на медных рудниках дает типичное представление о нашем поведении на рудниках, где добываются металлические руды. Вообще говоря, мы присваиваем естественные ресурсы, развиваем их в своих же собственных интересах и целях (эти интересы и цели полностью игнорируют существовавший до того порядок и деятельность африканского общества), и из полученного таким образом богатства мы на каждые вывозимые из этой страны одиннадцать фунтов стерлингов оставляем там лишь один фунт. Многие англичане' любят называть эту процедуру опекой, но, поступая так, они, пожалуй, слишком вольно обращаются с этим термином».
Дабы не показалось, что этот анализ 1937 года ныне уже устарел, полезно привести и некоторые более новые данные. В 1954/1955 году четыре главные компании, добывающие медь в Северной Ро75
дезии, получили 48 миллионов фунтов стерлингов валовой прибыли; после уплаты налогов и выделения значительных сумм на амортизацию, резервы и новые вложения они в 1955 году распределили в форме дивидендов 24 миллиона фунтов («Роан антелоп» — 80 процентов, «Муфулира» — 100, «Нчанга»— 140, «Рокана корпорейшн» — 212,5 процента). С другой стороны, доклад Горного департамента Северной Родезии за 1953 год свидетельствует, что общая сумма заработной платы, окладов и премий, полученных 5879 европейскими служащими, составила 9 965 780 фунтов, или в среднем 1678 фунтов на одного служащего за год, тогда как общая сумма заработной платы, премий и выдач, полученных 36 147 рабочими-африканцами, составила 4 842 633 фунта или в среднем 134 фунта в год. Заработная плата африканцев составляла, таким образом, одну десятую часть общей валовой прибыли и одну пятую выплаченных дивидендов; даже взятая вместе общая сумма окладов и заработной платы европейцев и африканцев составляла менее одной трети общей прибыли.
Возьмем для примера другую, самую крупную в данный момент колонию, колонию в полном значении этого слова — Нигерию. В подробном авторитетном исследовании, опубликованном в 1948 году, приводятся цифры, характеризующие добычу олова в 1937 году.
Таблица 10
ДОБЫЧА ОЛОВА В НИГЕРИИ В 1937 ГОДУ (в тыс. ф. ст.)
Стоимость экспорта 2 496
Общая прибыль 1 249
Общая сумма заработной платы
африканцев 329
Среднегодовое число занятых в этой
отрасли африканцев ...... 36 142 человека
Источник. «Майнинг, коммерс энд Файнанс ин Нигерия», изданный Марджери Перхэм в 1948 году, стр. 18—19.
76
Из этой таблицы следует, что каждый африканец, работающий на рудниках, добывает на 69 фунтов стерлингов олова, идущего на экспорт, а получает из них всего лишь 9 фунтов 2 шиллинга (или 3 шиллинга 6 пенсов в неделю), то есть менее одной седьмой той стоимости, которую он произвел. С другой стороны, прибыли от каждого работающего африканца составляют 34 фунта И шиллингов в год, или почти в четыре раза больше, чем заработная плата рабочего-африканца, что соответствует норме прибавочной стоимости в 380 процентов (фактически она еще больше, поскольку здесь не учтены крупные суммы, выплачиваемые в виде арендной платы, налогов и т. д.).
Не следует думать, будто техника колониальной эксплуатации характерна только для компаний, владеющих рудниками и плантациями и непосредственно эксплуатирующих наемный труд жителей колоний. Наоборот, большинство колониального населения — крестьяне, и они подвергаются самой жестокой эксплуатации крупными торговыми, банковскими и судоходными компаниями и всем империалистическим механизмом управления. В результате разграбления естественных ресурсов их страны, разорения старого ремесленного производства, задержки современного промышленного развития, сегрегации в не имеющих необходимых ресурсов резервациях и лишения крестьян лучших земель крестьяне живут в страшной скученности. Они задавлены налогами (часто вводимыми специально для того, чтобы заставить их трудиться на своих завоевателей) и во многих случаях поборами в пользу помещиков и ростовщиков, которых поддерживают и охраняют как вассалов империалистических правителей. Находясь в таком невыносимом положении, неся такое тяжелое бремя, крестьяне вынуждены обрабатывать свои крохотные участки земли при помощи самой примитивной техники, производить не для собственных нужд, а для уплаты дани своим эксплуататорам, оставаясь сами полуголодными. Им приходится производить 77
все больше товарных культур для крупных империалистических экспортных компаний, вместо того чтобы производить продовольствие для самих себя. Таким образом, широкие массы крестьянства (составляющего подавляющее большинство населения колониальных, зависимых и других слаборазвитых стран) так же крепко привязаны к системе эксплуатации крупными империалистическими монополиями и их государственным аппаратом, как и наемные рабочие. При этом мы не рассматриваем здесь широко применяемый в колониальной империи принудительный труд,, а также полурабскую систему использования закабаленных рабочих. Все это ведет к усилению пауперизации и разорению широких масс крестьянства в колониальных и зависимых странах, к быстрому пополнению рядов безземельного пролетариата в сельских районах или же городского пролетариата, ищущего работы в портах, на рудниках, железных дорогах и во вспомогательных отраслях промышленности, в которых нуждается механизм империалистической эксплуатации. Углубляющийся в результате этого аграрный кризис является главной причиной развивающейся революции во всех колониальных и полуколониальных странах.
Социальные условия, в которых живут колониальные народы
Каким же образом этот колониальный гнет и эксплуатация сказываются на уровне жизни и социальных условиях, в каких находятся колониальные народы?
Вернемся снова к самой крупной колонии — Нигерии, находящейся под непосредственным английским управлением. Мы уже проследили, каким образом извлекаются там сверхприбыли.
В 1948 году английское правительство послало в Нигерию комиссию для изучения возможностей использования ее в качестве источника поставок 78
мяса для Англии. Доклад этой комиссии, опубликованный в 1951 году, выявил ряд совершенно неожиданных для английского правительства, искавшего источники поставок мяса, фактов относительно условий жизни населения этой важнейшей колонии после семидесяти пяти лет английского господства. Члены комиссии установили, что в северных провинциях Нигерии 51 процент детей умирает в возрасте до шести лет.
«31 процент детей до трехлетнего возраста, прошедших через больницы, страдает в той или иной форме от недоедания; 41 процент этих детей умирает. Иными словами, 13 процентов всех детей до трехлетнего возраста, прошедших через больницы, умирает исключительно от недоедания.
В перенаселенных восточных провинциях... 70 процентов всех детей, прошедших через больницы, страдает от недоедания».
Иронической иллюстрацией к надежде английского правительства получить из Нигерии мясо для Англии могут служить данные этой комиссии о том, что в 1948 году средняя норма потребления мяса на душу населения в Нигерии составляла менее 5 фунтов в год (полторы унции в неделю) по сравнению с 74 фунтами на душу населения (примерно в пятнадцать раз больше) в изголодавшейся по мясу Англии 1948 года. Таким образом, оказалось, что Нигерия не только не сулит никаких перспектив на снабжение Англии мясом, но комиссия пришла к выводу, что необходима «аграрная революция», чтобы народ Нигерии мог сам себя прокормить/ не говоря уже о том, чтобы он‘мог выполнить «какую-нибудь существенную экспортную программу».
В 1948 году специальный комитет палаты общин нарисовал следующую -мрачную картину существующих в Нигерии условий:
«В Нигерии один врач приходится на каждые 133 тысячи жителей и одна больничная койка — на 3700 человек, в то время как 79
в Соединенном Королевстве имеется один врач на 1200 человек и одна больничная койка — на 250 человек. Во всей стране всего 10 зубных врачей. Свыше 20 миллионов человек существует на самые скудные средства, добываемые от сельского хозяйства, и поэтому там широко распространены’ недоедание и болезни. Статистических данных о состоянии здоровья населения в стране не существует. Детская смертность в Лагосе, как сообщают, составляет НО на тысячу по сравнению с 40—50 в европейских странах. В результате вскрытий трупов и на основании сведений, представленных частными врачами, установлено, что из общего числа умерших 9—10 процентов умирает от туберкулеза. В стране нет ни одного санатория. Больных туберкулезом лечат в общих больницах. Имеется всего лишь три психиатрические лечебницы; в каждой тюрьме существует специальное отделение, отведенное для психических больных. В больницах большие очереди нуждающихся в госпитализации, и в некоторых из них больных приходится класть прямо на пол. Из 8 миллионов детей до шестнадцатилетнего возраста лишь 660 тысяч получают начальное образование. В средних школах обучается около 10 тысяч детей, а система технического образования совершенно недостаточна» (Палата общин, специальный комитет, пятый доклад сессии 1947—1948 годов).
В 1949 году, после расстрела в Нигерии на принадлежащей правительству шахте в Энугу горняков, требовавших повышения заработной платы до 5 шиллингов 10 пенсов в день (22 горняка были убиты полицией), туда была послана с целью обследования официальная комиссия. В докладе этой комиссии указывалось, что средний заработок квалифицированных рабочих Нигерии (выполняющих квалифицированную работу, но числящихся 80
неквалифицированными рабочими) составлял 3—4 шиллинга в день, и лишь небольшая часть их получала от 4 шиллингов 6 пенсов до 6 шиллингов L Ввиду широко распространившегося неправильного мнения, что эту недопустимо низкую заработную плату в колониях не следует сравнивать с заработной платой в европейских странах, поскольку стоимость жизни и цены на предметы первой необходимости в колониальной стране якобы значительно ниже (ошибка, которая не допускается при исчислении всех дополнительных выплат к жалованью, считающихся необходимыми для белого чиновника в колониальной стране), стоит отметить, что в том же докладе приводятся розничные цены на обычное продовольствие и одежду, существовавшие на 14 декабря 1949 года в Обвати (Нигерия). Можно привести следующие примеры:
Хлеб — 1 шиллинг за буханку весом в 1 фунт. Рыба (сушеная) — 2 шиллинга 6 пенсов за 1 фунт.
Сандалии—16 шиллингов за пару. Мыло — 1 шиллинг 4 пенса за кусок. Полотенце — 4 шиллинга 9 пенсов.
Комиссия установила, что цены по сравнению с довоенным временем выросли более чем в два раза, а заработная плата повысилась всего лишь на 40—50 процентов. Таким образом, реальная заработная плата существенно снизилась даже по сравнению с ужасающе низким уровнем, существовавшим до войны.
Такие условия жизни — вовсе не единичное явление. Во многих колониях дело обстоит еще хуже. И такое положение отнюдь не ограничено пределами непосредственной колониальной империи.
1 Эти цифры выглядят еще сравнительно благоприятно в сравнении с заработком неквалифицированных рабочих. В декабре 1955 года в решении арбитражной комиссии Хэнбери по заработной (плате в Нигерии указывалось, что «неквалифицированные рабочие» получали минимальную дневную ставку в пределах от 2 шиллингов 4 пенсов в «некоторых районах» на севере до 4 шиллингов 8 пенсов в Лагосе.
81
Оно встречается и в недавно завоевавших независимость странах, таких, как Индия и Египет, где наследие старой колониальной экономики все еще давит на условия существования народных масс.
За последние годы (то есть с началом последовавшего за второй мировой войной обострения борьбы колониальных народов) появилось много докладов (изданных различными официальными учреждениями, органами Организации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и др.), описывающих, анализирующих и классифицирующих ту обстановку нищеты, голода и болезней, в которой живут и умирают 1200 миллионов . мужчин, женщин и детей в колониальных, зависимых и недавно освободившихся от колониальной зависимости странах, которые, в официальной терминологии, принято именовать слаборазвитыми территориями.
Все эти доклады раскрывают картину человеческого страдания и нужды, далеко превосходящих самые плохие условия в любой из господствующих капиталистических стран. Они говорят нам, что более половины человечества — на огромных пространствах Южной и Юго-Восточной Азии, Среднего Востока, Африки, Вест-Индии и Латинской Америки — плохо питается, подвержено болезням, плохо одевается и живет в плохих жилищах от колыбели до могилы. Они говорят о том, что средняя продолжительность жизни там составляет тридцать лет (по сравнению с шестьюдесятью пятью годами в Англии), а детская смертность достигает в некоторых случаях 400 на тысячу против 27 — в Англии. Мы узнаем из них, что в Индии в 1948—1949 годах средний доход на душу населения составил 19 фунтов стерлингов, или одну двенадцатую английского уровня; что в Кении в 1949 году средний доход африканца равнялся 5 фунтам 18 шиллингам (или менее 4 пенсов в день) по сравнению с 205 фунтами 14 шиллингами, которые получал в той же колонии неафриканец (в 35 раз больше); что африканец в Северной Родезии 82
имел 10 фунтов 6 шиллингов (включая стоимость произведенного им для собственных нужд продовольствия) по сравнению с 486 фунтами 16 шиллингами, которые имел неафриканец. Из этих докладов мы узнаем о неграмотности, доходящей до 99 процентов в Британском Сомали и 85 процентов в Индии. В Малайе 45 из каждых 100 детей умирает, не достигнув шестилетнего возраста; в Египте— 50 из 100. В 1950 году в Египте из каждых 17 призывников 16 оказались непригодными по состоянию здоровья. В Ямайке за один только месяц 1951 года отмечено более ста смертных случаев от пресловутой «тошнотной болезни», которую профессор Хилл из Вест-Индского университета охарактеризовал как результат «самого обычного голодания».
Общие выводы этих обследований неизменно повторяют друг друга. Так, Об Африке в целом говорится:
«Большинство населения страдает от плохого питания или недоедания... Питание африканцев находится по-прежнему на одном из самых низких уровней в мире...
Недоедание лежит в основе всей проблемы здравоохранения в Африке» (Объединенные Нации. Специальное обследование социальных условий на несамоуправляющихся территориях, 1953).
О шестистах миллионах жителей Южной и Юго- Восточной Азии мы читаем:
«Значительные группы населения всего этого района живут в условиях нищеты; их доход... недостаточен для поддержания нормального физического состояния... Подавляющее большинство городского и сельского населения живет в трущобах или в антисанитарных условиях... Основная проблема Южной и Юго-Восточной Азии — это повсеместная нищета... В этих районах многие люди всю свою жизнь несут долговое бремя, умирают должниками и дети их наследуют 83
этот долг» (Объединенные Нации. Предварительный доклад о мировом социальном положении, 1952).
В XIX веке, когда подъем рабочего движения стал угрожать существовавшему социальному строю, проводилось великое множество официальных и филантропических обследований по изучению социальных и экономических условий рабочего класса. В конечном итоге эти обследования выявили, что бедный люд страдает'именно от своей бедности. Все эти обследования не пытались вскрыть причину этой бедности в социальной системе капиталистической эксплуатации.
В наши дни, в свете все расширяющегося движения колониальных народов, при таком же великом множестве официальных и филантропических обследований социального и экономического положения народов колониальных и зависимых стран пришли к аналогичному выводу, что вся проблема заключается в бедности. Однако и в этих обследованиях не пытаются вскрыть главную причину бедности в колониальной системе. Напротив, предпринимаются всяческие усилия, чтобы представить эту картину бедности как некое состояние естественной «отсталости», которую благожелательно и филантропически настроенный империализм пытается преодолеть различными планами «развития» этих стран.
«Бедность и отсталость, которые все еще широко распространены в колониях... являются результатом главным образом естественных причин, особенно в тропиках» (Заявление Лейбористской партии о политике по колониальным вопросам, 1954).
Таким образом, теперь уже нельзя отрицать вопиющие факты бедности и разорения колониальных и зависимых народов, ограбленных империалистическими эксплуататорами. Ныне их повсеместно признают. Однако теперь эти факты с самым невинным видом приводятся апологетами империализма в сочетании с призывами к милосердию 84
и благотворительности, что способствует сокрытию подлинной роли колониальной системы в сохранении и даже усилении этой бедности.
При рассмотрении тяжелых условий жизни народов во всех колониальных и зависимых странах следует помнить о двух иллюзиях, широко распространяемых апологетами империализма с целью затушевать истинный политический вывод, вытекающий из такого положения.
Первая иллюзия касается тех стран, где наследие оставшейся от периода империалистического господства колониальной экономики сохраняется в рамках политической структуры независимых государств. В данном случае делается попытка обелить империализм и возложить всю вину на местные правительства этих районов и на эксплуататорские высшие классы, являющиеся их социальной базой. Верно, что во многих таких странах, где народное движение пока еще является слабым, высшие классы — феодальные князья, вожди племен, паши, крупные помещики и торговцы, нарождающиеся капиталисты и спекулянты, связанные с империалистами,— в большинстве случаев являются самыми продажными и бесстыдными эксплуататорами и угнетателями своих народов. Но факт остается фактом: они лишь второразрядные, или подчиненные, эксплуататоры, вассалы, паразиты и ставленники империализма, действующие под его эгидой и покровительством. Именно империализм уже разорил и опустошил эти страны, продолжая делать это и сейчас, именно он сохраняет и поддерживает этих подчиненных местных эксплуататоров в качестве союзников империализма и его социальной опоры против народного восстания. Невозможно скрыть главную ответственность империализма за такое положение в этих странах. И тот факт, что низкий уровень жизни, существующий там, очень близок к низкому уровню жизни в колониальных странах, непосредственно управляемых империалистами, показывает, что здесь действуют одни и те же основные факторы.
85
Вторая иллюзия, которую пытаются распространять апологеты империализма, заключается в утверждении, будто эти ужасные условия являются «лишь» абсолютными, то есть присущими всем отсталым и пораженным нищетой странам независимо от колониальной системы, и будто бы империализм не только не несет ответственности за это, а, наоборот, постепенно, но неуклонно содействует улучшению условий и развитию этих стран. Так, на съезде Лейбористской партии в 1954 году, принявшем уже цитировавшийся доклад по колониальной политике (в котором говорится, что «бедность и отсталость» колониальных народов «являются результатом главным образом естественных причин»), Джеймс Гриффитс, внося от имени Исполнительного комитета партии этот документ, заявил:
«Не мы создали эту бедность; она обусловлена условиями их жизни, климатическими и иными факторами, существовавшими там много столетий».
На основании этого говорится о цивилизаторской миссии просвещенного империализма в развитии этих отсталых стран и оказании им помощи в преодолении своей нищеты, вызванной «естественными причинами».
Однако подобный анализ деятельности империализма противоречит истине. История колониальной системы есть история непрерывного социального и экономического упадка всех стран, оказавшихся в ее орбите. Этот упадок — неизбежное следствие существования колониальной системы. Никакие империалистические планы «развития» не могут изменить положение, пока существует система колониального грабежа и выкачивания сверхприбылей.
Наиболее убедительной иллюстрацией этого упадка может служить Индия, являвшаяся классической ареной действия колониальной системы на протяжении двух столетий. В XVII веке европейские купцы и путешественники относились к Индии с благоговением и восхищением, считая ее одной из передовых и культурно развитых стран мира. Но 86
к XX веку она уже была низведена до самого низкого уровня технической отсталости, до состояния мировой трущобы. Подробные данные об этом упадке приведены в моей книге «Индия сегодня», к которой я и отсылаю читателя, чтобы не повторяться \ Что касается Африки, то некоторые сведения о физическом упадке африканцев в колониальную эру изложены в 11-й главе.
Однако для современного положения особенно важен не просто общий упадок, вызванный длительным существованием колониальной системы во всех странах, где она действует. Сейчас нас непосредственно интересует тот факт, что в самый последний период этот упадок заметно ускорился; во всех без исключения колониальных странах и во всех странах, где экономическая деятельность иностранного империализма оказывает большое влияние, заработная плата не поспевает за быстрым ростом цен с самого начала второй мировой войны; реальная заработная плата в настоящее время упала даже ниже предельно низкого довоенного уровня. Во всех этих странах без исключения углубляется аграрный кризис.
Это ухудшение условий жизни народов колониальных и зависимых стран после второй мировой войны неоднократно подтверждалось официальными докладами.
«Разрыв между богатыми и бедными странами сейчас больше, чем до войны... Для огромных народных масс, являющихся неграмотными крестьянами, ведущими мелкое хозяйство с помощью примитивных методов, всеобщая бедность, по-видимому, не уменьшилась существенно в последние годы; вполне возможно, что во многих районах она усилилась...
В Юго-Восточной Азии большая часть населения живет в бедности... Если положение
1 На русском языке книга П. Датта «Индия сегодня» опубликована Издательством иностранной литературы в 1948 году. — Прим. ред.
87
этой части населения всегда было плохим, то после второй мировой войны оно изменилось к худшему... Для многих стран этого района показатели дохода на душу населения в 1949 и 1950 годах оставались ниже довоенных цифр... Хотя заработная плата в общем повысилась, в ряде стран она отставала от роста стоимости жизни» (Объединенные Нации. Предварительный доклад о мировом социальном положении, 1952).
То же самое относится к сокращению потребления продуктов питания.
«Во-всем мире потребление продовольствия на душу населения в целом теперь ниже, чем пятнадцать лет назад. Более того, неравенство в потреблении продовольствия сейчас более резко выражено, чем до войны» (Объединенные Нации. Экономический отчет за 1950—1951 годы).
«Второе Всемирное обследование положения с продовольствием», проведенное в 1952 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, показало, что число лиц, страдающих от недоедания, составлявшее в довоенное время 38,6 процента населения земного шара, выросло до 59,5 процента. Обследование за 1953—1954 годы установило, что, хотя в предыдущем году мировое производство продовольствия увеличилось на 3 процента, а население земного шара — на 1,5 процента, неравенство развития отразилось в том факте, что в Северной Америке производство продовольствия увеличилось на 19 процентов, в то время как в Восточной Азии (за исключением Китая, где оно увеличилось), уменьшилось на 13 процентов. Характерно, что широко разрекламированный «шестилетний план Коломбо по развитию Южной и Юго-Восточной Азии» ставит своей целью в течение шести лет восстановить довоенный уровень, что, по выражению генерального директора Международного бюро труда, явилось бы «стабилизацией нищеты».
88
Это продолжающееся обнищание служит ярким контрастом грандиозно быстрому повышению уровня жизни, улучшению социальных условий, техническому и промышленному прогрессу, росту здравоохранения, просвещения и культуры за последние три десятилетия в ранее самых отсталых колониях царизма — нынешних советских республиках Средней Азии и за последние пять лет — в Китае. Некоторые сведения об этом развитии приводятся в одной из последующих глав. Этот контраст делает тем более нетерпимыми нынешние нищенские условия, преднамеренно созданную отсталость и продолжающееся ухудшение положения всех колониальных народов.
Против этих условий политического подчинения и экономического и социального упадка восстали сейчас народы всех колониальных и зависимых стран. Это восстание изменяет лицо мира и повлечет за собой самые серьезные последствия для традиционной империалистической экономики господствующих стран, особенно для экономики Британии.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
КАК РАЗВИВАЛАСЬ ИМПЕРИЯ
Для создания, поощрения и развития тайного общества, подлинной целью и задачей которого являлось бы расширение господства Британии во всем мире... и особенно оккупация английскими поселенцами всего африканского континента, района Евфрата, островов Кипр и Кандия, всей Южной Америки, островов Тихого океана, которые еще не находятся во владении Великобритании, всего Малайского архипелага, побережья Китая и Японии и конечное возвращение Соединенных Штатов Америки в качестве составной части Британской империи.
Сесил Родс, Первое завещание, 1877.
Полвека назад Джозеф Чемберлен, ставший в 1895 году министром колоний, убеждал англичан «мыслить в масштабах империи». Так называемый «новый империализм» провозглашался евангелием будущего. Английских патриотов осуждали как «сторонников маленькой Англии». Англия должна была служить лишь базой для крупных космополитических капиталистов, целью которых было извлекать миллионы из золотых россыпей Рэнда, малайского каучука или нигерийского олова, предоставляя трущобам лондонского Ист-Энда гнить, полям Англии — приходить в упадок, ланкаширским ткацким станкам — устаревать, а большим промышленным районам Северо-Восточной Англии, Шотландии и Уэльса — приходить в полное запустение. В настоящее время мы испытываем на себе последствия этой программы.
Английская колониальная система старше английского капитализма, но нынешняя Британская империя является в основном продуктом современного развития, и возникновение культа империи относится к последним годам XIX столетия.
90
Еще до начала эры капитализма феодальная монархия вела захватнические войны в Ирландии и Уэльсе, совершала грабительские экспедиции за пределы Европы, на Ближний Восток. «Ирландия — первая английская колония», — писал Энгельс в 1856 году.
«Завоевательные войны англичан, продолжавшиеся с 1100 до 1850 года (в действительности войны и осадное положение продолжались именно так долго), вконец разорили страну» (Энгельс, Письмо Марксу от 23 мая 1856 года) L
Колониальные войны в Ирландии продолжались и в дальнейшим, о чем свидетельствуют жестокое подавление дублинского восстания в 1916 году, злодейское убийство социалиста-патриота Джеймса Конноли и разгул «черно-пегих» (английских карательных отрядов) в 1919—1922 годах. Ирландия была фактически низведена до положения колонии еще до начала капиталистической эры и спустя восемь с половиной столетий все еще вынуждена бороться за свое полное национальное освобождение, которое положило бы конец насильственному разделу страны, английской военной оккупации и сохранению вассального правительства на севере.
Однако колониальная система Британии развивалась преимущественно в тесной связи с развитием капитализма на каждой его стадии. Главным стадиям развития капитализма соответствуют определенные стадии развития колониальной системы.
Ранняя колониальная эра
Начало английской колониальной экспансии за пределами Европы относится ко второй половине XVI века, то есть к наступлению эпохи капитализма.
i К. Маркс и Ф. Энгельс, ИзбранньГе письма, М., 1948, стр. 87.
91
Правда, первые исследовательские экспедиции, торговые походы и первые попытки колониальных завоеваний были предприняты еще в конце XV столетия. В 1496 году Джон Кэбот, открывший Ньюфаундленд, получил от короля Генриха VII разрешение «подчинять, покорять и брать во владение» иностранные земли, которые ему удастся открыть. Затем ему было разрешено «плавать под королевским флагом и водружать королевское знамя в качестве уполномоченного короля». В 1497 году Кэбот водрузил королевский флаг на острове Кейп- Бретон и от имени короля Генриха VII торжественно провозгласил себя правителем этой земли. Два путешествия Кэбота, в 1497 и 1498 годах, легли в основу притязаний Англии на Северную Америку по праву открытия. Однако на деле инициатива Кэбота не была немедленно поддержана и не повлекла за собой создания колоний.
Аналогичным образом Генрих VII в 1501 году дал бристольским купцам патент на создание поселений на вновь открытых территориях, а в 1505 году была выдана хартия компании купцов-авантюристов.
Однако первым колониальным приобретением Англии за пределами Европы были Багамские острова, захваченные сэром Хэмфри Джилбертом в 1578 году. Еще в 1562 году Джон Хоукинс предпринял первую экспедицию за рабами в Сьерра- Леоне. Он опустошил страну и вывез оттуда первую партию негров-невольников К 70-м годам XVI столетия выгоды колониальной системы уже получили широкую известность. Тот же Хэмфри Джил- берт, который уже имел опыт управления покоренным народом, так как был губернатором Мюнстера, опубликовал в 1576 году свой «Трактат, доказывающий возможность пробраться через северо-запад в Катай (Китай) и Ост-Индию». В этой книге Джилберт следующим образом излагал преимущества создания колониальных поселений (которые должны были состоять из разорившихся про92
летариев и бывших преступников — выходцев из Англии):
«Мы могли бы заселить часть этих стран, послав туда таких нуждающихся людей из нашей страны, которые причиняют неприят-- ности нашему обществу и которые из-за нужды, существующей в нашей стране, вынуждены совершать тяжкие преступления, за что их ежедневно вешают».
Такие колонии, указывал он, служили бы рынком сбыта значительной части английских тканей и облегчили бы развитие новых отраслей промышленности в Англии для производства товаров, отвечающих запросам восточных стран, и, таким образом, в Англии была бы обеспечена работа «бродягам и тому подобным бездельникам». Хотя выдвинутая здесь идея колонизации основывалась на поселении (при этом предполагалось изгнание или истребление коренных жителей), а не на подчинении и непосредственном господстве над неевропейскими народами, мы видим, что в ней уже явственно сказываются характерные доводы защитников колониальной системы.
В 1583 году Хэмфри Джилберт завладел гаванью Сент-Джон на Ньюфаундленде и примыкающими к ней территориями и провозгласил над ними власть и юрисдикцию английского монарха. На этом основании дюжинные историки Британской империи, предпочитавшие не касаться Ирландии, считали Ньюфаундленд «первой английской колонией», а 1583 год — началом британской колониальной империи. В 1585 году сэр Уолтер Рэлей создал первую колонию в Виргинии. В 1600 году получила свою хартию первая Ост-Индская компания. В 1612 году англичане впервые обосновались в Индии, создав торговый пункт в Сурате; затем были созданы поселения в форте Сент-Джордж (Мадрас) в 1639 году и в Бомбее в 1662 году.
Эта эпоха ранней колониальной экспансии была эпохой купцов-авантюристов, эпохой пиратов и грабительских экспедиций, торговли невольниками, 93
основания торговых баз, привилегированных монопольных торговых компаний, завоевания вновь открытых заморских территорий, истребления местного населения, образования колониальных поселений в результате миграции.
Колониальная система до промышленной революции— сначала при монархии Тюдоров и Стюартов, а затем при Кромвеле, в период Реставрации и олигархии начала XVIII века — стремилась жестко контролировать колонии, рассматривая их как прямой источник обогащения метрополии, ибо последняя ввозила ценные металлы и колониальные продукты в обмен на минимальное количество товаров. Такова была «старая колониальная система», против которой выступила новая школа экономистов во главе с Адамом Смитом, положившая начало новой эре промышленного капитализма и доктрине «laissez-faire» Ч
«Старая колониальная система» служила главной базой для первоначального накопления капитала наряду с экспроприацией крестьянства в Англии, что сделало возможным быстрое развитие капитализма в Англии. Маркс писал:
«Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих — такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления... Колониальная система способствовала форсированному росту торговли и судоходства... Сокровища, до-
1 «Laissez-faire, laissez-passer» (фр-) — «предоставьте каждому делать, что он хочет, и идти, куда он хочет», — формула французских буржуазных экономистов XVIII века, требовавшая от государства отказа от вмешательства в экономическую жизнь страны. — Прим. ред.
94
бытые за пределами Европы посредством грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал»
Эпоха промышленного капитализма
Таким образом, промышленная революция второй половины XVIII и начала XIX веков была подготовлена и ускорена на основе ограбления колоний, в особенности Индии (см. книгу автора «Индия сегодня», глава V, раздел 2 — «Индия и промышленная революция»).
Англия превратилась в «мастерскую мира». Она получала сырье со всех концов света. Изделия английской фабрично-заводской промышленности господствовали на рынках всех стран. В мировой торговле под покровительством английского военного флота господствовал английский торговый флот. Прежняя колониальная монополия развилась в мировую промышленную монополию.
«Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские нации. Дешевые цены ее товаров—вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам.
... так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полувар- варские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных народов, Восток — от Запада» 1 2.
1 К. Маркс, Капитал, Госполитиздат, т. 1, 1949, стр. 754, 757.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, Госполитиздат, 1948, стр. 43.
95
' Мировая промышленная монополия Англии XIX века привела таким путем к возникновению новой фазы колониальной системы.
С одной стороны, такие страны, как Канада и Австралия, где переселенцы из Англии добились своего господства путем истребления местного населения, превратились в придаток английской метрополии, играющий вспомогательную роль по отношению к английскому промышленному центру, снабжающий последний сырьем и получающий английские товары, но все же вступивший на путь собственного буржуазного экономического развития, чтобы в конце концов превратиться в фактически независимые доминионы.
С другой стороны, в завоеванных и порабощенных колониальных странах, таких, как Индия, Вест- Индия и африканские колонии, где англичане появились как чужеземные правители и торговцы, старая система взимания дани и эксплуатации сохранилась, но стала играть подчиненную роль в сравнении с новой основой отношений, при которой колонии стали служить источником дешевого сырья, получаемого при помощи либо плантационной системы, либо крестьянского труда в условиях полуголодного существования, а также рынками для английских товаров. Приток английских промышленных товаров вызвал разорение местной кустарной промышленности. Индийские равнины, писал в 1834 году английский генерал-губернатор Индии, усеяны костями ткачей.
В эту эру промышленного владычества Англии, в XIX веке, казалось, что бесспорное господство английской машинной промышленности может смести любые преграды во всех странах, причем не только в непосредственно управляемых Англией, но и в независимых от нее иностранных государствах. Это экономическое превосходство, нашедшее выражение в доктринах «laissez-faire» и фритредерства, казалось новому правящему классу, представителю английских промышленников, столь несокрушимым, что в середине XIX века получили распростране-
96
ние идеи, отвергавшие всю колониальную систему как чрезмерное расточительство и устарелый пережиток. Маркс писал о манчестерской школе Кобдена и Брайта:
«Фритредеры (манчестерцы, сторонники парламентской и приверженцы финансовой реформы)» являются официальными представителями современного английского общества, представителями той Англии, которая господствует на мировом рынке...
Лозунгом этой партии в ее борьбе против старых английских учреждений—этого продукта устаревшего, быстро уходящего в прошлое периода социального развития — является: производить как можно дешевле и устранить все faux frais (непроизводительные издержки) производства!.. Нация может производить и обменивать продукты и без короля; поэтому долой корону! Синекуры дворянства, палата лордов — все это faux frais производства. Большая постоянная армия — faux frais. Колонии — faux frais. Англия сможет с меньшими затратами эксплуатировать чужие нации, если она будет с ними жить в мире»
Эти новые идеи оказали также влияние на консерваторов и официальные круги. В 1852 году Дизраэли отзывался об «этих злосчастных колониях», как о «жерновах на нашей шее». Герман Меривейл, постоянный заместитель министра колоний с 1848 по 1860 год, изложил этот принцип следующим образом:
«С открытием колониальной торговли и завершением колонизации стало очевидно, что руководящие мотивы, побуждавшие наших предков основать и поддерживать колониальную империю, более не существуют».
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IX. стр. 9—10.
4 Р. Палм Датт 97
Другой представитель министерства колоний, сэр Генри Тэйлор, говорил в 1864 году об английских владениях в Америке как о «некоем проклятом наследии». Аналогичным образом Бисмарк писал фон Роону в 1868 году:
«Все преимущества, будто бы существующие для метрополии, носят большей частью иллюзорный характер. Англия отказывается от своей колониальной политики, ибо она обходится ей слишком дорого».
Это недолгое увлечение модными антиколониальными теориями на деле не препятствовало продолжению колониальной агрессии и колониальных завоеваний в середине XIX века. Военные корабли и пушки все еще помогали пробивать путь к рынкам.
В 1840 году первая «опиумная» война, которая велась во имя священного права Ост-Индской компании отравлять китайцев опиумом («чужеземной грязью», как называли его китайцы), открыла двери Китая для иностранной торговли и вырвала у китайских властей в виде наказания за их сопротивление «благам опиума» уступку Гонконга — «законное право», на которое лейбористские министры ссылались в качестве оправдания своих военных мероприятий, направленных на удержание Гонконга. Кобден и Брайт ревностно поддерживали подавление восстания в Индии в 1857 году; Аден был аннексирован в 1839 году, Новая Зеландия — в 1840 году, Наталь и Синд — в 1843 году, Пенджаб был аннексирован в результате военных действий против сикхов в 1845—1848 годах, Бирма—в 1852 году (полностью аннексирована в 1886 году).
Эпоха современного 'империализма
Однако с наступлением в семидесятых годах XIX века великой депрессии превосходство английского экспорта начало впервые ослабевать под натиском новых промышленных соперников. Это 98
положило начало новой фазе усиленного вывоза капиталов и новой полосе колониальных захватов, расчистившей путь для наступления эры империализма XX века.
В течение последней четверти XIX века Англия утратила свое промышленное превосходство — сначала по отношению к Соединенным Штатам, а затем по отношению к Германии. В 1880 году производство стали в Англии равнялось 1,3 миллиона тонн, в США—1,2 миллиона и в Германии — 700 тысячам тонн. К 1900 году производство стали в США достигло 10,2 миллиона тонн, в Германии — 6,4 миллиона и в Англии — 4,9 миллиона тонн. К 1913 году в США производство стали достигло 31,3 миллиона тонн, в Германии — 18,9 миллиона и в Англии — 7,7 миллиона тонн.
Англия продолжала занимать первое место по экспорту промышленных изделий, однако доля ее в общем объеме экспорта сокращалась. В период между 1880—1884 и 1900—1904 годами экспорт промышленных изделий из Англии увеличился на 8 процентов, из Германии — на 40 процентов, а из США — на 230 процентов.
Однако в области вывоза капитала и колониальной экспансии Англия занимала ведущее место.
С 1884 по 1900 год Англия приобрела 3700 тысяч квадратных миль новых колониальных территорий. К 1914 году Британская империя занимала территорию в 12,7 миллиона квадратных миль, из которых на Соединенное Королевство приходилась 121 тысяча, или менее одной сотой, на самоуправляемые доминионы — 7 миллионов, а на колониальные и зависимые владения — 5,6 миллиона квадратных миль, что в сорок шесть раз превышало площадь Соединенного Королевства. Таким образом, большая часть зависимых владений была приобретена после 1884 года. Общая численность населения составляла 431 миллион человек, причем численность белого самоуправляющегося населения Англии и доминионов равнялась 60 миллионам, или менее одной седьмой. Империалистическая мировая 4*
99
война 1914—1918 годов привела к приобретению еще полутора миллионов квадратных миль территории. Накануне второй мировой войны Британская империя с протекторатами и зависимыми территориями занимала площадь, равную четверти всей поверхности земного шара, с населением, численность которого составляла четвертую часть мирового народонаселения.
С 1850 по 1880 год инвестиции английского капитала за границей увеличились в пять раз — с 200 миллионов фунтов стерлингов они возросли до 1 миллиарда. К 1905 году они удвоились, достигнув 2 миллиардов. К 1913 году они вновь удвоились, дойдя почти до 4 миллиардов фунтов стерлингов. В конце XIX века, в 1899 году, сэр Роберт Гиффен оценивал общую прибыль от английской внешней торговли в 18 миллионов фунтов стерлингов, а общий доход от капиталовложений за границей — в 90 миллионов. К 1913 году доход от капиталовложений за границей достиг почти 200 миллионов фунтов стерлингов, а к 1929 году — 250 миллионов.
Эра промышленного капитала уступила место эре финансового капитала. Англия утратила промышленное превосходство, чтобы стать великим ростовщиком и колониальным эксплуататором, собирающим дань со всего мира.
После первой мировой войны и особенно после второй мировой войны положение Англии как главного экспортера капитала за границу и обладателя капиталовложений за рубежом непрерывно ослабевало. Это характерная экономическая черта нынешнего углубляющегося кризиса английского империализма. Однако это не означает, что значение Англии как мирового ростовщика и колониального эксплуататора уже свелось на нет.
Широко распространенный миф о том, будто Англия ликвидировала все свои заграничные капиталовложения во время второй мировой войны, чтобы получить доллары, необходимые ей для ведения войны, является значительным преувеличением. В действительности было ликвидировано немногим 100
менее одной трети наличия ценных бумаг. Согласно данным Английского банка, опубликованным в 1950 году, общая сумма активов уменьшилась с 3535 миллионов фунтов стерлингов в 1938 году до 2417 миллионов фунтов стерлингов в конце 1945 года, то есть на 31,6 процента.
В послевоенные годы главное внимание английской политики было направлено на возобновление экспорта капитала и восстановление английских капиталовложений за границей, даже за счет нехватки их внутри страны. За десять лет, с 1946 по1955 год (включительно), новые капиталовложения Англии в остальной части стерлинговой зоны достигли 1469 миллионов фунтов стерлингов. Значительная часть этих новых капиталовложений была сделана искусственным образом — путем принудительных займов от колоний, поскольку в течение этого же периода стерлинговые счета зависимых заморских стран увеличились на 1 миллиард фунтов стерлингов.
Таблица 11
АНГЛИЙСКИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 1938—1954 ГОДЫ (В МЛН. ф. СТ.)
1938 г.
1948 г.
1951 р.
1954 г.
Общая сумма английских инвестиций за границей
3545
1960
1987
2128
В колониях и доминио¬
нах
1998
1111
1120
1178
В странах, не входящих в империю ....
1547
849
865
950
Источник. «Заморские инвестиции Соединенного Королевстваэ, Отчеты Английского банка за 1951, 1955, 1956 годы.
К 1948 году Английский банк уже мог привести общую цифру английских капиталовложений за гра101
ницей, близкую к 2 миллиардам фунтов стерлингов, причем большинство из них размещено в странах империи.
Доля, приходящаяся на империю, составляет 56,6 процента. В этих данных о прямых капиталовложениях за границей не учтены капиталы круп* ных монополий и трестов, находящихся в Лондоне, но действующих главным образом в империи и получающих оттуда большую часть своих доходов.
К 1951 году английские инвестиции за границей (по оценке Английского банка) возросли лишь до 1987 миллионов фунтов стерлингов, но доход от этих инвестиций вырос с 116 миллионов фунтов в 1948 году до 159 миллионов фунтов в 1951 году, то есть на 37 процентов, что является частичным отражением усилившейся колониальной эксплуатации.
К 1954 году общая сумма английских заморских инвестиций достигла 2128 миллионов фунтов. Доход от имущества за границей составил 604 миллиона, а чистый доход (после уплаты за границей налогов на доход от имущества) равнялся 422 миллионам фунтов стерлингов.
База поступления дани ослабела и продолжает ослабевать. Однако поступление этой дани еще не прекратилось.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЦЕНА ИМПЕРИИ
Колючие плоды, что снял я с дерева, посаженного мной, Поранили меня, и кровью я истек.
Я знать бы должен, плод какой мне даст такое семя!
Байрон.
Семидесятипятилетний опыт позволяет предвидеть последствия новой империалистической системы, которую Англия создала в последние десятилетия XIX и в начале XX столетия с целью возместить утрату своего промышленного превосходства. Плоды этой системы мы пожинаем в период нынешнего кризиса, но и в предшествовавшие ему годы уже чувствовалось, как дорого обходится существование этой системы.
Империализм как противовес социализму
Инициаторы новой империалистической экспансии рекламировали ее как способ разрешения проблем английского капитализма после крушения существовавших в середине XIX века иллюзий, будто свободная торговля может обеспечить непрерывный рост промышленного и коммерческого превос- ходства и нескончаемый беспрепятственный прогресс.
С потерей Англией мировой промышленной монополии истощились возможности ее прогрессивного капиталистического развития. Созрели объективные условия для перехода к социалистической организации общества, что представляет собой единственно возможный прогрессивный путь. В 80-х го103
дах XIX века с образованием социал-демократической федерации в Англии вновь оживилась социалистическая агитация. Современное рабочее движение порождено деятельностью пионеров социализма 80-х годов прошлого века.
Еще в 1885 году Энгельс показал, что «промышленная монополия Англии есть краеугольный камень существующего в Англии общественного строя» и что «с крахом промышленной монополии Англии английский рабочий класс потеряет свое привилегированное положение» и «социализм снова появится в Англии» Ч Вызов, который социализм снова бросил старой классовой системе, внушил тревогу английскому правящему классу последней четверти XIX века.
Поборники нового империализма — Дизраэли, Джозеф Чемберлен и Сесил Родс — сознательно направляли свои усилия на то, чтобы принять этот все усиливающийся вызов и сломить рабочий класс и социалистическое движение.
Ленин приводил следующие слова Сесила Родса, сказанные им в 1895 году:
«Я был вчера в лондонском Ист-Энде... и посетил одно' собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба! я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма... Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 199—200.
104
гражданской войны, вы должны стать империалистами» Ч
Джозеф Чемберлен, став в 1895 году министром колоний, в таком же духе определил свою политику: «Я рассматриваю многие из наших колоний как неразвитые поместья, как поместья, которые никогда не разовьются без помощи империи...» (Джозеф Чемберлен, Речь в палате общин 22 августа 1895 года).
«Политика правительства будет заключаться в том, чтобы в максимальной степени развивать ресурсы таких колоний. Только в этой политике развития я вижу решение огромных социальных проблем, которые окружают нас» (Д ж о з е ф Чемберлен, Ответ депутации по вопросу о западноафриканских железных дорогах, «Таймс», 24 августа 1895 года).
Спустя более полустолетия эта же концепция развития колоний как великой тайны социального прогресса, впервые выдвинутая старым пиратствующим лидером самой агрессивной консервативноимпериалистической экспансии в конце XIX столетия, была почти в точности воспроизведена «социалистическим» кабинетом министров как некое новое открытие и последнее слово мудрости.
В 1896 году Чемберлен опять провозгласил новый империализм единственным средством спасения Англии от голода:
«Теперь никто уже более не оспаривает огромных преимуществ единой империи, позволяющих нам пользоваться всеми выгодами торговли, которыми в настоящее время фактически пользуются иностранцы. Поверьте мне, что потеря нами господства отразилась бы прежде всего на трудящихся классах нашей страны. Мы увидели бы наступление хронической нищеты. Англия была бы уже не в состоянии прокормить свое огром-
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 244. 105
ное население» (Джозеф Чемберлен, цитата приведена Виктором Берардом в книге «Британский империализм и торговая гегемония», 1906, стр. 51—52).
Таким образом, миллионеры-эксплуататоры цинично изображают империю как экономическую базу, необходимую для спасения английского рабочего класса от голода (в действительности — от социализма). Это постоянный лейтмотив современной империалистической «демократии» консерваторов, подхваченный и лейбористскими империалистами. Уинстон Черчилль, будучи в 1929 году министром финансов, не менее цинично провозгласил, что империалистическая основа всемирной дани с капиталовложений за границей представляет собой необходимую предпосылку для сохранения в империалистических странах социального обеспечения пролетариата:
«Наш ежегодный доход от посредничества и услуг, оказанных другим странам, превышает 65 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, мы имеем постоянный доход от капиталовложений за границей в размере около 300 миллионов фунтов стерлингов в год... Вот почему у нас есть источник, который позволяет нам поддерживать социальное обеспечение в нашей стране на несравненно более высоком уровне, чем в любой европейской или любой другой стране» (Уинстон Черчилль, Речь о бюджете 15 апреля 1929 года).
Ту же мораль проповедовал в 1943 году и министр по делам доминионов лорд Крэнборн:
«Те, кто ограничивает свой кругозор лишь личными интересами, должны были бы помнить, что их работа и уровень жизни зависели главным образом от существования империи («Дейли телеграф», 23 октября 1943 года).
Отсюда недалеко и до следующего заявления лейбористского министра иностранных дел Бевина, сделанного им в 1946 году:
106
«Я не собираюсь жертвовать Британской империей, ибо знаю, что если бы Британская империя пала... то это повлекло бы за собой значительное снижение жизненного уровня наших избирателей» (Эрнест Бевин, Речь в палате общин 21 февраля 1946 года). Глубокая лживость такого аргумента, о чем убедительно свидетельствуют современные события, будет вскрыта позднее. В настоящий же момент важно установить факт существования империалистической базы нынешнего экономического, социального и политического строя Англии и сознательной концепции и политики, выраженных лидерами всех правящих партий на протяжении этого периода.
Такова, следовательно, экономика английского империализма, создававшаяся в течение более трех четвертей века с целью заменить утраченную мировую промышленную монополию. Именно на этой основе была построена хваленая современная империалистическая «демократия», напоминающая древнюю афинскую рабовладельческую демократию,— «демократия» рабовладельцев империи, управляющих превосходящими их по численности зависимыми колониальными народами, а фактически держащих в подчинении и народные массы метрополии.
Итог для Англии
Что же принесла народу эта экономика империализма?
Для колониальных народов она означала режим разграбления их природных ресурсов и продуктов труда; извлечение монополиями без всякого возмещения гигантских прибылей; понижение жизненного уровня населения колоний; угнетение и жесточайшую эксплуатацию, против которых ныне восстают колониальные народы. Некоторое представление об этих условиях было дано ранее.
107
Однако принесла ли империя широким массам английского народа те блага, о которых говорят крупные монополисты и их представители, пытающиеся изобразить господство над другими народами и эксплуатацию их как источник социального и экономического блага для английского народа?
Ни в коей мере. Крохи добычи, при помощи которых империалистические эксплуататоры стремятся купить покорность рабочего класса и задержать таким образом наступление социализма, значительно перевешиваются тем бременем, которое ложится на рабочий класс в результате дезорганизации экономики, задержки прогрессивного развития, разорительных военных расходов, колониальных и империалистических войн, углубления кризиса и разрухи в стране.
Английский народ расплачивается за политику империализма не только кровью, бесконечными войнами и тяжелым бременем вооружений. Он расплачивается все более пагубными социальными и экономическими последствиями для развития производства в Англии и для условий жизни широких масс народа. Эта расплата находит свое еще более яркое выражение в нынешнем кризисе, переживаемом Англией.
Империалистическая экономика Англии — это паразитическая экономика. Ее сохранение находится во все возрастающей зависимости от дани, взимаемой со всего мира. Накануне первой мировой войны более одной пятой английского импорта не покрывалось экспортом. Накануне второй мировой войны это соотношение стало еще большим,— свыше одной трети. Излишек импорта, или пассивное сальдо внешнеторгового баланса, возрос с 30 миллионов фунтов стерлингов в 1855—1859 годах до 134 миллионов в 1913 году, 302 миллионов — в 1938 году и 415 миллионов фунтов стерлингов — в 1947 году; к 1951 году он вырос до 743 миллионов фунтов стерлингов.
На первой стадии империалистического разви108
тия этот излишек импорта покрывался доходом от зарубежных капиталовложений, финансовых посреднических операций и морских перевозок. Однако на более поздней стадии — по мере того как упадок в метрополии, являющийся следствием паразитизма, усиливался — даже этих получаемых за границей доходов стало не хватать для покрытия неоплаченного импорта. Чистый дефицит платежного баланса начал выявляться уже в начале 30-х годов, после мирового экономического кризиса. За восемь лет, с 1931 по 1938 год, лишь один год (1935) показывал небольшой излишек в балансе. К 1938 году дефицит платежного баланса достиг 70 миллионов фунтов стерлингов. В течение всех восьми лет, с 1931 по 1938 год, общий дефицит в английском платежном балансе составил 270 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, проблема дефицита платежного баланса возникла не после второй мировой войны, она развивалась на протяжении десятилетия, предшествовавшего этой войне. Симптомы смертельной болезни английской империалистической экономической системы стали проявляться еще до новых ударов, нанесенных второй мировой войной. Отсюда несостоятельность поверхностных, стандартных объяснений, обычно приводимых правящими политическими лидерами и экономическими «экспертами» (будь то консервативные или лейбористкие империалисты), которые пытаются представить переживаемый Англией кризис как следствие второй мировой войны и жертв, принесенных Англией на ее алтарь. Рост общего дефицита платежного баланса Англии в течение 30-х годов показал, что вместо прежнего непрерывного процесса накопления (аккумуляции) капитала за границей происходил процесс «дезаккумуляции» капиталовложений.
Вторая мировая война, стоившая Англии почти одной трети всех ее заграничных активов, ускорила этот процесс в огромной степени. Дефицит платежного баланса достиг 298 миллионов фунтов стерлингов в 1946 году и 443 миллионов — в 1947 109
году. После всех чрезвычайных' мер, принятых с тех пор, и временного ложного «восстановления» в 1949—1950 годах дефицит снова увеличился до 403 миллионов фунтов в 1951 году. После нового временного «восстановления» платежного баланса в 1952—1954 годах, в 1955 году опять появился дефицит в 103 миллиона фунтов. Общий дефицит в размере 270 миллионов фунтов стерлингов, накопившийся за восемь лет, с 1931 по 1938 год, возрос до 286 миллионов фунтов стерлингов за десять лет, с 1946 по 1955 год. Общая линия развития за последние двадцать пять лет показывает, что, каковы бы ни были колебания в отдельные годы, этот дефицит характерен для несбалансированной английской экономики; он и сегодня остается хронически неразрешимой проблемой английского капитализма.
Таким образом, империалистическая база экономики, которой в современную эпоху подчинены благосостояние и существование английского народа, представляет собой нездоровую и неустойчивую, пораженную смертельным недугом основу, ведущую к хроническому кризису.
Однако отрицательные последствия такого положения для английского народа проявляются не только во внешнеэкономических отношениях Англии и во влиянии кризисных условий на английский народ. Они проявляются также непосредственно внутри страны, задерживая развитие производительных сил и игнорируя внутренние экономические и социальные нужды.
Все большее устремление капиталовложений за границу и их концентрация там с целью получения колоссальных сверхприбылей за счет колониальной эксплуатации, а также все возрастающая паразитическая зависимость от собираемой в заморских странах дани привели к тому, что Англия стала пренебрегать своей собственной промышленностью и сельским хозяйством, вызвав их упадок. Поскольку можно было получать стопроцентные дивиденды от эксплуатации дешевого труда в колониях, проПО
ведению технического переоборудования, модернизации английской промышленности или же осуществлению в Англии программы социальных реформ не уделялось внимания.
«Средства были направлены на вложения за границей, а не на перестройку грязных городов Англии по той простой причине, что капиталовложения за границей казались более выгодными» (Дж. X. К л э п х э м, Экономическая история современной Англии, глава III, стр. 53).
Сельское хозяйство пришло в упадок. С 1871— 1875 годов и по 1939 год площадь всех пахотных земель Англии сократилась с 18,2 миллиона акров до 11,8 миллиона, то есть на одну треть; посевная площадь сократилась с 13,9 миллиона акров до 8,3 миллиона, или на две пятых; посевная площадь пшеницы — с 3,5 миллиона акров до 1,7 миллиона, то есть наполовину. За разрушение империализмом сельского хозяйства Англии приходится платить теперь дорогой ценой, прилагая огромные усилия для восстановления запущенных земель, чтобы иметь возможность собственными средствами удовлетворять потребность страны в продовольствии. Под давлением военных условий площадь под пшеницей временно увеличилась до 3280 тысяч акров в 1943 году, однако в 1951 году она снова сократилась до 2070 тысяч, а в 1955 году — до 1967 тысяч акров. Между 1949 и 1955 годами не менее 112 тысяч сельскохозяйственных рабочих, или 15 процентов их общего числа, покинули деревни.
Был допущен спад в английской промышленности. Англия, которая в середине XIX века была «мастерской мира», стала все больше и больше превращаться в склад устаревшего оборудования по сравнению с более передовым уровнем промышленной техники в США и Германии. По последним данным, мощность механического оборудования в американской промышленности, измеряющаяся количеством лошадиных сил на одного рабочего, втрое превосходит английскую. Указанное нера111
венство еще больше увеличилось после второй мировой войны.
Этот упадок наметился уже в начале эпохи им^ периализма, в 80-х годах, и особенно после полного развития современного империализма в XX веке, в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Профессор Клэпхэм писал об угольной промышленности Англии, что начиная с 1900 года «ее производительность переживает нечто боле худшее, чем застой». Большинство текстильных фабрик было вынуждено использовать оборудование, заведомо становившееся все более и более устарелым. В металлургической промышленности, как отметил профессор Клэпхэм, «на протяжении всего периода с 1886 по 1913 год не производилось коренного усовершенствования доменных печей и вспомогательных механизмов». «Промышленность Великобритании отставала от промышленности остального мира и абсолютно и относительно» (Бэрнхэм и Хоскинс, Железо и сталь в Англии между 1870—1930 годами, 1943, стр. 70).
В период между двумя мировыми войнами эта деградация и упадок английской промышленности и сельского хозяйства шли ускоренными темпами. Добыча угля с 287 миллионов тонн в 1913 году снизилась до 230 миллионов тонн в 1938 году; число действующих шахт уменьшилось с 3267 в 1913 году до 2125 в 1938 году. В текстильной промышленности за время с 1920 по 1935 год было уничтожено 14 миллионов веретен. Треть всех английских верфей была закрыта; с 1918 по 1938 год мощность английского судостроения сократилась с 3 миллионов тонн в год до 2 миллионов. В сельском хозяйстве за период между 1918 и 1939 годами более 2 миллионов акров земельной площади пришло в запустение; площадь пахотных земель уменьшилась более чем на 4 миллиона акров, а доля посевной площади под зерновыми сократилась с 38 процентов в 1918 году до 28 процентов в 1939 году. Крупный специалист по вопросам сельского хозяйства сэр Джордж Стэплтон констатировал в 1936 году, 112
что около 16,25 миллиона акров земли находится в более или менее заброшенном состоянии и большая их часть пришла в совершенное запустение, в то время как каждый акр этой огромной площади, составляющей две пятых всей территории Англии и Уэльса, можно было бы радикально улучшить. Бывшие прежде ведущими промышленные районы превратились в заброшенные районы.
В то время как основные отрасли промышленности и сельское хозяйство в эпоху империализма приходили в упадок, второстепенные отрасли промышленности и производство предметов роскоши, а также система обслуживания, соответствующие требованиям паразитического, рантьерского хозяйства, разрастались и процветали. В период между десятилетием 1904—1913 годов и пятилетием 1924—
1928 годов ежегодные капиталовложения в основные отрасли промышленности сократились наполовину— с 41,7 миллиона фунтов стерлингов до 21,4 миллиона, тогда как вложения в пивоваренную промышленность более чем удвоились, увеличив-, шись с 6 миллионов фунтов стерлингов до 15 миллионов; капиталовложения в отели, театры и т. п. почти утроились — с 7,1 миллиона фунтов стерлингов до 20,4 миллиона. Число людей, занятых в основных отраслях промышленности, по отношению к общей численности населения уменьшилось с 23 процентов в 1851 году до 13,6 процента в
1929 году, а число людей, занятых торговой и финансовой деятельностью, сбытом, конторской работой и всякого рода «обслуживанием», непрерывно возрастало, породив легенду о возникновении «нового среднего класса», что якобы явилось признаком роста зажиточности. К 1937 году эта деградация достигла такой степени, что журнал «Экономист» писал 20 ноября 1937 года: «иностранные капиталовложения» являются «величайшей отраслью национальной промышленности».
Результат для английского рабочего движения
Этот рост паразитизма и соответствующее ослабление занятого в промышленном производстве рабочего класса оказали вредное влияние также и на развитие рабочего движения. Маркс и Энгельс еще в XIX веке показали связь между мировой монополией Англии, колониальной империей и разложением верхушки рабочего класса, подавившим первоначальный революционный порыв чартистов и приведшим к замедлению и извращению развития рабочего движения.
В середине XIX столетия, когда мировая промышленная монополия Англии еще была в полном расцвете, Энгельс в письме Марксу в 1858 году писал:
«Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по- видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно» (Энгельс, Письмо Марксу от 7 октября 1858 года).
В связи с новой политикой быстрой агрессивной колониальной экспансии в 80-х годах XIX столетия Энгельс писал в 1882 году в письме Каутскому:
«Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике. То же самое, что они думают о политике во- . обще: то же самое, что думают о ней буржуа.
Ведь здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и либерально-радикальная, а рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на мировом рынке» Ч
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Гос- политиздат, 1948, стр. 356.
114
После быстрого развития империализма в XX столетии Ленин сделал следующий вывод:
«Необходимо отметить, что в Англии тенденция империализма раскалывать рабочих и усиливать оппортунизм среди них, порождать временное загнивание рабочего движения, сказалась гораздо раньше, чем конец XIX и начало XX века. Ибо две крупные отличительные черты империализма имели место в Англии с половины XIX века: громадные колониальные владения и монопольное положение на всемирном рынке. Маркс и Энгельс систематически, в течение ряда десятилетий, прослеживали эту связь оппортунизма в рабочем движении с империалистическими особенностями английского капитализма» ].
Подобное развитие лейбористского империализма, связавшее рабочих с капиталистами и их политикой и задержавшее движение к социализму, в дальнейшем было наглядно продемонстрировано двумя лейбористскими правительствами Макдональда в период между двумя мировыми войнами. Оно достигло катастрофического кульминационного пункта после второй мировой войны при лейбористском правительстве Эттли, которое проводило политику империалистической реакции, колониальных войн, тесной связи с американским империализмом, гонки вооружений за счет лишений английского народа и подготовки к третьей мировой войне.
Помимо всего этого, разорительный характер политики империализма проявился в растущем бремени вооружений и войн.
Непрерывные колониальные войны Британии на протяжении всей эпохи империализма, включая и войну в Южной Африке в начале XX века, достигли кульминационной точки в огромных разрушениях и кровопролитиях двух мировых войн с последовавшим за ними развалом английской экономики. И все же в настоящее время ведется бешеная под-
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 270. 115
готовка к третьей мировой войне, для которой обнищавшее английское народное хозяйство вынуждено накапливать вооружения в новых, беспрецедентных масштабах.
Таким образом, баланс империализма, как бы он ни был выгоден для крупных монополий, оказался гибельным для широких народнь х масс.
Такова современная империалистическая система английской экономики вместе с возведенной на ее основе социально-политической структурой империалистической «демократии», которая вступила сейчас в период все более углубляющегося кризиса и идет к краху.
ГЛАВА ПЯТАЯ
КРИЗИС КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Всемирно-историческим событием послевоенного периода является • происходящий распад колониальной системы империализма... В «порядке дня стоит вопрос о полной ликвидации колониальной системы. Наступил предвиденный великим Лениным новый период всемирной истории, когда народы Востока принимают активное участие в решении судеб всего мира, становятся новым мощным фактором международных отношений.
Резолюция XX съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС, 1956.
За последнее десятилетие колониальные и зависимые народы, ранее составлявшие большинство человечества, достигли во всем мире — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в районе Карибского моря и в Латинской Америке — значительных успехов в своей борьбе за свободу, а там, где еще существует угнетение, они продолжают бороться за свое освобождение. Они боролись за свободу от иностранного господства, чтобы взять в собственные руки судьбу своих стран и разрешить проблему бедности и отсталости. В этом поступательном движении уже одержаны великие победы и можно ждать новых побед.
Близится конец того времени, когда правители богатых и сильных держав Западной Европы и Северной Америки держали в своем подчинении, прямом или косвенном, сотни и сотни миллионов черных, коричневых или желтых покоренных и эксплуатируемых людей, составлявших подавляющее большинство человечества. Идет к своему концу старый колониальный порядок, и не потому, что у правителей произошла «смена вех» (часто провозглашае117
мая правителями последних лет «смена вех» всегда следовала за восстанием, а не предшествовала ему), а как следствие все расширяющегося и все более мощного восстания подчиненных народов против их угнетателей. Хотя эти правители и боролись упорно, где только возможно, за сохранение своего господства, они во многих районах были вынуждены отступить или пойти на уступки. Во всех частях света, где господствуют колониальные порядки, борьба против них поднимается на новый, высший уровень. Это и есть кризис колониальной системы, который все более отчетливо проявляется за последние несколько лет. А кризис колониальной системы является одной из самых мощных движущих сил в развитии современного мира.
Подъем национально-освободительной борьбы, в колониях
Освободительная борьба и восстание колониальных народов против гнета развивались вместе с развитием колониальной системы. Страницы истории колоний заполнены описаниями колониальных войн и варварского подавления народных восстаний. Так, например, в XIX веке, еще до наступления эпохи империализма, произошли восстание на острове Яве в 1825—1830 годах, тайпинское восстание в Китае в 1850—1864 годах, вооруженное восстание в Индии в 1857—1859 годах и вооруженная борьба в Судане в 1883—1885 годах.
Но лишь в современную эпоху, в связи с возникновением колониальной буржуазии, а затем в связи с развитием в колониях рабочего класса, созрели условия для перехода этого стихийного народного возмущения в стадию мощного движения за национальное освобождение, способного объединить и организовать весь народ совместно с рабочим классом империалистических стран, чтобы при первых победах социалистической революции бросить вызов 118
устоям власти угнетателей и пойти вперед, к победе над империализмом.
Современное национальное движение в колониальных странах вне Европы стало проявляться в своих ранних формах в последние десятилетия XIX века в некоторых наиболее передовых странах, таких, как Индия, Китай и Египет. Организованное национальное движение на ранних его стадиях возглавляли представители нарождавшейся национальной буржуазии. Они ориентировались на западные капиталистические государства как на самые передовые и прогрессивные в то время и пытались копировать западную парламентскую систему. Они вели свою деятельность главным образом среди ограниченного круга образованных классов — студентов, торговцев, мелкой буржуазии, — обращая к ним свой призыв и не вступая в соприкосновение с широкими массами рабочего класса и крестьянства.
Влияние первой русской революции 1905 года и победа Японии в Азии положили начало изменению характера национального движения, ставшего более боевым. Однако это было лишь начало.
Еще в 1908 году Ленин мог написать:
«У европейского сознательного рабочего уже есть азиатские товарищи, и число этих товарищей будет расти не по дням, а по часам» Ч
В 1913 году Ленин писал об «отсталой Европе и передовой Азии», специально останавливаясь на успехах китайской революции и на поддержке европейскими державами реакции Юань Ши-кая (поддержке, которую можно считать провозвестником американской помощи Чан Кай-ши в настоящий период) :
«В передовой Европе командует поддерживающая все отсталое буржуазия... И едва ли можно привести более разительный пример этого гниения всей европейской буржуазии, как поддержка ею реакции в Азии из-за
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 162. 119
корыстных целей финансовых дельцов и мошенников-капиталистов.
В Азии везде растет, ширится и крепнет могучее демократическое движение. Буржуазия там еще идет с народом против реакции. Просыпаются к жизни, к свету, к свободе сотни миллионов людей» L
Война 1914—1918 годов и одержанная в России первая победа мировой социалистической революции внесли в существующее положение коренные изменения. Освобождение от империализма одной шестой части мира дало гигантский толчок развитию антиимпериалистического движения во всех колониальных странах. Советское государство впервые продемонстрировало успешное социалистическое решение национальной проблемы на основе полной национальной свободы и равенства независимо от расы, цвета кожи, передового или отсталого уровня культурного развития всех национальностей и народов, испытывавших на себе колониальный гнет старой царской империи. Это оказало огромное влияние на все колониальные народы.
Отныне средоточием колониальной революции стали уже не центры устаревших реакционных западных империалистических стран и институты империалистической «демократии», а новое, социалистическое государство, уничтожившее рабство и расовые барьеры. Ленин следующим образом подытожил значение этого изменения:
«...если раньше национально-освободительное движение, до наступления эпохи мировой революции, являлось частью общедемократического движения, то теперь после победы советской революции в России и наступления эпохи мировой революции, национально-освободительное движение является частью мировой пролетарской революции...»2
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 77—78.
1 Цит. ino И. В. Сталину, Сочинения, т. 8, стр. 365.
120
Революционная волна, поднявшаяся во всем мире после первой мировой войны 1914—1918 годов и русской революции, прокатилась по всем колониальным странам. Прежнее ограниченное национальное движение превратилось в мощное массовое движение; оно вновь и вновь атаковало твердыни империализма, несмотря на жестокие репрессии. Колониальная буржуазия, боясь . массового движения, перешла к двурушнической, колеблющейся политике; некоторая часть этой буржуазии, в основном ее верхушка, пошла на компромисс и реакционный союз с империализмом, против народных масс. Национальная буржуазия, то есть те части буржуазии, которые поддерживают борьбу за национальное освобождение, в ряде стран продолжала сохранять за собой руководство национальным движением, хотя зачастую и проявляла при этом тенденцию к компромиссам. С другой стороны, с созданием в главных колониальных странах коммунистических партий и устойчивых профсоюзных организаций рабочий класс колоний пришел к независимому политическому сознанию, стал организованной силой и начал играть руководящую роль в национальнореволюционном движении ряда стран как наиболее последовательный и непреклонный борец за полную победу над империализмом.
Война за освобождение от фашизма и ее влияние на колонии
Мировая война за освобождение от фашизма в огромной степени ускорила развитие революции в колониях.
Крушение под натиском японской агрессии старых колониальных империй в Азии показало, насколько прогнил старый, империалистический строй. В 1942 году сингапурский корреспондент газеты «Таймс» сообщал:
«После почти стодвадцатилетнего английского правления огромное большинство азиатов не было в достаточной степени заинте121
ресовано в продолжении этого правления, чтобы принять меры для его сохранения. Если верно то, что английское управление не имело корней в народе, то в равной степени верно и то, что несколько тысяч англичан, проживавших в стране и зарабатывавших в ней средства к жизни (причем почти никто из них не смотрел на Малайю как на свою родную страну), совершенно не соприкасались с народом... Английское правление и культура, а также немногочисленное английское население были не больше, чем тонким и хрупким поверхностным слоем» («Таймс», 18 февраля 1942 года).
Миф о военной непобедимости западного империализма был разбит вдребезги. У миллионов колониальных солдат, оторванных от родных очагов и посланных сражаться за свободу порабощенных европейских наций, не мог не возникнуть вопрос, почему бы им не сражаться и за свободу своих родных стран.
Народы Юго-Восточной Азии, брошенные своими империалистическими властителями без защиты или без средств защиты от японской оккупации, создали под руководством коммунистов собственное национальное движение Сопротивления и повели героическую партизанскую борьбу против японских захватчиков. Участники национально-освободительного движения боролись не только за освобождение от японского господства, но и за освобождение от всякого империалистического господства. Они продолжали борьбу за свободу и тогда, когда европейские державы, вернувшись по окончании войны в Азию, попытались снова навязать азиатским народам колониальную систему.
В Атлантической хартии, которая была принята как документ, отражающий цели Объединенных Наций, был установлен следующий принцип:
«Они [США и Англия] уважают право всех народов избрать себе форму правления, при которой они хотят жить».
122
Как бы лицемерно ни звучала такая формулировка в устах государственных деятелей империалистических держав, представители колониальных народов не случайно ухватились за этот принцип, воплощающий чаяния борющихся за свободу народов всего мира, и потребовали применения этого принципа к своим странам.
Напрасно премьер-министр Англии Уинстон Черчилль опубликовал 9 сентября 1941 года официальную декларацию, специально исключавшую «Индию, Бирму и другие части Британской империи» из сферы действия Атлантической хартии. Он разъяснял:
«На Атлантическом совещании имелось в виду главным образом восстановление суверенитета, самоуправления и национальной жизни стран и народов Европы, находящихся сейчас под нацистским игом».
Для развивавшегося уже в то время англо-американского антагонизма в связи с империей весьма показательно то, что президент Рузвельт в своем выступлении по радио 22 февраля 1942 года фактически отверг утверждение Черчилля, высказанное последним в сентябре 1941 года; он счел нужным заявить:
«Атлантическая хартия распространяется не только на те части мира, которые расположены на побережье Атлантического океана, но и на весь мир».
Вдохновляющий пример и демонстрация несокрушимой силы социалистического Советского Союза, который вынес главное бремя войны и разгромил девять десятых нацистских вооруженных сил для завоевания общей победы над фашизмом, влияние руководимого коммунистами национально- освободительного движения в Европе, победа новых народных демократий в Восточной Европе, освободивших свои страны от ига империализма,— все это явилось мощным стимулом к новому подъему освободительного движения в колониях.
123
Новые успехи после 1945 года
После второй мировой войны наступила новая эра в национально-освободительном движении.
Наиболее ярким выражением этой новой эры и наиболее сильным вдохновляющим влиянием этого общего успеха была победа демократической революции в Китае, которая завершилась в 1949 году образованием Китайской Народной Республики. Через тридцать восемь лет после начала китайской революции 1911 года, через тридцать лет после революционного восстания 1919 года, через двадцать два года после контрреволюционного переворота Чан Кай-ши, совершенного им в союзе с империалистами в 1927 году, и через двенадцать лет после японского вторжения в Китай в 1937 году китайский народ под руководством Коммунистической партии Китая в результате многих лет напряженной борьбы, войн и гражданских войн одержал наконец полную победу.
В период между 1945—1949 годами американский империализм израсходовал не менее 6 миллиардов долларов для борьбы против китайского народа. Он снабжал Чан Кай-ши оружием, материалами и деньгами, стараясь укрепить его позиции, а также посылал военные миссии и офицеров, оказывал помощь своим флотом и авиацией. Тем не менее эта интервенционистская война американского империализма закончилась полным крахом. Империализм был изгнан из Китая, а Чан Кай-ши бежал на остров Тайвань, где скрывается под защитой орудий американских кораблей. Эта победа шестисотмиллионного китайского народа над империализмом изменила лицо мира. Подобно тому как победа русской социалистической революции 1917 года послужила примером всем народам мира и указала им путь развития, так и победа китайской демократической революции 1949 года продолжила этот путь развития для всех колониальных и зависимых народов.
Наряду с успехами и победой китайского наро124
да освободительные войны начались на территории всей Юго-Восточной Азии; мощный подъем охватил все колониальные и полуколониальные страны.
Таким образом, исход второй мировой войны углубил и усилил революционность колониальных народов и привел к общему кризису колониальной системы. В национально-освободительной борьбе появились новые черты, не имевшие себе подобных даже в момент самого высокого подъема революционной волны после первой мировой войны. Некоторые важнейшие из этих новых черт следует отметить.
Во-первых, победа китайской демократии над Чан Кай-ши и англо-американским империализмом изменила соотношение сил во всем мире, оказывая сильнейшее влияние на развитие борьбы за освобождение колониальных народов по всей Азии.
Во-вторых, народы, бывшие прежде колониальными, создали — в различных условиях — новые, независимые государства, в том числе Индия, Пакистан, Цейлон, Бирма, Индонезия, Сирия, Корейская Народно-Демократическая Республика и Демократическая Республика Вьетнам в Азии и Египет, Судан, Марокко, Тунис, Ливия и Гана в Африке.
В-третьих, Корейская Народно-Демократическая Республика и Демократическая Республика Вьетнам успешно отстояли свою независимость перед лицом вооруженного нападения объединенных сил империализма.
В-четвертых, в других колониальных странах освободительное движение достигло нового, невиданного ранее размаха и перешло в вооруженную борьбу, в настоящую войну за независимость, как, например, в Северной Африке, Кении, Малайе, на Филиппинах.
В-пятых, географическая зона, в которой развертывается освободительная борьба в колониях, весьма расширилась, о чем особенно ярко свидетельствуют успехи, достигнутые в Африке, а также в Вест-Индии.
125
В-шестых, коммунистические партии осуществляют руководящую роль в национальном движении все расширяющегося круга колониальных или зависимых стран.
Все это приводит к общему качественному изменению характера освободительного движения в колониях и означает переход этого движения в новую фазу.
Распад колониальной системы
Значение совершившихся за десятилетие после второй мировой войны перемен можно оценить по следующим фактам.
К началу второй мировой войны население колониальных и зависимых стран, находившихся под прямым или косвенным господством империализма, составляло около 1,5 миллиарда человек, или более трех пятых населения земного шара. Из них за десятилетие, прошедшее после второй мировой войны, около 1,25 миллиарда создали свои независимые государства (хотя степень подлинной независимости в них была различна и в некоторых случаях эта независимость сужалась экономическими или стратегическими ограничениями, против которых продолжалась национально-освободительная борьба). К 1957 году таких новых независимых государств в Азии было четырнадцать, а в Африке — шесть.
Остальные 250 миллионов человек решительно продвигаются к своей цели — к освобождению. Некоторые из них уже смогли объединить в освободительном движении свои могучие силы; жестокие колониальные войны, которые до сих пор ведут империалисты, свидетельствуют о мощи этих восстаний народов колоний. Другие народы только куют свое единство в борьбе против угнетателей или еще находятся в ранней стадии смутного беспокойства, в начальной фазе движения и элементарной борьбы. Формы борьбы меняются — от развернутых вооруженных народных восстаний до первых 126
попыток создать свои организации и завоевать элементарные демократические права. Но во всех без исключения еще существующих колониальных и зависимых странах — от Филиппин до Пуэрто-Рико, от Малайи до Мальты, от Адена до Алжира, от Танганьики до Тринидада — борьба развертывается.
Таблица 12
ПРЕЖНИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ, СТАВШИЕ К 1957 ГОДУ НЕЗАВИСИМЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
Население, млн. человек
В Азии:
Китай е 600
Индия 380
Индонезия 80
Пакистан 76
Бирма 18
Демократическая Республика Вьетнам 18
Корейская Народно-Демократическая
Республика 10
Цейлон 8
Камбоджа 4,1
Сирия 3,5
Лаос 1,7
Израиль 1,7
Исрдания 1,4
Ливан 1,4
Итого по 14 странам 1200
В Африке:
Египет 22
Марокко 10
Судан 8,8
Тунис 3,2
Ливия 1,1
Гана 4,6
Итого по 6 странам 50
Общий итог по 20 странам 1250
127
Банкротство колониализма
Этот всеобъемлющий характер нынешнего кризиса колониальной системы все более и более выявляет слабость базы империалистического господства.
Прежде методы, при помощи которых империализм всегда имел возможность подавлять колониальные мятежи и поддерживать свое господство, применялись в двух классических формах. Во-первых, насильственное подавление, включая — там, где необходимо,— неограниченное использование превосходящих вооруженных сил, сосредоточенных в конкретном пункте мятежа. Во-вторых, политическая коррупция, имеющая целью расколоть и дезорганизовать национальное движение, завоевание на свою сторону части его руководства или одного из социальных слоев путем предоставления ему привилегированного положения младшего партнера или сотрудника.
Оба этих метода оказываются менее эффективными в период всеобщего кризиса колониальной системы.
Традиционная основа «партнерства» с реакционными феодальными элементами, княжескими родами, крупными помещиками или вождями племен оказывается недостаточной перед лицом современного развития и роста самосознания народных масс. В некоторых странах пытались поставить у власти марионеток или Квислингов либо поддерживать и защищать тиранических правителей, не пользующихся реальной поддержкой народа и открыто зависимых от иностранных субсидий и иностранного оружия. Наглядными примерами этого служит водворение французами императора Бао Дая во Вьетнаме, установление англичанами власти королевских династий в Иордании и Ираке или поддержка американцами Ли Сын Мана в Южной Корее и Чан Кай-ши на Тайване.
Роковой слабостью этого метода, однако; является то, что эти находящиеся под защитой ино128
странцев диктаторы не встречают поддержки у своих народов, которые питают к ним сильнейшую враждебность как к предателям и Квислингам.
Поэтому империалисты не раз оказывались перед необходимостью вести крупные колониальные войны и вынуждены были для поддержания своего господства полагаться на вооруженные силы, чрезвычайное положение, специальные карательные указы и отправку дорогостоящих экспедиционных сил. Войны в Корее, Вьетнаме и Малайе пришлось вести с помощью экспедиционных сил западных империалистических держав. «Договорная организация для Юго-Восточной Азии» (СЕАТО), созданная в 1954 году, после провала интервенционистской войны во Вьетнаме (ее создание явилось результатом резкой оппозиции со стороны азиатских стран) должна была опираться на неазиатские империалистические державы.
Однако все эти усиленные военные мероприятия вторгающихся в Азию империалистических держав встречают новые трудности в связи с новым этапом нынешнего кризиса колониальной системы.
Раньше империалисты могли с достаточной уверенностью рассчитывать на подавление любого восстания в колониях, находившихся под их господством, несмотря на огромное численное превосходство колониальных народов, проживающих в их империях. Три фактора делали возможной такую относительную уверенность в своих силах.
Во-первых, подавляющее превосходство империалистов в вооружении и оснащении по сравнению с безоружным колониальным населением или слаборазвитыми народами, располагающими самым примитивным оружием:
Что б ни случилось — все равно: У нас есть Гатлинга ружье, У них ведь нет его.
Во-вторых, распри в рядах каждого колониального народа давали возможность использовать 5 Р Палм Датт
129
одну часть населения против другой (таким путем была завоевана Индийская империя).
В-третьих, разобщенность колониальных народов, разбросанных по всему земному шару, и отсутствие связи между ними, ибо все средства связи находились в руках империалистов.
Все эти условия сейчас меняются, и, следовательно, указанные выше факторы уже не действуют в такой мере, как раньше, в пользу имериали- стов. Превосходство в вооружении и оснащении остается, особенно в борьбе против безоружного колониального населения, однако это превосходство уже не является столь решающим. Эффективность оружия зависит от надежности войск, которые его используют. Восстание в индийском флоте в 1946 году наряду с движениями меньших масштабов в армии и военно-воздушных силах было решающим фактором, который вынудил империализм сманеврировать и пойти на частичное отступление в Индии. Кроме того, в странах Юго-Восточной Азии, которые были захвачены Японией, создание национально-освободительных армий для борьбы против японской оккупации позволило накопить военный опыт и некоторые запасы оружия, несмотря на попытки империалистов в конце военных действий против Японии захватить все оружие. В Китае большая часть оружия и снаряжения, переданных Чан Кай-ши американским империализмом, попала в руки китайского народа и была использована им для своего освобождения.
Разобщенность внутри колониальных народов уменьшается по мере роста политической сознательности и развития единых национально-освободительных движений, сближающих все слои населения и объединяющих их в единый национальный антиимпериалистический фронт. Рост коммунистических партий в колониальных странах сыграл главную роль в развитии этого национального единства.
Но самой важной является перемена в международной ситуации. Победа русской социалистической революции уже осуществила первый прорыв 130
фронта империализма и открыла путь для колониальных освободительных движений во всем мире. Рост международного коммунистического движения повысил уровень международной сознательности рабочего класса, ускорил понимание рабочим классом в -империалистических странах своей ответственности за борьбу колониальных народов и в то же время развил понимание колониальными народами всемирного характера их борьбы; таким образом, он помог созданию союза рабочего класса империалистических стран с колониальными -и зависимыми народами. Каждый колониальный народ теперь уже борется не в одиночку, а как составная часть всемирного антиимпериалистического фронта. Победа китайской народной революции в огромной мере стимулировала это движение.
Эта перемена в международной ситуации вызывает далеко идущие последствия не только с политической, но и с военной точки зрения. Раньше империалистические правители, используя колоссальные ресурсы своих империй, могли снаряжать огромные армии для подавления отдельных или спорадических мятежей в различных пунктах этих империй. Сейчас, когда освободительная борьба развертывается (хотя и в разной степени) во всех колониальных странах, выливаясь в целом ряде стран в открытое восстание, империалистические правители испытывают гораздо большие трудности в своих попытках подавить эту борьбу и начинают чувствовать, что стоящая перед ними задача превышает их возможности. Несмотря на все еще сохраняющееся превосходство в вооружении и снаряжении, из их рядов раздаются все более отчаянные крики о том, что они страдают от одной решающей нехватки в военной сфере — от нехватки людских резервов.
Война в Малайе вынудила империалистов использовать половину имевшихся тогда в наличии мобильных экспедиционных сил английской армии. Война во Вьетнаме потребовала использования половины экспедиционных сил французской армии; 5* 131
североафриканские войны 1955 года потребовали еще больших сил — равных двум пятым всей армии Франции — и привели к бунтам среди призванных в армию резервистов. Корейская война потребовала четыре пятых имевшихся в наличии мобильных сил Соединенных Штатов. На империалистические страны взваливается тяжелое дополнительное бремя перевооружения и удлинения срока военной службы.
Империалистам приходится сражаться с помощью привозимых издалека дорогостоящих армий против народов, которые сражаются в своих собственных странах за свою свободу. В этом заключается основная военная слабость империализма в его войне, имеющей целью подавить освободительную борьбу колониальных народов.
Видный американский публицист Уолтер Липп- ман горько сетовал:
«Западу всегда приходится вести войну самому. Однако русским никогда не приходится делать этого. В этом заключается весьма тревожное различие между позициями Советов и Запада в Азии» (Уолтер Липп- ман в «Нью-Йорк гералд трибюн», 29 июня 1950 года).
Для того чтобы понять этот мудреный язык, необходимо помнить, что все представители империализма ставят знак равенства между национально- освободительными движениями и коммунизмом и что коммунизм они в свою очередь считают равнозначным Советскому Союзу, или «России». Поэтому при помощи таких окольных рассуждений они объявляют, что «Россия» сражается в Азии, не используя свои войска. Если перевести все это на простой язык, станет очевидно, что смысл такого «тревожного» признания гораздо серьезнее, нежели того хотелось бы представителям империализма.
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» жаловалась на то же самое почти в идентичных выражениях.
Щ2
«В спорном районе — Китае, Корее, на Формозе, в Индокитае и Малайе — советское влияние и власть были расширены без использования там Советским Союзом своих вооруженных сил. С другой стороны, в конг тинентальной Восточной Азии коммунизм сдерживается исключительно вооруженными силами французов, англичан или американцев...
Азиатский коммунизм обретает силу в руководстве; его знаменосцы все являются азиатами... Руководство и главное оружие для борьбы против коммунизма обеспечивает Запад, потому что никто другой не может их обеспечить.
Коммунистические вооруженные силы возглавляются способными людьми вроде Мао Цзэ-дуна и Чжоу Энь-лая в Китае или ветерана Хо Ши Мина в Индокитае...
Не азиаты, а генерал Дуглас Макартур, м-р Малькольм Макдональд и французский верховный комиссар в Индокитае Пиньон являются главными фигурами антикоммунистического фронта» («Дейли телеграф энд Морнинг пост», 27 июня 1950 года).
Это признание банкротства империализма в Восточной Азии и в конечном счете во всем колониальном мире.
Эпитафия империализму в Азии содержится в Белой книге американского правительства по вопросу о Китае, в так называемом докладе Ачесона, опубликованном осенью 1949 года для объяснения фиаско и разгрома американской военной интервенции в Китае в 1946—1949 годах.
«Печальным, но неизбежным фактом, — говорится в докладе,— является то, что зловещий результат гражданской войны в Китае оказался не зависящим от правительства Соединенных Штатов. Все, что США делали или могли бы сделать в разумных пределах своих возможностей, не в силах изменить тзз
этого результата; ничто из того, что наша страна оставила несделанным, не способствовало такому результату. Результат этот был делом рук внутренних китайских сил, тех сил, на которые Америка пыталась, но не сумела оказать влияния».
После франко-германской войны 1870—1871 годов Маркс предсказывал, что история «вколотит диалектику даже в головы выскочек новой священной прусско-германской империи». В меланхолическом признании своего бессилия, которое содержится в докладе Ачесона о Китае 1949 года, мы можем видеть, что история начинает заново «вколачивать диалектику» даже в головы выскочек новой «священной американской империи» и в головы всех других империалистов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
КРИЗИС «ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Зная, что мы дышим, и думая, что в нашей голове есть мысли, мы считаем себя живыми, тогда как в действительности мы мертвы...
Светоч нашей молодости совсем погаснет, но мы будем жить ее ароматом;
И за что бы мы ни взялись, мы сложим руки, станем жевать губами и будем довольны этим. Да, мы будем вполне довольны тем, что сделали, и в этом главная беда.
Киплинг.
Кризис колониальной системы изменил положение не только в колониальных странах. Он изменил положение и в империалистических странах. Подрыв колониальной базы империализма нашел свое отражение в углублении кризиса стран — метрополий империализма, особенно в Западной Европе.
Красная черта в балансе
С нескрываемой тревогой западные правители смотрят на нарастающую волну восстаний народов колониальных стран, на победное развитие дела освобождения Азии, на развертывание борьбы за освобождение в Африке; они различают в ее громе похоронный звон по всей империалистической системе паразитической экономики и политической коррупции (неверно именуемой «западной демократией» и «западной цивилизацией») в странах империализма в Западной Европе и Америке.
В редакционной статье «Дальневосточный фронт» газета «Таймс» писала 1 марта 1949 года:
135
«Революционное движение в Восточной Азии в целом, от Северного Китая до Индонезии, в Малайе и в бирманских горах меняет стратегическую и политическую карту мира. Решается судьба почти миллиарда людей. Учитывая, что коммунисты либо стоят у руководства, либо пробиваются к нему, угроза безопасности Запада по меньшей мере столь же велика, как если бы была охвачена брожением Африка».
С грубой откровенностью в этой же самой редакционной статье провозглашается великий тезис: «Восточная Азия — главная база Западной Европы», — утверждение, парадоксальное с точки зрения географии и демократии, однако вполне объяснимое с точки зрения империалистической экономики.
В соответствии -с этим тезисом орган английского правящего класса вскрывает материалистическую основу духовных связей империи и «бремени белого человека», делая это с бесшабашной прямотой бандита, перед которым внезапно открылась перспектива потерять свою добычу:
«Волнения в районе Азии... поставили под угрозу богатые поставки сырья, в котором Англия, Франция и Голландия крайне нуждаются. Полмиллиона тонн каучука и 60 тысяч тонн олова, производившихся ежегодно в Малайе до войны, а также бирманский рис, минералы и лес давали нашей стране большую долю долларовых излишков стерлинговой зоны... Для Голландии успех или неуспех в деле достижения соглашения с Индонезией, богатой нефтью, каучуком, оловом и кофе, определит, останется ли она державой».
Когда представители английского правительства хвастались достижениями английского экспорта, благодаря чему был снижен долларовый дефицит и к 1950 году создан излишек, редко упоминалось, что этот хваленый излишек в стерлинговой зоне 136
был основан на экспорте английских колоний в долларовую зону, покрывающем и компенсирующем долларовый дефицит Соединенного Королевства, и что малайское олово и каучук давали Англии больше американских долларов, чем весь английский долларовый экспорт. Преступную войну в Малайе открыто защищали (включая официальные лейбористские круги) при помощи нагло торгашеского довода, что эта страна является «нашим главным добытчиком долларов».
Конечно, эти районы могли бы производить все эти и в конечном счете гораздо большие богатства в условиях свободы. Однако долю, получаемую западноевропейскими странами, пришлось бы тогда устанавливать на основе равного обмена (в интересах развития внутренних производительных сил), а не на основе империалистической эксплуатации.
В сообщении собственного корреспондента «Нью-Йорк тайме» из Женевы от 11 января 1949 года подчеркивается, что господство в колониях является необходимой основой для восстановления Западной Европы:
«Высокий уровень жизни в Европе, безусловно, в известной мере зависит от наличия сырья и дешевой рабочей силы в Азии и в Африке, Хотя считают, что старомодный колониальный империализм отошел в прошлое, однако восстановления Европы нельзя достигнуть без источников богатства...»
На основе практического опыта и в предчувствии своего неминуемого падения ученые мужи западной «демократии» учатся читать шиворот-навыворот работу Ленина об империализме.
В 1949 году американский эксперт по дальневосточным вопросам и бывший политический советник Чан Кай-ши Оуэн Латтимор с откровенностью, вызванной крахом Чан Кай-ши и дорого стоившим провалом субсидируемой американцами интервенционистской войны в Корее, проанализировал новое соотношение сил, которое стало появ137
ляться в «арифметике» империалистической колониальной политики.
«Азия, которую в XVIII и XIX веках так легко и быстро покорили завоеватели, проявила поразительную способность упорно сопротивляться современным армиям, вооруженным самолетами, танками, автомашинами и подвижной артиллерией, — писал Латтимор. — Раньше обширные территории завоевывались в Азии при помощи небольших вооруженных сил. Доход сначала от грабежа, затем от прямых налогов и наконец от торговли, капиталовложений и длительной эксплуатации покрывал с невероятной быстротой расходы на военные операции. Эта арифметика весьма искушала сильные страны. Сейчас они столкнулись с другой арифметикой, и это обескураживает их».
Другими словами, бандитский бизнес теряет свою основу.
Миф о „западной цивилизации"
Чем больше углубляется кризис материальной базы западноевропейских империалистических стран, тем более «духовным» становится язык, которым пользуются для характеристики этой базы. Сейчас со всех сторон слышатся высокопарные слова, призывающие к обороне «западной цивилизации, находящейся в опасности», «западной демократии», «уважению личности», «западного образа жизни», «западных духовных ценностей» и «христианского наследия», во имя чего считают оправданным и необходимым использовать такое «духовное» оружие, как атомная бомба.
Однако чем больше изучаешь реальное содержание этих высокопарных фраз, тем яснее видишь, что в них нет никакого логического смысла, что 138
они не имеют теоретического или исторического оправдания, а являются на практике лишь «респектабельными» псевдонимами и вымышленными названиями для западного капитализма и империализма, основой и корнями которого в их собственных странах являются классовая система, а за границей — подчинение и эксплуатация колониальных народов.
Что же такое эта особая «западная цивилизация» (это понятие возникло лишь в современную эпоху) и в чем заключается ее особый характер? Пытаются создать впечатление, что дух Платона, Фомы Аквинского, Шекспира и Руссо вдохновляет фондовые биржи Лондона, Нью-Йорка и Чикаго и дает свое благословение стрельбе из орудий, в которых порох, изобретенный китайцами, используется для того, чтобы навязать опиум китайским крестьянам.
Таким образом, глубокие традиции прогресса и культуры человечества с ее мириадами взаимодействующих элементов искусственно извращаются, рассекаются на части и изображаются в неверном свете, для того чтобы исторически неверно, анахронически оправдать варварство и реакционность нынешнего капитализма — империализма, когда он стал барьером на пути прогресса и врагом культуры человечества.
Прогрессу цивилизации и культуры в огромной степени способствовали западноевропейские страны, когда они были представителями еще развивавшегося и прогрессивного капитализма. Несмотря на насилие, ужасы и тиранию, сопровождавшие развитие капитализма, несмотря на торговлю рабами, опустошение колоний, несмотря на уничтожение древних цивилизаций, эти западноевропейские страны тем не менее играли в то время историческую роль, идя в авангарде человеческого прогресса. Их политические институты разрушили старые формы рабства; их техника и наука открыли новые горизонты для знаний и покорения природы; их торговля открыла и втянула в единую 139
Сеть весь земной шар; их писатели и художники обогащали сокровищницу человечества.
Однако эта эпоха миновала. Прогрессивная и развивающаяся культура, которая вела войну против средневекового обскурантизма и нашла свое выражение в возрождении, реформации и просвещении, в английской, французской и американской революциях, приведших к созданию наций-государств, при всех сопровождавших ее достижениях в искусствах .и науке, — эта культура достигла в
XIX веке предела своего развития в условиях капитализма. Ее окончательным результатом и плодом явилась подготовка почвы для появления марксизма, который одновременно был наследником всех положительных достижений прошлого и выражением новой поднимающейся социальной силы — рабочего класса и социализма. Отныне развитие культуры и наследие прошлого перешли к марксизму, к социалистической революции
XX века и к мировому коммунистическому движению.
В настоящее время финансово-капиталистические олигархии в западноевропейских странах и Америке стали представителями мировой реакции, пытающейся наперекор движению народов сохранить при помощи насилия старый порядок, поддерживать самые реакционные, в том числе докапиталистические и феодальные, силы во всех частях земного шара. Они уже не являются прогрессивным и цивилизующим элементом; они стали самым угрожающим, разрушительным и варварским элементом современного мира, принижающим культуру и старающимся исказить и извратить науку, используя ее в целях всеобщего разрушения и даже истребления человечества с помощью атомного оружия. И вот для оправдания этого ужасного выкидыша последней фазы загнивания капитализма апологеты реакции изобрели фальшивую, мифическую концепцию «западной цивилизации», сделав ее своей эмблемой и своим оружием.
Эта псевдоконцепция «западной цивилизации» 140
представляет собой сфабрикованный миф, вроде нацистско-расистского мифа об «арийской цивилизации», «арийском» превосходстве и преобладании.
На чем основана эта концепция? Имеет ли она географическую основу? Наоборот, своеобразная география «Западной Европы» включает Грецию и Турцию и исключает Чехословакию. О более широком плане свидетельствует поучительная редакционная статья в газете «Таймс», поставившая целью (несколько странной для простодушного географа) «привлечь Японию на сторону Запада». В таком же духе расширенной географии газета излагает в одной из своих передовых аксиому о том, что Средний Восток должен остаться «западным»: «Если Багдаду, Бейруту или Амману надлежит остаться в любом смысле западными городами, то отстоять их смогут только Вашингтон или Лондон» («Таймс», 21 января 1955 года).
Воплощает ли эта концепция культурное, социальное или политическое единство институтов и идей? Конечно, нет; нет в любом смысле, на который претендуют ее апологеты. Полуфашистские диктатуры Греции и Турции получают приглашение присоединиться к парламентским демократиям Англии и Франции. И мы видим, как «Таймс» в номере от 25 апреля 1950 года объявляет «сильного человека» маршала Пибунсонграма, диктатора Сиама и сторонника держав «оси», единственным стойким и надежным аванпостом «слабеющих сил» западной «демократии» в Юго-Восточной Азии.
Представляет ли она собой религиозное единство — «единство христианской цивилизации»? Наоборот. Японский синтоизм или мусульманский Пакистан получают приглашение поддержать, если им угодно, священное дело «западной цивилизации», однако православная христианская церковь исключается. Присвоение права представлять азиатскую христианскую религию, постоянным традиционным продолжателем которой является восточная церковь, рассматривается как специфи141
ческая монополия Рима и западного протестантизма.
Короче говоря, псевдоконцепция «западной цивилизации» является искусственным современным символом, не имеющим ни исторического, ни географического, ни культурного или религиозного основания, символом, который ради текущей кратковременной политической цели игнорирует в равной мере и азиатское происхождение христианства и сохранение Византийской империей достижений классической культуры еще в то время, когда Западная Европа была погружена во мрак; она игнорирует заслугу египтян в области науки, арабов — в области математики, а также изобретение китайцами книгопечатания и пороха (фактически подвижные литеры первыми применили корейцы).
С полным основанием профессор Барраклоу отмечает, что эта «теория» западной цивилизации», или «западноевропейской традиции», или «западного образа жизни», давно лишилась всякого права считаться подлинно научной теорией, став в основном политическим оружием, политическим средством организованных политических сил.
«Ее используют в качестве идеологической дымовой завесы, за которой воинствующие защитники «западной традиции» поспешно пытаются выдвинуть на боевые позиции грозную артиллерию — атомную бомбу. Она является боевым кличем Британского совета1 и англосаксонским эквивалентом немецкого лозунга «Блютунд боден!»1 2 («Уманитас», июнь 1947 года).
В основе этой концепции лежит лишь одно единство — единство современного империализма. Такова действительность, скрывающаяся за этим символом. Брюссельский пакт, Атлантический пакт, Западный союз, Атлантическое сообщество — все 1 Британский совет — пропагандистская организация в Англии, имеющая филиалы во многих странах мира. — Прим, ред.
2 «Кровь и земля!» — Прим. ред.
142
они — это блок крупных колониальных держав и их соучастников: Соединенных Штатов, Англии, Франции, Бельгии, Голландии и т. д.
Эта система так называемой «западной цивилизации» (которая не имеет ничего общего с великим культурным наследием западноевропейских наций, но бесчестно используется как синоним слова «империализм») сейчас потрясена до самого основания углубляющимся колониальным кризисом.
Западная Европа в полосе депрессии
Исход второй мировой войны глубоко изменил отношения в системе империализма.
Сфера империализма сократилась в связи с распадом бывших японской и итальянской империй, закатом Германии как независимой империалистической державы и освобождением восточноевропейских демократий из орбиты империализма.
В рамках сократившейся сферы оставшихся империалистических держав—Америки и Западной Европы — соотношение сил радикально изменилось.
Старые колониальные державы Западной Европы сильно ослаблены. Об этом свидетельствуют неразрешимые затяжные экономические трудности и проблемы, препятствия на пути к восстановлению, а также крайняя неравномерность экономического и финансового развития и неустойчивость в течение всего периода после второй мировой войны, что нашло свое наиболее прямое выражение в крупном дефиците платежных балансов Англии и ведущих стран Западной Европы. Все эти явления еще более обострились под влиянием программы усиленного перевооружения.
На первом этапе после войны особые экономические трудности западноевропейских стран пытались истолковать при помощи поверхностных объяснений и различных иллюзий лишь как вре143
менный результат военных разрушений и неурегулированности. Но от этих иллюзий надо было бы уже давно отказаться. Фактически военные разрушения в странах Западной Европы были сравнительно небольшими; в странах Восточной Европы они были особенно тяжелыми. Несмотря на бомбардировку Лондона, Ковентри и других городов, людские и материальные потери Англии не могли сравниться с потерями Советского Союза, где погибло 7 миллионов человек, 70 тысяч городов и деревень было снесено с лица земли, разрушено 6 миллионов жилых домов и других зданий, разграблено 30 тысяч промышленных предприятий, разрушено 90 тысяч колхозов и выведено из строя около одной трети производственных ресурсов страны. Францию нельзя сравнивать по разрушениям с тяжело пострадавшей Польшей; Париж, относительно не тронутый во время оккупации, нельзя сравнивать с Варшавой, стертой с лица земли.
Кроме того, Западная Европа, нужды которой были наименьшими, получила обильные американские субсидии, исчисляемые миллиардами долларов. Когда страны Восточной Европы (исключая Югославию, которая после разрыва с Советским Союзом в 1948 году также получила американскую помощь и кредиты), потери и жертвы которых в борьбе за общее дело были наибольшими и которые поэтому заслуживали полной и безоговорочной помощи со стороны тех, кто нажился на войне, не захотели согласиться на условия экономического и политического подчинения в качестве цены за такую помощь, все ученые мужи западного империализма злорадно ожидали (и были достаточно наивны, чтобы публично предсказывать это), что Западная Европа, на которую лился дождь долларов, быстро пойдет к процветанию, тогда как смертельно пораженная Восточная Европа будет обречена на нищету и экономическую немощь.
Действительность оказалась иной. Уже в 1948 году авторы обзора ООН должны были при144
знать, что Советский Союз развивает промышлен ное производство самыми быстрыми в мире темпами— на 71 процент выше, чем в 1937 году (по сравнению с 70 процентами в Соединенных Шта- тах); что страны народной демократии в ВостоЧ' ной Европе достигли замечательных успехов, в то время как Англия и другие страны Западной Европы отстали: уровень их промышленного производства лишь немного выше довоенного или даже ниже его.
Таблица 13
ВОСТОЧНАЯ и ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. 1937—1948 ГОДЫ (Индекс промышленного производства 1937 г. = 100)
СССР ....
. . . 171
Соединенное Королев-
ство
ПО
Польша ....
. . . 141
Франция
100
Болгария . . .
. . . 179
Бельгия
93
Источник. Доклад ООН о мировом экономическом положении за 1948 год.
В течение следующих лет этот контраст стал еще разительнее. К 1954 году советское промышленное производство почти в три раза превысило довоенный уровень; фонд заработной платы возрос более чем в два раза, а семь ежегодных снижений цен, проведенных в период между 1947 и 1954 годами, снизили -стоимость жизни более чем в два раза. В то же время на Западе непрерывно растут цены, понижается реальная заработная плата, уровень жизни большинства населения падает, а расходы на вооружение возросли в три раза. Контраст между Восточной и Западной Европой становится все разительнее.
В статистическом годовом обзоре ООН за 1952 год указывалось, что за период между 1948 и 1952 годами реальный национальный доход на душу населения в Чехословакии увеличился на 37 процентов, в Польше — на 66, в Англии же — на 10 и в Соединенных Штатах — на 11 процентов. Трудности и недостатки, сопровождающие такие Н5
обширные преобразования в новых социалистических странах, проводившиеся в условиях «холодной войны», не помешали им достичь гигантских успехов.
Таблица 14
ВОСТОЧНАЯ и ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, 1950-1953 ГОДЫ (Индекс промышленного производства 1950 г. = 100)
Чехословакия .... 149
Г ерманская Демократическая Республика 159
Польша 175
Румыния 181
Соединенное Королевство 106
Бельгия 112
Франция 114
Западная Германия 139
Источник.. Доклад ООН о мировом экономическом положении за 1952,53 год.
В основном этот контраст является отражением различных социальных, экономических и политических систем Восточной и Западной Европы. Этот контраст отражает также последствия американской «помощи» по плану Маршалла (фактически экономического и финансового проникновения и дезорганизации). Он отражает, кроме того, особенно в последний период, бремя огромных военных расходов, колониальных войн и новых расширенных программ перевооружения в Западной Европе.
Но это различие социальных, экономических и политических систем и проводимой политики неотделимо от империалистической базы экономики западноевропейских стран.
Причины длительных экономических трудностей и продолжающегося экономического и финансового кризиса в странах Западной Европы после второй мировой войны нужно искать глубже, не во временной послевоенной неурегулированности и беспорядке. Этот кризис нельзя отделить от кризиса колониальной системы, на которой! основана империалистическая экономика указанных стран.
146
Кризис Англии и других стран Западной Европы отражает ослабление старой, империалистической базы и потерю заморской дани, а также неспособность осуществить необходимые изменения для создания новой, здоровой основы производства. Это очень ясно показывает приведенная ниже таблица, взятая из доклада о «Европейском экономическом сотрудничестве», представленного в 1947 году комитетом по плану Маршалла. Доклад показывает, какой была довоенная экономическая база западноевропейских стран.
Таблица 15 ДОВОЕННАЯ доля США И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Довоенное население, млн. человек
Процент к мировой торговле (1938 г.)
импорт
экспорт
Соединенные Штаты Америки 16 маршаллизованных стран
131,7
205,9
8,1
40,8
13,2
30,4
Такова была довоенная экономика Западной Европы. До войны на маршаллизованные страны Западной Европы приходилось две пятых мирового импорта и менее одной трети мирового экспорта. Четвертая часть их импорта не оплачивалась экспортом товаров. Фактически сырье, поступавшее из их колониальных владений, использовалось не только для удовлетворения собственных потребностей, но и продавалось Соединенным Штатам и долларовым странам для получения валюты, необходимой Западной Европе для приобретения товаров, покупаемых на доллары. Крестьяне и рабочие колоний в поте лица своего трудились в условиях полуголодного существования, чтобы отправить каучук, олово, медь, пальмовое масло и какао в Соединенные Штаты и долларовые страны, так же как и в западноевропейские метропо- 147
Лйи. Привилегированные группы в Англии и других -странах Западной Европы, капиталовложения которых в колониях приносили богатые дивиденды, могли пользоваться новейшими предметами роскоши, производимыми американской техникой. С сардонической иронией этот процесс называли «трехсторонней торговлей», скрывая, таким образом, основу колониальной эксплуатации.
Привилегированное положение Западной Европы было основано также на полуколониальной эксплуатации отсталых стран Восточной Европы (Польши, Венгрии и балканских государств) с их низким уровнем примитивного сельского хозяйства, стран неиндустриализированных, находившихся под властью реакционных помещиков и фашистских режимов, привязанных экономически и политически к господствующим кругам промышленно развитых западноевропейских стран, включая Германию. С освобождением стран Восточной Европы и их экономическими успехами на пути промышленного развития эта база исчезла.
Таким образом, кризис колониальной системы, подрывая основы этой прогнившей, паразитической экономики, немедленно вызвал долларовый кризис в Англии и других странах Западной Европы. Уменьшение дани с колоний, дохода от судоходства и связанных с ним финансовых операций выявилось не в форме нехватки колониальных товаров, а в форме нехватки товаров, покупаемых на доллары, или неспособности расплачиваться за эти товары. Внешне колониальный кризис проявился как долларовый кризис.
План Маршалла предназначался для временного разрешения (ценой экономической зависимости) этой внешней формы кризиса — долларового кризиса. Но он не мог затронуть реальные, лежащие в его основе факторы — колониальный кризис.
Предпринимаются отчаянные попытки восстановить, поддержать и расширить базу старой колониальной системы, что считается необходимым 148
условием западноевропейского экономического «восстановления».
Четырехлетний план английского правительства, представленный в декабре 1948 года органу, руководившему осуществлением плана Маршалла (Организация европейского экономического сотрудничества), предусматривал большое увеличение вклада колоний в «европейское восстановление» и оптимистически намечал более чем семикратное увеличение «невидимых доходов» за четыре года. К 1950 году министр финансов мог с гордостью заявить, что в платежном балансе стерлинговой зоны с долларовой зоной достигнут излишек. Но этот излишек скрывал продолжающийся долларовый дефицит Соединенного Королевства, отражая увеличение долларовых доходов колоний, которые зачислялись на счета стерлинговой зоны, находящиеся в руках Соединенного Королевства. На этой базе усиленной эксплуатации колоний лейбористское правительство пыталось утверждать, что оно добилось в 1950 году «социалистического триумфа» в деле «восстановления». Результат следующего года разоблачил беспочвенность этого хвастовства. Такая же судьба ожидала хвастливые заявления консервативного правительства о «восстановлении» в 1952 и 1953 годах. В 1955 году вновь наблюдается кризис платежного баланса.
В условиях углубляющегося кризиса колониальной системы все попытки построить восстановление Западной Европы на базе усиленной эксплуатации колоний обречены на банкротство (какие бы временные, неустойчивые результаты они ни дали). Эти попытки привели лишь к разорительным колониальным войнам, увеличили расходы на подавление движения народов колоний и на заморские военные обязательства, которые усилили напряжение и без того ослабленной империалистической экономики и в конечном счете еще больше увеличили дефицит. Это доказано бюджетами и платежными балансами Франции, на которых отразилась война во Вьетнаме, Голландии 149
(влияние войны в Индонезии) и Англии (последствия войны в Малайе и многочисленных других военных обязательств во всем мире). Не мог разрешить проблему и план Маршалла. Долларовые субсидии могли лишь на короткое время искусственно прикрыть нездоровую базу экономики, но не могли затронуть подлинных причин. Наоборот, фактически они обострили болезнь, усиливая зависимость от поставок из долларовой зоны, задерживали и даже ограничивали любые попытки найти другую основу для развития экономики. Таким образом, план Маршалла принес западноевропейским странам не экономическое восстановление, как рекламировалось, а дальнейшее экономическое ослабление и зависимость от империализма Соединенных Штатов Америки.
Проникновение Соединенных Штатов Америки в Западную Европу
После второй мировой войны западноевропейские страны, оставаясь империалистическими государствами, владеющими колониями, попали в частичную зависимость от более мощного американского империализма (хотя наблюдались знаменательные обратные тенденции).
Для осуществления этой трансформации применялось два основных метода. Первый — это метод экономического и финансового проникновения, нашедший свое выражение в плане Маршалла с его далеко идущими политическими последствиями. Второй — метод военного подчинения, создания баз и контроля над вооруженными силами, нашедший свое выражение в Атлантическом пакте и вытекающих из него военных соглашениях. План Маршалла, по существу, был первой фазой, Атлантический пакт—второй.
Практические результаты плана Маршалла за период его действия с 1948 по 1952 год показали, что реальное значение этого плана весьма отли150
чается от упрощенной пропагандистской картины «помощи» и «восстановления». Уже в 1947 году Гарриман, объясняя американскому конгрессу цели плана Маршалла, показал в своем докладе, что они были отнюдь не чисто экономическими.
«Интересы Соединенных Штатов Америки в Европе нельзя оценивать только с экономической точки зрения, — заявил Гарриман, — это также стратегические и политические интересы».
В 1949 году, когда огромный аппарат американских экономических контрольных органов был уже создан и действовал во всех странах так называемой «маршаллизованной Европы», руководитель американской миссии Управления экономического сотрудничества в Англии Томас Финлеттер хвастал 16 июня 1949 года на обеде Общества пилигримов в отеле «Савой» в Лондоне:
«Никогда еще в истории на представителей одного правительства не возлагалась обязанность детально и публично рассматривать действия другой страны, касающиеся ее собственной жизни».
План Маршалла был направлен на снижение жизненного уровня и на свертывание социальных мероприятий, на ограничение планов капитального строительства и углубление раскола Европы между Востоком и Западом путем запрета торговли и, следовательно, на усиление зависимости Западной Европы от Соединенных Штатов, на превращение этой зависимости в постоянную. К 1949 году в официальном докладе секретаря Организации европейского экономического сотрудничества, руководившей осуществлением плана Маршалла, признавалась неудача в деле выполнения провозглашенной цели — ликвидации долларовой зависимости.
«Европа не идет по пути к независимости от всякой чрезвычайной помощи со стороны... Долларовая проблема, несмотря на улучшение ситуации за последние два года, не находится на пути к разрешению... В та151
ком положении находится не только Соединенное Королевство... Наша организация не может найти решения этой проблемы».
В 1952 году, после фактического завершения плана Маршалла (когда первоначальный псевдоним «экономическое сотрудничество» был заменен новым псевдонимом «взаимная безопасность», другими словами, когда первоначальная «экономическая» маска была заменена откровенным военным забралом), журнал «Экономист» был вынужден с горечью комментировать:
«Какая ирония! Европа после четырехлетнего сотрудничества находится, видимо, в том же положении, в котором она была и в 1947 году. Европа все еще испытывает долларовый голод; заморские счета большинства европейских стран снова находятся в явно неудовлетворительном состоянии» («Экономист», 5 января 1952 года).
Бюро экономической информации ООН для Европы вынуждено было признать в 1954 году (в бюллетене «Экономический обзор Европы в 1954 году», опубликованном весной 1955 года), что', несмотря на ограниченное экономическое развитие Западной Европы в 1953 и в 1954 годах, «основа долларового дефицита сохранилась и долларовый разрыв еще не исчез как таковой».
В 1956 году американский комментатор, подводя баланс долларовой помощи Западной Европе, отметил ее несостоятельность в экономической области.
«После окончания второй мировой войны Соединенные Штаты перекачали в Западную Европу более 25 миллиардов долла- ров по программе иностранной помощи. Только на Англию пришлось более 8 миллиардов американской долларовой помощи. Целью этой помощи было восстановление экономики и военной мощи западных наций, с тем чтобы они могли стоять на своих собственных ногах и быть полезными и силь152
ными союзниками Соединенных ШтатоЁ... Каков пока результат этой помощи? Ясно одно, что наши миллиарды не достигли поставленной цели. Экономически всеми этими миллиардами мы мало чего добились, кроме облегчения повторяющихся -симптомов болезни («Уолл-стрит джорнэл», 10 декабря 1956 года).
Между 1953 и 1956 годами шесть ведущих за падноевропейских стран (Англия, Франция, Западная Германия, Бельгия, Голландия и Италия) увеличили свои золотые и долларовые запасы на три миллиарда долларов (с 8679 миллионов долларов в конце 1953 года до 11713 миллионов к осени 1956 года). Но между 1953 и 1956 годами Западная Европа получила 6 миллиардов долларов в виде американской военной «помощи» («Юнайтед Стейтс статистикал абстрэкт», 1956 год, •стр. 891). За этот же период расходы американских вооруженных сил в Западной Европе превысили 6 миллиардов долларов. Таким образом, проявившееся за эти три года «улучшение» счета Западной Европы на 3 миллиарда долларов оказалось возможным только благодаря американским военным субсидиям в 12 миллиардов долларов, скрыв этим путем долларовый дефицит в 9 миллиардов долларов. Оборотной стороной экономического «улучшения» является зависимость от военных субсидий Соединенных Штатов Америки.
Военным двойником плана Маршалла явился Атлантический пакт, подписанный в 1949 году. Согласно этому пакту, был создан постоянный совет под председательством американца; американец был назначен главнокомандующим вооруженными силами западноевропейских стран. В 1955 году в Парижском и Боннском договорах предусматривается возрождение вермахта с нацистскими генералами во главе наряду с американской военной оккупацией Западной Европы. Через пять лет после первой интервенции, осуще153
ствленной с помощью плана Маршалла, значительно усилилось экономическое, политическое и военное подчинение Соединенным Штатам Америки древних стран Западной Европы.
Все эти новые события отразили глубокие изменения в рамках империализма после второй мировой войны. Вторая мировая война привела к радикальным изменениям не только в колониальной сфере и в отношениях между колониями и' империалистическими странами, но и в отношениях между уцелевшими империалистическими державами Америки и Западной Европы.
Неравномерность развития империализма достигла крайней остроты, что проявляется в контрасте между положением Соединенных Штатов и остального империалистического мира. Если все другие страны, участвовавшие в войне, обнищали в результате войны, то капитализм Соединенных Штатов, которого не коснулись разрушения, принесенные войной, накопил гигантские прибыли и колоссально увеличил свою производственную мощь. Производственные возможности Соединенных Штатов превышают возможности всего остального капиталистического мира в целом. Соединенные Штаты достигли стратегического превосходства над всеми другими капиталистическими державами. С другой стороны, Соединенные Штаты держат непосредственно в своих руках относительно меньшую часть колониальных территорий. Западноевропейские державы, будучи гораздо слабее в экономическом отношении, все еще держат в своих руках главные колониальные империи.
Таким образом, противоречие, которое характеризовало в начале XX века отношения развивающегося германского империализма с остальным империалистическим миром и которое породило две мировые войны, в настоящее время усилилось. Вследствие этого империалистическое стремление Соединенных Штатов к экспансии во всем мире направлено не только против страны социализма и стран, освободившихся от ярма импе154
риализма, но также и непосредственно против существующих колониальных империй, прежде всего против Британской империи.
Перед лицом этого развертывающегося наступления и проникновения американского империализма западноевропейские империалистические державы, в особенности Англия и Франция, пытаются маневрировать, чтобы защитить свои интересы, несмотря на то, что они опутаны сетями формального союза и «помощи», проявляя первые признаки усилившегося сопротивления.
Таким образом, невзирая на активное контрреволюционное сотрудничество Англии и Соединенных Штатов, англо-американский антагонизм усиливается и проявляется все более заметно как главное противоречие империалистического мира. Он нашел свое ясное отражение в условиях соглашения о займе, в конфликтах по таким вопросам, как стерлинговый блок и девальвация, имперские преференции и гаванское торговое соглашение, в использовании плана Маршалла как орудия для контроля над стратегическим сырьем стран Британской империи и в наступлении американских нефтяных монополий на Среднем Востоке в ущерб английским нефтяным компаниям.
Характерная особенность метода экспансии американского империализма во всем мире за счет старых колониальных империй заключается в том, что он не требует вооруженного завоевания этих империй, а придерживается принципа подчинения и проникновения. Старые колониальные державы остаются номинально владельцами своих империй и, таким образом, должны выполнять всю грязную работу — нести полицейские функции, а также функции управления и подавления колониальных народов, — в то время как монополии Соединенных Штатов все чаще снимают сливки с прибылей.
Таким образом, можно сказать, что после второй мировой войны образовалась новая структура империализма. Первый ярус, или верх, пирамиды занимают Соединенные Штаты Америки; ниже 155
их — другие колониальные державы, которые все еще господствуют над подчиненными народами, в то же время сами являясь сателлитами Соединенных Штатов, выступающих в роли сюзерена; в самом низу пирамиды находятся колониальные и зависимые народы.
Однако и это не обеспечивает устойчивого равновесия. Пирамида все время сотрясается; ее подрывают усиливающаяся экспансия американского империализма, сопротивление старых колониальных держав (правда, частичное и слабое) и мощный подъем освободительной борьбы колониальных народов. Это взаимодействие противоречий империализма и нарастающей борьбы колониальных народов за свободу составляет характерную особенность нынешнего кризиса колониальной системы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Каков бы ни был исход войны, Америка в международных делах и во всех других аспектах жизни вступила на путь империализма. В лучшем случае Англия станет младшим партнером нового англосаксонского империализма, центром тяжести которого будут экономические ресурсы и военная мощь Соединенных Штатов на суше и на море... Скипетр переходит к Соединенным Штатам.
Из речи председателя Национального промышленного консультативного совета США Вирджила Джордана на собрании Ассоциации владельцев коммерческих банков 10 декабря 1940 года.
На территории, составляющей более двух третей земного шара, вдоль гигантской дуги, которая тянется от Европы до Японии, ни один договор не может быть подписан, ни один союз не может быть создан, ни одно решение не может быть принято без одобрения и поддержки правительства Соединенных Штатов. Только огромный коммунистический блок не поддается воздействию.
«Таймс», 29 августа 1951 года.
Характерной новой особенностью империалистических отношений после второй мировой войны является подавляющее превосходство американского империализма и относительное ослабление Британской империи внутри ее орбиты.
157
К середине XX века Англия в экономическом, финансовом и военном отношении стала зависеть от Соединенных Штатов Америки. Английские правительства поддерживаются американскими субсидиями в обмен за их верность правителям Соединенных Штатов. Американское экономическое и финансовое проникновение в Англию и империю все более усиливается. На автономию Англии в области торговли накладываются ограничения. Превосходство на море перешло к Соединенным Штатам. Англия оккупирована и превращена в американскую авиационную базу, ее вооруженные силы отданы в подчинение американскому верховному командующему, а цепь ее баз во всем мире включена в американскую систему.
Эти глубокие изменения в отношениях двух самых больших в мире империалистических держав происходят далеко не гладко и гармонично. Столкновение интересов — экономических, финансовых и стратегических — не только не прекращается, а, напротив, все более и более обостряется по каждому вопросу. Английские империалисты еще пытаются при помощи всевозможных средств и маневров удержать свои слабеющие позиции перед натиском преобладающей силы США. Но их сопротивление ослаблено ввиду упадка самой Англии и той контрреволюционной роли, которую они играют, будучи привязаны к американскому хозяину, как к своему защитнику. Углубление конфликта между английскими и американскими интересами неизбежно приведет к новым изменениям отношений в лагере империализма и как следствие этого к новой расстановке политических сил в Англии. Однако конечная задача освобождения может быть решена только путем национальной антиимпериалистической борьбы народов Англии и Британской империи под руководством рабочего класса, в условиях единства действий против союза американского империализма и его английского младшего партнера.
158
Прогнозы на будущее
Наступление США на Британскую империю началось не после второй мировой войны. Его основы были заложены в предыдущую эпоху. Уже к последнему десятилетию XIX века американский капитализм догнал и перегнал Англию по производству стали, добившись промышленного первенства в мире. С первых лет XX века американские государственные деятели начали думать о своей будущей цели — отнять у Англии руководящее место в мире.
В 1913 году американский посол в Англии Пэйдж писал в частном письме государственному секретарю Хоустону о «елейной нравственности» англичан
«при похищении ими континентов... Мне кажется, они действительно верят, что земной шар принадлежит им» («Жизнь и письма Уолтера Пэйджа», т. 1, 1925, стр. 139, письмо от 24 августа 1913 года).
Однако в письме от 25 октября 1913 года, адресованном президенту Вильсону, он добавил:
«Будущее мира принадлежит нам. Эти англичане расходуют свой капитал. Что мы думаем делать в настоящее время с руководством миром, которое явно переходит к нам? И каким образом мы можем использовать Англию в высочайших интересах демократии?»
Это было четыре десятилетия назад, до первой мировой войны. Соединенные Штаты лишили Англию промышленного превосходства еще раньше. Однако в первом десятилетии XX века Англия все еще обладала превосходством в мировой торговле, торговом флоте, международных финансах, заграничных капиталовложениях, морских вооружениях и колониальной мощи. Соединенные Штаты были страной-должником. Сити все еще был центром международных кредитных и финансовых опера-
159
Ций. Фунт стерлингов доминировал в международной торговле и в валютных операциях.
Война 1914—1918 годов внесла в это положение первые большие изменения. Американские монополисты, сохранявшие нейтралитет до последнего момента, нажили огромные прибыли на поставках воюющим странам. Они вступили в войну лишь на ее последнем этапе и, понеся минимальные потери и не истощив своих сил, стремились получить решающий голос в послевоенном урегулировании. Соединенные Штаты стали страной- кредитором и в соответствии с планом Дауэса (предшественник плана Маршалла в зачаточном виде) стали помещать крупные капиталы в зарубежных странах. Смертельно раненная Англия вступила в период хронической депрессии, продолжавшийся с зимы 1920 года вплоть до второй мировой войны.
В 1930 году одно известное американское издательство выпустило книгу, озаглавленную «Америка завоевывает Англию», которая вызвала большой интерес по обе стороны Атлантики. Автор ее, Людвелл Денни, пришел к следующему выводу:, «Некогда мы были колонией Англии. Теперь она станет нашей колонией, прежде чем с ней будет покончено, — не по форме, а по существу. Машины дали Англии власть над миром. Сейчас более усовершенствованные машины дают Америке власть над миром и над Англией...
Американская мировая гегемония — об этом, конечно, несколько страшно подумать. Однако американская гегемония вряд ли будет хуже английской и других ее предшественников.
Какие шансы может иметь Англия против Америки? Или какие шансы может иметь весь мир?»
Это было сказано свыше двух десятилетий назад. Наступление мирового экономического кризиса, обнаружившего глубокую внутреннюю слабость
160
американского капитализма, скрывающуюся за всеми надменными заявлениями о его неизбежной победе, показало, что подобные предсказания были в тот период преждевременными. Однако сейчас, когда американские экономические эксперты по делам Англии открыли в Лондоне свои конторы, а американский генеральный штаб имеет на английской территории постоянные базы, войска и бомбардировщики, эти слова звучат весьма актуально.
К началу второй мировой войны США начали открыто заявлять о своей цели — вытеснить Англию и подчинить Британскую империю американской мировой гегемонии. В 1940 году (когда, как мы узнали впоследствии из мемуаров Корделла Хэлла, государственный департамент разрабатывал планы послевоенной организации мира, исходя из предположения, что Англия потерпит поражение) председатель Национального промышленного консультативного совета США — главной организации американского крупного капитала — Вирджил Джордан выступил с уверенным предсказанием, процитированным в эпиграфе к этой главе, что «Англия станет младшим партнером в новом англосаксонском империализме», в котором Соединенные Штаты будут «центром тяжести».
Как сообщает сын Рузвельта, Эллиот, в 1941 году, во время совещания Черчилля и Рузвельта по поводу Атлантической хартии, возник резкий спор о будущем Британской империи и колониальных территорий, в результате чего Черчилль заявил: «Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей. Это видно из всего хода ваших мыслей об устройстве мира в послевоенное время. Но, несмотря на это... несмотря на это, мы знаем, что вы единственная наша надежда. И вы.,, знаете, что мы это знаем. Вы знаете, что мы знаем, что без Америки нашей империи не устоять» 1.
1 Эллиот Рузвельт, Его глазами, Издательство иностранной литературы, М., 1947, стр. 56—57.
6 Р. Палм Датт Jfil
Перед нами классический пример антагонизма и зависимости одновременно.
Президент Рузвельт рассматривал цели американской политики в духе либерального, антиимпериалистического сочувствия страданиям колониальных народов, придавленных английским, французским или голландским колониальным гнетом. Но это не мешало тому, что острие американской политики даже в той либеральной форме, в какой она у него выражалась, было направлено против британской, французской и голландской империй и что это совпадало с более откровенно выраженными экспансионистскими целями магнатов американского финансового капитала. В разговоре со своим сыном, приведенном в той же книге, президент Рузвельт приписывал поражения союзников на Дальнем Востоке колониальной системе и
«слепой алчности французов, англичан и голландцев. Неужели же мы позволим им повторить все сызнова?..
Когда будет создана Организация Объединенных Наций, она сможет взять на себя управление этими колониями — не правда ли?..
Когда мы выиграем войну, я приложу все усилия, чтобы у Соединенных Штатов нельзя было выманить согласия на какой бы то ни было план, поддерживающий империалистические устремления Франции или Британской империи» L
В октябре 1942 года американский журнал «Лайф» опубликовал нашумевшую статью, по духу аналогичную высказыванию Рузвельта, в которой говорилось, что со стороны Великобритании было бы разумнее решить расстаться со своей империей, так как Соединенные Штаты не намерены воевать за то, чтобы дать ей возможность сохранить эту империю. Именно эта статья и вызвала знамени-
1 Эллиот Рузвельт, цит. произв., стр. 124—125.
162
тую реплику Черчилля 10 ноября 1942 года, что 'он «стал премьер-министром его величества не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи». Однако это не помешало тому, что после войны изложенная Черчиллем в Фултоне, программа ускорила капитуляцию Англии перед американской гегемонией.
Об этих характерных высказываниях полезно напомнить теперь, чтобы понять нынешние события в более широкой перспективе. Частное письмо посла Пэйджа Вильсону было написано до первой мировой войны, до русской революции 1917 года, до создания Коммунистического Интернационала, до того, как где-либо в мире существовала коммунистическая партия, то есть до того, как появилась какая-то возможность прикрывать цели мирового господства — как это имело место впоследствии— камуфляжем «священной войны западной цивилизации» против коммунизма.
Книга «Америка завоевывает Англию» появилась до второй мировой войны, до прихода Гитлера к власти, до «антикоминтерновского пакта», то есть до того, как творцов американской политики осенило вдохновение подобрать упавшую мантию «антикоминтерновского пакта», чтобы добиваться аналогичных целей.
Точно так же и председатель Совета Национальной промышленной конференции провозгласил цели американского «империализма» и предназначил Англии роль «младшего партнера» еще до того, как Америка вступила в войну, и до того, как Советский Союз был вовлечен в войну, то есть до того, как появилась какая-то возможность говорить •о русской опасности или «об угрозе русской агрессии» как о мнимой причине для американских агрессивных мероприятий во всем мире.
Эти заявления, показывающие последовательную политическую линию, развиваемую со все возрастающей определенностью в течение четырех десятилетий, должны помочь воссоздать правильное представление о положении в мире вопреки 6* " 163-
необузданной антикоммунистической и антисоветской пропаганде, которой теперь во многих кругах пытаются подменить серьезный анализ международного положения.
Влияние второй мировой войны
Вторая мировая война привела к решительному изменению соотношения сил между Соединенными Штатами Америки и Британской империей. Уже к началу второй мировой войны американский империализм приблизился к фактическому господству в западном полушарии, хотя английские интересы еще имели прочную базу в Канаде и Аргентине. Обстоятельства и исход второй мировой войны дали американским империалистам возможность перенести наступление в борьбе за мировое господство за пределы американского континента. Мантия президента Вильсона, который преждевременно и безуспешно пытался выполнить эту задачу после первой мировой войны, легла на плечи президента Трумэна.
Как в первую, так и во вторую мировую войну Соединенные Штаты вступили последними из главных воюющих держав, чтобы извлечь максимум прибылей ценой минимального бремени. Все другие воюющие страны понесли в войне тяжелые потери. Черчилль указывал во втором томе своих мемуаров, что число американцев, убитых в боях в ходе войны, составляет 322 188 человек, то есть значительно меньше потерь Британской империи, составивших 412 240 человек (в то время как цифры потерь обеих этих стран, вместе взятых, составляют лишь одну десятую потерь Советского Союза). В то время как другие страны были опустошены, оккупированы или подверглись воздушным бомбардировкам, Соединенные Штаты остались нетронутыми. Другие страны вышли из войны ослабленными и обнищавшими в экономическом и финансовом отношении, а американские моно164
полисты нажили колоссальные прибыли, составляющие, по официальным данным, 52 миллиарда долларов, или 13 миллиардов фунтов стерлингов (после вычета налогов). США увеличили производственную мощь своих предприятий наполовину и создали резервы капитала в сумме 85 миллиардов долларов, или 21 250 миллионов фунтов. Это огромное увеличение накопленного капитала и производственных мощностей требовало выхода, положив начало кампании за американскую мировую экспансию, которая стала столь характерной и яркой чертой послевоенных лет.
Изменение относительного положения Соединенных Штатов и Англии до и после второй мировой войны можно определить при помощи следующих показателей.
К концу второй мировой войны американский капитал контролировал две трети производственных мощностей капиталистического мира и три четверти его капиталовложений.
В области мировой торговли Англия потеряла во время войны экспортные рынки, которые были захвачены американскими промышленниками. Изменение относительного положения Англии и Соединенных Штатов показано в таблице 16 на стр. 166.
Таким образом, до войны объем английской торговли превышал объем торговли Соединенных Штатов. К 1951 году объем торговли Соединенных Штатов был в полтора с лишним раза больше объема торговли Англии. Несмотря на самую энергичную кампанию за увеличение экспорта, доля Англии в мировом экспорте уменьшилась с 10,7 процента в 1937 году до 9,4 процента в 1951 году. Доля Соединенных Штатов в мировом экспорте за те же годы увеличилась с 13,7 до 19,4 процента.
Однако в последующие годы Соединенным Штатам не удалось сохранить этот уровень: наблюдается некоторое относительное сокращение их доли в промышленном производстве и торговле капиталистического мира. К середине пятидесятых
165
Таблица 16
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ в 1937—1951 ГОДАХ Пропорциональное распределение торговли в капиталистическом мире (в 1937 и 1951 гг.)
1937 г., млн. долл.
°/0 к общей мировой торговле
1951 г., млн. долл.
% к общей мировой торговле
Мировой экспорт
Общий итог мирового экспорта (фоб)
24 100
100,0
76 700
100,0
Соединенное Королевство
2 581
10,7
7 224
9,4
Соединенные Штаты
Америки
3 299
13,7
14 877
19,4
Мировой импорт (сиф)
Общий итог мирового импорта
27 106
100,0
81 600
100,0
Соединенное Королевство
4716
17,4
10 605
13,0
Соединенные Штаты
Амер ики
3311
12,2
11 897
14,6
Торговля в целом (экспорт и импорт)
Соединенное Королевство
7 297
17 829
Соединенные Штаты
Америки
6 610
—
26 774
—
Примечание. «Мировая» — исключая СССР, Китай, Болгарию, Венгрию, Румынию и Германскую Демократическую Республику.
США — сведения об импорте, фоб; приравнены к произвольно взятому сиф (фоб плюс 10 процентов), исключая серебро.
Соединенное Королевство — исключая серебро.
Исчислено в американских долларах.
Источник. «Статистический бюллетень ООН», август 1952 года.
годов доля Соединенных Штатов в промышлей- ном производстве упала с двух третей до приблизительно одной второй. Уменьшилась их доля и в мировом экспорте промышленных изделий с 27 процентов в 1950 году до 25 процентов в 1954 году. В этом особенно большую роль сыграло выдвижение Западной Германии. Относительное отставание Англии стало еще более заметным.
Таблица 17
МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ В 1937-1955 ГОДАХ (доли в процентах)
| США |
| Англия
| Западная Германия
1937 г.
20
22
23
1950 г.
27
26
7
1955 г.
25
20
15
Источник. Брошюра английского правительства «Должна ли полная занятость означать непрерывно растущие цены», 1956.
В области мировых финансов и экспорта капитала фунту стерлингов пришлось подчиниться гегемонии доллара, несмотря на упорное стремление создать и оградить стерлинговую зону под контролем Лондона. Девальвация фунта стерлингов до 2,80 доллара в 1949 году выявила изменившееся положение.
Об изменении относительного положения Англии и Соединенных Штатов как главного мирового кредитора свидетельствует таблица 18 на стр. 168.
Если даже взять за основу для сравнения только частные заграничные капиталовложения Соединенных Штатов, то итог увеличился с 11 400 миллионов долларов в 1939 году до 29 миллиардов долларов в 1955 году, или на 10 357 миллионов фунтов стерлингов, что почти в пять раз больше цифры капиталовложений Англии за 1954 год и превышает общий итог всех других империалист
стических держав, вместе взятых. Огромный рост экспорта капитала правительством Соединенных Штатов и официальными банковскими учреждениями после второй мировой войны еще более увеличил этот итог.
Таблица 18
ЗАГРАНИЧНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ АНГЛИИ И США В 1939—1955 ГОДАХ
1939 г.
1946 г.
| 1955 г.
Соединенные Штаты Аме¬
рики, млрд. долл. . . .
Частные
11,4
13,5
29,0
Правительственные ....
—
5,2
15,9
Итого
11,4
18,7
44,9
Эквивалент, млн. ф. ст.
Соединенное Королевство,
2280
3740
16 039
млн. ф. ст
3545'
1960
2 128 (в
1954 году)
Источник. Данные по Соединенному Королевству взяты из отчетов Английского банка.
Цифры по США взяты из отчетов министерства торговли.
Данные по каждбму году взяты на конец года. Обменный курс фунта стерлингов в 1955 году—2,80 доллара.
Таким образом, в период между 1938—1954 годами английские капиталовложения за рубежом уменьшились на две пятых. В течение этого же периода американские капиталовложения за границей, которые до войны были меньше английских, превысили английские более чем в семь раз. Соединенные Штаты не только догнали Англию как главного мирового кредитора, но и оставили ее далеко позади.
Колоссальное превышение экспорта над импортом у Соединенных Штатов за эти годы способствовало столь быстрому накоплению капитала за рубежом, в то время как огромное превышение импорта у Англии оказало противоположное действие.
168
Таблииа 19
ПРЕВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТА У США И ПРЕВЫШЕНИЕ ИМПОРТА У СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА В 1946—1954 ГОДАХ
Всего за 1946—1954 гг.
Среднегодовая
Экспортный излишек США, млн. долл.
Превышение импорта
4-44 953
4-4995
у Соединенного Королевства, млн.
ф. ст
—2311
—257
Источник. Цифры по США взяты из статистических данных Международного валютного фонда, по Соединенному Королевству — из бюллетеня «Платежный баланс», 1946—1954 годы.
Не удивительно, что при наличии такого превышения экспорта над импортом Соединенные Штаты смогли ежегодно вывозить капитал в таких размерах, что общая сумма их прямых частных капиталовложений (исключая правительственный капитал) возросла с 7,9 миллиарда долларов в 1943 году до 11,8 миллиарда в 1950 году, а в 1954 году достигла 17,7 миллиарда (точнее— 17 748 миллионов) долларов, или 6336 миллионов фунтов стерлингов. С другой стороны, Англия с ее действительным дефицитом платежного баланса, составлявшим ежегодно в среднем 185 миллионов фунтов стерлингов в течение тех же девяти лет, была неспособна на сколько-нибудь реальный экспорт капитала (хотя вложения капитала за рубежом и производились при помощи мер, описанных в главе 17).
В результате второй мировой войны в области мирового судоходства Англии также пришлось поступиться гордостью и уступить место Соединенным Штатам.
Довоенное английское превосходство в 6 миллионов тонн уступило место по окончании войны превосходству США, обогнавших Англию на 4 мил169
Лиона тонн. Доля Соединенных Штатов в мировом торговом флоте увеличилась с 13,8 процента в 1938 году до 22,5 процента в 1956 году.
Таблица 20
ТОННАЖ ТОРГОВЫХ СУДОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И США В 1938— 1956 ГОДАХ (в тысячах регистровых брутто-тонн,
Ллойдовский регистр)
1938 г.
1956 г.
Соединенное Королевство
17 781
19 546
Соединенные Штаты Америки
11939
23 643
В чрезвычайно важной битве за контроль над мировыми источниками нефти после второй мировой войны Соединенные Штаты также вытеснили Англию. В 1938 году из общего количества нефти, добытой в капиталистическом мире за пределами Соединенных Штатов, американские фирмы контролировали 35 процентов, а английские — 55 процентов; к 1951 году американские фирмы контролировали 55 процентов, а английские — 30 процентов.
Не менее знаменательным был переход к Соединенным Штатам стратегической мощи. Когда-то Морская лига издавала обширную литературу с целью доказать, что владычество Британии на море является необходимым условием ее существования. Морская лига уцелела, но не владычество на море. За последние годы Морской лиге, вероятно, пришлось сдать как макулатуру значительную часть своих изданий. До 1914 года излюбленным лозунгом Англии было «на уровне двух держав», то есть мощь английского военно-морского флота должна была равняться мощи флотов двух следующих за Англией морских держав, вместе взятых; меньшая мощь означала бы гибель. После заключения Вашингтонского договора 1922 года девизом 170
Стало «на уровне одной державы» — английский И американский флоты должны были быть равными, но фактически Англия продолжала идти несколько впереди. После второй мировой войны новым правилом стало «половина уровня державы». В то время как до войны водоизмещение английского военно-морского флота равнялось 1,2 миллиона тонн, а американского—1 миллиону, в 1947 году водоизмещение английского военно-морского флота составляло 1,5 миллиона тонн, а американского — 3,8 миллиона. В 1951 году морское министерство Англии объявило, что численность личного состава английского военно-морского флота составляла 140 тысяч человек, а американского — 850 тысяч человек. Прощай, «Британия, владычица морей»!
С другой стороны, если рассматривать вопрос о мировых колониальных владениях, то получится совершенно иная картина.
В конце войны Британская империя за пределами Соединенного Королевства (не считая таких номинально независимых стран в английской сфере влияния, как Египет, Ирак и бывшие итальянские колонии, находившиеся под английским управлением) занимала территорию примерно в 13 миллионов квадратных миль с населением свыше 550 миллионов человек. Американские чисто колониальные владения, включая Филиппины, занимали только 125 тысяч квадратных миль -с населением 19 миллионов человек.
Совершенно очевидно несоответствие между мощным наступающим американским капитализмом с его ограниченными колониальными владениями и слабеющим английским империализмом, располагающим огромными колониальными владениями и вследствие этого осуществляющим контроль над крупными рынками, торговыми путями, источниками сырья и сферами приложения капитала. Это классический образец противоречий, порождающих империалистический антагонизм.
Антагонизм такого типа, приведший в первые десятилетия XX века к борьбе германского империа- 171
ЛйзМа против империализма английского, нап1еЛ свое выражение в двух мировых войнах. В нацистский период германский империализм маскировал свои цели мировой агрессии и экспансии заявлениями о руководящей роли «западной цивилизации» в «крестовом походе» против «восточной угрозы» со стороны Советского Союза и коммунизма. Сторонники мюнхенской политики «умиротворения» жадно набросились на гитлеровско-геббельсовскую приманку антисоветской пропаганды. Во имя антисоветского «крестового похода» «отцы-миротворцы» рьяно потворствовали и приветствовали усиление власти Гитлера, якобы усматривая в ней «оплот против коммунизма». Они были готовы принести в жертву Гитлеру и Муссолини непосредственные английские интересы, так как были убеждены, что главный удар будет отведен от Британской империи и направлен на Восток.
Тем не менее действительный империалистический антагонизм сорвал в конечном счете, мюнхенские планы и проявил себя в войне 1939 года.
Сегодня американский империализм также прикрывает свое стремление к мировой экспансии фразами о руководящей роли «западной цивилизации» в борьбе против «угрозы» со стороны Советского Союза и коммунизма. «Сыны-миротворцы» в Англии снова объединяются для поддержки антикоммунистического «крестового похода» и во имя этого «священного похода» охотно жертвуют интересами Англии, соглашаясь, на американское господство. Однако реальный конфликт торговых и финансовых интересов проявляется непрерывно, усложняя планы создания единого контрреволюционного блока. Фактически американское стремление к мировой экспансии направлено не только против Советского Союза и стран народной демократии Восточной Европы, но также и непосредственно против старых и менее сильных колониальных держав, в особенности против Британской империи.
172
Этот антагонизм, маскируемый под всевозможными формами союзов и сотрудничества, непрерывно усиливается. «Холодная война» американской империалистической экспансии против Советского Союза ведется открыто, и это признается. «Холодная война» американской империалистической экспансии против Британской империи ведется тайно, и в этом не признаются; но она не менее реальна, чем первая, хотя и маскируется фразами о дружбе.
Новая „Американская империя*
Цель Соединенных Штатов Америки захвата мирового руководства и господства после второй мировой войны нашла свое открытое выражение в выступлениях главных официальных представителей новой наступательно экспансионистской политики, которая заменила прежний устаревший «изоляционизм». Следует отметить, что «изоляционизм» межвоенного периода, заменивший честолюбивые цели американской мировой гегемонии, которые после первой мировой войны проповедовал президент Вильсон, представлял собой лишь оборотную сторону цели установления американского мирового господства, поскольку его главным принципом был уход из всех органов или организаций международного сотрудничества, таких, как Лига Наций, для контроля и господства над которыми Соединенные Штаты Америки были еще недостаточно сильны, и участие только в таких органах и проектах, как план Дауэса или план Юнга, над которыми Соединенные Штаты Америки осуществляли действенный контроль.
В 1946 году казначей могущественной «Стан- дард ойл компани оф Нью-Джерси» Лео Д. Уэлч, один из влиятельнейших магнатов американского финансового капитала, в своем выступлении на национальном съезде деятелей внешней торговли провозгласил эту цель в конкретных выражениях:
173
«Как крупнейший производитель, кай крупнейший источник капитала, как страна, вносящая наибольший вклад во всемирный механизм, мы должны задавать тон и взять на себя ответственность держателя главного пакета акций в этой корпорации, известной под названием «весь мир»... Притом это предусматривается не на какой-то определенный срок. Это — постоянное обязательство».
Популяризируя эту новую концепцию, американский журнал «Лайф» — тот самый «Лайф», который в начале 1941 года опубликовал нашумевшую статью своего издателя Генри Люса, озаглавленную «Американский век» и провозглашавшую, что Соединенные Штаты Америки в силу своей колоссальной мощи должны взять на себя руководство миром, — напечатал в 1947 году новую статью, основанную на книге Бэрнхэма «Борьба за мировое господство», излагающей цели «американской мировой империи». Статья была снабжена картой. Судя по надписям на этой карте, под властью «Американской империи» должны оказаться следующие районы:
«Северный полюс, Канада, Южная Америка, Мексика, Норвегия, Швеция, Бельгия, Голландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Англия, Африка, Ближний Восток, Средний Восток, Индия, Китай, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия и Южный полюс».
Пресловутый «теоретик» американской мировой экспансии Джеймс Бэрнхэм, воинственные произведения которого распространяются американскими книжными киосками при помощи самой широкой рекламы, пытался просветить американскую общественность относительно ее новой судьбы в духе некоего Бернгарди или Трейчке (не говоря уже о Муссолини или Геббельсе). В своей книге «Борьба за мировое господство», изданной в 1947 году, он изложил программу
174
«Американской империи, которая будет если не буквально всемирной с точки зрения формальных границ, то все же способной осуществлять решающий контроль над миром. Ничто меньшее не может служить позитивной или наступательной фазой рациональной политики Соединенных Штатов» (стр. 188).
«Американская империя уже существует, и она значительно расширилась за последние годы» (стр. 189).
Эта «Американская империя» может быть создана только с помощью силы.
«Нет никакого сомнения, — писал Бэрн- хэм, — что Соединенные Штаты не могут в отведенный для этого срок обеспечить за собой руководство жизнеспособным мировым политическим порядком только при помощи убеждения и призывов к разуму» (стр. 193).
«Налицо должны быть мощь и заведомая готовность использовать ее, будь то в косвенной форме парализующих экономических санкций или в форме прямого взрыва бомб. Последним резервом мощи должен быть монопольный контроль над атомным оружием» (стр. 194—195).
Народам, которые, возможно, будут все же цепляться за устаревшие концепции национальной свободы и суверенитета, дается знакомый гитлеровский ответ:
«Независимость» и «свобода» в конце концов являются абстракциями» (стр. 201). В этом безумном бреде с циничной откровенностью излагается программа, которую официальные государственные деятели и милитаристы американского империализма обычно стараются завуалировать ханжескими фразами об «американском мировом руководстве» и «мировой американской миссии».
Программа американской мировой экспансии 175
осуществлялась в послевоенные годы путем комбинированных операций государственного департамента, Уолл-стрита и Пентагона, причем этим операциям придавались самые разнообразные формы.
В экономической области наряду с «нормальной» торговлей и финансовым проникновением американских монополий с их преобладающей мощью эта стратегия приняла форму прямого вмешательства правительства, расходования миллиардов долларов в форме субсидий по плану Маршалла и в других формах с целью подчинить американским требованиям экономику и торговлю стран- сателлитов; создать широко разветвленную сеть экономических агентств для наблюдения и контроля; навязать торговые ограничения и регулировать бюджетную, финансовую и валютную политику. Кроме того, «четвертый пункт» программы Трумэна, провозглашенный в 1949 году, ставил целью проникновение в колониальные империи европейских держав.
В политической области «доктрина Трумэна» \ обнародованная весной 1947 года, провозглашала право США на вмешательство в дела любой страны мира, чтобы поддержать правительства, пользующиеся одобрением Соединенных Штатов. Методы прямого финансового, политического и военного вмешательства применялись в Греции и в Китае. В Западной же Европе было использовано оружие экономического контроля и давления для обеспечения ее политической зависимости от США. Показа-
1 Следует отметить, что «доктрина Трумэна», признаваемая сегодня каноном «западной цивилизации», вызвала в свое время резко враждебные комментарии английских официальных кругов. «Таймс» нашла «доктрину Трумэна» «революционной» в смысле выраженной в ней «откровенной готовности проводить спорную американскую политику без предварительного ее согласования с великими державами или без обсуждения ее Объединенными Нациями». «Дейли гералд» — официальный орган лейбористского правительства — нашла эту декларацию «опасной», «вызывающей тревогу» и «пугающей». Она заявила (15 марта 1947 года): «Нашей первой реакцией на речь -президента Трумэна было -беспокойство. Не стали мы спокойнее и после более зрелого размышления». |7(?
телем того, в каких масштабах применялась эта тактика косвенного контроля над правительствами западноевропейских стран вплоть до 1949 года, может служить заявление известного американского корреспондента Джона Гантера, автора книги «В Европе», содержащееся в новой серии его статей под заголовком «В Европе сегодня», напечатанной в газете «Нью-Йорк гералд трибюн»:
«Я искренне убежден, что если бы Греция лишилась американской помощи, греческое правительство не продержалось бы и десяти дней. Правительства Франции и Италии тоже не смогли бы продержаться больше нескольких недель или нескольких месяцев (Джон Гантер, «Нью-Йорк гералд трибюн», 3 февраля 1949 года).
Таким образом, к 1949 году, по мнению Гантера, этого известного заграничного корреспондента одной из наиболее влиятельных американских газет, правительства стран Западной Европы превратились в вассалов, зависящих от американской поддержки. В то же время Организация Объединенных Наций превратилась в результате постоянного и вопиющего нарушения положений Устава и передачи Ассамблее (с американским большинством голосов стран-сателлитов, представляющих меньшинство населения мира) функций Совета Безопасности в машину для штампования и ратификации американской политики, в том числе и актов агрессии.
В военной области Соединенные Штаты включились в осуществление колоссальной программы вооружения, во много раз превосходящей наивысший уровень гитлеровской программы и в семьдесят раз превышающей довоенные расходы; создали сеть из сотен сухопутных, военно-морских и военно-воздушных баз на всех континентах земного шара; организовали с помощью Атлантического пакта огромную военную коалицию в нарушение Устава Объединенных Наций; навязали тяжелое 177
бремя перевооружения своим сателлитам; провозгласили свое право применять атомную бомбу и другие виды оружия массового уничтожения; создали запасы атомных бомб; ввязались в военные действия на Дальнем Востоке и сконцентрировали внимание на стратегической подготовке к третьей мировой войне.
К 1950 году численность населения «Американской империи» составляла 563 миллиона человек, не считая находящихся в подчиненном положении западноевропейских империалистических держав и их колониальных владений.
Таблица 21
«АМЕРИКАНСКАЯ ИМПЕРИЯ» В 1950 ГОДУ
Население в 1947 г., млн. человек
Собственно Соединенные Штаты Америки .... 144
Полное подчинение — минимальная оценка американской колониальной и полуколониальной империи 197
В процессе перехода под колониальное господство США 96
Военная оккупация (Япония и Западная Германия) 126
Итого . . . -563.
Источник, Виктор Перло, Американский империализм, Москва, 1951.
Эта таблица, однако, преувеличивает число полностью подчиненных стран; последующие события изменили положение некоторых из них.
Эта программа все расширяющейся экспансии и мирового господства номинально проводилась в процессе осуществления американской доктрины «холодной войны» (этот термин родился в Америке), которую государственный департамент и президент Трумэн провозгласили в нынешний период руководящим принципом, американской внешней политики для «сдерживания» Советского Союза и коммунизма. Здесь налицо аналогия с нацистской программой экспансии и агрессии во имя «антиком178
мунизма» и «защиты цивилизаций от Советского Союза». Истолкование американской доктрины «холодной войны» оказалось таким же эластичным, как и истолкование старой доктрины «антикоминтерновского пакта» Гитлера, Муссолини и Хирохито. «Антикоминтерновский пакт» возродился в виде Атлантического пакта. Соответственно этому он стремится включить в свою орбиту возрождаемый германский нацизм и японский милитаризм.
Доктрина «холодной войны», заменившая старую доктрину Монро — доктрину невмешательства— политикой вмешательства в дела других стран, нашла свое первоначальное программное выражение в марте 1946 года в фултонской речи Черчилля (произнесенной в присутствии председательствующего президента Трумэна). Она нашла свое первое официальное воплощение в важном акте американской политики — в провозглашении в марте 1947 года «доктрины Трумэна». Таким образом, уместно отметить, что доктрина «холодной войны» предшествовала отклонению летом 1947 года Советским Союзом и странами народной демократии Восточной Европы плана экономической интервенции — плана Маршалла, а не последовала за ним; она предшествовала созданию Информационного бюро коммунистических партий в сентябре 1947 года (явившегося оборонительным ответом на американскую интервенционистскую стратегию в Европе), она предшествовала победе демократии во время попытки совершить контрреволюционный переворот в Чехословакии в феврале 1948 года. Таким образом, доктрина «холодной войны» предшествовала всем событиям, на которые впоследствии ссылались апологеты этой доктрины (обычно фальсифицируя историю) как на причины и оправдание этой политики.
В 1947 году была опубликована брошюра Уолтера Липпмана «Холодная война. Обзор внешней политики США». Уолтер Липпман критиковал внешнюю политику США в следующих выражениях:
179
«Эта политика может быть претворена в жизнь лишь с помощью вербовки, субсидирования и поддержки разнородного сборища сателлитов, клиентов, иждивенцев и марионеток. Следовательно, оружием политики сдерживания является коалиция дезорганизованных, разобщенных, слабых или живущих в состоянии неустройства стран, племен и группировок, расположенных по периметру Советского Союза...
Для этого потребуется (как бы ни отвергалось истинное название такого образа действий) постоянное и сложное вмешательство Соединенных Штагов в дела всех членов коалиции, которую мы намерены организовать, охранять, возглавлять и использовать».
Последующие события полностью доказали правильность этого предсказания.
Открытые цели «холодной войны» и планы возможной третьей мировой войны были направлены против Советского Союза и стран народной демократии, поскольку они составляют третью часть мира, которая добилась освобождения от империализма и, как отмечалось в редакционной статье «Таймс» от 29 августа 1951 года, одна только остается совершенно независимой от американского господства и контроля. Цели американского мирового господства требуют уничтожения этой независимой силы, подобно тому, как цели восстановления империалистического господства требуют подавления развивающегося социализма, народной демократии и освободительного движения в колониях.
Однако эти конечные главные цели требуют в качестве предпосылки и первого шага создания коалиции правительств и вооруженных сил под американским контролем для остальных двух третей мира. Рассчитанные на длительный срок стратегические планы требуют сначала захвата контроля над периферией и создания цепи баз и хинтерланда, с которых можно начать наступление. Эти террито180
рии не могут находиться на американском континенте (исключая Аляску), а должны быть расположены в Восточной Азии, на Среднем Востоке и в Западной Европе. Вследствие этого на первом этапе американского мирового наступления усилия США были направлены <на завоевание контроля над этими районами.
Таким образом, в то время, как пропаганда мирового наступления США ведется под лозунгом антисоветского и антикоммунистического «крестового похода», причем применяются выражения, подобные тем, которыми пользовались державы «оси», провозгласившие «крестовый поход» (без тени смущения заимствуются даже формулировки нацизма, вроде пресловутой геббельсовской фразы о «железном занавесе»), практическое экспансионистское наступление на первом этапе было направлено на расширение масштабов проникновения и господства за счет западноевропейских империалистических держав и их колониальных империй. Это совпадает с целью усилившегося американского империализма — установить власть над старыми империалистическими державами Европы, в особенности над главным соперником — английским империализмом, — и ослабить их.
Проникновение в Британскую империю
Стратегия наступления американского империализма на Британскую империю развивалась в форме следовавших один за другим этапов: договор о займе; гаванское торговое соглашение; «доктрина Трумэна»; кампания против имперских преференций; план Маршалла и последовавшие за ним торговые ограничения; «четвертый пункт» программы президента Трумэна; навязывание девальвации, чтобы ослабить стерлинговый блок; Атлантический пакт и программа перевооружения, сопровождавшиеся созданием новых стратегических органов контроля; переоснащение Западной Германии и 181
Японии как промышленных конкурентов; вытеснение Англии со Среднего Востока; наложение запрета на торговлю между Востоком и Западом.
Внезапное прекращение поставок по ленд-лизу по окончании военных действий и отмена системы контроля, вызвавшая быстрый рост цен на американские товары, усугубйли экономические трудности Англии в конце войны и заставили ее принять условия соглашения о займе.
Договор о займе установил жесткие ограничительные условия «отказа от дискриминации», которые мешали попыткам Англии ликвидировать свою зависимость от долларовых поставок или расширить экономические отношения со странами империи с целью уменьшить эту зависимость.
Гаванское торговое соглашение и настойчивое требование многосторонней торговли явились продолжением наступления на имперские преференции. Это наступление, подкрепленное условиями, навязанными планом Маршалла, было продолжено в 1951 году на конференции по вопросам торговли в Торки.
«Доктрина Трумэна», явившаяся выражением американской стратегии, направленной на установление протектората над Ближним Востоком, провозгласила новую империалистическую тактику навязывания экономического и политического контроля номинально независимым странам путем предоставления субсидий и вооружения и сохранения на этой основе послушных США правительств.
План Маршалла содействовал дальнейшему развитию этих экспансионистско-интервенционистских методов вплоть до нового этапа: создания органов прямого экономического контроля в западноевропейских странах-метрополиях. Одновременно он содержал специальные пункты о поставках Соединенным Штатам стратегического сырья из колоний европейских держав.
После нового долларового кризиса 1949 года, явившегося результатом провала плана Маршалла, 182
началась кампания за девальвацию, рассчитанная на подрыв основ стерлингового блока, который, по сути дела, является экономическим выражением объединения стран Британской империи.
Успешное завершение этой кампании, закончившейся в сентябре 1949 года девальвацией фунта стерлингов, представляло собой новую победу доллара как господствующей мировой валюты капитализма над поверженным фунтом стерлингов, то есть победу американского империализма над английским.
Программа «четвертого пункта», впервые изложенная президентом Трумэном в январе 1949 года в его речи, произнесенной по случаю вступления на пост президента, открыто оповестила о целях американского мирового финансового проникновения и экспансии в колониальные владения европейских держав:
«Мы должны приступить к смелой новой программе использования преимуществ наших научных достижений и промышленного прогресса для улучшения и развития отсталых районов... Мы должны поощрять капиталовложения в районы, которые требуют развития».
Государственный секретарь США Дин Ачесон в ответ на требование уточнить, какие именно районы имелись в виду, привел в качестве конкретного примера только одну Индию. Последовавшие затем события свидетельствовали о некоторых успехах американского финансового проникновения в Индию и об активном намерении Соединенных Штатов покончить с английской гегемонией на Среднем Востоке и в целом ряде стран империи.
Атлантический пакт, подписанный в апреле 1949 года, создавал наряду с прежними экономическими органами ряд новых военных и стратегических органов под руководством Соединенных Штатов Америки. Эти органы должны были наметить и организовать группу стран-сателлитов — сперва номинально, как региональный союз госу183
дарств, омываемых Атлантическим океаном, а позднее, когда географический обман был отброшен, рамки пакта были расширены, чтобы включить Грецию и Турцию. Тем самым было доказано, что Атлантический пакт означает военную коалицию Соединенных Штатов и их сателлитов.
Влияние и последствия Атлантического пакта были еще -более далеко идущими, чем последствия плана Маршалла. Экономическая и политическая интервенция, которая прежде проводилась во имя плана Маршалла и якобы в целях «восстановления», теперь осуществлялась в значительно более широких масштабах во имя требований военной готовности, стратегических планов, объединения командования, продолжения «холодной войны». Тяжелые экономические запреты и торговые ограничения, навязанные торговле между Востоком и Западом, особенно пагубно отразились на внешней торговле Англии, усилив ее долларовую зависимость и увеличив долларовый дефицит. При содействии американского капитала, финансировавшего переоборудование промышленности, экспорт Западной Германии и Японии быстро увеличился за счет английского. Американские военно-воздушные базы в Англии, созданные в 1948 году, были расширены, и число их возросло. Колоссальные программы перевооружения, навязанные в 1951 году, нанесли сокрушительный удар экономике Англии и других западноевропейских стран. В то же время колоссальная программа вооружения Соединенных Штатов и создание запасов сырья распространили американский контроль'на экономику английских и европейских колониальных владений в Юго- Восточной Азии, противодействуя английской монополии в области олова и каучука. В результате резкого повышения цен на сырье колоссальная американская программа вооружения еще более нарушила равновесие английской торговли и привела к новому, более тяжелому дефициту.
К 1951 году долларовый дефицит в платежном балансе Англии достиг нового критического уровня, 194
который можно сравнить с серьезным положением в 1947 и 1949 годах. По мере того как все новые заявки на доллары потоком поступали от разоренных западноевропейских пенсионеров, старая замаскированная формула плана Маршалла об «экономической помощи в целях восстановления» была заменена откровенной «военной помощью» в целях войны, а с 1952 года Управление экономического сотрудничества было заменено Управлением взаимного обеспечения безопасности, которое в 1953 году уступило место Управлению заграничных операций. Последнее в свою очередь вошло в 1955 году в Управление международного сотрудничества.
Как далеко продвинулась на практике эта программа усиленного американского проникновения и подчинения Британской империи? Ответ на этот вопрос требует более конкретного изучения недавних событий в целом ряде областей.
Масштабы американского торгового проникновения в страны Британской империи показаны в табл. 22.
Таблица 22
ЭКСПОРТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ в СТРАНЫ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 1938—1953 ГОДАХ
(В МЛН. ДОЛЛ.)
1938 г.
1953 г.
°/0 увелич.
Австралия
61,5
135
120,3
Канада
489,1
2995
512,5
Цейлон
1,6
6,6
312,5
Индия и Пакистан
42,8
250
483,6
Малайя
10,0
31
210,0
Новая Зеландия
16,5
31
87,9
Южная Африка
69,1
207
199,7
Источник. Статистические отчеты Управления международной торговли ООН. /
185
Хотя эти данные приведены в ценностном выражении, а не в объеме, и, следовательно, надо учитывать рост цен, тем не менее их общая тенденция к повышению, которая в некоторых случаях значительно обгоняет рост цен, вполне очевидна.
В 1952 году экспорт Соединенных Штатов в страны Британской империи (доминионы и колонии, не включая Соединенное Королевство) впервые превысил английский экспорт в эти страны.
Еще более важное значение имеет усиление американского финансового проникновения и капиталовложений в страны Британской империи.
Таблица 23
СТОИМОСТЬ ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО США ИМУЩЕСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ
(По состоянию на 31 мая 1943 года)
Млн. долл.
°/о
Британская империя . .
5 680
43
Канада
4 400
Вест-Индия
920
Индия и Бирма . . .
55
Африка
145
Австралия
160
Европа
4 635
35
Латинская Америка . .
2410
18
Прочие
625
4
Итого . . .
13 350
100
Источник. Платежные балансы 1939—1945 годов. ООН, 1948.
Уже к 1943 году общая стоимость принадлежавшей Соединенным Штатам собственности за границей составляла 13 350 миллионов долларов, из которых более двух пятых приходилось на Британскую империю, преимущественно на Канаду. Одна- 186
ко перед войной Соединенные Штаты не были крупным экспортером капитала (в пропорциональном отношении) по сравнению с Англией, и их довоенные капиталовложения за границей были значительно меньше капиталовложений Англии.
После окончания второй мировой войны значительную часть американских долгосрочных капиталовложений за рубежом составлял правительственный капитал, использовавшийся для того, чтобы оказать влияние и добиться уступок у правительств других стран и тем самым открыть путь для экономического подчинения и увеличения частных капиталовложений на условиях, приемлемых для вкладчиков капитала (например, обратимость прибылей в доллары, гарантии против национализации. налоговые льготы и т. д.). В общем объеме американских долгосрочных капиталовложений за рубежом правительственный капитал составлял 24 процента в 1946 году, увеличившись в 1949 году до 42 процентов.
Таблица 24
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩИХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ США (ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ) В 1950 ГОДУ
Млрд. долл.
°/о
Маршаллизов энные страны
12,7
36,6
Зависимые от них страны
0,7
2,0
Канада
7,3
21,0
Итого . . .
20,7
59,6
Другие страны Европы .
1,1
3,0
Латинская Америка . . .
6,5
18,7
Другие страны
2,6
7,5
Международные институты
3,7
10,7
Всего . . .
34,6
1 100,0
187
Экспорт*капитала был направлен главным образом в страны, охваченные планом Маршалла, и зависимые от них территории, а также в Канаду.
В |950 году три пятых американского капитала за рубежом было размещено в Британской империи или в империях других западноевропейских стран.
Если мы возьмем частные американские капиталовложения за границей, то увидим, что здесь упор на Британскую империю выражен еще сильнее. Из их общей суммы, определенной в 1950 году в 11,8 миллиарда долларов, на страны Британской империи (Соединенное Королевство, доминионы и колонии) приходится не меньше 43 процентов, или больше трех пятых. К 1950 году капиталовложения Соединенных Штатов в Британской империи (исключая Соединенное Королевство) впервые превысили английские.
Таблица 25
ЧАСТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 1950 ГОДУ
Млн. долл.
Млн. ф. ст.
Млн.
долл.
Млн. ф. ст.
Канада ....
3579,2
1278,2
Британская ко¬
лониальная
Соединенное
империя . .
297,4
106,2
Королевство
847,0
302,5
Австралия . .
200,8
71,7
Южная Африка
140,0
50,0
Индия ....
37,7
13,46
Вест-Индия
56,7
20,9
Новая Зеландия
24,0
8,5
Африканские
колонии
40,9
14,6
Пакистан . . .
7,8
2,7
Американские капиталовложения в Британской империи составляют 5134,8 миллиона долларов (1833,8 фунта стерлингов).
Источник. «Заграничные капиталовложения США по данным 1950 года>, ртчет департамента торговли США, опубликованный в 1953 году.
188
К концу 1952 года прямые американские капиталовложения в Соединенном Королевстве достигли общей суммы в 1038 миллионов долларов (или 371 миллион фунтов стерлингов) наряду с 310 миллионами долларов (или НО миллионами фунтов стерлингов), помещенными в Британской колониальной империи («Заграничные капиталовложения США в Европе и заморских территориях», доклад Организации европейского экономического сотрудничества за 1955 год).
По данным департамента торговли, американские капиталовложения в Соединенном Королевстве к концу 1954 года равнялись 1210 миллионам долларов, или 432 миллионам фунтов стерлингов. Из них четыре пятых было вложено в обрабатывающую и нефтеперегонную промышленность.
Особенно заметен приток американского капитала в доминионы.
В Канаде на долю Соединенных Штатов Америки (по данным обзора за 1926—1954 годы, составленного Статистическим бюро доминиона и опубликованного в 1956 году) приходились в 1954 году 9622 миллиона долларов, или 77 процентов от общей суммы иностранных капиталовложений в Канаде, равной 12 469 миллионам долларов. Доля Соединенного Королевства составляла 2143 миллиона долларов (по сравнению с 2476 миллионами долларов в 1939 году), или 17 процентов общей суммы.
В обзоре также указывается, что к концу 1953 года американские компании контролировали 55 процентов капитала, вложенного в канадскую горнодобывающую и металлургическую промышленность, а также в промышленность по добыче и переработке горючего. В обрабатывающих отраслях промышленности под их контролем находилось 43 процента капитала. Проблема усиливающегося проникновения и господства США в экономике Канады стала центральной в политической жизни страны.
189
В Австралии за семь лет (с 1947/48 по 1953/54 год) чистые капиталовложения в австралийские компании, контролируемые лицами, проживающими в США и Канаде, были определены в 116 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 260 миллионами фунтов стерлингов из Соединенного Королевства («Нью коммонуэлс остралия энд Нью Зилэнд ривью», июль 1956 года). Американцы особенно интересовались нефтью и ураном.
В 1952/53 году доля Соединенных Штатов Америки в импорте Австралии, раньше почти целиком поступавшем из Англии, достигла 16,2 процента. На Англию приходилось 41,8 процента. Культурное, политическое и стратегическое проникновение и господство США, уже сильно распространенное в Канаде, заметно усиливается в Австралии и Новой Зеландии. Одним из примеров этого является Тихоокеанский пакт, заключенный в 1951 году между Соединенными Штатами Америки, Австралией и Новой Зеландией. Англия в этот пакт не была допущена.
В Индии Соединенные Штаты Америки лишили Англию господствующего положения на рынках сбыта. На их долю к 1951 году приходилось свыше одной четверти индийского импорта, а на долю Англии— одна пятая. В конце 1951 года начался этап широкого проникновения американского капитала в Индию. Были подписаны важные соглашения о строительстве гигантских нефтеперегонных заводов на условиях, исключающих возможность их национализации в течение двадцати пяти лет, причем 75 процентов акций находится в руках американцев. После заключения в 1952 году индо-американского соглашения о предоставлении Индии технической помощи указанный процесс еще более усиливается. Эти новые события рассматриваются более подробно в одной из следующих глав.
На Среднем Востоке американское экономическое и стратегическое проникновение и вытеснение английских интересов, ранее господствовавших здесь, усиливается с каждым днем, Это проникно190
вение происходит на фоне сложной политической обстановки на Среднем Востоке и потому требует более подробного изучения. Этому посвящена глава о развитии событий на Среднем Востоке. _
В Африке в течение первых нескольких лет после окончания второй мировой войны перспективы считались неблагоприятными для широких вложений американского частного капитала, пока не будут произведены невыгодные расходы на транспорт и другие общественные предприятия, необходимые для «развития» (Доклад Американской торговой палаты за 1949 год). Однако для этой цели были использованы фонды, отпускаемые по плану Маршалла, и несколько позднее американский капитал начал усиленно проникать в Африку. В 1951 году Управление экономического сотрудничества ассигновало 7700 тысяч долларов на «развитие английских заокеанских территорий», причем для Золотого Берега, Нигерии и Сьерра-Леоне были предусмотрены специальные ассигнования. В июле 1951 года руководитель миссии Управления экономического сотрудничества в Соединенном Королевстве У. Л. Батт объявил, что на финансирование развития железных дорог в Родезии будет выделено 5 миллионов фунтов стерлингов. Лондонская финансовая печать не преминула подчеркнуть значение этого вторжения:
«Некоторое удивление может вызвать тот факт, что фонды, которые по традиции должны были бы исходить от Лондона, поступят из других источников. Нетрудно усмотреть связь между новым финансированием железных дорог Соединенными Штатами и медной промышленностью» («Файнэншл тайме», 7 июля 1951 года).
Известно, что в 1955 году американские правительственные капиталовложения в Африке достигли одного миллиарда, а частные — 500 миллионов долларов.
«Соединенные Штаты во все увеличивающихся масштабах вкладывают капитал в эко-
191
йомику Африки, у которой большое будущее. После войны почти миллиард долларов, собранных с американского налогоплательщика, был израсходован на развитие Африки. Агентства, финансируемые из фондов плана Маршалла, четвертого пункта программы Трумэна и по программе технической помощи, активно действуют в различных частях континента. В то же время африканские предприятия, особенно богатые залежи минералов, все сильнее привлекают взоры американских вкладчиков. Частные американские капиталовложения, которые до войны не достигали и 200 миллионов долларов, сейчас превысили 500 миллионов и продолжают расти» («Крисчиан сайэнс монитор», 10 марта 1955 года).
Таким образом, сумма всех капиталовложений США в Африке составляет 1,5 миллиарда долларов, или 550 миллионов фунтов стерлингов.
В Северной Родезии американские финансовые группировки установили к 1952 году (с помощью своих филиалов) контроль над добычей меди в стране. Анализ быстрого проникновения американских финансовых группировок в африканскую горную промышленность до 1952 года содержится в статье «Интерес американцев к африканским рудникам», напечатанной в «Файнэншл тайме» 22 марта 1952 года. В сентябре 1951 года контролируемая американцами организация Европейского экономического сотрудничества объявила, что 8 миллионов долларов будет ассигновано на экономическое развитие Африки к югу от Сахары «для расширения новых, наиболее прибыльных источников производства и новых форм благосостояния». В то же время Международный банк реконструкции и развития объявил о посылке миссии в Южную Родезию, а министр финансов Южной Родезии 23 августа 1951 года хвастался, что «мы можем иметь доллары в любом количестве». Имеются доказательства о весьма живом интересе американских
192
финансовых группировок К планам создания «Федерации Центральной Африки».
В Южную Африку американский финансовый капитал проникал еще более быстрыми темпами. Уже в 1946 году объединение нью-йоркской банковской группы «Ладенбург, Талман и К°» и «Братья Лазар» (представляющей интересы Рокфеллера) с британско-южноафриканскими компаниями подготовило почву для приобретения в 1947 году этой группой контрольного пакета акций крупных предприятий горнодобывающей промышленности и более чем сотни южноафриканских промышленных компаний — операция, которую журнал «Тайм» восхвалял как «первый крупный плацдарм американского капитала в Южной Африке». Группа Моргана с помощью англо-американской корпорации установила контроль над более чем сорока южноафриканскими и родезийскими компаниями, включая алмазные копи и новые золотые прииски. В Свободном Оранжевом Государстве фирма «Кеннекотт коппер корпорейШн оф Нью-Йорк» сыграла большую роль в создании двух новых золотопромышленных компаний («Вирджиния» и «Меррес пруит»). Обе эти компании связаны также с добычей урана. В Юго-Западной Африке под эгидой американских фирм «Америкен метал» й «Ньюмонт майнинг корпорейшн оф Делавар» была создана «Тсумеб корпорейшн», к которой перешли активы ряда горнорудных и железнодорожных компаний, принадлежавших ранее немцам. Весьма значительный американский капитал наряду с английским капиталом предоставлен Южной Африке для добычи в широких масштабах урана, причем намечаемое строительство завода обойдется, как оценивают, в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Особый интерес представляют меры, принимавшиеся американцами, чтобы обеспечить монополию на добычу урана в Конго, которое поставляет 90 процентов урана, используемого Соединенными Штатами для производства атомных бомб.
«Полагают, что свыше 90 процентов запасов
7 Р. Палм Датт 193
высококачественного урана в капиталистическом tope находится в руках американцев. Право первоочередной закупки и фактический контроль над вывозом из Конго урановой смолки наряду с разведкой новых урановых источников в Южной Африке обеспечили основу для американского проникновения в Африку (Д-р Э. Бэрхоп, Вызов атомной энергии, 1951, стр. 90).
Урановые рудники Бельгийского Конго принадлежат бельгийской компании «Юньон миньер дю О’Катанга», контрольный пакет акций которой находится в руках английской монополии «Танганьика консешнз». В апреле 1950 года английское правительство продало 1 677 961 обычную акцию «Танганьика консешнз» (или почти половину общего количества в 3 831 412 обычных акций), которыми она владела в то время, англо-бельгийской группе. Последняя в свою очередь продала 500 тысяч этих акций одной американской группе, связанной с монополией Рокфеллера. Согласно мемуарам сенатора Ванденберга, опубликованным после его смерти, одним из условий оказания Англии помощи по- плану Маршалла было предоставление Соединенным Штатам доли в разработке урана в Конго. Таким образом, получается, что не только правительство Черчилля передало во время войны Соединенным Штатам результаты английских научных исследований в области атомной энергии без каких-либо условий и не получив ничего взамен, но и лейбористское правительство после войны передало Соединенным Штатам свои ключевые позиции в разработке урана в Конго, на основе чего Соединенные Штаты старались создать свою мнимую атомную монополию, исключив из нее Англию.
Все это лишь первые показатели расширяющегося вторжения американского финансового капитала в Африку.
В Вест-Индии американский финансовый капитал наложил твердую руку на экономическую жизнь островов, и эта хватка сжимается все силь-
194
нее. С одной стороны, американский нажим на Англию в интересах сахарозаводчиков и табачных фабрикантов Кубы оказал в высшей степени неблагоприятное влияние на прежнюю структуру вест-индской экономики, что нашло свое выражение в росте безработицы. С другой стороны, американский крупный капитал приступил к захвату и разработке огромных залежей бокситов, которые до сих пор оставались нетронутыми. Газета «Краунколонист» сообщила в марте 1950 года, что «Рейнольдс метал корпорейшн», которая контролирует примерно 30 процентов производства алюминия в Америке, провозгласила колоссальную программу развития, собираясь начать разработку бокситов «при первоначальной цифре добычи в 400 тысяч тонн, причем на осуществление этой программы Управление экономического сотрудничества должно выделить ссуду в размере 4 миллионов фунтов стерлингов. В апреле 1951 года другая американская компания, «Кайзер металс», предложила план, осуществление которого должно обойтись в 115 миллионов долларов. Было объявлено, что три компании — «Рейнольдс», «Кайзер» и «Джемайка боксайт» — должны наладить добычу 100 миллионов тонн бокситов с 50-процентным содержанием глинозема. Председатель «Рейнольдс рифайнинг компани» заявил, что в этом районе «достаточно бокситов, чтобы снабжать Соединенные Штаты алюминием в течение многих лет» («Файнэншл тайме», 19 мая 1951 года).
1956 год был свидетелем нового этапа американского проникновения в Вест-Индию: «Тексас ойл компани» покупает за 63 миллиона фунтов стерлингов английскую компанию «Тринидад ойл компани», которая господствовала в нефтяной промышленности Тринидада.
Не менее показательно американское наступление на те области, в которых Англия еще сохранила монополию на получение колониального сырья, в особенности на каучук и олово — эти главные «добытчики долларов». Площадь американских кау- 7* 195
чуковых плантаций в Индонезии увеличилась с 100 тысяч акров до войны до 1 миллиона акров и составляет одну девятую общей площади каучуковых плантаций. Расширение производства синтетического каучука в США и сокращение закупок натурального каучука в английских колониях нанесли удар экономике Малайи и Цейлона. Экспорт каучука, олова, какао, алмазов и шерсти из стерлинговых стран в долларовые районы сократился наполовину — с 120 миллионов долларов в первом квартале 1949 года до 60 миллионов долларов во втором квартале. Последовавшее в 1950—1951 годах осуществление американской программы создания запасов в связи с корейской войной и перевооружением вызвало лихорадочный рост цен на каучук, олово и другое сырье из английских колоний, сделав тем самым возможным иллюзорное «устранение» стерлингово-долларового дефицита в
1950 году. Однако фактически в результате резкого повышения цен на сырье торговле Англии был нанесен тяжелый удар, повлекший за собой в
1951 году рекордный дефицит платежного баланса и создавший новые затруднения для английской промышленности в связи с нехваткой сырья, тогда как прекращение со стороны США закупок олова и каучука во второй половине 1951 года вызвало быстрое падение цен и возникновение новых проблем.
Таким образом, американское господство над мировой капиталистической экономикой и вытекающая отсюда возможность манипулировать ценами на сырье или влиять на них была использована с целью вызвать резкие дезорганизующие изменения в любом направлении в зависимости от внезапных решений американской политики. Тот факт, что эта тактика фактически применялась с целью подорвать сырьевую базу Британской империи и укрепить сырьевую базу долларовой зоны, убедительно доказывается характером изменения цен после сокращения Соединенными Штатами в 1951 году накопления запасов (табл. 26).
196
Таблица 26
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН С АПРЕЛЯ ПО НОЯБРЬ 1951 ГОДА
Долларовое сырье, увеличения, °/0
Имперское сырье, уменьшения, °/0
Пшеница . . .
+ 8
Какао
—25
Медь
+ 12
Каучук
—28
Цинк
+ 11
Олово
—18
Источник. Заявление министра торговли в палате общин 29 ноября 1951 года.
Общим результатом этой проводившейся при поддержке американского правительства игры в области сырья с ее лихорадочными взлетами и падениями цен неизбежно явилось ослабление мировых позиций Англии и упрочение усиливающегося контроля Соединенных Штатов над английской колониальной империей.
В то же время усиливалось американское финансово-политическое наступление на стерлинговый блок — основу экономической организации Англии, объединяющую страны империи (не считая Канады и Южно-Африканского Союза) с Лондоном в качестве центра. 8 января 1948 года журнал «Экономист» писал:
«К сожалению, враждебность американцев к стерлинговой зоне носит более глубо- кий характер, чем естественное желание проследить за тем, чтобы доллары, получаемые по плану Маршалла, использовались в надлежащих целях. Эта враждебность частично отражает почти инстинктивное отвращение большинства американцев — понятное лишь очень немногим англичанам — ко всем символам, объединяющим Британское Содружество Наций».
Обдуманная цель американской империалистической экспансии — установление прочного контроля над сырьем из английской колониальной 197
империи и колониальных империй других европейских стран — была открыто провозглашена в докладе комиссии Пэли, созданной президентом Трумэном в 1951 году для изучения будущих потребностей США в сырье. Доклад комиссии Пэли, опубликованный в июне 1952 года и составлявший пять объемистых томов, показывает, что, в то время как в 1900 году Соединенные Штаты производили сырья на 15 процентов больше, чем потребляли, к 1950 году они потребляли сырья на 9 процентов больше, чем производили, и к 1975 году, вполне возможно, будут потреблять на 20 процентов больше. «Аппетит Соединенных Штатов равен аппетиту Гаргантюа, и пока что он не удовлетворен», — говорится в докладе. Этим объясняется классическое требование империализма — требование контроля над источниками сырья, уже давно проанализированное Лениным и нашедшее прямое отражение в докладе Пэли. Комиссия Пэли рекомендовала Соединенным Штатам наряду с долгосрочными контрактами на закупку сырья заключить «договоры о капиталовложениях» со странами, ресурсы которых слабо развиты. Насколько эти «договоры о капиталовложениях» приближаются к политическому контролю и фактической аннексии колониальных и полуколониальных владений Англии и других европейских держав, становится ясно из следующей части доклада: «В намечаемых специальных соглашениях о ресурсах правительство страны, являющейся источником этих ресурсов, возьмет на себя обязательство содействовать устранению факторов неуверенности, которые обычно удерживают вкладчиков капитала, за что им будут обеспечены гарантийные цены или закупочные обязательства со стороны правительства Соединенных Штатов плюс заверение, что Соединенные Штаты будут содействовать вложению капиталов как с целью разработки ресурсов, так и с целью общего экономического развития, 198
Соглашение может касаться налогового законодательства, постановлений, относящихся к иностранной собственности и управлению, выполнения законов о труде, экспортных регламентаций, валютных ограничений, импортных разрешений, права привлечения иностранных специалистов, транспортных средств, компенсации в случае экспроприации и других вопросов, интересующих вкладчиков капитала» (Доклад комиссии Пэли, т. 1, 1952, стр. 68).
Таковы планы, разрабатываемые американским империализмом с целью захвата Британской империи и колониальных владений всех других европейских стран.
Враждебное сотрудничество
Правители Британской империи были вынуждены согласиться на возрастающее проникновение и усиление господства американцев в их империю, проявляя при этом всю любезность, на какую толь-» ко они способны. Бывшим властителям земного шара едва ли приятно оказаться вытесненными со своих позиций. Уинстон Черчилль в доказательство своей лояльности по отношению к американцам может петь американский национальный гимн «Звезды и полосы» Ч Однако Черчилль не может не помнить своего заявления о том, что он стал премьер-министром Англии не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи. Бевин мог заявлять о своем желании «перестать быть англичанином» и превратиться в
1 «Все находившиеся в бостонском Гарден-холле были очень растроганы, когда после выступления Черчилля оркестр морской пехоты начал играть «Звезды и полосы» и Черчилль запел его. Никто из стоявших с ним на трибуне не последовал его примеру. Черчилль пел «Звезды и полосы» и после своей знаменитой речи в Фултоне» («Дейли телеграф энд Морнинг пост», 2 апреля 1949 года).
199
Лояльного члена организации американских сателлитов в Западной Европе \ но он все же заявлял о своей горячей преданности Британской империи. Если Черчилль — Эттли — Бевин в своей политике фактически капитулировали перед американским империализмом, то это было сделано не из любви к нему, а потому, что эти представители умирающего английского империализма не видели другого выхода. И в самом деле, их империалистические установки и враждебное отношение к рождающемуся новому миру социализма и к освобождению колоний, собственно, не предоставляют им иного выхода.
Бич находится в руках американских монополистов. Американский империализм обладает стратегической гегемонией благодаря своему господству на море, которое положило конец прежнему морскому могуществу Англии, а также благодаря господству в воздухе. Он обладает экономической гегемонией благодаря своему преобладанию в торговом судоходстве и способности экспортировать капитал. Однако без морской и воздушной мощи не могло бы быть и речи об удержании империи, разбросанной по всему земному шару. Поэтому английские империалисты считают аксиомой, не нуждающейся в проверке войной, что они могут надеяться сохранить хотя бы номинальное владение своей империей только с разрешения американского империализма. Бывшие владельцы стали управляющими. Империя отдана в заклад, хотя кредиторы окончательно не лишили владельцев права пользования имуществом. Английские империалисты пришли к заклю-
1 «Он стремится к созданию в Европе такого положения, лри котором мы перестанем быть англичанами, французами Или гражданами других национальностей, а будем европейцами, имея организацию, которая сможет осуществлять европейскую политику, соответствующую новому ходу мирового развития» (Эрнест Бевин, Речь в Ассоциации иностранных журналистов 25 января 1949 года. Отчет в газете «Таймс»). 200
чению, что они могут попытаться сохранить свою империю только под общей сюзеренной властью и контролем Соединенных Штатов, со всеми последствиями, вытекающими из такого зависимого положения страны-сателлита. В этом заключается смысл заявления Черчилля Рузвельту в 1941 году, на которое мы уже ссылались: «Вы знаете, что мы знаем, что без Америки нашей империи не устоять».
Так складывались нынешние своеобразные отношения Англии, доминионов и Соединенных Штатов — подчинение Соединенным Штатам и столкновение с ними, отношения антагонистического сотрудничества, в котором Соединенные Штаты играют господствующую роль.
Доминионы в своих отношениях с США и Англией пытаются вести двойную игру. В период между двумя мировыми войнами было принято говорить о центробежных тенденциях доминионов, то есть об их стремлении положить конец своей зависимости от английского центра и превратиться в независимые капиталистические державы. Сегодня положение сложнее. Цель превращения доминионов в независимые капиталистические державы в основном достигнута (хотя недавнее решение Тайного совета, поддержавшего отмену законодательства о национализации банков, принятого лейбористским правительством Австралии, может служить примером того, как закон, принятый выборным парламентским большинством и его правительством в доминионе, отменяется вышестоящей невыборной инстанцией в Лондоне). Однако давление, порождаемое проникновением США, и тенденция к установлению их господства сказываются сейчас все сильнее. Результатом этого явилось возникновение противоречивых течений в различных капиталистических кругах стран-доминионов. Характер этих течений зависит от того, с кем теснее связаны эти круги —с английским или американским капиталом. Общее влияние Соединенных Штатов на различные доминионы, несо201
мненно, усилилось, но в то же -время капиталисты в доминионах опасаются господства американского капитала и поэтому стремятся до некоторой степени уравновесить связи с Соединенными Штатами своими отношениями с Англией. Они боятся, что в результате ослабления системы имперских преференций и разработки планов более тесной «экономической интеграции» Англии и стран Западной Европы в рамках «Западного союза» они лишатся преимуществ, вытекающих из торговых связей с Англией. С другой стороны, американское давление используется для того, чтобы «толкать Англию» (по выражению Дьюи) к большему поглощению ее «Западным союзом» и к отказу от имперских преференций. В этом проявляется определенная политика — политика ослабления связей Англии с ее имперскими владениями и низведения Англии до роли второстепенной европейской страны-сателлита.
Наглядным примером этих новых взаимоотношений явился Тихоокеанский пакт 1951 года, заключенный Соединенными Штатами Америки, Австралией и Новой Зеландией. Английское правительство публично выразило свое разочарование в связи с тем, что Англия осталась вне этого договора, но в то же время оно признало, что бессильно что-либо предпринять. Министр иностранных дел Англии Моррисон заявил в парламенте 9 апреля 1951 года:
«Конечно, мы, вне всякого сомнения, являемся тихоокеанской державой, и включение в этот проектируемый пакт было бы для нас желательным. Однако переговоры не привели к такому результату».
Аналогично этому лорд Джоуитт, в то время лорд-канцлер, посетивший Австралию после заключения Тихоокеанского пакта, заявил в своем выступлении по радио в Сиднее 19 августа 1951 года, что «ему хотелось бы, чтобы Англия была участником Тихоокеанского пакта об обеспечении взаимной безопасности».
202
«Я признаюсь в этом, говоря от своего имени, — сказал он, — чтобы не создалось впечатления, будто мы отказываемся в пользу Соединенных Штатов от нашей заинтересованности в вашей судьбе и будто они [США] состоят с вами в более тесных и близких отношениях, чем мы... Однако судьба решила иначе».
Эта меланхолическая жалоба не смягчила сердце «судьбы». С ратификацией Тихоокеанского пакта в 1952 году Австралия и Новая Зеландия официально перешли в стратегическую сферу Соединенных Штатов. Новые призывы, с которыми выступил в дальнейшем премьер-министр Черчилль, встретили холодный отказ. Завершился новый важный этап в процессе американского проникновения в Британскую империю. Участие Англии в СЕАТО, сколоченном в 1954 году, не могло рассеять впечатления, созданного ее недопущением в Тихоокеанский пакт.
Сознание роли зависимого сателлита в отношениях с Соединенными Штатами, несмотря на продолжающееся соперничество, сквозит во всех высказываниях империалистических политиков Англии, как бы они ни лезли на рожон в каком- либо конкретном вопросе второстепенного значения. На всех международных конференциях роль английского представителя сводится к роли подголоска при американском руководителе. В высказываниях официальных кругов и печати, касающихся Соединенных Штатов, господствует подобострастный тон. Характерным выражением этого может служить речь бывшего президента Федерации британских промышленников лорда Барнби в палате лордов 22 апреля 1947 года, когда он критиковал Би-Би-Си за бестактность, выразившуюся в разрешении Генри Уоллесу выступить по радио L
1 В то время Уоллес выступал с критикой политики США. — Прим. ред.
203
«По всей вероятности,— сказал Барн- би, — мы в течение некоторого времени будем довольно сильно зависеть от Соединенных Штатов в области финансов. Поэтому в настоящий момент желательна почтительная и исполненная уважения позиция по отношению к Соединенным Штатам. Мы должны относиться к США с уважением. Мы должны стараться, где только можно, не раздражать их понапрасну».
Или, говоря более откровенно, словами журнала «Экономист» от 23 августа 1947 года:
«В настоящий момент американцы по- прежнему в состоянии заставить английское правительство прыгать через любой обруч, какой только они пожелают ему подставить».
Так складывается особый характер новой «Американской империи» в том виде, какой она принимает на данном этапе. Основой прежней Британской империи было прямое владение территориями одной четверти земного шара. Основой новой «Американской империи» является прежде всего экономическое и финансовое господство над всем капиталистическим миром наряду с содержанием большого количества армейских, военно-морских и авиационных баз на всех континентах, широкими военными приготовлениями и сетью военных союзов под американским контролем. Управление экономического контроля, финансовый советник, объединенный орган стратегической координации, базы бомбардировочной авиации заменяют старомодные, грубые колониальные методы традиционной Британской империи. Новая колониальная система «Американской империи» замаскирована множеством учреждений, названия которых составляют целый лес букв, непонятных простому человеку, который только смутно сознает, что с его страной происходит что-то неладное. Таким образом, американский империализм представляет собой империализм особого типа, с относительно 204
небольшим числом собственно колониальных владений. Ослабленным европейским колониальным державам милостиво разрешается сохранять свои колониальные империи, то есть нести расходы и поставлять людские резервы для войн против народов Индонезии, Индокитая и Малайи, в то время как американские монополисты снимают пенки в виде прибылей. На этом основании американский империализм старается предстать в роли просвещенной неимпериалистической державы, которая редко — если не считать катастрофической попытки прямой военной агрессии в Корее — пачкает себе руки применением собственных вооруженных сил, предпочитая более изысканные методы, такие, как угроза применения атомной бомбы, поход военных кораблей или учебный визит эскадрильи бомбардировочной авиации.
Ленин в своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» следующим образом охарактеризовал историческую роль Португальской империи как сателлита Англии:
«Португалия — самостоятельное, суверенное государство, но фактически в течение более 200 лет, со времени войны за испанское наследство (1701—1714), она находится под протекторатом Англии. Англия защищала ее и ее колониальные владения ради укрепления своей позиции в борьбе с своими противниками, Испанией, Францией. Англия получала в обмен торговые выгоды, лучшие условия для вывоза товаров и особенно для вывоза капитала в Португалию и ее колонии, возможность пользоваться гаванями и островами Португалии, ее кабелями и пр. и т. д. Такого рода отношения между отдельными крупными и мелкими государствами были всегда, но в эпоху капиталистического империализма они становятся всеобщей системой, входят, как часть, в сумму отношений «раздела мира», превращаются 205
в звенья операций всемирного финансового капитала» L
Этот пример более ранней формы зависимости сохранил свое значение для понимания и позднейшей, более глубокой стадии зависимости, характерной сейчас для отношений между американским империализмом и Британской империей, где последняя является сателлитом первого.
В XIX столетии Гладстон — самый дальновидный из государственных деятелей викторианской эпохи, представитель еще восходящего английского империализма — распознал признаки начала заката в последнюю четверть XIX века, до наступления американской гегемонии. Вот что писал он об Америке в 1879 году:
«Только она одна в будущем сможет вырвать и, вероятно, вырвет из наших рук нашу коммерческую гегемонию. У нас нет монопольного права на это. Я не склонен роптать по этому поводу. Если Америка добьется гегемонии, она добьется этого по праву самого сильного и самого удачливого. У нас не больше прав по отношению к ней, чем было у Венеции, Генуи или Голландии по отношению к нам».
Но фактически Америка не может унаследо вать то положение мирового руководителя, которое принадлежало Англии в XIX веке, так как ни условия в мире XX столетия, ни условия в самой Америке не позволяют этого.
Мировая гегемония Англии в XIX веке, основанная на свободе торговли, представляла в то время самую передовую и прогрессивную стадию цивилизации по сравнению с консервативными, феодальными, бюрократическими и деспотическими институтами, все еще сохранившимися на большей части европейского континента и сопротивлявшимися нараставшему натиску либеральной демократии. Напротив, новая американская
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 251. 206
мировая империя сплачивает вокруг себя все самые консервативные силы во всех уголках земного шара, сопротивляясь усиливающемуся наступлению новой, высшей стадии— социалистической организации общества.
Англия считалась с логическими последствиями своей мировой экономической гегемонии. Став величайшим в мире кредитором, она также стала величайшим в мире импортером, пренебрегая своей собственной промышленностью, сельским хозяйством и производственным потенциалом, что и привело ее к нынешнему печальному положению.
Напротив, Америка пытается одновременно форсировать экспорт, сохранять производство на высшем уровне внутри страны и тормозить импорт. Превышение американского экспорта над импортом, составлявшее в 1937 году 265 миллионов долларов и в 1938 году— 1030 миллионов долларов, в 1946—1953 годах равнялось ежегодной средней цифре в 5017 миллионов долларов, достигнув в 1947 году высшей точки в 9547 миллионов долларов. В 1950 году эта цифра временно снизилась до 1219 миллионов долларов (в результате программы создания запасов) и в 1953 году вновь возросла до суммы в 4811 миллионов долларов.
Результатом этого является паралич капиталистического мира, выражающийся в долларовом голоде, который лишь временно преодолевается увеличением американского экспорта капитала, дотациями, планами Маршалла, военной помощью, покупкой акций и другими подобными мерами. Все капиталистические страны (исключая Соединенные Штаты) принимают отчаянные, чрезвычайные меры с целью ограничения импорта, осуществления строжайшей экономии и ведут борьбу за Q6biT товаров на суживающемся мировом рынке, который все больше и больше завоевывает благодаря своему лучшему оснащению американская промышленность, тогда как маршаллизован- ные страны, скованные жесткой экономией, ставят 207
свое народное хозяйство в зависимость от амери* канских дотаций.
Таким образом, противоречия и даже открытый конфликт между наступающим экспансионистским американским империализмом и другими, менее сильными империалистическими державами растут и ширятся. В то же время усиливается контраст между углубляющимся кризисом всего капиталистического мира и экономическим и политическим прогрессом некапиталистического мира. Открытый конфликт между менее сильными империалистическими державами и захватническим американским империализмом проявился с особой силой во время англо-французской агрессии на Среднем Востоке в 1956 году.
В таком болезненном состоянии находится дряхлеющий империалистический мир в середине XX столетия. Это состояние особенно проявляется в «великом американском противоречии», то есть в неравномерности капиталистического развития. Американский капитализм должен поддерживать рушащуюся капиталистическую структуру во всех остальных странах еще сохранившегося капиталистического мира, а в то же время его сильная конкурентоспособность продолжает еще больше расшатывать и разрушать ту самую структуру, которую его дипломатия старается сохранить.
Это «великое американское противоречие» нашло отражение в высказывании профессора экономики Гарвардского университета Гарриса, который в своем письме в редакцию газеты «Нью-Йорк тайме» 5 июля 1949 года писал о «шизофрении» американской политики, которая
«...стремится сделать Западную Европу достаточно здоровой, чтобы она стала неуязвимой для коммунистической угрозы, но в то же время оставалась бы достаточно малокровной, чтобы не иметь возможности успешно конкурировать с американским экспортом».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ТАКТИКА УМИРАЮЩЕЙ ИМПЕРИИ
Сорок лет назад с великим энтузиазмом и исполненный надежд я включился в работу по созданию единой империи. Сейчас я ухожу опечаленный и удрученный. Империя ликвидируется, и английский народ взирает на это равнодушно.
Лорд Бивербрук, заявление для печати перед отъездом в Вест- Индию на отдых, 5 октября 1954 года.
К каким же методам прибегли заправилы английского империализма в новой обстановке?
После второй мировой войны в результате успехов освободительного движения народов колониальных стран с каждым днем сокращалась сфера империалистического господства. Однако упадок господства империализма в мире еще не означает конца империализма или колониальной системы.
Конец колониализма?
Сегодня от всех официальных представителей— от лидеров консервативной, либеральной и лейбористской партий — можно услышать знакомое утверждение о том, что «старый, империализм» мертв. Поэтому, твердят они, нападать на империализм — все равно, что стегать дохлую лошадь.
Раньше представители империализма кричали о своей священной миссии господства над миром. Пока успехи колониальных восстаний не подорвали базу империализма, его традиционным языком оставался язык Сесила Родса, который в 1877 году в своем завещании поставил цель «распростра- 209
пить британское господство на весь мир», и язык консерватора Уильяма Джойнсона-Хикса, являвшегося членом кабинета в годы между первой и второй мировой войнами, который заявил, что «мечом мы покорили Индию и мечом мы должны ее сохранить».
Новая терминология представителей империализма, при помощи которой они стремятся отрицать само существование империализма, является отличительной терминологией умирающего империализма.
Лорд Инверчэпл в бытность свою английским послом в США заявил в феврале 1947 года своим слушателям в Балтиморе, что «британский империализм мертв, как мертва королева Анна».
Между специалистами по данному вопросу существуют некоторые разногласия относительно момента его кончины. Генерал Смэтс предпочитал датировать ее рубежом прошлого и нынешнего столетий.
«Старая Британская империя умерла в конце XIX века. Сегодня она представляет собой самую широкую систему организованной свободы, которая существовала когда-либо за всю историю человечества» (Генерал Смэтс, «Таймс», И января 1943 года).
Генерал Смэтс явно был склонен относить зарю новой эры к тому времени, когда он и его сотоварищи эксплуататоры буры оказались вовлеченными в заколдованный круг, для того чтобы осуществлять свою систему «цветного барьера» и угнетения четырех пятых населения Южной Африки во имя «организованной свободы».
Во время второй мировой войны, 13 января 1940 года, «Таймс» характеризовала империю как «свободную ассоциацию наций, народов и племен, обязанных верностью одному и тому же монарху». На самом же деле в то время семь восьмых населения империи открыто было подчинено деспотическому правлению, руководимому из Лондона. 210
Подобным же образом 6 октября 1943 года Гер* берт Моррисон заявил в своей речи перед англо- американской ассоциацией журналистов:
«Каждое сообщество в империи, способное к получению самоуправления, получило таковое».
И это было сказано в то время, когда Индия еще находилась в подчинении, когда семью восьмыми населения империи продолжали управлять из Уайтхолла.
Однако в период пребывания у власти лейбористского правительства министры подчеркивали, что царство империализма продолжалось до той поры, пока их приход к власти не принес с собой зарю новой эры — эры свободы.
Обычно в доказательство этого утверждения принято ссылаться на предоставление политической независимости Индии, Пакистану, Бирме, Цейлону и Гане и на конституционные реформы, проведенные в различных формах и в различной степени в других колониях и предусматривающие постепенное создание выборных органов законодательной и исполнительной власти.
Такое утверждение извращает действительное положение вещей. Несомненно, что господствующие империалистические державы вынуждены были оставить такие обширные районы, как Индия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии, и вывести из них свои войска. Однако это случилось только тогда, когда провалились их репрессивные меры, применяемые в течение десятилетий против национальных движений. Это случилось только тогда, когда оказалось невозможным сохранить силой старую колониальную систему правления (<в Индии, когда подъем народного движения охватил индийские вооруженные силы и привел к восстанию во флоте, во Вьетнаме — после поражения под Дьен Бьен Фу). Но даже и там, где империалисты были вынуждены примириться со своим уходом, они цеплялись за всякую возможность сохранить остатки своего господства. Для этого они дробили страну, использовали административный 211
аппарат, свои продолжающиеся связи с верхушкой местного населения, а прежде всего принадлежащие им значительные активы в экономике страны и сохранившиеся финансовые связи и свое проникновение.
В других районах империалисты проводили свою основную политическую линию, придавая ей разнообразные новые формы. В одних случаях такой формой являлось предоставление независимости, которая в действительности была сильно ограничена специальными договорами, экономическими привилегиями, предоставленными империалистической державе, или же сохранением военной оккупации. В других случаях они провозглашали многочисленные конституционные реформы, направленные на то, чтобы путем заключения союза с верхней прослойкой населения, желающей сотрудничать с ними, остановить или затормозить нарастание национально-освободительной борьбы.
В тех же районах, где условия для такого сотрудничества с верхушкой населения были менее благоприятны, империалистические правители наряду с конституционными изменениями пользовались методами самого беспощадного подавления и вели наиболее зверские войны, которые только можно встретить в истории завоевания колоний.
Хорошо известная софистика современных апологетов империализма заключается в том, что они, совершенно игнорируя факты репрессий и колониальные войны, делают упор на два первых процесса и преподносят их как результат милости или «перерождения» империалистов, а не как результат мощи национально-освободительной борьбы.
Серьезное изучение тактики доживающего свой век империализма требует рассмотрения всех сторон этого сложного процесса, а не подмены его вульгарными выдумками нынешней империалистической пропаганды.
Опыт Индии будет рассмотрен в следующей главе. Наряду с изучением этого выдающегося 212
примера успешной борьбы за национальное освобождение необходимо также рассмотреть некоторые иные формы и методы, к которым прибегают империалисты, чтобы остановить или задержать поступь национально-освободительного движения как политическими мероприятиями, так и репрессиями и вооруженной силой.
Старый и новый колониализм
Независимость, предоставленная правящей империалистической державой своей бывшей колонии, не всегда означает, что эта страна реально и действенно освободилась от империализма. В некоторых случаях эта уступка растущему освободительному движению, которое империалистам не удалось подавить ни репрессиями, ни вооруженной силой, обставлена условиями, резко снижающими эффективность этой уступки (как, например, раздел Ирландии). В других случаях (Иордания, Ирак) для прикрытия действительного империалистического хозяйничания первоначально использовали дипломатическую или легально конституционную форму. Но даже и здесь национально-освободительное движение впоследствии смогло (как, например, в Иордании) своей активной борьбой превратить эту формальную независимость в действительную.
Отсюда вытекает необходимость признания того факта, что в последний период развития империалистической политики был разработан и уточнен новый метод. Этот метод, к которому прибегают все чаще и чаще, можно назвать «новым колониализмом». Суть этого метода состоит в том, что колониальной стране юридически предоставляют независимость, а фактически стремятся сохранить и продолжить свое господство в ней посредством специальных договоров, экономического закабаления и экономических «советников», оккупации военных баз и включения ее в военные блоки, 213
Находящиеся под контролем империалистов. Сам по себе этот принцип не нов; в некоторых отношениях его можно рассматривать как лишь продолжение старого принципа скрытого господства, при котором растущее проникновение империализма первоначально прикрывалось признанием номинального суверенитета князей — правителей, с которыми заключались договоры. Но этот метод был расширен и развит в наше время для противодействия успехам национально-освободительного движения.
Существо этого метода охарактеризовал в 1920 году Ленин:
«...необходимость неуклонного разъяснения и разоблачения перед самыми широкими трудящимися массами всех, особенно же отсталых, стран того обмана, который систематически проводят империалистские державы, под видом создания политически независимых государств создающие вполне зависимые от них в экономическом, финансовом, военном отношениях государства...»1 Отметим, что сущность обмана, который разоблачает здесь Ленин, состоит в том, что номинальная «политическая независимость» этих государств, «созданных» империализмом, иллюзорна ввиду их реальной экономической, финансовой и военной зависимости. Это весьма важное указание для оценки подлинного положения государств, которые были созданы на основе принципа формальной политической независимости — с помощью декрета или закона, принятого правящей империалистической державой.
В то же время необходимо признать и тот факт, что глубокие изменения в международной обстановке, происшедшие со времени второй мировой войны (изменения, создавшие новые условия по сравнению с условиями того времени, когда писал Ленин), и особенно растущая мощь мира 1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3.1, стр. 127—128.
214
социализма и антиимпериалистической освободительной борьбы, а также ослабление империализма породили новые явления. Многие из тех государств, независимость которых была первоначально провозглашена империализмом как дипломатическая уловка, в последнее время начали развиваться в направлении, противоположном желаниям империалистов, сопротивляться включению в военные блоки, требовать ликвидации специальных договоров и привилегий, устанавливать экономическое сотрудничество и дружественные отношения со странами социализма и народной демократии и, таким образом, двигаться по пути достижения реальной и действенной независимости.
После первой мировой войны этот метод противодействия восстанию народов колониальных стран, подобно столь многим другим характерным особенностям английской колониальной системы, был впервые испробован и продемонстрирован в Ирландии. После того как при помощи террора «черно-пегих» не удалось подавить восстание в Ирландии, премьер-министр Англии Ллойд Джордж изменил тактику. Он попытался найти способ посеять раздор в рядах ирландского национального руководства (натравив Коллинса на де Валера) и добился в декабре 1921 года урегулирования с соглашательской группой. Это урегулирование было навязано с помощью ультиматума, содержавшего угрозу «ужасной» войны в случае его отклонения. Урегулирование это навязало раздел Ирландии. На основе его были созданы «Ирландское Свободное Государство» в составе двадцати шести графств, которые вначале были по-прежнему оккупированы английскими военно-морскими силами, и «Северная Ирландия» в составе шести графств. Эта последняя была тесно связана с Англией и, будучи оккупирована английскими войсками, играла роль гарнизона для всей Ирландии. Прошло тридцать шесть лет, а Ирландия продолжает оставаться разделенной. Хотя к 1949 году Ирландская Республика заявила о своем выходе 215
из Британской империи, тем не менее раздел все еще сохраняется в силе английским законодательством, а военная оккупация англичанами Северной Ирландии продолжается. В 1956 году английский премьер-министр Антони Иден вновь подтвердил обязательство о том, что английские вооруженные силы будут использованы для сохранения Северной Ирландии как «неотъемлемой части Соединенного Королевства», то есть для сохранения раздела Ирландии.
Вторично этот метод был продемонстрирован в 1922 году в колониальном районе за пределами Европы — в Египте. И там национальное восстание египетского народа против английского господства в период после первой мировой войны сделало сохранение протектората невозможным, и это явилось поводом для нового эксперимента. Английская политическая декларация, опубликованная 29 февраля 1922 года, провозглашала Египет «независимым». Однако в- декларации указывалось, что определенные вопросы останутся полностью в ведении правительства его величества до того времени, когда между Англией и египетским правительством будет заключен договор относительно их урегулирования. К числу этих особых вопросов относились:
1) безопасность имперских коммуникаций в Египте;
2) оборона Египта;
3) защита интересов иностранцев и национальных меньшинств в Египте;
4) Судан;
5) отношения Египта с иностранными государствами.
Египетское национальное движение не приняло этих условий. Тем не менее Египет был провозглашен независимой страной. Фуад был посажен на трон и был найден подходящий премьер-министр. Введенное англичанами в Египте военное положение оставалось в силе до августа 1923 года. Таким-то образом Египет стал «независимым».
216
Тридцать лет спустя, в первой половине 1952 года, переговоры между английским и египетским правительствами по неурегулированному вопросу об окончательном выводе английских войск из зоны Суэцкого канала и о будущности Судана все еще находились в тупике. В октябре 1951 года египетское правительство денонсировало договор об англо-египетском кондоминиуме в Судане, провозгласило объединение Египта и Судана и потребовало вывода английских войск из зоны Суэцкого канала. В зону канала были направлены английские воинские подкрепления, и в начале 1952 года имели место вооруженные столкновения. Только в 1954 году по новому договору было достигнуто согласие об эвакуации зоны канала, и то только при условии, что Англия резервирует за собой право на сохранение базы и ее. «реактивизации» в будущем.
Со времени использования в 1922 году в Египте этого нового империалистического метода он был еще более развит и расширен. В 1927 году была провозглашена независимость Ирака под властью короля Фейсала, причем условия договора предусматривали сохранение в стране английских баз. После второй мировой войны таких примеров стало еще больше. В 1946 году была провозглашена независимость Иордании под властью короля Абдуллы, чтобы помешать изменению прежнего подмандатного статуса этой территории в результате передачи ее под опеку Организации Объединенных Наций; при этом были специально оговорены английский военный контроль над вооруженными силами Иордании и ежегодная субсидия в 2 миллиона фунтов стерлингов (позднее увеличенная до 10 миллионов фунтов стерлингов), выплачиваемая Англией Иордании. В 1947 году Соединенные Штаты усвоили кое-какой опыт английского империализма и провозгласили независимыми Филиппины при условии сохранения там американских экономических прав, американских военных баз и американской военной миссии 217
Наряду с оставлением в этих же целях американских войск. В 1952 году провозгласили «независимой» Ливию под властью английского ставленника короля Идриса, причем специально предусматривалось сохранение английской военной оккупации в первый период, английские финансовые субсидии новому правительству, включение Ливии в стерлинговый блок и прикомандирование к министерству финансов главного финансово-экономического советника — англичанина.
Изучение этих примеров показывает, что термин «независимость» применяется весьма эластично и что этикетка на бутылке не служит гарантией ее содержимого. Приведенные выше примеры охватывают самые разнообразные формы, начиная с того, что раньше откровенно назвали бы протекторатом или марионеточным государством, например страны Среднего Востока, и кончая более утонченными формами частичных уступок движению за независимость, но в ограниченных рамках. В каждом случае, для того чтобы составить представление о подлинных конкретных условиях и соотношении сил, безусловно, необходимо заглянуть дальше дипломатических конвенций и бумажных формул.
Во всех этих случаях реальная картина не похожа на дипломатическую фикцию. Империализм отнюдь не ушел из колониальных стран, которым по решению империалистов предоставлена независимость. Сущность империалистической колониальной системы заключается, во-первых, в экономической эксплуатации колониальной страны, ее ресурсов и рабочей силы в интересах крупных монополий империалистических держав, во-вторых, в стратегическом господстве над страной и включении ее в империалистический блок мирового масштаба и, в-третьих, в сохранении там политической системы, способной обеспечивать выполнение этих целей в интересах империалистической державы. Конкретная политическая форма подчиняется этим основным требованиям.
218
С точки зрения «всех этих критериев колониальные страны, которым предоставлена формальная независимость, в начальный период остаются более или менее открыто объектом империалистического господства и эксплуатации, хотя это и происходит на стадии далеко продвинувшегося загнивания старой империалистической державы. Иногда это делается в грубой форме, как, например, в отношении Иордании, находящейся под властью субсидируемого короля Абдуллы, или же это осуществляется тонко, когда более развитая территория передается под управление соглашательских буржуазных кругов, экономически и стратегически связанных с империализмом. Особыми мерами, предусмотренными в договорах, охраняют, защищают и гарантируют интересы крупных империалистических монополий, господствующих над жизнью страны и душащих ее. Сохраняются совместные военные мероприятия, включая в той или иной степени прямую военную оккупацию, контроль военных миссий и базы. Империализм и местные правительства совместно ведут войну или проводят репрессии против освободительной борьбы масс и против рабочего движения. Отсюда явствует, что национально-освободительная борьба за действительную независимость от империалистических государств продолжается в этих странах и после признания их формального дипломатического статуса как суверенных, независимых государств.
Метод предоставления формальной независимости, прикрывающей продолжение фактического империалистического господства, не исключает дальнейшего движения вперед по мере успехов национально-освободительного движения, дальнейшего ослабления империализма, а также роста противоречий между империализмом и местными правителями, первоначально в союзе с империализмом получившими власть, — тех противоречий, благодаря которым страна сделала еще шаг в направлении истинной независимости. Это проиллю219
стрировал пример Египта и других стран Среднего Востока. Но даже и в этом случае стране предстоит полностью освободить свою экономику от тисков империалистических монополий.
Конституции и колониализм
Для подчиненных колониальных территорий Британской империи с населением свыше 80 миллионов человек в последнее время было выработано немало конституций при сохранении в них колониального правления и абсолютной власти в руках английского правительства и назначаемых им чиновников.
Эти конституции, которые в зависимости от силы, этапа и характера национально-освободительной борьбы провозглашают, отменяют, пересматривают, дополняют и заменяют новыми, — что нередко следует быстро одно за другим, — отличаются чрезвычайным разнообразием, начиная с конституции, предусматривающей или участие в Исполнительном совете при губернаторе специально подобранных лиц, наделенных очень ограниченными совещательными .правами, или создание законодательных советов с «официальным» большинством или назначенными «представителями», и кончая более передовыми конституциями, предусматривающими создание полностью выборных на основе всеобщего избирательного права законодательных собраний и образование «министерств», возглавляемых «главным» или «первым» министром. Но во всех этих случаях верховная власть остается у губернатора и высокопоставленных английских чиновников, в чьих руках находится эффективный контроль над исполнением законов, полицией и вооруженными силами.
Поскольку часто утверждают, что эти конституции, и особенно их более передовые образцы, фактически равнозначны институтам «самоуправления», а институт «первого министра», предус- 220
матриваемыи ими, равнозначен правомочному институту премьер-министра в суверенном государстве, то необходимо рассмотреть более подробно их действительный характер.
К этим колониальным формам административных или представительных институтов нельзя в строгом значении слова применить понятие «конституция», являющееся продуктом исторических традиций демократических революций. Существо конституции заключается в том, что она является выражением суверенитета народа, который боролся за нее против самодержавной власти и победил и чьи выбранные делегаты в учредительном собрании или в другом подобном суверенном представительном органе выработали свои собственные политические институты, соответствующие их собственной воле и свободные от давления или вмешательства извне. Второй характерной чертой всех традиционных конституций является то, что в них ясно и точно определены основные права граждан.
Ни той, ни другой отличительной черты не найти ни в одной из этих колониальных конституций. Они являются не выражением суверенитета народа, а административным решением, навязанным иностранной правящей державой. В них не зафиксированы основные права граждан, которые по-прежнему остаются на милости иноземных правителей, наделенных неограниченной властью. Как мы увидим позднее, провозглашение конституции фактически нередко сопровождается весьма значительным усилением репрессий и ограничением элементарных демократических прав.
Во всех случаях верховная власть остается в руках английского губернатора и его чиновников, представляющих и ответственных перед министерством колоний и английским правительством. За губернатором остается последнее слово во всем: он может одобрить или отменить тот или иной закон или постановление, принятое советом или собранием, и независимо от них издавать декреты; 221
за ним сохраняются особые и решающие права в области управления и контроля, такие, как назначение на ответственные посты в государственном аппарате, исполнение законов и поддержание порядка, контроль над вооруженными силами. В подавляющем большинстве случаев (первым исключением является конституция Золотого Берега 1954 года) англичане занимают посты главного секретаря, министра финансов и генерального прокурора— официальные решающие посты в Исполнительном совете при губернаторе. Во всех этих случаях действительная власть колониальной диктатуры, прикрытая видимостью уступок, особенно заметно проявляется в положениях, касающихся контроля над полицией и вооруженными силами, судебной власти и высшей бюрократии, исполнения законов и поддержания порядка, финансов и защиты коммерческих интересов, а также в гарантиях и правах резервирования, принадлежащих назначаемому англичанами губернатору.
Во всех случаях «институты представительства» (законодательные советы и собрания) там, где они имеются, ограничены не только в своих правах; в большинстве случаев представительный характер таких институтов тоже ограничен. Судя по заявлению министра колоний в парламенте 5 ноября 1953 года, положение с избирательным правом в английских колониальных территориях обстояло в 1953 году следующим образом в тридцати шести колониях:
в четырнадцати колониях с населением 38 849 361 человек (36 процентов общего населения всех этих колониальных территорий) не существовало никакого избирательного права и соответственно не было никаких выборов в законодательные органы;
в двенадцати колониях с населением 43 005 190 человек (54 процента общего населения всех этих колониальных территорий) избирательное право было ограничено и урезано различными цензами, включая имущественный, образовательный и осед222
лости, учитывались также пол, раса, уплата налогов;
и только .в десяти колониях с населением 7 676 206 человек (10 процентов общего населения всех этих колониальных территорий) существовало всеобщее избирательное право и периодически проводились выборы.
Таким образом, в 1953 году девять десятых населения колониальных территорий еще не пользовались на выборах всеобщим избирательным правом в ограниченные представительные органы там, где таковые существовали.
Свыше трети населения колониальных территорий совершенно не имели избирательных прав и никого не избирали.
Далее, в ряде территорий, где имеются постоянно проживающие европейцы, составляющие крошечную часть всего населения, избирательная система построена таким образом, чтобы предоставить крошечному европейскому меньшинству решающее большинство в Законодательном совете. Таким путем на выборах 1953 года в федерации Родезии и Ньясаленда из шести с половиной миллионов африканцев, составляющих 96 процентов населения, голосовали только 445, или менее 1 процента от всего количества избирателей, насчитывающих 66 922. В Кении с населением в пять и три четверти миллиона Законодательный совет, избранный в 1952 году, состоял из 21 выборного члена и 33 официальных и назначенных членов: 40 тысяч европейцев (0,7 процента от всего населения) выбирали 14 из 21 выборного члена; 160 тысяч выходцев из Азии (2,8 процента от всего населения) — 7 членов; пять с половиной миллионов африканцев (96 процентов всего населения) не имели ни одного выборного представителя.
Действительное значение этих колониальных конституций заключается не в том, что они в какой-либо степени подменяют реальную власть колониальной диктатуры самоуправлением, а в том, что они отражают, хотя часто и искаженно, опре-
223
деленное политическое положение И определенную фазу национальной борьбы в данной колониальной территории. Колониальные конституции — это побочный продукт национально-освободительной борьбы.
Колониальные конституции в большинстве случаев возникали как следствие насильственного подавления массовых восстаний против правящей колониальной державы. Так, конституция Золотого Берега, выработанная ,в 1949—1950 годах и вступившая в силу в 1951 году, была прямым следствием «бунтов» на Золотом Береге в 1948 году, во время которых полиция применила против массовых народных демонстраций дубинки и огнестрельное оружие, в результате чего 29 человек было убито и 237 человек ранено. Подобно этому, конституция Ричардса в Нигерии, составленная в 1946 году и вступившая в силу в 1947 году, явилась прямым следствием мощной и успешной всеобщей забастовки 1946 года, а после расстрела шахтеров в Энугу и подъема национального движения в 1949 году появилась конституция Макферсона, подготовленная в 1950 году и на следующий год вступившая в силу. Малайская конституция 1955 года появилась на свет после семи лет военных действий против Малайской национально-освободительной армии и явной неудачи подавить военными мерами национальное восстание. Таким образом, эти введенные одна за другой конституции свидетельствуют о попытке предотвратить победу национального восстания и привлечь новый социальный слой или часть национального руководства к сотрудничеству с империализмом, по-прежнему сохраняя власть в руках последнего.
С точки зрения национально-освободительного движения даже ограниченные возможности, предоставленные этими конституциями там, где выборные институты опираются на сравнительно широкую основу, могут и были использованы для развития и усиления национальной борьбы и укреп-
224
Ления национального движения, с тем чтобы двй- гать вперед дело национального освобождения. Для этой цели используют возможности, предоставленные для функционирования легальных демократических партий (если даже и ведущие napinn народа объявлены вне закона), агитацию и пропаганду (даже в пределах установленных ограничений), политические дебаты в выборных органах, попытки провести законодательные меры в интересах угнетенного народа.
Но с точки зрения империализма «успех» колониальной конституции определяется тем, как глубоко при ее помощи удалось втянуть в сотрудничество с империализмом значительную социальную прослойку или верхушку руководства, расколоть или ослабить национальное движение и таким путем укрепить свое находящееся под угрозой господство. Образцом успеха колониальной конституции с точки зрения империалистических правителей является деятельность людей типа Бустаманте или Грантли Адамса, подобострастно сотрудничающих с империализмом и восхваляющих его и использующих свое положение для сохранения наиболее жестокой империалистической эксплуатации народных масс. Таких «представителей» осыпают наградами и почестями.
В тех же странах, где прогрессивному руководству национальным движением удалось получить большинство в выборных органах, созданных этими конституциями, и где оно стремилось добросовестно выполнить наказ избирателей и проводить реформы в интересах народа, эту конституцию, как показал пример Британской Гвианы, быстро отменяли и, опираясь на вооруженные силы, устанавливали открытую диктатуру до тех пор, пока не удавалось сколотить новые политические группировки, позволяющие заручиться сотрудничеством более послушной части руководства.
Эпитафией колониальным конституциям может служить высказывание газеты «Таймс» от 23
3 Р. Пальм Датт
225
октября 1953 года, которая, комментируя опыт Британской Гвианы, писала:
«Конституция Британской Гвианы, как и другие подобные конституции, предполагает полное согласие между представителями короны и выборными представителями колонии. Если такового согласия нет, то конституция функционировать не может».
Опыт Нигерии и Ганы
Политическое развитие Нигерии (33 миллиона жителей) и Ганы (4,5 миллиона жителей) в Западной Африке в настоящее время находится в центре внимания как пример первых успехов африканских колоний, лежащих к югу от Сахары, на пути избавления от колониального подчинения и получения статута доминиона или независимости. После непрерывного ряда побед на выборах 1951, 1954 и 1956 годов, одержанных Народной партией, выступавшей с программой предоставления Золотому Берегу независимости, и принятия в 1956 году законодательным собранием резолюции с требованием предоставления стране независимости, в 1957 году был провозглашен новый доминион Гана как суверенное независимое государство в рамках Британского Содружества Наций. Положение в Нигерии сложнее, а виды на будущее усложняются как расколом политических партий, так и разделом страны на районы. Все, однако, сходятся на том, что Нигерия при подобном ходе событий добьется этой конечной цели.
Вначале необходимо отметить значение различия, существующего между развитием английских колониальных территорий в Западной Африке и развитием территорий в Восточной, Центральной и Южной Африке. Различие в примененных здесь политических методах говорит о том, что не может быть и речи о применении универсального принципа одинакового конституционного развития всех
226
английских колониальных территорий на пути к самоуправлению. Это различие соответствует различию в условиях, существующих в колониях и порождающих разнообразие политических методов для сохранения интересов империализма.
Образцом доведенной до крайности открытой расистской диктатуры и беспощадного подавления большинства народа является Южная Африка, где постоянно проживающее европейское меньшинство численностью 2,5 миллиона человек навязало себя как «господствующая раса», монополизировавшая политические права, 10 миллионам подчиненного неевропейского населения. С целью сохранения этой расовой дискриминации южноафриканские «националистические» правительства Малана и Страйдома ввели явно фашистские законы для осуществления расового господства, или апартеида, чтобы силой закона постоянно держать негров и всех других неевропейцев в неравноправном положении и под маской «подавления коммунизма» нападать на профсоюзы и демократические права народа и распространить репрессии также на прогрессивных демократов-европейцев.
На территориях Центральной и Восточной Африки, таких, как Южная Родезия и Кения, где английское меньшинство оттеснило негров в «резервации», чтобы эксплуатировать их труд на плантациях, характерным является видоизмененный тип маланизма, строго соблюдающий расовую дискриминацию и лишающий африканское большинство политических прав.
Создание в 1953 году Федерации Родезии и Ньясаленда знаменует дальнейшее упрочение этой системы диктатуры постоянно проживающего белого меньшинства.
С другой стороны, в Западной Африке, где условия для поселения европейцев были неблагоприятны и где сопротивление народа мешало развитию плантационного хозяйства, был применен другой метод экономической эксплуатации — уста- 8* 227
новление господства монопольных объединений над производителями-крестьянами при наличии небольшого по численности временного европейского населения, состоящего из администраторов и представителей торговых компаний. Для осуществления колониального господства здесь нужно было создать иную политическую систему. Она была найдена в методе, который получил название «косвенного правления». «Косвенное правление» первоначально опиралось на наследственных феодальных вождей, которые превращались в состоящих на жалованье местных чиновников и должны были действовать как подчиненный аппарат империалистической правящей державы. Однако поскольку экономическое развитие все более подрывало положение феодальных вождей и порождало4 новый класс африканских торговцев и усиливающуюся национальную буржуазию, в Западной Африке пришлось применить методы «косвенного правления». Это стало тем более необходимым, что быстрое усиление национального движения и движения рабочего класса создало угрозу империалистическому господству. Отсюда такая чехарда с составлением для Нигерии и Золотого Берега конституций с их новыми экспериментальными особенностями, предусматривающими распространение избирательного права на более широкие круги, допущение африканского выборного большинства в законодательных собраниях и появление африканских министров. Эти конституции отражают попытки империалистов найти в среде новой африканской торговой буржуазии и некоторых крупных капиталистических фермеров, которые через посреднические операции с заграничными монопольными объединениями участвуют в эксплуатации крестьян и рабочих Западной Африки, новых союзников (помимо прежней опоры на местных феодальных вождей) для борьбы с выступлениями рабочего класса, бедного крестьянства и мелкой городской буржуазии.
228
Колониальные конституции, которые одну за другой получили Нигерия и Золотой Берег после войны, хотя и были прогрессивнее конституций большинства других колониальных стран, в самых главных своих чертах не отличались от общего типа колониальных конституций, то есть они сохраняли решающую власть в руках английского губернатора, английский контроль над вооруженными силами и защищали эксплуататорские интересы английских империалистов.
Конституция 1954 года (пересмотренный вариант предыдущей конституции) углубила раскол Нигерии на три искусственно выкроенных района (Северный, Восточный и Западный; для Лагоса и Камеруна было предусмотрено особое устройство), установив для них наряду с федеральным собранием, министерством и генерал-губернатором отдельные законодательные собрания, министерства и губернаторов. Три ключевые должности в правительстве — главного секретаря, министра финансов и генерального прокурора — занимают английские чиновники, министры экс оффицио. В то время как в Восточной и Западной Нигерии была установлена система прямых выборов, в Северном районе сохранилась запутанная система косвенных выборов. Таким образом, это сохранило в . руках эмиров (бывшие феодальные вожди и нынешние платные английские чиновники) и их политической организации Северного народного конгресса эффективный контроль над составом законодательного собрания. В федеральном собрании для Северного района было выделено 92 места из 184. Это привело к тому, что в результате выборов 1954 года в федеральном собрании Северному народному конгрессу принадлежало 79, Национальному совету Нигерии и Камеруна — 56, группе действия — 27 и прочим — 22 места, хотя Национальный совет Нигерии и Камеруна получил большинство как в Восточном районе, где выборы проводились на основе всеобщего избирательного права, так и в Западном районе, где избирательное право 229
былр предоставлено широкой категории налогоплательщиков. Эта запутанная система представительства и раскол национальных сил облегчали империалистам сохранение своего контроля над страной. Такая шаткая структура, установленная конституцией, могла быть только переходной стадией, и борьба народа за предоставление полного самоуправления продолжала нарастать.
Конституция 1953 года (пересмотренный вариант предыдущей) предусматривала создание для Золотого Берега однопалатного законодательного собрания в составе 104 членов, избираемых прямым голосованием на основе всеобщего избирательного права, кабинета министров, целиком состоящего из негров-депутатов, назначаемых губернатором по рекомендации премьер-министра (таким путем было заменено трое прежних министров экс оффицио, то есть английские чиновники, занимавшие ключевые должности в правительстве). Но за губернатором сохранялась верховная власть в отношении внешних дел, обороны и полиции. Было также предусмотрено, что в отношении министерств, ранее возглавляемых министрами экс оффицио, губернатор несет «особую ответственность», в чем ему оказывают помощь консультативные комитеты по внешним делам, армии, военно-морским и воздушным силам, обороне, внутренней безопасности и полиции. Негритянский министр финансов должен руководствоваться «советами» постоянного секретаря министерства финансов. На выборах 1956 года Народная партия Золотого Берега (основанная в 1949 году, эта партия, как более боеспособная, заменила прежнюю партию Объединенное собрание Золотого Берега и, переняв опыт прошлых массовых битв, еще выше подняла знамя борьбы и престиж ее вождей, брошенных в тюрьму), возглавляемая д-ром Кваме Нкрума, получила абсолютное число мест в законодательном собрании — 71 из 104, хотя за нее голосовало небольшое большинство (57 процентов) избирателей, принявших участие в голосовании, и только 29 процентов, или меньше одной трети заре* 230
гйстрированных избирателей. Местные оппозиционные партии 1 получили большинство мест в тех районах, где они выставляли своих кандидатов. В северных территориях Северная народная партия получила 15 мест, Народная партия — 11; в Ашанти партия Национально-освободительное движение получила 12 мест, Народная партия — 8.
После выборов 1956 года законодательное собрание Золотого Берега единодушно (оппозиционные партии бойкотировали сессию) приняло резолюцию, требующую предоставления стране независимости. Английское правительство еще раньше дало торжественное обещание, что если законодательное собрание, избранное на выборах 1956 года, значительным большинством голосов примет такую резолюцию, то она будет удовлетворена. В соответствии с этим обещанием министр колоний объявил в сентябре 1956 года, что Золотому Берегу будет дарована независимость (в случае одобрения этого решения английским парламентом) в рамках Британского Содружества Наций в марте 1957 года. Новое государство будет носить имя Гана.
При оценке значения этого процесса продвижения к политической независимости, происходящего в Западной Африке, необходимо руководствоваться тремя соображениями.
Во-первых, значение достигнутых побед соответствует силе боевого национального движения. Как уже указывалось, успехи конституционного развития Золотого Берега появились после того, как на смену умеренной партии Народное собрание Золотого Берега пришла более радикальная Народная партия с программой «прямого действия», и после массовых выступлений народа, всеобщей забастовки, народных демонстраций, которые власти окрестили «бунтами» и против которых полиция пускала в ход огнестрельное оружие, убив многих их участников. Д-р Нкрума попал на пост премьер-минист1 Находящиеся в оппозиции к Народной партии Золотого Берега. — Прим. ред.
231
ра, предусмотренный колониальной конституцией, прямо из тюрьмы. Таким образом, путь к достижению политической независимости ни в коей мере не соответствует той рисуемой картине гармонического и совершенно мирного перехода, ниспосланного как благодать свыше. Нет, это достигается борьбой масс и мощью народно-освободительного движения. В то же время Народная партия оказалась способной к использованию легальных возможностей, предоставленных ранее вырванными конституционными уступками, и, опираясь на всеобщее избирательное право и частично выборные институты, она двигала вперед дело национальной независимости.
Во-вторых, статус доминиона был предоставлен после периода экспериментальной проверки деятельности министерств, сформированных Народной партией в рамках предыдущих колониальных конституций. И только когда результаты этой проверки удовлетворили империалистических заправил, когда они пришли к заключению, что новые министры готовы сотрудничать с империализмом, готовы защищать их экономические интересы и с помощью полицейских мер пресекать революционную агитацию рабочего класса и уничтожать революционную литературу, тогда они дали обязательство продолжать развитие по пути достижения статуса доминиона.
В-третьих, наиболее важное заключается в том, что эти политические перемены не изменили сути империалистической экономической эксплуатации Западной Африки. Под вывеской местных правительств господство империалистов и империалистическая эксплуатация усиливались. Негры-министры в общем и целом сотрудничали с английскими губернаторами, а иностранные монополии наживали гигантские прибыли, выкачивая из западноафриканских колоний какао, пальмовые орехи и масло, олово, золото, алмазы, лес и другое сырье, а также используя свое господствующее положение на их рынках. «Юнайтед Африка компани», являющаяся 232
филиалом компании «Юнилевере», по-прежнему держит в монополистических тисках экономику Западной Африки, скупая от имени управлений по сбыту более двух пятых главных экспортных культур и сосредоточив в своих руках доставку около двух пятых импорта. Наряду с «Юнайтед Африка компани» извлекают баснословные прибыли и другие специализированные иностранные монополии. Объявленные дивиденды главного концерна по добыче золота на Золотом Береге «Золотые прииски Ашанти» составили в 1952 году 50 процентов на вложенный капитал. Объявленные дивиденды главного концерна по добыче алмазов на Золотом Береге «Де Беерс» равнялись в 1952 году 200 процентам на вложенный капитал.
На возрастающее с каждым днем значение западноафриканских колоний в империалистической экономике указывает рост общего объема их торговли (экспорт и импорт), который с 8 миллионов фунтов стерлингов в 1896 году возрос до 56 миллионов фунтов стерлингов в 1938 году, в 1947 году он оценивался в 136 миллионов, а в 1952 году — в 422 миллиона фунтов стерлингов. Другими словами, за полстолетие с небольшим торговый оборот увеличился в стоимостном выражении в 70 раз.
О быстром усилении эксплуатации Западной Африки империалистами свидетельствует резко возрастающее из года в год превышение экспорта над импортом. В Нигерии экспортный излишек между 1900 и 1920 годами составил 10 миллионов фунтов стерлингов, между 1920 и 1940 годами— 16 миллионов фунтов стерлингов и между 1940 и 1952 годами— 150 миллионов фунтов стерлингов. Другими словами, в первые два десятилетия ежегодное превышение экспорта над импортом равнялось полмиллиону фунтов стерлингов, в следующие два десятилетия оно возросло до 2,3 миллиона фунтов стерлингов, а в последующие 12 лет достигло 11,5 миллиона фунтов стерлингов. В 1952 году излишек экспорта оценивался в 16 миллионов, а в 1953 году — в 17 миллионов фунтов стерлингов, то есть за пять233
десят с небольшим лет темпы выкачки богатств из этой колонии возросли в 34 раза.
В колонии Золотой Берег с населением 4,5 миллиона человек превышение выкачиваемого из страны экспорта над импортом составило в 1953 году 17 миллионов фунтов стерлингов, или почти 4 фунта в расчете на каждого жителя колонии, что в шесть с лишним раз больше суммы, приходящейся на душу населения Нигерии. Из колонии Золотой Берег в страны долларовой зоны было вывезено товаров на сумму 25,4 миллиона фунтов стерлингов, а импорт в колонию из этих стран составил только 4,6 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, за счет эксплуатации населения Золотого Берега страны стерлинговой зоны получили долларов на сумму, превышающую 20 миллионов фунтов стерлингов.
Резкое увеличение стерлинговых счетов западноафриканских колоний является одним из ярких признаков усиления империалистической эксплуатации в период конституционных реформ в этих странах. Стерлинговые счета Западной Африки, выражающие стоимость вывезенных из нее без оплаты наличными товаров и, таким образом, являющиеся, собственно, принудительными займами Западной Африки Англии, увеличились между 1949 и 1954 годами с 200 миллионов до 488 миллионов фунтов стерлингов, то есть за пять лет возросли на громадную сумму 288 миллионов, что равно ежегодному приросту в 57,6 миллиона фунтов стерлингов.
Об этой системе чрезвычайно интенсивного выкачивания богатств из колоний, обеспечивающей Англию капиталом (что является полной противоположностью хваленому принципу «развития» колоний путем предоставления им субсидий и помощи со стороны Англии), один из комментаторов проимпериалисгического журнала «Вест Африка» писал:
«Операции управлений по сбыту привели к тому, что Западная Африка дает взаймы большие суммы Англии (или, что, по-види234
МоМу, будет вернее, Англии и странам стерлинговой зоны)...
Совершенно ненормальным является то, что Западной Африке приходится вкладывать в Англию такую большую сумму, как 330 миллионов фунтов стерлингов. Обычно считают, что капитал должен притекать из стран богатых в страны бедные. Экономика стран Западной Африки не относится к тому типу, которому следовало бы вкладывать капитал за границу. Вложения в Англию не являются для них наиболее выгодной формой применения капитала, если широко распространенные взгляды о необходимости обеспечения капиталом развитие слаборазвитых стран не являются совершенно ошибочными» (Артур Хазлвуд, журнал «Вест Африка», 24 января 1953 года).
В период конституционных реформ особенно важную роль в этой интенсивной эксплуатации Западной Африки играли управления по сбыту, созданные после второй мировой войны. С их помощью эксплуатация крестьянства резко усилилась. В период между двумя войнами цены на какао были низкими, и западноафриканским крестьянам, занимающимся его производством, пришлось вынести на своих плечах всю тяжесть такого положения. Когда же после второй мировой войны цены на какао поднялись, то были созданы управления по сбыту какао в Нигерии и на Золотом Береге, которые вместе с правительством, установившим очень высокие экспортные пошлины, погрели себе руки за счет крестьян. Крестьянин получал только крошечную часть стоимости какао на мировом рынке, хотя ему самому приходилось нести все бремя резкого роста мировых цен на те товары, которые он покупал.
Так, в 1953/54 финансовом году средняя цена тонны какао в Нигерии, по заявлению премьер-министра Западного района от 1 июня 1954 года, равнялась 400 фунтам стерлингов, цена какао на миро- 235
вок! рынке достигла 520 фунтов за тонну, а крестьянин получал за тонну только 170 фунтов стерлингов.
Такое же положение наблюдается и в колонии Золотой Берег. До войны крестьяне получали за тонну какао 25 фунтов стерлингов при цене его на мировом рынке 32 фунта стерлингов. После создания управления по сбыту какао крестьянин получает в 1946—1952 годах в среднем 74 фунта стерлингов, в то время как на мировом рынке какао продается по 208 фунтов стерлингов за тонну. В 1953— 1954 годах крестьянин получает за тонну твердую сумму в 134 фунта стерлингов, хотя на мировом рынке какао продается по 350—400 фунтов стерлингов за тонну (а в начале 1954 года цена на него превысила 500 фунтов стерлингов). Благодаря этой разнице в ценах стабилизационный фонд Управления по сбыту раздулся до гигантских размеров, а высокие экспортные пошлины не в меньшей степени увеличили расходный фонд правительства на «развитие». Решение правительства, объявленное в августе 1954 года, явилось очередным драконовским мероприятием, направленным на усиление процесса ограбления крестьян, занимающихся производством какао. В силу этого решения правительство будет получать с каждой тонны какао разницу между 260 фунтами стерлингов и его ценой на мировом рынке (не считая экспортной пошлины на какао в 64 фунта 15 шиллингов за тонну).
Это тяжелое бремя было возложено на крестьян якобы в целях «развития» Золотого Берега. Но это «развитие» носило типично колониальный характер. Оно проводилось в интересах империалистов и было направлено на увеличение производства сырья для нужд монополий. Так, целью широко рекламированного проекта строительства на реке Вольта являлась добыча бокситов и выплавка алюминия, в чем были заинтересованы крупные английские и американские монополисты («Бритиш алюминиум компани» и «Алюминиум компани оф Канада», связанная с монополистами Соединенных Штатов). 236
Проект предусматривал сооружение трех главных объектов: электростанции стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов, завода по выплавке алюминия стоимостью 64 миллиона фунтов’стерлингов, строительство порта, железных и шоссейных дорог, жилищ, школ и т. п. стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов, из которых И миллионов выделялось на строительство порта. Стоимость сооружения всех общественных объектов, не дающих прибыли (таких, как порт, железные и шоссейные дороги, жилища, школы, и т. п.), должно оплачивать правительство Золотого Берега, которое также должно покрыть стоимость строительства электростанции «в той мере, в какой позволяют его ресурсы».
С другой стороны, алюминиевый завод и добыча бокситов, которые благодаря развитию энергетики и строительству других подсобных объектов, оплачиваемых правительством Золотого Берега, будут приносить прибыль, должны быть «частным предприятием», в котором основная доля капитала и решающий контроль принадлежат алюминиевым компаниям, а правительство Золотого Берега может приобрести 10 процентов их акционерного капитала.
Таким образом, проект строительства на реке Вольта является типичным примером нынешнего империалистического «развития» колоний, преследующего цель максимального расширения и ускорения выкачки сырья из колонии для обогащения иностранных вкладчиков. В то же время на местное правительство, то есть на местных рабочих и крестьян, перекладывается возможно большая доля стоимости этого «развития».
Во многих отношениях положение в Западной Африке все еще неустойчивое; усиливается эксплуатация народа и растет недовольство масс. Несомненно, что достигнуты значительные успехи в политической борьбе, которые умножаются благодаря участию в борьбе народа. Империализм стремится приспособиться к новой ситуации, с тем чтобы в новых условиях по возможности сохранить и даже 237
укрепить свои экономические йозйцйй й усйлйть эксплуатацию народа. Перед Западной Африкой еще стоит задача полного освобождения от всех форм империалистического господства и эксплуатации.
Колониальные методы подавления
Наряду с методом уступок в виде конституций и других реформ во всех колониях широко применяются метод прямого подавления, указы о наказаниях, незаконные аресты, разгон полицией демонстрантов и забастовщиков, роспуск неугодных организаций и запрещение литературы.
Драконовские законы являются обычным рычагом управления во всех английских колониальных территориях. Этих репрессивных законов, издаваемых в течение десятилетий, слишком много, чтобы их можно было перечислить, однако их основная цель заключается в том, чтобы:
а) подавить или ограничить свободу слова, собраний, печати и распространения прогрессивной литературы;
б) запретить или ограничить право на забастовку, затруднить возникновение независимых профсоюзов, кооперативов и политических партий, заключать в тюрьму или высылать из страны профсоюзных и политических лидеров.
Все это в изобилии можно найти в дополнении к кодексу о наказаниях (Танганьика, 1948), которое уполномочивает английского губернатора запрещать ввоз литературы и задерживать, вскрывать, досматривать все посылки, в отношении которых возникло подозрение, что в них содержится запрещенная литература. Подобным же образом уголовный процессуальный кодекс (статья 32) предоставляет право «любому частному лицу на арест любого лица, которое, по его мнению, нарушило закон или которое он обоснованно подозревает в совершении уголовного преступления». В нем также говорится, что 238
«лицо, совершившее любое нарушение, приведшее к порче имущества, может быть арестовано без предъявления ордера собственником имущества, его слугами или любым лицом, уполномоченным на это собственником имущества». На территории, где 17 885 европейцев господствуют над 8 миллионами негров, этот репрессивный закон дает европейцу право на обвинение и арест любого негра, который ему почему-либо не понравится.
«Положение о порядке работы совета» в Уганде, принятое в 1902 году, объявляет (статья 25) всякую критику английской политики «подстрекательством к мятежу», и виновные в этом могут быть без' суда высланы из страны или отправлены в ссылку. «Положение о полиции» (раздел 34а) запрещает проведение собраний численностью свыше 250 человек без разрешения английского губернатора. Кодекс о наказаниях (учитывая поправки 1951 года) объявляет оказание неграми денежной помощи любой негритянской организации незаконным (раздел 160а) и устанавливает меру наказания в пределах штрафа в 200 фунтов стерлингов и 6 месяцев тюремного заключения. В январе 1954 года правительство Англии воспользовалось этими репрессивными законами для того, чтобы изгнать из Буганды ее кабака (короля), объявить «чрезвычайное положение» и предпринять жестокие меры против партии Национальный конгресс Уганды. Решение об изгнании короля было отменено только после принятия делегацией Буганды конституционных изменений, которых добивалось английское правительство, с тем чтобы еще сильнее привязать Буганду к механизму централизованного административного аппарата Уганды.
В Бечуаналенде постановления издаются в силу «положения о работе совета» от 1891 года. В 1934 году были приняты постановление об общинном управлении (№ 74) и постановление об общинных собраниях (№ 75). Последнее постановление при7 знавало законными общинные акты о наследова239
нии должности вождя, принимаемые кготла (собранием) племени бамангвато. Когда же в 1949 году кготла утвердило Серетсе Кхма вождем племени, то правительство Соединенного Королевства нарушило свое слово, отказавшись подтвердить это решение и изгнав Серетсе Кхма из страны за то, что он женился на белой женщине. Позднее, в марте 1952 года, правительство Соединенного Королевства приняло решение о пожизненном изгнании Серетсе Кхма из его родной страны. В этом произволе английских властей (как лейбористского, так и консервативного правительств), изгнавших наследного вождя, преступление которого заключалось в том, что он женился на англичанке, проявилось маланистское влияние. Формально это было сделано якобы ввиду настроения племени и из-за опасения волнений. На самом же деле демократическое собрание племени, или кготла (обнаружившее более высокий уровень культуры и терпимости, чем их правители, и оказавшееся выше расовых предрассудков), заявило, что оно полностью одобряет этот брачный союз. И именно поступок английского правительства вызвал сильные волнения, на которые власти ответили репрессиями.
Во всех колониях Вест-Индии действуют репрессивные законы, запрещающие издание и ввоз неугодной литературы, а какую литературу считать «подстрекающей к мятежу», решает только английский губернатор. Любое лицо, виновное в издании, ввозе и даже в получении такой литературы (и не сообщившее об этом властям), может быть подвергнуто или штрафу в 4800 долларов, или двухгодичному тюремному заключению, или тому и другому вместе. Действуют также законы, препятствующие передвижению профсоюзных и политических лидеров в пределах различных территорий бассейна Карибского моря.
В колонии Золотой Берег был запрещен ввоз прогрессивных газет и литературы; лицам, заподозренным в «коммунистических» взглядах, отка240
зывалось в визе на въезд. В 1954 году правительство Золотого Берега пригласило официальную делегацию муниципалитета Лагоса (Нигерия). Хотя в Нигерии нет коммунистической партии, тем не менее одному из делегатов, советнику муниципалитета Лагоса (Ндука Эзе), было отказано в разрешении на въезд на том основании, что его подозревают в принадлежности к коммунистам. В результате вся делегация отказалась от посещения Золотого Берега. Правительство Золотого Берега издало также распоряжение о лишении паспортов и права выезда за границу лиц, подозреваемых в принадлежности к коммунистам.
Не отставало от него и федеральное правительство Нигерии, отдавшее распоряжение о запрещении ввоза прогрессивной литературы. Оно запретило также выдачу заграничных паспортов «подозреваемым в коммунистических взглядах» и закрыло въезд в страну английским подданным с коммунистическими взглядами. Были приняты меры, направленные на то, чтобы помешать лицам, в которых подозревают коммунистов, поступить на службу в государственные учреждения и в школы. При отсутствии коммунистических партий в этих колониях (Нигерия и Золотой Берег) эти решения означают, что любое лицо, критически настроенное в отношении правительства Соединенного Королевства или администрации этих двух колоний, считается «коммунистом».
На Кипре еще до установления военной диктатуры и до начавшейся в 1954 году фактической войны против народа уголовный кодекс квалифицировал как «мятеж» любое действие, которое порождает «ненависть и неуважение к правительству колонии, созданному на законном основании, или действует в целях изменения статуса колонии... или разжигает чувства недоброжелательства и вражды между различными общинами или классами населения колонии». Кипр не имел выборного правительства; островом управлял английский губернатор и назначенный им исполнительный совет. 24}
Так что любое критическое выступление против губернатора истолковывалось как «ненависть и неуважение к правительству в колонии». В статье, посвященной новым репрессивным законам, введенным на Кипре в 1951 году, газета «Таймс» разъясняла в номере от 26 января 1951 года:
«Нет необходимости доказывать, что данное лицо совершило какой-либо акт; чиновник может отдать приказ о его аресте, если, исходя из обстоятельств дела и деятельности данного лица, он придет к выводу, что такой приказ нужно отдать».
Все репрессивные законы и репрессивные действия английских правителей, как ни велика была их сдерживающая сила, оказались бессильными предотвратить рост движения народов колоний за свое освобождение и национальную независимость. Там же, где репрессивные законы оказываются недейственными, прибегают к методу объявления в колонии «чрезвычайного положения», с тем чтобы затем перейти к мерам, сводящимся на практике к установлению военного положения и состоянию войны. После второй мировой войны империалисты продемонстрировали это на примерах колониальных войн в Малайе, Кении и на Кипре.
Конституции и репрессии.
Опыт Британской Гвианы
Конституционные реформы и репрессии неотделимы друг от друга; на практике империалисты применяют эти два метода в тесной связи друг с другом. Опыт Британской Гвианы, куда были направлены в 1953 году войска и военные корабли с целью ликвидации только что предоставленной конституции и свержения выборного правительства колонии, ярко продемонстрировал неразрывную связь между методом конституционных реформ и методом репрессий.
242
НароДно-проГрессивная партия Британской Гвй- аны, опирающаяся на народное движение за экономические и политические реформы и пользующаяся поддержкой большинства народа, получила на выборах, проведенных в апреле 1953 года на основе всеобщего избирательного права и в которых приняло участие 70 процентов избирателей, абсолютное большинство голосов и 18 из 24 выборных мест. Эта победа на выборах дала ей право на занятие шести из девяти министерских должностей в исполнительном совете при губернаторе. Однако полученные ими возможности для деятельности были сильно ограничены. Три ключевые должности в исполнительном совете при губернаторе, ведающие обороной, полицией, финансами и поддержанием законности и порядка, занимали английские чиновники. В Государственном совете или верхней палате господствовали назначаемые губернатором лица. Губернатор обладал решающей властью: он мог утвердить или отвергнуть любые законы и другие мероприятия, не считаясь с желаниями министров и выборных представителей народа.
Избирательная программа Народно-прогрессивной партии предусматривала проведение самых умеренных демократических экономических и социальных реформ, касающихся гражданских прав, прав профсоюзов, социального обеспечения, оплаты труда, гарантии аренды и кредитов для крестьян, системы образования, снижения квартирной платы, уменьшения бремени косвенных налогов и повышения прямого налогообложения. Министры попытались осуществить эту программу. Они действовали строго в рамках конституции. Сообщений всех корреспондентов свидетельствовали о том, что в Гвиане царят мир и спокойствие.
■В октябре 1953 года английское правительство направило в Британскую Гвиану войска и военные корабли. Избранные демократическим путем министры были удалены с занимаемых постов, действие конституции приостановлено, и в стране был установлен режим открытой полицейской диктатуры. 243
Затем были арестованы и брошены в тюрьму многие деятели Народно-прогрессивной партии. Для оправдания этой вооруженной агрессии невозможно было привести ни одного случая насилия, беспорядка, ни даже нарушения конституции или конституционного кризиса. Корабли и войска были направлены не для подавления каких-либо актов насилия или беспорядка, а для того, чтобы устрашить народ и незаконно удалить со своих постов избранных демократическим путем министров.
Утверждения о «коммунистическом заговоре», выдвинутые для оправдания этих действий, не содержали ни одного конкретного доказательства и были настолько нелепы, что вызвали презрительные комментарии даже на страницах ведущих органов английской печати. Так, «Таймс» писала 31 октября 1953 года, что «коммунистический... заговор не разоблачен в Белой книге с той ясностью и полнотой, чего многие в Англии ожидали от нее...» В тот же день газета «Манчестер гардиан» писала, что «обвинение в коммунизме, о котором так много шумели в первые дни кризиса в Гвиане, оказывается сейчас более похожим на пробный шар».
Однако произвольные вооруженные действия в Британской .Гвиане, приведшие к замене даже самых робких ростков выборных институтов полицейским государством, имеют далеко идущее значение. Они не только до конца разоблачают истинный характер колониальных «конституций», но и раскрывают основы подхода империализма к демократии в целом. Министр колоний Литтлтон заявил в парламенте 22 октября 1953 года:
«Правительство ее величества не намерено терпеть образования коммунистических государств в Британском Содружестве Наций».
Очевидно, что эта доктрина, провозглашающая право на свержение вооруженной силой избранных демократическим путем министров в любой стране Британской империи, включая доминионы и Англию, преследует далеко идущие цели.
244
Знаменательно и то, что руководство лейбористской партии присоединилось к консервативному правительству и осудило руководителей Народнопрогрессивной партии. Когда эти руководители приехали в Англию, чтобы заручиться поддержкой демократических сил, Исполком лейбористской партии запретил местным организациям партии созывать собрания, на которых представители Гвианы могли бы осветить события в своей стране. Однако этим запрещением они добились обратного. По всей стране состоялись митинги, убедительно показавшие, на чьей стороне находятся самые горячие симпатии трудящихся и всего народа.
Наряду с Малайей, Кенией и Кипром пример Британской Гвианы контрастно показал углубление колониального кризиса и усиление конфликта между империализмом и растущими демократическими устремлениями народов.
Колониальная война в Малайе
После второй мировой войны английский империализм вел или ведет три крупные колониальные войны против национально-освободительного движения: с 1948 года — в Малайе, с 1952 года — в Кении и с 1954 года — на Кипре.
Малайя — сравнительно небольшая страна, с территорией в 51 тысячу квадратных миль и с населением 6 миллионов человек. Однако она занимает одну из ключевых позиций в системе английского империализма. Английский капитал в Малайе, вложенный в основном в каучуковые плантации и оловянные рудники, достигает почти 100 миллионов фунтов стерлингов. Он приносит громадные дивиденды, доходящие до 100, 200 и даже 400 процентов на вложенный капитал. С другой стороны, реальная заработная плата трудящихся упала даже ниже низкого довоенного уровня и в 1953 году, по официальным данным, составляла 79 процентов от уровня 1939 года.
245
Рост цей на каучук и олово, достигших фантастических цифр во время войны в Корее, не только обогатил английских капиталистов — он создал долларовые резервы для покрытия долларового дефицита Англии. В 1950 году малайский экспорт в Соединенные Штаты достиг 122 миллионов фунтов стерлингов, то есть превысил весь долларовый дефицит Соединенного Королевства по текущим счетам за тот же год, равный 105 миллионам фунтов стерлингов. В 1951 году Малайя дала 466 миллионов долларов, или 166 миллионов фунтов стерлингов,— и все это было выколочено из доведенного до нищеты шестимиллионного населения. За шесть лет, с 1946 по 1951 год, Малайя «добыла» 1713 миллионов долларов, что приблизительно составляет, учитывая различные обменные курсы в эти годы, 460 миллионов фунтов стерлингов, или 75 фунтов в расчете на каждого жителя страны — мужчин, женщин и детей (Торговля Британского Содружества в 1951 году, Меморандум экономического комитета Содружества Наций, 1951 год). Отсюда отчаянная решимость английских империалистов любой ценой удержать Малайю и укрепить обанкротившуюся, попавшую в зависимость от доллара экономику Англии.
«Ни в коем случае мы не должны ослаблять свои усилия в Малайе, — заявил премьер-министр консервативного кабинета Антони Иден в 1955 году,— она — наш главный добытчик долларов» (речь в Регби, май 1955 года) L
Падение цен на каучук и олово после бума, вызванного войной в Корее, показало всю шаткость базы этой экономической структуры.
Выступления рабочих и крестьян Малайи и
1 Подобной точки зрения придерживался член парламента лейборист Вудро Уайатт, который, выступая в Донингтоне 21 марта 1952 года, заявил, по сообщению печати, следующее: «Что произойдет с нашим платежным балансом, если нам придется вывести войска из Малайи?» Это заявление характерно для лейбористского империализма. 246
малайское национально-освободительное движение развивались в условиях борьбы против империалистической эксплуатации, за удовлетворение элементарных нужд и прав, перерастая в борьбу за освобождение от империалистического господства. Коммунистическая партия Малайи было создана в 1931 году. В 1935 году она выработала программу создания Малайской демократической республики усилиями широкого антиимпериалистического фронта. В 1937 году крупные выступления масс, когда бастовало почти полмиллиона человек, показали, что это движение носит широкий характер.
До самого последнего времени английские официальные представители упорно отрицали существование малайской нации. Такой подход типичен для презрительного отношения империализма к развивающейся нации и к национальной борьбе за свободу. Множество примеров этому дает также история отношения английских официальных представителей к первым этапам индийского национального движения.
Что касается Малайи, то этот антинациональный подход основывается на известной расовой концепции, призванной обеспечить успех тактики «разделяй и властвуй» путем разжигания распрей между тремя национальностями, составляющими народ Малайи: китайцами, малайцами и индийцами. Эта концепция используется также для обмана общественного мнения за пределами Малайи, так как национально-освободительное движение и партизанскую борьбу пытаются представить как борьбу, в которой участвуют только «китайцы» и которая является борьбой «горстки китайских экстремистов». Таким образом, тех, кто незнаком с фактами, хотят убедить в том, что освободительное движение ограничивается одной только общиной и что китайцы в Малайе — это чужеземное меньшинство, не имеющее ничего общего с коренным населением Малайи, то есть с малайцами. Все это — чудовищное искажение истины. В национально-освободитель247
ной борьбе участвуют все три общины. Китайская община в Малайе — наиболее многочисленная из трех, а многие китайцы живут в Малайе дольше (часто в продолжение многих поколений), нежели многие малайцы, часть которых недавно иммигрировала из Индонезии.
Последние данные переписи дают следующие цифры по трем основным общинам, составляющим малайский народ (включая Сингапур):
Национальность
Численность населения
°/0 к общему числу населения1.
Китайцы . . .
2 673 694
45,1
Малайцы . . .
2 551 458
43,1
Индийцы . . .
603 105
10,2
Другие ....
95 282
1,6
Итого . .
5923 539
100,0
Источник. «Стейтсменс ирбук», 1951 , Малайя, перепись 1947 года. По Сингапуру данные взяты на середину 1950 года.
Национально-освободительное движение объединяет представителей всех трех общин. Поскольку китайцы составляют самую большую часть населения, не удивительно, что они составляют большинство и в национально-освободительном движении. Далее, следует учитывать, что китайцы — главным образом рабочие, а малайцы — крестьяне; поскольку рабочий класс является авангардом и главной боевой силой национально-освободительного движения как против японского, так и против английского господства, в то время как крестьяне в основном поставляют партизанам продовольствие и оказывают всякую другую помощь, то опять-таки не удивительно, что основу партизанских отрядов составляют китайцы. Однако меры по подавлению народных организаций были направлены в равной степени против Малайской национальной партии, Малайской молодежной орга- 248
ййзаций и других малайских организаций. Офицеры английской разведки в своих официальных докладах, которые привез Малькольм Макдональд в мае 1949 года, вынуждены были признать, что 25 процентов партизан — малайцы. Первый человек, расстрелянный за ношение оружия, был малаец, воевавший в свое время в составе английских военно-воздушных сил. Характерно, что и сброшенные английскими самолетами листовки, на которых были помещены страшные фотографии трупов Ло Ю и других малайских вождей, листовки, угрожавшие подобной карой всякому, кто осмелится сопротивляться английскому господству, были отпечатаны на малайском языке.
В войне против японского господства, продолжавшейся с конца 1941 года до лета 1945 года, малайская Народная антияпонская армия, организованная Коммунистической партией Малайи, объединила силы всего народа для оказания сопротивления японским захватчикам и создала единый национальный фронт. 10 тысяч малайских патриотов отдали свою жизнь в борьбе против японских оккупантов.
В августе 1945 года, после поражения Японии, малайская Народная антияпонская армия завершила освобождение Малайи еще до прибытия английских войск. В городах и деревнях были созданы народные комитеты. Был установлен народно- демократический порядок и организовано управление страной.
5 сентября прибыли английские войска, и в Малайе начался тот же самый процесс, который происходил в Южной Корее после прибытия туда генерала Ходжеса и американских войск: процесс ликвидации народно-демократического порядка, установленного после освобождения. Малайская Народная антияпонская армия, сначала подвергавшаяся нападениям со стороны английских оккупационных войск, вскоре была распущена английским военным командованием. Народные комитеты тоже были разогнаны силой и «распущены» 249
прйказом английской военной администрации. Затем были предприняты драконовские меры с целью разгрома демократических организаций народа: постановление о борьбе против призывов к мятежу, распоряжение о печати, постановление о высылке. Малайский народ создал широкую сеть демократических организаций: Всемалайскую федерацию профсоюзов, насчитывавшую 400 тысяч членов и входившую в состав Всемирной федерации профсоюзов, Федерацию женщин, Лигу молодежи, политические партии и организации защиты гражданских прав. Все они были объединены в едином национальном фронте. Эти организации подверглись разгрому, сопровождавшемуся арестами, высылками, судебными преследованиями, запретами демонстраций, полицейским насилием, расстрелами и убийством многих десятков людей.
Отвергая требования об установлении демократических порядков, английское правительство ввело диктаторскую «конституцию», которая вступила в силу в феврале 1948 года. В соответствии с этой малайской федеральной конституцией наряду с неограниченной властью верховного комиссара был создан консультативный «законодательный совет» из 75 членов, но без единого выборного представителя. В Сингапуре надлежало избрать путем частичных выборов менее одной трети членов совета. Выступая против этой антидемократической конституции, малайские народные организации призвали к бойкоту сингапурских выборов. Этот бойкот оказался настолько успешным, что из всех избирателей, подлежавших регистрации, зарегистрировалось лишь 10 процентов и только 6,3 процента участвовало в голосовании. Более 93 процентов избирателей поддержало народный бойкот.
В профсоюзах правительству также не удалось убедить рабочих отказаться от поддержки своих организаций. Посылкой специальных «профсоюзных советников» правительство рассчитывало расколоть профсоюзы и подорвать единство Всемалай- 250
ской федерации профсоюзов. Оно пыталось создать профсоюзы на расовой основе — отдельно для малайцев, китайцев и индийцев,— но безуспешно. Оно хотело организовать «аполитичные» профсоюзы, введя одновременно суровые законы против подлинных профсоюзов. Все эти попытки оказались тщетными, и в конце концов представители правительства вынуждены были признать, что им удалось вовлечь- в свои лжепрофсоюзы только 9 процентов всех организованных рабочих, в то время как Всемалайская федерация профсоюзов сумела организовать 91 процент рабочих.
Эта демонстрация всеобщей народной поддержки единого национального фронта, возглавляемого Коммунистической партией Малайи, и полный провал всех попыток ликвидировать эту поддержку и парализовать народные организации путем реакционных декретов и различных мер в период 1945—1948 годов привели к тому, что летом 1948 года правительство ввело новый режим террора, чтобы подавить народное движение силой оружия. В июне 1948 года было введено чрезвычайное положение. Всемалайская федерация профсоюзов была объявлена распущенной. Одна за другой были запрещены профсоюзные, рабочие и демократические организации; их руководители были арестованы, изгнаны в джунгли или расстреляны. Согласно данным, приведенным правительством в палате общин 15 сентября 1948 года, к этому времени в концентрационных лагерях содержалось без каких-либо обвинений 7 тысяч человек; в тюрьмы было заключено 183 профсоюзных руководителя. Перед лицом такого жестокого военного подавления демократического движения в стране, началом которого явилось объявление в июне 1948 года чрезвычайного положения, малайский народ был вынужден в июле 1948 года взяться за оружие, чтобы бороться за свою свободу так же, как он боролся против японских оккупантов. Ответственность за эту войну лежит полностью на английских империалистических правителях.
251
В начале войны 1948 года английские губернаторы и командующие английскими экспедиционными войсками, оснащенными самыми новейшими орудиями смерти и разрушения — бронемашинами, артиллерией, танками и бомбардировщиками,— были уверены, что им удастся быстро уничтожить слабо вооруженную малайскую Народно-освободительную армию и потопить в крови национально-освободительное движение. Но год за годом, по мере того как война затягивалась, они должны были разочароваться, убедившись в бессмертном героизме и решимости народа, борющегося за свою свободу.
В ноябре 1948 года верховный комиссар в Юго- Восточной Азии Малькольм Макдональд заявил, что «с нынешними волнениями будет покончено в несколько месяцев».
Спустя два года, в сентябре 1950 года, он уже говорил: «Только глупец может утверждать, что положение улучшается».
Вначале войну против малайского народа расписывали как «полицейскую акцию» (странная полицейская акция с использованием бомбардировщиков и танков) против «бандитов» и «террористов». Через два года бывший главный секретарь правительства Федерации малайских княжеств сэр Джордж Максвелл публично протестовал против этого ложного названия:
«Высокопоставленные должностные лица в Малайе наносят только вред, говоря о бандитах, ибо те, кто вызывает эти волнения, являются в действительности партизанами, выполняющими определенную задачу в организованной партизанской войне.
Люди, которые сейчас открыто борются с вооруженными силами правительства,— это преемники тех, кто сражался в рядах малайской Народной антияпонской армии, великолепно действовавшей во время японской оккупации» (Сэр Джордж Максвелл, «Дейли телеграф энд Морнинг пост», 22 мая 1950 года).
252
Аналогичное признание сделала и газета «Таймс» в редакционной статье от 25 мая 1950 года: «Восстание надо признать тем, чем оно является на самом деле, то есть настоящей войной».
Это не помешало министрам лейбористского правительства продолжать свои попытки обмана общественного мнения внутри страны, употребляя терминологию гитлеровцев и японских фашистов для маскировки войны, называя ее «чрезвычайным положением», а бойцов-патриотов — «коммунистическими террористами».
Австралийский министр обороны, находившийся в 1950 году в Лондоне, заявил, что было бы «фантазией» считать, что люди поверят официальной версии, будто «50—70 тысяч английских солдат» не в состоянии справиться с якобы «5—7 тысячами коммунистических партизан», и что единственным объяснением может быть только то, что «население» помогает партизанам,— иными словами, что эта война есть национально-освободительная война.
В январе 1949 года Коммунистическая партия Малайи опубликовала свою программу борьбы за создание Малайской народно-демократической республики. В программе были перечислены следующие цели, во имя достижения которых борется освободительная армия:
«Создание Малайской народно-демократической республики на основе полной независимости, равенства национальностей и народной демократии.
Распределение земли среди крестьян и создание сельскохозяйственных кооперативов.
Конфискация капитала империалистов и
* передача его в распоряжение государства. Однако мелких малайских капиталистов следует поощрять, чтобы они помогали в про* изводстве.
Ликвидация всей системы кабального труда и ученичества, охрана законом зара253
ботной платы рабочих и обеспечение работой, женщины-работницы должны получать равную оплату с мужчинами и пользоваться равными правами.
Бесплатное и обязательное обучение, ликвидация неграмотности, осуществление социальных мероприятий».
Таковы цели «бандитов».
По официальным данным, объявленным в парламенте в июне 1955 года, война в Малайе обошлась к концу 1954 года в 135 миллионов фунтов стерлингов. Однако эта цифра не дает реального представления о всей стоимости военных действий, так как в нее не входит обычная стоимость содержания действующих воинских частей. Ежегодная стоимость содержания действующих английских воинских частей в Малайе оценивается в 68 миллионов фунтов стерлингов (журнал «Обсервер», 21 ноября 1954 года). К этой сумме нужно добавить 30 миллионов фунтов стерлингов, изымаемых ежегодно из бюджетов федерации малайских княжеств и Сингапура в виде расходов, связанных с чрезвычайным положением. Таким образом, ежегодная стоимость войны составляет 98 миллионов фунтов стерлингов, а за семь лет, с 1948 по 1955 год,— 686 миллионов L
Численность английских войск, брошенных на войну против шестимиллионного народа, несораз-
1 К 1956 году стоимость войны увеличилась. По сообщению газеты «Стрейте тайме» от 16 августа 1956 года, «помимо обычной стоимости содержания войск, их операции в Малайе обходятся в 700 миллионов долларов». Таким образом, действия английских войск в Малайе обходятся, не считая обычной стоимости их содержания, в 82 миллиона фунтов стерлингов (700 миллионов малайских долларов), а вместе с обычной стоимостью их содержания на них расходуют более 100 миллионов фунтов стерлингов. Если к этой сумме прибавить официальные расходы на войну и внутреннюю безопасность, выплачиваемые Малайей и составляющие 40 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона федерацией княжеств и 16 миллионов Сингапуром), то общая ежегодная стоимость войны к 1956 году составит 140 миллионов фунтов стерлингов.
254
мерно велика. В 1950 году Бевин заявил, что «в Малайе находится 50 тысяч наших солдат», не считая военизированной полиции, численность которой к 1951 году достигла 66 тысяч человек. Австралийский министр обороны заявил в 1950 году, что действующие в Малайе войска насчитывают 130 тысяч человек. Выступая 6 декабря 1951 года в парламенте, Черчилль указал, что общая цифра войск «превышает 100 тысяч», не считая «многочисленных вспомогательных полицейских сил». Коммунистическая партия Малайи сообщала в 1954 году, что общая численность войск, действующих под английским командованием, включая вспомогательные полицейские силы, составляет 460 тысяч человек, то есть на каждые 15 жителей Малайи приходится один вооруженный солдат или полицейский. По подсчету газеты «Манчестер гардиан» от 25 мая 1955 года, общая численность «регулярных и вспомогательных войск» в Малайе достигает 300 тысяч.
Совершенно очевидно, что война таких масштабов, которая в 1956 году продолжалась уже девять лет, — это не мелкая операция против «горстки террористов», а настоящая война против народа, и постоянные официальные жалобы на отказ гражданского населения от сотрудничества — вполне достаточное тому свидетельство.
Чем больше власти убеждаются в том, что военными операциями и методами «запугивания» невозможно подавить волю народа, тем более драконовские меры они применяют. Против гражданского населения были использованы все методы репрессий и террора. В начале 1954 года Коммунистическая партия Малайи сообщила, что с июня 1948 года свыше 50 тысяч малайских граждан (не считая потерь в боях) были брошены в тюрьмы, повешены, расстреляны или изгнаны из страны, а 650 тысяч посажены за колючую проволоку концентрационных лагерей. В течение только одного 1951 года английская авиация совершила 4500 боевых вылетов, во время которых более чем тысячу раз бомбила города и села. Лейбористское правительство повторило
255
в Малайе те методы, которые применяли нацисты против движения Сопротивления в оккупированной Европе: жестокую расправу за оказание помощи партизанам, массовые аресты и пытки, коллективное наказание всей общины и уничтожение дотла целых деревень. Эти методы применялись с еще большим усердием консервативным правительством.
В 1946 году, когда партизан еще признавали’ героями, мэр городка Пулаи был награжден медалью Британской империи за храброе поведение населения города во время войны. В официальном приказе по этому поводу указывалось:
«Несмотря на непрерывные и жестокие репрессии врага, он и население города проявили большое мужество и лояльность в период японской оккупации, оказывая помощь и поддержку английским офицерам, скрывавшимся в джунглях».
В августе 1948 года английские самолеты совершили налет на Пулаи. Весь город был уничтожен дотла. Тысячи мужчин, женщин и детей бежали в те же джунгли, в которых они раньше укрывали и кормили английских офицеров.
В январе 1951 года вся деревня Жендарам была сровнена с землей — от нее не осталось и следа — за то, что население оказывало помощь повстанцам. Эта деревня стала в один ряд с Лидице в горькой истории борьбы человека против тирании и гнета.
Вводятся все более и более суровые законы о репрессиях, чтобы не дать гражданскому населению возможности оказывать помощь Народно-освободительной армии. Смертная казнь за сбор денежных или других средств для национально-освободительной армии была признана недостаточной:
«Опубликованная сегодня поправка к чрезвычайным постановлениям усиливает принятое в прошлом месяце распоряжение, согласно которому лица, собирающие средства или получающие вещи для передачи их бандитам, должны после осуждения подвергаться смертной казни.
256
Новая поправка предусматривает такие случаи, когда у человека обнаруживают вещи, предназначенные для террористов, но невозможно установить, от кого эти вещи получены. Впредь таких людей будут приговаривать к смертной казни, если они не смогут доказать, что они не собирали деньги и не получали вещи для бандитов» («Таймс», 13 июля 1950 года. Курсив мой. — П. Д.).
В июне 1951 года были введены еще более строгие правила, контролирующие перевозку и переноску даже самого незначительного количества продовольствия или медикаментов, чтобы они не попали Национально-освободительной армии:
«В некоторых районах не разрешают брать с собой в поле или выносить из дому никакой пищи, даже завтрака; торговцы не имеют права продавать лицам, не имеющим удостоверений личности, никакого продовольствия. Кроме того, должна вестись подробная запись проданных товаров» («Таймс», 16 июня 1951 года).
Другая излюбленная практика, введенная лейбористским и продолженная консервативным правительством,— это варварский метод назначения наград за голову всякого бойца движения Сопротивления или коммуниста:
«Сегодня объявлены новые крупные награды за доставку живыми или мертвыми коммунистов всех рангов. Эти награды составляют от 7 тысяч фунтов стерлингов за голову генерального секретаря до 233 фунтов стерлингов за голову рядового члена партии» («Дейли телеграф энд Морнинг пост», 16 декабря 1950 года).
Эти суммы, достаточно крупные даже по английским масштабам и, следовательно, представляющие целое состояние для бедного жителя колонии, не дали результатов. Тогда награды были увеличены: «Правительство Федерации объявило сегодня новую шкалу наград... За голову гене-
9 Р. Палм Датт
257
рального секретаря коммунистической партии правительство предлагает 80 тысяч долларов (малайских), или на 20 тысяч долларов больше, чем оно предлагало до сих пор за информацию, которая позволит захватить или убить его. Награда за голову рядового члена партии или бойца увеличивается на 500, то есть достигает 2500 долларов» («Таймс», 5 июня 1951 года). Но и это оказалось безрезультатным. В апреле 1952 года награды снова были повышены:
«Самая высокая награда — 250 тысяч долларов (малайских) — предложена за Чин Пэна \ генерального секретаря Центрального исполнительного совета Коммунистической партии Малайи, если он будет доставлен живым... За голову мертвого Чин Пэна устанавливается награда в 125 тысяч долларов...
Затем установлены следующие награды: от 200 тысяч долларов за доставленного живым или 100 тысяч долларов за доставленного мертвым члена Политбюро Центрального комитета; до 75 тысяч долларов за живого члена комитета княжества или округа и 35 тысяч за мертвого. Шкала наград за секретарей районных комитетов и рядовых членов партии осталась та же, что и в прошлом году, то есть от 18 тысяч до 2500 долларов» («Таймс», 1 мая 1952 года).
250 тысяч долларов, назначенные за голову патриота, равны 30 тысячам фунтов стерлингов. Более
1 «Чин Пэн был одним из самых влиятельных руководителей партизан в Малайе во время войны. Он действовал в качестве офицера связи между штабом движения Сопротивления в своем родном Пераке и внешним миром. Чин Пэн лично помог многим английским офицерам, сброшенным на парашютах в джунглях или высадившимся с подводных лодок на пустынном малайском побережье. Он был награжден орденом Британской империи за свою деятельность и в 1945 году вместе с отрядом малайских войск прибыл в Лондон на парад Победы для получения этой награды» («Ив- нинг ньюс, 16 октября 1951 года).
258
низкие награды составляют от 25 тысяч фунтов стерлингов до 300 фунтов за предательство по отношению к рядовому члену партии или бойцу движения Сопротивления. Тот факт, что эти обещанные колоссальные суммы не достигли поставленной цели, является красноречивым доказательством солидарности и патриотизма малайского народа.
Английское правительство доставило с Борнео даяков — «охотников за черепами», которые номинально должны были действовать в Малайе как «проводники». Когда в апреле 1952 года «Дейли уоркер» опубликовала фотографию английского морского пехотинца, державшего в руке отрубленную голову малайского патриота, всеобщее возмущение цивилизованных людей заставило капиталистическую печать объявить, что эта фотография — «коммунистическая фальшивка». Однако 7 мая 1952 года военный министр вынужден был признать в палате общин подлинность этого снимка, а также то, что в Малайе используются 264 даяка — «охотники за черепами». «Дейли уоркер» получила множество таких фотографий.
Концентрационных лагерей, в которых, как официально сообщалось 2 марта 1951 года, находилось 11 530 заключенных, оказалось недостаточно. В соответствии с планом Бриггса было предпринято переселение жителей целых деревень, поддерживавших национально-освободительное движение, в так называемые «переселенческие» лагеря. Это огромные лагеря, обнесенные колючей проволокой и охраняемые вооруженной охраной. К 1954 году 650 тысяч малайских крестьян и рабочих вместе с их семьями были изгнаны из своих домов и посажены за колючую проволоку. А когда обнаружили, что связь переселенцев с национально-освободительным движением все же продолжается, были приняты меры для увеличения вооруженной охраны, а через колючую проволоку, опоясывающую лагеря, был пропущен электрический ток. 650 тысяч человек, посаженных за колючую проволоку, составляют восьмую часть всего населения Малайи.
у*
259
Все эти и другие варварские методы не сломили волю малайского народа, как не сломили волю ирландского народа методы английского империализма, использовавшего в Ирландии поколением раньше отряды «черно-пегих».
Смена в течение шести лет четырех главнокомандующих и трех верховных комиссаров свидетельствует о непрерывно возобновляемых попытках империалистов справиться с положением в Малайе и о тщетности их усилий. При каждом новом назначении и разработке всякого нового плана военной кампании, сопровождаемых восторженным рекламным ревом, провозглашали, что теперь непременно будет положен конец «чрезвычайному положению». И каждый раз, потерпев фиаско, с унынием признавали, что конца еще не видно. Последний из этой плеяды — генерал Джоф- фри Борн, назначенный осенью 1954 года руководителем военных операций, — заявил 14 сентября 1954 года, что термин «чрезвычайное положение» является «неверным» [для определения положения в Малайе. — Ред.], и что это «настоящее восстание, поддержанное слоями народа», и что он мог бы рассчитывать на успех «при условии, что народ Л4алайи перестанет снабжать деньгами и продовольствием» Народно-освободительную армию.
К 1955 году, после семи лет войны, все признавали, что военными мерами, несмотря на громадный размах военных операций, не удалось добиться цели. «Конца не видно», — жаловался журнал «Экономист» 15 января 1955 года, а газета «Дейли телеграф» сообщала 3 июня 1955 года, что положение «такое же плохое, как всегда, если не хуже».
После провала попыток сломить сопротивление народа военными действиями и террором были проведены куцые конституционные реформы. В начале 1955 года в Федерации княжеств был создан законодательный совет в составе 92 членов. Из них — 52 выборных. В выборах могли участвовать 1128 тысяч зарегистрированных избирателей, почти 90 процентов которых составляли малайцы. 260
В Сингапуре из 28 членов совета избирались 25. Несмотря на сильное ограничение контингента избирателей, запрещение известных демократических партий, с 1948 года находящихся вне закона, на препятствия, чинимые демократическому осуществлению прав вследствие чрезвычайного положения, результаты выборов как в Сингапуре, так и в Федерации продемонстрировали, что подавляющее большинство народа требует предоставления самоуправления и независимости и ликвидации чрезвычайного положения.
В мае 1955 года Народно-освободительная армия Малайи официально предложила английскому правительству начать переговоры об окончании войны. «Единственной целью нашей борьбы является и всегда являлось создание мирной, демократической и независимой Малайи. Наша задача заключается и всегда заключалась в достижении этой цели мирными средствами». В июне английское правительство отвергло это предложение. Однако реальная обстановка заставляла все более широкие круги признавать, что в Малайе, как и во Вьетнаме, решение может быть достигнуто только путем переговоров, сначала о прекращении огня и перемирии, а затем о политическом урегулировании, которое предоставило бы малайскому народу полную возможность демократическим путем определить свое будущее. Хотя начавшиеся переговоры между малайским правительством Тенгку Абдул Рахмана, действующим в сотрудничестве с английскими военными властями, и делегацией Народно-освободительной армии, возглавляемой Чин Пэном, были прерваны в конце 1955 года, тем не менее становится все яснее, что нельзя долго сопротивляться требованию всего малайского народа (включая население Сингапура) о предоставлении независимости и что мирное урегулирование должно быть достигнуто.
В 1956 году между английским правительством и Абдул Рахманом было достигнуто соглашение о провозглашении независимости Малайи не позд261
нее августа 1957 года, при условии, однако, что английские войска продолжают оккупировать страну и действовать в Малайе под командованием англичан. На конференции же, посвященной конституционному статусу Сингапура, соглашение достигнуто не было.
В январе 1957 года Абдул Рахман заявил, что, несмотря на то, что против национально-освободительных сил действует свыше 300 тысяч солдат (24 батальона войск Содружества и Федерации, 47 тысяч полицейских и 30 тысяч территориальных войск), он ле видит перспективы окончания войны при отсутствии более эффективной поддержки народа.
Такая обстановка убедительно свидетельствует о необходимости мирного урегулирования, которое должно покончить с чрезвычайным положением, восстановить демократические права и обеспечить действенную независимость.
Колониальная война в Кении
Помимо войны в Малайе, развязанной в 1948 году, империалисты с 1952 года ведут не менее жестокую войну и кампанию террора против народа Кении, который в своей борьбе за свободу оказывает оккупантам героическое сопротивление.
Кения издавна считается классической колонией, в которой наиболее открыто проявляется вся жестокость империалистической системы военного захвата, грабежа и порабощения народа. До появления английских захватчиков в 1886 году Кения была процветающей страной с высокой культурой земледелия. Об этом свидетельствовал лорд Лагард в 1890 году:
«В стране кикуйю сельское хозяйство ведется весьма экстенсивно, можно сказать, что там почти нет пустующих земель... К тому же у них очень хорошо поставлена система ирригации» (Маджери Перэм, Раса и политика в Кении, стр. 42—43).
262
Вторжение в Кению сопровождалось захватом и передачей английским колонизаторам или компаниям наиболее плодородных земель. Местное же население сгоняли в резервации и обрекали на жалкое существование. В 1952 году европейскому населению в 40 тысяч человек принадлежало 16 700 квадратных миль самой лучшей земли (менее трех человек на квадратную милю). Если учесть, что эта земля сосредоточена в руках 3 тысяч крупных помещиков, то получится, что на каждого из них приходится более 5 квадратных миль земли. В то же время более миллиона негров кикуйю (самое многочисленное племя) ютятся на 2 тысячах квадратных миль, то есть свыше 500 человек на квадратную милю. Негритянское население испытывает острую нехватку земли, между тем, согласно заявлению министра колоний в парламенте в июле 1952 года, лишь одна седьмая часть земель европейцев обрабатывается.
Не удовлетворяясь 60 днями принудительного труда, введенного для негров, европейские захватчики сгоняют негров с земли, держат их в резервациях, где они обречены на жалкое существование, облагают подушным налогом, для того чтобы создать армию дешевой рабочей силы. Не имея возможности свести концы с концами, обрабатывая свою землю, и выплатить налоги, большинство трудоспособных мужчин вынуждено хотя бы часть года работать у европейцев за мизерную плату.
Губернатор Филип Митчелл в донесении министру колоний писал в 1951 году: «При строгом подсчете заработки, выплачиваемые деньгами или натурой, гораздо ниже минимума, необходимого рабочему и его семье для сносного уровня жизни». Многие вынуждены батрачить на фермах европейцев за несколько шиллингов в месяц. В декабре 1952 года член парламента Лесли Хэйл зачитал в палате общин контракт, заключенный в июле лидером европейских поселенцев в законодательном совете Бланделлом с негром. В течение трех лет негр должен был работать за 3 шиллинга в неде263
лю, причем хозяин не обязан был его кормить или предоставлять жилье.
Эксплуатация населения Кении приносит огромные прибыли. Так, «компания по развитию Восточной Африки», получившая в 1920 году от правительства 310 тысяч акров земли, выплачивала в 1947—1950 годах дивиденды в размере 100 процентов. Компания «Дуа плэнтейшенс», владеющая более чем 20 тысячами акров земли, выплатила в 1950 году премии в 300 процентов. С другой стороны, африканцы лишены самых элементарных социальных прав. В правительственных школах на обучение каждого белого ребенка расходуется 100 фунтов стерлингов в год, а на черного — 2 фунта, несмотря на то, что негритянских детей в школах очень мало. В 1949 году на африканцев, составляющих 95 процентов населения, приходилось меньше половины общей суммы личных доходов.
Политическая система соответствует этой ничем не прикрытой эксплуатации местного населения. В законодательном совете, подчиненном генерал-губернатору, и назначаемом им исполкоме 5,5 миллиона африканцев (95 процентов населения) не имеют избранных представителей (от них назначается 8 «представителей»), 160 тысяч выходцев из Азии имеют шесть избранных представителей, а 40 тысяч европейцев — 14 избранных представителей и 26 назначенных губернатором. Полное лишение избирательных прав 96 процентов населения— вот образчик английской «демократии» в Кении.
Негритянское население Кении ведет неустанную борьбу против этого гнета и насилия. Английские власти беспощадно подавляют любую попытку создать мирные, легальные организации или проводить агитацию. Восточно-Африканская ассоциация была разогнана в 1922 году. В 30-х годах была запрещена Центральная ассоциация кикуйю. После второй мировой войны значительно оживилась активность рабочего класса и других демократических сил, а также их организационная дея264
тельность. В результате массовых забастовок и несмотря на репрессии со стороны правительства, активизировалось профсоюзное движение. В 1949 году был создан Восточно-Африканский конгресс профсоюзов. Союз негров Кении, организованный в 1944 году, насчитывает более 100 тысяч членов и является признанным выразителем демократических взглядов африканского населения. В начале 1952 года он собрал 400 тысяч подписей под петицией по земельному вопросу. Петиция, направленная в палату общин, была весьма умеренной; в ней даже не требовалось возвращения отнятых земель. Негры просили разрешения «занять и обрабатывать огромные пустующие земли, закрепленные за европейцами, и приостановить дальнейшую иммиграцию переселенцев». Ассоциация независимых школ кикуйю, свободных от контроля со стороны правительства или миссионеров, организовала обучение 62 тысяч негритянских детей.
Правительство начало поход прежде всего против рабочего класса и профсоюзов. После всеобщей забастовки в Момбасе в 1947 году председателя Федерации африканских рабочих выслали в деревню, расположенную в пустынном районе на севере страны. В период между 1948 и 1950 годами были приняты новые законы и указы, направленные против независимых профсоюзов и предусматривающие замораживание заработной платы, чрезвычайные меры против забастовок, высылку руководителей рабочего класса. В 1950 году были арестованы председатель и секретарь Восточно-Африканского конгресса профсоюзов, а на подавление вспыхнувшей после этого в Найроби всеобщей забастовки были брошены полиция, войска, броневики и самолеты.
В 1952 году правительство начало расправу с политическим движением, руководимым Союзом негров Кении. Оно испугалось той поддержки, которую народ оказал петиции о земле, а также массовых демонстраций, насчитывавших более 30 тысяч участников. В августе 1952 года Союз белых 265
избирателей представил правительству меморандум, требуя репрессий против негритянских руко водителей, «нейтрализации или ликвидации» их. В октябре правительство объявило чрезвычайное положение, арестовало руководителей Союза негров Кении, затем распустило эту организацию, закрыло независимые негритянские школы и установило режим террора.
Все эти чрезвычайные меры правительство проводило под предлогом борьбы против насилий членов тайного общества May-May, которое якобы скрывалось за вывеской Союза негров Кении. История знает немало примеров, когда порабощенное оккупантами население, лишенное самых элементарных демократических прав, вынуждено было создавать тайные организации, а индивидуальные акты насилия против режима насилия и террора не вызывали ни у кого удивления. Так было в период зарождения профсоюзов в Англии и позже, во времена нацистской оккупации Европы. Но официальные данные полностью разоблачают доводы правительства, поскольку число преступлений в Кении уменьшилось с 1086 в 1951 году до 904 в 1952 году.
В действительности оккупационные власти прибегли к такому террору против всего африканского населения, к какому прибегали разве только нацисты. В бой были брошены 12 английских и африканских батальонов, эскадрилья самолетов, 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат, мобилизованных среди местного населения (в основном из преступных элементов). 28 апреля 1954 года английское правительство сообщило в палате общин, что еще до операции «Энвил» в Найроби было задержано 191 587 африканцев, из которых 77 794 арестовано; а 5 июня 1954 года министр колоний сообщил, что в результате операции «Энвил» арестовано 22 563 человека. Таким образом, общее число арестованных составило более 200 тысяч человек. В процентном соотношении к населению это число составило бы для Англии 2 миллиона чело266
век. В октябре 1954 года, после двух лет военных действий, правительство сообщило, что 6608 африканских партизан убито, 11 524 — взято в плен, 686 негров из гражданского населения повешено и 48 022 человека находятся в заключении. Таким образом, общее число африканцев, убитых английскими войсками, составило 7294, а общее число заключенных— около 60 тысяч. В июне 1955 года правительство Кении в обоснование своего предложения о постройке новых тюрем привело уже другие данные: 49 тысяч арестованных и 83 тысячи пленных. В опубликованной Белой книге правительство откровенно признает, что «военная обстановка не дает никаких оснований для скорой отмены чрезвычайного положения» и что «восстание все еще пользуется молчаливой поддержкой африканского населения в некоторых районах». Поскольку число заключенных в концентрационных лагерях увеличивалось, были разработаны планы переброски части их на необитаемые острова, а большинство было использовано как дешевая рабочая сила на фермах европейцев или на правительственных стройках.
Массовые аресты мужчин, женщин и детей, убийства, концентрационные лагеря, виселицы, коллективные наказания, конфискация имущества, уничтожение деревень и бомбардировка беззащитного населения стали обычным явлением в Кении. На негров проводят облавы в городах и на фермах. Когда они бегут в резервации, их преследуют и там, их средства к существованию конфискуют или уничтожают. Когда они скрываются в горах и лесах, против них направляют тяжелые бомбардировщики «Линкольн». По официальным коммюнике, выпускаемым еженедельно, можно проследить этот отвратительный процесс массового уничтожения людей. Английские войска убили 100 африканцев «в течение одной из наиболее успешных недель после введения чрезвычайного положения» (18 октября 1953 года); 102 африканца убито на прошлой неделе, причем английские войска потеряли 267
одного белого и одного черного солдата (24 ноября
1953 года); в прошлом месяце 305 африканцев было убито и 49 ранено или взято в плен (6 октября
1954 года). Большие цифры убитых и сравнительно малые цифры раненых и взятых в плен свидетельствуют о том, что приказ «стрелять без промаха» выполняется точно. Командующий английскими войсками генерал Эрскин заявил 2 августа 1953 года, что «в запрещенных районах войска считают каждого встречного врагом и открывают по нему огонь». За каждого убитого африканца назначена премия в 5 шиллингов. Убийство африканцев стало таким же видом спорта, как охота за слонами.
Вот что было написано в ноябре 1953 года в журнале Девонширского полка:
«Скоро нам удалось подстрелить одного, и мы сделали первую зарубку... Но поскольку рота «D» в тот же день убила одного из May-May, премию командира в 5 шиллингов за то, «кто убьет первым», пришлось разделить... Роте «С» тоже повезло. В одном районе, где не удалось обнаружить ни одного May-May, наша неудача была в некоторой степени компенсирована наличием множества слонов, носорогов, обезьян и антилоп...»
Несмотря на эту беспрецедентную кампанию террора и истребления целого народа, оккупантам не удалось сломить единство и боевой дух народа Кении, вписавшего яркие страницы в историю национально-освободительной борьбы народов. Министр колоний вынужден был признать 31 марта 1953 года, что «обстановка больше напоминает войну, нежели чрезвычайное положение». Газета «Манчестер гардиан» 8 августа 1953 года писала, что, несмотря на тяжелые потери, участники движения Сопротивления «лучше вооружены, располагают более опытными руководителями и применяют более эффективную тактику, чем когда-либо со времени введения чрезвычайного положения». В октябре 1954 года «Таймс» охарактеризовала 268
обстановку в Кении как «состояние войны, не намного отличающейся от «тотальной войны». Борьба народа Кении находила глубокое сочувствие даже в самых умеренных кругах тех стран, которые когда-то сами воевали за национальную независимость. Это сочувствие выразила газета «Айриш пресс» от 24 марта 1953 года, напомнившая о борьбе Ирландии:
«Нам преподносят только одну сторону дела, которая, как это нам, ирландцам, хорошо известно, имеет целью опорочить борьбу африканцев... Газеты постоянно сообщают об убийстве африканцев при «сопротивлении аресту», «отказе остановиться» или «попытке к бегству». Ирландцы помнят, что эта терминология применялась английскими войсками и полицией для оправдания жестокой расправы с безоружными ирландскими мужчинами и женщинами. Подобные выражения в сообщениях из Кении звучат зловеще для ирландцев... Как бы то ни было, нам совершенно ясно, что широкие массы против нынешнего режима».
К стыду руководства лейбористской партии, когда Литтлтон объявил в палате общин о введении «чрезвычайного положения» в Кении, то есть об установлении режима террора, никто из оппозиции не выступил против этого. В своем меморандуме о колониальной политике, представленном ежегодной конференции в сентябре 1954 года, исполком лейбористской партии не только осудил эту преступную войну против народа, борющегося за элементарные права, но заявил, что «в Кении лейбористская партия поддерживает законные действия против Мау-Мау».
В марте 1955 года руководство национально- освободительной армии и парламент Кении предложили английским властям начать переговоры о прекращении огня и о политическом соглашении. «В Кении не будет мира и порядка до тех пор, пока африканское население не получит самоуправ269
ления»,— писали они. Английские власти отклонили это предложение, по-прежнему требуя капитуляции. Между тем опыт войны показал, что военными действиями и террором не сломить боевой дух народа. Широкие круги общественности все больше убеждаются в том, что единственный путь урегулирования в Кении должен быть таким же, как в Малайе: отмена чрезвычайного положения, предоставление права на свободное создание демократических организаций, с тем чтобы дать возможность народу Кении осуществить свои справедливые цели—добиться свободы и национальной независимости.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
индия в НОВОМ МИРЕ
Завоевание Индией национальной независимости после второй мировой войны положило начало новой эры в мировой политике. 450 миллионов человек, населяющие современные Индийское и Пакистанское государства, составляют свыше одной шестой части человечества. В течение двух последних столетий порабощенные миллионы жителей Индии были главной опорой Британской империи. В течение одного десятилетия после завоевания национального освобождения Индия быстро вышла на авансцену мировой политики. Этого Индия достигла благодаря своей прогрессивной роли в борьбе за мир и свободу, которую она ведет вместе с социалистическими странами, странами, недавно добившимися независимости, и колониальными странами, борющимися против империализма. Наряду с этой прогрессивной ролью в международных делах страна вступила на путь далеко идущего внутреннего развития и реконструкции. Великие перемены совершаются сейчас в Индии, и несомненно, что еще более великие перемены произойдут в будущем.
Перед народами Индии и Пакистана еще стоят нелегкие задачи. В последнее время Пакистан оказался втянутым в американскую военную орбиту. Индии нужно вырвать экономику страны из еще крепких тисков империалистических монополий. Предстоит еще ликвидация наследия старой колониальной экономики, для которой были характерны излишний упор на сельское хозяйство, 271
техническая отсталость, угнетенное и бедственное положение масс. Тем не менее успехи индийского народа открывают путь в новое будущее.
Конец английского господства в Индии
В 1947 году английскому колониальному господству в Индии пришел конец и из страны были выведены английские войска. Функции правительства были переданы в Индии руководству партии Индийский национальный конгресс, во вновь созданном государстве Пакистане — руководству Мусульманской лиги.
Английские официальные и полуофициальные круги и печать, включая лейбористскую империалистическую пропаганду, обычно изображают эту передачу власти как добровольный и великодушный «дар» Индии. Они отбрасывают в сторону и игнорируют борьбу индийского народа за национальную независимость, которую он вел на протяжении многих поколений, жестокие репрессии против национального движения (в том числе заключение в тюрьму вторым лейбористским правительством 60 тысяч индийских патриотов), с тем чтобы сконцентрировать внимание на финале национальной борьбы.
Однако эта картина не соответствует тем историческим условиям, при которых произошла передача власти.
Внимательное изучение связанных с этим обстоятельств убедительно говорит о том, что отступление империализма в Индии, Пакистане, Цейлоне и Бирме не было таким «добровольным», как это иногда представляют. По мнению авторитетных и хорошо осведомленных английских наблюдателей, политические акции в упомянутых странах оказались необходимыми ввиду глубокого кризиса колониальной системы и подъема народного движения, наблюдавшегося после войны, подъема, который охватил вооруженные силы; эти 272
меры были признаны единственным средством предотвратить или отсрочить революцию.
«Перед ^прибытием английской правительственной миссии Индия, по мнению многих, стояла на грани революции. Правительственная миссия по крайней мере отсрочила, если не ликвидировала эту опасность» (П. Дж. Гриффитс, лидер фракции европейцев в индийском Центральном законодательном собрании. Выступление перед Ост-Индской ассоциацией в Лондоне 24 июня 1946 года).
В своей книге «Миссия Маунтбэттена» (1951) Алан Кэмпбелл-Джонсон приводит суждение лорда Исмэя, бывшего начальника штаба Маунтбэттена в Индии, который пытался оправдать в глазах критиков достигнутое урегулирование:
«В марте 1947 года Индия представляла собой корабль с грузом боеприпасов в трюме, охваченный пожаром посреди океана. Главное, что требовалось в то время, — это справиться с пожаром, прежде чем огонь доберется до боеприпасов. Фактически у нас не оставалось иного выбора, кроме того, что мы сделали».
Даже тогдашний редактор газеты «Дейли мейл» признал, что, если бы английское правительство захотело остаться в Индии, «ему потребовались бы оккупационные силы численностью в 500 тысяч человек», а таких сил не было и их нельзя было выделить из-за других военных обязательств Англии.
Аналогично этому рангунский корреспондент «Таймс», говоря о Бирме, указывал 28 марта 1947 года:
«Настроение английских должностных лиц, с которыми мне пришлось беседовать, можно охарактеризовать как покорность судьбе. Они единодушно заявляют, что английская политика в Бирме — это единственная политика, допускаемая нашими ресур-
273
сами, и что англо-бирманское соглашение было единственным способом избежать мощного восстания, с которым мы не могли бы справиться».
Сэр Стаффорд Криппс во время парламентских прений 5 марта 1947 года, выступая от имени английского правительства, следующим образом оправдывал проводившуюся им политику:
«Итак, какие альтернативы стояли перед нами? По существу, имелось только две альтернативы, хотя, конечно, и в ту и в другую можно было бы внести мелкие изменения. Во-первых, мы могли бы попытаться усилить английский контроль в Индии, расширив аппарат статс-секретаря [министра по делам Индии.— Ред.] и значительно увеличив численность английских войск. Потребовалось бы и то и другое, чтобы быть в состоянии в течение времени, которое оказалось бы необходимым, нести ответственность за управление в ожидании, пока индийские общины придут к соглашению. Такая политика потребовала бы от нас определенного решения остаться в Индии по крайней мере пятнадцать-двадцать лет, ибо в значительно меньший период мы не смогли бы реорганизовать управление на устойчивой и здоровой основе...
Второй альтернативой было признание нами невозможности первой альтернативы... Одно, по-моему, было явно невозможно— это решение нести в течение неопределенно длительного времени и, в сущности, вопреки нашему собственному желанию лежавшую на нас ответственность до такого момента, когда мы были бы не в силах с ней справиться».
Таким образом, из «двух альтернатив», рассматривавшихся правительством: 1) сохранить непосредственную власть англичан в Индии путем «значительного увеличения численности войск» 274
или 2) осуществить передачу политической власти в соответствии с планом урегулирования от 1947 года,— первую альтернативу правительство признавало «невозможной... Мы были бы не в силах с ней справиться». Простого читателя можно извинить, если он придет к выводу, что эти «две альтернативы» представляли собой только одну-единственную альтернативу. Если отбросить всю эту сложную парламентскую терминологию, то предполагаемые «две альтернативы» сводятся к одной. Иными словами, никакого выбора не было.
В том же духе «Манчестер гардиан» писала в редакционной статье И октября 1947 года:
«Общественное мнение гордится добродетелью Англии, выразившейся в добровольном уходе из Индии; но потомство, возможно, обратит внимание на поспешность, с какой был осуществлен этот уход... Пожалуй, будет трудно разобраться, чем была продиктована акция англичан: возвышенными ли принципами или менее возвышенным желанием добраться до убежища, прежде чем грянет буря».
Таким образом, политическое урегулирование в 1947 году не было со стороны империализма великодушным, добровольным даром свободы. Это было вынужденное отступление, продиктованное кризисом, сила которого превосходила мощь правителей, стремящихся совладать с ним, и который лишил правящую державу возможности сохранить свое господство в его старой форме.
Однако этот уход сопровождался многочисленными политическими уловками, направленными на то, чтобы в новых условиях максимально сохранить империалистические позиции в Индии и Юго-Восточной Азии. Урегулирование 1947 года, достигнутое лордом Л4аунтбэттеном во время переговоров с руководством партии Индийский национальный конгресс и Мусульманской лиги, за которым последовало подобное урегулирова275
ние на Цейлоне и в Бирме, носило двоякий характер. С одной стороны, оно свидетельствовало о том, что Англия отказывается от попыток сохранения старого колониального господства. С другой стороны, оно представляло собой компромисс между империализмом и той частью руководства национальным движением, которое задавало тон и принадлежало к верхней прослойке населения страны. Этот компромисс был направлен против опасности победоносной народной революции, которая уничтожила бы не только основу империализма, но и старую феодальную систему и монополии, связанные с империализмом. Против восстания, вспыхнувшего в начале 1946 года в индийском флоте, которое показало крах основ английского господства в Индии и вызвало отправку в Индию миссии Криппса, о чем было объявлено на следующий день после начала восстания, в равной степени выступили как империалистические заправилы, так и руководители партии Индийский национальный конгресс и Мусульманской лиги. Точно так же урегулирование, достигнутое Маунтбэтгеном, является определенным союзом — компромиссом, направленным против движения масс.
Частичной платой за этот компромисс явился раздел Индии на два государства — Индию и Пакистан. Границы их были чрезвычайно искусственно демаркированы, что привело к массовому передвижению населения, кровопролитию, общинной резне и к появлению громадного количества беженцев в обоих государствах. Так же как и уход из Ирландии в 1921 году, совершенный после провала всех попыток подавить национальное восстание, сопровождался разделом страны, последствия которого до сих пор препятствуют улучшению отношений между двумя частями Ирландии и который тормозит прогрессивное развитие страны, так и уход Англии из Индии в 1947 году сопровождался ее разделом. Возникшие в результате этого напряжение и конфликты между двумя 276
странами ослабляли то и другое государство и облегчали последующие попытки империалистов вмешиваться в их дела.
Обладая большим опытом политической игры, правители Англии, несомненно, надеялись на то, что план Маунтбэттена позволит им втянуть новые правительства Индии, Пакистана, Цейлона и Бирмы (несмотря на то, что эти страны стали политически суверенными) в тесное практическое сотрудничество с империализмом и затем сохранить этот новый вид политического и военного сотрудничества, который продолжал бы защищать основные интересы империализма. Это сотрудничество закрепило бы уже существующую тесную связь между крупнейшими монополиями трех стран с монополистами Англии. На начальных этапах развития этих государств между ними и Англией продолжали еще существовать тесные экономические, торговые, политические и военные связи. Английский капитал продолжал эксплуатировать Индию, Пакистан, Цейлон и Бирму, что приносило ему очень солидные барыши. Стратегия, дислокация вооруженных сил и их обучение— все эти вопросы теснейшим образом увязывались с английскими военными ведомствами.
На практике такие же тесные связи сохранились между Англией и Бирмой, независимость которой была провозглашена по договору 1947 года. Этот договор между Англией и Бирмой, создавший новое государство и ратифицированный английским парламентом в декабре 1947 года, взвалил на новое государство непомерное бремя задолженности в 120 миллионов фунтов стерлингов. Он предусматривал также защиту прав английских монополий, господствующих в бирманской экономике, пребывание в Бирме английской военной миссии, обучение бирманской армии английскими инструкторами, оснащение ее английским снаряжением, а также предоставление англичанам стратегических прав на использование портов и аэродромов Бирмы в качестве импер277
ских баз. Не без оснований член парламента лейборист Вудро Уайатт мог утверждать в своей речи в палате общин 5 ноября 1947 года:
«Хотя договор и выводит Бирму из состава Содружества Наций, фактически он оставляет ее в Содружестве. Он оставляет ее настолько тесно связанной с Содружеством Наций, что будет вполне правильно сказать, что мы состоим с Бирмой в весьма своеобразных отношениях, таких, каких у нас нет ни с какой другой иностранной державой. Согласие принимать военные миссии только из нашей страны, а не из какой-либо другой страны фактически означает военный союз. То же самое означают положения, предусматривающие предоставление Бирмой англичанам всех баз, которые потребуются нам всякий раз, когда мы пожелаем прийти на помощь любой части Британского Содружества Наций. Солидарность, предусматриваемая соглашением об обороне, фактически обеспечивает... отсутствие какой бы то ни было бреши в обороне Содружества Наций...»
Начальная фаза нового режима
Каков был характер новых режимов,. установленных урегулированием 1947 года? Компромисс с империализмом, нашедший свое воплощение в этих урегулированиях, неизбежно мог быть только временным и шатким. Реакционный, антинародный характер этого компромисса наиболее сильно проявился в первые годы нового режима. Но в последующие годы все сильнее и сильнее выявляются внутренние и внешние противоречия, которые положили начало развитию, особенно в Индии, новых, далеко идущих явлений.
Сохранение старого империалистического режима— такова характерная черта политики 278
новых правительств в первые годы. Был сохранен и усилен весь административный аппарат империализма: та же бюрократическая машина, суды и полиция остались в руках старых империалистических агентов и их прислужников; те же методы подавления, расстрелы полицией безоружных толп народа, массовые избиения, запрещение собраний, подавление свободы печати, заключение в тюрьму без предъявления обвинений, преследование профсоюзных и крестьянских организаций. Тюрьмы были забиты тысячами политических заключенных, принадлежащих к левым партиям и течениям. В Индии по-прежнему ревниво охраняются крупные активы, инвестиции и финансовые интересы империализма; империалисты по- прежнему продолжали эксплуатировать ее народ. Верховное командование и контроль над военными силами фактически находились в руках империалистической державы. В первые годы английский генерал-губернатор оставался на своем посту в качестве главы Союза; во всех основных провинциях Индии и Пакистана оставались английские губернаторы, а их армиями командовали английские генералы, офицеры и военные советники.
Подавление народного движения, и в особенности рабоче-крестьянского движения, вначале было жестоким. В 1948 году было начато наступление против коммунистической партии и Всеин- дийского конгресса профсоюзов, против крестьянских и студенческих организаций, против левой печати. В западной Бенгалии, а в дальнейшем и в Мадрасе коммунистическая партия была запрещена. В других провинциях ей были навязаны условия полулегального существования. Аресты, заключение под стражу или выдача ордеров на арест коснулись фактически всех видных руководителей рабочего класса. Полицейские насилия в тюрьмах и стрельба по безоружным демонстрантам на улицах повлекли за собой гибель многих людей. Репрессивные законы, унаследованные от 279
империализма, были усилены новым специальным законодательством. Всеиндийский конгресс профсоюзов сообщил, что к 1949 году в тюрьмах находилось не менее 25 тысяч рабочих и крестьянских руководителей. Подавляющее большинство из них заключено или без предъявления обвинения, или без суда.
Согласно официальным данным, опубликованным новым индийским правительством, на протяжении первых трех лет его правления, за период с 15 августа 1947 года по 1 августа 1950 года, полиция и вооруженные силы открывали огонь по народу не менее 1982 раз, убив 3784 и ранив почти 10 тысяч человек; заключено в тюрьмы 50 тысяч человек; убито в тюрьмах 82 заключенных.
Не менее знаменательно направление экономической политики. Первоначальная программа партии Индийский национальный конгресс предусматривала национализацию всех важнейших ресурсов и отраслей промышленности страны. Такая широкая национализация признавалась необходимой не только в интересах прогрессивной реконструкции, но и в целях ликвидации господствующего положения иностранного капитала в индийской экономике. Однако после сформирования правительств доминионов эта программа была положена под сукно.
Премьер-министр Неру заявил 17 февраля 1948 года:
«Никаких внезапных изменений экономической структуры не произойдет. Насколько это возможно, национализация существующих отраслей промышленности проводиться не будет».
6 апреля 1948 года была опубликована правительственная резолюция по вопросам экономической политики, подтверждавшая этот прогноз. В резолюции указывалось, что собственностью правительства будут только военные заводы, атомная энергия и железные дороги (которые 280
уже принадлежали государству). Что касается добычи угля, сталеплавильной и других важнейших отраслей промышленности, то «правительство решило дать существующим предприятиям этих отраслей возможность развиваться на протяжении десяти лет». В резолюции предусматривалось установление государственного контроля над электроэнергией и указывалось, что «остальные отрасли промышленности будут в нормальных условиях открыты для частного предпринимательства». Таким образом, от национализации отказались в угоду существующим крупным монополиям, включая крупные империалистические монополии.
В пояснительной памятной записке, опубликованной одновременно с резолюцией по вопросам экономической политики, указывалось:
«Резолюция предусматривает полную свободу для иностранного капитала и инициативы в индийской промышленности, заверяя в то же время, что эту деятельность будут регулировать в национальных интересах. Эта часть резолюции свидетельствует о признании индийским правительством необходимости иностранной помощи как в области управления производством, так и в области технического обучения и капиталовложений; индийское правительство признает разумным приветствовать иностранный капитал и иностранные навыки в дополнение к индийской инициативе».
Не без оснований журнал «Экономист» написал в номере от 7 июня 1947 года, уже в момент урегулирования по плану Маунтбэттена:
«Может сохраниться даже кое-что от формальных связей, если не будет отказа от статуса доминиона. Во всяком случае, основные стратегические и экономические связи между Англией и Индией сохранятся, пусть даже при других политических формах».
Вначале практическую связь Индии с импери* 281
ализмом можно было проследить в военной, стратегической и внешней политике, хотя вскоре возникают все растущие противоречия.
Военная система и стратегическое планирование доминионов Индии, Пакистана и Цейлона остались по-прежнему под английским контролем и руководством. Даже главнокомандующими в первый период оставались англичане наряду с сотнями английских офицеров, служивших в индийской и пакистанской армиях. Этот контроль особенно проявлялся в индийском флоте и авиации. Подготовка личного состава армии и флота, комплектование и оснащение — все это проводилось под контролем и при участии Англии, а функционирование авиабаз — под контролем английской военной авиации. На Цейлоне продолжалось расширение военно-морской базы Тринкомали как одной из главных имперских баз. В английских вербовочных пунктах на индийской территории продолжалась вербовка турков для использования их в войне против малайского народа.
В области внешней политики блокирование индийского крупного капитала с империализмом нашло открытую защиту в журнале «Истерн экономист», главном органе финансовых кругов Индии, в номере от 31 декабря 1948 года.
«Что бы ни говорили политические софисты,—писал «Истерн экономист»,—практически наша внешняя политика получила сейчас определенную ориентацию. Это ориентация в сторону такой внешней политики, которая в в первую очередь будет сохранять дружественные отношения между нами и Содружеством Наций... Связь с Содружеством Наций, которое более дружественно относится к США, нежели к СССР, означает, что фактически мы берем курс на сближение с США. Логическое следствие этого политического факта очевидно. В Организации Объединенных Наций и где бы то ни было мы не можем, за исключением какого-нибудь 282 '
незначительного вопроса, занимать позицию, противоречащую позиции Содружества Наций и США».
Лондонская декларация конференции премьер- министров доминионов, состоявшейся в апреле 1949 года, положила начало новой стадии развития. Эта декларация (признавала Индию независимой республикой (формальное провозглашение республики состоялось в январе 1950 года) в рамках Британского Содружества Наций. Британская корона признавалась главой Содружества Наций, но не царствующей над Индией. В коммюнике указывалось:
«Правительство Индии провозгласило и подтвердило желание Индии оставаться полноправным членом Содружества Наций и признание ею короля как символа свободной ассоциации независимых стран-членов и в качестве такового главой Содружества Наций».
Империалисты приветствовали лондонскую декларацию, поскольку она на практике по-прежнему привязывала Индию к Британской империи. Свои надежды англо-американские империалисты выразили более откровенно во время поездки Неру в Соединенные Штаты осенью 1949 года. В октябре 1949 года «Нью-Йорк тайме» писала:
«Свои надежды на создание демократического опорного пункта в Азии Вашингтон возлагал на Индию, вторую по величине нацию в Азии, и на человека, который определяет политику Индии, — на премьер-министра Джавахарлала Неру».
В августе 1950 года газета опять пишет:
«Для демократической страны он [Неру] является в некотором смысле противовесом Мао Цзэ-дуну. Если пандит Неру станет нашим союзником в борьбе за привлечение симпатий Азии, то это заменит нам много дивизий».
283
Блокирование с англо-американским империализмом достигло крайнего предела летом 1950 года, когда индийское 'правительство поддержало в Организации Объединенных Наций незаконную американскую резолюцию, оправдывавшую американскую вооруженную агрессию против Кореи. Но с этого момента сила возмущения индийского народа участием во вторжении и в опустошении азиатских стран, организованном западным империализмом, а также новая расстановка сил в Азии в результате победы и мощи Китайской Народной Республики внесли во внешнюю политику Индии новые и знаменательные изменения.
Англо-американский империализм в Индии
Интересы английского и меньшие, но увеличивающиеся интересы американского финансового капитала в Индии, все еще весьма значительны.
В рамках новой конституции и при новой политической власти засилье английского финансового капитала по-прежнему ощущается в индийской экономике. Индийские угольные шахты, чайные и каучуковые плантации, месторождения нефти, нефтеперегонные заводы и многие машиностроительные фирмы всё еще в основном принадлежат или находятся под контролем английских капиталистов. Английский капитал играет решающую роль в контроле над внешней торговлей Индии и операциями ее банков. Филиалы английских фирм вовлекли в свою орбиту значительное число предприятий, номинально принадлежащих индийцам. При помощи системы смешанных комбинатов и корпораций, формально являющихся индийскими, но где решающий контроль принадлежит иностранному капиталу, английские и американские монополии подчиняют себе индийские монополии в качестве младших партнеров.
По подсчету индийского Федерального резервного банка, общая сумма всех долгосрочных иностранных капиталовложений в Индии на июнь 284
1948 года составляла 6131 миллион рупий, или 460 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 4806 миллионов рупий, или 360 миллионов фунтов стерлингов (78 процентов от всей суммы), принадлежало Соединенному Королевству. Ценные правительственные бумаги, находящиеся в руках иностранцев, составляли 2926 миллионов рупий, из которых на долю Соединенного Королевства приходилось 2505 миллионов. Общая сумма капиталовложений в экономику, согласно бухгалтерским отчетам, составляла 3204 миллиона рупий, из которых на долю Соединенного Королевства приходилось 2301 миллион; рыночная стоимость иностранных вложений во все области экономики равнялась 5190 миллионам рупий, или 384 миллионам фунтов стерлингов. Из них Соединенному Королевству принадлежало 3756 миллионов рупий, или 282 миллиона фунтов стерлингов
Таким образом, в 1948 году Англия по-прежнему держала в своих руках 85 процентов иностранных займов индийского правительства, то есть 188 миллионов фунтов стерлингов; ей принадлежало 72 процента иностранных капиталовложений в экономику Индии, рыночная стоимость которых составляла 282 миллиона фунтов стерлингов, то есть в общей сложности 470 миллионов фунтов стерлингов. Это составляет четверть общей суммы английских капиталовложений за границей в 1948 году (1960 миллионов фунтов стерлингов) и более двух пятых всей суммы английских капиталовложений в империи (1111 миллионов фунтов стерлингов)'. Совершенно ясно, что с переменой режима значение Индии для английского капитализма не уменьшилось.
1 Последующие подсчеты, произведенные Федеральным резервным банком Индии в 1955 году («Перечень заграничных обязательств Индии и иностранных активов в стране»), обнаружили некоторые изменения в вышеприведенных цифрах, указанных ранее, для 1948 года. Однако в какой-либо значительной мере эти изменения не затрагивают основного вывода.
285
Однако решающее влияние, оказываемое этими капиталовложениями, представляется еще более поразительным. Из общей суммы в 384 миллиона фунтов стерлингов частных иностранных (в основном английских) долгосрочных капиталовложений в индийскую промышленность не менее 84 процентов представляют капиталовложения, обеспечивающие владение и контроль над соответствующими предприятиями. В отчете Федерального резервного банка дается анализ соотношения иностранного и индийского капитала в 1062 компаниях с оплаченным капиталом в 0,5 миллиона рупий или более; из них 93 — иностранные компании, зарегистрированные за границей, 306 — ин-
Таблица 27
СООТНОШЕНИЕ ИНОСТРАННОГО И ИНДИЙСКОГО КАПИТАЛА В КРУПНЕЙШИХ ИНДИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ В 1948 ГОДУ
% иностранного капитала к общей сумме капитала
Нефть 97
Резиновая промышленность 93
Узкоколейные железные дороги ... 90
Спички 90
Джут 89
Чай 86
Г орно добывающая промышленность
(кроме угольной) 73
Уголь 62
Каучуковые плантации 54
Банки 46
Электроэнергия 43
Кофе 37
Машиностроение 33
Пищевая промышленность 32
Бумага 28
Сахар 24
Хлопчатобумажная промышленность 21
Цемент t , . . , 5 286
дийские компании, контролируемые иностранцами, и 663 — компании, контролируемые индийцами. Получается весьма поучительная картина.
Она показывает, что иностранному капиталу принадлежит контрольный пакет (свыше 50 процентов) акций компаний, контролирующих первые девять отраслей промышленности, пакет, достаточно большой, чтобы играть в компании доминирующую роль благодаря концентрации (свыше 25 процентов) акций в следующих шести отраслях, в результате чего индийский капитал сохраняет действительно ведущую роль только «в традиционном оплоте индийской экономики — хлопчатобумажной промышленности наряду с сахарной и цементной промышленностью.
По подсчету Федерального резервного банка Индии («Перечень заграничных обязательств и иностранных активов», опубликованный в 1955 году), общая сумма долгосрочных иностранных капиталовложений в Индии на конец 1953 года составляла 10 237 миллионов рупий, или 768 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 5825 миллионов рупий (437 миллионов фунтов стерлингов) было вложено в ценные правительственные бумаги, а в экономику — 4412 миллионов рупий (331 миллион фунтов стерлингов). Рыночная стоимость частных иностранных вложений в экономику оценивалась в 5261 миллион рупий, или в 395 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы на долю Соединенного Королевства приходилось 4382 миллиона рупий, или 329 миллионов фунтов стерлингов (83 процента от общей суммы), а на долю Соединенных Штатов — 398 миллионов рупий, или 30 миллионов фунтов стерлингов (7,5 процента от общей суммы).
Таким образом, между 1948 и 1953 годами английские долгосрочные вложения в экономику Индии выросли в рыночной стоимости с 384 миллионов фунтов стерлингов до 394 миллионов, или с 72 процентов всех иностранных долгосрочных вложений в экономику Индии до 83 процентов.
287
Что же извлекают до сих пор иностранные империалистические компании из Индии? Вот оценка, которую пытался дать один индийский экономист:
«Перепись иностранных активов и пассивов показывает, что проценты, дивиденды и прибыли, получаемые иностранцами, составляют около 400 миллионов рупий в год. Различные объяснения по поводу «платежного баланса», приведенные Федеральным резервным банком, показывают, что, поскольку «основную часть нашего импорта обычно дают или гарантируют иностранные компании», наши платежи им могут составлять в среднем 500—600 миллионов рупий в год. Что же касается нашего экспорта, то эта цифра также составляет сотни миллионов.
Согласно заявлению, сделанному в парламенте на прошлой неделе министром финансов, мы должны платить пенсии 16 905 лицам в Соединенном Королевстве, и общая сумма таких платежей, произведенных за три финансовых года (1948/49, 4949/50, 1950/51), составляет около 286,2 миллиона рупий, то есть свыше 95 миллионов рупий в год.
И, наконец, мы должны произвести большие платежи по погашению комиссионных нескольким иностранным банкам в Индии, которые по-прежнему монополизируют почти всю внешнюю торговлю страны. В настоящий момент по этому вопросу нет никаких достоверных данных, но, учитывая все прежние данные и нынешнее увеличение торговли — по объему и по стоимости, — эта сумма вполне может составить 250— 300 миллионов рупий» («Кросроудс», Бомбей, 14 сентября 1951 года).
Согласно этим данным, исчисленным на основе только приведенных цифр (исключая «сотни мил- 288
лионо-в» по Экспорту Индии), общая цифра составит 1245—1395 миллионов рупий, то есть примерно 90—105 миллионов фунтов стерлингов _в год. Такова ежегодная дань, получаемая империализмом с Индии после предоставления ей политической независимости.
В последний период американский капитал начал предпринимать все более активные шаги для проникновения в Индию, но сумма вложенного до сих пор американского капитала, хотя он и стоит на втором месте после английского, все еще оставалась сравнительно ограниченной (в 1953 году — 30 миллионов фунтов стерлингов частных вложений в экономику, или одна одиннадцатая часть всех английских вложений). Следует помнить, однако, что американские капиталы часто скрываются за номинальными французскими, бельгийскими или даже индийскими владельцами, и, таким образом, официальные данные отнюдь не раскрывают истинного положения дел.
В то же время Соединенные Штаты весьма активно стремились вытеснить Англию с индийского рынка, о чем свидетельствуют цифры, приведенные в таблице 28.
Таблица 28 индийский ИМПОРТ 1948/49 И 1950/51 ГОДЫ (в млн. рупий)
1948/49 г.
1950/51 г.
Из Соединенного Королевства . .
1530
1227
Из Соединенных Штатов Америки
1087
1558
Общий импорт
Соединенное Королевство, % к об¬
5429
5655
щей сумме
Соединенные Штаты Америки,
28,2
21,7
% к общей сумме
20,0
27,6
Ю Р. Палм Датт
289
Таким образом, Соединенное Королевство, которое в 1948/49 и в 1949/50 годах все еще занимало первое место на индийском рынке, в 1950/51 году уступило это место Соединенным Штатам.
Далее, политика американского финансового капитала и правительства, хотя и уделявшая основное внимание захвату индийского рынка и проявлявшая первоначально значительную осторожность в деле экспорта капитала, в этот период проводила широкие мероприятия с целью подготовки почвы для дальнейшего широкого финансового проникновения в Индию. Об этом свидетельствовала весьма активная роль, которую играли в Индии американская дипломатия и печать. Об этом же свидетельствовали и отправки в Индию многочисленных технических миссий. Следует отметить, что, излагая программу «четвертого пункта», как Ачесон, так и президент Трумэн подчеркивали, что Индия является первым районом, выбранным ими для осуществления этой программы.
Новый этап в истории проникновения англо- американского финансового капитала -в Индию наступил в конце 1951 года, когда между индийским правительством и крупнейшими американскими и английскими нефтяными трестами были заключены соглашения о строительстве в Индии гигантских нефтеочистительных заводов.
Соглашение, заключенное с «Вакуум ойл компани оф Нью-Йорк», было подписано в ноябре 1951 года и предусматривало, что компания создаст в Индии филиал с капиталом в рупиях, равным 35 миллионам долларов (свыше 12 миллионов фунтов стерлингов), для строительства нефтеочистительного завода с производственной мощностью в миллион тонн в год. 25 процентов всего капитала должно было быть предложено индийским инвеститорам в форме привилегированных акций без права голоса, тогда как обычные акции должны были оставаться в руках основной компании в Нью-Йорке.
«Граждане нашей страны не смогут 290
участвовать в обычном капитале и, следовательно, в прибылях, распределяемых в виде обычных дивидендов» («Хиндустан тайме», 4 декабря 1951 года).
«Индийцы не будут иметь права голоса в контроле и руководстве этой компании» («Коммерс», 8 декабря 1951 года).
Правительство Индии дало обязательство не национализировать компанию в течение двадцати пяти лет и предоставить все возможности для вывоза из страны ежегодных прибылей. Оно гарантировало таможенную защиту на срок в десять лет и освободило компанию от необходимости выполнять некоторые положения закона о развитии и регулировании промышленности.
Соглашение, подписанное в декабре 1951 года с принадлежащим англичанам концерном «Бирма шелл ойл», предусматривало такие же условия при основании компании для строительства нефтеочистительного завода с производственной мощностью в полтора миллиона тонн в год с капиталом 220 миллионов рупий (свыше 16 миллионов фунтов стерлингов), из которых 20 миллионов рупий, или одиннадцатая часть, могли быть приобретены индийскими вкладчиками в виде привилегированных акций без права голоса.
В результате третьего соглашения, заключенного с другой американской нефтяной компанией, общая сумма капитала, предназначенного для создания компаний, находящихся под полным контролем англо-американских монополий и приносящих им барыши, превысила 40 миллионов фунтов стерлингов.
Новый этап в осуществлении этой программы широкого проникновения американского финансового капитала в Индию наступил в начале 1952 года, когда было объявлено о соглашении, подписанном между индийским правительством и правительством Соединенных Штатов по вопросу о создании индо-американского фонда технического сотрудничества. Уже в декабре 1950 года 10*
291
Индия подписала с Соединенными Штатами соглашение на основе «четвертого пункта». В 1951 году Индия получила от американского Управления экономического сотрудничества заем на сумму 190 миллионов долларов на покупку продовольствия. Новое соглашение, подписанное в начале 1952 года, предусматривало выдачу до июня 1952 года немедленного аванса в сумме 50 миллионов долларов на создание индо-американского фонда технического сотрудничества и предоставление новых авансов на протяжении пятилетнего периода на общую сумму 250 миллионов долларов. Эти средства должны были (быть использованы не на промышленное развитие страны, а на работы, «основная цель которых состояла в повышении производительности сельского хозяйства» («Хиндустан тайме», 6 января 1952 года). Этот фонд должен был управляться -совместно американским директором фонда технического сотрудничества и представителем индийского министерства финансов. Было предусмотрено, что директором будет американский чиновник, назначенный правительством Соединенных Штатов, который станет работать под общим наблюдением американского посла в Индии. Далее было указано, что этот американский директор и его персонал будут пользоваться «всеми привилегиями и иммунитетом, включая неподсудность индийскому суду, какими пользуются в Индии подданные Соединенных Штатов».
В последующий период, однако, по мере изменения курса внешней политики страны, анализируемого ниже, все сильнее проявляется тенденция к оказанию сопротивления этой односторонней зависимости от англо-американского капитала. Индия устанавливает более тесные экономические отношения с Китаем и Советским Союзом. Индосоветское соглашение, подписанное в феврале 1955 года, знаменует новую фазу в отношениях обеих стран. Это соглашение предусматривает строительство с помощью Советского Союза и 292
оснащение советским оборудованием металлургического комбината в Индии производительностью в миллион тонн стали в год. Стоимость его должна составить 33 миллиона фунтов стерлингов. Условия и сроки строительства были чрезвычайно благоприятны и были приняты индийским правительством, несмотря на контрпредложения со стороны английских фирм. Позднее было объявлено о заключении соглашения с группой английских фирм о строительстве другого металлургического завода, а затем подобное соглашение было заключено с западногерманской фирмой Круппа. Когда в 1956 году Международный банк реконструкции и развития вначале отказал в предоставлении Индии финансовой помощи для осуществления второго пятилетнего плана, Советский Союз предложил ей заем .в сумме 45 миллионов фунтов стерлингов. Тогда Международный банк реконструкции и развития пересмотрел свое решение и выразил готовность оказать Индии некоторую финансовую помощь. Таким образом, новое направление политики Индии способствовало укреплению экономической независимости страны.
Помимо той роли, которую играли в Индии в тот период англо-американские экономические и финансовые интересы, необходимо также отметить и значение англо-американского дипломатического и стратегического вмешательства в дела Индии и Пакистана в первые годы после 1947 года. Особенно это проявилось в вопросе о Кашмире.
Раздел страны привел не только к дезорганизации экономической и административной жизни Индии и Пакистана, но и к постоянным трениям между правительствами Индии и Пакистана. Такое положение создало благоприятные условия для вмешательства империалистов. Затянувшийся спор между правительствами Индии и Пакистана по вопросу о судьбе Кашмира, приведший даже к военным действиям на протяжении некоторого периода (причем командовали вооруженными силами обоих государств в этот ранний период английские 293
военнослужащие), создал исключительно благоприятные условия, позволившие английским и американским империалистам вмешаться в этот спор. Американские империалисты особенно усердно использовали машину Организации Объединенных Наций для посылки целого ряда «умиротворителей», представителей для ведения переговоров, пограничных комиссий и военных экспертов. Особый интерес, проявленный к Кашмиру, показывает не только значение Кашмира и его большие экономические потенциальные возможности, но и его стратегическое значение как страны, находящейся близ границ Советского Союза.
Постоянные военные трения между Индией и Пакистаном, а также репрессии внутри этих стран привели к необходимости содержать такие вооруженные силы и производить такие расходы на военные цели, которые возложили непосильное бремя на оба государства. Эти расходы составили половину всего бюджета, не считая больших расходов на полицию. Это -бремя, а также влияние, которое оказывала реакционная социальная и экономическая система, сильно задерживали конструктивное экономическое развитие.
Однако и здесь изменения во внешней политике страны положили начало важным событиям. В 1953 году попытке Соединенных Штатов втянуть премьер-министра Кашмира в заговор с целью отделения Кашмира от Индии Индия и большинство комитета Национальной конференции Кашмира оказали решительное сопротивление, сместили премьер-министра Кашмира и приняли решение об окончательном включении Кашмира в Индийский Союз. Индийское правительство принудило американского адмирала Нимица покинуть Кашмир, где он с 1949 года подвизался в качестве «администратора Организации Объединенных Наций по проведению плебисцита». В 1954 году такая же судьба постигла и большую группу американских военных и штатских «наблюдателей», действовавших в Кашмире.
294
Индия и борьба за мир
Выдающейся чертой развития Индии за последнее время является важная и все возрастающая роль, которую под руководством премьер-министра Неру она играет в борьбе за мир во всем мире. Индии наряду с Китаем принадлежит первостепенная роль как в выражении чаяний народов Азии, так и в организации их сопротивления агрессивным военным планам американского империализма, в стремлении к достижению целей мира, что неразрывно связано с делом национальной свободы.
Конференция стран Азии и Африки, состоявшаяся в 1955 году, помогла вовлечь в борьбу за эти цели другие народы Азии, Среднего Востока и Африки.
Этот исторический рост роли Индии в мире является результатом важнейших изменений, происходящих в самих странах Азии и в соотношении сил на этом континенте. Решающим поворотным моментом, открывшим эту новую эру в истории Азии, явилась победа китайской народной революции. В 1949 году, после окончательного изгнания с континента вооруженных и субсидировавшихся американцами контрреволюционных сил, была провозглашена Китайская Народная Республика. Китай уже был крупнейшей страной в Азии и во всем мире. Новый, народный Китай выдвинулся теперь среди колониальных и зависимых стран Азии как ведущий представитель победоносного освобождения, как народ, сбросивший оковы феодализма и империалистической эксплуатации, быстро идущий по пути социального и экономического прогресса, и как великая мировая держава, с несокрушимой силой и единством которой империалистический мир вынужден считаться.
Индийское правительство незамедлительно сделало выводы из этого нового положения в Азии. Раньше его политика, хотя и независимая, 295
была более тесно связана на практике с империалистическим лагерем; теперь индийское правительство стало стремиться также к установлению тесных отношений с Китайской Народной Республикой, быстро признало ее и обменялось послами. Эти новые тенденции получили мощную поддержку индийского народа, который был повсеместно охвачен горячим восторгом по поводу победы китайской народной революции и ненавистью к кровожадной, разбойничьей роли западного империализма в Азии.
Американское вторжение в Корею окончательно выявило это новое положение. Официальный индийский делегат в Лейк-Саксессе сначала подал свой голос за злополучную и незаконную резолюцию «Объединенных Наций», которая санкционировала вторжение в Корею американского военного блока, не дожидаясь, когда будут выслушаны доказательства, и отказавшись выслушать представителей Корейской Народно-Демократической Республики. Индийское правительство оказало этому вторжению западных империалистов в азиатскую страну частичную, половинчатую поддержку, послав в Корею на помощь завоевателям медицинский отряд.
Но это соучастие в преступлении вызвало сильнейшее возмущение среди всех слоев индийской общественности, которая была охвачена энтузиазмом при виде героической борьбы корейского народа против варварского массированного нападения армий, военно-морских и военно-воздушных сил западного империализма.
Уже 13 июля 1950 года, когда не прошло еще и двух недель после начала американского наступления в Корее, премьер Неру обратился к премьеру Сталину с посланием, в котором объяснил, что индийское правительство желает мирного урегулирования корейского конфликта.
«Цель Индии — локализовать конфликт и помочь быстрому мирному урегулированию путем ликвидации теперешнего тупика 296
в Совете Безопасности так, чтобы представитель народного правительства Китая мог занять свое место в Совете, чтобы СССР мог вернуться в Совет и чтобы в рамках Совета или вне его, путем неофициального контакта, СССР, Соединенные Штаты Америки и Китай, при содействии и сотрудничестве других миролюбивых государств, могли найти основу для прекращения конфликта и окончательного разрешения корейской проблемы».
Премьер Сталин ответил:
«Приветствую вашу мирную инициативу. Вполне разделяю вашу точку зрения насчет целесообразности мирного урегулирования корейского вопроса черев Совет Безопасности с обязательным участием представителей пяти великих держав, в том числе народного правительства Китая».
Когда китайское правительство предупредило, что Китай не сможет стоять в стороне, если войска интервентов перейдут 38-ю параллель с целью покорить всю Корею, индийское правительство правильно поняло серьезность этого предупреждения (в то время как генерал Макартур не принял его во внимание, а американские власти игнорировали его как фантазию) и воздержалось в октябре 1950 года от голосования по важной резолюции Объединенных Наций, которую Соединенные Штаты протолкнули для того, чтобы прикрыть дальнейшую агрессию.
С этого момента Индия начала часто и подчеркнуто воздерживаться от голосования — а в некоторых случаях она даже голосовала против,— когда в Организации Объединенных Наций выдвигались важные резолюции, проталкиваемые Соединенными Штатами, стремящимися осуществлять свою политику войны. Образовался так называемый «арабо-азиатский блок», который выражал свою непричастность к агрессивным мероприятиям империалистического военного лагеря и 297
который представители империалистических держав обвиняли в «нейтрализме».
Этот первоначальный сдвиг во внешней политике не означал, что индийское правительство порвало свои связи с лагерем империализма или перешло сразу же к последовательной политике оппозиции против планов войны и империалистической агрессии. Практическое сотрудничество продолжалось, например, в форме поставок оружия и финансовой поддержки совместно, с англичанами правительству Такин Ну для войны против бирманского народа, в форме предоставления транспортных средств французскому правительству для ведения войны 'против Вьетнама и в форме -предоставления возможности для вербовки на индийской территории турков для ведения войны против малайского народа (хотя разоблачение со стороны Коммунистической партии Индии заставило индийское правительство в 1952 году предпринять шаги для прекращения вербовки на индийской территории, хотя еще и разрешало их перевозку). Практически экономическое и финансовое сотрудничество с империализмом стало даже еще теснее, о чем говорят соглашения, достигнутые в 1951 году, о создании англо-американских монопольных объединений в Индии, которым фактически предоставлены экстерриториальные права, и учреждение индо-американского фонда технической помощи в 1952 году. Неоднократное уклонение Индии от голосования в Организации Объединенных Наций или отдельные случаи голосования против резолюций, протаскиваемых Соединенными Штатами, не означали выдвижения ее дипломатическими представителями за границей какой-либо альтернативной позитивной политики. Посол Индии в США г-жа Пандит 19 сентября 1951 года заявила в Нью-Йорке:
«Мы сожалеем, что слово «нейтрализм» применяется к нам в нашем (положении. На последних сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 298
38 случаях из 51 мы голосовали так же, как и вы, одиннадцать раз воздержались от голосования и только два раза голосовали не так, как вы».
Тем не менее признаки перемен бесспорны, и чем дальше, тем больше свидетельствовали они о том, что политика Индии развивается в направлении политики мира, особенно после кризиса в Юго- Восточной Азии в 1954 году. Хотя официальная внешняя политика все еще явно недостаточно отражала подлинные антиимпериалистические настроения народа, все же даже эти первые осторожные жесты воздержания от голосования создали дополнительные затруднения для империалистических военных планов, показав, что большинство населения земного шара выступает против Соединенных Штатов и их Атлантического военного блока. Этих признаков было достаточно, чтобы показать империалистам, что нельзя больше рассчитывать на Индию как на партнера по осуществлению их военных планов, что происходящие политические события могут быстро привести к решительному изменению позиции Индии и ее отходу от лагеря империализма.
Кризис, возникший в Юго-Восточной Азии в 1954 году, способствовал развитию этого нового направления во внешней политике Индии. Военный союз, заключенный между Соединенными Штатами и Пакистаном в начале 1954 года, глубоко возмутил общественное мнение в Индии. Этот союз явился открытой попыткой втянуть в американские военные планы весь полуостров Индостан. Весной 1954 года этот вопрос еще более обострился в связи с войной во Вьетнаме. В то время как Соединенные Штаты добивались объединенных военных действий во Вьетнаме и немедленного заключения военного пакта для Юго-Восточной Азии (чему в апреле 1954 года сопротивлялось английское правительство), Индия явилась инициатором созыва -конференции пяти держав в Коломбо (Индия, Пакистан, Цей299
лон, Бирма и Индонезия) с целью выработки общей позиции по вопросу о недопустимости вмешательства в дела других стран и о достижении мирного урегулирования на базе признания национальной независимости вьетнамского народа. Согласованная декларация воплотила эти принципы, хотя правительства Пакистана и Цейлона показали на конференции свою ориентацию на Соединенные Штаты. Индийская дипломатия играла активную роль на Женевском совещании, способствуя установлению мира. Встреча же в Дели премьера Чжоу Энь-лая и премьера Неру в июне 1954 года (после заключения соглашения между Индией и Китаем относительно торговли и сношений между Тибетским районом Китая и Индией) представляла такое событие в международной жизни, которое по своему значению не уступало — что повсеместно признавалось — состоявшейся в это время встрече президента Эйзенхауэра с премьер-министром Черчиллем в Вашингтоне.
В совместном заявлении о переговорах Чжоу Энь-лая с Неру, опубликованном 28 июня 1954 года, говорилось:
1) Переговоры между премьер-министрами имели целью содействовать усилиям, направленным на мирное урегулирование, которое осуществляется в Женеве и в других местах.
2) Их основная цель заключается в том, чтобы прийти к более ясному пониманию взглядов каждого из них, с тем чтобы содействовать сохранению мира как при сотрудничестве друг с другом, так и с другими странами.
3) Премьер-министры признают, что в различных частях Азии и мира существуют различные политические и общественные системы, однако если пять принципов будут приняты, то можно будет установить мирное сосуществование и дружеские отношения.
4) Премьер-министры выразили уверенность, что дружба между Индией и Китаем будет содействовать делу мира в Азии.
300
5) Премьер-министры согласились, что их соответствующие страны должны сохранить тесный контакт, с тем чтобы между ними продолжало иметь место полное взаимопонимание.
Пять принципов, известные как панча шила и включенные в преамбулу соглашения между Китаем и Индией относительно торговли и сношений между Тибетским районом Китая и Индией, гласят:
а) взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга;
6) взаимное ненападение;
в) взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга;
г) равенство и взаимная выгода;'
д) мирное сосуществование.
Эта совместная декларация индийского и китайского правительств явилась новой исторической ступенью в развитии Азии.
Посещение премьером Неру Китая осенью
1954 года, его поездка в Советский Союз летом
1955 года и ответный визит в Индию советской правительственной делегации в конце 1955 года явились дальнейшими шагами, направленными на укрепление дела мира.
Индия и конференция стран
Азии и Африки в Бандунге
Новый значительный шаг, направленный на расширение сотрудничества в деле укрепления мира, был предпринят пятью странами — участниками конференции в Коломбо на их встрече в Богоре в конце 1954 года, где было решено пригласить 25 других правительств стран Азии (включая Китайскую Народную Республику) и Африки на конференцию стран Азии и Африки, созываемую в Бандунге в апреле 1955 года. На Бандунгскую конференцию собрались руководители правительств 29 государств Азии и Африки (Афгани301
стан, Бирма, Камбоджа, Цейлон, Китайская Народная Республика, Египет, Эфиопия, Золотой Берег, Индия, Индонезия, Ирак, Япония, Иордания, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Непал, Пакистан, Филиппины, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Таиланд, Турция, Демократическая Республика Вьетнам, Южный Вьетнам и Йемен). На конференции было представлено полтора миллиарда человек. Таким образом, эта уникальная конференция по величине представленного на ней населения могла потягаться с Организацией Объединенных Наций, представительный характер которой все еще ограничен. Еще более знаменательным было то, что здесь впервые так широко были представлены народы, которые раньше все находились, а некоторые еще находятся под игом империалистического господства. Не менее знаменательным был и успех конференции, несмотря на многочисленные попытки, инспирированные империалистическими кругами, вызвать раскол на конференции. Бандунгская конференция единодушно приняла решения в поддержку пяти принципов мирного сосуществования, подробно изложенных в десяти пунктах декларации конференции; за национальную свободу, против колониализма и расовой дискриминации; за запрещение ядерного и термоядерного оружия; за экономическое и культурное сотрудничество народов Азии и Африки; решения по особым вопросам, касающимся Западного Ириана, Палестины, Адена и североафриканских народов.
Конференция стран Азии и Африки 1955 года, на которой ведущая роль принадлежала Индии и Китайской Народной Республике, выступила от имени большинства населения земного шара в поддержку дела мира и национальной свободы. Она с убедительной силой показала новое соотношение сил в мире, а также направляющую роль Индии в ускорении этого нового процесса развития, имеющего такое большое значение для будущего человечества.
302
Новые прогрессивные тенденции во внешней политике Индии, развивающиеся в то время, когда английское консервативное правительство проводило агрессивную империалистическую политику, неизбежно должны были привести и привели к напряжению в отношениях между Индией и Англией в рамках Содружества Наций. Индия стала на сторону общественности и решительно выступила против военного пакта для Юго-Восточной Азии, в котором Англия объединилась с Соединенными Штатами, а также против Багдадского пакта, где союзниками Англии были Пакистан, Ирак и Иран. Этого расхождения не смогла ликвидировать лондонская конференция премьер- министров Британского Содружества Наций в 1955 году.
Особого обострения это расхождение между двумя странами достигло во время суэцкого кризиса и англо-франко-израильской войны против Египта. На лондонской конференции по вопросу о Суэцком канале, созванной в августе 1956 года, Индия выступила против плана «восемнадцати», предусматривающего восстановление иностранного контроля над Суэцким каналом. Индия предложила другой план, направленный на мирное урегулирование конфликта на базе уважения национального суверенитета Египта, права собственности и контроля над каналом и предусматривающий согласованные международные гарантии, обеспечивающие законные права пользователей канала. Такой план, приемлемый для Египта, мог бы обеспечить мирное урегулирование вопроса, а также и бесперебойные поставки нефти западным державам. Когда же Англия и Франция вместо этого предпочли развязать безрассудную и бесславную войну против Египта, Индия справедливо осудила эту агрессивную войну и голосовала против Англии и Франции в Организации Объединенных Наций.
Возникший в результате этого кризис в отношениях двух членов Содружества Наций вскрылся, 303
когда наиболее известный и старейший государственный деятель Индии Ч. Р. Раджагопалача- рия, первый генерал-губернатор после Маунтбэт- тена и основатель Индийской Республики, открыто предложил выйти из содружества. Такое предложение давно и настойчиво выдвигали левые силы, и оно, несомненно, пользовалось широкой народной поддержкой.
«Несомненно, что выход из содружества, если бы он был провозглашен в первые дни военных операций в районе Суэцкого канала, вызвал бы в стране почти единодушный энтузиазм» («Таймс», 7 декабря 1956 года).
Однако премьер-министр Неру убедил партию, Индийский национальный конгресс и парламент отвергнуть это предложение. Выступая в комитете Индийского национального конгресса 9 ноября 1956 года, он доказывал, что «для дела мира полезнее остаться в настоящий момент в Содружестве Наций, однако это не означает, что нельзя порвать связи с Содружеством Наций». Несколькими днями позже, предлагая отвергнуть предложение о выходе из содружества, он более полно разъяснил свою мысль индийскому парламенту: «Последние события заставили их вновь продумать этот вопрос, но они пришли к выводу, что, хотя они свободны выйти из содружества в любой момент, они ничего не добьются, сделав этой сейчас. Он считает, что, если даже Содружеству Наций и не удалось в данном случае сохранить мир, все же в общем оно является силой, способствующей сохранению стабильности, «полезной для нас и также полезной для Англии» («Таймс», 21 ноября 1956 года).
Индийский народ идет вперед
Новое положение Индии на международной политической арене связано с теми новыми и глу- 304
бокйми изменениями в политической и экономической жизни внутри страны.
Опыт последнего периода все яснее указывает на то, что старые силы в Индии идут к упадку и на передний план выходят новые силы, хотя имеется еще немало противоречий и нерешенных проблем.
Республика Индия была провозглашена в 1950 году. Была принята демократическая конституция, предоставляющая населению всеобщее избирательное право. В первых всеобщих выборах в 1952 году имели право голоса 180 миллионов человек. Из них 104 миллиона приняли участие в выборах; на которых баллотировались 17 тысяч кандидатов и в которых участвовали 75 партий.
В первое десятилетие после получения независимости все политическое устройство Индии было реорганизовано с целью ликвидации искусственных и жестких границ и раздробленности, которые были навязаны Индийским национальным конгрессом или сохранялись им.
К 1956 году были окончательно ликвидированы княжества, которые империализм сохранял как опору своей власти и как противовес национально-освободительному движению. Этот процесс, постепенно осуществляемый посредством ряда успешных слияний отдельных районов и княжеств и ограничения власти князей (которым все же сохранили громадные доходы и некоторые формальные полномочия), натолкнулся на значительное сопротивление и даже на угрозы применения силы со стороны реакционных кругов, поддержанных связанными с ними некоторыми кругами в Англии. Сардар Валлабхай Патель, по поручению правительства проводивший эти преобразования, открыто заявил в Учредительном собрании в июле 1948 года:
«Мы отдаем себе полный отчет о тех махинациях, к которым прибегали привилегированные группы как в Индии, так и в Соединенном Королевстве с целью оставить Индии наиболее тяжелое наследие. Энергич305
но проводилась в жизнь балканизация Индии. В громадных масштабах раздувались волнения и беспорядки».
Несмотря ни на что, все попытки воспротивиться этому процессу, включая вооруженное сопротивление, оказанное войсками низама в Хайдерабаде, были сломлены объединенной силой индийского народа.
Сложная задача ликвидации искусственной раздробленности Индии, насажденной империалистами, и создание штатов на лингвистической основе были завершены к ноябрю 1956 года (за исключением бывшего округа Бомбей, преобразованного в двуязычный — маратхи и гуджерати — штат). Таким образом, с княжествами было окончательно покончено.
Значительные изменения наблюдаются и во внутренней политике страны. Партией Индийский национальный конгресс, являвшейся в течение предшествующих десятилетий традиционной массовой организацией национального движения, руководила национальная буржуазия. После смены режима в 1947 году эта партия стала правящей партией и продолжала оставаться главной политической организацией Индии. Хотя ее руководство, возглавляемое Неру, составляли люди, руководившие национальным движением во времена борьбы против империализма, подвергая себя угрозе репрессий и тюремного заключения, аппарат партии оказался сильно засорен крупными и мелкими представителями привилегированных групп, монополистов, крупных помещиков, спекулянтов и других темных дельцов, которые ринулись в партию, когда она стала правящей. Это, конечно, не означает, что партия потеряла свою опору в массах. В первые годы, выступая как представитель национальных чаяний и единства, как противник общинной розни и инициатор смелых демократических реформ, а также обращаясь к своим прошлым заслугам в национальной борьбе и используя громадную популярность и притягательную силу такого руководителя, 306
как Джавахарлал Неру, эта партия была еще в состоянии сохранить за собой значительную, хотя и уменьшающуюся (как показали результаты выборов 1952 года) поддержку масс. Однако в этот период в массах возникло разочарование, вызванное, в частности, ухудшающимися экономическими условиями. Растет недовольство правыми лидерами и представителями крупного капитала, засевшими в аппарате партии. Партия уже не пользуется поддержкой большинства избирателей. От партии откололось несколько групп. В последующие годы, несмотря на недовольство среди рабочих, бедных крестьян и мелкой буржуазии условиями жизни, прогрессивная международная политика, проводимая премьером Неру, достигнутые с 1951 года определенные экономические успехи, смелые планы экономической реконструкции, относящиеся ко второму пятилетнему плану, и провозглашение цели достижения «социалистической структуры общества» приостановили процесс упадка и распада партии и в основном сохранили ей поддержку масс.
Крайняя реакция пыталась воспользоваться этими трудностями и создать массовые общинные организации. В первые годы после раздела страны отношения между общинами достигли опасной точки, и для борьбы против этой опасности необходимы были объединенные усилия всех демократических сил. Убийство Ганди сторонниками общинной розни явилось кульминационным пунктом. После этого они все сильнее дискредитируют себя и, несмотря на щедрые расходы и мощную поддержку, пользуются очень ограниченным влиянием.
После достижения независимости наблюдается сдвиг масс влево, а не вправо. В первые же годы независимости наблюдается резкий подъем боевого духа у рабочего класса и крестьянства. Особенно это проявилось в крестьянском восстании, охватившем Теленгану (Южная Индия). Здесь, на территории в 13 тысяч квадратных миль (равной одной четвертой части площади Англии), где расположено две тысячи деревень и проживает четыре миллиона 307
человек, крестьяне захватили и перераспределили земельные владения крупных помещиков, избрали народные административные комитеты и организовали эффективную вооруженную оборону против войск низама.
Опубликование в 1951 году новой программы Коммунистической партии Индии послужило для всего левого движения важной политической вехой, показавшей путь к единству рабочего класса и крестьянства, к созданию широкого народно-демократического фронта для достижения целей национальной независимости, отделения от Британской империи, ликвидации помещичьего землевладения, демократических реформ, социального и экономического прогресса, а также создания в Индии народной демократии.
Результаты всеобщих выборов в Индии, происходивших в конце 1951 года и в начале 1952 года на базе всеобщего избирательного права, показали, что в стране произошли изменения в расстановке политических сил. Они показали, что партия Индийский национальный конгресс, которая на выборах 1946 года получила 80—90 процентов голосов, то есть больше половины всех голосов, собрала сейчас 42 процента голосов, то есть меньше половины всех голосов. Правда, ей все же удалось получить большинство мест в парламенте. Коммунистическая партия и ее союзники, собравшие 6 миллионов голосов и получившие 37 мест в центральном парламенте и 236 мест в законодательных собраниях штатов, выдвинулись как главная оппозиционная группа, соперничающая с партией Индийский национальный конгресс.
Особенно важными были успехи, достигнутые коммунистами и их союзниками в Мадрасе, Хайдерабаде, Кочин-Траванкуре, Бенгалии и Трипуре. В провинции Андхра (которая в предыдущий период являлась решающей базой крестьянской борьбы и, по заявлению руководства партии Индийский национальный конгресс, была важным критерием народной поддержки) коммунисты в своей борьбе 308
за 63 места получили 1 452 516 голосов против 998 530 голосов, полученных партией Индийский национальный конгресс.
Эти результаты показывают, что широкий демократический народный фронт, созданный благодаря инициативе и руководству коммунистической партии, уже завоевал значительную поддержку масс в ряде районов Индии.
После выборов 1952 года произошло слияние социалистической партии с «Праджа парти» (Народной партией — группой, отколовшейся от партии Индийский национальный конгресс); на базе программы, определенной как синтез гандизма и марксизма, была создана «Праджа сошалист парти» (Народно-социалистическая партия). Секретарь этой партии Джайяпракаш Нараян посвятил свои усилия пропаганде движения, известного под названием Бхудан. Это движение, начатое Винобой Бхаве, противопоставлялось крестьянскому восстанию в Теленгане и ставило своей целью разрешение аграрной проблемы путем убеждения помещиков в необходимости добровольной передачи части своей земли безземельным крестьянам.
Четвертый съезд Коммунистической партии Индии, состоявшийся в апреле 1956 года, указал путь вперед всем демократическим силам нации для выполнения «задачи создания национального единства в целях борьбы за мир, защиты и укрепления свободы, национальной реконструкции, защиты жизненных интересов масс и расширения демократии».
На выборах 1957 года еще явственнее проявились новые явления в политической обстановке. Индийский национальный конгресс удержал за собой большинство мест в центральном парламенте и во всех, за исключением двух, штатах. Однако выборы вновь показали, что коммунистическая партия является второй партией в стране. Число голосов, поданных за нее, удвоилось и достигло 12 миллионов. Она получила абсолютное большинство в новом штате Керала, образованном при 309
слиянии двух старых штатов — Траванкур-Кочин и Малабар. Значительных успехов добился также предвыборный союз коммунистов и социалистов в Западной Бенгалии. В частности в Калькутте он получил 18 из 26 мест. В Бомбее и объединенных провинциях Индийский национальный конгресс потерял часть своих позиций в пользу социалистов и коммунистов. Все эти явления указывают то направление, по которому пойдет дальнейшее политическое развитие и сдвиг влево в Индии.
Экономическая реконструкция
Не только во внутренней и внешней политике Индии происходят значительные изменения. После достижения независимости, и особенно в самый последний период, большие и множащиеся с каждым днем перемены происходят также и в области экономической реконструкции страны.
Тяжелое и труднопреодолимое наследие колониальной экономики, отсталость и застой, господство иностранного капитала, феодальные отношения в сельском хозяйстве, общественные противоречия, вопиющая нищета, неграмотность населения, болезни и отсутствие какого-либо социального обеспечения — вот в каком положении находился индийский народ после двух столетий английского правления, на пороге своего независимого развития.
Без ликвидации основных черт колониальной экономики, простой сменой административного режима невозможно было разрешить глубокие экономические противоречия, доставшиеся Индии и Пакистану в наследие от периода империалистического господства. Однако экономическое положение Индии и Пакистана в первые годы после 1947 года продолжало ухудшаться, и только первый пятилетний план положил начало экономическому оживлению в Индии.
О сохранении колониального характера экономики свидетельствовало медленное развитие тяже310
лой промышленности и упор на страдающее от перенаселенности сельское хозяйство и легкую промышленность. Доля зависимого от сельского хозяйства населения, равная в 1891 году 61,1 процента, в 1931 году достигла 65,5, а к 1951 году выросла до 69,8 процента. Доля же промышленных рабочих, которые составляли в 1911 году 5,5 процента всего населения, в 1941 году снизилась до 5,1, а в 1951 году была равна 4,6 процента. Производство стали к концу 1951 года достигло уровня чуть больше 1 миллиона тонн в год, а к 1955 году поднялось до 1,3 миллиона тонн.
Продолжается аграрный кризис. Законодательные меры, предусматривающие отмену наследственного помещичьего землевладения типа заминда- ри и джагирдари, были в конце концов осуществлены в большинстве штатов и нанесли удар по феодальным пережиткам. Однако эффективность этих мер была снижена тяжелыми условиями компенсации, а также значительными лазейками для помещиков. На практике получилось так, что гнет помещиков только изменил свою форму и продолжал давить на крестьянские массы. К этому добавлялось бремя ростовщиков и сборщиков податей. В результате — дальнейшее обнищание крестьянства и многочисленные случаи лишения крестьян земельных наделов. В первые годы после достижения независимости урожайность продовольственных культур снизилась с 607 фунтов с акра в 1943—1944 годах до 520 фунтов в 1948—1949 годах, а в 1950—1951 годах упала до 480 фунтов.
По мере роста цен снижались реальные доходы народных масс. Индекс стоимости жизни в Бомбее (1934 год = 100) поднялся с 259 в 1946 году до 363 в 1953 году, или на 40 процентов. Реальная заработная плата не могла угнаться за ростом стоимости жизни. «Реальная заработная плата в Индии еще не достигла довоенного уровня» (из доклада ООН о социальном положении в мире, 1952). На основе тщательного изучения уровня заработной платы и цен в различных частях Индии 311
профессор Радха Камал Мукерджи в своей книге «Индийский рабочий класс» (третье издание, Бомбей, 1951) пришел к выводу:
«В настоящее время на грани нищеты находится более значительная часть индийского рабочего класа, чем до войны. Основная часть рабочих Индии находится ниже этой грани».
Национальный доход на душу населения, исчисленный в постоянных ценах 1938/39 года, снизился с 83 рупий в 1931/32 году до 77 рупий в 1945/46 году, 75 рупий в 1946/47 году и 70 рупий в 1948/49 году («Экономический обзор Азии и Дальнего Востока», ООН, 1950. В обзоре приводятся индийские провинции по старому делению, существовавшему до раздела страны).
Первый пятилетний план развития, принятый в 1951 году, положил начало небольшому экономическому росту. На экономическое развитие по плану было ассигновано 23 560 миллионов рупий (1767 миллионов фунтов стерлингов). План все же исходит из требований колониальной экономики: на развитие промышленности (крупных и средних предприятий) выделено только 6 процентов всех средств, а на развитие сельского хозяйства— 15 процентов, на ирригацию и энергетику — 28 процентов и на развитие транспорта — 24 процента. Характерно, что план предусматривал достижение только к 1955 году довоенного уровня национального дохода. В действительности же его контрольные цифры не предусматривали даже и этого. В плане была поставлена задача увеличить национальный доход с 90 миллиардов рупий в 1950/51 финансовом году до 100 миллиардов в 1955/56 году, то есть на 11 процентов,-что равно, с учетом прироста населения на 6,25 процента, увеличению национального дохода на душу населения на 5 процентов. Поскольку, однако, национальный доход на душу населения снизился между 1931/32 и 1948/49 финансовыми годами, по приведенным выше данным ООН, на 16 процентов, то 312
запланированным увеличением дохода на 5 процентов на душу населения нельзя даже достигнуть нищенского уровня 1931/32 года.
В ходе выполнения первого пятилетнего плана были перевыполнены его первоначальные задания. За пять лет национальный доход увеличился на 18 процентов, а на душу населения — на 11 процентов. Промышленное производство возросло между 1951 и 1955 годами, исчисляя на основе пересмотренного индекса (1951 г. = 100), на 22 процента. Производство электроэнергии увеличилось с 6,6 миллиарда киловатт-часов в 1950/51 году до 11 миллиардов в 1955/56 году. Производство продовольственных культур возросло на 20 процентов. Было дополнительно орошено 16 миллионов акров земли. Потребление продовольствия на душу населения, составлявшее в 1950/51 году 1398 калорий, а в 1953/54 году— 1623 калории в день, увеличилось к 1956 году до 2200 калорий. Покупательная способность населения возросла на 9 процентов.
Несмотря на успехи, достигнутые в годы первого пятилетнего плана, перед Индией в 1956 году все еще стояли трудные проблемы экономического развития и повышения низкого жизненного уровня населения. Это признает официальный доклад Комиссии по планированию, посвященный второму пятилетнему плану (1956):
«Жизненный уровень населения Индии является одним из самых низких в мире. Среднее потребление продовольствия в Индии ниже принятой нормы питания; потребление тканей на душу населения составляло в 1955/56 году около шестнадцати ярдов и еще не превысило довоенного уровня; ощущается сильная нехватка жилищ; только половина детей в возрасте 6—11 лет и меньше одной пятой детей в возрасте И—14 лет посещают школу. Около половины населения Индии имеет возможность расходовать в месяц в среднем 13 рупий (19 шиллингов
313
6 пенсов) на потребительские товары. Потребление энергии в Индии на душу населения равно V73 части потребления в США, СТаЛИ 1/122»-
Новые направления в международной ориентации Индии и успехи ее демократических сил оказали влияние на внутреннее положение страны и на подход к решению экономических проблем. Это проявилось в характере второго пятилетнего плана, который был опубликован в окончательном виде в феврале 1956 года.
Второй пятилетний план (1956—1961) коренным образом отличается от первого подходом к решению экономических проблем. В плане сделан значительный упор на индустриализацию (хотя практически в окончательном варианте плана этому уделено значительно меньше внимания, чем в первоначальном проекте плана). Возрастает и роль государственного сектора промышленности. План предусматривает новые капиталовложения в сумме 72 миллиардов рупий (5400 миллионов фунтов стерлингов), из которых 48 миллиардов рупий (3600 миллионов фунтов стерлингов) должен дать государственный сектор. Доля государственных инвестиций в обрабатывающую промышленность (крупные и средние предприятия) и горнодобывающую промышленность составляет 14,4 процента (517 миллионов фунтов стерлингов). Основной упор здесь сделан на сталелитейную промышленность, мощность которой должна увеличиться с 1,5 миллиона до 5,5 миллиона тонн стали в год. Была поставлена задача увеличения валовой национальной продукции на 25 процентов (сельскохозяйственной продукции — на 18 процентов, горнодобывающей — на 58 процентов, обрабатывающей— на 64 процента). На этой основе национальный доход на душу населения должен возрасти на 18 процентов — с 281 рупии (21 фунт 11 шиллингов) до 331 рупии (24 фунта 17 шиллингов).
Под нажимом частных монополистических интересов первоначальные задания плана претерпели 314
весьма значительные изменения. В частности были уменьшены задания по индустриализации страны; в пользу частного сектора было меньше уделено внимания государственному сектору, и в то же время был сделан больший упор на методы финансирования плана за счет иностранных займов и на дефицитное финансирование, что может породить инфляцию и связанные с нею опасности, а также возложить на плечи народных масс тяжелое бремя лишений. Все это уменьшило значение плана в его окончательном и.утвержденном виде. И все же даже это робкое начало нового направления экономического планирования в целях национальной реконструкции и индустриализации характеризует план как явление новое, положительное и знаменательное.
Эта экономическая программа индустриализации, государственного вмешательства в экономику и роста государственной собственности, а также подъема жизненного уровня сопровождалась официальным провозглашением генеральной линии развития, сформулированной с помощью социалистической терминологии.
В декабре 1954 года индийский парламент принял резолюцию:
«Целью нашей экономической политики является социалистическая структура общества; и для достижения этой цели нужно в максимально возможной степени усилить темп экономической деятельности вообще и промышленного развития в частности».
На своем съезде в Авади в январе 1955 года партия Индийский национальный конгресс приняла резолюцию, провозглашающую основной целью партии «создание социалистической структуры общества», в котором: а) основные средства производства являются или социалистической собственностью или находятся под социалистическим контролем; б) производство прогрессивно возрастает; в) устанавливается справедливое распределение национального богатства; г) занятость населения 315
прогрессивно возрастает с целью достижения полной занятости в течение десяти лет.
В этом официальном провозглашении цели создания «социалистической структуры общества» отражено растущее влияние в Индии социалистических идей, хотя имеются значительные расхождения в толковании этого тезиса. Некоторые делают упор на гандистское понимание роли ремесел и децентрализацию производства. Других взглядов придерживается ведущий представитель монополистического капитала Г. Д. Бирла. В своем выступлении перед Федерацией индийских торгово-промышленных палат он заявил в 1955 году, что социалистическая структура общества ничего общего с социализмом как таковым не имеет. Политика правительства, однако, направлена на расширение сферы государственной собственности в промышленности. Резолюция правительства об экономической политике, принятая в апреле 1956 года, заменила ранее принятую резолюцию 1948 года по этому вопросу и содержала очень широкий перечень отраслей промышленности, которые должны стать государственной собственностью. Сюда вошли, в частности, металлургия, тяжелое машиностроение и электрооборудование, станкостроение, атомная энергия, транспорт и электроэнергетика, минеральные ресурсы и их эксплуатация.
Сопротивление этой программе со стороны крупных монополистических компаний нашло свое выражение в заявлении крупнейшего промышленного магната Дж. Р. Д. Тата, председателя концерна «Тата айрон энд стил компани». В ежегодном отчете в сентябре 1956 года он отверг идею «социалистической структуры общества» как «неестественное сочетание политической демократии и экономического единовластия».
Об оппозиции иностранных монополий прямо говорится в отчете Международного банка реконструкции и развития, представляющего финансовый капитал Соединенных Штатов. Отчет, составленный в августе 1956 года, дает отрицательную 316
оценку второму пятилетнему плану и критикует его «как слишком претенциозный», а также за то, что он предоставляет недостаточные возможности частной инициативе и иностранному капиталу («он -скорее терпит, чем поощряет иностранные предприятия»).
На эти нападки индийское правительство официально ответило словами министра финансов в октябре 1956 года, который заявил, что «индийское правительство не убеждено в том, что частная прибыль является единственной силой, способной обеспечить рентабельное производство; не верим мы в то, что частное предприятие обладает врожденными преимуществами перед государственными предприятиями. В действительности тот небольшой опыт работы государственных предприятий, который мы накопили, убеждает нас в том, что они часто являются более продуктивными, чем частные».
Битва классовых интересов продолжается, и этот процесс еще не окончен для Индии. В этой битве принимают непосредственное участие западные финансовые картели, прилагающие огромные усилия для сохранения и увеличения своей роли в экономике Индии. Но политика правительства в своей основе направлена на достижение программы ускоренной национальной реконструкции, независимой от контроля иностранного капитала и в которой возрастающую роль будут играть государственная собственность и государственный контроль. Нет никакого сомнения, что демократическое общественное мнение Индии в основной своей массе сильно настроено в пользу идей социализма. В то же время осуществление частичных мер по земельной реформе и ликвидация крупного помещичьего землевладения усилили стремление крестьянских масс к полной ликвидации помещичьего землевладения.
Перед крупными проблемами стоит еще индийский народ, и было бы утопией считать, что эти 317
проблемы можно разрешить без дальнейшей борьбы как в экономической, так и в политической области жизни. Но у всех на виду и признаки того, что индийский народ идет вперед. Прогрессивные силы индийского народа уже одержали выдающиеся успехи в области международной политики и в почине реконструкции страны. Можно быть уверенным в том, что они пойдут вперед по пути достижения целей полного политического, экономического и социального освобождения.
Пакистан в кризисном состоянии
В первые годы после урегулирования 1947 года — годы резких перемен и углубляющегося кризиса — ход событий в Пакистане заметно отличался от пути, по которому шла Индия.
В Индии более прогрессивное развитие создало для нового правительства сравнительно крепкую опору. В Пакистане же, являющемся по сравнению с Индией экономически более отсталым и где господствующую роль играет кучка могучих феодальных семейств, с самого начала воцарился режим оголтелой реакции и жестокого подавления масс. Между Западным Пакистаном, в котором проживает 33 миллиона человек, то есть меньшинство населения страны, но в котором сосредоточены основные силы, правящие страной, и Восточным Пакистаном с населением в 42 миллиона человек, что составляет 57 процентов всего населения, существуют определенные разногласия. Эти разногласия усиливаются теми расхождениями, которые существуют внутри самого Западного Пакистана между правящими элементами Пенджаба и других провинций. Мусульманская лига не имела таких глубоких корней в народе, какие имел Индийский национальный конгресс в Индии. Установленный в Пакистане режим с самого начала носил явно продажный характер. Вместо‘более стабильного политического развития, которое наблюдается 318
в Индии, здесь верхушка правящего класса занимается дворцовыми интригами и происходят неожиданные правительственные перевороты. Начатый в 1951 году крупный процесс против видных представителей левых сил и военных деятелей, обвиненных в «заговоре», показал уже тогда, насколько обстановка в Пакистане чревата взрывами. После продолжительного закрытого разбирательства суд приговорил обвиняемых к тяжким мерам наказания. Коммунистическая партия была запрещена.
В апреле 1953 года генерал-губернатор Гулам Мохаммед сместил премьер-министра Назимуд- дина, и его место занял тогдашний посол в Соединенных Штатах Мохаммед Али. Этот переворот не имел никакого отношения ни к мнению избирателей, ни к мнению парламента. Он означал замену господствующего до этого в стране английского влияния американским господством. За этим последовали щедрые подачки и займы Пакистану со стороны правительства Соединенных Штатов, а новое правительство Пакистана приступило к переговорам о заключении военного пакта с Соединенными Штатами, согласно которому США предоставили бы Пакистану вооружение и военных инструкторов и оказали ему помощь в строительстве военно-воздушных баз.
В январе 1954 года премьер-министр Неру сделал очень резкое предупреждение о том, какое значение может иметь такой военный пакт между Соединенными Штатами и Пакистаном. Он может означать, заявил Неру, что «свобода в Азии отступает и колесо истории поворачивается вспять... Потенциально Пакистан становится зоной войны, а его политика во все большей степени подпадает под контроль других». Последовавшие вскоре за этим события подтвердили правоту его заявления.
В марте 1954 года в Восточном Пакистане состоялись первые после образования Пакистана всеобщие выборы, проведенные на основе всеобщего избирательного права. Мусульманская лига потер-
319
пела сокрушительное поражение, получив только 8 мест из 309. Победу одержал Объединенный фронт (коалиция демократических партий). Выдвинув прогрессивную демократическую программу, он получил 97 процентов всех голосов. 19 мая был подписан военный пакт между Соединенными Штатами и Пакистаном. Не прошло и двух недель после подписания пакта, как 30 мая генерал-губернатор распустил правительство Восточного Пакистана, сформированное Объединенным фронтом, распустил на неопределенное время парламент и установил единовластие губернатора, то есть диктатуру, которую осуществлял генерал Мирза. Затем последовали повальные аресты всех демократических лидеров.
К октябрю 1954 года кризис охватил весь Пакистан. Генерал-губернатор объявил о введении чрезвычайного положения и о временном роспуске Учредительного собрания. Хотя за Мохаммедом Али остался титул премьер-министра, в действительности все время власть находилась в руках генерала Мирзы, министра внутренних дел (позднее ставшего генерал-губернатором).
Стоит отметить, что генерал-губернатор Гулам Мохаммед (старый чиновник английской службы в Индии), совершая все эти произвольные антидемократические перевороты, открыто обосновывал свои действия разделом 92а Акта правительства Индии от 1935 года. Этот акт был навязан порабощенной Индии консервативным правительством Болдуина и провозглашен действительным для Пакистана семь лет спустя после якобы достигнутой в 1947 году «свободы». Генерал Мирза не скрывает своего враждебного отношения к демократии. Он заявил, что Пакистан «еще не подготовлен к демократическим процессам» и им нужно «управлять британскими методами».
«Для англичанина, — сообщала «Таймс» 2 декабря 1954 года, — это очень сильно смахивает на систему управления одной из крупных колоний».
320
Турецко-пакистанский пакт, подписанный в апреле 1954 года, непосредственно включил Пакистан в цепь американского военного блока на Среднем Востоке, а последовавшее затем его вступление в пакт Юго-Восточной Азии привело в ряды военных союзников Соединенных Штатов в Восточной Азии. Участие Пакистана в ряде созданных империалистами военных пактов на Среднем Востоке было дополнено его присоединением в 1955 году к Багдадскому пакту, заключенному между Англией, Ираком, Турцией и Ираном.
Все эти меры, направленные на подчинение Пакистана экономическому и политическому господству и военным целям западного, особенно американского, империализма, ни в коем случае не соответствовали настроению и чаяниям народа Пакистана.
«Все сходится на том, —сообщал 6 декабря 1954 года корреспондент газеты «Таймс» из города Дакка, — что, если бы были проведены новые выборы, Объединенный фронт одержал бы вторую безраздельную победу». Осенью 1955 года под давлением народного недовольства происходят политические перемены: Мусульманская лига и политическая группа, входившая ранее в прежний Объединенный фронт, формируют новое коалиционное правительство; выходят на свободу ряд политических заключенных; начинается подготовка к новым выборам.
Бурные события и крутые перемены, происходящие в Пакистане за эти годы, продемонстрировали всю шаткость установленного в стране режима. Тот факт, что правители Пакистана за это время превратили страну в сателлита Соединенных Штатов, не оставляет никаких сомнений в том, что кризис в стране будет углубляться. Через какие бы испытания и битвы ни пришлось пройти народу Пакистана, несомненно, что он, как и народ Индии, найдет ■свою дорогу к будущему прогрессу, вступив на путь освобождения вместе с другими народами Азии.
1 1 Р. Палм Датт
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ИМПЕРИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ВОСТОКА
Афганистан, Транскаспия, Персия являются, с моей точки зрения... частями шахматной доски, на которой ведется игра за господство над миром... Будущее Великобритании... будет решаться не в Европе, а на том континенте, откуда впервые пришла наша переселявшаяся раса и куда ее потомки вернулись как завоеватели.
Лорд Керзон, Персия и персидский вопрос, т. I, 1892, Введение, стр. XIV.
Нет в мире другого района, где бы все конфликты и противоречия современности переплелись столь тесно в единый узел, как на Среднем Востоке.
Здесь находится наиболее развитая и сосредоточенная база империалистической колониальной и полуколониальной эксплуатации, выросшая вокруг богатейших источников нефти; здесь арена, на которой с наибольшей остротой проявляется империалистическое соперничество, особенно англо-американское соперничество, усложненное конфликтом между Израилем и арабскими государствами, который сам порожден условиями империализма; здесь центральный стратегический район империалистических планов создания военной базы, направленной против Советского Союза; здесь наиболее острые социальные противоречия между прежними продажными феодальными правителями или военными диктатурами и живущими в нищете народными массами; наконец, в этом районе освободительная борьба против империализма достигла высокого уровня.
322
Становление империи на Среднем Востоке
Средний Восток является самым последним районом интенсивного развития современного империализма. Если колонизация Южной и Восточной Азии развивалась с XVII по XIX столетие, а на африканском континенте основная борьба за территории и их раздел происходила в последние десятилетия XIX столетия, распространение империалистического господства на Среднем Востоке наблюдалось в основном в XX столетии, особенно после первой мировой войны, вслед за окончательным крушением и развалом Турецкой империи.
Само название «Средний Восток» в его нынешнем значении появилось в языке империалистической дипломатии в этот последний период.- Раньше страны Малой Азии, омываемые Средиземным морем, были известны под названием стран Леванта, или — вместе с балканскими провинциями Турецкой империи — как «Ближний Восток». Термин «Средний Восток» распространялся на Персию, Закавказье, Афганистан, Туркестан, Синцзян и даже Тибет. Это изменение в терминологии соответствовало изменению центра тяжести империалистических интересов. В современном дипломатическом обиходе к «Среднему Востоку» относят все страны от восточных берегов Средиземного моря и до границ Афганистана
1 Географический язык империализма, возникший еще в ранний период колониальных экспедиций западноевропейских держав и укоренившийся в мировой географии и дипломатии, заслуживает специального изучения, которое могло бы вскрыть много интересных сторон этого развития. Например, острова Карибского моря до сих пор называют «Вест- Индией». Огромный район, охватывающий Китай и западную часть Тихого океана, до сих пор называют «Дальним Востоком». Было бы вполне справедливо, если бы какой-нибудь современный китайский гражданин, который вздумает проанализировать агрессивную и грабительскую роль западных держав как главных инициаторов современных мировых войн, в отместку за многие увесистые тома, посвященные «проблеме Дальнего Востока», написал бы книгу о «проблеме Дальнего Запада».
Ц* 323
В XX веке этот район стал центром империалистической политики и столкновений интересов. Правда, Египет, который из-за его исторических связей как провинции бывшей Турецкой империи, а также вследствие религиозных и культурных связей египетского народа в современном обиходе причисляют обычно к странам «Среднего Востока», стал полем битвы западных держав гораздо ранее. Египет превратился в объект финансового и экономического проникновения с тех пор, как оц предоставил в 50-х годах XIX столетия концессию на Суэцкий канал, строительство которого было закончено в 1869 году. Страна подпала под двойное англо-французское господство в 70-х годах и фактически стала английской колонией, оккупированной английскими войсками после бомбардировки Александрии в 1882 году по приказу Гладстона. Кипр приобретен Англией в 1878 году; первоначально на основе ежегодных платежей Турции, возмещение которых было возложено на народ Кипра. Иран «открыт» с тех пор, как Англия в 1901 году получила нефтяную концессию, и после раздела между Англией и царской Россией «сфер влияния» в 1907 году. Англо-германская борьба за господство на Среднем Востоке (проект «Берлин — Византия — Багдад») была одной из главных причин первой мировой войны.
Однако главные империалистические державы Запада завоевали Средний Восток лишь после первой мировой войны, подвергнув его военной оккупации, разделу, интенсивной экономической эксплуатации и установив там свое политическое господство. В период первой мировой войны английский империализм поощрял и поддерживал движение арабских народов против Турецкой империи в расчете на то, что после ее развала Англия займет место Турции в этом районе. Однако, когда стало ясно, что национальное движение арабов приближается к победе и что оно направлено не на смену хозяев, а на достижение подлинной независимости, чему способствовала победа русской революции 1917 года, '324
английские правящие круги провозгласили в 1917 году декларацию Бальфура, взяв под свою опеку сионизм как противовес арабскому национально-освободительному движению и тем самым посеяв семена арабско-еврейского конфликта на Среднем Востоке, явившегося одним из главных орудий осуществления империалистического господства.
На Среднем Востоке стремились утвердиться все империалистические державы. Острое англо-французское соперничество в начальный период все больше уступало место — по мере ослабления французского империализма — англо-американскому соперничеству. Тем не менее на протяжении многих лет, вплоть до середины XX столетия, Англия занимала господствующее положение на Среднем Востоке. Покупка правительством Дизраэли акций Суэцкого канала в 1875 году и аналогичная покупка Черчиллем от имени английского правительства акций Англо-Персидской нефтяной компании в 1914 году явились новой вехой в политике экспансии, осуществляемой при открытом участии правительства и финансовых магнатов.
После первой мировой войны творцы политики английского империализма, учитывавшие неизбежное в будущем ослабление английского господства над старейшей базой империи — Индией, лелеяли смелые надежды на «новую средневосточную империю» как на будущий центр и оплот Британской империи. Они были дальновидны, но недостаточно. Они не предвидели усиливающейся угрозы американского империализма, стремящегося вытеснить влияние Англии на Среднем Востоке, и тем более не предвидели быстрого развития народного возмущения, которое опрокинуло, как карточный домик, все их планы создания «новой средневосточной империи». -
Основное, что интересовало империалистов на Среднем Востоке, — это нефть. Две трети известных мировых запасов нефти находятся на Среднем Востоке; запасы нефти в этом районе более чем в 325
четыре раза превышают запасы нефти в США. С 1913 по 1939 год добыча нефти Англо-Персидской (впоследствии Англо-Иранской) нефтяной компанией увеличилась с 248 тысяч тонн до 10 329 тысяч тонн, или в сорок раз, а с 1939 по 1950 год она возросла еще в три раза, достигнув 32 259 тысяч тонн.
В течение периода действия английской концессии в Иране капиталовложения Англо-Иранской нефтяной компании составили около 22 миллионов фунтов стерлингов; однако ее прибыли на этот капитал составили 700—800 миллионов фунтов, из которых 224 миллиона пошли английскому правительству (в том числе 175 миллионов в виде подоходного налога) и только 105 миллионов фунтов было уплачено Ирану (почти за 300 миллионов тонн нефти, вывезенной из этой страны).
Между 1938 и 1953 годами добыча нефти на Среднем Востоке увеличилась в семь раз, при этом Соединенные Штаты заменили Англию как ведущая держава.
Таблица 29
ДОБЫЧА НЕФТИ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ, 1938—1953 ГОДЫ (в млн. тонн)
Всего
США
Англия
1938 г
16
2
12
1953 г
122
72
39
Таким образом, доля США увеличилась в тридцать шесть раз, тогда как доля Англии утроилась.
Огромные прибыли, полученные западными державами от средневосточной нефти за первое послевоенное десятилетие, составили, по некоторым данным, более двух миллиардов фунтов.
326
«Есть известное основание для предположения, что между 1945—46 и 1954 годами средневосточные нефтяные операции принесли компаниям (5 американским и 4 английским) прибыль в сумме 2 миллиардов фунтов стерлингов» («Манчестер гардиан», 17 марта 1955 года).
О растущей нищете народов, чей труд и чьи страны служат источником этих прибылей, говорил на заседании экономической комиссии Багдадского пакта министр здравоохранения и просвещения Пакистана Захлруддин:
«Процент лиц, страдающих от недоедания, увеличился в этом районе за последние несколько лет с 38 до 56%, а заболеваемость туберкулезом, продолжающая нарастать, более чем в четыре раза превышает соответствующие цифры для европейских стран» («Таймс», 4 декабря 1956 года).
Политическая тактика империализма в странах Среднего Востока заключалась в применении не прямого колониального господства, а косвенного господства под вывеской формальной «независимости». Это достигалось посредством субсидируемых или контролируемых правителей и королей, насаждаемых империализмом, и через продажную реакционную феодальную знать, которая участвует в разделе добычи. Договоры предусматривали сохранение баз, экономических и военных миссий и прямую военную оккупацию или содержание морских и воздушных баз в целом ряде ключевых пунктов. На практике эти режимы являлись реакционными диктатурами, прибегавшими к самым жестоким репрессиям против своих народов, лишая их демократических прав и подвергая массовым полицейским преследованиям, арестам, тюремному заключению, концентрационным лагерям и казням.
Против этих условий иностранного господства и эксплуатации, реакционного правления и крайней нищеты восстают все народы Среднего Востока. Уже вскоре после второй мировой войны Сирия 327
й Ливан завоевали национальную независимость; на протяжении пятидесятых годов Египет успешно вел свою борьбу за независимость, добившись вывода английских войск из Египта и в конце концов из зоны Суэцкого канала, хотя еще оставались навязанные англо-египетским договором 1954 года ограничения относительно возможности обратной оккупации зоны канала. В последнее время Египет и Сирия играли ведущую роль в оказании сопротивления империалистическим военным планам на Среднем Востоке. К этому сопротивлению империализму в последнее время присоединилась Иордания, а Саудовская Аравия оказала ему поддержку.
Все эти противоречия достигли высшей точки в период англо-франко-израильской войны против Египта в 1956 году и последующих маневров, направленных на усиление прямого вмешательства Соединенных Штатов.
Борьба Египта за свое освобождение
Египет — крупнейшая из средневосточных стран, с населением 22 миллиона человек в 1955 году, которая дольше всего находилась под господством западного империализма, — с самого начала занимал ведущее положение в национально-освободительной борьбе на Среднем Востоке. Стратегическое значение Египта для империализма было подчеркнуто начальником имперского генерального штаба фельдмаршалом Слимом в его беседе с египетским премьер-министром Нахас-пашой летом 1950 года. Он сказал:
«Всякий, кто хочет удержать в своих руках Средний Восток, должен удерживать Египет... Египет является ключом к Среднему Востоку. Тот, кто владеет Египтом, — владеет Средним Востоком» (Из египетской Зеленой книги об англо-египетских переговорах, июнь 1950 года).
328
Борьба египетского народа против английской военной оккупации и английского господства не прекращалась на протяжении всех семидесяти лет начиная с 1882 года. Провозглашение номинальной «независимости» Египта в 1922 году (в условиях объявленного Англией военного положения) не изменило подлинного положения зависимости и военной оккупации страны. В соответствии с англоегипетским договором 1936 года английские войска были выведены лишь из Каира и Александрии и сконцентрированы в зоне Суэцкого канала. Прямое колониальное господство Англии в Судане продолжалось под прикрытием «кондоминиума».
В 1951 году египетское правительство, возглавлявшееся партией «Вафд», денонсировало договор 1936 года и кондоминиум. В ответ на это английское правительство значительно увеличило численность своих войск в зоне канала; возникли вооруженные столкновения, в результате которых было много убитых и раненых.
Провал всех других методов подавления народного движения повлек за собой переходов 1952 году к методам жесточайших репрессий. Было введено военное положение; вафдистское правительство было смещено. После провала ряда реакционных кабинетов 23 июля 1952 года военный переворот генерала Нагиба привел к установлению военной диктатуры группы молодых офицеров, заменившей правление короля Фарука.
В феврале 1953 года правительство Нагиба подписало с Англией соглашение о будущем статусе Судана, предусматривавшее трехлетний переходный периодов течение которого должна была действовать провозглашенная английским правительством в 1952 году конституция, с избираемым суданским парламентом и суданским кабинетом министров, но при сохранении за английским генерал- губернатором высшей конституционной власти и положения главнокомандующего вооруженными силами, а также'особой ответственности за Южный Судан; по окончании этого трехлетнего периода 329
суданский парламент получал право выбора между независимостью и союзом с Египтом или Англией.
Движение Судана к независимости оказалось более быстрым, чем предусматривало англо-египетское соглашение 1953 года. Под сильным антиимпериалистическим давлением народа кабинет Азари настоял на выводе из страны в течение 1955 года всех английских офицеров и гражданских чиновников, за исключением генерал-губернатора. В конце 1955 года, после мощных народных демонстраций, требовавших отозвания генерал-губернатора, последний поспешно подал в отставку, новый губернатор назначен не был. 1 января 1956 года Судан провозгласил свою независимость.
Центральной проблемой отношений западных держав и Египта являлся Суэцкий канал. В июле 1954 года египетское правительство, возглавляемое уже премьер-министром полковником Насером, подписало с Англией соглашение о будущем статусе зоны Суэцкого канала. По этому соглашению предусматривалась эвакуация английских войск в течение двадцати месяцев; для обслуживания сооружений базы в зоне канала на период в семь лет должны были оставаться 4000 английских специалистов на положении гражданских лиц; Англии предоставлялось право вновь активизировать эту базу в случае, если какая-либо арабская страна или Турция подвергнутся нападению. После заключения этого соглашения, высвободившего английские войска численностью 80 тысяч человек, британская стратегия стала уделять главное внимание Кипру, создавая там крупнейшую на Среднем Востоке английскую базу.
Английские и американские империалисты приветствовали эти соглашения между Англией и египетской военной диктатурой в качестве шага к осуществлению своей конечной цели — вовлечению Египта в тесный военный союз с западными державами. Американские империалисты не скрывали своего удовлетворения определенным ослаблением 330
стратегического положения Англии; не скрывали они и своих надежд на вовлечение Египта в тесный экономический, финансовый и военный союз с Соединенными Штатами в районе Среднего Востока. Однако все эти расчеты не оправдались, ибо не были учтены национальные стремления Египта. О новых тенденциях в политике правящих кругов свидетельствовала оппозиция Египта в 1955 году империалистическим планам создания военных пактов, связывающих Турцию, Ирак, Иран и Пакистан, а также участие премьер-министра Насера в Бандунгской конференции. Западные державы пытались оказать давление на Египет, обусловив поставку оружия для обороны страны (в период, когда Израиль превосходящими военными силами осуществлял целый ряд агрессивных выступлений против Египта) принятием Египтом военных планов Запада и его вступлением в Багдадский пакт или другой подобный союз. Египетское правительство президента Насера смогло противодействовать этому давлению и сохранить свою независимость, заключив осенью 1955 года соглашение о ввозе оружия из Чехословакии. Это сопровождалось все более тесными экономическими отношениями с Советским Союзом, народно-демократическими странами Восточной Европы, Индией и Китаем.
Таковы предпосылки суэцкого кризиса, развившегося в течение 1956 года и вылившегося в открытую войну Англии и Франции против Египта за насильственное восстановление оккупации зоны Суэцкого канала.
Борьба Ирана против нефтяных монополий
Эксплуатация богатых нефтяных ресурсов Ирана и беспощадное подавление народа в условиях господства крайней нищеты и порабощения явились классической демонстрацией империалистиче- 331
скйх полуколониальных методов XX столетия. Л. С. Элвелл-Саттон в опубликованной в 1955 году авторитетной работе «Иранская нефть» 1 подробно рассматривает сложную сеть империалистических интриг и соперничества, извлечение фантастических прибылей за счет нищеты народа, использование продажной феодальной верхушки или военных диктаторов для прикрытия империалистического господства, а также описывает длительную борьбу иранского народа за свое освобождение.
Демократическая революция 1906 года в Иране была первым в Азии откликом на вдохновляющий пример русской революции 1905 года; она заставила шаха-деспота согласиться на создание меджлиса — первого в Азии парламента. Однако в результате заключения в 1907 году договора между Англией и царизмом и раздела Ирана на сферы влияния революция была разгромлена.
Полувековая борьба иранского народа против английских нефтяных монополий достигла в 1951 году новой, высшей точки с принятием закона о национализации собственности Англо-Иранской нефтяной компании и создания взамен нее Иранской национальной нефтяной компании. Эта попытка осуществить национализацию вызвала острое раздражение английского лейбористского правительства как представителя английского империализма и репрессивные меры с его стороны. Лейбористское правительство ответило посылкой военных кораблей в Персидский залив. Характерно, что сразу же после провала переговоров официальный орган лейбористской партии выступил с воинственной и угрожающей передовой статьей, которая напоминала худшие времена кайзера или Джозефа Чемберлена:
«Англия не собирается уходить из Абадана—этого крупного нефтеперерабатывающего 1 В переводе на русский язык указанная книга выпущена Издательством иностранной литературы в 1956 году. — Прим, ред.
332
центра, являющегося основой всей нефтяной промышленности. Эттли ясно заявил об этом в парламенте. Кабинет позаботился о том, чтобы привести в готовность корабли и другие вооруженные силы для защиты английского персонала на этом нефтяном предприятии.
Крейсер «Юриалес» водоизмещением 5770 тонн находится у Абадана. Кроме того, там же стоят четыре эсминца и два сторожевых корабля. В случае необходимости могут быть посланы корабли с Мальты и Цейлона.
Английские военно-воздушные силы также имеют крупные базы в Ираке, Египте, Персидском заливе и в Трансиордании» («Дейли гералд», 23 августа 1951 года).
Такое бряцание оружием отнюдь не было признаком силы, и после отказа Соединенных Штатов поддержать какую-либо английскую военную акцию в Иране англичане вынуждены были в октябре 1951 года покинуть Абадан. Нет никакого сомнения в том, что советско-иранский договор 1921 года, дающий Советскому Союзу право ввести свои войска для предотвращения вооруженного вторжения в Иран других держав, которые могут превратить его в базу для военных действий против Советского Союза, послужил защитой иранскому народу, заставив англо-американских империалистов дважды подумать, прежде чем предпринять какую-либо военную авантюру в Иране.
Поскольку прямое военное вмешательство оказалось невозможным, были предприняты всевозможные формы нажима на Иран как посредством экономического бойкота с целью приостановления работы предприятий нефтяной промышленности, так и посредством внутренних интриг и организации контрреволюционных заговоров, направленных на свержение правительства Мосаддыка, который под сильным давлением народных масс продолжал оказывать сопротивление иностранным нефтяным 333
Монополиям. В конце концов прибегли к военному перевороту и установлению военной диктатуры. В августе 1953 года при поддержке шаха было свергнуто правительство Мосаддыка и установлена военная диктатура генерала Захеди.
В августе 1954 года была достигнута договоренность с иностранными нефтяными монополиями, которая в сентябре была оформлена соглашением. По этому соглашению был создан иностранный консорциум (в котором доля Англо-Иранской компании составляла 40 процентов, американских фирм — 40 процентов, «Ройял Датч шелл» — 14 процентов и французских ' фирм — 6 процентов) для добычи и обработки иранской нефти, которая формально оставалась национализированной, но фактически по этому соглашению возвращалась иностранным монополиям. Основным изменением, которое внесло соглашение 1954 года, была замена ранее безраздельной монополии Англо-Иранской нефтяной компании на такое положение, при котором она обладала лишь меньшинством (при незначительном большинстве для объединенных английских капиталов Англо-Иранской компании и «Ройял Датч шелл») и согласилась на американское участие в эксплуатации нефти. После заключения этого соглашения Англо-Иранская компания стала именоваться «Бритиш петролеум компани» (Английская .нефтяная компания) и выпустила четыре премиальные акции на каждую ранее существовавшую акцию, увеличив свой капитал до 120 миллионов фунтов стерлингов. Предательство интересов Ирана в новом соглашении о нефти вызвало резкую оппозицию в народе, о чем свидетельствовали усилившиеся аресты и репрессии со стороны военной диктатуры.
Против демократических сил Ирана был установлен режим террора, казни следовали одна за другой. Свирепость этого террора раскрывала неустойчивость строя, сохраняемого лишь благодаря империалистической поддержке.
334
Освободительная борьба на Кипре, в Иордании и Ираке
С ослаблением прежней господствующей позиции Англии в Египте и Иране основными базами английской мощи на Среднем Востоке оказались Кипр, Иордания и Ирак. Но и там росло движение за освобождение.
Кипр, с населением в полмиллиона человек, из коих четыре пятых составляют греки, удерживается Англией с 1878 года; он был формально аннексирован в 1914 году. Бедственное положение народа при британском правлении подтвердило и проведенное в 1938 году официальное обследование; хотя при обследовании был принят весьма низкий уровень прожиточного минимума, оказалось, что 25 процентов не имеют и этого минимума, уровень жизни 50 процентов обследованных соответствовал минимальному уровню, и только у 25 процентов населения условия жизни были выше этого минимума.
Требование народа Кипра о самоопределении и воссоединении с Грецией еще в 1929 году было предъявлено посетившей Лондон делегацией киприотов. В 1931 году на Кипре прошли демонстрации за воссоединение с Грецией. В ответ последовали репрессии, английские войска расстреливали демонстрантов. На Кипре был установлен диктаторский режим; прежняя избираемая ассамблея, имевшая совещательные функции, которая поддержала требование об объединении с Грецией, была насильственно распущена. С тех пор английская власть на Кипре осуществлялась методом открытой диктатуры.
После заключения англо-иранского соглашения 1954 года английская стратегия на Среднем Востоке была пересмотрена и сосредоточена на Кипре как на основной базе Англии. Это вызвало новое обострение конфликта между народом Кипра и английскими правителями. Правительство Греции внесло вопрос о праве Кипра на самоопределение в повестку дня Организации Объединенных Наций; однако на греческое правительство был ока335
зан нажим со стороны империалистических сил, чтобы помешать рассмотрению вопроса Организацией Объединенных Наций. На Кипре начались самые зверские репрессии против народа. По мере развития борьбы народа Кипра усиливались и эти репрессии, что встретило всеобщее сопротивление народа. На Кипр были отправлены войска, и положение .на острове приняло характер открытой войны английских правителей против киприотов.
Иордания (ранее именовавшаяся Трансиорданией) с конца первой мировой войны удерживалась англичанами с помощью поставленного и субсидируемого ими эмира; в 1946 году она была провозглашена «суверенным, независимым государством» под властью короля Абдуллы. Англо-иорданский договор 1946 года обеспечил действенный английский контроль посредством английской военной миссии и английских офицеров Арабского легиона, причем и «суверенное, независимое правительство» и Арабский легион поддерживались английскими субсидиями. Против народного движения и коммунистической партии применялись свирепые репрессии.
Новые веяния на Среднем Востоке привели, однако, к быстрым изменениям и в Иордании. В конце 1955 года попытки генерала Темплера вовлечь Иорданию в Багдадский пакт вызвали бурю протеста. Несмотря на все попытки подавить его, сила национального возмущения привела к смещению в марте 1956 года английского генерала Глабба, командующего Арабским легионом, который в течение четверти века являлся некоронованным королем Иордании. Иордания стала устанавливать более тесные отношения с Египтом, Сирией и Аравией и потребовала пересмотра англо-иорданского договора. На выборах в октябре антиимпериалистические силы получили большинство голосов, и в ноябре 1956 года новое правительство денонсировало англо-иорданский договор.
В Ираке, где фактическое английское господство с 1930 года маскировалось наличием реак336
ционных правительств формально независимого государства, борьба народа против этого господства после второй мировой войны достигла высокого уровня развития. Революционный подъем 1948 года, ликвидировавший Портсмутский договор, был встречен введением военного положения, которое сохранялось до середины 1949 года; новый подъем 1952 года опять был встречен введением военного положения и террором. В 1955 году Ирак был вовлечен в цепь империалистических военных союзов на Среднем Востоке посредством ирако-турецкого пакта, к которому впоследствии присоединились Англия, Пакистан и Иран (Багдадский пакт) \ в марте 1955 года договор 1930 года был заменен новым военным договором между Англией и Ираком, по которому англичане формально передали военно-воздушные базы, но практически сохранили тесную связь с Ираком в использовании этих баз и в обучении и вооружении иракских вооруженных сил.
Англо-американское соперничество и военные планы на Среднем Востоке
Происходившие в эти годы острые конфликты между империализмом и освободительным движением в Египте, Судане, Иране, Ираке и на Кипре были лишь узловыми моментами кризиса империализма, развивавшегося в различных формах и этапах во всех странах Ближнего и Среднего Востока. Положение осложнялось взаимным соперничеством империалистических держав, особенно Соединенных Штатов и Англии; военными планами западного империализма, намеревавшегося превратить Средний Восток в антисоветскую военную базу, и конфликтом между Израилем и арабскими государствами.
1 25 марта 1959 года правительство Иракской Республики сделало официальное заявление о выходе Ирака из Багдадского пакта. — Прим. ред.
337
Наряду с соперничеством и бесконечными маневрами и контрманеврами американского и английского капитала на Среднем Востоке существовала и известная мера сотрудничества и общая обоим враждебность к национально-освободительному движению и к Советскому Союзу. Мы уже отмечали решающие изменения в осуществлении контроля над эксплуатацией запасов нефти стран Среднего Востока. В 1938 году Англия контролировала три четверти добычи нефти на Среднем Востоке, а США — одну восьмую. К 1953 году доля Соединенных Штатов увеличилась до семи десятых, английская же доля составляла менее одной трети. Иранское нефтяное соглашение 1954 года открыло американским нефтяным компаниям доступ в Иран, ранее являвшийся своего рода заповедником, где монопольно хозяйничали англичане. Обследование иностранных капиталовложений в странах Среднего Востока, проведенное X. В. Куком, бывшим американским консулом в Турции и членом ближневосточного комитета планирования Администрации экономического сотрудничества, показало, что к 1954 году «Соединенные Штаты заменили Великобританию в качестве ведущей по размерам инвестиций страны, достигнув над Англией значительного перевеса» («Миддл истерн Аффэрс», Нью-Йорк, апрель 1954 года). В обследовании указывается, что за десятилетие, с начала 1944 года до конца 1953 года, заморские инвестиции Соединенных Штатов на Среднем Востоке составили 2595 миллионов долларов против 1228 миллионов долларов из всех других стран; таким образом, доля американцев превышала две трети общей суммы инвестиций.
Одновременно быстро развивалось американское дипломатическое и стратегическое проникновение, заменяя прежнее английское господство на Среднем Востоке. После провозглашения «доктрины Трумэна» Соединенные * Штаты переняли от Англии фактическое господство над Грецией и установили свой полный контроль над Турцией.
338
Ё 1948 году создание нового государства Израиль ознаменовало конец английского контроля над Палестиной; английской политике было затем нанесено серьезное поражение, когда потерпела полный провал война вооруженных англичанами правителей Арабской лиги против Израиля, получавшего щедрую финансовую помощь и снаряжение от Соединенных Штатов. В ходе войны Израиль расширил свою территорию (за границы, определенные решением Организации Объединенных Наций 1947 года) на 2000 квадратных миль; 900 тысяч арабов было изгнано из страны или бежало, а их земля, скот и имущество были присвоены израильскими захватчиками. Решение Организации Объединенных Наций о создании вместо прежней Палестины двух государств — еврейского и арабского— осталось на бумаге. В результате этого продолжал существовать источник бесконечных трений; там был временно прекращен огонь, но состояние войны между Израилем и арабскими государствами не прекращалось, часто происходили пограничные стычки. Новое государство Израиль фактически развивалось в орбите американского влияния, финансируемое и поддерживаемое Соединенными Штатами. Англии пришлось довольствоваться меньшей долей добычи — присоединением южной части бывшей палестинской мандатной территории к английскому протекторату Иордании.
В 1951 году в Иране английскому империализму было нанесено еще одно серьезное поражение: после всех прежних воинственных заявлений Англии о решимости оставаться в Абадане и демонстративной концентрации военных и военно-морских сил последовал провал из-за отклонения Америкой неоднократных просьб о поддержке намеченных военных и военно-морских мероприятий. Англия вынуждена была покинуть Абадан; Англо- Иранская нефтяная компания оказалась изгнанной. Новые затруднения для английских правителей создал все углубляющийся кризис в Египте, завер339
шившийся англо-египетским соглашением 1954 года и эвакуацией английских войск численностью 80 тысяч человек из зоны Суэцкого канала. Попытка Англии создать вместо этого военную базу на Кипре встретила решительное сопротивление киприотов, равно как и враждебное отношение со стороны греческого правительства, находившегося под покровительством Соединенных Штатов.
Военные планы западных империалистов для Среднего Востока первоначально предусматривали на этот период создание средневосточного военного пакта в качестве дополнения к Североатлантическому пакту (НАТО) в Западной Европе. Однако эти планы встретили решительное сопротивление всех арабских народов, во главе с Египтом и Сирией, что вынудило империалистов изменить тактику. Взамен было решено создавать цепь из отдельных военных договоров. Соединенные Штаты расширили свои существующие союзы с Турцией и Саудовской Аравией заключением американо-пакистанского военного пакта, а также турецко-пакистанского пакта 1954 года. Базируясь на Ирак, Англия также создала соответствующую цепь союзов — Багдадский пакт, заключенный в начале 1955 года Турцией и Ираком и дополненный впоследствии присоединением Англии, Пакистана и Ирана. Создание этой цепи местных военных союзов, раскалывавшей Арабскую лигу, встретило активное противодействие со стороны Египта, создавшего собственные военные союзы с Сирией и Саудовской Аравией. С другой стороны, Израиль, с самого начала заявивший о своей готовности участвовать «в средневосточном пакте, выразил свое недовольство тем, что западные державы искали расположения арабских государств; отношения между Израилем и арабскими странами оставались напряженными, и продолжались частые пограничные инциденты. Когда западные державы попытались оказать давление на Египет, обусловив поставку оружия принятием Египтом империалистических военных планов Запада, Египту удалось 340
сорвать этот бойкот, так как он получил оружие от Чехословакии без каких-либо политических условий и тем самым сохранил свою независимость.
Национальное освобождение и коммунизм
Народное движение на Ближнем Востоке развивалось в условиях этой сложной и трудной внутренней и международной обстановки. Показателем силы этого движения является размах проводившихся в этот период репрессивных мероприятий. Военное положение объявлялось столь часто, что оно стало скорее правилом, нежели исключением для этого района. В Ираке в 1948 году были казнены руководители коммунистической партии; в 1951 году в тюрьмах находилось свыше 15 тысяч человек, осужденных по обвинению в политических преступлениях; и в 1945 и 1955 годах, с приходом к власти Нури эс-Саида, задачей которого было создание Багдадского пакта, наблюдалось дальнейшее усиление драконовских антидемократических мер. В Иордании руководители коммунистической партии в 1952 году были приговорены к заключению на сроки от 6 до 10 лет и брошены в расположенные в пустыне тюрьмы, где условия существования весьма тяжелые. В Египте в тюрьмах и концентрационных лагерях томились тысячи людей. Коммунистические партии были запрещены почти во всех странах Среднего Востока, кроме Израиля; в Сирии и Ливане их запрещали периодически. Профсоюзы были объявлены вне закона, забастовки не разрешались. Несмотря на это, в ряде этих стран коммунистические партии действовали нелегально; в других странах действовали коммунистические группы.
В нынешний период на Среднем Востоке назревают большие перемены. Средний Восток остается районом, где сталкиваются интересы соперничающих империалистических стран, где сталкиваются империализм и социализм, и прежде всего он 341
остается центром борьбы за национальное освобождение от империалистического господства. Несмотря на террор и репрессии, несмотря на висящую над этим районом угрозу войны, несмотря на бесконечные изменения и новые события, благодаря которым любой обзор оказывается устаревшим еще до того, как он написан, — несмотря на все это, не может быть сомнений в том, что современный исторический период поставил на повестку дня освобождение Среднего Востока в качестве следующего этапа развития борьбы за освобождение народов мира от империализма.
Англо-франко-израильская война против Египта в 1956 году
Исход англо-франко-израильской войны против Египта в конце 1956 года явился наглядной демонстрацией создавшегося на Среднем Востоке и во всей международной политике нового положения.
Формальным поводом для этой войны являлось вторжение израильских войск в Египет и англофранцузское вмешательство якобы с целью «предотвращения дальнейшего распространения войны», заключавшееся в нанесении удара по жертве агрессии. Этот предлог никого не обманул.
Очевидным непосредственным поводом войны был спор вокруг национализации Египтом летом 1956 года компании Суэцкого канала. Но и это не являлось решающим вопросом, из-за чего разразилась война. Вопрос о Суэцком канале вполне можно было решить путем мирного урегулирования; переговоры о таком урегулировании фактически уже велись при содействии Организации Объединенных Наций, когда был нанесен удар.
Еще до национализации компании Суэцкого канала конфликт между западными империалистическими державами — особенно с Англией и Францией — и Египтом, уже вступал в острую фазу. В одном из предыдущих разделов предыстория этого 342
уже освещалась. Декрет о национализации был ответом Египта на действия западных держав, отказавшихся предоставить обещанную ими ранее финансовую помощь для сооружения Асуанской плотины. Англия, позиции которой на Среднем Востоке рушились (о чем ярко свидетельствовала потеря Иордании), и Франция, видя крушение своих позиций в Северной Африке и разрушительные для нее последствия войны в Алжире, намеревались использовать спор о Суэцком канале как повод, чтобы силой «свести счеты» с Египтом и восстановить свое военное господство на Среднем' Востоке и в Северной Африке. Подлинной сутью дела—как правильно отмечал Гэйт- скел в -своей речи 2 августа 1956 года, когда он первоначально поддержал военно-мобилизационные мероприятия,— была «борьба за господство над Средним Востоком».
Более столетия до этого лорд Палмерстон, говоря о проекте постройки Суэцкого канала, заявил в 1851 году:
«Он не может быть построен, он не должен быть построен, он не будет построен. Но если бы он был построен, была бы война между Францией и Англией за обладание Египтом».
События развернулись иначе. Несмотря на первоначальное сопротивление Англии, Суэцкий канал был построен. Тогда Англия вмешалась с целью установить свой контроль. После фашодского кризиса англо-французский конфликт был урегулирован: в руки Англии перешло господство над Египтом и Суэцким каналом. Англия решительно возражала против международного контроля над каналом, заявляя, что такой контроль являлся бы нарушением суверенных прав Египта (то есть прав Англии, господствовавшей над Египтом). Международная конвенция 1888 года, установившая право свободного пользования каналом всеми государствами и в мирное и в военное время, была принята только после длительного сопротивления со 343
стороны Англии; и лишь -в 1904 году английское правительство в конце концов ратифицировало все статьи этой конвенции. Осуществляя контроль над каналом, Англия в период обеих мировых войн без всякого стеснения нарушала налагаемые конвенцией обязательства в отношении свободного прохода судов в военное время.
Национализация Египтом компании Суэцкого канала была вполне законной мерой. Англо-египетское соглашение 1954 года признавало Суэцкий канал «неотъемлемой частью Египта». Компания Суэцкого канала в заключенном с компанией соглашении 1866 года определялась как «египетская компания, подчиняющаяся законам и обычаям этой страны». Таким образом, дело заключалось не в национализации «международной компании», как кое-где бездоказательно утверждалось, а в национализации египетской компании. Не было речи и о нарушении международной конвенции 1888 года, предусматривавшей право свободного прохода судов, ибо Египет совершенно ясно заявил, что эти положения и в дальнейшем будут соблюдаться. И после национализации свободное движение судов по каналу продолжалось без перерыва, несмотря на попытки саботажа, выражавшиеся в отзыве лоцманов — граждан западных стран. Только англо-французские военные действия вызвали нарушение судоходства. Что касается предыдущего периода, то. единственный случай, в связи с которым раздавались заявления о препятствиях, якобы чинимых для свободного прохода судов, был факт блокирования израильских судов ввиду наличия состояния войны между Израилем и Египтом. Но даже в этом случае Египет мог сослаться на статью 10 международной конвенции, содержавшую специальную оговорку, по которой Египту предоставлялось право предпринимать необходимые для «обороны Египта» меры; во всяком случае, эта же мера осуществлялась и в прошлом, еще в период оккупации англичанами зоны канала, и никто тогда не оспаривал правомерность ее. Если бы у 344
Англии и Франции существовали какие-либо юридически обоснованные претензии в отношении декрета о национализации, они могли обратиться в Л4еждународный суд. Не сделав даже попытки поступить таким образом, они продемонстрировали, что им была ясна юридическая необоснованность их претензий; они понимали, что могут только попытаться изменить положение незаконным применением силы.
После национализации 26 июля 1956 года компании Суэцкого канала Англия и Франция немедленно приступили к подготовке военных мероприятий. 3 августа было опубликовано послание королевы, объявлявшее о наличии «нависшей над нацией опасности» и о «критическом положении». Началась концентрация сухопутных, морских и воздушных сил. Призывались военнослужащие запаса. Вполне вероятно, что первоначально намечалось быстро начать войну. Когда государственный секретарь США Даллес вылетел 1 августа в Лондон на совещание трех держав, американская печать писала о возможности «войны через 24 или 48 часов», а Даллес утверждал, что только его вмешательство предотвратило тогда войну.
Но в англо-французских расчетах не было учтено изменившееся положение в мире. Уже прошли дни «дипломатии канонерок», когда Англия и Франция могли действовать как хозяева мира и диктовать свою волю «низшим племенам, стоявшим вне закона». Англо-французские военные приготовления встретили всеобщее сопротивление не только со стороны арабских наций, но и со стороны всех стран; даже в самой Англии они вызвали сопротивление. Индия, Советский Союз, Китай и все другие страны Азии выступили против этих мероприятий. Соединенные Штаты,— применяя тактику, подобную той, которую они использовали в период Абаданского кризиса, и заключавшуюся в использовании затруднений Англии и Франции для ослабления их позиций на Среднем Востоке в надежде укрепить собственные позиции,— демонстра345
тивно отмежевались от «колонизаторских» держав — Англии и Франции — и высказались против военных действий.
Внутри Англии воинственная политика консервативного правительства в суэцком вопросе вызвала бурю оппозиции в народе. Выступая от имени руководства лейбористской партии в парламентских дебатах 2 августа, Гэйтскел и Моррисон первоначально поддержали, под одобрительные крики тори, военные мероприятия правительства; они сравнивали президента Насера с Гитлером и Муссолини и объявили, что если Англия и Франция, даже без Соединенных Штатов, начнут войну против Египта, то лейбористская партия поддержит эту войну.
«Если бы правительство [Англии.— Ред.] и Франция, возможно совместно с Соединенными Штатами, пришли к заключению, что применение силы было бы оправдано, то долгом всех депутатов и его самого было бы заявить, что они окажут поддержку» (одобрительные возгласы на министерских скамьях) (речь Герберта Моррисона в палате общин 2 августа 1956 года).
Газета «Таймс» поместила сообщение о прениях в парламенте под заголовком «Внушительная демонстрация единства в палате общин». «Дейли гералд» и другие органы печати также первоначально применили воинственный тон. («Не допустим появления новых Адольфов Гитлеров... Для умиротворения нет места»,— писала «Дейли гералд» 28 июля.) Однако размер сопротивления рядовых членов вынудил руководство круто изменить свою политику. Конгресс тред-юнионов единодушно одобрил резолюцию, подчеркнувшую, что «сила не должна быть применена до рассмотрения вопроса Организацией Объединенных Наций и только с ее согласия». В парламенте лейбористская партия выступила против политики правительства, потребовав передачу вопроса в Организацию Объединенных Наций. В вопросе о войне 346
Англия оказалась расколотой сверху донизу, причем в такой степени, которая не наблюдалась со времен бурской войны; лейбористская партия официально осудила войну и голосовала против правительства.
Ввиду такого сопротивления во всем мире настал длительный период дипломатических маневров и переговоров, однако военные приготовления фактически продолжались и усиливались. . Англия и Франция все еще надеялись заручиться поддержкой Соединенных Штатов в своих действиях, и для этой цели они согласились на целый ряд предложенных Соединенными Штатами и рассчитанных на оттяжку дипломатических шагов, однако, как показывали их действия, они фактически не собирались соглашаться на какое-либо урегулирование иначе, как на их собственных условиях. За конференцией 3 держав — Соединенных Штатов, Англии и Франции — последовала в середине августа Лондонская конференция 22 держав (участники которой приглашались по согласованию с Англией). На этой конференции общее соглашение не было достигнуто; однако был разработан империалистический план 18 западных держав о так называемой «интернационализации» канала, то есть об установлении над ним контроля иностранных империалистов; был выдвинут также план Индии, который, полностью признавая национальный суверенитет Египта и египетское управление каналом, в то же время предусматривал представительство пользователей каналом и международные гарантии, обеспечивающие свободу судоходства по каналу. Была направлена делегация во главе с премьер-министром Австралии для вручения президенту Насеру неприемлемого плана 18 держав, но не для ведения переговоров; как и ожидалось, миссия делегации окончилась провалом. Тем временем предпринимались все меры, чтобы помешать Египту в управлении каналом или спровоцировать Египет на те или иные действия. Стерлинговые счета Египта были заморожены; продолжая пользоваться каналом, Англия и Франция отказывались платить Египту сборы 347
за прохождение судов; на лоцманов из западных стран оказывалось давление с целью побудить их покинуть службу. На состоявшейся в сентябре новой конференции в Лондоне была создана «Ассоциация пользователей каналом»; по мнению англичан, она должна была организовать проход судов через канал без обращения к египетским властям, но, когда стало ясно, что Соединенные Штаты не поддержат применения силы для достижения этой цели, этот план провалился.
В конце концов под сильным давлением оппозиции внутри страны и за ее пределами Англия и Франция в последней неделе сентября, когда их военные приготовления были уже почти закончены, внесли эту проблему на рассмотрение Совета Безопасности ООН; Египет внес контржалобу. В октябре Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, включавшую шесть общих принципов, сочетавших уважение суверенитета Египта с положениями для обеспечения свободы судоходства и исключения политического вмешательства (но не включавшую плана 18 держав, чего требовали Англия и Франция), и санкционировал переговоры с Египтом на этой основе. Начавшиеся переговоры с Египтом сулили благоприятные результаты, и в конце октября в Женеве должна была состояться новая конференция для достижения урегулирования. Но в это время Англия и Франция в союзе с Израилем вступили на иной путь, путь развязывания агрессивной войны против Египта.
Израиль начал военные действия против Египта 29 октября вторжением на Синайский полуостров. Англия и Франция, использовав в качестве предлога создаваемую израильским наступлением угрозу Суэцкому каналу, предъявили 30 октября ультиматум со сроком 12 часов, в котором потребовали от обеих сторон «отвода» войск на десять миль от канала в одну и в другую сторону (то есть чтобы Египет полностью очистил территорию перед наступавшими израильскими войсками) и согласия Египта на англо-французскую военную оккупацию 34§
Порт-Саида, Исмаилии и Суэца. 31 октября Англия и Франция бомбардировкой с воздуха открыли военные действия. 5 ноября англо-французские войска высадились в Порт-Саиде и после боя за овладе- ние городом начали наступать вдоль канала.
По всеобщему признанию, англо-франко-израильская война против Египта практически представляла собой совместное наступление. Росло число доказательств того, что Англия и Франция по меньшей мере знали заранее о предстоящем израильском наступлении и что они учитывали это обстоятельство при принятии стратегических решений по ведению войны на совещании английского и французского премьер-министров в Париже в середине октября. Обвинение в сговоре получило всеобщее хождение среди международной общественности.
Агрессия против Египта вызвала всеобщее осуждение во всех странах, в том числе и в широких слоях английской общественности. Англия и Франция, развязав войну против Египта, открыто пренебрегли Уставом Организации Объединенных Наций; они даже не пытались ссылаться на договорные обязательства или самооборону; они предъявили двенадцатичасовой ультиматум Египту с требованием уступить его территорию агрессору и согласиться на иностранную военную оккупацию; они действовали без формального объявления войны и начали с убийственной бомбардировки, которая возвестила о сосредоточении сухопутных, военно- морских и военно-воздушных сил двух крупнейших империалистических держав против небольшой и относительно беззащитной страны, уже ставшей жертвой агрессии. «При всем моем опыте в международных делах,— заявил Неру,— мне никогда не приходилось сталкиваться с подобным случаем столь неприкрытой агрессии». А газета «Обсервер» писала: «С 1783 года еще не было случая, чтобы недовольство Англией было столь всеобщим».
Не имевшие успеха различные доводы, приводившиеся представителями правительства в оправ349
дание агрессии, были столь неосновательны и противоречивы, что вызывали насмешки даже со стороны сторонников правительства. Это не была война «для защиты английских подданных» — английские подданные не подвергались опасности. Это не была война для защиты «свободы Суэцкого канала» — Суэцкий канал функционировал свободно и лишь война привела к нарушению судоходства. Это не была война за то, чтобы «поставить предохранительный заслон между Египтом и Израилем»,— ибо англо-французские войска были брошены не между боровшимися армиями, а в тыл египетской армии с целью нанести Египту удар в спину и парализовать оборону против агрессора. Все эти доводы не могли обмануть никого.
Почему же, в таком случае, англо-французский империализм, который раньше в общем тянулся за Соединенными Штатами и временами даже выступал за умеренность в противовес авантюристической политике американцев, теперь вдруг выступил как наиболее воинственная и безрассудная часть западного империалистического лагеря и даже противопоставил себя Соединенным Штатам? Такое поведение вполне соответствовало положению английской и французской империй: они являлись наиболее сильно ослабленными, находившимися в состоянии упадка; мощное национально-освободительное движение поставило их в наиболее отчаянное положение, их экономические и финансовые ресурсы находились в плачевном состоянии, и они не могли -соперничать в этой области с Соединенными Штатами. Поэтому они и прибегли к последней отчаянной попытке восстановить свое господство посредством военной авантюры. Франция уже понесла поражение в Юго-Восточной Азии и на Среднем Востоке, она терпела поражение и в Северной Африке, где полумиллионная армия была втянута в кровавую колониальную войну в Алжире. Английские войска уже действовали на Кипре, в Кении и Малайе. На Среднем Востоке Англии приходилось непрерывно сдавать свои прежние позиции mohq- 350
вольного господства ввиду американского проникновения и под натиском антиимпериалистического движения. Зверская англо-французская агрессия против Египта была характерным для умирающих империй «последним броском».
Однако англо-француз-ские империалисты в своих планах военной агрессии не учли нового соотношения сил на мировой арене. Египет не рухнул и не капитулировал перед нападением превосходящих военных сил, а оказывал упорное сопротивление при единодушной поддержке всего народа и всех народов других арабских стран. Отказ Соединенных Штатов поддержать военные действия англо-французского империализма продемонстрировал, что, будучи изолированным, последний слаб. Перед лицом этого испытания силы мира оказались достаточно сильными, чтобы быстро приостановить военную агрессию.
Совет Безопасности ООН собрался 30 октября для рассмотрения вопроса об агрессии Израиля. Большинство поддержало резолюцию, осуждающую эту агрессию, но Англия и Франция, применив право вето, лишили Совет возможности принять решение. Тогда была созвана чрезвычайная •сессия Генеральной Ассамблеи, которая 2 ноября приняла 64 голосами против 5, при 6 воздержавшихся, резолюцию, требовавшую немедленного прекращения огня и вывода из Египта всех вторгшихся туда войск. Против резолюции голосовали лишь три агрессора, а также Австралия и Новая Зеландия. Если принять в расчет 600-миллионное население Китая, то в поддержку этой резолюции выступило подавляющее большинство человечества. В противовес этому можно отметить, что последующая резолюция о Венгрии, которую иногда рекламируют как выражение аналогичной степени единодушия, получила голоса стран, представляющих лишь меньшинство населения земного шара.
Несмотря на резолюцию Объединенных Наций, Англия и Франция продолжали военное наступление. Утром 5 ноября их войска высадились в Порт-
351
Саиде и развернули наступление с цёлью осуществить оккупацию Суэцкого канала.
Пятого ноября глава правительства Советского Союза направил сэру Антони Идену ноту, предупреждавшую против продолжения агрессии в отношении Египта:
«В каком положении оказалась бы сама Англия, если бы на нее напали более сильные государства, располагающие всеми видами современного истребительного оружия?.. Если бы ракетное оружие было применено против Англии или Франции, Вы, наверное, назвали бы это варварским действием. Однако чем же отличается бесчеловечное нападение, совершенное вооруженными силами Англии и Франции, на почти безоружный Египет?
Глубоко озабоченные развитием событий на Ближнем и Среднем Востоке и руководствуясь интересами сохранения всеобщего мира, мы считаем, что правительство Англии должно внять голосу благоразумия и остановить войну в Египте. Мы обращаемся к Вам, к парламенту, к лейбористской партии, профсоюзам, ко всему народу Англии: прекратите вооруженную агрессию, остановите кровопролитие. Война в Египте может перекинуться на другие страны и перерасти в третью мировую войну.
Советское правительство уже обратилось в Организацию Объединенных Наций, а также к президенту Соединенных Штатов Америки с предложением использовать вместе с другими членами ООН военно-морские и военно-воздушные силы для прекращения войны в Египте, для обуздания агрессии. Мы полны решимости применением силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Востоке» Г
1 «Правда», 6 ноября 1956 года.
352
Советская нота была отправлена 5 ноября.
6 ноября английское правительство информировало генерального секретаря Организации Объединенных Наций, что оно отдало своим войскам приказ о прекращении огня в полночь. Внезапное прекращение огня в разгар операции вызвало ярость среди всех группировок наиболее агрессивных и реакционных сил в Англии и Франции. Все осведомленные политические комментаторы (газет «Таймс», «Манчестер гардиан», «Нью-Йорк тайме») сходились в том, что советская нота, угрожавшая применением ответных действий, была решающим фактором, заставившим англичан изменить свои планы и принять требование о прекращении огня. Общественное мнение в арабских странах единодушно придерживалось такого мнения. Своим быстрым вмешательством Советский Союз открыл путь к миру на Среднем Востоке.
В течение непродолжительного периода после прекращения огня правительства Англии и Франции пытались сопротивляться выводу войск и выдвигали различные предлоги в оправдание продолжения оккупации до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Однако в последовавших острых спорах большинство английского кабинета министров, очевидно, пришло к выводу, что при существующем на международной арене соотношении сил за прекращением огня должен последовать безоговорочный вывод войск. 19 ноября сэр Антони Иден, являвшийся главным сторонником этой безрассудной военной авантюры, вышел в отставку и отправился для поправки своего здоровья на • Ямайку. 24 ноября Генеральная Ассамблея 63 голосами против 5 подтвердила требование к Англии, Франции и Израилю о «немедленном подчинении» указаниям о выводе их войск из Египта. 3 декабря правительства Англии и Франции объявили о своем решении вывести войска; к рождеству вывод войск был закончен.
Из позорного провала англо-французской военной агрессии 1956 года на Среднем Востоке напра12 Р. Палм Датт 353
шиваются далеко идущие по своим последствиям выводы.
Первое. Этот провал показал всему миру ослабленное положение английского и французского империализма. Англия и Франция предстали как второразрядные империалистические державы, которые, будучи изолированными, уже неспособны к решающим действиям, которые не могли наперекор общественному мнению или вопреки желаниям более сильных держав навязать миру свою волю.
Второе. Этот провал обострил внутренний кризис английского и французского империализма. Последствия суэцкой авантюры нанесли новый удар по и без того непрочному экономическому и финансовому положению Англии. Престиж английских тори сильно пострадал.
Третье. Внутри лагеря империализма Соединенные Штаты относительно укрепили свои позиции и перешли ко все более честолюбивой политике на Среднем Востоке, что нашло свое выражение в провозглашенной в январе 1957 года доктрине Эйзенхауэра.
«Этот отход означает разрушение всего, что еще осталось от особого положения Англии в восточной части Средиземного моря; в конечном итоге, по-видимому, это будет верно и в отношении всего Среднего Востока» («Экономист», 6 декабря 1956 года).
Четвертое и самое важное. Провал англо-французской агрессии и победа Египта и сил мира во всем мире в огромной степени стимулировали и укрепили уверенность народов Среднего Востока в их борьбе за освобождение от всех форм империалистического господства. Провал войны против Египта показал путь к полной победе дела национального освобождения на Среднем Востоке; эта победа все четче вырисовывается, и она принесет новое, счастливое будущее этому богато одаренному природой, но столь давно терзаемому району земного шара.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
АФРИКА ИДЕТ ВПЕРЕД
Гана не только будет центром освобождения Африки от иностранного господства, но также и лучохМ надежды для черных людей во всем мире... Мы стремимся к Соединенным Штатам Африки.
Премьер-министр Н. С. Нкрума, 9 марта 1957 года.
Ни одна часть мира не пострадала от агрессии западных колониальных держав больше, чем Африка. Набеги на африканскую территорию с целью захвата рабов, вывоз оттуда миллионов людей и разрушение древних цивилизаций ознаменовали начальный период капиталистической эры и создали основы для первоначального развития капитализма. С помощью работорговли Англия поддерживала рабовладельческую экономику в Соединенных Штатах Америки, и это явилось первым примером сотрудничества англо-американской цивилизации за счет Африки. Наступление эры империализма было отмечено в последней четверти XIX века борьбой западных держав за раздел Африки. А на современной фазе упадка и падения империализма западные державы все чаще рассматривают Африку в качестве последней твердыни и базы, где они еще лелеют надежды возродить заново незыблемость и процветание своей системы.
Стремление к имперской экспансии
Было бы -иллюзией воображать, будто английский империализм, ослабевающий и явно идущий к упадку, перестал быть агрессивным и отказался от стремления к экспансии.
12* 355
В конце первой мировой войны английский империализм, хотя и ослабленный, расширил свою колониальную империю на 1600 тысяч квадратных миль, то есть на территорию, в восемнадцать раз превышающую территорию Великобритании. («Бог тому свидетель, что мы не желаем ни одного квадратного ярда новой территории»,—заверял премьер- министр Ллойд Джордж Британский конгресс тред- юнионов во время войны, после того как были подписаны секретные договоры о такого рода расширении.)
После второй мировой войны та же попытка расширить колониальные владения проявлялась в упорном стремлении сохранить контроль над бывшими итальянскими колониями в Северной и Северо-Восточной Африке, в провозглашении в 1949 году поддерживаемого англичанами эмира Идриса эмиром Киренаики, контролируемой и оккупированной англичанами, и, наконец, в признании в 1952 году под нажимом Объединенных Наций, добивавшихся независимости Ливии, формально независимой Ливии под властью короля Идриса, с сохранением там военных баз и технических советников и включением ее в стерлинговый блок.
Но еще более важное значение, чем попытки прямого расширения колониальных территорий (попытки, которые в уже поделенном мире с его сократившейся и продолжающей сокращаться площадью колониальных владений поневоле ограничиваются притязаниями на бывшие колонии побежденных держав), имеют новые планы и проекты усиления эксплуатации колониальных территорий, все еще находящихся -под прямым господством Англии, чтобы таким образом найти решение экономических проблем Англии.
Анализ всей политики английского империализма после 1945 года, независимо от того, кто стоит у власти, лейбористское или консервативное правительство, показывает, что его основная стратегия в программе ликвидации экономического дефицита Англии сводится к значительному увеличению про356
изводства и доходов от такого колониального сырья, как каучук, олово, нефть, медь, какао и т. д., чтобы увеличить «невидимые» доходы Англии и тем самым сбалансировать долларовый дефицит метрополии при помощи долларового излишка остальной части стерлинговой зоны. Это доказывают не только цифры платежного баланса за эти годы, но и возросшие втрое в период между 1945 и 1954 годами стерлинговые счета зависимых колониальных стран империи.
Империализм стремится разрешить свои экономические трудности путем усиленной эксплуатации колоний. В период после второй мировой войны это особенно сказывалось, во-первых, в Малайе, во-вторых, на Среднем Востоке (нефть), в-третьих, в колониальных территориях Африки. От Малайи добились богатых доходов, но успехи борьбы малайского народа за независимость показали всю непрочность основы продолжения этой эксплуатации. Национализация нефтяной промышленности Ирана и американское проникновение нанесли удар по прибылям от средневосточной нефти; и здесь подъем национального движения на Среднем Востоке показал возросшую непрочность власти империализма в этом районе. Отсюда понятно, почему такое внимание уделяется Африке.
За последний период гигантские империалистические монополии, видя, что их контроль над Азией ослабевает, все чаще обращают свои взоры к Африке в поисках замены источников сырья, потерянных или находящихся под угрозой потери в Азии. Например, Англо-Иранская* компания и «Рой- ял Датч шелл» ведут разведку новых месторождений нефти в Африке. Малайские каучуковые фирмы создают плантации каучуконосов в Нигерии.
Уже перед второй мировой войной, за период между 1870 и 1936 годами, сумма иностранных капиталовложений в Африке составляла 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 1 миллиард фунтов составляли английские капиталы («Инвесторз 357
кроникл», специальное приложение по случаю коронации, 1953). После второй мировой войны это проникновение продолжало быстро нарастать.
Таким образом, составители империалистических планов и авантюристы все чаще смотрят на Африку как на свою «последнюю надежду» в области прибыльной эксплуатации колоний. Однако события последнего времени с неменьшей очевидностью доказывают, что континент, олицетворяющий эту «последнюю надежду», окажется в недалеком будущем «континентом потерянных надежд» для империалистических мечтателей.
Африканское Эльдорадо
Доклад комитета по плану Маршалла о европейском экономическом сотрудничестве, опубликованный в 1947 году, показал, что одним из главных факторов экономических трудностей, переживаемых империалистическими странами Западной Европы, было сокращение их доходов от эксплуатации колониальных владений. В этом докладе указывалось что в 1938 году четверть всего импорта западноевропейских стран, охваченных планом Маршалла, не оплачивалась экспортом товаров. В довоенных условиях при такой структуре реальный долларовый дефицит западноевропейских стран покрывался экспортом колониального сырья в Соединенные Штаты Америки: Сокращение этого источника заморских доходов подорвало основу экономики западноевропейских стран и нашло отражение в хроническом дефиците платежного баланса, а также в долларовом дефиците. Эту брешь можно было временно заделать при помощи такой меры, как долларовые субсидии. Однако было ясно, что они не могут обеспечить кардинального решения. Такое положение могло породить только два вывода и два политических курса, взаимно исключавших друг друга. Одной из альтернатив было восстановление народного хозяйства западноевропейских 358
стран на здоровой, неимпериалистической базе, независимой и от долларовых субсидий и от паразитического дохода с колоний. Однако империалистическим правителям Западной Европы такой подход казался немыслимым. Они считали, что единственно возможная для них политика на ближайшее время сводится к тому, чтобы возложить все надежды на долларовые субсидии как на первоочередное решение, оказавшись, таким образом, во все возрастающей экономической зависимости от американских монополистов, а тем временем постараться достигнуть кардинального решения на основе усиленной эксплуатации рабочих у себя в стране, а главное — путем усиленной эксплуатации колоний.
Поэтому империалистические правительства Западной Европы, чтобы не зависеть от долларовых субсидий, стали алчно размышлять об увеличении путем усиленной эксплуатации колониальных народов дани, взимаемой с колоний. Однако явным препятствием на пути к такому «решению» является все большее ослабление контроля старой колониальной системы над ее историческими главными центрами в Азии и на Среднем Востоке. Поэтому империалистические правительства стран Западной Европы в своих широких долгосрочных планах обратились к проектам «освоения» и «развития» Африки в качестве генерального решения проблем Западной Европы.
Программа создания «Западноевропейского союза», «Объединенной Европы» и т. д., то есть попытки сколотить блок западноевропейских империалистических стран под американским контролем, неразрывно связана с программой усиления колониальной эксплуатации. Идеалистические грезы о «Западноевропейском союзе», как объясняют его инициаторы, должны опираться на прочный фундамент в форме усиленной эксплуатации Африки и других колониальных территорий. По мнению этих своеобразных географов, Африку нужно считать «южным продолжением» Западной Европы, а 359
такие вполне «западноевропейские» территории, как Африка, Турция, Средний Восток, Индия и Юго- Восточная Азия, следует признать естественными и необходимыми бастионами «западнохристианской цивилизации».
О разрешении проблем западноевропейского империализма при помощи грандиозных планов усиленной эксплуатации Африки мечтают сейчас все официальные представители, экономисты и политические деятели западного империализма, и эта мечта объединяет консерваторов и верхушку лейбористской партии в едином хоре с фашистским охвостьем, которым руководит Мосли.
Освальд Мосли, выступая в Лондоне 15 ноября 1947 года, заявил:
«Если мы свяжем Европейский союз с развитием Африки в рамках новой системы, объединяющей два континента, мы построим цивилизацию, которая превзойдет все, что имеется в мире, и создадим силу, не уступающую любой другой силе в мире».
Орган крайне правого крыла консерваторов «Ревью оф уорлд афферс» выпустил в декабре 1947 года специальный номер, посвященный Африке. Мечта, порожденная манией создания ультраимпериализма, рисуется в нем в следующем виде:
«Решение в рамках Британской империи само по себе уже недостаточно. Единственное решение, которое сейчас будет достаточно широким и практичным,— это такое решение, на основе которого Америка, Англия, Британское Содружество Наций, скандинавские страны, Швейцария, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Португалия и Испания приступят совместно к выполнению трех проектов: развития африканского континента, восстановления Китая и Западной Германии.
К развитию Африки целесообразно приступить немедленно...
360
Весь англосаксонский блок должен включиться в этот процесс развития. Это план разработки совершенно новых источников богатств, обеспечения новых рынков и полного разгрома всей концепции ограничений и стеснений. Решением является создание компании по развитию Африки с минимальным капиталом 5 миллиардов фунтов стерлингов.
Помимо всех коммерческих и стратегических выгод, существуют также политические факторы. Если Африку не будут развивать объединившиеся таким образом цивилизованные державы, она падет жертвой многочисленных политических опасностей. Какой замечательный шанс имеет здесь христианское руководство!»
Эти грезы обуревают не только фашистов и ультраконсерваторов. Их не менее горячо выражали министры лейбористского правительства и лейбористское правое руководство. Исполком лейбористской партии опубликовал в марте 1948 года «План лейбористской партии для Западной Европы», в котором говорится:
«Считается общепризнанным, что Западная Европа не может существовать сама по себе, в качестве независимой экономической единицы... Подлинное уменьшение нашей зависимости от американских поставок связано главным образом с развитием колоссальных ресурсов африканского континента. Но такое развитие зависит от тесного сотрудничества между державами, несущими ответственность в Африке».
Выступая от имени лейбористского правительства, Бевин заявил в палате общин 22 января 1948 года:
«Организация Западной Европы должна быть поддержана экономически. Это означает максимально тесное сотрудничество с Содружеством Наций и с заморскими террито361
риями — не только английскими, но и французскими, бельгийскими, голландскими и португальскими. Эти заморские территории являются крупными производителями первичных продуктов... У них имеются сырье, продовольствие и ресурсы, которые можно использовать с весьма большой выгодой для всех...
Для того чтобы Западная Европа могла добиться равновесия платежного баланса и достигнуть всемирного равновесия, эти ресурсы должны быть развиты».
В аналогичном духе выступил и сэр Стаффорд Криппс. На конференции губернаторов английских колоний в Африке, происходившей в ноябре 1947 года, он заявил:
«Дальнейшее развитие африканских ресурсов имеет такое же исключительно важное значение для восстановления и укрепления Западной Европы, как и восстановление производственной мощи Европы для будущего процветания и прогресса в Африке». А министр торговли Гарольд Вильсон 6 июля 1948 года заявил в палате общин:
«Я согласен с точкой зрения, которую во многих случаях выражал ряд достопочтенных членов палаты, что развитие еще не развитых территорий в Африке и в других районах больше, чем что-либо другое, может способствовать восстановлению равновесия мирового платежного баланса... При активном проведении этой политики (а мы активизируем развитие колоний и надеемся активизировать его все больше по мере увеличения ресурсов, находящихся в нашем распоряжении) эта программа сможет в какой-то поддающийся измерению отрезок времени — скажем, в течение десяти лет или около этого — полностью изменить положение с мировым платежным балансом».
Не менее определенно прозвучало заявление 362
государственного министра Гектора Макнейла 20 октября 1948 года:
«Я убежден, что только путем капиталовложений в таких районах, как Африка, можно изменить условия торговли, складывающиеся невыгодно для нас, и, таким образом, дать Европе, и в особеннности Великобритании, подлинную возможность развиваться». Английский империализм не одинок в своих далеко идущих проектах разрешения экономических проблем за счет жестокой эксплуатации порабощенных африканцев. Другие европейские державы, владеющие колониями, разработали аналогичные планы. В то же время американские империалисты все более активно отстаивают собственные притязания и интересы в Африке.
У американского империализма имеются свои собственные намерения относительно проникновения в Африку, использования европейской колониальной администрации, установления над нею американского контроля и американской экспансии в Африке. Американские представители играют ведущую роль в пропаганде программ развития Африки при финансовой поддержке американцев как неотъемлемой части плана создания западного блока. Этот замысел уже нашел свое предварительное выражение в «четвертом пункте» программы Трумэна, в посылке американских технических миссий на английские колониальные территории в Африке с целью изучения местных условий и возможностей для будущего приложения капитала. Фактически финансовое проникновение уже началось. К 1955 году американские капиталовложения в Африке уже оценивались в 1,5 миллиарда, долларов.
■ Джон Фостер Даллес, ставший впоследствии государственным секретарем США, который первым из видных американских деятелей пропагандировал план создания западноевропейского блока как главную задачу американской политики в Европе, с самого начала связал этот проект с идеей эксплу363
атации Африки в качестве необходимой основы этого плана.
«Даллес с некоторых пор выступает в поддержку идеи американской финансовой и технической помощи делу развития африканского континента... Африка, говорит он, может сделать Западную Европу совершенно независимой от восточноевропейских ресурсов, и это должно стать целью» («Санди тайме», 4 июля 1948 года).
Здесь совершенно открыто говорится о стратегическом плане раздела Европы и о том, чтобы изуродованную западную половину этого континента посадить на шею африканскому народу.
Безудержный полет мечтаний о возрождении империализма при помощи таких средств нашел свое отражение в недавно представленном докладе одного американского наблюдателя, вернувшегося в США после годичного пребывания в Англии. В докладе говорится:
«Англия готовится обеспечить себе весьма импозантное возвращение на мировую арену путем развития великой новой империи в Африке»,— так говорит профессор Лоуэлл Рагатц из университета имени Джорджа Вашингтона, который прожил год в Англии и недавно вернулся оттуда. «Английские руководители,— говорит он,— предсказывают, что за несколько лет Африка будет индустриализирована почти в такой же степени, как и США, а ее богатства дадут Англии возможность вернуть свое прежнее положение одной из ведущих экономических и политических сил в мире... Руководящие деятели в Англии понимают, что нынешний объем экспорта, от которого зависит сейчас ее процветание, не может сохраниться в течение длительного времени, и они урезывают себя в другом, чтобы выделить кадры и капитал для развития Африки.
Англия создала и потеряла две великие 364
империи — в Америке и в Индии. Однако похоже на то, что ее третья империя — в Африке— будет величайшей из всех» («Ньюс кроникл», 25 августа 1948 года).
Таковы грандиозные (и алчные) грезы коммивояжеров империализма в современной Англии. Но более чем вероятно, что реальная действительность будет весьма отличаться от этих грез.
Воздушные замка
Эти мечты империалистической державы, находящейся в стадии упадка, далеки от действительности. Первым разочарованием был провал знаменитого плана выращивания земляных орехов, на который понапрасну затрачено 36 500 тысяч фунтов стерлингов. Между тем этот провал представляет только первое проявление в условиях суровой действительности влияния решающих факторов, от которых зависит указанная проблема.
Первым важнейшим фактором является все усиливающаяся физическая и экономическая деградация природных и людских ресурсов Африки под воздействием колониальной системы. В процессе создания колониальной системы в Африке европейцы завладели огромными территориями для плантационного хозяйства или же заставили население полностью зависеть от производства какого- либо одного вида сырья, от выращивания какой- нибудь одной культуры на экспорт, не давая африканскому населению развивать свою страну так, чтобы иметь возможность удовлетворять свои собственные нужды, и заставив народ жить на скудную продукцию, полученную оставшейся рабочей силой с остальных земель при помощи самых примитивных методов производства. Это влекло за собой постепенное обнищание, голод и физическую деградацию африканских народов.
Результатом многолетней- империалистической эксплуатации явилось истощение почвы и чрезвы365
чайное обнищание населения. В таких документах, как, например, отчет о результатах недавного медицинского обследования д-ром С. Норскоттом (сделанного им по поручению министерства колоний) работоспособности африканских рабочих на железной дороге Кения—Уганда, неоднократно говорится о «злокачественном истощении» в результате недоедания в детстве — истощении, «вероятно, неизлечимом». Налицо доказательства прогрессирующего ухудшения общего состояния, падения уровня жизни и сокращения численности населения.
«По мнению профессора Карр-Саундерса, имеются доказательства сокращения численности африканского населения в течение XVIII—XIX столетий... Про большинство населения в настоящее время невозможно сказать, имеется ли у него естественный прирост, или же наоборот» (Хэйли. Африканский обзор, 1938, стр. 125).
В Сьерра-Леоне.
«в XVII веке жители были хорошо развиты физически, питание их было разнообразным и содержало, по-видимому, достаточно продуктов животноводства. Еще в начале и в середине XVIII века они питались, по-видимому, удовлетворительно.
Изучение питания населения в настоящее время показывает, что оно плохо сбалансировано, ибо в пищевом рационе чрезмерно велика доля углеводов, результатом чего являются истощение и болезни» («Обзор нынешнего состояния знаний в области человеческого питания». Доклад начальника санитарного управления Сьерра-Леоне, отчет № 5, Фритаун, 1938).
В Базутоленде,
«по рассказам людей, долго проживших в этой стране, физическое состояние и здоровье туземных жителей сегодня не такое, каким оно было раньше. Недоедание наблюдается в каждой деревне... Постепенная физическая 366
деградация становится постоянной темой разговоров» («Обзор информации по вопросам питания в колониальной империи»).
В 1948 году в Совете по опеке ООН губернатор Танганьики Лэм, защищая практику порки как «подходящий способ наказания», заявил, что «тюремное заключение там не считается наказанием, поскольку в тюрьме африканцам было бы лучше, чем дома». В докладах о «производительности труда африканцев» упоминается о непреодолимых препятствиях, заключающихся в недостаточном питании, плохом физическом состоянии и недостаточной -сопротивляемости болезням. Между тем средства, ассигнуемые на здравоохранение и просвещение, ничтожны. В то время как ежегодно выкачиваются десятки миллионов фунтов стерлингов в виде прибылей крупных монополий, расходы на здравоохранение и просвещение составляют лишь незначительную сумму.
Всякого рода болезни скота и растений, несмотря на широко разрекламированные усилия благожелательных, но бессильных специалистов по сельскому хозяйству, наносят все больший и больший ущерб скоту и плантациям в колониях. Одни бактериологи не могут успешно бороться с чумой рогатого скота, инфекционным выкидышем или трипанозомозом, так как истощенная и подвергшаяся эрозии почва не дает уже пастбищ, необходимых, для того чтобы обеспечить скоту хороший корм. Плантации какао в Западной Африке безжалостно уничтожаются болезнью вирусного происхождения, которая носит название «вздутие побегов» и от которой не спасает разработанная программа вырубки (гибнет по 15 миллионов деревьев в год). Плантации гвоздичного дерева в Занзибаре страдают от заболевания, именуемого там «внезапной -смертью». Едва в какой-либо одной области наспех организуются научно-исследовательские работы, как возникает потребность в них в другой области. Дело в том, что хищническая вырубка лесов, например в Западной Африке,
367
лишила почву необходимого прикрытия; деревья заменены кустарниками, служащими убежищем для мух цеце, так что восстановление сельского хозяйства в Западной Африке немыслимо без программы лесонасаждений в гигантских масштабах. Но такая программа выходит за пределы возможностей империализма; ее можно будет осуществить только тогда, когда высвободится энергия народа, освобожденного от глушащей все живое власти империализма.
Африканские народы не в состоянии обеспечить избыток продовольствия для экспорта в Европу. Более того, они сами нуждаются и будут нуждаться в импорте продовольствия до тех пор, пока не смогут в условиях свободы создать в своих собственных странах уравновешенную экономику. Серьезность положения с продовольствием в Африке признана в 1946 году губернатором Кении. Еще более она подчеркнута в 1948 году в статье «Таймс», цитирующей его заявление:
«Два года назад губернатор Кении сказал: «Теперь ясно, что в настоящее время Восточная Африка в целом едва способна обеспечить себя продовольствием». Ввиду обширности территории, по-видимому, создалось впечатление, что производство продовольствия могло бы быть там почти неограниченным, но справедливо обратное, и местные врачи, говоря о будущем Африки, предвидят «убийственный голод» («Медицинская работа в Восточной Африке», «Таймс», 1 декабря 1948 года).
О том же -самом говорил и помощник заместителя министра колоний Иствуд в своей лекции, прочитанной в январе 1952 года, когда он предупреждал об иллюзорности надежд на то, что колониальная империя сможет серьезно расширить производство продовольствия:
«Есть некоторая доля истины в том, что может наступить такой момент, когда Африка не будет уже в состоянии прокормить 368
себя... Некоторые люди говорили, что население растет, что почва выщелачивается, подвергается эрозии или истощается в результате чрезмерной эксплуатации и что большинство районов, поросших кустарником, ни на что не годно, поэтому наступит такой момент, когда Африка не будет ® состоянии прокормить себя. Многое из того, что они говорили, правда» («Таймс», 11 января 1952 года).
Следует отметить, что, как признал Иствуд, проблема заключается не в абсолютном перенаселении и не в невозможности производить достаточное количество продовольствия для удовлетворения нужд населения.
«Иствуд полагает, что, если бы были приняты меры для предотвращения эрозии, повышения плодородия почвы и внедрения более совершенной сельскохозяйственной техники, открылись бы большие возможности увеличить производство продовольствия в Африке» (там же).
Но обсуждение социальных и политических условий, необходимых для такого развития, выходит за рамки компетенции этого колониального чиновника. Ведь именно колониальная система является главным препятствием для такого развития и именно она непосредственно порождает нищету, постоянно, без всякой компенсации, выкачивая богатства, производимые африканским народом, вместо того чтобы дать возможность использовать эти богатства с целью повышения технического уровня и уровня жизни населения этих стран. Тем самым она навязывает населению самый низкий уровень жизни и приводит ко все более серьезному истощению почвы и ресурсов, эксплуатируемых на основе примитивной техники ради удовлетворения ненасытной жажды монополий.
Те, кто рекламирует обширные планы «развития» Африки как средство решения проблем Западной Европы, возможно, будут утверждать, что 369
осуществление их планов с помощью западного капитала даст возможность преодолеть эти препятствия и, таким образом, принесет пользу как западноевропейским, так и африканским народам. Они, возможно, с гордостью укажут на большие достижения «Программы развития и повышения благосостояния колоний» или «Корпорации по развитию колоний» и, может быть, с несколько меньшей гордостью — на план выращивания земляных орехов. В самом деле, об этом твердит реклама. Однако действительность сильно расходится с этими утверждениями. Истинный характер громко рекламируемых достижений «Программы развития и повышения благосостояния колоний» и «Корпорации по развитию колоний» будет рассмотрен подробно в следующей главе. Мы увидим, что они не только не дают решения проблемы, но на практике преследуют совершенно иные цели. Как муха не может родить слона, так и эти методы не могут разрешить колоссальные проблемы экономического развития Африки, глубокий кризис которой коренится в условиях империализма.
Здесь мы видим второй решающий фактор и второе решающее противоречие, мешающее осуществлению этих планов. Это противоречие между громко рекламируемыми фантастическими программами «широкого и дорогостоящего развития», преследующими цель усиления эксплуатации Африки, и фактической экономической слабостью Англии.
Выдвигаемые планы потребовали бы огромных капиталовложений, в том числе капиталовложений для расчистки джунглей и кустарников, которые при самых благоприятных условиях не могут принести в ближайшее время прибыль. Даже ограниченные и однобокие планы «развития», предлагаемые для того, чтобы с хищнической поспешностью извлечь из Африки максимум сырья и продовольствия, требуют для своего успешного осуществления больших капитальных затрат для расчистки и мелиорации почвы, приобретения необходимого 370
оборудования, строительства складов, средств связи, шоссейных и железных дорог, приобретения подвижного состава и сооружения портов. Все это означает, что необходимо экспортировать и сковать на долгие годы большие капиталы без всякой перспективы на быстрое получение прибыли. В силу этой очевидной причины действующие в Африке крупные монополии, которые фактически сами составляли предлагавшиеся широкие планы, подобные плану выращивания земляных орехов, и контролировали их осуществление, предпочитали не рисковать своим собственным капиталом, а любезно приглашали Стрэчи и других простаков, чтобы они выполнили черновую работу и обеспечили государственный капитал для дорогостоящих первоначальных этапов осуществления этих планов.
Но существо проблемы, стоящей сейчас перед Англией и западноевропейскими империалистическими странами, заключается в том, что у них не хватает средств даже для необходимых капиталовложений у себя в стране, которые им пришлось резко ограничить. У них дефицит в платежном балансе, не оставляющий им никакого реального избытка средств для капиталовложений за границей. Англия и западноевропейские страны, имеющие дефицит в платежном балансе и стремящиеся найти быстрое решение проблемы дефицита путем усиления эксплуатации колоний, не в состоянии экспортировать капитал в таких масштабах, в каких это необходимо для успешного осуществления их планов.
Таким образом, империалистические правительства Англии и Западной Европы находятся в заколдованном кругу. Чтобы ликвидировать свой дефицит, им дозарезу нужны доллары. Чтобы получить доллары, они требуют из колоний больше жиров и нефти, кофе и олова, каучука, сизаля и пеньки. Но, чтобы получить эти товары, они должны экспортировать капитал, необходимый для строительства новых шоссейных' и железных дорог и приобретения различного оборудования. А для 371
этого им опять-таки нужны доллары. Другими словами, их блестящий план ликвидации дефицита предполагает, что они сначала должны иметь избыток. И их единственное решение сводится к надежде на то, что Соединенные Штаты предоставят им доллары для долгосрочных капиталовложений в колониях. Но если американский капитал предоставит эти доллары, то именно американский капитал будет извлекать и прибыль; следовательно, проблема останется нерешенной.
К тому же эти легкомысленные предположения о больших американских капиталовложениях в Африке, возмещающих недостаток собственного капитала, не очень-то реальны. Поскольку первоначальные крупные капиталовложения, необходимые для подготовки почвы, едва ли сулят в ближайшем будущем какие-либо значительные прибыли, они становятся непривлекательными для американских капиталистов. Об этом откровенно говорилось в 1949 году в докладе Торговой палаты Соединенных Штатов, озаглавленных «Возможности капиталовложений в Британской Африке». В последнее время проникновение американского капитала в Африку все более усиливается. Но до сих пор американский капитал стремился главным образом к расширению своего контроля над уже созданными, приносящими прибыль предприятиями, то есть к переводу прибылей от существующей эксплуатации из Англии в Соединенные Штаты, а не к осуществлению долгосрочных программ, прибыль от которых сомнительна. Можно, конечно, предполагать дальнейшее расширение подобных действий, однако такое проникновение никоим образом не содействует разрешению стоящих перед английскими капиталистами проблем.
Пробудившаяся Африка
До сих пор мы рассматривали только технические и экономические противоречия, мешающие реализации мечты западноевропейских империа372
листов о разрешении всех своих проблем на основе более интенсивной эксплуатации Африки.
Но основным и решающим фактором, определяющим будущее Африки, являются сами африканские народы. Все проекты империализма предполагают пассивное, рабское подчинение африканских народов, лишенных права участвовать в обсуждении этих проектов. Однако усиление эксплуатации африканских народов сопровождается нарастанием их борьбы.
Африка, в прошлом родина древних цивилизаций, в течение столетий очень сильно страдала от жестокости и варварства западноевропейских захватчиков и авантюристов. За опустошениями, причиненными на заре капиталистической эры работорговлей, ведшейся ради заполнения ненасытного чрева американского невольничьего рынка, пришел в нашу эпоху беспощадный грабеж захватчиков земель, искателей концессий и монополистов-эксплуататоров. Но -события наших дней показывают, что Африка недолго будет оставаться «отсталым континентом». Африканец становится на ноги.
По всей Африке — от Марокко на севере до Кейптауна на юге, от Французской Экваториальной Африки, Сьерра-Леоне, Золотого Берега и Нигерии на западе до Кении, Уганды и Танганьики на востоке—в минувший период наблюдался мощный подъем народного возмущения против колониального подчинения и дискриминации по цвету кожи, против чужеземного присвоения ресурсов этих стран. Этот подъем принес с собой появление и развитие профсоюзов и политических партий (немотря на частые запреты таких организаций и заключение в тюрьмы их руководителей), забастовки и демонстрации против бесчеловечных условий и законов о репрессиях и неоднократные стычки с полицией и войсками, в результате которых имело место много случаев расстрела и убийства забастовщиков и демонстрантов.
Народная борьба велась в виде всеобщих за373
бастовок (как за экономические, так и за политические требования), восстаний и бунтов крестьян, выступлений против законов о репрессиях и расовой дискриминации, национальных движений за самоуправление и независимость и во многих других формах.
Во всех частях Африки разливалась все шире волна народного пробуждения, усиливалась борьба и организованность, несмотря на жестокие репрессии, аресты руководителей и лишение народов элементарных гражданских прав, несмотря на полицейское насилие и расстрелы. В Южной Африке в ответ на безрассудное расистское наступление (выражением которого были законы Малана о сегрегации, или апартеиде) развернулось единое массовое сопротивление, и в’этом общем движении участвовали и африканцы, и цветные, и индийцы. Подобным же образом в Бечуаналенде развернулось единодушное сопротивление племени бамангвато изгнанию Серетсе, с требованием его возвращения, а в Уганде народ Буганды решительно выступал против смещения местного правителя и в защиту требований о самоуправлении. На другом конце материка, на арабском севере, произошли восстания в Марокко, Алжире и Тунисе, приведшие к признанию в 1956 году независимости Марокко и Туниса; ход же колониальной войны в Алжире указывает на перспективу быстрого поражения французского империализма и в этом последнем опорном пункте. В Судане сила народного движения привела в 1956 году к ликвидации колониального режима и к признанию независимости Судана. В последний период эти новые течения резко усилились и в Восточной и Центральной Африке. Неоценимый вклад в борьбу за освобождение африканцев внесла Кения, где развернулось мощное движение народа, сила и политическое сознание Союза негров Кении и поддержка объявленному вне закона Конгрессу тред-юнионов привели к введению властями открытого террора и развертыванию «черно-коричневой» вой374
ны; народ продолжил свою борьбу не только против диктатуры местной полиции, но и против посланных на подавление народного движения экспедиционных армий империализма. В Северной и Южной Родезии и Ньясаленде продолжалась всеобщая массовая оппозиция африканского населения навязыванию реакционной «федерации». На западе материка прогресс был особенно быстрым: во Французской Западной Африке, где народное движение достигло широкого размаха; в Нигерии, где борьба профсоюзов и крестьян была особенно боевой и где в результате национального движения был создан Национальный совет Нигерии и Камеруна; и на Золотом Береге, где Народная партия, выступавшая под лозунгом «самоуправление сейчас», одержала на выборах полную победу, что заставило Англию в 1957 году признать Гану в качестве первого самоуправляющегося африканского доминиона.
Империалисты, несмотря на разнообразие методов, направленных на продление своего господства и сохранение власти над народами Африки, не смогут нанести окончательного поражения растущему движению африканских народов за независимость. Решительность борьбы народов Африки, способность к организации, героизм и готовность к самопожертвованию, стремление учиться на примерах победоносных колониальноосвободительных движений и особенно на богатом опыте Союза Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республики являются гарантией их будущей победы. Мечты о новом возрождении империализма на основе усиления порабощения и эксплуатации Африки построены на песке.
Чтобы полнее установить справедливость этого вывода, необходимо более подробно изучить «Программу развития и повышения благосостояния колоний», которая ныне с таким шумом преподносится в качестве грандиозного рекламного проспекта «нового империализма».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПРОЕКТЫ «РАЗВИТИЯ КОЛОНИЙ»
Он обвинял, протестовал...
Но соучастником все ж стал.
Добычи долю он имел... Но человека пожалел.
Уильям Коупер, «Жалость к бедным африканцам».
«Развитие и повышение благосостояния колоний». «Помощь отсталым народам». «Развитие слаборазвитых территорий земного шара». «Всемирный план борьбы с голодом и нищетой».
Эти фразы легко слетают с языка современных глашатаев империализма. Корпорации по развитию колоний, план Коломбо и программа «четвертого пункта» — все это преподносится как некое новое веяние.
Совершенно бесспорно, что страны с передовой техникой и высокоразвитой -современной промышленностью могут оказать значительную помощь технически отсталым странам в ускорении их экономического развития и в достижении ими более высокого уровня, при условии, если будет ликвидирована колониальная система, являющаяся основой их нищеты, при условии, если будет положен конец хищническим действиям монополий, выкачивающих богатства этих стран, и при условии, если правящая держава перестанет поддерживать по политическим причинам отжившие экономические и социальные формы, системы землевладения и феодальные и княжеские слои, препятствующие экономическому развитию. Такая помощь передовых стран отсталым странам, оказанная им на основе свободы и равноправия, может иметь неоценимое значение. Советский Союз показал это на примере бывших отсталых и угнетенных национальностей старой царской империи, которые за 376
одну треть века достигли поразительного и не имеющего прецедента в истории очень высокого уровня развития во всех областях. После второй мировой войны новым подтверждением этого была действенность советской помощи народно-демократическим странам Восточной Европы и Китайской Народной Республике в деле быстрой индустриализации и экономического развития. В последний период подобная помощь оказывалась Советским Союзом, народно-демократическими странами Восточной Европы и Китаем новым независимым государствам, освободившимся от прежнего колониального или полуколониального подчинения.
Но говорить о «развитии слаборазвитых колониальных и зависимых стран» без отмены колониальной системы, без прекращения ограбления и истощения этих стран в результате эксплуатации их заморскими империалистическими монополиями, без ликвидации устаревших социальных и экономических реакционных форм, существование которых искусственно поддерживается империализмом, — это, в лучшем случае, опасный по своим последствиям самообман, который можно сравнить с мечтами о ликвидации нищеты без прекращения капиталистической эксплуатации; на практике это самое дешевое лицемерие и ханжество империалистов, имеющее целью замаскировать действительное усиление колониальной эксплуатации термином «развитие».
Однако даже при существующих условиях это не означает, что международное сотрудничество в деле помощи развитию слаборазвитых стран невозможно или что оно нежелательно до окончательной ликвидации колониализма. Но под видом помощи делается многое, что в действительности направлено на достижение совершенно иных целей — целей экономического, политического и стратегического проникновения. И даже самые лучшие из этих планов не могут подменить собой решение центральной задачи избавления от условий империалистической эксплуатации.
377
Чтобы доказать это, необходимо более подробно рассмотреть выдвигаемые проекты и их практическое осуществление.
Развитие и повышение благосостояния колоний?
Законы «о развитии и повышении благосостояния колоний» 1940, 1945 и 1950 годов и закон о развитии заморских ресурсов 1948 года, в соответствии с которыми были основаны Корпорация по развитию колоний и Заморская продовольственная корпорация, широко рекламируются как доказательство «нового веяния» и «новой эры» при империализме. Они преподносятся народу Англии и мировому общественному мнению как проявление беспримерной щедрости со стороны английского налогоплательщика по отношению к колониальным народам. Обнищавшая Англия якобы щедро предоставляет свои ресурсы, чтобы оказать помощь отсталым колониальным народам на^ пути к экономическому процветанию и социальному благоденствию.
В предвыборной программе лейбористской партии «Лейбористы верят в Британию», опубликованной весной 1949 года, можно прочесть такой лирический пассаж:
«Великобритания и колонии объединились, чтобы ликвидировать невежество, нищету и болезни».
«Империализм умер, но империя возродилась к новой жизни», — говорится в «Справочнике лейбористского оратора» за 1948/49 год.
Далее там сказано:
«Лейбористская Британия дала колониям исключительно мощный стимул к социальному и экономическому прогрессу. Согласно «Программе развития и повышения благосостояния колоний», колониальным 378
правительствам выделяется 120 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи в осуществлении местных планов. Для финансирования специальных проектов развития экономики в крупных масштабах была создана Корпорация по развитию колоний с капиталом 110 миллионов фунтов стерлингов. Далее, Заморская продовольственная корпорация имеет полномочия израсходовать 55 миллионов фунтов стерлингов на осуществление обширных планов увеличения производства продовольствия в колониях. Даже Бивербрук одобрил эти планы и признал, что лейбористское правительство сделало больше для Британского Содружества Наций, чем когда-либо сделали консерваторы со всеми их пышными фразами».
В том же духе газета «Дейли гералд» хвастала: «Развитие экономических и человеческих возможностей империи, игнорировавшееся сменявшими друг друга консервативными правительствами, досталось на долю лейбористского правительства» («Дейли гералд», 26 июня 1947 года).
Чтобы не создалось впечатления, будто есть какая-то разница между официальной консервативной и официальной лейбористской политикой в отношении этих планов, стоит отметить не только тот факт, что «Программа развития и повышения благосостояния колоний» была первоначально выдвинута консервативным правительством и осуществлялась затем лейбористским правительством, но и тот факт, что все программы развития колоний, осуществлявшиеся лейбористским правительством, поддерживались и одобрялись консервативной партией. Это относится даже к пресловутому плану выращивания земляных орехов, о котором «Справочник по избирательной кампании консервативной партии» (1950) писал, что «консервативная партйя целиком поддерживала общие принципы этого плана». ’
379
Поэтому будет полезно ознакомиться несколько ближе с тем, как действуют эти законы и планы развития колоний. Политика «развития и повышения благосостояния колоний», на основе которой был составлен закон 1940 года, была сформулирована консервативным правительством Чемберлена в Белой книге, опубликованной в марте 1940 года.
Прежде, по закону о развитии колоний 1929 года, ежегодно выделялся 1 миллион фунтов стерлингов; вплоть до 1940 года было израсходовано 8,8 миллиона фунтов. Закон 1940 года предусматривал выделение ежегодно 5 миллионов фунтов стерлингов в течение десяти лет; закон 1945 года увеличил эту сумму до 12 миллионов фунтов в год на десятилетие 1946—1955 годы; по закону 1950 года предусмотренная предыдущим законом общая сумма в 120 миллионов фунтов стерлингов была увеличена до 140 миллионов фунтов; в 1955 году при наличии 40 миллионов фунтов еще не израсходованных средств было дополнительно выделено 80 миллионов фунтов, с тем чтобы обеспечить расходование 24 миллионов фунтов в год в течение пятилетия, оканчивающегося 1960 годом. В соответствии с законом о развитии заморских ресурсов 1948 года была создана Корпорация по развитию колоний с правом брать в кредит до 55 миллионов фунтов стерлингов.
Прежде чем эти внушительные цифры, выражающие так широко рекламируемую щедрость в отношении колониальных народов, ошеломят доверчивых людей, которые примут их за чистую монету и будут считать их правдивым отражением экономических взаимоотношений между английским капитализмом и колониями в современный период, будет полезно сделать одно-два замечания по этому поводу.
Прежде всего цифры объявленных ассигнований для этой цели отнюдь не совпадают с суммами, фактически израсходованными в течение одиннадцати лет действия законов и по настоящее время. Это можно видеть из последних отчетов о 380
действии законов «о развитии и повышении благосостояния колоний» вплоть до марта 1956 года.
Таблица 30 ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ «О РАЗВИТИИ И ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КОЛОНИЙ» ЗА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТНЫЙ ПЕРИОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 МАРТА 1956 ГОДА
(В ТЫС. ф. СТ.)
1940/41 г.
—
170
1948/49
г.
— 6 445
1941/42 г.
—
442
1949/50
г.
— 12 986
1942/43 г.
—
487
1950/51
г.
— 13 559
1943/44 г.
—
1 578
1951/52
г.
— 14 634
1944/45 г.
—
3 039
1952/53
г.
— 14 483
1945/46 г.
—
4 652
1953/54
г.
— 14 071
1946/47 г.
—
3 547
1954/55
г.
— 15937
1947/48 г.
—
5 340
1955/56
г.
— 16 694
Итого за 1940/41—1955/56 годы 128 333 тыс. ф. ст.
Таким образом, за шестнадцатилетний период, с момента принятия плана и до 1956 года, в соответствии с законами «о развитии и повышении благосостояния колоний» было фактически израсходовано менее 130 миллионов фунтов стерлингов. Эту сумму следует разделить приблизительно между сорока шестью колониальными территориями с населением 82 миллиона человек. Простой арифметический подсчет покажет, что это равносильно тому, что за весь пятнадцатилетний период на душу населения было израсходовано 31 шиллинг 3 пенса, или в среднем 1 шиллинг 11,5 пенса в год, или менее 0,5 пенса в неделю.
Даже если выделить пятилетний период, с 1946 по 1951 год, когда у власти находилось лейбористское правительство, и рассмотреть только увеличенные расходы с момента принятия закона 1945 года, то общая сумма в 41 588 575 фунтов стерлингов за эти пять лет при лейбористском правительстве соответствует годовому расходу в 2 шиллинга 0,5 пенса на душу населения колониальных тер384
риторий, или менее чем полпенса на душу населения в неделю.
Эти цифры фактических расходов выглядят гораздо менее внушительно, если сопоставить их со щедрыми обещаниями экономического развития, уничтожения нищеты, расширения масштабов здравоохранения, просвещения, социального обслуживания и благосостояния,— и все это не более как за полпенса в неделю!
С другой стороны, необходимо рассмотреть еще некоторые статьи, которые должны быть противопоставлены этой цифре — полпенса в неделю на душу населения,— прежде чем можно будет подвести окончательные итоги. Все стерлинговые авуары колоний, представляющие собой эквивалент товаров и услуг, которые были получены Англией от колоний во время войны, а также в послевоенный период и оплачены «замороженными счетами» в Лондоне (что равносильно принудительному займу), к концу 1955 года достигли 1446 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, вся сумма, выплаченная на основе законов «о развитии и повышении благосостояния колоний» в течение шестнадцати лет их действия, равняется менее чем одной одиннадцатой части стерлинговых сумм, которые Англия должна колониям. Если бы эта одна одиннадцатая часть стерлинговых авуаров была разблокирована, то сумма, фактически выплаченная на основании этих законов, перешла бы к колониям без всякого надувательства и лицемерных фраз о дарах и благотворительных целях.
Далее следует отметить, что за самый последний период эти стерлинговые авуары фактически увеличились в то самое время, когда происходила выплата средств на основании законов о «развитии» колоний. К этому пункту необходимо будет вернуться, так как он имеет кардинальное значение для понимания реального процесса усиленной эксплуатации, скрывающейся за ширмой программ «развития и повышения благосостояния колоний». Так, стерлинговые авуары одной только Западной 382
Африки в течение 1948 года увеличились не менее чем на 20 миллионов фунтов стерлингов, что более чем в три раза превышает общую сумму, выплаченную всем колониям в течение 1948/49 года. Это поистине значит взять одной рукой фунт, чтобы вернуть другой рукой несколько шиллингов, и назвать еще всю эту махинацию филантропией!
Беспощадная логика этих цифр вынудила даже орган полуофициального Чатам-хауса1 признать в 1952 году:
«Стерлинговые авуары колониальных территорий с конца 1947 года более чем удвоились; часть этого прироста объясняется притоком английского капитала, однако вряд ли можно сомневаться в том, что в целом колонии были превращены в заимодавцы для остальной части стерлинговой зоны. Это является любопытной чертой того мира, в котором различные формы займов слаборазвитым странам, вроде плана Коломбо, якобы являются обычным порядком вещей» («Капиталовложения в страны содружества», журнал «Уорлд тудей», ноябрь 1952 года).
Однако и это еще не отражает полностью взаимный баланс убытков и прибылей английского капитализма и колоний. Из обычных официальных заявлений— вроде того, что «Англия не извлекает ни одного пенса из колоний» и что, наоборот, «Англия отдает миллионы фунтов стерлингов в помощь колониям»,— никогда нельзя установить, какова подлинная прибыль, получаемая английскими капиталистами от своих колониальных владений, каковы прибыли крупных торговых и инвестиционных монополий, имеющих дело главным образом с продуктами колониальных и полуколониальных стран. В 1950 году только один империалистический концерн «Юнилевере», контролирующий через «Юнай-
1 Имеется в виду Королевский институт международных отношений в Лондоне. — Прим. ред.
383
тед Африка компани» Нигерию и Золотой Берег, получил валовой доход в 66 миллионов фунтов стерлингов. Компания «Ройял Датч шелл» получила валовой доход в 190 миллионов фунтов стерлингов. Англо-Иранская компания получила валовой доход в 115 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, прибыль, извлеченная за год только одним империалистическим концерном, превышает всю сумму, выплаченную в соответствии с законами «о развитии и повышении благосостояния колоний» всем английским колониальным территориям за весь шестнадцатилетний период.
Это разоблачение вопиющего обмана, совершенного под видом так называемых «добровольных даров» на основе законов «о развитии и повышении благосостояния колоний», нельзя ограничить простым арифметическим подсчетом, вскрывающим эту фальсификацию баланса счетов между метрополией и колониями. Необходимо рассмотреть, что означает сам термин «развитие». Какого рода «развитие»? В чьих интересах?
Корпорации по развитию колоний
Ответ на вопрос: «Какого рода развитие?» — легче всего получить, рассмотрев деятельность Корпорации по развитию колоний, созданной в 1948 году одновременно с Заморской продовольственной корпорацией. Стоит отметить, что Заморская продовольственная корпорация — и это весьма знаменательно! — «сначала находилась в ведении министерства продовольствия. Таким образом, главной ее целью являлось не развитие колоний, а удовлетворение английских чрезвычайных нужд за счет колониальных ресурсов. Позже она была передана в ведение министерства колоний.
Свидетельствует ли роль и деятельность Корпорации по развитию колоний о каком-нибудь коренном изменении в характере колониальной системы?*
Сущность колониальной системы заключается в 384
подчинении экономики колониальной страны потребностям экономики господствующего империалистического государства.
Взаимоотношения, обусловленные этой системой, находят свое выражение в том, что колониальной стране отводится роль поставщика дешевого сырья и продовольствия, рынка для сравнительно дорогих промышленных изделий империалистического государства и сферы приложения капитала, экспортируемого капиталистическим классом правящей страны, стремящимся получить колониальную сверхприбыль на основе прямой эксплуатации естественных ресурсов и рабочей силы колониальной страны. Позже у нас будет возможность рассмотреть осложнения в этой ранее безотказно действовавшей системе, осложнения, возникшие в период общего кризиса капитализма и экономического ослабления и упадка Англии.
С этой целью империализм устанавливает свой контроль не только над торговлей и финансовыми отношениями колониальной страны с другими странами, но обычно и над ее валютой и внутренней финансовой системой. Естественные ресурсы, полезные ископаемые и т. п., имеющиеся в колониях, как правило, присваиваются монополистами господствующей державы (непосредственно или посредством «концессий» и продиктованных соглашений об «аренде») и эксплуатируются ради извлечения прибыли, причем получаемая прибыль вывозится из страны, вместо того чтобы служить нуждам развития этой страны. Вся земля или лучшая ее часть захватывается, а народы колоний подвергаются сегрегации и загоняются в резервации, где они живут в страшной скученности или работают на плантациях; крестьяне, обрабатывающие землю и остающиеся на ней, подвергаются империалистической эксплуатации и поставляют товарные культуры на рынки капиталистических стран в ущерб потребности в продовольствии своего собственного народа. При помощи экономического давления, обложения налогами, специального законо13 Р. Палм Датт 385
дательства или путем прямого принуждения рабочая сила колоний ставится на службу интересам иностранных эксплуататоров.
Совершенно очевидно, что первейшее условие подлинного экономического развития и прогресса колониальной страны заключается в следующем: ее богатства и ресурсы не должны находиться в руках иностранных владельцев, а должны быть возвращены народу; они не должны использоваться, для того чтобы приносить прибыль эксплуататорским компаниям в других странах, а должны идти на удовлетворение нужд развития внутри страны. Вместо колониальной экономики, зависимой и платящей дань метрополии, необходимо равномерное экономическое развитие страны, основанное на ее индустриализации и на сочетании нужд промышленности и сельского хозяйства, с тем чтобы сделать возможным подлинное развитие производительных сил и повышение жизненного уровня населения.
На практике такая программа неизбежно требует предварительного политического условия — национальной независимости бывшей колониальной страны,— с тем чтобы там могло быть создано правительство, которое действовало бы в интере- ресах экономического развития страны и осуществляло эту программу.
С другой стороны, каков характер действий Корпорации по развитию колоний или Заморской продовольственной корпорации по отношению к этой колониальной экономике?
Эти корпорации номинально существуют, для того чтобы в ограниченном масштабе вывозить контролируемый государством капитал под наблюдением правящего империалистического государства, действующего через формально независимые корпорации, для осуществления специально одобренных планов, рассматриваемых как вспомогательные по отношению к главной сфере частного вывоза капитала. В действительности даже «вывоз капитала» является фиктивным, поскольку его бо386
лее чем перевешивают параллельно накапливаемые стерлинговые авуары.
Бывший министр колоний Крич-Джонс, внося 25 июня 1947 года на утверждение парламента план создания Корпорации по развитию колоний, изложил три основных принципа ее деятельности:
1. «Она будет действовать на коммерческой основе».
2. «В наши намерения не входит подмена частной инициативы, а лишь дополнение ее».
3. «Несомненно, это будут главным образом сельскохозяйственные предприятия».
От имени консервативной партии Оливер Стэнли, бывший министр колоний, поддерживая этот план во время тех же парламентских дебатов, «приветствовал в особенности заявление министра относительно важной роли, которую должен играть частный капитал в развитии колоний».
В том же духе лорд Трефгарн, первый председатель правления Корпорации по развитию колоний, рассказывая о ее деятельности на пресс-конференции 1 января 1950 года, подчеркнул:
«Мы всегда предпочитаем действовать совместно с частными концернами».
Отвечая на вопрос, много ли проектов до сих пор разрабатывалось совместно с частным капиталом, он сказал, что, как ему кажется, так разрабатывалась по крайней мере третья часть всех проектов.
В соответствии с этими принципами руководящий персонал Корпорации по развитию колоний, Заморской продовольственной корпорации и их дочерних компаний с самого начала полностью находился под влиянием крупного капитала, прямых представителей банков и ведущих монополистических концернов. Так, в число семи директоров, первоначально назначенных в Корпорацию по развитию колоний, вошли сэр Майлс Томас, бывший прежде вице-председателем компании «Моррис моторе»; X. Н. Хьюм, председатель «Чартерхаус
13*
387
траст»; Р. Е. Брук, один из директоров Английского банка; и банкир Дж. Роуз.
Планы «развития» колоний, выдвинутые или поддержанные этой корпорацией, полностью соответствовали принципам сохранения колониального характера экономики, служили основным интересам частной коммерческой эксплуатации колоний и еще более ограничивались тем требованием, что эти планы должны осуществляться на основе коммерческой выгоды.
Годовой отчет Корпорации по развитию колоний за 1953 год показывает, что из общего числа 50 осуществлявшихся проектов с общим капиталом в 25,3 миллиона фунтов стерлингов ни один не предусматривал значительного промышленного развития. 56 процентов всего капитала предназначалось на развитие земледелия, лесного хозяйства, производства продуктов животноводства и на горнодобывающую промышленность. На «заводы» предназначалось 7,7 процента всего капитала, или 2,2 миллиона фунтов стерлингов.
Финансовые условия этих планов требуют выплаты процентов и погашения авансированного капитала. «Корпорация, конечно, несет перед правительством его величества ответственность за своевременную выплату авансированного капитала и причитающихся процентов» (из отчета за 1950год). Общий дефицит за 1950 год после покрытия всех накладных и административных расходов равнялся 1 320 249 фунтам стерлингов. Таким образом, вся щедрость выражается суммой менее четырех пенсов на душу колониального населения за один год «развития» колоний, причем подразумевается, что эти четыре пенса должны быть в конце концов возвращены. Жалобы по поводу слишком тяжелого бремени процентов и выплаты авансированного капитала, включая капитал, потерянный на неосуществленных проектах, раздаются еще громче в печальном отчете корпорации за 1951 год:
«Каково бы ни было положение,— даже если все деньги потеряны ввиду того, что от 388
работы пришлось отказаться,— авансированный капитал должен быть выплачен, и пока он не выплачен, на него начисляются проценты».
Процентная ставка, как отмечается в отчете, повышена с 3 процентов, взимавшихся в 1948—1949 годах, когда авансировался первоначальный капитал, до 4,25 процента в феврале 1952 года, что составляет «повышение более чем на 40 процентов в самой большой статье накладных расходов».
«После выплаты колониального налога прибыль должна достигать в среднем 6,75 процента, чтобы можно было выплатить проценты; или еще больше, чтобы покрыть накладные расходы; и еще больше, если должен быть своевременно выплачен авансированный капитал...
Но и это еще не все. Должны быть списаны убытки—в конце 1951 года их было 4,5 миллиона фунтов стерлингов; или, вернее, поскольку они не списываются, эта сумма должна бесконечно висеть тяжелым бременем, как камень на шее; должны выплачиваться проценты на эту сумму, да и сама она должна быть каким-то образом выплачена.
Результатом должно быть отклонение корпорации от ее главной цели — открытия новых областей развития — до тех пор, пока не изменятся времена (и процентные ставки), если доводы, представленные корпорацией правительству по поводу этих финансовых затруднений, не приведут к какому-то облегчению» (годовой отчет Корпорации по развитию колоний за 1951 год, стр- 6—7).
Печальная жалоба корпорации встретила у правительства холодный прием. Лорд Мюнстер, заместитель министра колоний, заявил в палате лордов 28 мая 1952 года, что «списание убытков в настоящее время не имеет никакого смысла». Максимальное облегчение состояло бы в отказе от 389
начисления процентов на мертвый капитал. Подобно ростовщику, наблюдающему за трудностями своего клиента, Мюнстер предложил новую форму авансов на десятилетний срок из 3,75 процента. Что касается всего остального, то он посоветовал «проявлять осторожность... ограничить рискованные проекты до минимума... забыть о прошлом».
К концу 1955 года общая сумма займов, предоставленных корпорацией колониям, была менее 55 миллионов фунтов стерлингов. Подавляющая часть этих займов предоставлялась английским заморским фирмам. Из общей суммы предоставленных корпорацией займов только 7 процентов предназначалось на различные проекты, связанные с «заводами»; на сельское и лесное хозяйство предназначалось 32 процента, на энергетику — 26 процентов, на горнодобывающую промышленность—13 процентов. В отчете за 1955 год указывалось, что повышенная процентная ставка может оказаться «слишком высокой с точки зрения рентабельности многих проектов, осуществление которых желательно».
Развитие и индустриализация
Существенной чертой различных планов «развития» колоний — будь то в соответствии с законом «о развитии и повышении благосостояния колоний» или же под эгидой Корпорации по развитию колоний — являлось то, что основная задача индустриализации на практике исключалась и ее осуществлению оказывалось даже открытое сопротивление.
В своей речи на конференции африканских губернаторов 12 ноября 1947 года сэр Стаффорд Криппс открыто высказал это отрицательное отношение к промышленному развитию колоний.
«Вы, я полагаю,— заявил он,— будете рассматривать вопрос о развитии ремесел и промышленности в колониях. Хотя я считаю, 390
что такое развитие в высшей степени желательно— если только оно не заходит слишком далеко или не проводится слишком быстро,— тем не менее совершенно очевидно, что при современной нехватке во всем мире капитального оборудования невозможно рассчитывать на многое в области промышленного развития колоний. Будет значительно лучше как с точки зрения всего мира, так и с точки зрения самих колоний использовать имеющуюся сталь на то, чтобы сделать все для увеличения поставок продовольствия и сырья».
Аналогичным образом заместитель министра колоний Рис-Вильямс писал в журнале «Фэкт» в марте 1949 года:
«В наши намерения вовсе не входят попытки создавать всюду маленькие Ланкаши- ры. Совершенно очевидно, что каждая территория не может производить все».
Та же самая точка зрения была выражена английской делегацией на сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций в декабре 1951 года, когда в Экономическом комитете ООН Куба внесла резолюцию, призывающую к изучению мероприятий с целью индустриализации слаборазвитых территорий. За эту резолюцию голосовала 41 страна. Две страны голосовали против даже этого скромного предложения — «изучить» проблему индустриализации слаборазвитых территорий. Этими двумя странами были Англия и Голландия.
Об аналогичном отношении американского финансового капитала к индустриализации говорил президент Насер в своей речи в Александрии 26 июля 1956 года, касаясь отказа в предоставлении средств на финансирование строительства Асуанской плотины:
«Империалисты не желают, чтобы мы стали промышленной страной, производящей все небходимое нам. Я не могу припомнить ни одного случая предоставления аме391
риканской помощи для целей индустриализации. Не было и признаков этого — американская помощь преследует иные цели».
В докладе комиссии Гувера Конгрессу США (июнь 1955 года) содержится такая рекомендация: «В пределах азиатско-африканской дуги, за возможным исключением Японии, не следует осуществлять крупных планов промышленного развития и строить крупные промышленные предприятия, за исключением предназначенных для производства стратегических материалов; всю помощь на промышленное развитие следует сосредоточить на мелкой промышленности».
Истинные цели империалистической политики при осуществлении этих планов «развития», маскируемые прозрачным покрывалом «филантропии» и «благодетельствования отсталых колониальных народов», на настоящем этапе, в сущности, ясны. В действительности преследуются как стратегические, так и экономические цели. Стратегической целью объясняется значительная доля расходов на железные дороги, стратегические шоссейные дороги, порты и т. п. в некоторых районах, где масштабы расходов превосходят ожидаемую экономическую выгоду. В экономической области здесь имеется в виду усиление эксплуатации колониальных ресурсов, чтобы правящие империалистические страны могли получить больше продуктов из колоний и таким образом обеспечить разрешение своих экономических проблем — проблемы дефицита продовольствия и сырья, а также специальных проблем дефицита платежного баланса.
Как мы уже показали в предыдущей главе, посвященной мечтам империалистов о «новой африканской империи», усилия западноевропейских империалистических государственных деятелей открыто направлены на разрешение проблемы банкротства их собственной империалистической системы путем усиления эксплуатации Африки и других колониальных территорий. Об этом прямо 392
заявил премьер-министр Эттли в парламенте 23 января 1948 года:
«Западная Европа не может жить сама по себе как экономическая единица. Отсюда ее стремление к более широкому объединению с Африкой и другими заморскими территориями».
Министр финансов сэр Стаффорд Криппс заявил 12 ноября 1947 года:
«Все будущее стерлингового блока и его способность выжить зависят, с моей точки зрения, от быстрого и широкого развития наших африканских ресурсов».
А министр продовольствия Стрэчи, ставя 20 января 1948 года на третье чтение в парламенте законопроект о развитии заморских ресурсов, не менее выразительно утверждал:
«Развитие — всеми правдами и неправдами— промышленности, добывающей всякого рода сырье в колониях и зависимых территориях Британского Содружества Наций и во всем мире, является делом жизни и смерти для экономики Англии».
Бывший министр колоний консерватор Оливер Стэнли засвидетельствовал, что даже ему надоели притворные уверения, будто главной целью развития колоний является забота о благе африканцев. Он цинично заявил:
«Я согласен, что косвенно колонии извлекут некоторую выгоду, но давайте говорить начистоту».
А год спустя, 14 марта 1949 года, Стрэчи, отчаянно пытаясь спастись от огня критики в связи с фиаско, которое он потерпел со своими проектами выращивания земляных орехов, пытался всячески доказать, что этот план никогда и не рассматривался как «благотворительное мероприятие».
«Самое плохое, что мы можем Сделать сейчас,— это утверждать, что указанный план предусматривал не производство масла и жиров, а должен был быть превращен в 393
некий благотворительный проект, направленный на поднятие уровня жизни африканцев,— заявил Стрэчи.— Разве мы можем развивать обширные территории и поднимать уровень жизни населения без помощи деловых проектов, преследующих подлинно коммерческие цели?
Этот план целиком практическое, а не благотворительное мероприятие... он вызовет перемены, болезненные для африканского народа... это не филантропический проект,- созданный целиком и полностью в целях облагодетельствования африканцев».
И все же этот план ни в коем случае не был таким «практическим», как представлял себе Стрэчи.
Противоречия в планах „развития" колоний
Практические противоречия, которые сводят на нет эти грандиозные бумажные программы «планировщиков» империализма, уже были рассмотрены довольно подробно в предыдущей главе.
Картина, рисуемая пропагандой в целях завоевания доброжелательной поддержки общественного мнения в империалистических странах, в розовых красках изображает обширные филантропические программы, которые ценой ничтожной доли ежегодных бюджетов должны поднять уровень жизни обнищавших колониальных народов, принести блага западной техники отсталым странам, ликвидировать нищету и тем самым «искоренить угрозу коммунизма», а кстати и разрешить экономические проблемы западных стран.
Это очаровательная картина, если бы только она имела какое-нибудь отношение к фактическому положению дел при империализме. Безусловно, оказывать помощь самому быстрому развитию народов, находящихся на низком техническом уровне, и, 394
таким образом, помогать им разрешать проблемы ликвидации нищеты и достижения всеобщего благополучия — это долг народов с высокой промышленной техникой. Это вполне возможно, это делалось и делается теперь. Об этом свидетельствует роль экономической помощи социалистических стран в содействии индустриализации и созидательному прогрессу слаборазвитых стран, экономическое развитие которых ранее задерживалось империалистическим господством.
Империалистическое «предпринимательство» способно «развивать» колониальные страны только одним путем — организуя самое быстрое разграбление их ресурсов ради скорейшего обогащения, не считаясь с будущим, присваивая их минеральные богатства или нефть, истощая их почву, экспроприируя их население и заставляя его работать на победителей, вводя плантационное хозяйство и строя железные дороги, порты и военные базы с целью более эффективной эксплуатации покоренного народа и более надежного господства над ним.
Все это есть осуществление определенной исторической задачи в том смысле, что интенсивная эксплуатация народа, влекущая за собой его сопротивление и создание колониального пролетариата, подготовляет путь к новому движению вперед, как только народы освобождаются от ига империализма и получают во владение ресурсы своих стран.
Но говорить об империалистическом «развитии» колоний как о средстве ликвидации разорения и нищеты, порождаемой империалистическим развитием колоний,— это в лучшем случае жестокий обман, прикрывающий совершенно иную действительность.
Чтобы начать реальную экономическую реконструкцию отсталых колониальных и зависимых стран, прежде всего необходимо прекратить истощение их ресурсов, которое наступает в результате выкачивания прибылей в пользу империалистических стран посредством деятельности империалистических монополий, и положить конец тому ненормальному положению, когда их экономика превращена в зависи395
мую колониальную экономику, подчиненную нуждам империалистических монополий, вместо гармоничного развития экономических ресурсов в интересах своего населения.
Но теперешние программы широкого, с государственной помощью империалистического «развития» колоний основаны на предположении, что будут сохранены существующая империалистическая эксплуатация и защита интересов существующих империалистических монополий или их право владения ресурсами страны. Вот почему эти программы, даже если бы они преследовали цель содействовать подлинному экономическому развитию и преодолеть нищету и отсталость, не могут уничтожить причины, порождающие эту нищету и отсталость. В действительности они являются паразитическим наростом на системе, которая создает эти условия и порождает экономический упадок и нищету в 100 раз быстрее, чем ее могли бы смягчить филантропические планы, преследующие самые лучшие цели (если бы такие существовали), но базирующиеся на этой же империалистической основе. У пациента берут кровь галлонами, чтобы затем впрыснуть ему в вены несколько капель из сочувствия к его тяжелому состоянию! Но даже это было бы самым благоприятным, самым идеалистическим представлением об этих программах, резко противоречащим их действительному характеру, который отнюдь не является филантропическим.
Таково первое очевидное противоречие в этих программах империалистического «развития» колоний.
Второе противоречие вытекает из первого. Будучи подчинены потребностям империалистической экономики, эти программы на практике никогда не ставят целью содействие экономическому развитию, необходимому для колониальных народов, то есть не рассчитаны на то, чтобы освободить их колониальную экономику от зависимости. В действительности они всегда направлены на сохранение и усиление колониального характера экономики в инте396
ресах правящей империалистической страны. Это уже было проиллюстрировано на опыте Корпорации по развитию колоний, которая явно враждебно относится к серьезным проектам промышленного развития, всецело подчиняет свою деятельность интересам частных, извлекающих прибыль предприятий и строго требует организации доходных предприятий. В конечном счете эти программы, как правило, не только не приносят пользы колониальным народам, но и не могут удовлетворить более алчных стремлений империалистических стран, мечтающих разрешить свои собственные экономические проблемы посредством магической формулы «развития» колоний, поскольку планы быстрого обогащения наталкиваются на препятствия, присущие колониальной экономике. На деле капитал расходуется чаще всего только на то, что служит стратегическим потребностям империалистического господства или подготовляет условия для дальнейшего коммерческого проникновения и эксплуатации (железные и шоссейные дороги, базы и т. д.).
Третье серьезное противоречие касается особенно Англии и западноевропейских стран, которые стремятся разрешить свои собственные экономические проблемы и ликвидировать дефицит в своем платежном балансе путем ускоренного «развития» колоний. Ибо именно программы широкого и ускоренного «развития» колоний требуют огромных первоначальных издержек капитала, а существенной чертой дефицита платежного баланса является то, что отсутствует какая-нибудь реальная основа для вывоза капитала. Таков заколдованный круг, уже рассмотренный в предыдущей главе. Таким образом, надежды на широкое «развитие» колоний неизбежно превращаются в жалобные призывы к тому, чтобы американский капитал в широких масштабах проникал в Британскую империю:
«Мы возлагаем большие надежды на развитие ресурсов колониальной империи... Но мы не можем вкладывать в развитие колоний дефицит... Мы должны иметь возмож397
ность в ближайшие несколько лет привлечь капитал не из стерлинговой зоны, так как наш собственный избыток будет недостаточен для этого» (выступление министра колоний Оливера Литтлтона в палате общин 17 марта 1952 года).
С другой стороны, рассмотрение опыта осуществления программы «четвертого пункта» покажет., что Соединенные Штаты, каким бы большим капиталом они ни располагали, проявляют мало интереса к его расходованию ради получения сомнительной прибыли, если это не связано непосредственно с военными, стратегическими и политическими целями или возможностью контролировать стратегическое сырье и содействовать проникновению собственного капитала за счет интересов английских монополий.
Ярким примером некоторых из этих противоречий, присущих наиболее грандиозным программам «развития» колоний как средству разрешения экономических проблем Англии, служит широко разрекламированный план выращивания земляных орехов, получивший такую печальную известность. Этот план первоначально был выдвинут весной 1946 года. Он был подготовлен компанией «Юнайтед Африка компани» — крупным африканским филиалом гигантского треста «Юнилевере», крупнейшего и самого ненавистного в Африке монопольного объединения, которое распространяет свою власть на всю Западную Африку и получает колоссальные прибыли. «Юнайтед Африка компани» любезно рекомендовала этот план весной 1946 года лейбористскому правительству, предложив, чтобы расходы взяло на себя правительство. Лейбористское правительство с радостью приняло этот план, объявило о нем под звуки фанфар в Белой книге, выпущенной в ноябре 1946 года, и с признательностью поручило «Юнайтед Африка компани» руководить его осуществлением в начальный период до создания Заморской продовольственной корпорации. Согласно этому плану, правительство должно было израс398
ходовать первоначально 24 миллиона фунтов стерлингов, а затем ассигновывать ежегодно 7750 тысяч фунтов стерлингов, чтобы создать гигантские плантации земляных орехов, занимающие в целом три с четвертью миллиона акров — всего 107 плантаций по 30 тысяч акров каждая, — в Танганьике, Северной Родезии и Кении, на которых должны были работать 30 тысяч сельскохозяйственных рабочих-африканцев, получающих заработную плату по ставкам, существующим в колониях. Этот гигантский план эксплуатации рабочей силы на плантациях был преподнесен английскому общественному мнению как великий «социалистический» план, или, говоря словами Стрэчи, как «любопытное и интересное сочетание методов и целей частного предпринимательства и правительственного предпринимательства и финансирования». Английское общественное мнение было соблазнено обещанием, что осуществление этого плана даст возможность покрыть к 1950 году половину английского дефицита в жирах и обеспечит Англии экономию в сумме 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Практический результат плана оказался совершенно не таким, как это рекламировалось. Издержки на расчистку кустарников в первый год оказались в десять раз больше, чем предполагалось по первоначальной смете. К 1949 году, после того как было израсходовано 23 миллиона фунтов стерлингов, земляными орехами была засеяна площадь в 26 тысяч акров, что составило менее одной пятидесятой той площади, которую предполагалось засеять к этому времени, а собранный урожай — 2150 тонн неочищенных орехов — оказался меньше того количества орехов, которое было израсходовано на посев. В 1949 году намеченная по плану цифра — три с четвертью миллиона акров — была снижена до 600 тысяч акров. В 1950 году она снова была снижена до 210 тысяч акров. В 1951 году, понеся убыток в сумме 36,5 миллиона фунтов стерлингов, от этого плана и вовсе отказались. Небольшая расчищенная площадь была отведена под пастбища и различные 399
сельскохозяйственные культуры. Однако было решено закончить намеченное строительство порта и железной дороги, хотя, «по мнению корпорации, объем перевозок по новому плану уже не оправдывал завершения строительства нового порта».
Таким образом, часть этих колоссальных расходов послужила стратегическим целям английского империализма, предусматривающим основание военной базы в Восточной Африке, строительство железных и шоссейных дорог, портов и аэродромов, а щедрые обещания экономических выгод для африканского и английского народов совершенно не были выполнены.
План Коломбо
В последнее время напыщенные разглагольствования английских и американских империалистов по поводу «всемирных планов борьбы с нищетой», планов «развития слаборазвитых территорий» и «помощи отсталым народам» связаны у английского империализма с планом Коломбо, а у американского империализма — с программой «четвертого пункта», выдвинутой президентом Трумэном.
В своем программном заявлении «Наш первый долг — это мир», опубликованном в 1951 году, лейбористская партия заявила:
«Чтобы поднять жизненный уровень в Азии и Африке, требуются большие интернациональные усилия. Лейбористы проявили инициативу, осуществляя планы развития колоний и план Коломбо. Теперь свободные народы должны объединить свои усилия, чтобы осуществить всемирный план взаимной помощи».
Президент Трумэн, выдвигая программу «четвертого пункта» в своей речи, произнесенной при вступлении на пост президента в январе 1949 года, заявил:
«Мы должны начать новую, смелую программу, которая позволила бы нам использо400
вать плоды нашего научного и промышленного прогресса для улучшения условий и развития малоразвитых районов... Мы должны поощрять капиталовложения в районах, нуждающихся в развитии... Это должно быть мероприятием, основанным на сотрудничестве, в котором все страны будут участвовать сообща посредством ООН... Для старого империализма — эксплуатация ради прибыли иностранного государства — нет места в наших планах».
В действительности эти два «плана» представляли собой рекламный проспект соперничающих программ: программы более слабого английского и программы более сильного американского империализма. Практическое осуществление этих двух планов еще полнее раскрывает истинный характер империалистического «развития» колоний.
План Коломбо был плодом состоявшейся в январе 1950 года в Коломбо конференции министров иностранных дел стран империи, которая была созвана для рассмотрения мероприятий по борьбе с коммунизмом в Юго-Восточной Азии. Впервые этот план предложил враг лейбористской партии австралийский министр иностранных дел П. К. Спендер, который призывал принять план экономического развития стран империи, расположенных в Юго-Восточной Азии. Сначала это предложение окрестили планом Спендера. Его горячо приветствовал представитель английских консерваторов Антони Иден, который, выступая 6 марта 1950 года в палате общин, заявил:
«Я хочу подчеркнуть, что если мы желаем воздвигнуть прочный барьер против коммунизма в Юго-Восточной Азии, то мы не можем этого сделать, основываясь лишь на отдельных договорах... Мы должны выяснить, можем ли мы создать иной, приемлемый образ жизни, который покажется привлекательным населению этих стран, подобно тому как коммунизм, бесспорно, кажется привле- 401
нательным некоторым из них благодаря его попыткам отождествить себя с независимостью от иностранцев. Это не невозможная, но очень трудная задача...
Вот почему я говорю, что мы, например, приветствуем инициативу, проявленную в Коломбо новым австралийским министром иностранных дел, внесшим на конференции предложение (которое, как мне кажется, называют теперь планом Спендера), предусматривающее коллективные усилия Содружества Наций в целях повышения жизненного уровня стран Юго-Восточной Азии».
На последовавшей затем в Сиднее в мае 1950 года конференции Консультативного комитета стран Содружества Наций этот проект получил дальнейшее развитие, приняв окончательную форму в докладе, опубликованном в ноябре 1950 года как «План Коломбо о сотрудничестве в экономическом развитии стран Южной и Юго-Восточной Азии».
В плане Коломбо намечена шестилетняя программа развития Индии, Пакистана, Цейлона, Малайи и Британского Борнео на 1951 —1957 годы (впоследствии его продлили до 1961 года). Он предусматривал израсходование 1868 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов фунтов должны были поступить из Англии и 700 миллионов— из других «внешних» источников (Австралии, Канады и — возможно, на это возлагались надежды, хотя и не говорилось прямо,— из Соединенных Штатов). Конкретно план предусматривал сочетание отдельных программ «развития», составленных правительствами всех охватываемых планом территорий.
Цель плана Коломбо — дальнейшее развитие и усиление характерных черт империалистической экономики в Юго-Восточной Азии — была откровенно разъяснена во вступительных замечаниях официального доклада, в котором излагается этот план:
«Страны этого района (Южной и Юго-Восточной Азии) играют значительную роль в 402
мировой экономике. Этот район является важным источником продовольствия и сырья, потребляемых во всем индустриальном мире... В обмен в этот район течет с Запада поток промышленных товаров: текстильные изделия, машины, железо и сталь...
Получение этого долларового излишка в торговле с Южной и Юго-Восточной Азией было важным фактором, позволявшим Соединенному Королевству и Западной Европе покрывать свой долларовый дефицит до войны».
Официально осуществление плана Коломбо началось в июле 1951 года, но этот «план» с самого начала существовал только на бумаге. Его содержание представляло собой не больше, чем механическое соединение различных «планов» соответствующих правительств. Ключом к истинному характеру плана Коломбо служит его финансовое положение. Даже если бы были получены запроектированные 1868 миллионов фунтов стерлингов, это составило бы около 11 шиллингов на душу населения в год (против 40 фунтов стерлингов капиталовложений на душу населения в Англии). Признавалось, что эта сумма представляла бы около одной восьмой той суммы, которая необходима для увеличения национального дохода хотя бы на 2 процента в год. Так, в докладе признается, что этот план, даже если бы он был выполнен за шесть лет, отнюдь не означал бы прогресса, а «обеспечит, пожалуй, только сохранение нынешнего положения».
Но в действительности эта цифра — 1868 миллионов фуйтов стерлингов — была иллюзорной. Полагали, что 840 миллионов фунтов стерлингов дадут сами страны Южной и Юго-Восточной Азии. Таким образом, реальная цифра ассигнований на «помощь для развития» должна была составить 1028 миллионов фунтов стерлингов. Но именно эта цифра была фиктивной. Было заявлено, что 306 миллионов фунтов стерлингов предоставит Англия. Но из этих 306 миллионов фунтов стерлингов 246 миллионов 403
должны были быть покрыты путем изъятий со стерлинговых счетов, то есть они представляли бы собой не новую «помощь», а лишь частичную выплату уже причитающегося долга. Таким образом, единственной новой «помощью» были бы 60 миллионов фунтов стерлингов из средств, уже выделенных на «развитие» колоний, или 10 миллионов фунтов стерлингов в год, то есть около 4 пенсов на душу населения в год! Если эти 10 миллионов фунтов стерлингов в год для всей Южной и Юго-Восточной Азии сравнить с суммой, полученной для стерлингового пула в одной только Малайе (1513 миллионов долларов, или 447 миллионов фунтов стерлингов, за шесть лет, 1946—1951 годы), то мошеннический характер этой «помощи» станет совершенно ясен.
Что сказать об остальных 700 миллионах фунтов стерлингов? Эта сумма не существует даже в расчетах на бумаге. Надеялись, что она придет из «других» внешних источников. Было известно, что перспективы на получение средств из Австралии или Канады незначительны. Иными словами, надеялись, что основная часть капитала для плана развития Британской империи поступит от Соединенных Штатов. Однако эти надежды быстро рухнули.
В феврале 1951 года Ачесон дал ясно понять от имени правительства Соединенных Штатов, что о финансировании плана Коломбо американцами не может быть и речи и что Соединенные Штаты предпочитают осуществлять в Юго-Восточной Азии свои собственные планы «технической помощи» и заключать свои собственные двусторонние соглашения с заинтересованными правительствами.
В дальнейшем план Коломбо оказался более тесно связанным с деятельностью Соединенных Штатов в Восточной Азии. Ко времени четвертой конференции стран плана Коломбо в Оттаве (Канада) в октябре 1954 года состав Консультативного комитета значительно изменился по сравнению с его первоначальным составом, когда в него входило семь стран. Теперь их стало семнадцать. В 404
дополнение к семи странам Британской империи, которым принадлежала инициатива создания плана, в комитет вошло десять новых, не входящих в империю стран — Соединенные Штаты, Япония, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Бирма, Непал, Южный Вьетнам, Камбоджа и Лаос; господствующее положение принадлежало теперь Соединенным Штатам. На конференции в Оттаве делегацию США возглавлял Гарольд Стассен, руководитель американской администрации по иностранным операциям.
Такое вовлечение плана Коломбо в орбиту политики Соединенных Штатов имело скорее цель осуществлять контроль над деятельностью этой организации, нежели служило признаком желания помочь в финансировании его. Когда осенью 1954 года Конгресс США выделил 700 миллионов долларов для стран Юго-Восточной Азии и западной части бассейна Тихого океана, Стассен объяснил, что половина этой суммы предназначена на усиление южнокорейских вооруженных сил, часть предназначается для осуществления «программы помощи индокитайским беженцам» и часть на военную помощь, и что, таким образом, «трудно предсказать, какие суммы могут быть предоставлены для экономической программы» («Файнэншл тайме», 18 сентября 1954 года). Программа «технического сотрудничества», сочетаемая с планом Коломбо, предоставила Соединенным Штатам возможность насаждать в этих странах своих «экспертов» (согласно отчету об осуществлении программы технического сотрудничества за 1953/54 год, их было 786 из общего числа 1060 иностранных экспертов).
Опубликованный в конце 1954 года третий годовой отчет по осуществлению плана Коломбо вынужден был признать незначительность достигнутых результатов, хотя в нем и утверждалось, что были предоставлены определенные средства и был достигнут известный прирост в некоторых сферах производства (прирост настолько ограниченный, что 405
он лишь подчеркивал быстрый подъем производства и жизненного уровня в Китае за тот же период). В отчете отмечалось:
«В некоторых странах прогресс был относительно небольшим... производство продовольствия в расчете на душу населения все еще ниже довоенного уровня».
Далее указывалось:
«В некоторых случаях пришлось принимать меры для регулирования себестоимости и снижения потребления. Бум 1950/51 года привел к повышению заработной платы и других доходов, а следовательно, к повышению внутренней стоимости. В тех случаях, когда упали доходы от экспорта, произошло некоторое снижение реальных доходов и объема потребления».
Доклад, однако, содержал такой бодрый вывод: «Большинство стран плана Коломбо приняли специальные меры, направленные на улучшение обстановки для иностранных капиталовложений».
В конце 1955 года был опубликован четвертый годовой отчет, в котором признавалось, что рост производства отставал от темпов роста населения и что объем производства в расчете на душу населения и «уровень питания» все еще были ниже довоенного уровня.
Значение плана Коломбо заключается скорее в тех мерах, которые способствовали империалистическому проникновению, и в стратегических аспектах принятых программ, нежели в каком-либо реальном приступе к решению основных экономических и социальных проблем развития соответствующих стран.
„Четвертый пункт"
Что же представляет собой «четвертый пункт» программы Соединенных Штатов? Мы вступаем здесь в иную область экспансионистской деятель406
ности все еще могучего американского империализма, не страдающего пока, подобно английскому империализму, от недостатка ресурсов. Но и здесь контраст между филантропическими обещаниями и практической деятельностью не менее разителен, хотя и в ином разрезе.
В отличие от плана Коломбо «четвертый пункт» не был воплощен ни в каких конкретных программах, цифрах или планах. Провозглашение его в речи Трумэна по случаю вступления в должность президента в январе 1949 года представляло собой не более, чем провозглашение общего принципа, под маркой которого Соединенные Штаты могли бы вмешиваться в экономические и финансовые дела любого колониального или полуколониального района земного шара. Что касается условий «четвертого пункта», то Соединенные Штаты могли расходовать много, мало или совсем ничего не расходовать. Они могли посылать технических советников и экономические миссии, предоставлять кредиты, займы или субсидии; предоставлять дотации или отказывать в них без предупреждения — и все это в любой стране или странах — в соответствии с конкретной политикой данного момента и мнением Государственного департамента относительно правительства данной страны. Таким образом, «четвертый пункт» представлял собой довольно эластичное и гибкое, но тем не менее могучее орудие проникновения на колониальные территории европейских колониальных держав, и в особенности Британской империи
Что касается конкретных цифр или финансовой стороны дела, то единственные конкретные цифры содержатся в докладе Грея, который был подготовлен по указанию -президента с целью показать, что именно необходимо для осуществления принципа, лежащего в основе плана. В докладе Грея указано, что минимальная потребность составит 500 миллионов долларов (178 миллионов фунтов стерлингов). Этот вывод можно сравнить с результатом анализа развития слаборазвитых террито407
рий, проведенного Организацией Объединенных Наций, которая пришла к заключению, что для увеличения национального дохода этих стран хотя бы на 2 процента в год потребовалось бы ежегодно минимум 10 миллиардов долларов, или 3,5 миллиарда фунтов стерлингов,— в двадцать раз больше цифры, предложенной Греем.
Однако суммы, фактически утвержденные на первых стадиях, значительно меньше цифры, предложенной Греем. Первые ассигнования в июне 1950 года, утвержденные на основе закона «о международном развитии», который был тогда принят, составили только 37 миллионов долларов. В соответствии с этим законом было создано Управление технического сотрудничества и разработаны «договоры о техническом сотрудничестве» с рядом стран (с 33 странами к началу 1952 года).
В 1951 году президент Трумэн внес предложение о специальных ассигнованиях на «военную и экономическую помощь» иностранным государствам в размере 8,5 миллиарда долларов, из которых 6,25 миллиарда долларов — на военную помощь и, следовательно, только 2,25 миллиарда — на помощь экономическую. Из этой последней суммы 1,65 миллиарда долларов должны были быть предоставлены Европе и 600 миллионов долларов — на экономическую помощь всем остальным странам за пределами Европы. Однако предполагалось, что две трети этой последней суммы должны быть выделены для удовлетворения «требований чрезвычайного характера, связанных с военными действиями» (главным образом в Корее и на Тайване). Таким образом, общая сумма, оставшаяся для осуществления провозглашенной программы «четвертого пункта» — программы экономической помощи отсталым районам,— исчислялась, по данным еженедельника «Экономист» от 2 июня 1951 года, максимум в 200 миллионов долларов, то есть меньше половины цифры, намеченной Греем. Это было бы равно примерно одной трехсотой части американских военных расходов за тот же год.
408
Однако даже эта цифра была урезана Конгрессом, когда в августе 1951 года был принят закон «о взаимном обеспечении безопасности» и создано Управление взаимного обеспечения безопасности. Запрошенные Трумэном 8,5 миллиарда долларов были урезаны до 7 миллиардов, а ассигнования на экономическую помощь всем странам за пределами Европы, включая Латинскую Америку, были урезаны с запрошенных президентом Трумэном 600 миллионов до 418 миллионов долларов. Значительная часть этой суммы (237 миллионов) была предназначена для «Азии и района Тихого океана», включая Корею и Тайвань. Эти цифры ясно показывают, что сумма, которая, вероятно, будет предоставлена на любую «экономическую помощь», в противоположность военной помощи или удовлетворению стратегических нужд, маскируемых под видом «экономической помощи», будет весьма ограниченна. И действительно, даже программа так называемой «экономической помощи» открыто рассматривалась лишь как второстепенный раздел программы военных приготовлений и перевооружения. Касаясь «Программы помощи в целях взаимного обеспечения безопасности» на 1952 год, газета «Таймс» писала:
«Эта программа, как и в прошлом году, будет искусственно разделена на военную и экономическую, и, так же как в 1951 году, Конгресс будет склонен принять ее военную часть и урезать до ничтожных сумм экономическую часть, ибо никто не понимает, что то, что именуется экономической помощью, является лишь более дешевой формой военной помощи» («Таймс», 3 марта 1952 года).
«То что именуется экономической помощью, является лишь более дешевой формой военной помощи». Эту весьма многозначительную фразу следовало бы написать крупными буквами на стенах зала, где происходили заседания инициаторов плана Маршалла (уже однажды скончавшегося и снова возрожденного к жизни в виде военной помощи), 409
и держать ее и поныне перед глазами всех тех, кто любит говорить пышные речи о планах борьбы с нищетой в колониях, осуществляемых державами, владеющими колониями.
Эти чрезвычайно строгие ограничения и экономия всех сумм, утверждаемых на любые цели, за исключением непосредственно военных или более или менее явно военно-экономических, невольно приводят к выводу, что программа «четвертого пункта», как и план Коломбо, была мертворожденной. И к такому выводу действительно пришла газета «Таймс»:
«Военные нужды стали теперь единственным доминирующим фактором в американской экономической политике за океаном... Осуществление «четвертого пункта» как программы общей и далеко идущей политики пришлось в основном отложить» («Таймс», 17 сентября 1951 года).
Тем не менее было бы ошибочно делать вывод, что «четвертый пункт», подобно плану Коломбо, является главным образом программой на бумаге, имеющей мало конкретного содержания. Это было бы правильно лишь в том случае, если бы мы принимали «четвертый пункт» за чистую монету, за серьезную программу, цель которой состоит в том, чтобы помогать развитию и повышению жизненного уровня колониальных народов, помочь им, как сказал президент Трумэн, «производить больше продовольствия, одежды, материалов для жилищного строительства и больше механической энергии с целью облегчить их бремя». По сравнению с такими высокими целями действительность кажется нелепой. Но подобные высокие благотворительные цели — это всегда нужно подчёркивать, когда речь идет о такого рода «планах» империализма,— являются лишь рекламными проспектами. За всей этой мишурой скрывается вполне реальное содержание программы «четвертого пункта». Его реальным содержанием является экспансионистская политика американского финансового капитала, стре,- 410
мящегося проникнуть в колониальные страны европейских колониальных держав, и в особенности в страны Британской империи, для установления своего жесткого контроля над мировыми источниками сырья.
Такова практическая цель, которая была с поразительной откровенностью и ясностью выражена в докладе Консультативного совета, назначенного президентом Трумэном в связи с осуществлением программы «четвертого пункта». Возглавлял этот совет Нельсон Рокфеллер. Доклад Рокфеллера, озаглавленный «Партнеры по прогрессу», был опубликован в марте 1951 года. В нем подчеркивалось в качестве главного довода, что 73 процента американских военных запасов и 58 процентов всего американского импорта поступают из слаборазвитых районов, и в связи с этим делается предупреждение, что, «поскольку быстро образуется нехватка важнейших материалов, ускоренное и расширенное производство» в этих странах «имеет весьма большое значение». Это требование было совершенно недвусмысленно увязано с американской военной программой:
«Укрепление экономики слаборазвитых районов и повышение их жизненного уровня следует считать чрезвычайно важной частью нашей собственной мобилизации для обороны».
Значение Британской империи в этой связи как арены действия американской экономической политики подчеркивалось уже в докладе Грея.
«Стерлинговая зона не только является необходимым источником сырья, но положение Англии как банкира и торгового центра крупнейшего в мире валютного района делает торговую и валютную политику Англии чрезвычайно важной для осуществления внешнеэкономических целей Соединенных Штатов»,— говорилось в докладе.
В докладе Рокфеллера анализируются условия такого американского экономического и финансово411
го проникновения в страны Британской империи и в другие колониальные районы и предлагается создать в США новый правительственный орган — Управление заморских экономических операций в качестве «объединенного учреждения» для координации всех частных и правительственных капиталовложений в иностранных государствах и деятельности в области развития экономики. Он предлагает далее создать «международный орган по вопросам развития». Этот орган должен ведать «общественными работами»—такими, как сооружение портов, дорог, электростанций и т. д.,— которые, возможно, и не приносили бы немедленно прибыли, но имели бы важное значение в смысле подготовки почвы для выгодного приложения американского частного капитала. И, наконец, в докладе содержится предложение удвоить годовой объем американских заграничных капиталовложений до 2—2,5 миллиарда долларов.
К январю 1952 года — три года спустя после того, как было сделано первое заявление о программе «четвертого пункта», — президент Трумэн хвастался успешным ее осуществлением. Пространно остановившись на работе, проделанной американскими техническими миссиями в Индии, он заявил:
«Это — «четвертый пункт», это наша программа «четвертого пункта» в действии. Она осуществляется не только в Индии, но также в Иране, Парагвае, Либерии — в тридцати трех странах земного шара. Там действуют наши технические миссии. Нам нужно больше таких миссий. Нам нужны новые средства для ускорения их усилий, так как в нашей внешней политике нет ничего важнее этого» (послание президента Трумэна о положении страны, 9 января 1952 года).
Это заявление проливает яркий свет на американскую концепцию «четвертого пункта». В нем следует особо отметить три соображения.
Во-первых, президент Трумэн стремился подчеркнуть, что «четвертый пункт»—«наша програм412
ма «четвертого пункта» — «осуществляется», то есть опровергнуть вывод, что этот план существует главным образом на бумаге,—вывод, делавшийся многими на основании тех весьма незначительных сумм, которые были израсходованы до того времени.
Во-вторых, Трумэн взял в качестве первых примеров сферы действия этого плана либо страны Британской империи, либо страны, находящиеся в ее орбите, — Индию и Иран.
В-третьих, Трумэн стремился подчеркнуть, что это экспансионистское наступление в целях проникновения в колониальные и другие страны британской и других европейских империй стало теперь главным фронтом американской внешней политики — «в нашей внешней политике нет ничего важнее этого» (слова, почти в точности повторяющие то, что говорилось раньше о плане Маршалла, который в то время был главным направлением американской внешней политики).
Было бы серьезной ошибкой недооценивать значение «четвертого пункта» из-за тех относительно ничтожных сумм, которые были до сих пор израсходованы на его осуществление. Предварительные ограниченные расходы и отправку технических миссий можно рассматривать как подготовку почвы. Широкое, развернутое наступление американцев в странах Британской империи все более развивается и усиливается. Существенным артиллерийским орудием в этом наступлении является программа «четвертого пункта».
Организация Объединенных Наций и экономическая помощь
Устав Организации Объединенных Наций поставил задачу «содействовать созданию условий для экономического и социального прогресса и развития». Декларация ООН по несамоуправляющимся территориям выдвигала в качестве одной из основных целей «содействовать осуществлению кон413
структивных мер развития, способствовать исследовательской работе и другим мероприятиям, обеспечивающим экономический прогресс».
За последние годы писалось много докладов, создавались различные комитеты и проводились обсуждения относительно осуществления этих целей. Однако до настоящего времени главные империалистические державы на практике препятствовали осуществлению планов содействия такому развитию (в отличие от технической помощи) под эгидой Организации Объединенных Наций.
В 1949 году в докладе «Методы финансирования экономического развития слаборазвитых стран» содержалась рекомендация о создании новой международной организации под названием «Управление экономического развития ООН» (ЮНЭДА) с задачей «финансирования программ экономического развития в слаборазвитых странах, не являющихся рентабельными в банковском понимании». В докладе ООН рекомендовалось, чтобы новая организация действовала «в духе Устава Организации Объединенных Наций» и делала особый упор на «развитие отраслей тяжелой промышленности». Это предложение ООН встретило немедленное и решительное сопротивление qo стороны Соединенных Штатов Америки и контролируемого ими Международного банка реконструкции и развития. В своем заявлении Международный банк отвергал «утверждения» о необходимости создания «так называемой ЮНЭДА» на том основании, что «приписываемые» ей функции «уже длительное время осуществляются Международным банком»; в частности банк предупреждал против проведения в колониальных странах политики индустриализации:
«Чрезмерный упор на создание промышленности как таковой, особенно тяжелой промышленности, может привести к тому, что слаборазвитая страна получит лишь символ прогресса, а не его сущность... Вообще капитал нужно вкладывать там, где он приносит наибольший доход».
414
В 1951 году был представлен «доклад экспертов», озаглавленный «Мероприятия по экономическому развитию слаборазвитых стран», в котором предлагалось, чтобы члены ООН из числа промышленно развитых стран ежегодно вносили совместно 10 миллиардов долларов, что должно было обеспечить повышение жизненного уровня населения в слаборазвитых странах на 2 процента в год.
Другой специальный доклад «Международный поток частного капитала, 1946—1952 годы» ясно показал, что на частные капиталовложения надеяться не приходится, поскольку «большая часть иностранных частных инвестиций в промышленность производилась не в слаборазвитых, а в экономически развитых странах».
Учитывая этот доклад, Социальный и Экономический совет ООН в 1952 году создал комитет по подготовке подробных планов создания «специального фонда» для предоставления «помощи путем субсидий и долгосрочных займов по низкой процентной ставке слаборазвитым странам по их просьбе для содействия ускорению их экономического развития» («Доклад о специальном фонде ООН для содействия экономическому развитию»).
В докладе, излагавшем этот план, который стал известен как план SUNFED \ рекомендовалось в порядке минимума предоставление 250 миллионов долларов в год 30 странами — членами ООН для первоначальной деятельности и предлагалось, чтобы в качестве дополнительного источника доходов использовались «возможные в результате разоружения сбережения».
В 1953 году Генеральная Ассамблея предложила всем членам ООН и специализированным учреждениям ООН высказаться по этому плану.
В 1954 году Социальный и Экономический совет рассмотрел полученные ответы и констатировал, что к моменту подготовки доклада совету (май
1 Специальный фонд Организации Объединенных Наций для экономического развития. — Прим. ред.
415
1954 года) лишь двадцать государств сообщили свои соображения. Все они «в общем высказались за создание фонда», но по вопросу о размерах и сроках возникли значительные расхождения. Слаборазвитые страны (Боливия, Чили, Гондурас, Индия, Панама, Саудовская Аравия) высказались за принятие немедленных мер по созданию фонда. Вторая группа стран (Норвегия, Дания, Нидерланды) также высказалась за немедленные действия и выразила готовность без задержки сделать взнос в фонд. Третья группа, возглавляемая Англией и Соединенными Штатами, заявила, что в настоящее время эти страны не могут предоставить средств ввиду «обременительных расходов на оборону» и что даже после достижения разоружения им необходимо «осуществить существенные инвестиции на собственной территории для обеспечения своей экономической и финансовой стабильности («Предварительный доклад Социальному и Экономическому совету ООН, май 1954 года).
В 1955 году проект был еще более сужен и предлагался пятилетний «пробный период» и сокращение ежегодных взносов до «примерно 150—200 миллионов долларов», причем подчеркивалось, что целью проекта является предоставление «минимального количества дорог, электростанций, школ, больниц, жилых и правительственных зданий. Опыт показал, что лишь при создании основы может быть достигнуто постепенное развитие производства и что частная инициатива может полностью сыграть свою роль» (Бюллетень ООН, 21 июня 1955 года).
Из вышеизложенного видно, что сумма ежегодного взноса, намечавшаяся Организацией Объединенных Наций в 1951 году в 10 миллиардов долларов, сократилась в 1952 году до 250 миллионов долларов (одна сороковая часть первоначальной наметки) и в 1955 году до 150—200 миллионов долларов (одна пятидесятая). В декабре 1955 года Генеральная Ассамблея «в принципе» одобрила пере416
смотренный план. Однако до конца 1956 года фонд еще не был создан.
Советский Союз поддержал план создания фонда й выразил готовность внести свой вклад, но при соблюдении четырех условий:
1) средства должны способствовать индустриализаций;
2) фонд не должен быть связан с Международным банком реконструкции и развития;
3) займы должны быть долгосрочными и при низкой процентной ставке, а не на коммерческих условиях;
4) советский вклад в фонд будет в форме «средств производства».
Из этого обзора напрашивается вывод, что —- хотя организация помощи в развитии слаборазвитых стран со стороны развитых стран под эгидой Организаций Объединенных Наций могла бы быть свободной от пороков, присущих ранее рассмотренным мероприятиям отдельных империалистических держав, — сопротивление главных империалистических держав в течение рассматриваемого периода препятствовало осуществлению выдвинутых проектов.
Усиление колониальной эксплуатации
Анализ различных выдвинутых в последнее время империалистических планов «развития» колониальных и слаборазвитых стран, в особенности в Азии и в Африке (план «развития й повышения благосостояния колоний». Корпораций по развитию колоний, план Коломбо, «четвертый пункт»), кото^ рые столь широко рекламировались как доказательство «нового идеала» империализма и отхода от «старого колониализма», показывает, насколько далеки эти утверждения от истины.
Анализ показал:
во-первых, что эти планы «развития» совершенно не изменяют основы колониальной экономики и 14 Р. Палм Датт
417
фактически имеют своей целью продлить, сохранить и упрочить основы колониальной экономики этих стран как зависимых стран — производителей первичных продуктов;
во-вторых, что фактически израсходованные суммы, вопреки широкой и трескучей рекламе, были ничтожны и не могли даже в минимальной степени смягчить колониальную нищету и отсталость;
в-третьих, что практически принятые планы имели целью обеспечить главным образом экономические и стратегические интересы империалистических держав и не учитывали нужд заинтересованных народов;
в-четвертых, что израсходованные суммы — даже если бы они были целиком использованы для блага колониальных народов — представляли собой не больше, чем крошечную долю той дани, которую одновременно вымогали у колониальных народов, что вело к дальнейшему ухудшению их экономического положения. Поэтому в лучшем случае эти суммы представляли собой не более чем «щедрый дар» жертвам в размере нескольких пенсов за каждый фунт стерлингов награбленного у них добра.
Но общий вывод, вытекающий из анализа реальной ситуации и отношений за этот период, представляет собой нечто большее, чем просто негативный вывод.
Дело не только в том, что дань, постоянно вымогаемая путем колониальной эксплуатации, во много раз превышает средства, расходуемые на «развитие», так что общий итог является отрицательным.
Дело еще и в том, что колониальная эксплуатация была чудовищно усилена, и усилена такими темпами, каких не знал доселе современный империализм, причем это произошло именно в период так называемой «благотворительности», «щедрости» и «новой точки зрения».
Частичным мерилом этого усиления эксплуатации, основанным на имеющихся статистических 418
данных, может служить чрезвычайно быстрый рост колониальных стерлинговых счетов за эти годы начиная с 1945 года, и в особенности с 1949 года. Эти стерлинговые счета формально представляют собой «задолженность» Соединенного Королевства соответствующим странам. Но, поскольку Соединенное Королевство выступает по отношению к колониям одновременно и в роли правителя и в роли банкира, это увеличение «задолженности», по существу, является отражением принудительных займов, которые правитель вырвал у обнищавших колониальных народов без их согласия, без каких бы то ни было обязательств относительно выплаты, кроме тех, которые устанавливает сам правитель в отношении условий, сроков и сумм. Основное первоначальное ядро этих раздутых стерлинговых счетов (помимо «обычных» сумм, которые придерживались раньше для банковских и валютных сделок) образовалось за годы войны, когда из колоний вывозились в долг товары для военных целей. Но увеличение счетов после войны было больше, нежели во время войны, поэтому ссылка на «военные издержки», к которой обычно прибегают, в данном случае совершенно необоснованна. Эти счета отражают хранимые в Лондоне валютные фонды, фонды правительств и банков колоний, фонды управления торговли и т. д., а также часть предоставленных Англией и еще не израсходованных займов и кредитов. Но большая часть этого прироста стерлинговых счетов колоний представляет собой в действительности отражение дальнейшего вывоза товаров из колониальных стран, причем колониальные народы не получали никакой оплаты, кроме обесценивающегося и бесполезного кредита, открываемого им на бумаге в Лондоне. Это не может служить мерилом для всей дани, вымогаемой путем колониальной эксплуатации, поскольку выплата Англии процентов и дивидендов от операций принадлежащих англичанам компаний в колониальных странах рассматривается как «обычная» плата за «услуги» и не увеличивает неоплаченных 14* 419
счетов. Увеличение стерлинговых счетов колоний служит мерилом роста особо усилившейся эксплуатации колониальных народов в эти последние годы в дополнение к «обычному» притоку колониальной дани.
Увеличение колониальных стерлинговых счетов в послевоенные годы показано в таблице 31:
Таблица 31
СТЕРЛИНГОВЫЕ СЧЕТА ЗА 1945—1955 ГОДЫ
(в млн, ф. ст. на конец каждого года)
Стерлинговая Прирост или
задолженность уменьшение
Соединенного Королевства 19451 19471 19493 195 13 19533 19533 Всего °/0
Стерлинга- вой зоне
Зависимым заморским территориям . .
454
510
582
928
1099
1281
+827
+ 182
Другим стерлинговым районам .
2008
1787
1771
1863
1832
1691
—317
- 16
Нестерлинговой зоне
1232
1306
1064
1018
772
770
—462
— 37
Итого
3694
3603
3417
3809
3703
3742
+ 48
1 Платежный баланс 1946—1953 годов.
9 Платежный баланс 1946—1953 годов (ч. 2).
3 Платежный баланс 194 6—1955 годов.
Отчет «Колониальные территории, 1955—1956 годы» приводит более высокую цифру (1446 миллионов фунтов стерлингов) общей суммы колониальных стерлинговых счетов на конец 1955 года. При этом прирост с 1945 года составит 992 миллиона фунтов, или рост на 218 процентов. Отчет «Колониальные территории, 1947—1949 годы» на конец 1948 года приводит общую сумму счетов в 425 миллионов фунтов. Отсюда следует, что прирост счетов за 1948—1955 годы равняется 1021 миллцо* ну фунтов стерлингов, или 218 процентам зд семь лет.
1 420
Темпы этого увеличения стерлинговых счетов колониальных стран являются разительным контрастом политике, проводимой в отношении стерлинговых счетов других стран стерлинговой зоны или стран, не входящих в стерлинговую зону. Увеличились стерлинговые счета одних только колониальных стран, тогда как все другие стерлинговые счета сократились, так же как и стерлинговые счета стран, не входящих в стерлинговую зону. Между 1945 и 1955 годами стерлинговые счета колониальных стран увеличились на 182 процента (на более чем 200 процентов, если исходить из данных отчета «Колониальные территории»), тогда как стерлинговые счета других стран стерлинговой зоны уменьшились на 16 процентов, а стран нестерлинговой зоны — на 37 процентов.
Этот контраст показывает, что здесь скрывается не общее увеличение стерлинговых счетов из-за обстоятельств, не поддающихся контролю Соединенного Королевства. Здесь имеет место специальное дискриминационное использование Соединенным Королевством своей абсолютной экономической и политической власти над подчиненными колониальными странами с целью извлечения дополнительных экономических выгод за счет народов этих стран такими методами, которые оно не может применить к другим странам, входящим или не входящим в стерлинговую зону. Иными словами, здесь скрывается особая форма усиленной колониальной эксплуатации.
Увеличение стерлинговых счетов колониальных стран в целом на 1021 миллион фунтов стерлингов за 1948—1955 годы — увеличение, отражающее главным образом поток товаров, вывезенных из колониальной империи без соответствующего ответного ввоза товаров, — представляет собой наглядный контраст общим расходам средств по плану «развития и повышения благосостояния колоний» для всей колониальной империи, составившим за тот же период 98 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, широко рекламировавшиеся «дары» соста421
вили за этот период менее одной десятой добычи, полученной в результате фактического грабежа, осуществлявшегося путем накопления стерлинговых счетов в Лондоне. Эти суровые цифры проливают несколько иной свет на хваленую «благотворительность» колониального «развития».
Быстрое увеличение колониальных стерлинговых счетов в послевоенные годы является отражением усиленной эксплуатации колоний, к которой, по существу, сводилась политика лейбористского правительства в отношении колониальных территорий, проводившаяся под маской елейного самовосхваления и «благожелательности». Именно этот вопиющий контраст между разглагольствованиями и реальностью заставил будущего министра колоний консерватора Оливера Литтлтона заявить в своей предвыборной речи 11 октября 1951 года:
«Правительство утверждает, что зависимые территории подвергались эксплуатации в прошлом, но сейчас не эксплуатируются. Но в действительности социалистическое правительство, по-видимому, является первым правительством, уразумевшим, как надо эксплуатировать колонии».
Однако с точки зрения этой признанной политики эксплуатации колоний между консервативным и лейбористским империализмом, по сути дела, нет никакого различия.
Точно так же в статье «Колонии и фунт стерлингов», опубликованной 16 января 1952 года в газете «Файнэншл тайме», профессор У. А. Льюис признал, что накопление колониальных стерлинговых счетов, по существу, заставило «английскую колониальную систему» служить «важным средством экономической эксплуатации».
«Многие колонии должны продавать Англии свою продукцию по ценам ниже тех, которые существуют на мировом рынке, а благодаря контролю над валютой они должны покупать у Англии по ценам, выше существующих на мировом рынке, иди выплачивать 422
все растущую сумму в Английский банк, так как Англия не поставляет товары в обмен на то, что она получает, — пишет Льюис. — Англия говорит о развитии колоний, но на самом деле это африканские и малайские крестьяне вкладывают свои капиталы в Англии... Английская колониальная система стала важным средством экономической эксплуатации...
Колонии экспортируют значительно больше, чем импортируют, и накапливают большие счета. Они не могут получить весь тот импорт, в котором нуждаются, в особенности капитальное оборудование, и их программы развития в результате этого отстают. Они, по существу, платят Англии за товары, которые она не поставляет...
Если бы на происходящих сейчас переговорах колонии были представлены непосредственно и имели право выразить свою точку зрения, они показали бы в истинном свете ту английскую политику, которая мешает им получить из Англии достаточное количество промышленных товаров. К сожалению, колониям не позволяют говорить от своего имени или осуществлять контроль над валютой по своим собственным правилам. Поэтому стерлинговые счета колониальной империи, несомненно, будут расти и впредь в течение этого и будущего года».
Аналогичное замечание сделал доктор Рой Гар- род в журнале «Нью коммонуэлс» от 28 мая 1956 года:
«Колонии заработали долларов на сумму 120 миллионов фунтов стерлингов; из них пошло на покрытие долларовых дефицитов стран стерлинговой зоны, помимо Соединенного Королевства, до 108 миллионов фунтов. Некоторые задают вопрос, желательна ли такая система, при которой более богатые страны стерлинговой зоны, помимо Соеди- 423
«Ценного Королевства, в бтноШенйи свойХ долларовых нужд жили бы, так сказать, за счет колоний. Это, однако, является естественной системой».
Этот приступ откровенности со стороны консерватора, это признание факта усиления «эксплуатации» колоний в результате накопления стерлинговых счетов (что можно сравнить с выступлением премьер-министра Черчилля по радио в конце 1951 года, когда он заявил: «Мы не должны еще больше увеличивать нашу задолженность колониальной империи») не является отражением внезапно появившейся озабоченности страданиями колониальных народов или перехода к антиколониальным принципам. Напротив, это было предупреждением о том, что экономическое наступление империализма, которое в предшествующие годы было направлено главным образом против колониальных рабочих и крестьян, теперь, в результате неспособности достигнуть равновесия, обернется и против английских рабочих, и притом с возросшей силой. Тем не менее эти признания заслуживают внимания.
Усиливающаяся эксплуатация колониальных народов была стержнем политики английского империализма, которой следовали и лейбористское и консервативное правительства в послевоенные годы в своих попытках предотвратить углубление кризисов, устранить долларовый дефицит и дефицит платежного баланса. Такова была реальная действительность, скрывавшаяся за всеми разговорами о «развитии» и о «новой точке зрения». Ведь именно из порабощенной колониальной империи извлекались и перекачивались в Лондон долларовые излишки для покрытия долларового дефицита Соединенного Королевства. На этой основе было провозглашено «победоносное» «социалистическое» или «консервативное» «разрешение» проблемы платежного баланса. Мошеннический и несостоятельный характер этого «решения» скоро дал себя знать в обоих случаях.
424
Возмездие за эту политику усиленной колониальной эксплуатации проявляется в колониальных войнах, расширяющихся по мере усиления борьбы колониальных народов против угнетения и ухудшения условий существования, в парализующем бремени колоссального перевооружения и раздутых заморских военных обязательств, во все большем подчинении американскому империализму и в угрозе возникновения новой мировой войны.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ИМПЕРИЯ И ВОЙНА
Эти флоты и это вооружение сохраняются не исключительно и не главным образом ради Соединенного Королевства и даже не ради защиты внутренних интересов. Их по-прежнему сохраняют потому, что в них нуждается империя...
Если мы на один момент вспомним историю нашей страны на протяжении, скажем, нынешнего столетия или, я бы сказал, на протяжении нынешнего царствования, то мы увидим, что каждая война— большая или малая,— в которой мы участвовали, в основном велась из-за колониальных интересов, то есть из-за какой-либо колонии или таких больших зависимых территорий, как Индия. Это абсолютно верно и, по-видимому, будет верно, пока не кончится эта эпоха.
Джозеф Чемберлен, Секретный доклад о совещании в министерстве колоний в июне — июле 1897 года (Цитируется по работе: Дж. Л. Гарвин, Жизнь Джозефа Чемберлена, т. III, стр. 187— 188).
«Цена сохранения империи — это все расширяющиеся войны». Данное положение иллюстрировалось в наши дни и на протяжении жизни нашего поколения с поразительной силой. Колониальные войны и войны между соперничающими империями переходили в мировые войны, которые велись в невиданных до сих пор масштабах. В самом деле, справедливо будет сказать, что мировые войны являются изобретением империалистической эпохи. На протяжении эпохи империализма гонка вооружений происходила во все увеличивающихся мас¬
штабах. Сегодня бремя вооружений и угроза третьей мировой войны нависают над миром.
Повсюду можно услышать сожаления по поводу бремени вооружений и угрозы новой мировой войны. Общепризнано, что колоссальные программы перевооружения подрывают экономическое развитие. Общепризнано, что новая, ядерная война принесла бы неисчислимые разрушения. Всеобщее желание сохранить мир находит свое отражение и в высказываниях всех государственных деятелей.
Несомненно, что выбор между войной и миром является сейчас самым -важным вопросом, доминирующим над всеми проблемами, порожденными имперской политикой и конфликтом старого, империалистического мира с народами, все более успешно борющимися за свое освобождение.
Ни для одной страны вопрос о выборе между войной и миром не является столь важным, как для Англии — центра старейшей и самой обширной мировой империи, имеющей военные обязательства по всему свету и опыт бесчисленных колониальных и разорительных империалистических войн, для Англии, которая из крупных стран мира наиболее уязвима в случае атомной войны.
История империи и война
История империализма — это цепь почти непрерывных больших и малых войн. Это в равной степени справедливо и в отношении более ранних стадий развития капитализма до наступления эпохи финансового капитала, или современного империализма, но в еще большей степени — по отношению к современной эпохе. История четырех с половиной столетий показывает, что Британская империя была детищем войн и их рассадником.
Если даже не учитывать вооруженного вторжения в Ирландию и ее завоевание начиная с XII столетия и позже — что, по существу, явилось началом английской колониальной системы и ее про427
тотипом — и сосредоточить наше внимание на внё- европейоких колониальных завоеваниях и господстве, а также на войнах, возникавших в связи с этим, то нам придется начать с конца XV столетия.
Уже в 1496 году Генрих VII уполномочил Джона Кэбота «подчинять, занимать и брать во владение» все чужие земли, еще не знавшие благословения «христианства». С тех пор вооруженный меркантилизм и завоевание чужих земель стали признанными методами достижения экспансионистских целей правящего класса.
В этот ранний период колониальной экспансии, грабежа, работорговли и первоначального накопления правители Англии и их европейские соперники повсюду устраивали ужасную оргию разбоя и убийств — от Гренландии до Магелланова пролива, от Азорских островов до Дальнего Востока, от Северной Америки до Южных морей. Это был период, о котором Маркс писал:
«Сокровища, добытые за пределами Европы посредством грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал» L
Маркс цитирует красочное описание «христианской колониальной системы»:
«Варварство и бесстыдные жестокости так называемых христианских рас, совершавшиеся во всех частях света по отношению ко всем народам, которых им удавалось поработить себе, превосходят все ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху любой расой, не исключая самых диких и невежественных, самых безжалостных и бесстыдных» 1 2.
1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 757.
2 Уильям Хоуитт, Колонизация и христианство. Популярная история отношения европейцев к туземцам во всех колониях, 1838.
428
Беспредельно варварские методы, применявшееся недавно в Малайе и Корее, применялись и в описываемый период.
«Обращение с туземцами было, конечно, всего ужаснее на плантациях, предназначенных, как, напр., в Вест-Индии, исключительно для вывозной торговли, а также в отданных на поток и разграбление богатых и густонаселенных странах, как Мексика и Ост- Индия. Однако и в настоящих колониях не преминул обнаружиться христианский характер первоначального накопления. Пуритане Новой Англии — эти виртуозы трезвого протестантизма — в 1703 г. постановили на своей Assembly [законодательном собрании] выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый, индейский скальп и за каждого краснокожего пленника; в 1720 г. премия за каждый скальп была повышена до 100 ф. ст., в 1744 г., после того как Массачузеттс-Бэй объявил одно племя бунтовщическим, были назначены следующие цены: за скальп мужчины 12 лет и выше 100 ф. ст. в новой валюте, за пленника мужского пола 105 ф. ст., за пленную женщину или ребенка 55 ф. ст., за скальп женщины или ребенка 50 ф. ст.! Несколько десятилетий спустя колониальная система отомстила за себя потомкам этих благочестивых piligrim fathers [отцов-пилигримов], ставшим, в свою очередь, бунтовщиками. Благодаря подкупам и «наущению англичан они были tomahawked [перебиты томагавками]. Британский парламент объявил кровавых собак и скальпирование «средствами, дарованными ему богом и природой» к Свирепые завоевательные войны, грабеж и истребление колониальных народов сопровождались длительными и все более жестокими войнами за дележ добычи между соперничающими европейски-
1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 756. 429
Ми колониальными державами. В этих следовавших одна за другой войнах против испанской и португальской империй в XVI веке, против голландцев— в XVII веке и против французов — в XVIII веке Британская империя вышла победительницей. Об этих «торговых войнах» Маркс, обрисовывая «идиллический» характер «розового рассвета эры капиталистического производства», писал:
«За ними следует торговая война европейских наций, ареной для которых служит земной шар. Война эта начинается отпадением Нидерландов от Испании,v принимает гигантские размеры в английской антияко- бинской войне и теперь еще продолжается в таких грабительских походах, как война с Китаем из-за опиума и так далее» L
Столетие спустя война «все еще продолжается», однако ее кульминационный момент и прекращение все более приближаются.
Именно об этих войнах между европейскими державами за мировое колониальное господство Маколей (этот «систематический фальсификатор истории», как назвал его Маркс) написал с характерной для него слепотой известный афоризм:
«Для того чтобы он мог ограбить своего соседа, которого он обещал защищать, чернокожие сражались на побережье Короман- деля [юго-восточное побережье Индостана.— Ред.]> а краснокожие скальпировали друг друга у Великих озер в Северной Америке (Маколей, Фридрих Великий, 1842).
Маколей исказил истинное положение. Мировой характер этих европейских войн не был простым распространением европейских династических конфликтов на отдаленную периферию. В наши дни, как и раньше, именно конфликт из-за раздела колоний является причиной войн между европейскими державами.
В истории непрекращавшихся войн, которые
1 К- Маркс, Капитал, т. I, стр. 754. 430
вела Англия на протяжении нынешней эры капитализма и колониальной экспансии, насчитывается в XVI столетии 34 вооруженных конфликта с народами завоеванных территорий, несколько столкновений с португальскими и испанскими соперниками и девятнадцатилетняя война с соперничающей Испанией; в XVII столетии — 29 войн против местного населения и против соперничающих колониальных держав, включая две крупные войны с голландцами; в XVIII столетии— 119 конфликтов из- за империи. А если прибавить к этому 46 войн в XIX столетии, то это составит в общей сложности 230 войн на протяжении четырехсот лет.
Установление Англией в XIX столетии мировой промышленной монополии, ее гегемония на море, политика либеральной свободной торговли и просвещенные пацифистские чувства Pax Britannica («Британского мира») в действительности не означали уменьшения числа этих следовавших одна за другой войн. В годы «либерального пацифизма» — в период между Ватерлоо и бомбардировкой Александрии в 1882 году, которая ознаменовала начало современного периода империалистической экспансии, — происходили многочисленные колониальные войны и военные действия, не считая Крымской войны 1854—1856 годов. Некоторые из них можно упомянуть в противовес мифу о Pax Britannica XIX века:
1824 год — первая война в Ашанти;
1824—1926 годы — первая бирманская война; 1837 год — подавление канадского восстания;
1838— 1841 годы — первая афганская война;
1839 год — аннексия Адена;
1839— 1842 годы — первая «опиумная» война;
1840 год — бомбардировка Аккры;
1843 год — завоевание Синда;
1845—1846 годы — первая война против сикхов; 1848—1849 годы —вторая война против сикхов; 1850—1853 годы — кафрская война;
1852 год — вторая бирманская война;
1854—1856 годы — Крымская война;
431
1857 год — подавление индийского восстания;
1857—1860 годы — вторая «опиумная» война;
1874 год — вторая война в Ашанти;
4878 год — вторая афганская война;
1879 год — война против зулусов;
1879 год — третья афганская война;
1881 год — война против буров;
1882 год — бомбардировка Александрии.
Бомбардировка по приказу Гладстона Александрии в 1882 году открыла новую эру усиленной империалистической экспансии, после того как мировая промышленная 'монополия Англии начала ослабевать. Главной движущей силой, толкавшей к новой колониальной агрессии, к росту вооружений и войнам, явилась растущая мощь финансового капитала, родившегося в недрах старого промышленного капитализма и шедшего ему на смену. Эти войны велись сначала за полный раздел мира, а затем, в XX столетии, они переросли в мировые войны между империалистическими державами за передел мира, которые велись в невиданных до того масштабах и с беспрецедентной интенсивностью.
Переход от либерального фритредерского капитализма XIX века с его непрерывными колониальными войнами, скрываемыми за розовой ширмой пацифистских чувств, к бесстыдно агрессивной и воинственной политике современного империализма нашел свое отражение в карьере лидера либеральной партии Гладстона. Тладстон сформировал свое второе правительство в 1880 году, после решительной победы над консерваторами на выборах, в ходе которых народные массы поддержали лозунги борьбы против империалистической политики Дизраэли. Однако, едва успев сформировать правительство, Гладстон стал продолжать и развивать ту же самую империалистическую внешнюю политику — политику безжалостного насилия в Ирландии и жестокой военной агрессии, ‘ целью которой было завоевание Египта и Судана. Пушки, которые бомбардировали Александрию, вдребезги разбили и иллюзии многих поклонников Гладсто43?
на среди радикалов, ускорив создание условий для возникновения в 1883 году социал-демократической федерации — первой в Англии социалистической организации, которая впоследствии слилась с коммунистической партией.
Относительно войны в Египте и Судане, которую вел Гладстон, Уильям Моррис (находившийся в тот период в процессе перехода от радикализма к социализму) писал:
«Именно это стремление к прибылям является проклятием для всего современного общества и препятствует проведению любого благородного дела и в то же время толкает нас (даже миролюбивого Гладстона) на войны за рынки, которые ведут «к убийствам многим и жестоким» (Уильям Моррис, Письмо Уильяму Аллингэму, 26 ноября 1884 года).
Разочарование радикалов нашло свое яркое выражение в выступлении 27 февраля 1885 года в парламенте их знаменитого представителя Лабуше- ра, когда он упрекал Гладстона за его отказ от своих антиимпериалистических высказываний более раннего периода:
«Если бы кто-либо сказал тогда ему (Гладстону): «Вы получите власть и станете самым влиятельным на протяжении многих лет министром в Англии; вы прикажете бомбардировать Александрию; вы будете убивать египтян в Тель-эль-Кебире и Суаки- ме; вы отправитесь в фантастическую экспедицию в дебри Эфиопии, для того чтобы справиться с каким-то пророком», — сей достопочтенный джентльмен ответил бы словами Азаила, сказанными царю сирийскому: «Да разве твой слуга собака, чтобы сделать это?»
Теперь все это стало старой и знакомой историей, интерес к которой притупился ее повторениями. История эта повторилась снова во время пребывания у власти либерального правительства в пер433
вое десятилетие XX века и в дальнейшем в период пребывания у власти трех лейбористских правительств. От Гладстона, Харкорта и Морли до Ллойд Джорджа, Холдена и Грея, а затем до Макдональда, Эттли, Бевина и Моррисона — всегда за критическими декларациями по адресу империалистической политики и войн, к которым эта политика вела, следовал империализм на практике, проводивший истребительную колониальную агрессию, осуществлявший рост вооружений и расширение войн. Не характер отдельных государственных деятелей, а действия империалистической системы — вот что является причиной войн.
В конце концов в 1894 году Гладстон ушел в отставку в знак протеста против увеличения морских вооружений, и его сменил ярый либерал-империалист (новый термин, который вошел тогда в обиход) Розбери. Отставка Гладстона не привела к каким-либо изменениям в империалистической военной политике. За этим последовало десять лет империалистического господства консервативной партии и дорогостоящая южноафриканская война, которой открылось новое столетие. Когда консерваторов в результате возмущения избирателей лишили в 1906 году власти, либерально-империалистическое правительство, пришедшее им на смену, продолжало начатую консервативным министром иностранных дел Лэнсдауном внешнюю политику, направленную на создание Антанты — англо-франкорусского (царского) союза в порядке подготовки к первой империалистической мировой войне 1914 года.
В XX столетии, в эпоху современного империализма, имели место две опустошительные войны, масштабы которых не имеют прецедента в истории. Расширение масштабов привело к качественному изменению. Это были войны, получившие 'название «тотальных», в которые было вовлечено большинство стран земного шара, а удары наносились не только вооруженным силам, но и гражданскому населению.
434
Потери в первой мировой войне составили 29 миллионов человек убитыми и искалеченными, война обошлась в 35 миллиардов фунтов стерлингов. По подсчетам, потери во второй мировой войне составили 41 миллион человек убитыми (27,9 миллиона человек — военные потери и 13,2 миллиона — жертвы среди гражданского населения); она обошлась в 223 миллиарда фунтов стерлингов L
Во что же обойдется третья мировая война?
Увеличение бремени вооружений
Показателем непрерывной активизации политики войн и милитаризма, которая сопутствует современному империализму, является быстрый рост вооружений и военных расходов в течение прошлого столетия и особенно в период полного развития современного империализма с начала XX века. Темпы роста вооружений быстро увеличивались.
Когда Гладстон в 1894 году ушел в отставку в знак протеста против увеличения ассигнований на флот до пределов, которые он считал пагубными, общие расходы Англии на вооружение составляли менее 40 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас они в сорок с лишним раз больше этой суммы.
1 Эти данные, составленные по материалам банковского факультета Лондонской экономической школы и журнала «Бэнкере олменэк», взяты из книги «Военный бизнес» А. Инока, опубликованной в Лондоне в 1951 году. По данным того же автора, за период между 1900 и 1946 годами двадцать четыре страны Европы, Азии и Америки израсходовали 321 316 миллионов фунтов стерлингов на военные мероприятия и 313 759 миллионов фунтов стерлингов на другие цели; за тот же период их государственный долг увеличился в сорок два раза — с 4003 миллионов фунтов до 171 240 миллионов фунтов стерлингов. В опубликованной фондом Карнеги для содействия всеобщему миру книге Сэмюэля Дюма и Ведел- Петерсена (1.923 год) «Людские потери в войне» указывается, что «общее число солдат и офицеров, убитых и умерших» во время войны 1914—1918 годов, составляет «примерно 10— 11 миллионов человек». Речь идет лишь о потерях вооруженных сил.
435
Расходы Англии на вооружение возросли с 24 миллионов фунтов стерлингов в 1875 году до 40 миллионов фунтов стерлингов в 1897 году, то есть почти удвоились.
Уже в 1879 году государственный деятель, либерал М. Е. Грант Дафф, в письме к императрице Фридерике (как называла себя вдова германского императора Фридриха III), описывая свою беседу с Марксом, упоминал о новой гонке вооружений, которую он считал основной революционной угрозой для стабильности существующего социального строя:
«Но допустим, — сказал я, — что правители Европы придут между собой к соглашению о сокращении вооружений, что может в значительной степени облегчить бремя народа. Что тогда будет с той революцией, которая, по вашему мнению, должна произойти в один прекрасный день?»
«О, — сказал он, — они не смогут сделать этого. Всякого рода страхи и зависть сделают это невозможным. Бремя будет все увеличиваться и увеличиваться по мере развития науки. Ибо усовершенствования в искусстве разрушения будут шагать в ногу с прогрессом, и каждый год необходимо будет посвящать все больше и больше средств <на дорогостоящие военные машины. Это заколдованный круг — из него нет выхода».
Либеральный министр королевы Виктории делал отсюда вывод, что революционные предсказания марксизма
«слишком фантастичны, чтобы быть опасными, если не считать того, что положение с этими безумными расходами на вооружение явно и несомненно угрожающее. Если, однако, в течение последующего десятилетия правители Европы не найдут средств избавиться от этого зла без какого бы то ни было сигнала в виде попытки совершить революцию, лично я утрачу всякую надежду 436
в отношении будущностй человечества, по крайней мере на этом континенте» (М. Е. Грант Дафф, Письмо императрице Фредерике от 1 февраля 1879 года, опубликованное в литературном приложении газеты «Таймс» 15 июля 1949 года).
Однако военные расходы, которые привели в ужас министра-либерала эпохи королевы Виктории, покажутся ничтожными по сравнению с современными. Гонка вооружений продолжалась. Общие расходы, увеличившиеся почти вдвое за двадцать два года, между 1875 и 1897 годами, за последующие шестнадцать лет снова более чем удвоились и в 1913 году достигли суммы 86 миллионов фунтов стерлингов; к 1929 году они составляли 115 миллионов фунтов стерлингов; к 1938 году они вновь более чем удвоились и достигли 254 миллионов фунтов стерлингов. Но даже эта цифра снова увеличилась в три раза к 1949 году, когда расходы на вооружение составили 770 миллионов фунтов стерлингов, а в 1950 году они уже достигали 820 миллионов фунтов стерлингов.
Затем, в 1951 году, появилась новая трехлетняя программа перевооружения на сумму 4700 миллионов фунтов стерлингов с последующим резким увеличением общих расходов на вооружение до 1090 миллионов фунтов стерлингов в 1951 году, 1445 миллионов — в 1952 году, 1535 миллионов — в 1953 году и 1546 миллиомов — в 1954 году. Наметки на 1955/56 год составляли 1537 миллионов, а на 1956/57 год— 1549 миллионов фунтов стер* ЛИНГОВ.
Эти суммы не включают стратегических расходов по другим статьям. Так, ассигнования в 1462 миллиона фунтов стерлингов, намеченные на военные расходы в 1952 году (из которых 85 миллионов фунтов стерлингов должны были быть покрыты за счет американских военных субсидий), включали лишь прямые расходы на вооруженные силы и снаряжение. Если же к этому добавить 61 миллион фунтов стерлингов, предусмотренные 437
на создание стратегических резервов, 46 миллионов фунтов стерлингов — на гражданскую оборону и 65 миллионов фунтов стерлингов — на расширение промышленных мощностей для военных целей, то подлинная общая сумма военных расходов на 1952 год составила 1634 миллиона фунтов стерлингов L
1 Однако даже в этой общей сумме не учитываются скрытые расходы на перевооружение, протаскиваемые через другие статьи расходов, в чем специалисты из английских государственных финансовых органов всегда были мастера. Так, например, ассигнования в 75 миллионов фунтов стерлингов почтовому ведомству на «капитальные расходы на телефонную, телеграфную и почтовую сеть» в 1952 году включали 25 миллионов фунтов стерлингов, которые, как было в конечном счете признано под давлением, шли, по существу, на программу перевооружения. 13 июня 1952 года в палате общин состоялся следующий поучительный диалог:
«Чарлз Хобсон (лейборист) внес поправку о сокращении ассигнований на капитальные расходы по строительству телефонной, телеграфной и почтовой сети с 75 миллионов фунтов стерлингов до 50 миллионов. Поправка была внесена потому, что оппозиция опасалась, что слишком большая часть этих расходов на капитальное строительство может быть справедливо отнесена к ассигнованиям на оборону. Третья часть этой суммы предназначалась на оборонные цели.
Л. Д. Гамменс (заместитель министра почт и телеграфа): Некоторые данные, имеющиеся в распоряжении министров— особенно в такое время, когда существует угроза государству, и в период перевооружения, — они не будут и не должны сообщать кому бы то ни было... Я сообщаю, что 25 миллионов фунтов стерлингов предназначаются на оборонные цели. Эдвардс [бывший министр почт и телеграфа в лейбористском правительстве. — П. Д.] израсходовал 9—10 миллионов фунтов стерлингов и никогда никому об этом не сообщал.
Эдвардс. Я сообщил.
Гамменс отпарировал, что он не может вспомнить ни одного публичного упоминания об этом факте.
Эдвардс утверждал, что в данном случае расходы оправдывались нуждами почтового ведомства.
Гамменс. Разница между нами в том, что вы обвиняете меня в искажении данных. Если бы я не был связан соображениями безопасности, я смог бы доказать, что некоторые из целей, на которые Эдвардс законно израсходовал указанные суммы, были такими, которые имели слишком незначительное отношение к гражданским нуждам, если они вообще имели к ним какое-либо отношение» («Манчестер гардиан», 14 июня 1952 года).
438
Подобным же образом дополнительно ik ассигнованиям на расходы на вооружение в 1954 году в сумме 1640 миллионов фунтов стерлингов (из которых путем исключения 85 миллионов фунтов американской военной помощи получен итог в 1555 миллионов фунтов стерлингов) были выделены 38 миллионов фунтов на нужды гражданской обороны и 75 миллионов на «производственные мощности оборонной промышленности и стратегические резервы», что составляет в итоге 1668 миллионов фунтов стерлингов (или подлинный полный итог — 1753 миллиона фунтов на военные расходы, если мы включим американскую военную помощь).
Эта общая сумма в 1668 миллионов фунтов стерлингов на военные расходы в 1954 году составляет 36 процентов общих бюджетных расходов против 29 процентов на социальное обслуживание. Если к этим 36 процентам, ассигнованным на нынешние и будущие войны, прибавить 623 миллиона фунтов стерлингов, выплачиваемых по процентам на долги (которые почти полностью относятся к прошлым войнам), что составляет 13 процентов бюджетных расходов, то общая сумма расходов на- прошлые, нынешние и будущие войны составила в 1954 году 2291 миллион фунтов стерлингов, или почти 50 процентов бюджета. Этому можно противопоставить бюджет Советского Союза за тот же год, в котором на военные расходы было предназначено 17 процентов, на социальное и культурное обслуживание — 25,1 процента и на развитие гражданских отраслей промышленности — 38 процентов.
В этих колоссальных расходах на перевооружение в Англии нетрудно найти причину резкого сокращения ассигнований на социальное обслуживание и снижения уровня жизни, а также причину тяжелого бремени возросших цен. Уже в 1951 году в обзоре Экономической комиссии ООН для Европы сообщалось, что Англия несла самое тяжелое в мире (пропорционально численности населения) бремя перевооружения, составлявшее 82 человеко-
439
года на тысячу рабочих по сравнению с 74 человеко-годами в Соединенных Штатах и 49 человеко-годами в Советском Союзе.
Беспрецедентные в мирный период расходы на вооружение в сумме 1668 миллионов фунтов стерлингов в 1954 году в денежном выражении в шестьдесят девять раз превышали расходы на вооружение в начале эры колониальных захватов — в 1875 году; в сорок раз — расходы накануне бурской войны; в девятнадцать раз — расходы накануне первой мировой войны; в четырнадцать раз — расходы накануне мирового кризиса и более чем в шесть раз — расходы накануне второй мировой войны.
Даже если учесть изменения в ценности денег, быстрота этого роста ясно видна из приведенной ниже таблицы (цифры первых двух рядов, за 1911 и 1931 годы, основаны на ответе на запрос в парламенте министра финансов от 16 мая 1954 года; к этим данным добавлены цифры за 1954 год, цифры национального дохода и данные о росте цен).
Таблица 32 РАСХОДЫ НА ВООРУЖЕНИЯ, 191 1—1954 ГОДЫ
5
Расходы на вооруженные силы, млн. ф. ст.
На душу населения, фунты
Национальный доход, млн. ф. ст.
°/0 национального дохода
Индекс цен1 д?
Расходы на вооруженные силы в неизменных ценах 1911 г., млн. ф. ст.
Индекс расходов на вооруженные силы
1911
67,9
1,5
2140
3,1
100
67,9
100
1931
НО
2,4
3 666
3,3
151,6
72,6
106,9
1954
1668
31,8
15 543
9,3
374,2
445,8
656,6
1 Индекс розничных цен из обследования, проведенного Лондонским и Кембриджским университетами, пересчитанный по 1911 году, взятому за 100.
Таким образом, стоимость в денежном выражении в расчете на душу населения возросла *в два-
44Q
Дцать оДйй раз; iio отношению ik национальному дол ходу она возросла в три раза; в неизменных ценах она возросла более чем в шесть раз.
Так шло все более быстрыми темпами увеличение расходов на вооружение в эпоху империализма.
Десятилетие „холодной войны"
В истекшем после второй мировой войны десятилетии мы были свидетелями не только беспрецедентно быстрого роста вооружений, но и целого ряда местных колониальных войн, которые велись главными империалистическими державами. Мы видели совместную империалистическую войну в Корее; создание ряда местных военных союзов главных империалистических держав вне рамок Организации Объединенных Наций и под руководством Соединенных Штатов Америки; создание Соединенными Штатами Америки очень большого числа военных, военно-морских и военно-воздушных баз по всему миру в дополнение к базам, уже созданным в предыдущий период Англией и другими западноевропейскими странами. Мы видели активные политические и стратегические приготовления к третьей мировой войне, в том числе и открытую пропаганду такой войны со стороны некоторых влиятельных кругов, особенно в Соединенных Штатах Америки; видели мы и официально провозглашенную империалистическими державами решимость использовать ядерное оружие в случае крупной войны в будущем.
В цепь местных военных союзов, созданных главным образом Соединенными Штатами Америки при второстепенной роли Англии для окружения мира социализма, вошли:
1) Североатлантический договор, связавший Соединенные Штаты Америки с Западной Европой, а также с Грецией и Турцией;
2) Боннский и Парижский договоры о включении ремилитаризованной Западной Германии в западный военный блок;
441
3) Балканский пакт Турции, Греции и Югославии;
4) Серия военных пактов на Среднем Востоке, в том числе договоры США с Турцией и Пакистаном, турецко-пакистанский договор и Багдадский пакт, в который вошли Англия, Ирак, Пакистан, Турция и Иран;
5) договор для Юго-Восточной Азии пяти заинтересованных в этом районе империалистических держав совместно с Пакистаном, Таиландом и Филиппинами;
6) Тихоокеанский пакт Соединенных Штатов Америки, Австралии и Новой Зеландии;
7) договоры Соединенных Штатов Америки с Японией, Чан Кай-ши и Ли Сын Маном на Дальнем Востоке.
Перед лицом угрозы, создаваемой перевооружением германского милитаризма в Западной Германии и ее включением в западный военный блок, Советский Союз и народно-демократические страны Восточной Европы в 1955 году заключили Варшавский военный договор, совершенно очевидно созданный как временное оборонительное мероприятие впредь до создания более широкого договора о европейской коллективной безопасности, который сделал бы возможным роспуск местных военных союзов и в Западной и Восточной Европе.
Это серьезное обострение международной напряженности и усиление активных военных приготовлений в первое десятилетие после второй мировой войны, а также расширение масштабов местных войн находились в резком противоречии с теми надеждами и чаяниями, которые лелеяли народы в конце войны против фашизма.
Соглашения военного времени, заключенные между руководителями победоносной антифашистской коалиции на заключительном этапе войны против фашизма, предусматривали обеспечение мира посредством Организации Объединенных Наций, путем передачи Совету Безопасности всех полномочий на решение вопросов войны и мира, вопросов 442
о необходимости коллективных действий в целях обеспечения мира, при условии, что решения Совета Безопасности по этим вопросам будут приниматься на основе принципа единогласия пяти главных держав — Англии, Соединенных Штатов Америки, Советского Союза, Франции и Китая. Этот принцип единогласия был разработан президентом Рузвельтом, для того чтобы сделать невозможным (пока этого принципа будут придерживаться) возникновение войны между великими державами, а следовательно, и новой мировой войны.
Далее, Устав Организации Объединенных Наций совершенно ясно запрещал какие бы то ни было сепаратные военные союзы между группами держав, помимо оборонительных союзов против возобновления агрессии со стороны коалиции стран, включающей Германию и Японию.
Соглашения военного времени предусматривали создание единой, демократической, миролюбивой Германии и демократической, миролюбивой Японии, а также ликвидацию корней фашизма и милитаризма.
Ни одно из этих соглашений военного времени не было выполнено.
Вместо этого западные державы создали новый сепаратный военный блок под названием «Организация Североатлантического договора» со своим собственным верховным командованием, вооруженными силами и полномочиями принимать решения по вопросам войны и мира.
Положения Устава Организации Объединенных Наций были полностью нарушены незаконным сепаратным «решением» об объявлении войны, которое поспешно протащили через Совет Безопасности вопреки принципу единогласия1; лишением Китайской Народной Республики представительства в ООН; передачей полномочий и функций Совета 1 Имеется в виду решение Совета Безопасности от 27 июня 1950 года, в котором было одобрено нападение на Северную Корею. — Прим» ред,
443
Безопасности Генеральной Ассамблее и превращением, таким образом, механизма Организации Объединенных Наций (при помощи системы голосования, первоначально обеспечивавшей западным странам более или менее автоматическое большинство, несмотря на то, что они представляют меньшинство народонаселения мира, а нередко и меньшинство членов Организации Объединенных Наций) в орган, подчиненный западным странам, стремящимся к войне, и в особенности империалистическим элементам Соединенных Штатов.
Официально Атлантический военный союз был создан в 1949 году. Предварительными шагами явились: провозглашение (весной 1947 года) «доктрины Трумэна», в которой было заявлено о праве Соединенных Штатов вмешиваться в дела других государств с целью поддержки правительств, враждебных Советскому Союзу; принятие плана Маршалла (летом 1947 года), целью которого было организовать экономическое и политическое вмешательство США в дела Западной Европы в качестве предварительного условия ее военной организации под контролем Соединенных Штатов; заключение в 1948 году Брюссельского военного пакта пяти западноевропейских держав — Англии, Франции и стран Бенилюкса.
В 1952 году в Атлантический военный союз входило 14 стран: Соединенные Штаты, Канада, Англия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия, Греция и Турция. Включение последних двух стран является достаточным свидетельством того, что географический термин «атлантический» следует считать весьма эластичным и ни в коем случае не отражающим подлинного содержания этого союза.
В 1955 году вновь вооруженная Западная Германия была принята в члены Атлантического блока (НАТО). Перевооруженная Япония привязывалась к этому блоку посредством двустороннего пакта между Соединенными Штатами и Японией. ДвустО’ 444
ронние соглашения заключены также между Соединенными Штатами и последней из стран фашистской «оси» — франкистской Испанией. Эти соглашения предусматривают создание в Испании американских военных баз. Таким образом, охвостье фашизма из Западной Германии, Японии, Италии и франкистской Испании включено в новый Атлантический военный союз, принявший на себя миссию, которую в свое время взяли на себя страны «оси» — Германия, Италия и Япония, то есть миссию «крестового похода» против «коммунизма» и Советского Союза, на этот раз под руководством Соединенных Штатов.
Этот западный блок, или военный союз стран, подписавших Атлантический пакт, его инициаторы определяют как
1) «демократический» — союз демократических народов в защиту демократии;
2) «оборонительный» — военный союз держав, заинтересованных только в обороне, а не в агрессии;
3) «мирный» — военный союз миролюбивых стран, направленный на поддержание мира ввиду несостоятельности Организации Объединенных Наций.
Рассмотрение фактов показывает, что ни одно из этих утверждений не является правильным.
Западный блок, или военный союз стран, подписавших Атлантический пакт, является в действительности империалистическим блоком. За всеми фразами о «западных духовных ценностях», «христианской цивилизации» и т. д. фактически скрывается империализм. Страны, подписавшие Атлантический пакт, составляют союз крупных колониальных держав и их ближайших сателлитов. Территорию их метрополий населяет в общей сложности менее одной седьмой всего мирового народонаселения, и все же эти метрополии в момент подписания пакта управляли — прямо или косвенно — двумя третями жителей земного шара.
445
Основные войны, происходящие на нашей планете после подписания Атлантического пакта, велись державами — участницами Атлантического пакта. Англия вела войны в Малайе и Кении, на Кипре и в Египте; Франция вела войны во Вьетнаме, в Северной Африке и Египте; Голландия—в Индонезии; Соединенные Штаты вели войну на Дальнем Востоке: сначала они поддерживали оружием и военными субсидиями Чан Кай-ши в его войне против китайской Народно-освободительной армии, а впоследствии, после окончательного провала этой интервенции в 1949 году, американские войска (вместе с войсками других империалистических держав) вторглись непосредственно в Корею и захватили Тайвань как базу для контрреволюции и для достижения своей открыто провозглашенной цели — вторжения в Китай.
Все эти войны представляли собой типичные империалистические агрессивные войны: вторжения экспедиционных сил в чужие страны, войны против •национально-освободительного движения и демократии или колониальные войны.
Патриотические войны, которые, несмотря на огромное неравенство сил, с величайшим героизмом и самопожертвованием вели «вьетнамский, малайский и корейский народы, а также китайские добровольцы, являлись национально-оборонительными войнами против иностранных захватнических армий западных империалистических держав. Но войны, (которые вели державы Атлантического пакта — английский, французский, голландский и американский империализм, — это войны, которые никак не могут быть названы оборонительными.
Когда Англия, Франция и Голландия посылали войска, пушки, танки и бомбардировщики за тысячи миль, через моря и океаны, чтобы сеять смерть и разрушения в странах, принадлежащих другим народам, — это была не оборона, а агрессия. Это были войны не в защиту демократии, а войны для поддержания колониального господства либо в форме прямой 'Колониальной диктатуры, как в . 446
Малайе, либо в форме правления марионеточного императора вроде Бао Дая во Вьетнаме, либо в форме заслужившей всеобщую ненависть антинародной диктатуры, как, например, Чан Кай-ши в Китае или Ли Сын Мана в Южной Корее. Это были войны против народной борьбы за национальное освобождение и демократию. Империализм и демократия — взаимно исключающие друг друга понятия. Колониальная система империализма — это система агрессии и порабощения военной силой других народов.
Пример малайской войны, ведшейся английским правительством с 1948 года, явился лучшей иллюстрацией этой истины. В данном случае нельзя было сослаться на то, что жители Малайи готовились спустить на воду свои байдарки и проплыть на них тысячи миль по океану, чтобы вторгнуться в Англию и сжечь дотла английские дома. Между тем английские войска, пушки, танки, «спитфайры» и «бофайтеры» (построенные английскими рабочими для войны против фашизма), не говоря уже о наемниках-гурках и «охотниках ’за черепами» — да- яках, посылались морем в Малайю, чтобы стереть с лица земли малайские деревни.
Поэтому Атлантический военный союз, вопреки утверждениям, нельзя рассматривать как «оборонительный» союз; это агрессивный союз империалистических держав.
Да никто и не скрывает конечных целей этого союза. Как в свое время открыто провозглашались цели «антикоминтерновского пакта» стран «оси» — предшественника Североатлантического военного союза, конечная цель последнего также открыто провозглашалась как в пропаганде, так и в военной и стратегической подготовке: борьба против Советского Союза и коммунизма.
В оправдание этого утверждают, что открытая военная подготовка к войне против Советского Союза, создание наступательных баз вокруг его границ и многочисленные хвастливые высказывания об эффективности ударной мощи этих баз в отно-
447
ШеНии Всех промышленных центров Советского Со- юза вызваны якобы «угрозой советской агрессии» в будущем.
Эти доводы приводились и инициаторами «ан- тикоминтерновского пакта» — Гитлером, Муссолини и Японией с целью прикрыть свои агрессивные цели и отвлечь внимание от расширения ими региональных агрессивных войн.
Своеобразие такого политического метода аргументации заключается в том, что любой успех рабочего класса, любое народно-освободительное движение и колониальное восстание в какой бы то ни было части света рассматриваются как «коммунистический заговор» и, следовательно, как «советская агрессия», хотя в стране, о которой идет речь, не было ни одного советского солдата. Такой аргументацией западные государственные деятели пользовались даже для обоснования жалоб на Советский Союз, суть которых сводилась к тому, что в течение всего периода формирования и расширения Атлантического военного союза Советский Союз был единственной великой державой, не вовлеченной в войну. Именно на это сетовал в речи перед избирателями в мае 1955 года Уинстон Черчилль, заявивший, что русские «Советы и их сателлиты... коммунизировали почти половину Европы и весь Китай, не потеряв при этом ни одного русского солдата». Прибегая к такого рода «доводам», с таким же успехом можно было бы задним числом назвать «советским заговором» Парижскую коммуну, французскую революцию и даже американскую революцию. Инициаторы Атлантического союза рассматривали победу рабочего класса и парламентского большинства в Чехословакии в 1948 году в борьбе против попыток правого крыла произвести переворот как вопиющий пример «советской агрессии», хотя в стране не было ни одного советского солдата. В то же время жестокое нападение с участием иностранных военных кораблей, танков и бомбардировщиков на освобожденную Грецию с целью подавить освободительное движе-
448
Ние (поддерживаемое, согласно газете «Таймс», 90 процентами населения) и установить монархофашистский режим преподносилось как «защита демократии». Таковы жалкие увертки, к которым вынуждены прибегать инициаторы Атлантического военного союза в попытках оправдать явно агрессивное содержание, скрытое за провозглашенными мирными 1И оборонительными целями.
Цель агрессивной мировой войны, замышляемой Атлантическим союзом, весьма откровенно признавалась многими влиятельными его сторонниками, часто занимающими высокие официальные посты, в форме требования «превентивной войны» — дипломатический термин для агрессивной войны. Существо фултонской речи Черчилля !, которую он произнес в 1946 году с ведома и одобрения президента Трумэна и в которой намечался курс на последующее создание Атлантического союза, — это, как заявил в парламенте в 1950 году Бевин, призыв к «превентивной войне» против Советского Союза:
«Насколько я понимаю фултонскую речь, Черчилль имел в виду превентивную войну» (из заявления министра иностранных дел Эрнеста Бевина в палате общин 28 марта 1950 года).
Следует отметить, что Черчилль неоднократно поздравлял лейбористское правительство, отмечая что оно добросовестно выполняло «его» фултонскую программу. Точно так же морской министр Соединенных Штатов Мэтьюз в своем выступлении в Бостоне 26 августа 1950 года заявил:
1 Впоследствии, после того как рухнул миф о ядерном и стратегическом превосходстве Запада, Уинстон Черчилль значительно пересмотрел свою фултонскую линию. В частности в речи, произнесенной в мае 1956 года в Ахене, он осудил концепцию раздела Европы на противостоящие друг другу военные лагери, настаивал на том, что «в подлинно единой Европе Россия должна занять свое место», и предлагал (имея в виду Североатлантический пакт): «Дух этого соглашения не должен исключать Россию и восточноевропейские государства».
15 Р- Палм Датт
449
«Развязав агрессивную войну, мы получим почетный и популярный титул: мы станем первыми агрессорами во имя мира».
Это неосмотрительное заявление получило мягкую отповедь со стороны президента Трумэна, однако отмечалось, что морской министр не был смещен со своего поста за это заявление, и, как впоследствии выяснилось, оно не было неожиданной вспышкой красноречия, так как текст его был предварительно просмотрен министром обороны Джонсоном. Мож.но было бы заполнить сотни страниц подобного рода воинственными заявлениями ведущих американских государственных деятелей и генералов. Например:
«Мы должны держать вооруженные силы во всем мире. Соединенные Штаты, возможно, должны будут оккупировать еще большее число стран до того, как окончится холодная война» (из речи вице-президента США Беркли, произнесенной им в Новом Орлеане 22 мая 1950 года).
«Частые и интенсивные стратегические бомбардировки даже с островных стран Атлантики или из Японии и Аляски могли бы затронуть лишь отдельные части Центральной Евразии. Базы должны быть созданы на самом заморском материковом массиве» (из выступления военного министра Кеннета Ройяла перед сенатской комиссией по вооруженным силам в марте 1948 года).
«Американские бомбардировщики могут завтра нанести удар по Москве, и нанести его с большой силой... Все задания намечены, и каждый знает, что ему делать... Соединенные Штаты не должны позволить обмануть себя примирительной позицией России» (Кларенс Кэннон, председатель комиссии палаты представителей по ассигнованиям, 26 сентября 1949 года).
450
«Теперь, когда мы так опередили других в создании водородной бомбы, мы должны устанавливать законы... не как дипломаты, а как солдаты... Мы должны действовать, пока на нашей стороне преимущество» (бывший американский комендант в Берлине генерал Хаули, 6 февраля 1950 года).
«Президент Трумэн заявил сегодня на пресс-конференции, что в своих отношениях с Советским Союзом Соединенные Штаты рассчитывают скорее на силу, нежели на дипломатию» («Манчестер гардиан», 21 сентября 1951 года).
«Соединенные Штаты не должны безучастно стоять в стороне в то время, когда хоть какая-либо часть мира остается под господством либо коммунистической, либо фашистской диктатуры» (из выступления по радио советника президента Трумэна от республиканской партии по вопросам внешней политики Джона Фостера Даллеса 10 февраля 1952 года).
«Начать войну! Как можно скорее! Немедленно!.. Всеми средствами необходимо нанести удар ниже пояса. Эта война не может вестись ио правилам маркиза Кинсбери» (из дневника генерала Гроу, бывшего до января 1952 года американским военным атташе в Москве. Дневник Гроу опубликован в Берлине в 1952 году). (В переводе на русский язык дневник Гроу опубликован в книге Ричарда Сквайрса «Дорога войны». Издание «Литературной газеты», М., 1952.— Ред.]
«Упорной тенденцией американского мышления является убеждение, что не может быть мира ц безопасности для американских 15* .451
стран до тех пор, пока не будут ликвидированы все коммунистические правительства в Азии и Европе. Это политика безграничной ответственности» («Таймс», 22 мая 1951 года).
«Нынешняя американская программа рассчитана на то, чтобы сражаться с Россией, а не сохранять мир, сдерживая русскую агрессию» («Экономист», 6 октября 1951 года).
Более официальный дипломатический язык, который предпочитают официальные лидеры Атлантического союза, используется для призывов к усилению вооружений и стратегических приготовлений Атлантического союза впредь до достижения решающей мощи, с тем чтобы затем «свести счеты» с Советским Союзом, то есть предъявить Советскому Союзу под дулом пистолета условия капитуляции. Такую концепцию высказал в парламенте 17 октября 1950 года Эрнест Бевин, заявивший:
«Западные державы должны быть сильными... Они должны полностью представлять себе, каков должен быть мир, которого они хотят и за который они борются, пока его не добьются».
Нужно лишь представить себе тот эффект, который произвела бы аналогичная политическая декларация со стороны советского министра иностранных дел, для того чтобы убедиться, что это подлинная формула для развязывания войны. Та же самая политика слегка завуалирована в лозунге, который предлагается для всеобщего потребления, в лозунге «мир посредством силы», то есть мир, обеспечиваемый бронированным кулаком.
Таковы были общий характер и стратегия так называемой «холодной войны» (это наименование было изобретено в Соединенных Штатах для обозначения политики, первоначально изложенной в 1947 году в «доктрине Трумэна»), или политики 452
«мир посредством силы», ставшей официальной политикой западных держав в течение первого десятилетия после второй мировой войны.
Эта теория «холодной войны», определявшая официальную политику Запада в эти годы, на десяток лет отравила международные отношения. Отвергая выдвинутую социалистическим миром альтернативу — концепцию мирного сосуществования, исходя из неизбежности разделения мира на противостоящие друг другу вооруженные лагери, все развитие которых рассматривалось как идущее к будущей возможной и даже неизбежной мировой войне, подчиняя любую деталь, все политические и стратегические расчеты именно такому анализу положения в мире, — эта теория преграждала путь к международному сотрудничеству. Лишь явное банкротство этой теории и стратегии после десятилетия усиливавшейся международной напряженности привлекло внимание к необходимости начать поиски какого-то иного пути.
Новый ^Священный союз"
Было бы неправильным рассматривать Атлантический союз лишь как организацию для возможной в будущем войны против Советского Союза.
Как и его предшественник — «антикоминтернов- ский пакт», Атлантический союз публично провозглашал своей целью интенсивные военные и стратегические приготовления против Советского Союза и «коммунистической угрозы». Но подобно тому, как за фасадом «антикоминтерновского пакта» скрывались агрессивные и хищнические цели германского, итальянского и японского империализма, так и за антисоветским фасадом Атлантического военного союза скрывались агрессивные и хищнические цели американского, английского и западноевропейского империализма. Однако в Атлантическом союзе господствующее положение амери453
канского империализма было настолько очевидным, что британская и европейские империи играли второстепенную роль, в нем непосредственно проявился курс на американскую экспансию за счет Британской империи и других европейских империй.
Подобно тому как страны «оси» начали свое военное наступление серией региональных войн в Восточной Азии, Абиссинии и Испании, явившихся прелюдией мировой войны, так и Атлантический союз начал свое военное наступление серией региональных войн в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также военными операциями различных масштабов в необъявленной войне на Среднем Востоке и в Северной Африке.
Текст договора о Североатлантическом союзе сформулирован в весьма эластичных выражениях, чтобы дать возможность применить его военные статьи к любой части света и фактически при любых обстоятельствах, которые были бы удобны с точки зрения его участников. Особое значение имеет следующая формулировка важной статьи 4, где говорится:
«Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон будут поставлены под угрозу»,
Итак, можно отметить, что механизм договора спроектирован таким образом, чтобы его можно было применить не только в случае вооруженного нападения на одну из стран — членов союза, но и в случае некоей «угрозы», сформулированной в самых туманных выражениях, как, например, «территориальная целостность» (включая колониальные империи) или «политическая независимость или безопасность» любой из этих стран (скажем, в случае наличия коммунистического или другого настроенного в пользу мира большинства в парламенте). Решение вопроса о том, существует ли 454
такая «угроза», зависит не от мнения заинтересованной страны, а от «мнения любой из них», то есть от Соединенных Штатов.
При каких обстоятельствах может вступить в действие Атлантический военный пакт и может быть развязана новая мировая война? Это стратегическая тайна, которая тщательно скрывается. Когда этот вопрос был в ясной форме задан в американском сенате министру обороны Луису Джонсону, последний отказался публично отвечать на него.
«Сенатор Коннэлли спросил, кто будет определять, имело ли место вооруженное нападение на страну, являющуюся участницей Атлантического договора, которое потребует от других участников договора прийти ей на помощь. Джонсон заявил, что любой ответ, который он мог бы дать на открытом заседании, может быть неправильно истолкован и использован коммунистической печатью» («Манчестер гардиан», 6 июня 1950 года).
Таким образом, народы стран — участниц Атлантического союза могут неожиданно для себя оказаться втянутыми в новую мировую войну при многих точно не определенных обстоятельствах, а не только в случае нападения на одну из этих стран, без консультации с их парламентами, по решению Совета Североатлантического союза, деятельность которого фактически контролируется Соединенными Штатами.
Военные мероприятия Англии за рубежом
Масштабы военных мероприятий Англии за рубежом, вытекающие из проводимой ею империалистической политики, можно видеть из следующей таблицы, составленной на основе официальных источников.
455
Таблица 33
АНГЛИЙСКИЕ ЗАМОРСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ В 1950 ГОДУ (Не считая Западной Германии)
Аден
Бермунды
Британский Гондурас
Кипр
Киренаика
Египет (зона Суэцкого канала)
Восточная Африка
Гибралтар
Ямайка
Малайя
Мальта
Сингапур
Сомали
Судан
Триполитания
Акаба (Трансиордания)
Греция
Австрия
Триест
АНГЛИЙСКИЕ ЗАМОРСКИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ВАЗЫ В 1950 ГОДУ
Гибралтар
Ирак
Аравия (Персидский залив)
Мальта
Трансиордания
Восточная Африка
Сингапур
Кипр
Сомали
Южная Родезия
Гонконг
Северная Африка (включая
Египет)
Пакистан
Цейлон
Германия
Аден
Судан
Малайя
Австрия
Содержание этих баз — обычные обязательства. Отправка специальных частей в Малайю, Корею, Гонконг или Египет являлась дополнительной мерой.
В начале 1956 года военный комментатор газеты «Таймс» (в номере от 28 февраля 1956 года) сообщал о следующем распределении на заморских территориях основных английских войск:
456
Таблица 34
ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК АНГЛИИ ЗА РУБЕЖОМ В 1956 ГОДУ
Берлин около 80 000
Гибралтар и Мальта 5 000
Кипр' почти 15 000
Киренаика и Триполи несколько тысяч
Иордания 1 бронетанковый
полк, 1 пехотная рота
Кения 3 батальона
Корея и Япония 5 000
Гонконг 11 000
Малайя и Сингапур не менее 12 000
Ямайка и Британская Гвиана 2 батальона
Аден 1 батальон
Наряду с этим можно привести* список заморских военных баз Соединенных Штатов, опубликованный в журнале «Форчун» в январе 1952 года. Следует отметить, что, как указывалось в журнале, этот список баз является «неполным».
Таблица 35
СУХОПУТНЫЕ, МОРСКИЕ И ВОЗДУШНЫЕ БАЗЫ США В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
Саудовская Аравия
Бермуды
Марокко
Панама
Ливия
Куба
Триест
Пуэрто-Рико
Австрия
Тринидад
Германия
Филиппины
Франция
Тайвань
Англия
Окинава
Исландия
Япония
Азорские острова
Корея
Ньюфаундленд
Остров Гуам
Гренландия
Острова Рюкю
Канада
Маршальские острова
Аляска
Острова Мидуэй
Алеутские острова
Остров Джонстон
QcrpoB Кодьяк
Гавайские острова
457
В 1955 году Соединенные Штаты держали почти половину своих вооруженных сил— 1370 тысяч человек — на 950 базах за пределами континентальной части США (см. заявление министерства обороны США от 15 февраля 1955 года).
Таково число военных баз, созданных по всему миру двумя «миролюбивыми» державами, усиленно вооружающимися якобы лишь в целях «обороны».
Однако в положении этих двух ведущих мировых империалистических держав, проводящих обширные военные мероприятия по всему свету, имеется существенное различие.
Соединенные Штаты с их огромными экономическими ресурсами, накопленным богатством и производственной мощью находятся в более выгодном положении, чтобы нести бремя этих военных мероприятий во всем мире и, кроме того, даже субсидировать и вооружать множество стран- сателлитов на суммы, выражающиеся в миллиардах долларов в год. Тем не менее даже для Соединенных Штатов это означает, что они ассигнуют не менее 77 процентов своего бюджета 1952/53 года на военные цели (60 процентов — на прямые военные расходы, 13 процентов — на «иностранную помощь», преимущественно на военные или стратегические цели, и 4 процента — на атомные исследования), а если включить сюда пенсии военнослужащим и проценты по долгам, то более девяти десятых бюджета ассигнуется на войны прошлые, настоящие и будущие. Таким образом, лишь 3 процента федерального бюджета остается на социальное обслуживание, здравоохранение и повышение благосостояния.
Однако Англия (имеющая население в три раза меньшее, чем США) с ее ослабленной экономикой, хроническим дефицитом платежного баланса и сокращающимися запасами испытывает роковую нехватку в материальных и людских ресурсах при попытке поддержать гигантское бремя военных 45§
Обязательств во всем мире, связанных с сохранением империи, охватывающей четвертую часть всего света.
Перенапряженность, вызываемая в Англии военными мероприятиями
Последствия сказывались в равной -степени как в недостатке людских сил, так и в ухудшении экономического положения. Все большее число людей требовалось для вооруженных сил и для их снабжения. И все же высказывались жалобы, что этого недостаточно. Западные колониальные державы вынуждены были посылать сотни тысяч европейских солдат вместе -с гурками, сенегальцами и «охотниками за черепами» из племени даяков для войны против народов Азии, ведущих освободительную борьбу. В то же время американцы настойчиво требовали быстро увеличить число дивизий в Западной Европе. Напрасно правительства западноевропейских держав ссылались на свою неспособность удовлетворить эти увеличивающиеся требования. Требования все возрастали. Западные политические деятели и генералы горько жаловались, что ни один советский солдат не воюет, тогда как западные державы должны были посылать свои войска на целый ряд фронтов. Они настолько глубоко увязли в трудностях, связанных с их положением, что не понимали всего значения этой курьезной «жалобы».
В 1950 году английский премьер-министр Эттли, чтобы подчеркнуть трудности, возникающие в связи с посылкой воинских частей в Корею, указывал 31 июля в своем выступлении по радио, что английские вооруженные силы до предела «разбросаны». Он заявил:
«Нам самим приходится держать вооруженные силы в различных частях света, комплектовать гарнизоны в таких ключевых пунктах, как Гонконг Или Средний Восток, 459
составлять часть оккупационных войск в Германии, Австрии и Триесте или участвовать фактически в боевых действиях против коммунистических банд в Малайе. Поэтому наши вооруженные силы разбросаны».
Несмотря на это, воинские части английских вооруженных сил пришлось направить в Корею, а в 1951 году дополнительные части были переброшены в Египет и на Средний Восток.
30 июля 1952 года Черчилль сообщил в парламенте:
«Почти все наши армейские части находятся за границей».
5 марта 1953 года Эттли заявил в парламенте: «Никогда еще за всю нашу историю мы не держали в мирное время за рубежами страны такого числа дивизий».
27 января 1954 года министр обороны лорд Александер подчеркнул опасность отсутствия подвижных стратегических резервов, вызванного обременительными заморскими военными обязательствами:
«Я не вижу никаких близких перспектив сокращения нынешнего двухлетнего срока службы в вооруженных силах. В Германии находятся четыре дивизии, в том числе три бронетанковых, в зоне Суэцкого канала находится гарнизон численностью в 80 тысяч человек, и сотни людей находятся в других районах Среднего Востока. Половину личного состава «дивизии Содружества Наций» в Корее предоставляем мы; в борьбе против коммунистов в Малайе также заняты значительные силы.
У нас есть войска в Гонконге, Кении, Триесте, на Мальте, в Гибралтаре и в Вест- Индии.
В вооруженных силах Англии, насчитывающих примерно 860 тысяч человек, занят один из каждых шестидесяти жителей. Если учесть людей, занятых производством воору460
жений и подобными работами, То Соотношение будет один человек из одиннадцати. Наши военные расходы на душу населения выше, чем в любой западноевропейской стране; если учесть рост цен, то военные расходы с 1950 года увеличились на две трети» (Александер, речь в «Конституционном клубе», Лондон, 27 января 1954 года).
Напряжение ресурсов Англии для заморских военных мероприятий вызывалось в первую очередь потребностями имперских колониальных войн и содержанием гарнизонов в колониях. Это, по существу, признал тогдашний премьер-министр Черчилль, когда он 5 марта 1953 года сделал в парламенте заявление, объясняя свою оппозицию к предложению о сокращении двухлетнего срока военной службы:
«Правительство сочло бы величайшим несчастьем решение о сокращении двухлетнего срока... Сокращение срока службы до восемнадцати месяцев означало бы сокращение срока, который наш военнослужащий сможет провести: в Корее, с одиннадцати месяцев до пяти, в Малайе — с шестнадцати месяцев до десяти и на Среднем Востоке — с девятнадцати месяцев до тринадцати».
Ранее правители Британской империи легко могли использовать индийскую армию для ведения колониальных войн или перебрасывать индийские части в угрожаемые пункты для подкрепления местных гарнизонов. В новых условиях это уже невозможно. Генерал Уильям Морган в речи, произнесенной в Нью-Йорке 28 марта 1951 года, касаясь кризиса в Иране, сетовал:
«На Среднем Востоке английских войск далеко не достаточно. Может возникнуть весьма серьезное положение на персидских нефтепромыслах, и я не знаю, где можно будет найти необходимые войска... В былые времена мы просто посылали одну индийскую бригаду, но сейчас мы не можем сде461
лать этого... Мы должны обеспечить себе помощь со стороны Пакистана, а, возможно, также и со стороны Индии».
Говоря о кризие в Египте, Черчилль также ссылался на невозможность использовать индийскую армию. В своей речи в парламенте 30 января 1952 года он заявил:
«Теперь, когда мы не имеем более возможности использовать бывшие имперские армии, существовавшие в Индии, бремя поддержания контроля и безопасности на международных водных путях Суэцкого канала должно быть разделено более широко».
В той же речи Черчилль подсчитал, что общая численность вооруженных сил атлантических держав, занятых в Восточной Азии и на Среднем Востоке, составляет примерно 26 дивизий.
«Факты настолько серьезны, что их нельзя не учитывать,— сказал Черчилль.— В Корее находятся войска, равные по численности десяти дивизиям, включая весьма существенную часть американской армии и одну дивизию нашего Содружества Наций... Примем во внимание уменьшение численности французской армии в Европе (в результате войны во Вьетнаме) примерно на 10 дивизий. Это, конечно, по умеренным подсчетам. Затем имеются английские войска, которые разбросаны по странам Востока и Дальнего Востока... в Гонконге, Малайе и до некоторой степени в зоне канала на Среднем Востоке. Они насчитывают по крайней мере 6 дивизий, и содержание их обходится гораздо дороже, чем если бы они находились на родине или в Европе. Все это вместе составляет в численном отношении 26 дивизий. Однако в смысле военной мощи, если их сравнить с теми дивизиями, какие находятся в настоящее время в Европе, вполне возможно, что они эквивалентны 30 или даже 35 дивизиям».
462
И, кроме всего этого, планы Атлантического союза предусматривали создание 50 дивизий, которые должны были быть «в боевой готовности» в Западной Европе к концу 1952 года. Впоследствии число дивизий должно было быть увеличено до 100. Эти гигантские вооруженные силы должны содержаться одновременно с выполнением не менее обременительной и тяжелой программы перевооружения.
В этих последствиях империалистической политики нетрудно видеть решающие факторы, усугубляющие и усиливающие экономический упадок и кризис в Англии, а также в западноевропейских- странах.
Американская военная стратегия и Англия
Империалистическая военная политика обходится Англии чрезвычайно дорого, и не только потому, что Англия испытывает в настоящее время экономическое и военное напряжение. Гораздо большая опасность угрожает Англии в случае возникновения атомной войны, которую открыто планируют и подготавливают стратеги Атлантического военного союза.
Политика, направленная на сохранение существующего господства Англии в колониальных и зависимых странах во всем мире, неизбежно вела к подчинению английской внешней политики и стратегии Соединенным Штатам. Англия более не господствует на морях, а ведь именно военно-морская мощь является той основой, которая необходима для поддержания империи. В настоящее время Соединенные Штаты имеют стратегическое превосходство й на море и в воздухе. Вследствие этого Англия может продолжать владеть своей заморской империей только с разрешения и под контролем Соединенных Штатов. В этом ключ к современной английской внешней политике, которая проводилась после второй мировой войны как лей463
бористским, так и консервативным правительством.
Однако у американского империализма есть своя собственные военные планы, в которых Англии отводится подчиненная и дорого ею оплачиваемая роль. Эти планы были с достаточной ясностью освещены в документах и заявлениях объединенной группы начальников штабов США, а также представителями морского, военного и авиационного командования и руководителями министерств. Так, генерал Брэдли, председатель объединенной группы начальников штабов США, возглавлявший работу объединенного штаба держав, подписавших Атлантический пакт, следующим образом высказал свою точку зрения в комиссии по иностранным делам палаты представителей 29 июля 1949 года:
«Их [держав, подписавших Атлантический пакт.— Ред.] стратегия основана на пяти предполагаемых факторах.
Во-первых, на Соединенные Штаты будут возложены стратегические бомбардировки. Высший приоритет в объединенной обороне отводится возможности доставки атомных бомб к цели.
Во-вторых, военно-морской флот США и флот морских держав Западного союза будут проводить важнейшие военно-морские операции, включая охрану морских путей. Державы Западного союза и другие страны будут охранять свои собственные гавани и нести береговую оборону.
В-третьих, руководители объединенного штаба признают, что основное ядро наземных сил будет поставляться странами Европы с помощью других стран по мере осуществления ими мобилизации.
В-четвертых, Англия, Франция и другие близлежащие страны будут нести главную ответственность за ближние действия, бомбардировки и противовоздушную оборону Соединенные Штаты будут иметь тактиче464
скую авиацию для поддержки своих наземных и военно-морских сил и для обороны Соединенных Штатов.
В-пятых, другие страны, в зависимости от их близости или удаленности от возможной арены военных действий, будут уделять главное внимание выполнению соответствующих специальных заданий».
Все это достаточно ясно. Соединенные Штаты осуществляют стратегические бомбардировки атомными бомбами. Англия, Франция и другие западноевропейские страны поставляют «основное ядро наземных сил». Тактическая авиация США предназначается только «для поддержки своих наземных и военно-морских сил и для обороны Соединенных Штатов», то есть не для обороны Европы.
Это та же самая точка зрения, которая нашла свое классическое выражение в заявлении председателя комиссии по ассигнованиям палаты представителей США Кларенса Кэннона, который сказал в апреле 1949 года:
«Соединенные Штаты должны быть готовы снабжать солдат других стран и позволять им приносить своих сыновей в жертву, чтобы нам не пришлось приносить в жертву наших парней. Вот что означает для нас атомная бомба».
Правда, в дальнейшем, при попытках создать так называемую «европейскую армию» под американским командованием, Соединенные Штаты вынуждены были согласиться на переброску и содержание 6 дивизий в Европе как минимальный компонент общего контингента в 50—100 дивизий (с обещанием сенату, что эти дивизии в конечном счете будут отведены). Однако принципом стратегии Соединенных Штатов, официально и публично провозглашенным, остается стремление, насколько это возможно, воевать с помощью солдат других стран. Этот принцип был ясно изложен генералом Эйзенхауэром, генералом Маршаллом, сенатором Тафтом и другими официальными представителями США:
465
«Дешевле сражаться с помощью солдат иностранных государств, даже если мы должны будем вооружить их американским оружием, и в этом случае мы потеряем меньше американских жизней» (из речи Тафта, лидера республиканской партии в сенате, в Вашингтоне 19 мая 1951 года).
«Для того чтобы воевать, нужны люди и оружие. Соединенные Штаты обеспечивают оружие, Европа — людей» (из выступления генерала Эйзенхауэра перед американскими сенаторами в Париже в августе 1951 года).
«Европа должна обеспечить большую часть пехоты. Наша доля в пехоте будет меньшей, а не большей» (из заявления генерала Эйзенхауэра на заседании сенатской комиссии по делам вооруженных сил 2 февраля 1951 года).
«Мы предлагаем доллары, для того чтобы вооружить солдат, но не собственных солдат. Наш вклад состоит из долларов, а не из людей» (из заявления генерала Маршалла в сенатской комиссии по иностранным делам 1 августа 1951 года).
Это старый и хорошо знакомый принцип, которого придерживался английский правящий класс во времена своего мирового господства до 1914 года,— принцип субсидирования, вооружения и оснащения солдат других стран. Сама же Англия выставляла лишь небольшой, чисто символический контингент войск. Этого принципа все еще придерживалось правительство Асквита—Г рея—Холдена при создании Антанты, когда предполагалось, что вклад Англии на поле боя будет ограничиваться экспедиционным корпусом в 6 дивизий регулярной армии. Однако опыт первой мировой войны разбил этот принцип, которого придерживалась Англия, и положил конец ее мировому превосходству. Англия теперь стала одной из «других стран», которую субсидирует, вооружает и бросает в 466
Мясорубку новая господствующая в мире империалистическая держава.
Согласно американской стратегической политике, с которой соглашались в послевоенный период как лейбористское, так и консервативное правительство, от Англии требуется:
1) предоставить авиационную базу американским атомным бомбардировщикам для атомных налетов на Европу и, следовательно, самой стать главным объектом бомбардировок в случае войны;
2) предоставить массовую сухопутную армию для использования ее в Европе.
Непосредственный результат этой политики накладывает непосильное бремя на Англию. Помимо уже существующих обширных военных обязательств в странах империи и расходов на ведущиеся колониальные войны, Англия должна предоставлять и держать наготове континентальную сухопутную армию, то есть превратиться в континентальную сухопутную державу.
Наполеон сказал в свое время, что Англия никогда не сможет стать континентальной сухопутной державой и что, если она сделает такую попытку, это будет означать ее крушение. Это было сказано в дни расцвета и подъема Англии. Теперешние правители Англии хотят предпринять такую попытку в дни упадка капиталистической Англии, в дни ее экономического истощения, обнищания и нехватки людских ресурсов.
Таковы непосредственные решающие факторы военной политики, вызывающие нынешнее критическое положение Англии.
Англия и угроза ядерной войны
В конечном счете американская стратегия ядер- ной войны создает еще более угрожающие перспективы для Англии.
Англии в этой стратегии отведено место основной американской базы атомных бомбардировщи467
ков в Европе — «непотопляемого авианосца». С этой целью Англия оккупирована американскими войсками. .Американские военно-воздушные базы и базы снабжения разбросаны по всем Британским островам.
Эти американские базы в Англии не предназначены для обороны или для защиты Англии. Это базы бомбардировщиков, то есть базы для наступления. Они рассчитаны на то, чтобы использовать Англию в качестве плацдарма, необходимого для применения атомных или водородных бомб или других видов оружия массового уничтожения против стран социализма и народной демократии. Однако Соединенные Штаты не являются монополистами ядерного оружия. Если западные державы будут по-прежнему отвергать советские предложения о запрещении и уничтожении всех видов ядерного оружия и если Соединенные Штаты в соответствии со своей официально провозглашенной стратегией первыми применят ядерное оружие, опираясь на Англию как на основную базу, то совершенно очевидно, последуют ответные меры, направленные на то, чтобы уничтожить эту базу, и Англия неизбежно явится основной мишенью в такого рода войне. Американские базы в Англии не только не являются защитой для Англии, но, наоборот, ставят ее в смертельно опасное положение.
Это обстоятельство, в результате которого наличие в Англии баз атомных бомбардировщиков превращает ее в «передовую линию фронта» в будущей войне, открыто признавалось и неоднократно подчеркивалось Черчиллем.
«Премьер-министр. То, что я называл наиболее страшным шагом, предпринятым прошлым правительством, — это создание в июле 1948 года огромной и все расширяющейся американской военно-воздушной базы в Восточной Англии для применения атомного оружия против Советской России в случае, если Советы станут агрессором...
Я неоднократно указывал в палате об468
Щин на серьезность решения прошлого правительства и публично цитировал высказывания советской печати о том, что наш остров превратился в авианосец. Мы, несомненно, должны признать, что шаг, сделанный тогда нынешним лидером оппозиции, ставит нас в случае третьей мировой войны на передовую линию огня...
Эттли. Мы действительно согласились на размещение американских бомбардировщиков в Англии, рассматривая это как часть атлантической обороны, но мы никогда конкретно не рассматривали Англию как специальную базу для применения атомной бомбы против России.
Премьер-министр. Таково впечатление, которое — каким бы неправильным оно ни было — они [русские.— П. Д.], по-видимому, вынесли» (Отчет о заседании палаты общин, 6 декабря 1951 года).
В своем выступлении по радио 8 августа 1950 года Черчилль также подчеркнул:
«Создав базу американских бомбардировщиков в Восточной Англии, мы поставили себя в случае войны на положение первоочередной цели».
27 июля 1950 года в палате общин он вновь заявил:
«Два года назад правительство согласилось, чтобы американцы создали в Восточной Англии базы бомбардировщиков, с которых они могут применить атомную бомбу против русских городов и важных объектов».
Наконец, 15 февраля 1951 года он сказал в палате общин:
«Мы никогда не должны забывать, что, создав в Восточной Англии американскую атомную базу, мы превратили себя в мишень и, возможно, даже в основную мишень для советского нападения».
469
В том же духе высказался и министр лейбористского правительства Дагдейл, заявивший, что Англия станет Мальтой третьей мировой войны:
«В будущей войне Атлантический океан станет играть такую же роль, какую играло Средиземное море в последней войне, а Англия будет играть роль Мальты» (Дж. Дагдейл, парламентский секретарь морского министерства, речь 9 марта 1949 года).
Для того чтобы успокоить англичан, президент Трумэн дал Эттли обещание — впоследствии такое же обещание было дано в письменной форме и Черчиллю,— что вопрос об использовании американских баз в Англии для военных целей будет предметом «совместного решения» двух правительств, то есть, что английскому • правительству будет оказана честь: до того как американские бомбардировщики вылетят из Англии на выполнение своего задания сеять смерть, с ним «проконсультируются».
«В соответствии с соглашениями, заключенными в целях совместной обороны, Соединенные Штаты будут пользоваться некоторыми базами в Соединенном Королевстве. Мы вновь подтверждаем договоренность о том, что вопрос об использовании этих баз в случае чрезвычайного положения будет предметом совместного решения правительства его величества и правительства США в свете обстоятельств, превалирующих в данный момент» (Коммюнике о совещании Трумэна и Черчилля 9 января 1952 года).
Однако на деле действенность этого обещания может оказаться весьма ограниченной, если будет проводиться нынешняя политика Атлантического военного союза. Рассмотрение основных факторов неизбежно приводит к такому выводу.
Во-первых, опыт деятельности Совета Северо- атлантического союза и англо-американского союза показывает, насколько господствующим яв470
ляется влияние Соединенных Штатов в принятии «совместных решений».
Во-вторых, следует отметить, что обещания о консультациях касаются исключительно вопроса об использовании «этих баз», то есть баз, расположенных в Соединенном Королевстве, а не вопрос о применении ядерного оружия. Это означает, что в любой момент Соединенные Штаты могут развязать мировую ядерную войну с баз, находящихся за пределами Соединенного Королевства, вследствие чего в сложившейся международной обстановке Соединенное Королевство будет втянуто в эту войну в соответствии с его обязательствами по Атлантическому союзу, а вслед за тем автоматически последует и использование баз в Соединенном Королевстве.
В-третьих (если верить толкованиям американской печати), обещание консультации, возможно, в значительной степени окажется формальностью в момент чрезвычайного положения:
«Консультации будут проводиться по телефону в момент вылета американских самолетов с атомными бомбами для совершения нападения на цель» («Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт», 21 декабря 1951 года).
В-четвертых (это наиболее важно), вся стратегия Соединенных Штатов открыто базируется на идее осуществления атомного нападения в начале войны — не в качестве возмездия в случае атомного нападения, а по принципу: применить атомную бомбу первыми. Этим объясняется исключительно враждебное отношение к Стокгольмскому воззванию, подписанному более чем 500 миллионами людей, в котором говорится, что страна, которая первой применит это незаконное оружие — атомную бомбу,— должна быть заклеймена как военный преступник. В первые годы после войны Соединенные Штаты и другие западные державы делали заявления о согласии с принципом запрещения атомной бомбы как преступного и 47|
непозволительного оружия. Они утверждали, что расходятся с советским предложением лишь в деталях о такого рода запрещении и отстаивают альтернативный план Баруха, предусматривающий монополию на все источники атомной энергии и атомного оружия, которая должна находиться в руках органа, независимо от Организации Объединенных Наций и контролируемого Соединенными Штатами. Позже этот предлог был отброшен. Было открыто заявлено, что любое предложение о запрещении атомного оружия представляет собой попытку лишить западные державы их основного оружия. Генерал Эйзенхауэр заявил, что стратегия Соединенных Штатов базируется на использовании атомной бомбы первыми независимо от того, будет ли она применена другой державой.
«Генерал Эйзенхауэр заявил, что его беспокоит усиливающееся, по-видимому, мнение, что Соединенные Штаты никогда не должны применять атомную бомбу первыми. «По моему мнению, вопрос о применении атомной бомбы будет решаться, исходя из следующего: принесет ли мне это выгоду или нет, когда мне придется вести войну? Если я сочту, что чистая выгода будет на моей стороне, я применю бомбу немедленно» (из высказываний генерала Эйзенхауэра на совместном заседании сенатских комиссий по иностранным делам и по делам вооруженных сил 11 марта 1951 года; цитируется по «Дейли телеграф энд Морнинг пост» от 13 марта 1951 года).
Президент Трумэн также заявлял:
«Я решил, что лучшим способом сохранить жизнь тех молодых людей — и японских солдат — было сбросить атомные бомбы [на Хиросиму и Нагасаки.— П. Д.\ и положить конец войне. Я сделал это. И я заявляю вам, что, если бы мне пришлось сделать это снова, я опять сделал бы это» (из речи Трумэна в Покателло 10 мая 1950 года).
472
«Он без колебаний применил бы атомную бомбу, если бы это было необходимо для благосостояния Соединенных Штатов» («Таймс» от 8 апреля 1949 года о выступлении президента Трумэна).
Применение атомной бомбы считают законным не только американские официальные круги. Этой точки зрения в равной степени придерживаются и английские официальные круги (что рассеивает всякие иллюзии относительно того, что обещание о «консультациях» может служить какой-то гарантией для Англии) и даже наиболее «респектабельные» и «христианские» круги. Так, «комиссия архиепископов», занимавшаяся изучением вопроса «Церковь и атом», пришла в 1948 году к следующему заключению:
«Исходя из предположения, что обладание в настоящее время атомным оружием подлинно необходимо для самозащиты, правительство, несущее ответственность за безопасность общества, во главе которого оно стоит, имеет право производить это оружие и держать его наготове. Более того, комиссия полагает, что при некоторых обстоятельствах необходимость обороны может оправдать применение атомного оружия против неразборчивого в средствах агрессора» (из доклада «Церковь и атом», представленного комиссией, образованной по просьбе церковной ассамблеи архиепископом Кентерберийским и архиепископом Йоркским, для рассмотрения доклада Совета церквей Англии, озаглавленного «Эра атомной энергии». Резюме выводов, пункт 6).
В докладе далее говорится:
«Принесет ли какую-либо пользу в установлении мирового порядка, основанного на справедливости, отказ миролюбивых держав от атомного оружия? Трудно думать, что это так» (стр. 106).
Следует отметить, что официальное оправдание .473
священнослужителями применения атомной бомбы не ставится в зависимость от применения ее ранее какой-либо другой державой. Это и есть оправдание применения атомной бомбы первыми как «необходимость обороны» против «неразборчивого в средствах агрессора» (определение, применявшееся в официальных отчетах о всех войнах, в которых принимала участие Англия), Это, конечно, не новость. Во все времена не было такого социального преступления или зла, которое верховные прелаты христианской церкви не поспешили бы оправдать и поддержать в интересах классового господства и эксплуатации человека человеком.
Именно на основе доклада «комиссии архиепископов» Эттли смог заявить американцам, как указывается в «дневниках Форрестола» (см. стр. 523 и 491), что в Англии не существует разногласий относительно атомной бомбы и что за последнее время даже церковь стала придерживаться позитивной точки зрения в отношении ее применения.
Поэтому необходимо, чтобы английское общественное мнение ясно признало, что нынешняя американская стратегия Атлантического союза создает перспективу развязывания атомной войны с американских баз в Англии со всеми вытекающими отсюда последствиями для Англии.
Каковы будут последствия атомной войны для Англии? Никто не сомневался в чрезвычайной уязвимости Британских островов даже до того, как появление водородной бомбы поставило весь вопрос в новой и еще более грозной перспективе:
«Если вспыхнет война и если, как это кажется неизбежным, начнутся многочисленные бомбардировки, включая атомные бомбардировки, мы должны иметь в виду ту возможность, что наши большие города будут превращены в дымящиеся радиоактивные руины, а наши люди — по крайней мере те, которые выживут,— будут низведены до уровня существования, беспрецедентного со времени возникновения ' цивилизации» (из 474
книги д-ра Э. Бэрхопа «Вызов атомной энергии», издание 1951 года, стр. 76).
«После взрыва бомбы, например в Темзе, огромная территория доков и района Сити в результате заражения радиоактивными веществами может оказаться необитаемой в течение многих лет» (Там же, стр. 55).
Такого рода предупреждения высказывались не только учеными, но и военными специалистами.
«Любая выдвинутая вперед база всегда является уязвимым местом. С беспощадной прямотой в меморандумах об американской обороне говорится, что Англия — это буфер Америки в новой войне. Такой буфер в атомной и ракетной войне обречен на гибель» (из книги капитана Лиддел-Гарта «Оборона Запада», издание 1950 года).
В нынешней официальной стратегии США Англия рассматривается как территория, которой «можно пожертвовать».
Эта будущая роль и судьба Англии при осуществлении американских военных планов были с предельной ясностью изложены в меморандуме, составленном морским министерством США и цитированном профессором Блэкеттом в его книге «Военные и политические последствия открытия атомной энергии» (стр. 75—76, издание 1948 года):
«Для Поражения объекта необходимо иметь базу для запуска [атомных снарядов], находящуюся сравнительно близко от объекта, точнее говоря, не дальше чем на расстоянии 500 миль...
В условиях войны, когда у противника имеются атомные бомбы, задача лишения его баз вблизи собственных берегов и по возможности приобретение и содержание сйоих баз поблизости от территории противника имеют такое же огромное значение, как и раньше. Логичность этого заключения вытекает из характеристик существующих сейчас или возможных в ближайшем будущем 475
средств доставки атомных бомб... Далеко выдвинутые вперед и удачно расположенные ■ базы дают также огромное преимущество в обороне, обеспечивая дополнительные средства защиты от бомбардировщиков дальнего действия. Эти базы дают возможность более раннего перехвата самолетов, что намного увеличивает препятствия, которые приходится преодолевать атакующим бомбардировщикам при проникновении в жизненно важные районы страны. Эти базы сами могут быть уязвимы для бомбардировок атомными бомбами, но, пока они находятся на своем месте, их вряд ли можно обойти. В этом отношении такую выдвинутую вперед базу можно уподобить пешкам на шахматной доске, стоящим впереди короля. Как бы ни были слабы эти пешки каждая в отдельности, но, пока они существуют, король, стоящий за ними, находится в безопасности».
«Король» — это Уолл-стрит. Англия—это «пешка». Таков блестящий итог империалистической военной стратегии.
После 1952 года появление водородной бомбы внесло во всю эту стратегию новый, более серьезный элемент. Водородная бомба .открыла перспективу всеобщего уничтожения в огромных масштабах. Многие видные ученые даже высказывались в том смысле, что последствия ее применения могли бы привести к уничтожению всякой жизни на земле.
В течение непродолжительного времени стратеги Запада пытались пропагандировать теорию о том, что водородная бомба является «великим сдерживающим фактором»; они исходили из иллюзорного представления о монополии Запада на это новое оружие. Факты скоро развеяли эту иллюзию; в феврале 1955 года советский министр иностранных дел предупредил, что «в отношении водородного оружия отстающими являются Соединенные Штаты, а не Советский Союз». После этого на короткое время западные стратеги пытались утешать 476
себя рассуждениями, что у них по крайней мере осталось неоспоримое превосходство в производстве межконтинентальных бомбардировщиков дальнего действия, способных доставить бомбу к цели. Данная иллюзия была развеяна на советском авиационном празднике в июле 1955 года, после которого американский генерал Филлипс меланхолически признал, что «Советам удалось наладить производство новейших самолетов любого типа на два- три года раньше, чем на Западе», и «по каждому типу быстрее и в больших количествах, чем в Соединенных Штатах».
Тем не менее, несмотря на неоспоримый факт отсутствия монополии на ядерное оружие и несмотря на то, что развязывание атомной и водородной войны неизбежно вызвало бы ответные удары, Совет НАТО в декабре 1954 года принял весьма опасное решение, официально приняв ядерную стратегию на случай крупной войны в будущем. Это решение было одобрено в английских Белых книгах по вопросам обороны в 1955 и 1956 году. Заявление по вопросам обороны 1956 года даже предусматривало применение ядерного оружия в «ограниченных войнах» и «локализированных конфликтах». Белая книга 1957 года по вопросам обороны предусматривала полную реорганизацию вооруженных сил для ведения ядерной войны.
Успехи борьбы за мир
Все увеличивавшаяся напряженность международного положения и очевидная угроза мировой ядерной войны вызывали самое активное противодействие народов всех стран, стремившихся отвратить эту угрозу и направить развитие с пути политики перевооружения и «холодной войны» на путь политики мирного сосуществования.
Уже в отношении войны в Корее давление со стороны международного общественного мнения сыграло важную роль в срыве планов расширения войны и применения атомного оружия; в конечном 477
итоге ему удалось после военного поражения вторгшихся в Корею империалистических армий добиться к 1953 году прекращения огня.
За этой победой дела мира в 1954 году последовала новая победа — прекращение огня во Вьетнаме. План объединенной империалистической интервенции в начале 1954 года был сорван как сопротивлением народов Западной Европы (включая и официальный отказ Англии участвовать в осуществлении американских планов), так и силой и героизмом борьбы вьетнамского народа, завершившейся победой в Дьен Бьен Фу. Роль Индии и конференция стран Коломбо также способствовали достижению мира. На Женевской конференции летом 1954 года, несмотря на отказ Соединенных Штатов принять участие, было достигнуто соглашение о прекращении огня во Вьетнаме. Это явилось второй крупной победой дела мира.
В этом изменении международного положения значительную роль сыграли Индия, руководимая премьер-министром Неру, и сотрудничество Индии и Китайской Народной Республики в обеспечении мира. Визит премьер-министра Китая Чжоу Энь-лая в Индию осенью 1954 года и последующие визиты премьер-министра Неру в Китай и в Советский Союз в 1955 году привели к принятию «пяти принципов мира», согласованных Китаем и Индией и поддержанных в индийско-советской декларации.
Весной 1955 года в Бандунге собралась конференция стран Азии и Африки, на которой были представлены страны с населением, составляющим большинство человечества. Несмотря на все попытки внести раскол, конференция закончилась единодушным одобрением политики мирного сосуществования, осуждением колониализма, военных планов империалистов и сепаратных военных союзов и требование мирного разрешения всех спорных вопросов.
Всемирное движение сторонников мира, начавшееся с конгресса во Вроцлаве в 1949 году и ширившееся от одного до другого последовавших затем всемирных конгрессов в Париже (1949 год), 478
Варшаве (1950 год), Пекине (1952 год) и Хельсинки (1955 год), способствовало вовлечению сотен миллионов людей во всех странах мира независимо от вероисповедания, цвета кожи, расы или политических воззрений в общее дело борьбы за мир. Сила этой поддержки была продемонстрирована 482 миллионами подписей под Стокгольмским воззванием 1950 года против использования атомного оружия, 612 миллионами подписей, собранных в 1951 —1952 годах под требованием о заключении Пакта мира пяти держав и 650 миллионами подписей, собранных в 1955 году под Обращением против атомной войны.
Появление водородной бомбы и решение Совета НАТО в конце 1954 года о применении в будущей войне ядерного оружия потрясли общественное мнение во всем мире и дали новый стимул борьбе за мир, вовлекая в это движение еще более широкие круги, которые до этого не определили своего отношения. Требование о созыве совещания глав государств, которое все время выдвигалось движением сторонников мира и которое в мае 1953 года было повторено Уинстоном Черчиллем, получило такую всестороннюю поддержку народных масс, что длительное сопротивление западных стратегов и политических деятелей было преодолено. Банкротство «политики силы» (к началу 1955 года стало очевидным, что у Запада нет ни монополии на ядерное оружие, ни превосходства в нем) и давление со стороны общественного мнения принудили лидеров Запада отказаться от своего сопротивления этому требованию. Какую роль играет общественное мнение видно из того, что премьер-министр Англии Антони Иден в ходе избирательной кампании в мае 1955 года отказался от собственного заявления, сделанного за несколько недель до этого, и поставил во главу угла задачу немедленного созыва встречи глав правительств, а Соединенные Штаты, которые до этого самым энергичным образом возражали против такой возможности, теперь согласились с совещанием.
479
Женевское Совещание в июле 1955 года президента Эйзенхауэра и премьер-министров СССР, Англии и Франции ознаменовало собой важный поворотный пункт в международном положении. Это была первая встреча глав правительств четырех держав после Потсдамской конференции, состоявшейся за десять лет до этого. Женевское совещание достигло положительных результатов — если не в смысле решения конкретных вопросов, то в установлении контактов, в примирительном характере произнесенных всеми участниками речей, во всеобщем признании в принципе цели мирного сосуществования и в вытекавшей из всего этого разрядке международной напряженности и подготовке почвы для серьезной попытки достигнуть мирного решения различных -спорных международных вопросов.
Таким образом, Женевское совещание открыло пути к новым возможностям в укреплении мира. Однако именно этот успех вызвал новое наступление наиболее агрессивных элементов империализма, желавших изменить эту тенденцию в международных отношениях, повернуть ее вспять. Острота военной опасности не изменилась; агрессивная Суэцкая война 1956 года это доказала. Тем не менее Женевское совещание «в верхах» 1955 года открыло благоприятные возможности — при условии сохранения и усиления давления со стороны народов в защиту мира — для замены губительной политики «холодной войны», перевооружения и подготовки ядерной войны альтернативной политикой мирного сосуществования, сокращения вооружений, запрещения ядерного оружия и международного сотрудничества. Дальнейшее развитие по этому пути будет зависеть от силы и активности сторонников мира и народов всех стран в преодолении сопротивления тех мощных сил, которые все еще цепляются за политику империалистических колониальных войн, местных, военных союзов, «холодной войны» и стратегии ядерной войны.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И ИМПЕРИЯ
Грабя людей, невозможно удержать награбленное проповедями о братстве и молитвами о мире.
Роберт Блачфорд, 1908.
Анализ нынешнего кризиса Британии и Британской империи непосредственно приводит к важной проблеме. Эта проблема является основной при нынешнем политическом положении Англии.
При любом объективном анализе неизбежен вывод, что империалистическая политика, которая превозносилась полстолетия назад как путь к процветанию и победоносное противопоставление социализму, привела Англию в болото, к отчаянному экономическому положению и ухудшению условий, к Понижению жизненного уровня и подчинению американскому господству, к дорогостоящим и позорным колониальным войнам и к перспективе катастрофической атомной войны.
Если мы проанализируем внешнюю сторону английской политики в том виде, как она излагается в официальных программах двух господствующих крупных партий, мы все же убедимся в том, что нет и следа каких бы то ни было попыток изменить политику, приведшую к этим пагубным последствиям.
Как могло случиться, что эта пагубная и опасная политика, проводимая нынешним английским Империализмом, до нынешнего дня сравнительно покорно принималась большинством английского народа, если считать, что желание народа находит свое выражение в политике основных партий?
16 Р» Палм Датт 481
Почему, как часто спрашивают со справедливым негодованием представители колониальных народов, английский народ, гуманный и прогрессивный в своих взглядах по всем касающимся его вопросам, позволяет, чтобы от его имени совершались такие позорные действия,7как демонстрация отрубленных голов во время войны в Малайе, назначение цены в 30 тысяч фунтов стерлингов за голову патриота, как коллективное наказание населения прозябающих в нищете деревень, отравление полей со зреющим на них урожаем, заключение в лагеря за колючей проволокой сотен тысяч людей и все другие многочисленные акты зверства и варварства в колониальных странах?
Почему результатом полустолетней деятельности лейбористской партии, которая была основана пионерами социалистического движения в надежде на создание орудия, при помощи которого можно будет положить конец капитализму и создать социализм, до сих пор является крушение надежд этих пионеров, принятие на деле политики правящего класса и отсрочка на неопределенный период или даже отказ господствующей верхушки партии от целей социализма?
Почему рабочий класс в странах, где развитие капитализма происходило в более поздний период и где поэтому само рабочее движение возникло позднее, был в состоянии обогнать рабочий класс страны, которая являлась колыбелью рабочего движения, полностью ликвидировать господство крупных капиталистов и помещиков и овладеть богатством страны, в то время как финансовый капитал и крупные землевладельцы продолжают занимать прочное положение в Англии?
Именно эти вопросы стоят в центре политической жизни Англии и современного развития английского рабочего движения. Они непосредственно ведут к центральной проблеме английского рабочего движения и английской политики — проблеме лейбористского империализма.
482
Антиимпериалистическая традиция
Традиции подлинного социализма и рабочего движения всегда были антиимпериалистическими.
Чартисты изложили свои взгляды на колониальный вопрос в декларации общества «Братские демократы» в 1846 году:
«Нет ни одной пяди земли как в Англии, так и в колониях, которую ты, рабочий класс, мог бы назвать своей... Они, твои хозяева, возьмут землю, они займут все высокие посты, гражданские и военные, в новых колониях, а на твою долю останется пролитие крови в сражениях и расплата за завоевания и сохранение завоеванного. Те, кто фактически населяет и обрабатывает землю, являются законными хозяевами этой земли, и они должны иметь полную свободу избирать свою собственную форму правления и свои собственные институты» («Северная звезда», 7 марта 1846 года).
Бронтер О’Брайен писал в 1838 году в связи с декларацией о поддержке ирландского народа, подписанной представителями 136 чартистских и рабочих организаций в Англии, Шотландии и Уэльсе:
«Ирландия не имеет никаких средств, для того чтобы выпутаться без помощи англичан из ужасного состояния нищеты и кабалы, в которой держат ее угнетатели. Это положение почти в равной степени может быть отнесено к обнищавшему населению Англии и Шотландии... Поскольку производительные классы двух островов испытывают одинаковые нужды и имеют одних и тех же врагов, почему бы им не искать одинаковые средства для исправления этого положения и не бороться совместно против общего угнетателя!» (из статьи. Бронтера О’Брайена об «Обращении радикальных реформаторов Англии, Шотландии и Уэльса к ирландскому народу», 16* 483
напечатанной 4 ноября 1838 года в газете «Оператив»),
В 1846 году Джордж Джулиан Гарни провозгласил принципы интернационализма рабочего класса:
<<Я призываю угнетенные классы всех стран... объединиться... для достижения победы в общем деле... Дело народов всех стран одинаково — дело рабочих, порабощенных и ограбленных рабочих... В каждой стране тирания немногих и порабощение многих достигли различной степени развития, однако принцип во всех странах один и тот же... Люди, которые производят все предметы не- : обходимости, удобства и роскоши, низведены до прозябания. Рабочие всех стран, не являются ли ваши жалобы, ваши обиды одинаковыми? Поэтому не является ли и ваше правое дело одинаковым? У нас могут быть различия в средствах или в обстоятельствах, которые могут потребовать и различных методов, но великая конечная цель — истинная эмансипация человечества — должна быть одной и той же для всех...» (Дж. Дж. Га р- н и, Речь на собрании Германского демократического общества просвещения рабочих масс, опубликованная в «Северной звезде» 14 февраля 1846 года).
Поэма Эрнеста Джонса «Восстание Индостана», написанная в 1848—1850 годах и вновь опубликованная в 1857 году, остается классическим произведением с точки зрения демократических антиимпериалистических традиций и содержит много предсказаний !.
1 В этом произведении содержится весьма удивительное предсказание о будущей милитаристской и экспансионистской роли капиталистической демократии в Соединенных Штатах, основанной на порабощении негров:
Сумев свои границы закрепить, Захочешь ты и Запад покорить. Вокруг Японии пойдут твои суда, В Китае армии твои настигнет смерть тогда,
484
Об индийском восстании 1857 года Эрнест Джонс писал:
«Относительно восстания в Индостане повсюду в Европе должно быть только одно мнение: это было одно из самых справедливых, самых благородных и необходимых восстаний, которые когда-либо пытались совершить в мировой истории» («Народная газета», 5 сентября 1857 года).
О колониальной системе Британской империи он писал:
«В ее колониях никогда не заходит солнце, но и никогда не высыхает кровь» (журнал «Заметки для народа», май 1851 года). Эрнест Джонс, которому посчастливилось поддерживать личный контакт с Марксом и Энгельсом, сумел понять политическое значение союза между народами правящих и покоренных стран и твердо верил, что раскол между ними является предпосылкой к их общему угнетению. В своем обращении «К населению Ирландии» в 1856 году он писал:
«Такое разделение существовало между ирландской и английской нациями, и этим разделением объясняются страдания Ирландии и то, что английский народ пребывает в политическом и социальном рабстве. Ирландских солдат держали в Англии для того, чтобы запугать англичан; саксонских солдат посылали в Ирландию для того, чтобы запугать кельтов, — ив результате возникала взаимная неприязнь и ненависть. Более того! Наши общие угнетатели сделали совершаемые ими беззакония главным, орудием своего господства. Люди Ирландии! Наши правители, угнетающие нас, угнетают и вас, и вы ненавидите нас за это, в то время как вы должны сочувствовать нам и ненавидеть их!»
В ярких словах, которые сохраняют свое значение и по сегодняшний день для характеристики отношений трудящихся Англии и Малайи, Англии и 485
Африки, Эрнест Джонс так описал общего угнетателя и призвал народы к общей борьбе:
«В самом деле, Ирландия переносила тяжелые страдания от руки Англии, но кто причинял ей эти страдания? Причинял ли эти страдания английский народ? Никогда! Те, кто убивал вас у Радкормака, убивали нас в Питерлоу Г Те, кто заключал вас в Нью- гейтскую тюрьму в Дублине, *заключали нас в лондонскую тюрьму. Те, кто вводил чрезвычайное положение у вас, ввели шесть законов 1 2 у нас. Те, кто отнял у вас вашу землю, грабили и нас. Те, кто сгонял с земли крестьян в Ирландии, создали пауперизм и в Великобритании...» («Народная газета», 8 марта 1856 года).
Традиции интернационализма рабочего класса и антиимпериализма усиливались в результате участия английского рабочего класса в Первом Интернационале, или Международном товариществе рабочих, а также в результате поддержки им ирландского национально-освободительного движения.
Возрождение социализма в Англии в 80-х годах сопровождалось новым усилением антиимпериалистической борьбы. Пионеры современного социализма в Англии начали свою деятельность в период, когда существовавшая в прошлом мировая промышленная монополия начала слабеть и когда жестокие агрессивные и экспансионистские тенденции так называемого «нового империализма», который больше всего ассоциируется с именами Джозефа Чемберлена и Сесила Родса, но начало которой уже положили Дизраэли и второе правительство Гладстона, господствовали на политической арене.
1 Речь идет о нападении вооруженных солдат на массовый митинг в Манчестере 16 августа 1819 года. — Прим, ред.
2 Имеется в виду ряд законов, запрещающих «бунтарские» митинги и издания. Эти законы были введены в 1819 году. — Прим. ред.
486
Унаследовав старые радикальные традиции и руководствуясь учением Маркса и Энгельса, участники раннего социалистического движения 80-х годов были решительно настроены против империализма. «Манифест о Судане», опубликованный Социалистической лигой в марте 1885 года и подписанный Уильямом Моррисом, Элеонорой Маркс- Эвелинг, Баксом и другими, можно рассматривать как первую историческую декларацию английского социализма против империализма и порождаемых им колониальных войн. Манифест начинался словами:
«Жестокая и несправедливая война ведется сейчас правящими и имущими классами нашей страны с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств цивилизации против плохо вооруженных и полудиких народов, чьим единственным преступлением является то, что они восстали против иностранного господства, которое, как признают сами эти классы, было позорным. Десятки миллионов фунтов стерлингов, выкачиваемых из труда рабочих нашей страны, расходуются на избиение арабов — и ради чего?
1) Ради того, чтобы Восточная Африка была «открыта» для поставщиков скверных товаров, спиртных напитков, венерических болезней, дешевых библий и миссионеров, короче говоря, чтобы английский торговец и делец могли установить свое господство на руинах старой простой и счастливой жизни, которую вели дети пустыни;
2) ради того, чтобы можно было создать в системе оккупации новые правительственные посты без дела, но с солидными окладами для младших сыновей представителей правящего класса;
3) ради того — к сказанному можно добавить еще и это небольшое соображение,— чтобы были найдены новые и богатые терри487
тории для любителей военного спорта, которые, подобно покойному жалкому полковнику Барнби, считают жизнь у себя на родине слишком скучной и всегда, когда представляется возможность, готовы немножко пострелять в арабов. Все эти цели толкают господствующие классы, хотя и в - различной степени, на путь, по которому они следуют». В заключение в манифесте говорится:
«Мы просим вас подумать о том, кому приходится воевать в этом и подобных случаях. Приходится ли воевать тем классам, которые охотятся за рынками? Они ли образуют рядовой состав армии? Нет. Воевать приходится сыновьям и братьям трудящихся Англии. Именно они за жалкие гроши вынуждены участвовать в этих торговых войнах. Именно они завоевывают для имущих классов новые земли для эксплуатации, новые народы для ограбления, как того требуют от них эти классы. Именно сыновья и братья английских трудящихся получают в качестве награды похвалу своих господ, что они храбро сражаются за свою королеву и страну».
Антиимпериалистического мировоззрения придерживались не только социалисты-марксисты, которые явились родоначальниками современного социалистического движения в Англии. Эти взгляды были свойственны всем секциям рабочего социалистического движения (фабианцы, представлявшие взгляды либеральной мелкой буржуазии, оставались в стороне, а позже стали проводниками империалистического влияния). Антиимпериалистические взгляды высказывались вначале также и социалистическими группами, образовавшимися под влиянием марксизма, хотя позднее они стали руководствоваться эмоциональными чувствами и расплывчатыми принципами.
Кэйр Гарди боролся с коррупцией фабианского империализма во времена южноафриканской войны. Он писал:
488
«Переходный период от меркантилизма к социализму должен быть крайне тяжелым... Существование широко раскинувшейся империи удлиняет период, необходимый для изменения строя, и, таким образом, затягивает период нищеты и страданий. Отсюда следует, что уничтожение империи ускорило бы наступление социализма. Чем обширнее империя, тем больше военные расходы и тем тяжелее участь рабочих. Современный империализм является, по существу, с точки зрения социалистов, просто капитализмом в его наиболее хищнической и воинственной фазе» (цитируется по книге Уильяма Стюарта, Жизнь Кэйра Гарди).
В 1907 году старый Социалистический Интернационал на своем конгрессе в Штутгарте после жарких споров с ревизионистами, которые стояли за компромисс с империализмом во имя так называемой «социалистической колониальной политики», принял следующую резолюцию по колониальному вопросу:
«Конгресс заявляет, что капиталистическая колониальная политика по самой своей сущности ведет к порабощению, принудительному труду или к истреблению туземного населения колониальных территорий. Цивилизаторская миссия, на которую претендует капиталистическое общество, служит лишь прикрытием эксплуататорских и завоевательных вожделений. Только социалистическое общество впервые даст всем народам возможность достигнуть полного культурного развития».
Тесная связь боевого рабочего класса и социалистического движения с антиимпериализмом продолжала проявляться во всех случаях усиления боевых настроений в период после 1914 года — период открытого господства лейбористского империализма над официальным руководством и политикой.
489
В 1925 году на конгрессе Британских тред-юнионов в Скарборо большинством в 3082 тысячи голосов против 79 тысяч была принята следующая резолюция:
«Конгресс тред-юнионов считает, что господство английского правительства над неанглийскими народами является формой капиталистической эксплуатации, имеющей целью обеспечить английских капиталистов: 1) источниками дешевого сырья; 2) правом эксплуатировать дешевый труд неорганизованных рабочих и использовать конкуренцию со стороны этих рабочих для снижения жизненного уровня рабочих Великобритании.
Конгресс заявляет о своей решительной оппозиции к империализму и постановляет: 1) оказывать поддержку рабочим во всех частях Британской империи при организации ими профсоюзов и политических партий с целью защиты своих интересов; 2) поддерживать право всех народов Британской империи на самоопределение, включая право на полное отделение от империи».
Эти декларации воплощают в себе руководящие антиимпериалистические традиции рабочего движения и социализма. Лейбористский империализм — это лишь проявление коррупции верхушки в данный период, которая задерживает движение вперед и победу социализма.
Лейбористский империализм
В 1900 году вышла в свет книга под названием «Фабианство и империя» — первый манифест того движения, которое стало потом известно под именем фабианского империализма. Его тезис был изложен в следующей декларации:
«Проблема, стоящая перед нами, сводится к тому, каким образом мир может управляться великими мировыми державами, 490
достигшими такой степени промышленного и политического развития, которое намного превосходит примитивные понятия о политической экономии основателей Соединенных Штатов и Лиги борьбы против хлебных законов. Раздел большей части земного шара между такими державами — как реальная действительность, с которой мы должны считаться независимо от того, одобряем ли мы ее или сожалеем о ней,— является сейчас лишь вопросом времени. И станет ли Англия центром и ядром одной из таких держав будущего или она окажется покинутой своими колониями, изгнанной из своих владений и возвращенной к своему старому островному статусу,— все это будет зависеть от ее способности управлять империей в целом».
Из этого анализа прямо делался вывод в интересах западного империализма, представленного под видом «всемирной цивилизации».
«Государству, которое мешает всемирной цивилизации, придется сойти со сцены независимо от того, большое оно или маленькое. Но все западные державы должны защищать то государство, которое ускоряет этот процесс. Таким образом, колоссальный Китай и маленькое Монако могут разделить одну и ту же участь, а маленькая Швейцария и огромные Соединенные Штаты — добиться одинаковой удачи».
Исходя из этого тезиса, лидеры фабианства поддерживали миссию Чемберлена, Милнера и английских крупных капиталистов в грабительской войне в Южной Африке, которая якобы преследовала прогрессивную цель: включение отсталого небольшого района в более развитое и крупное сообщество.
«Большинство общества признавало, что Британская империя должна выиграть войну» (Е. Р. Пиз, История Фабианского общества, пересмотренное и дополненное издание, 1925, стр. 128).
491
В то время это открытое одобрение империализма организацией, именовавшей себя «социалистической» — хотя она и представляла собой крошечную группу представителей среднего класса, насчитывавшую 800 членов и не имевшую базы в рабочем классе,— вызвало взрыв негодования во всем рабочем и социалистическом движении. Рамсей Макдональд (позднее отличившийся жестокостью репрессивных мер, предпринятых его правительством в Индии, Бирме и Ираке), Г. Н. Барнс (ставший в дальнейшем членом военного кабинета Ллойд Джорджа), г-жа Панкхерст (в дальнейшем основавшая ультрашовинистический Патриотический союз женщин) и другие в знак протеста вышли из Фабианского общества. А между тем в данном случае, как и в основной своей деятельности, фабианцы фактически лишь с бесстыдной ясностью черным по белому выражали взгляды и политику особой, сравнительно привилегированной социальной прослойки (чиновники, лица свободных профессий и служащие, а также верхушка лейбористской бюрократии), тесно связанной с правящим капиталистическим классом, в новых условиях развития на пути к государственно-монополистическому капитализму и империализму. Для этой связи симптоматичен тот факт, что основатель фабианства Сидней Вэбб был сначала чиновником министерства колоний L
Уже в XIX веке Маркс и Энгельс показали, что ключом к пониманию специфического характера британского рабочего движения является мировая и колониальная монополия английского капитализма (см. главу четвертую, раздел «Результат для английского рабочего движения»). Они показали, как «привилегированное меньшинство» английского рабочего класса и его лидеры были подкуплены уделяемой им частицей добычи, получаемой благодаря мировой монополии Англии, и что это состав-
1 Позднее Сидней Вэбб пересмотрел свои взгляды в свете накопленного опыта.
492
ляет экономическую основу «либерально-лейбористской» политики союза с капитализмом и оппозиции социализму, — политики партии, которую Энгельс назвал «буржуазной рабочей партией» L Социалисты раннего периода, такие, как Том Манн и Кэйр Гарди, вели неустанную борьбу против принятия капиталистической политики и союза с капитализмом и подвергались такой же клевете и встретили оппозицию со стороны старого «либерально-лейбористского» руководства, какой теперь в аналогичной борьбе подвергаются со стороны лидеров лейбористского империализма коммунисты.
«Ни Маркс, ни Энгельс не дожили до империалистской эпохи всемирного капитализма, которая начинается не раньше как в 1898—1900 годах. Но особенностью Англии
. 1 Одна из первых попыток непосредственно связать профсоюзное движение с эксплуатацией колоний описана в протоколах Конгресса тред-юнионов в 1879 году. Президиум Конгресса предложил некоему м-ру Джеймсу Брадшоу, купцу из Манчестера (по записи в протоколе) начать дискуссию на тему «Африка — средство избавления Англии от экономического застоя». Он утверждал, что его поддерживают герцог Манчестерский, лорд Шафтсбери и группа лондонских капиталистов, которые могут вложить в это предприятие миллион фунтов стерлингов. Он заявил, что профсоюзы должны принять участие в африканской торговой корпорации. Он объяснил, что «захват Африки наилучшим образом позволил бы свести старые счеты с Америкой за ее протекционистские тарифы». Некоторые делегаты приветствовали его криками одобрения, когда он обрисовал громадные экономические возможности африканского континента. Он заявил, что «многовековое экономическое развитие не может удовлетворить все нужды трехсотпятидесятимиллионного населения Африки. Вопрос заключается в том, как наилучшим образом использовать Африку на пользу английской промышленности». Против него резко выступил Г. Кромптон (юрист из Ливерпуля и позитивист). Дж. Д. Прайер (из профсоюза плотников и столяров и преемник Эпплгарта), поддержанный Бэртвиселом из Аккрингтона (по записи в протоколе «представитель фабричных рабочих»), заявил, что «в Африке имеются большие возможности для деятельности английских предпринимателей». Шиптон (Лондонский совет профсоюзов и профсоюз моряков) выступил против, заявив: «Как можно осуществить этот проект, не прибегая к мечу?» В конце концов была принята довольно расплывчатая резолюция.
493
было уже с половины XIX века то, что по крайней мере две крупнейшие отличительные черты империализма в ней находились налицо: (1) необъятные колонии и (2) монопольная прибыль (вследствие монопольного положения на всемирном рынке). В обоих отношениях Англия была тогда исключением среди капиталистических стран, и Энгельс с Марксом, анализируя это исключение, совершенно ясно и определенно указывали . связь его с победой (временной) оппортунизма в английском рабочем движении» L Ленин продолжил этот анализ в XX веке и уделил большое внимание специфическим особенностям рабочего движения в Англии. Он показал, как в эпоху империализма старый лейбористский реформизм переродился в лейбористский империализм — в открытый союз реформистов с империалистами. Ленин писал:
«С одной стороны, тенденция буржуазии и оппортунистов превратить горстку богатейших, привилегированных наций в «вечных» паразитов на теле остального человечества, «почить на лаврах» эксплуатации негров, индийцев и пр., держа их в подчинении при помощи снабженного великолепной истребительной техникой новейшего милитаризма. С другой стороны, тенденция масс, угнетаемых сильнее прежнего и несущих все муки империалистских войн, скинуть с себя это иго, ниспровергнуть буржуазию. В борьбе между этими двумя тенденциями неизбежно будет развертываться теперь история рабочего движения. Ибо первая тенденция не случайна, а экономически «обоснована». Буржуазия уже родила, вскормила, обеспечила себе «буржуазные рабочие партии» социал-шовинистов во всех странах... Важно то, что экономически откол слоя рабочей
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 100—101. 494
аристократии к буржуазии назрел и завершился; а политическую форму себе, ту или иную, этот экономический факт, эта передвижка в отношениях между классами найдет без особого «труда».
На указанной экономической основе политические учреждения новейшего капитализма — пресса, парламент, союзы, съезды и пр.— создали соответствующие экономическим привилегиям и подачкам для почтительных, смирненьких, реформистских и патриотических служащих и рабочих политические привилегии и подачки. Доходные и спокойные местечки в министерстве или в военно-промышленном комитете, в парламенте и в разных комиссиях, в редакциях «солидных» легальных газет или в правлениях не менее солидных и «буржуазно-послушных» рабочих союзов — вот чем привлекает и награждает империалистская буржуазия представителей и сторонников «буржуазных рабочих партий» L
Это было написано перед созданием новой «сверхаристократии» лейбористского движения, входящей наравне с консерваторами и крупными монополистами в управления «национализированных» отраслей промышленности, комитеты по развитию колоний и т. п. и получающей такие же оклады и вознаграждение, какие получают директора крупнейших монополий, и, таким образом, доводящей процесс, описанный Лениным, хдо масштабов, неслыханных в его время.
Таким образом, экономические основы лейбористского империализма коренятся во временном привилегированном положении, в каком находятся часть рабочего класса и его руководство, которым достается частица сверхприбылей, полученных от эксплуатации огромных масс рабочих в мировом масштабе и особенно разоренных и нещадно экс-
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 105—106. 495
плуатируемых народов колониальных и полуколониальных стран. Это обеспечивает экономическую основу союза указанной части рабочего класса с правящим капиталистическим классом, для того чтобы держать в подчинении доведенное до нищеты непривилегированное большинство.
Наиболее ярким отражением этих отношений можно считать резкую разницу между условиями, в каких находятся белые и колониальные рабочие в колониальной стране. Так, например, на медных рудниках Северной Родезии в 1953 году насчитывалось 36 147 негров и 5879 белых горняков и служащих. Общая заработная плата первых составляла (включая пайки и вознаграждения) 4 842 633 фунта стерлингов, заработная плата вторых (включая вознаграждения) — 9 965 780 фунтов стерлингов. Заработная плата негритянского горняка составляла, таким образом, в среднем 134 фунта стерлингов в год, в то время как средняя заработная плата белого рабочего составляла 1678 фунтов стерлингов, или в двенадцать раз больше, чем заработная плата негритянского рабочего. Белые рабочие добились и старались продлить соглашение с горнорудными компаниями, по которому первоначально неграм фактически было запрещено выполнять квалифицированную и значительную часть полуквалифицированной работы. Когда же это соглашение пришлось очень незначительно изменить, то они продолжали чинить неграм серьезные препятствия в улучшении их положения.
Здесь раскол рабочего класса носит совершенно открытый и явный характер. Замкнутые организации привилегированной белой рабочей аристократии упорно стремятся сохранить свои позиции и не допустить, чтобы они были уничтожены или подорваны дешевым трудом колониальных рабочих. Таким образом, белая рабочая аристократия поддерживает политику, находящую выражение в «цветном барьере» или в таких лозунгах, как, например, «Белая Австралия». В результате возмущение угнетенных колониальных рабочих направ496
лено против привилегированных белых рабочих как покровительствуемых союзников их угнетателей. Монополисты могут использовать этот раскол для сохранения своей власти и эксплуатации всех рабочих.
Политическое отражение того факта, что в основе лейбористской организации лежит расовая дискриминация, можно проследить в крайней форме его проявления в истории лейбористской партии Южно-Африканского Союза, которая в 1911 году помогла принять закон о горнорабочих, рассчитанный на то, чтобы ограничить возможности для «цветных» выполнять квалифицированную ^работу, а в 1924 году объединилась с реакционной расистской националистической партией для создания коалиционного правительства во главе с генералом Герцогом и помогла провести закон о «цветном барьере».
В империалистической метрополии контраст между сравнительно привилегированным положением рабочих — и в особенности верхушки лучше оплачиваемых квалифицированных рабочих — и нищетой колониальных масс менее очевиден и менее заметен в повседневной жизни. Большинство рабочих в империалистической стране бессознательно участвует (подавляющее большинство в весьма незначительной степени) в эксплуатации народов колоний. «Лакомые кусочки» идут верхушке лейбористской бюрократии, которая получает самые непосредственные материальные выгоды («доходные и спокойные местечки», связанные с функционированием государственно-монополистического капитализма, щедрая плата со стороны прессы миллионеров и множество подачек, не считая прямого подкупа) и достигает такого положения, которое в социальном отношении тесно связывает ее с буржуазией. Именно у этой прослойки союз с классом капиталистов находит полное сознательное и открытое теоретическое выражение в форме лейбористского империализма, или правой социал-демократии.
497
Вся литература реформизма — так называемой «английской школы социализма», или «эволюционного социализма», или «демократического социализма», — без исключения основывается на постоянном признании империи. Огромные доходы в виде дани от заморских территорий принимаются как нечто само собой разумеющееся. Проблемой считается «распределение». Точно так же, как Чер-^ чилль, будучи министром финансов, открыто заявлял, что социальное обеспечение основано на дохо-' де от заморских капиталовложений, так и реформизм приемлет ту же постоянную основу для социального обеспечения и провозглашает такое положение «государством всеобщего благосостояния».
Когда же неустойчивость и непостоянство этой основы проявляются в дефиците платежного ба-1 ланса Англии, реформисты впадают в панику от своего бессилия и банкротства, отчаянно цепляются за чрезвычайные меры, обычные для капитализма, переживающего кризис, и предпринимаемые за счет рабочих, и лихорадочно пытаются воссоздать эту основу имперской дани. Такова в двух словах вся история третьего лейбористского правительства — эта демонстрация банкротства лейбористского империализма.
В настоящее время, в эпоху углубляющегося кризиса империалистической системы, деятельность лейбористского империализма и правой социал-демократии приобретает особое значение.
Планы империалистической политики и стратегии в нынешней обстановке так непосредственно противоречат интересам английского народа, накладывают на него такое тяжкое бремя и чреваты такими угрожающими и разрушительными перспективами, что задача завоевания поддержки и одобрения этих планов со стороны масс трудящихся уже не может выполняться одной только империалистической финансовой олигархией, несмотря на ее гигантский аппарат контроля над прессой, радио, школой и т. д.
Нужна специальная агентура, чтобы проникнуть 498
в самую гущу рабочего движения и общественного мнения, скрыть или исказить реальное положение империи и ее кризис, завуалировать подлинную политику, скрывающуюся, казалось бы, за популярными и даже «социалистическими» лозунгами. Такова роль лейбористского империализма в эпоху кризиса империалистической системы. На нынешнем этапе правая социал-демократия стала главным пропагандистом, а во время пребывания у власти — главным исполнителем колониальной политики империализма.
Эттли и Бевин, посылавшие «спитфайры», турков и даяков — «охотников за черепами» сеять смерть в Малайе; Блюм, уродовавший французский бюджет, чтобы подавлять огнем и мечом борьбу вьетнамского народа за свою свободу; варварская война Ги Молле в Алжире — вот подлинная картина «демократического социализма» и «социалистического» гуманизма.
Чтобы лучше понять сущность лейбористского империализма и его методов маскировки империалистической практики «социалистическими» фразами, необходимо более подробно рассмотреть современные высказывания об официальной политике лейбористской партии в империи.
Аргументы защитников империи
В 1948 году бывший редактор «Дейли гералд» Фрэнсис Уильямс, занимавший пост заведующего отделом печати у Эттли в бытность его премьер- министром, опубликовал книгу под названием «Тройная угроза». В ней он пытался доказать, что лейбористское правительство Эттли представляет собой тройную угрозу: 1) экономической политике консерваторов, 2) внешней политике консерваторов и 3) колониальной политике консерваторов. К несчастью для автора, орган консерваторов газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост» в рецензии на эту книгу мягко заявила, что последние 499
два пункта по меньшей мере чепуха, поскольку никакой разницы между политикой консерваторов и лейбористов в этих вопросах нет.
Взгляды «социал-демократов», или лейбористских империалистов, на колониальный вопрос нашли свое очередное теоретическое выражение в таких книгах, как «Фабианские колониальные очерки» (1945 год) —сборник, в составлении которого участвовали А. Р. Крич-Джонс, ставший министром колоний в лейбористском правительстве, и другие; как книга д-ра Риты Хинден «Империя и ее будущее» (1949 год) и различные книжки и брошюры колониального бюро Фабианского общества.
Делаются упорные попытки выработать специальную «социалистическую колониальную теорию» и «социалистическую колониальную политику».
Существует ли в действительности самостоятельная социал-демократическая колониальная теория? Рассмотрение фактов показывает, что выделение ее в самостоятельную теорию не обосновано. Социал-демократическая колониальная теория и политика, по существу, являются колониальной теорией и политикой. Это теория и политика современного империализма, украшенные цветистыми фразами для придания им «прогрессивной» и «социалистической» внешности.
Основная линия социал-демократической колониальной пропаганды сводится к тому, чтобы заявлять:
1. Что капиталистическая эксплуатация и империализм ушли в прошлое и что сейчас в колониях проводится новая, просвещенная политика.
2. Что колониальная политика выгодна колониальным народам и представляет собой цивилизаторскую миссию: а) чтобы подготовить их к самоуправлению, б) чтобы помочь их экономическому, социальному и культурному развитию.
3. Что с колоний не взимается никакой дани: английское правительство расходует деньги в интересах колоний и, следовательно, из филантропиче500
ских побуждений управляет ими с убытком для себя.
Все эти доводы и аргументы, которые являются главной темой официальной пропаганды лейбористской партии по вопросу об империи, являются в равной степени основами официальной пропаганды консерваторов по этому вопросу. Красноречивые высказывания Крич-Джонса и Гриффитса в бытность их министрами колоний в лейбористском правительстве могут быть слово за словом процитированы из почти совершенно идентичных выступлений Стэнли — министра колоний в предыдущем консервативном правительстве. Не исключена, конечно, возможность, что эти речи писал один и тот же старший чиновник министерства. Аргументы лейбористского империализма и консерваторов по колониальному вопросу, по существу, идентичны, в крайнем случае они отличаются лишь незначительными вариациями в формулировках с целью приспособить ту же самую основную линию к различной аудитории.
Правда, в полемических целях и особенно в период выборов лейбористские империалисты обычно осуждают «империализм консерваторов» как «устарелый, «викторианский пережиток XIX века»:
«Консерваторы все еще мыслят категориями викторианского империализма и колониальной эксплуатации» (предвыборный манифест лейбористской партии, октябрь 1951 года).
Точно так же Моррисон в своем предвыборном выступлении по радио в 1951 году, отвечая на критику Черчилля по адресу его политики в Иране (где за проводившимися вначале воинственными приготовлениями и угрозами последовало внезапное отступление, как только Соединенные Штаты отказали в поддержке), высмеял устарелые взгляды Черчилля на империю как «образ мыслей XIX века», сказав, что это похоже на то, как если бы герцог Веллингтон очутился вдруг в 501
центре современного уличного движения. К несчастью для этих аргументов, Грэйди, бывший в то время послом Соединенных Штатов в Иране, в статье, опубликованной впоследствии, в 1952 году, в журнале «Сатердей ивнинг пост» и озаглавленной «Что было неправильно в Иране», прямо обвинял Моррисона в «викторианском» взгляде на империю и заявлял, что английская политика, проводившаяся Моррисоном в отношении Ирана в бытность его министром иностранных дел, проистекала «из колониального умонастроения, которое было модно и, возможно, даже оправдано во времена королевы Виктории, но сейчас не только неверно и неосуществимо, но и определенно губительно».
В этом трехстороннем состязании в контробвинениях между империалистами XX века горшок называет чайник черным, а котелок утверждает, что оба они в саже.
В этой связи следует вспомнить, что сказал Энгельс по поводу лицемерия правящего класса: «...чем дальше идет вперед цивилизация, тем больше она вынуждена бывает покрывать плащом любви неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать,— одним словом, вводить в практику условное лицемерие, которое не было известно ни прежним формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации и которое приводит, наконец, к утверждению: эксплуатация угнетённого класса производится эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуатируемого класса; и если последний этого не понимает и даже начинает возмущаться, то это самая постыдная неблагодарность по отношению к благодетелям, эксплуататорам»
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 152—153.
502
Обзор типичных высказываний официальных представителей лейбористской партии по вопросу об империи показывает, что существуют некоторые избитые темы, повторяющиеся с утомительным однообразием. Эти темы, однако, непоследовательны и взаимно противоречат одна другой — верный признак того, что мы находимся в царстве апологетики, а не серьезной аргументации. Чтобы продемонстрировать это, следует выделить и проиллюстрировать наиболее типичные темы.
Тема первая. «Конец империализма. Империализм больше не существует».
Это наиболее затасканная тема (ее, по существу, развивали и покойный генерал Смэтс и консерваторы-империалисты). В виде иллюстрации мы можем рассмотреть некоторые из характерных высказываний Эттли и Бевина во время пребывания у власти третьего лейбористского правительства.
3 июля 1949 года лейбористский премьер-министр Англии Эттли выступил в Манчестере с речью, в которой он нападал на «угрозу коммунизма»:
«Разрешите привести еще один пример лицемерия коммунистов. Коммунисты любят обвинять лейбористскую партию в империализме.
В течение этих лет нам пришлось принять ряд важных решений, касающихся Британского Содружества Наций.
Бирма решила, что она желает выйти из этого содружества. Мы были огорчены, но согласились с этим решением.
Индия и Пакистан захотели быть свободными и осуществлять самоуправление... Мы согласились, и соответственная перемена была осуществлена. То же самое произошло с Цейлоном, который сейчас является полноправным членом этого великого объединения наций.
503
Никогда раньше еще не бывало такой добровольной передачи суверенитета».
5 июля 1949 года, через сорок восемь часов после заявления Эттли об отказе от империализма, новая смета дополнительных расходов на 21 миллион фунтов стерлингов была представлена изумленной палате общин в дополнение к и без того весьма обременительному английскому бюджету. Эта смета дополнительных расходов на 21 миллион фунтов стерлингов предусматривала следующие статьи (в млн. ф. ст.):
Малайя 6,0
Бирма 11,250
Киренаика, Триполи, Со¬
мали, Эритрея ... 1,5
Борнео 0,6
Трансиордания 0,5
Средний Восток .... 0,245
Греция 0,145
Итого . . 20,240
Чрезвычайные расходы на военные операции
Компенсация английским монополиям
Для фирмы «Бритиш Норт Борнео компани»
Субсидия королю Абдулле и Арабскому легиону
Самолеты для греческого правительства
Из 21 миллиона фунтов стерлингов по этой смете дополнительных расходов, представленной, помимо всех тех ассигнований, которые уже были утверждены, 20 миллионов требовалось на расходы по имперским и заморским военным обязательствам в самых отдаленных частях земного шара. Держава, которая якобы покончила с империализмом, оказывается, все еще несет значительное имперское бремя.
Министр иностранных дел Бевин, обращаясь 14 октября 1948 года к Национальному союзу промышленников, заявил:
504
«Мы перестали быть империалистической нацией. Мы ни над кем не господствуем».
Далее в этой же речи он изложил свою скромную программу (цитируется по «Дейли гералд»; курсив газеты):
«Я верил и по-прежнему верю в то, что: если мы сможем организовать Западную Европу с ее прямыми связями со Средним Востоком;
если мы сможем использовать огромные ресурсы нашей колониальной империи в Африке;
если мы сможем выработать программу сотрудничества с Южно-Африканским Союзом, нашим великим доминионом;
если мы сможем наладить правильные взаимоотношения с Пакистаном и Индией; если мы сможем сохранить надлежащие позиции в Юго-Восточной Азии и
если мы сможем внести надлежащий вклад в дело возрождения Китая, — то при небольшой доле планирования мы сумеем как-либо занять положение великого уравновешивающего фактора между Востоком и Западом и сможем обеспечить надлежащий противовес для поддержания равновесия, необходимого для сохранения мира и процветания на земном шаре».
«Средний Восток», «наша колониальная империя в Африке», «Пакистан и Индия», «Юго-Восточная Азия», «Китай». Видимо, отказ от империализма нельзя смешивать с изоляционизмом или «отказом от обязательств во всем мире».
3 марта 1949 года министр обороны Александер более подробно разъяснил в палате общин характер этих обязательств.
«Мы должны обеспечить прикрытие уязвимым пунктам, в том числе Гонконгу и Малайе, — заявил он, — мы должны думать о трудном положении на Среднем Востоке и на Средиземном море.
505
Наши обязательства в Греции должны быть сохранены...
Мы должны следить за развитием событий в Восточной и Западной Африке и в таких отдаленных местах, как Гондурас и крайний юг».
Если принять во внимание эти обязательства, то нет ничего удивительного в том, что лейбористская Англия, покончив с империализмом, сочла необходимым увеличить расходы на вооружение (1090 миллионов фунтов стерлингов в 1951 году против 186 миллионов фунтов стерлингов в 1936 году) почти в шесть раз в денежном выражении, или в три раза по стоимости, по сравнению с уровнем расходов довоенного консервативного правительства полтора десятка лет назад, которое все еще сохраняло империю. «Отказ от империализма» надо, видимо, понимать в пик- квикском смысле [то есть иносказательно.— Ред.].
Тема вторая. Конец «старого» империализма. Нет больше эксплуатаций».
Это вариант первой темы. По словам «Справочника лейбористского оратора» за 1948/49 год:
«Во всех районах, находящихся под нашим контролем, мы расстались с капиталистическим империализмом старого типа». Аналогичным образом Герберт Моррисон заявил на конференции представителей английских колоний в Африке в октябре 1948 года:
«Мы должны уничтожить самое слово «эксплуатация». Больше не существует вопроса о капиталистической эксплуатации или империализме».
В том же самом 1948 году, иллюстрируя мор- рисоновское «уничтожение» «капиталистической эксплуатации», компания «Рокана коппер» увеличила свои дивиденды для счастливых вкладчиков до 100 процентов по сравнению с 60 процентами в 1946 году. К 1950 году дивиденды «Рокана коппер» возросли до 120 процентов, а к 1951 году — до 200 процентов, включая премию.
506
Однако воздадим должное Моррисону. Его смелая программа предусматривает «уничтожение» самого слова «эксплуатация». Он хочет сдать это некрасивое слово в музей уродливых пережитков прошлого. Подлинная же капиталистическая эксплуатация и империализм продолжают, конечно, существовать так же, как и жестокие войны против колониальных народов, которые велись Моррисоном и его коллегами при помощи танков и /бомбардировщиков и путем сожжения целых деревень в то самое время, когда он говорил о конце империализма.
Тема третья. «Добрая старая империя» и сохранение империи.
По другим поводам те же самые министры лейбористского правительства не менее усердно и во всеуслышание заявляли о своей приверженности к несуществующей империи и о своей решимости сохранить ее. Так, Герберт Моррисон заявил в январе 1946 года:
«Мы являемся большими друзьями доброй старой империи и не намерены от нее отступаться».
Эти слова, почти дословно повторяющие знаменитое заявление члена первого лейбористского правительства Дж. Г. Томаса: '«Мы любим нашу империю»,— причинили немало огорчений империалистическим филантропам из колониального бюро Фабианского общества, которое опубликовало следующее опровержение за подписями своего председателя и секретаря:
«Наша работа превратится в пародию, наша искренность — в насмешку, наши заявления — в лицемерие, если о политике лейбористской партии будут судить по этим безответственным словам Герберта Моррисона. Мы надеемся, что Моррисон найдет случай внести поправку в эту часть своей речи и не станет подрывать ту невыносимо тяжелую работу, которую проводят 507
все остальные из нас, для того чтобы убедить миллионы враждебно настроенных и недоверчивых индийцев и африканцев, что не все мы лицемеры и лжецы».
Следует отметить, что не империалистическое подавление и эксплуатация вызвали этот протест, а только откровенное заявление, ставящее лейбористов в неудобное положение и затрудняющее «невыносимо тяжелую» задачу обеления империализма и обмана «миллионов враждебно настроенных и недоверчивых индийцев и африканцев».
Тема четвертая. «Священное доверие». «Цивилизаторская миссия».
«Невыносимо тяжелая» задача доброжелательных апологетов империи требует других методов для оправдания сохранения империи, нежели примитивные лозунги томасов и моррисонов: «Мы любим нашу империю» и «Добрая старая империя».
С этой целью был разработан новый вариант «бремени белого человека» — темы, уже знакомой по империалистической пропаганде консерваторов. В ответ на антиимпериалистическую критику апологеты империи настаивают, что было бы преступлением и шагом назад «бросить» империю (то есть освободить колониальные народы), поскольку это означало бы «не оправдать доверия», которое эти зависимые отсталые народы питают к своим великодушным английским покровителям. Так, Крич-Джонс, который позже стал министром колоний в лейбористском правительстве, писал в 1944 году в предисловии к «Фабианским колониальным очеркам»:
«Социалисты... не могут заткнуть уши и оставаться глухими к призывам колониальных народов и снять с себя ответственность за британские территории из-за какой-то сентиментальной склонности «к освобождению» или внутреннему самоуправлению. Бросить таким образом колониальную империю — означало бы предать интересы 508
народов и не оправдать оказанного нам доверия...
Поэтому социалисты должны усердно заботиться о колониях. Неважно, каким образом они были приобретены. Не имеет значения и хищнический, захватнический характер империализма в прошлом и даже отвратительные события и эксплуатация, пережитые многими из них в прошлом».
Заметьте, что об империализме всегда говорится в прошедшем времениКрич-Джонс признает, что трудно провести различие между этой политикой и политикой консерваторов-империалистов.
«Граница между социалистами и другими,— заявил он,— часто затушевывается в процессе той конструктивной работы, которая проводится сегодня в области колониальной политики».
И он торжествующе заканчивает:
«Бегство в философию Ленина или в социалистическое монашество не улучшит питания и не спасет скот от мухи цеце в лесном поясе».
Таким образом, та самая система, которая влечет за собой разграбление естественных богатств колоний, резкое падение уровня жизни колониальных народов и препятствует их экономическому развитию, торжественно объявляется «конструктивным» противовесом ленинской поли-
1 Восхитительный пример подобной сдачи империализма и эксплуатации в «архив» можно найти в статье Герберта Макаллистера, опубликованной в официальном органе лейбористской партии газете «Дейли гералд» от 9 июня 1949 года: «Могло случиться, что на протяжении последних пятидесяти лет то там, то тут имели место отдельные факты эксплуатации африканских туземцев... Мы не имеем права позволить английскому демобилизованному военнослужащему вложитВ свой капитал в покупку фермы в Кении, если через двадцать лет какое-либо английское правительство захочет уступить благовидному доводу: «Африка — для африканцев».
509
тике, которая в течение жизни всего лишь одного поколения дала возможность самым отсталым в прошлом среднеазиатским народам достигнуть самого высокого уровня промышленного и культурного развития на 'базе полного равенства и свободы.
По поводу этих ханжеских перепевов о «цивилизаторской миссии» и об «опекунских обязанностях» европейских завоевателей достаточно иметь в виду, что при обычных юридических отношениях «опекун», который присваивает лучшие земли, богатейшие минеральные и естественные ресурсы, самую лучшую работу, получает лучшее образование и пользуется лучшим медицинским обслуживанием и в то же время ежегодно прикарманивает колоссальные денежные суммы за счет хозяйства своего «подопечного», оставляя его в величайшей бедности и лишая его удовлетворения самых элементарных потребностей,— такой опекун был бы быстро отправлен в тюрьму как человек, обманувший доверие.
Тема пятая. «Старый довод лейбористского империализма: «Империя насущно необходима в экономических интересах английских рабочих».
Одновременно с заявлениями о необходимости сохранения Британской империи в благотворительных целях в речах лейбористских официальных представителей постоянно ставятся практические задачи экономической эксплуатации. Эти задачи наиболее открыто выражены в заявлениях такого откровенного лейбористского империалиста, как Бевин.
Наиболее циничные заявления в духе традиционных классических взглядов лейбористских империалистов, открыто отождествляющих экономические интересы рабочего класса империалистической метрополии с сохранением системы колр- ниальной эксплуатации, можно найти в речах Бевина. Так, 21 февраля 1946 года он заявил' в парламенте:
510
«Я не собираюсь жертвовать Британской империей, ибо знаю, что если бы Британская империя пала... то это повлекло бы за собой значительное снижение жизненного уровня наших избирателей».
В речи в парламенте 16 мая 1947 года по поводу английских интересов на Среднем Востоке Бевин снова заявлял:
«Правительство его величества должно сохранять постоянное влияние в этом районе хотя бы только потому, что наши экономические и финансовые интересы на Среднем Востоке имеют для нас огромное значение... Если наши капиталовложения будут потеряны, это вызовет значительное снижение жизненного уровня нашего населения... Английские инвестиции на Среднем Востоке не только принесли значительные выгоды местному населению, но и существенно увеличили заработную плату английского рабочего люда».
Здесь высказана классическая точка зрения лейбористских империалистов, уже давным-давно проанализированная и разоблаченная Марксом и Лениным.
Порочность лейбористской аргументации, основанной на бесстыдном призыве к якобы существующей экономической заинтересованности в сохранении более высокого уровня жизни ценой эксплуатации угнетенных и задавленных нищетой колониальных народов, достаточно ясно доказывается нынешним кризисом в Англии. Вместо экономических преимуществ и более высокого уровня жизни издержки сохранения империи — империи господства и эксплуатации — возлагают на широкие массы английского народа все более и более тяжелое бремя налогов, высоких цен, вызывают снижение жизненного уровня. Это же порождает дорогостоящие колониальные войны и опасность новой мировой войны.
Тот же самый Бевин, который так высокопар-
511
но превозносил империализм как основу более высокого уровня жизни английского народа, вместе с тем в своем обращении к Американскому легиону в отеле «Савой» 10 сентября 1947 года обязался перед своими американскими хозяевами приложить все усилия для того, чтобы снизить жизненный уровень английского народа во имя священной цели сохранения империализма.
«Мои дорогие американцы,—заявил он,— у нас может не хватать долларов, но у нас достаточно воли... Мы не подведем вас.
Англия — великий бастион в Европе. Наша западная цивилизация не может погибнуть, пока не падет Англия, а Англия не падет.
Жизненный уровень может снизиться. Нам, возможно, придется сказать нашим шахтерам и нашим металлургам: «Мы не можем дать вам всего того, что мы рассчитывали дать. Мы не можем дать вам домов, в которых, как бы мы хотели, вы жили. Мы не можем дать вам тех благ, которых мы для вас желали. Но мы не поддадимся».
В этом заявлении нашло свое выражение внутреннее противоречие аргументов лейбористских империалистов в период кризиса империалистической системы.
В приведенных выше пяти основных доводах, непоследовательных и взаимно исключающих друг друга, мы видим знакомые пропагандистские приемы лейбористского империализма.
Банкротство лейбористского империализма
Лейбористский империализм в Англии возник сначала в форме фабианского империализма. Его первым открытым и вполне сознательным выражением можно считать появившуюся в 1900 году работу «Фабианство и империя», хотя основы его 512
были сформулированы уже в XIX веке. Таким образом, лейбористский империализм развивался непрерывно и в тесной связи с империалистической эпохой, то есть в течение XX века.
Об изменении позиции высшего руководства реформистского рабочего движения по отношению к империи за эти полвека, начиная со времен «тридцати-сорокалетней давности», говорил Герберт Моррисон в своем выступлении в 1943 году. Моррисон еще в юности усвоил нынешние традиции социалистического антиимпериализма, от которых, как он с гордостью заявляет, он с течением времени отделался.
В своем выступлении в Англо-американской ассоциации печати 6 октября 1943 года Моррисон, отвечая критикам Британской империи, заявил: «Точка зрения искренних критиков чрезвычайно схожа с позицией наших либералов и лейбористов тридцать-сорок лет назад. Я имею в виду антиимпериалистические тирады и разоблачения Джона Гобсона, Генри Ноэля Брэйлсфорда и заодно высказывания Дэвида Ллойд Джорджа во время англо-бурской войны и позднее. Идейность, возвышенные чувства, отвращение даже к упоминанию таких слов, как «империя» и «империализм», — таковы настроения, с которыми я вырос и которые в значительной степени разделял. Это помогло мне и многим другим лейбористам, верящим в Британскую империю, понять сегодня наших критиков.
Они думают, что самое понятие «империя» уже устарело. Единственный мягкий ответ, который я могу дать на это, гласит, что их понятие об империи, безусловно, устарело. Они идеалисты, и они глубоко верят в то, что их политические идеи на тридцать-сорок лет опередили Британскую империю, а я думаю, что их политическая осведомленность отстает от нее на три17 Р. Палм Датт
513
дцать-сорок лет. Каждая страна Британской империи, способная осуществить самоуправление, получила его».
Следует отметить, что это полное признание империализма («лейбористы, верящие в Британскую империю») было сделано в 1943 году, до прихода к власти лейбористского правительства в 1945 году и до якобы открытой им «новой эры» «конца империализма». Моррисон произнес эти слова в период пребывания у власти правительства, в котором все еще господствовали консерваторы. По Моррисону, перемена, происшедшая Между 1943 годом и периодом «тридцать-сорок лет назад», представляла собой изменение в характере колониальной системы. Возможно, что менее любезные критики сочтут эту перемену просто изменением во взглядах и политической позиции Моррисона и его коллег.
Однако империалистическая эра XX столетия, в течение которой развился лейбористский империализм, представляет собой эру капиталистического упадка, эру загнивающего, умирающего капитализма, быстро перерастающего в эру общего кризиса капитализма. Следовательно, лейбористский империализм с самого начала был связан с тонущим кораблем. В этом-то и заключается важное противоречие и все более очевидное банкротство лейбористского империализма. Лейбористский империализм претендовал на то, что он представляет новые, просвещенные взгляды и надежды на прогрессивное развитие и процветание на базе империи, в действительности же ему пришлось стать представителем и апологетом политики все возрастающего тяжкого бремени, жертв и лишений рабочего класса как в Англии, так и в колониях, апологетом небывалой гонки вооружений, насилия, колониальных и мировых войн, ужасов, не имевших прецедента в истории.
Уже в течение первых пятнадцати лет XX столетия, до 1914 года, бремя империализма проявлялось в растущей стоимости жизни, в гонке во514
оружений и подготовке к первой мировой войне.
В течение этого периода взгляды лейбористского империализма, зародившегося в Англии, начали проявляться и распространять свое влияние в руководящих кругах всех социал-демократических партий империалистических стран Западной Европы. В Англии фабианский империализм открыто вел наступление против марксизма, то есть фактически в защиту монополистического капитализма, против социализма. В других партиях старого Второго Интернационала, где марксизм утвердился более прочно, соответствующее наступление проводилось под флагом ревизионизма, то есть номинально за «пересмотр» марксизма. Но руководитель ревизионистского наступления на марксизм, германский социал-демократ Бернштейн, по существу, заимствовал свою аргументацию в Лондоне у Сиднея Вэбба, основателя фабианства.
Реформизм, или ревизионизм, как проявление империалистического проникновения и подкупа в рабочем движении вел свое наступление в старом (до 1914 года) Втором Интернационале в поддержку колониальной системы. Германский правый социал-демократ Давид заявил:
«Европа нуждается в колониях. Их у нее даже недостаточно. С экономической точки зрения без колоний мы опустимся до уровня Китая».
Разногласия по колониальному вопросу достигли кульминационного пункта на Международном социалистическом конгрессе в Штутгарте в 1907 году, и именно на этом конгрессе Давид сделал свое выше приведенное цинично откровенное и бесстыдное заявление о том, что обладание колониями «экономически» необходимо для рабочих богатых империалистических стран. Это заявление в точности совпадает с более поздними декларациями Эрнеста Бевина от имени третьего лейбористского правительства.
На Штутгартском конгрессе сторонники «со17* ,515
циалистической колониальной политики», то есть лейбористские империалисты, внесли резолюцию, гласившую:
«Конгресс не отвергает в принципе и навсегда всякую колониальную политику, которая в условиях социалистического режима может оказать цивилизующее влияние». Нет необходимости говорить, что эта резолюция, которая на полстолетие предвосхитила «новые открытия» Герберта Моррисона, Джеймса Гриффитса и колониального бюро Фабианского общества, была горячо поддержана Рамсеехм Макдональдом. Но борьба большевиков и революционных марксистов всех стран против этого предательства социализма и колониальных народов завершилась на ШтутгартскОхМ конгрессе победой.
Окончательная резолюция Штутгартского конгресса Социалистического Интернационала, которая в конце концов была принята единогласно при одном воздержавшемся, ясно и безоговорочно осудила всякую «капиталистическую колониальную политику» как политику, ведущую к «порабощению, принудительному труду и истреблению коренного населения колонизированных территорий», отвергла лживую концепцию так называемой «социалистической колониальной политики» в условиях капиталистического общества и отреклась от , защиты якобы «цивилизующей миссии» колониальной системы как уловки, которая служит «лишь прикрытием эксплуататорских и завоевательных вожделений» (текст основного раздела этой резолюции).
Таким образом, антиимпериалистические принципы международного социализма в 1907 году еще раз восторжествовали и формально были приняты единогласно. Но на практике развращающее влияние империализма уже проникло в среду большинства руководящих кругов старых социал-демократических партий. Марксизм был принят на словах. На деле старый Второй Интер516
национал интересовался главным образом империалистическими странами и их сателлитами, не делая никаких попыток связать борьбу рабочего класса с революционным движением в колониях.
«В эпоху II Интернационала,— указывал Сталин,— национальный вопрос обычно замыкался тесным кругом вопросов, касающихся исключительно «цивилизованных» наций. Ирландцы, чехи, поляки, финны, сербы, армяне, евреи и некоторые другие национальности Европы — таков тот круг неполноправных наций, судьбами которых интересовался II Интернационал. Десятки и сотни миллионов азиатских и африканских народов, терпящих национальный гнет в самой грубой и жестокой форме, обычно оставались вне поля зрения «социалистов». Белых и черных, «некультурных» негров и «цивилизованных» ирландцев, «отсталых» индусов и «просвещенных» поляков не решались ставить на одну доску. Молчаливо предполагалось, что если и нужно бороться за освобождение европейских неполноправных наций, то совершенно не пристало «порядочным социалистам» серьезно говорить об освобождении колоний, «необходимых» для «сохранения» «цивилизации». Эти, с позволения сказать, социалисты и не предполагали, что уничтожение национального гнета в Европе немыслимо без освобождения колониальных народов Азии и Африки от гнета империализма, что первое органически связано со вторым» !.
Эта система старого Второго Интернационала, система лейбористского империализма пришла к банкротству и краху в период империалистической мировой войны 1914 года. Это было первым важ-
1 И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 52—53. 517
ным, открытым и уже решающим проявлением банкротства лейбористского империализма и неизбежным результатом его деятельности.
Старый Второй Интернационал, капитулировавший перед империализмом, распался. Главные силы международного социалистического движения создали Коммунистический Интернационал, который был организован в 1919 году.
Коммунистический Интернационал исправил ошибки и недостатки старого, обанкротившегося Второго Интернационала и впервые в истории организовал международный союз рабочих без различия расы и цвета кожи. Впервые единство борьбы рабочего класса в «передовых» империалистических странах с национально-освободительной борьбой народов колоний получило полное признание как в теории, так и на практике.
После первой мировой войны и последующего поражения революционной борьбы рабочего класса и реставрации ослабленного и шаткого капитализма и империализма остатки правой социал-демократии в уцелевших империалистических странах Западной и Центральной Европы и Америки вновь объединились, чтобы основать Второй Интернационал межвоенного периода, или так называемый Социалистический рабочий интернационал, организованный в Гамбурге в 1923 году. Этот Интернационал распался под давлением фашизма и окончательно рухнул во время второй мировой войны. В результате опыта совместной борьбы против фашизма ряд социалистических партий этого Интернационала стал на путь сотрудничества с коммунизмом и объединения с коммунистическими партиями.
Углубляющееся банкротство лейбористского империализма в период общего кризиса капитализма и империалистической системы проявилось на опыте трех лейбористских правительств.
Первое лейбористское правительство 1924 года инсценировало канпурский процесс против Коммунистической партии Индии и подвергло Ирак 518
воздушной бомбардировке Г После провала попытки судебного преследования коммунистов в Англии (отказ от которого последовал под давлением движения рабочего класса) и скандального поведения Макдональда в инциденте с фальшивкой— «письмом Зиновьева»,— пущенной в ход с целью разжигания антисоветской кампании, лейбористское правительство через девять месяцев уступило власть консерваторам.
При втором лейбористском правительстве периода 1929—1931 годов продолжался мирутский процесс против Коммунистической партии Индии и профсоюзного руководства индийского рабочего класса. По его приказу были произведены массовые аресты в Индии, когда было брошено в тюрьмы 60 тысяч человек в целях подавления кампании «гражданского неповиновения», проводившейся партией Индийский национальный конгресс. Оно потопило в крови восстание в Бирме. Второе лейбористское правительство позорно провалилось во время мирового экономического кризиса и уступило дорогу консерваторам. Главные лидеры лейбористского империализма Макдональд, Сноуден и Томас открыто перешли в лагерь консерваторов. В глазах всех слоев рабочего движения,
1 Тридцать лет спустя, вспоминая об этом эпизоде, Эттли писал в спокойном тоне:
«Я был парламентским заместителем военного министра, и я не помню никакого серьезного обсуждения вопроса об обороне... У заместителя министра авиации Вилли Лича были некоторые неприятности по поводу бомбардировки в Ираке, но они касались только ее размеров» (Эттли, Оборона нации, в журнале «Сошиалист комментари», июнь 1956 года).
По поводу этой бомбардировки английской авиацией арабов на Среднем Востоке стоит привести замечание Т. Э. Лоуренса в письме к Лиддел-Гарту от 26 июня 1930 года:
«Конечно, этот акт является несравненно более мягким, чем полицейские или военные действия, так как едва ли кто-либо был убит; и среди убитых в равной степени могли быть и бесполезные женщины,' и дети, и действительно стоящие мужчины» («Письма Т. Э. Лоуренса», под редакцией Дэвида Корнетта, стр. 695). 519
прежде признававших руководство Макдональда, Сноудена и Томаса, лейбористский империализм был разоблачен как открытое предательство дела рабочего класса. Оставшиеся второразрядные лидеры лейбористского империализма — эттли, Моррисоны и другие, продолжавшие на практике ту же политику, которую проводил и Макдональд,— после краткого периода путаной «социалистической» и «пацифистской» фразеологии, применявшейся с целью умерить гнев рабочего класса, могли только попытаться скрыть урок, преподнесенный этим предательством, изображая его как чисто случайное, «индивидуальное» предательство, на которое пошли главные лидеры лейбористской партии, а не как результат политической системы. Они не могли открыто сделать того политического вывода, что это предательство является естественным результатом лейбористского империализма, так как сами они продолжали проводить аналогичную политику.
Таково было второе важное проявление банкротства лейбористского империализма после 1914 года.
Третье лейбористское правительство периода 1945—1951 годов превзошло два предыдущих лейбористских правительства как в лицемерии своих деклараций о «новой эре», «конце империализма», «цивилизующей миссии», «развитии и благосостоянии» колоний, так и в жестокости и грубости военных мер подавления и Колониальных войн против освободительной борьбы народов колоний.
Каждая мера вынужденного отступления или маневра слабеющего империализма изображалась как результат нового, просвещенного взгляда и «отречения от старого империализма».
Одновременно лейбористское правительство вело в Малайе одну из самых свирепых и варварских колониальных войн современности, навлекло на Англию разорительный дефицит из-за дорогостоящих заокеанских военных обязательств, продало Англию Соединенным Штатам как атомную 520
военную базу, навязало огромные экономические лишения и ухудшило жизненный уровень английского народа, чтобы расплатиться за перевооружение.
Безмерно хвастаясь проектами «развития» и «увеличения благосостояния» колониальных народов (эти мошеннические ярлыки были заимствованы непосредственно у предыдущего консервативного правительства и его законодательства, чтобы прикрыть политику «укради фунт и пожертвуй пенни на добрые дела»), лейбористское правительство Эттли усилило колониальную эксплуатацию в значительно большей степени, чем какое бы то ни было предыдущее правительство любой политической окраски. Эта усиленная эксплуатация проявилась в увеличении более чем вдвое стерлинговых счетов зависимых заокеанских территорий— с 454 миллионов фунтов стерлингов в конце 1945 года до 908 миллионов фунтов к июню 1951 года (увеличение на 454 миллиона фунтов стерлингов за пять с половиной лет представляет собой стоимость товаров, взятых «опекуном» у беззащитного «подопечного» без оплаты наличными).
По мере углубления кризиса Англии, порожденного разорительной империалистической военной политикой правительства, лейбористское правительство Эттли все более и более открыто основывало свою программу разрешения растущих экономических трудностей и дефицита Англии на планах увеличения колониального грабежа. Так, правительственный четырехлетний экономический план на 1949—1953 годы, представленный организации по осуществлению плана Маршалла (Организация европейского экономического сотрудничества) в декабре 1948 года, прямо связывал экономическое восстановление и сбалансирование дефицита Англии с усиленной колониальной эксплуатацией.
«Излагаемые планы,— говорилось в докладе,— предусматривают значительное уве521
личение вклада колоний в европейское восстановление».
Каково это «значительное увеличение», достаточно ясно видно из сопроводительных таблиц, представленных в этом документе и позволяющих судить о планах увеличения добычи типичных колониальных сырьевых материалов.
Таблица 36
ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА КОЛОНИАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ (в тыс. тонн)
1936 г.
1946 г.
1952—
1953 гг. (предположительно)
Запланированное увеличение по сравнению с 1946 г., °/о
Сахар
980
895
1400
56
Каучук ....
400
435
830
90
Олово ....
78
27,5
94,5
243
Медь
158
202
356
76
Таким образом, добыча каучука должна была увеличиться более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем; добычу олова предполагалось увеличить более чем втрое по сравнению с уровнем 1946 года, а меди — более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Далее указывалось, что добыча нефти английскими компаниями должна была достигнуть к 1953 году уровня, «вдвое превышающего добычу 1947 года».
Самым поразительным в этом четырехлетием плане «экономического восстановления» Англии было предполагавшееся увеличение «невидимых доходов».
«Ожидается,— говорилось в документе,— что чистые невидимые доходы явятся очень значительным вкладом».
522
Нижеследующая таблица показывает размеры этого «очень значительного вклада».
Таблица 37
ЧИСТЫЕ «НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ> (планируемый прирост между 1948/49 и 1952/53 финансовыми годами) (в млн. ф. ст.)
1947 г.
(текущие цены)
1948/49 г.
1952/53 г. (запланированные цены)
—193
+35
+263
Источник. «Экономическое сотрудничество: меморандумы, представленные ОЕЭС по вопросу об экономическом положении в 1949—1953 годах>, 1948, стр. 41.
Так, в период между 1948/49 и 1952/53 годами чистые «невидимые доходы» должны были увеличиться в семь с лишним раз. Таков был простой метод «разрешения» дефицита Англии — на бумаге. (Хотя даже при этом увеличении все же оставался долларовый дефицит, который, как уверенно утверждал доклад, мог быть покрыт за счет «долларовых поступлений из остальной части стерлинговой зоны»,— опять-таки за счет колониальной империи.)
Эти хищнические планы разрешения экономических проблем Англии на базе усиленной эксплуатации колоний не могли ликвидировать кризис. Он проявился с большой силой в связи с девальвацией 1949 года. Хотя временный стремительный рост цен на колониальное сырье (в результате накопления запасов в Америке и корейской войны) и принес недолговечное активное сальдо платежного баланса стерлинговой зоны в течение 1950 года и первой половины 1951 года (которое пропагандисты лейбористского правительства немедленно провозгласили победой «социалистического восстановления»), однако вскоре, во второй половине 1951 года, это активное сальдо сменилось новым, еще большим дефицитом.
523
Чтобы справиться с углубляющимся кризисом, лейбористское правительство Эттли оказалось вынужденным направить свое наступление не только против колониальных рабочих и крестьян, но также и против английских рабочих. После первоначального увеличения социального обслуживания (фактически более чем компенсированного повышенным налогообложением рабочих) в 1947 году была введена программа «суровой экономии», то есть сокращения расходов, повышенного налогообложения товаров широкого потребления и ограничения капиталовложений. Белая книга 1948 года о «личных доходах» свидетельствует о замораживании заработной платы. Прибыли и цены стремительно возросли, в то время как реальная заработная плата упала. Даже если исходить из официальных правительственных цифр, то в период между июнем 1947 года и октябрем 1951 года ставки заработной, платы в денежном выражении для рабочих-мужчин возросли на 20 процентов, тогда как индекс розничных цен увеличился на 29 процентов, а цен на продовольствие — на 43 процента, что эквивалентно падению реальной заработной платы на 7 процентов по отношению ко всем ценам и на 16 процентов по отношению к ценам - на продовольствие. Эти официальные цифры весьма значительно преуменьшали истинный размер падения заработной платы.
Таким образом, лейбористский империализм означает разорение и нищету народов колоний, бремя вооружений и войн как для английского народа, так и для колониальных народов. Лейбористский империализм оказался даже неспособен обеспечить дивиденды, исходя из заниженного, наиболее постыдного, якобы «практического» (а на самом деле ложнопрактического) экономического подсчета выгод, тем рабочим в привилегированной империалистической стране, которые все еще поддерживают его. Вместо улучшения или хотя бы сохранения жизненного уровня и условий лейбористский империализм навязал английскому 524
народу лишения, жертвы и ухудшение жизненных условий, чтобы оплатить свою политику сохранения империализма.
Таким образом, было показано на практике, что экономическая основа всей структуры лейбористского империализма подрывается.
Учитывая ухудшение экономического положения во второй половине 1951 года, растущее недовольство и боевое сопротивление масс организованных рабочих, нанесших поражение политике замораживания заработной платы, работу Блэк- пульского конгресса тред-юнионов и повестку дня конференции лейбористской партии в Скарборо, лейбористское правительство Эттли в октябре 1951 года распустило парламент и провело выборы, чтобы передать власть правительству консерваторов для усиления наступления на английских рабочих, а также на народы колоний.
Этот опыт и результаты деятельности лейбористского правительства 1945—1951 годов были третьим важным проявлением банкротства лейбористского империализма.
Крушение экономической основы английского империализма на нынешней стадии подготовляет почву для ликвидации господства правого социал- демократического руководства в рабочем движении.
Если прежде социал-демократы могли утверждать (как бы лживо ни было это утверждение в свете общего положения), будто их имперская политика принесла «практические результаты» в форме социальных уступок, привилегированного жизненного уровня и более значительных социальных реформ для значительных слоев рабочего класса, то теперь все более и более широкие слои населения начинают убеждаться в обратном. Осуществление империалистической политики требует от рабочего класса лишений, ухудшения жизненного уровня и урезывания программы социальных реформ. В конечном счете получается ощутительный дефицит. Отнюдь «не увеличивая существен525
но заработную плату английского рабочего люда» (говоря словами Бевина), империалистическая политика, столь тесно связанная с Бевином, несет снижение реальной заработной платы, навязывает народу тяжелое бремя и толкает страну по пути, ведущему к экономической катастрофе и опасности новой мировой войны.
Нынешний период был свидетелем краха базы социал-демократии в большинстве европейских стран. Подобно этому быстро созревают условия для соответствующего краха в Англии.
Становится понятной насущная необходимость в радикальной перемене политики рабочего движения, необходимость перехода от гибельного наследия лейбористского империализма к союзу английского рабочего класса с колониальными народами для общей борьбы против империализма и войны, за национальную независимость, мир и продвижение к социализму.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
СОЦИАЛИЗМ И ОСВОБОЖДЕНИЕ КОЛОНИИ
Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан .в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются законом.
Конституция СССР, статья 123.
Освобождение колоний должно прийти на смену колониальному господству и эксплуатации.
В прошлом было много красноречивых высказываний о несправедливостях в отношении колониальных и зависимых народов и об их стремлении к свободе.
Ныне события нашей эры существенно изменили постановку этого вопроса.
Союз свободы
Прошедшие три с половиной десятилетия с исчерпывающей полнотой показали, что все народы колоний и полуколоний, все без исключения народы, угнетаемые и эксплуатируемые при империализме, на всех континентах, в каждой части земного шара — даже наиболее «отсталые» и прежде 527
казавшиеся инертными народы,— стали на путь освобождения.
На огромных территориях многие прежде подвластные народы, некогда жившие в самых страшных условиях нищеты и гнета,— как, например, поколение назад азиатские народы в России при царском режиме или китайский и индийский народы до последнего времени,— сбросили иго империализма и после своего освобождения победоносно продвигаются вперед гигантскими шагами. В течение последнего десятилетия четыре пятых населения бывших колониальных и зависимых стран создали свои независимые государства. Освободительная борьба оставшихся колониальных и зависимых стран растет с каждым днем.
Таким образом, история нашей эры уже бесспорно доказала обреченность системы империалистического господства над другими нациями. Национальное освобождение всех ныне угнетаемых и зависимых народов неизбежно. Даже лицемерие нынешних империалистических правителей является симптомом такого положения. В большинстве случаев они изменили свой тон и перешли от старого языка, выражавшего грубое господство, к «просвещенным» проповедям о достижении конечной цели — самоуправления или независимости. Они стремятся замаскировать свой колониальный режим колониальными конституциями, ограниченными рамками по-прежнему существующей системы колониальной диктатуры; вступить в союз с реакционной верхушкой местного населения; там же, где им пришлось признать независимость новых государств, они стремятся опутать их военными и экономическими цепями господства в духе «нового колониализма». Эти сложные маневры, характерные для нынешнего периода, сами по себе являются свидетельством того, что империалистические правители осознают приближающийся крах своей системы.
Что до сих пор еще не вполне понимают народы империалистических стран, в особенности Англии, 528
и что важнее всего для них — это признание жизненной необходимости их единства и активного союза с освободительными силами всех колониальных и полуколониальных народов против империализма как главнейшего условия их собственного спасения, решения их собственных проблем, их существование после падения старой империалистической системы, их собственной победы над своими капиталистическими и империалистическими правителями и эксплуататорами, обеспечения их продвижения к социализму.
Именно союз рабочего класса, руководствуясь учением Ленина и возглавляемый большевистской партией, с освободительными силами всех порабощенных народов, угнетавшихся при царизме, открыл путь к их победе над общим угнетателем — царизмом, сделал возможным освобождение угнетенных народов и проложил дорогу к созданию могучего братского объединения народов в составе Союза Советских Социалистических Республик.
Именно союз международного рабочего класса, возглавляемый Советским Союзом, вместе с героической борьбой китайского народа сделал возможным победу Китайской Народной Республики.
История призвала английский рабочий класс и английский народ сыграть важную и ответственную роль в деле борьбы за свободу всех народов Британской империи.
Только подобный активный братский союз и практическая солидарность в общей борьбе против империализма могут позволить заменить нынешние отношения угнетающей и угнетаемых наций новыми, братскими отношениями, основанными на национальной независимости и равных правах, что будет иметь жизненно историческое значение не только для прогресса международного рабочего класса и всемирного освобождения, но и для решения насущных проблем, выдвигаемых нынешним кризисом Англии.
529
Маркс и Энгельс об освобождении колоний
Марксисты всегда учили, что освобождение колониальных народов не только отвечает интересам самих колониальных народов, являясь первым условием их социального и экономического развития, но в равной мере оно отвечает интересам народных масс господствующей империалистической страны, и особенно ее рабочего класса, стремящихся к построению социализма.
Маркс и Энгельс в XIX веке уделяли самое пристальное внимание взаимоотношениям Англии и Ирландии, которые были в то время самым ярким проявлением колониальной политики.
В резолюции I Интернационала, составленной в 1869 году Марксом и принятой Генеральным советом с участием представителей английских тред- юнионов (правда, лишь после предварительной острой борьбы с либерально-лейбористским руководством, представленным Одгером, Эпплгартом и Моттерсхедом), говорилось:
«Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи.
Таким образом, позиция Международного товарищества в ирландском вопросе весьма ясна. Его главная задача—ускорить социальную революцию в Англии. Для этой цели необходимо нанести решающий удар в Ирландии...
...предварительным условием освобождения английского рабочего класса является превращение существующей принудительной унии, т. е. порабощения Ирландии, в равный и свободный союз, если это возможно, или полное отделение, если это необходимо» Г В чрезвычайно живой форме Маркс показал в письме в Соединенные Штаты к Мейеру и Фогту
1 К- Маркс иФ. Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. I, стр. 348.
530
от 9 апреля 1870 года, как капиталистический класс играет на разногласиях между рабочими господствующей страны и страны угнетаемой:
«...Все промышленные и торговые центры Англии обладают в настоящее время рабочим классом, который разделен на два враждебных лагеря: английский пролетариат и ирландский пролетариат. Обыкновенный английский рабочий ненавидит ирландского рабочего как конкурента, понижающего его средний уровень жизни. Он чувствует себя по отношению к нему членом господствующей нации и именно потому делается орудием в руках своих аристократов и капиталистов против Ирландии и этим укрепляет их господство над самим собой. Он питает религи гиозные, социальные и национальные предубеждения по отношению к ирландскому рабочему. Он относится к нему приблизительно так, как белые бедняки (poor whites) относятся к неграм в бывших рабовладельческих штатах американского Союза. Ирландец отплачивает ему той же монетой с процентами. Он видит в английском рабочем одновременно соучастника и слепое орудие английского господства в Ирландии.
Этот антагонизм искусственно поддерживается и усиливается прессой, церковными проповедями, юмористическими журналами, короче говоря, — всеми средствами, которыми располагают господствующие классы. В этом антагонизме заключается тайна бессилия английского рабочего класса, несмотря на его организованность. В нем же заключается тайна сохраняющейся власти капиталистического класса. Последний вполне это сознает» h
Так Маркс увидел, что отношение к колониаль-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Гос- политиздат, 1948, стр. 235—236.
531
ной политике представляет собой решающую проверку для рабочего движения. Именно здесь он открыл «тайну сохранения власти капиталистического класса». Именно здесь он открыл «тайну бессилия английского рабочего класса, несмотря на его организованность». Этот урок и сегодня имеет не меньшее, если не большее значение.
В 1882 году Энгельс в письме к Каутскому обсуждал будущее колоний в случае, если рабочий класс в Англии завоюет власть. Он писал:
«По моему мнению, собственно колонии, т. е. земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Австралия, все станут самостоятельными; напротив, только подчинённые земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения, пролетариату придётся на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности. Как именно развернется этот процесс, сказать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться, причем, разумеется, дело не обойдется без всяческого разрушения. Но подобные вещи неотделимы от всех революций. То же самое может разыграться и в других еще местах, например, в Алжире и в Египте, и для нас это было бы, несомненно, самое лучшее. У нас будет довольно работы у себя дома»
Это было в то время, когда национальное движение в неевропейских колониальных странах или едва возникало, или только что принимало организованные формы. Однако принципы подхода Энгельса к этому вопросу чрезвычайно ясны. «Освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн». Развитие национальной револю-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, 1948, стр. 356.
532
ции в угнетенных колониальных странах «для нас было бы, несомненно, самое лучшее», и с хотим придется помириться». Из этих уроков мы извлекаем принципиальные положения, которые в настоящее время, на современной, неизмеримо более высокой ступени национально-революционной борьбы во всех колониальных странах без исключения, приобретают не меньшую, а неизмеримо большую силу.
Ленин об освобождении колоний
Ленин развил это учение марксизма по национальному и колониальному вопросу в эпоху империализма, когда национально-освободительное движение угнетенных народов быстро набирает силу наряду с ростом противодействия социалистического движения рабочего класса империалистическому господству. В эпоху империализма — и особенно в эпоху общего кризиса капитализма — вопрос о национальном и колониальном освобождении и ею связь с всемирной социалистической революцией приобретают самое жгучее практическое значение.
Ленин подчеркивал, что «характерной чертой империализма» является раскол мира на горстку богатых угнетающих наций и огромное большинство угнетенных наций:
«Характерная черта империализма состоит в том, что весь мир, как это мы видим, разделяется в настоящее время на большое число угнетенных народов и ничтожное число народов угнетающих, располагающих колоссальными богатствами и могучей военной силой. Громадное большинство... всего населения земли... принадлежит к угнетенным народам, которые или находятся в непосредственной колониальной зависимости, или же являются полуколониальными государствами, как, напр., Персия, Турция, Китай, или же, будучи побеждены армией круп533
ной империалистской державы, по мирным договорам оказались в сильной зависимости от нее» L
Отсюда вытекает, что борьба рабочего класса в меньшинстве развитых империалистических стран за победу над капитализмом во имя достижения целей социализма требует в качестве необходимого условия победы установления союза с национально-освободительным движением угнетенных народов, представляющих подавляющее большинство человечества, в общей борьбе против империализма.
Используя пример ирландского восстания 1916 года и отвечая критикам, которые увидели в этом восстании только путч, а поведение Джеймса Кон- ноли осудили как политика, променявшего социалистические идеалы в пользу мелкобуржуазного национализма, Ленин показал, как развитие социалистической революции должно охватить борьбу и восстания всех угнетенных и эксплуатируемых слоев, включая национальные и колониальные восстания.
«Ибо думать, что мыслима социальная революция без восстаний маленьких наций в колониях и в Европе, без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками, без движения несознательных пролетарских и полупролетарских масс против помещичьего, церковного, монархического, национального и т. п. гнета,— думать так значит отрекаться от социальной революции. Должно быть, выстроится в одном месте одно войско и скажет: «мы за социализм», а в другом другое скажет: «мы за империализм» и это будет социальная революция! Только с подобной педантски-смешной точки зрения мыслимо было обругать ирландское восстание «путчем».
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 215—216.
534
Кто ждет «чистой» социальной революции, тот никогда ее не дождется. Тот революционер на словах, не понимающий действительной революции» L
Разъясняя эти положения ленинизма, Сталин подчеркнул решающее значение вопроса о союзниках для победы рабочего класса и показал, что безразличие к делу привлечения союзников равносильно равнодушию к победе социализма:
«...кто боится революции, кто не хочет вести пролетариев к власти, тот не может интересоваться вопросом о союзниках пролетариата в революции,— для него вопрос о союзниках является вопросом безразличным, неактуальным» 1 2.
Развитие общего кризиса капитализма, начавшееся с первой мировой войны и победы социалистической революции в России, блестяще подтвердило учение Ленина. Открылась новая эра — и не только в общем подъеме колониальных народов под влиянием победоносной революции в России, но и в вопросе об отношении колониальных революций к мировому социализму.
Разрабатывая учение Маркса в применении к английскому рабочему классу и Ирландии, Ленин определил, что обязанность социалистов состоит в том, чтобы поддерживать право всех колониальных и зависимых народов на самоопределение и оказывать им практическую помощь в их борьбе.
«Социалисты должны не только требовать безусловного, без выкупа, и немедленного освобождения колоний,— а это требование в его политическом выражении означает не что иное, как именно признание права на самоопределение; социалисты должны самым решительным образом поддерживать наиболее революционные элементы буржуазно-демократических национально-освобо1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 340.
2 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 36.
535
дительных движений в этих странах и помогать их восстанию,— а при случае и их революционной войне — против угнетающих их империалистских держав»
Право на самоопределение несет с собой право на отделение, без которого оно было бы бессмысленно. Признание права на отделение не означает автоматического признания желательности или нежелательности отделения в каждом конкретном случае.
«Вопрос о праве нации на свободное отделение непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот или иной момент. Этот последний вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм» 1 2.
В вопросе о защите права на самоопределение, включая право на отделение, Ленин проводил различие между задачами социалистов угнетающей страны и задачами социалистов угнетаемой страны:
«...с.-д. угнетающих наций должны требовать свободы отделения наций угнетенных,— ибо в противном случае признание равноправия наций и интернациональной солидарности рабочих было бы на деле лишь пустым словом, лишь лицемерием. А с.-д. угнетенных наций во главу угла должны ставить единство и слияние рабочих угнетенных наций с рабочими угнетающих наций,—ибо в противном случае эти с.-д. окажутся невольно союзниками той или иной национальной 1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 140.
2 Резолюция 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП по национальному вопросу. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. I, 1953, стр. 346.
536
буржуазии, всегда предающей интересы народа и демократий, всегда готовой, в свою очередь, к аннексиям и к угнетению других наций» L
Означает ли это, что коммунистические принципы предусматривают раздробление мира на бесконечное количество мелких независимых государств в такое время, когда экономические и политические условия все более и более настоятельно требуют организации и объединения более крупного масштаба и укрепления международных связей и сотрудничества? Наоборот. Непосредственная цель коммунистов — добиться полного национального освобождения и национальной независимости для всех наций — рассматривается как необходимый шаг на пути к установлению более тесного международного сотрудничества и связей, развитие которых на будущей стадии — в условиях мирового коммунизма — достигнет окончательного результата, то есть объединения или слияния наций. Но такое сотрудничество и связи, которые в конечном счете приведут к слиянию, должны на каждой стадии осуществляться добровольно. Для того чтобы достигнуть такой добровольной связи, сначала необходимо покончить с навязанными империализмом взаимоотношениями управителя и управляемого.
Поэтому Ленин настаивал на том, что требование права на самоопределение, включая право на отделение, ни в коем случае не означает защиты принципа желательности создания отдельных мелких государств:
«Право на самоопределение наций означает исключительно право на независимость в политическом смысле, на свободное политическое отделение от угнетающей нации. Конкретно, это требование политической демократии означает полную свободу агитации за отделение и решение вопроса об отде-
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 373. 537
лении референдумом отделяющейся нации. Таким образом это требование вовсе не равносильно требованию отделения, дробления, образования мелких государств. Оно означает лишь последовательное выражение борьбы против всякого национального гнета. Чем ближе демократический строй государства к полной свободе отделения, тем реже и ела' бее будут на практике стремления к отделению, ибо выгоды крупных государств и с точки зрения экономического прогресса и с точки зрения интересов массы несомненны, причем они все возрастают с ростом капитализма. Признание самоопределения не равносильно признанию федерации, как принципа. Можно быть решительным противником этого принципа и сторонником демократического централизма, но предпочитать федерацию национальному неравноправию, как единственный путь к полному демократическому централизму. Именно с этой точки зрения Маркс, будучи централистом, предпочитал даже федерацию Ирландии с Англией насильственному подчинению Ирландии англичанами» Ч
По вопросу о малых государствах и о более крупных объединениях Ленин писал:
«Не будучи никогда сторонником ни мелких государств, ни государственного Дробления вообще, ни принципа федерации, Маркс рассматривал отделение угнетенной нации, как шаг к федерации и, следовательно, не к дроблению, а к концентрации и политической и экономической, но к концентрации на базе демократизма...
Мы требуем свободы самоопределения, т. е. независимости, т. е. свободы отделения угнетенных наций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйственном раздроблении или об
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 135.
538
идеале мелких государств, а наоборот потому, что мы хотим крупных государств и сближения, даже слияния, наций, но на истинно демократической, истинно интернационалист' ской базе, немыслимой без свободы отделения» L
Таким образом, конечная цель определяется как объединение или слияние наций в условиях мирового коммунизма и образования единой мировой культуры.
«Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их... Подобно тому, как человечество может придти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может придти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения» 1 2.
В дальнейшем Сталин так определил эту концепцию ленинизма в политическом отчете ЦК XVI съезду ВКП(б) в 1930 году:
«Ленин иногда изображал тезис о национальном самоопределении в виде простой формулы: «разъединение для объединения» 3.
Под углом зрения этого принципа Сталин рассматривал в этом же докладе вопрос о слиянии наций:
«...Ленин некогда не говорил, что национальные различия должны исчезнуть, а национальные языки должны слиться в один общий язык в пределах одного государства, до победы социализма во всемирном масштабе. 1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 374, 377.
2 В. И. Л ени н, Сочинения, т. 22, стр. 135—136.
3 И. В. Сталин, Сочинения, т. 12, стр. 370.
539
Ленин, наоборот, говорил нечто прямо противоположное, а именно, что «национальные и государственные различия между народами и странами... будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе.
...Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком... Ь>
Позже, вовремя дискуссии по марксизму и языкознанию, Сталин развил этот вопрос. Касаясь своего доклада на XVI съезде партии, он писал:
«Что же касается другой формулы... касающейся слияния языков в один общий язык, то здесь имеется в виду другая эпоха, а именно — эпоха после победы социализма во всемирном масштабе, когда мирового империализма не будет уже в наличии, эксплуататорские классы будут низвергнуты, национальный и колониальный гнет будет ликвидирован, национальная обособленность и взаимное недоверие наций будут заменены взаимным доверием и сближением наций, национальное равноправие будет претворено в жизнь, политика подавления и ассимиляции языков будет ликвидирована, сотрудничество наций будет налажено, а национальные языки будут иметь возможность свободно обогащать друг друга в порядке сотрудничества. Понятно, что в этих условиях не может быть и речи о подавлении и поражении одних и победе других языков. Здесь мы будем иметь дело не с двумя языками, из которых один терпит поражение, а другой выходит из борьбы победителем, а с сотнями национальных языков, из которых в результате
1 И. В. Сталин, Сочинения, т. 12, стр. 363—364, 369.
' 540
длительного экономического, политического и культурного сотрудничества наций будут выделяться сначала наиболее обобщенные единые зональные языки, а потом зональные языки сольются в один общий международный язык, который, конечно, не будет ни немецким, ни русским, ни английским, а новым языком, вобравшим в себя лучшие элементы национальных и зональных языков» L Руководящие практические выводы, вытекающие из анализа национального и колониального вопроса в эпоху империализма, были следующим образом суммированы Сталиным:
«Империалистическая война показала, а революционная практика последних лет лишний раз подтвердила, что:
1) национальный и колониальный вопросы неотделимы от вопроса об освобождении во власти капитала;
2) империализм (высшая форма капитализма) не может существовать без политического и экономического порабощения неполноправных наций и колоний;
3) неполноправные нации и колонии не могут быть освобождены без низвержения власти капитала;
4) победа пролетариата не может быть прочной без освобождения неполноправных наций и колоний от гнета империализма.
Если Европа и Америка могут быть названы фронтом, ареной основных боев между социализмом и империализмом, то неполноправные нации и колонии с их сырьем, топливом, продовольствием, громадным запасом человеческого материала должны быть признаны тылом, резервом империализма. Чтобы выиграть войну, нужно не только победить на фронте, но и революционизировать тыл
1 И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1953, стр. 53—54.
541
противника, его резервы. Поэтому победу мировой пролетарской революции можно считать обеспеченной лишь в том случае, если пролетариат сумеет сочетать свою собственную революционную борьбу с освободительным движением трудовых масс неполноправных наций и колоний...» 1
Эти принципы были блестяще продемонстрированы на практике победой социалистической революции в России и Конституцией Союза Советских Социалистических Республик.
Достижения народов СССР
Решающим и вдохновляющим примером в великом движении за освобождение колоний после первой мировой войны явилась победа социалистической революции в России в 1917 году.
Под руководством большевистской партии при новом советском строе были освобождены все национальности, угнетавшиеся при царизме. Перестали существовать какие-либо различия между «передовыми» и «отсталыми» народами. Не было сделано никаких уступок теориям «опеки» и «постепенного продвижения к самоуправлению» отсталых народов, находившихся на низком уровне развития. Наоборот, освобождение рассматривалось как первый шаг на пути к преодолению отсталости и замедленного развития. Все без исключения народы сразу же получили полное равенство в правах и полную национальную свободу, включая право на отделение. В декларации III Всероссийского съезда советов от 24 января 1918 года провозглашалось:
«...Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций... предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собственном пол1 И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 56—57.
542
номочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях»1.
Реальность этого права на отделение была продемонстрирована на практике в 1918 году, когда Финляндия, находившаяся под властью реакционного финского правительства, потребовала независимости. Она тотчас же получила от Ленина полную независимость, тогда как ранее Керенский отказал ей в этом.
Официальное признание национальной свободы и равноправия было, однако, лишь первым шагом. Чтобы осуществить это равноправие на практике, необходимо было добиться, чтобы экономические и культурные условия в областях, являвшихся прежде отсталыми и находившихся при колониальной системе на низком уровне развития, были срочно доведены до уровня наиболее развитых областей. Более развитые в промышленном отношении районы оказали всяческую помощь для ускорения этого процесса преобразования, в особенности для ускорения индустриализации, не на основе капиталистических инвестиций и выплаты процентов, а на основе социалистического сотрудничества. Этот принцип был изложен Сталиным на XII съезде Российской коммунистической партии в 1923 году:
«Необходимо, чтобы, кроме школ и языка, российский пролетариат принял все меры к тому, чтобы на окраинах, в отставших в культурном отношении республиках,— а отстали они не по своей вине, а потому, что их рассматривали раньше как источники сырья,— необходимо добиться того, чтобы в
1 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая III Всероссийским съездом советов 24 (11) января 1918 года. Цитировано по «Истории Советской Конституции в декретах и постановлениях Советского правительства. 1917—1936 гг.», стр. 55—56.
543
этих республиках были устроены очаги промышленности» L
Здесь мы наблюдаем поистине разительный контраст со словами сэра Стаффорда Криппса: «Невозможно рассчитывать на многое в области промышленного развития колоний»; или заявлением Рис-Вильямса: «В наши намерения вовсе не входят попытки создавать повсюду маленькие Ланкаширы».
Эта программа промышленного, экономического и культурного развития была осуществлена на практике. Раньше в царской Российской империи промышленность была сконцентрирована в районе Москвы, Ленинграда, Иваново и т. д., то есть в весьма ограниченном районе, где зарождался и развивался промышленный капитал, державший огромные области, производящие сельскохозяйственную продукцию и сырье, в подчинении промышленному центру. Теперь колоссальное развитие промышленности наблюдается на всей территории Советского Союза. Среднеазиатские республики, народы которых в «Русском справочнике» за 1914 год презрительно именовались «туземными племенами», находящимися на самом низком уровне развития, в настоящее время являются передовыми центрами цивилизации, механизированного сельского хозяйства и промышленности, центрами больших социальных и культурных достижений.
Особенное значение имеет промышленное развитие этих республик, как это можно видеть из следующих данных (см. табл. 38).
Это развитие совершенно преобразило эти страны; масштабы такого развития нельзя найти ни в одной бывшей колониальной стране.
Из отсталых колоний при царизме они превратились в прогрессивные, самоуправляющиеся республики, по уровню развития не уступающие Европейской части СССР или любой промышленной стране в Европе. Уже в 1946 году выпуск промыш1 И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 248.
544
ленной продукции в Казахстане составил 66 процентов общего объема продукции, в то время как в Узбекистане он составил 75 процентов. Это увеличение объема промышленного производства происходило одновременно с огромным ростом сельскохозяйственного производства.
Таблица 38
ВАЛОВОЙ ВЫПУСК ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВЕТСКИХ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ
в 1913-1955 ГОДАХ (прирост В %)
1913—
1955 гг.
1940—
1955 гг.
Узбекистан
1300
194
Казахстан
3200
322
Туркмения
1400
157
Таджикистан ....
2300
176
Киргизия
3700
282
Из статистических данных о народном хозяйстве СССР, 1956.
К 1952 году производство электроэнергии в этих среднеазиатских советских республиках с населением в 17 миллионов человек было в три раза больше, чем в Турции, Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане вместе взятых, с населением в 156 миллионов человек. Другими словами, производство электроэнергии на душу населения в среднеазиатских советских республиках было в двадцать семь раз больше, чем в этих странах, находящихся в империалистической орбите и на уровне развития которых некогда находились среднеазиатские республики. Это является мерилом практических достижений, которые стали возможны благодаря освобождению от империализма и социалистическому строительству.
Научное развитие сельского хозяйства в среднеазиатских республиках не менее поразительно. 18 Р. Палм Датт
545
С ростом ирригационных сооружений, электростанций и увеличением числа современных сельскохозяйственных машин ежегодно отмечается огромный прогресс в области производства продовольствия и сырья для промышленности.
Степень механизации сельского хозяйства можно продемонстрировать на таком факте. К 1952 году в колхозах и совхозах среднеазиатских республик насчитывались 121 тысяча тракторов, 23 тысячи комбайнов, 102 тысячи сеялок, культиваторов и хлопкоуборочных машин и сотни тысяч других сельскохозяйственных машин и орудий. В Советском Узбекистане на каждые 176 акров обрабатываемой земли приходится один трактор, в то время как во Франции один трактор приходится на 353 акра, в Индии — на 32 тысячи акров и в Иране — на 45 тысяч акров. В Англии, население которой в три раза больше, чем население Узбекистана, в 1952 году общее количество комбайнов составило только 16 тысяч.
В 1951 году урожайность хлопка в среднеазиатских советских республиках составила 16,7 центнера с акра по сравнению с 9,1 центнера в Египте, 6,6 центнера — в Соединенных Штатах и 2,7 центнера— в Индии. Общий сбор хлопка равняется общему сбору хлопка в Индии, Египте, Иране, Турции и Афганистане.
Ведутся огромные ирригационные работы и разрабатываются еще более обширные проекты. Так, например, в Киргизии в течение четырех лет 250 тысяч акров пустыни были превращены в пшеничные поля, хлопковые плантации, фруктовые сады и т. д.
Одним из величайших проектов является проект сооружения в Туркмении 700-мильного канала, воды которого дадут жизнь 3 миллионам акрам пустыни L
Все эти огромные изменения повлекли за co6ofi
1 Именно с учетом этих практических результатов ленинской политики в самых отсталых колониальных районах можно полностью оценить типично фабианскую «практическую 546
соответствующие социальные и культурные изменения.
В то время как в соседней Индии после почти двухвекового английского господства 84 процента населения оставалось в 1951 году неграмотным, в среднеазиатских республиках, начавших с еще более низкого уровня (в 1913 году там было только 1—3 процента грамотных), неграмотность сейчас почти полностью ликвидирована.
В Узбекистане до революции грамотные составляли не более 2—3 процентов населения. В 1950 году там была стопроцентная грамотность. В Казахстане в 1914 году грамотные составляли менее 2 процентов, а в 1950 году около 90 процентов населения было полностью грамотным и только 1—2 процента — полностью неграмотными (в то время как в Соединенных Штатах полностью неграмотных насчитывается 2,7 процента). В Туркмении при царизме грамотные составляли лишь 1 процент; сейчас там практически почти 100 процентов насё- ления грамотно. Только немногие жители Туркмении, слишком старые, чтобы учиться, остались неграмотными.
Аналогичный рост наблюдается в области образования и культуры.
До 1917 года в Узбекистане не было школ для детей крестьян и рабочих. В 1955 году там в начальных, неполных средних и средних школах занималось 1339 тысяч детей. Помимо этого, на дневных отделениях в высших учебных заведениях республики училось 65 500 студентов.
В Туркмении с конца второй мировой войны до 1950 года высшие учебные заведения и техникумы выпустили 10 тысяч специалистов. В 1955 году в
мудрость» утверждения Крич-Джонса, уже цитировавшегося выше, что «бегство в философию Ленина... не улучшит питания и не спасет скот от мух цеце в лесном поясе». После войны Казахстан поставил в освобожденные районы 500 тысяч голов крупного рогатого скота, а к концу 1945 года у него было на 4200 тысяч голов скота больше, чем в 1940 году. 18*
547
республике с населением 1400 тысяч человек начальные и средние школы посещало 232 тысячи детей, а дневные отделения высших учебных заведений— 12 200 студентов.
В Казахстане с населением 8,5 миллиона человек в 1955 году школы посещало 1356 тысяч детей, а число студентов дневных отделений высших учебных заведений достигло 49 200 человек. Аналогично в Таджикистане с населением 1800 тысяч в 1955 году насчитывалось 334 тысячи учеников и 14 400 студентов, обучавшихся на дневных отделениях вузов. В Киргизии с населением 1900 тысяч человек было 326 тысяч учеников и 13 600 студентов дневных отделений вузов.
Во всех среднеазиатских советских республиках имеются свои собственные академии наук, университеты, научно-исследовательские институты и т. д.
В 1955 году на дневных отделениях в высших учебных заведениях этих пяти среднеазиатских советских республик с населением 21 миллион человек занималось 155 тысяч студентов, то есть почти в два раза больше, чем в Англии, в которой при населении свыше 50 миллионов человек насчитывалось меньше 80 тысяч студентов. Процентное отношение числа студентов к общей численности населения свидетельствует о наводящем на размышления контрасте не только по сравнению с отсталыми колониальными, зависимыми и слаборазвитыми странами, но и с самыми передовыми капиталистическими странами.
Таблица 39
ЧИСЛО СТУДЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ
(на 10 тыс.
жителей)
Таджикистан
. . 80
Египет . . .
• 12
Туркмения
. . 87
Турция . . .
. . 12
Киргизия . .
. . 72
Англия . . .
. . 16
Узбекистан .
. . 89
Швеция . . .
. . 21;
Казахстан . .
. . 58
Италия . . .
. . 32
Иран ....
. . 3
Дания . . .
. . 34
Индия . . .
. . 9
Франция . .
. . 36
548
В 1954 году в английских колониальных территориях в трех университетах (Гонконг, Малайя и Мальта) и в семи университетских колледжах (Вест-Индия, Нигерия, Золотой Берег, Сьерра- Леоне, Судан, Восточная Африка) насчитывалось 4284 студента, то есть 1 на 20 тысяч населения, что составляет меньше 1 процента от уровня в советских среднеазиатских республиках.
Или возьмем здравоохранение. В Таджикистане с населением около 1,5 миллиона человек число врачей увеличилось с 13 человек в 1914 году до 440 в 1939 году, или более чем в тридцать раз..Количество больничных коек увеличилось с 100 в 1914 году до 3615 в 1939 году, или более чем в тридцать шесть раз. Сравним эти данные с положением в Нигерии (см. таблицу 40).
Таблица 40
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В НИГЕРИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ
Больничные койки
Нигерия 1953 г. — 1 койка на 2606 жителей
Таджикистан 1914 г. — (при царском колониаль¬
ном режиме)
1 койка на 13 тысяч жителей
1939 г. — (после двадцати лет свободного существования в СССР)
1 койка на 408 жителей
Врачи
Нигерия 1953 г. — 1 врач на 66 тысяч жи¬
телей
Таджикистан 1914г. — 1 врач на 100 тысяч жи¬
телей
1939 г. — 1 врач на 3400 жителей
Таким образом, исходные условия в Таджикистане при царизме были значительно хуже, чем сейчас в африканской колонии при британском гос549
подстве. В течение жизни одного поколения при свободном советском строе Таджикистан достиг уровня, не уступающего уровню развитых европейских стран. Какая страна в мире (не говоря уже о колониях), кроме Советского Союза, может продемонстрировать такие темпы развития?
К 1952 году, в Узбекистане один врач приходился на 895 жителей, в Египте — 1 врач на 4350 жителей, тогда как во Франции 1 врач приходился на тысячу жителей, а в Голландии — на 1160 жителей.
Более свежие данные делают этот контраст еще более разительным. В 1913 году на территории, занимаемой сейчас пятью среднеазиатскими советскими республиками, насчитывалось 493 врача. К 1955 году количество их возросло в 50 с лишним раз и составило 24 827. В подобной мере возросло и количество больничных коек. В 1913 году их было 3300, а к 1955 году— 132 600, то есть возросло в 40 с лишним раз.
Не менее показателен метод финансирования этой гигантской перестройки. При империализме огромная ежегодная дань взимается с задавленных нуждой отсталых народов, находящихся под колониальным господством, в пользу богатого эксплуататорского класса колониальных держав. Лицемерное возвращение нескольких пенсов на душу населения в целях «развития и повышения благосостояния колоний» лишь сильнее подчеркивает размеры награбленного, из которого берут эти несколько пенсов на дешевую благотворительность. При социализме дополнительные расходы, связанные с быстрым экономическим и культурным развитием отсталых народов, покрываются постоянными и непропорционально большими ассигнованиями из расходной части всего бюджета СССР, так что в течение переходного периода эти народы постоянно получают больше, чем дают, то есть происходит нечто совершенно обратное «выколачиванию средств» из колоний.
Так, например, в бюджете СССР на 1927/28 год, до первых пятилетних планов, ассигнования на фи550
нансирование экономического развития составляли 1,65 рубля на душу населения в РСФСР и 8,9 рубля на душу населения в Туркмении; ассигнования на культурно-бытовые нужды составляли 2,16 рубля на душу населения в РСФСР и 3,84 рубля— в Туркмении. Точно так же бюджет Российской Федерации включал 18,8 процентов доходов, полученных на ее территории, а бюджет Таджикистана — 100 процентов.
Таким образом, ранее господствовавшая русская нация, более богатая и более развитая, получала меньше, а давала больше. Эксплуатировавшиеся ранее колониальные народы, нужды которых были больше, давали меньше, а получали больше до тех пор, пока они не догнали остальных. Излишки получаемых доходов шли не бывшей господствующей стране, а бывшей колониальной стране, и притом безвозмездно, без начисления какого-либо долга.
Таково отличие социалистической экономики от экономики капиталистической. Мы видим здесь чудо, которое поистине заставило цвести пустыню и накормило голодных. Короче говоря, мы видим здесь на практике живой контраст между империалистической колониальной эксплуатацией и осуществлением социалистического принципа равноправия наций, когда более отсталым нациям помогают быстро достигнуть уровня наиболее передовых.
Удивительно ли, что подобное сопоставление оказывает огромное влияние на колониальные народы во всем мире? Контраст между полным отсутствием дискриминации из-за цвета кожи или расовой принадлежности в Советском Союзе, где пропаганда расовой ненависти является уголовным преступлением, и ужасами и жестокостью «цветного барьера» в Соединенных Штатах и Британской империи должен неизбежно оказывать влияние на большинство человечества, не принадлежащее к белой расе, и давать ему иное представление о спорах вокруг «демократии» и «прав человека», чем 551
то, какое придается им малочисленной кучкой белых империалистов, объявляющих себя защитниками «цивилизации» и «свободы»1.
Равноправие и быстрое развитие бывших колониальных территорий старой царской империи, и в особенности среднеазиатских республик, не могуг не вызывать негодующих размышлений у всех колониальных народов, неизбежно побуждая их к горькому сравнению с застоем и эксплуатацией, царящими во всех колониях при империализме. Однако это рождает также светлую надежду и уверенность в грядущем развитии, которое может быть достигнуто во всех без исключения колониальных странах, когда там будет сброшено иго империализма и колониальный народ станет хозяином собственной страны.
Экономическая помощь социалистических стран
Роль социализма в разрешении проблем освобождения народов от колониального и национального гнета и в создании условий для наиболее быстрого перехода от отсталой колониальной экономики к высшему экономическому и общественному уровню была впервые продемонстрирована Советским Союзом на опыте развития народов бывшей царской колониальной империи.
После второй мировой войны эта роль социализма проявилась в более широких масштабах. В результате победы народов над фашизмом в Европе и победы китайской народной революции социализм, ранее ограниченный рамками одной страны, превратился в мировую систему, охватываю1 Интересно отметить, что из Страсбургской декларации о «правах человека» так называемой «Европейской ассамблеи» (более правильно было бы назвать ее музеем реакционных пережитков и скопищем американских марионеток из обломка Европы) был преднамеренно исключен термин «заморские территории».
552
щую, помимо Советского Союза, Китайскую Народную Республику и страны народной демократии Восточной Европы. Экономическое развитие всех этих стран, народы которых недавно добились свободы и вступили на путь социалистического строительства, сдерживалось империализмом, и они находились в отсталом состоянии. Китай был полуколониальной страной, находившейся в тисках империалистических эксплуататоров и их агентов внутри страны. Странам Восточной Европы была отведена роль аграрных придатков промышленных стран Западной Европы.
Поэтому необходимость преодоления наследия экономической отсталости и перехода на путь индустриализации и современного технического развития поставила все эти страны перед разрешением самых неотложных проблем. Как раз здесь еще раз проявилась способность полностью развитой социалистической экономики и социалистического государства оказывать помощь слаборазвитой стране в деле быстрого преодоления ее отсталости. В течение пяти лет, с 1951 по 1955 год, Советский Союз оказал помощь Китайской Народной Республике и странам народной демократии Восточной Европы в строительстве 547 промышленных предприятий с законченным циклом производства и ста с лишним отдельных цехов, предоставив им долгосрочные кредиты на общую сумму 26,6 миллиарда рублей, или 2660 миллионов фунтов стерлингов.
В самое последнее время этот принцип экономической помощи социалистических стран получил дальнейшее развитие. Экономическая мощь стран социализма позволила им оказывать помощь бывшим колониальным, ныне независимым странам, добившимся освобождения от империалистического господства или контроля и вступившим на путь разрешения задач экономической реконструкции, но унаследовавшим отсталую экономику, развитие которой искусственно тормозилось империализмом.
Всеобщее внимание к этому новому явлению впервые привлекло индо-советское соглашение, под553
писанное в окончательном виде в марте 1956 года Это соглашение предусматривало строительство металлургического завода в Индии мощностью в 1 миллион тонн стали в год ( с последующим доведением мощности до одного и одной трети миллиона тонн) на основе оказания Советским Союзом помощи промышленным оборудованием, специалистами и дешевым долгосрочным кредитом.
В последующий период это новое явление получило свое дальнейшее воплощение в соглашениях, заключенных Советским Союзом, Польшей, Чехословакией, остальными странами народной демократии Европы и Китаем с другими странами. Примерами могут служить соглашение между Советским Союзом и Индией об оказании помощи в развитии добычи индийской нефти и алмазов; соглашение с Бирмой об оборудовании Советским Союзом технологического института в Бирме и о выполнении проектных работ для строительства в Бирме металлургического завода и нескольких фабрик; соглашение о строительстве элеватора, мукомольного завода и хлебозавода в Афганистане; аналогичные предложения об оказании помощи были сделаны Цейлону, Индонезии, Турции и другим странам.
Эта экономическая помощь слаборазвитым странам заложила новый принцип в отношении передовых промышленных социалистических стран к странам слаборазвитым, чью экономику империализм держал в отсталом состоянии. Экономическая помощь социалистических стран по целому ряду основных моментов отличается от той формы «помощи» или «развития», от экспорта капитала, безвозмездных субсидий или кредитов, предоставляемых империалистическими государствами и финансовыми концернами отсталым странам.
Во-первых, экономическая помощь социалистических стран предоставляется без каких-либо военных и политических условий. Для контраста стоит указать, что Соединенные Штаты из громадной суммы, которая по первоначальным наметкам составляла 4860 миллионов долларов, выделенной в 1956 году 554
на оказание «помощи» иностранным государствам, 83 процента, согласно официальным сообщениям, истратили на оказание «военной помощи», а оставшуюся шестую часть — для оказания «экономической помощи». Эта «помощь» была подчинена достижению политических и стратегических целей американской внешней политики. Фактически она была в основном выделена для поддержания прогоревших режимов Чан Кай-ши, Ли Сын Мана и Нго Дин Дьема. Подобным же образом частные займы Международного банка реконструкции и развития, а также и других учреждений обусловливались предоставлением контроля над внутренней экономической политикой страны-получателя.
Во-вторых, экономическая помощь стран социалистического лагеря ставит своей задачей оказание помощи в развитии независимой экономики страны-получателя, особенно способствуя ее индустриализации, являющейся основой независимой экономики. Это совершенно новая черта. Старые, известные формы экспорта капитала, вложений, займов, кредитов или безвозмездных ссуд со стороны империалистических держав колониальным или слаборазвитым странам преследовали цель не создания условий для развития самостоятельной экономики данной страны, а, наоборот, закрепления ее зависимости, усиления коммерческого проникновения и выкачки из страны сырьевых материалов, обрекая ее население на нищенское существование.
В-третьг/х, экономическая помощь социалистических стран предоставляется на условиях, которые не втягивают страну-получателя в экономическую зависимость от страны-кредитора. Социализм при экспорте капитала не ставит тех задач, которые преследуют вкладчики империалистических стран, то есть получения дани. Странами социализма долгосрочные кредиты предоставляются из расчета 2 процента годовых, в то время как Международный банк реконструкции и развития требует 4 процента, а частные иностранные финансовые фирмы — значительно более высокий процент. Условия 555
йогашения удобны для страны-должника, так как позволяют производить выплату в национальной валюте или товарами, являющимися основными статьями ее экспорта, не требуют погашения в иностранной валюте, а это не приводит к сокращению валютных запасов страны-должника. Так, министр промышленности Бирмы заявил в 1956 году, что Советский Союз предложил оказать помощь Бирме в осуществлении ее планов индустриализации и электрификации сельских районов с погашением долга рисом, который Бирма имеет в излишке. Англия же потребовала производить погашение задолженности в иностранной валюте, в то время когда валютные запасы Бирмы уже сократились до 30 миллионов фунтов стерлингов и составляли две пятых от их общей суммы в 1951 году.
Не удивительно, что при этих условиях экономическая помощь страны социализма вызвала живейший интерес у правительств и народов всех слаборазвитых стран, добивающихся осуществления задач национальной реконструкции.
Стоит также отметить, что пример экономической помощи, поданный социалистическими странами, принудил империалистические страны предпринять попытки вступить с ними в конкуренцию.
Спустя месяц после заключения в марте 1956 года индо-советского соглашения о строительстве металлургического завода последовало сообщение о заключении подобного соглашения между Индией и консорциумом английских фирм. Причем английский консорциум был вынужден пересмотреть свои условия в свете условий, предложенных Индии Советским Союзом, уменьшить стоимость строительства и предоставить Индии ссуду из расчета 6,5 процента. Таким образом, новый, революционный принцип оказания помощи развитой промышленной страной слаборазвитой стране, позволяющий последней создавать свою собственную, независимую экономику посредством индустриализации страны, начал теперь прокладывать себе путь не только там, где речь идет о помощи социалистической стра556
ны, но также и там, где речь идет о той помощи (возникшей под влиянием социалистического государства), которую глава правительства Советского Союза Н. С. Хрущев охарактеризовал иронически и справедливо как косвенную помощь Советского Союза, исходящую из империалистических стран.
Тот факт, что социалистический мир в состоянии экспортировать самое совершенное капитальное оборудование для крупных промышленных предприятий, должен был признать и капиталистический мир. Так, в отчете секретариата организации «Общее соглашение о торговле и тарифах» за 1955 год, опубликованном в июне 1956 года, говорится, что «у стран Восточной Европы благодаря их более совершенному техническому сотрудничеству могут оказаться преимущества в конкурентной борьбе за поставки капитального оборудования перед главными промышленными странами Запада».
Эти новые явления открывают перед миром новую перспективу экономического и политического прогресса.
Социализм не только указал угнетенным нациям путь освобождения от империализма, но и оказал огромное влияние на победу национально-освободительной борьбы во всех странах. Социализм ныне показал также те возможности для экономической помощи, которыми обладает социалистический лагерь в деле скорейшего развития молодых независимых стран, позволяющие им избавиться от наследия отсталой колониальной экономики и достичь как политической, так и экономической независимости. Это открывает перед миром новое будущее.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ПУТИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ КОЛОНИЙ
Братья по страданиям, братья по борьбе!
У нас с вами общие враги, общие угнетатели, общие надежды и общие цели в борьбе.
«Пиплз пейпэр», 8 марта 1856 года.
После первых побед, одержанных колониальными народами под влиянием русской революции 1917 года, прошло уже почти 40 лет.
За эти четыре десятилетия произошли огромные изменения в международной обстановке и в самом характере национально-освободительного движения. Эти изменения требуют новой оценки как дальнейшего развития национально-освободительного движения, так и его непосредственных задач в свете общих принципов социалистического подхода к этому движению, изложенных в предыдущей главе.
Победа китайской революции, появление независимой Индии, образование новых государств, свободных народов, как Корейская Народно-Демократическая Республика и Демократическая Республика Вьетнам, завоевание^национальной независимости целым рядом стран Азии и Ближнего Востока и расширение масштабов освободительного движения во всех колониальных странах — все эти новые факторы совершенно изменили условия борьбы народов за освобождение от ига империализма.
Не менее важное значение имеет и изменение соотношения сил на международной арене. Усиление лагеря социализма и мира, в который входят двенадцать социалистических государств, насчитывающих более одной трети населения земного шара; сужение сферы действия империализма и господство в ограниченном империалистическом лагере 558
американского империализма; активные военностратегические мероприятия империализма, стремящегося к сохранению своего господства и даже к расширению агрессивных действий, что нашло выражение в военных пактах и колониальных войнах; рост организованности и сплоченности азиатских и африканских народов в общей борьбе против империализма и его военных планов, что было ярко выражено на Бандунгской конференции, собравшей представителей большинства населения земного шара; развитие дружественных отношений между странами социализма и недавно обретшими свою независимость странами Азии и Африки в борьбе за мир и экономическое сотрудничество в условиях расширения экономической помощи со стороны социалистических стран—все эти факторы создают новую обстановку и открывают новые перспективы для национально-освободительной борьбы.
Речь идет прежде всего о связи национально-освободительной борьбы с борьбой за мир; о новых чертах борьбы за национальную независимость и в самой концепции национальной независимости; о создании единого национального фронта и роли коммунистических партий в колониальных и зависимых странах; о задачах союза рабочего класса метрополии с национально-освободительным движением в колониях для совместной борьбы против империализма, за мир, национальную независимость, демократию, социальный и экономический прогресс.
Национальная независимость и мир
Расширение борьбы за мир и мирное сосуществование, ослабление международной напряженности, усиление сопротивления военным планам империализма, новое соотношение сил в самом империалистическом лагере, выразившееся в господстве американского империализма, создали важные новые условия для борьбы за национальное освобождение.
559
Борьба за мир — общая задача всех народов во всех странах мира; она в равной мере касается народов империалистических стран, народов, недавно обретших свою независимость, и народов колоний.
Раньше боевое крыло национально-освободительного движения считало, что противоречия между империалистическими державами и даже империалистические войны создают наиболее благоприятные условия для успеха национально-освободительной борьбы. В доказательство этого приводили бурное развитие освободительного движения в колониях после первой и второй мировых войн. Подобная точка зрения может привести к выводу, что третья мировая война представляет угрозу только империалистическим странам, а народам колониальных и зависимых стран она открывает широкие возможности. Такой вывод таит в себе огромную опасность и противоречит подлинным интересам борьбы за национальную независимость.
Верно, в прошлом, когда империализм господствовал над всем миром, то есть до победы социализма и образования лагеря мира и демократии, противоречия между империалистами в некоторой степени представляли благоприятную возможность для восстания угнетаемых ими народов. Но это положение неприменимо в такой же мере в нынешней международной обстановке. Мир теперь раскололся на два лагеря — лагерь империализма и войны и лагерь социализма, мира и демократии. Интересы всех народов — как империалистических стран, так и колониальных и бывших колониальных стран — связаны с лагерем социализма, демократии и мира, возглавляемым СССР и Китайской Народной Республикой, и с победой задач мирного сосуществования.
Не сама первая мировая война, возникновение которой было несчастьем для всех без исключения народов, привела к мощному послевоенному движению в колониях, а победа первой социалистической революции, родившейся в борьбе против империалистической войны. Не развязанная Гитлером вто560
рая мировая война, также явившаяся бедствием для всех народов, дала толчок нынешнему могучему подъему борьбы во всем колониальном мире, а победоносная антифашистская борьба всех народов во главе с Советским Союзом и последующая победа китайской народной революции.
Новая мировая война — угроза для всех без исключения народов. Нет такого места, нет такого уголка на земле, который мог бы считать себя в безопасности или недосягаемым во время войны. Военно-стратегические планы империализма направлены главным образом против колониальных и бывших колониальных территорий. Об этом свидетельствует стремление империалистов создать на Среднем Востоке целую систему военных союзов марионеточных и диктаторских правительств под контролем Запада. Об этом говорят и щедрые расходы империалистов в Африке, преследующие цель превращения ее в военную базу; об этом свидетельствуют попытки американцев втянуть Пакистан в орбиту своих военных союзов, ибо это делается не только из-за стратегического значения Пакистана, но и для того, чтобы оказывать нажим на Индию.
С точки зрения агрессивных, стремящихся к войне сил империализма Африка, Средний Восток, Индия, Пакистан и Юго-Восточная Азия—это важные стратегические районы. Экономическое бремя подготовки к войне и перевооружения безжалостно перекладывается на плечи колониальных и зависимых народов. Именно эти районы считаются решающими с точки зрения получения стратегического сырья для перевооружения. Во имя выполнения военных планов богатства колониальных стран подвергаются безудержному грабежу и расхищению. Главным образом за счет непрерывно усиливающейся эксплуатации народов колоний империалисты покрывают расходы на подготовку к войне.
Военные планы империализма угрожают всем народам, и народы должны противопоставить этим планам победу лагеря мира, принципов мирного сосуществования и сотрудничества государств и 561
как следствие этого ослабление международной напряженности и ограничение вооружений. Это создало бы исключительно благоприятные условия для развития борьбы народов колониальных и зависимых стран за национальную независимость. Главная основа для гонки вооружений и для увеличения вооруженных сил, которые фактически используются сейчас против народов колониальных стран и национально-освободительного движения, была бы устранена; появилось бы стремление к мирному урегулированию и удовлетворению национальных чаяний народов колоний. Организация Объединенных Наций, которая в период «холоднрй войны» превратилась в послушную машину империалистической агрессии, приступила бы к исполнению своей подлинной роли — защитника мира и прав всех наций. Победа лагеря мира над наиболее оголтелыми военно-агрессивными силами послужила бы мощным толчком для развития демократических и прогрессивных сил во всех странах.
Таким образом, народы колониальных и зависимых стран и народы империалистических стран одинаково заинтересованы в победе сил мира.
Нельзя ставить знак равенства между борьбой за мир и борьбой за национальную независимость, но эти две формы борьбы взаимосвязаны. Борьба за мир, естественно, тесно связана с борьбой за национальную независимость, поскольку в последнем десятилетии велись и ведутся главным образом колониальные войны и стремление к переделу мира является основной силой, толкающей империалистов на войну. В той же мере борьба колониальных и полуколониальных народов за свою независимость является неотъемлемой частью борьбы за мир. Восстание негров в Кении серьезно осложнило осуществление Англией военных планов, направленных на превращение Кении в главную опорную базу всего района Индийского океана, Среднего Востока и Африки. Это же относится и к Кипру, население которого своим упорным сопротивлением затрудняет превращение острова в военную 562
базу империалистов для укрепления господства на Среднем Востоке. Усиление борьбы вьетнамского и малайского народов наряду с освободительной войной корейского народа расстроило открыто провозглашенные планы империалистов превратить эти конфликты в большую войну на Дальнем Востоке. И, наконец, пример Индии показывает, как народ, сбросивший иго империализма, может играть выдающуюся роль в борьбе за мир.
Итак, борьбу за мир можно с полным основанием назвать общей борьбой, в победу которой каждый народ может внести свой вклад.
Новые аспекты борьбы за национальную независимость
Господство американского империализма в империалистическом лагере создало новую обстановку в мире, которая внесла существенные изменения в характер борьбы за национальную независимость. Раньше народы Британской империи боролись в основном только против английского империализма, так же как народы Французской Северной Африки боролись против французского империализма, а народы Пуэрто-Рико и Филиппин — против американского. Теперь положение изменилось. Американский империализм установил свое господство в империалистическом мире и в весьма значительной степени втянул в свою орбиту английскую и французскую империи. Следовательно, борьба народов Британской империи за свою независимость является не только борьбой против английского империализма, она одновременно является борьбой против американского и английского империализма.
Это новое положение нельзя не учитывать. Ибо если руководители национально-освободительного движения станут относиться к американскому империализму как к своему потенциальному союзнику только потому, что он является соперником их врага и угнетателя, то они могут тем самым нане- 563
стй непоправимый ущерб этому движению. Американские империалисты пользуются теми же методами, какими пользовались во время войны партнеры по «оси» Германия—Италия—Япония. Они тоже прибегали к подкупу и демагогии и поддерживали на словах национальные чаяния народов только для того, чтобы проникнуть в национально-освободительное движение и таким образом облегчить установление своего господства в колониях. Американские империалисты пытаются всяческими путями насаждать своих агентов, подкупить или привлечь на свою сторону реакционную часть руководства национально-освободительного движения во всех колониальных и зависимых странах. Борьба за национальную независимость в порабощенных странах Британской империи сочетает в себе борьбу против непосредственного господства английских империалистов и борьбу против проникновения американских империалистов.
Другим важным моментом, вытекающим из новой международной обстановки, является более глубокое понимание значения национальной независимости. Выше уже указывалось, что формальное юридическое или дипломатическое признание независимости того или иного государства не обязательно означает, что это государство действительно получило полную независимость. Формальное признание суверенитета может сопровождаться серьезными ограничениями в форме военных договоров, предоставления баз империалистам или экономического вмешательства. Чтобы формальная независимость стала действительной, необходимо преодолеть все эти ограничения. Ирак Иордания и Ливия могут служить наглядным примером.
Далее также следует на фоне действительных отношений, существующих в современной мировой обстановке, рассмотреть и некоторые другие стороны этой проблемы. В новой международной обста-
1 Имеется в виду зависимое положение Ирака, существовавшее до революции 14 июля 1958 года.—Прим. ред. 564
новке вопрос о полной национальной независимости того или иного государства должен определяться не только его действительным отношением к бывшей господствующей державе, но и его отношением к империалистическому лагерю в целом. Включение государства в империалистические военные блоки означает на практике существенное ограничение национальной независимости данного государства.
И, наоборот, если народу какого-либо государства удается добиться отделения от империалистического военного лагеря и присоединения к борьбе за мир, то он тем самым еще больше расширяет и укрепляет свою независимость.»Это можно проследить наиболее отчетливо на примере Индии, которая стала политически независимым государством в 1947 году. Однако, несмотря на достижение политической независимости, она все же во многих отношениях оставалась в экономической и стратегической орбите английского империализма. Но' победа китайской революции в 1949 году, оказавшая огромное влияние на соотношение сил в Азии, и растущая роль Индии в борьбе за всеобщий мир значительно укрепили независимую позицию Индии на международной арене и в то же время упрочили ее внутреннее положение. Страна встала на путь обеспечения полной экономической независимости через индустриализацию.
Народная демократия и национальная независимость
События последнего периода, и особенно опыт Китайской Народной Республики, расширили представление о том, какой должна быть наиболее действенная форма подлинной национальной независимости.
Раньше считали, что конечной целью борьбы за национальную независимость является создание независимой буржуазно-демократической республики, 565
Добившейся отделения от бывшей господствующей империалистической державы. Однако опыт (в частности, латино-американских республик) показывает, что при тесных экономических и других связях верхушки буржуазии данной страны с империалистами создание буржуазно-демократической республики, руководимой буржуазией, не ведет к подлинной национальной независимости, а является для империалистов только более удобной формой закабаления страны.
Поэтому для завоевания полной независимости необходимо добиться поражения этой верхушки буржуазии, феодалов или других эксплуатирующих прослоек, связанных с империализмом, и вырвать экономические богатства бывшей колониальной страны из лап империализма. Под руководством реакционной части буржуазии, связанной с империализмом, этого сделать нельзя. Этого может добиться только единый национальный фронт, объединяющий в общей борьбе против империализма все слои антиимпериалистически настроенной национальной буржуазии, рабочего класса, крестьянства и городской мелкой буржуазии. На высшем этапе руководящую роль в таком национальном фронте должен играть рабочий класс в союзе с крестьянством, с тем чтобы довести до конца демократическую революцию против феодалов и империалистов и идти вперед к достижению полной экономической и политической независимости от империализма.
Эта последняя стадия достижения полной экономической и политической независимости от империализма не исключает возможности того, что на переходных этапах национальная буржуазия, несмотря на ее противоречивую роль, сохраняет руководство в национальном фронте, когда развертывается борьба за завоевание и упрочение независимости, за мир и первоначальные экономические преобразования. Но это только временный этап.
События последнего периода, и особенно опыт Китайской Народной Республики, говорят о том, 566
что наилучшей формой, которую может принять национальный фронт на последней стадии борьбы за достижение полной экономической и политической независимости от империализма является форма народной демократии. Опыт китайской революции и Китайской Народной Республики, накопленный под руководством коммунистической партии, указал путь к созданию единого национального фронта из четырех классов — рабочего класса, крестьянства, интеллигенции и городской мелкой и национальной буржуазии. Такой фронт обеспечивает победу демократической революции против феодалов и империалистов и создание на этой основе новой формы правления — государства народной демократии. Этот же опыт показал, как на этой основе следует приступать к реконструкции страны, к ликвидации отсталости — последствий феодальных и полуколониальных порядков,— к завершению аграрной революции, к широкой индустриализации, к повышению уровня жизни, к вовлечению всего народа в творческую деятельность по перестройке страны и, таким образом, к подготовке условий для дальнейшего движения по пути к социализму. Народная демократическая республика оказалась наилучшей формой как для достижения полной национальной независимости, так и для прогрессивного развития страны.
Коммунистические партии Индии, Индонезии и других стран предусматривают в своих программах эти перспективные задачи народной демократии для осуществления полной независимости, демократического, экономического и социального преобразования своих стран.
Единый национальный фронт и коммунистическая партия
Из всего этого следует извлечь серьезные уроки для развития национально-освободительного движения. Они указывают тот путь, по которому 567
должно пойти национально-освободительное движение, чтобы добиться победы над империализмом. Для этого надо создать широкий демократический национальный фронт под руководством рабочего класса, основой которого должен быть союз рабочего класса и крестьянства, и вовлечь в него самые широкие слои населения.
Опыт многих стран уже после победы китайской революции указывает путь создания такого широкого демократического национального фронта, где ведущая роль принадлежит рабочему классу. Этот опыт показывает, как в определенных условиях такой путь борьбы может привести к созданию временных коалиционных правительств демократического единства, опирающихся на широкий демократический фронт, для достижения неотложных задач в борьбе за демократию, мир, экономические и социальные преобразования и национальное освобождение. Это переходный этап к завоеванию полной независимости и к установлению народной демократии.
Душой этого движения являются рабочий класс и коммунистические партии. Современное развитие империализма неизбежно ведет к созданию рабочего класса и его росту во всех колониальных и полуколониальных странах. Этот процесс происходит также и в Африке, особенно в западной и южной ее части — в Северной и Южной Родезии и в Кении. Несмотря на все препятствия, рабочий класс колоний усиливает свою активность, создает профсоюзы и политические партии, борется за осуществление минимальных экономических и социальных требований и демократических прав и играет важную роль в национально-освободительном движении, являясь наиболее последовательным и стойким борцом против империализма.
Многие колониальные и зависимые страны достигли той стадии развития, в условиях которой все отчетливее проявляется роль рабочего класса как наиболее последовательного руководителя борьбы за национальное освобождение и за все 568
жизненные интересы большинства населения, против компромиссов верхушки национальной буржуазии.
Для успешного выполнения этой роли необходимо прежде всего создание и укрепление коммунистических партий, политических партий рабочего класса, в которые надо вовлекать наиболее активную часть крестьянства и национально-освободительного движения. Они должны руководствоваться принципами марксизма-ленинизма, ибо только в этом случае смогут довести борьбу колониальных и зависимых народов до победного конца.
Из этого следует общий вывод для нынешнего этапа развития национально-освободительного движения. Там, где классовое расслоение зашло достаточно далеко и уже сложился рабочий класс, в таких странах для наиболее эффективной организации и руководства борьбой за национальное освобождение нельзя ограничиваться только созданием широкого национального фронта против империализма. Внутри самого этого фронта руководящая роль должна принадлежать рабочему классу и его политической партии, которые должны создать и укрепить союз рабочего класса и крестьянства в качестве основы единого национального фронта, охватывающего рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию и городскую мелкую буржуазию, а также национальную буржуазию. Такова генеральная линия, при осуществлении которой следует всегда учитывать сложившиеся формы борьбы и степень ее развития в каждой данной стране.
Однако национально-освободительное движение в каждой отдельной стране не может победить самостоятельно, ибо борьба против империализма носит международный характер. В борьбе против господства английского империализма, скажем, исключительно важное значение будет иметь тесный союз английского рабочего класса и национально-освободительного движения во всех колониях и зависимых странах.
569
Действенная солидарность
В нынешней международной обстановке, когда кризис английской империалистической системы все больше обостряется, а революционная волна во всех находящихся еще под английским господством колониях и полуколониях нарастает, рабочий класс Англии должен активно и решительно выступить на стороне угнетенных народов и создать прочный союз с ними для совместной борьбы против империализма и для победы над ним. Выполнение этого долга английским рабочим классом приобрело сейчас более важное значение, чем когда-либо раньше, для определения судьбы самой Англии и судьбы социализма в Англии.
Господство американского империализма в империалистическом лагере и уступки английских правителей этому господству в последнее десятилетие привели к явному ослаблению национального суверенитета Англии перед лицом широкого американского вмешательства, экономического и политического давления и прямой военной оккупации. В результате политики своих правителей английский народ оказался в значительном политическом, экономическом и военном подчинении правящих кругов Соединенных Штатов Америки. То же самое произошло за этот период и с народами
Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Следовательно, борьба за национальную независимость народов Британской империи приобретает новое, более широкое значение. Прежде борьбу за национальную независимость вели только колониальные и зависимые народы Британской империи. Истинные интересы и долг английского рабочего класса и рабочих доминионов, давно получивших независимость, заключались в том, чтобы оказывать им поддержку в этой борьбе. Теперь же борьба за национальную независимость—какие бы формы она ни принимала и на каких бы стадиях она ни находилась — стала общей борьбой всех народов Британской империи, в том числе и 570
народов Англии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Связь становится более тесной. Давно высказанное Марксом положение, что народ, порабощающий другие народы, кует цепи и для себя, полностью подтвердилось в новой, изменившейся обстановке. В конечном итоге издержки сохранения империализма привели к ослаблению национальной независимости английского народа. В этих условиях английский народ начинает все более ясно понимать значение борьбы за национальную независимость.
Союз между английским рабочим классом и национально-освободительным движением народов колоний и зависимых стран может стать эффективным лишь в том случае, если английский рабочий класс открыто выступит против политики своих империалистических правителей, решительно поддержит в каждом случае национальную борьбу и восстание угнетенных народов, на практике осуществит свою солидарность с ними и окажет им помощь, особенно помощь борьбе рабочего класса колониальных и зависимых стран.
Чтобы такая политика была действенной, рабочий класс должен постоянно и активно откликаться на многочисленные события, происходящие на колониальном фронте. В интересах рабочего движения Англии необходимо оказывать решительное сопротивление колониальным войнам и режиму империалистического насилия, типичным проявлением которых в последний период были войны в Малайе, Кении, на Кипре, репрессии в Британской Гвиане и других колониальных территориях и поддержка открытых диктаторских режимов террора, как, например, в Ираке1.
1 Режим, существовавший в Ираке до 14 июля 1958 года. — Прим. ред.
Профсоюзы и колонии
Чтобы иметь возможность проводить в жизнь политику солидарности, необходимо оказывать всяческую помощь развитию профсоюзного и рабочего движения в колониальных странах. Где бы ни применялись карательные законы и правила, которые либо запрещают забастовки, либо ограничивают элементарные права профсоюзов (а в той или иной форме это имеет место в каждой колонии, находящейся под английским господством), элементарным долгом английских профсоюзов является выражение солидарности с профсоюзами стран, угнетаемых Англией, и борьба за отмену этих дискриминационных постановлений и антипрофсоюзных законов здесь, в Англии, где находятся власти, навязывающие эти законы колониям.
И в этом отношении Всемирная федерация профсоюзов с ее 80 миллионами членов, представляющая большинство членов профсоюзов во всем мире, связанная с профсоюзными движениями большинства колониальных и полуколониальных стран, играет первостепенную роль в развитии международного профсоюзного движения. Выход из нее Британского конгресса тред-юнионов и американских профсоюзов под влиянием агрессивной политики возглавляемого США империалистического блока и попытка проводить подрывную тактику раскола в профсоюзном движении других стран явились ударом по международной солидарности профсоюзов. Необходимо приложить все усилия, для того чтобы преодолеть раскол и восстановить международное профсоюзное единство.
Большинство членов профсоюзов в Англии имеет мало возможностей получать информацию о том, каким образом английские империалистические правители при активной помощи правого руководства английских профсоюзов подвергают нападкам и подавляют элементарные права профсоюзов и их деятельность в колониях и даже используют специальных представителей, вербуемых из рядов 572
правого руководства, для подрыва профсоюзов в колониях. Не считая прямых правительственных расходов и щедрых денежных средств, предоставляемых США для этой цели и направляемых через правое руководство американских профсоюзов, создаются также фонды по подписке среди членов профсоюзов Англии, направляемые через генсовет Британского конгресса тред-юнионов номинально для «оказания помощи» развитию профсоюзов в колониях на «здоровой» основе, а фактически для борьбы с их боевым профсоюзным движением.
До второй мировой войны почти во всех колониях профсоюзы были фактически запрещены. В 1930 году на всех колониальных территориях насчитывалось всего три зарегистрированных профсоюза, и то их терпели потому, что они были послушными и пассивными. Рабочие колоний создавали свои профсоюзные организации, несмотря на постоянные репрессии, аресты их руководителей и применение вооруженной силы. И все же вопреки всем репрессиям забастовочное движение росло и организация профсоюзов продолжалась.
Поэтому империалистическим правителям пришлось изменить свои методы. Поскольку их попытки не допустить развития профсоюзного движения в колониях провалились, они стали прибегать к политике строгого правительственного контроля над разрешенными профсоюзными организациями, безжалостно подавляя в то же время подлинно независимые и боевые профсоюзы. Эта новая политика нашла свое выражение в ряде официальных докладов в тридцатых годах и позже и особенно в докладах комиссии Мойна в 1938—1939 годах о забастовках и демонстрациях, происходивших в Вест-Индии в 1937 году; комиссии, расследовавшей причины забастовки негров-рабочих медных рудников в Северной Родезии в 1941 году; комиссии по установлению причины беспорядков в Восточных провинциях Нигерии в 1949 году; а также в ряде других аналогичных официальных документов. Эта политика была определена в меморандуме о
573
«Профсоюзах в африканских колониях», представленном Р. Луйтом, который впоследствии стал профсоюзным советником в Северной Родезии, а затем инспектором по трудовым делам в Кении. В меморандуме говорилось:
«Африканские рабочие, среди которых быстро растет сознание того, что для своей же пользы им необходимо организоваться и действовать коллективно... действительно организуются и будут действовать коллективно независимо от того, разрешат ли им это или нет правительства, предприниматели или кто доугой. А такие неразрешенные, вероятно нелегальные, коллективные действия и организации, в силу того что они нелегальные и никем не признанные, будут возглавляться людьми более революционными, более безответственными и менее благоразумными, чем руководители разрешенных и признанных профсоюзов».
Аналогичные объяснения, почему политика «поощрения ответственных профсоюзов» теперь, когда появились независимые боевые профсоюзы, созданные рабочими, стала неизбежной, даются и в докладе (1948 год) члена парламента С. С. Обери и Ф. У. Дэли «Рабочие и профсоюзные организации в Малайской федерации и в Сингапуре».
«Прежде всего,— говорится в докладе,— организации, претендующие на право представлять рабочих, уже существуют. Поэтому встает вопрос: а) следует ли поощрять ответственные профсоюзы или создавать их там, где их нет, установив определенную систему регистрации; б) или предоставить это поле деятельности целиком Малайской коммунистической партии; или в), все движение загнать в подполье. Министр колоний и малайское правительство избрали первый путь, и мы убеждены, что они поступили мудро».
В действительности же характерным для нового подхода оказался метод, который практически при574
менил.в Малайе Джон Брейзиер (Брейзиер получил образование в колледже Рэскина; он бывший организатор Национального профсоюза железнодорожников, муниципальный советник на острове Уайт, член колониального бюро Фабианского общества). Он был послан к лорду Маунтбэттену в качестве чиновника по вопросам труда, а затем стал правительственным советником по профсоюзным делам. Вначале была сделана попытка создать «неполитические» профсоюзы в противовес боевой Всемалайской федерации профсоюзов, насчитывающей 300 тысяч членов. Однако эта попытка оказалась тщетной, несмотря на все законодательные и административные меры, направленные против независимых профсоюзов. В созданные правительством профсоюзы ушло всего 9 процентов организованных рабочих. Затем была пущена в ход колониальная диктатура для прямого запрета Всемалайской федерации профсоюзов, с тем чтобы расчистить путь правительственным профсоюзам. Таким образом, действия правительственного «представителя по трудовым делам» и «профсоюзного советника» шли рука об руку с политикой насильственного подавления независимых профсоюзов.
В 1954 году этот институт правительственных чиновников «по вопросам труда» или «профсоюзных советников» действовал в 16 колониях и насчитывал более 400 человек1. Фактически роль этих правительственных «департаментов труда» и «чиновников по вопросам труда» сводится к тому, чтобы под видом «помощи благоразумным и ответственным профсоюзным организациям» работать рука об руку с правительством и предпринимателями, не допускать забастовок, помогать проводить сокращение заработной платы, шпионить за акти-
1 Более полное описание деятельности правительственных «департаментов труда» в колониях, а также более подробные сведения о правительственной политике и профсоюзах в колониях можно найти в книге Джека Уоддиса «Маска сорвана» (1954 год), из которой заимствовано много данных, приведенных в этом разделе нашей книги.
575
Бистами и доносить правительству как о них, так и о боевой деятельности организаций рабочего класса, чтобы оно могло принять соответствующие меры. Вот что, в частности, говорится в официальной правительственной директиве 1950 года профсоюзному советнику в Малайе:
«12) Постоянно держать правительство в курсе всех событий в профсоюзах федерации посредством регулярных, своевременных и обстоятельных донесений.
13) Немедленно сообщать правительству о всех мероприятиях и деятельности отдельных лиц или организаций внутри или вне профсоюзного движения, которые могут помешать развитию здорового тред-юнионизма в федерации.
14) Докладывать правительству о поведении членов профсоюзов и их руководящих работников, а также лиц, каким-либо образом связанных с профсоюзами, деятельность которых может вызвать подозрение в том, что она может нанести ущерб правительству или благосостоянию страны.
15) Постоянно сотрудничать с департаментом труда, с отделом регистрации профсоюзов и другими правительственными департаментами для совместного осуществления правительственной политики».
Доклад департамента труда Кении за 1950 год также свидетельствует о тесной связи департамента с мероприятиями правительства по подавлению деятельности Восточно-Африканского конгресса профсоюзов. Вот что говорится в разделе доклада о всеобщей забастовке 1950 года:
«...забастовка была заранее тщательно подготовлена... Недавно весь вопрос о недостаточной организованности рабочих подвергся изучению в свете политики, предусматривающей медленное развитие профсоюзного движения. С исчезновением Конгресса профсоюзов и уходом со сцены его ком-
576
мунистйческого лидера подготовлена почва для осуществления этой политики».
В колонии Золотой Берег департамент труда выпустил брошюру под заманчивым названием «Ваш профсоюз» с целью предупредить негритянских рабочих о том, что проведение забастовок — неверный путь.
«Опыт показывает,— говорится в этой брошюре,— что забастовки невыгодны ни рабочему, ни предпринимателю» («Ваш профсоюз», отдел общественных связей, Ак- кра).
Нужно учесть, что этот перл мудрости, достойный Экономической лиги, был опубликован под официальным покровительством лейбористского правительства, обязанного своим существованием профсоюзам, основы которых были заложены забастовками.
В Кении другой чиновник по вопросам труда, Джеймс Патрик, выпустил подобную же серию брошюр о профсоюзном движении («Что такое профсоюз», «Организация профсоюзов», «Устав профсоюза» и т. д.), изданных департаментом труда Кении (то есть английским лейбористским правительством). В этих брошюрах негритянских рабочих предупреждают, что не надо позволять профсоюзам преследовать политические цели или связывать себя с забастовками:
«Профсоюз не является организацией, преследующей политические цели.
Некоторые люди, по-видимому, полагают, что профсоюзы занимаются главным образом забастовками. Это неверно. Профсоюзы созданы для того, чтобы можно было избегать забастовок» («Что такое профсоюз», издание департамента труда Кении).
Тот же самый Патрик сообщил на митинге европейских поселенцев в Найроби, что он находится там «для того, чтобы проповедовать довольство и дружбу», и что он вынужден «сдерживать многих людей (рабочих каменоломен, маляров и других),
19 Р. Палм Датт
577
которые хотели бы добиться признания их права на объединение в профсоюзы», так как «поощрение создания профсоюзов без надлежащих качеств означало бы, что они станут орудием в руках агитаторов и эксплуататоров» («Ист Африкэн стан- дард», 14 января 1949 г.).
Если бы такое условие было выдвинуто при создании английских профсоюзов, то сейчас в Англии не было бы профсоюзного движения. Однако такого рода антипрофсоюзная пропаганда проводится при поддержке английского профсоюзного и лейбористского движения.
Эта правительственная политика «поощрения» профсоюзов с «надлежащими качествами» отнюдь не исключает параллельных методов насильственного подавления независимых профсоюзов и боевой активности рабочего класса. Пример Малайи и Кении показывает, что это две стороны одной и той же политики.
Что же касается деятельности английских властей в области насильственного подавления забастовок и профсоюзов в колониях, то можно привести несколько примеров, имевших место только за один год, когда у власти стояло лейбористское правительство.
Остров Гренада. Здесь в феврале 1951 года состоялась забастовка с целью добиться повышения заработной платы. Средняя заработная плата рабочего составляла всего 12 шиллингов в неделю. В Гренаду были направлены крейсеры «Девоншир» и «Белфаст», с которых была высажена морская пехота; самолеты доставили полицейские части. По участникам забастовки открыли огонь. Шесть человек, в том числе одна женщина, были убиты, несколько человек ранено. Председатель профсоюза работников физического и умственного труда Эрик Гейри и генеральный секретарь этого профсоюза Гаскойн Блейз были высланы на другой остров.
Нигерия. В августе 1950 года рабочие фирмы «Юнайтед Африка компани» в Лагосе объявили забастовку, требуя 12,5-процентной надбавки к
578
.заработной плате на дороговизну, пенсионного 'обеспечения и введения 37-часовой рабочей недели. Пикеты забастовщиков были разогнаны. Многие участники забастовки были арестованы, в том числе генеральный секретарь Объединенного профсоюза рабочих «Юнайтед Африка компани».
Уганда. В 1950 году был внесен законопроект, который предусматривал, что любое лицо, организующее забастовку в «основной отрасли», может быть заключено в тюрьму на год и оштрафовано на 250 фунтов стерлингов. Любой человек, оказавший поддержку забастовке, мог быть посажен в тюрьму на шесть месяцев или приговорен к уплате штрафа в 50 фунтов стерлингов. Именно в Уганде в 1950 году вооруженные винтовками и дубинками полицейские были использованы против тысячи негров — участников забастовки.
Танганьика. В начале 1950 года 1500 членов профсоюза докеров объявили забастовку в порту Дар-эс-Салам, требуя повышения заработной платы и в знак протеста против регистрации портовых рабочих. Полицейские напали на пикеты и обстреляли их. Один негр был убит, 7 ранено; 86 докеров было арестовано. Солдатам Африканского королевского пехотного полка приказали быть наготове, и они патрулировали район доков.
Восточная Африка. В феврале 1950 года полиция запретила все митинги, организованные Восточно-африканской федерацией рабочих. Исполняющий обязанности председателя союза Дауди Унда и генеральный секретарь Джафет Банкс были арестованы, и им было предъявлено обвинение в «мошенничестве и бродяжничестве». Позже их приговорили соответственно к четырем и шести месяцам каторжных работ. В это же время полиция организовала налет на помещение профсоюза и захватила все отчетные книги и личные карточки членов профсоюзов.
В марте 1950 года президенту Восточно-африканского конгресса тред-юнионов Фреду Кубаи было отказано в выдаче паспорта для поездки в 19* 579
Европу, где он хотел заняться изучением профсоюзного движения. В мае 1950 года Фред Кубаи вместе с генеральным секретарем конгресса были арестованы, после того как полиция совершила налет на помещение конгресса. В результате в мае 1950 года в Найроби была объявлена всеобщая забастовка, во время которой участников забастовки избивали дубинками, применяли против них слезоточивые газы, полицейские и военные самолеты, а также броневики и бронетранспортеры. Свыше 300 рабочих было арестовано, а их лидеры брошены в тюрьму и приговорены к одному году каторжных работ.
Совершенно очевидно, что членам профсоюзов в Англии необходимо приступить к действиям, чтобы покончить с такими вопиющими антипрофсоюзными мерами, осуществляемыми от их имени, и выполнить элементарный долг международной профсоюзной солидарности в отношении рабочих •колоний.
Демократические права в колониях
Необходимо бороться против всяких нарушений демократических прав, лишения гражданских свобод; запрещения свободы печати, против дискриминационных расистских законов и «цветного барьера», бороться за те же самые демократические права- для жителей колоний, которые английский народ требует для себя.
Почти в каждой английской колонии имеются законы, строго ограничивающие демократические права, гражданские свободы, свободу печати и предусматривающие расовую дискриминацию. Запрещен ввоз и распространение не только коммунистической литературы, но и всех прогрессивных газет, брошюр, книг и журналов, выступающих против империализма и колониальной системы. Коммунистам и просто «подозреваемым» в коммунистических взглядах лицам не разрешается въезд 580
в английские колонии, даже когда у них есть на руках законно полученные паспорта.
Западная Африка считается более политически развитой колонией. Но и там запрещена коммунистическая и другая прогрессивная литература, а «подозреваемых» коммунистов не выпускают из страны, их паспорта аннулируют. Федеральное правительство Нигерии запретило не менее 34 коммунистических и прогрессивных журналов. В северных и восточных районах изданы распоряжения, запрещающие лицам, «подозреваемым» в том, что они являются коммунистами, занимать даже второстепенные должности в государственных учреждениях и учебных заведениях.
В Вест-Индии активным деятелям рабочего класса запрещен переезд даже с одного острова на другой. В Британской Гвиане этот запрет был отменен в 1953 году министрами Народно-прогрессивной партии и снова введен после отмены конституции. И все это делается под флагом защиты свободы и демократии.
Великий союз
Рабочему классу и демократическому общественному мнению Англии прежде всего необходимо показать подлинную сущность империализма и переживаемого им кризиса, неуклонно разоблачать иллюзии о «конце империализма» и добиваться возрождения антиимпериалистических традиций рабочего движения. Необходимо разъяснять, что в основе кризиса Англии лежит империалистическая политика, являющаяся главным препятствием для экономического прогресса и победы социализма, и мобилизовать народ на поддержку борьбы за решительное изменение политики.
Дело колониальных народов сейчас, более чем когда-либо раньше, неразрывно связано с делом рабочего класса и социализма в Англии. Борьба за уничтожение империализма и за разгром круп581
ных монополий — объединений мультимиллионеров, избравших своим центром Англию, но распространяющих свою деятельность на весь мир, в особенности на колониальную империю, и являющихся основной опорой консерватизма и реакции в Англии,— не может вестись в пределах одной только Англии. Английский рабочий класс не может добиться победы без союзников, а первым и главным союзником английского рабочего класса - и всего английского народа в борьбе против британского империализма являются народы колоний.
В условиях обостряющегося кризиса английского империализма эти основоположения приобретают гораздо большее значение, чем когда-либо раньше. Союз — вот непременное условие для достижения победы над нашим общим врагом, английским финансовым капиталом.
На карту поставлено не только освобождение народов колоний. На карту поставлено освобождение Англии.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ОСНОВА КРИЗИСА БРИТАНИИ
В отношении хлеба насущного Англия •превратилась в пенсионера других стран; пока мы еще можем на него рассчитывать, однако может наступить час слабости, и тогда, если мы попросим у других стран кусок хлеба, они могут вспомнить, что мы посылали им пушечные ядра, и могут отплатить нам тем же... Пока мы занимались экспансией за границей, мы подрывали свои позиции внутри страны.
Эрнест Джонс, Введение к поэме «Новый мир, или восстание Индостана», 1851 год.
Англия закончила сейчас одну главу своей истории и начинает новую. Однако руководство старых упрочившихся партий и институтов, в том числе господствующее сейчас руководство в рабочем движении, цепляется за старые традиции, потому что оно не знает никаких других традиций. Поэтому Англии угрожает большая и все возрастающая опасность.
Долгая история капиталистической олигархии в Англии, которая в XVII столетии завершила утверждение своей власти насильственной революцией и удушением демократических чаяний народа в этой революции; которая расширяла империю и укрепляла международное влияние Англии путем бесконечных войн в XVIII столетии; которая в XIX столетии привлекла в свои ряды промышленных капиталистов, подавив восстание рабочего класса, и которая сейчас, на последнем этапе развития монополистического капитала, стремится, используя все свое традиционное искусство маневрирования, привлечь на свою сторону и приручить руководство растущего рабочего движения,— эта длительная история явно близится к концу. Господство этого 583
Класса Помещиков, торговцев, финансистов и промышленников (которые образовали современный финансовый капитал) сохранилось, принимая внешние политические формы республики, псевдомонархии в качестве прикрытия олигархии вигов, викторианского парламентаризма и послушных лейбористских правительств, служащих интересам капитализма и империализма в XX веке. Нынешняя экономическая, социальная и политическая структура Англии как центра мировой империи, империи небывалых в истории размеров и масштабов, прошла через все эти меняющиеся формы. Однако опора этой империи сейчас рушится, и вместе с ней распадается и ее основа в Англии.
«Кризис» стал повседневной пищей английского народа. Настала пора, когда нужно действовать в соответствии с новыми условиями и найти путь к новому будущему. Однако мертвая рука прошлого цепко держит все существующие институты. Истинный характер кризиса все еще скрыт от английского народа. Поэтому необходимо ускорить пробуждение и движение вперед, прежде чем следование старыми путями приведет Англию к катастрофе.
Мифы о кризисе
Кризис Британии рассматривается как следст- вие слепого воздействия необъяснимых внешних «мировых сил» — мировых войн, мировых экономических кризисов, меняющихся условий торговли, американской или германской конкуренции, России, коммунизма и т. д.,— которые обрушиваются на миролюбивую, тихую, спокойную и процветающую Англию безмятежных дней периода до 1914 года.
Никто не стремится понять, что все условия будущего кризиса уже существовали в зачаточной форме в прогнившей, паразитической империалистической структуре Англии до 1914 года (когда, 584
как указывалось в предисловии к вышедшим в 1919 году «Фабианским очеркам» 1889 года, «никто из нас не уделял внимания международным отношениям... Практически мы ничего не знали о том, что происходит в социалистическом движении за пределами нашей страны») и что все бурные взрывы после 1914 года являлись вполне объяснимым историческим следствием существования мировой империалистической системы, главным центром которой являлась Англия.
Точно так же первые признаки хронического кризиса после войны 1914—1918 годов, проявившиеся в Англии особенно сильно в виде длительной массовой безработицы, существовавшей с зимы 1920 года до войны 1939 года (в этот период число безработных всегда превышало миллион), вначале приписывались целиком «послевоенному расстройству». Лишь через десять лет после окончания войны, когда эти проблемы продолжали упорно существовать, искусные апологеты от экономической слепоты капитализма официально признали ошибочность этого анализа и правительственной формулы «возврата к довоенным дням» в период 1919—1922 годов.
«Сразу после окончания войны многие люди, естественно, считали, что война и только война является причиной разлада, возникшего в экономических отношениях между отдельными лицами, странами и континентами. Простой возврат к довоенным условиям казался при тех обстоятельствах правильной целью экономической политики... Однако опыт показал, что проблемы, оставленные войной, не могут быть разрешены таким простым способом...
Исчезновение временных финансовых и экономических затруднений, которые ранее почти монополизировали внимание общественности, дает нам сейчас возможность яснее видеть и изучить эти имеющие более глубокие корни изменения в международном 585
экономическом положении. Бессмысленно пытаться разрешить эти проблемы, стремясь вернуться к условиям 1913 года» (Доклад Международной экономической конференции в Женеве, 1927 год).
Это новое прозрение экспертов, проявивших способность «яснее видегь имеющие более глубокие корни изменения», не помешало им снова пасть жертвой новых иллюзий относительно временной стабилизации двадцатых годов и «американского экономического чуда» («уничтожившего» кризис и массовую безработицу, как говорится в статье «Капитализм» в 14-м издании Британской энциклопедии за 1929 год), а также оказаться совершенно неспособными предвидеть мировой экономический кризис 1929—1932 годов, который был правильно предсказан марксистами.
Второе лейбористское правительство 1929—1931 годов, пришедшее к власти с уверенными и хвастливыми предсказаниями, основанными на некотором временном улучшении экономического положения в момент его прихода к власти, оказалось застигнутым врасплох и совершенно бессильным перед натиском мирового экономического кризиса. Один из видных министров этого правительства, Герберт Моррисон, сделал такое жалкое * признание: «Когда мы очутились лицом к лицу с экономическим и финансовым крахом 1931 года, мы не знали, что идем к нему». Это не помешало третьему лейбористскому правительству точно так же оказаться застигнутым врасплох наступлением кризиса экономики Англии и ее платежного баланса в 1947 году, о чем более подробно мы скажем ниже.
Точно так же сейчас в официальных и полуофициальных высказываниях вошло в моду объяснять нынешний кризис английской экономики как следствие второй мировой войны, в которой Англия самоотверженно израсходовала все свои ресурсы во имя общего дела и из которой она вышла обнищавшей и разорившейся,
586
«Кризис своими корнями уходит глубоко в те опустошения, которые принесла Европе, Англии и полдюжине других стран самая разрушительная в истории война, в семь раз более разрушительная, чем война 1914—1918 годов. Вот в общем в чем суть дела» («Азбука кризиса», брошюра, опубликованная лейбористской партией в 1947 году).
«Во время войны мы продали большинство своих капиталовложений и вынуждены были допустить сокращение нашей экспортной торговли. Во время войны американская помощь по ленд-лизу избавила нас от забот Когда наступил мир, мы оказались перед лицом суровой действительности». Клемент Эттли, Предвыборное выступление по радио, октябрь 1951 года).
Такое объяснение кризиса как результата второй мировой войны несостоятельно по следующим очевидным причинам.
Во-первых, самые серьезные опустошения вторая мировая война принесла Советскому Союзу и странам Восточной Европы — опустошения несравненно более сильные, чем те, которым подверглись Англия и Западная Европа. Однако именно эти страны достигли после войны поразительных успехов в области восстановления, добились самого большого увеличения выпуска продукции и не страдают от кризисов, от долларового дефицита и дефицита платежного баланса, как страдают Англия и Западная Европа. Поэтому попытка объяснить кризис Англии как неизбежное следствие военных опустошений совершенно несостоятельна.
Об этом контрасте ясно свидетельствуют статистические данные о национальном доходе за 1938—1951 годы, опубликованные Организацией Объединенных Наций (см. табл. 41).
Этот контраст стал еще более разительным в последующие годы. Между 1929 и 1955 годами промышленное производство в капиталистическом мире 587
возросло на 93 процента, то есть меньше чем В 2 раза (в США на 134 процента, в Англии на 81.процент), и в Советском Союзе — на 1949 процентов, или более чем в 20 раз.
Таблица 41
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ЗА 1938-1951 ГОДЫ
(Индекс национального дохида выражен в неизменных ценах; 1938 г. принят за 100)
СССР 224 США 198
Польша 169 Соединенное Коро¬
левство .... 113 (1950 г.)
Чехословакия ... 138 Франция 106 (1949 г.)
Источник. «Статистический ежемесячный бюллетень ООН», июнь 1952 года.
Во-вторых, попытка объяснить кризис Англии последствиями второй мировой войны предполагает, что экономическое положение Англии до второй мировой войны было прочным. Однако дефицит платежного баланса начал выявляться уже в тридцатых годах, достигнув в 1938 году значительной цифры 70 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, эти причины действовали еще до второй мировой войны, а ее влияние лишь усугубило их.
Капиталовложения Англии за границей во время второй мировой войны действительно сократились с 3535 миллионов фунтов стерлингов в 1938 году до 2417 миллионов фунтов в конце 1945 года (опубликованный в 1950 году доклад Английского банка о «Капиталовложениях за границей с 1938 по 1948 год») — сокращение составляет 31,6 процента, или немногим менее, чем одна треть, что не вполне соответствует заявлению Эттли о том, будто «мы продали большинство своих капиталовложений». Верно и то, что образовалась стерлинговая задолженность, выражавшаяся в весьма крупной номинальной цифре, однако, по существу, она была заморожена. Но это лишь единичный фактор в более сложной ситуации, и было 588
бы совершенно неправильно выделять его как причину.
Упрощенная версия кризиса, изготовленная для широкого потребления, повторялась в десятках тысяч выступлений министров, в радиопередачах, в статьях специалистов в печати, на плакатах, в листовках, в правительственных пропагандистских брошюрах и распространялась с помощью всевозможных других приемов, известных рекламе. Эта версия сводилась к тому, что «причина» кризиса заключается просто в том,что Англия производит и экспортирует недостаточно, чтобы оплачивать необходимый ей импорт продовольствия и сырья.
«Мы недостаточно производим для экспорта, чтобы оплачивать необходимый нам импорт» («Азбука кризиса»),
«Главная задача страны — больше экспортировать, особенно в Северную Америку, с тем чтобы мы могли оплачивать достаточное количество продовольствия для населения и достаточное количество сырья для обеспечения работы наших заводов» («Совместными усилиями добьемся победы». Программный документ лейбористской партии, 1950 год).
«Мы должны экспортировать, если хотим жить. Нас пятьдесят миллионов, и мы живем на голой скале... Мы производим, пожалуй, не больше половины того продовольствия, которое нам необходимо. У нас нет никакого сырья, кроме угля и железа» (из заявления Гарольда Макмиллана, министра финансов, от 22 марта 1956 года).
Стоит, возможно, отметить, что тот же самый Гарольд Макмиллан, упрощая проблему платежного баланса в марте 1956 года, двумя месяцами позже, 16 мая 1956 года, заявил, что если бы тяжелое бремя расходов на вооружение могло быть уменьшено наполовину, то «это совершенно изменило бы наш платежный баланс».
Или вот что говорит сэр Антони Иден:
589
«Мы покупаем за границей больше, чем продаем. Это означает, что мы фактически не окупаем себя. И нам следует увеличить производство, для того чтобы больше продавать товаров за границей» (из выступления сэра Антони Идена 27 августа 1955 года).
Отсюда делается простой вывод: «Производите больше, потребляйте меньше, экспортируйте больше — и кризис будет ликвидирован».
Совершенно очевидно, что такое вульгарное «объяснение» кризиса ничего не объясняет. Оно подменяет описанием дефицита платежного баланса его причину. Но даже для этого бойкому официальному пропагандисту приходится игнорировать все важнейшие факторы. Он должен делать вид, что необходимость увеличить экспорт объясняется необходимостью «оплачивать достаточное количество продовольствия для населения и достаточное количестве сырья для обеспечения работой наших заводов». Он не осмеливается сказать: «оплачивать войну в Малайе и Суэцкую авантюру», или «оплачивать содержание войск численностью в 250 тысяч человек, разбросанных по всему миру», или же «оплачивать политику, которая запрещает импортировать из одной трети мира имеющееся там продовольствие и сырье в обмен на нашу экспортную продукцию».
К сожалению, этот простой официальный рецепт преодоления кризиса, который навязывали стране с назойливым упорством все правительственные и инспирируемые правительством наставники, был доверчиво принят страной как совет, которому она следовала в течение всех этих лет после окончания войны.
Рабочие производили больше. Они потребляли уменьшающуюся долю этого возросшего производства. Их продукция больше экспортировалась. В период между 1946 и 1950 годами объем промышленной продукции возрос не менее чем на 40 -процентов. Объем экспорта превысил объем экспорта в 1938 году на 75 процентов. Объем импорта умень590
шился по сравнению с 1938 годом на 11,5 процен- та. Реальная заработная плата рабочих была снижена. К октябрю 1951 года, когда лейбористское правительство передало власть консерваторам, индекс уровня заработной платы взрослых мужчин на 20 процентов превысил уровень середины 1947 года, а индекс розничных цен возрос на 29 процентов. Несмотря на возросшую производительность труда, реальный уровень жизни во многих отношениях снизился по сравнению с довоенным. Потребление мяса, масла, сахара и сала на душу населения в 1950 году было значительно ниже довоенного уровня (а потребление картофеля сильно возросло). В 1950 году расходы на потребление в текущих ценах возросли только на 3,8 процента по сравнению с 1938 годом («Национальный доход и расход в 1955 году»), а население за это время увеличилось на 6,5 процента. Другими словами, реальное потребление на душу населения за период между 1938 и 1950 годами сократилось на 2,5 процента.
После всех этих длительных шестилетних усилий, когда приходилось потуже затягивать пояс и увеличивать в небывалых масштабах выпуск продукции и объем экспорта, народу заявили в 1951 году, что кризис сейчас сильнее, чем когда бы то ни было ранее, и что в ближайшие девять месяцев, если не будут приняты еще более решительные и отчаянные меры, валютные запасы полностью истощатся и наступит национальное банкротство.
И вновь между 1950 и 1954 годами объем промышленной продукции был увеличен на 14,7 процента. Вновь возрос объем экспорта. Однако доля рабочих в возросшем производстве — фонд заработной платы—уменьшилась с 40,1 процента от валового национального продукта в 1948 году до 39,3 процента в 1954 году.
' И все же в конце концов во второй половине 1954 года появились новые признаки неустойчивости платежного баланса. В 1955 году были проведены новые экономические меры и раздавались
591
отчаянные призывы к ограничению потребления внутри страны, к увеличению производства и расширению экспорта как единственному способу разрешения этой проблемы.
Ясно, что нужно глубже разобраться в причинах кризиса, чтобы определить наилучшие способы его ликвидации.
Правда о кризисе Англии
Первая и самая элементарная истина о кризисе Англии состоит в том, что он не является просто кризисом «небольшого острова» с населением в 50 миллионов человек, которое отчаянно борется за то, чтобы производить и экспортировать достаточно товаров, дабы иметь возможность оплачивать импорт, в котором оно нуждается в трудных условиях современного мира.
Правительственные пропагандисты, играющие на том, что большинство населения не понимает подлинного характера империи, рисуют такую сказочную картину:
«Такое большое число людей, населяющих наш небольшой и относительно бедный остров, может жить так хорошо и пользоваться таким большим -влиянием лишь до тех пор, пока они производят в достаточном количестве продукцию, в которой нуждается остальной мир, чтобы накормить английский народ и обеспечить сырье для его машин. Такова проблема Англии» («Наше положение в текущем году. Официальный популярный отчет об экономическом положении и перспективах на 1952 год», Центральное бюро информации, 1952 год).
«На этих густонаселенных островах проживает 50 миллионов человек. Половина продовольствия, которое мы потребляем, и большая часть сырья, которое нужно для нашей промышленности ц от которого зависит 59?
обеспечение работой нашего народа, поступают из-за границы. Если мы не будем экспортировать достаточное количество товаров, чтобы оплачивать все это, нам будет угрожать не только снижение жизненного уровня, но и опасность массовой безработицы» («Взглянем в лицо фактам. Программное заявление о внутренней политике лейбористской партии», 1952 год).
Основная истина о кризисе Англии состоит в том, что это кризис паразитической метрополии мировой империи; что вся экономическая и социальная структура Англии построена на этом принципе паразитизма; что эта основа империи начинает сейчас рушиться и что поэтому вся традиционная экономическая и социальная основа Англии наталкивается на усугубляющиеся трудности; что отчаянные усилия сохранить основу имперского господства и эксплуатации лишь ухудшают внутреннее экономическое положение Англии, и только радикальное изменение политики с учетом новых условий может открыть перед Англией новые, радужные горизонты.
Сто лет назад Энгельс с исключительной проницательностью и предвидением предсказал будущий упадок английской мировой промышленной монополии, которая была в то время восходящей и процветающей, под натиском американского капитализма и указал на неизбежную альтернативу, которая встанет тогда перед английским рабочим классом:
«Если какая-нибудь страна способна захватить в свои руки промышленную монополию, то это — Америка. Раз английская промышленность окажется таким образом побежденной... то большинство пролетариата раз навсегда сделается «излишним» и ему останется одна альтернатива: умереть с голода или — устроить революцию»1.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 570—571.
593
В настоящее время мы вступаем в новую и более сложную стадию этой дилеммы, становящейся все более неотложной, и обостряющегося кризиса, с которыми сталкиваются английский капитализм и английский рабочий класс.
Уже в последней четверти XIX века американский капитализм в области промышленного производства догнал и перегнал капитализм английский. Английский капитализм, намного опереженный американским, а также германским капитализмом и отставший в области промышленного производства, мог тем не менее продлить свое существование с помощью резервов, накопленных в период своей мировой промышленной монополии в прошлом и путем усиленной эксплуатации своей мировой колониальной империи. В эпоху империализма английский капитализм представлял собой классический тип старого, загнивающего и становящегося все более паразитическим капитализма, все более зависящего в сведении своего баланса от дани, собираемой им во всем мире.
Сейчас, однако, эта опора также близка к крушению. Неизбежность выбора, предсказанного Энгельсом, встает снова с удвоенной силой в период последней фазы империалистической эпохи.
Эпоха империализма XX столетия в Англии перед 1914 годом и до начала общего кризиса капитализма лишь внешне была эпохой спокойного процветания и успехов, на которую современные апологеты капитализма грустно оглядываются как на ушедший золотой век. В действительности же империализм с самого начала являлся, как это неоднократно указывал Ленин, «загнивающим», «паразитическим», «умирающим» капитализмом:
«Империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта троякая: империализм есть (1) —монополистический капитализм; (2) — паразитический или 594
загнивающий капитализм; (3) —умирающий капитализм» L
Видимость «успешного», «процветающего» равновесия и даже роста английского империализма до 1914 года скрывала фактическое усугубление паразитизма, относительный промышленный и торговый упадок по сравнению с его конкурентами, усиливающуюся относительную техническую отсталость и даже застой. С середины XIX столетия превышение импорта над экспортом стало характерной чертой торгового баланса Англии. Уже к
1913 году размер импорта, не оплачиваемого экспортом, достиг 20,3 процента, а к 1938 году — 36,1 процента. В то же время доля Англии в мировом производстве сократилась с одной трети в 1870 году до одной пятой в 1913 году и до одной десятой в 1938 году, а доля в мировом экспорте промышленных изделий сократилась с двух пятых в 1870 году до одной десятой в 1938 году.
Таким образом, еще до 1914 года Англия XX столетия стала сугубо паразитической метрополией, сведение экономического баланса которой во все большей степени зависело от мировой дани, тесно связанной с эксплуатацией империи, и во все меньшей степени от ее относительно ослабевавших промышленных и торговых позиций. Ленин приводил выдержки из сочинения Шульце-Гевер- ница «Британский империализм», написанного до
1914 года:
«Англия... перерастает постепенно из промышленного государства в государство- кредитора. Несмотря на абсолютное увеличение промышленного производства и промышленного вывоза, возрастает относительное значение для всего народного хозяйства доходов от процентов и дивидендов, от эмиссий, комиссий и спекуляции. По моему мнению, именно этот факт является экономической основой империалистического подъема.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 94.
595
Кредитор прочнее связан с должником, чем продавец с покупателем» Г По этому поводу Ленин писал:
«Государство рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма, и это обстоятельство не может не отражаться как на всех социальнополитических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности» 2.
Далее Ленин приводил выдержки из произведения Гобсона «Империализм», рисующего гипотетическую картину окончательного развития паразитизма федерированной Западной Европы, исходя из успешного раздела Китая:
«Большая часть западной Европы могла бы тогда принять вид и характер, который теперь имеют части этих стран: юг Англии, Ривьера,-наиболее посещаемые туристами и населенные богачами места Италии и Швейцарии, именно: маленькая кучка богатых аристократов, получающих дивиденды и пенсии с далекого Востока, с несколько более значительной группой профессиональных служащих и торговцев и с более крупным числом домашних слуг и рабочих в перевозочной промышленности и в промышленности, занятой окончательной отделкой фабрикатов. Главные же отрасли промышленности исчезли бы, и массовые продукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы, как дань, из Азии и из Африки».
«Вот какие возможности открывает перед нами более широкий союз западных государств, европейская федерация великих держав: она не только не двигала бы вперед дело всемирной цивилизации, а могла бы означать гигантскую опасность западного
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 265. . ’Там же, стр. 265. 596
паразитизма: выделить группу передовых промышленных наций, высшие классы которых получают громадную дань с Азии и с Африки и при помощи этой дани содержат большие прирученные массы служащих и слуг, занятых уже не производством массовых земледельческих и промышленных продуктов, а личным услужением или второстепенной промышленной работой под контролем новой финансовой аристократии. Пусть те, кто готов отмахнуться от такой теории... как незаслуживающей рассмотрения, вдумаются в экономические и социальные условия тех округов современной южной Англии, которые уже приведены в такое положение. Пусть они подумают, какое громадное расширение такой системы стало бы возможным, если бы Китай был подчинен экономическому контролю подобных групп финансистов, «поместителей капитала», их политических и торгово-промышленных служащих, выкачивающих прибыли из величайшего потенциального резервуара, который только знал когда-либо мир, с целью потреблять эти прибыли в Европе. Разумеется, ситуация слишком сложна, игра мировых сил слишком трудно поддается учету, чтобы сделать очень вероятным это или любое иное истолкование будущего в одном только направлении. Но те влияния, которые управляют империализмом западной Европы в настоящее время, двигаются в этом направлении и, если они не встретят противодействия, если они не будут отвлечены в другую сторону, они работают в направлении именно такого завершения процесса» L
По поводу такой гипотетической картины, нари-
1 Цитировано В. И. Лениным в его работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» (Сочинения, т. 22, стр. 266— 267). — Прим. ред.
597
сованной Гобсоном, Ленин сделал следующие иё" ключительно проницательные критические замечания:
«Автор совершенно прав: если бы силы империализма не встретили противодействия, они привели бы именно к этому. Значение «Соед. Штатов Европы» в современной, империалистской, обстановке оценено здесь правильно. Следовало бы лишь добавить, что и внутри рабочего движения оппортунисты, победившие ныне на время в большинстве стран, «работают» систематически и неуклонно именно в таком направлении... Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых естественно не видеть социал-либералу Гобсону» Г Ленин писал также:
«Социал-либерал Гобсон не видит того, что это «противодействие» может оказать только революционный пролетариат и только в виде социальной революции»1 2.
На протяжении четырех десятилетий, прошедших после того, как были написаны эти слова, мы видели подтверждение на конкретном историческом развитии правильности ленинской критики Гобсона и последовательные стадии претворения в жизнь ленинского анализа и предсказаний. В этом секрет кризиса Англии. Тенденция, которую Гобсон правильно предугадал, начала превращаться во все более откровенную попытку создать империалистические Соединенные Штаты Западной Европы (но под руководством более мощного американского империализма), основывающиеся на эксплуатации Азии и Африки и пользующиеся открытой поддержкой западноевропейского оппортунизма или «демократического социализма» (как он любит именовать себя сейчас. Однако противодействующие 1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 267—268.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 99.
598
силы, которые, как указывал Ленин, в конечном счете окажутся решающими, действительно выступали со все большей силой и заменили нарисованную Гобсоном гипотетическую картину будущей империалистической паразитической «утопии» (или кошмара) реальной картиной углубляющегося кризиса и банкротства империалистической Англии и Западной Европы и успехами растущего числа свободных наций из бывшего колониального мира.
Это радикальное отличие перспективы развития от мрачной картины, предсказанной Гобсоном, было обусловлено прежде всего двумя явлениями.
Во-первых, победа социалистической революции в России й победоносное развитие колониальной революции изменили картину укрепляющегося империалистического господства и эксплуатации всего мира. Вместо раздела Китая, который предсказывал Гобсон в качестве основы своей гипотезы, мы видим рождение Китайской Народной Республики.
Во-вторых, усугубление паразитизма в самой Англии и вытекающее из этого ослабление экономики Англии наряду с резким обострением противоречий империализма и последующими за этим мировыми войнами подорвали основу английского империализма и обусловили длительное, очевидное и усугубляющееся ухудшение экономического положения Англии, что в свою очередь вызвало обострение классовых противоречий в самой Англии, вскрыло банкротство империалистической системы Англии и ее оппортунистических представителей и тем самым положило начало возникновению условий для пробуждения и нового наступления английского рабочего класса.
Основной экономической движущей силой империализма является вывоз капитала в погоне за наивысшей нормой монополистической прибыли, особенно от эксплуатации колоний. До тех пор пока можно успешно продолжать вывоз капитала имеются экономические условия для сохранения и расширения империалистической системы, хотя поли599
тические противоречия непрерывно обостряются и в конечном счете уничтожат ее.
Первоначально главную основу для вывоза английского капитала во второй половине XIX века составляли прибыли, которые Англия получала благодаря своей мировой промышленной и торговой монополии. Это обеспечило возможность быстрого накопления капиталовложений за границей, которые возросли в пять раз между 1850 и 1880 годами, удвоились между 1880 и 1905 годами и еще раз удвоились к 1914 году, достигнув рекордной цифры в 4 миллиарда фунтов стерлингов — цифра, которая в дальнейшем не была ни разу достигнута в стоимостном выражении и которая составляла в пересчете на нынешний курс примерно 12 миллиардов фунтов стерлингов. Правда, поскольку с середины XIX века существовало чистое превышение импорта над экспортом (в 1855—1859 годах оно составляло уже 30 миллионов фунтов стерлингов), «экспорт», капитала с самого начала, по существу, представлял собой реинвестирование прибылей, полученных на мировом рынке и от эксплуатации других стран. Однако основой, обеспечивавшей эту возможность, служила мировая монополия в области промышленности, торговли и судоходства и вытекающее из этого господствующее положение Лондона как мирового финансового центра. На последующих стадиях «экспорт» капитала все в большей степени превращался в реинвестирование части сверхприбылей, полученных от прежних капиталовложений за границей, и, таким образом, труд эксплуатируемых колониальных рабочих и крестьян увеличивал в то же время непрерывно возрастающее долговое бремя, лежащее на их плечах.
Однако параллельные результаты увеличения вывоза капитала (который сопровождался все большим игнорированием потребностей развития промышленности и сельского хозяйства и их переоснащения в самой Англии, ибо более высокая норма колониальной сверхприбыли сулит большие 600
барыши) и возрастающей доли мировой данй в оплате импорта Англии вместо оплаты его за счет экспорта промышленных изделий имели следствием прогрессирующее ослабление и подрыв мировой промышленной и торговой монополии Англии, которая первоначально служила основой вывоза капитала. Паразитизм не способствует быстрому промышленному развитию и предприимчивости.
Пока непрерывно возраставший объем дохода от мировой дани мог покрывать одновременно возраставшее превышение импорта над- экспортом и в то же время обеспечивать дальнейший вывоз капитала, а следовательно, и увеличение заграничных капиталовложений, еще могла создаваться видимость, что вся система действует успешно, процветает и даже развивается. Фактический паразитизм и смертельная сердечная болезнь этой системы были скрыты. Таково было положение на первой стадии империалистической эпохи в Англии до 1914 года. Отсюда иллюзии относительно утраченного великолепия «золотого века», которым характеризовалась эпоха Эдуарда до 1914 года.
Совершенно очевидно, что динамика этой системы уже содержала в себе скрытый кризис. Поднимающаяся вверх кривая превышения импорта над экспортом, отражавшая относительно ослабевавшие позиции в области промышленности и торговли, все в большей мере врезалась в кривую доходов от мировой дани, что было необходимо для сохранения экономического баланса. Но это происходило за счет уменьшения дальнейшего экспорта капитала, экспорт которого является необходимым условием функционирования всей системы. Вот этот-то скрытый кризис и был в чрезвычайной мере обострен и выявлен под влиянием результатов первой мировой войны.
Как только доход от мировой дани (доход от «невидимой торговли», поступавший в виде процентов с иностранных капиталовложений, от выполнения международных финансовых поручений и мировой монополии в области судоходства) стал пол601
ностью уходить на покрытие возрастающего превышения импорта над экспортом, являвшегося следствием усиливающегося паразитизма, ничего не оставляя для вывоза капитала, необходимого для сохранения и увеличения капитала за границей, развитие этой системы в целом неизбежно должно было остановиться и (начать двигаться в обратном направлении. Основа для увеличения доходов от мировой дани исчезала, тогда как потребность в них возрастала. Результатом этого было вступление империалистической системы в стадию все более открытого и острого кризиса, сказавшегося первоначально в дефиците платежного баланса.
Последствия первой мировой войны лишь ускорили, но отнюдь не вызвали этого процесса. В то же время рост восстаний в колониях стал подрывать основу для увеличения дохода от мировой дани и на более поздних стадиях начал приводить к его фактическому ограничению.
К тридцатым годам XX века начал выявляться дефицит платежного баланса. В результате мирового экономического кризиса, когда вместо активного сальдо в 103 миллиона фунтов стерлингов в 1929 году в 1931 году появился дефицит в 104 миллиона фунтов стерлингов, Англия была вынуждена отойти от золотого стандарта и окончательно отказаться от попытки восстановить Лондон в качестве мирового финансового центра.
После этого данные о дефиците платежного баланса представляли собой следующую мрачную картину:
Таблица 42
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 1931 — 1938 ГОДОВ
(в млн. ф. ст.)
1931 г —104 1935 г +32
1932 г — 51 1936 г —18
1933 г — 0 1937 г —52
1934 г — 7 1938 г —70
602
Общий чистый дефицит за восемь лет составил 270 миллионов фунтов стерлингов.
Несмотря на высокий уровень доходов от «невидимой торговли», достигших в среднем 352 миллиона фунтов стерлингов в течение трех последних довоенных лет (1936—1938 годы), несмотря на то, что они покрывали не менее 40 процентов импорта, они все же были еще недостаточными для покрытия превышения импорта над экспортом. Процесс накопления капитала за границей прекратился. Начался процесс его расходования. Общие капиталовложения за границей сократились с 4 миллиардов фунтов стерлингов в 1913 году до 3545 миллионов фунтов стерлингов в 1938 году. Экономическая основа английского империализма явно шла к упадку еще до мировой войны.
Последствия второй мировой войны в колоссальной степени ускорили этот упадок, но отнюдь не породили его. Общая сумма капиталовложений за границей сократилась к 1945 году до 2417 миллионов фунтов стерлингов и до 1960 миллионов фунтов стерлингов к 1948 году. Дефицит платежного баланса возрос до 545 миллионов фунтов стерлингов в 1947 году. Хотя отчаянные меры в виде усиленной колониальной эксплуатации и экономии внутри страны, принятые лейбористским правительством для ликвидации кризиса, обеспечили в 1949 году ненадежный возврат к небольшому активному сальдо, а временное резкое повышение цен на колониальное сырье, вызванное корейской войной и созданием запасов в Соединенных Штатах, в течение 1950 года очень значительно увеличило это активное сальдо, подобное искусственное «улучшение» оказалось недолговечным перед лицом основных факторов кризиса. К 1951 году дефицит снова достиг 461 миллиона фунтов стерлингов.
Общий чистый дефицит за шесть лет составил 812 миллионов фунтов стерлингов.
Средний ежегодный дефицит, составлявший в тридцатых годах XX столетия 34 миллиона фунтов 603
стерлингов, возрос в 1946—1951 годах до среднего ежегодного дефицита в 135 миллионов фунтов стерлингов.
Таблица 43
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 1946—1951 ГОДОВ (В МЛН. ф. СТ.)
1946 г —298
1947 г —443
1948 г + 1
1949 г +31
1950 г. +300
1951 г —403
Сейчас необходимо рассмотреть те меры, к которым прибегал английский империализм как при лейбористском, так и при консервативном правительстве, чтобы ликвидировать этот кризис, а также причины, вследствие которых эти меры не только не привели к ликвидации кризиса, но фактически, взвалив дополнительное экономическое и военное бремя и на уже и без того ослабевшую Англию, вызвали его обострение.
Несостоятельные меры лейбористского правительства в 1945—1951 годах
В ноябре 1945 года, через шесть месяцев после прихода к власти третьего лейбористского правительства и после первых публичных выступлений Эрнеста Бевина в качестве министра иностранных дел, выявивших реакционную, империалистическую, антисоветскую политику, которую решило проводить правительство, съезд коммунистической партии выступил с предостережением, что эта империалистическая политика неизбежно приведет к серьезным социальным и экономическим последствиям для Англии и сорвет достижение целей социального прогресса внутри страны:
604
«Мы предостерегаем рабочее движение, что если оно не заставит правительство полностью изменить свою теперешнюю внешнюю политику, которая является лишь продолжением империалистической линии консервативной партии и реакционного монополистического капитала, то в Англии не может быть кардинального социального прогресса и все будущее нашей страны окажется под серьезной угрозой».
Разразившийся затем острый кризис, наступление которого застигло врасплох лейбористских министров, оказавшихся к тому же совершенно неспособными выработать какую-либо положительную политику, явился убедительнейшим доказательством справедливости этого предостережения. Шесть лет спустя, весной 1951 года, три министра лейбористского правительства подали в отставку в знак протеста против сокращения социальных мероприятий в интересах программы перевооружения. Частичное, весьма неполное, пробуждение меньшинства из среды старого руководства (под нажимом рядовых членов партии) наступило с большим опозданием.
Исходя в своих воззрениях из старых фабианских иллюзий, что империализм вечен, и представляя поэтому свою задачу лишь в плане обычной рутины — в виде осуществления социальных реформой социальных уступок в рамках безотказно действующей капиталистической системы, — министры лейбористского правительства оказались застигнутыми совершенно врасплох наступлением в 1947 году жестокого кризиса.
Удар, нанесенный внезапным прекращением американской помощи по ленд-лизу после окончания военных действий в 1945 году, был временно ослаблен предоставленным в конце 1945 года американским займом в размере 937 миллионов фунтов стерлингов, экономические и политические условия которого были приняты безоговорочно. Министры воображали, что этот заем даст им возмож605
ность продержаться до 1950 года. Фактически же он был израсходован немногим более чем за год — к 1947 году.
«Мы надеялись, что заем даст нам возможность продержаться до 1949 года, а возможно, и до 1950 года; имелись резонные основания полагать, что к этому времени мы перестроим свою экономику и будем близки к равновесию. Однако обстоятельства сложились так, что — как это совершенно очевидно сейчас — заем будет израсходован до конца текущего года» (из выступления премьер-министра Эттли в палате общин 6 августа 1947 года).
На конференции лейбористской партии в Бор- немуте, состоявшейся в июне 1946 года, Моррисон, торжественно отклонив предложение о принятии компартии в лейбористскую партию, хвастливо заявил, что если второе лейбористское правительство периода 1929—1931 годов было застигнуто врасплох экономическим кризисом, «ибо мы не знали, что идем к нему», то это никогда более не повторится, ибо теперь лейбористы создали «всеобъемлющую планирующую организацию».
«Находясь в составе лейбористского правительства 1929—1931 годов... и столкнувшись лицом к лицу с экономическим и финансовым крахом 1931 года, мы не знали, что идем к нему, — заявил Моррисон. — Мы должны были бы знать, что нас ожидает, но мы не знали, потому что тогда не было соответствующей государственной организации, чтобы предупредить нас, и, столкнувшись с кризисом, мы толком не знали, что нам делать».
И он глубокомысленно продолжал:
«Подлинная задача государственного деятеля в области промышленности и экономики состоит в том, чтобы увидеть приближающуюся беду и предотвратить катастрофу».
606
Тем не менее на протяжении работы этой конференции лейбористской партии не было обнаружено ни малейшего намека на то, что лейбористские лидеры осознают близкое наступление кризиса, о котором коммунистическая партия уже ясно и недвусмысленно предупредила. Наоборот, в той же самой речи, в которой Моррисон расписался в своем экономическом невежестве в период 1929— 1931 годов (когда коммунисты точно так же ясно предупреждали о приближающемся кризисе) и хвастался своей нынешней мудростью и предвидением, он попытался предсказать радужные перспективы в области экономики на 1947 год.
«Мы скоро сможем платить за большее количество товаров — и товаров лучшего качества — с заморских территорий... 1947 год будет годом, в котором мы начнем получать дивиденды от наших мероприятий, предпринятых в течение 1946 года. Мы можем с полным основанием надеяться на значительное увеличение объема импорта», — сказал Моррисон.
Таковы были блестящие предсказания лейбористского правительства (сделанные, конечно, с помощью его мудрой «всеобъемлющей планирующей организации», в состав которой входили крупнейшие умы из числа буржуазных экономистов и прислужников империализма) относительно улучшения положения платежного баланса, что должно было увеличить импорт и обеспечить лучшие условия в 1947 году.
В действительности же именно в 1947 году разразилась буря и дефицит платежного баланса достиг рекордной для мирного времени цифры в 443 миллиона фунтов стерлингов. 1947 год был годом, когда кризис обратимости валюты выявил грубые просчеты предыдущей политики, продиктованной условиями, на которых был предоставлен американский заем, а израсходование американского займа выявило банкротство экономической базы английского правительства. Результатом этого яви-
607
Лось отнюдь не получение «большего количества товаров — и товаров лучшего качества — с заморских территорий», как это предсказывал Моррисон, а чрезвычайная программа Криппса, предусматривавшая воздерживание и ограничение импорта. Совершенно очевидно, что Моррисон по примеру Бельтазара и его астрологов поступил бы разумнее, если бы уволил своих горе-плановиков и горе- экономистов и занялся бы более внимательным изучением марксистской литературы.
Радужный оптимизм первых двух послевоенных лет, когда министры в своих экономических отчетах болтали об увеличении производства теннисных мячей и электрических чайников в качестве доказательства восстановления страны, уступил место хронической панике, возникшей начиная с лета 1947 года, когда действительное положение стало привлекать к себе их внимание по мере того, как средства, полученные по американскому займу, быстро истощались и начал вырисовываться страшный призрак колоссального дефицита платежного баланса.
Однако именно потому, что подлинные причины кризиса были поняты не в большей мере, чем в свое время предвиделось его наступление, порожденная кризисом паника привела лишь к лихорадочным мерам, подсказанным отчаянием, — мерам, которые усугубили болезнь, тогда как подлинные причины кризиса в области политики остались неизменными.
В данном «кризисе платежного баланса» виде- _ли только кризис платежного баланса. Симптом болезни был ошибочно принят за самую болезнь. Отсюда извлекли мораль и повторяли ее в дальнейшем с удручающим однообразием с каждой трибуны, в каждой газете, в каждой радиопередаче, на всех плакатах: «Мы импортируем и потребляем слишком много. Мы производим и экспортируем слишком мало. Выход? Ограничить потребление. Увеличить производство. Импортировать меньше. Экспортировать больше. И кризис будет ликви-
603
дирован. Счета Англии «сбалансируются». До чего просто!
Когда был предложен план Маршалла, лейбористские министры, консервативные лидеры и деятели генсовета Британского конгресса тред-юнионов бросились навстречу золотому дождю с жадно протянутыми руками. Еще бы! Благодетельный поток долларов, прекращение которого с истощением займа вызвало такую тревогу, может опять возобновиться. Бивен и Шинуэлл объяснили недоумевающим рядовым членам лейбористской партии (которые были воспитаны на старомодном понятии, что социализм может уничтожить безработицу), что только благодаря добрым американским капиталистам мы не имели в Англии полутора миллионов безработных. Не обращайте внимания на условия! Предоставьте придирчивое изучение зубов дареного коня подозрительным русским и вос- точноевропейцам, которые делают фетиш из своей экономической независимости. Нас заверяли, что если мы потуже затянем пояс и будем больше производить, то после истечения четырехлетнего срока действия плана Маршалла, к 1952 году, счета Англии будут сбалансированы и все будет хорошо.
Таким образом, на Англию были надеты оковы торговых ограничений. Были присланы списки товаров, которые запрещалось экспортировать. Голливудские фильмы и журналы стали наводнять Англию. Руководитель миссии американского Управления экономического сотрудничества в Англии учредил в Лондоне свою контору с широкой сетью вспомогательных контор и филиалов. Он с удовлетворением сообщал, что «...программа жилищного строительства значительно сокращена, так же как и программа здравоохранения и просвещения» (доклад, представленный сенатской комиссии по иностранным делам руководителем специальной миссии Управления экономического сотрудничества для Соединенного Королевства Томасом Финлетте- ром 10 февраля 1949 года). За американской эко-
20 Р- Палм Датт
609
комической оккупацией вскоре последовала военная оккупация. Сперва говорили, что военная оккупация является временной — войска обучались, затем она превратилась в постоянную.
Народ послушно подтянул пояс потуже, усиленно трудился и увеличивал выпуск продукции. По официальным данным, за два года, с лета 1947 года по лето 1949 года, выпуск продукции увеличился на 17 процентов, а прибыли и процентные начисления увеличились на 24 процента. Реальная же заработная плата снизилась на 3 процента.
А затем летом 1949 года было объявлено, что кризис является более серьезным, чем когда-либо, что долларовый дефицит достигает 600 миллионов фунтов стерлингов в год, что золотые и долларовые запасы тают с такой быстротой, что при нынешних темпах могут быть израсходованы в течение года, что ожидаемая помощь по плану Маршалла не может покрыть нехватки и что нет никакой надежды на восстановление страны ко времени окончания срока действия этого пресловутого маршалловского плана «восстановления» — к 1952 году.
Высокопоставленным лейбористским министрам не оставалось ничего другого, как снова совершить паломничество в новую Мекку — Вашингтон — в надежде получить новую подачку. Однако на этот раз американская пресса заговорила резким, чтобы не сказать наглым тоном. Кнут больше не прятали. Когти орла глубоко вонзились в тело раненого льва.
Новые американские условия были очень тяжелы для Англии. 18 сентября 1949 года, после вашингтонской конференции, была произведена девальвация фунта стерлингов с 4,03 до 2,80 доллара. Эта девальвация была произведена под явным и сильным нажимом американцев, оказанным министром финансов США Снайдером во время его визита в Лондон в июле 1949 года, несмотря на открыто высказанное нежелание английского
610
правительства и экспертов английского министерства финансов.
Этот успех американского наступления еще больше ослабил международные позиции фунта стерлингов, снизил жизненный уровень в Англии, усугубил экономические затруднения страны, повысив стоимость импорта и снизив доходы от экспорта, и облегчил проникновение американского капитала, который по дешевке скупал активы в Англии и империи.
Правительство не могло предложить английскому народу никакой перспективы, за исключением того, чтобы безропотно согласиться на снижение жизненного уровня, напрягать силы и приносить все больше жертв, преследуя ускользающую мечту расширения экспорта товаров на рынки долларовой зоны, которая не нуждалась в наших товарах. В результате девальвации экспорт в долларовую зону нужно было увеличить теперь на две пятых лишь для того, чтобы сохранить на прежнем уровне имеющийся дефицит, а чтобы его ликвидировать, нужно было в четыре раза увеличить экспорт. Много ли было шансов достигнуть этих фантастических целей в условиях обостряющегося кризиса, когда большинство других конкурирующих капиталистических недолларовых стран также произвели девальвацию своих валют в погоне за тем же долларовым рынком, в то время как Соединенные Штаты были заняты сокращением своего импорта и расширением своего экспорта? Было очевидно, что новый план ликвидации кризиса путем усиленной торговой войны с целью вчетверо увеличить экспорт на рынок долларовой зоны был еще более нереальным, чем все предыдущие планы и замыслы, которые, как теперь признавали сами лейбористские министры, были не более, как паллиативом, ведущим к новому кризису. Стаффорд Криппс заявил в сентябре 1949 года, что правительство пыталось ликвидировать кризис «при помощи ряда временных мер, которые
20*
6Ц
приводили к ряду новых кризисов, по мере того как каждая из них оказывалась исчерпанной».
По существу, Стаффорд Криппс в этом своем заявлении не отдавал должного политике своего правительства. Начиная -с 1947 года лейбористское правительство фактически проводило (в зависимости от различных опасностей и порывов экономической бури, бушевавшей вокруг него, и непрерывных — иногда противоречивых — нажимов со стороны американского хозяина) единообразную последовательную «и решительную политику преодоления кризиса, проводило ее в содружестве с консерваторами, которые в 1951 году переняли и продолжали в основном эту же старую политику. Однако эту политику нельзя было провозгласить открыто. Это была безжалостная политика английского империализма, стремившегося восстановить равновесие путем чрезвычайного усиления колониальной эксплуатации, сопровождаемой рядом мер экономии внутри страны, дабы возобновить процесс образования и вывоза капитала. Эту программу гораздо откровеннее провозгласил руководитель специальной американской миссии Управления экономического сотрудничества для Соединенного Королевства Томас Финлеттер в своем докладе сенатской комиссии по иностранным делам 10 февраля 1949 года, который уже цитировался выше.
«Политика Англии состоит в том, — говорилось в докладе, — чтобы увеличить валовой объем продукции страны при помощи максимального расширения производства и сокращения правительственных расходов путем урезывания программ социальных мероприятий, введенных со времени прихода к власти лейбористского правительства, а затем разделить то, что останется, между вывозом и образованием капитала»..
Наряду с «замораживанием» заработной платы и сокращением социальных мероприятий внутри страны была развернута самая интенсивная в 612
современной истории английского империализма кампания по усилению колониальной эксплуатации в качестве ключа к «восстановлению» Англии не только для того, чтобы сбалансировать счета страны путем увеличения «невидимых» поступлений и экспорта из колоний в страны долларовой зоны, но и для того, чтобы возобновить вывоз капитала и создание заграничных капиталовложений. Такова была подлинная внутренняя движущая сила экономической и финансовой политики лейбористского правительства. О ней нельзя было открыто и полностью сообщить его собственным сторонникам, и впоследствии лейбористскому правительству нелегко было претендовать на похвалу за эту политику, которую оно заслуживало со стороны тех, чьи интересы оно отстаивало. Ибо надо сказать, что с точки зрения интересов английского империализма лейбористское правительство верно служило этим интересам в трудных условиях, в которых ему приходилось действовать, несмотря даже на то, что окончательным результатом в условиях кризиса империалистической системы могло быть лишь дальнейшее ухудшение истинного положения Англии.
Четырехлетняя экономическая программа правительства, предоставленная в январе 1949 года администрации по осуществлению плана Маршалла, преследовала ясную цель: «значительно увеличить вклад колоний в дело восстановления Европы >, вдвое увеличить производство каучука к 1952 году, втрое — производство олова, вдвое — добычу нефти, почти вдвое—выплавку меди и за 4 года в семь-восемь раз — «невидимые статьи доходов».
Экспорт колоний (исключая Гонконг) был увеличен с 155 миллионов фунтов стерлингов в 1938 году до 922 миллионов фунтов в 1950 году. Хотя значительная часть этого увеличения объяснялась повышением цен, «физический объем товаров, поставлявшихся в 1950 году на эти территории и отправлявшихся с этих территорий, был примерно в полтора раза больше, чем в годы, непосредственен
но предшествовавшие войне» («Колониальные территории в 1950—1951 годах»). Индекс объема колониального экспорта возрос с 100 в 1946 году до 175 в 1950 году.
Стерлинговые счета зависимых заокеанских территорий были увеличены более чем вдвое за период с конца 1945 года по июнь 1951 года, а именно с 454 миллионов фунтов стерлингов до 908 миллионов фунтов стерлингов. По существу, указанное увеличение представляло собой насильственное изымание товаров или вырученных за них долларов у обнищавших колониальных народов в целях увеличения лондонского счета на 454 миллиона фунтов стерлингов за шесть с половиной лет, и это не оплачивалось ничем, кроме «замороженных» долговых расписок.
Размеры стерлинговых счетов таких ведущих колоний, как Малайя, хранились в строгом секрете, поскольку эти данные могли бы послужить частичным указанием на усиление эксплуатации, а следовательно, и на то, что широко пропагандировавшееся «восстановление» Англии в 1950 году и в первой половине 1951 года осуществлялось за счет колоний.
«Когда в прошлом году я спросил представителя министерства колоний о размерах стерлинговых счетов Малайи, он сделал вид, что ему ничего не известно об этом, и направил меня в министерство финансов. Представитель министерства финансов довольно резко ответил, что Англия, являясь банкиром стерлинговой зоны, не может разглашать сведений о счетах своих клиентов без их согласия. Он снова отослал меня в министерство колоний, где я установил, что весьма высокопоставленные должностные лица не могут сообщить, какие кредитные счета имеют Малайская федерация и Сингапур. Заместитель главного агента Малайи, функции которого состоят в том, чтобы представлять в Лондоне экономические 614
интересы Малайи, признался, что он сам тщетно пытался получить в, министерстве финансов данные о стерлинговых счетах, чтобы сравнить доходы Малайи с доходами других стран.
В этом году я сделал еще одну попытку получить фактические данные и узнал, что, хотя некоторые лица в министерстве колоний имеют эти данные, им нужно особое разрешение, чтобы опубликовать их» (Э н - д р ю Рот, «Секретные стерлинговые счета Англии, нью-йоркский журнал «Нэйшн», 23 февраля 1952 года).
Эти методы усиленной колониальной эксплуатации служили не только основным средством, использовавшимся наряду с мерами экономии внутри страны и сокращением импорта, для того чтобы превратить дефицит платежного баланса во временное активное сальдо. Они служили также средством возобновления вывоза капитала, несмотря на крайне тяжелое состояние платежного баланса Англии. В период между 1947 и 1951 годами новые капиталовложения Соединенного Королевства в стерлинговой зоне составляли не менее 1102 миллионов фунтов стерлингов.
Таблица 44
ВЫВОЗ КАПИТАЛА СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ в СТЕРЛИНГОВУЮ ЗОНУ В 1947—1951 ГОДАХ (Заграничные капиталовложения в остальной части стерлинговой зоны) (в млн. ф. ст.)
1947 г 306
1948 г 177
1949 г 277
1950 г 181
1951 г 161
Итого за 1947—1951 гг. 1102
Источник. «Платежный баланс Соединенного Королевства, 1946—1955 годы>.
615
Это говорит о том, в какой мере лейбористское правительство стремилось восстановить основу английского империализма за счет жизненного уровня и условий труда колониальных народов, так же как и английского народа.
Главным образом на этой основе безжалостного усиления эксплуатации колоний вместо дефицита платежного баланса в 443 миллиона фунтов стерлингов, имевшегося в 1947 году, в 1949 году образовалось активное сальдо в 31 миллион фунтов стерлингов. В результате войны в Корее, а также в результате перевооружения и создания запасов Соединенными Штатами цены на колониальное сырье в 1950 году подскочили до головокружительной высоты, вследствие чего активное сальдо платежного баланса Англии возросло до 300 миллионов фунтов стерлингов в 1950 году. Пропагандисты лейбористского правительства торжественно провозгласили это победой «социалистического восстановления» и «успешным преодолением долларового дефицита».
В действительности же за активным долларовым сальдо стерлинговой зоны в размере 182 миллионов фунтов стерлингов в 1950 году по-прежнему скрывался долларовый дефицит Соединенного Королевства в размере 88 миллионов фунтов стерлингов. Однако, поскольку «остальная часть стерлинговой зоны» имела активное долларовое сальдо в размере 270 миллионов фунтов стерлингов, Соединенное Королевство, как «банкир стерлинговой зоны», могло иметь чистый благоприятный баланс. Соединенное Королевство имело активное сальдо от «остальной стерлинговой зоны» в размере 287 миллионов фунтов стерлингов благодаря доходам от дани («невидимые» перечисления) в размере 314 миллионов фунтов стерлингов из «остальной части стерлинговой зоны». Соединенное Королевство могло иметь общее активное сальдо своего баланса в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и в то же время вложить 616
не менее 181 миллиона фунтов стерлингов нового капитала в «остальную часть стерлинговой зоны».
Эта «победа» была недолговечной. Она явилась следствием временных и неустойчивых факторов, а не подлинного «восстановления». Одновременно высокие цены на колониальное сырье сильно ударили по английской промышленности. Прекращение Соединенными Штатами создания запасов стратегического сырья вызвало снижение цен на колониальное сырье и подорвало основу баснословно возросших в 1950 году и в начале 1951 года колониальных прибылей. Вместо активного сальдо, имевшегося в 1950 году, в 1951 году образовался дефицит платежного баланса в размере 403 миллионов фунтов стерлингов. Лейбористское правительство, видя растущее недовольство внутри страны, ушло со сцены и в октябре 1951 года провело парламентские выборы, чтобы предоставить консерваторам еще более безжалостно проводить в основном ту же политику.
Несостоятельные меры консервативного правительства в 1951—1955 годах
К моменту ухода в отставку лейбористского правительства золотые и долларовые резервы Англии сократились до 1055 миллионов фунтов стерлингов. Эту цифру консервативная оппозиция называла «критической». Через пять лет, к концу 1956 года, резервы уменьшились до 762 миллионов фунтов стерлингов.
Как и предшествующее, лейбористское правительство, правительство консерваторов, основываясь на временном и неустойчивом активном сальдо платежного баланса, достигнутом за три года, с 1952 по 1954 год, начало свою деятельность фанфарными заявлениями о «разрешении кризиса» и о триумфе «восстановления» и «процветания». Однако это временное активное сальдо было таким же достижением политики правительства, 617
каким было временное активное сальдо при лейбористском правительстве, которое оно также фальшиво провозглашало триумфом своей политики. Главным фактором здесь явилось благоприятное изменение в международной торговле, благодаря которому за 1951—1953 годы прибыль Англии от торгового оборота увеличилась на 25 процентов («Доклад ООН о мировом экономическом положении», 1952—1953 годы). К 1955 году вновь появился дефицит платежного баланса и достиг общей суммы 103 миллиона фунтов стерлингов, а если исключить американскую военную помощь, то 147 миллионов фунтов стерлингов.
Консервативное правительство проводило ту же самую империалистическую политику усиления эксплуатации колоний, сопровождаемую резким ростом расходов на империалистические военные обязательства, какую осуществляло лейбористское правительство. В июле 1953 года министр колоний хвастался в парламенте, что за двадцать лет, с 1932 по 1952 год, темпы выкачки сырья из колоний гигантски возросли, оставив далеко позади темпы роста производства в Англии.
Таблица 45
ДОБЫЧА СЫРЬЯ В АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 1932 И 1952 ГОДАХ (в тысячах тонн)
Наименование
1932 г.
1952 г.
Прирост, °/0
Сырая нефть ....
350
3500
900
Очищенная нефть . .
770
6500
744
Бокситы
65
2250
3361
Марганец
50
795
1490
Железная руда . . .
750
2250
200
Производство хлопка возросло на 160 процентов, каучука — -на 90 процентов. Стоимость меди, добываемой на медных рудниках Родезии, превы618
шала 80 миллионов фунтов стерлингов в год. Нефть же министр колоний назвал «одним из крупнейших источников, который со временем если и не выравнит платежный баланс, то по крайней мере внесет солидный вклад, необходимый для процветания стерлинговой зоны. На это мы можем надеяться».
Рост размера прибылей, извлекаемых из колониальных территорий, можно проиллюстрировать таблицей доходов «Рокана коппер корпорейшн».
Таблица 46 ПРИБЫЛИ «РОКАНА КОППЕР КОРПОРЕЙШН» ЗА 1945-1954 ГОДЫ
Год
Чистая прибыль, тыс. ф. ст.
Дивиденд, °/0 к вложенному капиталу
1945
1013
25
1946
1086
60
1947
1503
85
1948
2097
100
1949
2459
100
1950
3074
120
1951
6765
200
1952
7861
225
1953
8391
225
1954
9544
250
Таким образом, за десять лет держатель акции 14 раз возвращал свой капитал.
В то же время продолжала увеличиваться стоимость непосильных военных обязательств. В 1954 году бремя вооружений достигло суммы 1668 миллионов фунтов стерлингов, составив 36 процентов, или две пятых расходной части бюджета (а с учетом выплаты процентов по задолженности — половину бюджета). По официальным данным, расходы на заморские военные обязательства поглотили в 1950 году 100 миллионов, 619
в 1951 году— 126 миллионов, 1952 году—141 миллион, в 1953 году—144 миллиона, в 1954 году — 152 миллиона и 157 миллионов фунтов стерлингов в 1955 году. Суэцкая авантюра привела к дальнейшему увеличению этих расходов в 1956 году.
Ослабление консервативным правительством контроля над промышленностью, налоговые скидки, предоставленные главным образом крупным компаниям, поощрение промышленности, связанной с производством вооружений, особенно авиационной, сталелитейной, автомобильной и машиностроительной, вызвали отчаянный и расточительный бум в промышленности. Курсы акций подскочили до головокружительной высоты. Председатель конфедерации профсоюзов рабочих судостроительной и машиностроительной промышленности заявил на их ежегодной конференции в августе 1955 года, что пакет акций машиностроительных компаний, стоивший в 1949 году 100 фунтов стерлингов, сейчас в среднем стоит 245 фунтов, а судостроительных компаний — 280 фунтов стерлингов. Прибыль и дивиденды росли неудержимо. Процесс инфляции в условиях этой уродливой экономики быстро достиг опасной точки. Бремя возросших цен сильно ударило по рабочим и по всем другим категориям населения с низким доходом. Между 1949 и 1954 годами индекс розничных цен увеличился в Англии на 30 процентов по сравнению с 10 процентами в Соединенных Штатах и Западной Германии. К концу 1954 года появились опасные признаки ослабления позиций фунта на мировых рынках.
Этот временный бум, возникший при консервативном правительстве, опирался не только на интенсивную эксплуатацию колоний, но также и на интенсивную эскплуатацию английских рабочих. Английские рабочие в погоне за неуклонно растущими ценами стремились увеличить свой доход и значительной сверхурочной работой восполнить пробел в своей реальной заработной плате. 620
Рабочее время взрослого рабочего-мужчины составляло в октябре 1938 года 47,7 часа в неделю, а в апреле 1955 года — 48,9 часа. Однако, несмотря даже на это увеличение рабочего времени и рост производительности, общая доля рабочих в возросшем выпуске продукции, получаемая ими в виде заработной платы, уменьшилась, как указывалось выше, с 40,1 процента от валового объема продукции в 1948 году до 39,3 процента в 1954 году.
Отсюда следует, что степень эксплуатации как рабочих в колониях, так и английских рабочих резко усилилась.
Таким образом, опыт лейбористского правительства был в новых формах повторен консервативным правительством. Опять призыв увеличивать выпуск продукции для разрешения кризиса нашел отклик среди рабочих. И опять увеличение производства сопровождалось уменьшением доли материальных благ, получаемой рабочими. Даже официальные подсчеты, опубликованные правительством в 1955 году, пытаются только претендовать на то, что между 1938 и 1954 годами, когда выпуск продукции увеличился на 27 процентов (с учетом прироста населения на 12 процентов), расходы на потребление в расчете на душу населения увеличились за эти 16 лет на 4,5 процента. Другими словами, темп роста расходов на потребление на душу населения в течение 16 лет составлял немногим больше одной трети темпа прироста производства товаров. Однако единодушное решение Конгресса тред-юнионов в 1955 году подвергает сомнению даже и эту цифру. Конгресс осудил официальный индекс розничных цен (на основе которого утверждали, что за 16 лет реальный расход на потребление на душу населения якобы увеличился на 4,5 процента) как являющийся неверным мерилом истинного роста цен на предметы первой необходимости. По данным доклада Организации европейского экономического сотрудничества «Статистические данные о национальном доходе и расходах за 1938—1952 годы», опублико621
ванного в 1954 году, доля предметов личного потребления в валовой продукции страны снизилась с 77 процентов в 1938 году до 75 процентов в в 1947 году и 68 процентов в 1952 году. В то же время личное потребление в расчете на душу населения находилось только на уровне 1938 года. В 1954 году потребление мяса, рыбы, масла, фруктов и овощей на душу населения было ниже уровня 1934—1938 годов.
Когда в 1955 году вновь возник дефицит платежного баланса, обнаружилась вся шаткость базы этой экономической структуры. Стоит, пожалуй, отметить, что заморские военные обязательства поглотили в 1955 году 157 миллионов фунтов стерлингов, то есть сумму, на 50 процентов превышающую общий дефицит, равный 103 миллионам фунтов стерлингов. Если бы не было расходов на заморские военные обязательства, то платежный баланс в 1955 году имел бы активное сальдо в 54 миллиона фунтов стерлингов.
И опять консервативному правительству пришлось, так же как и лейбористскому до него, перейти от своих хвастливых заявлений о фальшивом восстановлении и разрешении кризиса к воплям о серьезности экономического положения и к расширению ограничительных мер, направленных не на уменьшение реальных тягот, а на дальнейшее сокращение потребления внутри страны и ограничение производства потребительских товаров. В феврале 1955 года учетная ставка была увеличена до 4,5 процента, а в феврале 1956 года — до 5,5 процента. В июле 1955 года Батлер объявил о новом ряде экономических мер, предусматривающих уменьшение банковских кредитов и сокращение или замедление темпов капиталовложений и промышленного развития. Важнейшие задачи модернизации английской промышленности, уже плетущейся далеко позади, технический уровень оснащения которой с каждым днем отстает от уровня ее основных капиталистических конкурентов, были вновь принесены в жертву требованиям 622
дорогостоящей политики имперских обязательств и вооружения. В октябре 1955 года Батлер объявил об особом осеннем бюджете, предусматривающем введение больших дополнительных налогов с целью ограничения потребления внутри страны, а также сокращение субсидий на жилищное строительство.
Как при лейбористском правительстве, так и при консервативном увеличение производства, ограничение потребления внутри страны и форсирование экспорта были объявлены панацеей or всех бед.
«Мы должны поставить себе первейшей задачей сокращение спроса внутри страны, с тем чтобы больше оставалось товаров на дополнительный экспорт, который нам необходим... некоторые потребности национализированных отраслей промышленности в капиталовложениях будут урезаны... расходы на осуществление проектов развития будут отложены или замедлены» (из заявления министра финансов Р. А. Батлера в палате общин 25 июля 1955 года).
Таким образом, несмотря на все различия во внешних формах и конкретных методах, круг, совершенный лейбористским правительством, повторился при консервативном правительстве. К 1955 году прежние заявления о якобы победном разрешении кризиса уступили место тревожным призывам и ограничительным мероприятиям. «Суровая экономия» Криппса уступила место «суровой экономии» Батлера и экономии нищеты Макмиллана.
Этот опыт, повторяющийся в течение десятилетия после войны, указывает на необходимость более глубокого изучения истинной причины кризиса Англии.
Правда о платежном балансе
Почему же все эти послевоенные мероприятия, проводившиеся в соответствии с политикой прави- 623
тел^ства, не могли ликвидировать кризис, который в течение этих лет повторялся снова и снова с зозрастающей силой?
Ответ на этот вопрос следует искать не только в более глубоких и давнишних причинах кризиса, которые мы уже рассматривали и которые эта полпика не в силах изменить. Прямые, непосредственные результаты этой политики на практике гривели к дальнейшему ухудшению. Сами по себе попытки сохранить и упрочить империалистическую систему как якобы необходимую основу восстановления, по существу, обостряли кризис как тем, что взваливали все более непосильное экономическое и военное бремя на и без того уже ослабленную английскую экономику, так и тем, что вели к усиливающемуся подчинению Соединенным Штатам.
В то время как стоимость сохранения империи, выражавшаяся в правительственных заморских расходах и в военных заморских расходах, резко возросла после второй мировой войны по сравнению с довоенным периодом, дань или доходы от заморских капиталовложений резко сократились. Вместо прежнего чистого активного сальдо появился чистый дефицит. Конечно, реальная стоимость содержания империи неизменно ложилась на плечи английского и колониальных народов, которые всегда должны были расплачиваться своими деньгами и кровью, тогда как прибыли получал узкий круг монополистов. Поэтому нельзя непосредственно сравнивать две стороны баланса. Чистый дефицит для английского народа может все же оказаться выгодным для монополистов. Однако, сделав эту весьма важную оговорку, следует указать, что чистый дефицит баланса империализма, начавший выявляться после второй мировой войны, был весьма важным симптомом.
Таблица 47 дает приблизительное представление об изменении в соотношении между доходом, получаемым с заморских территорий, и заморскими 624
правительственными расходами до и после второй мировой войны.
Эти цифры являются весьма приблизительным показателем, так как нет никаких официальных данных, показывающих истинные размеры дохода от империалистической эксплуатации. Приведенные в «Отчетах о национальном доходе и расходах» данные о «доходах от собственности за границей» дают более полное представление, чем размеры чистых «процентов, прибылей и дивидендов», получаемых из-за границы и приводимых в платежном балансе, так как в последнем не учтены гигантские прибыли нефтяных, судоходных и страховых компаний. Хотя общая сумма доходов от собственности включает доходы, получаемые из всех заморских стран, большую часть доходов дают или страны империи, или страны, косвенно связанные с нею. Чистый доход от капиталовложений в империи не является, однако, мерилом размеров всех доходов, приносимых империалистической эксплуатацией, так как правления крупнейших империалистических монополий, действующих в империи, расположены в Соединенном Королевстве и прибыли этих компаний проходят как прибыли компаний, действующих в Соединенном Королевстве. Дополнительным указателем является статья «невидимых доходов», приводимая в «Отчете о платежном балансе», хотя в эту статью включены все доходы, получаемые не от экспорта товаров. Хотя по этой причине цифры, приведенные в таблице, могут дать только приблизительную, примерную картину, все же они совершенно ясно указывают как на направление изменений, так и на усилия правительства, стремящегося все эти годы восстановить старое положение.
Чистые «доходы от собственности за границей» между 1938 и 1946 годами упали ниже одной четверти довоенной цифры в денежном выражении и еще ниже в реальной стоимости. С другой стороны, правительственные расходы за 625
границей возросли более чем в тридцать раз. Если сопоставить эти две статьи, считая их при- ' близительным отражением непосредственного выражения империалистической политики, — барыши (по грубому расчету),, с одной стороны, и расходы на сохранение империи — с другой, то получится, что на смену довоенному активному сальдо в размере 216 миллионов фунтов стерлингов пришел дефицит в размере 297 миллионов фунтов стерлингов, — иными словами, произошел резкий поворот от прибылей к чистым потерям на империалистической авантюре (по отношению к общей экономике страны, но не по отношению к весьма солидным прибылям монополистических предприятий), превышающим 500 миллионов фунтов стерлингов. Последующие годы были свидетелями попыток восстановить довоенное положение. Даже после всех чрезвычайных мероприятий правительства, направленных на то, чтобы усилить эксплуа- ятацию колоний, было еще далеко до восстановления довоенного положения. Доход от собственности за границей достиг к 1955 году 145 миллионов фунтов стерлингов и составлял только три четверти довоенной цифры в денежном выражении (и значительно меньше в реальных ценностях, учитывая падение стоимости фунта стерлингов), а правительственные расходы за границей составляли 241 миллион фунтов стерлингов, то есть более чем в полтора раза превышают чистый доход от собственности за границей.
Дальнейшее изучение всех данных неизбежно потребует рассмотрения большого числа дополнительных факторов, кроме этих крайне упрощенных цифр. Тем не менее эти упрощенные цифры в достаточной мере служат своей цели, показывая определенную тенденцию.
Для дальнейшего показа того, что в основе экономических трудностей Англии лежит империалистическая система и политика, необходимо несколько внимательнее изучить состояние платежного баланса в послевоенные годы. Офици626
альная пропаганда, касаясь кризиса, постоянно рисует картину Англии, импортирующей и потребляющей слишком много и экспортирующей недостаточно, и утверждает, что именно это является камнем преткновения. Отсюда делается вывод, что дефицит можно ликвидировать лишь в том случае, если Англия будет больше производить и экспортировать или меньше импортировать. Однако изучение подлинных фактов вскрывает совершенно иную картину.
Таблица 47
ДОХОДЫ АНГЛИИ ОТ ЗАГРАНИЧНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАМОРСКИЕ РАСХОДЫ В 1938—1955 ГОДАХ (В МЛН. ф. СТ.)
1938 г.
1946 г.
1950 г.
1952 г.
1955 г.
Доходы от собственности за границей
1921
441
337 2
93 2
1452
Чистые «невидимые» доходы (исключая правитель¬
ственные статьи) ....
232 3
1904
569 4
4154
386 4
Правительственные заморские расходы
—
487
165
217
223
Правительственные заморские расходы
163
487 4
1654
2174
241 4
1 «Национальный доход и расходы, 1955 г.»
3 «Платежный баланс 194 6—1949 гг.»
3 «Национальный доход и расходы, 1956 г.»
4 «Платежный баланс 1946—1955 гг.»
Имеющиеся официальные данные о платежном балансе Англии о многом умалчивают и не дают правильной картины. Контролируемый американцами Международный валютный фонд прямо отмечал:
«Данные, представляемые Соединенным Королевством Международному фонду для 627
его операций по форме, установленной «Руководством о платежном балансе» этого фонда, не предназначались для опубликования» (Международный валютный фонд. Справочник о платежном балансе за 1949/50 г., 195Г, стр. 392).
Тем не менее на основе опубликованных официальных данных можно составить достаточно красноречивую таблицу, которая приводится ниже.
Цифры, приведенные в таблице 48, дают, как и в предыдущей таблице, только приблизительную, примерную картину и не могут служить точным мерилом. Для более точного анализа было бы необходимо принять во внимание, помимо ряда других факторов, девальвацию фунта в 1949 году, что делает невозможным точное сопоставление суммарных данных за эти десять лет. Но опять-таки и здесь совершенно ясно то основное, о чем говорят эти цифры, взятые из официальных отчетов.
Вскрывающиеся при этом факты находятся в вопиющем противоречии с утверждениями официальной пропаганды относительно дефицита платежного баланса и безошибочно показывают империалистический характер кризиса.
О чем же свидетельствуют эти факты?
Во-первых, о том, что за десять лет, с 1946 по 1955 год, общий дефицит платежного баланса составил 286 миллионов фунтов стерлингов, но что за те же десять лет общие правительственные заморские расходы составили 2372 миллиона фунтов стерлингов, или в восемь раз брлыие общего дефицита. Таким образом, общий дефицит является результатом отнюдь не чрезмерного потребления внутри страны или чрезмерного импорта, а исключительно результатом крайне высоких правительственных заморских расходов, свидетельствующих об империалистической политике.
Во-вторых, о том, что заморские военные расходы за те же десять лет составляли не менее
628
Таблица 48 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС АНГЛИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАМОРСКИЕ РАСХОДЫ ЗА 1946—1955 ГОДЫ (В МЛН. ф. СТ.)
I. 1946—19.50 годы
1946 г.
1947 г.
1948 г.
1949 г.
1950 г.
Всего за 5 лет
Платежный баланс . . Правительственные за-
—298
—443
+ 1
+ 31
+300
—409
морские расходы
487
278
172
174
165
1276
Из них:
Заморские военные
расходы
374
209
113
110
100
906
Чистые суммы капи-
тал овложений в
остальную часть стерлинговой зоны (капиталовложения —, займы + )
+ 66
—303
—177
—277.
— 181
—875
1
4. 1951—1955
годы
Всего
1951 г.
1952 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
за
5 лет
Платежный баланс . .
Правительственные за¬
—403
+247
+ 177
+285
— 103
+ 123
морские расходы
192
217
218
226
241
1096
Из них:
Заморские военные
расходы
126
141
144
150
157
720
Чистые суммы капи¬
таловложений в
остальную часть стерлинговой зоны (капиталовложения —, займы + )
— 164
— 85
—118
—223
— 4
—594
Итого за 1946—1955 годы
Платежный баланс - —286
Правительственные заморские расходы 2372
Из них:
Заморские военные расходы 1626
Чистые суммы капиталовложений в остальную часть
стерлинговой зоны (капиталовложения —, займы + ) 1469
Источник. «Платежный баланс Соединенного Королевства за 1946— 1955 годы>.
1626 миллионов фунтов стерлингов, или в пять с лишним раз больше общего дефицита. Во избежание недоразумений следует разъяснить, что в эти заморские военные расходы не включены стоимость оккупации Германии, расходы на оказание помощи и восстановление, а также административные и дипломатические расходы, которые учитываются отдельно. Таким образом, дефицит платежного баланса на протяжении этих десяти лет объяснялся исключительно заморскими военными обязательствами и войнами (на Среднем Востоке, в Гонконге, в Малайе, Кении, содержание гарнизонов в странах империи и т. д.). Если бы не заморские военные расходы, проблемы дефицита — главнейшей проблемы, волнующей английских граждан, не существовало бы вообще.
Однако при дальнейшем изучении некоторых дополнительных факторов, влияющих на платежный баланс, обнаруживается еще более поучительная картина истинной деятельности империализма, осуществляемой под покровом пропагандистской шумихи, сводящей все дело к простому сбалансированию импорта необходимого продовольствия и сырья экспортом товаров, так как за эти же десять лет чистого дефицита чистый экспорт капитала Англии достиг значительных размеров.
За 1946—1955 годы чистый экспорт капитала за границу (как указывается в «Платежном балансе за 1946—1955 годы») составил 1281 миллион фунтов стерлингов а в «остальную часть
1 «Промышленный бюллетень министерства финансов» (ноябрь 1955 года) указывал, что английские долгосрочные капиталовложения за границей в 1946—1950 годах увеличивались в среднем за год на 80 миллионов фунтов стерлингов, или на 400 миллионов за пять лет, а в 1951 —1953 годах — на 180 миллионов в год, или на 540 миллионов фунтов стерлингов за три года, что за эти восемь лег составляет 940 миллионов фунтов стерлингов чистых капиталовложений за границей. 630
стерлинговой зоны» (то есть в основном в империю) — 1469 миллионов фунтов стерлингов. Даже в самый дефицитный 1951 год, когда дефицит достиг 403 миллионов фунтов стерлингов, новые чистые капиталовложения в остальную часть стерлинговой зоны составили 164 миллиона фунтов стерлингов.
Этот экспорт капитала в империи, необходимый с точки зрения империализма, ложился дополнительным и тяжелым грузом на платежный баланс.
Таким образом, к общей сумме заморских военных расходов, достигшей за эти десять лет 1626 миллионов фунтов стерлингов, нужно прибавить общую сумму чистых капиталовложений в империю, равной 1469 миллионов фунтов стерлингов, что даст сумму, превышающую 3 миллиарда фунтов стерлингов. При этом мы должны учесть обратную тенденцию в отношении стран, не входящих в стерлинговую зону, которая снизила чистый экспорт капитала до 884 миллионов фунтов стерлингов, и соответственно общую сумму заморских военных расходов и чистого экспорта капитала — до 2907 миллионов фунтов стерлингов.
Как оказалось возможным, несмотря на неблагоприятную торговую ситуацию в течение десяти лет, проведение таких гигантских заморских расходов, достигших за эти десять лет почти 3 миллиардов фунтов стерлингов? Это был опасный эквилибристский трюк, к которому прибег слабеющий английский империализм после войны. Можно указать некоторые источники, полный же анализ этого положения потребует изучения очень сложного сочетания факторов.
За эти же десять лет Англия получила в различных видах долларовой помощи на сумму, превышающую 2 миллиарда фунтов стерлингов (937 миллионов фунтов стерлингов в виде займа в 1945 году, 2784 миллиона долларов по плану Маршалла и до конца 1955 года 321 миллион 631
фунтов стерлингов <в виде военной помощи). Таким образом, большая часть долларовой помощи, которую объявляли необходимым средством спасения английского народа от гблода, в действительности была израсходована не для подъема его жизненного уровня, а для укрепления империалистических интересов финансовой олигархии Англии \ За это английский народ был продан в тяжелую кабалу Соединенным Штатам.
За те же десять лет для увеличения активов стерлинговой зоны с народов колоний было собрано свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов путем роста стерлинговых счетов колоний между концом 1945 года и 1955 годом.
Английский народ увеличил выпуск продукции, не получив за это какого-либо соответствующего повышения жизненного уровня.
Таков был истинный баланс английского империализма после войны. Все усилия были сосредоточены на восстановлении империалистической экономики, а не на жизненно необходимых задачах перестройки экономики Англии на здоровой и независимой основе. «Холодная война», колониальные войны, гонка вооружений и зависимость от Соединенных Штатов — вот какова была плата за эту политику.
Таким образом, вся официальная пропаганда относительно кризиса и дефицита платежного баланса, вызванных якобы чрезмерным импортом и потреблением внутри страны и недостаточным
1 Тот факт, что помощь по плану Маршалла была в действительности использована для покрытия экспорта капитала в страны империи, вскрыл министр колоний консервативного кабинета Литтлтон, когда он заявил в парламенте 16 июля 1953 года: «Меня удивляло, что в течение шестисеми лет после войны у нас не ощущалось недостатка в капитале для вложения в колонии. Я считал это удивительным. За некоторыми причинами этого явления, такими, как- впрыскивание в нашу экономику помощи по плану Маршалла, не нужно далеко ходить».
632
производством на экспорт, представляла собой гигантский трюк, рассчитанный на доверчивость людей, и надувательство с целью скрыть истинные факты.
Тот основной элементарный факт, а именно что главной и непосредственной причиной послевоенного дефицита Англии были огромные заграничные военные обязательства и расходы, а также империалистические нужды в экспорте капитала,— этот единственный и важнейший факт никогда не упоминался ни в плакатах, ни в листовках, ни по радио; его никогда не признавал ни один министр, о нем никогда не упоминал ни один официальный экономист, «объяснявший» кризис; на него даже не намекали авторы редакционных и обычных статей в газетах с миллионным тиражом, которые упрекали правительство за его расточительность в социальных вопросах и рабочих — за их безделье и склонность к излишествам. Это оставалось великой и постыдной тайной умирающего английского империалистического порядка, которую он должен был унести с собой в могилу. Во всевозможных красочных диаграммах (в которых современные эксперты рекламы разъясняют населению, видимо считая его слабоумным, сложные экономические вопросы) продолжают изображаться фантастические сказки для рабочих: «импорт» представлен булкой и аппетитным куском мяса; «экспорт» представлен тем, что производит в поте лица английский рабочий Джон Смит. Джон Смит не окупает своего существования. Если Джон Смит будет трудиться усерднее, появится больше хлеба, больше мяса и масса всяких других приятных вещей. Все это так просто, если поразмыслить над этим хорошенько!
Если какой-либо отважный критик на конференции лейбористской партии умудрялся иногда вставить слово, чтобы высказать предположение, что главной причиной дефицита являются замор633
ские военные расходы, тотчас кто-нибудь из министров прерывал его и восклицал с благородным негодованием: «Так вы хотите оставить наш маленький остров беззащитным?» И корабли с войсками по-прежнему отправлялись в Сингапур и Гонконг для сохранения военного господства над «маленькими островами» — совсем не теми, которые имела в виду аудитория.
Однако полную картину, необходимую для правильного понимания непосредственной и подконтрольно проводимой политики (империалистической политики) как фактора, лежащего в основе кризиса и дефицита Англии, нельзя нарисовать, говоря только о прямых заморских военных расходах, которые составляют основу послевоенного дефицита. Необходимо учитывать также следствие колоссальных расходов на вооружение и переброску людских ресурсов в вооруженные силы и военную промышленность, что вело к сокращению и нерациональному использованию производственных возможностей Англии.
Программа вооружений непосредственно сказывалась на платежном балансе. Даже если мы возьмем только данные о торговле, данные об экспорте и импорте товаров, то увидим, что та знакомая картина, доказывающая необходимость экспорта для оплаты импорта необходимого английскому народу продовольствия и сырья, совершенно игнорирует то, что часть этого импорта составляет сырье для военного производства, то есть идет ни на потребление, ни на увеличение выпуска товаров для широкого потребления и повышение жизненного уровня, а на создание средств разрушения. С точки зрения подъема жизненного уровня или полезного производства этот импорт не нужен. Но его нужно оплачивать экспортом товаров, которые могли бы быть использованы внутри страны для повышения жизненного уровня или которые могли бы быть вывезены за границу в обмен на товары, опять-таки для улучшения жизни внутри страны.
634
Министр финансов консервативного правительства Батлер признал в январе 1954 года на конференции министров финансов империи в Сиднее, что «если бы не бремя оборонных усилий, то положение с платежным балансом облегчалось бы ежегодно на сумму в 350—400 миллионов фунтов стерлингов». Таким образом, заморские военные расходы, достигавшие в то время 150 миллионов фунтов стерлингов, составляли только часть всего бремени империалистической военной политики, давящего на платежный баланс. К этому нужно добавить те последствия, которые влечет переброска двух миллионов человек (одиннадцатая часть занятого населения) из гражданских отраслей промышленности в вооруженные силы и в производство вооружения.
К этому следует прибавить также и тот ущерб, который нанесла Англии политика торговых запретов, порожденных «холодной войной», и тяжесть которого признал Батлер (опять-таки только в области поставок предметов потребления из-за границы), когда он заявил американской общественности, что «мы смогли обойтись без поставок из стран железного занавеса, только причинив серьезный ущерб всей нашей экономике и продовольственному снабжению нашего народа» (интервью, данное корреспонденту журнала «Юнайтед Стейтс энд Уорлд рипорт» от 13 января 1953 года).
В мае 1956 года новый министр финансов Макмиллан дал волю тому, что он назвал «пустыми мечтами». Он указал, что в 1954 году Англия тратила 9 процентов своего национального дохода на военные нужды, а другие страны Организации европейского экономического сотрудничества— 5 процентов. Таким образом, Англия расходовала на вооружение «почти в два раза больше своих средств», чем другие страны Западной Европы.
«Предположим, что мы тратим не 9, а 635
5 процентов. По моему мнению, именно этот пример умозрительной арифметики ослепляет и, более того, порождает громадные надежды. Он означает экономию 700 миллионов фунтов стерлингов. Если только половину этой суммы вложить в экспорт, то баланс наших заграничных платежей совершенно изменился бы. Если бы вторую половину этой суммы мы израсходовали на вложения в основной капитал, значительно уменьшились бы нападки на нас за то, что процент капиталовложений низок.
Сократите военные расходы на 700 миллионов фунтов стерлингов — и это разрешит одну из главнейших дилемм министерства финансов: опасно уменьшать налоги, пока у нас нет больших накоплений».
Конечно, Макмиллан добавил, что все это только «пустые мечты. Мы знаем, что не можем их осуществить. Мы не собираемся действовать безответственно».
В этом душераздирающем крике министра финансов консервативного правительства потонули все басни о том, что причиной дефицита платежного баланса является чрезмерное потребление внутри страны. Он понял, что возможность частичного отхода от империалистической военной политики «порождает громадные надежды» на разрешение его проблем, но понял это только для того, чтобы отвергнуть их как «пустые мечты». Однако от реальной обстановки не так-то легко отделаться.
К 1956 году становилось все яснее, что нужно предпринять некоторое сокращение расходов страны на вооружение. О первом и очень крошечном сокращении на 50 миллионов фунтов стерлингов было объявлено летом 1956 года. Обсуждалась возможность несколько большего 636
сокращения в следующем году. Однако стремление к экономии средств пока еще не сопровождалось каким-либо пониманием необходимости коренного изменения политики, поворота от всей империалистической политики и политики «холодной войны» с их разорительными тяготами (воплощенными не только в расходах на вооружение) к политике разрешения экономических проблем Англии. Наоборот, агрессивная суэцкая военная авантюра во второй половине 1956 года, наиболее рьяно поддержанная Макмилланом («мы не собираемся действовать безответственно»), увеличила бремя заморских военных расходов и серьезно ухудшила экономическое положение страны. Перед лицом этого ухудшения экономического положения и вытекающей отсюда необходимостью сокращения расходов правительство Макмиллана составило в начале 1957 года план, предусматривающий наряду с наступлением на жизненный уровень английских трудящихся сокращение военных расходов, но не путем отказа от империалистической военной политики, колониальных войн, «холодной войны» и стратегии ядерной войны, а путем предполагаемого сокращения оккупационных войск в Германии и усиления зависимости от Соединенных Штатов Америки, покупая у них ракетное оружие. Очевидно, что такой подход не может привести к коренному решению проблем Англии. Упор на ядерную стратегию как на основную стратегию войны и реорганизация в соответствии с этим вооруженных сил, предусмотренная в Белой книге об обороне за 1957 год, означали наряду с сокращением общей численности вооруженных сил новые крупные расходы в других формах для оснащения ■войск новым оружием и снаряжением.
Все эти тяготы и лишения, перечисленные выше — и в действительности нелегкие тяготы и лишения, — принес английскому народу империализм и его политика. Продолжение этой политики 637
до ее окончательного результата — ядерной войны, в которой Англия стала бы главной мишенью разрушительного оружия,— характеризует всю эту программу как программу экономического, политического ши военного 'самоубийства.
Вот именно эту политику жизненно важно изменить, с тем чтобы открыть путь к достижению прямо противоположной программы — программы мира и прогрессивного развития и, таким образом, справиться с условиями хронического кризиса Англии и добиться лучшего будущего для английского народа.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕ АНГЛИИ
Нет, эту Англию не склонит никогда К своим стопам надменный победитель, Пока она сама себя не ранит .в первый раз.
Шекспир.
Наступило время, когда должен быть признан подлинный характер кризиса империи и сделаны практические выводы.
Мрачная картина послевоенного положения Англии, нарисованная в предыдущей главе, отнюдь не является неизбежной перспективой или единственным путем для Англии.
Нынешние трудности Англии, несомненно, объясняются главным образом тяжелым наследием всего предшествовавшего периода империалистического развития, и единственное окончательное решение требует перехода к новой социальной, экономической и политической структуре. Однако это тяжелое наследие находит свое выражение в нынешней политике правящего империалистического класса и его представителей, которые упорно цепляются за старую основу и постоянно ухудшают положение Англии, стараясь сохранить одряхлевшую систему. Кризис Англии уходит своими корнями в прошлое. Однако непосредственной действенной причиной, которая затягивает, усиливает кризис и мешает восстановлению, является политика, не отвечающая нуждам и интересам английского народа.
Эту политику можно изменить. Прошлое не обязательно всегда душит настоящее и будущее. И представители будущего уже сейчас появляются прежде всего в рабочем движении и среди самых широких слоев народа, чтобы изменить
639
старую политику и открыть новые перспективы для Англии.
Однако это новое будущее требует решительного разрыва со старой политикой империалистического паразитизма, колониальных войн, союза с международной реакцией, гонки вооружений и зависимости от Соединенных Штатов Америки.
Необходимо восстановить национальную независимость Англии и построить отношения с народами теперешней империи на новой основе.
Необходимо проявить инициативу в установлении всеобщего мира и международного экономического сотрудничества.
Необходимо взяться за решение серьезных задач технического, экономического и социального переустройства страны, чтобы обеспечить Англии здоровую, - самостоятельную производственную основу, не допуская, чтобы она существовала как страна-рантье, как центр колониальной эксплуатации или находилась на содержании и служила пешкой в руках более мощного империализма.
Восстановление национальной независимости
Прежде всего для возрождения Англии необходимо полностью восстановить ее национальную независимость, избавившись от покорности американскому вмешательству и давлению, что наблюдалось в течение послевоенных лет. Без восстановления национальной независимости все другие программы и политические мероприятия, направленные на восстановление, будут лишь воздушными замками.
Низведение Англии до зависимого положения по отношению к Соединенным Штатам Америки было осуществлено путем ряда таких постепенных стадий и облечено в такие поразительно разнообразные, сложные и дезориентирующие внешние формы, что большинство населения лишь частично 640
осознало подлинный характер подчинения. Простой человек скорее ощущает это подчинение инстинктивно и эмоционально, чем отдает себе ясный отчет в нем. И уж, конечно, официально обе стороны настойчиво и полностью отрицают это подчинение.
Гитлер так описывал технику постепенного покорения в своей книге «Майн кампф»:
«Мудрый завоеватель всегда будет навязывать свои чрезмерные требования постепенно... Чем больше таких требований будет пассивно принято, тем менее оправданным будет выглядеть сопротивление в глазах другого народа, если побежденная сторона кончит бунтом против последнего из ряда актов угнетения. И это тем более верно, если страна раньше терпеливо и молчаливо мирилась с притеснениями, которые были еще более вопиющими».
Колонизация страны не обязательно производится путем простого процесса прямого и жестокого завоевания и аннексии. Если речь идет о большой развитой стране, имеющей старую цивилизацию— часто более старую, чем цивилизация захватчиков,— и глубоко укоренившиеся традиционные политические институты, процесс проникновения в конечном счете подчинения часто, бывает более сложным и постепенным.
Возьмем Индию — классическую страну во всей истории современной колониальной системы. Английское господство в Индии долго скрывалось за всевозможными внешними формами величественной, красочной, номинально числившейся еще могущественной и полновластной, но по существу уже одряхлевшей империи Моголов, прежде чем было открыто провозглашено, кому в действительности принадлежит власть. Англичане явились туда в роли торговцев и просителей; они создали свои базы на основе договорных прав, полученных от суверенной державы; они действовали как союзники, финансисты, советники, лица, предо21 Р. Палм Датт
641
ставляющие субсидии, и военные организаторы; они использовали и обостряли политические разногласия (точно так же, как американские правители использовали и усугубили раздел Европы на Восточную и Западную и даже раздел Германии); они поставляли вооружение для армии, командовали армиями своих политических протеже, участвовали в войнах, используя главным образом не свои собственные, а местные вооруженные силы, находившиеся под их командованием. Они стали большой силой во всех делах Индии, стоявшей за троном, хотя и продолжали править через местных князей и в границах старинных княжеств и империй. Простой индиец все еще воображал, что им правит местный князь, подчиняющийся мо- гольскому императору, и относился к англичанам с презрением, считая их вульгарными и раздражающими пришельцами, везде сующими свой нос и представляющими варварски энергичную, но низшую цивилизацию. Прошло полтора столетия после основания Ост-Индской компании, прежде чем было установлено ее прямое господство; прошло два с половиной столетия, прежде чем Индия была окончательно аннексирована как подвластная британской короне колония.
С мрачной иронией история отомстила: та техника постепенного проникновения и покорения, которой характеризовалась колонизация Индии Англией в период между XVII и XIX столетиями, воспроизводится в наше время со многими аналогиями, несмотря на глубокое различие условий на родине захватчиков Индии — в Англии и Западной Европе. В 1947 году английские войска оставили Индию. В 1948 году американские войска прибыли в Англию.
Первое англо-американское соглашение о займе от декабря 1945 года положило начало процессу проникновения американцев в экономическую область. Условия этого соглашения, предписывавшие отказ от дискриминации, были рассчитаны на то, чтобы подорвать господство англий642
ских монополистов в империи. Условия, касающиеся обратимости валюты, были рассчитаны на развал и уничтожение стерлингового блока. Постепенные стадии проникновения и обеспечения господства американцев в течение следующих шести лет были уже обрисованы в главе «Соединенные Штаты Америки и Британская империя». Только в 1947 году в соответствии с планом Маршалла в Англии были созданы постоянные органы американского экономического надзора, которые периодически сообщали Конгрессу о выполнении Англией предписанной ей программы. Только в
1948 году началась военная оккупация Англии Соединенными Штатами Америки, проводившаяся сначала под видом заключения соглашений о временном обучении, затем в форме открытого провозглашения ее постоянного характера с бесконечным расширением и увеличением баз и войск, пользующихся экстерриториальными правами и не подлежащих английской юрисдикции. Лишь в
1949 году Атлантический пакт официально вовлек Англию в вооруженную коалицию под эффективным контролем американцев. И лишь в том же 1949 году английской торговле были навязаны торговые запреты, разработанные в Вашингтоне. Только в 1951 году английские вооруженные силы были переданы лод контроль американского верховного командования.
Этот процесс постепенного уничтожения национальной независимости был описан журналом «Экономист» 29 апреля 1950 года.
«Но разве можно с уверенностью сказать, что суверенитет уступает только фронтальной атаке? — писал «Экономист».— Разве его нельзя ограничить бесконечным множеством актов сотрудничества, которые воспитывают привычку доверять и уступать? Все те, кто тесно сотрудничал в Организации европейского экономического сотрудничества, согласны, что сейчас возможны совместные действия сотнями различных 21*
643
способов, какие были немыслимы в 1947 году. Привычка к сотрудничеству, которую может выработать Атлантический совет, со временем может привести к единству и взаимопониманию, по крайней мере в той степени, в какой они существуют в Британском Содружестве, а это в конце концов не так уж мало».
Цитируя это высказывание, Виктор Перло, автор книги «Американский империализм»1, писал:
«Уже сейчас мы недалеко отступили бы от истины, если бы назвали Англию членом «Американского содружества» с несколько большей долей независимости от господина, чем обладала Индия в старой Британской империи, но несколько меньшей, чем обладала в ней Австралия. Безусловно, это «не так уж мало» для бывшей «владычицы морей» [стр. 170. — Ред.].
Таким путем было достигнуто положение, при котором американское господство в весьма значительной степени практически (неофициально, не по закону) установлено в экономических, политических и военных делах Англии. Это господство осуществляется не только в сфере высшей политики и в виде нажима на более слабого союзника, с тем чтобы он проводил нужную политику (о чем наглядно свидетельствует ставшее привычным в этот период «слушаюсь, сэр» для английских и французских представителей в ООН, которые почтительно идут на поводу у США), но и через систему всевозможных специальных организаций. Они весьма разнообразны. Это бесчисленные ответвления аппарата американского посольства, контролируемая американцами система органов и управлений экономического надзора (сперва Ад- 1 В русском переводе книга В. Перло «Американский империализм» выпущена Издательством иностранной литера' туры» в 1951 году. — Прим. ред.
644
министрацня экономического сотрудничества, затем Управление взаимного обеспечения безопасности), Организация Североатлантического союза, Управление по координации военного производства и т. д. и, наконец, американское военное командование в Англии и штаб американского верховного главнокомандующего в Европе.
Политические решения по традиции объявляются английскому народу пока еще с Даунинг- стрит или через Британскую радиовещательную корпорацию (иногда даже в парламенте). Однако за эти годы было принято всего лишь несколько серьезных политических решений, не носивших явно вашингтонского происхождения. Для подтверждения этого нужно лишь рассмотреть некоторые наиболее яркие примеры важных политических решений, принятых за эти годы.
1. Девальвация. Стаффорд Криппс, будучи министром финансов, девять раз публично заявлял, что он никогда не согласится на девальвацию. Американский нажим на фунт стерлингов достиг наивысшей точки летом 1949 года. Английская печать и английские официальные круги категорически опровергали комментарии американских финансовых кругов, высказывавшихся за девальвацию фунта стерлингов. В июле 1949 года министр финансов США Снайдер посетил в Лондоне Стаффорда Криппса. В неофициальных комментариях газет указывалось, что цель приезда Снайдера состоит в том, чтобы навязать девальвацию упирающемуся английскому правительству. В августе английское правительство решило провести девальвацию, и решение это было опубликовано в следующем месяце, причем сначала в Вашингтоне
1 Интересно проследить за тем крутым поворотом, который вынуждена была совершить несчастная «Дейли гералд» в критическом сентябре 1949 года. Это служит иллюстрацией к тому, как решение английского правительства уступить американскому нажиму было скрыто от его официального органа, который до последнего дня провозглашал победное и 22 Р- Палм Датт 645
2. Запреты в области торговли. Список «стратегических» товаров, экспорт которых в Советский Союз и страны народной демократии запрещен (позднее был составлен отдельный список для Китая), был составлен и опубликован сперва в Вашингтоне. Впоследствии было издано распоряжение английского министерства торговли, в котором приводился аналогичный список запрещенных товаров (конечно, без указания на его вашингтонское происхождение). Только в 1956 году Англия предприняла ряд полумер, отменив некоторые запреты в торговле с Китаем (экспорт каучука из Малайи в Китай) без согласия Соединенных Штатов Америки.
3. Корейская война. В день начала войны в Корее, в воскресенье 25 июня 1950 года,
«Английское министерство иностранных дел отказалось комментировать этот вопрос в воскресенье «ввиду отсутствия в Лондоне официальной информации». Оно все еще ожидало информации от английского посланника в Сеуле капитана Вивиана Холта. «Пока же, — заявило министерство иностранных дел,— мы руководствуемся аменепримиримое сопротивление американскому нажиму на фунт стерлингов.
2 сентября. Соединенные Штаты прекращают кампанию против фунта стерлингов.
12 сентября. Те, кто предсказывает девальвацию фунта стерлингов, будут дискредитированы.
14 сентября. Курс фунта стерлингов в Нью-Йорке повышается.
16 сентября. Разговоры о девальвации фунта стерлингов не имеют под собой оснований.
17 сентября. На фунт стерлингов не оказывается нажима.
18 сентября. Объявлена девальвация.
Финансовый обозреватель «Дейли телеграф энд Мор- нинг пост» писал: «Девальвация фунта стерлингов после неоднократных опровержений сэра Стаффорда Криппса будет серьезным ударом для Сити».
«Таймс» писала 20 сентября: «Не может быть, чтобы правительство добровольно решило пойти на эту чрезвычайную меру».
646
риканскими данными». Утром во вторник [27 июня] дипломатический обозреватель лондонской «Таймс» сообщил:
«От капитана Вивиана Холта получены лишь краткие донесения, подтверждающие факт начала военных действий».
Однако в воскресенье английский представитель в Совете Безопасности уже проголосовал за то, чтобы заклеймить Северную Корею как агрессора, хотя представитель самой Англии в Сеуле, по-видимому, мог подтвердить лишь «факт начала военных действий» (И. Стоун, Закулисная история войны в Корее, М., 1953, стр. 67). Иными словами, Англия была втянута в корейскую войну и присоединилась к облыжному обвинению Корейской Народно-Демократической Республики в агрессии, не имея доказательств для этого и до того, как получила какую-либо информацию от собственного представителя, последующее сообщение которого не подтвердило ложного утверждения, ибо, если воспользоваться откровенной терминологией министерства иностранных дел, «мы следуем американскому курсу».
4. Перевооружение Западной Германии. 28 марта 1950 года английский министр иностранных дел Эрнест Бевин заявил в палате общин, что «мы возражаем против перевооружения Германии». В сентябре того же года Бевин был вызван в Вашингтон и сообщил, что он согласился в принципе на перевооружение Германии.
«Бевин отправился в Нью-Йорк, преисполненный решимости воспрепятствовать ускоренному перевооружению Германии... Он потерпел неудачу... Перед лицом американского ультиматума... он пошел за ними» («Нью стейтсмен энд Нэйшн», 2 декабря 1950 года).
5. Английская программа перевооружения на сумму 4700 миллионов фунтов стерлингов. 26— 27 июля 1950 года палата общин после продолжи22*.
647
тельных прений проголосовала за увеличение на 100 миллионов фунтов стерлингов ассигнований на вооружение, утвержденных в сумме 780 миллионов фунтов стерлингов. Парламент был распущен на каникулы.
26 июля правительство Соединенных Штатов Америки направило английскому правительству ноту, требуя немедленного ответа на предложения об увеличении перевооружения Англии. Американская печать с презрением писала об этом увеличении на 100 миллионов фунтов стерлингов, считая его абсолютно недостаточным.
3 августа было объявлено, что английское правительство решило во время парламентских каникул — иными словами, не проконсультировавшись с парламентом,— принять трехлетнюю программу перевооружения на сумму 3400 миллионов фунтов стерлингов. Сообщение об этом было официально сделано в меморандуме Вашингтону, который был вручен американскому послу 2 августа. На следующее утро английскому народу была дана возможность узнать о своей судьбе благодаря тому, что печать и Британская радиовещательная корпорация опубликовали текст меморандума Вашингтону. Парламент не высказался по этому поводу. Меморандум начинался такими словами:
«Правительство Соединенных Штатов просило, чтобы правительство его величества в Соединенном Королевстве информировало его о характере и масштабах умножения усилий как в отношении увеличения вооруженных сил, так и в отношении увеличения выпуска военной продукции, которые правительство его величества намерено и в состоянии предпринять».
Дальнейшая часть меморандума Вашингтону представляет собой подробное описание угодливого согласия управляющего филиалом с инструкциями главной конторы. В заключение не хватало только заявить: «Ваши покорные и верноподданные вас648
салы желают вам, чтобы отныне и впредь вас никогда не покидало веселье». 4 августа 1950 года «Таймс» писала:
«В ответ на требование Америки... кабинет согласился сейчас на предварительную трехлетнюю программу, предусматривающую значительно большее увеличение расходов на оборону, чем предполагалось вначале [курсив мой. — П. Д}.
12 сентября премьер-министр сообщил о дальнейшем увеличении этой программы и о доведении ее до 3600 миллионов фунтов стерлингов. Эттли объяснил палате общин (очевидно, в надежде, что его услышат американские хозяева), что эта цифра представляет собой высший, крайний предел того, на что физически способна страна. «Мы достигаем предела того, что мы можем выполнить самостоятельно, не подрывая своей экономики»,— заявил он.
Однако этому не суждено было стать пределом. Строгий американский хозяин потребовал дальнейших увеличений. В декабре в Брюсселе была созвана сессия Совета Североатлантического союза. Англии было предъявлено новое требование — еще больше увеличить программу перевооружения. Как всегда послушный, Бевин (комнатная собачка, изображенная в виде бульдога) подчинился и дал обещание.
«На Брюссельской сессии Совета Североатлантического союза 19 декабря министр иностранных дел заявил, что ввиду настоятельной необходимости усилить оборону свободного мира правительство его величества решило еще больше увеличить и ускорить свою подготовку в области обороны» (выступление Эттли в палате общин 29 января 1951 года).
29 января 1951 года премьер-министр сообщил о дальнейшем увеличении программы и о доведении ее до 4700 миллионов фунтов стерлингов.
Такова история губительной программы пере649
вооружения на сумму 4700 миллионов фунтов стерлингов, которая предопределила все последующее экономическое и политическое положение Англии. Она была навязана под американским нажимом.
Такое подчинение Соединенным Штатам Америки ни в коем случае не доставляло удовольствия заправилам английского империализма, которые когда-то считали себя законными хозяевами мира и смотрели с презрением, сверху вниз, на американских выскочек. И в действительности даже в годы сильнейшего фактического подчинения не было недостатка ни в доказательствах существования трений, ни в том, что американская пресса с негодованием называла английским «изоляционизмом» или «медлительностью». Но все эти расхождения не выходили из рамок неизбежного признания английскими правителями господствующей роли Соединенных Штатов Америки в «сотрудничестве».
Судя по публичным высказываниям политических лидеров консервативной партии и господствующих правящих кругов лейбористской партии, а также их рупора — услужливой печати и органов пропаганды, это подчинение Англии Соединенным Штатам является необходимым, желательным и благотворным. Суть современной официальной политики Англии и основных соображений, которыми руководствуются при определении политики, была ясно выражена Черчиллем в палате общин 10 мая 1951 года, когда он заявил (касаясь вопроса о торговле с Китаем), что цель английской политики должна состоять в том, чтобы
«заставить Соединенные Штаты понять, что их дело — это наше дело и что мы намерены любой ценой оставаться хорошими друзьями и союзниками».
«Любой ценой», то есть ценой экономического разорения Англии, ценой передачи империи под господство США и в конечном счете ценой воен- 650
него уничтожения Англии. Старый лозунг консерваторов: «Права или неправа, — все равно она родина моя» — обычно вызывал заслуженную критику истинных патриотов. Новый лозунг консерваторов, видимо, звучит так: «Права или неправа,— все равно она Америка».
Такие же смиренные, холопские взгляды выразил министр иностранных дел Герберт Моррисон, который гордо хвастался на митинге по случаю окончания конференции * лейбористской партии в Скарборо в октябре 1951 года после возвращения с конференции в Сан-Франциско:
«В Сан-Франциско, хотя я и являлся представителем лейбористского правительства, меня принимали <как абсолютно равного министра иностранных дел других стран».
Английский министр иностранных дел пал так низко, что был счастлив и гордо сиял уже потому, что американские хозяева не отослали его в прихожую.
Но даже этому скромному притязанию Моррисона на видимость «равенства» не суждено было долго удержаться. Во время вашингтонского совещания заместителей министров иностранных дел стран — участниц Североатлантического союза в начале 1952 года «Таймс» объяснила 14 января 1952 года смущенной английской общественности, что наступил период, когда Ачесон, очевидно, уже «не мог более принимать кого-либо из других министров иностранных дел как равного».
В том же духе подобострастного почтения слуги к своему хозяину один из лидеров консервативной партии лорд Вултон, отличающийся светскими манерами метрдотеля, так объяснил необходимость подчинения Англии американскому руководству:
«Американцы понимают, что они являются господствующей державой в мире; они гордятся этим положением, они принимают связанную с этим ответственность и 651
рассчитывают, что все мы признаем их руководящую роль» (статья лорда Вултона в «Санди тайме» от 16 июля 1950 года).
Английский народ отнюдь не разделяет таких раболепных взглядов. Совершенно очевидно, что усугубляющийся конфликт, отражающий не только возмущение всего народа американским господством, но и соперничество между американским и английским капиталом в области торговли, экономики и финансов, приведет к обострению противоречий и усилению сопротивления всех слоев населения, чтобы положить конец американскому господству и восстановить свободу действий Англии.
В своей последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР», опубликованной в 1952 году, И. В. Сталин предсказал рост противоречий между Соединенными Штатами Америки и втянутыми в их орбиту капиталистическими странами:
«Внешне всё будто -бы обстоит «благополучно»: Соединённые Штаты Америки посадили на паёк Западную Европу, Японию и другие капиталистические страны; Германия (Западная), Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в лапы США, послушно выполняют веления США. Но было бы неправильно думать, что это «благополучие» может сохраниться «на веки вечные», что эти страны будут без конца терпеть господство и гнёт Соединённых Штатов Америки, что они не попытаются вырваться из американской неволи и стать на путь самостоятельного развития.
Возьмём прежде всего Англию и Францию. Несомненно, что эти страны являются империалистическими. Несомненно, что дешёвое сырьё и обеспеченные рынки сбыта имеют для них первостепенное значение. Можно ли полагать, что они будут без конца терпеть нынешнее положение, когда амери652
канцы под шумок '«ПОМОЩИ'» по линии («плана Маршалла» внедряются в экономику Англии и Франции, стараясь превратить её в придаток экономики Соединённых Штатов Америки, когда американский капитал захватывает сырьё и рынки сбыта в англо-французских колониях и готовит таким образом катастрофу для высоких прибылей англо-французских капиталистов? Не вернее ли будет сказать, что капиталистическая Англия, а вслед за ней и капиталистическая Франция в конце концов будут вынуждены вырваться из объятий США и пойти на конфликт с ними для того, чтобы обеспечить себе самостоятельное положение и, конечно, высокие прибыли?» 1
События последних лет указывают на появление и усиление первых признаков процесса отхода Англии и Франции от политики Соединенных Штатов Америки и их господства. Острое политическое столкновение произошло в 1956 году по поводу Суэцкого кризиса и англо-французской войны против Египта.
Однако предпринятые в самые последние годы правителями Англии частичные и пока еще скромные шаги на пути к некоторой политической самостоятельности пока что не выходили из рамок сохранения основ американского союза и признания господствующей роли в нем Соединенных Штатов Америки. Это объясняется двойственной позицией английских империалистов, чьи контрреволюционные классовые интересы связывают их с американскими империалистами, а их специфические империалистические интересы — как экономические, так и политические — порождают неоднократные конфликты.
Отсюда вытекает, что задачу восстановления национальной независимости Англии нельзя пору1 И. В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, Госполитиздат, 1952, стр. 33—34.
653
чить правящим кругам английской финансовой олигархии; в этом активную и решающую роль должны сыграть рабочий класс и народные ■массы.
Империалистическая финансовая олигархия Англии, целиком космополитическая по своим взглядам, интересам и связям, жадно цепляется за союз с США, чтобы сохранить свои владения и по-прежнему получать как можно больше сверхприбылей. Во имя достижения этой высшей цели они без всяких угрызений совести приносят национальные интересы Англии в жертву американскому господству, точно так же 1как их мюнхенские предшественники без угрызения совести приносили национальные интересы Англии в жертву гитлеровской экспансии, ибо Гитлер проявлял враждебность к Советскому Союзу.
Но на этот раз цена выше. Мюнхенская политика дорого обошлась Англии. Однако Гитлер никогда не контролировал финансовой и торговой политики Англии, и его войска не оккупировали Англию в мирное время. На этот раз цена включает принесение в жертву старинного островного центра империи как «разменной пешки» американской стратегии.
Поэтому для английского народа восстановление национальной независимости страны, освобождение ее от нынешнего американского господства является вопросом жизни или смерти в буквальном смысле слова.
Борьба за национальную независимость Англии, за свержение господства американских империалистов и их раболепствующих прислужников в Англии в нынешних условиях органически связана с параллельной и общей борьбой за национальную независимость народов Британской империи, борьбой за свержение господства английских и американских империалистов и их местных прислужников. Она связана также с предоставлением национальных прав шотландскому и уэльскому народам и с ликвидацией насильственного раздела 654
Ирландии. Далее, в заключительной главе будут рассмотрены эти вопросы, так же как и вопрос о будущих отношениях народов нынешней Британской империи.
Британия и всеобщий мир
Англия кровно заинтересована во всеобщем мире, во всяком случае не меньше, если не больше, чем любая другая страна в мире. Англия не оправилась от последствий двух мировых войн. В условиях современной мировой войны Англия наиболее уязвима.
Аксиомы эти элементарны, и с ними согласятся представители всех слоев общественного мнения. Однако, как это ни парадоксально, Англия же в течение этого критического десятилетия после войны фактически проводит политику, совершенно противоположную той, которую нужно было бы проводить, исходя из этих предпосылок. В течение этих лет Англия: 1) несет самое тяжкое из всех крупных держав мира (пропорционально населению) бремя вооружений; 2) ведет во всеАм мире войн больше, чем любая держава, в частности в Греции, Индонезии, Малайе, Корее, Кении, на Кипре и в Египте; 3) берет на себя об* ширные военные обязательства, вступив в обособленные военные пакты во всех районах мира, в частности в Североатлантический пакт, в пакт для Юго-Восточной Азии и Багдадский пакт; 4) играет наиболее активную роль в ускорении вооружения Западной Германии; 5) выступает за принятие ядерной стратегии, включая политику провозглашения намерения первой применить атомное оружие или водородную бомбу; 6) пришла к тому, что стала главной базой американских бомбардировщиков и поэтому главной мишенью в будущей ядерной войне.
Сторонники такой политики пытаются оправдать ее как политику, конечной целью которой 655
является мир. Они доказывают, что огромные вооружения и решающее превосходство в области вооружений являются лучшим залогом мира:
«Не равновесие сил, а решающее превосходство той стороны, которая не заинтересована в войне, обеспечивает мир» («Экономист», 7 июня 1952 года).
Также и Белая книга об обороне за 1955 год доказывает, что «нынешнее заметное превосходство Запада как в запасах ядерного оружия, так и в средствах его доставки» является важнейшим и действенным «сдерживателем» войны.
Тезис, что только одна сторона «не заинтересована в войне», извращает всю проблему, связанную со всякой гонкой вооружений, и исходит он, как это ни странно, от представителей атлантической коалиции держав, которые активно участвовали в целом ряде захватнических войн.
История доказывает обратное. Ознакомимся с точкой зрения бывшего министра иностранных дел — либерала, под чьим руководством Англия была ввергнута в первую мировую войну. Размышляя в преклонных годах о ходе событий, приведших к этой катастрофе, виконт Грей сделал следующий вывод:
«Много правильного можно сказать о причинах войны, но самой правильной является мысль, что милитаризм и вооружение, которое неотделимо от него, сделало войну неизбежной. Вооружение имело целью создать чувство безопасности у каждой страны. Этим оправдывалось его производство. В действительности же оно лишь пробудило страх в сердце каждого...
Урок европейской истории ясен. Он состоит в том, что невозможно обеспечить прочную безопасность путем гонки вооружений и заключения сепаратных союзов» (Грей, виконт Фаллодон, Двадцать пять лет, 1892—1916, т. II, стр. 52, 274).
656
Этот «урок» еще не усвоен поборниками атлантической коалиции.
В таком же духе высказался бывший лейбористский министр иностранных дел Артур Гендер- сон, представляющий прежнее поколение руководства в лейбористском движении. Вскрывая порочность старой формулы «хочешь мира — готовься к войне» («мир через посредство силы»), Гендер- сон писал:
«Этот метод в конечном счете основывается на противоречивых доводах: на попытке совершить невозможное, а именно добиться того, чтобы каждое государство было сильнее своего соседа. Он ведет к международной анархии...
Едва ли его можно назвать рискованным, потому что история доказала, что он непреложен. Он всегда приводил и будет приводить к войне» (Артур Гендёр- сон, Путь лейбористов к миру, 1930, стр. 43).
«Всегда приводил и будет приводить к войне». Голос бывшего лейбористского министра иностранных дел взывает из могилы к современному лейбористскому движению. Опыт двух мировых войн служит предостережением всем — предостережением, начертанным буквами, большими, как жизнь, и безжалостными, как смерть.
В последние годы все более широкие слои населения осознают необходимость коренного пересмотра опасной политики сепаратных военных группировок, политики «мира *через посредство силы» и ядерной стратегии. Считают также, что Англия должна проявить активную инициативу в интересах дела мира и разоружения. Сила этого требования нашла свое отражение в некотором частичном изменении официальной политики, в частности в сопротивлении американским планам объединенной империалистической интервенции во Вьетнаме весной 1954 года; в участии, несмотря на американский бойкот, в Женевском совещании летом 1954 657
года и в достижении соглашения о прекращении огня во Вьетнаме; в инициативе и отстаивании Англией идеи встречи глав правительств с целью достижения разрядки напряженности в международных отношениях. За этим последовала новая фаза переговоров в Женеве летом 1955 года.
Эта новая фаза открыла возможность перехода от прежней опасной политики, приближающей реальную опасность мировой ядерной войны, к политике мира и разоружения. Однако в начальный период, последовавший за совещанием глав правительств, представители западных держав твердо и неизменно придерживались основ старой политики, в частности системы сепаратных военных союзов, воплощенных в Атлантическом пакте и в пакте для Юго-Восточной Азии, сохранения обширной сети военных баз на чужой территории, вооружения Западной Германии в качестве участника военного союза западных держав, что создавало препятствия для создания объединенной, демократической Германии, раскола Европы на противостоящие вооруженные лагери, недопущение Китайской Народной Республики в ООН, защиты ядерной стратегии, логически являющейся практическим сопротивлением требованию о запрещении ядерного оружия. Война против Египта в 1956 году явилась практическим воплощением агрессивной империалистической политики войны.
Очевидно, что продуманная и последовательная политика мира, необходимая для будущего Англии, должна включать в себя:
во-первых, замену политики «холодной войны» политикой мирного существования, сотрудничество всех держав в разрешении всех вопросов, порождающих международное напряжение, путем мирных переговоров;
во-вторых, восстановление на этой основе Организации Объединенных Наций как органа международного сотрудничества, стремящегося в соответствии с Уставом к поддержанию мира при участии пяти великих держав, и признание за ними 658
особой ответственности за сохранение мира как за постоянными членами Совета Безопасности;
в-третьих, замена всех сепаратных военных союзов, выходящих за рамки Организации Объединенных Наций (НАТО, СЕАТО, Багдадский пакт), неуклонной приверженностью к сохранению коллективной безопасности, действуя через Организацию Объединенных Наций и посредством таких региональных соглашений (договоры о безопасности в Европе или Азии, например), которые могут быть согласованы в рамках Организации Объединенных Наций, и на этой основе решение вопроса о Германии в рамках европейской безопасности;
в-четвертых, прекращение всех местных и колониальных войн на основе вывода войск захватчиков и признания национальной независимости и суверенитета борющихся за свою независимость народов;
в-пятых, запрещение ядерного оружия и ограничение вооружений;
в-шестых, отказ всех держав от создания и содержания иностранных военных баз на территориях других государств;
в-седьмых, избавление Англии от иностранной военной оккупации и от атомных и водородных баз;
в-восьмых, развитие международной торговли и экономического сотрудничества и отмена торговых ограничений, вызванных политическими и стратегическими соображениями.
Англия и мировая торговля
Решение проблемы английской торговли связано с успехом борьбы за мир.
Несомненно, радикальное решение потребует ко* ренного изменения международных экономических отношений Англии, то есть перевода их со старой, империалистической основы паразитической зависимости от дани колоний на здоровую, устойчивую 659
основу всемерного развития производительных сил страны и равноправного обмена со странами, нуждающимися в продукции английской промышленности. Это потребует в особенности развития широких торговых отношений на основе равноправного обмена со странами, которые в настоящее время подвергаются колониальной эксплуатации, как только народы этих стран обретут свободу и приступят к перестройке своей экономики.
Столь же необходимо, как с точки зрения непосредственного решения проблемы, так и в свете более отдаленных перспектив, расширять торговые отношения со всем развивающимся новым миром, который уже освободился от империализма и построил или строит быстрорастущую социалистическую экономику. Именно в этом направлении, а не путем самоубийственной ожесточенной борьбы за расширение экспорта лишь в рамках все более суживающегося капиталистического рынка можно решить проблемы торговли Англии и быстрого ее расширения.
В качестве первого шага к решению важнейшей насущной торговой проблемы Англии — дефицита платежного баланса и долларового дефицита — необходимо будет в экономической области (помимо политических мер, направленных к сокращению бессмысленных непомерных военных расходов за границей, на прекращение агрессивных внешних войн и возвращение на родину войск, что в значительной мере изменило бы картину платежного баланса) разработать позитивную программу всемерного развития торговли и прекращения нынешней искусственной долларовой зависимости путем освобождения английской торговли от ограничений, навязанных США.
Надо признать, что ограничения торговли, навязанные Англии США якобы в интересах атлантической стратегии «холодной войны», фактически душат торговлю Англии к выгоде долларовых экспортеров и искусственно сохраняют ее долларовый дефицит.
660
В результате всего предшествовавшего экономического развития Англия в большей степени зависит от внешней торговли, чем любая другая страна в мире. Более трех четвертей, или 77 процентов, всего импорта в 1951 году пришлось на долю продовольствия или сырья. Между тем объем английского импорта в 1951 году был на 9 процентов меньше объема импорта в 1937 году. С другой стороны, объем экспорта был на 75 процентов больше довоенного, и все же существовал большой дефицит видимого торгового баланса. Англия экспортировала половину всей промышленной продукции; девять десятых всего экспорта составляли промышленные товары.
А эта картина торговых потребностей Англии в настоящих условиях показывает, что Англии необходимо развивать торговлю главным образом с теми странами, которые могут поставлять продовольствие и сырье в обмен на ее промышленные товары, а не с конкурирующими промышленными странами-экспортерами. Однако американская стратегия плана Маршалла и атлантической «холодной войны» предписывает Англии торговлю такого рода, которая полностью идет вразрез с ее интересами. Англию заставляют делать упор в своей торговле именно на те страны, которые являются ее главными конкурентами по экспорту промышленных товаров — на Соединенные Штаты Америки и Западную Европу, и сокращать до минимума торговлю с одной третьей частью мира, которая в состоянии вести с ней обоюдовыгодную торговлю. Эта картина выглядит настолько дико, что кажется просто неправдоподобной. А ведь именно такой характер по американской указке английские государственные деятели усиленно стараются придать английской торговле в послевоенный период, что приводит ко все более бедственному положению английской экономики, втиснутой в это прокрустово ложе.
До войны Советский Союз поставлял Англии около одной пятой всего ввозимого ею зерна и две 661
пятых всего ввозимого строевого леса хвойных пород. Англия ввозила в два с половиной раза больше пшеницы из Советского Союза, чем из Соединенных Штатов Америки, а пиломатериалов — в девять раз больше. В целом импорт Англии из Советского Союза в 1937 году был примерно равен импорту из Франции и Италии, вместе взятых. В то же время Советский Союз представлял собой устойчивый рынок сбыта для английских промышленных товаров, рынок, на котором не отражались периодические кризисы капиталистических стран. Так, в 1932 году советские заказы спасли английскую станкостроительную промышленность от банкротства, так как поглотили четыре пятых ее продукции. Но даже эта довоенная торговля представляет собой лишь частицу возможной торговли, поскольку ее развитию неизменно препятствовали политический нажим и вмешательство правительства, отражавшие интересы реакционного империализма.
Заключение в конце 1947 года краткосрочного англо-советского торгового соглашения положило начало, хотя все еще в ограниченных масштабах и встретив многочисленные препятствия, восстановлению этих взаимно выгодных торговых отношений.
Соединенные Штаты Америки немедленно вмешались и нанесли ряд сокрушительных ударов по начинавшемуся восстановлению торговли Англии с Восточной Европой, которое могло освободить Англию от долларовой петли. Были приведены в действие статьи соглашения о займе (об отказе от дискриминации) с целью воспрепятствовать развитию торговли Англии со странами империи, что, например, нанесло удар по сахарной промышленности Ямайки в интересах сахарной промышленности Кубы. В 1948 году были использованы условия плана Маршалла в целях запрещения свободного развития торговли Англии с Восточной Европой. Раздел 117 (d) американского закона о помощи иностранным государствам от 1948 года — юридическое оружие плана Маршалла («без сковывающих условий») — предусматривал, что США будут «отказы662
вать в поставках» странам, принявшим план Маршалла, в тех случаях, когда эти поставки могут быть использованы «для производства с целью экспорта в неучаствующие европейские страны таких товаров, на экспорт которых в эти страны США не выдали бы лицензий из соображений национальной безопасности».
Перечень товаров, экспорт которых запрещен, был составлен и должным образом появился в приказе министерства торговли № 652, изданном 31 марта 1949 года и в дальнейшем включенном в приказ № 2466 о контроле над экспортом товаров, изданный 21 декабря 1949 года.
В 1951 году система торговых запретов была еще больше расширена в результате принятия поправки Кема и закона Бэттла и распространена, помимо Восточной Европы, на Китай. 7 июня 1951 года американское правительство опубликовало список, состоявший из 1700 наименований товаров, на которые распространялась поправка Кема. Любая страна, «преднамеренно экспортирующая эти товары, может быть лишена американской финансовой и экономической помощи» («Нью-Йорк гералд трибюн», 8 июня 1951 года). Положения закона Бэттла шли еще дальше: они распространялись на значительно более широкий круг товаров, охватывавший, как сообщали, 100 тысяч наименований, и предоставляли неограниченное право контроля Вашингтону.
Торговые проблемы Англии не могут быть разрешены в этом направлении. Необходимо наметить иной курс, который не только позволит ликвидировать долларовый дефицит и восстановить свободу английской торговли, но и создаст возможности для огромного расширения торговли Англии в новых международных условиях.
Максимальное развитие английской торговли со странами недолларовой зоны потребует отказа от существующей двухсторонней системы торговых ограничений, продиктованной Соединенными Штатами Америки. Интересы имперской торговли тре663
буют отмены условий и статей «об отказе от дискриминации», навязанных первоначально соглашением о займе и включенных в Общее соглашение о таможенных тарифах и торговле, которые имели целью препятствовать развитию торговли между странами империи и ускорить американское экономическое проникновение в Британскую империю. Развитие торговли с Советским Союзом, Китайской Народной Республикой и восточноевропейскими странами народной демократии, которые составляют одну треть мира, предполагает отказ от продиктованных американцами так называемых «стратегических» ограничений, которые на практике наносят удар по главным традиционным каналам английского экспорта в эти страны.
Речь идет не только о политике ближнего прицела, направленной на ликвидацию нынешней беды — долларового дефицита, и, следовательно, о развитии торговли с недолларовыми странами. Речь идет о широком развитии на длительный срок будущей торговли Англии с новым миром, который вырос и быстро шагает вперед.
Вопрос о «торговле между Востоком и Западом», как это принято сейчас формулировать, обычно обсуждается только в плане прошлого, то есть в разрезе восстановления того объема торговли, который существовал прежде и который был искусственно сокращен в результате продиктованных американцами ограничений.
Но на практике речь идет о чем-то гораздо большем, чем возвращение к довоенному положению. Экономика стран социализма — это экономика, развивающаяся самыми быстрыми темпами, какие когда-либо знала история. Все довоенные нормы устарели. Уровень национального дохода Советского Союза к 1955 году превысил уровень 1913 года более чем в 16 раз. К I960 году он почти в 3 раза превысит уровень 1950 года. В 1940—1953 годы внешняя торговля Советского Союза возросла в 4 раза и по объему торговли с 22-го места вышла на 6-е место в мире.
664
Такое развитие наблюдается не только в Советском Союзе. Восточноевропейские страны народной демократии шагнули далеко вперед от той экономической отсталости довоенного периода, которая была делом рук империализма и его прислужников в этих странах. К 1955 году выпуск промышленной продукции в Польше превысил довоенный уровень в 4 раза; в Чехословакии — более чем в 2 раза; в Венгрии— в 3 с половиной раза. Преобразование Китая из страны голода, неграмотности, примитивного земледелия и промышленной отсталости в страну, которая уже победила голод и быстро движется по пути технического прогресса в сельском хозяйстве и промышленности, является самым ярким доказательством преимущества нарождающегося сейчас нового мира.
Этот социалистический мир — мир быстро развивающейся экономики. Такому развитию экономики соответствуют возрастающие темпы расширения торговли, которые, по-видимому, еще больше возрастут в будущем. В период между 1948 и 1952 годами объем торговли между Советским Союзом и восточноевропейскими странами народной демократии возрос в десять раз. Ясно, что эти усиливающиеся темпы роста свидетельствуют о полном провале навязанной американцами системы торговых запретов, имеющих целью задушить экономическое развитие социалистического мира. Результатом это- го была гораздо более губительная блокада западного капиталистического мира, вызванная его собственными действиями. В этом смысле вся система торговых запретов оказалась нелепейшей мерой, приведшей к обратным результатам и наиболее тяжело сказавшейся на Англии и западноевропейских странах.
Итак, перед западным миром открыт путь грандиозного расширения торговли. Готовность Советского Союза и стран народной демократии расширять торговлю с западными капиталистическими странами неоднократно провозглашалась и демонстрировалась. Международное экономическое сове665
щание, состоявшееся весной 1952 года в Москве, не только провозгласило эту цель, но и выдвинуло конкретные предложения о широком развитии обоюдно выгодной торговли с западными странами. В заявлении о переговорах председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина и члена Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хрущева с премьер-министром Соединенного Королевства сэром Антони Иденом говорится, что «при отсутствии ограничений и дискриминации в торговле Советский Союз мог бы в течение ближайших пяти лет, с 1956 по 1960 год, увеличить закупки в Соединенном Королевстве до суммы приблизительно в 9—И млрд, рублей, то есть до суммы 800— 1000 млн. фунтов стерлингов». Такая торговля могла бы обеспечить Англии постоянные, устойчивые, обширные и все более расширяющиеся рынки, на которых не отражается капиталистический кризис. Это очевидный путь, который сулит в будущем развитие английской торговли.
По мере того как колониальные и зависимые страны нынешней империи будут освобождаться от оков империализма и приступать к решению собственных гигантских задач развития, вне орбиты империализма будет еще больше расти новый, прогрессирующий мир развивающейся экономики и появится, как уже указывалось, самая благоприятная возможность для английской промышленности внести свою лепту в это развитие и получать в обмен товары, необходимые Англии, при условии, что английский народ сыграет свою роль в успешном завершении этого освобождения и тем самым создаст основу для будущих дружественных отношений, основанных на сотрудничестве, вместо нынешних враждебных отношений.
Таковы положительные перспективы развития и решения проблем английской торговли при новом международном положении. Это развитие связано с успешным осуществлением целей национальной независимости и мира.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ АНГЛИИ
Будущее Англии как промышленной страны, а вместе с тем будущее тех традиций и культуры, которые она олицетворяет, зависит от того, сможем ли мы, пока еще не поздно, применить свои таланты и организационные способности для того, чтобы восполнить урон, причиненный годами глупости и пренебрежения.
Дж. Д. Бернал, Свобода необходимости, 1949, стр. 271—272.
Изменение международных отношений Англии, которое нынешние насущные проблемы делают настоятельно необходимым, неотделимо от соответствующих внутренних изменений социально-экономической системы и изменений в политической области.
Конец империалистического паразитизма
Империализм задержал развитие Англии. Это относится в равной мере к экономической, социальной и политической областям.
Положение Англии как паразитического государства-рантье, зависящего от заморской дани,— а на последних этапах упадка от иностранных субсидий, купленных ценой подчинения,— привело к внутреннему застою.
Несмотря на распространенное представление об «обширных социальных преобразованиях» в Англии в послевоенный период, законодательные и административные мероприятия этих лет не остановили процесса упадка и загнивания, характерного для всей эпохи империализма. Напротив, они усилили его. Укрепившийся и усилившийся удушающий кон667
троль гигантских монополий все более и более тесно переплетался с государством. Этому процессу способствовали меры государственно-капиталистической национализации и государственного контроля. Сложившаяся в результате этого система высококонцентрированного монополистического капитала, контролирующего государственный аппарат и использующего его, скрывается под маской своеобразного империалистического «государства всеобщего благосостояния», основанного на колониальной эксплуатации, в котором фактически эксплуатация трудящихся масс внутри страны также усилилась, а гигантские прибыли крупных монополий колоссально возросли.
Этот переход от старомодной «свободной инициативы» (все еще сохранившейся в отдельных звеньях этой системы, в низших ее звеньях, но играющей, безусловно, все более и более незначительную подчиненную роль) к бюрократическому государственному монополистическому капитализму сопровождался усиленным окостенением всей системы, затвердением артерий и утратой способности к новому развитию как в экономике, так и в политике. Развалины разрушенных бомбардировками зданий в больших городах, все еще сохранившиеся десять лет спустя после окончания войны, являются символом этого застоя. Рабски педантичное восстановление тесной и неудобной палаты общин только для того, чтобы сохранить викторианский стиль, тогда как разрушение бомбардировками старого здания давало возможность выстроить его по-новому, также служит символом величайшего социального консерватизма умирающего класса.
Для правителей империализма характерно сопротивление серьезным социальным преобразованиям, оказываемое как господствующей правой империалистической верхушкой, все еще возглавляющей лейбористскую партию и служащей интересам финансовой олигархии, так и верхушкой консервативной партии, непосредственно представляющей финансовую олигархию. И действительно, руководя668
щая верхушка этих двух партий создала в эти годы нечто вроде единого фронта или слабо замаскированного союза против сил, борющихся за социальные преобразования.
Но в Англии давным-давно назрела необходимость в серьезных социальных преобразованиях, и они неизбежно будут произведены. Доказательства этого имеются в изобилии, и отнюдь не самым маловажным из них является обостряющаяся борьба между различными тенденциями в рабочем движении.
Нельзя также не понять, что эти социальные преобразования должны носить длительный характер. В международных отношениях нынешнее международное положение Англии в условиях явного краха старой, империалистической системы делает неизбежной замену империалистического базиса неимпериалистическим. Но в области внутреннего положения Англии при данных условиях и на данной стадии развития (поскольку возврат к либеральной мелкобуржуазной экономике невозможен) это означает замену империалистического общества социалистическим.
«...государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» Ч
В Англии экономические условия для такого преобразования уже давно созрели. Политические условия еще только развиваются и будут развиваться еще быстрее в дальнейшем. Но темпы этого политического развития все более ускоряются под влиянием кризиса, переживаемого Англией. Внутри окостеневшей империалистической системы с ее социальной и политической надстройкой накапливаются силы, чреватые взрывом.
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 333.
669
Внутреннее давление растущего народного движения в самой Англии (которое лишь временно, частично и все с большим трудом замедляется и отвлекается старой, реформистской руководящей верхушкой в рабочих организациях) сочетается с внешним давлением кризиса колониальной системы и усиливающегося освободительного движения колониальных народов. Старый, империалистический базис нельзя сохранить. Неизбежен переход на новый базис. Конечной формой этого нового базиса может быть лишь социализм, который в свою очередь является первой стадией коммунизма, когда Англия станет частью свободного, коммунистического мира.
Социализм истинный и социализм ложный
Очень много говорят о «социализме» и о «мирной социалистической революции», которая якобы произошла в Англии в последние годы. Это представление, однако, не соответствует действительности. Переход к социализму еще не совершился. Это еще дело будущего.
Ограниченные меры национализации небольшого сектора экономики не изменили основного характера капиталистической собственности и эксплуатации, в том числе и в национализированных отраслях. Они изменили лишь форму акций, заменив частные акции государственными ценными бумагами (причем государство гарантировало компенсацию бывшим владельцам), главным образом в отраслях, которые до этого вмешательства со стороны государства начали приносить меньше доходов или оказались на грани банкротства. В более широкой области промышленности капиталистические монополии укрепились.
«В свете новых доказательств, умножившихся после окончания войны, несомненно, что монополии усилились, а не ослабели» (брошюра лейбористской партии о монополиях, опубликованная в 1951 году).
670
Точно так же не изменилась и концентрация богатств в руках численно ограниченного класса собственников. Сведения о земельной собственности хранятся в секрете: никакие статистические данные не публиковались с 1875 года, когда было установлено, что половиной сельскохозяйственных земель владеют лишь немногим более 2 тысяч чел. Вовремя своей довоенной кампании за проведение земельной реформы Ллойд Джордж заявил, что основная масса земель принадлежит 10 тысячам человек. Что касается владения капиталом, то, по данным бюллетеня Оксфордского статистического института за январь 1954 года, в 1950 году менее 1,5 процента населения в возрасте старше двадцати пяти лет владело свыше половины национального капитала, а одна третья часть населения владела более чем четырьмя пятыми капитала; в то же время большинство взрослого населения, или 64 процента, по существу вовсе не владело капиталом (стоимость собственности менее 100 фунтов стерлингов). Данные о налогах на наследство раскрывают ту же крайнюю степень концентрации богатства. Между 1951 и 1954 годами в среднем ежегодно умирало 570 тысяч человек (не считая младенцев меньше года); из них десять человек оставили наследство в один миллион фунтов или больше, 630 человек оставили 100 тысяч фунтов или больше, 12 300 человек оставили 20 тысяч фунтов или больше, 69 тысяч человек оставили тысячу фунтов или больше, тогда как 489 тысяч человек, или 88 процентов, не оставили ничего или почти ничего. О том же говорят данные о владении акциями. Журнал «Бэнкер» писал в декабре 1950 года, что две трети акций всех промышленных компаний принадлежат 42 тысячам человек с годовым доходом более 20 тысяч фунтов стерлингов. «Более половины всех находящихся в частном владении акций принадлежат лицам с капиталом в 50 тысяч или более фунтов стерлингов»,— писал в феврале 1953 года журнал «Экономист».
Внесло ли пребывание у власти лейбористского
§71 •
правительства в 1945—1951 годах какие-либо изменения в отношении распределения собственности? На конференции лейбористской партии в Маргете в октябре 1955 года Джеймс Гриффитс, выступая от имени исполкома, партии, произнес своего рода некролог, говоря о деятельности лейбористского правительства 1945—1951 годов в отношении какого-то перераспределения во владении собственностью:
«В основном, несмотря на проделанную нами работу, владение имуществом и богатством осталось едва затронутым».
Утверждения о якобы происшедшей «социальной революции», явившейся результатом широко рекламировавшегося «перераспределения национального дохода», не подтверждаются фактами. Официальные статистические данные, публикуемые в пропагандистских целях, чтобы подкрепить этот миф, основаны на вопиющем и неприкрытом мошенничестве. Во-первых, из расчетов выпадает огромная сумма нераспределенных прибылей, перечисляемых в резерв. Во-вторых, из оставшейся ограниченной суммы распределенных прибылей вычитается полностью сумма прямых налогов. В-третьих, при этих расчетах попросту игнорируются последствия возросшего втрое бремени косвенных налогов для трудящихся, на которых ложится основная тяжесть косвенных налогов. В результате таких неприкрытых махинаций окончательный итог преподносится как воображаемое распределение в процентном выражении «национального дохода» после вычета налогов. Это, конечно, чистейший обман. Лейбористские министры пошли на новый обман, стараясь «доказать» путем сравнения положения к концу их пребывания у власти с 1938 годом, но отнюдь не с 1946 годом, что в период их пребывания у власти произошло перераспределение доходов. В действительности же огромные размеры налогов военного времени неизбежно привели к чисто арифметическому изменению процентного соотношения в годы войны. Но даже это «перераспределе§72
ние» было изменено лейбористским правительством в период между 1946 и 1950 годами в сторону увеличения доли прибылей и уменьшения доли доходов трудящихся. Исследовательское бюро по вопросам труда произвело правильные подсчеты на основе официальных статистических данных и показало, что в период между 1946 и 1950 годами часть на' ционального дохода, приходящаяся после вычета налогов на долю заработной платы и жалованья военнослужащих, сократилась с 47 до 43 процентов, тогда как часть, приходящаяся на долю ренты, про- центов и прибылей, возросла с 32 до 35 процентов.
Такое «перераспределение» в обратном направлении продолжалось и в последующие годы, хотя и более медленными темпами. Уже отмечалось, чго приходящаяся на заработную плату доля валового национального продукта снизилась с 40,1 процента в 1948 году до 39,3 процента в 1954 году. Между 1946 и 1954 годами денежная стоимость валового национального продукта возросла на 79 процентов, тогда как потребительские расходы в денежном выражении выросли лишь на 65 процентов; таким образом, за эти годы доля продукта, идущая на потребление, сократилась. О том же процессе свидетельствовал и правительственный доклад «Потребительские расходы и питание» (1955 год), в котором было показано, что между 1947 и 1954 годами официальный индекс стоимости продовольствия вырос на 24 процента, в то время как расходы на продовольствие возросли только на 15 процентов, что говорит о снижении потребления продовольствия между 1947 и 1954 годами.
Другим излюбленным вариантом мифа о «социальной революции», осуществленной путем «перераспределения доходов» в период пребывания у власти лейбористского правительства, является утверждение, будто расширение социальных мероприятий привело к увеличению налогообложения богачей с целью улучшения положения рабочих. В действительности социальные блага, получаемые рабочими, полностью оплачиваются за счет возрос673
шего налогообложения рабочих; никакие средства не поступают от богачей; самих рабочих облагают налогами, чтобы покрыть расходуемые на них средства. Миф о социальной революции, создавшей «государство всеобщего благосостояния», был самым убедительным образом разоблачен в официальном докладе Администрации по осуществлению плана Маршалла (Доклад миссии Управления экономического сотрудничества в Соединенном Королевстве, опубликованный в начале 1950 года и перепечатанный в журнале «Экономист» 1 апреля 1950 года). Этот доклад, основанный на доскональном обследовании, показал, что в настоящее время «расходы на социальные мероприятия» на одну рабочую семью (включая расходы на социальное страхование, государственное обеспечение, пособия многосемейным, дотации на удешевление жилищного строительства, дотации на удешевление продовольствия, ассигнования на просвещение и здравоохранение) составляют в среднем 57 шиллингов в неделю, тогда как налоги, уплачиваемые сейчас рабочей семьей, составляют в среднем 67,8 шиллинга в неделю. Таким образом, социальные мероприятия не только не представляют собой дополнения к доходам рабочего класса, но полностью оплачиваются самими рабочими в виде дополнительных налогов. Кроме того, рабочие уплачивают еще 10 шиллингов в неделю с семьи на военные цели, на содержание полиции и погашение процентов по государственному долгу в интересах класса капиталистов, с тем чтобы уменьшить налоговое обложение капиталистов.
Таким образом, несмотря на широковещательные речи о «социализме», пока еще не произошло существенных изменений в основной социальной системе или классовой структуре Англии; наблюдаются лишь дальнейшая концентрация капиталистических монополий, тесно связанных с государством, и усиление эксплуатации рабочих. Все более широкие слои бывших средних классов низводятся до положения полупролетариата; государственная систе674
ма здравоохранения, просвещения и т. д. охватывает сейчас девять десятых населения, включая, таким образом, наряду с рабочим классом большую часть средних классов, а не один только рабочий класс, как это было раньше. Но верхушка крупной буржуазии (обслуживаемая привилегированными «закрытыми школами», находящимися вне государственной системы просвещения, и пользующаяся услугами частных врачей вне государственной системы здравоохранения и т. д.) еще больше сузилась и оторвалась от условий жизни народных масс. Ввиду действительных размеров расходов высших классов (иногда случайно выявляемых во время судебных процессов) и ввиду пресловутых многочисленных юридических уверток, к которым прибегают богачи, чтобы избежать уплаты налогов !, официальные данные о «доходах после вычета добавочных налогов», публикуемые для того, чтобы продемонстрировать, что «богачей ста-
1 Во время недавнего судебного процесса (дела, возбужденного генеральным прокурором против Сент-Обина и других) выявилось, что покойный лорд Сент-Ливен прибег к юридически совершенно законному средству, при помощи которого он получал 35 тысяч фунтов стерлингов в год (свободных от налога) от частной компании, под контроль которой он передал значительную часть своих поместий в Корнуэлле и Девоншире (этот факт приведен в книге Ч. X. Н о D- м а н а, Английский рабочий отступает, 1938—1952, стр. 7).
Этот характерный образчик бесконечного множества подобных уловок не помешал официальным пропагандистам и лейбористским министрам продолжать распространение старой легенды о том, что из богачей «выжимают все соки», что уже не существует класса богачей и что все лица, имеющие крупные доходы, уплачивают в виде налогов 19 шиллингов 6 пенсов на каждый фунт стерлингов, так что ничтожная кучка оставшихся миллионеров имеет в лучшем случае доходы лишь по 2—3 тысячи фунтов стерлингов в год, при помощи которых им приходится сводить концы с концами, и что все сообщения светской хроники о фешенебельных балах и «выездах в свет», на которые расходуются тысячи фунтов стерлингов за один вечер, являются лишь оптическим обманом. Публикуемые в наши дни «Таблицы поступлений от подоходного налога» и ежегодные Белые книги, в которых патетически изображается состояние «личных доходов после вычета налогов», должны быть переименованы в «Путеводитель для детей по волшебной стране».
675
новится все меньше», можно считать сказками, сочиненными для обмана народа и не соответствующими реальному социальному положению.
Банкротство лейбористского империализма и его доказанная неспособность изменить монополистический капитализм в социальном отношении привели к тому, что его глашатаи все более открыто отказываются даже от теоретической цели социализма. Известное определение социализма как «общественная собственность на средства производства, распределения и обмена» (устав лейбористской партии, принятый в 1918 году) теперь объявлено устаревшим. В прошлом Эттли провозглашал в качестве основного принципа социализма, что «все важнейшие отрасли хозяйства будут находиться во владении и под контролем общества» («Лейбористская партия в перспективе», 1937 год). Точно так же Моррисон заявлял в 1934 году, что «важнейшие черты социализма состоят в том, что все ведущие отрасли хозяйства и земля должны находиться в государственном и коллективном владении». Уже в 1950 году Моррисон открыл «новое, более широкое и всеобъемлющее определение социализма» как «установление социальной ответственности в вопросах, имеющих непосредственно общественное значение»,— формула,А явно приемлемая и для консервативной партии и для Сити. А секретарь исполкома лейбористской партии Морган Филиппе пояснял в 1948 году, что, «даже когда наша программа будет завершена, большая часть нашей промышленности все еще будет находиться в руках частных владельцев и будет построена на принципе частной инициативы».
Такой открытый отказ нынешней господствующей верхушки лейбористской партии от социализма не является случайным отступлением или изменой прежним идеалам, которые оказались неосуществимыми. Это неизбежное, логическое завершение пути лейбористского империализма, то есть прислужничества перед капитализмом. Это повторение на иной лад опыта Рамсея Макдональда.
676
Экономическая и социальная реконструкция
Отказ нынешней руководящей верхушки, контролирующей центральный механизм рабочего движения, от социализма не означает, что Англии не нужен переход к социализму. Это лишь означает, что переход к социализму невозможно совершить при помощи политики и руководства лейбористского империализма и что, следовательно, существенным условием перехода к социализму является изменение политики и действенное руководство рабочим движением.
Для того чтобы удовлетворить насущные потребности, вытекающие из нынешнего положения, в Англии должны быть выполнены величайшие задачи по реконструкции. Англии необходимо быстрое развитие ее производительных ресурсов на основе самообеспеченности, а не на нынешней основе паразитизма, все больше приближающей банкротство.
Распространенное сейчас мрачное представление о том, что Англия якобы неизбежно идет к экономическому упадку и неспособна обеспечить повышение жизненного уровня своего населения в изменившихся международных условиях, совершенно неоправданно. Напротив, упрочение социализма и национальное освобождение во всем мире не только ведут к величайшему экономическому развитию, которое когда-либо знала история и которое охватывает сейчас одну треть населения земного шара, но тем самым и в то же время создают новые, безгранично возрастающие возможности для использования производственного опыта и торговли Англии в целях удовлетворения требований, диктуемых этим новым развитием. Однако для этого английский народ должен надлежащим образом изменить экономическую и торговую политику, отбросив ее старую основу империализма и «холодной войны-», и приступить к выполнению важнейшей задачи экономической и социальной реконструкции в свете новых условий.
23 Р* Палм Датт
677
Промышленность Англии занимала некогда ведущее место в мире. В том, что в данный период она отстала от более передовой советской или американской техники, виновны не английские ученые, рабочие или инженерно-технический персонал, а умирающая капиталистическая система, которая костлявой рукой душит развитие. Существуют все возможности для быстрого развития. Но эти возможности надо реализовать. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве необходимо самое всестороннее развитие.
Самой настоятельной необходимостью при нынешнем международном положении является максимальное использование всех земель Англии для производства продовольствия. Это сейчас очевидно для самых поверхностных наблюдателей и в принципе часто признается официальными кругами, которые охотно разглагольствуют об этом, но отнюдь не претворяют этого в жизнь. Даже если оставить в стороне вопрос о войне (который занимает доминирующее место в расчетах официальных кругов), то в ближайший период по мере увеличения спроса на мировые запасы продовольствия необходимость проведения этого мероприятия возрастет, а не уменьшится. Это не значит, что безграмотные и реакционные панические теории о неизбежности в будущем мирового голода и перенаселения, которые сейчас усиленно пропагандируются модным среди американских правящих классов течением нигилизма, имеют какие-либо веские основания, помимо существующих социальных и экономических условий. Известные уже сейчас науке возможности дальнейшего развития в мировых масштабах могли бы за короткий срок обеспечить увеличение втрое или вчетверо мировых запасов продовольствия, как только были бы устранены социальные и экономические преграды. Однако нынешняя нехватка продовольствия будет, видимо, усиливаться, пока на значительной части земного шара господствуют социальные и экономические условия империализма, который ограничивает раз678
витие, искусственно сохраняет отсталые социальные системы, использует науку и существующие производительные ресурсы в целях войны, а не в целях созидания. В последние годы все это привело к плачевным результатам — к сокращению запасов продовольствия, доступных английскому народу.
Английская экономика не обязательно должна быть перестроена на основе полного удовлетворения потребностей английского народа в продовольствии, хотя и это практически возможно, если того потребуют обстоятельства L Но Англия не может рассчитывать, что остальной мир будет до бесконечности снабжать ее почти половиной необходимого ей продовольствия, в то время как огромные площади пригодных земель в самой Англии остаются необработанными или постоянно отводятся под луга, а организация сельскохозяйственного производства и техника в большей части хозяйств
1 Можно упомянуть о книге подполковника Дж. П. Пол- лита «Англия может прокормить себя», которая вышла в 1942 году. Этот труд, хотя он и написан с точки зрения крупного капиталистического фермерского хозяйства, содержит весьма обоснованные расчеты, которые конкретно показывают все практические возможности реорганизации и технического оснащения английского сельского хозяйства на основе полного использования земель с целью удовлетворения всех потребностей населения в продовольствии в масштабах, соответствующих довоенному уровню потребления продовольствия и в общем при более низких ценах. Эти расчеты исходят из расширения площадей под зерновыми культурами и пастбищами с 31 755 000 акров (1938 год) до- 34 755 000 акров; увеличения числа сельскохозяйственных рабочих на 80 процентов и обеспечения нового постоянного капитала в размере 707 миллионов фунтов стерлингов, и нового оборотного капитала в размере 483,5 миллиона фунтов стерлингов.
Подполковник Поллит указывает: «Основная проблема, стоящая перед нами, — это не техническая проблема производства на землях нашей страны продовольствия, необходимого для нашего населения. Это политическая, экономическая и социальная проблема принятия таких мер, благодаря которым все имеющиеся земли будут приведены в надлежащее состояние и будут должным образом обрабатываться» (стр- 37). 23*
679
остаются на неоправданно низком и отсталом уровне. Весьма значительное увеличение производства продовольствия в Англии возможно и необходимо.
Но именно здесь на пути стоят интересы империалистических монополий.
На всем протяжении эпохи империализма господствующие круги в капиталистической промышленности и судовладении, а также империалистические финансовые круги неизменно препятствовали и сопротивлялись полному использованию земель в Англии. Этот принцип нашел свое классическое выражение в заявлении виконта Астора в палате лордов в 1936 году, когда он сказал:
«Мы не должны пытаться производить в стране столько продовольствия, чтобы возникла опасность значительного свертывания нашего судоходства и судостроения или сокращения рабочей силы, обслуживающей нашу внешнюю торговлю».
Эта же мысль была выражена Невилем Чемберленом в пресловутой речи в Кеттеринге в 1938 году, когда он выступил против предложения «производить в стране все необходимое нам продовольствие», исходя из того,' что это «разорило бы те страны империи и иностранные государства, которые зависят от наших рынков» (он не упомянул о заграничных капиталовложениях крупных монополистов в этих странах и о том, что их интересы приходят в столкновение с задачей развития английского сельского хозяйства). Этот основной принцип характеризовал не только годы мюнхенского вырождения и упадка в период между двумя войнами. Он применялся и в период после второй мировой войны.
Только потрясение мировых войн дважды вызвало судорожные и лихорадочные попытки с запозданием начать развивать сельское хозяйство, причем каждый раз, как только отпадали требования военного времени, за этим следовало прекращение всех усилий. Так, площади, занятые в Англии под пшеницей, возросли с 1,9 миллиона акров в 1938 680
году до 3,3 миллиона акров в 1943 году, а к 1955 году они вновь сократились до 1,97 миллиона акров. Применение дорогостоящей системы дотаций и гарантированных цен после войны без попытки решить основные проблемы сельского хозяйства на практике привело к увеличению доходов крупных фермеров-капиталистов и промышленных монополий, поставляющих удобрения и сельскохозяйственные орудия, но не обеспечило действенной помощи, необходимой мелким фермерам, испытывающим нехватку. капитала и составляющим подавляющее большинство фермеров, с тем чтобы они могли повысить уровень техники и разрешить свои проблемы, и вовсе не сделало продовольствие более дешевым для потребителя.
В новой международной обстановке Англии необходима всеобъемлющая программа развития сельского хозяйства. Но невозможно серьезно пытаться осуществить такую программу, не решив проблем землевладения и организации сельского хозяйства. Препятствия, мешающие развитию сельского хозяйства и удерживающие его в целом на сравнительно низком уровне технической оснащенности (при довольно высоком техническом уровне незначительного меньшинства крупных капиталистических ферм), заключаются не в невозможности создания передовой техники, а в экономических, социальных и политических условиях, являющихся камнем преткновения. Кардинальная задача любой серьезной программы развития английского сельского хозяйства должна заключаться в том, чтобы покончить с нынешним недостаточным использованием земель и превратить существующее мелкое, технически недостаточно оснащенное и отсталое сельское хозяйство в крупное, процветающее сельское хозяйство, основанное на передовой технике и способное максимально удовлетворять потребности народа при значительно более низких ценах, чем в настоящее время. В этих целях государству необходимо предоставить новый капитал, научную и техническую помощь трудящемуся населению, 681
занятому в сельском хозяйстве, фермерам и сельскохозяйственным рабочим, для осуществления преобразования сельского хозяйства как в их собственных интересах, так и в интересах будущей устойчивости и восстановления Англии. Только таким путем сельское хозяйство и сельскохозяйственные рабочие могут достигнуть уровня, соответствующего уровню передовой крупной промышленности.
В области промышленности, механизации, энергетики и развития потенциальных ресурсов в Англии необходимы аналогичные меры. Один за другим публиковались доклады правительственных и частных комиссий, предпринимателей, экономистов, ученых и промышленных экспертов относительно технической отсталости и устарелого оборудования значительной части английской промышленности Г Как видно из известного обзора Л. Ростаса «Промышленное производство, производительность и распределение в Англии, Германии и Соединенных Штатах Америки», опубликованного в «Экономик джорнэл» в апреле 1943 года, выпуск продукции на одного рабочего в США был в 2,3 раза больше, чем в Англии (обзор основан на статистических данных по Англии за 1935 год и по Соединенным Штатам Америки за 1937 год), хотя английская рабочая неделя составляла 47—48 часов, а американская рабочая неделя—38 часов. В обзоре указывалось, что основная причина этого различйя заключается не в превосходстве американского рабочего, а в более высоком уровне механизации, который в Соединенных Штатах Америки в два-три раза выше, чем в Англии. После второй мировой войны это различие еще больше усилилось. Размеры ежегодных капиталовложений в новое оборудо-
1 См. также доклад «Технический застой в Великобритании», опубликованный в 1948 году американским Институтом по изучению продукции машиностроительной и смежных отраслей промышленности. Этот доклад, опубликованный американскими монополиями с целью вскрыть слабые стороны своего соперника, целиком основан на данных из английских источников. 682
вание на одного рабочего, занятого в американской промышленности, в шесть раз превышают размеры таких капиталовложений в Англии. В докладе Платта о положении в хлопчатобумажной промышленности указывалось, что в 1930 году 42 процента ткацких станков сохранились еще с викторианской эпохи; более двух третей станков работали свыше двадцати лет. Более позднее исследование показало, что в 1946 году фактически все станки на хлопкопрядильных фабриках работали более десяти лет. В докладе Платта говорится, что «положение почти на всех английских хлопчатобумажных ткацких фабриках в общем не отличается от положения, существовавшего сорок-пятьдесят лет назад». В одном докладе о положении в шерстяной промышленности указывалось, что «некоторые из шерстечесальных машин находятся в действии более восьмидесяти лет; почти четвертая часть веретен для прядения камвольной шерсти существует еще с прошлого века, а многие ткацкие станки используются в течение пятидесяти и более лет».
Ведущая отрасль английской промышленности— угольная промышленность находится в таком же отсталом состоянии. Даже запланированные ограниченные капиталовложения в эту важную, но крайне отсталую отрасль английской промышленности были урезаны и не выполнены. А ведь, по общему мнению, быстрое оснащение угольной промышленности новейшей техникой является необходимым условием развития всей английской промышленности, не говоря уже о важности этого с точки зрения торговли.
В самое последнее время намечался целый ряд широких программ модернизации с особым упором на угольную промышленность, железные дороги и развертывание строительства атомных электростанций. Однако «программа экономии» Батлера (1955 год) снова ставит реализацию этих планов под угрозу сокращения ассигнований или увеличения срока их осуществления.
В социальной и культурной областях точно так 683
же необходимо выполнить огромные задачи. Из всех развитых стран мира Англия, несмотря на все свои реформы в области просвещения, которые сейчас в значительной мере сведены на нет, по-прежнему является одной из наиболее отсталых в этой области. Если мы посмотрим, как обстоит дело с высшим образованием, то увидим, что число студентов, обучавшихся в университетах или колледжах университетского типа в Англии в 1953/54 году, составляло 80 602 (из которых 8619 человек были студентами из других стран и из колоний, так что число студентов из Англии фактически равнялось 71 983). В Советском Союзе в 1954 году в однотипных учебных заведениях было 1706 тысяч студентов; пропорционально численности населения Советский Союз более чем в пять раз превысил английский уровень. В докладе комиссии по ассигнованиям на университеты, опубликованном в 1936 году, указывалось, что «в Англии процент учащихся университетов все еще является самым низким по сравнению с другими великими державами». И, хотя число учащихся возросло с 50 тысяч в 1936 году до 85 тысяч в 1950 году, в процентном отношении оно по-прежнему было ниже даже довоенного уровня в Советском Союзе, США, Франции, Германии, Швеции, Швейцарии, Голландии или Новой Зеландии; после 1950 года число студентов снова сократилось.
Дополнительные ассигнования на просвещение, предусмотренные в конце войны законом от 1944 года, были беспощадно урезаны, с тем чтобы удовлетворить нужды перевооружения и покрыть империалистические расходы. В результате ограничения ассигнований на строительство новых школ в 1954 году не менее 577 школьных зданий, официально включенных более четверти века назад в список непригодных, по-прежнему использовались для занятий. В 1954 году из 2 025 000 детей в возрасте от двух до четырех лет только 23 469 посещали ясли, субсидируемые государством. В переполненных классах (в официально принятом значении 684
этого термина) в 1954 году занималось 47,1 процента всех школьников; 41,7 процента всех учащихся начальных школ занимались в классах по сорок с лишним учеников в классе, а 58,1 процента учащихся средних школ занимались в классах по тридцать с лишним учеников в каждом.
Отказ от строительства медицинских центров, которые первоначально характеризовались как «основа системы здавоохранения», пагубно отразился на всей национальной системе здравоохранения. После окончания войны не было построено ни одной новой больницы общего типа; в 1954 году более полумиллиона человек ожидали госпитализации.
Отчаянное жилищное положение уже приобрело печальную известность. Все щедрые посулы, делавшиеся в конце войны, преданы забвению ради того, чтобы изыскать средства на проведение империалистической военной политики. В 1950 году архиепископ Йоркский заявил в палате лордов:
«Сомневаюсь, чтобы за последние сто лет перенаселенность была когда-либо столь сильной, а состояние трущоб столь катастрофическим» (выступление архиепископа Йоркского в палате лордов 21 июня 1950 года).
Бомбардировщики и линкоры предпочитаются домам. Танки предпочитаются школам, атомные бомбы — больницам. Такова цена империалистической политики войны.
В то же время наука и научные изыскания, быстрое развитие которых могло бы открыть дверь к изобилию, сковываются и ограничиваются, а вся научная работа в основном переключается на цели разрушения и изобретения новых страшных орудий истребления людей, причем все это прикрывается непроницаемой завесой «секретности». 84 процента правительственных расходов на научно-исследовательские работы в 1949/50 году пошло на военные цели (военным ведомствам было выделено
84.9 миллиона фунтов стерлингов по сравнению с
16.9 миллиона фунтов стерлингов, ассигнованных 685
гражданским ведомствам). Из 30 миллионов фунтов стерлингов, израсходованных в том же году на научно-исследовательские работы частными фирмами, не менее половины было истрачено пятью крупнейшими трестами, связанными с военной промышленностью: химическим трестом и четырьмя трестами авиационной и автомобильной промышленности. Использование все более крупных ассигнований на научно-исследовательские работы и дорогостоящее лабораторное оборудование в Англии, Канаде и Соединенных Штатах Америки в целях создания различных видов оружия «биологической войны», то есть средств массового отравления и заражения людей и продуктов питания для распространения чумы и других заболеваний, — вот итог кощунственного использования науки империализмом.
К концу 1955 года Уинстон Черчилль уже бил тревогу в связи с отставанием Англии в подготовке научно-технических кадров по сравнению с Советским Союзом:
«За последние десять лет советское высшее техническое образование — подготовка инженеров-механиков — развивалось как в количественном, так и в качественном отношении в такой степени, которая далеко превосходит все достигнутое нами» (Уинстон Черчилль, 5 декабря 1955 года).
По имеющимся данным, ежегодный выпуск инженеров в Англии составлял 57 человек на один миллион жителей; в* Советском Союзе — 280 человек. Если в Англии было только 3 тысячи научных работников, целиком занятых фундаментальными теоретическими исследованиями (кроме медицины), то в Советском Союзе таких ученых было 40 тысяч человек.
Не удивительно, что все больше и больше видных и известных ученых — к их чести и, следует добавить, зачастую ценой большого риска для них самих и потери в дальнейшем возможности работать — протестует против такого положения. Не 686
удивительно, что все больше и больше ученых и технических специалистов, которым непосредственно известно, какие колоссальные созидательные возможности находятся в пределах досягаемости, но совершенно не используются, начинают независимо от своих политических убеждений с нескрываемой завистью взирать на безграничные успехи в области строительства, которые были достигнуты за те же послевоенные годы и продолжают множиться в Советском Союзе в масштабах, невиданных в истории. Достижения, которыми больше всего кичится современное капиталистическое строительство—широко рекламировавшийся план строительства в долине реки Теннесси, Панамский и Суэцкий каналы или Суккурская плотина,— кажутся ничтожными по сравнению с новыми стройками в Советском Союзе. Объем земляных работ на строительстве Куйбышевской плотины более чем вдвое превышает объем земляных работ при строительстве Суэцкого канала, а на строительстве Сталинградской плотины — в три с лишним раза превышает объем земляных работ при строительстве Панамского канала. Строительство семи новых электростанций (две из них — крупнейшие в мире), которые будут давать более чем две пятых всей электроэнергии, произведенной в Англии в 1950 году; пуск в 1954 году первой в мире атомной электростанции; орошение площади, равной территории Англии, Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии вместе взятых, или одной трети орошаемой ныне во всем мире площади; такое увеличение производства продовольствия, которого хватило бы для того, чтобы прокормить еще 100 миллионов людей, при новом урожае пшеницы, равном урожаю всего пшеничного пояса Канады, урожае сахарной свеклы, превышающем общий урожай Соединенного Королевства, урожае хлопка, превышающем общий урожай Египта и Пакистана; насаждение лесов на площади 13 миллионов акров, благодаря чему будет изменен климат на территории, превышающей территорию Западной Европы,— все это 687
лишь отдельные элементы общего процесса развития, по сравнению с которым «все, что до сих пор предпринималось человечеством, кажется ничтожным»,— как писал профессор зоологии Лондонского университета д-р С. М. Мэнтон в статье, опубликованной в журнале «Нейчур» 3 мая 1952 года. Все это огромное строительство сопровождается не ограничением потребления, а быстрым повсеместным повышением его уровня и неуклонным снижением цен.
Не случайно Сталин в своем ответе корреспонденту «Правды» [в связи с заявлением премьер- министра Эттли] сказал в феврале .1951 года:
«...не может ни одно государство, в том числе и Советское государство, развертывать вовсю гражданскую промышленность, начать великие стройки вроде гидростанций на Волге, Днепре и Аму-Дарье, требующие десятков миллиардов бюджетных расходов, продолжать политику систематического снижения цен на товары массового потребления, тоже требующего десятков миллиардов бюджетных расходов, вкладывать сотни миллиардов в дело восстановления разрушенного немецкими оккупантами народного хозяйства, и вместе с тем, одновременно с этим, умножать свои вооруженные силы, развернуть военную промышленность. Не трудно понять, что такая безрассудная политика привела бы к банкротству государства. Премьер Эттли должен был бы знать по собственному опыту, как и по опыту США, что умножение вооруженных сил страны и гонка вооружений ведет к развертыванию военной промышленности, к сокращению гражданской промышленности, к приостановке больших гражданских строек, к повышению налогов, к повышению цен на товары массового потребления» L
1 «Правда», 17 февраля 1951 года.
688
Английские граждане на собственном горьком опыте знают, насколько это правильно.
Разве такое же развитие невозможно в Англии и в странах Британской империи? Напротив, у нас существуют все ресурсы и материальные возможности, необходимые для этого, но их надо использовать. А для того чтобы их использовать, необходимо коренным образом изменить политику — отказаться от существующего империалистического базиса и употребления всех ресурсов в целях разрушения и войны. Для того чтобы использовать эти ресурсы, народы должны вырвать власть в своих странах из рук монополистов.
В Англии существуют все технические и научные возможности для гигантского нового развития, благодаря которому нынешние экономические затруднения и нехватки стали бы лишь кошмарными воспоминаниями. Специалисты и ученые, а также многочисленные правительственные комитеты разрабатывают множество планов и проектов нового строительства, которые можно было бы немедленно осуществить и которые сделали бы возможным огромный подъем производства. Но все эти планы и проекты остаются на бумаге. Они положены под сукно и заброшены. «Нет ресурсов». Ресурсы необходимы, для того чтобы опустошать Малайю и размещать гарнизоны в Африке, для того чтобы производить бесконечное количество дорогостоящих средств разрушения. Такова мудрость нынешних правителей Англии.
Даже те планы, которые уже были разработаны и оставлены без внимания, отнюдь не учитывают всех возможностей. Самые широкие планы на бумаге, которые даже обсуждались в Англии как желательные, но пока не осуществимые цели (строительство плотины на реке Северн и т. д.), ничтожны по своим масштабам по сравнению с гигантскими планами строительства, победоносно осуществляемыми сейчас в Советском Союзе, который идет по пути от социализма к коммунизму. Реальные возможности все еще 'не изучены, и, для того 689
чтобы они были изучены, необходимо изменить социальные условия. До настоящего времени еще не было даже предпринято попытки провести всестороннее геологическое исследование ресурсов Англии. Таково безразличное отношение английского монополистического капитала к задачам развития экономики страны. Когда будет создана социалистическая Англия, откроются и будут реализованы новые безграничные возможности, которые изменяют лицо Англии; будут использованы новые источники энергии; будет преобразовано сельское хозяйство, промышленность будет поднята на новую высоту; грязные, закопченные города будут превращены в прекрасные города будущего, где станут жить здоровые и счастливые люди. Все это может показаться далекими мечтами. Но это может скоро стать реальностью сегодняшнего дня, как только английский народ начнет действовать, чтобы изменить нынешнее положение.
Реконструкции Англии мешают не природные или технические препятствия. Основная проблема носит политический характер.
Англию могут спасти только действия английского народа. Необходимо коренное изменение политического положения как проводимой политики так и характера правления, то есть отказ от такого рода империалистических правительств, которые правили Англией независимо от того, именовались ли они консервативными или «рабочими». Такое политическое изменение, по существу, означает замену правления монополистов — интересы которых — это интересы империализма — властью производителей, трудящихся, от усилий которых зависят существование и будущее Англии.
Высокоразвитый капитализм в Англии породил такое положение, когда лишение народных масс средств производства является более полным, чем в какой-либо другой стране. В отличие от других капиталистических стран рабочий класс Англии в промышленности и сельском хозяйстве составляет 690
подавляющее большинство населения, а вместе с семьями — примерно две трети населения. Вместе с основной массой конторских служащих и лиц свободных профессий, учителей, инженеров и научных работников, мелких фермеров, лавочников и мелких дельцов (интересам которых фактически в такой же мере угрожают крупные землевладельцы, промышленники и финансисты) рабочие представляют собой подавляющее большинство нации по сравнению с узким кругом находящихся у власти монополистов и их приспешников. Как только они смогут добиться прочного единства действий во имя своих общих интересов, они, безусловно, смогут вырвать Англию из рук монополистов и построить новое, счастливое будущее.
Первой политической предпосылкой осуществления этой цели является коренное изменение политики и руководства организованного рабочего движения, отказ от нынешней империалистической политики и замена господствующего сейчас империалистического руководства, создание единого рабочего движения при руководящей роли коммунистической партии на основе позитивной и прогрессивной программы. Такое единое рабочее движение могло бы сплотить вокруг себя подавляющее большинство населения не только для того, чтобы нанести' поражение консервативной реакции, но и обеспечить избрание в парламент подлинных представителей народа и создание народного правительства, которое было бы способно преодолеть сопротивление монополистов и осуществить программу, отвечающую насущным нуждам Англии и открывающую путь к социализму.
Таким образом, существующая весьма ограниченная и неполная демократия, которая в действительности служит ширмой для фактического правления финансовой олигархии, была бы заменена — не без политической борьбы, но благодаря силе единого движения народа, возглавляемого рабочим классом, — подлинной народной демократией. Таким образом, капиталистическая Англия сделала 691
бы шаг по пути к созданию социалистической Англии.
Какие бы непосредственные опасности и испытания еще ни предстояли как следствие нынешней политики и какая бы борьба и конфликты ни возникли в переходный период ввиду сопротивления старого порядка, можно с уверенностью сказать, что перед Англией откроется светлое и счастливое будущее, как только она освободится от цепей империалистического господства и эксплуатации.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
БУДУЩЕЕ БРИТАНИИ И БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Мы -предвидим будущее, которое отличается от настоящего, как день от ночи. Мы предвидим, как большие машиностроительные заводы Англии прекращают производство пушек, танков и самолетов для истребления малайцев или африканских народов и вместо этого посылают локомотивы, станки, электрогенераторы и автомашины. Мы предвидим, как корабли английского торгового флота будут бороздить моря и океаны, нагруженные не войсками, снарядами или ядовитыми химическими веществами, а товарами, которые они везут от нас другим странам и оттуда к нам. Вместо того чтобы за счет пота и крови рабочих малайских плантаций и африканских -горняков и мелких крестьян накапливать стерлинговые авуары, мы вели бы торговлю на условиях равенства; мы были бы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ранее отсталым странам занять свое место среди передовых наций мира...
Мы боремся за солидарность не только потому, что хотим уничтожить империализм; мы боремся за солидарность и для того, чтобы вместе строить новое, -бесклассовое общество социализма.
Гарри Полли т, Речь на второй конференции коммунистических и рабочих партий стран, входящих в орбиту английского империализма, состоявшейся в Лондоне в апреле 1954 года.
Выступая в парламенте с речью по случаю смерти короля Георга VI, премьер-министр Уинстон Черчилль назвал XX век «ужасным двадца693
тым веком». «Половина его миновала», — сказал он, и, по его мнению, самым крупным нашим достижением является то, что «мы уцелели после его сильнейших потрясений». Крупными мазками Черчилль нарисовал картину бедствий, явившихся результатом первой мировой войны:
«Лишь четыре года спустя после смерти Эдуарда VII мы были ввергнуты в войну силами, находившимися абсолютно вне нашего контроля. Король Георг V получил мрачное наследие... Победа была одержана, но попытка создать в лице Лиги Наций международный инструмент для предотвращения нового чудовищного конфликта потерпела неудачу.
Наш остров пережил величайшие потрясения в царствование короля Георга VI... Началась война, и никогда на всем протяжении нашей долгой истории мы не подвергались большим опасностям...
Увы! — мы оказались в весьма затруднительном положении после всех приложенных нами усилий; а затем, в разгар всех испытаний, явившихся последствием войны, перед лицом проблем, стоящих перед нами, мы столкнулись с новой угрозой. Одна смертельная опасность, казалось, преодолевалась лишь для того, чтобы на смену ей являлся призрак новой опасности...
Его царствование было самым трудном в наши времена».
Такова мрачная картина XX века в представлении видного представителя старого порядка — картина века, в котором были свергнуты вековые тирании царя и кайзера, раздавлено наступление держав фашистской «оси», одна треть человечества разорвала оковы и сбросила эксплуататоров и благодаря чудесам социалистического строительства была изгнана нужда, невиданно быстрыми темпами повышен материальный уровень, обеспечено развитие просвещения и новые достижения в 694
социальной и культурной областях там, где раньше царила тьма,— среди сотен и сотен миллионов людей. Жестокость, насилие и варварство двух мировых войн были порождены исключительно тем старым умирающим порядком, который олицетворяет Черчилль, — старым порядком, последними плодами которого явились фашизм и атомная бомба.
Конец эпохи
В наше время таким же мрачным пессимизмом проникнуты высказывания всех представителей старого социального порядка. Главный антимарксистский оракул экономических теорий загнивающего капитализма лорд Кейнс писал в своей последней работе, написанной за несколько недель до смерти:
«Никто не может быть ни в чем уверен в наш век постоянных изменений и перемен. Снижение жизненного уровня в период, когда мы обладаем величайшими возможностями в области производства материальных благ... служит достаточно ярким свидетельством глубокого противоречия, лежащего в основе всех отраслей нашей экономики. В такую эпоху никакие планы не могут быть наверняка успешными. Но, если они окажутся явно несостоятельными, тогда, конечно, мы и все другие попробуем предпринять что- либо иное» (Джон Кейнс, Платежный баланс Соединенных Штатов, «Экономик джорнэл», июнь 1946 года).
Безусловно, наступило время «попробовать предпринять что-либо иное». Но Кейнс при его неспособности понять или хотя бы попытаться изучить учение Маркса и Ленина не мог подсказать выход.
Такие мрачные взгляды свойственны не только либерально-консервативным представителям старого порядка. Эти взгляды стали такими же мод- 695
ними и среди лейбористских «мыслителей нового типа» и среди «передовой» (а в действительности отсталой) интеллигенции, цепляющейся за реформизм, которая сейчас высмеивает концепцию прогресса как «развенчанную иллюзию» просветителей XVIII века или «викторианского рационализма» (то есть идеологии буржуазии, все еще поднимавшейся, уверенной в своих силах и смело смотревшей в будущее). Так, например, член парламента лейборист Р. Кроссмэн, член Королевского исторического общества, писал в изданных в 1952 году «Новых фабианских очерках», которые он редактировал:
«Эволюционная и революционная философии прогресса оказались ложными... Судя по фактам, гораздо больше можно сказать в пользу христианской доктрины первородного греха, чем в пользу руссоистской фантазии благородного дикаря или марксистского представления о бесклассовом обществе».
Самодовольный и самоуверенный антимарксистский тон первых «Фабианских очерков» исчез с упадком империализма, который был их основой. Неофабианские «теоретики» в конце концов нашли прибежище в клерикальном обскурантизме и в консервативной доктрине прирожденной и неискоренимой порочности человеческой натуры L
1 Точно так же антимарксистски и антисоветски настроенный фабианец Герберт Уэллс в конце концов предался отчаянному пессимизму в своем последнем произведении «Разум у предела своих возможностей», которое вышло в 1945 году в качестве «завершающего итога», как он выразился сам, всего его творчества. Оптимизм сохранили лишь те первые основоположники фабианства — Вэббы и Шоу, — которые, к чести, смогли в результате русской революции отойти от своих первоначальных взглядов и откликнуться на возникновение нового мира и на «советский коммунизм — новую цивилизацию». Они в своем последнем высказывании (Беатриса Вэбб, Наше товарищество, 1948 г.) публично осудили свой прежний отказ от марксизма как «безнадежно ошибоч-
696
Пессимизм, характерный для нынешних ортодоксальных воззрений в западном империалистическом мире, не является выражением, как это обычно воображают носители этих воззрений, более глубокого понимания жизни и общества как результата воздействия бурь и невзгод нашего времени. Этот пессимизм является лишь выражением усугубляющегося упадка, сознания неразрешимости дилеммы и неизбежности краха империалистического общественного порядка, теоретическими и политическими выразителями которого являются носители указанных воззрений. Поэтому непоколебимая уверенность Гладстона или Джозефа Чемберлена уступает место мрачным взглядам Черчилля. Самодовольный тон ранних поверхностных «Фабианских очерков» уступает место растерянности и бессилию новых очерков. Старые поверхностные представления разбиты под суровым воздействием кризиса. Свет нового еще не развеял прежнюю слепоту этих представителей умирающего порядка. Они погрузились в еще большую тьму, потому что они не понимают характера кризиса, а также потому, что продолжают оказывать свое влияние первоначальные империалистические теории.
Выбор между двумя путями
Выбор, который должен сегодня сделать английский народ,— это поистине выбор между жизнью и смертью. Это не риторика, а изложение фактов.
Кризис, который сейчас переживает Англия, фактически свойствен в различной степени и в различных формах всем странам западного империалистического мира. Но в Англии, классической и старейшей стране капитализма и империализма, ный» и заявили о «поддержке марксистской теории исторического развития капитализма, основанного на .получении прибылей». Но более поздние фабианцы неспособны даже учиться у основоположников этого течения.
697
противоречия наиболее глубоки, устойчивы и остры.
Английский премьер-министр Черчилль, выступая 30 июля 1952 года в парламенте, фактически расписался в банкротстве старого, империалистического порядка. Он сказал:
«Поистине трагично зрелище некогда великолепной и все еще довольно сильной Британской империи, которая при всем ее могуществе, величии, господстве и власти должна тревожиться и думать о том, как бы ей покрыть свои ежемесячные расходы. Меня терзает эта мысль».
Это было поистине откровенное признание банкротства старого, империалистического порядка.
Экономика Англии при власти нынешнего правящего класса собственников неспособна удовлетворить нужды и потребности народа. 30-е годы оставили мрачное воспоминание у народа. Но к 1953 году потребление продовольствия в расчете на душу населения почти по всем основным продуктам (мясо, рыба, масло, сахар, зерновые, фрукты и овощи) снизилось по сравнению с довоенным уровнем.
Таблица 49
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в 1934—1938 и в 1953 ГГ.
(фунтов на душу населения в год)
1934—1938 гг.
1953 г.
Мясо
110,0
92,9
Рыба, птица, дичь
32,7
25,6
Масло
24,7
13,2
Сахар
104,6
100,6
Фрукты
137,4
132,9
Овощи
107,0
99,7
Зерновые продукты
210,1
208,6
Источник. «Домашнее потребление
и расходы,
1953 год>, издание министерства сельского хозяйства.
Исключением из этого общего снижения потребления оказались картофель, маргарин и мо698
локо; потребление сыра возросло в весьма незначительной степени. Увеличение потребления молока можно только приветствовать; однако увеличение потребления картофеля и маргарина при снижении уровня потребления мяса, рыбы, масла, сахара, фруктов и овощей следует рассматривать как очень серьезное указание на ухудшение условий. Это тем более важно, если вспомнить, что еще в 1937 году Джон Бойд-Opp подчеркивал низкий уровень питания народных масс и показал, что для поднятия потребления самых бедных слоев до уровня самых богатых понадобится на 29 процентов больше мяса, на 41 процент больше масла, на 24 процента больше фруктов и на 87 процентов больше овощей.
Все пустые разговоры о «социалистической Англии» и о «новом, демократическом, социалистическом образце» в последнее десятилетие были лишь весьма прозрачной ширмой, прикрывавшей все большую монополизацию производственных ресурсов в руках крупных банков, трестов и концернов, тесно связанных с государством, при резком усилении эксплуатации рабочих и вытеснении и разорении средних слоев населения.
Эта закостеневшая, загнивающая экономика, подчиненная финансовому капиталу, неспособна, как она сама это показала (более подробно этот вопрос разбирается в предыдущей главе), выполнить серьезные задачи строительства и развития, которые, по общему признанию, необходимо осуществить и которые предусматриваются в существующих на бумаге планах, вполне осуществимых с научной и технической точек зрения, но непрестанно урезываемых и откладываемых при нынешнем режиме как невыполнимые. При нехватке продовольствия эта экономика не обеспечивает даже полного использования земель в Англии. При острой нужде в специалистах, получивших высшее научное и техническое образование, урезываются ассигнования на просвещение. И все же насущно необходимые и игнорируемые ныне задачи стро699
ительства и развития оказываются ограниченными по сравнению с огромными новыми достижениями в этой области, которых добились и добиваются в Советском Союзе и странах народной демократии.
Этот режим старейшей, смертельно больной, умирающей финансово-капиталистической монополии, который так усердно поддерживается союзом капиталистической олигархии и праволейбористских теоретиков, прикрывающих его изъяны толстым слоем пропагандистской косметики,чтобы придать ему новый вид, неспособен уцелеть в современных международных экономических и политических условиях. Он ослабевает в неравной борьбе под натиском сравнительно молодого американского монополистического капитализма и его западногерманского и японского сателлитов. Старых запасов империалистического жира, накопившихся в результате прошлых завоеваний роста заграничных капиталовложений, и американских субсидий, купленных дорогой ценой, уже не хватает, и они начинают истощаться, о чем свидетельствуют хронический дефицит платежного баланса и сокращение золотых и долларовых запасов.
Власть над старыми имперскими владениями, несмотря на все маневры и репрессии, ослабевает. Колониальные и зависимые народы от Малайи до Среднего Востока и от Африки до Вест-Индии пришли в движение. Они, бесспорно, не намерены «лелеять британского льва как своего любимца», и даже американские финансисты начинают выражать недовольство по поводу затрат на его содержание в качестве наемника.
В отчаянной попытке сохранить старую основу в максимальных размерах используются все ресурсы этого больного, обнищавшего режима ради создания колоссального количества вооружений, содержания армий и гарнизонов во всем мире и ведения варварских дорогостоящих колониальных войн. Ради перевооружения и войны Англия отдана под заклад американским финансистам, которые 700
предписывают ограничения, калечащие английскую торговлю, держат Англию в долларовой зависимости и низвели Англию до положения базы, которой, по их стратегическим планам, можно в случае нужды пожертвовать.
Это ведет лишь к тому, что наносятся новые удары по уже ослабленной экономике. До каких бы мизерных размеров ни сокращались «социальные мероприятия», в которых бедняки сами платят за бедняков, все более беспощадно вскрывается та суровая истина, что этот обанкротившийся режим — будь то при власти консервативного или праволейбористского правительства — вСе менее способен поднять или хотя бы сохранить жизненный уровень или дать народу какую-либо надежду на будущее. Пока же тиски неуклонно ухудшающегося положения, нового бремени и лишений, «жесткой экономии» Криппса и «жесткой экономии» Батлера и их последователей продолжают и будут продолжать стирать в порошок устаревшие иллюзии мертвого прошлого.
Перед рабочим движением и перед всем населением Англии стоит выбор между двумя путями — путем жизни и путем смерти.
Избрать путь смерти — это значит идти ко дну вместе с тонущим кораблем старого, империалистического порядка, это значит выжимать из народа все соки, для того чтобы иметь все больше и больше оружия и все больше войск для подавления восстания народов во всем мире; это значит быть послушным сателлитом в вооруженном лагере новых хозяев мирового капитализма, в котором собрано все зловонное и гниющее со всех концов света — умирающие феодалы, князья и деспоты от лисынманов и пибулсонграмов до греческих палачей и неонацистов,— в борьбе против наступления социализма и освобождения во всем мире, и, наконец, это значит выдать страну, связанную по рукам и ногам, милитаристам новой «оси» как ядерную базу с клеймом: «Предназначена для уничтожения». Это один путь — путь смерти и само701
убийства, окончательный результат предательства дела социализма.
Другой путь — это путь жизни. Избрать путь жизни — значит освободиться; прекратить агрессивные войны, ведущиеся с целью .захвата других стран, и вернуть войска на родину; отвергнуть позорный военный союз, имеющий целью развязать третью мировую войну, и вернуться к основным принципам Организации Объединенных Наций; освободить страну от подчинения цитадели мирового капитализма и восстановить полную независимость при определении политики и характера торговли в соответствии с потребностями страны; объединиться с другими народами мира в борьбе за мир и свободу, за сокращение вооружений, за международное экономическое сотрудничество и, следовательно, наряду с таким коренным изменением политики в области международных отношений создать условия для решающих социальных и экономических преобразований в стране, с тем чтобы использовать производительные ресурсы Англии для удовлетворения насущных нужд народа, для ликвидации угрозы кризиса и катастрофы.
Это путь жизни, путь будущего, к которому стремятся все здоровые и передовые элементы в рабочем движении, среди молодежи, среди самых широких слоев народа. Это подлинный путь к светлому будущему Англии.
Но Англия сможет пойти по этому пути только в том случае, если нынешнее господство финансово-капиталистической олигархии, олицетворяющей империализм, и ее прямых прислужников среди руководящей верхушки рабочего движения будет заменено руководством рабочего класса, который объединит в тесный союз все слои населения.
Только организованный рабочий класс обладает решающей силой, численностью, опытом коллективных действий и ведущим положением в производстве, которые позволят ему — как только он выработает свою собственную четкую программу и обеспечит руководство и необходимое единство — 702
сплотить вокруг себя объединенный народ и повести его на борьбу против монополистов и их приспешников, порвать с прошлым и вступить на новый путь, ведущий к светлому будущему Англии.
Чтобы справиться с этой ответственной задачей, рабочее движение должно будет разорвать оковы, унаследованные от прошлого, освободиться от пут империалистической политики и руководства, которые являются главной опорой капитализма и непосредственным препятствием для победы социализма. Необходимо освободиться от узкого, ограниченного представления о социализме, которое традиционно культивировала старая пропаганда в рабочем движении, неизменно предусматривая лишь изменения в распределении и владении богатствами и доходами в самой Англии вместо коренных экономических и политических преобразований на основе, чуждой империализму. Необходимо воспринимать борьбу против английского капитализма не только как борьбу английских рабочих против предпринимателей в Англии, но как борьбу всех народов империи против английского империализма, против правящего класса, который все еще господствует на одной четвертой части земного шара, одинаково эксплуатируя как английских рабочих, так и колониальные народы, и сейчас все более и более тесно смыкается с американскими империалистами.
Англия — это не маленький изолированный остров в уголке Европы, а метрополия громаднейшей мировой империи и, следовательно, центр этой общей борьбы всех народов империи за свободу,— борьбы, имеющей такое огромное значение для будущего человечества. В этом ключ к победе рабочего класса и социализма в Англии. Слабость существующего движения, неспособность до сих пор осуществить решительные социальные преобразования в Англии, несмотря на многолетний опыт, большую численность и организованность, объясняются неспособностью овладеть этим ключом.. В отрыве английского рабочего класса от борьбы
703
колониальных народов заключается, по словам Маркса, «тайна сохраняющейся власти капиталистического класса»; в этом «тайна бессилия английского рабочего класса, несмотря на его организованность».
Слова Маркса по-прежнему верны и для нынешнего этапа развития рабочего движения. Однако обстановка меняется. Внутри рабочего класса развертывается борьба против империалистической политики и руководства.
Только одержав победу в этой борьбе, только при помощи политического понимания этой общей борьбы, при помощи марксистско-ленинского учения английский рабочий класс придет к решающей победе. Только в этом случае английский рабочий класс окажется на высоте своей исторической миссии и будет бороться в первых рядах вместе со всеми народами империи против общего врага — английских монополистов и блока англо-американского империализма, за общую цель — свободу и процветание всех народов нынешней империи.
Будущее империи
Каким же в таком случае выглядит будущее народов нынешней империи и как сложатся будущие взаимоотношения английского народа и других народов империи на основе общей победы над империалистическими правителями?
Конкретный ответ на указанный вопрос зависит только от политической обстановки. Однако принципы, которые должны быть положены в основу такого ответа, ясны.
Социализм всегда учил, что имперская система господства и эксплуатация других народов несовместимы с подлинными интересами не только втянутых в орбиту империализма народов, но и самого английского народа. Свобода и процветание народа Англии зависят от ликвидации этой системы, равно как и всех связанных с ней пороков и 704
тягот, и замены ее новой основой братских неимпериалистических отношений и дружественного сотрудничества. Такое преобразование настоятельно необходимо не только в интересах мира и не только в соответствии с правом на самоопределение и с принципами свободы и равенства прав всех наций. Оно соответствует также непосредственным интересам самих английских трудящихся. Ибо такое преобразование является необходимой базой для победы социализма в Англии.
В наше время исторический опыт подтверждает правильность этого положения. Конец прежнего привилегированного монопольного положения Англии в мире и вытекающее отсюда растущее банкротство основанной на этом базисе экономической и политической системы ныне становятся очевидными для всех. Для будущего Англии должен быть найден новый базис.
Еще в XIX веке, до эпохи империализма, но в период, когда монопольное положение Англии в мире уже стало решающим фактором, определявшим ее внутреннюю социально-политическую структуру, Маркс сосредоточил внимание на этой коренной проблеме национального освобождения (которая в то время проявлялась в ирландском вопросе) как на ключе к грядущей победе рабочего класса и социализма в Англии. Маркс категорически подчеркнул, что существенным «предварительным условием освобождения английского рабочего класса является превращение существующей принудительной унии, т. е. порабощения Ирландии, в равный и свободный союз, если это возможно, или полное отделение, если это необходимо»1.
В письме Энгельсу (написанному одновременно с резолюцией Первого Интернационала, содержащей приведенное выше заявление) Маркс объяснил, что к этой точке зрения, имеющей кардинальное значение для понимания марксистского подхода 1 >К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. 1, стр. 348.
705
к проблемам английской политики, английского рабочего движения и английского пути к социализму, он пришел в результате «более глубокого изучения», сознательно пересмотрев свою прежнюю позицию. Раньше Маркс считал, что свобода Ирландии будет обеспечена победой рабочего класса в Англии, то есть что победа рабочего класса в Англии будет предшествовать национальному освобождению подчиненных народов империи. Дальнейшее изучение вопроса побудило его изменить эти свои взгляды и привело его к выводу о том, что освобождение Ирландии является неотъемлемым предварительным условием для победы рабочего класса в Англии.
«...прямой абсолютный интерес английского рабочего класса требует разрыва его теперешней связи с Ирландией... Я долго думал, что возможно ниспровергнуть ирландский режим подъемом английского рабочего класса. Я всегда защищал этот взгляд в «Нью-йоркской Трибуне». Более глубокое изучение вопроса убедило меня в обратном. Английский рабочий класс ничего не поделает, пока он не избавится от Ирландии. Рычаг должен быть приложен в Ирландии. Вот почему ирландский вопрос имеет такое большое значение для социального движения вообще»
Маркс развил эту свою новую точку зрения в письме Кугельману от 29 ноября 1869 года. Он подчеркивал, что необходимо настаивать на этом требовании предоставления свободы Ирландии...
«...не из сочувствия к ирландцам, а потому что она является необходимой с точки зрения его [английского пролетариата] собственных интересов. Если это не будет сделано, то английский народ попрежнему будет итти на поводу у господствующих клас1 Письмо Маркса Энгельсу от 10 декабря 1869 года, Избранные письма, Госполитиздат, 1948, стр. 230.
706
сов, потому что он должен будет действовать заодно с ними против Ирландии» *.
Это глубокое понимание Марксом специфических проблем английского рабочего движения и перехода к социализму в Англии приобретает особое значение в современных условиях. Маркс в конце концов отверг мнение о том, что английский рабочий класс сначала возьмет власть, причем империя сохранится в целости, а затем приступит к освобождению порабощенных народов империи. На основе «более глубокого изучения» Маркс пришел к выводу, что решающим предварительным условием является успех освободительного движения порабощенных народов империи, что оно явится «рычагом», с помощью которого будут вырваны социальные изменения в Англии, и тем самым откроет путь к победе английского рабочего класса. Первый бой великой битвы за победу социализма в Англии будет дан в странах империи.
В эпоху империализма Ленин детально разработал эту исходную мысль Маркса и дал новое и более глубокое понимание всей концепции мировой социалистической революции. Раньше большинство социалистов Западной Европы и Америки мировую социалистическую революцию отождествляли с победой высокоорганизованного рабочего класса в наиболее индустриально развитых странах капитализма, после которой более отсталые, слаборазвитые страны постепенно последуют этому примеру. Отсюда проистекало покровительственное, в лучшем случае — филантропическое отношение к отсталым колониальным странам, находившимся вне пределов «цивилизованного Запада», и к их национальной борьбе, которая-де представляет собой более примитивный этап развития, еще не достигшего высот социалистической просвещенности, а посему-де имеющее для социалистов лишь ограниченный интерес.
1 Письмо Маркса Энгельсу от 10 декабря 1869 года, Избранные письма, Госполитиздат, 1948, стр. 228.
707
Ленин, как и Маркс в XIX веке, подошел к вопросу совершенно по-иному. Ленин показал, что первая победа рабочего класса империалистических стран будет завоевана не в наиболее развитых капиталистических странах Запада, а в самой слабой, самой отсталой, наиболее раздираемой внутренними противоречиями стране империализма, в России. Но Ленин далее показал, что после победы пролетарской социалистической революции в России ключ к следующей стадии развития еще не будет находиться в наиболее развитых странах Запада (что пытался доказать Троцкий, отражавший обычную точку зрения большинства западноевропейских социалистов), а по-прежнему будет находиться в наиболее слабых и наиболее уязвимых районах господства империализма — в огромных колониальных и зависимых странах Азии и Ближнего и Среднего Востока, где успехи освободительной борьбы народов нанесут смертельные удары по базису империализма на Западе, поставив вопрос о необходимости социальных перемен, развеяв иллюзии социал-демократического реформизма и открыв путь к победе рабочего класса развитых капиталистических стран Запада. В своей начальной стадии битва за Лондон, Париж и Нью-Йорк будет вестись в Пекине, Калькутте и Каире.
К первому десятилетию XX века народы Азии уже пришли в движение, они уже подходили к этапу сознательной политической борьбы за свое освобождение. Они находились на гораздо более высокой стадии, чем в любой период XIX века, когда Марксу пришлось использовать пример Ирландии, чтобы подтвердить выдвинутое им положение. Ленин первый увидел значение этого развития. В статье «Отсталая Европа и передовая Азия»1 он в 1913 году показал, как правители «в цивилизованной и передовой Европе» поддерживают в Азии «все отсталое, отмирающее, средневековое», в то время как там развертывается «могучее
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 77—78.
708
демократическое движение» и в Азии «просыпаются к жизни, к свету, к свободе сотни миллионов людей». Только рабочий класс Европы олицетворяет сабой рать «борцов за лучшее будущее», признающих своими союзниками сотни миллионов людей в «молодой Азии» и сохраняющих «беспощадную вражду к отсталости, дикости, привилегиям, рабству и унижению человека человеком». Конечная победа пролетариата «всех цивилизованных стран... освободит и народы Европы и народы Азии». Эти строки были написаны до того, как победа рабочего класса в России открыла эру мировой социалистической революции.
В 1923 году, пять с половиной лет спустя после победы пролетарской социалистической революции в России, Ленин в последней написанной им статье обратил свой взор в будущее, чтобы рассмотреть перспективы мировой социалистической революции. Высказанное им тогда предсказание, в котором он подчеркнул решающую роль «России, Индии, Китая и т. п.», которые «составляют гигантское большинство населения» земного шара и движение которых к освобождению обеспечит окончательную победу социализма во всем мире, цитируется часто. Однако обычно упускают из виду контекст, из которого вытекало это предсказание. А ведь именно этот контекст имеет особое значение в нынешней мировой обстановке в отношении проблем Британии и Западной Европы.
Ленин стремился ответить на вопрос, имевший- в 1923 году, после поражения революционного подъема в Центральной и Западной Европе, особое значение, — сможет ли слабый в то время Советский Союз удержаться в связи с задержкой социалистической революции в Западной Европе. Его ответ расширил перспективы социализма далеко за узкие пределы зараженных империализмом капиталистических стран Западной Европы, нарисовав гораздо более широкие горизонты:
«...западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социа-
24 Р. Палм Датт 709
ЛйЗМу... не так, как мы ожидали раньше. Они завершают его не равномерным «вызреванием» в них социализма, а путем эксплуатации одних государств другими, путем эксплуатации первого из побежденных во время империалистической войны государства, соединенной с эксплуатацией всего Востока. А Восток, с другой стороны, пришел окончательно в революционное движение именно в силу этой первой империалистической войны и окончательно втянулся в общий круговорот всемирного революционного движения» L Именно в связи с этим анализом положения в мире, в том числе и положения в Западной Европе, Ленин и сделал свое знаменитое предсказание:
«Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское большинство населения. А именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена» * 2.
Здесь Ленин, как и Маркс в XIX веке, сознательно пересматривает прежние предположения («не так, как мы ожидали раньше»). В свете опыта периода 1917—1923 годов он отбрасывает мысль о возможности быстрой победы пролетарской революции в Западной Европе. Вместо этого он показал, что «западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социализму» своеобразным путем,—путем империалистической эксплуатации других стран, разжигая этим пламя революционного подъема среди эксплуатируемых ко-
! В. И. Ленин, Сочинения, том 33, стр. 457.
2 Там же, стр. 458.
710
лониальных и полуколониальных масс Азии, составляющих большинство человечества, прогресс которых обеспечит окончательную победу социализма во всем мире, а следовательно, на какой-то более поздней стадии и на Западе.
Изложенный здесь ход мысли имеет коренное значение для рассмотрения всех проблем Британии и Британской империи, английского рабочего движения и английского пути к социализму. Он особенно важен в нынешней обстановке — треть века после того, как Ленин писал эти слова, — когда намеченный в его предсказании ход событий уже в значительной мере подтвердился.
Ленинское предвидение было блестяще подтверждено историей минувшей трети века. С одной стороны, рабочему классу развитых капиталистических стран Запада еще не удалось свергнуть капитализм и установить социализм. Несмотря на возросшую степень организованности и политического влияния рабочего класса в этих странах, продолжающееся господство старых, империалистических мнений и концепций, особенно среди высшего руководства и в официальной политике, и нашедших свое отражение в мировоззрении правой социал- демократии, помешало рабочему классу воспользоваться своей силой для ликвидации капитализма. Проводились реформы, но монополистический капитализм по-прежнему сохранил свои позиции. С другой стороны, победы национально-освободительного движения и создание целого ряда новых независимых государств в Азии и в прежних колониальных империях европейских держав явились значительным шагом вперед, изменившим соотношение сил в мире. Большинство народов Британской империи создали свои независимые государства до победы рабочего класса и социализма в Англии. Распад колониальной системы и изменение соотно-. шения сил на мировой арене привели к углублению кризиса в империалистических странах Западной Европы, выдвигая на повестку дня необходимость коренных социальных перемен и реконструкции и
24* Щ
открывая путь к победе рабочего класса и социализма в Англии и Западной Европе.
Эта новая обстановка глубоко затрагивает и проблему будущих отношений английского народа и народов Британской империи.
Новая обстановка в мире подчеркивает важность союза английского рабочего класса с народами колониальных стран, ведущими освободительную борьбу, и с народами, недавно завоевавшими независимость, против империализма. Об этом ясно свидетельствовал весь опыт Суэцкой войны. Национализация Египтом компании Суэцкого канала вызвала яростную враждебность консервативных правителей империалистической Англии, проявившуюся в безрассудной авантюре агрессивной войны против Египта. Однако агрессивные мероприятия консервативного правительства вызвали резкое сопротивление в рабочем движении; несмотря на первоначальную поддержку высшим руководством правительственных мероприятий, под давлением масс оно было вынуждено официально перейти к оппозиционной тактике. Англия вступила в эту войну, будучи глубоко расколотой сверху донизу, причем такого раскола страны не наблюдалось со времен бурской войны. Таким образом, занятая Египтом позиция против империализма не только оказалась динамическим фактором в новой политической ситуации в мире, она глубоко повлияла и на внутриполитическое положение в Англии. Выступление Египта против империализма нанесло сильный удар по «двухпартийной» политике, подняло борьбу рабочего класса на новый уровень (причем массовые выступления не уступали по размаху выступлениям периода испанских событий или периода кампании за открытие второго фронта) и подготовило условия для ухода в отставку Антони Идена и для продвижения лейбористской партии к возможной в будущем победе над консерваторами. С другой стороны, поддержка со стороны английского рабочего движения помогла Египту в его борьбе против империалистической агрессии. Сама жизнь 712
тут продемонстрировала — много ярче, чем сотня теоретических трактатов, — значение союза английского рабочего класса с национально-освободительной борьбой колониальных и бывших колониальных народов против ^империализма; союза, который является ключом к прогрессу не только в международном масштабе, но и в самой Англии. Каждый успех, каждый шаг вперед одного из участников этого союза помогает другому против общего врага, и помощь эта оказывается на взаимной основе.
Только дальнейшее развитие этого союза в действиях может создать основу для тех новых отношений дружбы и сотрудничества между английским народом и народами нынешней Британской империи, которые станут возможными с ликвидацией империалистических отношений и изменением классового базиса в Англии.
Новая обстановка в мире совершенно меняет перспективу возникновения этих новых отношений.
Когда в Англии будет создано социалистическое правительство, олицетворяющее победу политической власти рабочего класса и его союзников над монополистическим капиталом, вполне вероятно, что оставшиеся еще к тому времени подчиненные колониальные территории, народы которых получат свободу вместе с победой социализма в Англии, будут весьма ограниченными — несколько небольших разбросанных территорий, общая численность населения которых может даже оказаться меньше, чем население самой Англии. Поэтому вопрос о будущих отношениях народов нынешней империи не будет исключительно или в первую очередь вопросом об отношениях с этими освобожденными бывшими колониальными народами, получившими свободу только после победы социализма в Англии. Основным будет вопрос об отношениях с более широкой группой уже политически независимых государств, которые могут еще быть связанными рамками Содружества или империи или находиться в сфере английского империализма.
, Социалистическое правительство в Англии дол713
жно будет немедленно принять меры к освобождению еще остающихся колоний и зависимых или оккупированных территорий — иными словами, признать право этих народов на самоопределение, покончить с колониальной диктатурой, вывести все оккупационные войска и передать власть правительствам, свободно избранным этими народами.
И на Британских островах должен быть применен тот же принцип признания национальных прав. В Ирландии (если к тому времени еще не будет отменен навязанный английским законодательством принудительный раздел, осуществление которого обеспечивается английскими оккупационными войсками) необходимо будет ликвидировать принудительный раздел, вывести из Северной Ирландии оккупационные войска и предоставить ирландскому народу полную возможность свободного создания своей объединенной республики, которая может поддерживать дружественные отношения с Англией. В самой Англии необходимо будет признать право шотландского и валлийского народов по своему усмотрению избрать формы осуществления своих национальных чаяний.
Социалистическое правительство должно будет положить конец не только империалистическому политическому господству, но и империалистической экономической эксплуатации. Все природные ресурсы и производственные мощности, которыми английский капитал владел в бывших колониях, должны быть возвращены освобожденным народам.
Все это представляет собой срочные и существенные мероприятия, направленные на ликвидацию империалистической основы отношений.
Значит ли это, что в отношении существующей империи политика социалистического правительства будет ограничена чисто отрицательной функцией слома и ликвидации всех форм империалистического господства и эксплуатации с целью осуществления принципа национального самоопределения, но без дальнейшей положительной пер714
спективы относительно будущих отношений народов нынешней империи?
Именно так утверждают противники социализма и коммунизма, которые обычно именуют политику коммунистов относительно империи «разрушительной», направленной на «слом» всех существующих связей и форм объединения, вызыва* ющей «распад». Такие обвинения—искаженное изображение подлинной политики, направленной через союз против империализма и осуществление национальной независимости на создание условий для новых отношений дружественного и плодотворного сотрудничества.
Несомненно, политика социализма или коммунизма является разрушительной относительно любой формы грубого насилия одной нации над другой или эксплуатации одной страны другой.
Однако политика социализма или коммунизма полностью конструктивна относительно интересов и общих проблем всех народов нынешней империи и будущего сотрудничества на основе национальной независимости и равноправия. Только эта политика дает позитивную и конструктивную перспективу для будущих отношений народов империи.
Политика социализма или коммунизма разрушительна для империализма. Она конструктивна в отношении нужд и интересов народов империи.
Как только с империализмом будет покончено, откроются безграничные возможности для новых отношений дружбы и сотрудничества.
После победы над империализмом, то есть над монополистическим капиталом и его правителями, перед английским народом встанет задача построения нового, социалистического общества в условиях изменившегося положения Англии в мире. Англичане будут заняты созданием здоровой и производительной неимпериалистической экономики, основанной не на паразитическом потреблении заморской дани, а на полном использовании всех ресурсов Англии и на развертывании всех способ715
ностей ее трудового люда, ее ученых, техников и промышленных и сельскохозяйственных рабочих; это позволит Англии сыграть прогрессивную роль в мире, обеспечить рост благосостояния народа и внести — как и подобает каждой развитой стране — свою лепту в дело осуществления реконструкции в международном масштабе.
В более старых доминионах — Австралии, Канаде и Новой Зеландии, имеющих многочисленные традиционные связи и культурную общность с Англией,— если в этих странах прогрессивные правительства придут к власти одновременно с приходом к власти такого правительства в Англии, народы, по-видимому, также будут заняты осуществлением широких планов реконструкции, что откроет большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Англией.
Народы недавно завоевавших независимость бывших колониальных стран империи уже сейчас заняты осуществлением смелых программ национальной реконструкции, направленных на устранение прежней колониальной экономики и отсталости, унаследованной от империализма, на индустриализацию и развитие современного сельского хозяйства, на ликвидацию нищеты и низкого уровня жизни. Эти же задачи встанут и перед народами тех стран, которым еще предстоит завоевать освобождение.
Все это открывает возможности для такого сотрудничества, которое ранее не могли знать страны нынешней империи.
Нынешние экономические отношения Англии с другими странами империи являются антагонистическими, основанными на эксплуатации. Между Англией и старыми «белыми» доминионами, достигшими полного капиталистического развития — Канадой, Австралией, Новой Зеландией и (с учетом некоторых - особых факторов) Южно-Африканским союзом,— антагонизм возникает из-за столкновения между английскими промышленниками и промышленниками доминионов по поводу промышленного 716
развития в доминионах или вследствие отрицательного влияния на торговлю последних, сокращения импорта в торговле между Англией и Австралией из-за долларового дефицита. Отношения между Англией и колониальными и зависимыми странами основаны на прямой эксплуатации или извлечении сверхприбылей из колоний. Они ведут к истощению богатств этих стран, задерживают их экономическое развитие и снижают до предела уровень жизни народов этих стран.
Ликвидация отношений антагонизма и эксплуатации и замена их отношениями экономического сотрудничества в целях наилучшего использования ресурсов и обмена продуктами на основе эквивалентности сделала бы возможными быстрые успехи в экономической реконструкции и повышении уровня жизни к огромной общей выгоде для всех заинтересованных стран.
Часто заявляют, что Англия нуждается в эксплуатации империи и в доходах от заморских капиталовложений в качестве необходимой основы ее собственного экономического существования и что поэтому «потеря» империи, то есть освобождение колониальных и зависимых территорий, «разорила бы» Англию. Изучение фактов показывает—как подробнее было показано выше,— что дело обстоит как раз наоборот. Паразитизм принес Англии экономический вред, и ликвидация паразитизма облегчила бы экономическое выздоровление Англии. Даже в период наибольшего империалистического «процветания» — до наступления современной эры хронического кризиса — усиливающаяся зависимость от заморской дани привела к пренебрежению развитием отечественной промышленности и сельского хозяйства и к относительному техническому застою. Последовавшее в результате этого ослабление английской экономической мощи привело к нынешнему хроническому кризису. В самый последний период растущие заморские военные расходы, расходы на колониальные войны и перевооружение на практике перевешивают, с какой бы точки 717
зрения ни рассматривать вопрос, иллюзорные «выгоды» от доходов, получаемых за счет дани. Исчезновение таких доходов — что рано или поздно неизбежно,— несомненно, потребовало бы экономической перестройки. Однако одновременное сокращение гарнизонов и военных расходов высвободило бы ресурсы для такой экономической перестройки, а последующее вынужденное полное использование ресурсов Англии и восстановление здоровой, независимой производственной базы в стране явились бы необходимым первым шагом к тому, чтобы покончить с хроническим кризисом, и открыли бы путь к быстрому экономическому возрождению и прогрессу Англии. В то же самое время успехи в реконструкции и повышении уровня жизни в освобожденных колониальных странах 'немедленно оказали бы благотворное влияние на английскую торговлю.
Освобождение колониальных и зависимых стран, прекращение истощения национальных богатств и уродования экономики этих стран, ликвидация условий, искусственно тормозящих их экономическое развитие,— все это открыло бы до- рогу для осуществления далеко идущих программ реконструкции и экономического прогресса, как это уже было продемонстрировано в бывших отсталых странах старой царской колониальной империи и демонстрируется сейчас в новой форме в народном Китае.
После того как оковы империализма будут сброшены, возможности сотрудничества и взаимопомощи в экономической реконструкции между Англией и освобожденными странами нынешней империи станут неограниченными.
Народам освобожденных колониальных стран (потребуется в значительных количествах техническое оборудование для индустриализации и осуществления модернизации сельскохозяйственной техники, чтобы покончить со старой, зависимой колониальной экономикой. Несомненно, можно будет получить важные и увеличивающиеся по
Ьбъ’ему поставки из Советского Союза, народного Китая, Чехословакии, Польши и других народно- демократических стран. Но спрос на максимально возможное количество сложных изделий машиностроительной промышленности, машин и станков из дополнительных источников все еще останется большим. Именно ресурсы английской тяжелой промышленности могут сыграть огромную роль в оказании помощи в индустриализации и снабжении техническим оборудованием освобожденных колониальных стран империи.
В то же время народы бывших колониальных стран, сбросив кандалы устаревших систем землепользования и феодальных пережитков, а также покончив с низким уровнем техники (все это при империализме обрекает крестьян на нищету), смогут быстро расширить сельскохозяйственное производство и поднять уровень жизни крестьян.
По мере того как народы бывших колониальных стран будут повышать уровень своего сельскохозяйственного производства, они, естественно, захотят использовать эту увеличивающуюся сельскохозяйственную продукцию не только для удовлетворения своих самых необходимых нужд в продовольствии и сырье и для повышения уровня жизни своих народов, но также и для экспорта, с тем чтобы иметь возможность импортировать необходимые им товары из промышленно развитых стран как для осуществления индустриализации своих стран, так и для того, чтобы получать более широкий круг промышленных товаров в соответствии с повышающимся уровнем жизни. В этих целях они захотят избавиться от катастрофических колебаний цен на продовольствие и сырье, которые достигли таких ужасных и анархических крайностей в последний период, особенно в результате операций американского финансового капитала и экономики, базирующейся на политике перевооружения. Народы освобожденных колониальных стран потребуют устойчивого рынка для своего сырья, чтобы знать, какое количество его потребуется 719
й по каким ценам, а также для того, чтобы знать, когда будут готовы промышленные изделия, которые они заказали, особенно капитальное оборудование, каких технических специалистов можно будет получить и т. д. Таким образом, как только будут уничтожены барьеры империалистической эксплуатации и 'неравноправной торговли и будут созданы народные правительства в Англии и в бывших колониальных странах, появится основа для широкой добровольной координации планов на всей территории, входившей в бывшую Британскую империю.
Следовательно, Англия отнюдь не будет «разорена» в результате освобождения колониальных и зависимых народов империи. Наоборот, она получит несравненно более широкие и благоприятные возможности для торговли и будет обеспечена продовольствием и сырьем в достаточном количестве и по устойчивым ценам, что так необходимо для ее нынешней экономической структуры.
Это не означает, что в будущем экономические торговые отношения между Англией и освобожденными колониальными странами будут всегда строиться на базе обмена продовольствия и сырья для промышленной Англии на изделия английской промышленности для освобожденных колоний. Такая основа обмена все еще отражает пережиток неравноправия в развитии, вытекающего из колониальной системы, однако этот пережиток будет существовать в новых условиях справедливого обмена, без эксплуатации, и поможет подготовить путь для следующего этапа — всестороннего промышленного развития в бывших колониальных странах и в результате этого — создания более сбалансированной основы для обмена. Охарактеризованные здесь экономические отношения на первой стадии после освобождения будут представлять необходимый переходный этап от существующих теперь условий, облегчающий скорейшую индустриализацию и широкое экономическое развитие бывших колониальных стран взамен изу720
родованной и однобокой колониальной экономики. В то же время лучшее использование земли и сельскохозяйственной техники в самой Англии ослаг бит нынешнюю чрезмерную зависимость от импорта продовольствия. Таким образом, на этом переходном этапе будут подготовлены условия для более сбалансированных экономических отношений.
Таковы будущие перспективы, которые могут быть достигнуты английским народом и народами нынешней империи после того, как нынешние империалистические отношения будут заменены добровольным братским сотрудничеством и союзом на основе национальной независимости и равноправия, чтобы содействовать реконструкции и неограниченному социальному и экономическому прогрессу. Можно с уверенностью сказать, что только такой путь дает возможность разрешить нынешние проблемы кризиса Англии, а также кризисных условий и нарастающих экономических и политических трудностей, затрагивающих доминионы и все народы империи. Вместо всех мрачных пророчеств о «предательской ловушке» и неизбежном упадке один этот путь дает позитивную альтернативу и уверенность в славном и процветающем будущем.
При рассмотрении в этом плане перспектив будущего сотрудничества не предпринималась попытка обсудить вопрос о политических формах и методах такого сотрудничества — то ли путем возможного продолжения и преобразования нынешних форм Содружества, лишенных существующего империалистического содержания, то ли через посредство других форм двухсторонних или многосторонних договорных отношений и т. п. Эти вопросы о формах сотрудничества будут урегулированы по добровольному согласию; формы эти будут определяться всем ходом предшествовавшего развития, соотношением сил внутри каждой страны и между соответстгующими странами в момент перехода, а также общей международной обстановкой. Решающее значение здесь имеет принцип вза- 721
ймовыгодйых отношений дружбы и сотрудничества на базе национальной независимости и равенства, а также вдохновляющие перспективы значительного прогресса в деле подъема благосостояния народов и укрепления мира, которые открываются при таком развитии.
Однако добиться такого будущего и установить такие отношения сотрудничества можно только в том случае, если начать действовать теперь же, обеспечив единство и сотрудничество английского народа и всех народов империи в нынешней общей борьбе против империалистического господства и войны, за мир, национальную независимость и социальное и экономическое освобождение.
Путь к будущему
Можно ли добиться такого будущего?
Ответ на этот вопрос надо искать «в происходящей политической борьбе.
Если английский народ окажется не в состоянии сбросить тяжелые кандалы и преодолеть препятствия, унаследованные от прошлого и преграждающие путь к будущему прогрессу, Англия наверняка будет обречена на гибель. При таких обстоятельствах отнюдь не исключено, что мрачные опасения, навеянные безнадежностью, могут сбыться и длинная история Англии завершится ее физическим уничтожением в атомной войне, когда останутся только разбитые вдребезги остатки для болезненного нового начала в развитии.
Однако английский народ на протяжении многих веков показал свою способность к переменам и приспособлению, к активной политической борьбе и даже к революционному уничтожению устаревших социальных и политических форм, чтобы заменить их новыми. Давно прошли те времена, когда Англия была в авангарде революционного движения европейских стран, которое возникло в 722
ней раньше, чем в Соединенных Штатах Америки и Франции, и когда русский посол был отозван из Лондона в знак протеста против действий револю- ционной нации, способной отправить на эшафот своего монарха. Сынов и дочерей английской революции учат забыть свое прошлое. Им старательно внушают легенду, что демократические права, которых они добились в результате насильственной революции и расширение которых было достигнуто внеконституционной борьбой, не могут быть развиты иначе, как путем постепенного, незначительного, эволюционного изменения в рамках постоянной системы неизменяемых конституционных и государственных институтов. После великой революции наступила длившаяся три столетия эра господства класса капиталистов, который беспощадными репрессиями разгромил зарождавшееся восстание рабочего -класса — чартизм и с тех пор старается приспособить поднимающееся движение рабочего класса к своим собственным формам и целям.
Но эта эра подходит к концу; ее основы подорваны; ее банкротство проявляется в нынешнем кризисе Англии. Снова раздаются призывы к решительным социальным переменам. Мы можем быть уверены, что английский народ снова продемонстрирует свою способность к таким переменам, учтет изменившиеся условия и создаст необходимые новые экономические, социальные и политические формы; степень мирного или, наоборот, немирного характера такого изменения будет зависеть от степени политической организации и единства народа и руководства рабочего класса. Чем сильнее политическая организация и единство народа и руководства рабочего класса, тем больше возможности мирного изменения при минимально разрушительном столкновении.
Действительное положение Англии, которая умирает, и новой Англии, которая стремится появиться на свет, находит отражение — пока еще не ясное, пока еще только в предварительной форме 723
и через искажающее зеркало — в нынешней политической обстановке. Толстый слой дряхлых форм, институтов, привычек, предвзятых мнений и иллюзий, берущих свое начало с эры безраздельной империалистической гегемонии и «процветания», укоренившегося социального консерватизма, действующего непосредственно через консервативную партию или обосновавшегося в цитаделях старого рабочего движения, лежит тяжелым грузом, душащим все новое и живое.
Однако социальный консерватизм не может навсегда закрыть дорогу к исторической перемене; хотя его тормозящее влияние может увеличить силу и разрушительность последующего взрыва. Британия королевы Елизаветы, Макмиллана и Гэйт- скелла не может избежать своей судьбы — оказаться, подобно Австро-Венгерской империи Габсбургов, на музейной полке.
Поскольку Англия — самая старая капиталистическая страна, длительное время обладавшая неоспоримой мировой гегемонией и монополией, претензии и институты, унаследованные от этой монополии, продолжают жить в изменившемся мире, а социальный консерватизм все еще имеет глубокие корни в Англии и не в меньшей степени в рабочем движении.
Аналогично окружавшему его капиталистическому обществу, которое столетие назад вело за собой весь мир, а затем, в эпоху империализма, отстало, традиционное рабочее движение в Англии столетие назад шло в авангарде мирового рабочего движения, но затем, в эпоху империализма, отстало, создавая поколение, отстающее от остальной части Европы. В течение последней четверти XIX века, то есть долгое время после появления массовых социалистических партий в ведущих европейских странах, их руководители упорно и настойчиво выступали против социалистических идей и концепции политического рабочего движения. Все политические мудрецы этого периода глубокомысленно заявляли, что социализм и 724
политическое рабочее движение могут найти базу в европейских странах, но никогда не пустят корни в Англии.
Однако политическое рабочее движение возникло и социалистические цели получили официальное признание. Кончилось ли дело только этим? Конечно, нет. С тем же упорством и настойчивостью нынешнее руководство полагает, что оно олицетворяет собой конечное, высшее достижение, и смертельно сопротивляется осуществлению необходимого следующего шага к марксизму-ленинизму, к коммунизму, длительное время после того, как большинство ведущих рабочих партий Европы продвинулось к коммунизму.
Современные политические мудрецы не менее глубокомысленно объявили, что коммунизм может найти опору в большинстве рабочего класса европейских стран, но что он никогда не найдет почвы в Англии и не завоюет на свою сторону большинство английского рабочего класса. История разрушит наивные и невежественные иллюзии этих ученых мужей так же безжалостно, как она уже разрушила иллюзии их предшественников.
В самое последнее время нынешняя начальная стадия уже достигнутого развития нашла свое выражение в ненадежном политическом равновесии и фактическом тупике в отношениях между двумя главными политическими партиями Англии. При существующей избирательной системе, рассчитанной на то, чтобы не допустить представительства меньшинства и, таким образом, обеспечить спокойное осуществление диктатуры финансового капитала, эти две главные партии заняли господствующее положение и фактически монополизировали выборное и парламентское представительство, исключив всякий третий элемент.
С одной стороны, существует партия консерваторов, непосредственно представляющая лидеров финансовой олигархии, руководимая ими и тянущая за собой огромный придаток — среднюю и 725
мелкую буржуазию и политически отсталых рабочих.
С другой стороны, существует лейбористская партия, опирающаяся как в отношении своего основного членского состава, так и в отношении финансов главным образом на массовые экономические организации рабочего класса, ведущие классовую борьбу, но в настоящее время не допускающая в свои ряды боевых левых рабочих, связанных с коммунистической партией; лейбористскую партию возглавляет союз представителей мелкой буржуазии (в число которых входят некоторые элементы более крупной буржуазии) и реформистской рабочей бюрократии; она пользуется поддержкой прогрессивных слоев мелкой буржуазии.
Такова расстановка сил, которая в отношении парламентского представительства в результате последних трех выборов—после выборов 1945 года — приводила в парламенте к сравнительно небольшому преобладанию одной стороны над другой; число голосов, поданных за одну и другую стороны, расходилось не намного. Следует отметить, что при существующей избирательной системе значительное сосредоточение избирателей, голосующих за лейбористов в промышленных рабочих районах, приводит к тому, что представительство лейбористской партии в парламенте далеко не соответствует числу поданных за нее голосов, и это служит более или менее постоянным фактором, который несколько 'перевешивает чашу весов в пользу консерваторов.
Ясно, что такое представительство в лучшем случае дает искаженную картину действительной расстановки классовых сил, ибо изображает соотношение финансового капитала, с одной стороны, и подавляющего тто своей численности рабочего класса и работающего большинства населения страны — с другой, как разделение страны на две примерно равные половины. Однако даже эта искаженная картина не может затушевать истинного положения вещей: лежащий в основе такого
разделения классовый характер соотношения сил и скрытую классовую борьбу, в которую вовлечена английская парламентская система. И в самом деле, какие бы попытки в области чистой теории ни предпринимали апологеты воображаемого бесклассового политического мира, отрицающие классовую основу существующих политических формаций, истинность этого утверждения фактически признается в повседневной суровой практике всеми политическими наблюдателями, деятелями и избирательными агентами, представляющими всевозможные точки зрения. Особенно ярко это проявляется во' время предвыборной борьбы в избирательных округах.
Лишь благодаря практическому сотрудничеству по главным империалистическим вопросам (вплоть до Суэца) руководящей верхушки обеих сторон до сих пор удавалось делать возможным это неустойчивое равновесие с целью сохранить политику империализма и финансового капитала. Однако такая основа органически непрочна, и это становится все более очевидным.
По мере того как обостряется кризис, по мере того как на рабочих и на лиц с низким доходом беспощадно обрушиваются удары — перевооружение и всевозможные сокращения в целях экономии,— по мере того как усиливается оппозиция к военным приготовлениям, растет и недовольство народа; оно принимает грозный характер, обращаясь как против консерваторов, так и против правой политики в рабочем движении.
В рамках лейбористского движения господствующее пока руководство вынуждено прибегать к сложной системе запретов, исключений, препятствий к установлению связи между организациями, дисциплинарных мер и угрозе дисциплинарных мер, чтобы сдержать рост влияния коммунистической партии на придерживающихся левых взглядов рабочих. Однако все это не могло остановить рост недовольства, которое стало особенно заметным в последнее время. Движение широких масс, 727
которое первоначально нашло свое выражение в победе лейбористов на выборах в 1945 году, снова прокладывает себе путь. Усиление боевого духа на производстве и в профсоюзах сказывается не только в борьбе за повышение заработной платы и лучшие условия труда, в сопротивлении попыткам навязать замораживание заработной платы, но и в усиливающемся сопротивлении программе перевооружения и военной политике, а также в требованиях проводить иную политику—политику мира. Новые веяния коснулись также широких кругов лейбористской партии.
Этот процесс все еще находится в начальной стадии. Победа в развертывающейся борьбе английского народа против империалистической политики войны, -против консерваторов и праволейбористского руководства в рабочем движении и переход к новой политике, политике мира и социализма, потребует упорной политической борьбы. Для того чтобы изменить политику и сменить руководство в рабочем движении с целью шире развернуть единое рабочее движение, возглавляющее весь народ в борьбе за новую политику, необходимо единство всех прогрессивных слоев рабочего движения, придерживающихся левых взглядов членов профсоюзов, кооперативных организаций и лейбористской партии совместно с коммунистической партией. В конечном итоге для победы социализма это потребует перехода к новому этапу рабочего движения, перехода к принципам марксизма-ленинизма, которые проводит коммунистическая партия в рабочем движении. Это потребует сплочения подавляющего большинства народа в общенациональной борьбе за подлинные национальные интересы Англии—за мир и -социальный прогресс. Это потребует соединения такой освободительной борьбы английского народа с освободительной борьбой всех колониальных и зависимых народов империи. Только так можно одержать победу и проложить путь для радикальных социальных и политических преобразований в Англии.
728
Преследуемый чувством гнетущей тревоги, самый дальновидный представитель финансового капитала Черчилль почувствовал надвигающуюся угрозу своему порядку, находящую свое отражение в том неустойчивом равновесии между обеими главными партиями, которое наблюдается после выборов 1950 года.
«Мы не сможем выжить, расколовшись на две нации,— заявил Черчилль,— однако именно этим путем мы следуем сейчас, и нет никаких признаков того, что мы приближаемся к концу этого путешествия».
Конец путешествия? Это пока еще лишь начало путешествия. Горячая надежда реакционных политических интриганов из обеих партийных машин — воспроизвести величественно спокойное чередование старой двухпартийной системы Гладстона и Дизраэли в эпоху викторианской стабильности — обречена на провал в эпоху обострения общего кризиса капитализма.
Подлинный политический конфликт сегодняшнего дня — это уже не прежняя система взаимных уступок соперничающих групп эксплуататорских классов, согласных между собой в вопросе об основах общественного строя и вместе выступающих против эксплуатируемых масс — в какой бы мере прикрываемые легкой перебранкой согласие и показная борьба достопочтенных джентльменов из финансовой олигархии и правореформистской бюрократии ни создавали иллюзии воспроизведения старинной комедии.
Подлинный политический конфликт сегодняшнего дня, который начинает прорываться наружу даже через всевозможные формы старинных традиционных парламентских процедур обмана, рассчитанных на то, чтобы скрыть его, конфликт, который еще может открыто проявиться в парламенте и даже превратить парламент из орудия регистрации решений правящей финансовой олигархии в орудие выражения народной воли, — этот конфликт является глубоким конфликтом классов: 729
работающего и производящего большинства населения страны, возглавляемого организованным рабочим классом, с одной стороны, и финансовой олигархии, толкающей Англию к гибели, — с другой.
Между ними не может быть ни прочного перемирия, ни мира. Какие бы трудности борьбы ни предстояли впереди, дело может кончиться лишь полной победой поднимающегося рабочего класса, ведущего за собой подавляющее большинство населения страны, и полным окончательным уничтожением экономической и политической власти финансового капитала, то есть победой социализма.
Было бы бессмысленно и преждевременно пытаться заранее определить точные конкретные формы и стадии следующей фазы политического развития в современной Англии. С некоторой степенью уверенности можно различить и определить лишь общие принципы развития, основной характер выбора между двумя возможностями, возникающими в нынешних условиях, и дальнейшую перспективу. Однако определение конкретной линии развития, ведущей к этому результату, к коренным изменениям, которые необходимы и в конечном счете неизбежны в Англии, на всех стадиях политической борьбы будет зависеть от степени единства, организованности и политического руководства рабочего класса и широкого демократического движения.
Мы живем в эпоху великих перемен, в эпоху падения многих империй и победы народа во многих частях света. Англия не застрахована от таких перемен. Англия также является одной из частей света.
Пожалуй, никогда еще банкротство старого строя в Англии перед лицом открывающихся исторических альтернатив не признавалось столь прямо, как в речи консервативного премьер-министра Антони Идена перед центральным советом Национального союза консервативных и юнионистских
1 Официальное название консервативной партии. — Прим, ред.
730
ассоциаций 1 16 марта 1956 года, когда он провозгласил, что перед Англией две альтернативы: сохранение Англии как «великой державы» или же «медленная смерть».
«Только платежеспособная и процветающая Англия,— заявил Иден,— сможет нести бремя великой державы. История и география объединились, чтобы дать нам особое положение в мире. Мы не можем и не будем отрекаться от этого... Логическим выводом из такого отречения явилась бы политика нейтрализма, а быть нейтральной для Англии означает медленную смерть».
А если «логическим выводом» из этой империалистической концепции «великой державы» (и связанных с нею разрушительных колониальных войн и заморских обязательств, делающих Англию, пропорционально численности населения, самой милитаризованной из крупных стран мира и страной с самым высоким уровнем налогов) является удушение экономики, то есть другая форма «медленной смерти»? Что остается в этом случае от такой аргументации?
Десять недель спустя Антони Иден в речи в Норвиче 1 июня 1956 года, защищая войну на Кипре, изображал раздутые вооружения Англии, заморские военные расходы и колониальные войны как единственную альтернативу экономической разрухе и массовому голоду:
«Не будет Кипра — не будет и верных средств обеспечения защиты необходимых нам поставок нефти. Не будет нефти — и в Англии наступят безработица и голод. Вот как просто все объясняется.
Промышленная жизнь нашей страны и всей Западной Европы зависит сегодня — и должна зависеть еще много лет — от поставок средневосточной нефти. Если бы наши нефтяные ресурсы оказались под угрозой, мы были бы вынуждены защищать их. Частью этой системы обороны являются те 731
средства, которые нам нужны на Кипре. У нас не должно быть никаких сомнений в отношении наличия там этих средств...
В указанном случае уровень жизни каждого англичанина не вырос бы вдвое в течение 25 лет, а сократился бы вчетверо за гораздо более короткий период».
Приводя эту характерную аргументацию в пользу империализма, оратор даже не подумал, что наилучший способ потерять источники поставок нефти— это вызвать враждебность всего Среднего Востока обреченными попытками установить военное господство; не пришло ему в голову и то, что в мирных условиях нефти будет сколько угодно. Древнеримский поэт говорил когда-то о людях, которые ради жизни как таковой отказываются от всякого смысла жизни. Консервативные правительства Англии готовы разорить Англию экономически, чтобы спасти Англию от экономического разорения.
Пагубный финал суэцкой войны Антони Идена продемонстрировал всем последствия его политической линии: это был ответ истории на его притязания.
Альтернативный путь для Англии вовсе не означает «отречения» Англии от продолжения в новых формах своей великой исторической роли как одной из ведущих держав мира. Совсем наоборот, именно империалистический путь ведет Англию к гибели.
Альтернативный путь означает, что Англия — вместо того чтобы пойти навстречу своей гибели как обанкротившаяся, находящаяся в состоянии упадка, второразрядная держава среди гибнущего мира империализма,— займет свое законное место в борьбе за мир и в первых рядах идущих к прогрессу социалистических стран мира.
Английскому народу угрожает серьезная опасность. В то же время перед ним открываются широкие возможности. Если он потерпит поражение в своей борьбе в нынешний решающий период, са- 732
мне мрачные краски окажутся недостаточными, чтобы нарисовать картину катастрофы, которая может разразиться над Англией благодаря ее сегодняшней политике. Однако английский народ может предотвратить такую катастрофу. Путем совместных усилий и действий, создав мощный народный союз во главе с рабочим классом—союз, отстаивающий дело мира, национальной независимости и экономических и социальных преобразований,— он может не только спасти себя, но и ускорить освобождение всех народов империи. Он может склонить чашу весов в пользу всеобщего мира и социализма во всем мире.
Только такой путь поможет найти положительный и конструктивный выход из нынешнего положения и обеспечить решение проблем кризиса Британии и Британской империи.
Лишь следуя таким путем, английский народ сможет снова занять свое место в авангарде прогрессивных стран мира, объединившись в условиях равенства, свободы и братского сотрудничества с народами нынешней империи, и пойти вперед к достижению общей цели — торжеству идей мира и сотрудничества во всем мире и построения нового общества на основе всечеловеческого братства.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие к пересмотренному изданию 1957 года 5 Предисловие к первому изданию
По поводу «империи» и «содружества» 17
Глава первая. Кризис Британской империи ... 21
Глава вторая. Что представляет собой империя сегодня ' 35
Существует ли империя? 35
Название или псевдоним? -40
Одна четвертая часть мира 42
Территории, связанные с империей 44
«Белые» доминионы 49
Азиатские республики 53
Колониальная империя 56
Узы единства 58
Крупные империалистические монополии .... 68
Методы колониальной эксплуатации 72
Социальные условия, в которых живут колониальные народы 78
Глава третья. Как развивалась империя .... 90
Ранняя колониальная эра 91
Эпоха промышленного капитализма 95
Эпоха современного империализма 98
734
Глава четвертая. Цена империи 103
Империализм как противовес социализму . . . 103
Итог для Англии 107
Результат для английского рабочего движения 114
Глава пятая. Кризис колониальной системы ... 117
Подъем национально-освободительной борьбы в колониях 118
Война за освобождение от фашизма и ее влияние на колонии 121
Новые успехи после 1945 «года 124
Распад колониальной системы 126
Банкротство колониализма 128
Глава шестая. Кризис «западной цивилизации» 135
Красная черта в балансе 135
Миф о «западной цивилизации» 138
Западная Европа в полосе депрессии 143
Проникновение Соединенных Штатов Америки в
Западную Европу 150
Глава седьмая. Соединенные Штаты Америки и
Британская империя ’ . . 157
Прогнозы на будущее 159
Влияние второй мировой войны 164
Новая «Американская империя» 173
Проникновение в Британскую империю .... 181
Враждебное сотрудничество 199
Глава восьмая. Тактика умирающей империи . . 209
Конец колониализма 209
Старый и новый колониализм 213
Конституции и колониализм 220
Опыт Нигерии и Ганы 226
Колониальные методы подавления 238
Конституции и репрессии. Опыт Британской
Гвианы 242
Колониальная война в Малайе 245
Колониальная война в Кении 262
Глава девятая. Индия в новом мире 271
Конец английского господства в Индии .... 272
Начальная фаза нового режима 278
Англо-американский империализм в Индии . . . 284
Индия и борьба за мир 295
735
Индия и конференция стран Азии и Африки в Бандунге 301
Индийский народ идет вперед 304
Экономическая реконструкция . . 310
Пакистан в кризисном состоянии 318
Глава десятая. Империя и освобождение Среднего Востока 322
Становление империи на Среднем Востоке . . . 323
Борьба Египта за_ свое освобождение 328
Борьба Ирана против нефтяных монополий . . 331
Освободительная борьба на Кипре, в Иордании и Ираке 335
Англо-американское соперничество и военные планы на Среднем Востоке 337
Национальное освобождение и коммунизм ... 341
Ачгло-франко-израильская война против Египта в 1956 году 342
Глава одиннадцатая. Африка идет вперед 355
Стремление к имперской экспансии 355
Африканское Эльдорадо ... 358
Воздушные замки 365
Пробудившаяся Африка . . 372
Глава двенадцатая. Проекты «развития колоний» ч . . 376
Развитие и повышение благосостояния колоний? 378
Корпорации по развитию колоний 384
Развитие и индустриализация 390
Противоречия в планах «развития» колоний . 394
План Коломбо 400
«Четвертый пункт» . . , . . 406
Организация Объединенных Наций и экономическая помощь ... 413
Усиление колониальной эксплуатации .... 417
Глава тринадцатая. Империя и война . 426
История империи и война 427>
Увеличение бремени вооружений 435
Десятилетие «холодной войны» 441
Новый «Священный союз» 453
Военные мероприятия Англии за рубежом . 455
736
Перенапряженность, вызываемая в Англии военными мероприятиями 459
Американская военная стратегия и Англия . . 463
Англия и угроза ядерной войны 467
Успехи борьбы за мир 477
Глава четырнадцатая. Рабочее движение и империя 481
Антиимпериалистическая традиция 483
Лейбористский империализм . 490
Аргументы защитников империи .... . 499
Банкротство лейбористского империализма ... 512
Глава пятнадцатая. Социализм и освобождение колоний 527
Союз свободы 527
1Маркс и Энгельс об освобождении колоний . . 530
Ленин об освобождении колоний 533
Достижения народов СССР 542
Экономическая помощь социалистических стран 552
Глава шестнадцатая. Дальнейшие шаги по пути освобождения колоний 558
Национальная независимость и мир .... 559
Новые аспекты борьбы за национальную независимость 563
Народная демократия и национальная независимость 565
Единый национальный фронт и коммунистическая партия 567
Действенная солидарность 570
Профсоюзы и колонии 572
Демократические права в колониях 580
Великий союз 581
Глава семнадцатая Основа кризиса Британии 583
Мифы о кризисе 584
Правда о кризисе Англии 592
Несостоятельные меры лейбористского правительства в 1945—1951 годах 604
Несостоятельные меры консервативного правительства в 1951—1955 годах 617
Правда о платежном балансе 623
737
Глава восемнадцатая. Освобождение Англии 639
Восстановление национальной независимости 640
Британия и всеобщий мир 655
Англия и мировая торговля 659
Глава девятнадцатая. Реконструкция Англии 667
Конец империалистического паразитизма . . . 667
Социализм истинный и социализм ложный . . 670
Экономическая и социальная реконструкция . . 677
Глава двадцатая. Будущее Британии и Британ¬
ской империи 693
Конец эпохи 695
Выбор между двумя путями 697
Будущее империи 704
Путь к будущему 722
Р. ПалмДаН КРИ ЗИС БРИТАНИИ и БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Редактор Б. Иванов Художественный редактор Б, И. Астафьев Технический редактор Л М. Харьковская
Сдано в производство 2/VI 1959 г. Подписано к печати 52/V 1959 г. Бумага 84Х 1 О8‘/.*а= И,6 бум. л.,
37,9 печ. л.
Уч -изд л. 34,4. Изд. № 7/4698
Цена 14 р. 25 к. Зак. 520
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва, Ново-Алексеевская, 52.
Московская типография № 8
Управления полиграфической прэмышленности Мосгорсовнархоза Москва, Нобо-Алексеевская, 52
14р.2 5к.
Р. ПАЛМ ДАТТ
КРИЗИС БРИТАНИИ
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ