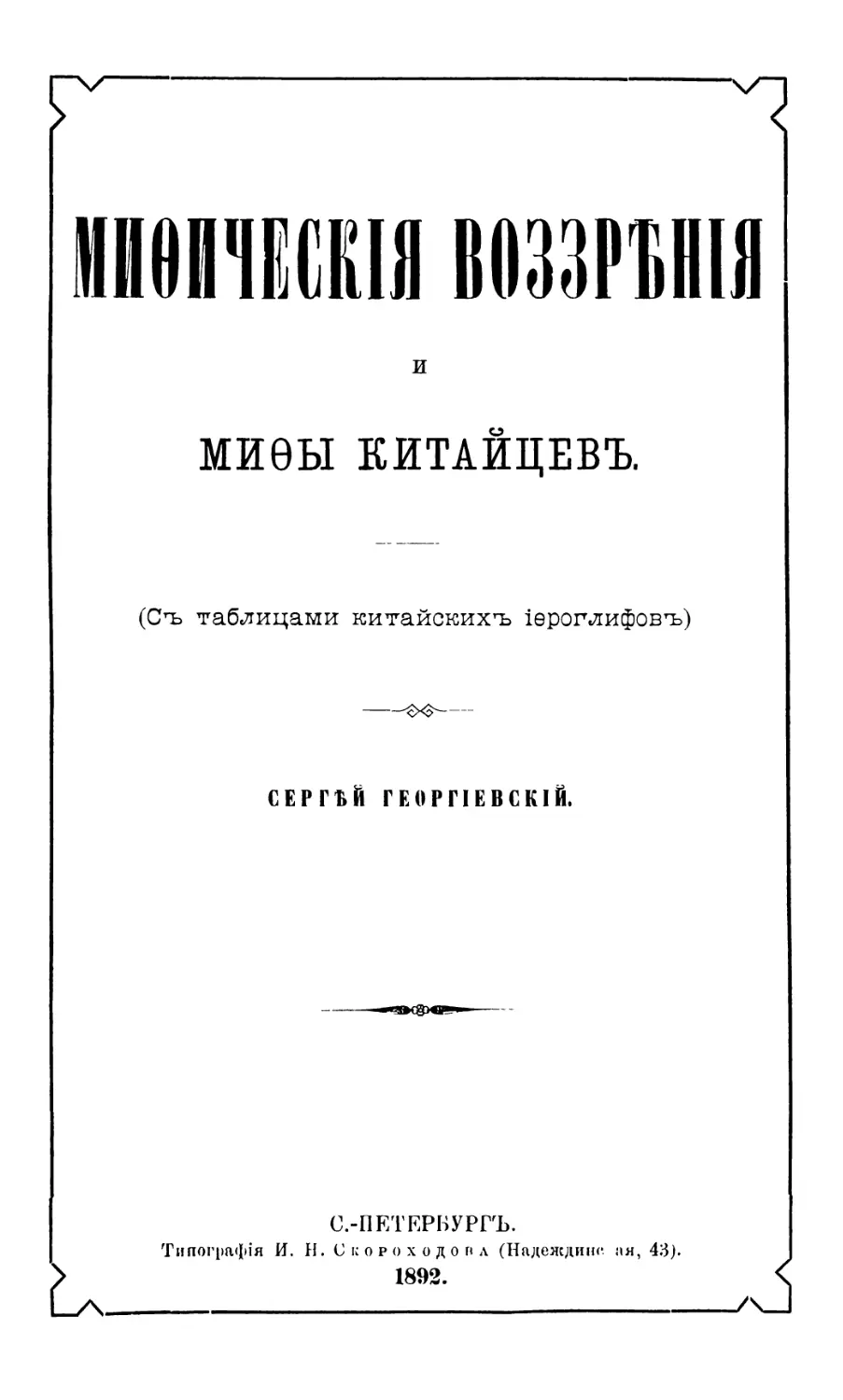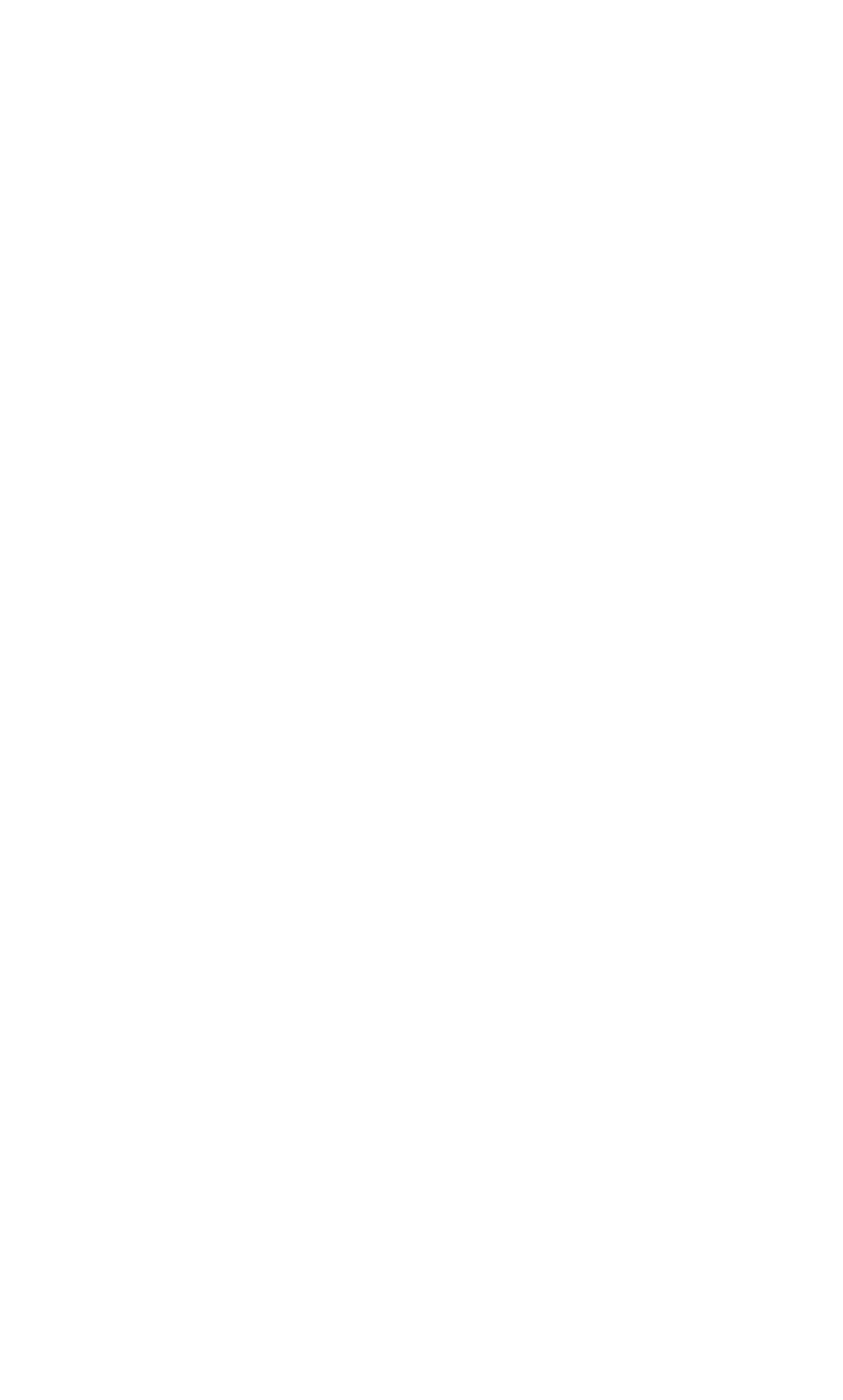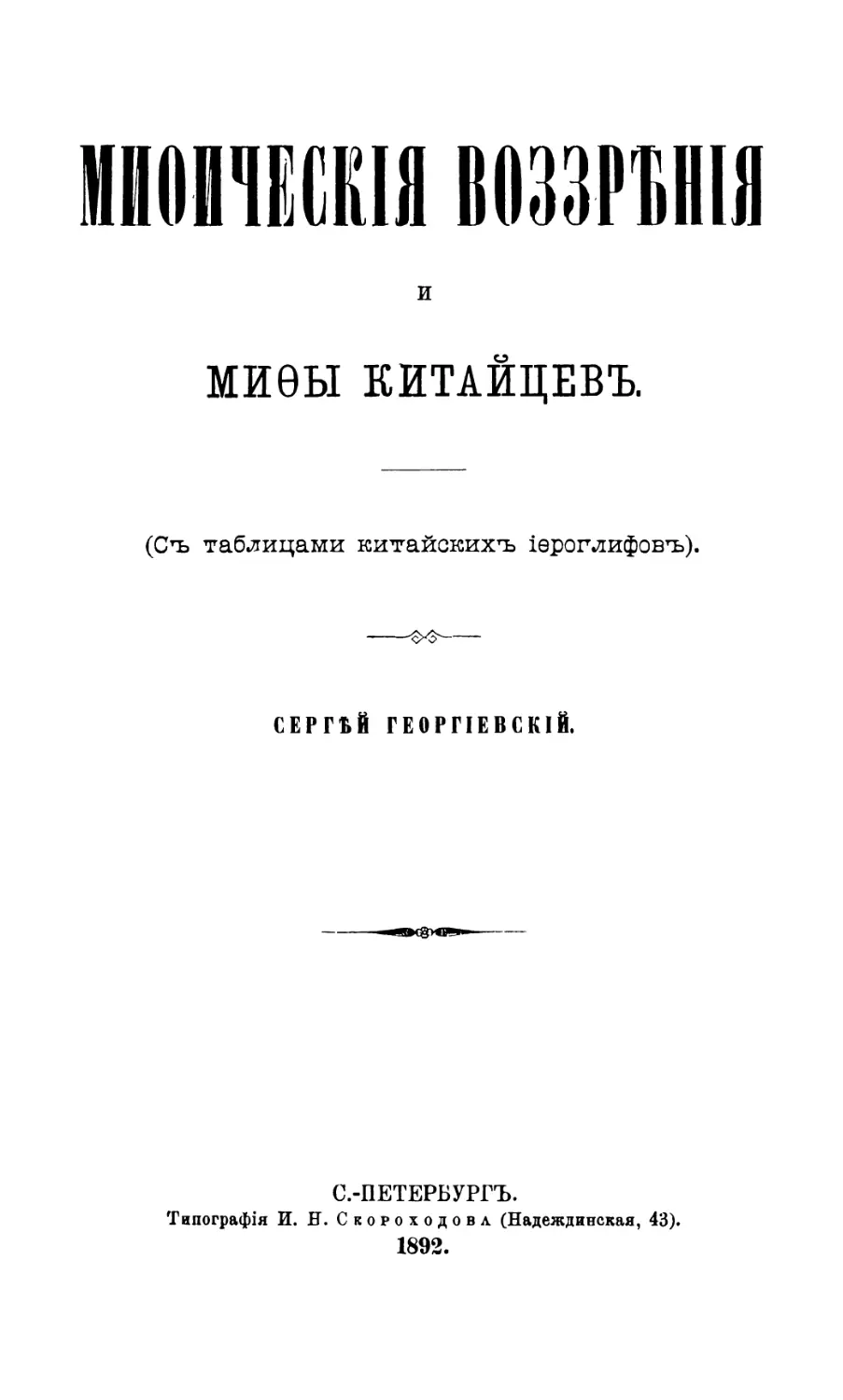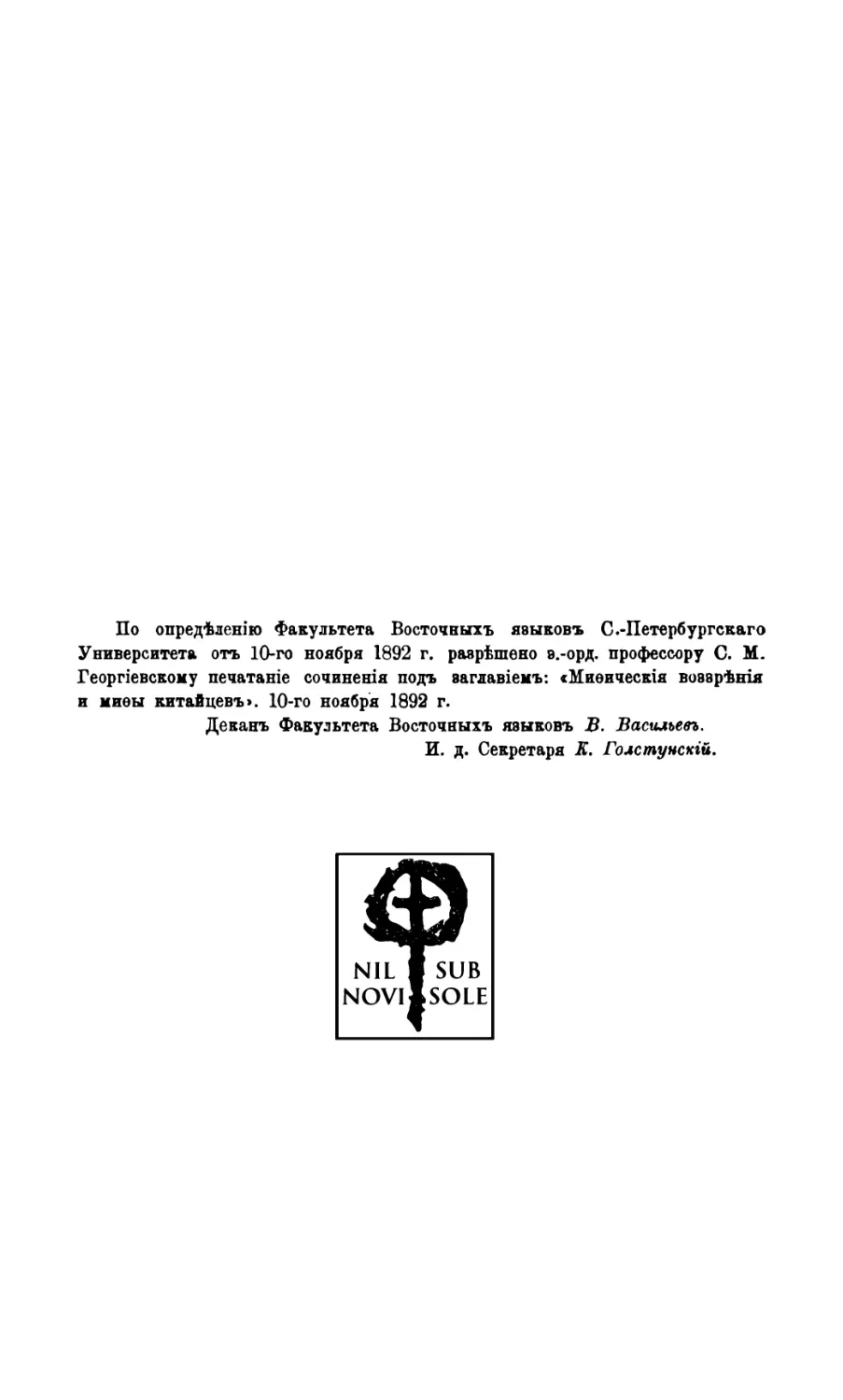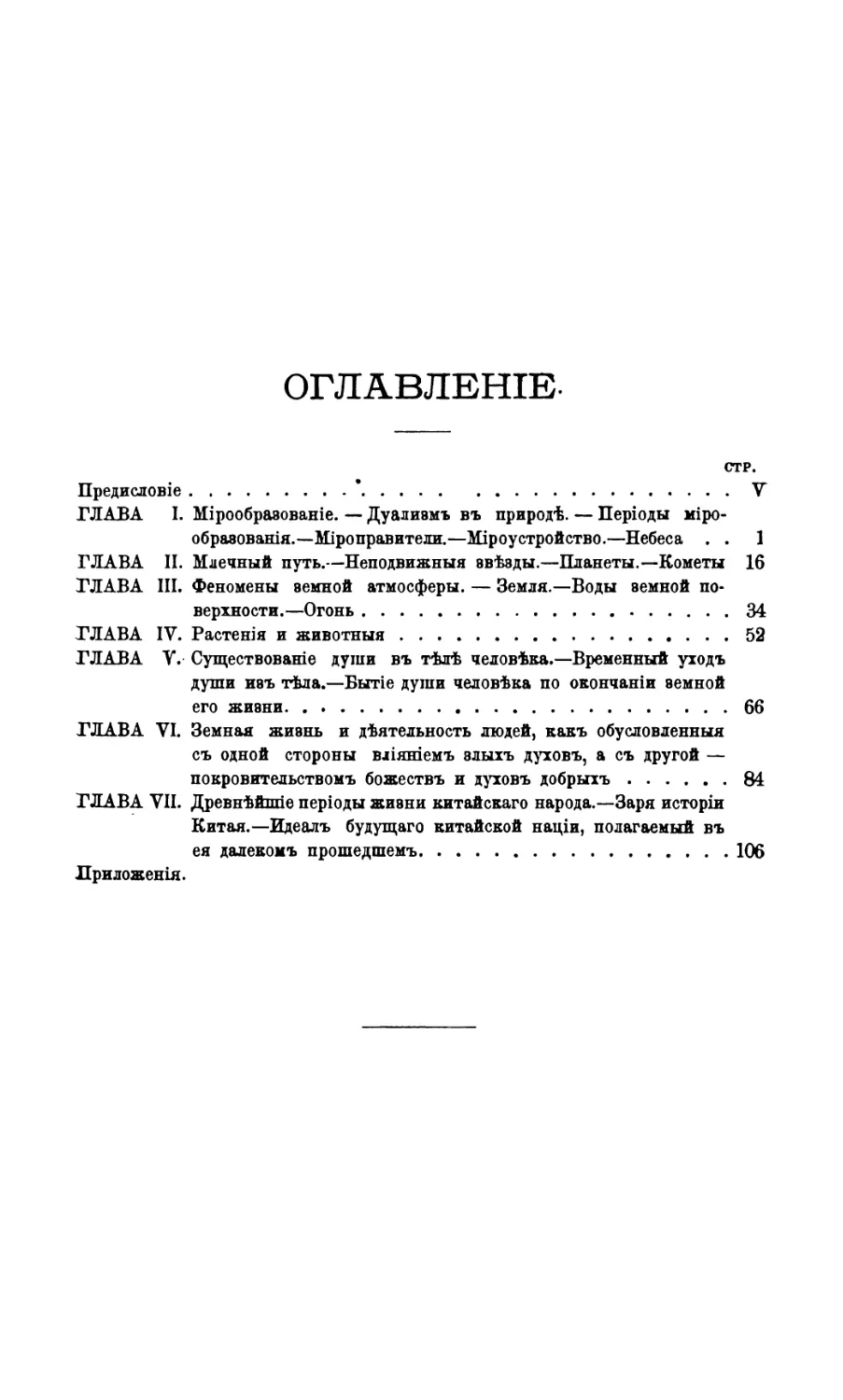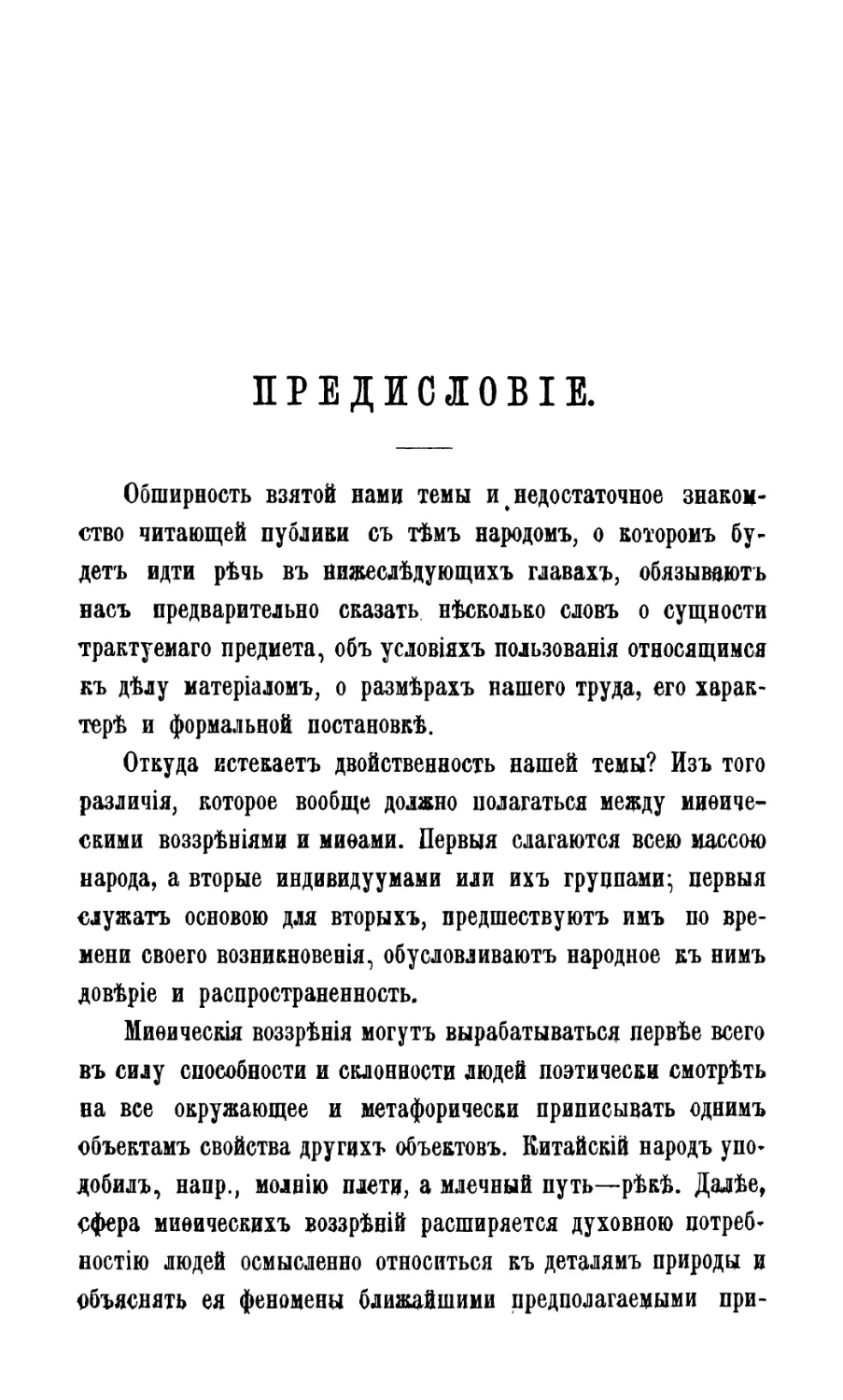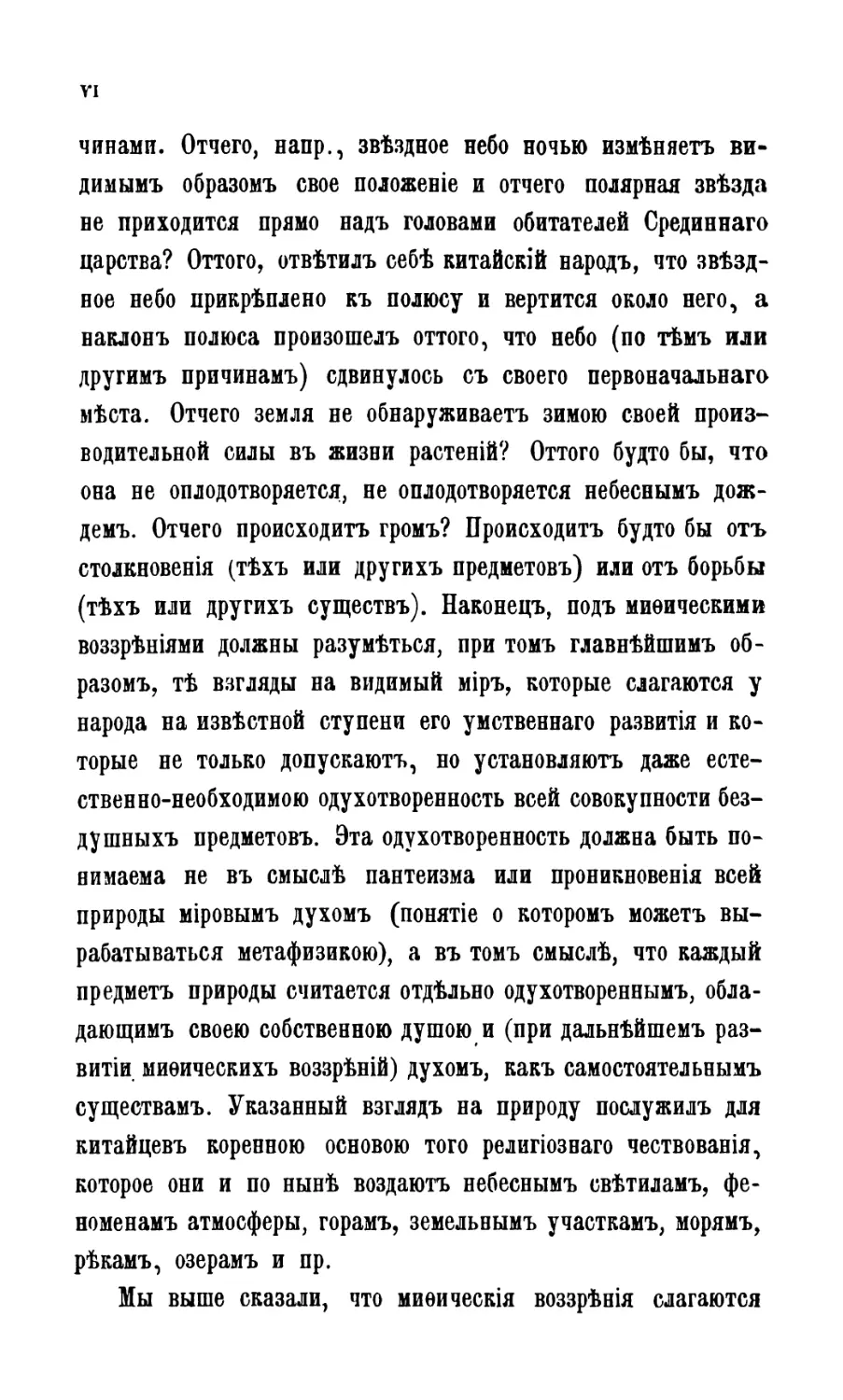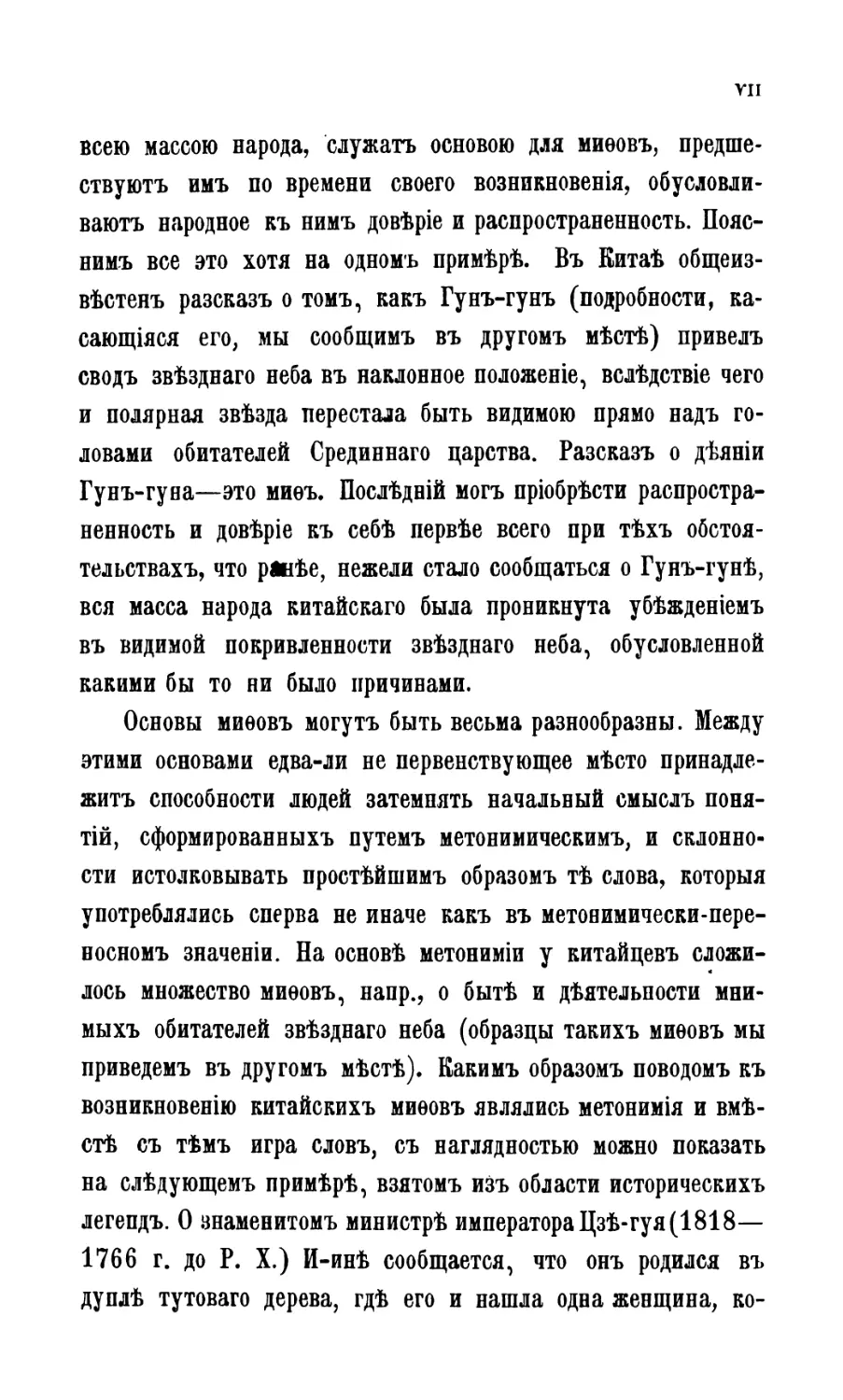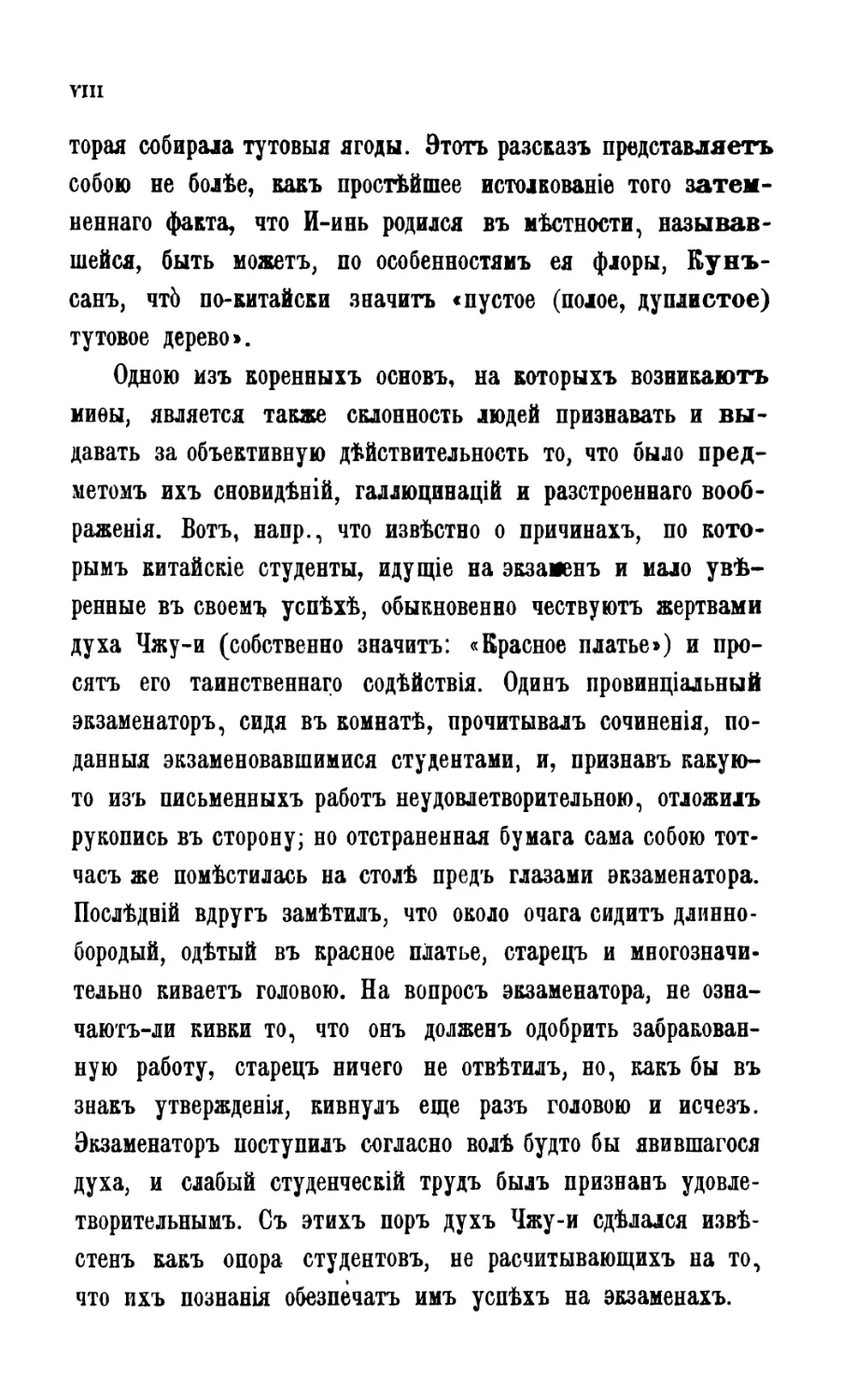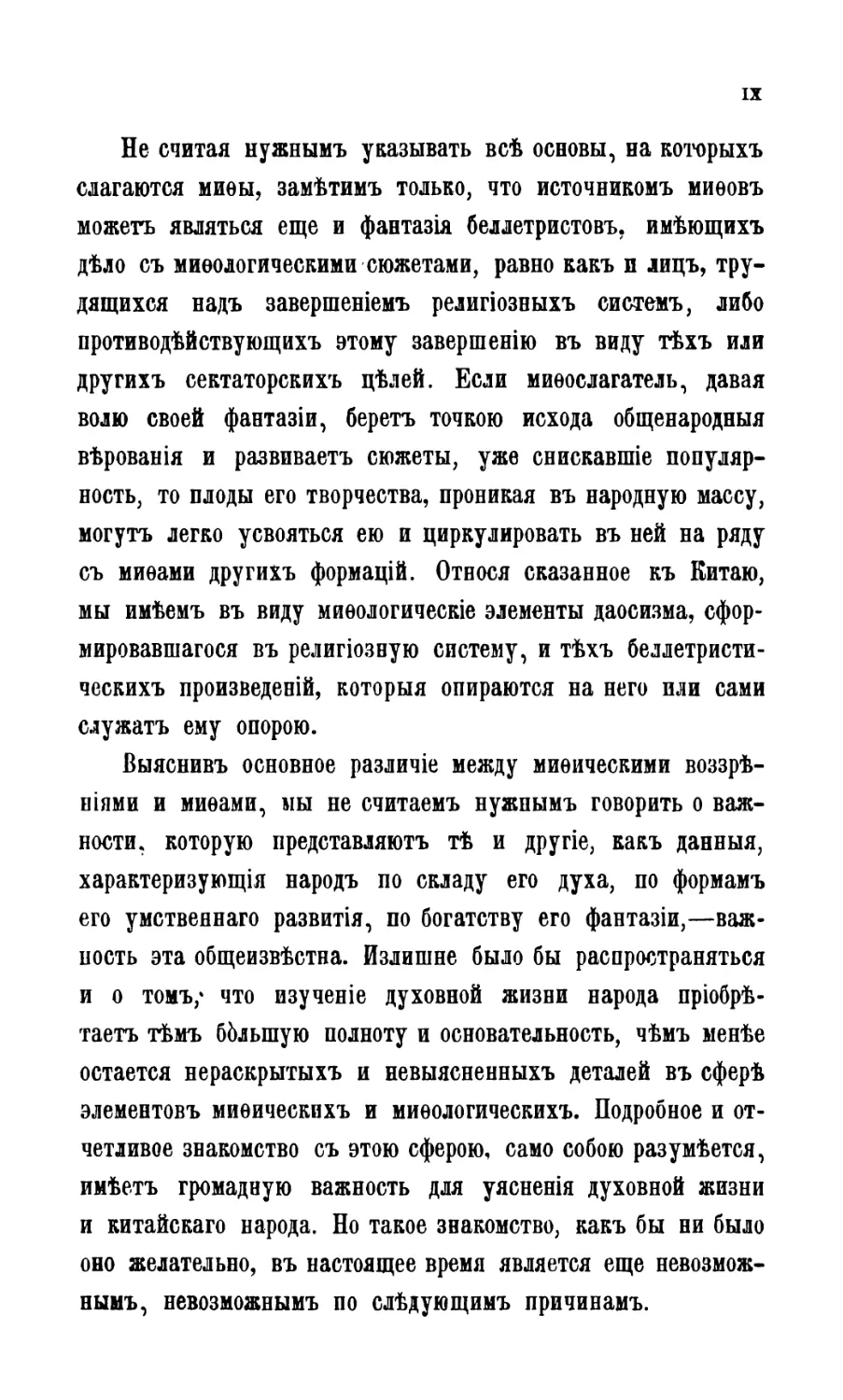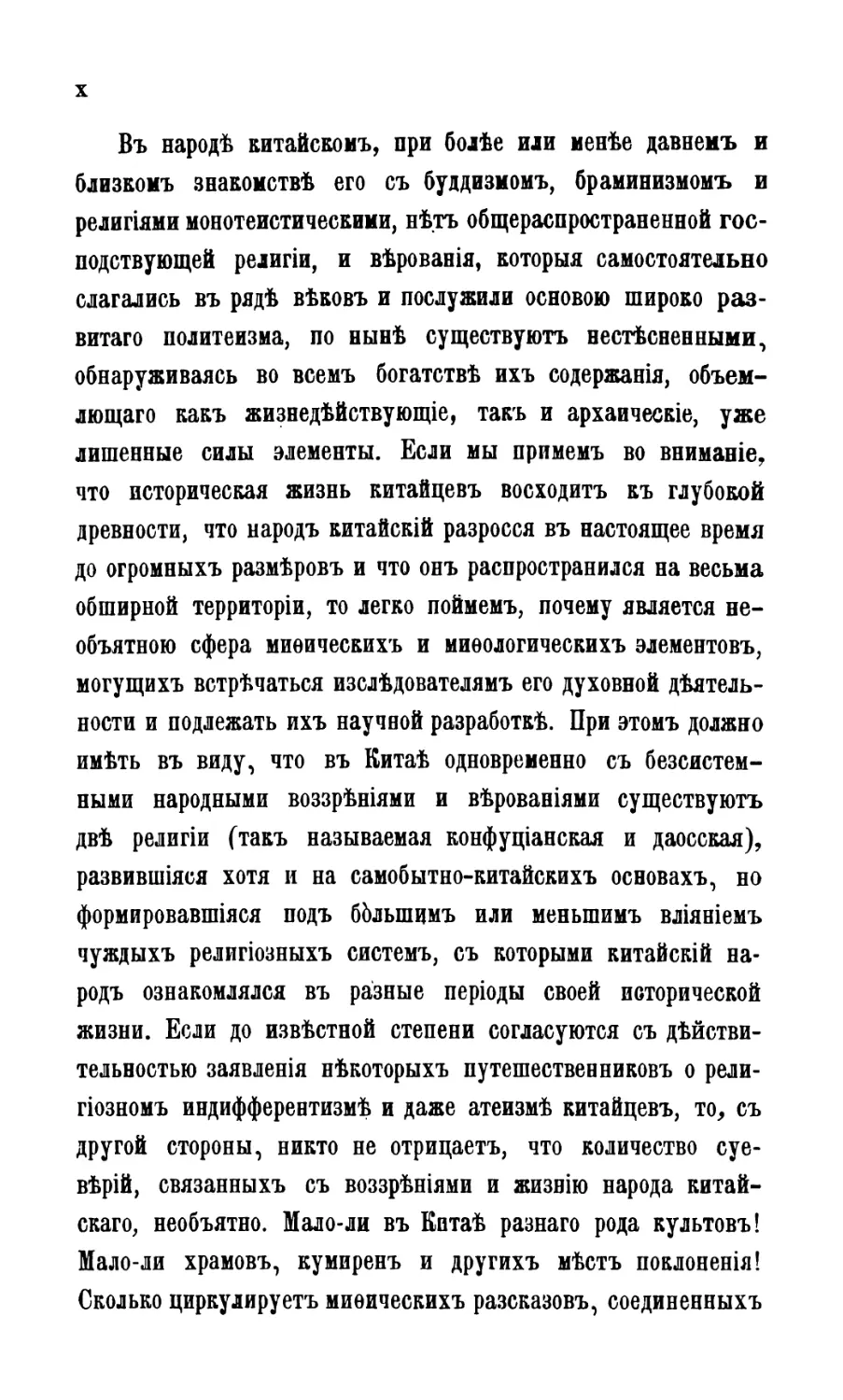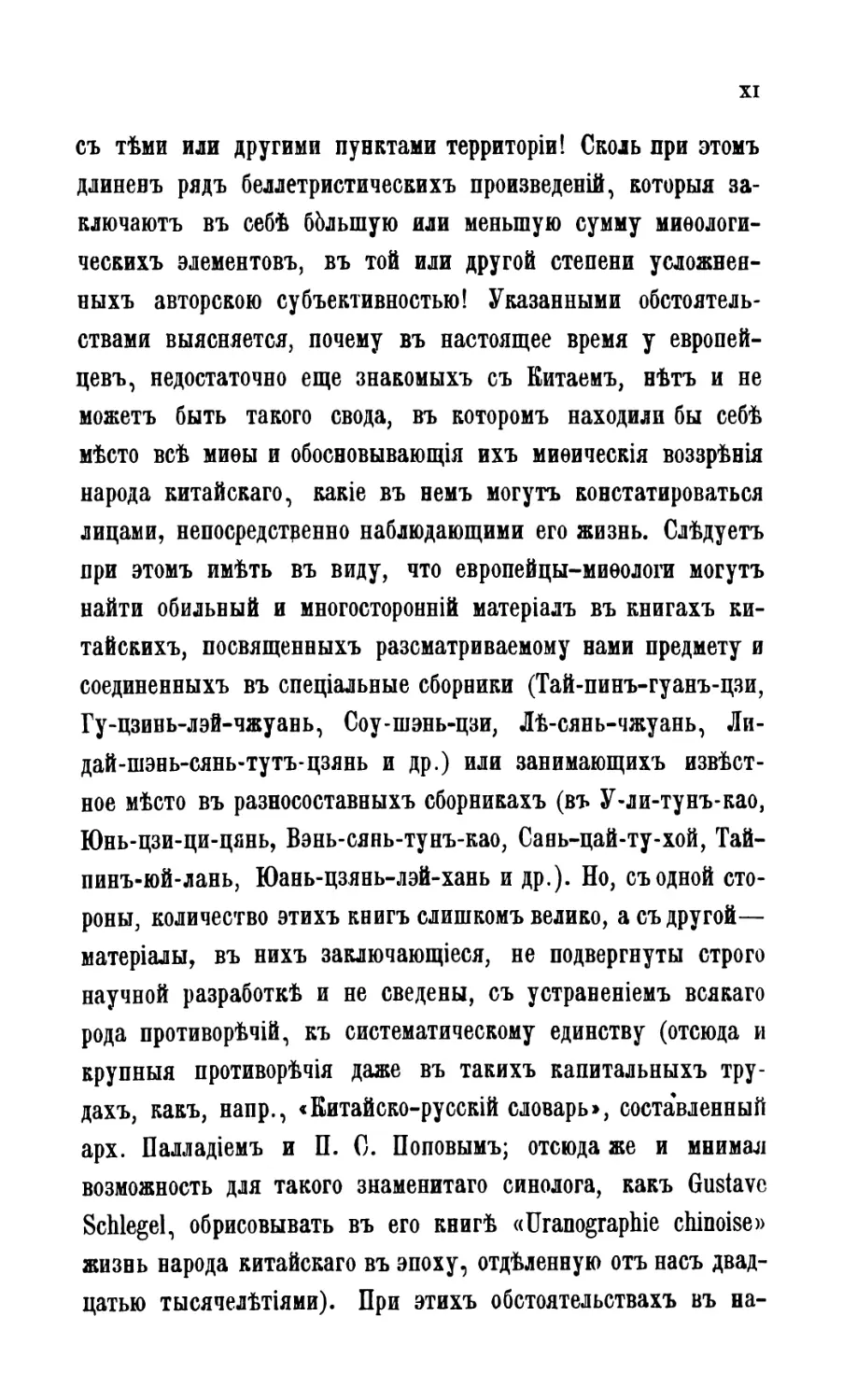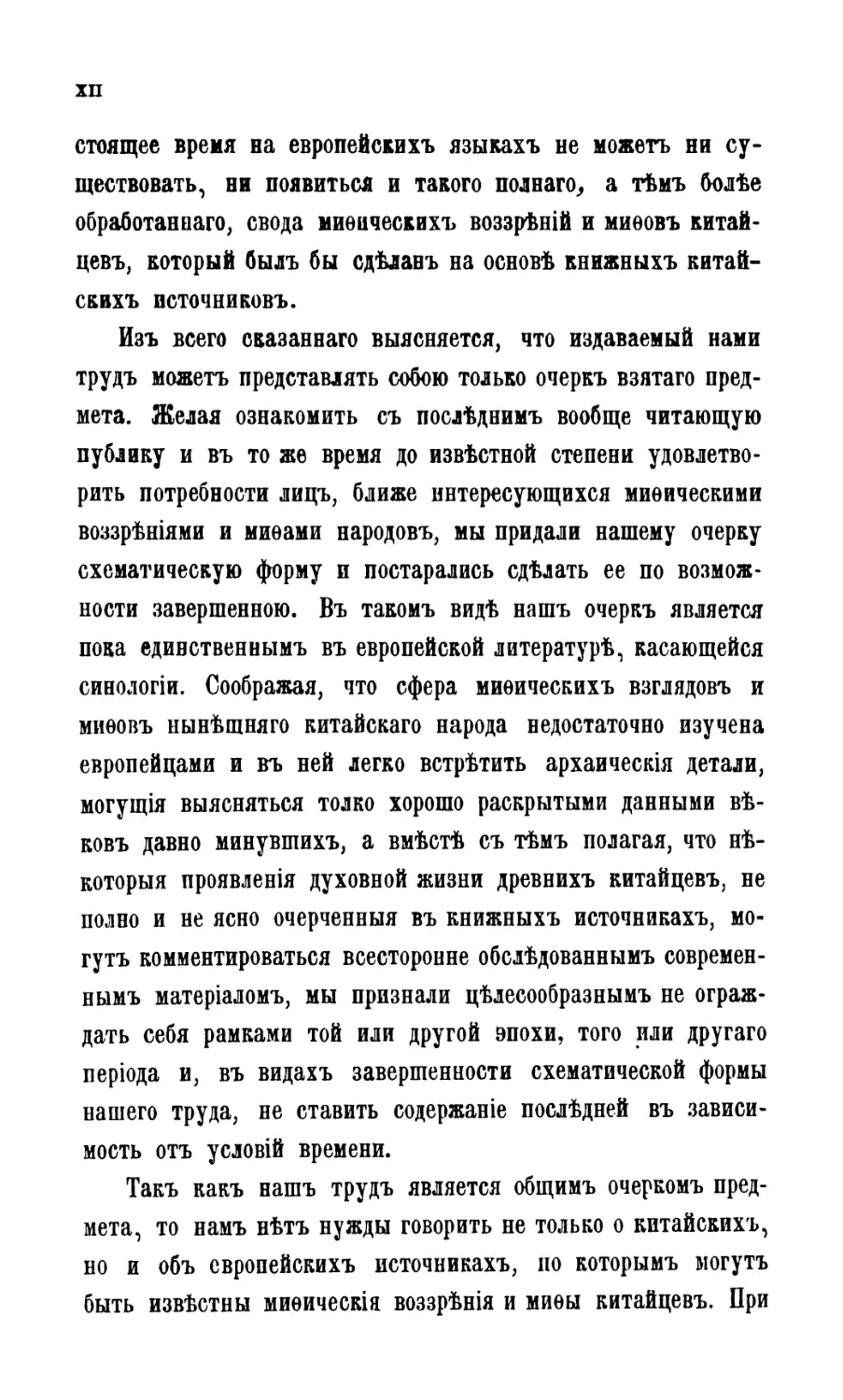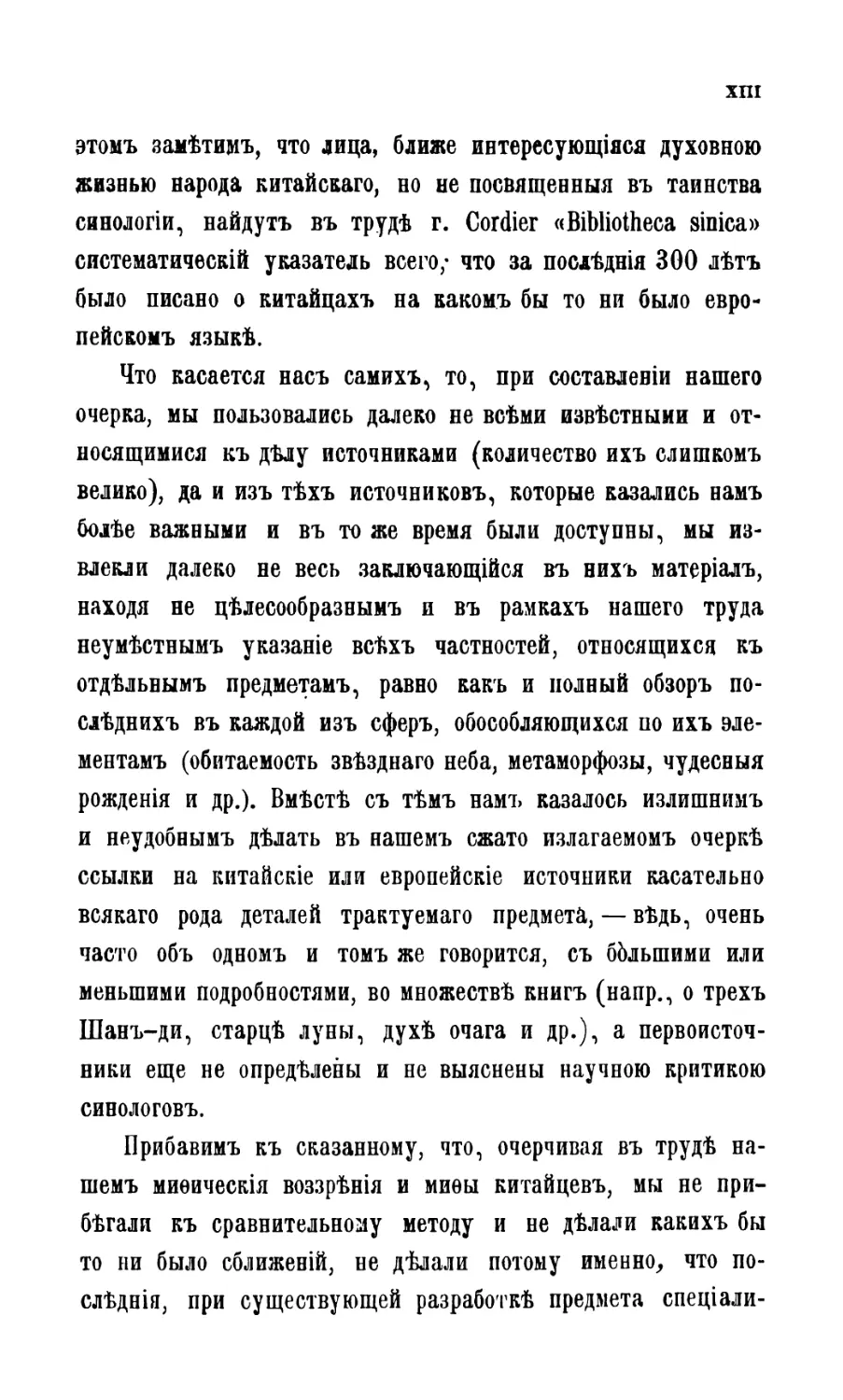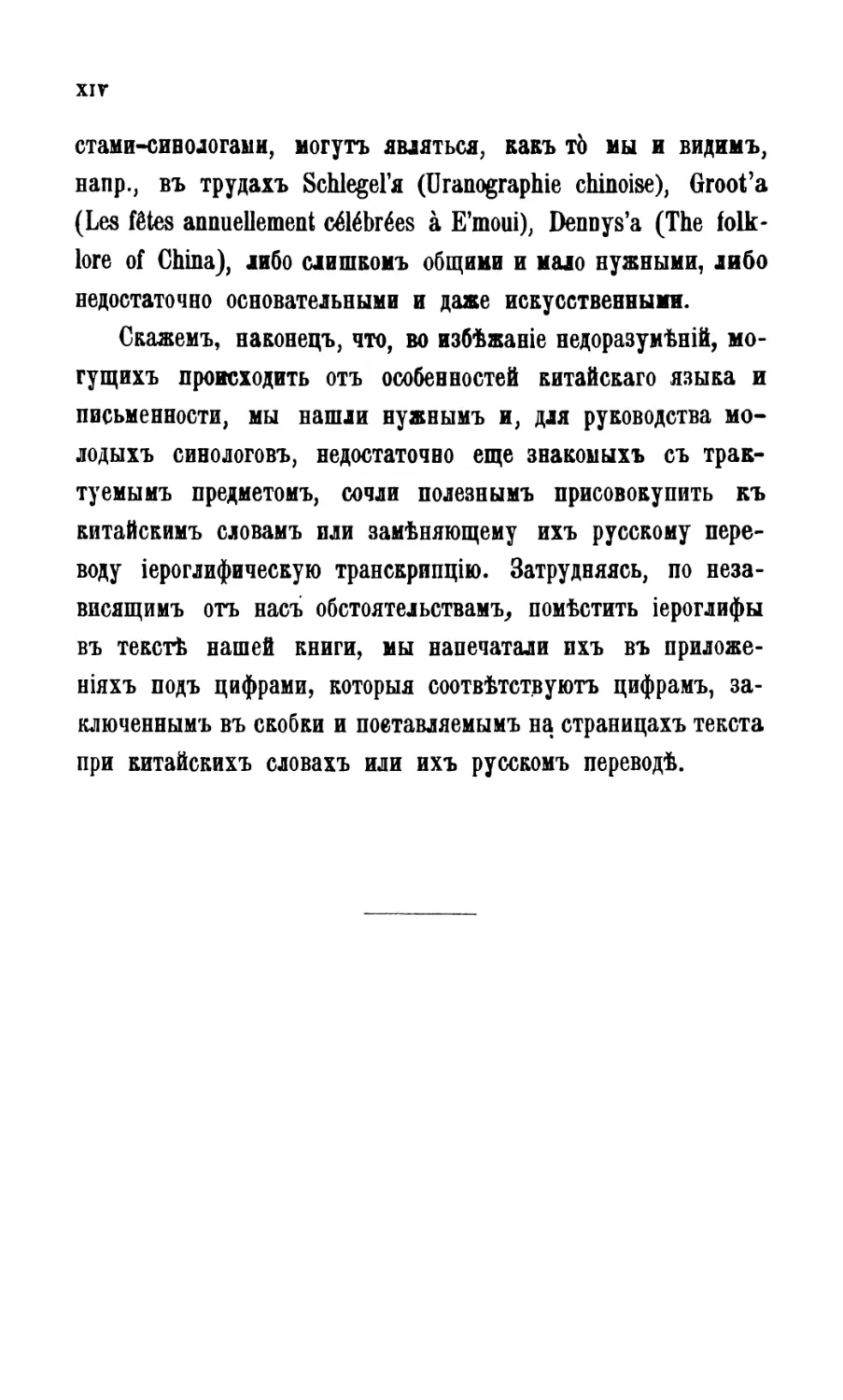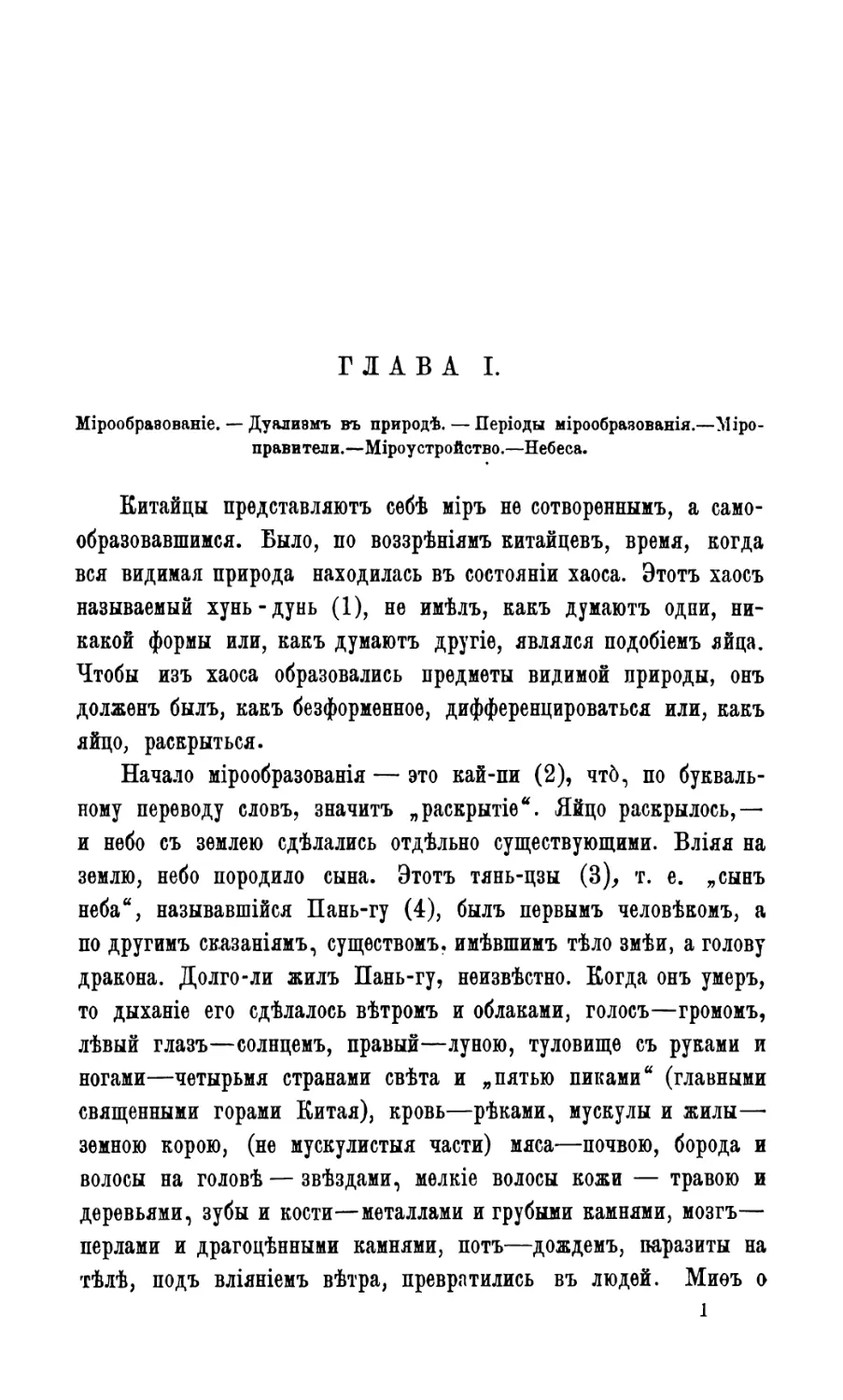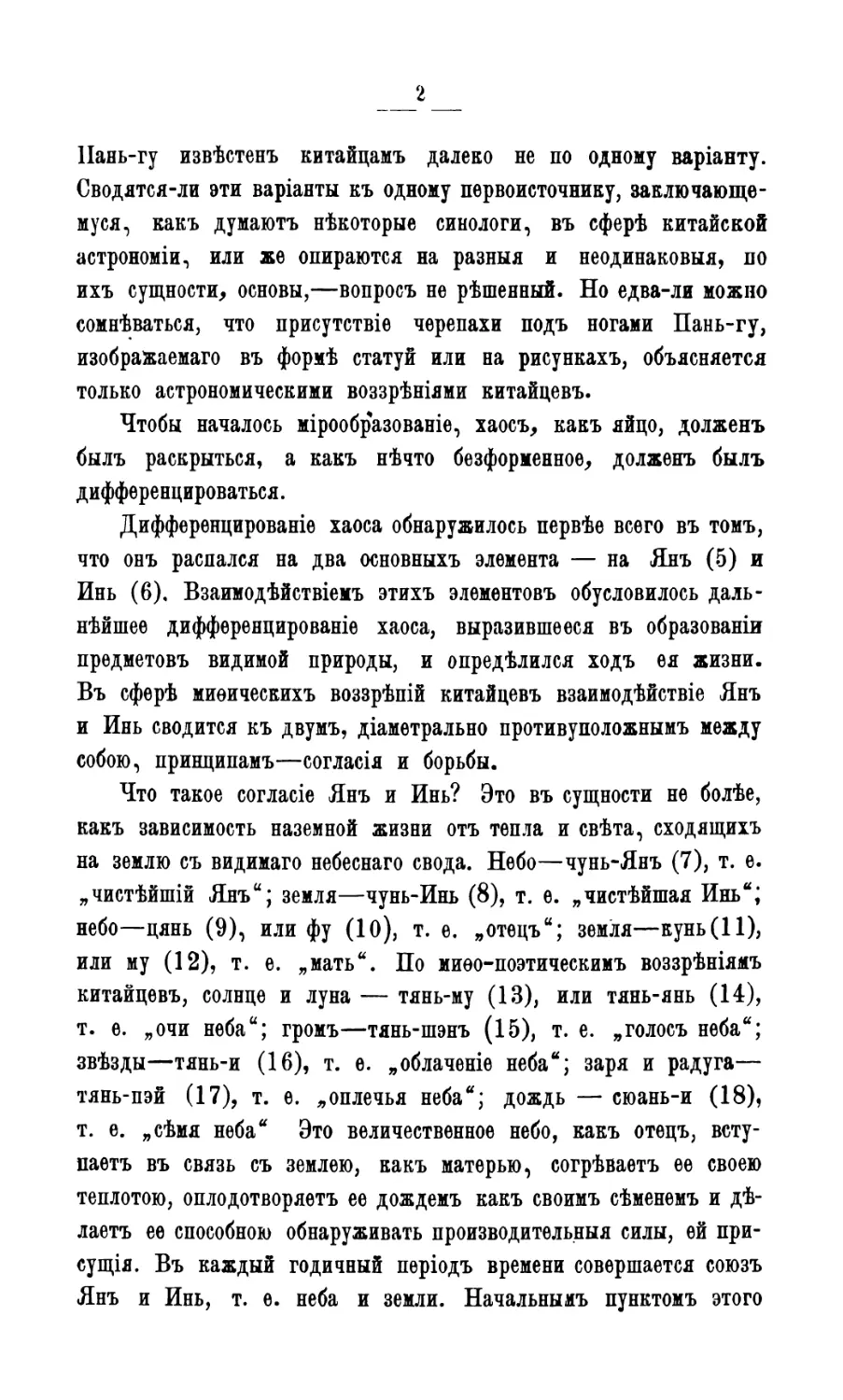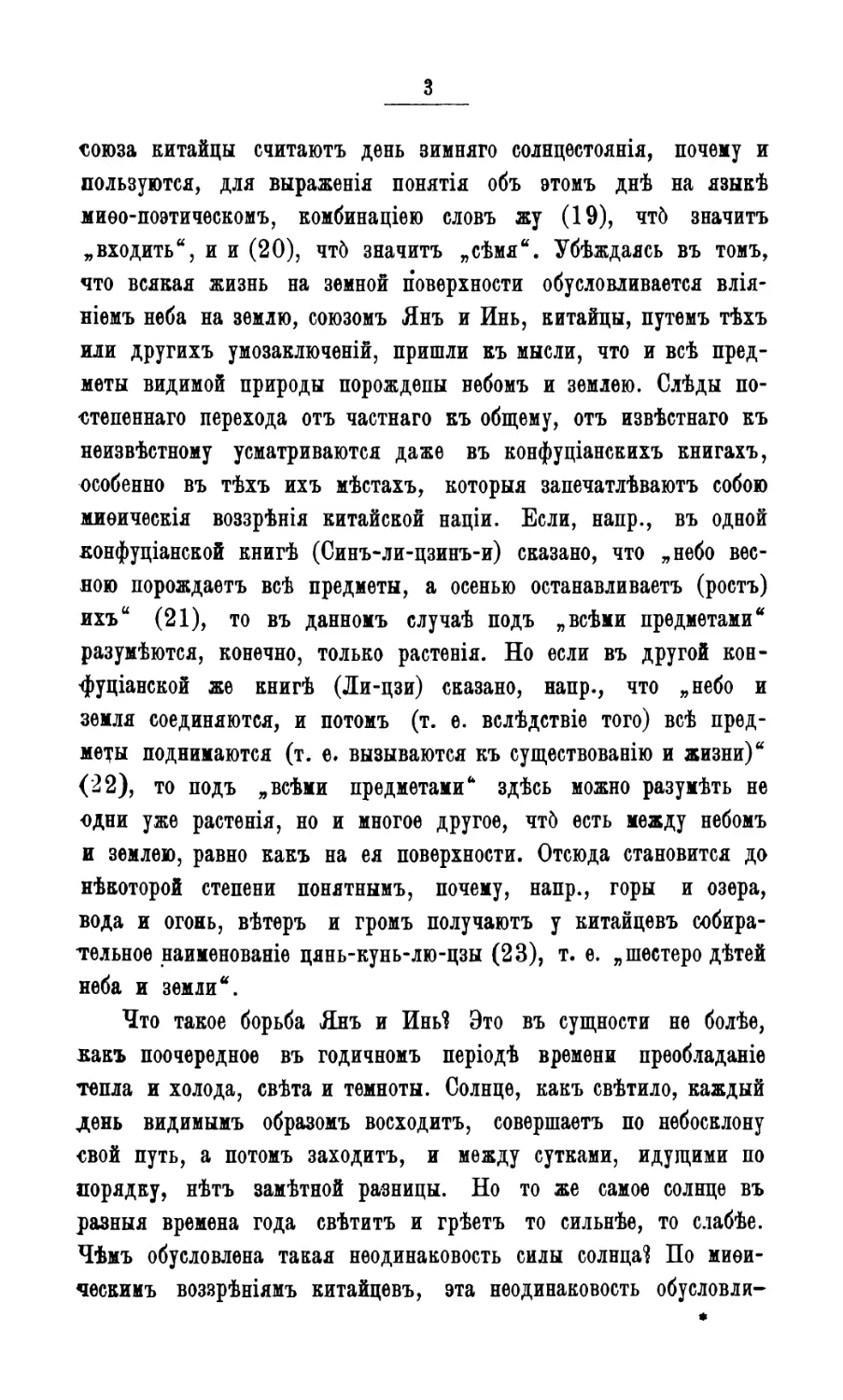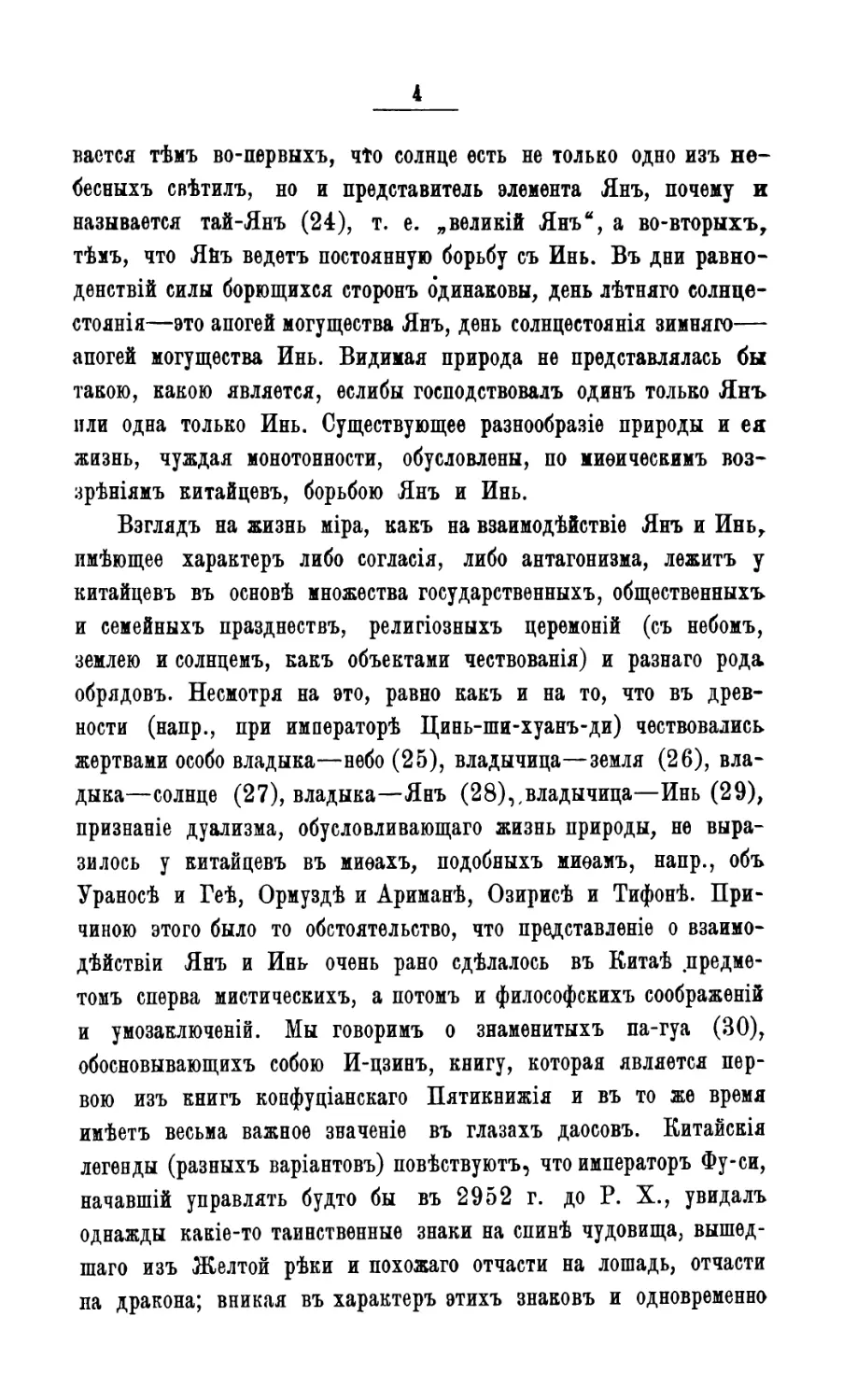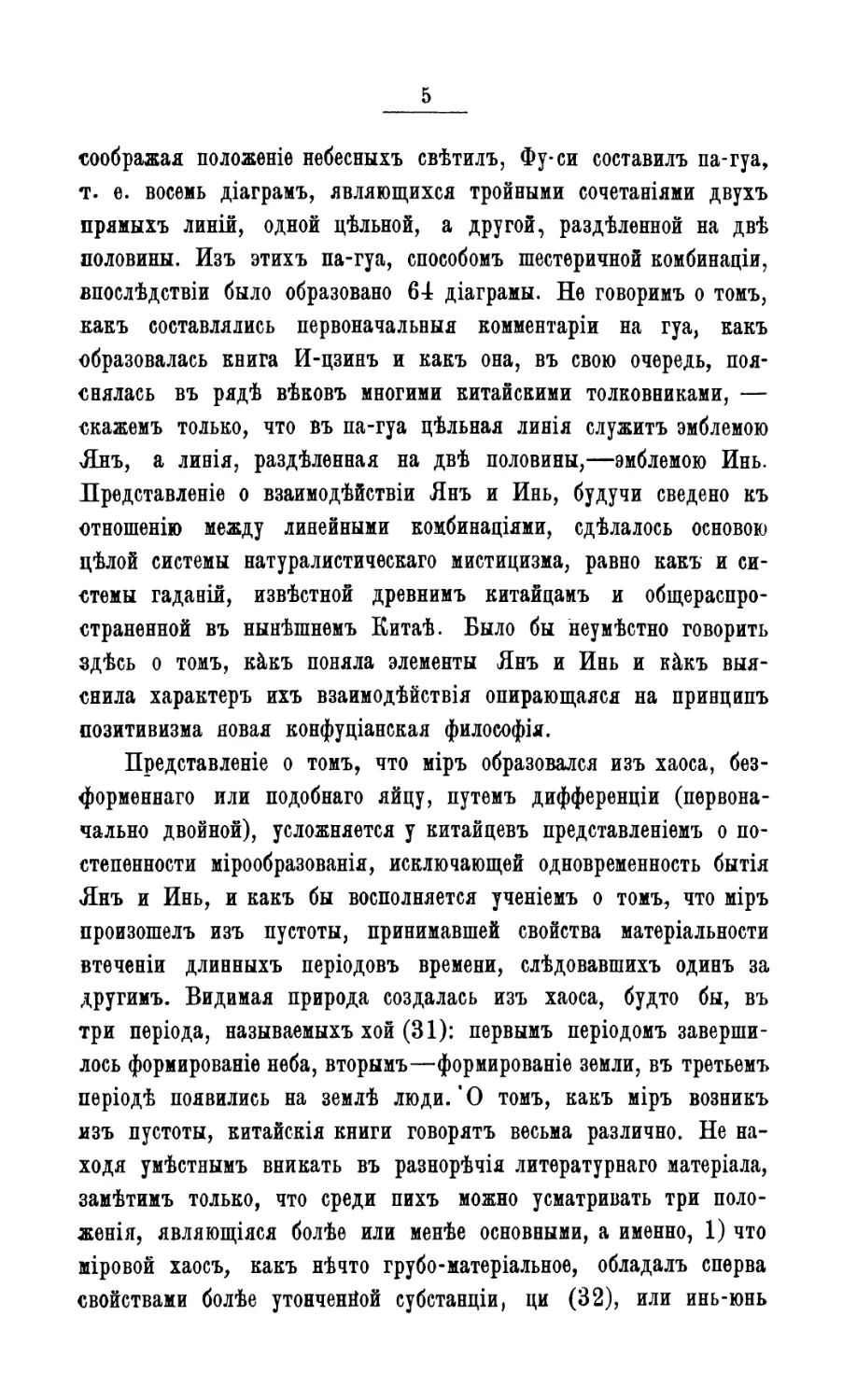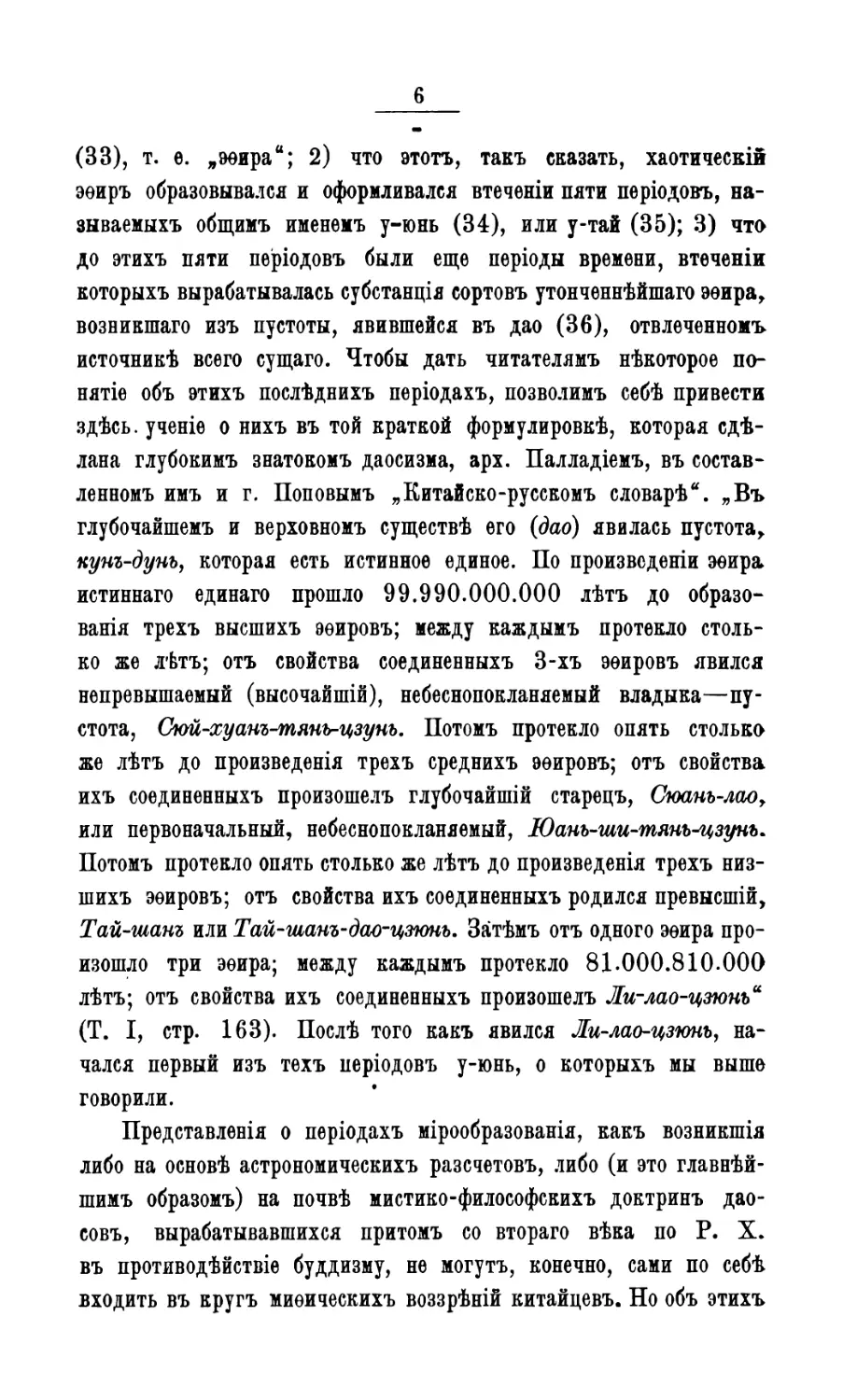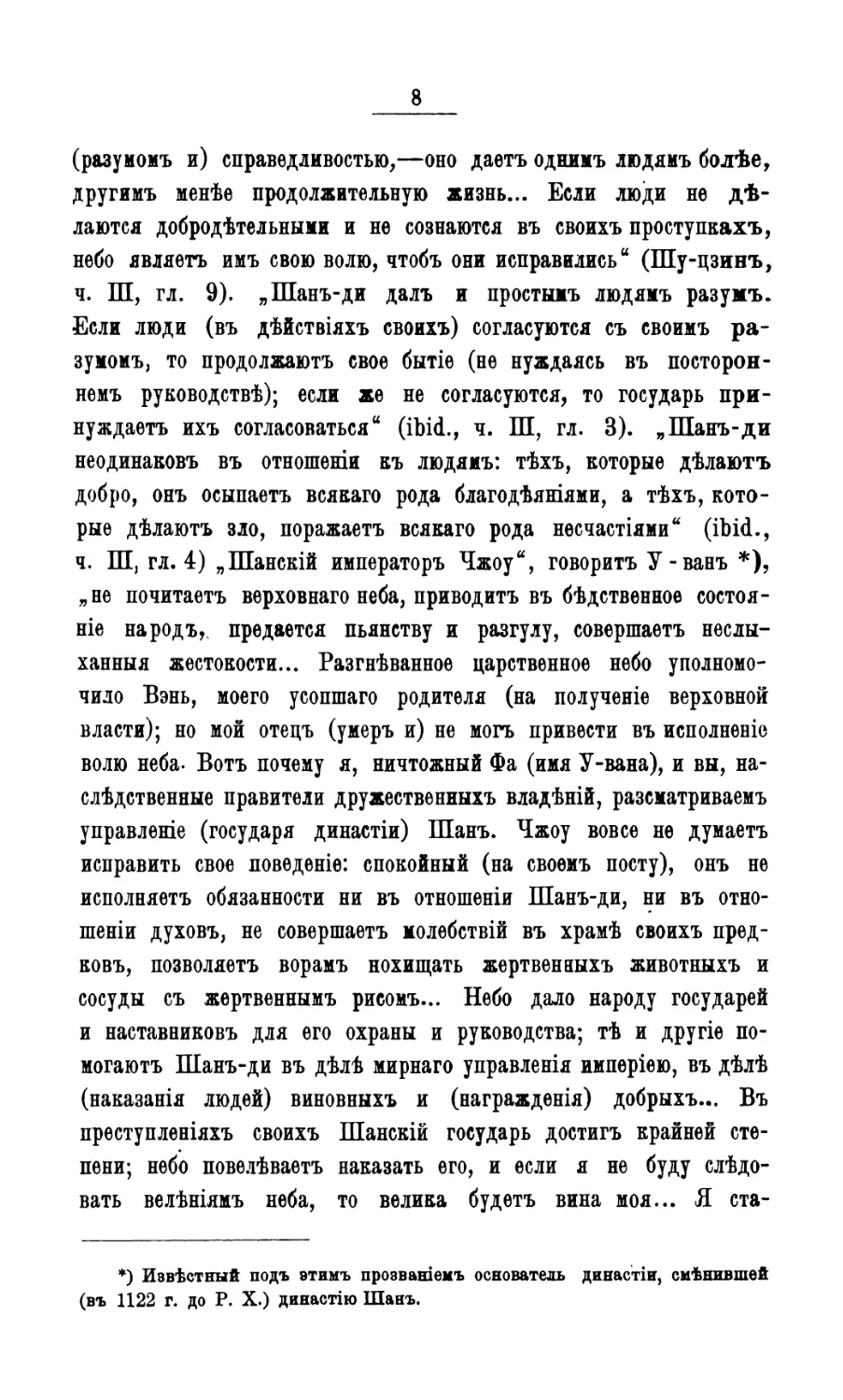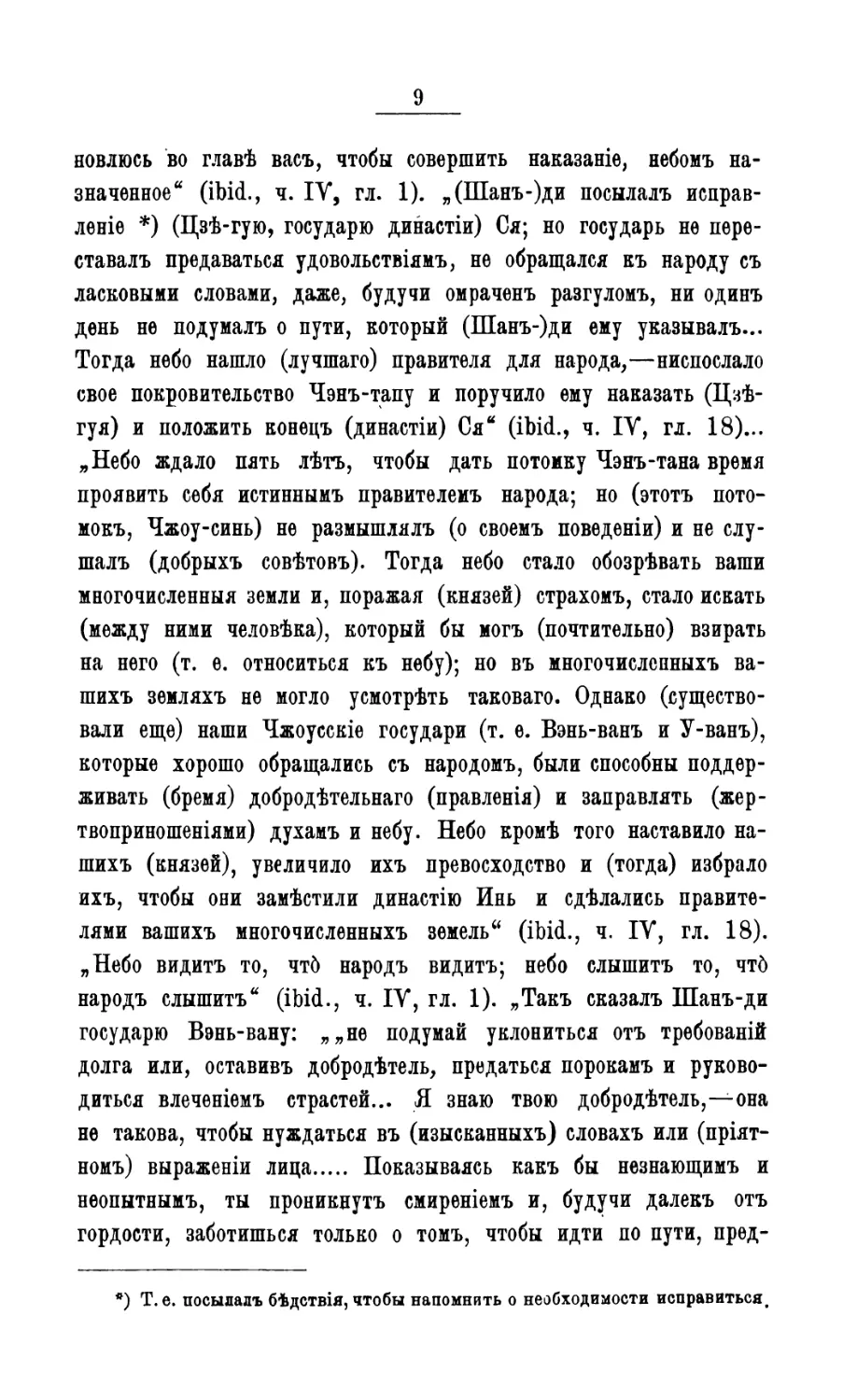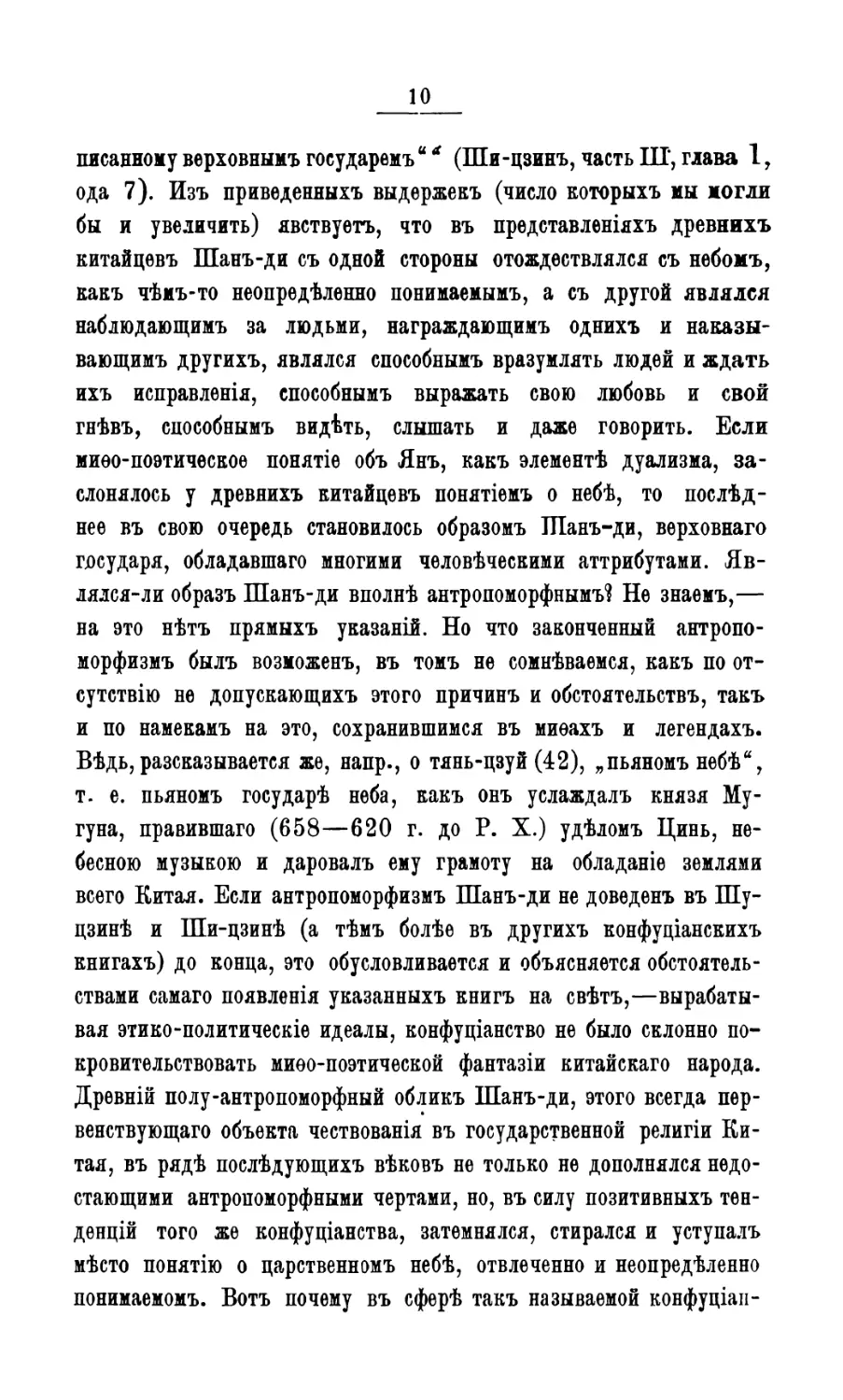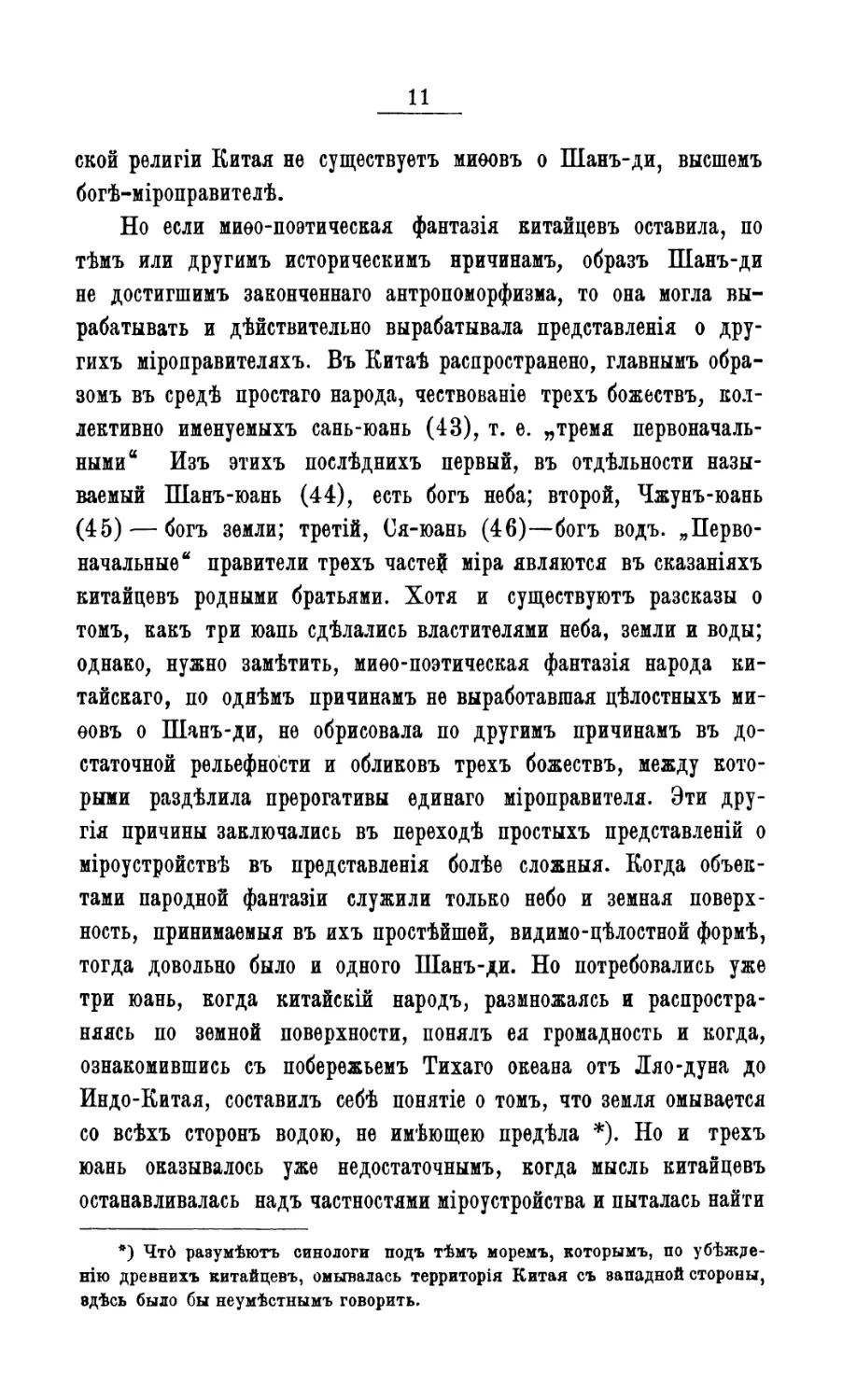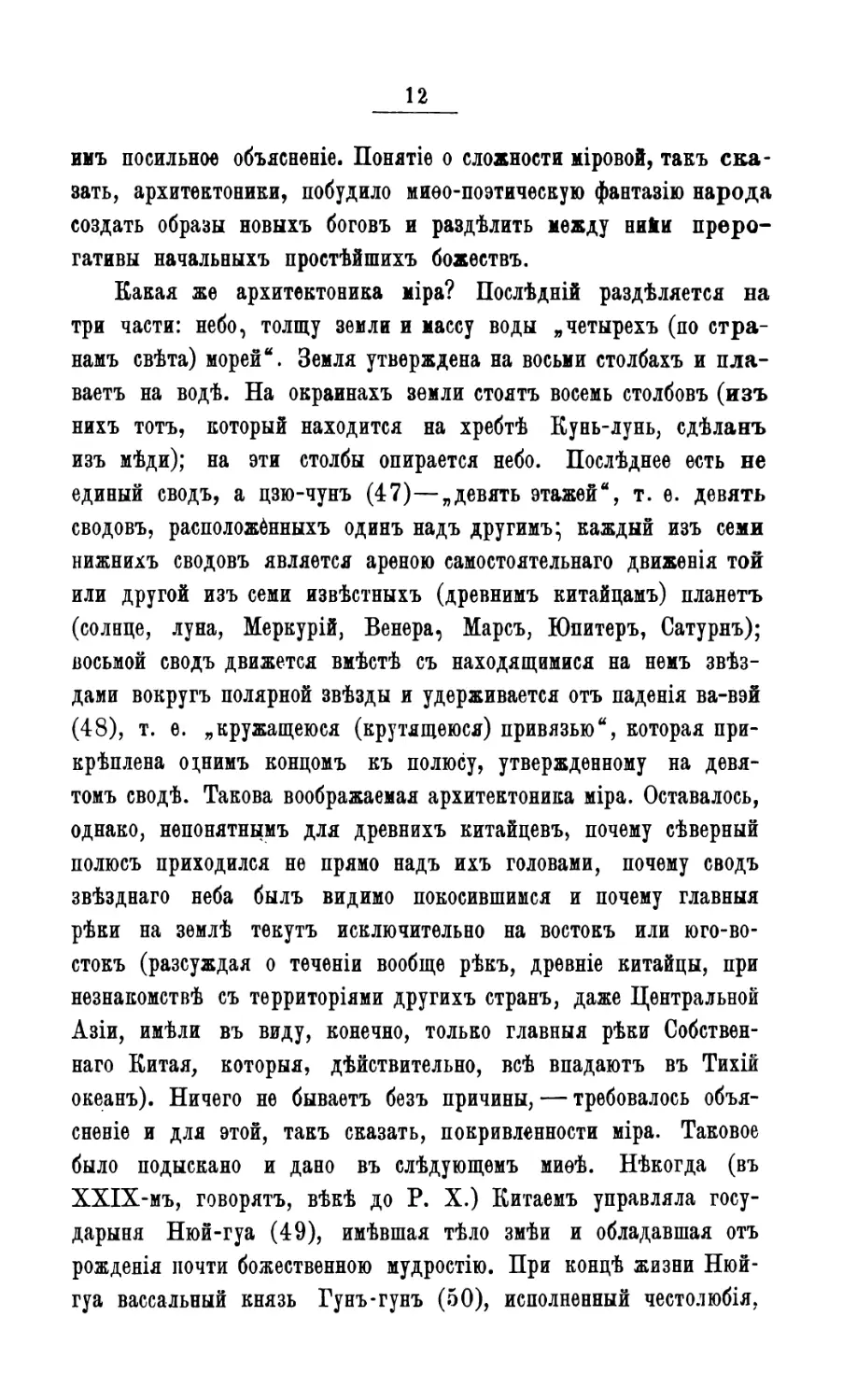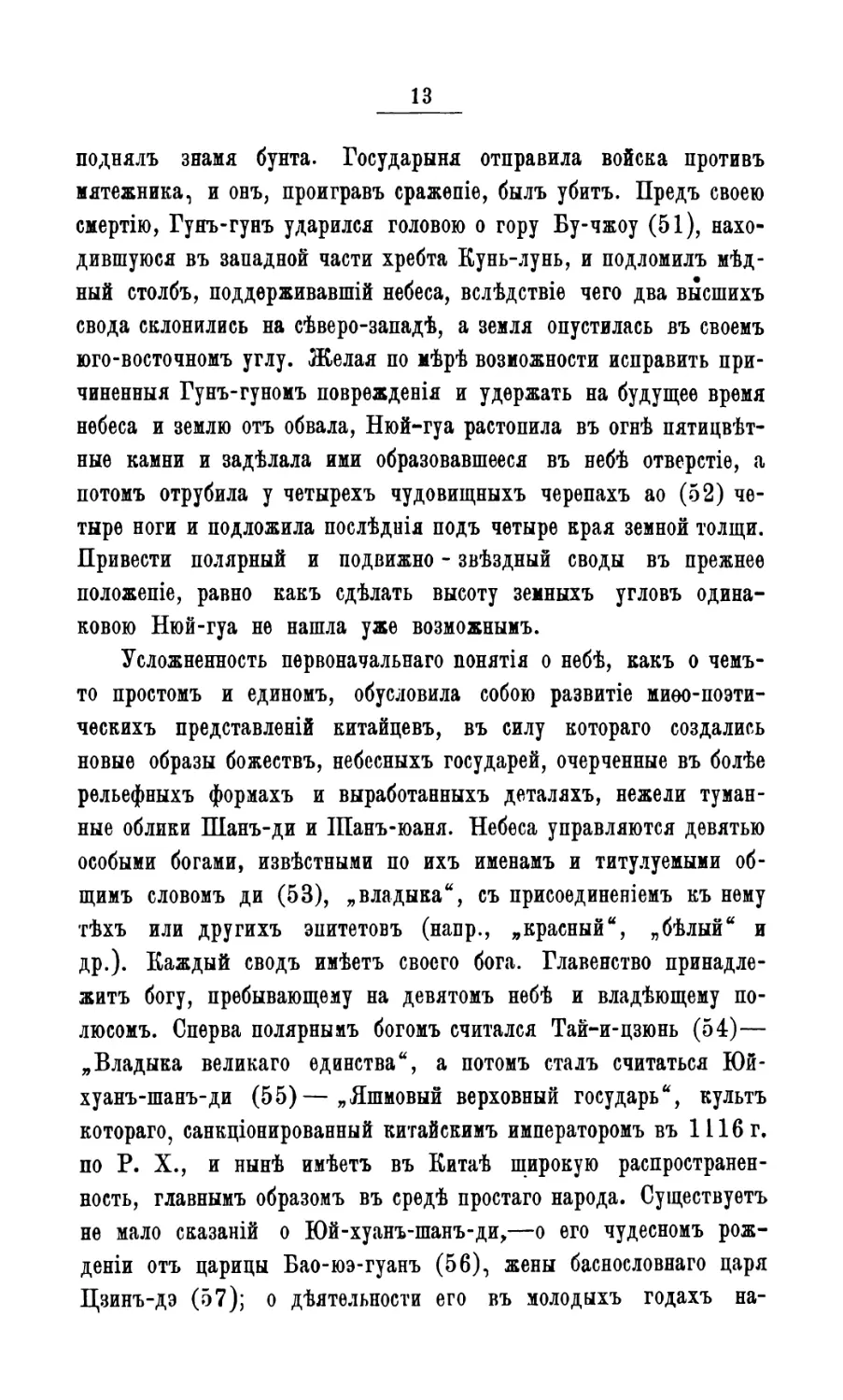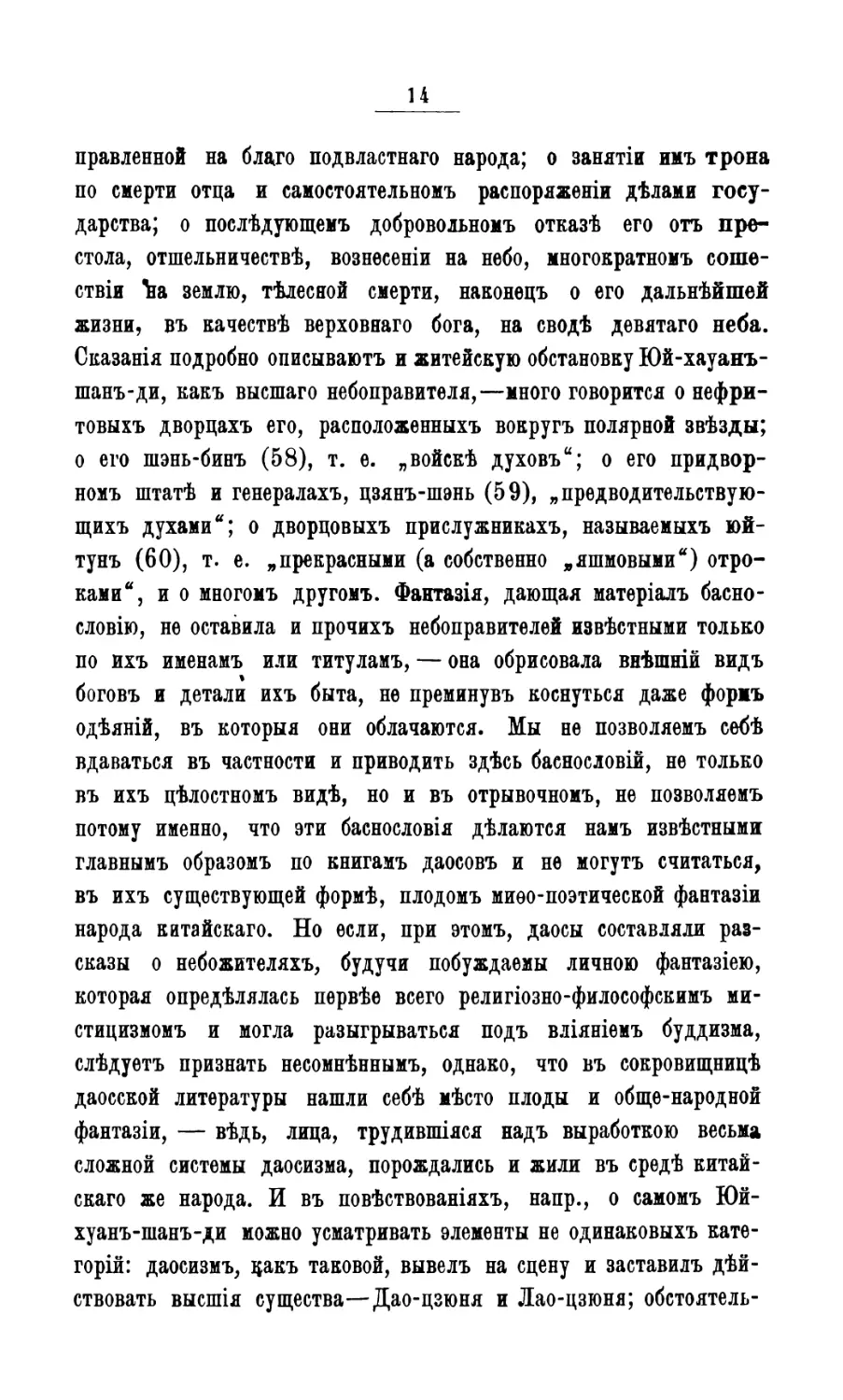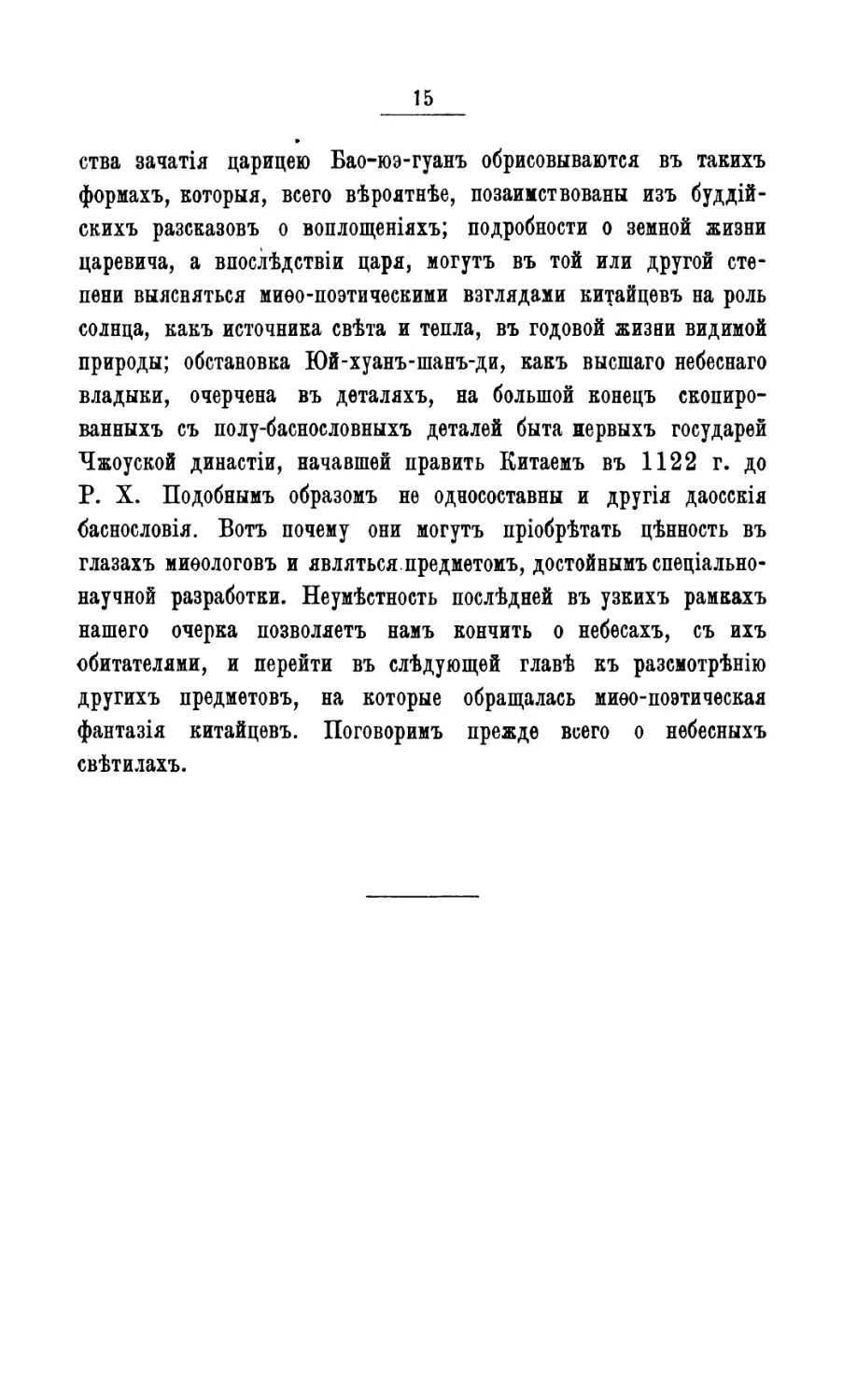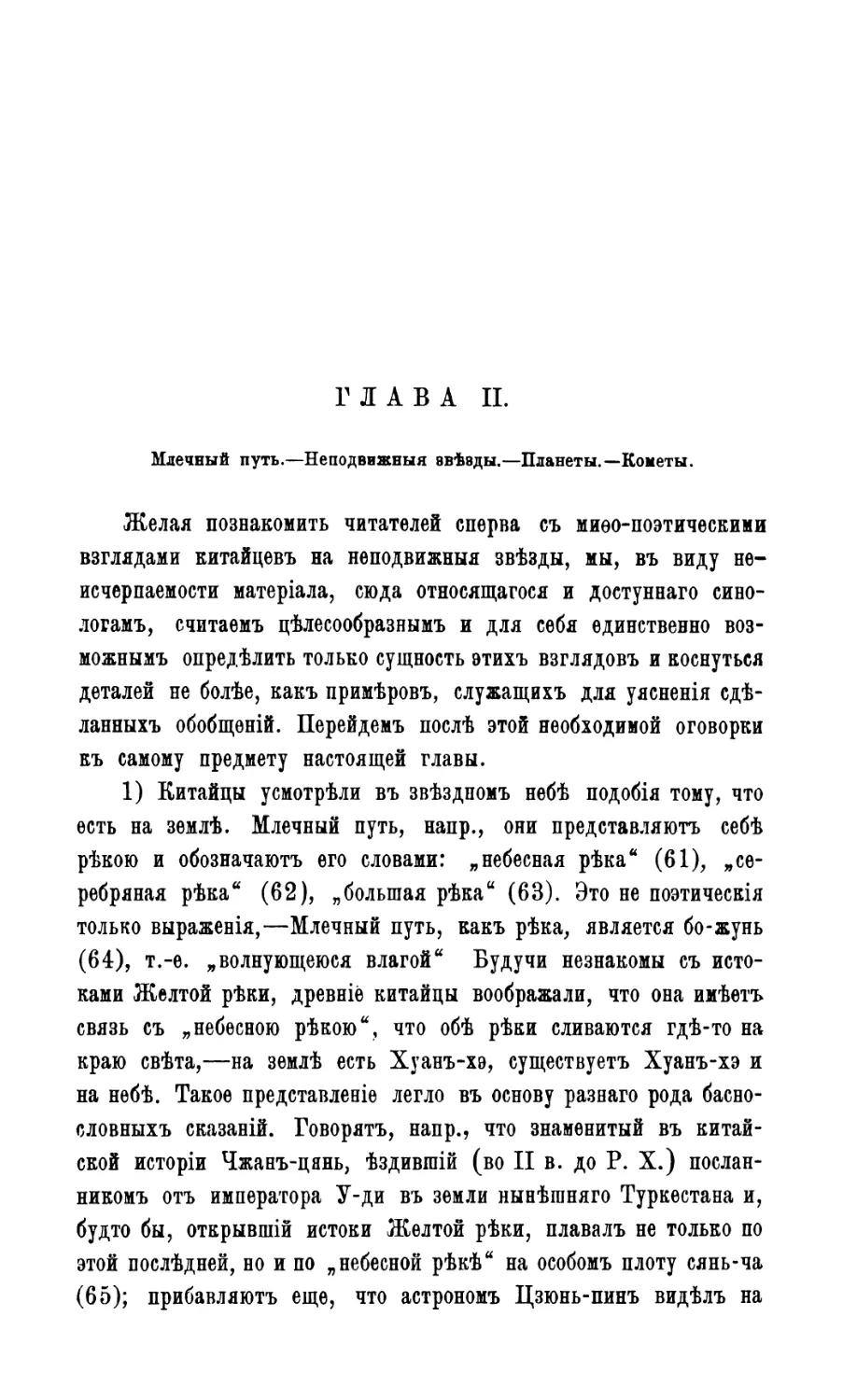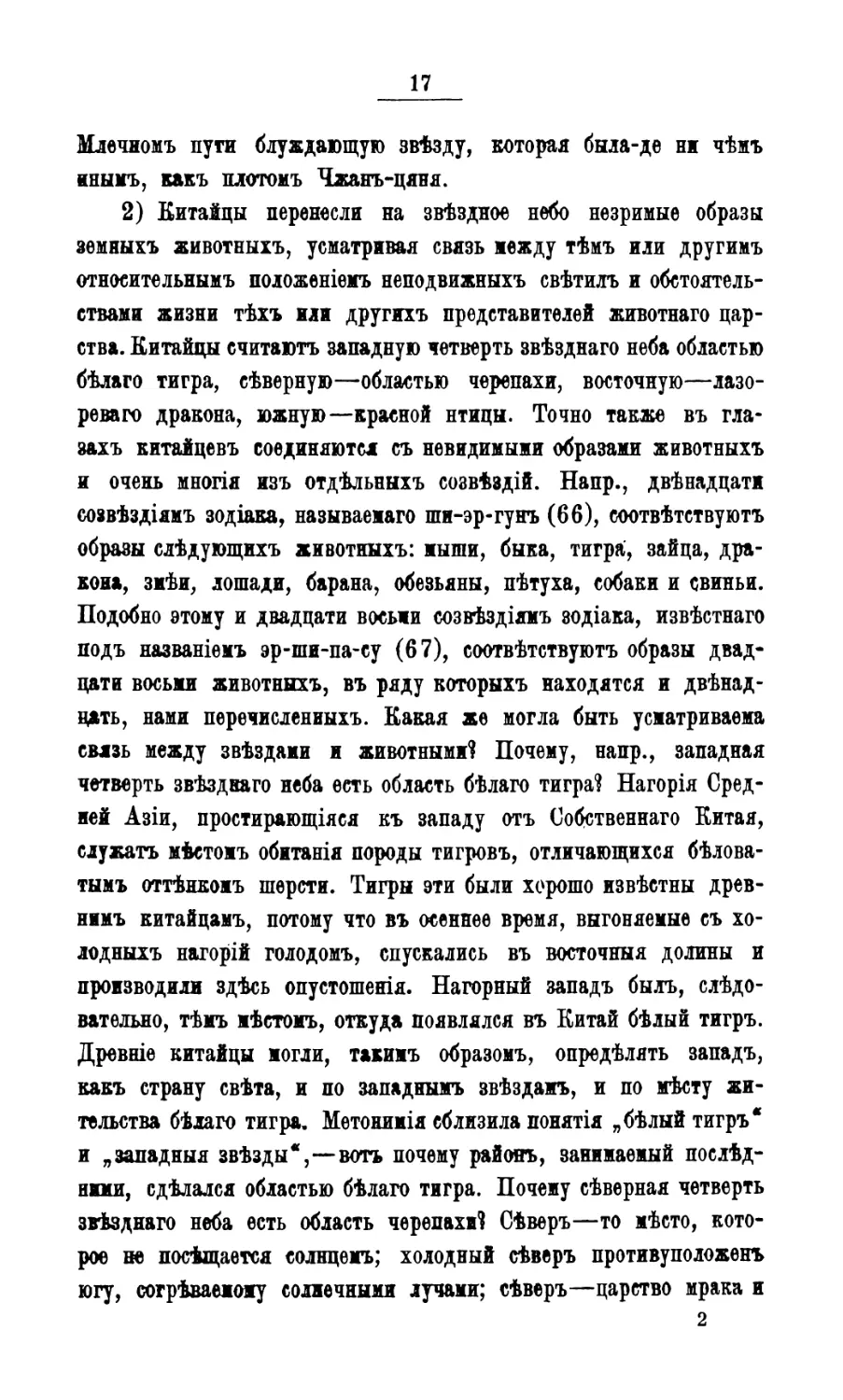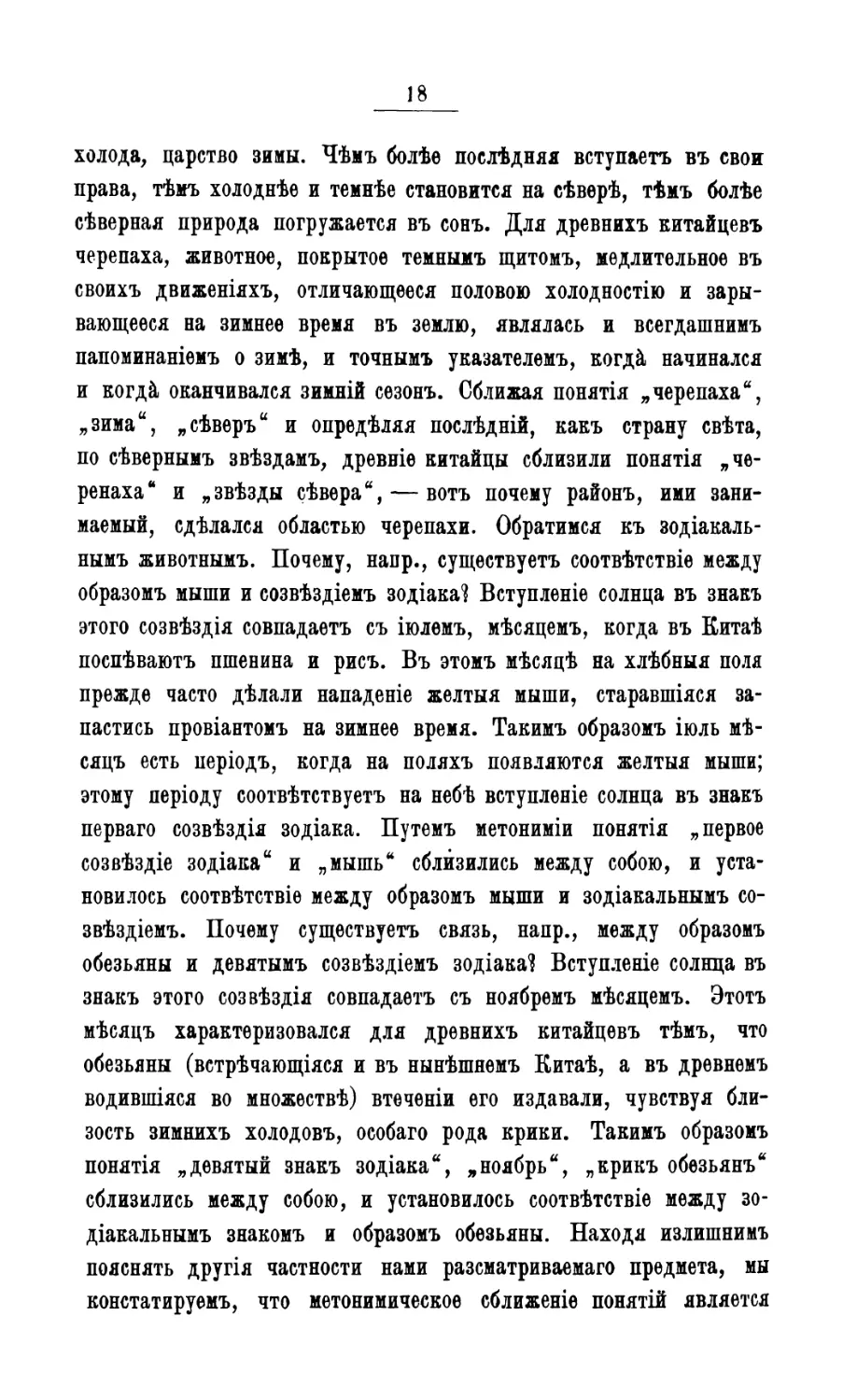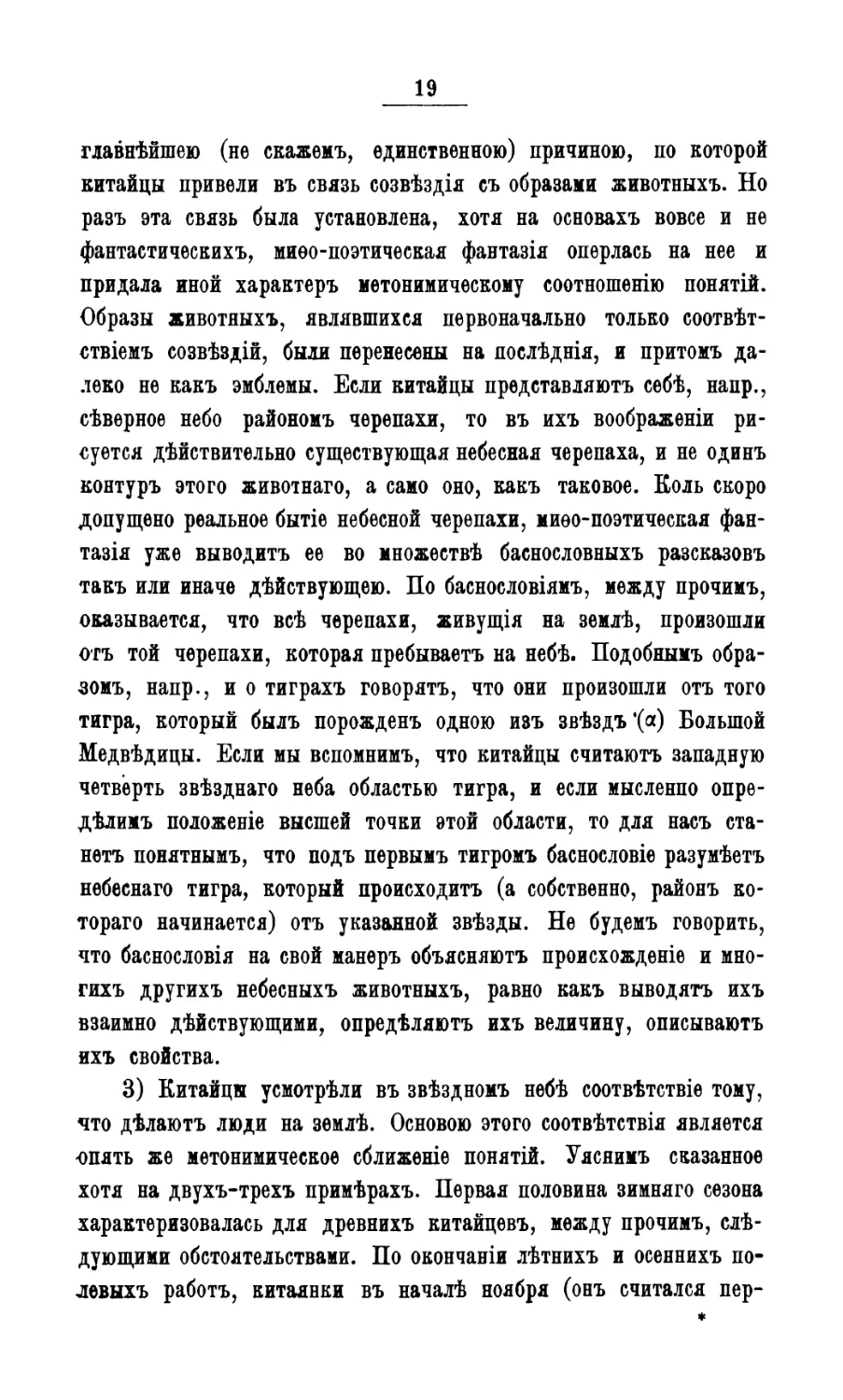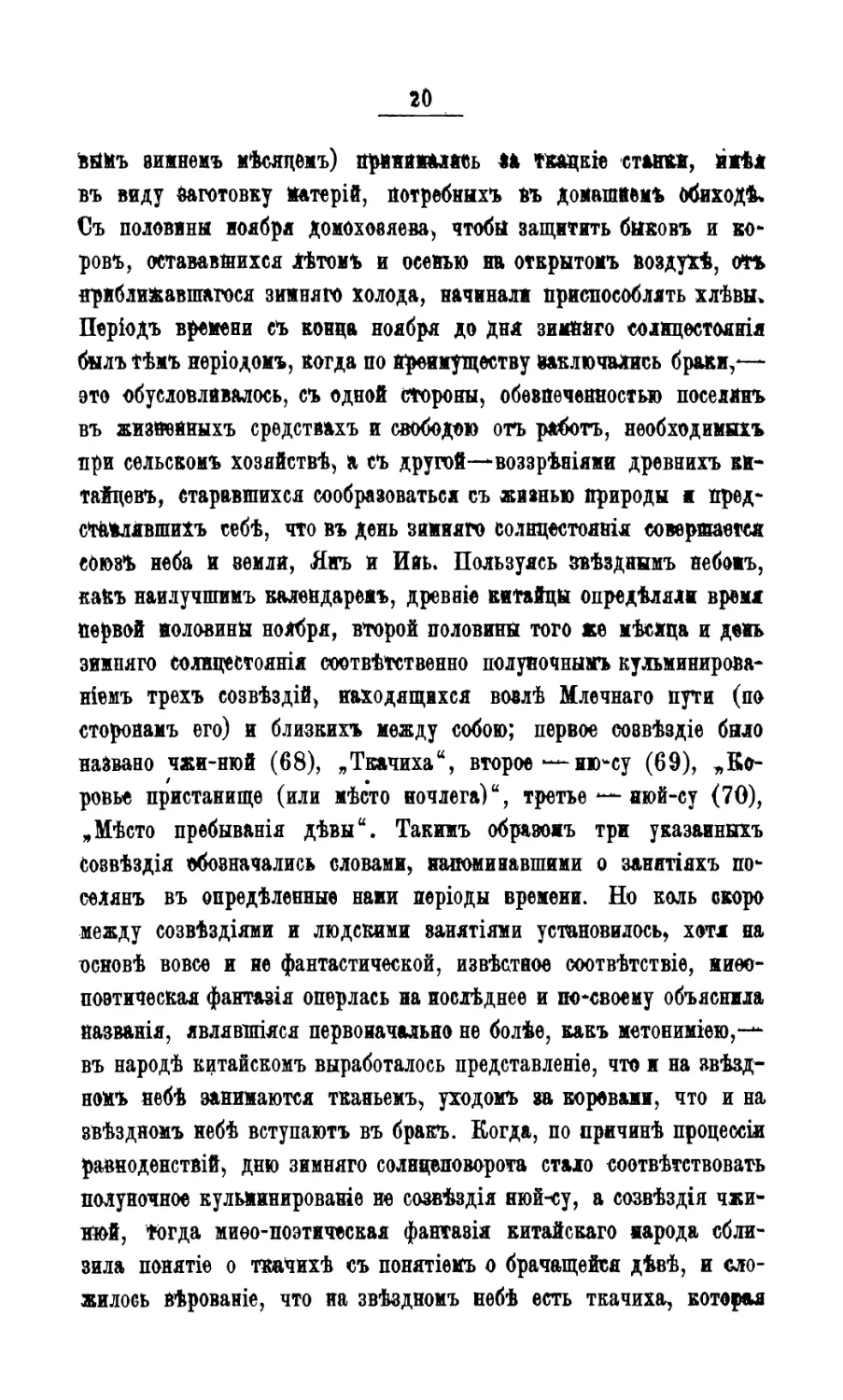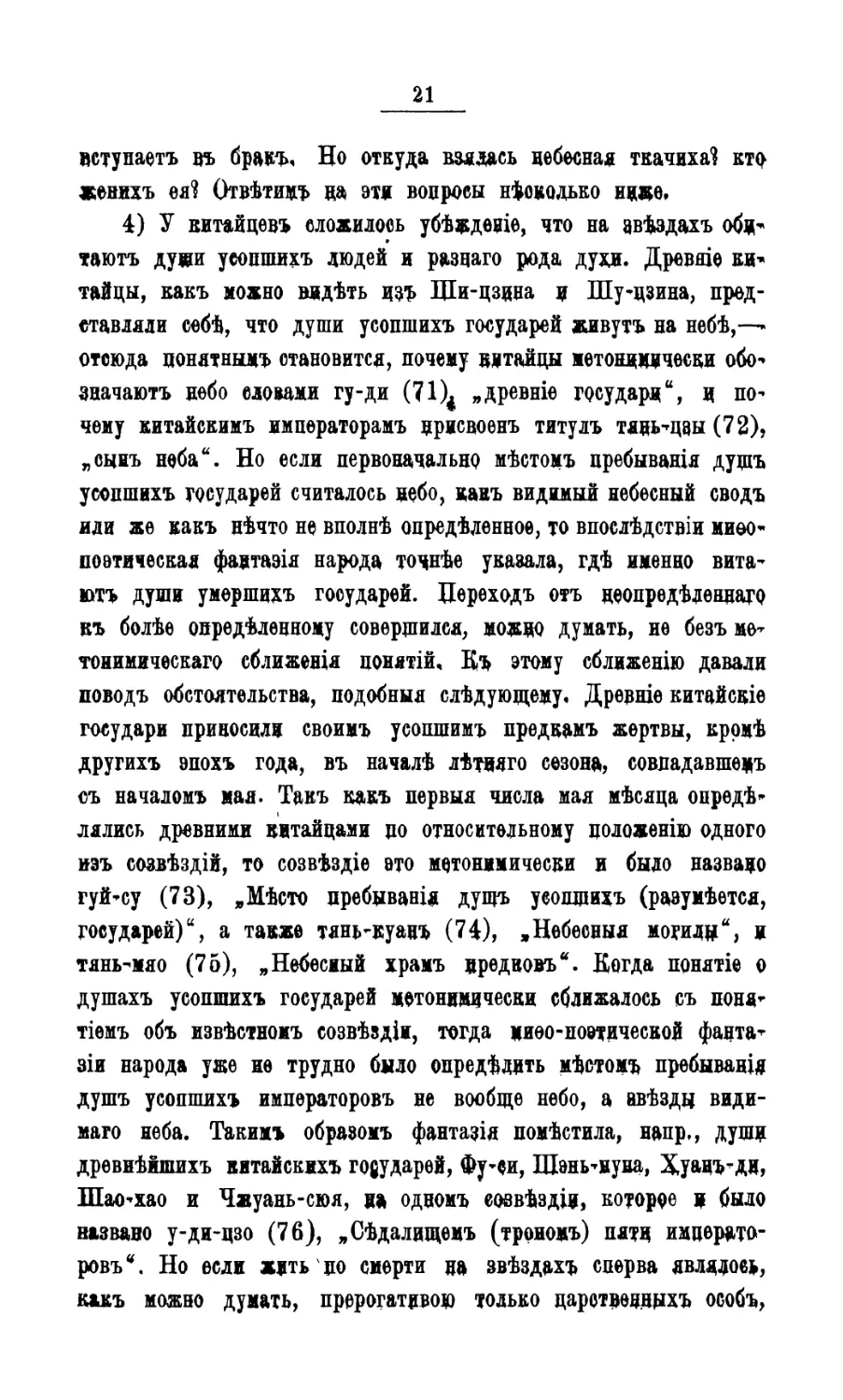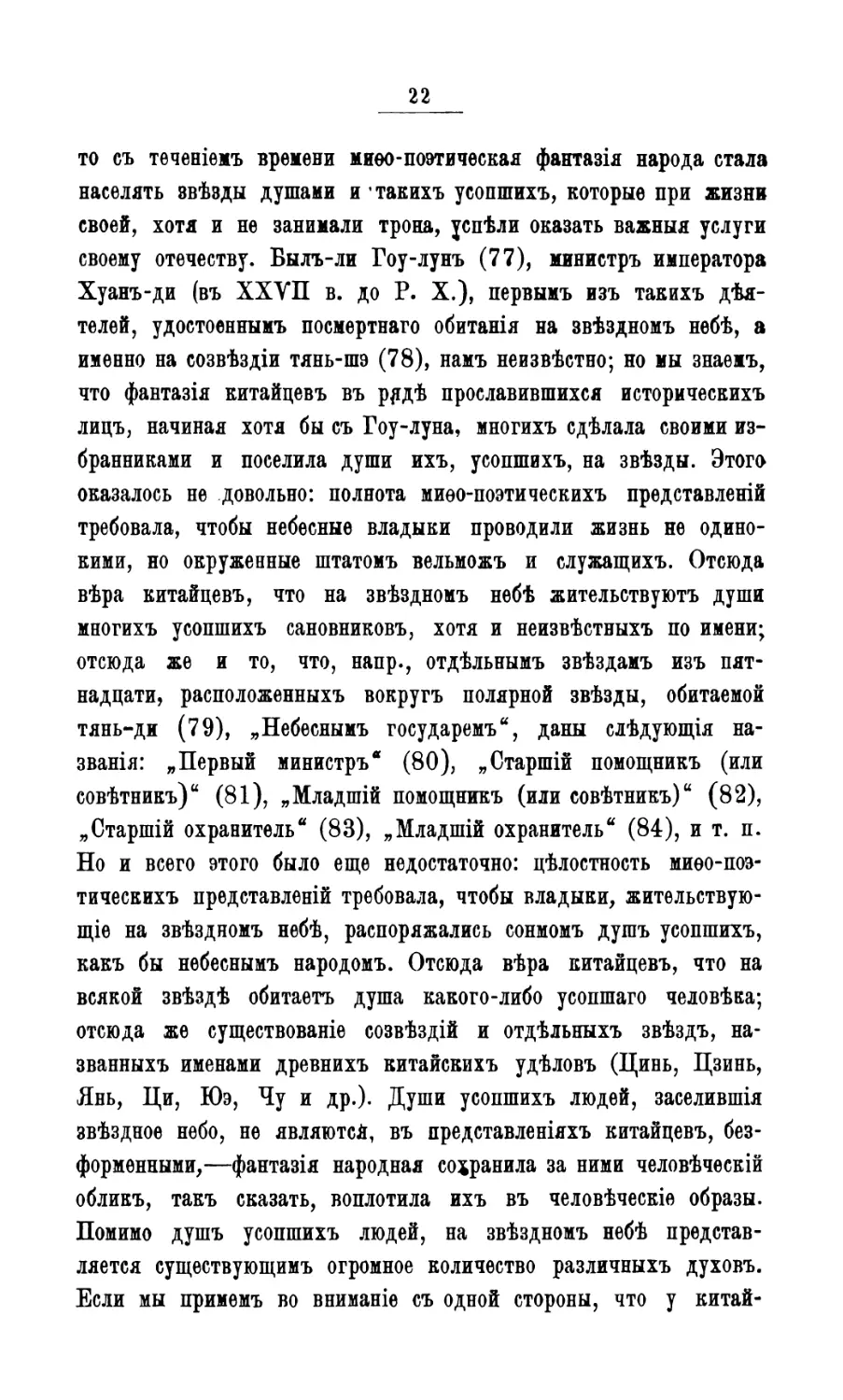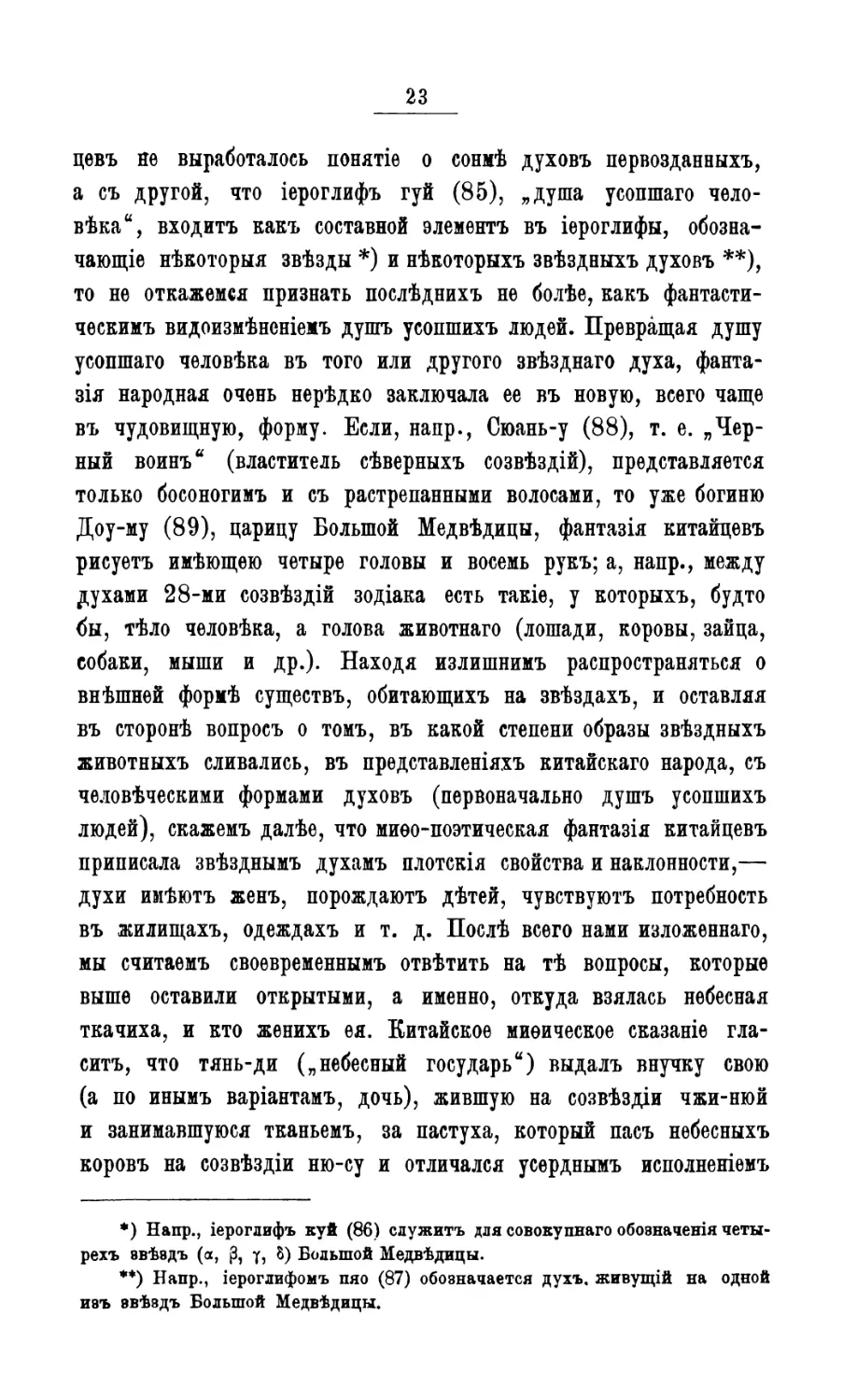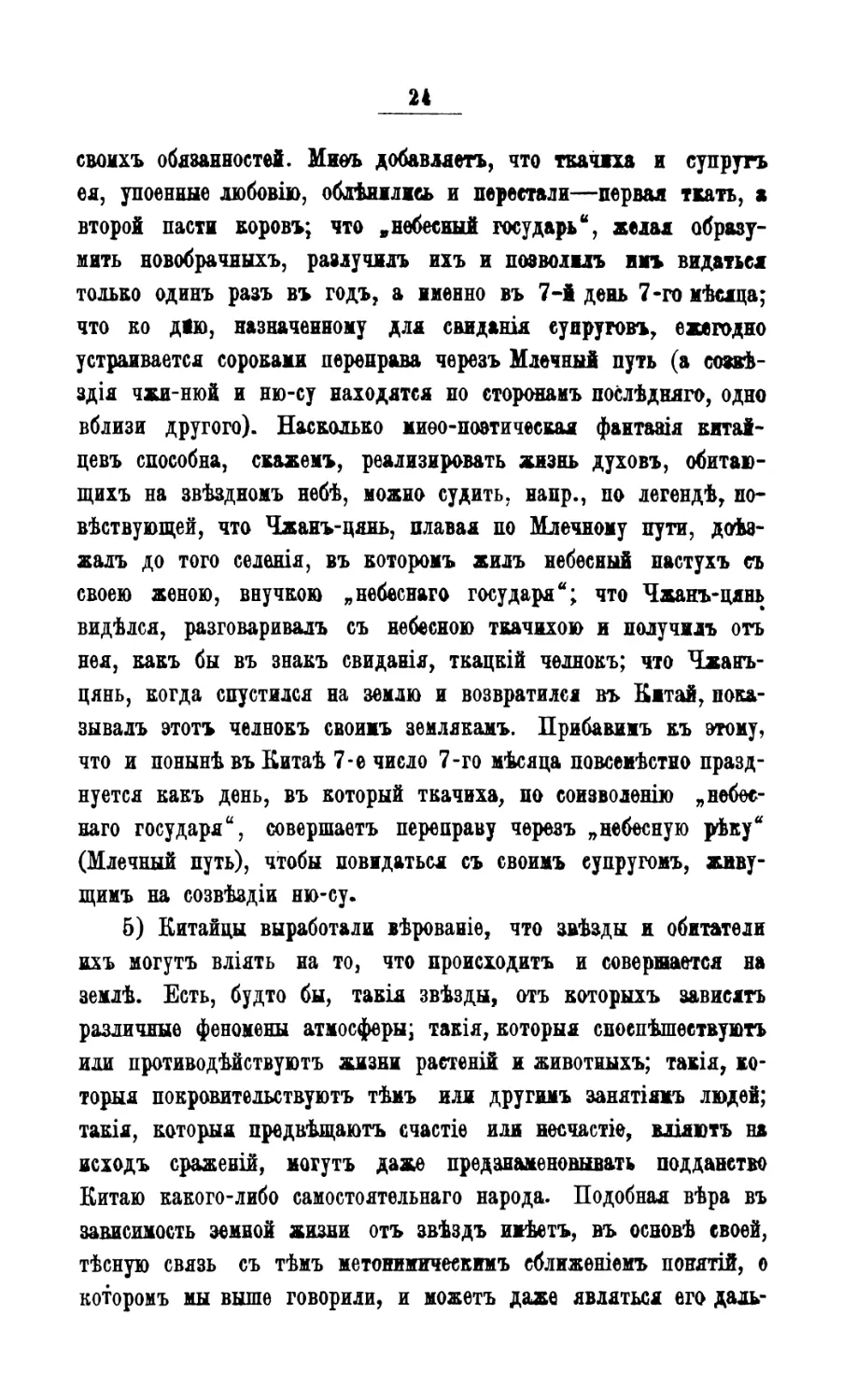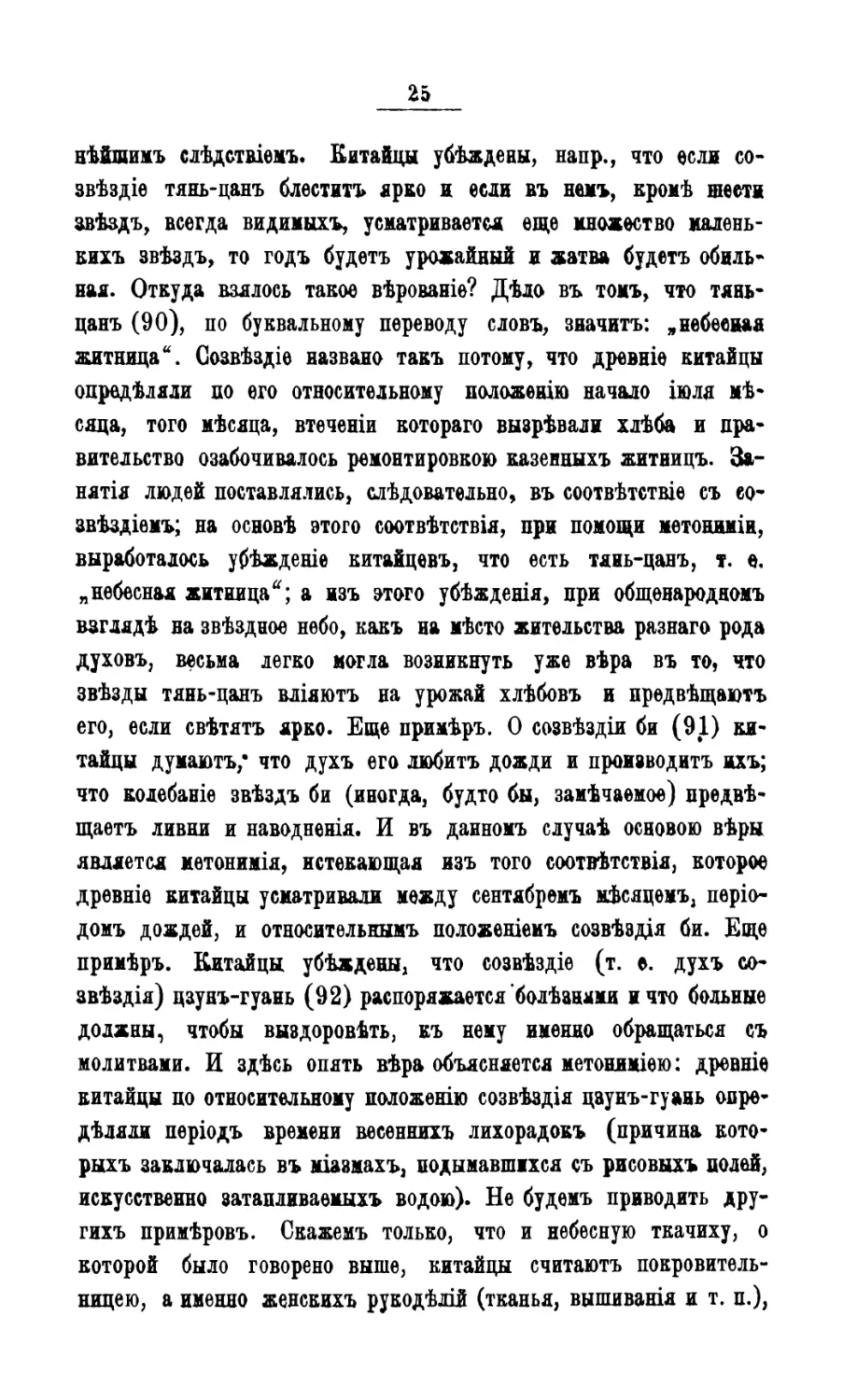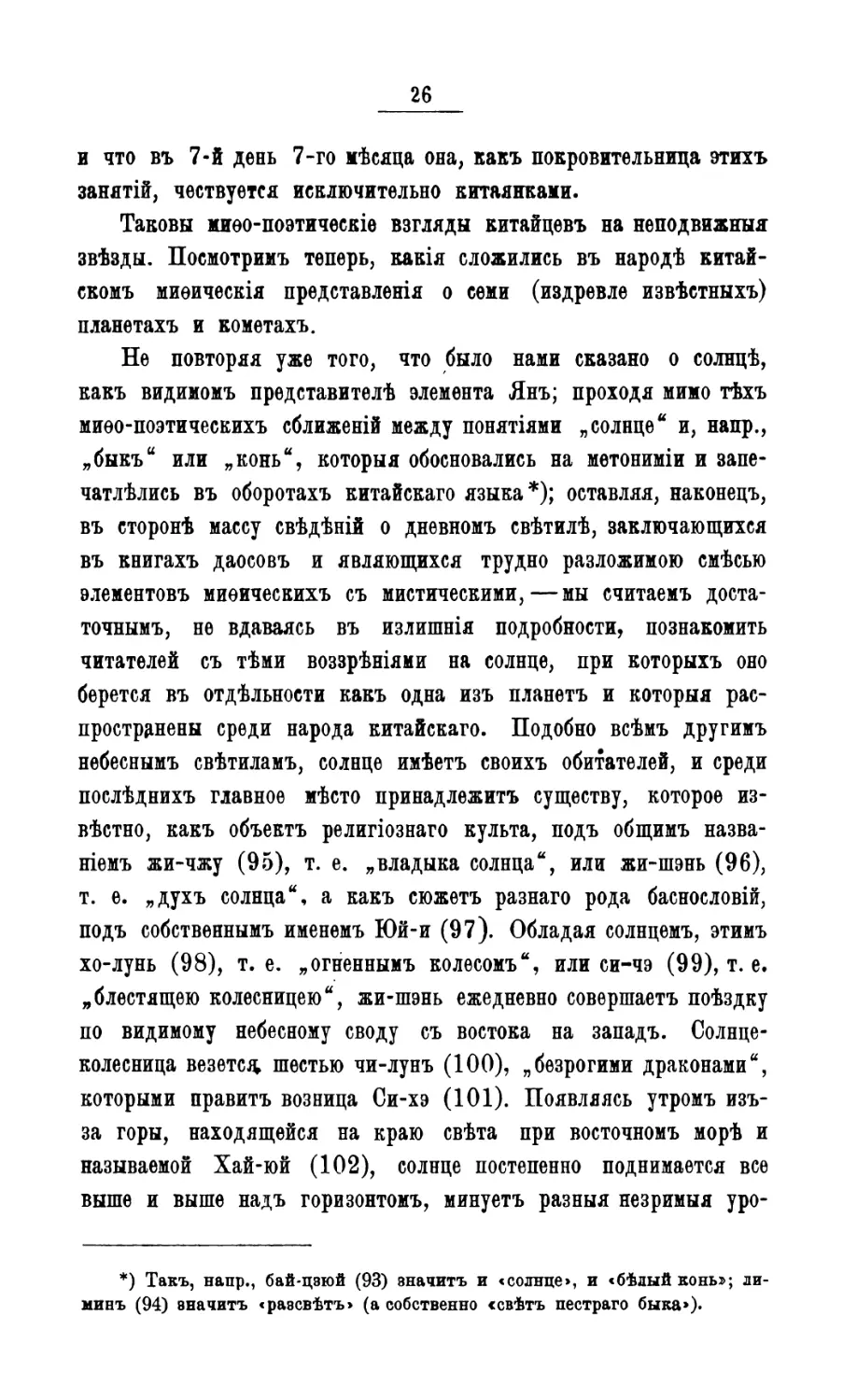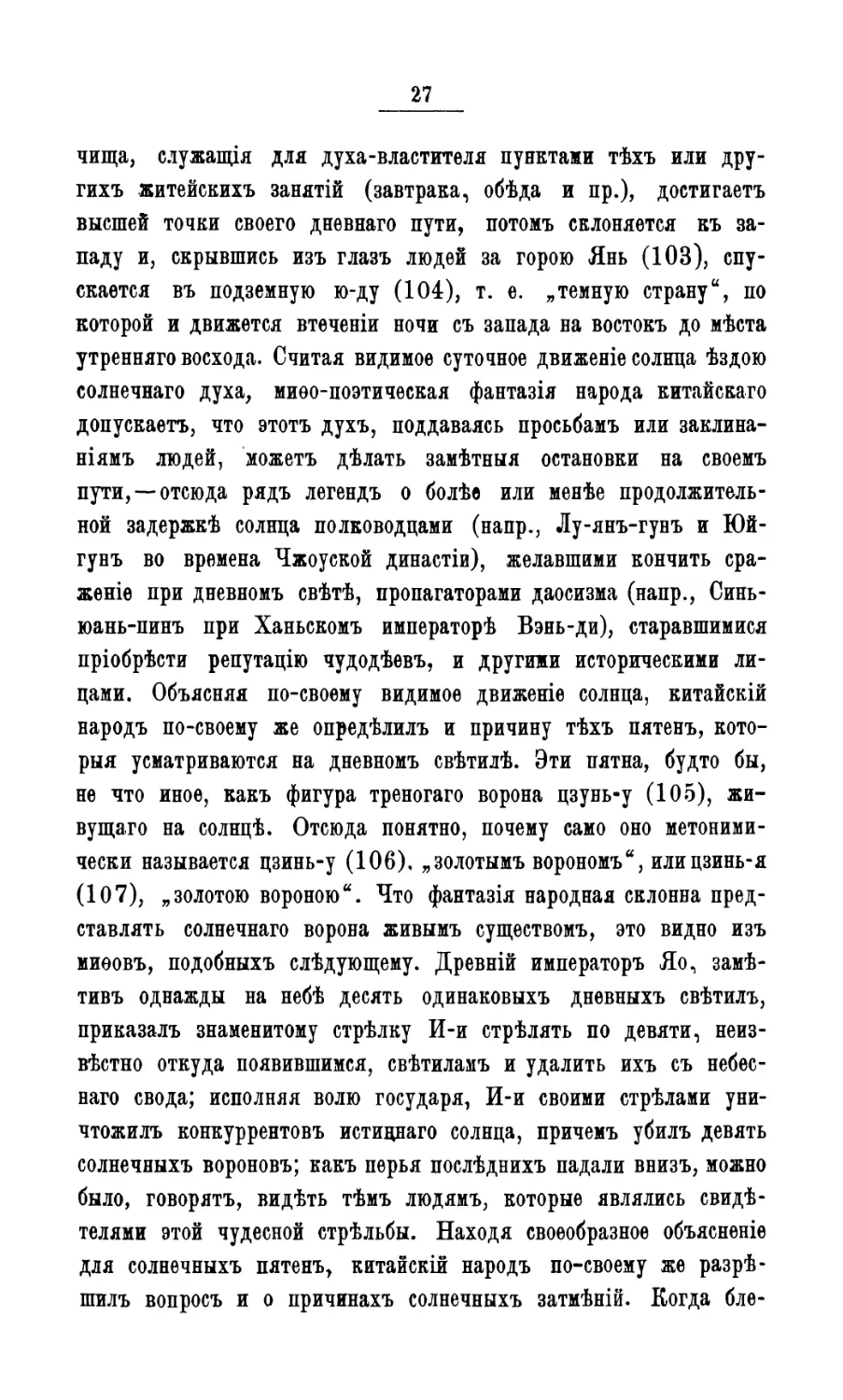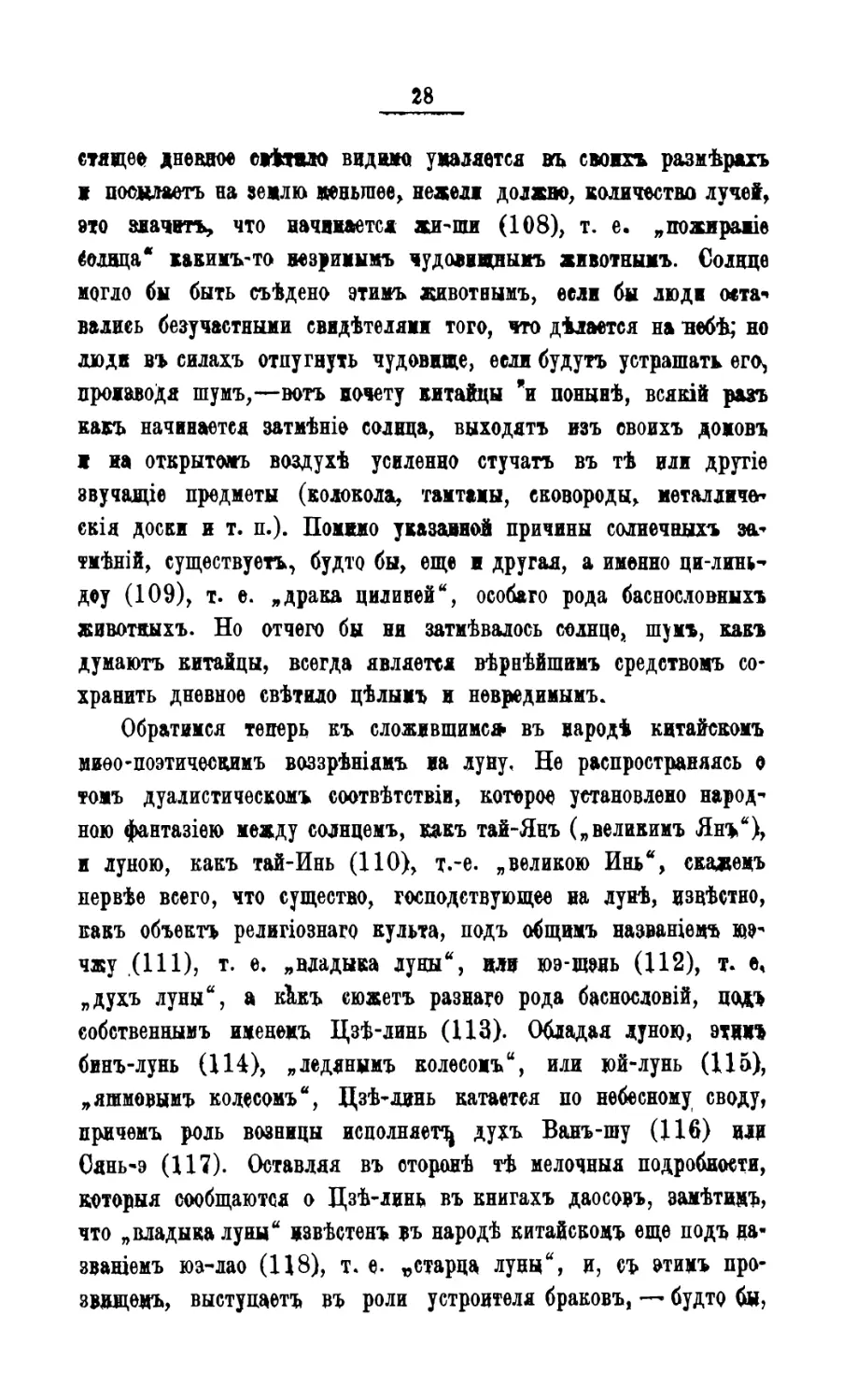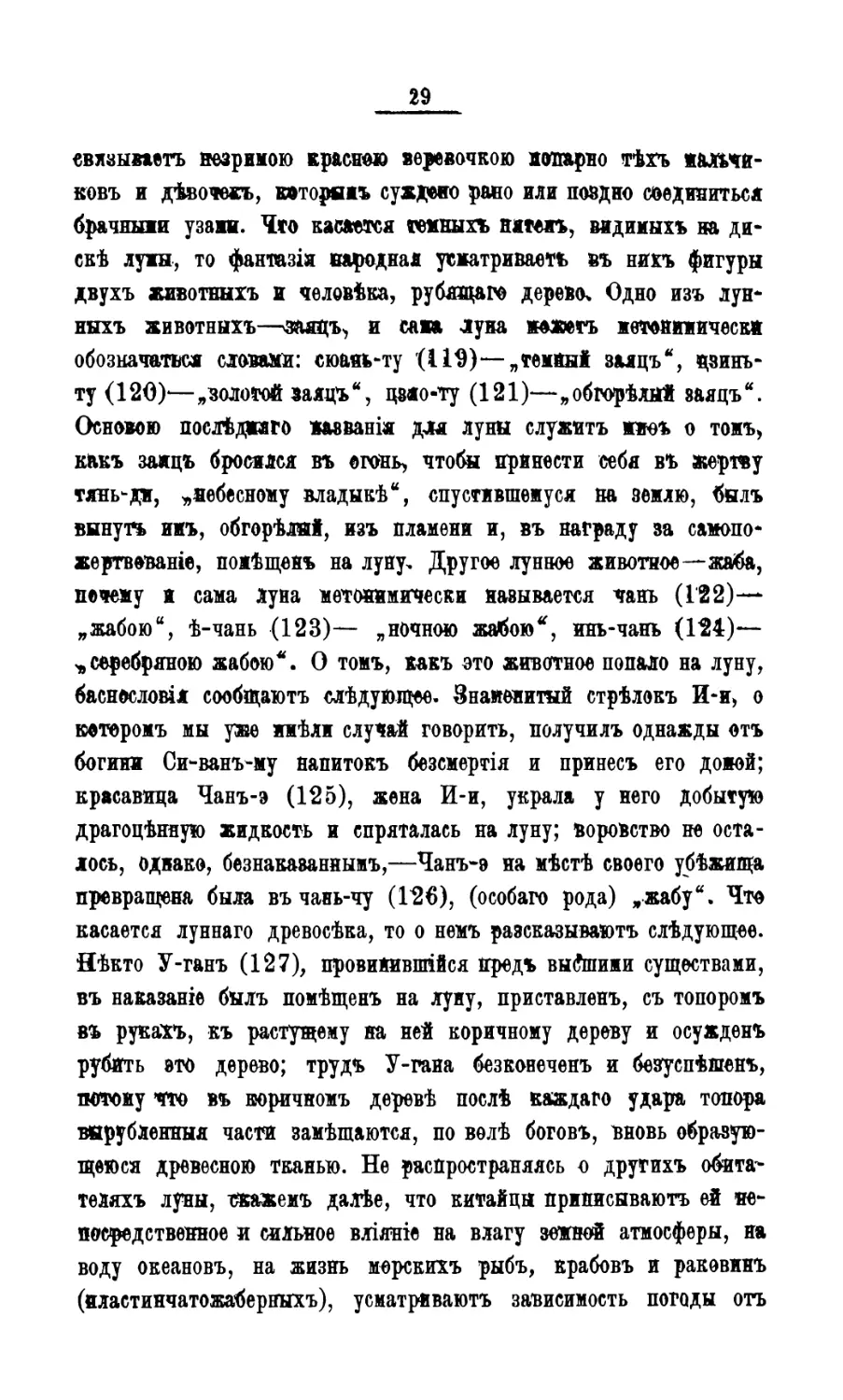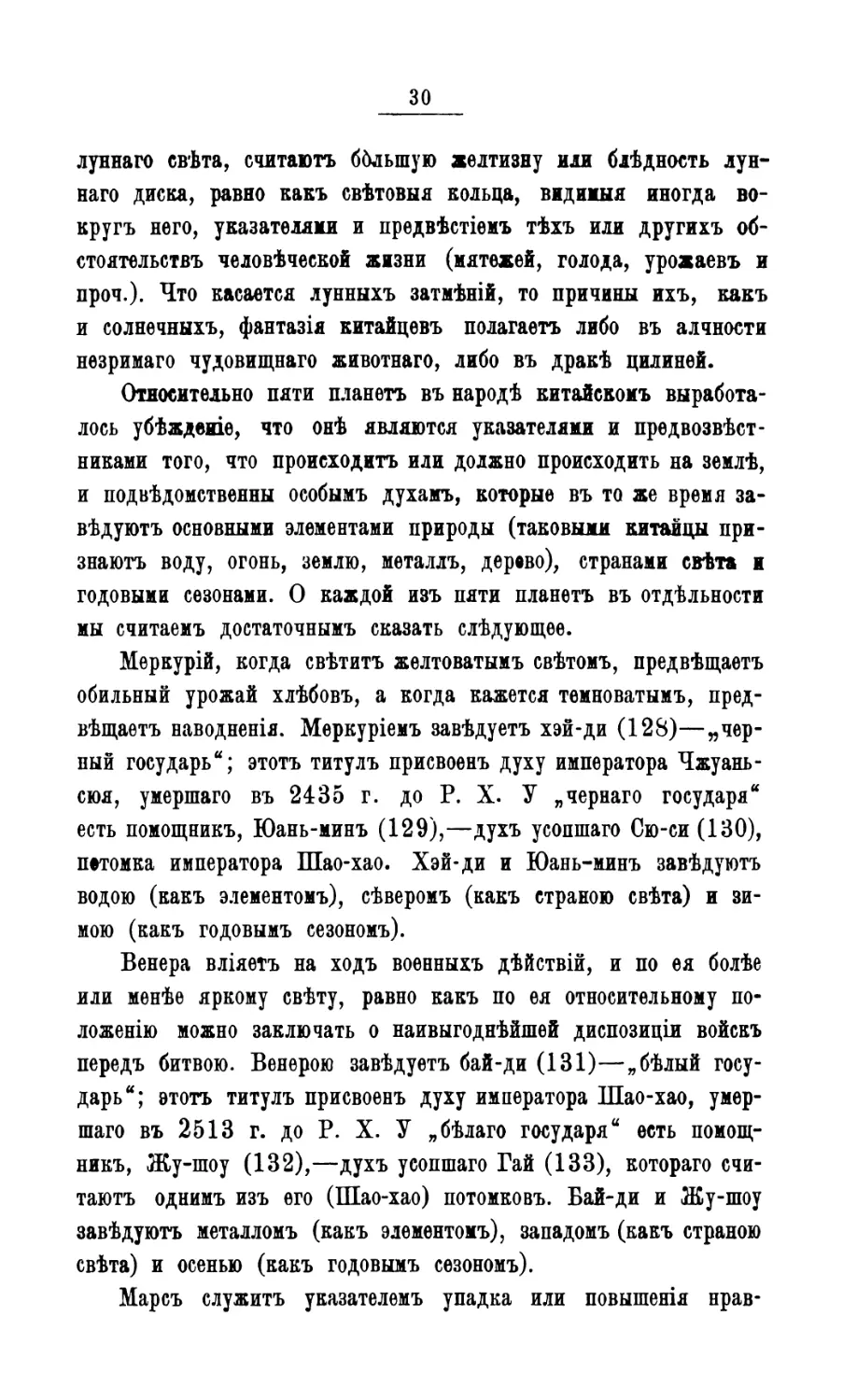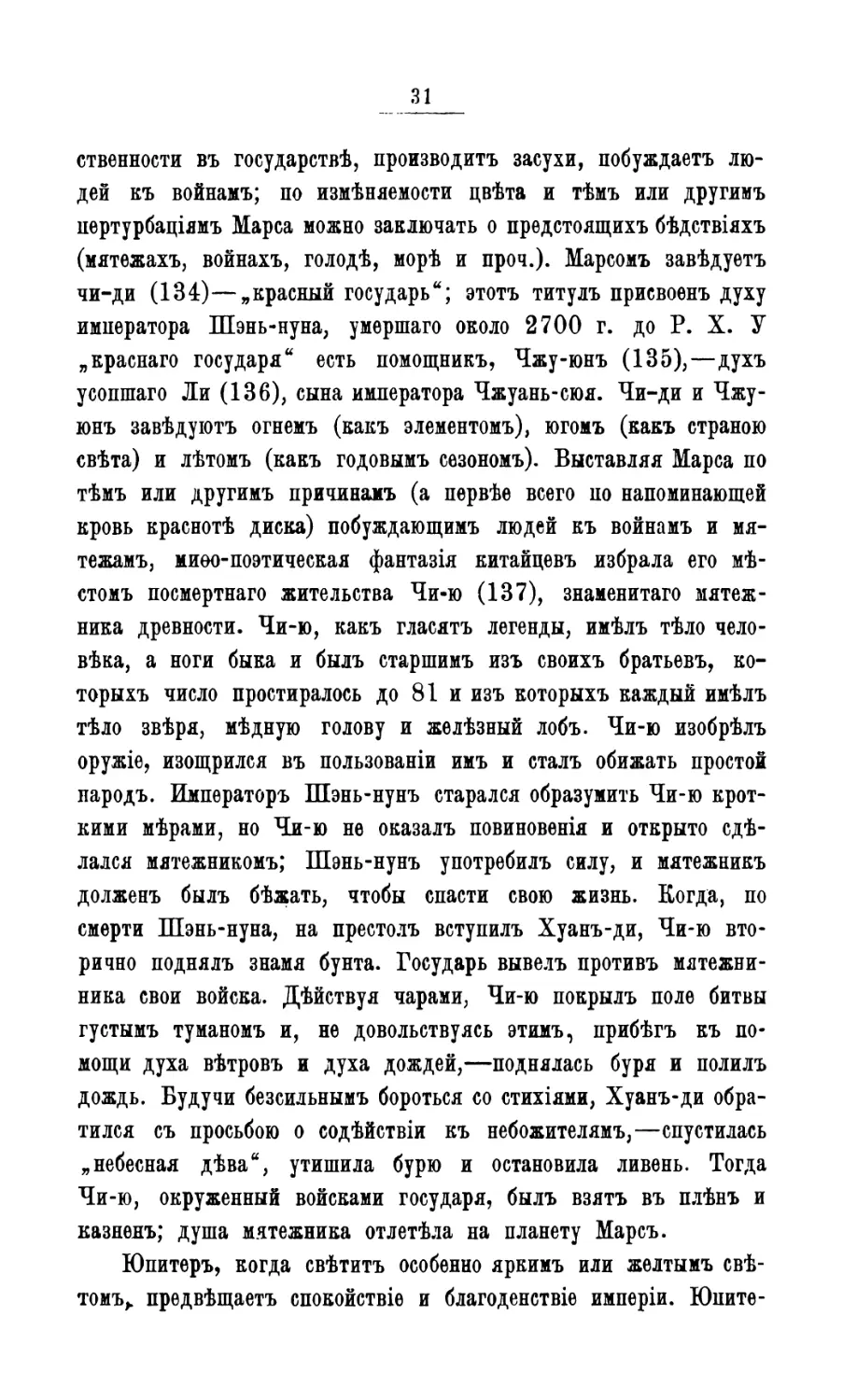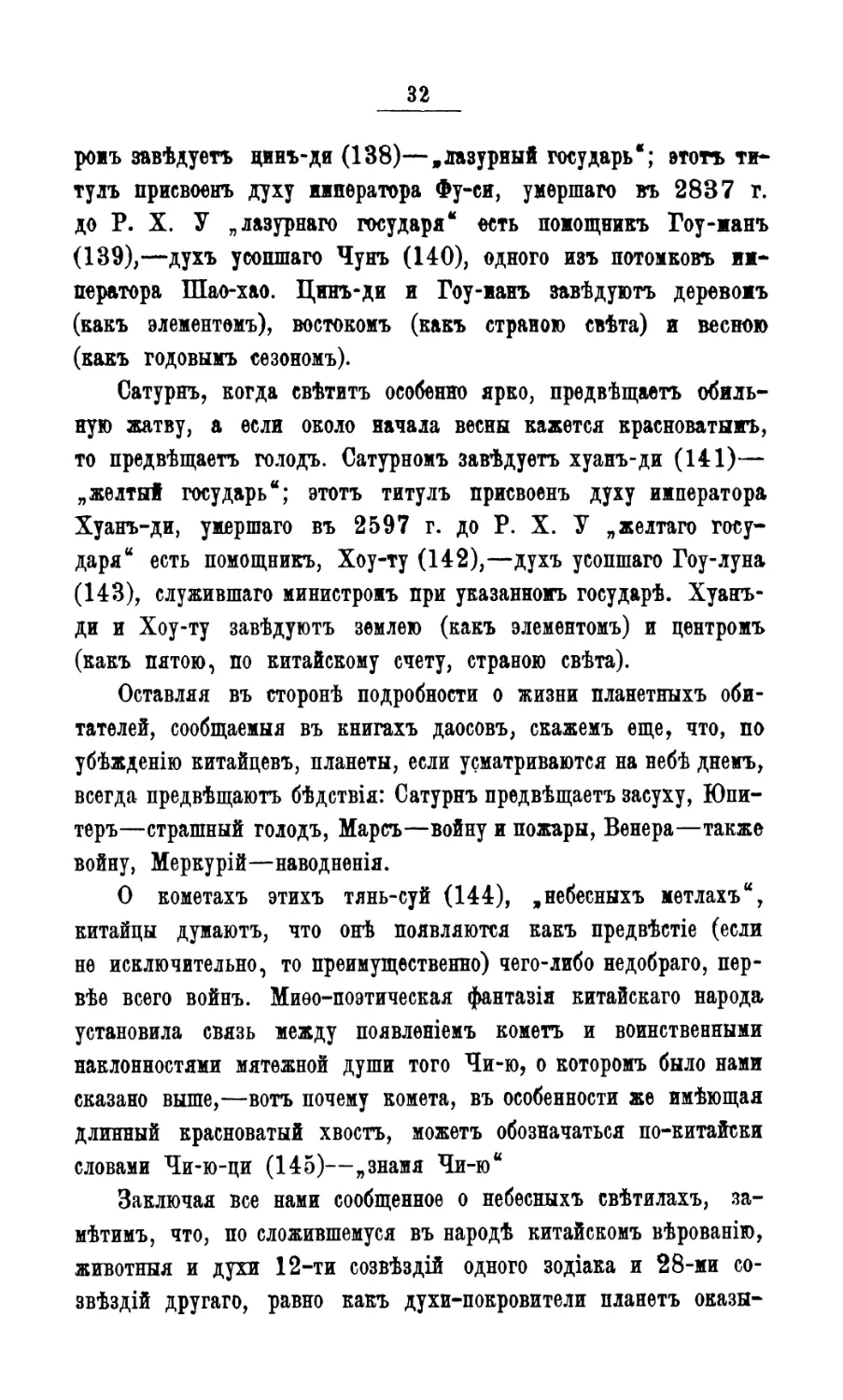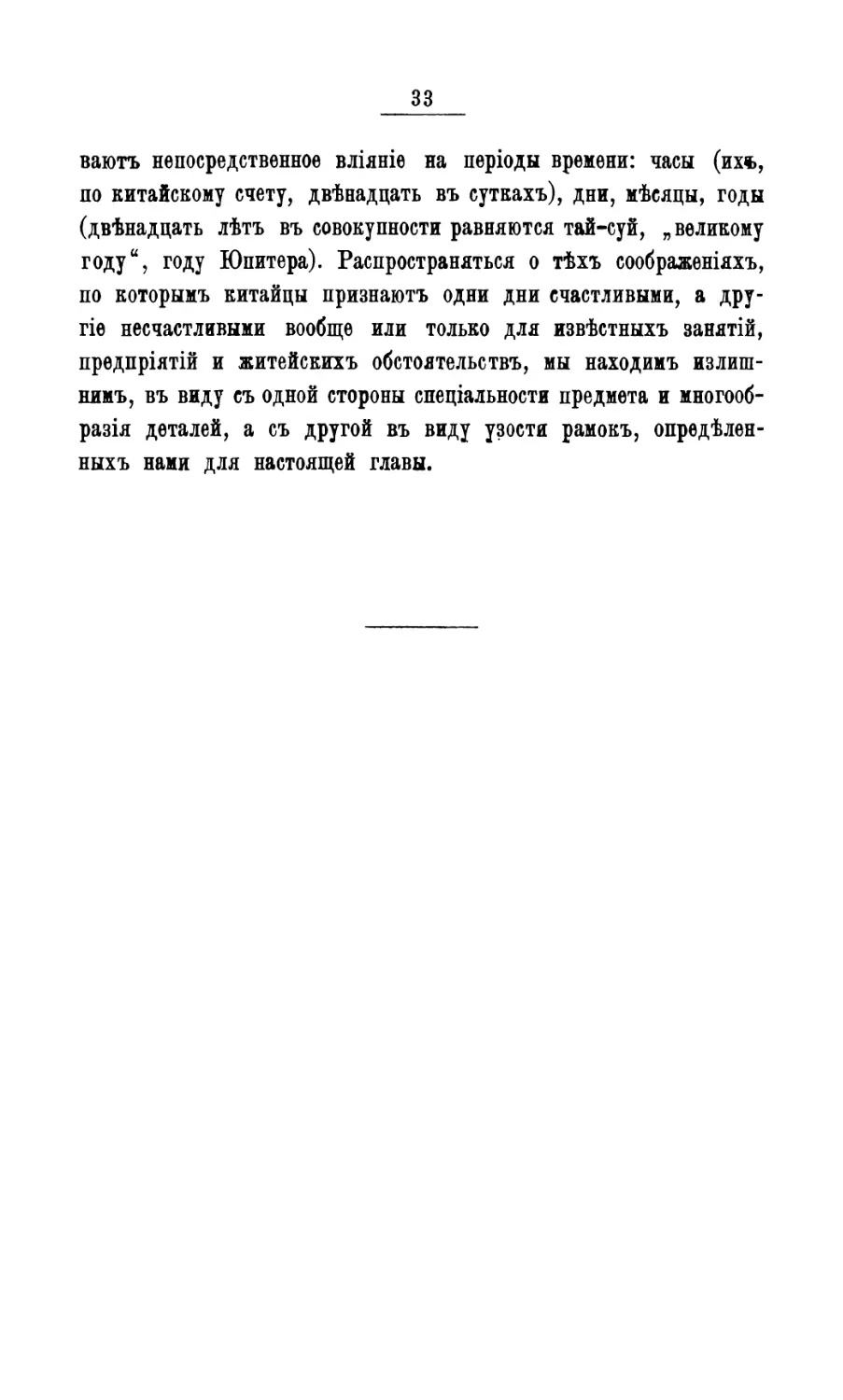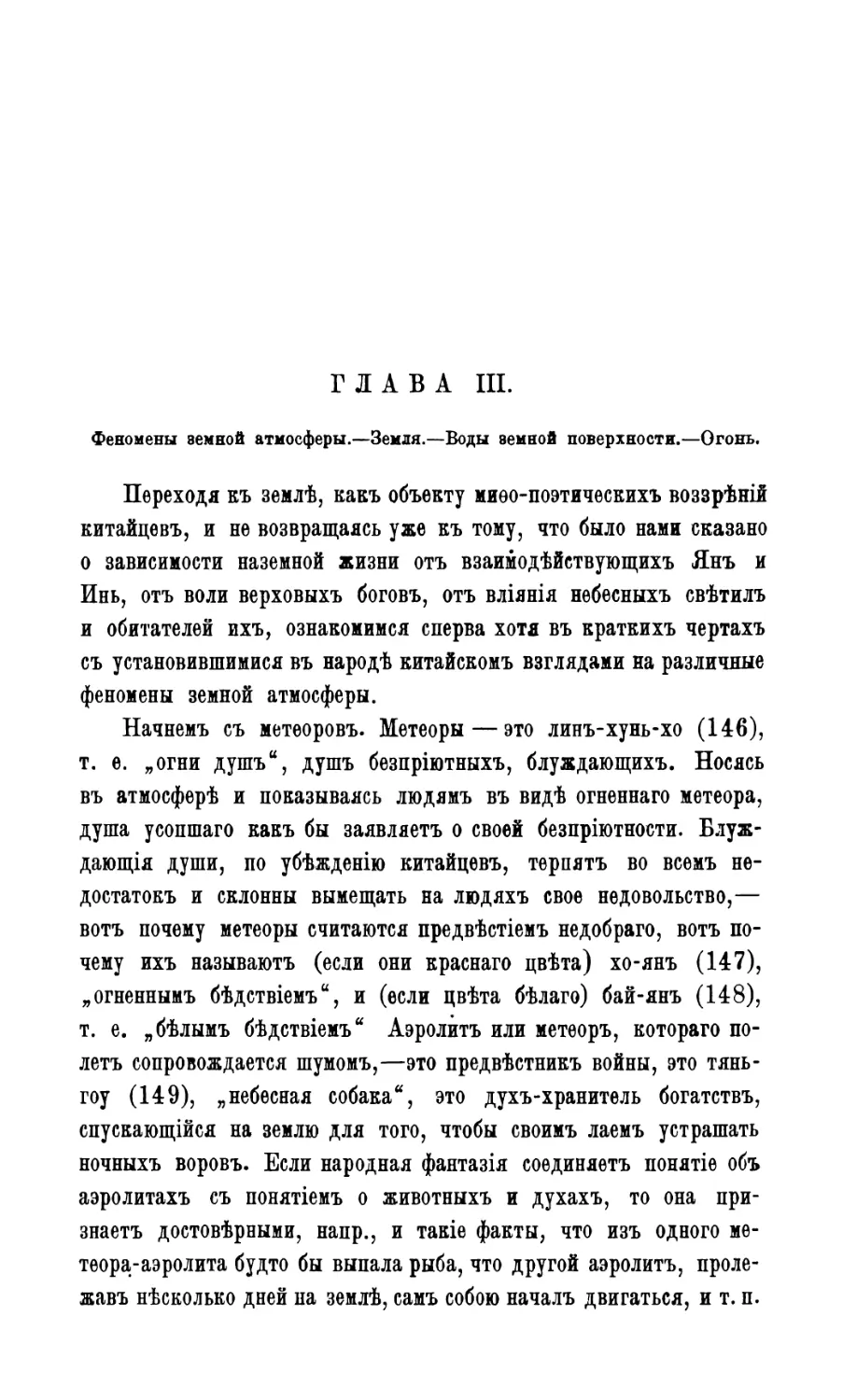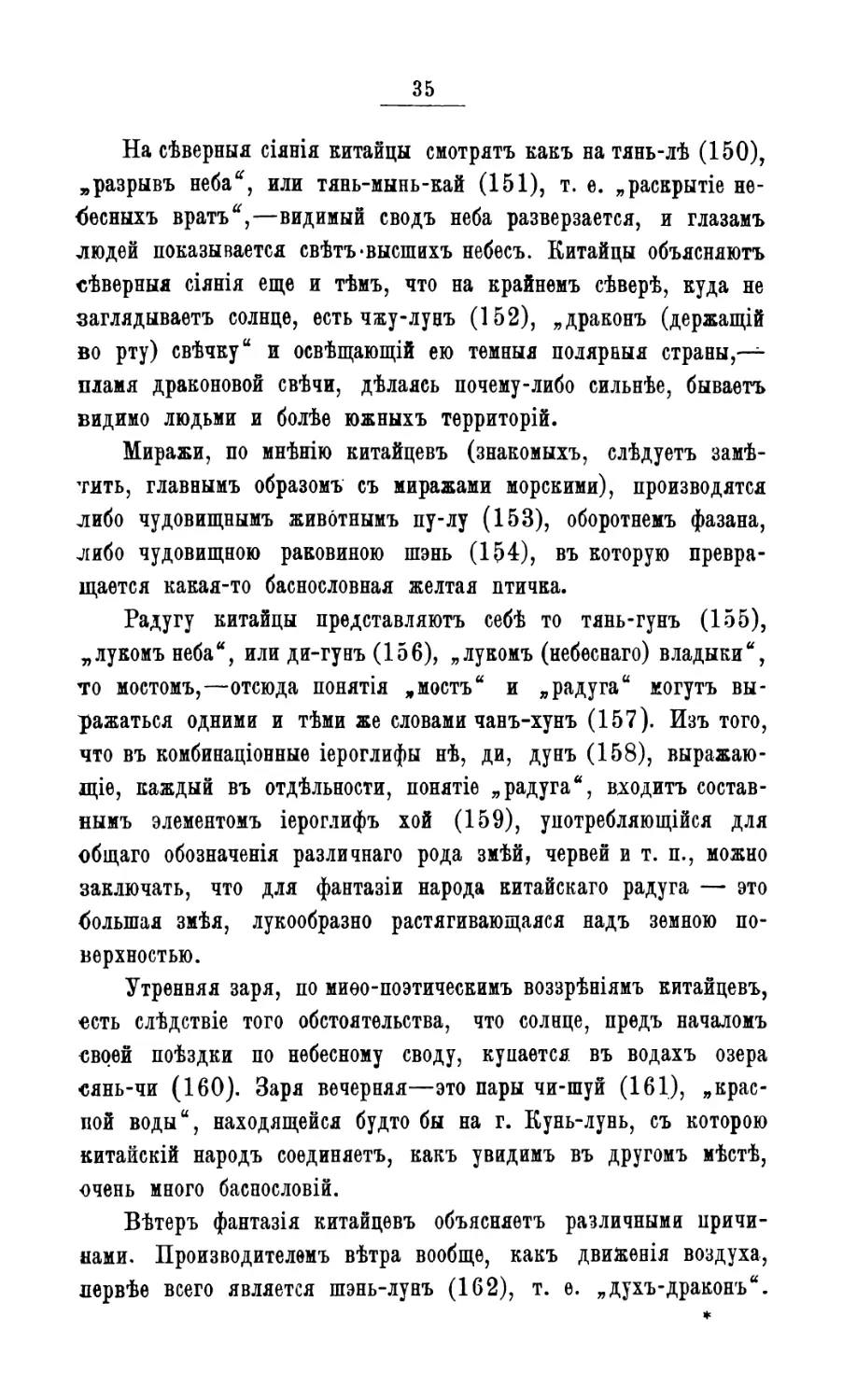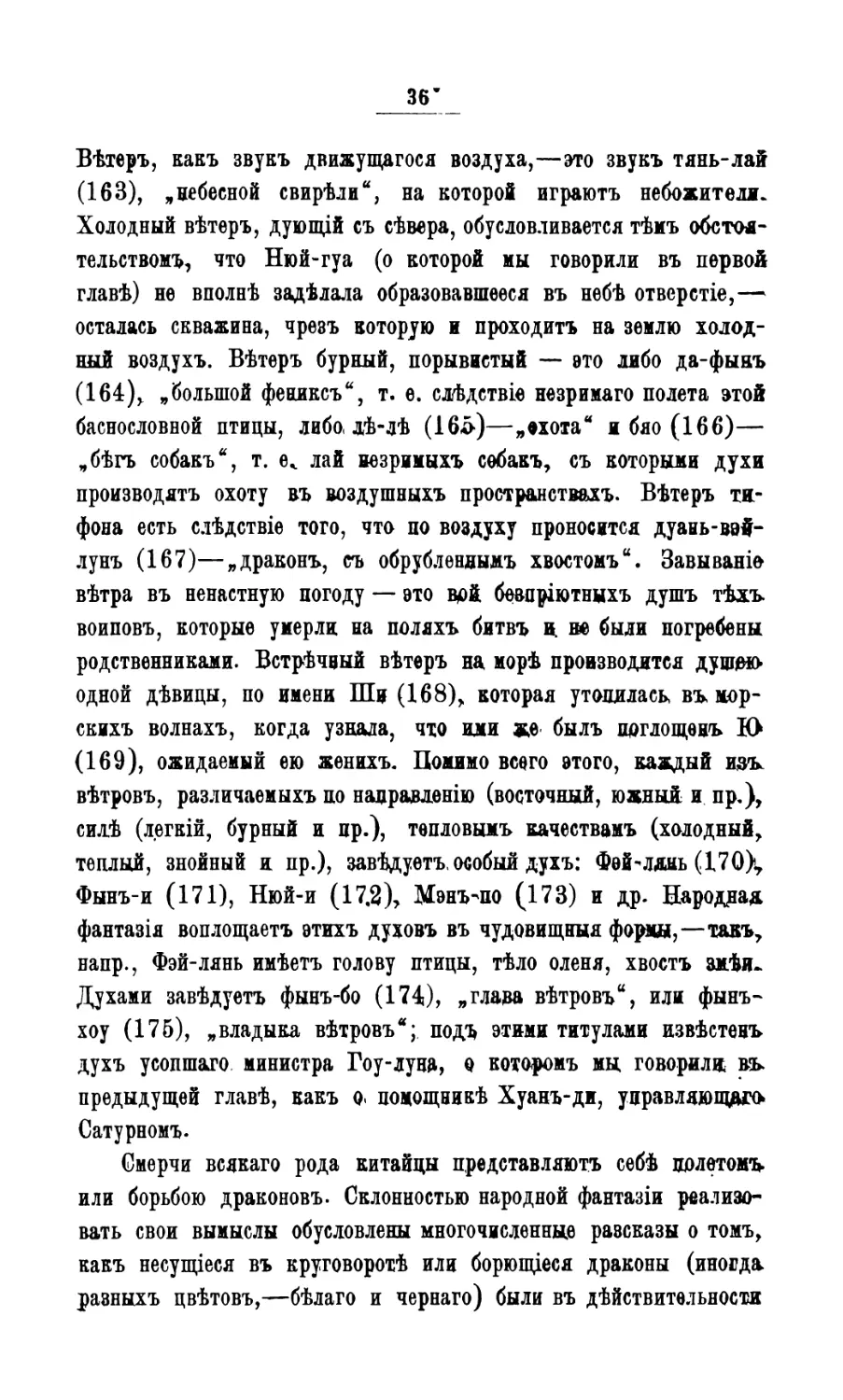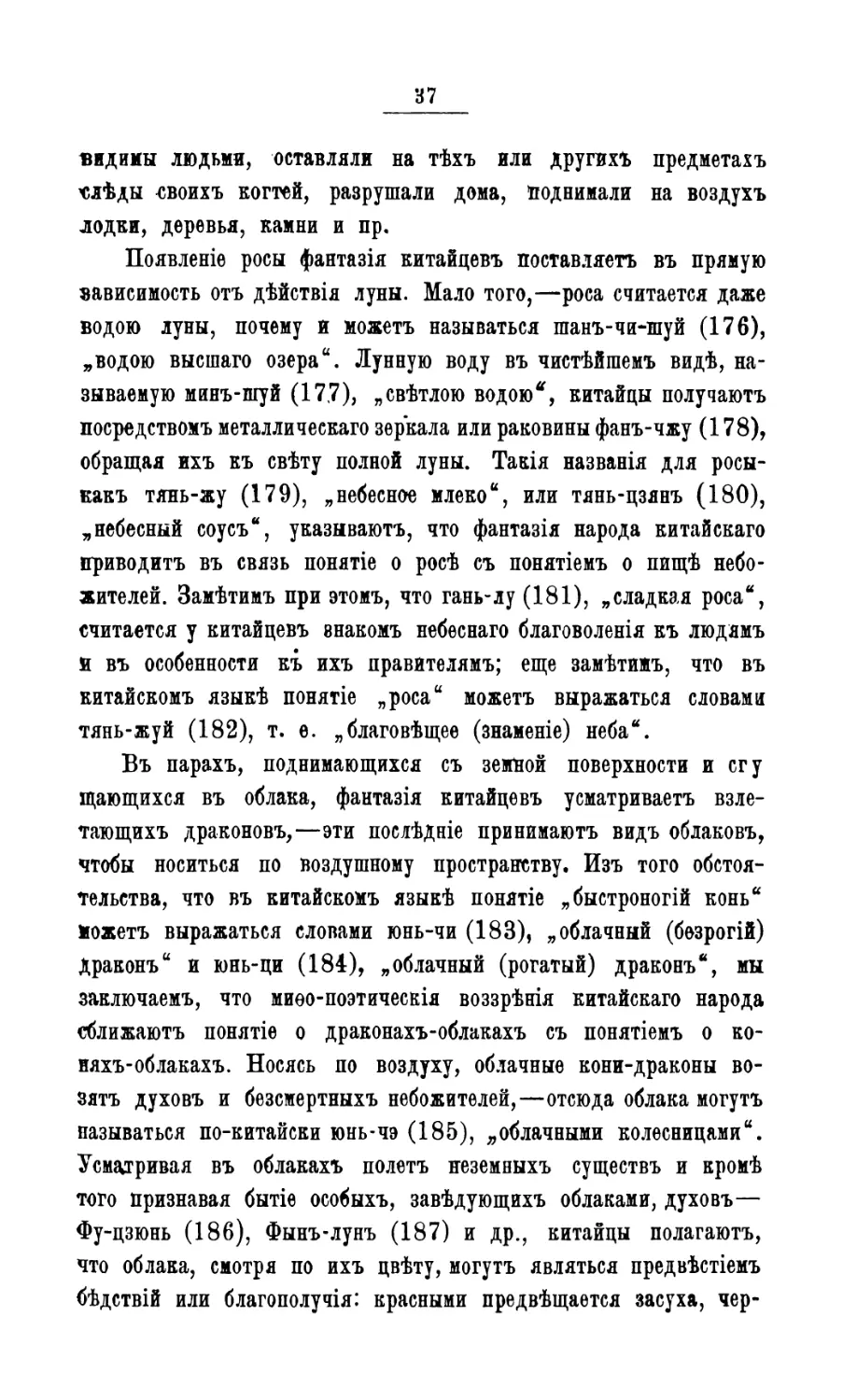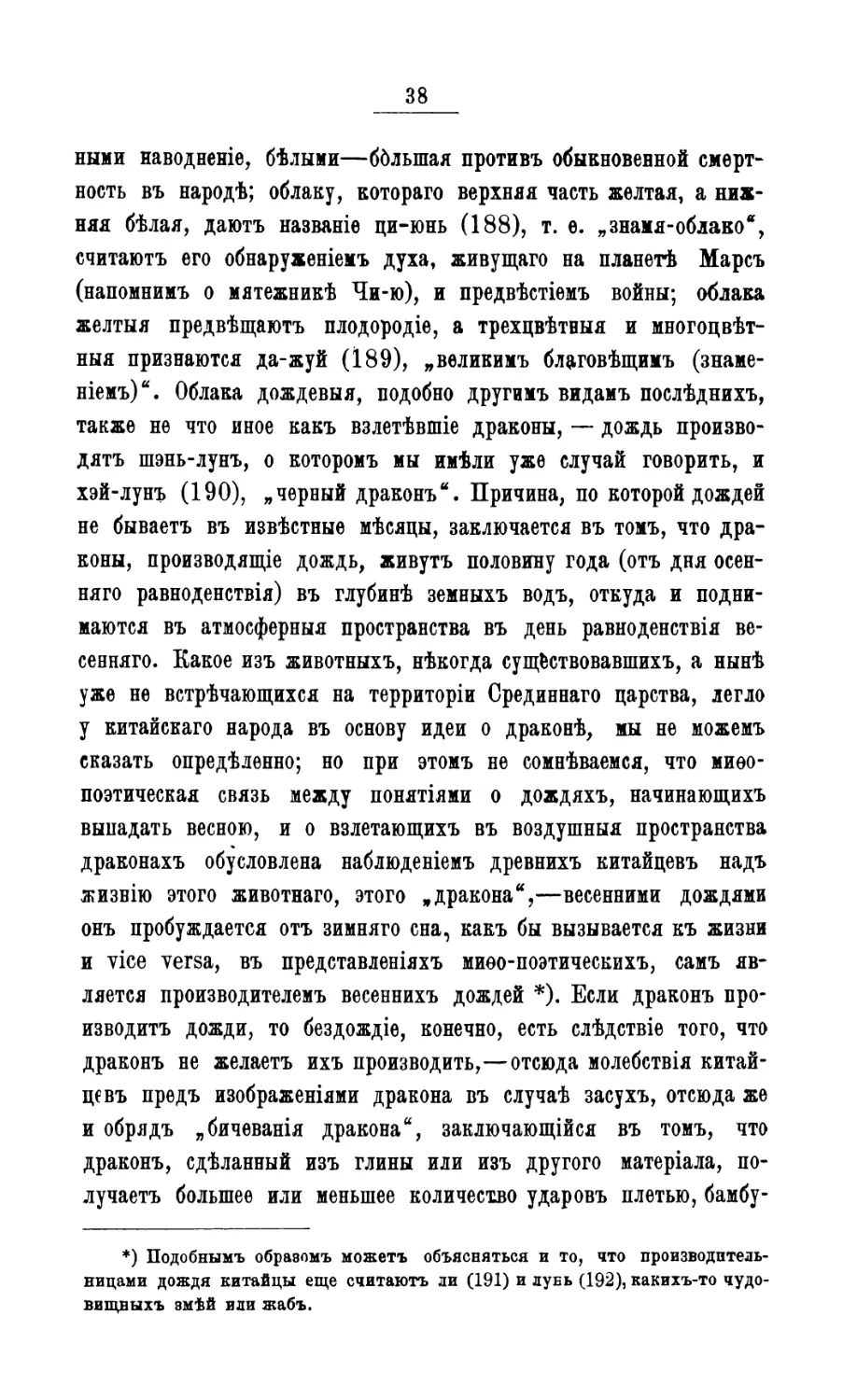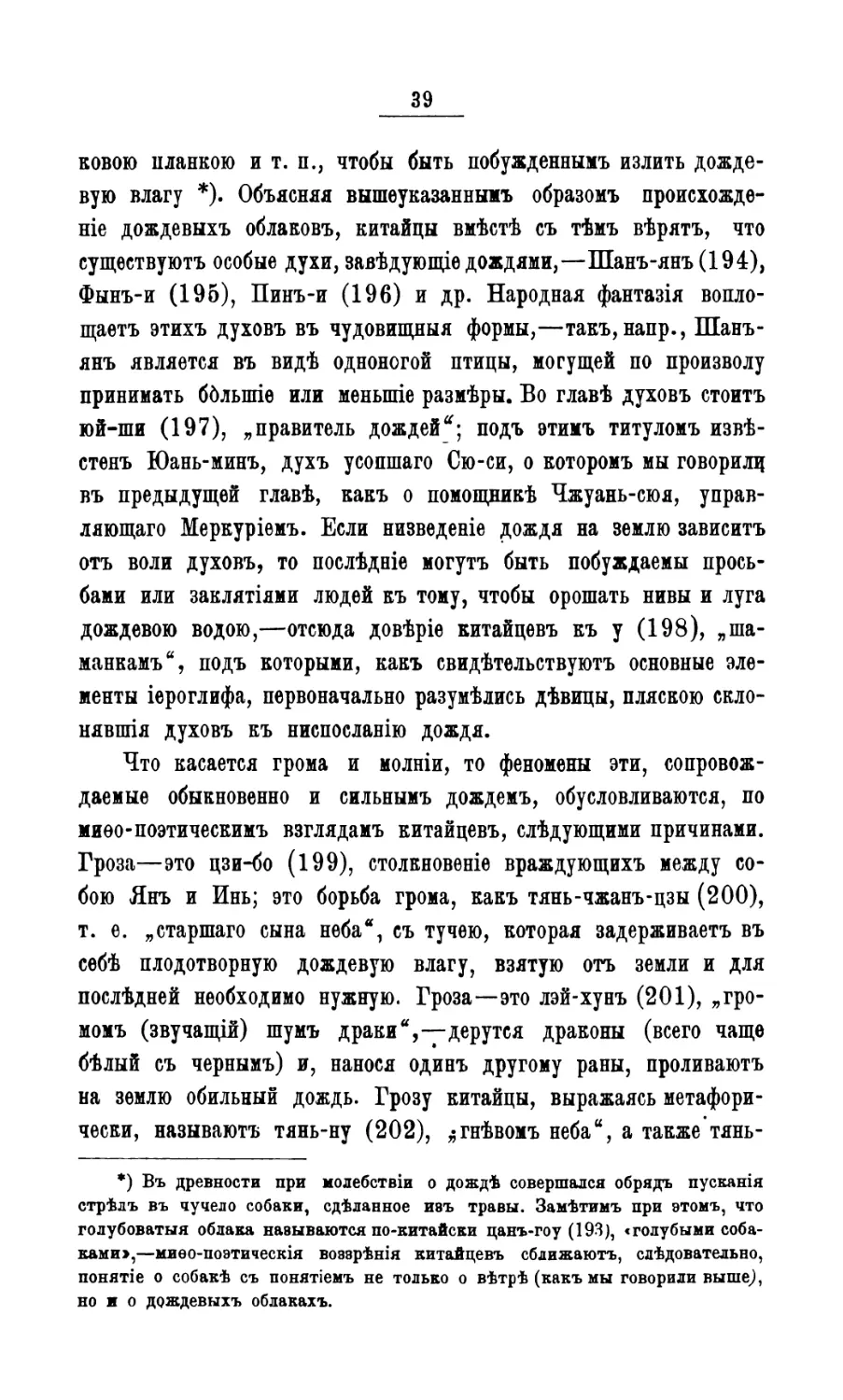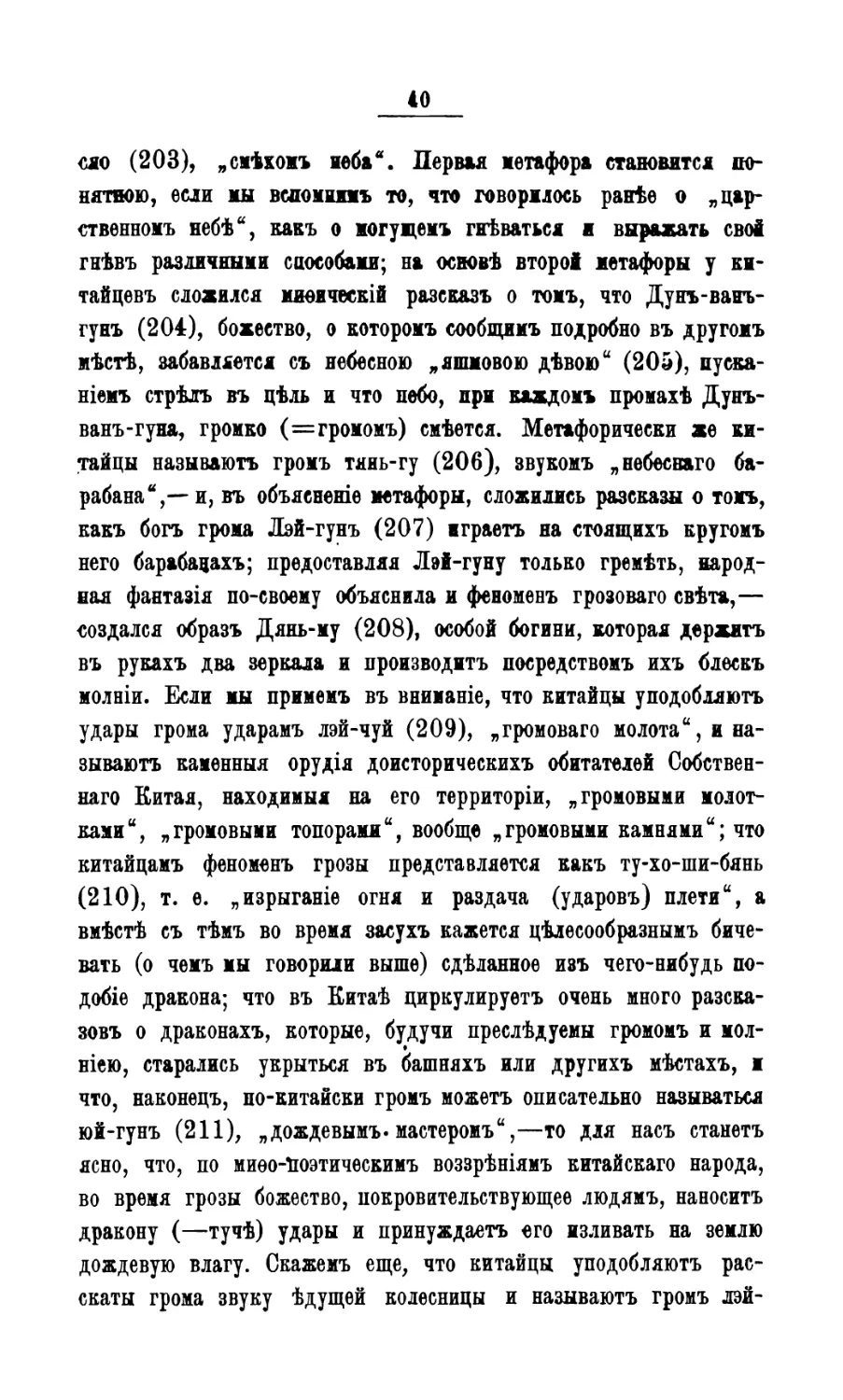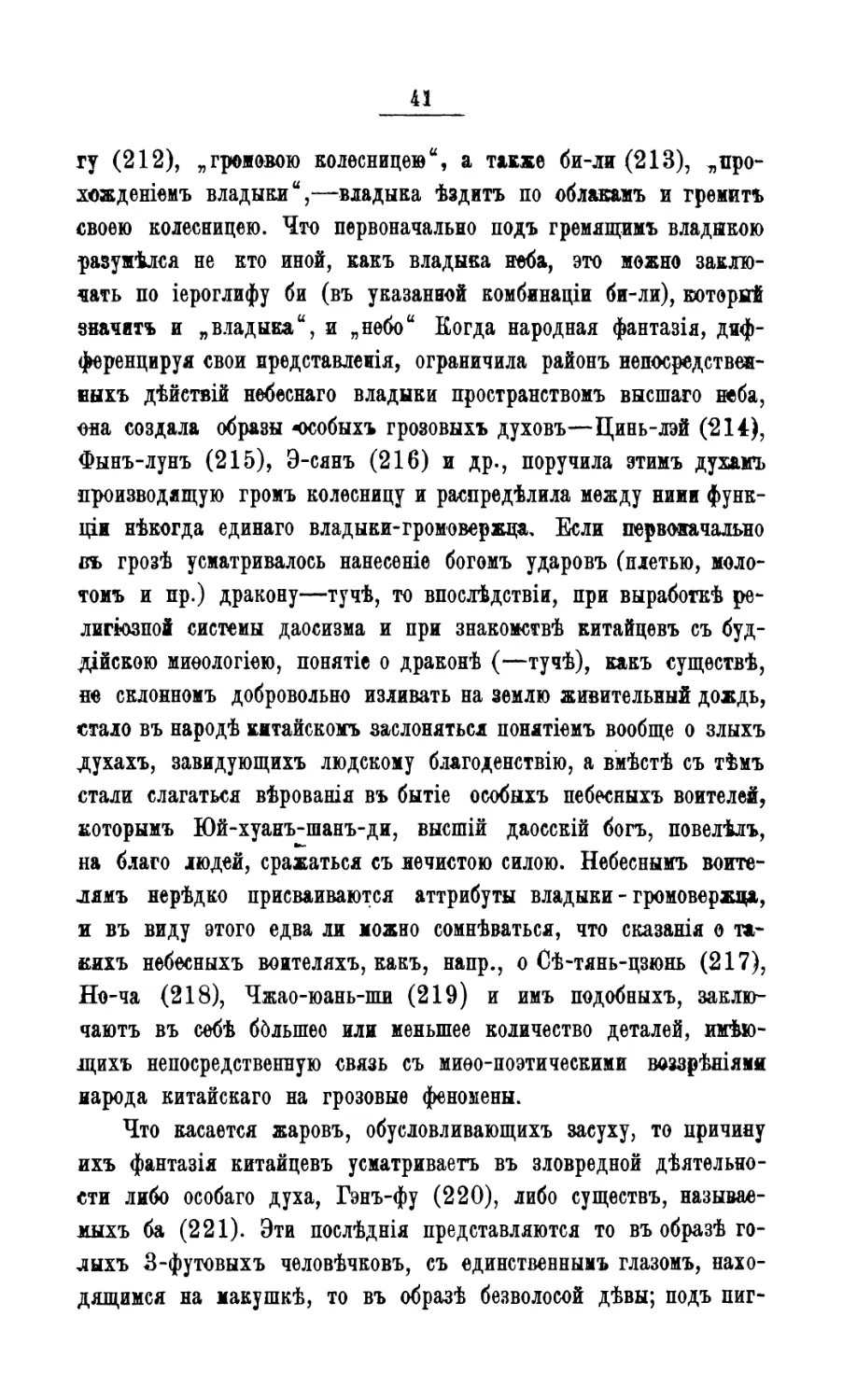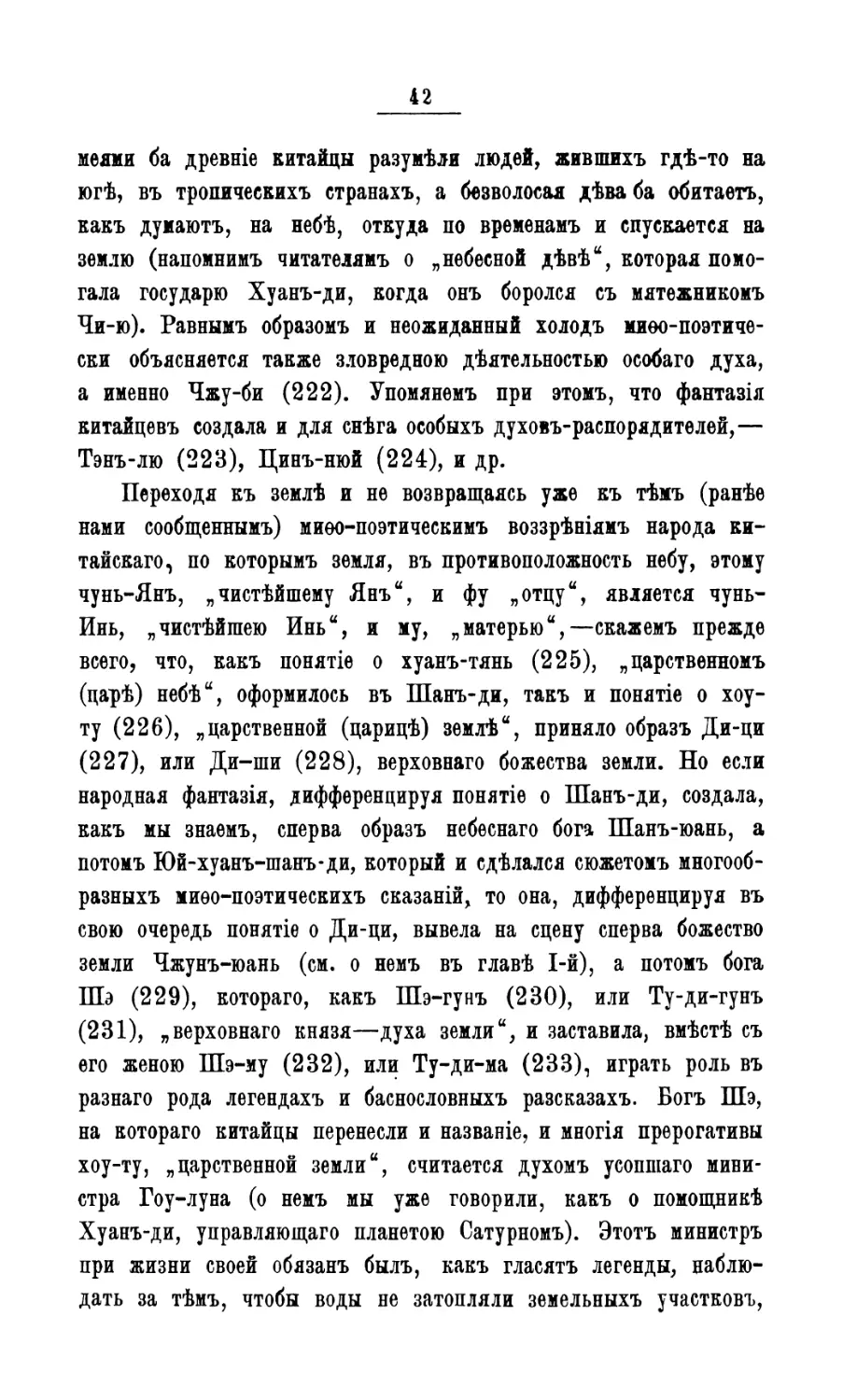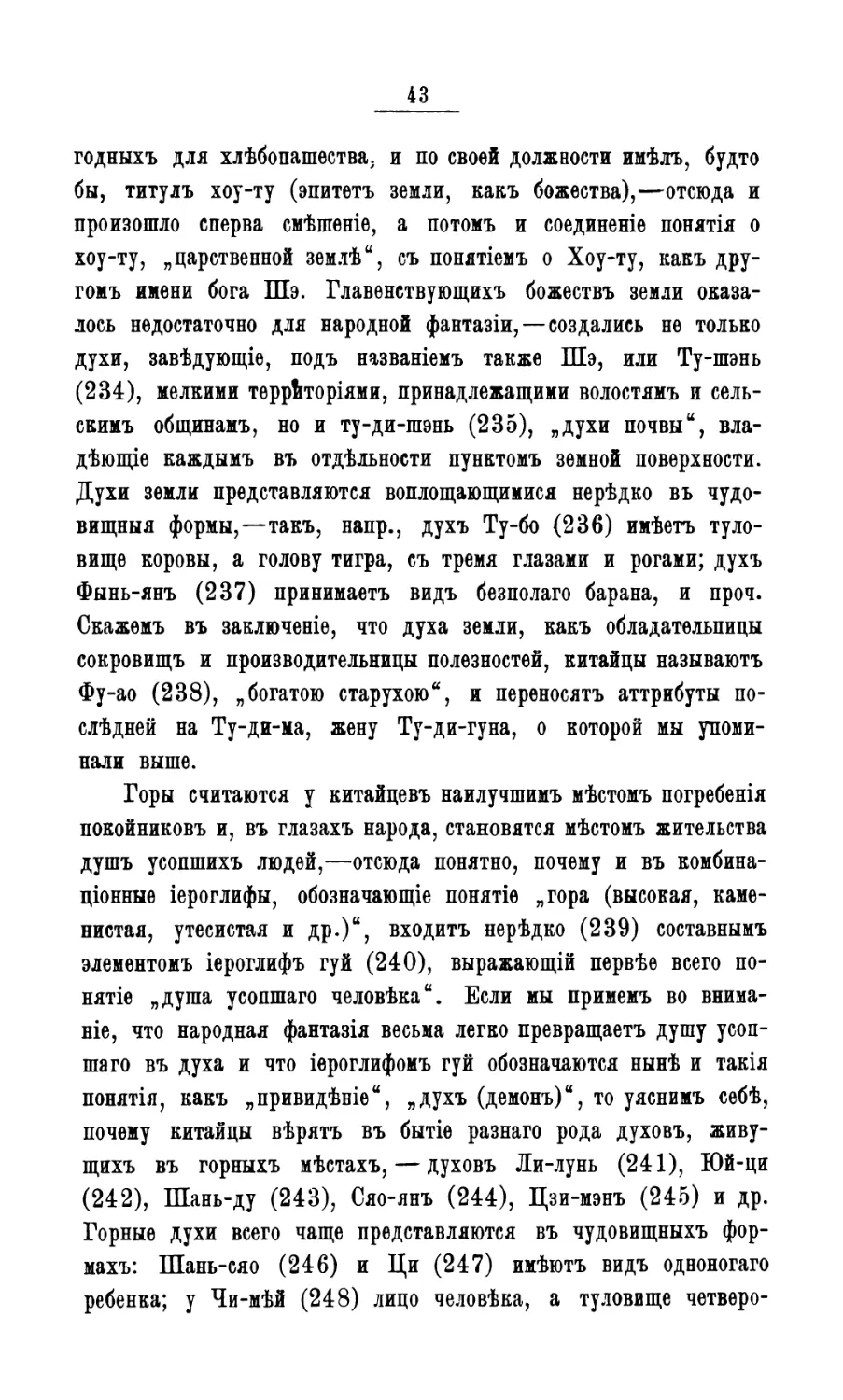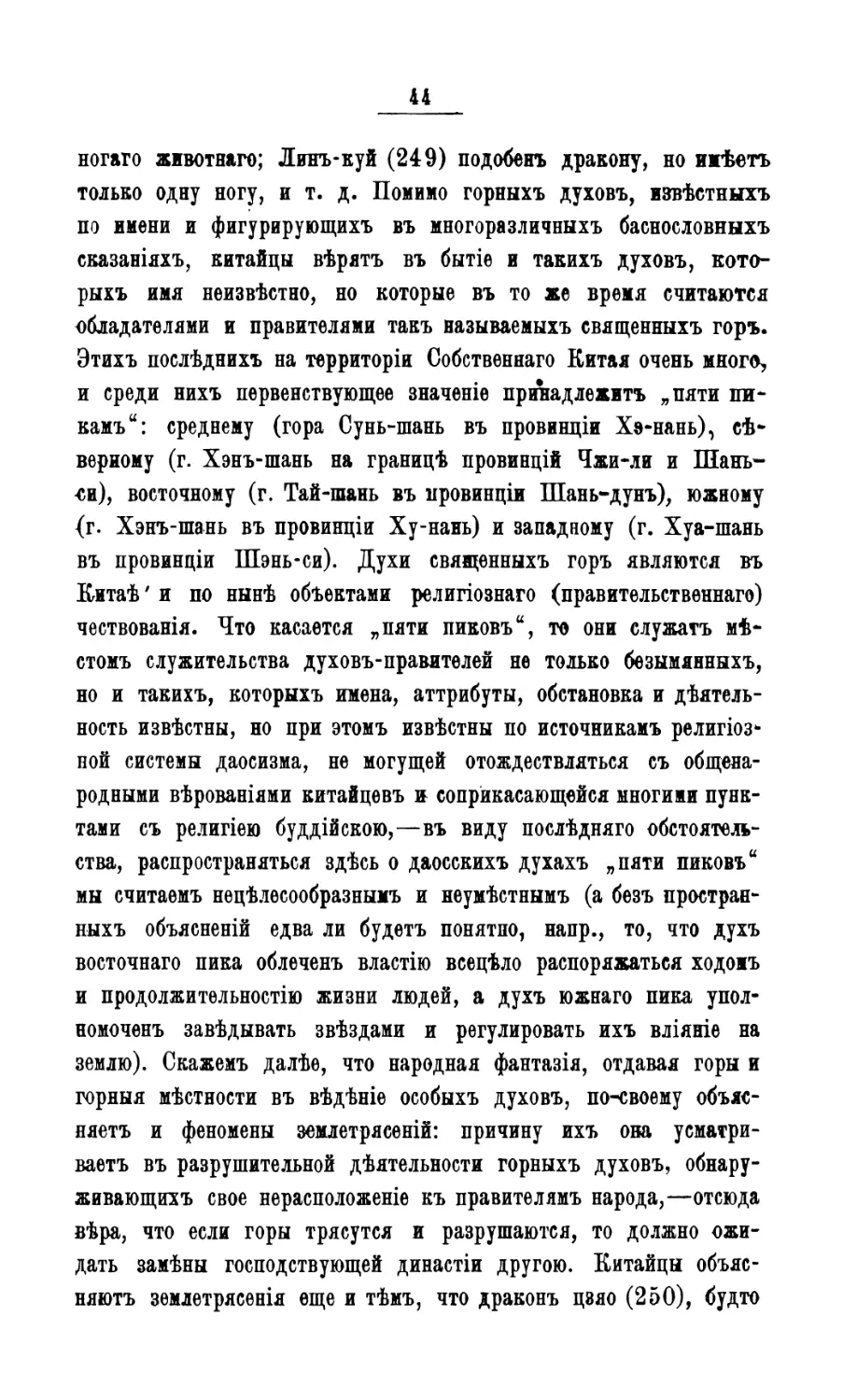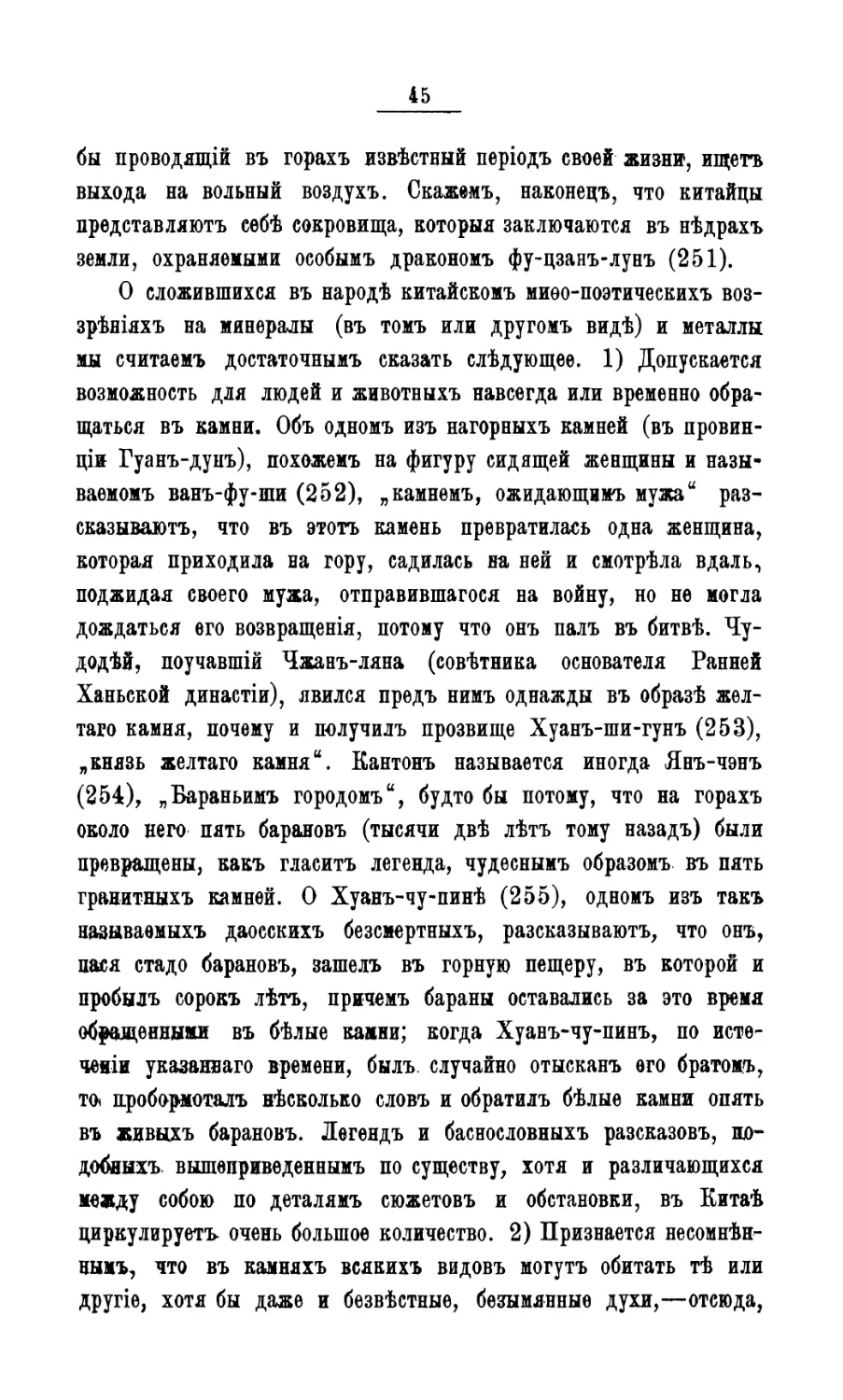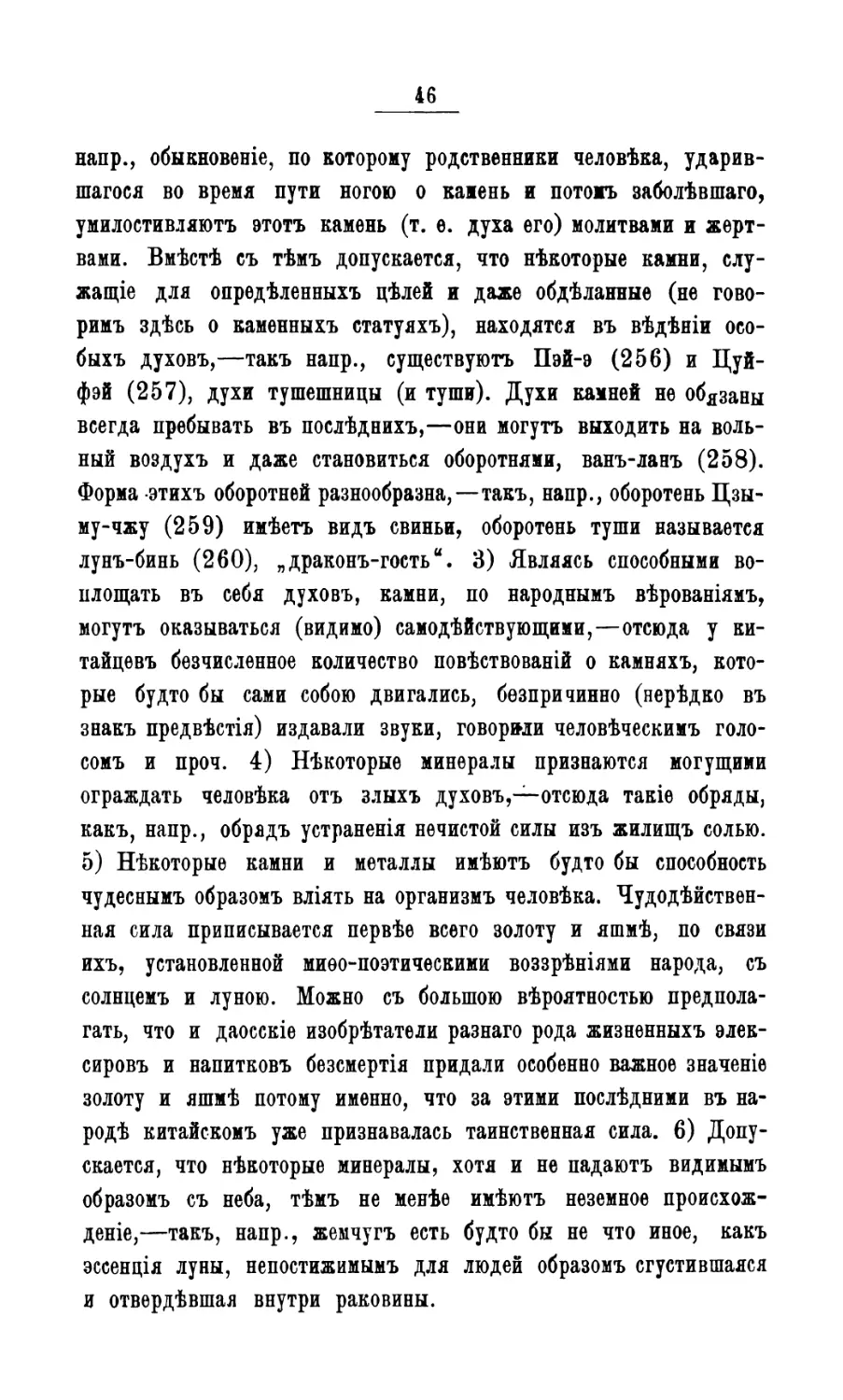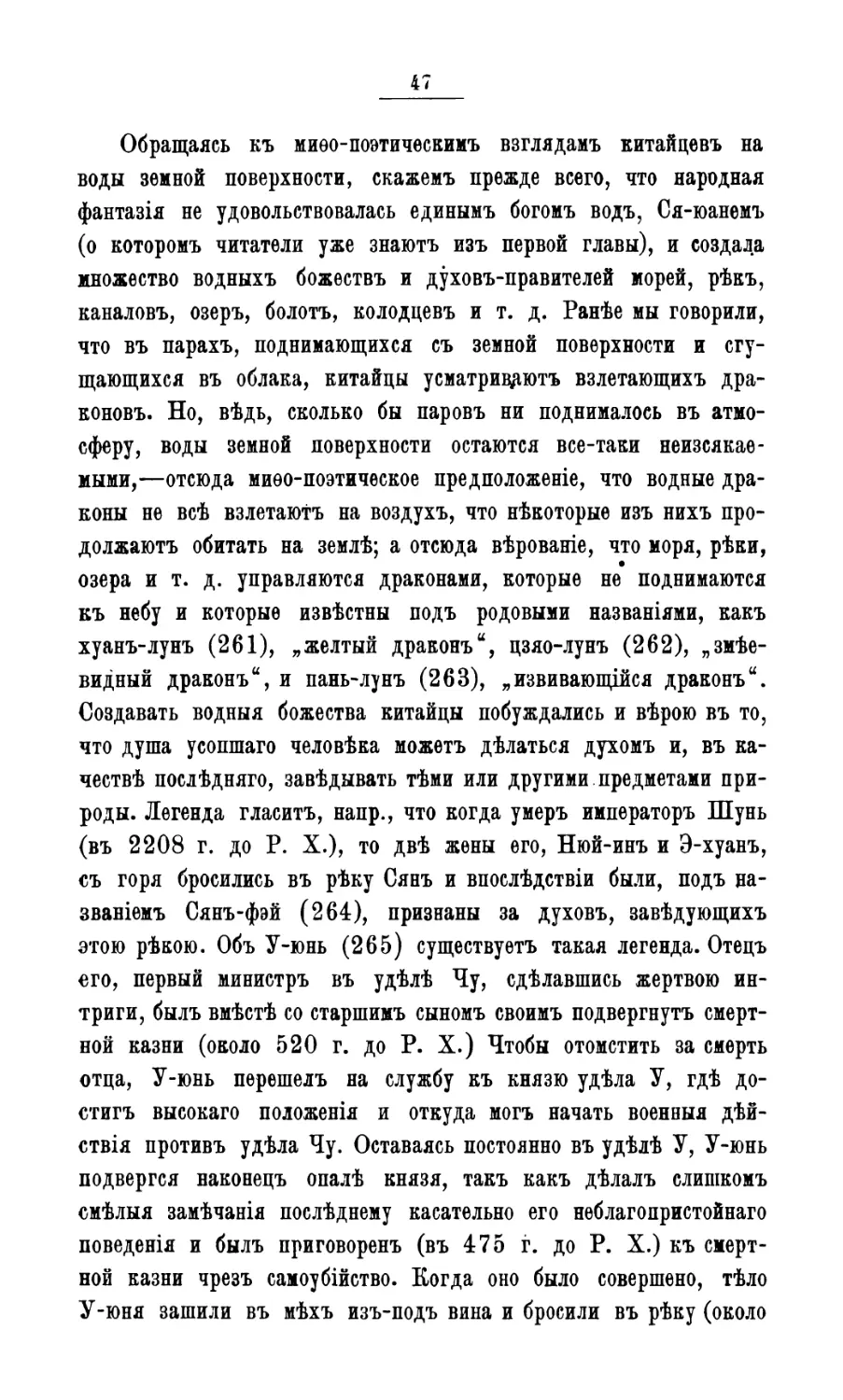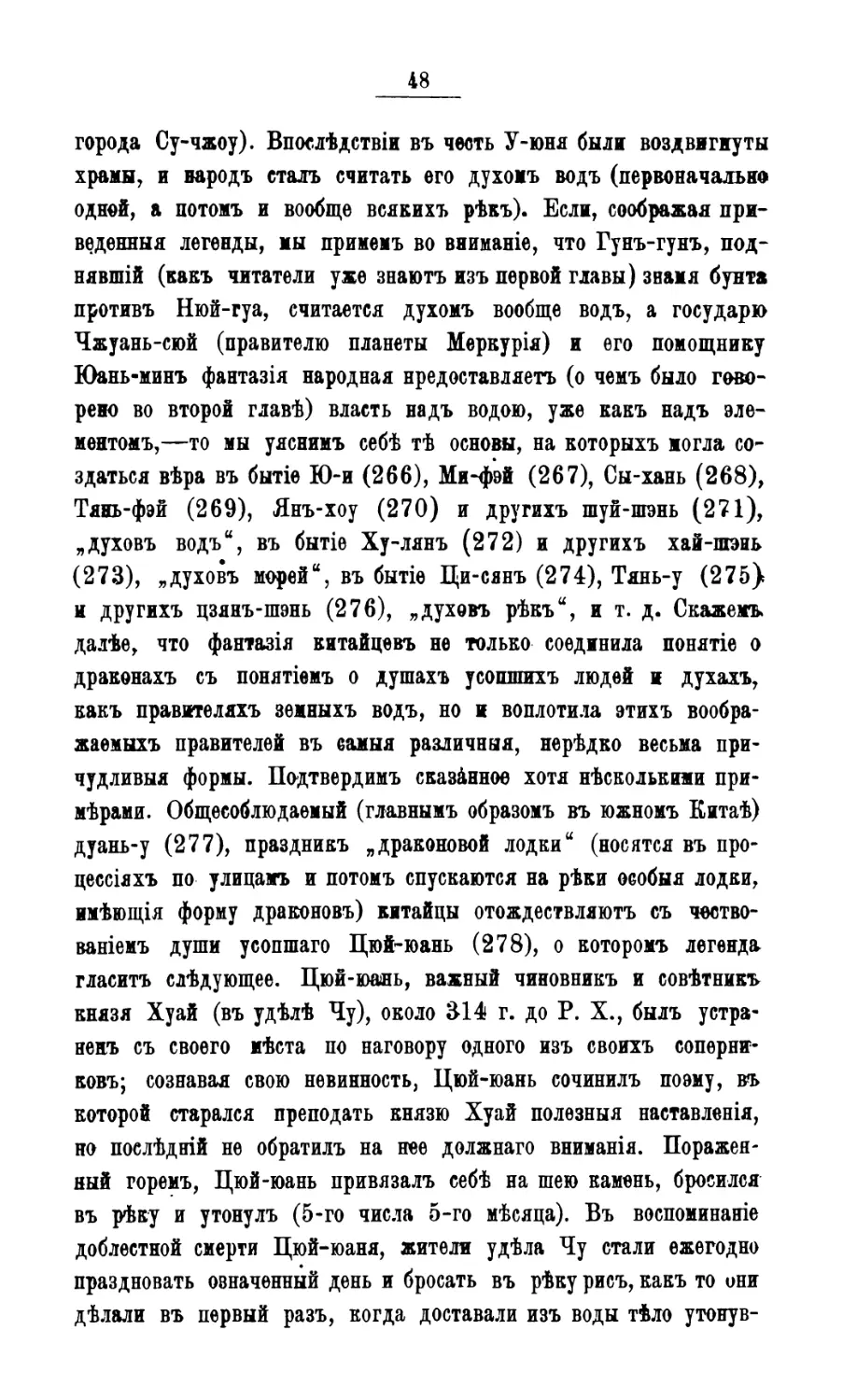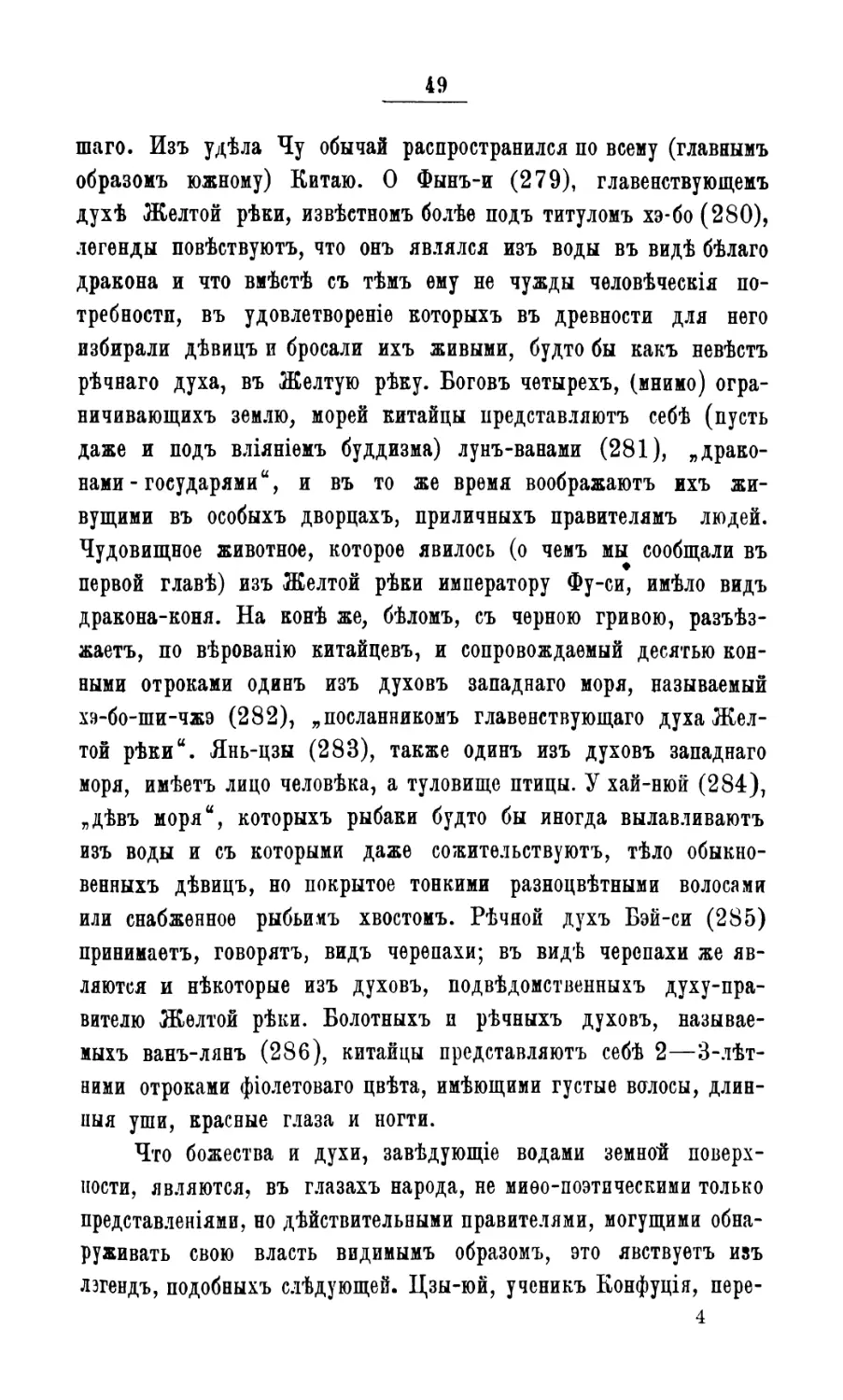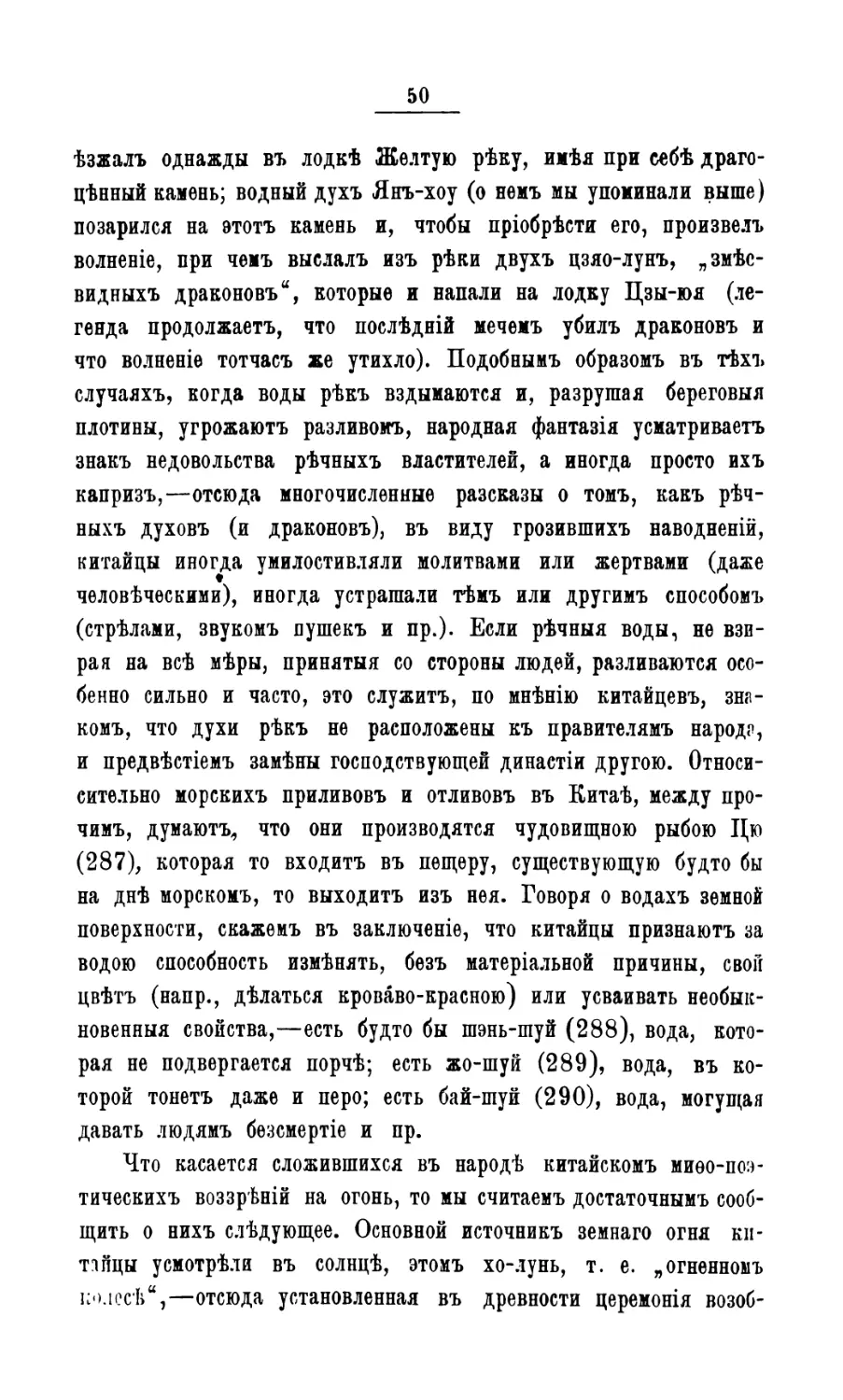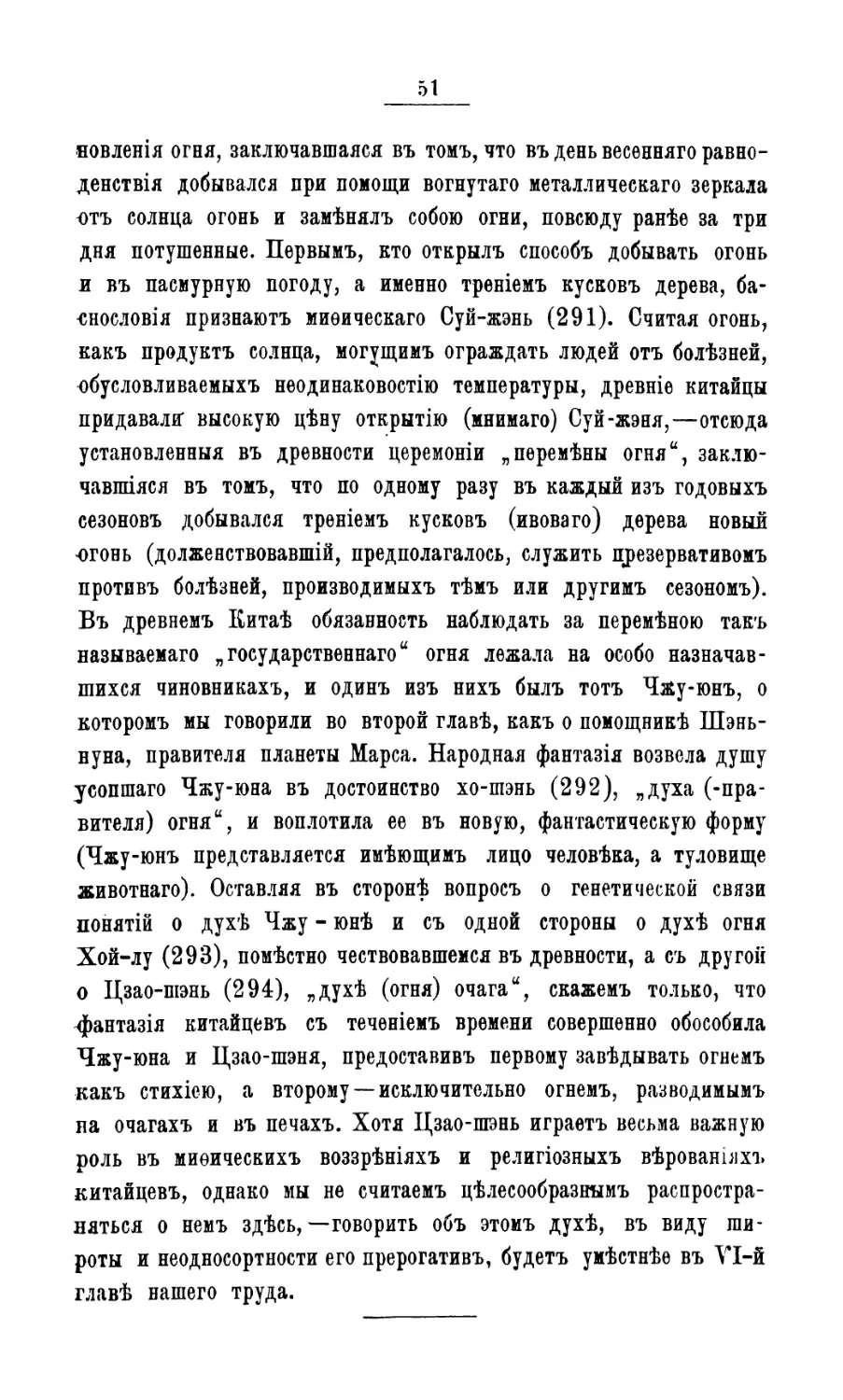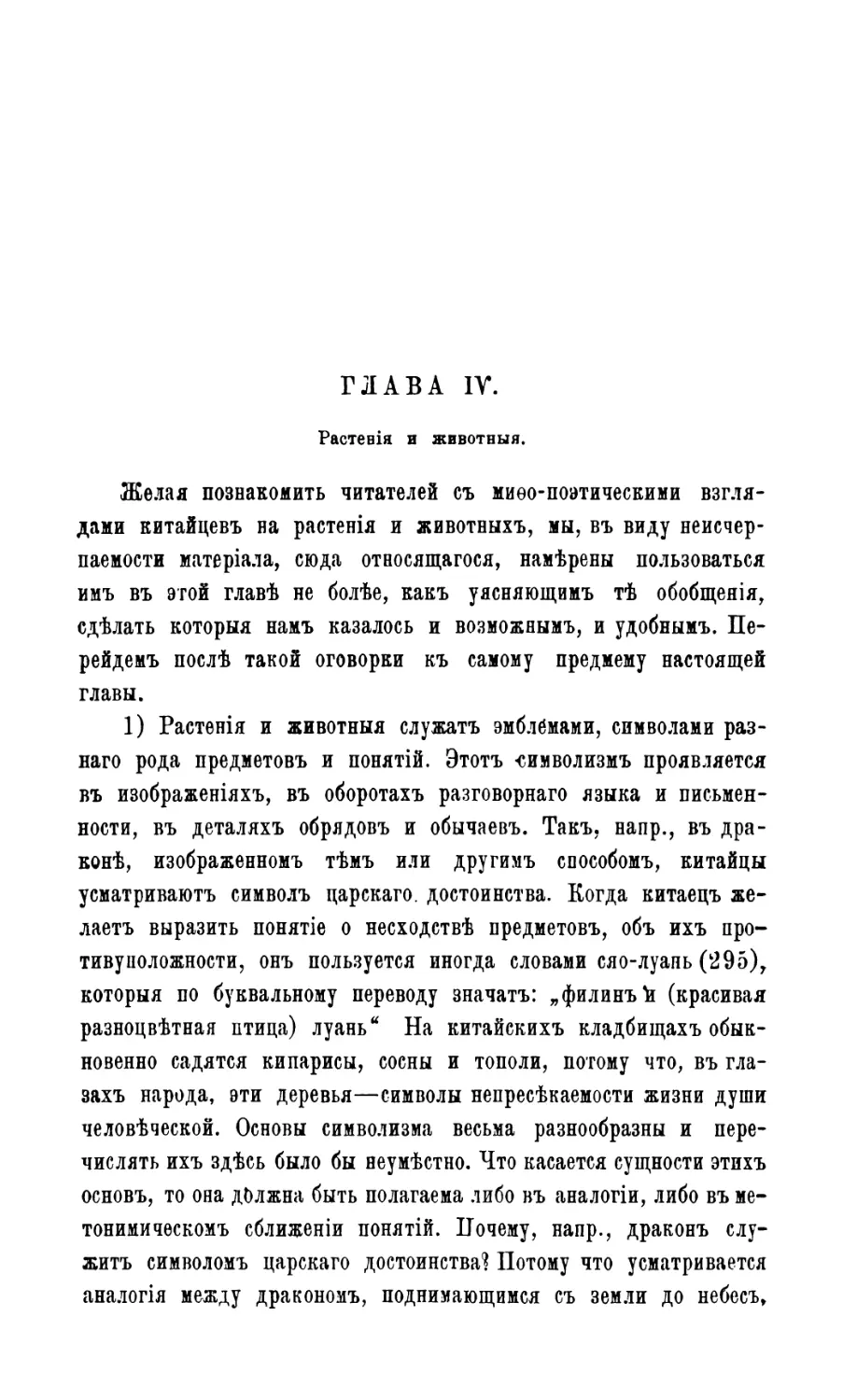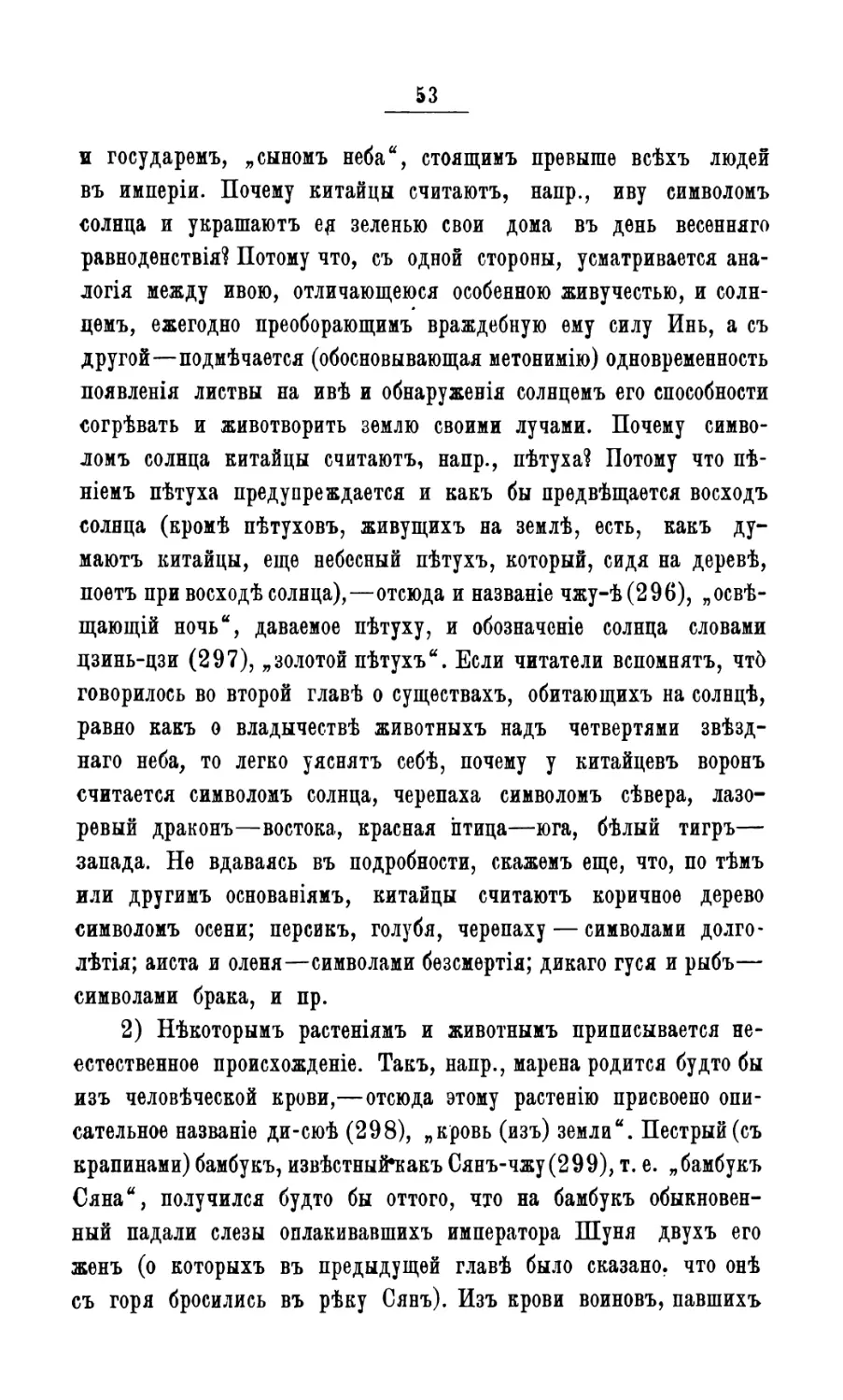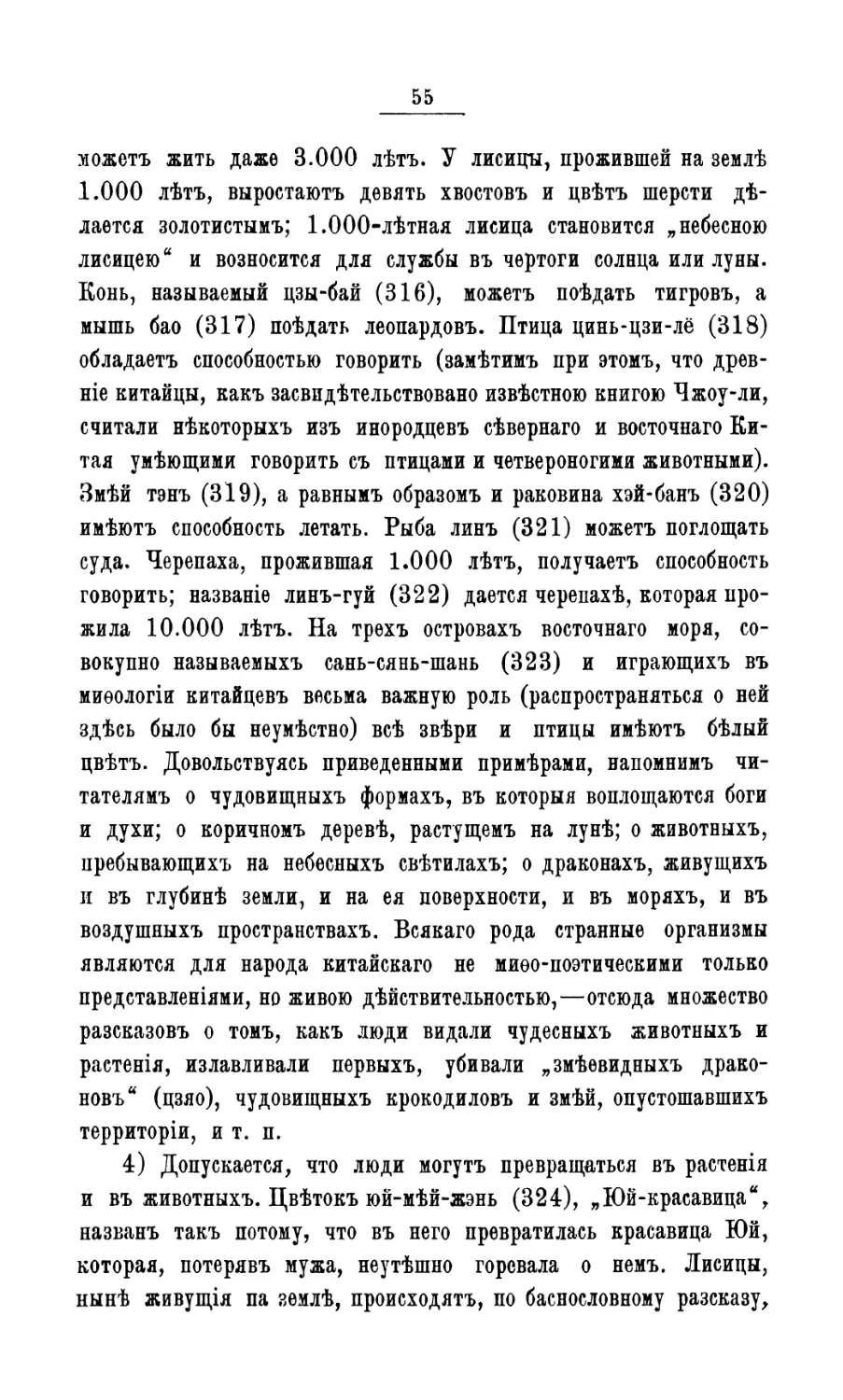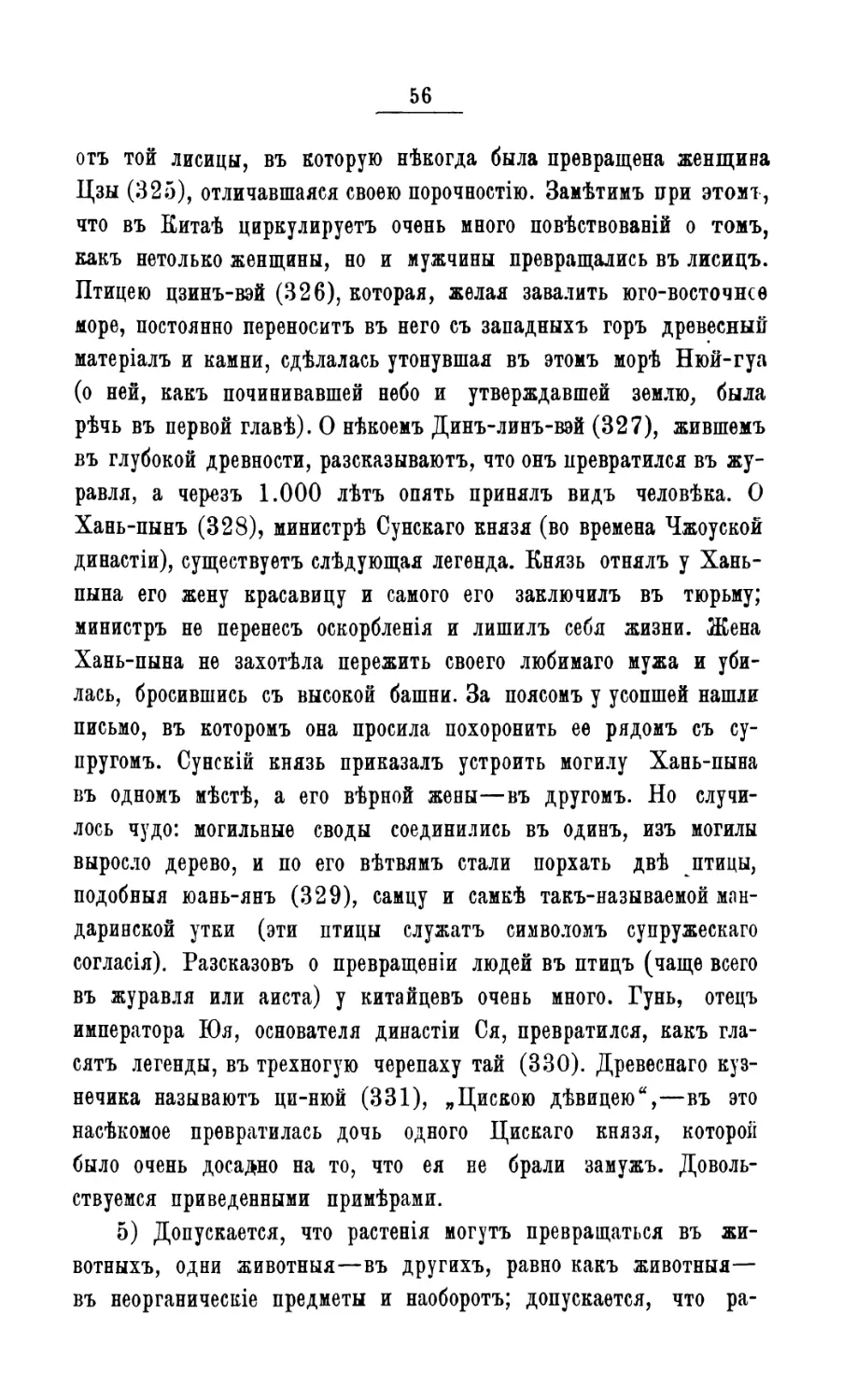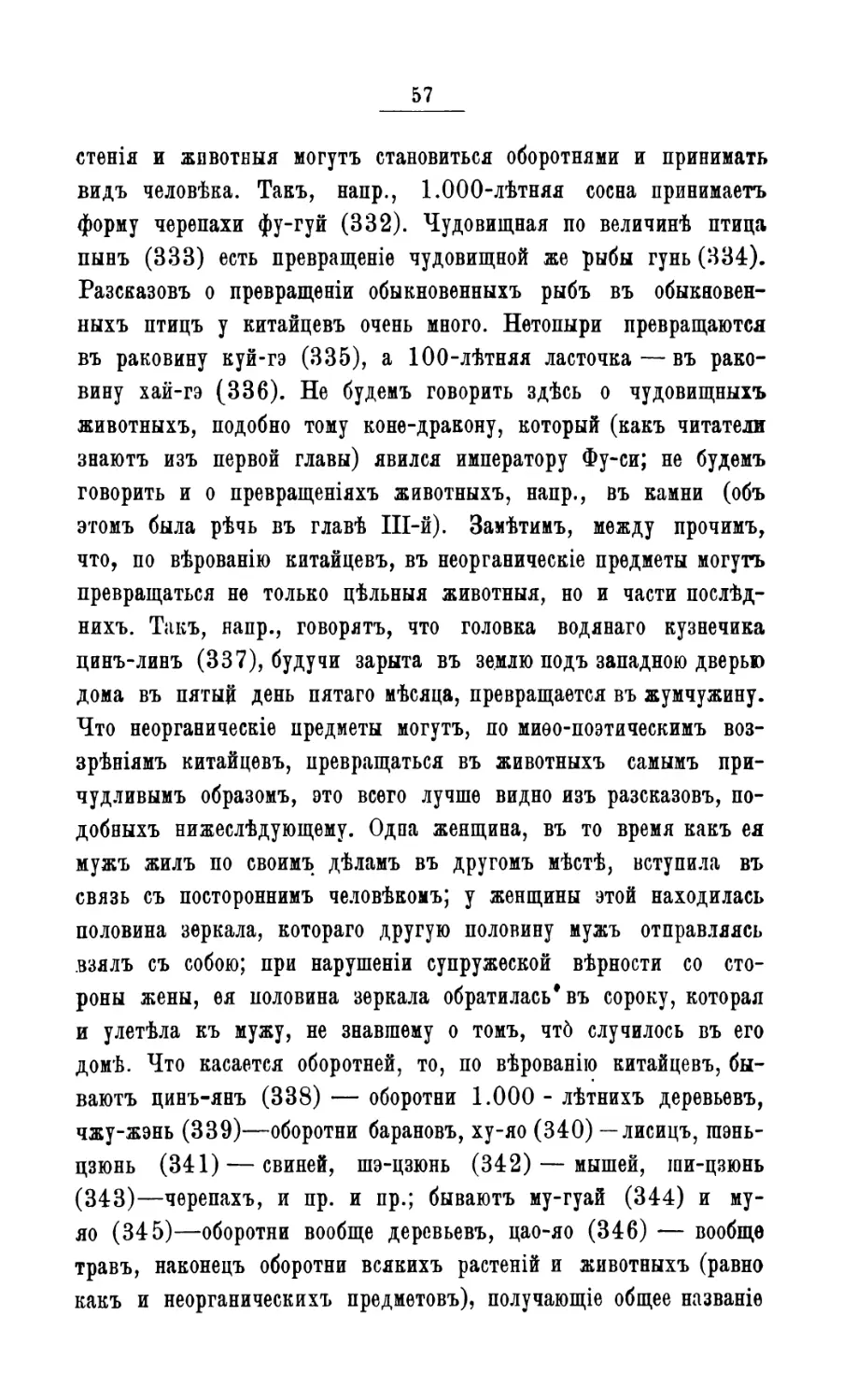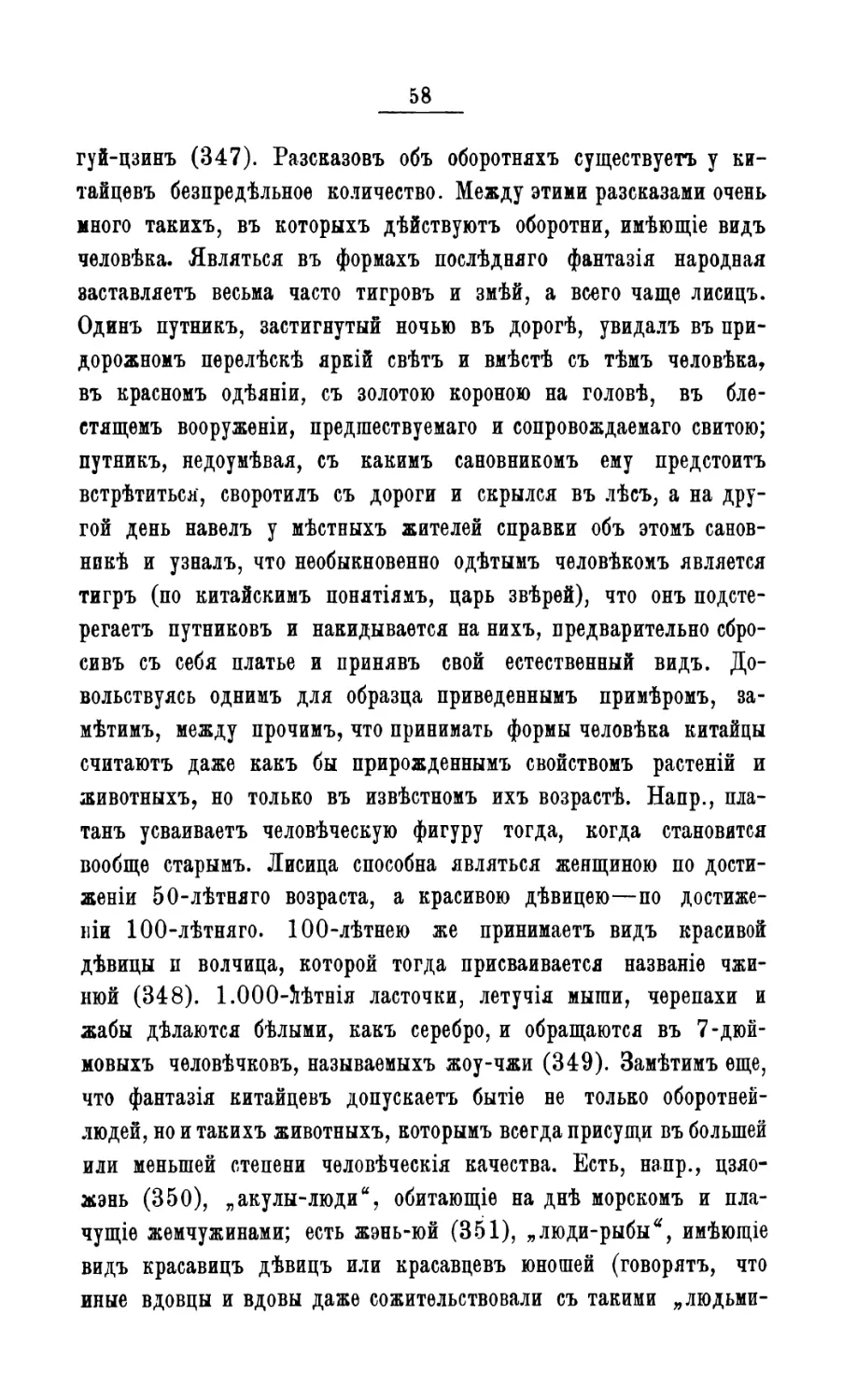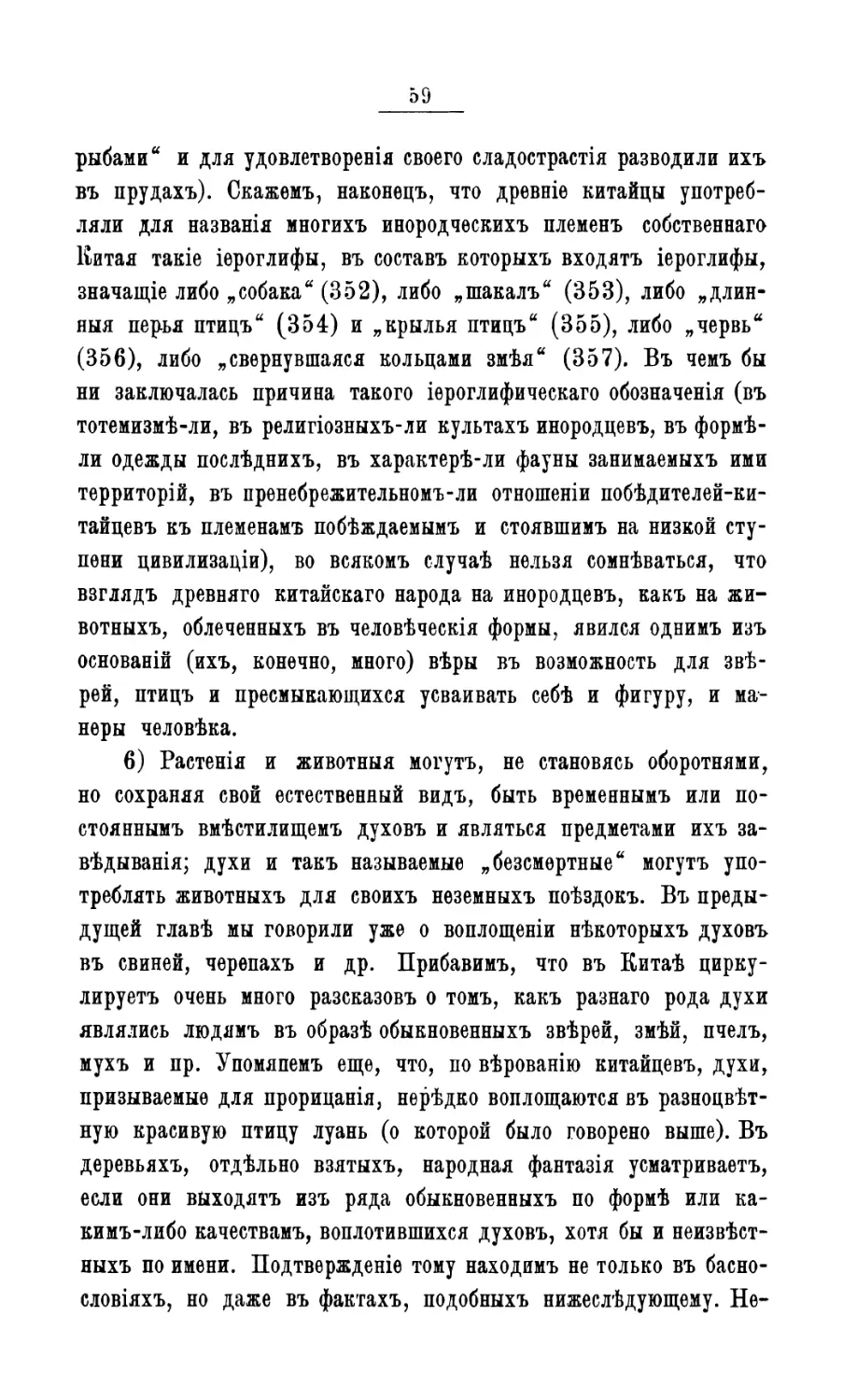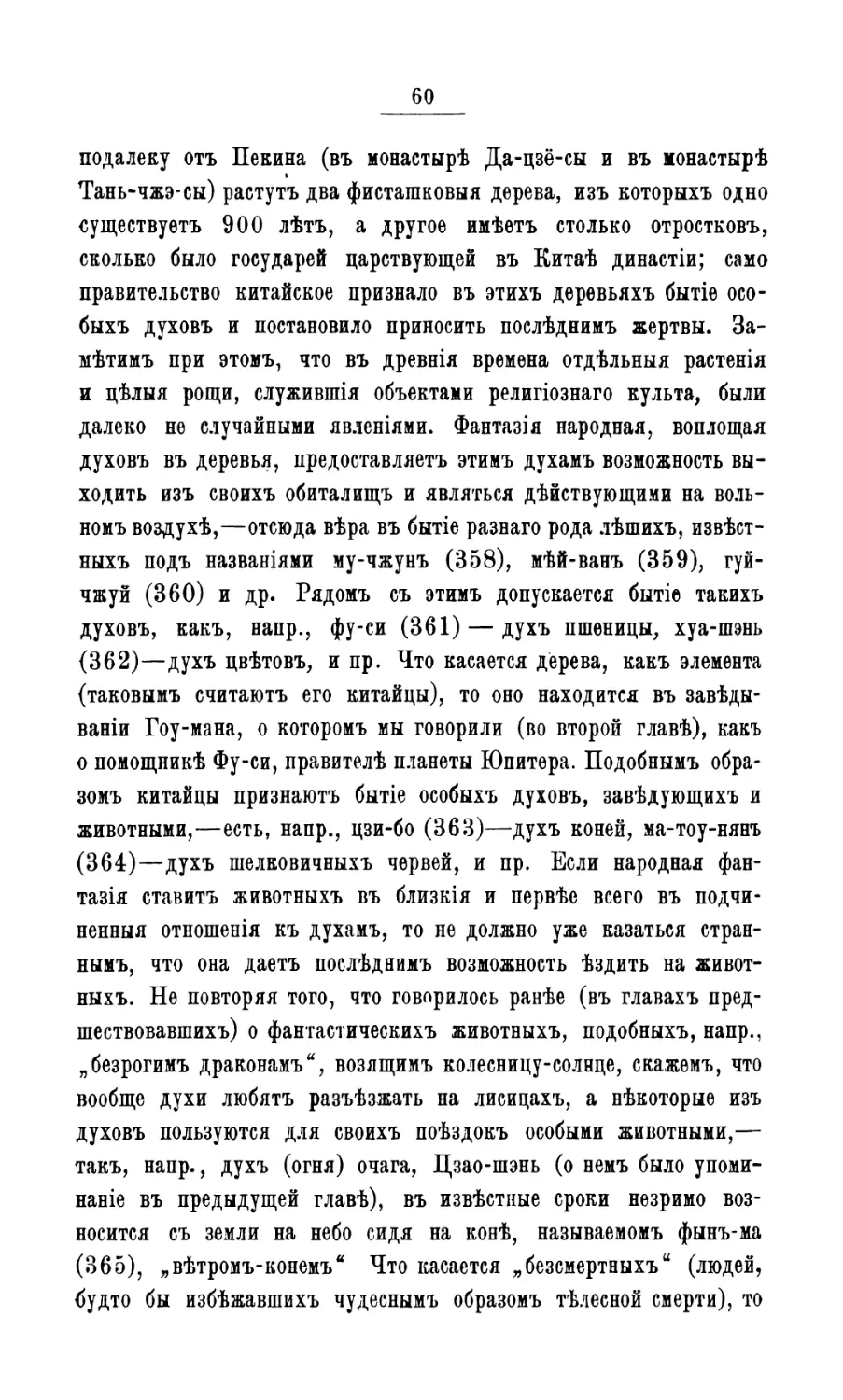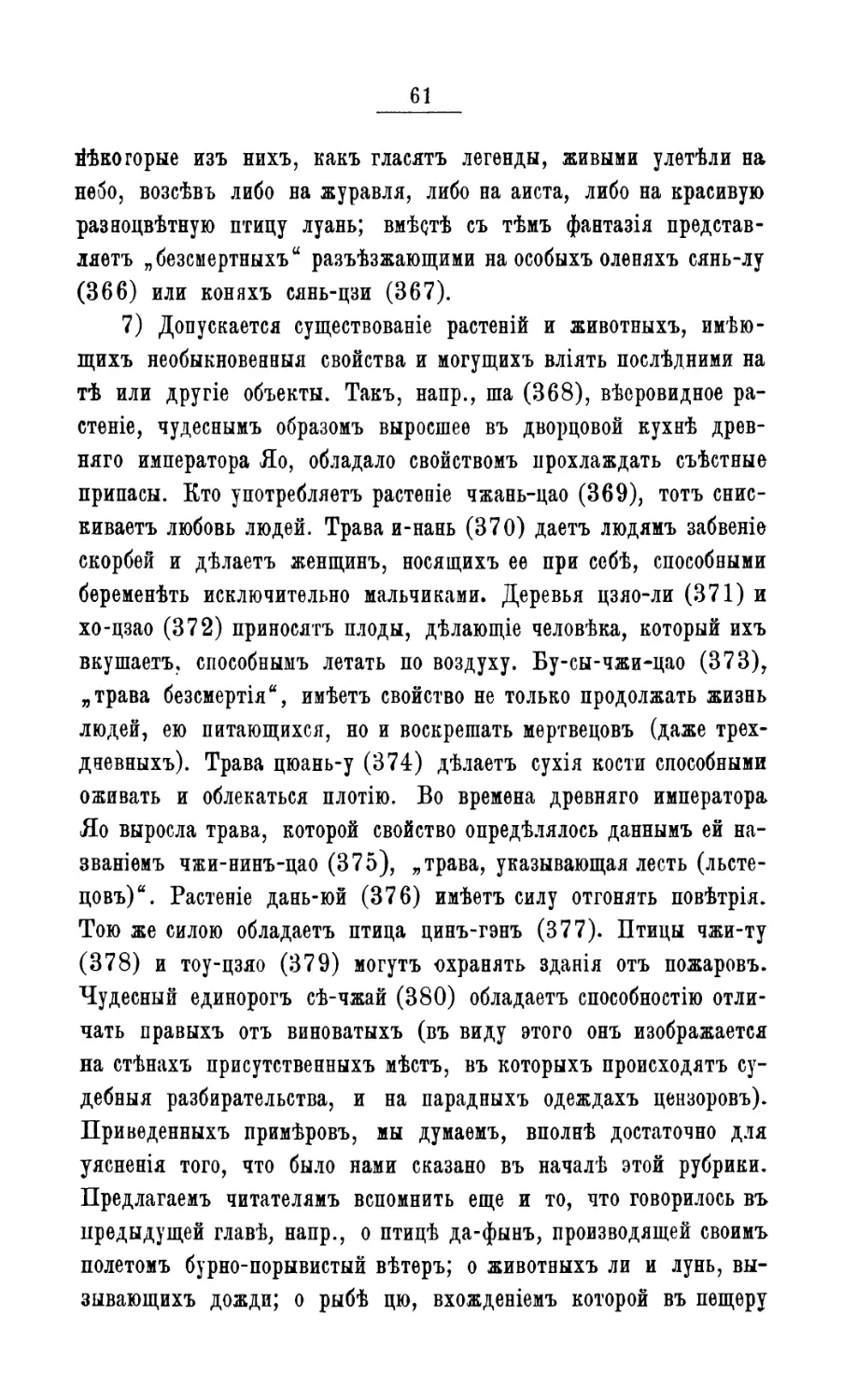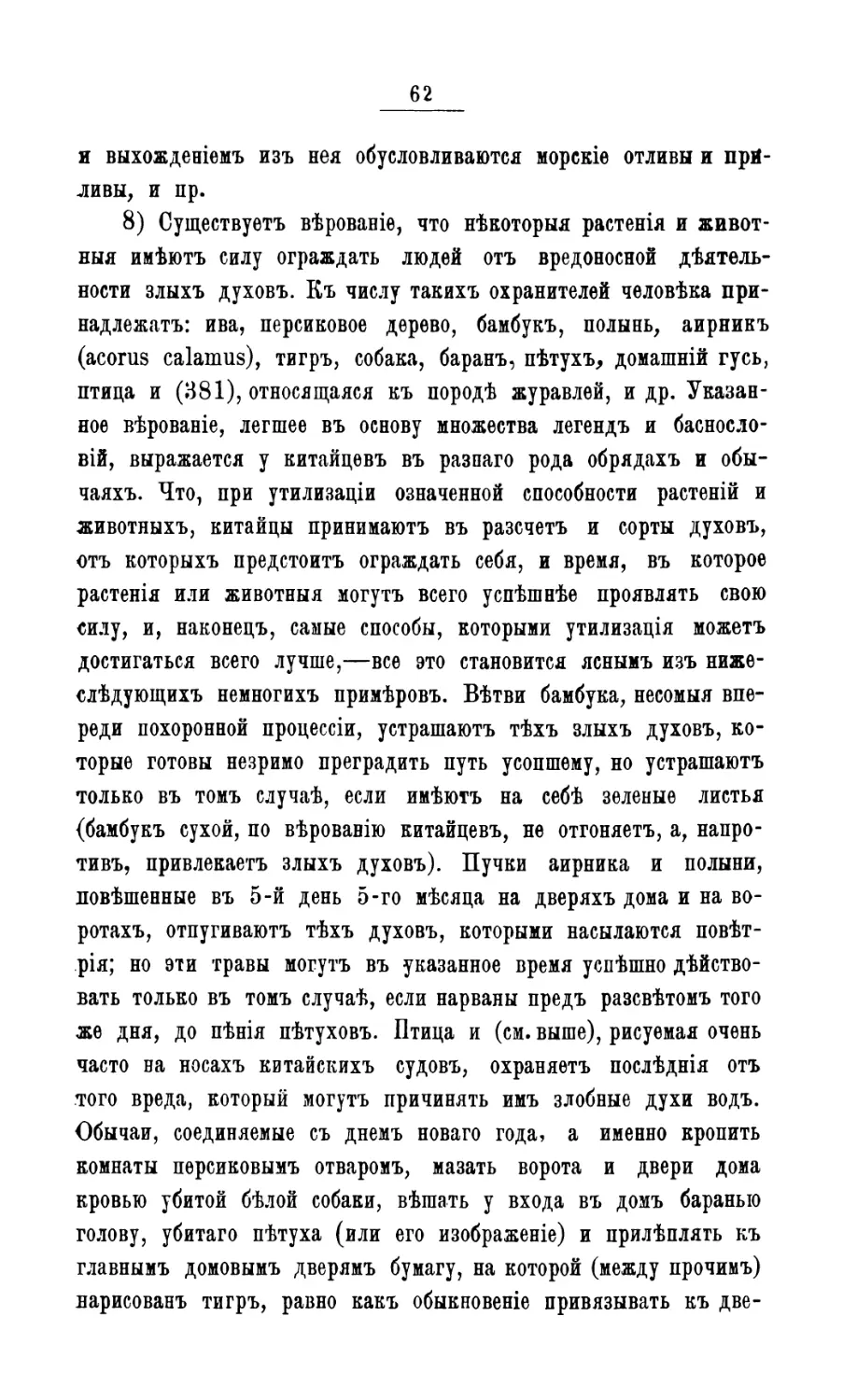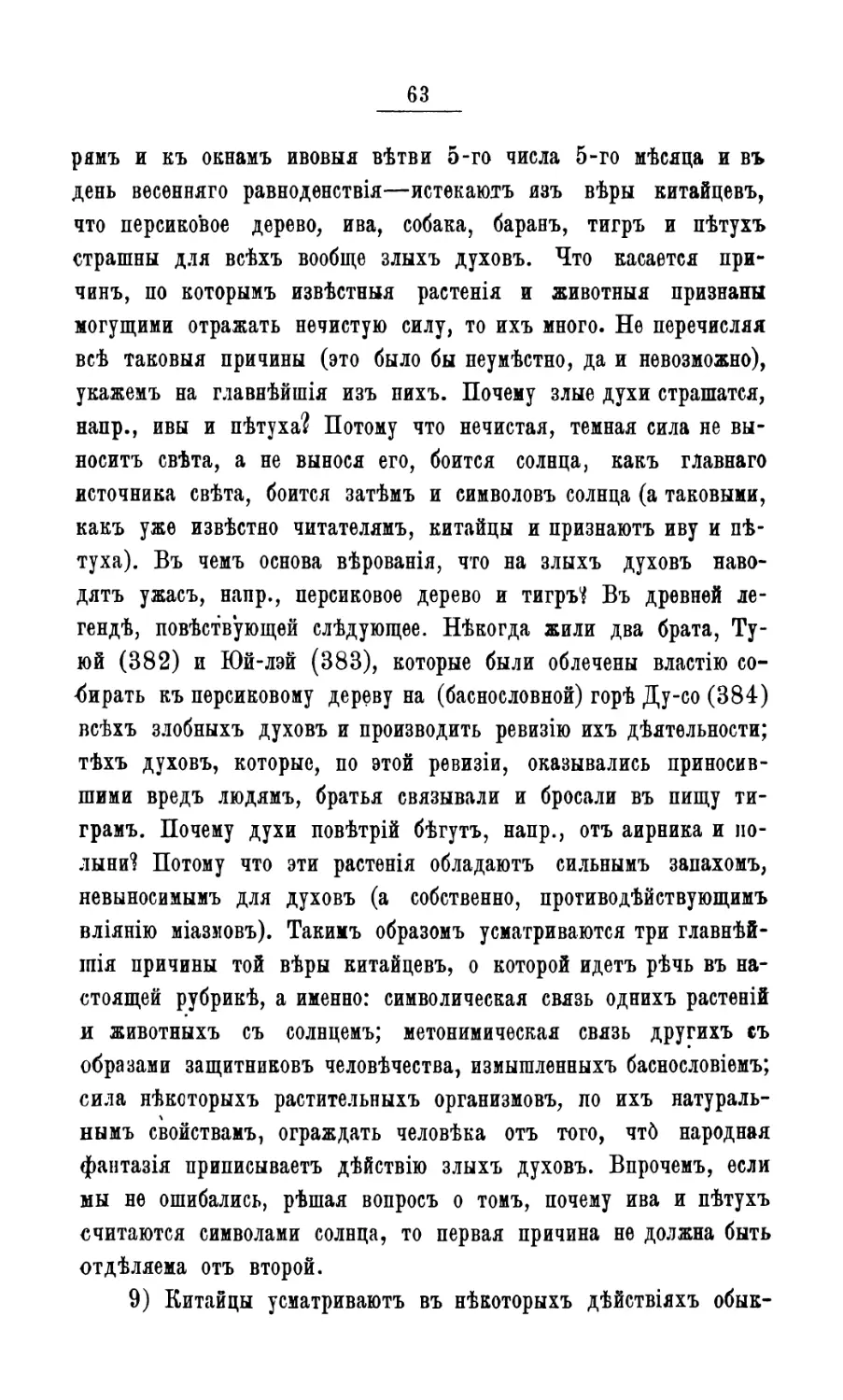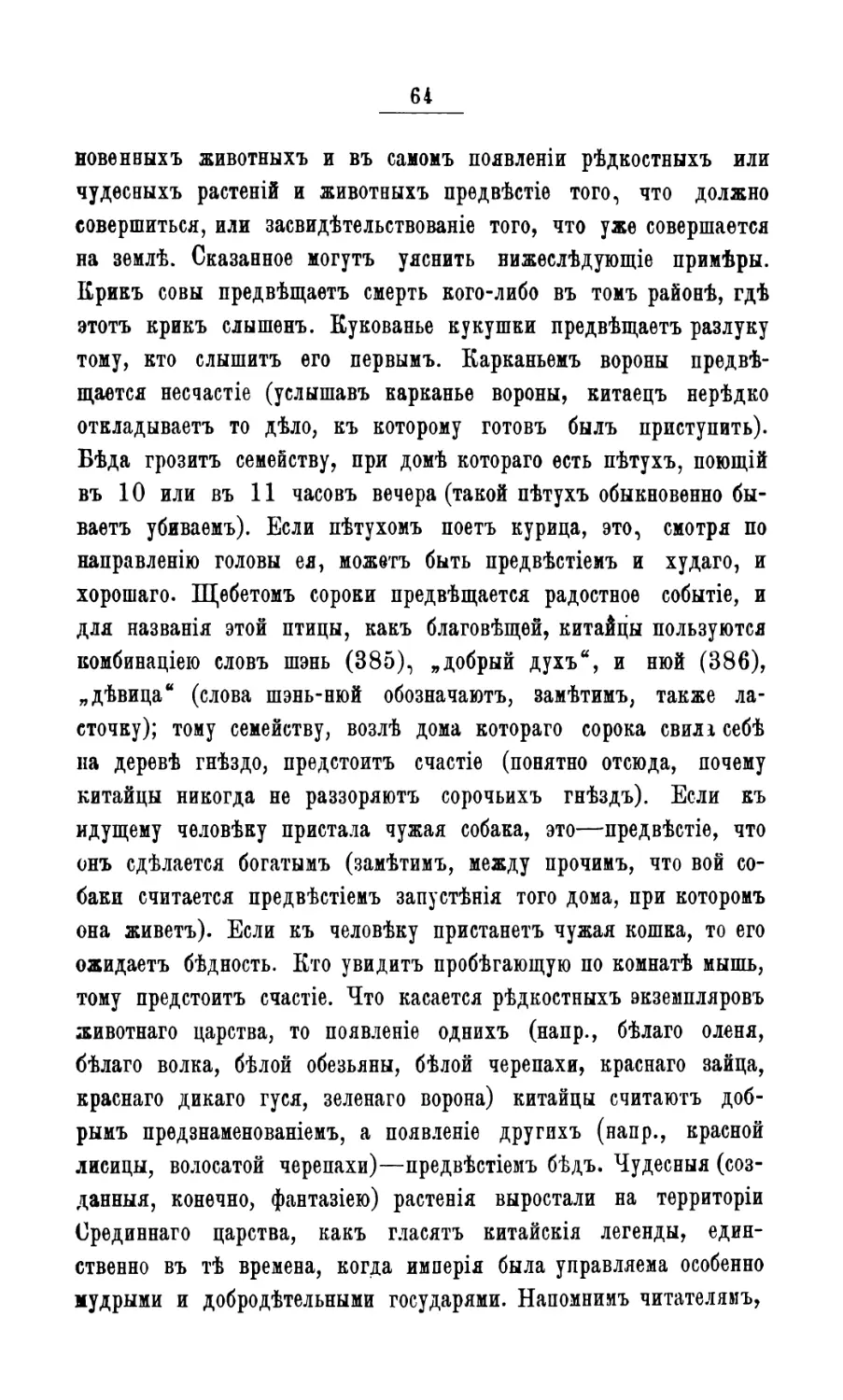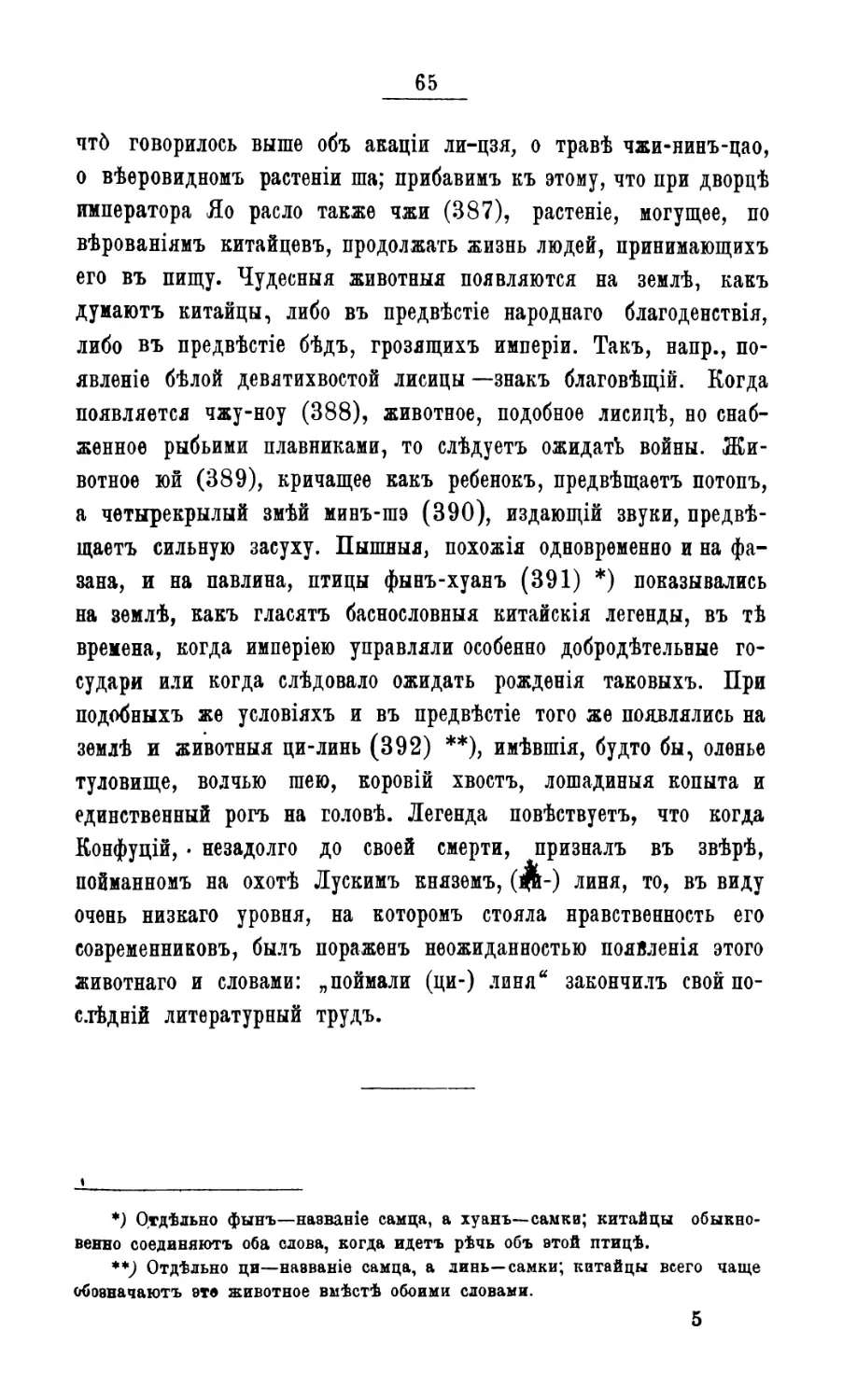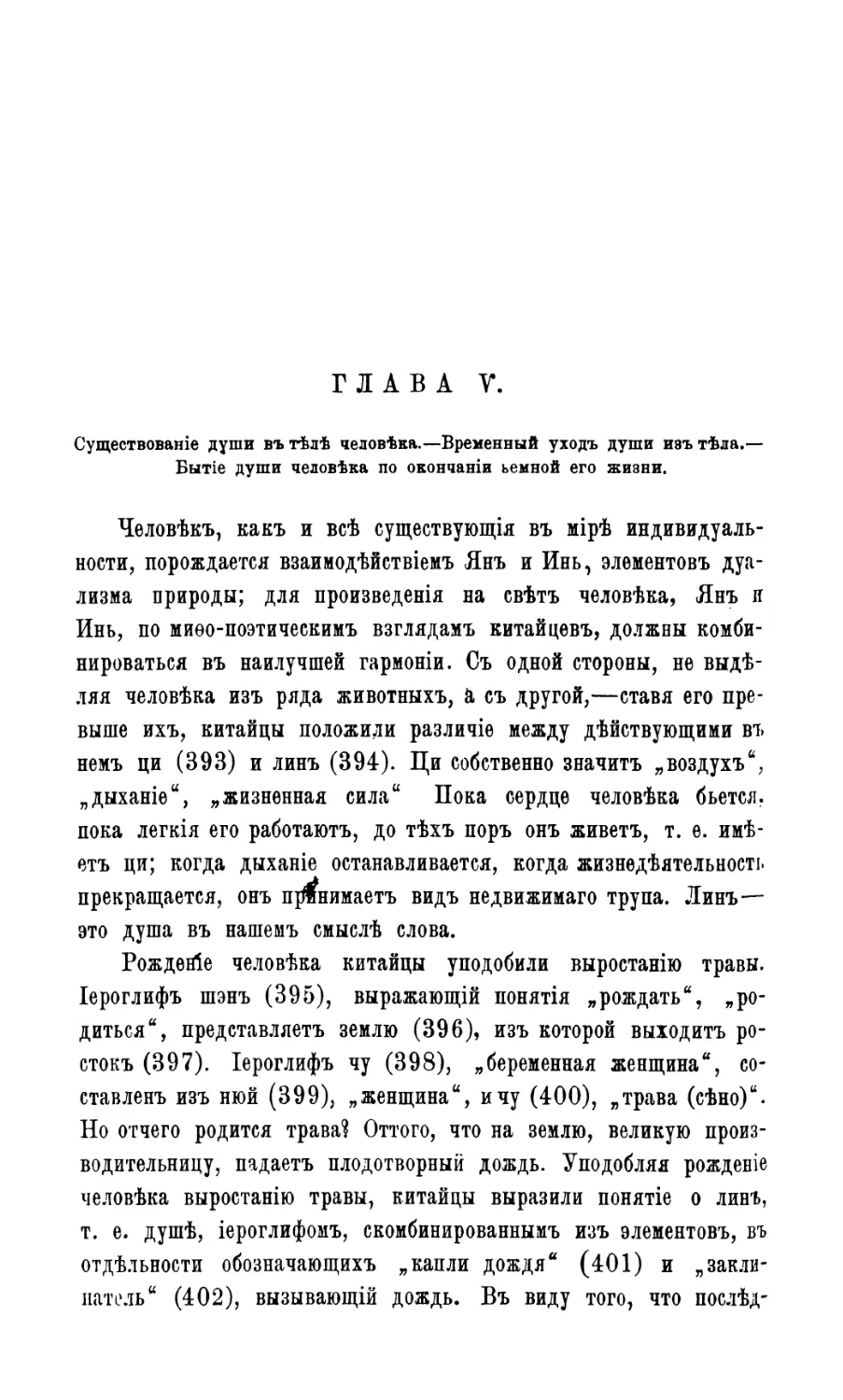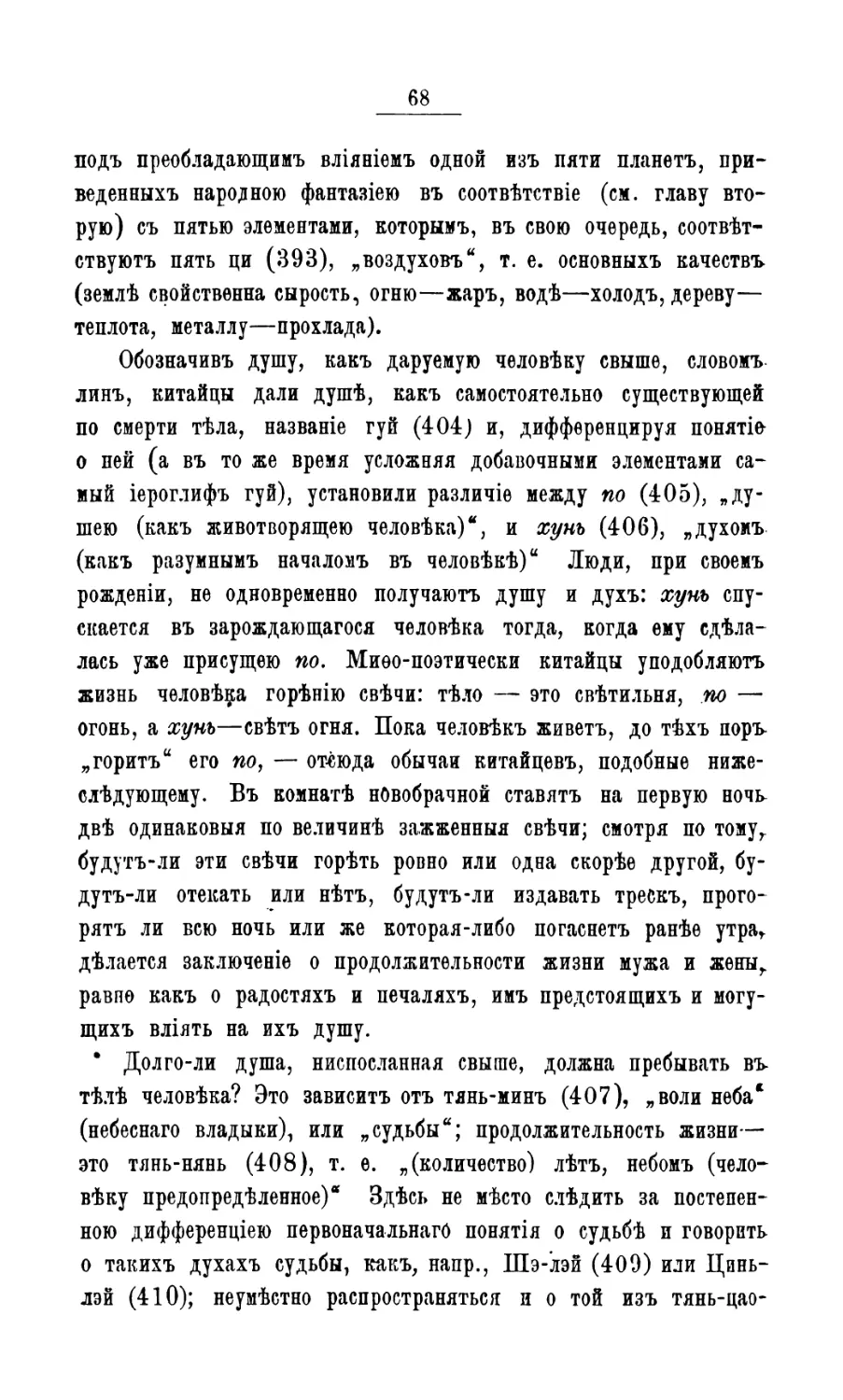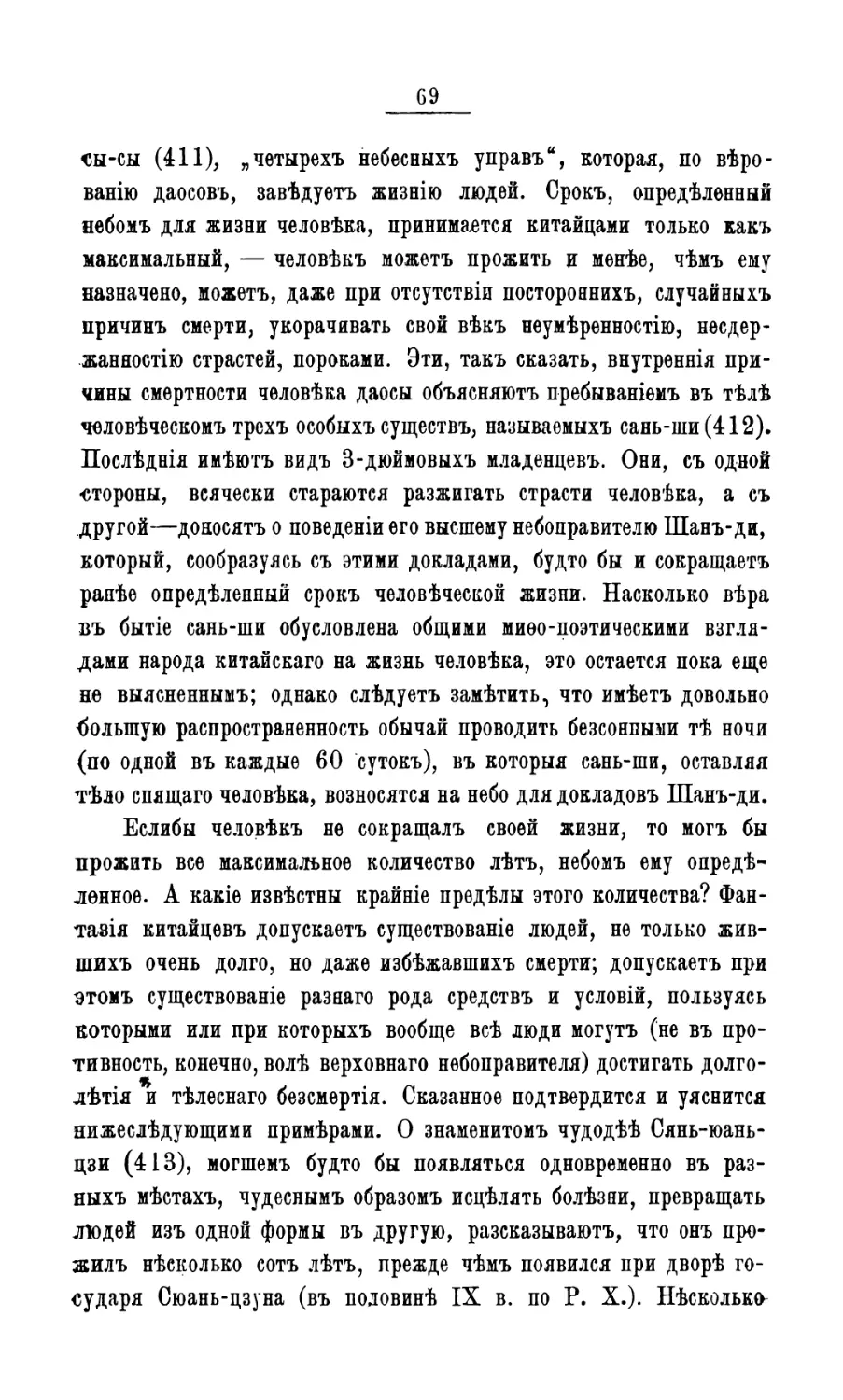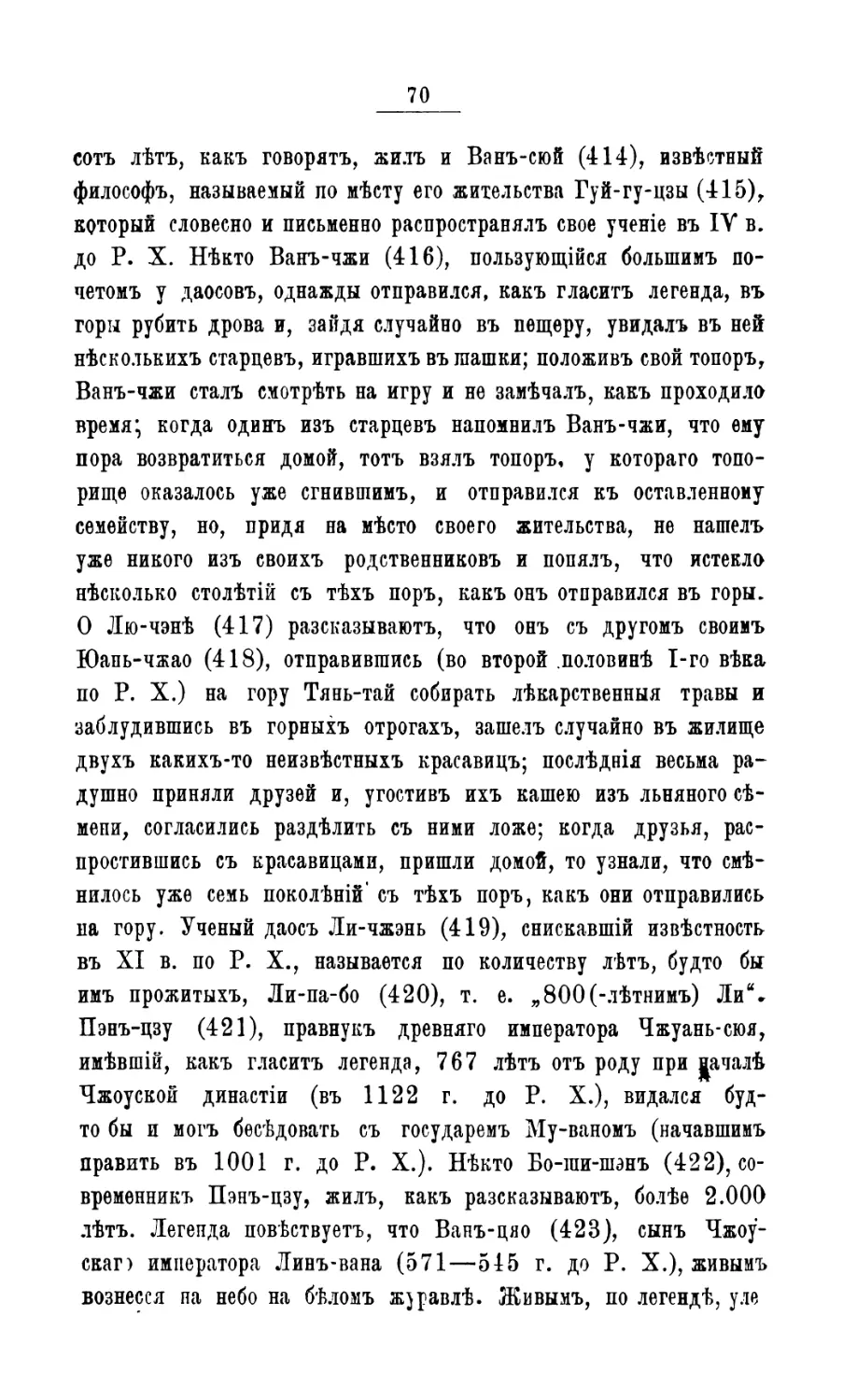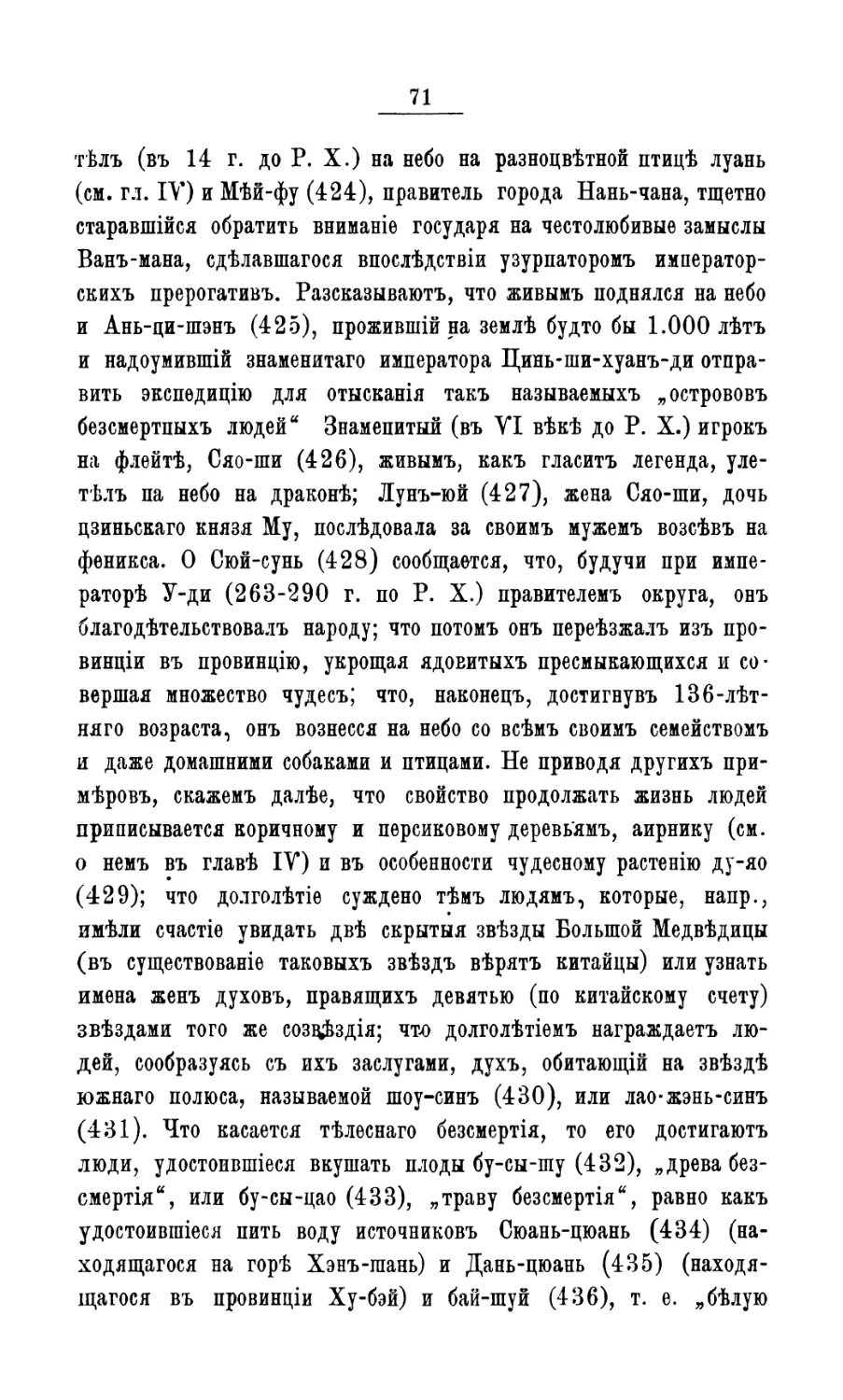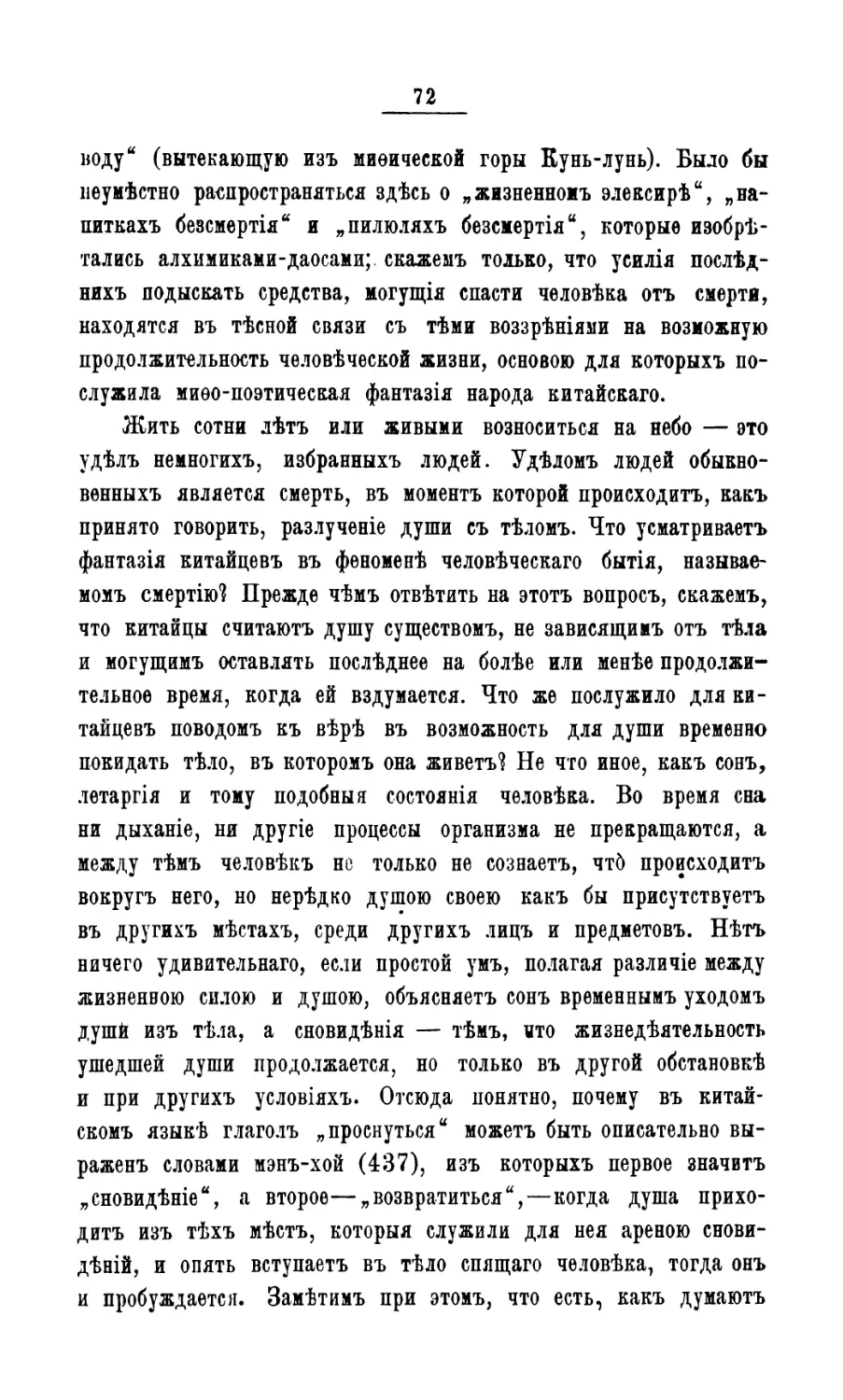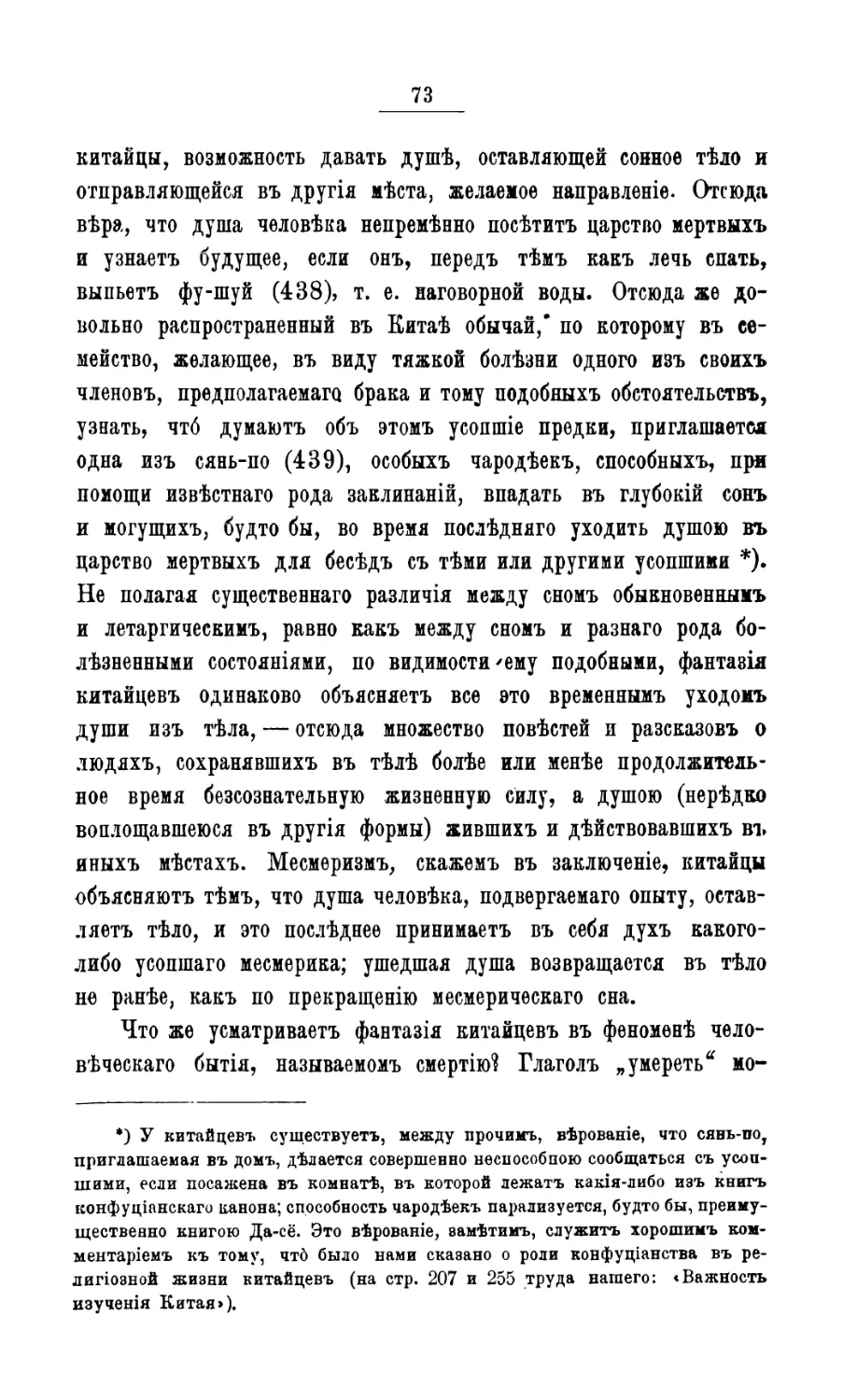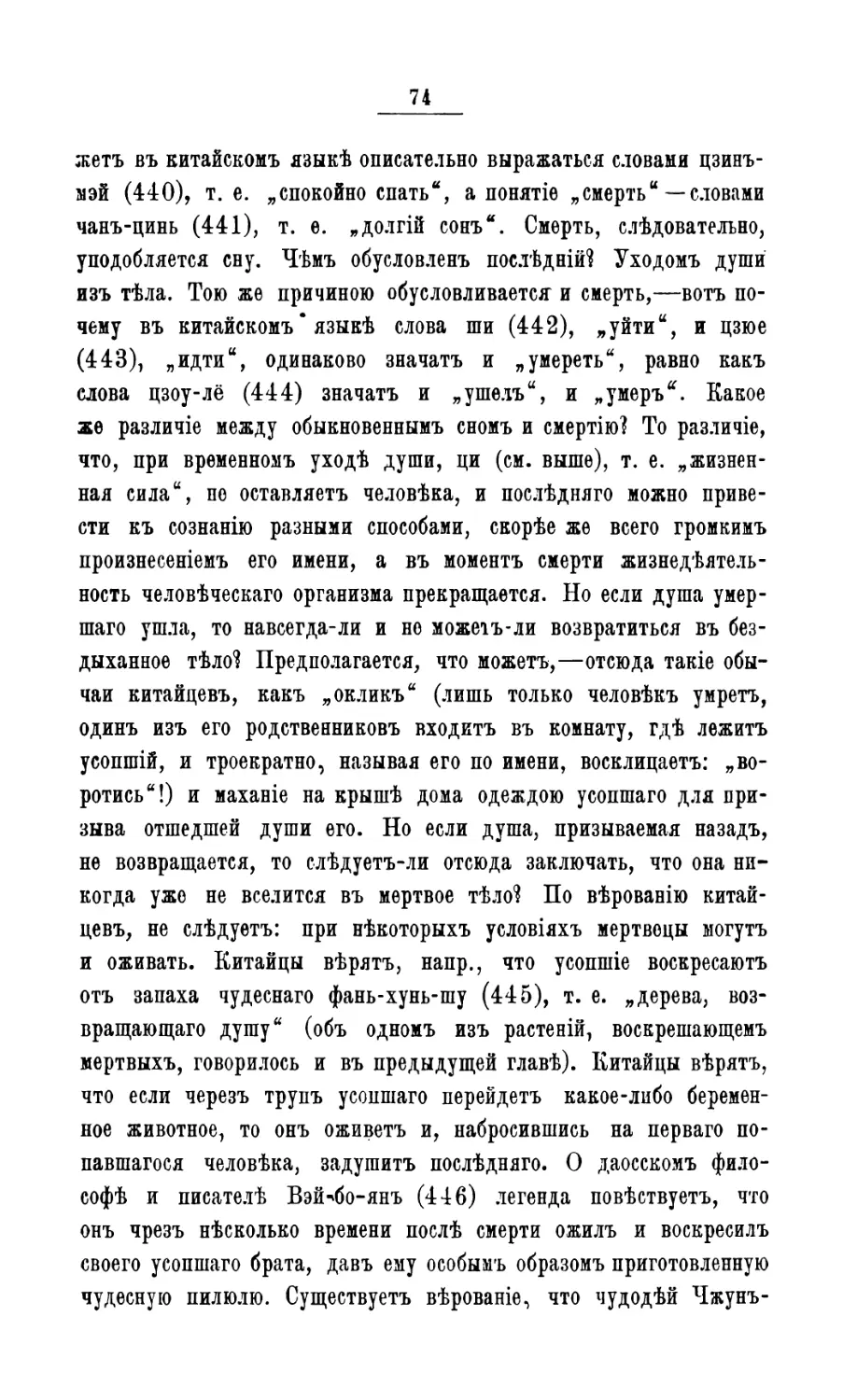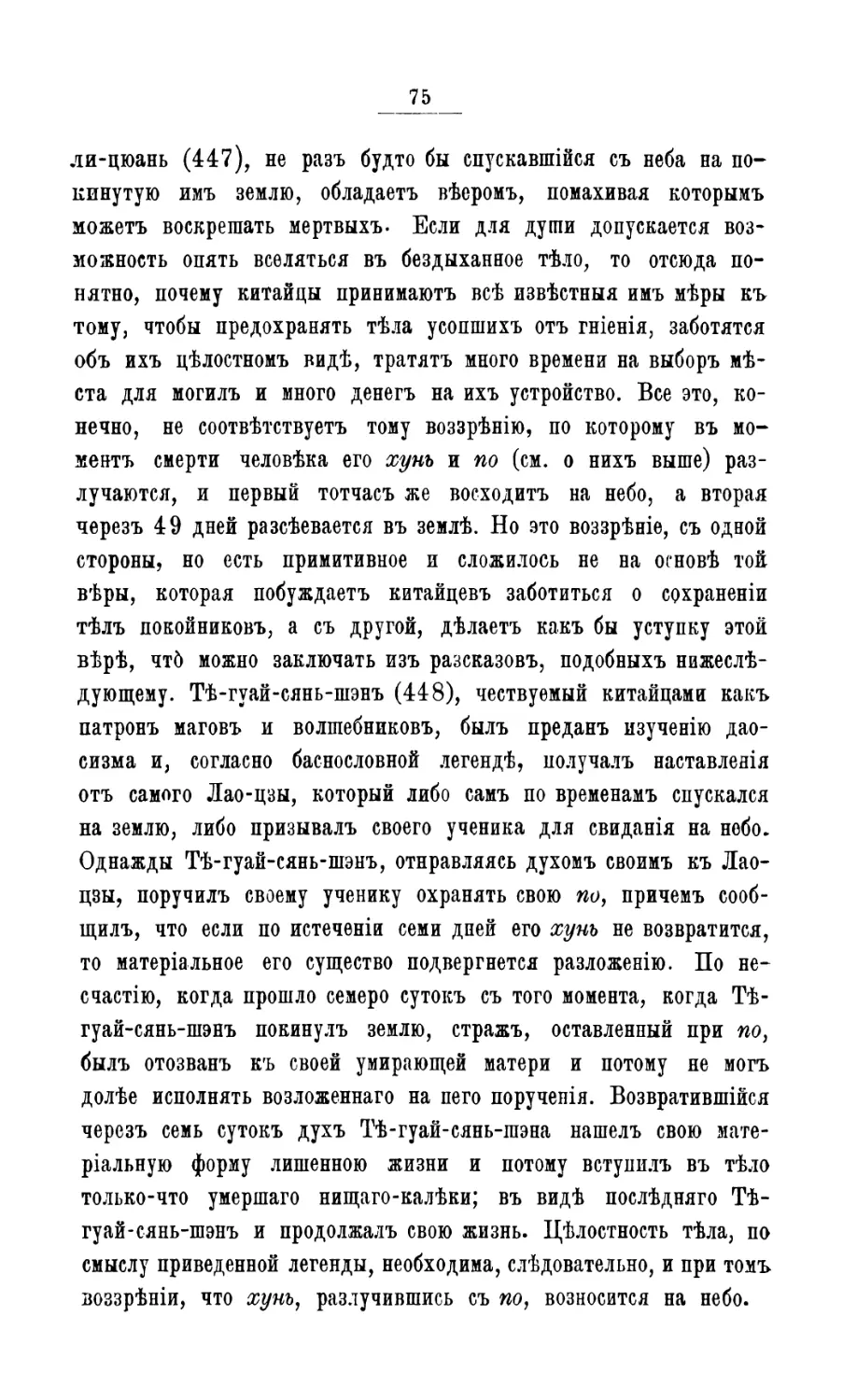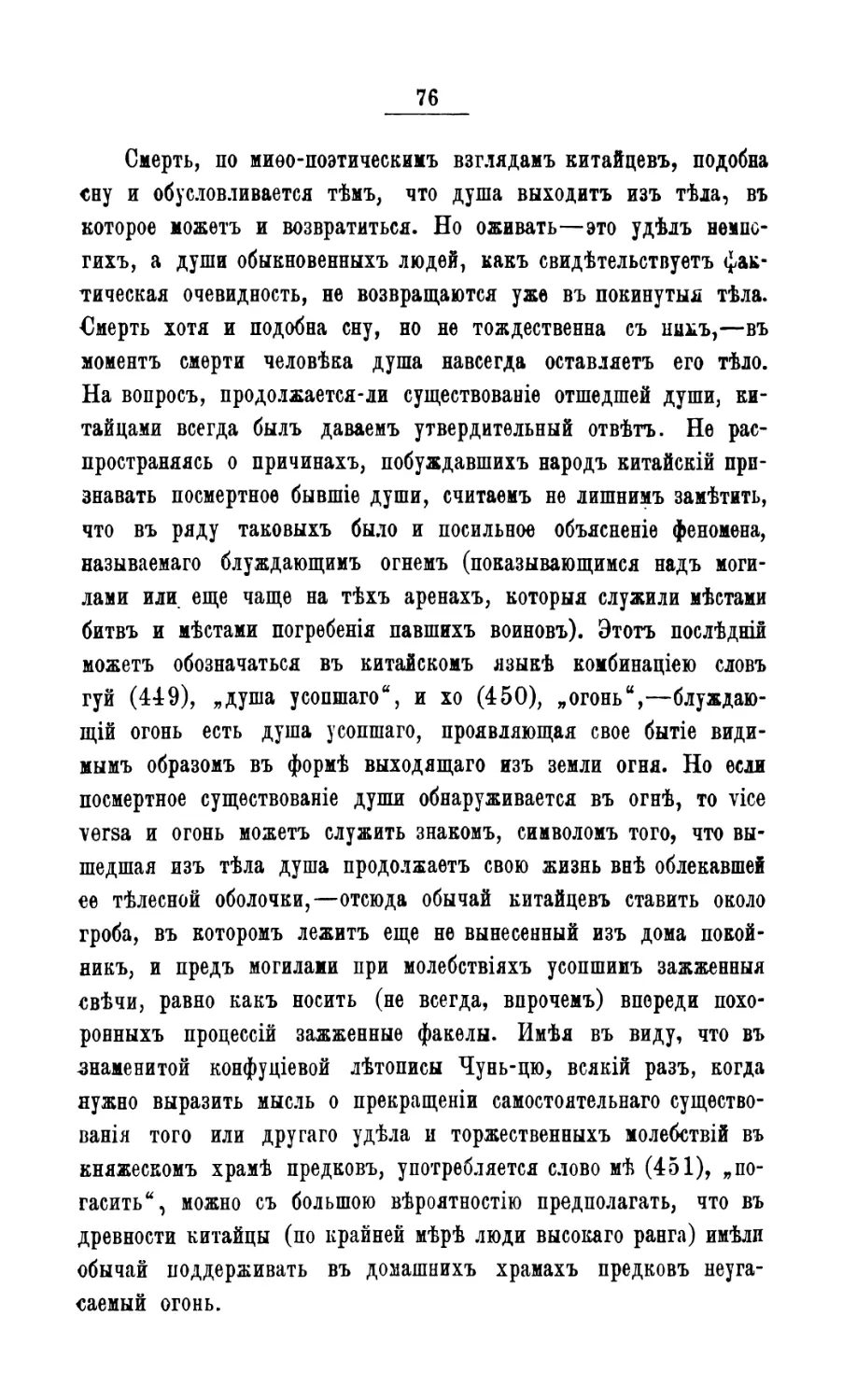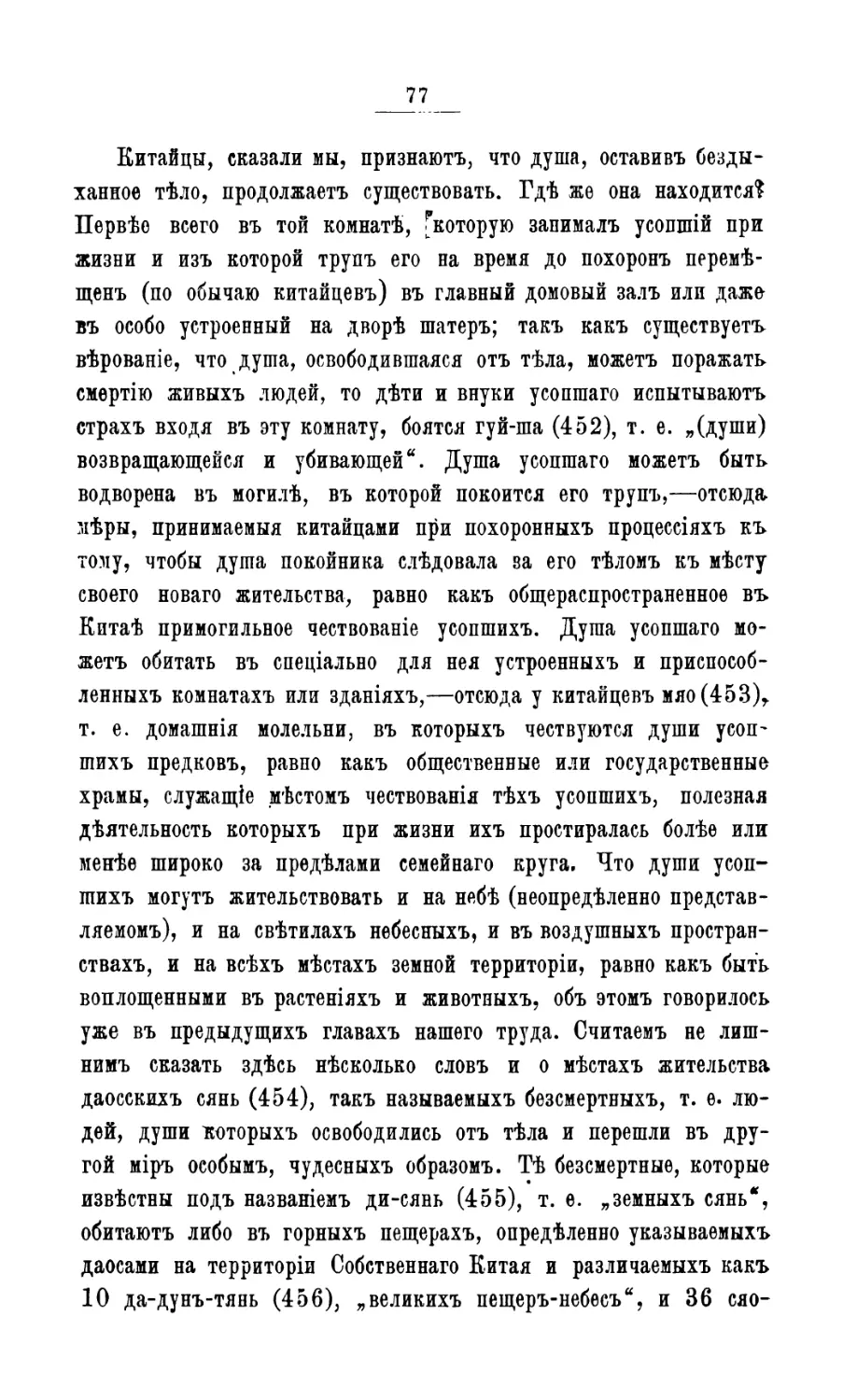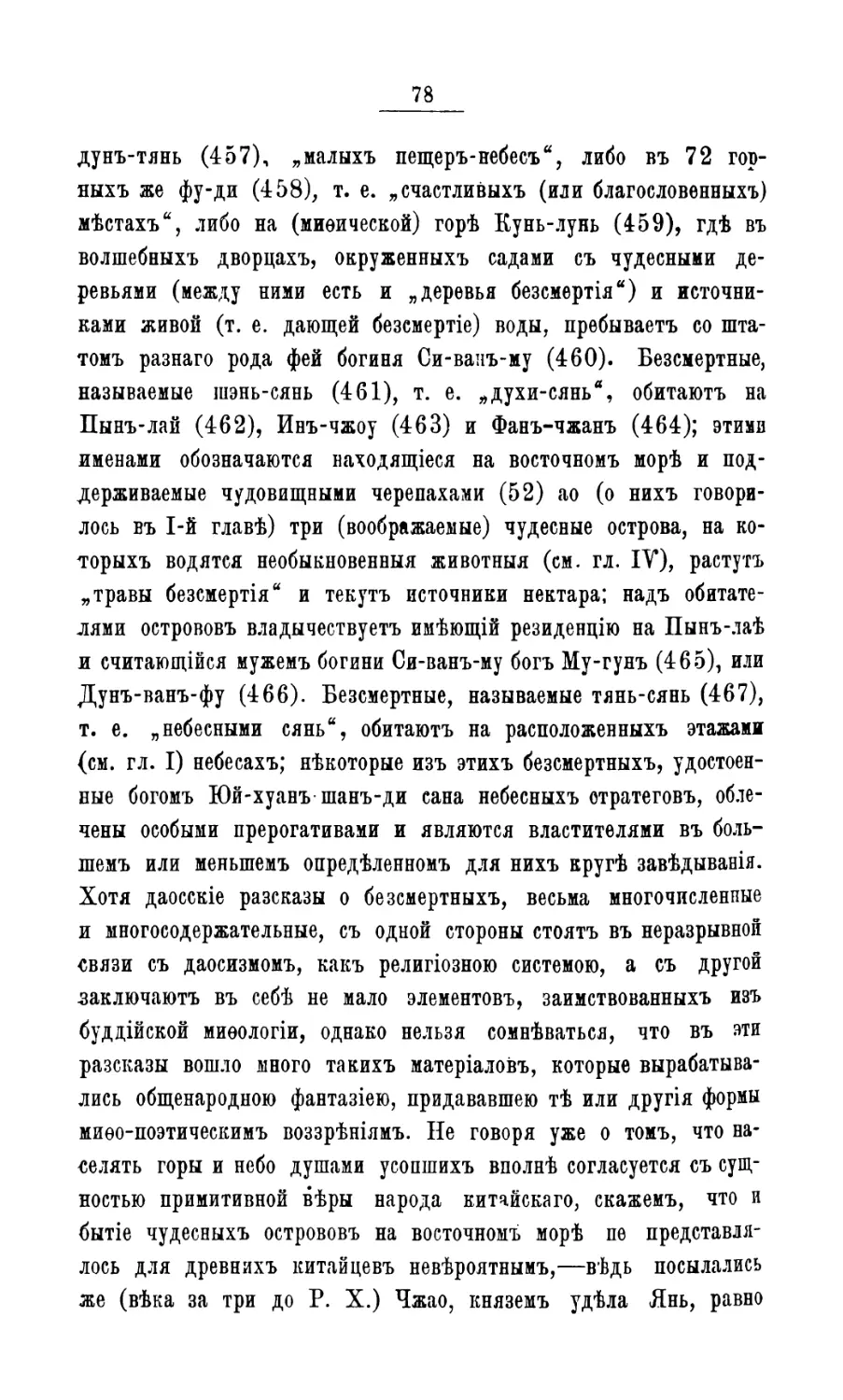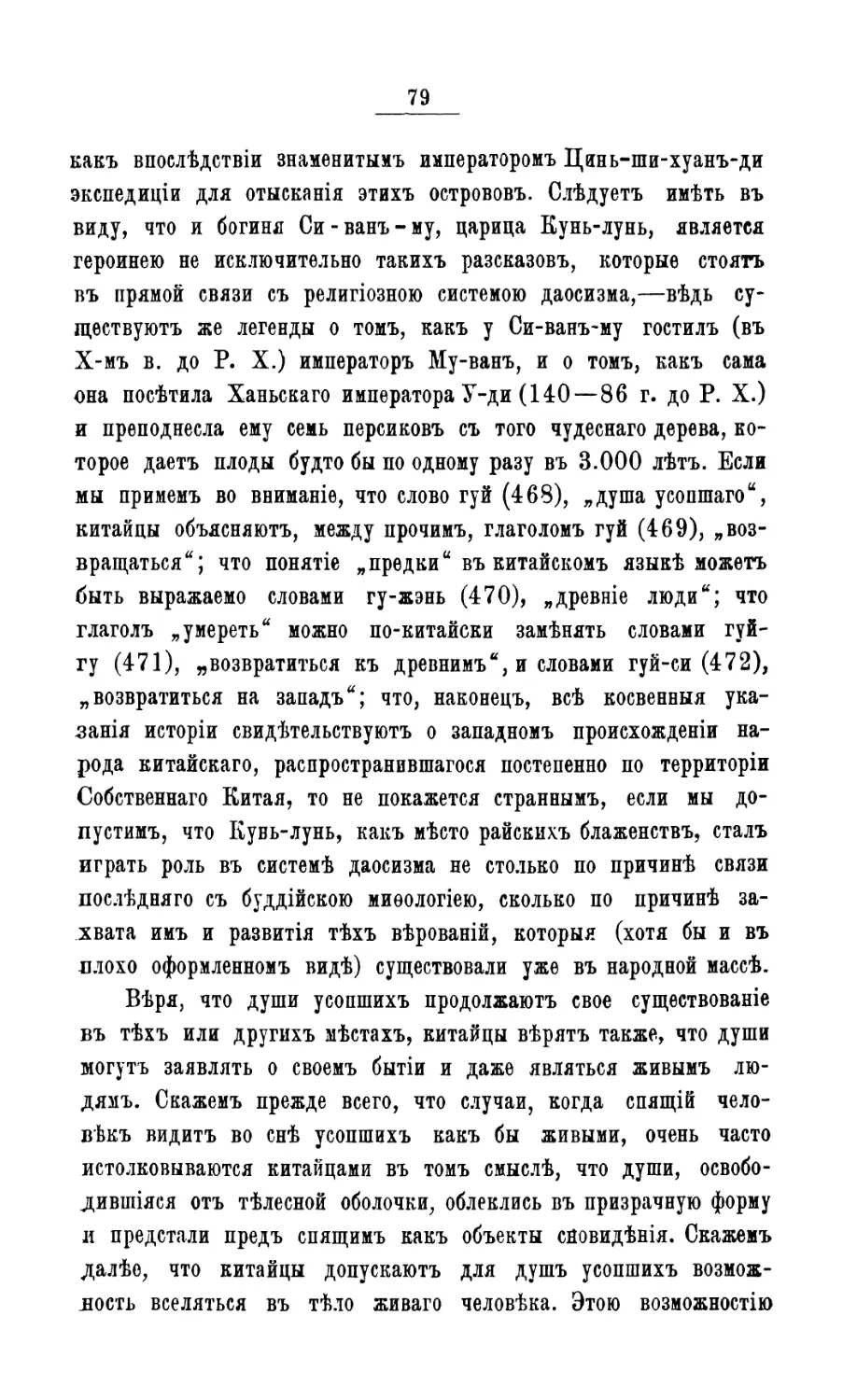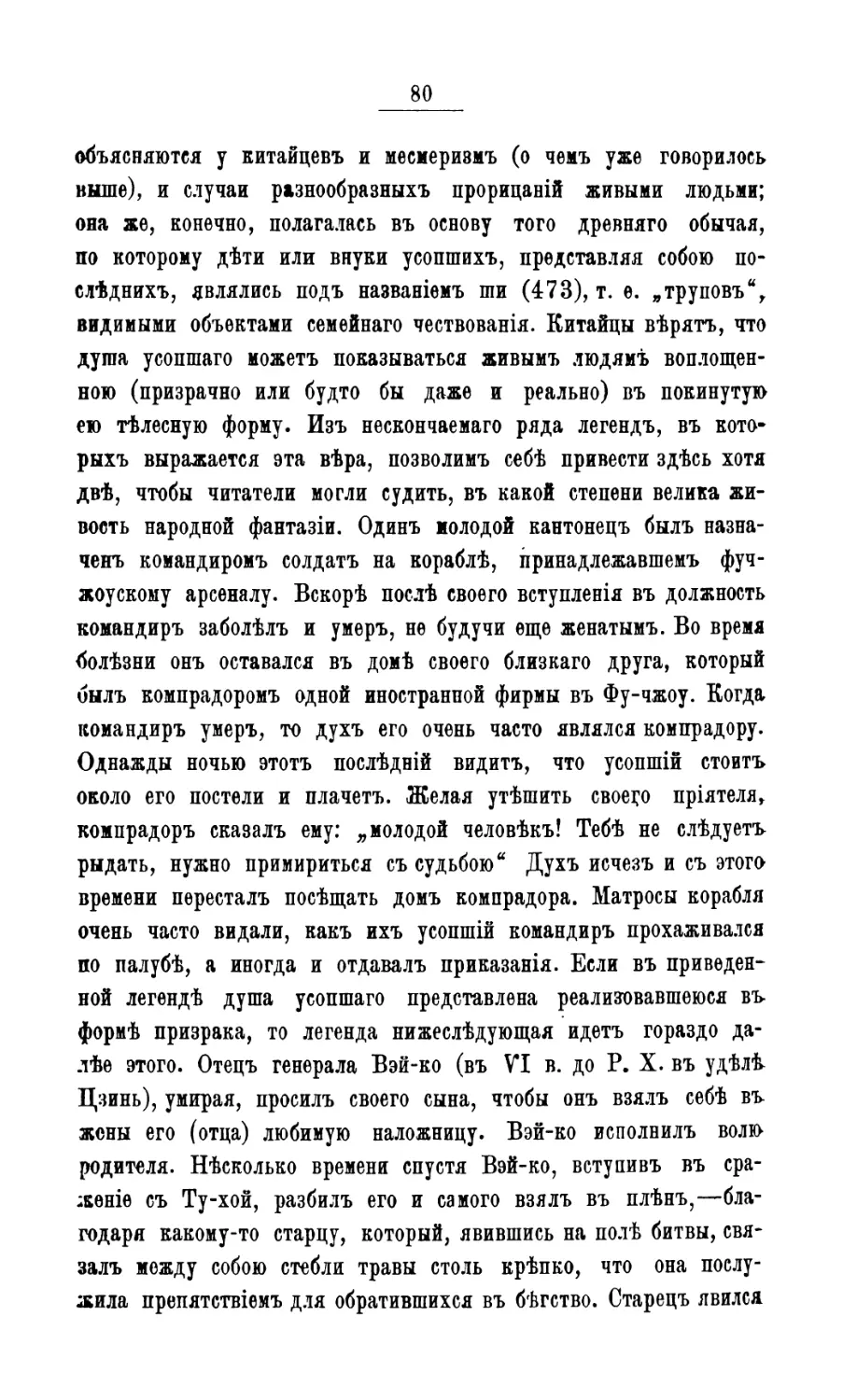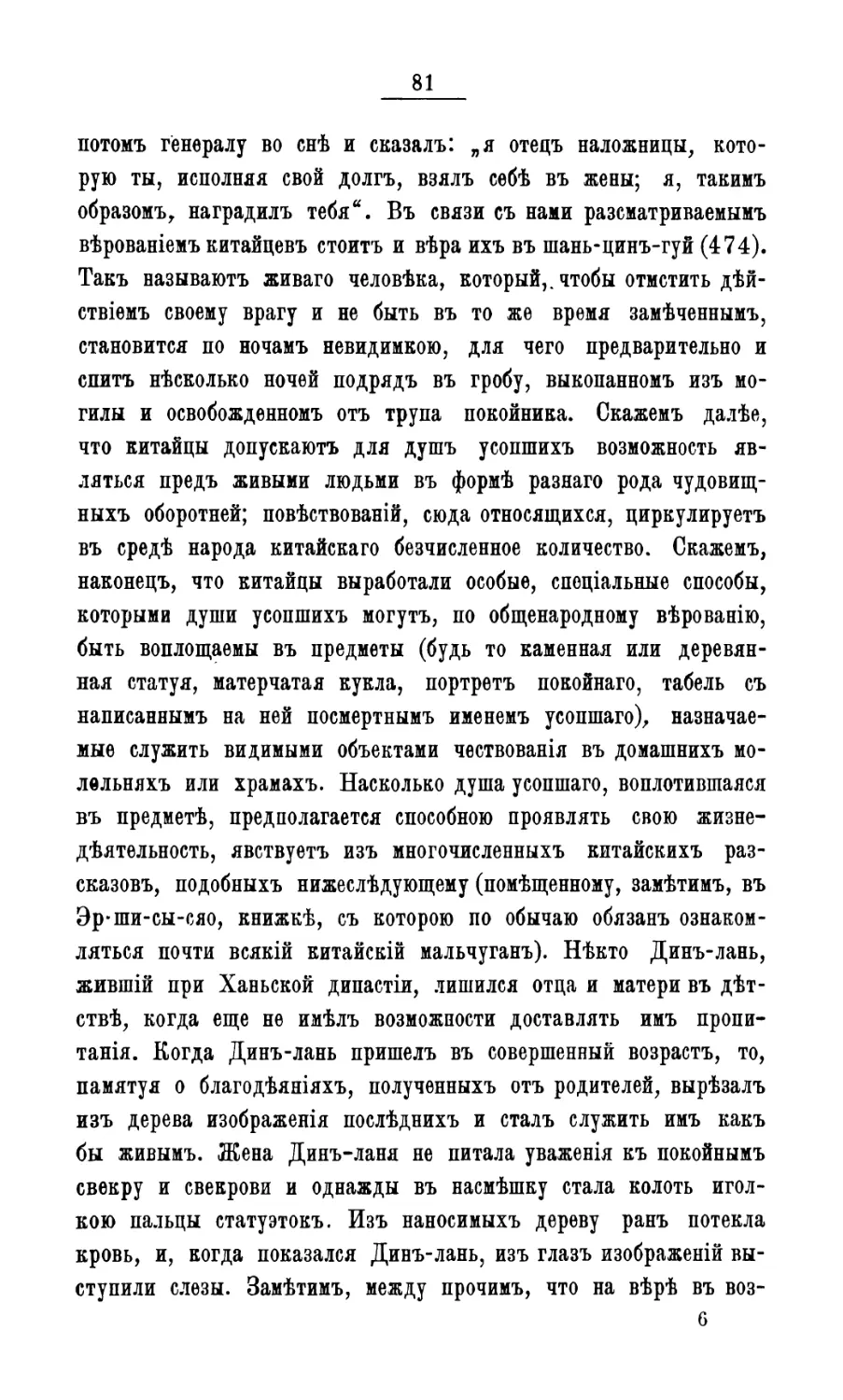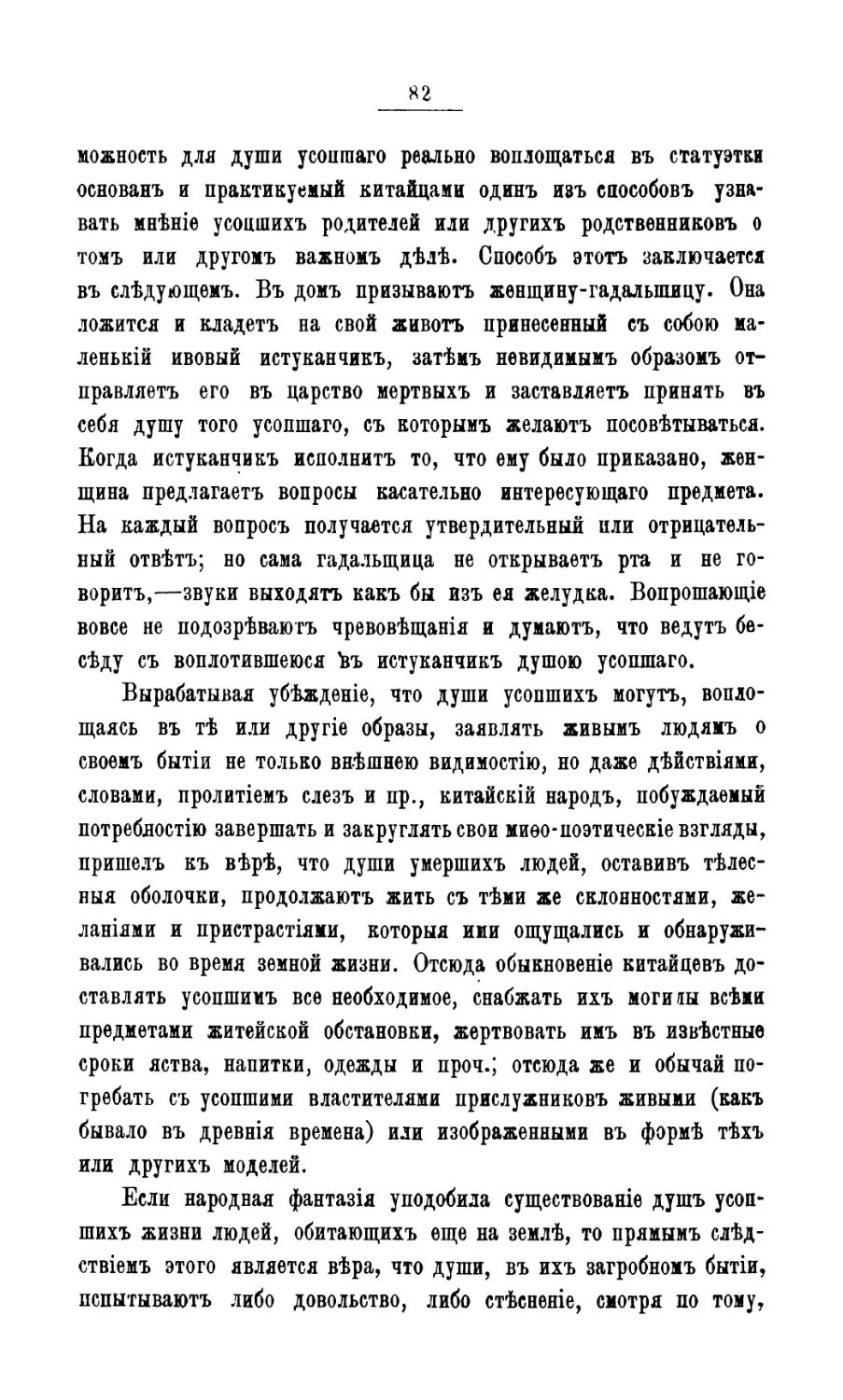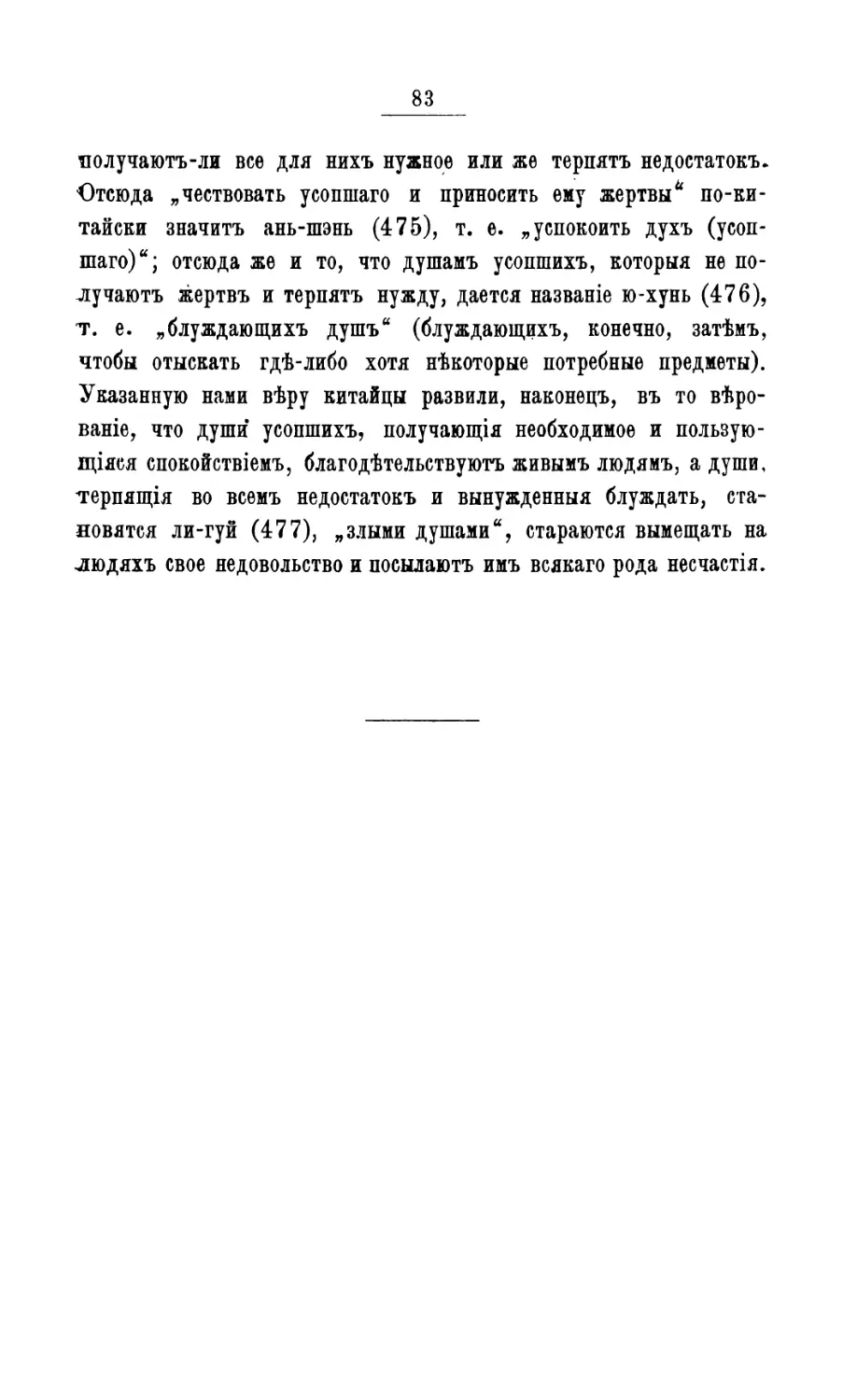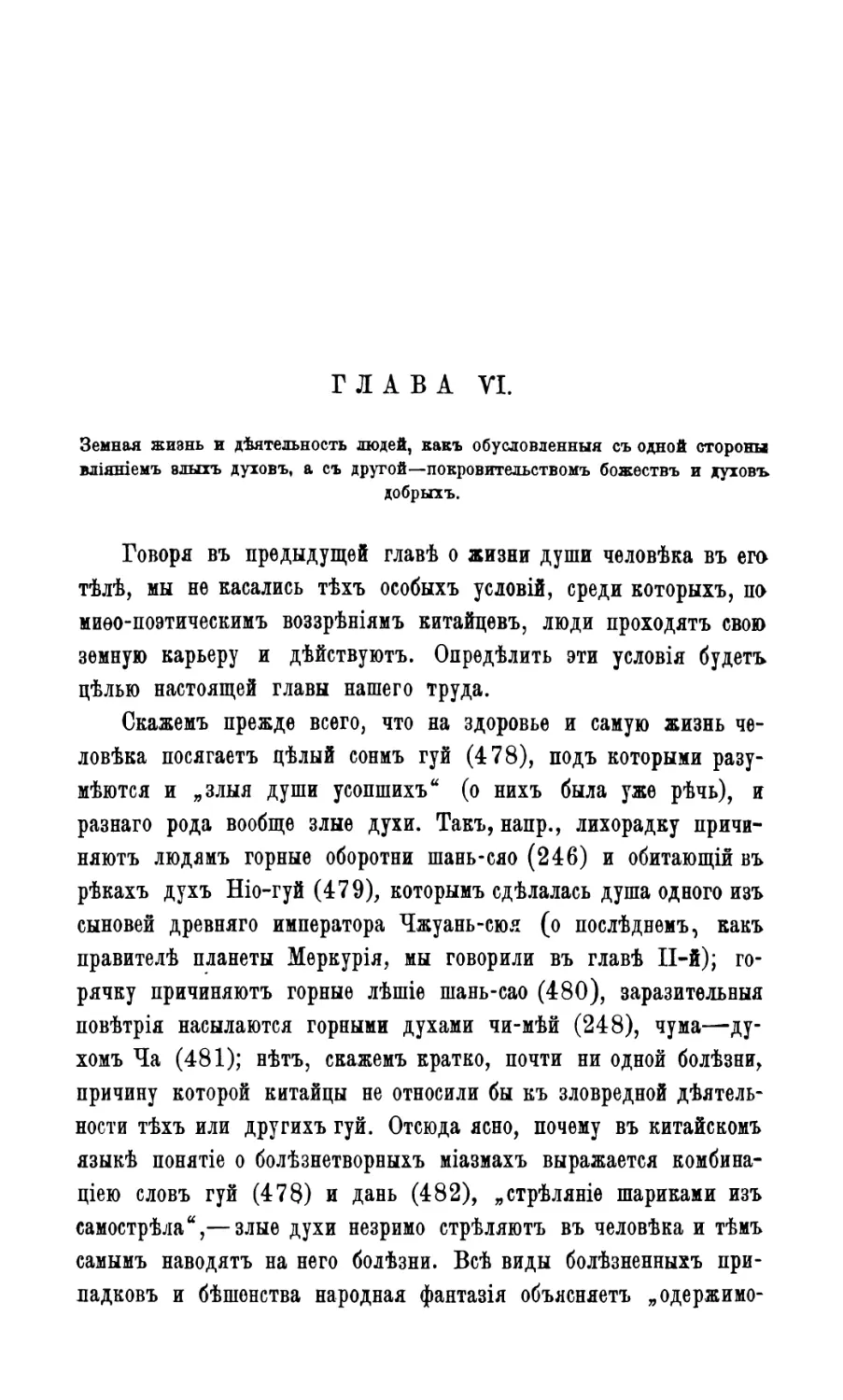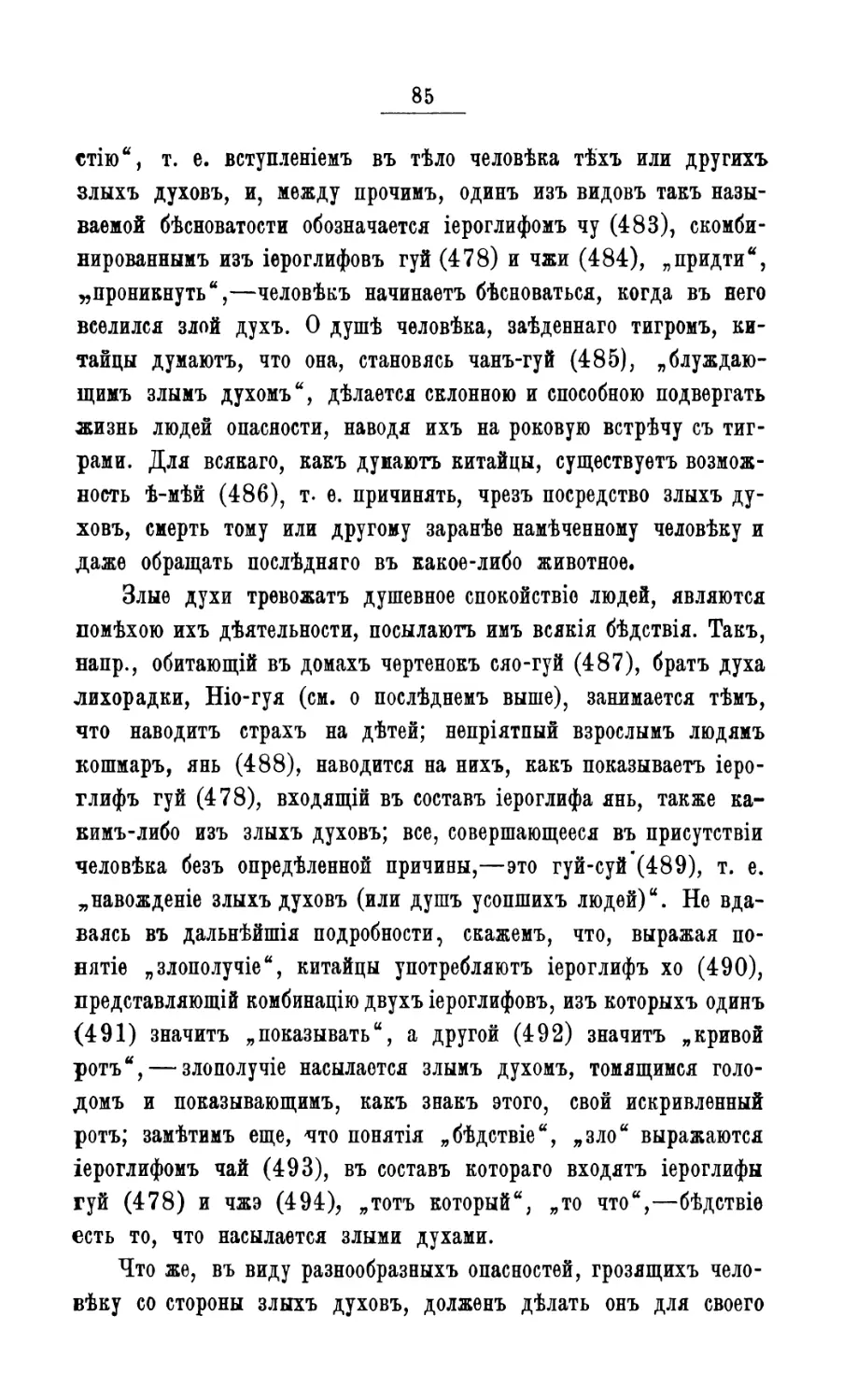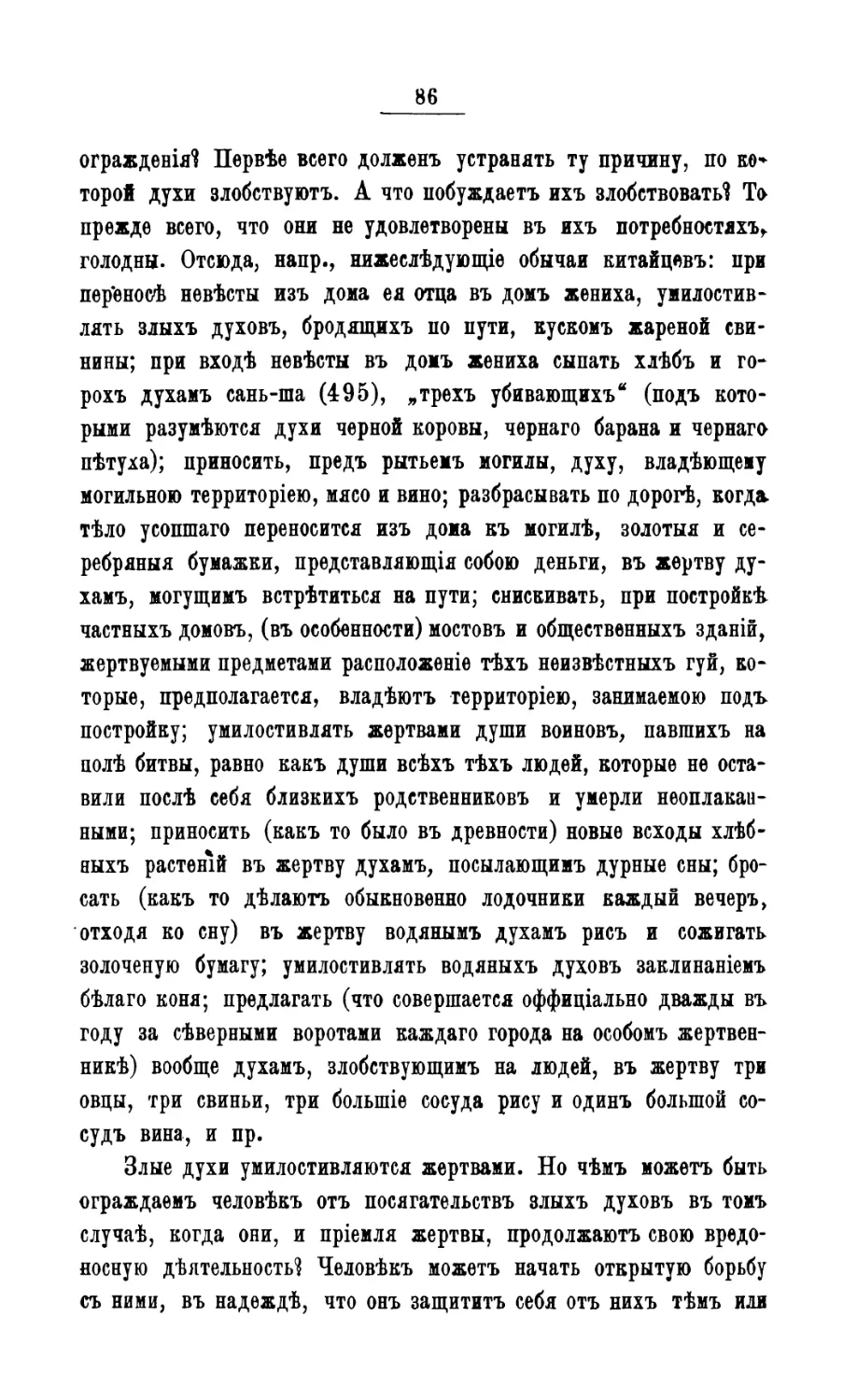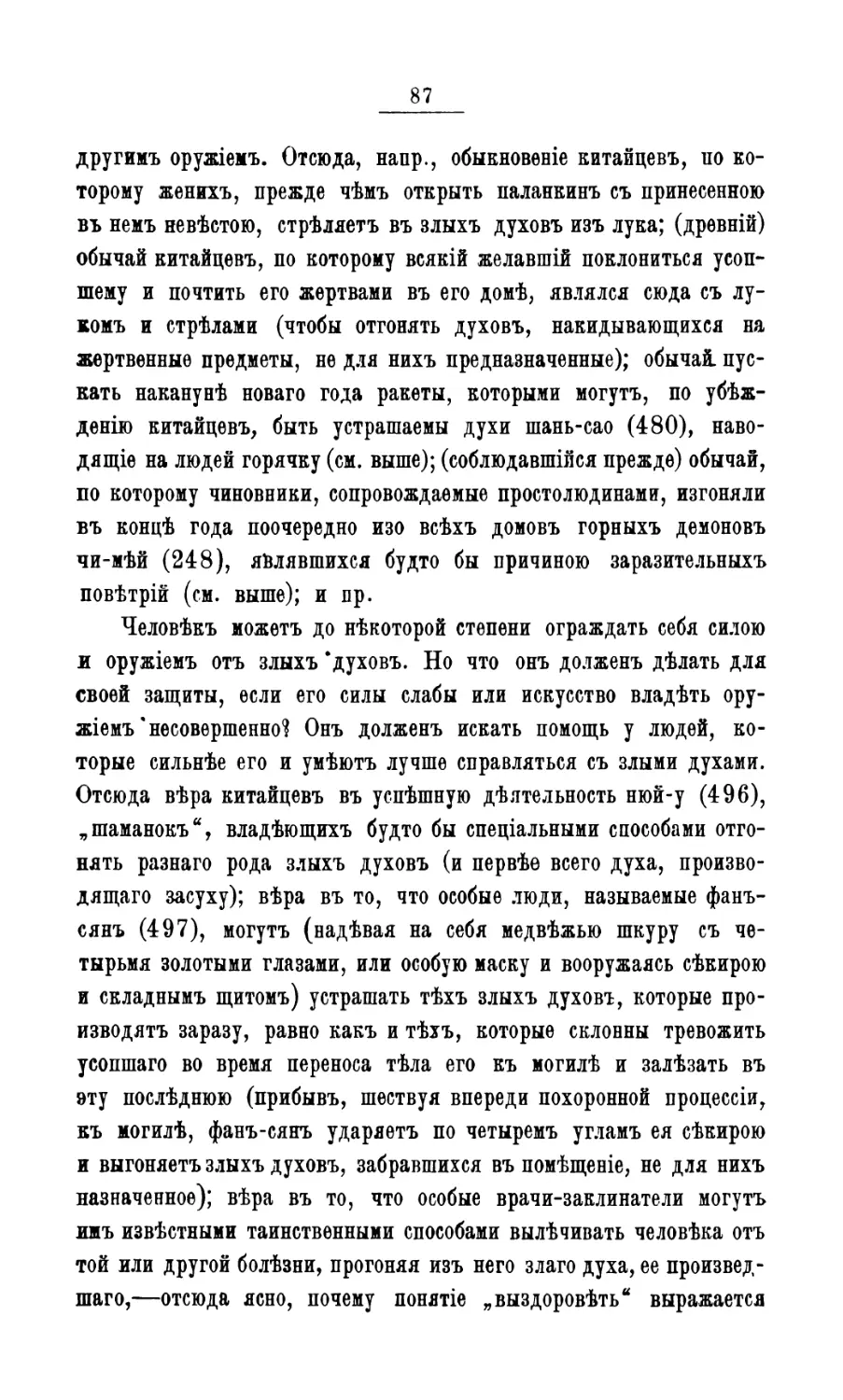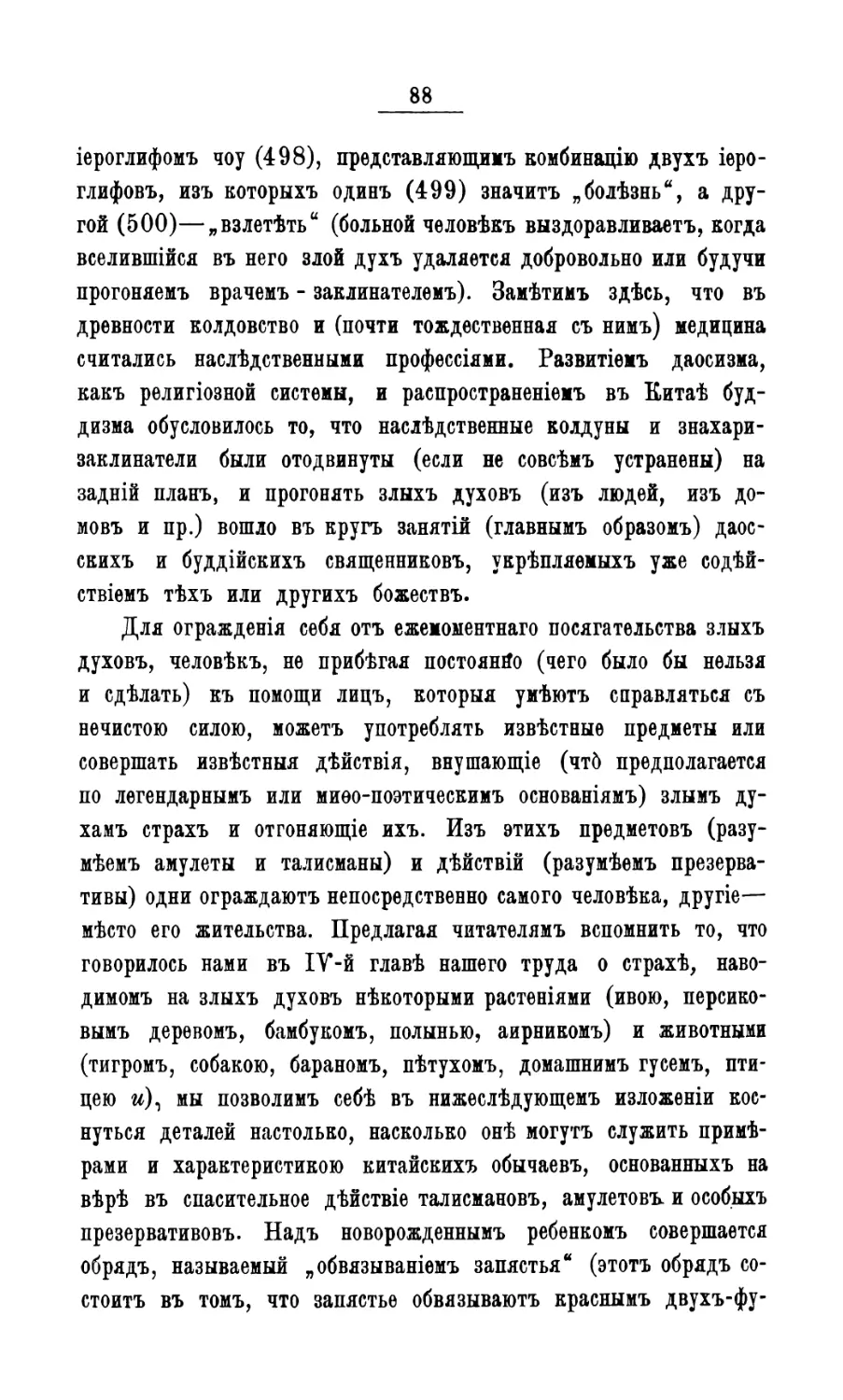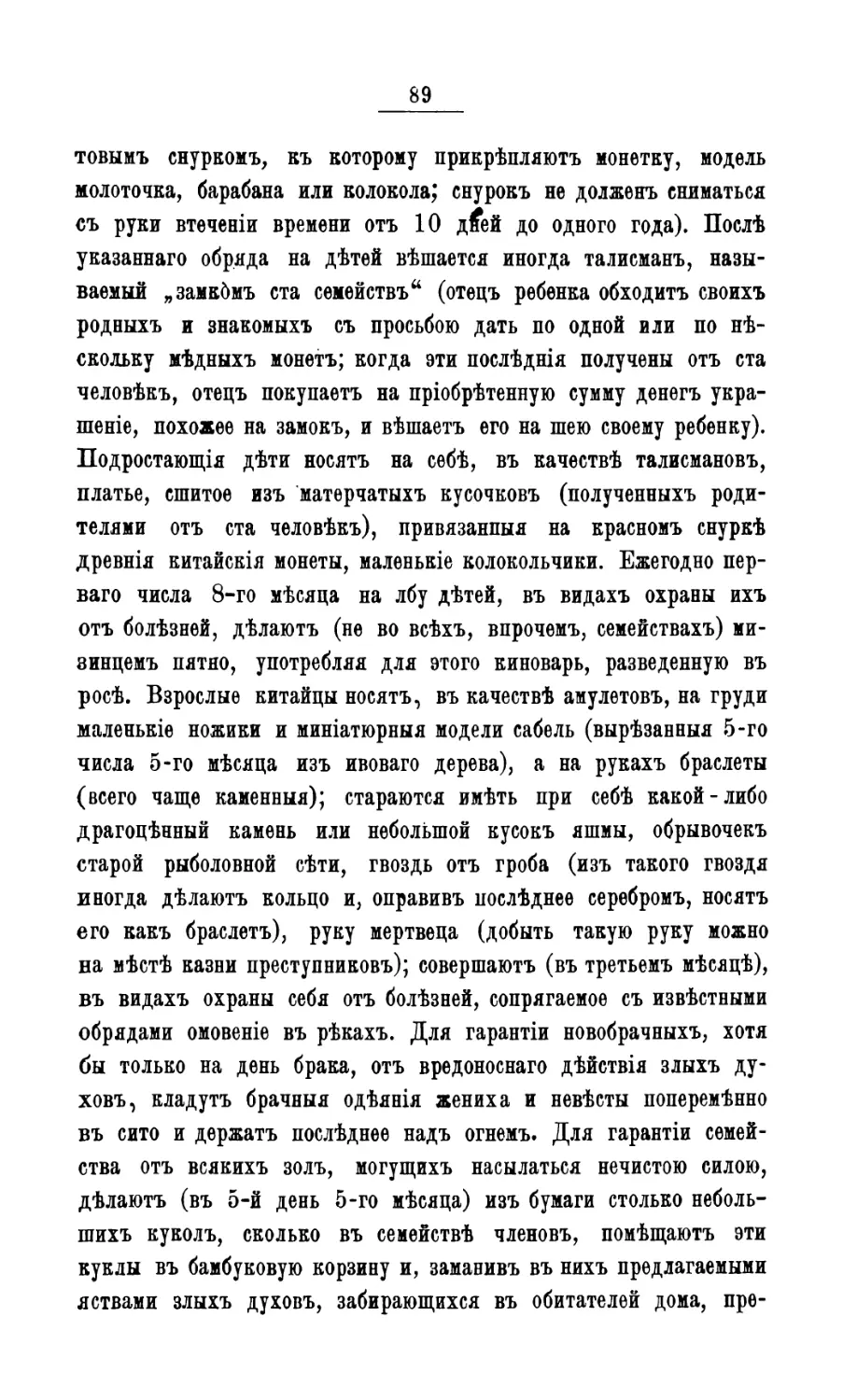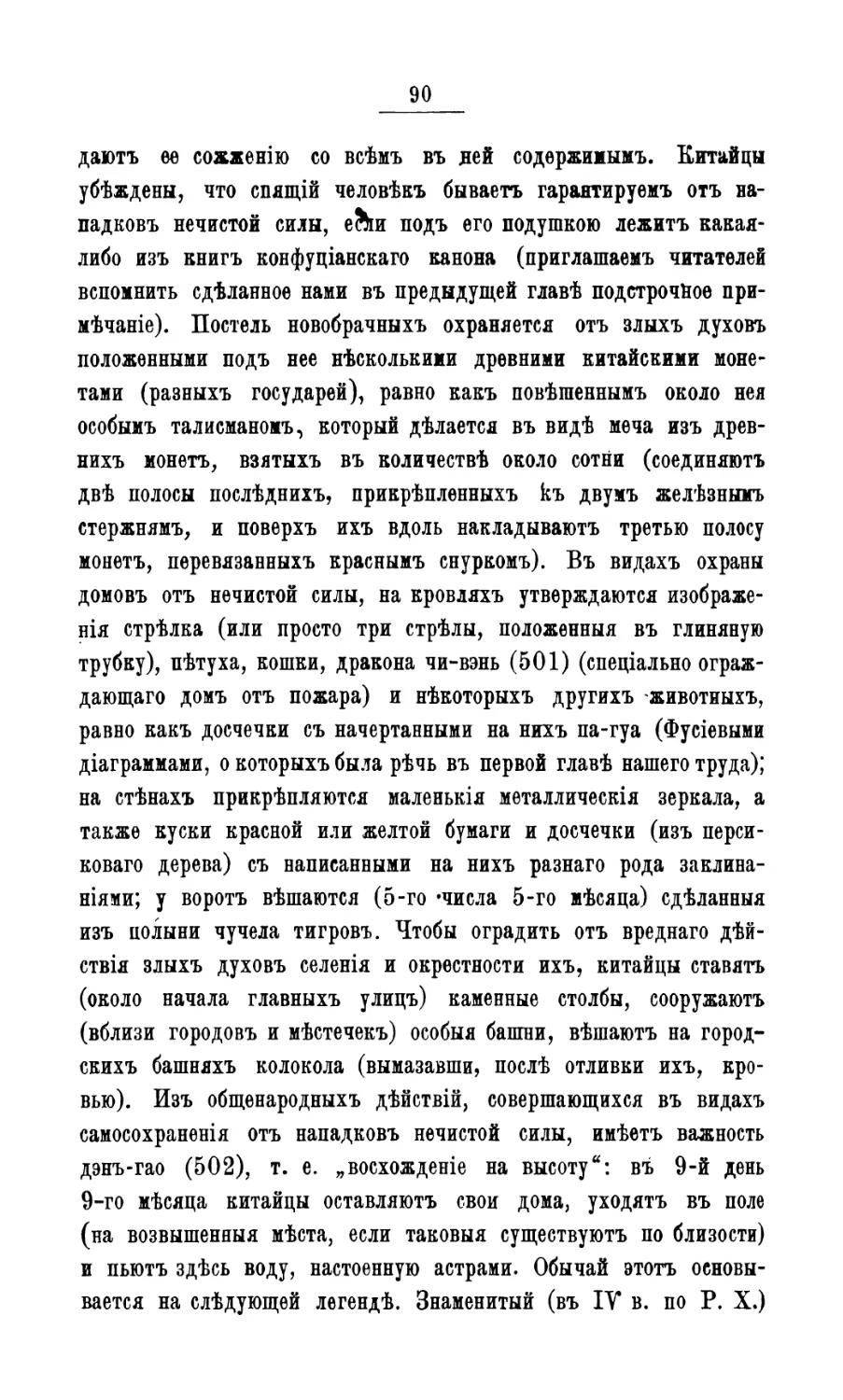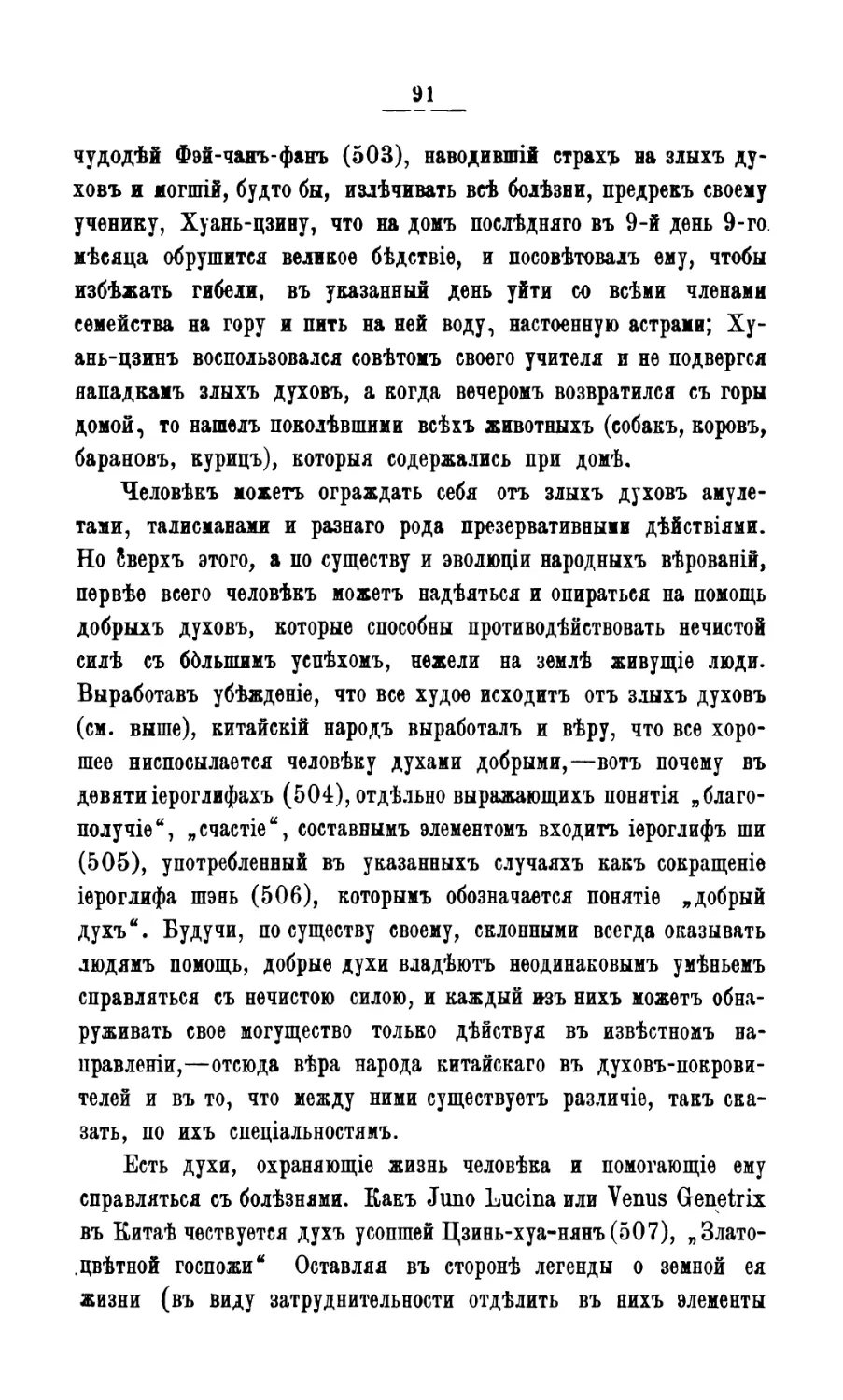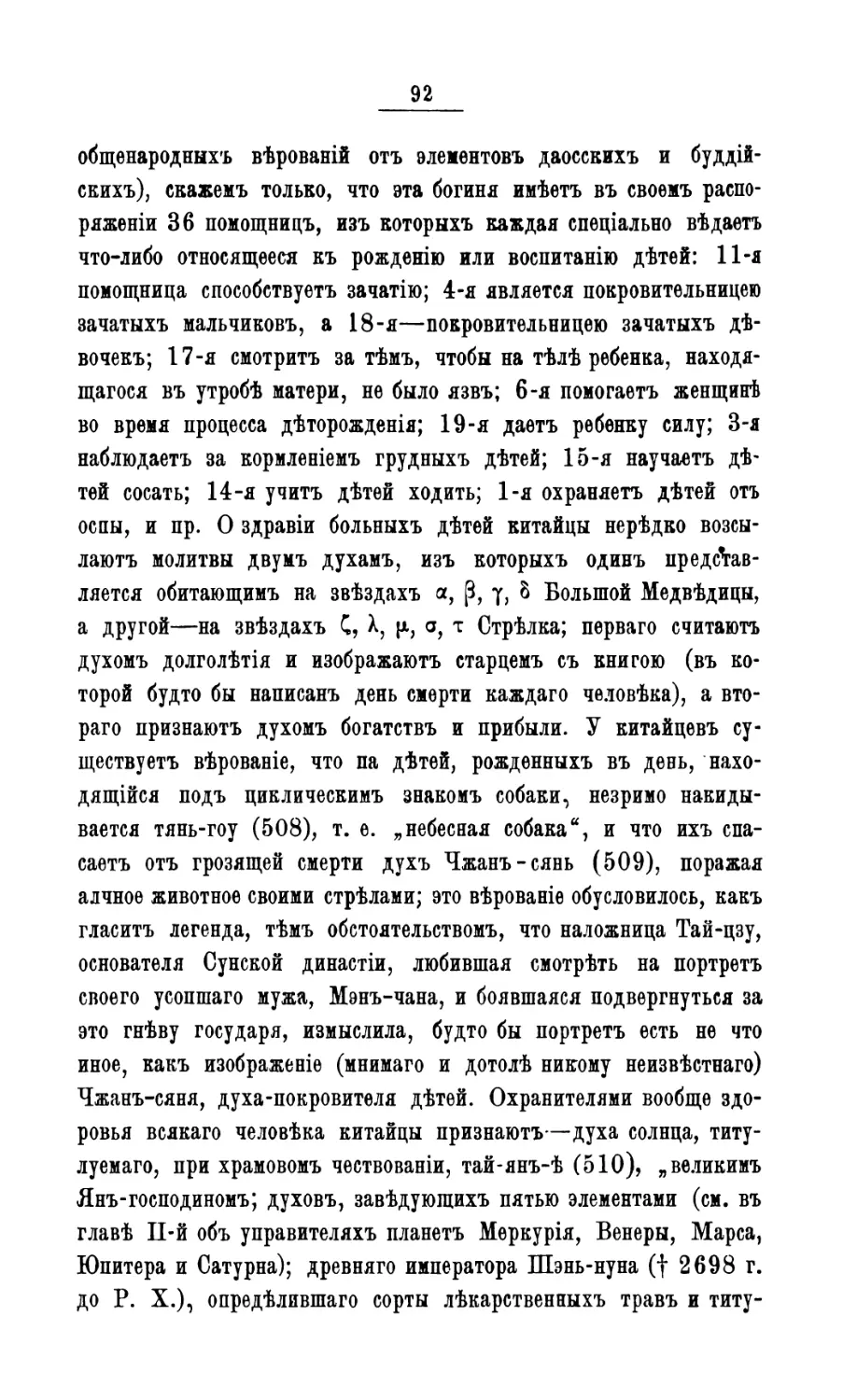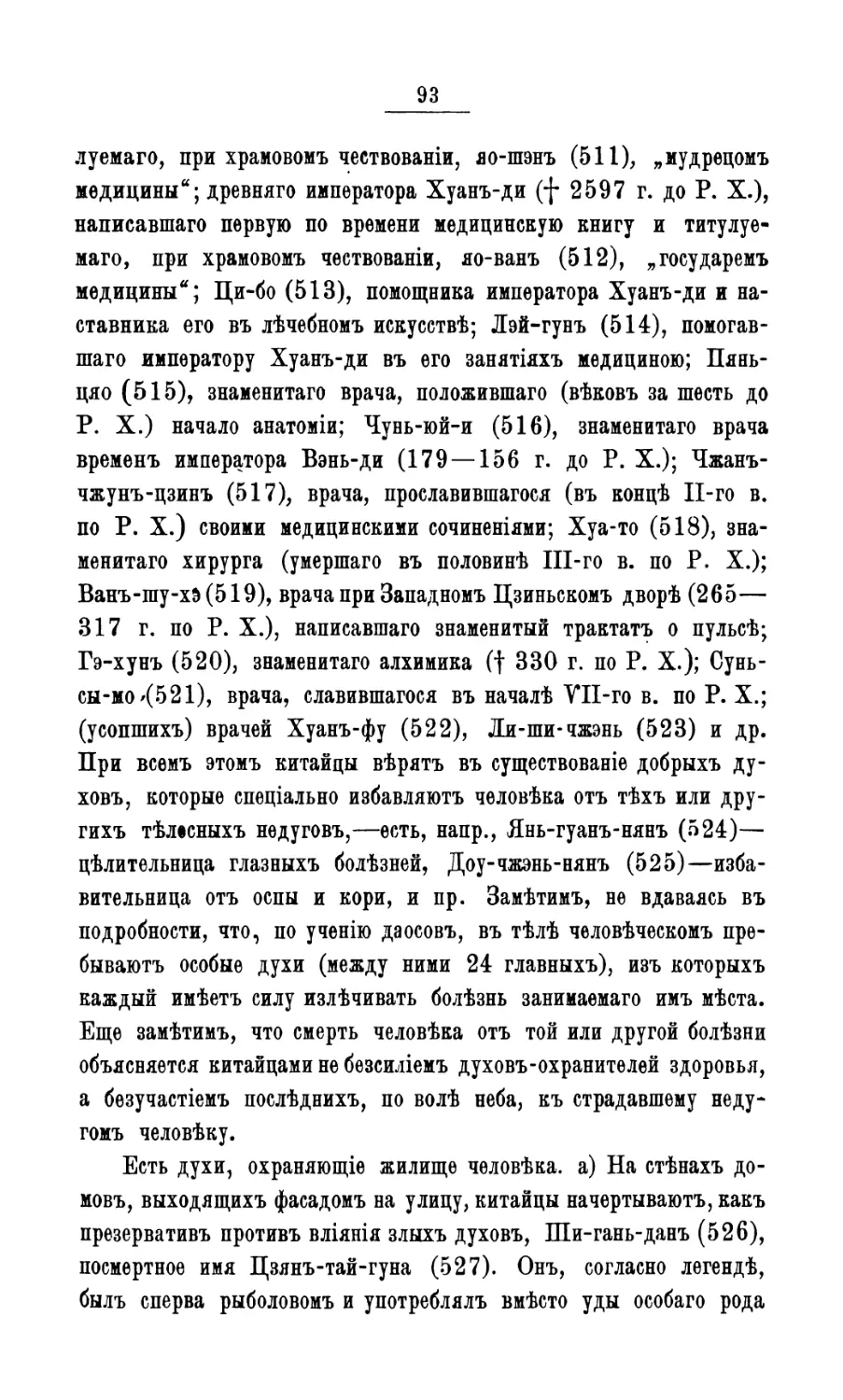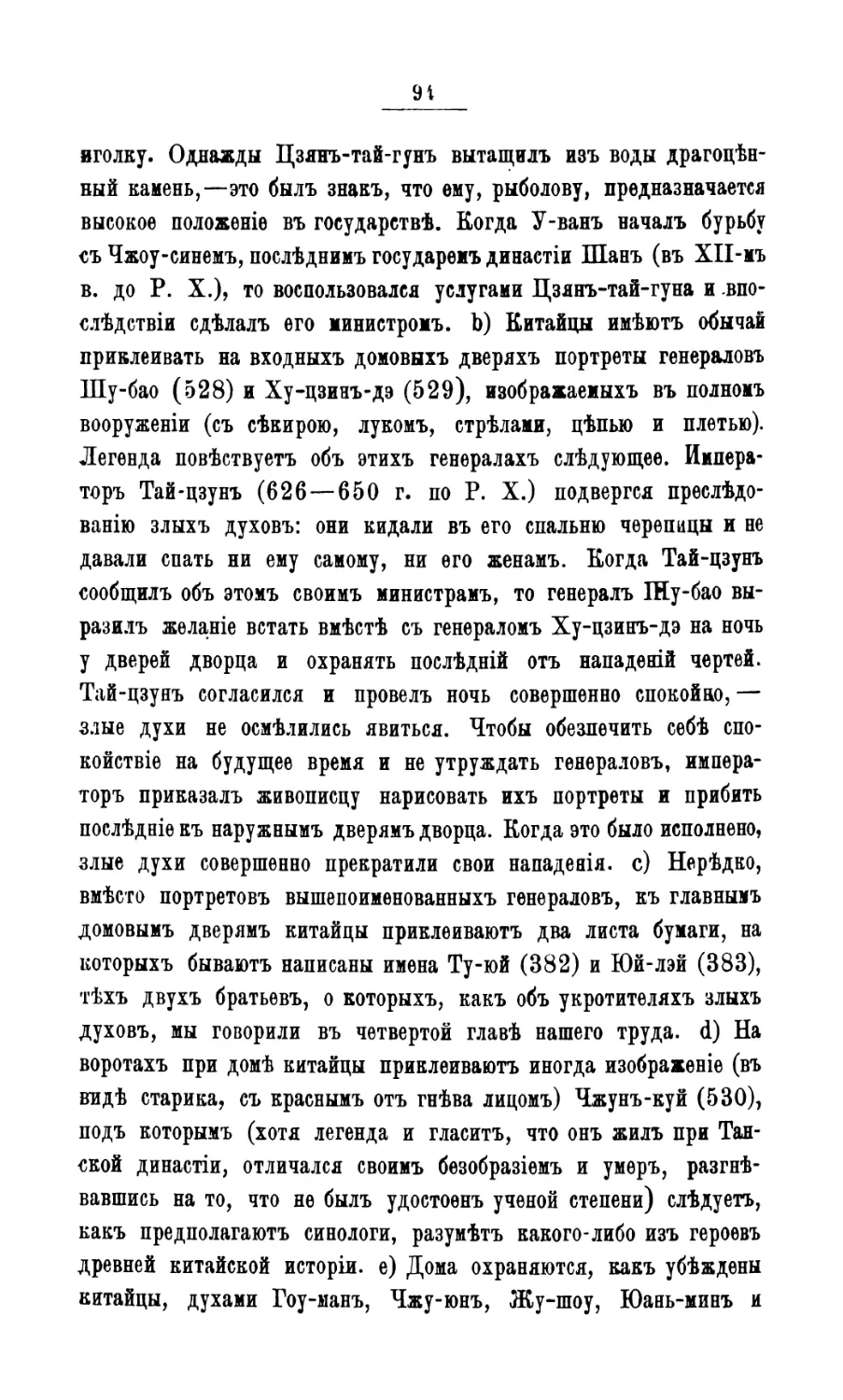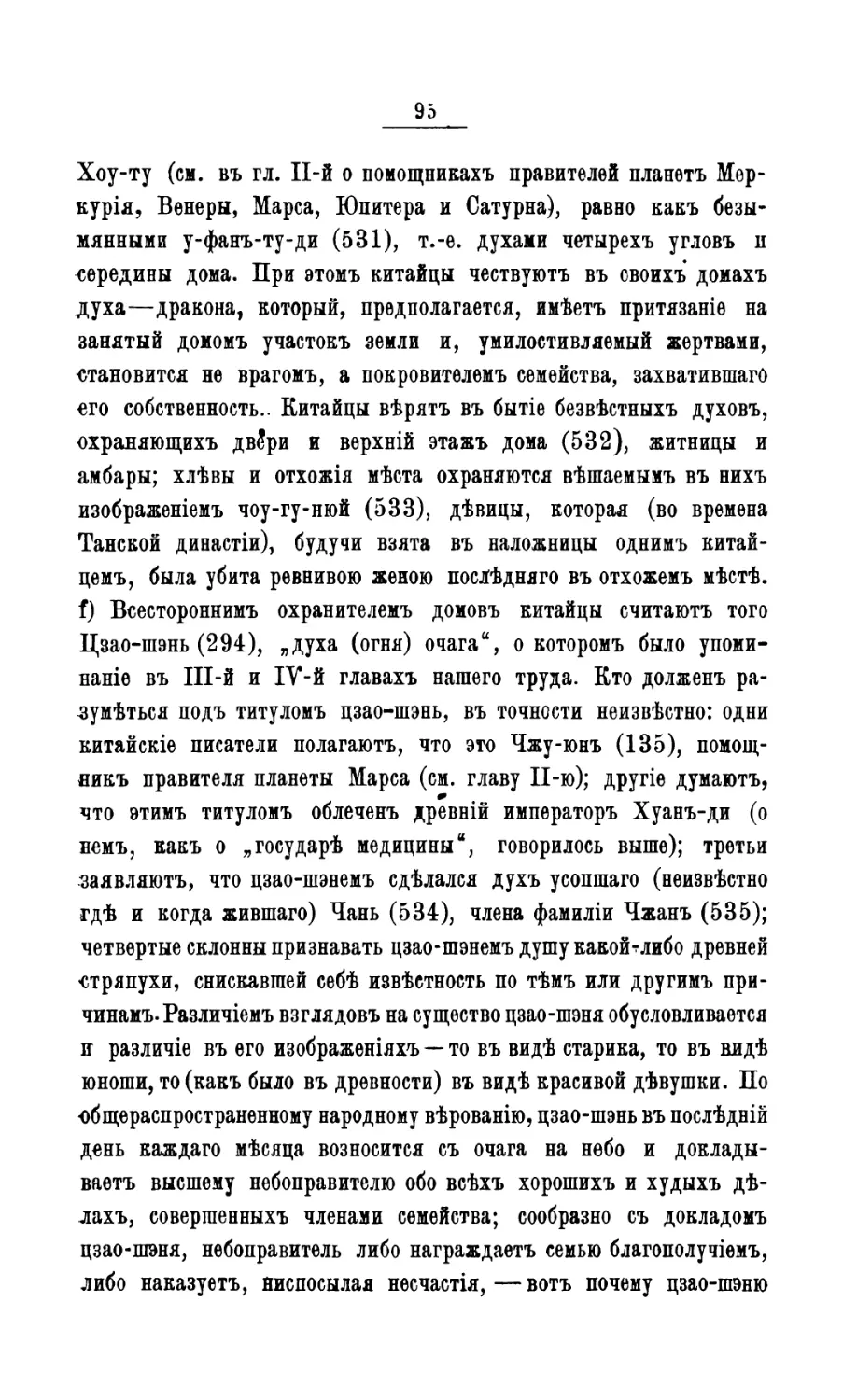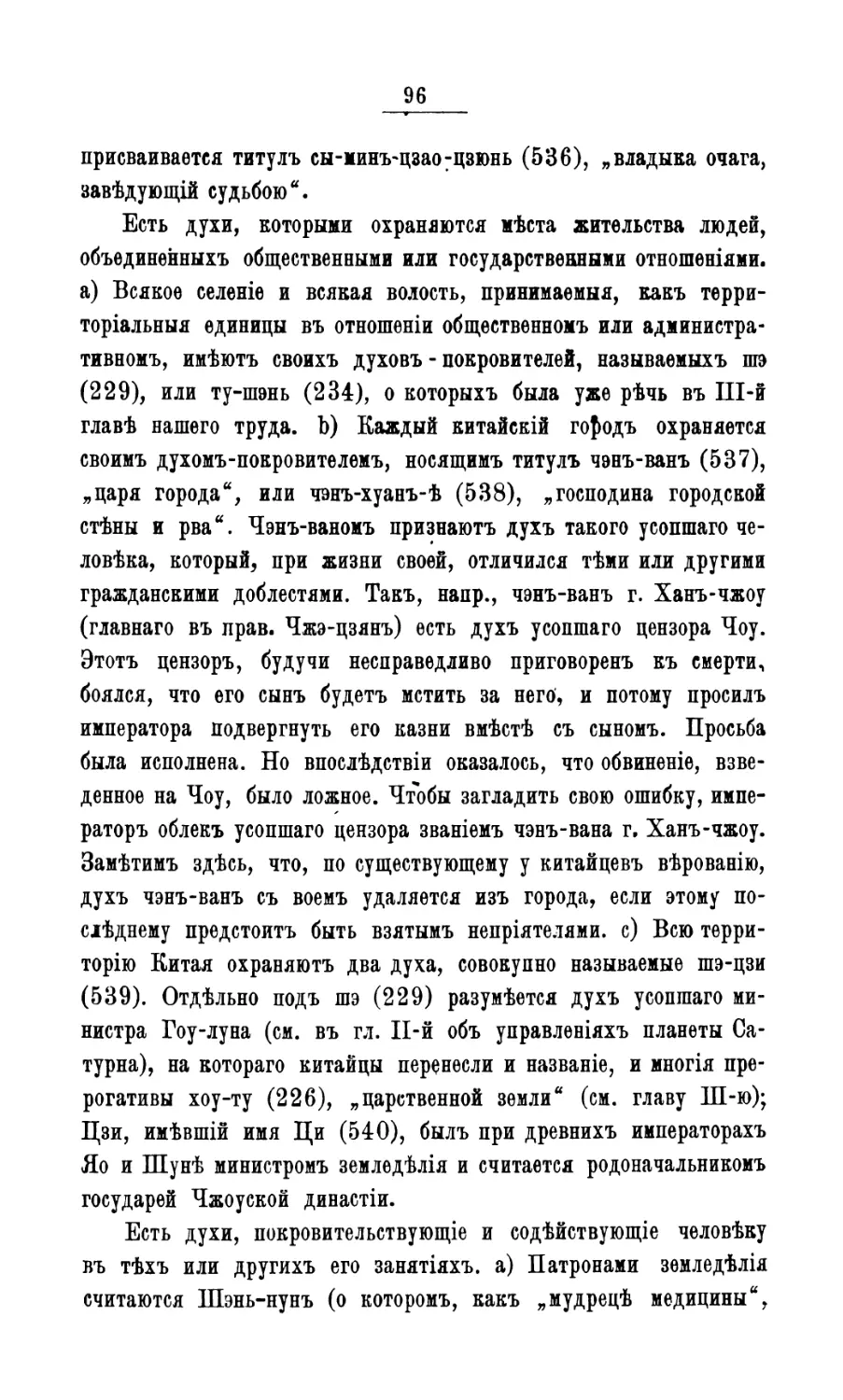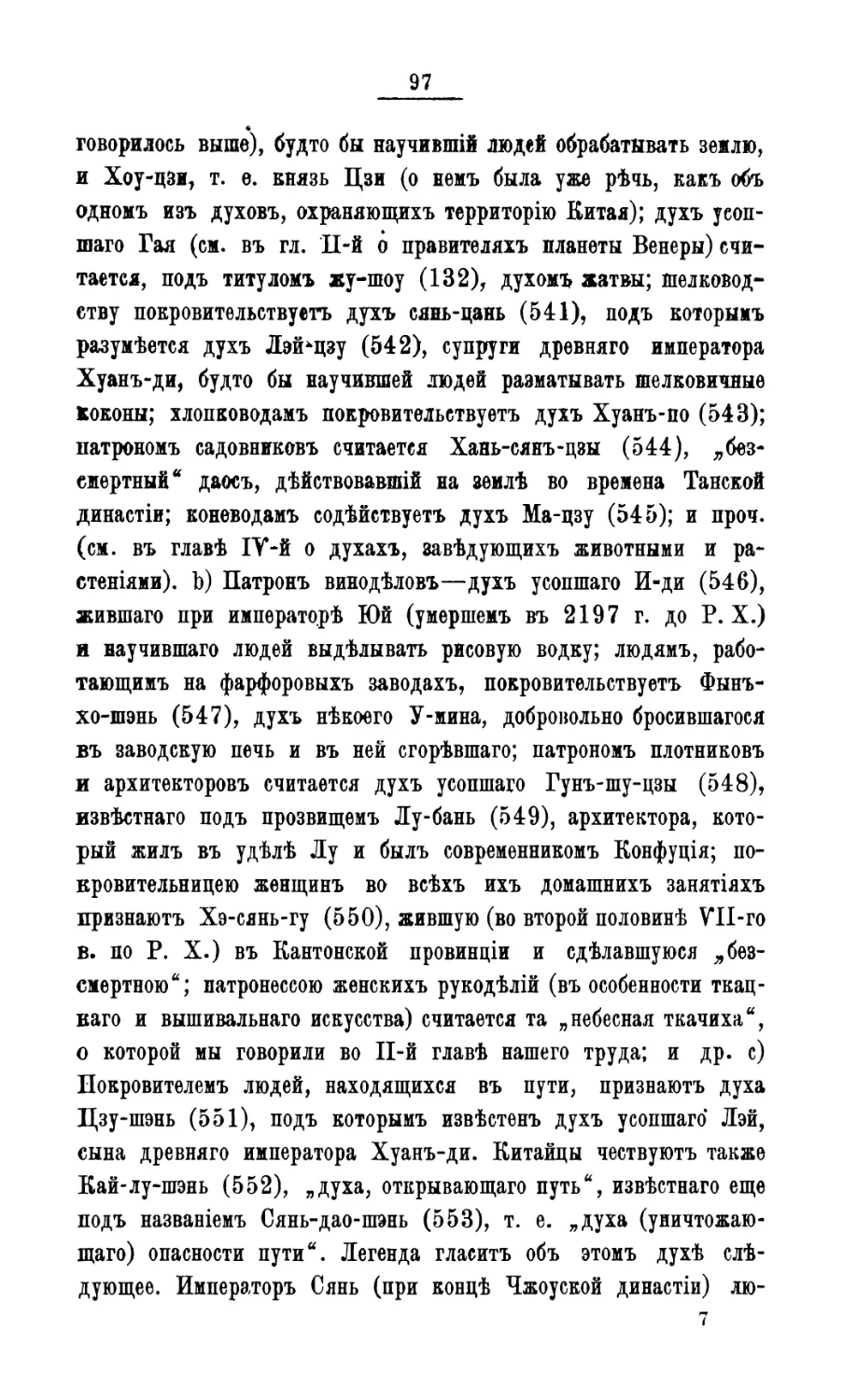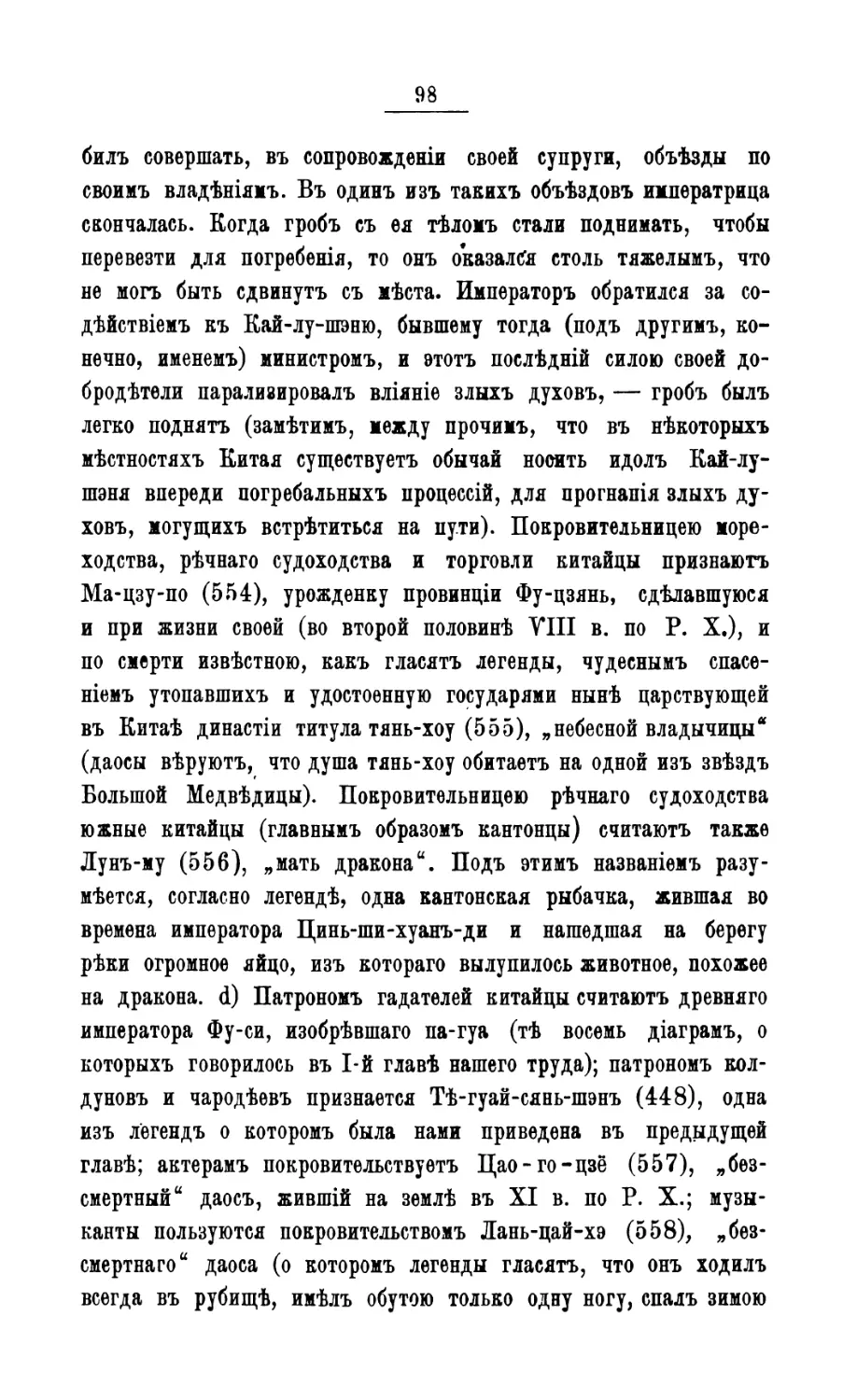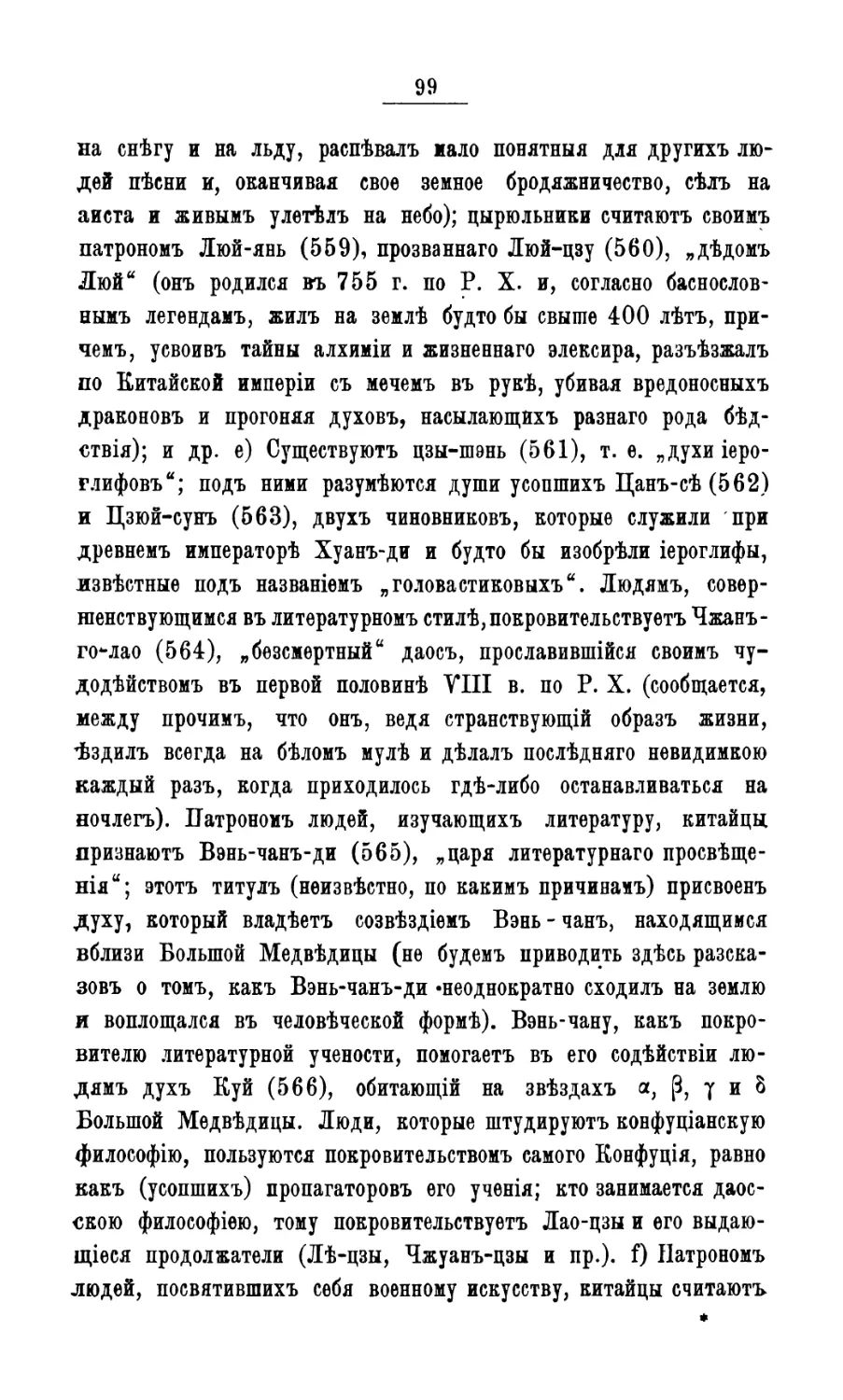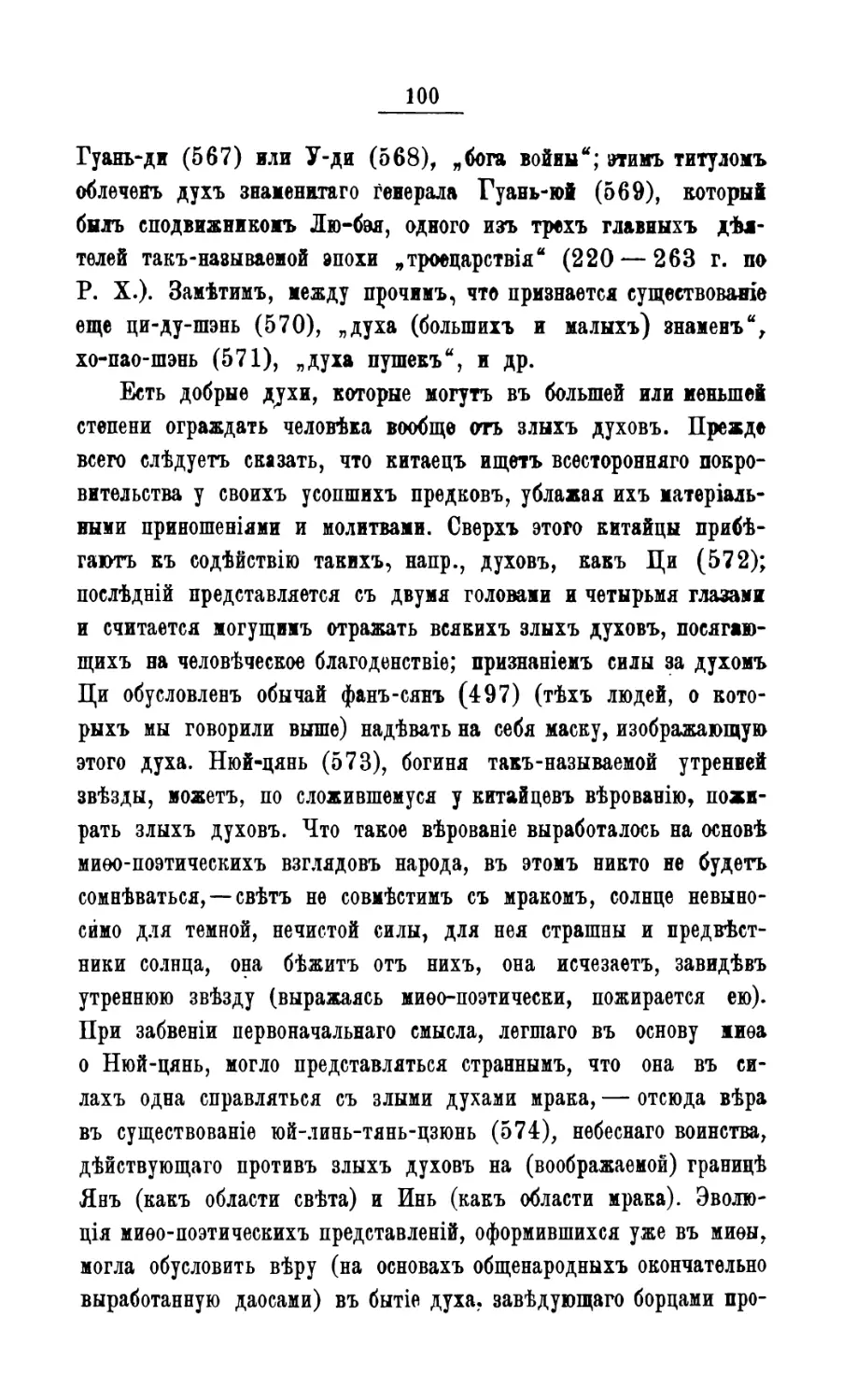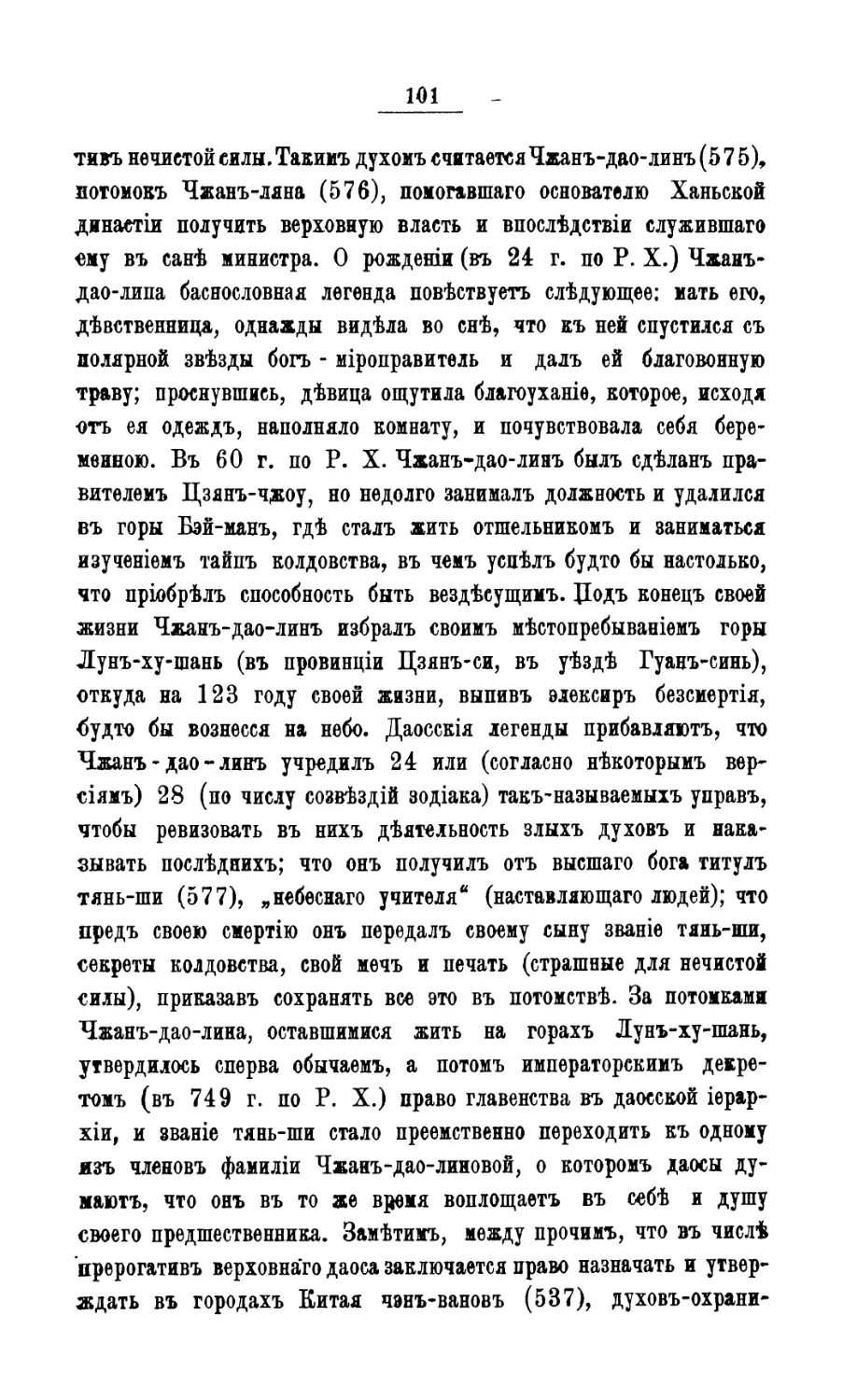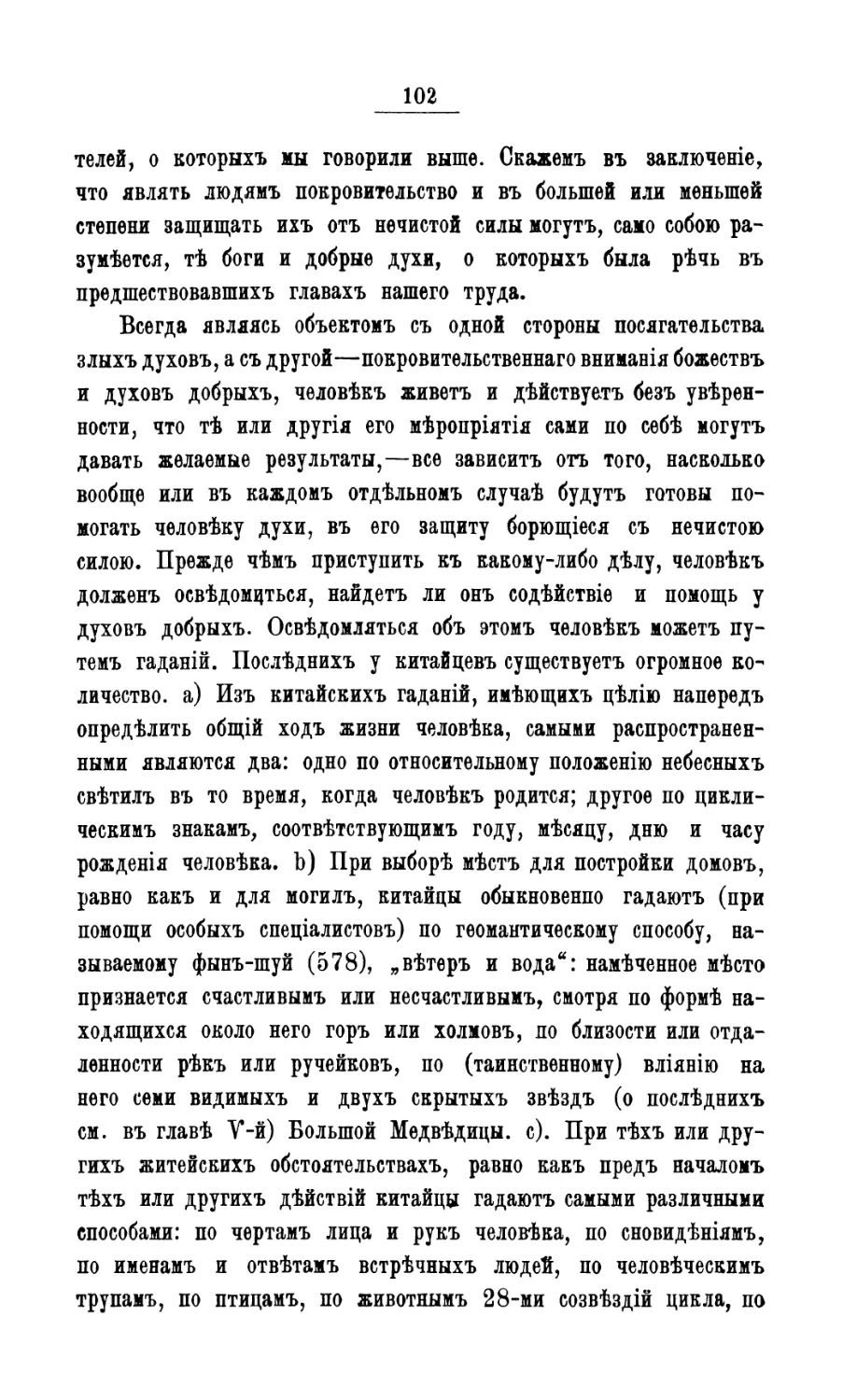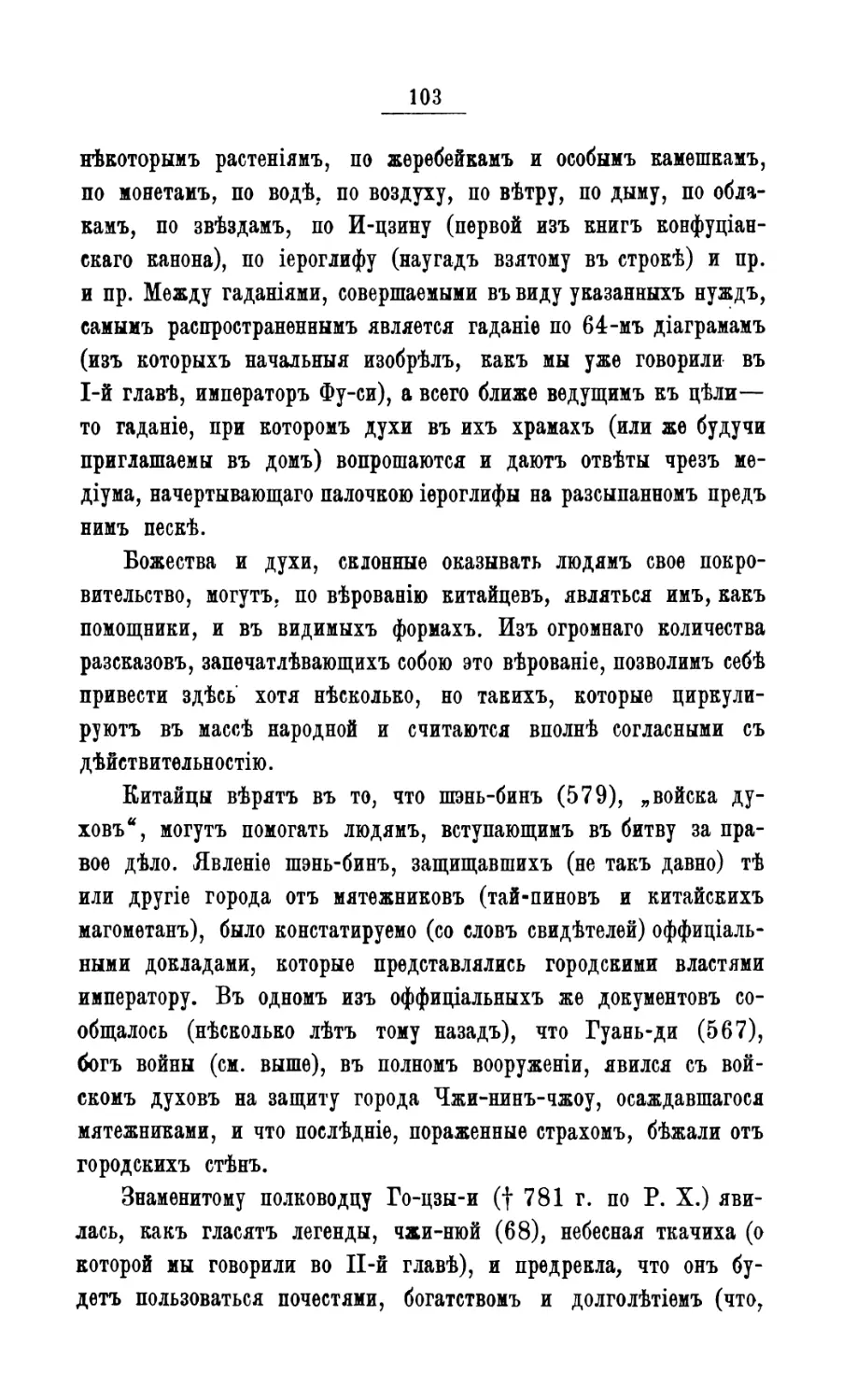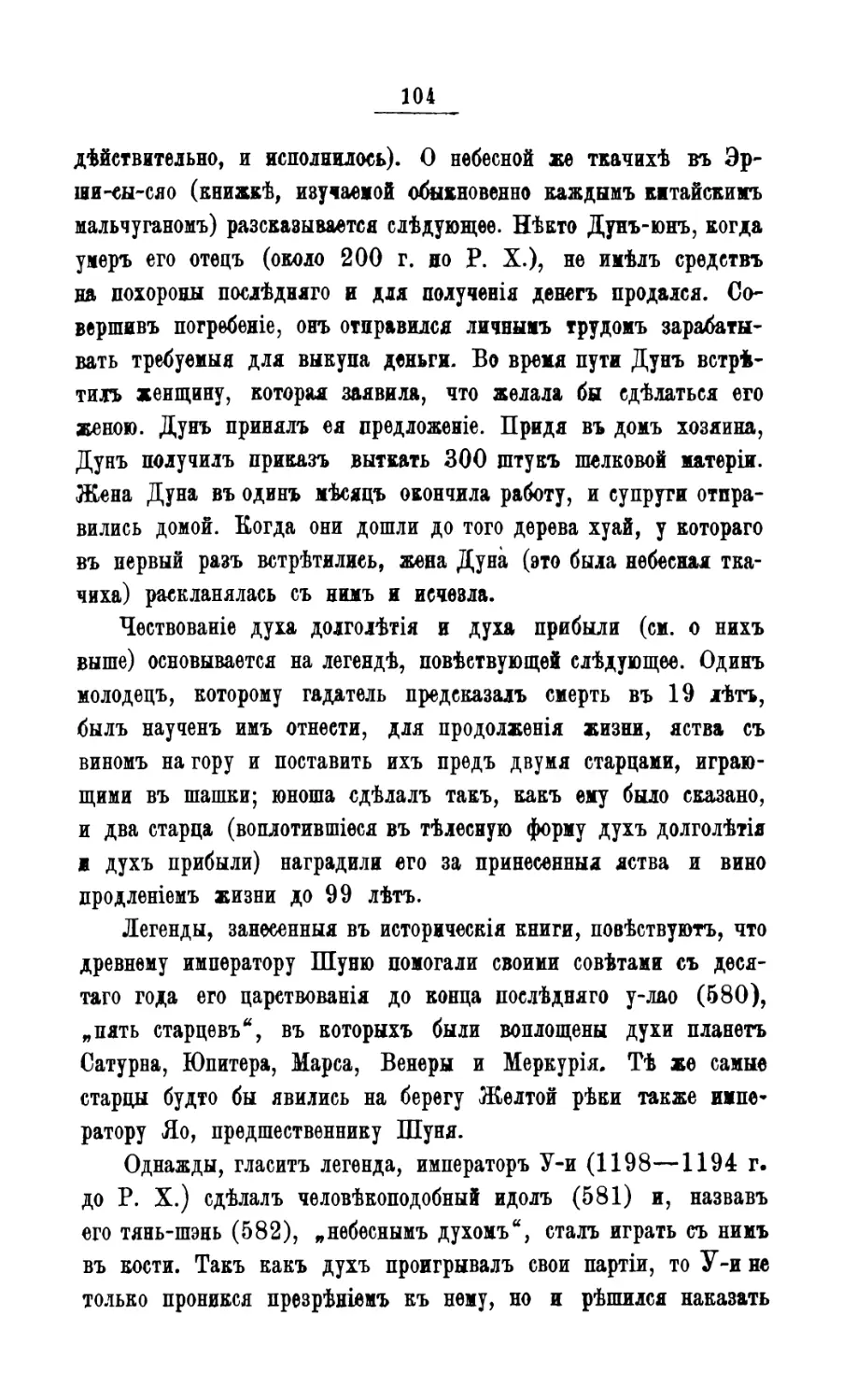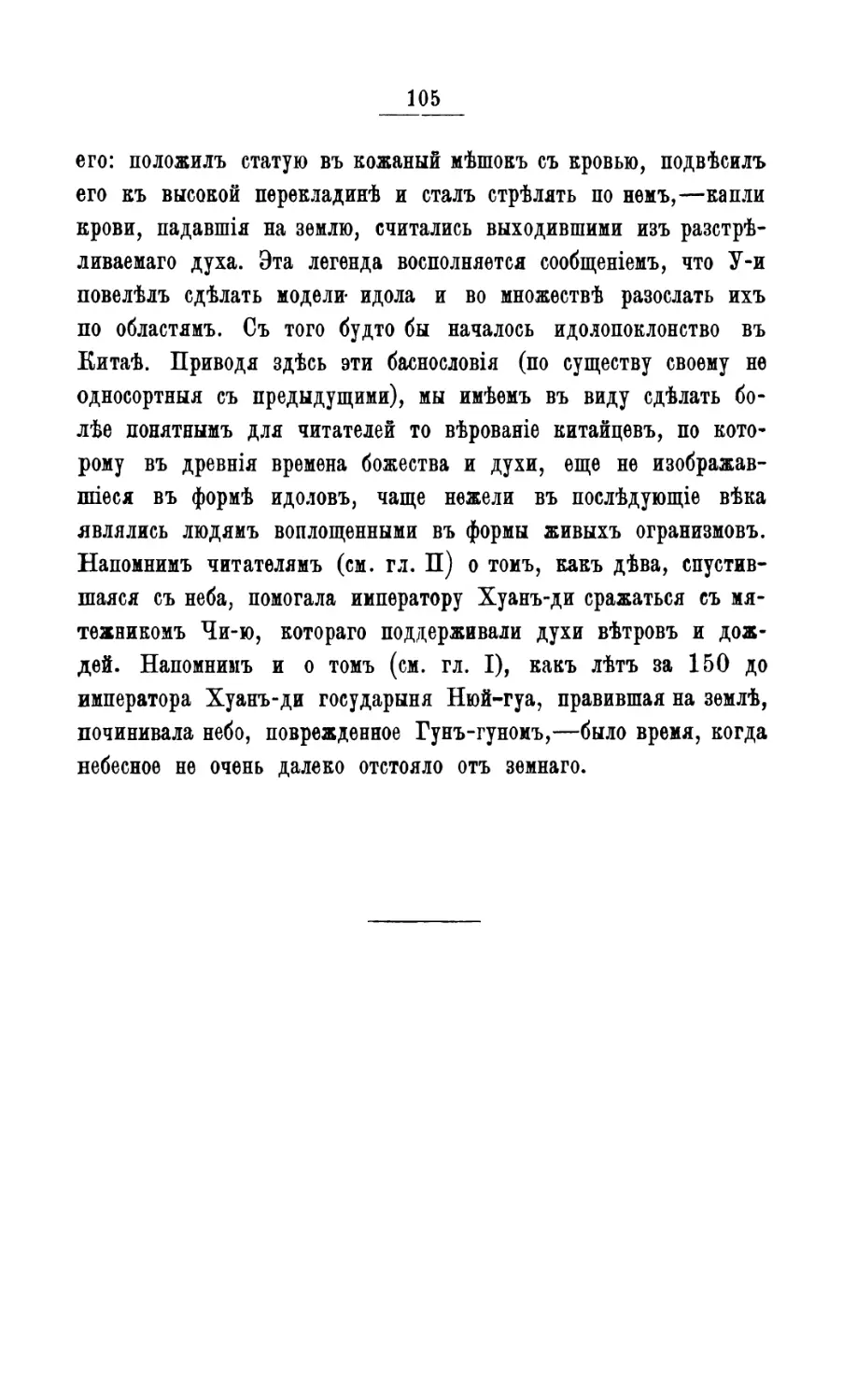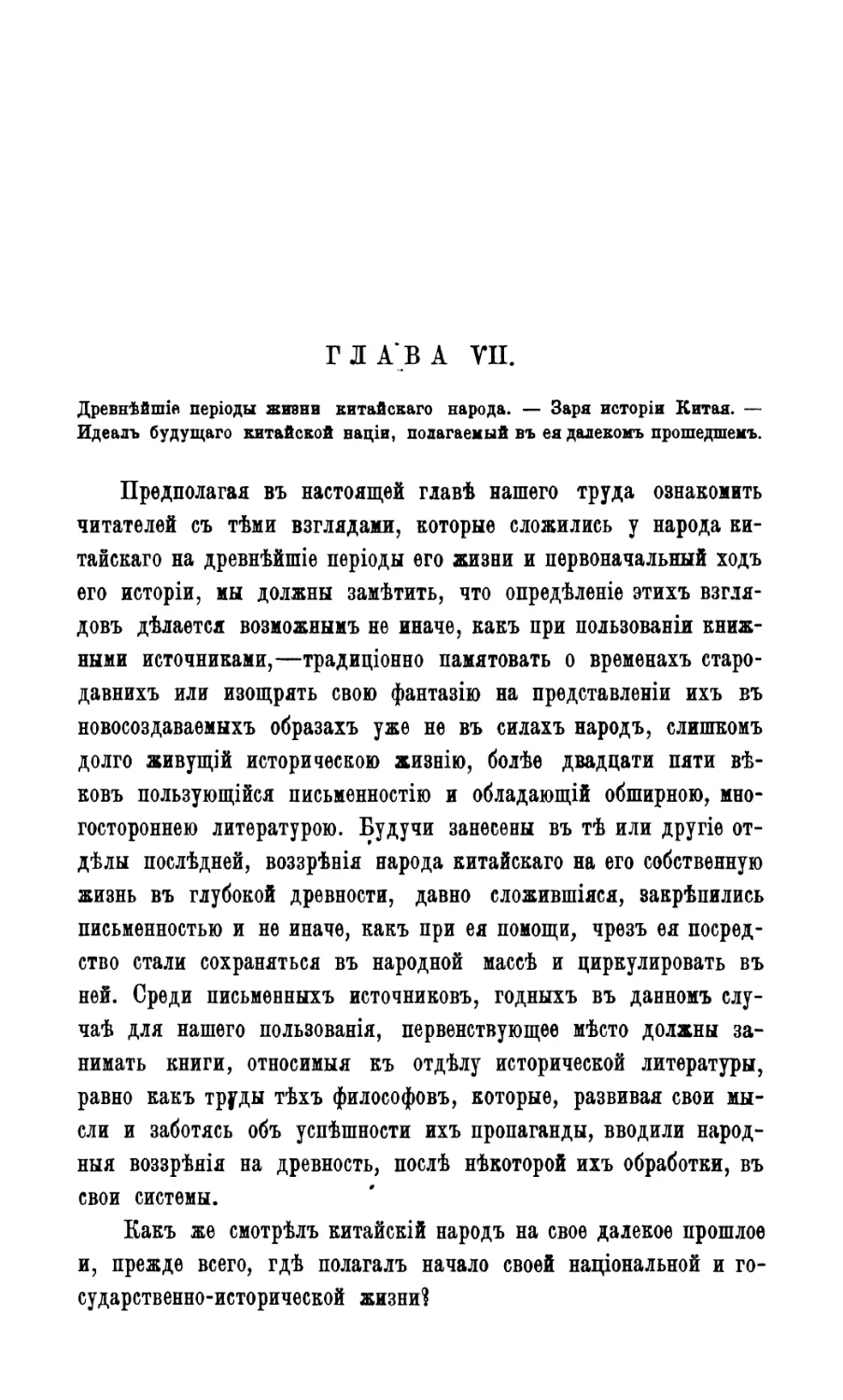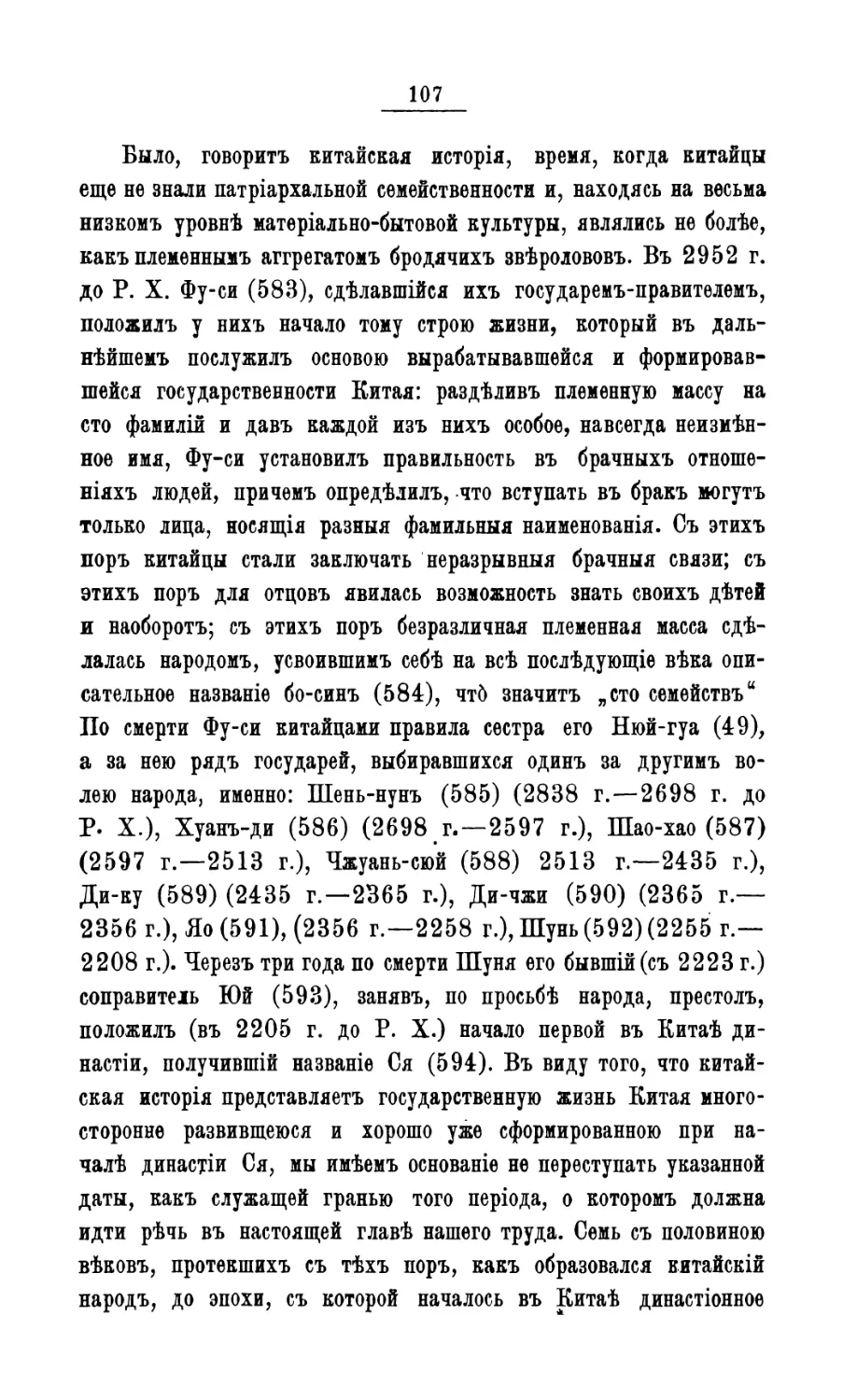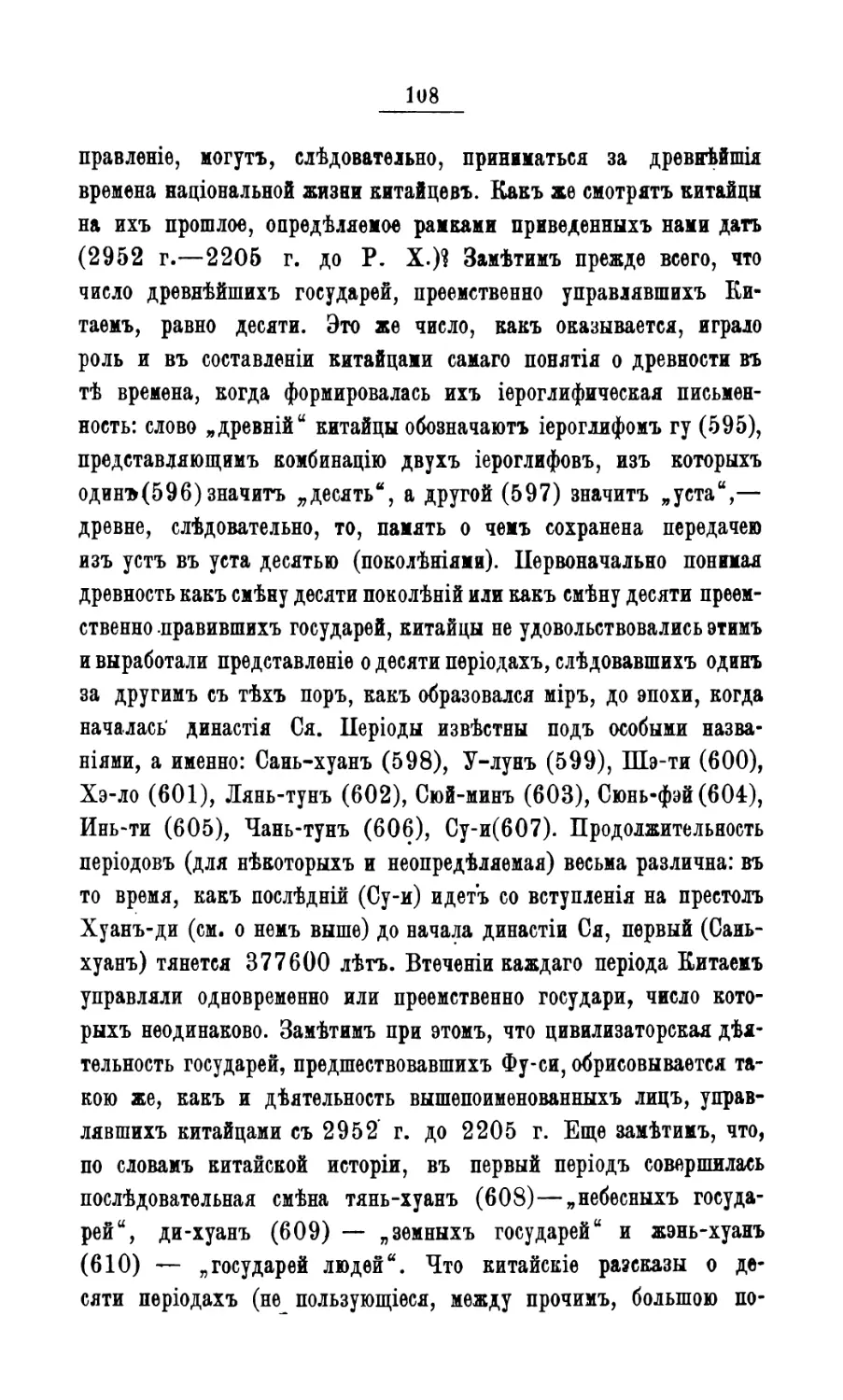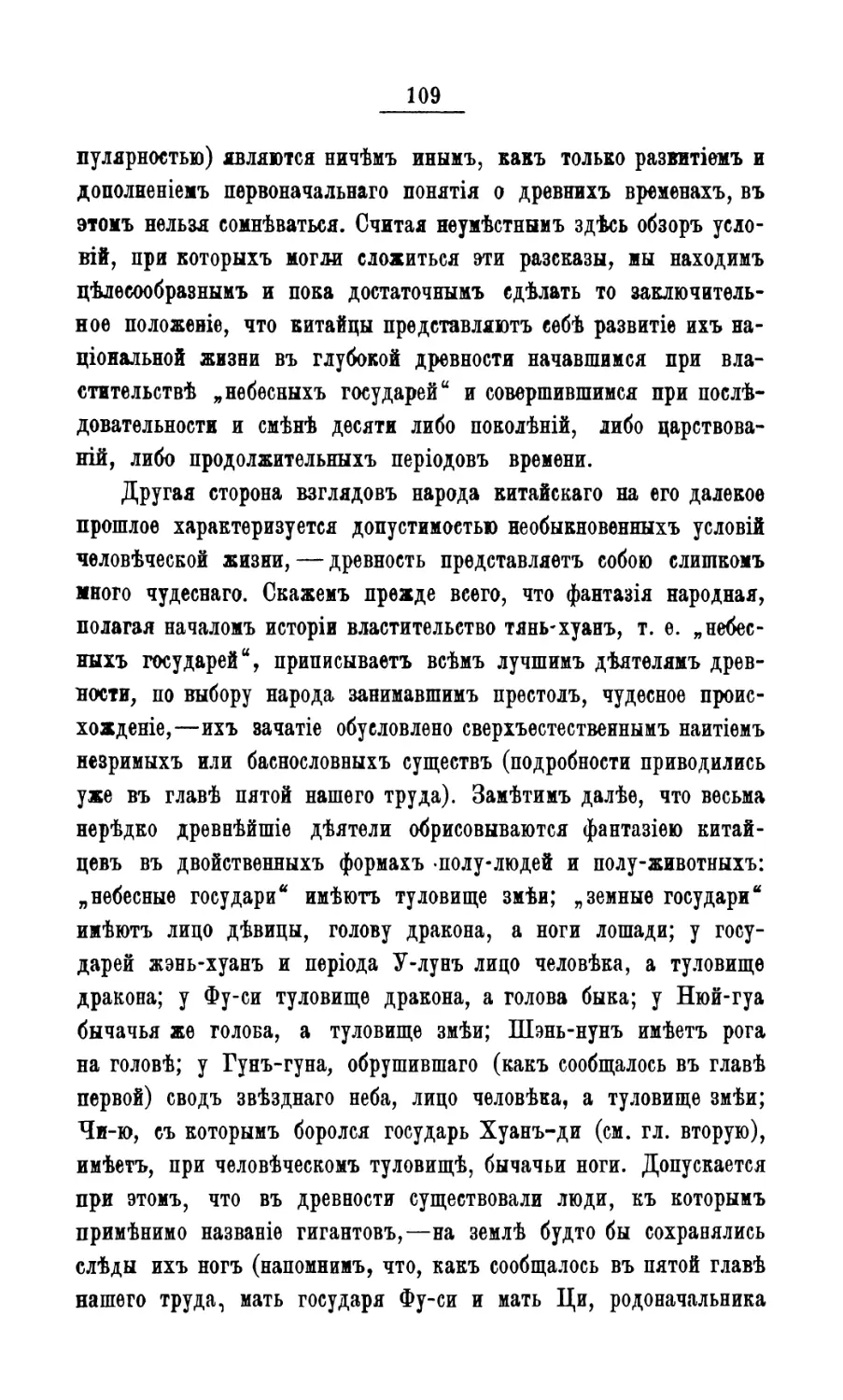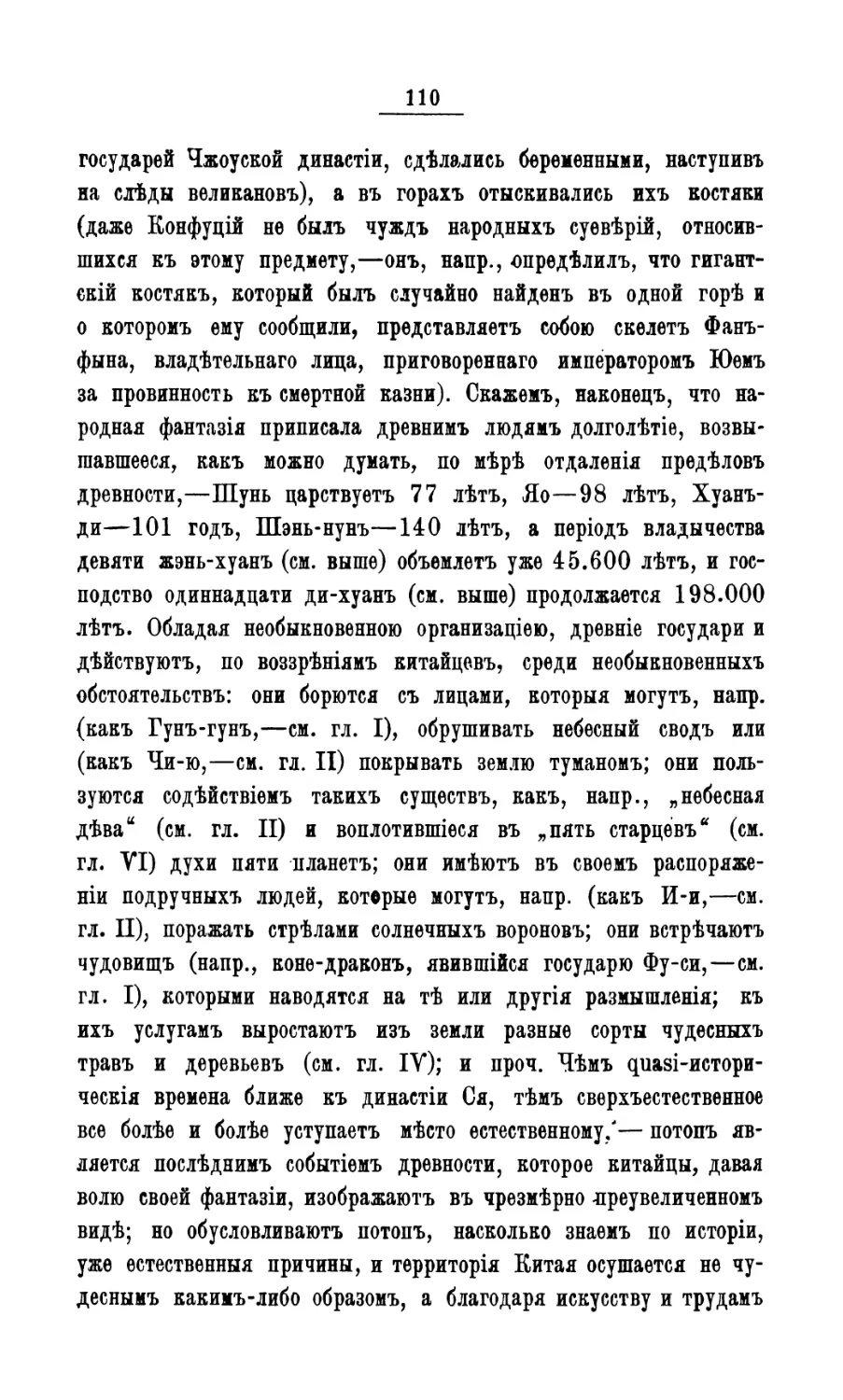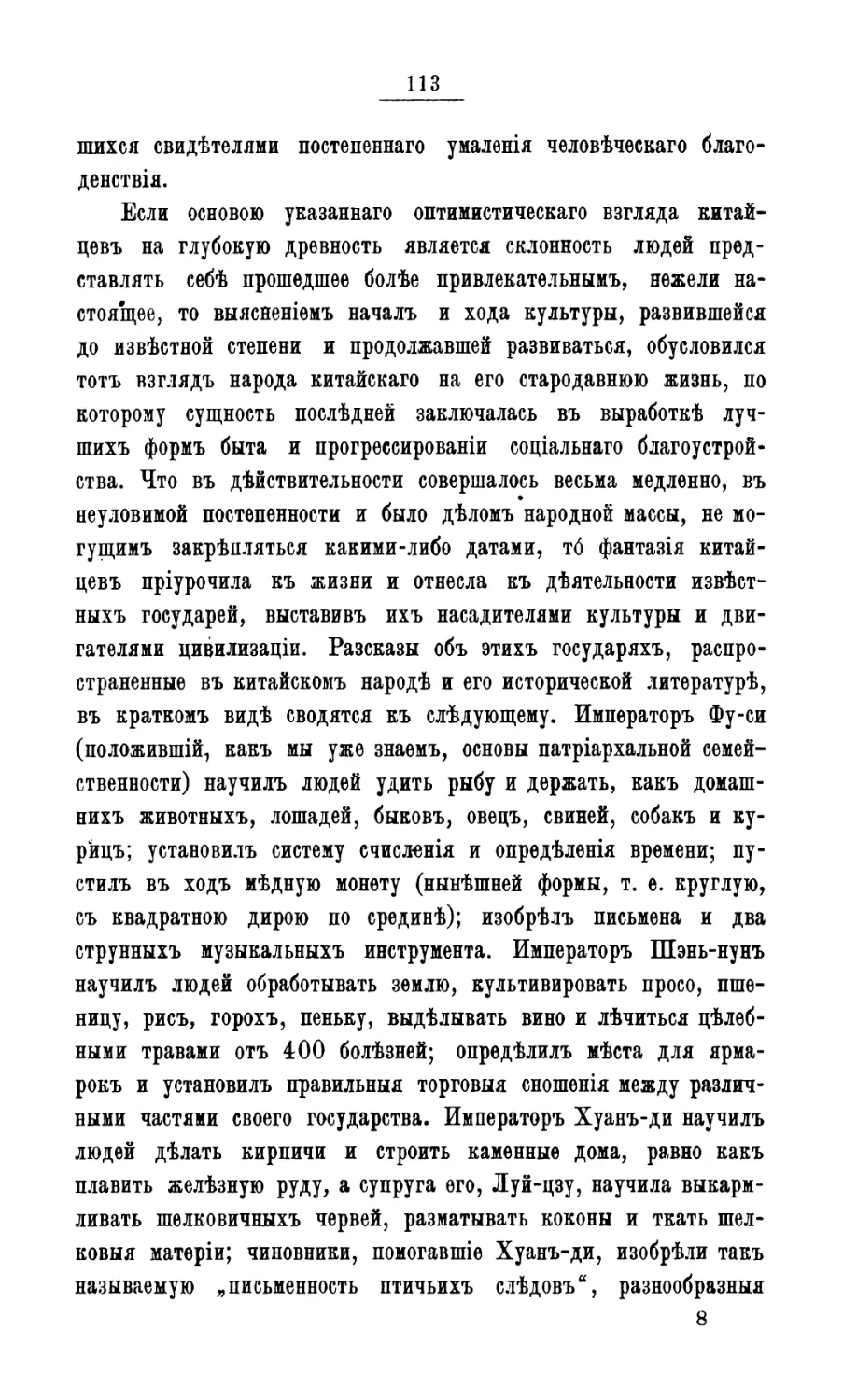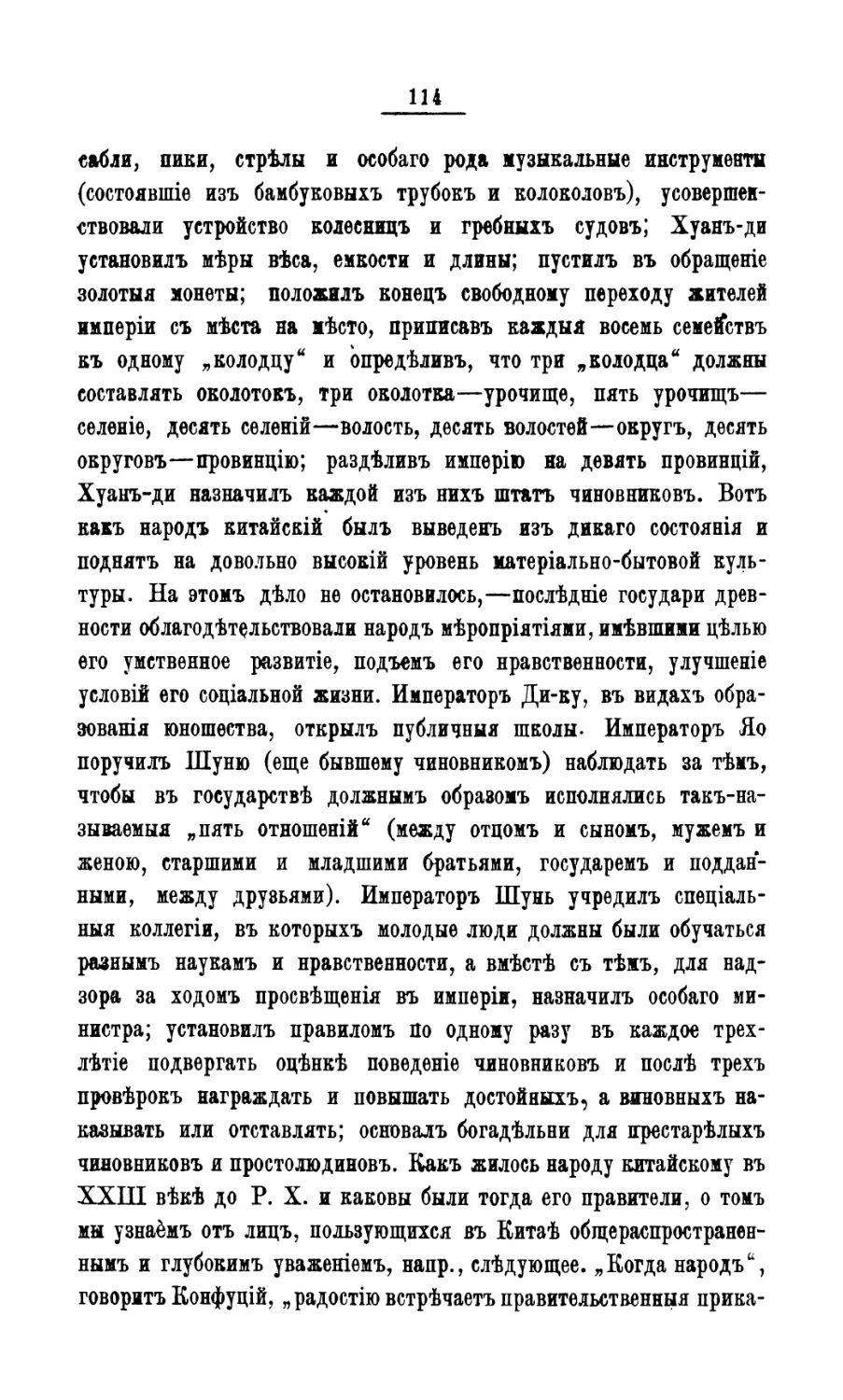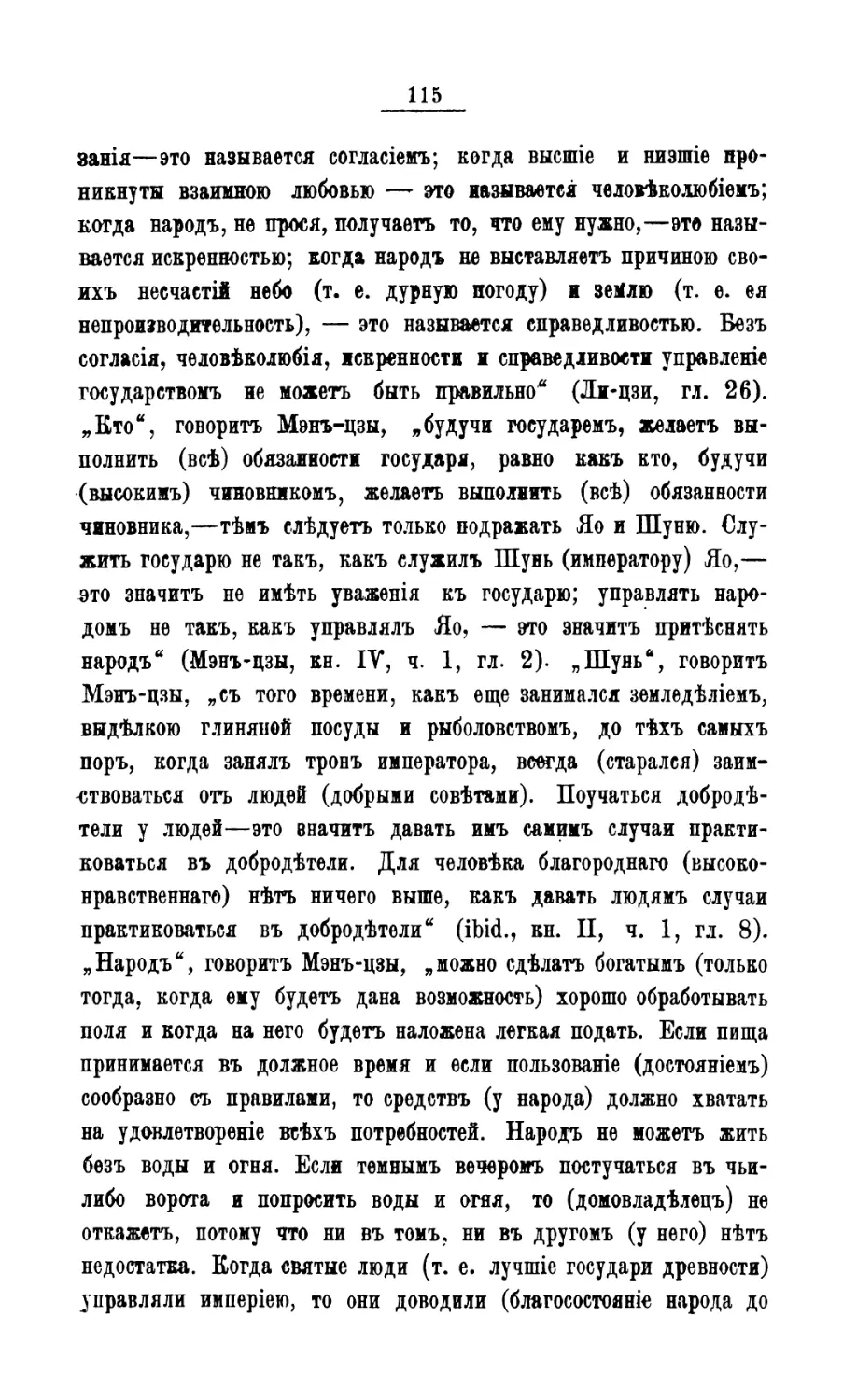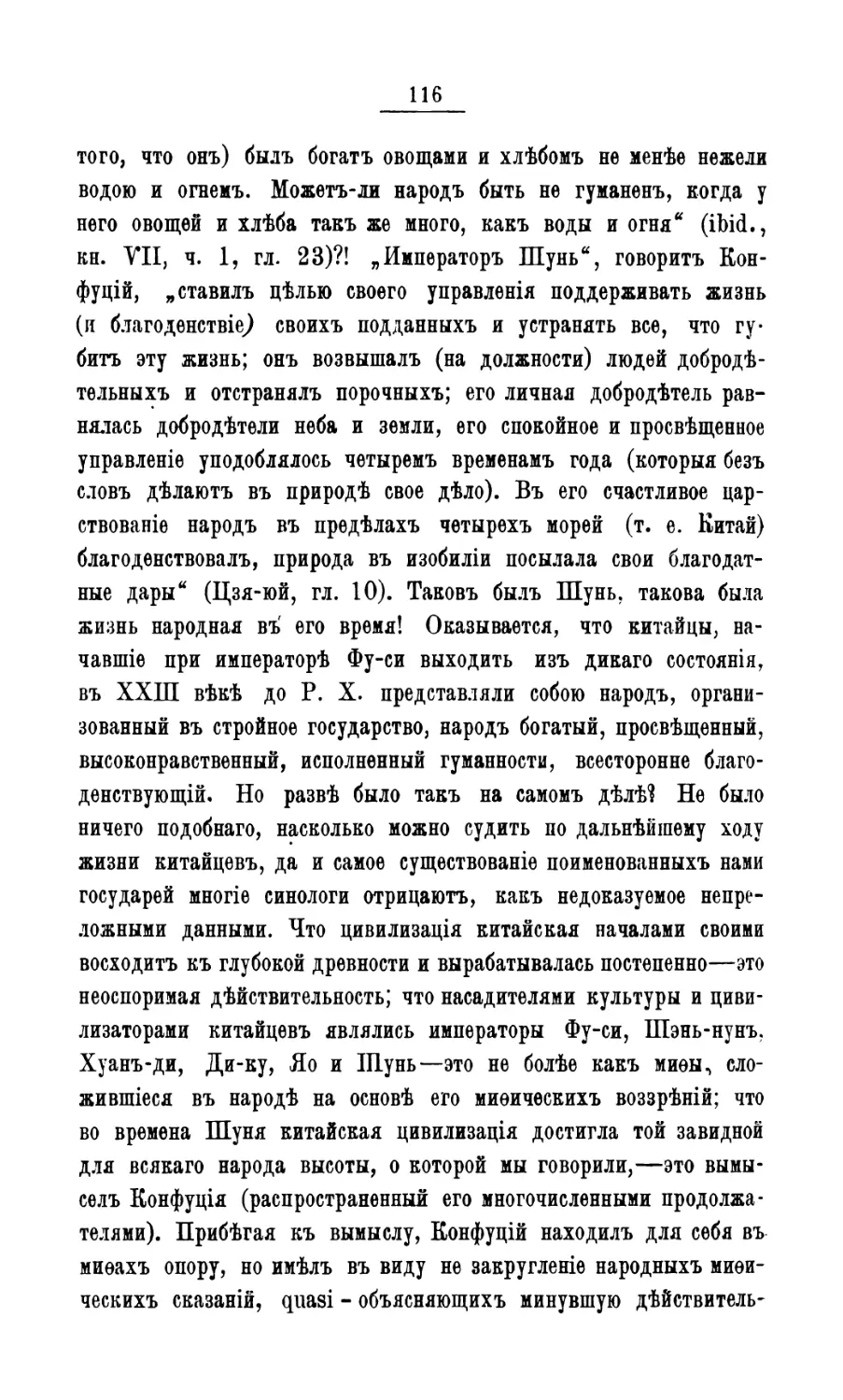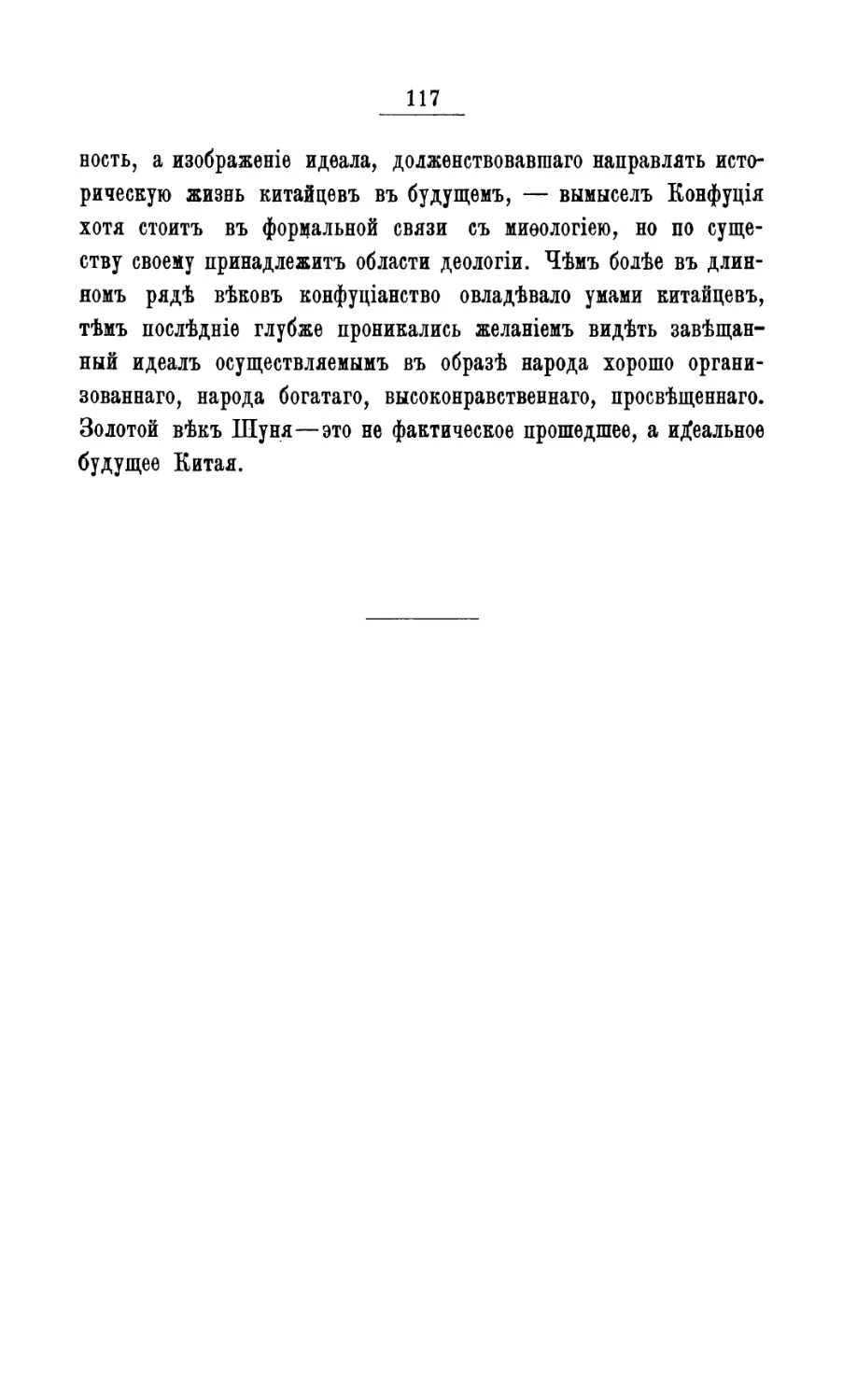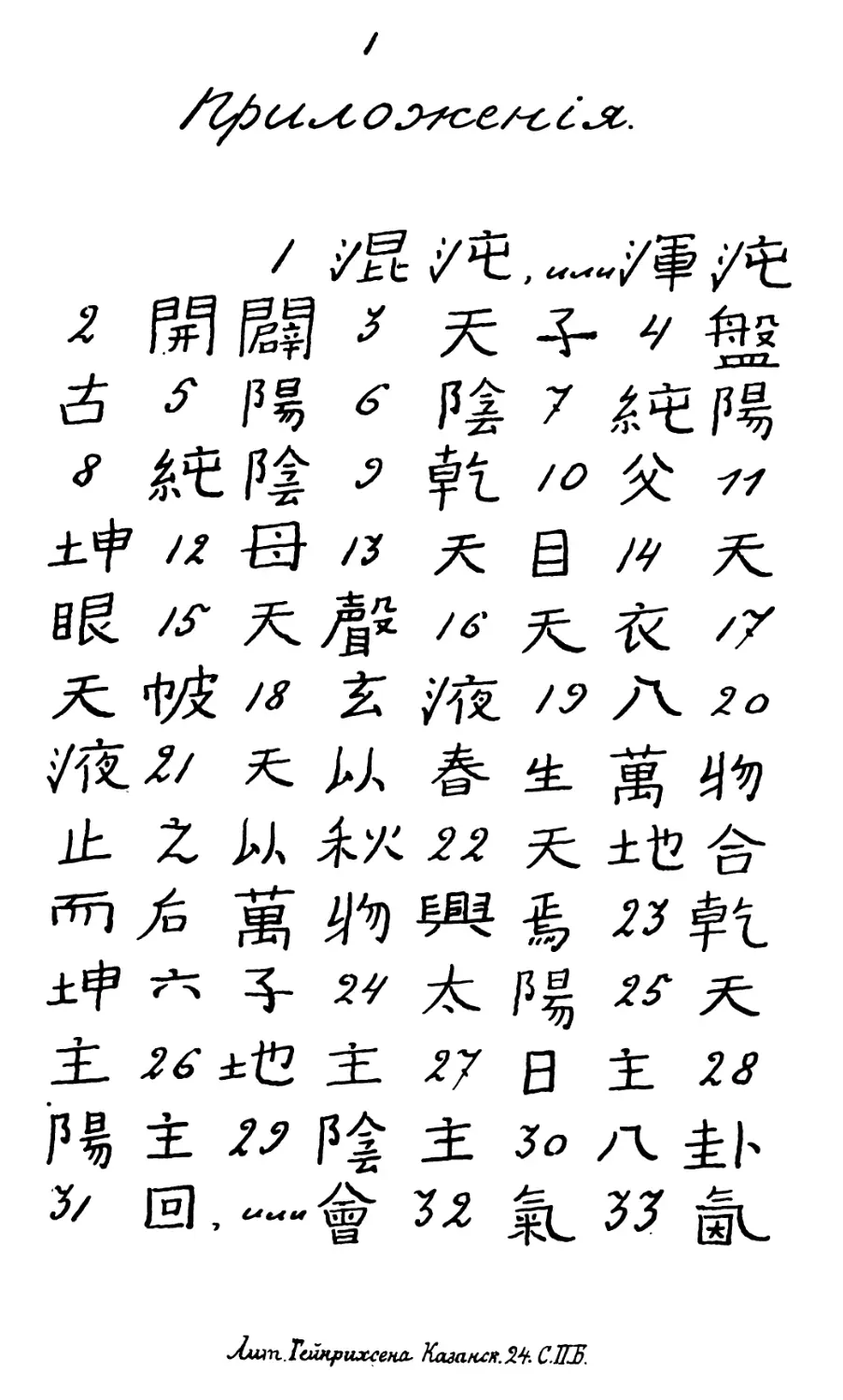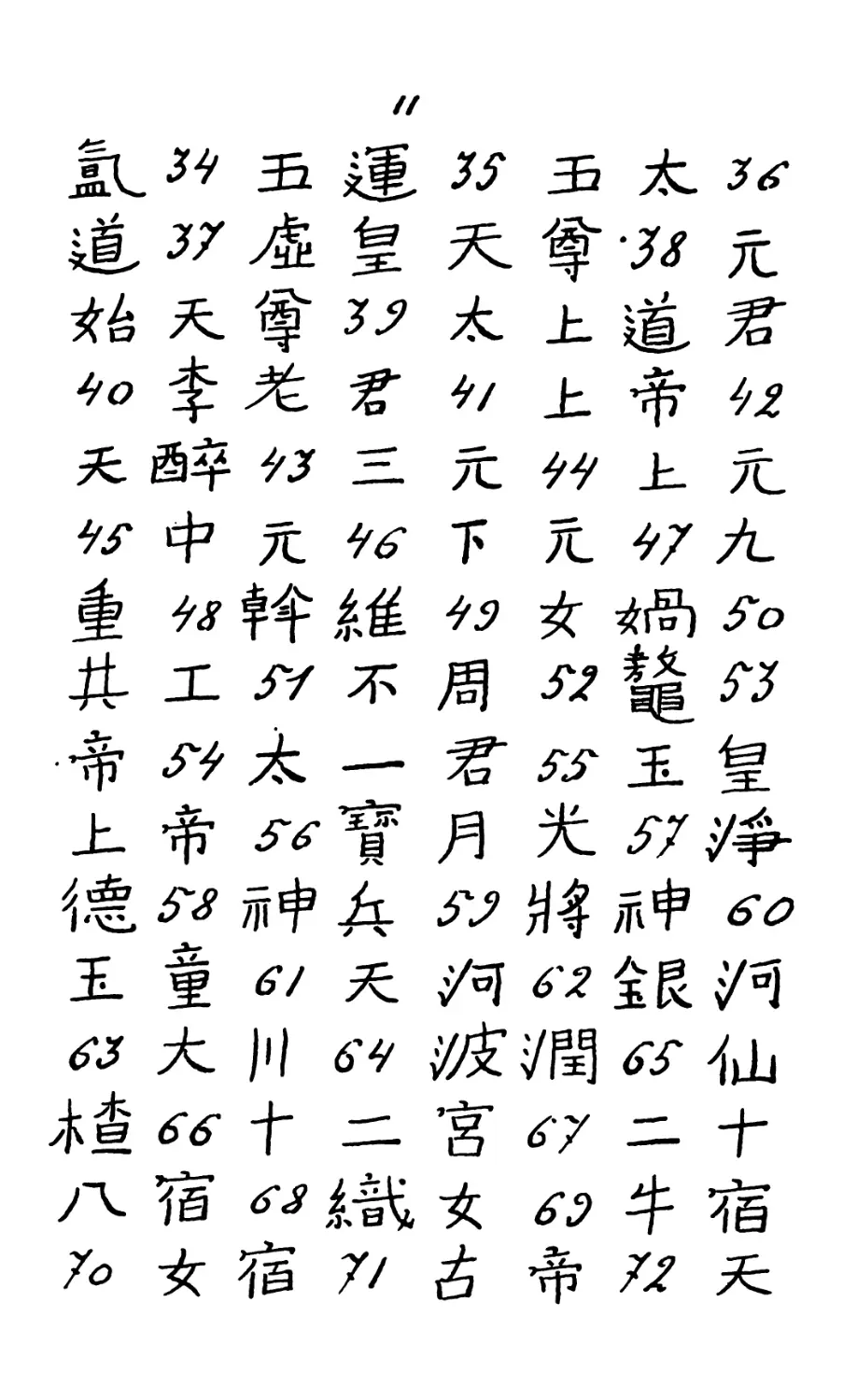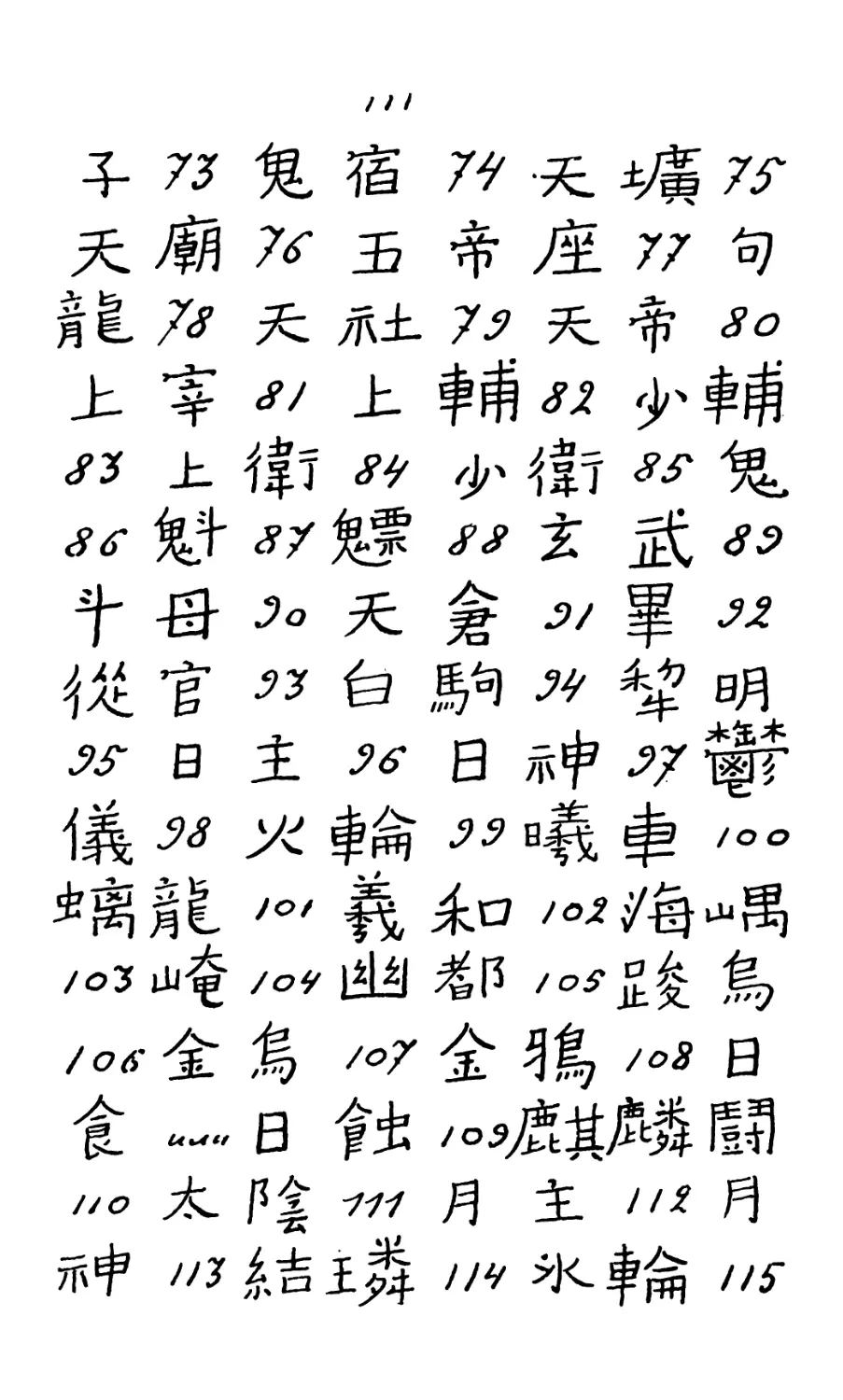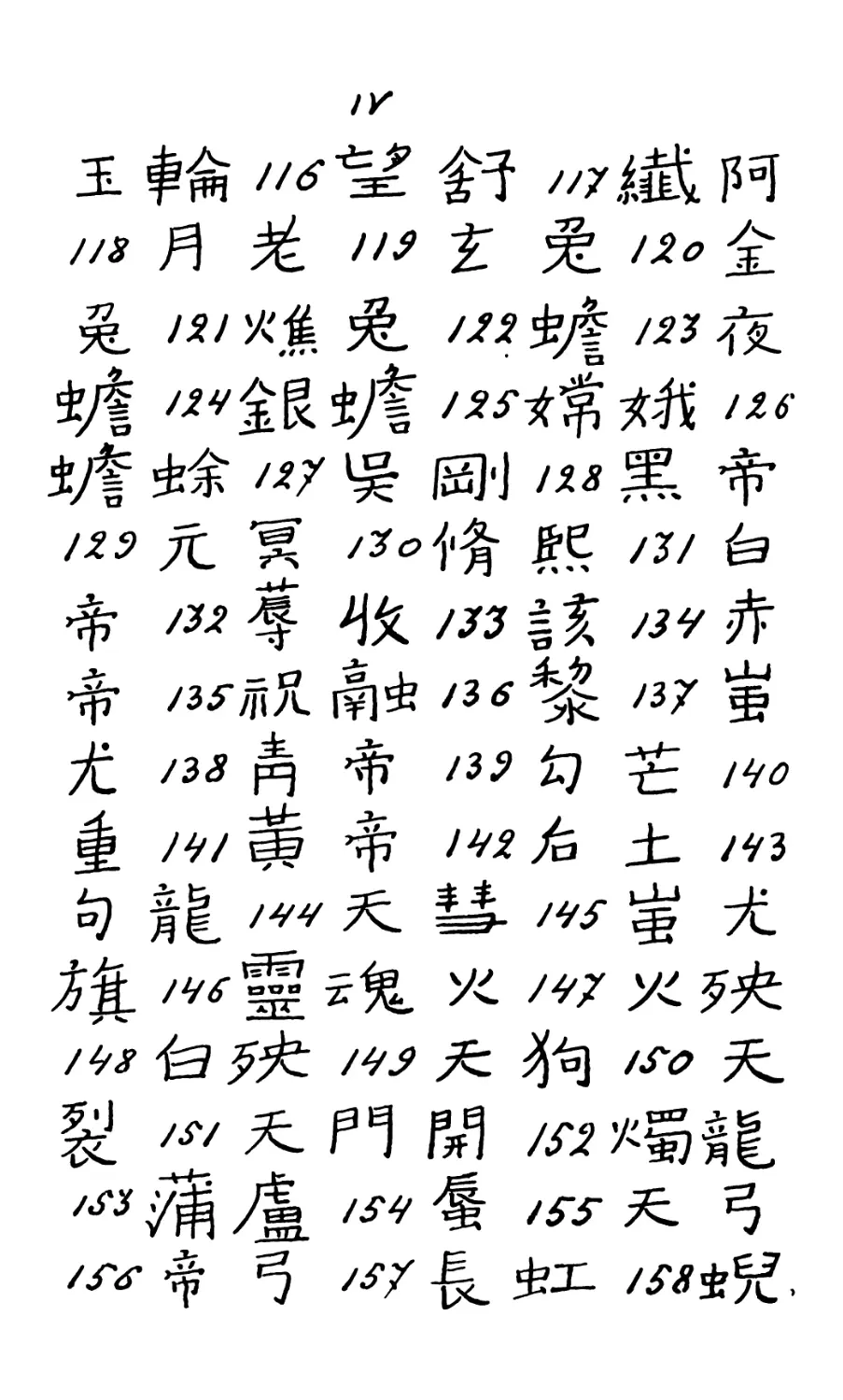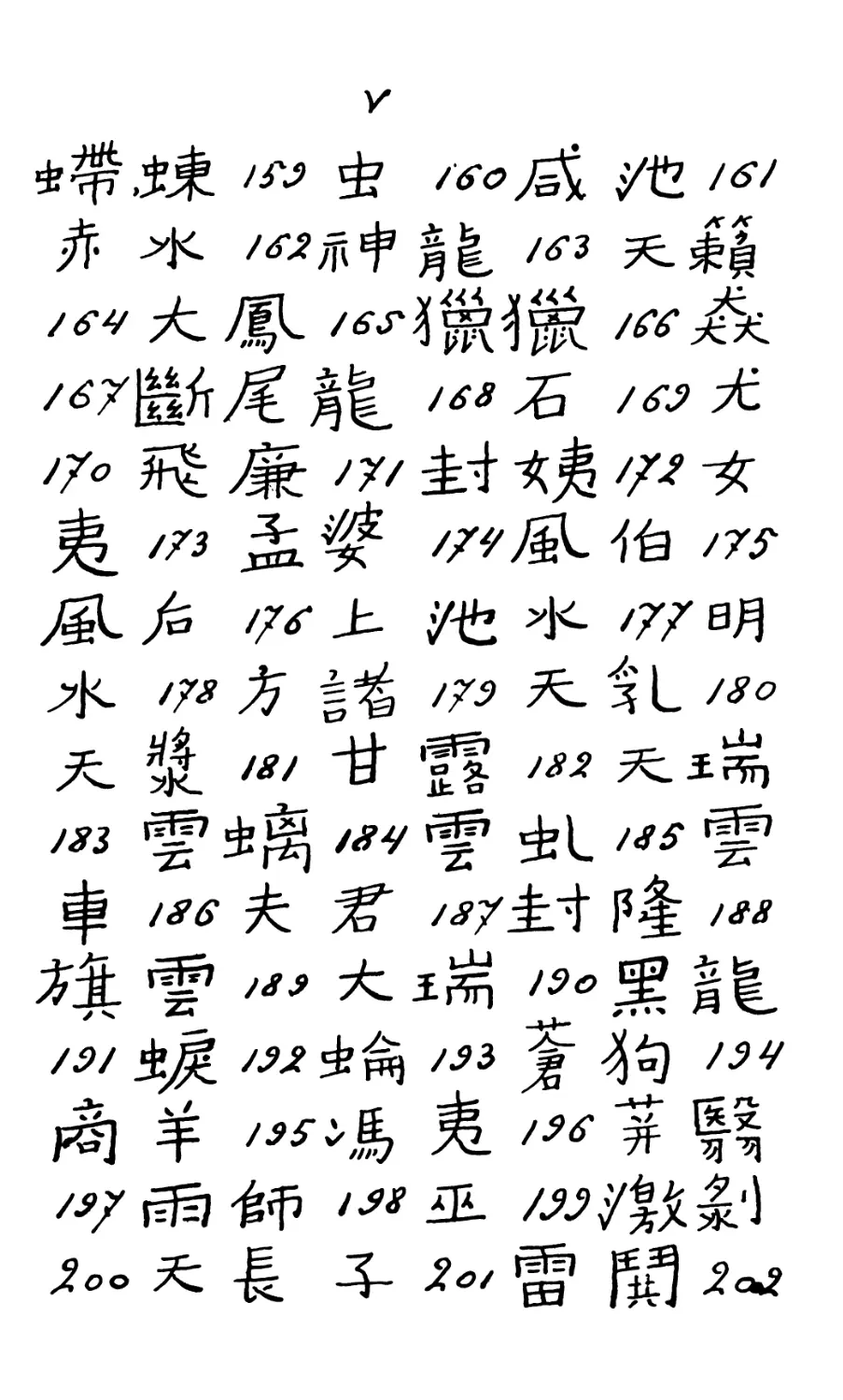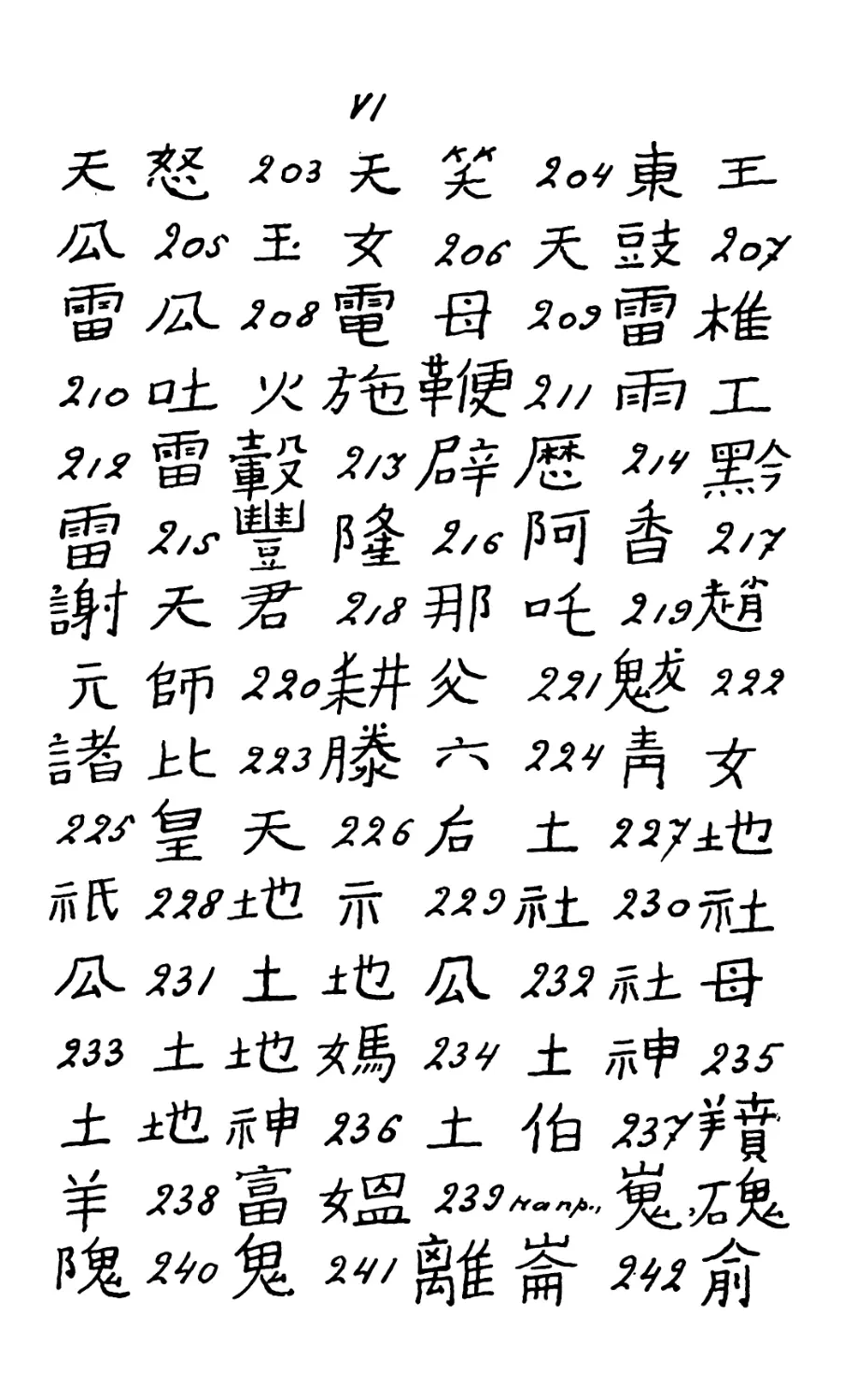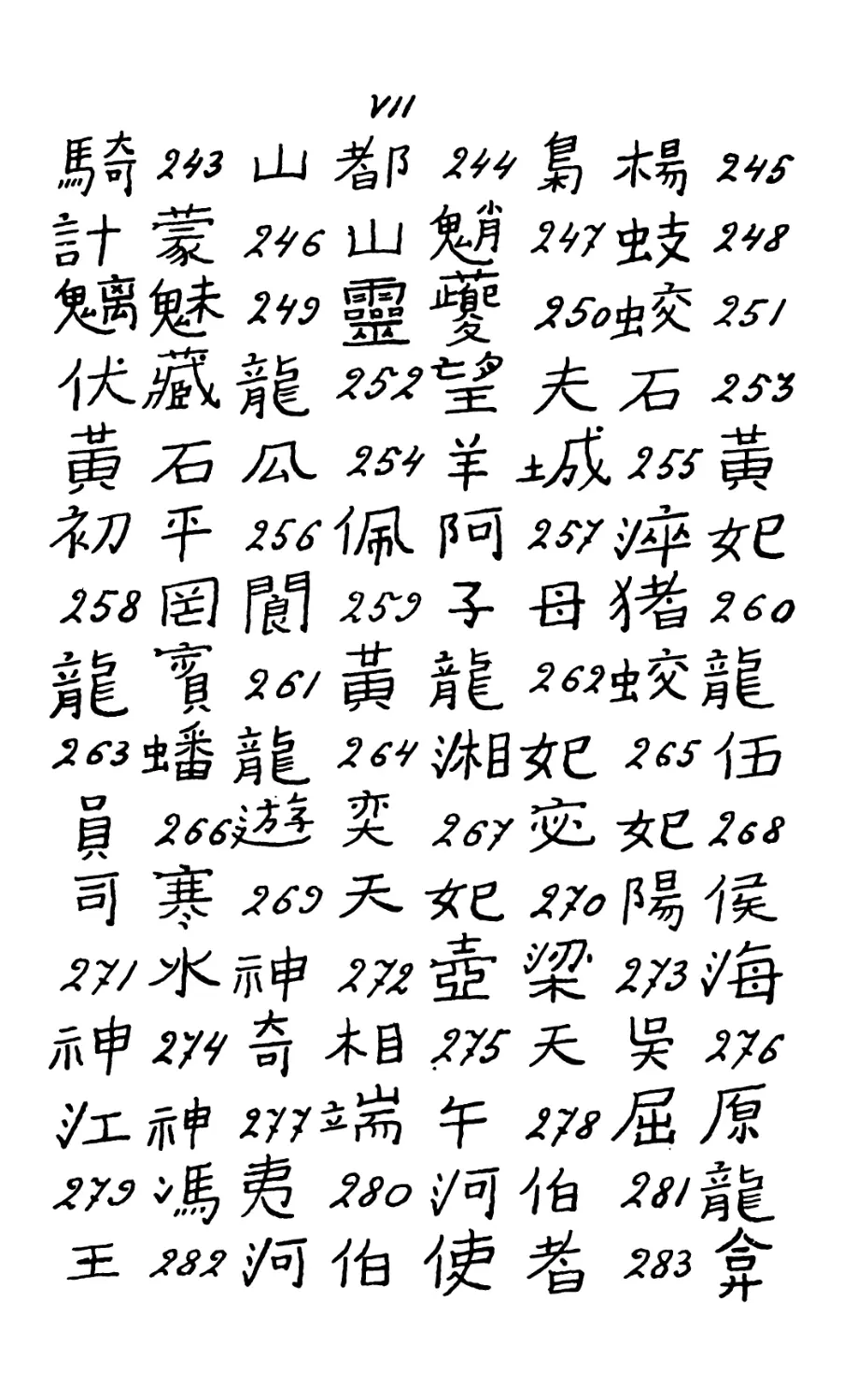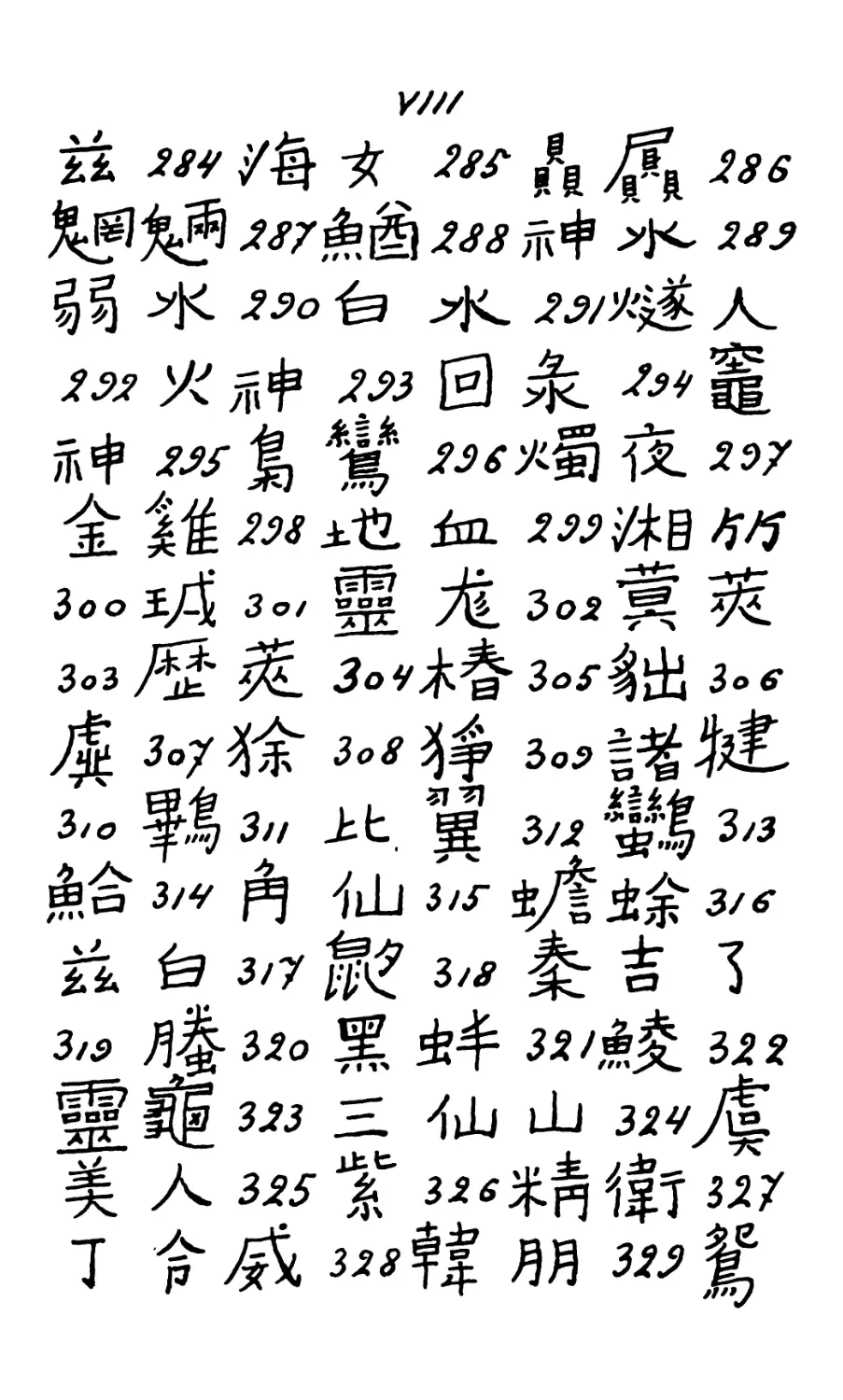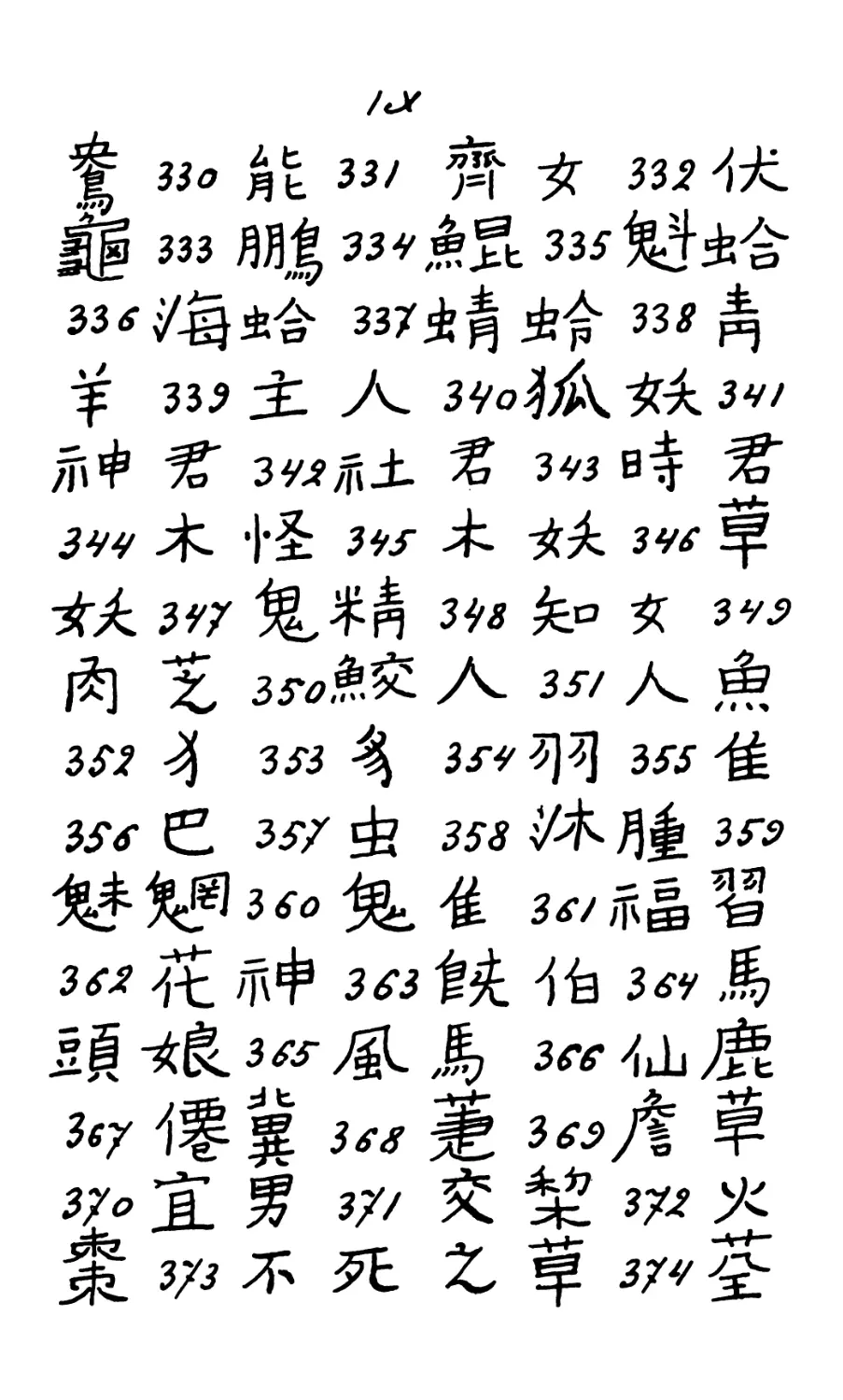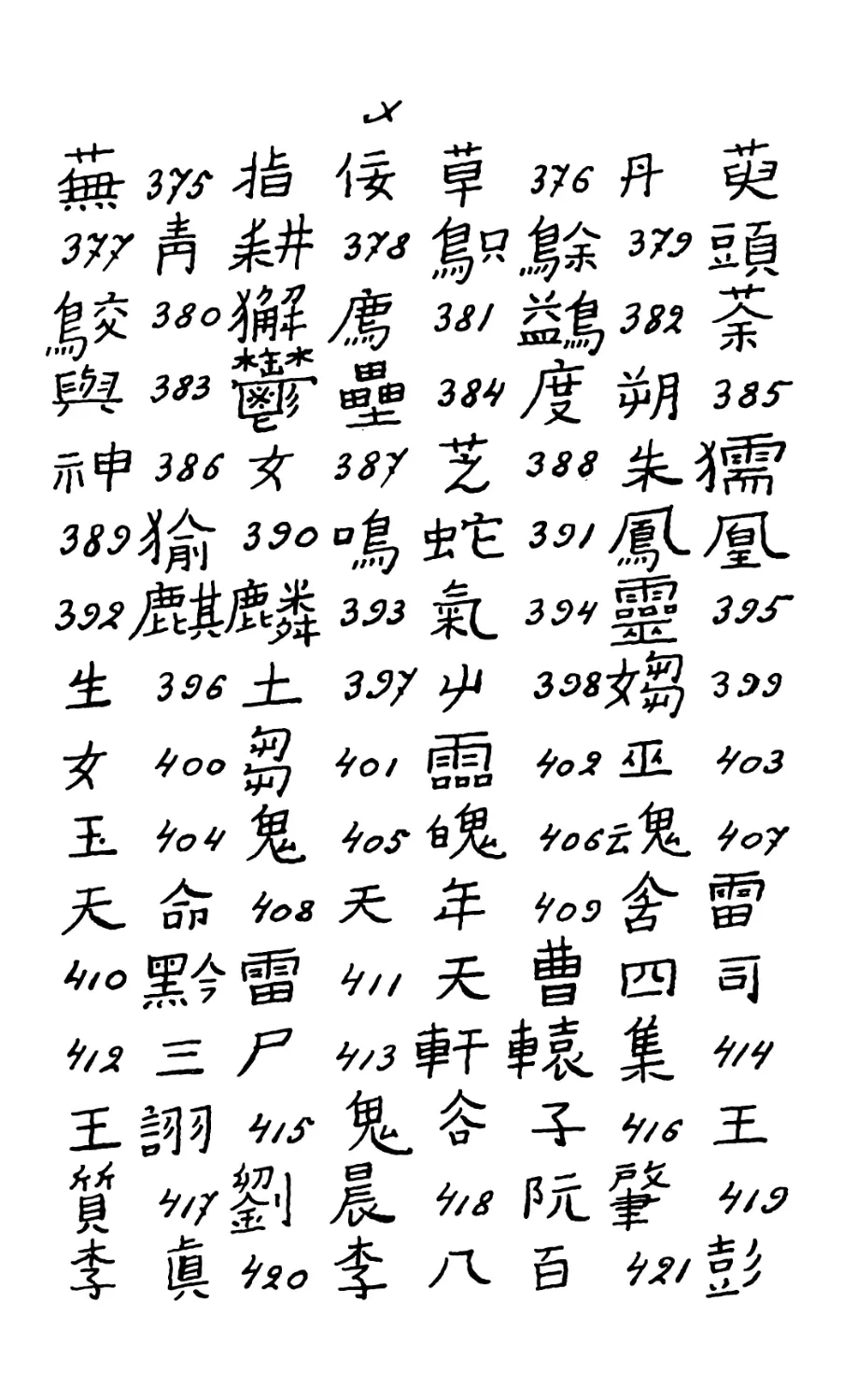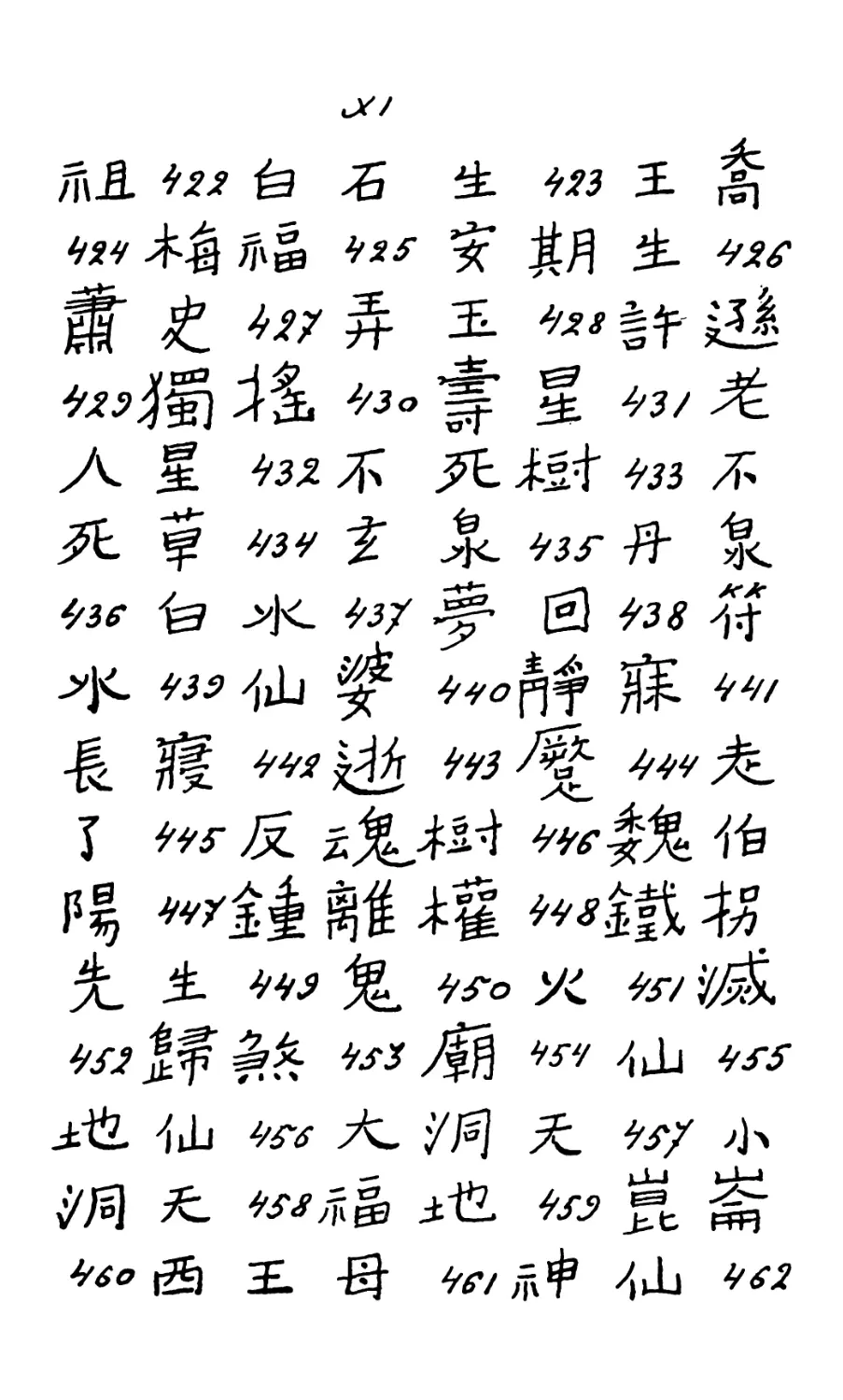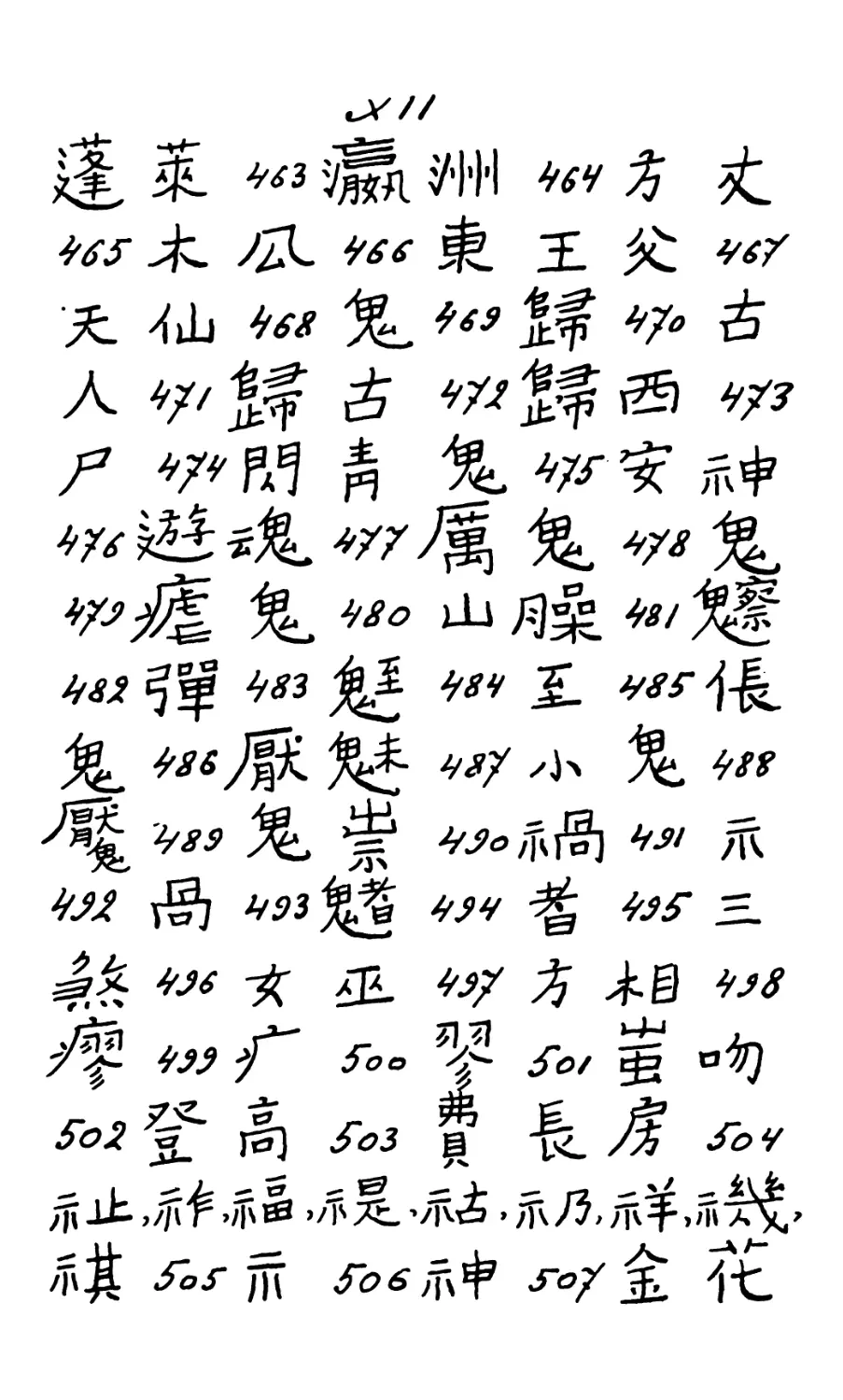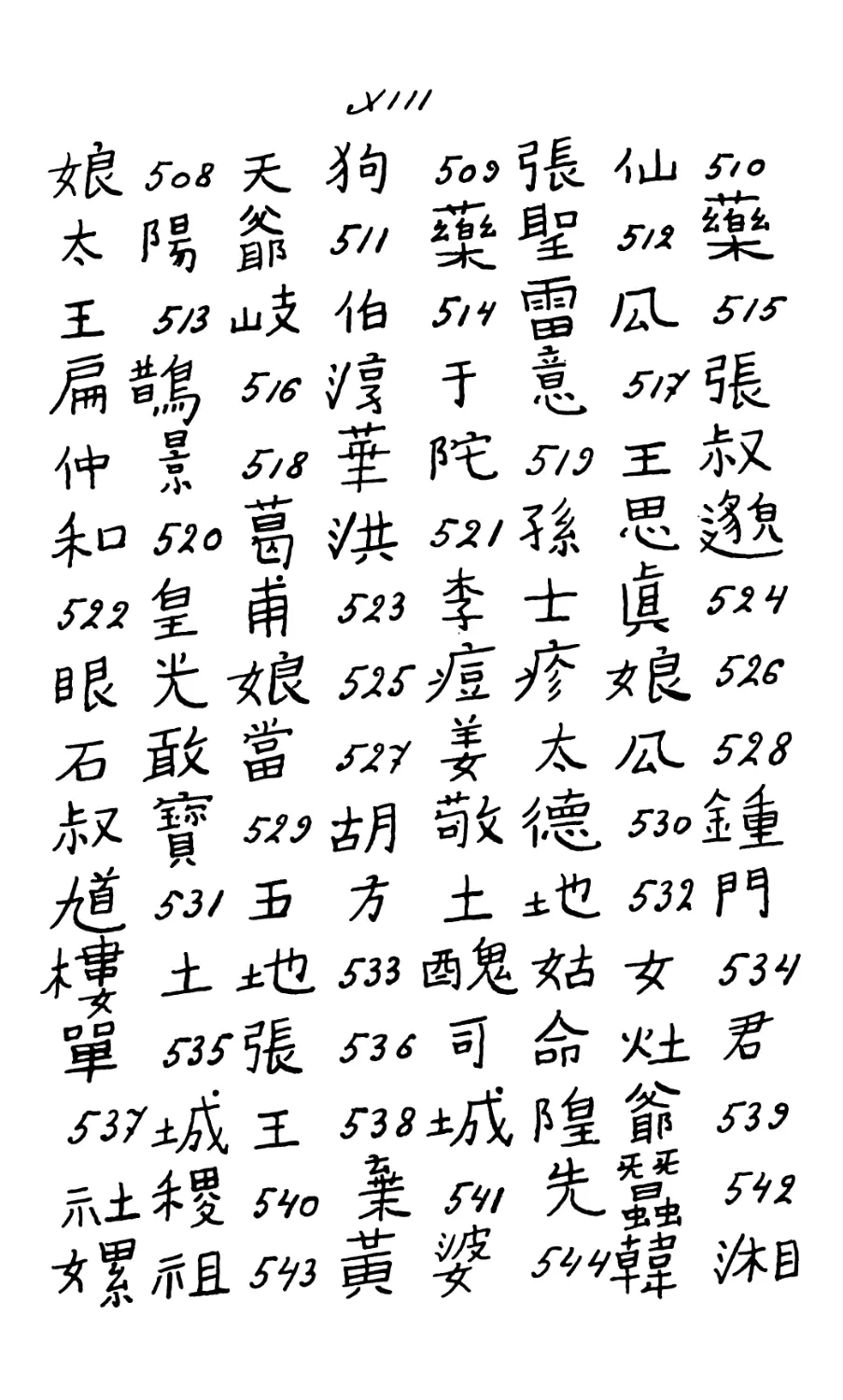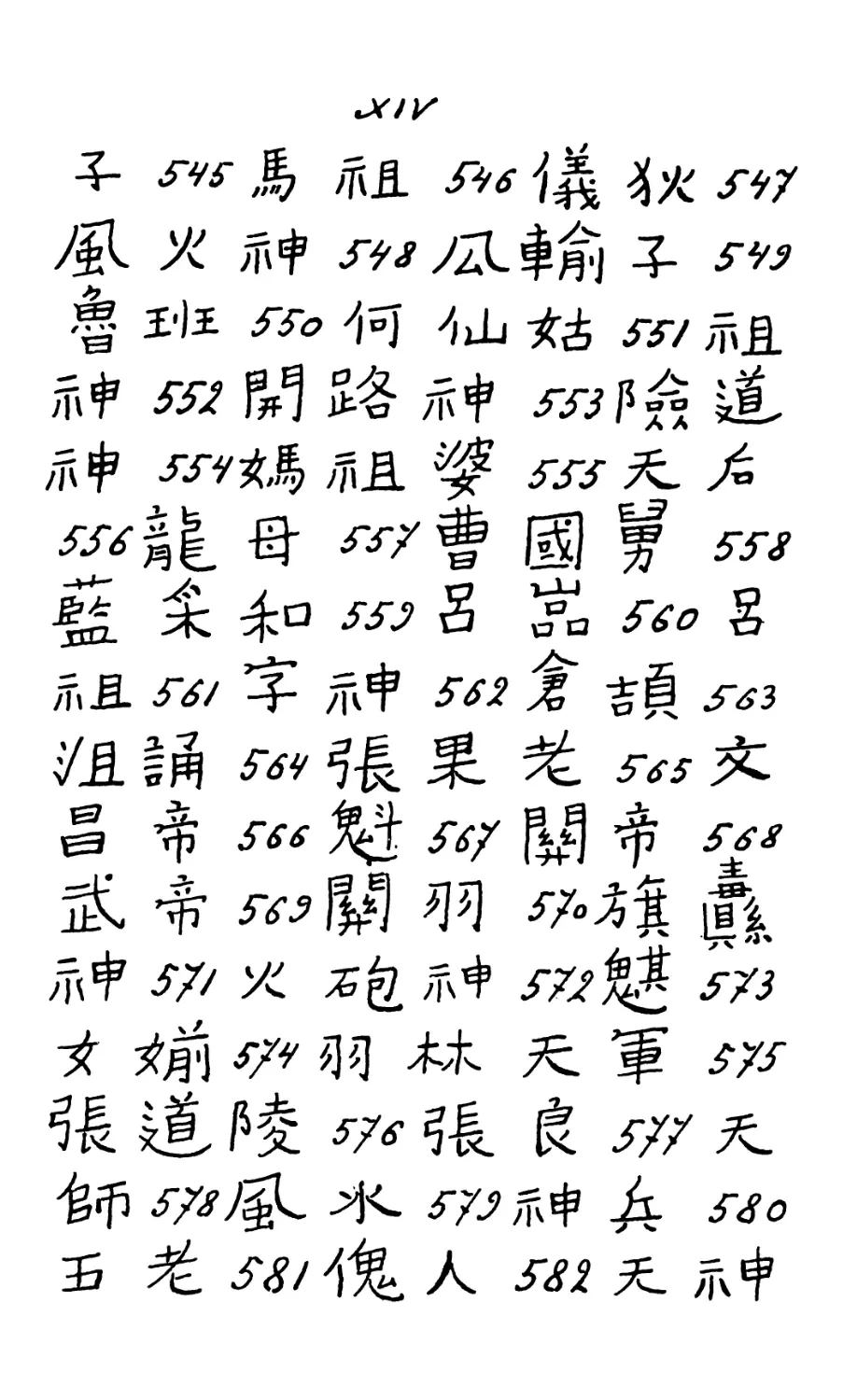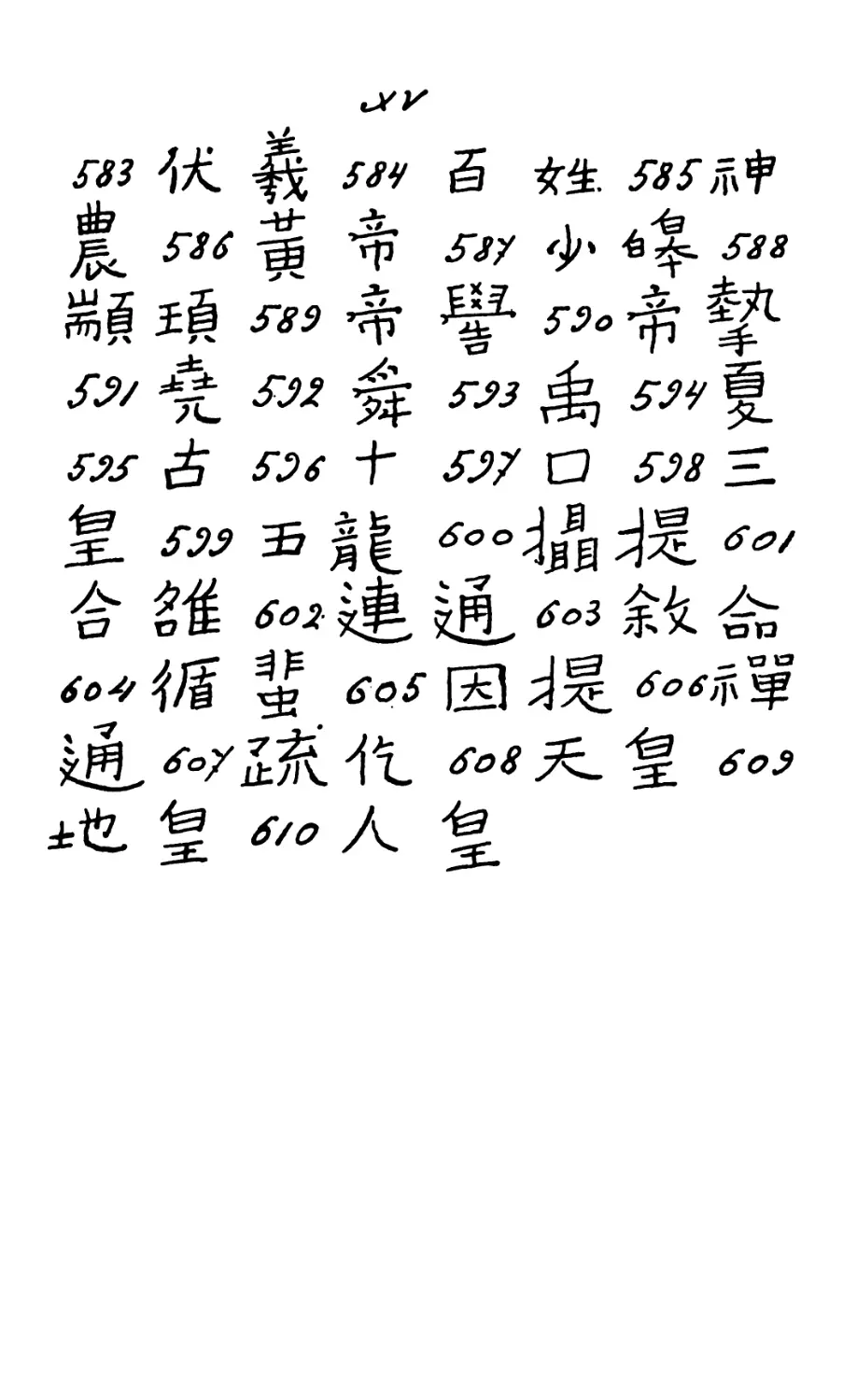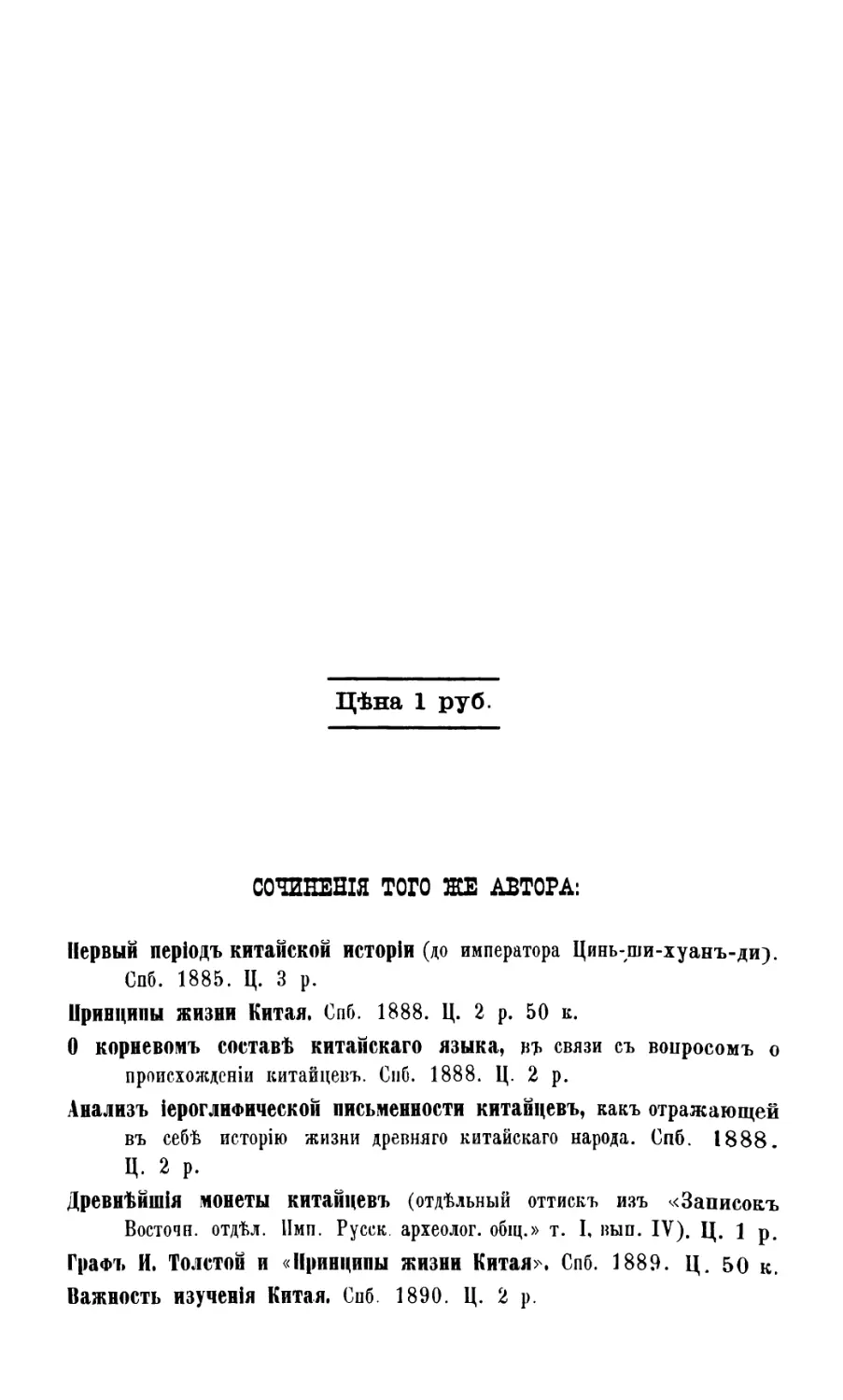Text
IIИ 81 'IІі (КІЯ ІІІІХІІ'ІІІІІЛ
И
МИѲЫ КИТАЙЦЕВЪ.
(Съ таблицами китайскихъ іероглифовъ)
СЕРГЪЙ ГЕОРГІЕВСКІЙ.
С.-ПЕТЕРВУРГЪ.
Типографія И. И. Скороходова (Надеждино ая, 43).
1892.
ІІІОИШІІІЯІІШРЪІІІ !І
И
МИѲЫ КИТАЙЦЕВЪ.
(Съ таблицами китайскихъ іероглифовъ).
СЕРГІЙ ГЕОРГІЕВСКІЙ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1892.
По опредѣленію Факультета Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго
Университета отъ 10-го ноября 1892 г. разрѣшено э.-орд. профессору С. М.
Георгіевскому печатаніе сочиненія подъ заглавіемъ: «Миѳическія воззрѣнія
и миѳы китайцевъ». 10-го ноября 1892 г.
Деканъ Факультета Восточныхъ языковъ В. Васильевъ.
И. д. Секретаря К. Голстунскій.
ОГЛАВЛЕНІЕ.
СТР.
Предисловіе................*.......................................V
ГЛАВА I. Мірообразованіе. — Дуализмъ въ природѣ. — Періоды міро-
образованія.—Міроправители.—Міроустройство.—Небеса . . 1
ГЛАВА II. Млечный путь.—Неподвижныя звѣзды.—Планеты.—Кометы 16
ГЛАВА III. Феномены земной атмосферы. — Земля.—Воды земной по-
верхности.—Огонь..................................................34
ГЛАВА IV. Растенія и животныя.....................................52
ГЛАВА V. Существованіе души въ тѣлѣ человѣка.—Временный уходъ
души изъ тѣла.—Бытіе души человѣка по окончаніи земной
его жизни.........................................................66
ГЛАВА VI. Земная жизнь и дѣятельность людей, какъ обусловленныя
съ одной стороны вліяніемъ элыхъ духовъ, а съ другой —
покровительствомъ божествъ и духовъ добрыхъ.......................84
ГЛАВА VII. Древнѣйшіе періоды жизни китайскаго народа.—Заря исторіи
Китая.—Идеалъ будущаго китайской націи, полагаемый въ
ея далекомъ прошедшемъ...........................................106
Приложенія.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Обширность взятой нами темы и недостаточное знаком-
ство читающей публики съ тѣмъ народомъ, о которомъ бу-
детъ идти рѣчь въ нижеслѣдующихъ главахъ, обязываютъ
пасъ предварительно сказать нѣсколько словъ о сущности
трактуемаго предмета, объ условіяхъ пользованія относящимся
къ дѣлу матеріаломъ, о размѣрахъ нашего труда, его харак-
терѣ и формальной постановкѣ.
Откуда истекаетъ двойственность нашей темы? Изъ того
различія, которое вообще должно полагаться между миѳиче-
скими воззрѣніями и миѳами. Первыя слагаются всею массою
народа, а вторые индивидуумами или ихъ группами; первыя
служатъ основою для вторыхъ, предшествуютъ имъ по вре-
мени своего возникновенія, обусловливаютъ народное къ нимъ
довѣріе и распространенность.
Миѳическія воззрѣнія могутъ вырабатываться первѣе всего
въ силу способности и склонности людей поэтически смотрѣть
на все окружающее и метафорически приписывать однимъ
объектамъ свойства другихъ объектовъ. Китайскій народъ упо-
добилъ, напр., молнію плети, а млечный путь—рѣкѣ. Далѣе,
сфера миѳическихъ воззрѣній расширяется духовною потреб-
ностію людей осмысленно относиться къ деталямъ природы и
объяснять ея феномены ближайшими предполагаемыми при-
VI
чинами. Отчего, напр., звѣздное небо ночью измѣняетъ ви-
димымъ образомъ свое положеніе и отчего полярная звѣзда
не приходится прямо надъ головами обитателей Срединнаго
царства? Оттого, отвѣтилъ себѣ китайскій народъ, что звѣзд-
ное небо прикрѣплено къ полюсу и вертится около него, а
наклонъ полюса произошелъ оттого, что небо (по тѣмъ или
другимъ причинамъ) сдвинулось съ своего первоначальнаго
мѣста. Отчего земля не обнаруживаетъ зимою своей произ-
водительной силы въ жизни растеній? Оттого будто бы, что
она не оплодотворяется, не оплодотворяется небеснымъ дож-
демъ. Отчего происходитъ громъ? Происходитъ будто бы отъ
столкновенія (тѣхъ или другихъ предметовъ) или отъ борьбы
(тѣхъ или другихъ существъ). Наконецъ, подъ миѳическими
воззрѣніями должны разумѣться, при томъ главнѣйшимъ об-
разомъ, тѣ взгляды на видимый міръ, которые слагаются у
народа на извѣстной ступени его умственнаго развитія и ко-
торые не только допускаютъ, но установляютъ даже есте-
ственно-необходимою одухотворенность всей совокупности без-
душныхъ предметовъ. Эта одухотворенность должна быть по-
нимаема не въ смыслѣ пантеизма или проникновенія всей
природы міровымъ духомъ (понятіе о которомъ можетъ вы-
рабатываться метафизикою), а въ томъ смыслѣ, что каждый
предметъ природы считается отдѣльно одухотвореннымъ, обла-
дающимъ своею собственною душою и (при дальнѣйшемъ раз-
витіи миѳическихъ воззрѣній) духомъ, какъ самостоятельнымъ
существамъ. Указанный взглядъ на природу послужилъ для
китайцевъ коренною основою того религіознаго чествованія,
которое они и по нынѣ воздаютъ небеснымъ свѣтиламъ, фе-
номенамъ атмосферы, горамъ, земельнымъ участкамъ, морямъ,
рѣкамъ, озерамъ и пр.
Мы выше сказали, что миѳическія воззрѣнія слагаются
VII
всею массою народа, служатъ основою для миѳовъ, предше-
ствуютъ имъ по времени своего возникновенія, обусловли-
ваютъ народное къ нимъ довѣріе и распространенность. Пояс-
нимъ все это хотя на одномъ примѣрѣ. Въ Китаѣ общеиз-
вѣстенъ разсказъ о томъ, какъ Гунъ-гунъ (подробности, ка-
сающіяся его, мы сообщимъ въ другомъ мѣстѣ) привелъ
сводъ звѣзднаго неба въ наклонное положеніе, вслѣдствіе чего
и полярная звѣзда перестала быть видимою прямо надъ го-
ловами обитателей Срединнаго царства. Разсказъ о дѣяніи
Гунъ-гуна—это миѳъ. Послѣдній могъ пріобрѣсти распростра-
ненность и довѣріе къ себѣ первѣе всего при тѣхъ обстоя-
тельствахъ, что ранѣе, нежели стало сообщаться о Гунъ-гунѣ,
вся масса народа китайскаго была проникнута убѣжденіемъ
въ видимой покривленности звѣзднаго неба, обусловленной
какими бы то ни было причинами.
Основы миѳовъ могутъ быть весьма разнообразны. Между
этими основами едва-ли не первенствующее мѣсто принадле-
житъ способности людей затемнять начальный смыслъ поня-
тій, сформированныхъ путемъ метонимическимъ, и склонно-
сти истолковывать простѣйшимъ образомъ тѣ слова, которыя
употреблялись сперва не иначе какъ въ метонимически-пере-
носномъ значеніи. На основѣ метониміи у китайцевъ сложи-
лось множество миѳовъ, напр., о бытѣ и дѣятельности мни-
мыхъ обитателей звѣзднаго неба (образцы такихъ миѳовъ мы
приведемъ въ другомъ мѣстѣ). Какимъ образомъ поводомъ къ
возникновенію китайскихъ миѳовъ являлись метонимія и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ игра словъ, съ наглядностью можно показать
на слѣдующемъ примѣрѣ, взятомъ изъ области историческихъ
легендъ. О знаменитомъ министрѣ императора Цзѣ-гуя (1818—
1766 г. до Р. X.) И-инѣ сообщается, что онъ родился въ
дуплѣ тутоваго дерева, гдѣ его и нашла одна женщина, ко-
ѵш
торая собирала тутовыя ягоды. Этотъ разсказъ представляетъ
собою не болѣе, какъ простѣйшее истолкованіе того затем-
неннаго факта, что И-инь родился въ мѣстности, называв-
шейся, быть можетъ, по особенностямъ ея флоры, Кунъ-
санъ, чтб по-китайски значитъ < пустое (полое, дуплистое)
тутовое дерево».
Одною изъ коренныхъ основъ, на которыхъ возникаютъ
миѳы, является также склонность людей признавать и вы-
давать за объективную дѣйствительность то, что было пред-
метомъ ихъ сновидѣній, галлюцинацій и разстроеннаго вооб-
раженія. Вотъ, напр., что извѣстно о причинахъ, по кото-
рымъ китайскіе студенты, идущіе на экзаменъ и мало увѣ-
ренные въ своемъ успѣхѣ, обыкновенно чествуютъ жертвами
духа Чжу-и (собственно значитъ: «Красное платье») и про-
сятъ его таинственнаго содѣйствія. Одинъ провинціальный
экзаменаторъ, сидя въ комнатѣ, прочитывалъ сочиненія, по-
данныя экзаменовавшимися студентами, и, признавъ какую-
то изъ письменныхъ работъ неудовлетворительною, отложилъ
рукопись въ сторону; но отстраненная бумага сама собою тот-
часъ же помѣстилась на столѣ предъ глазами экзаменатора.
Послѣдній вдругъ замѣтилъ, что около очага сидитъ длинно-
бородый, одѣтый въ красное платье, старецъ и многозначи-
тельно киваетъ головою. На вопросъ экзаменатора, не озна-
чаютъ-ли кивки то, что онъ долженъ одобрить забракован-
ную работу, старецъ ничего не отвѣтилъ, но, какъ бы въ
знакъ утвержденія, кивнулъ еще разъ головою и исчезъ.
Экзаменаторъ поступилъ согласно волѣ будто бы явившагося
духа, и слабый студенческій трудъ былъ признанъ удовле-
творительнымъ. Съ этихъ поръ духъ Чжу-и сдѣлался извѣ-
стенъ какъ опора студентовъ, не расчитывающихъ на то,
что ихъ познанія обезпечатъ имъ успѣхъ на экзаменахъ.
IX
Не считая нужнымъ указывать всѣ основы, на которыхъ
слагаются миѳы, замѣтимъ только, что источникомъ миѳовъ
можетъ являться еще и фантазія беллетристовъ, имѣющихъ
дѣло съ миѳологическими сюжетами, равно какъ и лицъ, тру-
дящихся надъ завершеніемъ религіозныхъ системъ, либо
противодѣйствующихъ этому завершенію въ виду тѣхъ или
другихъ сектаторскихъ цѣлей. Если миѳослагатель, давая
волю своей фантазіи, беретъ точкою исхода общенародныя
вѣрованія и развиваетъ сюжеты, уже снискавшіе популяр-
ность, то плоды его творчества, проникая въ народную массу,
могутъ легко усвоиться ею и циркулировать въ ней на ряду
съ миѳами другихъ формацій. Относя сказанное къ Китаю,
мы имѣемъ въ виду миѳологическіе элементы даосизма, сфор-
мировавшагося въ религіозную систему, и тѣхъ беллетристи-
ческихъ произведеній, которыя опираются на него пли сами
служатъ ему опорою.
Выяснивъ основное различіе между миѳическими воззрѣ-
ніями и миѳами, мы не считаемъ нужнымъ говорить о важ-
ности, которую представляютъ тѣ и другіе, какъ данныя,
характеризующія народъ по складу его духа, по формамъ
его умственнаго развитія, по богатству его фантазіи,—важ-
ность эта общеизвѣстна. Излишне было бы распространяться
и о томъ; что изученіе духовной жизни народа пріобрѣ-
таетъ тѣмъ большую полноту и основательность, чѣмъ менѣе
остается нераскрытыхъ и невыясненныхъ деталей въ сферѣ
элементовъ миѳическихъ и миѳологическихъ. Подробное и от-
четливое знакомство съ этою сферою, само собою разумѣется,
имѣетъ громадную важность для уясненія духовной жизни
и китайскаго народа. Но такое знакомство, какъ бы ни было
оно желательно, въ настоящее время является еще невозмож-
нымъ, невозможнымъ по слѣдующимъ причинамъ.
Въ народѣ китайскомъ, при болѣе или менѣе давнемъ и
близкомъ знакомствѣ его съ буддизмомъ, браминизмомъ и
религіями монотеистическими, нѣтъ общераспространенной гос-
подствующей религіи, и вѣрованія, которыя самостоятельно
слагались въ рядѣ вѣковъ и послужили основою широко раз-
витаго политеизма, по нынѣ существуютъ нестѣсненными,
обнаруживаясь во всемъ богатствѣ ихъ содержанія, объем-
лющаго какъ жизнедѣйствующіе, такъ и архаическіе, уже
лишенные силы элементы. Если мы примемъ во вниманіе,
что историческая жизнь китайцевъ восходитъ къ глубокой
древности, что народъ китайскій разросся въ настоящее время
до огромныхъ размѣровъ и что онъ распространился на весьма
обширной территоріи, то легко поймемъ, почему является не-
объятною сфера миѳическихъ и миѳологическихъ элементовъ,
могущихъ встрѣчаться изслѣдователямъ его духовной дѣятель-
ности и подлежать ихъ научной разработкѣ. При этомъ должно
имѣть въ виду, что въ Китаѣ одновременно съ безсистем-
ными народными воззрѣніями и вѣрованіями существуютъ
двѣ религіи (такъ называемая конфуціанская и даосская),
развившіяся хотя и на самобытно-китайскихъ основахъ, но
формировавшіяся подъ большимъ или меньшимъ вліяніемъ
чуждыхъ религіозныхъ системъ, съ которыми китайскій на-
родъ ознакомлялся въ разные періоды своей исторической
жизни. Если до извѣстной степени согласуются съ дѣйстви-
тельностью заявленія нѣкоторыхъ путешественниковъ о рели-
гіозномъ индифферентизмѣ и даже атеизмѣ китайцевъ, то, съ
другой стороны, никто не отрицаетъ, что количество суе-
вѣрій, связанныхъ съ воззрѣніями и жизнію народа китай-
скаго, необъятно. Мало-ли въ Китаѣ разнаго рода культовъ!
Мало-ли храмовъ, кумиренъ и другихъ мѣстъ поклоненія!
Сколько циркулируетъ миѳическихъ разсказовъ, соединенныхъ
XI
съ тѣми или другими пунктами территоріи! Сколь при этомъ
длиненъ рядъ беллетристическихъ произведеній, которыя за-
ключаютъ въ себѣ большую или меньшую сумму миѳологи-
ческихъ элементовъ, въ той или другой степени усложнен-
ныхъ авторскою субъективностью! Указанными обстоятель-
ствами выясняется, почему въ настоящее время у европей-
цевъ, недостаточно еще знакомыхъ съ Китаемъ, нѣтъ и не
можетъ быть такого свода, въ которомъ находили бы себѣ
мѣсто всѣ миѳы и обосновывающія ихъ миѳическія воззрѣнія
народа китайскаго, какіе въ немъ могутъ констатироваться
лицами, непосредственно наблюдающими его жизнь. Слѣдуетъ
при этомъ имѣть въ виду, что европейцы-миѳолога могутъ
найти обильный и многосторонній матеріалъ въ книгахъ ки-
тайскихъ, посвященныхъ разсматриваемому нами предмету и
соединенныхъ въ спеціальные сборники (Тай-пинъ-гуанъ-цзи,
Гу-цзивь-лэй-чжуань, Соу-шэнь-цзи, Лѣ-сянь-чжуань, Ли-
дай-шэнь-сянь-тутъ-цзянь и др.) или занимающихъ извѣст-
ное мѣсто въ разносоставныхъ сборникахъ (въ У-ли-тунъ-као,
Юнь-цзи-ци-цянь, Вэнь-сянь-тунъ-као, Сань-цай-ту-хой, Тай-
пинъ-юй-лань, Юань-цзянь-лэй-хань и др.). Но, съ одной сто-
роны, количество этихъ книгъ слишкомъ велико, а съ другой—
матеріалы, въ нихъ заключающіеся, не подвергнуты строго
научной разработкѣ и не сведены, съ устраненіемъ всякаго
рода противорѣчій, къ систематическому единству (отсюда и
крупныя противорѣчія даже въ такихъ капитальныхъ тру-
дахъ, какъ, напр., «Китайско-русскій словарь», составленный
арх. Палладіемъ и П. С. Поповымъ; отсюда же и мнимая
возможность для такого знаменитаго синолога, какъ бнзіаѵе
8сЫе§еі, обрисовывать въ его книгѣ «Пгапо^гарЬіе сйіпоізе»
жизнь народа китайскаго въ эпоху, отдѣленную отъ насъ двад-
цатью тысячелѣтіями). При этихъ обстоятельствахъ въ на-
хп
стоящее время на европейскихъ языкахъ не можетъ ни су-
ществовать, ни появиться и такого полнаго, а тѣмъ болѣе
обработаннаго, свода миѳическихъ воззрѣній и миѳовъ китай-
цевъ, который былъ бы сдѣланъ на основѣ книжныхъ китай-
скихъ источниковъ.
Изъ всего оказаннаго выясняется, что издаваемый нами
трудъ можетъ представлять собою только очеркъ взятаго пред-
мета. Желая ознакомить съ послѣднимъ вообще читающую
публику и въ то же время до извѣстной степени удовлетво-
рить потребности лицъ, ближе интересующихся миѳическими
воззрѣніями и миѳами народовъ, мы придали нашему очерку
схематическую форму и постарались сдѣлать ее по возмож-
ности завершенною. Въ такомъ видѣ нашъ очеркъ является
пока единственнымъ въ европейской литературѣ, касающейся
синологіи. Соображая, что сфера миѳическихъ взглядовъ и
миѳовъ нынѣшняго китайскаго парода недостаточно изучена
европейцами и въ ней легко встрѣтить архаическія детали,
могущія выясняться толко хорошо раскрытыми данными вѣ-
ковъ давно минувшихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ полагая, что нѣ-
которыя проявленія духовной жизни древнихъ китайцевъ, не
полно и не ясно очерченныя въ книжныхъ источникахъ, мо-
гутъ комментироваться всесторонне обслѣдованнымъ современ-
нымъ матеріаломъ, мы признали цѣлесообразнымъ не ограж-
дать себя рамками той или другой эпохи, того или другаго
періода и, въ видахъ завершенности схематической формы
нашего труда, не ставить содержаніе послѣдней въ зависи-
мость отъ условій времени.
Такъ какъ нашъ трудъ является общимъ очеркомъ пред-
мета, то намъ нѣтъ нужды говорить не только о китайскихъ,
но и объ европейскихъ источникахъ, по которымъ могутъ
быть извѣстны миѳическія воззрѣнія и миѳы китайцевъ. При
хш
этомъ замѣтимъ, что лица, ближе интересующіяся духовною
жизнью народа китайскаго, но не посвященныя въ таинства
синологіи, найдутъ въ трудѣ г. СогШег «ВіЫіоЙіеса эіпіса»
систематическій указатель всего,- что за послѣднія 300 лѣтъ
было писано о китайцахъ на какомъ бы то ни было евро-
пейскомъ языкѣ.
Что касается насъ самихъ, то, при составленіи нашего
очерка, мы пользовались далеко не всѣми извѣстными и от-
носящимися къ дѣлу источниками (количество ихъ слишкомъ
велико), да и изъ тѣхъ источниковъ, которые казались намъ
болѣе важными и въ то же время были доступны, мы из-
влекли далеко не весь заключающійся въ нихъ матеріалъ,
находя не цѣлесообразнымъ и въ рамкахъ нашего труда
неумѣстнымъ указаніе всѣхъ частностей, относящихся къ
отдѣльнымъ предметамъ, равно какъ и полный обзоръ по-
слѣднихъ въ каждой изъ сферъ, обособляющихся по ихъ эле-
ментамъ (обитаемость звѣзднаго неба, метаморфозы, чудесныя
рожденія и др.). Вмѣстѣ съ тѣмъ намъ казалось излишнимъ
и неудобнымъ дѣлать въ нашемъ сжато излагаемомъ очеркѣ
ссылки на китайскіе или европейскіе источники касательно
всякаго рода деталей трактуемаго предмета, — вѣдь, очень
часто объ одномъ и томъ же говорится, съ большими или
меньшими подробностями, во множествѣ книгъ (напр., о трехъ
Шанъ-ди, старцѣ луны, духѣ очага и др.), а первоисточ-
ники еще не опредѣлены и не выяснены научною критикою
синологовъ.
Прибавимъ къ сказанному, что, очерчивая въ трудѣ на-
шемъ миѳическія воззрѣнія и миѳы китайцевъ, мы не при-
бѣгали къ сравнительному методу и не дѣлали какихъ бы
то пи было сближеній, не дѣлали потому именно, что по-
слѣднія, при существующей разработкѣ предмета спеціали-
XIV
стами-сивологами, могутъ являться, какъ то мы и видимъ,
напр., въ трудахъ 8сЫе§еГя (Пгапо^гарЬіе сЬіпоізе), бгооі’а
(Ьез Гёіеа апшіеііетепі сёІёЬгёез а Е’тоиі), Беннуз’а (ТЬе іоік-
Іоге оГ СЬіпа), либо слишкомъ общими и мало нужными, либо
недостаточно основательными и даже искусственными.
Скажемъ, наконецъ, что, во избѣжаніе недоразумѣній, мо-
гущихъ происходить отъ особенностей китайскаго языка и
письменности, мы нашли нужнымъ и, для руководства мо-
лодыхъ синологовъ, недостаточно еще знакомыхъ съ трак-
туемымъ предметомъ, сочли полезнымъ присовокупить къ
китайскимъ словамъ пли замѣняющему ихъ русскому пере-
воду іероглифическую транскрипцію. Затрудняясь, по неза-
висящимъ отъ насъ обстоятельствамъ, помѣстить іероглифы
въ текстѣ нашей книги, мы напечатали ихъ въ приложе-
ніяхъ подъ цифрами, которыя соотвѣтствуютъ цифрамъ, за-
ключеннымъ въ скобки и поставляемымъ на страницахъ текста
при китайскихъ словахъ или ихъ русскомъ переводѣ.
ГЛАВА I.
Мірообразованіе. — Дуализмъ въ природѣ. — Періоды мірообразованія.—Міро-
правители.—Міроустройство.—Небеса.
Китайцы представляютъ себѣ міръ не сотвореннымъ, а само-
образовавшимся. Было, по воззрѣніямъ китайцевъ, время, когда
вся видимая природа находилась въ состояніи хаоса. Этотъ хаосъ
называемый хунь-дунь (1), не имѣлъ, какъ думаютъ одни, ни-
какой формы или, какъ думаютъ другіе, являлся подобіемъ яйца.
Чтобы изъ хаоса образовались предметы видимой природы, онъ
долженъ былъ, какъ безформенное, дифференцироваться или, какъ
яйцо, раскрыться.
Начало мірообразованія — это кай-пи (2), чтб, по букваль-
ному переводу словъ, значитъ „раскрытіе". Яйцо раскрылось,—
и небо съ землею сдѣлались отдѣльно существующими. Вліяя на
землю, небо породило сына. Этотъ тянь-цзы (3), т. е. „сынъ
неба", называвшійся Пань-гу (4), былъ первымъ человѣкомъ, а
по другимъ сказаніямъ, существомъ, имѣвшимъ тѣло змѣи, а голову
дракона. Долго-ли жилъ Пань-гу, неизвѣстно. Когда онъ умеръ,
то дыханіе его сдѣлалось вѣтромъ и облаками, голосъ—громомъ,
лѣвый глазъ—солнцемъ, правый—луною, туловище съ руками и
ногами—четырьмя странами свѣта и „пятью пиками" (главными
священными горами Китая), кровь—рѣками, мускулы и жилы—
земною корою, (не мускулистыя части) мяса—почвою, борода и
волосы на головѣ — звѣздами, мелкіе волосы кожи — травою и
деревьями, зубы и кости—металлами и грубыми камнями, мозгъ—
перлами и драгоцѣнными камнями, потъ—дождемъ, паразиты на
тѣлѣ, подъ вліяніемъ вѣтра, превратились въ людей. Миѳъ о
і
2___
Пань-гу извѣстенъ китайцамъ далеко не по одному варіанту.
Сводятся-ли эти варіанты къ одному первоисточнику, заключающе-
муся, какъ думаютъ нѣкоторые синологи, въ сферѣ китайской
астрономіи, или же опираются на разныя и неодинаковыя, по
ихъ сущности, основы,—вопросъ не рѣшенный. Но едва-ли можно
сомнѣваться, что присутствіе черепахи подъ ногами Пань-гу,
изображаемаго въ формѣ статуй или на рисункахъ, объясняется
только астрономическими воззрѣніями китайцевъ.
Чтобы началось мірообр'азованіе, хаосъ, какъ яйцо, долженъ
былъ раскрыться, а какъ нѣчто безформенное, долженъ былъ
дифференцироваться.
Дифференцированіе хаоса обнаружилось первѣе всего въ томъ,
что онъ распался на два основныхъ элемента — на Янъ (5) и
Инь (6). Взаимодѣйствіемъ этихъ элементовъ обусловилось даль-
нѣйшее дифференцированіе хаоса, выразившееся въ образованіи
предметовъ видимой природы, и опредѣлился ходъ ея жизни.
Въ сферѣ миоическихъ воззрѣній китайцевъ взаимодѣйствіе Янъ
и Инь сводится къ двумъ, діаметрально противуположнымъ между
собою, принципамъ—согласія и борьбы.
Что такое согласіе Янъ и Инь? Это въ сущности не болѣе,
какъ зависимость наземной жизни отъ тепла и свѣта, сходящихъ
на землю съ видимаго небеснаго свода. Небо—чунь-Янъ (7), т. е.
„чистѣйшій Янъ"; земля—чунь-Инь (8), т. е. „чистѣйшая Инь";
небо—цянь (9), или фу (10), т. е. „отецъ"; земля—кунь(ІІ),
или му (12), т. е. „мать". По миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ
китайцевъ, солнце и луна — тянь-му (13), или тянь-янь (14),
т. е. „очи неба"; громъ—тянь-шэнъ (15), т. е. „голосъ неба";
звѣзды—тянь-и (16), т. е. „облаченіе неба"; заря и радуга—
тянь-пэй (17), т. е. „оплечья неба"; дождь — сюань-и (18),
т. е. „сѣмя неба" Это величественное небо, какъ отецъ, всту-
паетъ въ связь съ землею, какъ матерью, согрѣваетъ ее своею
теплотою, оплодотворяетъ ее дождемъ какъ своимъ сѣменемъ и дѣ-
лаетъ ее способною обнаруживать производительныя силы, ей при-
сущія. Въ каждый годичный періодъ времени совершается союзъ
Янъ и Инь, т. е. неба и земли. Начальнымъ пунктомъ этого
3
союза китайцы считаютъ день зимняго солнцестоянія, почему и
пользуются, для выраженія понятія объ этомъ днѣ на языкѣ
миѳо-поэтическомъ, комбинаціею словъ жу (19), чтб значитъ
„входить", и и (20), чтб значитъ „сѣмя®. Убѣждаясь въ томъ,
что всякая жизнь на земной поверхности обусловливается влія-
ніемъ неба на землю, союзомъ Янъ и Инь, китайцы, путемъ тѣхъ
или другихъ умозаключеній, пришли къ мысли, что и всѣ пред-
меты видимой природы порождены небомъ и землею. Слѣды по-
степеннаго перехода отъ частнаго къ общему, отъ извѣстнаго къ
неизвѣстному усматриваются даже въ конфуціанскихъ книгахъ,
особенно въ тѣхъ ихъ мѣстахъ, которыя запечатлѣваютъ собою
миѳическія воззрѣнія китайской націи. Если, напр., въ одной
конфуціанской книгѣ (Синъ-ли-цзинъ-и) сказано, что „небо вес-
ною порождаетъ всѣ предметы, а осенью останавливаетъ (ростъ)
ихъ® (21), то въ данномъ случаѣ подъ „всѣми предметами®
разумѣются, конечно, только растенія. Но если въ другой кон-
фуціанской же книгѣ (Ли-цзи) сказано, напр., что „небо и
земля соединяются, и потомъ (т. е. вслѣдствіе того) всѣ пред-
меты поднимаются (т. е. вызываются къ существованію и жизни)®
(22), то подъ „всѣми предметами® здѣсь можно разумѣть не
одни уже растенія, но и многое другое, чтб есть между небомъ
и землею, равно какъ на ея поверхности. Отсюда становится до
нѣкоторой степени понятнымъ, почему, напр., горы и озера,
вода и огонь, вѣтеръ и громъ получаютъ у китайцевъ собира-
тельное наименованіе цянь-кунь-лю-цзы (23), т. е. „шестеро дѣтей
неба и земли®.
Что такое борьба Янъ и Инь? Это въ сущности не болѣе,
какъ поочередное въ годичномъ періодѣ времени преобладаніе
тепла и холода, свѣта и темноты. Солнце, какъ свѣтило, каждый
день видимымъ образомъ восходитъ, совершаетъ по небосклону
свой путь, а потомъ заходитъ, и между сутками, идущими по
порядку, нѣтъ замѣтной разницы. Но то же самое солнце въ
разныя времена года свѣтитъ и грѣетъ то сильнѣе, то слабѣе.
Чѣмъ обусловлена такая неодинаковость силы солнца? По миѳи-
ческимъ воззрѣніямъ китайцевъ, эта неодинаковость обусловли-
4
вается тѣмъ во-первыхъ, что солнце есть не только одно изъ не-
бесныхъ свѣтилъ, но и представитель элемента Янъ, почему и
называется тай-Янъ (24), т. е. „великій Янъ“, а во-вторыхъ,
тѣмъ, что Яйъ ведетъ постоянную борьбу съ Инь. Въ дни равно-
денствій силы борющихся сторонъ одинаковы, день лѣтняго солнце-
стоянія—это апогей могущества Янъ, день солнцестоянія зимняго—
апогей могущества Инь. Видимая природа не представлялась бы
такою, какою является, еслибы господствовалъ одинъ только Янъ
пли одна только Инь. Существующее разнообразіе природы и ея
жизнь, чуждая монотонности, обусловлены, по миѳическимъ воз-
зрѣніямъ китайцевъ, борьбою Янъ и Инь.
Взглядъ на жизнь міра, какъ на взаимодѣйствіе Янъ и Инь,
имѣющее характеръ либо согласія, либо антагонизма, лежитъ у
китайцевъ въ основѣ множества государственныхъ, общественныхъ
и семейныхъ празднествъ, религіозныхъ церемоній (съ небомъ,
землею и солнцемъ, какъ объектами чествованія) и разнаго рода
обрядовъ. Несмотря на это, равно какъ и на то, что въ древ-
ности (напр., при императорѣ Цинь-ши-хуанъ-ди) чествовались
жертвами особо владыка—небо (25), владычица—земля (26), вла-
дыка—солнце (27), владыка—Янъ (28),.владычица—Инь (29),
признаніе дуализма, обусловливающаго жизнь природы, не выра-
зилось у китайцевъ въ миѳахъ, подобныхъ миѳамъ, напр., объ
Ураносѣ и Геѣ, Ормуздѣ и Ариманѣ, Озирисѣ и Тифонѣ. При-
чиною этого было то обстоятельство, что представленіе о взаимо-
дѣйствіи Янъ и Инь очень рано сдѣлалось въ Китаѣ предме-
томъ сперва мистическихъ, а потомъ и философскихъ соображеній
и умозаключеній. Мы говоримъ о знаменитыхъ па-гуа (30),
обосновывающихъ собою И-цзинъ, книгу, которая является пер-
вою изъ книгъ конфуціанскаго Пятикнижія и въ то же время
имѣетъ весьма важное значеніе въ глазахъ даосовъ. Китайскія
легенды (разныхъ варіантовъ) повѣствуютъ, что императоръ Фу-си,
начавшій управлять будто бы въ 2952 г. до Р. X., увидалъ
однажды какіе-то таинственные знаки на спинѣ чудовища, вышед-
шаго изъ Желтой рѣки и похожаго отчасти на лошадь, отчасти
па дракона; вникая въ характеръ этихъ знаковъ и одновременно
5
соображая положеніе небесныхъ свѣтилъ, Фу-си составилъ па-гуа,
т. е. восемь діаграмъ, являющихся тройными сочетаніями двухъ
прямыхъ линіи, одной цѣльной, а другой, раздѣленной на двѣ
половины. Изъ этихъ па-гуа, способомъ шестеричной комбинаціи,
впослѣдствіи было образовано 64 діаграмы. Не говоримъ о томъ,
какъ составлялись первоначальныя комментаріи на гуа, какъ
образовалась книга И-цзинъ и какъ она, въ свою очередь, поя-
снялась въ рядѣ вѣковъ многими китайскими толковниками, —
скажемъ только, что въ па-гуа цѣльная линія служитъ эмблемою
Янъ, а линія, раздѣленная на двѣ половины,—эмблемою Инь.
Представленіе о взаимодѣйствіи Янъ и Инь, будучи сведено къ
отношенію между линейными комбинаціями, сдѣлалось основою
цѣлой системы натуралистическаго мистицизма, равно какъ и си-
стемы гаданій, извѣстной древнимъ китайцамъ и общераспро-
страненной въ нынѣшнемъ Китаѣ. Было бы неумѣстно говорить
здѣсь о томъ, кй>къ поняла элементы Янъ и Инь и кйкъ выя-
снила характеръ ихъ взаимодѣйствія опирающаяся на принципъ
позитивизма новая конфуціанская философія.
Представленіе о томъ, что міръ образовался изъ хаоса, без-
форменнаго или подобнаго яйцу, путемъ дифференціи (первона-
чально двойной), усложняется у китайцевъ представленіемъ о по-
степенности мірообразованія, исключающей одновременность бытія
Янъ и Инь, и какъ бы восполняется ученіемъ о томъ, что міръ
произошелъ изъ пустоты, принимавшей свойства матеріальности
втеченіи длинныхъ періодовъ времени, слѣдовавшихъ одинъ за
другимъ. Видимая природа создалась изъ хаоса, будто бы, въ
три періода, называемыхъ хой (31): первымъ періодомъ заверши-
лось формированіе неба, вторымъ—формированіе земли, въ третьемъ
періодѣ появились на землѣ люди.'О томъ, какъ міръ возникъ
изъ пустоты, китайскія книги говорятъ весьма различно. Не на-
ходя умѣстнымъ вникать въ разнорѣчія литературнаго матеріала,
замѣтимъ только, что среди пихъ можно усматривать три поло-
женія, являющіяся болѣе или менѣе основными, а именно, 1) что
міровой хаосъ, какъ нѣчто грубо-матеріальное, обладалъ сперва
свойствами болѣе утонченйой субстанціи, ци (32), или инь-юнь
6
(33), т. е. „эѳира"; 2) что этотъ, такъ сказать, хаотическій
эоиръ образовывался и оформливался втеченіи пяти періодовъ, на-
зываемыхъ общимъ именемъ у-юнь (34), или у-тай (35); 3) что
до этихъ пяти періодовъ были еще періоды времени, втеченіи
которыхъ вырабатывалась субстанція сортовъ утонченнѣйшаго эѳира,
возникшаго изъ пустоты, явившейся въ дао (36), отвлеченномъ
источникѣ всего сущаго. Чтобы дать читателямъ нѣкоторое по-
нятіе объ этихъ послѣднихъ періодахъ, позволимъ себѣ привести
здѣсь, ученіе о нихъ въ той краткой формулировкѣ, которая сдѣ-
лана глубокимъ знатокомъ даосизма, арх. Палладіемъ, въ состав-
ленномъ имъ и г. Поповымъ „Китайско-русскомъ словарѣ". „Въ
глубочайшемъ и верховномъ существѣ его (дао) явилась пустота,
кунъ-дунь, которая есть истинное единое. По произведеніи эѳира
истиннаго единаго прошло 99.990.000.000 лѣтъ до образо-
ванія трехъ высшихъ эѳировъ; между каждымъ протекло столь-
ко же лѣтъ; отъ свойства соединенныхъ 3-хъ эѳировъ явился
непревышаемый (высочайшій), небеснопокланяемый владыка—пу-
стота, Сюй-хуанъ-тянъ-цзунь. Потомъ протекло опять столько
же лѣтъ до произведенія трехъ среднихъ эѳировъ; отъ свойства
ихъ соединенныхъ произошелъ глубочайшій старецъ, Сюанъ-лао,
или первоначальный, небеснопокланяемый, Юань-ши-тянъ-цзунъ.
Потомъ протекло опять столько же лѣтъ до произведенія трехъ низ-
шихъ эѳировъ; отъ свойства ихъ соединенныхъ родился превысшій,
Тай-шанъ или Тай-шанъ-дао-цзюнъ. Затѣмъ отъ одного эѳира про-
изошло три эѳира; между каждымъ протекло 81.000.810.000
лѣтъ; отъ свойства ихъ соединенныхъ произошелъ Ли-лао-цзюнь“
(Т. I, стр. 163). Послѣ того какъ явился Ли-лао-цзюнь, на-
чался первый изъ техъ періодовъ у-юнь, о которыхъ мы выше
говорили.
Представленія о періодахъ мірообразованія, какъ возникшія
либо на основѣ астрономическихъ разсчетовъ, либо (и это главнѣй-
шимъ образомъ) на почвѣ мистико-философскихъ доктринъ дао-
совъ, вырабатывавшихся притомъ со втораго вѣка по Р. X.
въ противодѣйствіе буддизму, не могутъ, конечно, сами по себѣ
входить въ кругъ миѳическихъ воззрѣній китайцевъ. Но объ этихъ
7
представленіяхъ мы считали нужнымъ упомянуть потому именно,
что они соединяются со множествомъ миѳовъ, повѣствующихъ о
свойствахъ и дѣятельности необыкновенныхъ существъ, которыя
играютъ весьма важную роль въ намѣченной нами космогониче-
ской системѣ. Не слѣдуетъ нри этомъ забывать, что въ Китаѣ
и Сюй-хуанъ-тянь-цзунь (37), и Юань-ши-тянь-цзунь (38), и Тай-
шанъ-дао-цзюнь (39), и Ли-лао-цзюнь (40), о которыхъ было
сказано выше, равно какъ многія другія существа даосской кос-
могоніи боготворятся и являются объектами чествованія. Самая
выработка даосами космогоническихъ миѳовъ не обходилась, всего
вѣроятнѣе, безъ того, чтобы не было дѣлаемо заимствованій изъ
общенародной сокровищницы миѳическаго матеріала. А въ свою
очередь тѣмъ или другимъ путемъ сложившіеся космогоническіе
миѳы входили въ народъ, получали въ немъ распространенность
и такъ или иначе вліяли на его миѳическія воззрѣнія. Вотъ по-
чему даосская космогонія можетъ являться предметомъ, достой-
нымъ того, чтобы миѳологи придавали ему цѣнность и посвящали
свои силы его разработкѣ.
Продолжая говорить о жизни самообразовавшагося міра, на-
помнимъ читателямъ, что понятіе о взаимодѣйствіи Янъ и Инь
очень рано сдѣлалось въ Китаѣ основою сперва мистическихъ,
а потомъ и философскихъ соображеній и умозаключеній. При
этомъ, чѣмъ менѣе миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ оста-
навливалась на существѣ Янъ и Инь, тѣмъ болѣе ее привлекали
къ себѣ аттрибуты послѣднихъ, первѣе всего небо и земля, осо-
бенно же небо, какъ выразитель главенствующаго, мощнаго дуа-
листическаго фактора. Понятіе объ Янъ—небѣ заслонилось поня-
тіемъ о Шанъ-ди (41), верховномъ государѣ, пребывающемъ на
небѣ и господствующемъ надъ землей и ея обитателями.
Въ какихъ же формахъ китайцы представляли и представ-
ляютъ себѣ этово верховнаго государя? Отвѣтомъ на этотъ во-
просъ прежде всего могутъ служить нижеприводимыя немногія
выдержки изъ двухъ книгъ конфуціанскаго канона, весьма бога-
тыхъ архаическими данными. „Небо наблюдаетъ за живущими
на землѣ людьми и желаетъ, чтобы они поступали согласно съ
8
(разумомъ и) справедливостью,—оно даетъ однимъ людямъ болѣе,
другимъ менѣе продолжительную жизнь... Если люди не дѣ-
лаются добродѣтельными и не сознаются въ своихъ проступкахъ,
небо являетъ имъ свою волю, чтобъ они исправились" (Шу-цзинъ,
ч. Ш, гл. 9). „Шанъ-ди далъ и простывъ людямъ разумъ.
Если люди (въ дѣйствіяхъ своихъ) согласуются съ своимъ ра-
зумомъ, то продолжаютъ свое бытіе (не нуждаясь въ посторон-
немъ руководствѣ); если же не согласуются, то государь при-
нуждаетъ ихъ согласоваться" (іШ., ч. Ш, гл. 3). „Шанъ-ди
неодинаковъ въ отношеніи къ людямъ: тѣхъ, которые дѣлаютъ
добро, онъ осыпаетъ всякаго рода благодѣяніями, а тѣхъ, кото-
рые дѣлаютъ зло, поражаетъ всякаго рода несчастіями" (іЪіі.,
ч. Ш, гл. 4) „Шанскій императоръ Чжоу", говоритъ У-ванъ *),
„ не почитаетъ верховнаго неба, приводитъ въ бѣдственное состоя-
ніе народъ, предается пьянству и разгулу, совершаетъ неслы-
ханныя жестокости... Разгнѣванное царственное небо уполномо-
чило Вэнь, моего усопшаго родителя (на полученіе верховной
власти); но мой отецъ (умеръ и) не могъ привести въ исполненіе
волю неба- Вотъ почему я, ничтожный Фа (имя У-вана), и вы, на-
слѣдственные правители дружественныхъ владѣній, разсматриваемъ
управленіе (государя династіи) Шанъ. Чжоу вовсе не думаетъ
исправить свое поведеніе: спокойный (на своемъ посту), онъ не
исполняетъ обязанности ни въ отношеніи Шанъ-ди, ни въ отно-
шеніи духовъ, не совершаетъ молебствій въ храмѣ своихъ пред-
ковъ, позволяетъ ворамъ похищать жертвенныхъ животныхъ и
сосуды съ жертвеннымъ рисомъ... Небо дало народу государей
и наставниковъ для его охраны и руководства; тѣ и другіе по-
могаютъ Шанъ-ди въ дѣлѣ мирнаго управленія имперіею, въ дѣлѣ
(наказанія людей) виновныхъ и (награжденія) добрыхъ... Въ
преступленіяхъ своихъ Шанскій государь достигъ крайней сте-
пени; небо повелѣваетъ наказать его, и если я не буду слѣдо-
вать велѣніямъ неба, то велика будетъ вина моя... Я ста-
*) Извѣстный подъ этимъ прозваніемъ основатель династіи, смѣнившей
(въ 1122 г. до Р. X.) династію Шанъ.
9
новлюсь во главѣ васъ, чтобы совершить наказаніе, небомъ на-
значенное “ (ІЫ4., ч. IV, гл. 1). „(Шанъ-)ди посылалъ исправ-
леніе *) (Цзѣ-гую, государю династіи) Ся; но государь не пере-
ставалъ предаваться удовольствіямъ, не обращался къ народу съ
ласковыми словами, даже, будучи омраченъ разгуломъ, ни одинъ
день не подумалъ о пути, который (Шанъ-)ди ему указывалъ...
Тогда небо нашло (лучшаго) правителя для народа,—ниспослало
свое покровительство Чэнъ-тапу и поручило ему наказать (Цзѣ-
гуя) и положить конецъ (династіи) Ся“ (іЬіс!., ч. IV, гл. 18)...
„Небо ждало пять лѣтъ, чтобы дать потомку Чэнъ-тана время
проявить себя истиннымъ правителемъ народа; но (этотъ пото-
мокъ, Чжоу-синь) не размышлялъ (о своемъ поведеніи) и не слу-
шалъ (добрыхъ совѣтовъ). Тогда небо стало обозрѣвать ваши
многочисленныя земли и, поражая (князей) страхомъ, стало искать
(между ними человѣка), который бы могъ (почтительно) взирать
на него (т. е. относиться къ небу); но въ многочисленныхъ ва-
шихъ земляхъ не могло усмотрѣть таковаго. Однако (существо-
вали еще) наши Чжоусскіѳ государи (т. е. Вэнь-ванъ и У-ванъ),
которые хорошо обращались съ народомъ, были способны поддер-
живать (бремя) добродѣтельнаго (правленія) и заправлять (жер-
твоприношеніями) духамъ и небу. Небо кромѣ того наставило на-
шихъ (князей), увеличило ихъ превосходство и (тогда) избрало
ихъ, чтобы они замѣстили династію Инь и сдѣлались правите-
лями вашихъ многочисленныхъ земель" (іЬі<1., ч. IV, гл. 18).
„Небо видитъ то, чтб народъ видитъ; небо слышитъ то, чтЬ
народъ слышитъ" (іЬі<1., ч. IV, гл. 1). „Такъ сказалъ Шанъ-ди
государю Вэнь-вану: „„не подумай уклониться отъ требованій
долга или, оставивъ добродѣтель, предаться порокамъ и руково-
диться влеченіемъ страстей... Я знаю твою добродѣтель,—она
не такова, чтобы нуждаться въ (изысканныхъ) словахъ или (пріят-
номъ) выраженіи лица.... Показываясь какъ бы незнающимъ и
неопытнымъ, ты проникнутъ смиреніемъ и, будучи далекъ отъ
гордости, заботишься только о томъ, чтобы идти по пути, прѳд-
9 Т. е. посылалъ бѣдствія, чтобы напомнить о необходимости исправиться.
10
писанному верховнымъ государемъ “ * (Ши-цзинъ, часть ПТ, глава 1.
ода 7). Изъ приведенныхъ выдержекъ (число которыхъ мы могли
бы и увеличить) явствуетъ, что въ представленіяхъ древнихъ
китайцевъ Шанъ-ди съ одной стороны отождествлялся съ небомъ,
какъ чѣмъ-то неопредѣленно понимаемымъ, а съ другой являлся
наблюдающимъ за людьми, награждающимъ однихъ и наказы-
вающимъ другихъ, являлся способнымъ вразумлять людей и ждать
ихъ исправленія, способнымъ выражать свою любовь и свой
гнѣвъ, способнымъ видѣть, слышать и даже говорить. Если
миѳо-поэтическое понятіе объ Янъ, какъ элементѣ дуализма, за-
слонялось у древнихъ китайцевъ понятіемъ о небѣ, то послѣд-
нее въ свою очередь становилось образомъ ПІанъ-ди, верховнаго
государя, обладавшаго многими человѣческими аттрибутами. Яв-
лялся-ли образъ Шанъ-ди вполнѣ антропоморфнымъ? Не знаемъ,—
на это нѣтъ прямыхъ указаній. Но что законченный антропо-
морфизмъ былъ возможенъ, въ томъ не сомнѣваемся, какъ по от-
сутствію не допускающихъ этого причинъ и обстоятельствъ, такъ
и по намекамъ на это, сохранившимся въ миѳахъ и легендахъ.
Вѣдь,разсказывается же, напр., о тянь-цзуй (42), „пьяномъ небѣ",
т. е. пьяномъ государѣ неба, какъ онъ услаждалъ князя Му-
гуна, правившаго (658—620 г. до Р. X.) удѣломъ Цинь, не-
бесною музыкою и даровалъ ему грамоту на обладаніе землями
всего Китая. Если антропоморфизмъ Шанъ-ди не доведенъ въ Шу-
цзинѣ и Ши-цзинѣ (а тѣмъ болѣе въ другихъ конфуціанскихъ
книгахъ) до конца, это обусловливается и объясняется обстоятель-
ствами самаго появленія указанныхъ книгъ на свѣтъ,—вырабаты-
вая этико-политическіе идеалы, конфуціанство не было склонно по-
кровительствовать миѳо-поэтической фантазіи китайскаго народа.
Древній полу-антропоморфный обликъ Шанъ-ди, этого всегда пер-
венствующаго объекта чествованія въ государственной религіи Ки-
тая, въ рядѣ послѣдующихъ вѣковъ не только не дополнялся недо-
стающими антропоморфными чертами, но, въ силу позитивныхъ тен-
денцій того же конфуціанства, затемнялся, стирался и уступалъ
мѣсто понятію о царственномъ небѣ, отвлеченно и неопредѣленно
понимаемомъ. Вотъ почему въ сферѣ такъ называемой конфуціан-
11
ской религіи Китая не существуетъ миѳовъ о Шанъ-ди, высшемъ
богѣ-міроправителѣ.
Но если миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ оставила, по
тѣмъ или другимъ историческимъ причинамъ, образъ Шанъ-ди
не достигшимъ законченнаго антропоморфизма, то она могла вы-
рабатывать и дѣйствительно вырабатывала представленія о дру-
гихъ міроправителяхъ. Въ Китаѣ распространено, главнымъ обра-
зомъ въ средѣ простаго народа, чествованіе трехъ божествъ, кол-
лективно именуемыхъ сань-юань (43), т. е. „тремя первоначаль-
ными" Изъ этихъ послѣднихъ первый, въ отдѣльности назы-
ваемый Шанъ-юань (44), есть богъ неба; второй, Чжунъ-юань
(45) — богъ земли; третій, Ся-юань (46)—богъ водъ. „Перво-
начальные" правители трехъ частей міра являются въ сказаніяхъ
китайцевъ родными братьями. Хотя и существуютъ разсказы о
томъ, какъ три юань сдѣлались властителями неба, земли и воды;
однако, нужно замѣтить, миоо-поэтическая фантазія народа ки-
тайскаго, по однѣмъ причинамъ не выработавшая цѣлостныхъ ми-
ѳовъ о Шанъ-ди, не обрисовала по другимъ причинамъ въ до-
статочной рельефности и обликовъ трехъ божествъ, между кото-
рыми раздѣлила прерогативы единаго міроправителя. Эти дру-
гія причины заключались въ переходѣ простыхъ представленій о
міроустройствѣ въ представленія болѣе сложныя. Когда объек-
тами народной фантазіи служили только небо и земная поверх-
ность, принимаемыя въ ихъ простѣйшей, видимо-цѣлостной формѣ,
тогда довольно было и одного Шанъ-ди. Но потребовались уже
три юань, когда китайскій народъ, размножаясь и распростра-
няясь по земной поверхности, понялъ ея громадность и когда,
ознакомившись съ побережьемъ Тихаго океана отъ Ляо-дуна до
Индо-Китая, составилъ себѣ понятіе о томъ, что земля омывается
со всѣхъ сторонъ водою, не имѣющею предѣла *). Но и трехъ
юань оказывалось уже недостаточнымъ, когда мысль китайцевъ
останавливалась надъ частностями міроустройства и пыталась найти
*) Чтд разумѣютъ синологи подъ тѣмъ моремъ, которымъ, по убѣжде-
нію древнихъ китайцевъ, омывалась территорія Китая съ западной стороны,
здѣсь было бы неумѣстнымъ говорить.
12
имъ посильное объясненіе. Понятіе о сложности міровой, танъ ска-
зать, архитектоники, побудило миѳо-поэтическую фантазію народа
создать образы новыхъ боговъ и раздѣлить между ники преро-
гативы начальныхъ простѣйшихъ божествъ.
Какая же архитектоника міра? Послѣдній раздѣляется на
три части: небо, толщу земли и массу воды „четырехъ (по стра-
намъ свѣта) морей". Земля утверждена на восьми столбахъ и пла-
ваетъ на водѣ. На окраинахъ земли стоятъ восемь столбовъ (изъ
нихъ тотъ, который находится на хребтѣ Кунь-лунь, сдѣланъ
изъ мѣди); на эти столбы опирается небо. Послѣднее есть не
единый сводъ, а цзю-чунъ (47)—„девять этажей", т. е. девять
сводовъ, расположённыхъ одинъ надъ другимъ; каждый изъ семи
нижнихъ сводовъ является ареною самостоятельнаго движенія той
или другой изъ семи извѣстныхъ (древнимъ китайцамъ) планетъ
(солнце, луна, Меркурій, Венера, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ);
восьмой сводъ движется вмѣстѣ съ находящимися на немъ звѣз-
дами вокругъ полярной звѣзды и удерживается отъ паденія ва-вэй
(48), т. е. „кружащеюся (крутящеюся) привязью", которая при-
крѣплена однимъ концомъ къ полюсу, утвержденному на девя-
томъ сводѣ. Такова воображаемая архитектоника міра. Оставалось,
однако, непонятнымъ для древнихъ китайцевъ, почему сѣверный
полюсъ приходился не прямо надъ ихъ головами, почему сводъ
звѣзднаго неба былъ видимо покосившимся и почему главныя
рѣки на землѣ текутъ исключительно на востокъ или юго-во-
стокъ (разсуждая о теченіи вообще рѣкъ, древніе китайцы, при
незнакомствѣ съ территоріями другихъ странъ, даже Центральной
Азіи, имѣли въ виду, конечно, только главныя рѣки Собствен-
наго Китая, которыя, дѣйствительно, всѣ впадаютъ въ Тихій
океанъ). Ничего не бываетъ безъ причины, — требовалось объя-
сненіе и для этой, такъ сказать, покривленности міра. Таковое
было подыскано и дано въ слѣдующемъ миѳѣ. Нѣкогда (въ
ХХІХ-мъ, говорятъ, вѣкѣ до Р. X.) Китаемъ управляла госу-
дарыня Нюй-гуа (49), имѣвшая тѣло змѣи и обладавшая отъ
рожденія почти божественною мудростію. При концѣ жизни Нюй-
гуа вассальный князь Гунъ-гунъ (50), исполненный честолюбія,
13
поднялъ знамя бунта. Государыня отправила войска противъ
мятежника, и онъ, проигравъ сраженіе, былъ убитъ. Предъ своею
смертію, Гунъ-гунъ ударился головою о гору Бу-чжоу (51), нахо-
дившуюся въ западной части хребта Кунь-лунь, и подломилъ мѣд-
ный столбъ, поддерживавшій небеса, вслѣдствіе чего два высшихъ
свода склонились на сѣверо-западѣ, а земля опустилась въ своемъ
юго-восточномъ углу. Желая по мѣрѣ возможности исправить при-
чиненныя Гунъ-гуномъ поврежденія и удержать на будущее время
небеса и землю отъ обвала, Нюй-гуа растопила въ огнѣ пятицвѣт-
ныѳ камни и задѣлала ими образовавшееся въ небѣ отверстіе, а
потомъ отрубила у четырехъ чудовищныхъ черепахъ ао (52) че-
тыре ноги и подложила послѣднія подъ четыре края земной толщи.
Привести полярный и подвижно - звѣздный своды въ прежнее
положеніе, равно какъ сдѣлать высоту земныхъ угловъ одина-
ковою Нюй-гуа не нашла уже возможнымъ.
Усложненность первоначальнаго понятія о небѣ, какъ о чемъ-
то простомъ и единомъ, обусловила собою развитіе миѳо-поэти-
ческихъ представленій китайцевъ, въ силу котораго создались
новые образы божествъ, небесныхъ государей, очерченные въ болѣе
рельефныхъ формахъ и выработанныхъ деталяхъ, нежели туман-
ные облики Шанъ-ди и Шанъ-юаня. Небеса управляются девятью
особыми богами, извѣстными по ихъ именамъ и титулуемыми об-
щимъ словомъ ди (53), „владыка", съ присоединеніемъ къ нему
тѣхъ или другихъ эпитетовъ (напр., „красный", „бѣлый" и
др.). Каждый сводъ имѣетъ своего бога. Главенство принадле-
житъ богу, пребывающему на девятомъ небѣ и владѣющему по-
люсомъ. Сперва полярнымъ богомъ считался Тай-и-цзюнь (54)—
„Владыка великаго единства", а потомъ сталъ считаться Юй-
хуанъ-шанъ-ди (55)—„Яшмовый верховный государь", культъ
котораго, санкціонированный китайскимъ императоромъ въ 1116 г.
по Р. X., и нынѣ имѣетъ въ Китаѣ широкую распространен-
ность, главнымъ образомъ въ средѣ простаго народа. Существуетъ
не мало сказаній о Юй-хуанъ-шанъ-ди,—о его чудесномъ рож-
деніи отъ царицы Бао-юэ-гуанъ (56), жены баснословнаго царя
Цзинъ-дэ (57); о дѣятельности его въ молодыхъ годахъ на-
14
правленнов на благо подвластнаго народа; о занятіи имъ трона
по смерти отца и самостоятельномъ распоряженіи дѣлами госу-
дарства; о послѣдующемъ добровольномъ отказѣ его отъ пре-
стола, отшельничествѣ, вознесеніи на небо, многократномъ соше-
ствіи Ъа землю, тѣлесной смерти, наконецъ о его дальнѣйшей
жизни, въ качествѣ верховнаго бога, на сводѣ девятаго неба.
Сказанія подробно описываютъ и житейскую обстановку Юй-хауанъ-
шанъ-ди, какъ высшаго небоправитѳля,—много говорится о нефри-
товыхъ дворцахъ его, расположенныхъ вокругъ полярной звѣзды;
о его шэнь-бинъ (58), т. е. „войскѣ духовъ"; о его придвор-
номъ штатѣ и генералахъ, цзянъ-шэнь (59), „предводительствую-
щихъ духами"; о дворцовыхъ прислужникахъ, называемыхъ юй-
тунъ (60), т. е. „прекрасными (а собственно „яшмовыми") отро-
ками", и о многомъ другомъ. Фантазія, дающая матеріалъ басно-
словію, не оставила и прочихъ небоправителей извѣстными только
по ихъ именамъ или титуламъ, — она обрисовала внѣшній видъ
боговъ и детали ихъ быта, не преминувъ коснуться даже формъ
одѣяній, въ которыя они облачаются. Мы не позволяемъ себѣ
вдаваться въ частности и приводить здѣсь баснословіи, не только
въ ихъ цѣлостномъ видѣ, но и въ отрывочномъ, не позволяемъ
потому именно, что эти баснословія дѣлаются намъ извѣстными
главнымъ образомъ по книгамъ даосовъ и не могутъ считаться,
въ ихъ существующей формѣ, плодомъ миѳо-поэтической фантазіи
народа китайскаго. Но если, при этомъ, даосы составляли раз-
сказы о небожителяхъ, будучи побуждаемы личною фантазіею,
которая опредѣлялась первѣе всего религіозно-философскимъ ми-
стицизмомъ и могла разыгрываться подъ вліяніемъ буддизма,
слѣдуетъ признать несомнѣннымъ, однако, что въ сокровищницѣ
даосской литературы нашли себѣ мѣсто плоды и обще-народной
фантазіи, — вѣдь, лица, трудившіяся надъ выработкою весьма
сложной системы даосизма, порождались и жили въ средѣ китай-
скаго же народа. И въ повѣствованіяхъ, напр., о самомъ Юй-
хуанъ-шанъ-ди можно усматривать элементы не одинаковыхъ кате-
горій: даосизмъ, цакъ таковой, вывелъ на сцену и заставилъ дѣй-
ствовать высшія существа—Дао-цзюня и Лао-цзюня; обстоятель-
15
ства зачатія царицею Бао-юэ-гуанъ обрисовываются въ такихъ
формахъ, которыя, всего вѣроятнѣе, позаимствованы изъ буддій-
скихъ разсказовъ о воплощеніяхъ; подробности о земной жизни
царевича, а впослѣдствіи царя, могутъ въ той или другой сте-
пени выясняться миѳо-поэтическими взглядами китайцевъ на роль
солнца, какъ источника свѣта и тепла, въ годовой жизни видимой
природы; обстановка Юй-хуанъ-шанъ-ди, какъ высшаго небеснаго
владыки, очерчена въ деталяхъ, на большой конецъ скопиро-
ванныхъ съ полу-баснословныхъ деталей быта первыхъ государей
Чжоуской династіи, начавшей править Китаемъ въ 1122 г. до
Р. X. Подобнымъ образомъ не односоставны и другія даосскія
баснословія. Вотъ почему они могутъ пріобрѣтать цѣнность въ
глазахъ миѳологовъ и являться предметомъ, достойнымъ спеціально-
научной разработки. Неумѣстность послѣдней въ узкихъ рамкахъ
нашего очерка позволяетъ намъ кончить о небесахъ, съ ихъ
обитателями, и перейти въ слѣдующей главѣ къ разсмотрѣнію
другихъ предметовъ, на которые обращалась миѳо-поэтическая
фантазія китайцевъ. Поговоримъ прежде всего о небесныхъ
свѣтилахъ.
ГЛАВА II.
Млечный путь.—Неподвижныя звѣзды.—Планеты.—Кометы.
Желая познакомить читателей сперва съ миѳо-поэтическими
взглядами китайцевъ на неподвижныя звѣзды, мы, въ виду не-
исчерпаемости матеріала, сюда относящагося и доступнаго сино-
логамъ, считаемъ цѣлесообразнымъ и для себя единственно воз-
можнымъ опредѣлить только сущность этихъ взглядовъ и коснуться
деталей не болѣе, какъ примѣровъ, служащихъ для уясненія сдѣ-
ланныхъ обобщеній. Перейдемъ послѣ этой необходимой оговорки
къ самому предмету настоящей главы.
1) Китайцы усмотрѣли въ звѣздномъ небѣ подобія тому, что
есть на землѣ. Млечный путь, напр., они представляютъ себѣ
рѣкою и обозначаютъ его словами: „небесная рѣка" (61), „се-
ребряная рѣка" (62), „большая рѣка" (63). Это не поэтическія
только выраженія,—Млечный путь, какъ рѣка, является бо-жунь
(64), т.-е. „волнующеюся влагой" Будучи незнакомы съ исто-
ками Желтой рѣки, древніе китайцы воображали, что она имѣетъ
связь съ „небесною рѣкою", что обѣ рѣки сливаются гдѣ-то на
краю свѣта,—на землѣ есть Хуанъ-хэ, существуетъ Хуанъ-хэ и
на небѣ. Такое представленіе легло въ основу разнаго рода басно-
словныхъ сказаній. Говорятъ, напр., что знаменитый въ китай-
ской исторіи Чжанъ-цянь, ѣздившій (во II в. до Р. X.) послан-
никомъ отъ императора У-ди въ земли нынѣшняго Туркестана и,
будто бы, открывшій истоки Желтой рѣки, плавалъ не только по
этой послѣдней, но и по „небесной рѣкѣ" на особомъ плоту сянь-ча
(65); прибавляютъ еще, что астрономъ Цзюнь-пинъ видѣлъ на
17
Млечномъ пути блуждающую звѣзду, которая была-де ни чѣмъ
инымъ, какъ плотомъ Чжанъ-цяня.
2) Китайцы перенесли на звѣздное небо незримые образы
земныхъ животныхъ, усматривая связь между тѣмъ или другимъ
относительнымъ положеніемъ неподвижныхъ свѣтилъ и обстоятель-
ствами жизни тѣхъ или другихъ представителей животнаго цар-
ства. Китайцы считаютъ западную четверть звѣзднаго неба областью
бѣлаго тигра, сѣверную—областью черепахи, восточную—лазо-
реваго дракона, южную—красной птицы. Точно также въ гла-
захъ китайцевъ соединяются съ нѳвидимыжи образами животныхъ
и очень многія изъ отдѣльныхъ созвѣздій. Напр., двѣнадцати
созвѣздіямъ зодіака, называемаго ши-эр-гунъ (66), соотвѣтствуютъ
образы слѣдующихъ животныхъ: мыши, быка, тигра, зайца, дра-
кона, змѣи, лошади, барана, обезьяны, пѣтуха, собаки и свиньи.
Подобно этому и двадцати восьми созвѣздіямъ зодіака, извѣстнаго
подъ названіемъ эр-ши-па-су (67), соотвѣтствуютъ образы двад-
цати восьми животныхъ, въ ряду которыхъ находятся и двѣнад-
цать, нами перечисленныхъ. Какая же могла быть усматриваема
связь между звѣздами и животными? Почему, напр., западная
четверть звѣзднаго неба есть область бѣлаго тигра? Нагорія Сред-
ней Азіи, простирающіяся къ западу отъ Собственнаго Китая,
служатъ мѣстомъ обитанія породы тигровъ, отличающихся бѣлова-
тымъ оттѣнкомъ шерсти. Тигры эти были хорошо извѣстны древ-
нимъ китайцамъ, потому что въ осеннее время, выгоняемые съ хо-
лодныхъ нагорій голодомъ, спускались въ восточныя долины и
производили здѣсь опустошенія. Нагорный западъ былъ, слѣдо-
вательно, тѣмъ мѣстомъ, откуда появлялся въ Китай бѣлый тигръ.
Древніе китайцы могли, такимъ образомъ, опредѣлять западъ,
какъ страну свѣта, и по западнымъ звѣздамъ, и по мѣсту жи-
тельства бѣлаго тигра. Метонимія сблизила понятія „бѣлый тигръ*
и „западныя звѣзды*,—вотъ почему районъ, занимаемый послѣд-
ними, сдѣлался областью бѣлаго тигра. Почему сѣверная четверть
звѣзднаго неба есть область черепахи? Сѣверъ—то мѣсто, кото-
рое не посѣщается солнцемъ; холодный сѣверъ противуположенъ
югу, согрѣваемому солнечными лучами; сѣверъ—царство мрака и
2
18
холода, царство зимы. Чѣмъ болѣе послѣдняя вступаетъ въ свои
права, тѣмъ холоднѣе и темнѣе становится на сѣверѣ, тѣмъ болѣе
сѣверная природа погружается въ сонъ. Для древнихъ китайцевъ
черепаха, животное, покрытое темнымъ щитомъ, медлительное въ
своихъ движеніяхъ, отличающееся половою холодностію и зары-
вающееся на зимнее время въ землю, являлась и всегдашнимъ
папоминаніемъ о зимѣ, и точнымъ указателемъ, когдй начинался
и когдй оканчивался зимній сезонъ. Сближая понятія „черепаха*,
„зима*, „сѣверъ* и опредѣляя послѣдній, какъ страну свѣта,
по сѣвернымъ звѣздамъ, древніе китайцы сблизили понятія „че-
репаха* и „звѣзды сѣвера*, — вотъ почему районъ, ими зани-
маемый, сдѣлался областью черепахи. Обратимся къ зодіакаль-
нымъ животнымъ. Почему, напр., существуетъ соотвѣтствіе между
образомъ мыши и созвѣздіемъ зодіака? Вступленіе солнца въ знакъ
этого созвѣздія совпадаетъ съ іюлемъ, мѣсяцемъ, когда въ Китаѣ
поспѣваютъ пшенина и рисъ. Въ этомъ мѣсяцѣ на хлѣбныя поля
прежде часто дѣлали нападеніе желтыя мыши, старавшіяся за-
пастись провіантомъ на зимнее время. Такимъ образомъ іюль мѣ-
сяцъ есть періодъ, когда на поляхъ появляются желтыя мыши;
этому періоду соотвѣтствуетъ на небѣ вступленіе солнца въ знакъ
перваго созвѣздія зодіака. Путемъ метониміи понятія „первое
созвѣздіе зодіака* и „мышь* сблизились между собою, и уста-
новилось соотвѣтствіе между образомъ мыши и зодіакальнымъ со-
звѣздіемъ. Почему существуетъ связь, напр., между образомъ
обезьяны и девятымъ созвѣздіемъ зодіака? Вступленіе солнца въ
знакъ этого созвѣздія совпадаетъ съ ноябремъ мѣсяцемъ. Этотъ
мѣсяцъ характеризовался для древнихъ китайцевъ тѣмъ, что
обезьяны (встрѣчающіяся и въ нынѣшнемъ Китаѣ, а въ древнемъ
водившіяся во множествѣ) втеченіи его издавали, чувствуя бли-
зость зимнихъ холодовъ, особаго рода крики. Такимъ образомъ
понятія „девятый знакъ зодіака*, „ноябрь*, „крикъ обезьянъ*
сблизились между собою, и установилось соотвѣтствіе между зо-
діакальнымъ знакомъ и образомъ обезьяны. Находя излишнимъ
пояснять другія частности нами разсматриваемаго предмета, мы
констатируемъ, что метонимическое сближеніе понятій является
19
главнѣйшею (не скажемъ, единственною) причиною, по которой
китайцы привели въ связь созвѣздія съ образами животныхъ. Но
разъ эта связь была установлена, хотя на основахъ вовсе и не
фантастическихъ, миоо-поэтическая фантазія оперлась на нее и
придала иной характеръ метонимическому соотношенію понятій.
Образы животныхъ, являвшихся первоначально только соотвѣт-
ствіемъ созвѣздій, были перенесены на послѣднія, и притомъ да-
леко не какъ эмблемы. Если китайцы представляютъ себѣ, напр.,
сѣверное небо райономъ черепахи, то въ ихъ воображеніи ри-
суется дѣйствительно существующая небесная черепаха, и не одинъ
контуръ этого животнаго, а само оно, какъ таковое. Коль скоро
допущено реальное бытіе небесной черепахи, миоо-поэтическая фан-
тазія уже выводитъ ее во множествѣ баснословныхъ разсказовъ
такъ или иначе дѣйствующею. По баснословіямъ, между прочимъ,
оказывается, что всѣ черепахи, живущія на землѣ, произошли
отъ той черепахи, которая пребываетъ на небѣ. Подобнымъ обра-
зомъ, напр., и о тиграхъ говорятъ, что они произошли отъ того
тигра, который былъ порожденъ одною изъ звѣздъ‘(а) Большой
Медвѣдицы. Если мы вспомнимъ, что китайцы считаютъ западную
четверть звѣзднаго неба областью тигра, и если мысленно опре-
дѣлимъ положеніе высшей точки этой области, то для насъ ста-
нетъ понятнымъ, что подъ первымъ тигромъ баснословіе разумѣетъ
небеснаго тигра, который происходитъ (а собственно, районъ ко-
тораго начинается) отъ указанной звѣзды. Не будемъ говорить,
что баснословія на свой манеръ объясняютъ происхожденіе и мно-
гихъ другихъ небесныхъ животныхъ, равно какъ выводятъ ихъ
взаимно дѣйствующими, опредѣляютъ ихъ величину, описываютъ
ихъ свойства.
3) Китайцы усмотрѣли въ звѣздномъ небѣ соотвѣтствіе тому,
что дѣлаютъ люди на землѣ. Основою этого соотвѣтствія является
опять же метонимическое сближеніе понятій. Уяснимъ сказанное
хотя на двухъ-трехъ примѣрахъ. Первая половина зимняго сезона
характеризовалась для древнихъ китайцевъ, между прочимъ, слѣ-
дующими обстоятельствами. По окончаніи лѣтнихъ и осеннихъ по-
левыхъ работъ, китаянки въ началѣ ноября (онъ считался пер-
20
вймъ айкнемъ мѣсяцемъ) принималась яа ткацкіе станки, имѣя
въ виду Заготовку матерій, потребныхъ въ домашнемъ обиходѣ.
Съ половина ноября домохозяева, чтобы защитить баковъ и ко-
ровъ, остававшихся Лѣтомъ и осенью на открытомъ воздухѣ, отъ
приближавшагося зимняго холода, начинали приспособлять хлѣвы.
Періодъ времени съ конца ноября до дня зимняго солнцестоянія
былъ Тѣмъ періодомъ, когда по йреимуществу заключались браки,'—
это обусловливалось, съ одной стороны, обезпеченностью поселянъ
въ жизненныхъ средствахъ и свободою отъ работъ, необходимыхъ
при сельскомъ хозяйствѣ, а съ другой—воззрѣніями древнихъ ки-
тайцевъ, старавшихся сообразоваться съ жизнью природы я пред-
ставлявшихъ себѣ, что въ день зимняго солнцестоянія совершается
союзъ неба и земли, Янъ и Инь. Пользуясь звѣзднымъ небомъ,
какъ наилучшимъ календаремъ, древніе китайцы опредѣляли время
первой половины ноября, второй половины того же мѣсяца и день
зимняго солнцестоянія соотвѣтственно полуночнымъ кульминирова-
ніемъ трехъ созвѣздій, находящихся возлѣ Млечнаго пути (по
сторонамъ его) и близкихъ между собою; первое созвѣздіе было
названо чжи-нюй (68), „Ткачиха", второе — ню-су (69), „Ко-
ровье пристанище (или мѣсто ночлега)", третье — нюй-су (70),
„Мѣсто пребыванія дѣвы". Такимъ образомъ три указанныхъ
Созвѣздія обозначались словами, напоминавшими о занятіяхъ по-
селянъ въ опредѣленные нами періоды времени. Но коль скоро
между созвѣздіями и людскими занятіями установилось, хотя на
основѣ вовсе и не фантастической, извѣстное соотвѣтствіе, миѳо-
поэтическая фантазія оперлась на послѣднее и по-своему объяснила
названія, являвшіяся первоначально не болѣе, какъ метониміею,—
въ народѣ китайскомъ выработалось представленіе, что и на звѣзд-
номъ небѣ занимаются тканьемъ, уходомъ за коровами, что и на
звѣздномъ небѣ вступаютъ въ бракъ. Когда, по причинѣ процессіи
равноденствій, дню зимняго солнцеповорота стало соотвѣтствовать
полуночное кульминированіѳ не созвѣздія нюй-су, а созвѣздія чжи-
нюй, Тогда миоо-поэтическая фантазія китайскаго народа сбли-
зила понятіе о ткачихѣ съ понятіемъ о бранящейся дѣвѣ, и сло-
жилось вѣрованіе, что на звѣздномъ небѣ есть ткачиха, которая
21
вступаетъ въ бракъ. Но откуда взялась небесная ткачиха1? кто
женахъ ея? Отвѣтивъ на эти вопросы нѣсколько ниже.
4) У китайцевъ сложилось убѣжденіе, что на звѣздахъ оби-
таютъ души усопшихъ людей и разнаго рода духи. Древніе ки-
тайцы, какъ можно видѣть изъ Ши-цзцна и Шу-цзина, пред-
ставляли себѣ, что души усопшихъ государей живутъ на небѣ,—•
отсюда понятнымъ становится, почему китайцы метонимически обо-
значаютъ небо слонами гу-ди (71)* „древніе государи", и по-
чему китайскимъ императорамъ присвоенъ титулъ тяць-цаы (72),
„сынъ неба". Но если первоначально мѣстомъ пребыванія дущъ
усопшихъ государей считалось небо, какъ видимый небесный сводъ
или же какъ нѣчто не вполнѣ опредѣленное, то впослѣдствіи миѳо-
поэтическая фантазія народа точнѣе указала, гдѣ именно вита-
ютъ души умершихъ государей. Переходъ отъ неопредѣленнаго
въ болѣе опредѣленному совершился, можно думать, не безъ ме-
тонимическаго сближенія понятій. Къ этому сближенію давали
поводъ обстоятельства, подобныя слѣдующему» Древніе китайскіе
государи приносили своимъ усопшимъ предкамъ жертвы, кромѣ
другихъ эпохъ года, въ началѣ лѣтняго сезона, совладавшемъ
съ началомъ мая. Такъ какъ первыя числа мая мѣсяца опредѣ-
лялись древними китайцами но относительному положенію одного
изъ созвѣздій, то созвѣздіе это метонимически и было названо
гуй-су (73), „Мѣсто пребыванія дущъ усопшихъ (разумѣется,
государей)", а также тянь-куанъ (74), „Небесныя могилы", и
тянь-мяо (75), „Небесный храмъ предновъ". Когда понятіе о
душахъ усопшихъ государей метонимически сближалось съ поня-
тіемъ объ извѣстномъ созвѣздіи, тогда миѳо-поэтической фанта-
зіи народа уже не трудно было опредѣлить мѣстомъ пребыванія
душъ усопшихъ императоровъ не вообще небо, а звѣзды види-
маго неба. Такимъ образомъ фантазія помѣстила, напр., души
древнѣйшихъ китайскихъ государей, Фу-си, Шэнь-нуна, Хуанъ-ди,
Шао-хао и Чжуань-сюя, на одномъ созвѣздіи, которое и было
названо у-ди-цзо (76), „Сѣдалищемъ (трономъ) пяти императо-
ровъ*. Но если жить по смерти на звѣздахъ сперва являлось,
какъ можно думать, прерогативою только царственныхъ особъ,
22
то съ теченіемъ времени миоо-поэтическая фантазія народа стала
населять звѣзды душами и 'такихъ усопшихъ, которые при жизни
своей, хотя и не занимали трона, успѣли оказать важныя услуги
своему отечеству. Былъ-ли Гоу-лунъ (77), министръ императора
Хуанъ-ди (въ ХХѴП в. до Р. X.), первымъ изъ такихъ дѣя-
телей, удостоеннымъ посмертнаго обитанія на звѣздномъ небѣ, а
именно на созвѣздіи тянь-шэ (78), намъ неизвѣстно; но мы знаемъ,
что фантазія китайцевъ въ рядѣ прославившихся историческихъ
лицъ, начиная хотя бы съ Гоу-луна, многихъ сдѣлала своими из-
бранниками и поселила души ихъ, усопшихъ, на звѣзды. Этого
оказалось не довольно: полнота миоо-поэтическихъ представленій
требовала, чтобы небесные владыки проводили жизнь не одино-
кими, но окруженные штатомъ вельможъ и служащихъ. Отсюда
вѣра китайцевъ, что на звѣздномъ небѣ жительствуютъ души
многихъ усопшихъ сановниковъ, хотя и неизвѣстныхъ по имени;
отсюда же и то, что, напр., отдѣльнымъ звѣздамъ изъ пят-
надцати, расположенныхъ вокругъ полярной звѣзды, обитаемой
тянь-ди (79), „Небеснымъ государемъ", даны слѣдующія на-
званія: „Первый министръ" (80), „Старшій помощникъ (или
совѣтникъ)" (81), „Младшій помощникъ (или совѣтникъ)" (82),
„Старшій охранитель" (83), „Младшій охранитель" (84), и т. п.
Но и всего этого было еще недостаточно: цѣлостность миѳо-поэ-
тическихъ представленій требовала, чтобы владыки, жительствую-
щіе на звѣздномъ небѣ, распоряжались сонмомъ душъ усопшихъ,
какъ бы небеснымъ народомъ. Отсюда вѣра китайцевъ, что на
всякой звѣздѣ обитаетъ душа какого-либо усопшаго человѣка;
отсюда же существованіе созвѣздій и отдѣльныхъ звѣздъ, на-
званныхъ именами древнихъ китайскихъ удѣловъ (Цинь, Цзинь,
Янь, Ци, Юэ, Чу и др.). Души усопшихъ людей, заселившія
звѣздное небо, не являются, въ представленіяхъ китайцевъ, без-
форменными,—фантазія народная сохранила за ними человѣческій
обливъ, такъ сказать, воплотила ихъ въ человѣческіе образы.
Помимо душъ усопшихъ людей, на звѣздномъ небѣ представ-
ляется существующимъ огромное количество различныхъ духовъ.
Если мы примемъ во вниманіе съ одной стороны, что у витай-
23
цѳвъ не выработалось понятіе о сонмѣ духовъ первозданныхъ,
а съ другой, что іероглифъ гуй (85), „душа усопшаго чело-
вѣка “, входитъ какъ составной элементъ въ іероглифы, обозна-
чающіе нѣкоторыя звѣзды *) и нѣкоторыхъ звѣздныхъ духовъ * **),
то не откажемся признать послѣднихъ не болѣе, какъ фантасти-
ческимъ видоизмѣненіемъ душъ усопшихъ людей. Превращая душу
усопшаго человѣка въ того или другого звѣзднаго духа, фанта-
зія народная очень нерѣдко заключала ее въ новую, всего чаще
въ чудовищную, форму. Если, напр., Сюань-у (88), т. е. „Чер-
ный воинъ® (властитель сѣверныхъ созвѣздій), представляется
только босоногимъ и съ растрепанными волосами, то уже богиню
Доу-му (89), царицу Большой Медвѣдицы, фантазія китайцевъ
рисуетъ имѣющею четыре головы и восемь рукъ; а, напр., между
духами 28-ми созвѣздій зодіака есть такіе, у которыхъ, будто
бы, тѣло человѣка, а голова животнаго (лошади, коровы, зайца,
собаки, мыши и др.). Находя излишнимъ распространяться о
внѣшней формѣ существъ, обитающихъ на звѣздахъ, и оставляя
въ сторонѣ вопросъ о томъ, въ какой степени образы звѣздныхъ
животныхъ сливались, въ представленіяхъ китайскаго народа, съ
человѣческими формами духовъ (первоначально душъ усопшихъ
людей), скажемъ далѣе, что миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ
приписала звѣзднымъ духамъ плотскія свойства и наклонности,—
духи имѣютъ женъ, порождаютъ дѣтей, чувствуютъ потребность
въ жилищахъ, одеждахъ и т. д. Послѣ всего нами изложеннаго,
мы считаемъ своевременнымъ отвѣтить на тѣ вопросы, которые
выше оставили открытыми, а именно, откуда взялась небесная
ткачиха, и кто женихъ ея. Китайское миѳическое сказаніе гла-
ситъ, что тянь-ди („небесный государь®) выдалъ внучку свою
(а по инымъ варіантамъ, дочь), жившую на созвѣздіи чжи-нюй
и занимавшуюся тканьемъ, за пастуха, который пасъ небесныхъ
коровъ на созвѣздіи ню-су и отличался усерднымъ исполненіемъ
♦) Напр., іероглифъ куй (86) служитъ для совокупнаго обозначенія четы-
рехъ звѣздъ (а, (3, у, 3) Большой Медвѣдицы.
**) Напр., іероглифомъ пяо (87) обозначается духъ, живущій на одной
изъ звѣздъ Большой Медвѣдицы.
24
своихъ обязанностей. Миеъ добавляетъ, что ткачиха и супругъ
ея, упоенные любовію, облѣнились и перестали—первая ткать, а
второй пасти коровъ; что .небесный государь", желая образу-
мить новобрачныхъ, разлучилъ ихъ и позволилъ имъ видаться
только одинъ разъ въ годъ, а именно въ 7-й день 7-го мѣсяца;
что ко дію, назначенному для свиданія супруговъ, ежегодно
устраивается сороками переправа черезъ Млечный путь (а созвѣ-
здія чжи-нюй и ню-су находятся но сторонамъ послѣдняго, одно
вблизи другого). Насколько миѳо-поэтическая фантазія китай-
цевъ способна, скажемъ, реализировать жизнь духовъ, обитаю-
щихъ на звѣздномъ небѣ, можно судить, напр., по легендѣ, по-
вѣствующей, что Чжанъ-цянь, плавая по Млечному пути, доѣз-
жалъ до того селенія, въ которомъ жилъ небесный пастухъ съ
своею женою, внучкою „небеснаго государя"; что Чжанъ-цянь
видѣлся, разговаривалъ съ небесною ткачихою и получилъ отъ
нея, какъ бы въ знакъ свиданія, ткацкій челнокъ; что Чжанъ-
цянь, когда спустился на землю и возвратился въ Китай, пока-
зывалъ этотъ челнокъ своинъ землякамъ. Прибавимъ къ этому,
что и понынѣ въ Китаѣ 7-е число 7-го мѣсяца повсемѣстно празд-
нуется какъ день, въ который ткачиха, но соизволенію „небес-
наго государя", совершаетъ переправу черезъ „небесную рѣку"
(Млечный путь), чтобы повидаться съ своимъ супругомъ, живу-
щимъ на созвѣздіи ню-су.
5) Китайцы выработали вѣрованіе, что звѣзды и обитатели
ихъ могутъ вліять иа то, что происходитъ и совершается на
землѣ. Есть, будто бы, такія звѣзды, отъ которыхъ зависятъ
различные феномены атмосферы; такія, которыя споспѣшествуютъ
иди противодѣйствуютъ жизни растеній и животныхъ; такія, ко-
торыя покровительствуютъ тѣмъ или другимъ занятіямъ людей;
такія, которыя предвѣщаютъ счастіе или несчастіе, вліяютъ на
исходъ сраженій, могутъ даже предзнаменовывать подданство
Китаю какого-либо самостоятельнаго народа. Подобная вѣра въ
зависимость земной жизни отъ звѣздъ имѣетъ, въ основѣ своей,
тѣсную связь съ тѣмъ метонимическимъ сближеніемъ понятій, о
которомъ мы выше говорили, и можетъ даже являться его даль-
25
нѣйшимъ слѣдствіемъ. Китайцы убѣждены, напр., что если со-
звѣздіе тянь-цанъ блеститъ ярко и если въ немъ, кромѣ шести
звѣздъ, всегда видимыхъ, усматривается еще множество малень-
кихъ звѣздъ, то годъ будетъ урожайный и жатва будетъ обиль-
ная. Откуда взялось такое вѣрованіе? Дѣло въ томъ, что тянь-
цанъ (90), по буквальному переводу словъ, значитъ: „небесная
житница“. Созвѣздіе названо такъ потому, что древніе китайцы
опредѣляли по его относительному положенію начало іюля мѣ-
сяца, того мѣсяца, втеченіи котораго вызрѣвали хлѣба и пра-
вительство озабочивалось ремонтировкою казенныхъ житницъ. За-
нятія людей поставлялись, слѣдовательно, въ соотвѣтствіе съ со-
звѣздіемъ; на основѣ этого соотвѣтствія, при помощи метониміи,
выработалось убѣжденіе китайцевъ, что есть тянь-цанъ, т. е.
„небесная житницаа изъ этого убѣжденія, при общенародномъ
взглядѣ на звѣздное небо, какъ на мѣсто жительства разнаго рода
духовъ, весьма легко могла возникнуть уже вѣра въ то, что
звѣзды тянь-цанъ вліяютъ на урожай хлѣбовъ и предвѣщаютъ
его, если свѣтятъ ярко. Еще примѣръ. О созвѣздіи би (91) ки-
тайцы думаютъ,* что духъ его любитъ дожди и производитъ ихъ;
что колебаніе звѣздъ би (иногда, будто бы, замѣчаемое) предвѣ-
щаетъ ливни и наводненія. И въ данномъ случаѣ основою вѣры
является метонимія, истекающая изъ того соотвѣтствія, которое
древніе китайцы усматривали между сентябремъ мѣсяцемъ, періо-
домъ дождей, и относительнымъ положеніемъ созвѣздія би. Еще
примѣръ. Китайцы убѣждены, что созвѣздіе (т. е. духъ со-
звѣздія) цзунъ-гуань (92) распоряжается болѣзнями и что больные
должны, чтобы выздоровѣть, къ нему именно обращаться съ
молитвами. И здѣсь опять вѣра объясняется метониміею: древніе
китайцы по относительному положенію созвѣздія цзунъ-гуань опре-
дѣляли періодъ времени весеннихъ лихорадокъ (причина кото-
рыхъ заключалась въ міазмахъ, подымавшихся съ рисовыхъ полей,
искусственно затапливаемыхъ водою). Не будемъ приводить дру-
гихъ примѣровъ. Скажемъ только, что и небесную ткачиху, о
которой было говорено выше, китайцы считаютъ покровитель-
ницею, а именно женскихъ рукодѣлій (тканья, вышиванія и т. п.),
26
и что въ 7-й день 7-го мѣсяца она, какъ покровительница этихъ
занятій, чествуется исключительно китаянками.
Таковы миѳо-поэтическіе взгляды китайцевъ на неподвижныя
звѣзды. Посмотримъ теперь, какія сложились въ народѣ китай-
скомъ миѳическія представленія о семи (издревле извѣстныхъ)
планетахъ и кометахъ.
Не повторяя уже того, что было нами сказано о солнцѣ,
какъ видимомъ представителѣ элемента Янъ; проходя мимо тѣхъ
миѳо-поэтическихъ сближеній между понятіями „солнце" и, напр.,
„быкъ" или „конь", которыя обосновались на метониміи и запе-
чатлѣлись въ оборотахъ китайскаго языка*); оставляя, наконецъ,
въ сторонѣ массу свѣдѣній о дневномъ свѣтилѣ, заключающихся
въ книгахъ даосовъ и являющихся трудно разложимою смѣсью
элементовъ миѳическихъ съ мистическими,—мы считаемъ доста-
точнымъ, не вдаваясь въ излишнія подробности, познакомить
читателей съ тѣми воззрѣніями на солнце, при которыхъ оно
берется въ отдѣльности какъ одна изъ планетъ и которыя рас-
пространены среди народа китайскаго. Подобно всѣмъ другимъ
небеснымъ свѣтиламъ, солнце имѣетъ своихъ обитателей, и среди
послѣднихъ главное мѣсто принадлежитъ существу, которое из-
вѣстно, какъ объектъ религіознаго культа, подъ общимъ назва-
ніемъ жи-чжу (95), т. е. „владыка солнца", или жи-шэнь (96),
т. е. „духъ солнца", а какъ сюжетъ разнаго рода баснословій,
подъ собственнымъ именемъ Юй-и (97). Обладая солнцемъ, этимъ
хо-лунь (98), т. е. „огненнымъ колесомъ", или си-чэ (99), т. е.
„блестящею колесницею", жи-шэнь ежедневно совершаетъ поѣздку
по видимому небесному своду съ востока на западъ. Солнце-
колесница везется шестью чи-лунъ (100), „безрогими драконами",
которыми правитъ возница Си-хэ (101). Появляясь утромъ изъ-
за горы, находящейся на краю свѣта при восточномъ морѣ и
называемой Хай-юй (102), солнце постепенно поднимается все
выше и выше надъ горизонтомъ, минуетъ разныя незримыя уро-
*) Такъ, напр., бай-цэюй (93) значитъ и «солнце», и «бѣлый конь»; ли-
минъ (94) значитъ «разсвѣтъ» (а собственно «свѣтъ пестраго быка»).
27
чища, служащія для духа-властителя пунктами тѣхъ или дру-
гихъ житейскихъ занятій (завтрака, обѣда и пр.), достигаетъ
высшей точки своего дневнаго пути, потомъ склоняется къ за-
паду и, скрывшись изъ глазъ людей за горою Янь (103), спу-
скается въ подземную ю-ду (104), т. е. „темную страну", по
которой и движется втеченіи ночи съ запада на востокъ до мѣста
утренняго восхода. Считая видимое суточное движеніе солнца ѣздою
солнечнаго духа, миѳо-поэтическая фантазія народа китайскаго
допускаетъ, что этотъ духъ, поддаваясь просьбамъ или заклина-
ніямъ людей, можетъ дѣлать замѣтныя остановки на своемъ
пути,—отсюда рядъ легендъ о болѣе или менѣе продолжитель-
ной задержкѣ солнца полководцами (напр., Лу-янъ-гунъ и Юй-
гунъ во времена Чжоуской династіи), желавшими кончить сра-
женіе при дневномъ свѣтѣ, пропагаторами даосизма (напр., Синь-
юань-пинъ при Ханьскомъ императорѣ Вэнь-ди), старавшимися
пріобрѣсти репутацію чудодѣевъ, и другими историческими ли-
цами. Объясняя по-своему видимое движеніе солнца, китайскій
народъ по-своему же опредѣлилъ и причину тѣхъ пятенъ, кото-
рыя усматриваются на дневномъ свѣтилѣ. Эти пятна, будто бы,
не что иное, какъ фигура треногаго ворона цзунь-у (105), жи-
вущаго на солнцѣ. Отсюда понятно, почему само оно метоними-
чески называется цзинь-у (106). „золотымъ ворономъ", илицзинь-я
(107), „золотою вороною". Что фантазія народная склонна пред-
ставлять солнечнаго ворона живымъ существомъ, это видно изъ
миѳовъ, подобныхъ слѣдующему. Древній императоръ Яо, замѣ-
тивъ однажды на небѣ десять одинаковыхъ дневныхъ свѣтилъ,
приказалъ знаменитому стрѣлку И-и стрѣлять по девяти, неиз-
вѣстно откуда появившимся, свѣтиламъ и удалить ихъ съ небес-
наго свода; исполняя волю государя, И-и своими стрѣлами уни-
чтожилъ конкуррентовъ истиннаго солнца, причемъ убилъ девять
солнечныхъ вороновъ; какъ перья послѣднихъ падали внизъ, можно
было, говорятъ, видѣть тѣмъ людямъ, которые являлись свидѣ-
телями этой чудесной стрѣльбы. Находя своеобразное объясненіе
для солнечныхъ пятенъ, китайскій народъ по-своему же разрѣ-
шилъ вопросъ и о причинахъ солнечныхъ затмѣній. Когда бле-
28
стящее дневное свѣтило видимо умаляется въ своихъ размѣрахъ
и посылаетъ на землю меныпѳе» нежели должно, количество лучей,
это значитъ» что начинается жи-ши (108), т. е. „пожираніе
Солнца* какимъ-то незримымъ чудовищнымъ животнымъ. Солнце
могло бы быть съѣдено этимъ животнымъ, если бы люди оста-
вались безучастными свидѣтелями того, что дѣлается на небѣ; но
люди въ силахъ отпугнуть чудовище, если будутъ устрашать его,
производя шумъ,—вотъ почету китайцы "и понынѣ, всякій разъ
какъ начинается затмѣніе солица, выходятъ изъ своихъ домовъ
и на открытомъ воздухѣ усиленно стучатъ въ тѣ или другіе
звучащіе предметы (колокола, тамтамы, сковороды, металличе-
скія доски и т. п.). Помимо указанной причины солнечныхъ за-
тмѣній, существуетъ, будто бы, еще и другая, а именно ци-линь-
доу (109), т. е. „драка цилиией", особаго рода баснословныхъ
животныхъ. Но отчего бы ни затмѣвалось солнце, шумъ, какъ
думаютъ китайцы, всегда является вѣрнѣйшимъ средствомъ со-
хранить дневное свѣтило цѣлымъ и невредимымъ.
Обратимся теперь къ сложившимся* въ народѣ китайскомъ
миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ на луну, Не распространяясь о
томъ дуалистическомъ соотвѣтствіи, которое установлено народ-
ною фантазіею между солнцемъ, какъ тай-Янъ („великимъ Янъ"),
и луною, какъ тай-Инь (110), т.-е. „великою Инь", скажемъ
нервѣе всего, что существо, господствующее на лунѣ, извѣстно,
какъ объектъ религіознаго культа, подъ общимъ названіемъ юэ-
чжу (111), т. е. „владыка луны", или юэ-щань (112), т. о,
„духъ луны", а кікъ сюжетъ разнаго рода баснословій, подъ
собственнымъ именемъ Цзѣ-линь (113). Обладая луною, этимъ
бинъ-лунь (114), „ледянымъ колесомъ", или юй-лунь (115),
„яшмовымъ колесомъ", Цзѣ-линь катается по небесному своду,
причемъ роль возницы исполняете духъ Ванъ-шу (116) или
Оянь-э (117). Оставляя въ сторонѣ тѣ мелочныя подробности,
которыя сообщаются о Цзѣ-линь въ книгахъ даосовъ, замѣтимъ,
что „владыка луны" извѣстенъ въ народѣ китайскомъ еще подъ на-
званіемъ юэ-лао (118), т. е- «старца луны", и, съ этимъ про-
звищемъ, выступаетъ въ роли устроителя браковъ, —• будто бы,
29
связываетъ незримою красною веревочкою попарно тѣхъ мальчи-
ковъ и дѣвочекъ, которымъ суждено рано или поздно соединиться
брачными узами. Что касается темныхъ пятенъ, видимыхъ на ди-
скѣ лумы, то фантазія народная усматриваетъ въ нихъ фигуры
двухъ животныхъ и человѣка, рубящаго дерево. Одно изъ лун-
ныхъ животныхъ—заяцъ, и сама луна можетъ метонимически
обозначаться словами: сюаяъ-ту (ІІ'Э)—„темный заяцъ", цзинь-
ту (120)—„золотой заяцъ", цзяо-ту (121)—„обгорѣлый заяцъ".
Основою послѣдняго названія для луны служитъ миѳъ о токъ,
какъ заяцъ бросился въ огонь, чтобы принести себя въ жертву
тянь-дн, „небесному владыкѣ", спустившемуся на землю, былъ
вынутъ имъ, обгорѣлый, изъ пламени и, въ награду за самопо-
жертвованіе, помѣщенъ на луну. Другое лунное животное—жаба,
почему я сама луна метонимически называется чанъ (122)—
„жабою", ѣ-чань (123)— „ночною жабою", инь-чань (124)—
„серебряною жабою". О томъ, какъ это животное попало на луну,
баснословія сообщаютъ слѣдующее. Знаменитый стрѣлокъ И*и, о
которомъ мы уже имѣли случай говорить, получилъ однажды отъ
богини Си-ванъ-му напитокъ безсмертія и принесъ его домой;
красавица Чанъ-э (125), жена И-и, украла у него добытую
драгоцѣнную жидкость и спряталась на луну; воровство не оста-
лось, однако, безнаказаннымъ,—Чанъ-э на мѣстѣ своего убѣжища
превращена была въчань-чу (126), (особаго рода) „жабу". Что
касается луннаго древосѣка, то о немъ разсказываютъ слѣдующее.
Нѣкто У-ганъ (127), провинившійся предъ вы&пими существами,
въ наказаніе былъ помѣщенъ на луиу, приставленъ, съ топоромъ
въ рукахъ, къ растущему на ней коричному дереву и осужденъ
рубить это дерево; трудъ У-гаиа безконеченъ и безуспѣшенъ,
потону что въ коричномъ деревѣ послѣ каждаго удара топора
вырубленныя части замѣщаются, по волѣ боговъ, вновь образую-
щеюся древесною тканью. Не распространяясь о другихъ обита-
теляхъ луны, скажемъ далѣе, что китайцы приписываютъ ей не-
посредственное и сильное вліяніе на влагу земной атмосферы, на
воду океановъ, на жизнь морскихъ рыбъ, крабовъ и раковинъ
(пластинчатожаберныхъ), усматриваютъ зависимость погоды отъ
30
луннаго свѣта, считаютъ большую желтизну или блѣдность лун-
наго диска, равно какъ свѣтовыя кольца, видииыя иногда во-
кругъ него, указателями и предвѣстіемъ тѣхъ или другихъ об-
стоятельствъ человѣческой жизни (мятежей, голода, урожаевъ и
проч.). Что касается лунныхъ затмѣній, то причины ихъ, какъ
и солнечныхъ, фантазія китайцевъ полагаетъ либо въ алчности
незримаго чудовищнаго животнаго, либо въ дракѣ цилинѳй.
Относительно пяти планетъ въ народѣ китайскомъ выработа-
лось убѣжденіе, что онѣ являются указателями и предвозвѣст-
никами того, что происходитъ или должно происходить на землѣ,
и подвѣдомственны особымъ духамъ, которые въ то же время за-
вѣдуютъ основными элементами природы (таковыми китайцы при-
знаютъ воду, огонь, землю, металлъ, дерево), странами свѣта и
годовыми сезонами. О каждой изъ пяти планетъ въ отдѣльности
мы считаемъ достаточнымъ сказать слѣдующее.
Меркурій, когда свѣтитъ желтоватымъ свѣтомъ, предвѣщаетъ
обильный урожай хлѣбовъ, а когда кажется темноватымъ, пред-
вѣщаетъ наводненія. Меркуріемъ завѣдуетъ хэй-ди (128)—„чер-
ный государь"; этотъ титулъ присвоенъ духу императора Чжуань-
сюя, умершаго въ 2435 г. до Р. X. У „чернаго государя"
есть помощникъ, Юань-минъ (129),—духъ усопшаго Сю-си (130),
потомка императора Шао-хао. Хэй-ди и Юань-минъ завѣдуютъ
водою (какъ элементомъ), сѣверомъ (какъ страною свѣта) и зи-
мою (какъ годовымъ сезономъ).
Венера вліяетъ на ходъ военныхъ дѣйствій, и по ея болѣе
или менѣе яркому свѣту, равно какъ по ея относительному по-
ложенію можно заключать о наивыгоднѣйшѳй диспозиціи войскъ
передъ битвою. Венерою завѣдуетъ бай-ди (131)—„бѣлый госу-
дарь"; этотъ титулъ присвоенъ духу императора Шао-хао, умер-
шаго въ 2513 г. до Р. X. У „бѣлаго государя" есть помощ-
никъ, Жу-шоу (132),—духъ усопшаго Гай (133), котораго счи-
таютъ однимъ изъ его (Шао-хао) потомковъ. Бай-ди и Жу-шоу
завѣдуютъ металломъ (какъ элементомъ), западомъ (какъ страною
свѣта) и осенью (какъ годовымъ сезономъ).
Марсъ служитъ указателемъ упадка или повышенія нрав-
31
ственности въ государствѣ, производитъ засухи, побуждаетъ лю-
дей къ войнамъ; по измѣняемости цвѣта и тѣмъ или другимъ
пертурбаціямъ Марса можно заключать о предстоящихъ бѣдствіяхъ
(мятежахъ, войнахъ, голодѣ, морѣ и проч.). Марсомъ завѣдуетъ
чи-ди (134)—„красный государь"; этотъ титулъ присвоенъ духу
императора Шэнь-нуна, умершаго около 2700 г. до Р. X. У
„краснаго государя" есть помощникъ, Чжу-юнъ (135),—духъ
усопшаго Ли (136), сына императора Чжуань-сюя. Чи-ди и Чжу-
юнъ завѣ дуютъ огнемъ (какъ элементомъ), югомъ (какъ страною
свѣта) и лѣтомъ (какъ годовымъ сезономъ). Выставляя Марса по
тѣмъ или другимъ причинамъ (а первѣе всего по напоминающей
кровь краснотѣ диска) побуждающимъ людей къ войнамъ и мя-
тежамъ, миѳо-поэтическая фантазія китайцевъ избрала его мѣ-
стомъ посмертнаго жительства Чи-ю (137), знаменитаго мятеж-
ника древности. Чи-ю, какъ гласятъ легенды, имѣлъ тѣло чело-
вѣка, а ноги быка и былъ старшимъ изъ своихъ братьевъ, ко-
торыхъ число простиралось до 81 и изъ которыхъ каждый имѣлъ
тѣло звѣря, мѣдную голову и желѣзный лобъ. Чи-ю изобрѣлъ
оружіе, изощрился въ пользованіи имъ и сталъ обижать простой
народъ. Императоръ Шэнь-нунъ старался образумить Чи-ю крот-
кими мѣрами, но Чи-ю не оказалъ повиновенія и открыто сдѣ-
лался мятежникомъ; Шэнь-нунъ употребилъ силу, и мятежникъ
долженъ былъ бѣжать, чтобы спасти свою жизнь. Когда, по
смерти Шэнь-нуна, на престолъ вступилъ Хуанъ-ди, Чи-ю вто-
рично поднялъ знамя бунта. Государь вывелъ противъ мятежни-
ника свои войска. Дѣйствуя чарами, Чи-ю покрылъ поле битвы
густымъ туманомъ и, не довольствуясь этимъ, прибѣгъ къ по-
мощи духа вѣтровъ и духа дождей,—поднялась буря и полилъ
дождь. Будучи безсильнымъ бороться со стихіями, Хуанъ-ди обра-
тился съ просьбою о содѣйствіи къ небожителямъ,—спустилась
„небесная дѣва", утишила бурю и остановила ливень. Тогда
Чи-ю, окруженный войсками государя, былъ взятъ въ плѣнъ и
казненъ; душа мятежника отлетѣла на планету Марсъ.
Юпитеръ, когда свѣтитъ особенно яркимъ или желтымъ свѣ-
томъ,. предвѣщаетъ спокойствіе и благоденствіе имперіи. Юпите-
32
рожъ завѣдуетъ цинъ-ди (138)—.лазурный государь*; этотъ ти-
тулъ присвоенъ духу императора Фу-си, умершаго въ 2837 г.
до Р. X. У „лазурнаго государя* есть помощникъ Гоу-манъ
(139),—духъ усопшаго Чунь (140), одного изъ потомковъ им-
ператора Шао-хао. Цинъ-ди и Гоу-манъ завѣдуютъ деревомъ
(какъ элементомъ), востокомъ (какъ страною свѣта) и весною
(какъ годовымъ сезономъ).
Сатурнъ, когда свѣтитъ особенно ярко, предвѣщаетъ обиль-
ную жатву, а если около начала весны кажется красноватымъ,
то предвѣщаетъ голодъ. Сатурномъ завѣдуетъ хуанъ-ди (141)—
„желтый государь*; этотъ титулъ присвоенъ духу императора
Хуанъ-ди, умершаго въ 2597 г. до Р. X. У „желтаго госу-
даря* есть помощникъ, Хоу-ту (142),—духъ усопшаго Гоу-луна
(143), служившаго министромъ при указанномъ государѣ. Хуанъ-
ди и Хоу-ту завѣдуютъ землею (какъ элементомъ) и центромъ
(какъ пятою, по китайскому счету, страною свѣта).
Оставляя въ сторонѣ подробности о жизни планетныхъ оби-
тателей, сообщаемыя въ книгахъ даосовъ, скажемъ еще, что, по
убѣжденію китайцевъ, планеты, если усматриваются на небѣ днемъ,
всегда предвѣщаютъ бѣдствія: Сатурнъ предвѣщаетъ засуху, Юпи-
теръ—страшный голодъ, Марсъ—войну и пожары, Венера—также
войну, Меркурій—наводненія.
О кометахъ этихъ тянь-суй (144), „небесныхъ метлахъ*,
китайцы думаютъ, что онѣ появляются какъ предвѣстіе (если
не исключительно, то преимущественно) чего-либо недобраго, пер-
вѣѳ всего войнъ. Миѳо-поэтическая фантазія китайскаго народа
установила связь между появленіемъ кометъ и воинственными
наклонностями мятежной души того Чи-ю, о которомъ было нами
сказано выше,—вотъ почему комета, въ особенности же имѣющая
длинный красноватый хвостъ, можетъ обозначаться по-китайски
словами Чи-ю-ци (145)—„знамя Чи-ю“
Заключая все нами сообщенное о небесныхъ свѣтилахъ, за-
мѣтимъ, что, по сложившемуся въ народѣ китайскомъ вѣрованію,
животныя и духи 12-ти созвѣздій одного зодіака и 28-ми со-
звѣздій другаго, равно какъ духи-покровители планетъ оказы-
33
ваютъ непосредственное вліяніе на періоды времени: часы (ихъ,
по китайскому счету, двѣнадцать въ суткахъ), дни, мѣсяцы, годы
(двѣнадцать лѣтъ въ совокупности равняются тай-суй, „великому
году“, году Юпитера). Распространяться о тѣхъ соображеніяхъ,
по которымъ китайцы признаютъ одни дни счастливыми, а дру-
гіе несчастливыми вообще или только для извѣстныхъ занятій,
предпріятій и житейскихъ обстоятельствъ, мы находимъ излиш-
нимъ, въ виду съ одной стороны спеціальности предмета и многооб-
разія деталей, а съ другой въ виду узости рамокъ, опредѣлен-
ныхъ нами для настоящей главы.
ГЛАВА III.
Феномены земной атмосферы.—Земля.—Воды земной поверхности.—Огонь,
Переходя къ землѣ, какъ объекту миѳо-поэтическихъ воззрѣній
китайцевъ, и не возвращаясь уже къ тому, что было нами сказано
о зависимости наземной жизни отъ взаимодѣйствующихъ Янъ и
Инь, отъ воли верховыхъ боговъ, отъ вліянія небесныхъ свѣтилъ
и обитателей ихъ, ознакомимся сперва хотя въ краткихъ чертахъ
съ установившимися въ народѣ китайскомъ взглядами на различные
феномены земной атмосферы.
Начнемъ съ метеоровъ. Метеоры — это линъ-хунь-хо (146),
т. е. „огни душъ“, душъ безпріютныхъ, блуждающихъ. Носясь
въ атмосферѣ и показываясь людямъ въ видѣ огненнаго метеора,
душа усопшаго какъ бы заявляетъ о своей безпріютности. Блуж-
дающія души, по убѣжденію китайцевъ, терпятъ во всемъ не-
достатокъ и склонны вымещать на людяхъ свое недовольство,—
вотъ почему метеоры считаются предвѣстіемъ недобраго, вотъ по-
чему ихъ называютъ (если они краснаго цвѣта) хо-янъ (147),
„огненнымъ бѣдствіемъ", и (если цвѣта бѣлаго) бай-янъ (148),
т. е. „бѣлымъ бѣдствіемъ" Аэролитъ или метеоръ, котораго по-
летъ сопровождается шумомъ,—это предвѣстникъ войны, это тянь-
гоу (149), „небесная собака", это духъ-хранитель богатствъ,
спускающійся на землю для того, чтобы своимъ лаемъ устрашать
ночныхъ воровъ. Если народная фантазія соединяетъ понятіе объ
аэролитахъ съ понятіемъ о животныхъ и духахъ, то она при-
знаетъ достовѣрными, напр., и такіе факты, что изъ одного ме-
теора-аэролита будто бы выпала рыба, что другой аэролитъ, проле-
жавъ нѣсколько дней на землѣ, самъ собою началъ двигаться, и т. п.
35
На сѣверныя сіянія китайцы смотрятъ какъ на тянь-лѣ (150),
„разрывъ неба*, или тянь-мынь-кай (151), т. е. „раскрытіе не-
бесныхъ вратъ*,—видимый сводъ неба разверзается, и глазамъ
людей показывается свѣтъ-высшихъ небесъ. Китайцы объясняютъ
сѣверныя сіянія еще и тѣмъ, что на крайнемъ сѣверѣ, куда не
заглядываетъ солнце, есть чжу-лунъ (152), „драконъ (держащій
во рту) свѣчку" и освѣщающій ею темныя полярныя страны,—
пламя драконовой свѣчи, дѣлаясь почему-либо сильнѣе, бываетъ
видимо людьми и болѣе южныхъ территорій.
Миражи, по мнѣнію китайцевъ (знакомыхъ, слѣдуетъ замѣ-
тить, главнымъ образомъ съ миражами морскими), производятся
либо чудовищнымъ животнымъ пу-лу (153), оборотнемъ фазана,
либо чудовищною раковиною шэнь (154), въ которую превра-
щается какая-то баснословная желтая птичка.
Радугу китайцы представляютъ себѣ то тянь-гунъ (155),
„лукомъ неба", или ди-гунъ (156), „лукомъ (небеснаго) владыки",
то мостомъ,—отсюда понятія „мостъ" и „радуга" могутъ вы-
ражаться одними и тѣми же словами чанъ-хунъ (157). Изъ того,
что въ комбинаціонные іероглифы нѣ, ди, дунъ (158), выражаю-
щіе, каждый въ отдѣльности, понятіе „радуга", входитъ состав-
нымъ элементомъ іероглифъ хой (159), употребляющійся для
общаго обозначенія различнаго рода змѣй, червей и т. п., можно
заключать, что для фантазіи народа китайскаго радуга — это
большая змѣя, лукообразно растягивающаяся надъ земною по-
верхностью.
Утренняя заря, по миоо-поэтическимъ воззрѣніямъ китайцевъ,
есть слѣдствіе того обстоятельства, что солнце, предъ началомъ
евоей поѣздки по небесному своду, купается въ водахъ озера
еянь-чи (160). Заря вечерняя—это пары чи-шуй (161), „крас-
ной воды", находящейся будто бы на г. Кунь-лунь, съ которою
китайскій народъ соединяетъ, какъ увидимъ въ другомъ мѣстѣ,
очень много баспословій.
Вѣтеръ фантазія китайцевъ объясняетъ различными причи-
нами. Производителемъ вѣтра вообще, какъ движенія воздуха,
первѣе всего является шэнь-лунъ (162), т. ѳ. „духъ-драконъ".
36’
Вѣтеръ, какъ звукъ движущагося воздуха,—это звукъ тянь-лай
(163), „небесной свирѣли ", на которой играютъ небожителя.
Холодный вѣтеръ, дующій съ сѣвера, обусловливается тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что Нюй-гуа (о которой мы говорили въ первой
главѣ) не вполнѣ задѣлала образовавшееся въ небѣ отверстіе,—
осталась скважина, чрезъ которую и проходитъ на землю холод-
ный воздухъ. Вѣтеръ бурный, порывистый — это либо да-фынъ
(164), „большой фениксъ", т. е. слѣдствіе незримаго полета этой
баснословной птицы, либо, дѣ-лѣ (165-)—„охота" и бяо (166)—
„бѣгъ собакъ", т. е. лай незримыхъ собакъ, съ которыми духи
производятъ охоту въ воздушныхъ пространствахъ- Вѣтеръ ти-
фона есть слѣдствіе того, что но воздуху проносится дуань-вэй-
лунъ (167)—„драконъ, съ обрубленнымъ хвостомъ". Завываніе
вѣтра въ ненастную погоду — это вой безпріютныхъ душъ тѣхъ,
воиновъ, которые умерли на поляхъ битвъ и. ве были погребены
родственниками. Встрѣчный вѣтеръ на морѣ производится душею
одной дѣвицы, по имени Ши (168), которая утопилась въ. мор-
скихъ волнахъ, когда узнала, что ими же былъ поглощенъ К>
(169), ожидаемый ею женихъ. Помимо всего этого, каждый изъ
вѣтровъ, различаемыхъ по направленію (восточный, южный и пр.),
силѣ (легкій, бурный и пр.), тепловымъ качествамъ (холодный,
теплый, знойный и пр.), завѣдуѳтъ. особый духъ: Фѳй-лямь (170),
Фынъ-и (171), Нюй-и (17.2), Мэнъ-по (173) и др. Народная
фантазія воплощаетъ этихъ духовъ въ чудовищныя формы,—такъ,
напр., Фэй-лянь имѣетъ голову птицы, тѣло оленя, хвостъ змѣя.
Духами завѣдуетъ фынъ-бо (174), „глава вѣтровъ", или фынъ-
хоу (175), „владыка вѣтровъ"; подъ этими титулами извѣстенъ
духъ усопшаго министра Гоу-луна, о которомъ мы говорили въ
предыдущей главѣ, какъ о- помощникѣ Хуанъ-ди, управляющаго
Сатурномъ.
Смерчи всякаго рода китайцы представляютъ себѣ полетомъ
или борьбою драконовъ. Склонностью народной фантазіи реализо-
вать свои вымыслы обусловлены многочисленные разсказы о томъ,
какъ несущіеся въ круговоротѣ или борющіеся драконы (иногда
разныхъ цвѣтовъ,—бѣлаго и чернаго) были въ дѣйствительности
37
видимы людьми, оставляли на тѣхъ или другихъ предметахъ
слѣды своихъ когтей, разрушали дома, поднимали на воздухъ
лодки, деревья, камни и пр.
Появленіе росы фантазія китайцевъ поставляетъ въ прямую
зависимость отъ дѣйствія луны. Мало того,—роса считается даже
водою луны, почему и можетъ называться шанъ-чи-шуй (176),
„водою высшаго озера". Лунную воду въ чистѣйшемъ видѣ, на-
зываемую минъ-шуй (17.7), „свѣтлою водою", китайцы получаютъ
посредствомъ металлическаго зеркала или раковины фанъ-чжу (178),
обращая ихъ къ свѣту полной луны. Такія названія для росы-
какъ тянь-жу (179), „небесное млеко", или тянь-цзянъ (180),
„небесный соусъ", указываютъ, что фантазія народа китайскаго
приводитъ въ связь понятіе о росѣ съ понятіемъ о пищѣ небо-
жителей. Замѣтимъ при этомъ, что гань-лу (181), „сладкая роса",
считается у китайцевъ знакомъ небеснаго благоволенія къ людямъ
н въ особенности къ ихъ правителямъ; еще замѣтимъ, что въ
китайскомъ языкѣ понятіе „роса" можетъ выражаться словами
тянь-жуй (182), т. ѳ. „благовѣщее (знаменіе) неба".
Въ парахъ, поднимающихся съ земной поверхности и сгу
щающихся въ облака, фантазія китайцевъ усматриваетъ взле-
тающихъ драконовъ,—эти послѣдніе принимаютъ видъ облаковъ,
чтобы носиться по воздушному пространству. Изъ того обстоя-
тельства, что въ китайскомъ языкѣ понятіе „быстроногій конь"
можетъ выражаться словами юнь-чи (183), „облачный (безрогій)
драконъ" и юнь-ци (184), „облачный (рогатый) драконъ", мы
заключаемъ, что миѳо-поэтическія воззрѣнія китайскаго народа
сближаютъ понятіе о драконахъ-облакахъ съ понятіемъ о ко-
няхъ-облакахъ. Носясь по воздуху, облачные кони-драконы во-
зятъ духовъ и безсмертныхъ небожителей,—отсюда облака могутъ
называться по-китайски юнь-чэ (185), „облачными колесницами".
Усматривая въ облакахъ полетъ неземныхъ существъ и кромѣ
того признавая бытіе особыхъ, завѣдующихъ облаками, духовъ—
Фу-цзюнь (186), Фынъ-лунъ (187) и др., китайцы полагаютъ,
что облака, смотря по ихъ цвѣту, могутъ являться предвѣстіемъ
бѣдствій или благополучія: красными предвѣщается засуха, чер-
38
ными наводненіе, бѣлыми—большая противъ обыкновенной смерт-
ность въ народѣ; облаку, котораго верхняя часть желтая, а ниж-
няя бѣлая, даютъ названіе ци-юнь (188), т. е. „знамя-облако",
считаютъ его обнаруженіемъ духа, живущаго на планетѣ Марсъ
(напомнимъ о мятежникѣ Чи-ю), и предвѣстіемъ войны; облака
желтыя предвѣщаютъ плодородіе, а трехцвѣтныя и многоцвѣт-
ныя признаются да-жуй (189), „великимъ благовѣщимъ (знаме-
ніемъ) ". Облака дождевыя, подобно другимъ видамъ послѣднихъ,
также не что иное какъ взлетѣвшіе драконы, — дождь произво-
дятъ шэнь-лунъ, о которомъ мы имѣли уже случай говорить, и
хэй-лунъ (190), „черный драконъ". Причина, по которой дождей
не бываетъ въ извѣстные мѣсяцы, заключается въ томъ, что дра-
коны, производящіе дождь, живутъ половину года (отъ дня осен-
няго равноденствія) въ глубинѣ земныхъ водъ, откуда и подни-
маются въ атмосферныя пространства въ день равноденствія ве-
сенняго. Какое изъ животныхъ, нѣкогда существовавшихъ, а нынѣ
уже не встрѣчающихся на территоріи Срединнаго царства, легло
у китайскаго народа въ основу идеи о драконѣ, мы не можемъ
сказать опредѣленно; но при этомъ не сомнѣваемся, что миѳо-
поэтическая связь между понятіями о дождяхъ, начинающихъ
выпадать весною, и о взлетающихъ въ воздушныя пространства
драконахъ обусловлена наблюденіемъ древнихъ китайцевъ надъ
жизнію этого животнаго, этого „дракона",—весенними дождями
онъ пробуждается отъ зимняго сна, какъ бы вызывается къ жизни
и ѵісе ѵегза, въ представленіяхъ миѳо-поэтическихъ, самъ яв-
ляется производителемъ весеннихъ дождей *). Если драконъ про-
изводитъ дожди, то бездождіе, конечно, есть слѣдствіе того, что
драконъ не желаетъ ихъ производить,—отсюда молебствія китай-
цевъ предъ изображеніями дракона въ случаѣ засухъ, отсюда же
и обрядъ „бичеванія дракона", заключающійся въ томъ, что
драконъ, сдѣланный изъ глины или изъ другого матеріала, по-
лучаетъ большее или меньшее количество ударовъ плетью, бамбу-
*) Подобнымъ образомъ можетъ объясняться и то, что производитель-
ницами дождя китайцы еще считаютъ ли (191) и лувь (192), какихъ-то чудо-
вищныхъ змѣй или жабъ.
39
ковою планкою и т. п., чтобы быть побужденнымъ излить дожде-
вую влагу *). Объясняя вышеуказаннымъ образомъ происхожде-
ніе дождевыхъ облаковъ, китайцы вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрятъ, что
существуютъ особые духи, завѣдующіе дождями,—Шанъ-янъ(194),
Фынъ-и (195), Линъ-и (196) и др. Народная фантазія вопло-
щаетъ этихъ духовъ въ чудовищныя формы,—такъ,напр., Шанъ-
янъ является въ видѣ одноногой птицы, могущей по произволу
принимать бблыпіе или меныпіе размѣры. Во главѣ духовъ стоитъ
юй-ши (197), „правитель дождей®; подъ этимъ титуломъ извѣ-
стенъ Юань-минъ, духъ усопшаго Сю-си, о которомъ мы говорили
въ предыдущей главѣ, какъ о помощникѣ Чжуань-сюя, управ-
ляющаго Меркуріемъ. Если низведеніе дождя на землю зависитъ
отъ воли духовъ, то послѣдніе могутъ быть побуждаемы прось-
бами или заклятіями людей къ тому, чтобы орошать нивы и луга
дождевою водою,—отсюда довѣріе китайцевъ къ у (198), „ша-
манкамъ®, подъ которыми, какъ свидѣтельствуютъ основные эле-
менты іероглифа, первоначально разумѣлись дѣвицы, пляскою скло-
нявшія духовъ къ ниспосланію дождя.
Что касается грома и молніи, то феномены эти, сопровож-
даемые обыкновенно и сильнымъ дождемъ, обусловливаются, по
миѳо-поэтическимъ взглядамъ китайцевъ, слѣдующими причинами.
Гроза—это цзи-бо (199), столкновеніе враждующихъ между со-
бою Янъ и Инь; это борьба грома, какъ тянь-чжанъ-цзы (200),
т. е. „старшаго сына неба®, съ тучею, которая задерживаетъ въ
себѣ плодотворную дождевую влагу, взятую отъ земли и для
послѣдней необходимо нужную. Гроза—это лэй-хунъ (201), „гро-
момъ (звучащій) шумъ драки®,—дерутся драконы (всего чаще
бѣлый съ чернымъ) и, нанося одинъ другому раны, проливаютъ
на землю обильный дождь. Грозу китайцы, выражаясь метафори-
чески, называютъ тянь-ну (202), гнѣвомъ неба®, а также тянь-
*) Въ древности при молебствіи о дождѣ совершался обрядъ пусканія
стрѣлъ въ чучело собаки, сдѣланное ивъ травы. Замѣтимъ при этомъ, что
голубоватыя облака называются по-китайски цанъ-гоу (193), «голубыми соба-
ками»,—миѳо-поэтическія воззрѣнія китайцевъ сближаютъ, слѣдовательно,
понятіе о собакѣ съ понятіемъ не только о вѣтрѣ (какъ мы говорили выше),
но і о дождевыхъ облакахъ.
40
сяо (203), „смѣхомъ неба". Первая метафора становится по-
нятною, если мы вспомнимъ то, что говорилось ранѣе о „цар-
ственномъ небѣ", какъ о могущемъ гнѣваться и выражать свой
гнѣвъ различными способами; на основѣ второй метафоры у ки-
тайцевъ сложился миѳическій разсказъ о томъ, что Дунъ-ванъ-
гунъ (204), божество, о которомъ сообщимъ подробно въ другомъ
мѣстѣ, забавляется съ небесною „яшмовою дѣвою“ (205), пуска-
ніемъ стрѣлъ въ цѣль и что небо, при каждомъ промахѣ Дунъ-
ванъ-гуна, громко (=громомъ) смѣется. Метафорически же ки-
тайцы называютъ громъ тяиь-гу (206), звукомъ „небеснаго ба-
рабана",—и, въ объясненіе метафоры, сложились разсказы о томъ,
какъ богъ грома Лэй-гунъ (207) играетъ на стоящихъ кругомъ
него барабацахъ; предоставляя Лэй-гуну только гремѣть, народ-
ная фантазія по-своему объяснила и феноменъ грозоваго свѣта,—
создался образъ Дянь-му (208), особой богини, которая держитъ
въ рукахъ два зеркала и производитъ посредствомъ ихъ блескъ
молніи. Если мы примемъ въ вниманіе, что китайцы уподобляютъ
удары грома ударамъ лэй-чуй (209), „громоваго молота", и на-
зываютъ каменныя орудія доисторическихъ обитателей Собствен-
наго Китая, находимыя на его территоріи, „громовыми молот-
ками", „громовыми топорами", вообще „громовыми камнями"; что
китайцамъ феноменъ грозы представляется какъ ту-хо-ши-бянь
(210), т. е. „изрыганіе огня и раздача (ударовъ) плети", а
вмѣстѣ съ тѣмъ во время засухъ кажется цѣлесообразнымъ биче-
вать (о чемъ мы говорили выше) сдѣланное изъ чего-нибудь по-
добіе дракона; что въ Китаѣ циркулируетъ очень много разска-
зовъ о драконахъ, которые, будучи преслѣдуемы громомъ и мол-
ніею, старались укрыться въ башняхъ или другихъ мѣстахъ, м
что, наконецъ, по-китайски громъ можетъ описательно называться
юй-гунъ (211), „дождевымъ-мастеромъ",—то для насъ станетъ
ясно, что, по миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ китайскаго народа,
во время грозы божество, покровительствующее людямъ, наноситъ
дракону (—тучѣ) удары и принуждаетъ его изливать на землю
дождевую влагу. Скажемъ еще, что китайцы уподобляютъ рас-
скаты грома звуку ѣдущей колесницы и называютъ громъ лэй-
41
гу (212), „громовою колесницею а также би-ли (213), „про-
хожденіемъ владыки",—владыка ѣздитъ по облакамъ и гремитъ
своею колесницею. Что первоначально подъ гремящимъ владыкою
разумѣлся не кто иной, какъ владыка неба, это можно заклю-
чать по іероглифу би (въ указанной комбинаціи би-ли), который
значитъ и „владыка", и „небо" Когда народная фантазія, диф-
ференцируя свои представленія, ограничила районъ непосредствем-
выхъ дѣйствій небеснаго владыки пространствомъ высшаго неба,
она создала образы особыхъ грозовыхъ духовъ—Цинь-лэй (214),
Фынъ-лунъ (215), Э-сянъ (216) и др., поручила этимъ духамъ
производящую громъ колесницу и распредѣлила между ними функ-
ціи нѣкогда единаго владыки-громовержца. Если первоначально
въ грозѣ усматривалось нанесеніе богомъ ударовъ (плетью, моло-
томъ и пр.) дракону—тучѣ, то впослѣдствіи, при выработкѣ ре-
лигіозной системы даосизма и при знакомствѣ китайцевъ съ буд-
дійскою миѳологіею, понятіе о драконѣ (—тучѣ), какъ существѣ,
не склонномъ добровольно изливать на землю живительный дождь,
стало въ народѣ китайскомъ заслоняться понятіемъ вообще о злыхъ
духахъ, завидующихъ людскому благоденствію, а вмѣстѣ съ тѣмъ
стали слагаться вѣрованія въ бытіе особыхъ небесныхъ воителей,
которымъ Юй-хуанъ-шанъ-ди, высшій даосскій богъ, повелѣлъ,
на благо людей, сражаться съ нечистою силою. Небеснымъ воите-
лямъ нерѣдко присваиваются аттрибуты владыки - громовержца,
и въ виду этого едва ли можно сомнѣваться, что сказанія ѳ та-
кихъ небесныхъ воителяхъ, какъ, напр., о Сѣ-тянь-цзюнь (217),
Нѳ-ча (218), Чжао-юань-ши (219) и имъ подобныхъ, заклю-
чаютъ въ себѣ большее или меньшее количество деталей, имѣю-
щихъ непосредственную связь съ миѳо-поэтическими воззрѣніями
народа китайскаго на грозовые феномены.
Что касается жаровъ, обусловливающихъ засуху, то причину
ихъ фантазія китайцевъ усматриваетъ въ зловредной дѣятельно-
сти либо особаго духа, Гэнъ-фу (220), либо существъ, называе-
мыхъ ба (221). Эти послѣднія представляются то въ образѣ го-
лыхъ 3-футовыхъ человѣчковъ, съ единственнымъ глазомъ, нахо-
дящимся на макушкѣ, то въ образѣ безволосой дѣвы; подъ пиг-
42
леями ба древніе китайцы разумѣли людей, жившихъ гдѣ-то на
югѣ, въ тропическихъ странахъ, а безволосая дѣва ба обитаетъ,
какъ думаютъ, на небѣ, откуда по временамъ и спускается на
землю (напомнимъ читателямъ о „небесной дѣвѣ", которая помо-
гала государю Хуанъ-ди, когда онъ боролся съ мятежникомъ
Чи-ю). Равнымъ образомъ и неожиданный холодъ миѳо-поэтиче-
ски объясняется также зловредною дѣятельностью особаго духа,
а именно Чжу-би (222). Упомянемъ при этомъ, что фантазія
китайцевъ создала и для снѣга особыхъ духовъ-распорядителей,—
Тэнъ-лю (223), Цинъ-нюй (224), и др.
Переходя къ землѣ и не возвращаясь уже къ тѣмъ (ранѣе
нами сообщеннымъ) миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ народа ки-
тайскаго, по которымъ земля, въ противоположность небу, этому
чунь-Янъ, „чистѣйшему Янъ“, и фу „отцу", является чунь-
Инь, „чистѣйшею Инь", и му, „матерью",—скажемъ прежде
всего, что, какъ понятіе о хуанъ-тянь (225), „царственномъ
(царѣ) небѣ", оформилось въ Шанъ-ди, такъ и понятіе о хоу-
ту (226), „царственной (царицѣ) землѣ", приняло образъ Ди-ци
(227), или Ди-ши (228), верховнаго божества земли. Но если
народная фантазія, дифференцируя понятіе о Шанъ-ди, создала,
какъ мы знаемъ, сперва образъ небеснаго бога Шанъ-юань, а
потомъ Юй-хуанъ-шанъ-ди, который и сдѣлался сюжетомъ многооб-
разныхъ миѳо-поэтическихъ сказаній, то она, дифференцируя въ
свою очередь понятіе о Ди-ци, вывела на сцену сперва божество
земли Чжунъ-юань (см. о немъ въ главѣ І-й), а потомъ бога
Шэ (229), котораго, какъ Шэ-гунъ (230), или Ту-ди-гунъ
(231), „верховнаго князя—духа земли", и заставила, вмѣстѣ съ
его женою Шэ-му (232), или Ту-ди-ма (233), играть роль въ
разнаго рода легендахъ и баснословныхъ разсказахъ. Богъ Шэ,
на котораго китайцы перенесли и названіе, и многія прерогативы
хоу-ту, „царственной земли", считается духомъ усопшаго мини-
стра Гоу-луна (о немъ мы уже говорили, какъ о помощникѣ
Хуанъ-ди, управляющаго планетою Сатурномъ). Этотъ министръ
при жизни своей обязанъ былъ, какъ гласятъ легенды, наблю-
дать за тѣмъ, чтобы воды не затопляли земельныхъ участковъ,
43
годныхъ для хлѣбопашества, и по своей должности имѣлъ, будто
бы, титулъ хоу-ту (эпитетъ земли, какъ божества),—отсюда и
произошло сперва смѣшеніе, а потомъ и соединеніе понятія о
хоу-ту, „царственной землѣ", съ понятіемъ о Хоу-ту, какъ дру-
гомъ имени бога Шэ. Главенствующихъ божествъ земли оказа-
лось недостаточно для народной фантазіи,—создались не только
духи, завѣдующіе, подъ названіемъ также Шэ, или Ту-шэнь
(234), мелкими территоріями, принадлежащими волостямъ и сель-
скимъ общинамъ, но и ту-ди-шэнь (235), „духи почвы", вла-
дѣющіе каждымъ въ отдѣльности пунктомъ земной поверхности.
Духи земли представляются воплощающимися нерѣдко въ чудо-
вищныя формы,—такъ, напр., духъ Ту-бо (236) имѣетъ туло-
вище коровы, а голову тигра, съ тремя глазами и рогами; духъ
Фынь-янъ (237) принимаетъ видъ безполаго барана, и проч.
Скажемъ въ заключеніе, что духа земли, какъ обладательницы
сокровищъ и производительницы полезностей, китайцы называютъ
Фу-ао (238), „богатою старухою", и переносятъ аттрибуты по-
слѣдней на Ту-ди-ма, жену Ту-ди-гуна, о которой мы упоми-
нали выше.
Горы считаются у китайцевъ наилучшимъ мѣстомъ погребенія
покойниковъ и, въ глазахъ народа, становятся мѣстомъ жительства
душъ усопшихъ людей,—отсюда понятно, почему и въ комбина-
ціонные іероглифы, обозначающіе понятіе „гора (высокая, каме-
нистая, утесистая и др.)“, входитъ нерѣдко (239) составнымъ
элементомъ іероглифъ гуй (240), выражающій первѣе всего по-
нятіе „душа усопшаго человѣка". Если мы примемъ во внима-
ніе, что народная фантазія весьма легко превращаетъ душу усоп-
шаго въ духа и что іероглифомъ гуй обозначаются нынѣ и такія
понятія, какъ „привидѣніе", „духъ (демонъ)", то уяснимъ себѣ,
почему китайцы вѣрятъ въ бытіе разнаго рода духовъ, живу-
щихъ въ горныхъ мѣстахъ, — духовъ Ли-лунь (241), Юй-ци
(242), Шань-ду (243), Сяо-янъ (244), Цзи-мэнъ (245) и др.
Горные духи всего чаще представляются въ чудовищныхъ фор-
махъ: Шань-сяо (246) и Ци (247) имѣютъ видъ одноногаго
ребенка; у Чи-мѣй (248) лицо человѣка, а туловище четверо-
44
ногаго животнаго; Линъ-куй (249) подобенъ дракону, но имѣетъ
только одну ногу, и т. д. Помимо горныхъ духовъ, извѣстныхъ
по имени и фигурирующихъ въ многоразличныхъ баснословныхъ
сказаніяхъ, китайцы вѣрятъ въ бытіе и такихъ духовъ, кото-
рыхъ имя неизвѣстно, но которые въ то же время считаются
обладателями и правителями такъ называемыхъ священныхъ горъ.
Этихъ послѣднихъ на территоріи Собственнаго Китая очень много,
и среди нихъ первенствующее значеніе принадлежитъ „пяти пи-
камъ среднему (гора Сунь-шань въ провинціи Хэ-нань), сѣ-
верному (г. Хэнъ-шань на границѣ провинцій Чжи-ли и Шань-
си), восточному (г. Тай-шань въ провинціи Шань-дунъ), южному
(г. Хэнъ-шань въ провинціи Ху-нань) и западному (г. Хуа-шань
въ провинціи Шэнь-си). Духи священныхъ горъ являются въ
Китаѣ' и по нынѣ объектами религіознаго (правительственнаго)
чествованія. Что касается „пяти пиковъ", то они служатъ мѣ-
стомъ служительства духовъ-правителей не только безымянныхъ,
но и такихъ, которыхъ имена, аттрибуты, обстановка и дѣятель-
ность извѣстны, но при этомъ извѣстны по источникамъ религіоз-
ной системы даосизма, не могущей отождествляться съ общена-
родными вѣрованіями китайцевъ и соприкасающейся многими пунк-
тами съ религіею буддійскою,—въ виду послѣдняго обстоятель-
ства, распространяться здѣсь о даосскихъ духахъ „пяти пиковъ"
мы считаемъ нецѣлесообразнымъ и неумѣстнымъ (а безъ простран-
ныхъ объясненій едва ли будетъ понятно, напр., то, что духъ
восточнаго пика облеченъ властію всецѣло распоряжаться ходомъ
и продолжительностію жизни людей, а духъ южнаго пика упол-
номоченъ завѣдывать звѣздами и регулировать ихъ вліяніе на
землю). Скажемъ далѣе, что народная фантазія, отдавая горы и
горныя мѣстности въ вѣдѣніе особыхъ духовъ, по-своему объяс-
няетъ и феномены землетрясеній: причину ихъ она усматри-
ваетъ въ разрушительной дѣятельности горныхъ духовъ, обнару-
живающихъ свое нерасположеніе къ правителямъ народа,—отсюда
вѣра, что если горы трясутся и разрушаются, то должно ожи-
дать замѣны господствующей династіи другою. Китайцы объяс-
няютъ землетрясенія еще и тѣмъ, что драконъ цзяо (250), будто
45
бы проводящій въ горахъ извѣстный періодъ своей жизни, ищетъ
выхода на вольный воздухъ. Скажемъ, наконецъ, что китайцы
представляютъ себѣ сокровища, которыя заключаются въ нѣдрахъ
земли, охраняемыми особымъ дракономъ фу-цзанъ-лунъ (251).
О сложившихся въ народѣ китайскомъ миѳо-поэтическихъ воз-
зрѣніяхъ на минералы (въ томъ или другомъ видѣ) и металлы
мы считаемъ достаточнымъ сказать слѣдующее. 1) Допускается
возможность для людей и животныхъ навсегда или временно обра-
щаться въ камни. Объ одномъ изъ нагорныхъ камней (въ провин-
ціи Гуанъ-дунъ), похожемъ на фигуру сидящей женщины и назы-
ваемомъ ванъ-фу-ши (252), „камнемъ, ожидающимъ мужа“ раз-
сказываютъ, что въ этотъ камень превратилась одна женщина,
которая приходила на гору, садилась на ней и смотрѣла вдаль,
поджидая своего мужа, отправившагося на войну, но не могла
дождаться его возвращенія, потому что онъ палъ въ битвѣ. Чу-
додѣй, поучавшій Чжанъ-ляна (совѣтника основателя Ранней
Ханьской династіи), явился предъ нимъ однажды въ образѣ жел-
таго камня, почему и получилъ прозвище Хуанъ-ши-гунъ (253),
„князь желтаго камня". Кантонъ называется иногда Янъ-чэнъ
(254), „Бараньимъ городомъ", будто бы потому, что на горахъ
около него пять барановъ (тысячи двѣ лѣтъ тому назадъ) были
превращены, какъ гласитъ легенда, чудеснымъ образомъ въ пять
гранитныхъ камней. О Хуанъ-чу-пинѣ (255), одномъ изъ такъ
называемыхъ даосскихъ безсмертныхъ, разсказываютъ, что онъ,
пася стадо барановъ, зашелъ въ горную пещеру, въ которой и
пробылъ сорокъ лѣтъ, причемъ бараны оставались за это время
обращенными въ бѣлые камни; когда Хуанъ-чу-пинъ, по исте-
ченіи указаннаго времени, былъ, случайно отысканъ его братомъ,
то, пробормоталъ нѣсколько словъ и обратилъ бѣлые камня опять
въ живыхъ барановъ. Легендъ и баснословныхъ разсказовъ, по-
добныхъ. вышеприведеннымъ по существу, хотя и различающихся
между собою по деталямъ сюжетовъ и обстановки, въ Китаѣ
циркулируетъ очень большое количество. 2) Признается несомнѣн-
нымъ, что въ камняхъ всякихъ видовъ могутъ обитать тѣ или
другіе, хотя бы даже и безвѣстные, безымянные духи,—отсюда,
46
напр., обыкновеніе, по которому родственники человѣка, ударив-
шагося во время пути ногою о камень и потомъ заболѣвшаго,
умилостивляютъ этотъ камень (т. е. духа его) молитвами и жерт-
вами. Вмѣстѣ съ тѣмъ допускается, что нѣкоторые камни, слу-
жащіе для опредѣленныхъ цѣлей и даже обдѣланные (не гово-
римъ здѣсь о каменныхъ статуяхъ), находятся въ вѣдѣніи осо-
быхъ духовъ,—такъ напр., существуютъ Пэй-э (256) и Цуй-
фэй (257), духи тушешницы (и туши). Духи камней не обязаны
всегда пребывать въ послѣднихъ,—они могутъ выходить на воль-
ный воздухъ и даже становиться оборотнями, ванъ-ланъ (258).
Форма этихъ оборотней разнообразна,—такъ, напр., оборотень Цзы-
му-чжу (259) имѣетъ видъ свиньи, оборотень туши называется
лунъ-бинь (260), „драконъ-гость". 3) Являясь способными во-
площать въ себя духовъ, камни, по народнымъ вѣрованіямъ,
могутъ оказываться (видимо) самодѣйствующими,—отсюда у ки-
тайцевъ безчисленное количество повѣствованій о камняхъ, кото-
рые будто бы сами собою двигались, безпричинно (нерѣдко въ
знакъ предвѣстія) издавали звуки, говорили человѣческимъ голо-
сомъ и проч. 4) Нѣкоторые минералы признаются могущими
ограждать человѣка отъ злыхъ духовъ,—отсюда такіе обряды,
какъ, напр., обрядъ устраненія нечистой силы изъ жилищъ солью.
5) Нѣкоторые камни и металлы имѣютъ будто бы способность
чудеснымъ образомъ вліять на организмъ человѣка. Чудодѣйствен-
ная сила приписывается первѣѳ всего золоту и яшмѣ, по связи
ихъ, установленной миѳо-поэтическими воззрѣніями народа, съ
солнцемъ и луною. Можно съ большою вѣроятностью предпола-
гать, что и даосскіе изобрѣтатели разнаго рода жизненныхъ элек-
сировъ и напитковъ безсмертія придали особенно важное значеніе
золоту и яшмѣ потому именно, что за этими послѣдними въ на-
родѣ китайскомъ уже признавалась таинственная сила. 6) Допу-
скается, что нѣкоторые минералы, хотя и не падаютъ видимымъ
образомъ съ неба, тѣмъ не менѣе имѣютъ неземное происхож-
деніе,—такъ, напр., жемчугъ есть будто бы не что иное, какъ
эссенція луны, непостижимымъ для людей образомъ сгустившаяся
и отвердѣвшая внутри раковины.
47
Обращаясь къ миѳо-поэтическимъ взглядамъ китайцевъ на
воды земной поверхности, скажемъ прежде всего, что народная
фантазія не удовольствовалась единымъ богомъ водъ, Ся-юанемъ
(о которомъ читатели уже знаютъ изъ первой главы), и создала
множество водныхъ божествъ и духовъ-правителей морей, рѣкъ,
каналовъ, озеръ, болотъ, колодцевъ и т. д. Ранѣе мы говорили,
что въ парахъ, поднимающихся съ земной поверхности и сгу-
щающихся въ облака, китайцы усматрицаютъ взлетающихъ дра-
коновъ. Но, вѣдь, сколько бы паровъ ни поднималось въ атмо-
сферу, воды земной поверхности остаются все-таки неизсякае-
мыми,—отсюда миѳо-поэтическое предположеніе, что водные дра-
коны не всѣ взлетаютъ на воздухъ, что нѣкоторые изъ нихъ про-
должаютъ обитать на землѣ; а отсюда вѣрованіе, что моря, рѣки,
озера и т. д. управляются драконами, которые не поднимаются
къ небу и которые извѣстны подъ родовыми названіями, какъ
хуанъ-лунъ (261), „желтый драконъ", цзяо-лунъ (262), „змѣе-
видный драконъ", и пань-лунъ (263), „извивающійся драконъ".
Создавать водныя божества китайцы побуждались и вѣрою въ то,
что душа усопшаго человѣка можетъ дѣлаться духомъ и, въ ка-
чествѣ послѣдняго, завѣдывать тѣми или другими предметами при-
роды. Легенда гласитъ, напр., что когда умеръ императоръ Шунь
(въ 2208 г. до Р. X.), то двѣ жены его, Нюй-инъ и Э-хуанъ,
съ горя бросились въ рѣку Сянъ и впослѣдствіи были, подъ на-
званіемъ Сянъ-фэй (264), признаны за духовъ, завѣдующихъ
этою рѣкою. Объ У-юнь (265) существуетъ такая легенда. Отецъ
его, первый министръ въ удѣлѣ Чу, сдѣлавшись жертвою ин-
триги, былъ вмѣстѣ со старшимъ сыномъ своимъ подвергнутъ смерт-
ной казни (около 520 г. до Р. X.) Чтобы отомстить за смерть
отца, У-юнь перешелъ на службу въ князю удѣла У, гдѣ до-
стигъ высокаго положенія и откуда могъ начать военныя дѣй-
ствія противъ удѣла Чу. Оставаясь постоянно въ удѣлѣ У, У-юнь
подвергся наконецъ опалѣ князя, такъ какъ дѣлалъ слишкомъ
смѣлыя замѣчанія послѣднему касательно его неблагопристойнаго
поведенія и былъ приговоренъ (въ 475 г. до Р. X.) къ смерт-
ной казни чрезъ самоубійство. Когда оно было совершено, тѣло
У-юня зашили въ мѣхъ изъ-подъ вина и бросили въ рѣку (около
48
города Су-чжоу). Впослѣдствіи въ честь У-юня были воздвигнуты
храмы, и народъ сталъ считать ого духомъ водъ (первоначально
одной, а потомъ и вообще всякихъ рѣкъ). Если, соображая при-
веденныя легенды, мы примемъ во вниманіе, что Гунъ-гунъ, под-
нявшій (какъ читатели уже знаютъ изъ первой главы) знамя бунта
противъ Нюй-гуа, считается духомъ вообще водъ, а государю
Чжуань-сюй (правителю планеты Меркурія) и его помощнику
Юань-минъ фантазія народная предоставляетъ (о чемъ было гово-
рено во второй главѣ) власть надъ водою, уже какъ надъ эле-
ментомъ,—то мы уяснимъ себѣ тѣ основы, на которыхъ могла со-
здаться вѣра въ бытіе Ю-и (266), Ми-фэй (267), Сы-хань (268),
Тянь-фэй (269), Янъ-хоу (270) и другихъ шуй-шэнь (271),
„духовъ водъ“, въ бытіе Ху-лянъ (272) и другихъ хай-шэнь
(273), „духовъ морей", въ бытіе Ци-сянъ (274), Тянь-у (275}
и другихъ цзянъ-шэнь (276), „духовъ рѣкъ", и т. д. Скажемъ,
далѣе, что фантазія китайцевъ не только соединила понятіе о
драконахъ съ понятіемъ о душахъ усопшихъ людей и духахъ,
какъ правителяхъ земныхъ водъ, но и воплотила этихъ вообра-
жаемыхъ правителей въ самыя различныя, нерѣдко весьма при-
чудливыя формы. Подтвердимъ сказанное хотя нѣсколькими при-
мѣрами. Общѳсоблюдаемый (главнымъ образомъ въ южномъ Китаѣ)
дуань-у (277), праздникъ „драконовой лодки" (носятся въ про-
цессіяхъ по улицамъ и потомъ спускаются на рѣки особыя лодки,
имѣющія форму драконовъ) китайцы отождествляютъ съ чество-
ваніемъ души усопшаго Цюй-юань (278), о которомъ легенда
гласитъ слѣдующее. Цюй-юань, важный чиновникъ и совѣтникъ
князя Хуай (въ удѣлѣ Чу), около 314 г. до Р. X., былъ устра-
ненъ съ своего мѣста по наговору одного изъ своихъ соперни-
ковъ; сознавая свою невинность, Цюй-юань сочинилъ поэму, въ
которой старался преподать князю Хуай полезныя наставленія,
но послѣдній не обратилъ на нее должнаго вниманія. Поражен-
ный горемъ, Цюй-юань привязалъ себѣ на шею камень, бросился
въ рѣку и утонулъ (5-го числа 5-го мѣсяца). Въ воспоминаніе
доблестной смерти Цюй-юаня, жители удѣла Чу стали ежегодно
праздновать означенный день и бросать въ рѣку рисъ, какъ то они
дѣлали въ первый разъ, когда доставали изъ воды тѣло утонув-
49
шаго. Изъ удѣла Чу обычай распространился по всему (главнымъ
образомъ южному) Китаю. О Фынъ-и (279), главенствующемъ
духѣ Желтой рѣки, извѣстномъ болѣе подъ титуломъ хэ-бо (280),
легенды повѣствуютъ, что онъ являлся изъ воды въ видѣ бѣлаго
дракона и что вмѣстѣ съ тѣмъ ему не чужды человѣческія по-
требности, въ удовлетвореніе которыхъ въ древности для него
избирали дѣвицъ и бросали ихъ живыми, будто бы какъ невѣстъ
рѣчнаго духа, въ Желтую рѣку. Боговъ четырехъ, (мнимо) огра-
ничивающихъ землю, морей китайцы представляютъ себѣ (пусть
даже и подъ вліяніемъ буддизма) лунъ-ванами (281), „драко-
нами-государями", и въ то же время воображаютъ ихъ жи-
вущими въ особыхъ дворцахъ, приличныхъ правителямъ людей.
Чудовищное животное, которое явилось (о чемъ мы сообщали въ
первой главѣ) изъ Желтой рѣки императору Фу-си, имѣло видъ
дракона-коня. На конѣ же, бѣломъ, съ черною гривою, разъѣз-
жаетъ, по вѣрованію китайцевъ, и сопровождаемый десятью кон-
ными отроками одинъ изъ духовъ западнаго моря, называемый
хэ-бо-ши-чжэ (282), „посланникомъ главенствующаго духа Жел-
той рѣки". Янь-цзы (283), также одинъ изъ духовъ западнаго
моря, имѣетъ лицо человѣка, а туловище птицы. У хай-нюй (284),
„дѣвъ моря", которыхъ рыбаки будто бы иногда вылавливаютъ
изъ воды и съ которыми даже сожительствуютъ, тѣло обыкно-
венныхъ дѣвицъ, но покрытое тонкими разноцвѣтными волосами
или снабженное рыбьимъ хвостомъ. Рѣчной духъ Бэй-си (285)
принимаетъ, говорятъ, видъ черепахи; въ видѣ черепахи же яв-
ляются и нѣкоторые изъ духовъ, подвѣдомственныхъ духу-пра-
вителю Желтой рѣки. Болотныхъ и рѣчныхъ духовъ, называе-
мыхъ ванъ-лянъ (286), китайцы представляютъ себѣ 2—3-лѣт-
ними отроками фіолетоваго цвѣта, имѣющими густые волосы, длин-
ныя уши, красные глаза и ногти.
Что божества и духи, завѣдующіе водами земной поверх-
ности, являются, въ глазахъ народа, не миѳо-поэтическими только
представленіями, но дѣйствительными правителями, могущими обна-
руживать свою власть видимымъ образомъ, это явствуетъ изъ
лэгендъ, подобныхъ слѣдующей. Цзы-юй, ученикъ Конфуція, пере-
4
50
Ѣзжалъ однажды въ лодкѣ Желтую рѣку, имѣя при себѣ драго-
цѣнный камень; водный духъ Янъ-хоу (о немъ мы упоминали выше)
позарился на этотъ камень и, чтобы пріобрѣсти его, произвелъ
волненіе, при чемъ выслалъ изъ рѣки двухъ цзяо-лунъ, „змѣе-
видныхъ драконовъ “, которые и напали на лодку Цзы-юя (ле-
генда продолжаетъ, что послѣдній мечемъ убилъ драконовъ и
что волненіе тотчасъ же утихло). Подобнымъ образомъ въ тѣхъ
случаяхъ, когда воды рѣкъ вздымаются и, разрушая береговыя
плотины, угрожаютъ разливомъ, народная фантазія усматриваетъ
знакъ недовольства рѣчныхъ властителей, а иногда просто ихъ
капризъ,—отсюда многочисленные разсказы о томъ, какъ рѣч-
ныхъ духовъ (и драконовъ), въ виду грозившихъ наводненій,
китайцы иногда умилостивляли молитвами или жертвами (даже
человѣческими), иногда устрашали тѣмъ или другимъ способомъ
(стрѣлами, звукомъ пушекъ и пр.). Если рѣчныя воды, не взи-
рая на всѣ мѣры, принятыя со стороны людей, разливаются осо-
бенно сильно и часто, это служитъ, по мнѣнію китайцевъ, зна-
комъ, что духи рѣкъ не расположены къ правителямъ народа,
и предвѣстіемъ замѣны господствующей династіи другою. Относи-
сительно морскихъ приливовъ и отливовъ въ Китаѣ, между про-
чимъ, думаютъ, что они производятся чудовищною рыбою Цю
(287), которая то входитъ въ пещеру, существующую будто бы
на днѣ морскомъ, то выходитъ изъ нея. Говоря о водахъ земной
поверхности, скажемъ въ заключеніе, что китайцы признаютъ за
водою способность измѣнять, безъ матеріальной причины, свой
цвѣтъ (напр., дѣлаться кроваво-красною) или усваивать необык-
новенныя свойства,—есть будто бы шэнь-шуй (288), вода, кото-
рая не подвергается порчѣ; есть жо-шуй (289), вода, въ ко-
торой тонетъ даже и перо; есть бай-шуй (290), вода, могущая
давать людямъ безсмертіе и пр.
Что касается сложившихся въ народѣ китайскомъ миѳо-поэ-
тическихъ воззрѣній на огонь, то мы считаемъ достаточнымъ сооб-
щить о нихъ слѣдующее. Основной источникъ земнаго огня ки-
тайцы усмотрѣли въ солнцѣ, этомъ хо-лунь, т. е. „огненномъ
колссѣ“,—отсюда установленная въ древности церемонія возоб-
51
яовленія огня, заключавшаяся въ томъ, что въ день весенняго равно-
денствія добывался при помощи вогнутаго металлическаго зеркала
отъ солнца огонь и замѣнялъ собою огни, повсюду ранѣе за три
дня потушенные. Первымъ, кто открылъ способъ добывать огонь
и въ пасмурную погоду, а именно треніемъ кусковъ дерева, ба-
снословія признаютъ миѳическаго Суй-жэнь (291). Считая огонь,
какъ продуктъ солнца, могущимъ ограждать людей отъ болѣзней,
обусловливаемыхъ неодинаковостію температуры, древніе китайцы
придавали высокую цѣну открытію (мнимаго) Суй-жэня,—отсюда
установленныя въ древности церемоніи „перемѣны огня“, заклю-
чавшіяся въ томъ, что по одному разу въ каждый изъ годовыхъ
сезоновъ добывался треніемъ кусковъ (ивоваго) дерева новый
огонь (долженствовавшій, предполагалось, служить презервативомъ
противъ болѣзней, производимыхъ тѣмъ или другимъ сезономъ).
Въ древнемъ Китаѣ обязанность наблюдать за перемѣною такъ
называемаго „государственнаго" огня лежала на особо назначав-
шихся чиновникахъ, и одинъ изъ нихъ былъ тотъ Чжу-юнъ, о
которомъ мы говорили во второй главѣ, какъ о помощникѣ Шэнь-
нуна, правителя планеты Марса. Народная фантазія возвела душу
усопшаго Чжу-юна въ достоинство хо-шэнь (292), „духа (-пра-
вителя) огня", и воплотила ее въ новую, фантастическую форму
(Чжу-юнъ представляется имѣющимъ лицо человѣка, а туловище
животнаго). Оставляя въ сторонѣ вопросъ о генетической связи
понятій о духѣ Чжу - юнѣ и съ одной стороны о духѣ огня
Хой-лу (293), помѣстно чествовавшемся въ древности, а съ другой
о Цзао-шэнь (294), „духѣ (огня) очага", скажемъ только, что
фантазія китайцевъ съ теченіемъ времени совершенно обособила
Чжу-юна и Цзао-шэня, предоставивъ первому завѣдывать огнемъ
какъ стихіею, а второму —исключительно огнемъ, разводимымъ
на очагахъ и въ печахъ. Хотя Цзао-шэнь играетъ весьма важную
роль въ миѳическихъ воззрѣніяхъ и религіозныхъ вѣрованіяхъ
китайцевъ, однако мы не считаемъ цѣлесообразнымъ распростра-
няться о немъ здѣсь,—говорить объ этомъ духѣ, въ виду ши-
роты и неодносортности его прерогативъ, будетъ умѣстнѣе въ ѴІ-й
главѣ нашего труда.
ГЛАВА IV.
Растенія и животныя.
Желая познакомить читателей съ миѳо-позтическими взгля-
дами китайцевъ на растенія и животныхъ, мы, въ виду неисчер-
паемости матеріала, сюда относящагося, намѣрены пользоваться
имъ въ этой главѣ не болѣе, какъ уясняющимъ тѣ обобщенія,
сдѣлать которыя намъ казалось и возможнымъ, и удобнымъ. Пе-
рейдемъ послѣ такой оговорки къ самому предмему настоящей
главы.
1) Растенія и животныя служатъ эмблемами, символами раз-
наго рода предметовъ и понятій. Этотъ -символизмъ проявляется
въ изображеніяхъ, въ оборотахъ разговорнаго языка и письмен-
ности, въ деталяхъ обрядовъ и обычаевъ. Такъ, напр., въ дра-
конѣ, изображенномъ тѣмъ или другимъ способомъ, китайцы
усматриваютъ символъ царскаго, достоинства. Когда китаецъ же-
лаетъ выразить понятіе о несходствѣ предметовъ, объ ихъ про-
тивуноложности, онъ пользуется иногда словами сяо-луапь (295),
которыя по буквальному переводу значатъ: „филинъЪ (красивая
разноцвѣтная птица) луань“ На китайскихъ кладбищахъ обык-
новенно садятся кипарисы, сосны и тополи, потому что, въ гла-
захъ народа, эти деревья—символы непресѣкаемости жизни души
человѣческой. Основы символизма весьма разнообразны и пере-
числять ихъ здѣсь было бы неумѣстно. Что касается сущности этихъ
основъ, то она должна быть полагаема либо въ аналогіи, либо въ ме-
тонимическомъ сближеніи понятій. Почему, напр., драконъ слу-
житъ символомъ царскаго достоинства? Потому что усматривается
аналогія между дракономъ, поднимающимся съ земли до небесъ,
53
и государемъ, „сыномъ неба", стоящимъ превыше всѣхъ людей
въ имперіи. Почему китайцы считаютъ, напр., иву символомъ
солнца и украшаютъ ед зеленью свои дома въ день весенняго
равноденствія? Потому что, съ одной стороны, усматривается ана-
логія между ивою, отличающеюся особенною живучестью, и солн-
цемъ, ежегодно преоборающимъ враждебную ему силу Инь, а съ
другой—подмѣчается (обосновывающая метонимію) одновременность
появленія листвы на ивѣ и обнаруженія солнцемъ его способности
согрѣвать и животворить землю своими лучами. Почему симво-
ломъ солнца китайцы считаютъ, напр., пѣтуха? Потому что пѣ-
ніемъ пѣтуха предупреждается и какъ бы предвѣщается восходъ
солнца (кромѣ пѣтуховъ, живущихъ на землѣ, есть, какъ ду-
маютъ китайцы, еще небесный пѣтухъ, который, сидя на деревѣ,
поетъ при восходѣ солнца),—отсюда и названіе чжу-ѣ(296), „освѣ-
щающій ночь“, даваемое пѣтуху, и обозначеніе солнца словами
цзинь-цзи (297), „золотой пѣтухъ". Если читатели вспомнятъ, чтб
говорилось во второй главѣ о существахъ, обитающихъ на солнцѣ,
равно какъ о владычествѣ животныхъ надъ четвертями звѣзд-
наго неба, то легко уяснятъ себѣ, почему у китайцевъ воронъ
считается символомъ солнца, черепаха символомъ сѣвера, лазо-
ревый драконъ—востока, красная птица—юга, бѣлый тигръ—
запада. Не вдаваясь въ подробности, скажемъ еще, что, по тѣмъ
или другимъ основаніямъ, китайцы считаютъ коричное дерево
символомъ осени; персикъ, голубя, черепаху — символами долго-
лѣтія; аиста и оленя—символами безсмертія; дикаго гуся и рыбъ—
символами брака, и пр.
2) Нѣкоторымъ растеніямъ и животнымъ приписывается не-
естественное происхожденіе. Такъ, напр., марена родится будто бы
изъ человѣческой крови,—отсюда этому растенію присвоено опи-
сательное названіе ди-сюѣ (298), „кровь (изъ) земли". Пестрый (съ
крапинами)бамбукъ, извѣстный*какъ Сянъ-чжу(299), т. е. „бамбукъ
Сяна", получился будто бы оттого, что на бамбукъ обыкновен-
ный падали слезы оплакивавшихъ императора Шуня двухъ его
женъ (о которыхъ въ предыдущей главѣ было сказано, что онѣ
съ горя бросились въ рѣку Сянъ). Изъ крови воиновъ, павшихъ
54
на полѣ битвы, порождается, говорятъ, саранча. О морской ра-
ковинѣ сюй (300) китайцы думаютъ, что она есть не что иное,
какъ превращеніе орла, унавшаго въ море. Первые зайцы на
землѣ произошли будто бы отъ эссенціи луны. Не приводя дру-
гихъ примѣровъ, напомнимъ читателямъ, чтб было сказано во
второй главѣ нашего труда о происхожденіи черепахъ, живу-
щихъ на землѣ, отъ звѣздной черепахи, равно какъ о проис-
хожденіи тигровъ отъ того тигра, котораго породила одна изъ
звѣздъ Большой Медвѣдицы.
3) Допускается существованіе растеній и животныхъ чудо-
вищнаго вида, а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторымъ растеніямъ и жи-
вотнымъ. въ дѣйствительности существующимъ, приписываются
либо необыкновенная долговѣчность, либо необыкновенныя качества
и способности. У чудеснаго барбариса, называемаго линъ-манъ (301),
корень черезъ 1 .000 лѣтъ дѣлается похожимъ на собаку. У дворца
древняго императора Яо выросло чудесное деревцо, на которомъ
появлялось по одному новому листу каждый день отъ 1-го до
15-го числа всякаго мѣсяца, отъ 16-го же до 30-го числа каж-
дый день одинъ изъ листьевъ увядалъ и сваливался; этому де-
ревцу было дано названіе минъ-цзя (302), а еще ли-цзя (303),
т. е. „календарная акація". Дерево чунь (304) можетъ жить
будто бы 10.000 лѣтъ. Животное на (305) похоже на тигра,
чернаго цвѣта, снабжено рогами, но не имѣетъ переднихъ ногъ.
У животнаго цзюй (306) тѣло дракона, а голова оленя. Жи-
вотное юй (307) походитъ на зайца, но имѣетъ птичій носъ,
совиные глаза и хвостъ змѣи. Животное чжэнъ (308) походитъ
на леопарда, имѣетъ пять хвостовъ и снабжено рогомъ. Живот-
ное чжу-цзянь (309) похоже и на человѣка, и на барса. Птица
би (310) имѣетъ человѣческое лицо. У птицъ би-и (311) по
одному глазу и по одному крылу. Птица мань (312) состоитъ
изъ двухъ птичьихъ организмовъ, Соединенныхъ вмѣстѣ и снаб-
женныхъ парою глазъ, парою крыльевъ и парою ногъ. Рыба
гэ (313) имѣетъ шесть ногъ и снабжена птичьимъ хвостомъ.
Олень цзё-сянь (314) можетъ жить тысячу лѣтъ. Журавль, про-
жившій 2.000 лѣтъ, дѣлается чернымъ. Лягушка чань-чу (315)
55
можетъ жить даже 3.000 лѣтъ. У лисицы, прожившей на землѣ
1.000 лѣтъ, выростаютъ девять хвостовъ и цвѣтъ шерсти дѣ-
лается золотистымъ; 1.000-лѣтная лисица становится „небесною
лисицею8 и возносится для службы въ чертоги солнца или луны.
Конь, называемый цзы-бай (316), можетъ поѣдать тигровъ, а
мышь бао (317) поѣдать леопардовъ. Птица цинь-цзи-лё (318)
обладаетъ способностью говорить (замѣтимъ при этомъ, что древ-
ніе китайцы, какъ засвидѣтельствовано извѣстною книгою Чжоу-ли,
считали нѣкоторыхъ изъ инородцевъ сѣвернаго и восточнаго Ки-
тая умѣющими говорить съ птицами и четвероногими животными).
Змѣй тэнъ (319), а равнымъ образомъ и раковина хэй-банъ (320)
имѣютъ способность летать. Рыба линъ (321) можетъ поглощать
суда. Черепаха, прожившая 1.000 лѣтъ, получаетъ способность
говорить; названіе линъ-гуй (322) дается черепахѣ, которая про-
жила 10.000 лѣтъ. На трехъ островахъ восточнаго моря, со-
вокупно называемыхъ сань-сянь-шань (323) и играющихъ въ
миѳологіи китайцевъ весьма важную роль (распространяться о ней
здѣсь было бы неумѣстно) всѣ звѣри и птицы имѣютъ бѣлый
цвѣтъ. Довольствуясь приведенными примѣрами, напомнимъ чи-
тателямъ о чудовищныхъ формахъ, въ которыя воплощаются боги
и духи; о коричномъ деревѣ, растущемъ на лунѣ; о животныхъ,
пребывающихъ на небесныхъ свѣтилахъ; о драконахъ, живущихъ
и въ глубинѣ земли, и на ея поверхности, и въ моряхъ, и въ
воздушныхъ пространствахъ. Всякаго рода странные организмы
являются для народа китайскаго не миѳо-поэтическими только
представленіями, но живою дѣйствительностью,—отсюда множество
разсказовъ о томъ, какъ люди видали чудесныхъ животныхъ и
растенія, излавливали первыхъ, убивали „змѣевидныхъ драко-
новъ8 (цзяо), чудовищныхъ крокодиловъ и змѣй, опустошавшихъ
территоріи, и т. п.
4) Допускается, что люди могутъ превращаться въ растенія
и въ животныхъ. Цвѣтокъ юй-мѣй-жэнь (324), „Юй-красавица“,
названъ такъ потому, что въ него превратилась красавица Юй,
которая, потерявъ мужа, неутѣшно горевала о немъ. Лисицы,
нынѣ живущія па землѣ, происходятъ, по баснословному разсказу,
56
отъ той лисицы, въ которую нѣкогда была превращена женщина
Цзы (325), отличавшаяся своею порочностію. Замѣтимъ при этомъ,
что въ Китаѣ циркулируетъ очень много повѣствованій о томъ,
какъ нетолько женщины, но и мужчины превращались въ лисицъ.
Птицею цзинъ-вэй (326), которая, желая завалить юго-восточнсе
море, постоянно переноситъ въ него съ западныхъ горъ древесный
матеріалъ и камни, сдѣлалась утонувшая въ этомъ морѣ Нюй-гуа
(о ней, какъ починивавшей небо и утверждавшей землю, была
рѣчь въ первой главѣ). О нѣкоемъ Динъ-линъ-вэй (327), жившемъ
въ глубокой древности, разсказываютъ, что онъ превратился въ жу-
равля, а черезъ 1.000 лѣтъ опять принялъ видъ человѣка. О
Хань-пынъ (328), министрѣ Сунскаго князя (во времена Чжоуской
династіи), существуетъ слѣдующая легенда. Князь отнялъ у Хань-
пына его жену красавицу и самого его заключилъ въ тюрьму;
министръ не перенесъ оскорбленія и лишилъ себя жизни. Жена
Хань-пына не захотѣла пережить своего любимаго мужа и уби-
лась, бросившись съ высокой башни. За поясомъ у усопшей нашли
письмо, въ которомъ она просила похоронить ее рядомъ съ су-
пругомъ. Сунскій князь приказалъ устроить могилу Хань-пына
въ одномъ мѣстѣ, а его вѣрной жены—въ другомъ. Но случи-
лось чудо: могильные своды соединились въ одинъ, изъ могилы
выросло дерево, и по его вѣтвямъ стали порхать двѣ птицы,
подобныя юань-янъ (329), самцу и самкѣ такъ-называемой ман-
даринской утки (эти птицы служатъ символомъ супружескаго
согласія). Разсказовъ о превращеніи людей въ птицъ (чаще всего
въ журавля или аиста) у китайцевъ очень много. Гунь, отецъ
императора Юя, основателя династіи Ся, превратился, какъ гла-
сятъ легенды, въ трехногую черепаху тай (330). Древеснаго куз-
нечика называютъ ци-нюй (331), „Цискою дѣвицею",—въ это
насѣкомое превратилась дочь одного Цискаго князя, которой
было очень досадно на то, что ея не брали замужъ. Доволь-
ствуемся приведенными примѣрами.
5) Допускается, что растенія могутъ превращаться въ жи-
вотныхъ, одни животныя—въ другихъ, равно какъ животныя—
въ неорганическіе предметы и наоборотъ; допускается, что ра-
57
стенія и животныя могутъ становиться оборотнями и принимать
видъ человѣка. Такъ, напр., 1.000-лѣтняя сосна принимаетъ
форму черепахи фу-гуй (332). Чудовищная по величинѣ птица
пынъ (333) есть превращеніе чудовищной же рыбы гунь (334).
Разсказовъ о превращеніи обыкновенныхъ рыбъ въ обыкновен-
ныхъ птицъ у китайцевъ очень много. Нетопыри превращаются
въ раковину куй-гэ (335), а 100-лѣтняя ласточка — въ рако-
вину хай-гэ (336). Не будемъ говорить здѣсь о чудовищныхъ
животныхъ, подобно тому конѳ-дракону, который (какъ читатели
знаютъ изъ первой главы) явился императору Фу-си; не будемъ
говорить и о превращеніяхъ животныхъ, напр., въ камни (объ
этомъ была рѣчь въ главѣ Ш-й). Замѣтимъ, между прочимъ,
что, по вѣрованію китайцевъ, въ неорганическіе предметы могутъ
превращаться не только цѣльныя животныя, но и части послѣд-
нихъ. Такъ, напр., говорятъ, что головка водянаго кузнечика
цинъ-линъ (337), будучи зарыта въ землю подъ западною дверью
дома въ пятый день пятаго мѣсяца, превращается въ жумчужину.
Что неорганическіе предметы могутъ, по миѳо-поэтическимъ воз-
зрѣніямъ китайцевъ, превращаться въ животныхъ самымъ при-
чудливымъ образомъ, это всего лучше видно изъ разсказовъ, по-
добныхъ нижеслѣдующему. Одна женщина, въ то время какъ ея
мужъ жилъ по своимъ дѣламъ въ другомъ мѣстѣ, вступила въ
связь съ постороннимъ человѣкомъ; у женщины этой находилась
половина зеркала, котораго другую половину мужъ отправляясь
взялъ съ собою; при нарушеніи супружеской вѣрности со сто-
роны жены, ея половина зеркала обратилась* въ сороку, которая
и улетѣла къ мужу, не знавшему о томъ, чтб случилось въ его
домѣ. Что касается оборотней, то, по вѣрованію китайцевъ, бы-
ваютъ цинъ-янъ (338) — оборотни 1.000 - лѣтнихъ деревьевъ,
чжу-жэнь (339)—оборотни барановъ, ху-яо (340) — лисицъ, шэнь-
цзюнь (341) — свиней, шэ-цзюнь (342) — мышей, ши-цзюнь
(343)—черепахъ, и пр. и пр.; бываютъ му-гуай (344) и му-
яо (345)—оборотни вообще деревьевъ, цао-яо (346) — вообще
травъ, наконецъ оборотни всякихъ растеній и животныхъ (равно
какъ и неорганическихъ предметовъ), получающіе общее названіе
58
гуй-цзинъ (347). Разсказовъ объ оборотняхъ существуетъ у ки-
тайцевъ безпредѣльное количество. Между этими разсказами очень
много такихъ, въ которыхъ дѣйствуютъ оборотни, имѣющіе видъ
человѣка. Являться въ формахъ послѣдняго фантазія народная
заставляетъ весьма часто тигровъ и змѣй, а всего чаще лисицъ.
Одинъ путникъ, застигнутый ночью въ дорогѣ, увидалъ въ при-
дорожномъ перелѣскѣ яркій свѣтъ и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣка,
въ красномъ одѣяніи, съ золотою короною на головѣ, въ бле-
стящемъ вооруженіи, предшествуемаго и сопровождаемаго свитою;
путникъ, недоумѣвая, съ какимъ сановникомъ ему предстоитъ
встрѣтиться, своротилъ съ дороги и скрылся въ лѣсъ, а на дру-
гой день навелъ у мѣстныхъ жителей справки объ этомъ санов-
никѣ и узналъ, что необыкновенно одѣтымъ человѣкомъ является
тигръ (по китайскимъ понятіямъ, царь звѣрей), что онъ подсте-
регаетъ путниковъ и накидывается на нихъ, предварительно сбро-
сивъ съ себя платье и принявъ свой естественный видъ. До-
вольствуясь однимъ для образца приведеннымъ примѣромъ, за-
мѣтимъ, между прочимъ, что принимать формы человѣка китайцы
считаютъ даже какъ бы прирожденнымъ свойствомъ растеній и
животныхъ, но только въ извѣстномъ ихъ возрастѣ. Напр., пла-
танъ усваиваетъ человѣческую фигуру тогда, когда становятся
вообще старымъ. Лисица способна являться женщиною по дости-
женіи 50-лѣтняго возраста, а красивою дѣвицею—по достиже-
ніи 100-лѣтняго. 100-лѣтнею же принимаетъ видъ красивой
дѣвицы и волчица, которой тогда присваивается названіе чжи-
нюй (348). І.ООО-Зіѣтнія ласточки, летучія мыши, черепахи и
жабы дѣлаются бѣлыми, какъ серебро, и обращаются въ 7-дюй-
мовыхъ человѣчковъ, называемыхъ жоу-чжи (349). Замѣтимъ еще,
что фантазія китайцевъ допускаетъ бытіе не только оборотней-
людей, но и такихъ животныхъ, которымъ всегда присущи въ большей
или меньшей степени человѣческія качества. Есть, напр., цзяо-
жэнь (350), „акулы-люди", обитающіе на днѣ морскомъ и пла-
чущіе жемчужинами; есть жэнь-юй (351), „люди-рыбы", имѣющіе
видъ красавицъ дѣвицъ или красавцевъ юношей (говорятъ, что
иные вдовцы и вдовы даже сожительствовали съ такими „людьми-
59
рыбами" и для удовлетворенія своего сладострастія разводили ихъ
въ прудахъ). Скажемъ, наконецъ, что древніе китайцы употреб-
ляли для названія многихъ инородческихъ племенъ собственнаго
Китая такіе іероглифы, въ составъ которыхъ входятъ іероглифы,
значащіе либо „собака" (352), либо „шакалъ" (353), либо „длин-
ныя перья птицъ" (354) и „крылья птицъ" (355), либо „червь"
(356), либо „свернувшаяся кольцами змѣя" (357). Въ чемъ бы
ни заключалась причина такого іероглифическаго обозначенія (въ
тотемизмѣ-ли, въ религіозныхъ-ли культахъ инородцевъ, въ формѣ-
ли одежды послѣднихъ, въ характерѣ-ли фауны занимаемыхъ ими
территорій, въ пренебрежительномъ-ли отношеніи побѣдителей-ки-
тайцевъ къ племенамъ побѣждаемымъ и стоявшимъ на низкой сту-
пени цивилизаціи), во всякомъ случаѣ нельзя сомнѣваться, что
взглядъ древняго китайскаго народа на инородцевъ, какъ на жи-
вотныхъ, облеченныхъ въ человѣческія формы, явился однимъ изъ
основаній (ихъ, конечно, много) вѣры въ возможность для звѣ-
рей, птицъ и пресмыкающихся усваивать себѣ и фигуру, и ма-
неры человѣка.
6) Растенія и животныя могутъ, не становясь оборотнями,
но сохраняя свой естественный видъ, быть временнымъ или по-
стояннымъ вмѣстилищемъ духовъ и являться предметами ихъ за-
вѣдыванія; духи и такъ называемые „безсмертные" могутъ упо-
треблять животныхъ для своихъ неземныхъ поѣздокъ. Въ преды-
дущей главѣ мы говорили уже о воплощеніи нѣкоторыхъ духовъ
въ свиней, черепахъ и др. Прибавимъ, что въ Китаѣ цирку-
лируетъ очень много разсказовъ о томъ, какъ разнаго рода духи
являлись людямъ въ образѣ обыкновенныхъ звѣрей, змѣй, пчелъ,
мухъ и пр. Упомянемъ еще, что, по вѣрованію китайцевъ, духи,
призываемые для прорицанія, нерѣдко воплощаются въ разноцвѣт-
ную красивую птицу луань (о которой было говорено выше). Въ
деревьяхъ, отдѣльно взятыхъ, народная фантазія усматриваетъ,
если они выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ по формѣ или ка-
кимъ-либо качествамъ, воплотившихся духовъ, хотя бы и неизвѣст-
ныхъ по имени. Подтвержденіе тому находимъ не только въ басно-
словіяхъ, но даже въ фактахъ, подобныхъ нижеслѣдующему. Не-
60
подалеку отъ Пекина (въ монастырѣ Да-цзё-сы и въ монастырѣ
Тань-чжэ-сы) растутъ два фисташковыя дерева, изъ которыхъ одно
существуетъ 900 лѣтъ, а другое имѣетъ столько отростковъ,
сколько было государей царствующей въ Китаѣ династіи; само
правительство китайское признало въ этихъ деревьяхъ бытіе осо-
быхъ духовъ и постановило приносить послѣднимъ жертвы. За-
мѣтимъ при этомъ, что въ древнія времена отдѣльныя растенія
и цѣлыя рощи, служившія объектами религіознаго культа, были
далеко не случайными явленіями. Фантазія народная, воплощая
духовъ въ деревья, предоставляетъ этимъ духамъ возможность вы-
ходить изъ своихъ обиталищъ и являться дѣйствующими на воль-
номъ воздухѣ,—отсюда вѣра въ бытіе разнаго рода лѣшихъ, извѣст-
ныхъ подъ названіями му-чжунъ (358), мѣй-ванъ (359), гуй-
чжуй (360) и др. Рядомъ съ этимъ допускается бытіе такихъ
духовъ, какъ, напр., фу-си (361) — духъ пшеницы, хуа-шэнь
(362)—духъ цвѣтовъ, и пр. Что касается дерева, какъ элемента
(таковымъ считаютъ его китайцы), то оно находится въ завѣды-
ваніи Гоу-мана, о которомъ мы говорили (во второй главѣ), какъ
о помощникѣ Фу-си, правителѣ планеты Юпитера. Подобнымъ обра-
зомъ китайцы признаютъ бытіе особыхъ духовъ, завѣдующихъ и
животными,—есть, напр., цзи-бо (363)—духъ коней, ма-тоу-нянъ
(364)—духъ шелковичныхъ червей, и пр. Если народная фан-
тазія ставитъ животныхъ въ близкія и первѣе всего въ подчи-
ненныя отношенія къ духамъ, то не должно уже казаться стран-
нымъ, что она даетъ послѣднимъ возможность ѣздить на живот-
ныхъ. Не повторяя того, что говорилось ранѣе (въ главахъ пред-
шествовавшихъ) о фантастическихъ животныхъ, подобныхъ, напр.,
„безрогимъ драконамъ", возящимъ колесницу-солнце, скажемъ, что
вообще духи любятъ разъѣзжать на лисицахъ, а нѣкоторые изъ
духовъ пользуются для своихъ поѣздокъ особыми животными,—
такъ, напр., духъ (огня) очага, Цзао-шэнь (о немъ было упоми-
наніе въ предыдущей главѣ), въ извѣстные сроки незримо воз-
носится съ земли на небо сидя на конѣ, называемомъ фынъ-ма
(365), „вѣтромъ-конемъ" Что касается „безсмертныхъ" (людей,
будто бы избѣжавшихъ чудеснымъ образомъ тѣлесной смерти), то
61
йѣкогорые изъ нихъ, какъ гласятъ легенды, живыми улетѣли на
небо, возсѣвъ либо на журавля, либо на аиста, либо на красивую
разноцвѣтную птицу луань; вмѣстѣ съ тѣмъ фантазія представ-
ляетъ „безсмертныхъ" разъѣзжающими на особыхъ оленяхъ сянь-лу
(366) или коняхъ сянь-цзи (367).
7) Допускается существованіе растеній и животныхъ, имѣю-
щихъ необыкновенныя свойства и могущихъ вліять послѣдними на
тѣ или другіе объекты. Такъ, напр., ша (368), вѣеровидное ра-
стеніе, чудеснымъ образомъ выросшее въ дворцовой кухнѣ древ-
няго императора Яо, обладало свойствомъ прохлаждать съѣстные
припасы. Кто употребляетъ растеніе чжань-цао (369), тотъ снис-
киваетъ любовь людей. Трава и-нань (370) даетъ людямъ забвеніе
скорбей и дѣлаетъ женщинъ, носящихъ ее при себѣ, способными
беременѣть исключительно мальчиками. Деревья цзяо-ли (371) и
хо-цзао (372) приносятъ плоды, дѣлающіе человѣка, который ихъ
вкушаетъ, способнымъ летать по воздуху. Бу-сы-чжи-цао (373),
„трава безсмертія", имѣетъ свойство не только продолжать жизнь
людей, ею питающихся, но и воскрешать мертвецовъ (даже трех-
дневныхъ). Трава цюань-у (374) дѣлаетъ сухія кости способными
оживать и облекаться плотію. Во времена древняго императора
Яо выросла трава, которой свойство опредѣлялось даннымъ ей на-
званіемъ чжи-нинъ-цао (375), „трава, указывающая лесть (льсте-
цовъ)". Растеніе дань-юй (376) имѣетъ силу отгонять повѣтрія.
Тою же силою обладаетъ птица цинъ-гэнъ (377). Птицы чжи-ту
(378) и тоу-цзяо (379) могутъ охранять зданія отъ пожаровъ.
Чудесный единорогъ сѣ-чжай (380) обладаетъ способностію отли-
чать правыхъ отъ виноватыхъ (въ виду этого онъ изображается
на стѣнахъ присутственныхъ мѣстъ, въ которыхъ происходятъ су-
дебныя разбирательства, и на парадныхъ одеждахъ цензоровъ).
Приведенныхъ примѣровъ, мы думаемъ, вполнѣ достаточно для
уясненія того, что было нами сказано въ началѣ этой рубрики.
Предлагаемъ читателямъ вспомнить еще и то, что говорилось въ
предыдущей главѣ, напр., о птицѣ да-фынъ, производящей своимъ
полетомъ бурно-порывистый вѣтеръ; о животныхъ ли и лунь, вы-
зывающихъ дожди; о рыбѣ цю, вхожденіемъ которой въ пещеру
62
я выхожденіемъ изъ нея обусловливаются морскіе отливы и при-
ливы, и пр.
8) Существуетъ вѣрованіе, что нѣкоторыя растенія и живот-
ныя имѣютъ силу ограждать людей отъ вредоносной дѣятель-
ности злыхъ духовъ. Къ числу такихъ охранителей человѣка при-
надлежатъ: ива, персиковое дерево, бамбукъ, полынь, аирникъ
(асогиз саіатиз), тигръ, собака, баранъ, пѣтухъ, домашній гусь,
птица и (381), относящаяся къ породѣ журавлей, и др. Указан-
ное вѣрованіе, легшее въ основу множества легендъ и басносло-
вій, выражается у китайцевъ въ разнаго рода обрядахъ и обы-
чаяхъ. Что, при утилизаціи означенной способности растеній и
животныхъ, китайцы принимаютъ въ разсчетъ и сорты духовъ,
отъ которыхъ предстоитъ ограждать себя, и время, въ которое
растенія или животныя могутъ всего успѣшнѣе проявлять свою
силу, и, наконецъ, самые способы, которыми утилизація можетъ
достигаться всего лучше,—все это становится яснымъ изъ ниже-
слѣдующихъ немногихъ примѣровъ. Вѣтви бамбука, несомыя впе-
реди похоронной процессіи, устрашаютъ тѣхъ злыхъ духовъ, ко-
торые готовы незримо преградить путь усопшему, но устрашаютъ
только въ томъ случаѣ, если имѣютъ на себѣ зеленые листья
(бамбукъ сухой, по вѣрованію китайцевъ, не отгоняетъ, а, напро-
тивъ, привлекаетъ злыхъ духовъ). Пучки аирника и полыни,
повѣшенные въ 5-й день 5-го мѣсяца на дверяхъ дома и на во-
ротахъ, отпугиваютъ тѣхъ духовъ, которыми насылаются повѣт-
рія; но эти травы могутъ въ указанное время успѣшно дѣйство-
вать только въ томъ случаѣ, если нарваны предъ разсвѣтомъ того
же дня, до пѣнія пѣтуховъ. Птица и (см. выше), рисуемая очень
часто на носахъ китайскихъ судовъ, охраняетъ послѣднія отъ
того вреда, который могутъ причинять имъ злобные духи водъ.
Обычаи, соединяемые съ днемъ новаго года, а именно кропить
комнаты персиковымъ отваромъ, мазать ворота и двери дома
кровью убитой бѣлой собаки, вѣшать у входа въ домъ баранью
голову, убитаго пѣтуха (или его изображеніе) и прилѣплять къ
главнымъ домовымъ дверямъ бумагу, на которой (между прочимъ)
нарисованъ тигръ, равно какъ обыкновеніе привязывать къ две-
63
рамъ и къ окнамъ ивовыя вѣтви 5-го числа 5-го мѣсяца и въ
день весенняго равноденствія—истекаютъ изъ вѣры китайцевъ,
что персиковое дерево, ива, собака, баранъ, тигръ и пѣтухъ
страшны для всѣхъ вообще злыхъ духовъ. Что касается при-
чинъ, по которымъ извѣстныя растенія и животныя признаны
могущими отражать нечистую силу, то ихъ много. Не перечисляя
всѣ таковыя причины (это было бы неумѣстно, да и невозможно),
укажемъ на главнѣйшія изъ нихъ. Почему злые духи страшатся,
напр., ивы и пѣтуха? Потому что нечистая, темная сила не вы-
носитъ свѣта, а не вынося его, боится солнца, какъ главнаго
источника свѣта, боится затѣмъ и символовъ солнца (а таковыми,
какъ уже извѣстно читателямъ, китайцы и признаютъ иву и пѣ-
туха). Въ чемъ основа вѣрованія, что на злыхъ духовъ наво-
дятъ ужасъ, напр., персиковое дерево и тигръ1} Въ древней ле-
гендѣ, повѣствующей слѣдующее. Нѣкогда жили два брата, Ту-
юй (382) и Юй-лэй (383), которые были облечены властію со-
бирать къ персиковому дереву на (баснословной) горѣ Ду-со (384)
всѣхъ злобныхъ духовъ и производить ревизію ихъ дѣятельности;
тѣхъ духовъ, которые, по этой ревизіи, оказывались приносив-
шими вредъ людямъ, братья связывали и бросали въ пищу ти-
грамъ. Почему духи повѣтрій бѣгутъ, напр., отъ аирника и по-
лыни? Потому что эти растенія обладаютъ сильнымъ запахомъ,
невыносимымъ для духовъ (а собственно, противодѣйствующимъ
вліянію міазмовъ). Такимъ образомъ усматриваются три главнѣй-
шія причины той вѣры китайцевъ, о которой идетъ рѣчь въ на-
стоящей рубрикѣ, а именно: символическая связь однихъ растеній
и животныхъ съ солнцемъ; метонимическая связь другихъ съ
образами защитниковъ человѣчества, измышленныхъ баснословіемъ;
сила нѣкоторыхъ растительныхъ организмовъ, по ихъ натураль-
нымъ свойствамъ, ограждать человѣка отъ того, чтб народная
фантазія приписываетъ дѣйствію злыхъ духовъ. Впрочемъ, если
мы не ошибались, рѣшая вопросъ о томъ, почему ива и пѣтухъ
считаются символами солнца, то первая причина не должна быть
отдѣляема отъ второй.
9) Китайцы усматриваютъ въ нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ обык-
64
иовѳнныхъ животныхъ и въ самомъ появленіи рѣдкостныхъ или
чудесныхъ растеній и животныхъ предвѣстіе того, что должно
совершиться, или засвидѣтельствованіе того, что уже совершается
на землѣ. Сказанное могутъ уяснить нижеслѣдующіе примѣры.
Крикъ совы предвѣщаетъ смерть кого-либо въ томъ районѣ, гдѣ
этотъ крикъ слышенъ. Кукованье кукушки предвѣщаетъ разлуку
тому, кто слышитъ его первымъ. Карканьемъ вороны предвѣ-
щается несчастіе (услышавъ карканье вороны, китаецъ нерѣдко
откладываетъ то дѣло, къ которому готовъ былъ приступить).
Бѣда грозитъ семейству, при домѣ котораго есть пѣтухъ, поющій
въ 10 или въ 11 часовъ вечера (такой пѣтухъ обыкновенно бы-
ваетъ убиваемъ). Если пѣтухомъ поетъ курица, это, смотря по
направленію головы ея, можетъ быть предвѣстіемъ и худаго, и
хорошаго. Щебетомъ сороки предвѣщается радостное событіе, и
для названія этой птицы, какъ благовѣщей, китайцы пользуются
комбинаціею словъ шэнь (385), „добрый духъ", и нюй (386),
„дѣвица" (слова шэнь-нюй обозначаютъ, замѣтимъ, также ла-
сточку); тому семейству, возлѣ дома котораго сорока свилі себѣ
на деревѣ гнѣздо, предстоитъ счастіе (понятно отсюда, почему
китайцы никогда не раззоряютъ сорочьихъ гнѣздъ). Если къ
идущему человѣку пристала чужая собака, это—предвѣстіе, что
онъ сдѣлается богатымъ (замѣтимъ, между прочимъ, что вой со-
баки считается предвѣстіемъ запустѣнія того дома, при которомъ
она живетъ). Если къ человѣку пристанетъ чужая кошка, то его
ожидаетъ бѣдность. Кто увидитъ пробѣгающую по комнатѣ мышь,
тому предстоитъ счастіе. Что касается рѣдкостныхъ экземпляровъ
животнаго царства, то появленіе однихъ (напр., бѣлаго оленя,
бѣлаго волка, бѣлой обезьяны, бѣлой черепахи, краснаго зайца,
краснаго дикаго гуся, зеленаго ворона) китайцы считаютъ доб-
рымъ предзнаменованіемъ, а появленіе другихъ (напр., красной
лисицы, волосатой черепахи)—предвѣстіемъ бѣдъ. Чудесныя (соз-
данныя, конечно, фантазіею) растенія выростали на территоріи
Срединнаго царства, какъ гласятъ китайскія легенды, един-
ственно въ тѣ времена, когда имперія была управляема особенно
мудрыми и добродѣтельными государями. Напомнимъ читателямъ,
65
чтд говорилось выше объ акаціи ли-цзя, о травѣ чжи-нинъ-цао,
о вѣеровидномъ растеніи ша; прибавимъ къ этому, что при дворцѣ
императора Яо расло также чжи (387), растеніе, могущее, по
вѣрованіямъ китайцевъ, продолжать жизнь людей, принимающихъ
его въ пищу. Чудесныя животныя появляются на землѣ, какъ
думаютъ китайцы, либо въ предвѣстіе народнаго благоденствія,
либо въ предвѣстіе бѣдъ, грозящихъ имперіи. Такъ, напр., по-
явленіе бѣлой девятихвостой лисицы —знакъ благовѣщій. Когда
появляется чжу-ноу (388), животное, подобное лисицѣ, но снаб-
женное рыбьими плавниками, то слѣдуетъ ожидатѣ войны. Жи-
вотное юй (389), кричащее какъ ребенокъ, предвѣщаетъ потопъ,
а четырекрылый змѣй минъ-шэ (390), издающій звуки, предвѣ-
щаетъ сильную засуху. Пышныя, похожія одновременно и на фа-
зана, и на павлина, птицы фынъ-хуанъ (391) *) показывались
на землѣ, какъ гласятъ баснословныя китайскія легенды, въ тѣ
времена, когда имперіею управляли особенно добродѣтельные го-
судари или когда слѣдовало ожидать рожденія таковыхъ. При
подобныхъ же условіяхъ и въ предвѣстіе того же появлялись на
землѣ и животныя ци-линь (392) **), имѣвшія, будто бы, оленье
туловище, волчью шею, коровій хвостъ, лошадиныя копыта и
единственный рогъ на головѣ. Легенда повѣствуетъ, что когда
Конфуцій, • незадолго до своей смерти, призналъ въ звѣрѣ,
пойманномъ на охотѣ Лускимъ княземъ, ($к-) линя, то, въ виду
очень низкаго уровня, на которомъ стояла нравственность его
современниковъ, былъ пораженъ неожиданностью появленія этого
животнаго и словами: „поймали (ци-) линя“ закончилъ свой по-
слѣдній литературный трудъ.
♦) Отдѣльно фынъ—названіе самца, а хуанъ—самки; китайцы обыкно-
венно соединяютъ оба слова, когда идетъ рѣчь объ этой птицѣ.
Отдѣльно ци—названіе самца, а линь—самки; китайцы всего чаще
обозначаютъ это животное вмѣстѣ обоими словами.
5
ГЛАВА V.
Существованіе души въ тѣлѣ человѣка.—Временный уходъ души изъ тѣла.—
Бытіе души человѣка по окончаніи ьемной его жизни.
Человѣкъ, какъ и всѣ существующія въ мірѣ индивидуаль-
ности, порождается взаимодѣйствіемъ Янъ и Инь, элементовъ дуа-
лизма природы; для произведенія на свѣтъ человѣка, Янъ п
Инь, по миѳо-поэтическимъ взглядамъ китайцевъ, должны комби-
нироваться въ наилучшей гармоніи. Съ одной стороны, не выдѣ-
ляя человѣка изъ ряда животныхъ, а съ другой,—ставя его пре-
выше ихъ, китайцы положили различіе между дѣйствующими въ
немъ ци (393) и линъ (394). Щи собственно значитъ „воздухъ",
„дыханіе", „жизненная сила" Пока сердце человѣка бьется,
пока легкія его работаютъ, до тѣхъ поръ онъ живетъ, т. е. имѣ-
етъ ци; когда дыханіе останавливается, когда жизнедѣятельность
прекращается, онъ понимаетъ видъ недвижимаго трупа. Линъ—
это душа въ нашемъ смыслѣ слова.
Рождейіе человѣка китайцы уподобили выростанію травы.
Іероглифъ шэнъ (395), выражающій понятія „рождать", „ро-
диться", представляетъ землю (396), изъ которой выходитъ ро-
стокъ (397). Іероглифъ чу (398), „беременная женщина", со-
ставленъ изъ нюй (399), „женщина", и чу (400), „трава (сѣно)".
Но отчего родится трава? Оттого, что на землю, великую произ-
водительницу, падаетъ плодотворный дождь. Уподобляя рожденіе
человѣка выростанію травы, китайцы выразили понятіе о линъ,
т. е. душѣ, іероглифомъ, скомбинированнымъ изъ элементовъ, въ
отдѣльности обозначающихъ „капли дождя" (401) и „закли-
натель" (402), вызывающій дождь. Въ виду того, что послѣд-
76
ній іероглифъ вь данномъ случаѣ замѣняетъ собою первоначально
употреблявшійся іероглифъ юй (403), „яшма", „драгоцѣнный
камень", „драгоцѣнность", понятною становится мысль, которую
древній китайцъ хотѣлъ выразить іероглифомъ линъ, а именно:
„какъ слѣдствіемъ того, что дождь орошаетъ землю, являются
растенія, такъ слѣдствіемъ соитія мужчины и женщины является
ребенокъ, одаренный душею, какъ драгоцѣнностію" Душа, отли-
чающая человѣка отъ животныхъ,—это даръ свыше ниспослан-
ный, это даръ неба.
Душу, какъ даруемую небомъ, зарождающійся человѣкъ по-
лучаетъ незримо. Но фантазія народная допускаетъ и тѣ случаи,
когда осѣненіе свыше совершалось явственно,—отсюда легенды о
необыкновенныхъ, чудесныхъ зачатіяхъ. Вотъ, напр., что раз-
сказывается о рожденіи знаменитѣйшихъ дѣятеляхъ древней ки-
тайской исторіи. Мать императора Фу-си зачала, когда наступила
на слѣдъ какого-то великана и когда была окружена радугою.
Мать императора Шэнь-нуна зачала отъ наитія шѳнь-лунъ, т. е.
„духа-дракона" Мать императора Хуанъ-ди зачала отъ свѣта
молніи, которая охватывала одну изъ звѣздъ Большой Медвѣ-
дицы. Мать императора Шао-хао зачала, когда видѣла во снѣ,
что въ нее спустилась радужная звѣзда. Мать императора Чжу-
ань-сюй зачала отъ звѣзды радужнаго цвѣта, которая казалась
проходившею чрезъ луну. Мать императора Яо зачала отъ под-
летѣвшаго къ ней краснаго дракона. Мать Ци (своднаго брата
Яо), родоначальника государей династіи Шанъ, зачала, прогло-
тивъ пятицвѣтное яйцо темной птицы. Мать Ци (другого свод-
наго брата Яо), родоначальника государей династіи Чжоу, зачала
оттого, что наступила на слѣдъ какого-то великана. Мать импе-
ратора Шуня зачала отъ радуги. Мать императора* Юя, положив-
шаго (въ 2205 г. до Р. X.) основаніе Ся, первой династіи въ
Китаѣ, видѣла падающую звѣзду, отъ мысли о которой зачала,
послѣ того какъ проглотила перлъ (посланный однимъ изъ духовъ).
Отчего, при одинаковости общихъ условій рожденія людей,
существуетъ различіе между послѣдними по темпераментамъ? От-
того, какъ думаютъ китайцы, что каждый индивидуумъ рождается
68
подъ преобладающимъ вліяніемъ одной изъ пяти планетъ, при-
веденныхъ народною фантазіею въ соотвѣтствіе (см. главу вто-
рую) съ пятью элементами, которымъ, въ свою очередь, соотвѣт-
ствуютъ пять ци (393), „воздуховъ“, т. е. основныхъ качествъ
(землѣ свойственна сырость, огню—жаръ, водѣ—холодъ, дереву—
теплота, металлу—прохлада).
Обозначивъ душу, какъ даруемую человѣку свыше, словомъ
линъ, китайцы дали душѣ, какъ самостоятельно существующей
по смерти тѣла, названіе гуй (404) и, дифференцируя понятіе
о пей (а въ то же время усложняя добавочными элементами са-
мый іероглифъ гуй), установили различіе между по (405), „ду-
шею (какъ животворящею человѣка)*, и хунь (406), „духомъ
(какъ разумнымъ началомъ въ человѣкѣ)* Люди, при своемъ
рожденіи, не одновременно получаютъ душу и духъ: хунь спу-
скается въ зарождающагося человѣка тогда, когда ему сдѣла-
лась уже присущею по. Миѳо-поэтически китайцы уподобляютъ
жизнь человѣка горѣнію свѣчи: тѣло — это свѣтильня, по —
огонь, а хунь—свѣтъ огня. Пока человѣкъ живетъ, до тѣхъ поръ
„горитъ* его по, — отсюда обычаи китайцевъ, подобные ниже-
слѣдующему. Въ комнатѣ новобрачной ставятъ на первую ночь
двѣ одинаковыя по величинѣ зажженныя свѣчи; смотря по тому,,
будутъ-ли эти свѣчи горѣть ровно или одна скорѣе другой, бу-
дутъ-ли отекать или нѣтъ, будутъ-ли издавать трескъ, прого-
рятъ ли всю ночь или же которая-либо погаснетъ ранѣе утра,
дѣлается заключеніе о продолжительности жизни мужа и жены,
равно какъ о радостяхъ и печаляхъ, имъ предстоящихъ и могу-
щихъ вліять на ихъ душу.
* Долго-ли душа, ниспосланная свыше, должна пребывать въ
тѣлѣ человѣка? Это зависитъ отъ тянь-минъ (407), „воли неба*
(небеснаго владыки), или „судьбы*; продолжительность жизни—
это тянь-нянь (408), т. е. „(количество) лѣтъ, небомъ (чело-
вѣку предопредѣленное)* Здѣсь не мѣсто слѣдить за постепен-
ною дифференціею первоначальнаго понятія о судьбѣ и говорить
о такихъ духахъ судьбы, какъ, напр., ІПэ-лэй (409) или Цинь-
лэй (410); неумѣстно распространяться и о той изъ тянь-цао-
69
сы-сы (411), „четырехъ небесныхъ управъ", которая, по вѣро-
ванію даосовъ, завѣдуетъ жизнію людей. Срокъ, опредѣленный
небомъ для жизни человѣка, принимается китайцами только какъ
максимальный, — человѣкъ можетъ прожить и менѣе, чѣмъ ему
назначено, можетъ, даже при отсутствіи постороннихъ, случайныхъ
причинъ смерти, укорачивать свой вѣкъ неумѣренностію, несдер-
жанностію страстей, пороками. Эти, такъ сказать, внутреннія при-
чины смертности человѣка даосы объясняютъ пребываніемъ въ тѣлѣ
человѣческомъ трехъ особыхъ существъ, называемыхъ сань-ши (412).
Послѣднія имѣютъ видъ 3-дюймовыхъ младенцевъ. Они, съ одной
•стороны, всячески стараются разжигать страсти человѣка, а съ
другой—доносятъ о поведеніи его высшему небоправителю Шанъ-ди,
который, сообразуясь съ этими докладами, будто бы и сокращаетъ
ранѣе опредѣленный срокъ человѣческой жизни. Насколько вѣра
въ бытіе сань-ши обусловлена общими миѳо-поэтическими взгля-
дами народа китайскаго на жизнь человѣка, это остается пока еще
не выясненнымъ; однако слѣдуетъ замѣтить, что имѣетъ довольно
большую распространенность обычай проводить безсонными тѣ ночи
(по одной въ каждые 60 сутокъ), въ которыя сань-ши, оставляя
тѣло спящаго человѣка, возносятся на небо для докладовъ Шанъ-ди.
Еслибы человѣкъ не сокращалъ своей жизни, то могъ бы
прожить все максимальное количество лѣтъ, небомъ ему опредѣ-
ленное. А какіе извѣстны крайніе предѣлы этого количества? Фан-
тазія китайцевъ допускаетъ существованіе людей, не только жив-
шихъ очень долго, но даже избѣжавшихъ смерти; допускаетъ при
этомъ существованіе разнаго рода средствъ и условій, пользуясь
которыми или при которыхъ вообще всѣ люди могутъ (не въ про-
тивность, конечно, волѣ верховнаго небоправителя) достигать долго-
лѣтія и тѣлеснаго безсмертія. Сказанное подтвердится и уяснится
нижеслѣдующими примѣрами. О знаменитомъ чудодѣѣ Сянь-юань-
цзи (413), могшемъ будто бы появляться одновременно въ раз-
ныхъ мѣстахъ, чудеснымъ образомъ исцѣлять болѣзни, превращать
людей изъ одной формы въ другую, разсказываютъ, что онъ про-
жилъ нѣсколько сотъ лѣтъ, прежде чѣмъ появился при дворѣ го-
сударя Сюань-цзуна (въ половинѣ IX в. по Р. X.). Нѣсколько
70
сотъ лѣтъ, какъ говорятъ, жилъ и Ванъ-сюй (414), извѣстный
философъ, называемый по мѣсту его жительства Гуй-гу-цзы (415),
крторый словесно и письменно распространялъ свое ученіе въ IV в.
до Р. X. Нѣкто Ванъ-чжи (416), пользующійся большимъ по-
четомъ у даосовъ, однажды отправился, какъ гласитъ легенда, въ
горы рубить дрова и, зайдя случайно въ пещеру, увидалъ въ ней
нѣсколькихъ старцевъ, игравшихъ въ шашки; положивъ свой топоръ,
Ванъ-чжи сталъ смотрѣть на игру и не замѣчалъ, какъ проходило
время; когда одинъ изъ старцевъ напомнилъ Ванъ-чжи, что ему
пора возвратиться домой, тотъ взялъ топоръ, у котораго топо-
рище оказалось уже сгнившимъ, и отправился къ оставленному
семейству, но, придя на мѣсто своего жительства, не нашелъ
уже никого изъ своихъ родственниковъ и понялъ, что истекло
нѣсколько столѣтій съ тѣхъ поръ, какъ онъ отправился въ горы.
О Лю-чэнѣ (417) разсказываютъ, что онъ съ другомъ своимъ
Юапь-чжао (418), отправившись (во второй половинѣ І-го вѣка
по Р. X.) на гору Тянь-тай собирать лѣкарственныя травы и
заблудившись въ горныхъ отрогахъ, зашелъ случайно въ жилище
двухъ какихъ-то неизвѣстныхъ красавицъ; послѣднія весьма ра-
душно приняли друзей и, угостивъ ихъ кашею изъ льняного сѣ-
мени, согласились раздѣлить съ ними ложе; когда друзья, рас-
простившись съ красавицами, пришли домой, то узнали, что смѣ-
нилось уже семь поколѣній' съ тѣхъ поръ, какъ они отправились
на гору. Ученый даосъ Ли-чжэнь (419), снискавшій извѣстность
въ XI в. по Р. X., называется по количеству лѣтъ, будто бы
имъ прожитыхъ, Ли-па-бо (420), т. е. „800(-лѣтнимъ) Ли“.
Пэнъ-цзу (421), правнукъ древняго императора Чжуань-сюя,
имѣвшій, какъ гласитъ легенда, 767 лѣтъ отъ роду при цачалѣ
Чжоуской династіи (въ 1122 г. до Р. X.), видался буд-
то бы и могъ бесѣдовать съ государемъ Му-ваномъ (начавшимъ
править въ 1001 г. до Р. X.). Нѣкто Бо-ши-шэнъ (422), со-
временникъ Пэнъ-цзу, жилъ, какъ разсказываютъ, болѣе 2.000
лѣтъ. Легенда повѣствуетъ, что Ванъ-цяо (423), сынъ Чжоу-
скаг) императора Линъ-вана (571—545 г. до Р. X.), живымъ
вознесся па небо на бѣломъ журавлѣ. Живымъ, по легендѣ, уле
71
тѣлъ (въ 14 г. до Р. X.) на небо на разноцвѣтной птицѣ луань
(см. гл. IV) и Мѣй-фу (424), правитель города Нань-чана, тщетно
старавшійся обратить вниманіе государя на честолюбивые замыслы
Ванъ-мана, сдѣлавшагося впослѣдствіи узурпаторомъ император-
скихъ прерогативъ. Разсказываютъ, что живымъ поднялся на небо
и Ань-ци-шэнъ (425), прожившій на землѣ будто бы 1.000 лѣтъ
и надоумившій знаменитаго императора Цинь-ши-хуанъ-ди отпра-
вить экспедицію для отысканія такъ называемыхъ „острововъ
безсмертныхъ людей" Знаменитый (въ VI вѣкѣ до Р. X.) игрокъ
на флейтѣ, Сяо-ши (426), живымъ, какъ гласитъ легенда, уле-
тѣлъ па небо на драконѣ; Лунъ-юй (427), жена Сяо-ши, дочь
цзиньскаго князя Му, послѣдовала за своимъ мужемъ возсѣвъ на
феникса. О Сюй-сунь (428) сообщается, что, будучи при импе-
раторѣ У-ди (263-290 г. по Р. X.) правителемъ округа, онъ
благодѣтельствовалъ народу; что потомъ онъ переѣзжалъ изъ про-
винціи въ провинцію, укрощая ядовитыхъ пресмыкающихся и со-
вершая множество чудесъ; что, наконецъ, достигнувъ 136-лѣт-
няго возраста, онъ вознесся на небо со всѣмъ своимъ семействомъ
и даже домашними собаками и птицами. Не приводя другихъ при-
мѣровъ, скажемъ далѣе, что свойство продолжать жизнь людей
приписывается коричному и персиковому деревьямъ, аирнику (см.
о немъ въ главѣ IV) и въ особенности чудесному растенію ду-яо
(429); что долголѣтіе суждено тѣмъ людямъ, которые, напр.,
имѣли счастіе увидать двѣ скрытыя звѣзды Большой Медвѣдицы
(въ существованіе таковыхъ звѣздъ вѣрятъ китайцы) или узнать
имена женъ духовъ, правящихъ девятью (по китайскому счету)
звѣздами того же созщЬздія; что долголѣтіемъ награждаетъ лю-
дей, сообразуясь съ ихъ заслугами, духъ, обитающій на звѣздѣ
южнаго полюса, называемой шоу-синъ (430), или лао-жэнь-синъ
(431). Что касается тѣлеснаго безсмертія, то его достигаютъ
люди, удостоившіеся вкушать плоды бу-сы-шу (432), „древа без-
смертія", или бу-сы-цао (433), „траву безсмертія", равно какъ
удостоившіеся пить воду источниковъ Сюань-цюань (434) (на-
ходящагося на горѣ Хэнъ-шань) и Дань-цюань (435) (находя-
щагося въ провинціи Ху-бэй) и бай-шуй (436), т. е. „бѣлую
72
ноду“ (вытекающую изъ миѳической горы Кунь-лунь). Было бы
неумѣстно распространяться здѣсь о „жизненномъ элексирѣ", „на-
питкахъ безсмертія" и „пилюляхъ безсмертія", которые изобрѣ-
тались алхимиками-даосами; скажемъ только, что усилія послѣд-
нихъ подыскать средства, могущія спасти человѣка отъ смерти,
находятся въ тѣсной связи съ тѣми воззрѣніями на возможную
продолжительность человѣческой жизни, основою для которыхъ по-
служила миѳо-поэтическая фантазія народа китайскаго.
Жить сотни лѣтъ или живыми возноситься на небо — это
удѣлъ немногихъ, избранныхъ людей. Удѣломъ людей обыкно-
венныхъ является смерть, въ моментъ которой происходитъ, какъ
принято говорить, разлученіе души съ тѣломъ. Что усматриваетъ
фантазія китайцевъ въ феноменѣ человѣческаго бытія, называе-
момъ смертію? Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, скажемъ,
что китайцы считаютъ душу существомъ, не зависящимъ отъ тѣла
и могущимъ оставлять послѣднее на болѣе или менѣе продолжи-
тельное время, когда ей вздумается. Что же послужило для ки-
тайцевъ поводомъ къ вѣрѣ въ возможность для души временно
покидать тѣло, въ которомъ она живетъ? Не что иное, какъ сонъ,
летаргія и тому подобныя состоянія человѣка. Во время сна
ни дыханіе, ни другіе процессы организма не прекращаются, а
между тѣмъ человѣкъ не только не сознаетъ, чтб происходитъ
вокругъ него, но нерѣдко душою своею какъ бы присутствуетъ
въ другихъ мѣстахъ, среди другихъ лицъ и предметовъ. Нѣтъ
ничего удивительнаго, если простой умъ, полагая различіе между
жизненною силою и душою, объясняетъ сонъ временнымъ уходомъ
душй изъ тѣла, а сновидѣнія — тѣмъ, что жизнедѣятельность
ушедшей души продолжается, но только въ другой обстановкѣ
и при другихъ условіяхъ. Отсюда понятно, почему въ китай-
скомъ языкѣ глаголъ „проснуться" можетъ быть описательно вы-
раженъ словами мэнъ-хой (437), изъ которыхъ первое значитъ
„сновидѣніе", а второе—„возвратиться",—когда душа прихо-
дитъ изъ тѣхъ мѣстъ, которыя служили для нея ареною снови-
дѣній, и опять вступаетъ въ тѣло спящаго человѣка, тогда онъ
и пробуждается. Замѣтимъ при этомъ, что есть, какъ думаютъ
73
китайцы, возможность давать душѣ, оставляющей сонное тѣло и
отправляющейся въ другія мѣста, желаемое направленіе. Отсюда
вѣра, что душа человѣка непремѣнно посѣтитъ царство мертвыхъ
и узнаетъ будущее, если онъ, передъ тѣмъ какъ лечь спать,
выпьетъ фу-шуй (438), т. е. наговорной воды. Отсюда же до-
вольно распространенный въ Китаѣ обычай,’ по которому въ се-
мейство, желающее, въ виду тяжкой болѣзни одного изъ своихъ
членовъ, предполагаемаго брака и тому подобныхъ обстоятельствъ,
узнать, чтб думаютъ объ этомъ усопшіе предки, приглашается
одна изъ сянь-по (439), особыхъ чародѣекъ, способныхъ, пря
помощи извѣстнаго рода заклинаній, впадать въ глубокій сонъ
и могущихъ, будто бы, во время послѣдняго уходить душою въ
царство мертвыхъ для бесѣдъ съ тѣми или другими усопшими *).
Не полагая существеннаго различія между сномъ обыкновеннымъ
и летаргическимъ, равно какъ между сномъ и разнаго рода бо-
лѣзненными состояніями, по видимости'ему подобными, фантазія
китайцевъ одинаково объясняетъ все это временнымъ уходомъ
души изъ тѣла, — отсюда множество повѣстей и разсказовъ о
людяхъ, сохранявшихъ въ тѣлѣ болѣе или менѣе продолжитель-
ное время безсознательную жизненную силу, а душою (нерѣдко
воплощавшеюся въ другія формы) жившихъ и дѣйствовавшихъ въ
иныхъ мѣстахъ. Месмеризмъ, скажемъ въ заключеніе, китайцы
объясняютъ тѣмъ, что душа человѣка, подвергаемаго опыту, остав-
ляетъ тѣло, и это послѣднее принимаетъ въ себя духъ какого-
либо усопшаго месмерика; ушедшая душа возвращается въ тѣло
не ранѣе, какъ по прекращенію месмерическаго сна.
Что же усматриваетъ фантазія китайцевъ въ феноменѣ чело-
вѣческаго бытія, называемомъ смертію? Глаголъ „ умереть “ мо-
*) У китайцевъ существуетъ, между прочимъ, вѣрованіе, что сянь-по,
приглашаемая въ домъ, дѣлается совершенно неспособною сообщаться съ усоп-
шими, если посажена въ комнатѣ, въ которой лежатъ какія-либо изъ книгъ
конфуціанскаго канона; способность чародѣекъ парализуется, будто бы, преиму-
щественно книгою Да-сё. Это вѣрованіе, замѣтимъ, служитъ хорошимъ ком-
ментаріемъ къ тому, чтб было нами сказано о роли конфуціанства въ ре-
лигіозной жизни китайцевъ (на стр. 207 и 255 труда нашего: «Важность
изученія Китая>).
74
жетъ въ китайскомъ языкѣ описательно выражаться словами цзинъ-
мэй (440), т. е. „спокойно спать", а понятіе „смерть" —словами
чанъ-цинь (441), т. е. „долгій сонъ". Смерть, слѣдовательно,
уподобляется сну. Чѣмъ обусловленъ послѣдній? Уходомъ души
изъ тѣла. Тою же причиною обусловливается и смерть,—вотъ по-
чему въ китайскомъ ’ языкѣ слова ши (442), „уйти", и цзюе
(443), „идти", одинаково значатъ и „умереть", равно какъ
слова цзоу-лё (444) значатъ и „ушелъ", и „умеръ". Какое
же различіе между обыкновеннымъ сномъ и смертію? То различіе,
что, при временномъ уходѣ души, ци (см. выше), т. е. „жизнен-
ная сила", пе оставляетъ человѣка, и послѣдняго можно приве-
сти къ сознанію разными способами, скорѣе же всего громкимъ
произнесеніемъ его имени, а въ моментъ смерти жизнедѣятель-
ность человѣческаго организма прекращается. Но если душа умер-
шаго ушла, то навсегда-ли и не можетъ-ли возвратиться въ без-
дыханное тѣло? Предполагается, что можетъ,—отсюда такіе обы-
чаи китайцевъ, какъ „окликъ" (лишь только человѣкъ умретъ,
одинъ изъ его родственниковъ входитъ въ комнату, гдѣ лежитъ
усопшій, и троекратно, называя его по имени, восклицаетъ: „во-
ротись"!) и маханіе на крышѣ дома одеждою усопшаго для при-
зыва отшедшей души его. Но если душа, призываемая назадъ,
не возвращается, то слѣдуетъ-ли отсюда заключать, что она ни-
когда уже не вселится въ мертвое тѣло? По вѣрованію китай-
цевъ, не слѣдуетъ: при нѣкоторыхъ условіяхъ мертвецы могутъ
и оживать. Китайцы вѣрятъ, напр., что усопшіе воскресаютъ
отъ запаха чудеснаго фань-хунь-шу (445), т. е. „дерева, воз-
вращающаго душу" (объ одномъ изъ растеній, воскрешающемъ
мертвыхъ, говорилось и въ предыдущей главѣ). Китайцы вѣрятъ,
что если черезъ трупъ усопшаго перейдетъ какое-либо беремен-
ное животное, то онъ оживетъ и, набросившись на перваго по-
павшагося человѣка, задушитъ послѣдняго. О даосскомъ фило-
софѣ и писателѣ Вэй-»бо-янъ (446) легенда повѣствуетъ, что
онъ чрезъ нѣсколько времени послѣ смерти ожилъ и воскресилъ
своего усопшаго брата, давъ ему особымъ образомъ приготовленную
чудесную пилюлю. Существуетъ вѣрованіе, что чудодѣй Чжунъ-
75
ли-цюань (447), не разъ будто бы спускавшійся съ неба на по-
кинутую имъ землю, обладаетъ вѣеромъ, помахивая которымъ
можетъ воскрешать мертвыхъ. Если для души допускается воз-
можность опять вселяться въ бездыханное тѣло, то отсюда по-
нятно, почему китайцы принимаютъ всѣ извѣстныя имъ мѣры къ
тому, чтобы предохранять тѣла усопшихъ отъ гніенія, заботятся
объ ихъ цѣлостномъ видѣ, тратятъ много времени на выборъ мѣ-
ста для могилъ и много денегъ на ихъ устройство. Все это, ко-
нечно, не соотвѣтствуетъ тому воззрѣнію, по которому въ мо-
ментъ смерти человѣка его хунь и по (см. о нихъ выше) раз-
лучаются, и первый тотчасъ же восходитъ на небо, а вторая
черезъ 49 дней разсѣевается въ землѣ. Но это воззрѣніе, съ одной
стороны, но есть примитивное и сложилось не на основѣ той
вѣры, которая побуждаетъ китайцевъ заботиться о сохраненіи
тѣлъ покойниковъ, а съ другой, дѣлаетъ какъ бы уступку этой
вѣрѣ, чтб можно заключать изъ разсказовъ, подобныхъ нижеслѣ-
дующему. Тѣ-гуай-сянь-шэнъ (448), чествуемый китайцами какъ
патронъ маговъ и волшебниковъ, былъ преданъ изученію дао-
сизма и, согласно баснословной легендѣ, получалъ наставленія
отъ самого Лао-цзы, который либо самъ по временамъ спускался
на землю, либо призывалъ своего ученика для свиданія на небо.
Однажды Тѣ-гуай-сянь-шэнъ, отправляясь духомъ своимъ къ Лао-
цзы, поручилъ своему ученику охранять свою по, причемъ сооб-
щилъ, что если по истеченіи семи дней его хунь не возвратится,
то матеріальное его существо подвергнется разложенію. По не-
счастію, когда прошло семеро сутокъ съ того момента, когда Тѣ-
гуай-сянь-шэнъ покинулъ землю, стражъ, оставленный при по,
былъ отозванъ къ своей умирающей матери и потому не могъ
долѣе исполнять возложеннаго на пего порученія. Возвратившійся
черезъ семь сутокъ духъ Тѣ-гуай-сянь-шэна нашелъ свою мате-
ріальную форму лишенною жизни и потому вступилъ въ тѣло
только-что умершаго нищаго-калѣки; въ видѣ послѣдняго Тѣ-
гуай-сянь-шэнъ и продолжалъ свою жизнь. Цѣлостность тѣла, по
смыслу приведенной легенды, необходима, слѣдовательно, и при томъ
воззрѣніи, что хунь, разлучившись съ по, возносится на небо.
76
Смерть, по миѳо-поэтическимъ взглядамъ китайцевъ, подобна
сну и обусловливается тѣмъ, что душа выходитъ изъ тѣла, въ
которое можетъ и возвратиться. Но оживать—это удѣлъ немно-
гихъ, а души обыкновенныхъ людей, какъ свидѣтельствуетъ фак-
тическая очевидность, не возвращаются уже въ покинутыя тѣла.
Смерть хотя и подобна сну, но не тождественна съ никъ,—въ
моментъ смерти человѣка душа навсегда оставляетъ его тѣло.
На вопросъ, продолжается-ли существованіе отшедшей души, ки-
тайцами всегда былъ даваемъ утвердительный отвѣтъ. Не рас-
пространяясь о причинахъ, побуждавшихъ народъ китайскій при-
знавать посмертное бывшіе души, считаемъ не лишнимъ замѣтить,
что въ ряду таковыхъ было и посильное объясненіе феномена,
называемаго блуждающимъ огнемъ (показывающимся надъ моги-
лами или еще чаще на тѣхъ аренахъ, которыя служили мѣстами
битвъ и мѣстами погребенія павшихъ воиновъ). Этотъ послѣдній
можетъ обозначаться въ китайскомъ языкѣ комбинаціею словъ
гуй (449), „душа усопшаго“, и хо (450), „огонь",—блуждаю-
щій огонь есть душа усопшаго, проявляющая свое бытіе види-
мымъ образомъ въ формѣ выходящаго изъ земли огня. Но если
посмертное существованіе души обнаруживается въ огнѣ, то ѵісе
ѵѳгза и огонь можетъ служить знакомъ, символомъ того, что вы-
шедшая изъ тѣла душа продолжаетъ свою жизнь внѣ облекавшей
ее тѣлесной оболочки,—отсюда обычай китайцевъ ставить около
гроба, въ которомъ лежитъ еще не вынесенный изъ дома повой-
никъ, и предъ могилами при молебствіяхъ усопшимъ зажженныя
свѣчи, равно какъ носить (не всегда, впрочемъ) впереди похо-
ронныхъ процессій зажженные факелы. Имѣя въ виду, что въ
знаменитой конфуціевой лѣтописы Чунь-цю, всякій разъ, когда
нужно выразить мысль о прекращеніи самостоятельнаго существо-
ванія того или другаго удѣла и торжественныхъ молебствій въ
княжескомъ храмѣ предковъ, употребляется слово мѣ (451), „по-
гасить", можно съ большою вѣроятностію предполагать, что въ
древности китайцы (по крайней мѣрѣ люди высокаго ранга) имѣли
обычай поддерживать въ домашнихъ храмахъ предковъ неуга-
саемый огонь.
___77 _
Китайцы, сказали мы, признаютъ, что душа, оставивъ безды-
ханное тѣло, продолжаетъ существовать. Гдѣ же она находится?
Первѣе всего въ той комнатѣ, Гкоторую занималъ усопшій при
жизни и изъ которой трупъ его на время до похоронъ перемѣ-
щенъ (по обычаю китайцевъ) въ главный домовый залъ или даже
въ особо устроенный на дворѣ шатеръ; такъ какъ существуетъ
вѣрованіе, что душа, освободившаяся отъ тѣла, можетъ поражать
смертію живыхъ людей, то дѣти и внуки усопшаго испытываютъ
страхъ входя въ эту комнату, боятся гуй-ша (452), т. е. „(души)
возвращающейся и убивающей Душа усопшаго можетъ быть
водворена въ могилѣ, въ которой покоится его трупъ,—отсюда
мѣры, принимаемыя китайцами при похоронныхъ процессіяхъ къ
тому, чтобы душа покойника слѣдовала за его тѣломъ къ мѣсту
своего новаго жительства, равно какъ общераспространенное въ
Китаѣ примогильное чествованіе усопшихъ. Душа усопшаго мо-
жетъ обитать въ спеціально для нея устроенныхъ и приспособ-
ленныхъ комнатахъ или зданіяхъ,—отсюда у китайцевъ мяо (453),.
т. е. домашнія молельни, въ которыхъ чествуются души усоп-
шихъ предковъ, равно какъ общественные или государственные
храмы, служащіе мѣстомъ чествованія тѣхъ усопшихъ, полезная
дѣятельность которыхъ при жизни ихъ простиралась болѣе или
менѣе широко за предѣлами семейнаго круга. Что души усоп-
шихъ могутъ жительствовать и на небѣ (неопредѣленно представ-
ляемомъ), и на свѣтилахъ небесныхъ, и въ воздушныхъ простран-
ствахъ, и на всѣхъ мѣстахъ земной территоріи, равно какъ быть
воплощенными въ растеніяхъ и животныхъ, объ этомъ говорилось
уже въ предыдущихъ главахъ нашего труда. Считаемъ не лиш-
нимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ и о мѣстахъ жительства
даосскихъ сянь (454), такъ называемыхъ безсмертныхъ, т. е. лю-
дей, души которыхъ освободились отъ тѣла и перешли въ дру-
гой міръ особымъ, чудесныхъ образомъ. Тѣ безсмертные, которые
извѣстны подъ названіемъ ди-сянь (455), т. ѳ. „земныхъ сянь*,
обитаютъ либо въ горныхъ пещерахъ, опредѣленно указываемыхъ
даосами на территоріи Собственнаго Китая и различаемыхъ какъ
10 да-дунъ-тянь (456), „великихъ пещеръ-небесъ*, и 36 сяо-
78
дунъ-тянь (457), „малыхъ пещеръ-небесъ", либо въ 72 гор-
ныхъ же фу-ди (458), т. е. „счастливыхъ (или благословенныхъ)
мѣстахъ", либо на (миѳической) горѣ Кунь-лунь (459), гдѣ въ
волшебныхъ дворцахъ, окруженныхъ садами съ чудесными де-
ревьями (между ними есть и „деревья безсмертія") и источни-
ками живой (т. е. дающей безсмертіе) воды, пребываетъ со шта-
томъ разнаго рода фей богиня Си-ванъ-му (460). Безсмертные,
называемые шэнь-сянь (461), т. е. „духи-сянь", обитаютъ на
Пынъ-лай (462), Инъ-чжоу (463) и Фанъ-чжанъ (464); этими
именами обозначаются находящіеся на восточномъ морѣ и под-
держиваемые чудовищными черепахами (52) ао (о нихъ говори-
лось въ І-й главѣ) три (воображаемые) чудесные острова, на ко-
торыхъ водятся необыкновенныя животныя (см. гл. IV), растутъ
„травы безсмертія" и текутъ источники нектара; надъ обитате-
лями острововъ владычествуетъ имѣющій резиденцію на Пынъ-лаѣ
и считающійся мужемъ богини Си-ванъ-му богъ Му-гунъ (465), или
Дунъ-ванъ-фу (466). Безсмертные, называемые тянь-сянь (467),
т. е. „небесными сянь“, обитаютъ на расположенныхъ этажами
(см. гл. I) небесахъ; нѣкоторые изъ этихъ безсмертныхъ, удостоен-
ные богомъ Юй-хуанъ шанъ-ди сана небесныхъ стратеговъ, обле-
чены особыми прерогативами и являются властителями въ боль-
шемъ или меньшемъ опредѣленномъ для нихъ кругѣ завѣдыванія.
Хотя даосскіе разсказы о безсмертныхъ, весьма многочисленные
и многосодержательные, съ одной стороны стоятъ въ неразрывной
связи съ даосизмомъ, какъ религіозною системою, а съ другой
заключаютъ въ себѣ не мало элементовъ, заимствованныхъ изъ
буддійской миѳологіи, однако нельзя сомнѣваться, что въ эти
разсказы вошло много такихъ матеріаловъ, которые вырабатыва-
лись общенародною фантазіею, придававшею тѣ или другія формы
миѳо-поэтическимъ воззрѣніямъ. Не говоря уже о томъ, что на-
селять горы и небо душами усопшихъ вполнѣ согласуется съ сущ-
ностью примитивной вѣры народа китайскаго, скажемъ, что и
бытіе чудесныхъ острововъ на восточномъ морѣ пѳ представля-
лось для древнихъ китайцевъ невѣроятнымъ,—вѣдь посылались
же (вѣка за три до Р. X.) Чжао, княземъ удѣла Янь, равно
79
какъ впослѣдствіи знаменитымъ императоромъ Цинь-ши-хуанъ-ди
экспедиціи для отысканія этихъ острововъ. Слѣдуетъ имѣть въ
виду, что и богиня Си-ванъ-му, царица Кунь-лунь, является
героинею не исключительно такихъ разсказовъ, которые стоятъ
въ прямой связи съ религіозною системою даосизма,—вѣдь су-
ществуютъ же легенды о томъ, какъ у Си-ванъ-му гостилъ (въ
Х-мъ в. до Р. X.) императоръ Му-ванъ, и о томъ, какъ сама
она посѣтила Ханьскаго императора У-ди (140—86 г. до Р. X.)
и преподнесла ему семь персиковъ съ того чудеснаго дерева, ко-
торое даетъ плоды будто бы по одному разу въ 3.000 лѣтъ. Если
мы примемъ во вниманіе, что слово гуй (468), „душа усопшаго14,
китайцы объясняютъ, между прочимъ, глаголомъ гуй (469), „воз-
вращаться"; что понятіе „предки" въ китайскомъ языкѣ можетъ
быть выражаемо словами гу-жэнь (470), „древніе люди"; что
глаголъ „умереть" можно по-китайски замѣнять словами гуй-
гу (471), „возвратиться къ древнимъ", и словами гуй-си (472),
„возвратиться на западъ"; что, наконецъ, всѣ косвенныя ука-
занія исторіи свидѣтельствуютъ о западномъ происхожденіи на-
рода китайскаго, распространившагося постепенно по территоріи
Собственнаго Китая, то не покажется страннымъ, если мы до-
пустимъ, что Кунь-лунь, какъ мѣсто райскихъ блаженствъ, сталъ
играть роль въ системѣ даосизма не столько по причинѣ связи
послѣдняго съ буддійскою миѳологіею, сколько по причинѣ за-
хвата имъ и развитія тѣхъ вѣрованій, которыя (хотя бы и въ
плохо оформленномъ видѣ) существовали уже въ народной массѣ.
Вѣря, что души усопшихъ продолжаютъ свое существованіе
въ тѣхъ или другихъ мѣстахъ, китайцы вѣрятъ также, что души
могутъ заявлять о своемъ бытіи и даже являться живымъ лю-
дямъ. Скажемъ прежде всего, что случаи, когда спящій чело-
вѣкъ видитъ во снѣ усопшихъ какъ бы живыми, очень часто
истолковываются китайцами въ томъ смыслѣ, что души, освобо-
дившіяся отъ тѣлесной оболочки, облеклись въ призрачную форму
и предстали предъ спящимъ какъ объекты сновидѣнія. Скажемъ
далѣе, что китайцы допускаютъ для душъ усопшихъ возмож-
ность вселяться въ тѣло живаго человѣка. Этою возможностію
80
объясняются у китайцевъ и месмеризмъ (о чемъ уже говорилось
выше), и случаи разнообразныхъ прорицаній живыми людьми;
она же, конечно, полагалась въ основу того древняго обычая,
по которому дѣти или внуки усопшихъ, представляя собою по-
слѣднихъ, являлись подъ названіемъ ши (473), т. ѳ. „ труповъ
видимыми объектами семейнаго чествованія. Китайцы вѣрятъ, что
душа усопшаго можетъ показываться живымъ людямъ воплощен-
ною (призрачно или будто бы даже и реально) въ покинутую
ею тѣлесную форму. Изъ нескончаемаго ряда легендъ, въ кото-
рыхъ выражается эта вѣра, позволимъ себѣ привести здѣсь хотя
двѣ, чтобы читатели могли судить, въ какой степени велика жи-
вость народной фантазіи. Одинъ молодой кантонецъ былъ назна-
ченъ командиромъ солдатъ на кораблѣ, принадлежавшемъ фуч-
жоускому арсеналу. Вскорѣ послѣ своего вступленія въ должность
командиръ заболѣлъ и умеръ, не будучи еще женатымъ. Во время
болѣзни онъ оставался въ домѣ своего близкаго друга, который
былъ компрадоромъ одной иностранной фирмы въ Фу-чжоу. Когда
командиръ умеръ, то духъ его очень часто являлся компрадору.
Однажды ночью этотъ послѣдній видитъ, что усопшій стоитъ
около его постели и плачетъ. Желая утѣшить своего пріятеля,
компрадоръ сказалъ ему: „молодой человѣкъ! Тебѣ не слѣдуетъ
рыдать, нужно примириться съ судьбою" Духъ исчезъ и съ этого
времени пересталъ посѣщать домъ компрадора. Матросы корабля
очень часто видали, какъ ихъ усопшій командиръ прохаживался
по палубѣ, а иногда и отдавалъ приказанія. Если въ приведен-
ной легендѣ душа усопшаго представлена реализовавшеюся въ
формѣ призрака, то легенда нижеслѣдующая идетъ гораздо да-
лѣе этого. Отецъ генерала Вэй-ко (въ VI в. до Р. X. въ удѣлѣ
Цзинь), умирая, просилъ своего сына, чтобы онъ взялъ себѣ въ
жены его (отца) любимую наложницу. Вэй-ко исполнилъ волю
родителя. Нѣсколько времени спустя Вэй-ко, вступивъ въ сра-
женіе съ Ту-хой, разбилъ его и самого взялъ въ плѣнъ,—бла-
годаря какому-то старцу, который, явившись на полѣ битвы, свя-
залъ между собою стебли травы столь крѣпко, что она послу-
жила препятствіемъ для обратившихся въ бѣгство. Старецъ явился
81
потомъ генералу во снѣ и сказалъ: „я отецъ наложницы, кото-
рую ты, исполняя свой долгъ, взялъ себѣ въ жены; я, такимъ
образомъ, наградилъ тебя“. Въ связи съ нами разсматриваемымъ
вѣрованіемъ китайцевъ стоитъ и вѣра ихъ въ шань-цинъ-гуй (474).
Такъ называютъ живаго человѣка, который,, чтобы отмстить дѣй-
ствіемъ своему врагу и не быть въ то же время замѣченнымъ,
становится по ночамъ невидимкою, для чего предварительно и
спитъ нѣсколько ночей подрядъ въ гробу, выкопанномъ изъ мо-
гилы и освобожденномъ отъ трупа покойника. Скажемъ далѣе,
что китайцы допускаютъ для душъ усопшихъ возможность яв-
ляться предъ живыми людьми въ формѣ разнаго рода чудовищ-
ныхъ оборотней; повѣствованій, сюда относящихся, циркулируетъ
въ средѣ народа китайскаго безчисленное количество. Скажемъ,
наконецъ, что китайцы выработали особые, спеціальные способы,
которыми души усопшихъ могутъ, по общенародному вѣрованію,
быть воплощаемы въ предметы (будь то каменная или деревян-
ная статуя, матерчатая кукла, портретъ покойнаго, табель съ
написаннымъ на ней посмертнымъ именемъ усопшаго), назначае-
мые служить видимыми объектами чествованія въ домашнихъ мо-
лельняхъ или храмахъ. Насколько душа усопшаго, воплотившаяся
въ предметѣ, предполагается способною проявлять свою жизне-
дѣятельность, явствуетъ изъ многочисленныхъ китайскихъ раз-
сказовъ, подобныхъ нижеслѣдующему (помѣщенному, замѣтимъ, въ
Эр-ши-сы-сяо, книжкѣ, съ которою по обычаю обязанъ ознаком-
ляться почти всякій китайскій мальчуганъ). Нѣкто Динъ-лань,
жившій при Ханьской династіи, лишился отца и матери въ дѣт-
ствѣ, когда еще не имѣлъ возможности доставлять имъ пропи-
танія. Когда Динъ-лань пришелъ въ совершенный возрастъ, то,
памятуя о благодѣяніяхъ, полученныхъ отъ родителей, вырѣзалъ
изъ дерева изображенія послѣднихъ и сталъ служить имъ какъ
бы живымъ. Жена Динъ-ланя не питала уваженія къ покойнымъ
свекру и свекрови и однажды въ насмѣшку стала колоть игол-
кою пальцы статуэтокъ. Изъ наносимыхъ дереву ранъ потекла
кровь, и, когда показался Динъ-лань, изъ глазъ изображеній вы-
ступили слезы. Замѣтимъ, между прочимъ, что на вѣрѣ въ воз-
6
Я2
ложность для души усопшаго реально воплощаться въ статуэтки
основанъ и практикуемый китайцами одинъ изъ способовъ узна-
вать мнѣніе усопшихъ родителей или другихъ родственниковъ о
томъ или другомъ важномъ дѣлѣ. Способъ этотъ заключается
въ слѣдующемъ. Въ домъ призываютъ жѳнщину-гадальшицу. Она
ложится и кладетъ на свой животъ принесенный съ собою ма-
ленькій ивовый истуканчикъ, затѣмъ невидимымъ образомъ от-
правляетъ его въ царство мертвыхъ и заставляетъ принять въ
себя душу того усопшаго, съ которымъ желаютъ посовѣтываться.
Когда истуканчикъ исполнитъ то, что ему было приказано, жен-
щина предлагаетъ вопросы касательно интересующаго предмета.
На каждый вопросъ получается утвердительный пли отрицатель-
ный отвѣтъ; но сама гадальщица не открываетъ рта и не го-
воритъ,—звуки выходятъ какъ бы изъ ея желудка. Вопрошающіе
вовсе не подозрѣваютъ чревовѣщанія и думаютъ, что ведутъ бе-
сѣду съ воплотившеюся ѣъ истуканчикъ душою усопшаго.
Вырабатывая убѣжденіе, что души усопшихъ могутъ, вопло-
щаясь въ тѣ или другіе образы, заявлять живымъ людямъ о
своемъ бытіи не только внѣшнею видимостію, но даже дѣйствіями,
словами, пролитіемъ слезъ и пр., китайскій народъ, побуждаемый
потребностію завершать и закруглять свои миѳо-поэтическіе взгляды,
пришелъ къ вѣрѣ, что души умершихъ людей, оставивъ тѣлес-
ныя оболочки, продолжаютъ жить съ тѣми же склонностями, же-
ланіями и пристрастіями, которыя ими ощущались и обнаружи-
вались во время земной жизни. Отсюда обыкновеніе китайцевъ до-
ставлять усопшимъ все необходимое, снабжать ихъ могилы всѣми
предметами житейской обстановки, жертвовать имъ въ извѣстные
сроки яства, напитки, одежды и проч.; отсюда же и обычай по-
гребать съ усопшими властителями прислужниковъ живыми (какъ
бывало въ древнія времена) или изображенными въ формѣ тѣхъ
или другихъ моделей.
Если народная фантазія уподобила существованіе душъ усоп-
шихъ жизни людей, обитающихъ еще на землѣ, то прямымъ слѣд-
ствіемъ этого является вѣра, что души, въ ихъ загробномъ бытіи,
испытываютъ либо довольство, либо стѣсненіе, смотря по тому,
83
полу чаютъ-ли все для нихъ нужное или же терпятъ недостатокъ.
Отсюда „чествовать усопшаго и приносить ему жертвы* по-ки-
тайски значитъ ань-шэнь (475), т. е. „успокоить духъ (усоп-
шаго)®; отсюда же и то, что душамъ усопшихъ, которыя не по-
лучаютъ жертвъ и терпятъ нужду, дается названіе ю-хунь (476),
т. е. „блуждающихъ душъ® (блуждающихъ, конечно, затѣмъ,
чтобы отыскать гдѣ-либо хотя нѣкоторые потребные предметы).
Указанную нами вѣру китайцы развили, наконецъ, въ то вѣро-
ваніе, что души усопшихъ, получающія необходимое и пользую-
щіяся спокойствіемъ, благодѣтельствуютъ живымъ людямъ, а души,
терпящія во всемъ недостатокъ и вынужденныя блуждать, ста-
новятся ли-гуй (477), „злыми душами®, стараются вымещать на
людяхъ свое недовольство и посылаютъ имъ всякаго рода несчастія.
ГЛАВА VI.
Земная жизнь и дѣятельность людей, какъ обусловленныя съ одной стороны
вліяніемъ злыхъ духовъ, а съ другой—покровительствомъ божествъ и духовъ
добрыхъ.
Говоря въ предыдущей главѣ о жизни души человѣка въ его
тѣлѣ, мы не касались тѣхъ особыхъ условій, среди которыхъ, по
миоо-поэтическимъ воззрѣніямъ китайцевъ, люди проходятъ свою
земную карьеру и дѣйствуютъ. Опредѣлить эти условія будетъ
цѣлью настоящей главы нашего труда.
Скажемъ прежде всего, что на здоровье и самую жизнь че-
ловѣка посягаетъ цѣлый сонмъ гуй (478), подъ которыми разу-
мѣются и „злыя души усопшихъ“ (о нихъ была уже рѣчь), и
разнаго рода вообще злые духи. Такъ, напр., лихорадку причи-
няютъ людямъ горные оборотни шань-сяо (246) и обитающій въ
рѣкахъ духъ Ніо-гуй (479), которымъ сдѣлалась душа одного изъ
сыновей древняго императора Чжуань-сюя (о послѣднемъ, какъ
правителѣ планеты Меркурія, мы говорили въ главѣ П-й); го-
рячку причиняютъ горные лѣшіе шань-сао (480), заразительныя
повѣтрія насылаются горными духами чи-мѣй (248), чума—ду-
хомъ Ча (481); нѣтъ, скажемъ кратко, почти ни одной болѣзни,
причину которой китайцы не относили бы къ зловредной дѣятель-
ности тѣхъ или другихъ гуй. Отсюда ясно, почему въ китайскомъ
языкѣ понятіе о болѣзнетворныхъ міазмахъ выражается комбина-
ціею словъ гуй (478) и дань (482), „стрѣляніе шариками изъ
самострѣла “,— злые духи незримо стрѣляютъ въ человѣка и тѣмъ
самымъ наводятъ на него болѣзни. Всѣ виды болѣзненныхъ при-
падковъ и бѣшенства народная фантазія объясняетъ „одержимо-
85
стію", т. е. вступленіемъ въ тѣло человѣка тѣхъ или другихъ
злыхъ духовъ, и, между прочимъ, одинъ изъ видовъ такъ назы-
ваемо! бѣсноватости обозначается іероглифомъ чу (483), скомби-
нированнымъ изъ іероглифовъ гуй (478) и чжи (484), „придти",
„проникнуть",—человѣкъ начинаетъ бѣсноваться, когда въ него
вселился злой духъ. О душѣ человѣка, заѣденнаго тигромъ, ки-
тайцы думаютъ, что она, становясь чанъ-гуй (485), „блуждаю-
щимъ злымъ духомъ", дѣлается склонною и способною подвергать
жизнь людей опасности, наводя ихъ на роковую встрѣчу съ тиг-
рами. Для всякаго, какъ думаютъ китайцы, существуетъ возмож-
ность ѣ-мѣй (486), т- е. причинять, чрезъ посредство злыхъ ду-
ховъ, смерть тому или другому заранѣе намѣченному человѣку и
даже обращать послѣдняго въ какое-либо животное.
Злые духи тревожатъ душевное спокойствіе людей, являются
помѣхою ихъ дѣятельности, посылаютъ имъ всякія бѣдствія. Такъ,
напр., обитающій въ домахъ чертенокъ сяо-гуй (487), братъ духа
лихорадки, Ніо-гуя (см. о послѣднемъ выше), занимается тѣмъ,
что наводитъ страхъ на дѣтей; непріятный взрослымъ людямъ
кошмаръ, янь (488), наводится на нихъ, какъ показываетъ іеро-
глифъ гуй (478), входящій въ составъ іероглифа янь, также ка-
кимъ-либо изъ злыхъ духовъ; все, совершающееся въ присутствіи
человѣка безъ опредѣленной причины,—это гуй-суй'(489), т. е.
„навожденіе злыхъ духовъ (или душъ усопшихъ людей)". Но вда-
ваясь въ дальнѣйшія подробности, скажемъ, что, выражая по-
нятіе „злополучіе", китайцы употребляютъ іероглифъ хо (490),
представляющій комбинацію двухъ іероглифовъ, изъ которыхъ одинъ
(491) значитъ „показывать", а другой (492) значитъ „кривой
ротъ", — злополучіе насылается злымъ духомъ, томящимся голо-
домъ и показывающимъ, какъ знакъ этого, свой искривленный
ротъ; замѣтимъ еще, что понятія „бѣдствіе", „зло" выражаются
іероглифомъ чай (493), въ составъ котораго входятъ іероглифы
гуй (478) и чжэ (494), „тотъ который", „то что",—бѣдствіе
есть то, что насылается злыми духами.
Что же, въ виду разнообразныхъ опасностей, грозящихъ чело-
вѣку со стороны злыхъ духовъ, долженъ дѣлать онъ для своего
86
огражденія*? Первѣѳ всего долженъ устранять ту причину, по ко-
торой духи злобствуютъ. А что побуждаетъ ихъ злобствовать? То
прежде всего, что они не удовлетворены въ ихъ потребностяхъ,
голодны. Отсюда, напр., нижеслѣдующіе обычаи китайцевъ: при
переносѣ невѣсты изъ дома ея отца въ домъ жениха, умилостив-
лять злыхъ духовъ, бродящихъ по пути, кускомъ жареной сви-
нины; при входѣ невѣсты въ домъ жениха сыпать хлѣбъ и го-
рохъ духамъ сань-ша (495), „трехъ убивающихъ“ (подъ кото-
рыми разумѣются духи черной коровы, чернаго барана и чернаго
пѣтуха); приносить, предъ рытьемъ могилы, духу, владѣющему
могильною территоріею, мясо и вино; разбрасывать по дорогѣ, когда,
тѣло усопшаго переносится изъ дома къ могилѣ, золотыя и се-
ребряныя бумажки, представляющія собою деньги, въ жертву ду-
хамъ, могущимъ встрѣтиться на пути; снискивать, при постройкѣ
частныхъ домовъ, (въ особенности) мостовъ и общественныхъ зданій,
жертвуемыми предметами расположеніе тѣхъ неизвѣстныхъ гуй, ко-
торые, предполагается, владѣютъ территоріею, занимаемою подъ
постройку; умилостивлять жертвами души воиновъ, павшихъ на
нолѣ битвы, равно какъ души всѣхъ тѣхъ людей, которые не оста-
вили послѣ себя близкихъ родственниковъ и умерли неоплакан-
ными; приносить (какъ то было въ древности) новые всходы хлѣб-
ныхъ растеній въ жертву духамъ, посылающимъ дурные сны; бро-
сать (какъ то дѣлаютъ обыкновенно лодочники каждый вечеръ,
отходя ко сну) въ жертву водянымъ духамъ рисъ и сожигать
золоченую бумагу; умилостивлять водяныхъ духовъ заклинаніемъ
бѣлаго коня; предлагать (что совершается оффиціально дважды въ
году за сѣверными воротами каждаго города на особомъ жертвен-
никѣ) вообще духамъ, злобствующимъ на людей, въ жертву три
овцы, три свиньи, три большіе сосуда рису и одинъ большой со-
судъ вина, и пр.
Злые духи умилостивляются жертвами. Но чѣмъ можетъ быть
ограждаемъ человѣкъ отъ посягательствъ злыхъ духовъ въ томъ
случаѣ, когда они, и пріемля жертвы, продолжаютъ свою вредо-
носную дѣятельность? Человѣкъ можетъ начать открытую борьбу
съ ними, въ надеждѣ, что онъ защититъ себя отъ нихъ тѣмъ или
87
другимъ оружіемъ. Отсюда, напр., обыкновеніе китайцевъ, но ко-
торому женихъ, прежде чѣмъ открыть паланкинъ съ принесенною
въ немъ невѣстою, стрѣляетъ въ злыхъ духовъ изъ лука; (древній)
обычай китайцевъ, по которому всякій желавшій поклониться усоп-
шему и почтить его жертвами въ его домѣ, являлся сюда съ лу-
комъ и стрѣлами (чтобы отгонять духовъ, накидывающихся на
жертвенные предметы, не для нихъ предназначенные); обычай, пус-
кать наканунѣ новаго года ракеты, которыми могутъ, по убѣж-
денію китайцевъ, быть устрашаемы духи шань-сао (480), наво-
дящіе на людей горячку (см. выше); (соблюдавшійся прежде) обычай,
по которому чиновники, сопровождаемые простолюдинами, изгоняли
въ концѣ года поочередно изо всѣхъ домовъ горныхъ демоновъ
чи-мѣй (248), являвшихся будто бы причиною заразительныхъ
повѣтрій (см. выше); и пр.
Человѣкъ можетъ до нѣкоторой степени ограждать себя силою
и оружіемъ отъ злыхъ ‘духовъ. Но что онъ долженъ дѣлать для
своей защиты, если его силы слабы или искусство владѣть ору-
жіемъ'несовершенно? Онъ долженъ искать помощь у людей, ко-
торые сильнѣе его и умѣютъ лучше справляться съ злыми духами.
Отсюда вѣра китайцевъ въ успѣшную дѣятельность нюй-у (496),
„шаманокъ", владѣющихъ будто бы спеціальными способами отго-
нять разнаго рода злыхъ духовъ (и первѣѳ всего духа, произво-
дящаго засуху); вѣра въ то, что особые люди, называемые фанъ-
сянъ (497), могутъ (надѣвая на себя медвѣжью шкуру съ че-
тырьмя золотыми глазами, или особую маску и вооружаясь сѣкирою
и складнымъ щитомъ) устрашать тѣхъ злыхъ духовъ, которые про-
изводятъ заразу, равно какъ и тѣхъ, которые склонны тревожить
усопшаго во время переноса тѣла его къ могилѣ и залѣзать въ
вту послѣднюю (прибывъ, шествуя впереди похоронной процессіи,
къ могилѣ, фанъ-сянъ ударяетъ по четыремъ угламъ ея сѣкирою
и выгоняетъ злыхъ духовъ, забравшихся въ помѣщеніе, не для нихъ
назначенное); вѣра въ то, что особые врачи-заклинатели могутъ
имъ извѣстными таинственными способами вылѣчивать человѣка отъ
той или другой болѣзни, прогоняя изъ него злаго духа, ее произвед-
шаго,—отсюда ясно, почему понятіе „выздоровѣть" выражается
88
іероглифомъ чоу (498), представляющимъ комбинацію двухъ іеро-
глифовъ, изъ которыхъ одинъ (499) значитъ „болѣзнь", а дру-
гой (500)—„взлетѣть" (больной человѣкъ выздоравливаетъ, когда
вселившійся въ него злой духъ удаляется добровольно или будучи
прогоняемъ врачемъ - заклинателемъ). Замѣтимъ здѣсь, что въ
древности колдовство и (почти тождественная съ нимъ) медицина
считались наслѣдственными профессіями. Развитіемъ даосизма,
какъ религіозной системы, и распространеніемъ въ Китаѣ буд-
дизма обусловилось то, что наслѣдственные колдуны и знахари-
заклинатели были отодвинуты (если не совсѣмъ устранены) на
задній планъ, и прогонять злыхъ духовъ (изъ людей, изъ до-
мовъ и пр.) вошло въ кругъ занятій (главнымъ образомъ) даос-
скихъ и буддійскихъ священниковъ, укрѣпляемыхъ уже содѣй-
ствіемъ тѣхъ или другихъ божествъ.
Для огражденія себя отъ ежемоментнаго посягательства злыхъ
духовъ, человѣкъ, не прибѣгая постоянно (чего было бы нельзя
и сдѣлать) къ помощи лицъ, которыя умѣютъ справляться съ
нечистою силою, можетъ употреблять извѣстные предметы или
совершать извѣстныя дѣйствія, внушающіе (чтд предполагается
по легендарнымъ или миѳо-поэтическимъ основаніямъ) злымъ ду-
хамъ страхъ и отгоняющіе ихъ. Изъ этихъ предметовъ (разу-
мѣемъ амулеты и талисманы) и дѣйствій (разумѣемъ презерва-
тивы) одни ограждаютъ непосредственно самого человѣка, другіе—
мѣсто его жительства. Предлагая читателямъ вспомнить то, что
говорилось нами въ ІѴ-й главѣ нашего труда о страхѣ, наво-
димомъ на злыхъ духовъ нѣкоторыми растеніями (ивою, персико-
вымъ деревомъ, бамбукомъ, полынью, аирникомъ) и животными
(тигромъ, собакою, бараномъ, пѣтухомъ, домашнимъ гусемъ, пти-
цею и), мы позволимъ себѣ въ нижеслѣдующемъ изложеніи кос-
нуться деталей настолько, насколько онѣ могутъ служить примѣ-
рами и характеристикою китайскихъ обычаевъ, основанныхъ на
вѣрѣ въ спасительное дѣйствіе талисмановъ, амулетовъ, и особыхъ
презервативовъ. Надъ новорожденнымъ ребенкомъ совершается
обрядъ, называемый „обвязываніемъ запястья" (этотъ обрядъ со-
стоитъ въ томъ, что запястье обвязываютъ краснымъ двухъ-фу-
89
товымъ снуркомъ, къ которому прикрѣпляютъ монетку, модель
молоточка, барабана или колокола; снурокъ не долженъ сниматься
съ руки втеченіи времени отъ 10 д^ей до одного года). Послѣ
указаннаго обряда на дѣтей вѣшается иногда талисманъ, назы-
ваемый „замкбмъ ста семействъ “ (отецъ ребенка обходитъ своихъ
родныхъ и знакомыхъ съ просьбою дать по одной или по нѣ-
скольку мѣдныхъ монетъ; когда эти послѣднія получены отъ ста
человѣкъ, отецъ покупаетъ на пріобрѣтенную сумму денегъ укра-
шеніе, похожее на замокъ, и вѣшаетъ его на шею своему ребенку).
Подростающія дѣти носятъ на себѣ, въ качествѣ талисмановъ,
платье, сшитое изъ матерчатыхъ кусочковъ (полученныхъ роди-
телями отъ ста человѣкъ), привязанныя на красномъ снуркѣ
древнія китайскія монеты, маленькіе колокольчики. Ежегодно пер-
ваго числа 8-го мѣсяца на лбу дѣтей, въ видахъ охраны ихъ
отъ болѣзней, дѣлаютъ (не во всѣхъ, впрочемъ, семействахъ) ми-
зинцемъ пятно, употребляя для этого киноварь, разведенную въ
росѣ. Взрослые китайцы носятъ, въ качествѣ амулетовъ, на груди
маленькіе ножики и миніатюрныя модели сабель (вырѣзанныя 5-го
числа 5-го мѣсяца изъ ивоваго дерева), а на рукахъ браслеты
(всего чаще каменныя); стараются имѣть при себѣ какой-либо
драгоцѣнный камень или небольшой кусокъ яшмы, обрывочекъ
старой рыболовной сѣти, гвоздь отъ гроба (изъ такого гвоздя
иногда дѣлаютъ кольцо и, оправивъ послѣднее серебромъ, носятъ
его какъ браслетъ), руку мертвеца (добыть такую руку можно
на мѣстѣ казни преступниковъ); совершаютъ (въ третьемъ мѣсяцѣ),
въ видахъ охраны себя отъ болѣзней, сопрягаемое съ извѣстными
обрядами омовеніе въ рѣкахъ. Для гарантіи новобрачныхъ, хотя
бы только на день брака, отъ вредоноснаго дѣйствія злыхъ ду-
ховъ, кладутъ брачныя одѣянія жениха и невѣсты поперемѣнно
въ сито и держатъ послѣднее надъ огнемъ. Для гарантіи семей-
ства отъ всякихъ золъ, могущихъ насылаться нечистою силою,
дѣлаютъ (въ 5-й день 5-го мѣсяца) изъ бумаги столько неболь-
шихъ куколъ, сколько въ семействѣ членовъ, помѣщаютъ эти
куклы въ бамбуковую корзину и, заманивъ въ нихъ предлагаемыми
яствами злыхъ духовъ, забирающихся въ обитателей дома, пре-
90
даютъ ее сожженію со всѣмъ въ лей содержимымъ. Китайцы
убѣждены, что спящій человѣкъ бываетъ гарантируемъ отъ на-
падковъ нечистой силы, е&и подъ его подушкою лежитъ какая-
либо изъ книгъ конфуціанскаго канона (приглашаемъ читателей
вспомнить сдѣланное нами въ предыдущей главѣ подстрочное при-
мѣчаніе). Постель новобрачныхъ охраняется отъ злыхъ духовъ
положенными подъ нее нѣсколькими древними китайскими моне-
тами (разныхъ государей), равно какъ повѣшеннымъ около нея
особымъ талисманомъ, который дѣлается въ видѣ меча изъ древ-
нихъ монетъ, взятыхъ въ количествѣ около сотни (соединяютъ
двѣ полосы послѣднихъ, прикрѣпленныхъ къ двумъ желѣзнымъ
стержнямъ, и поверхъ ихъ вдоль накладываютъ третью полосу
монетъ, перевязанныхъ краснымъ снуркомъ). Въ видахъ охраны
домовъ отъ нечистой силы, на кровляхъ утверждаются изображе-
нія стрѣлка (или просто три стрѣлы, положенныя въ глиняную
трубку), пѣтуха, кошки, дракона чи-вэнь (501) (спеціально ограж-
дающаго домъ отъ пожара) и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ,
равно какъ досчечки съ начертанными на нихъ па-гуа (Фусіевыми
діаграммами, о которыхъ была рѣчь въ первой главѣ нашего труда);
на стѣнахъ прикрѣпляются маленькія металлическія зеркала, а
также куски красной или желтой бумаги и досчечки (изъ перси-
коваго дерева) съ написанными на нихъ разнаго рода заклина-
ніями; у воротъ вѣшаются (5-го -числа 5-го мѣсяца) сдѣланныя
изъ полыни чучела тигровъ. Чтобы оградить отъ вреднаго дѣй-
ствія злыхъ духовъ селенія и окрестности ихъ, китайцы ставятъ
(около начала главныхъ улицъ) каменные столбы, сооружаютъ
(вблизи городовъ и мѣстечекъ) особыя башни, вѣшаютъ на город-
скихъ башняхъ колокола (вымазавши, послѣ отливки ихъ, кро-
вью). Изъ общенародныхъ дѣйствій, совершающихся въ видахъ
самосохраненія отъ нападковъ нечистой силы, имѣетъ важность
дэнъ-гао (502), т. е. „восхожденіе на высоту“: въ 9-й день
9-го мѣсяца китайцы оставляютъ свои дома, уходятъ въ поле
(на возвышенныя мѣста, если таковыя существуютъ по близости)
и пьютъ здѣсь воду, настоѳнную астрами. Обычай этотъ основы-
вается на слѣдующей легендѣ. Знаменитый (въ IV в. по Р. X.)
___91___
чудодѣй Фэй-чанъ-фанъ (503), наводившій страхъ на злыхъ ду-
ховъ и могшій, будто бы, излѣчивать всѣ болѣзни, предрекъ своему
ученику, Хуань-цзиву, что на домъ послѣдняго въ 9-й день 9-го
мѣсяца обрушится великое бѣдствіе, и посовѣтовалъ ему, чтобы
избѣжать гибели, въ указанный день уйти со всѣми членами
семейства на гору и пить на ней воду, настоенную астрами; Ху-
ань-цзинъ воспользовался совѣтомъ своего учителя и не подвергся
нападкамъ злыхъ духовъ, а когда вечеромъ возвратился съ горы
домой, то нашелъ поколѣвшими всѣхъ животныхъ (собакъ, коровъ,
барановъ, курицъ), которыя содержались при домѣ.
Человѣкъ можетъ ограждать себя отъ злыхъ духовъ амуле-
тами, талисманами и разнаго рода презервативными дѣйствіями.
Но Сверхъ этого, а по существу и эволюціи народныхъ вѣрованій,
первѣѳ всего человѣкъ можетъ надѣяться и опираться на помощь
добрыхъ духовъ, которые способны противодѣйствовать нечистой
силѣ съ большимъ успѣхомъ, нежели на землѣ живущіе люди.
Выработавъ убѣжденіе, что все худое исходитъ отъ злыхъ духовъ
(см. выше), китайскій народъ выработалъ и вѣру, что все хоро-
шее ниспосылается человѣку духами добрыми,—вотъ почему въ
девяти іероглифахъ (504), отдѣльно выражающихъ понятія „ благо-
получіе “, „счастіе", составнымъ элементомъ входитъ іероглифъ ши
(505), употребленный въ указанныхъ случаяхъ какъ сокращеніе
іероглифа шэнь (506), которымъ обозначается понятіе „добрый
духъ". Будучи, по существу своему, склонными всегда оказывать
людямъ помощь, добрые духи владѣютъ неодинаковымъ умѣньемъ
справляться съ нечистою силою, и каждый изъ нихъ можетъ обна-
руживать свое могущество только дѣйствуя въ извѣстномъ на-
правленіи,—отсюда вѣра народа китайскаго въ духовъ-покрови-
телей и въ то, что между ними существуетъ различіе, такъ ска-
зать, по ихъ спеціальностямъ.
Есть духи, охраняющіе жизнь человѣка и помогающіе ему
справляться съ болѣзнями. Какъ Лино Ъисіпа или Ѵепиз Оепеігіх
въ Китаѣ чествуется духъ усопшей Цзинь-хуа-нянъ (507), „Злато-
.цвѣтной госпожи" Оставляя въ сторонѣ легенды о земной ея
жизни (въ виду затруднительности отдѣлить въ нихъ элементы
92
общенародныхъ вѣрованій отъ элементовъ даосскихъ и буддій-
скихъ), скажемъ только, что эта богиня имѣетъ въ своемъ распо-
ряженіи 36 помощницъ, изъ которыхъ каждая спеціально вѣдаетъ
что-либо относящееся къ рожденію или воспитанію дѣтей: 11-я
помощница способствуетъ зачатію; 4-я является покровительницею
зачатыхъ мальчиковъ, а 18-я—покровительницею зачатыхъ дѣ-
вочекъ; 17-я смотритъ затѣмъ, чтобы на тѣлѣ ребенка, находя-
щагося въ утробѣ матери, не было язвъ; 6-я помогаетъ женщинѣ
во время процесса дѣторожденія; 19-я даетъ ребенку силу; 3-я
наблюдаетъ за кормленіемъ грудныхъ дѣтей; 15-я научаетъ дѣ-
тей сосать; 14-я учитъ дѣтей ходить; 1-я охраняетъ дѣтей отъ
оспы, и пр. О здравіи больныхъ дѣтей китайцы нерѣдко возсы-
лаютъ молитвы двумъ духамъ, изъ которыхъ одинъ представ-
ляется обитающимъ на звѣздахъ а, р, у, 8 Большой Медвѣдицы,
а другой—на звѣздахъ С, X, |і, а, т Стрѣлка; перваго считаютъ
духомъ долголѣтія и изображаютъ старцемъ съ книгою (въ ко-
торой будто бы написанъ день смерти каждаго человѣка), а вто-
раго признаютъ духомъ богатствъ и прибыли. У китайцевъ су-
ществуетъ вѣрованіе, что па дѣтей, рожденныхъ въ день, нахо-
дящійся подъ циклическимъ знакомъ собаки, незримо накиды-
вается тянь-гоу (508), т. е. „небесная собака“, и что ихъ спа-
саетъ отъ грозящей смерти духъ Чжанъ-сянь (509), поражая
алчное животное своими стрѣлами; это вѣрованіе обусловилось, какъ
гласитъ легенда, тѣмъ обстоятельствомъ, что наложница Тай-цзу,
основателя Сунской династіи, любившая смотрѣть на портретъ
своего усопшаго мужа, Мэнъ-чана, и боявшаяся подвергнуться за
это гнѣву государя, измыслила, будто бы портретъ есть не что
иное, какъ изображеніе (мнимаго и дотолѣ никому неизвѣстнаго)
Чжанъ-сяня, духа-покровителя дѣтей. Охранителями вообще здо-
ровья всякаго человѣка китайцы признаютъ—духа солнца, титу-
луемаго, при храмовомъ чествованіи, тай-янъ-ѣ (510), „великимъ
Янъ-господиномъ; духовъ, завѣдующихъ пятью элементами (см. въ
главѣ П-й объ управителяхъ планетъ Меркурія, Венеры, Марса,
Юпитера и Сатурна); древняго императора Шэнь-нуна (| 2698 г.
до Р. X.), опредѣлившаго сорты лѣкарственныхъ травъ и титу-
93
дуемаго, при храмовомъ чествованіи, яо-шэнъ (511), „мудрецомъ
медицины"; древняго императора Хуанъ-ди (•{• 2597 г. до Р. X.),
написавшаго первую по времени медицинскую книгу и титулуе-
маго, при храмовомъ чествованіи, яо-ванъ (512), „государемъ
медицины"; Ци-бо (513), помощника императора Хуанъ-ди и на-
ставника его въ лѣчебномъ искусствѣ; Лэй-гунъ (514), помогав-
шаго императору Хуанъ-ди въ его занятіяхъ медициною; Пянь-
цяо (515), знаменитаго врача, положившаго (вѣковъ за шесть до
Р. X.) начало анатоміи; Чунь-юй-и (516), знаменитаго врача
временъ императора Вэнь-ди (179—156 г. до Р. X.); Чжанъ-
чжунъ-цзинъ (517), врача, прославившагося (въ концѣ ІІ-го в.
по Р. X.) своими медицинскими сочиненіями; Хуа-то (518), зна-
менитаго хирурга (умершаго въ половинѣ III-го в. по Р. X.);
Ванъ-шу-хэ(519), врача при Западномъ Цзиньскомъ дворѣ (265—
317 г. по Р. X.), написавшаго знаменитый трактатъ о пульсѣ;
Гэ-хунъ (520), знаменитаго алхимика (| 330 г. по Р. X.); Сунь-
сы-М0'(521), врача, славившагося въ началѣ ѴІІ-го в. по Р. X.;
(усопшихъ) врачей Хуанъ-фу (522), Ли-ши-чжэнь (523) и др.
При всемъ этомъ китайцы вѣрятъ въ существованіе добрыхъ ду-
ховъ, которые спеціально избавляютъ человѣка отъ тѣхъ или дру-
гихъ тѣлесныхъ недуговъ,—есть, напр., Янь-гуанъ-нянъ (524)—
цѣлительница глазныхъ болѣзней, Доу-чжэнь-нянъ (525)—изба-
вительница отъ оспы и кори, и пр. Замѣтимъ, не вдаваясь въ
подробности, что, по ученію даосовъ, въ тѣлѣ человѣческомъ пре-
бываютъ особые духи (между ними 24 главныхъ), изъ которыхъ
каждый имѣетъ силу излѣчивать болѣзнь занимаемаго имъ мѣста.
Еще замѣтимъ, что смерть человѣка отъ той или другой болѣзни
объясняется китайцами не безсиліемъ духовъ-охранителей здоровья,
а безучастіемъ послѣднихъ, по волѣ неба, къ страдавшему неду-
гомъ человѣку.
Есть духи, охраняющіе жилище человѣка, а) На стѣнахъ до-
мовъ, выходящихъ фасадомъ на улицу, китайцы начѳртываютъ, какъ
презервативъ противъ вліянія злыхъ духовъ, Ши-гань-данъ (526),
посмертное имя Цзянъ-тай-гуна (527). Онъ, согласно легендѣ,
былъ сперва рыболовомъ и употреблялъ вмѣсто уды особаго рода
9І
иголку. Однажды Цзянъ-тай-гунъ вытащилъ изъ воды драгоцѣн-
ный камень,—это былъ знакъ, что ему, рыболову, предназначается
высокое положеніе въ государствѣ. Когда У-ванъ началъ бурьбу
съ Чжоу-синемъ, послѣднимъ государемъ династіи Шанъ (въ ХП-мъ
в. до Р. X.), то воспользовался услугами Цзянъ-тай-гуна и впо-
слѣдствіи сдѣлалъ его министромъ. Ъ) Китайцы имѣютъ обычай
приклеивать на входныхъ домовыхъ дверяхъ портреты генераловъ
Шу-бао (528) и Ху-цзинъ-дэ (529), изображаемыхъ въ полномъ
вооруженіи (съ сѣкирою, лукомъ, стрѣлами, цѣпью и плетью).
Легенда повѣствуетъ объ этихъ генералахъ слѣдующее. Импера-
торъ Тай-цзунъ (626—650 г. по Р. X.) подвергся преслѣдо-
ванію злыхъ духовъ: они кидали въ его спальню черепицы и не
давали спать ни ему самому, ни его женамъ. Когда Тай-цзунъ
сообщилъ объ этомъ своимъ министрамъ, то генералъ ІНу-бао вы-
разилъ желаніе встать вмѣстѣ съ генераломъ Ху-цзинъ-дэ на ночь
у дверей дворца и охранять послѣдній отъ нападеній чертей.
Тай-цзунъ согласился и провелъ ночь совершенно спокойно, —
злые духи не осмѣлились явиться. Чтобы обезпечить себѣ спо-
койствіе на будущее время и не утруждать генераловъ, импера-
торъ приказалъ живописцу нарисовать ихъ портреты и прибить
послѣдніе къ наружнымъ дверямъ дворца. Когда это было исполнено,
злые духи совершенно прекратили свои нападенія, с) Нерѣдко,
вмѣсто портретовъ вышепоименованныхъ генераловъ, къ главнымъ
домовымъ дверямъ китайцы приклеиваютъ два листа бумаги, на
которыхъ бываютъ написаны имена Ту-юй (382) и Юй-лэй (383),
тѣхъ двухъ братьевъ, о которыхъ, какъ объ укротителяхъ злыхъ
духовъ, мы говорили въ четвертой главѣ нашего труда. 4) На
воротахъ при домѣ китайцы приклеиваютъ иногда изображеніе (въ
видѣ старика, съ краснымъ отъ гнѣва лицомъ) Чжунъ-куй (530),
подъ которымъ (хотя легенда и гласитъ, что онъ жилъ при Таи-
ской династіи, отличался своимъ безобразіемъ и умеръ, разгнѣ-
вавшись на то, что не былъ удостоенъ ученой степени) слѣдуетъ,
какъ предполагаютъ синологи, разумѣти какого-либо изъ героевъ
древней китайской исторіи, е) Дома охраняются, какъ убѣждены
китайцы, духами Гоу-манъ, Чжу-юнъ, Жу-шоу, Юань-минъ и
95
Хоу-ту (см. въ гл. ІІ-й о помощникахъ правителей планетъ Мер-
курія, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна), равно какъ безы-
мянными у-фанъ-ту-ди (531), т.-е. духами четырехъ угловъ п
середины дома. При этомъ китайцы чествуютъ въ своихъ домахъ
духа—дракона, который, предполагается, имѣетъ притязаніе на
занятый домомъ участокъ земли и, умилостивляемый жертвами,
становится не врагомъ, а покровителемъ семейства, захватившаго
его собственность.. Китайцы вѣрятъ въ бытіе безвѣстныхъ духовъ,
охраняющихъ двйри и верхній этажъ дома (532), житницы и
амбары; хлѣвы и отхожія мѣста охраняются вѣшаемымъ въ нихъ
изображеніемъ чоу-гу-нюй (533), дѣвицы, которая (во времена
Таиской династіи), будучи взята въ наложницы однимъ китай-
цемъ, была убита ревнивою женою послѣдняго въ отхожемъ мѣстѣ.
Г) Всестороннимъ охранителемъ домовъ китайцы считаютъ того
Цзао-шэнь (294), „духа (огня) очага“, о которомъ было упоми-
наніе въ Ш-й и ІѴ-й главахъ нашего труда. Кто долженъ ра-
зумѣться подъ титуломъ цзао-шэнь, въ точности неизвѣстно: одни
китайскіе писатели полагаютъ, что это Чжу-юнъ (135), помощ-
никъ правителя планеты Марса (см. главу ІІ-ю); другіе думаютъ,
что этимъ титуломъ облеченъ древній императоръ Хуанъ-ди (о
немъ, какъ о „государѣ медициныговорилось выше); третьи
заявляютъ, что цзао-шэнемъ сдѣлался духъ усопшаго (неизвѣстно
гдѣ и когда жившаго) Чань (534), члена фамиліи Чжанъ (535);
четвертые склонны признавать цзао-шэнемъ душу какойтлибо древней
стряпухи, снискавшей себѣ извѣстность по тѣмъ или другимъ при-
чинамъ. Различіемъ взглядовъ на существо цзао-шэня обусловливается
и различіе въ его изображеніяхъ — то въ видѣ старика, то въ видѣ
юноши, то (какъ было въ древности) въ видѣ красивой дѣвушки. По
общераспространенному народному вѣрованію, цзао-шэнь въ послѣдній
день каждаго мѣсяца возносится съ очага на небо и доклады-
ваетъ высшему небоправителю обо всѣхъ хорошихъ и худыхъ дѣ-
лахъ, совершенныхъ членами семейства; сообразно съ докладомъ
цзао-шэня, небоправитель либо награждаетъ семью благополучіемъ,
либо наказуетъ, ниспосылая несчастія, — вотъ почему цзао-шэню
96
присваивается титулъ сы-минъ-цзао;цзюнь (536), „владыка очага,
завѣдующій судьбою".
Есть духи, которыми охраняются мѣста жительства людей,
объединенныхъ общественными или государственными отношеніями,
а) Всякое селеніе и всякая волость, принимаемыя, какъ терри-
торіальныя единицы въ отношеніи общественномъ или администра-
тивномъ, имѣютъ своихъ духовъ - покровителей, называемыхъ шэ
(229), или ту-шэнь (234), о которыхъ была уже рѣчь въ Ш-й
главѣ нашего труда. Ь) Каждый китайскій городъ охраняется
своимъ духомъ-покровителемъ, носящимъ титулъ чэнъ-ванъ (537),
„царя города", или чэнъ-хуанъ-ѣ (538), „господина городской
стѣны и рва". Чэнъ-ваномъ признаютъ духъ такого усопшаго че-
ловѣка, который, при жизни своей, отличился тѣми или другими
гражданскими доблестями. Такъ, напр., чэнъ-ванъ г. Ханъ-чжоу
(главнаго въ прав. Чжэ-цзянъ) есть духъ усопшаго цензора Чоу.
Этотъ цензоръ, будучи несправедливо приговоренъ къ смерти,
боялся, что его сынъ будетъ мстить за него, и потому просилъ
императора подвергнуть его казни вмѣстѣ съ сыномъ. Просьба
была исполнена. Но впослѣдствіи оказалось, что обвиненіе, взве-
денное на Чоу, было ложное. Чтобы загладить свою ошибку, импе-
раторъ облекъ усопшаго цензора званіемъ чэнъ-вана г. Ханъ-чжоу.
Замѣтимъ здѣсь, что, по существующему у китайцевъ вѣрованію,
духъ чэнъ-ванъ съ воемъ удаляется изъ города, если этому по-
слѣднему предстоитъ быть взятымъ непріятелями, с) Всю терри-
торію Китая охраняютъ два духа, совокупно называемые шэ-цзи
(539). Отдѣльно подъ шэ (229) разумѣется духъ усопшаго ми-
нистра Гоу-луна (см. въ гл. ІІ-й объ управленіяхъ планеты Са-
турна), на котораго китайцы перенесли и названіе, и многія пре-
рогативы хоу-ту (226), „царственной земли" (см. главу ІП-ю);
Цзи, имѣвшій имя Ци (540), былъ при древнихъ императорахъ
Яо и Шунѣ министромъ земледѣлія и считается родоначальникомъ
государей Чжоуской династіи.
Есть духи, покровительствующіе и содѣйствующіе человѣку
въ тѣхъ или другихъ его занятіяхъ, а) Патронами земледѣлія
считаются Шэнь-нунъ (о которомъ, какъ „мудрецѣ медицины",
97
говорилось выше), будто бы научившій людей обрабатывать зѳилю,
и Хоу-цзи, т. ѳ. князь Цзи (о немъ была уже рѣчь, какъ объ
одномъ изъ духовъ, охраняющихъ территорію Китая); духъ усоп-
шаго Гая (см. въ гл. П-й о правителяхъ планеты Венеры) счи-
тается, подъ титуломъ жу-шоу (132), духомъ жатвы; шелковод-
ству покровительствуетъ духъ сянь-цань (541), подъ которымъ
разумѣется духъ Лэй*цзу (542), супруги древняго императора
Хуанъ-ди, будто бы научившей людей разматывать шелковичные
коконы; хлопководамъ покровительствуетъ духъ Хуанъ-по (543);
патрономъ садовниковъ считается Хань-сянъ-цзы (544), „без-
смертный “ даосъ, дѣйствовавшій на землѣ во времена Танской
династіи; коневодамъ содѣйствуетъ духъ Ма-цзу (545); и проч.
(см. въ главѣ ІѴ-й о духахъ, завѣдующихъ животными и ра-
стеніями). Ъ) Патронъ винодѣловъ—духъ усопшаго И-ди (546),
жившаго при императорѣ Юй (умершемъ въ 2197 г. до Р. X.)
и научившаго людей выдѣлывать рисовую водку; людямъ, рабо-
тающимъ на фарфоровыхъ заводахъ, покровительствуетъ Фынъ-
хо-шэнь (547), духъ нѣкоего У-мина, добровольно бросившагося
въ заводскую печь и въ ней сгорѣвшаго; патрономъ плотниковъ
и архитекторовъ считается духъ усопшаго Гунъ-шу-цзы (548),
извѣстнаго подъ прозвищемъ Лу-бань (549), архитектора, кото-
рый жилъ въ удѣлѣ Лу и былъ современникомъ Конфуція; по-
кровительницею женщинъ во всѣхъ ихъ домашнихъ занятіяхъ
признаютъ Хэ-сянь-гу (550), жившую (во второй половинѣ ѴІІ-го
в. по Р. X.) въ Кантонской провинціи и сдѣлавшуюся „ без-
смертною “; патронессою женскихъ рукодѣлій (въ особенности ткац-
каго и вышивальнаго искусства) считается та „небесная ткачиха",
о которой мы говорили во П-й главѣ нашего труда; и др. с)
Покровителемъ людей, находящихся въ пути, признаютъ духа
Цзу-шэнь (551), подъ которымъ извѣстенъ духъ усопшаго Лэй,
сына древняго императора Хуанъ-ди. Китайцы чествуютъ также
Кай-лу-шэнь (552), „духа, открывающаго путь", извѣстнаго еще
подъ названіемъ Сянь-дао-шэнь (553), т. е. „духа (уничтожаю-
щаго) опасности пути". Легенда гласитъ объ этомъ духѣ слѣ-
дующее. Императоръ Сянь (при концѣ Чжоуской династіи) лю-
98
билъ совершать, въ сопровожденіи своей супруги, объѣзды по
своимъ владѣніямъ. Въ одинъ изъ такихъ объѣздовъ императрица
скончалась. Когда гробъ съ ея тѣломъ стали поднимать, чтобы
перевезти для погребенія, то онъ оказался столь тяжелымъ, что
не могъ быть сдвинутъ съ мѣста. Императоръ обратился за со-
дѣйствіемъ къ Кай-лу-шэню, бывшему тогда (подъ другимъ, ко-
нечно, именемъ) министромъ, и этотъ послѣдній силою своей до-
бродѣтели парализировалъ вліяніе злыхъ духовъ, — гробъ былъ
легко поднятъ (замѣтимъ, между прочимъ, что въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ Китая существуетъ обычай носить идолъ Кай-лу-
шэня впереди погребальныхъ процессій, для прогнанія злыхъ ду-
ховъ, могущихъ встрѣтиться на пути). Покровительницею море-
ходства, рѣчнаго судоходства и торговли китайцы признаютъ
Ма-цзу-по (554), урожденку провинціи Фу-цзянь, сдѣлавшуюся
и при жизни своей (во второй половинѣ VIII в. по Р. X.), и
по смерти извѣстною, какъ гласятъ легенды, чудеснымъ спасе-
ніемъ утопавшихъ и удостоенную государями нынѣ царствующей
въ Китаѣ династіи титула тянь-хоу (555), „небесной владычицы“
(даосы вѣруютъ, что душа тянь-хоу обитаетъ на одной изъ звѣздъ
Большой Медвѣдицы). Покровительницею рѣчнаго судоходства
южные китайцы (главнымъ образомъ кантонцы) считаютъ также
Лунъ-му (556), „мать драконаПодъ этимъ названіемъ разу-
мѣется, согласно легендѣ, одна кантонская рыбачка, жившая во
времена императора Цинь-ши-хуанъ-ди и нашедшая на берегу
рѣки огромное яйцо, изъ котораго вылупилось животное, похожее
на дракона. 4) Патрономъ гадателей китайцы считаютъ древняго
императора Фу-си, изобрѣвшаго па-гуа (тѣ восемь діаграмъ, о
которыхъ говорилось въ І-й главѣ нашего труда); патрономъ кол-
дуновъ и чародѣевъ признается Тѣ-гуай-сянь-шэнъ (448), одна
изъ легендъ о которомъ была нами приведена въ предыдущей
главѣ; актерамъ покровительствуетъ Цао-го-цзё (557), „без-
смертный" даосъ, жившій на землѣ въ XI в. по Р. X.; музы-
канты пользуются покровительствомъ Лань-цай-хэ (558), „без-
смертнаго" даоса (о которомъ легенды гласятъ, что онъ ходилъ
всегда въ рубищѣ, имѣлъ обутою только одну ногу, спалъ зимою
99
на снѣгу и на льду, распѣвалъ мало понятныя для другихъ лю-
дей пѣсни и, оканчивая свое земное бродяжничество, сѣлъ на
аиста и живымъ улетѣлъ на небо); цырюльники считаютъ своимъ
патрономъ Люй-янь (559), прозваннаго Люй-цзу (560), „дѣдомъ
Люй" (онъ родился въ 755 г. по Р. X. и, согласно баснослов-
нымъ легендамъ, жилъ на землѣ будто бы свыше 400 лѣтъ, при-
чемъ, усвоивъ тайны алхиміи и жизненнаго элексира, разъѣзжалъ
по Китайской имперіи съ мечемъ въ рукѣ, убивая вредоносныхъ
драконовъ и прогоняя духовъ, насылающихъ разнаго рода бѣд-
ствія); и др. е) Существуютъ цзы-шэнь (561), т. ѳ. „духи іеро-
глифовъ"; подъ ними разумѣются души усопшихъ Цанъ-сѣ (562)
и Цзюй-сунъ (563), двухъ чиновниковъ, которые служили при
древнемъ императорѣ Хуанъ-ди и будто бы изобрѣли іероглифы,
извѣстные подъ названіемъ „головастиковыхъ". Людямъ, совер-
шенствующимся въ литературномъ стилѣ, покровительствуетъ Чжанъ -
го-лао (564), „безсмертный" даосъ, прославившійся своимъ чу-
додѣйствомъ въ первой половинѣ VIII в. по Р. X. (сообщается,
между прочимъ, что онъ, ведя странствующій образъ жизни,
ѣздилъ всегда на бѣломъ мулѣ и дѣлалъ послѣдняго невидимкою
каждый разъ, когда приходилось гдѣ-либо останавливаться на
ночлегъ). Патрономъ людей, изучающихъ литературу, китайцн
признаютъ Вэнь-чанъ-ди (565), „царя литературнаго просвѣще-
нія"; этотъ титулъ (неизвѣстно, по какимъ причинамъ) присвоенъ
духу, который владѣетъ созвѣздіемъ Вэнь-чанъ, находящимся
вблизи Большой Медвѣдицы (не будемъ приводить здѣсь разска-
зовъ о томъ, какъ Вэнь-чанъ-ди -неоднократно сходилъ на землю
и воплощался въ человѣческой формѣ). Вэнь-чану, какъ покро-
вителю литературной учености, помогаетъ въ его содѣйствіи лю-
дямъ духъ Куй (566), обитающій на звѣздахъ а, р, у и 8
Большой Медвѣдицы. Люди, которые штудируютъ конфуціанскую
философію, пользуются покровительствомъ самого Конфуція, равно
какъ (усопшихъ) пропагаторовъ его ученія; кто занимается даос-
скою философіею, тому покровительствуетъ Лао-цзы и его выдаю-
щіеся продолжатели (Лѣ-цзы, Чжуанъ-цзы и пр.). Г) Патрономъ
людей, посвятившихъ себя военному искусству, китайцы считаютъ.
100
Гуань-ди (567) или У-ди (568), „бога войны"; этимъ титуломъ
облеченъ духъ знаменитаго генерала Гуань-юй (569), который
былъ сподвижникомъ Лю-бая, одного изъ трехъ главныхъ дѣя-
телей такъ-называѳмой эпохи „троецарствія" (220 — 263 г. по
Р. X.). Замѣтимъ, между прочимъ, что признается существованіе
еще ци-ду-шэнь (570), „духа (большихъ и малыхъ) знаменъ",
хо-пао-шэнь (571), „духа пушекъ", и др.
Есть добрые духи, которые могутъ въ большей или меньшей
степени ограждать человѣка вообще отъ злыхъ духовъ. Прежде
всего слѣдуетъ сказать, что китаецъ ищетъ всесторонняго покро-
вительства у своихъ усопшихъ предковъ, ублажая ихъ матеріаль-
ными приношеніями и молитвами. Сверхъ этого китайцы прибѣ-
гаютъ къ содѣйствію такихъ, напр., духовъ, какъ Ци (572);
послѣдній представляется съ двумя головами и четырьмя глазами
и считается могущимъ отражать всякихъ злыхъ духовъ, посягаю-
щихъ на человѣческое благоденствіе; признаніемъ силы за духомъ
Ци обусловленъ обычай фанъ-сянъ (497) (тѣхъ людей, о кото-
рыхъ мы говорили выше) надѣвать на себя маску, изображающую
этого духа. Нюй-цянь (573), богиня такъ-называемой утренней
звѣзды, можетъ, по сложившемуся у китайцевъ вѣрованію, пожи-
рать злыхъ духовъ. Что такое вѣрованіе выработалось на основѣ
миѳо-поэтическихъ взглядовъ народа, въ этомъ никто не будетъ
сомнѣваться, — свѣтъ не совмѣстимъ съ мракомъ, солнце невыно-
симо для темной, нечистой силы, для нея страшны и предвѣст-
ники солнца, она бѣжитъ отъ нихъ, она исчезаетъ, завидѣвъ
утреннюю звѣзду (выражаясь миѳо-поэтически, пожирается ею).
При забвеніи первоначальнаго смысла, легшаго въ основу миѳа
о Нюй-цянь, могло представляться страннымъ, что она въ си-
лахъ одна справляться съ злыми духами мрака, — отсюда вѣра
въ существованіе юй-линь-тянь-цзюнь (574), небеснаго воинства,
дѣйствующаго противъ злыхъ духовъ на (воображаемой) границѣ
Янъ (какъ области свѣта) и Инь (какъ области мрака). Эволю-
ція миѳо-поэтическихъ представленій, оформившихся уже въ миѳы,
могла обусловить вѣру (на основахъ общенародныхъ окончательно
выработанную даосами) въ бытіе духа, завѣдующаго борцами про-
101
тивъ нечистой силы. Такимъ духомъ считается Чжанъ-дао-линъ (575),
потомокъ Чжанъ-ляна (576), помогавшаго основателю Ханьской
династіи получить верховную власть и впослѣдствіи служившаго
ему въ санѣ министра. О рожденіи (въ 24 г. по Р. X.) Чжанъ-
дао-липа баснословная легенда повѣствуетъ слѣдующее; мать его,
дѣвственница, однажды видѣла во снѣ, что къ ней спустился съ
полярной звѣзды богъ - міроправитель и далъ ей благовонную
траву; проснувшись, дѣвица ощутила благоуханіе, которое, исходя
отъ ея одеждъ, наполняло комнату, и почувствовала себя бере-
менною. Въ 60 г. по Р. X. Чжанъ-дао-линъ былъ сдѣланъ пра-
вителемъ Цзянъ-чжоу, но недолго занималъ должность и удалился
въ горы Бэй-манъ, гдѣ сталъ жить отшельникомъ и заниматься
изученіемъ тайпъ колдовства, въ чемъ успѣлъ будто бы настолько,
что пріобрѣлъ способность быть вездѣсущимъ. Подъ конецъ своей
жизни Чжанъ-дао-линъ избралъ своимъ мѣстопребываніемъ горы
Лунъ-ху-шань (въ провинціи Цзянъ-си, въ уѣздѣ Гуанъ-синь),
откуда на 123 году своей жизни, выпивъ ѳлексиръ безсмертія,
(іудто бы вознесся на небо. Даосскія легенды прибавляютъ, что
Чжанъ-дао-линъ учредилъ 24 или (согласно нѣкоторымъ вер-
сіямъ) 28 (по числу созвѣздій зодіака) такъ-называемыхъ управъ,
чтобы ревизовать въ нихъ дѣятельность злыхъ духовъ и нака-
зывать послѣднихъ; что онъ получилъ отъ высшаго бога титулъ
тянь-ши (577), „небеснаго учителя" (наставляющаго людей); что
предъ своею смертію онъ передалъ своему сыну званіе тянь-ши,
секреты колдовства, свой мечъ и печать (страшные для нечистой
силы), приказавъ сохранять все это въ потомствѣ. За потомками
Чжанъ-дао-лииа, оставшимися жить на горахъ Лунъ-ху-шань,
утвердилось сперва обычаемъ, а потомъ императорскимъ декре-
томъ (въ 749 г. по Р. X.) право главенства въ даосской іерар-
хіи, и званіе тянь-ши стало преемственно переходить къ одному
язь членовъ фамиліи Чжанъ-дао-линовой, о которомъ даосы ду-
маютъ, что онъ въ то же время воплощаетъ въ себѣ и душу
своего предшественника. Замѣтимъ, между прочимъ, что въ числѣ
прерогативъ верховнаго даоса заключается право назначать и утвер-
ждать въ городахъ Китая чэнъ-вановъ (537), духовъ-охрани-
102
телей, о которыхъ мы говорили выше. Скажемъ въ заключеніе,
что являть людямъ покровительство и въ большей или меньшей
степени защищать ихъ отъ нечистой силы могутъ, само собою ра-
зумѣется, тѣ боги и добрые духи, о которыхъ была рѣчь въ
предшествовавшихъ главахъ нашего труда.
Всегда являясь объектомъ съ одной стороны посягательства
злыхъ духовъ, а съ другой—покровительственнаго вниманія божествъ
и духовъ добрыхъ, человѣкъ живетъ и дѣйствуетъ безъ увѣрен-
ности, что тѣ или другія его мѣропріятія сами по себѣ могутъ
давать желаемые результаты,—все зависитъ отъ того, насколько
вообще или въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ будутъ готовы по-
могать человѣку духи, въ его защиту борющіеся съ нечистою
силою. Прежде чѣмъ приступить къ какому-либо дѣлу, человѣкъ
долженъ освѣдомиться, найдетъ ли онъ содѣйствіе и помощь у
духовъ добрыхъ. Освѣдомляться объ этомъ человѣкъ можетъ пу-
темъ гаданій. Послѣднихъ у китайцевъ существуетъ огромное ко-
личество. а) Изъ китайскихъ гаданій, имѣющихъ цѣлію напередъ
опредѣлить общій ходъ жизни человѣка, самыми распространен-
ными являются два: одно по относительному положенію небесныхъ
свѣтилъ въ то время, когда человѣкъ родится; другое по цикли-
ческимъ знакамъ, соотвѣтствующимъ году, мѣсяцу, дню и часу
рожденія человѣка. Ь) При выборѣ мѣстъ для постройки домовъ,
равно какъ и для могилъ, китайцы обыкновенно гадаютъ (при
помощи особыхъ спеціалистовъ) по геомантическому способу, на-
зываемому фынъ-шуй (578), „вѣтеръ и вода“: намѣченное мѣсто
признается счастливымъ или несчастливымъ, смотря по формѣ на-
ходящихся около него горъ или холмовъ, по близости или отда-
ленности рѣкъ или ручейковъ, по (таинственному) вліянію на
него семи видимыхъ и двухъ скрытыхъ звѣздъ (о послѣднихъ
см. въ главѣ Ѵ-й) Большой Медвѣдицы, с). При тѣхъ или дру-
гихъ житейскихъ обстоятельствахъ, равно какъ предъ началомъ
тѣхъ или другихъ дѣйствій китайцы гадаютъ самыми различными
способами: по чертамъ лица и рукъ человѣка, по сновидѣніямъ,
по именамъ и отвѣтамъ встрѣчныхъ людей, по человѣческимъ
трупамъ, по птицамъ, по животнымъ 28-ми созвѣздій цикла, по
103
нѣкоторымъ растеніямъ, по жеребейкамъ и особымъ камешкамъ,
по монетамъ, по водѣ, по воздуху, по вѣтру, по дыму, по обла-
камъ, по звѣздамъ, по И-цзину (первой изъ книгъ конфуціан-
скаго канона), по іероглифу (наугадъ взятому въ строкѣ) и пр.
и пр. Между гаданіями, совершаемыми въ виду указанныхъ нуждъ,
самымъ распространеннымъ является гаданіе по 64-мъ діаграмамъ
(изъ которыхъ начальныя изобрѣлъ, какъ мы уже говорили въ
І-й главѣ, императоръ Фу-си), а всего ближе ведущимъ къ цѣли—
то гаданіе, при которомъ духи въ ихъ храмахъ (или же будучи
приглашаемы въ домъ) вопрошаются и даютъ отвѣты чрезъ ме-
діума, начертывающаго палочкою іероглифы на разсыпанномъ предъ
нимъ пескѣ.
Божества и духи, склонные оказывать людямъ свое покро-
вительство, могутъ, по вѣрованію китайцевъ, являться имъ, какъ
помощники, и въ видимыхъ формахъ. Изъ огромнаго количества
разсказовъ, запечатлѣвающихъ собою это вѣрованіе, позволимъ себѣ
привести здѣсь хотя нѣсколько, но такихъ, которые циркули-
руютъ въ массѣ народной и считаются вполнѣ согласными съ
дѣйствительностію.
Китайцы вѣрятъ въ то, что шэнь-бинъ (579), „войска ду-
ховъ", могутъ помогать людямъ, вступающимъ въ битву за пра-
вое дѣло. Явленіе шэнь-бинъ, защищавшихъ (не такъ давно) тѣ
или другіе города отъ мятежниковъ (тай-пиновъ и китайскихъ
магометанъ), было констатируемо (со словъ свидѣтелей) оффиціаль-
ными докладами, которые представлялись городскими властями
императору. Въ одномъ изъ оффиціальныхъ же документовъ со-
общалось (нѣсколько лѣтъ тому назадъ), что Гуань-ди (567),
богъ войны (см. выше), въ полномъ вооруженіи, явился съ вой-
скомъ духовъ на защиту города Чжи-нинъ-чжоу, осаждавшагося
мятежниками, и что послѣдніе, пораженные страхомъ, бѣжали отъ
городскихъ стѣнъ.
Знаменитому полководцу Го-цзы-и (| 781 г. по Р. X.) яви-
лась, какъ гласятъ легенды, чжи-нюй (68), небесная ткачиха (о
которой мы говорили во ІІ-й главѣ), и предрекла, что онъ бу-
детъ пользоваться почестями, богатствомъ и долголѣтіемъ (что,
104
дѣйствительно, и исполнилось). О небесной хе ткачихѣ въ Эр-
ши-сы-сяо (книхкѣ, изучаемой обыкновенно каждымъ китайскимъ
мальчуганомъ) разсказывается слѣдующее. Нѣкто Дунъ-юнъ, когда
умеръ его отецъ (около 200 г. но Р. X.), не имѣлъ средствъ
на похороны послѣдняго и для полученія денегъ продался. Со-
вершивъ погребеніе, онъ отправился личнымъ трудомъ зарабаты-
вать требуемыя для выкупа деньги. Во время пути Дунъ встрѣ-
тилъ хенщину, которая заявила, что хѳлала бы сдѣлаться его
женою. Дунъ принялъ ея предложеніе. Придя въ домъ хозяина,
Дунъ получилъ приказъ выткать 300 штукъ шелковой матеріи.
Жена Дуна въ одинъ мѣсяцъ окончила работу, и супруги отпра-
вились домой. Когда они дошли до того дерева хуай, у котораго
въ первый разъ встрѣтились, хена Дуна (это была небесная тка-
чиха) раскланялась съ нимъ и исчезла.
Чествованіе духа долголѣтія и духа прибыли (см. о нихъ
выше) основывается на легендѣ, повѣствующей слѣдующее. Одинъ
молодецъ, которому гадатель предсказалъ смерть въ 19 лѣтъ,
былъ наученъ имъ отнести, для продолхенія жизни, яства съ
виномъ на гору и поставить ихъ предъ двумя старцами, играю-
щими въ шашки; юноша сдѣлалъ такъ, какъ ему было сказано,
и два старца (воплотившіеся въ тѣлесную форму духъ долголѣтія
я духъ прибыли) наградили его за принесенныя яства и вино
продленіемъ жизни до 99 лѣтъ.
Легенды, занесенныя въ историческія книги, повѣствуютъ, что
древнему императору Шуню помогали своими совѣтами съ деся-
таго года его царствованія до конца послѣдняго у-лао (580),
„пять старцевъ®, въ которыхъ были воплощены духи планетъ
Сатурна, Юпитера, Марса, Венеры и Меркурія. Тѣ хе самые
старцы будто бы явились на берегу Желтой рѣки также импе-
ратору Яо, предшественнику Шуня.
Однажды, гласитъ легенда, императоръ У-и (1198—1194 г.
до Р. X.) сдѣлалъ человѣкоподобный идолъ (581) и, назвавъ
его тянь-шэнь (582), „небеснымъ духомъ®, сталъ играть съ нимъ
въ кости. Такъ какъ духъ проигрывалъ свои партіи, то У-и не
только проникся презрѣніемъ къ нему, но и рѣшился наказать
105
его: положилъ статую въ кожаный мѣшокъ съ кровью, подвѣсилъ
его къ высокой перекладинѣ и сталъ стрѣлять по немъ,—капли
крови, падавшія на землю, считались выходившими изъ разстрѣ-
ливаемаго духа. Эта легенда восполняется сообщеніемъ, что У-и
повелѣлъ сдѣлать модели идола и во множествѣ разослать ихъ
по областямъ. Съ того будто бы началось идолопоклонство въ
Китаѣ. Приводя здѣсь эти баснословія (по существу своему не
односортныя съ предыдущими), мы имѣемъ въ виду сдѣлать бо-
лѣе понятнымъ для читателей то вѣрованіе китайцевъ, по кото-
рому въ древнія времена божества и духи, еще не изображав-
шіеся въ формѣ идоловъ, чаще нежели въ послѣдующіе вѣка
являлись людямъ воплощенными въ формы живыхъ огранизмовъ.
Напомнимъ читателямъ (см. гл. П) о томъ, какъ дѣва, спустив-
шаяся съ неба, помогала императору Хуанъ-ди сражаться съ мя-
тежникомъ Чи-ю, котораго поддерживали духи вѣтровъ и дож-
дей. Напомнимъ и о томъ (см. гл. I), какъ лѣтъ за 150 до
императора Хуанъ-ди государыня Нюй-гуа, правившая на землѣ,
починивала небо, поврежденное Гунъ-гуномъ,—было время, когда
небесное не очень далеко отстояло отъ земнаго.
ГЛАВА ѴП.
Древнѣйшіе періоды жизни китайскаго народа. — Заря исторіи Китая. —
Идеалъ будущаго китайской націи, полагаемый въ ея далекомъ прошедшемъ.
Предполагая въ настоящей главѣ нашего труда ознакомить
читателей съ тѣми взглядами, которые сложились у народа ки-
тайскаго на древнѣйшіе періоды его жизни и первоначальный ходъ
его исторіи, мы должны замѣтить, что опредѣленіе этихъ взгля-
довъ дѣлается возможнымъ не иначе, какъ при пользованіи книж-
ными источниками,—традиціонно памятовать о временахъ старо-
давнихъ или изощрять свою фантазію на представленіи ихъ въ
новосоздаваѳмыхъ образахъ уже не въ силахъ народъ, слишкомъ
долго живущій историческою жизнію, болѣе двадцати пяти вѣ-
ковъ пользующійся письменностію и обладающій обширною, мно-
гостороннею литературою. Будучи занесены въ тѣ или другіе от-
дѣлы послѣдней, воззрѣнія народа китайскаго на его собственную
жизнь въ глубокой древности, давно сложившіяся, закрѣпились
письменностью и не иначе, какъ при ея помощи, чрезъ ея посред-
ство стали сохраняться въ народной массѣ и циркулировать въ
ней. Среди письменныхъ источниковъ, годныхъ въ данномъ слу-
чаѣ для нашего пользованія, первенствующее мѣсто должны за-
нимать книги, относимыя къ отдѣлу исторической литературы,
равно какъ труды тѣхъ философовъ, которые, развивая свои мы-
сли и заботясь объ успѣшности ихъ пропаганды, вводили народ-
ныя воззрѣнія на древность, послѣ нѣкоторой ихъ обработки, въ
свои системы.
Какъ же смотрѣлъ китайскій народъ на свое далекое прошлое
и, прежде всего, гдѣ полагалъ начало своей національной и го-
сударственно-исторической жизни?
107
Было, говоритъ китайская исторія, время, когда китайцы
еще не знали патріархальной семейственности и, находясь на весьма
низкомъ уровнѣ матеріально-бытовой культуры, являлись не болѣе,
какъ племеннымъ аггрегатомъ бродячихъ звѣролововъ. Въ 2952 г.
до Р. X. Фу-си (583), сдѣлавшійся ихъ государемъ-правителемъ,
положилъ у нихъ начало тому строю жизни, который въ даль-
нѣйшемъ послужилъ основою вырабатывавшейся и формировав-
шейся государственности Китая: раздѣливъ племенную массу на
сто фамилій и давъ каждой изъ нихъ особое, навсегда неизмѣн-
ное имя, Фу-си установилъ правильность въ брачныхъ отноше-
ніяхъ людей, причемъ опредѣлилъ, что вступать въ бракъ могутъ
только лица, носящія разныя фамильныя наименованія. Съ этихъ
поръ китайцы стали заключать неразрывныя брачныя связи; съ
этихъ поръ для отцовъ явилась возможность знать своихъ дѣтей
и наоборотъ; съ этихъ поръ безразличная племенная масса сдѣ-
лалась народомъ, усвоившимъ себѣ на всѣ послѣдующіе вѣка опи-
сательное названіе бо-синъ (584), чтб значитъ „сто семействъ“
По смерти Фу-си китайцами правила сестра его Нюй-гуа (49),
а за нею рядъ государей, выбиравшихся одинъ за другимъ во-
лею народа, именно: Шень-нунъ (585) (2838 г.—2698 г. до
Р. X.), Хуанъ-ди (586) (2698 г.—2597 г.), Шао-хао (587)
(2597 г—2513 г.), Чжуань-сюй (588) 2513 г.—2435 г.),
Ди-ку (589) (2435 г—2365 г.), Ди-чжи (590) (2365 г.—
2356 г.), Яо (591), (2356 г.—2258 г.), Шунь (592) (2255 г —
2208 г.). Черезъ три года по смерти Шуня его бывшій (съ 2223 г.)
соправитель Юй (593), занявъ, по просьбѣ народа, престолъ,
положилъ (въ 2205 г. до Р. X.) начало первой въ Китаѣ ди-
настіи, получившій названіе Ся (594). Въ виду того, что китай-
ская исторія представляетъ государственную жизнь Китая много-
сторонне развившеюся и хорошо уже сформированною при на-
чалѣ династіи Ся, мы имѣемъ основаніе не переступать указанной
даты, какъ служащей гранью того періода, о которомъ должна
идти рѣчь въ настоящей главѣ нашего труда. Семь съ половиною
вѣковъ, протекшихъ съ тѣхъ поръ, какъ образовался китайскій
народъ, до эпохи, съ которой началось въ Китаѣ династіонное
108
правленіе, могутъ, слѣдовательно, приниматься за древнѣйшія
времена національной жизни китайцевъ. Какъ же смотрятъ китайца
на ихъ прошлое, опредѣляемое рамками приведенныхъ нами датъ
(2952 г.—2205 г. до Р. X.)? Замѣтимъ прежде всего, что
число древнѣйшихъ государей, преемственно управлявшихъ Ки-
таемъ, равно десяти. Это же число, какъ оказывается, играло
роль и въ составленіи китайцами самаго понятія о древности въ
тѣ времена, когда формировалась ихъ іероглифическая письмен-
ность: слово „древній" китайцы обозначаютъ іероглифомъ гу (595),
представляющимъ комбинацію двухъ іероглифовъ, изъ которыхъ
одинъ(596) значитъ „десять", а другой (597) значитъ „уста",—
древне, слѣдовательно, то, память о чемъ сохранена передачею
изъ устъ въ уста десятью (поколѣніями). Первоначально понимая
древность какъ смѣну десяти поколѣній или какъ смѣну десяти преем-
ственно правившихъ государей, китайцы не удовольствовались этимъ
и выработали представленіе о десяти періодахъ, слѣдовавшихъ одинъ
за другимъ съ тѣхъ поръ, какъ образовался міръ, до эпохи, когда
началась' династія Ся. Періоды извѣстны подъ особыми назва-
ніями, а именно: Сань-хуанъ (598), У-лунъ (599), Шэ-ти (600),
Хэ-ло (601), Лянь-тунъ (602), Сюй-минъ (603), Сюнь-фэй(604),
Инь-ти (605), Чань-тунъ (606), Су-и(607). Продолжительность
періодовъ (для нѣкоторыхъ и неопредѣляемая) весьма различна: въ
то время, какъ послѣдній (Су-и) идетъ со вступленія на престолъ
Хуанъ-ди (см. о немъ выше) до начала династіи Ся, первый (Сань-
хуанъ) тянется 377600 лѣтъ. Втеченіи каждаго періода Китаемъ
управляли одновременно или преемственно государи, число кото-
рыхъ неодинаково. Замѣтимъ при этомъ, что цивилизаторская дѣя-
тельность государей, предшествовавшихъ Фу-си, обрисовывается та-
кою же, какъ и дѣятельность вышепоименованныхъ лицъ, управ-
лявшихъ китайцами съ 2952 г. до 2205 г. Еще замѣтимъ, что,
по словамъ китайской исторіи, въ первый періодъ совершилась
послѣдовательная смѣна тянь-хуанъ (608)—„небесныхъ госуда-
рей", ди-хуанъ (609) — „земныхъ государей" и жэнь-хуанъ
(610) — „государей людей". Что китайскіе разсказы о де-
сяти періодахъ (не пользующіеся, между прочимъ, большою по-
109
пулярностью) являются ничѣмъ инымъ, сакъ только развитіемъ и
дополненіемъ первоначальнаго понятія о древнихъ временахъ, въ
этомъ нельзя сомнѣваться. Считая неумѣстнымъ здѣсь обзоръ усло-
вій, при которыхъ могли сложиться эти разсказы, мы находимъ
цѣлесообразнымъ и пока достаточнымъ сдѣлать то заключитель-
ное положеніе, что китайцы представляютъ себѣ развитіе ихъ на-
ціональной жизни въ глубокой древности начавшимся при вла-
стительствѣ „небесныхъ государей“ и совершившимся при послѣ-
довательности и смѣнѣ десяти либо поколѣній, либо царствова-
ній, либо продолжительныхъ періодовъ времени.
Другая сторона взглядовъ народа китайскаго на его далекое
прошлое характеризуется допустимостью необыкновенныхъ условій
человѣческой жизни, — древность представляетъ собою слишкомъ
много чудеснаго. Скажемъ прежде всего, что фантазія народная,
полагая началомъ исторіи властительство тянь-хуанъ, т. е. „небес-
ныхъ государей", приписываетъ всѣмъ лучшимъ дѣятелямъ древ-
ности, по выбору народа занимавшимъ престолъ, чудесное проис-
хожденіе,—ихъ зачатіе обусловлено сверхъестественнымъ наитіемъ
незримыхъ или баснословныхъ существъ (подробности приводились
уже въ главѣ пятой нашего труда). Замѣтимъ далѣе, что весьма
нерѣдко древнѣйшіе дѣятели обрисовываются фантазіею китай-
цевъ въ двойственныхъ формахъ -полу-людей и полу-животныхъ:
„небесные государи" имѣютъ туловище змѣи; „земные государи"
имѣютъ лицо дѣвицы, голову дракона, а ноги лошади; у госу-
дарей жэнь-хуанъ и періода У-лунъ лицо человѣка, а туловище
дракона; у Фу-си туловище дракона, а голова быка; у Нюй-гуа
бычачья же голова, а туловище змѣи; Шэнь-нунъ имѣетъ рога
на головѣ; у Гунъ-гуна, обрушившаго (какъ сообщалось въ главѣ
первой) сводъ звѣзднаго неба, лицо человѣка, а туловище змѣи;
Чи-ю, съ которымъ боролся государь Хуанъ-ди (см. гл. вторую),
имѣетъ, при человѣческомъ туловищѣ, бычачьи ноги. Допускается
при этомъ, что въ древности существовали люди, къ которымъ
примѣнимо названіе гигантовъ,—на землѣ будто бы сохранялись
слѣды ихъ ногъ (напомнимъ, что, какъ сообщалось въ пятой главѣ
нашего труда, мать государя Фу-си и мать Ци, родоначальника
по
государей Чжоуской династіи, сдѣлались беременными, наступивъ
на слѣды великановъ), а въ горахъ отыскивались ихъ костяки
(даже Конфуцій не былъ чуждъ народныхъ суевѣрій, относив-
шихся къ этому предмету,—онъ, напр., опредѣлилъ, что гигант-
скій костякъ, который былъ случайно найденъ въ одной горѣ и
о которомъ ему сообщили, представляетъ собою скелетъ Фанъ-
фына, владѣтельнаго лица, приговореннаго императоромъ Юѳмъ
за провинность къ смертной казни). Скажемъ, наконецъ, что на-
родная фантазія приписала древнимъ людямъ долголѣтіе, возвы-
шавшееся, какъ можно думать, по мѣрѣ отдаленія предѣловъ
древности,—Шунь царствуетъ 77 лѣтъ, Яо—98 лѣтъ, Хуанъ-
ди—101 годъ, Шэнь-нунъ—140 лѣтъ, а періодъ владычества
девяти жэнь-хуанъ (см. выше) объѳмлѳтъ уже 45.600 лѣтъ, и гос-
подство одиннадцати ди-хуанъ (см. выше) продолжается 198.000
лѣтъ. Обладая необыкновенною организаціею, древніе государи и
дѣйствуютъ, по воззрѣніямъ китайцевъ, среди необыкновенныхъ
обстоятельствъ: они борются съ лицами, которыя могутъ, напр.
(какъ Гунъ-гунъ,—см. гл. I), обрушивать небесный сводъ или
(какъ Чи-ю,—см. гл. II) покрывать землю туманомъ; они поль-
зуются содѣйствіемъ такихъ существъ, какъ, напр., „небесная
дѣва“ (см. гл. II) и воплотившіеся въ „пять старцевъ“ (см.
гл. VI) духи пяти планетъ; они имѣютъ въ своемъ распоряже-
ніи подручныхъ людей, которые могутъ, напр. (какъ И-и,—см.
гл. П), поражать стрѣлами солнечныхъ вороновъ; они встрѣчаютъ
чудовищъ (напр., коне-драконъ, явившійся государю Фу-си,—см.
гл. I), которыми наводятся на тѣ или другія размышленія; къ
ихъ услугамъ выростаютъ изъ земли разные сорты чудесныхъ
травъ и деревьевъ (см. гл. IV); и проч. Чѣмъ диазі-истори-
ческія времена ближе къ династіи Ся, тѣмъ сверхъестественное
все болѣе и болѣе уступаетъ мѣсто естественному/— потопъ яв-
ляется послѣднимъ событіемъ древности, которое китайцы, давая
волю своей фантазіи, изображаютъ въ чрезмѣрно -преувеличенномъ
видѣ; но обусловливаютъ потопъ, насколько знаемъ по исторіи,
уже естественныя причины, и территорія Китая осушается не чу-
деснымъ какимъ-либо образомъ, а благодаря искусству и трудамъ
ш
чиновника Юя, того самого Юя, который въ указанное наше время
положилъ начало династій Ся.
Переходя къ дальнѣйшему разсмотрѣнію взглядовъ народа
китайскаго на его стародавнюю жизнь, позволимъ себѣ привести
здѣсь нѣсколько словъ философа Сюнь-цзы, какъ опредѣляющихъ
историческую роль тѣхъ императоровъ, которые стоятъ на ру-
бежѣ древности. „По природѣ своей“, говоритъ Сюнь-цзы, „че-
ловѣкъ отъ рожденія стремится къ собственной выгодѣ, и вслѣд-
ствіе этого возникаютъ споры и захваты, а самоотверженіе и
уступчивость не имѣютъ мѣста; отъ рожденія склоненъ къ за-
висти и ненависти, порождающимъ насилія и грабительства и не
дающимъ проявляться преданности и вѣрности; отъ рожденія лю-
битъ тѣшить свой слухъ (пріятными) звуками, а взоры впечат-
лѣніями красоты, вслѣдствіе чего предается сладострастію и дѣ-
лаетъ безпорядки, позабывая требованія благопристойности... Если
кривое дерево (брусъ или доску) распарить и выгибать, то оно
можетъ сдѣлаться прямымъ; если тупое оружіе точить на камнѣ,
то оно можетъ сдѣлаться острымъ; — такъ и люди, будучи по
природѣ склонны къ дурному, исправляются подъ вліяніемъ (доб-
рыхъ) руководителей и законовъ, дѣлаются, по усвоеніи пра-
вилъ истиннаго поведенія, способными къ образованію благо-
устроеннаго общества... Древніе мудрые государи понимая, что
человѣкъ по природѣ своей склоненъ ко злу и безпорядкамъ, не
можетъ поступать должнымъ образомъ и стремиться къ благо-
устройству, указали правила истинно-должнаго поведенія и учре-
дили законы, чтобы при помощи ихъ переформировать, испра-
вить и облагородить натуру человѣка и руководить имъ, напра-
вляя его по истинному пути къ благоустройству... Если допу-
скать, что натурѣ человѣка присущи правила истинно-должнаго
поведенія и тѣ свойства, которыя на самомъ дѣлѣ не являются
въ немъ прирожденными, то на какомъ же основаніи высоко ста-
вятся Яо, Юй и вообще лучшіе люди? Мы уважаемъ Яо,
Юя и лучшихъ людей за ихъ способность переформировывать
природу человѣка и сообщать ей тѣ неприрожденныя свой-
ства, которыми и обусловливается .возникновеніе правилъ ис-
112
пнно-должнаго поведенія" (см. гл. VII нашего труда: „Прин-
ципы жизни Китая"). Въ приведенныхъ словахъ философа
Сюнь - цзы, не солидарнаго, какъ извѣстно, ни съ конфуціан-
цами, ни съ даосами, для насъ является важнымъ тотъ конста-
тируемый и какъ бы общепризнаваемый фактъ, что мудрые госу-
дари, стоявшіе на рубежѣ древности, выработали для народа
китайскаго нравственныя правила жизни и заставили его освои-
ваться съ этими правилами. Но принесла-ли дѣятельность муд-
рыхъ государей счастіе людямъ? На зтотъ вопросъ дается отри-
цательный отвѣтъ философами даосской школы, развивавшими
положенія и требованія Лао-цзы, выраженныя имъ, напримѣръ,
въ слѣдующихъ словахъ: „Когда (люди) перестали слѣдовать
дао (естественному закону), возникла добродѣтель; когда оста-
влена была добродѣтель, стало проявляться человѣколюбіе; когда
утратилось человѣколюбіе, получила начало справедливость; когда
(люди) уклонились отъ справедливости, установились правила—
обряды (Дао-дэ-цзинъ, гл. 38)... Если бы не было мудрости, то
народъ стократно былъ бы счастливѣе; если бы не было человѣко-
любія и справедливости, то въ народѣ (не умалялись бы) сы-
новнее благочестіе и родительское милосердіе; если бы не было
искусствъ и (стремленія къ) выгодѣ, то не стало бы воровъ и
разбойниковъ (іЬі<і., гл. 19)... Пусть (люди) возвратятся къ
естественной простотѣ (ІЬШ., гл. 19)... Добродѣтель, понимаемая
въ высокомъ смыслѣ, есть не что иное, какъ слѣдованіе по пути
дао" (іЬіі., гл. 21). Даосскіе философы утверждаютъ, что на-
родъ въ древнѣйшія времена пользовался блаженствомъ естествен-
ной простоты, что онъ постепенно утрачивалъ это блаженство,
дѣлался, менѣе нравственнымъ и дошелъ наконецъ до того поло-
женія, что совмѣстная жизнь людей явилась невозможною безъ
внѣшнихъ, искусственно-выработанныхъ регулятивовъ. Утверждать
все это (имѣя въ виду свои опредѣленныя цѣли) и, сообщая
публикѣ, разсчитывать на ея довѣріе было бы трудно пропа-
гаторамъ даосизма, если бы у самаго народа китайскаго не
существовало болѣе или менѣе распространеннаго миѳическаго
взгляда на древность какъ на длинный рядъ вѣковъ, являв-
113
шихся свидѣтелями постепеннаго умаленія человѣческаго благо-
денствія.
Если основою указаннаго оптимистическаго взгляда китай-
цевъ на глубокую древность является склонность людей пред-
ставлять себѣ прошедшее болѣе привлекательнымъ, нежели на-
стоящее, то выясненіемъ началъ и хода культуры, развившейся
до извѣстной степени и продолжавшей развиваться, обусловился
тотъ взглядъ народа китайскаго на его стародавнюю жизнь, по
которому сущность послѣдней заключалась въ выработкѣ луч-
шихъ формъ быта и прогрессированіи соціальнаго благоустрой-
ства. Что въ дѣйствительности совершалось весьма медленно, въ
неуловимой постепенности и было дѣломъ народной массы, не мо-
гущимъ закрѣпляться какими-либо датами, тб фантазія китай-
цевъ пріурочила къ жизни и отнесла къ дѣятельности извѣст-
ныхъ государей, выставивъ ихъ насадителями культуры и дви-
гателями цивилизаціи. Разсказы объ этихъ государяхъ, распро-
страненные въ китайскомъ народѣ и его исторической литературѣ,
въ краткомъ видѣ сводятся къ слѣдующему. Императоръ Фу-си
(положившій, какъ мы уже знаемъ, основы патріархальной семей-
ственности) научилъ людей удить рыбу и держать, какъ домаш-
нихъ животныхъ, лошадей, быковъ, овецъ, свиней, собакъ и ку-
рйцъ; установилъ систему счисленія и опредѣленія времени; пу-
стилъ въ ходъ мѣдную монету (нынѣшней формы, т. е. круглую,
съ квадратною дирою по срединѣ); изобрѣлъ письмена и два
струнныхъ музыкальныхъ инструмента. Императоръ Шэнь-нунъ
научилъ людей обработывать землю, культивировать просо, пше-
ницу, рисъ, горохъ, пеньку, выдѣлывать вино и лѣчиться цѣлеб-
ными травами отъ 400 болѣзней; опредѣлилъ мѣста для ярма-
рокъ и установилъ правильныя торговыя сношенія между различ-
ными частями своего государства. Императоръ Хуанъ-ди научилъ
людей дѣлать кирпичи и строить каменные дома, равно какъ
плавить желѣзную руду, а супруга его, Луй-цзу, научила выкарм-
ливать шелковичныхъ червей, разматывать коконы и ткать шел-
ковыя матеріи; чиновники, помогавшіе Хуанъ-ди, изобрѣли такъ
называемую „письменность птичьихъ слѣдовъ", разнообразныя
8
ш
сабли, пики, стрѣлы и особаго рода музыкальные инструменты
(состоявшіе изъ бамбуковыхъ трубокъ и колоколовъ), усовершен-
ствовали устройство колесницъ и гребныхъ судовъ; Хуанъ-ди
установилъ мѣры вѣса, емкости и длины; пустилъ въ обращеніе
золотыя монеты; положилъ конецъ свободному переходу жителей
имперіи съ мѣста на мѣсто, приписавъ каждыя восемь семействъ
къ одному „колодцу" и опредѣливъ, что три „колодца" должны
составлять околотокъ, три околотка—урочище, пять урочищъ—
селеніе, десять селеній—волость, десять волостей—округъ, десять
округовъ—провинцію; раздѣливъ имперію на девять провинцій,
Хуанъ-ди назначилъ каждой изъ нихъ штатъ чиновниковъ. Вотъ
какъ народъ китайскій былъ выведенъ изъ дикаго состоянія и
поднятъ на довольно высокій уровень матеріально-бытовой куль-
туры. На этомъ дѣло не остановилось,—послѣдніе государи древ-
ности облагодѣтельствовали народъ мѣропріятіями, имѣвшими цѣлью
его умственное развитіе, подъемъ его нравственности, улучшеніе
условій его соціальной жизни. Императоръ Ди-ку, въ видахъ обра-
зованія юношества, открылъ публичныя школы- Императоръ Яо
поручилъ Шуню (еще бывшему чиновникомъ) наблюдать за тѣмъ,
чтобы въ государствѣ должнымъ образомъ исполнялись такъ-на-
зываемыя „пять отношеній" (между отцомъ и сыномъ, мужемъ и
женою, старшими и младшими братьями, государемъ и поддан-
ными, между друзьями). Императоръ Шунь учредилъ спеціаль-
ныя коллегіи, въ которыхъ молодые люди должны были обучаться
разнымъ наукамъ и нравственности, а вмѣстѣ съ тѣмъ, для над-
зора за ходомъ просвѣщенія въ имперіи, назначилъ особаго ми-
нистра; установилъ правиломъ По одному разу въ каждое трех-
лѣтіе подвергать оцѣнкѣ поведеніе чиновниковъ и послѣ трехъ
провѣрокъ награждать и повышать достойныхъ, а виновныхъ на-
казывать или отставлять; основалъ богадѣльни для престарѣлыхъ
чиновниковъ и простолюдиновъ. Какъ жилось народу китайскому въ
ХХШ вѣкѣ до Р. X. и каковы были тогда его правители, о томъ
мы узнаёмъ отъ лицъ, пользующихся въ Китаѣ общераспространен-
нымъ и глубокимъ уваженіемъ, напр., слѣдующее. „Когда народъ",
говоритъ Конфуцій, „радостію встрѣчаетъ правительственныя прика-
115
занія—это называется согласіемъ; когда высшіе и низшіе про-
никнуты взаимною любовью —• это называется человѣколюбіемъ;
когда народъ, не прося, получаетъ то, что ему нужно,—это назы-
вается искренностью; когда народъ не выставляетъ причиною сво-
ихъ несчастій небо (т. е. дурную ногоду) и землю (т. е. ея
непроизводительность), — это называется справедливостью. Безъ
согласія, человѣколюбія, искренности и справедливости управленіе
государствомъ не можетъ быть правильно" (Ли-цзи, гл. 26).
„Кто", говоритъ Мэнъ-цзы, „будучи государемъ, желаетъ вы-
полнить (всѣ) обязанности государя, равно какъ кто, будучи
(высокимъ) чиновникомъ, желаетъ выполнить (всѣ) обязанности
чиновника,—тѣмъ слѣдуетъ только подражать Яо и Шуню. Слу-
жить государю не такъ, какъ служилъ Шунь (императору) Яо,—
это значитъ не имѣть уваженія къ государю; управлять наро-
домъ не такъ, какъ управлялъ Яо, — это значитъ притѣснять
народъ" (Мэнъ-цзы, кн. IV, ч. 1, гл. 2). „Шунь", говоритъ
Мэнъ-цзы, „съ того времени, какъ еще занимался земледѣліемъ,
выдѣлкою глиняной посуды и рыболовствомъ, до тѣхъ самыхъ
поръ, когда занялъ тронъ императора, всегда (старался) заим-
ствоваться отъ людей (добрыми совѣтами). Поучаться добродѣ-
тели у людей—это значитъ давать имъ самимъ случаи практи-
коваться въ добродѣтели. Для человѣка благороднаго (высоко-
нравственнаго) нѣтъ ничего выше, какъ давать людямъ случаи
практиковаться въ добродѣтели" (іЬід., кн. П, ч. 1, гл. 8).
„Народъ", говоритъ Мэнъ-цзы, „можно сдѣлать богатымъ (только
тогда, когда ему будетъ дана возможность) хорошо обработывать
поля и когда на него будетъ наложена легкая подать. Если пища
принимается въ должное время и если пользованіе (достояніемъ)
сообразно съ правилами, то средствъ (у народа) должно хватать
на удовлетвореніе всѣхъ потребностей. Народъ не можетъ жить
безъ воды и огня. Если темнымъ вечеромъ постучаться въ чьи-
либо ворота и попросить воды и огня, то (домовладѣлецъ) не
откажетъ, потому что ни въ томъ, ни въ другомъ (у него) нѣтъ
недостатка. Когда святые люди (т. е. лучшіе государи древности)
управляли имперіею, то они доводили (благосостояніе народа до
116
того, что онъ) былъ богатъ овощами и хлѣбомъ не менѣе нежели
водою и огнемъ. Можѳтъ-ли народъ быть не гуманенъ, когда у
него овощей и хлѣба такъ же много, какъ воды и огня* (іЪісІ.,
кн. VII, ч. 1, гл. 23)?! „Императоръ Шунь*, говоритъ Кон-
фуцій, „ставилъ цѣлью своего управленія поддерживать жизнь
(и благоденствіе) своихъ подданныхъ и устранять все, что гу-
битъ эту жизнь; онъ возвышалъ (на должности) людей добродѣ-
тельныхъ и отстранялъ порочныхъ; его личная добродѣтель рав-
нялась добродѣтели неба и земли, его спокойное и просвѣщенное
управленіе уподоблялось четыремъ временамъ года (которыя безъ
словъ дѣлаютъ въ природѣ свое дѣло). Въ его счастливое цар-
ствованіе народъ въ предѣлахъ четырехъ морей (т. е. Китай)
благоденствовалъ, природа въ изобиліи посылала свои благодат-
ные дары* (Цзя-юй, гл. 10). Таковъ былъ Шунь, такова была
жизнь народная въ' его время! Оказывается, что китайцы, на-
чавшіе при императорѣ Фу-си выходить изъ дикаго состоянія,
въ ХХШ вѣкѣ до Р. X. представляли собою народъ, органи-
зованный въ стройное государство, народъ богатый, просвѣщенный,
высоконравственный, исполненный гуманности, всесторонне благо-
денствующій. Но развѣ было такъ на самомъ дѣлѣ? Не было
ничего подобнаго, насколько можно судить по дальнѣйшему ходу
жизни китайцевъ, да и самое существованіе поименованныхъ нами
государей многіе синологи отрицаютъ, какъ недоказуемое непре-
ложными данными. Что цивилизація китайская началами своими
восходитъ къ глубокой древности и вырабатывалась постепенно—это
неоспоримая дѣйствительность; что насадителями культуры и циви-
лизаторами китайцевъ являлись императоры Фу-си, Шэнь-нунъ.
Хуанъ-ди, Ди-ку, Яо и Шунь—это не болѣе какъ миѳы, сло-
жившіеся въ народѣ на основѣ его миѳическихъ воззрѣній; что
во времена Шуня китайская цивилизація достигла той завидной
для всякаго народа высоты, о которой мы говорили,—это вымы-
селъ Конфуція (распространенный его многочисленными продолжа-
телями). Прибѣгая къ вымыслу, Конфуцій находилъ для себя въ
миѳахъ опору, но имѣлъ въ виду не закругленіе народныхъ миѳи-
ческихъ сказаній, цпазі - объясняющихъ минувшую дѣйствитель-
117
ность, а изображеніе идеала, долженствовавшаго направлять исто-
рическую жизнь китайцевъ въ будущемъ, — вымыселъ Конфуція
хотя стоитъ въ формальной связи съ миѳологіею, но по суще-
ству своему принадлежитъ области деологіи. Чѣмъ болѣе въ длин-
номъ рядѣ вѣковъ конфуціанство овладѣвало умами китайцевъ,
тѣмъ послѣдніе глубже проникались желаніемъ видѣть завѣщан-
ный идеалъ осуществляемымъ въ образѣ народа хорошо органи-
зованнаго, народа богатаго, высоконравственнаго, просвѣщеннаго.
Золотой вѣкъ Шуня—это не фактическое прошедшее, а идеальное
будущее Китая.
ОЭ'РС'СЛС
/ Уу/*Ц
-г ПЯ йЯ * л 4- ч *г
й $ Рі е рі 7
8 Р^ ?
/г
в^ х 4* /6'
Х1 /8 Ѣ /э /X 2о
/і^, і')', *і- Ц^
і-^Р Р^
І. 2^- І-Ц2 2/ 3 -^28
т..Гайу>илсена- Казамк.2.4. С.ІП5.
//
35 & ™
-В- шЬ
5/ _Ь 4
7С 77 -Ь 7С
т Л 77 Л
55
$ 52
55 3- Ш
^7 74-
52 ;Т^
уз] 6'2 ІІх. 7°1
УА ѴЙ 55 4йі
’§ 57 -Г
ІЧ 65 4
# 77
іс 0 ІЯ
//о рі т я і. іи я
<2 99/ Ц, 457 №
1“й^^ И й
7^ ы/ %
У/\ ІІЫ ~?/\
у Ж ті
24/ «Г ІИ!
^4/ СИ
Ц /2/ '^•9 2/
гг 4 т
/? и ^= гг/
/и Э<
Ж Р®
.я?/ ^#^-5^/
ии |/^гг//
У осі
Ь?! >р"
^/ <?4/
^-?л/
ы/ "|М 6?
Ф ^М/ <
ф Ы «и у
-У
°^' М У 6*!
1^1 /^/
еІ-^лг</
1^1
си и/
9/1 Т
А!
/Г /83
/__ г^П у ^Ч у «< І-
1&-
/^хЦІйу? Ж /68 &
97° Ж '79 Ъ%. '7*
/73 ^7^- '7?&- /7Г
М- Л /7<г -Ь № >К /77 0Я
/^ % /79 7^ 3 I 980
7^ О. /*/ "Й' О /99 7г і^)
/83 /84 ^(_ /85
Ф /96 7і 37 /8/^.3 /88
’зР ,і9 Ж
/•?//99^^ /93 1| 4°) 99 4
рё] 994 /94 С.^і
99/ /88 дЦ
7.оо 7г -5- 7о/ 7о9
2/2 2/3 2/Ѵ
•Ц7 РІГ 2/6 Р^І 2/7
К. І 2/6 %Р 2/9^
Ъ. &? 22о#$ 22/%& 222
|< 223^ т\ 224 %
222 226±_ 22/^-Цз
/ПК 222ІІЦ ЯѴ 229к±_ 23о
/^- 23/ ±_ ±І2 232 /г\± -Щ-
233 .і ІІ2 234 ± 232
± ІЙ. /К^ 236 ±. 237^
233 Ж Ж 239^.,
РМ^% 2«/$&^ 222^
ѵл
2Н І-Ц %Р 277 % %% 255
< 256 Ш 257 278
%Я^ 259 Щ 25о^ 25/
252^_ 253
35 Лк 257 255 Й
Лѵ^ 275 я ^75
УХ/Т^ 2Л^ 273
372 ЗЗо У^\ 28/
232 /5] 1Ѣ 283
-X V
8^!. @
е,і.
Ъо
Ш 881
98? ЧУ V Ы! Ш/ Ш 'І2-
/НА
ЗЗо 33/ % 332 ^
Й 333 Ш 335^^
336^^ 337^ 338
332 Зі А зМА^ ЗѴ/
Яі^ зуу^± зчз в^
ЗЧЧ А- ’І'^ /V 346
З^А ЗѴ7 3^8 А° зѵэ
|^] X зз-^.й А ЗУ/ А
352 353 3^ ^)3] 355
35е С ЗУ/ 358 359
^^1 Збо 36/
352 ТѵФ 353 Збі %}
2Й ^Й. 365 ^1 Д 356 4Ь 2^
§ У/
V Я
±
-^ -= *'/,
Ге КЗ Ц >?Ж°">
,Д со/, во/, ^°.
К ЗЕ
?О4 7ІГ §§ Іо/г оо4'
есг ^%8<;е г/г Т96ь
усг "1^
"ЦС^ ме 3^ ^обі
88С /^? 98І
У8Е У* (г8Е С8Е
/М д^*$$оМ ~А%
§?^/е ^І'а^ т У /и
‘ііЧ ‘/2* % Ж
ЦІ
^•^ЗЛ і/з° =р Ш
А Ж Я' А 4-іФ кз Л>
А $ Ш % %_ *3 Г #
*/зе '& >]< Й ^38
>]< ѴЗЗ 4ІІ $Х
-й. ^~
Т ^3- ІЛ.
^і.
^Е. ЪЗ-о УС 45-ГІ$І.
^і±1
ііІ. -ііЬ ^<5 А Ьз? л)>
У/г] 7^. З’ЗЗЛ^ ій 4зз> рс
^60 Й) х -Щ- ^е//ІІ1 У62
Ж 4іЬ
У-|'|'| і/6ч %
Ж /4^ М І
5оЗ 7^. 4°)
й ф
Т. ЛЗ № 5іч ^в ЛХ- 5/5
5/6 УІ Я >. 5-//
'І+ 1 5/8 $ 5/2 2- '^’
4^0 52о УіЬ 52/ Ц
522%. $ 523 ± 524
-^Й. 525/Г ^Й.
522 Л. 7дС 528
7|/ 522 2)6 *кЦ 53оІ^_
53/ 5 И ± ±12. 531 М
±- ±И 533 йМ.^ 534
535^ 536 з] ^7 ^±
537і.^ X 538 2.^, 532
лі^5 «о і л/ <К ™
О т -'-’О #В
-5- & ліА 4Х' 547
& А лі? 54 з 3-
І'ІІ 55о у)5| >|)1і ?5/
Л»^ 552 5-^ Лѵф 553$
/7І^ ТУУ^Д ЛІА ЛУ А_ А
555^1 л-хі’ ®) 556
л Ыо §
/Ті.0. і~б/ -^- ДіФ 562 Тз§ 5~63
УА ІЯ 564 Д 5^5
& 566 56/ 56*
< 562^ Д
/Т^ А %& 5/2^ 573
І2 ^1 5/^ АА А. 575
*Ц ^76 й 7/7 А.
5/6/^ ->)<. 575 А 550
А < 58/^ А 552 А.
583 №. 584 § 535*?
ѴЙ? “Н”
2==^ ~§э 7р 37/ <р 588
іё г-89 гго^
5-^3 5ЭЧ
гм ^6 ± л?7 о 538 3.
6оЭ
Цѣна 1 руб.
СОЧИНЕНІЯ ТОГО ЖЕ АВТОРА:
Первый періодъ китайской исторіи (до императора Цинь-ши-хуанъ-ди).
Спб. 1885. Ц. 3 р.
Принципы жизни Китая. Спб. 1888. Ц. 2 р. 50 к.
О корневомъ составѣ китайскаго языка, въ связи съ вопросомъ о
происхожденіи китайцевъ. Спб. 1888. Ц. 2 р.
Анализъ іероглифической письменности китайцевъ, какъ отражающей
въ себѣ исторію жизни древняго китайскаго народа. Спб. 1888.
Ц. 2 р.
Древнѣйшія монеты китайцевъ (отдѣльный оттискъ изъ ^Записокъ
Восточн. отдѣл. Пмп. Русск. археолог. общ.» т. I. вып. IV). Ц. 1 р.
ГраФЪ И. Толстой и «Принципы жизни Китая, Спб. 1889. Ц. 50 к.
Важность изученія Китая. Спб 1890. Ц. 2 р.