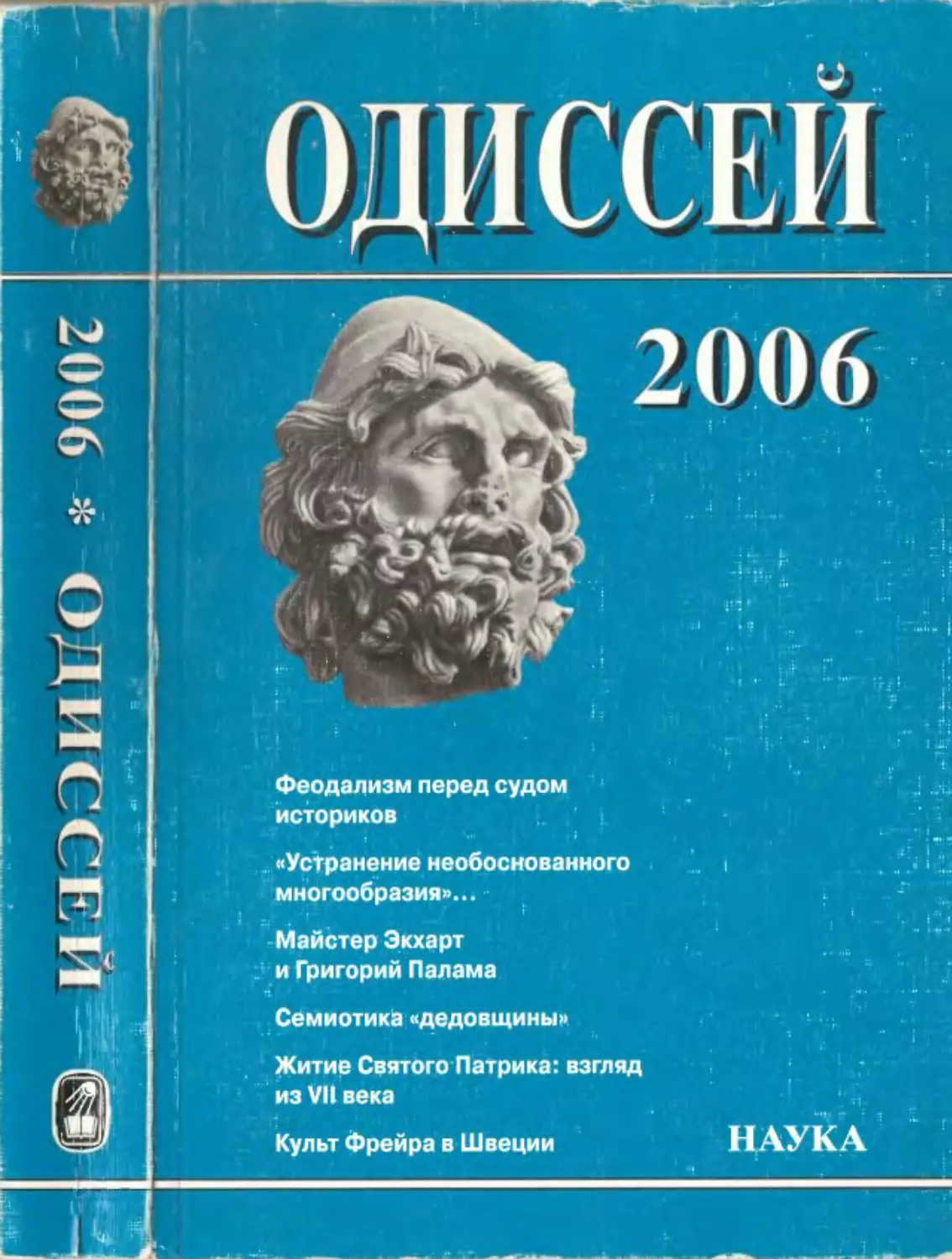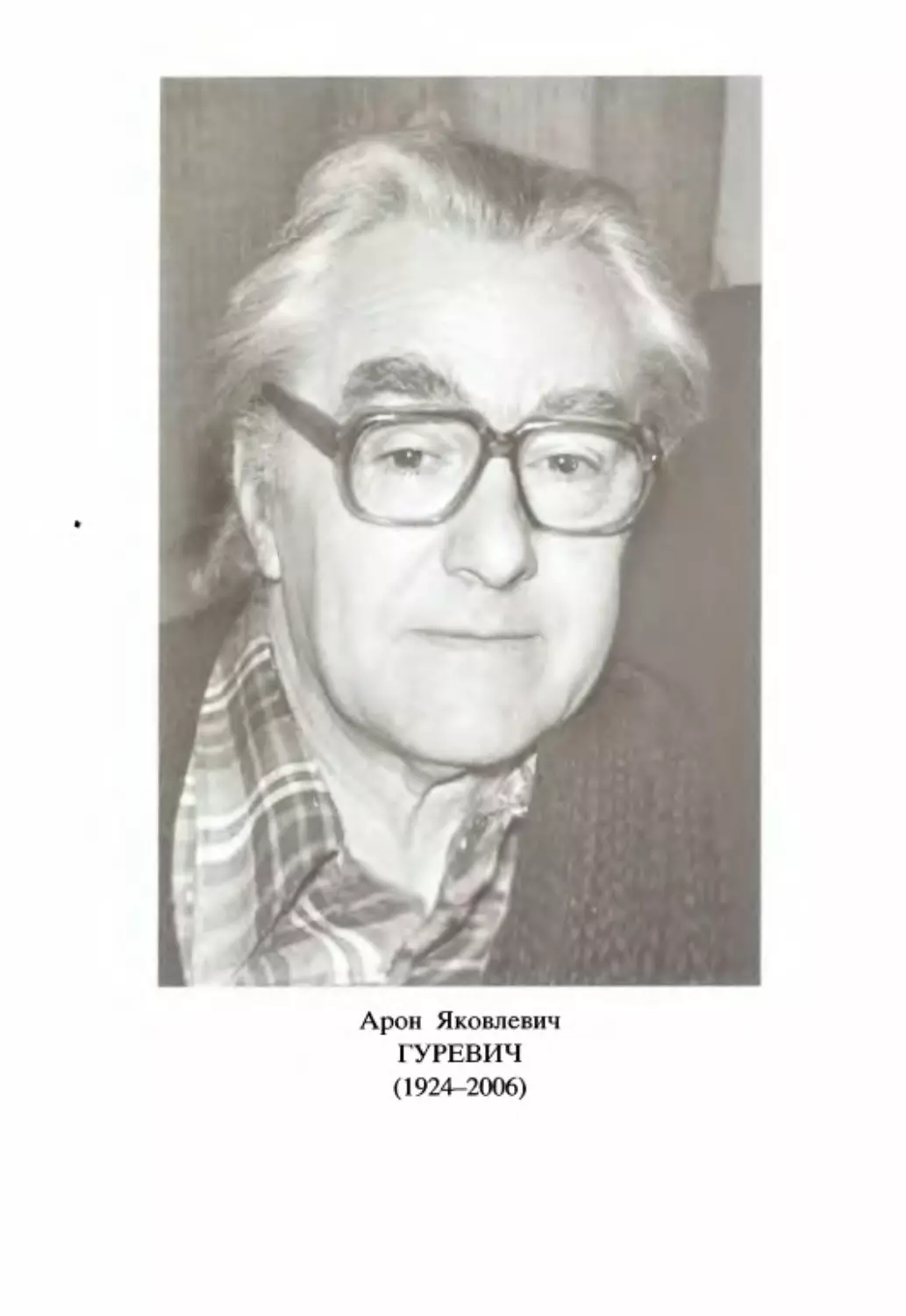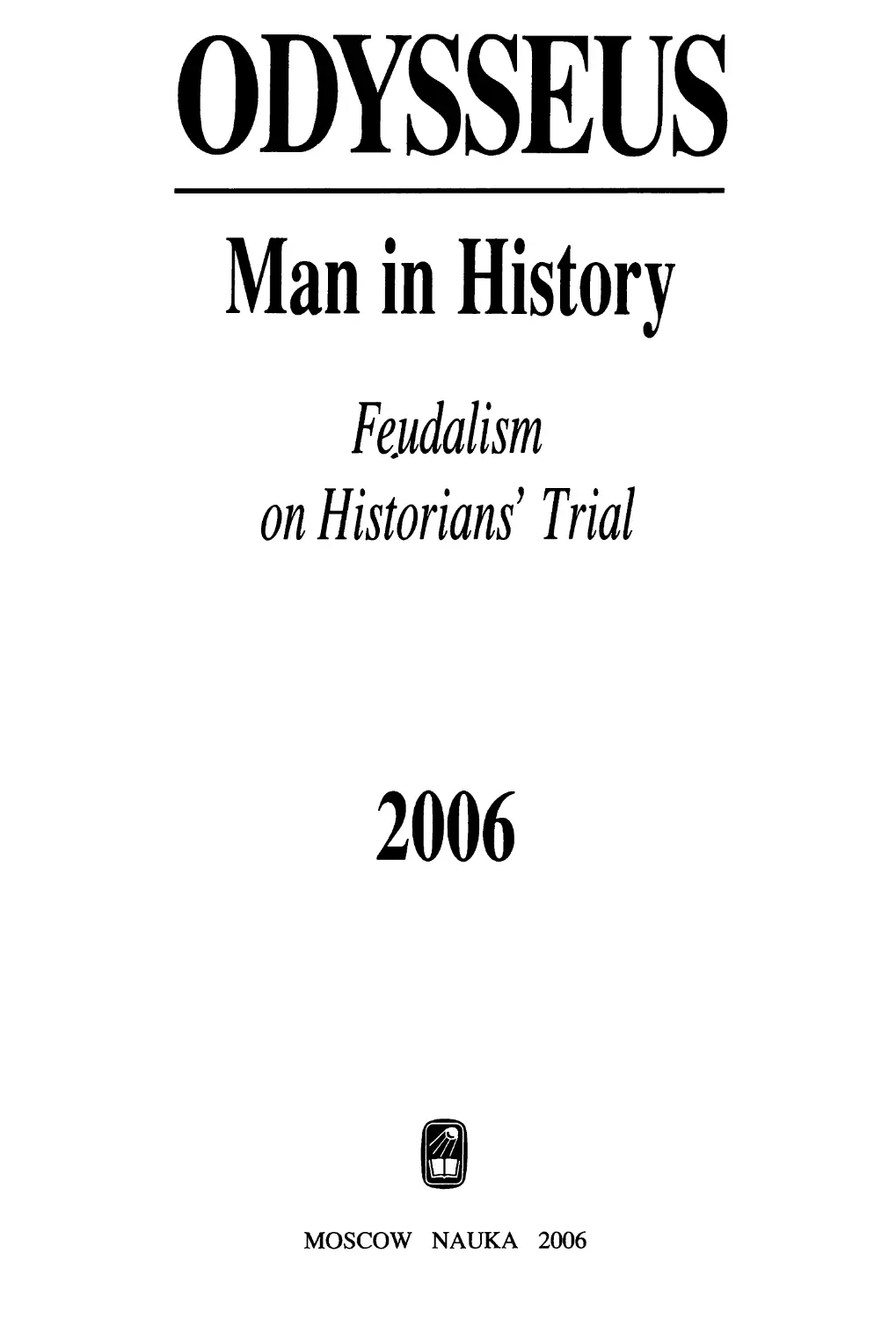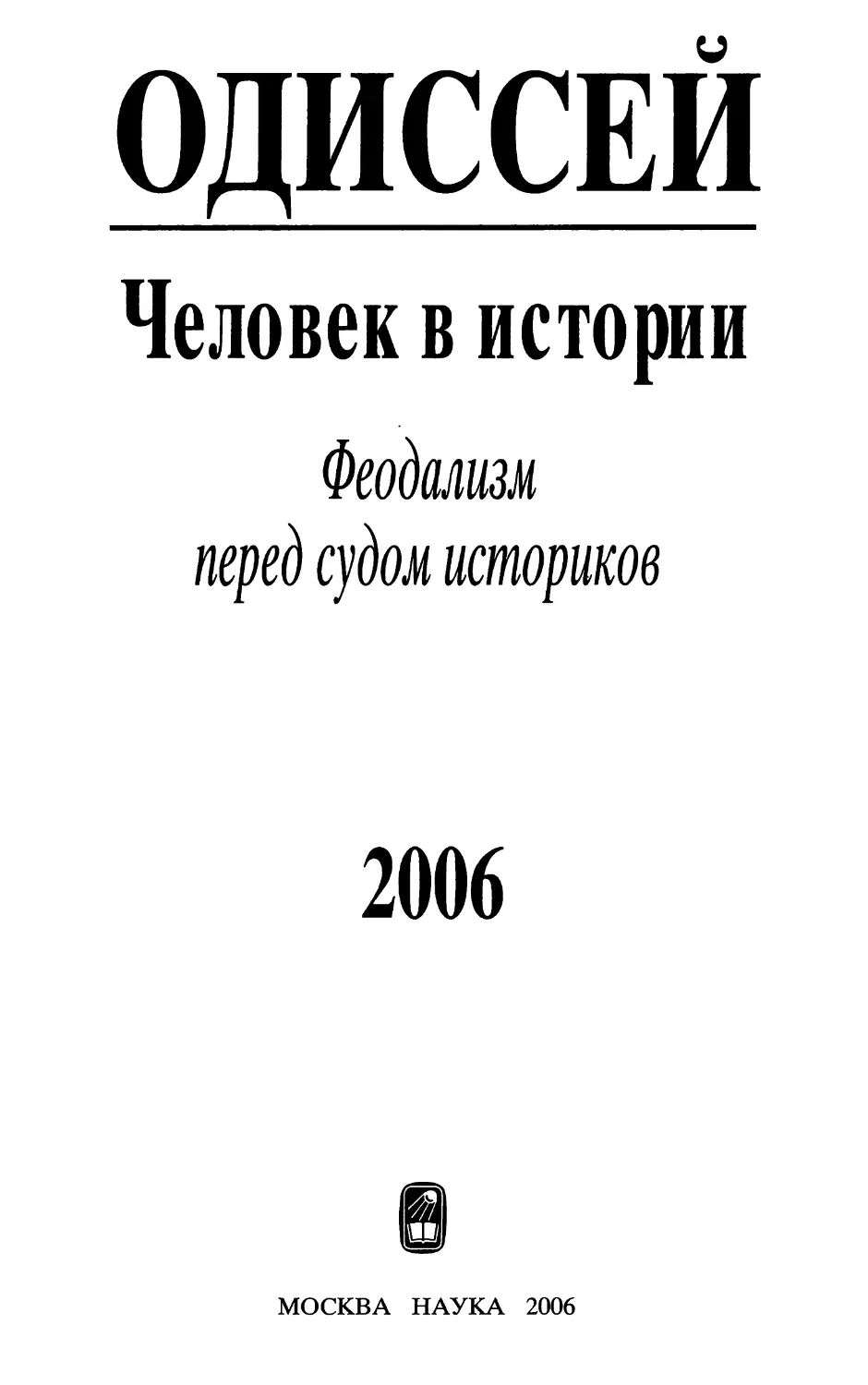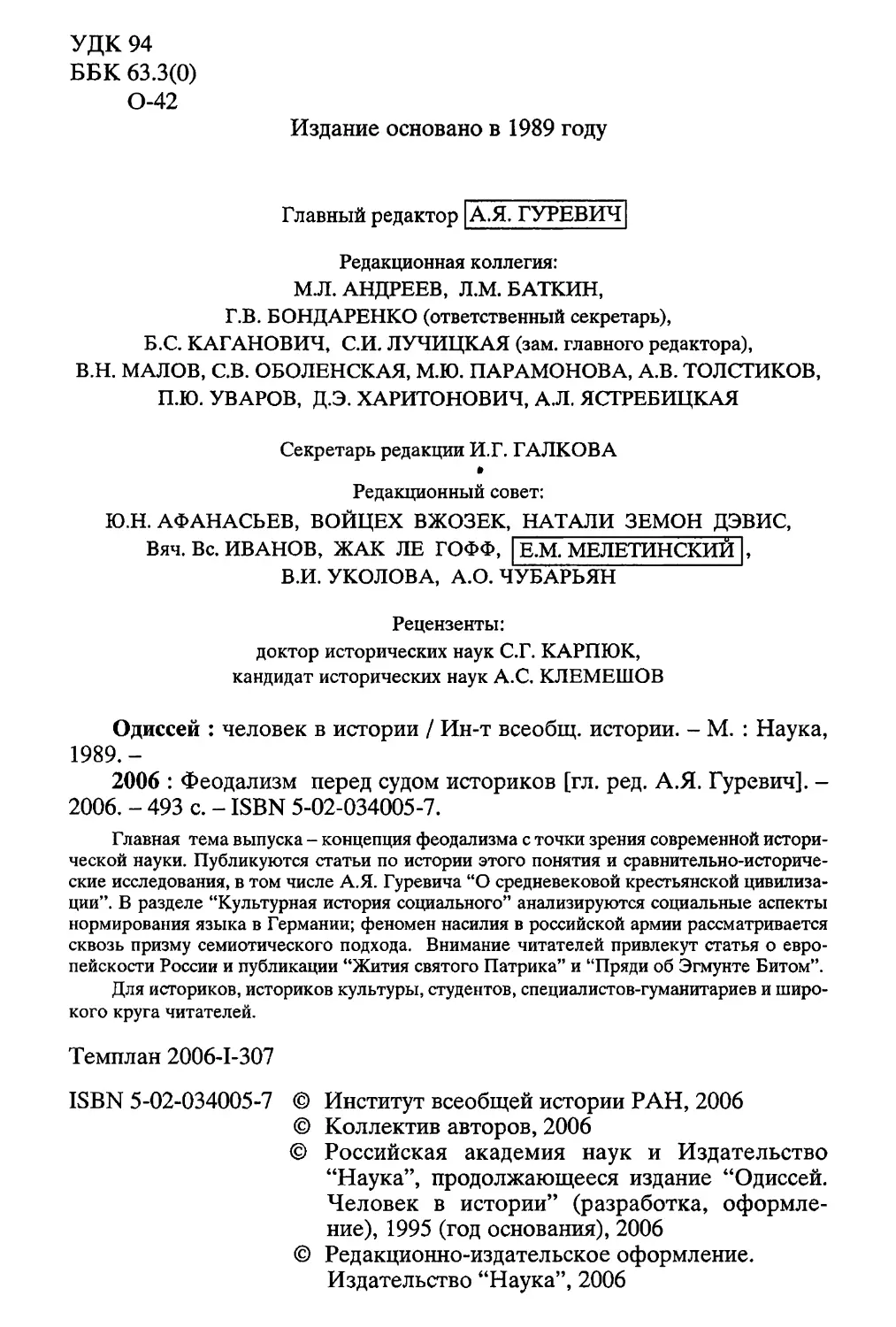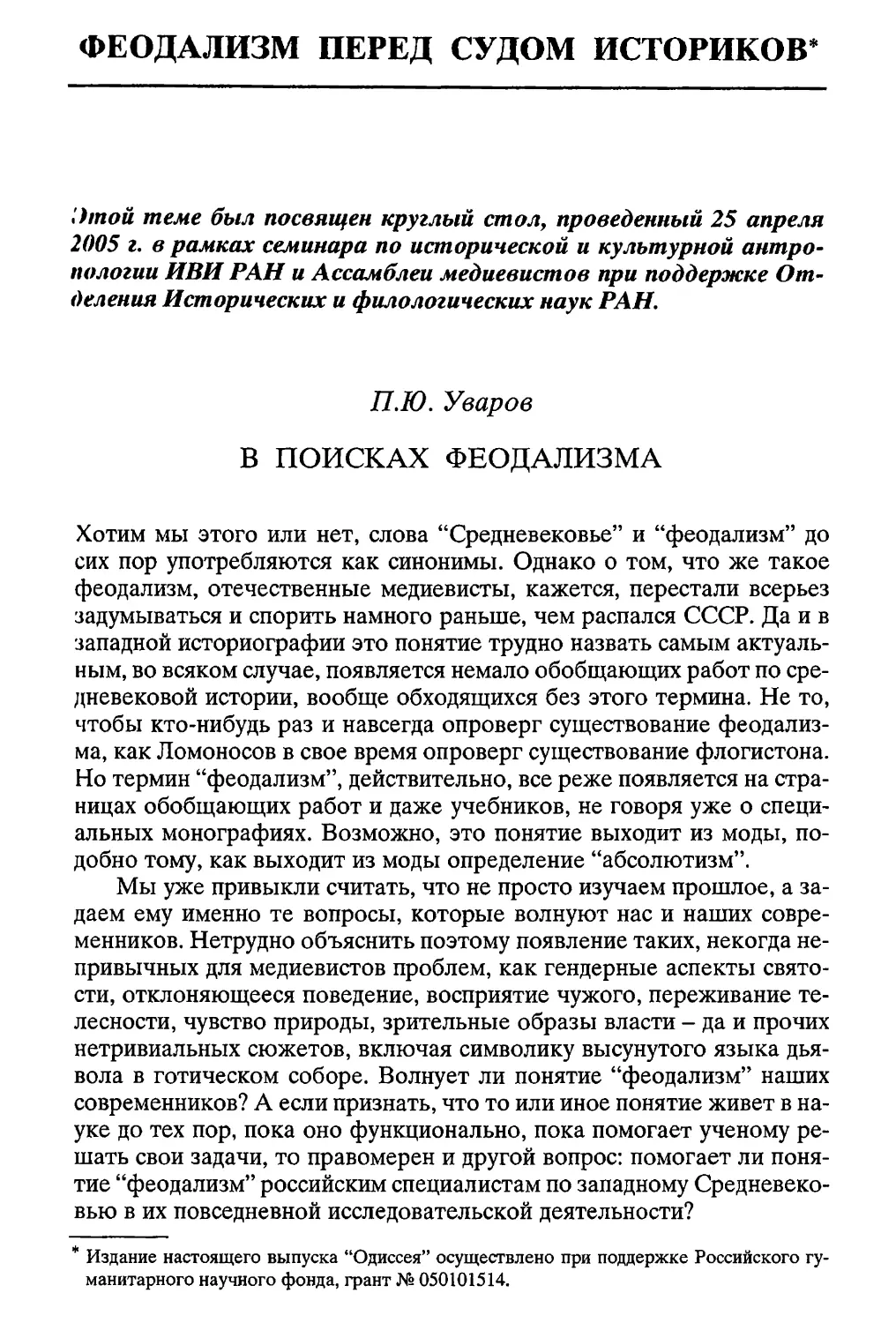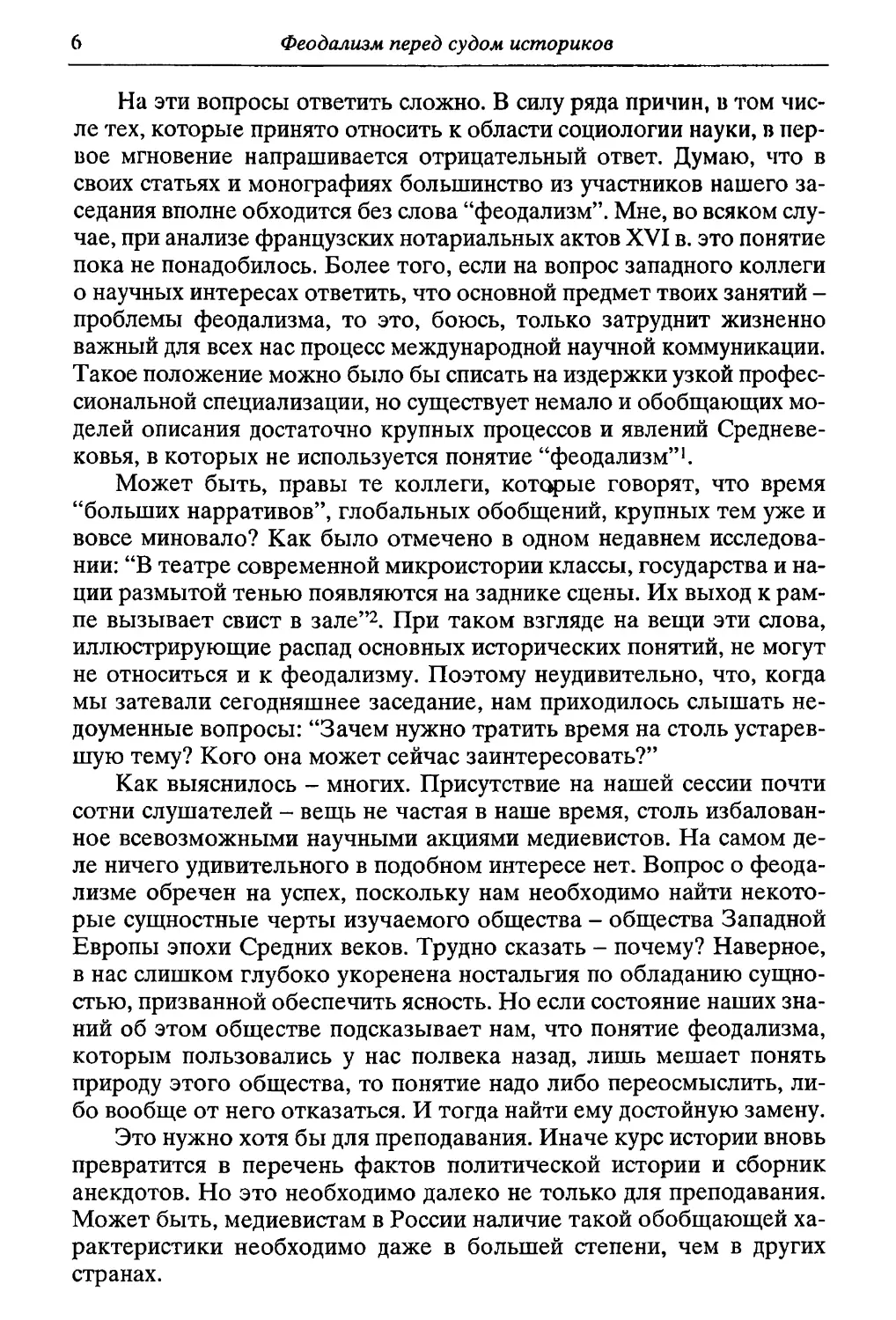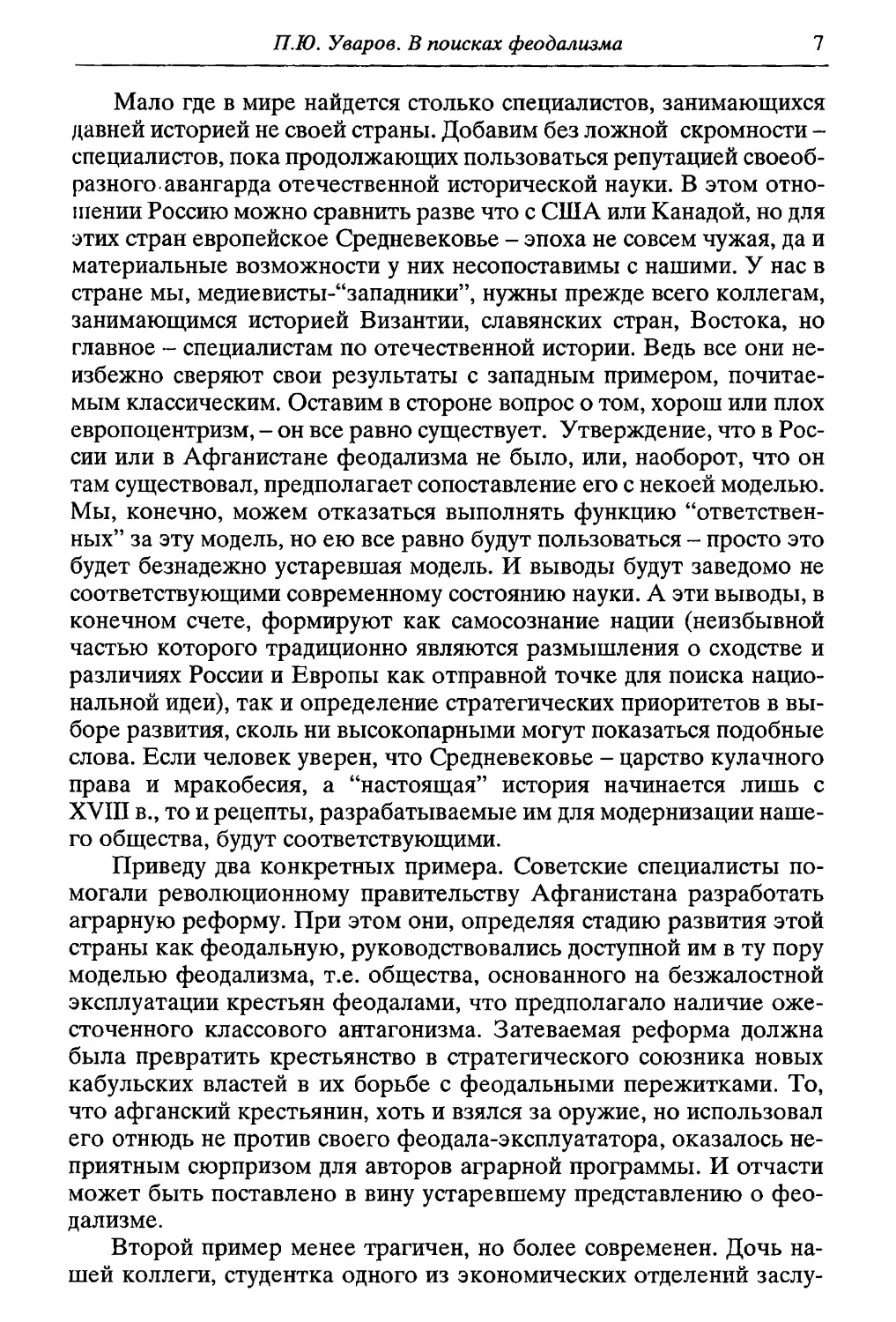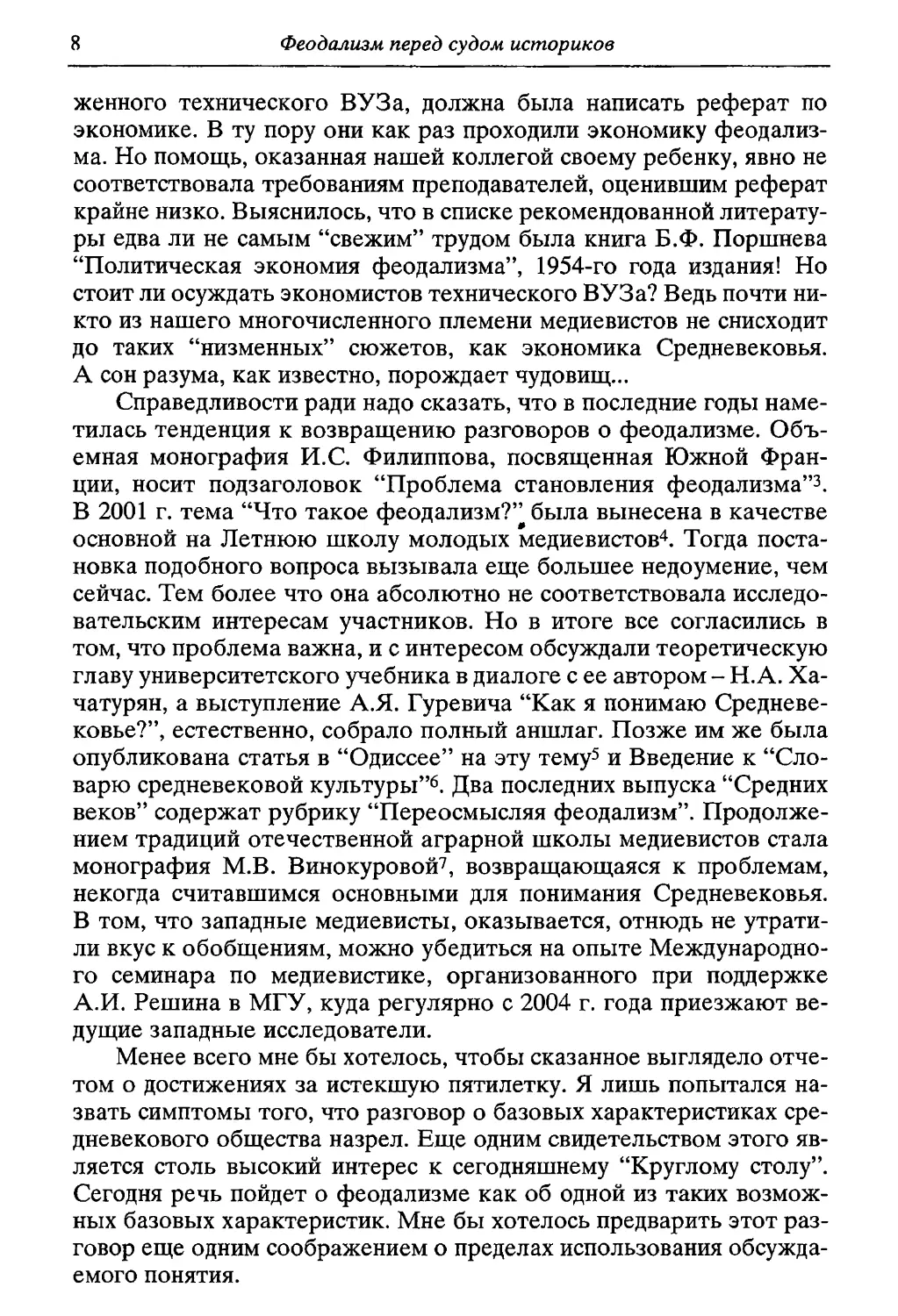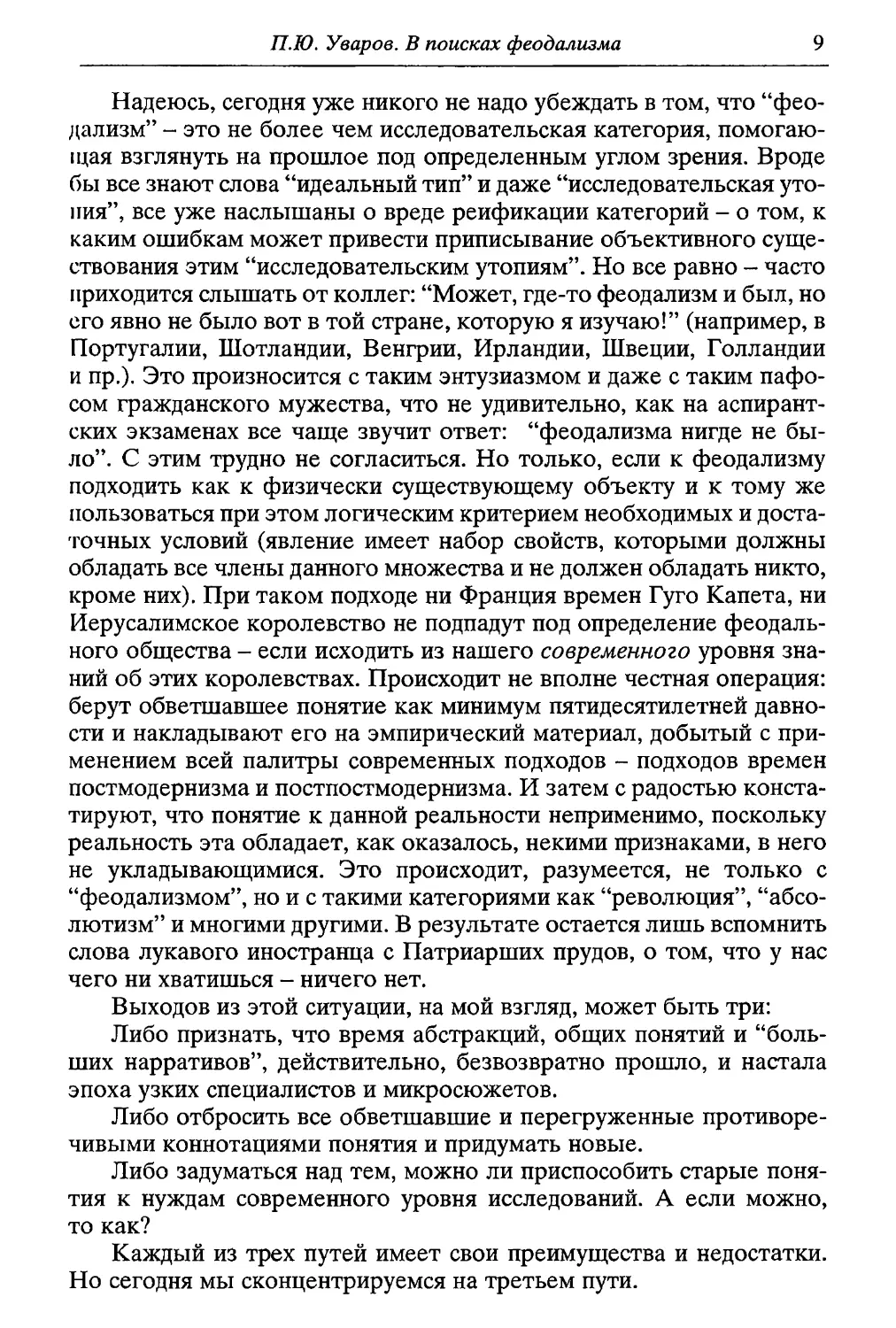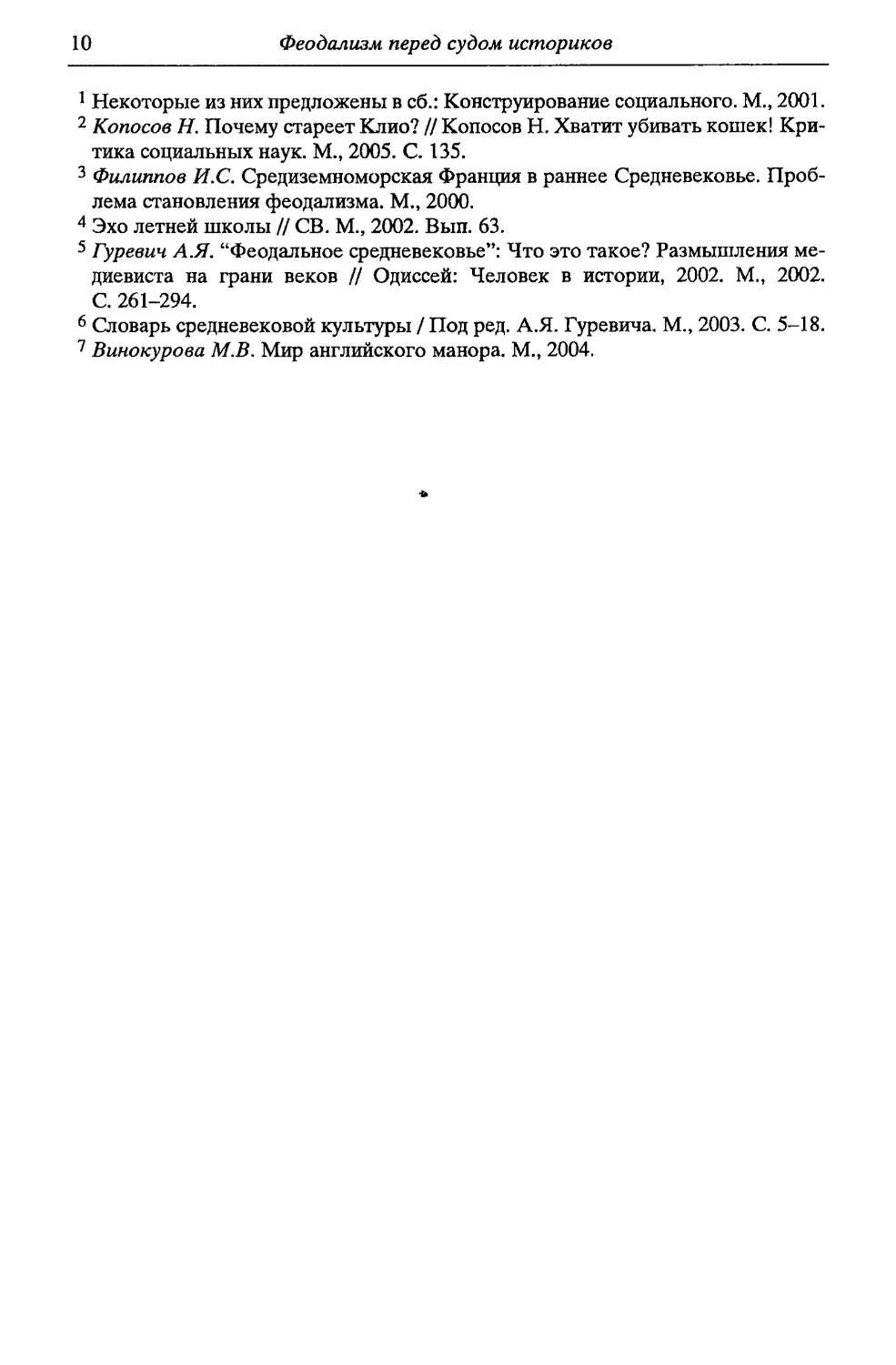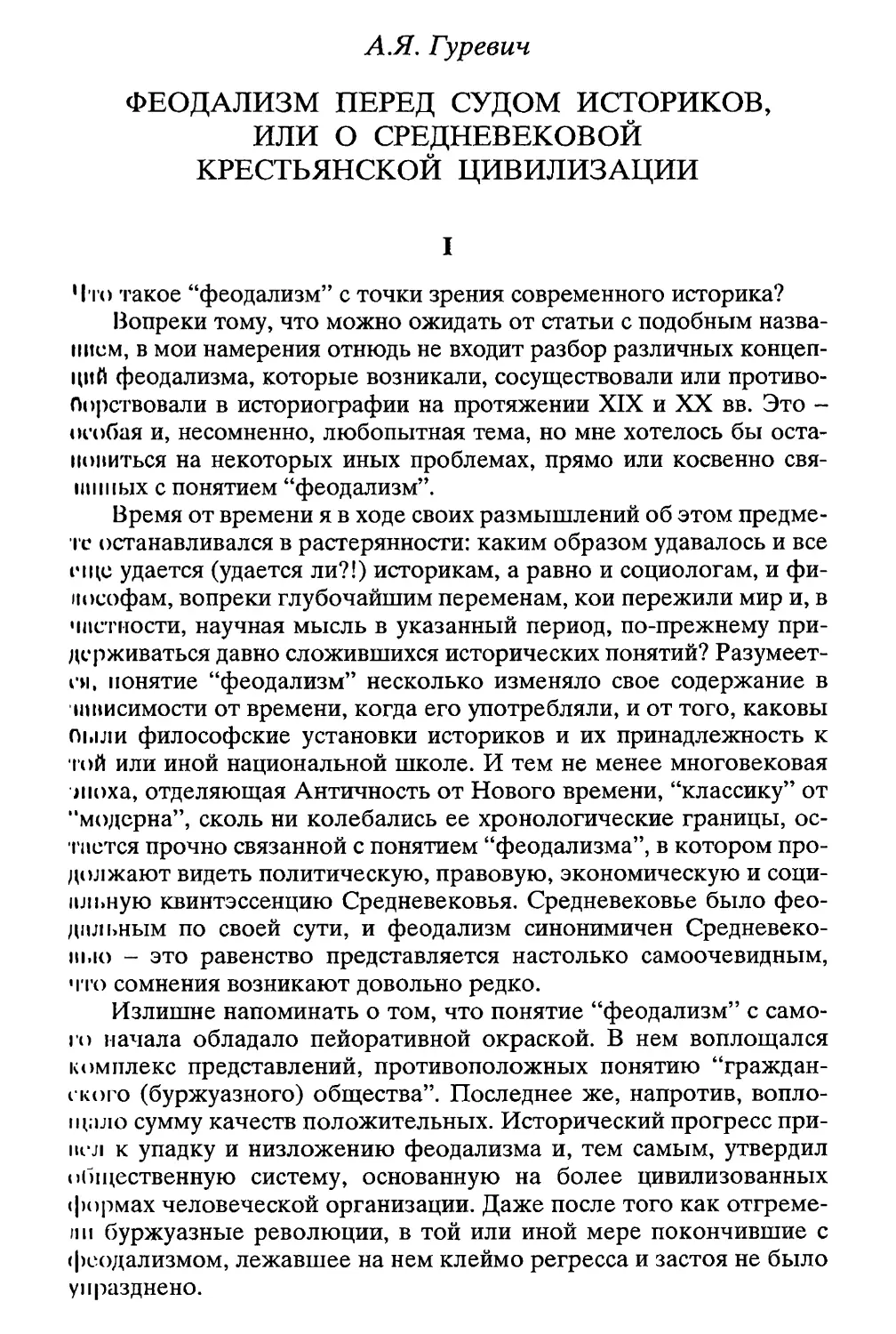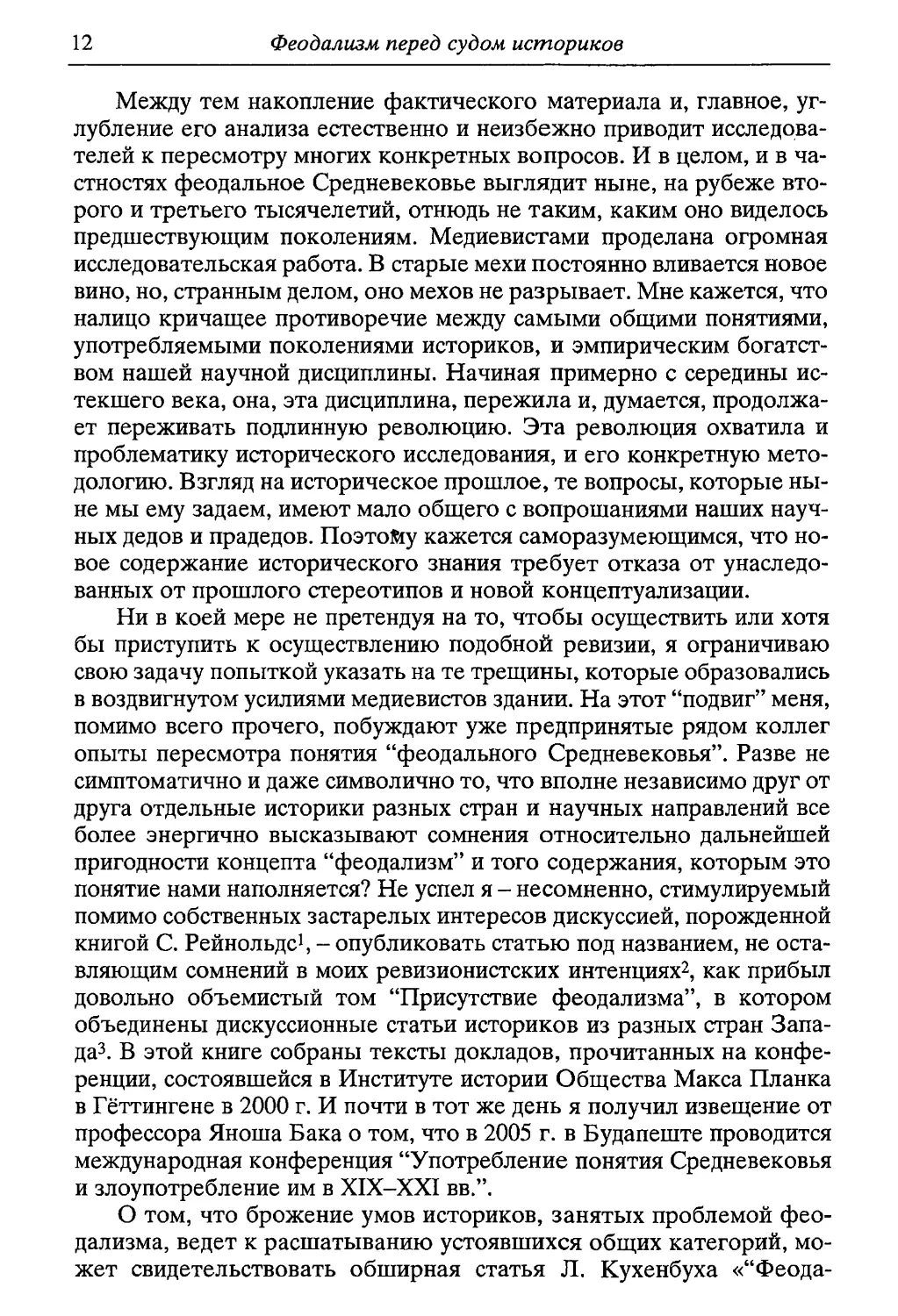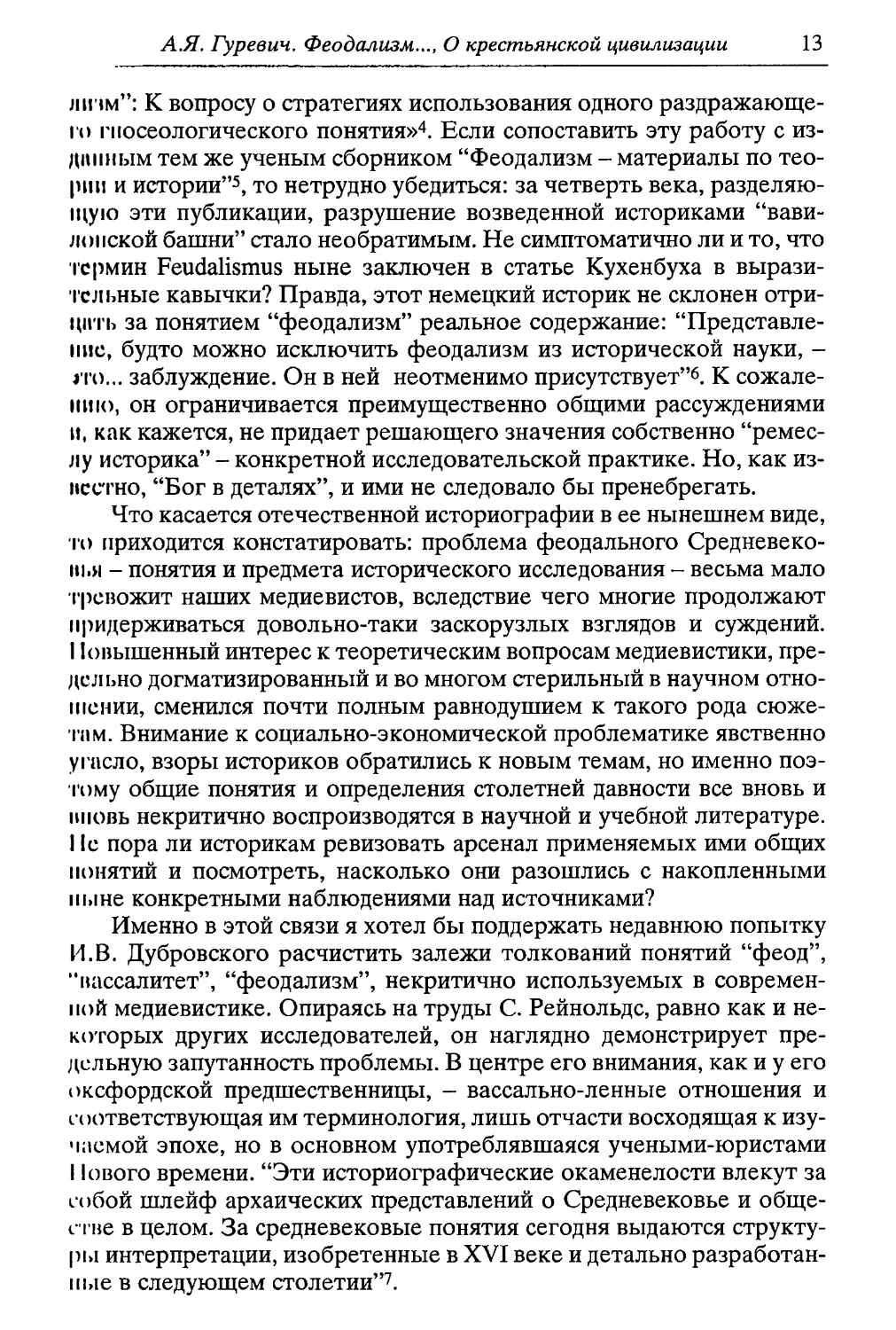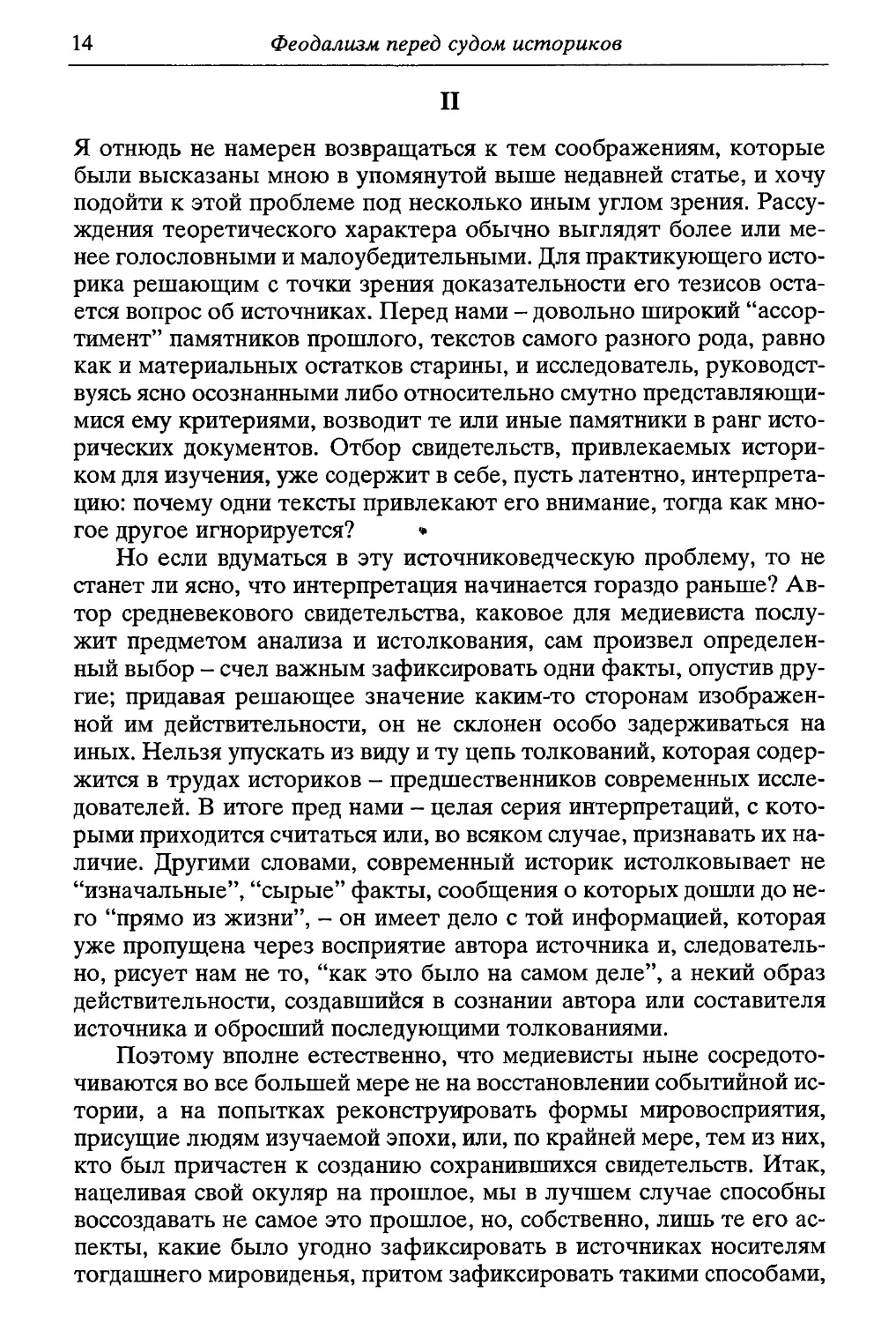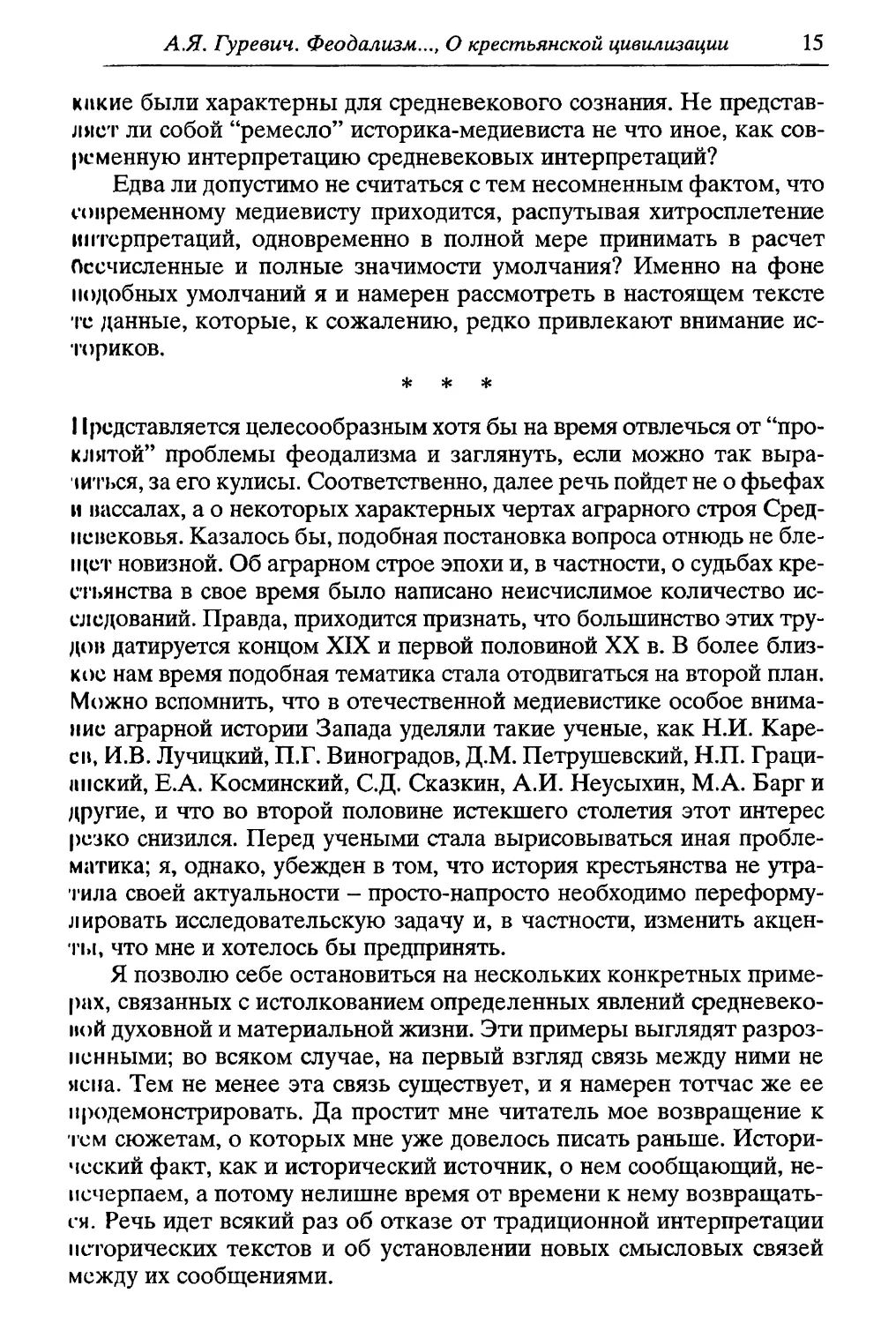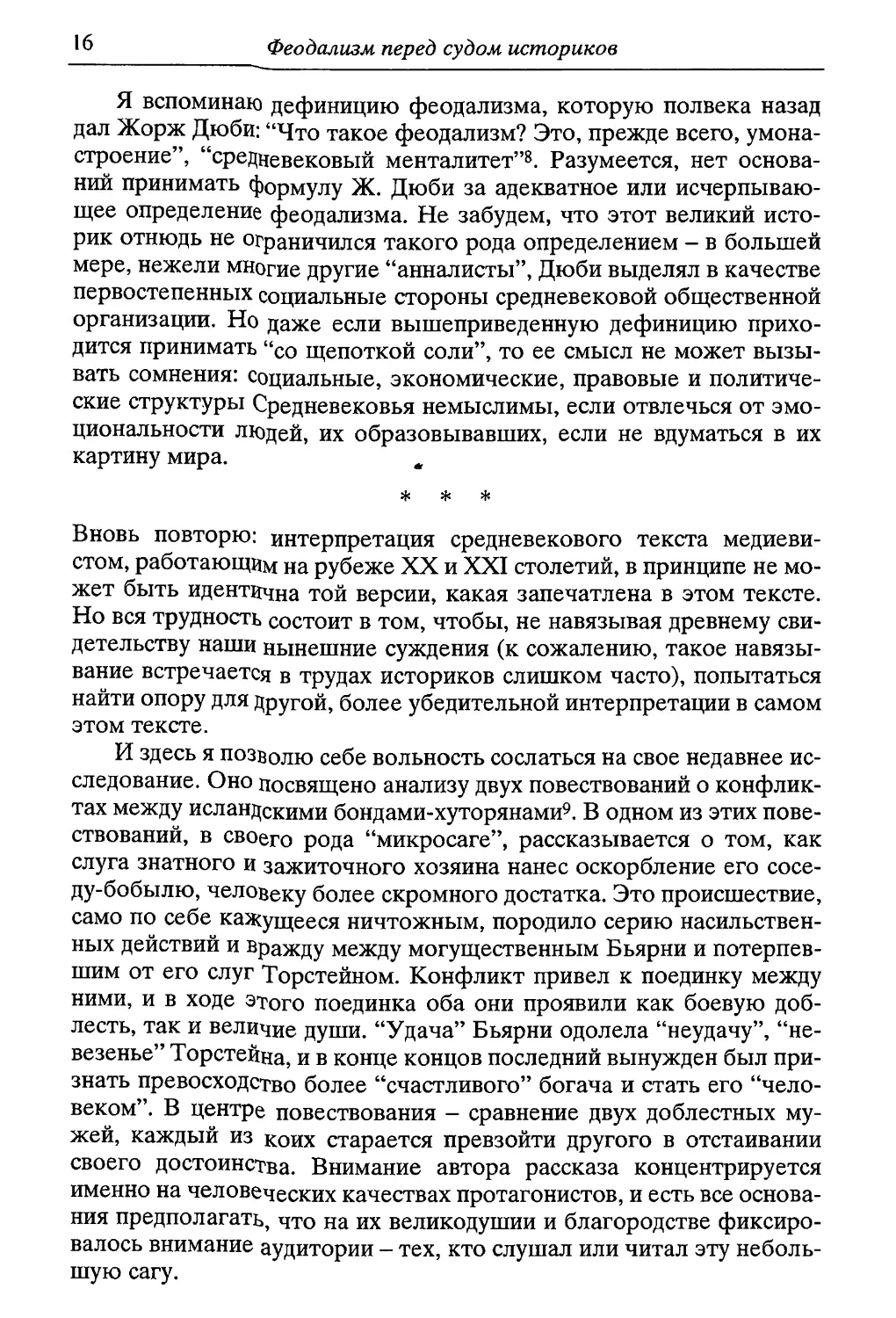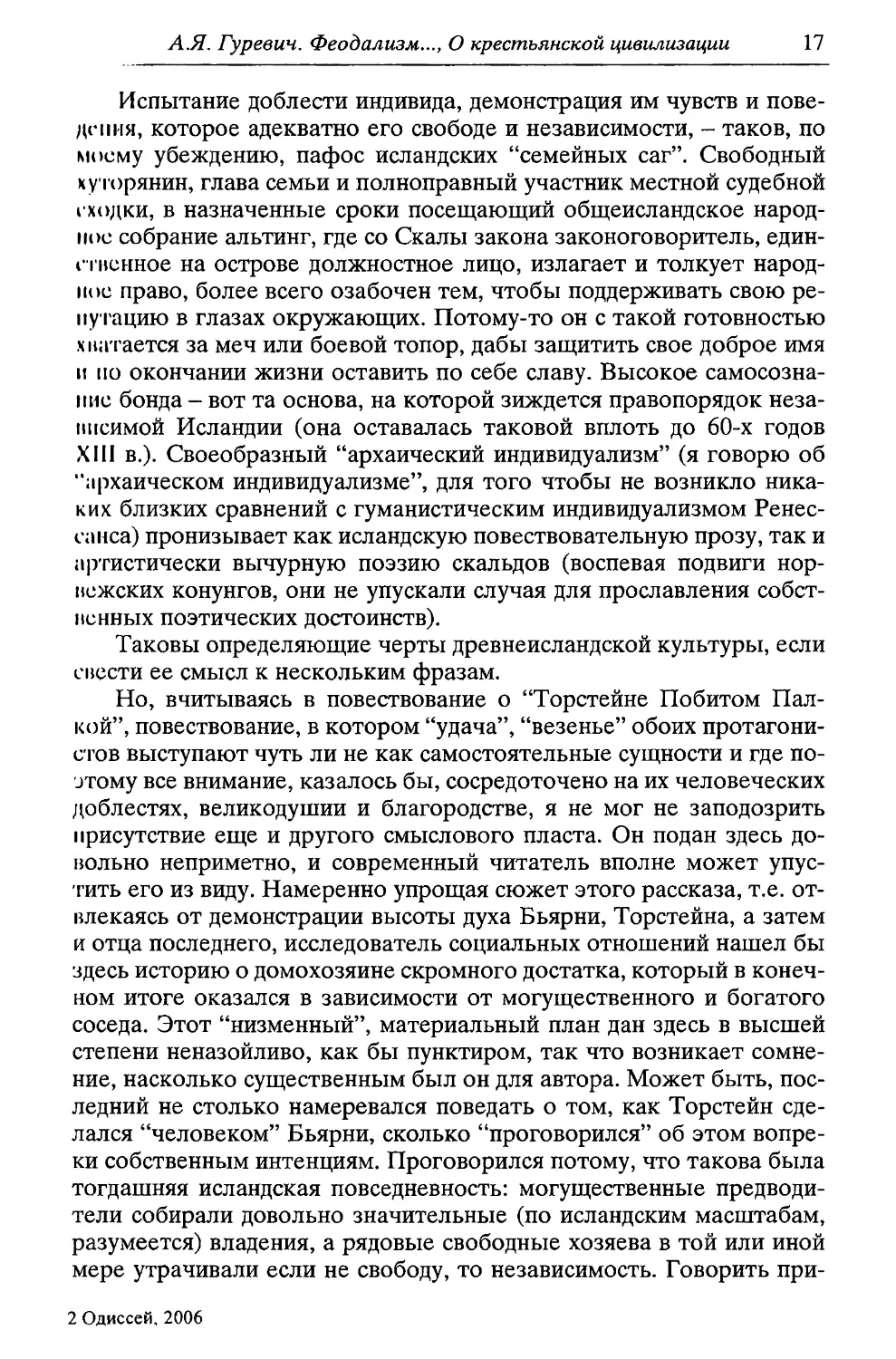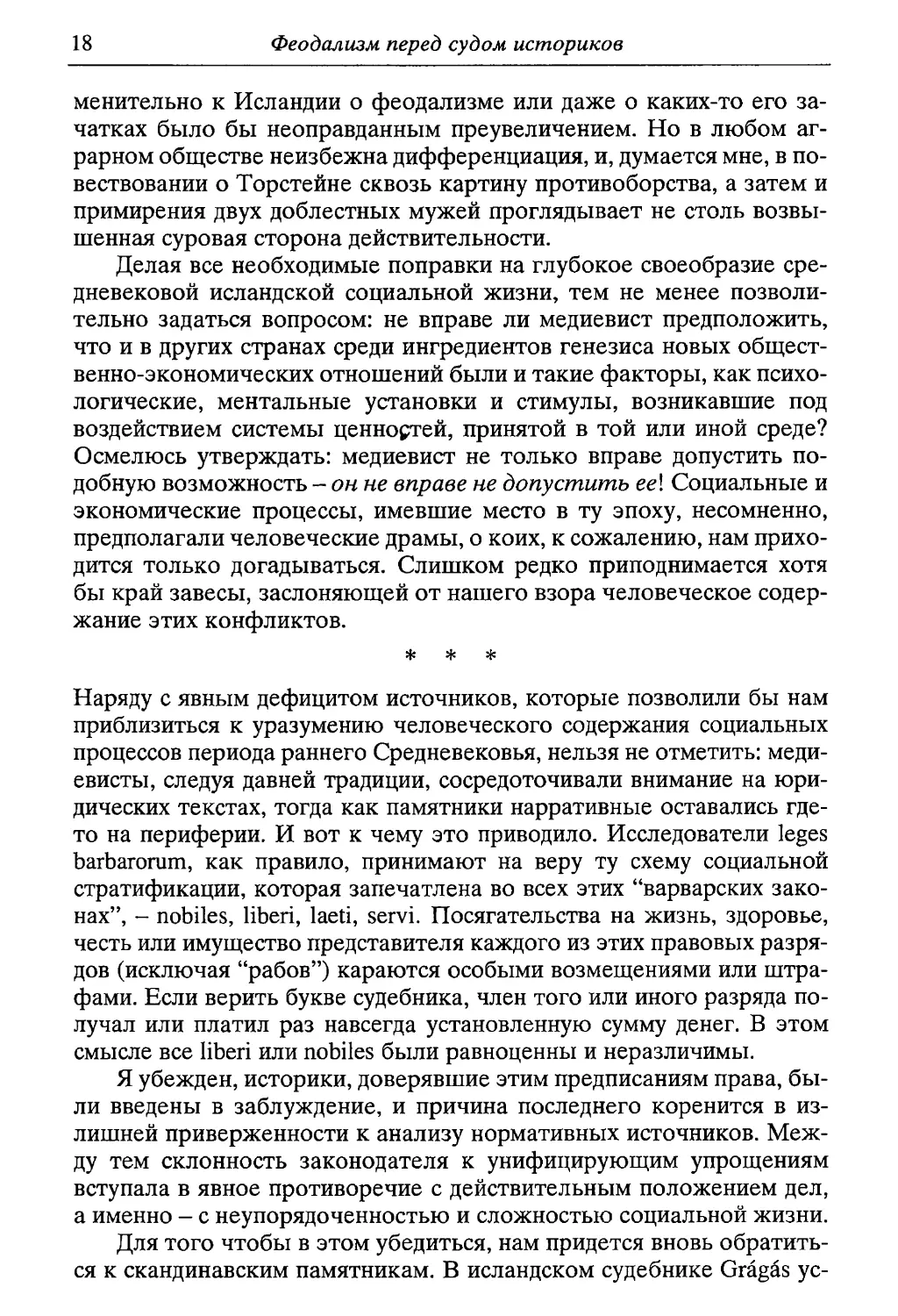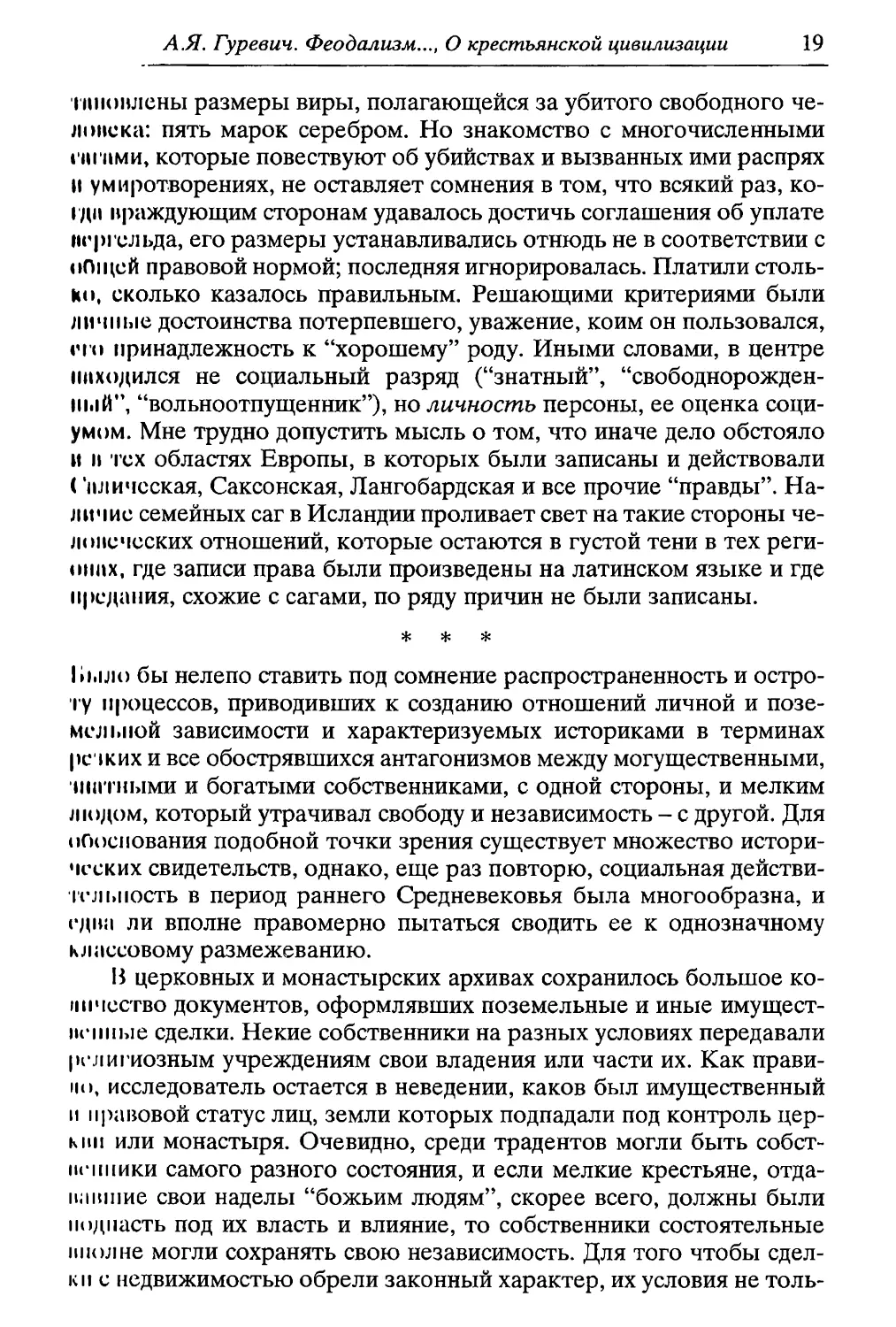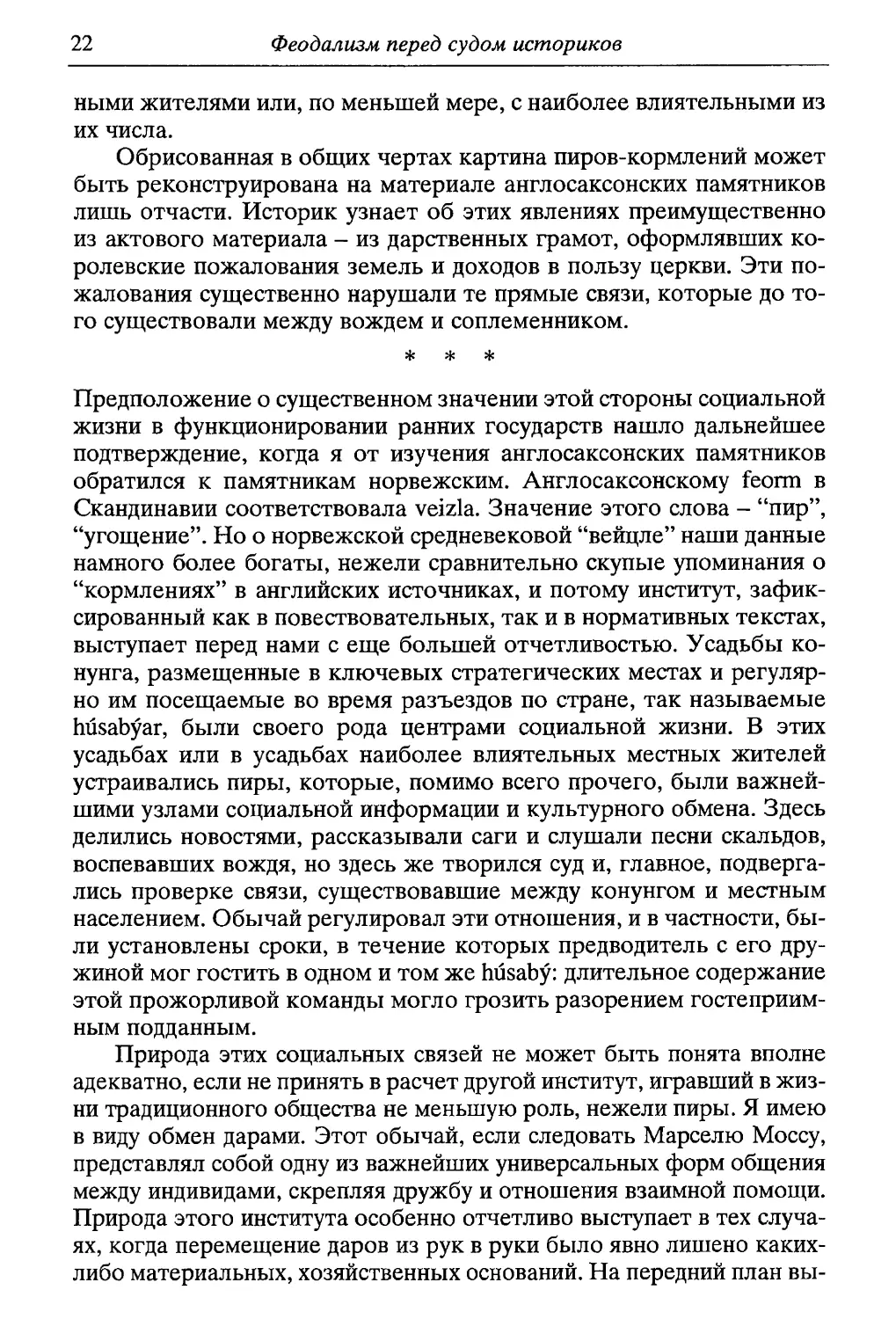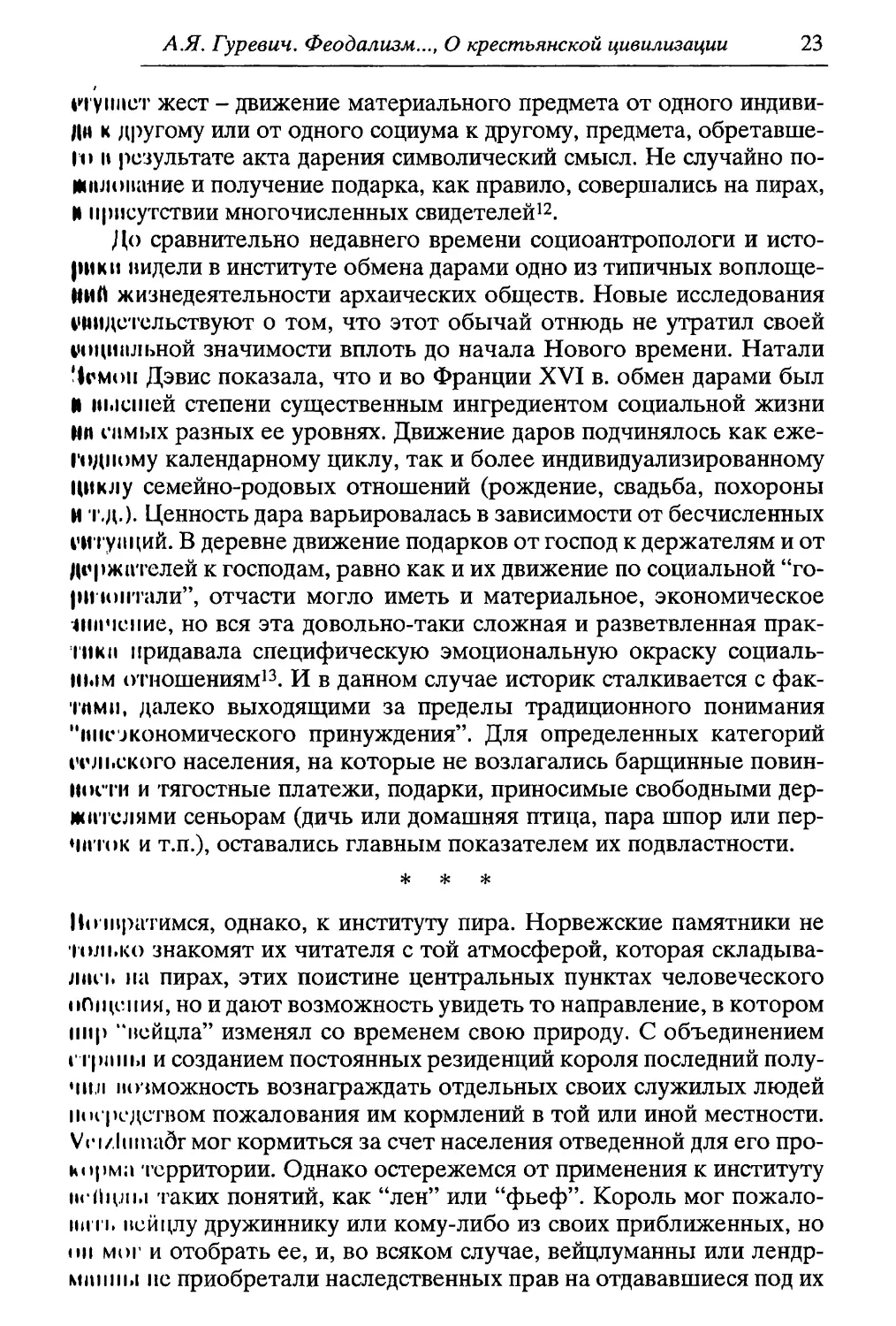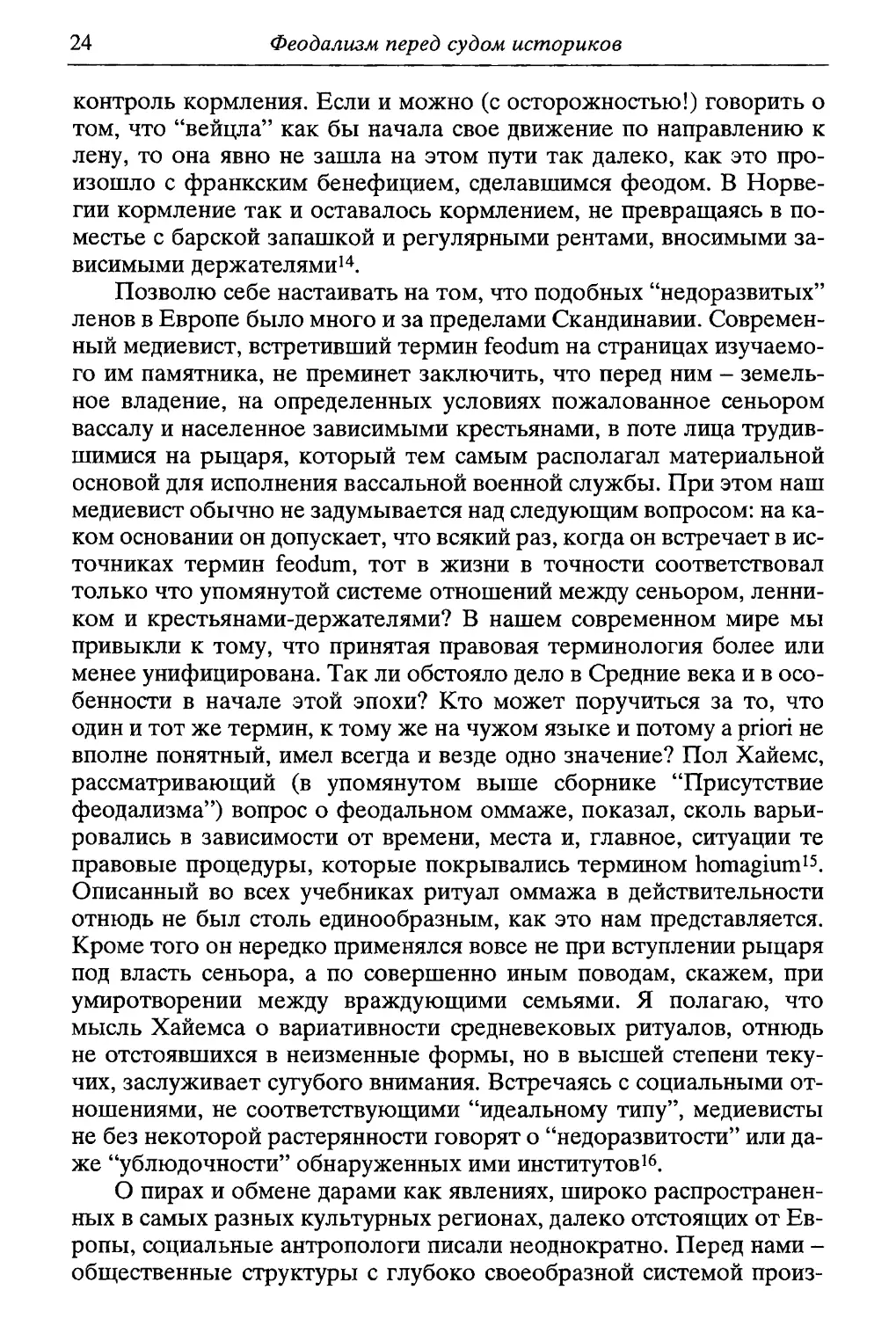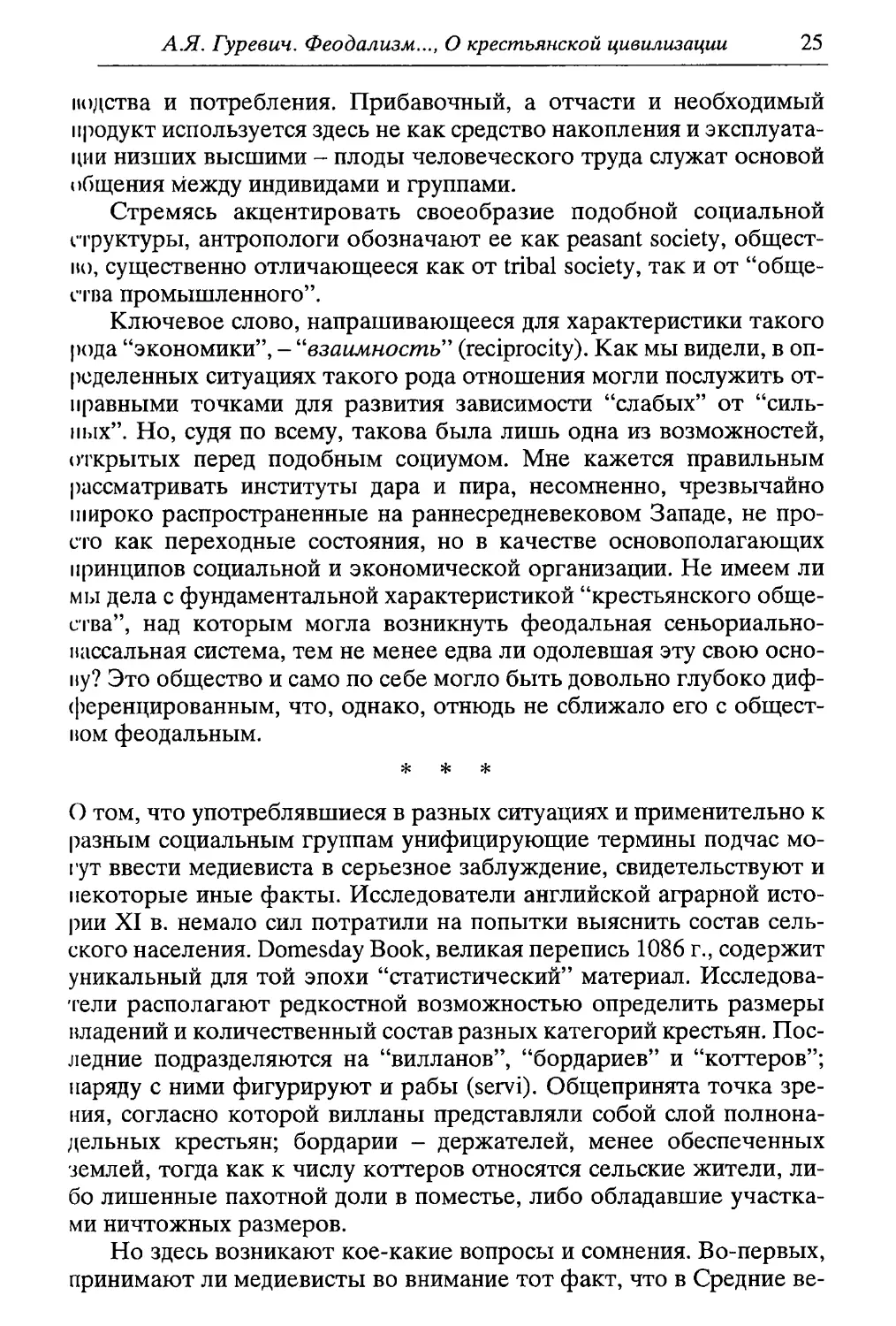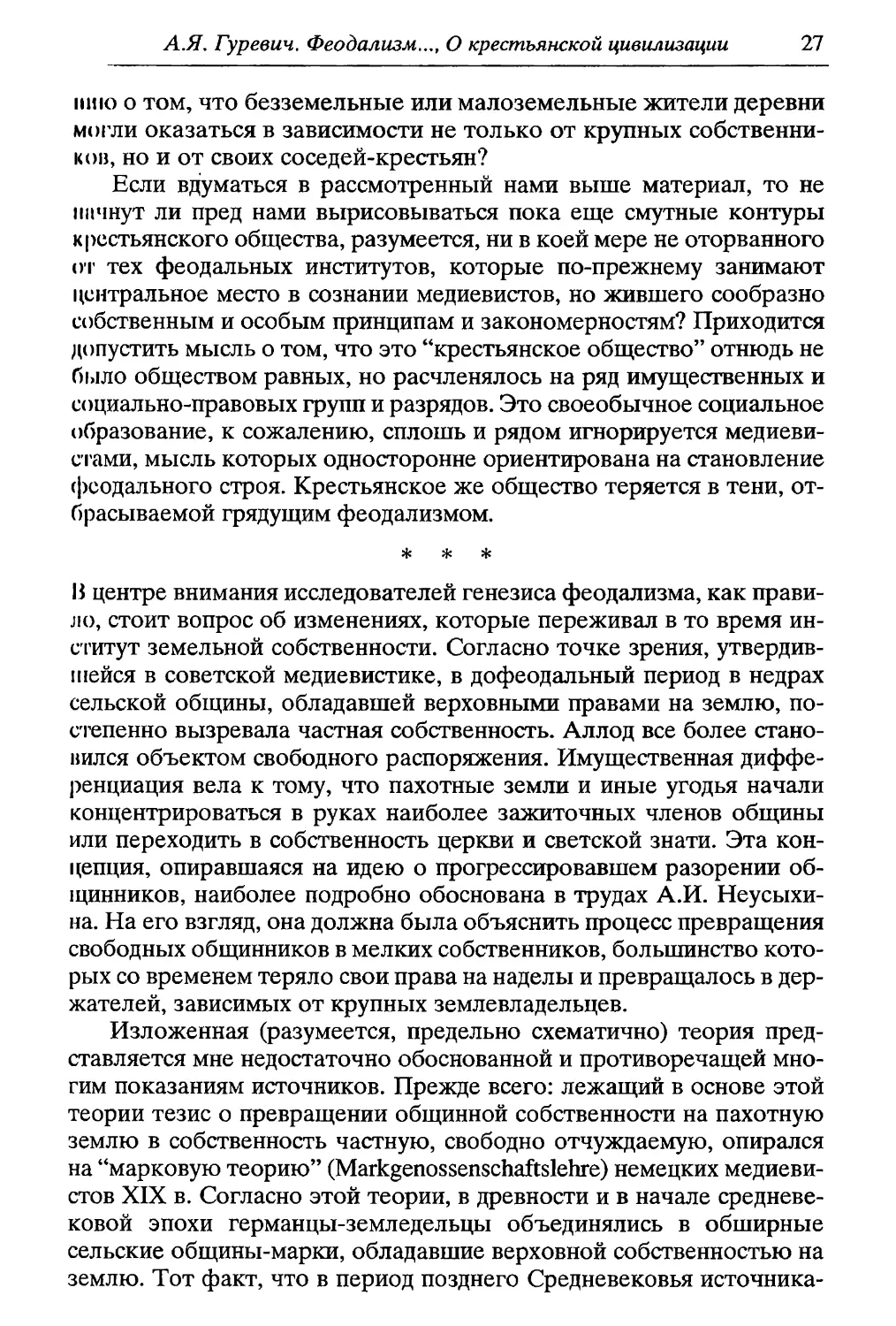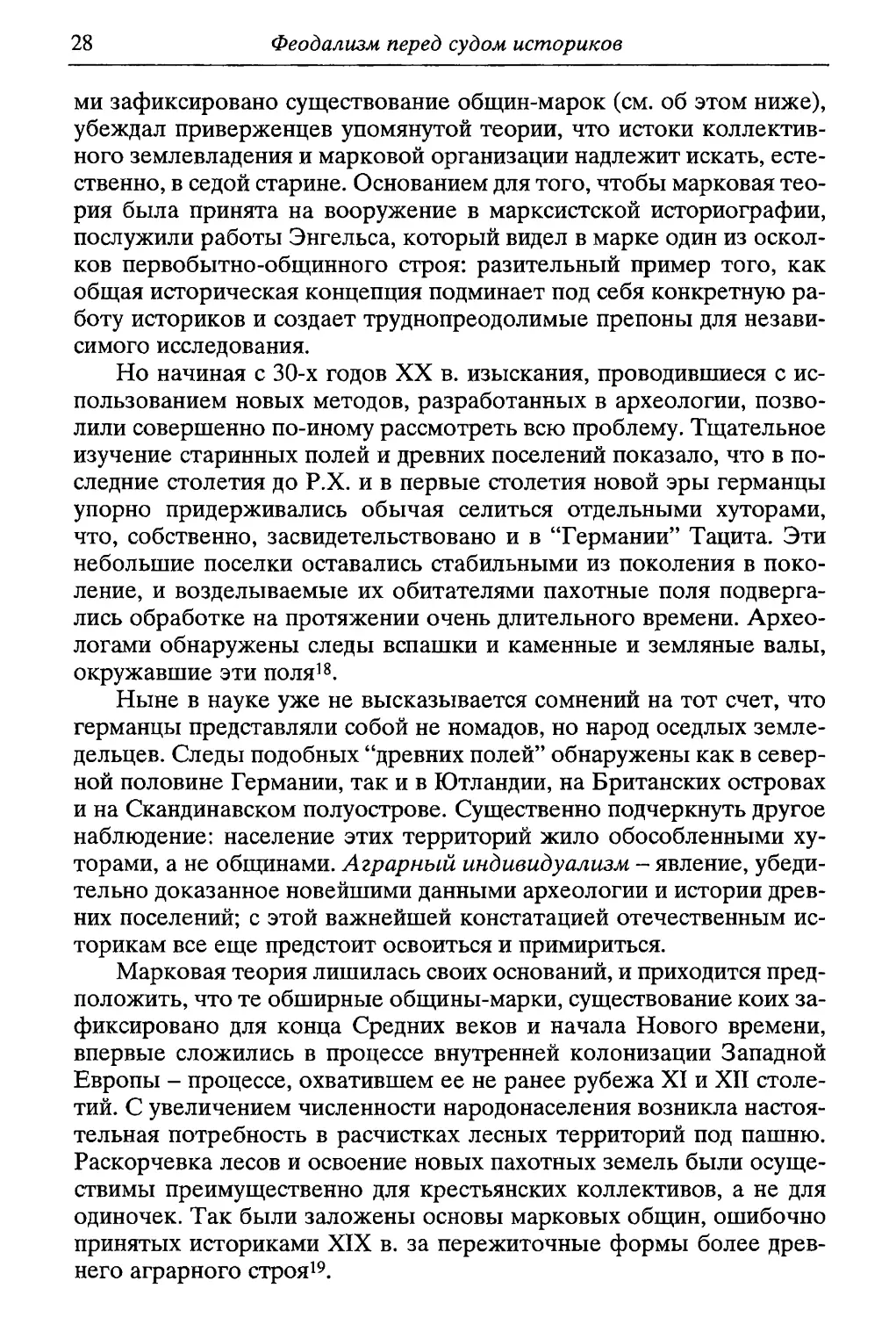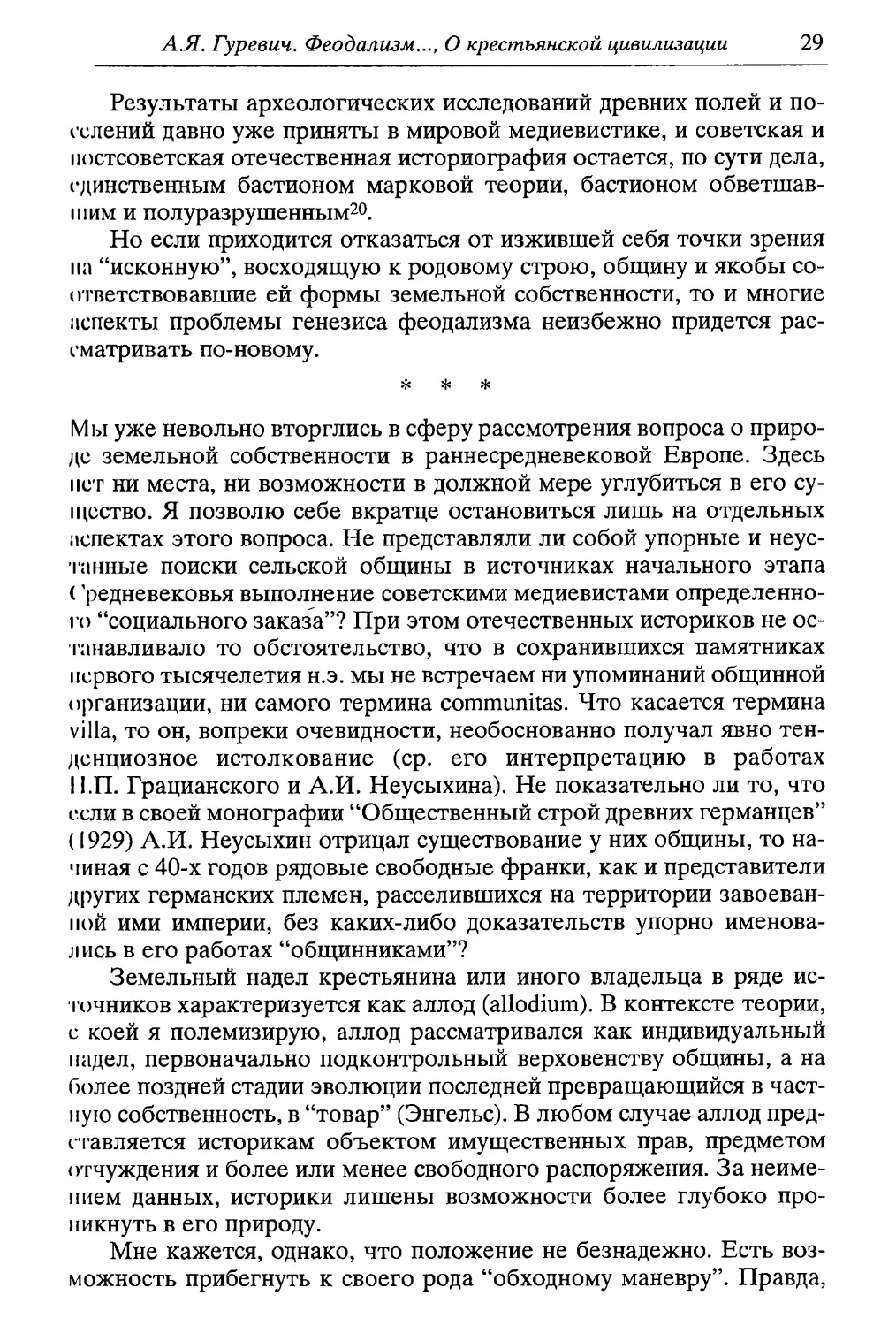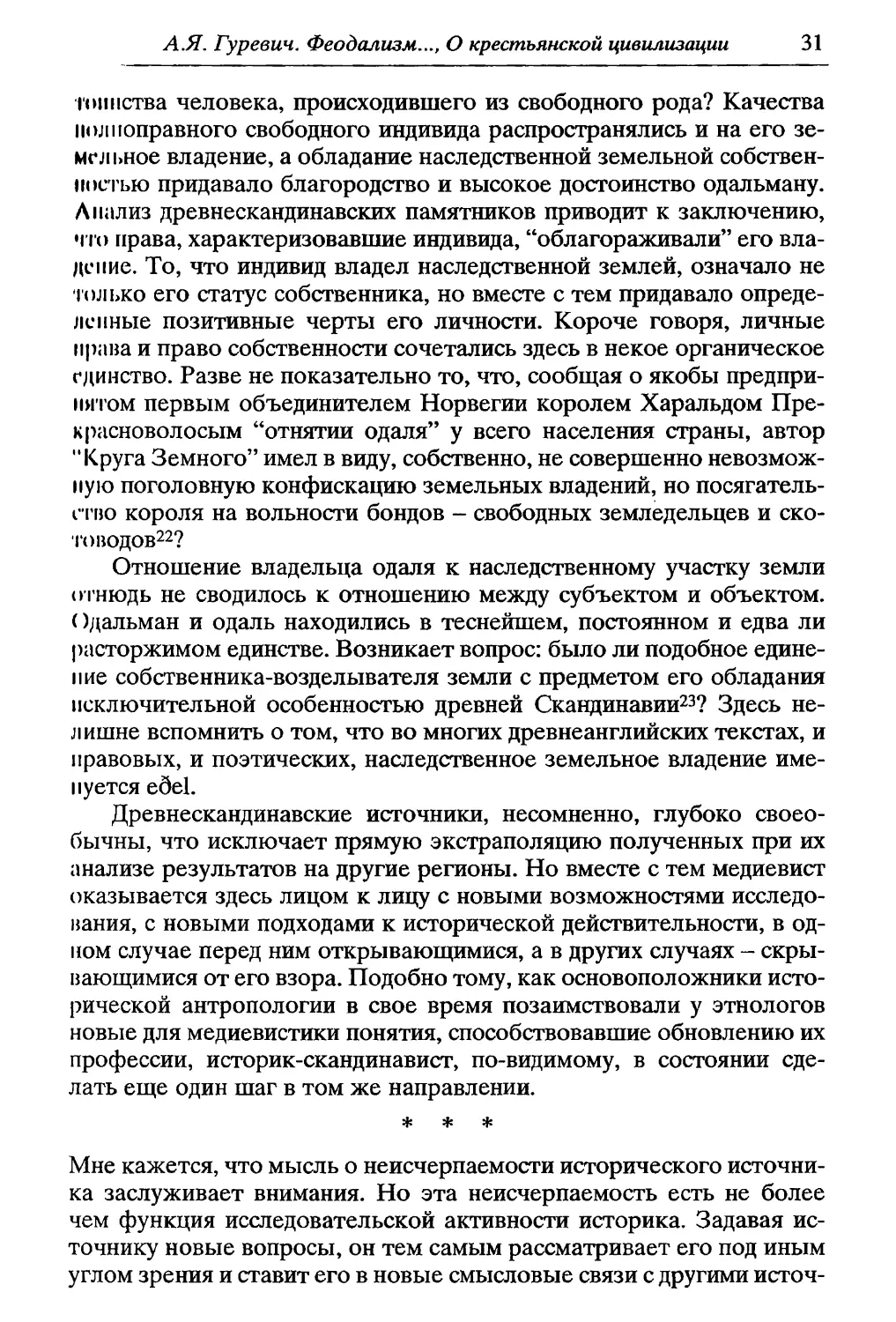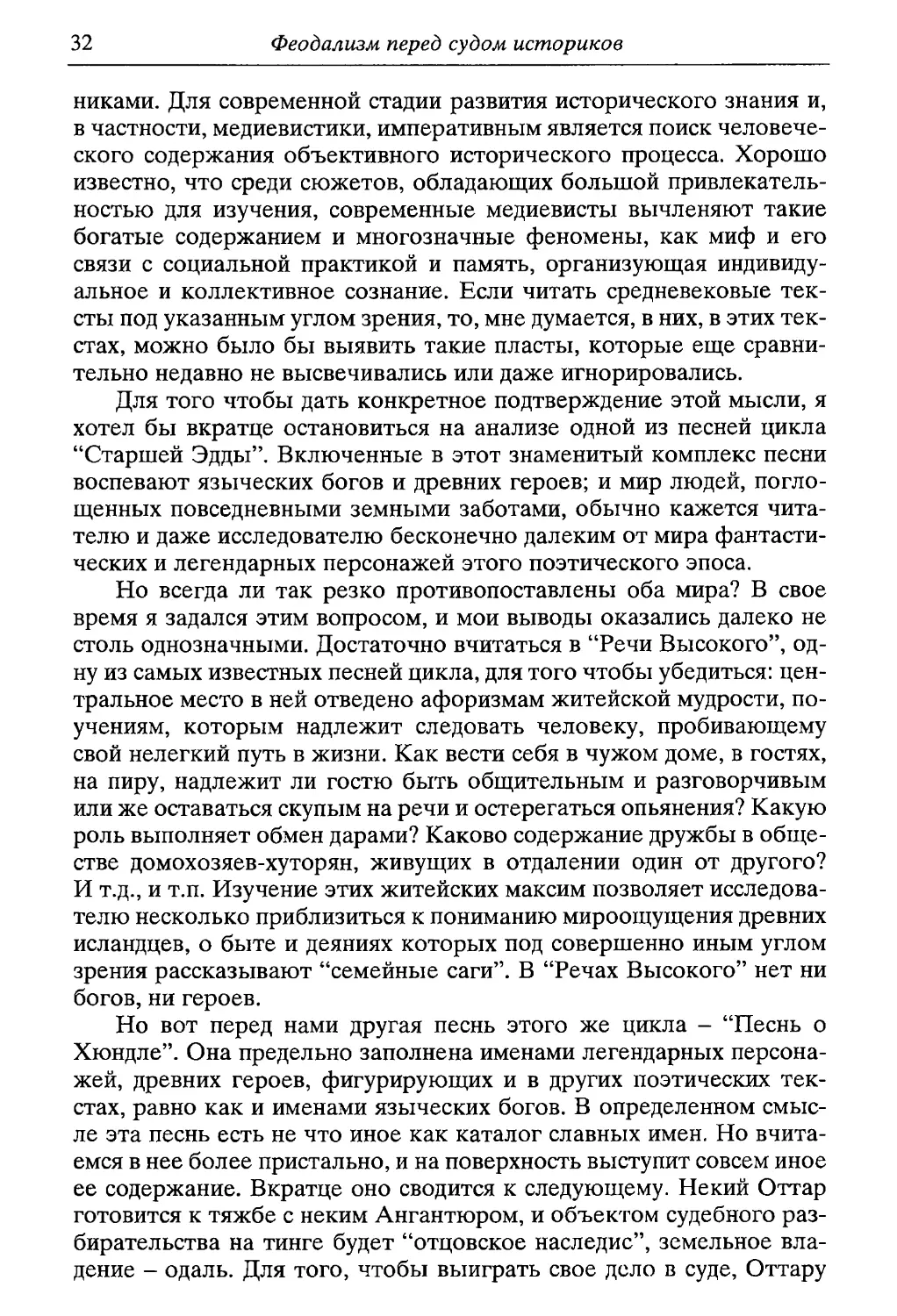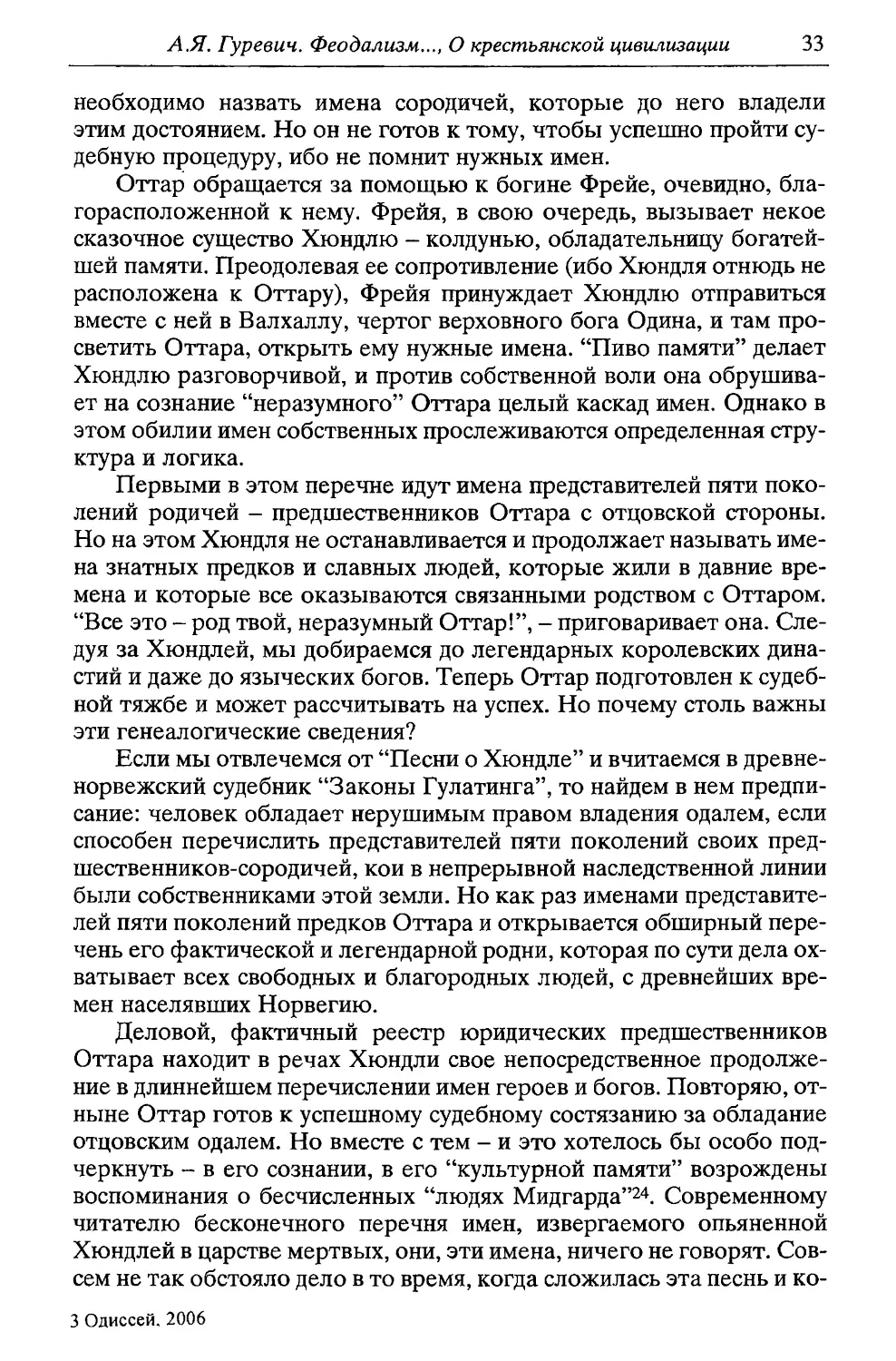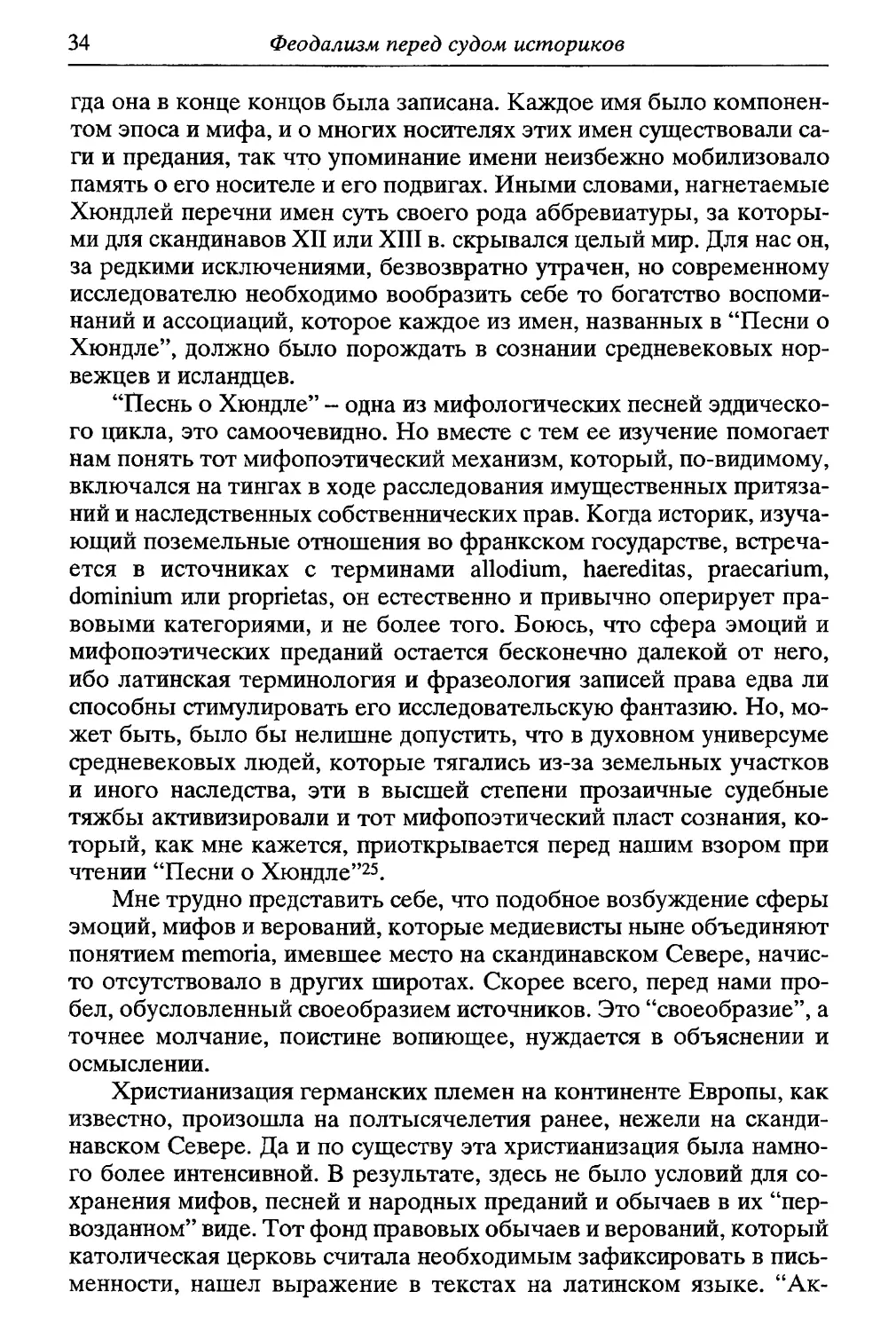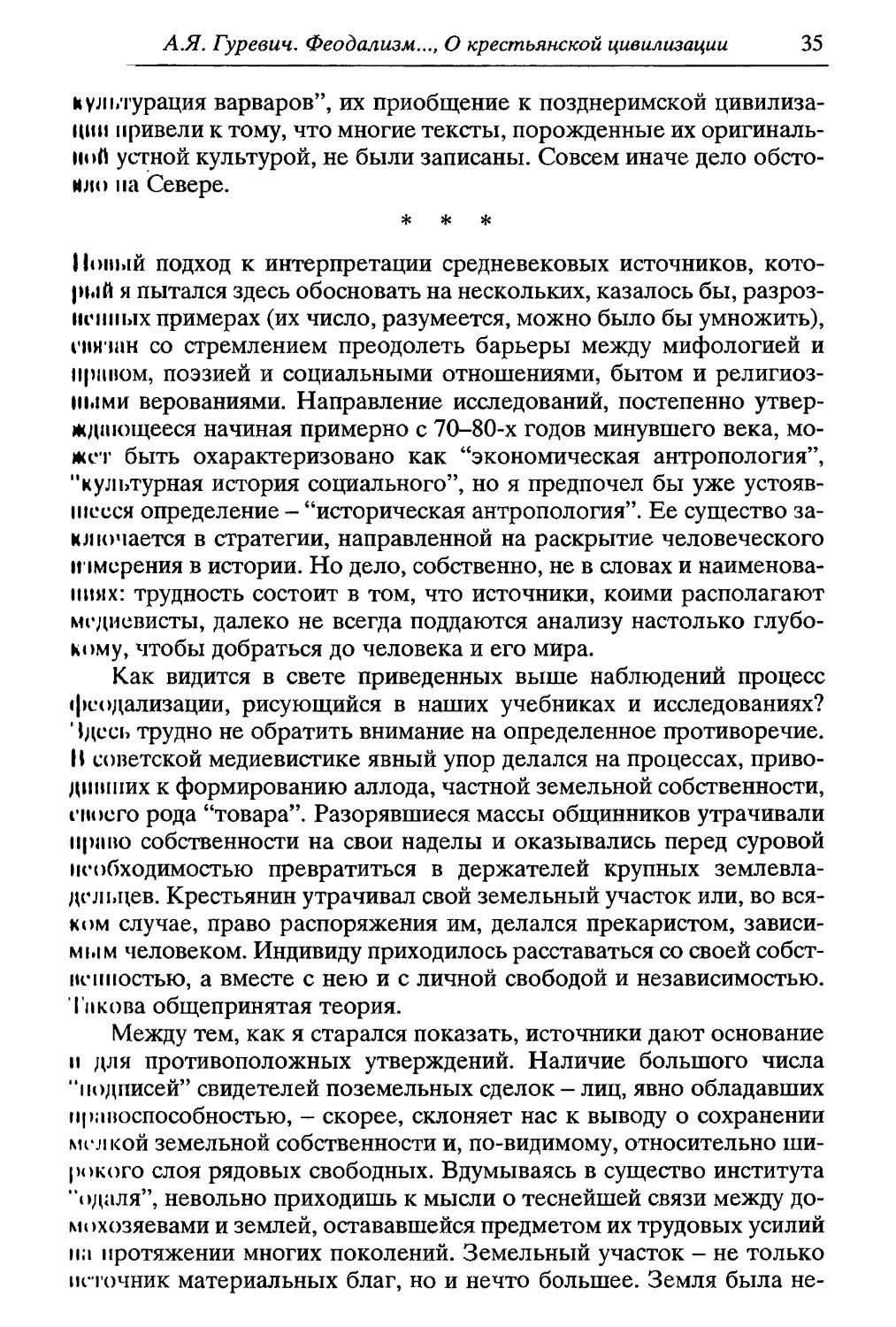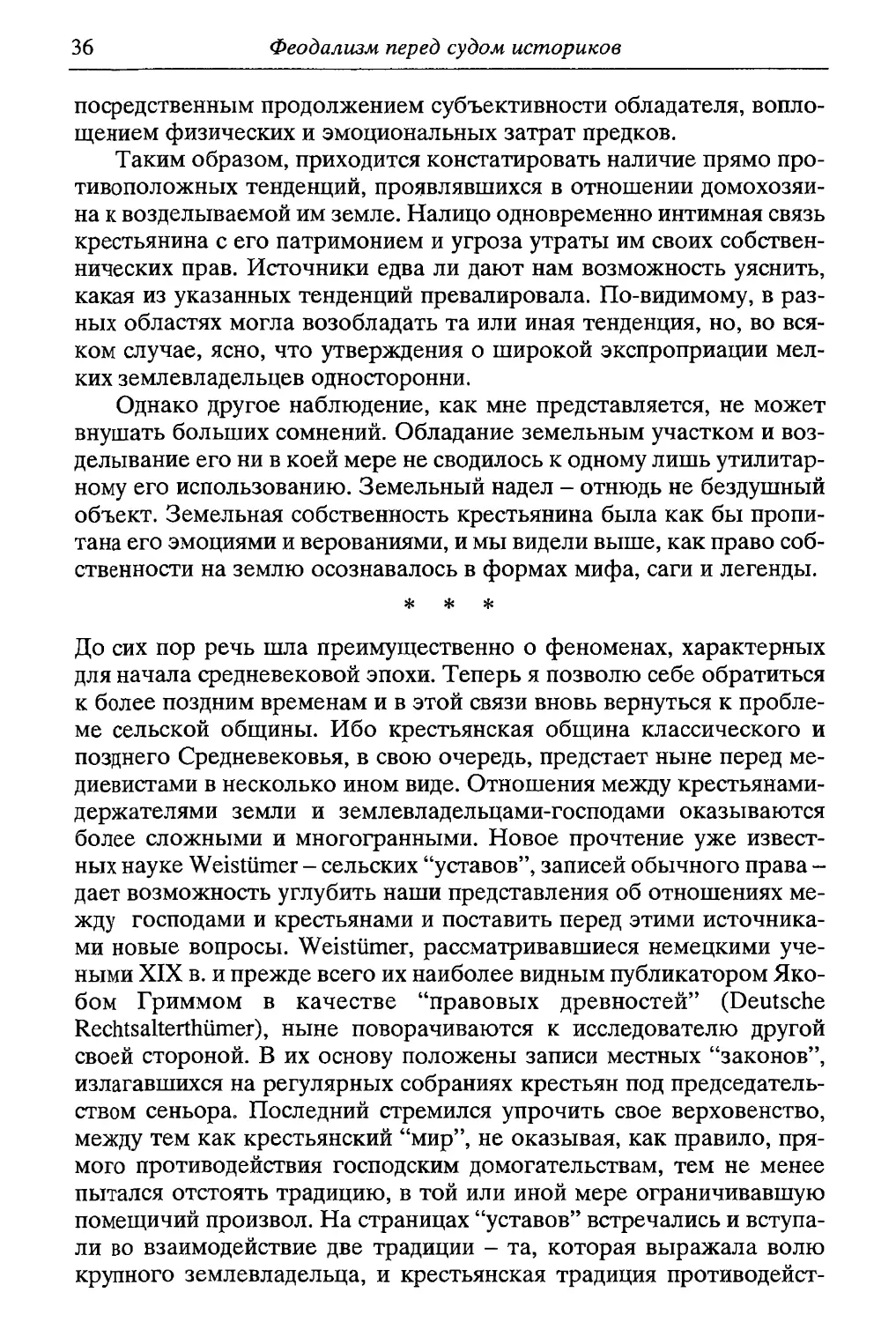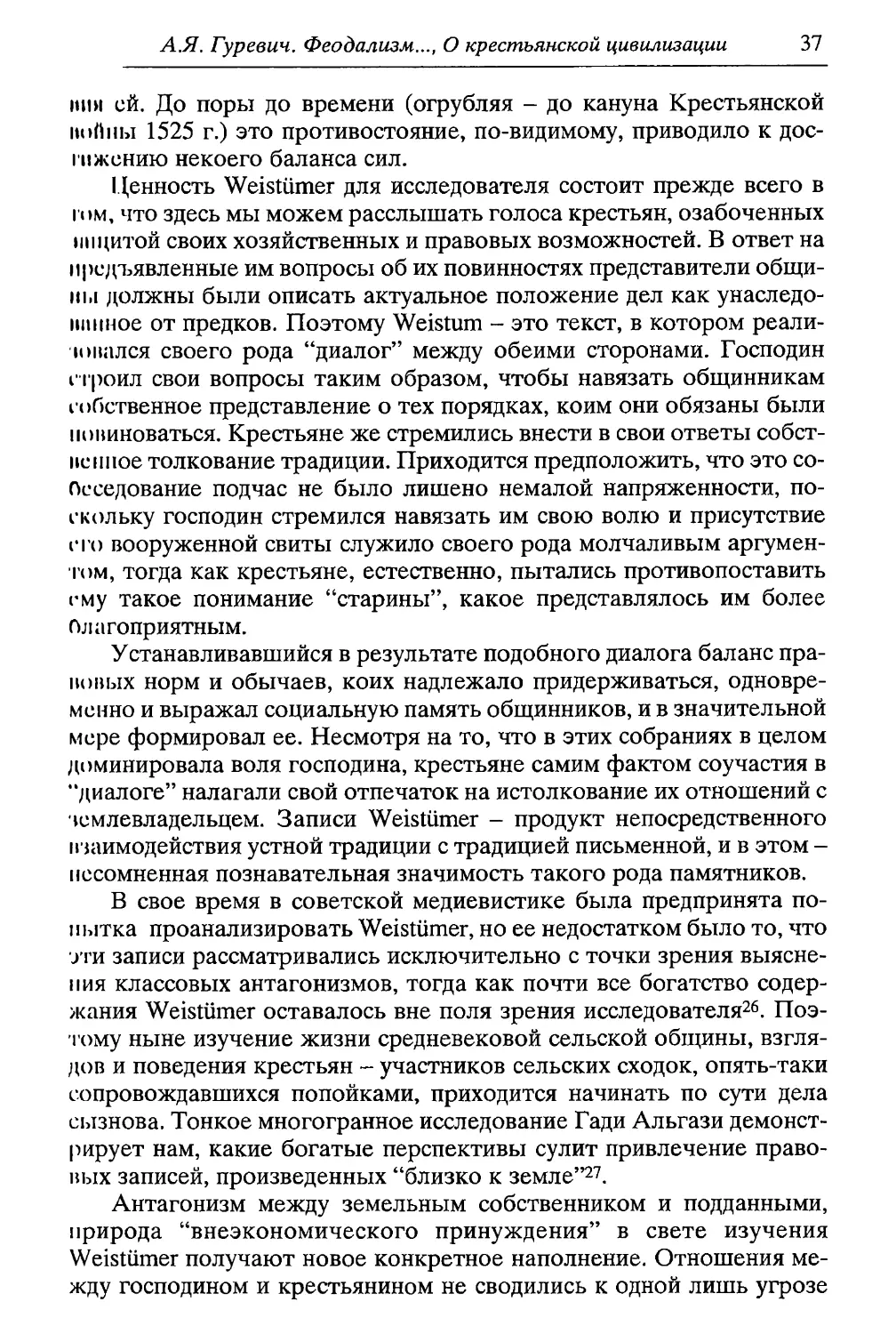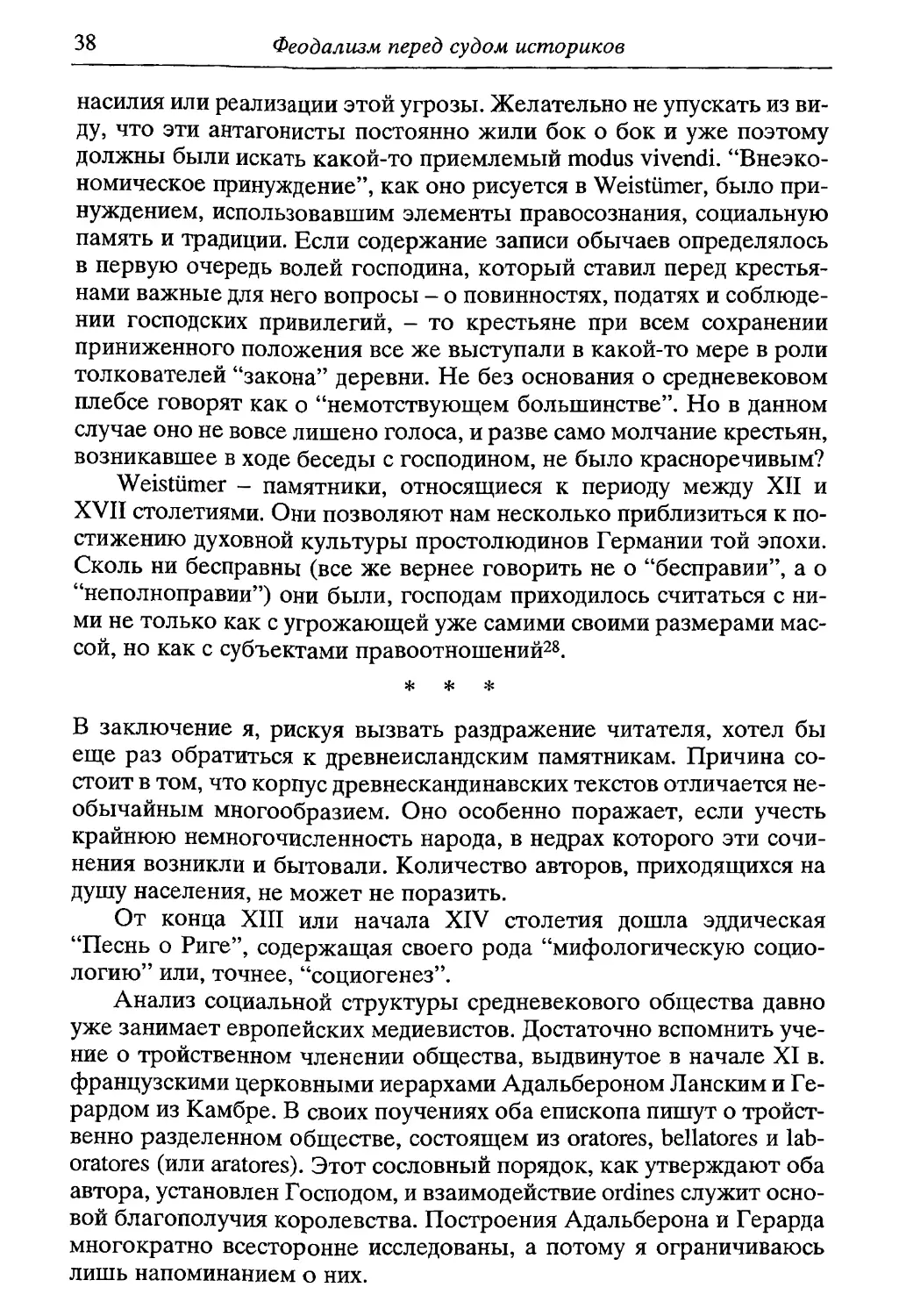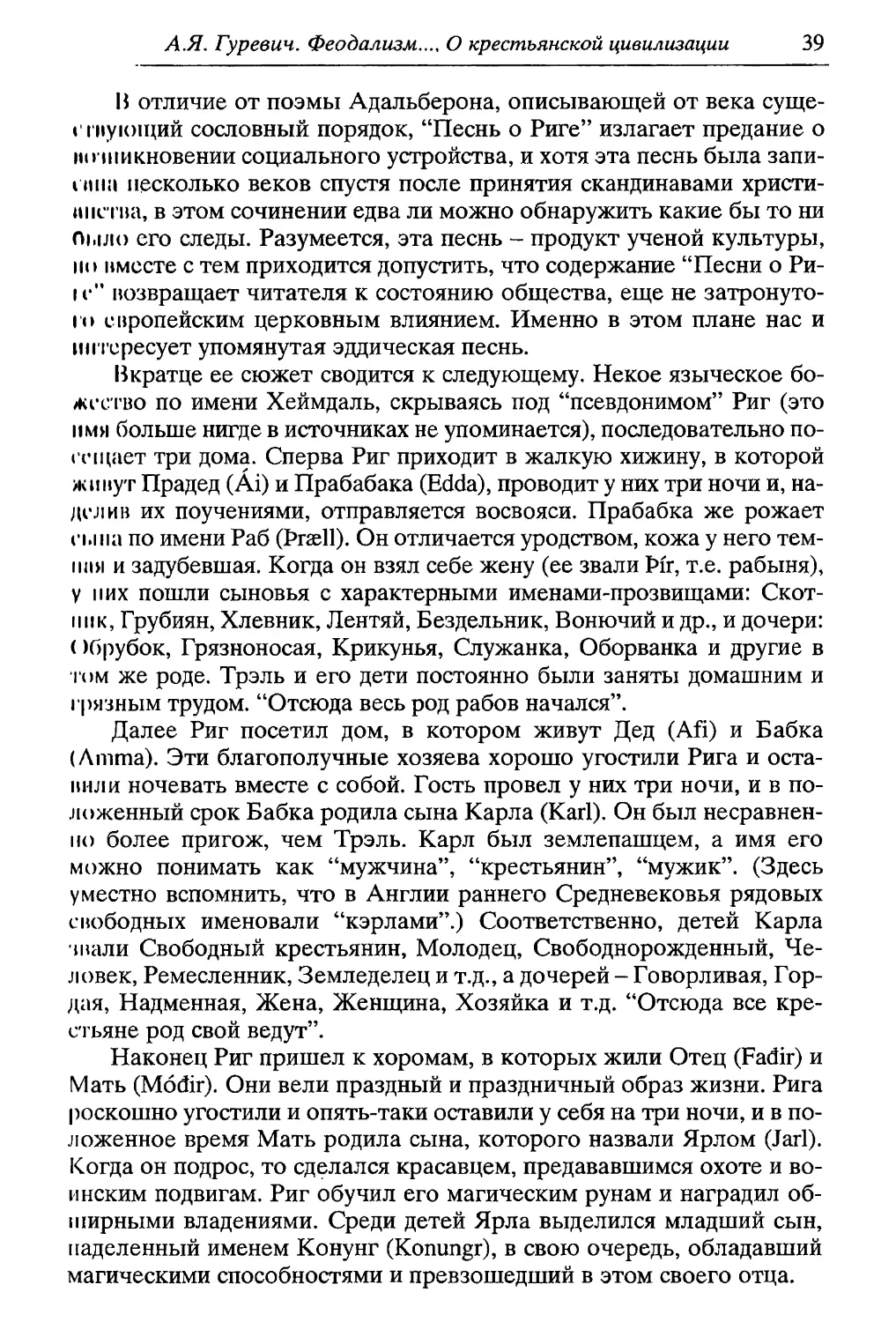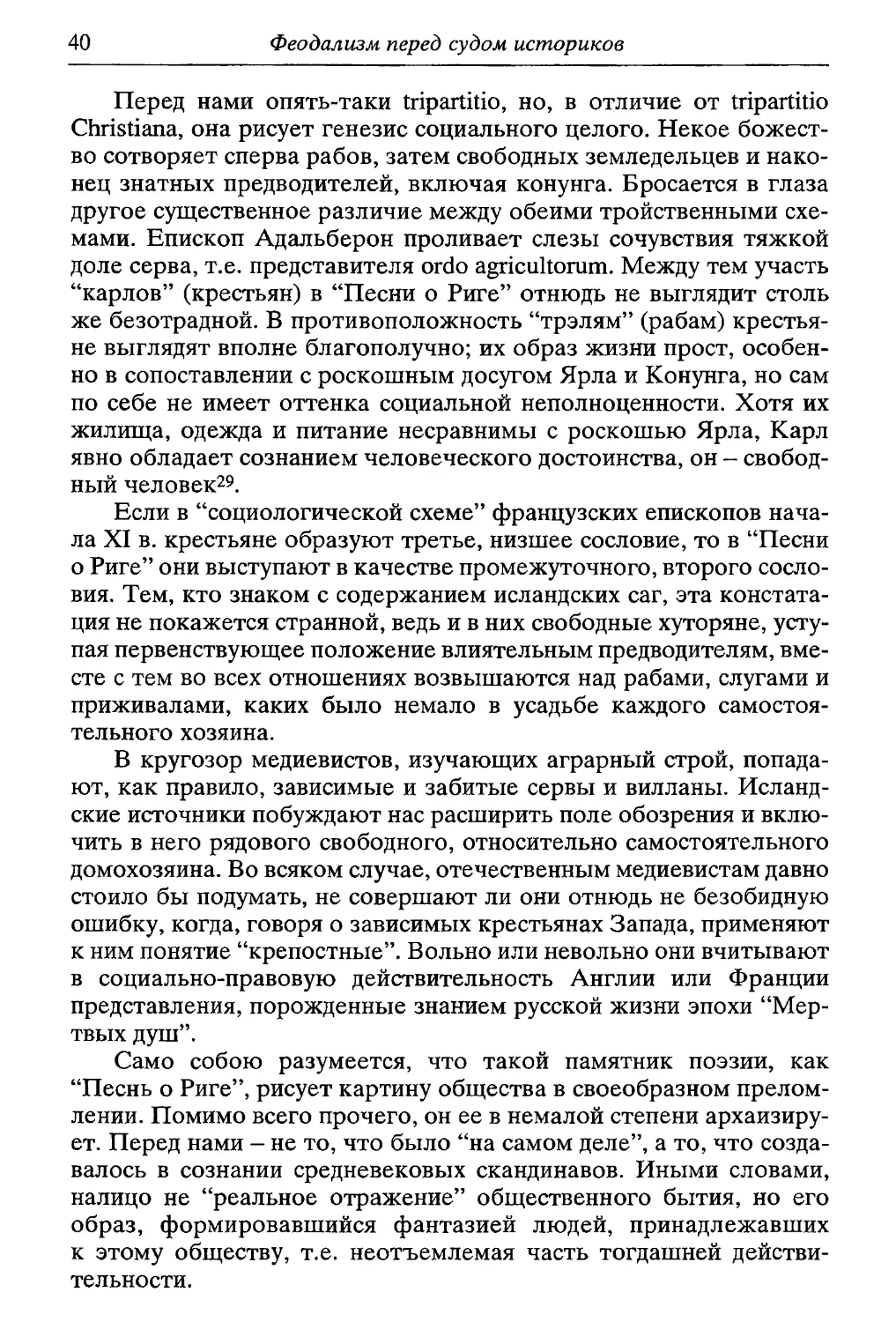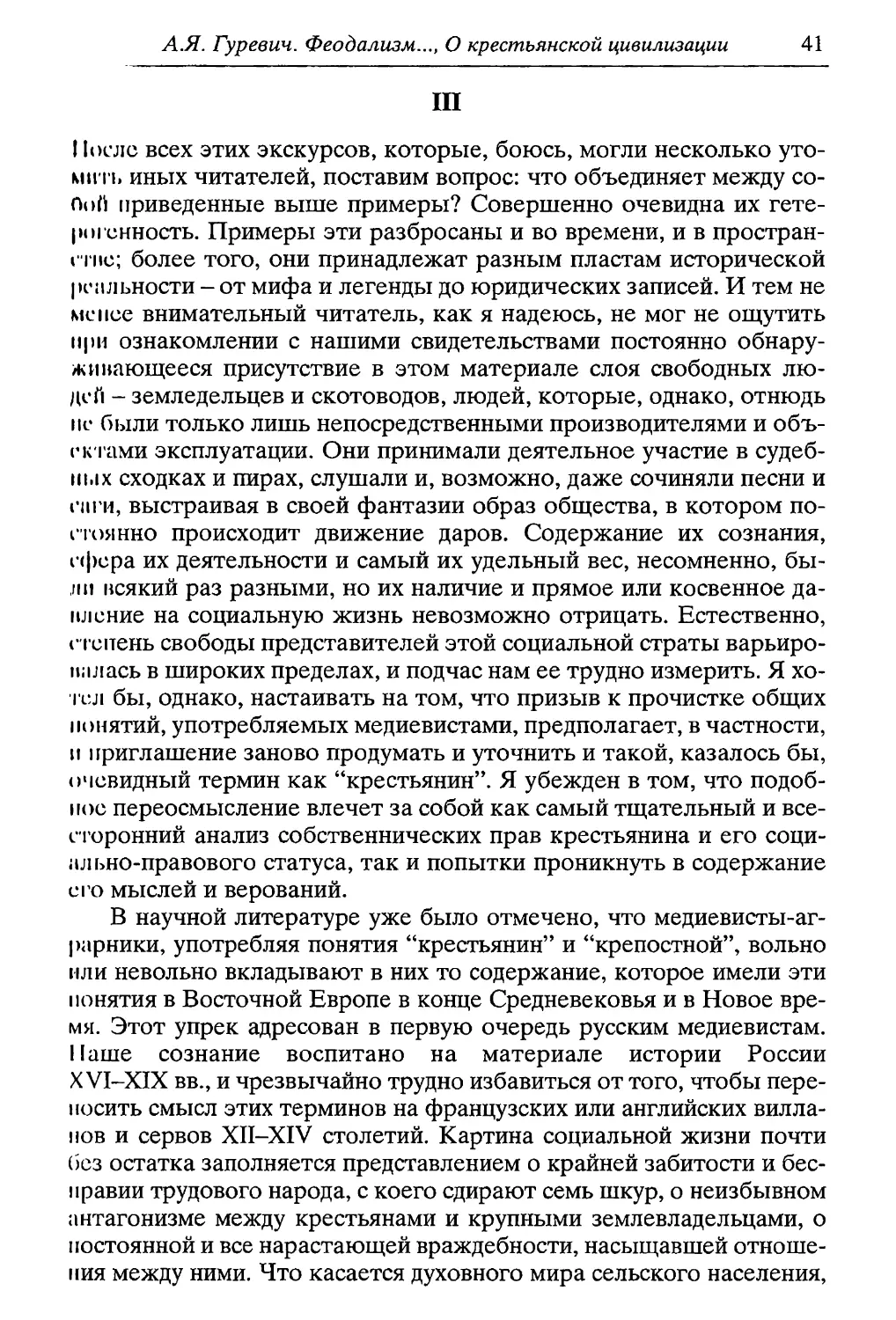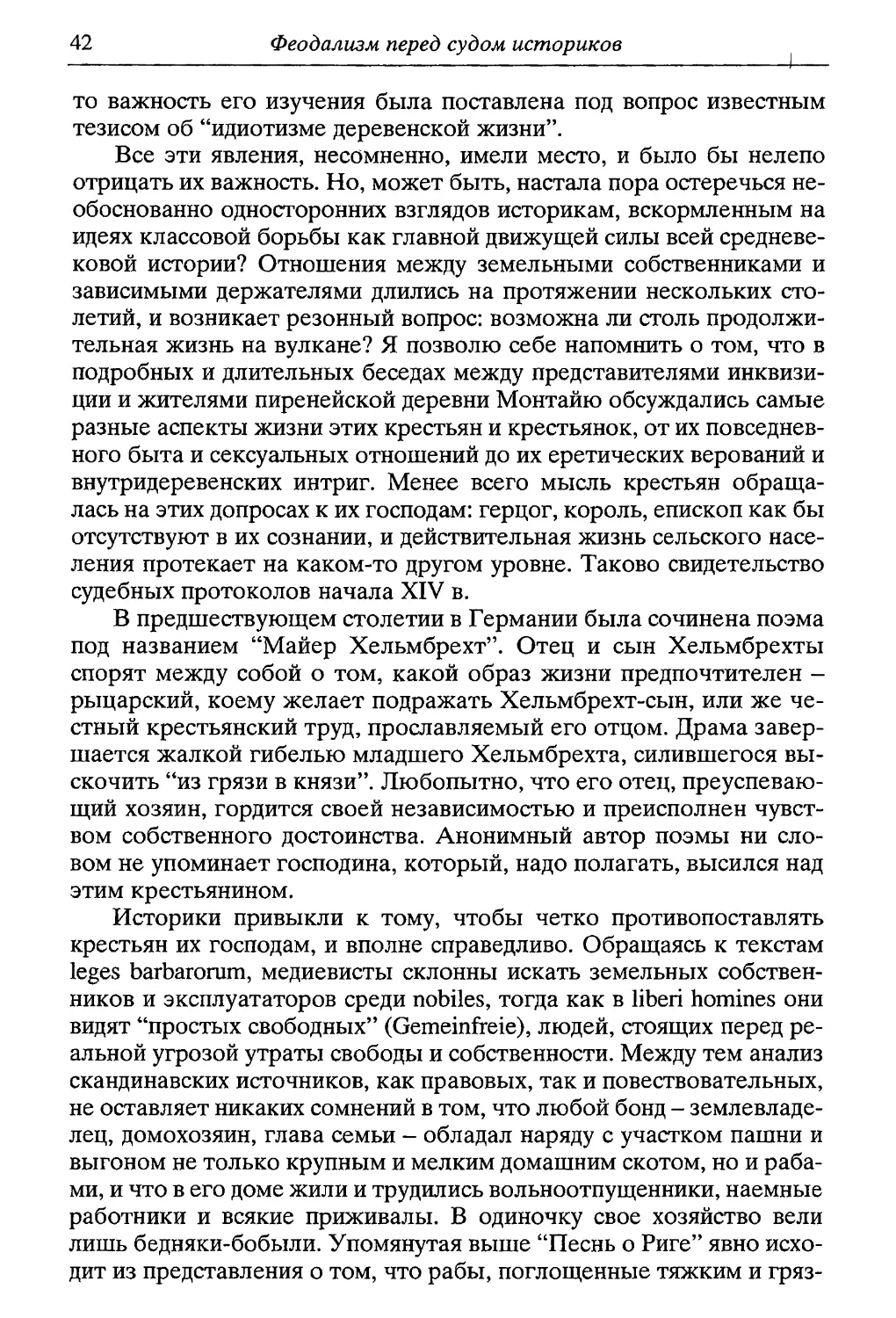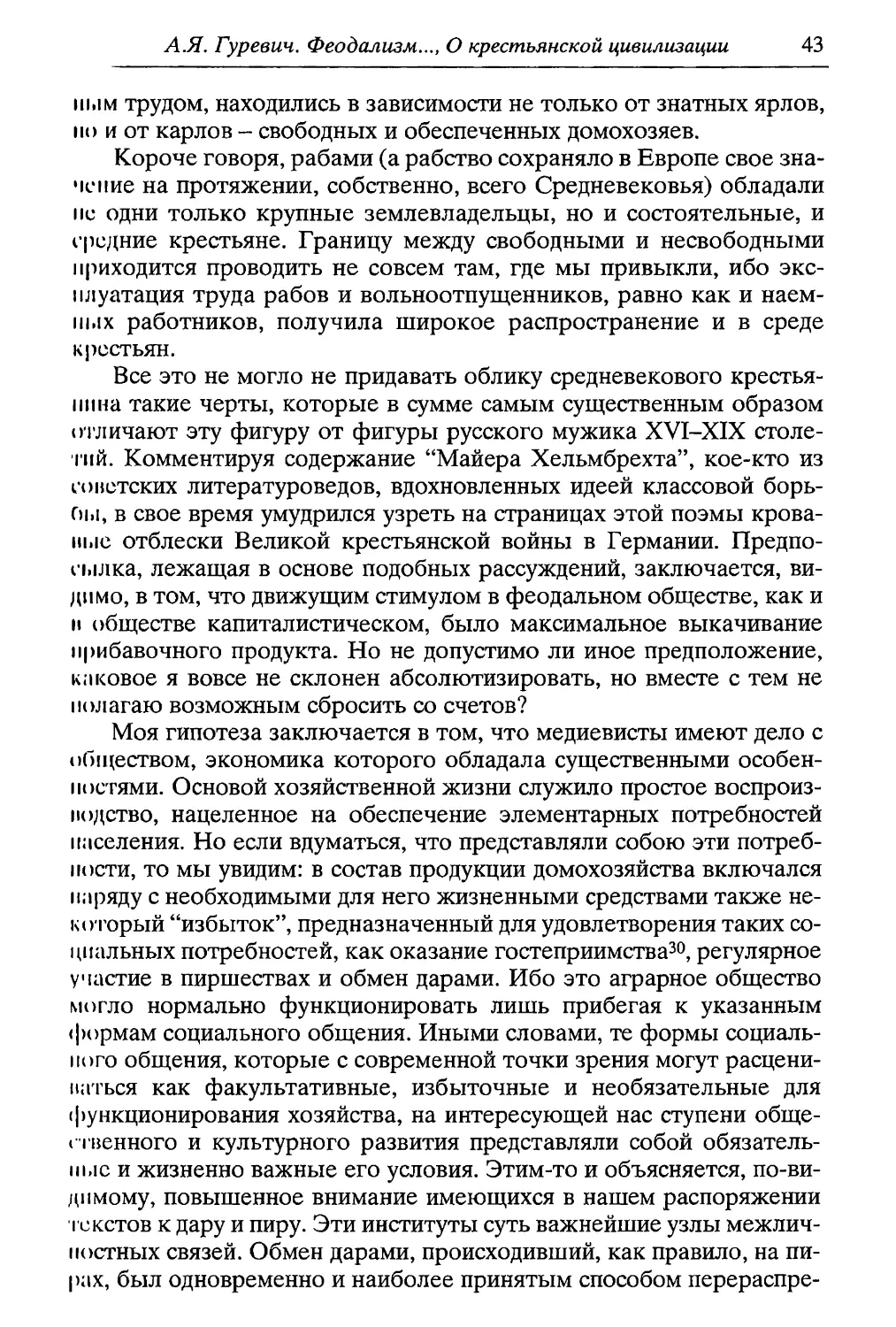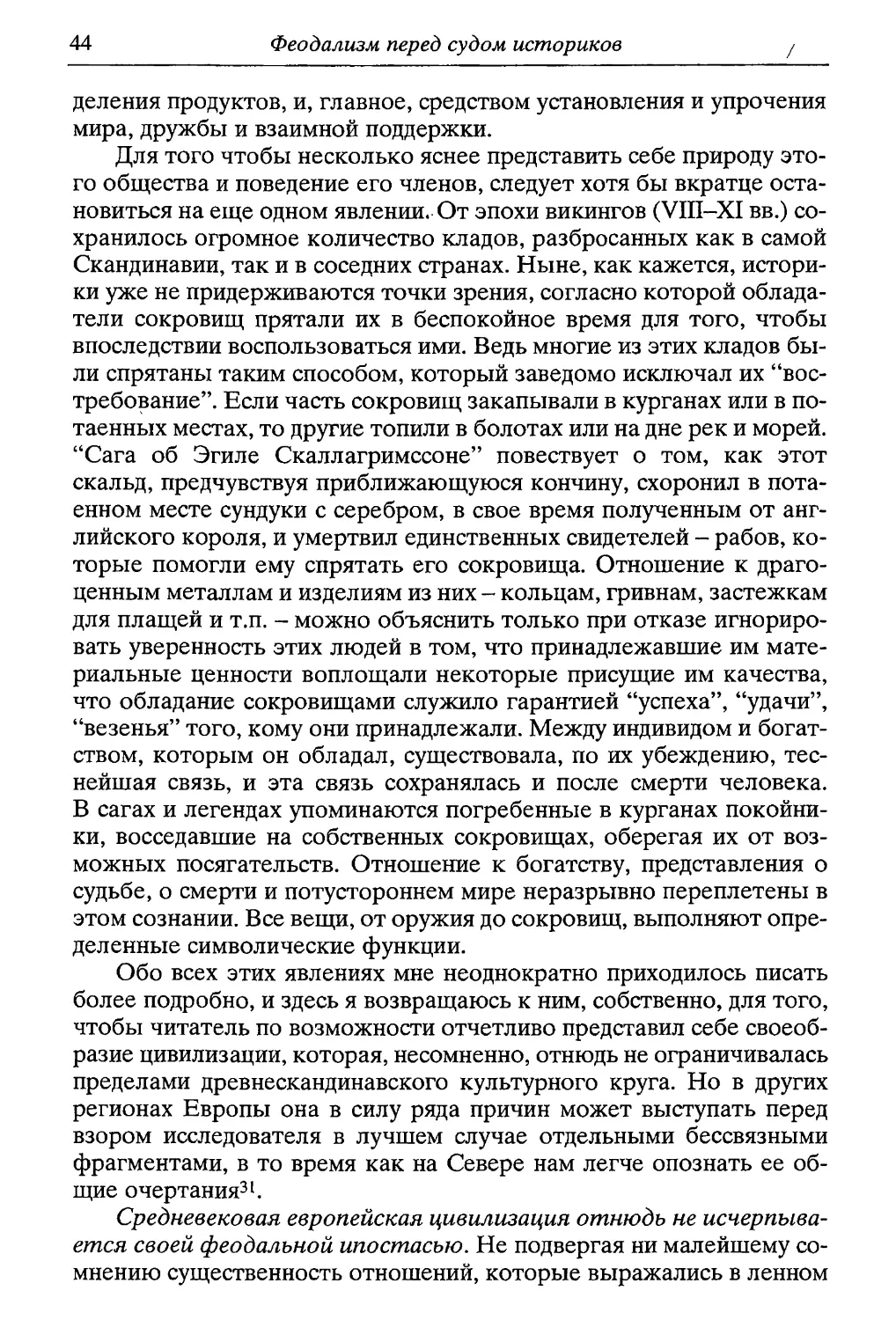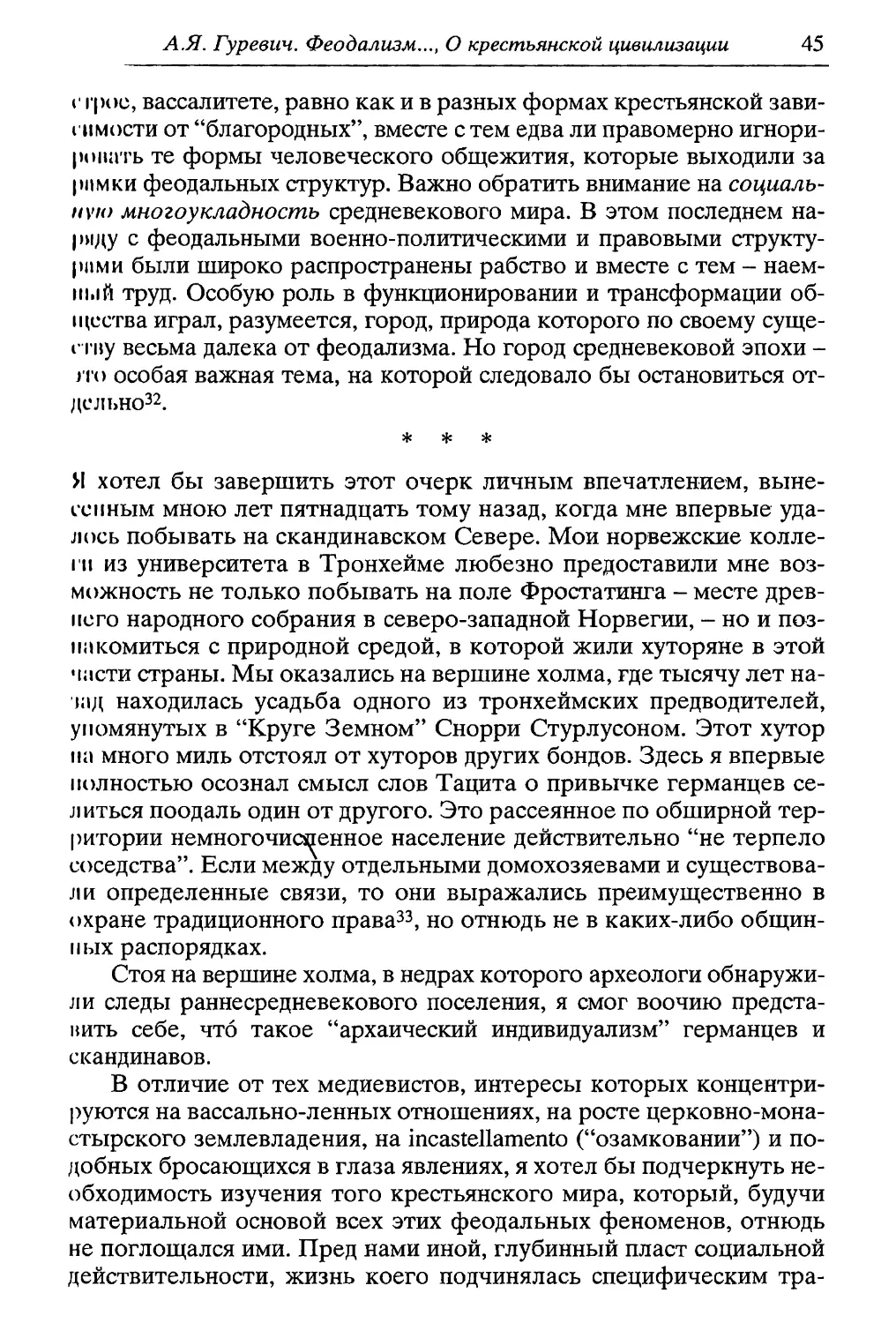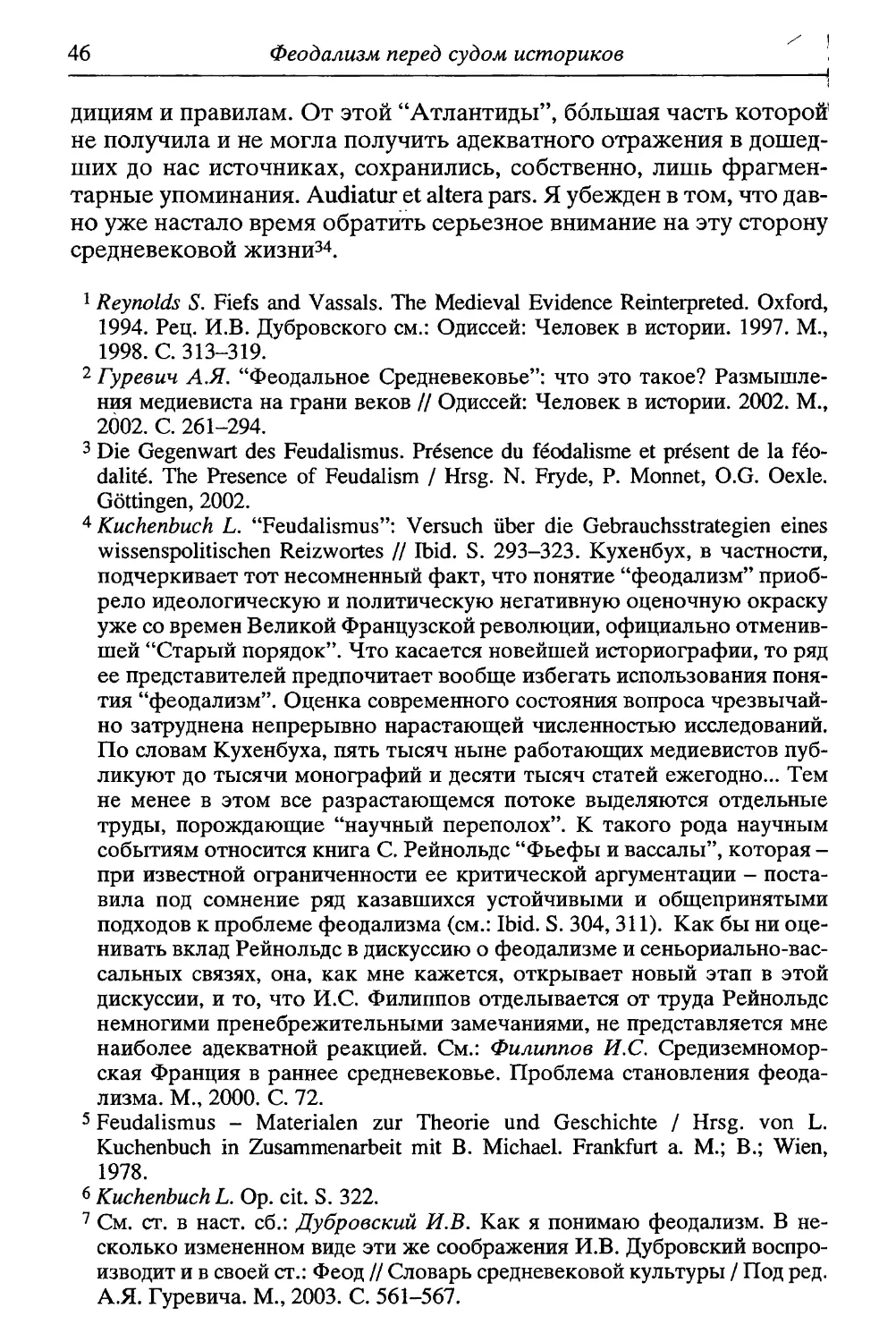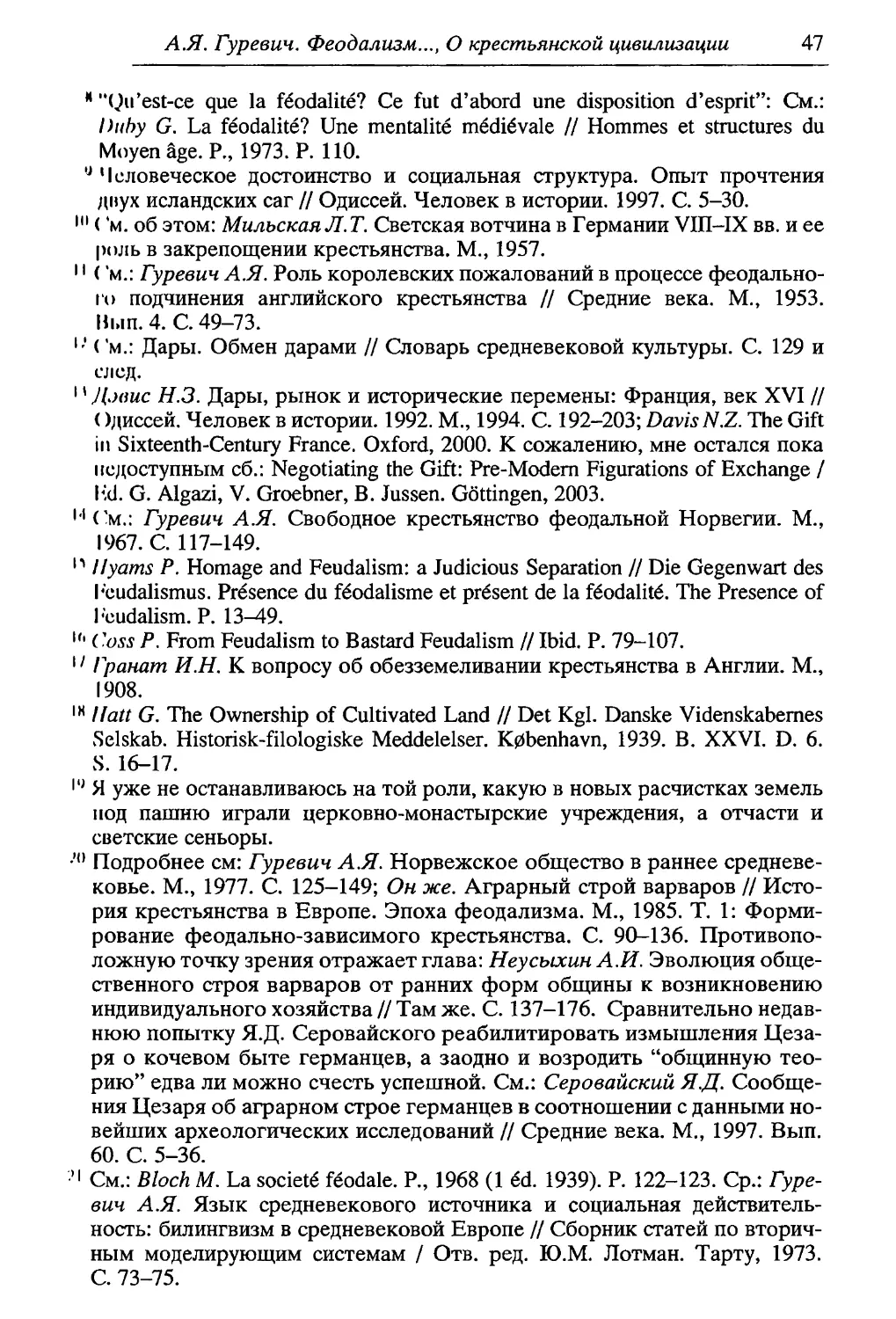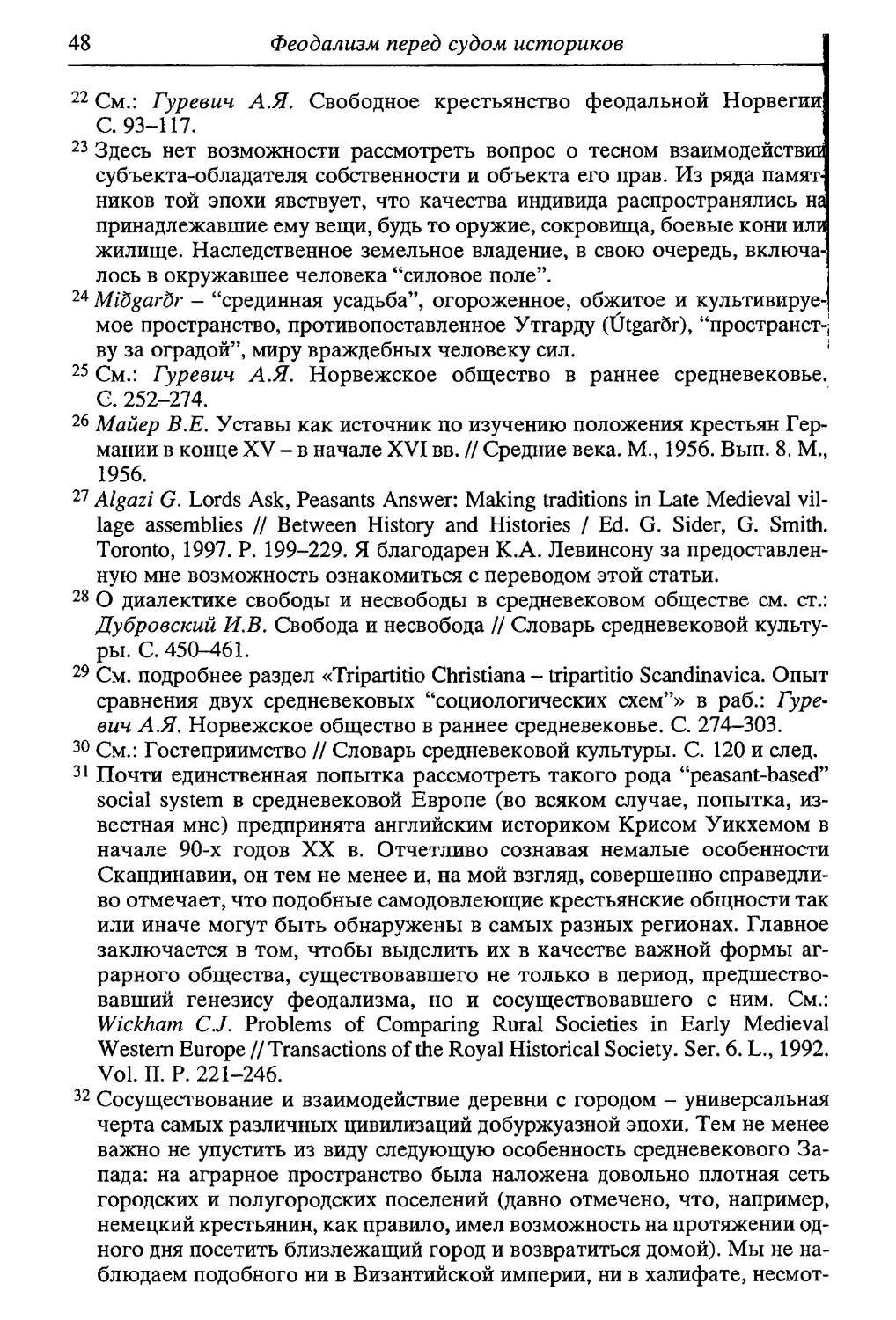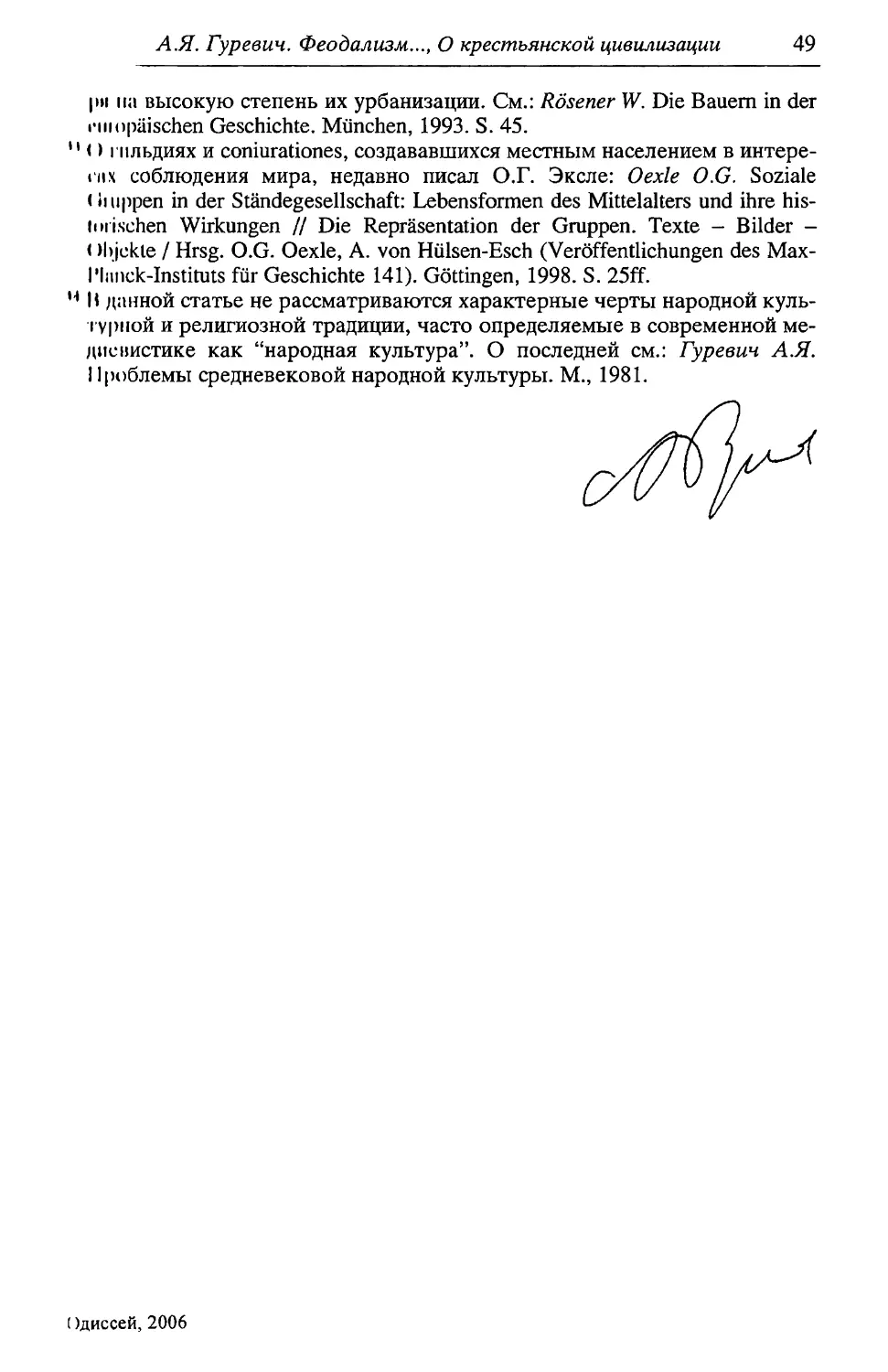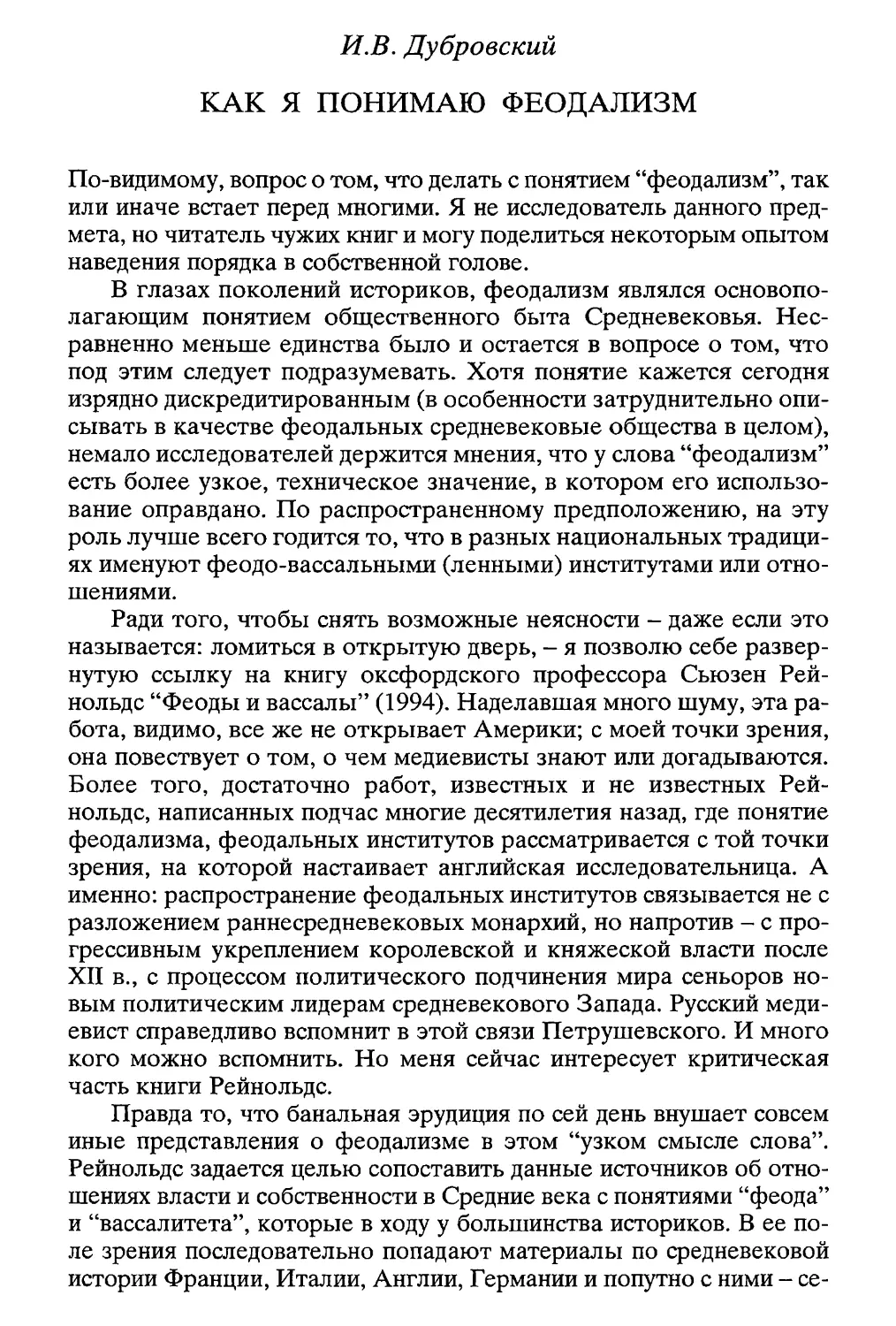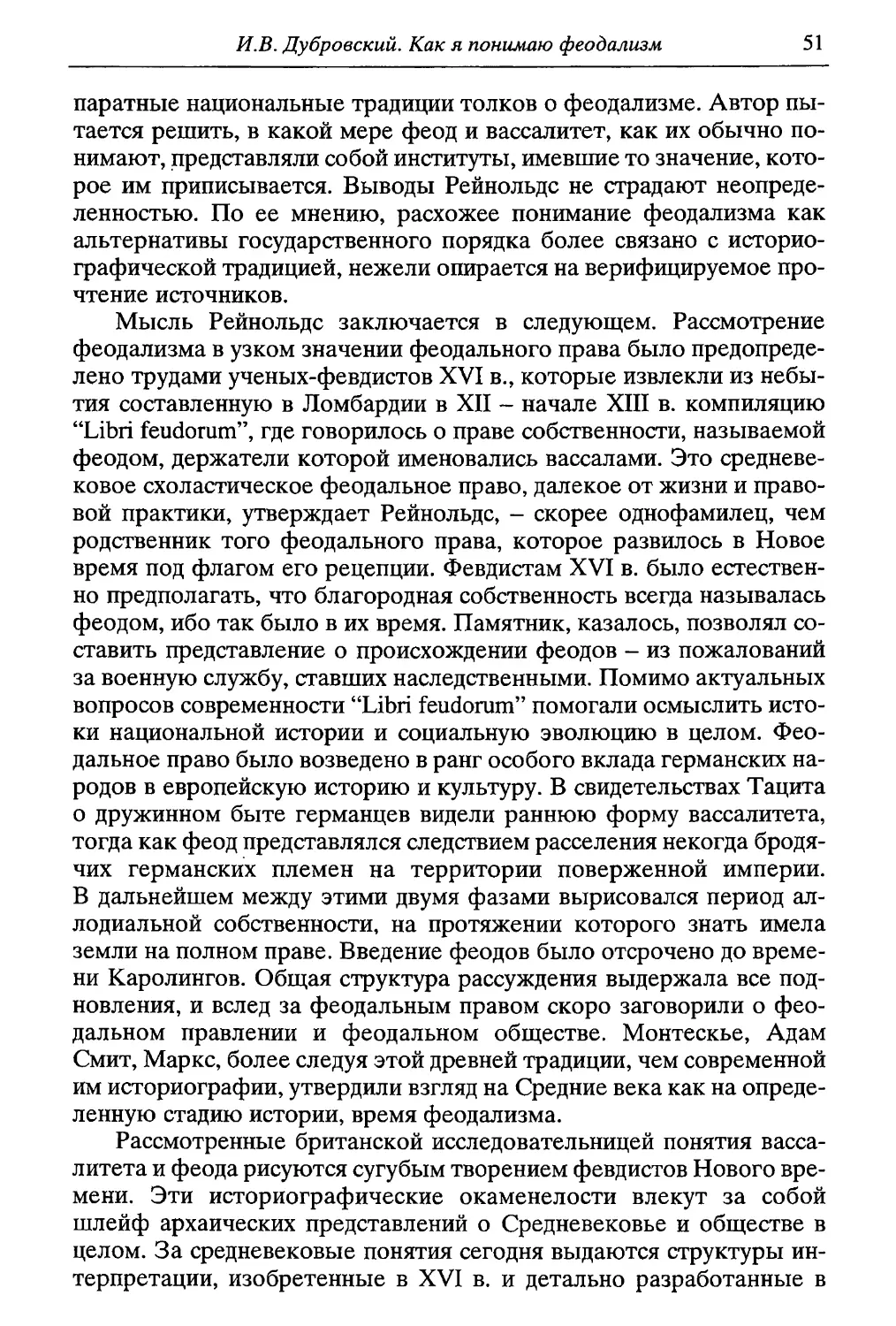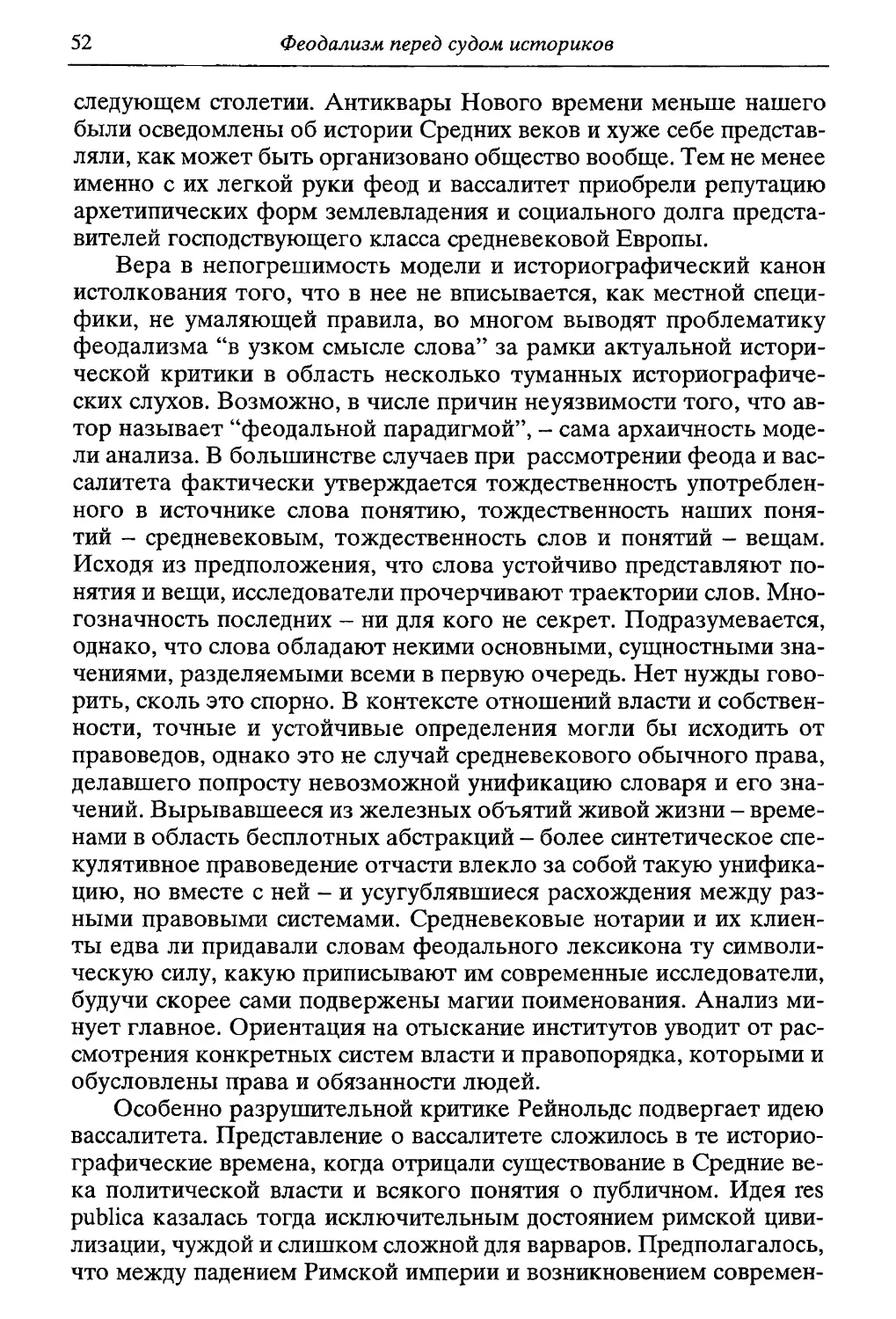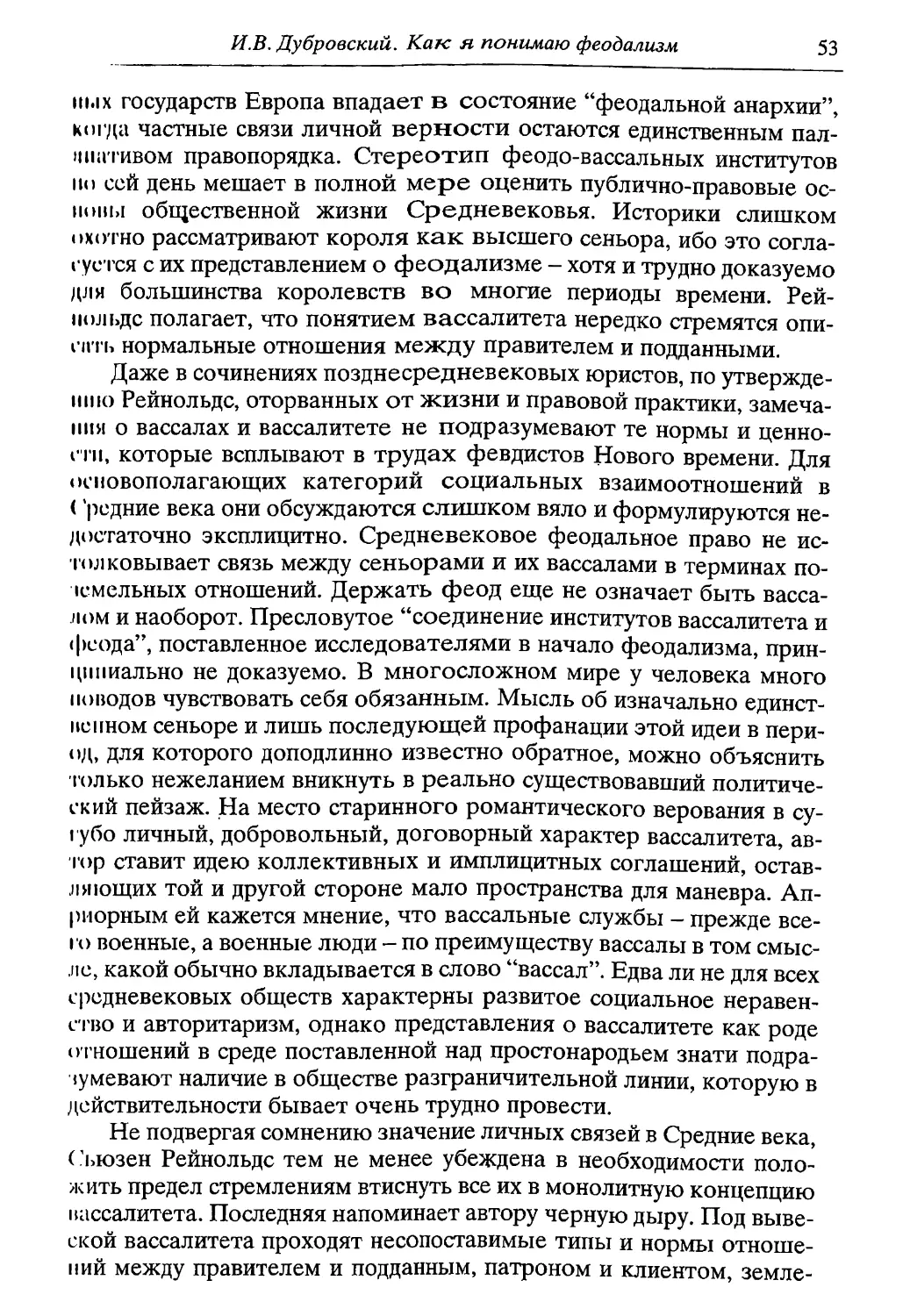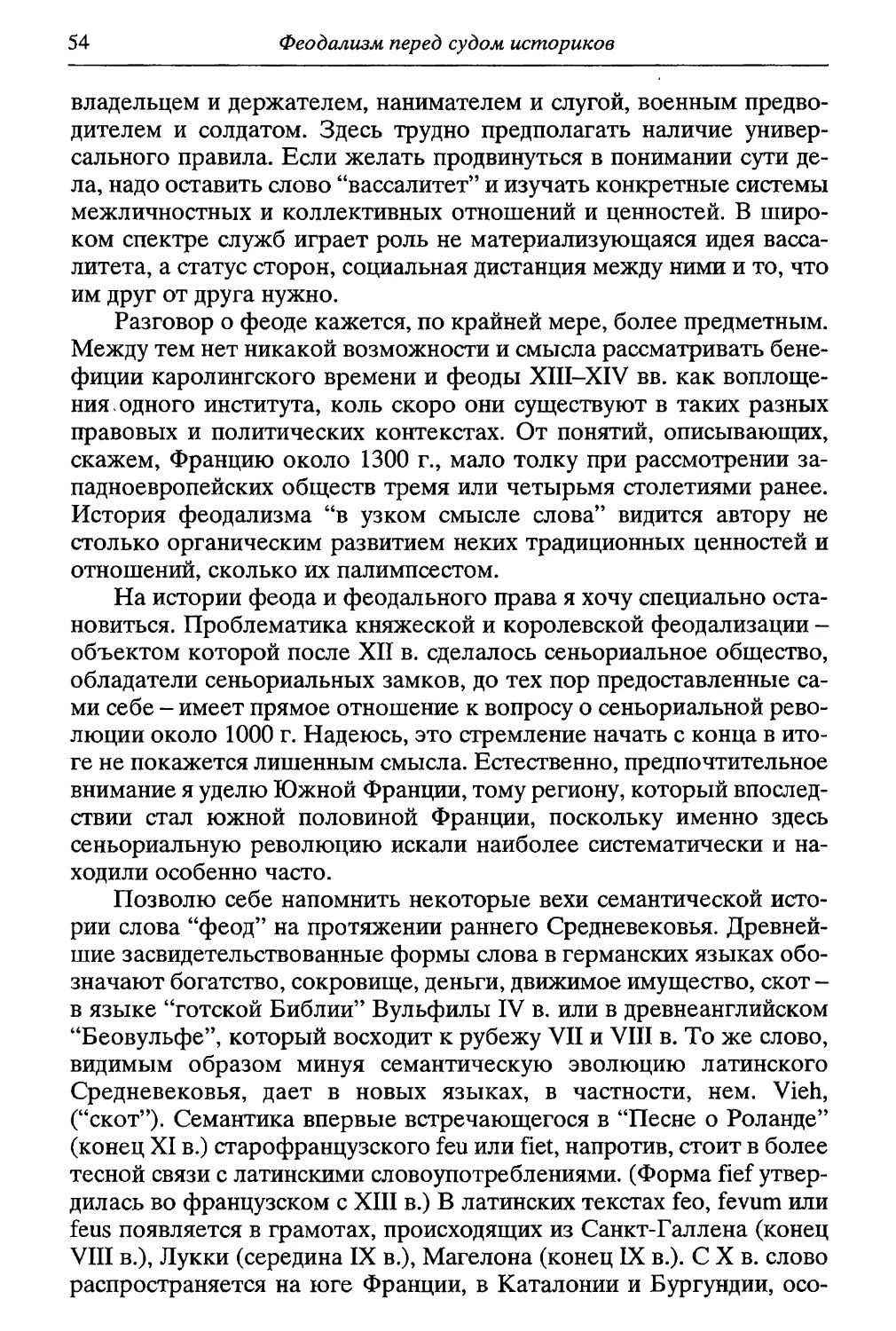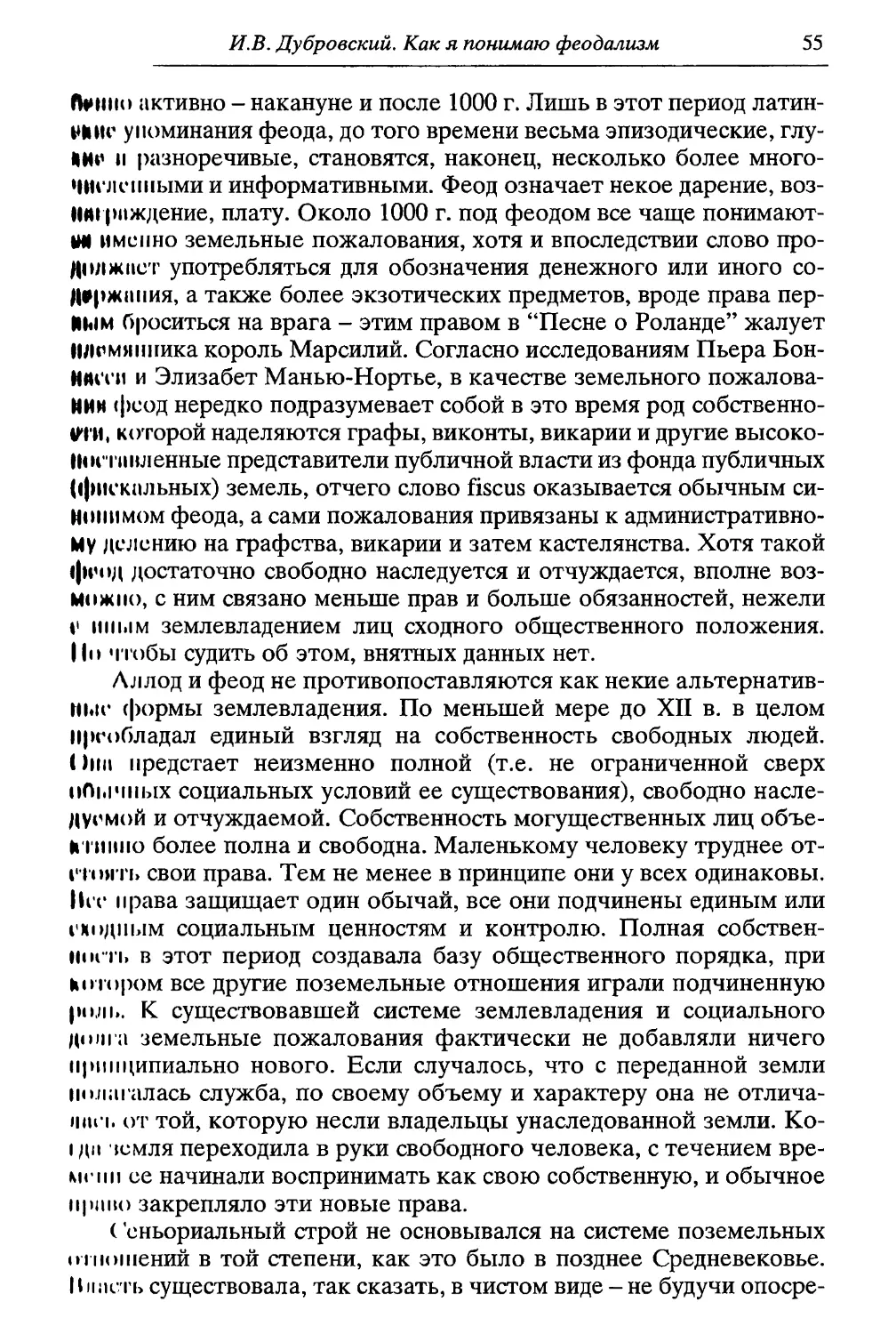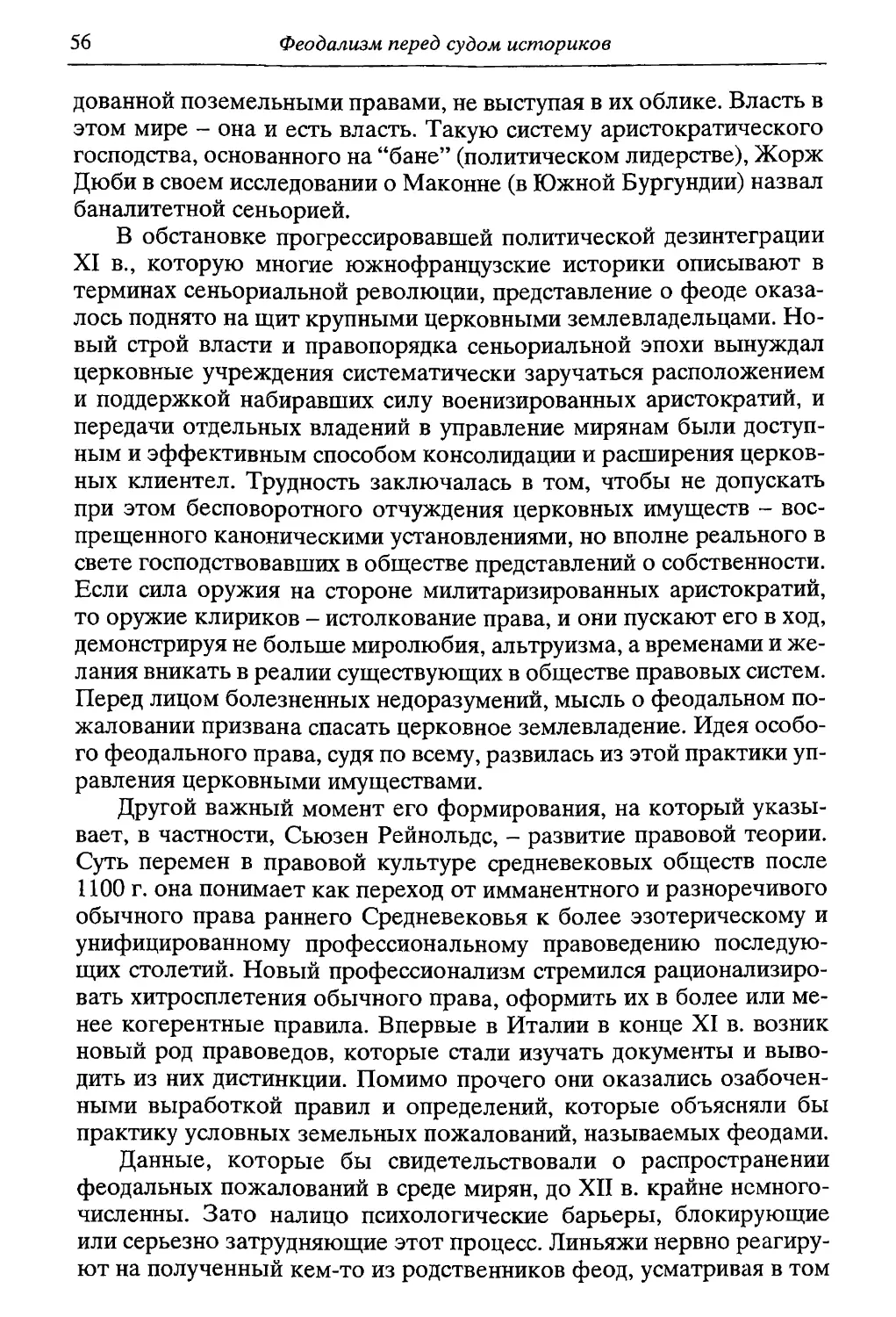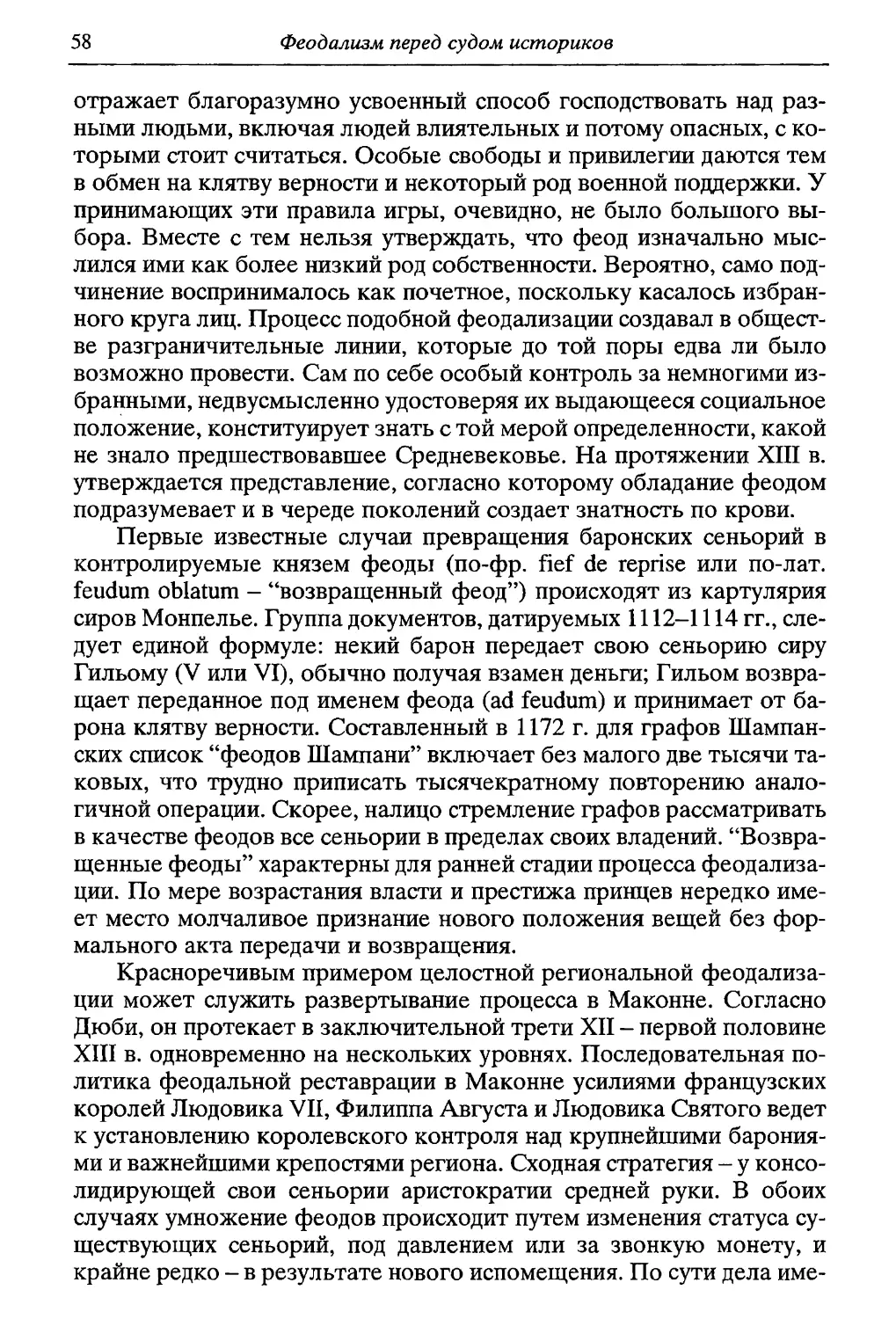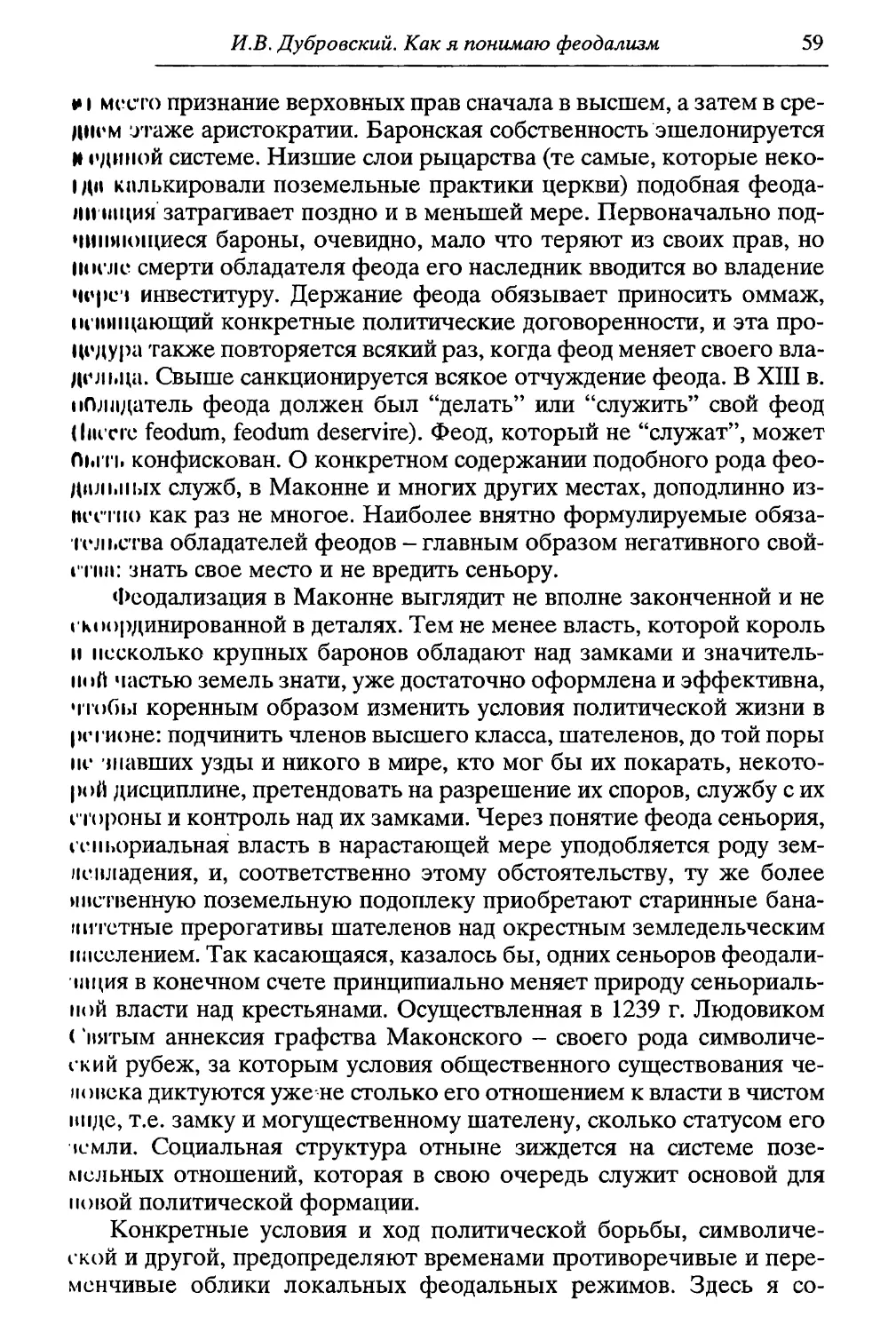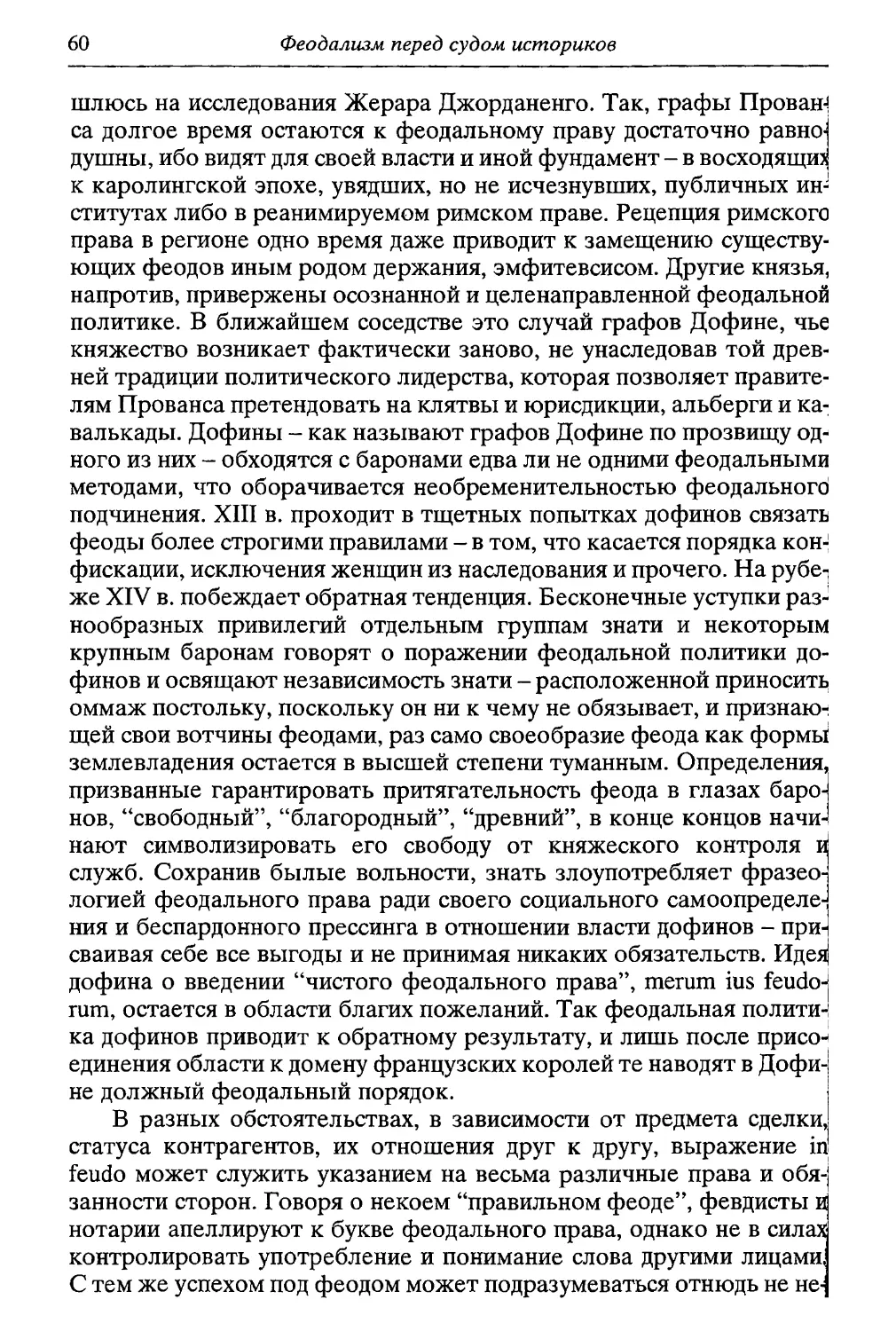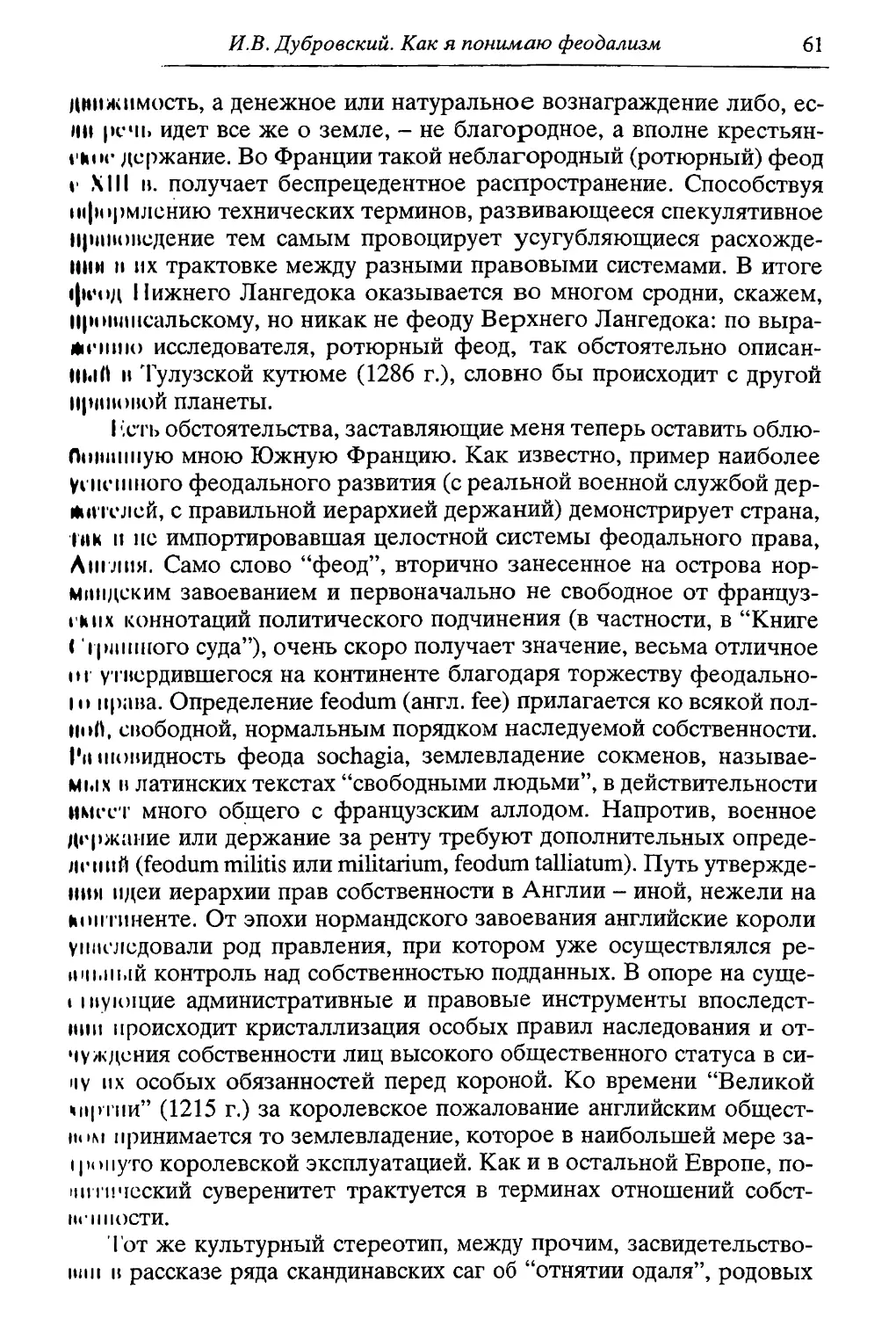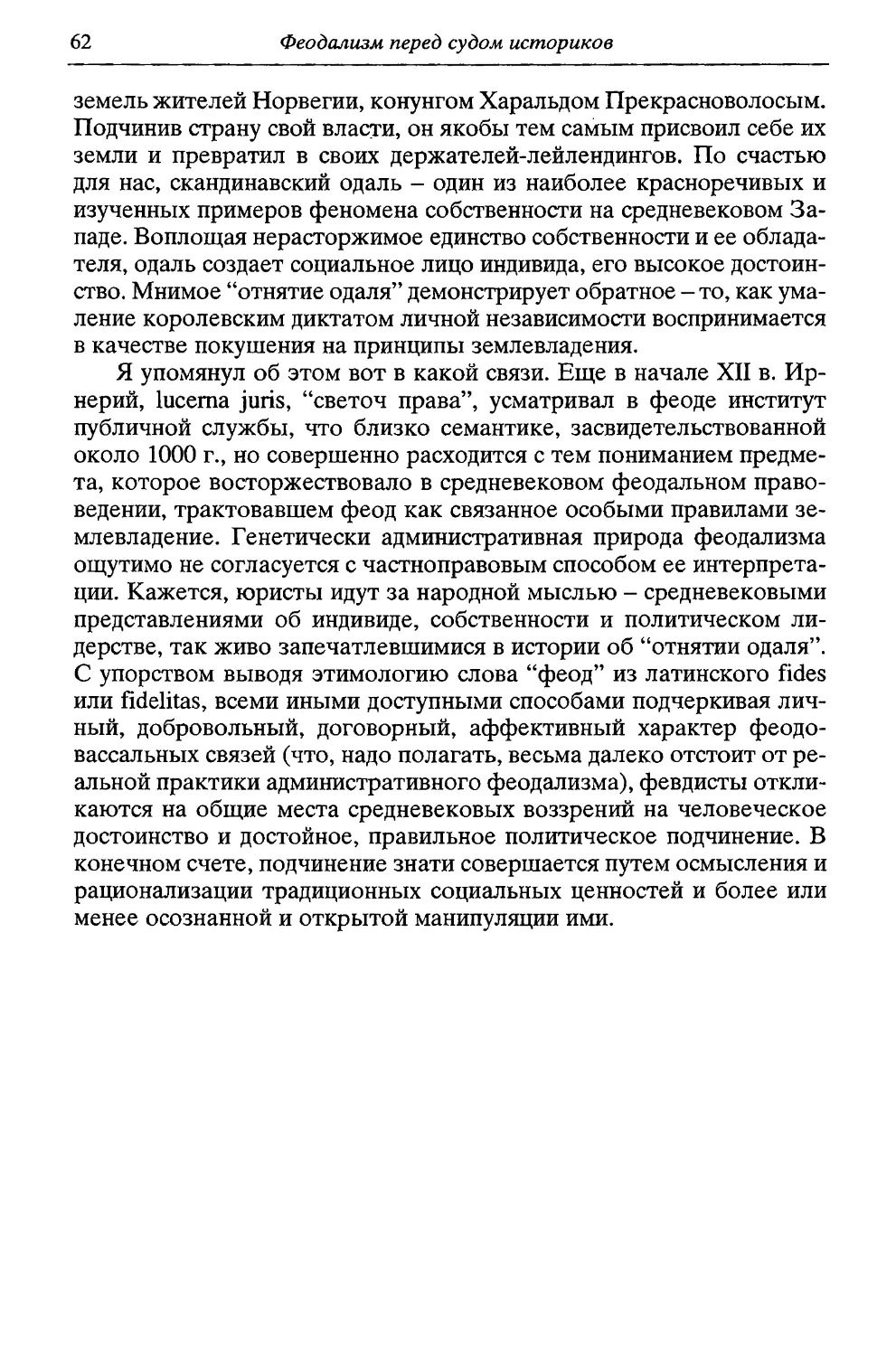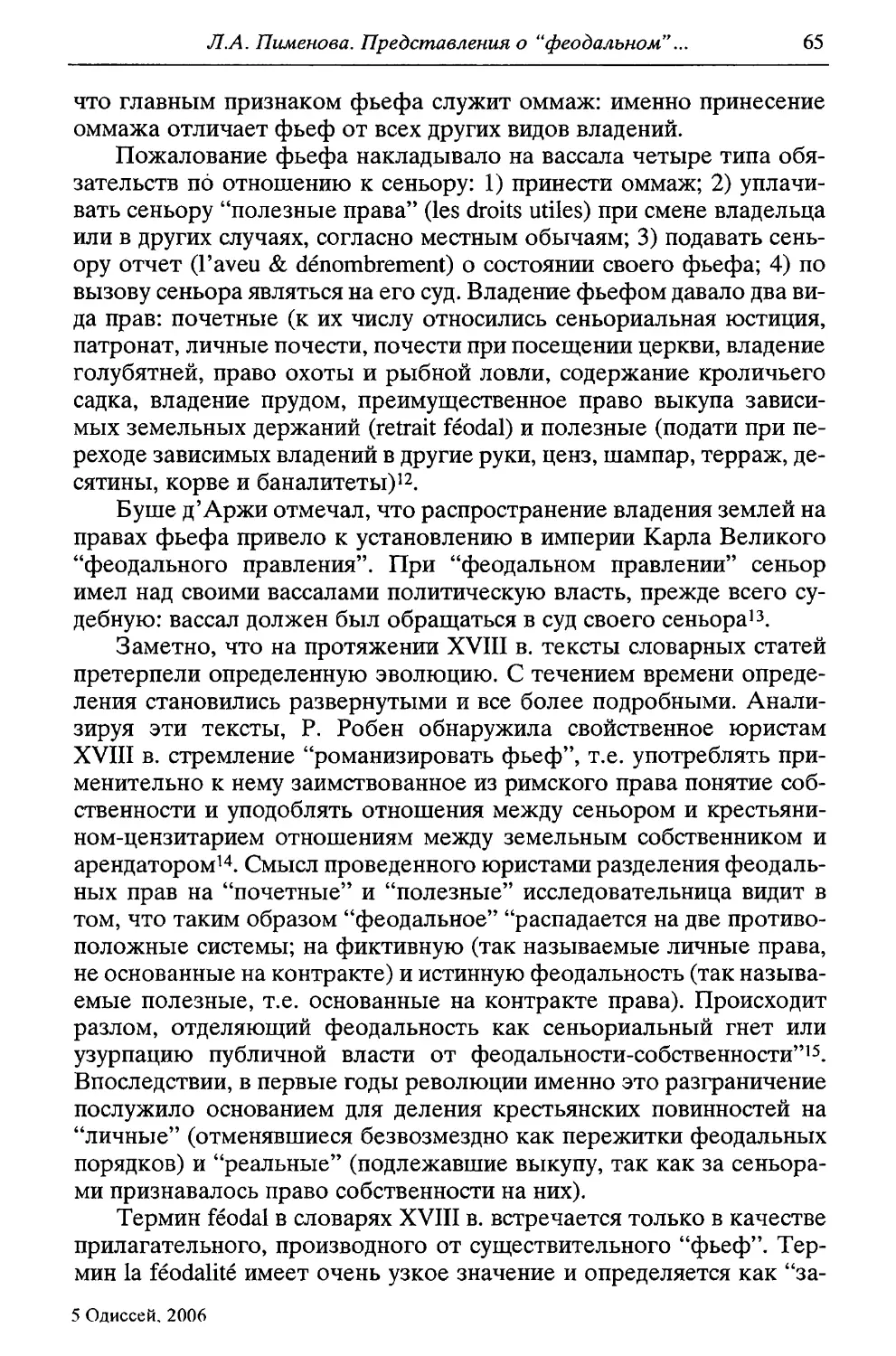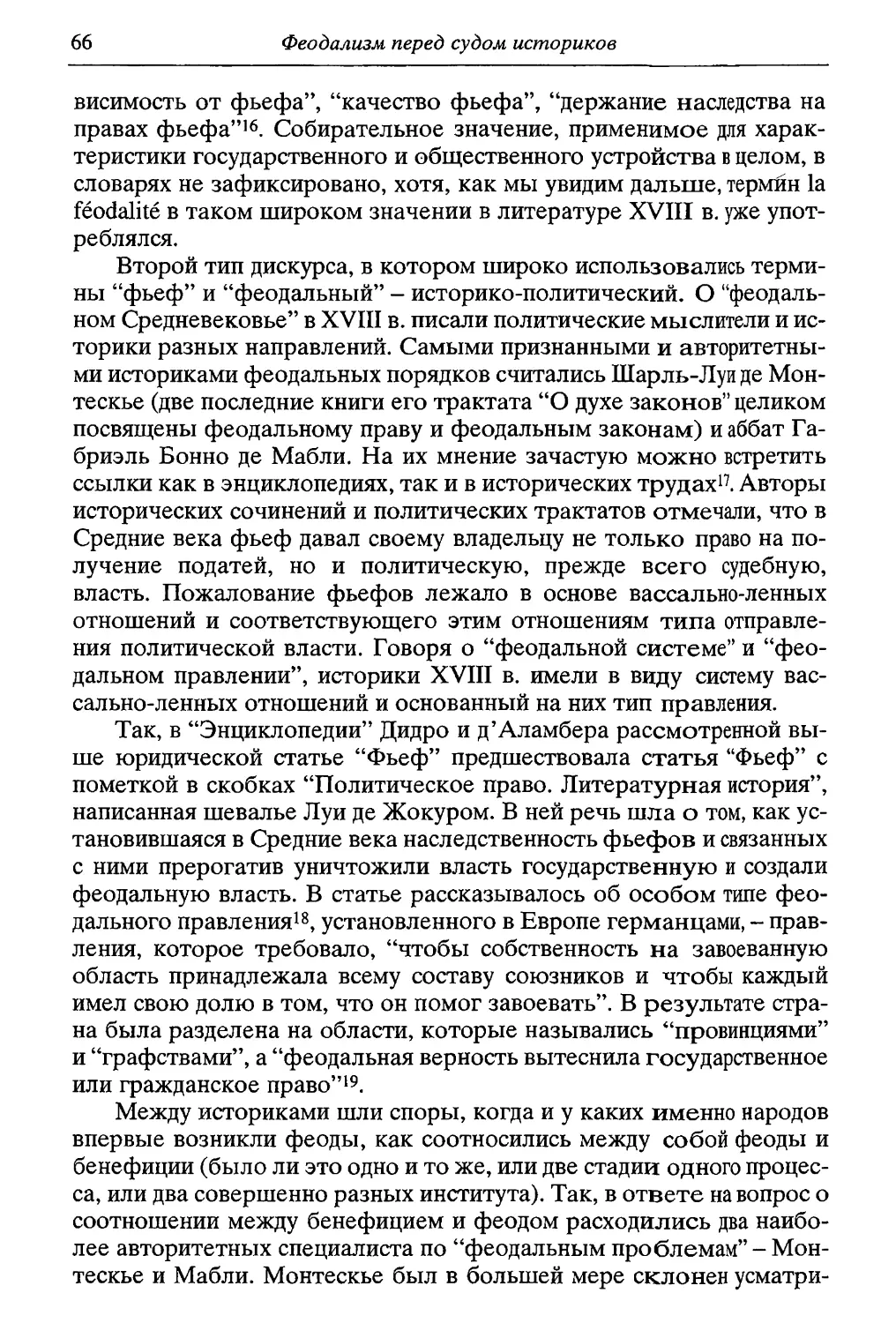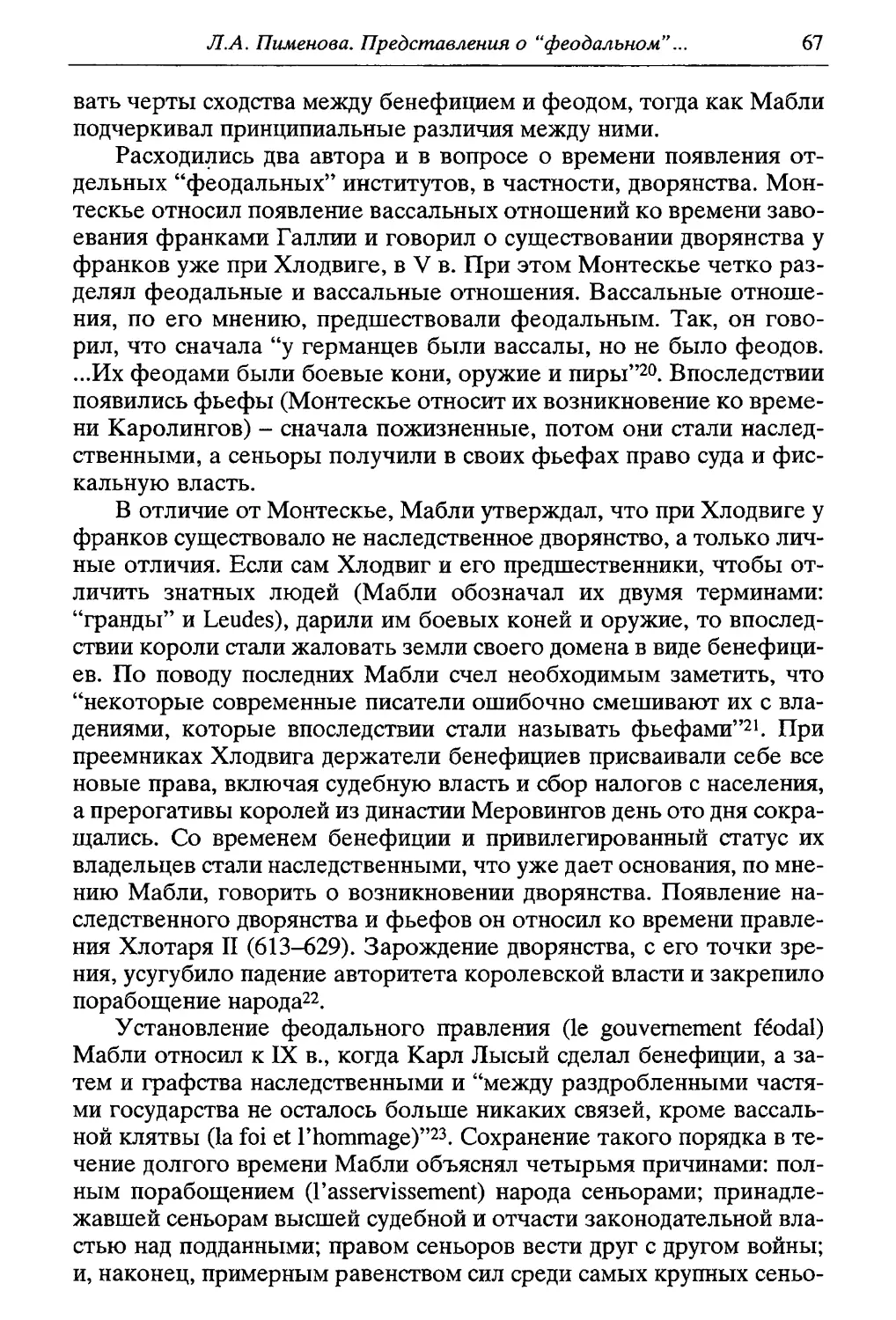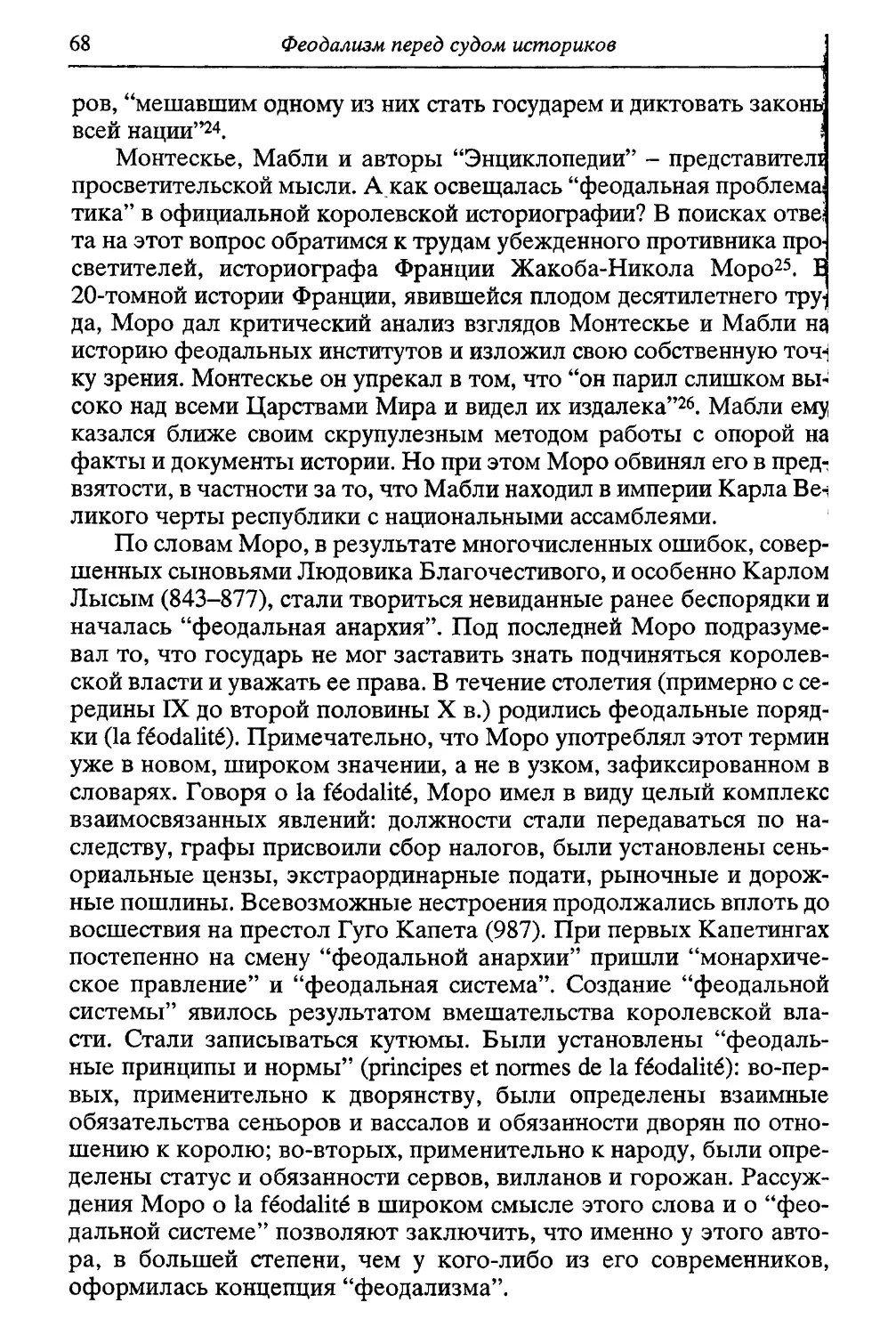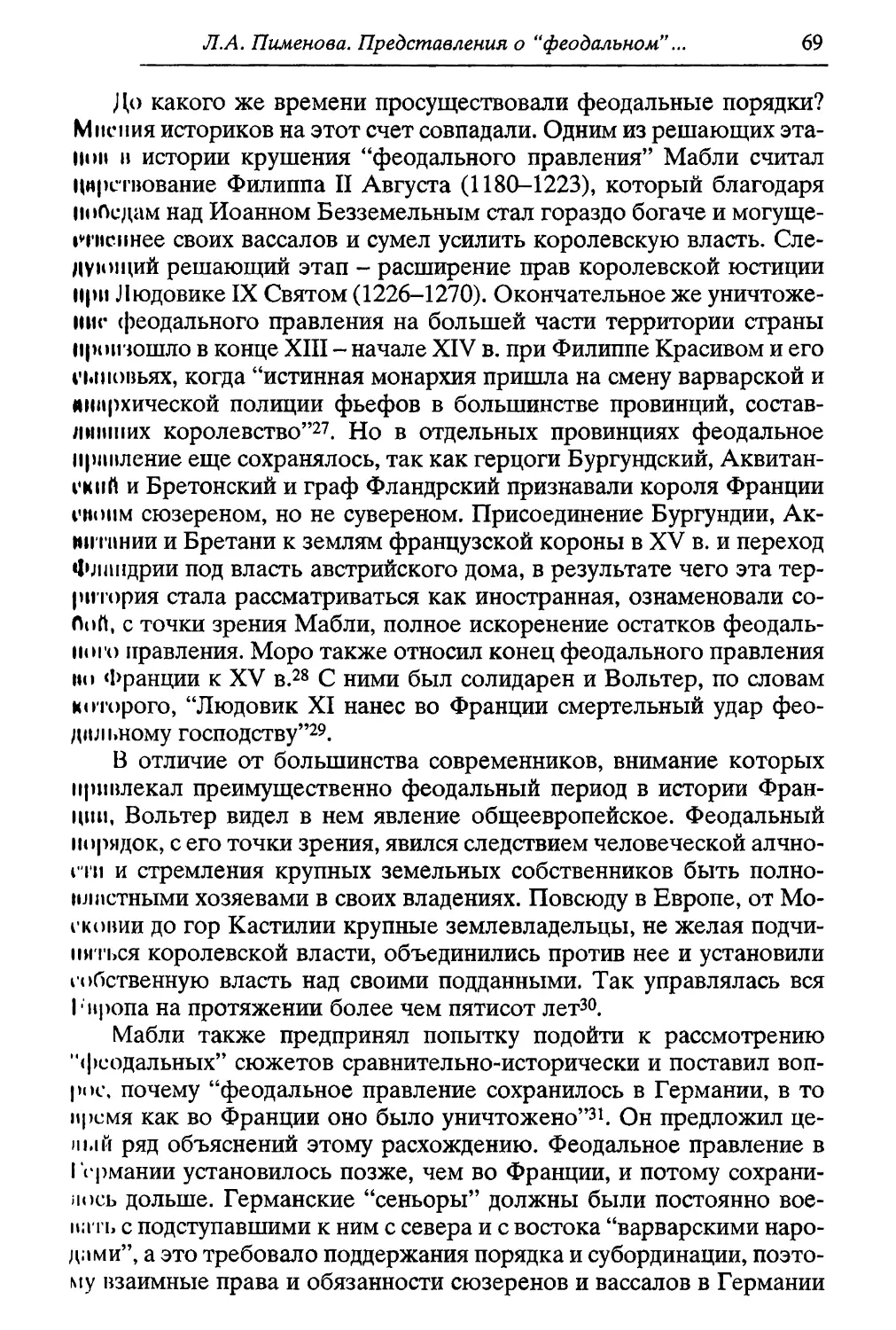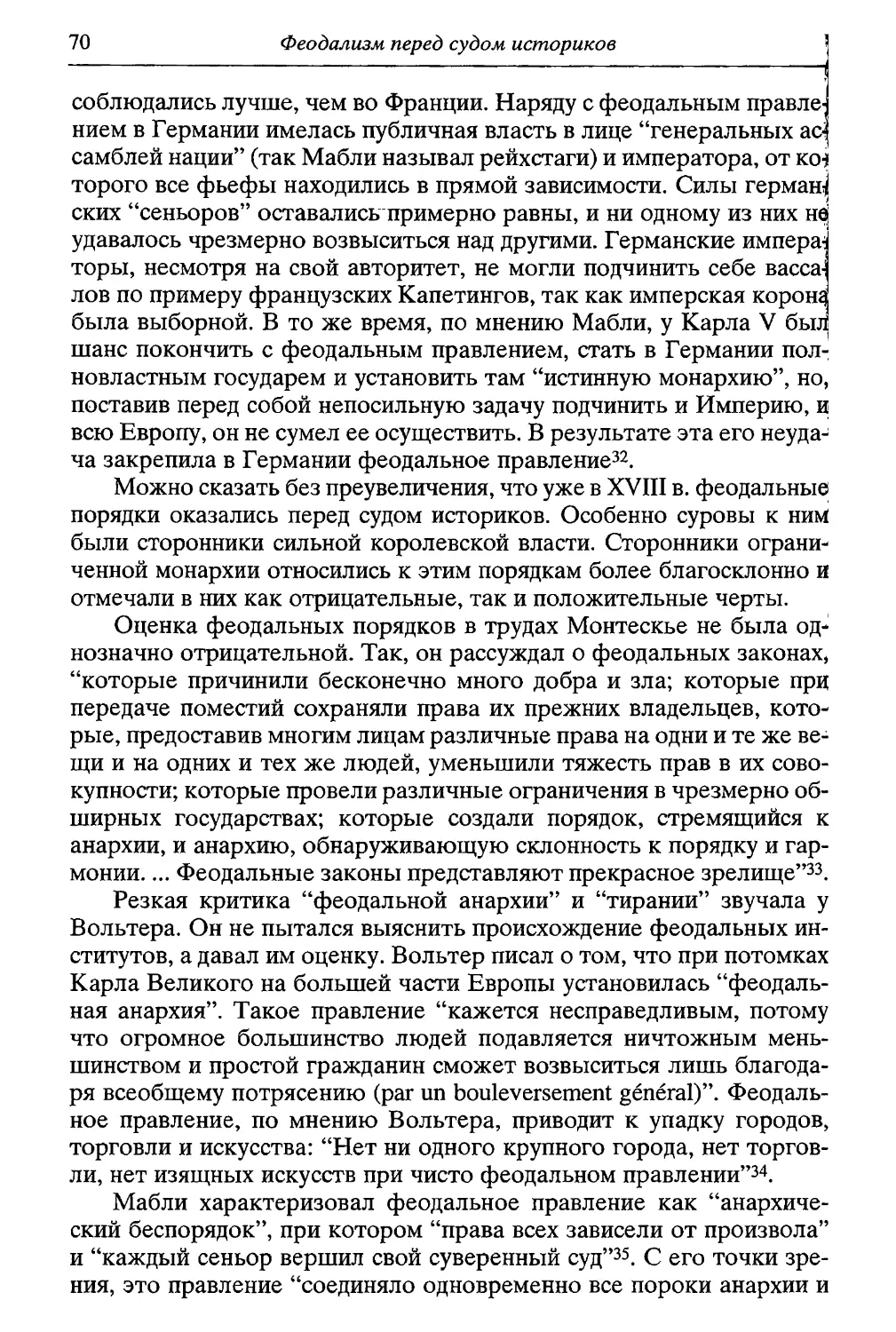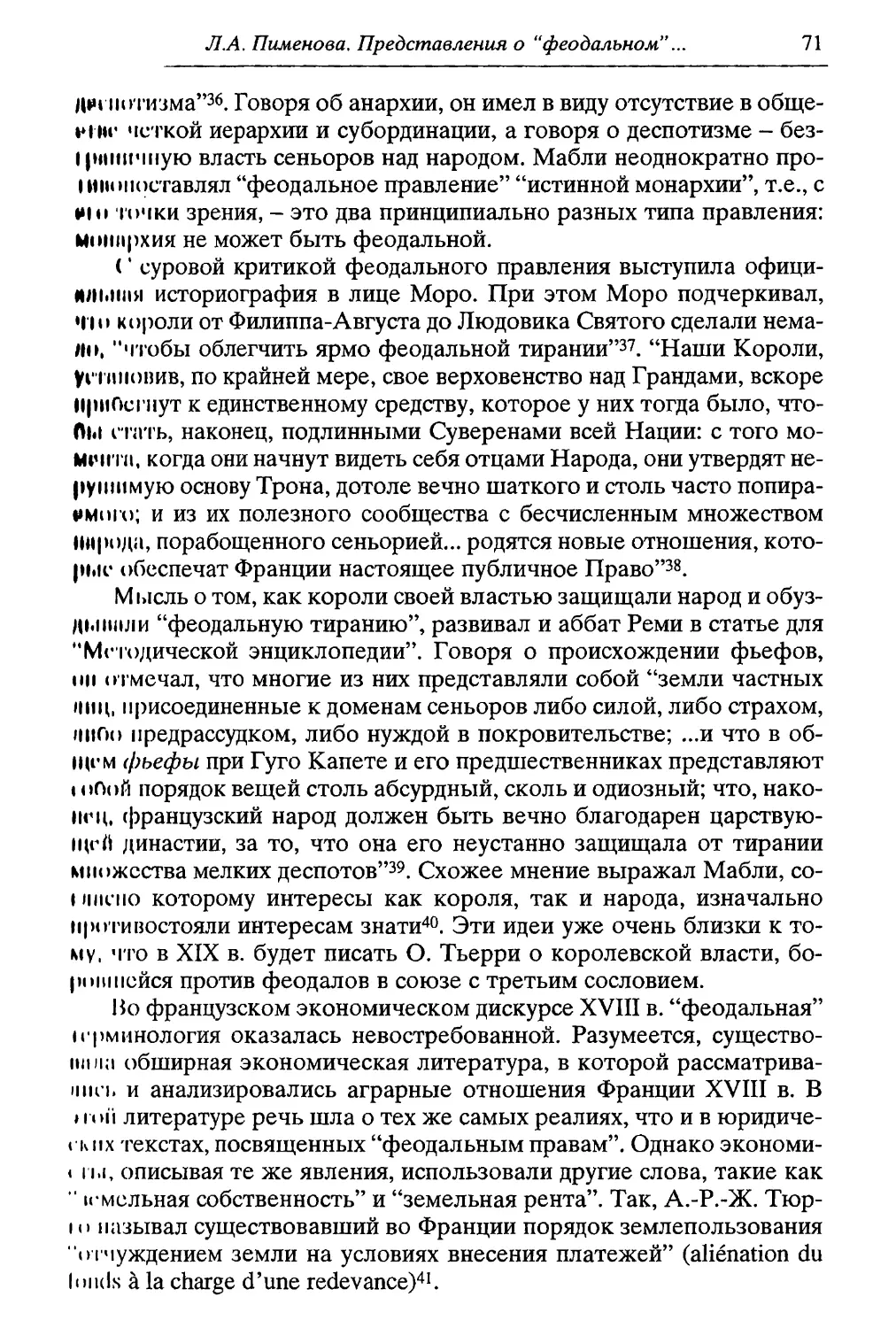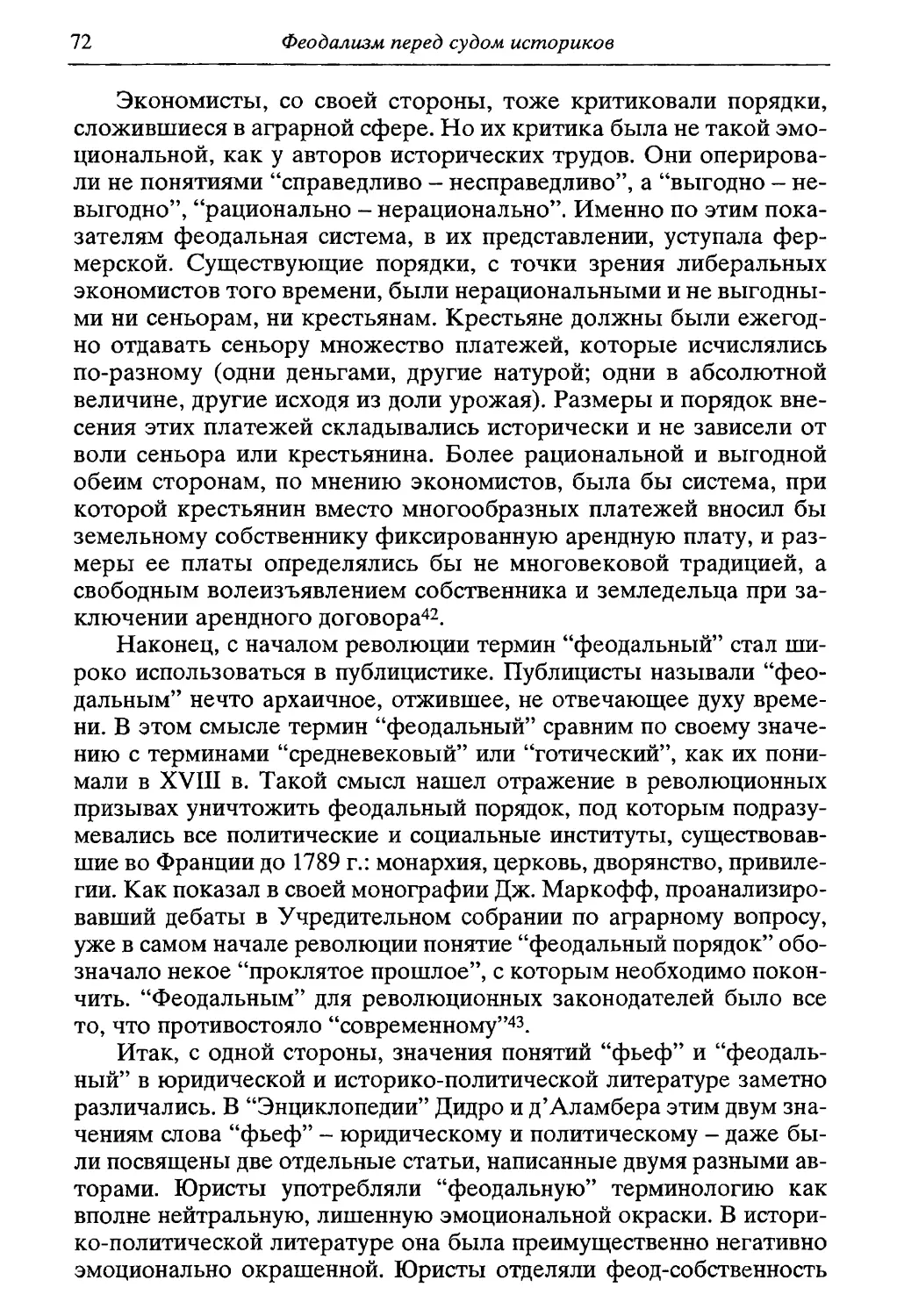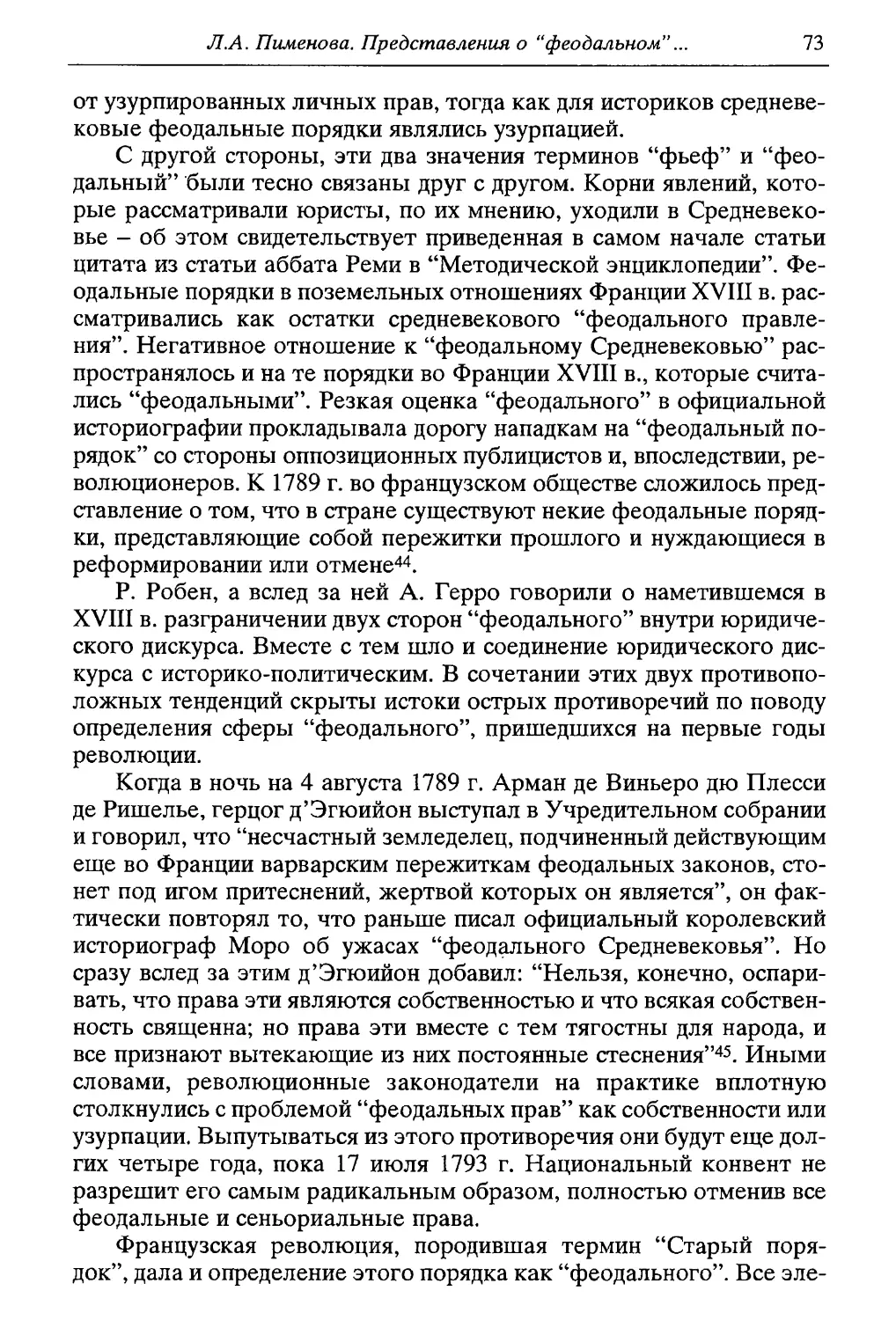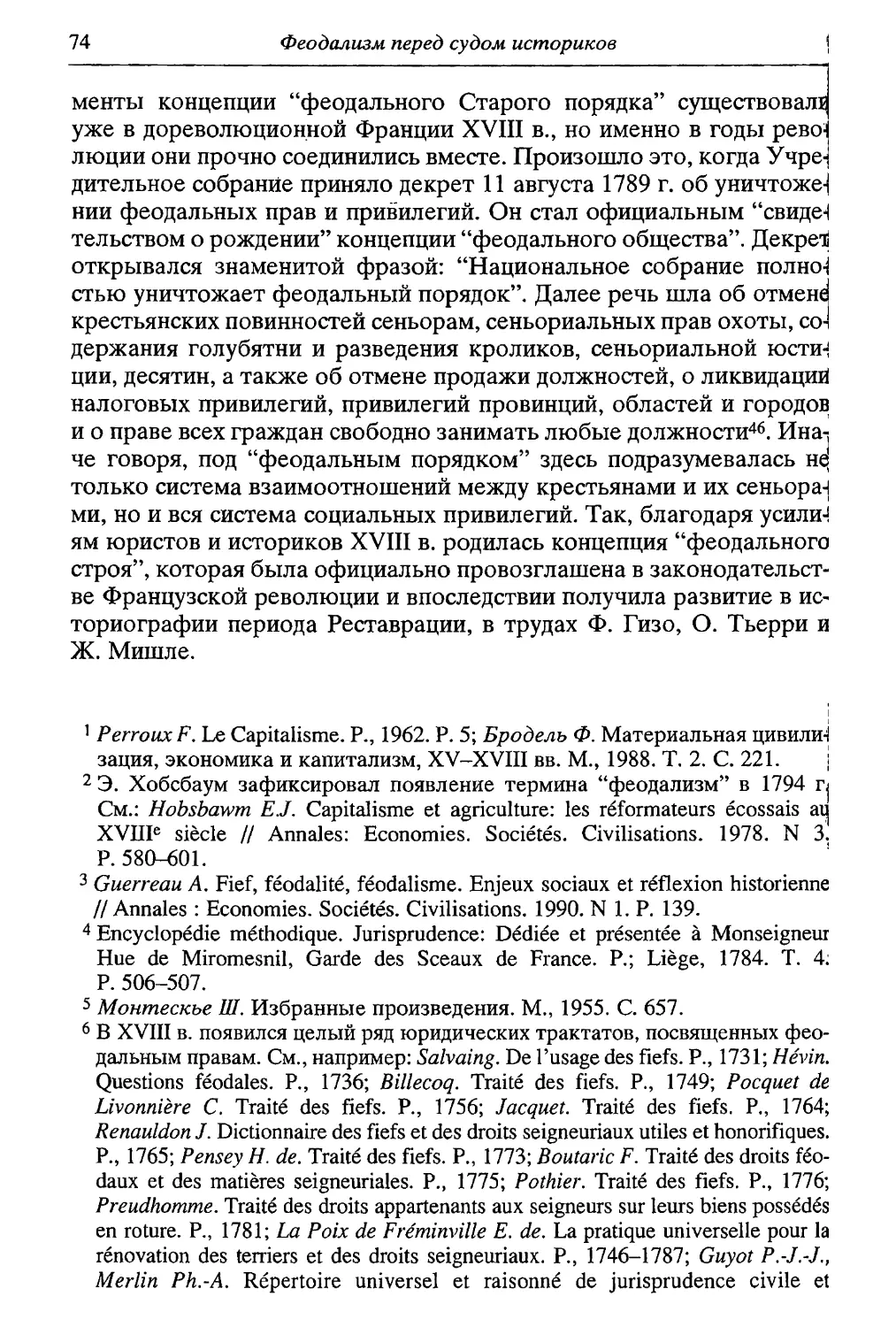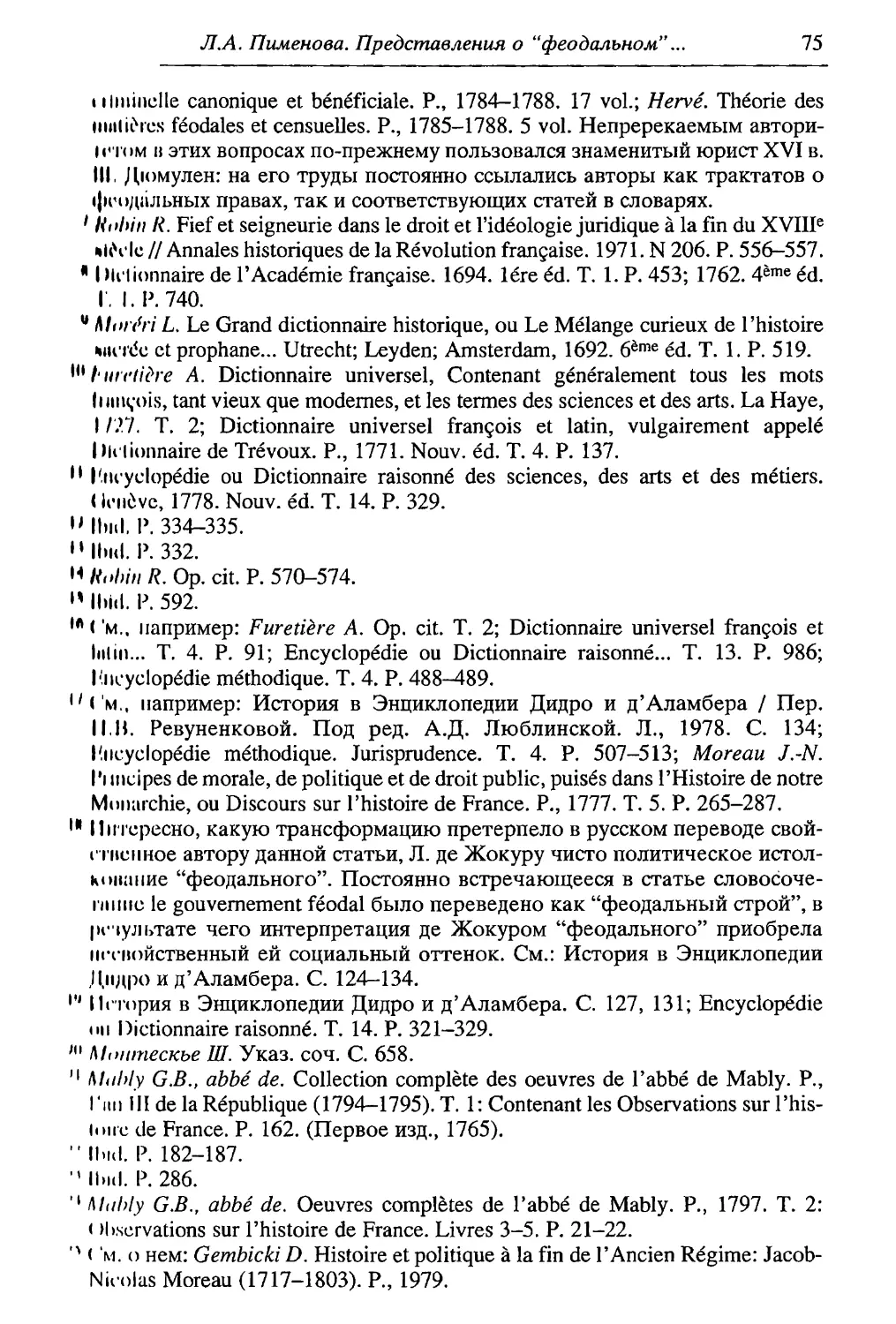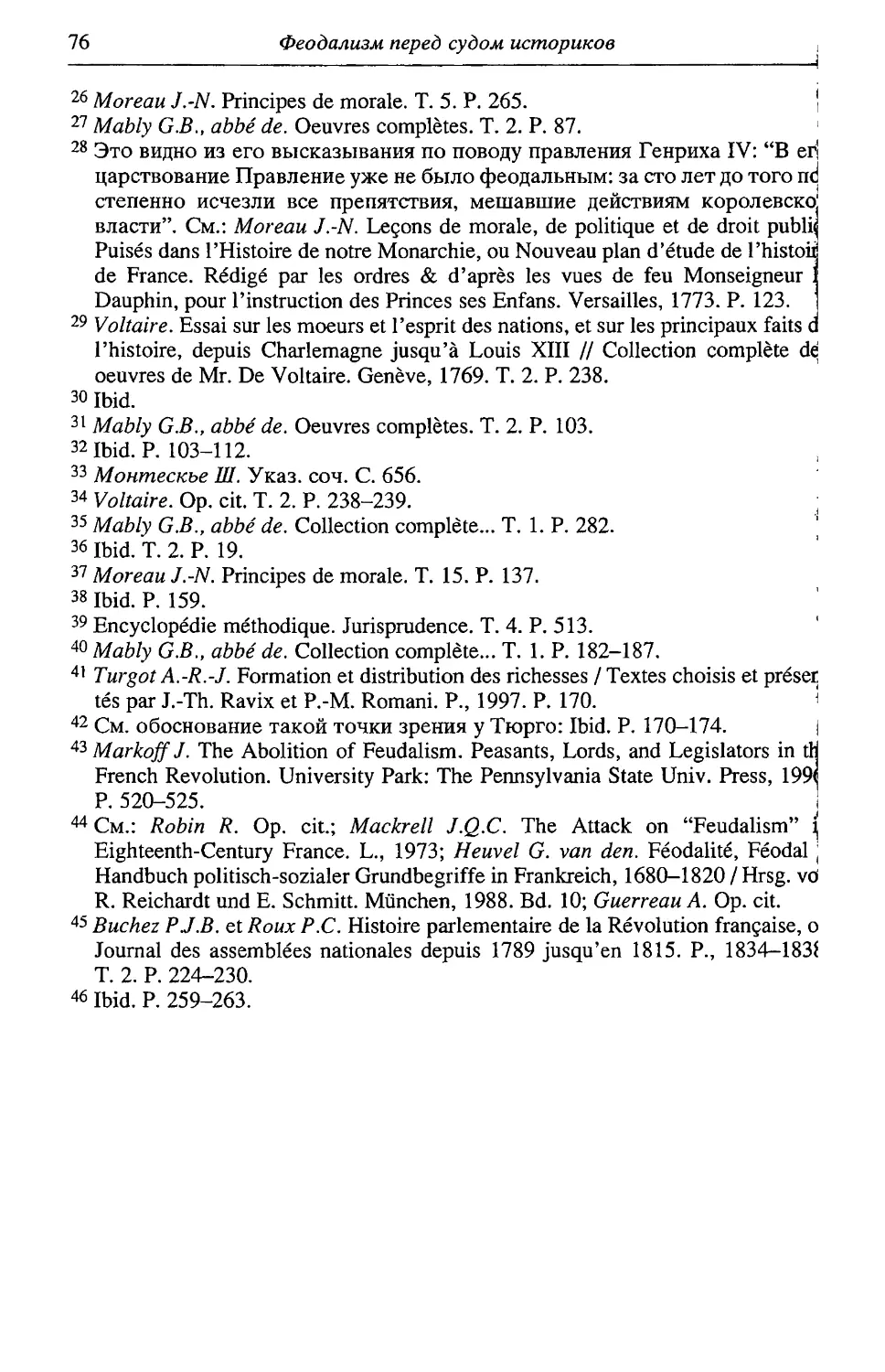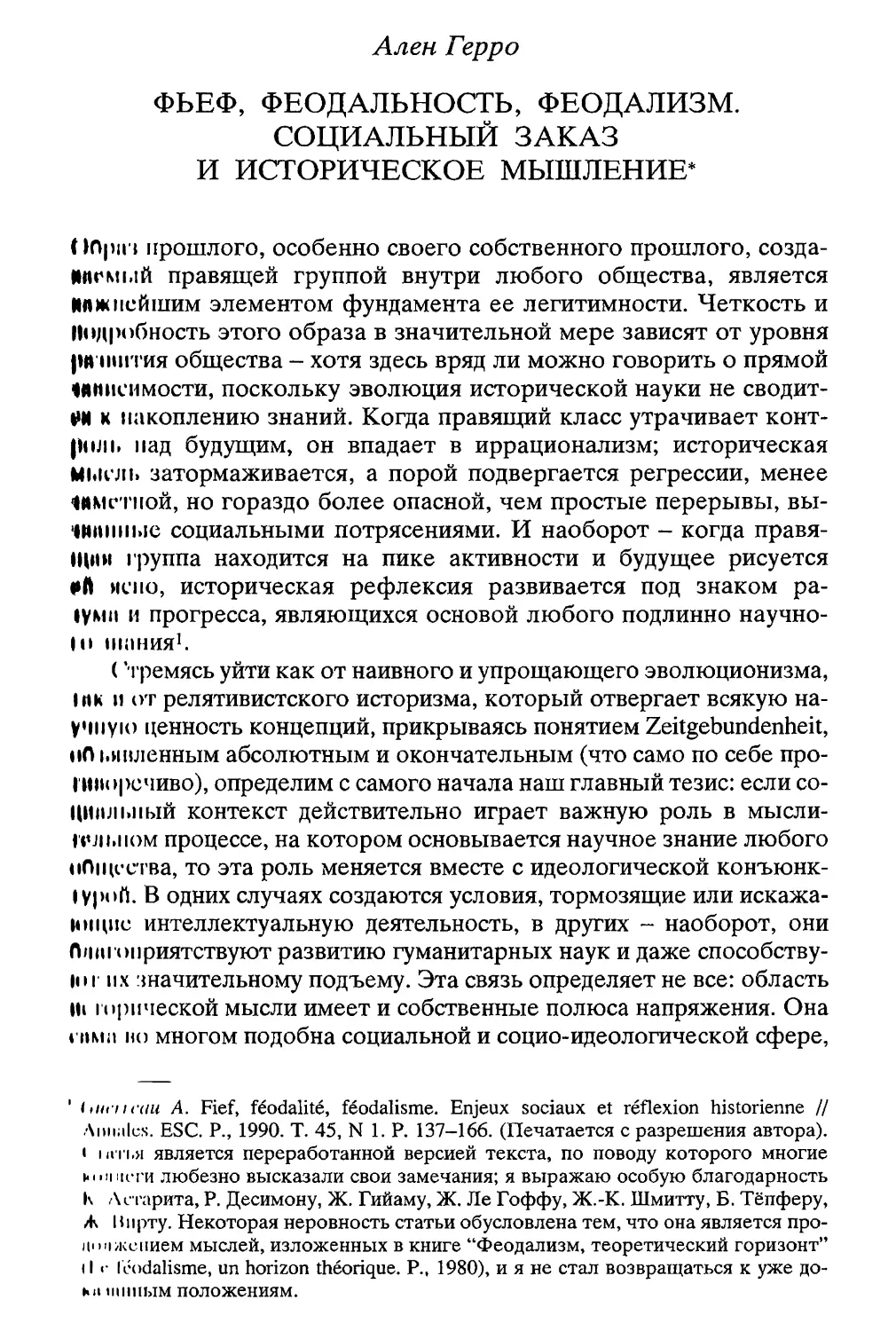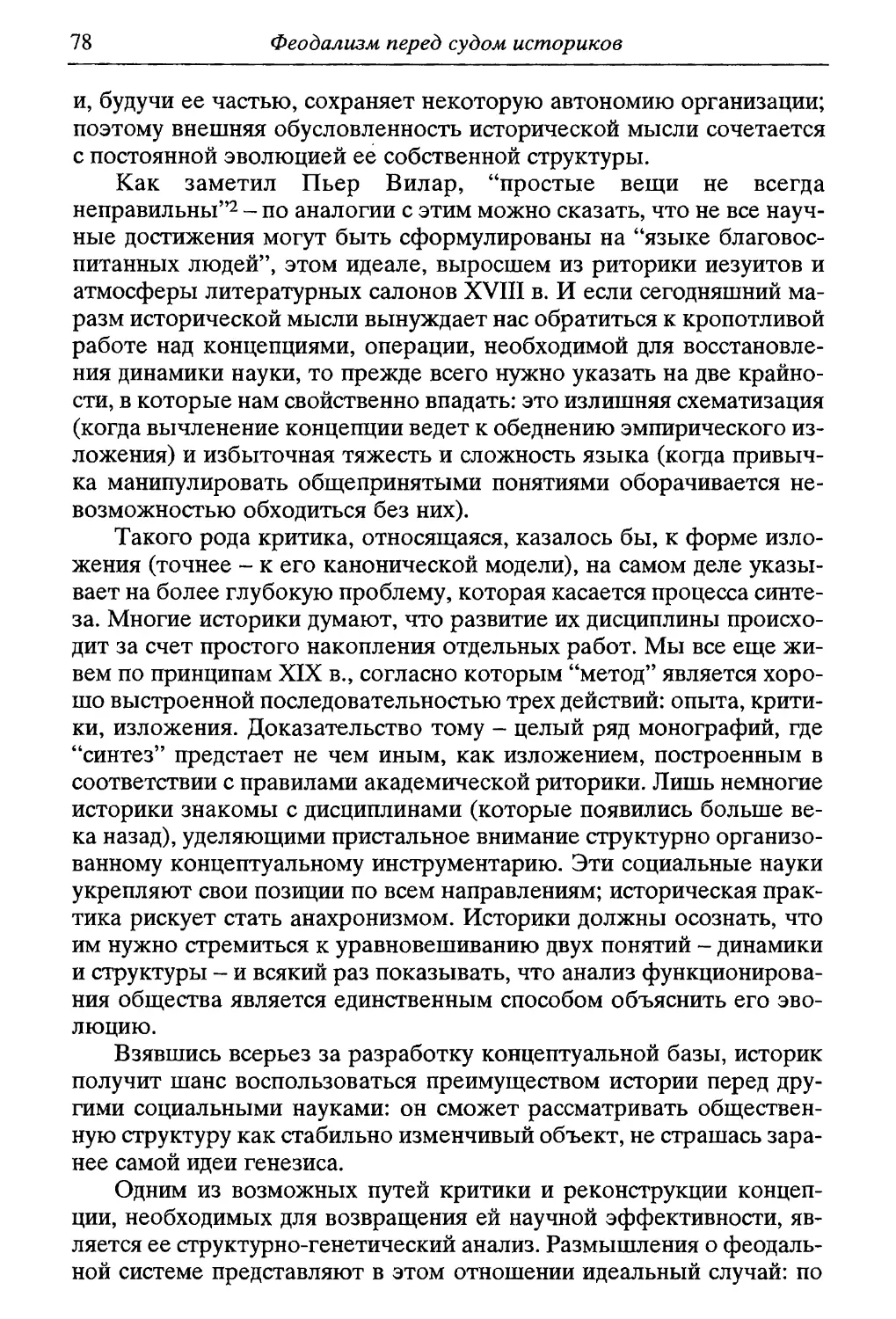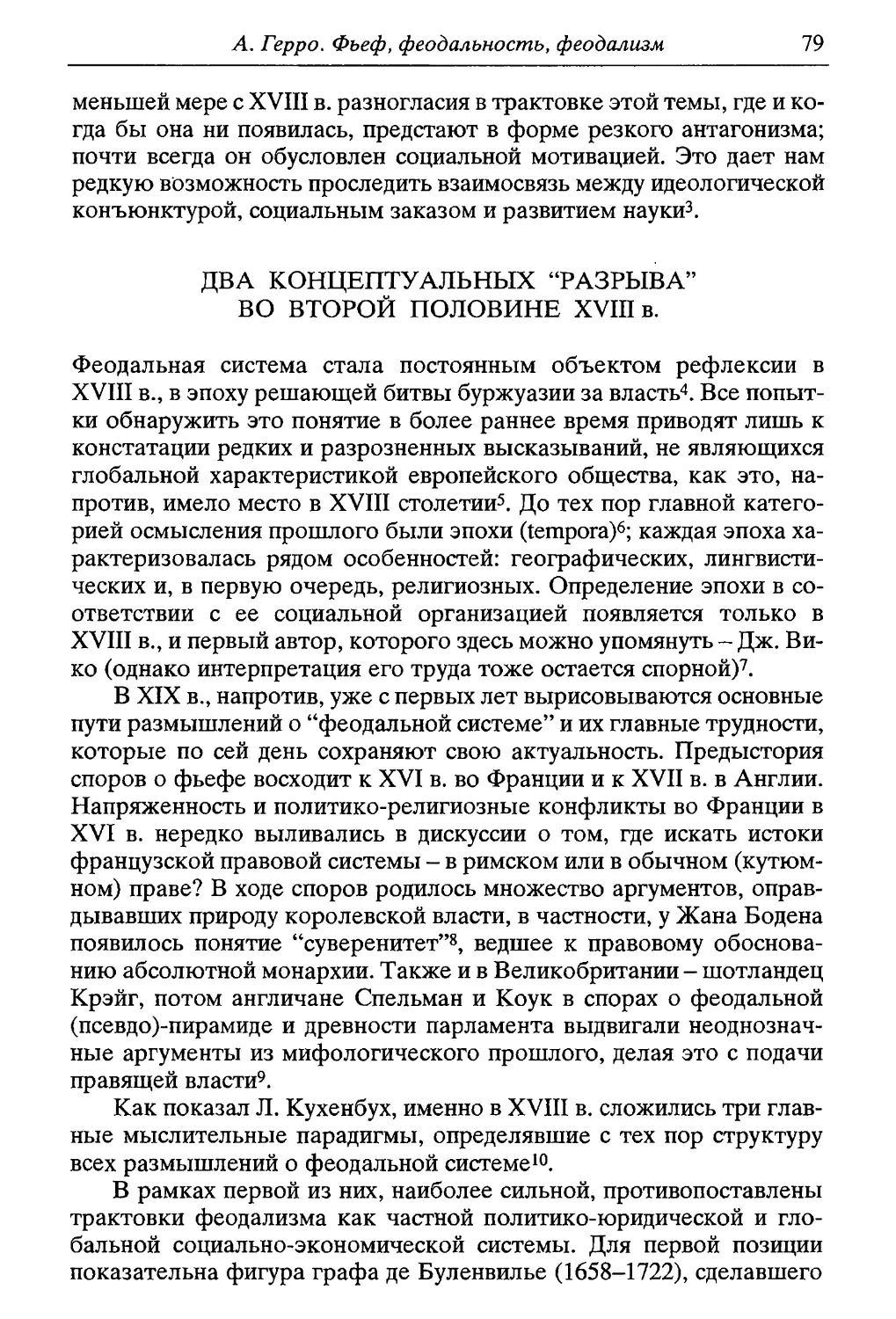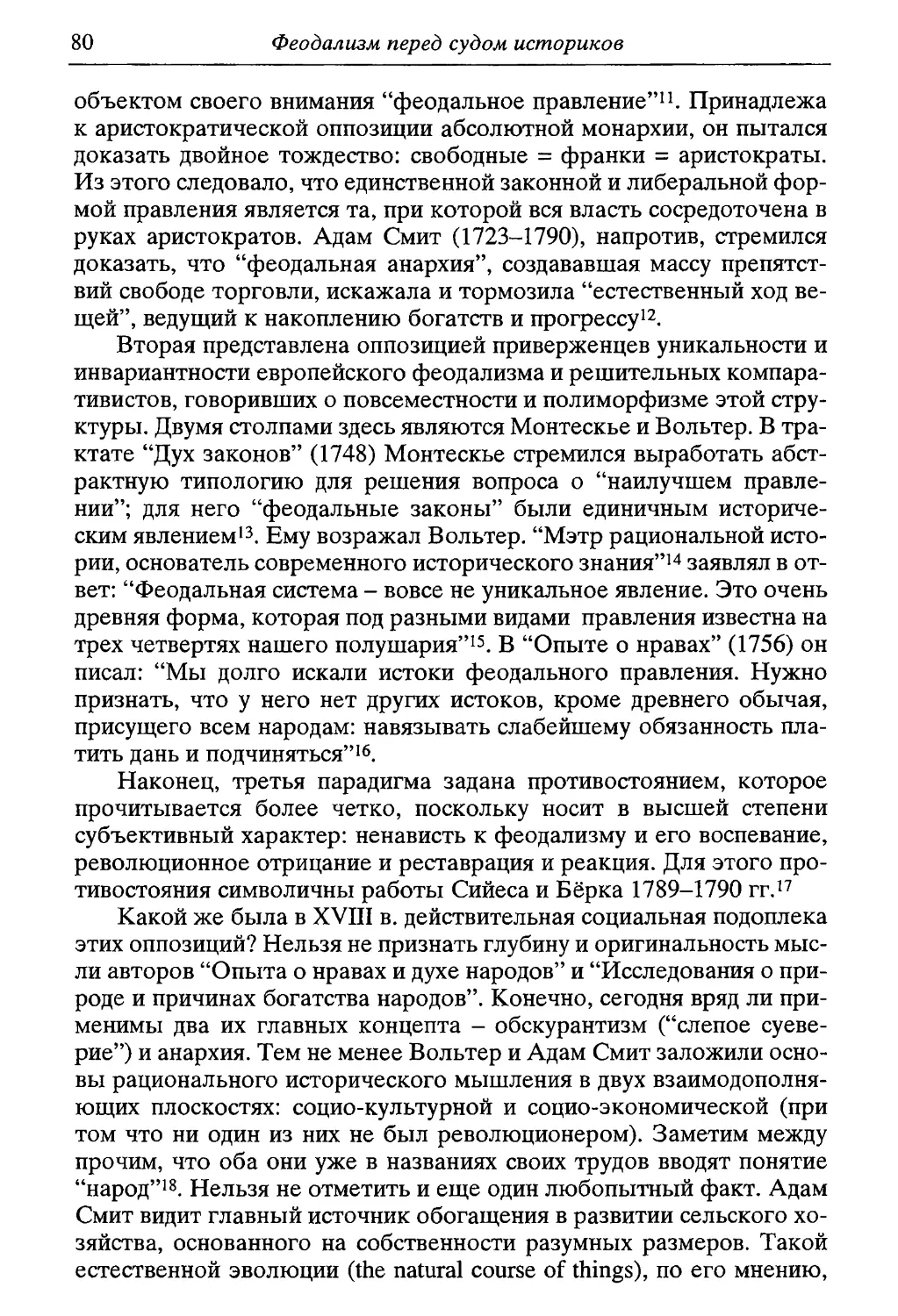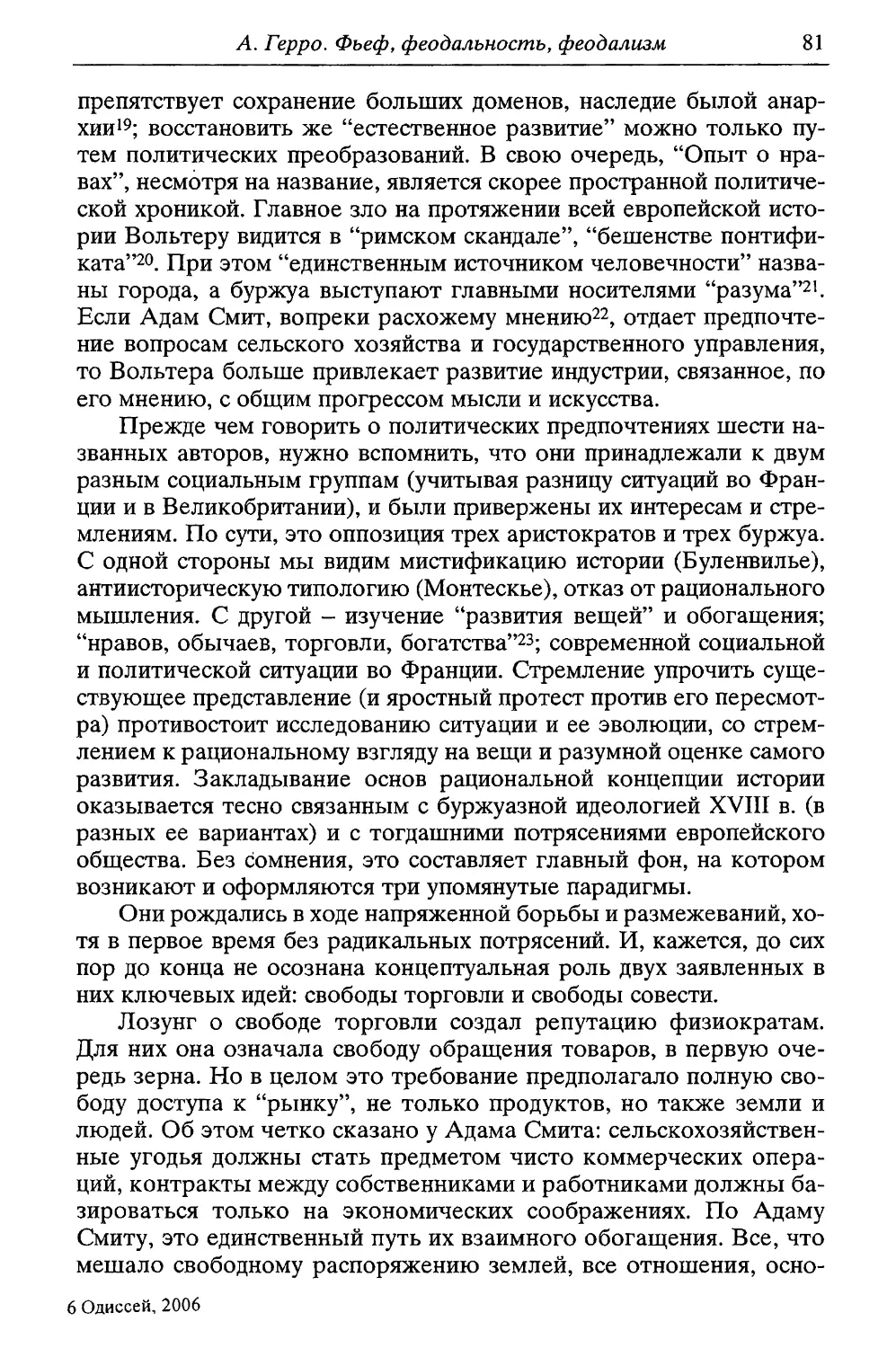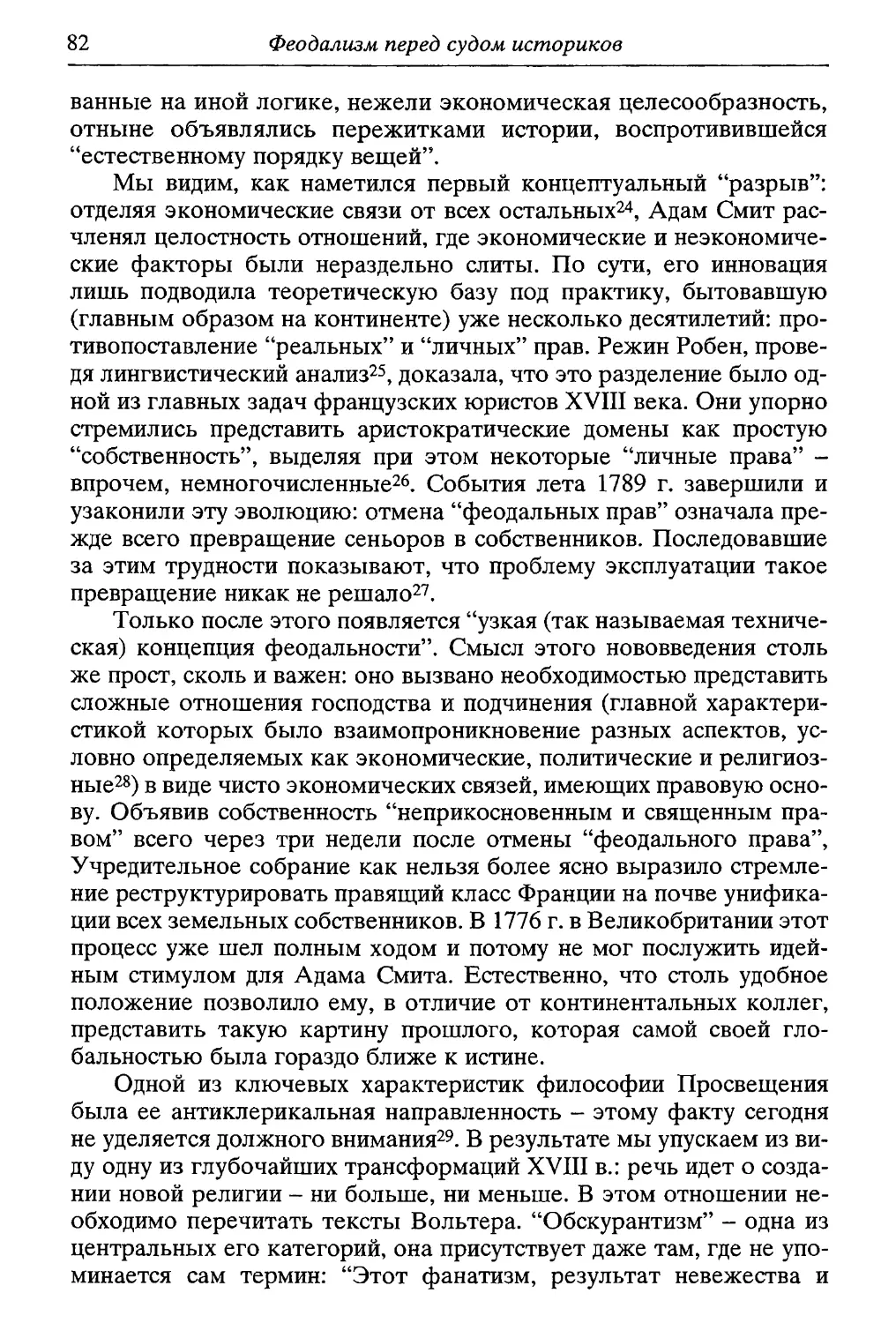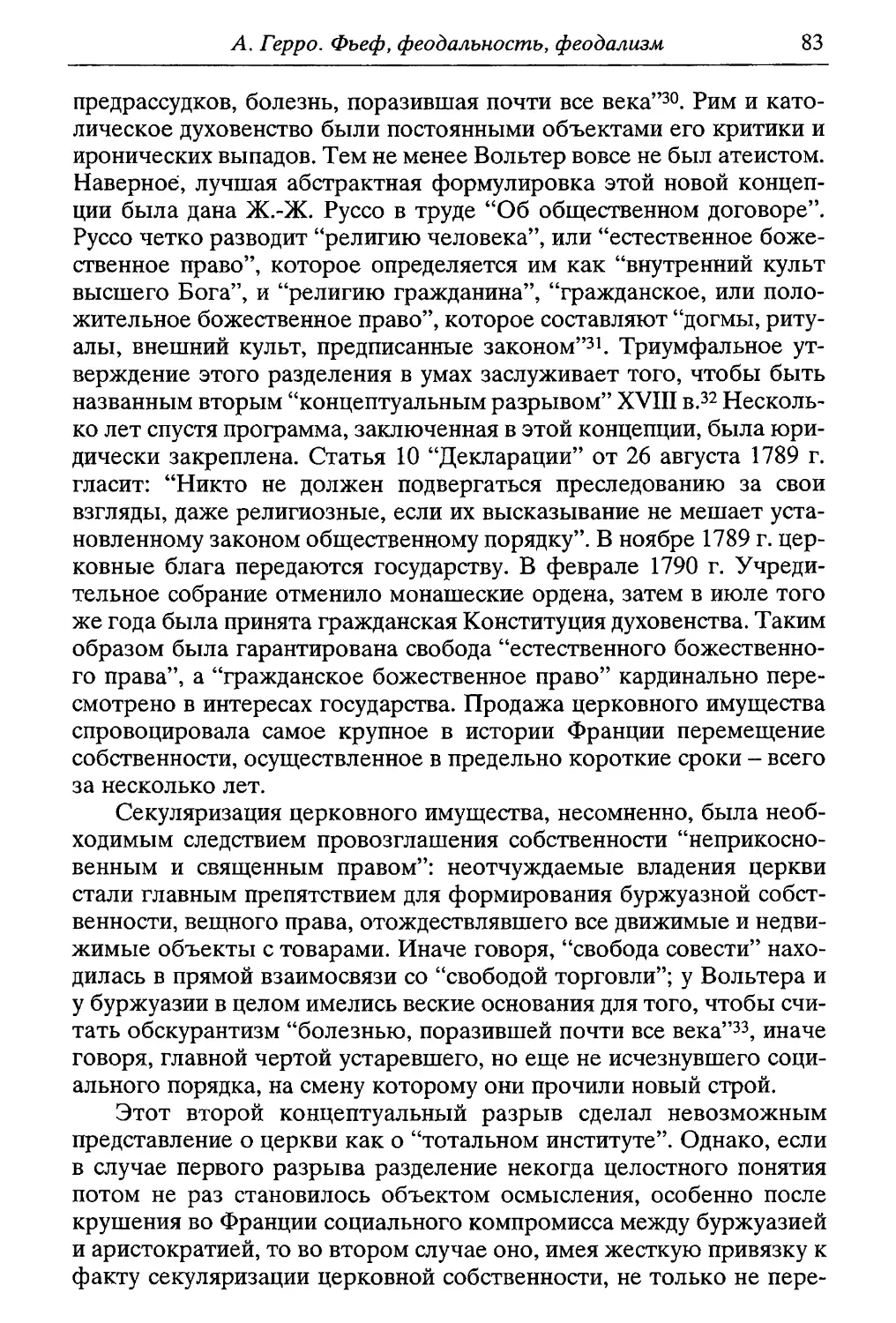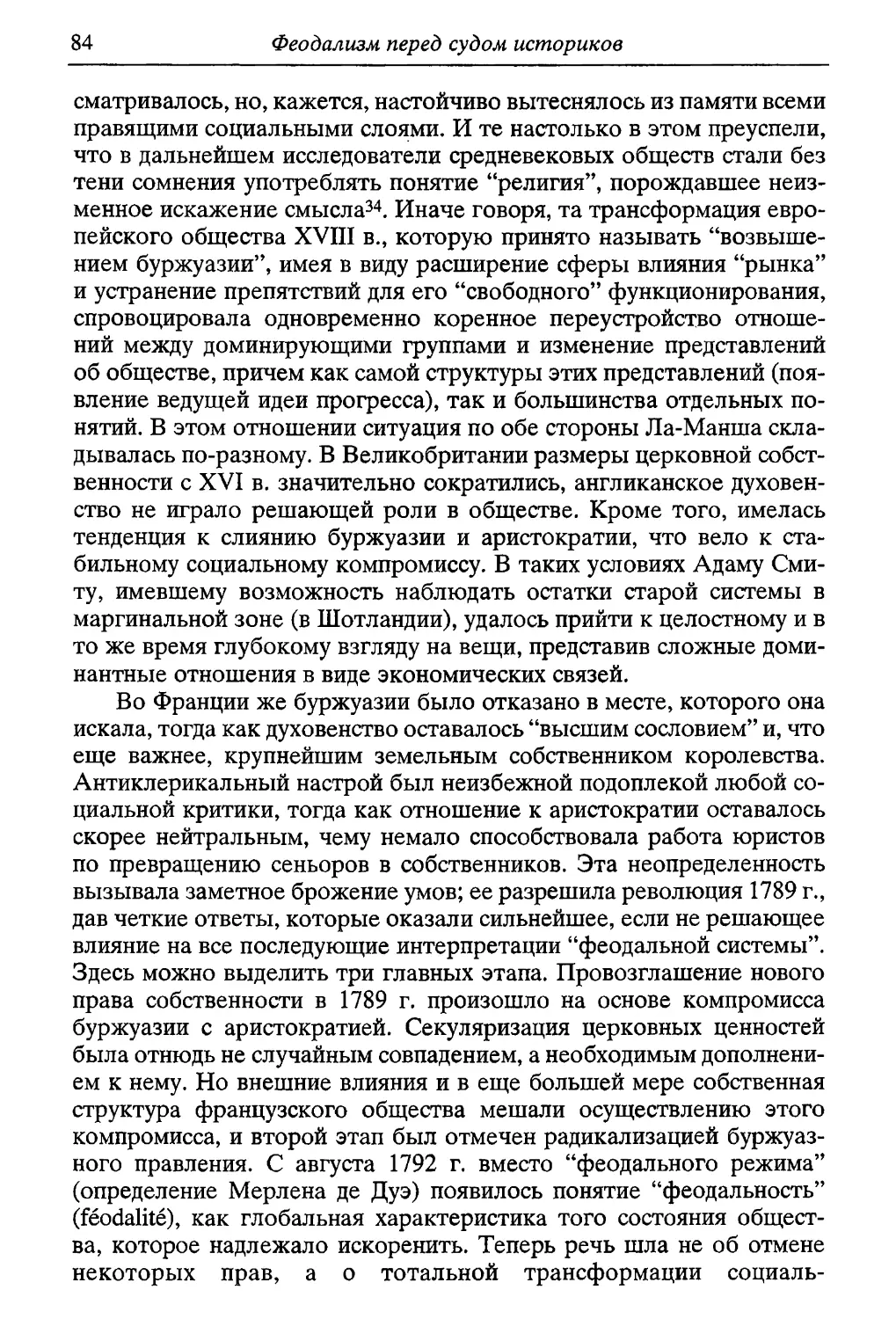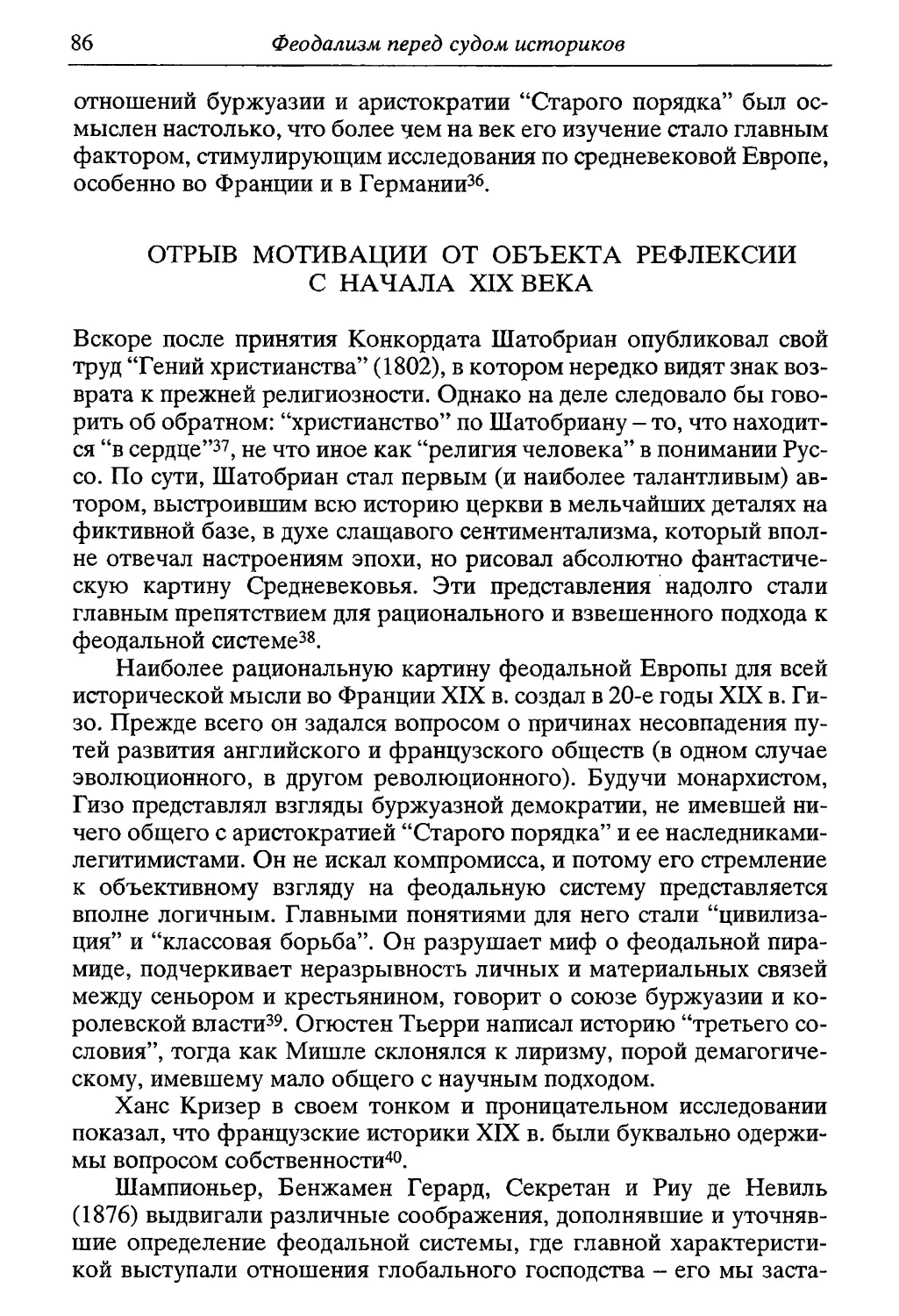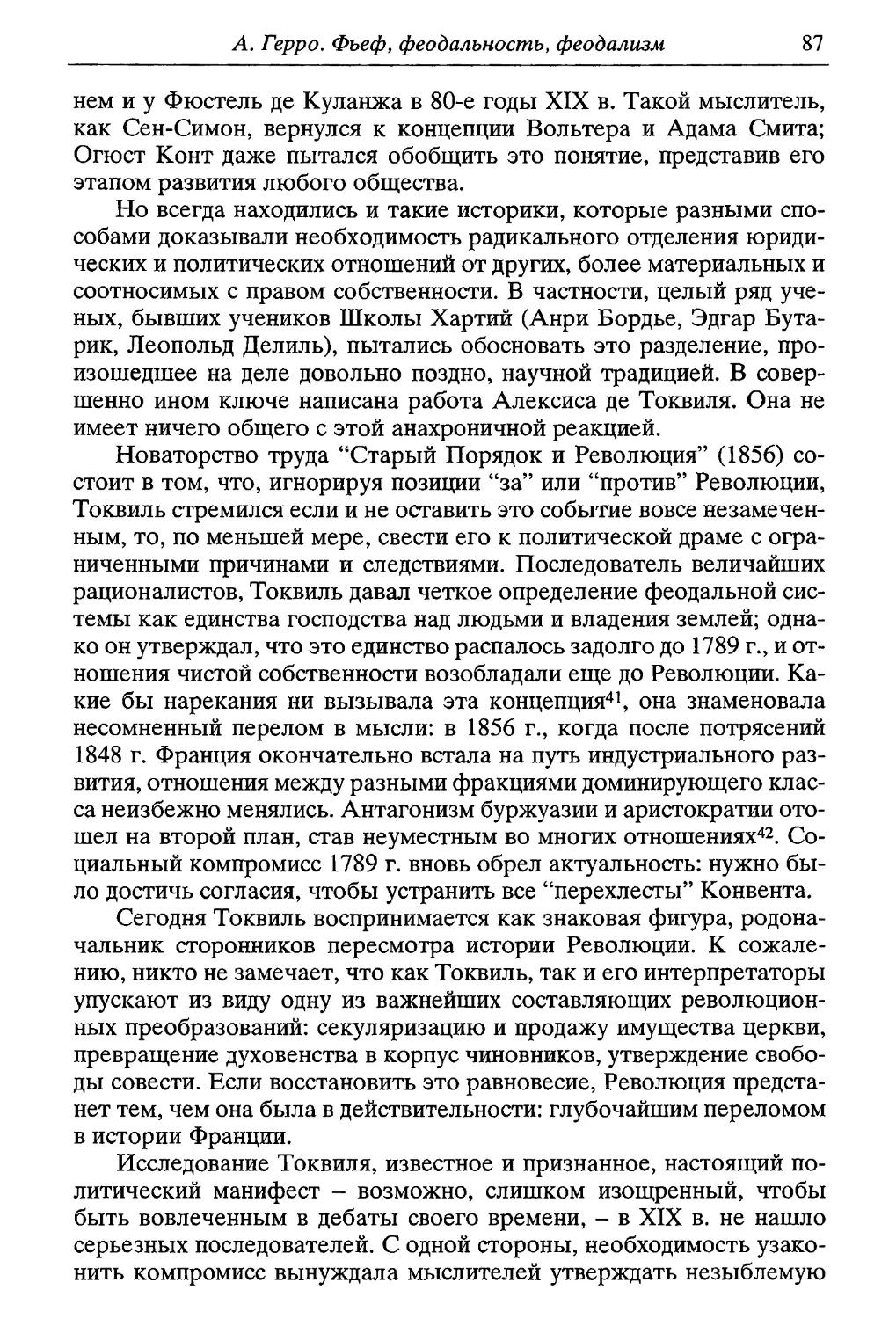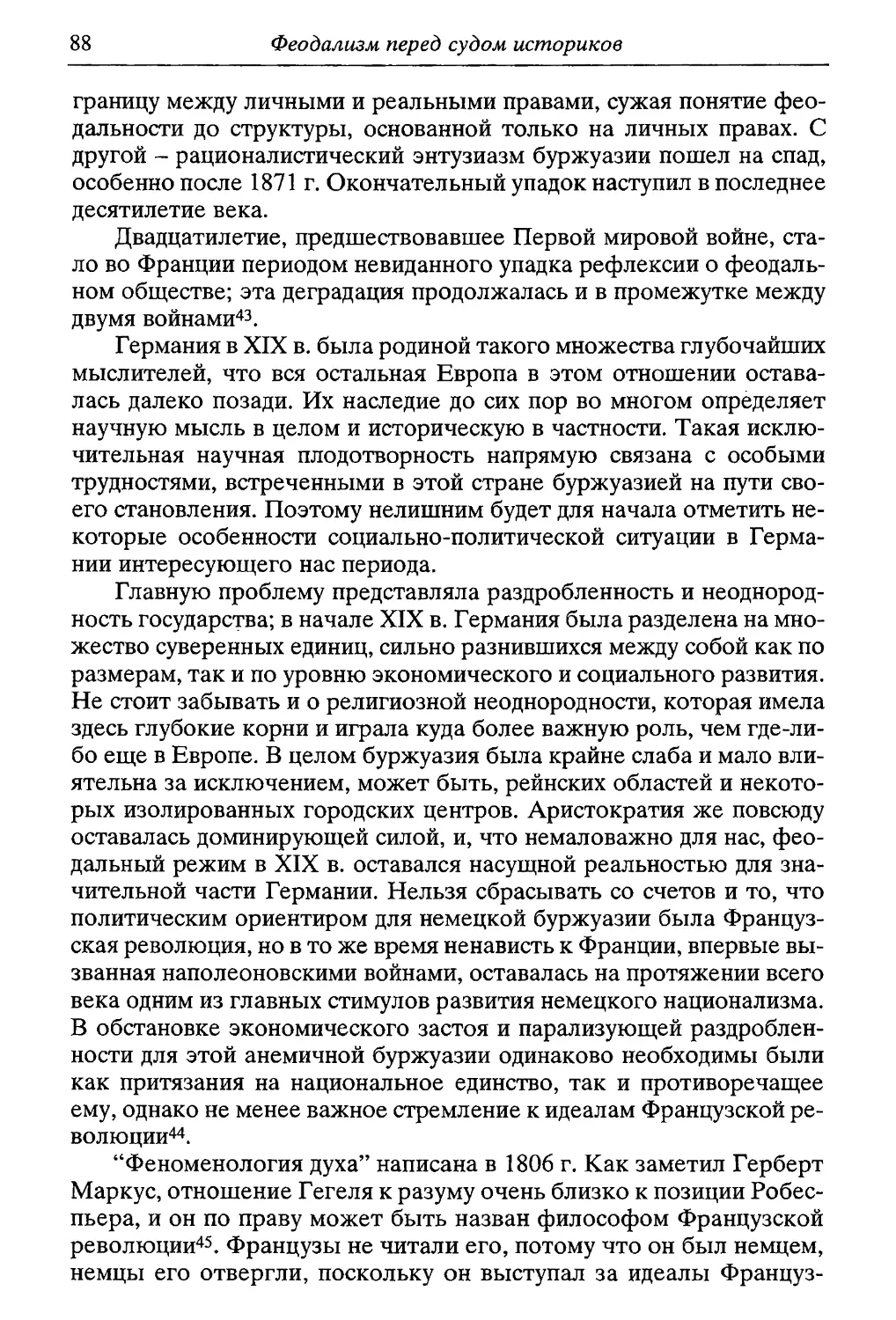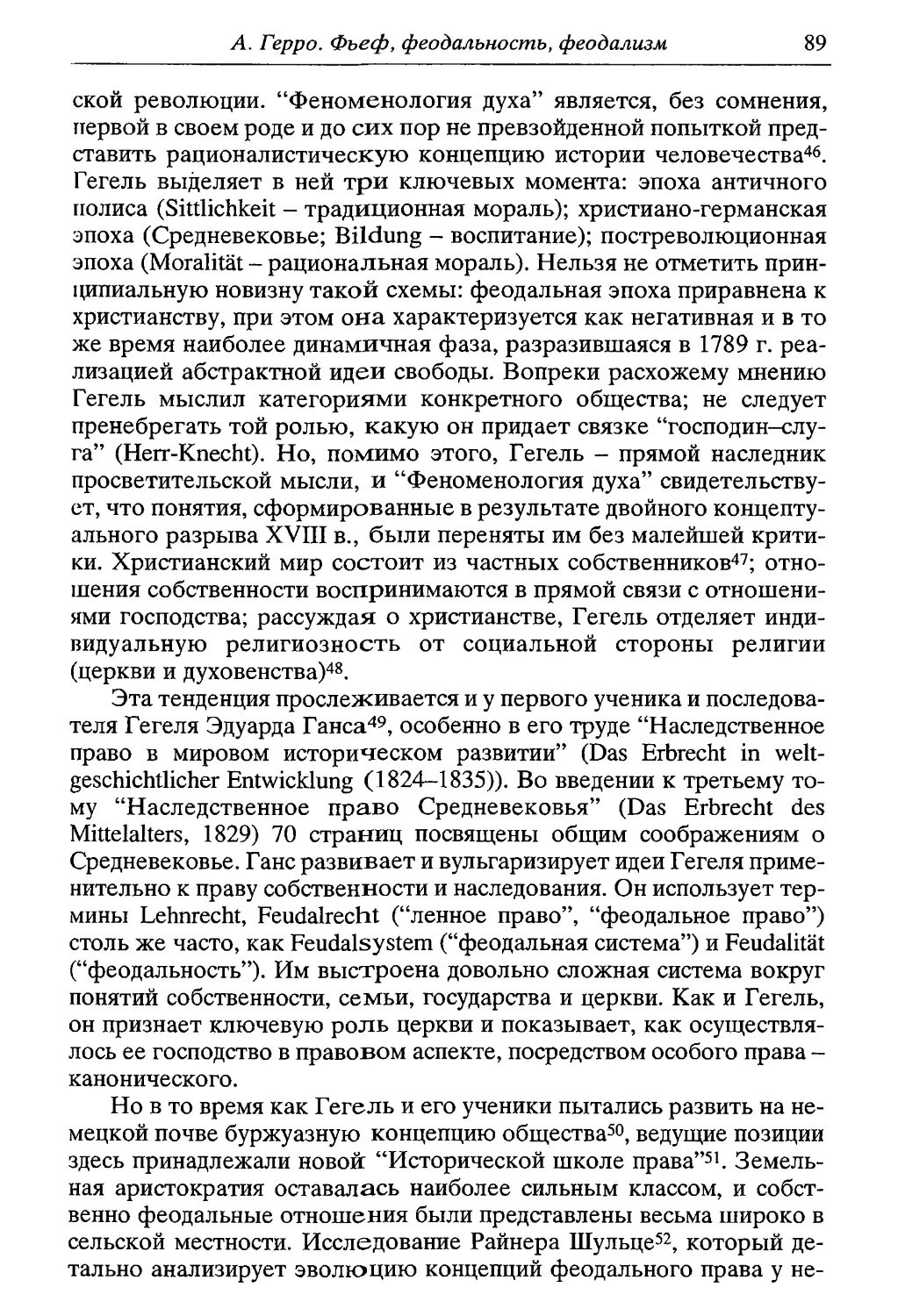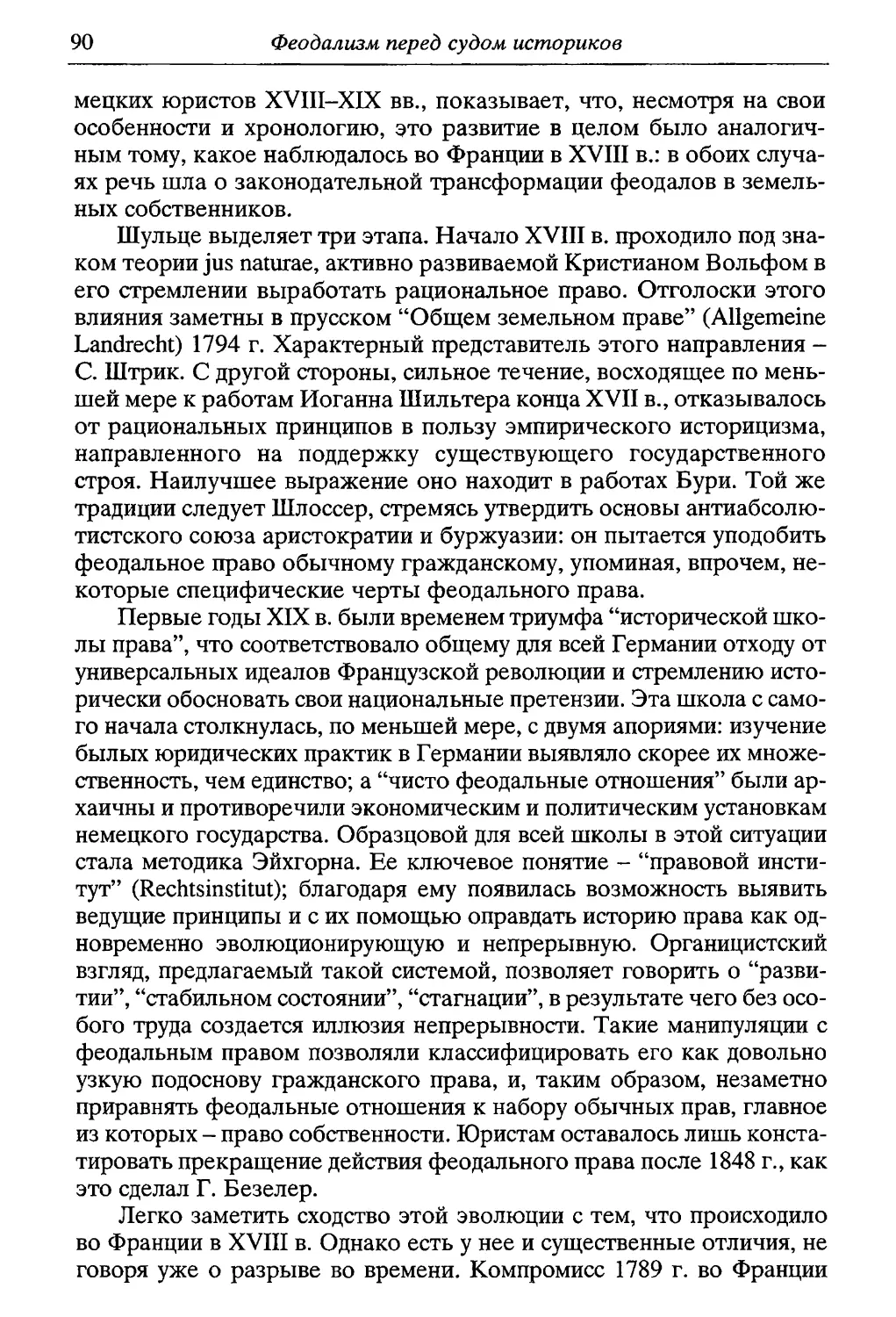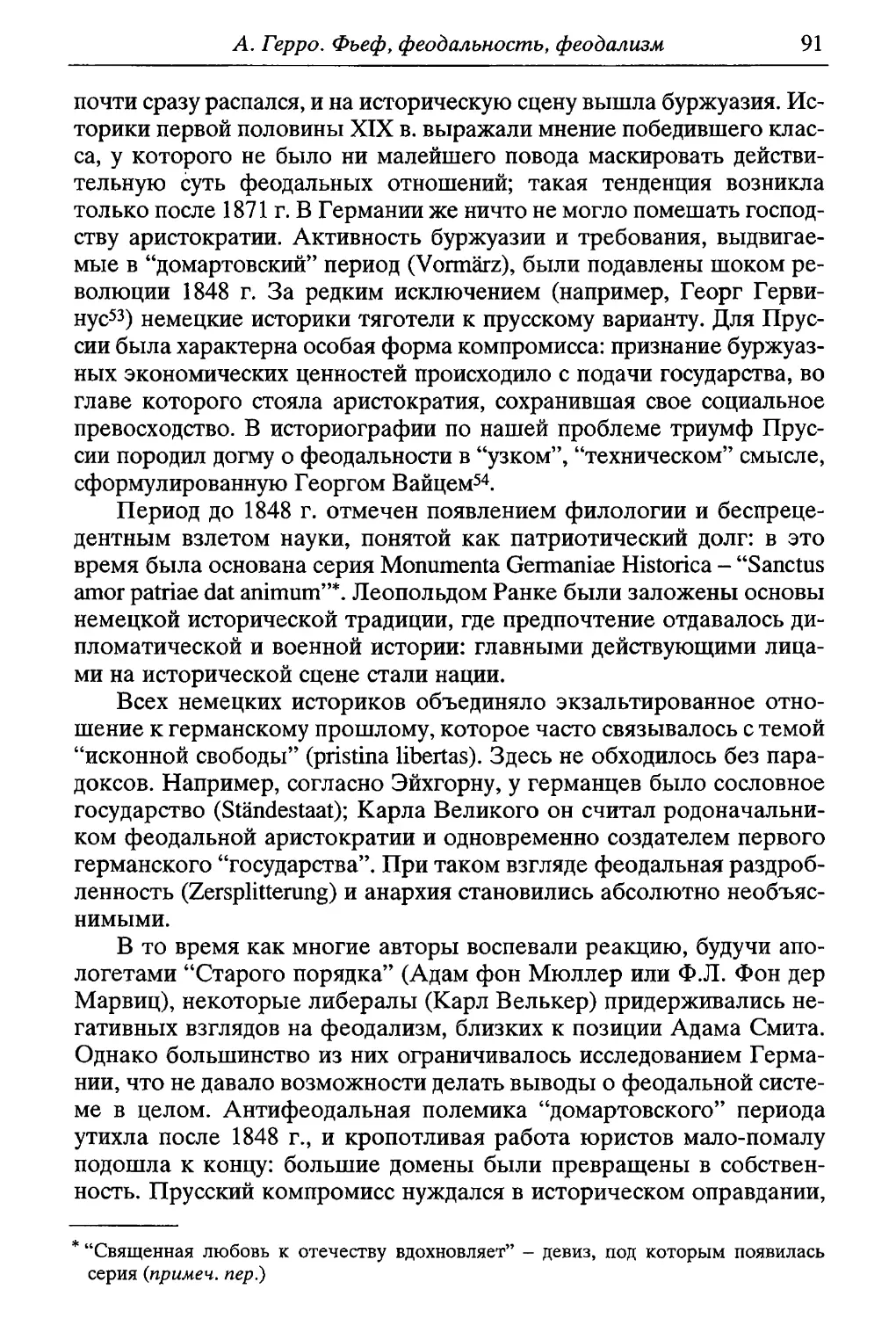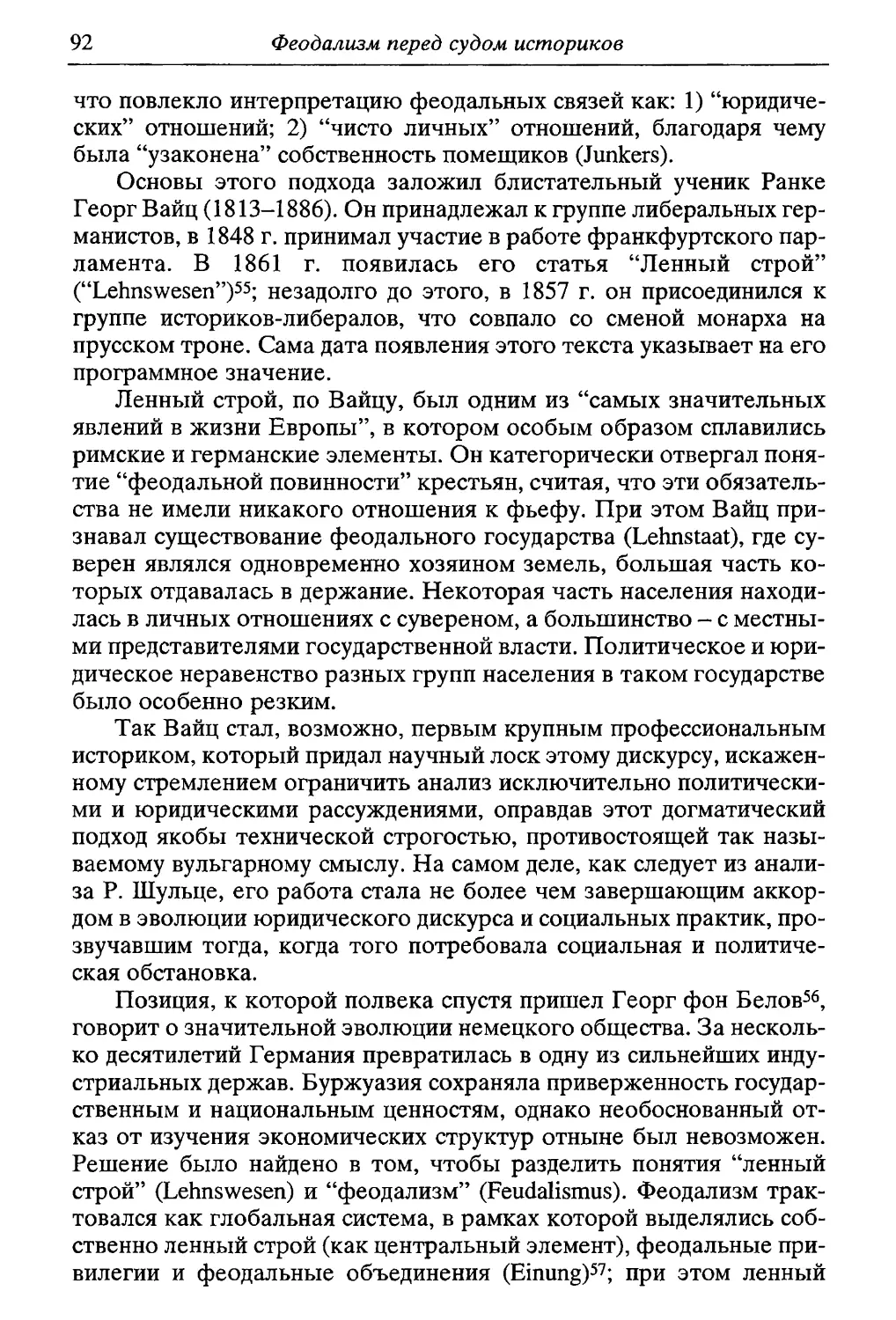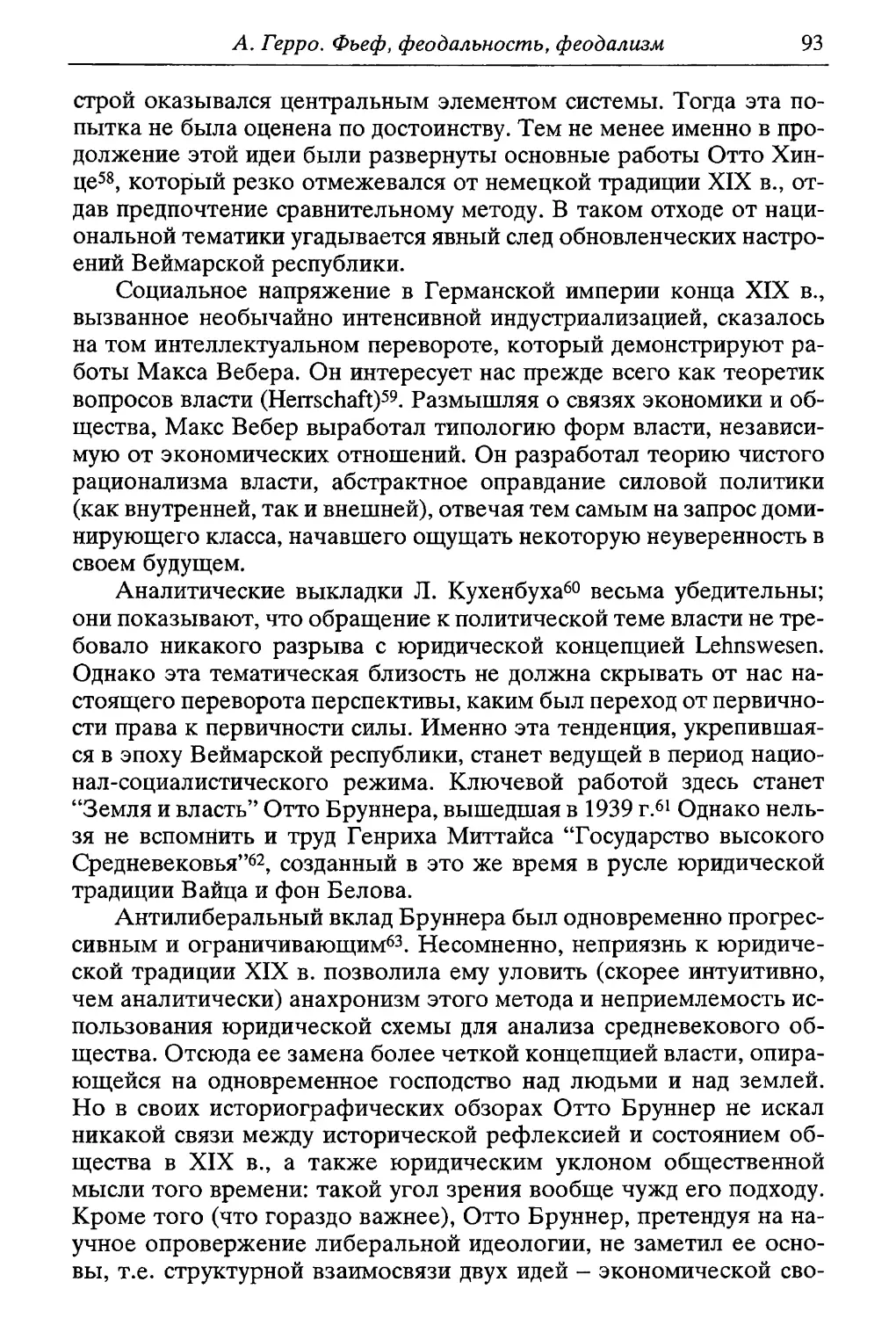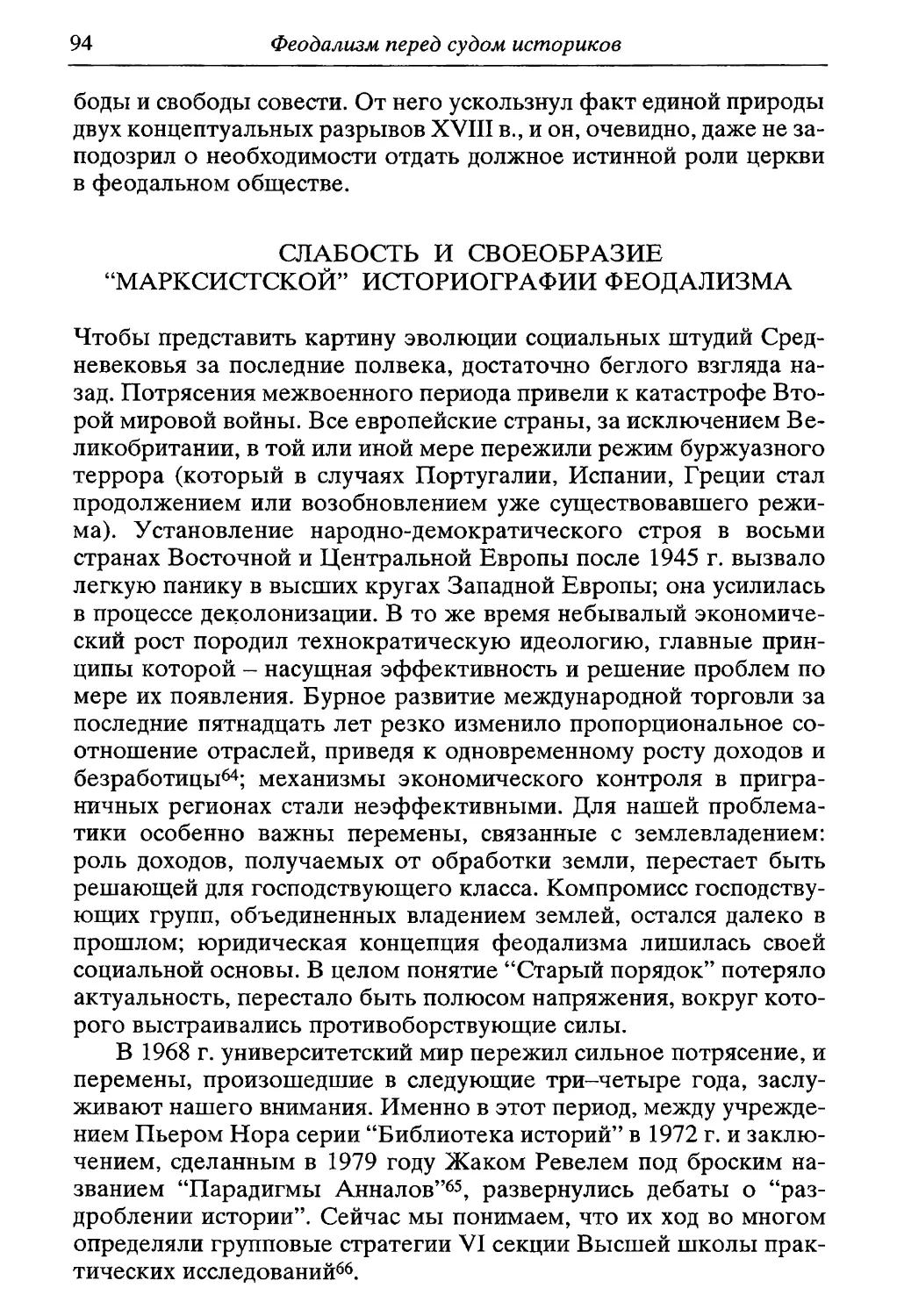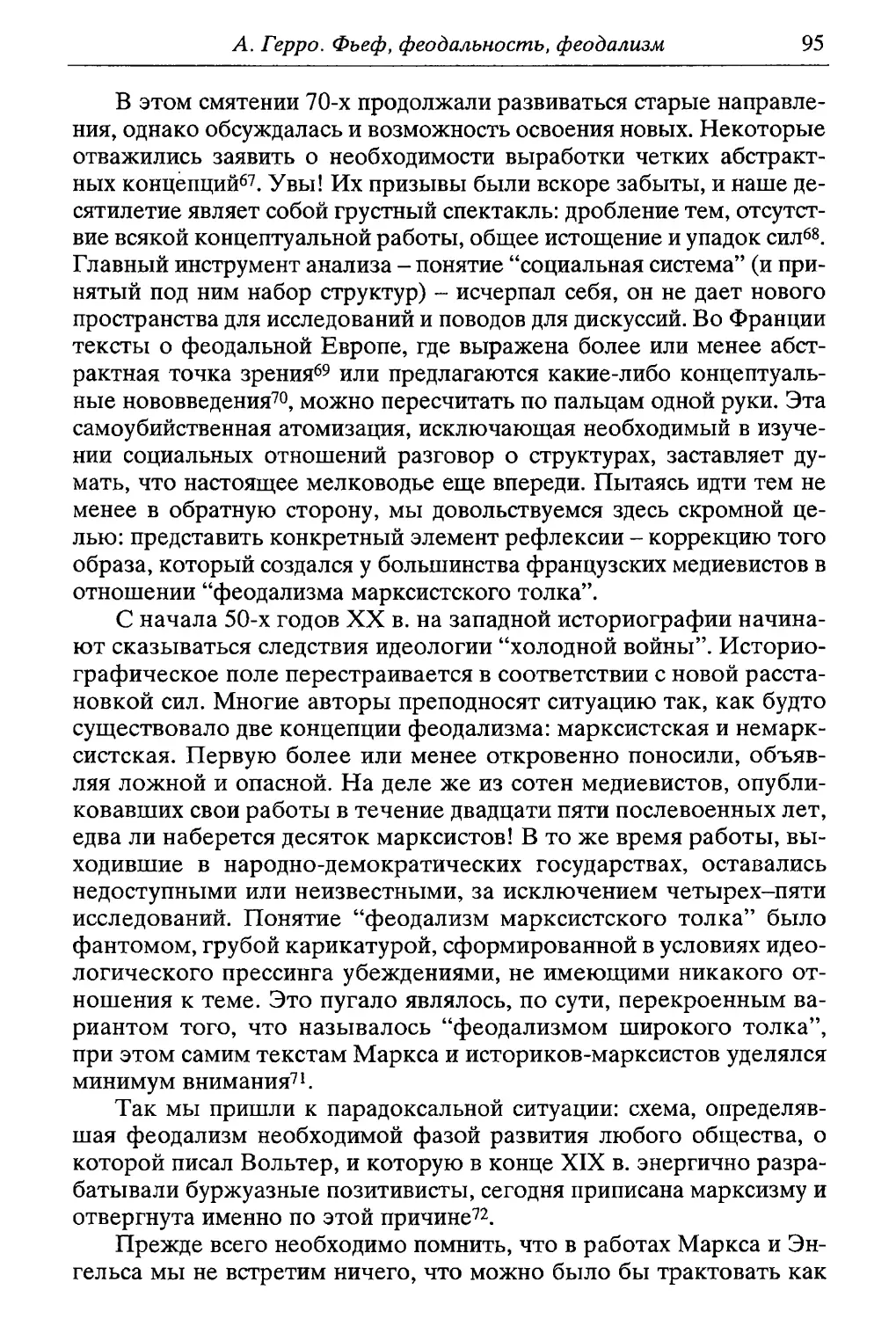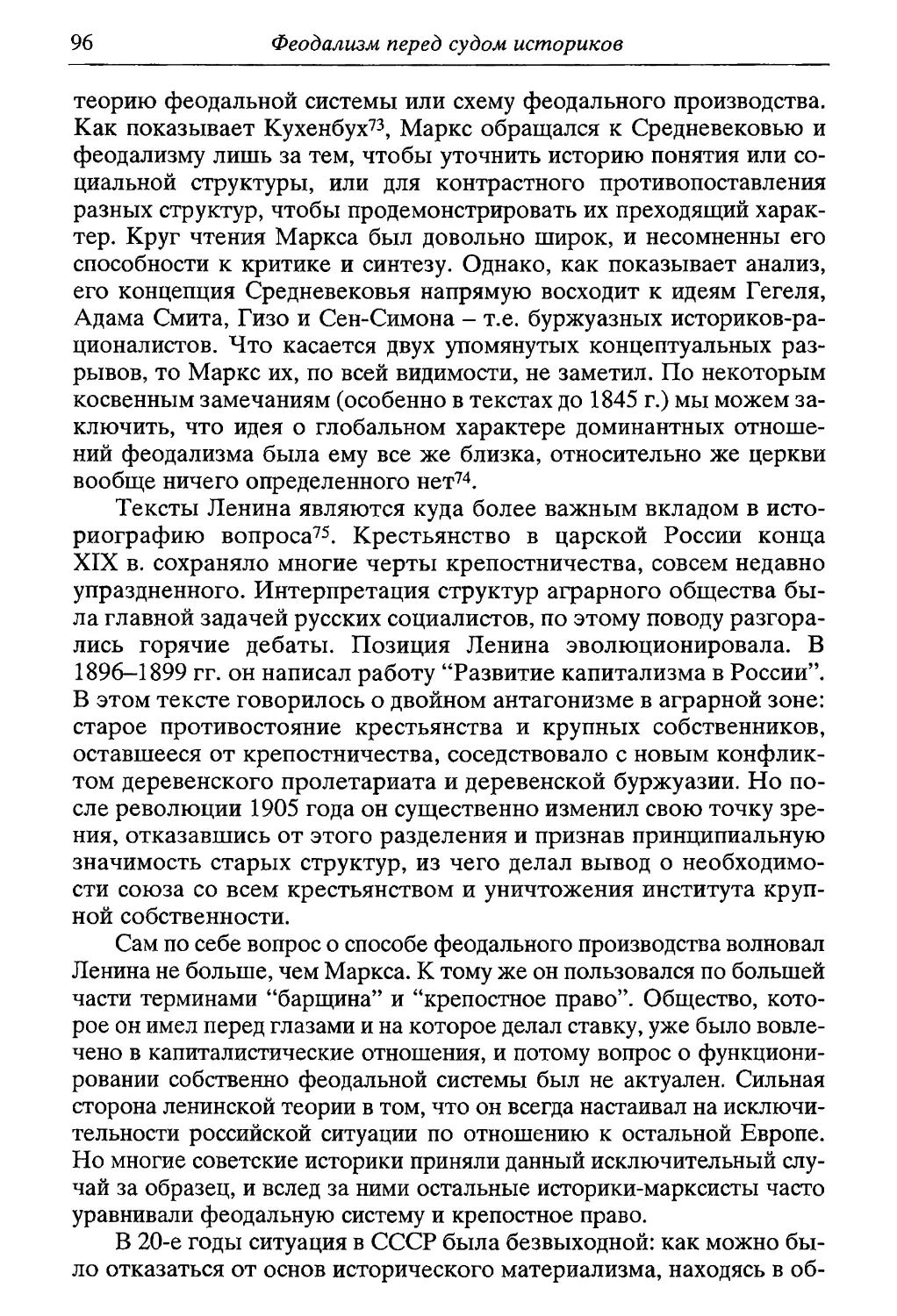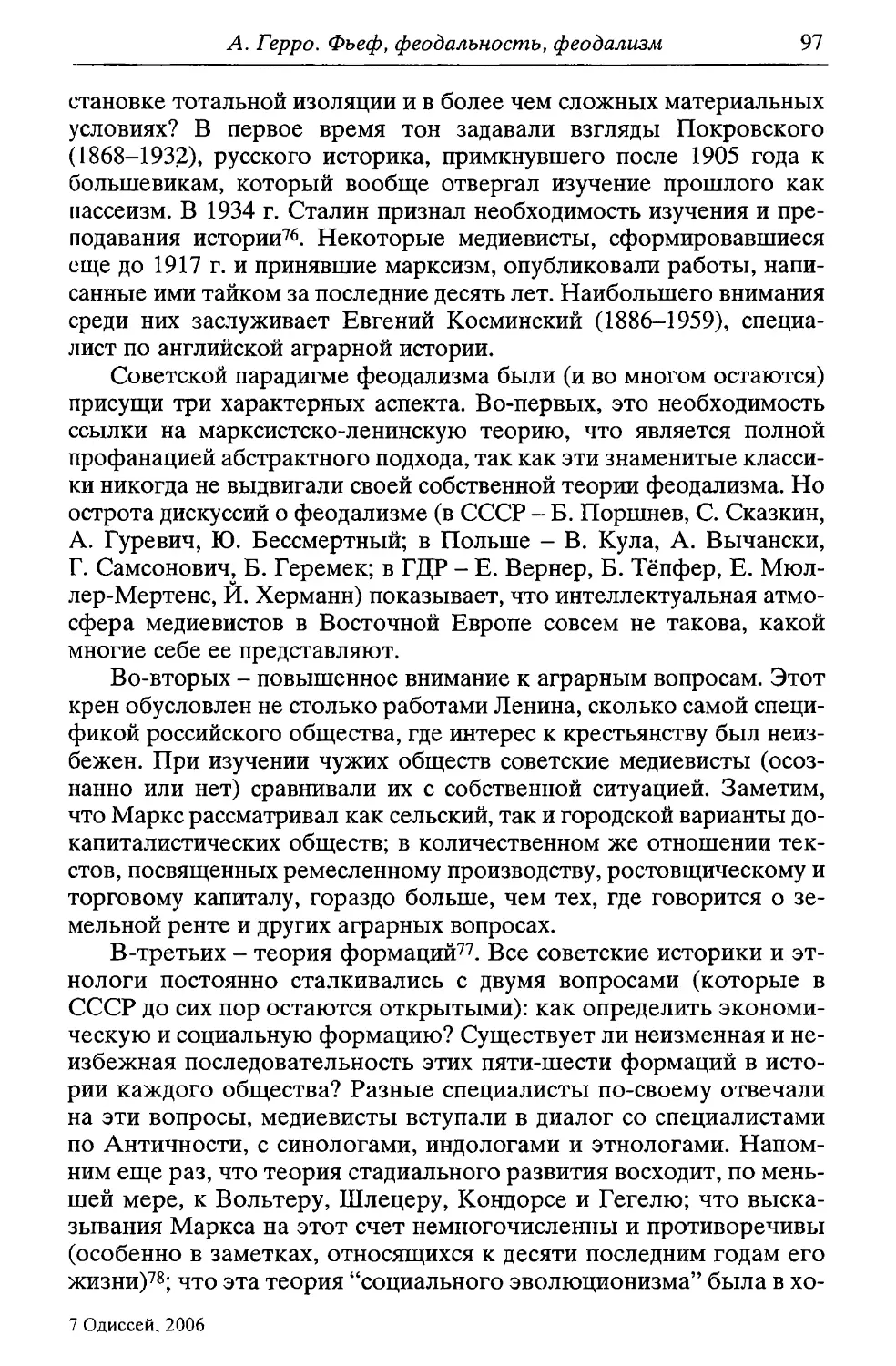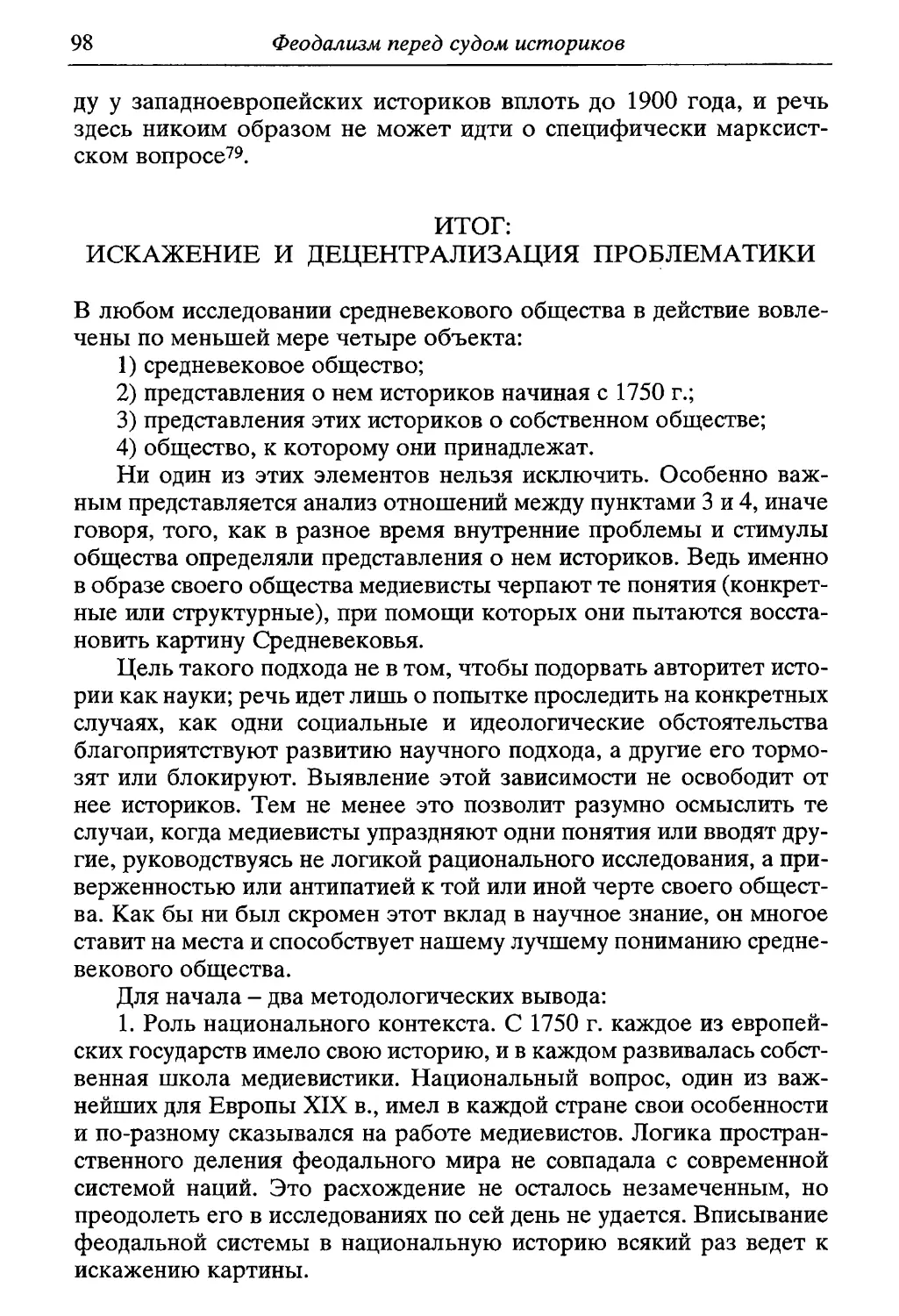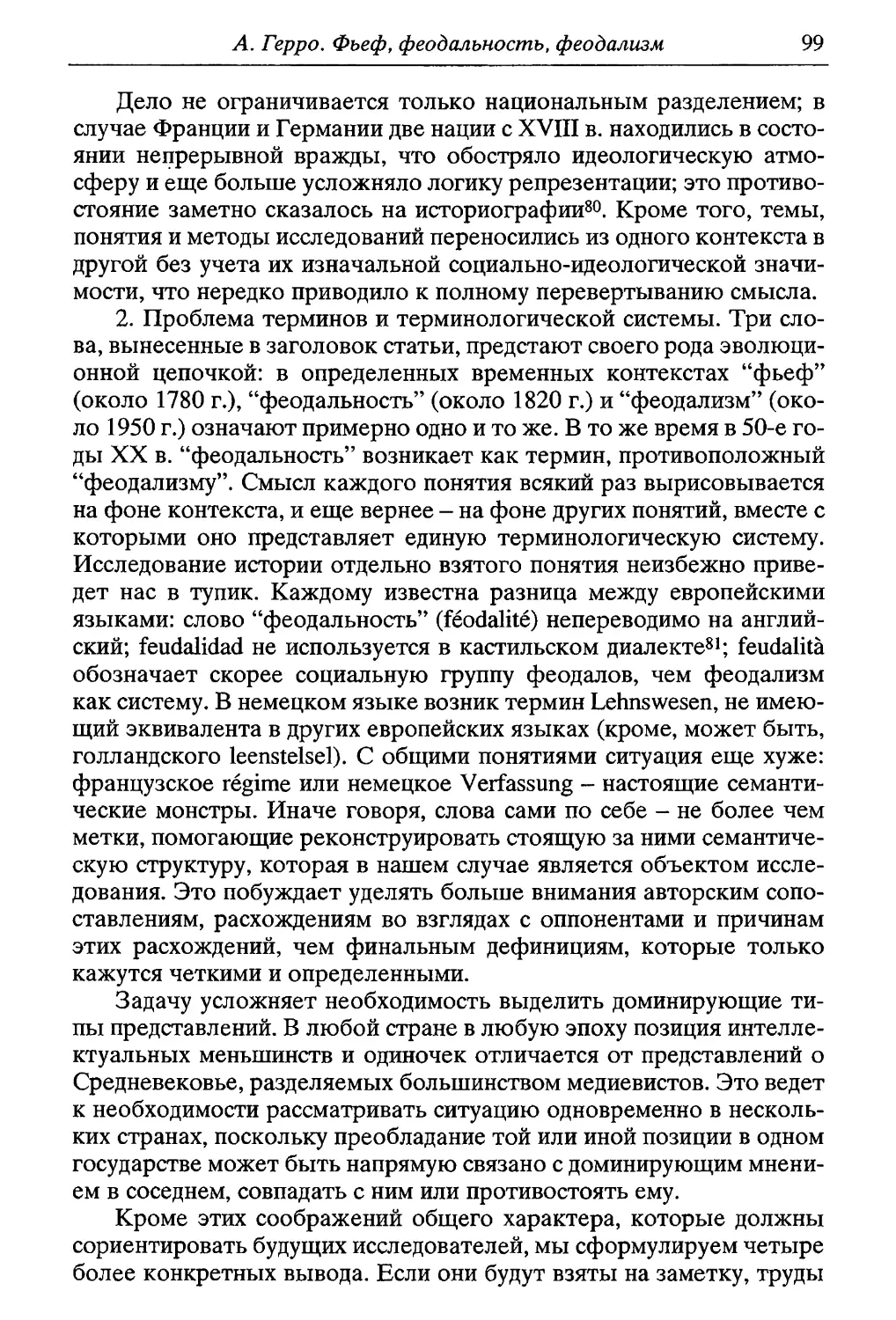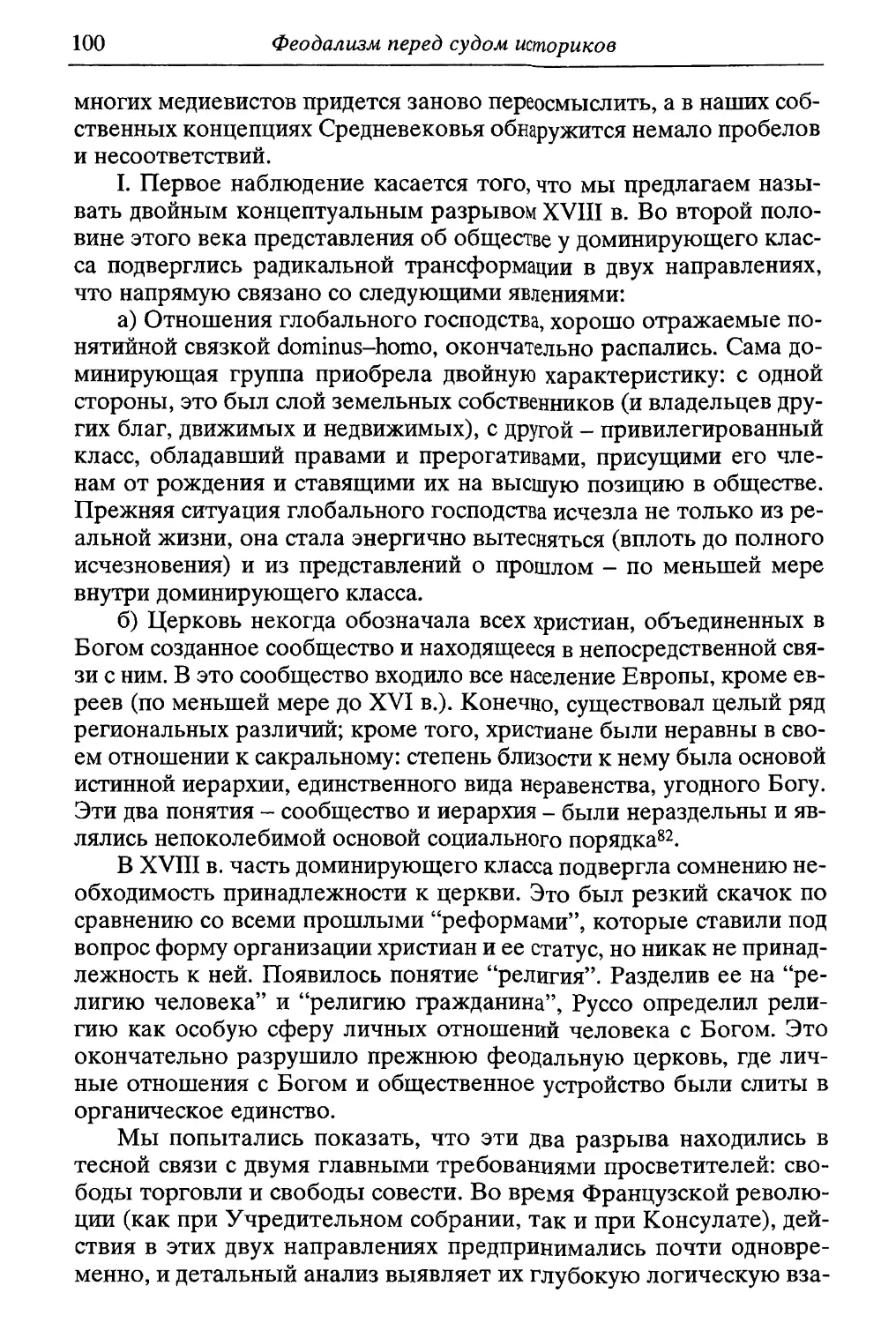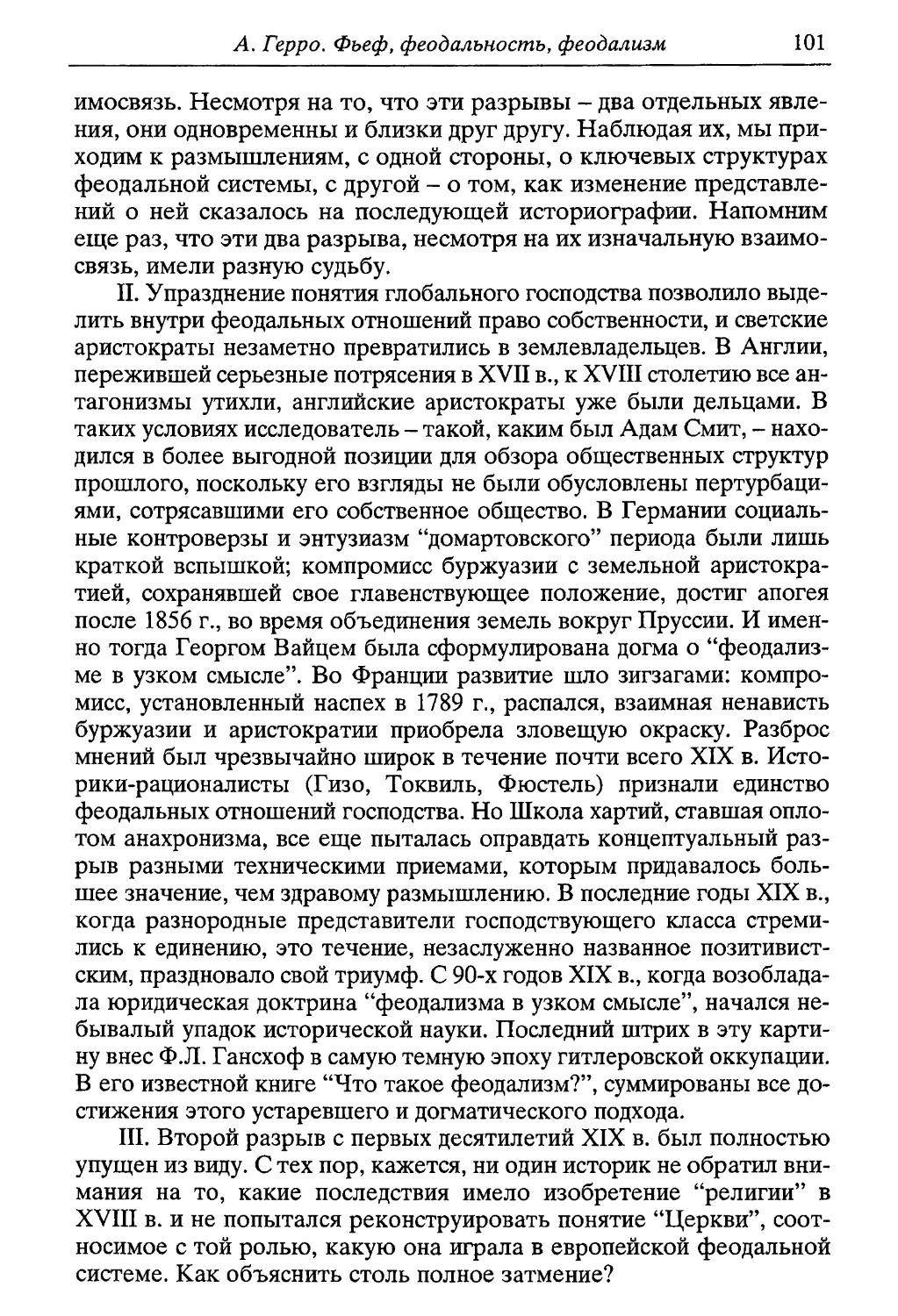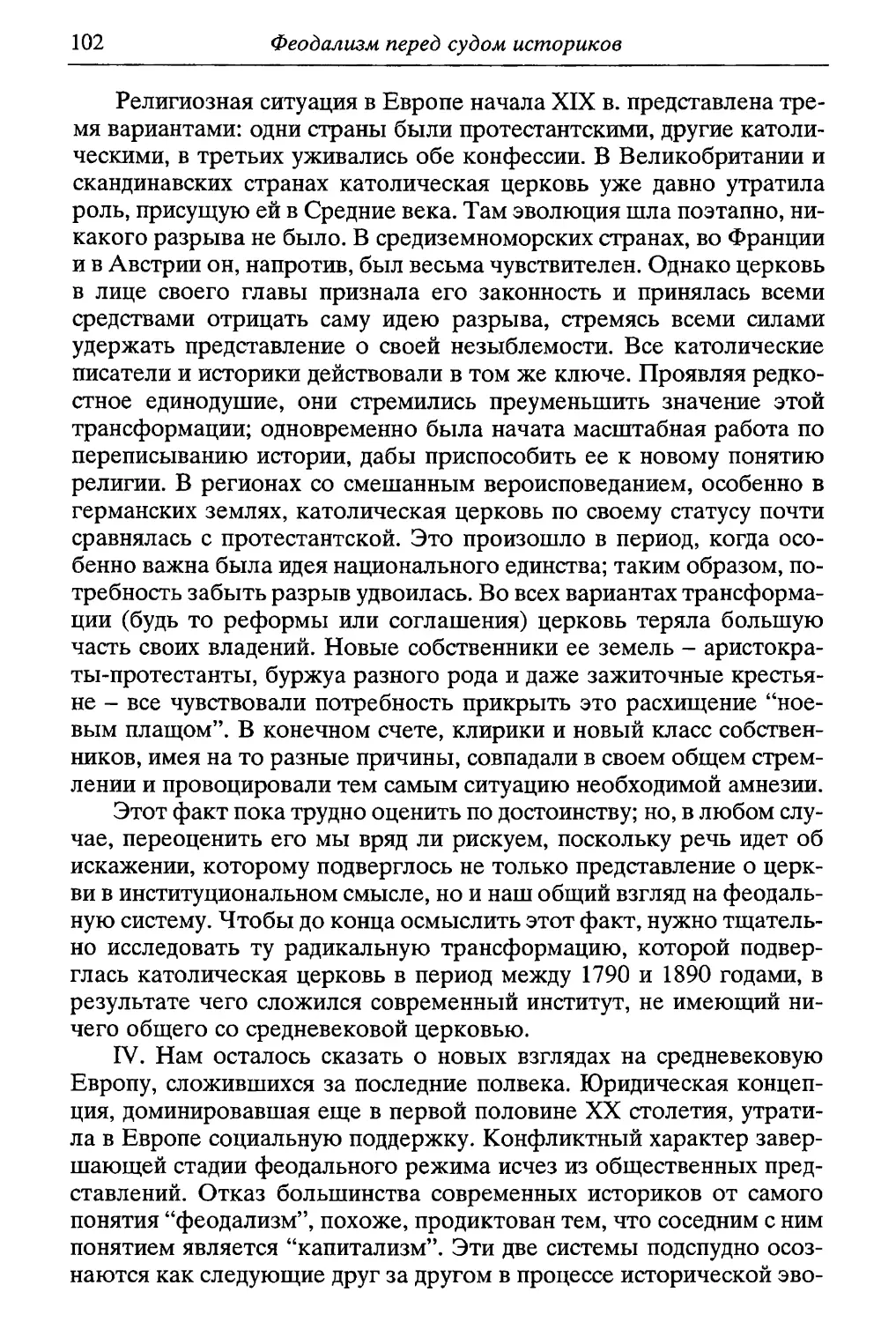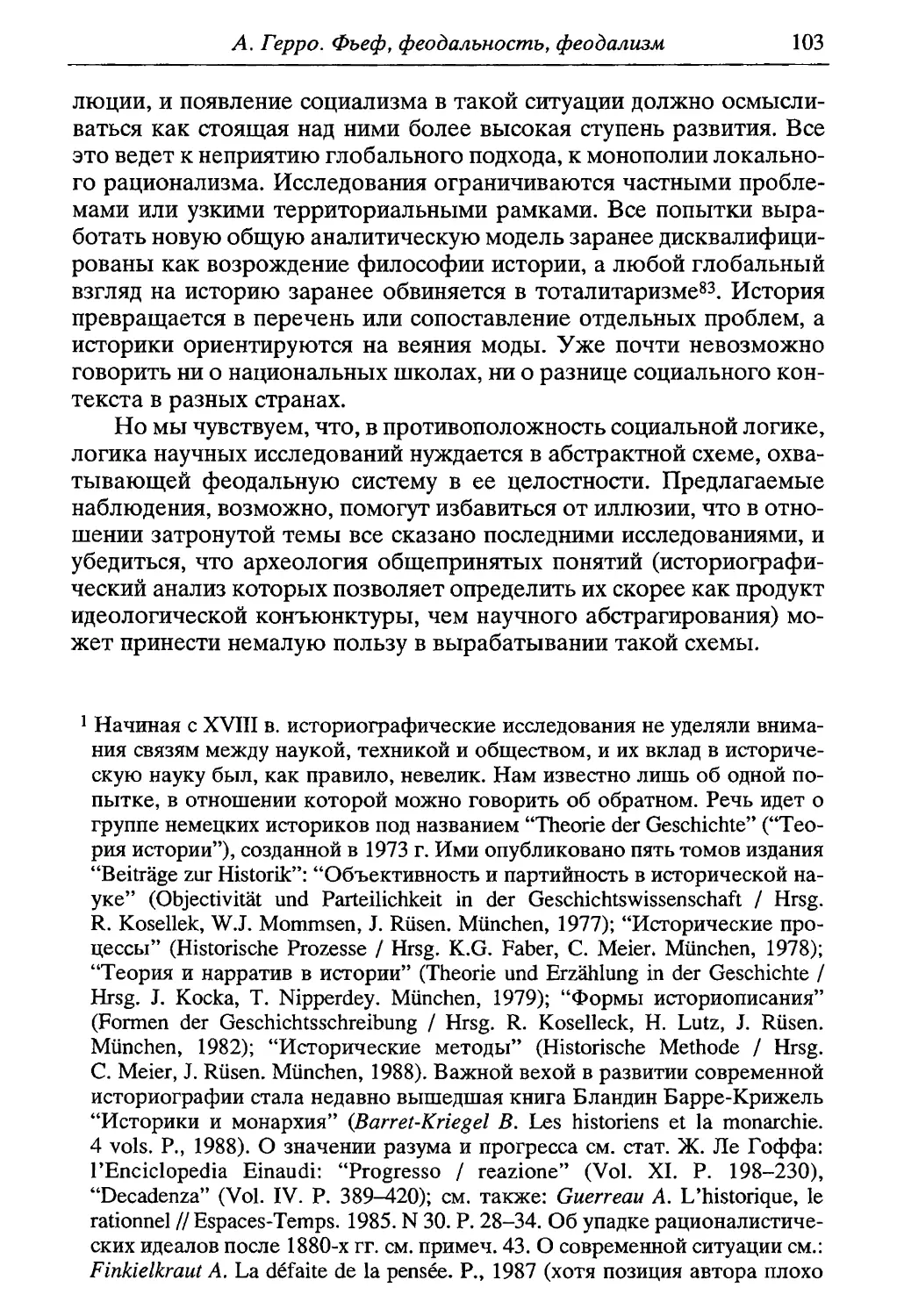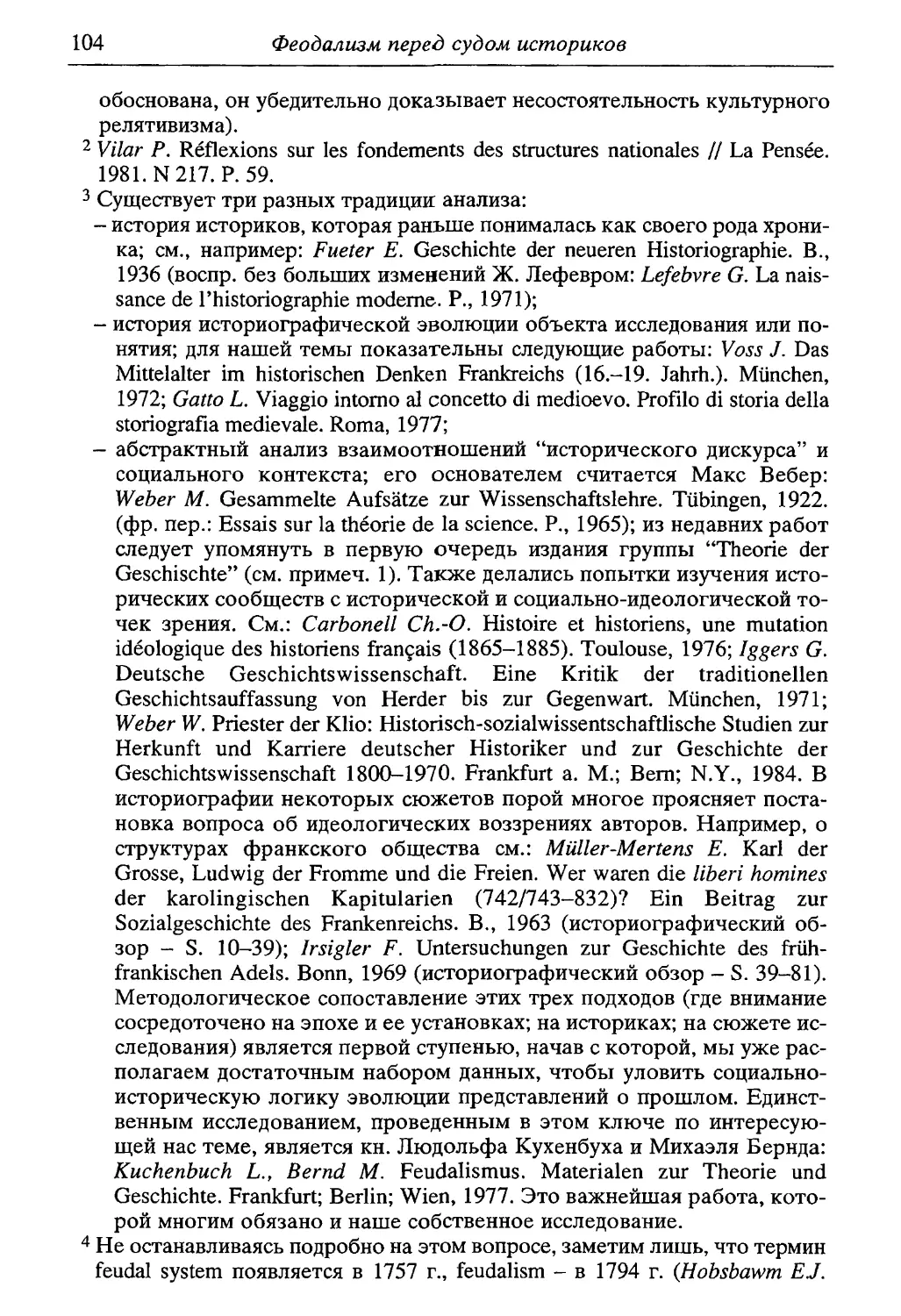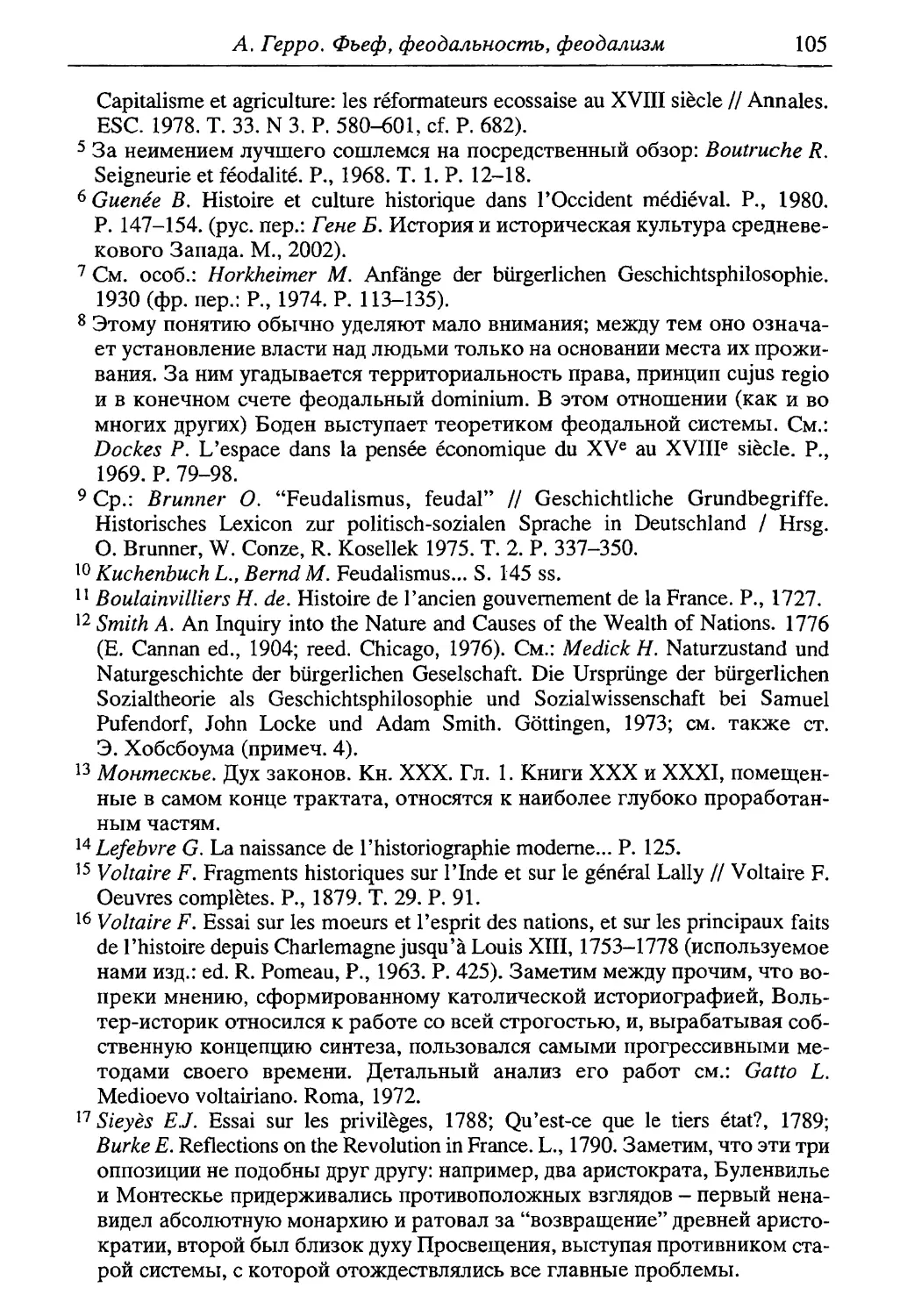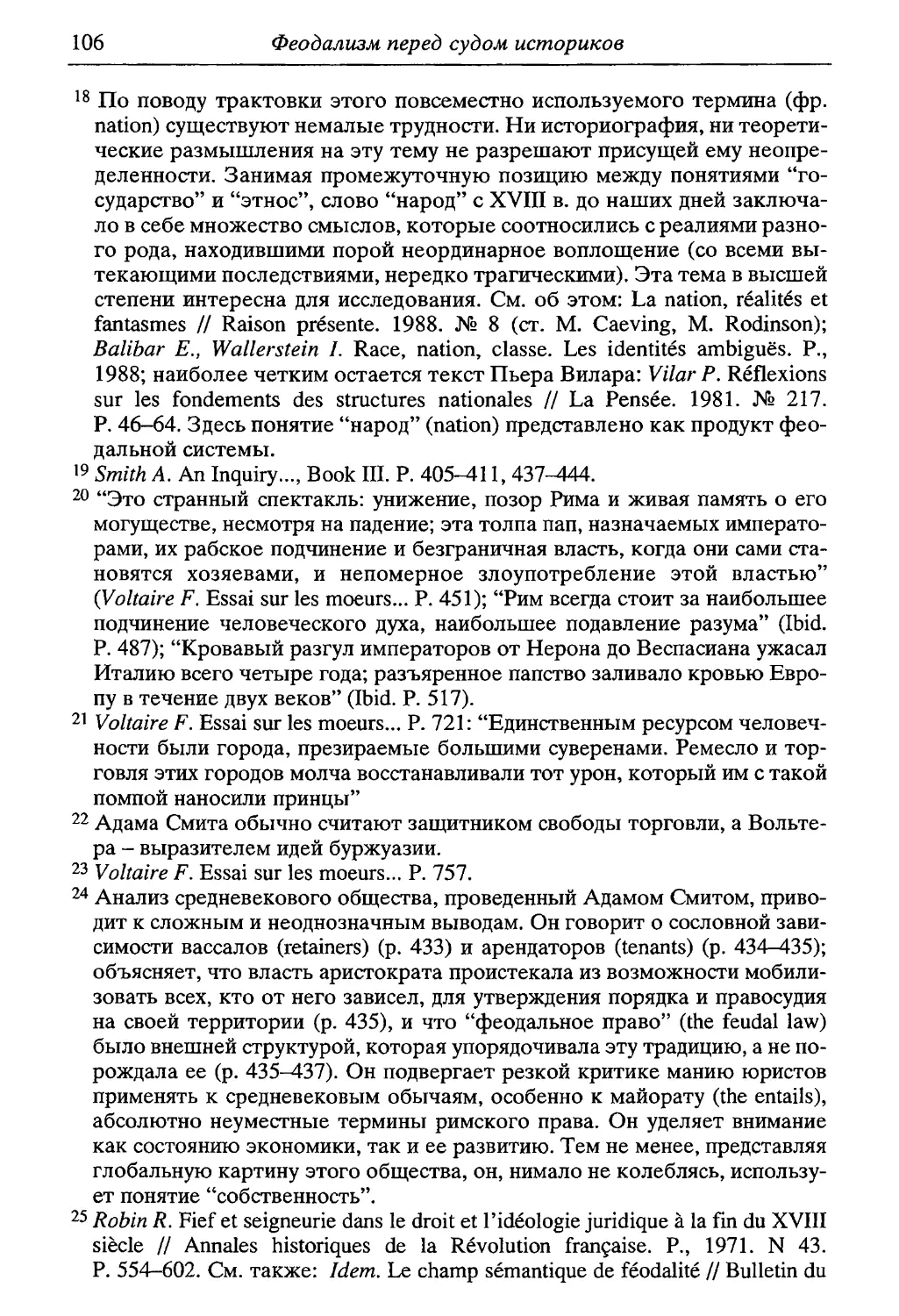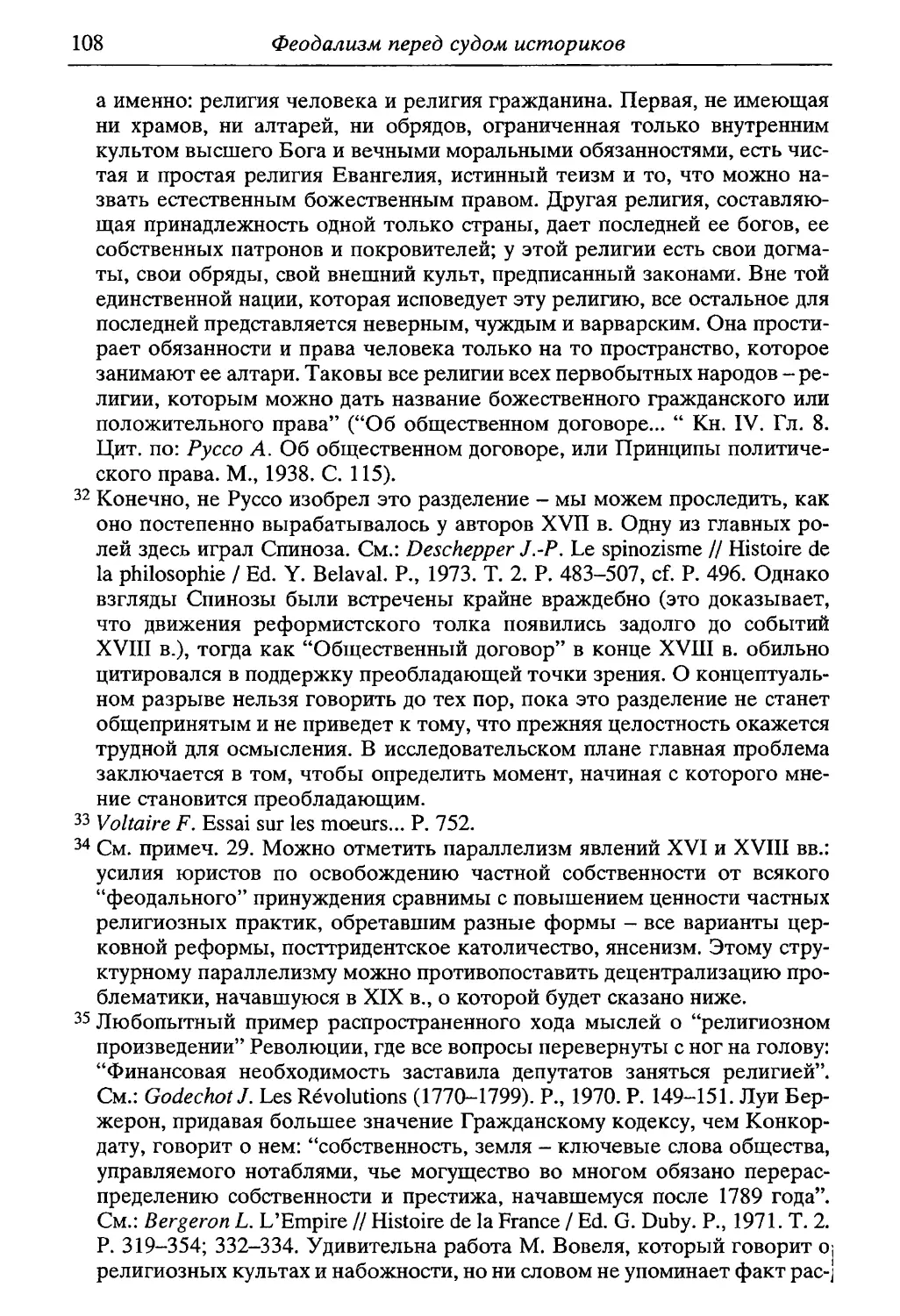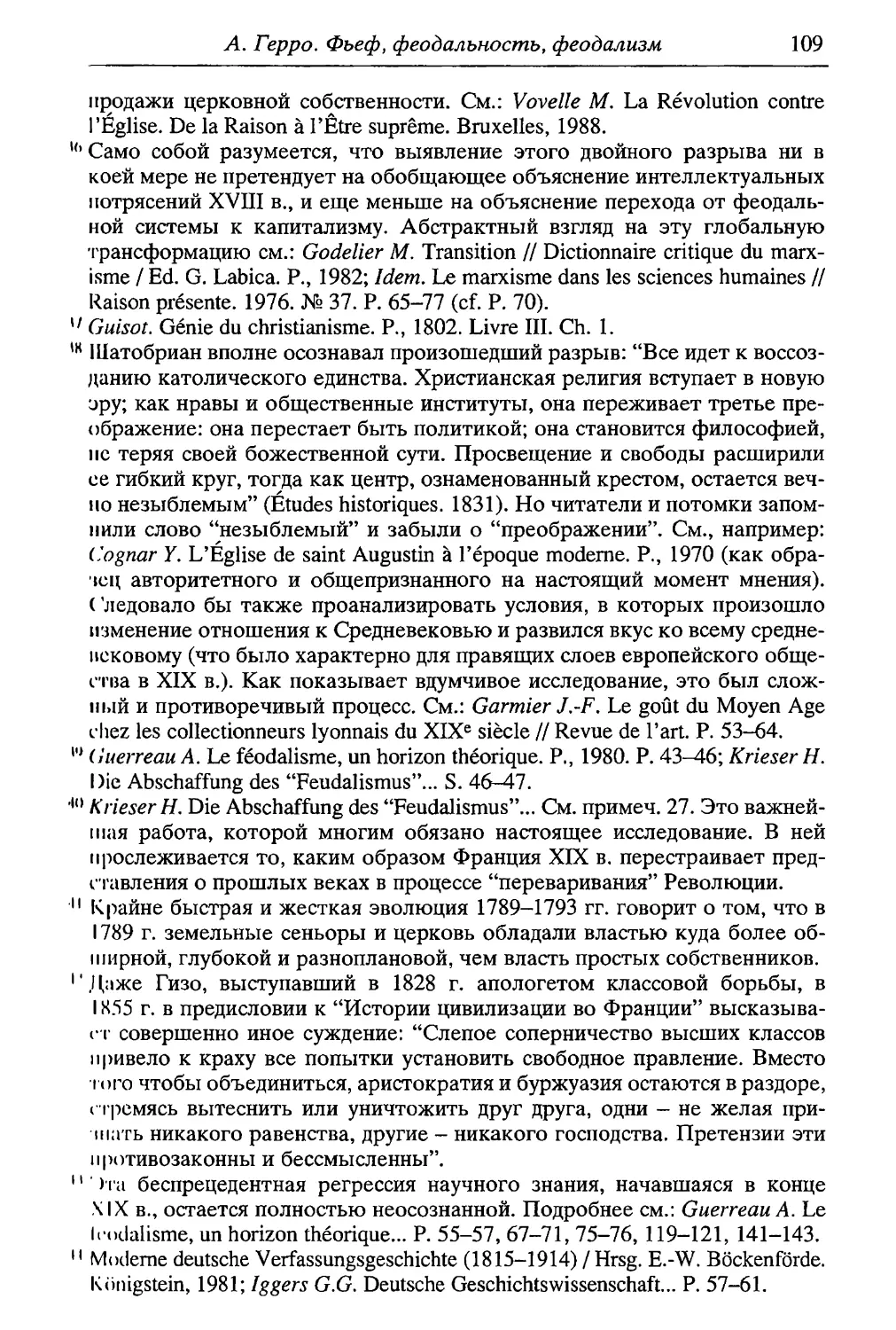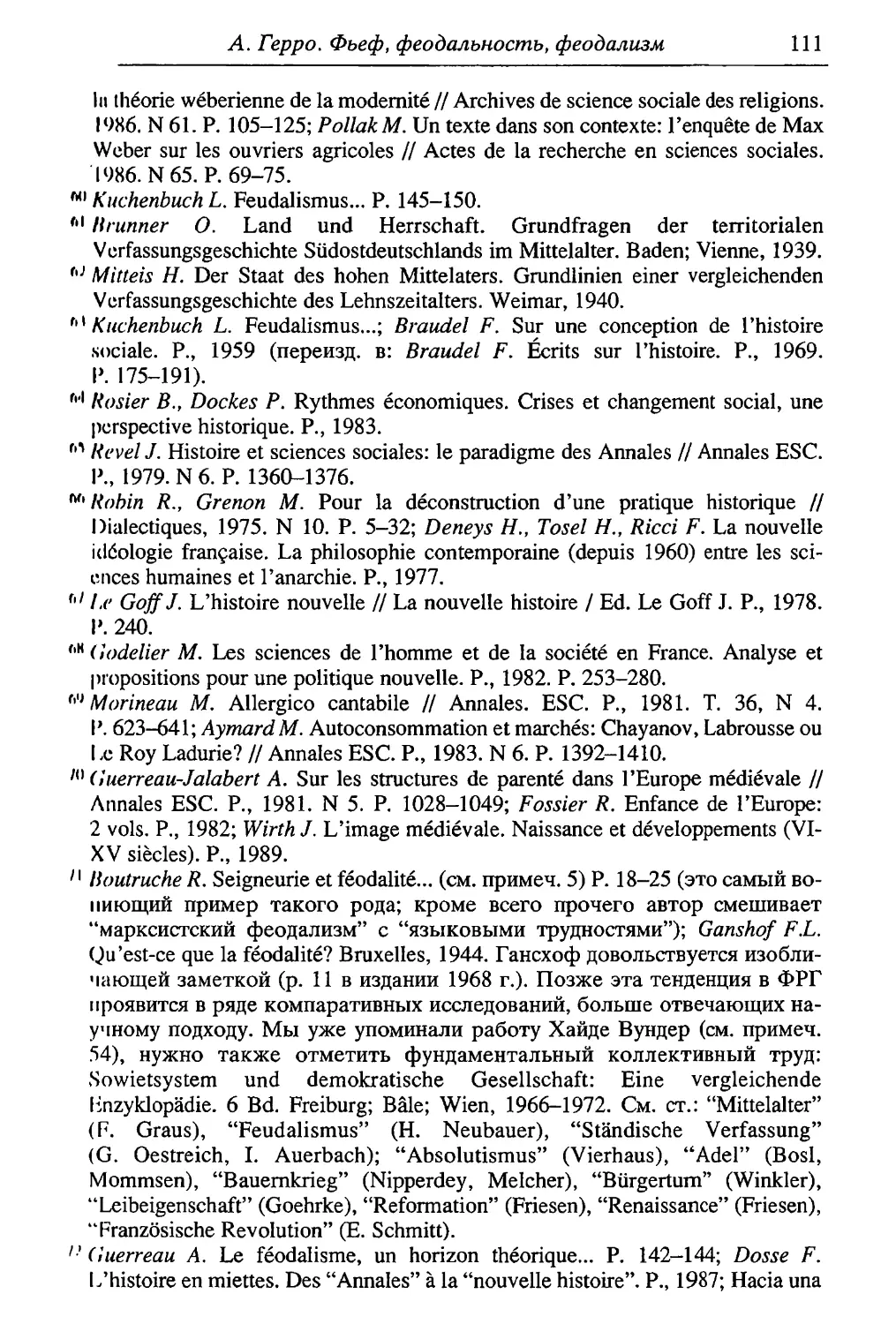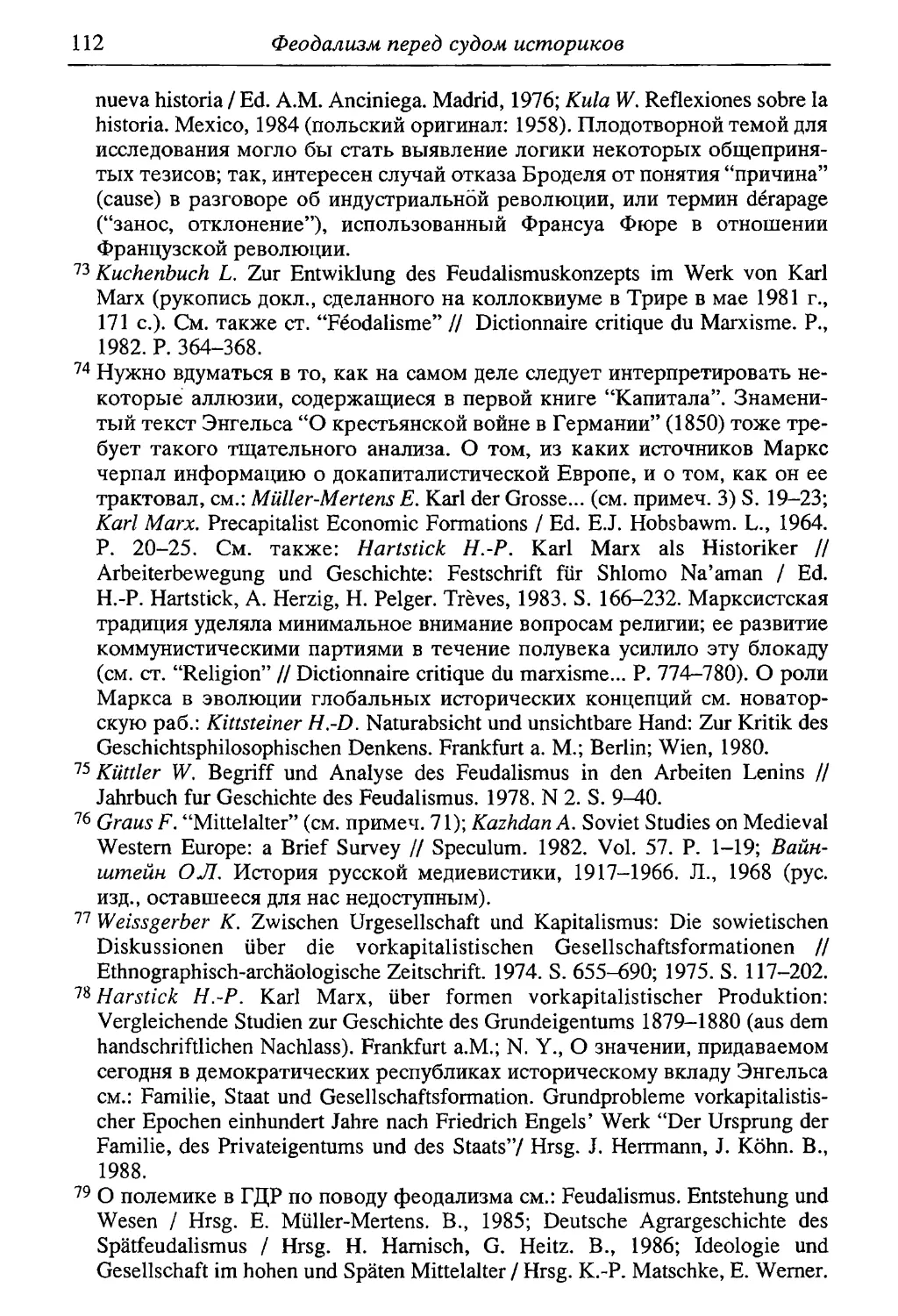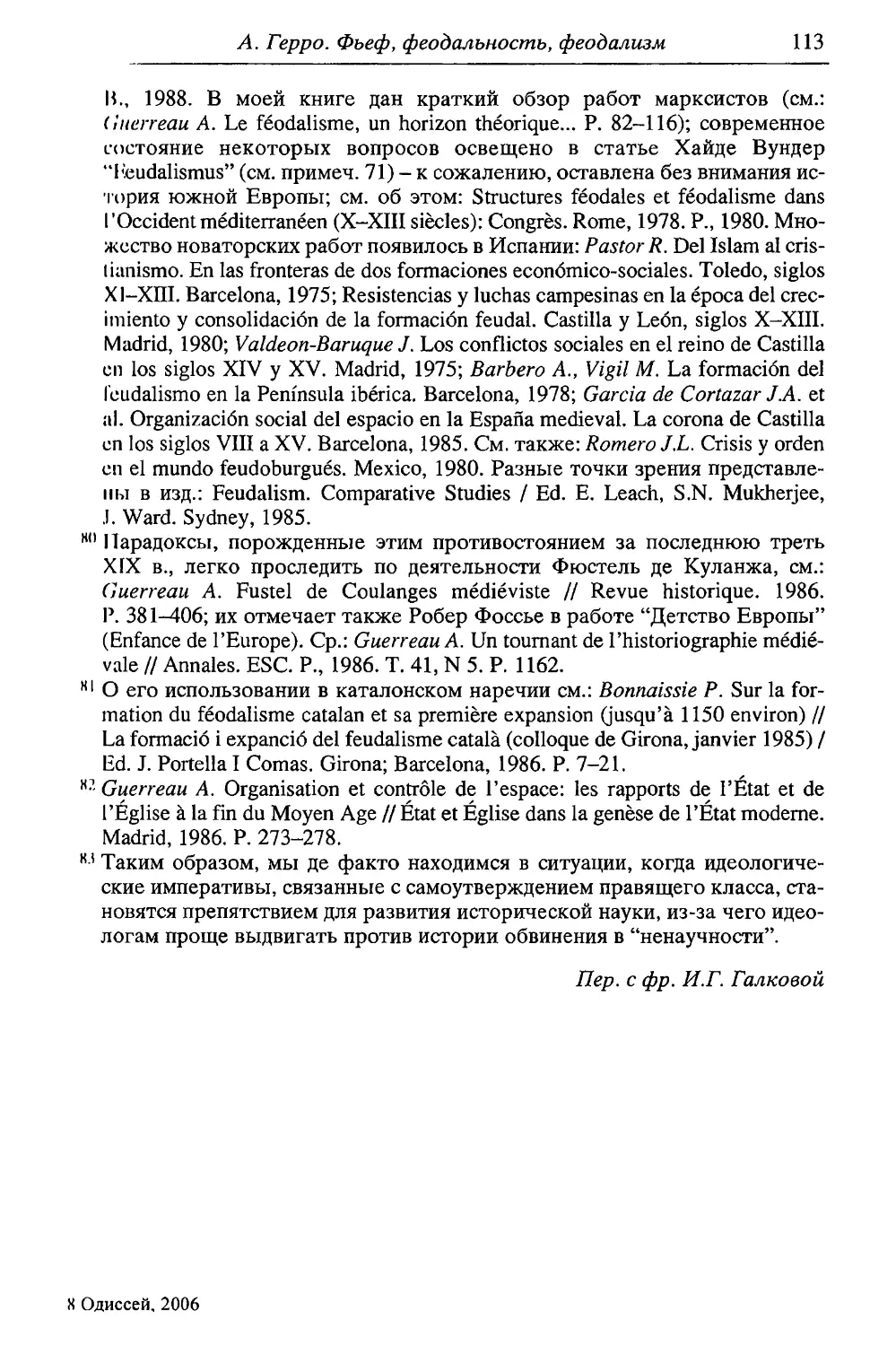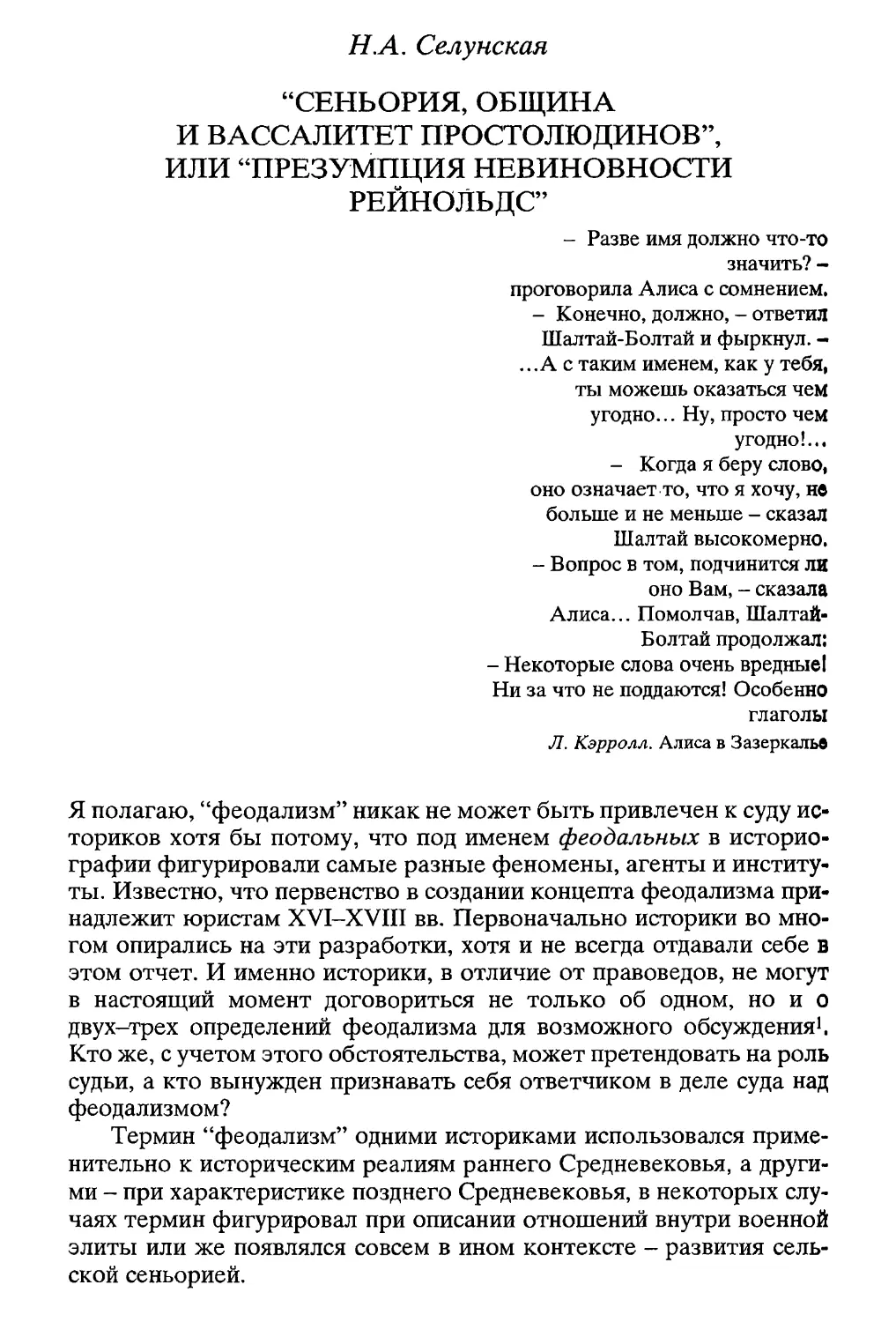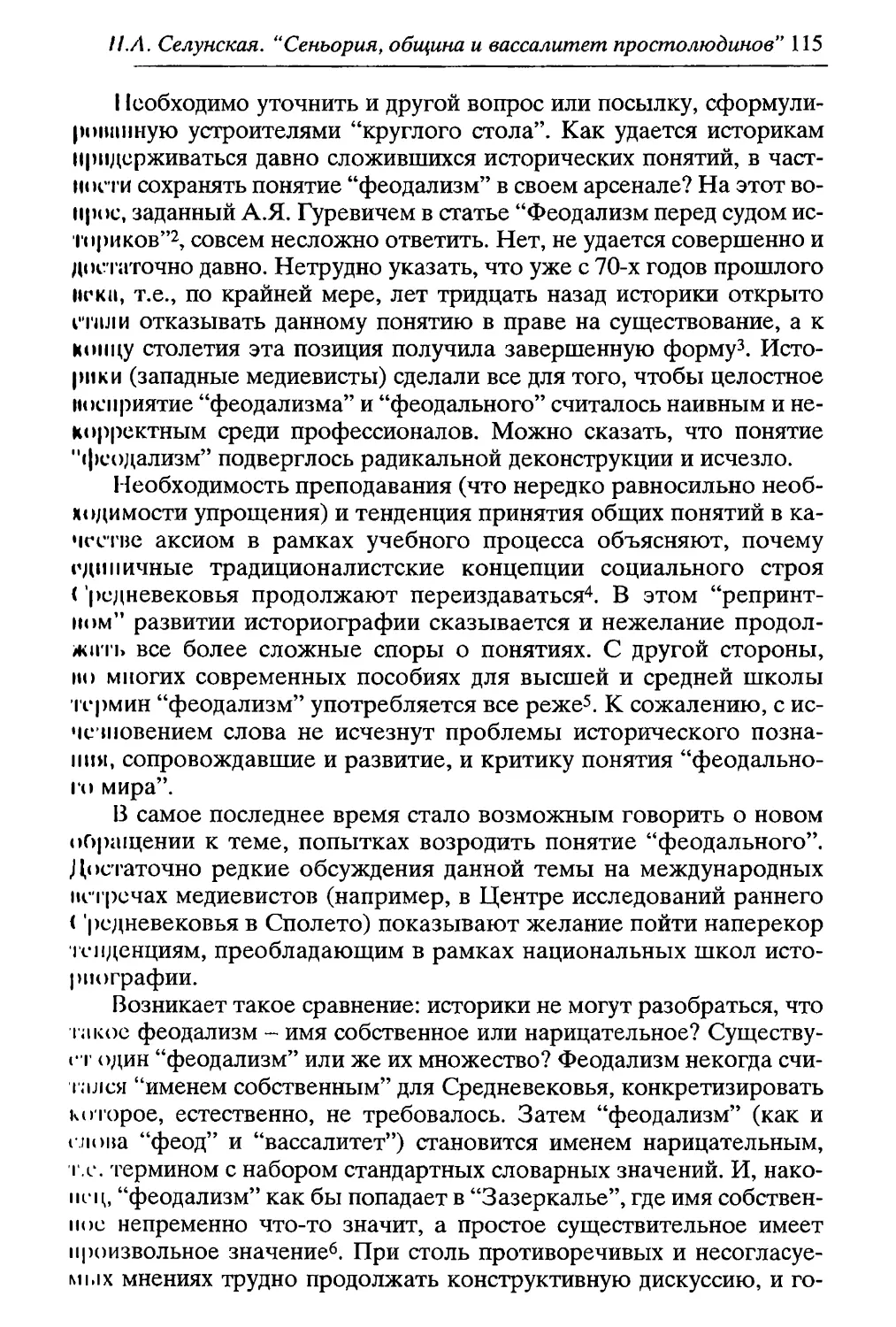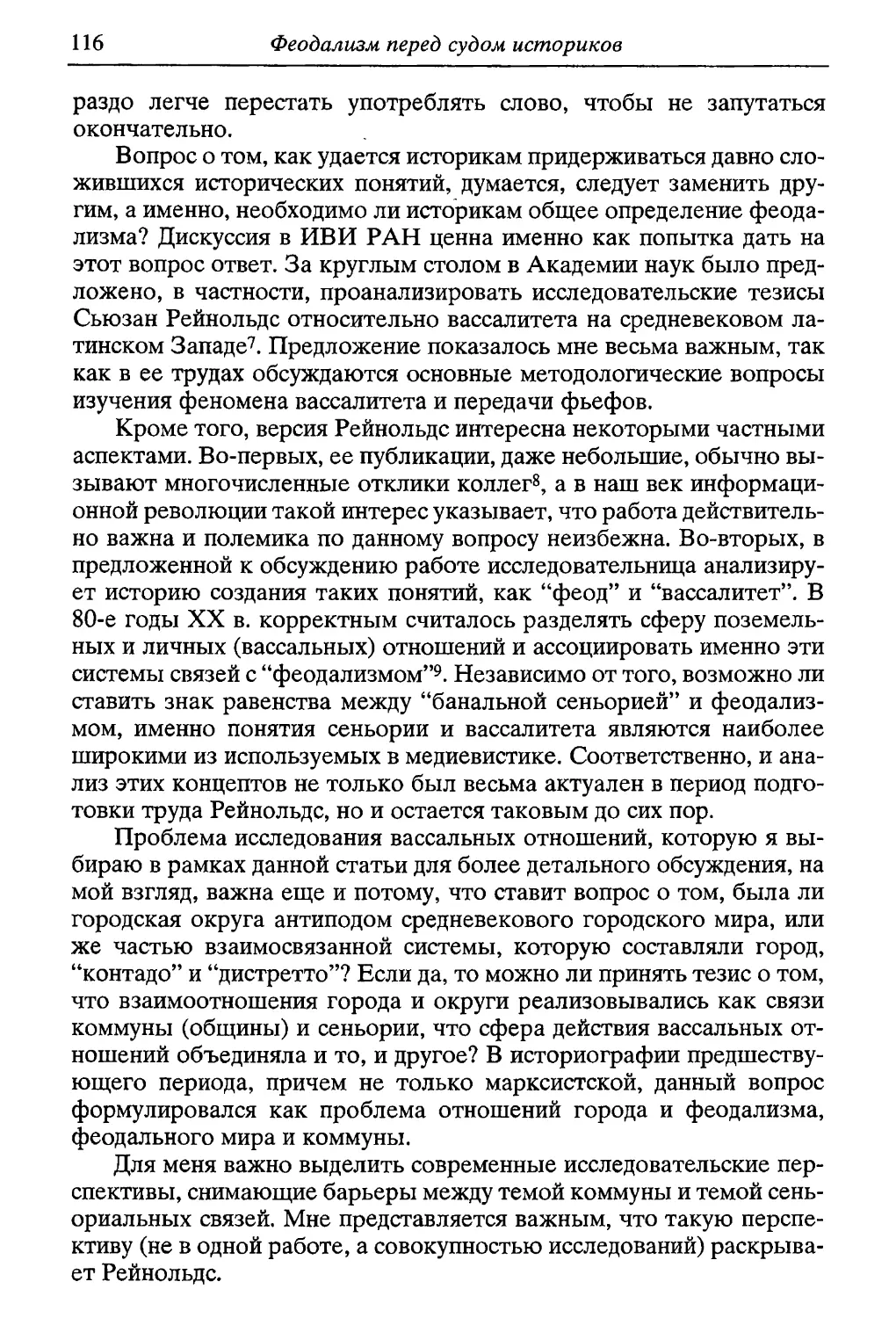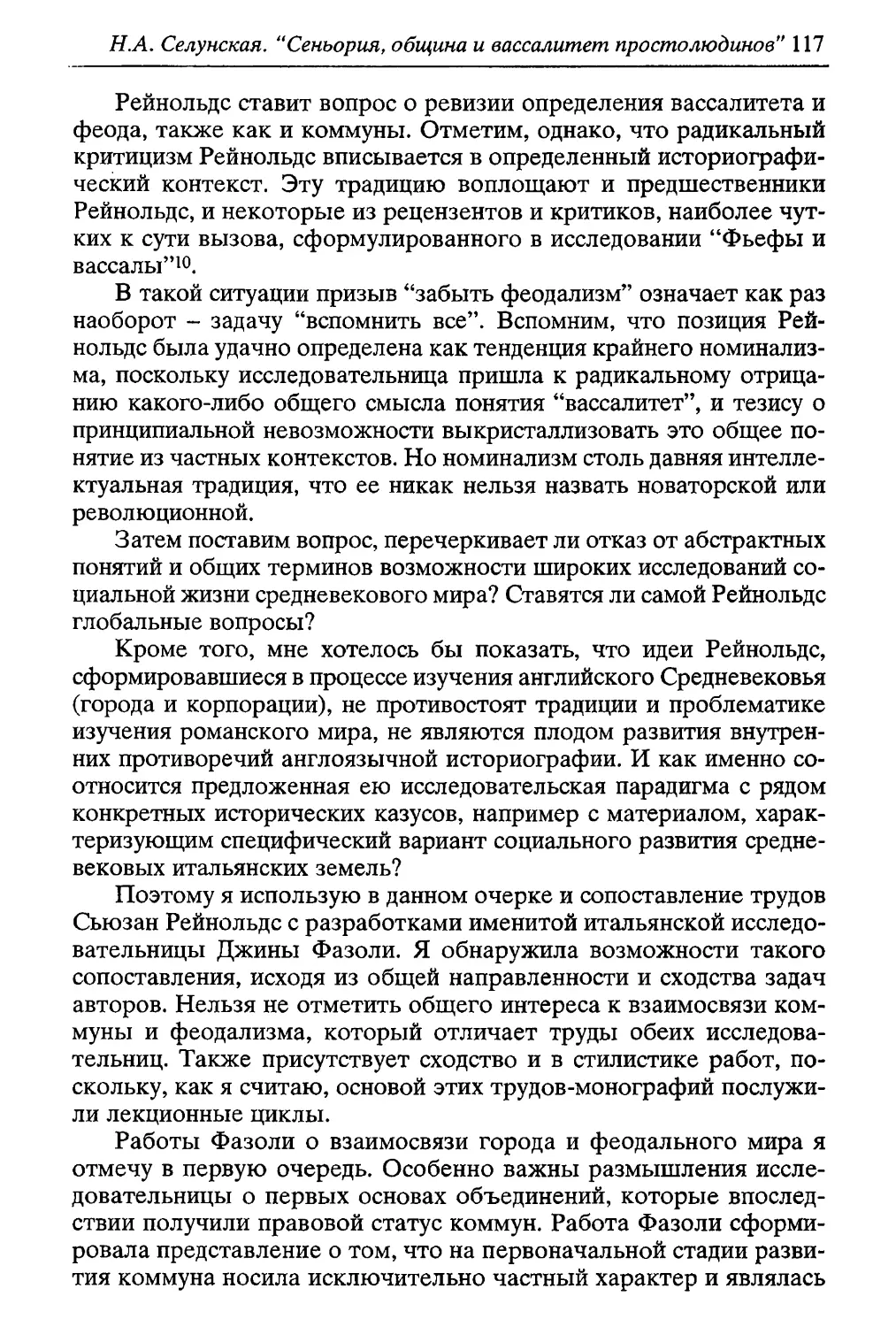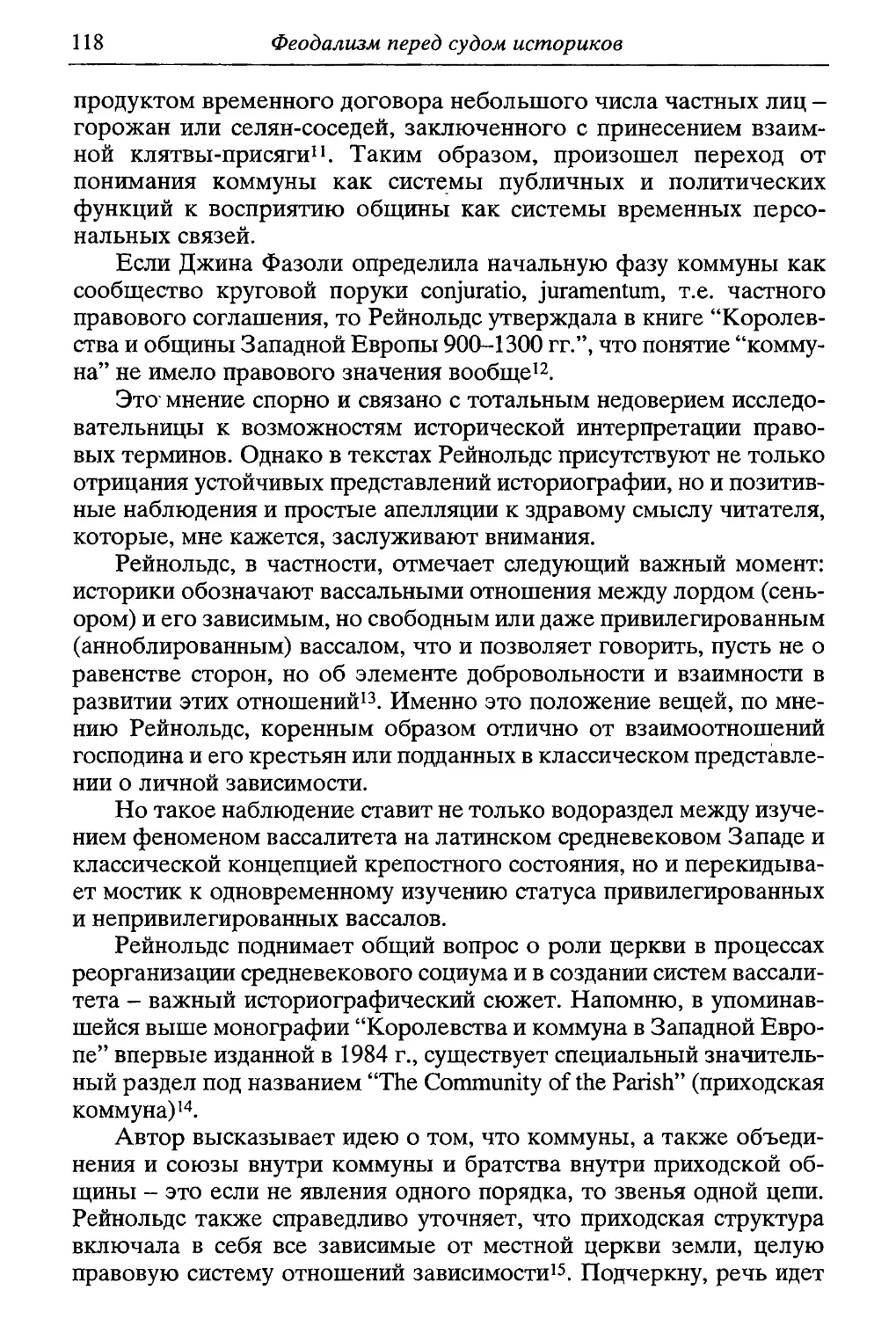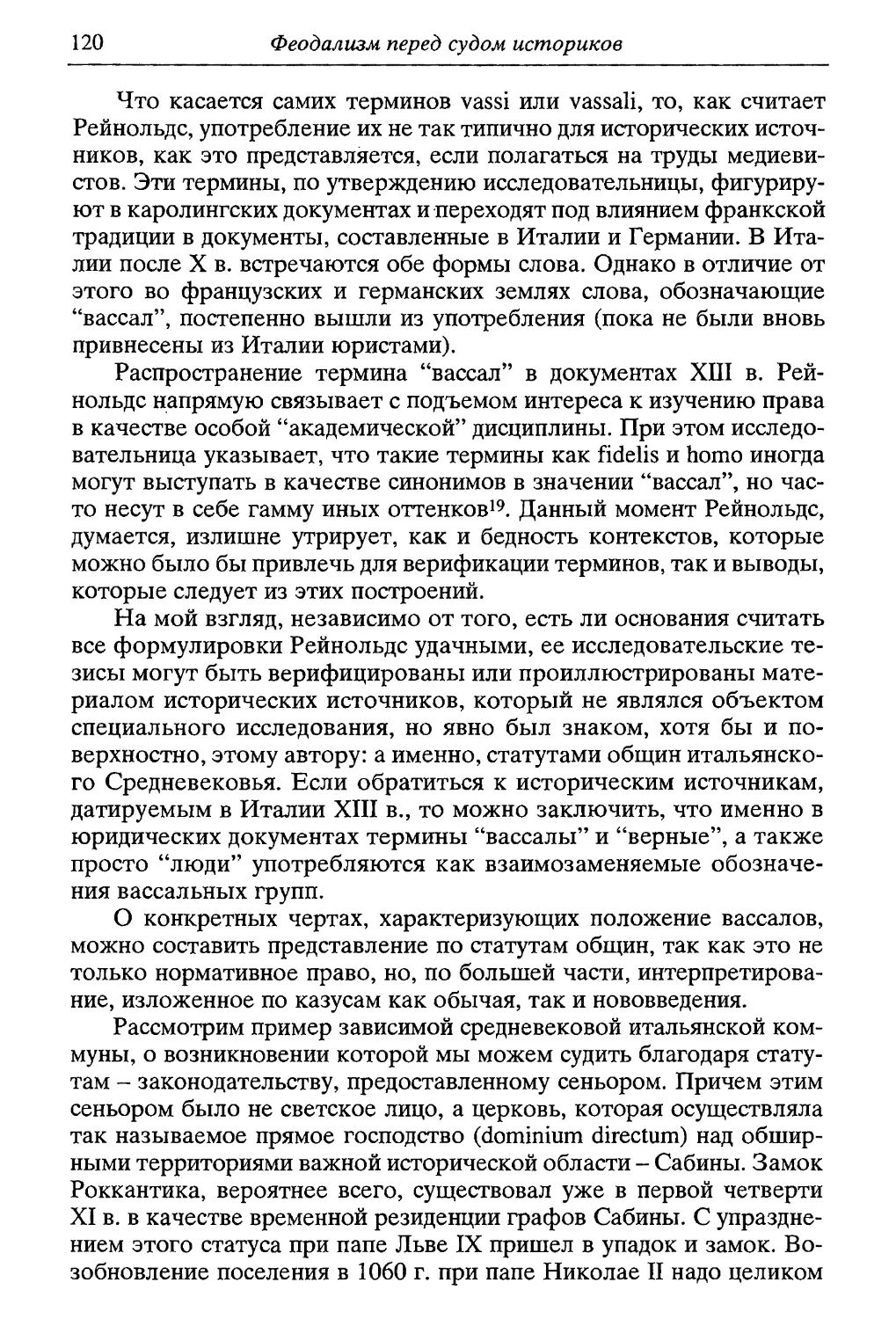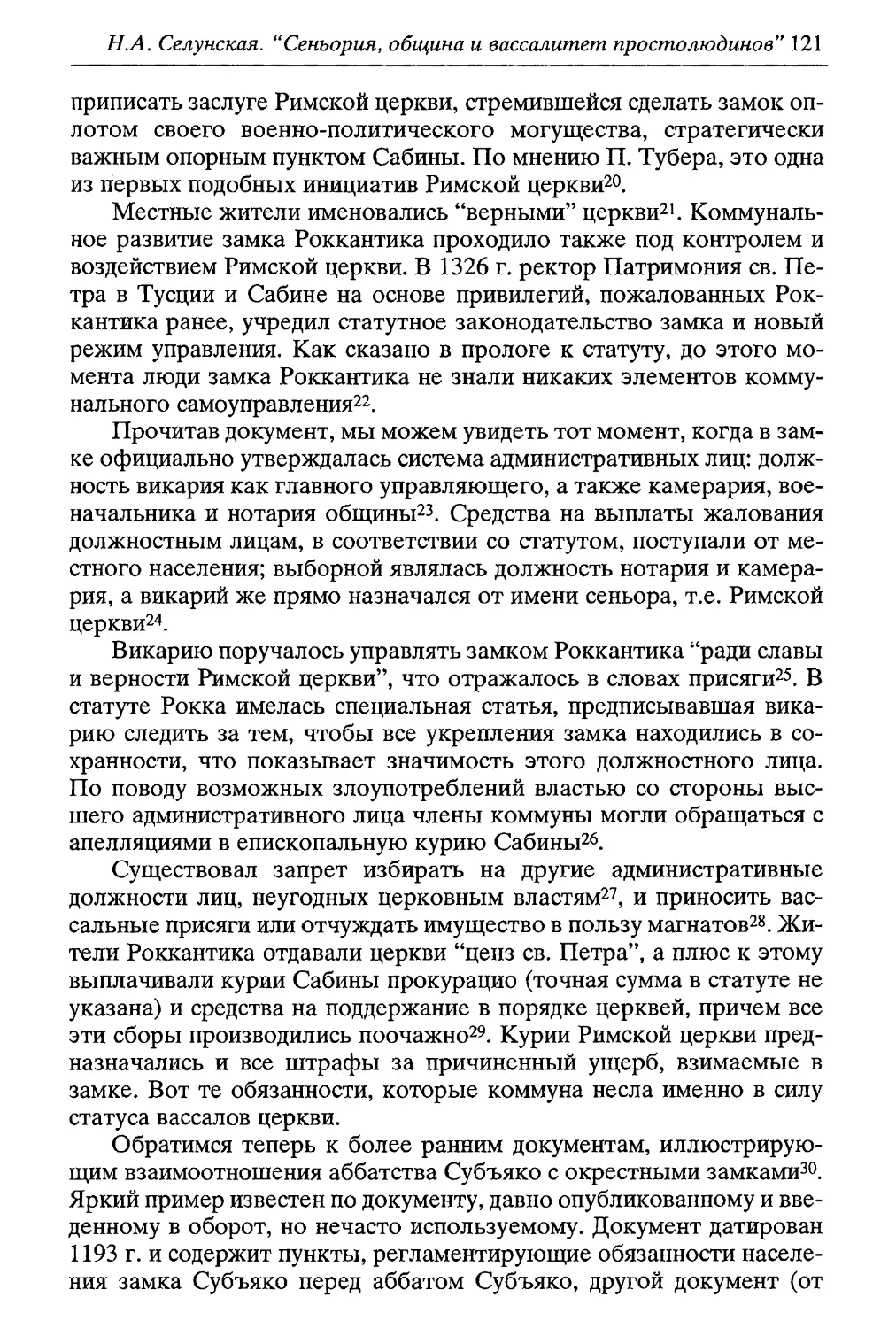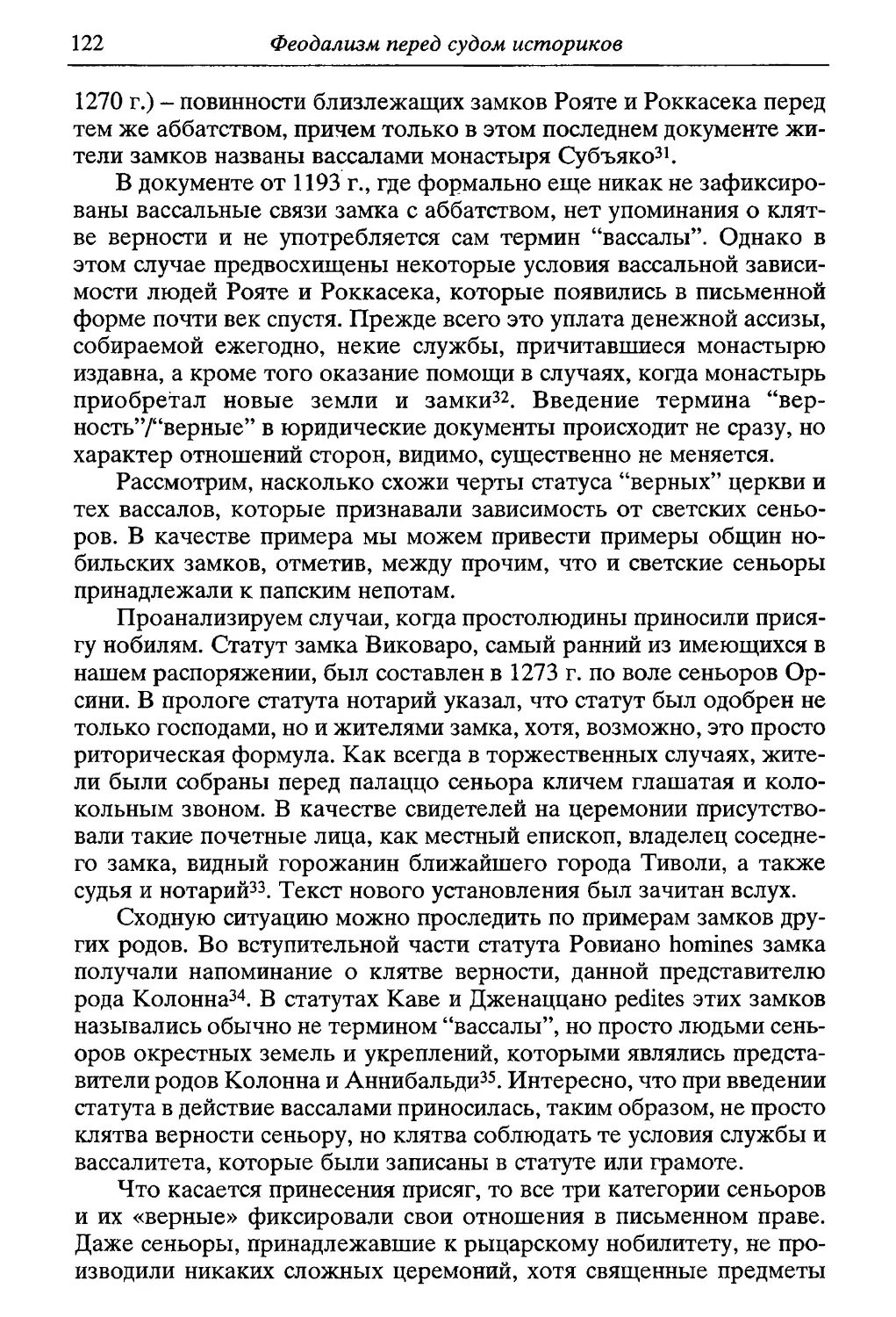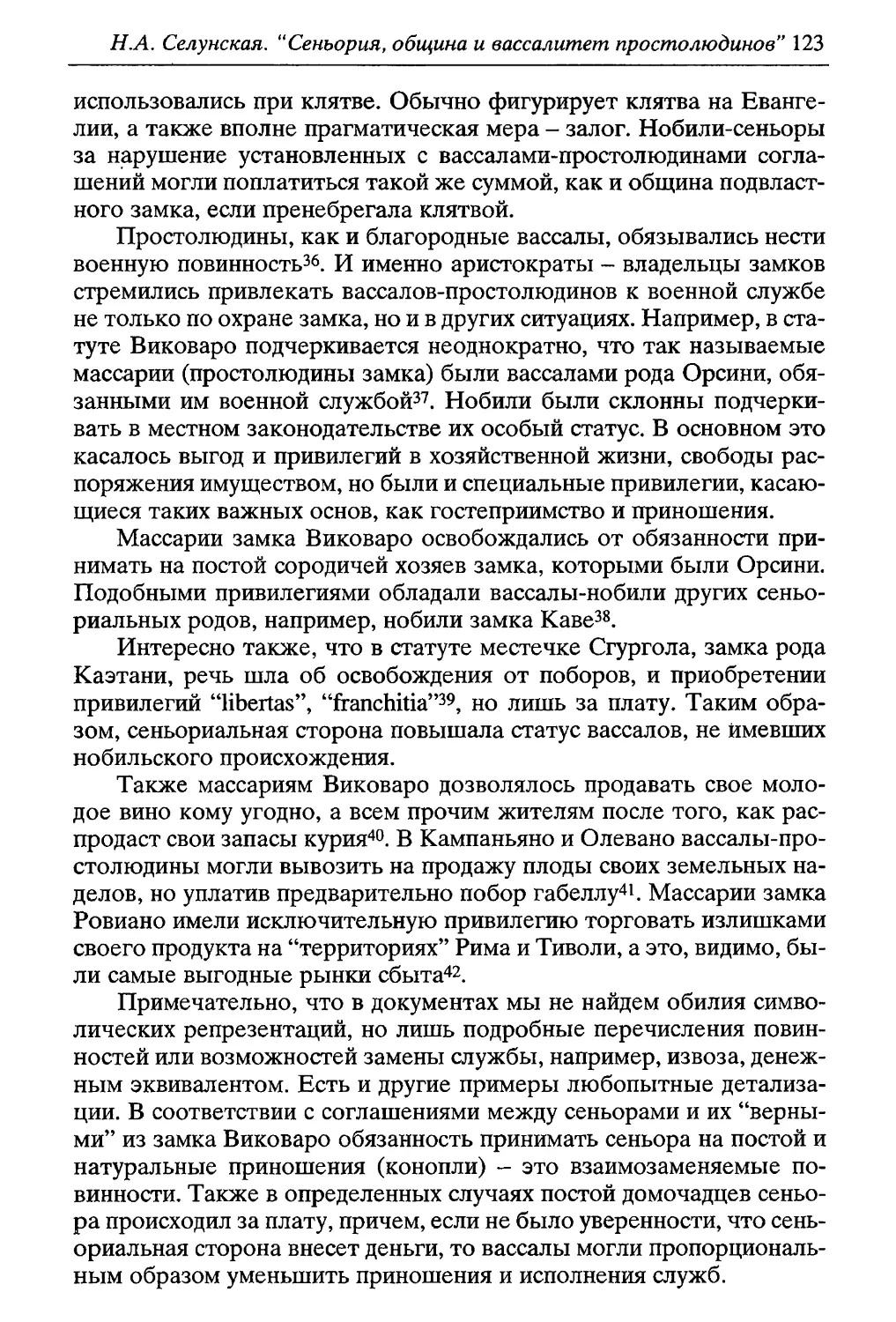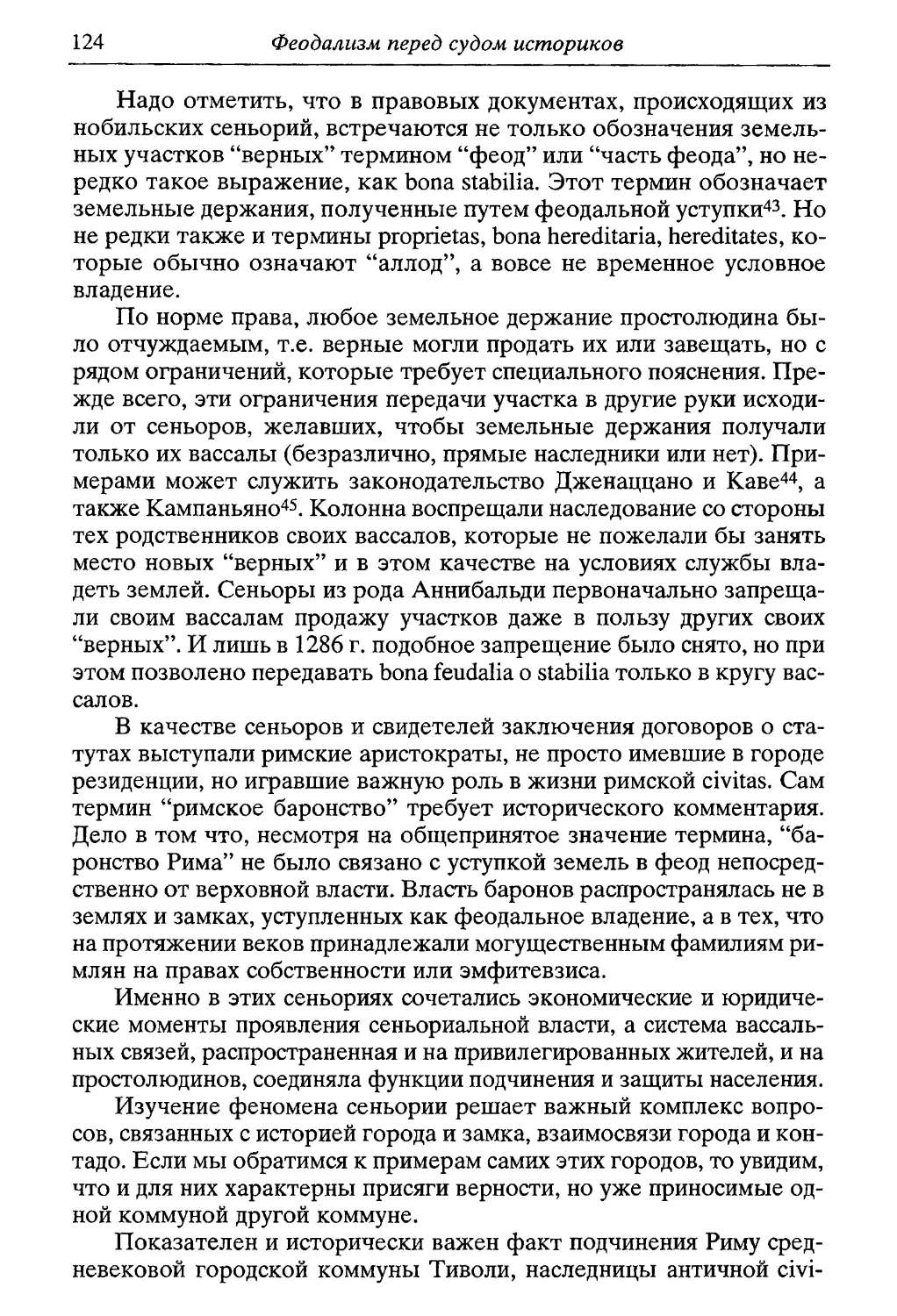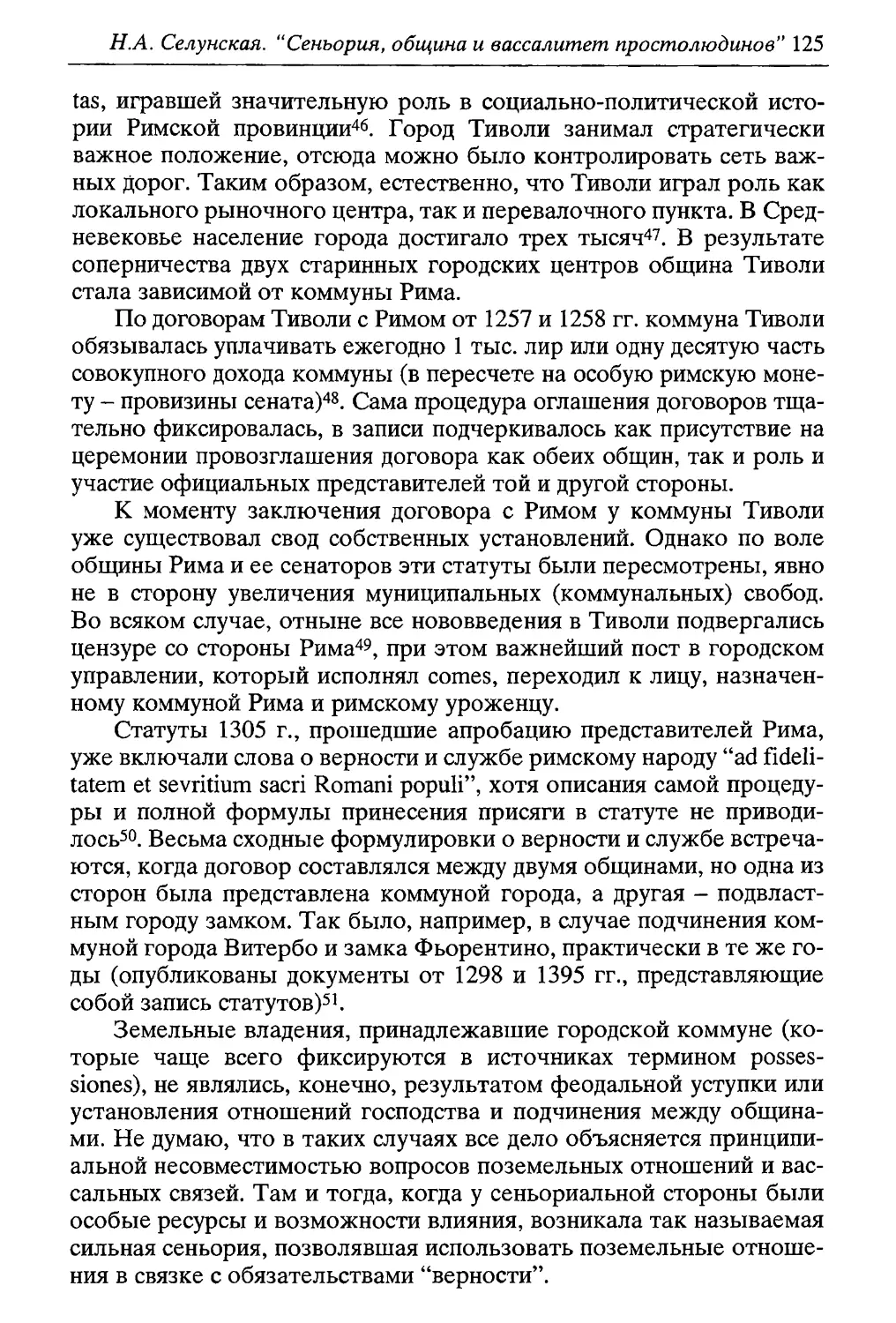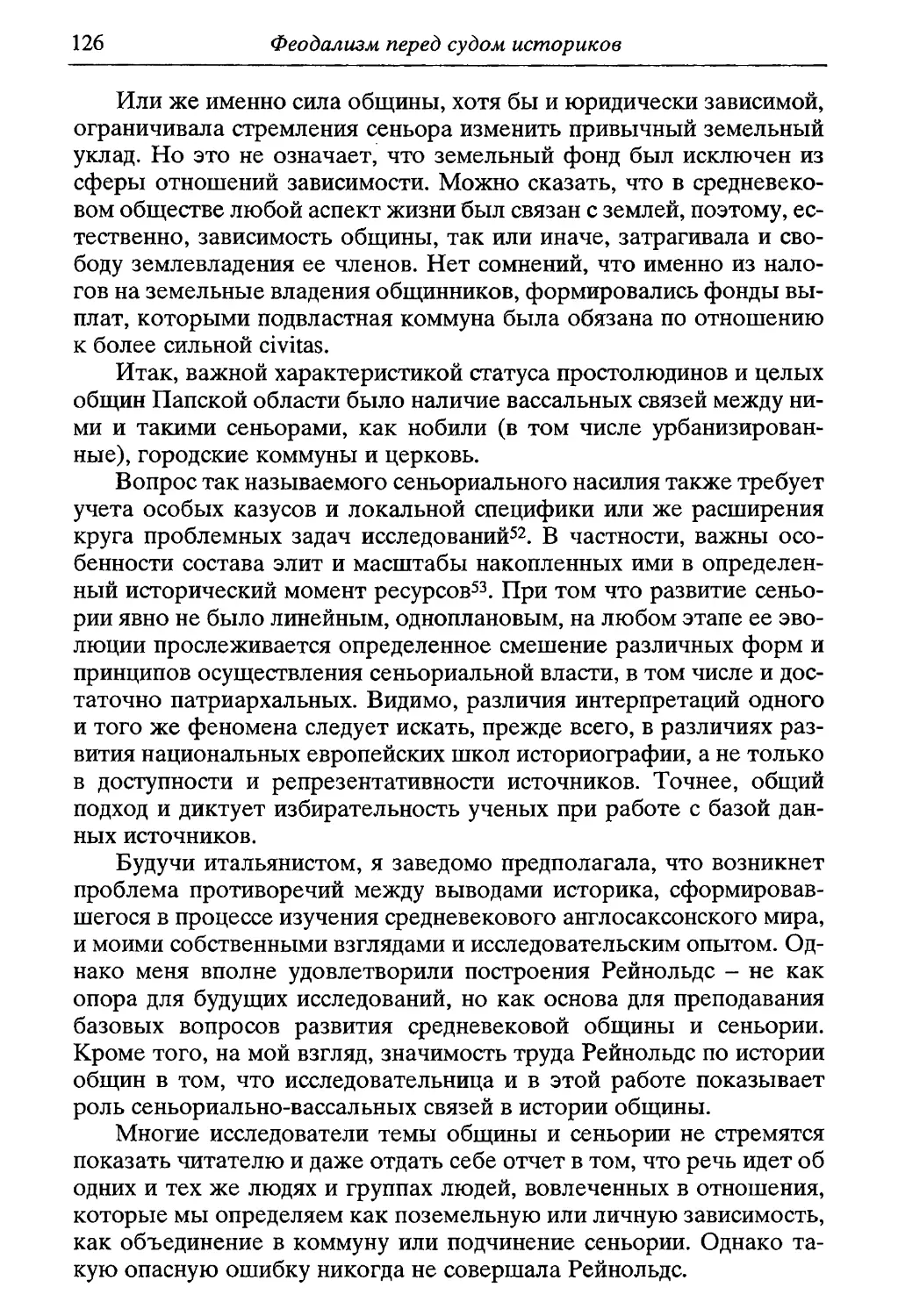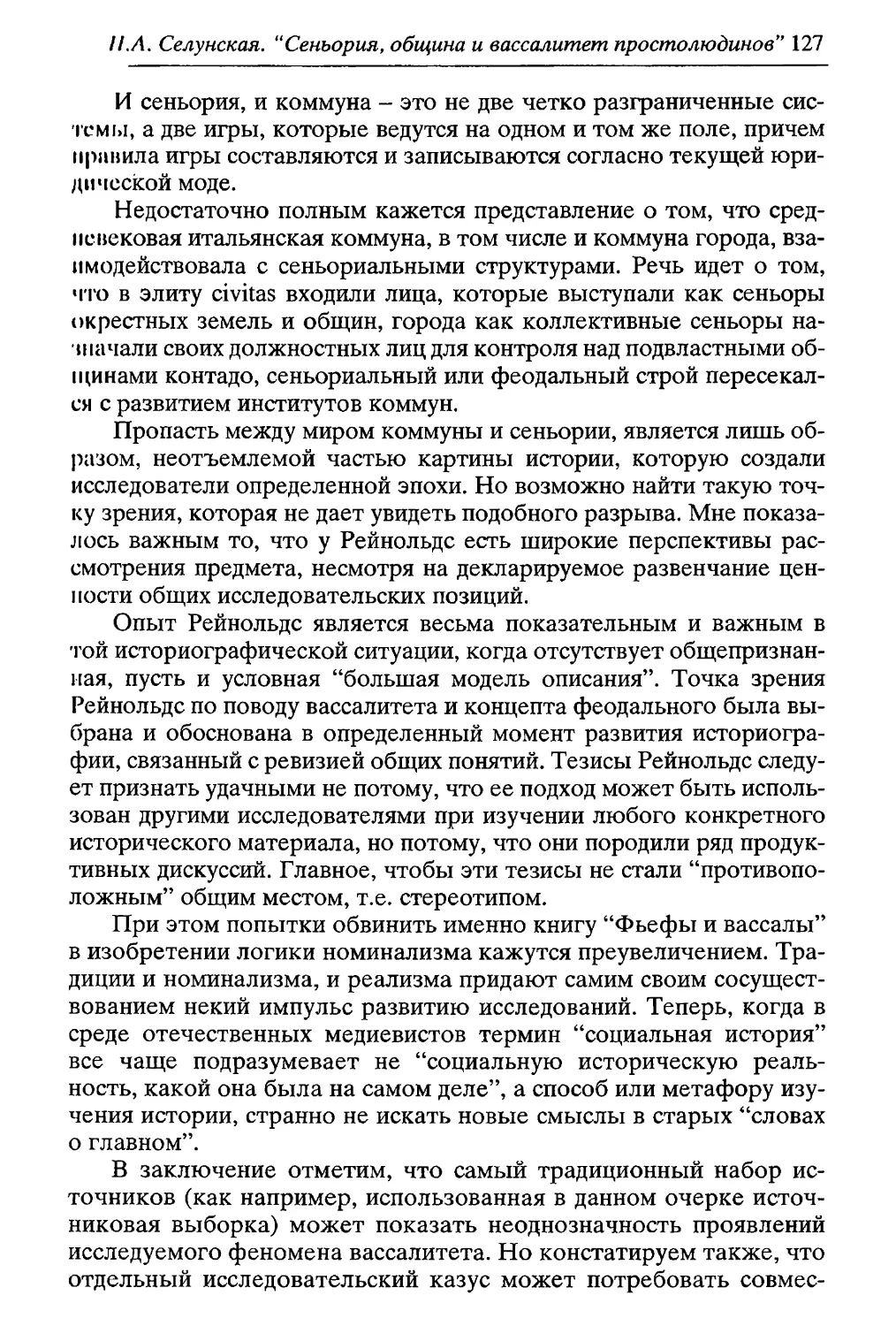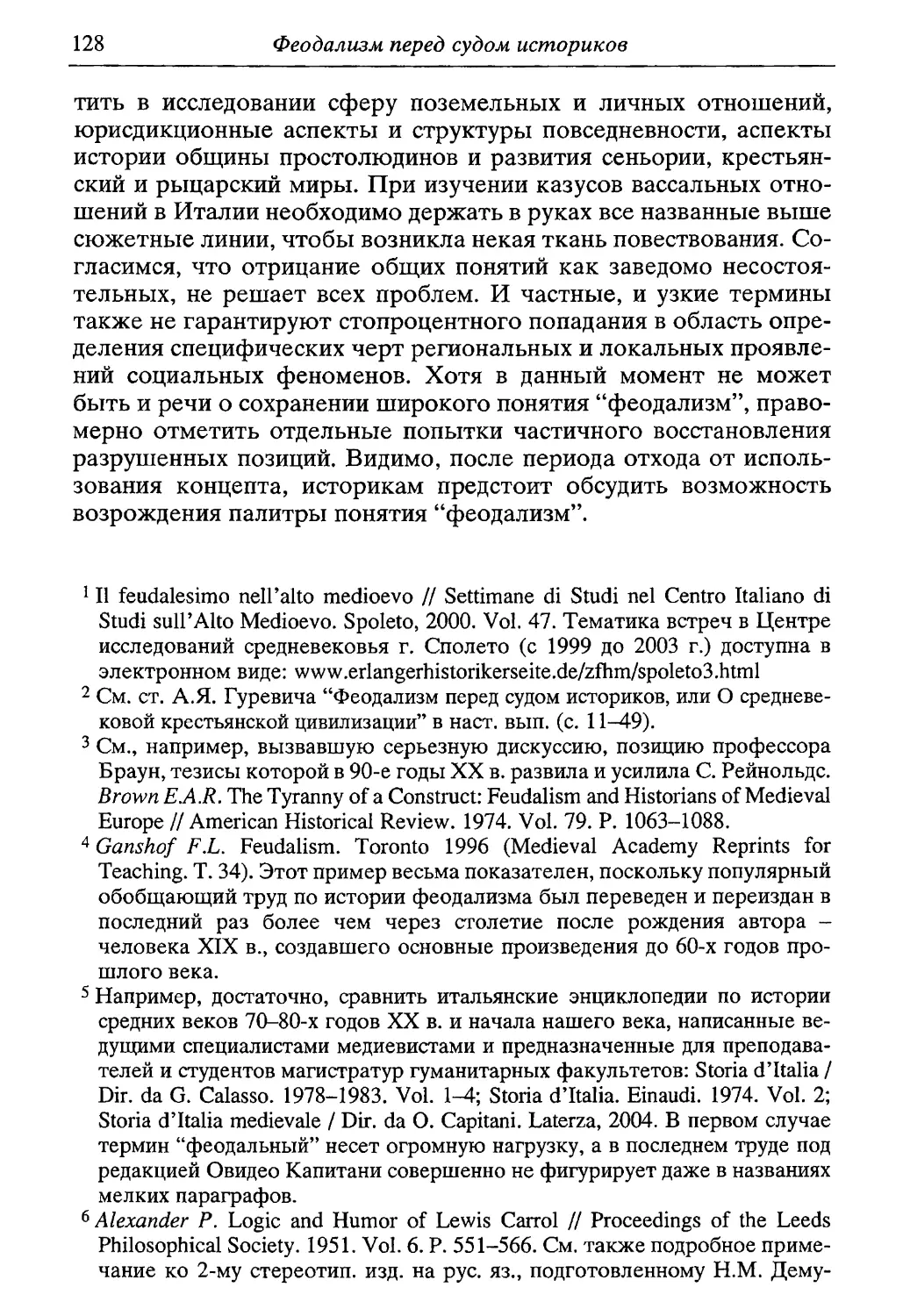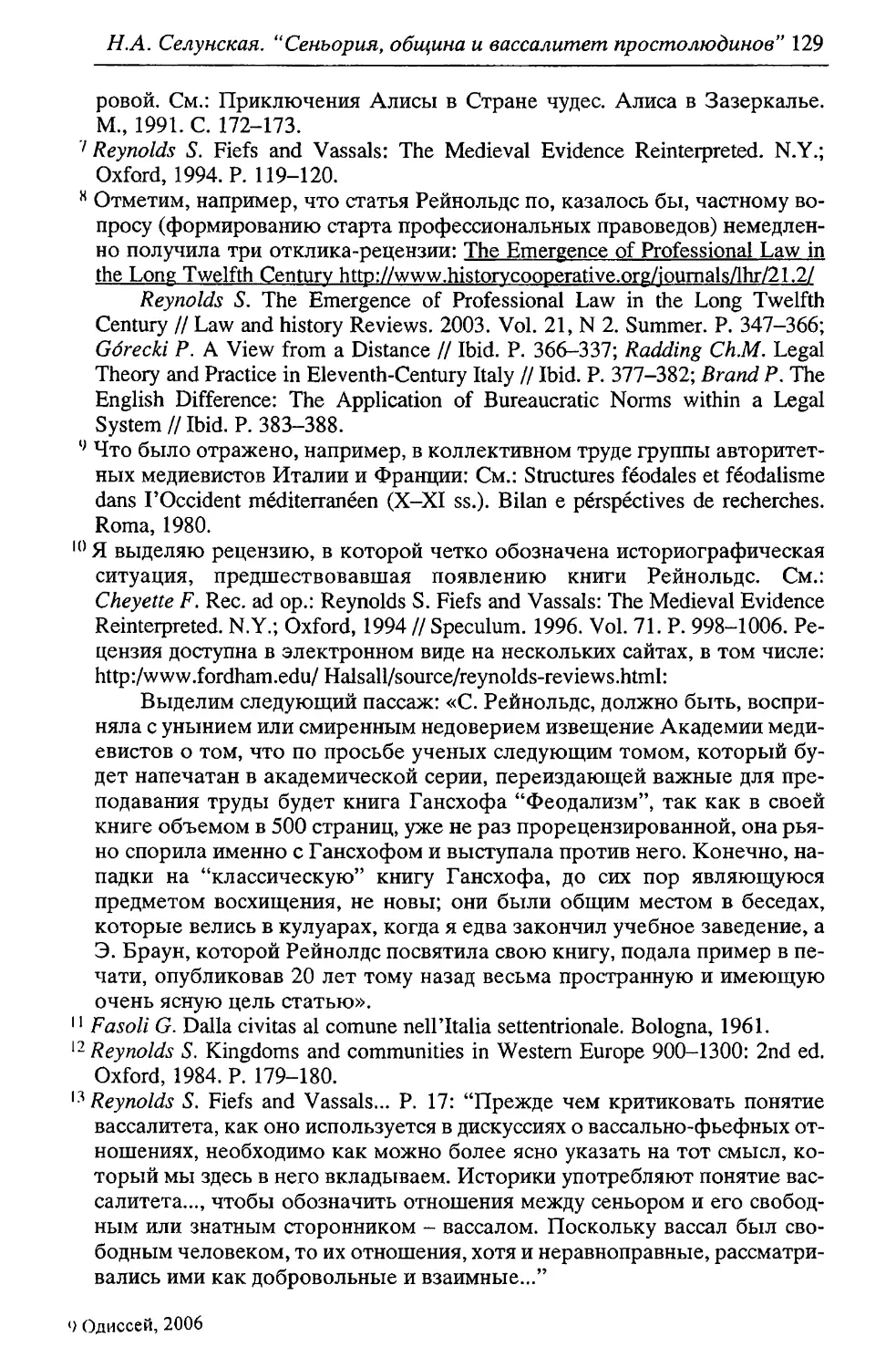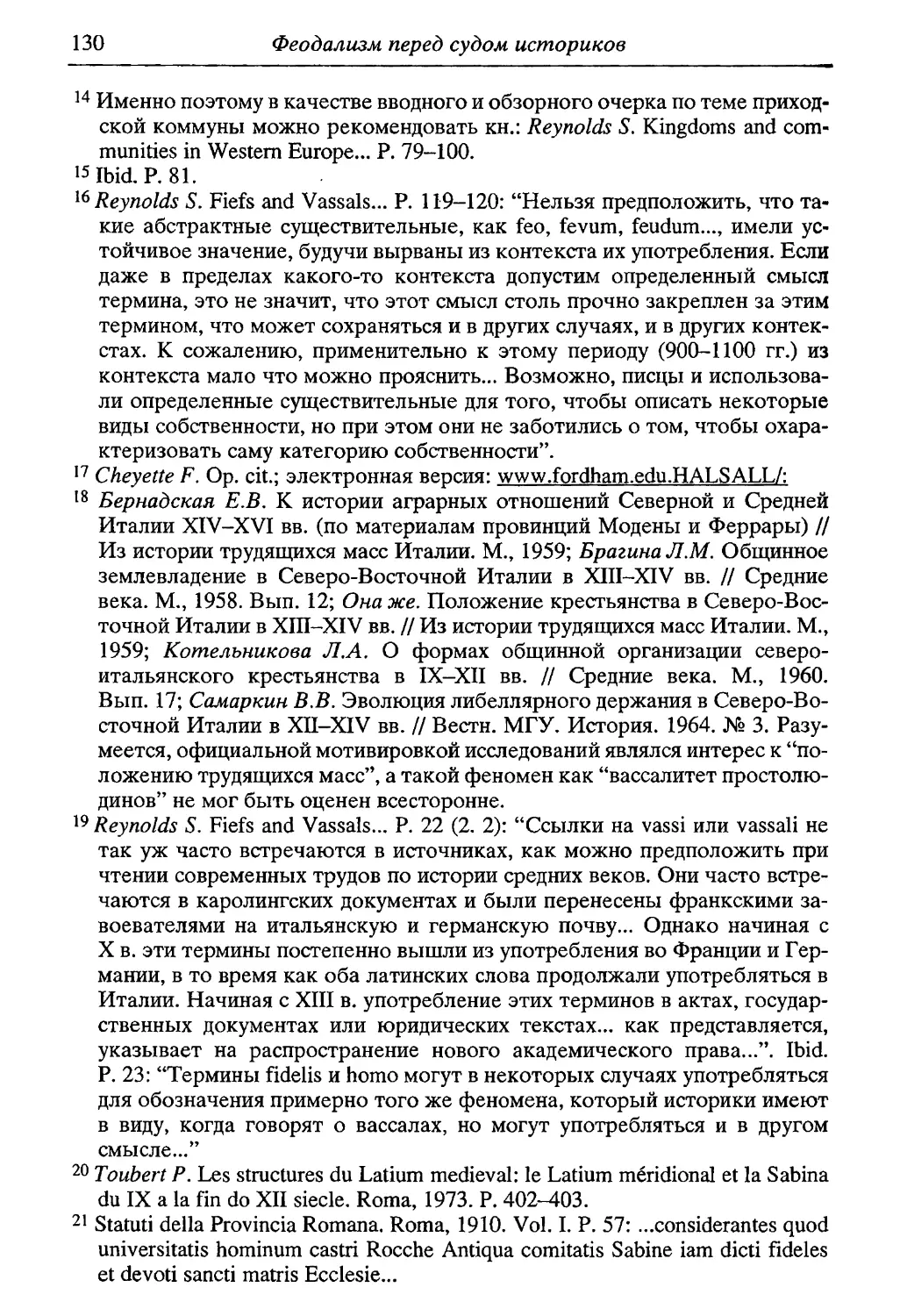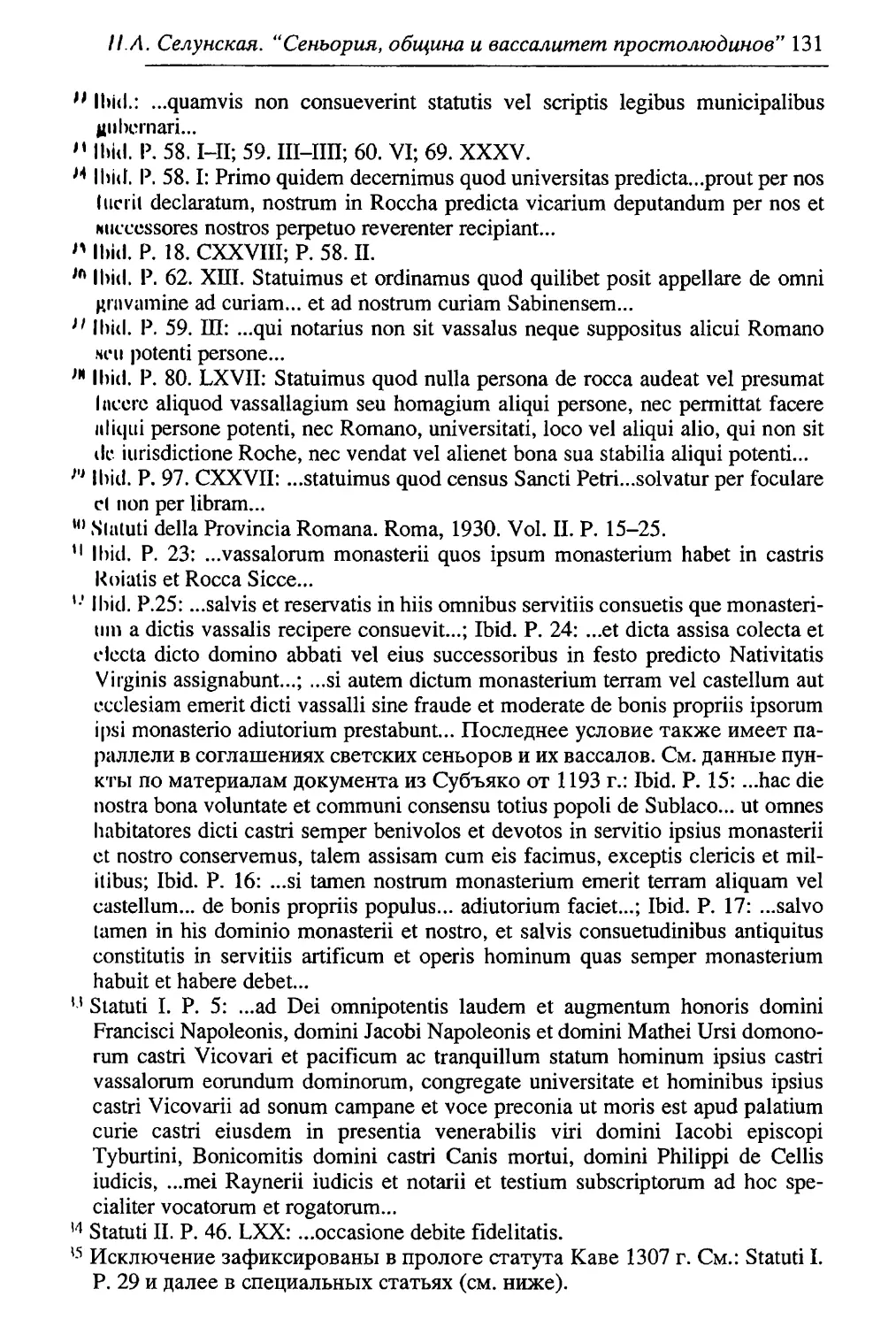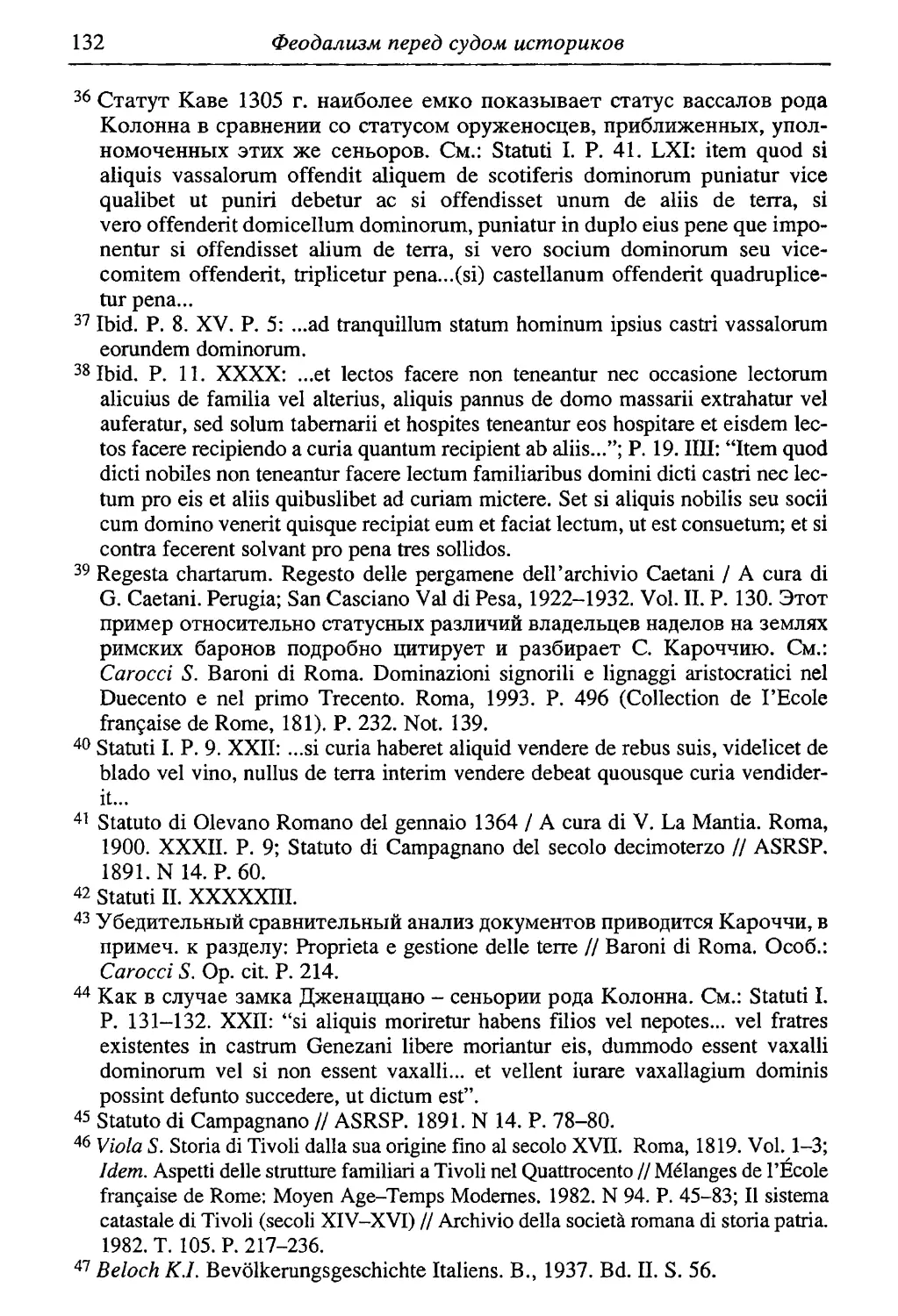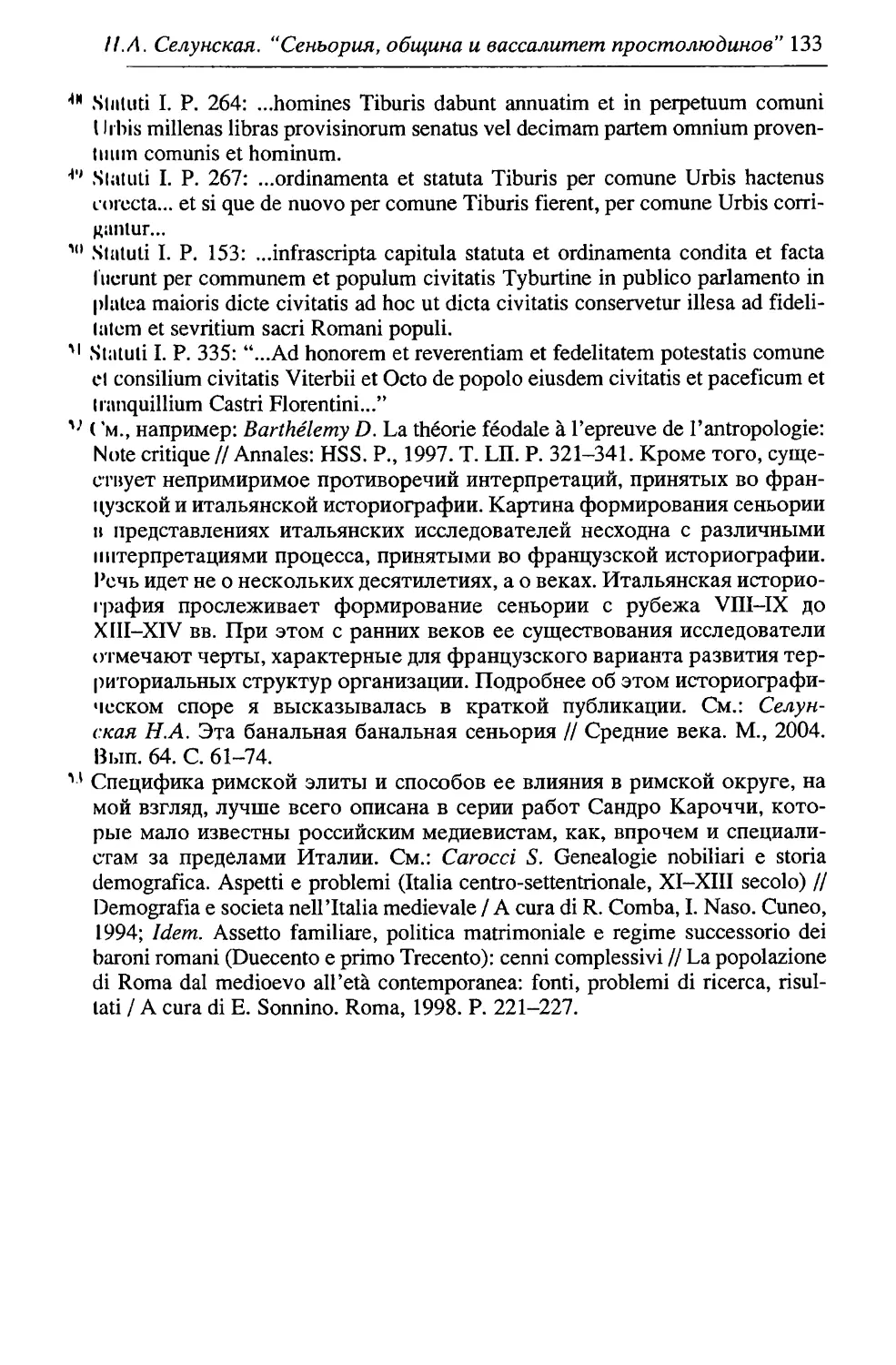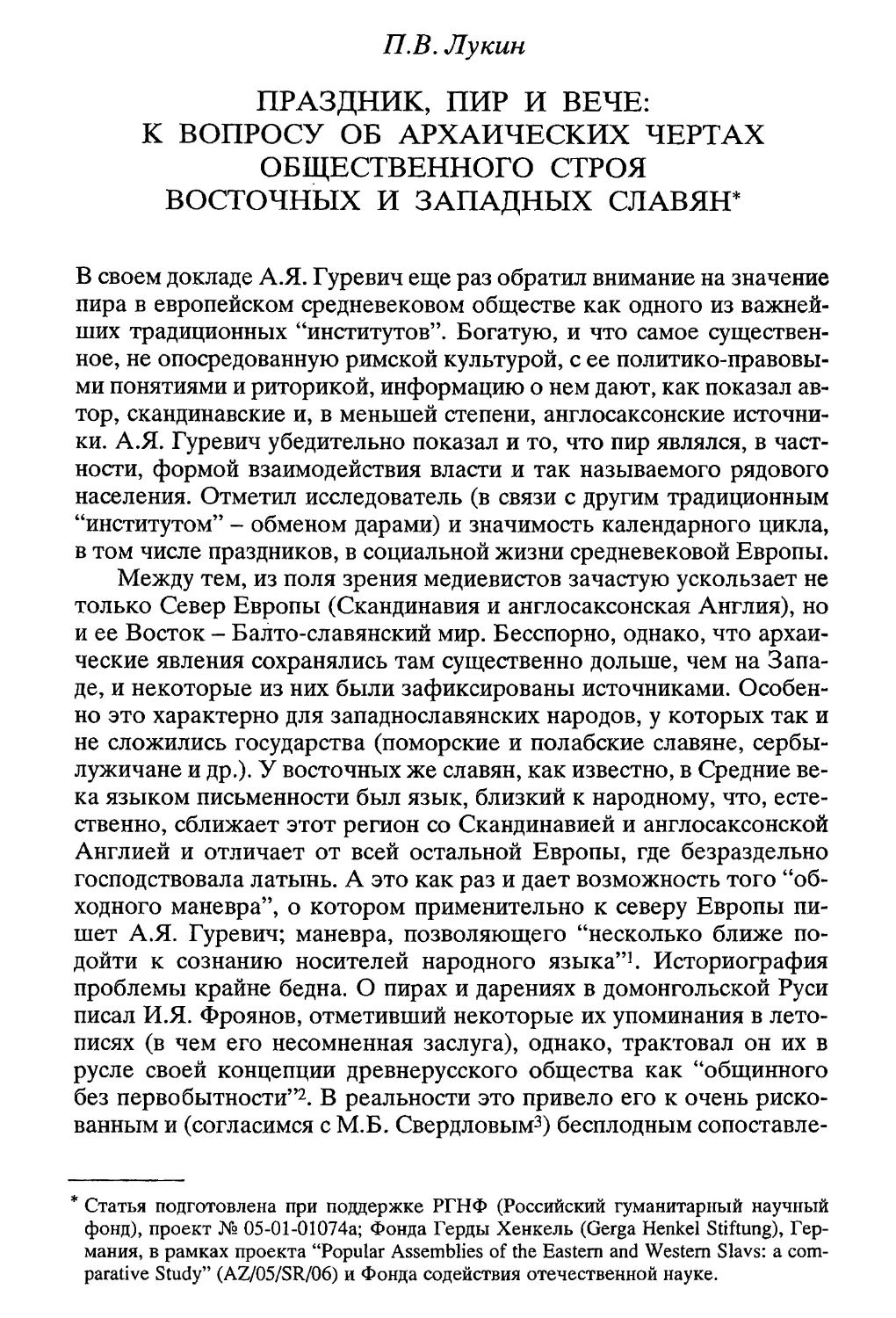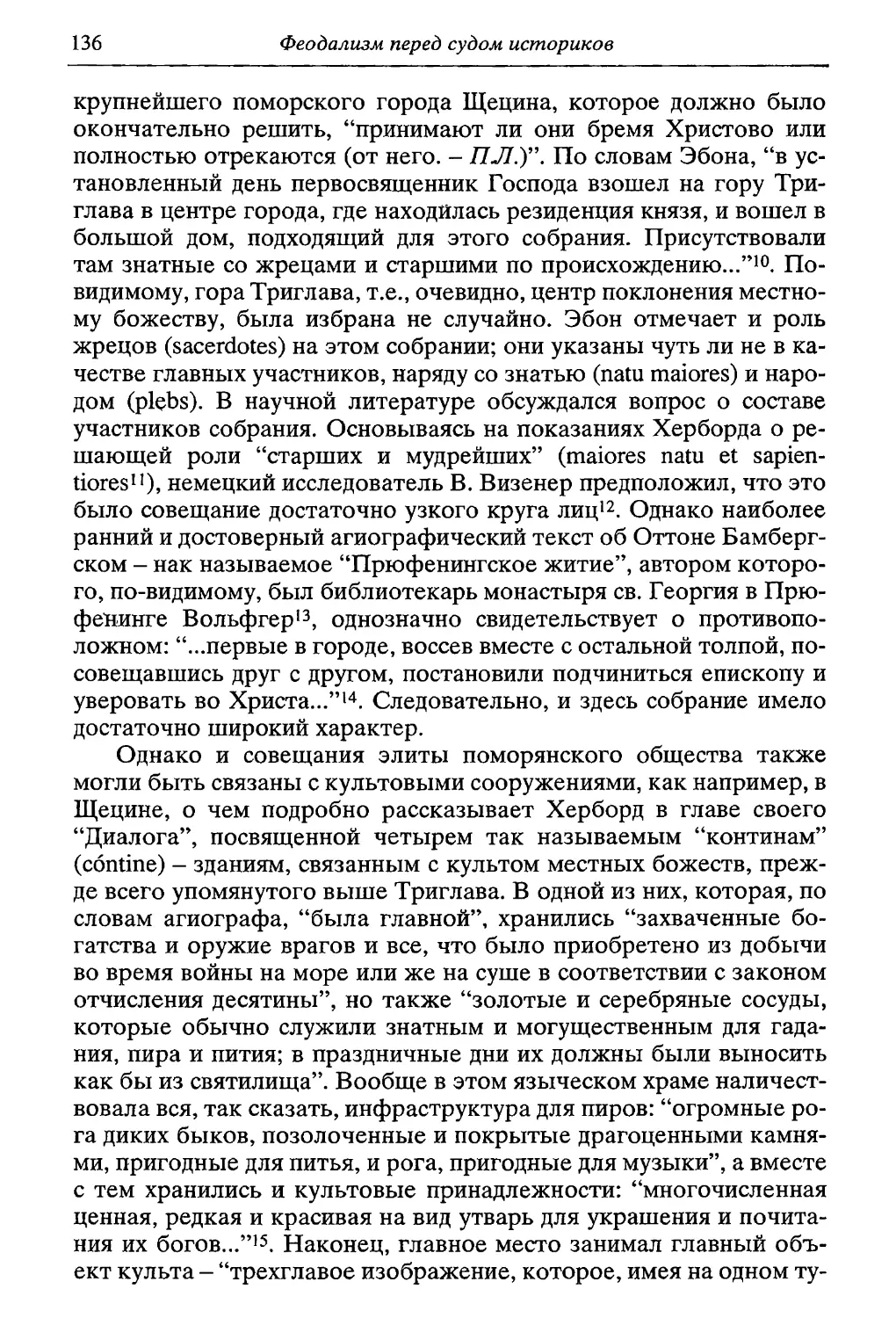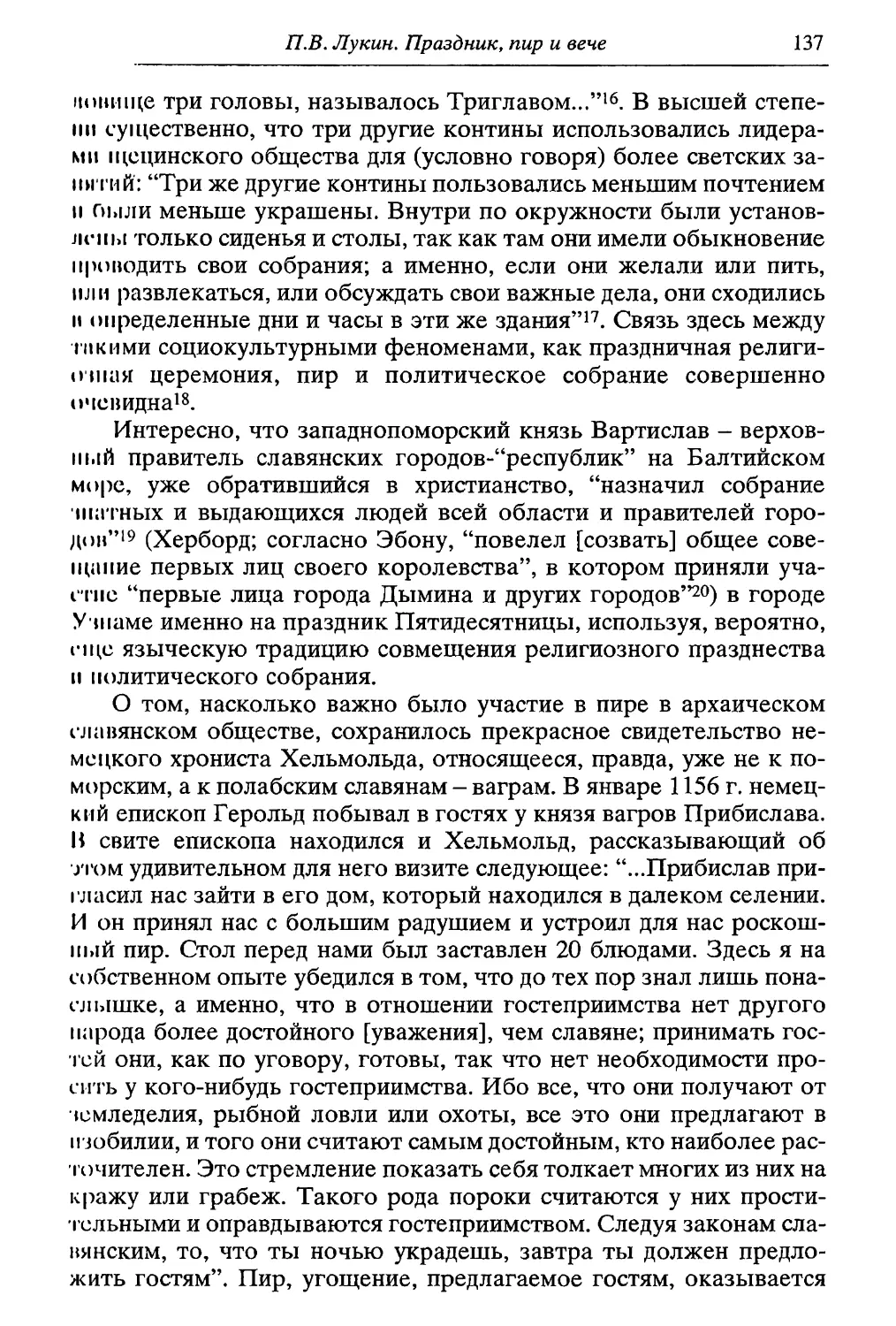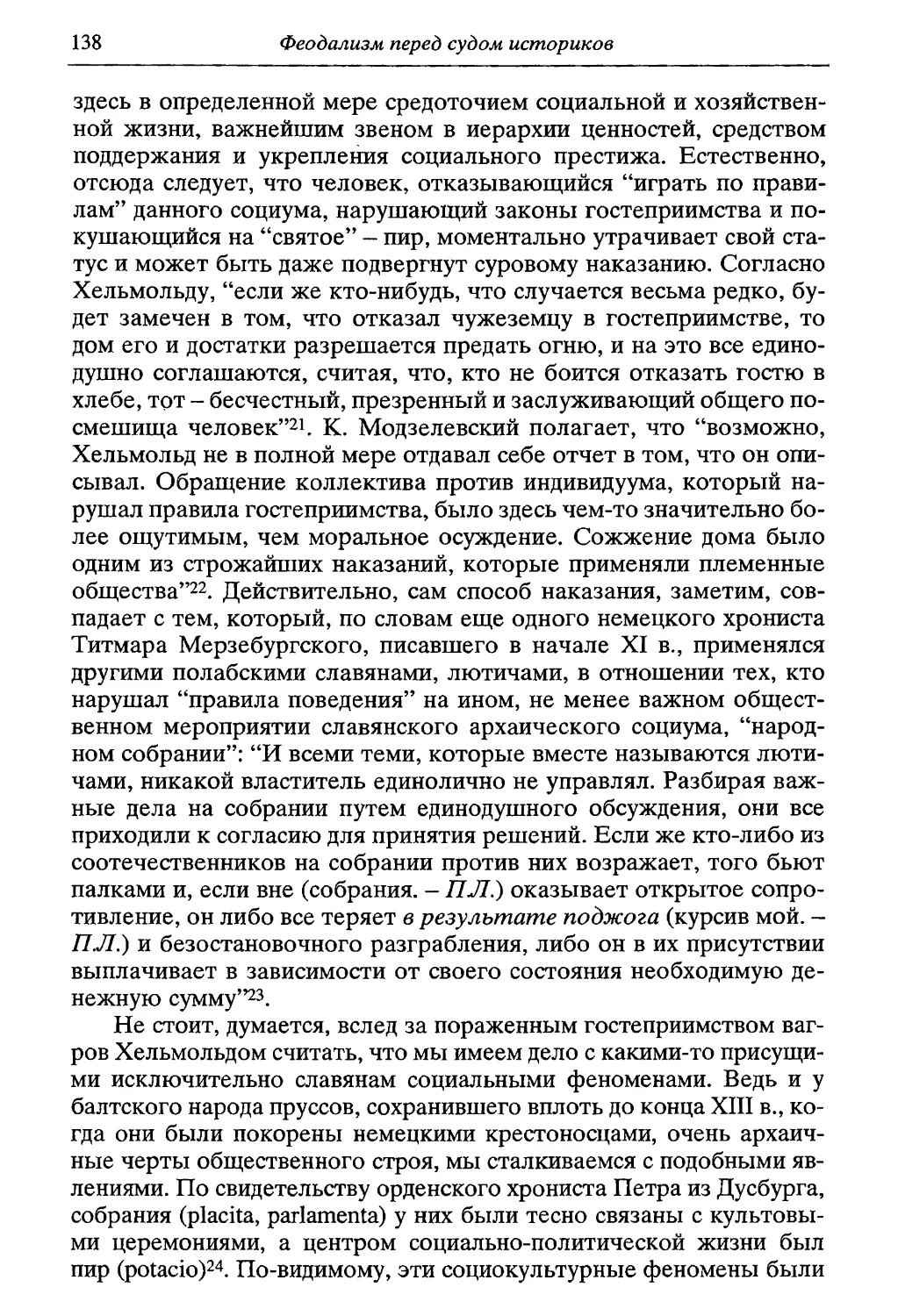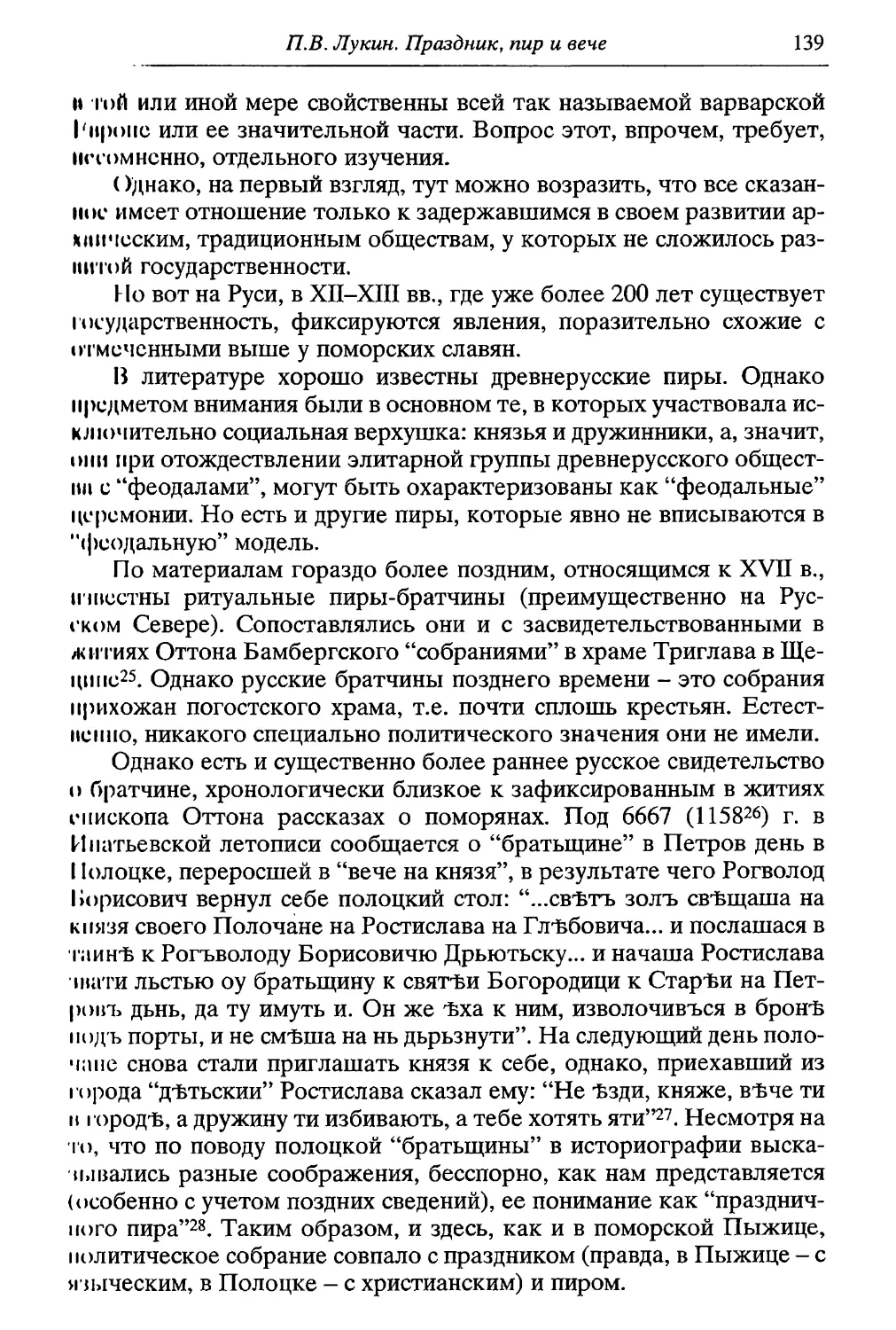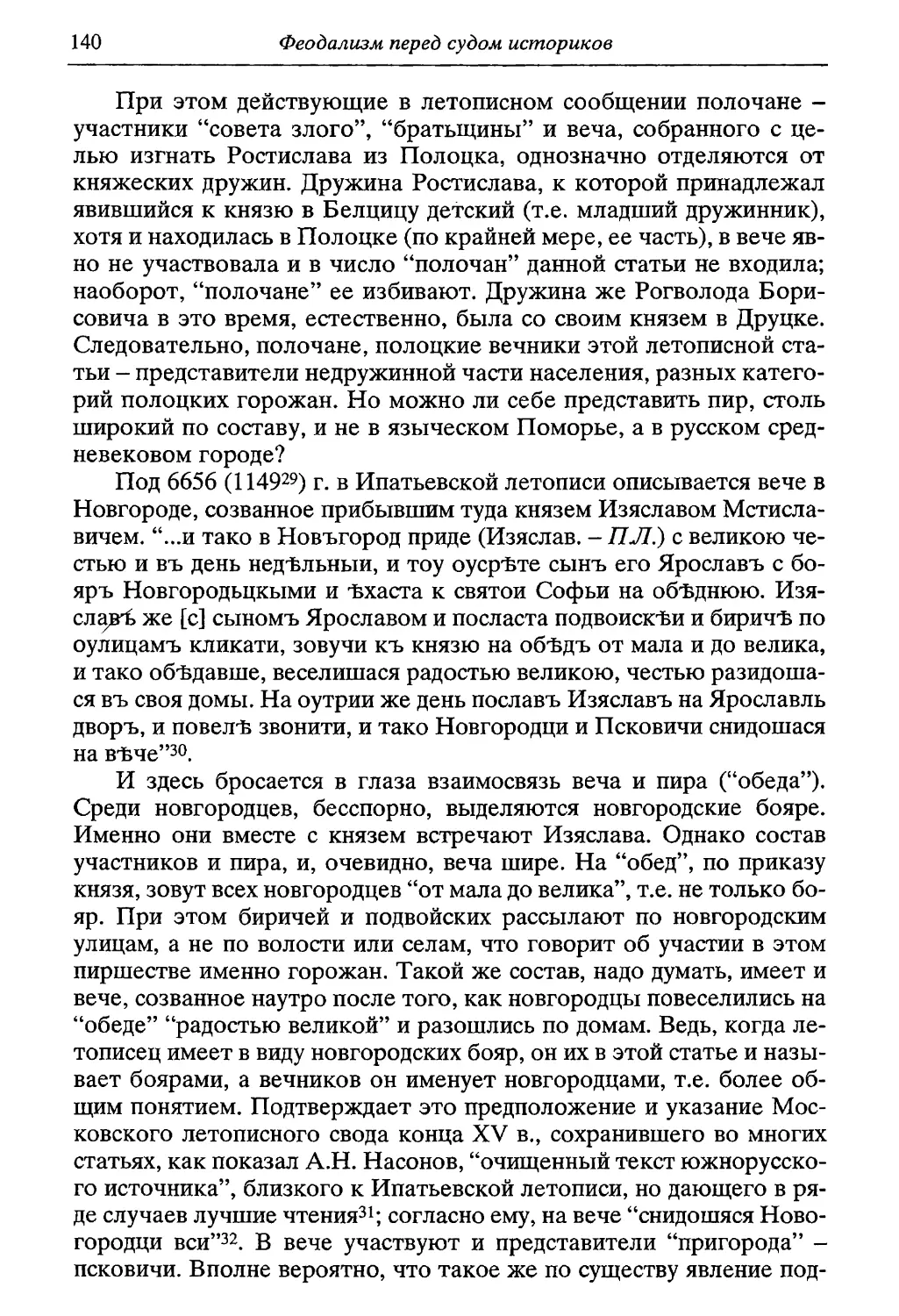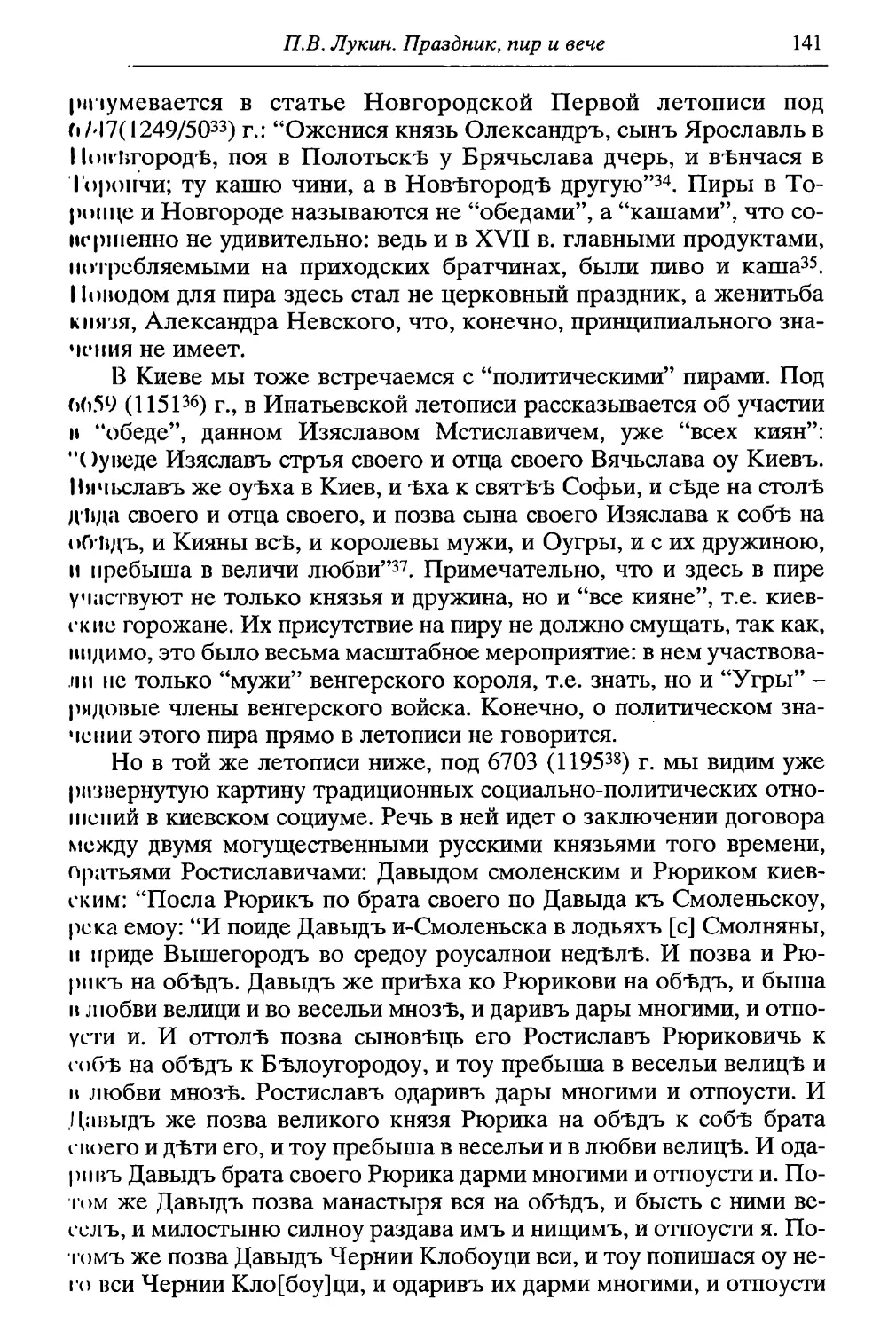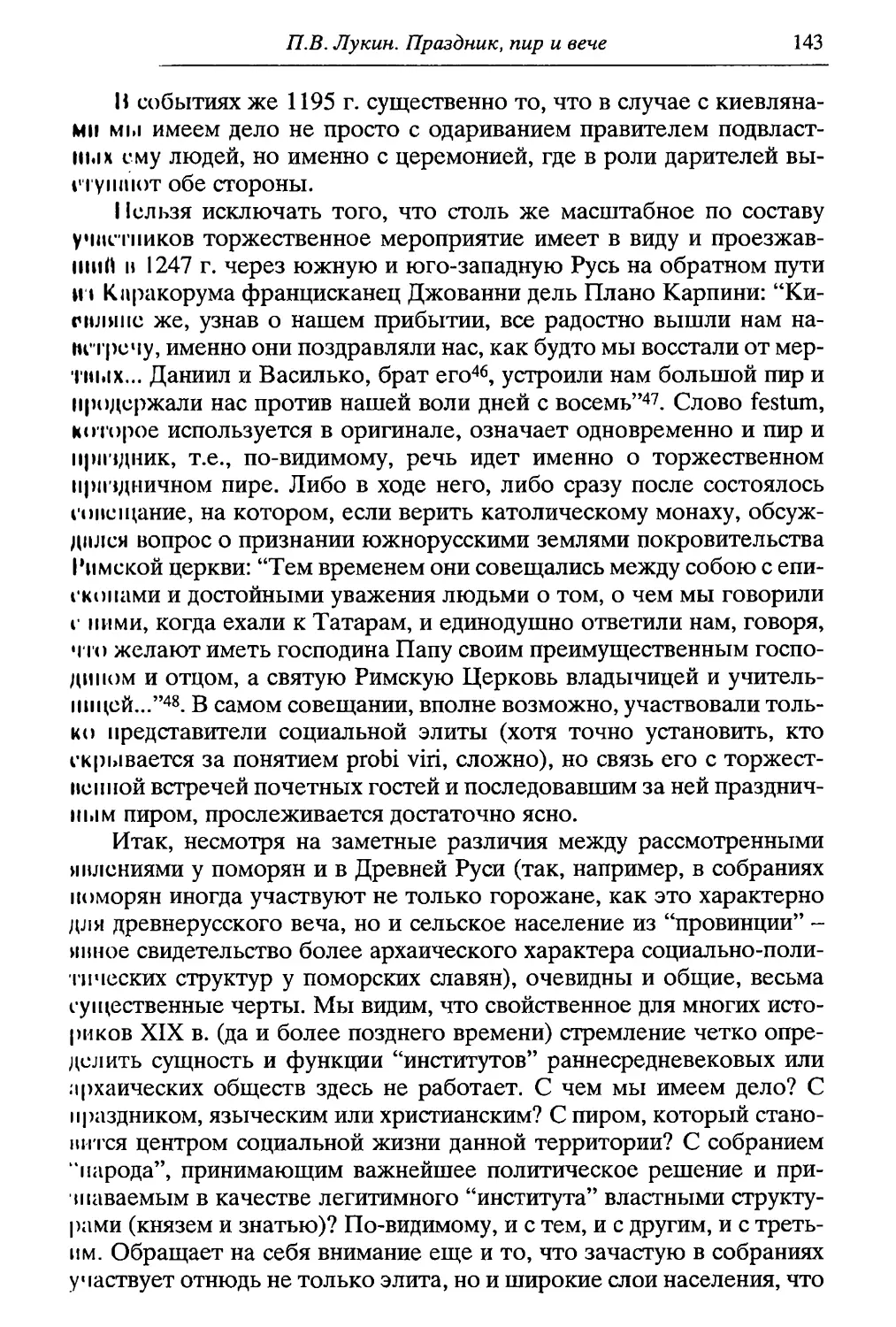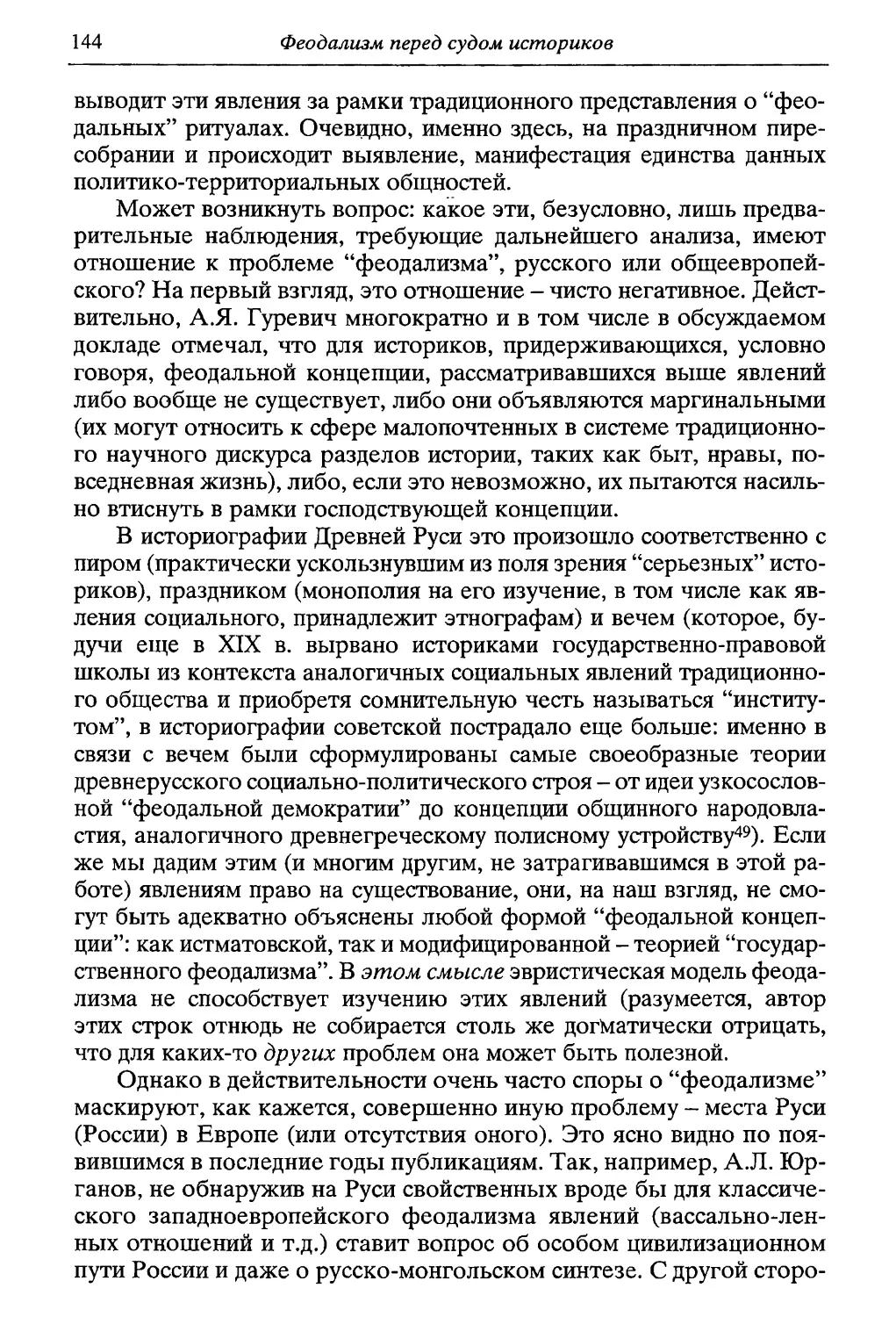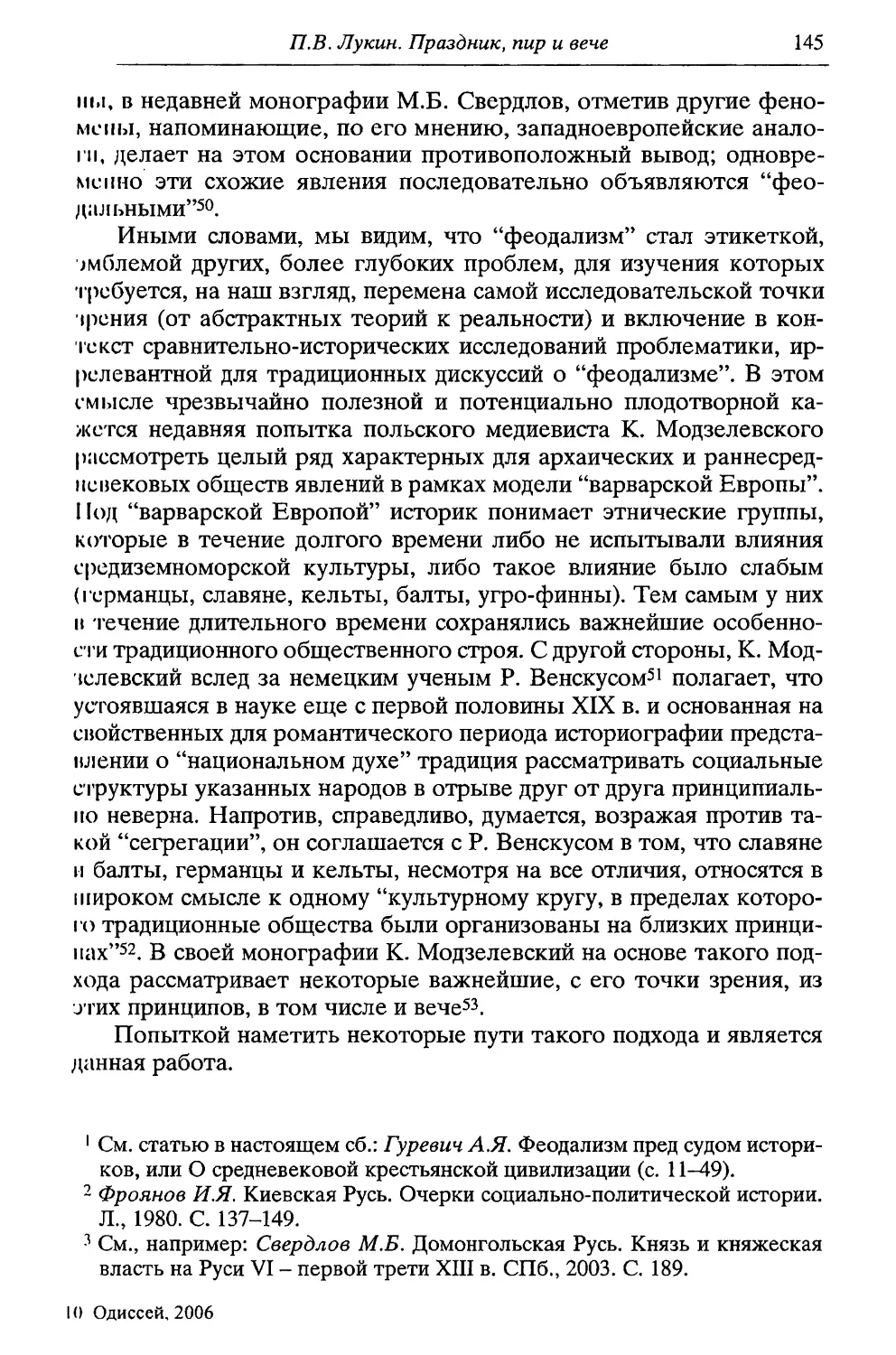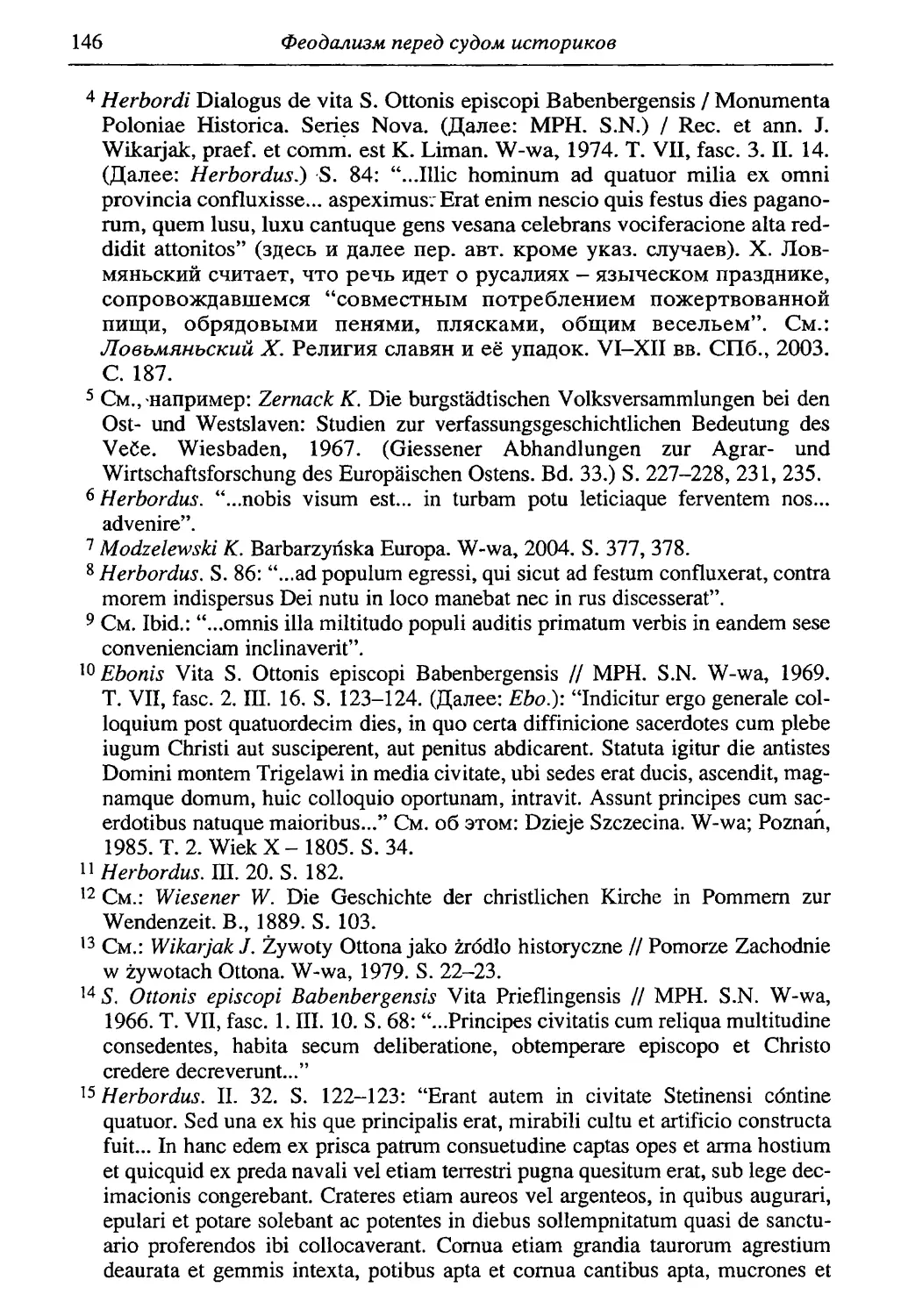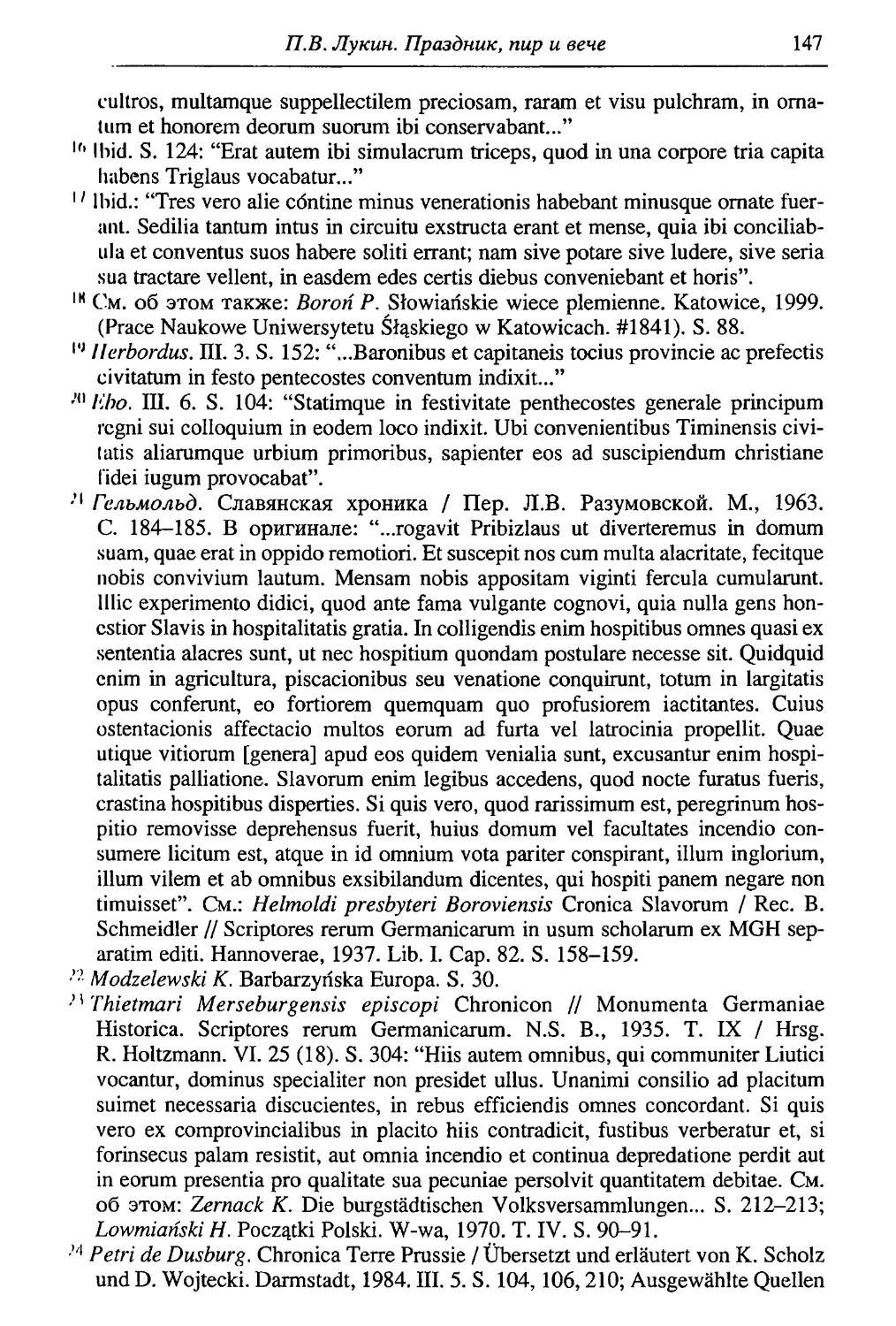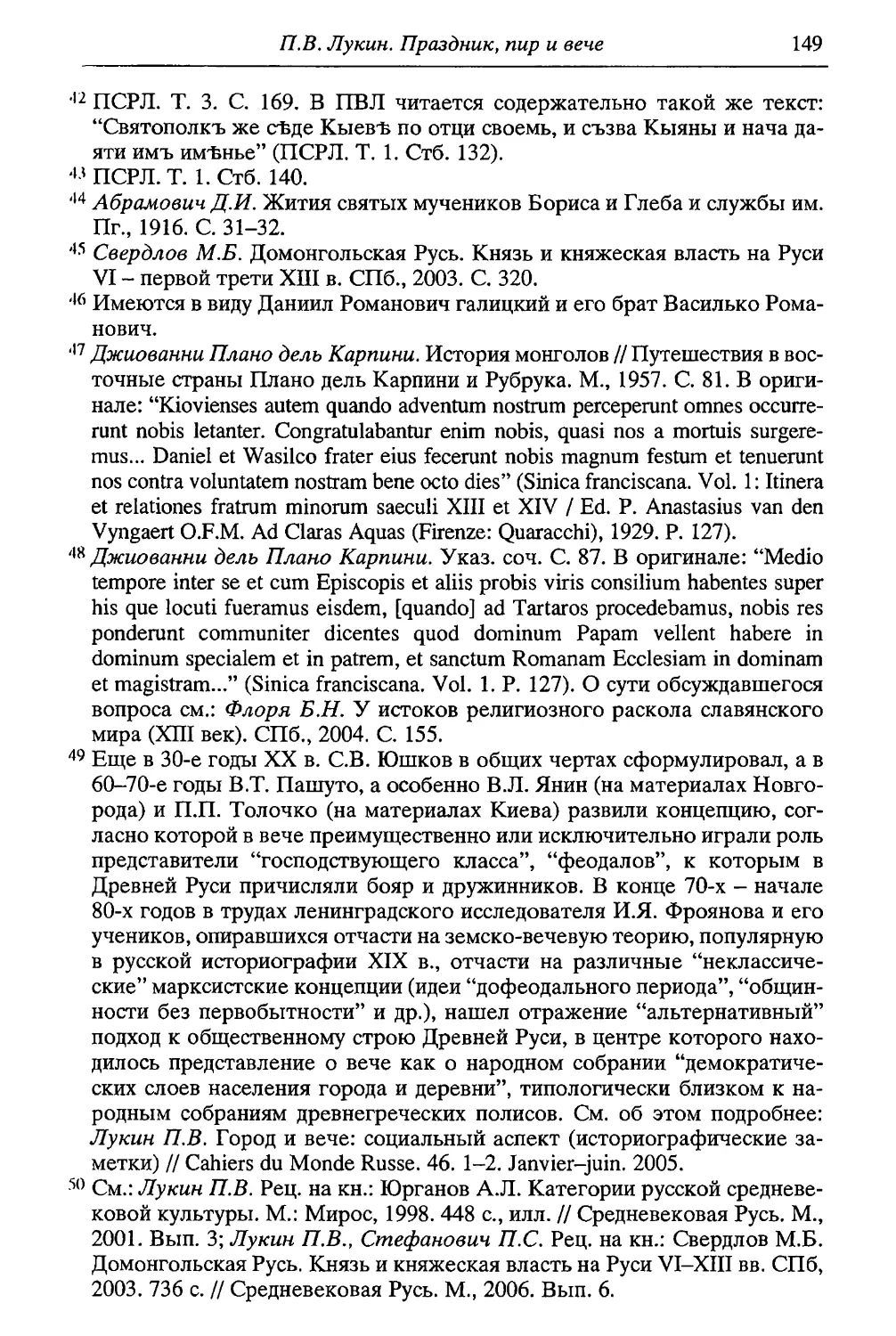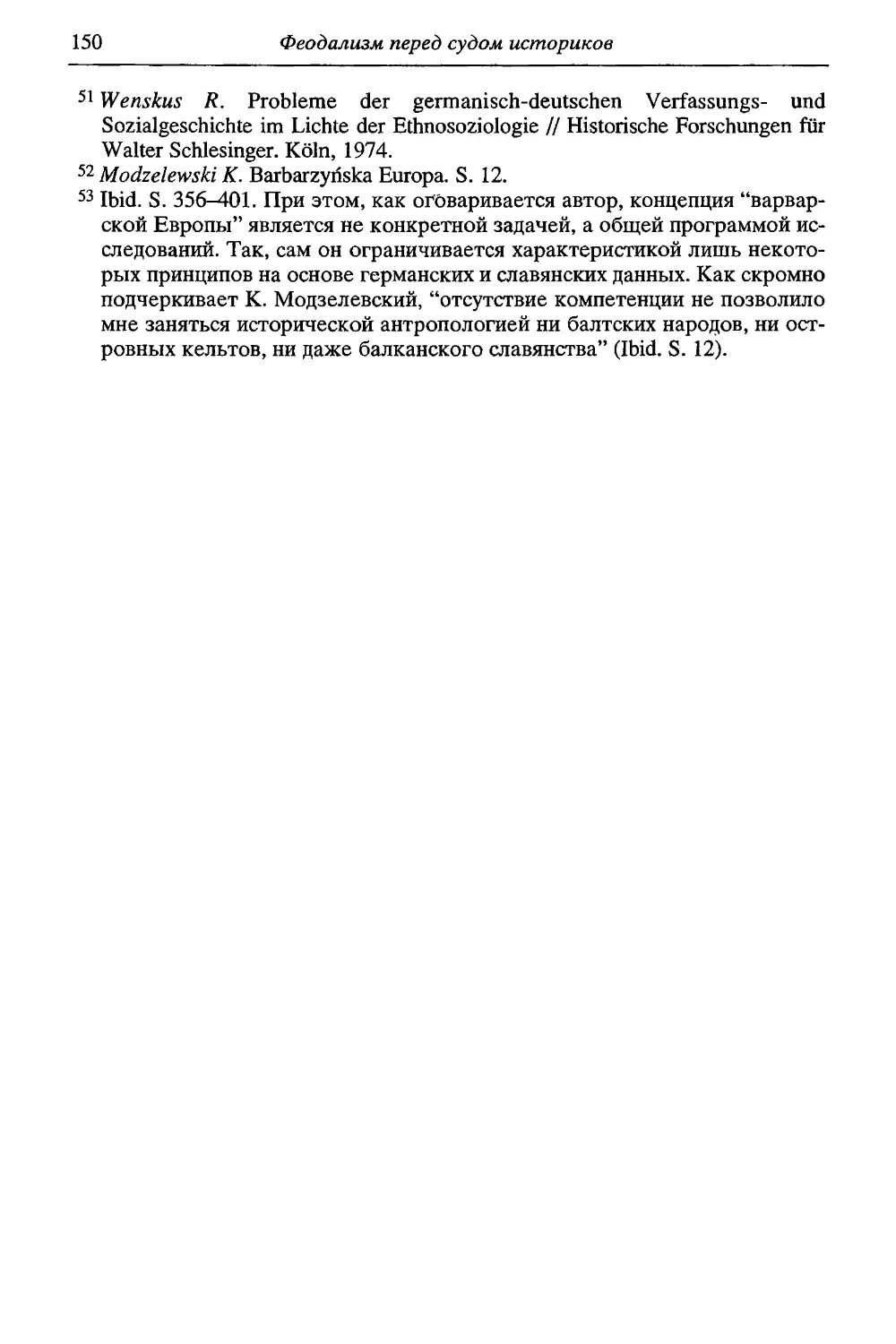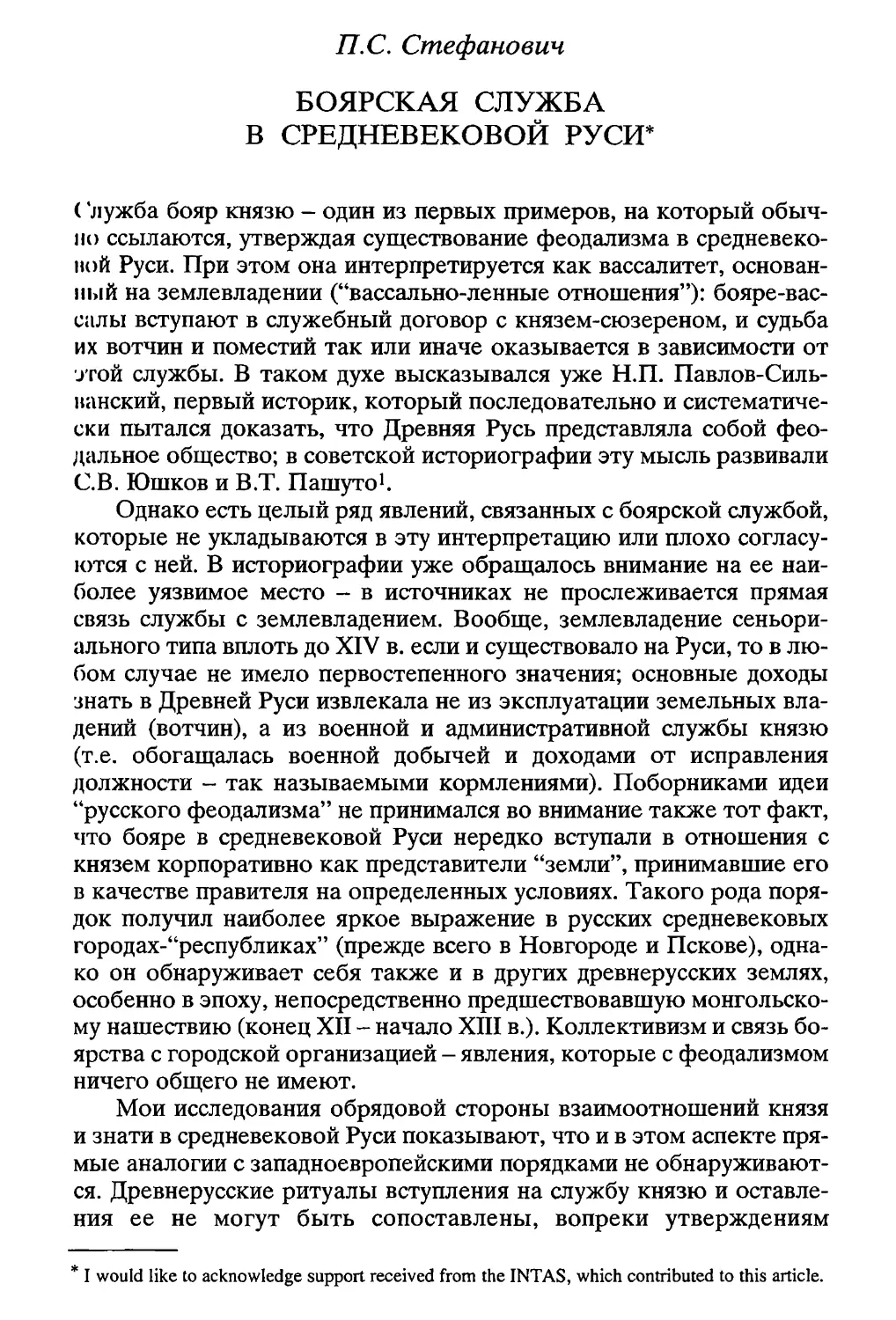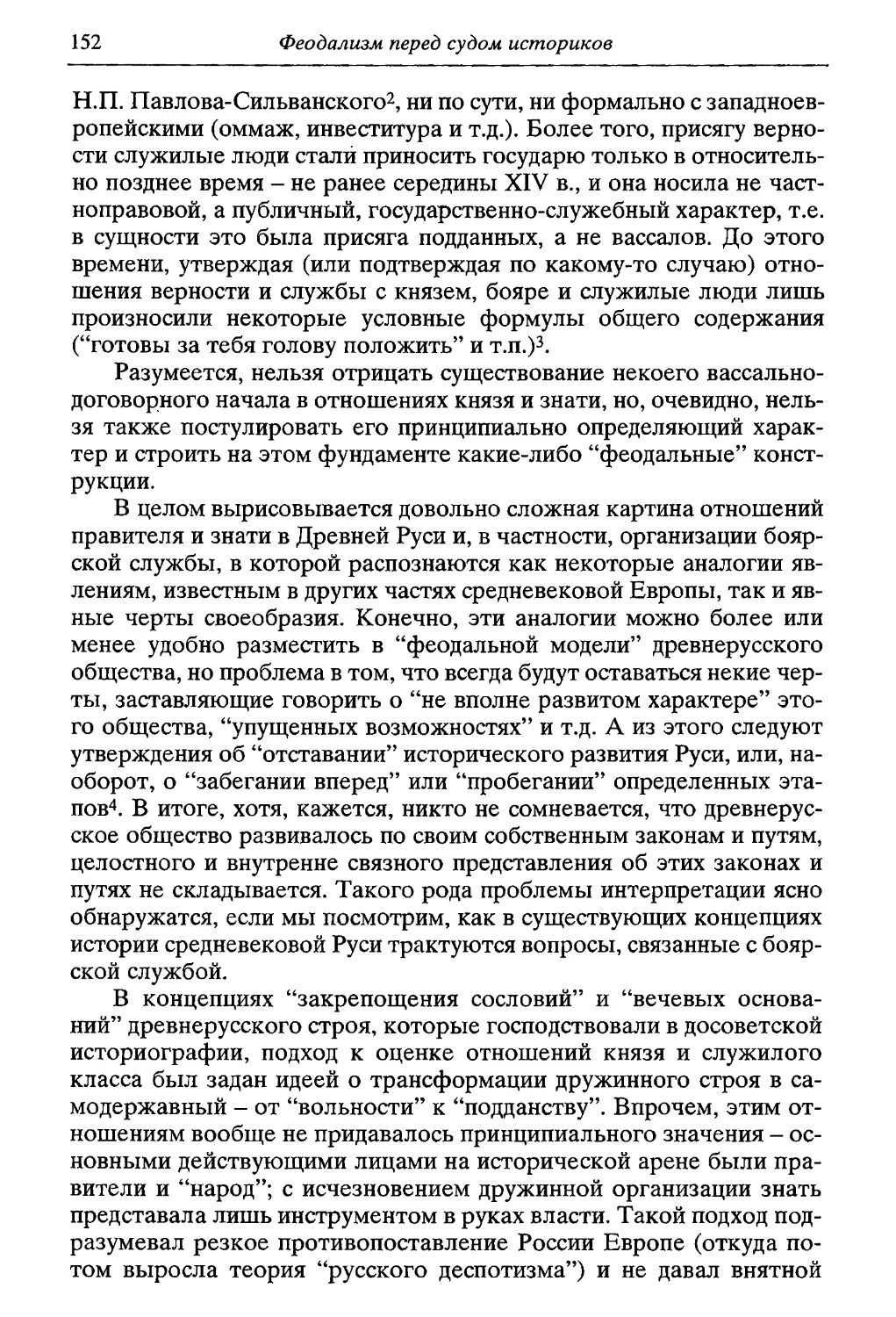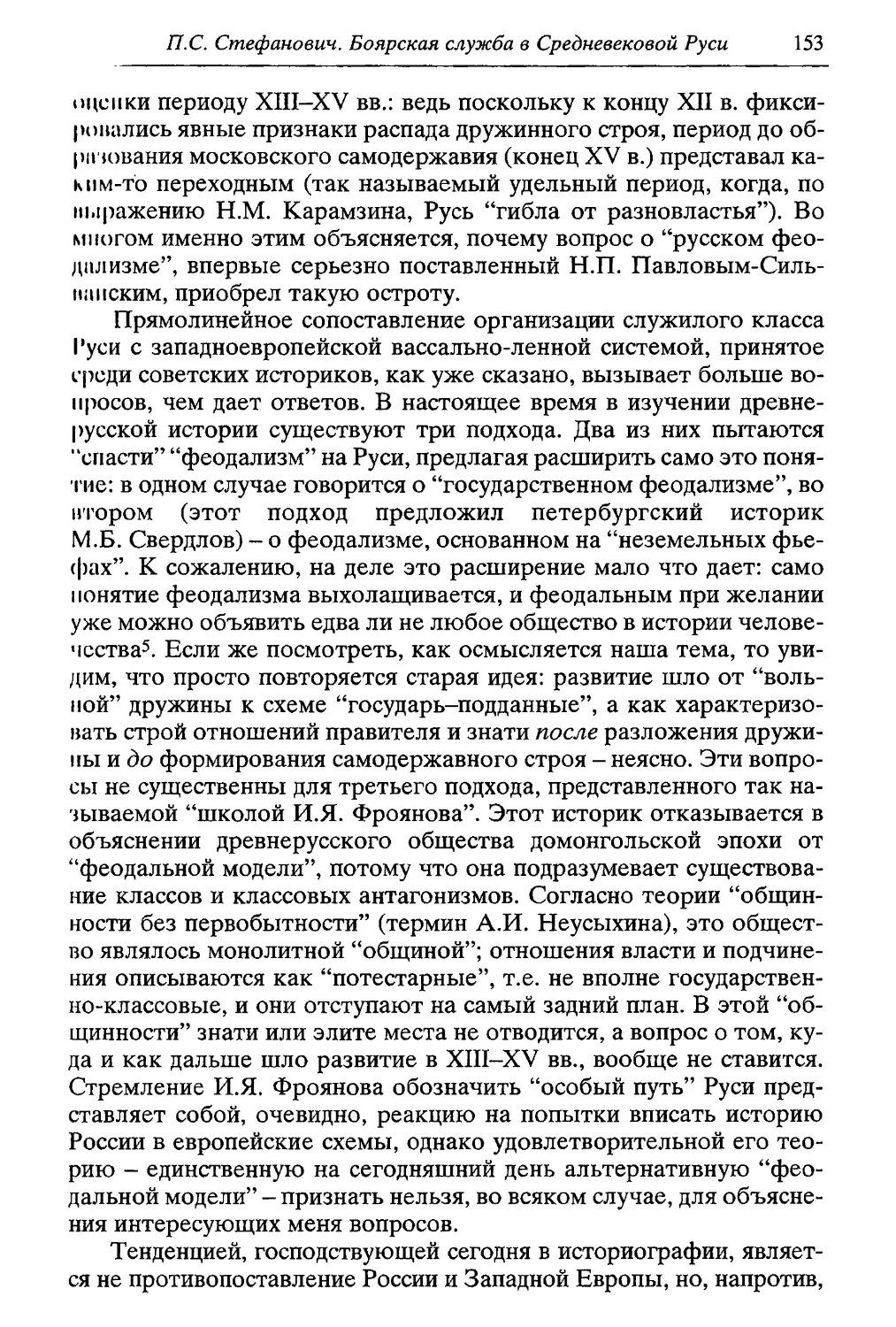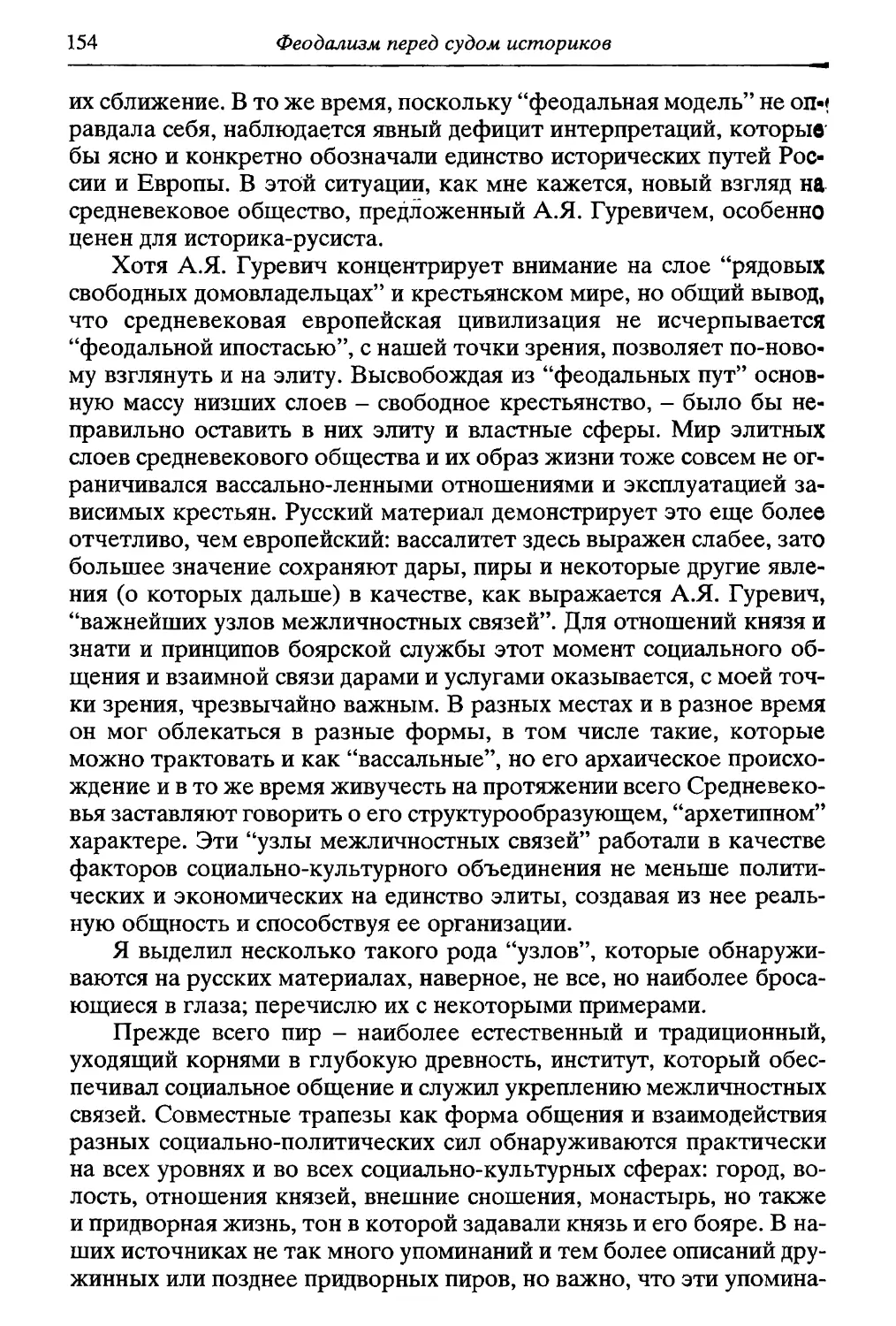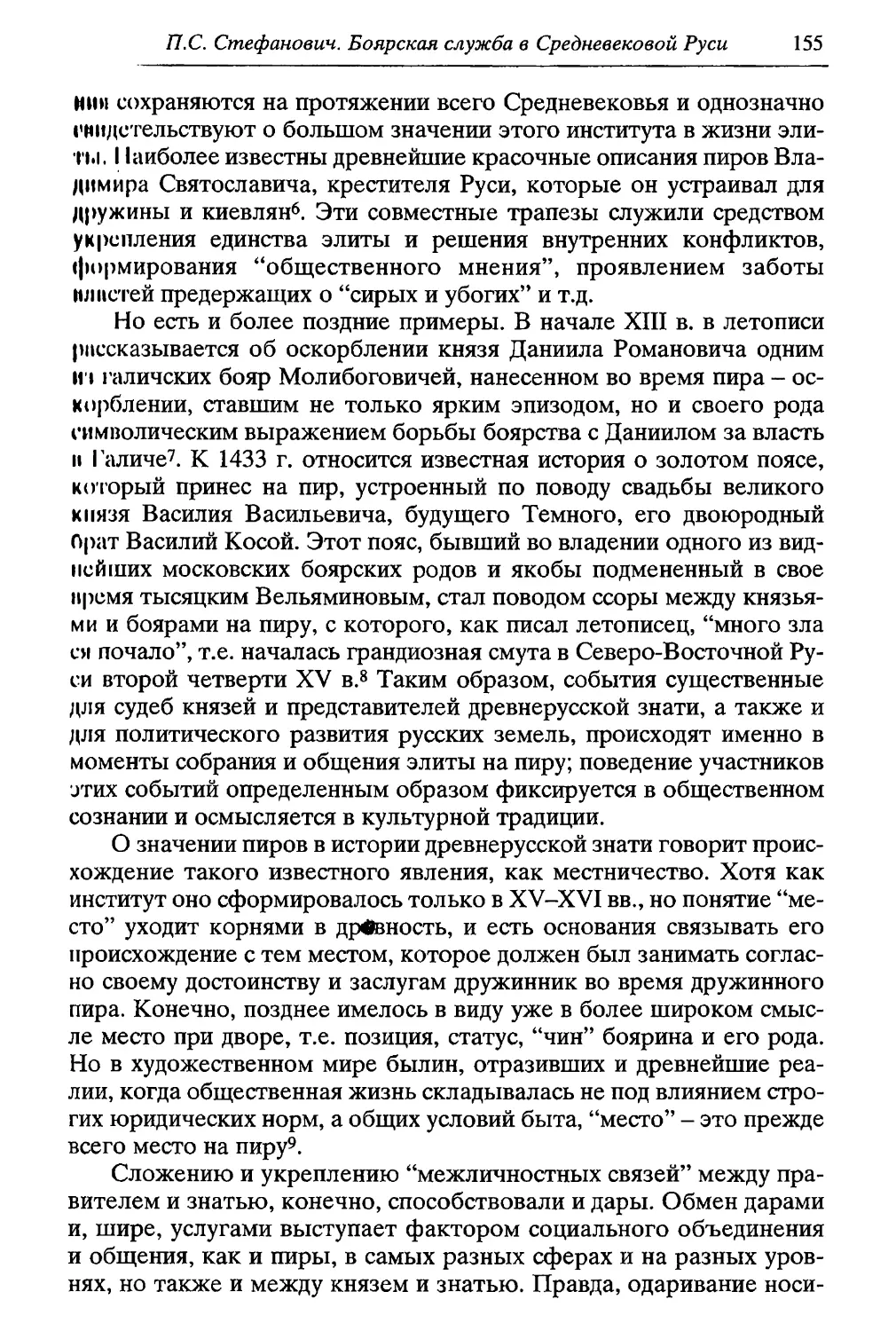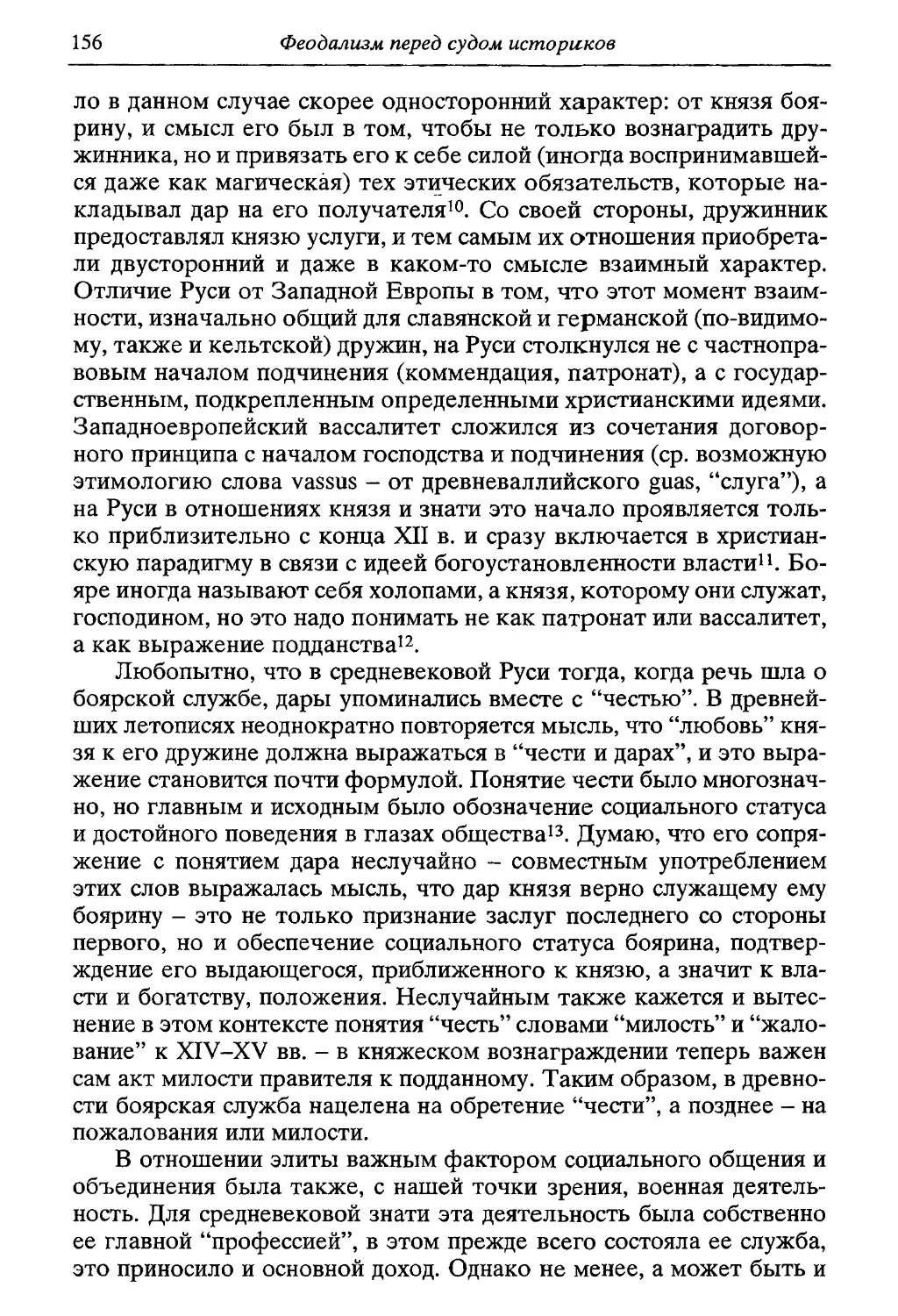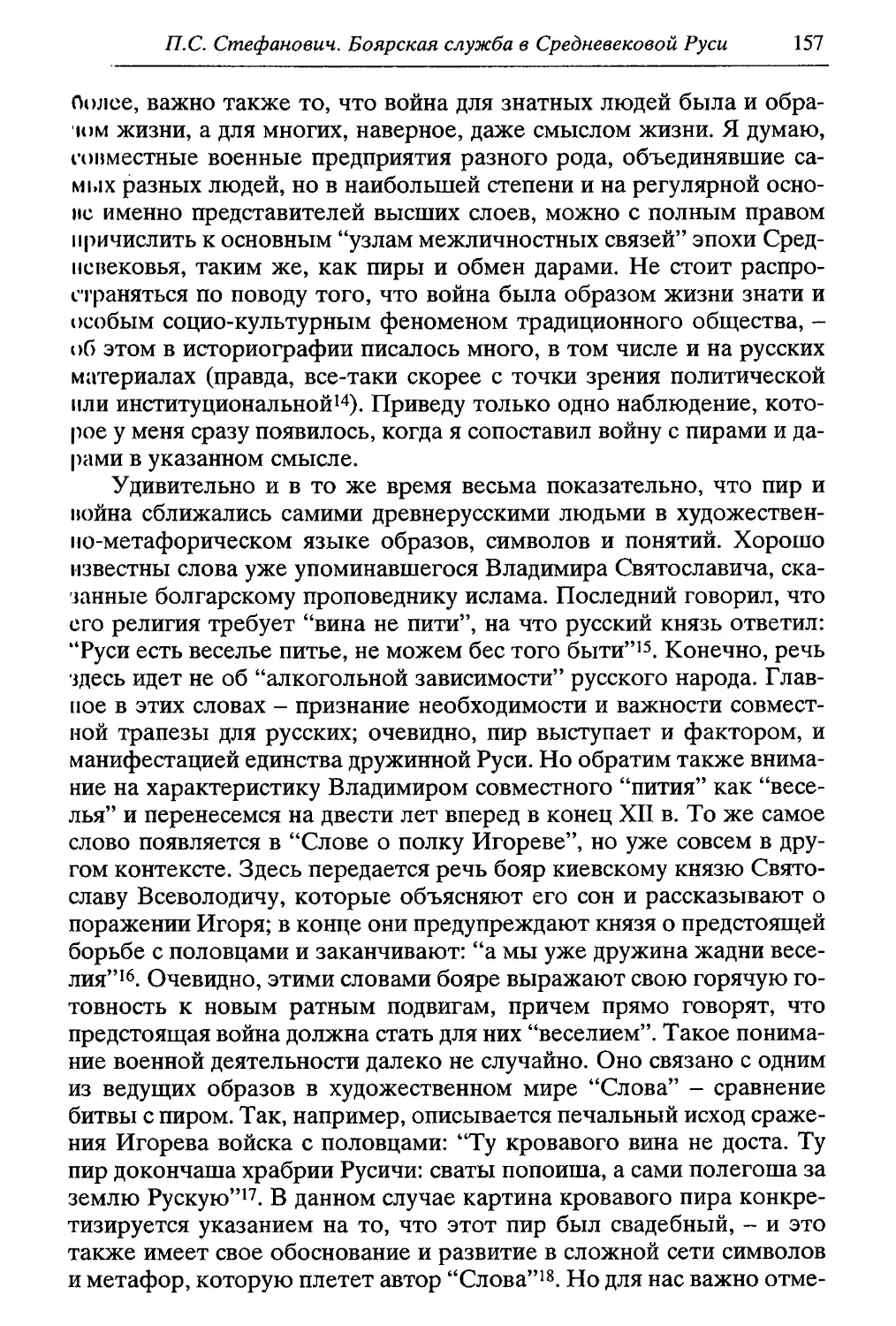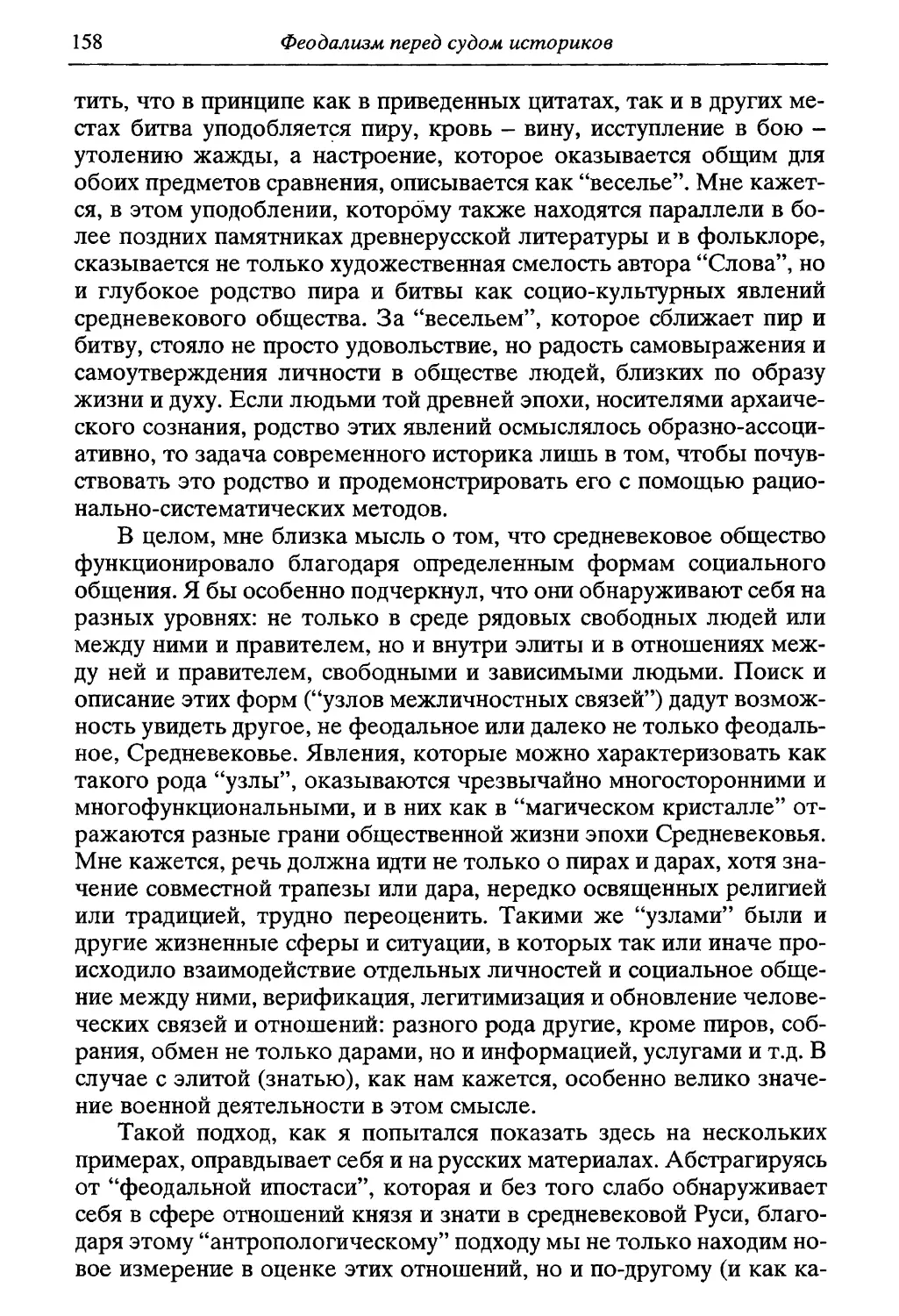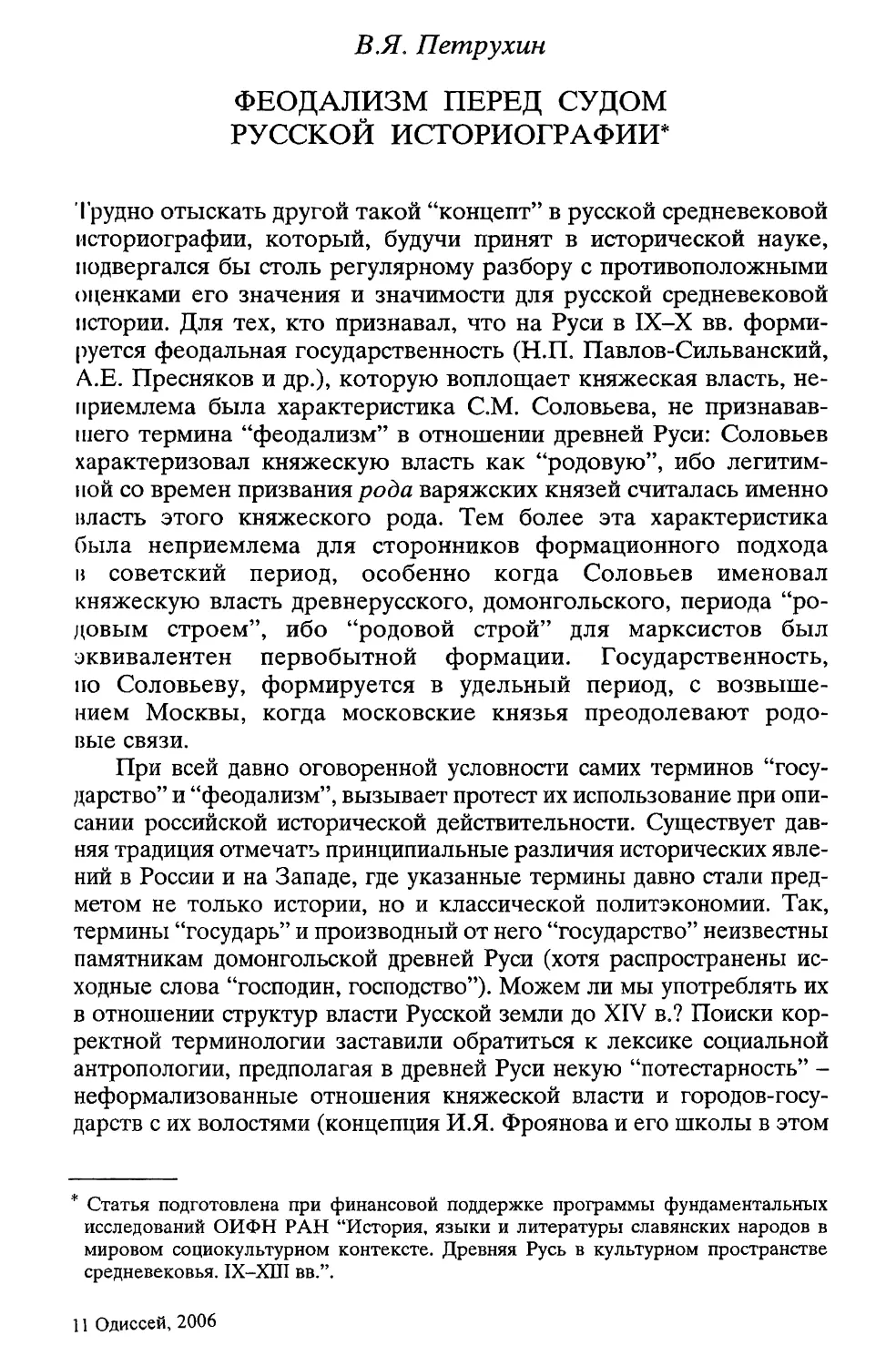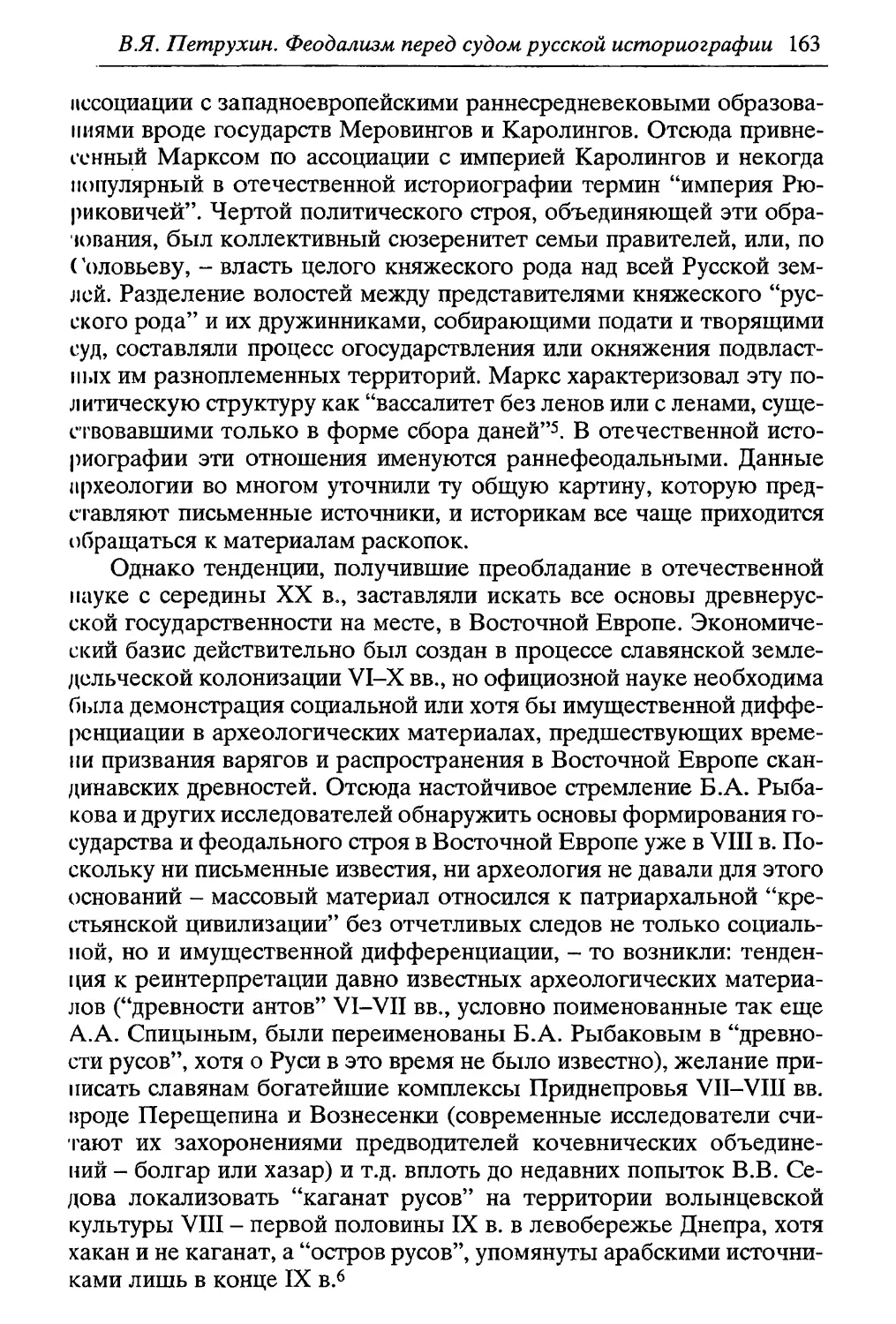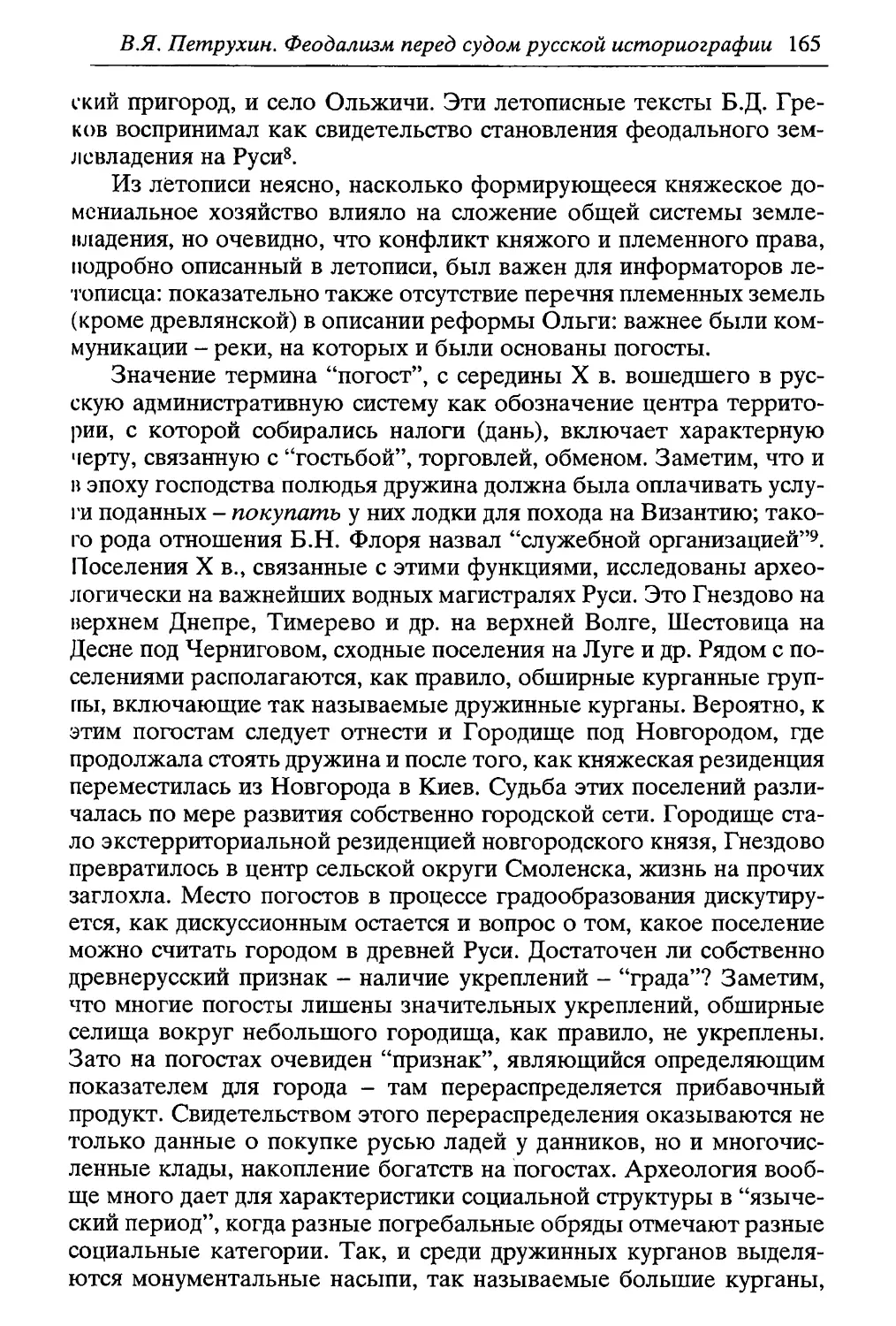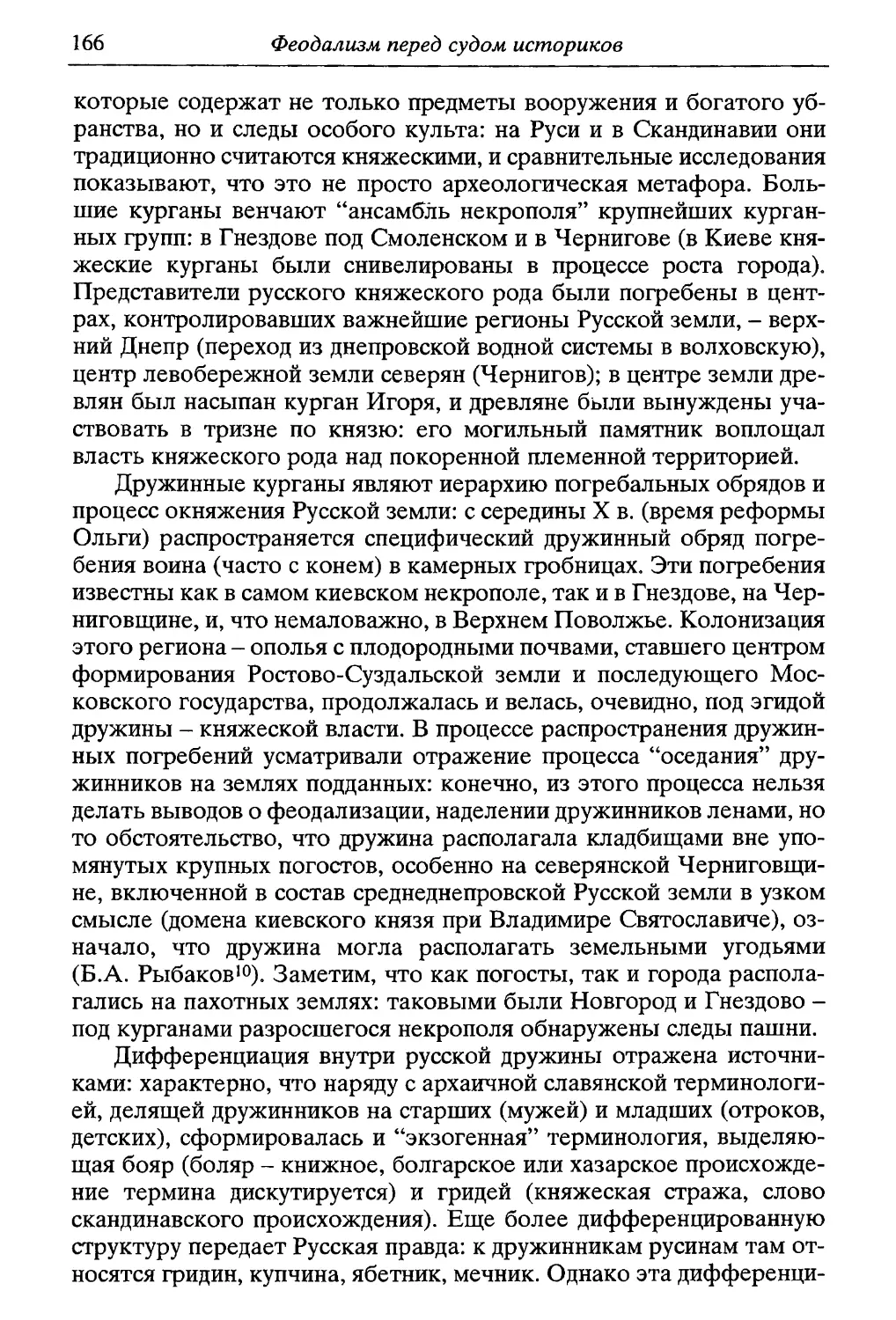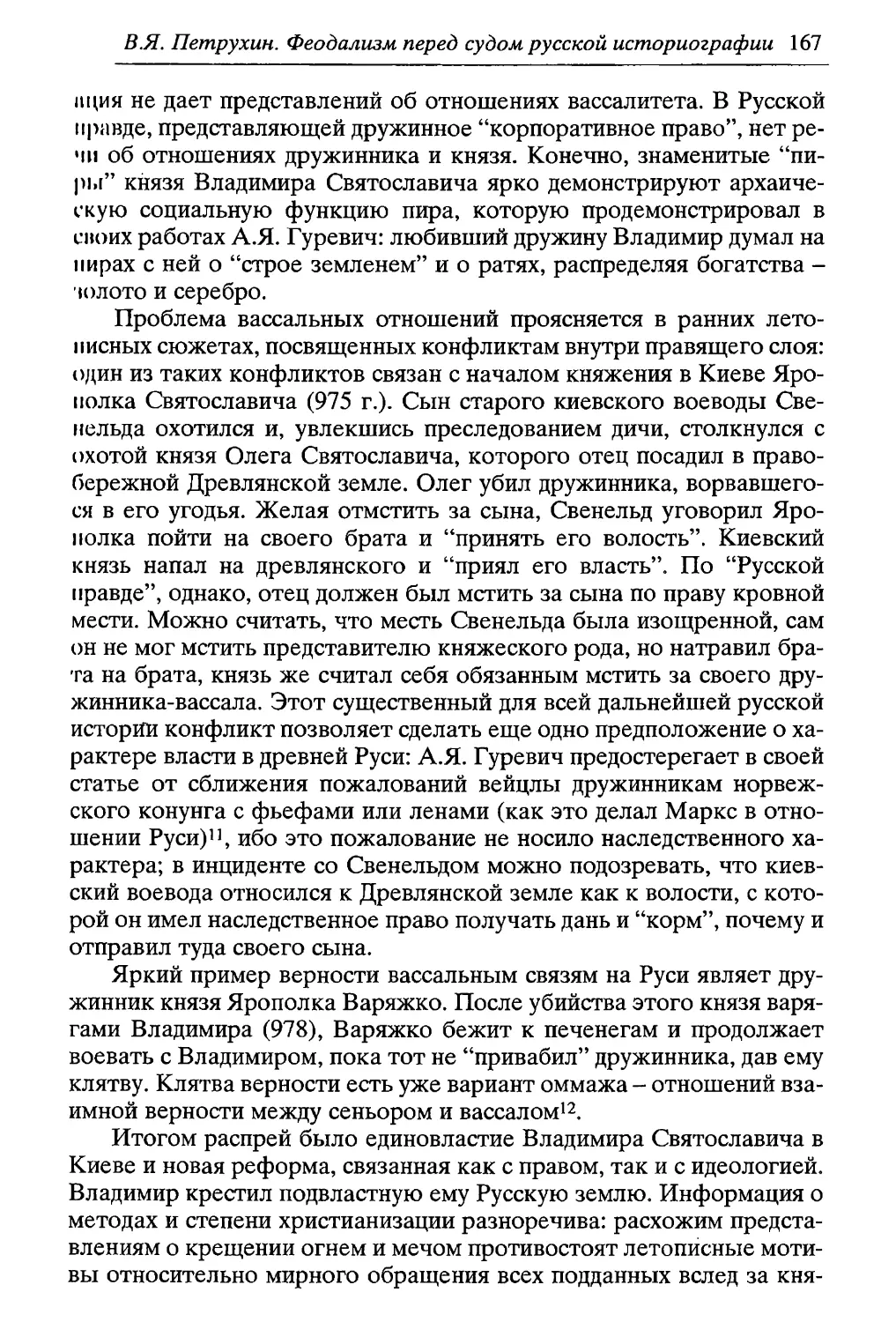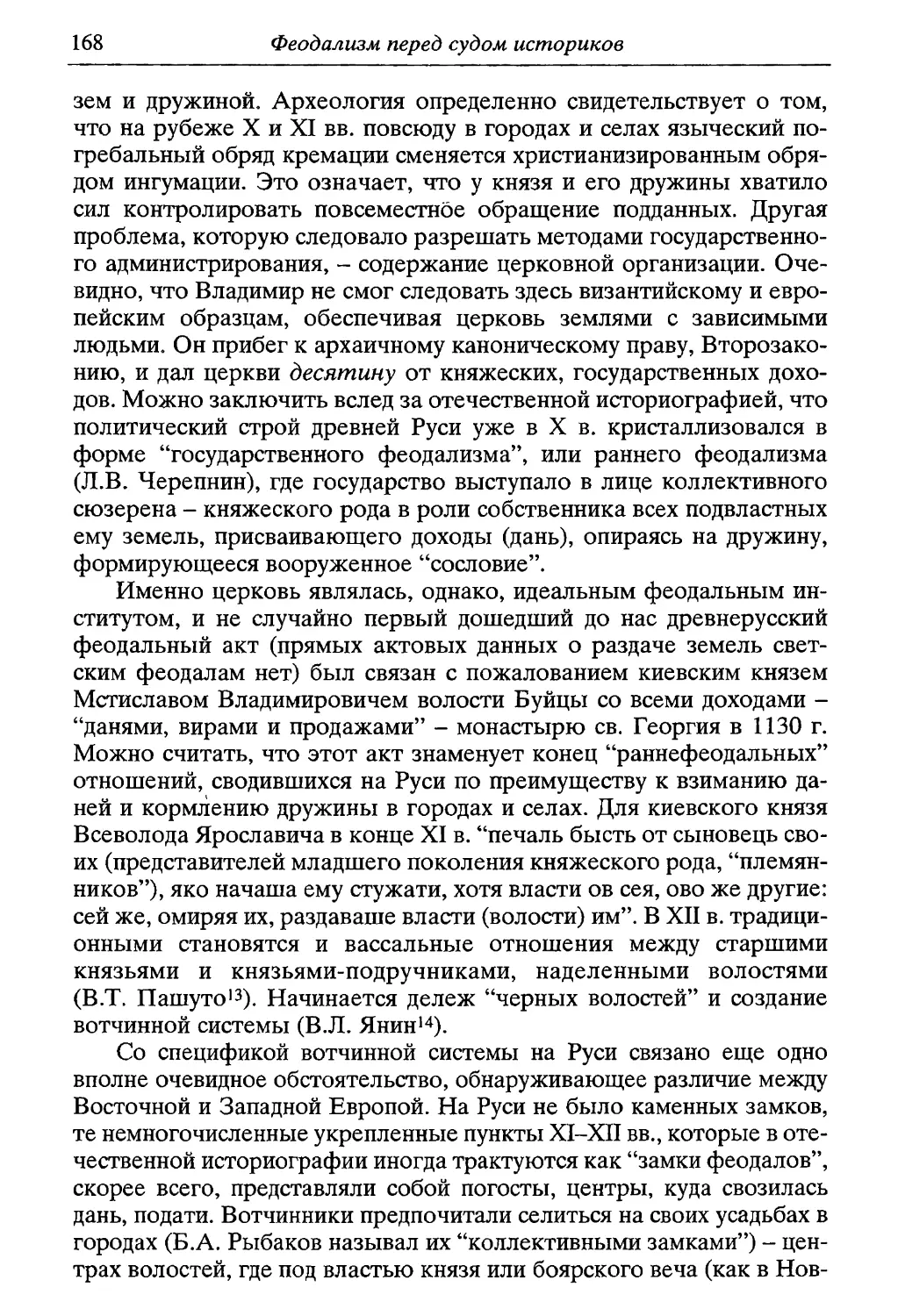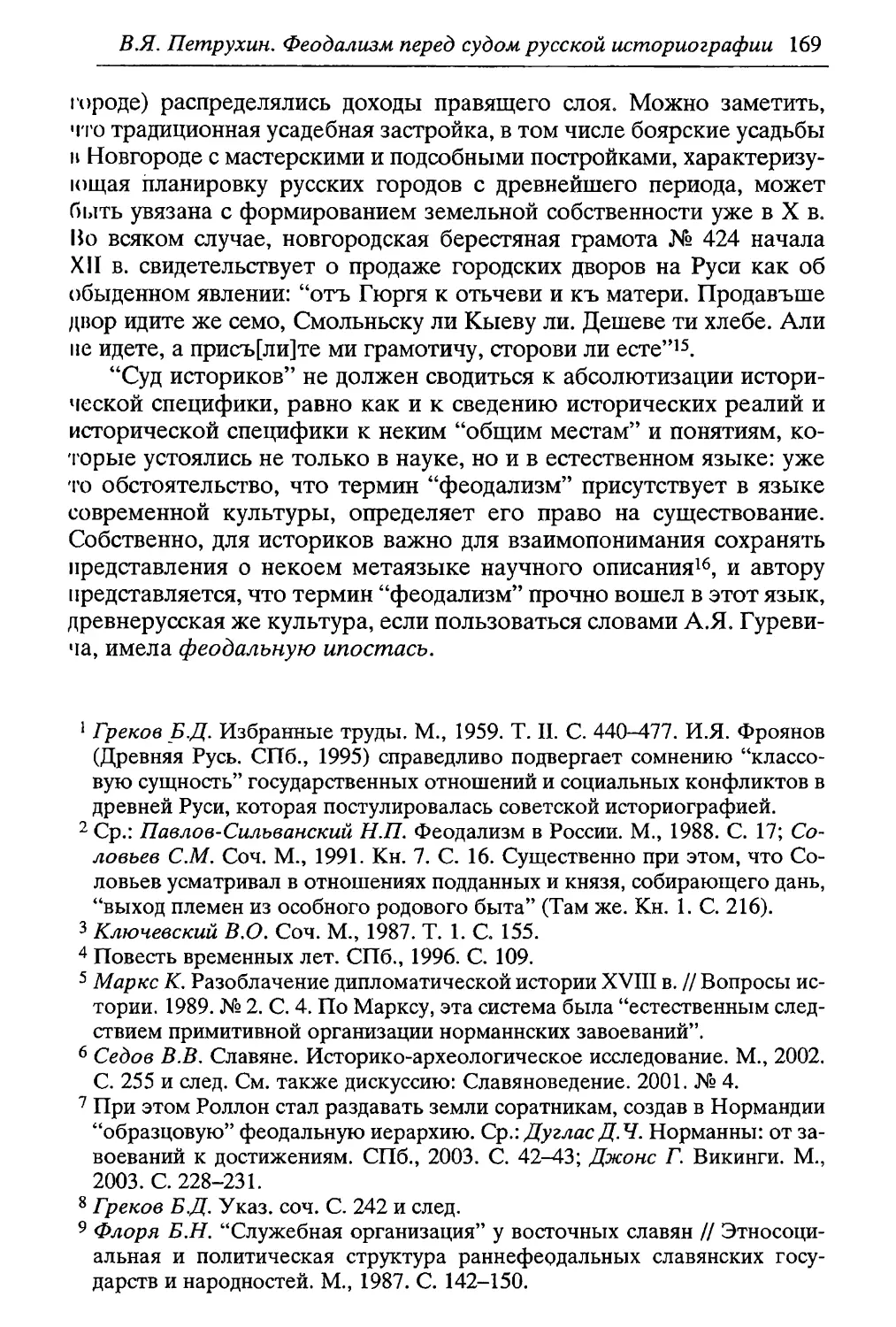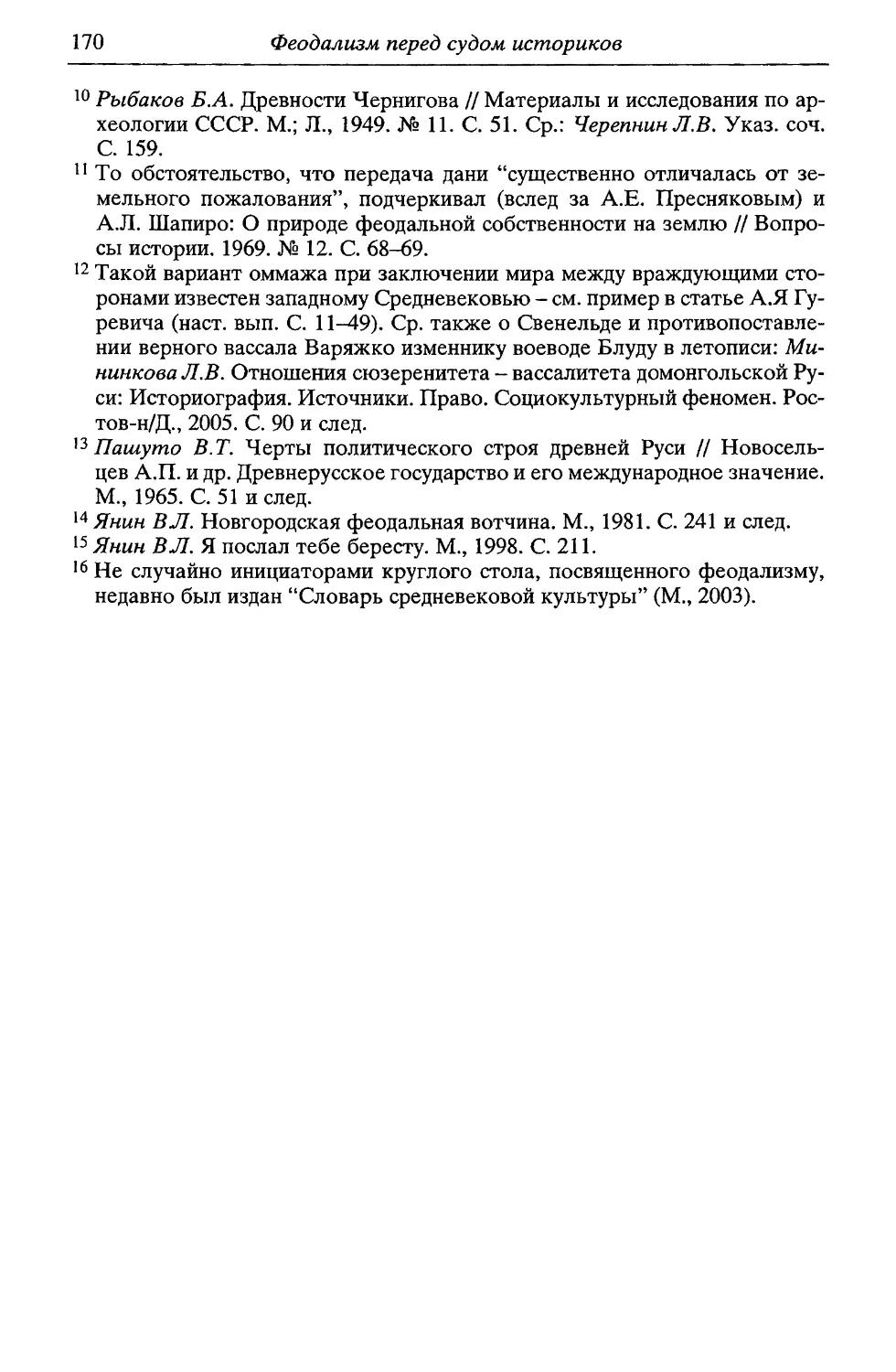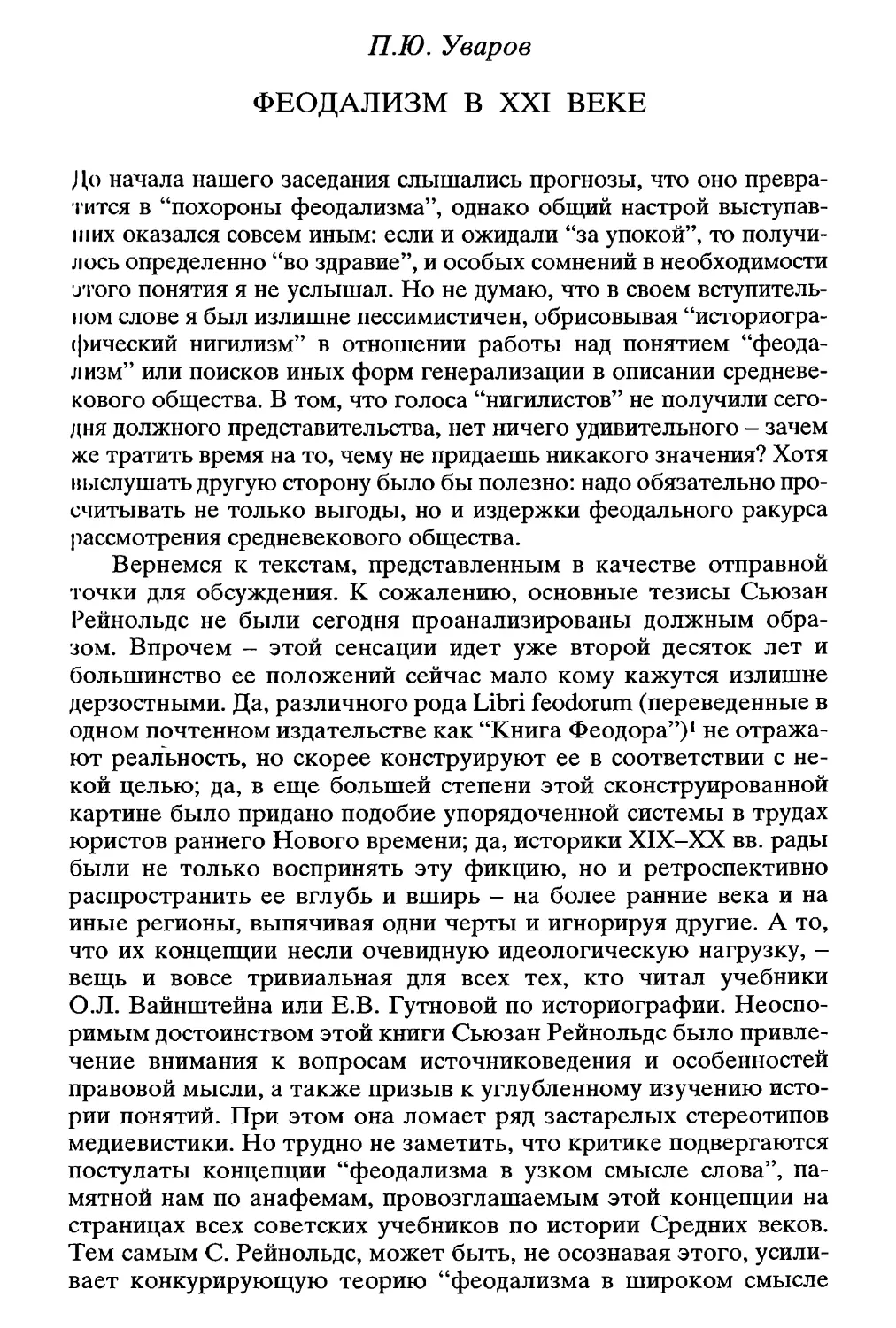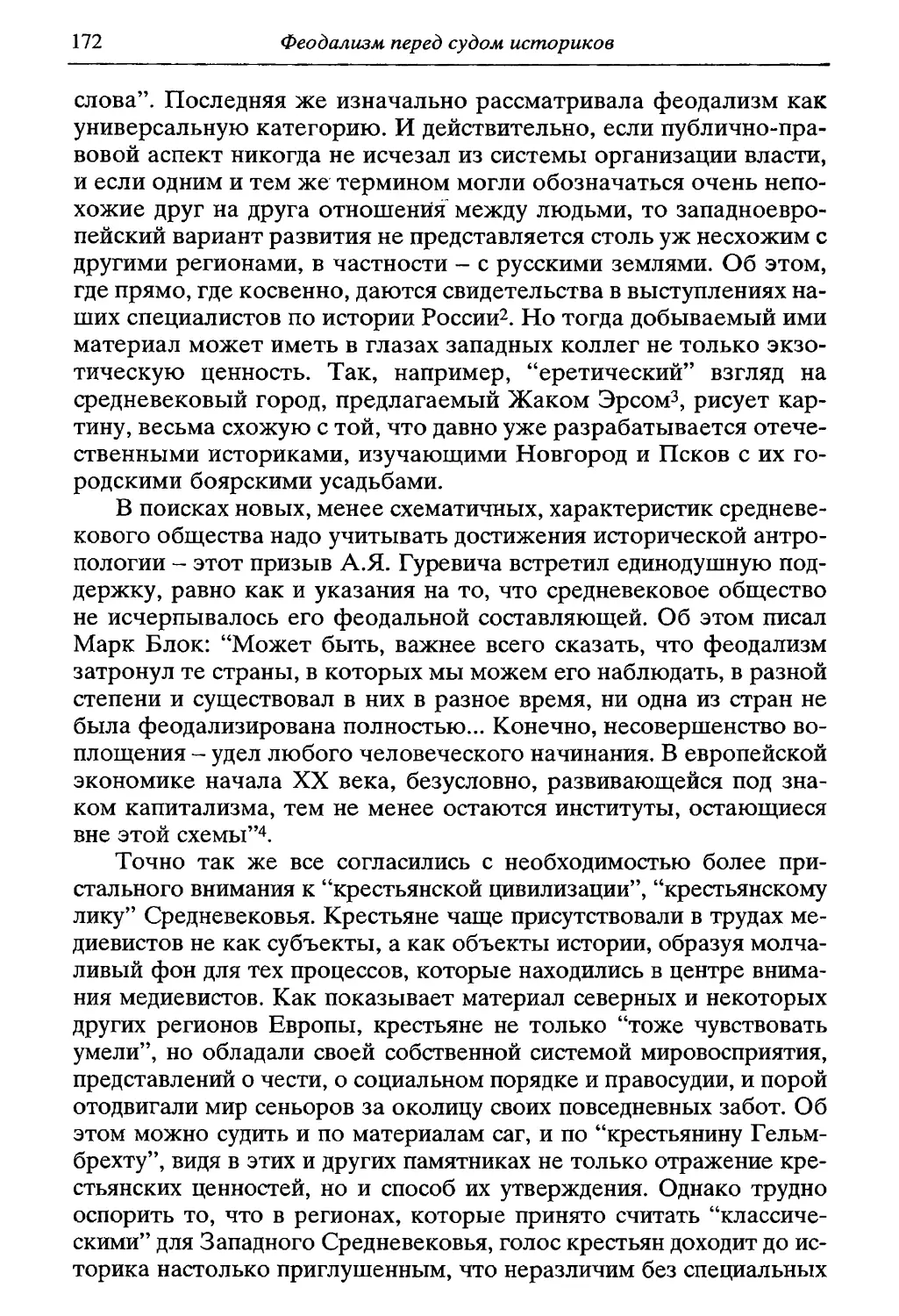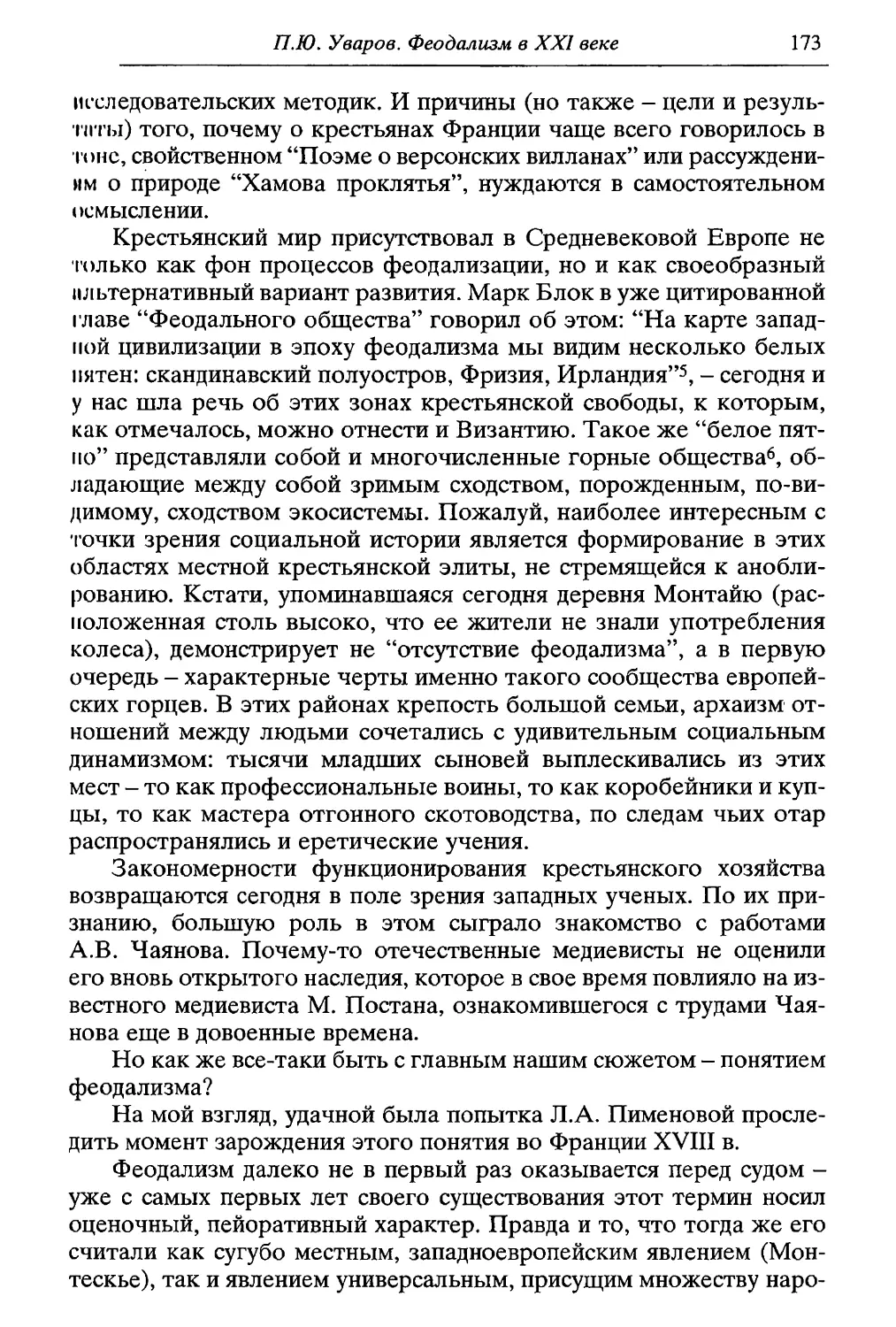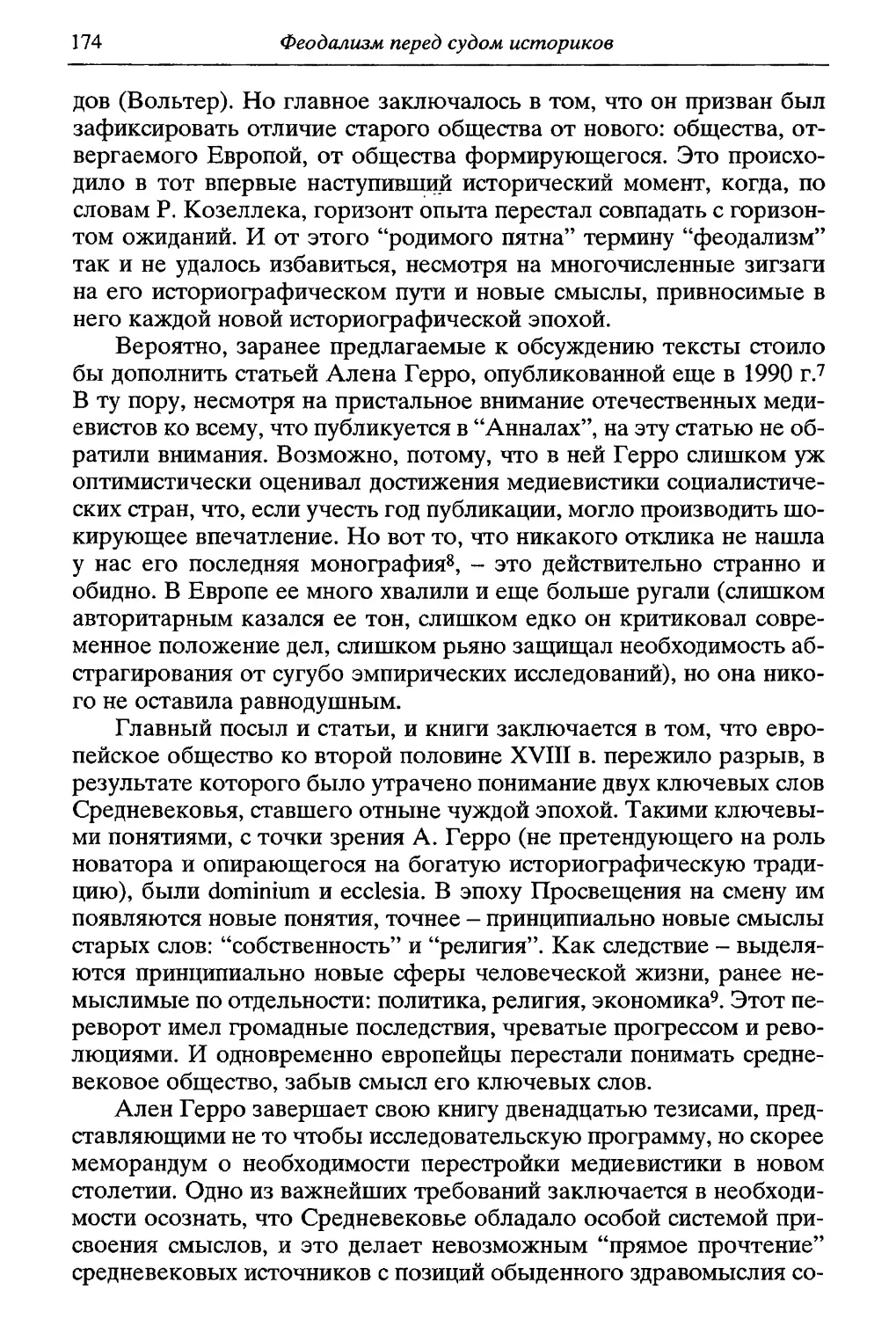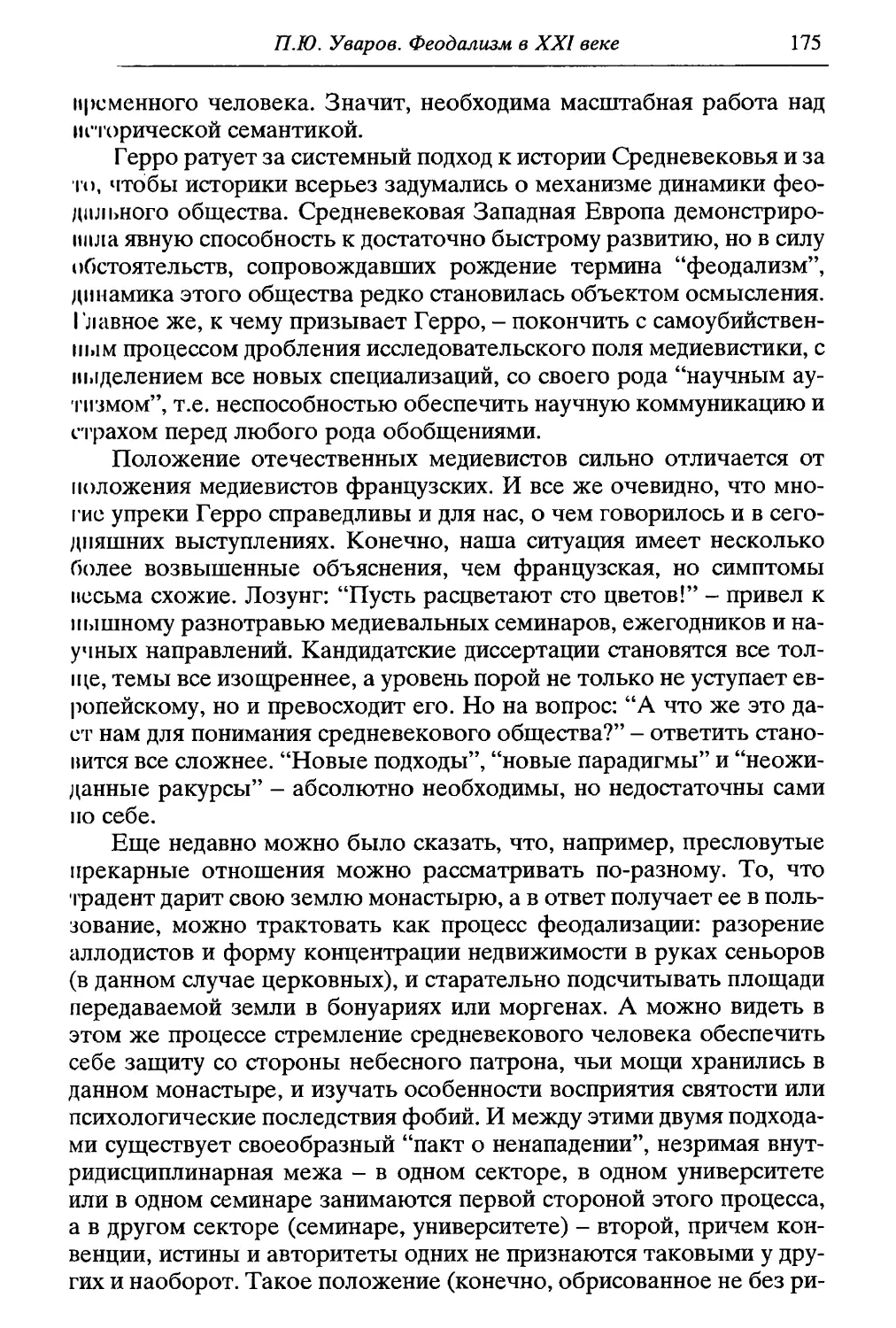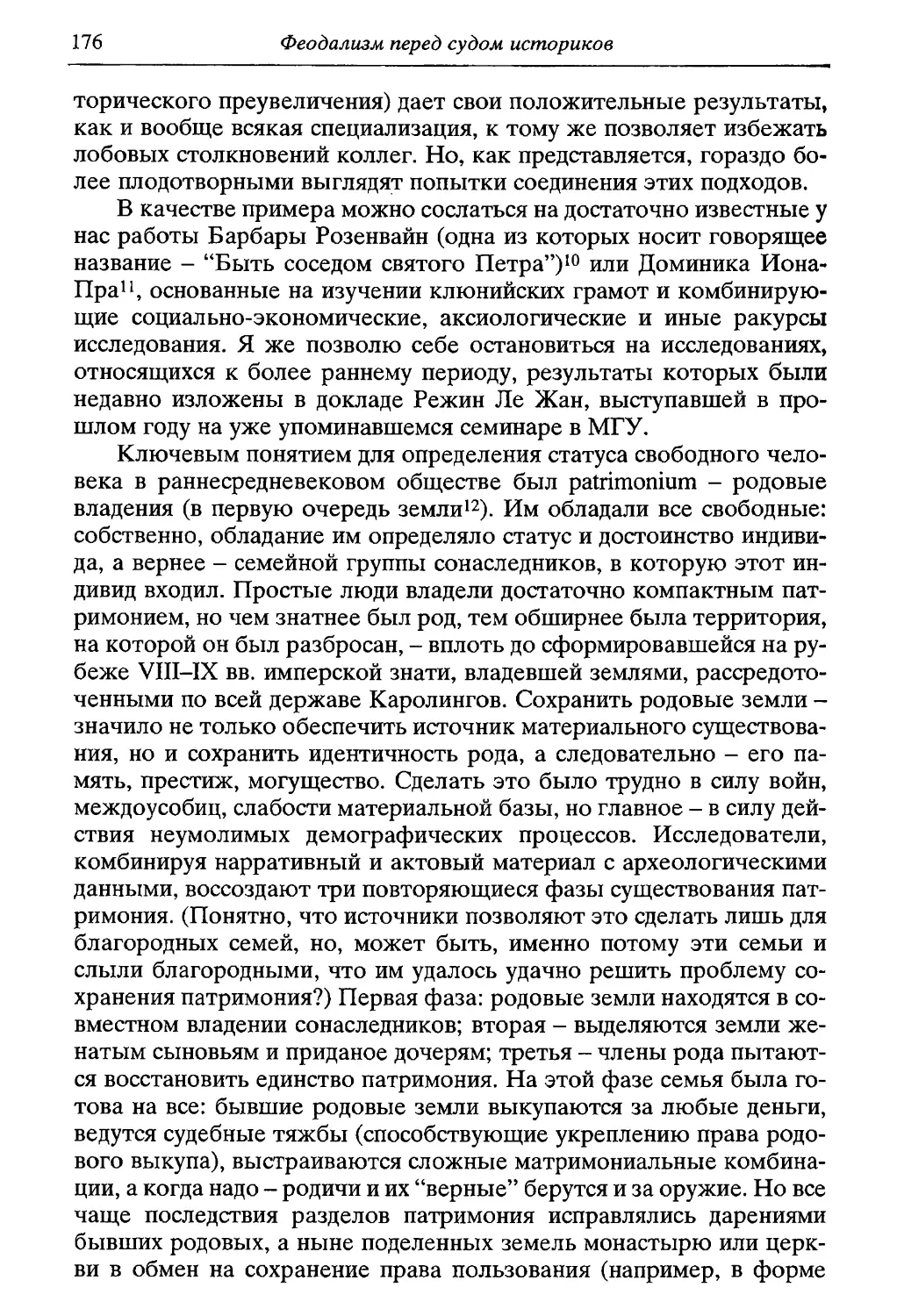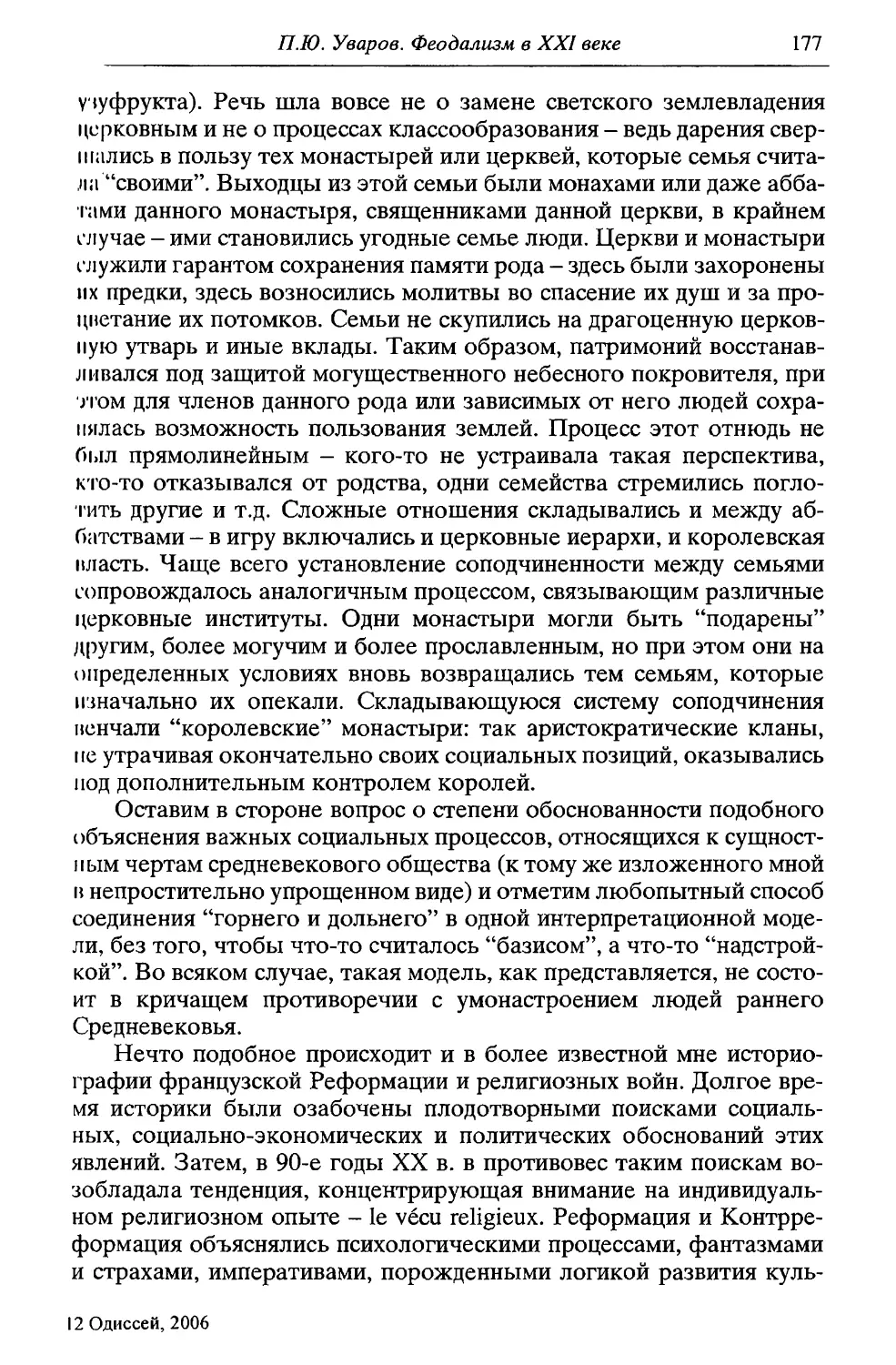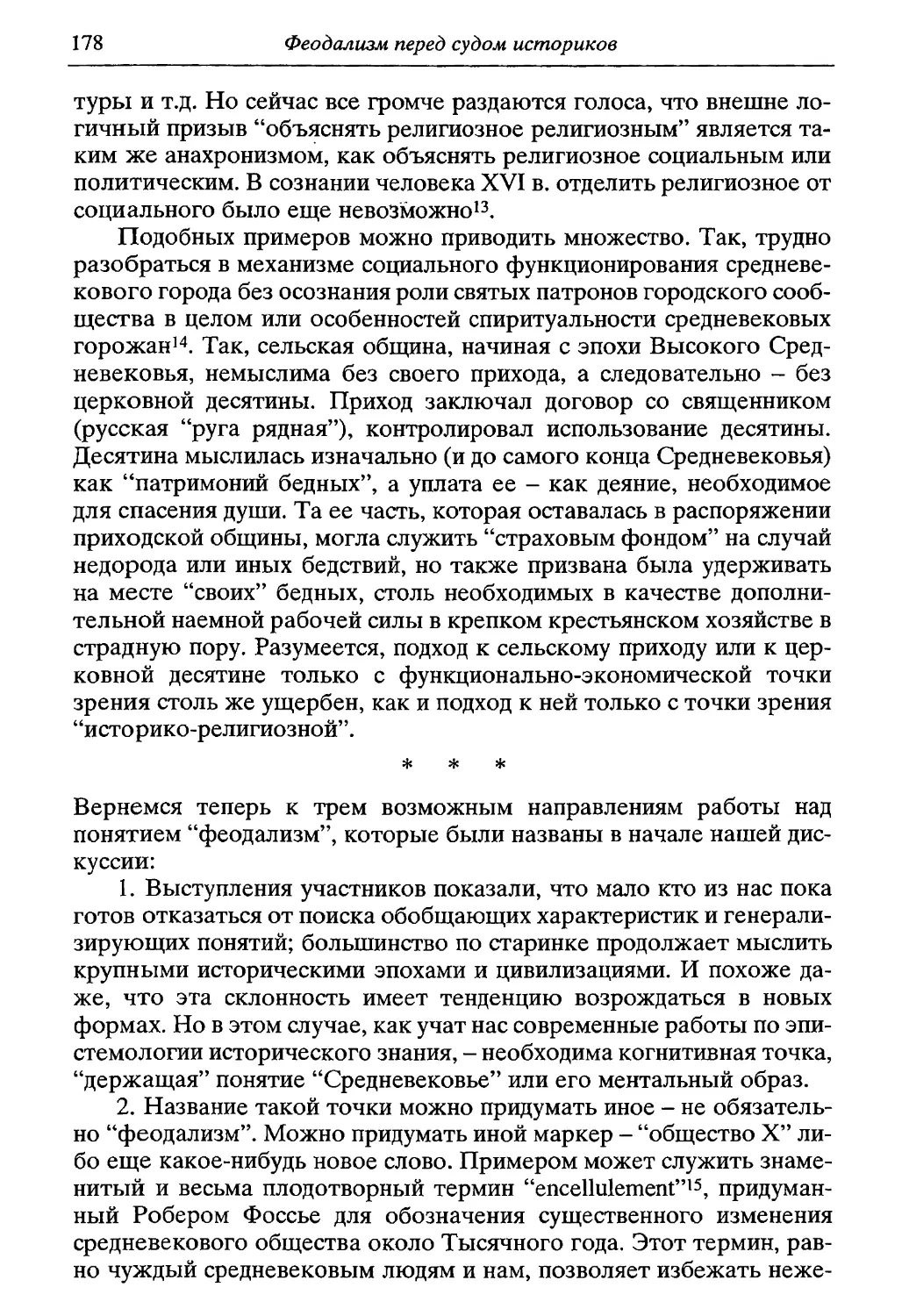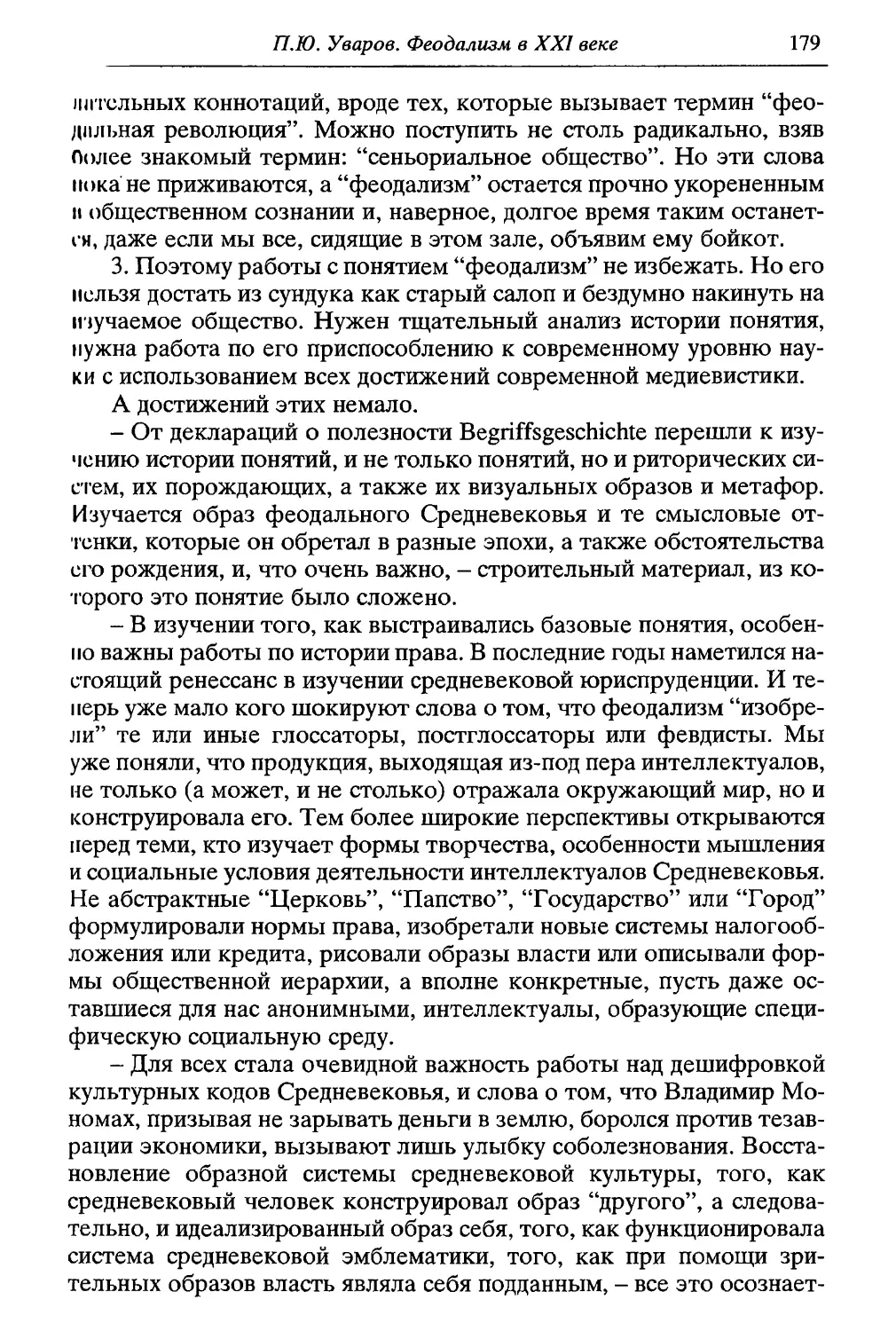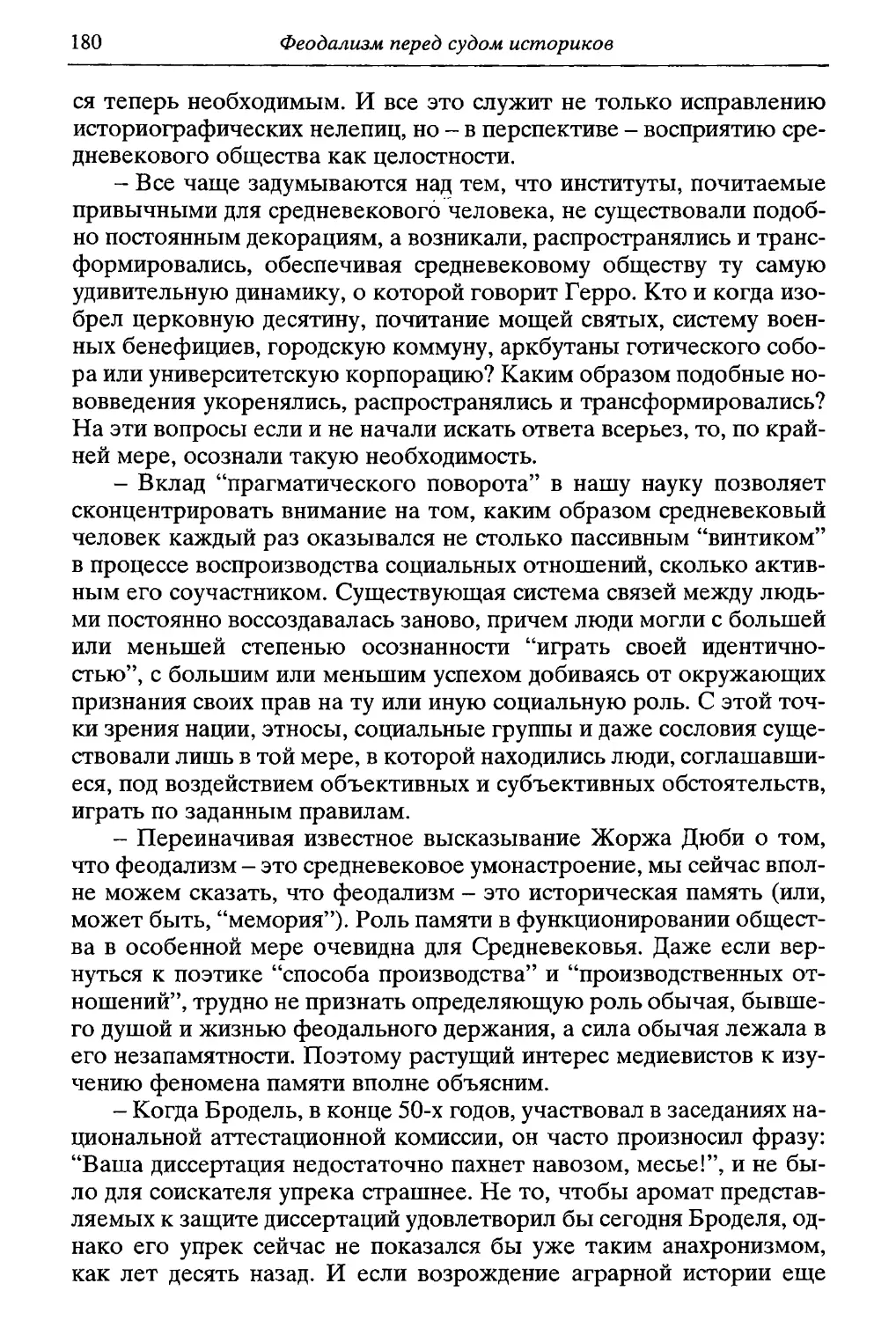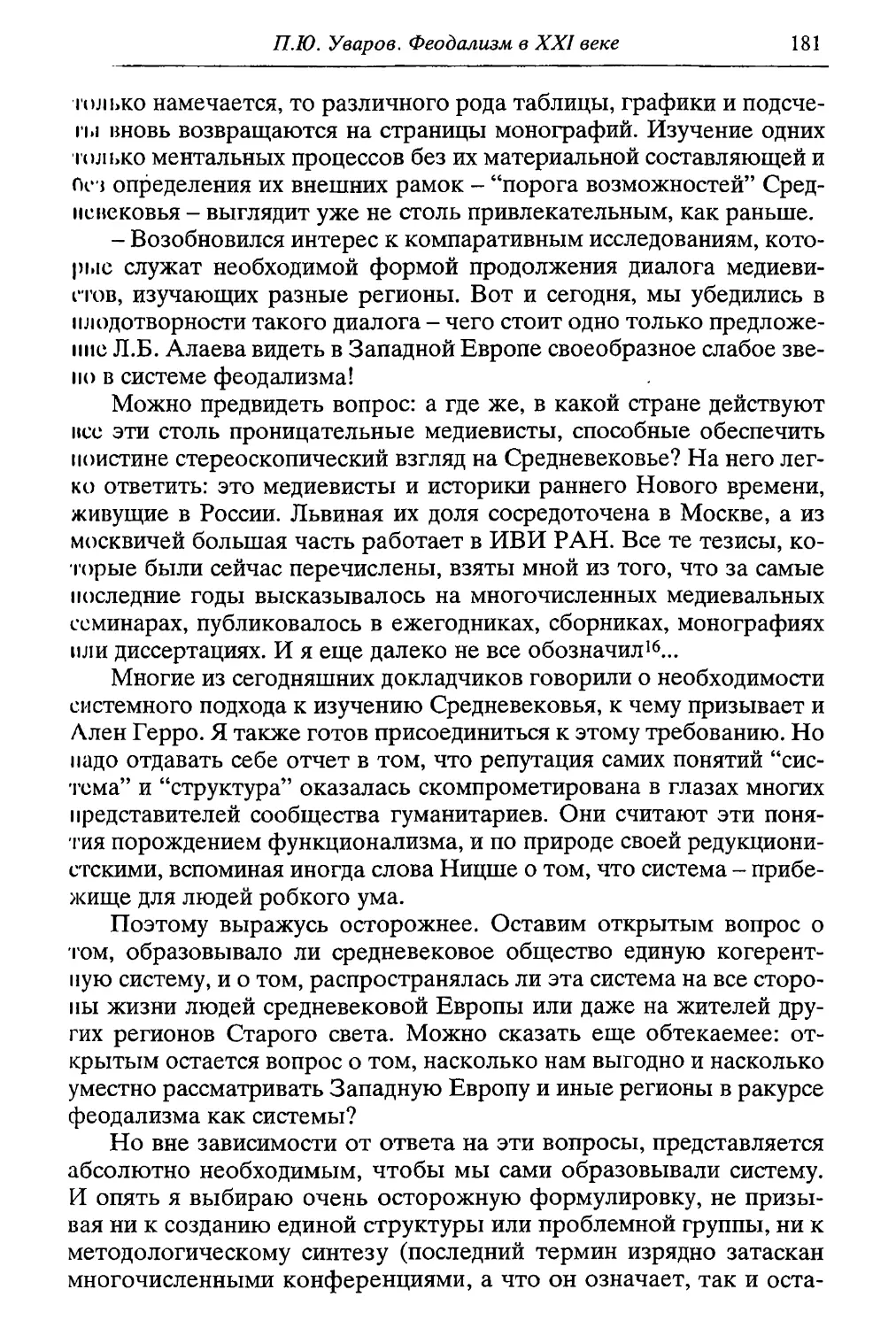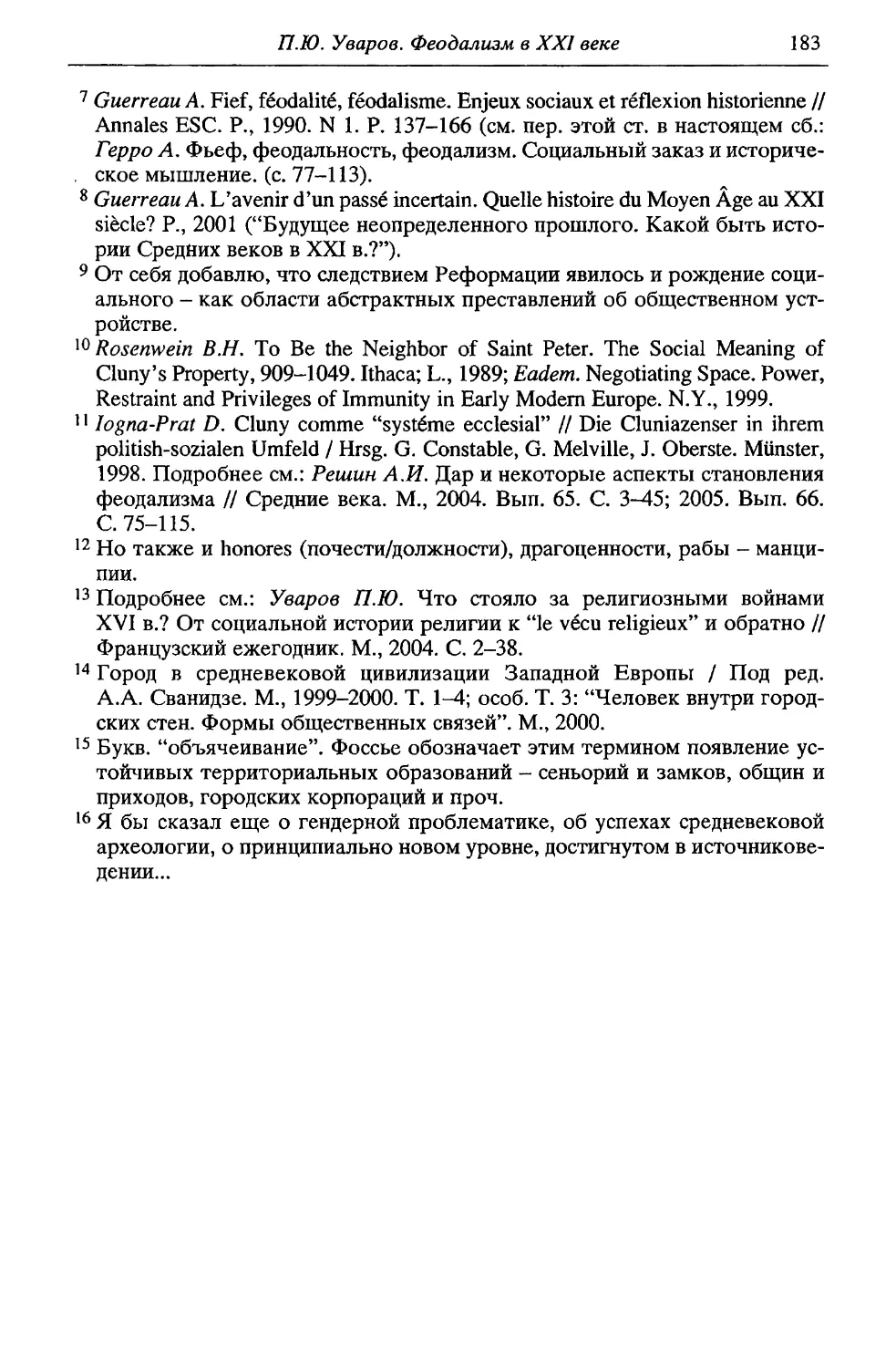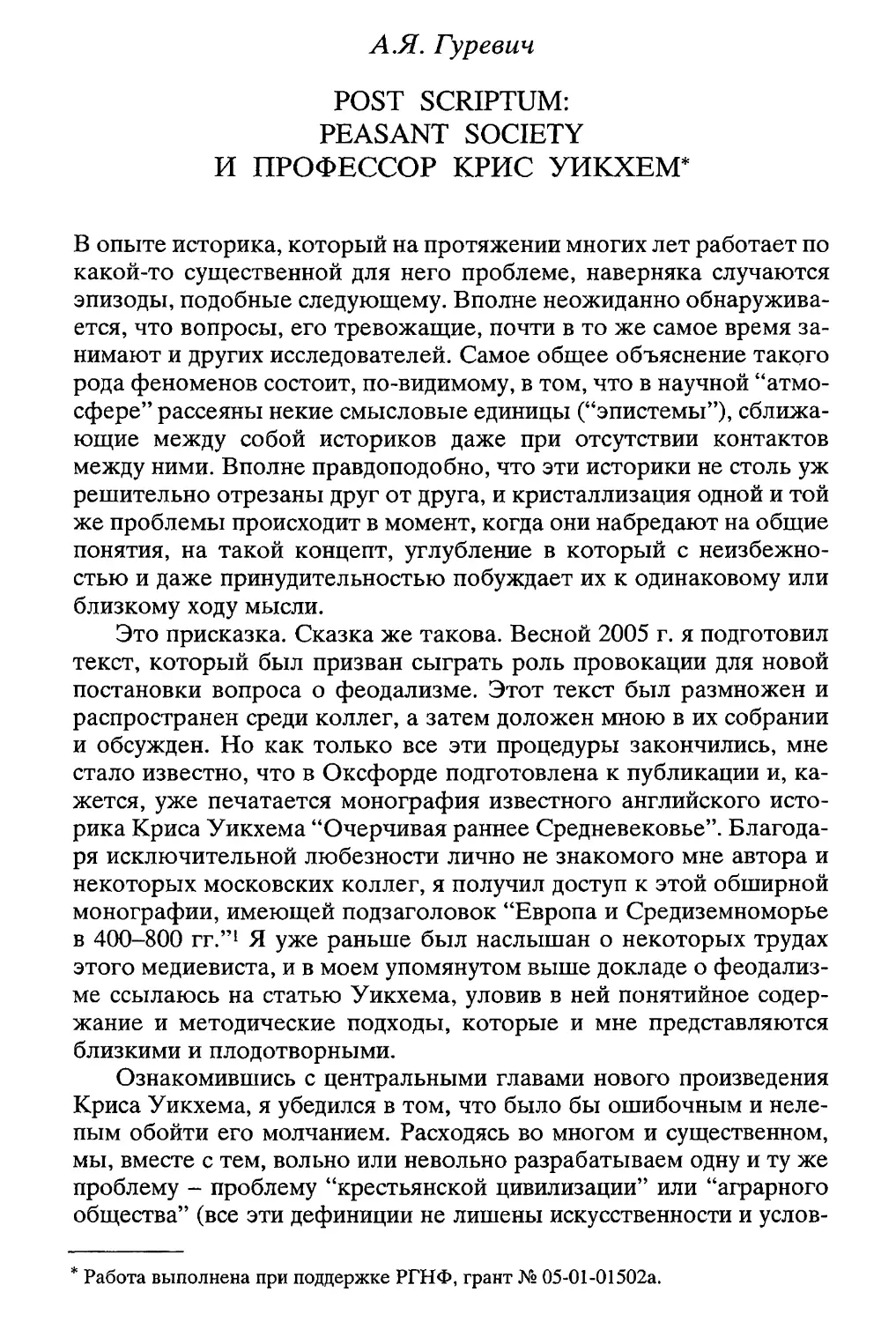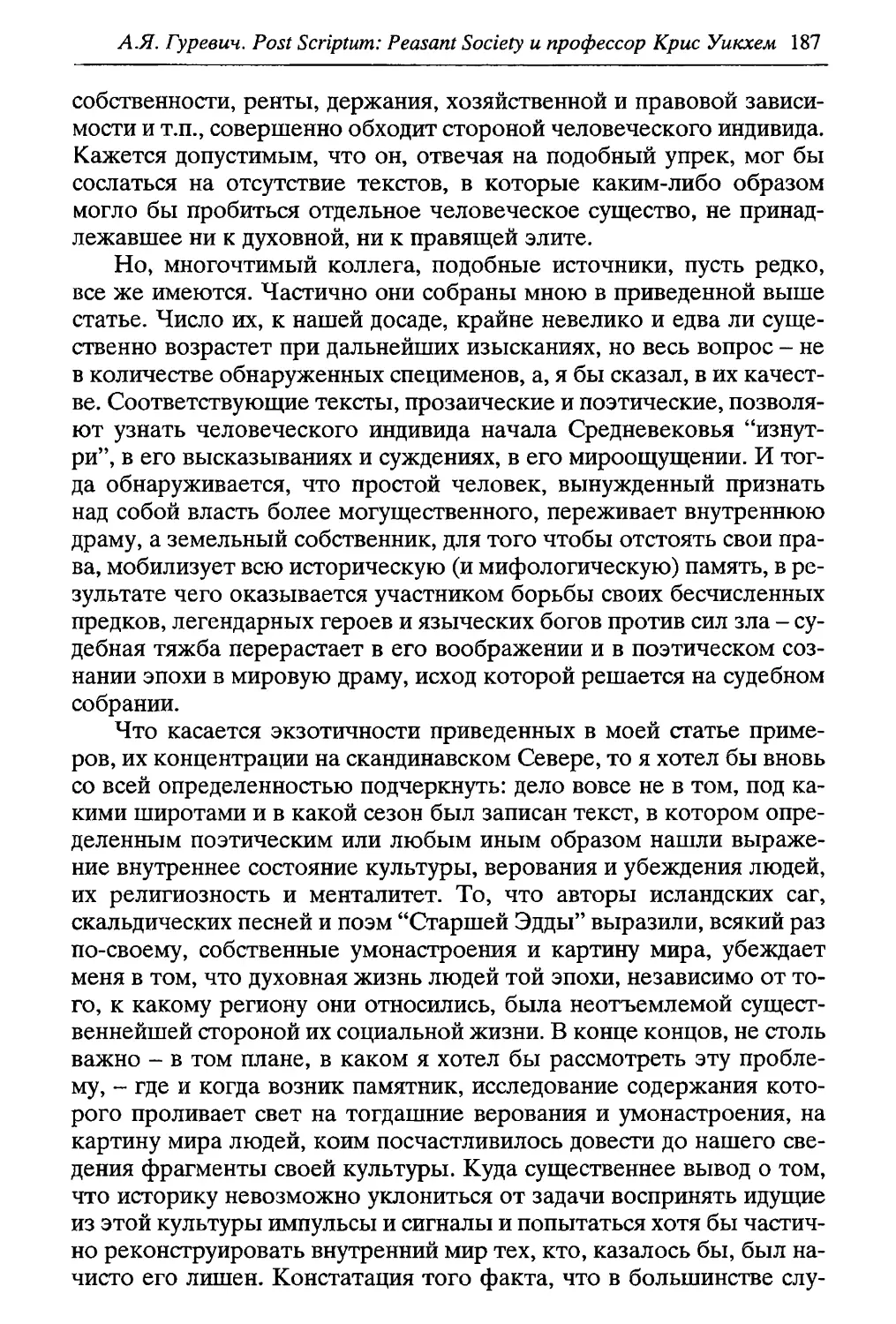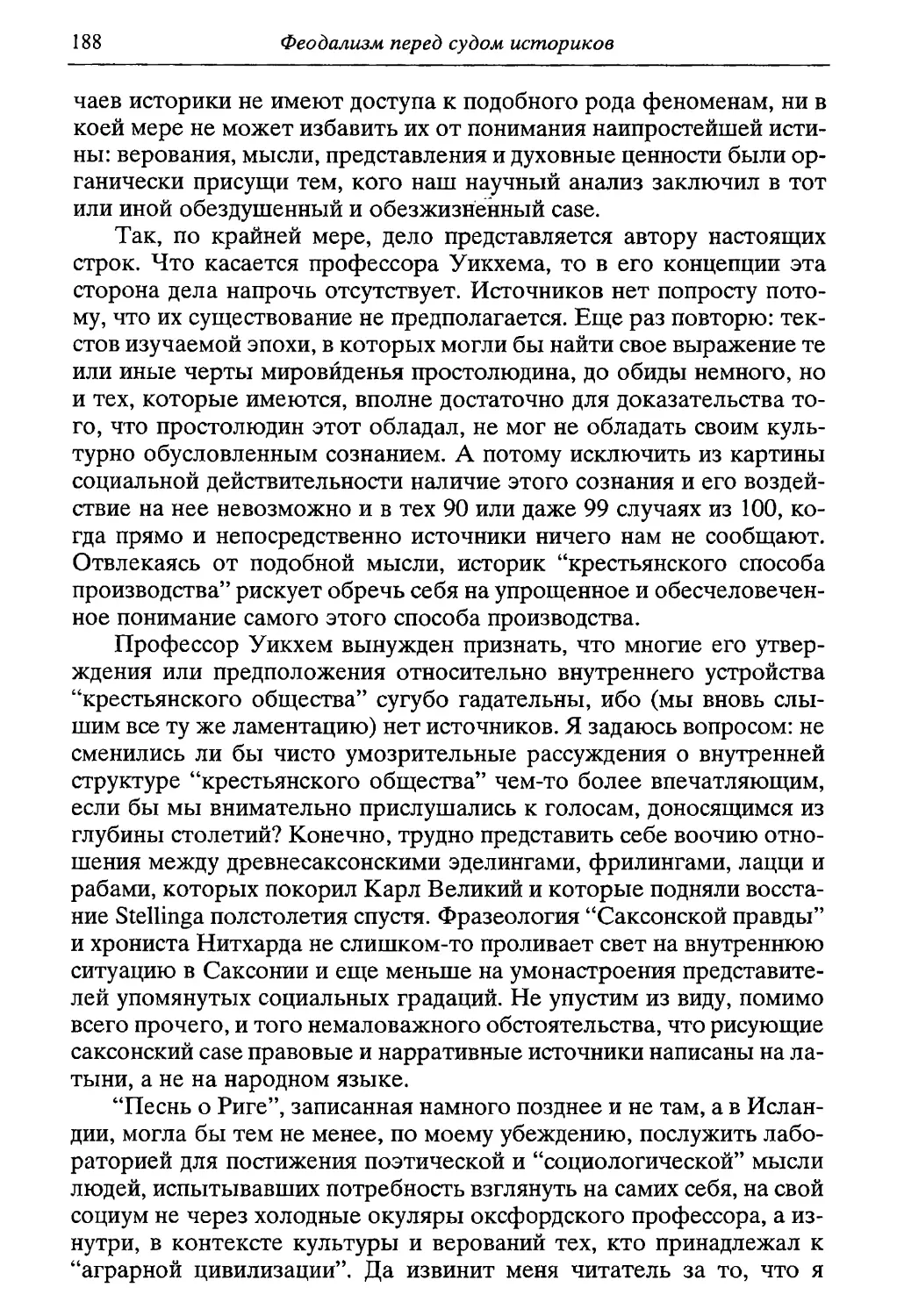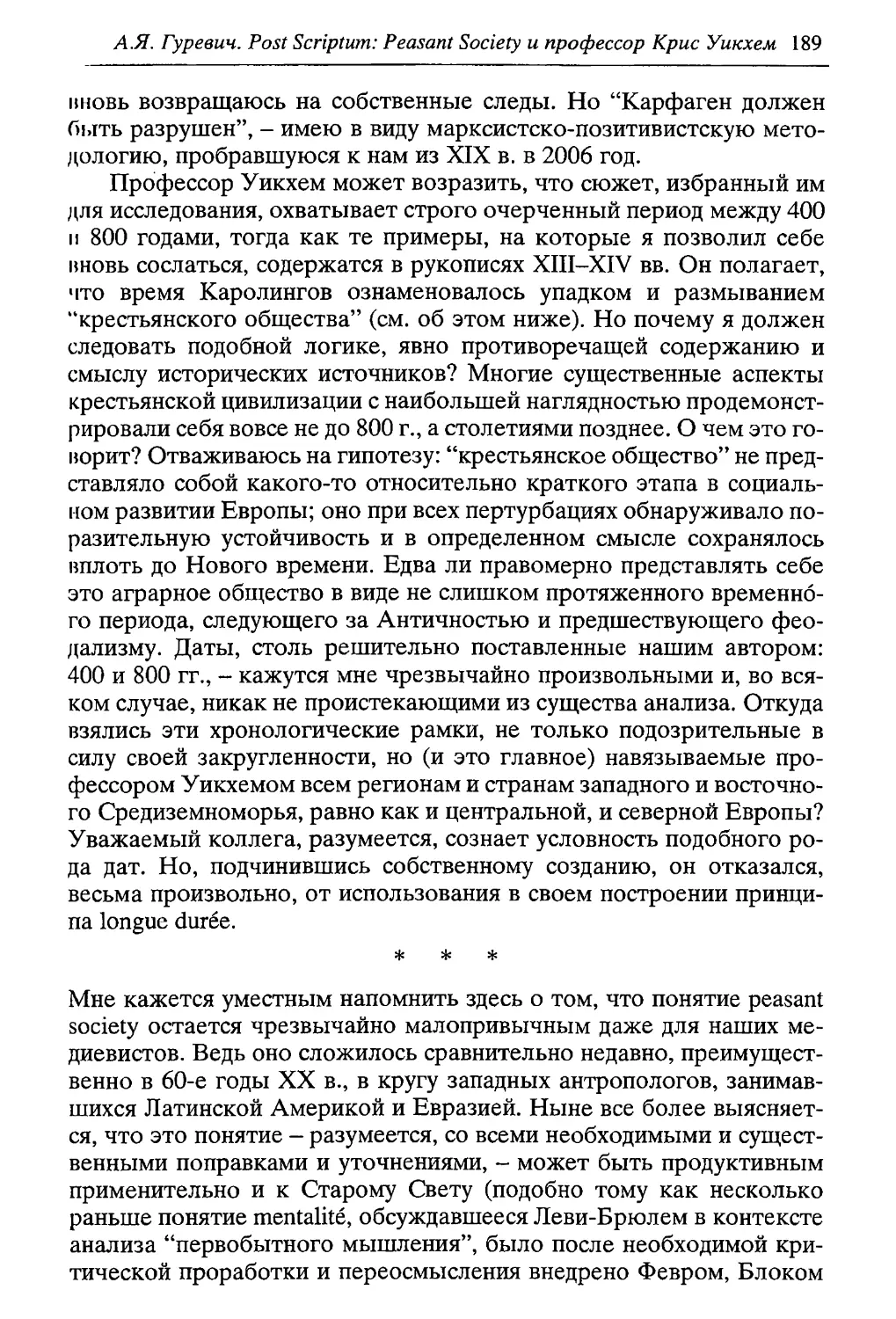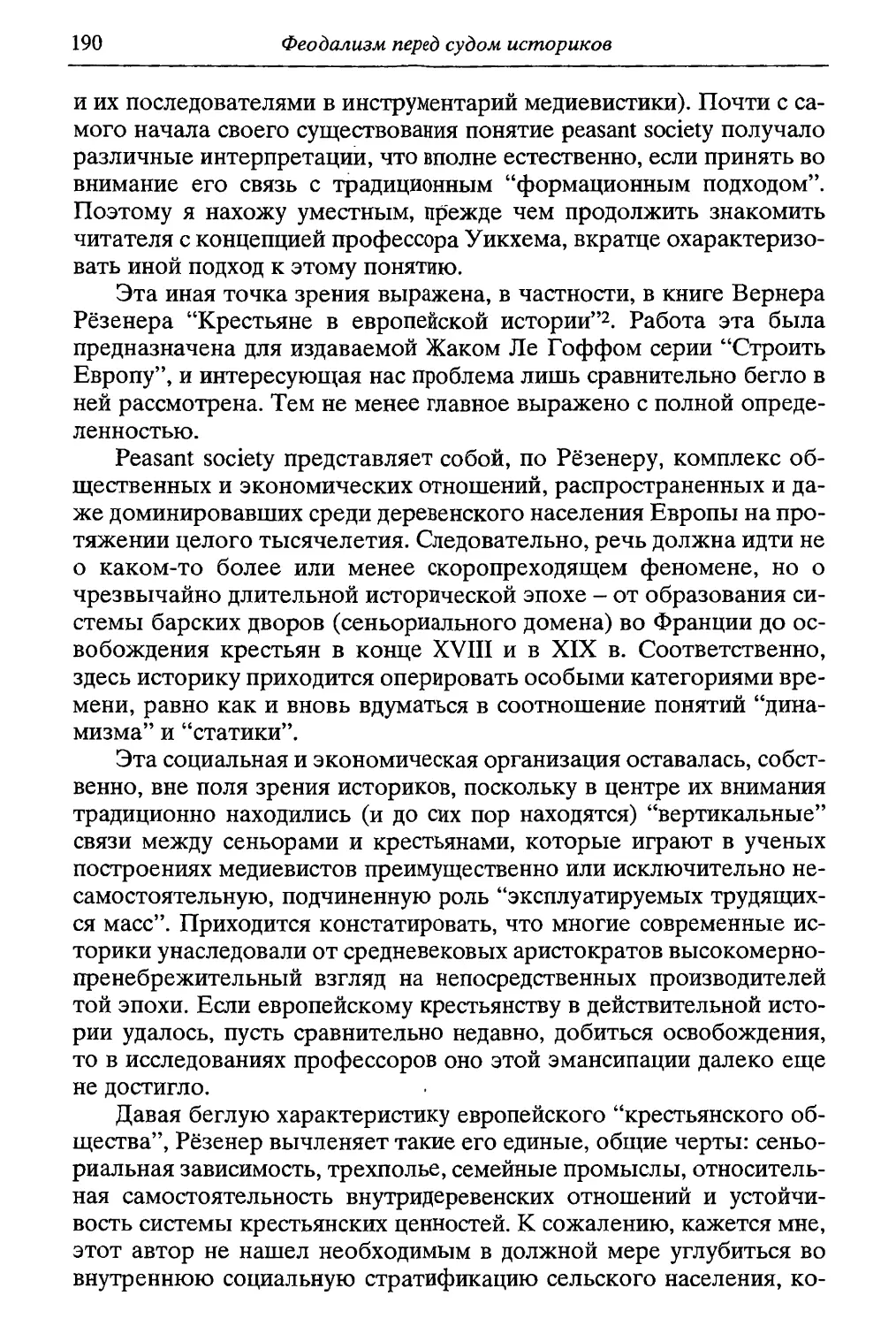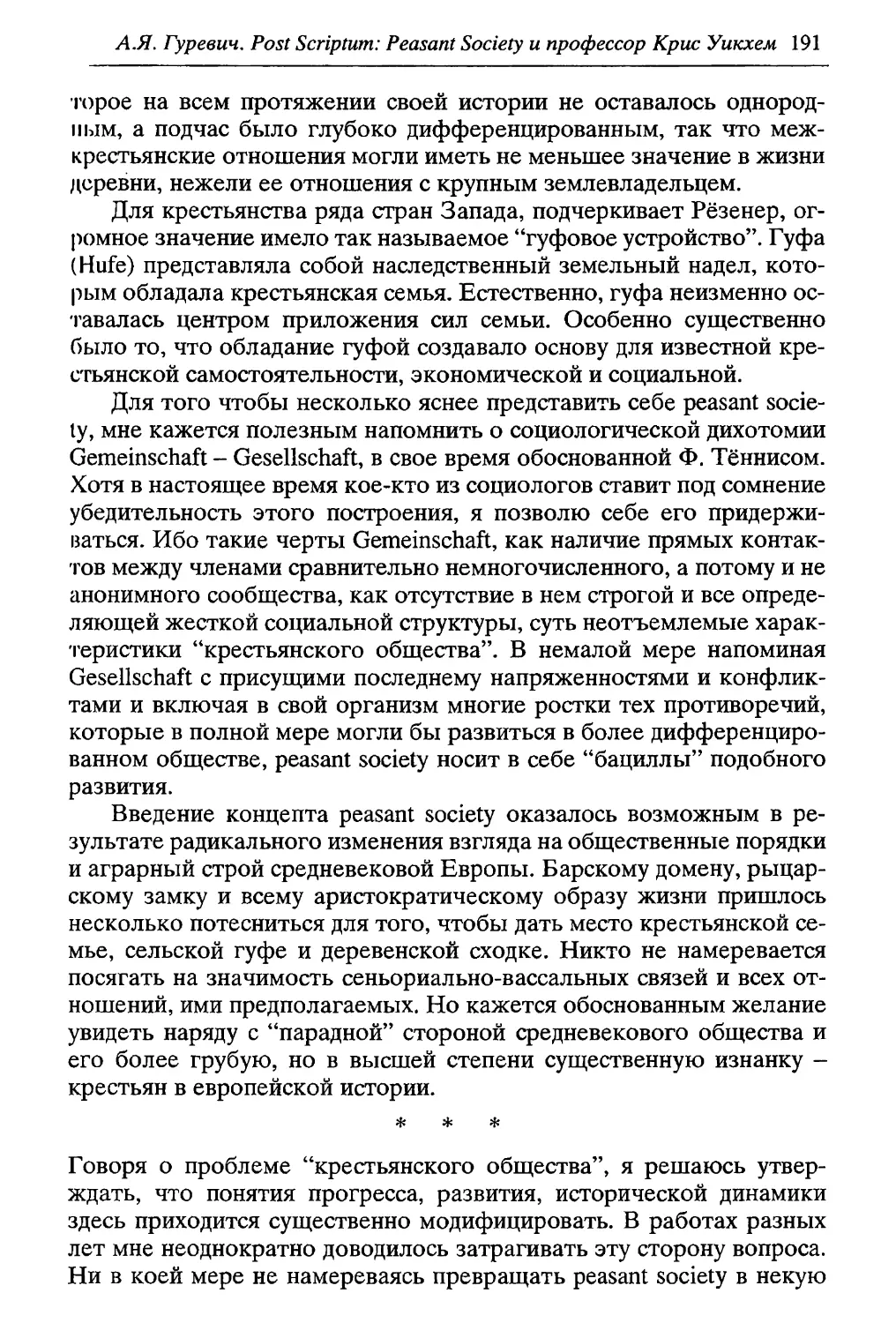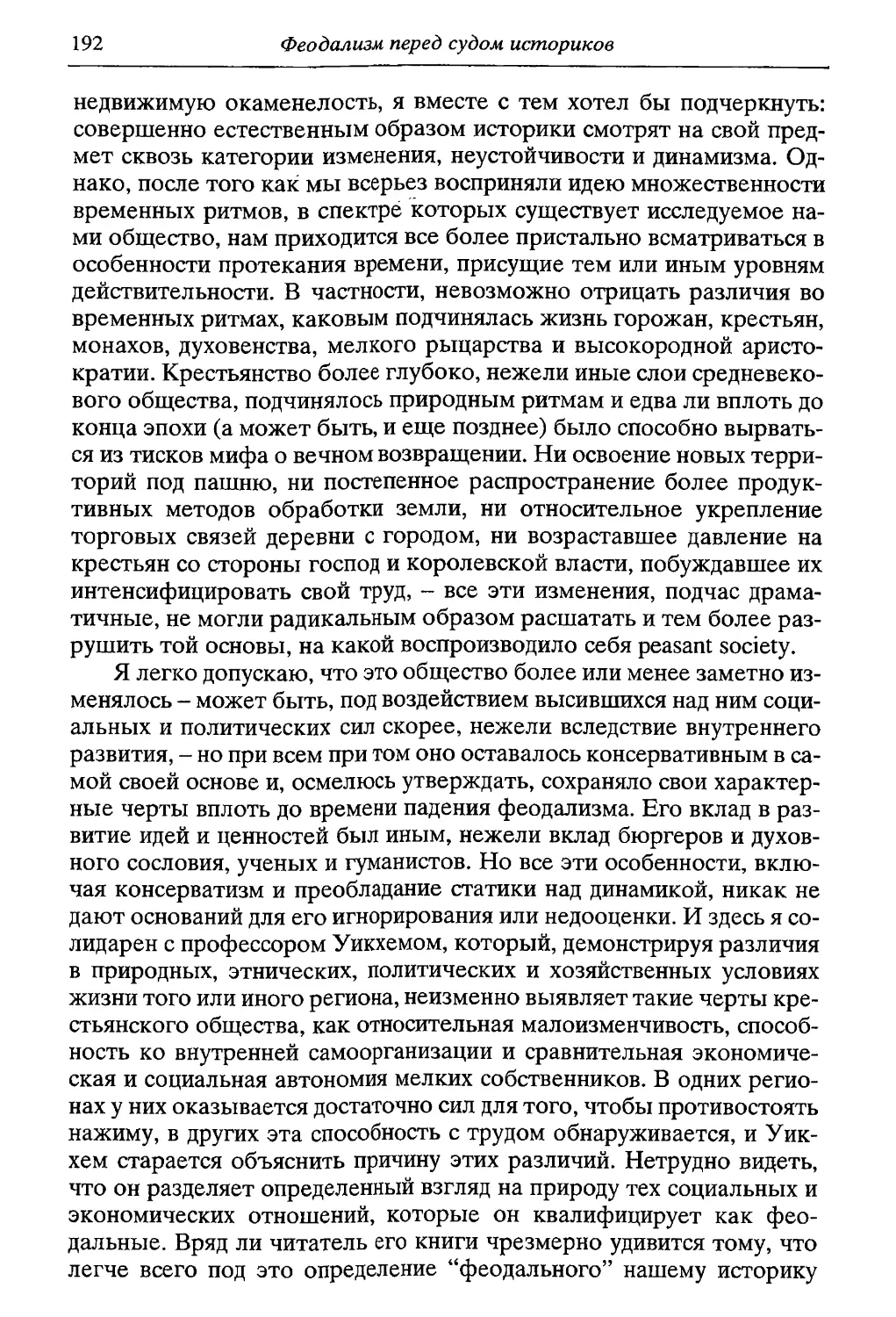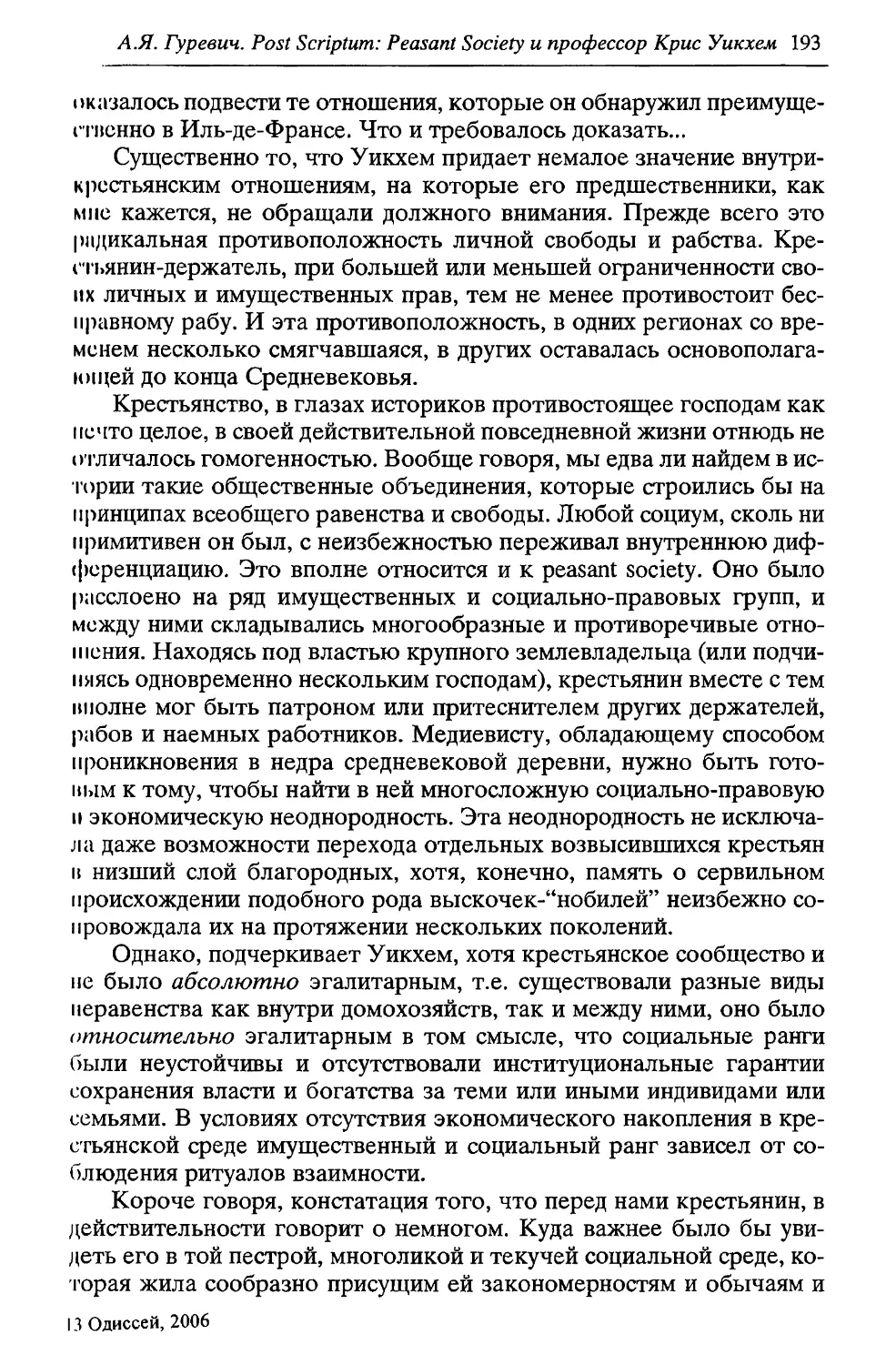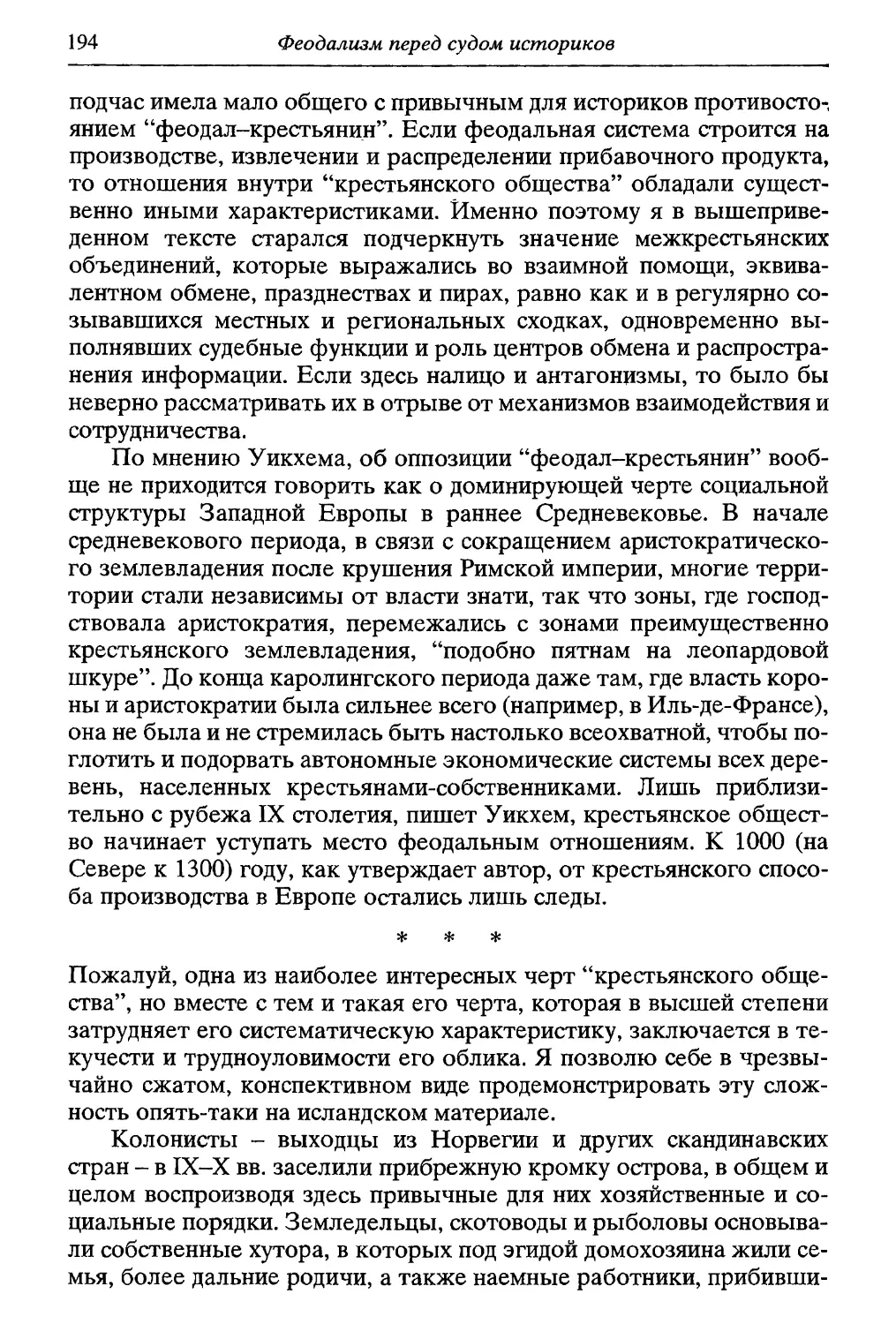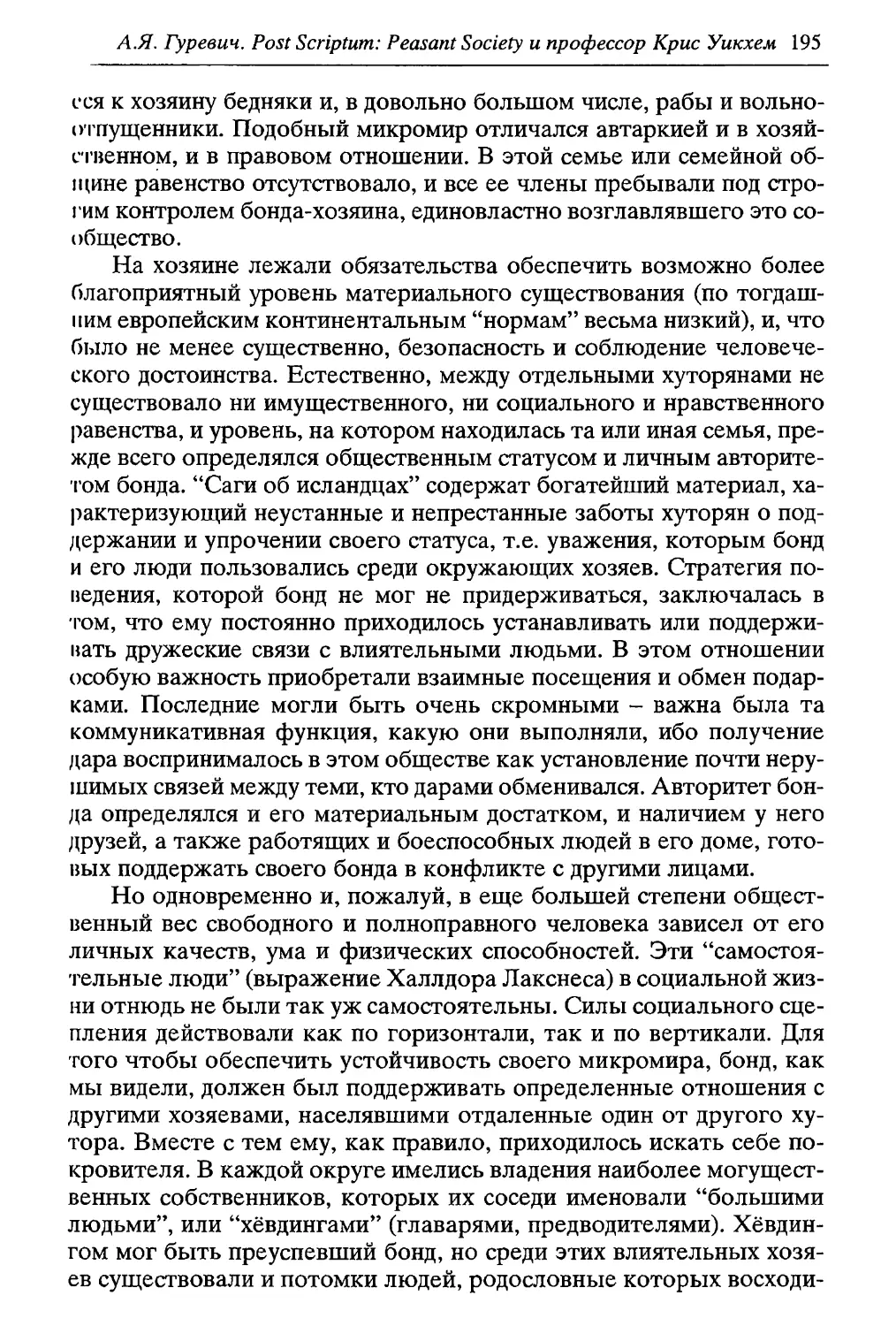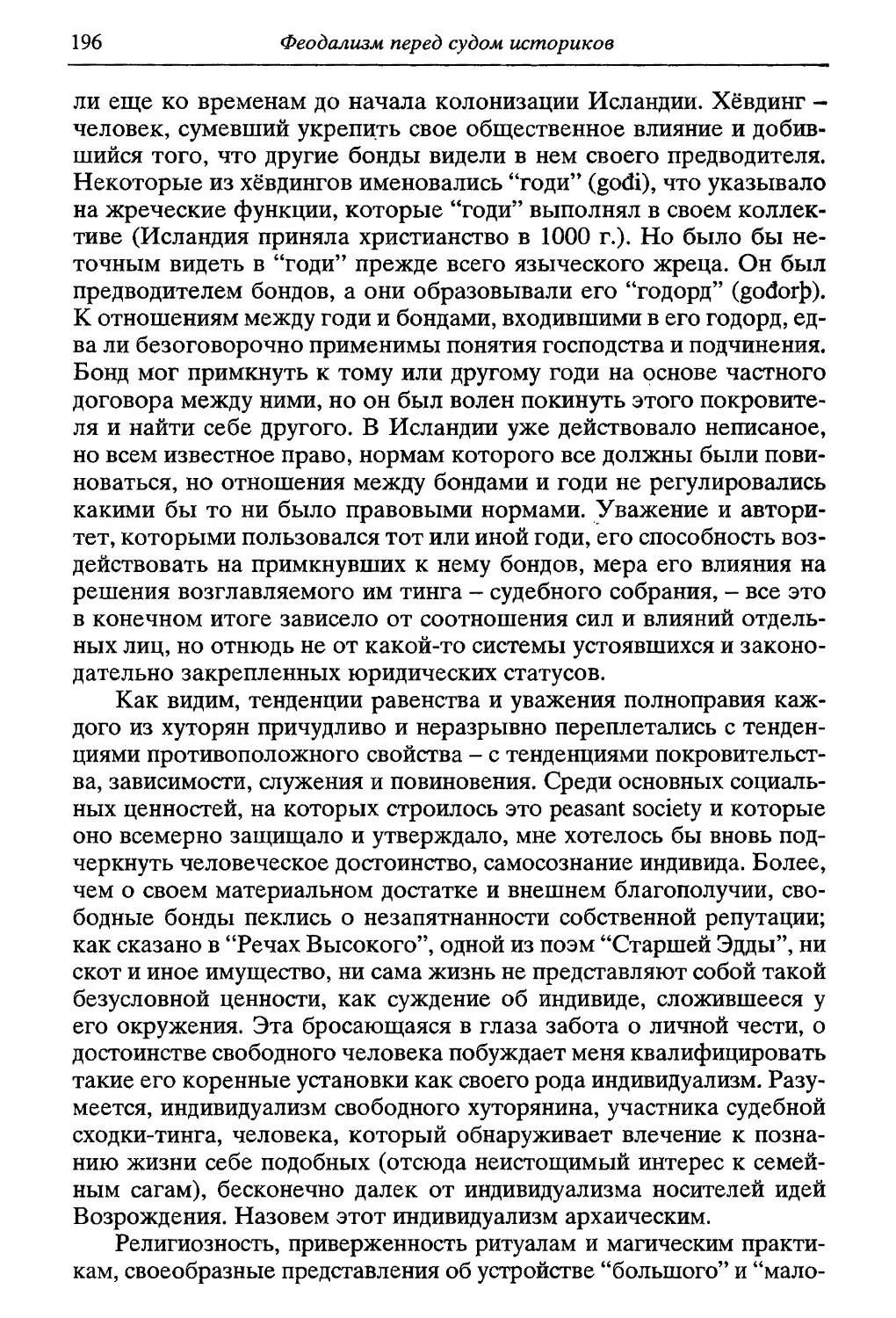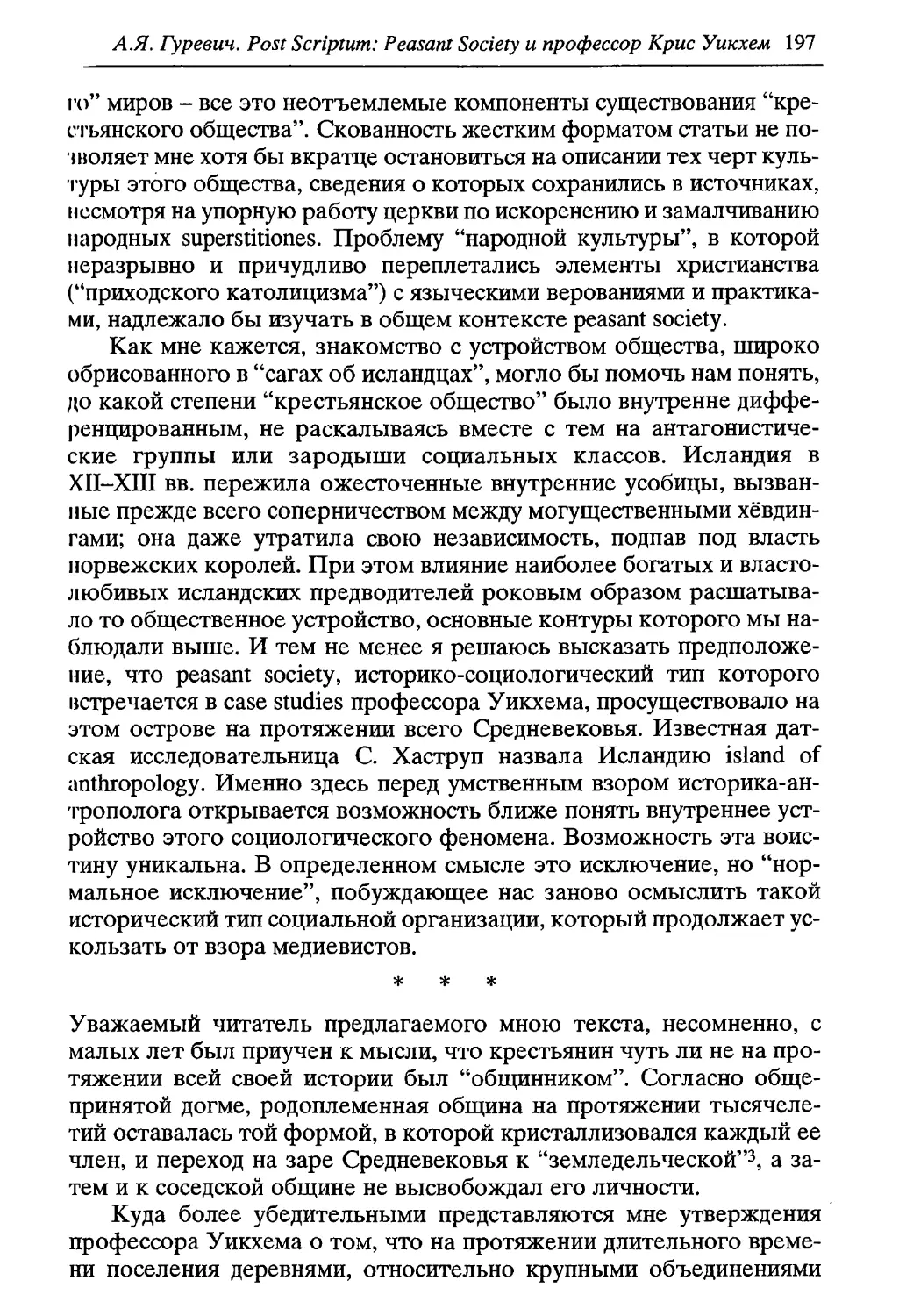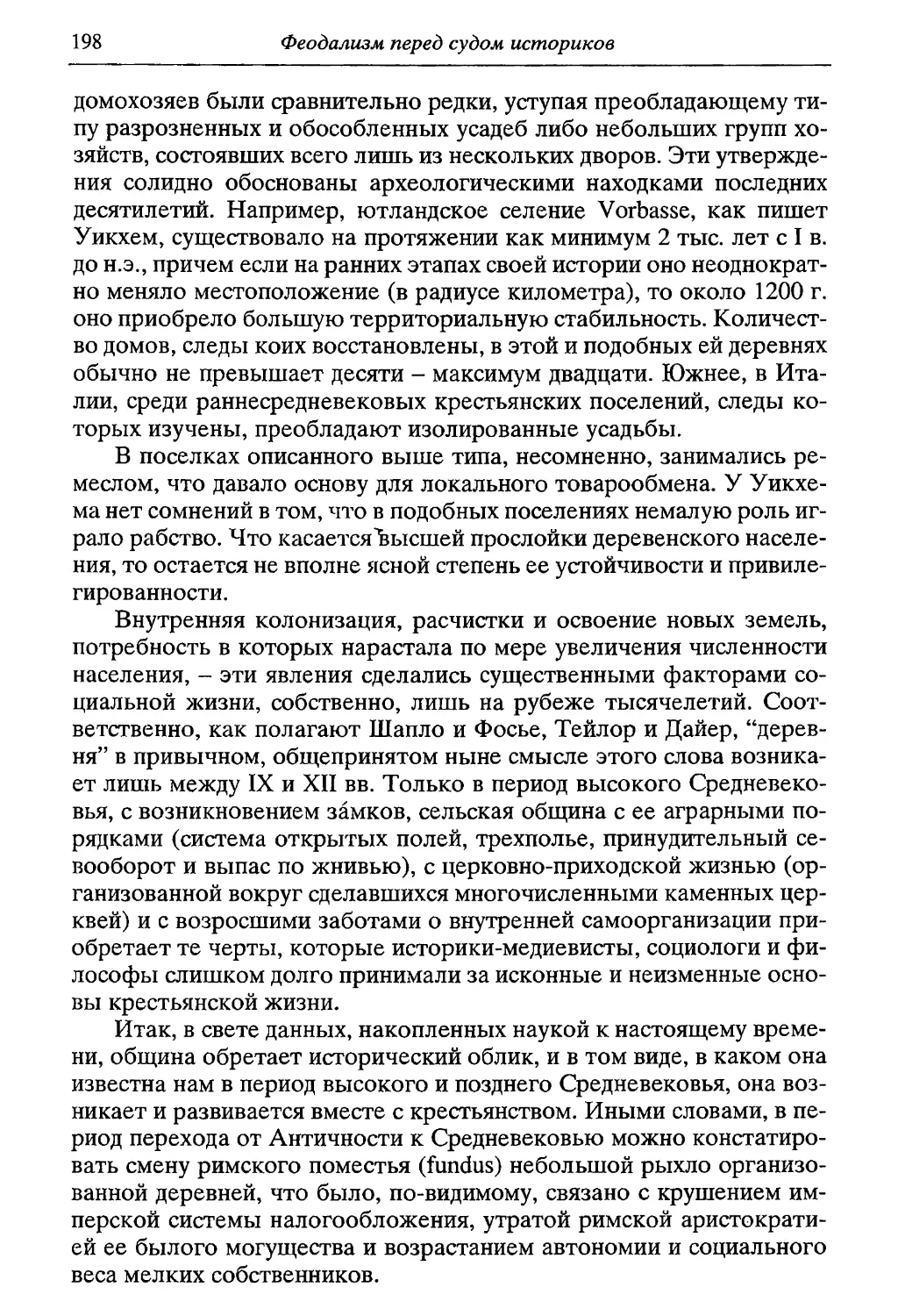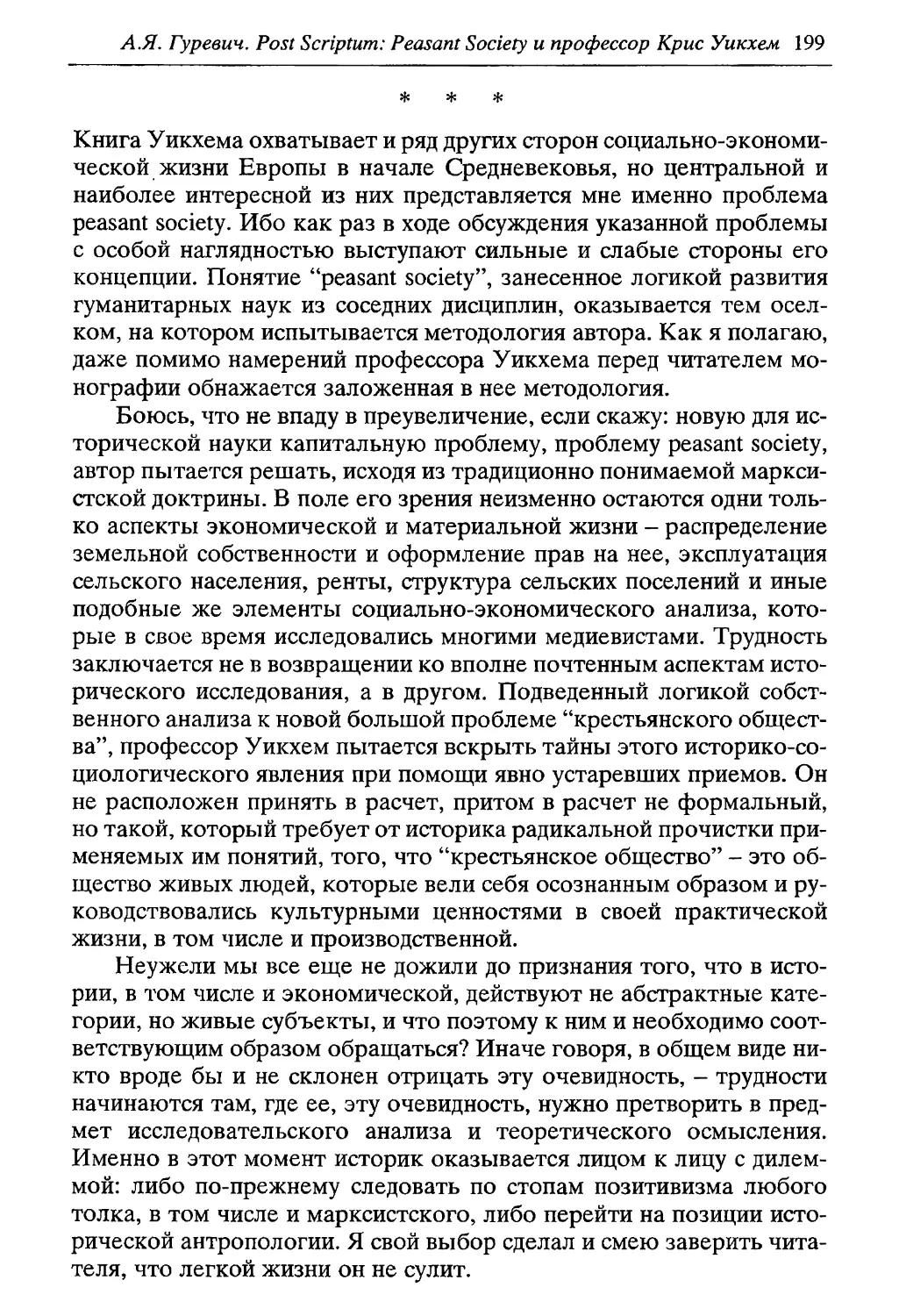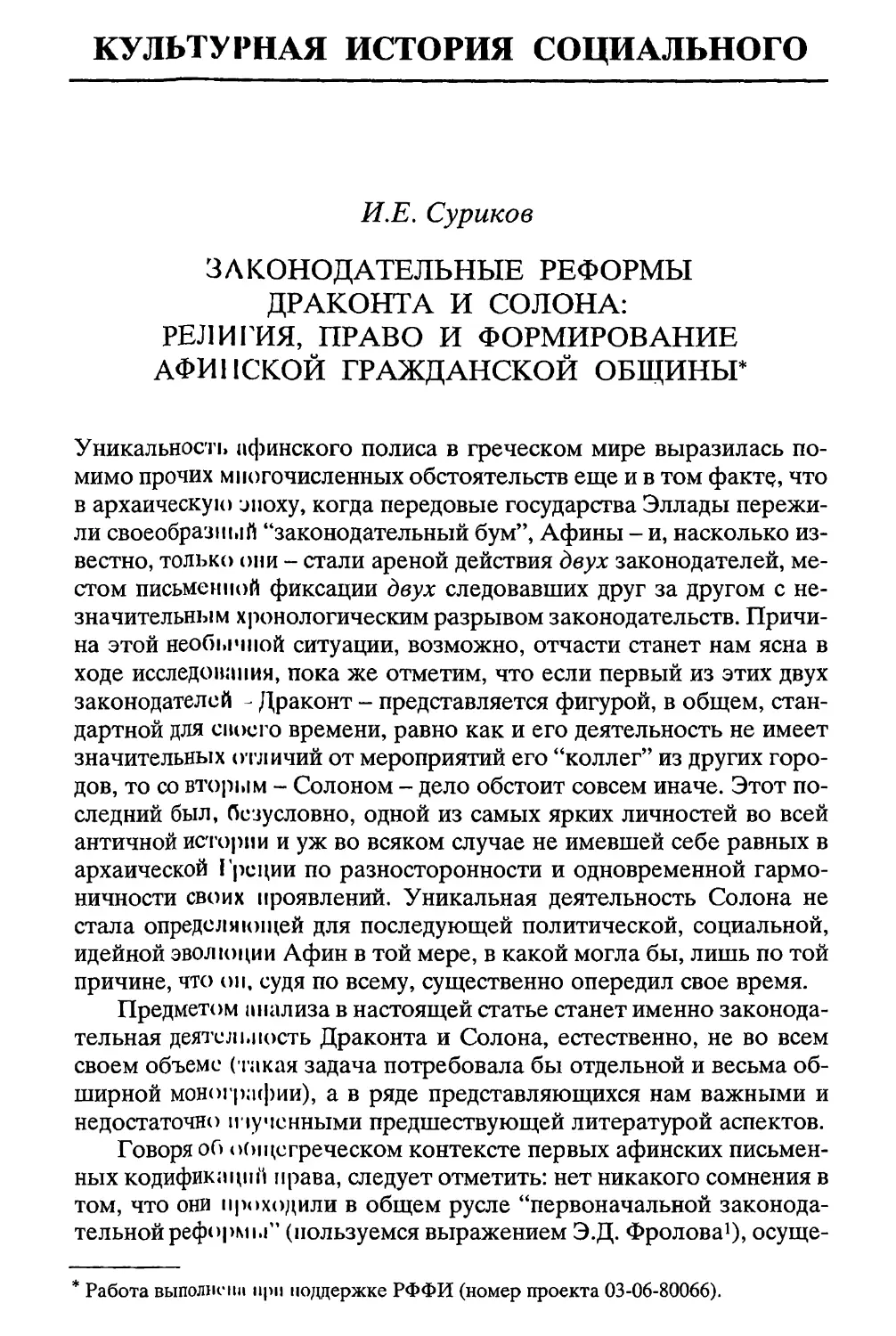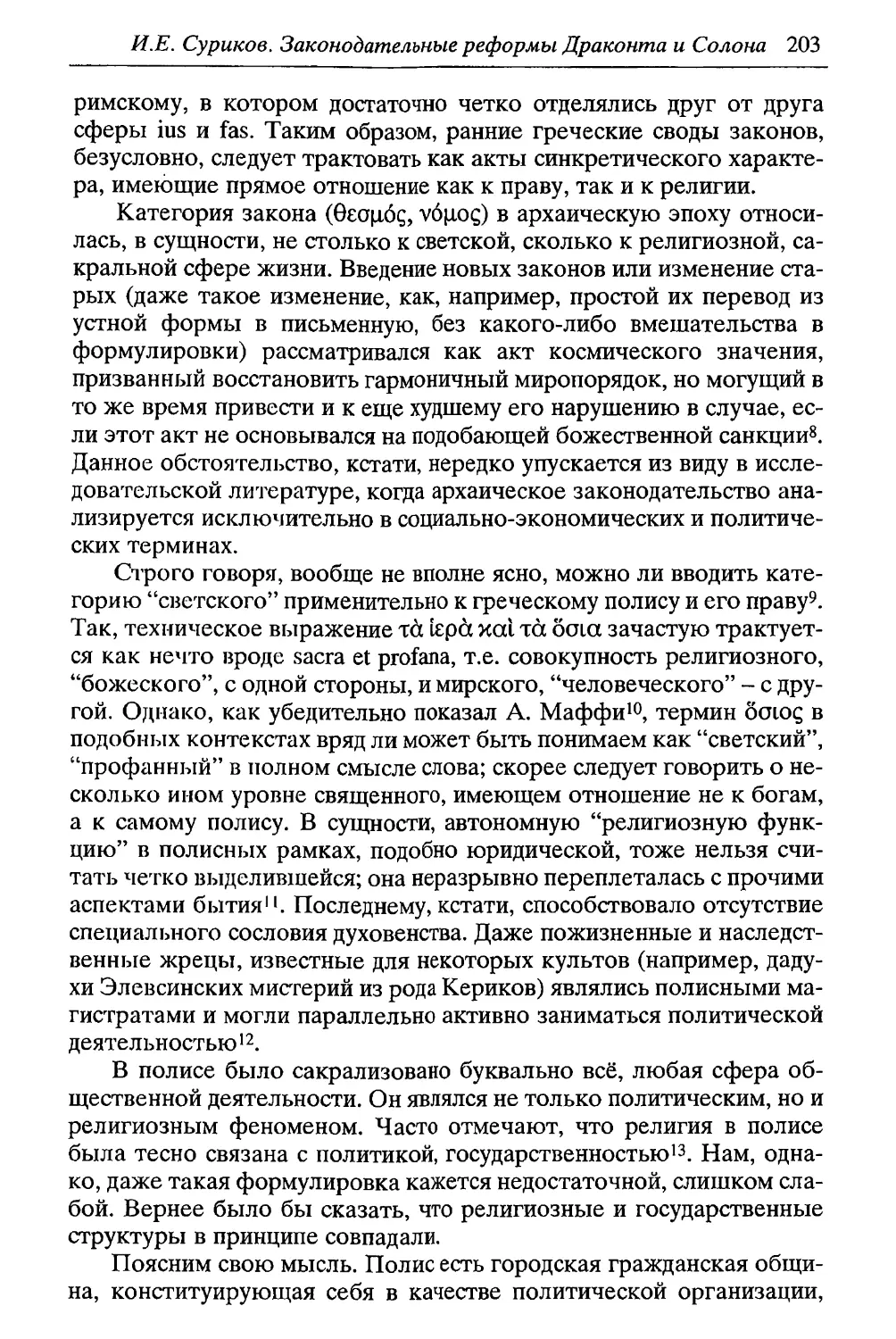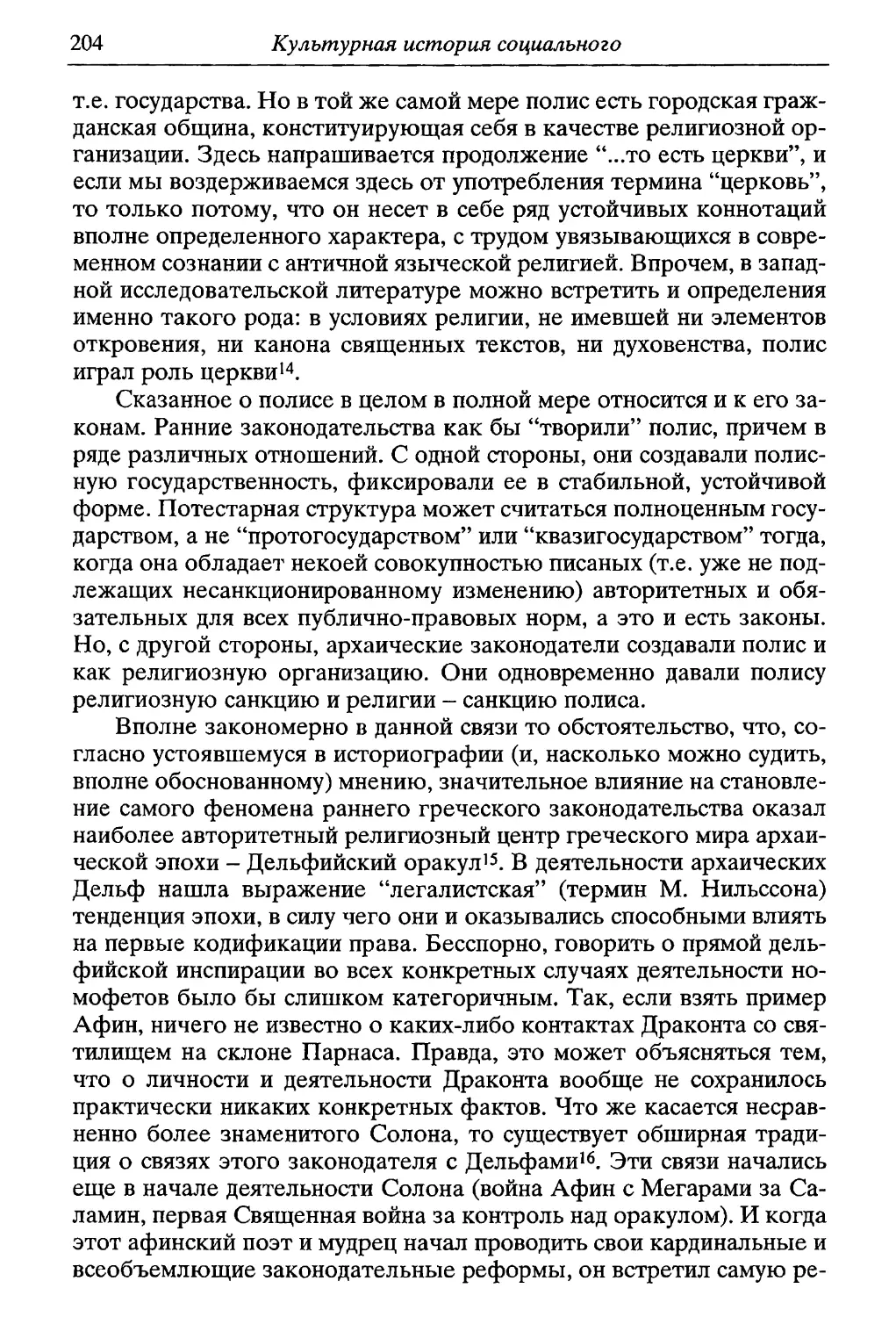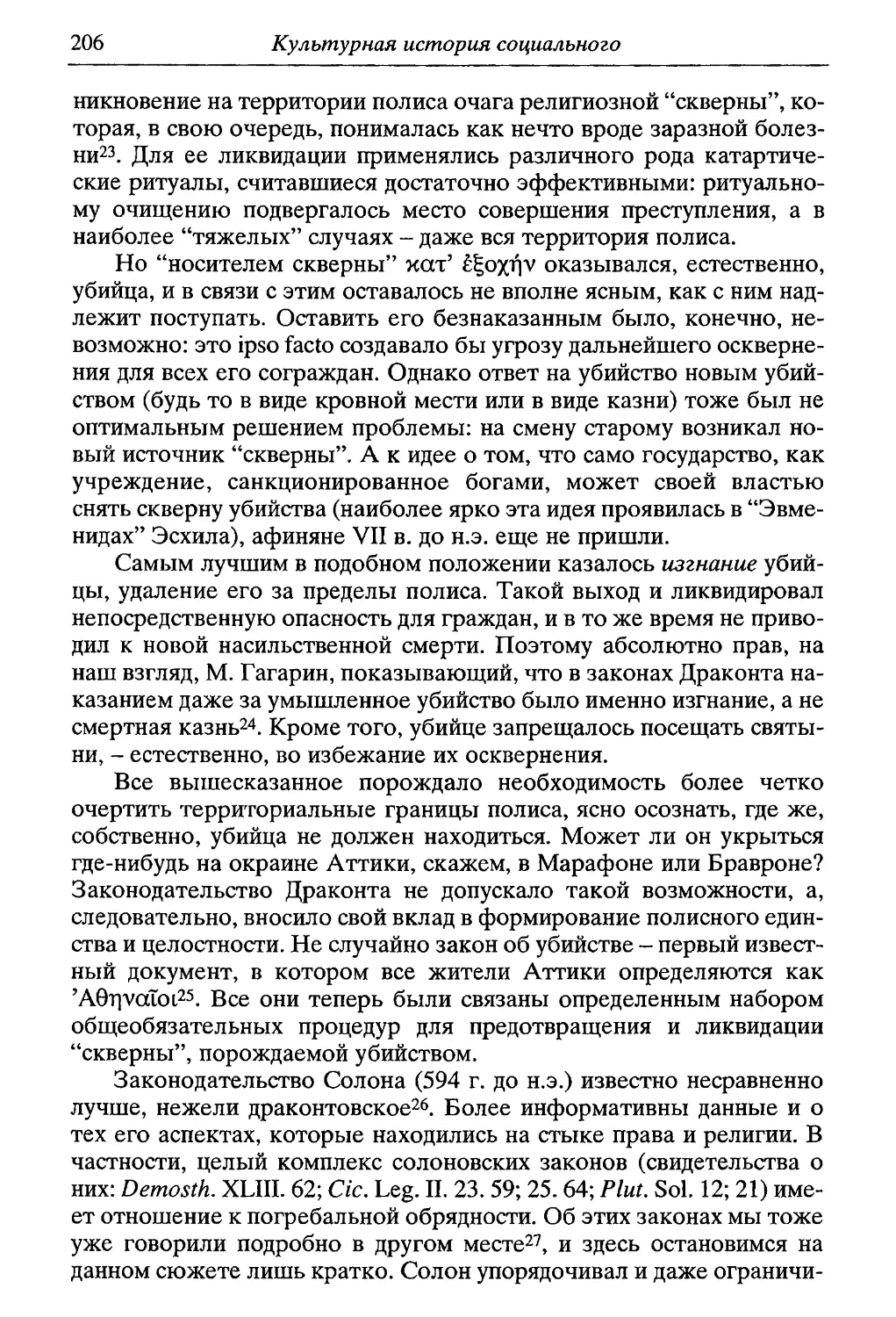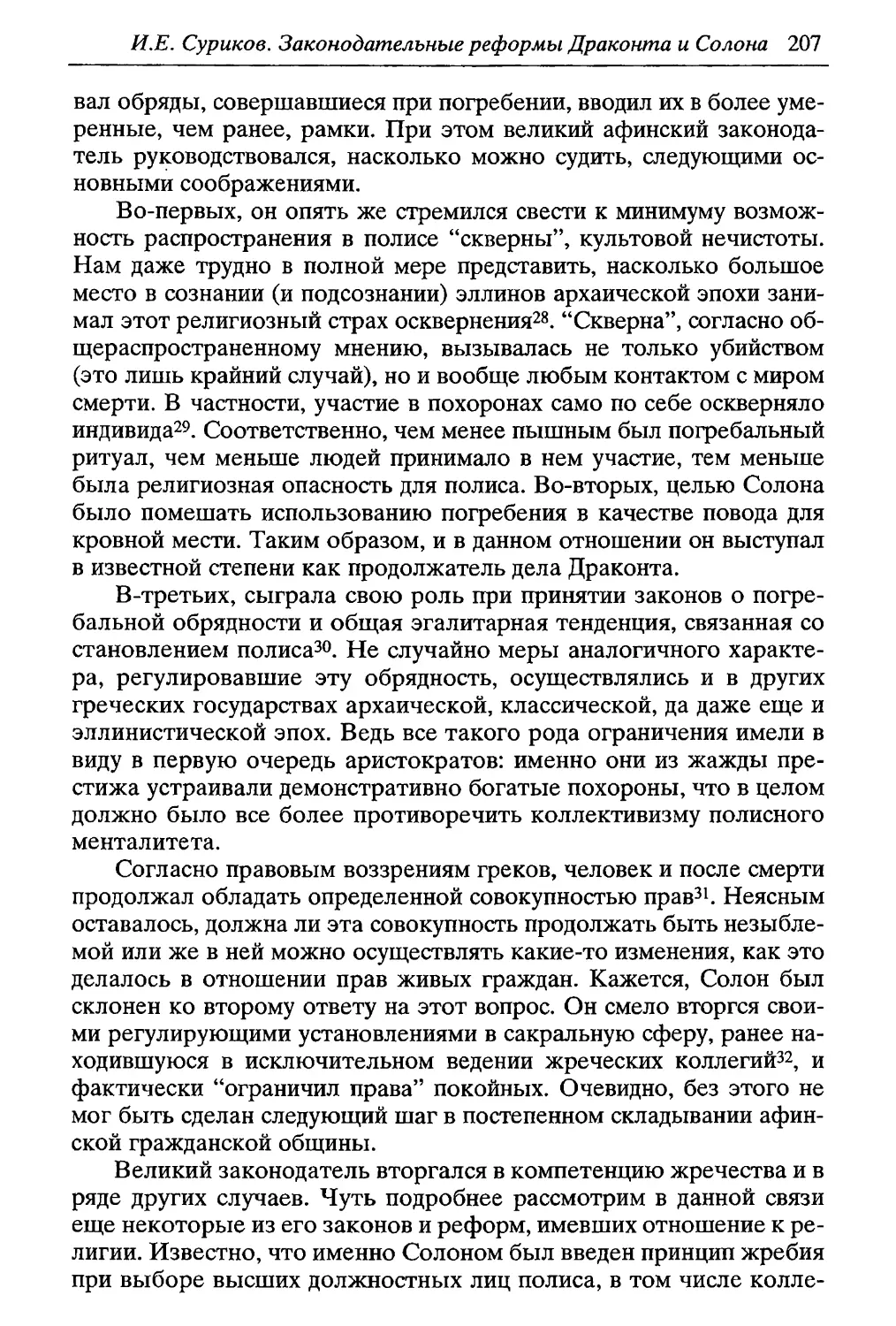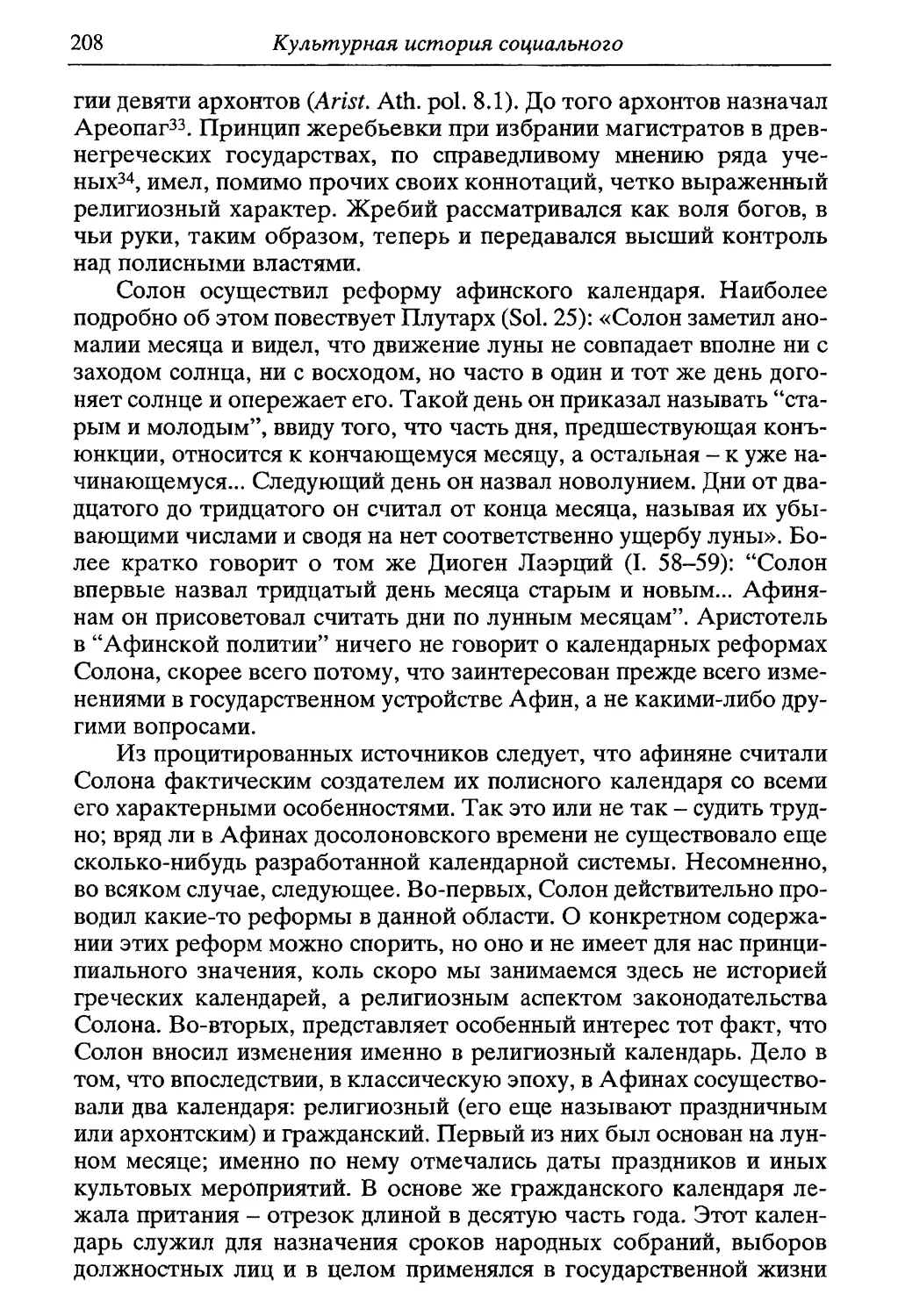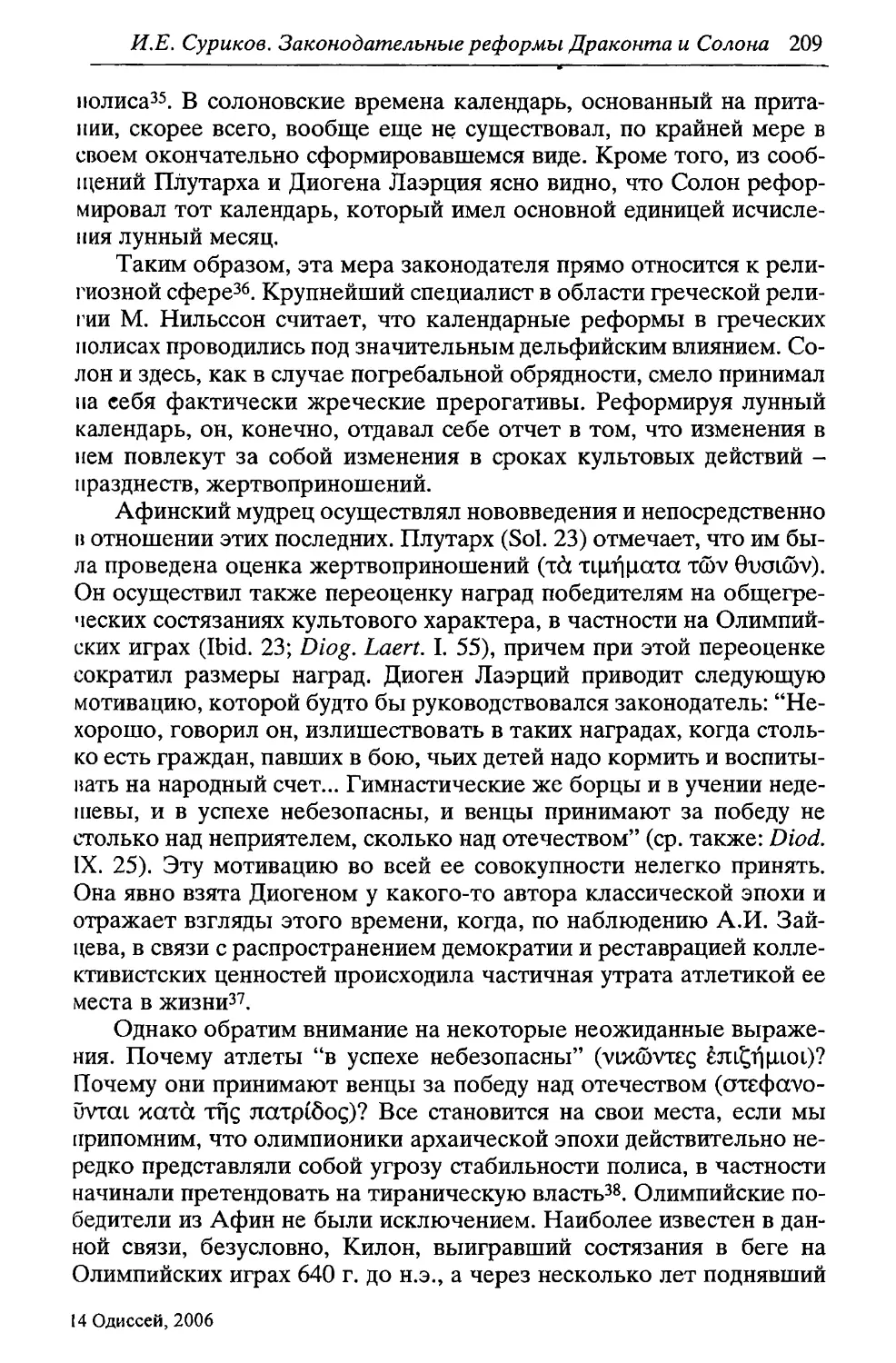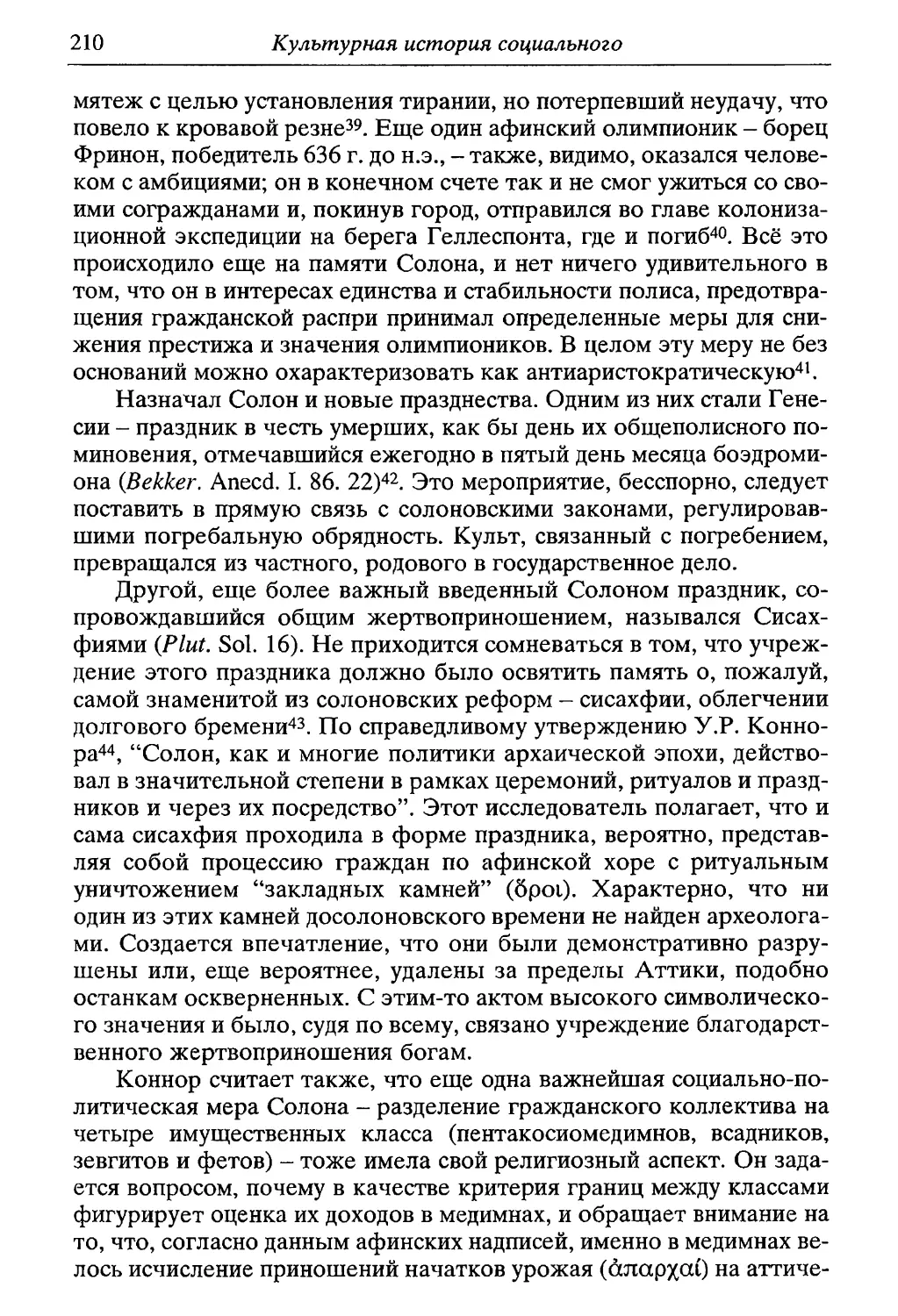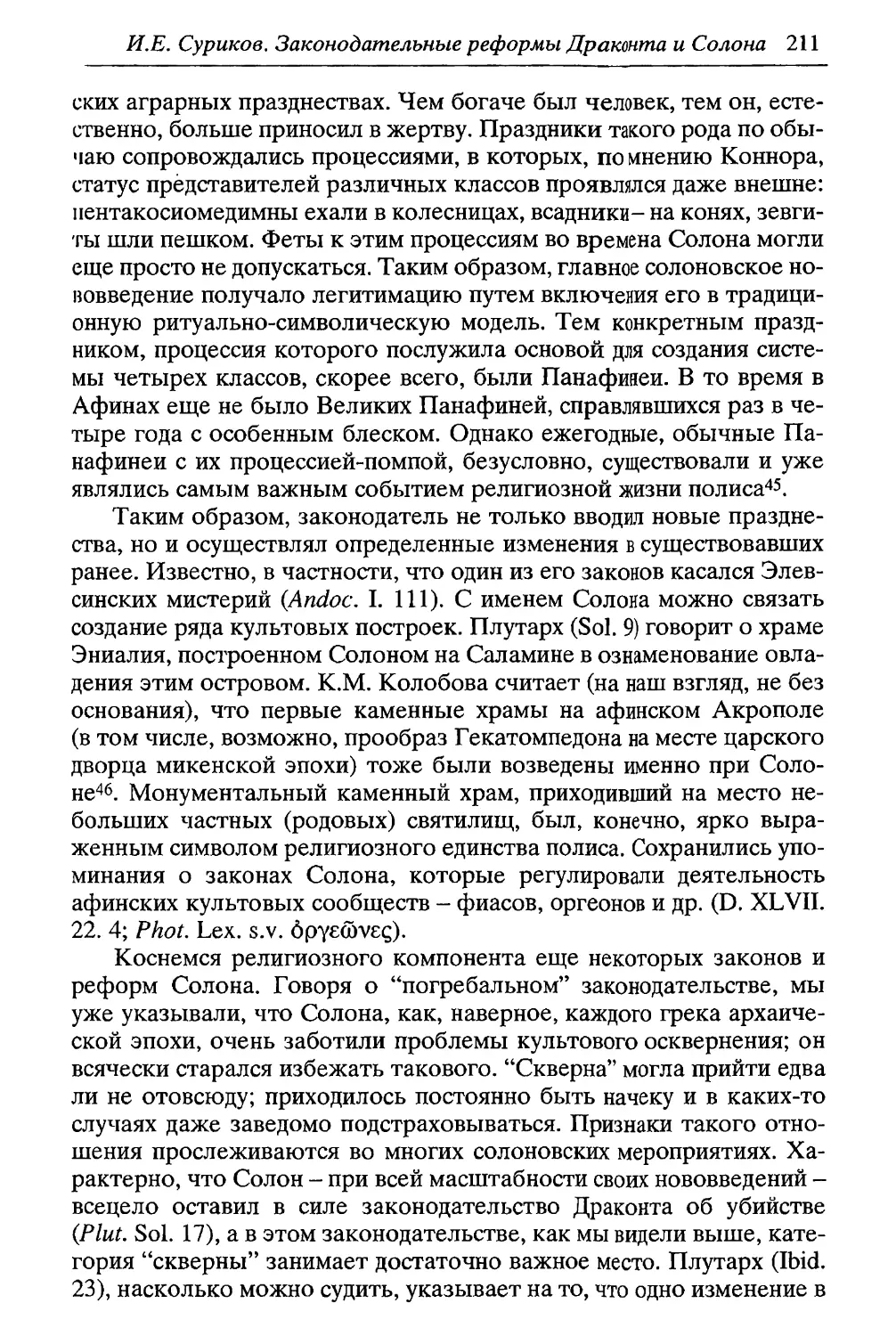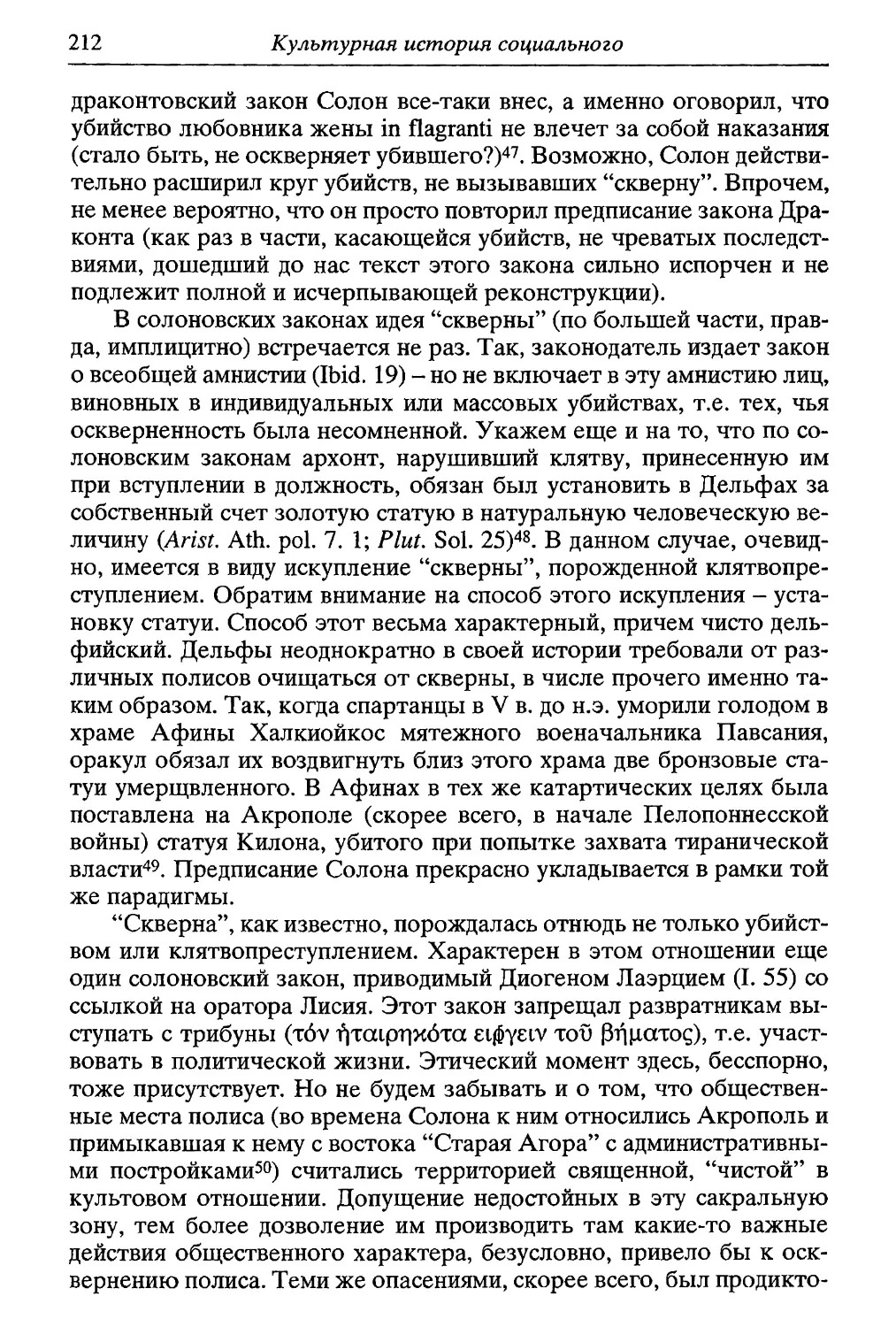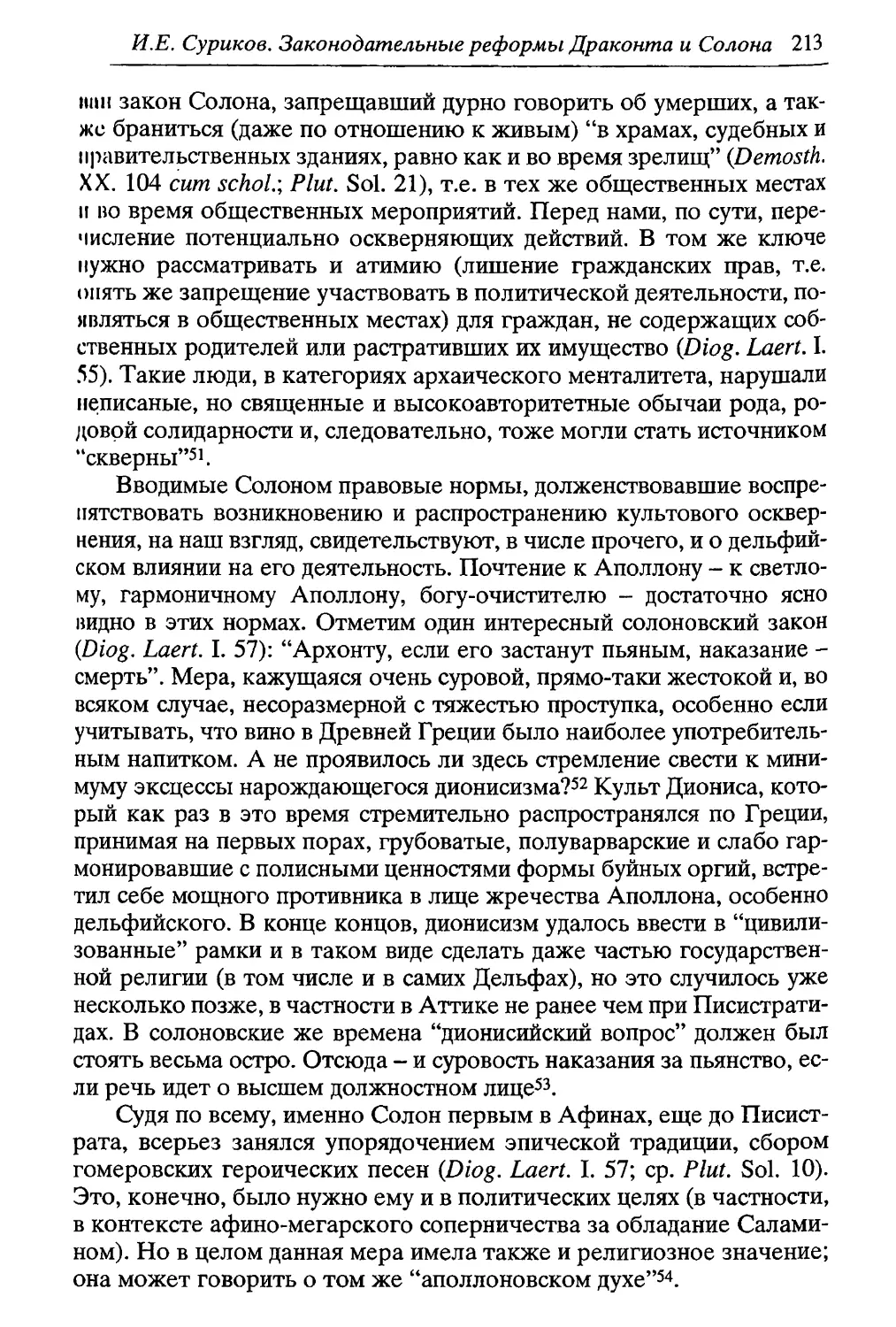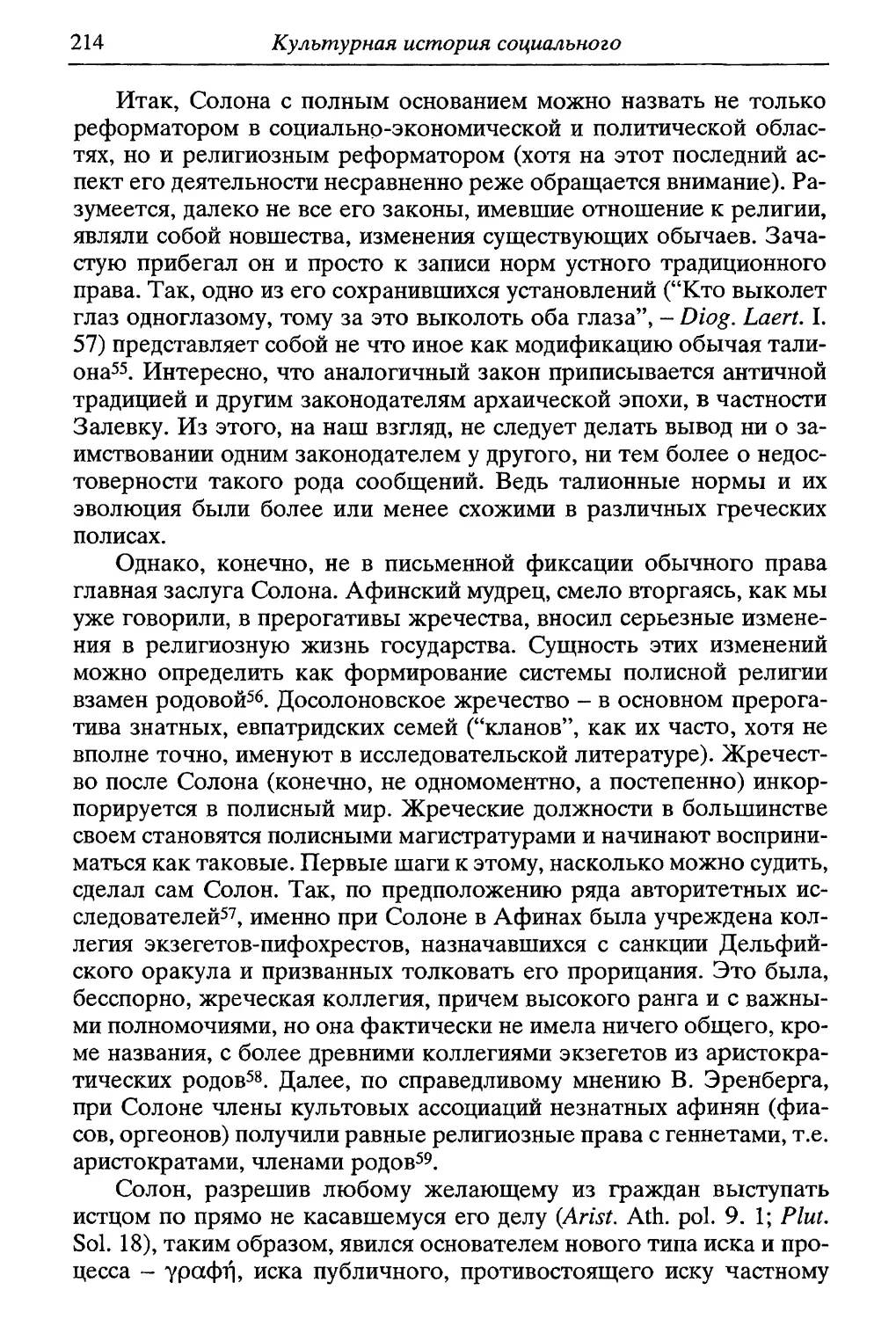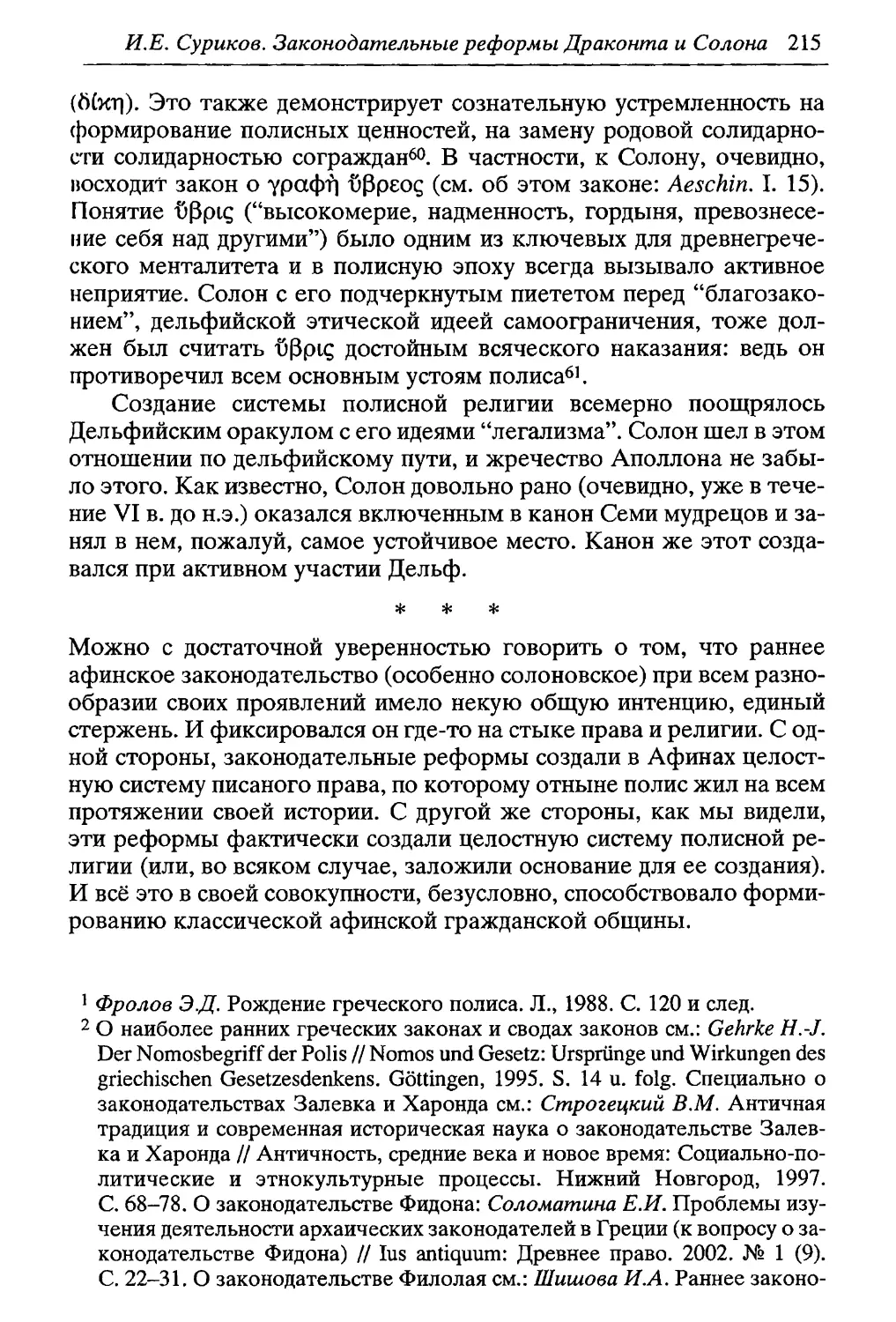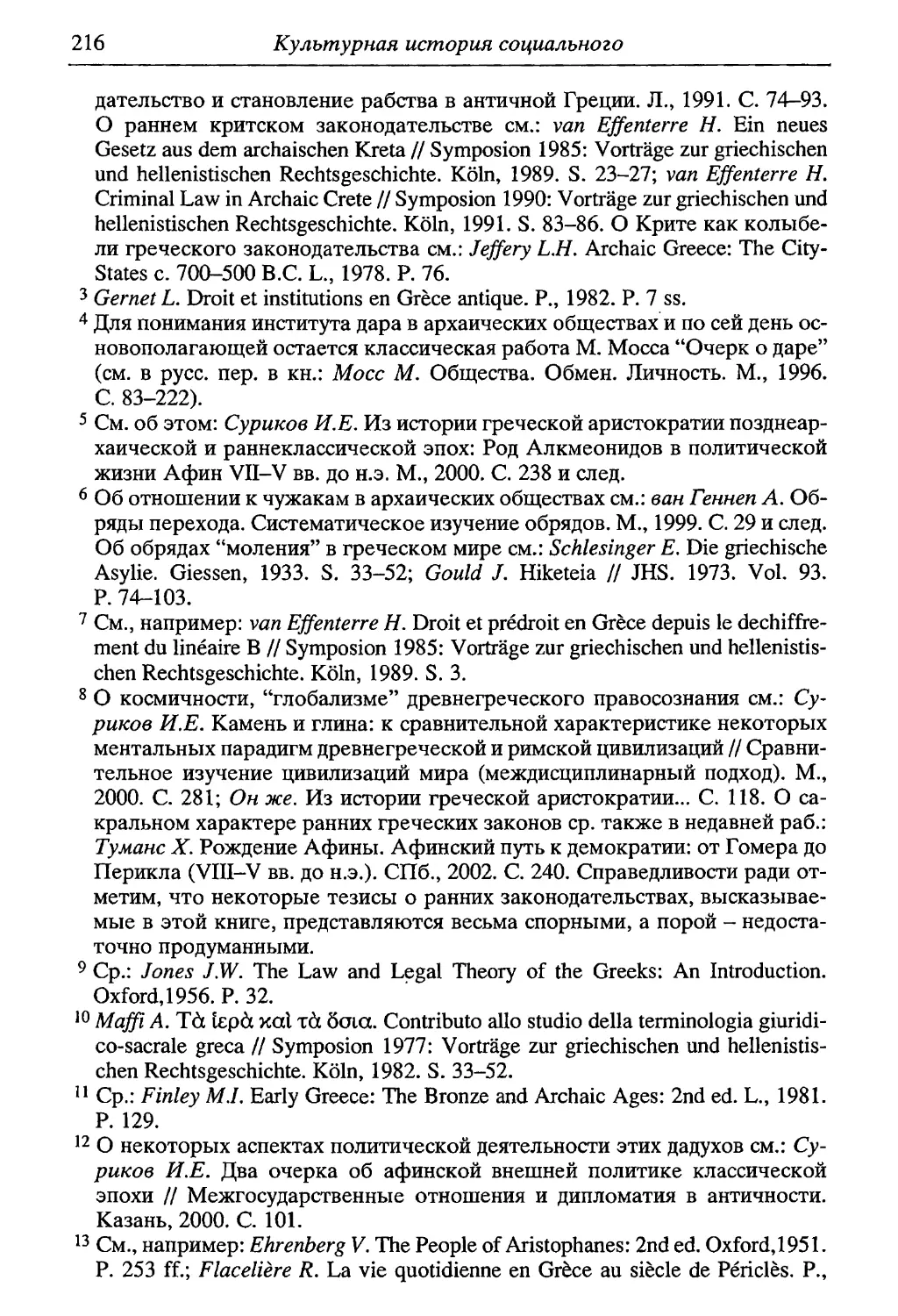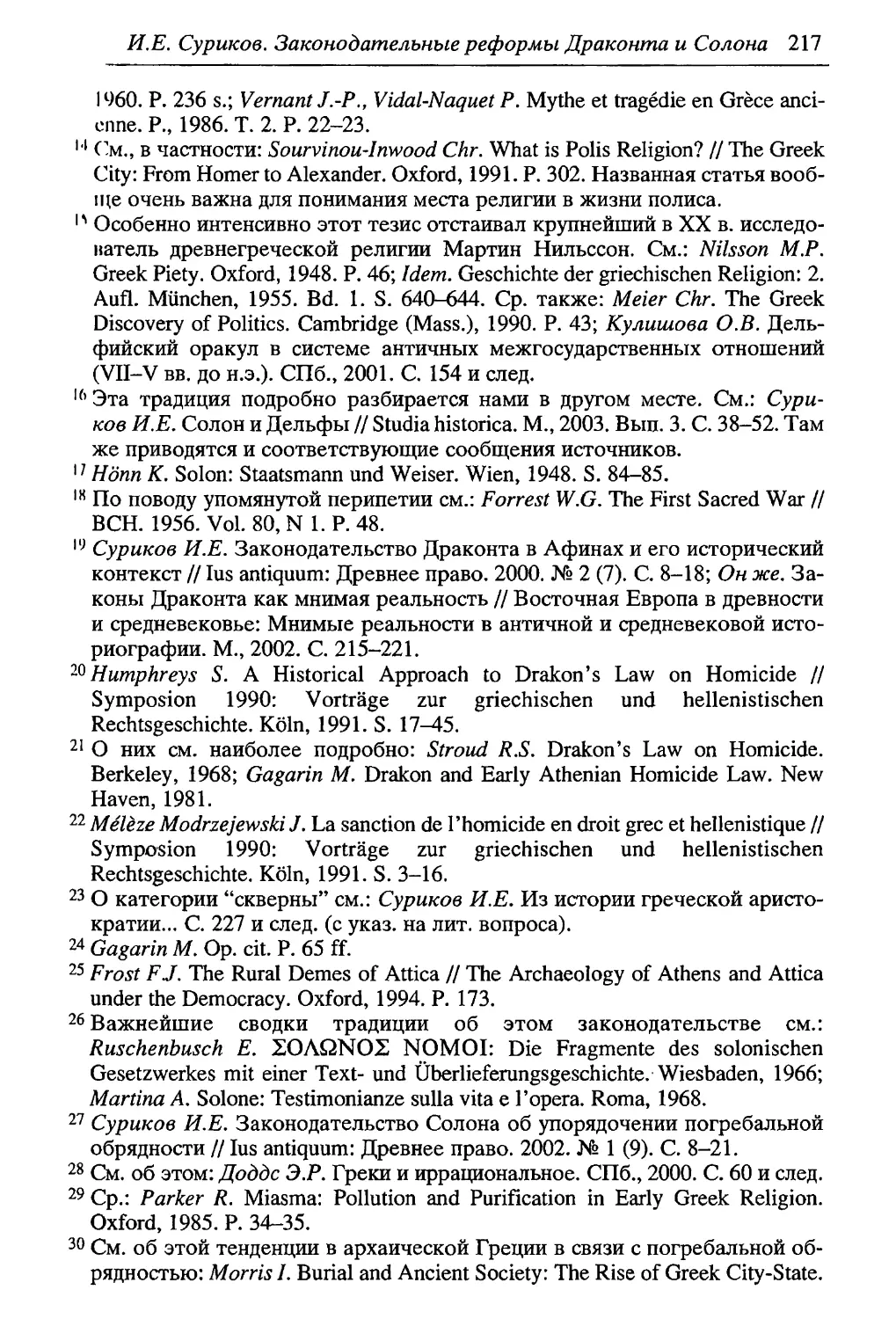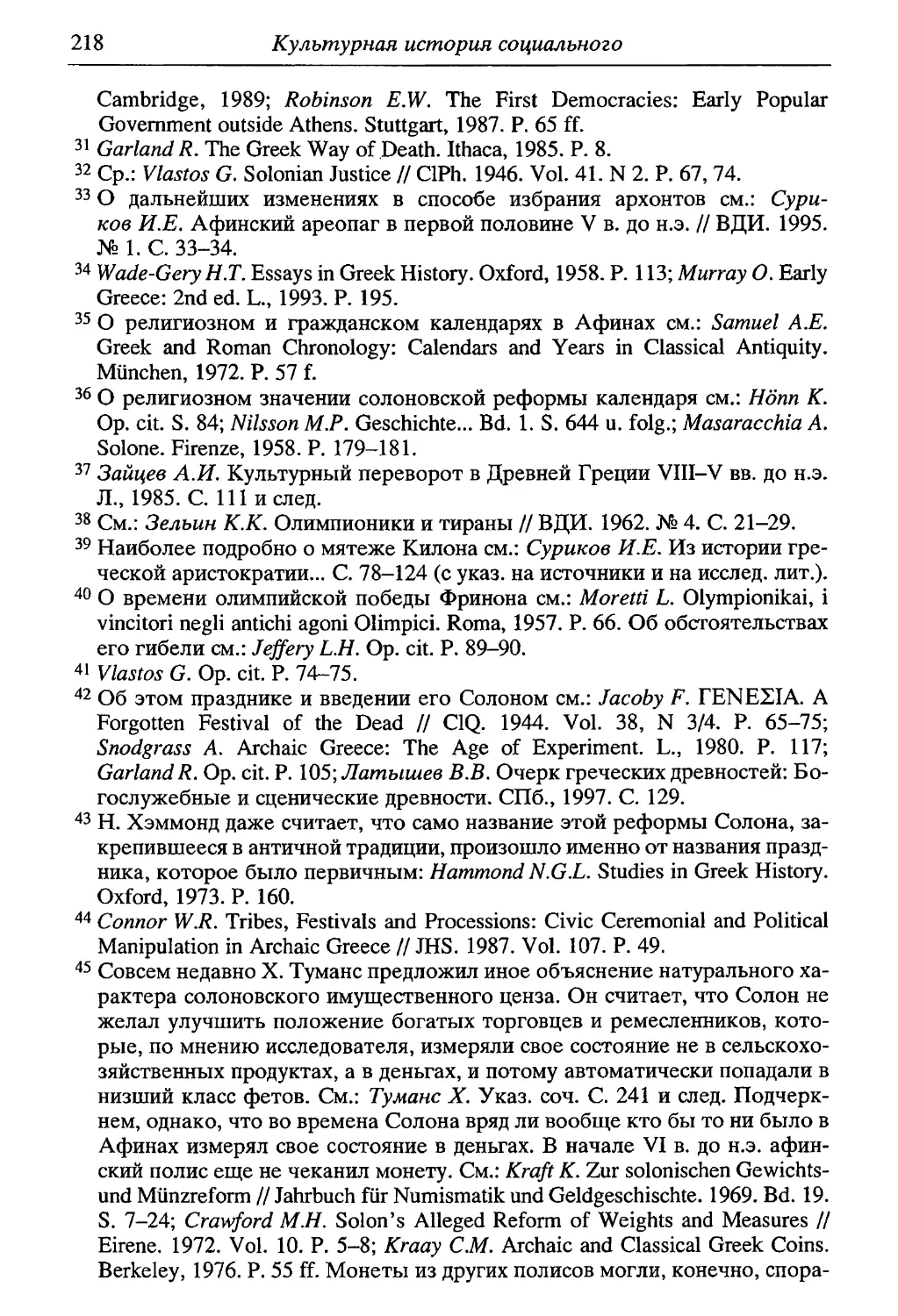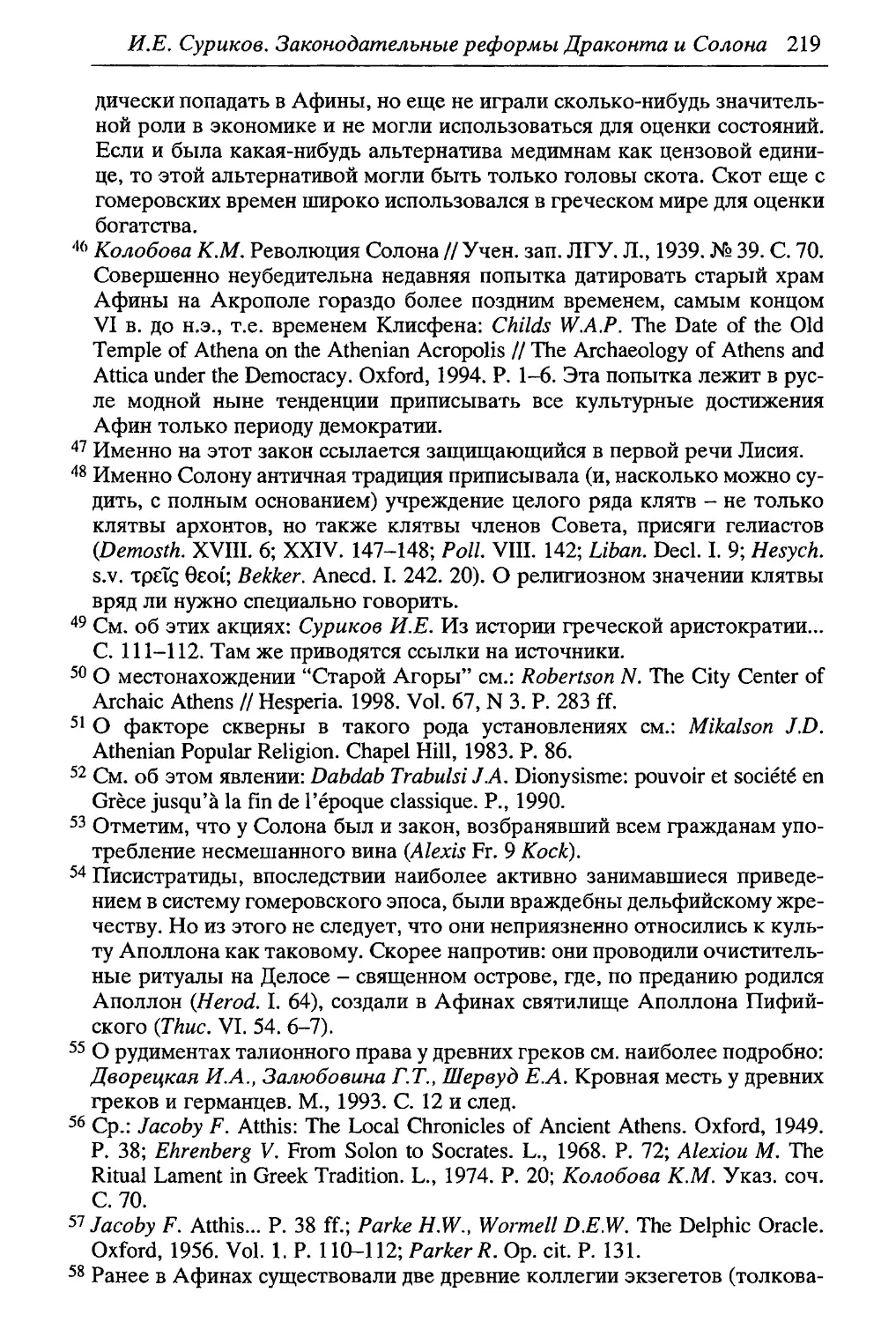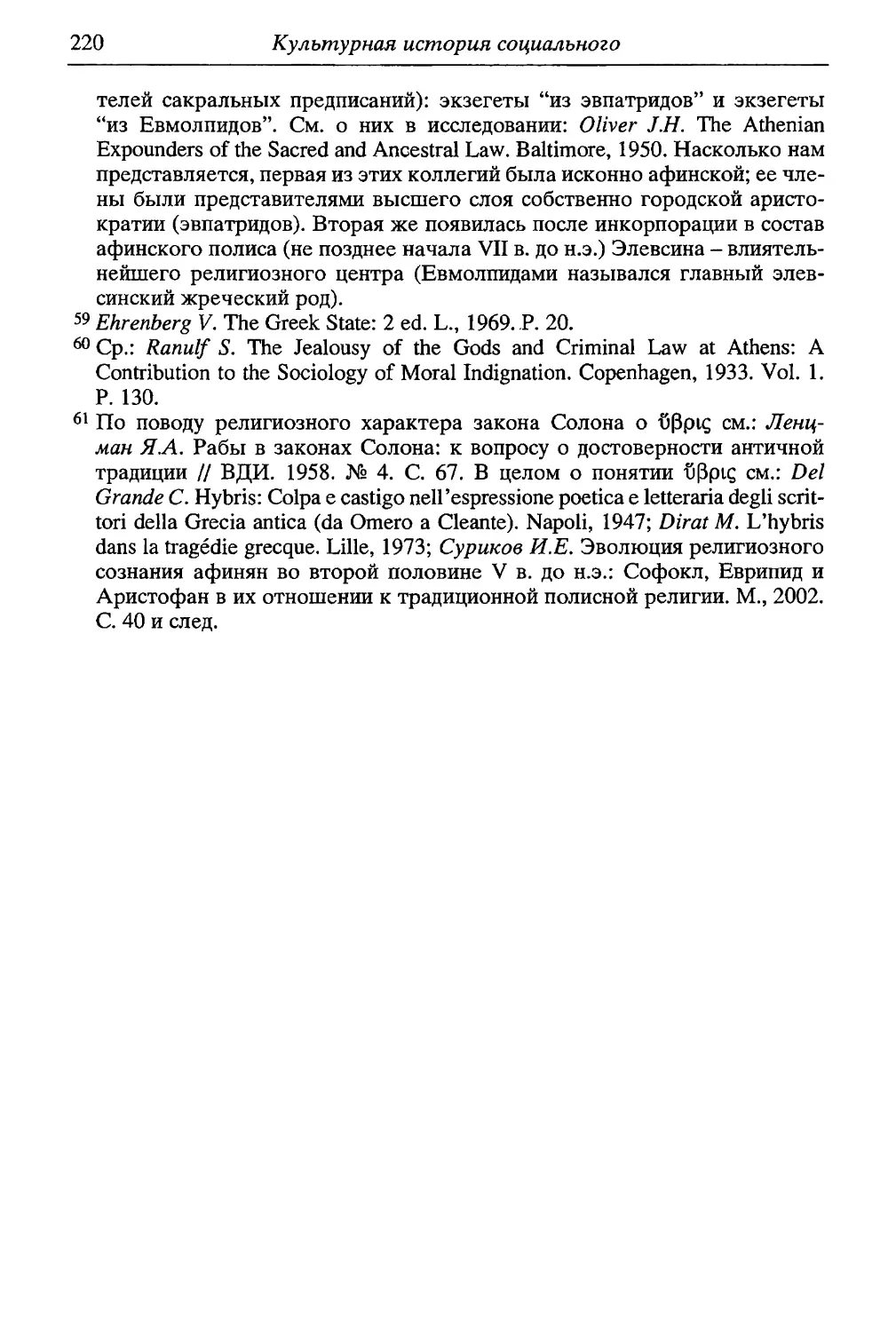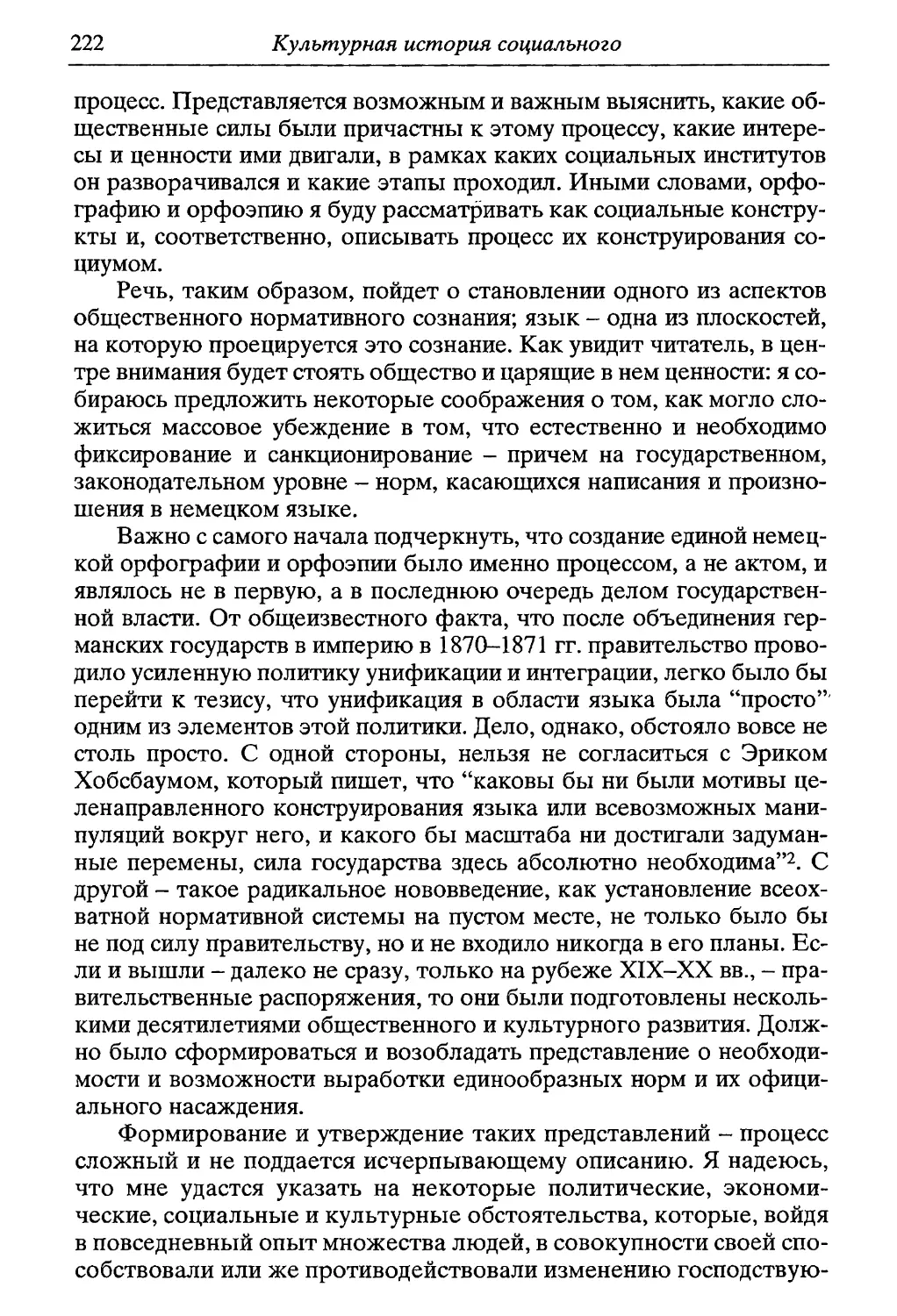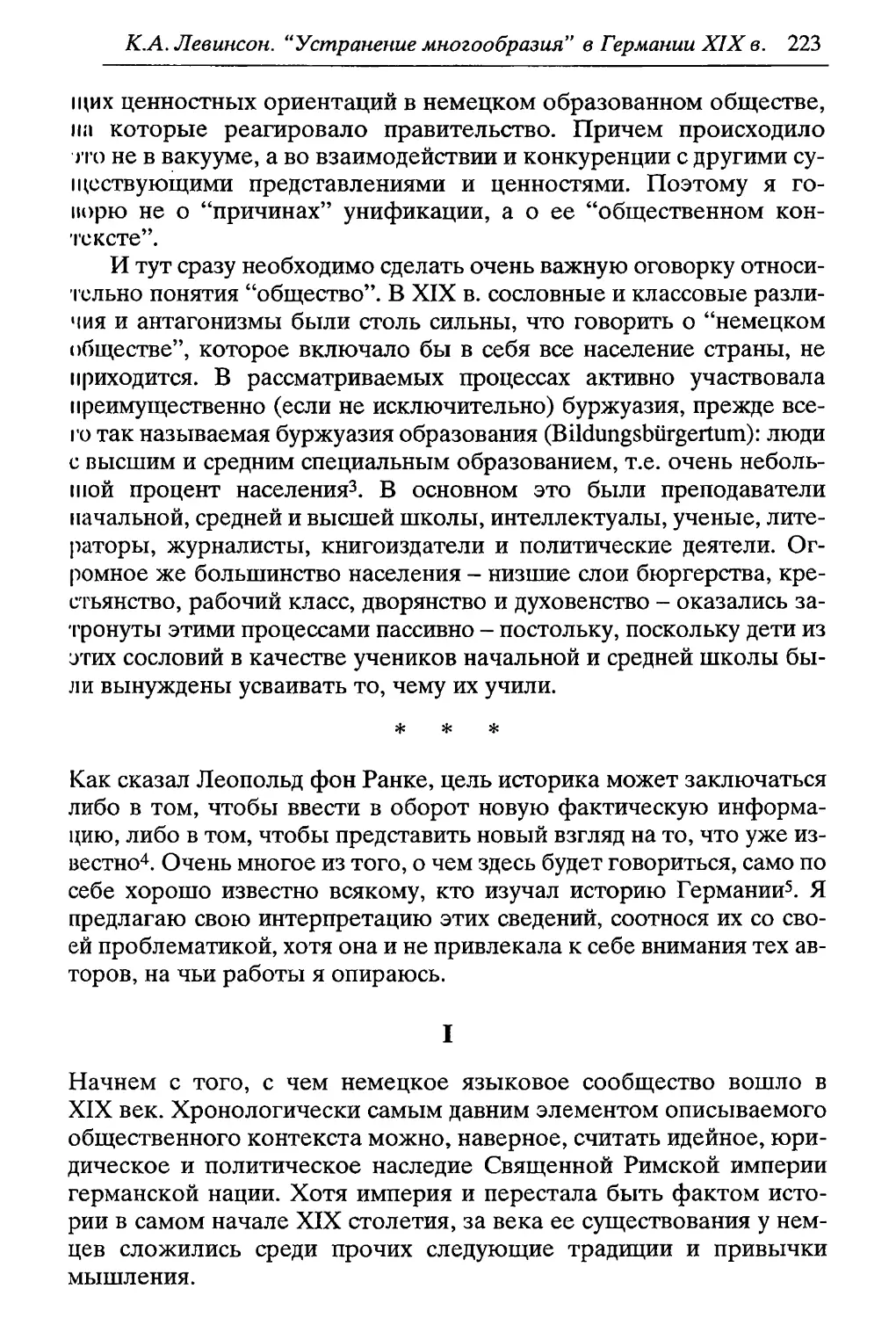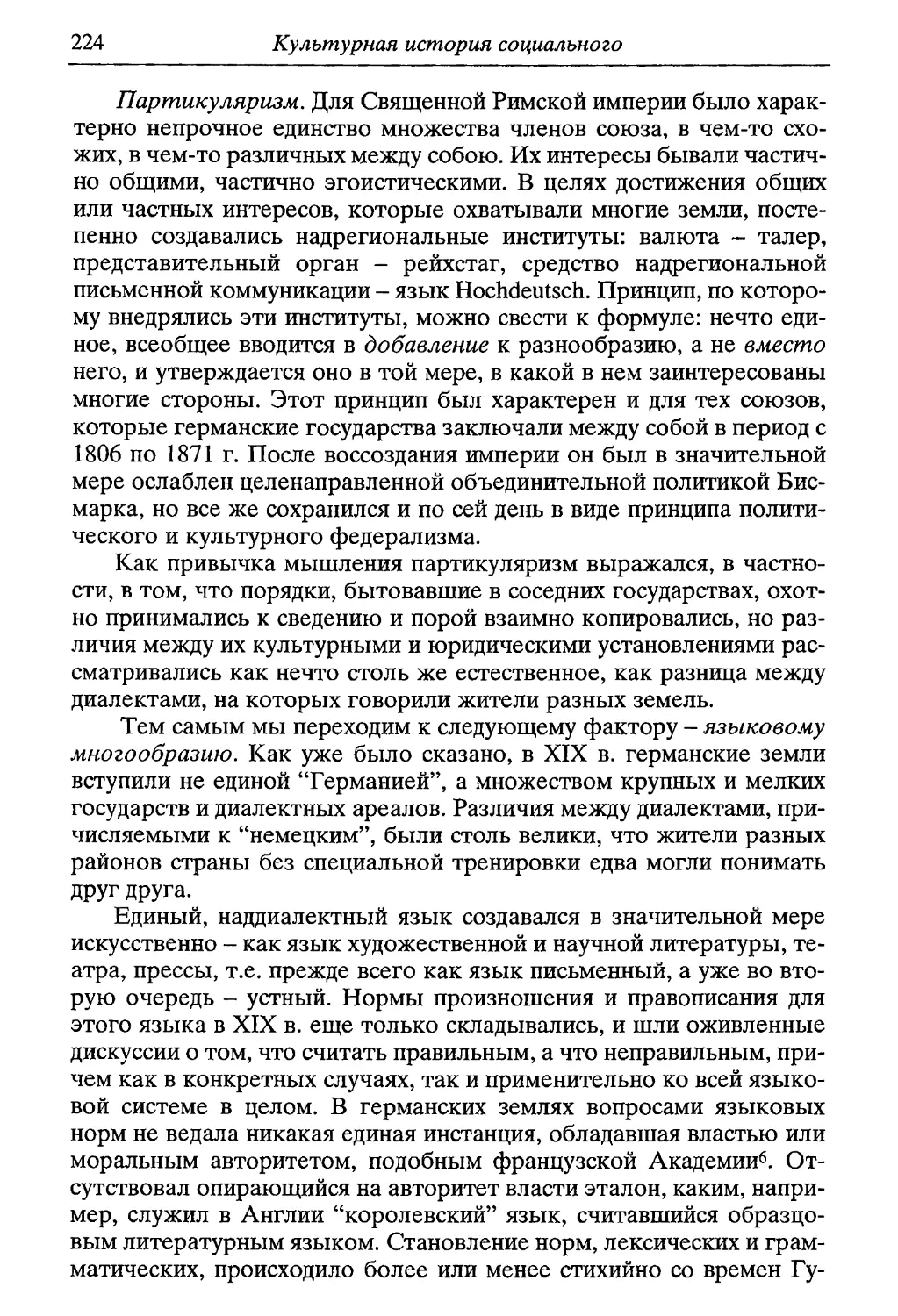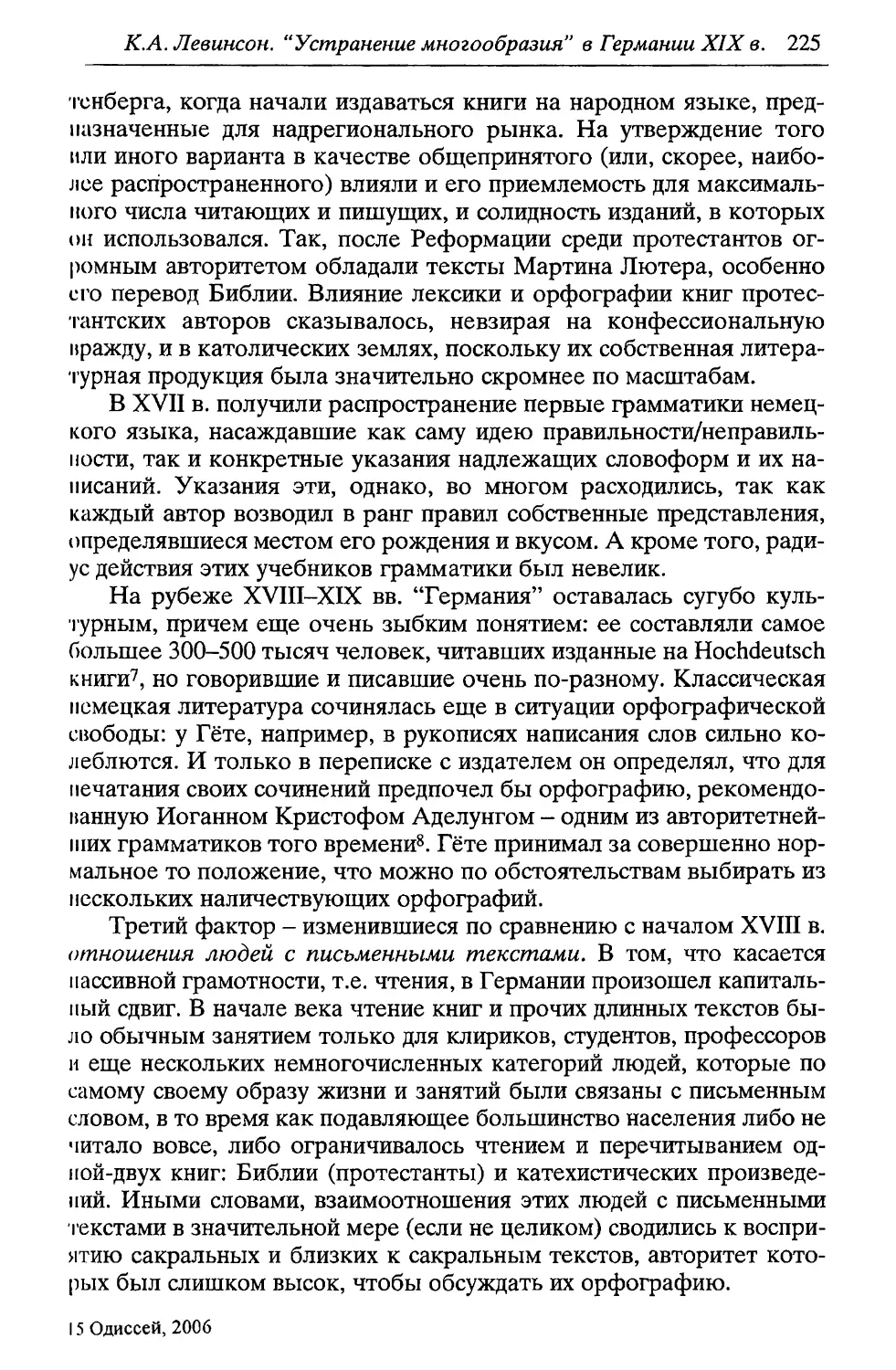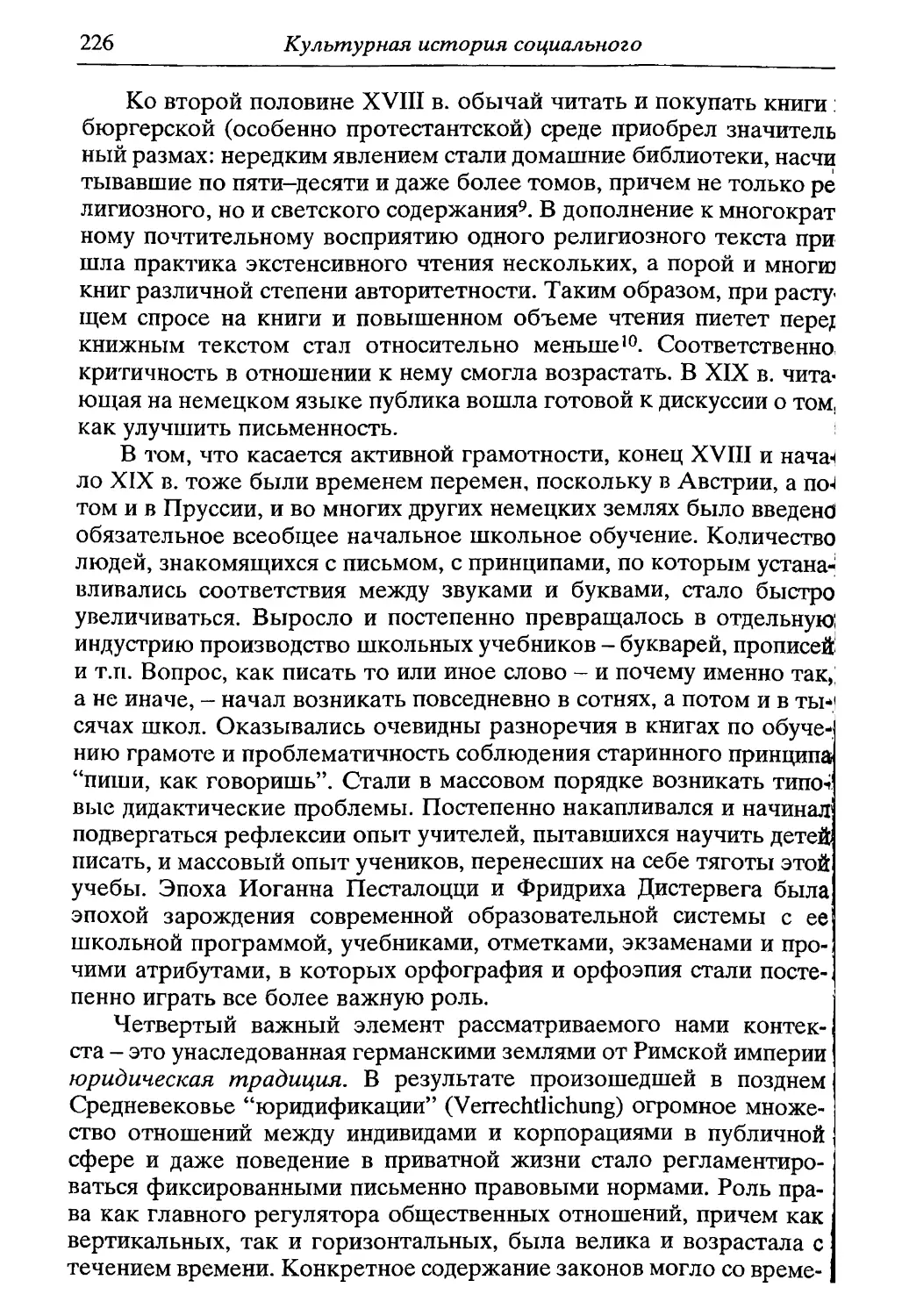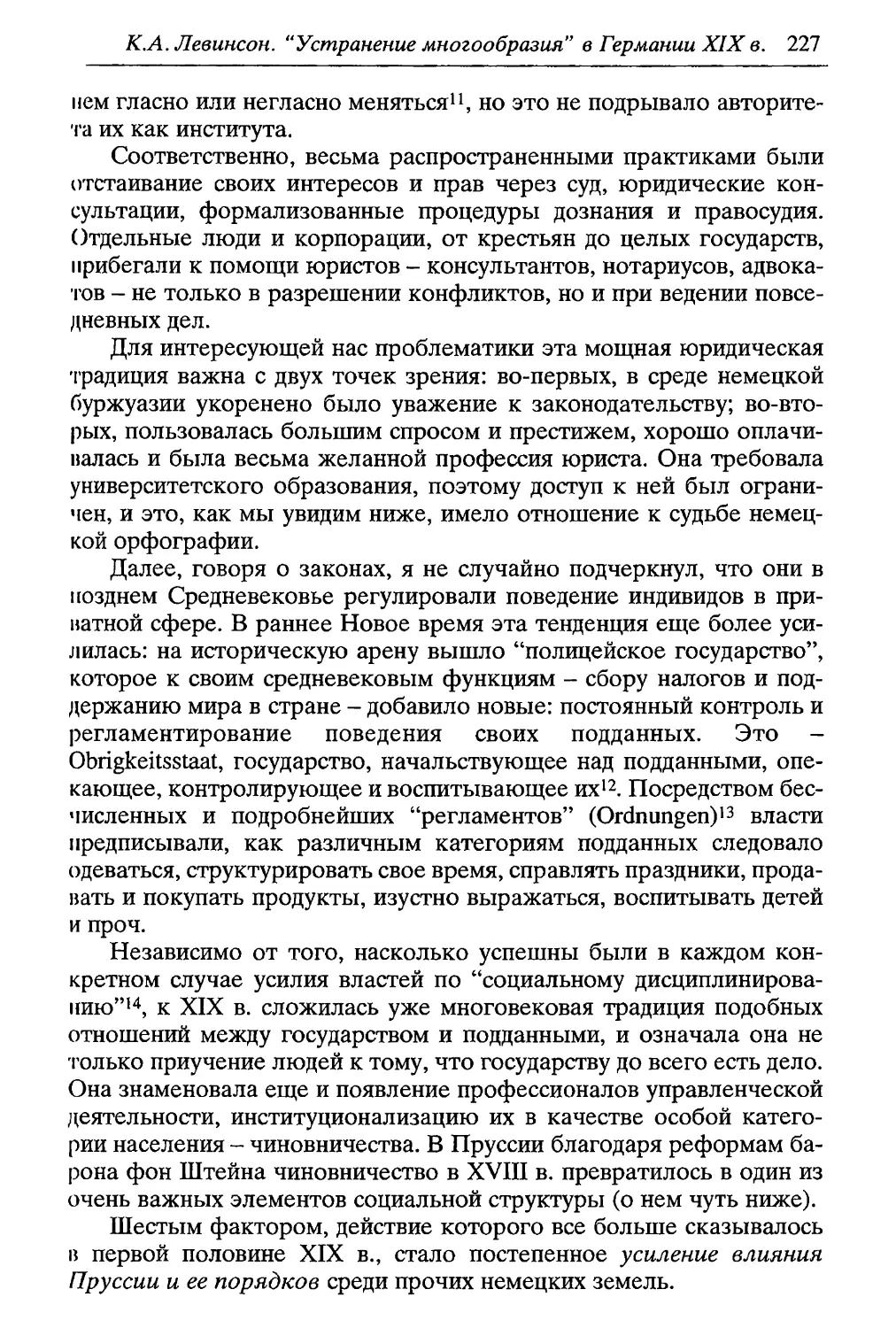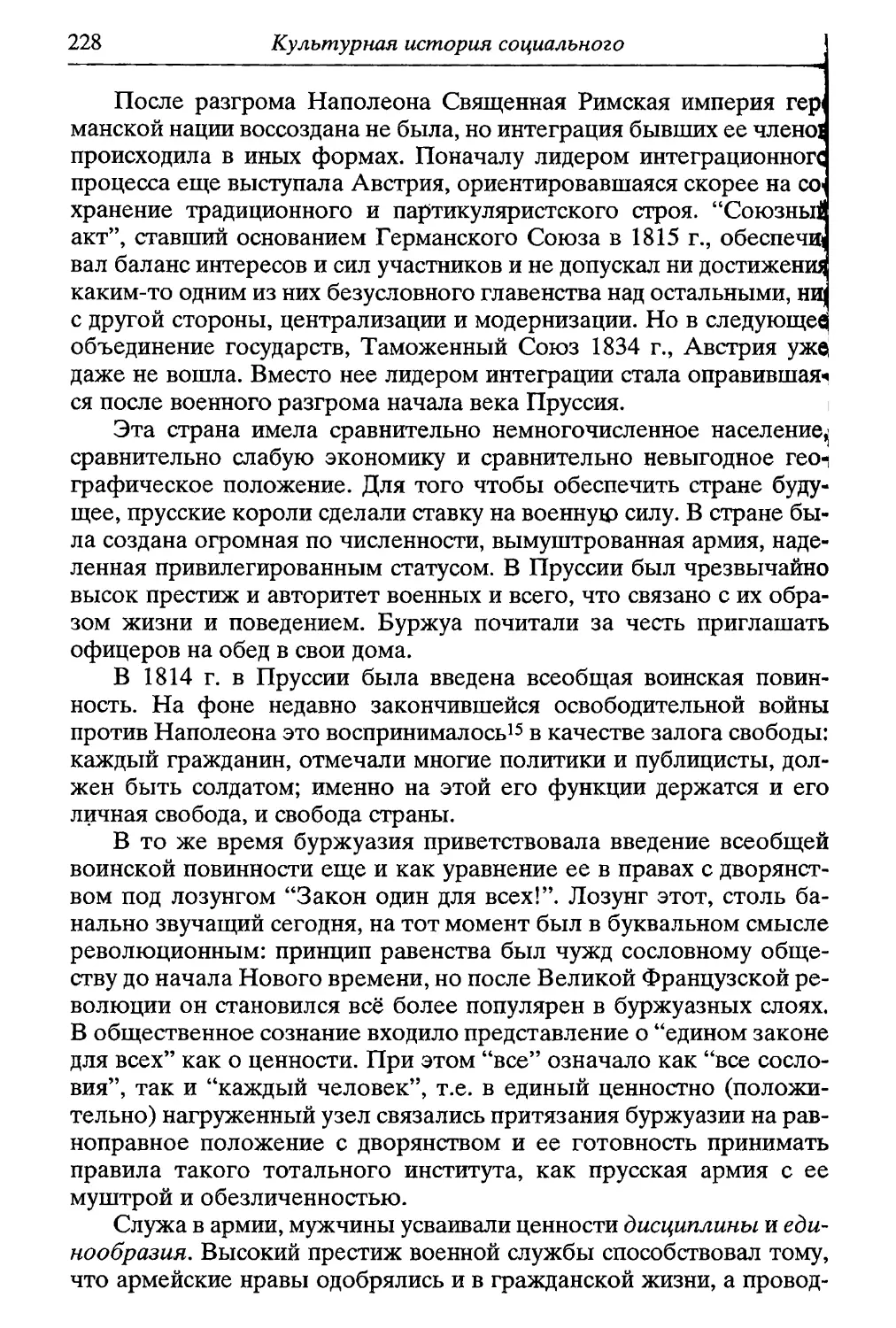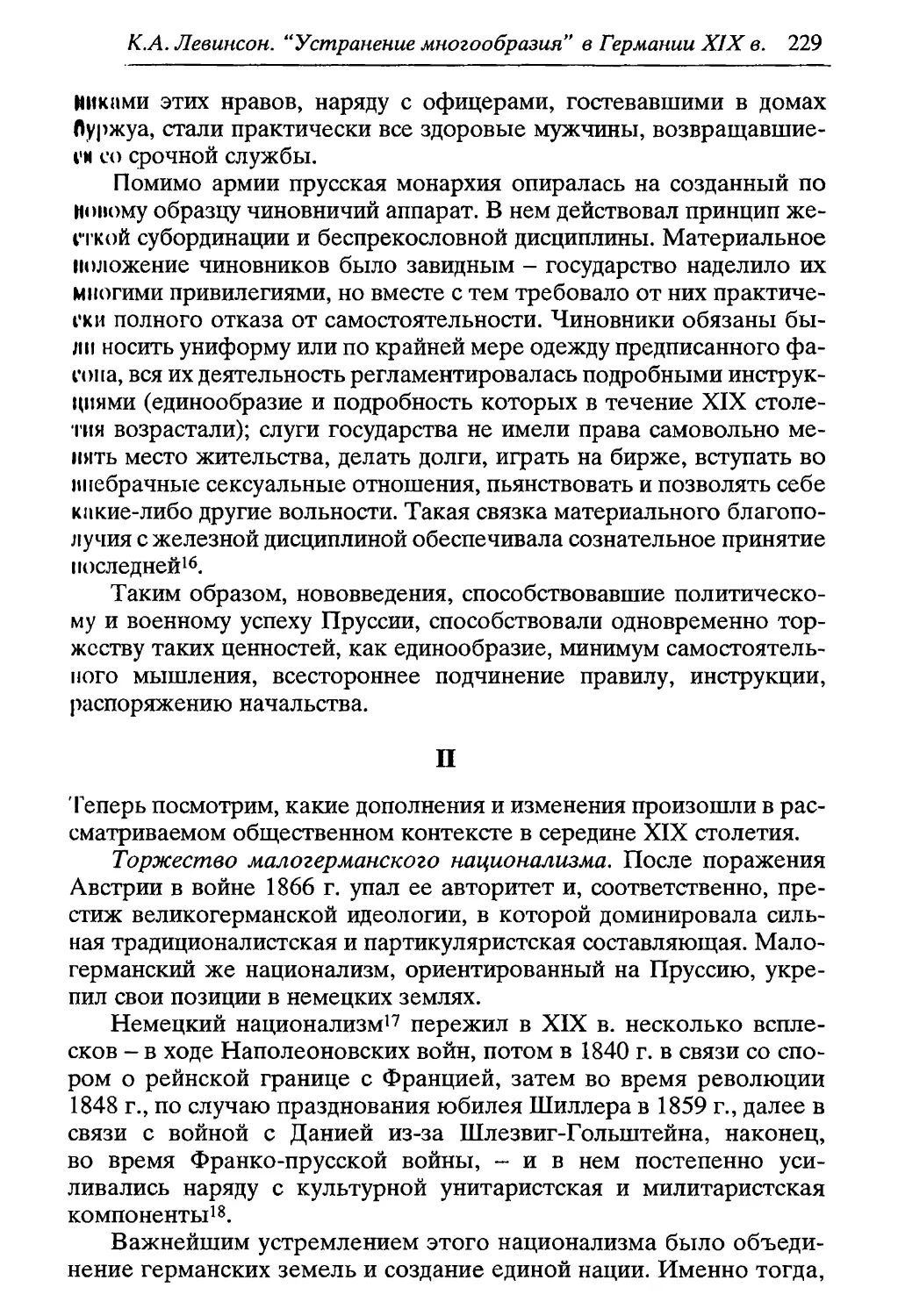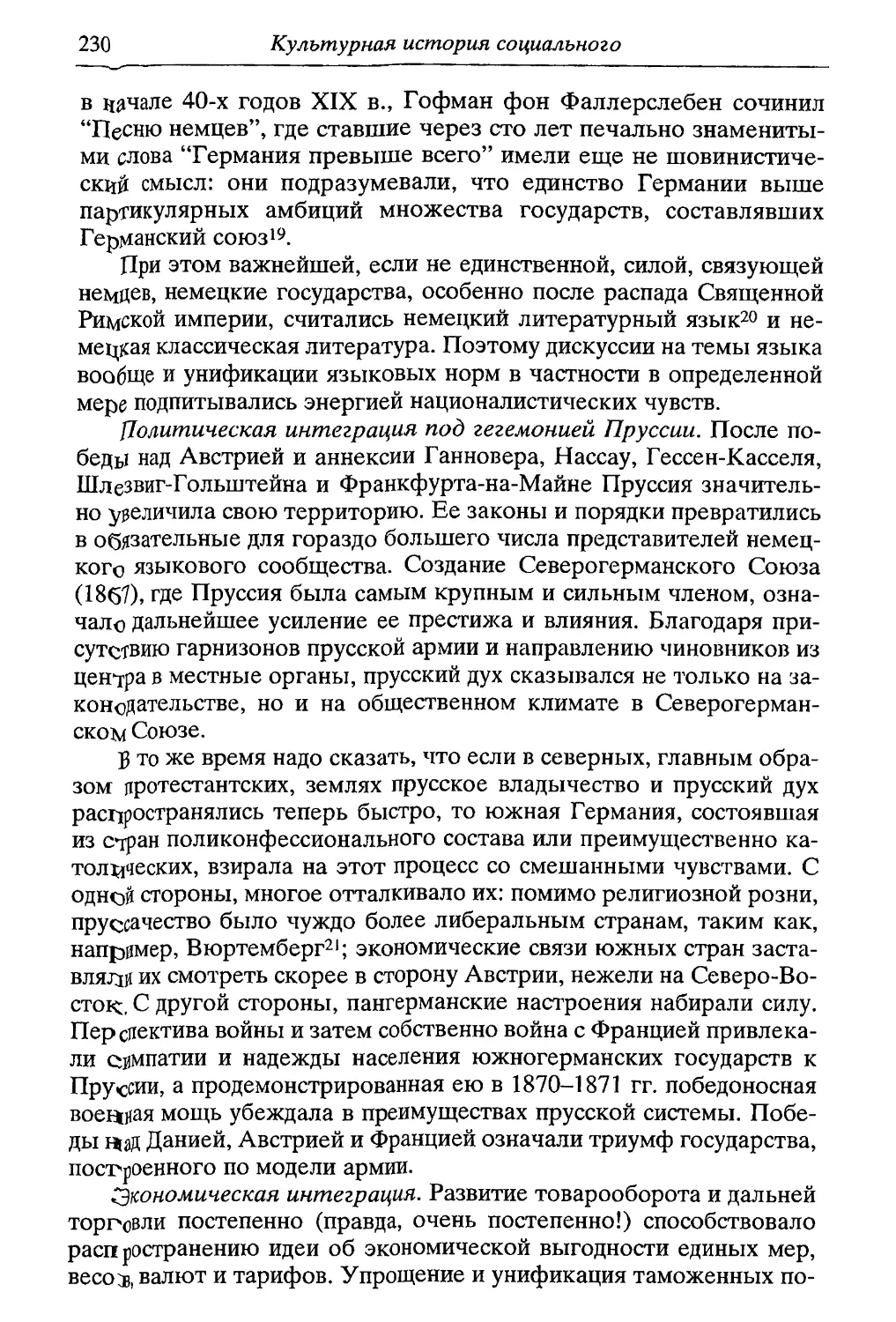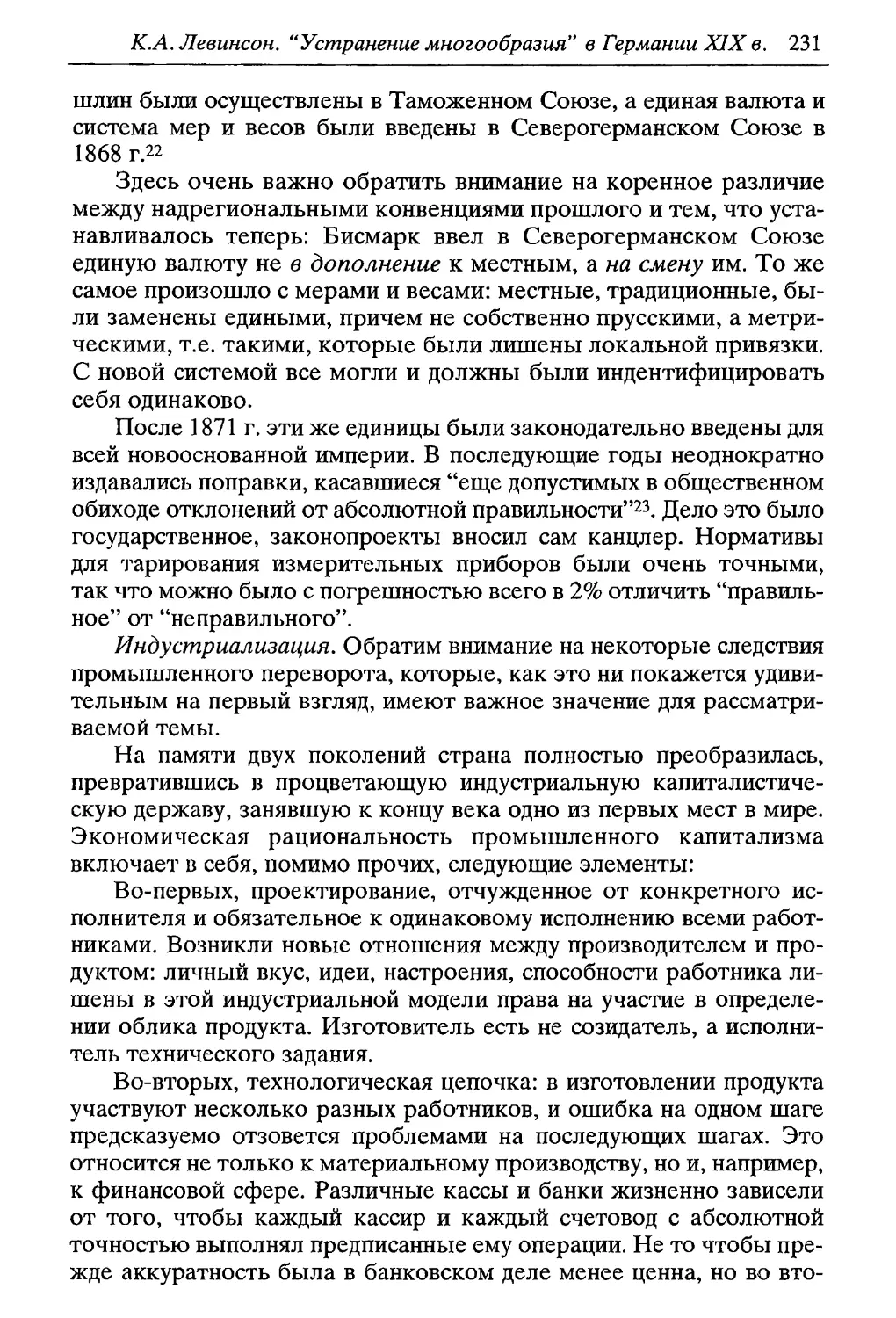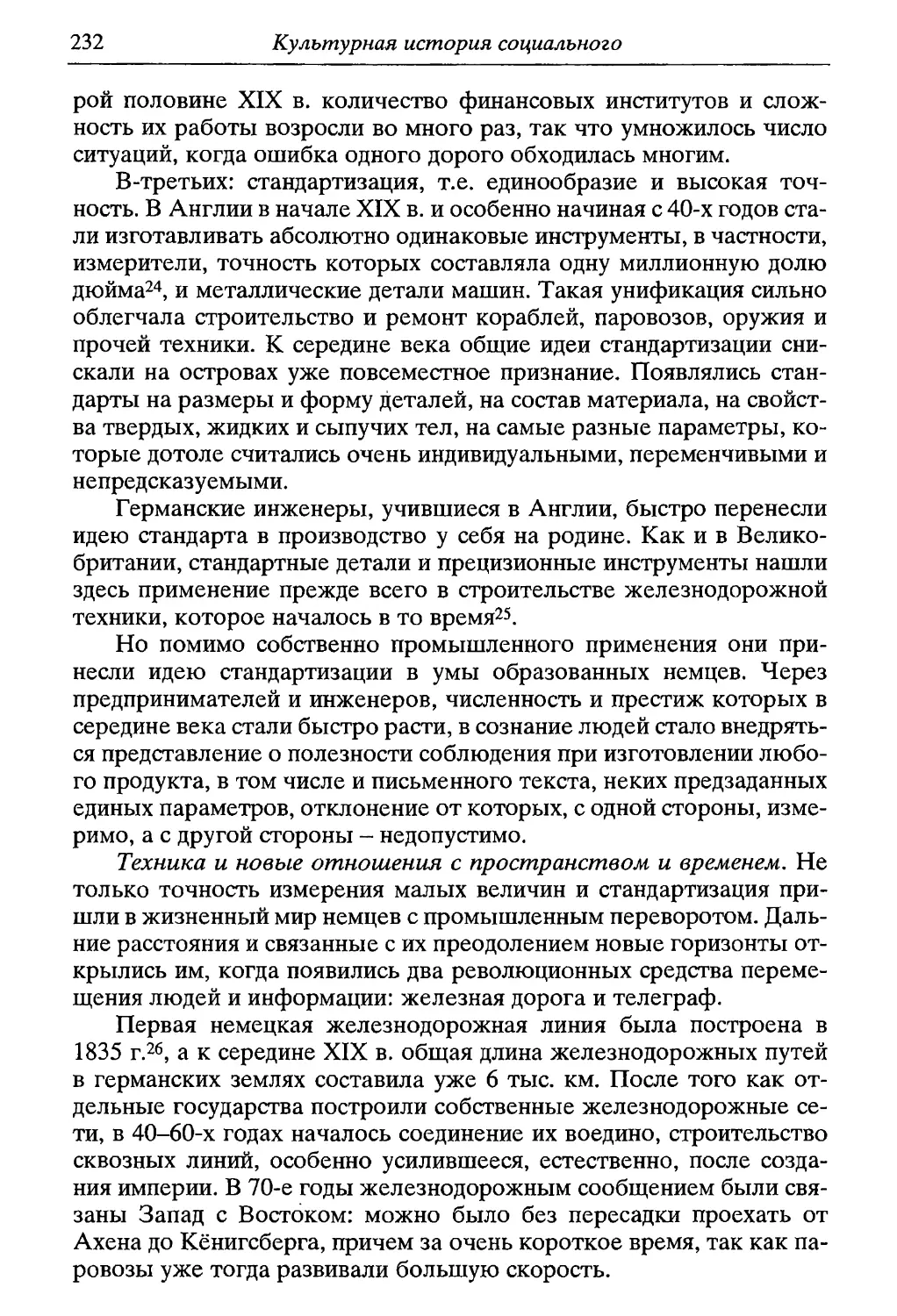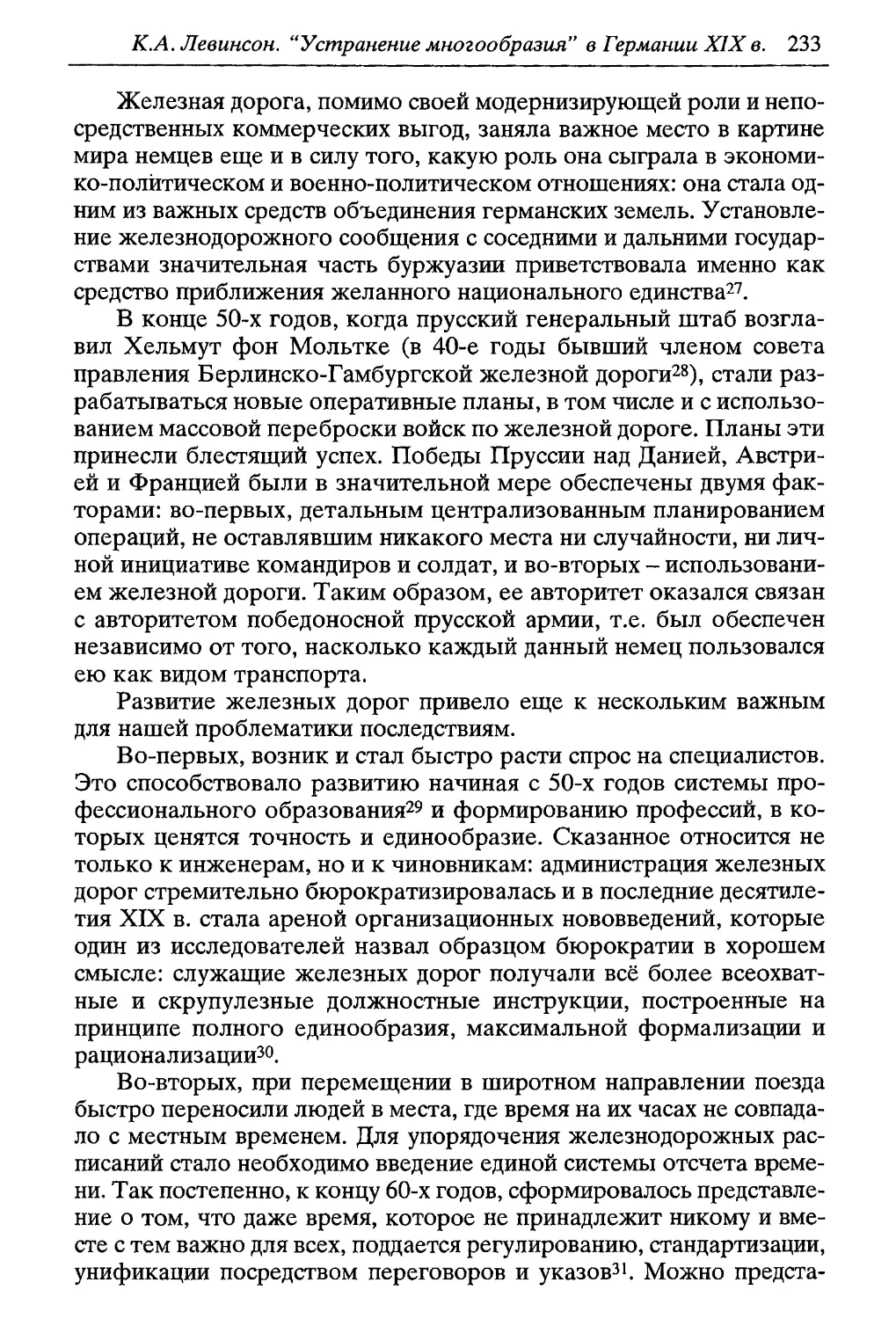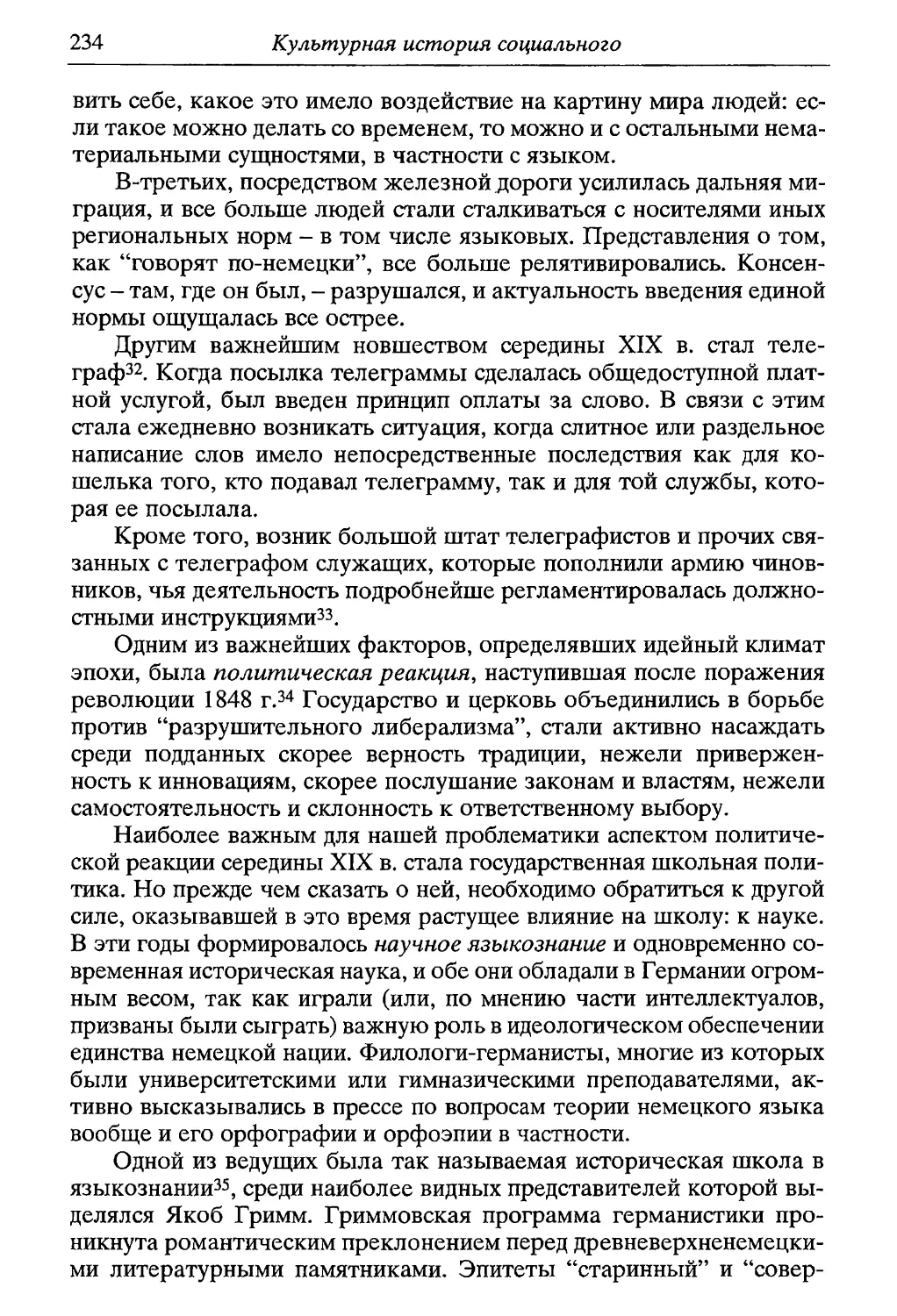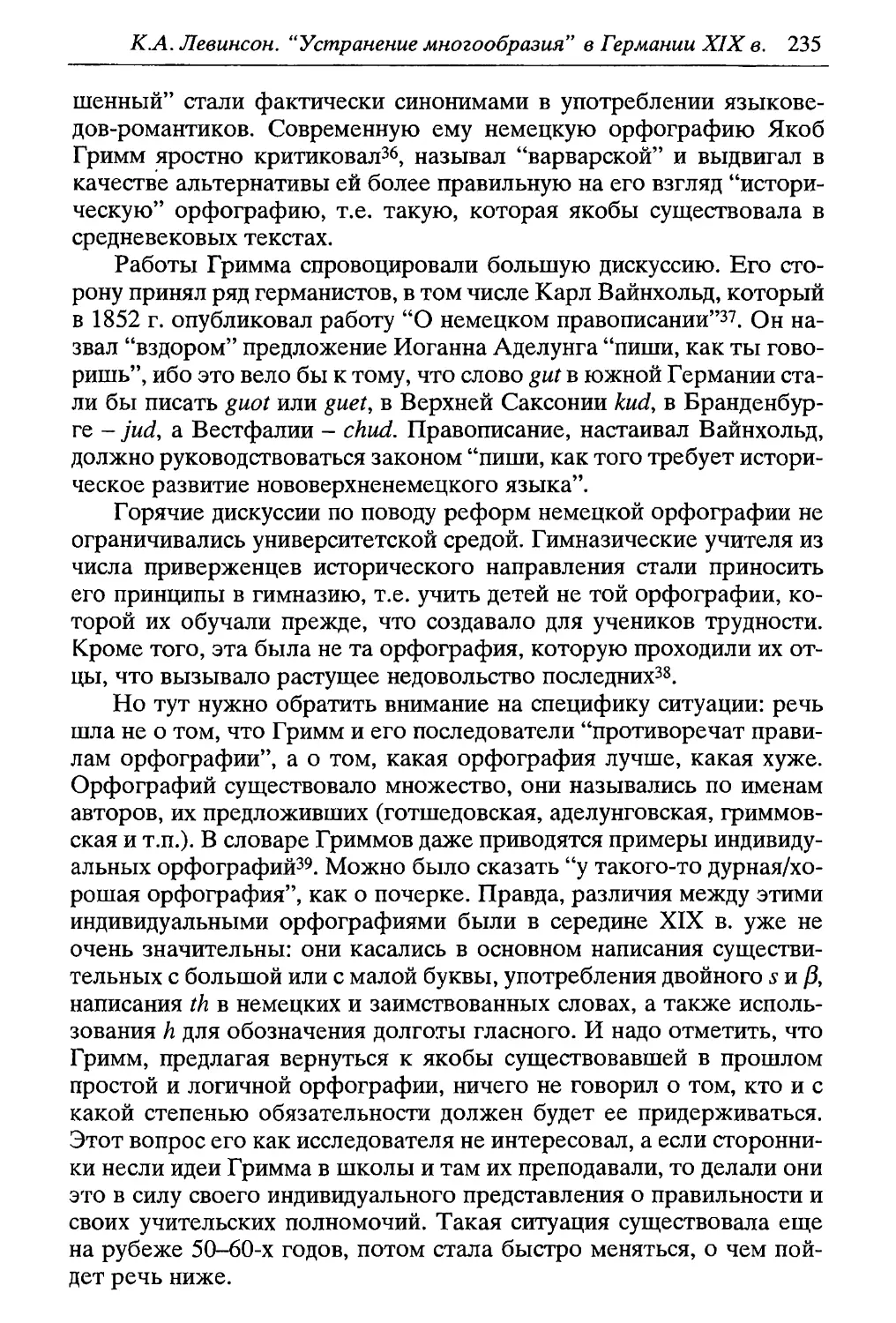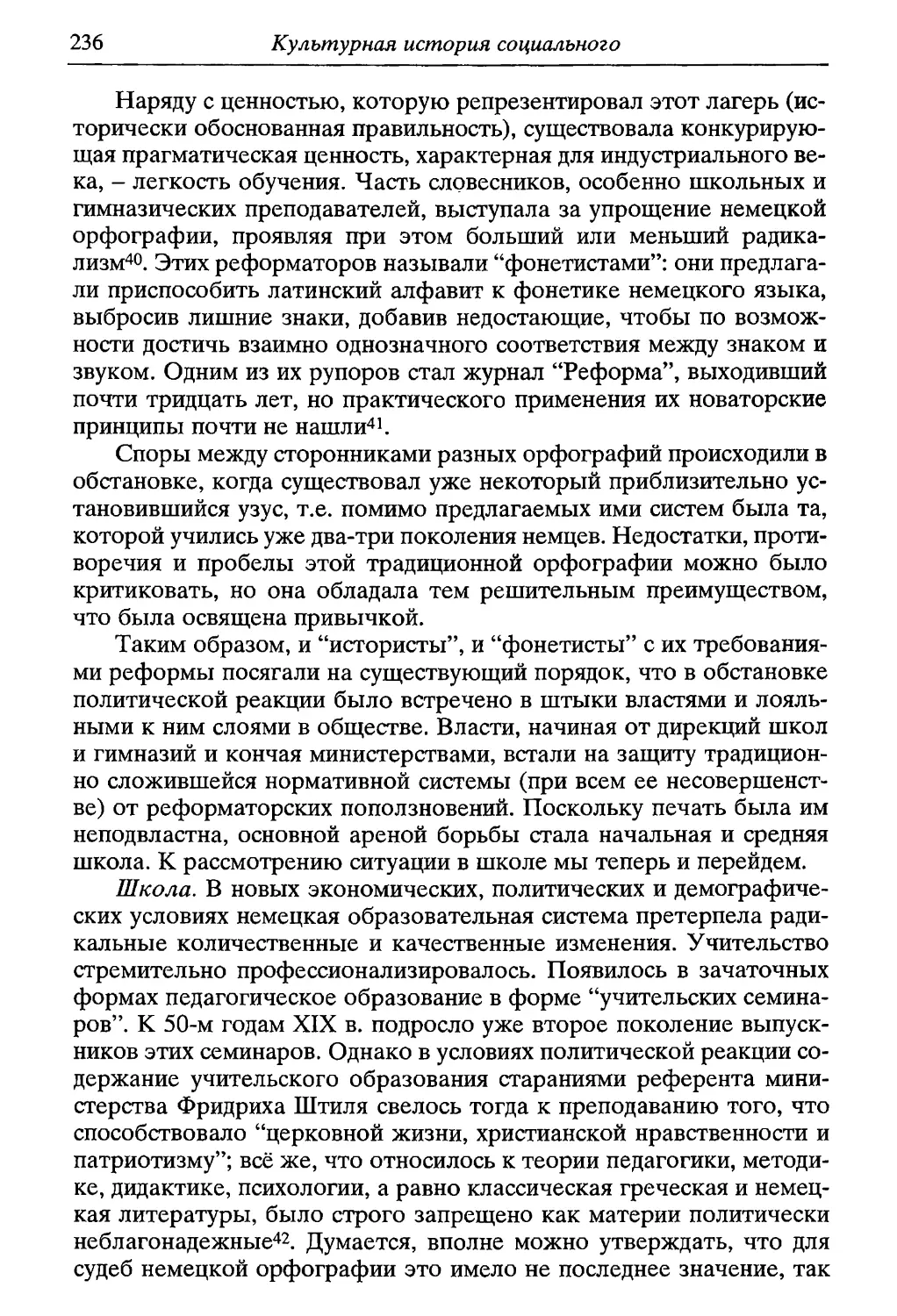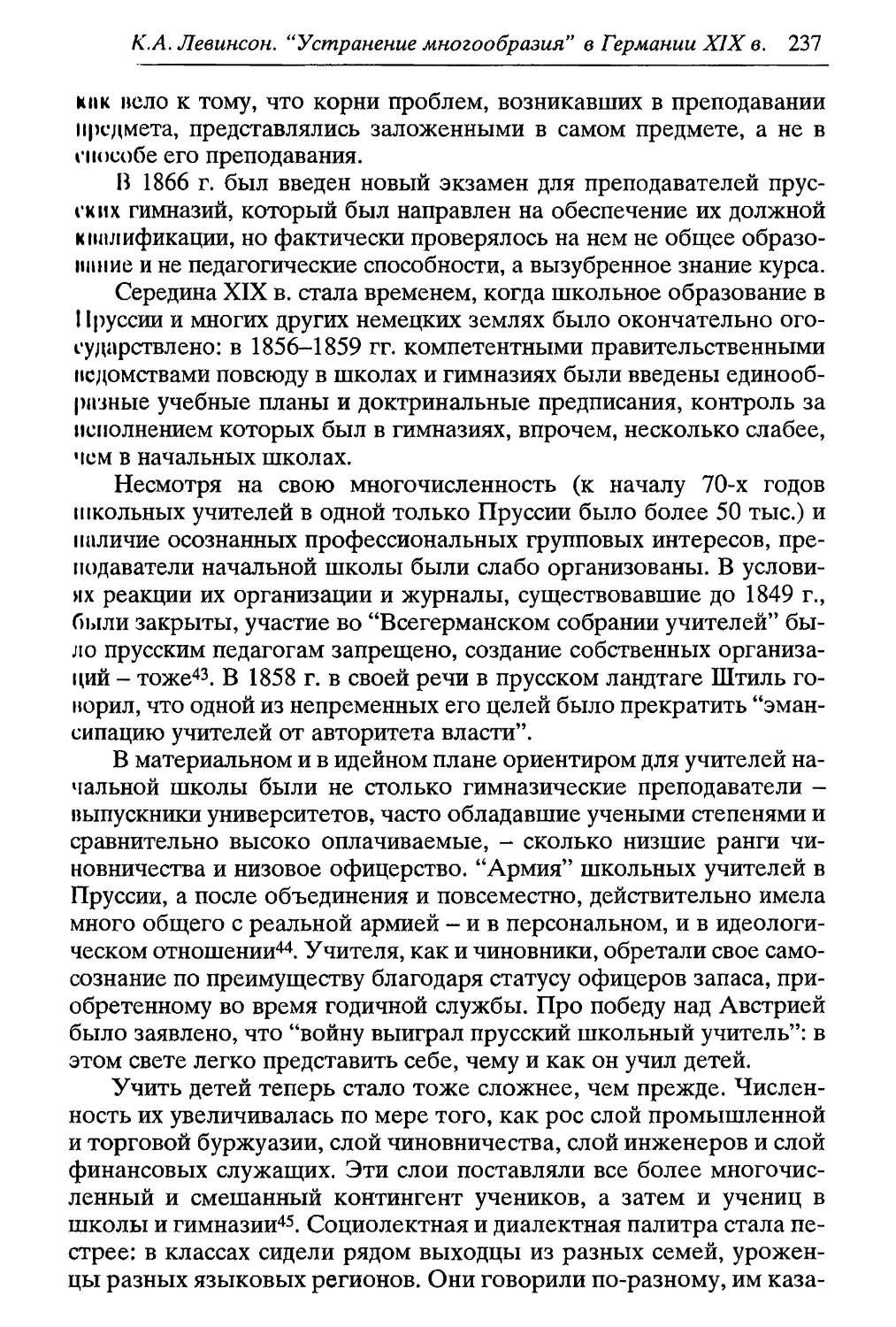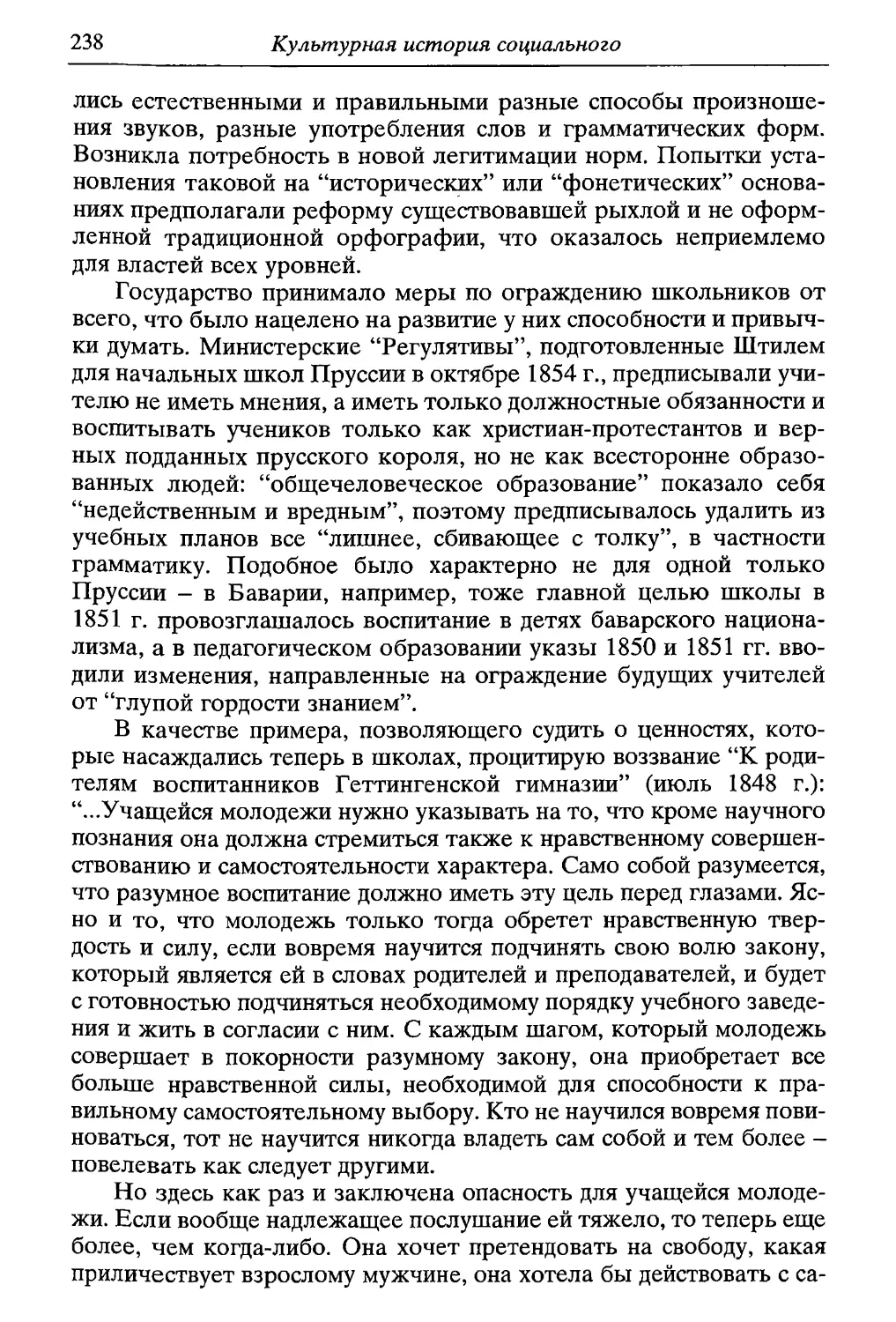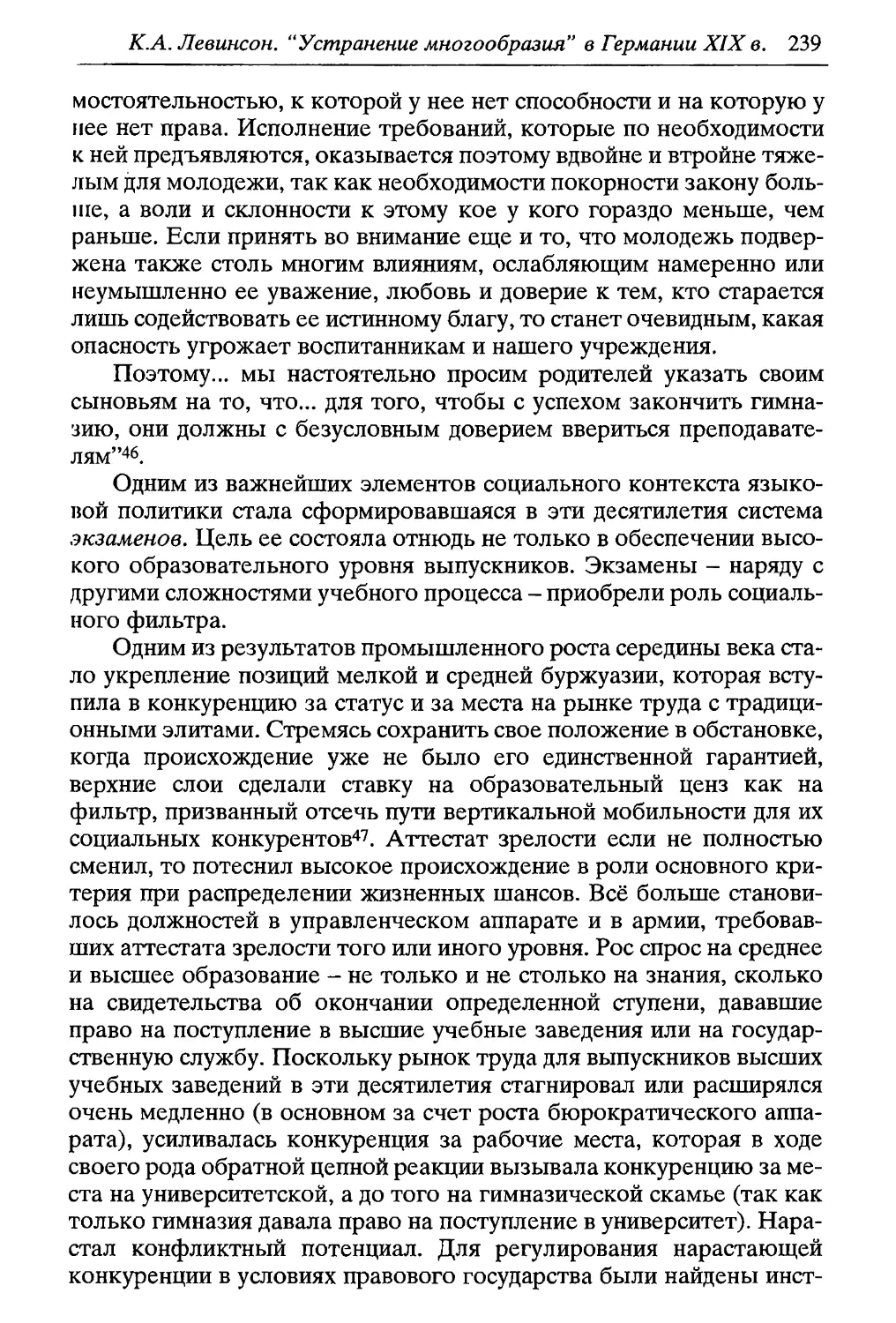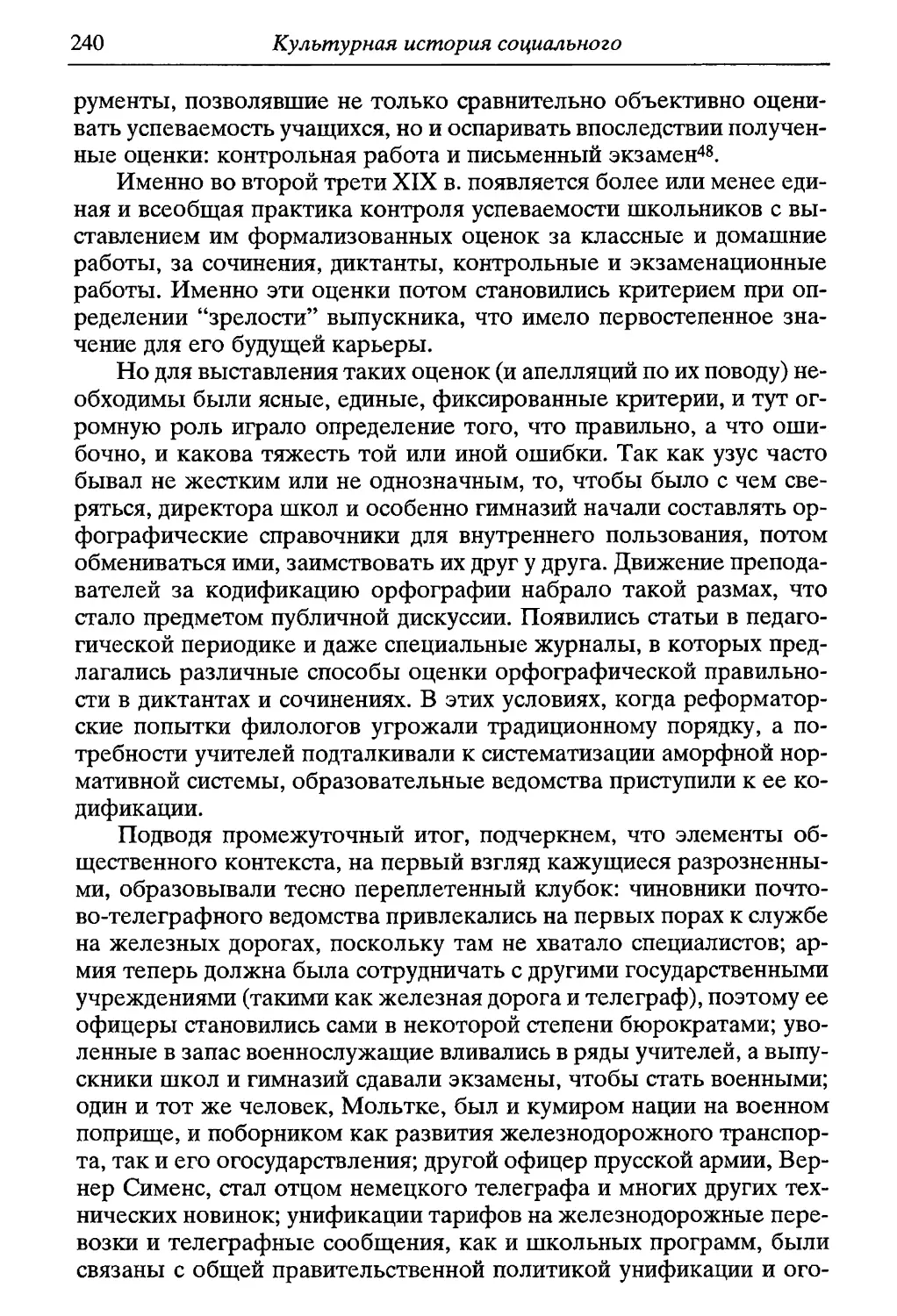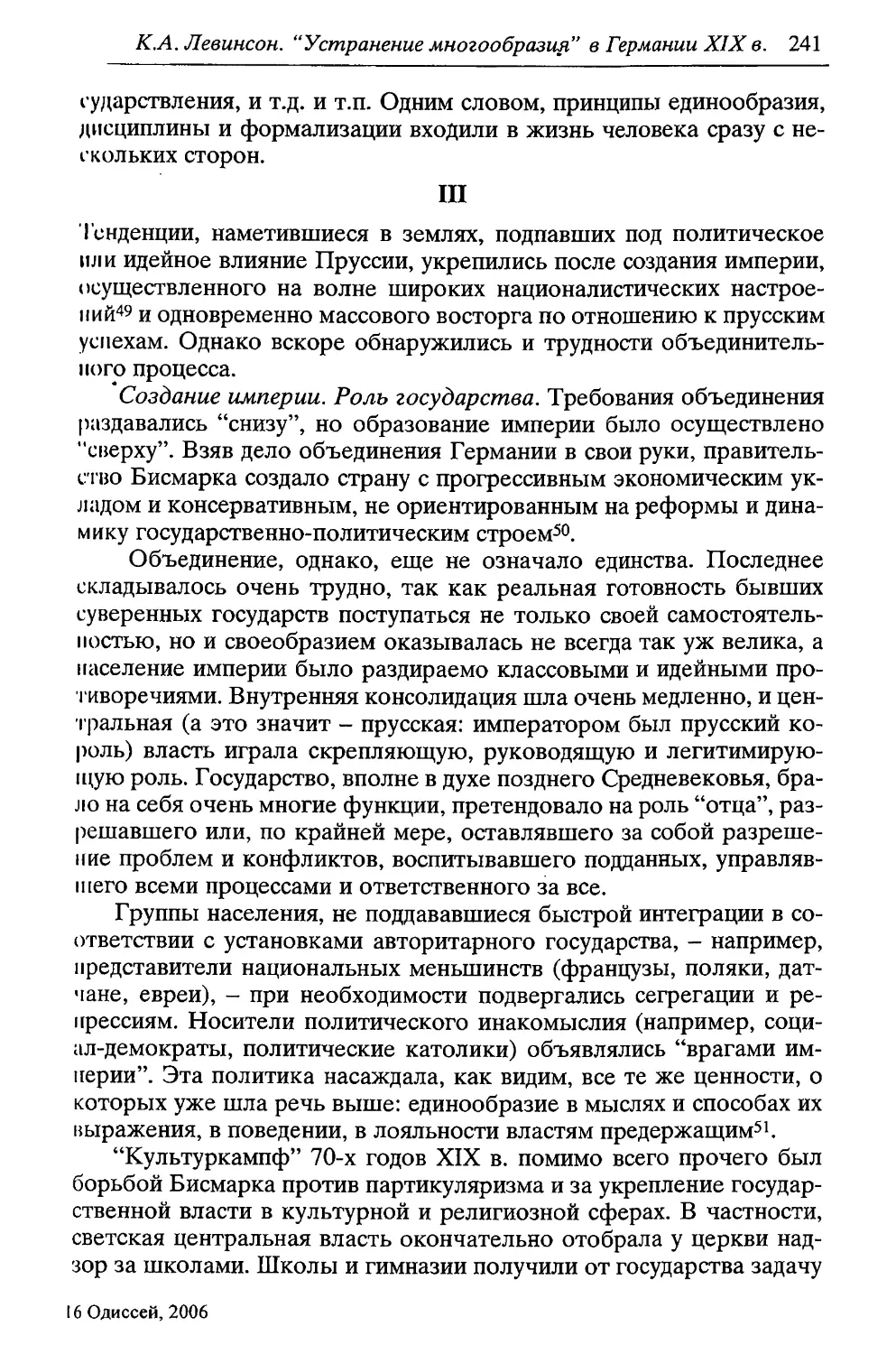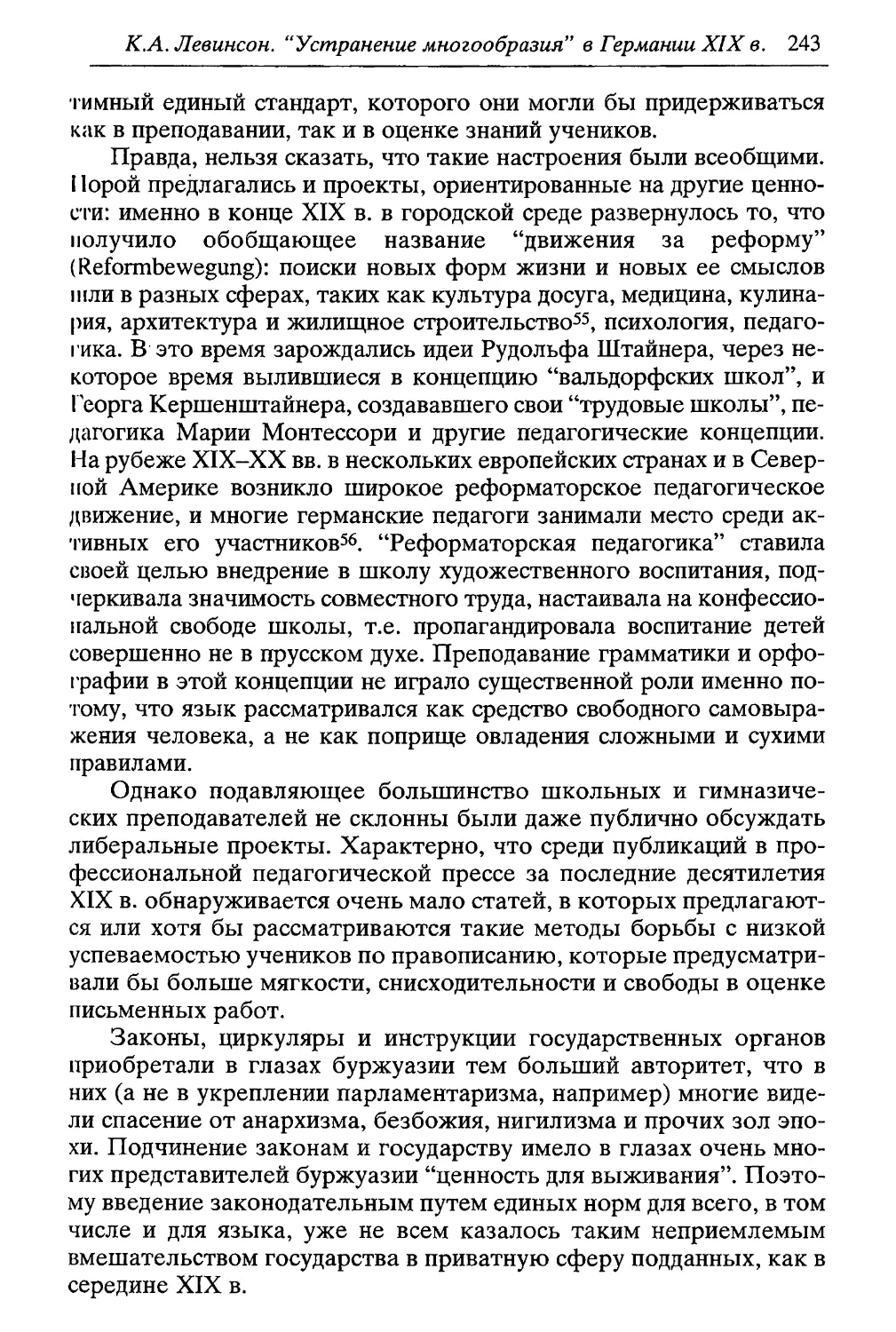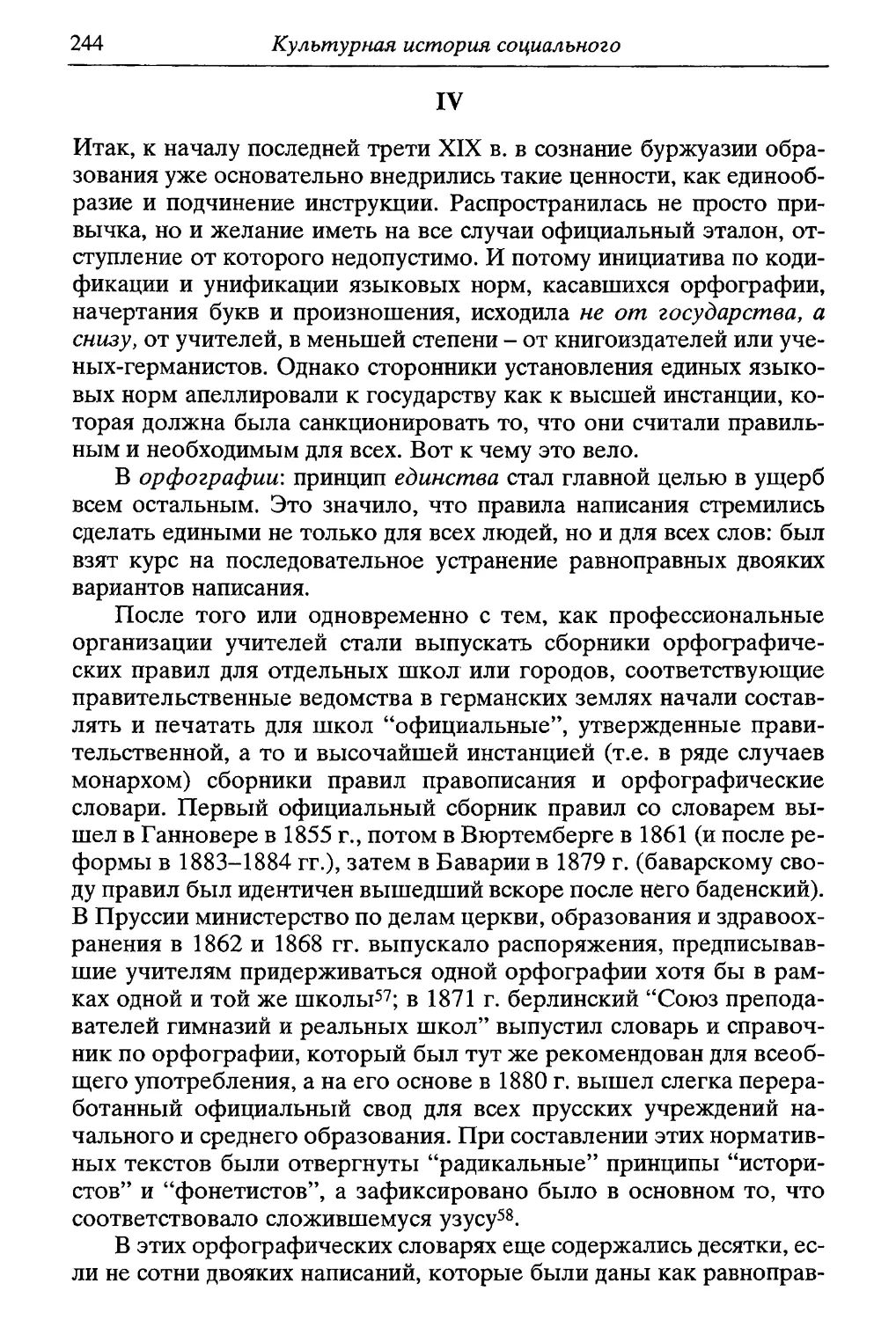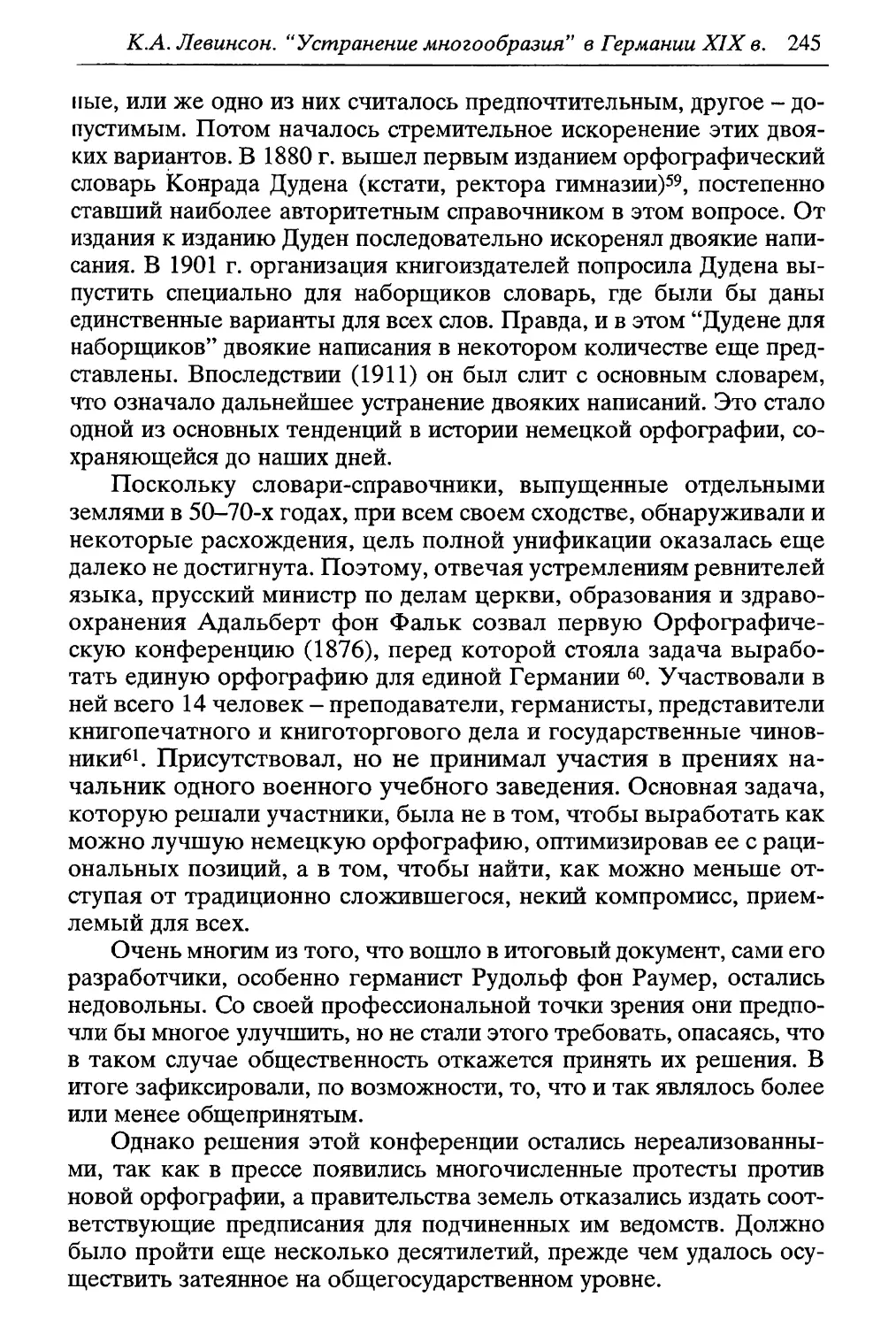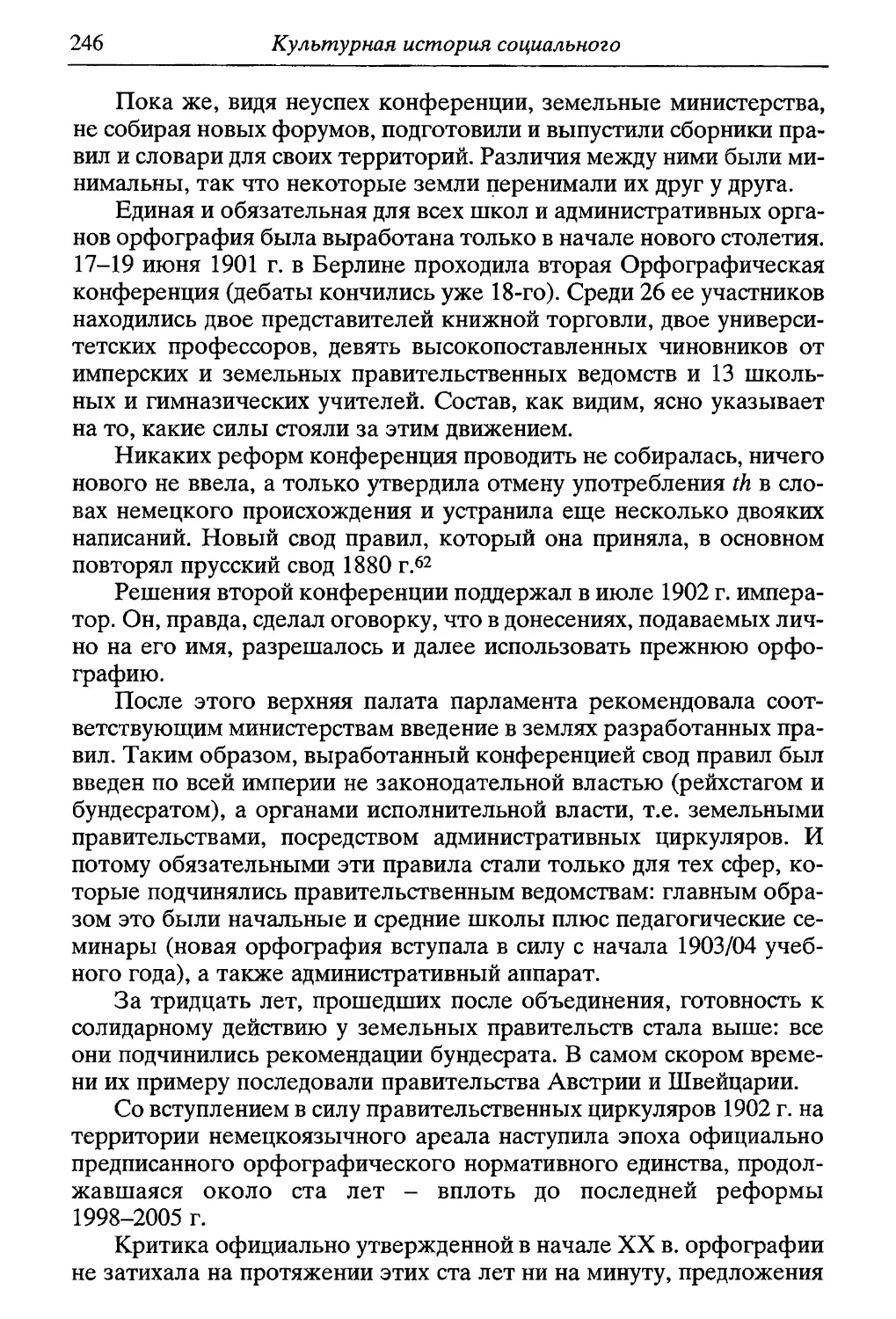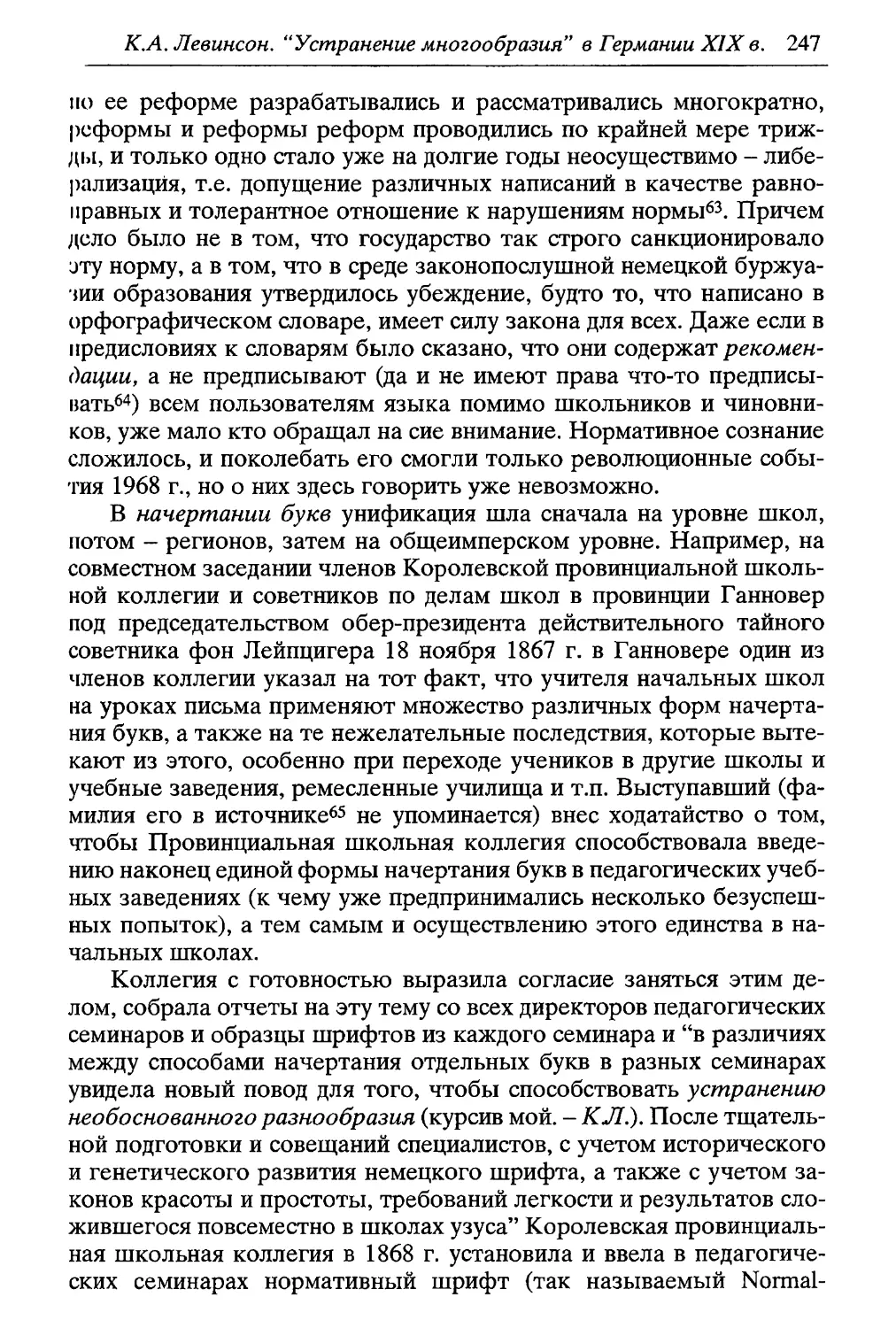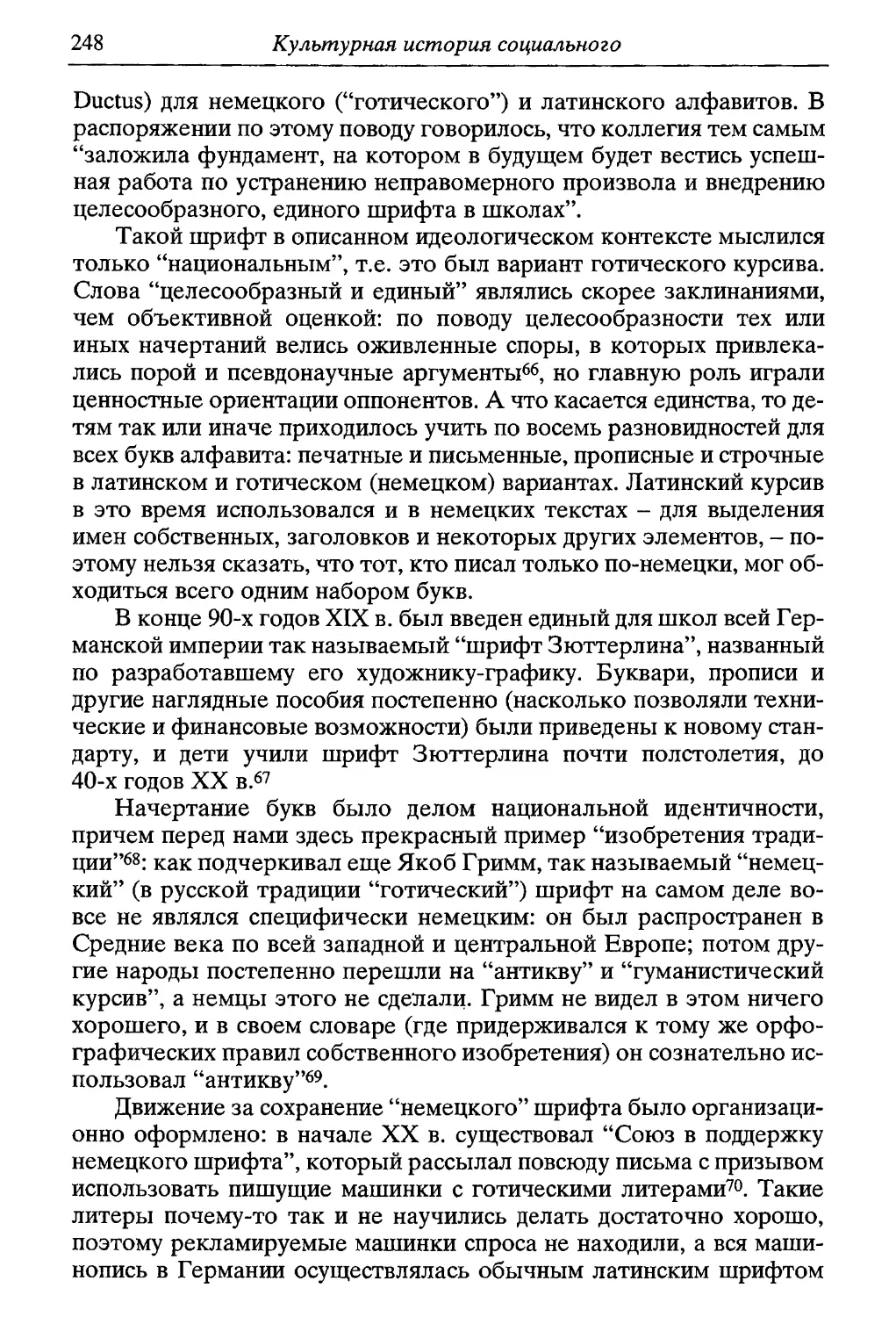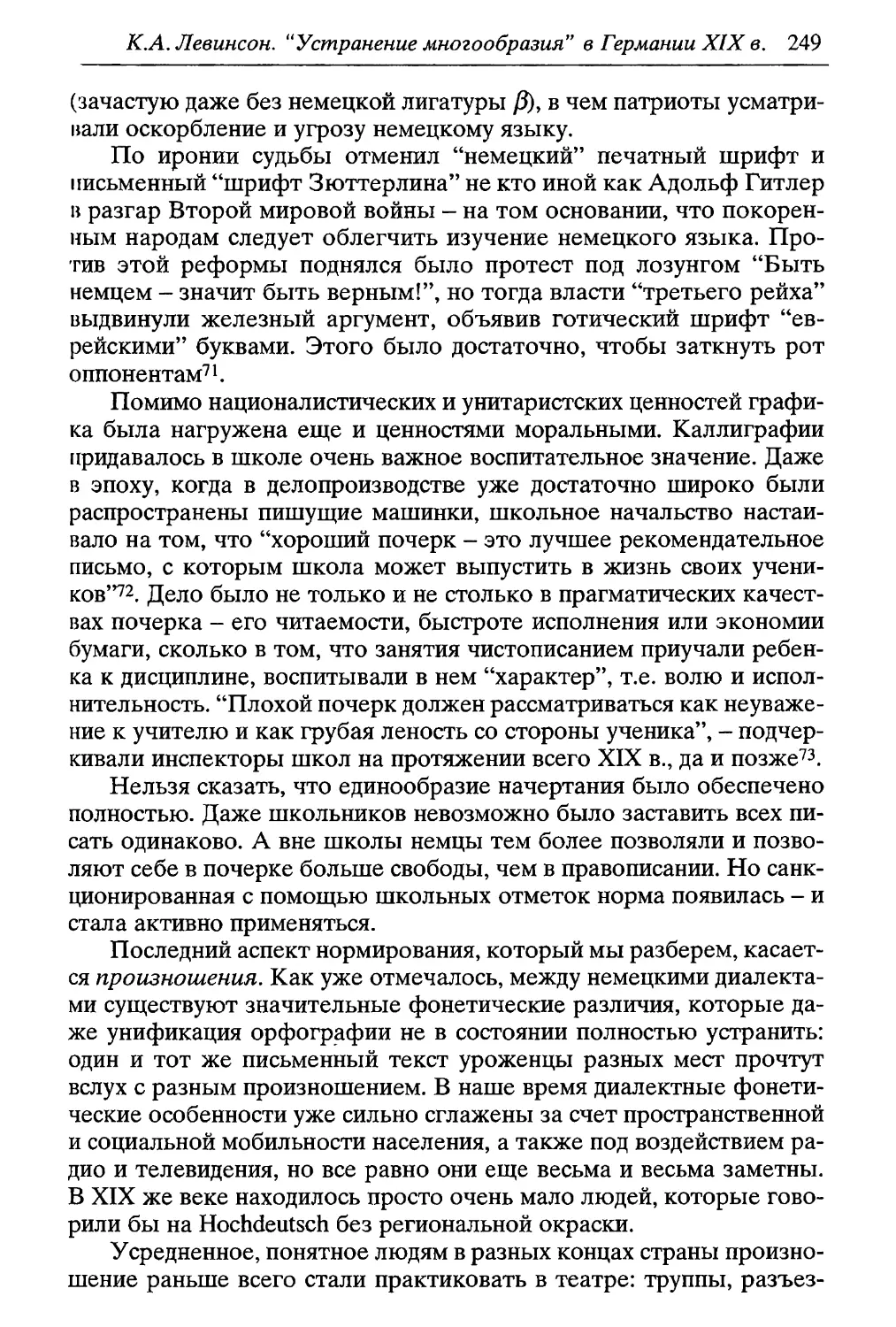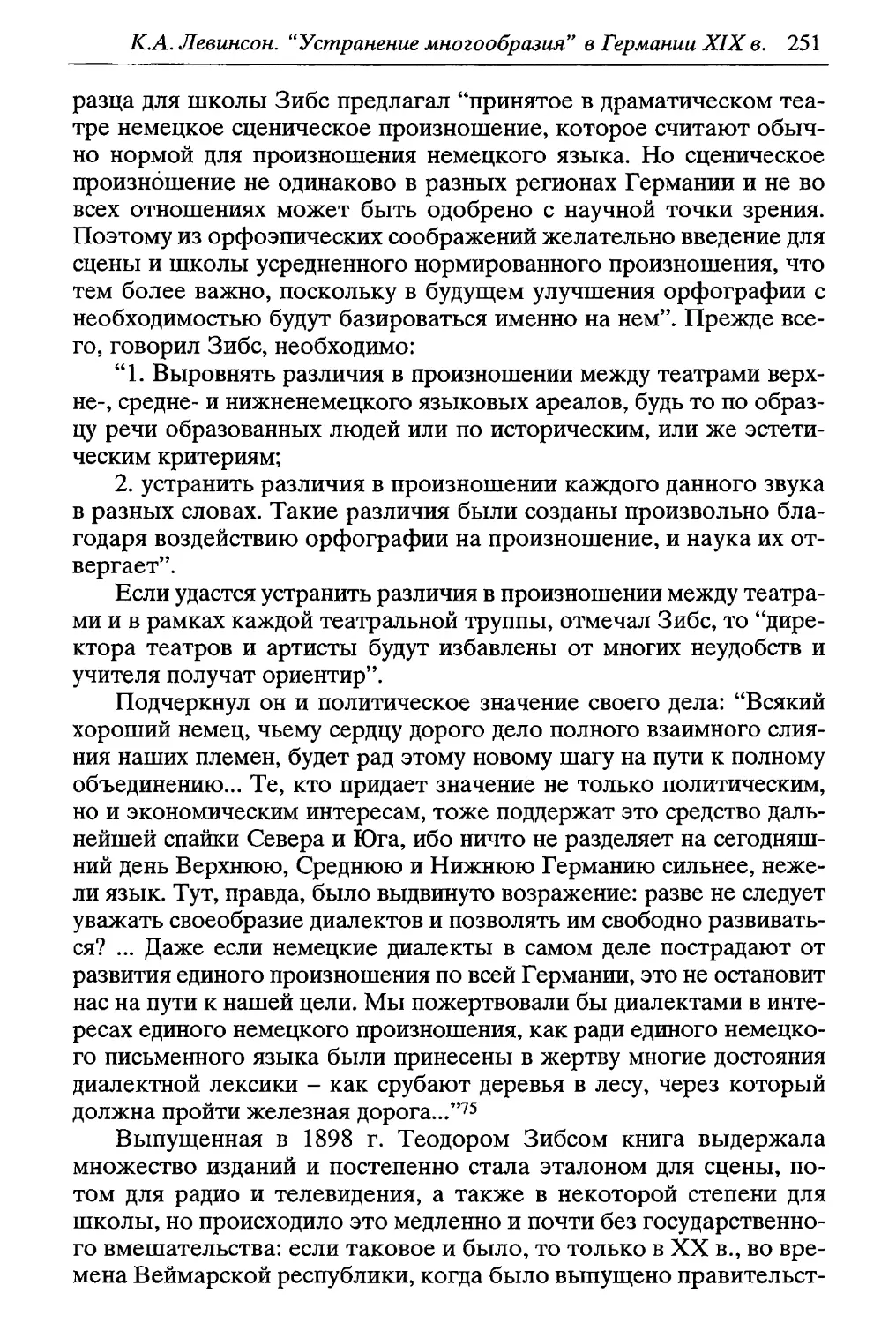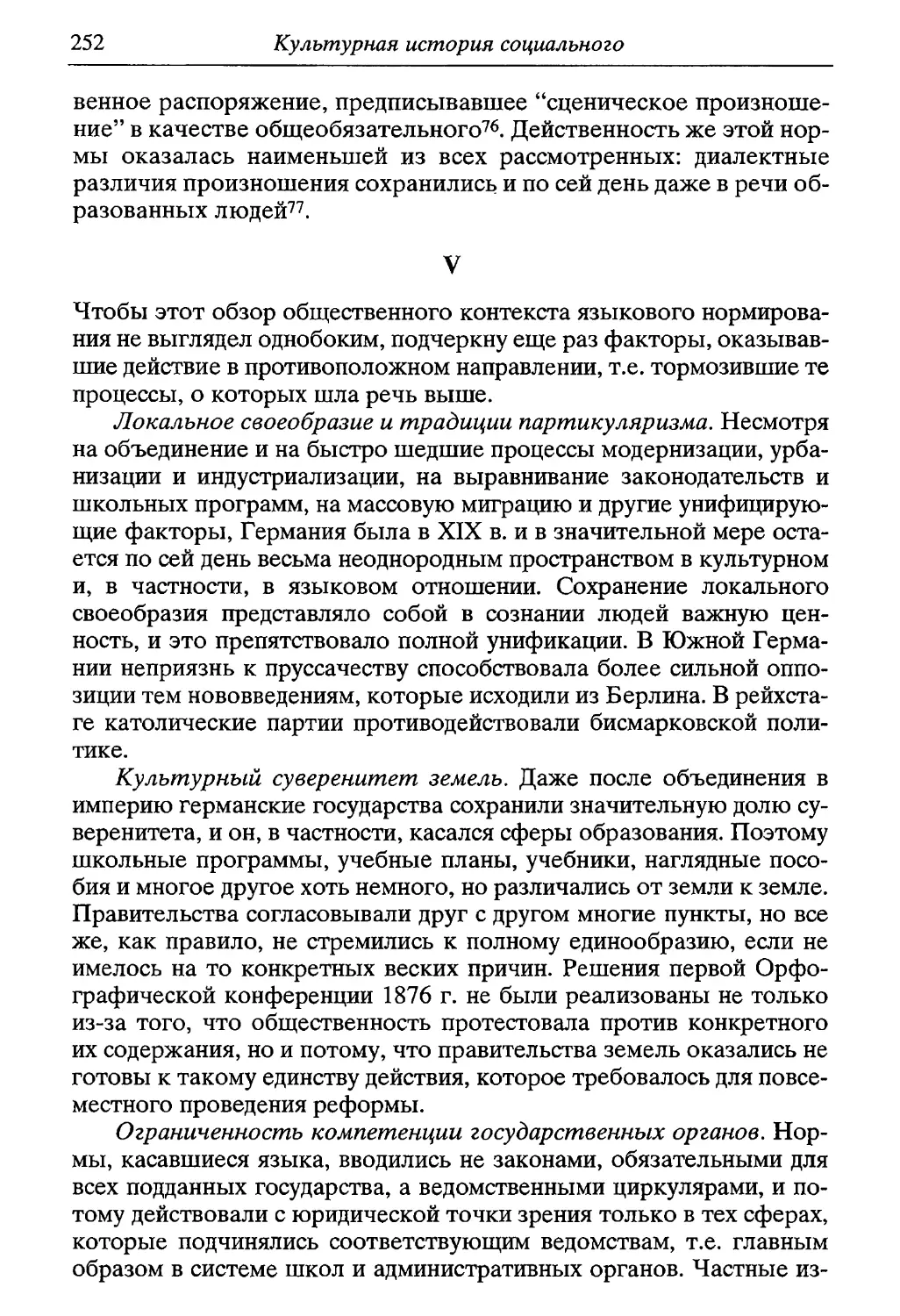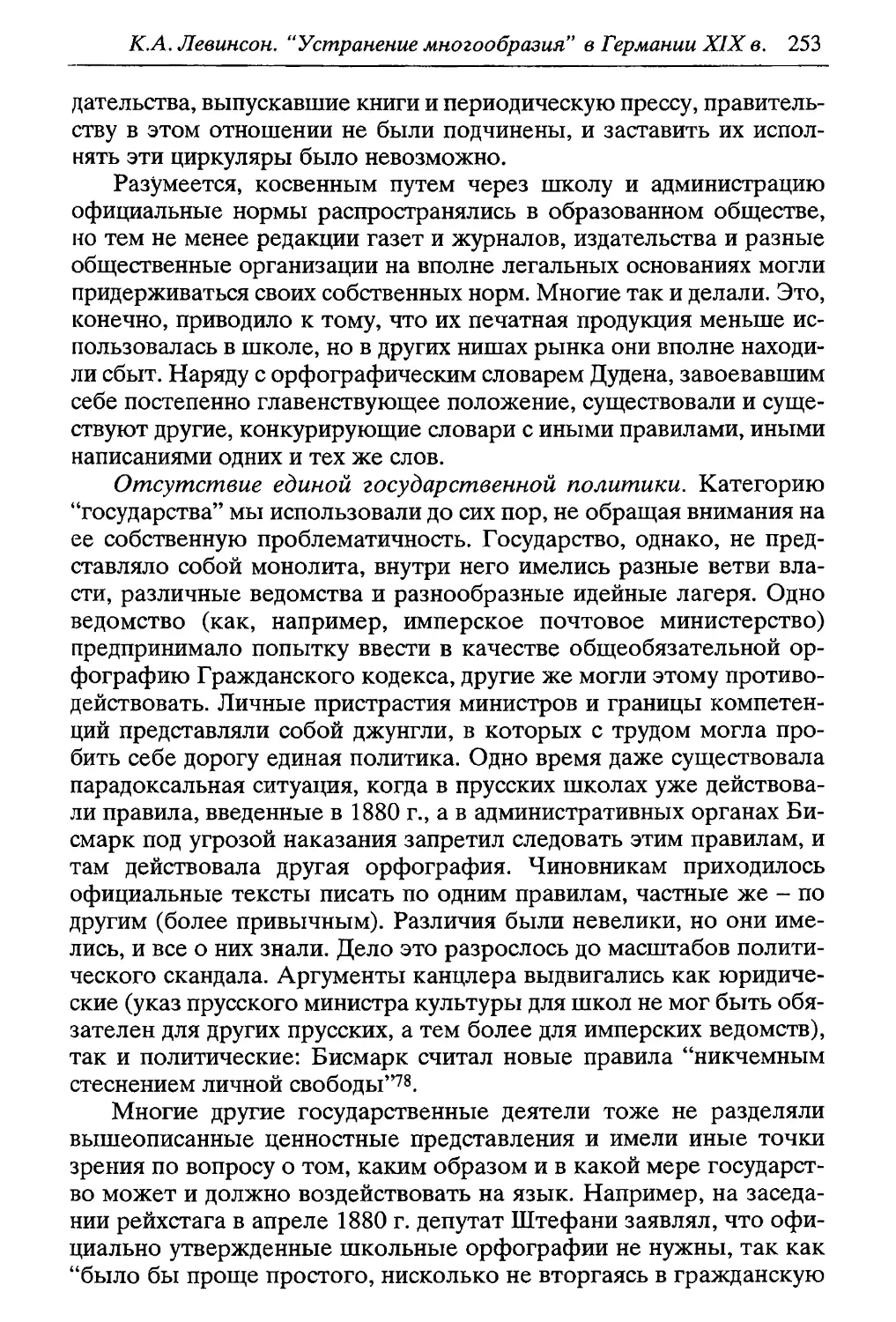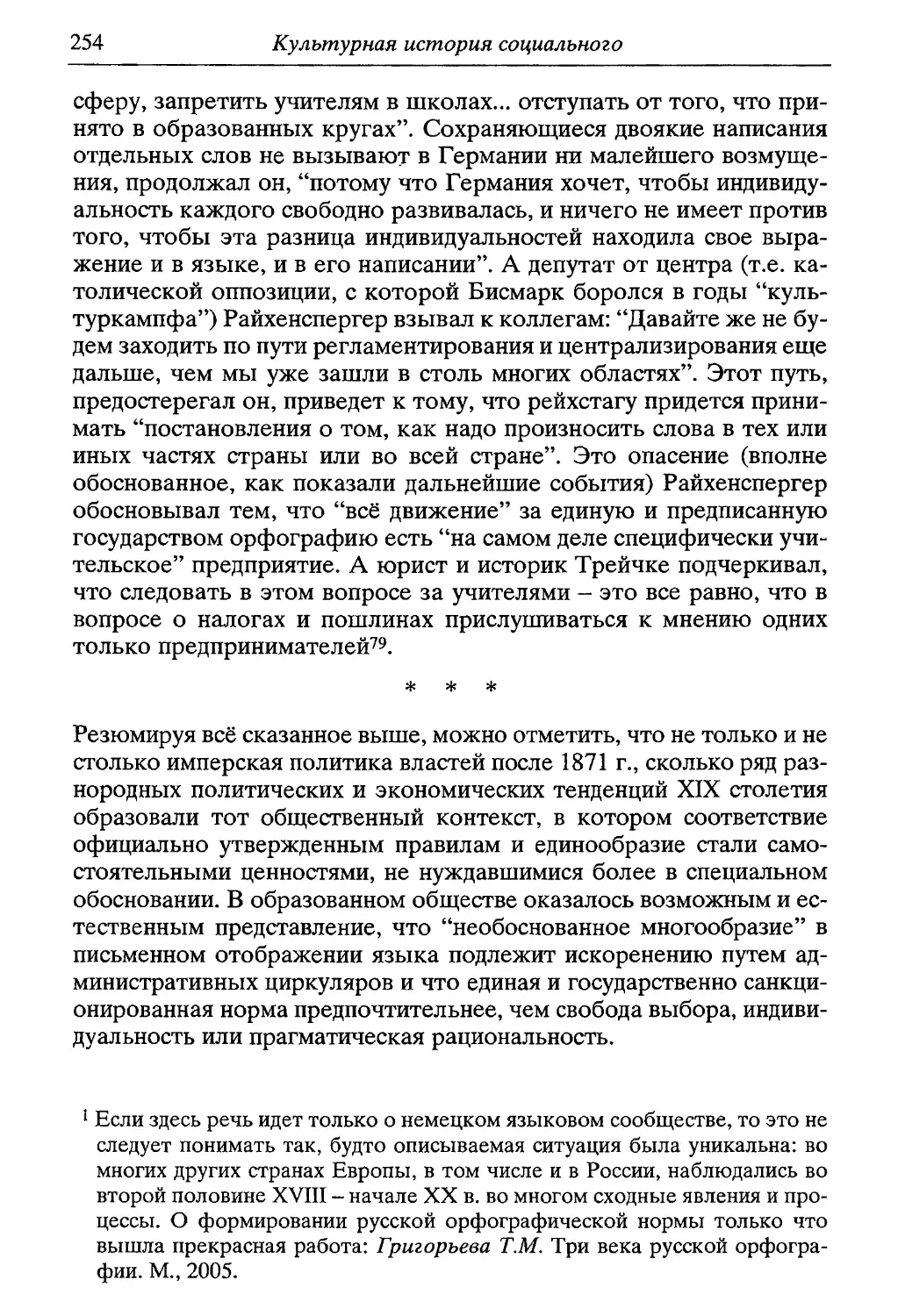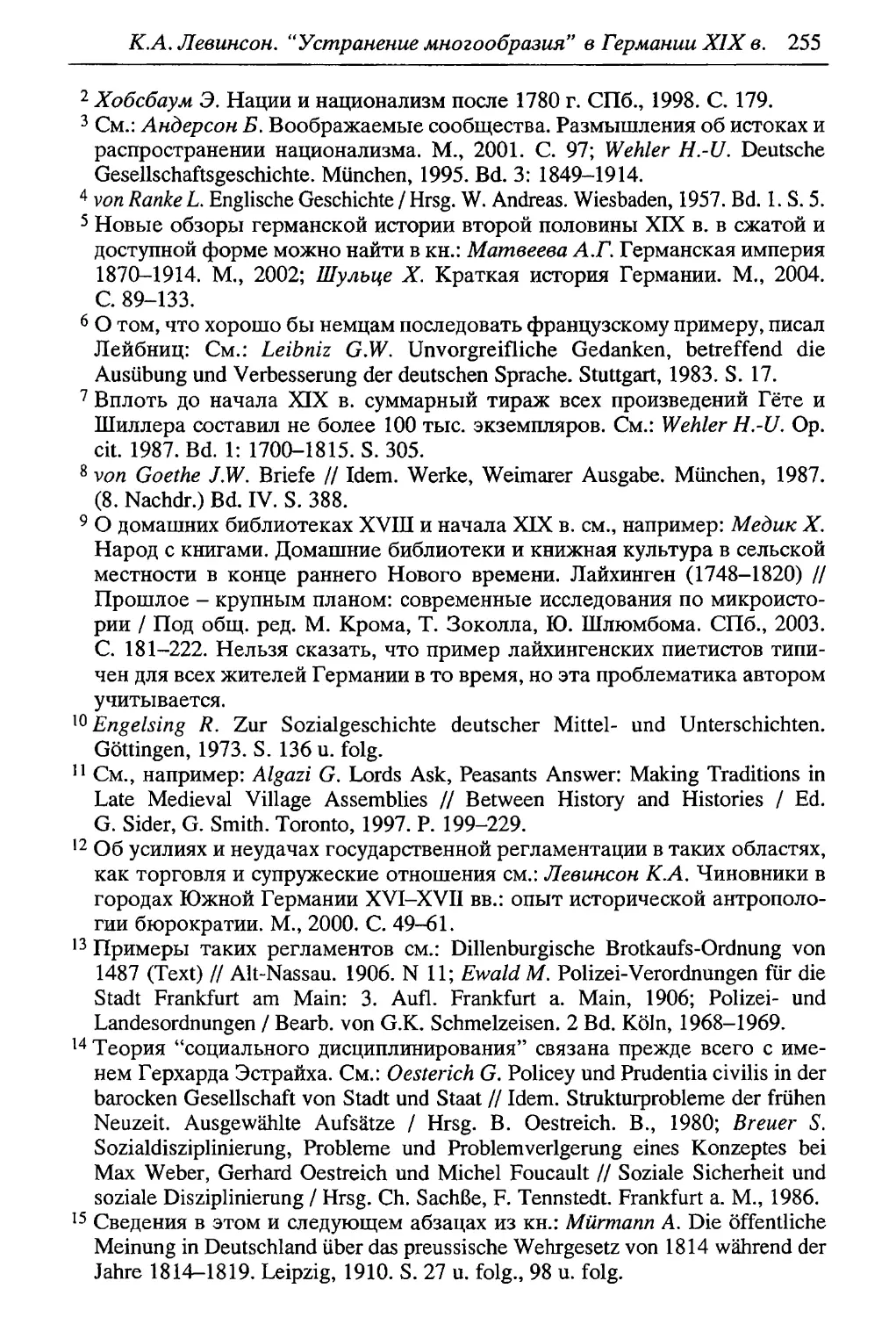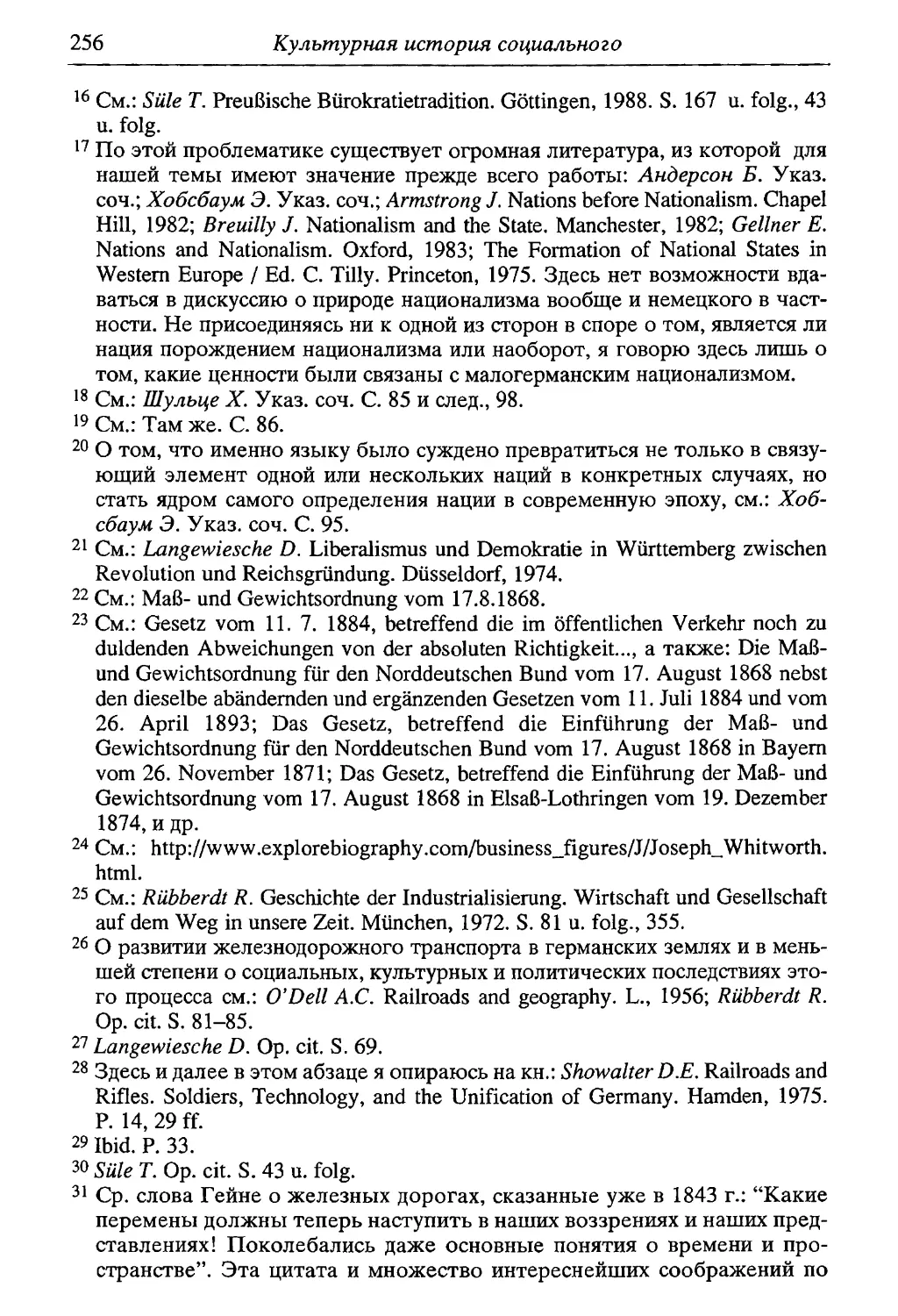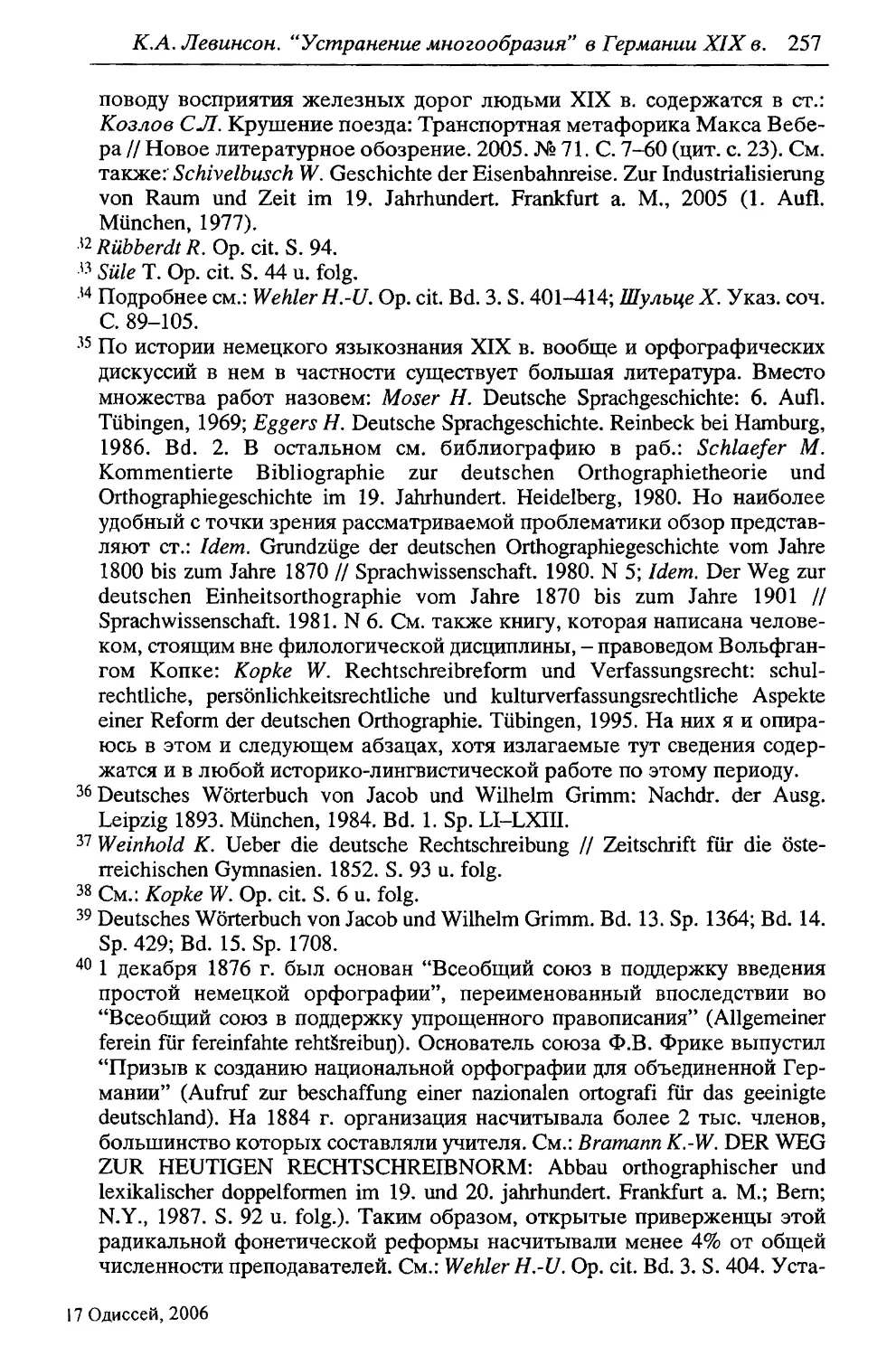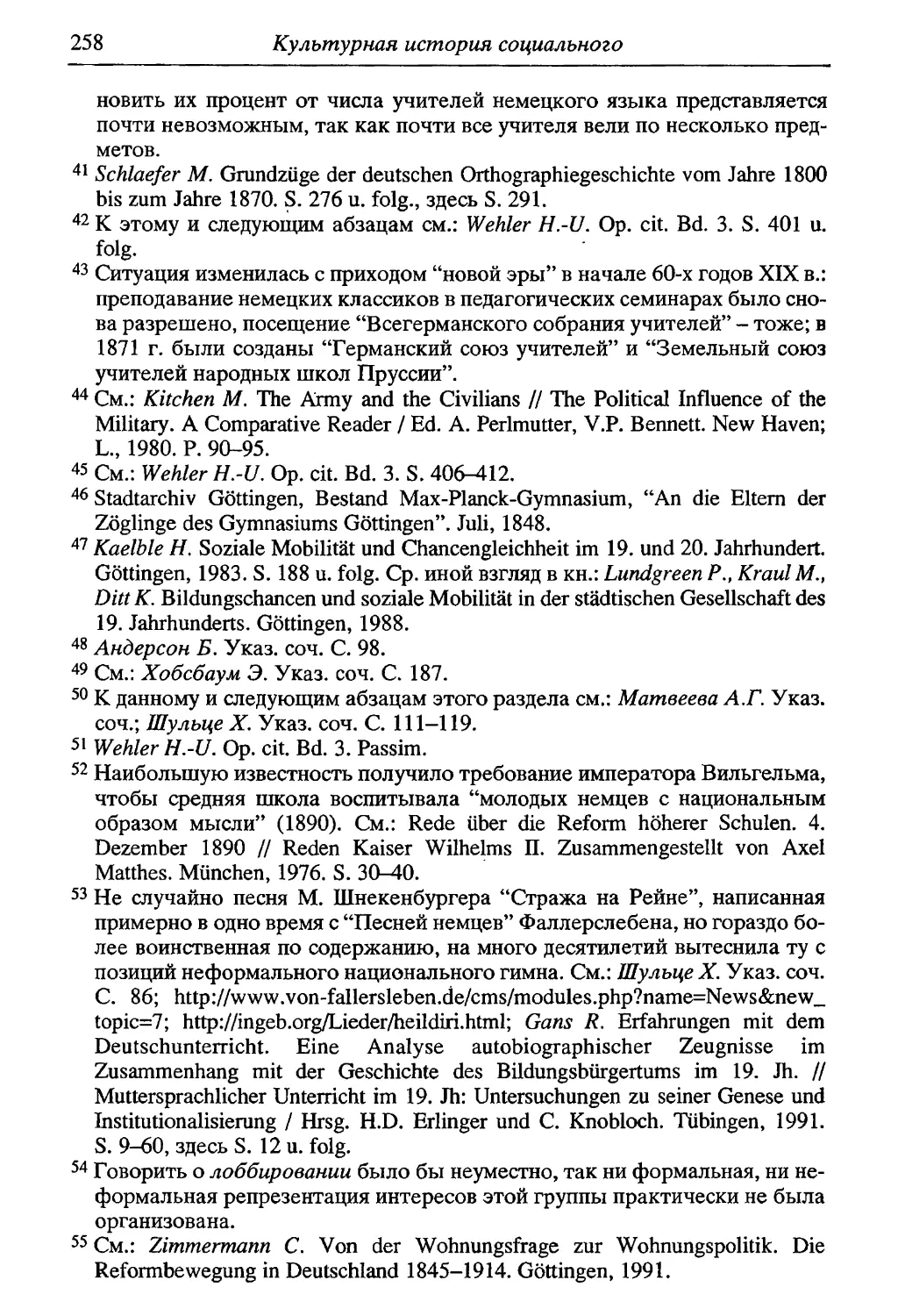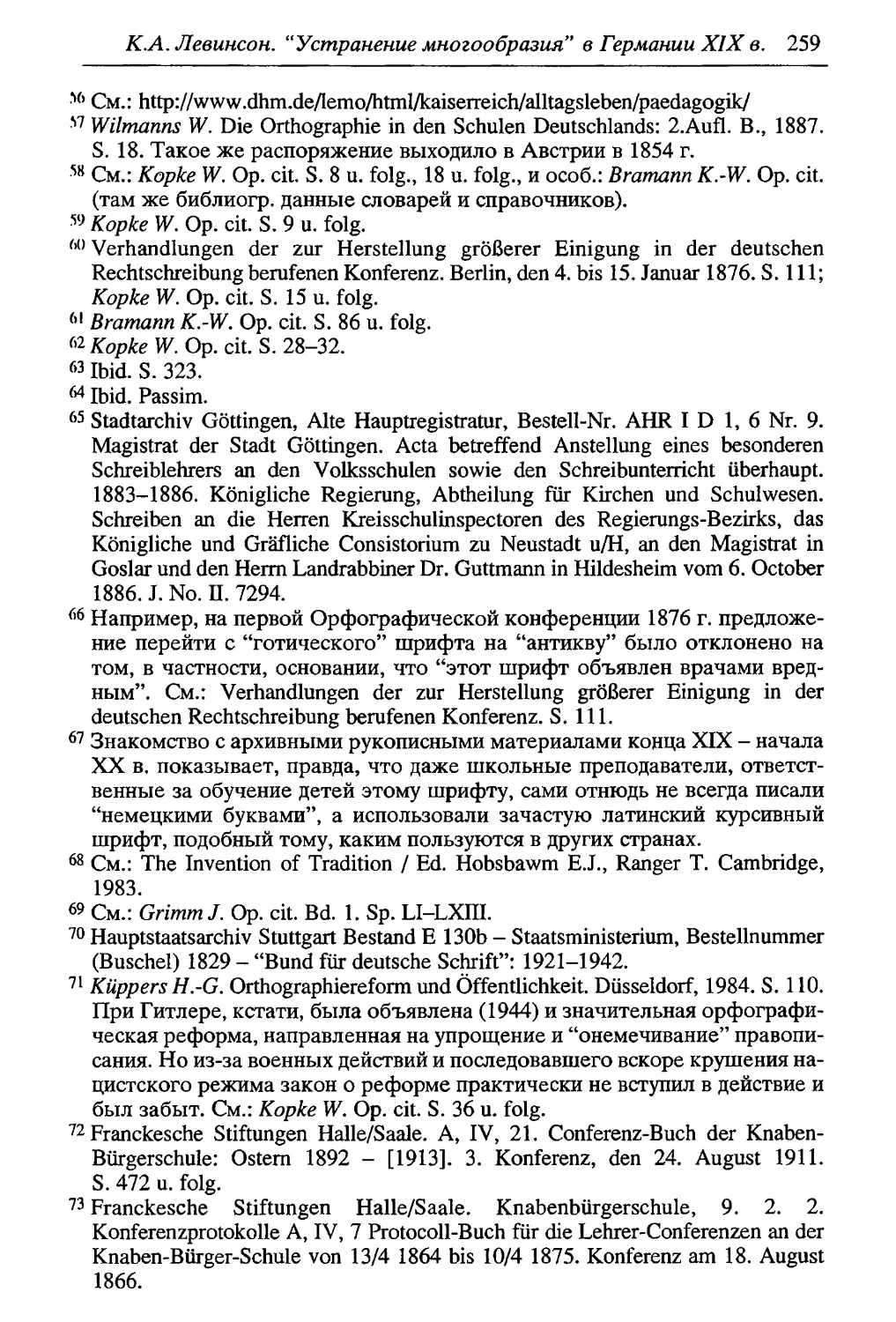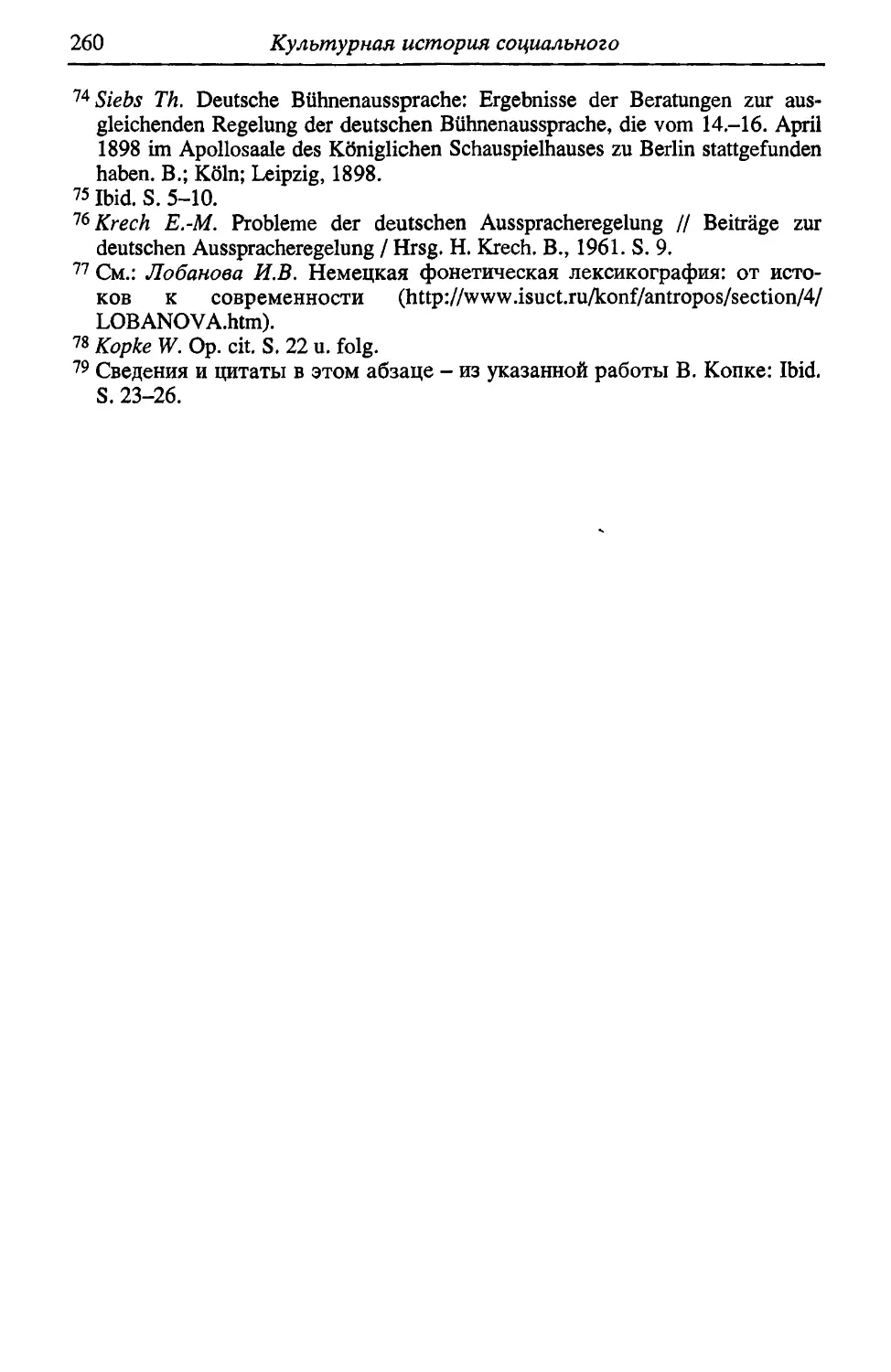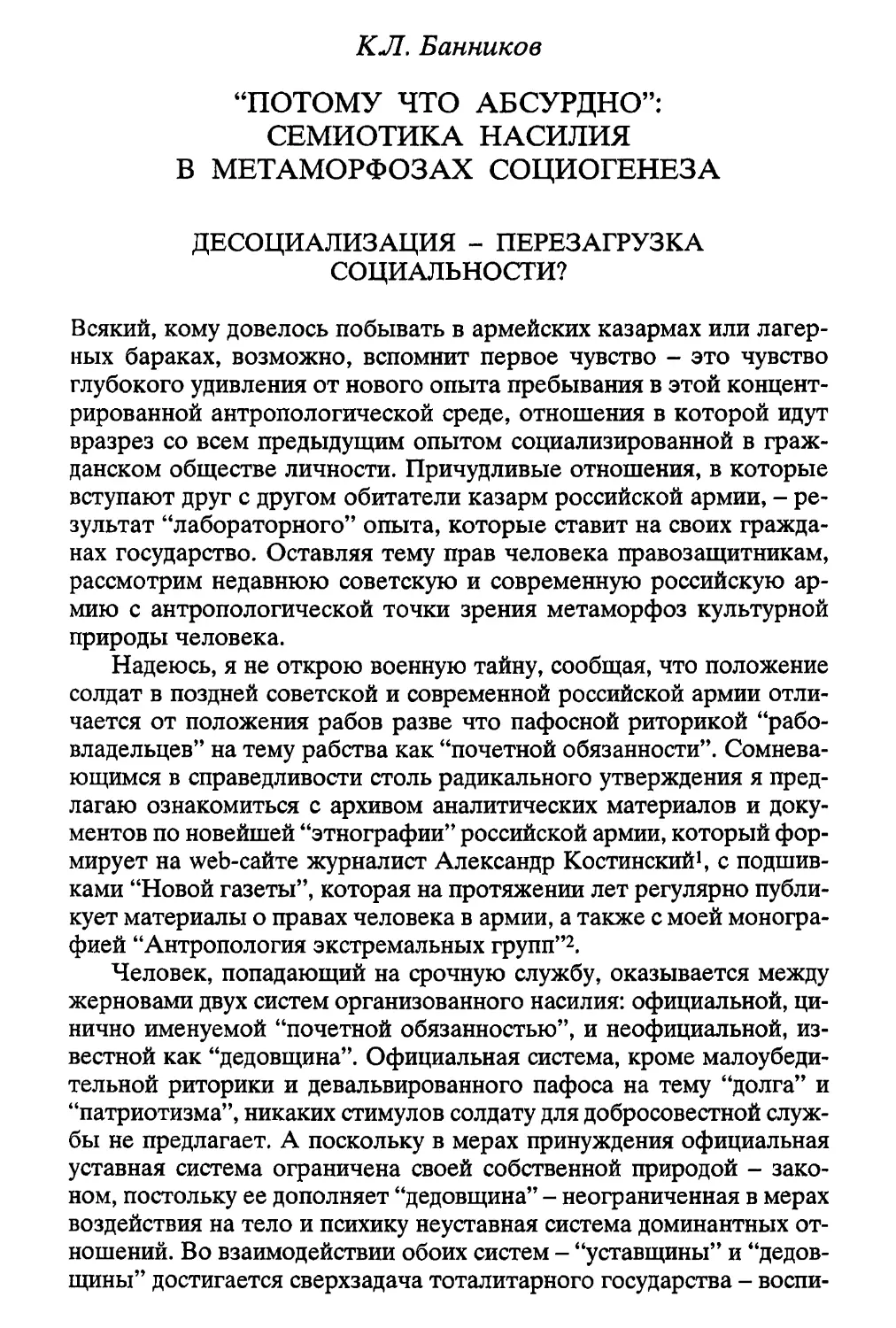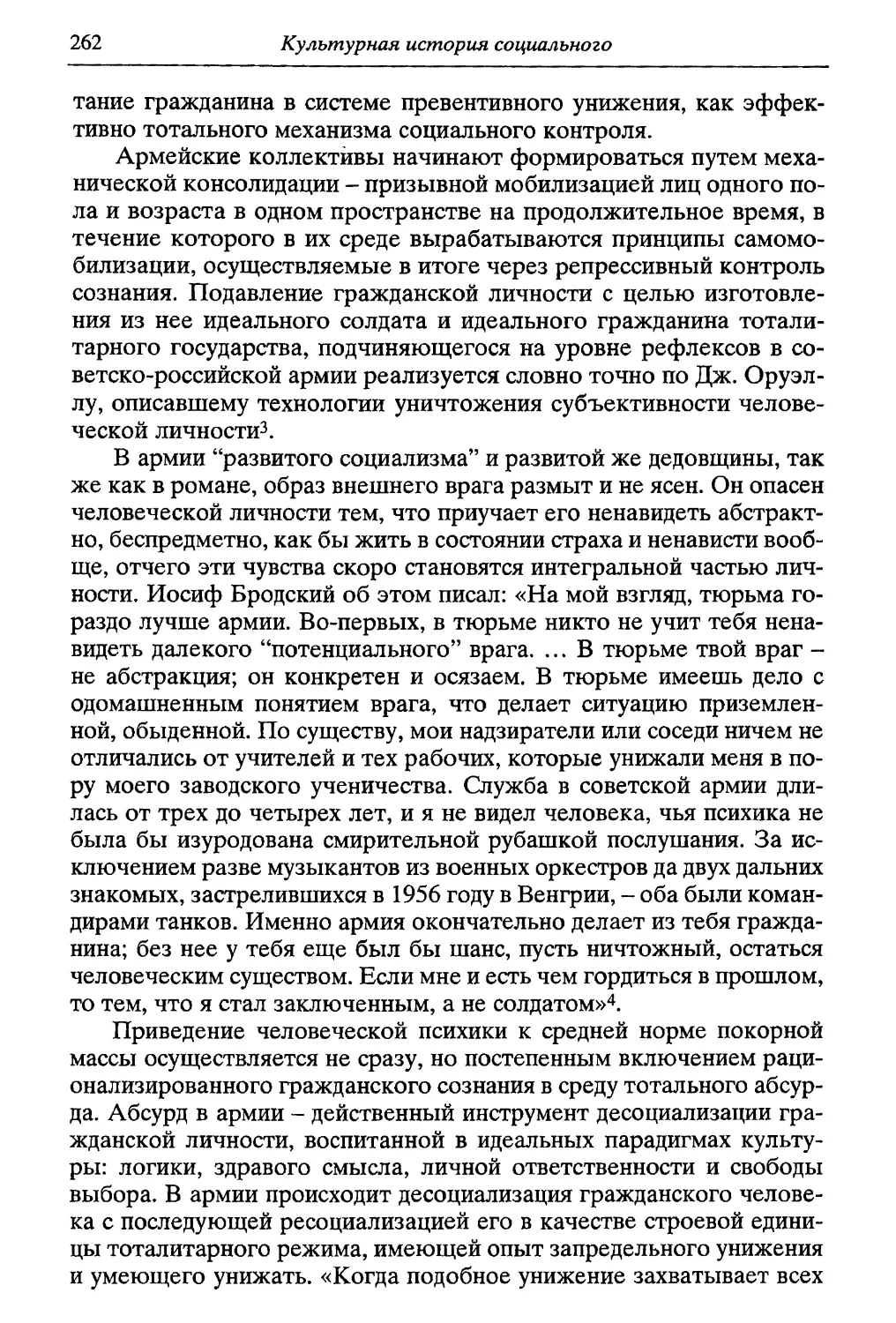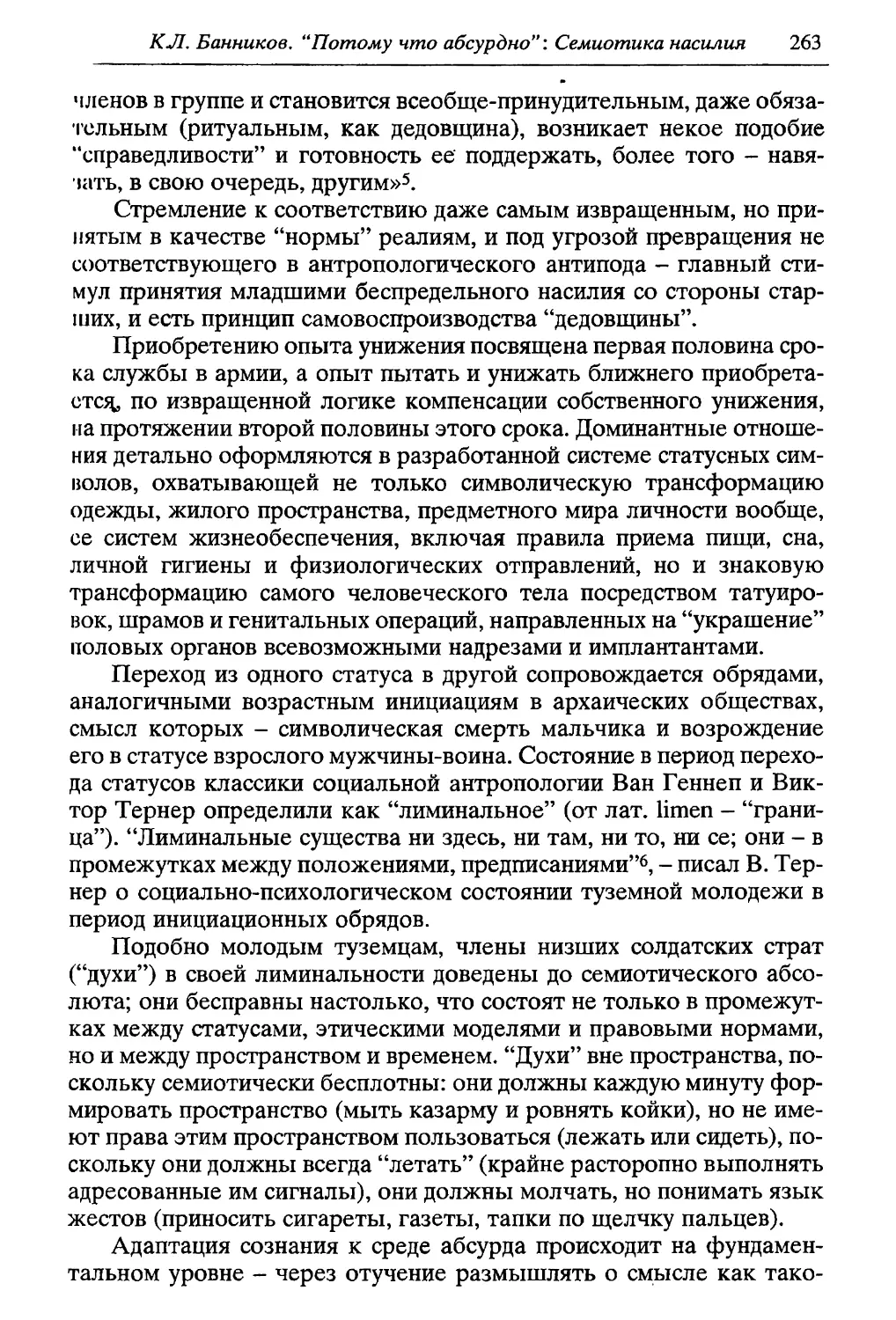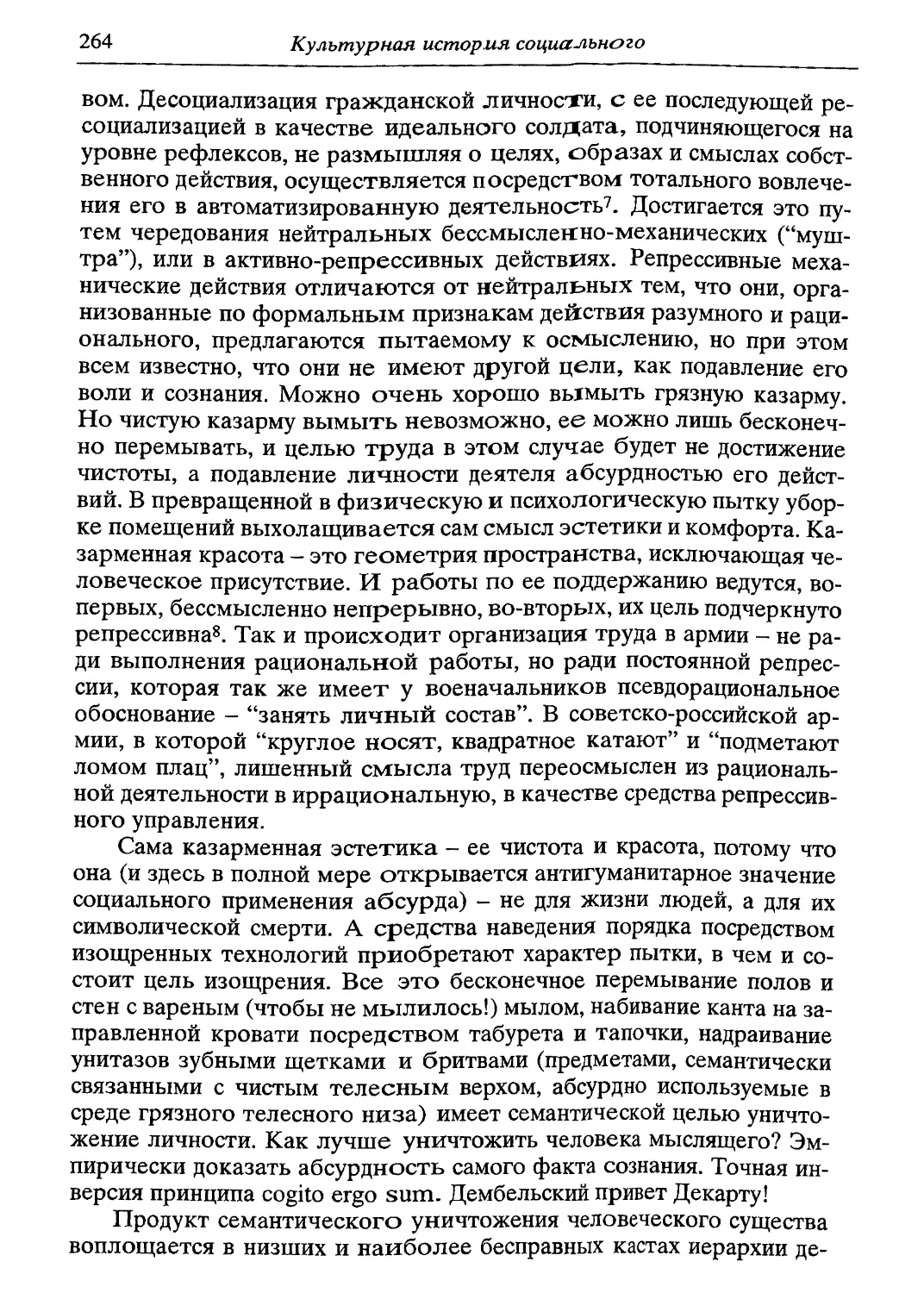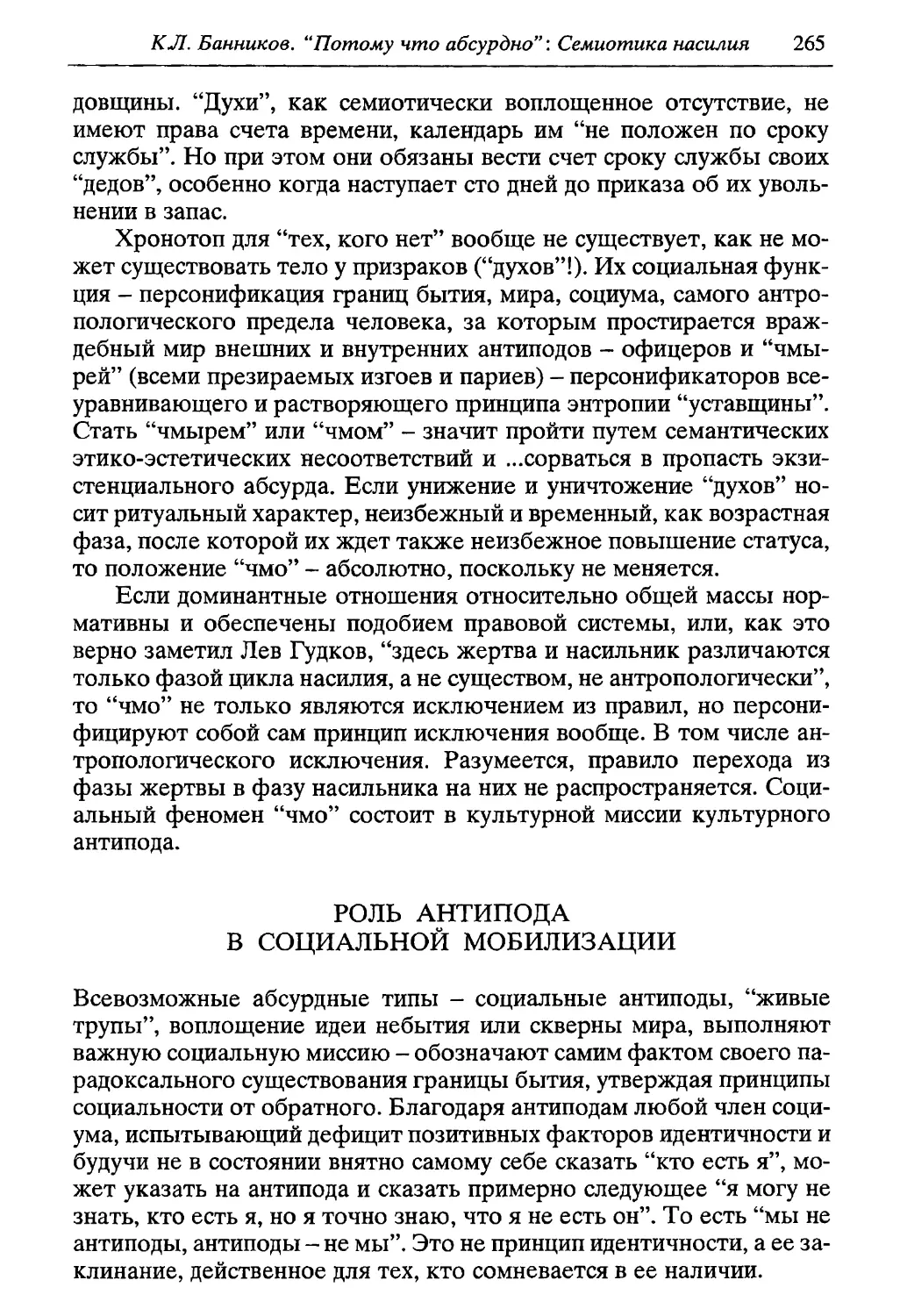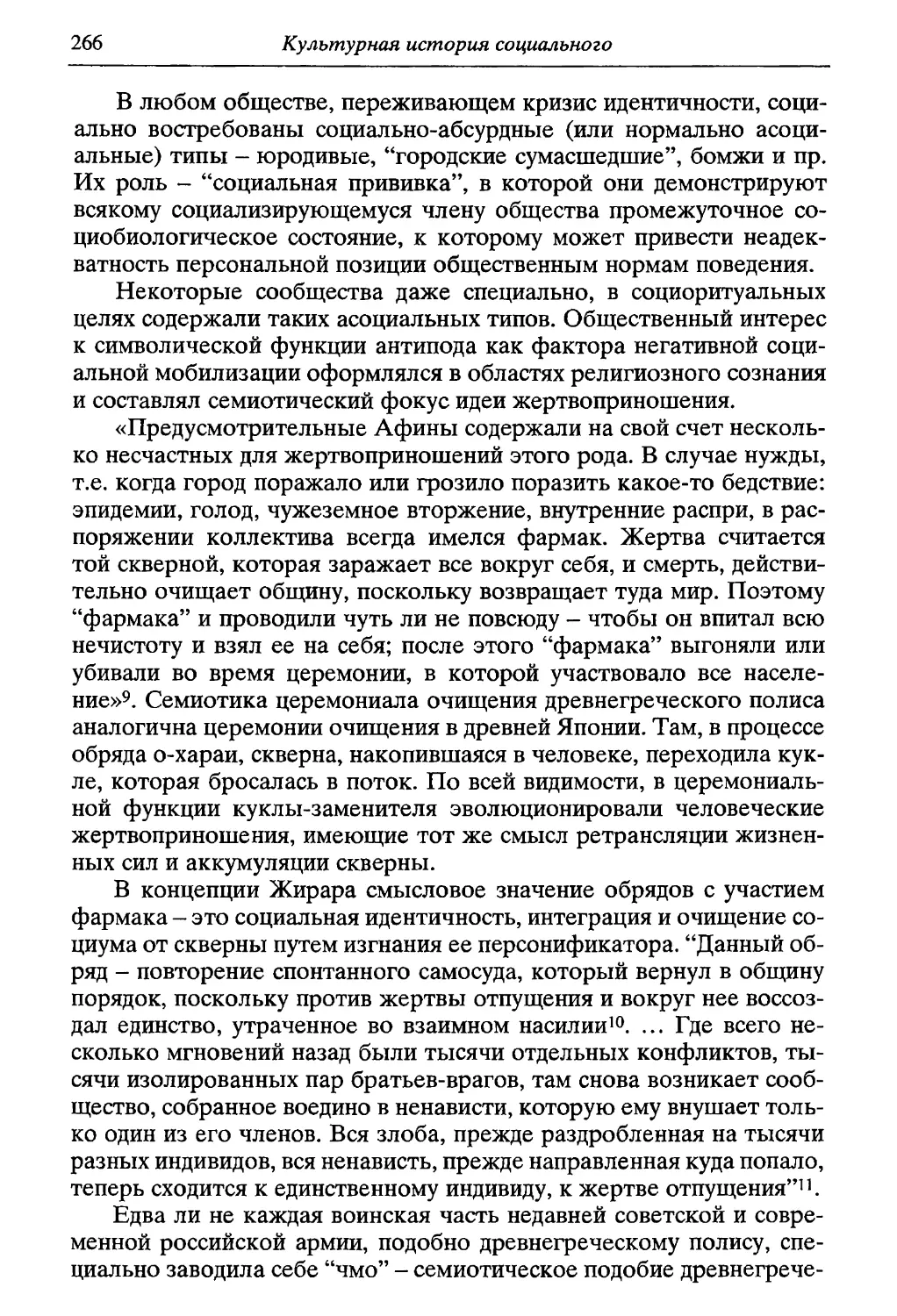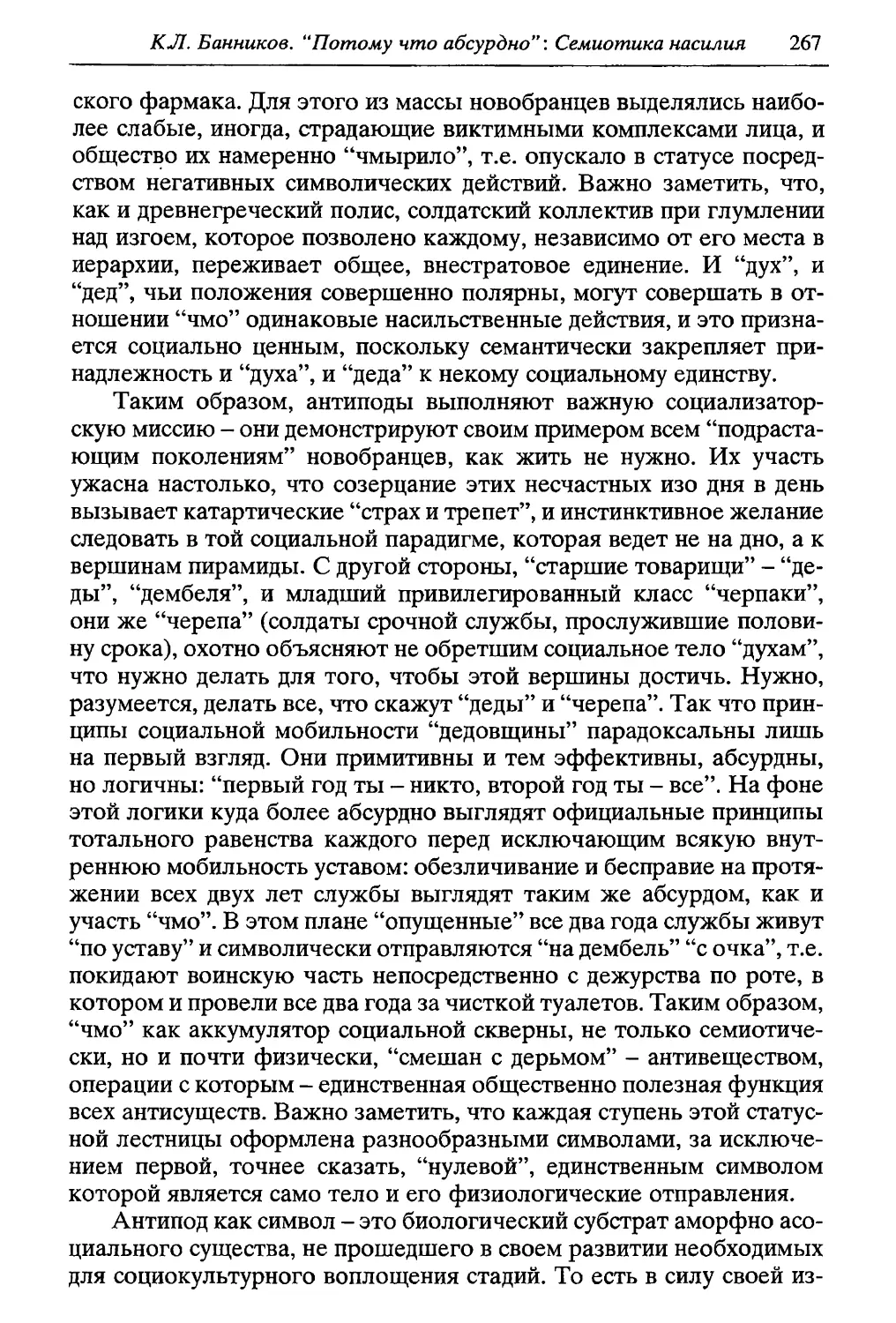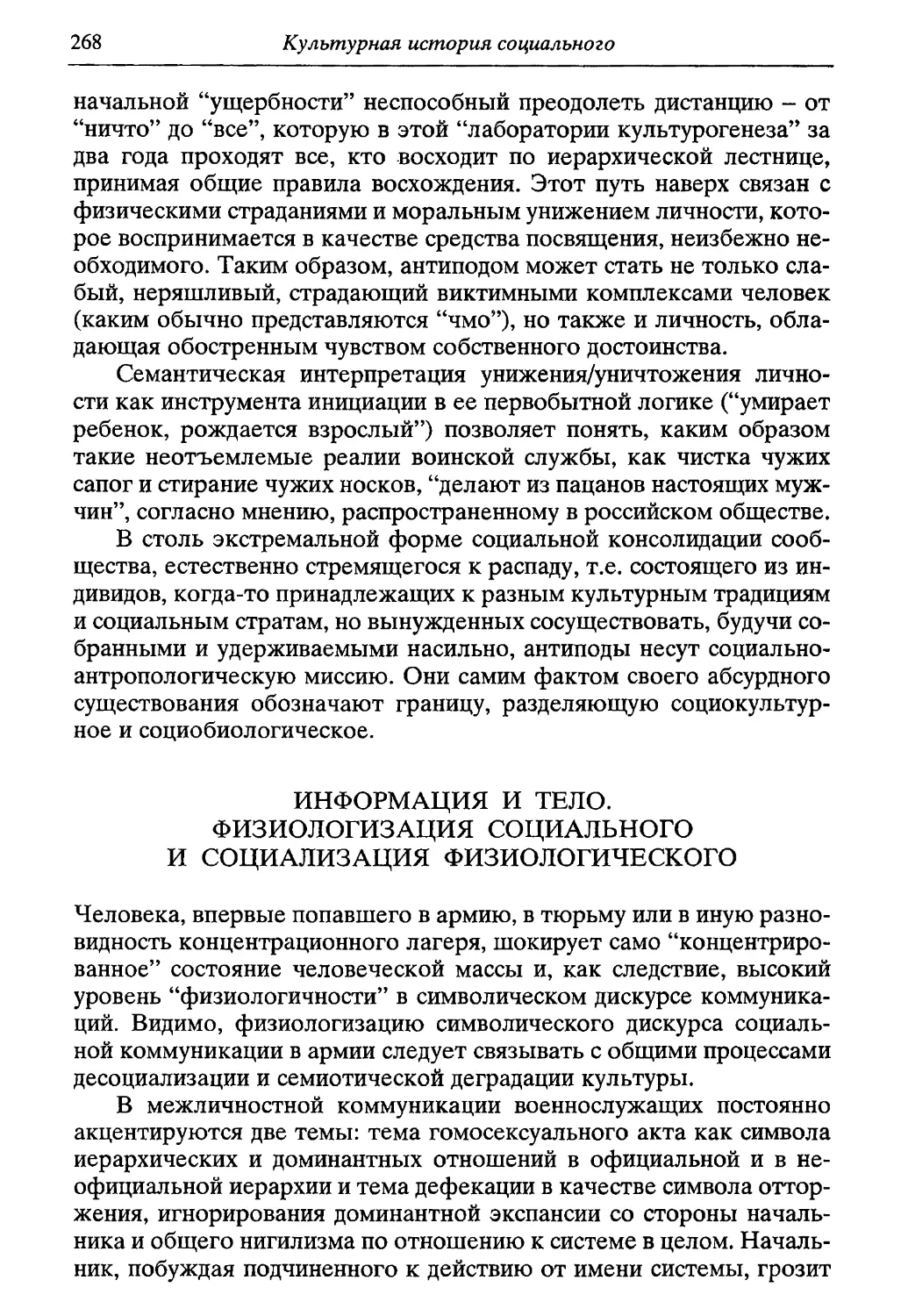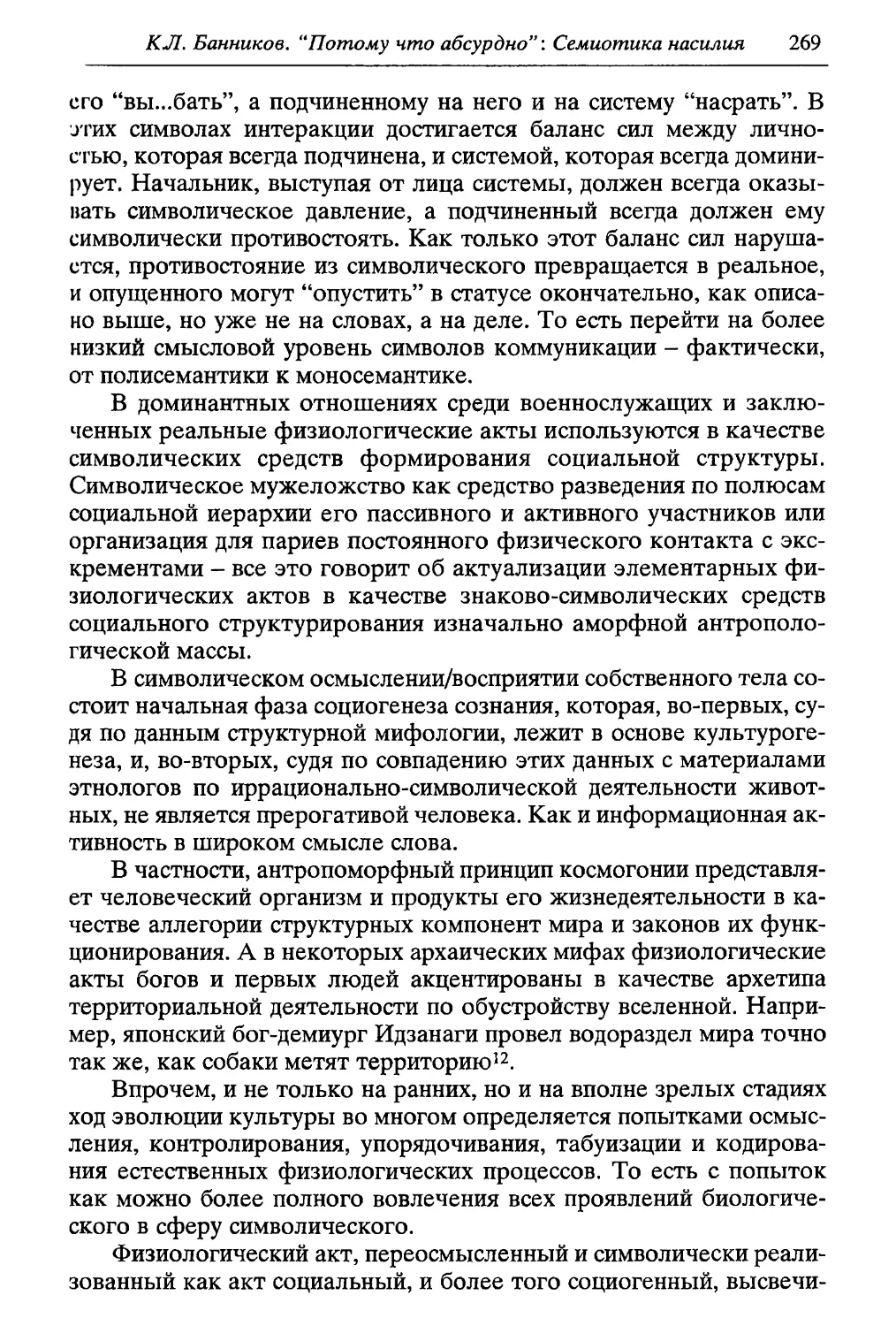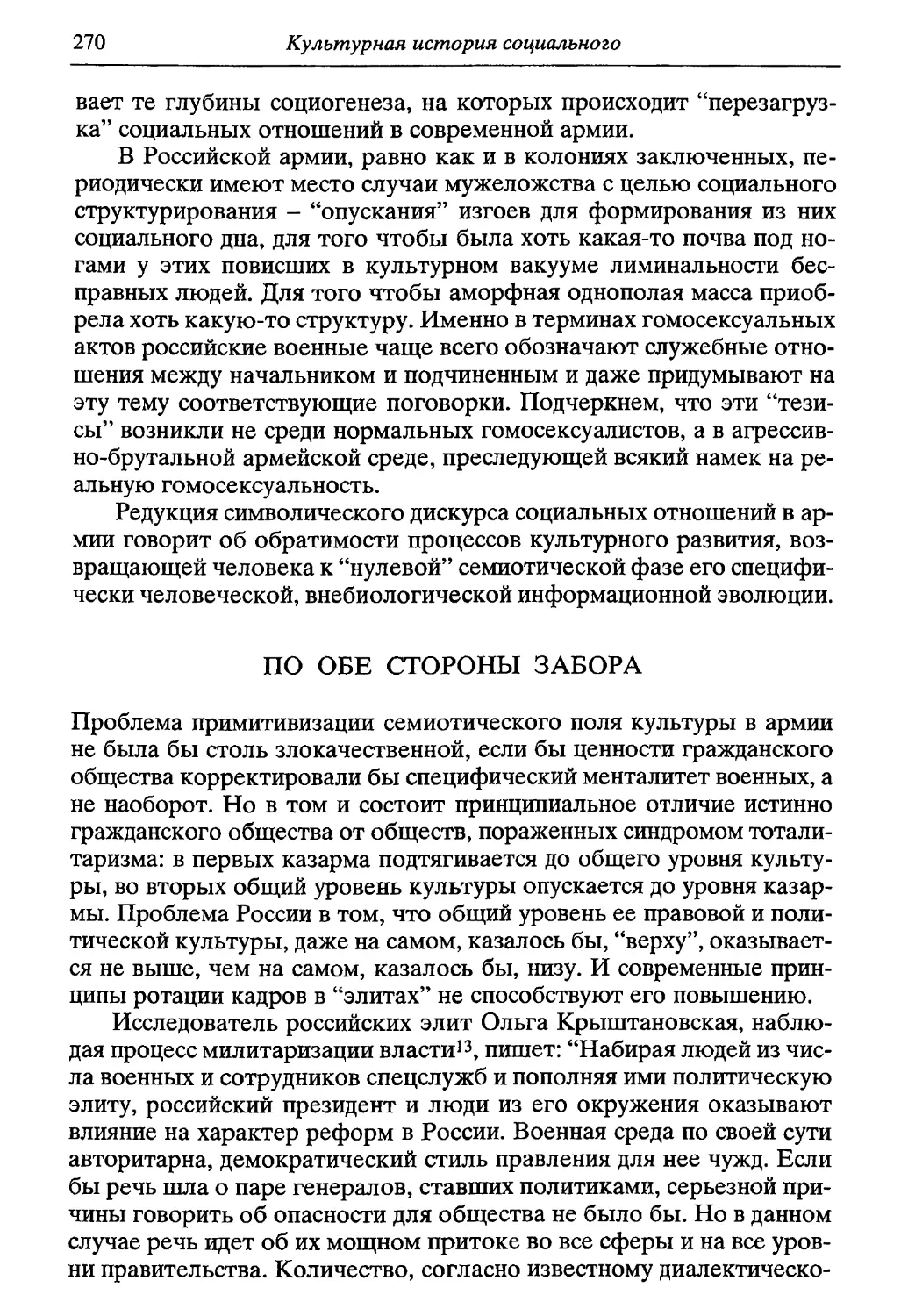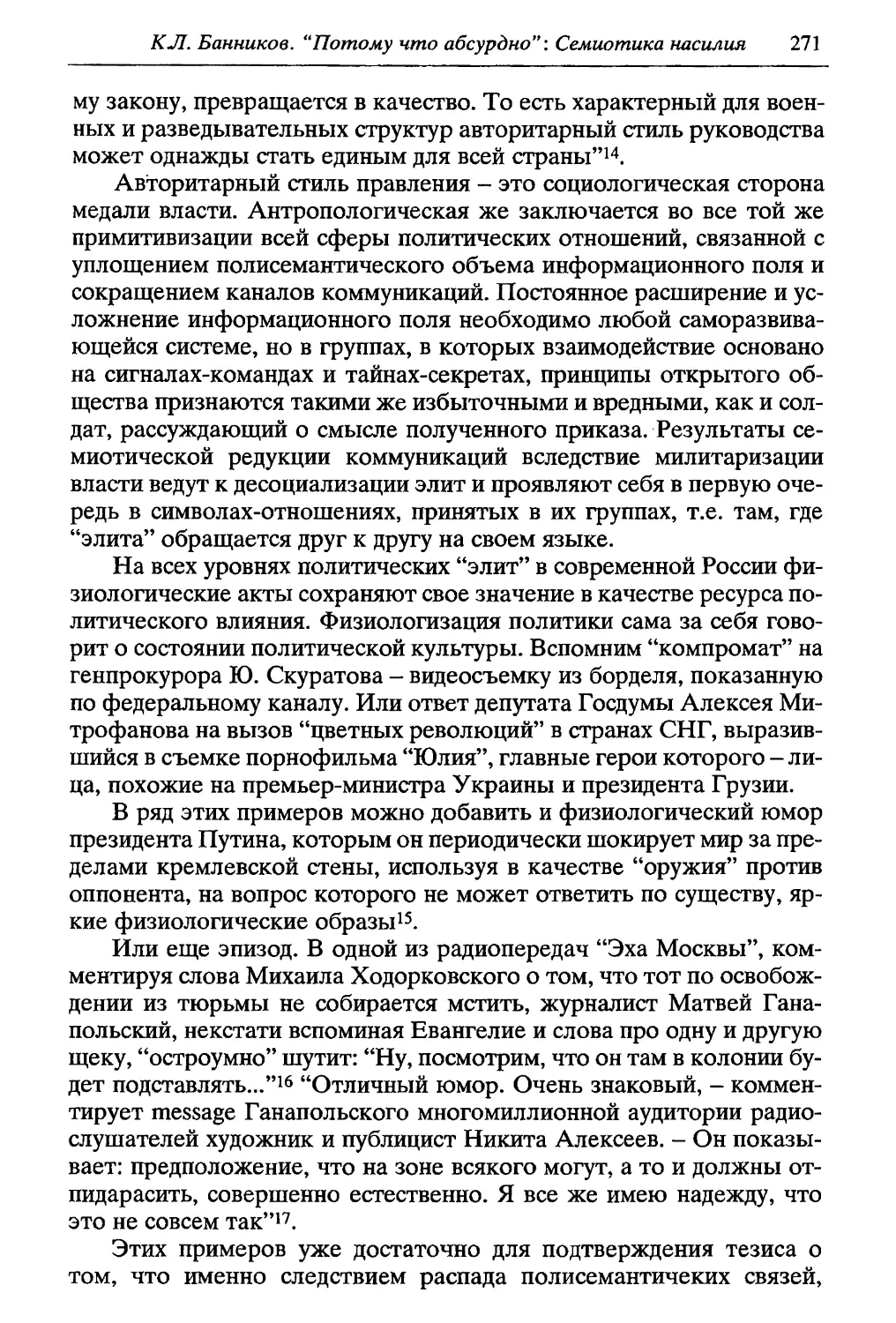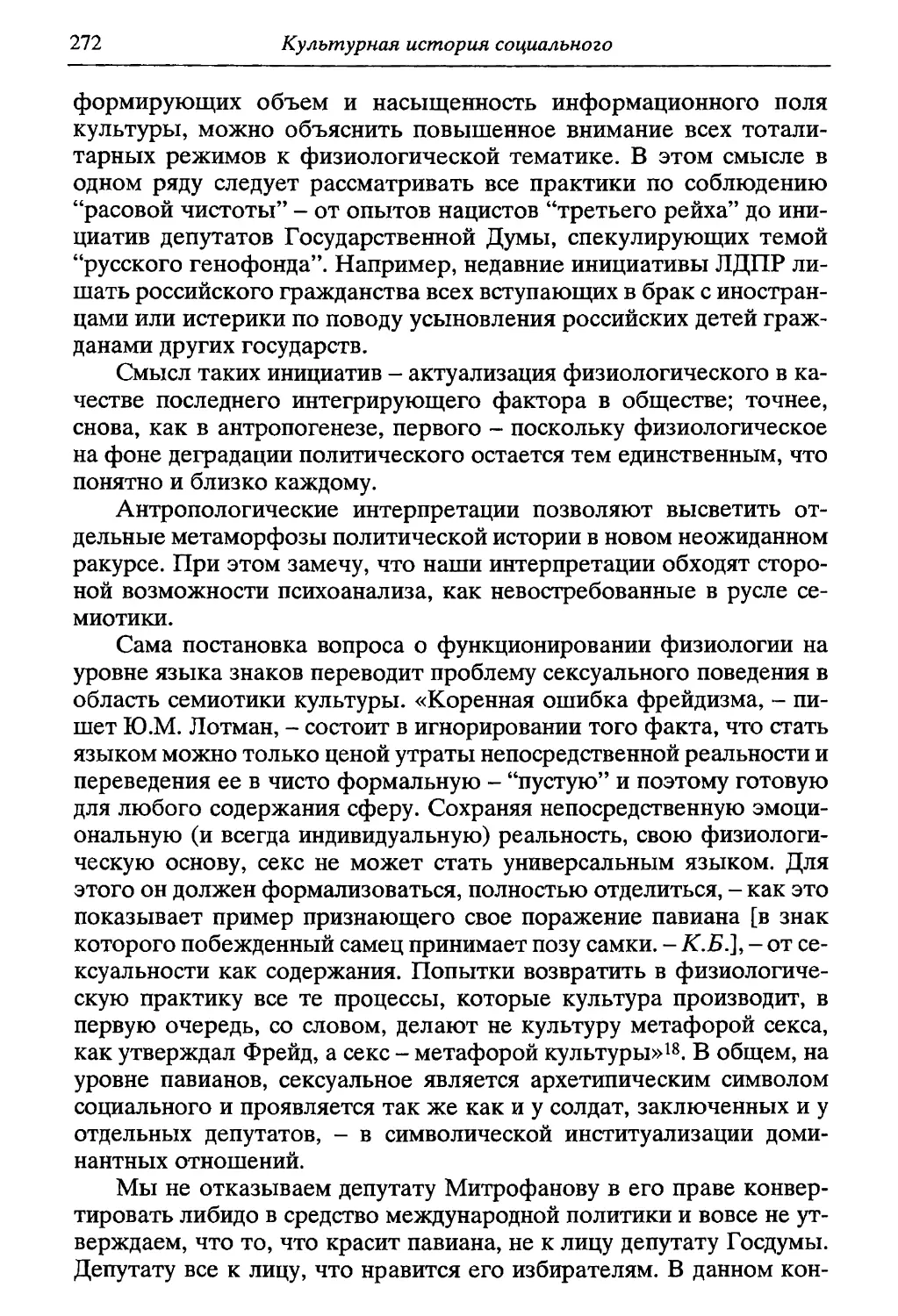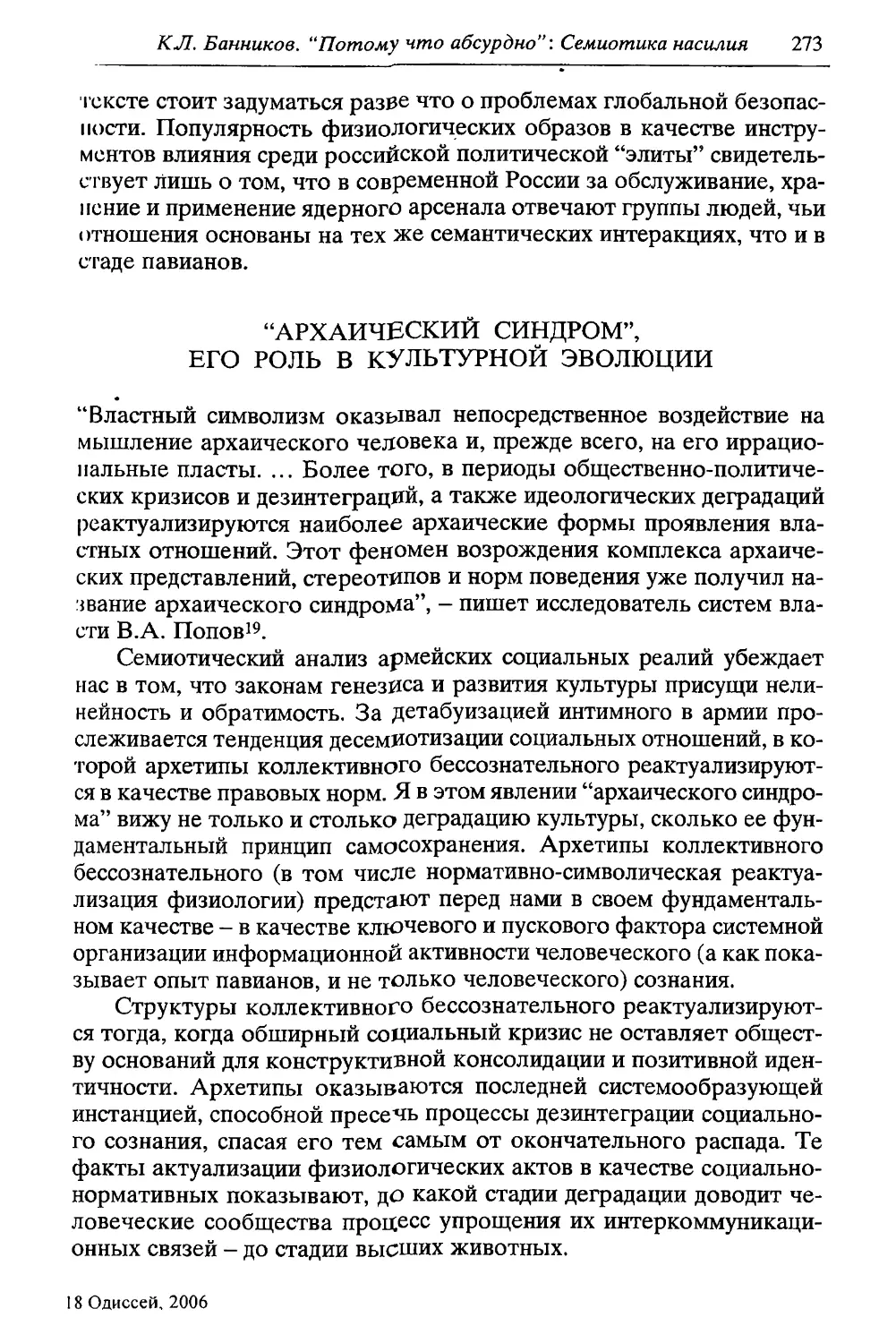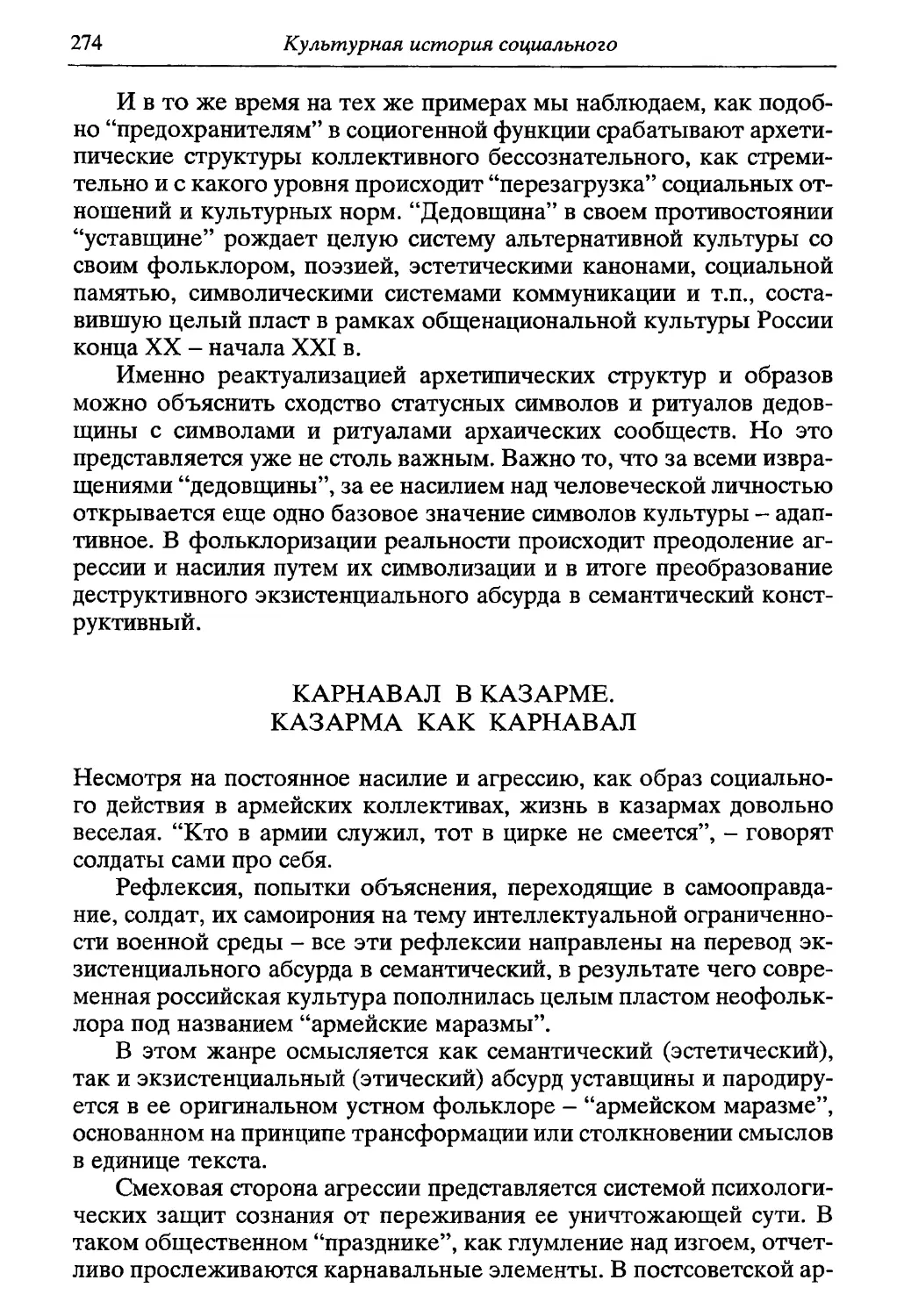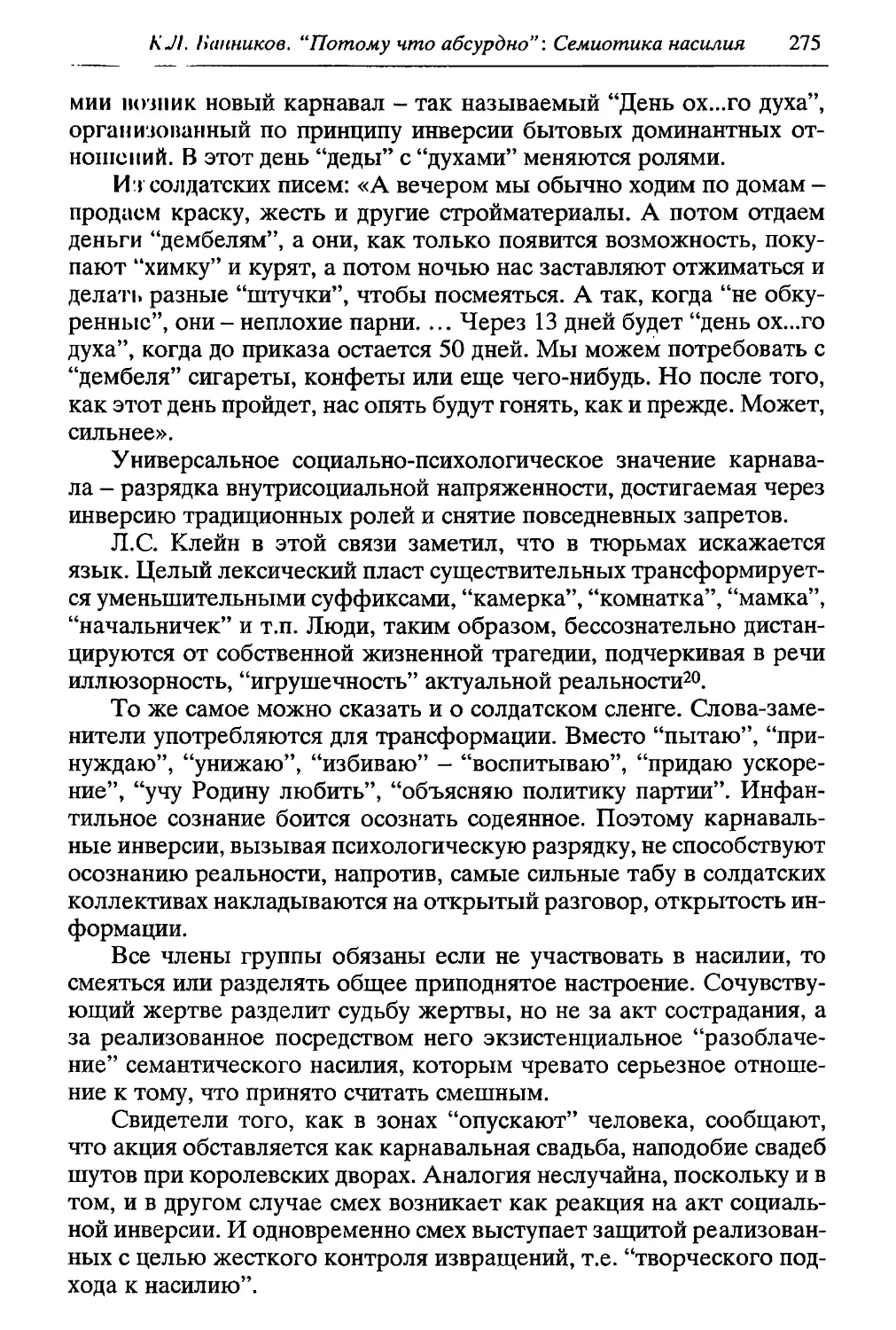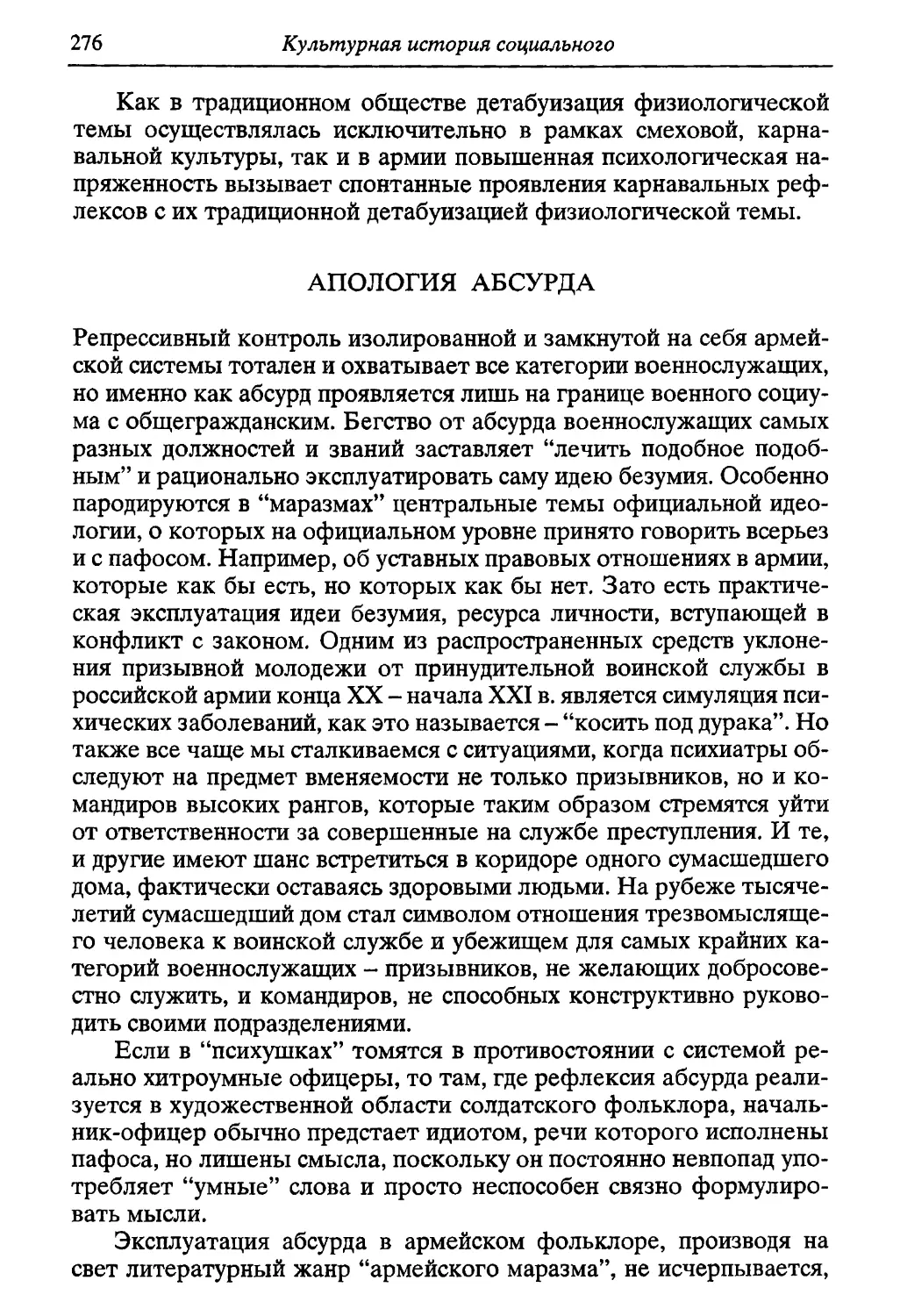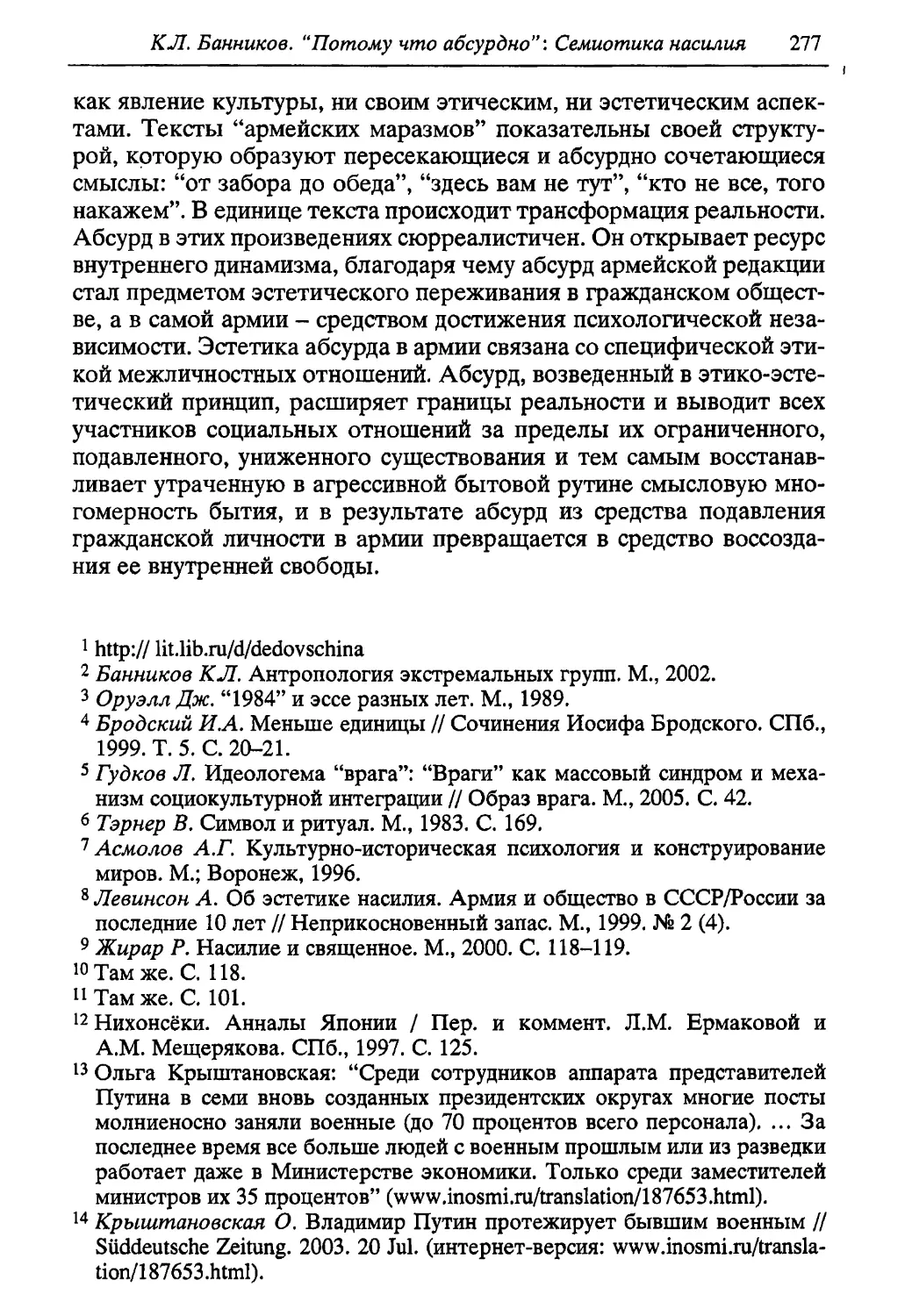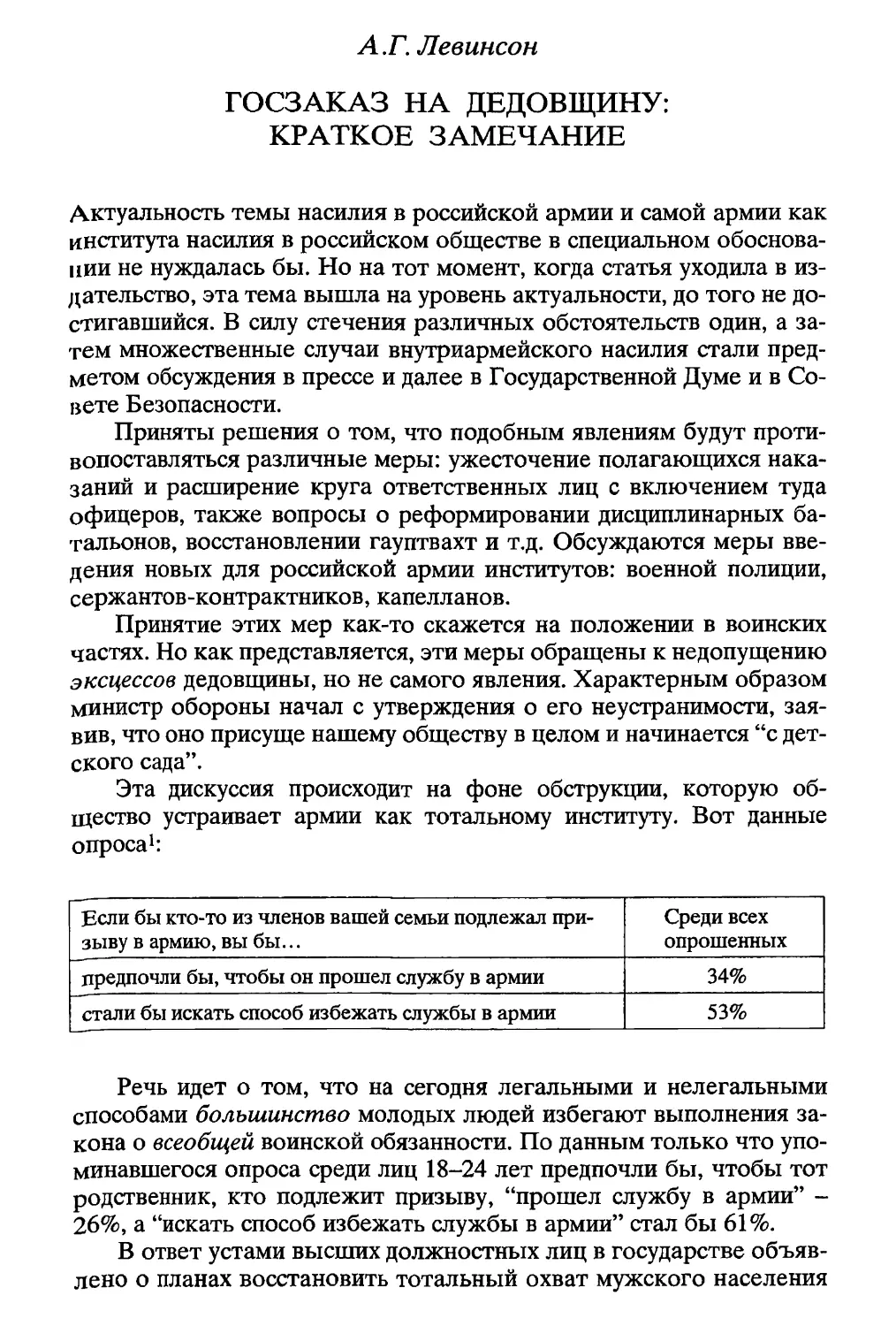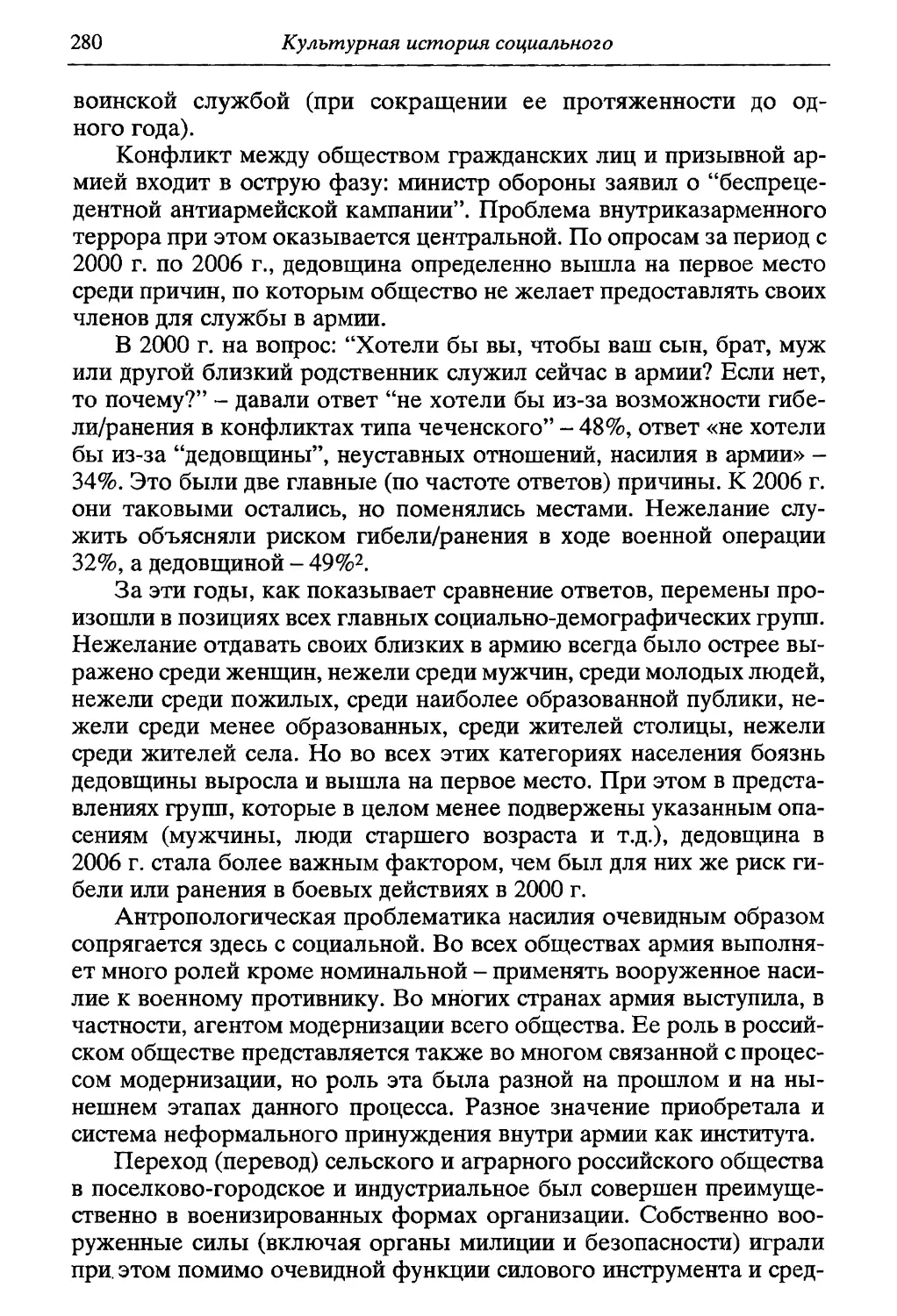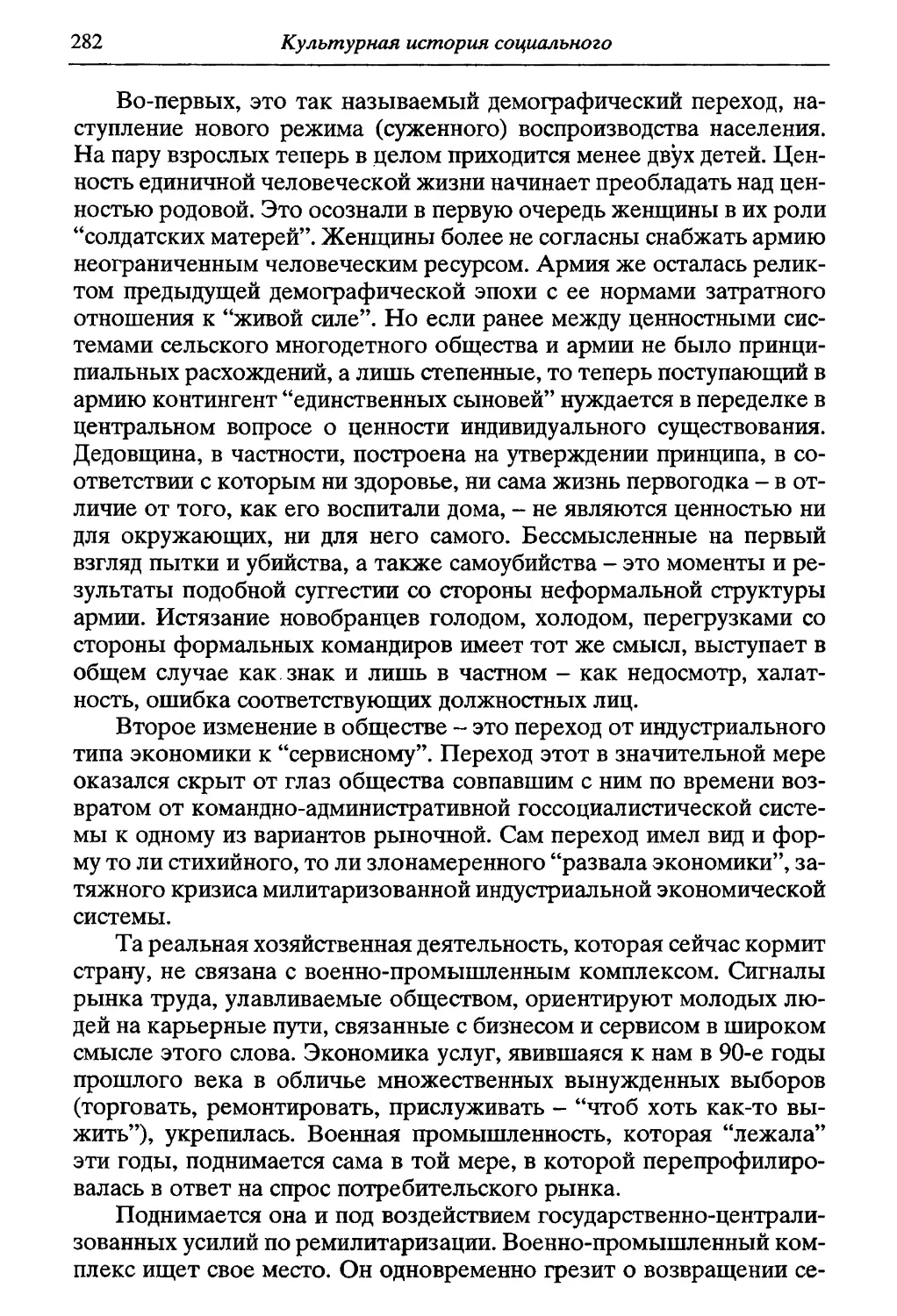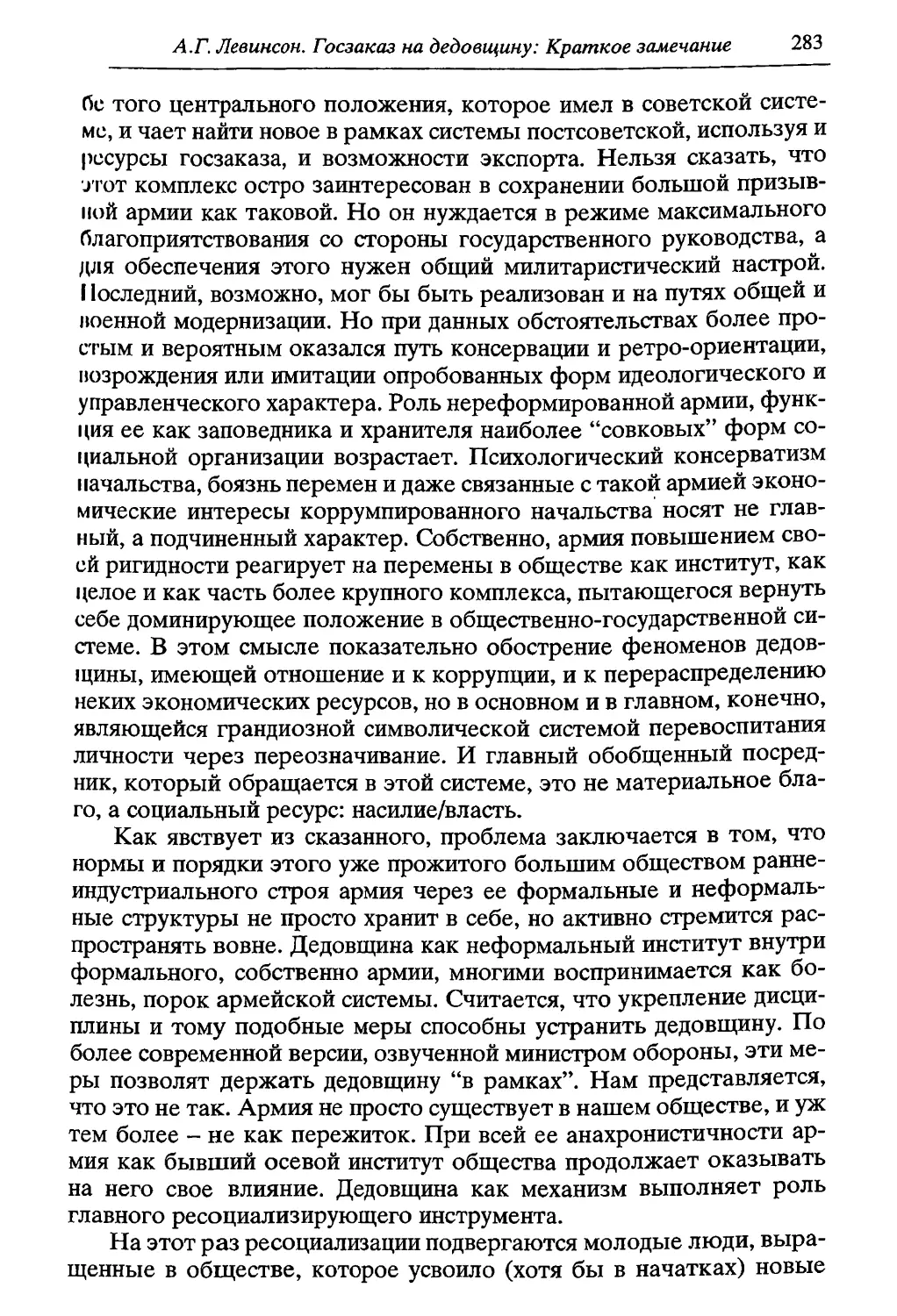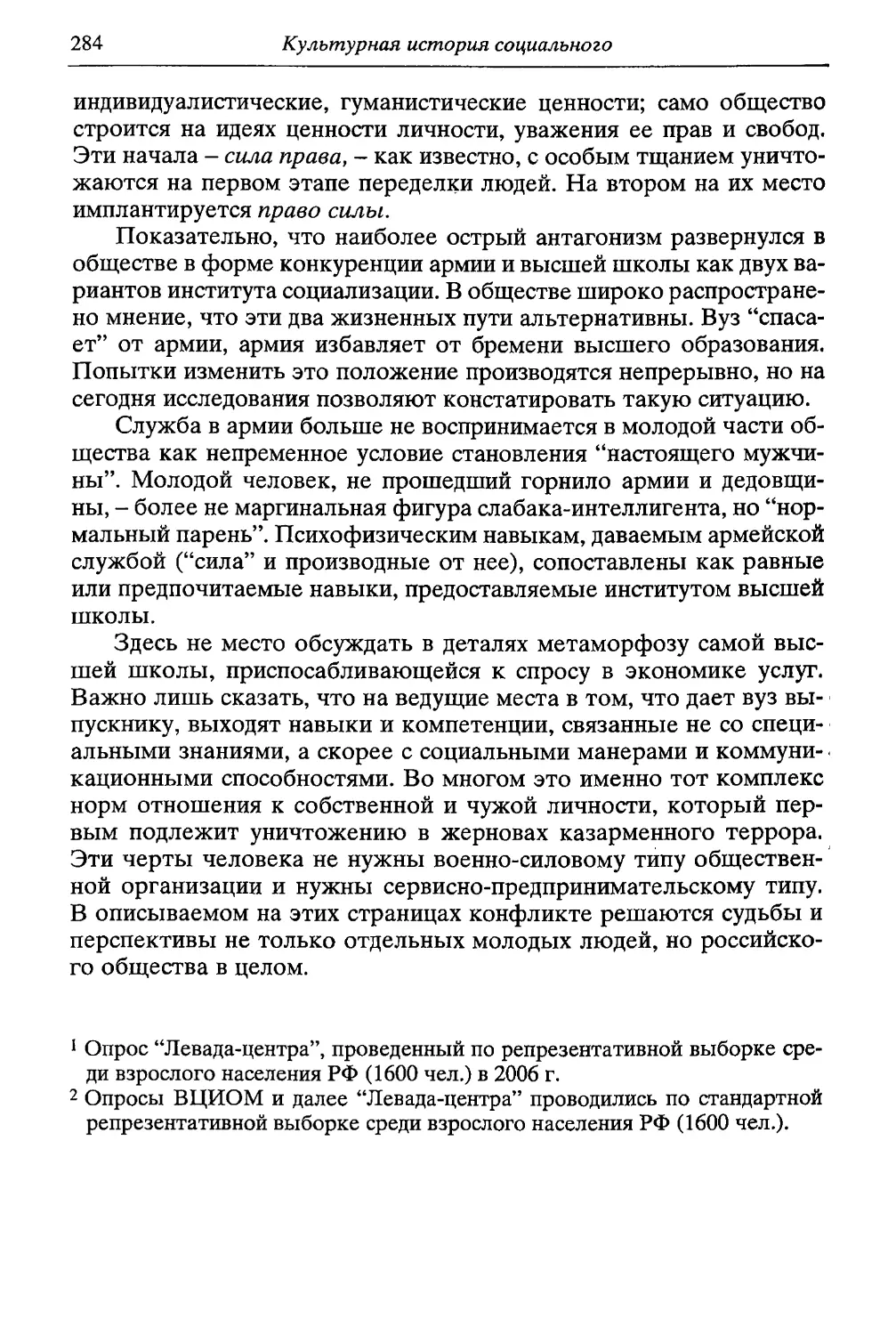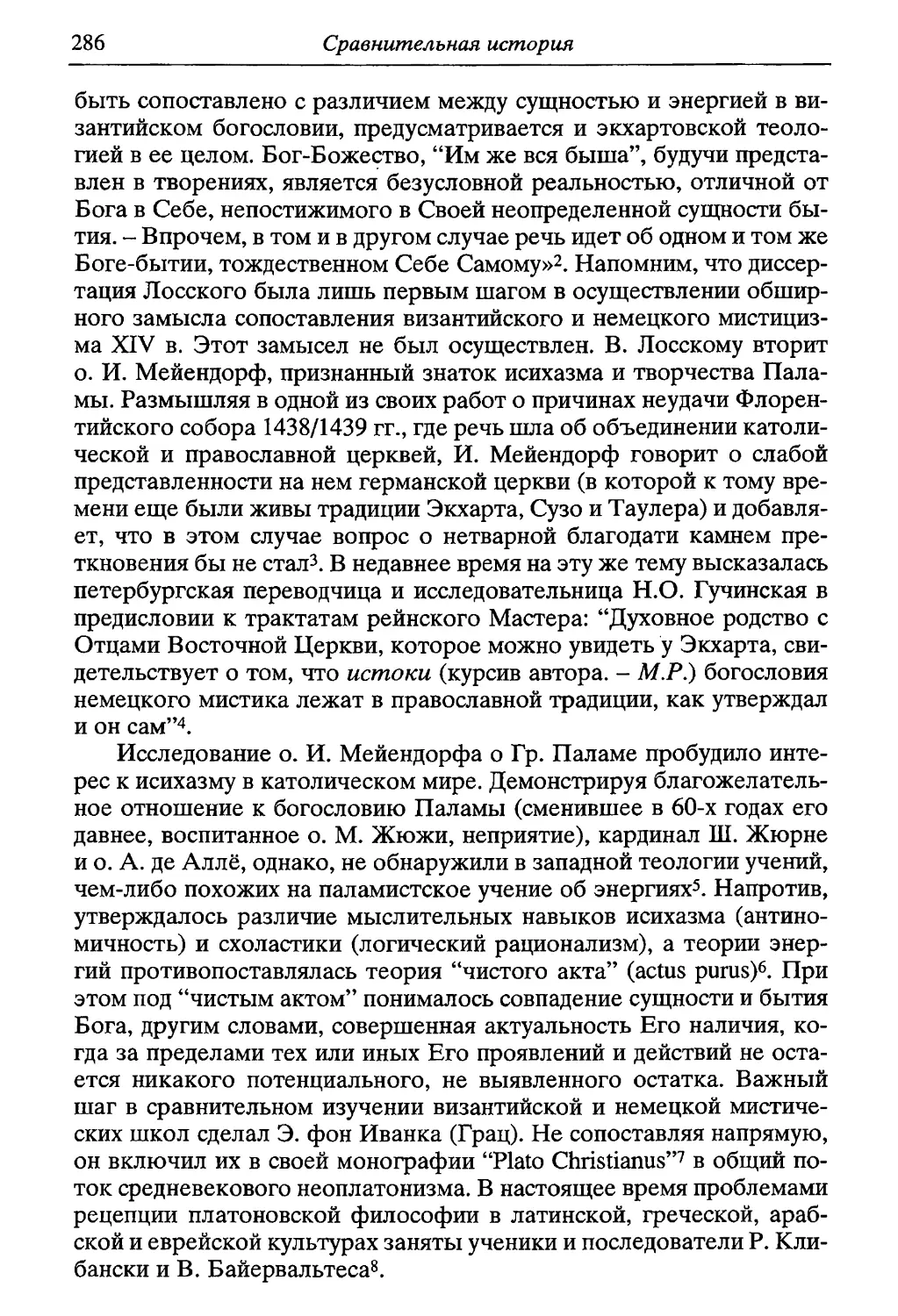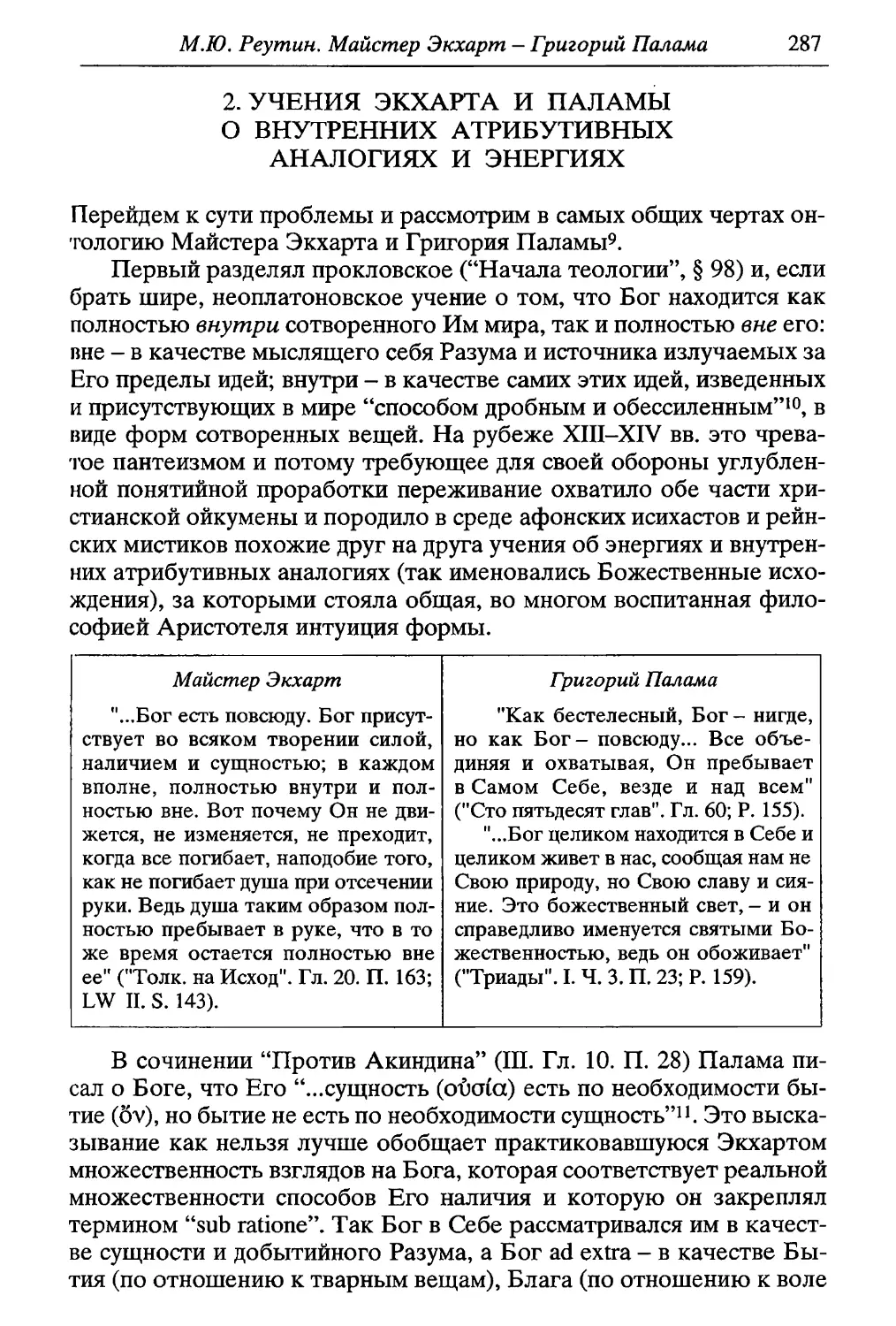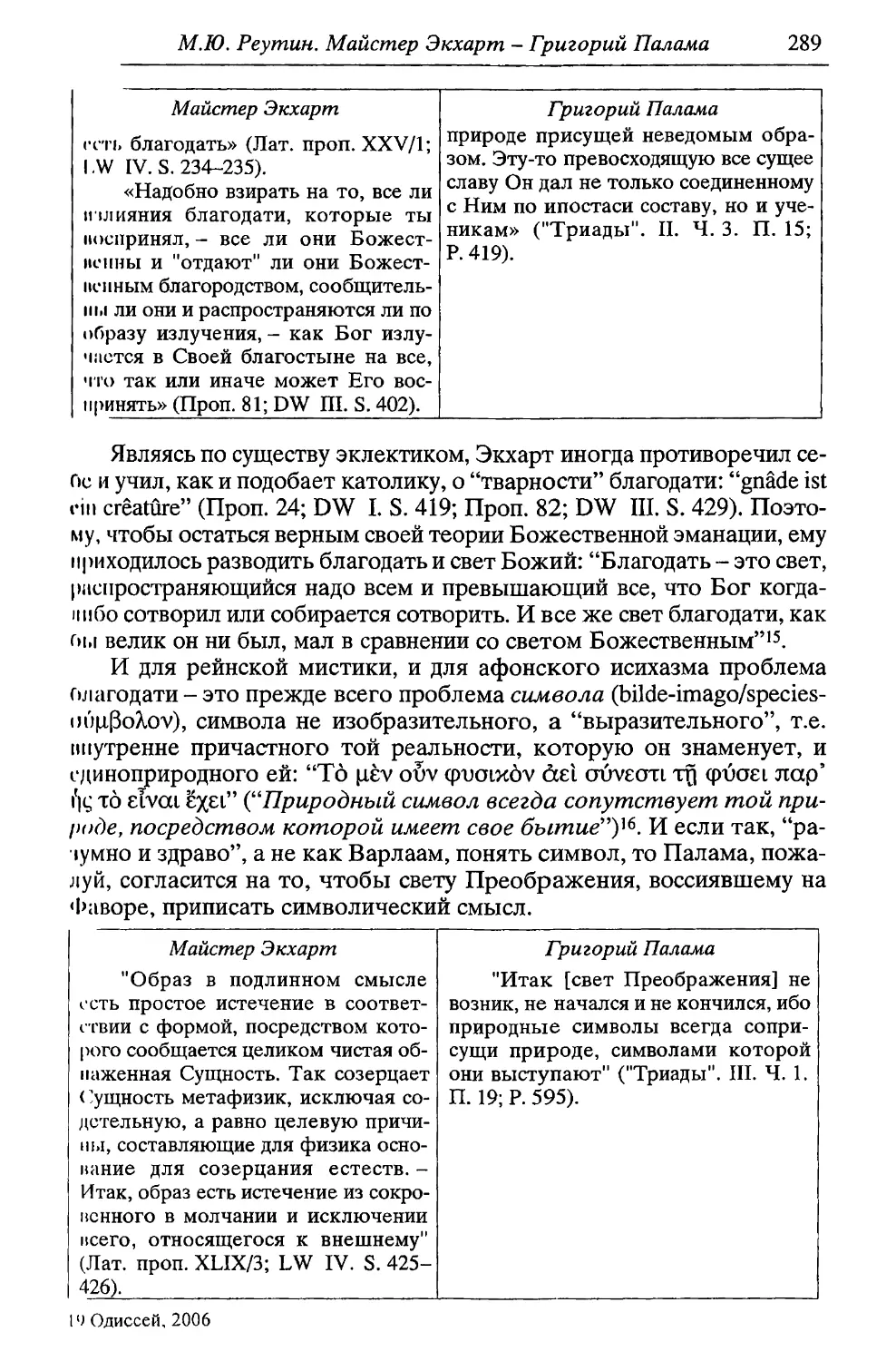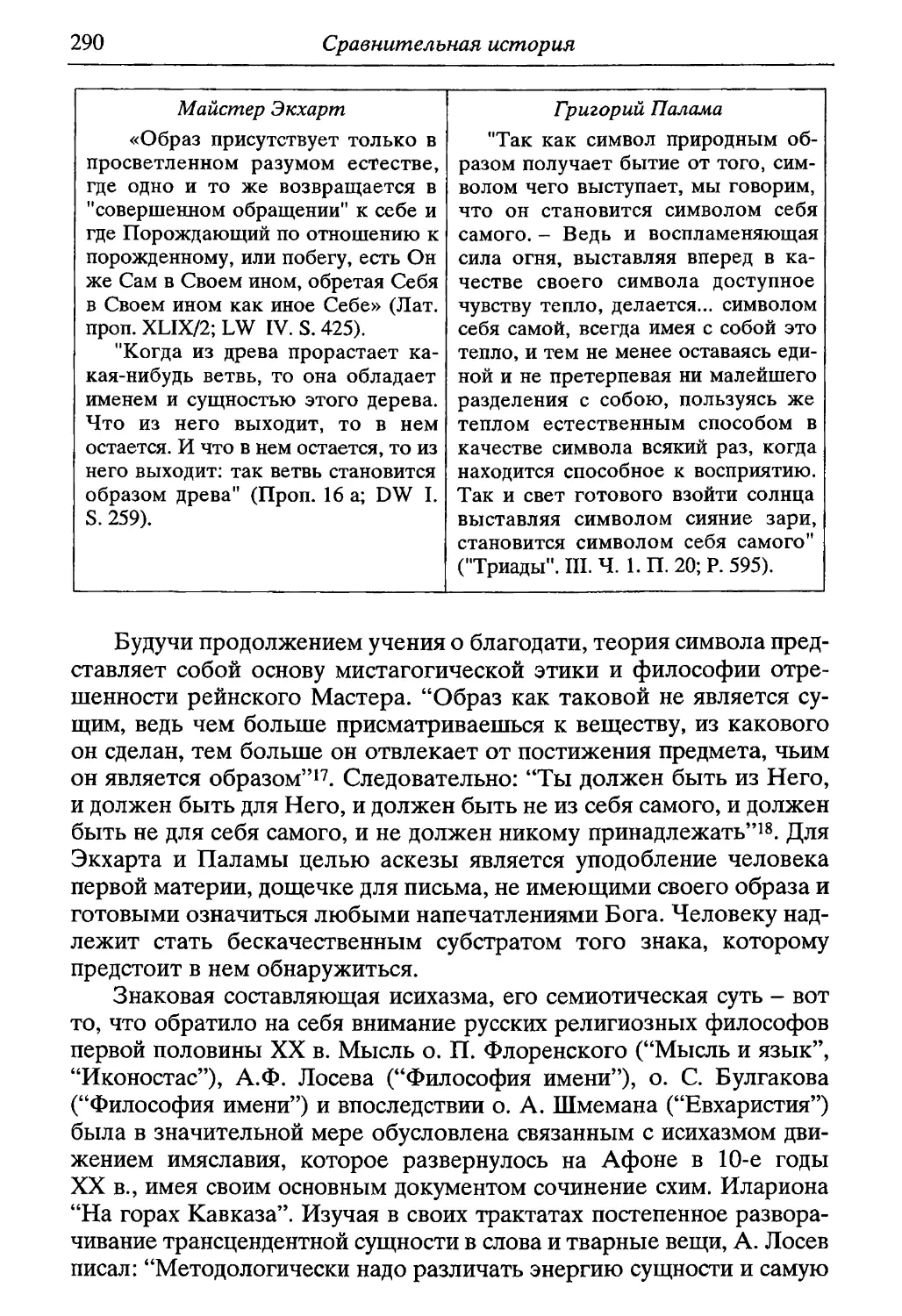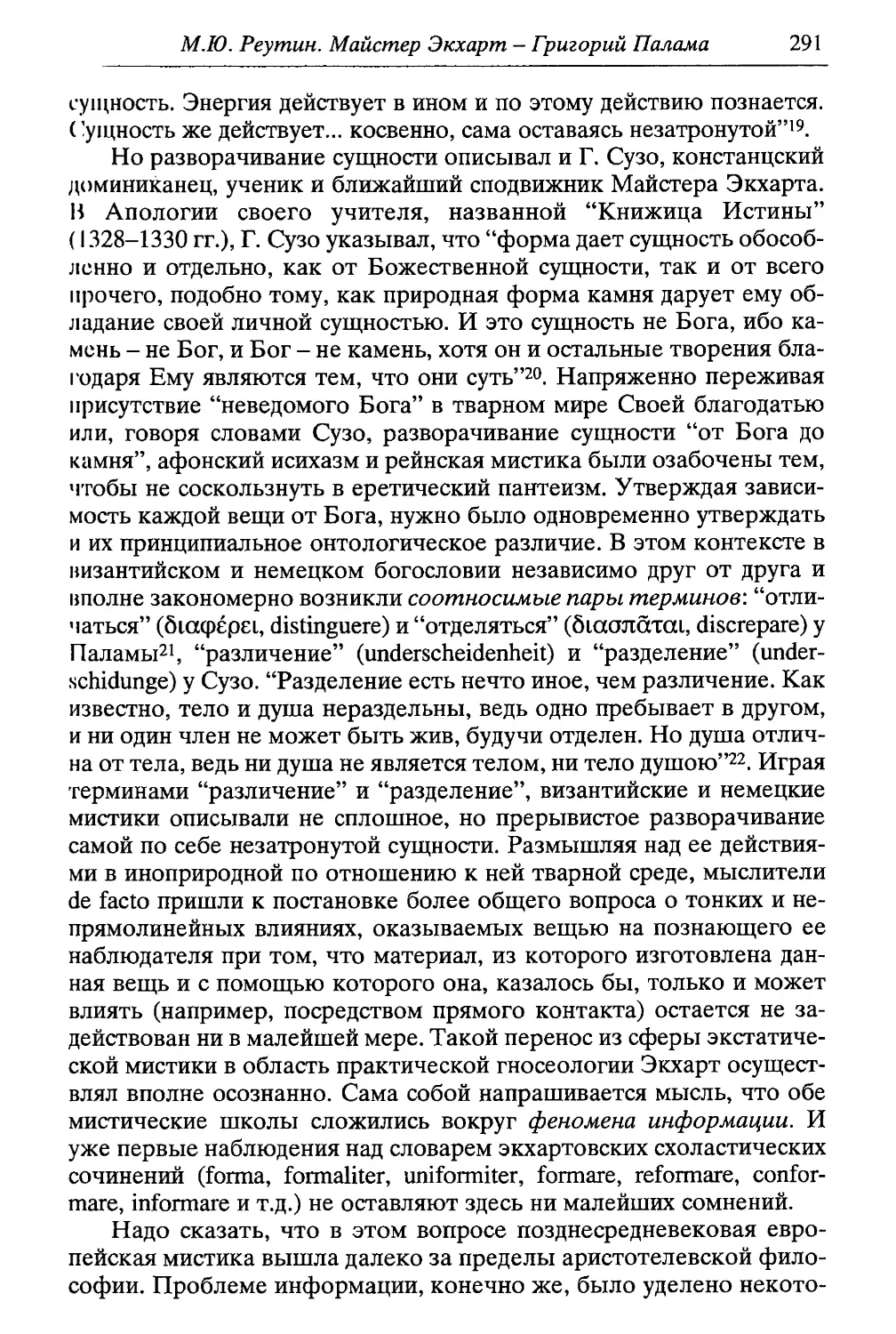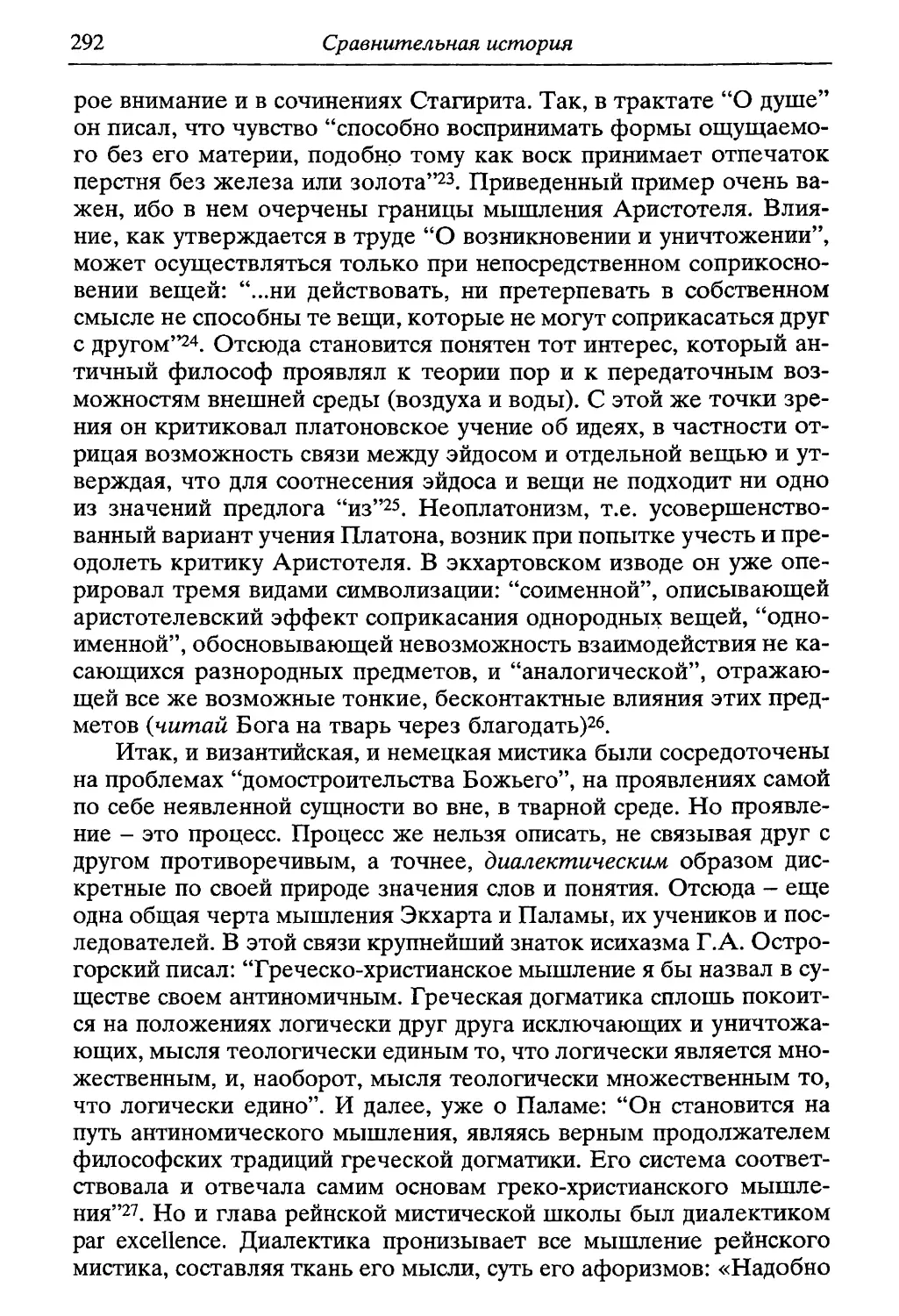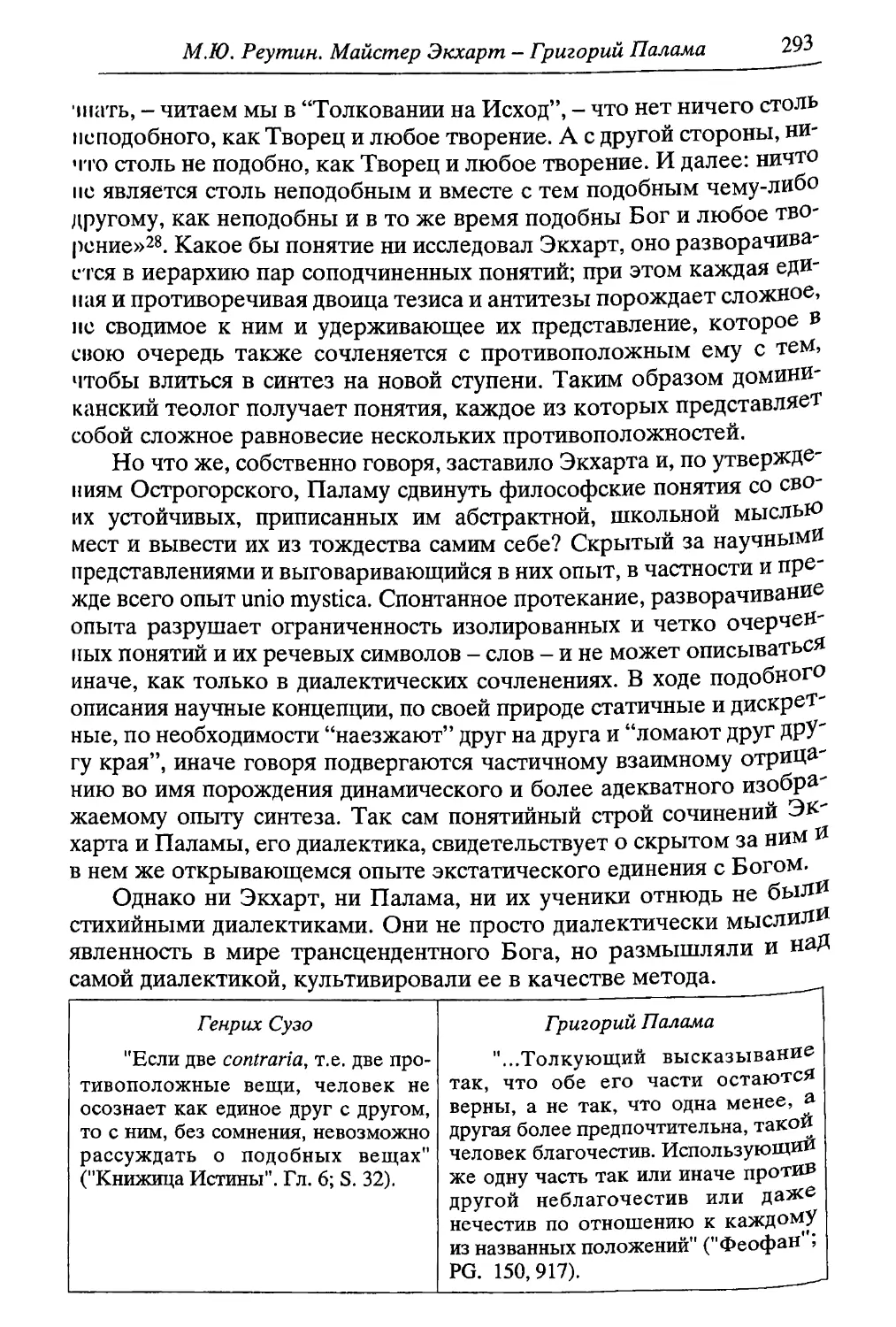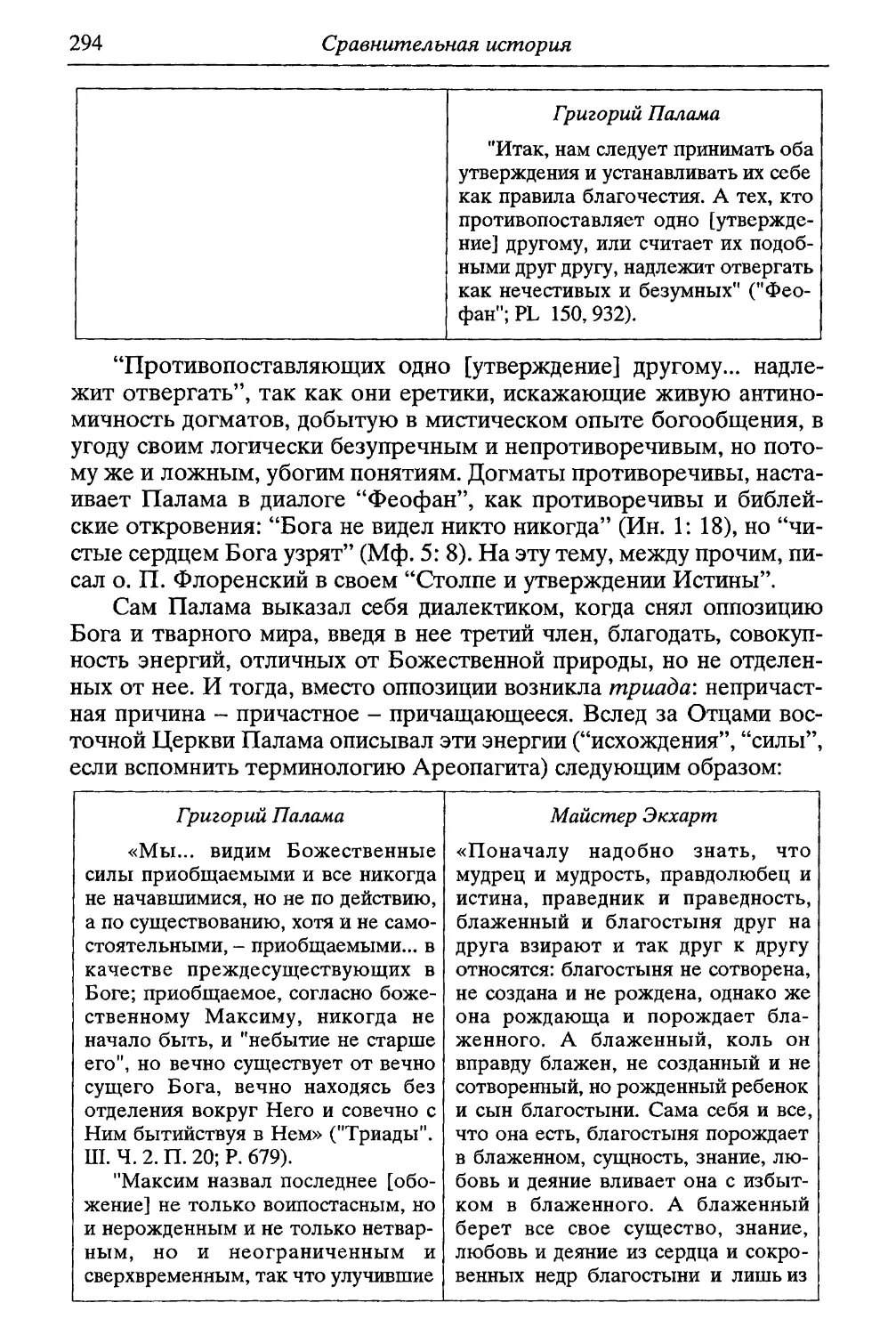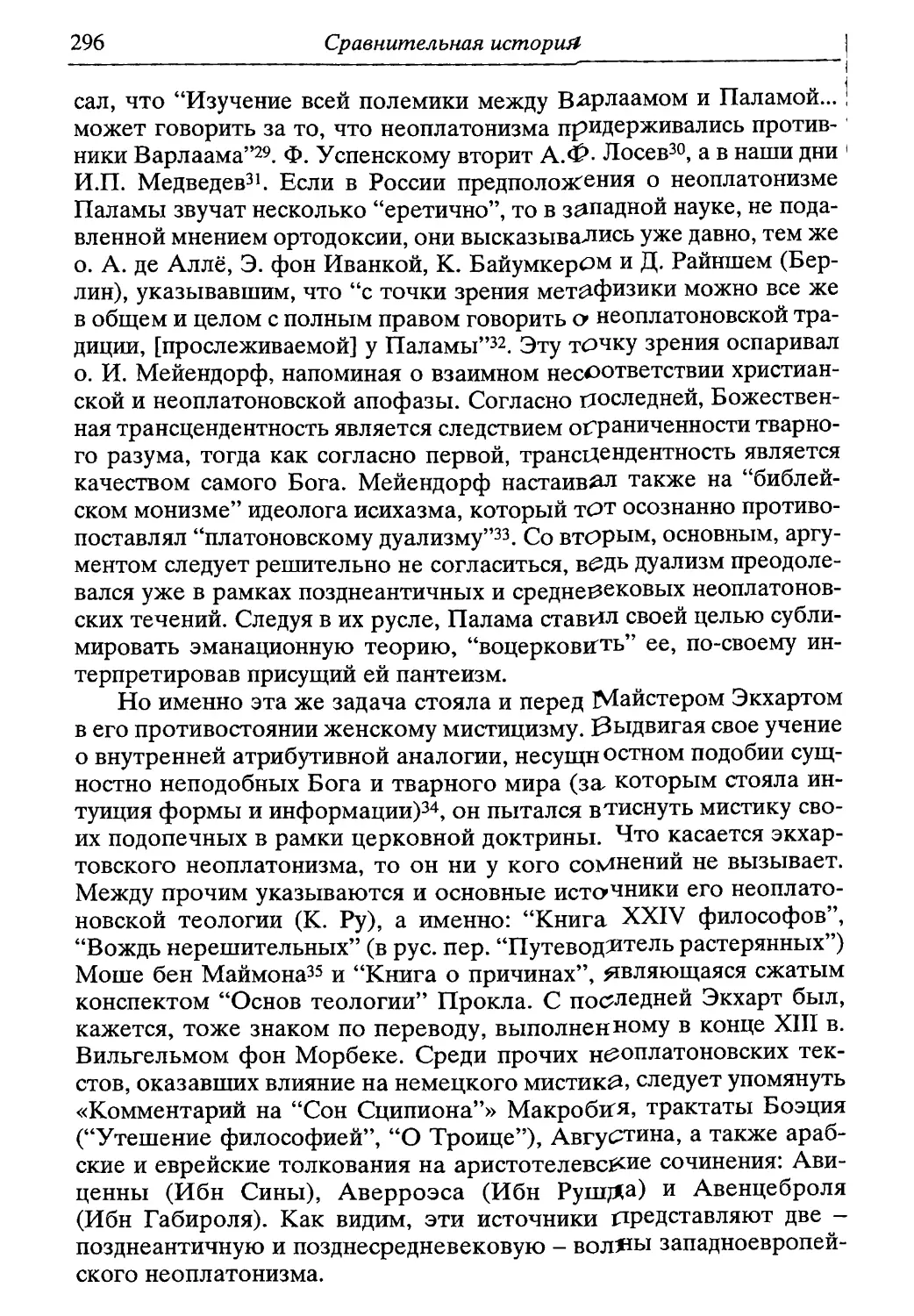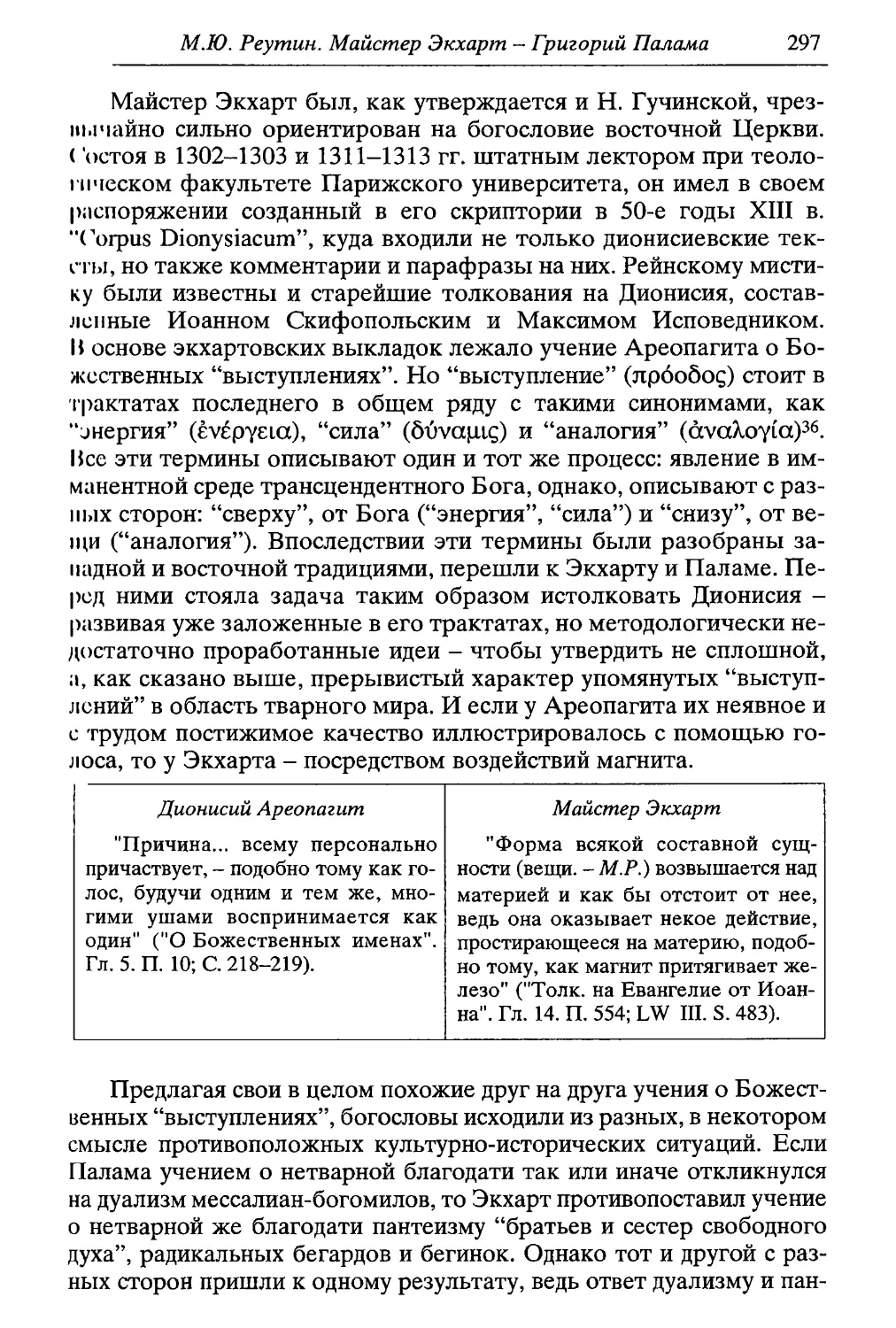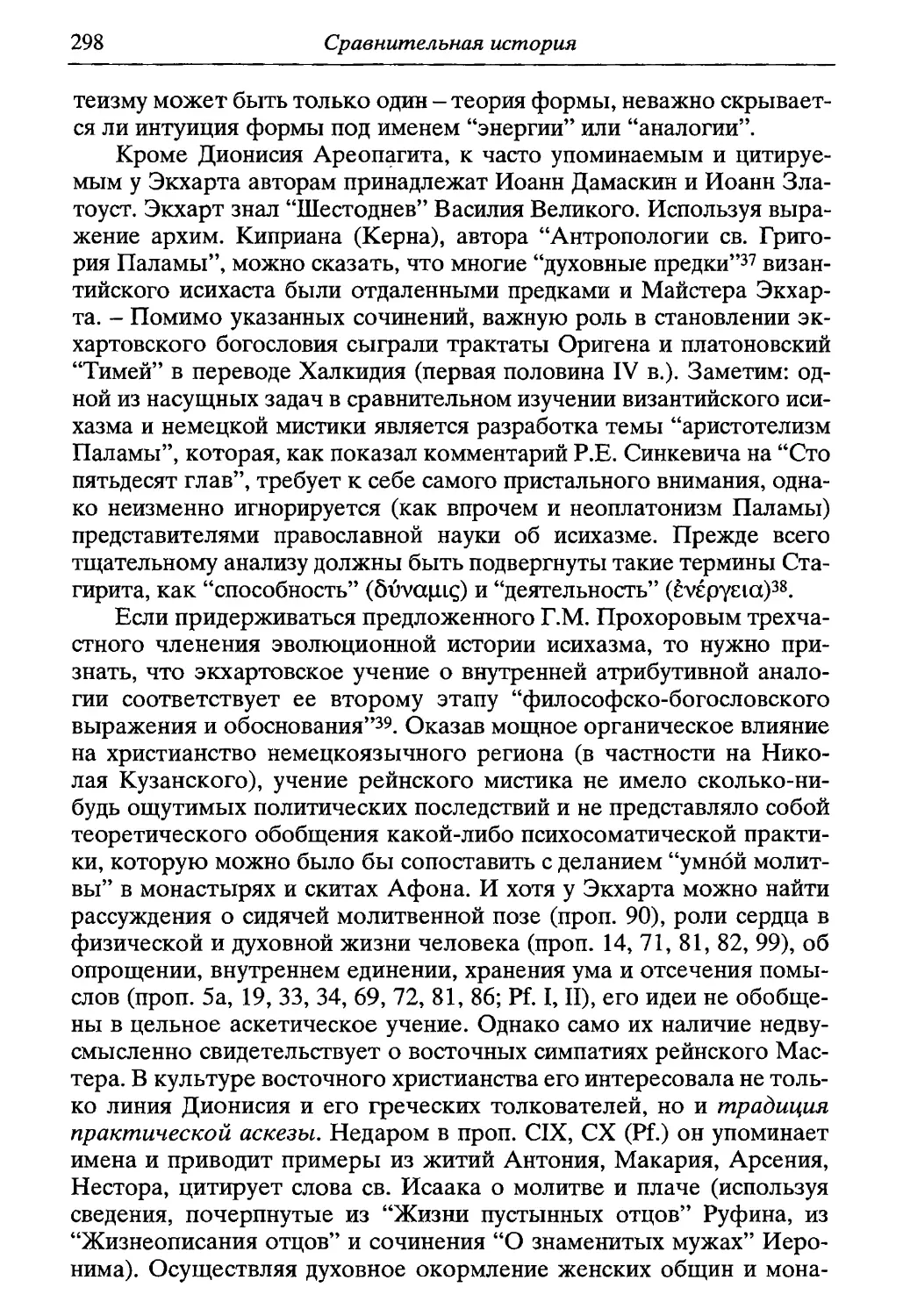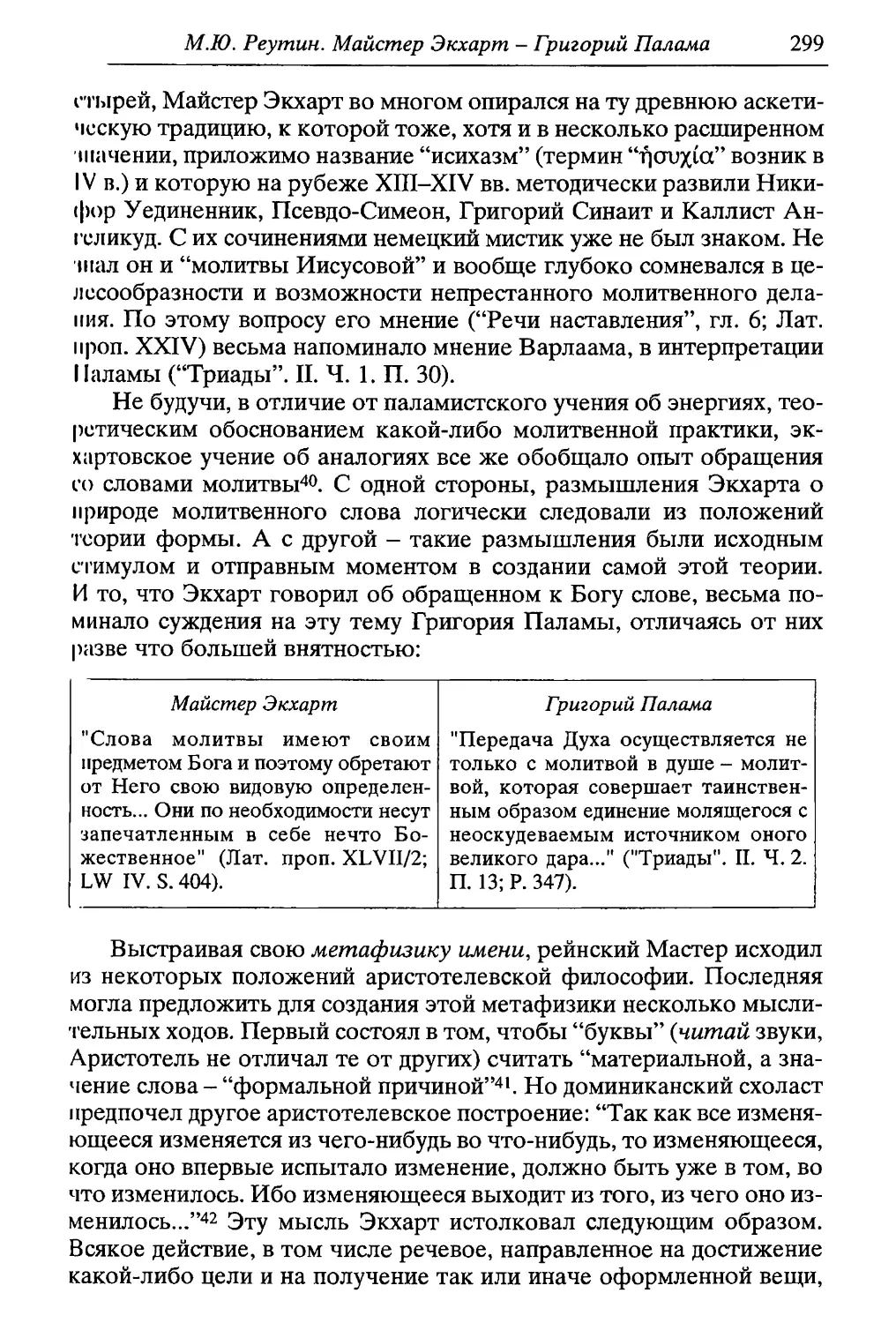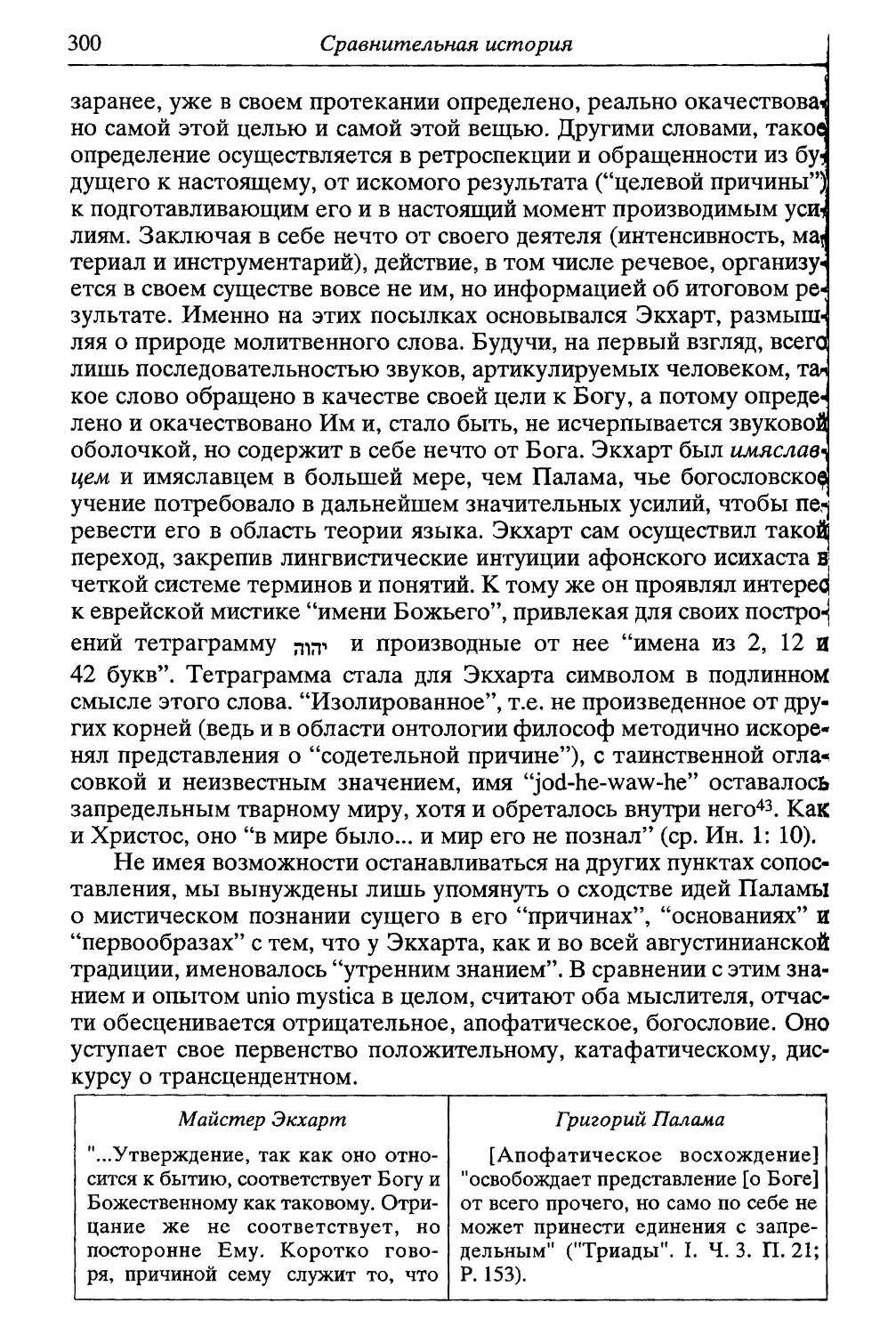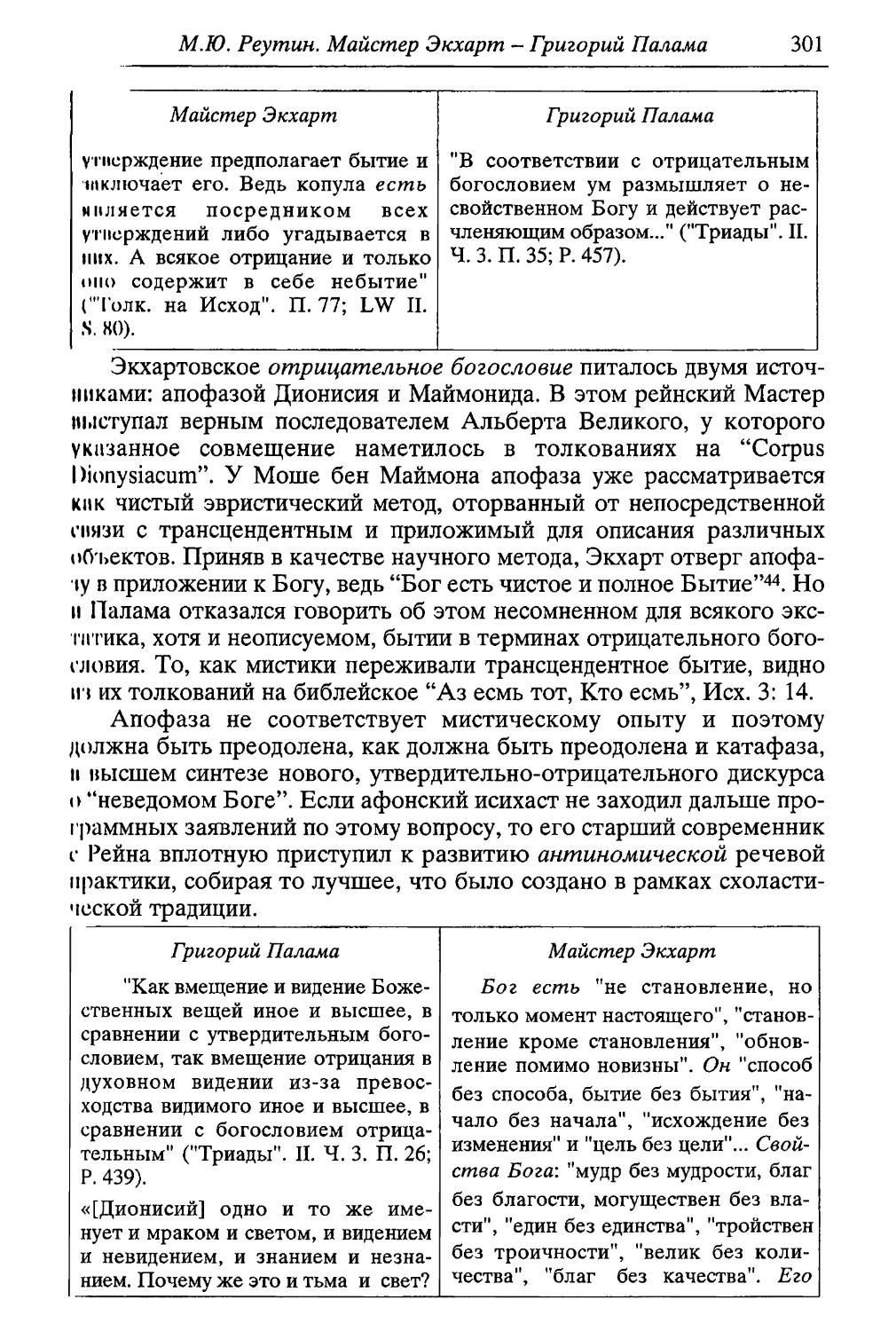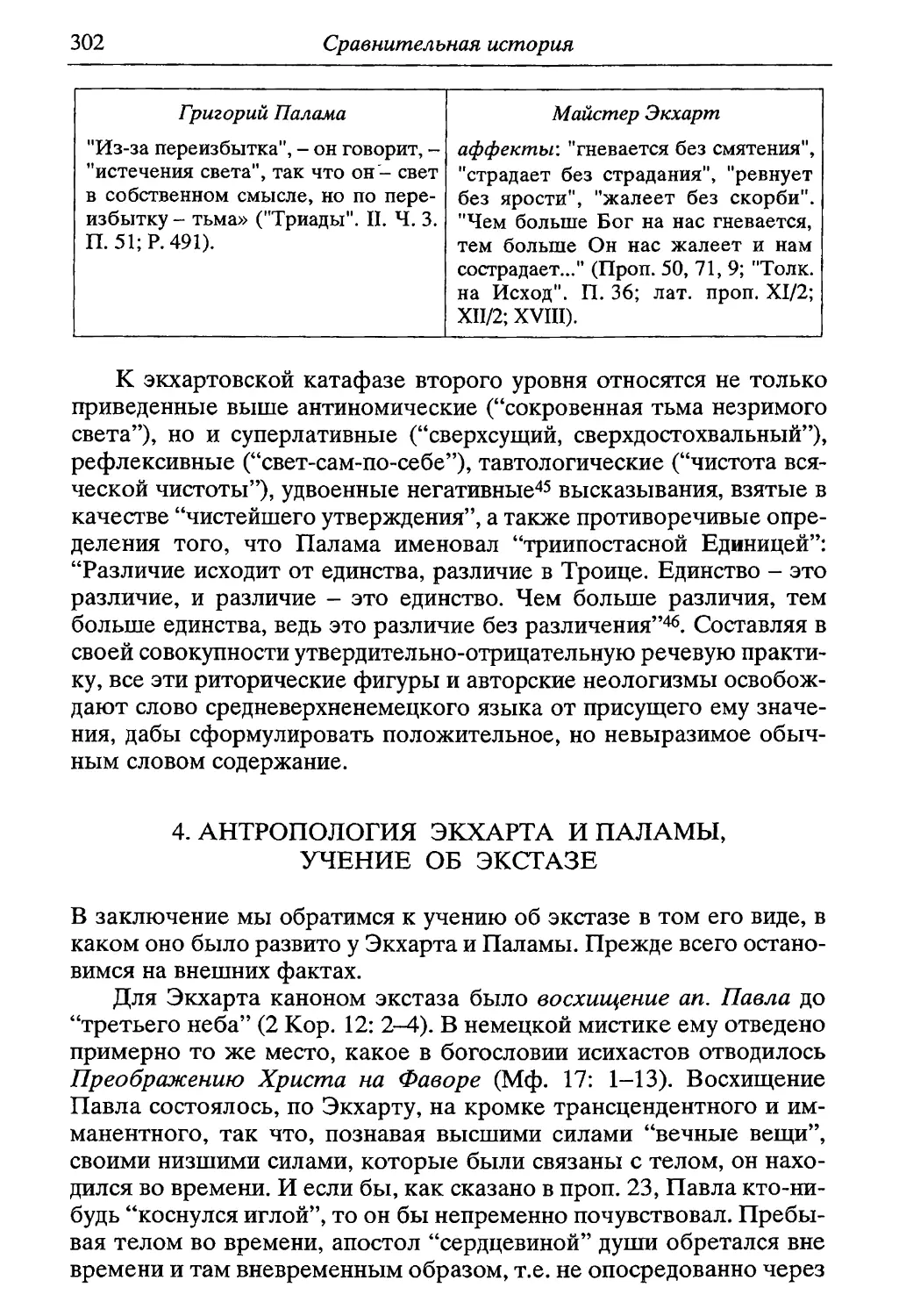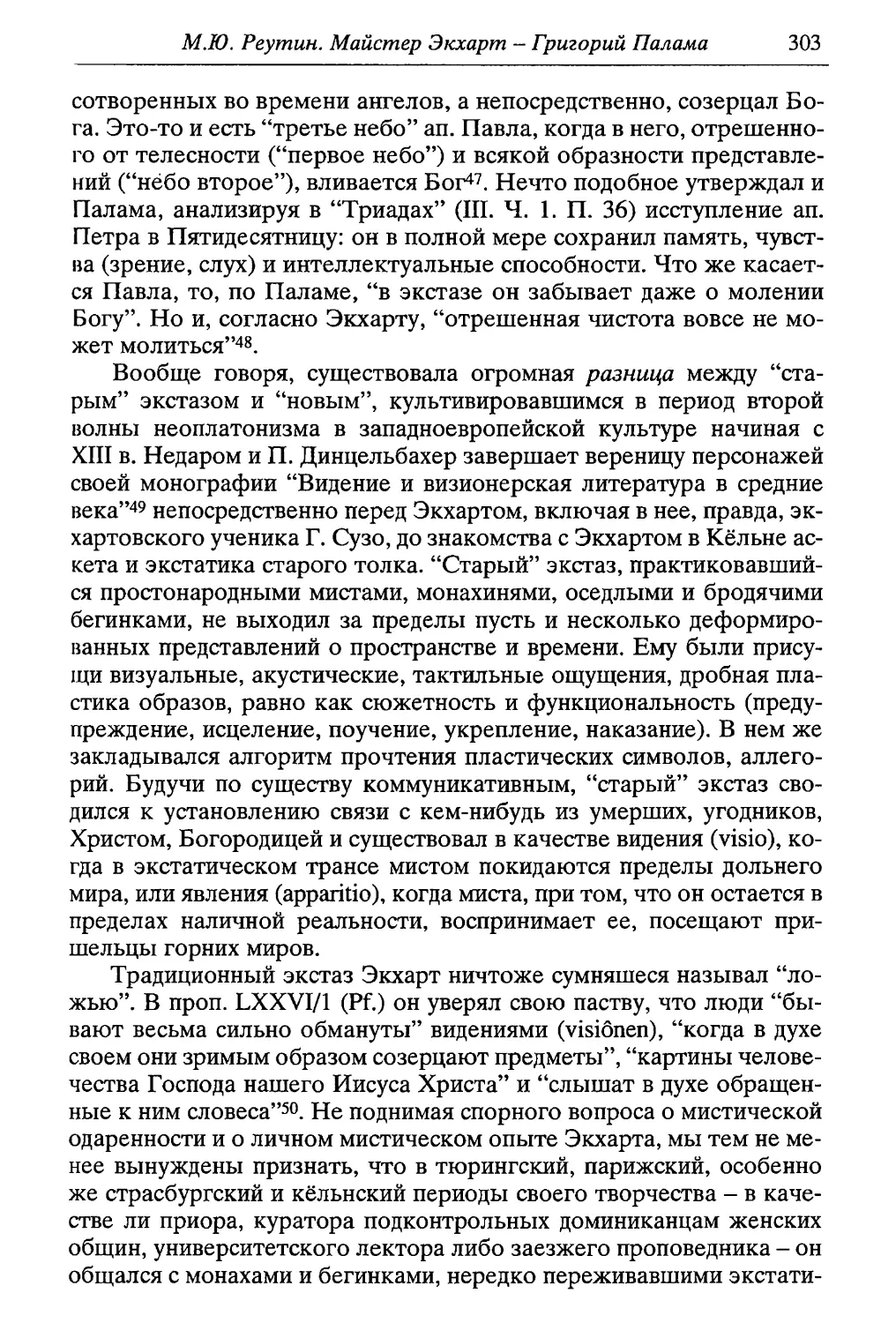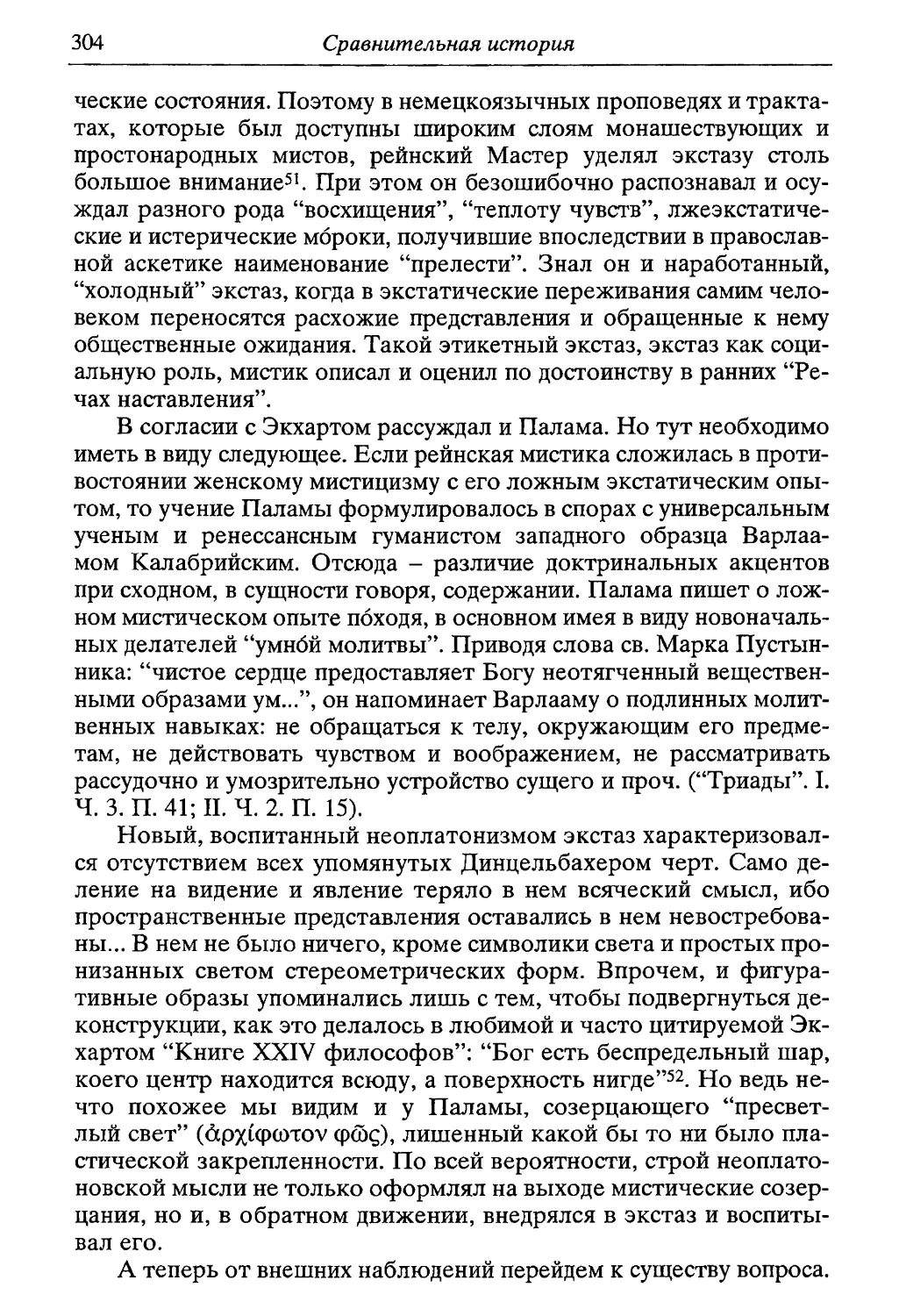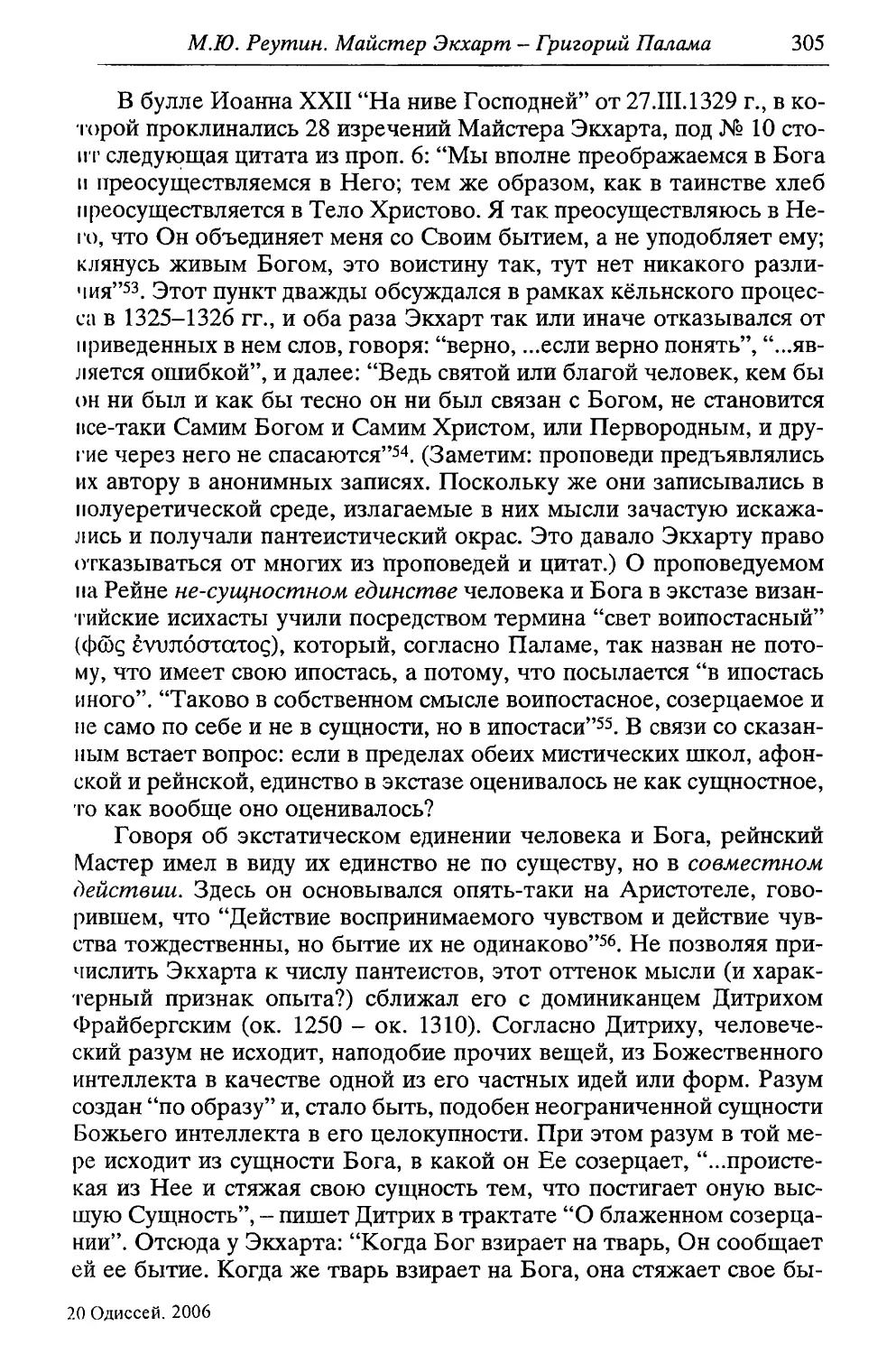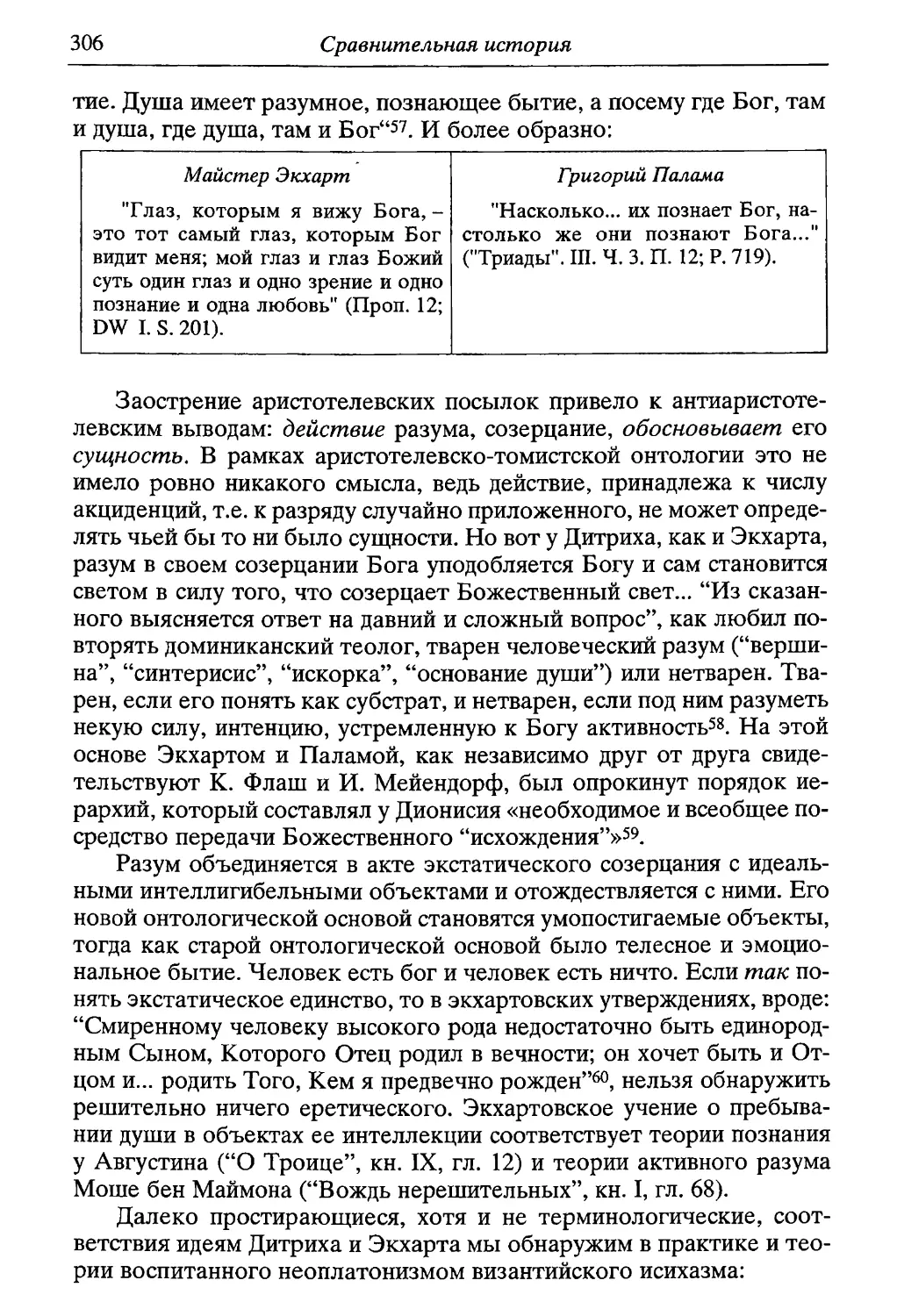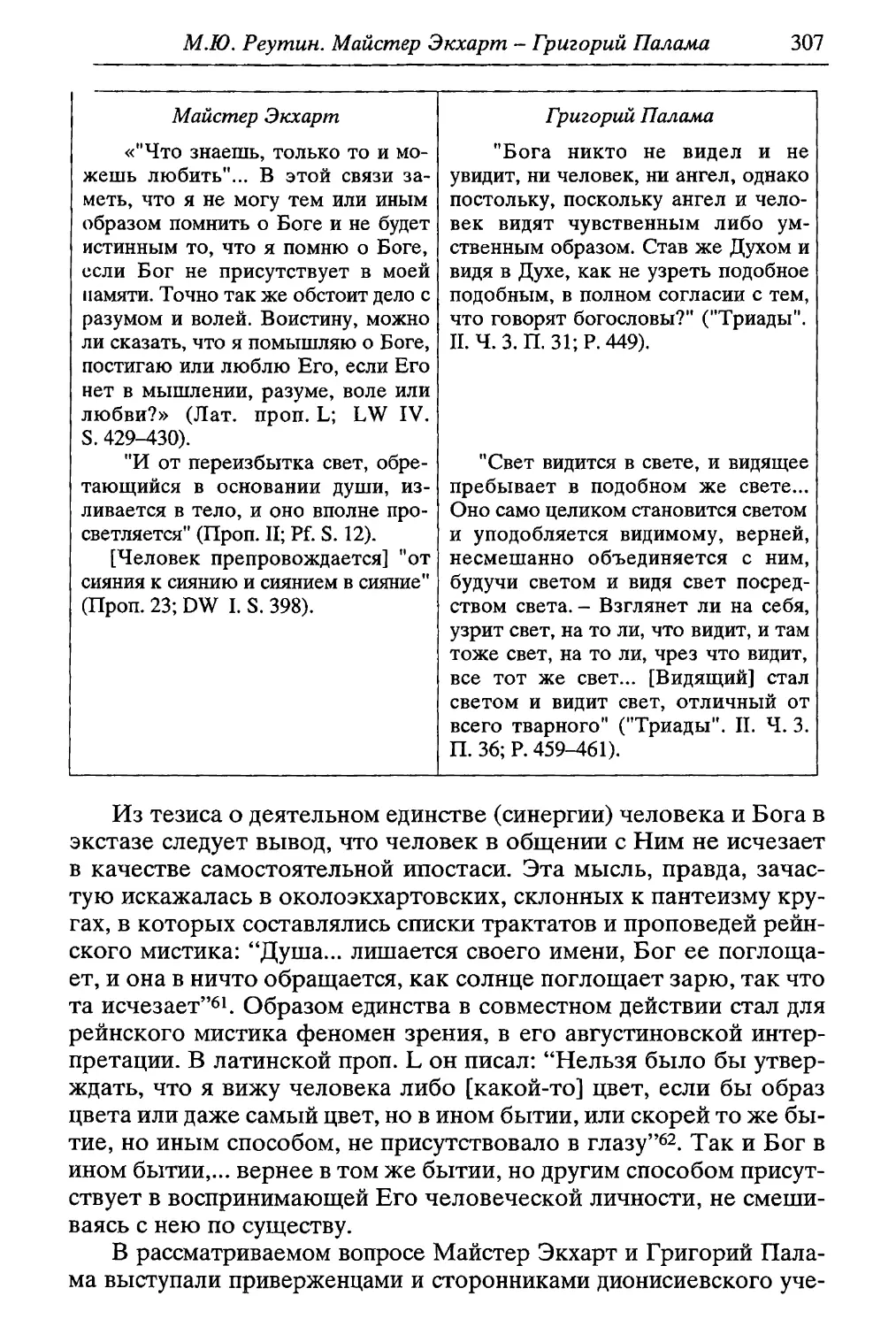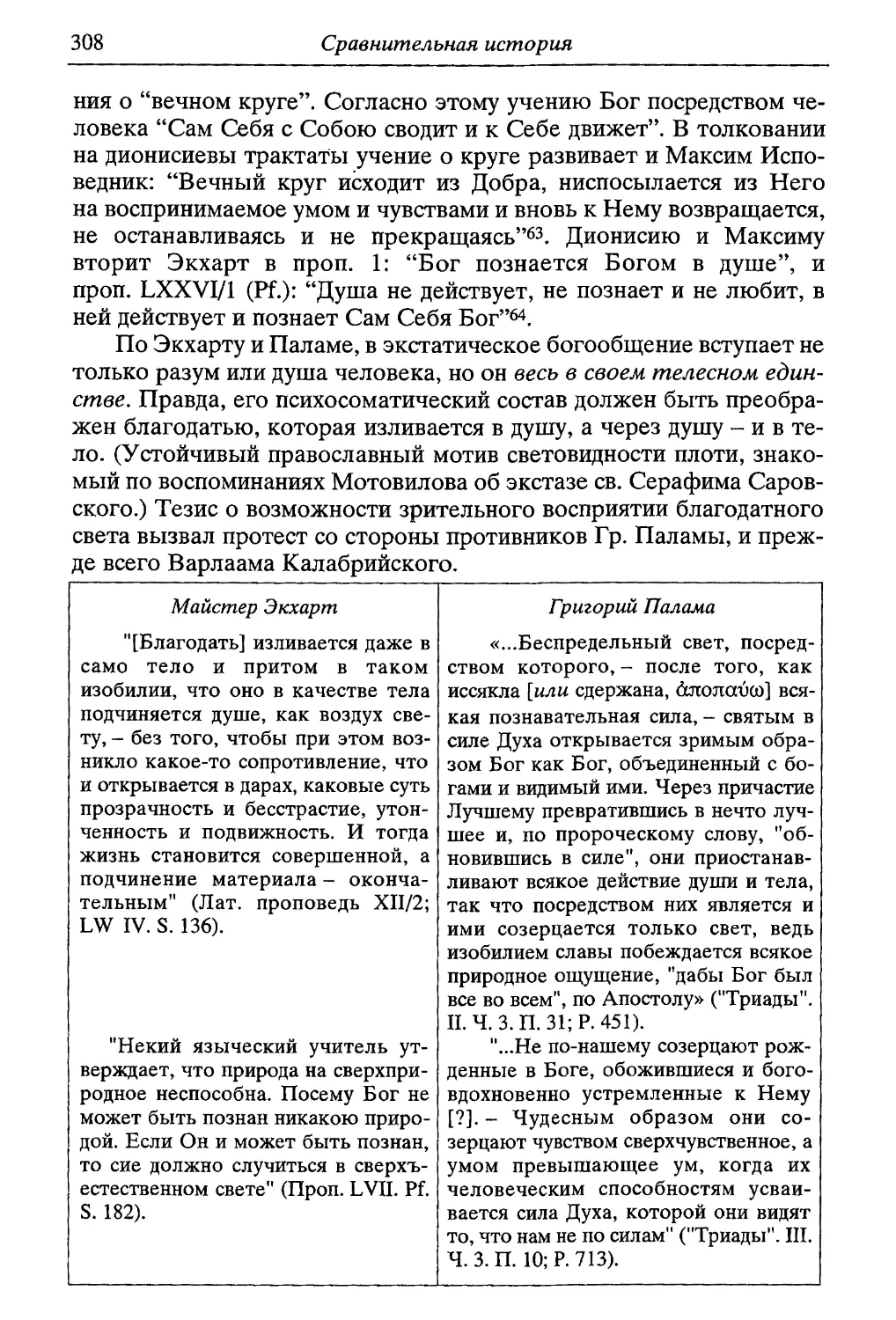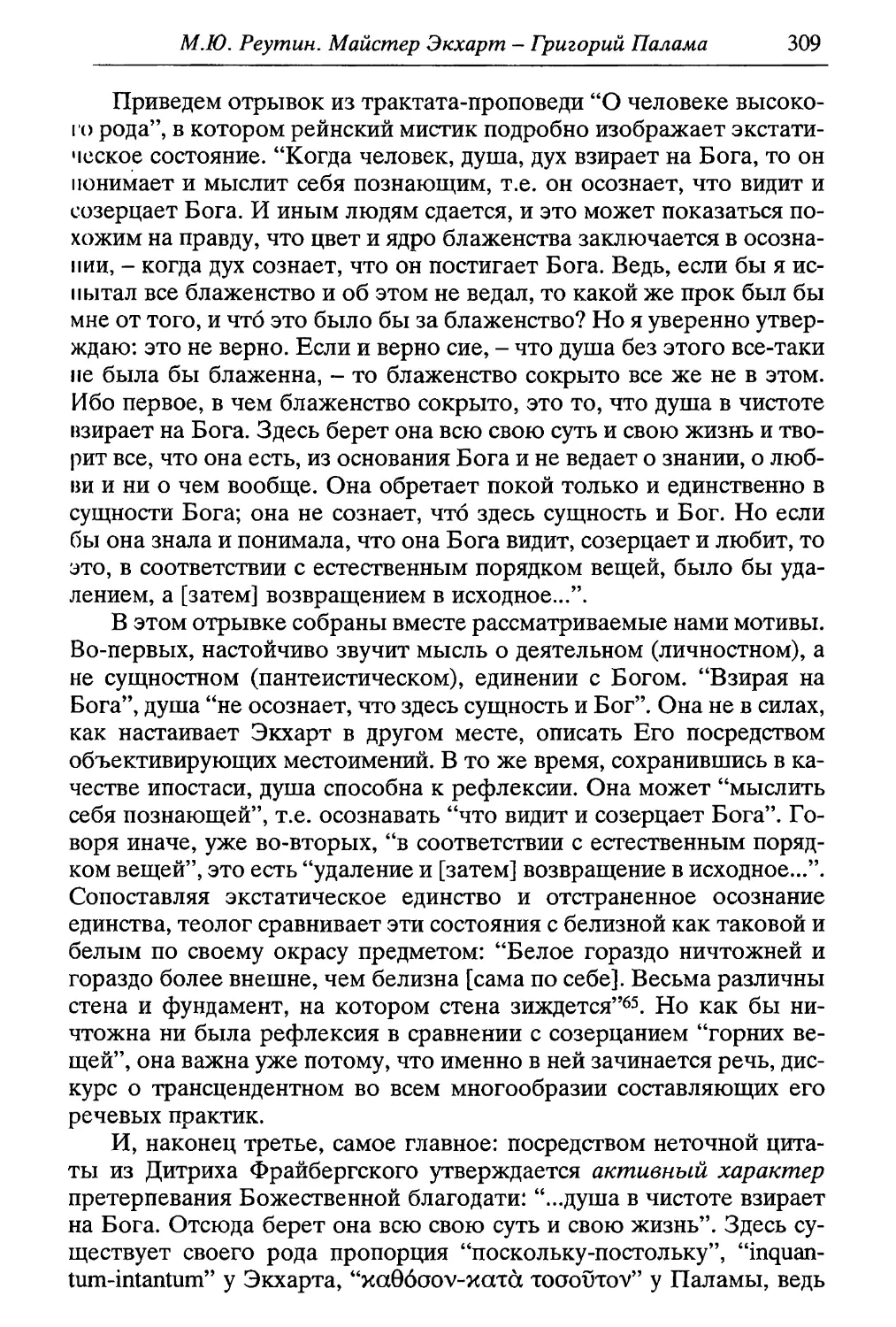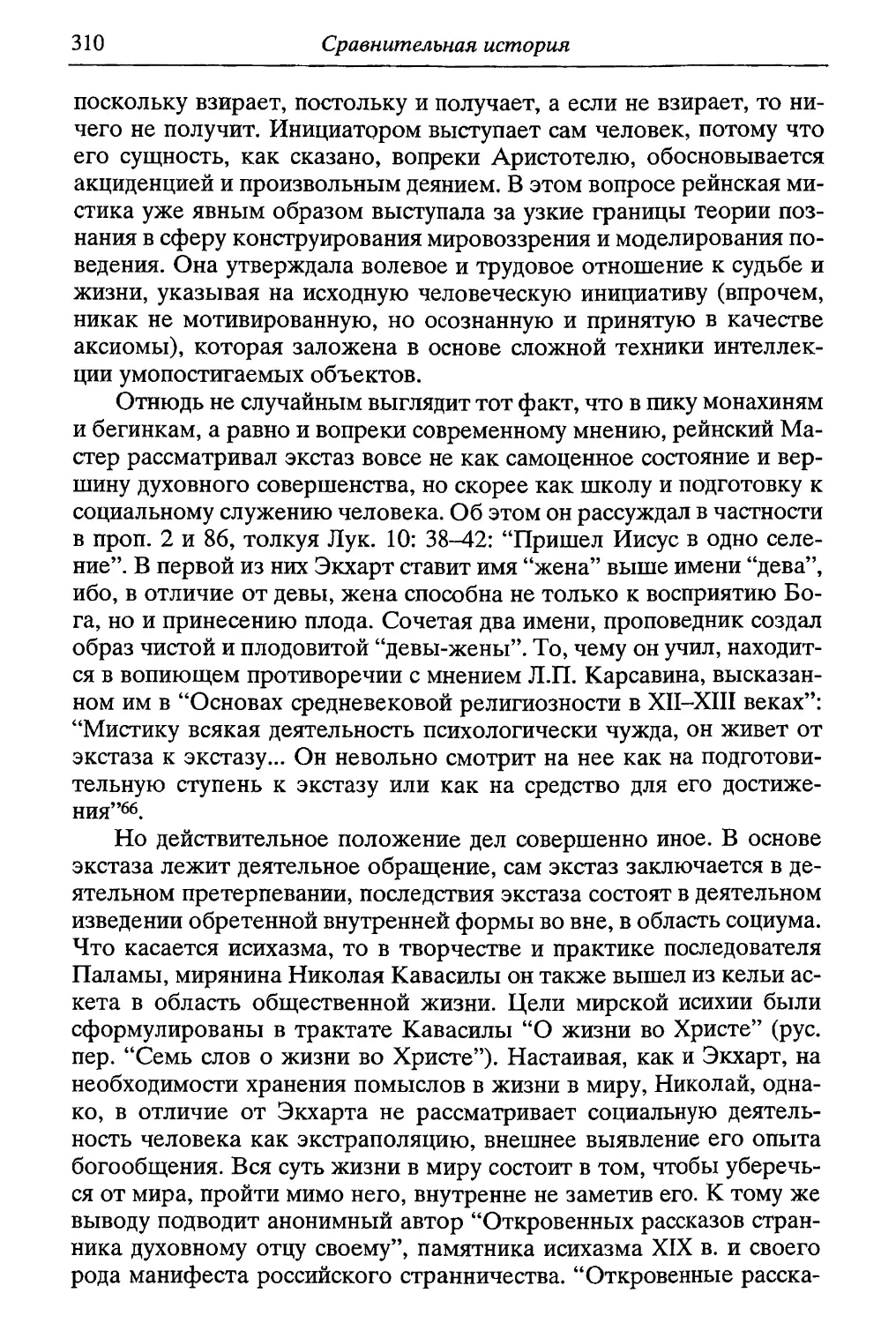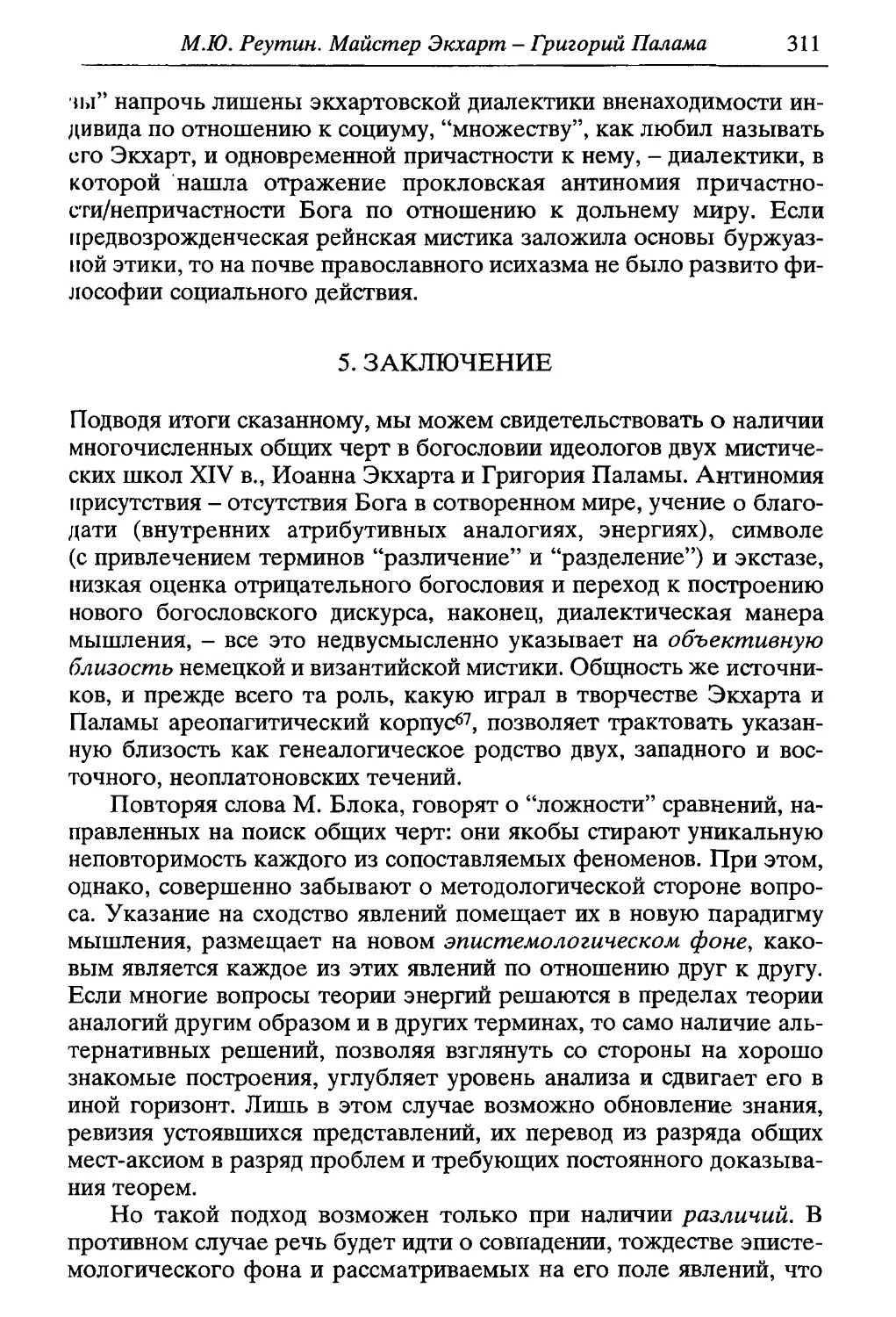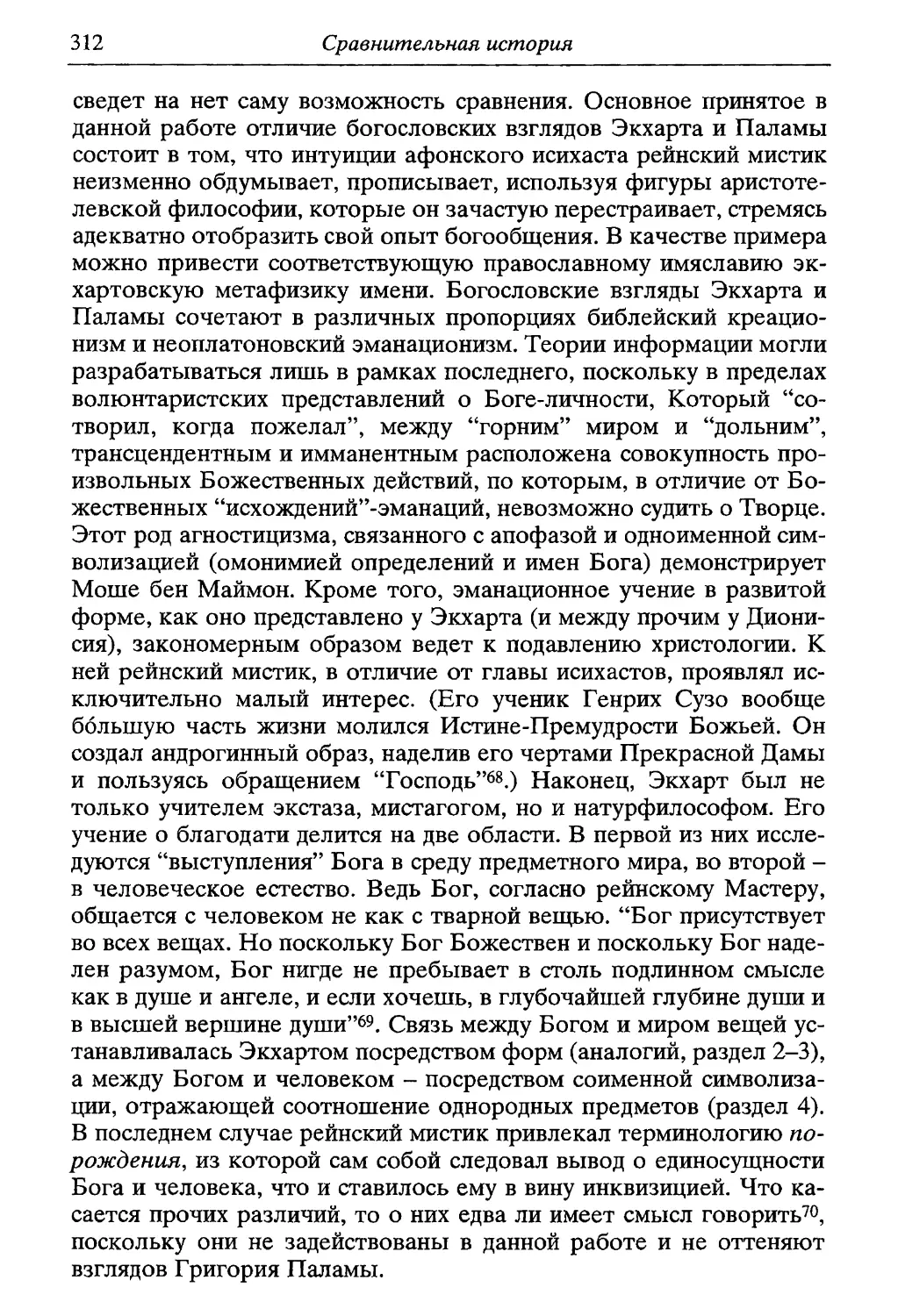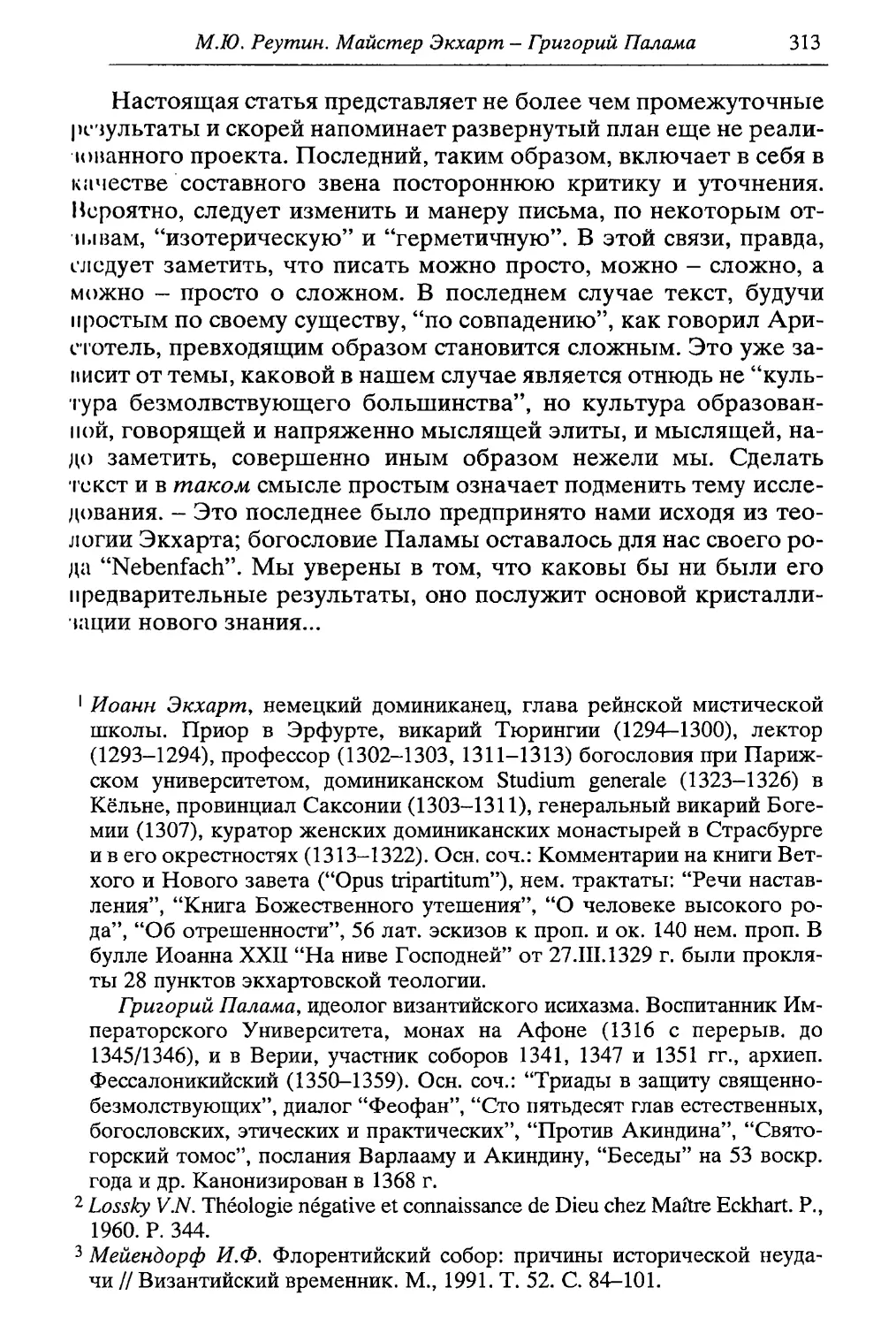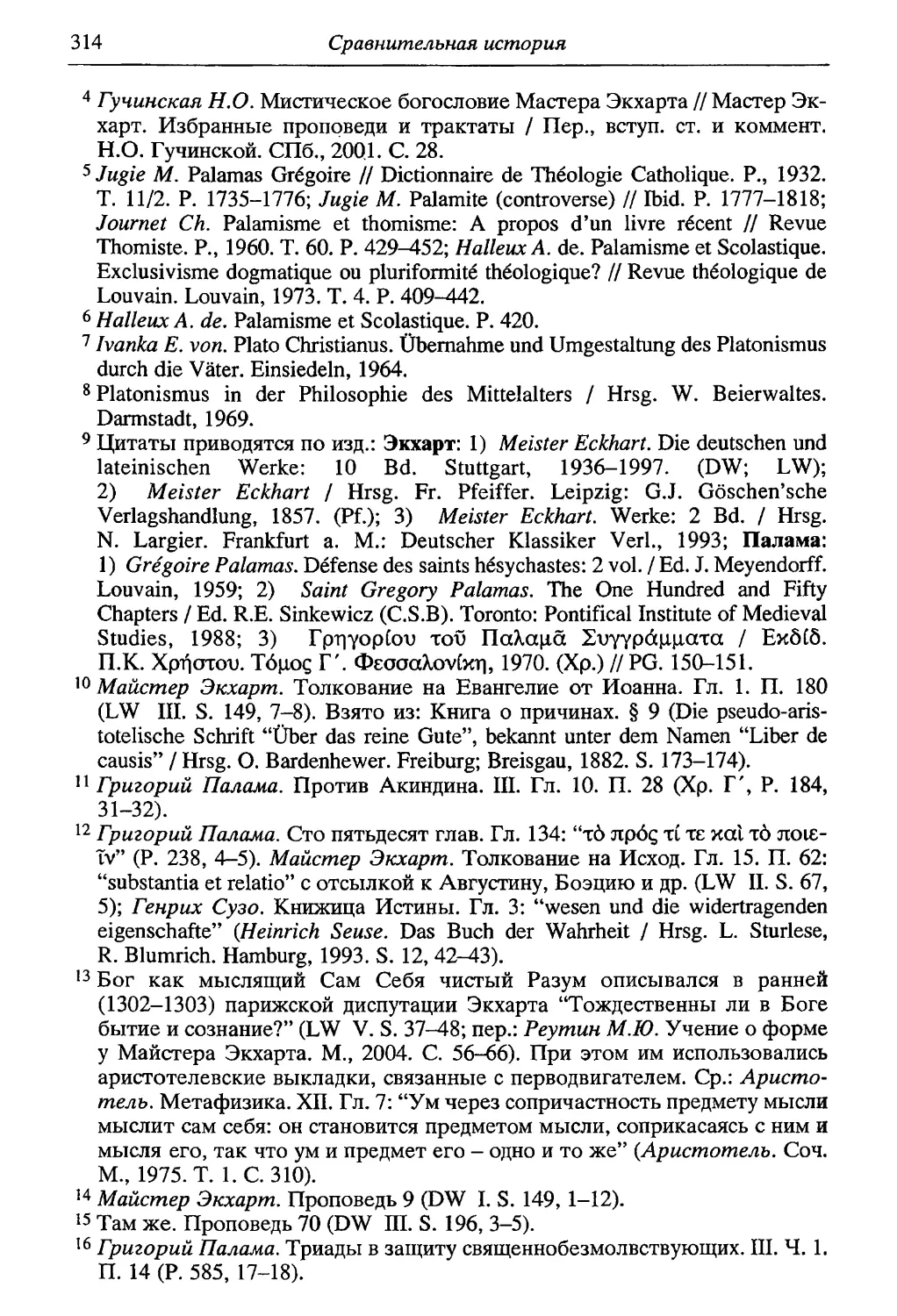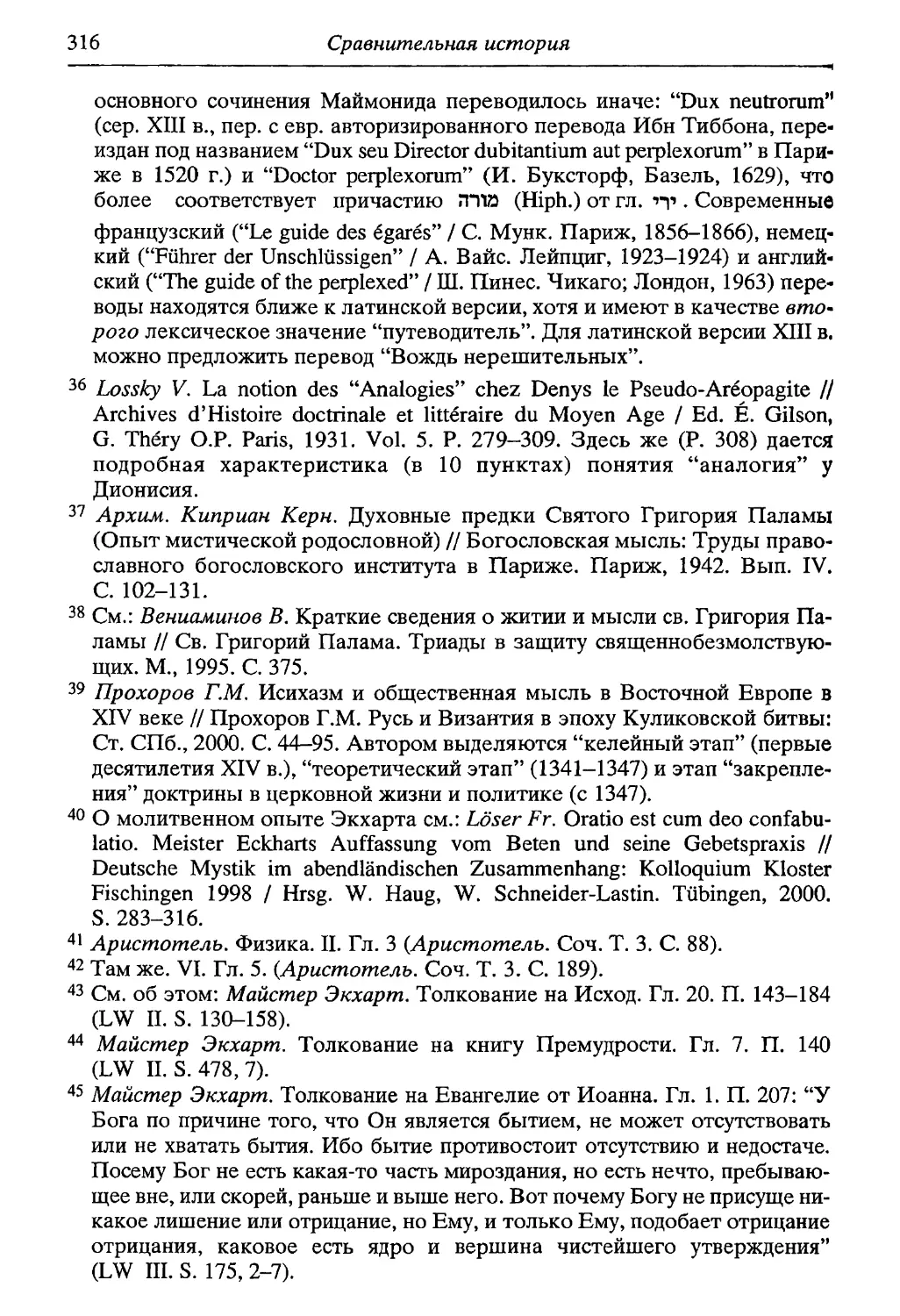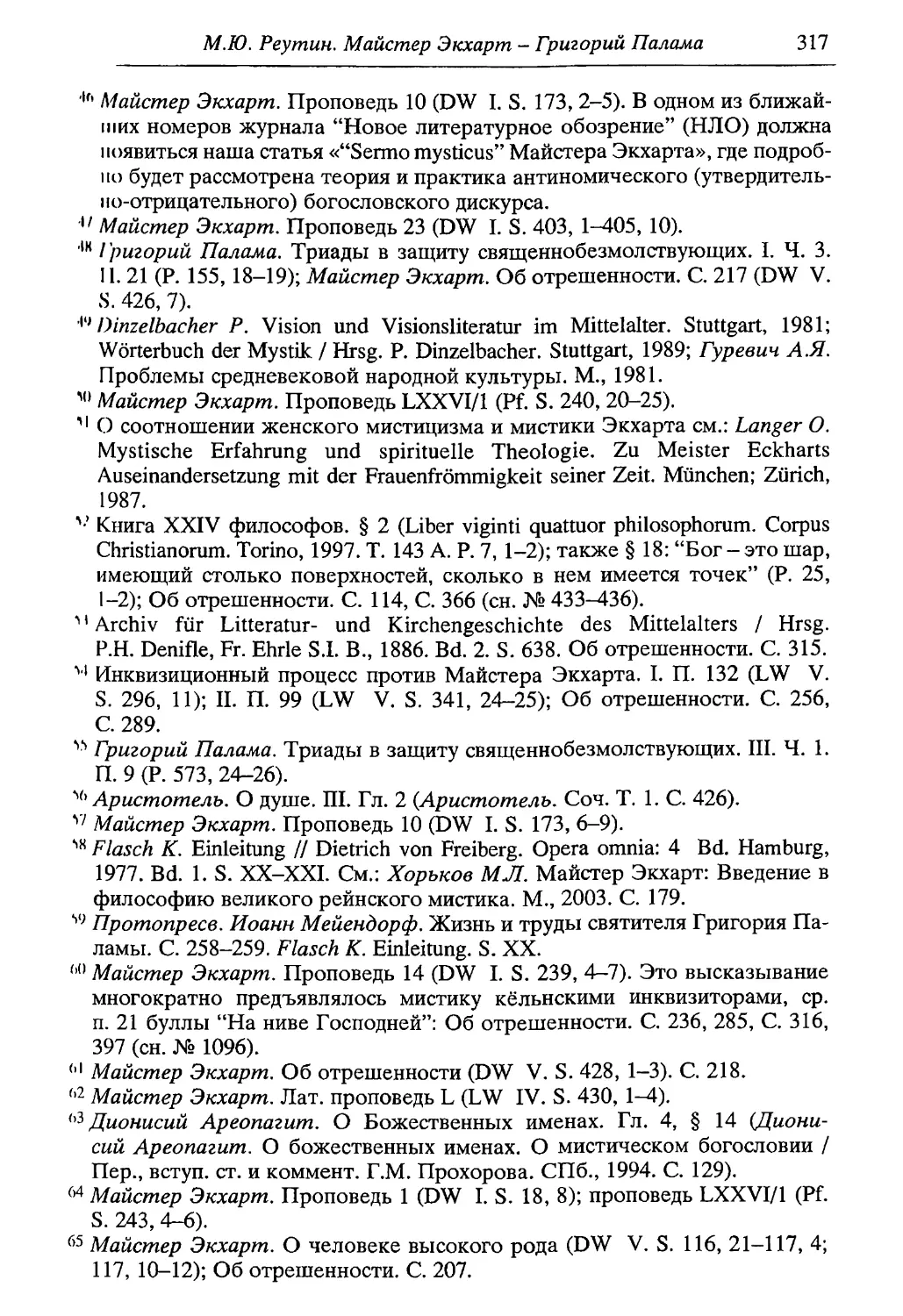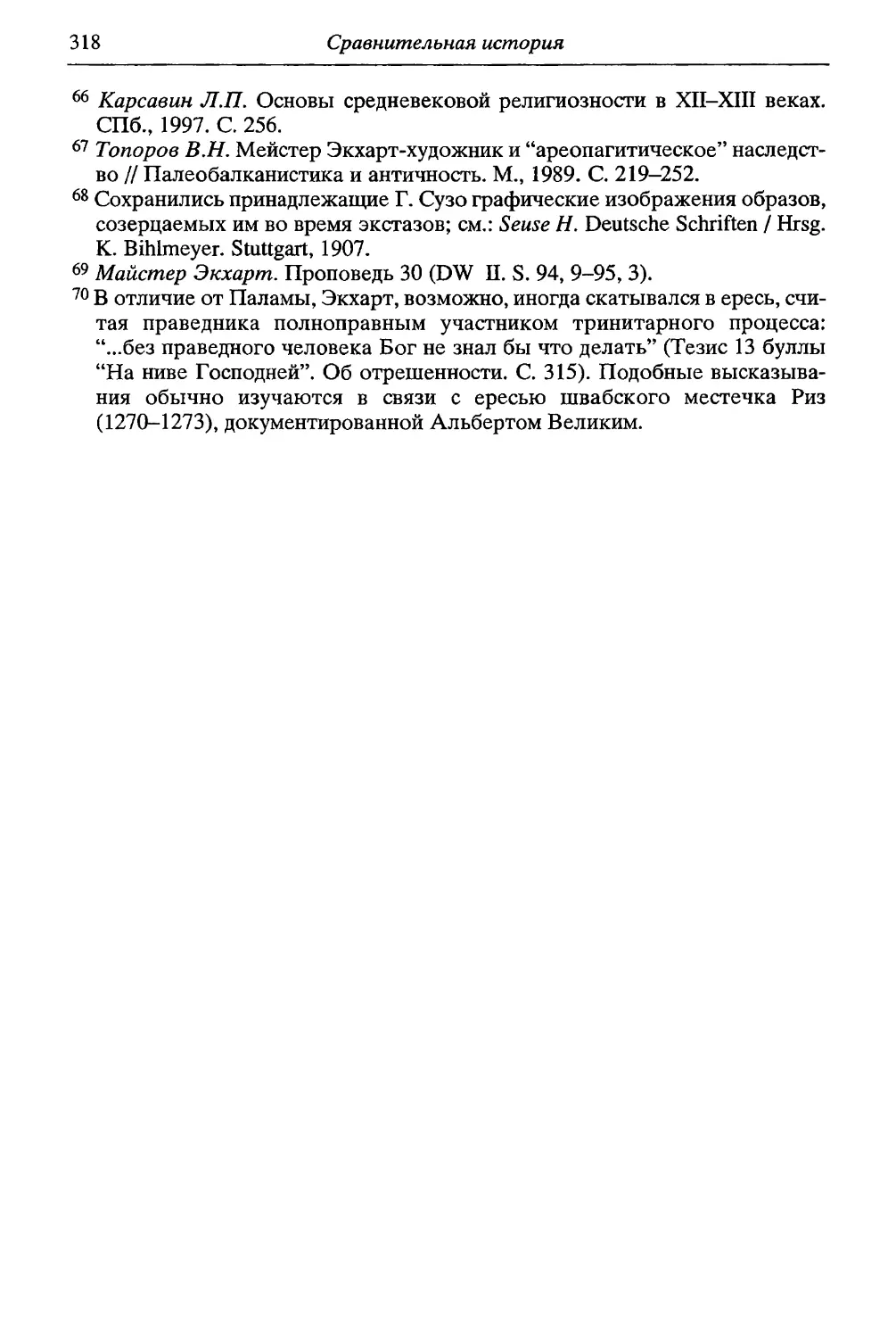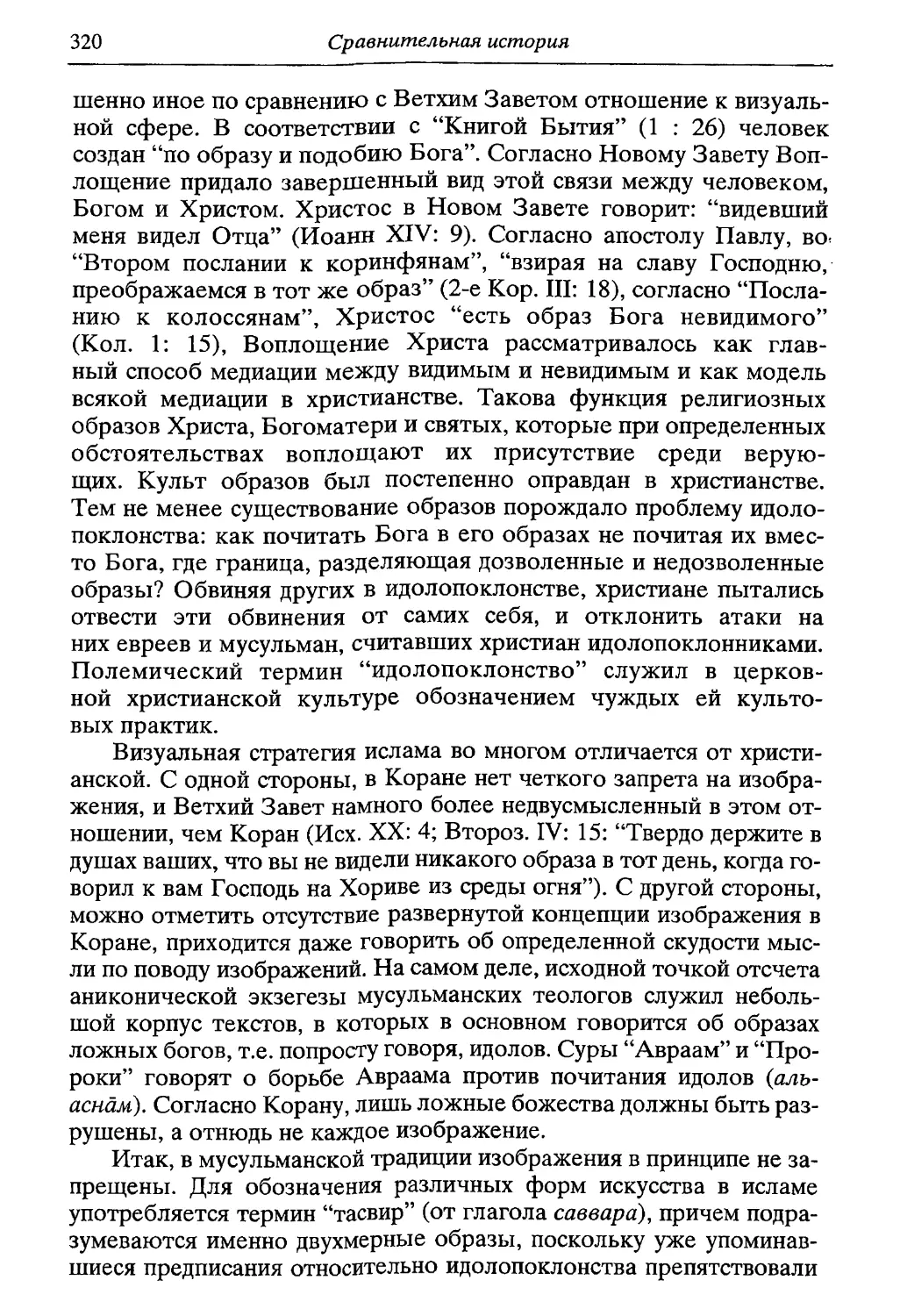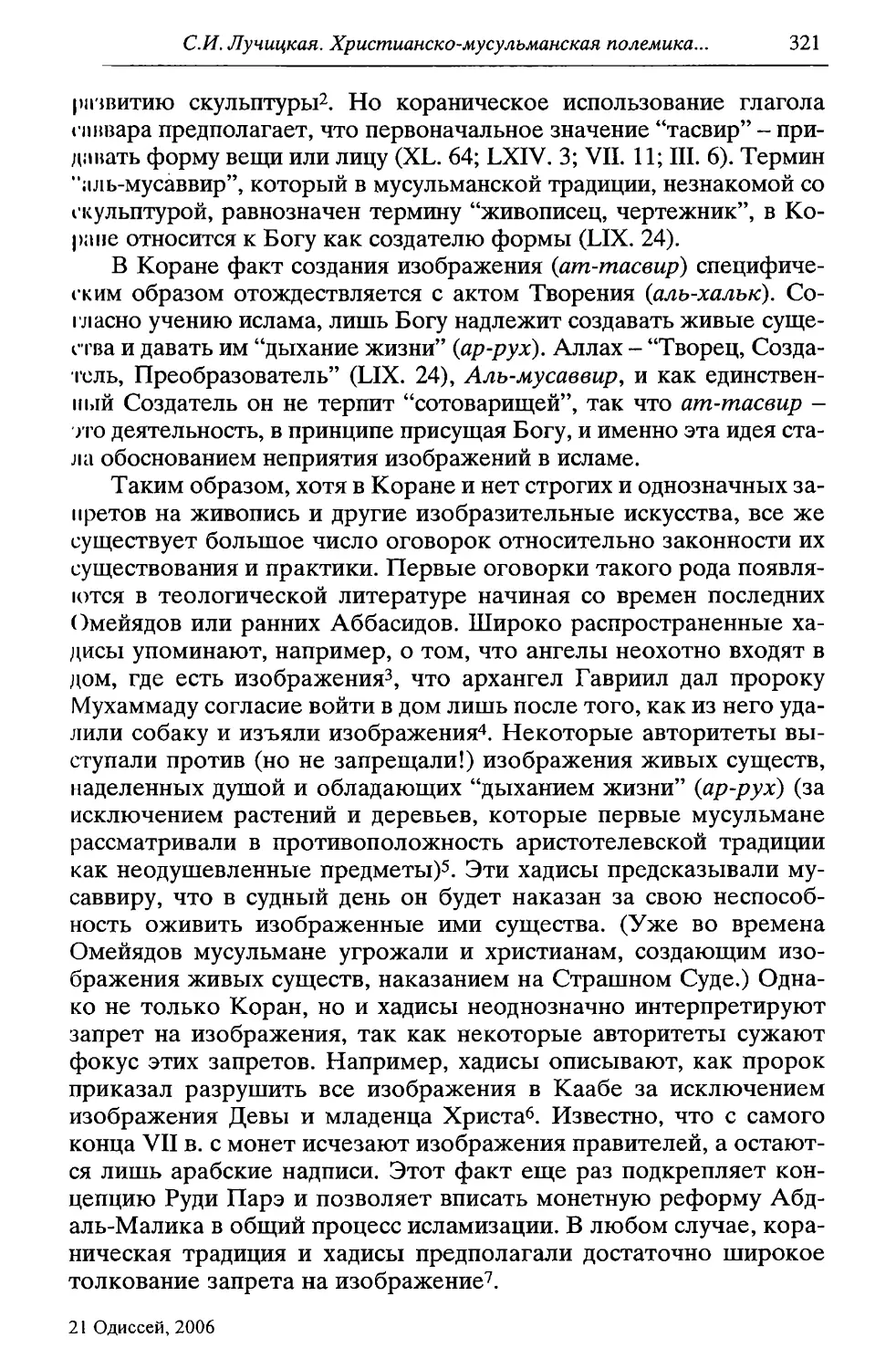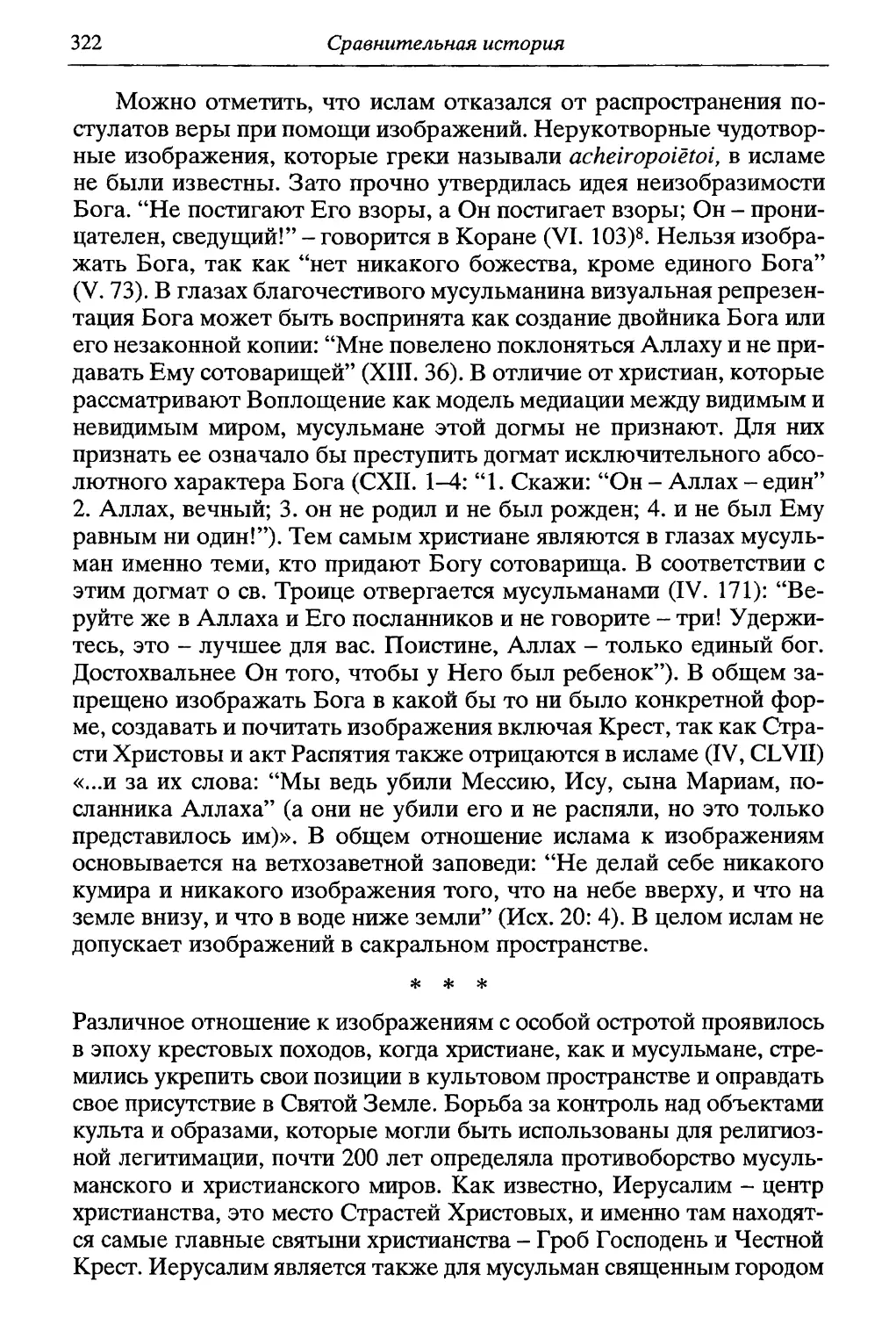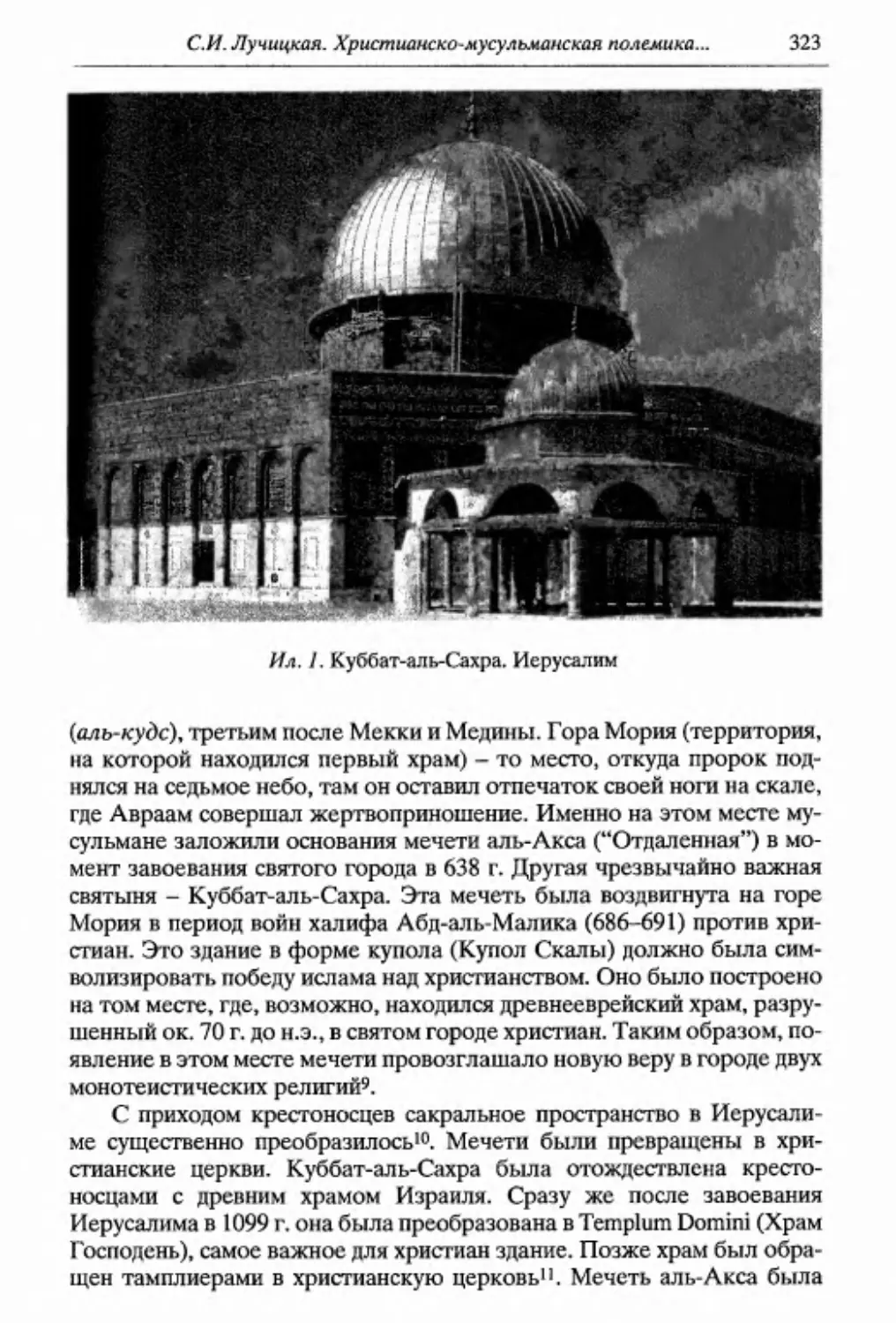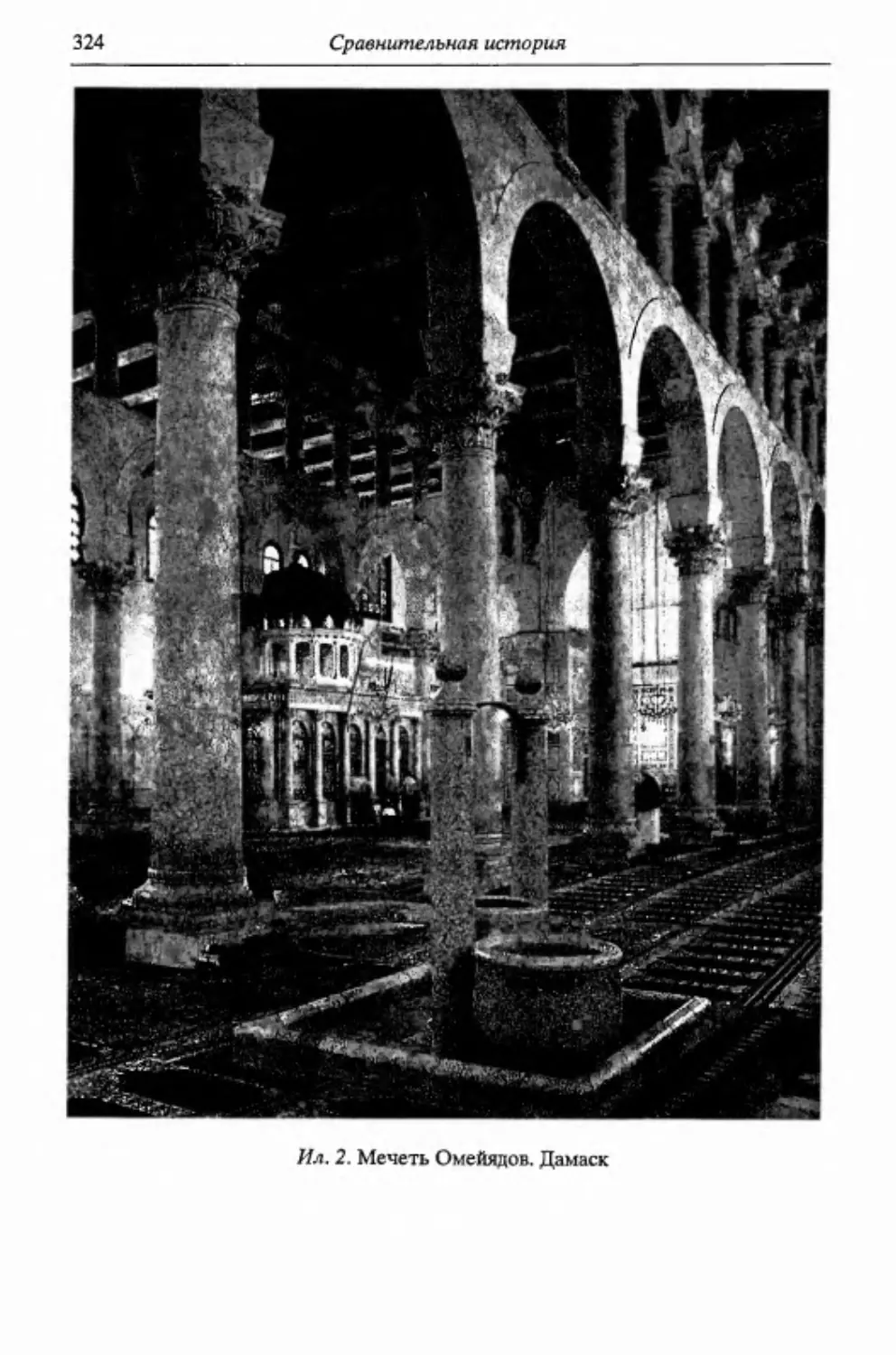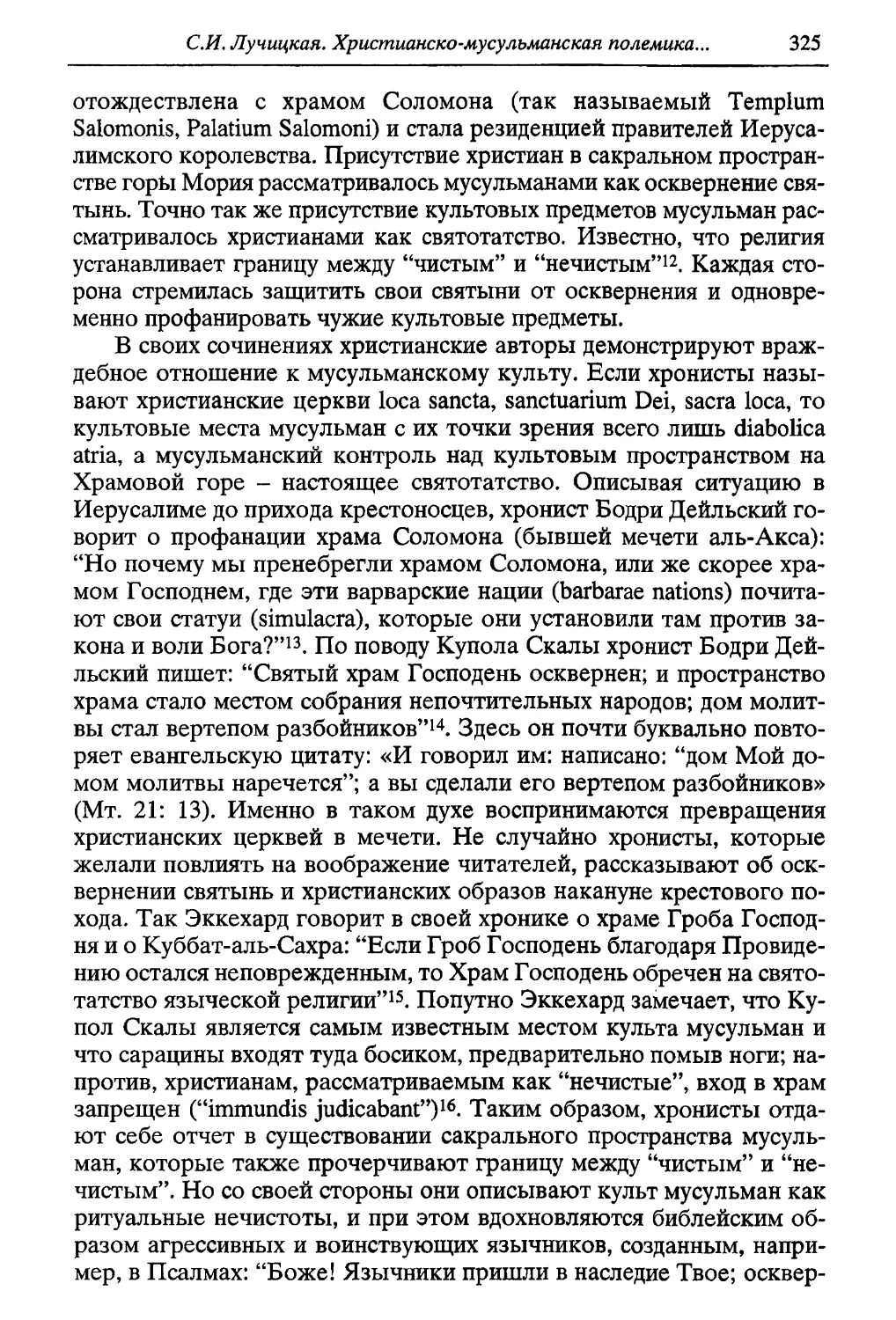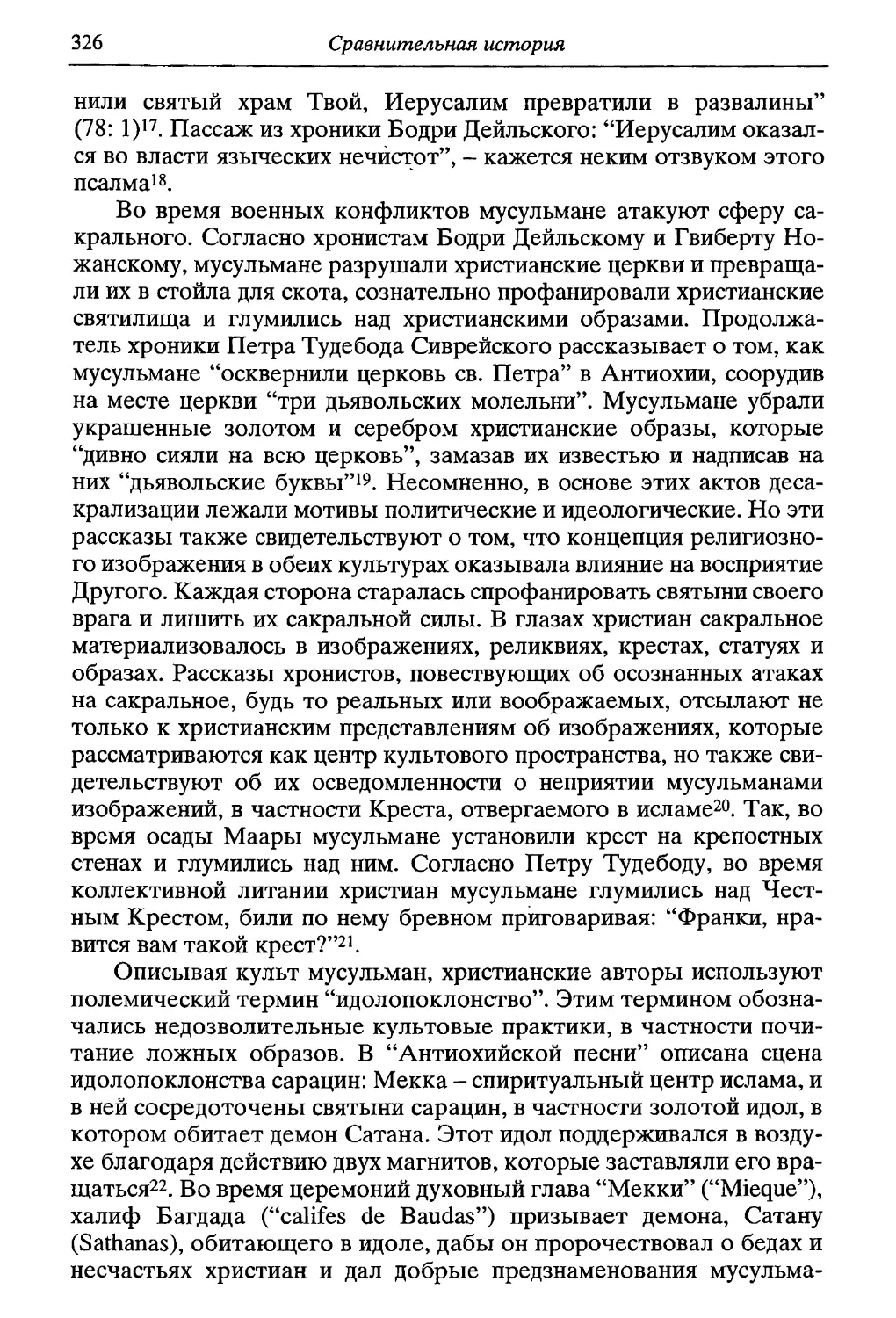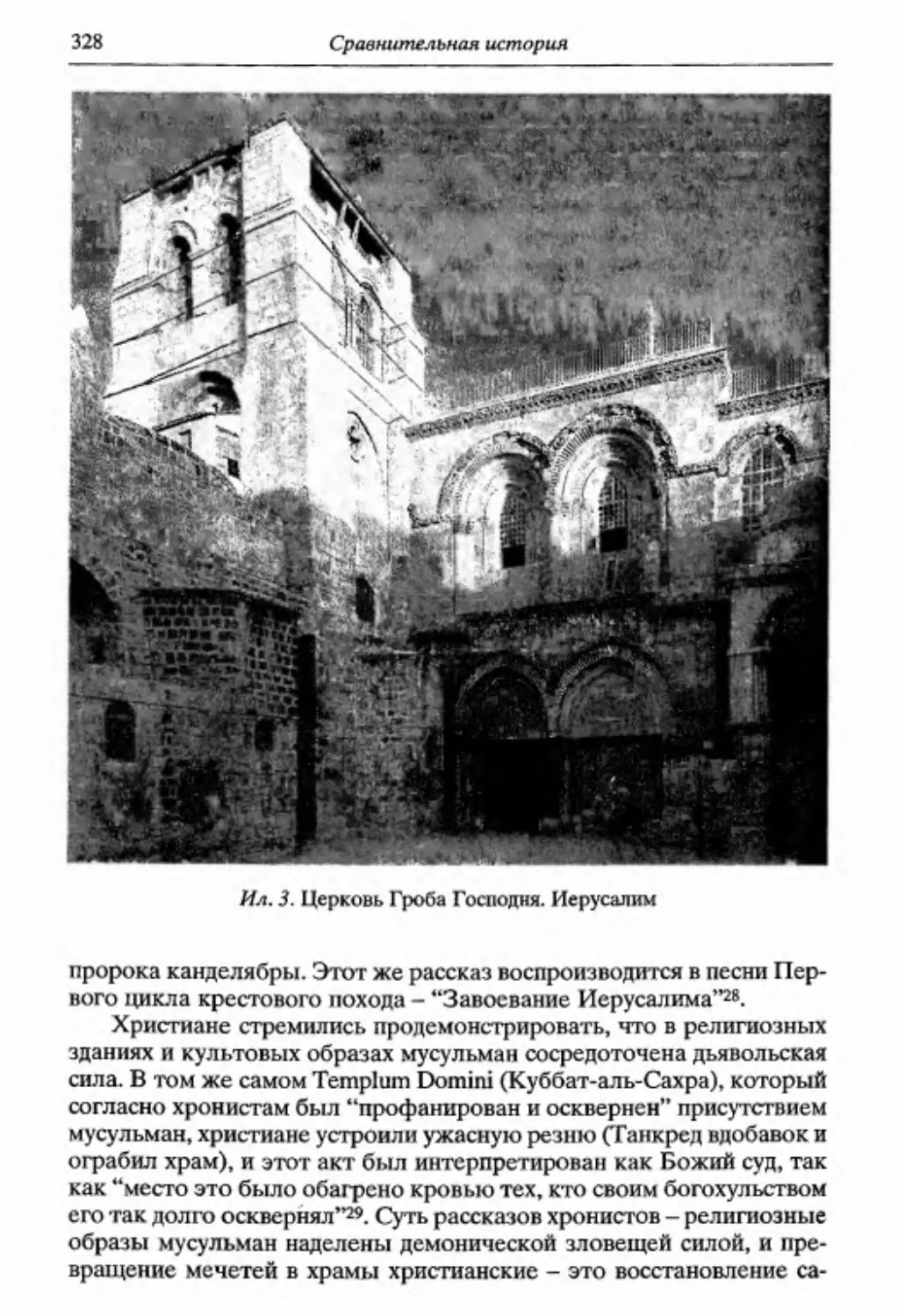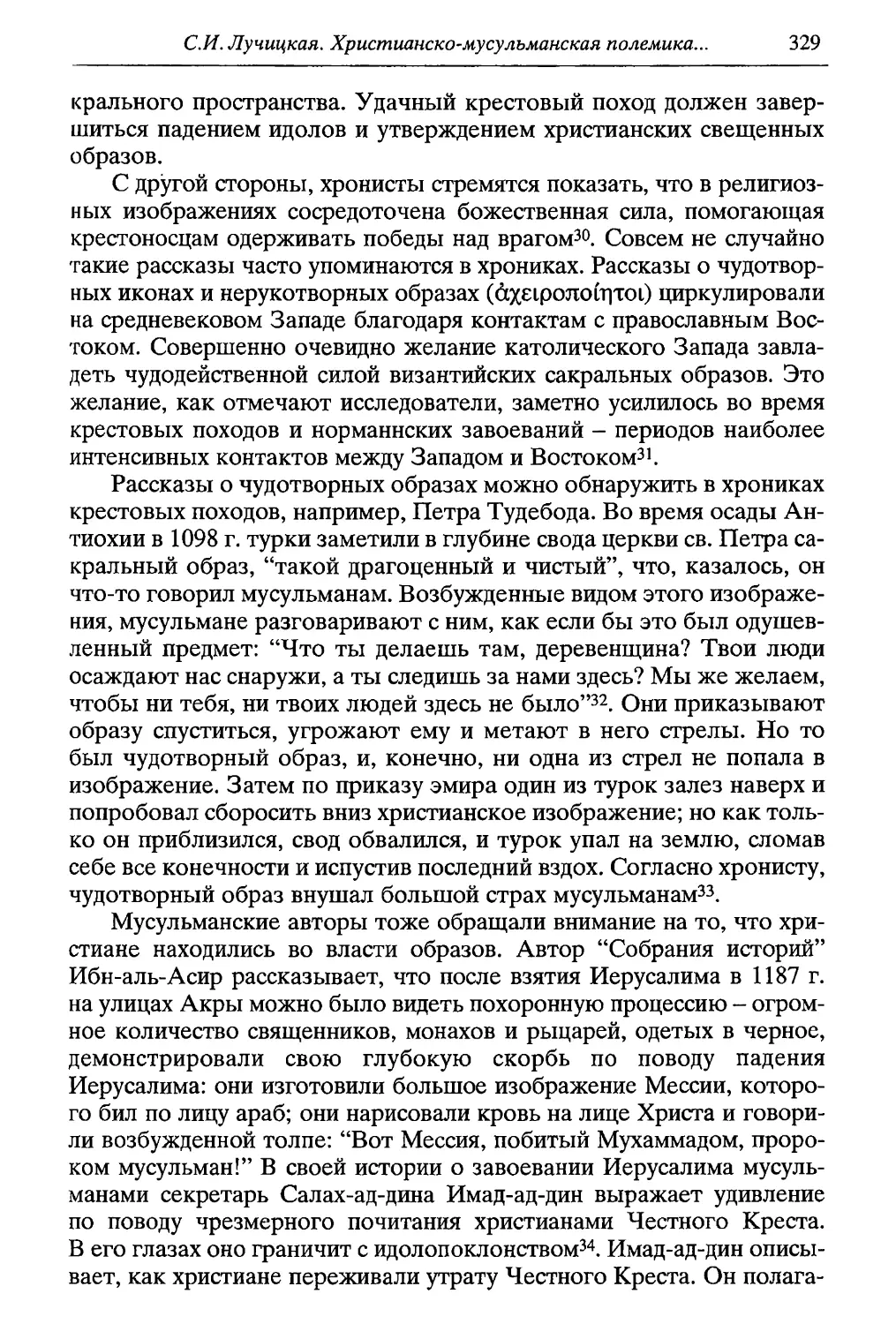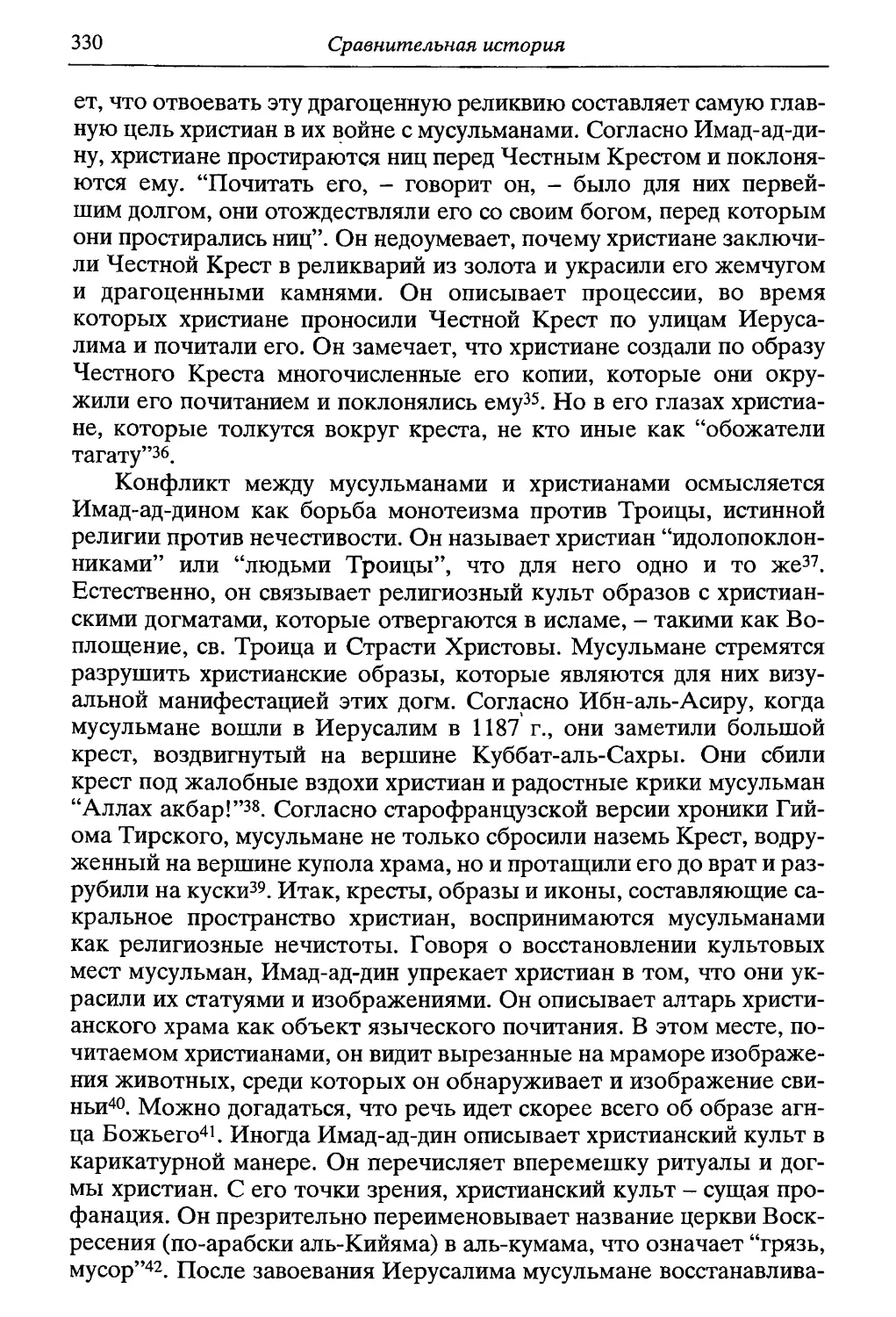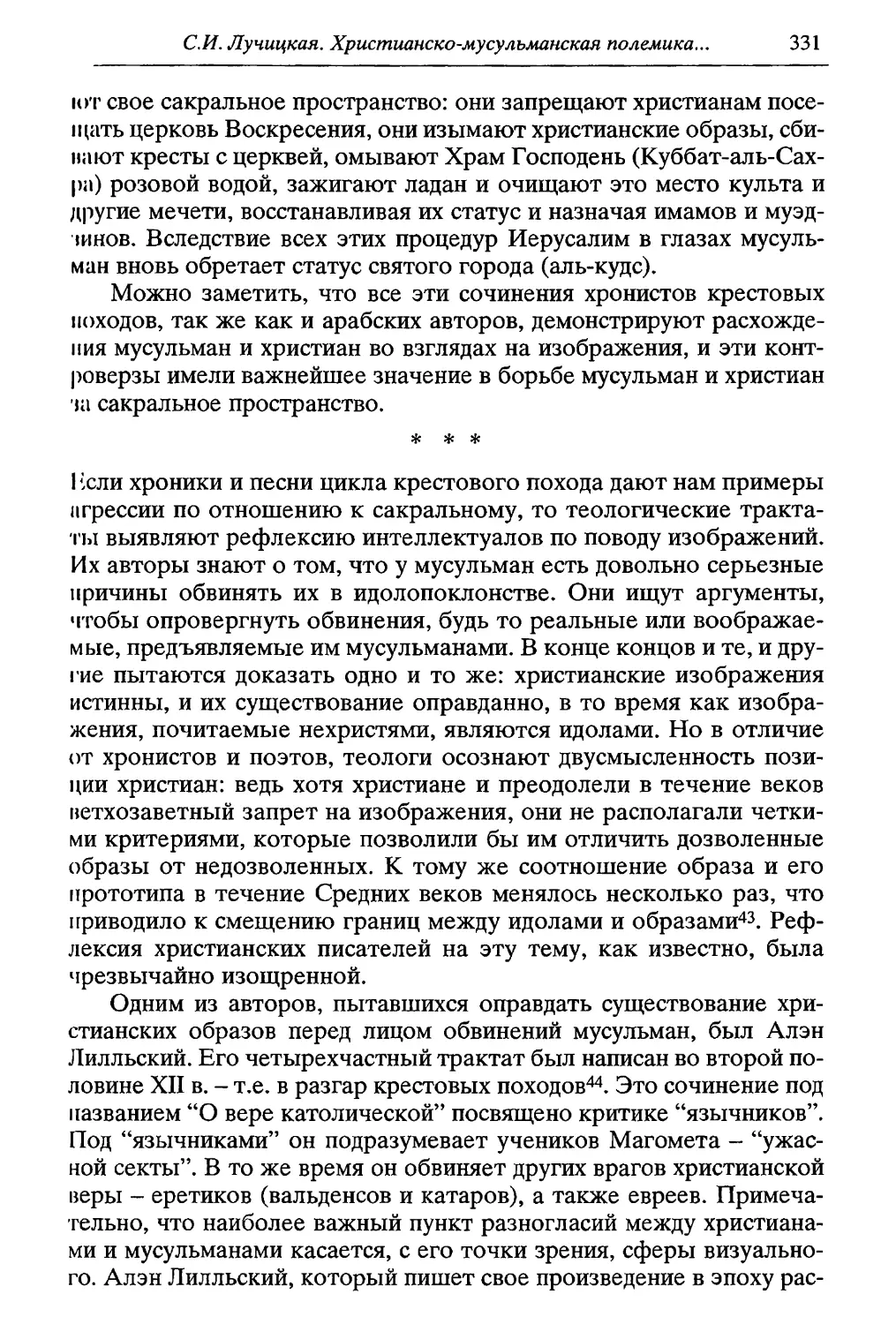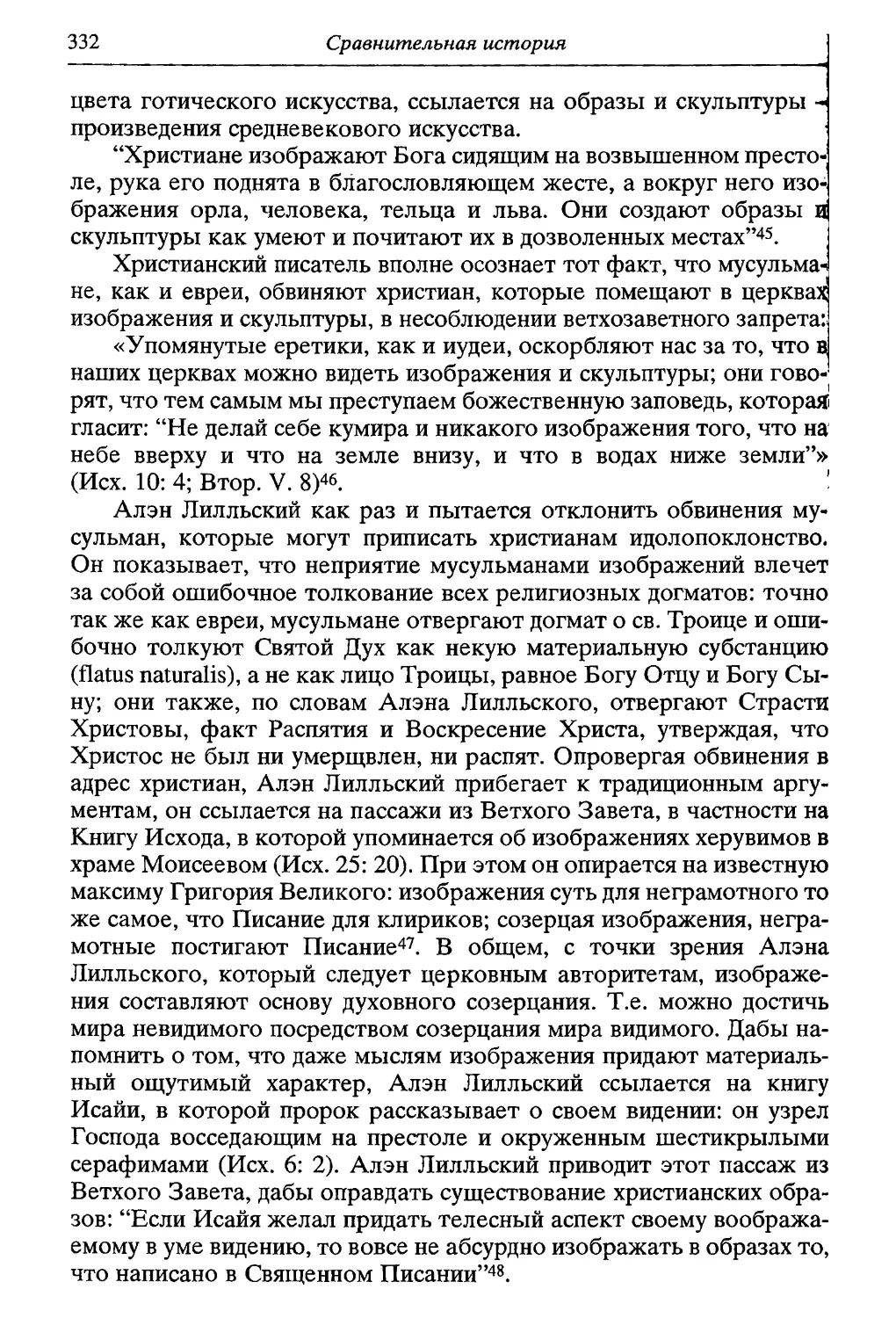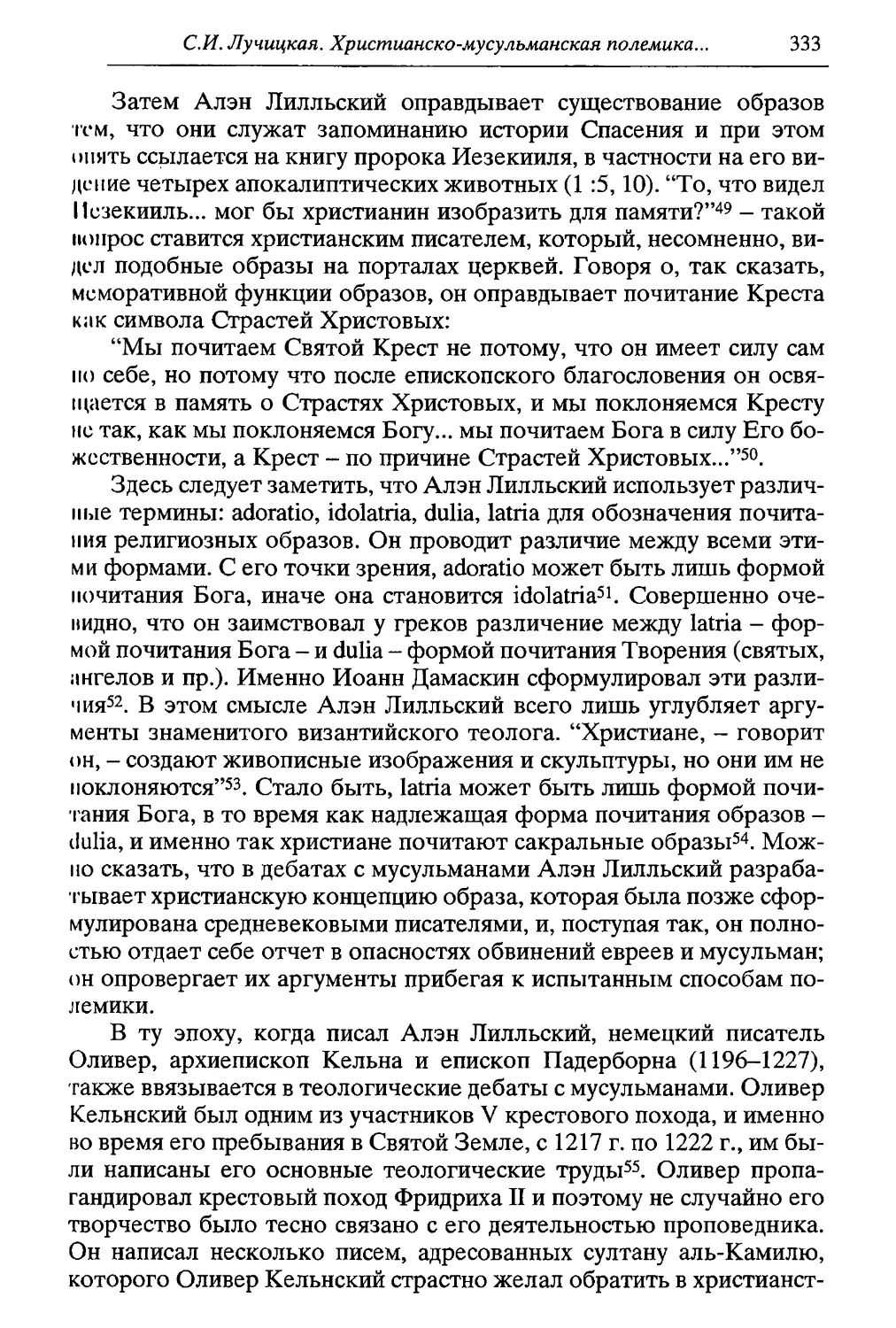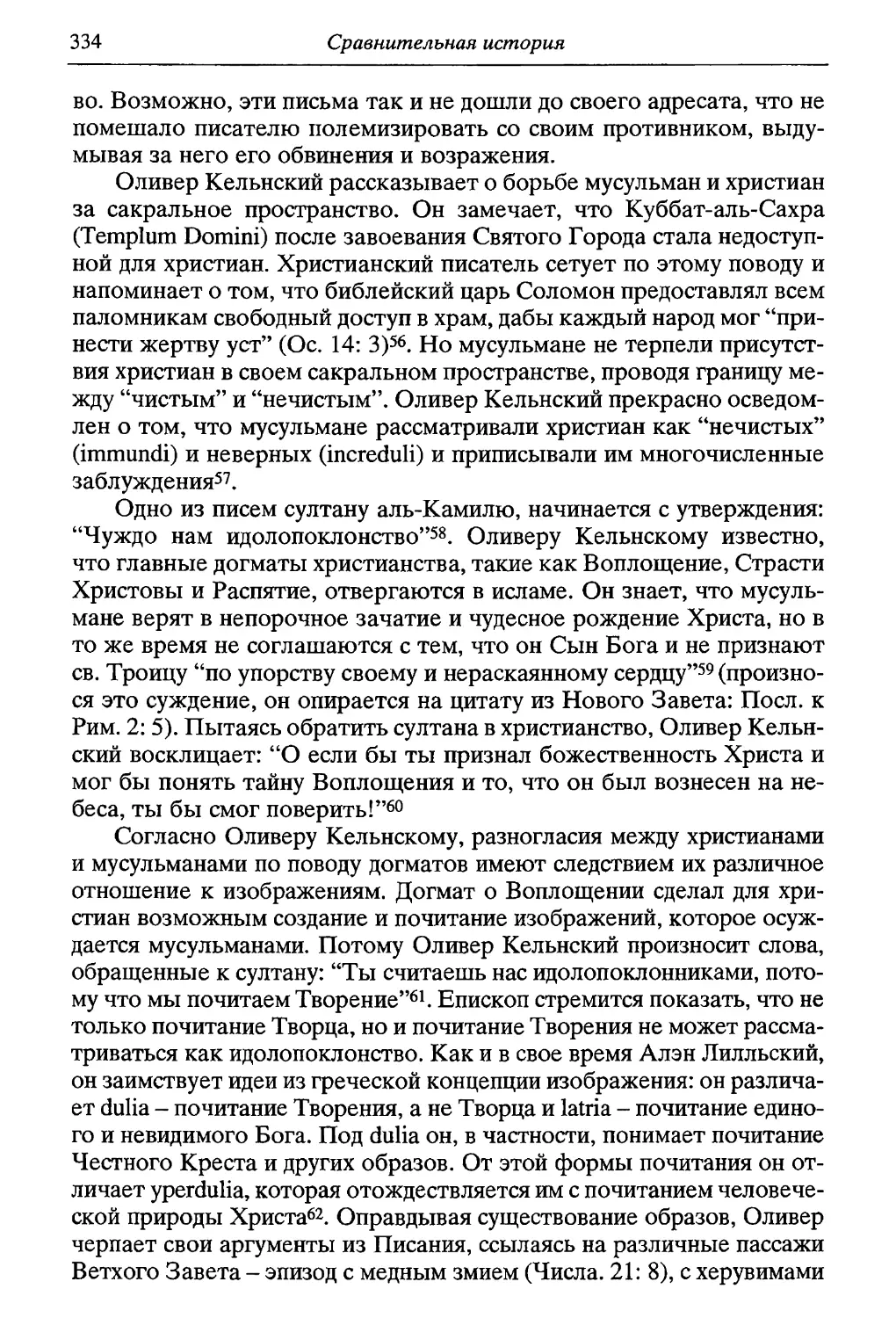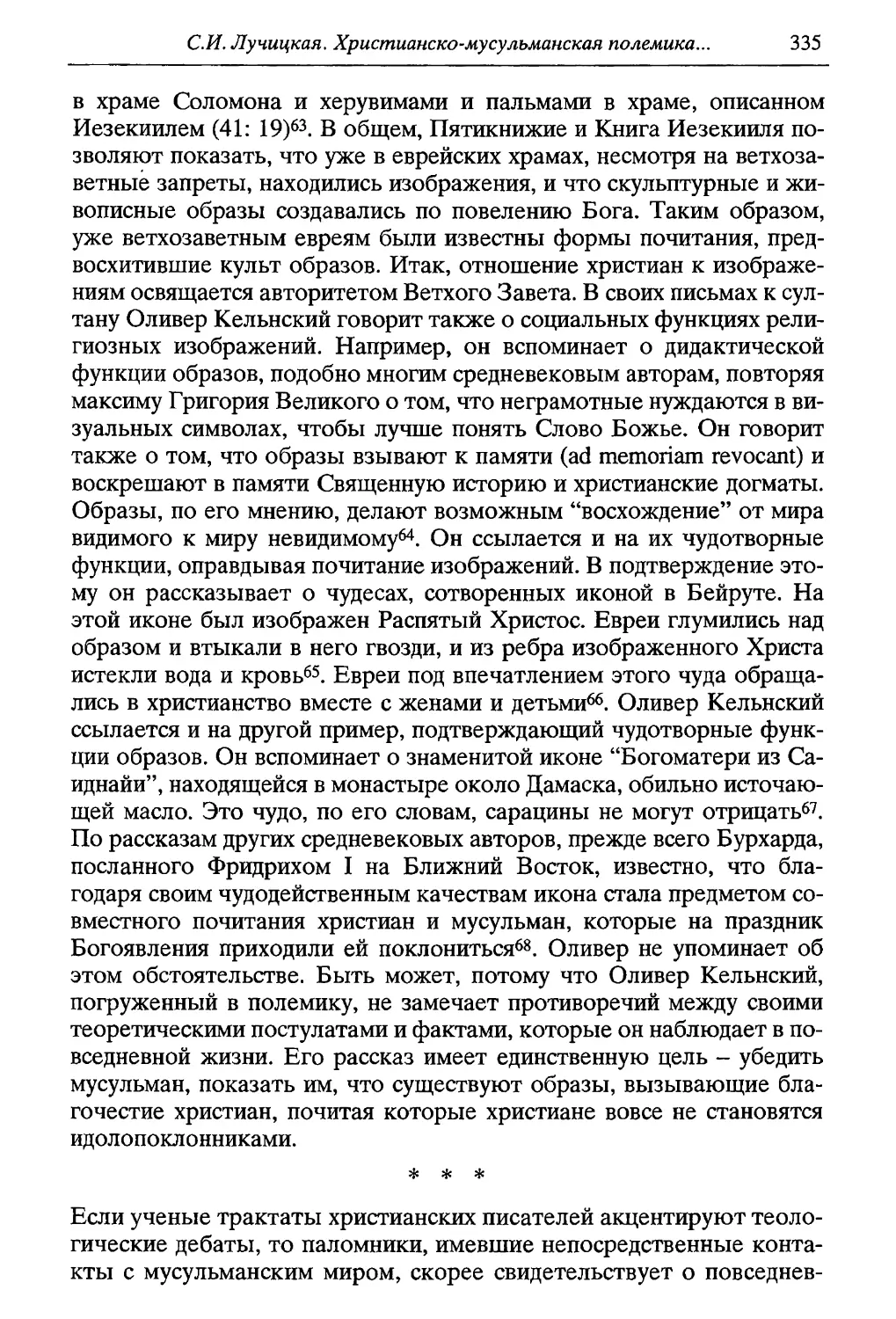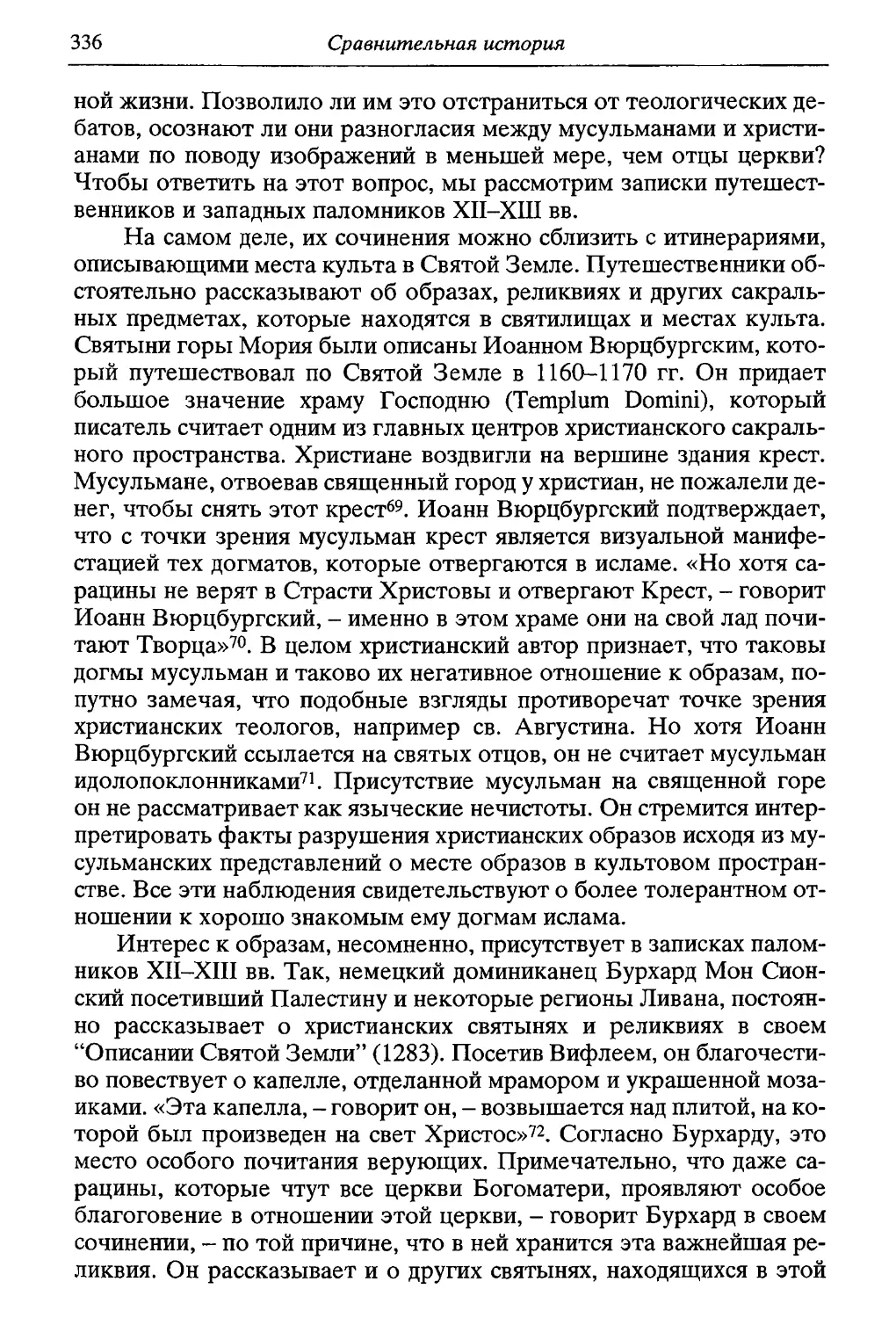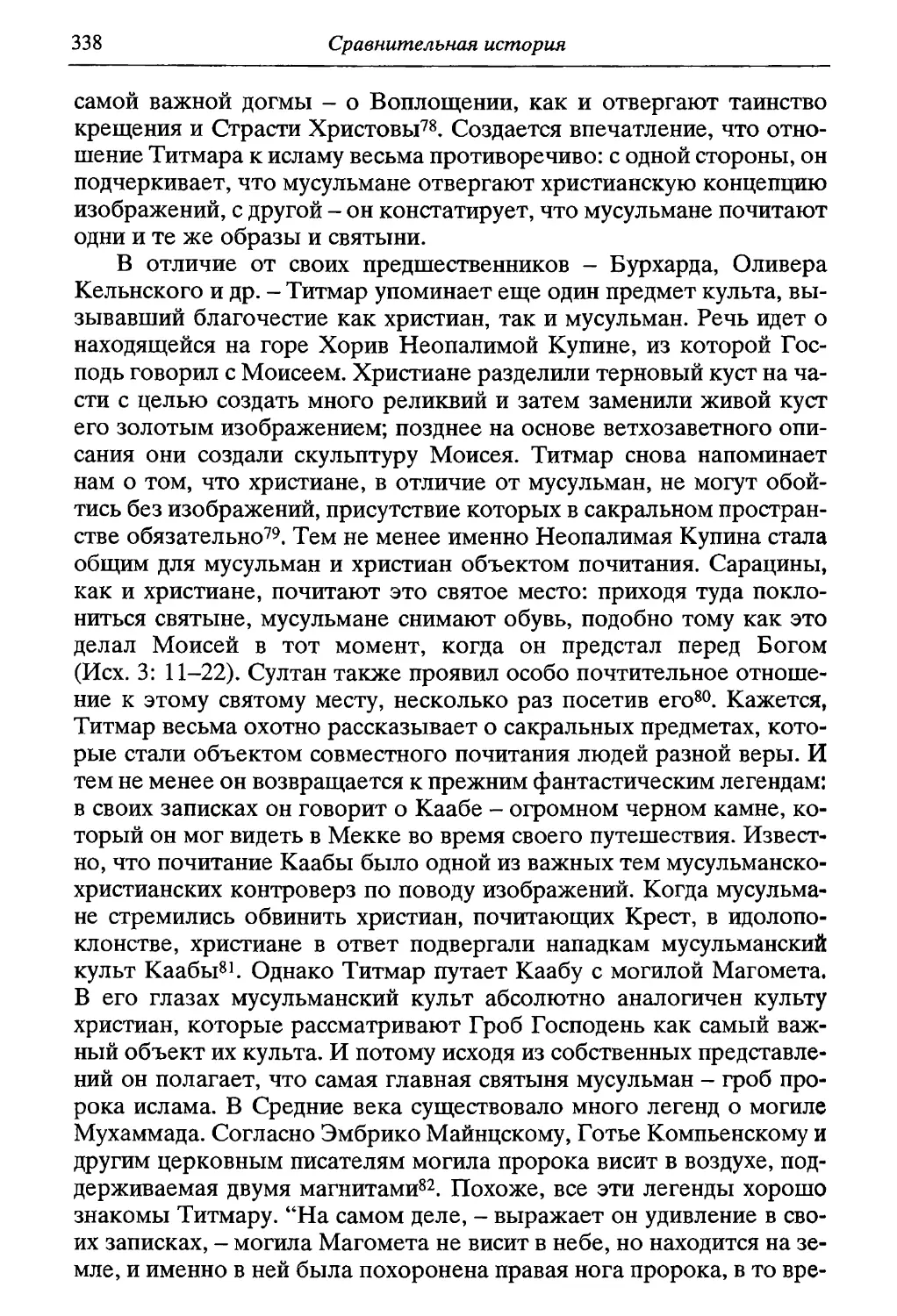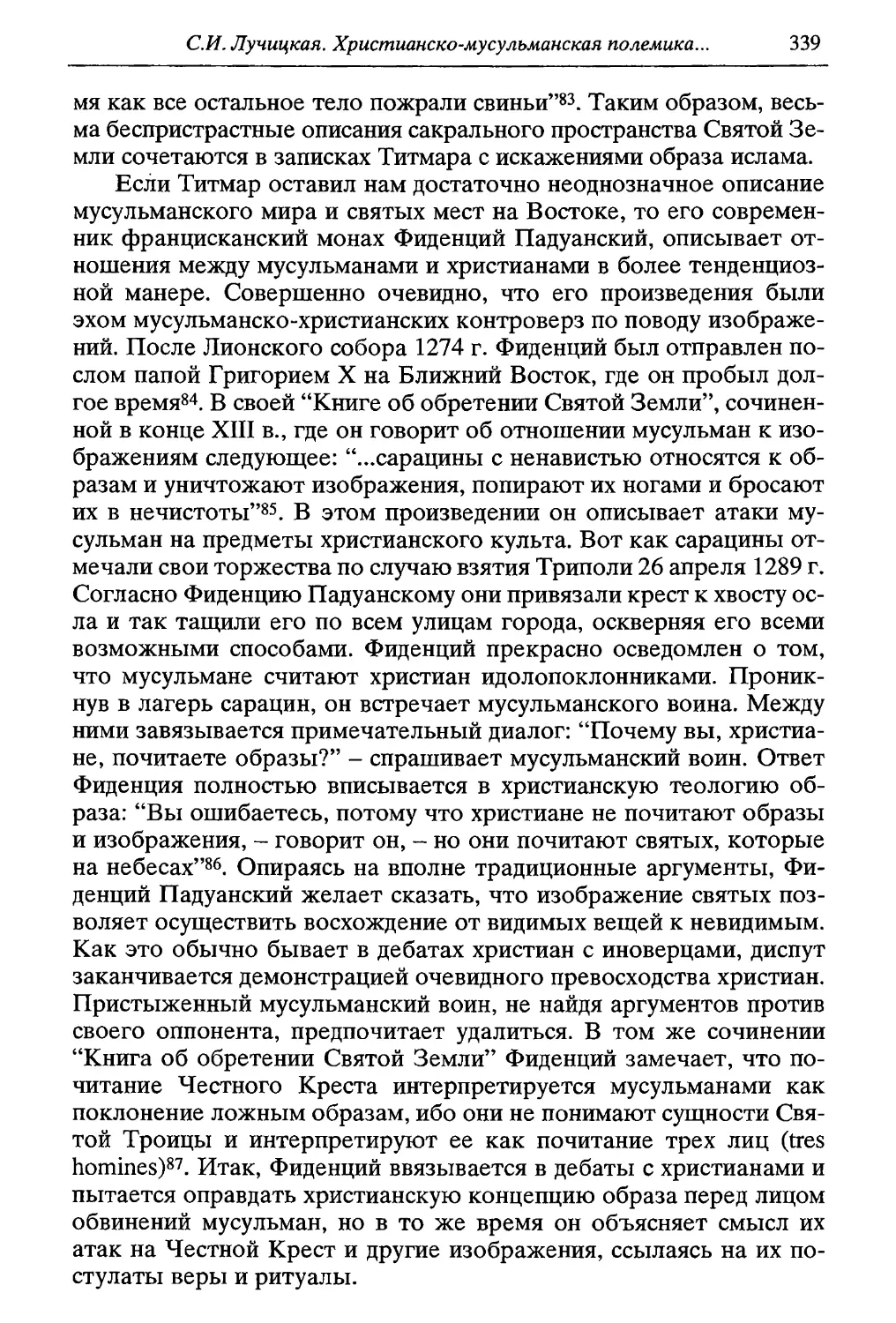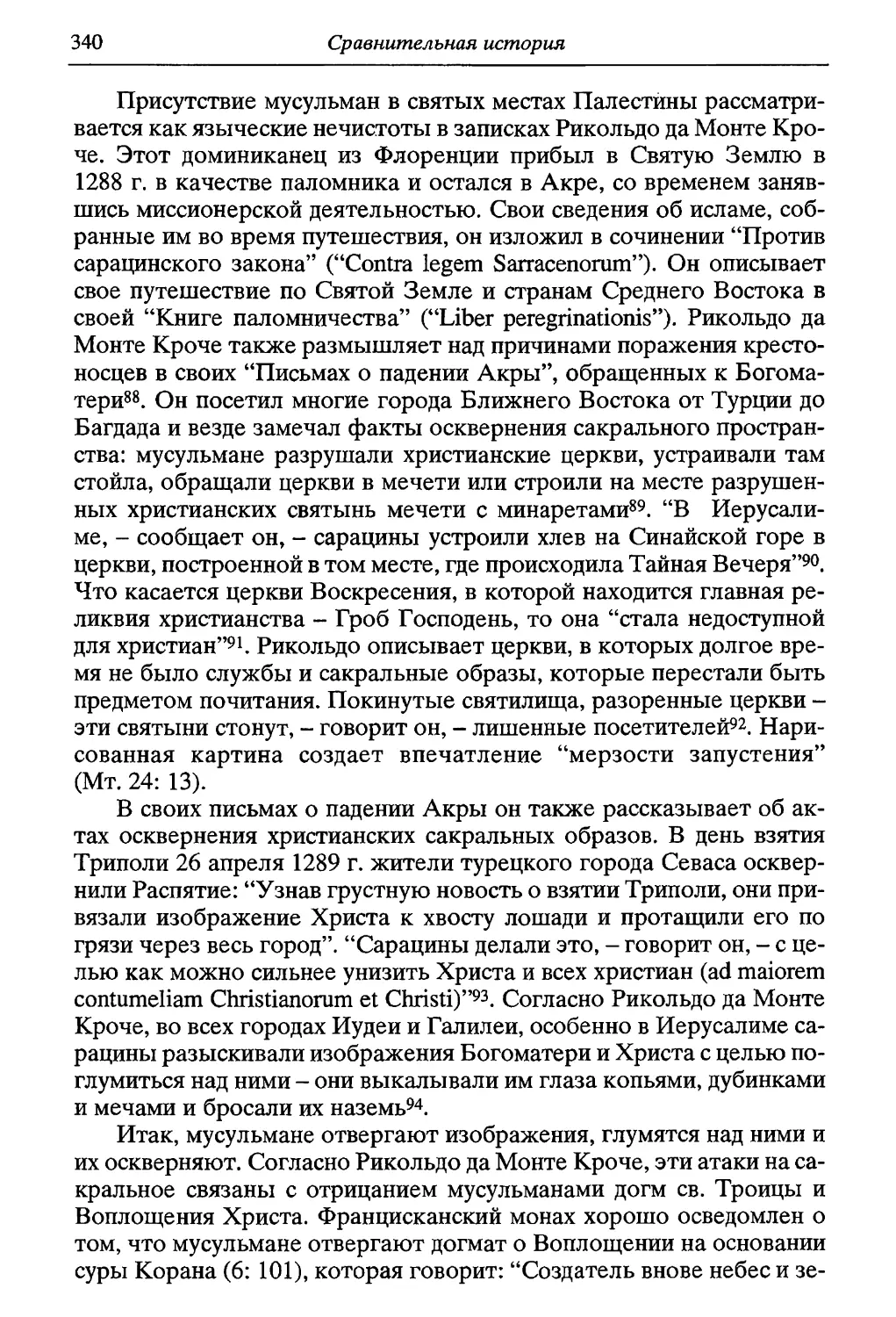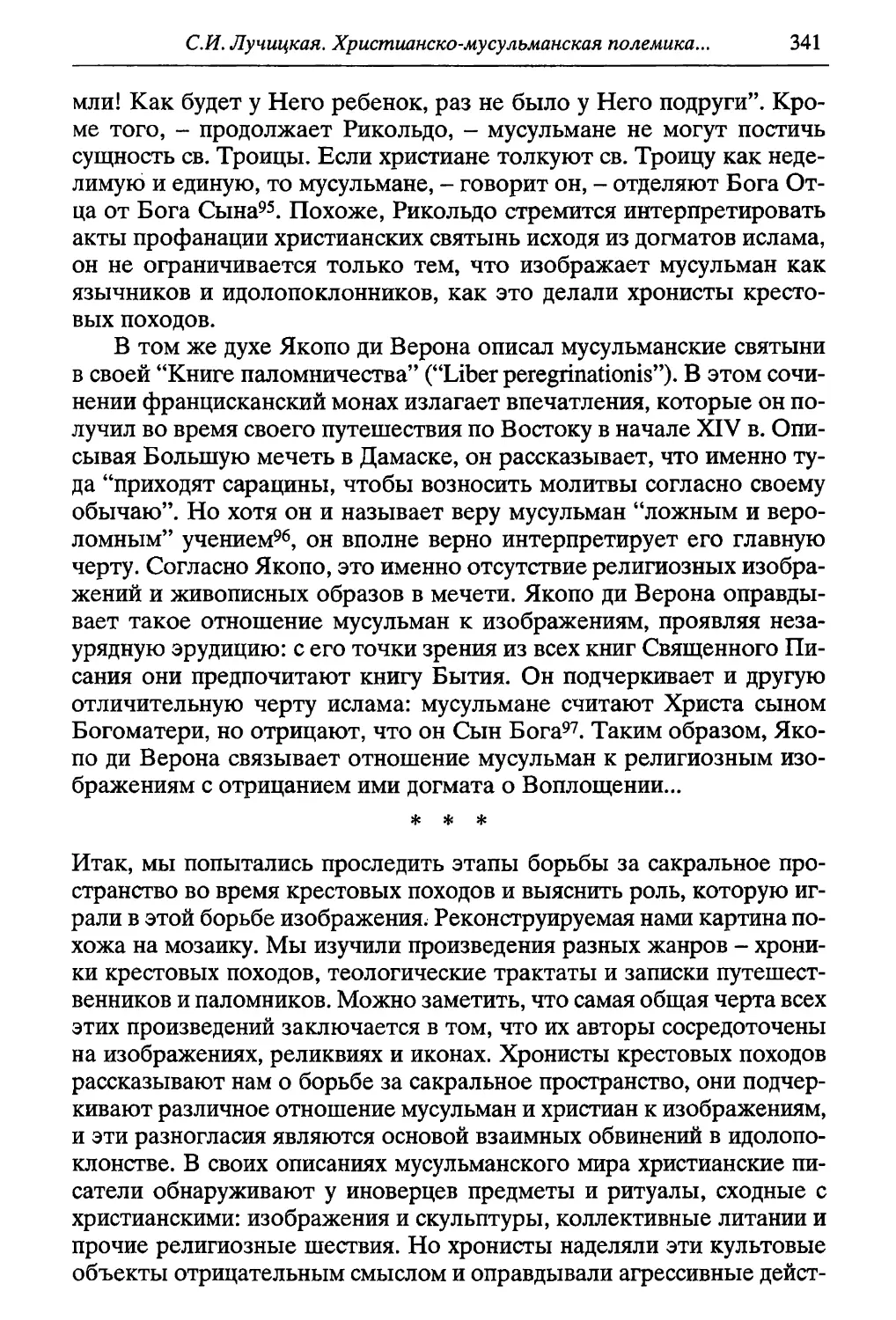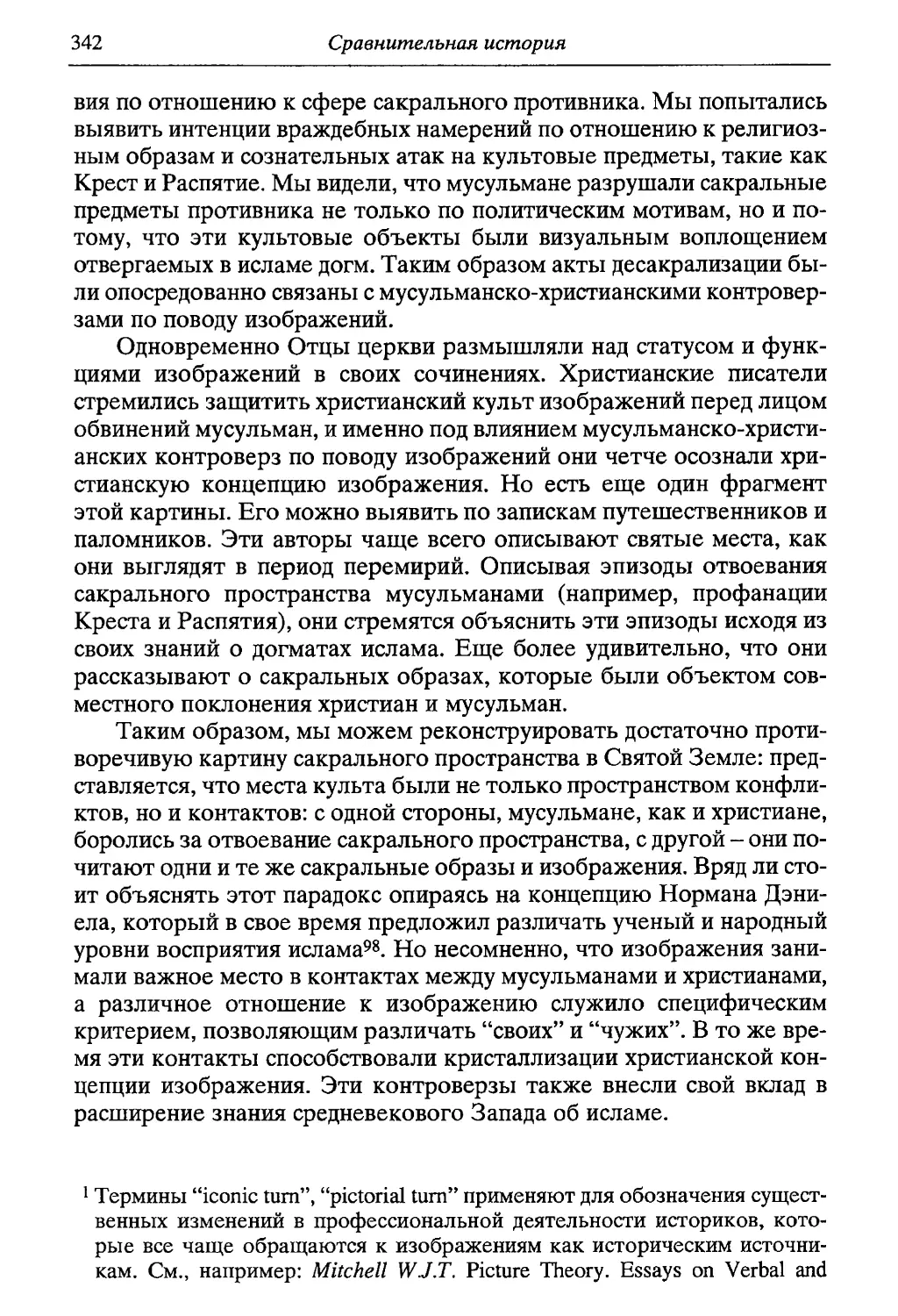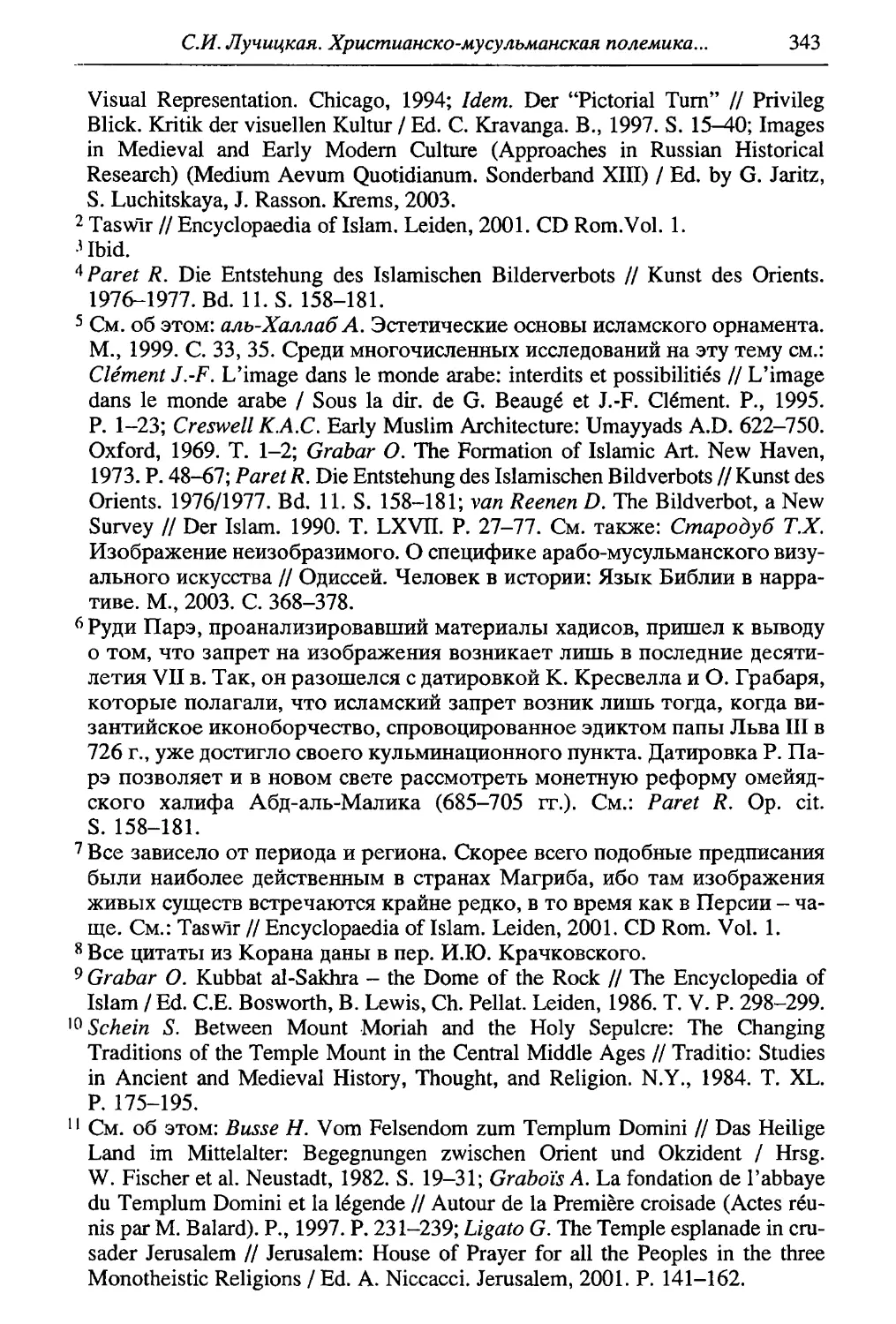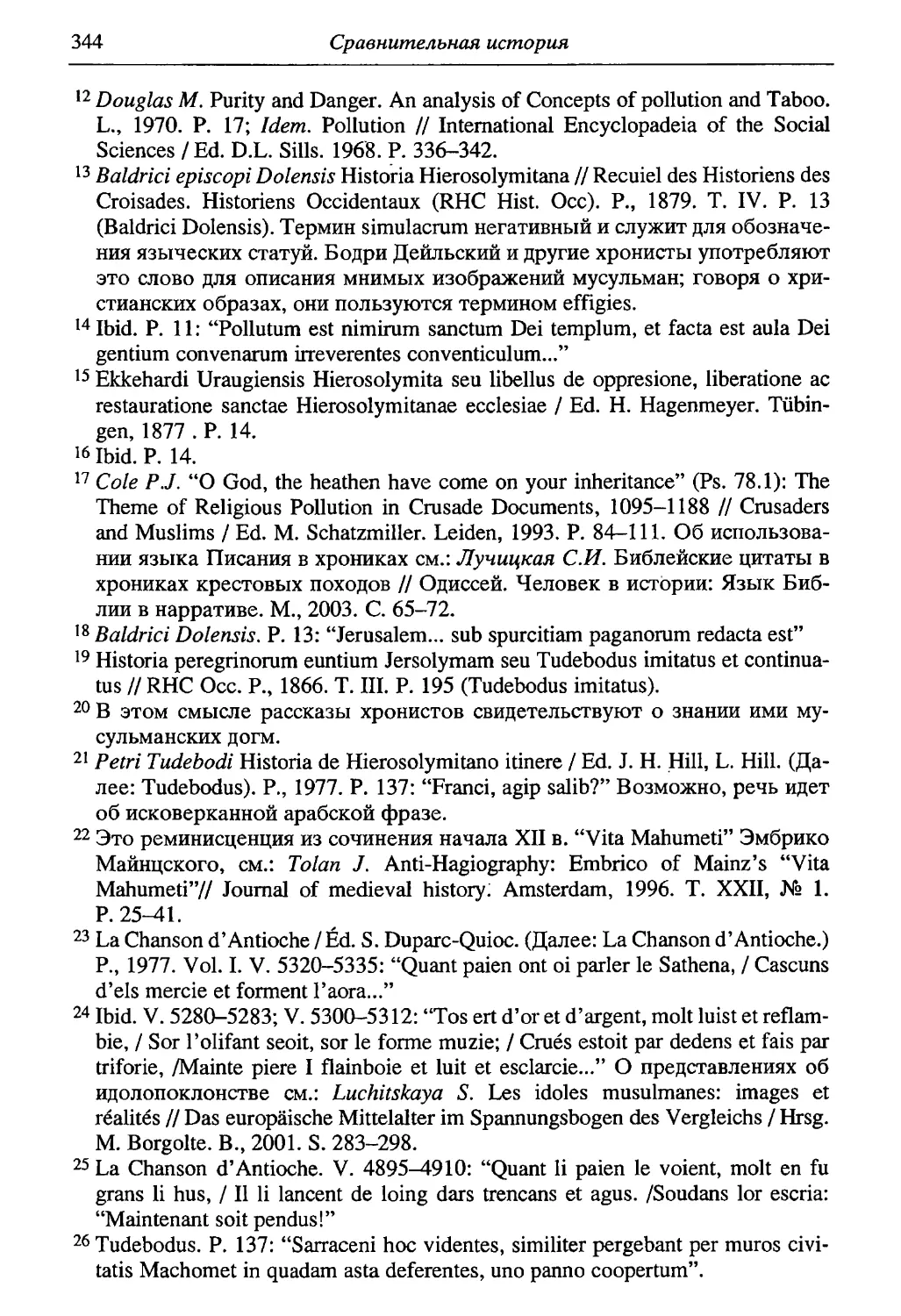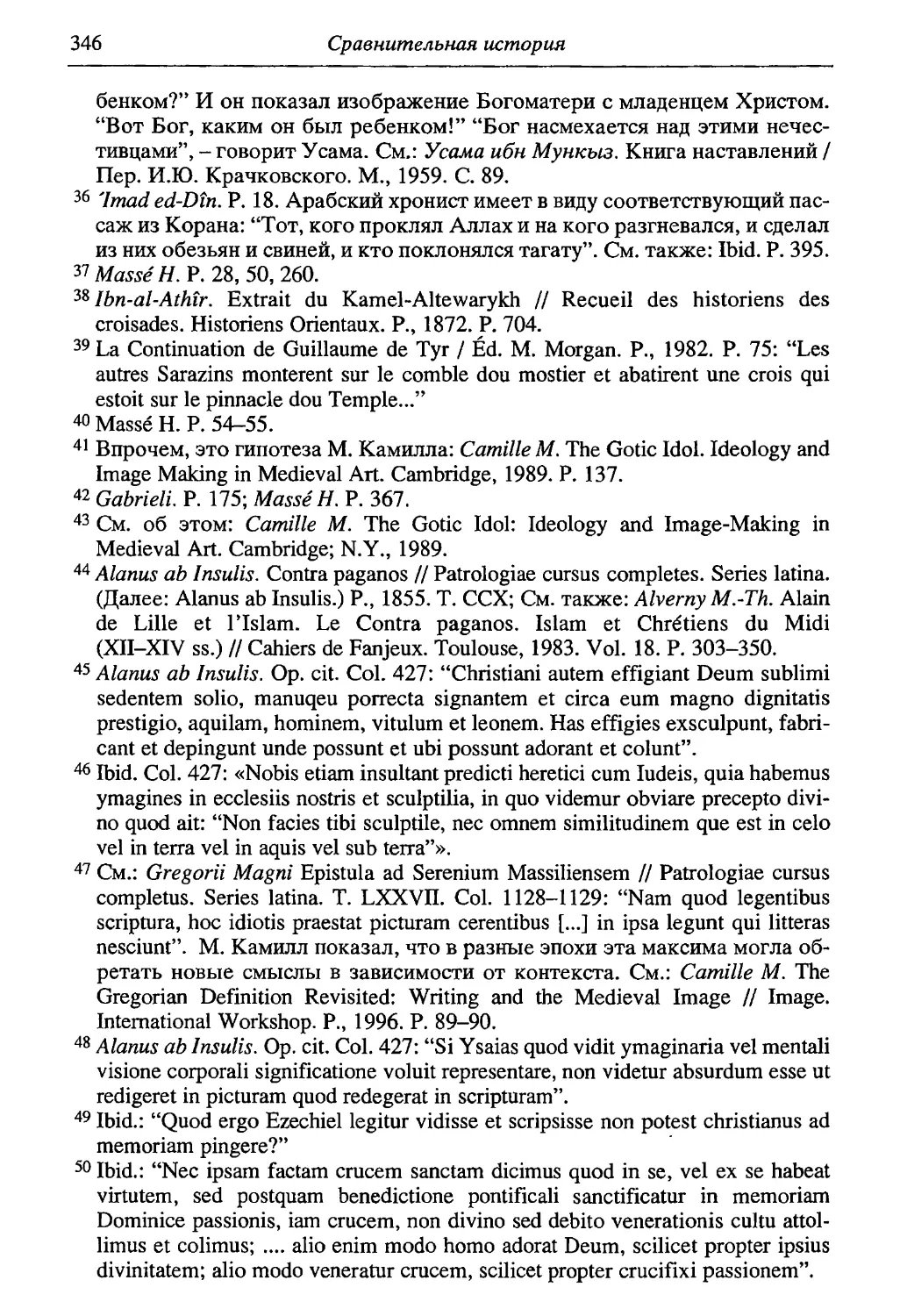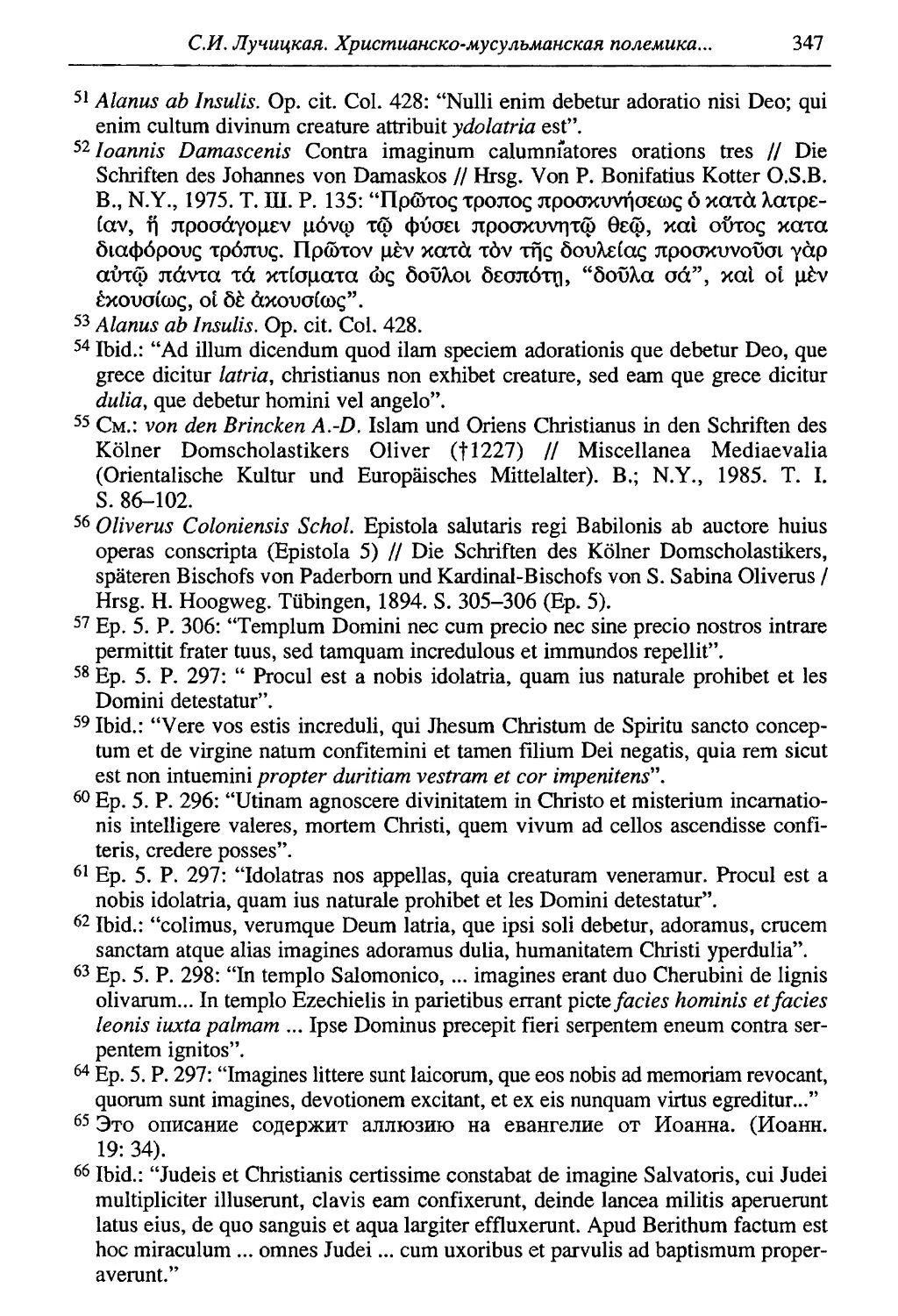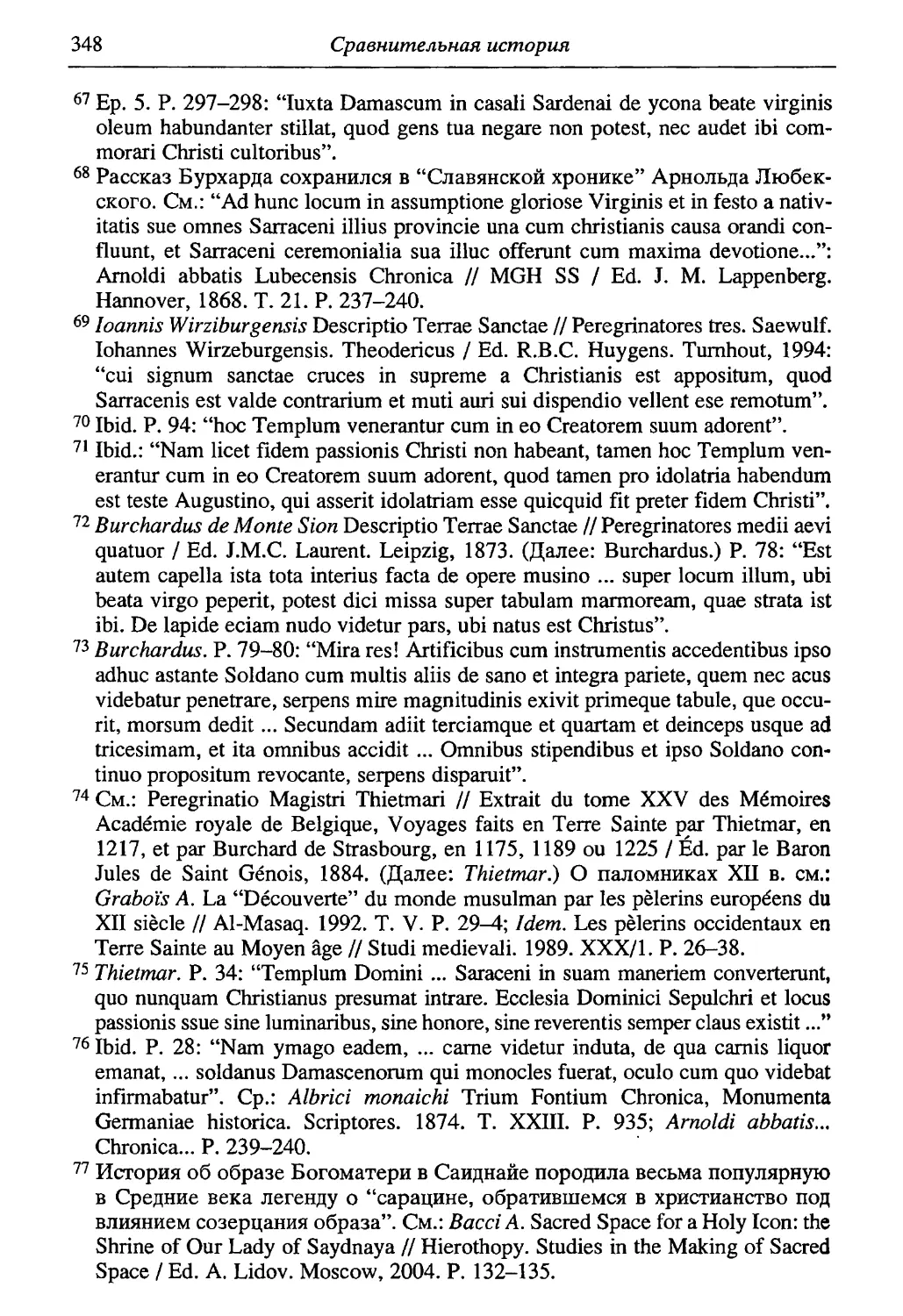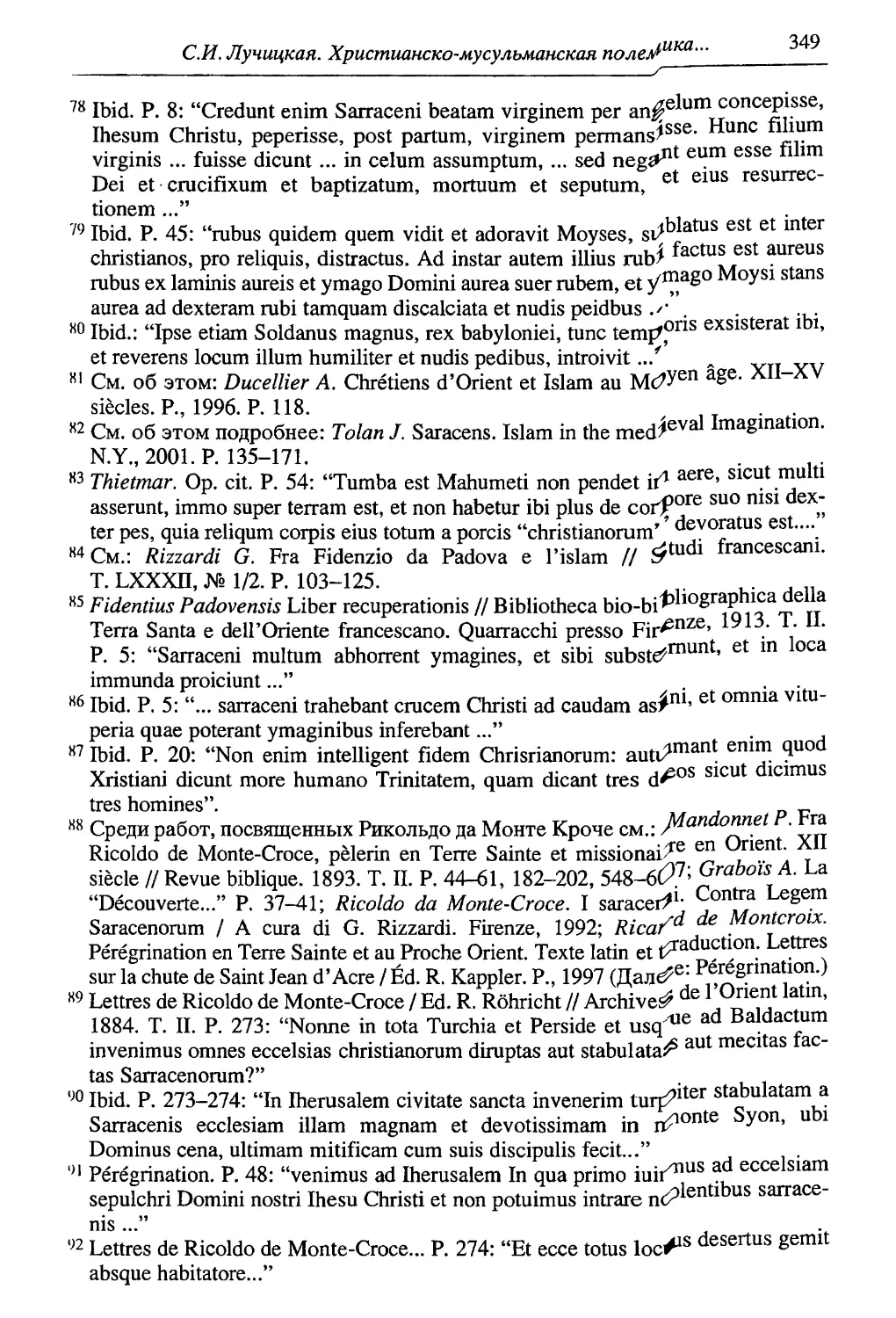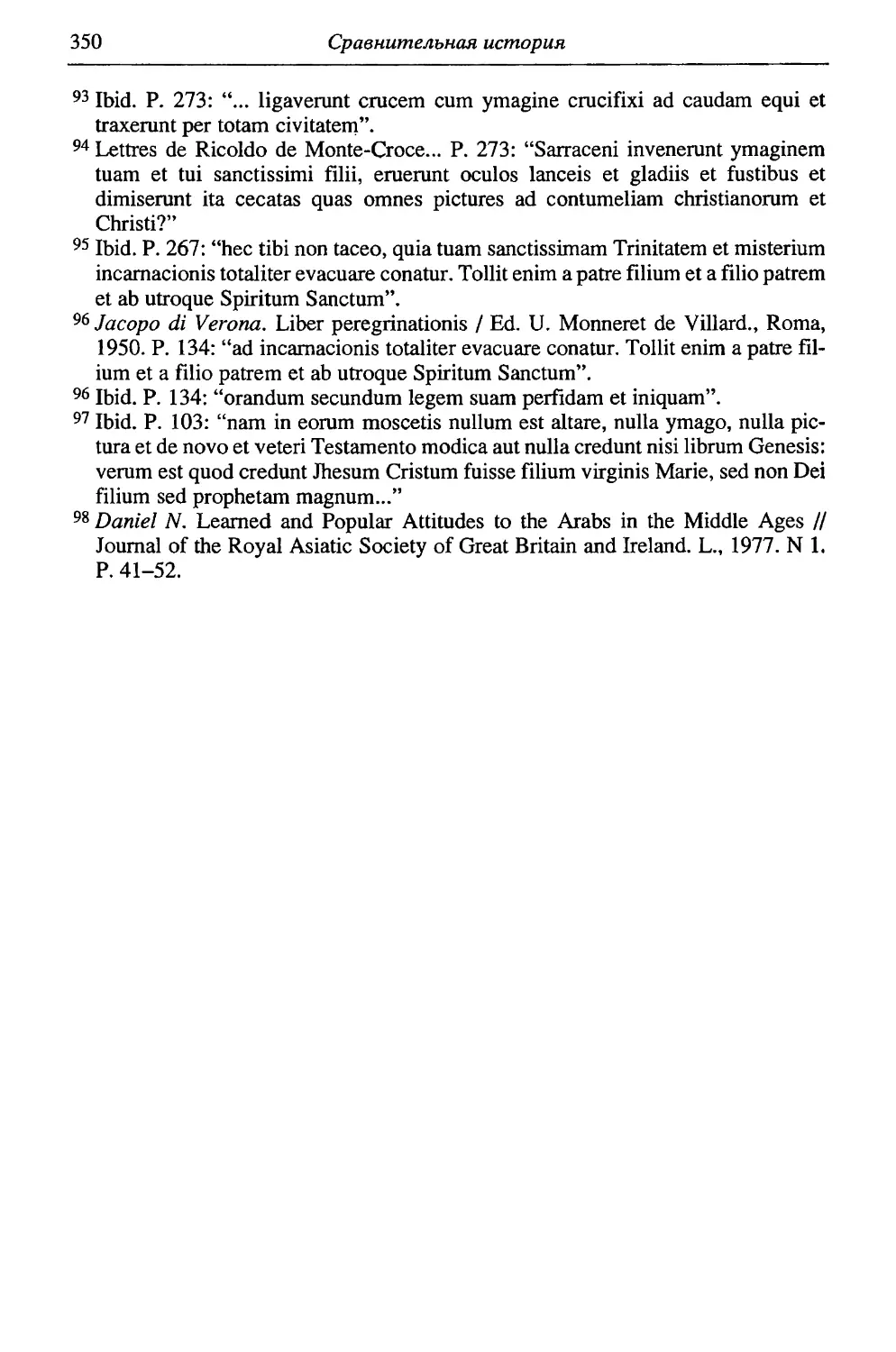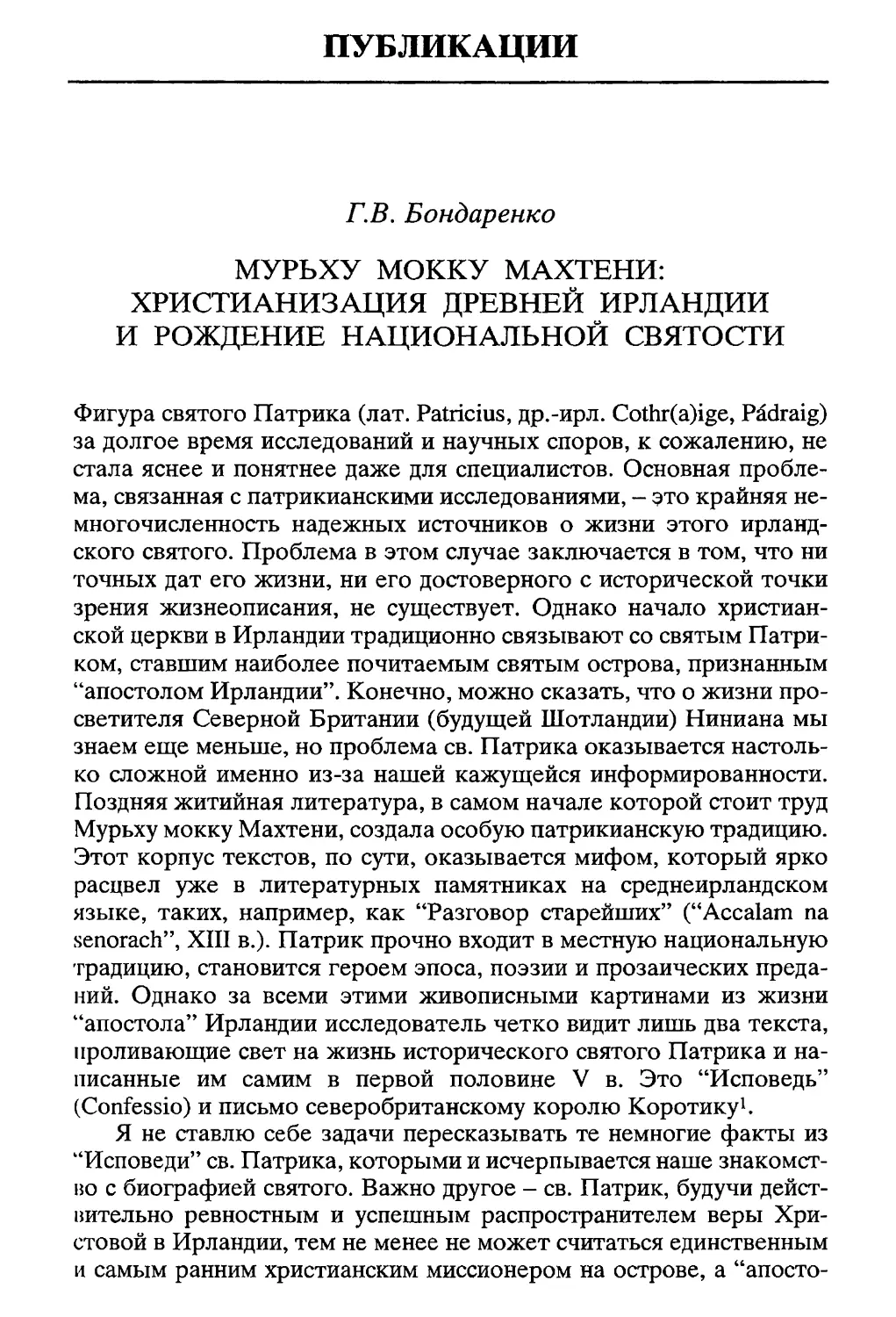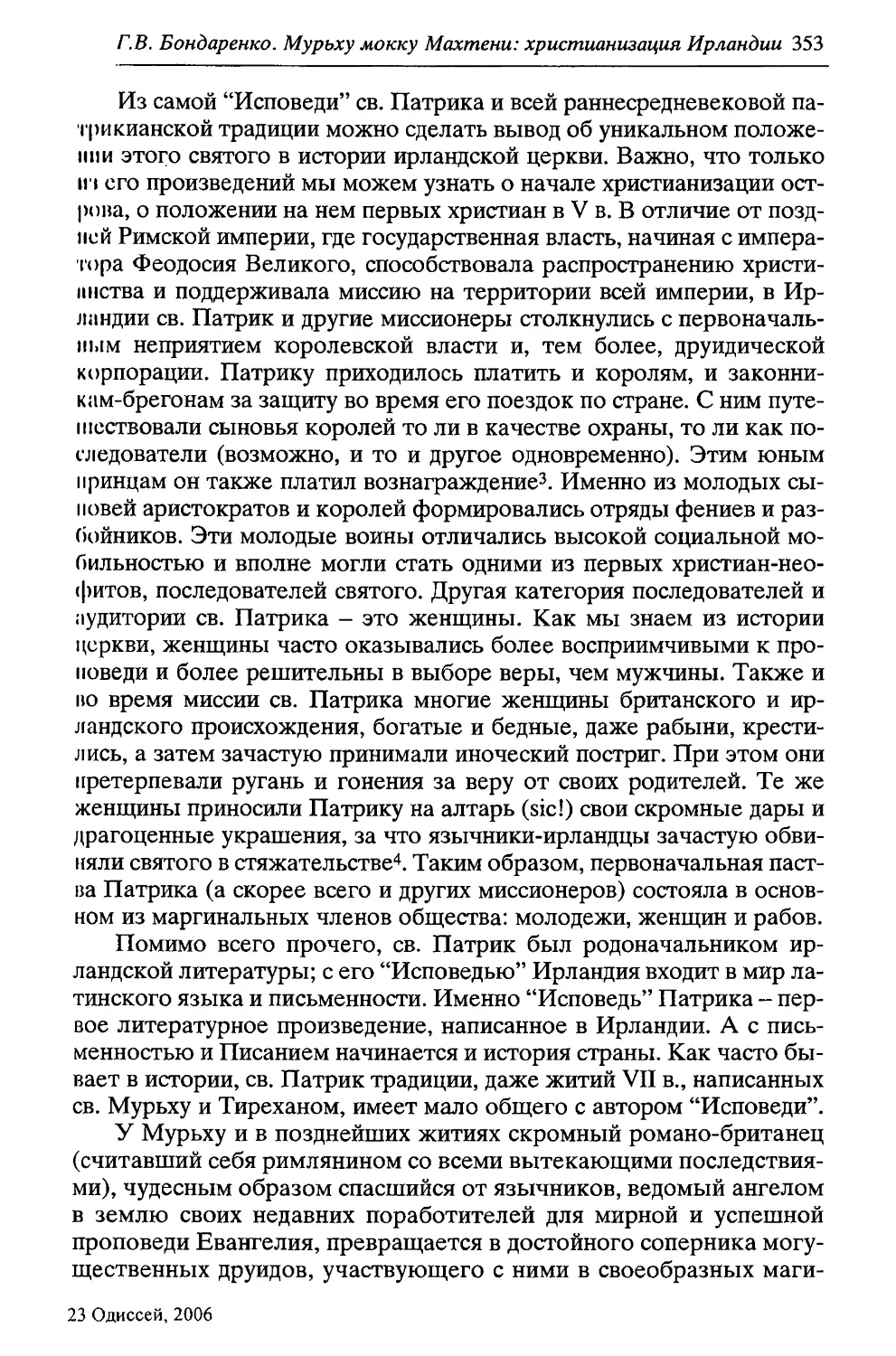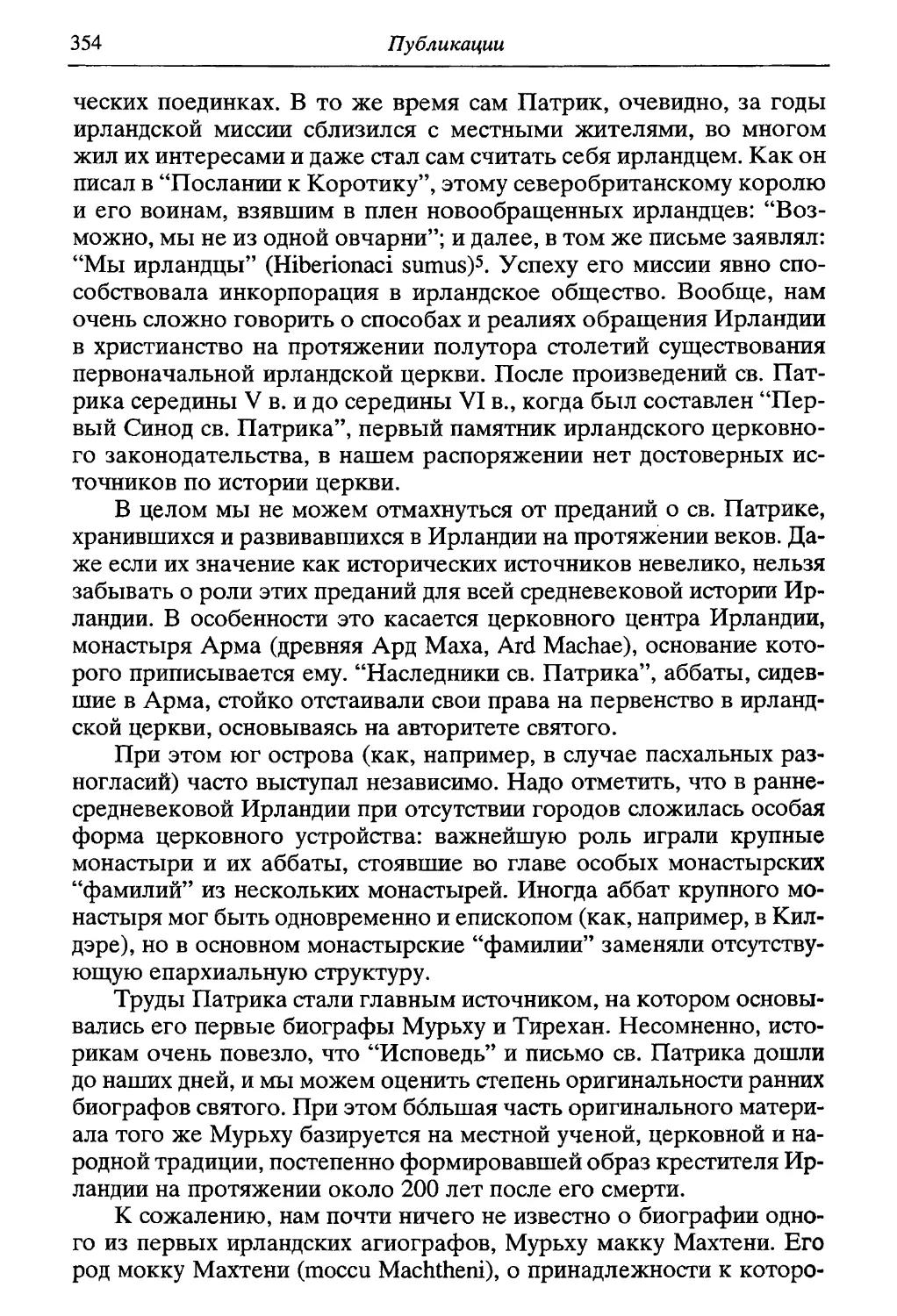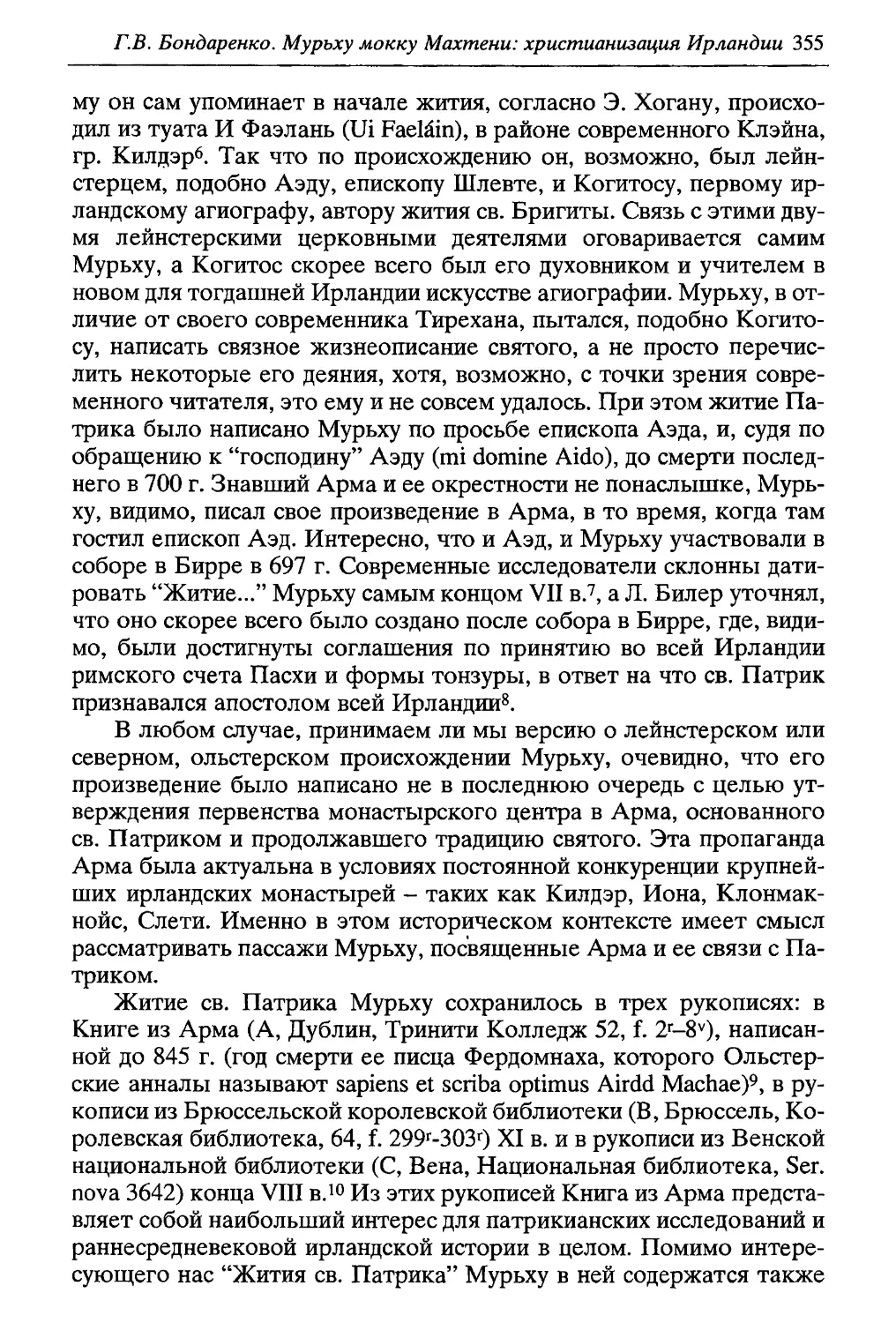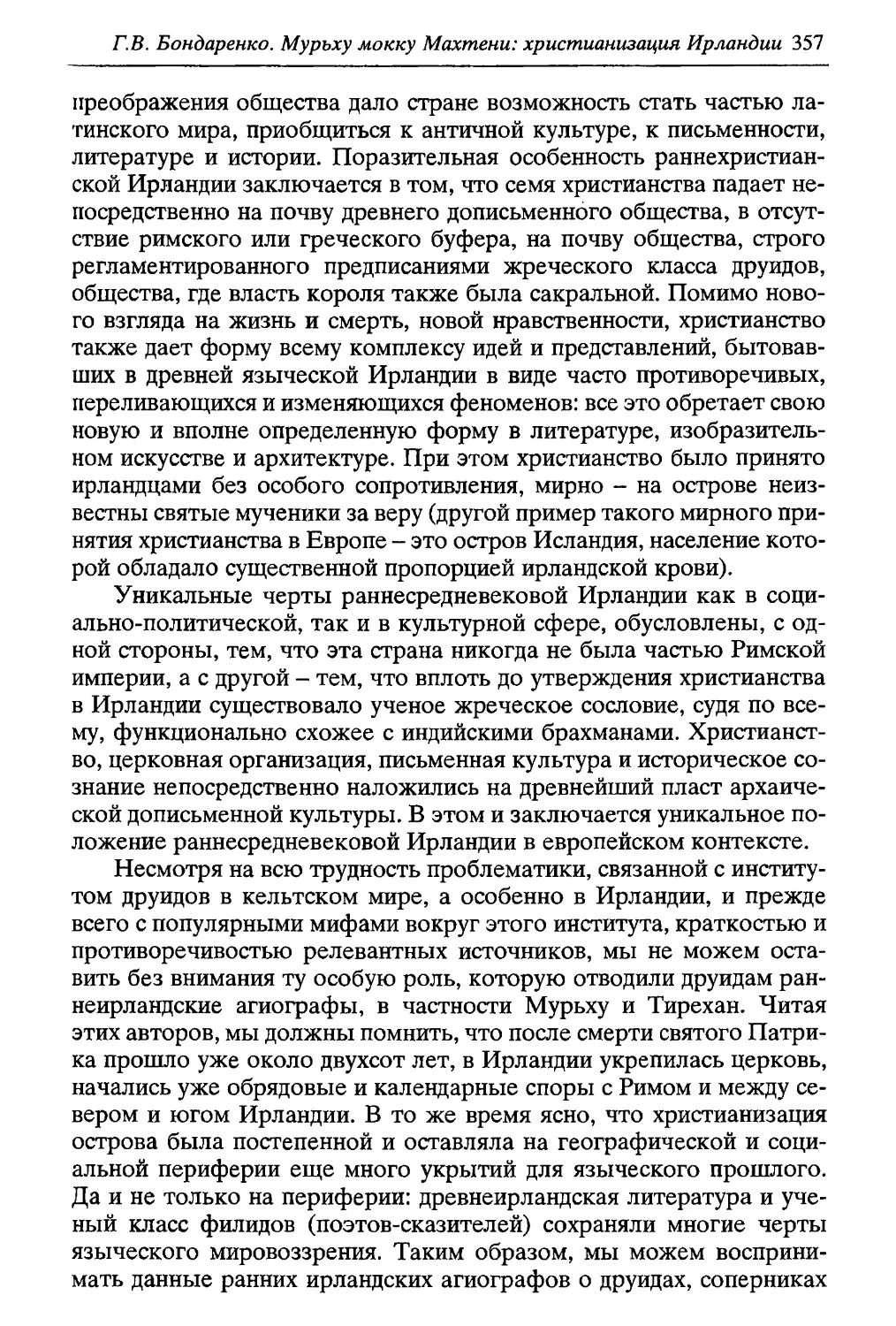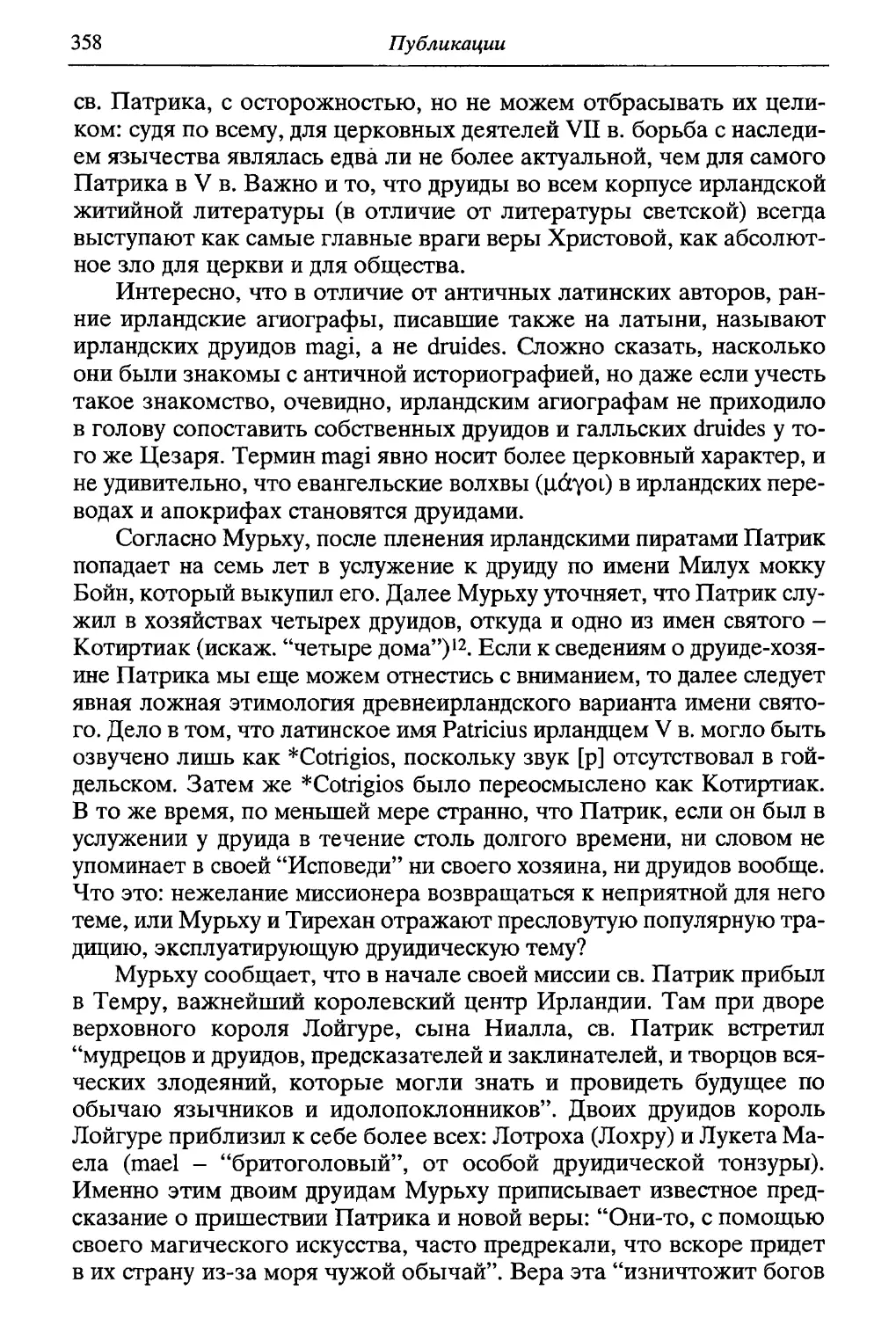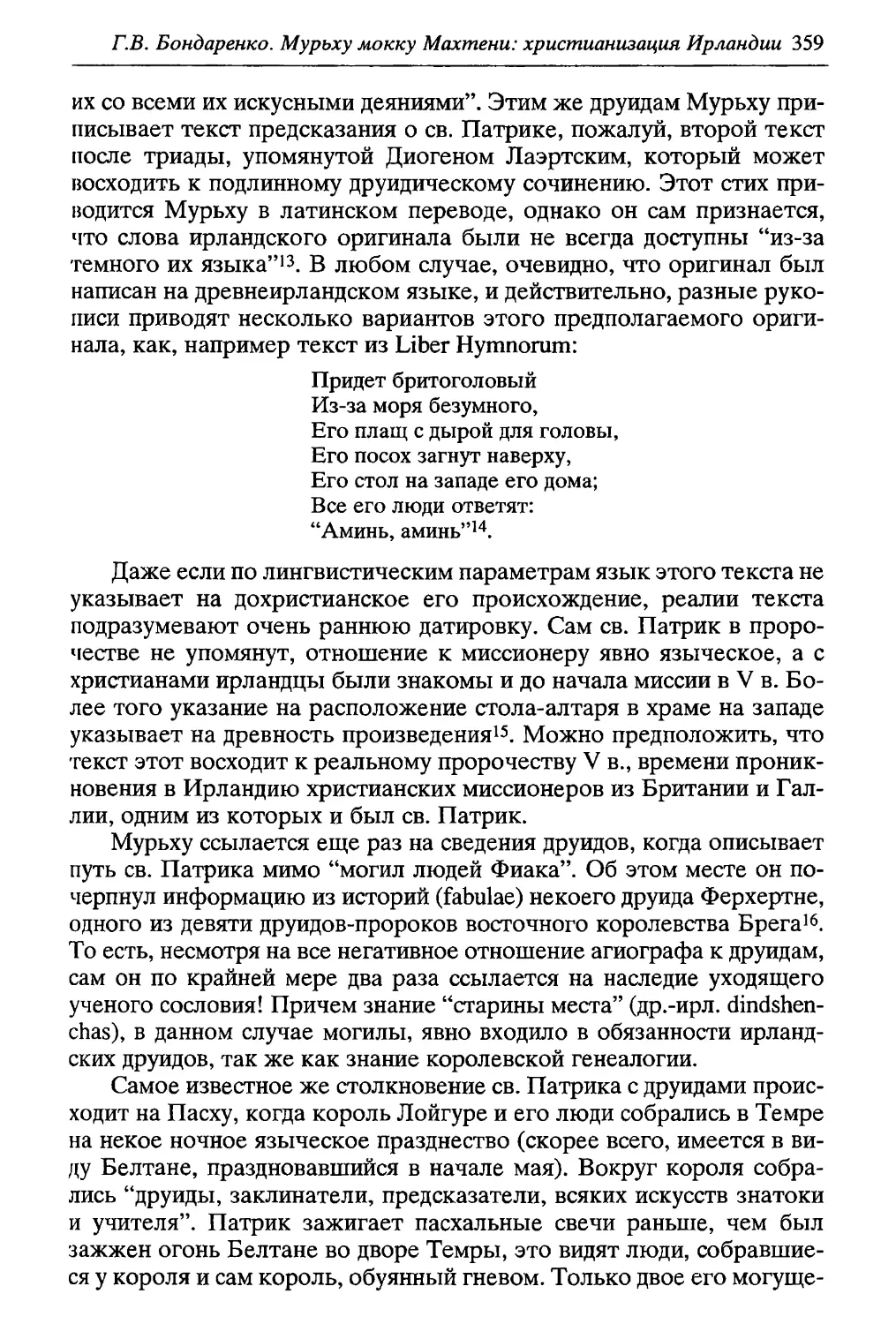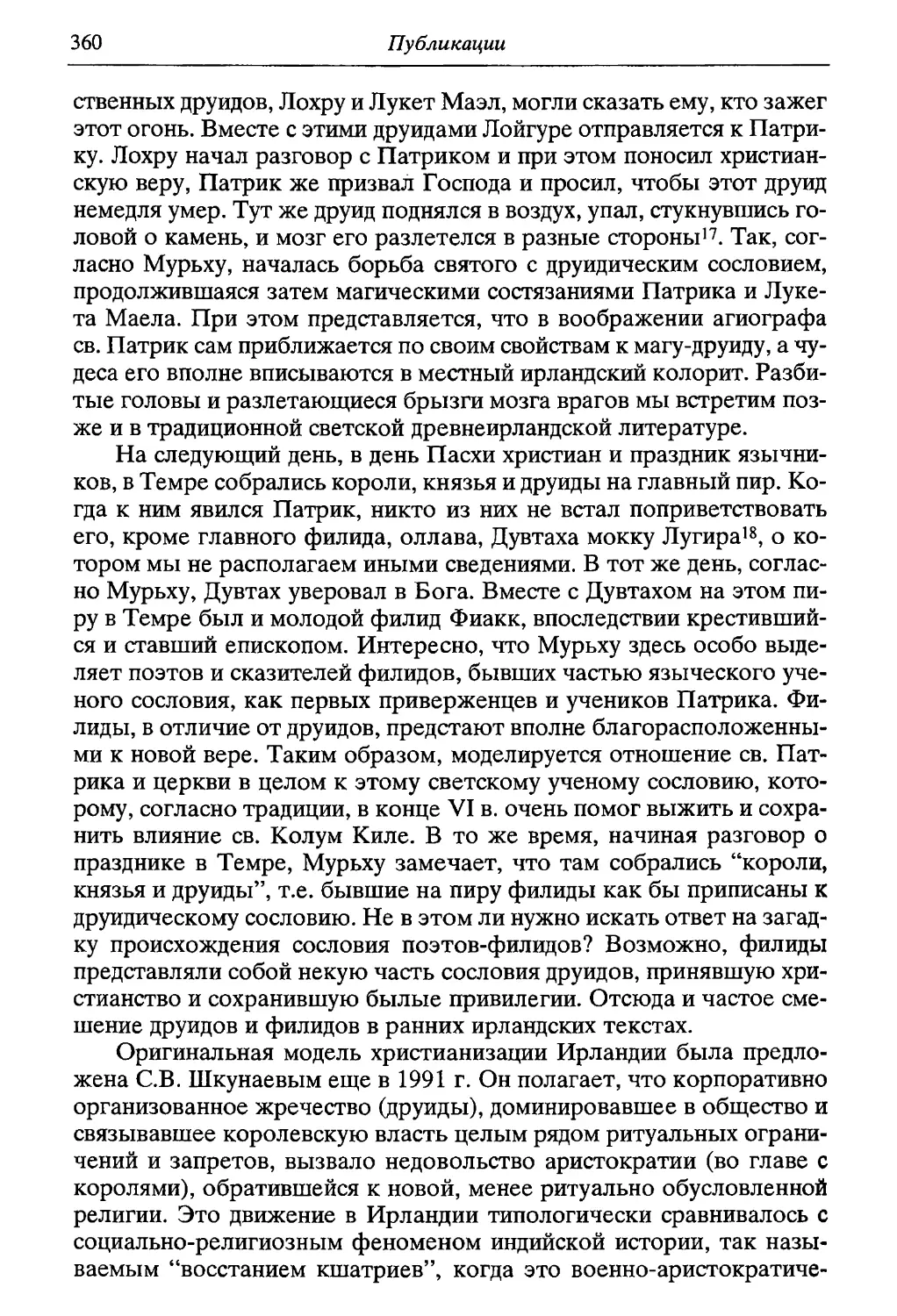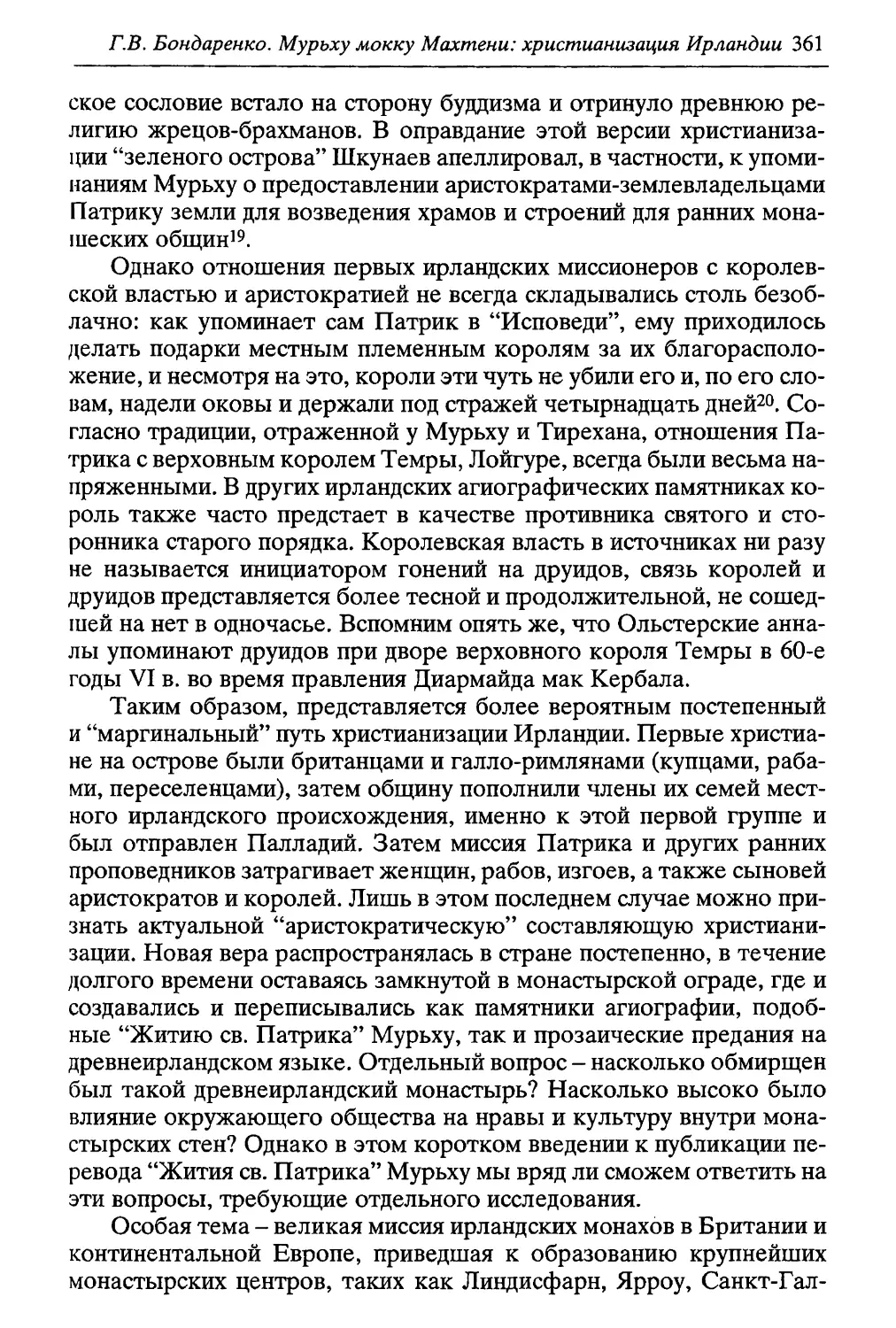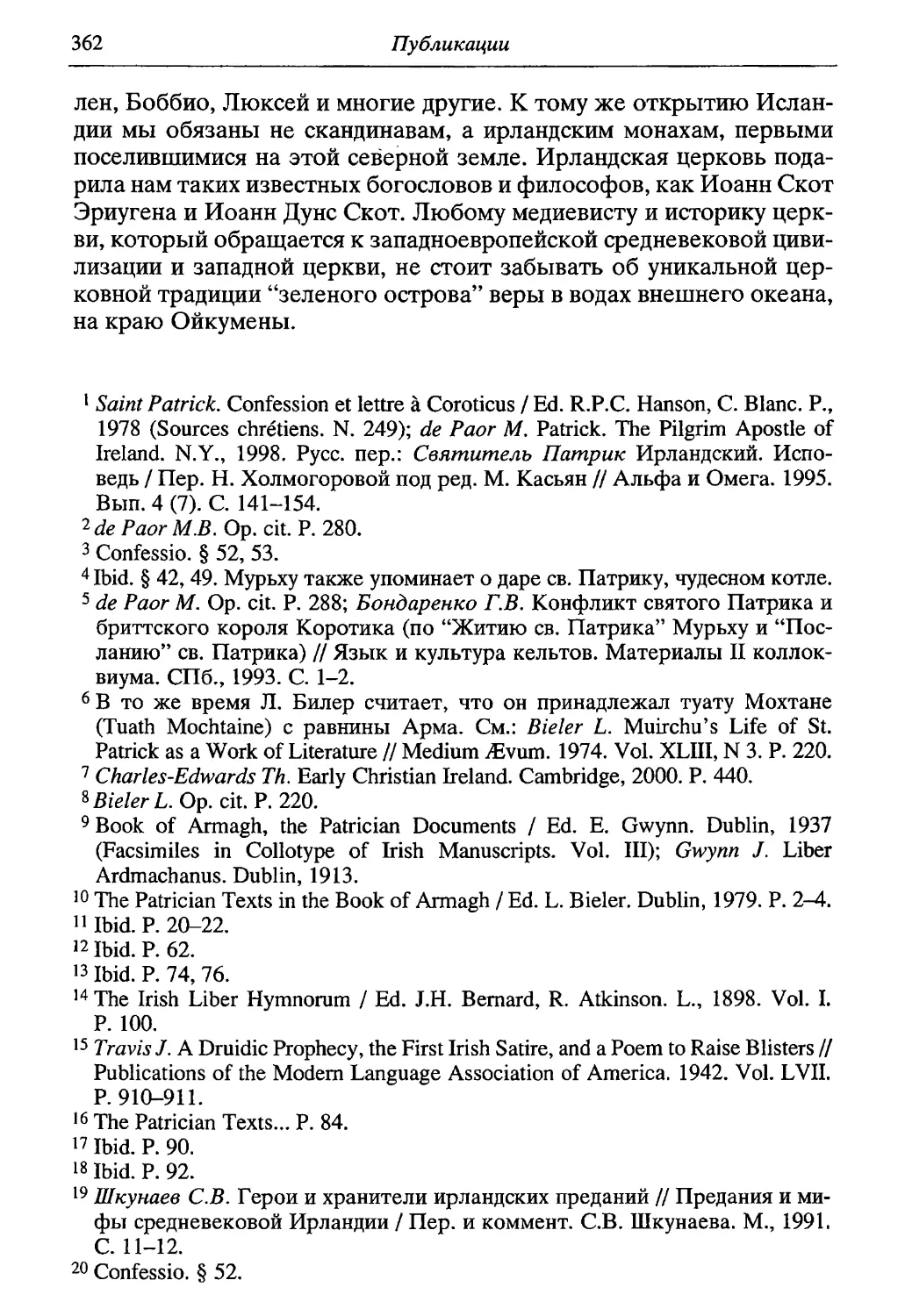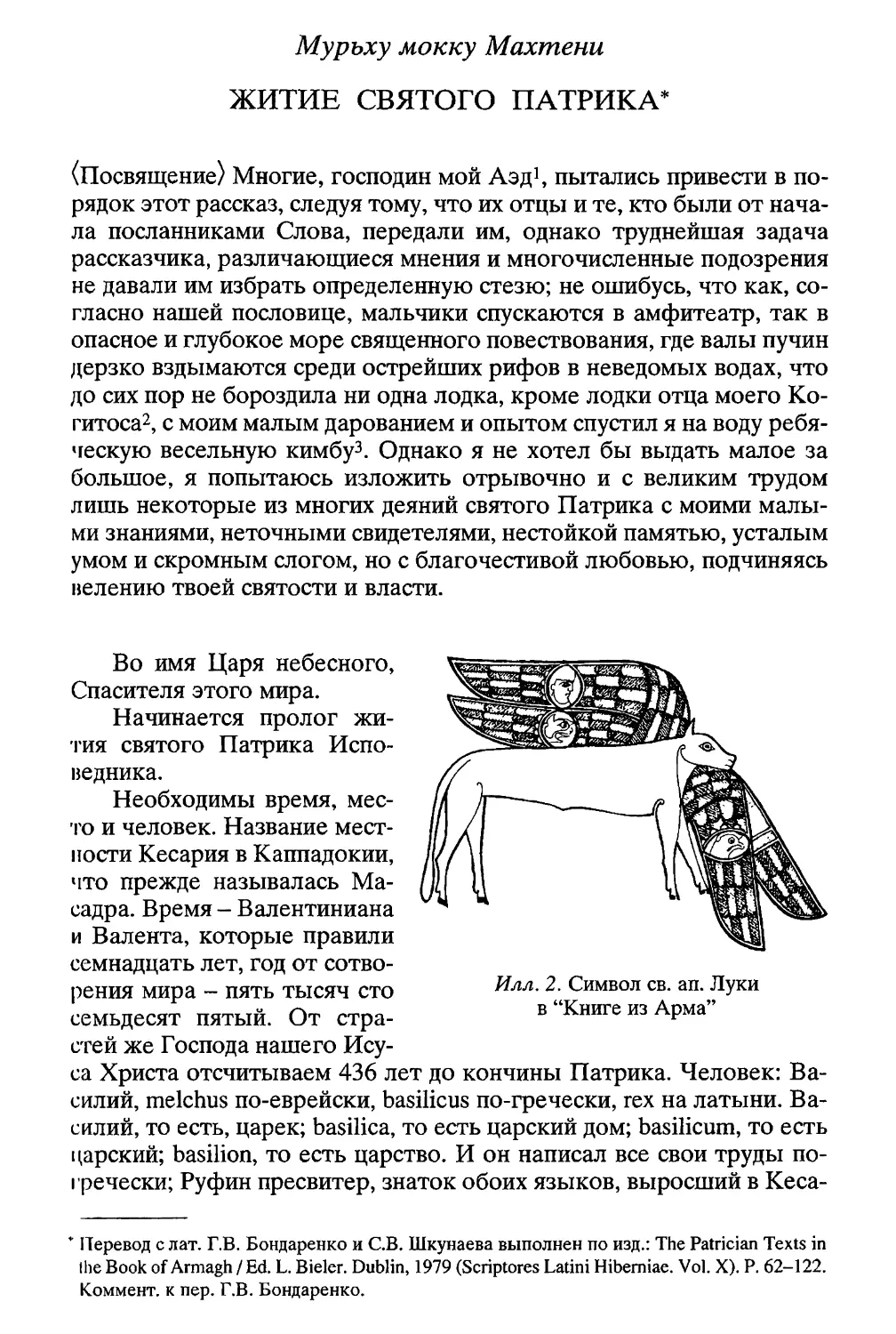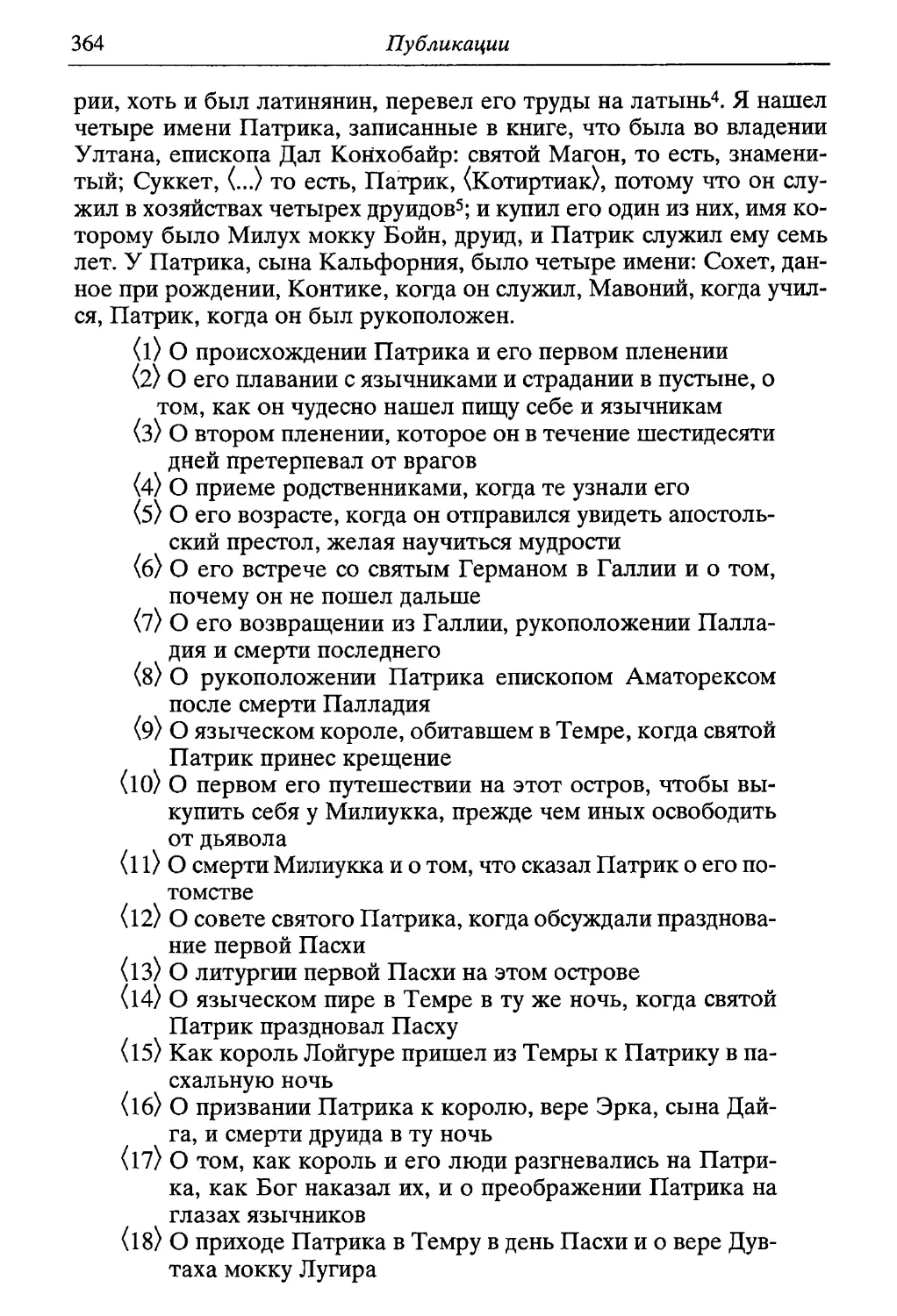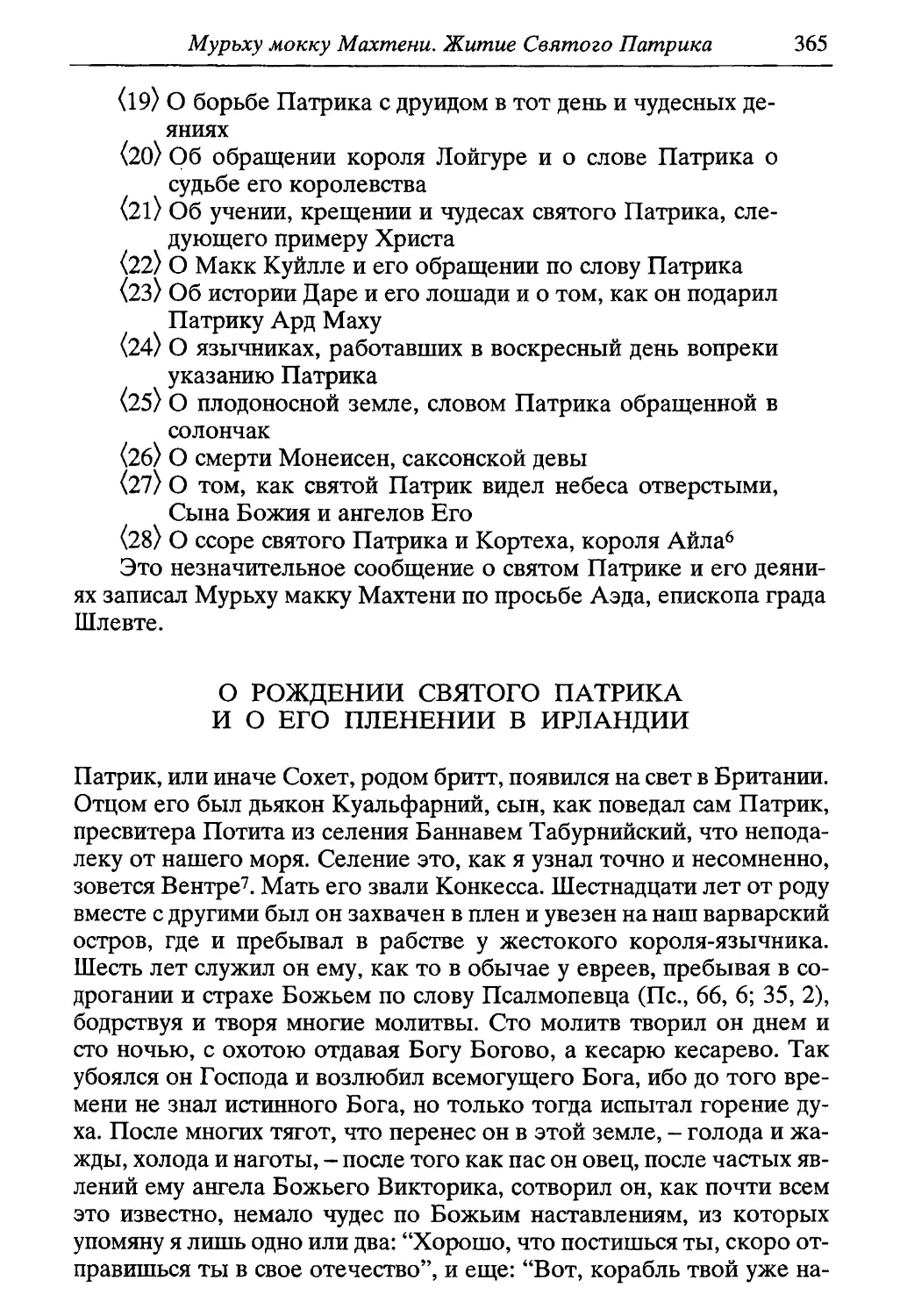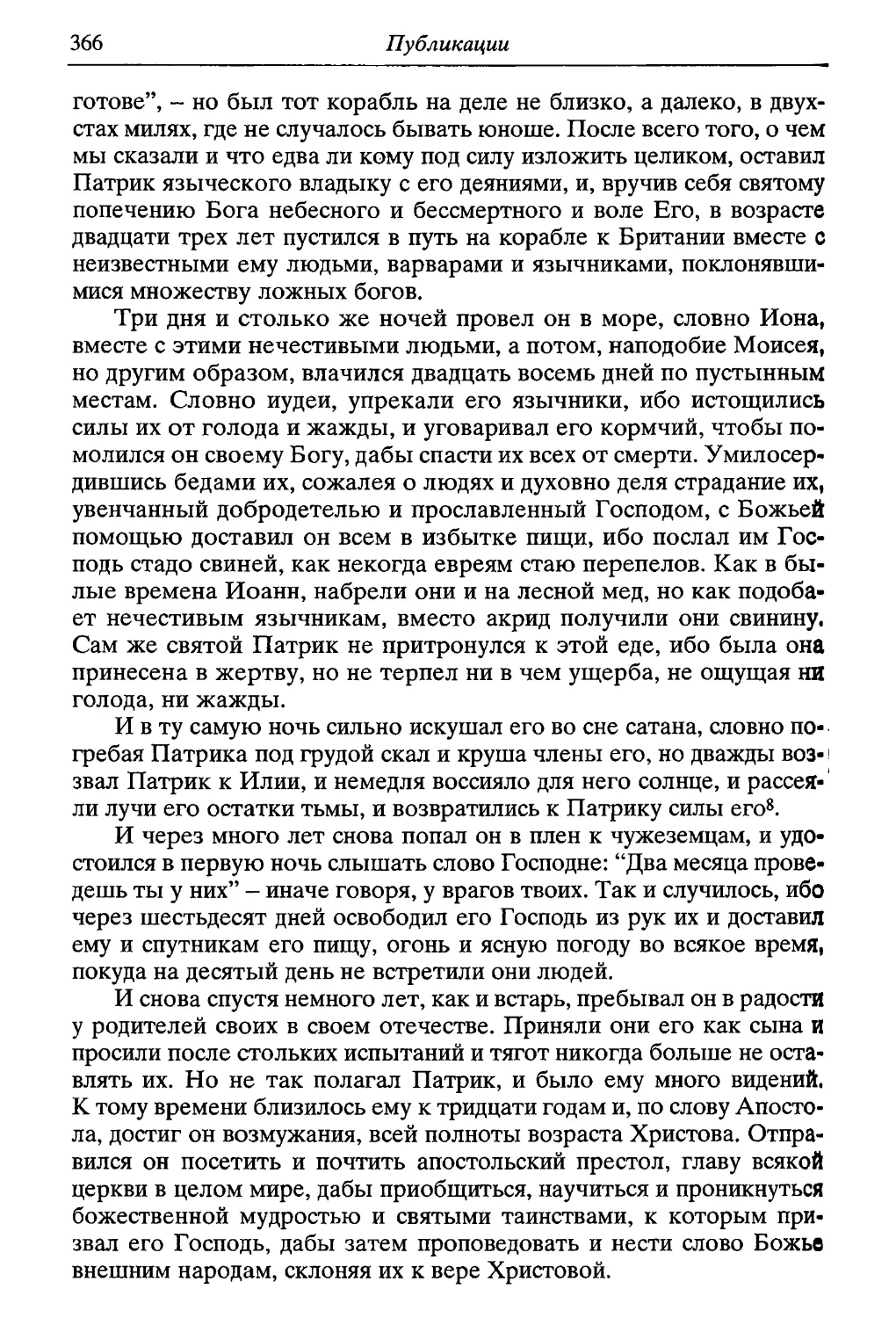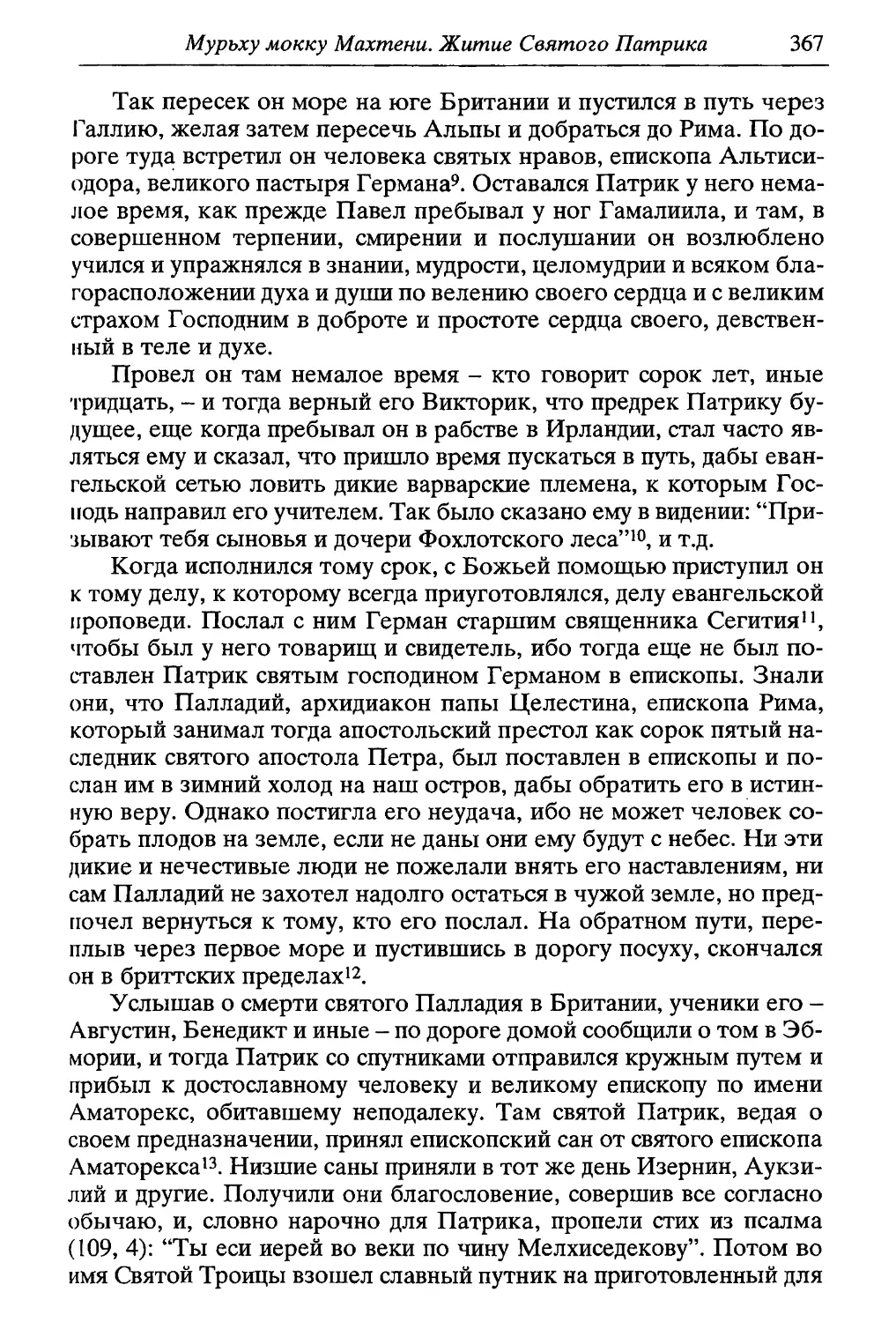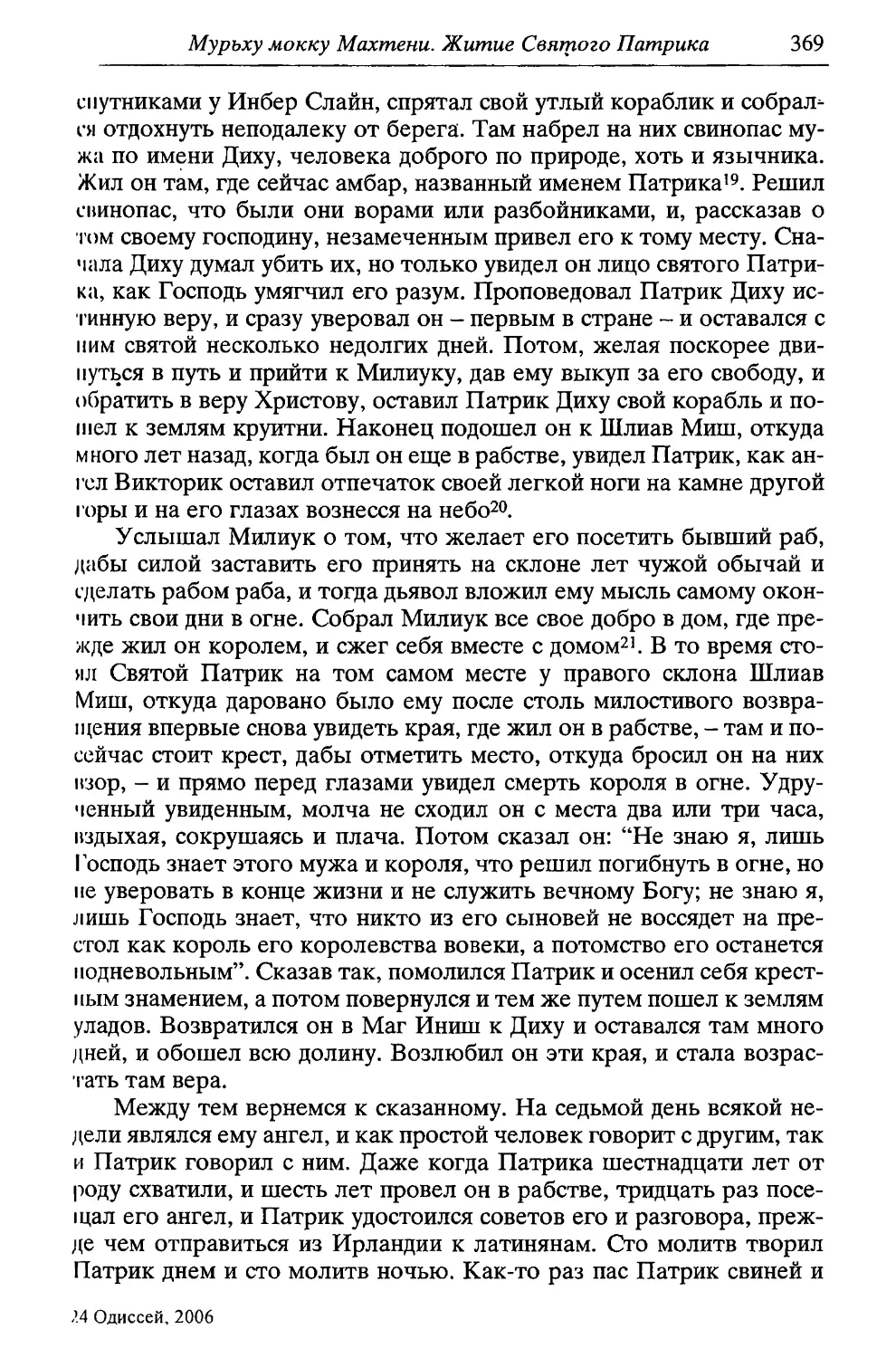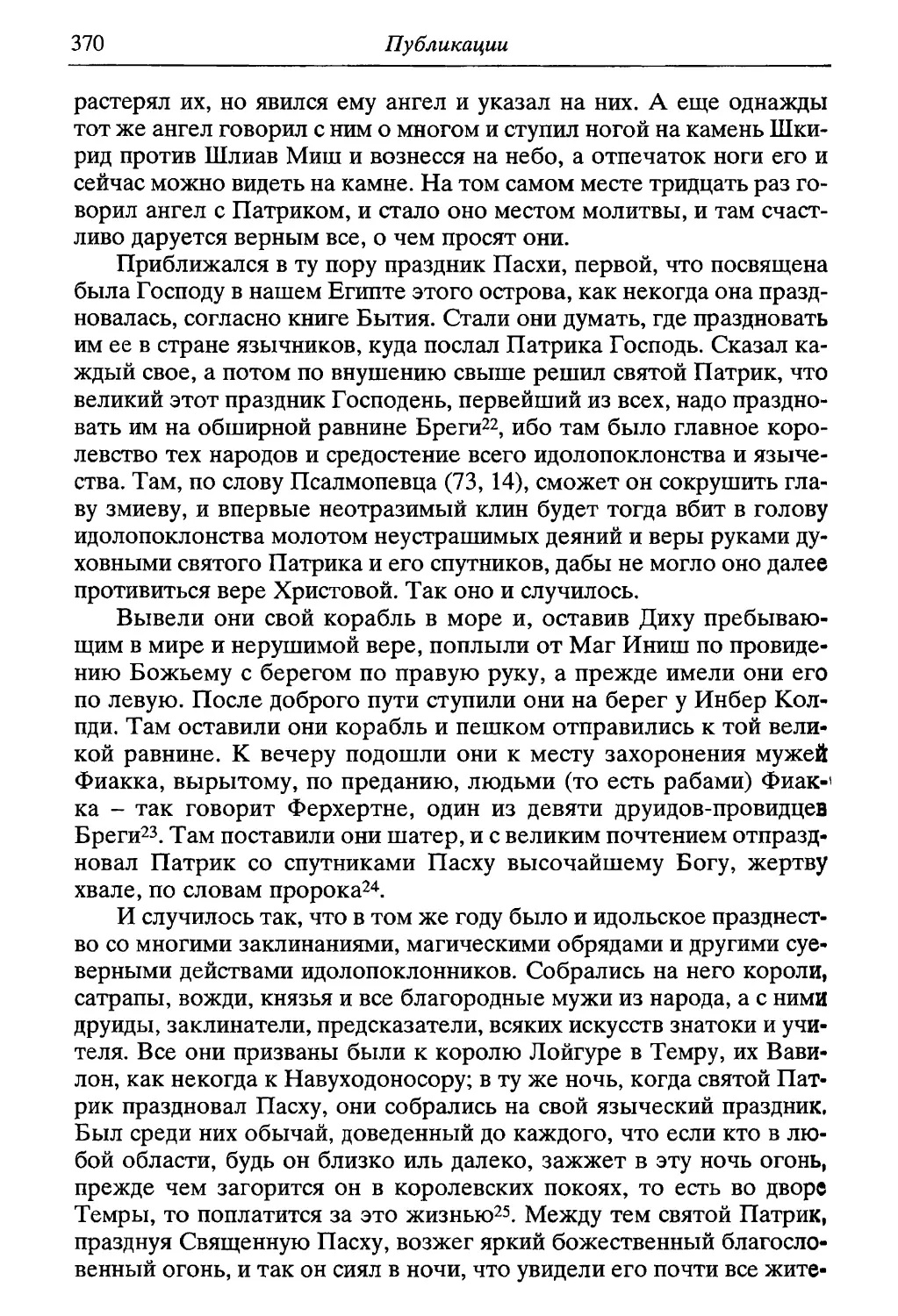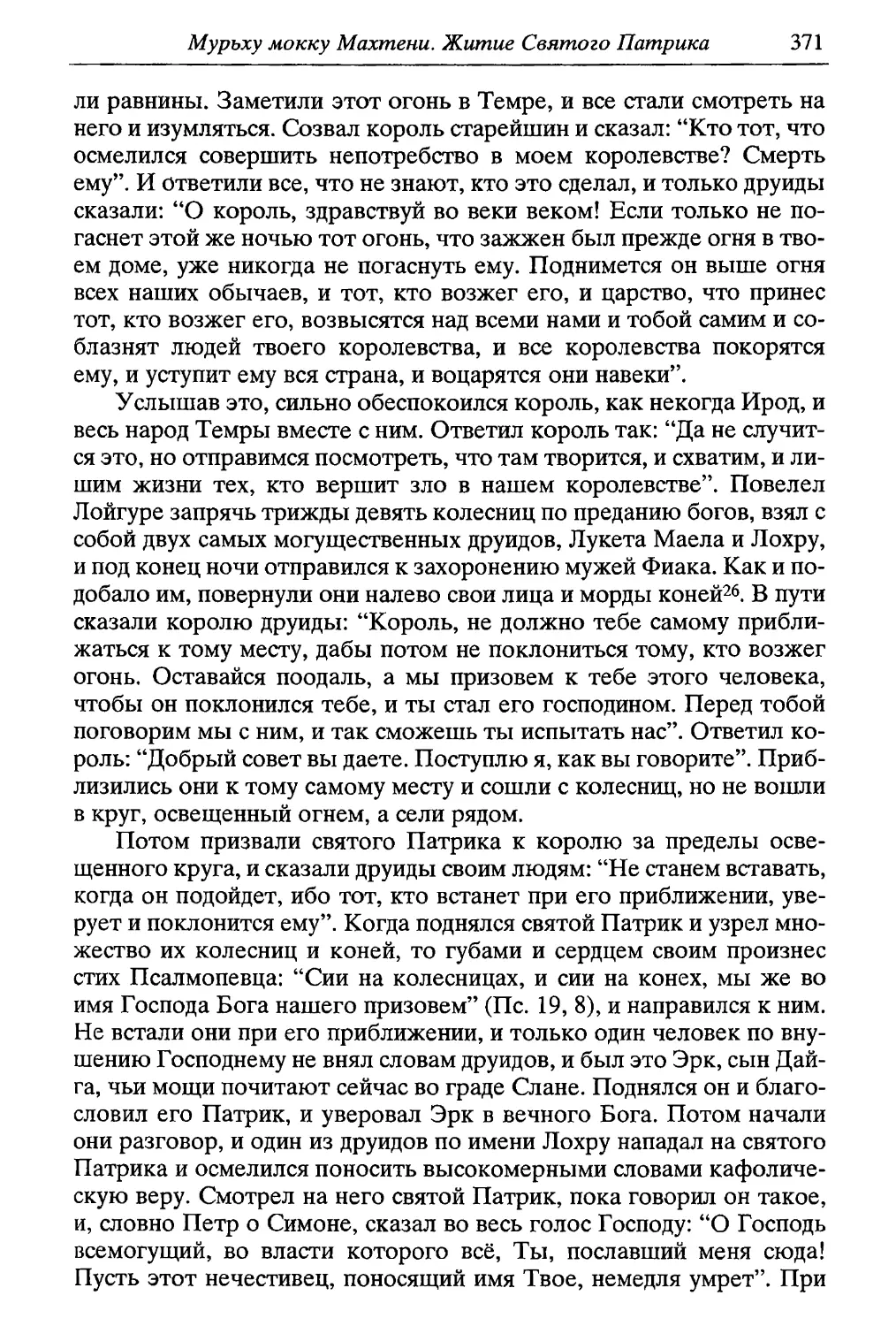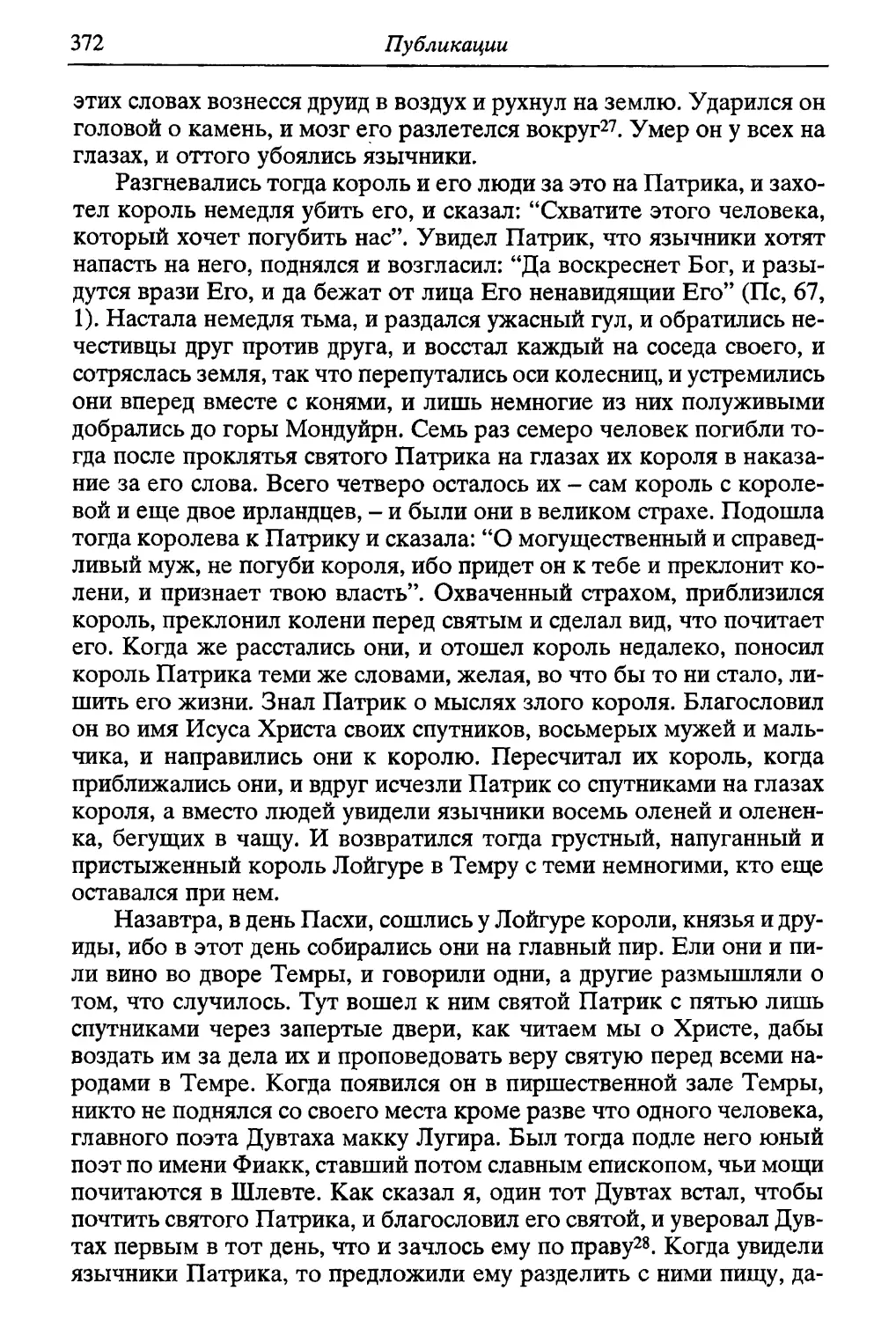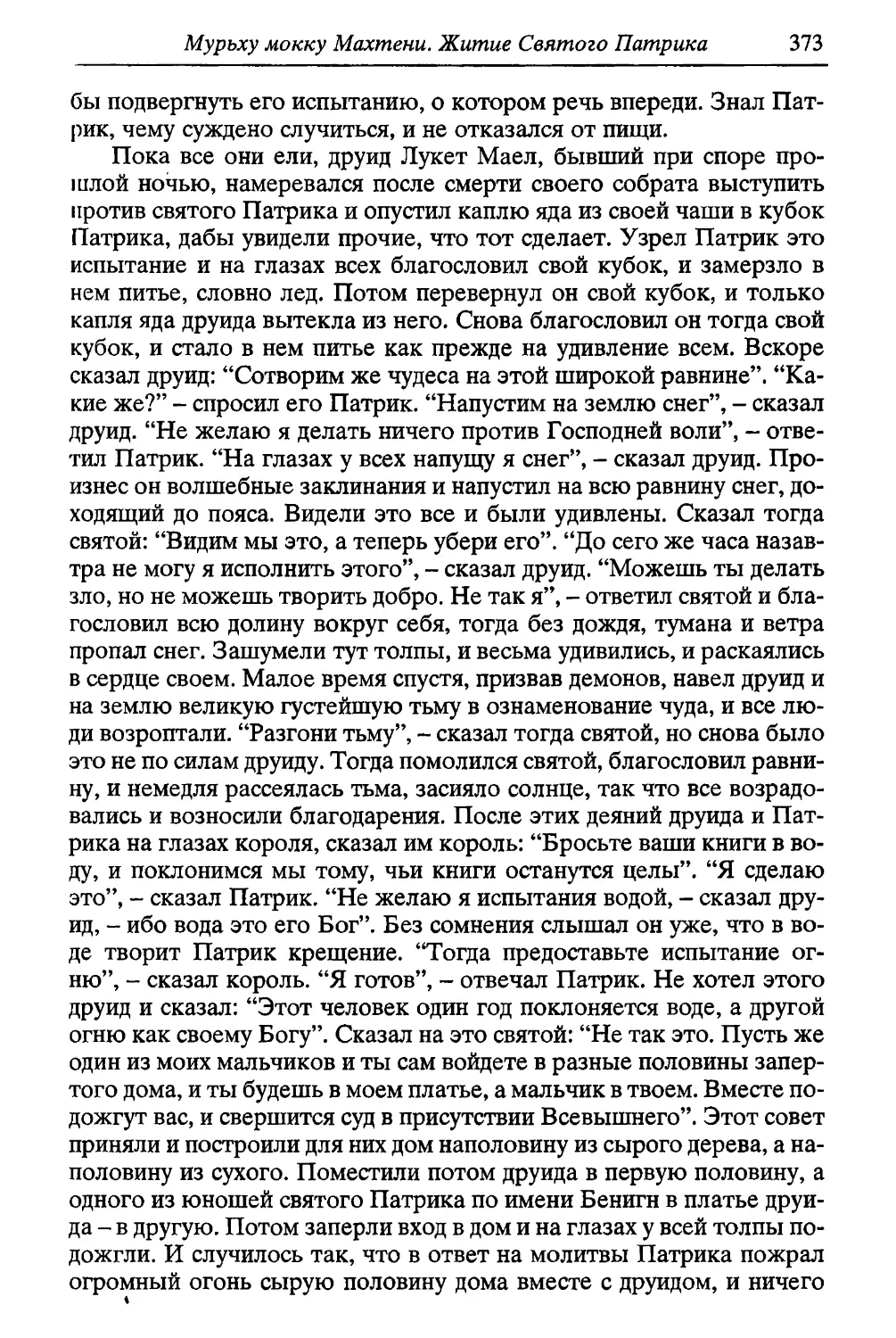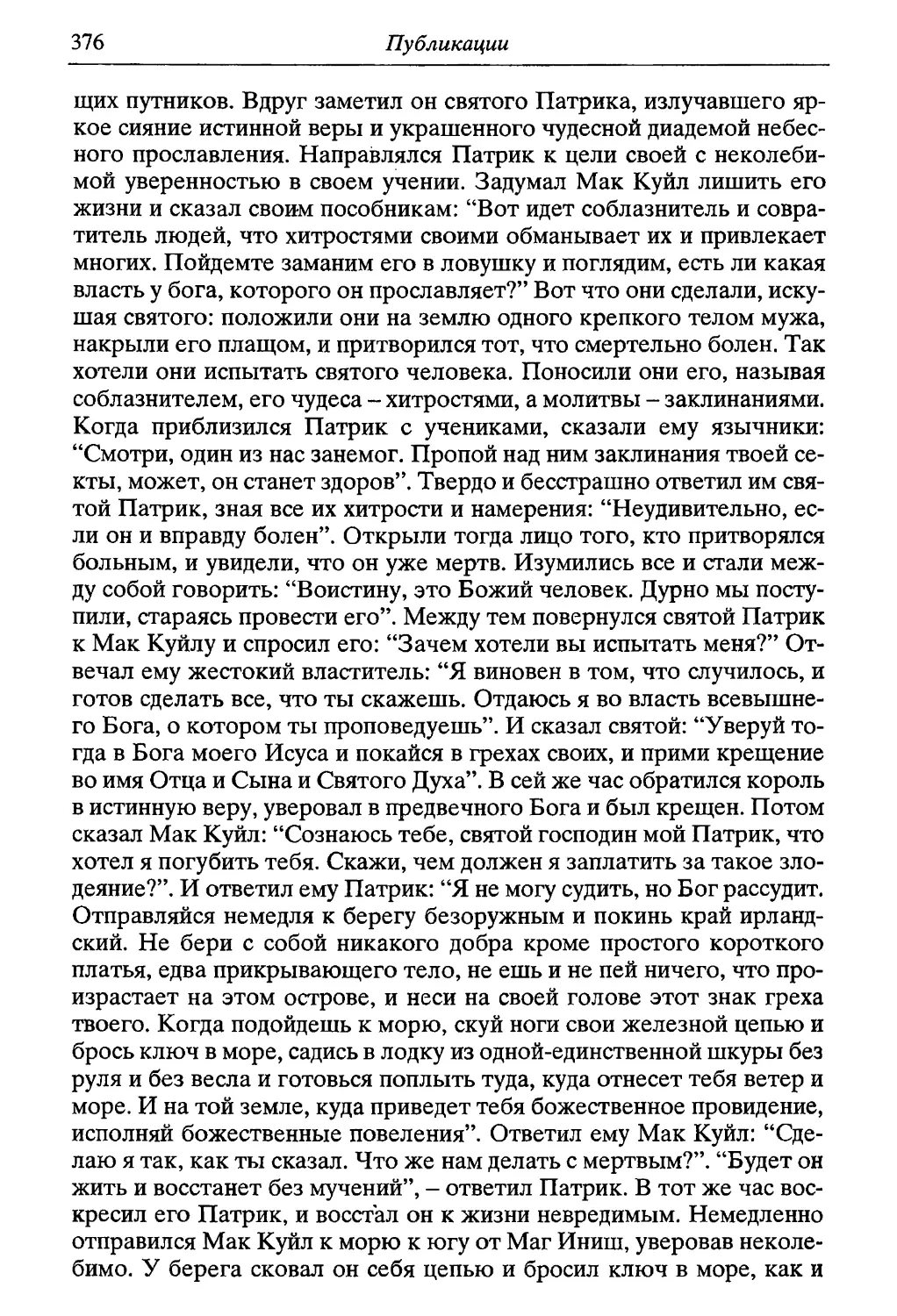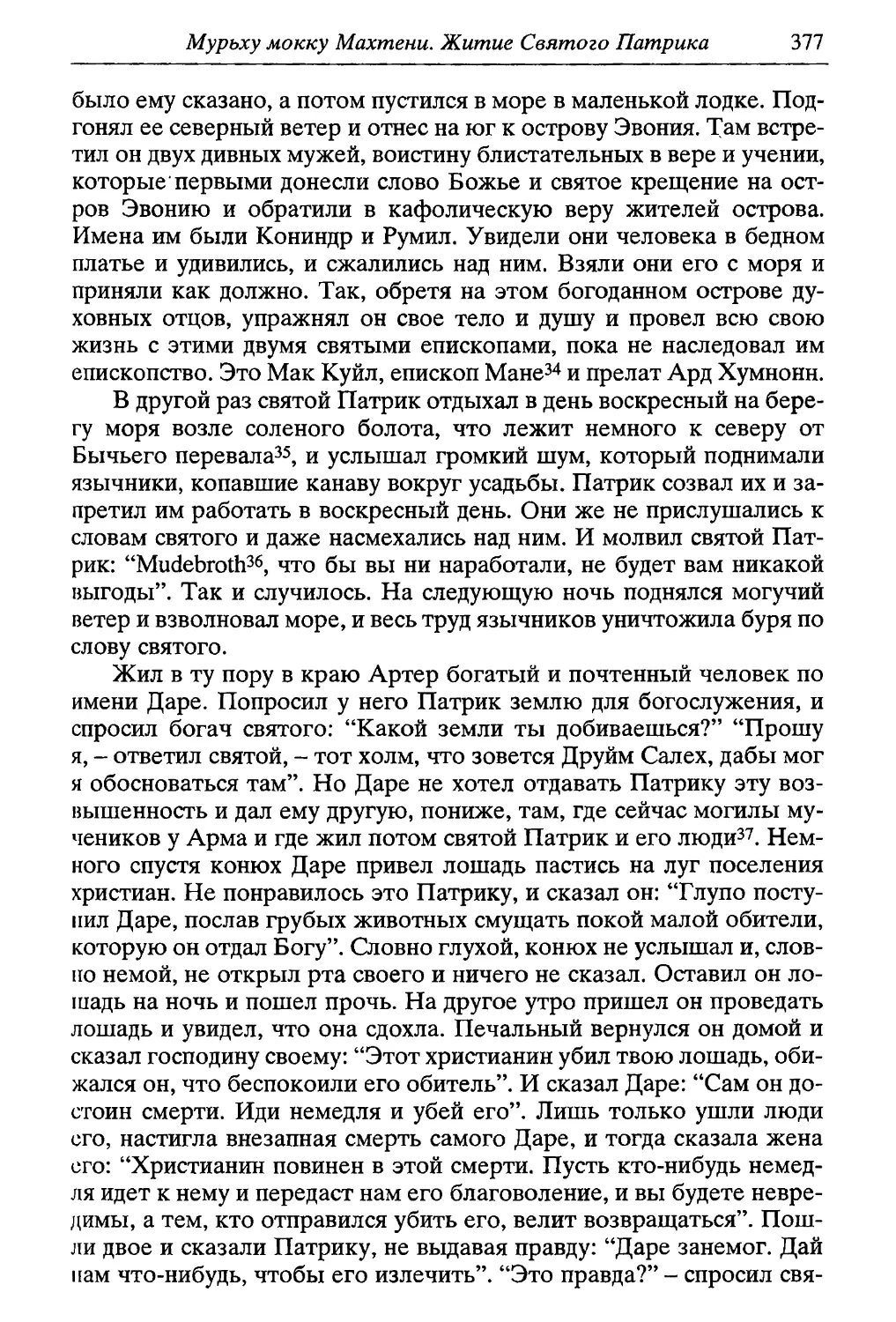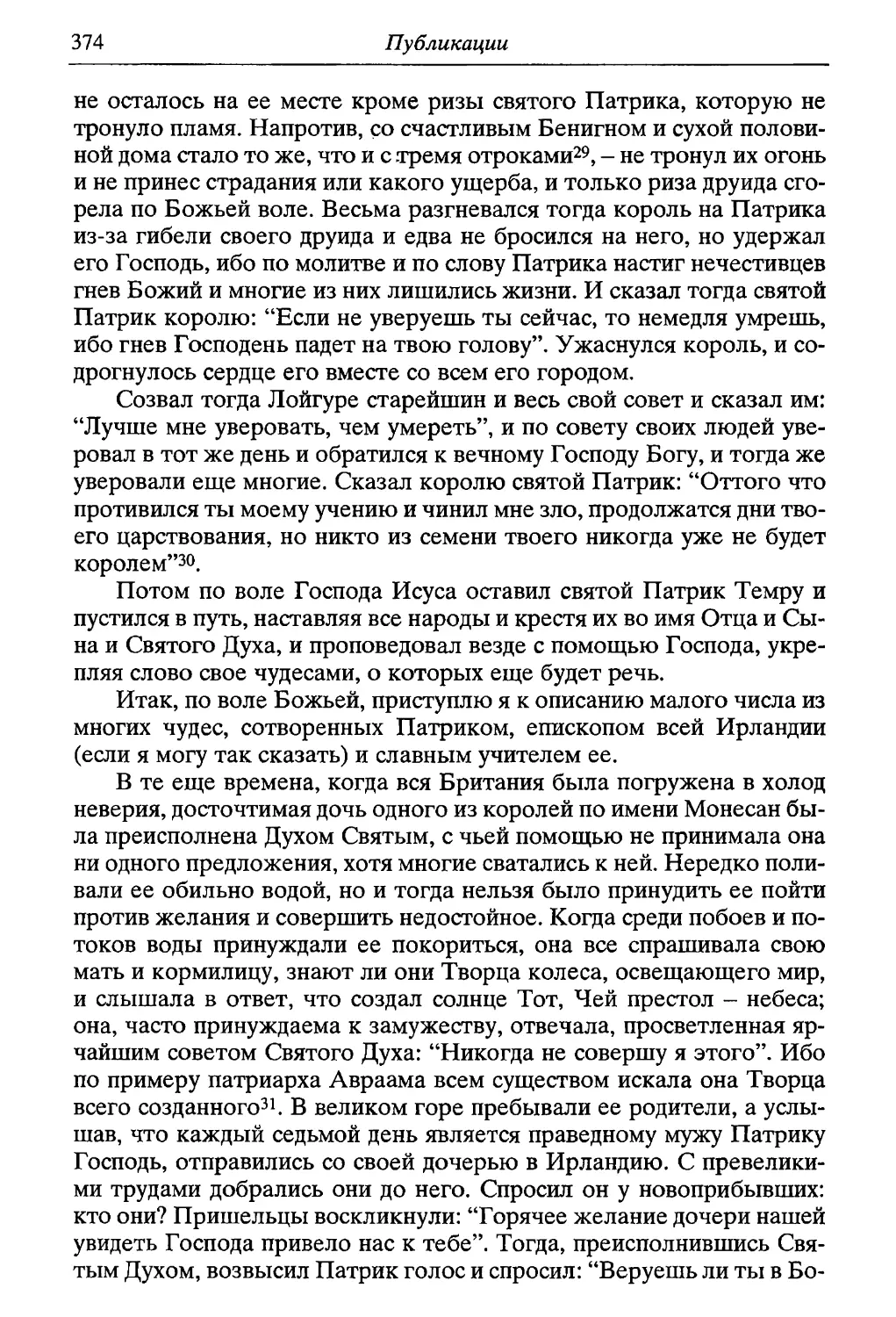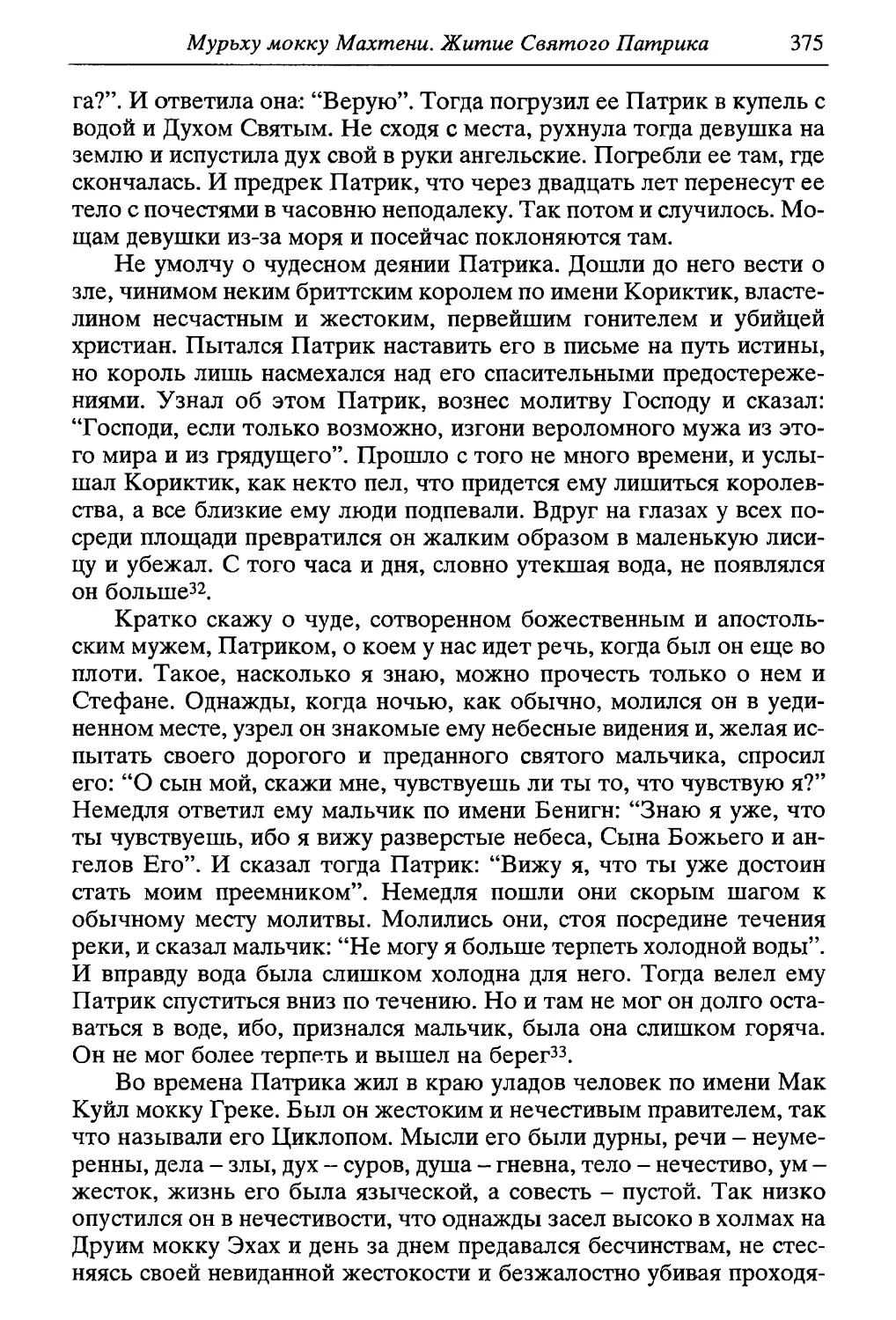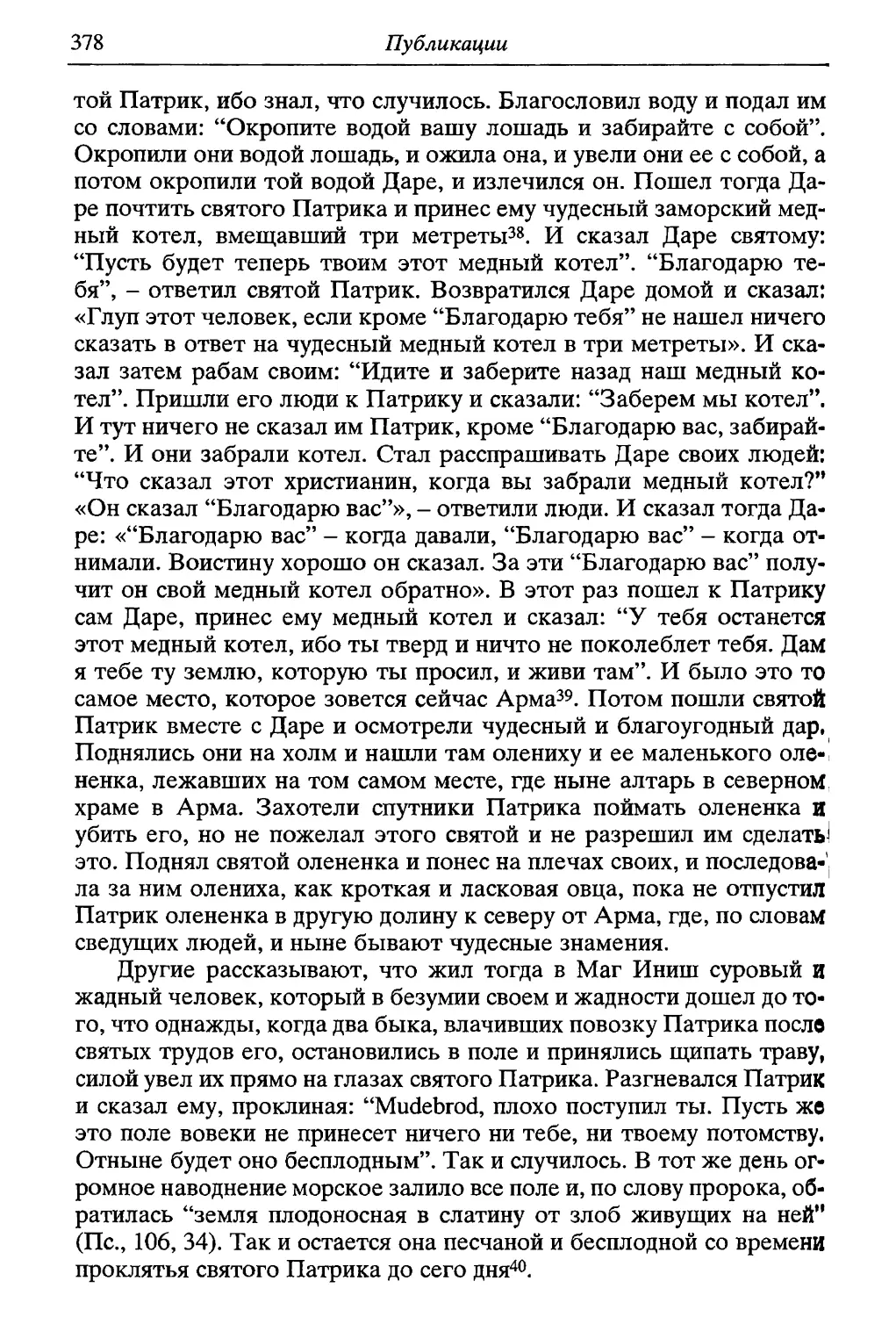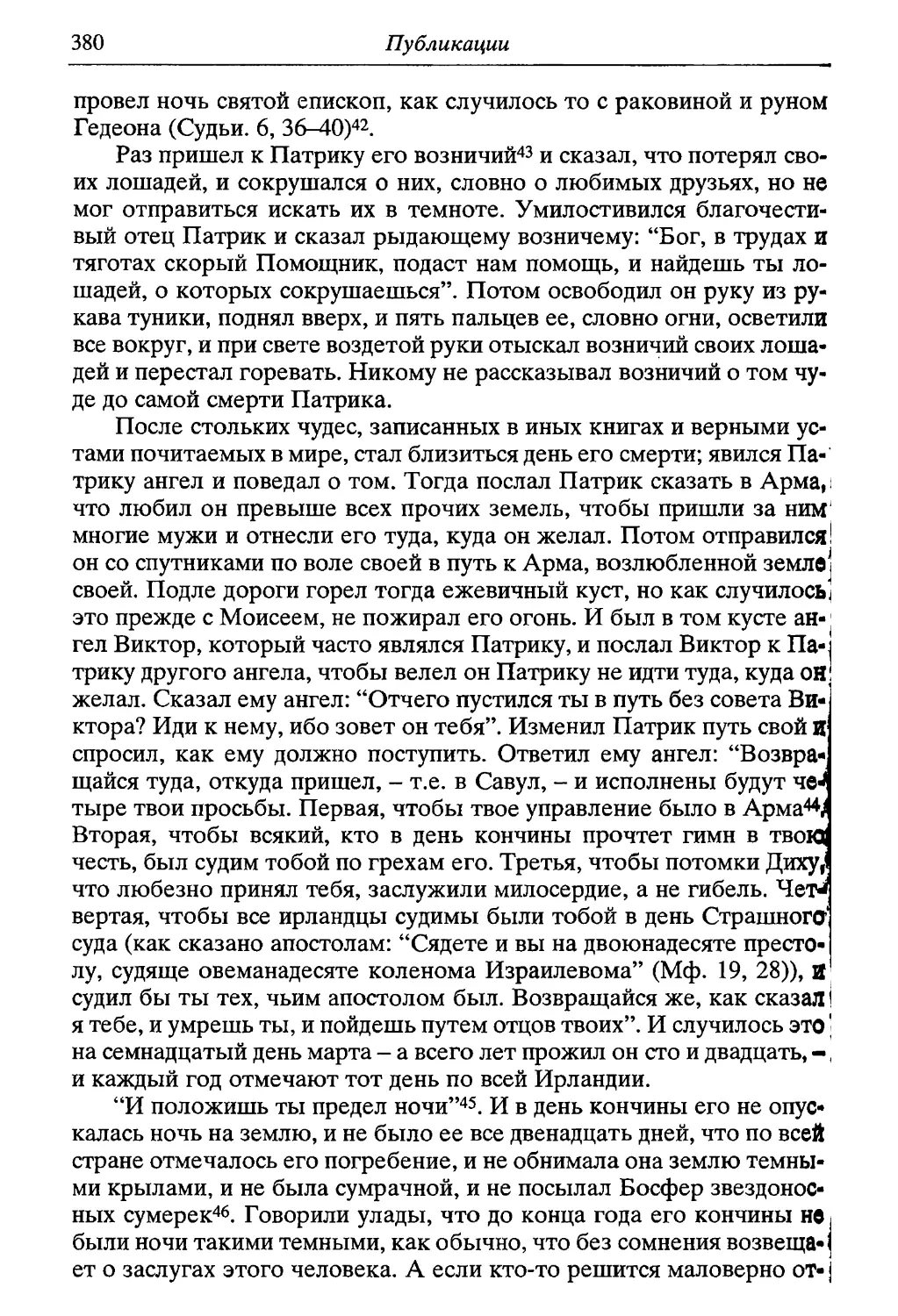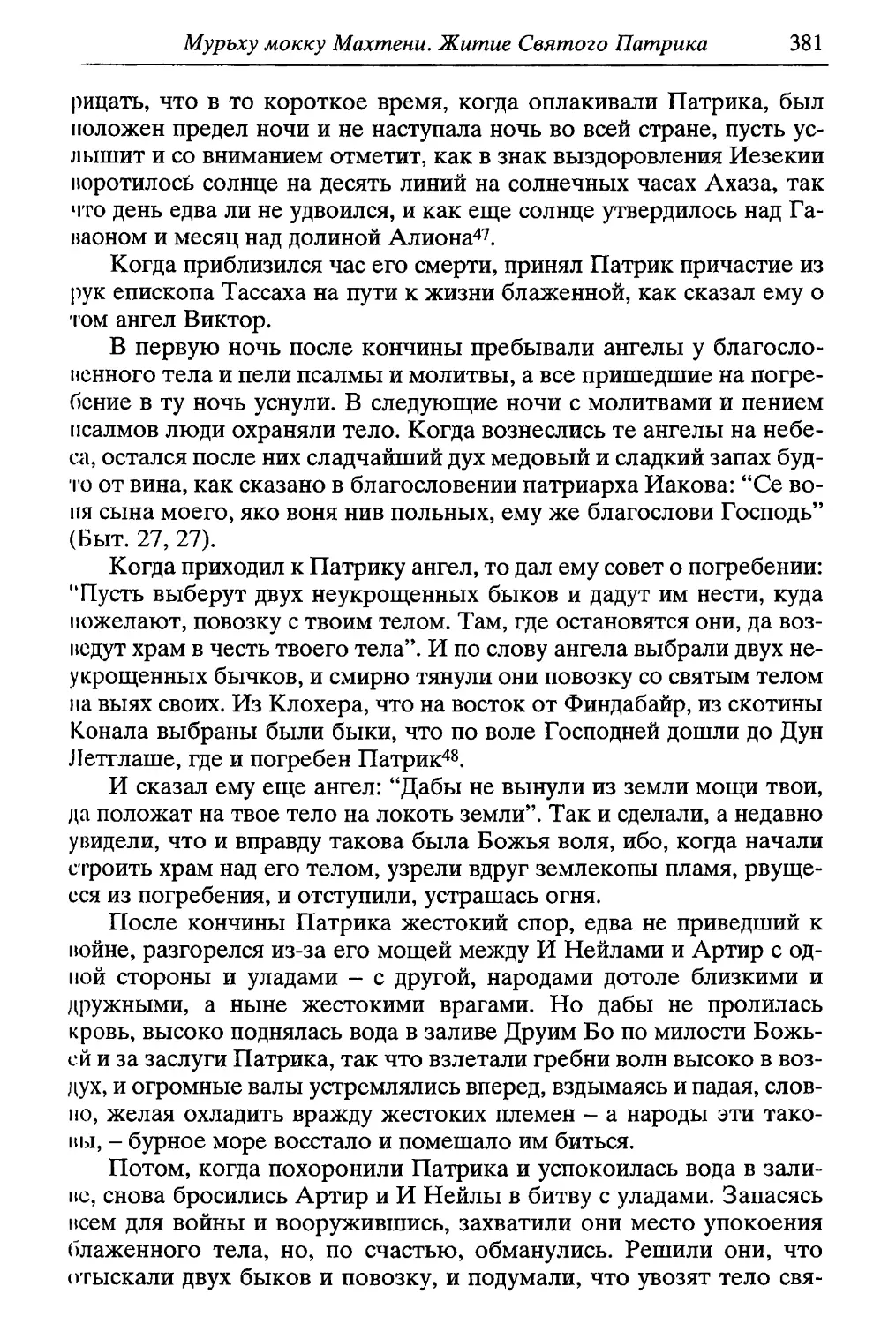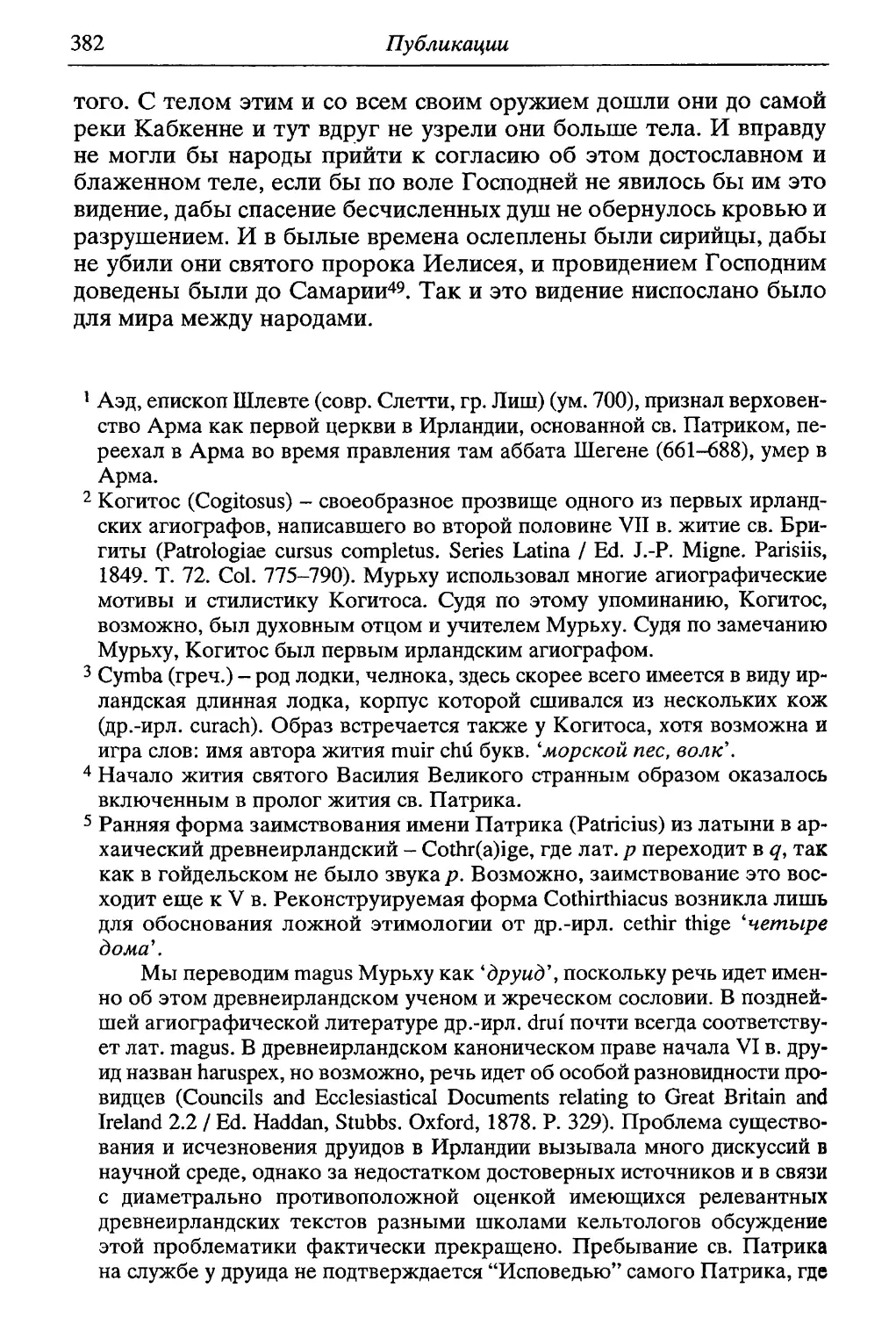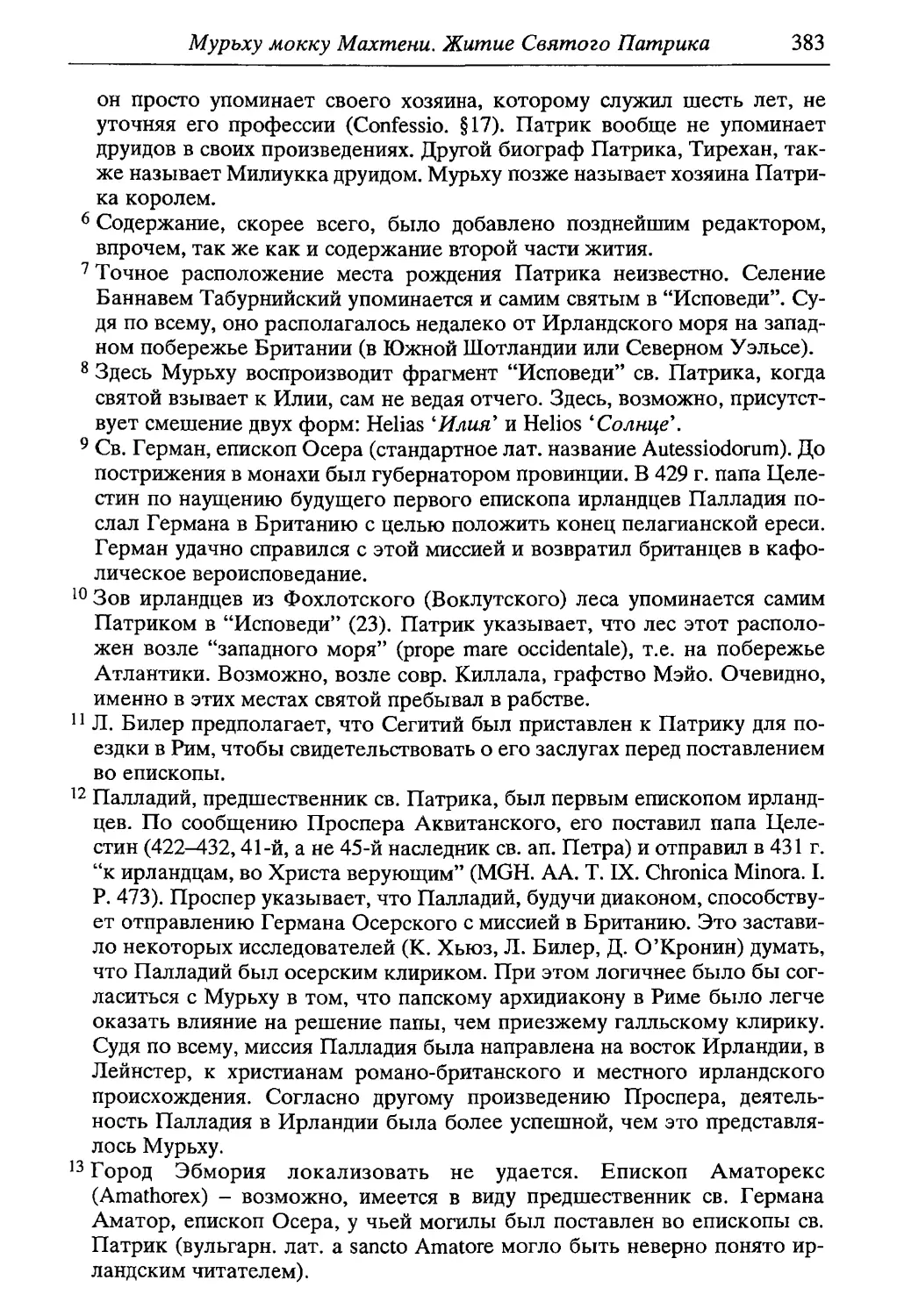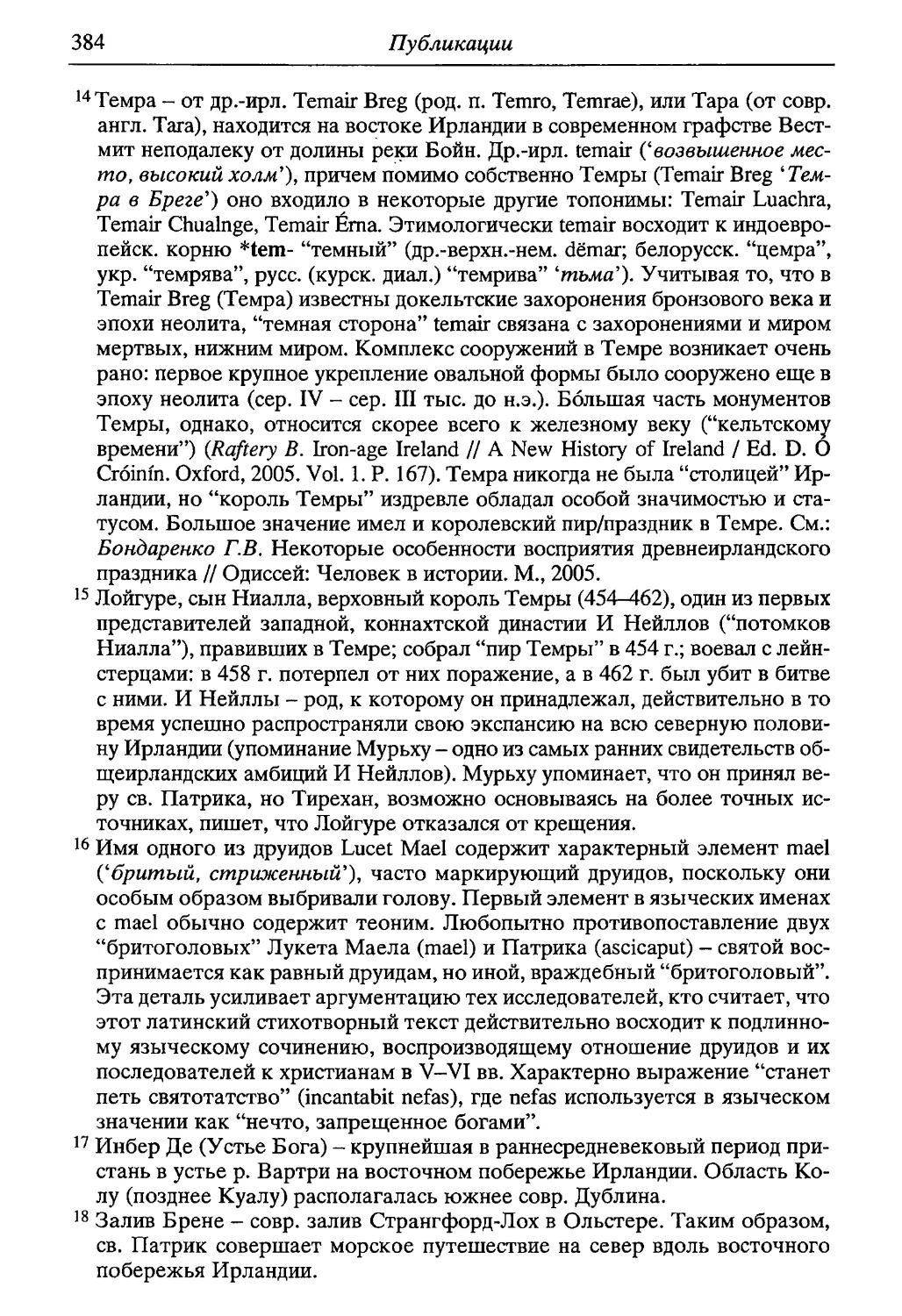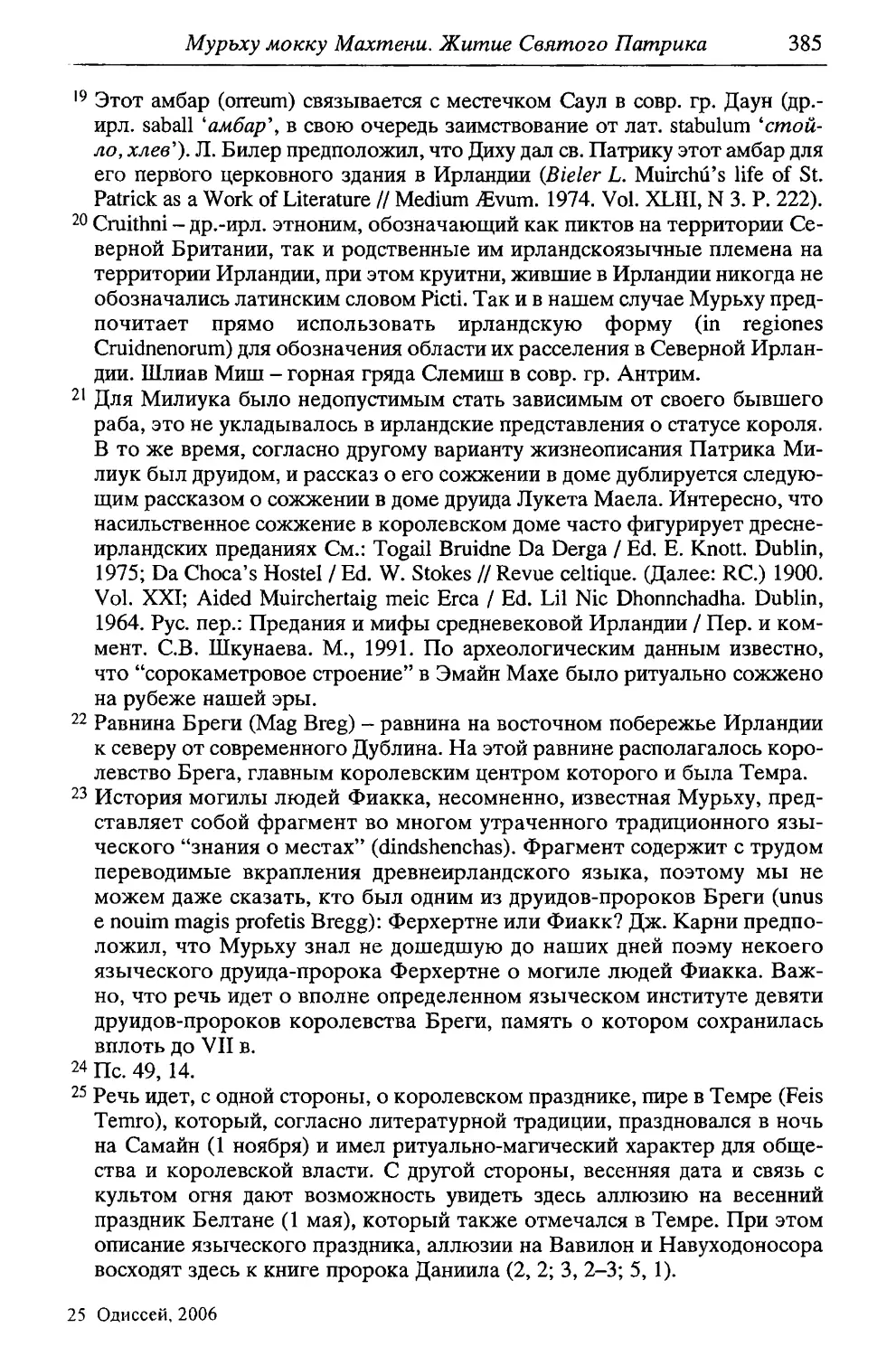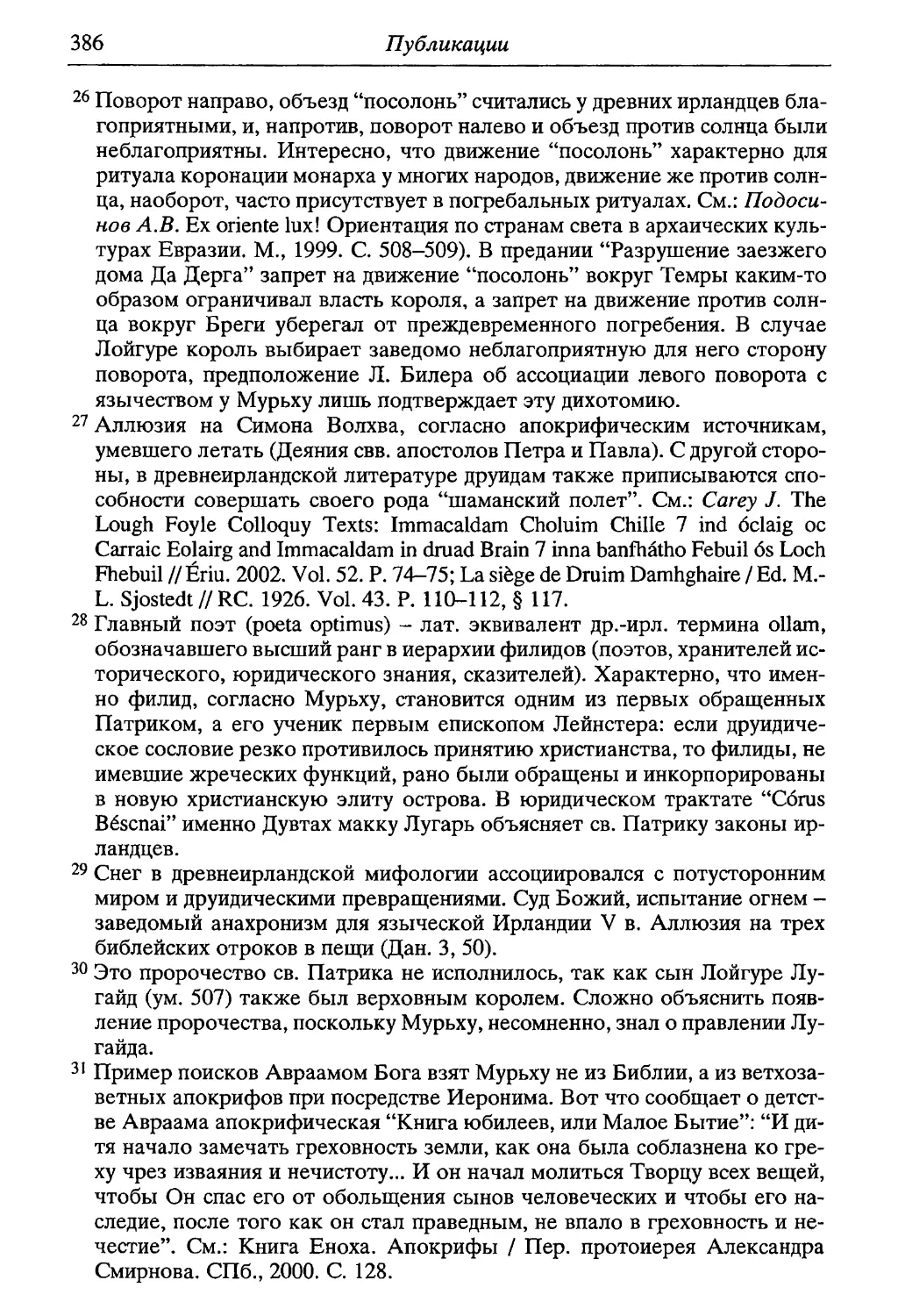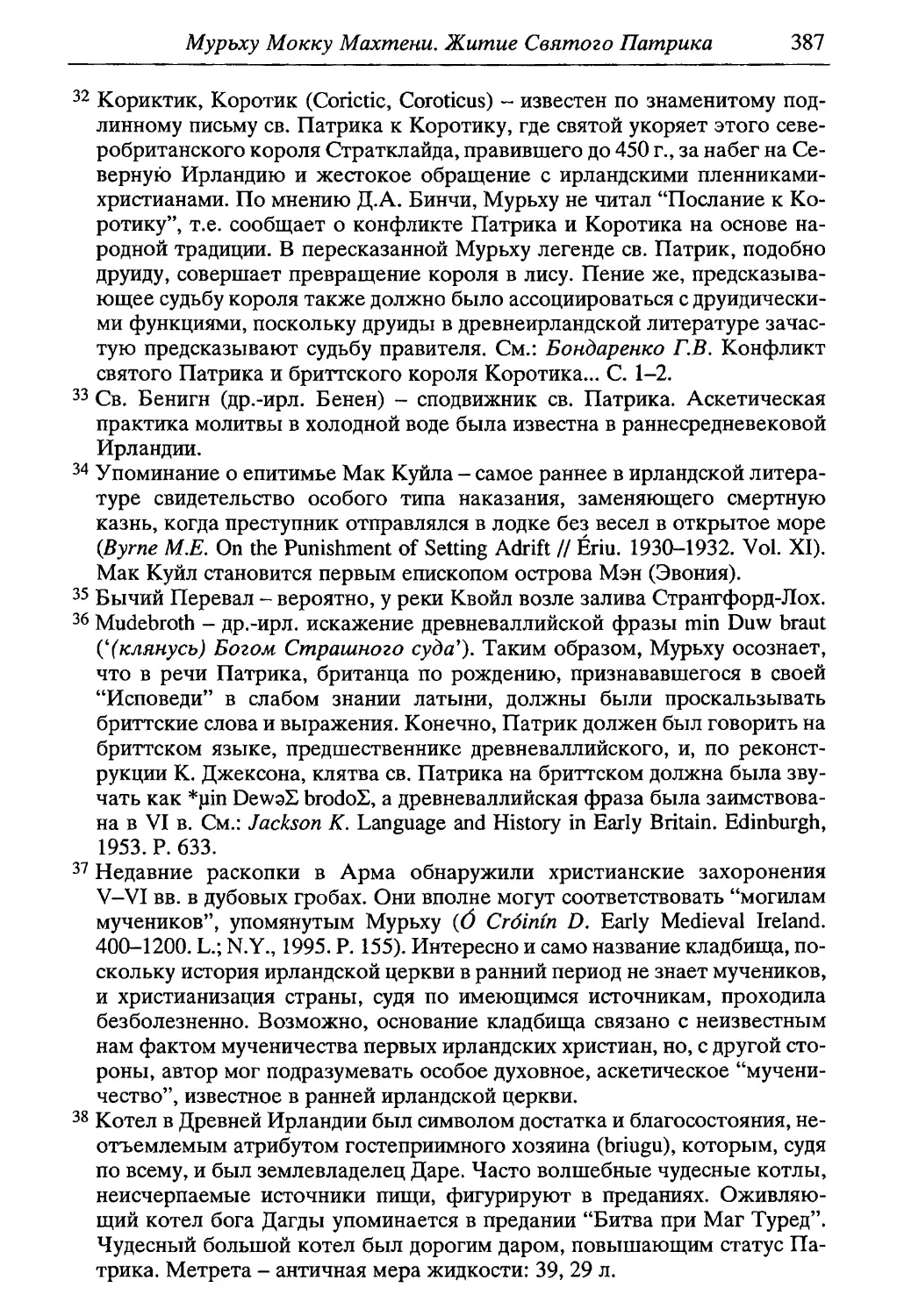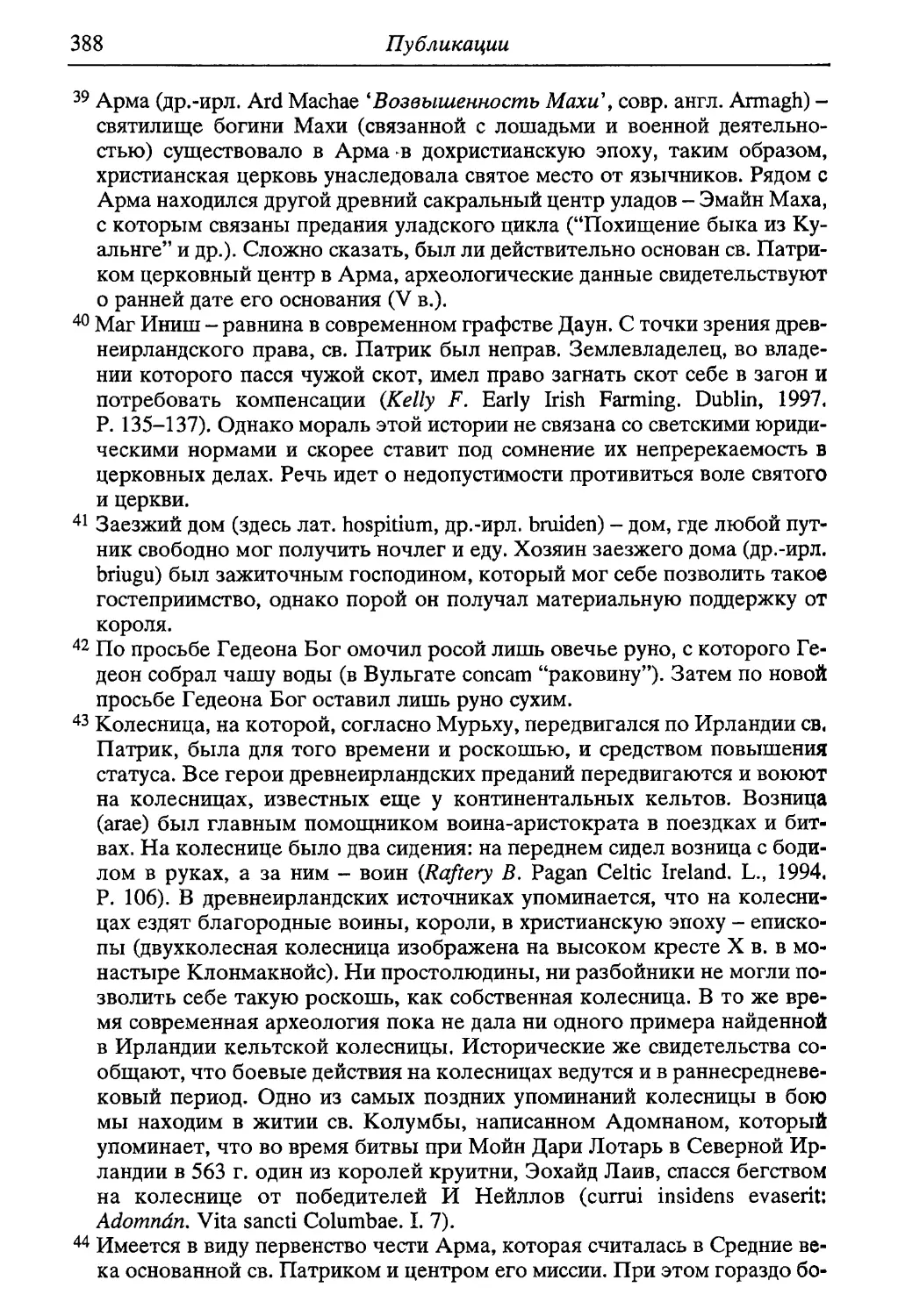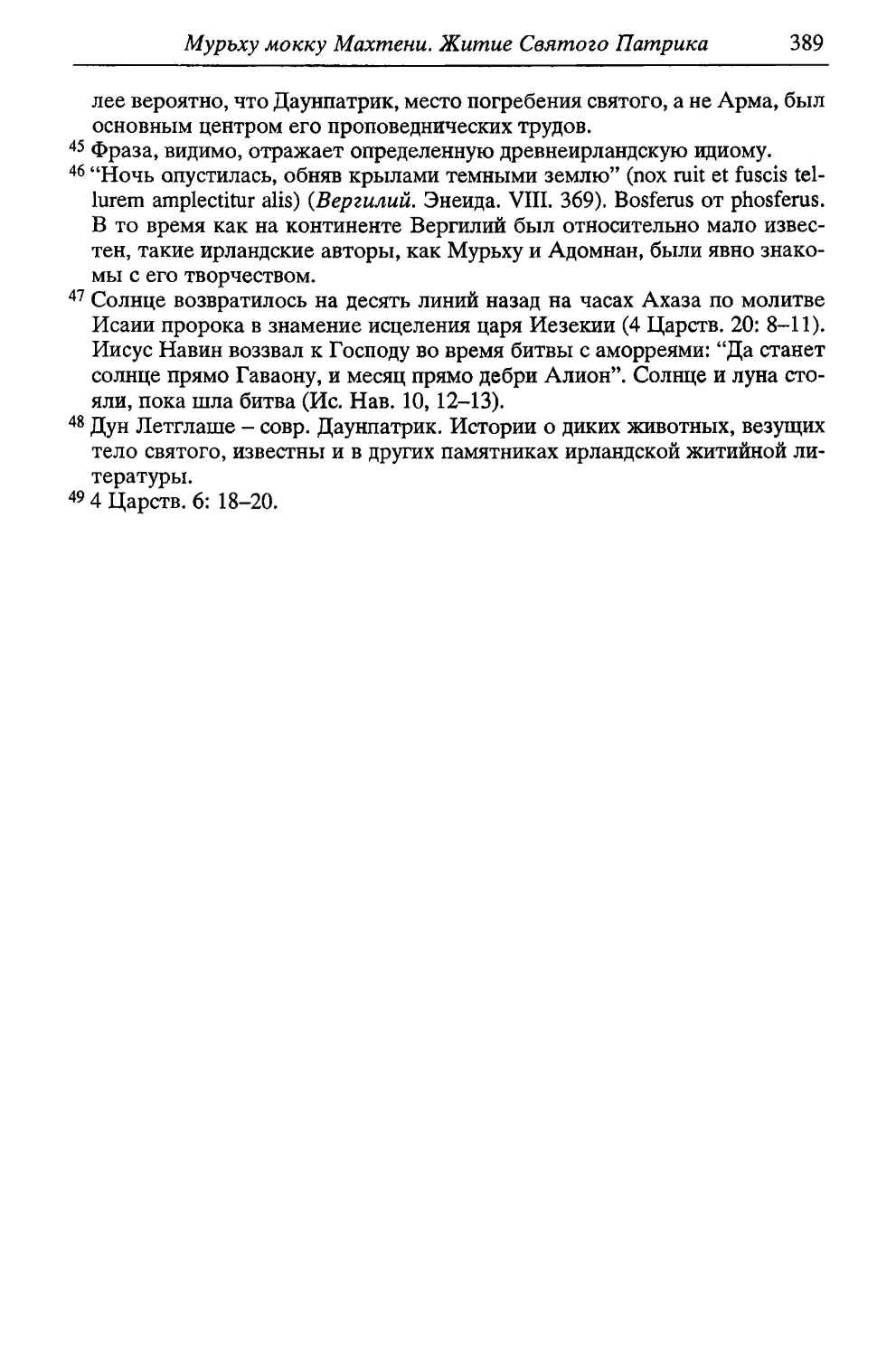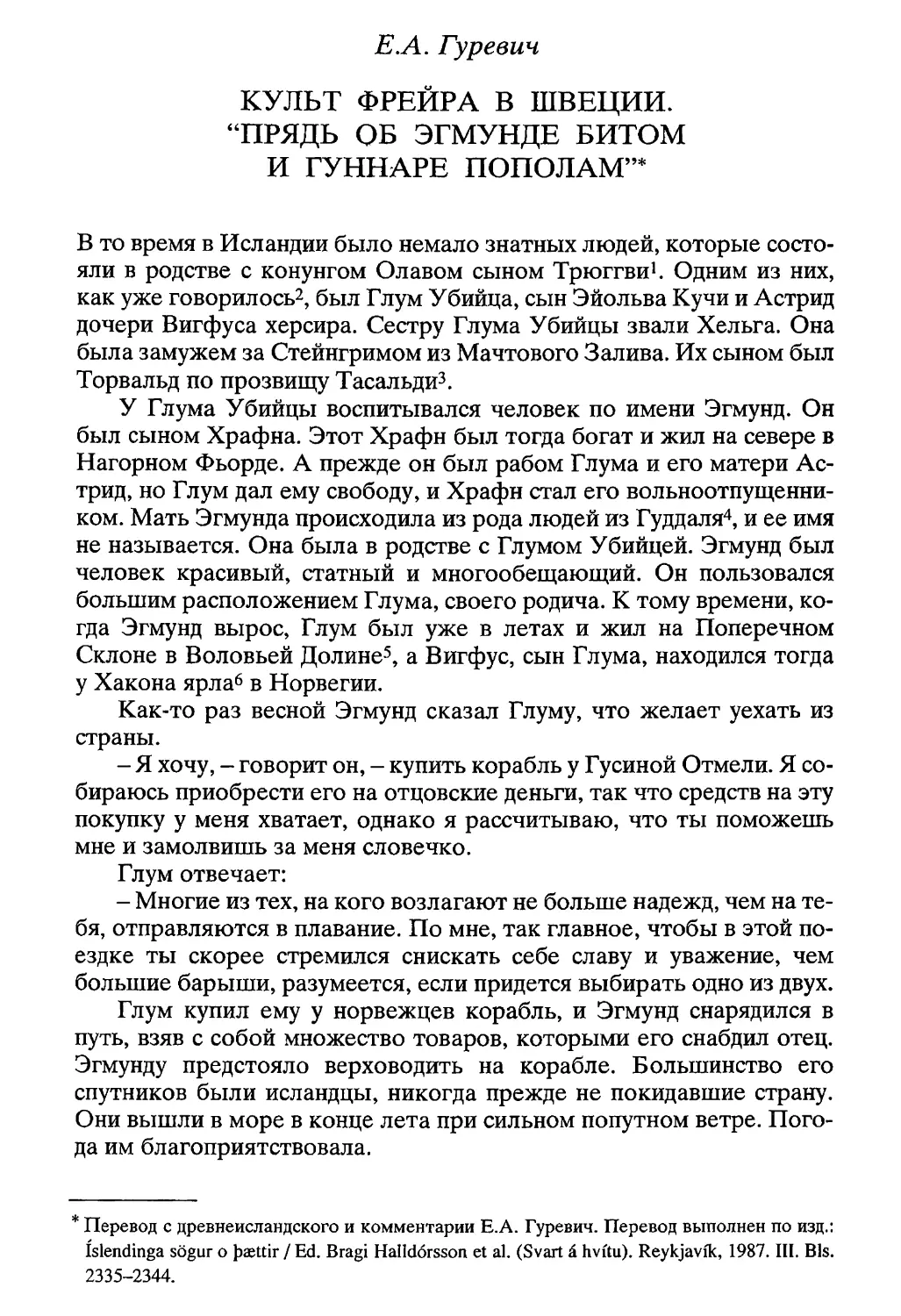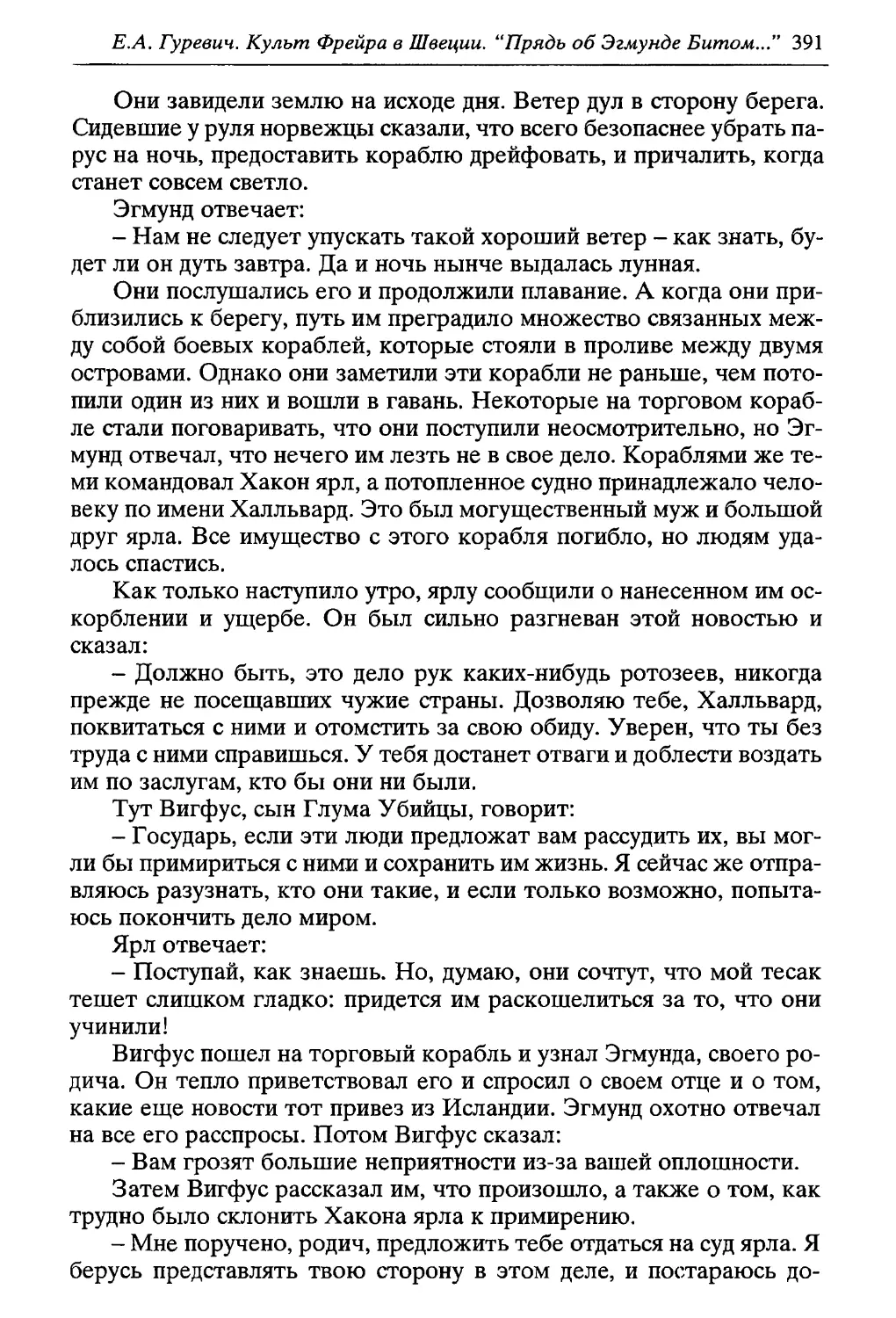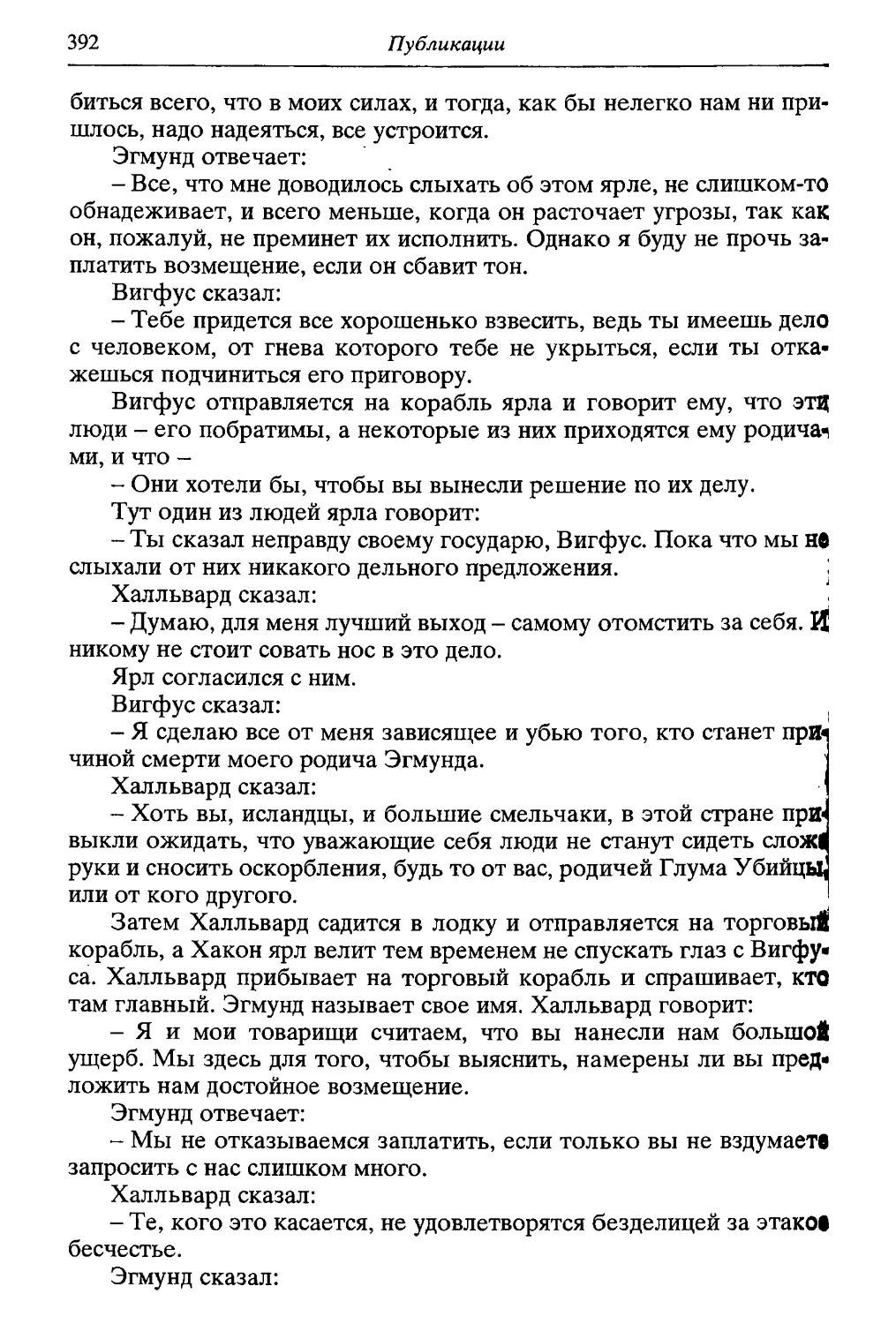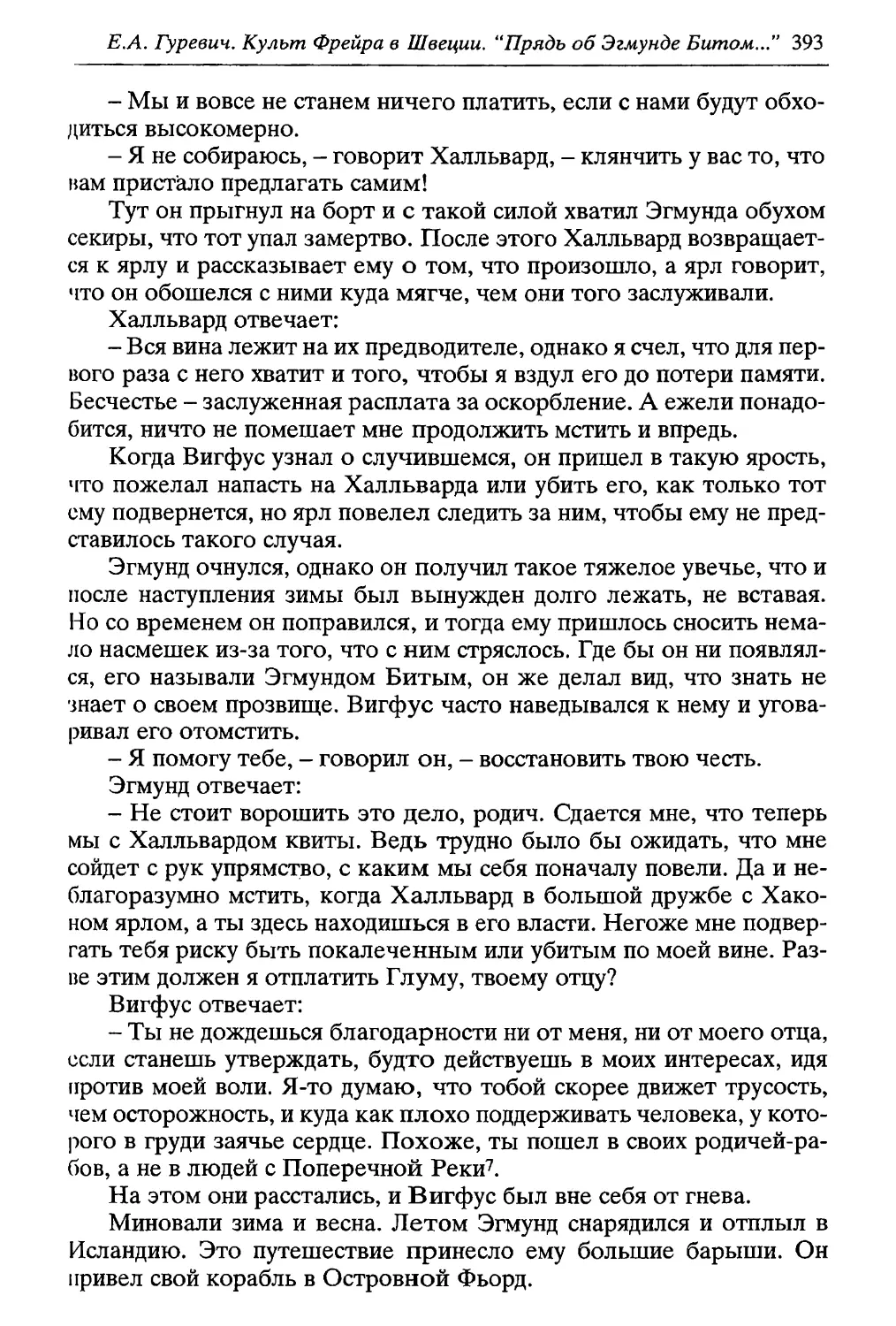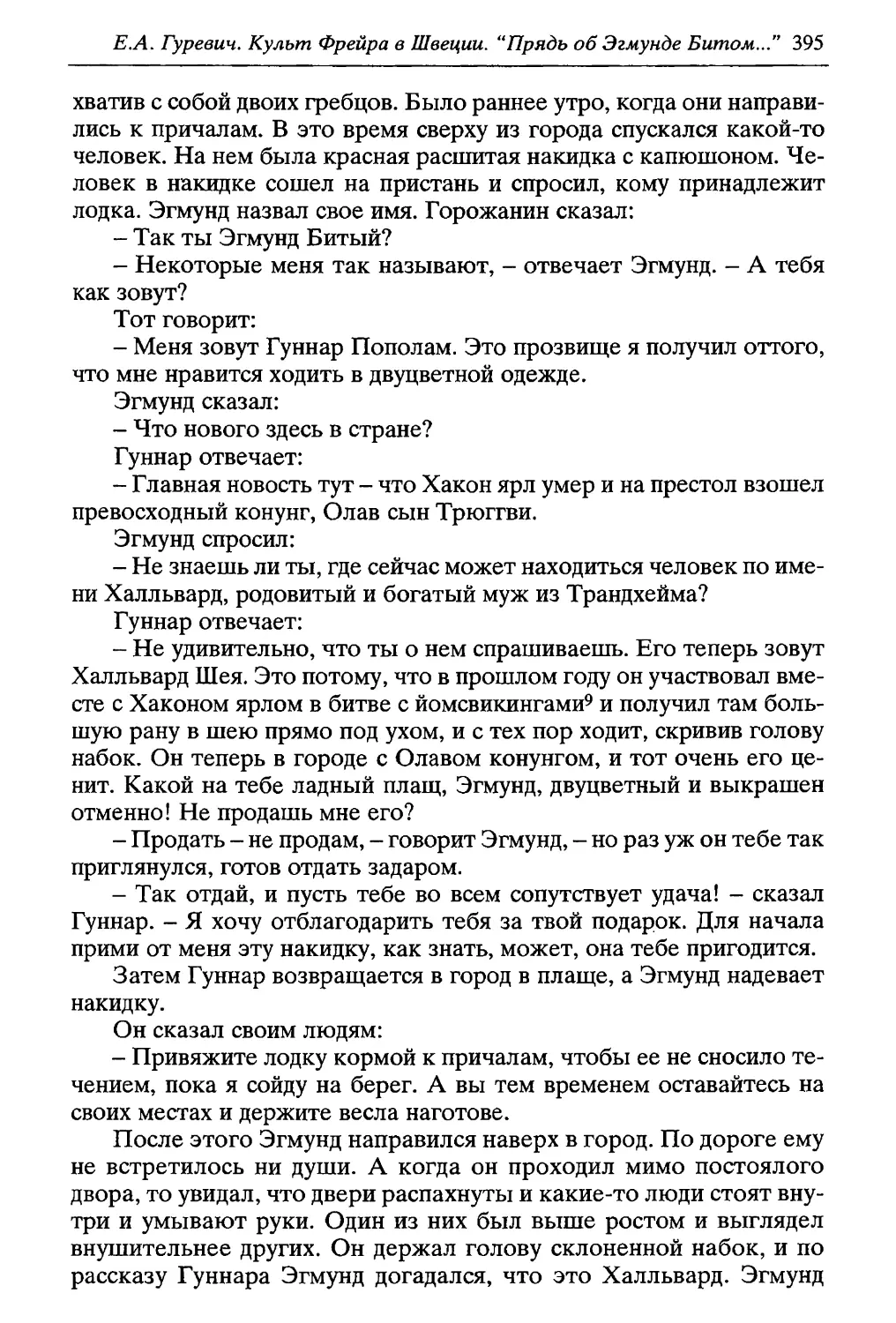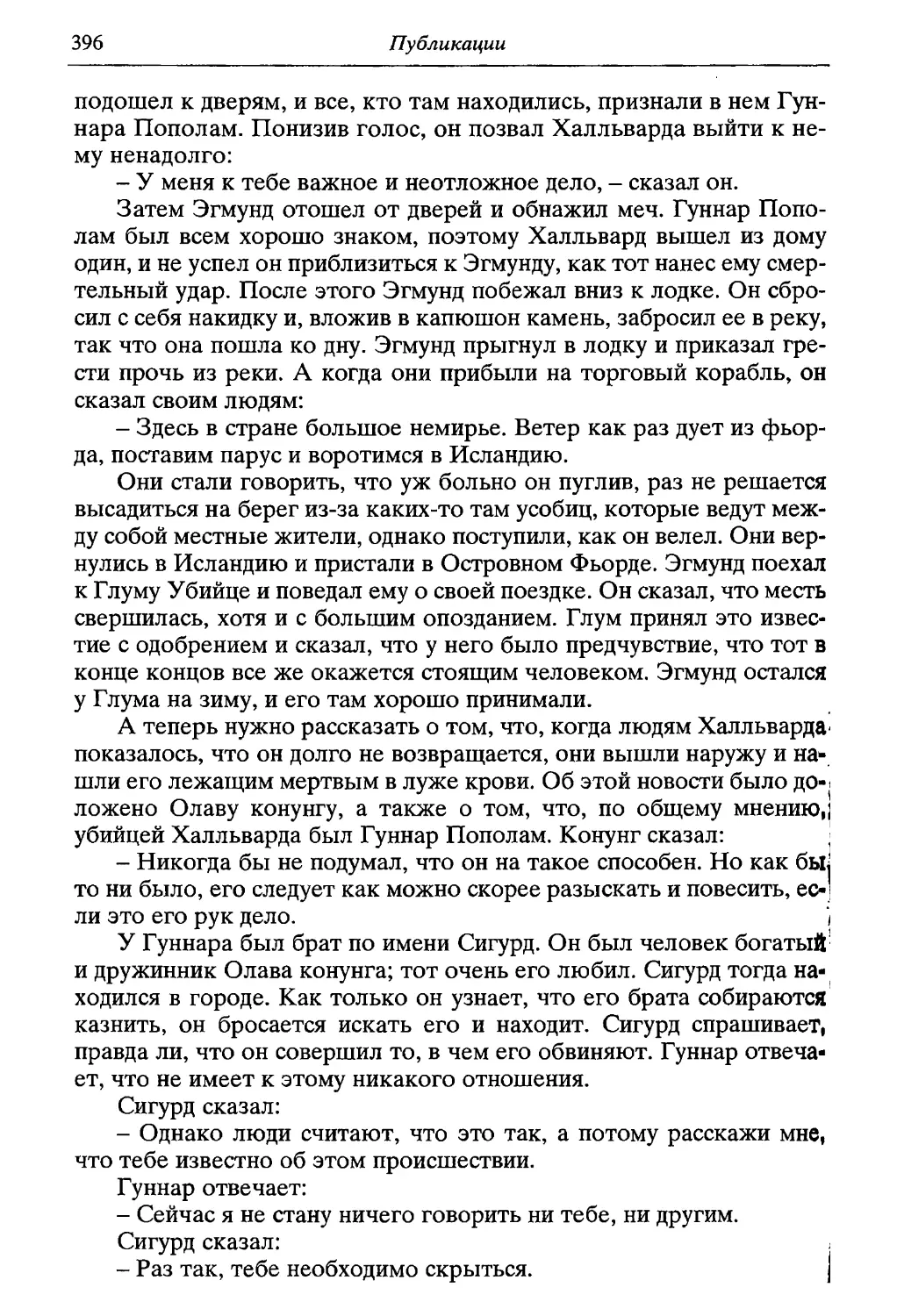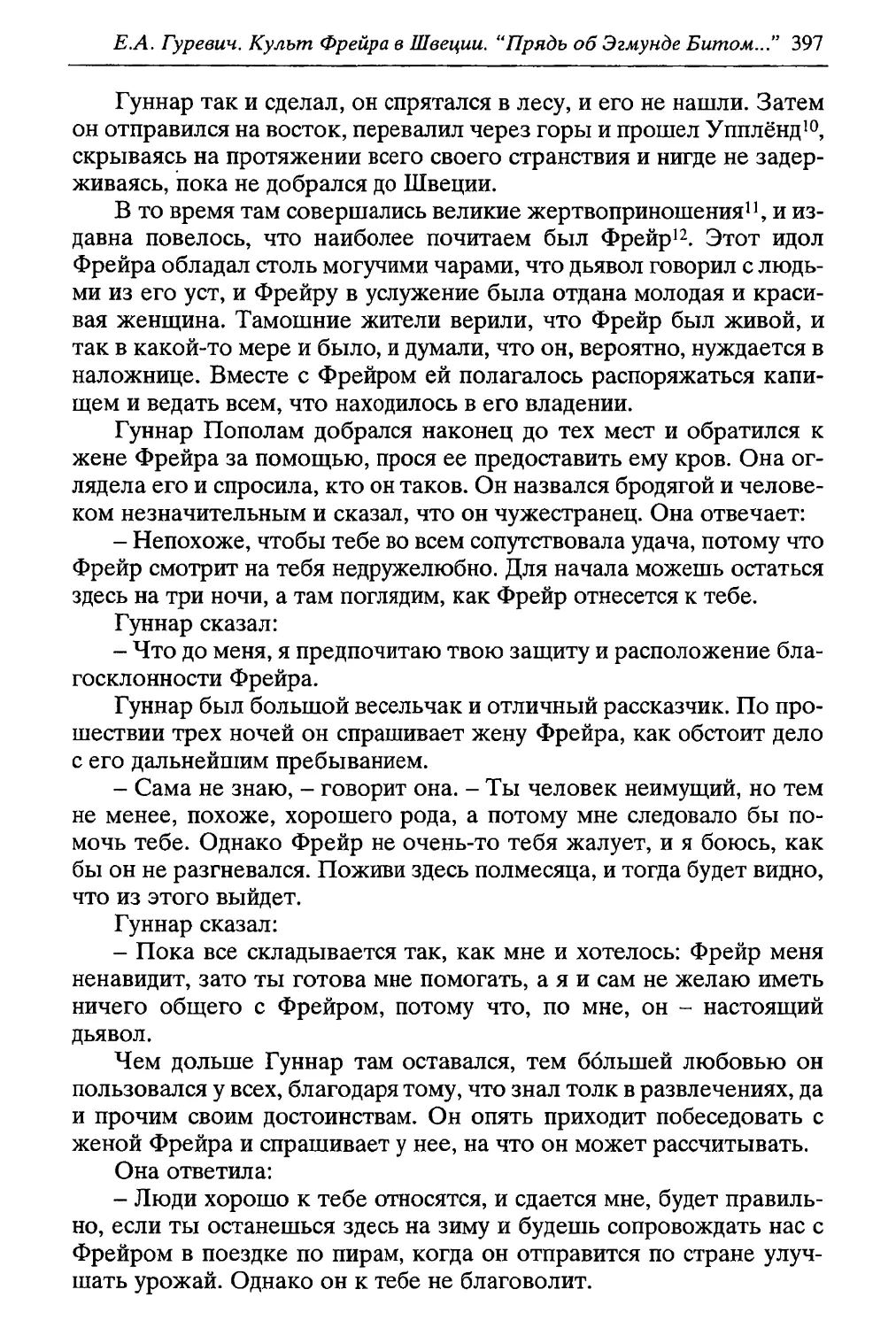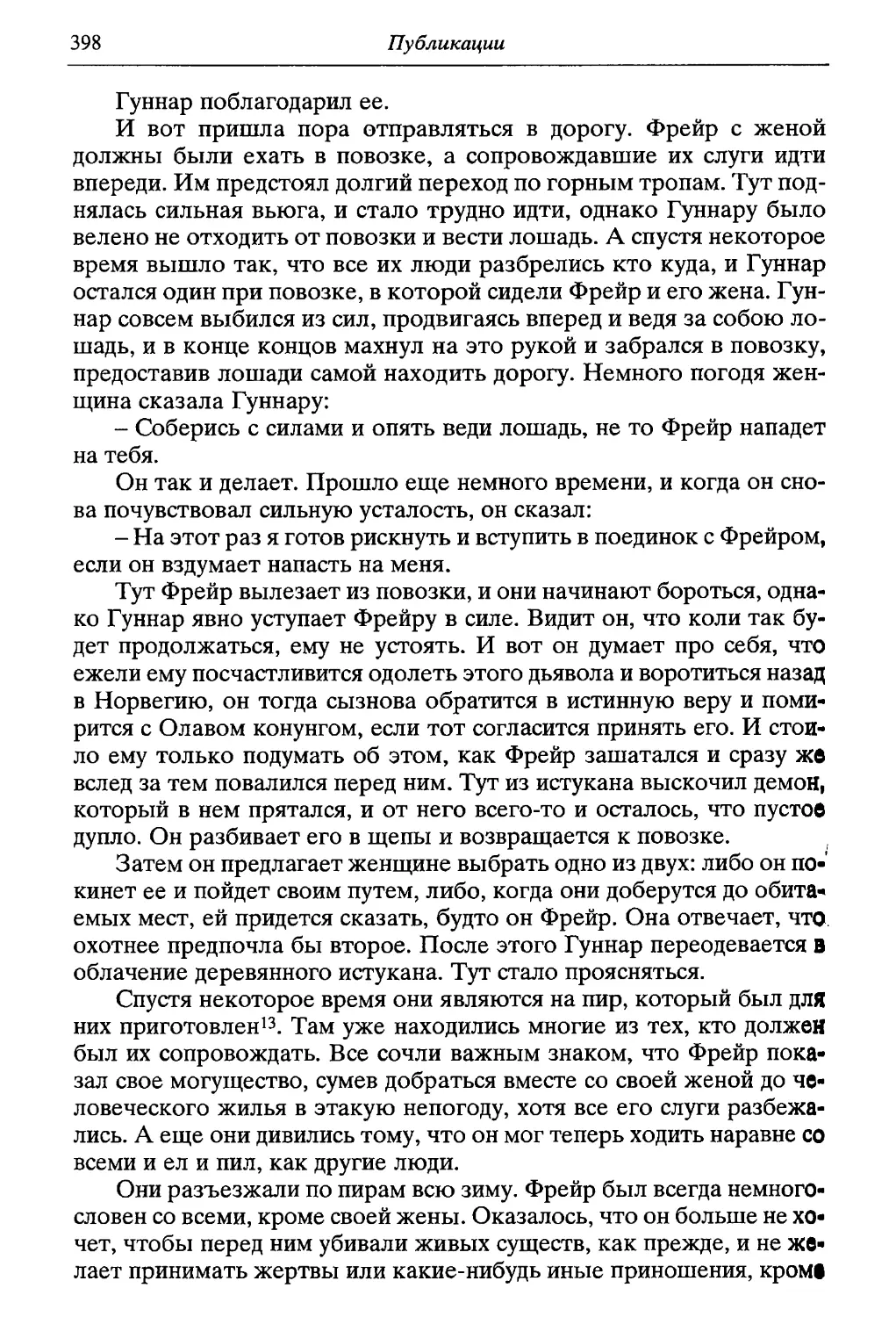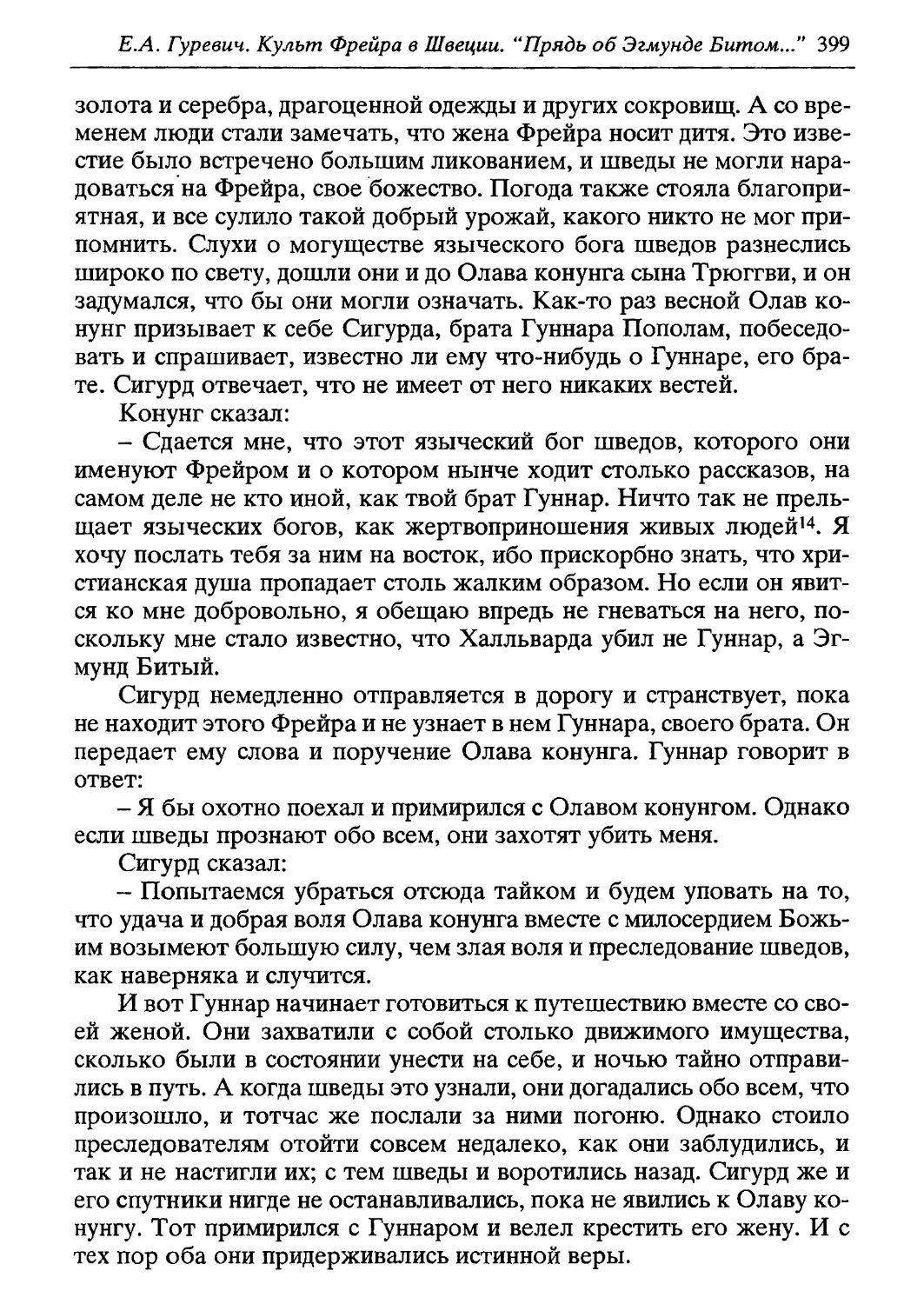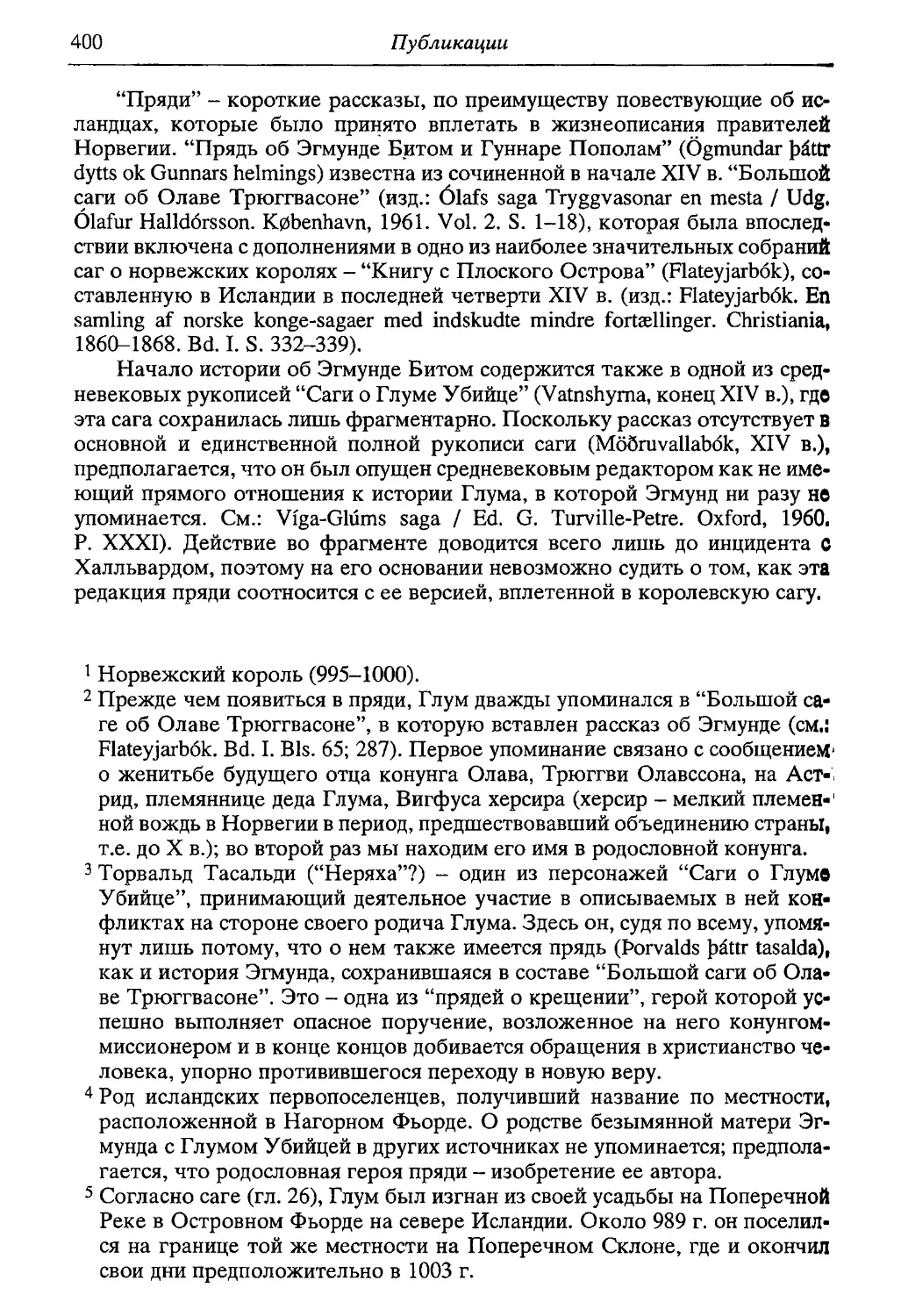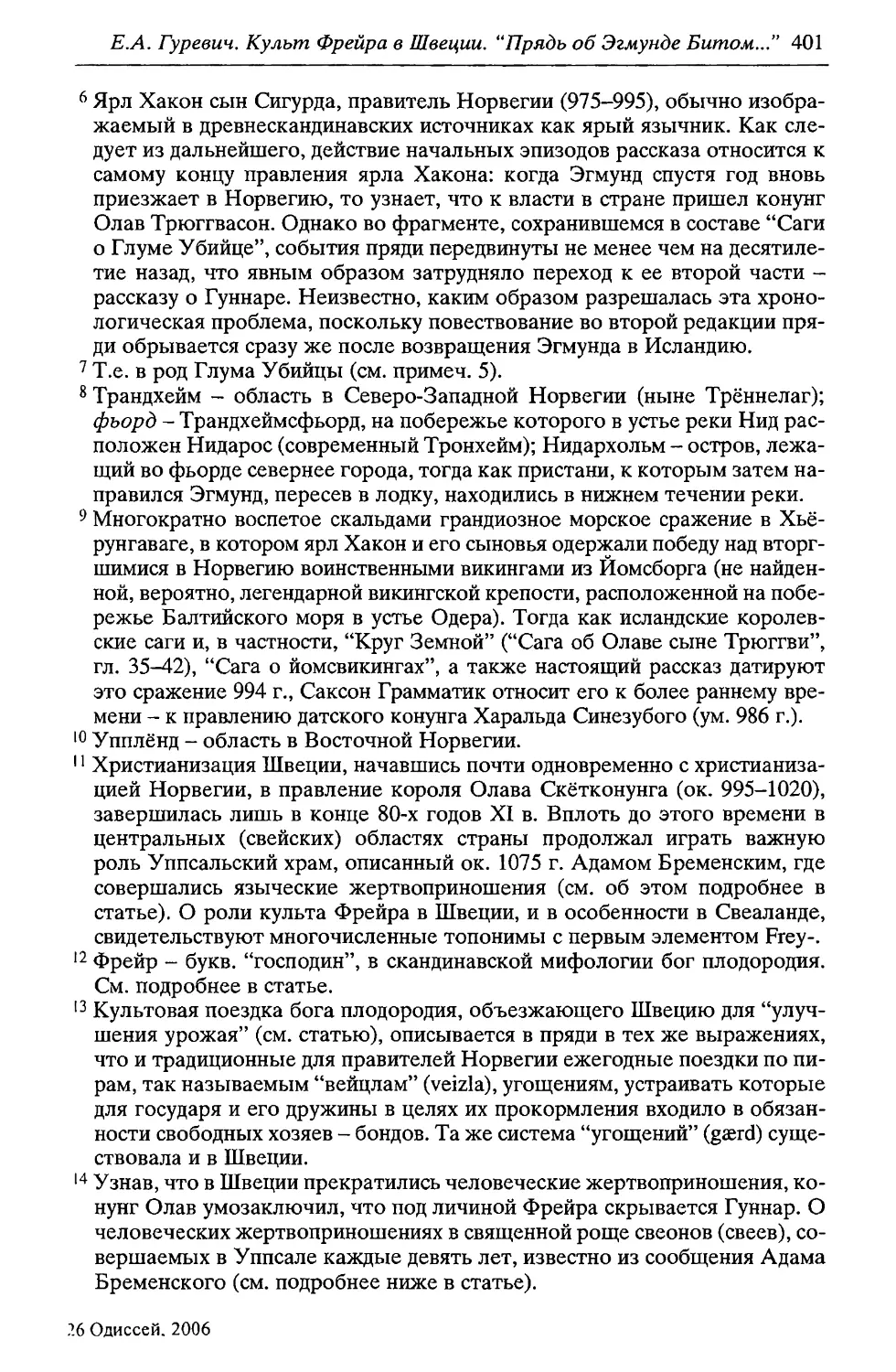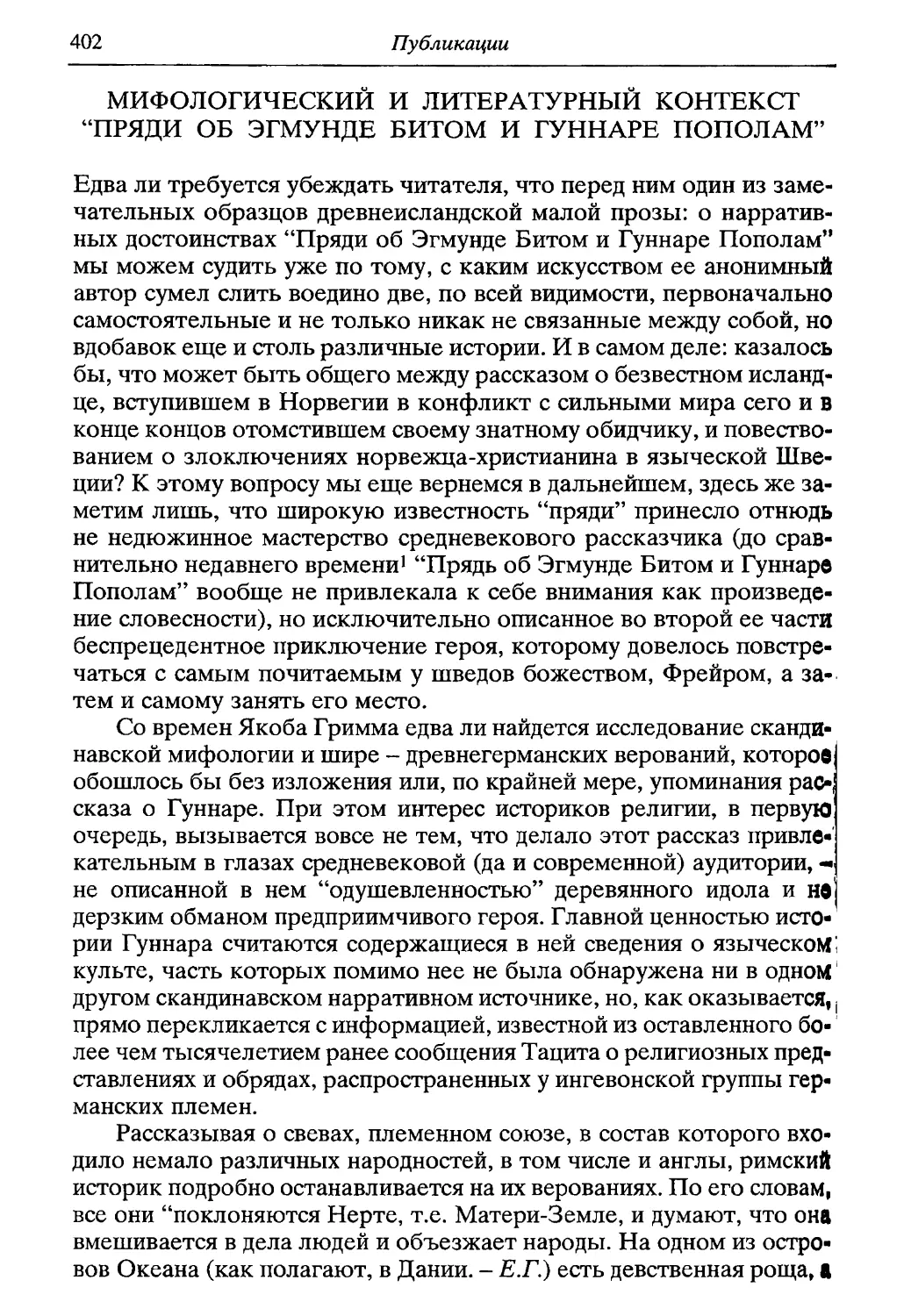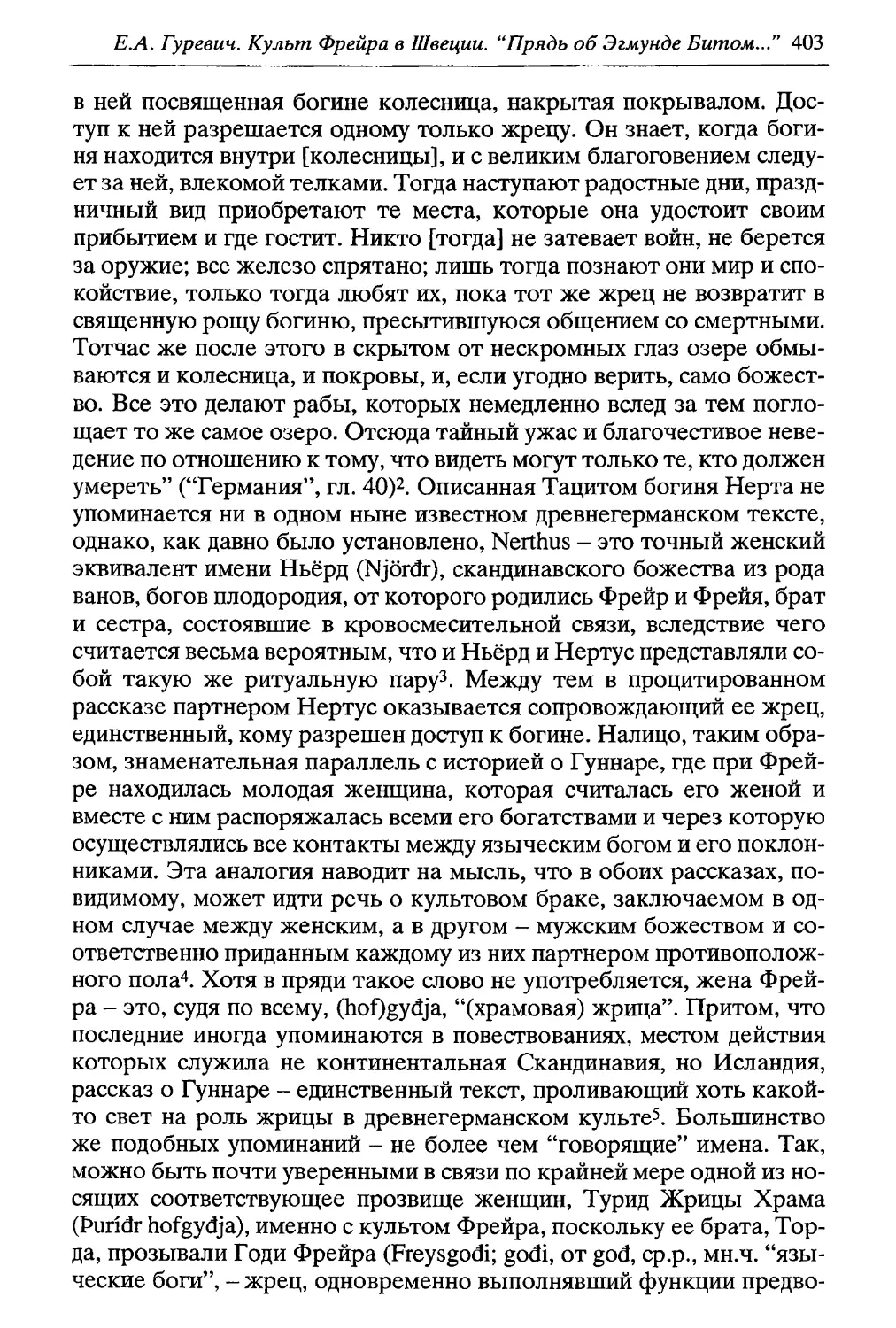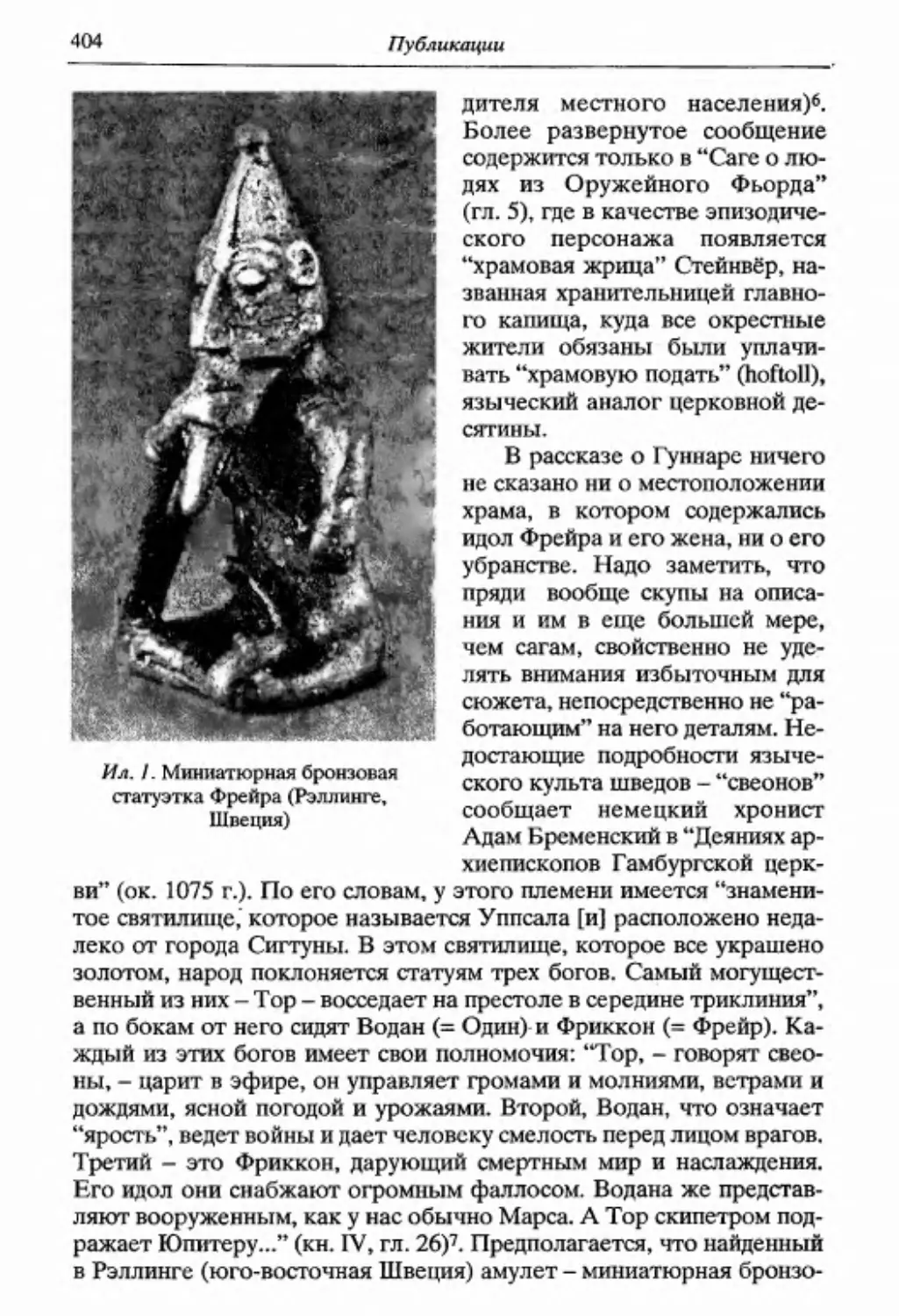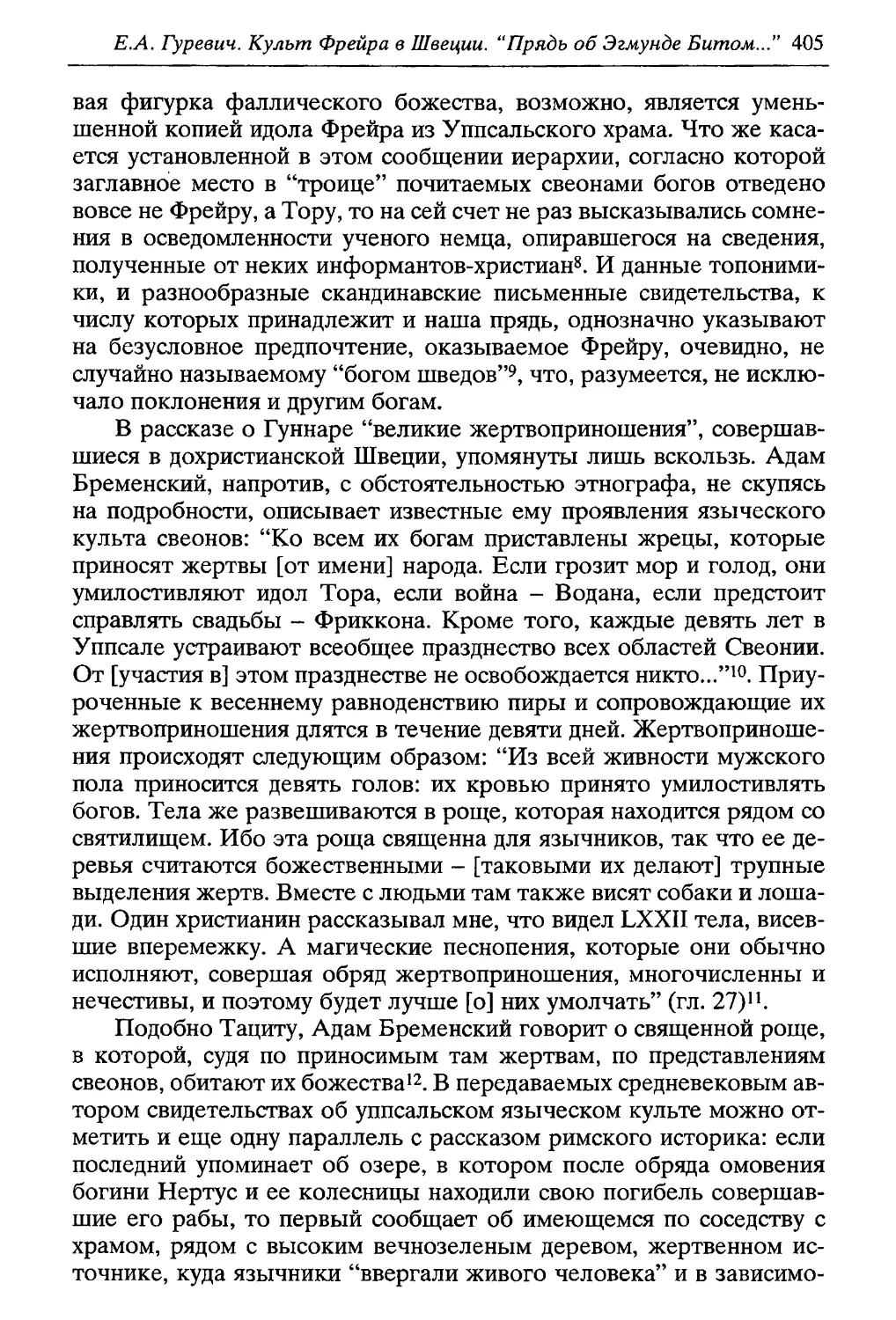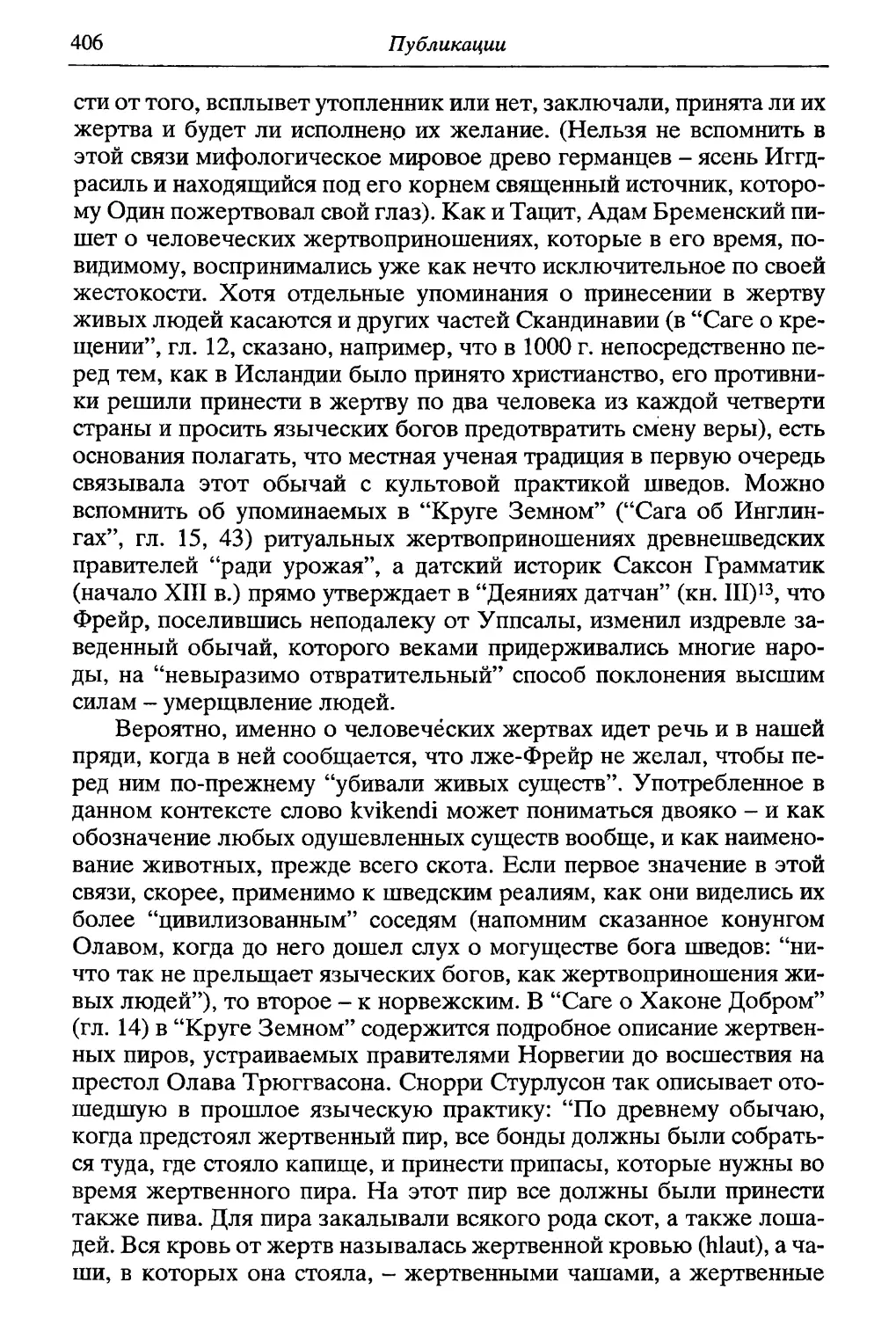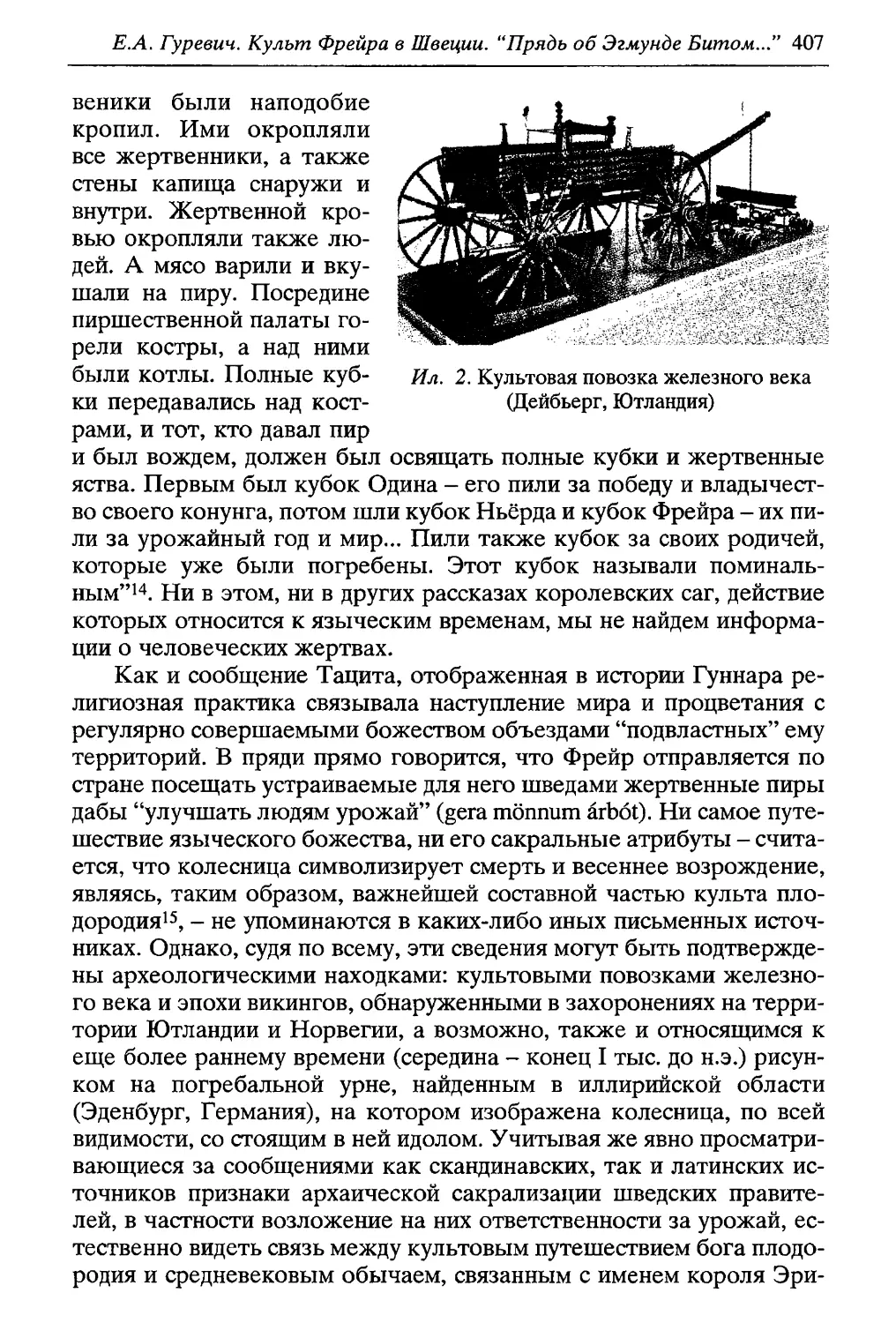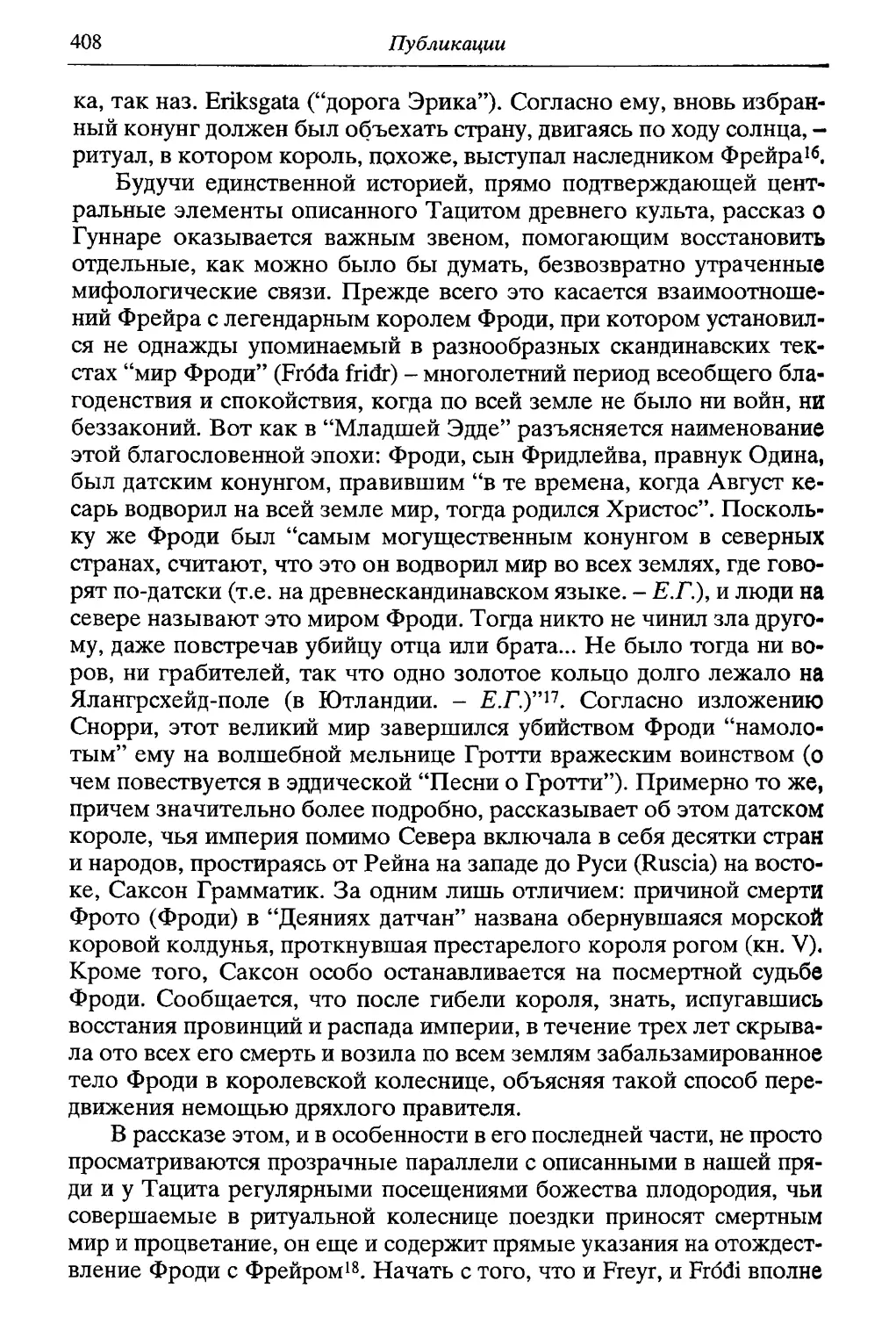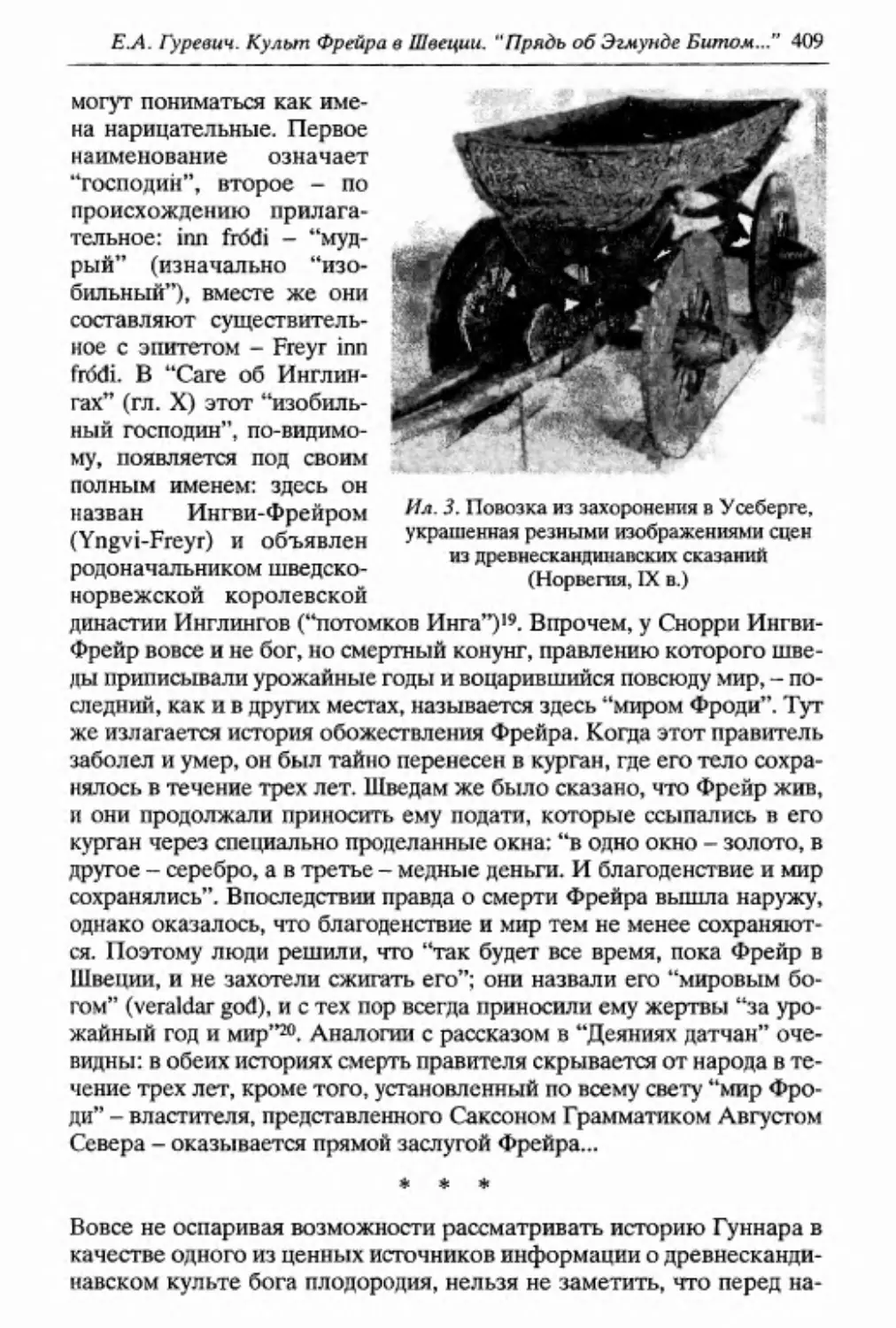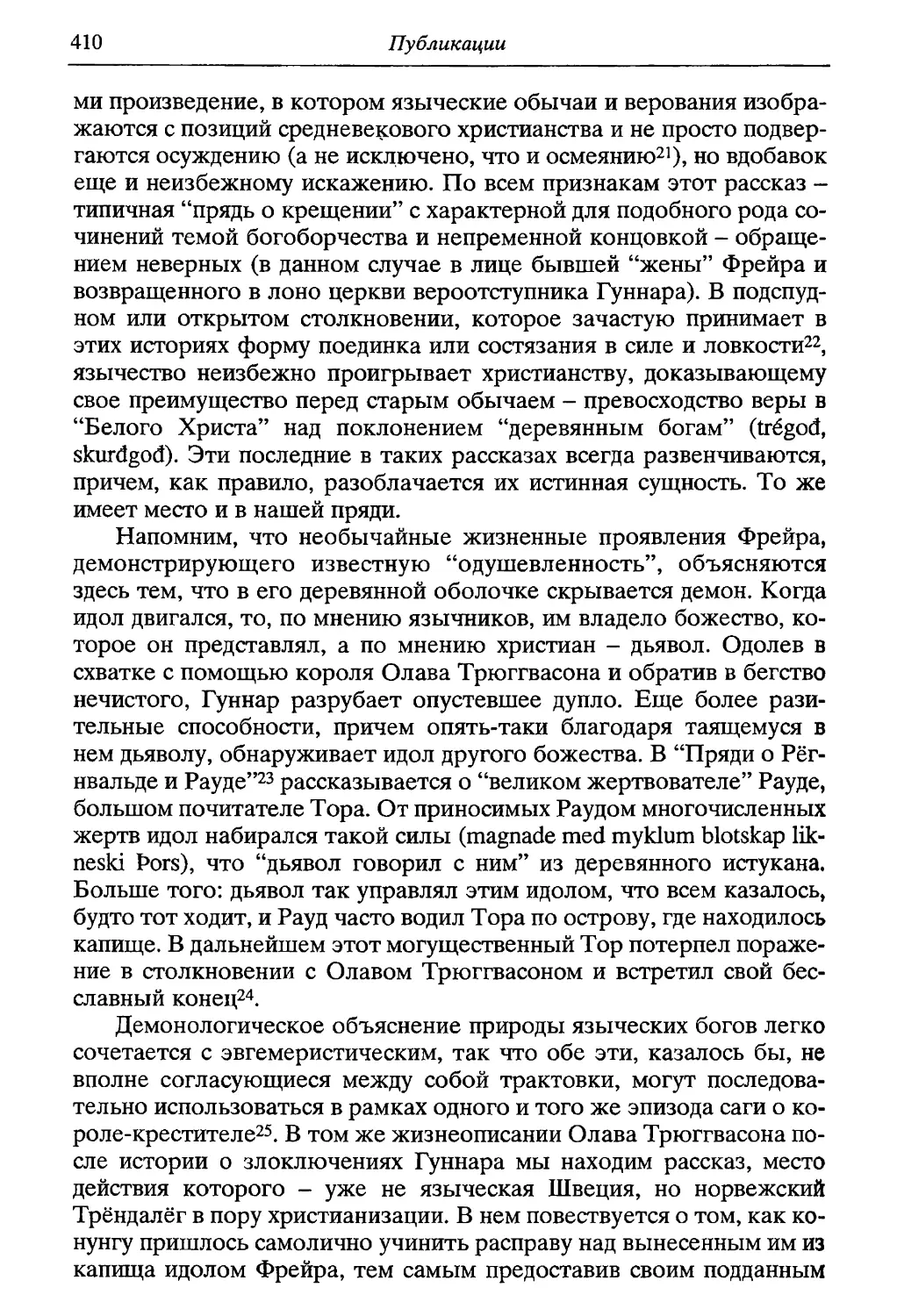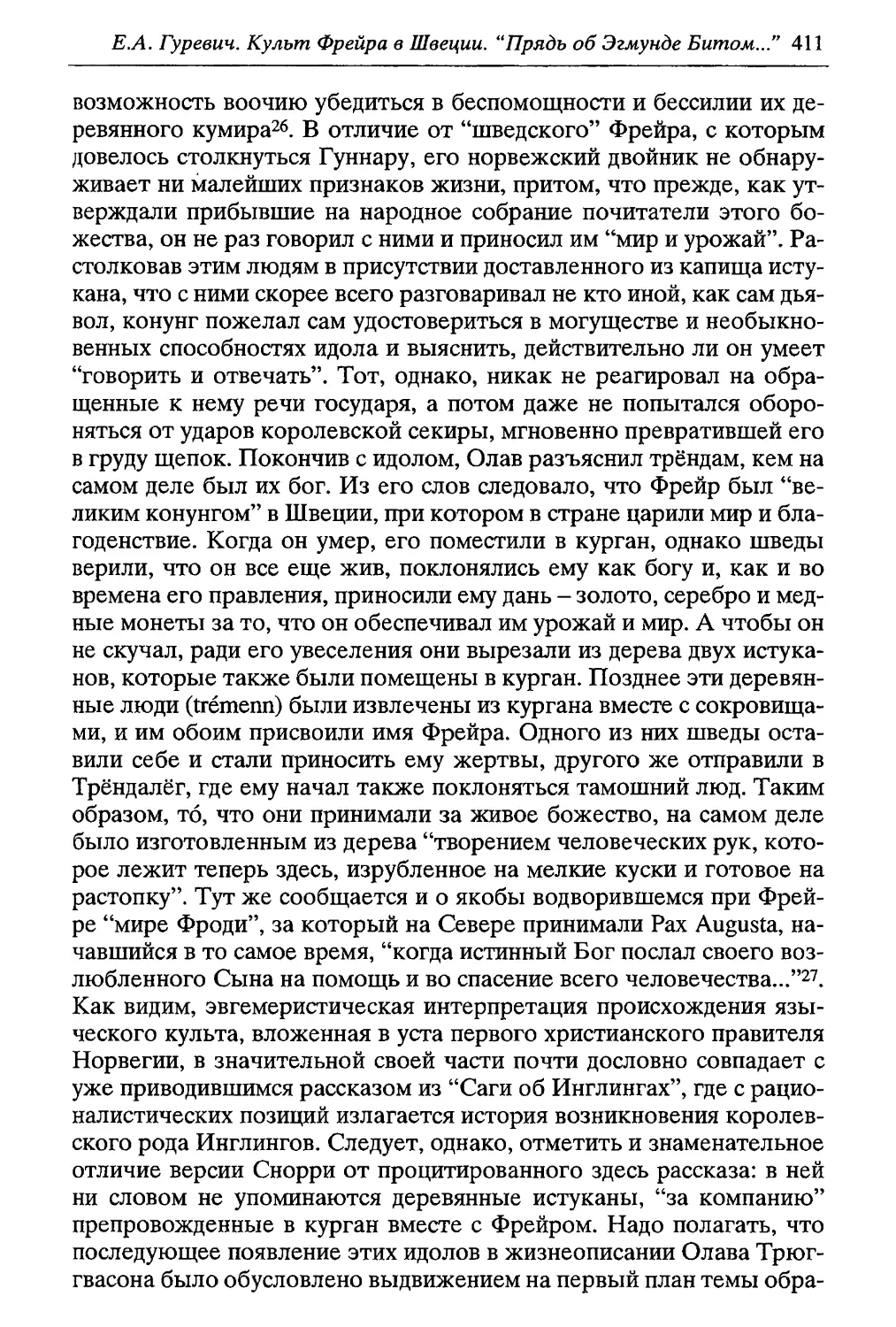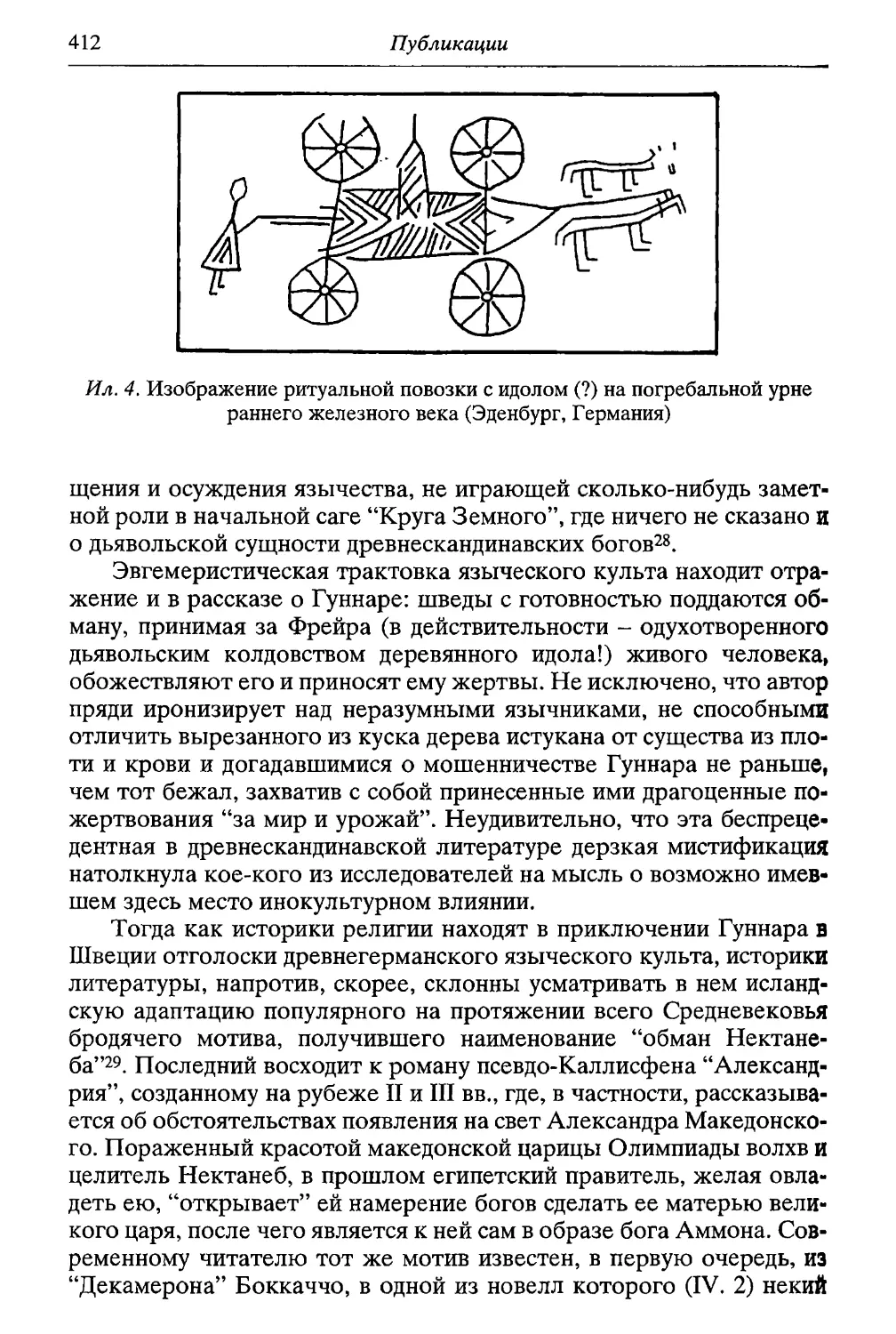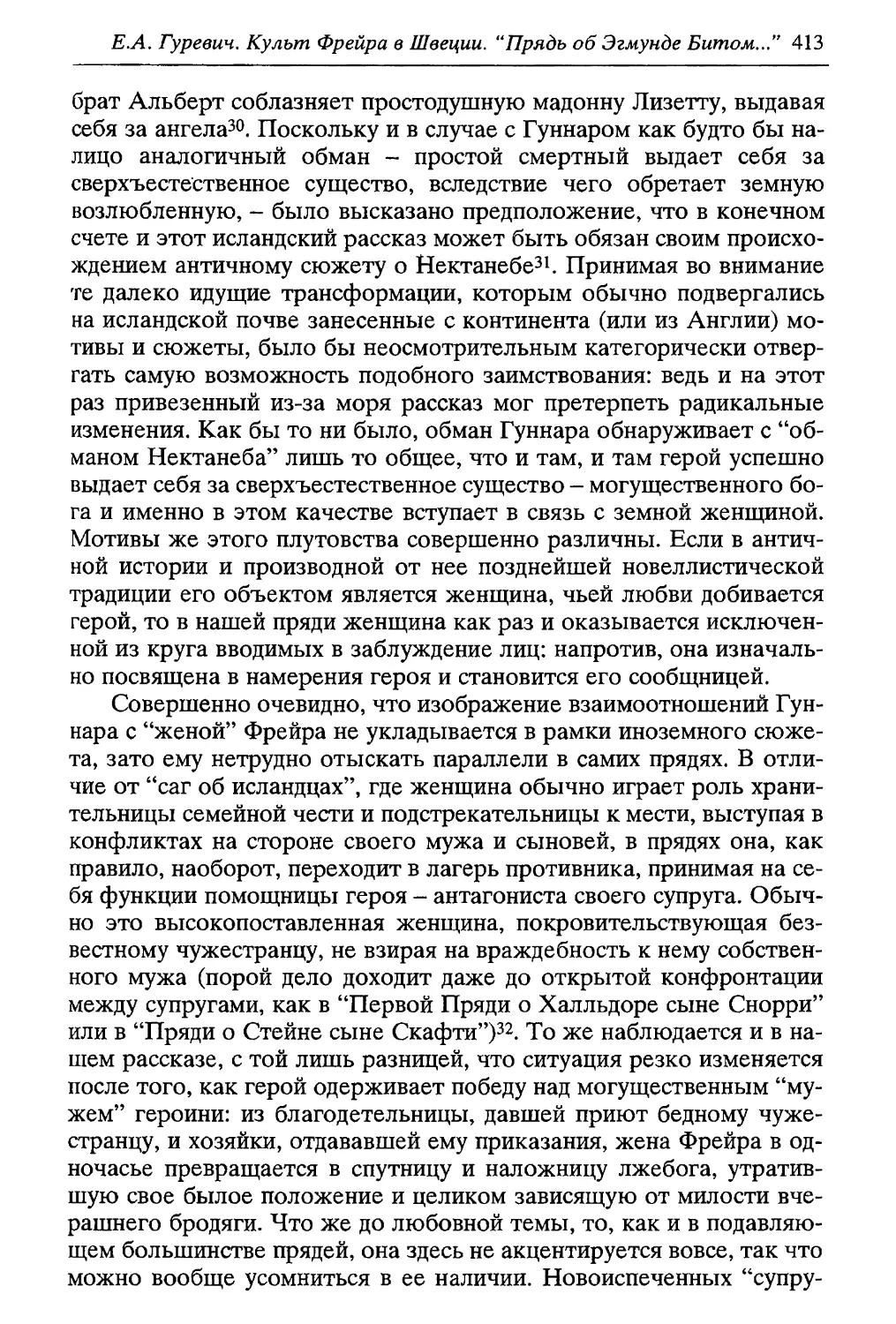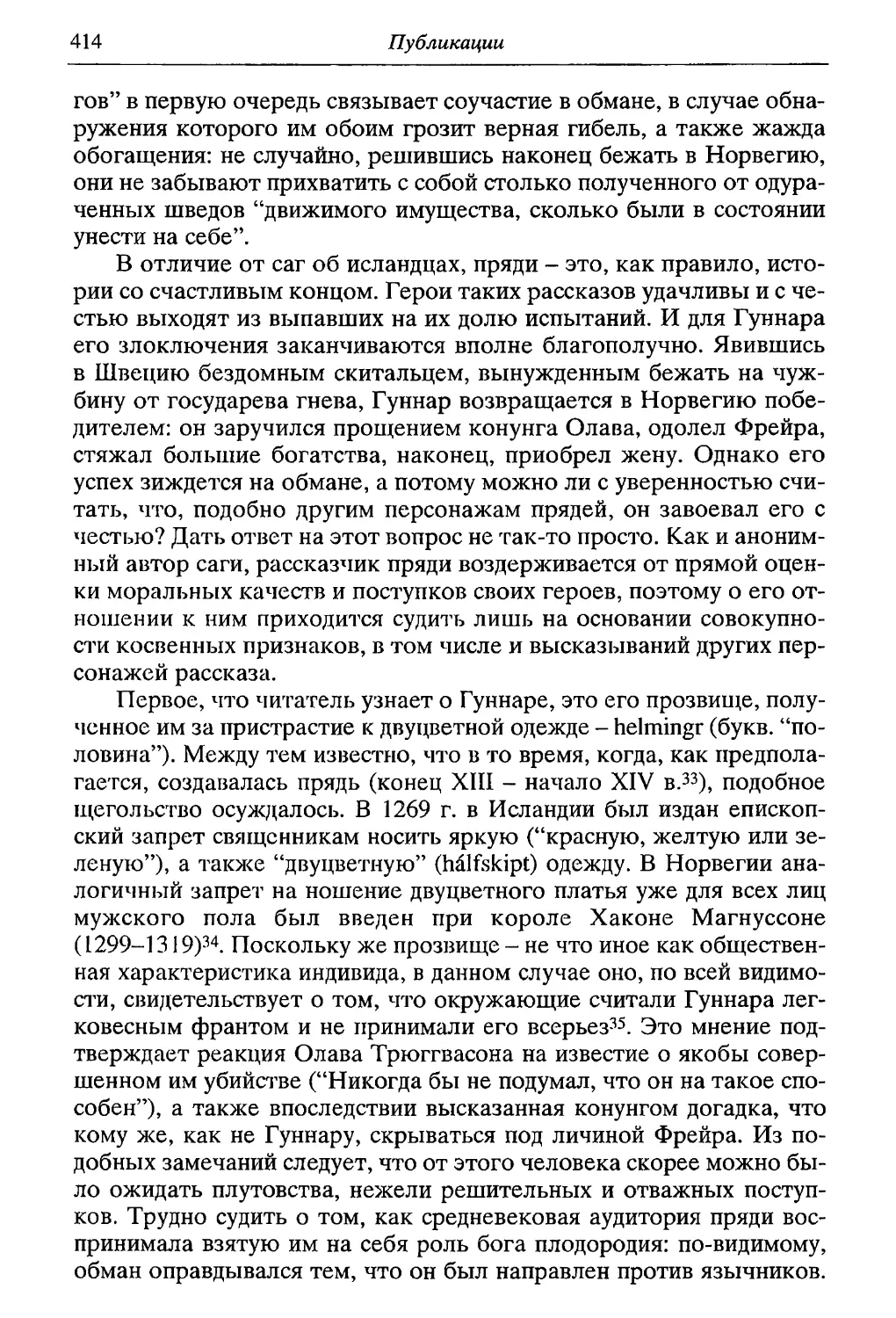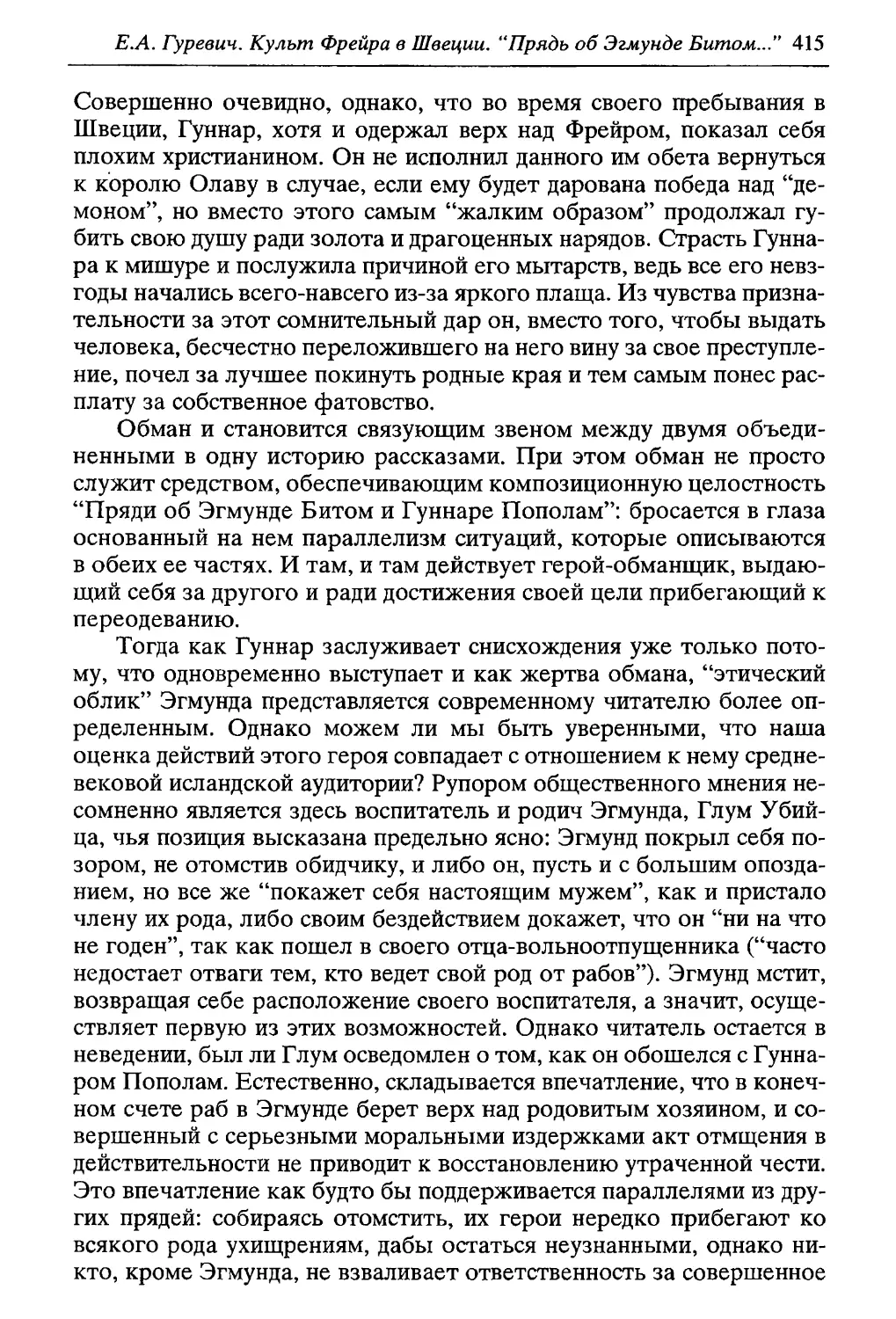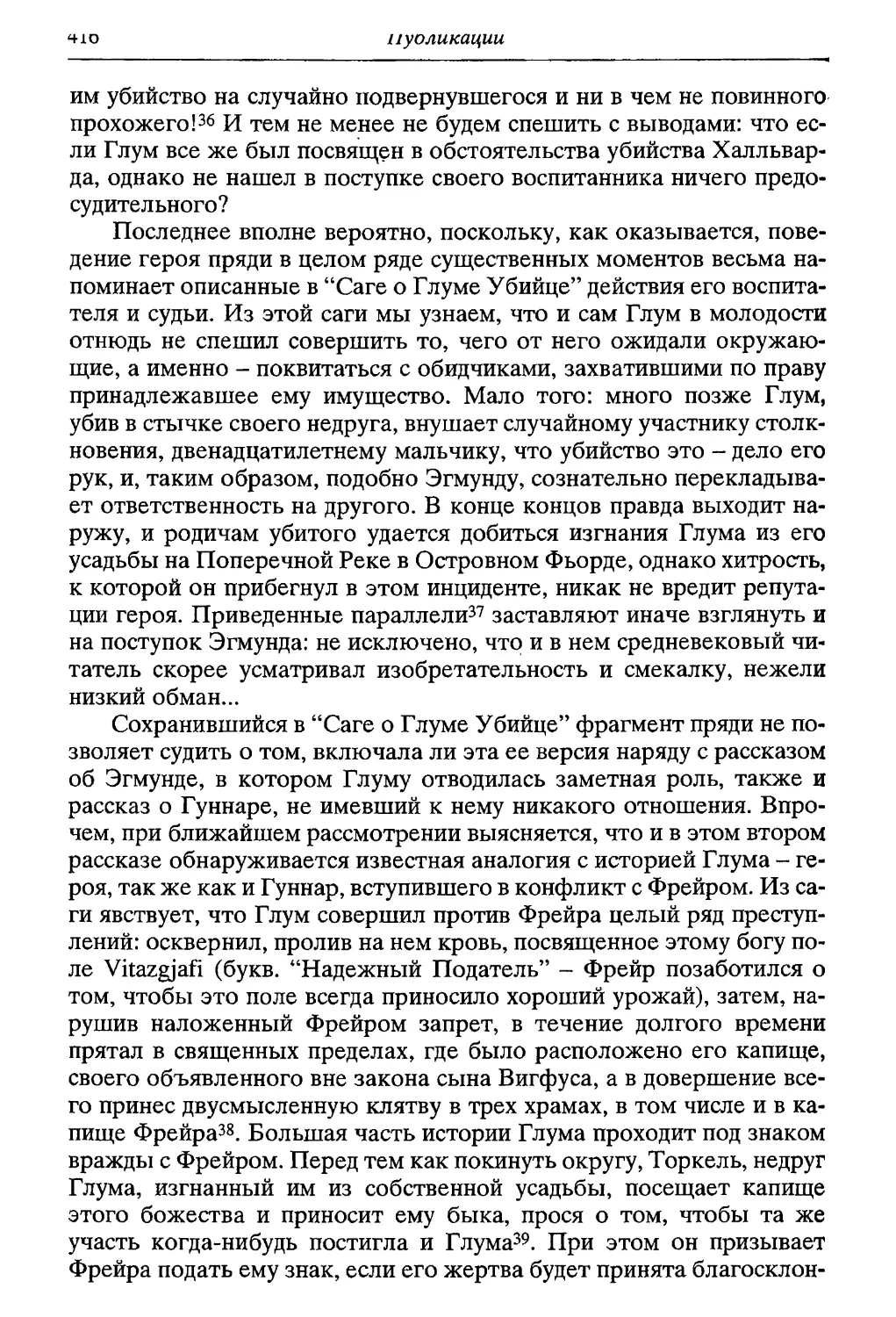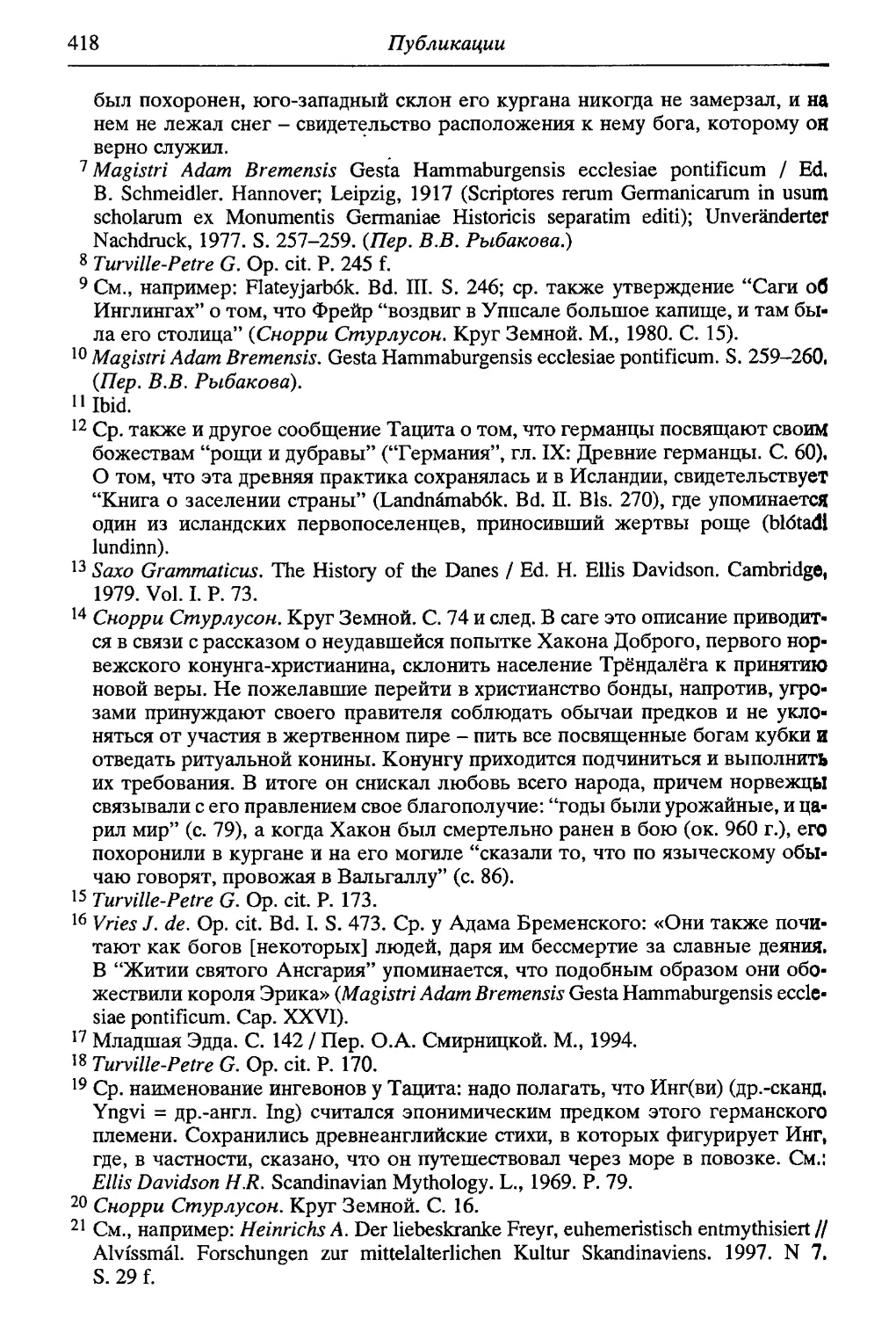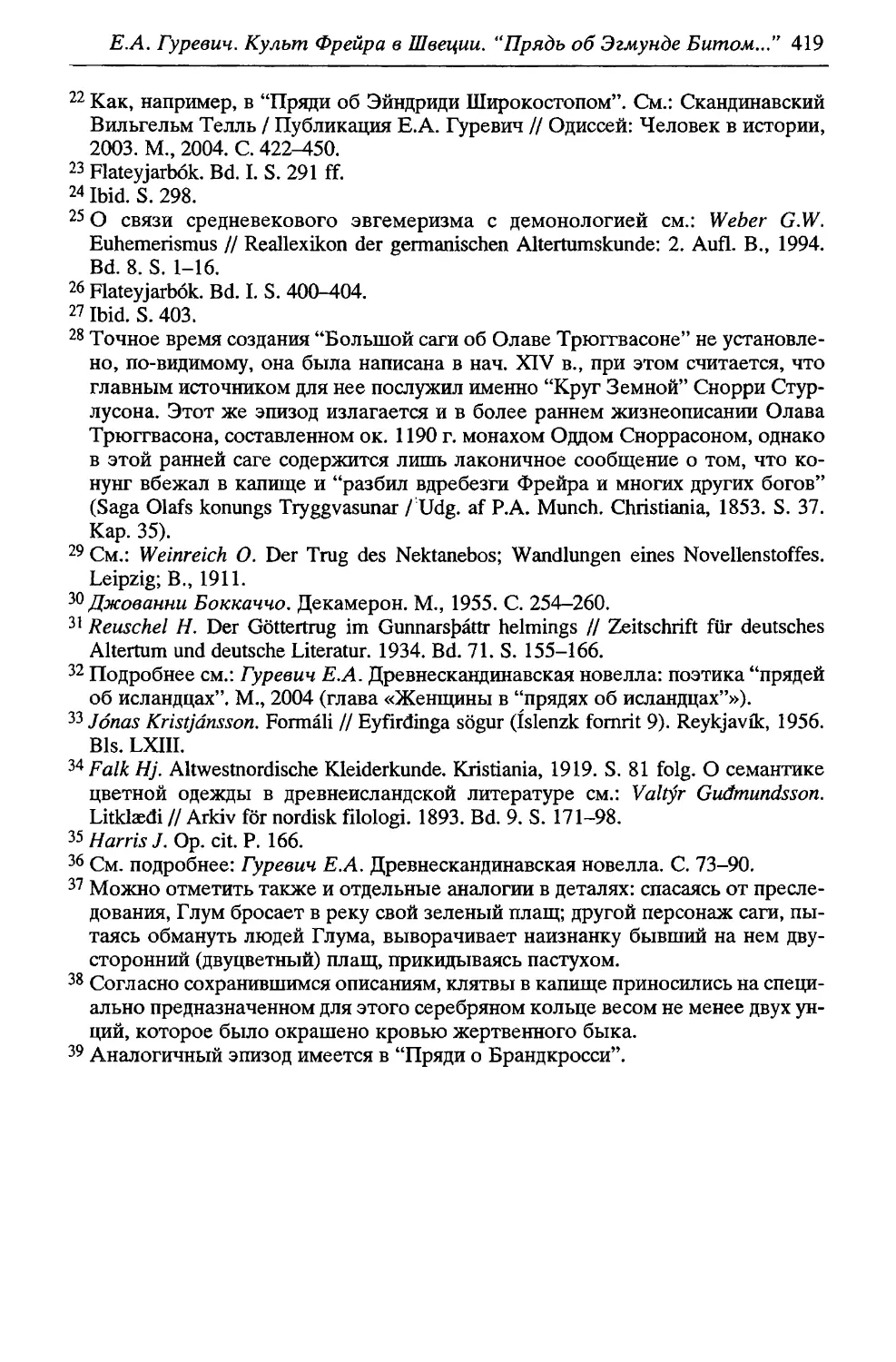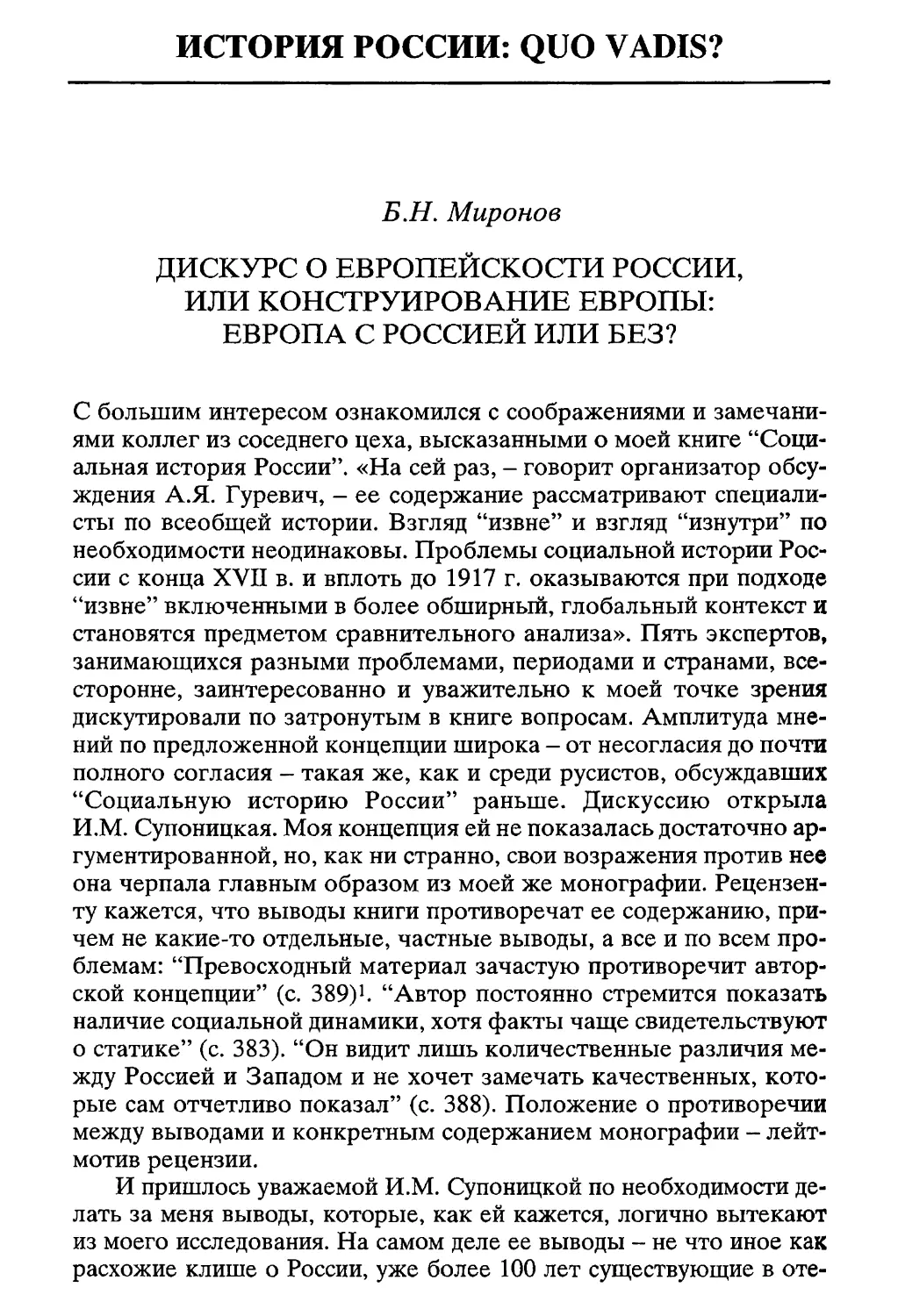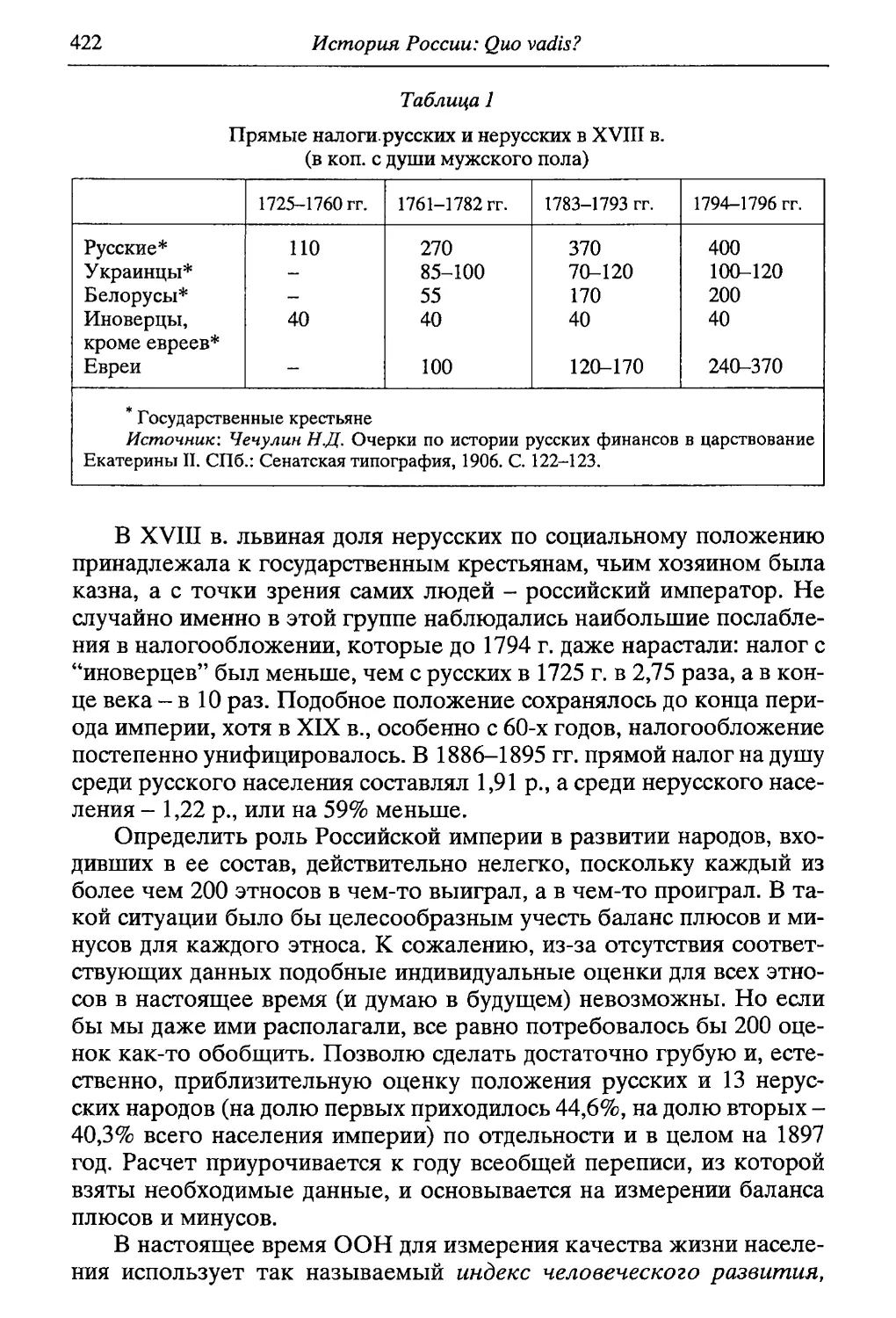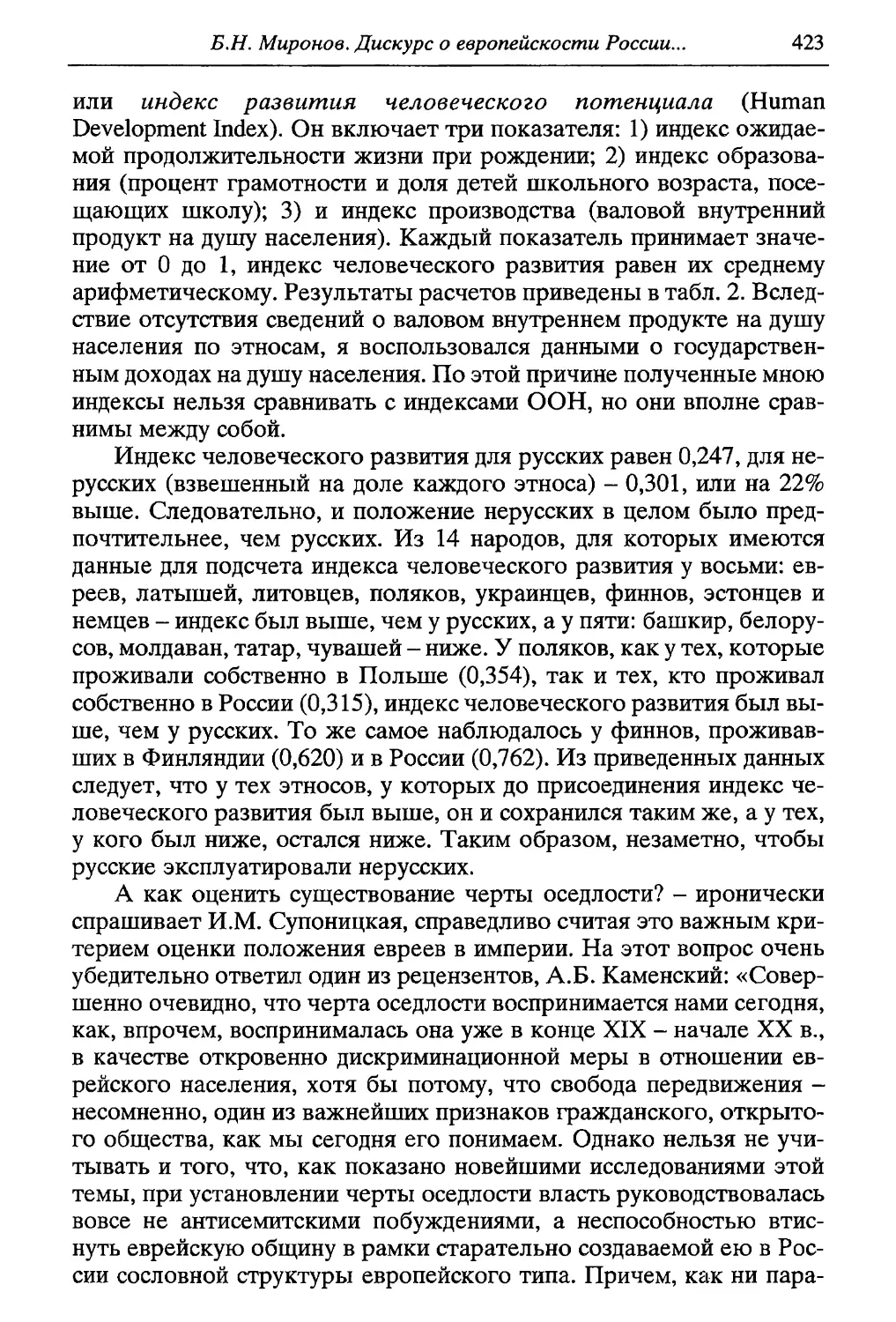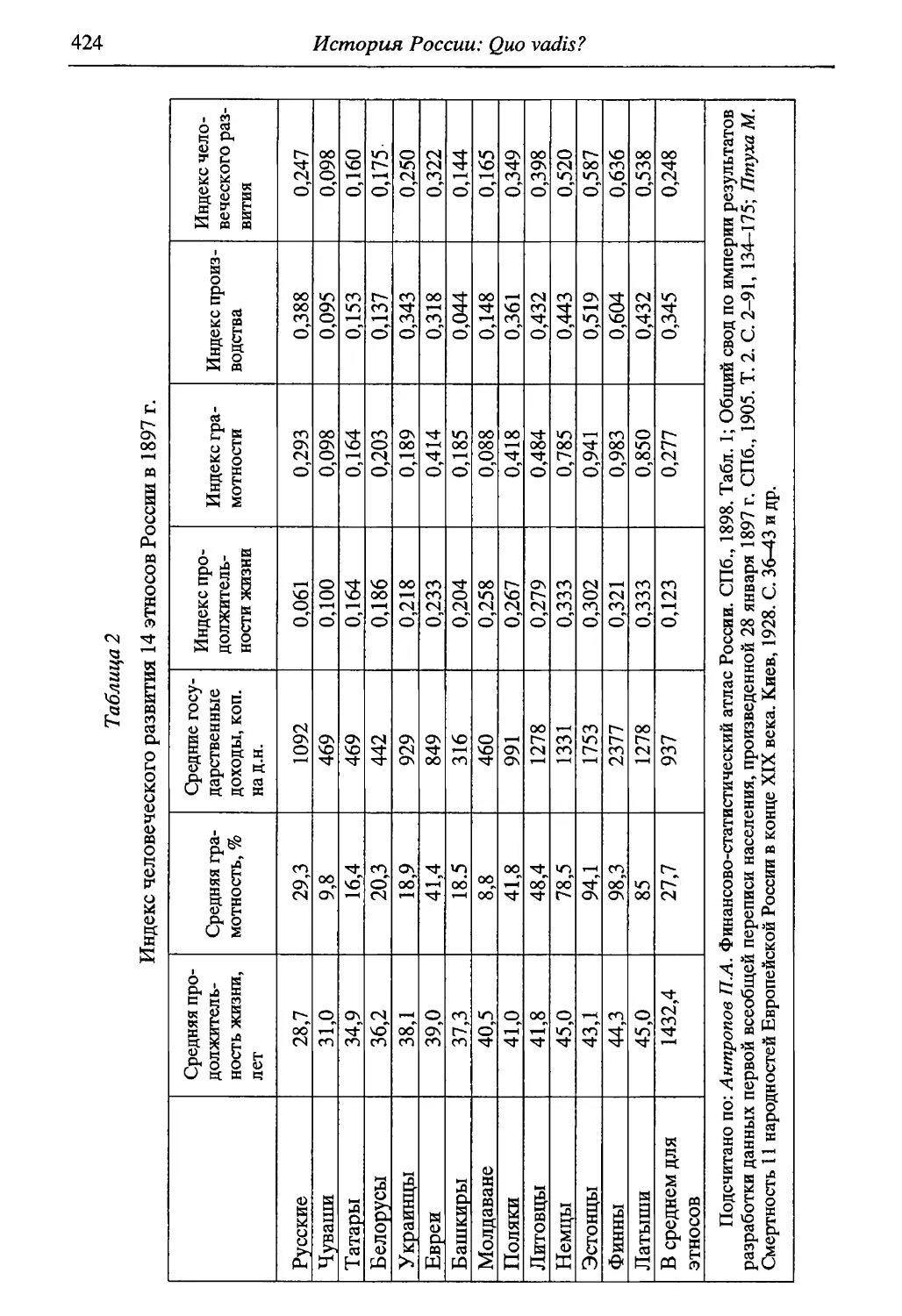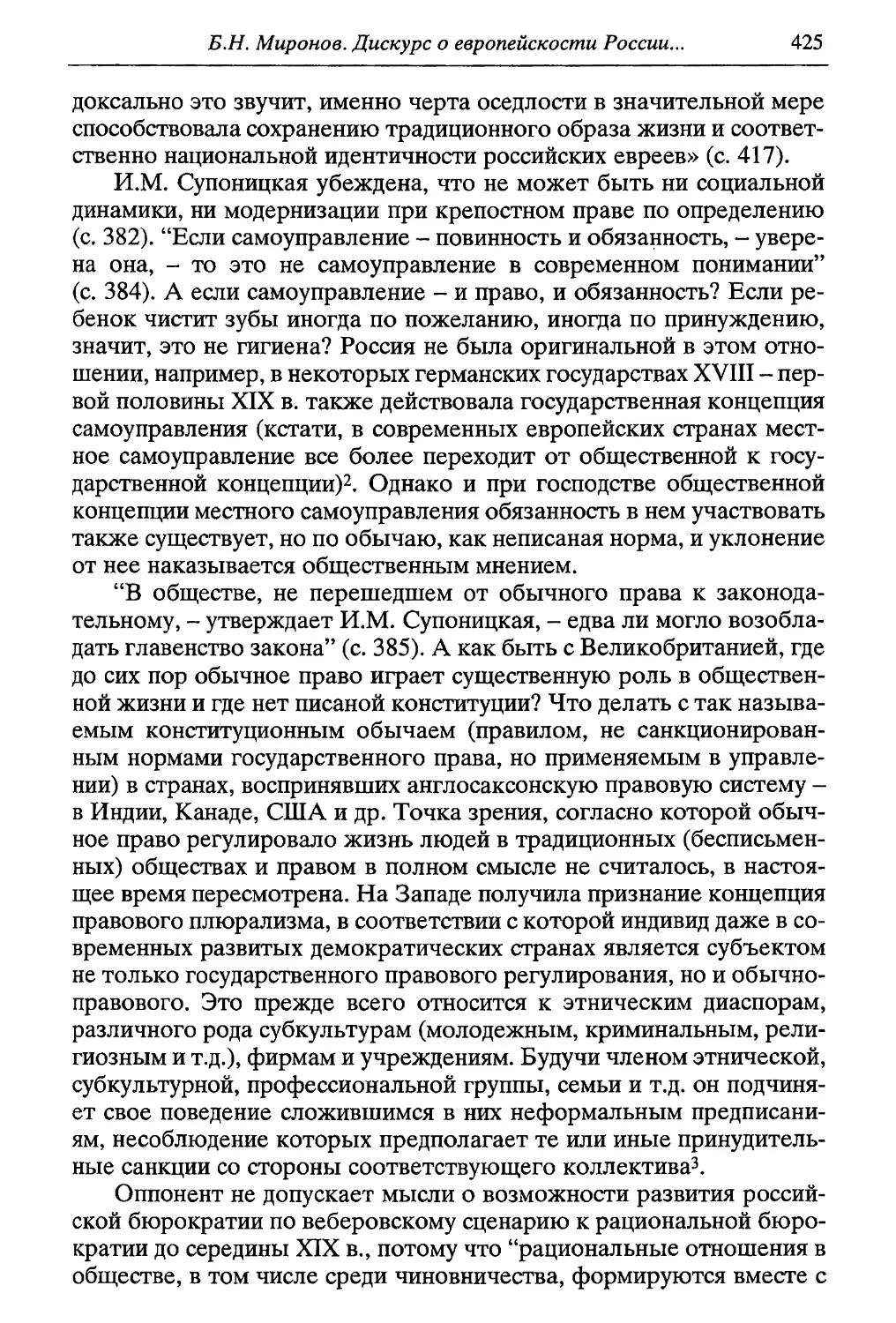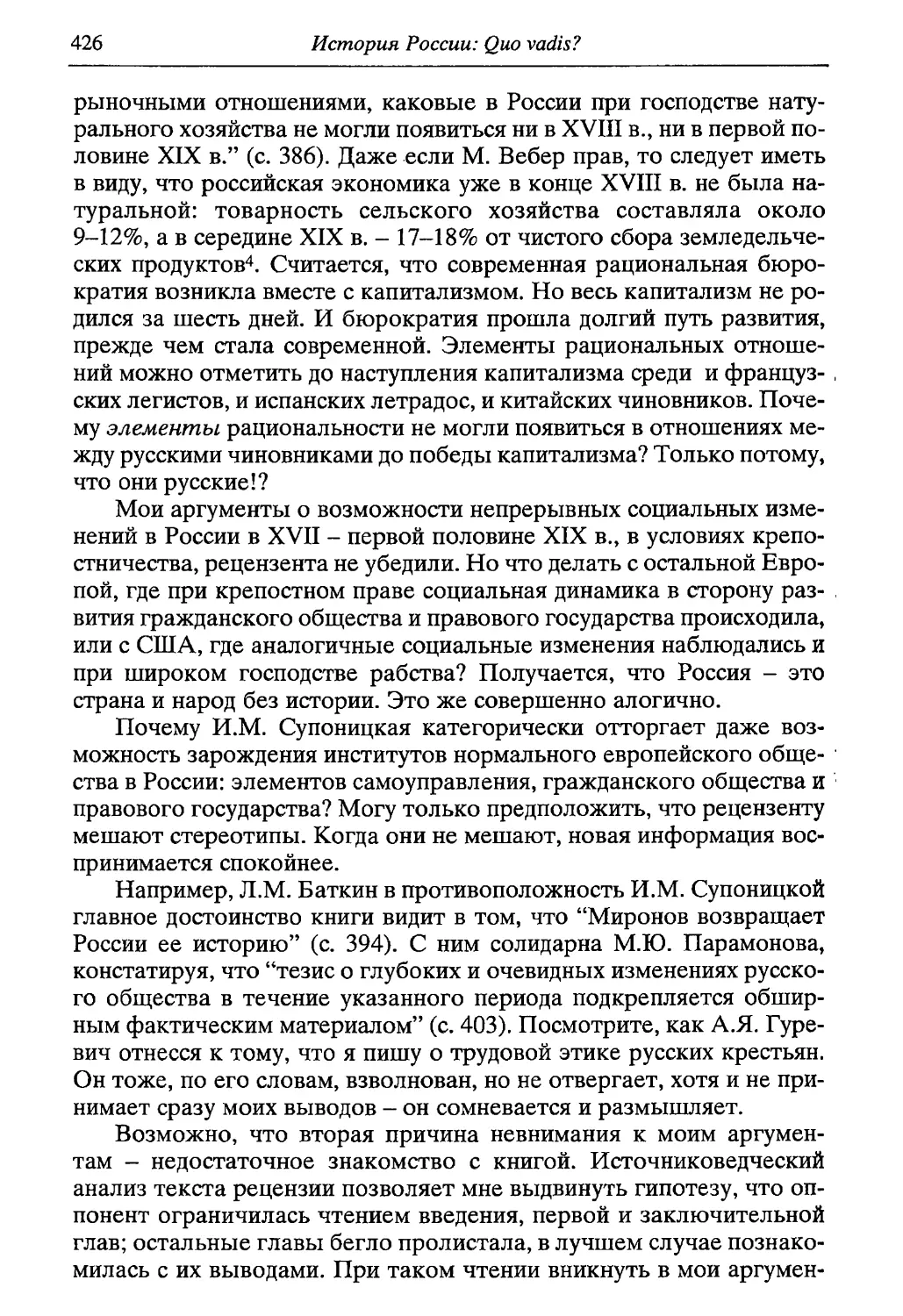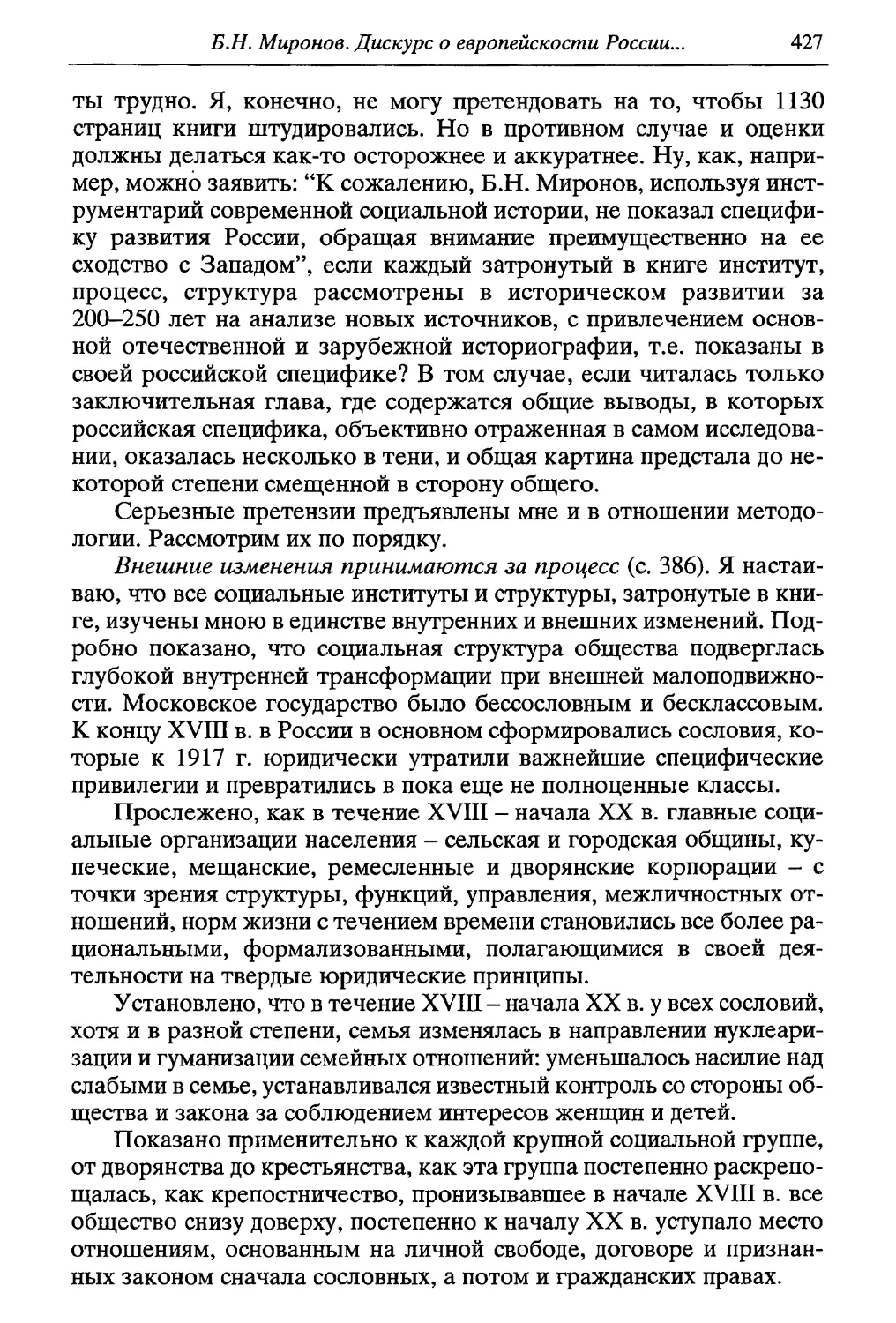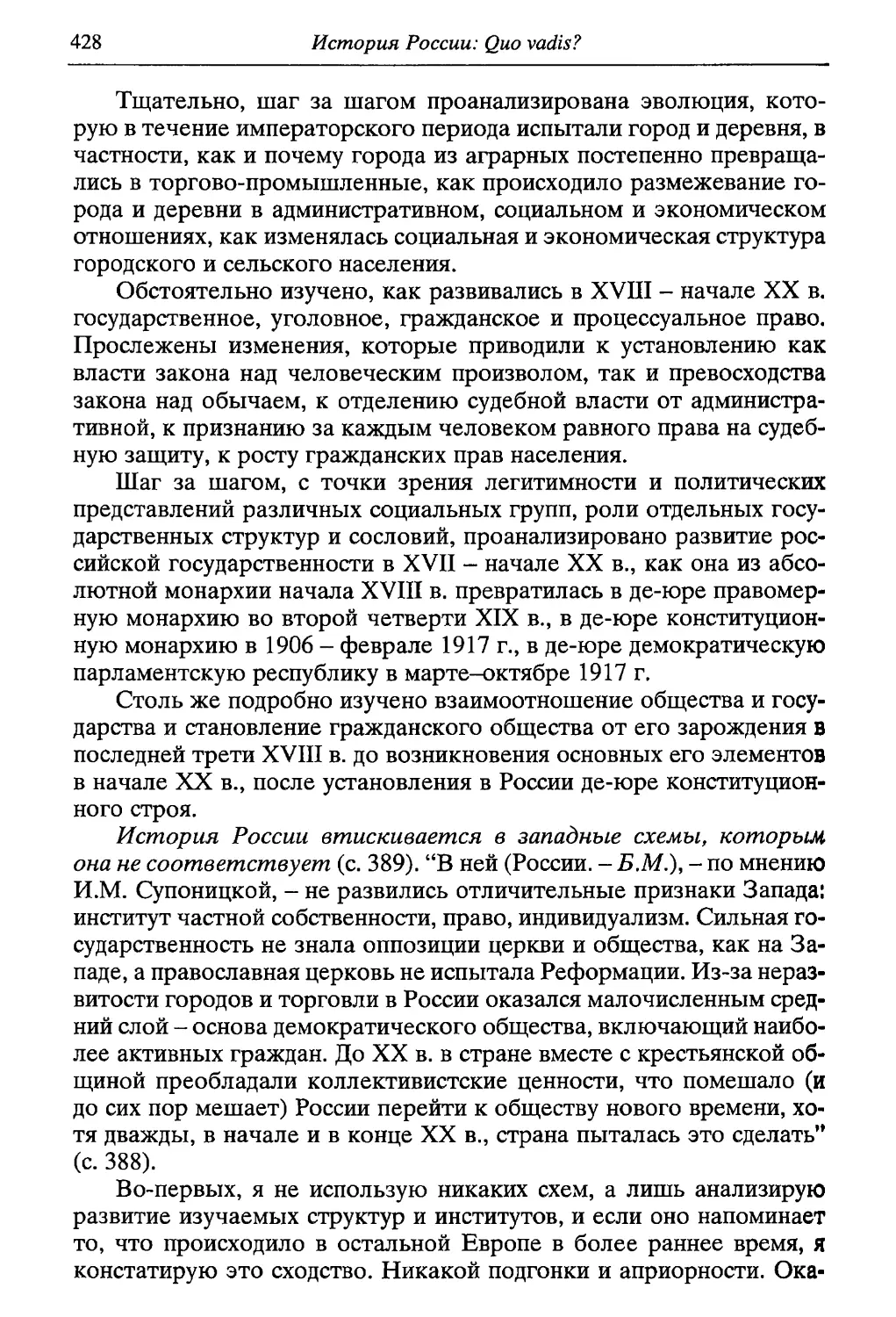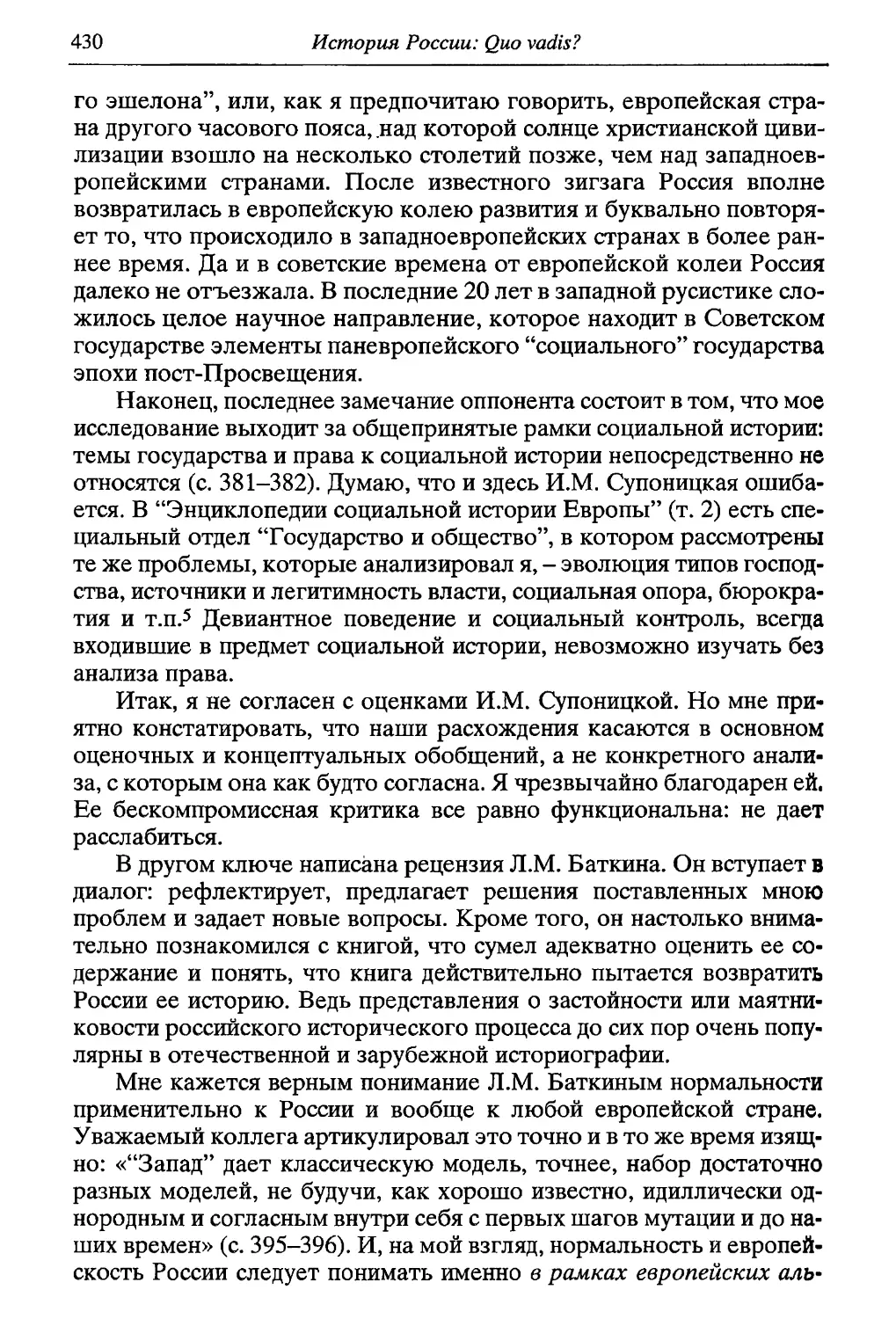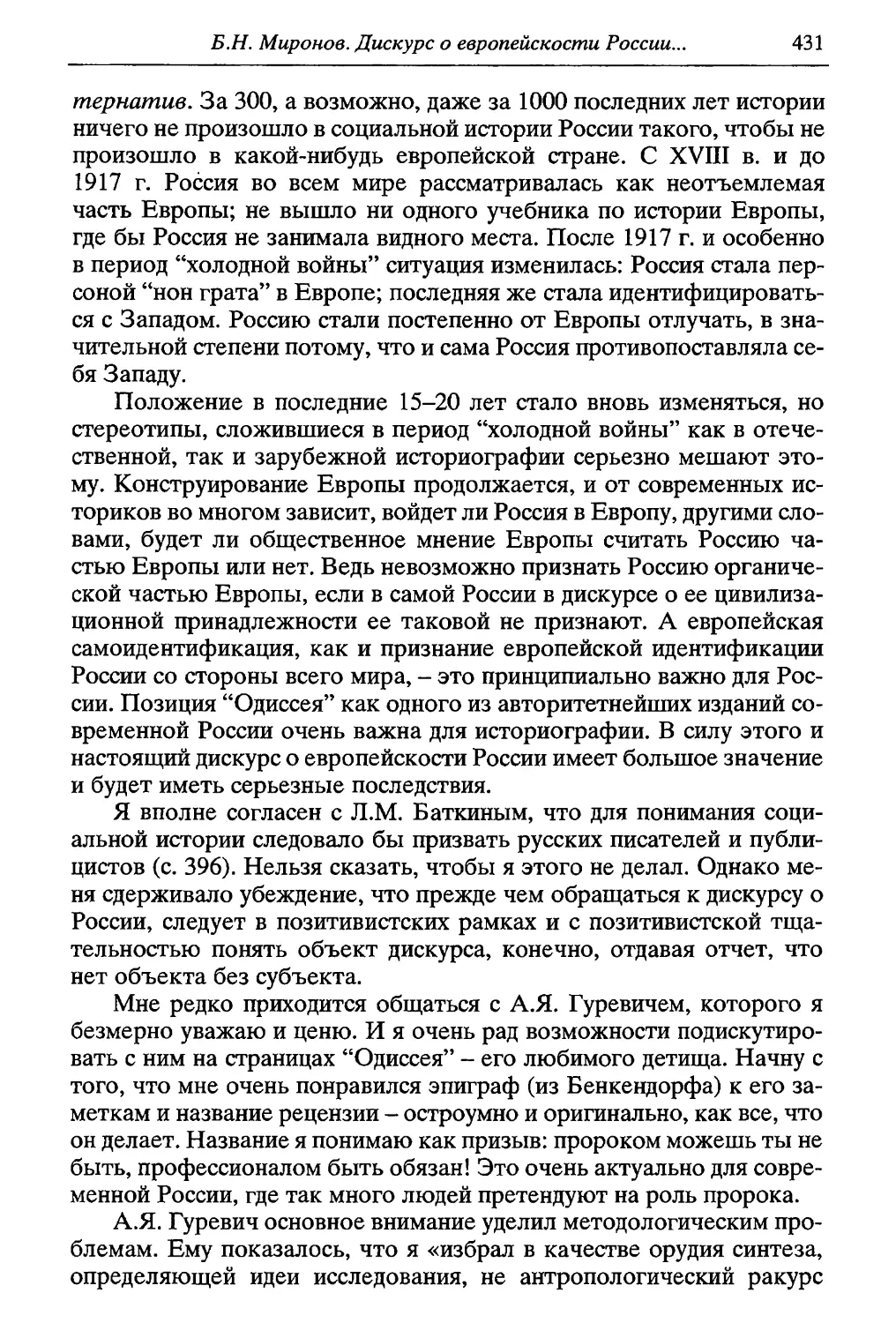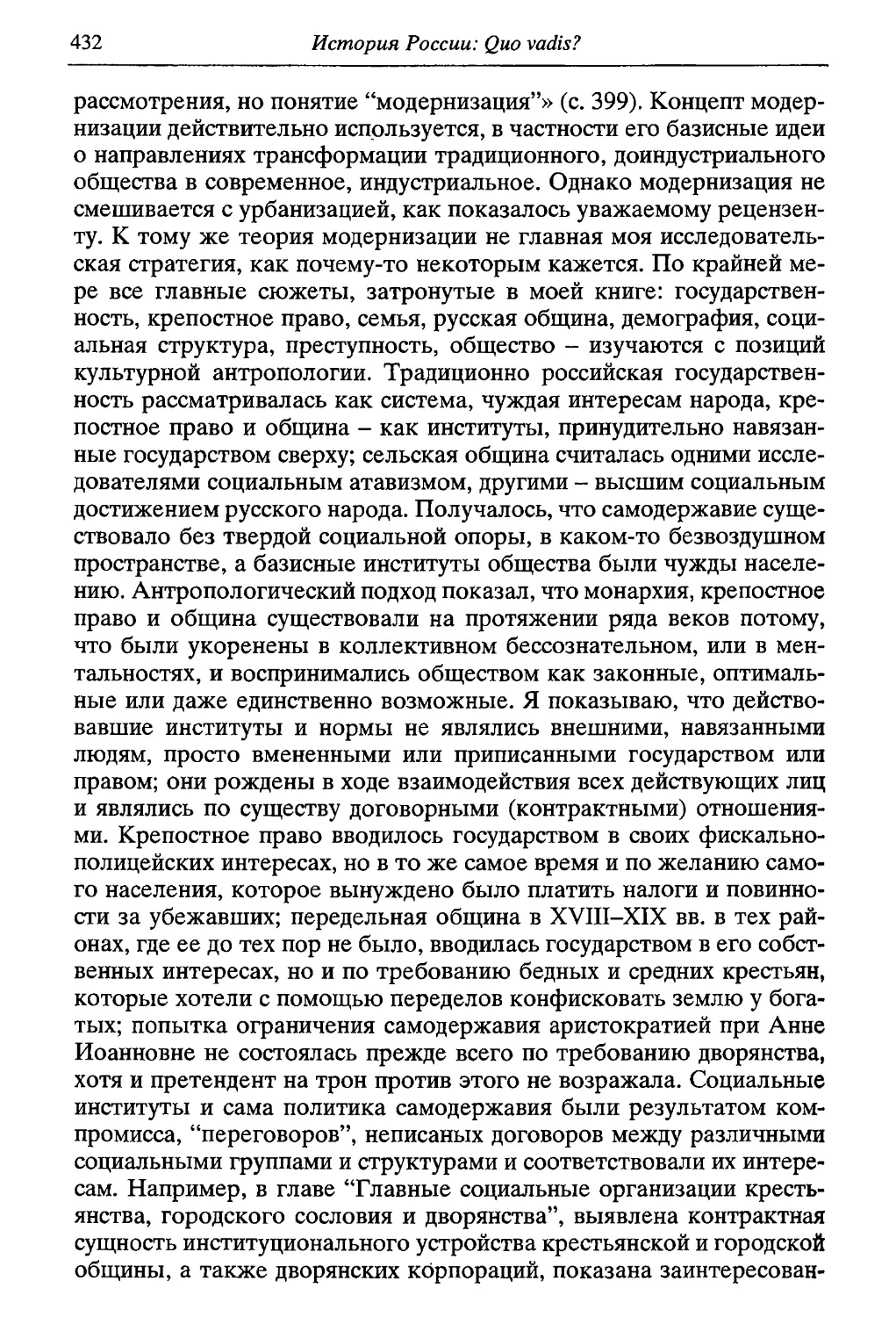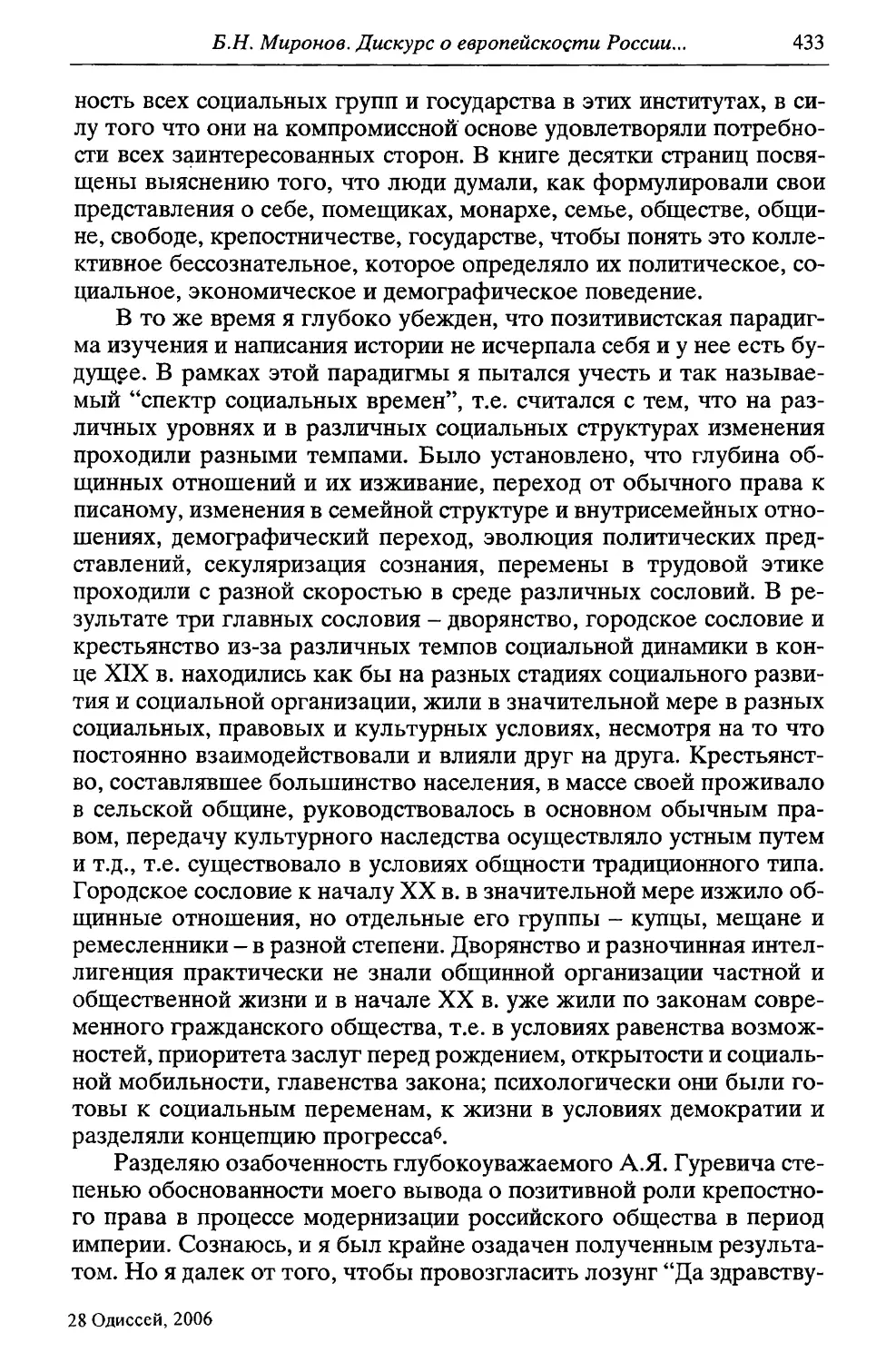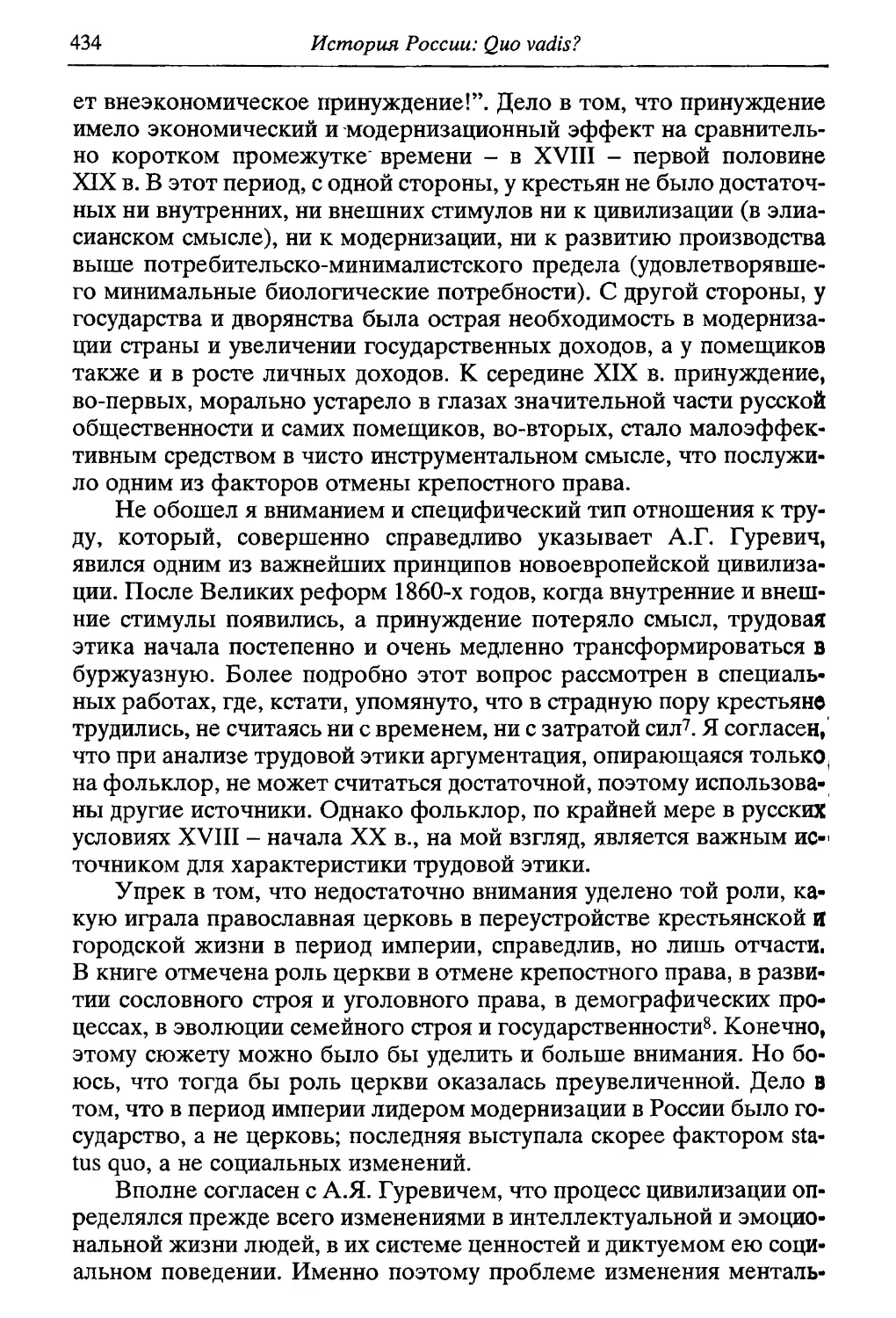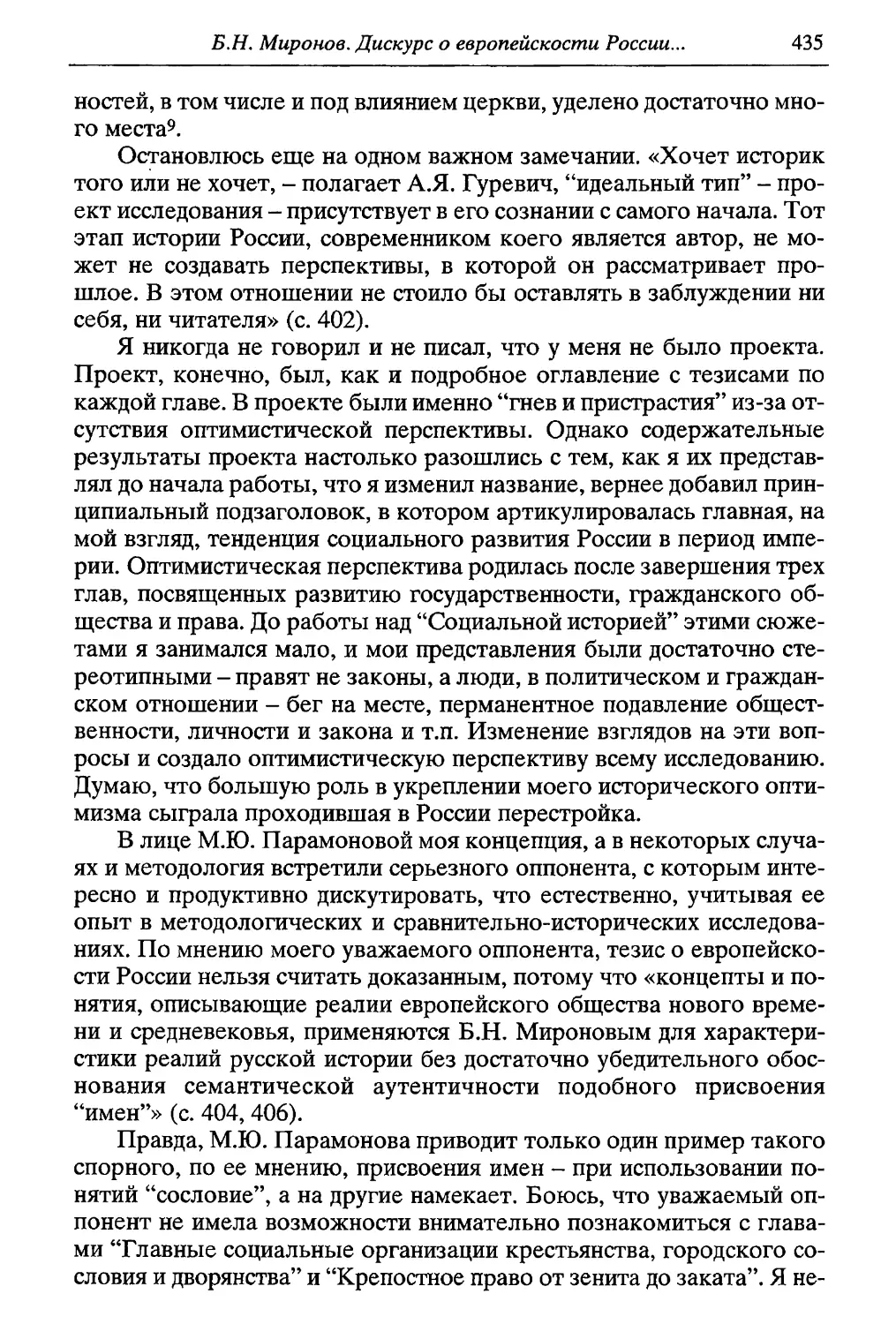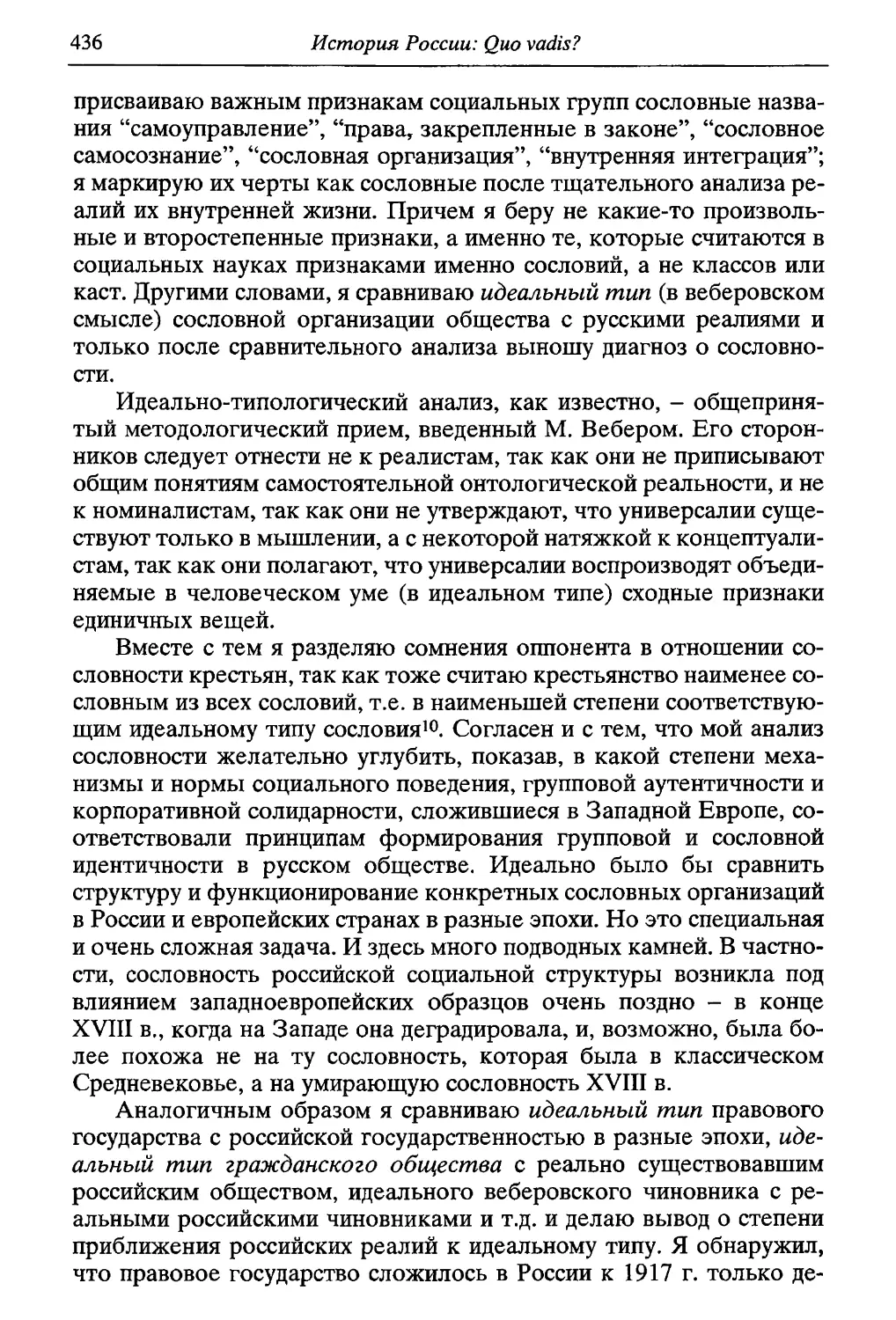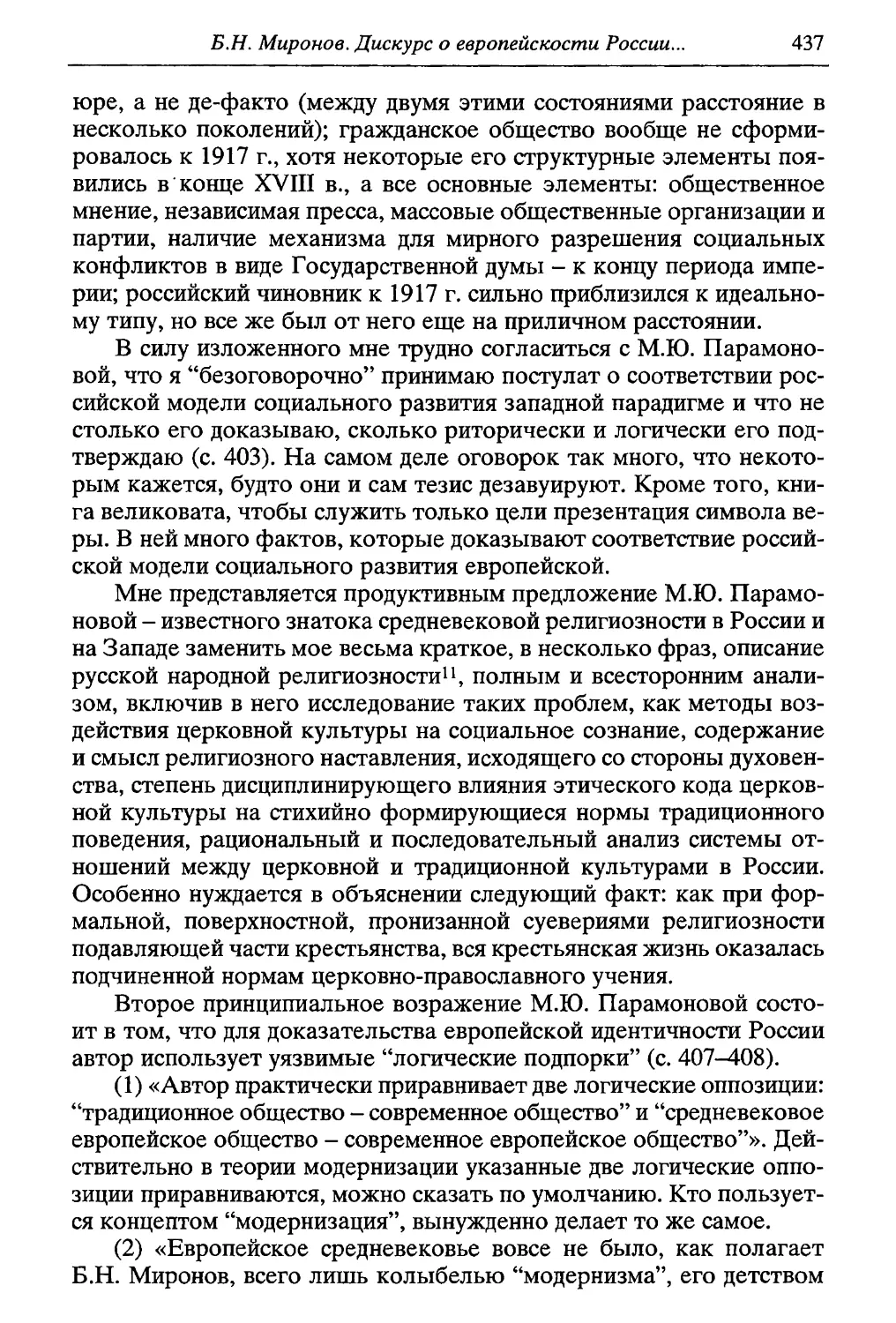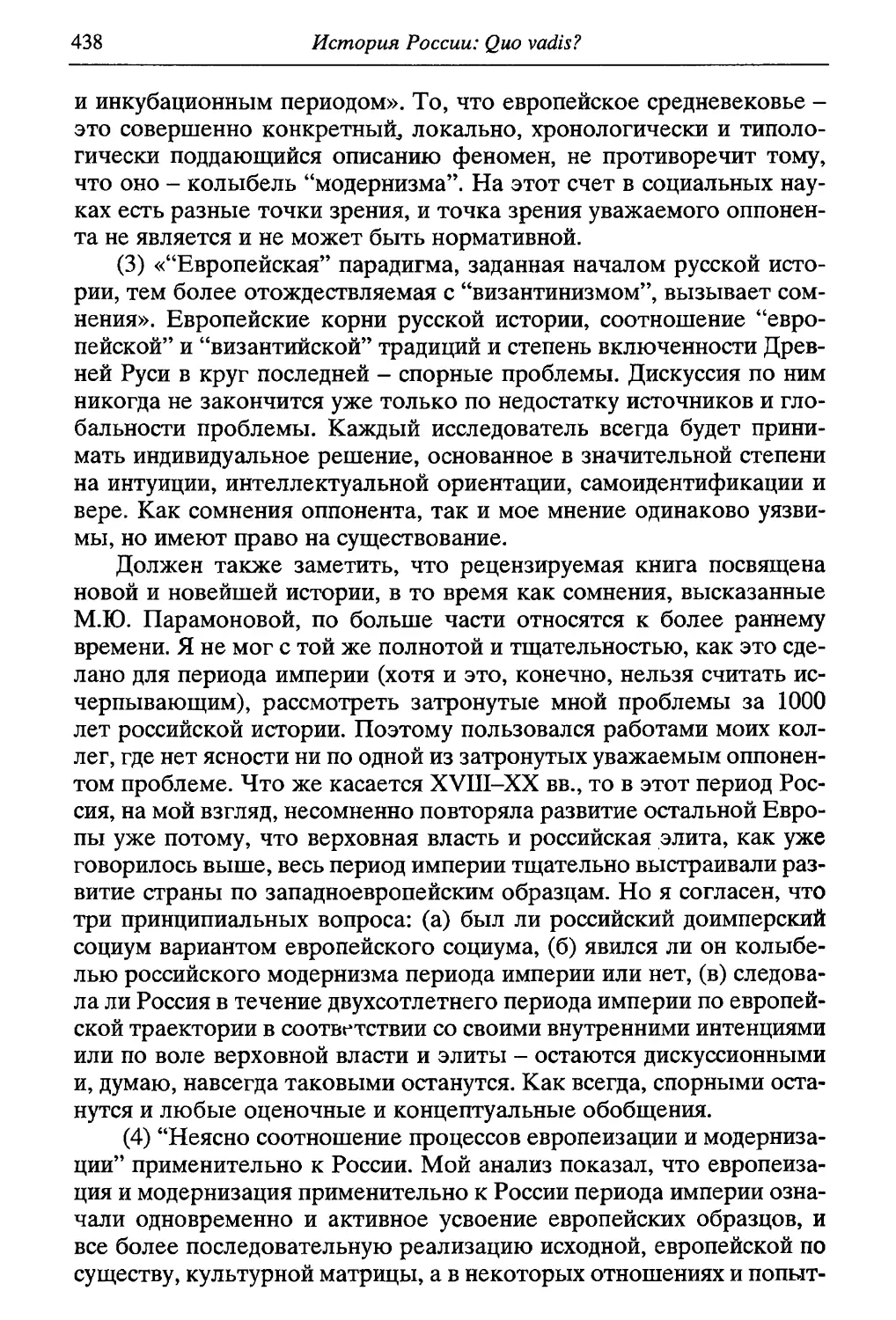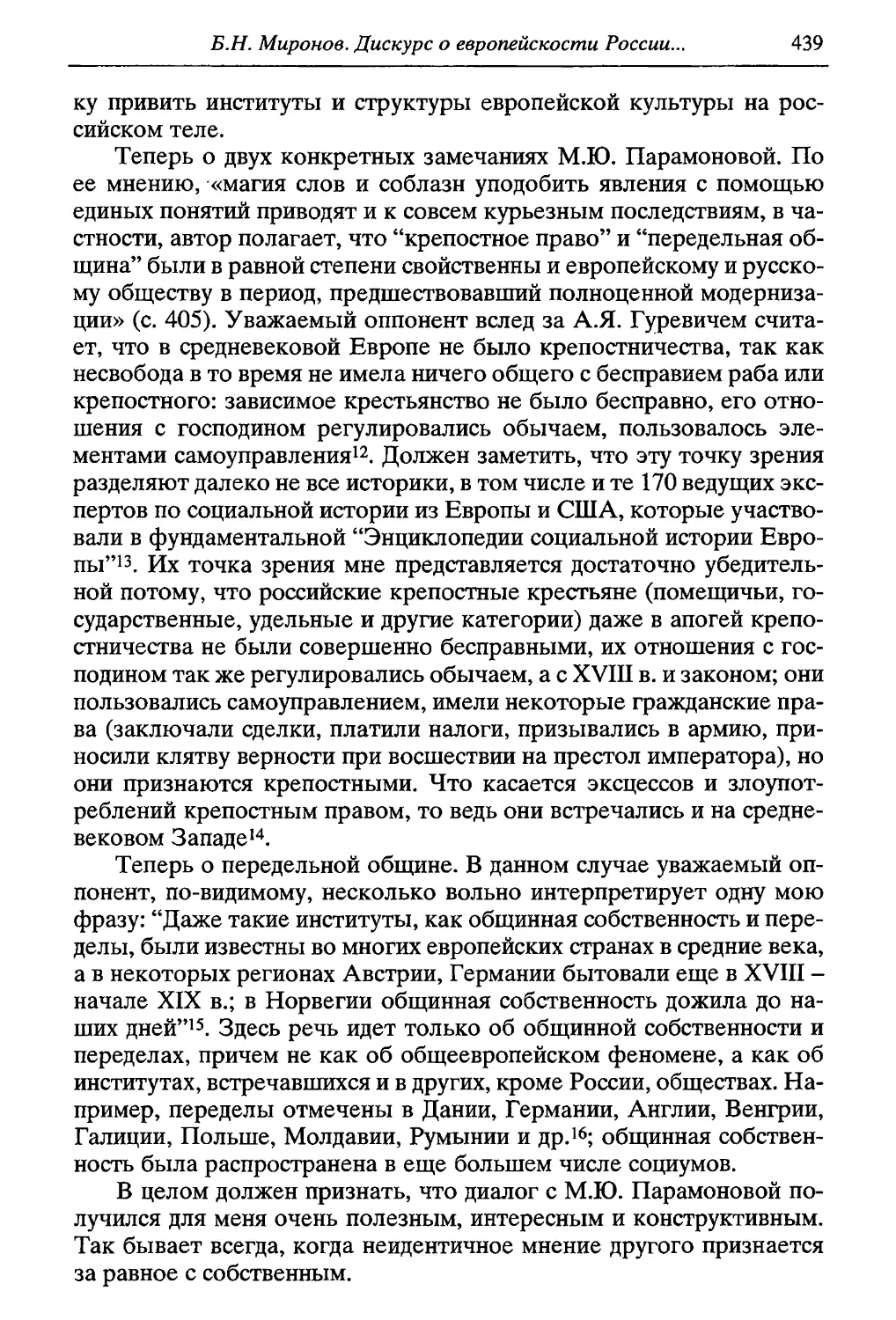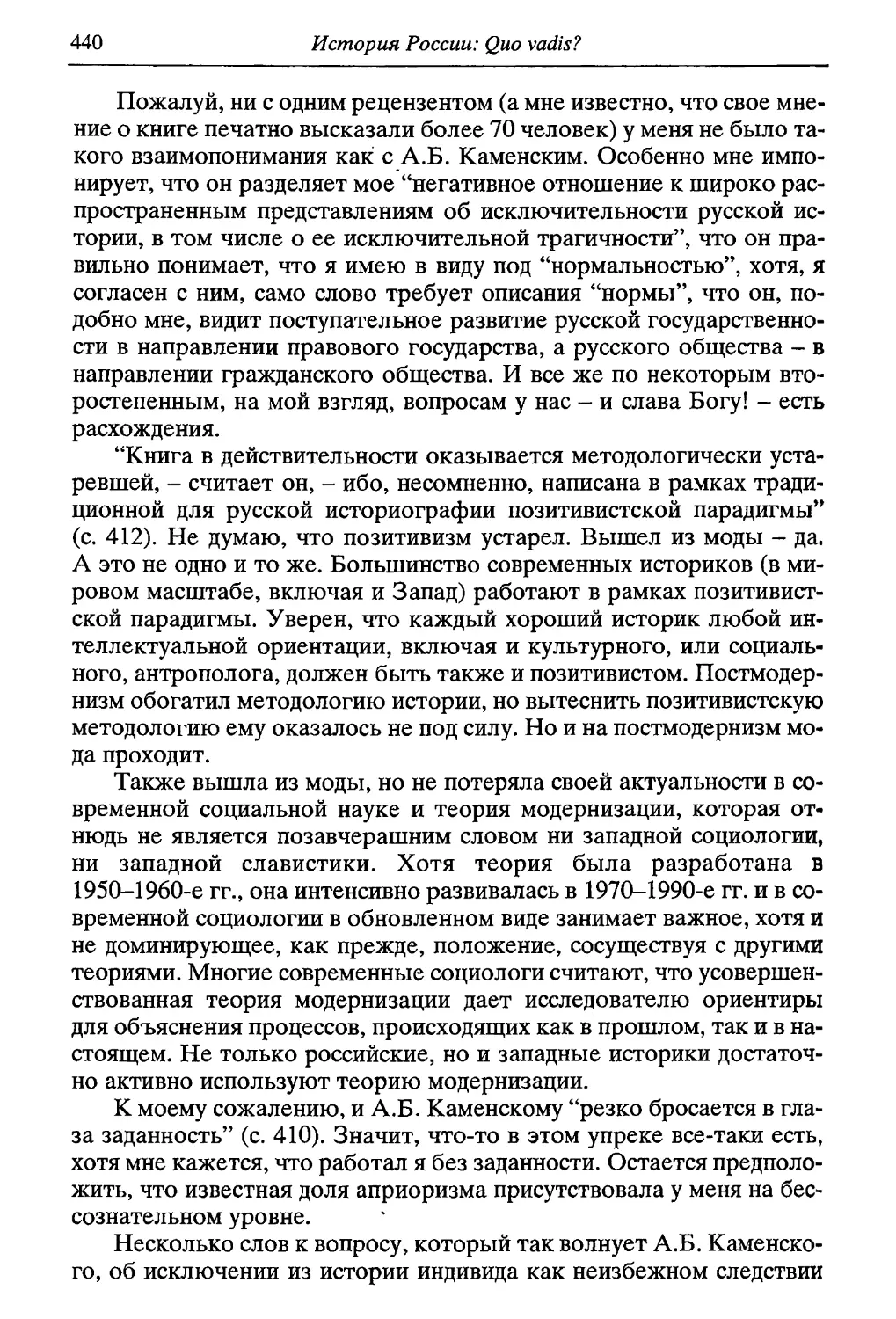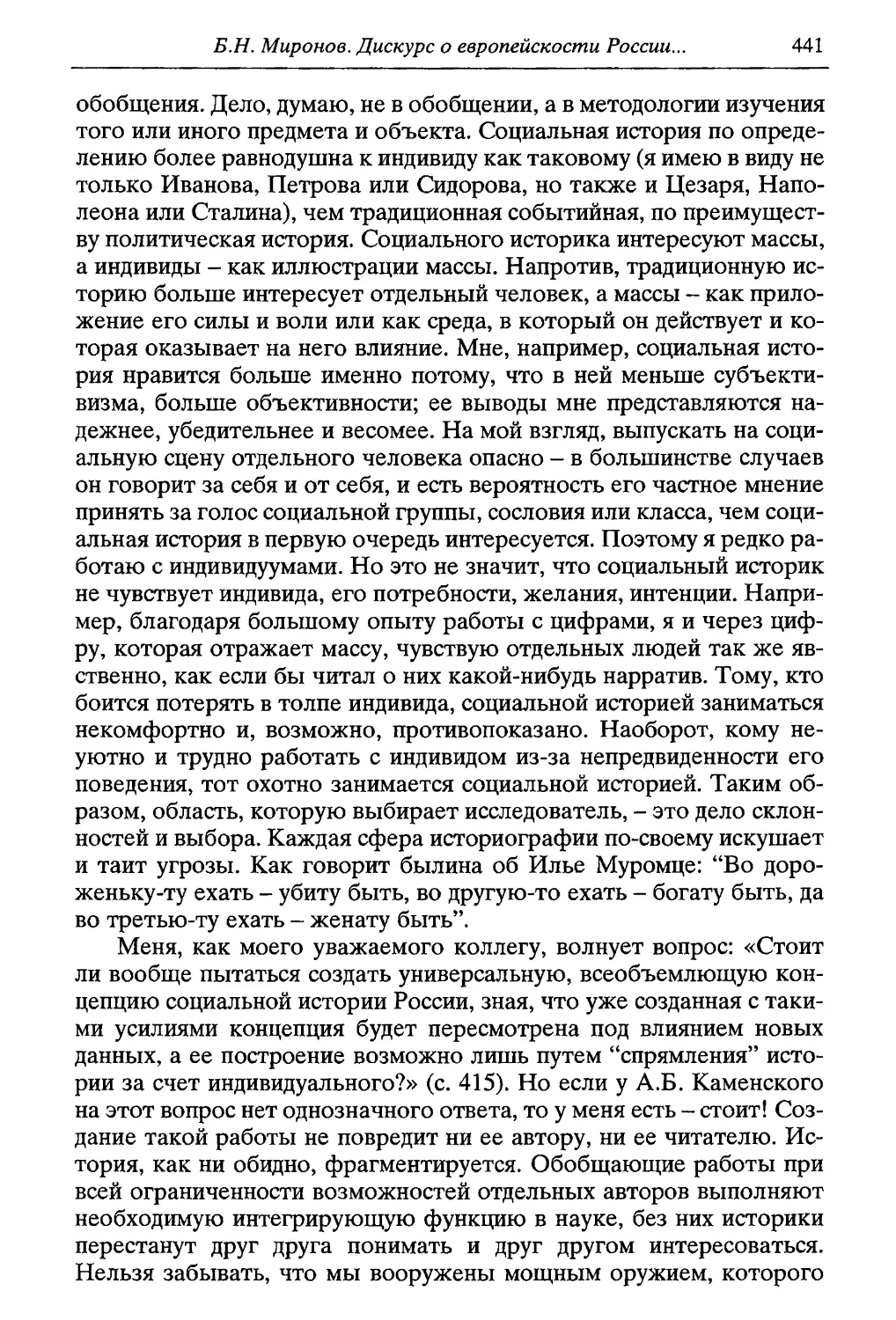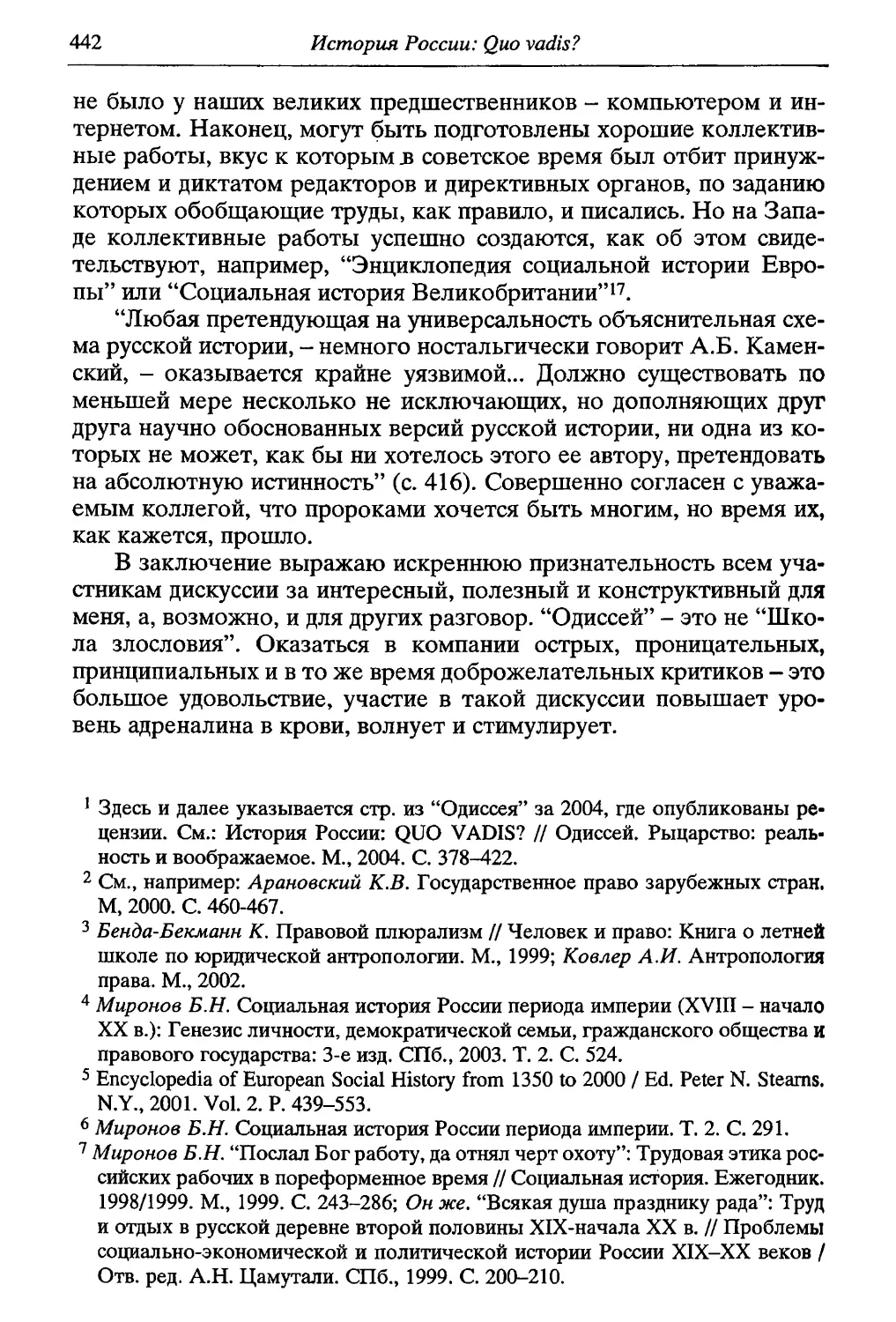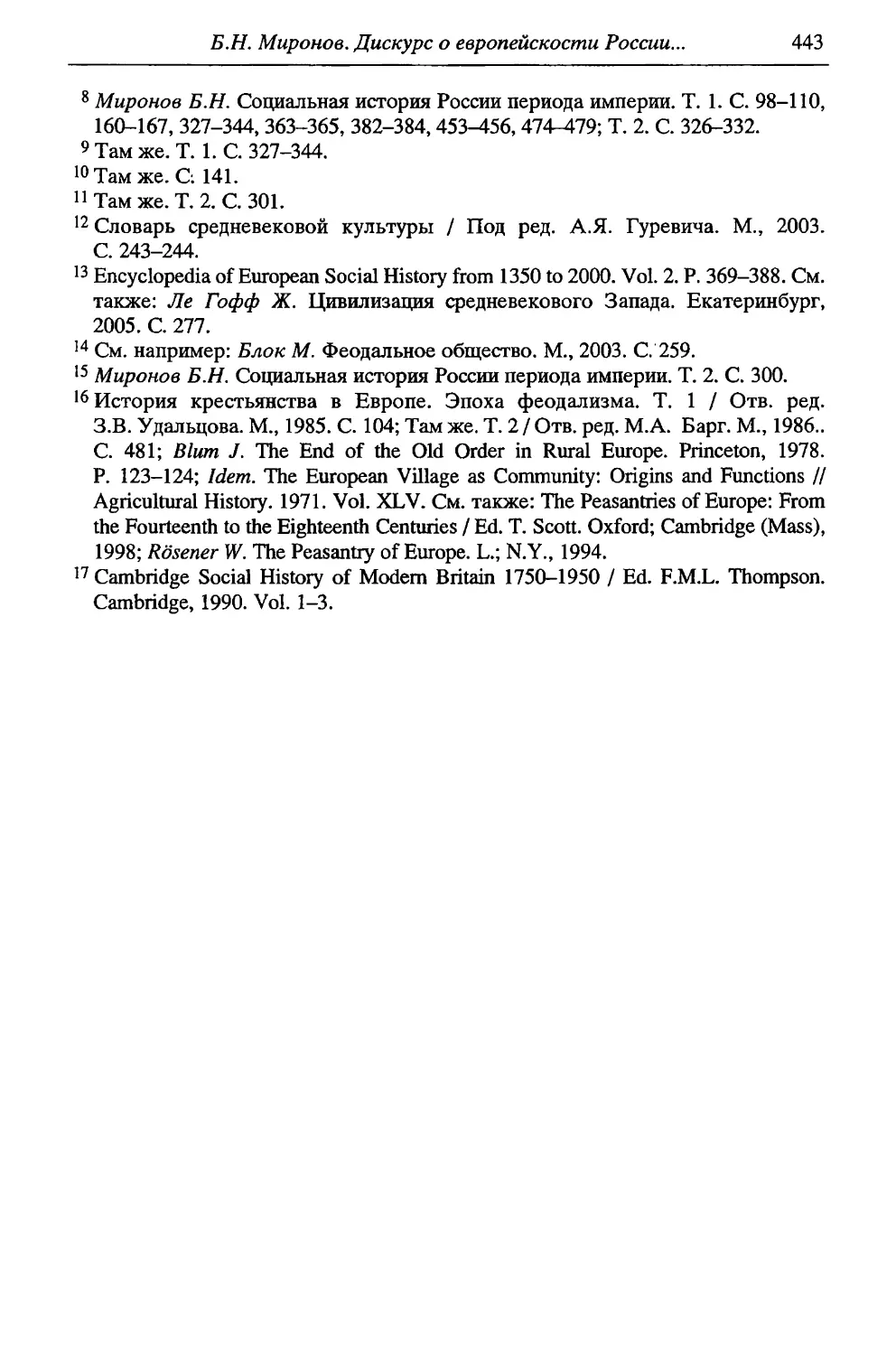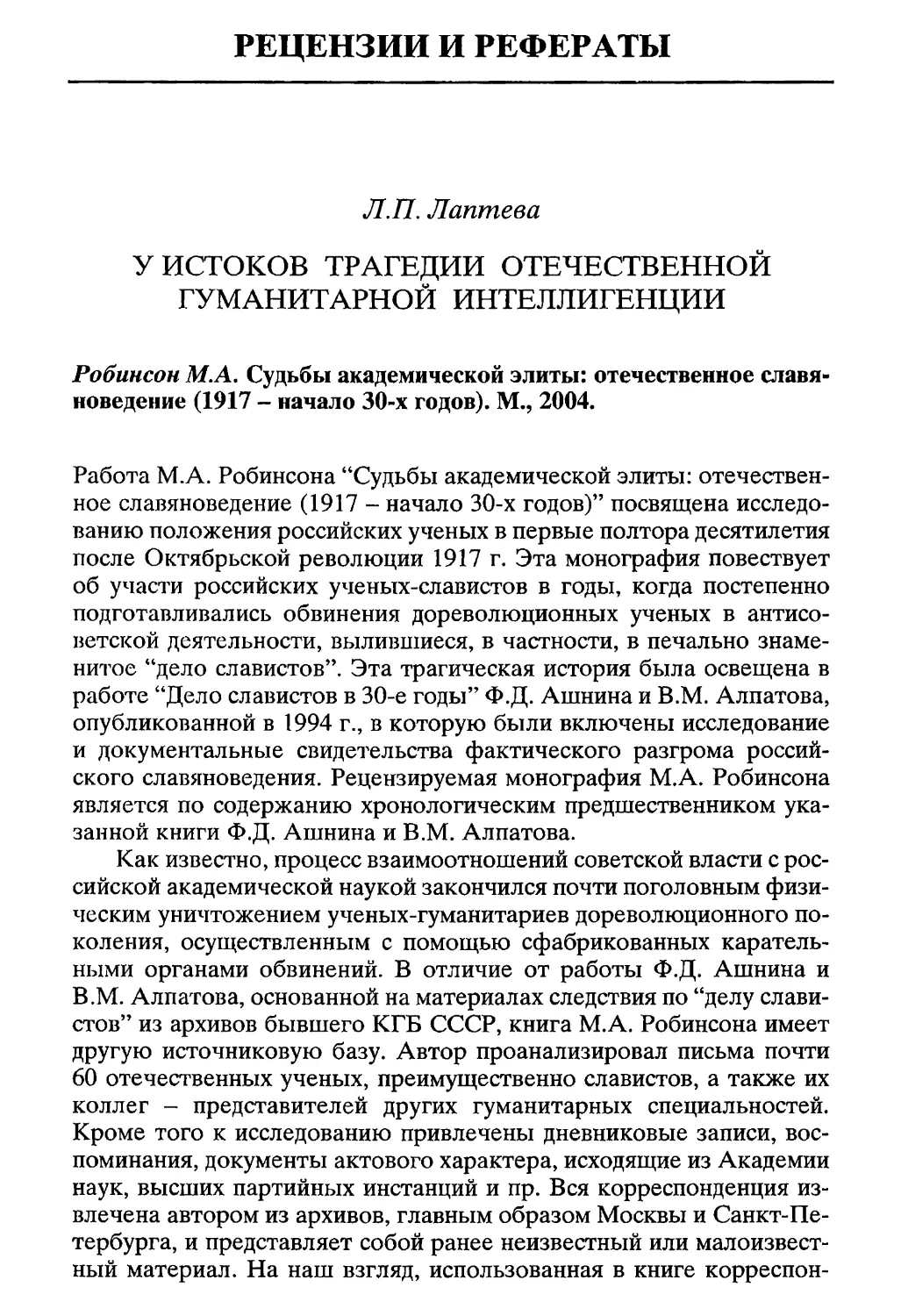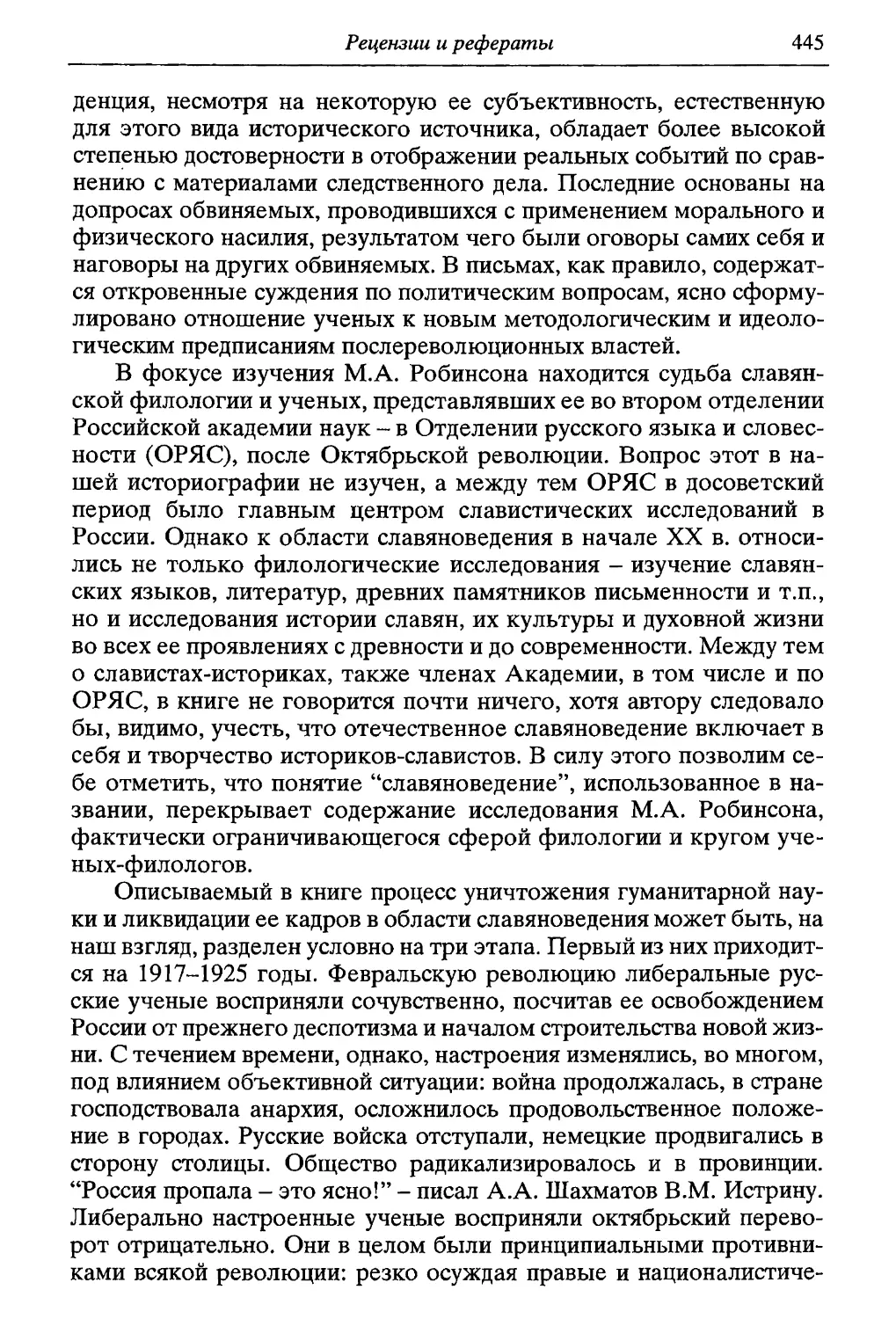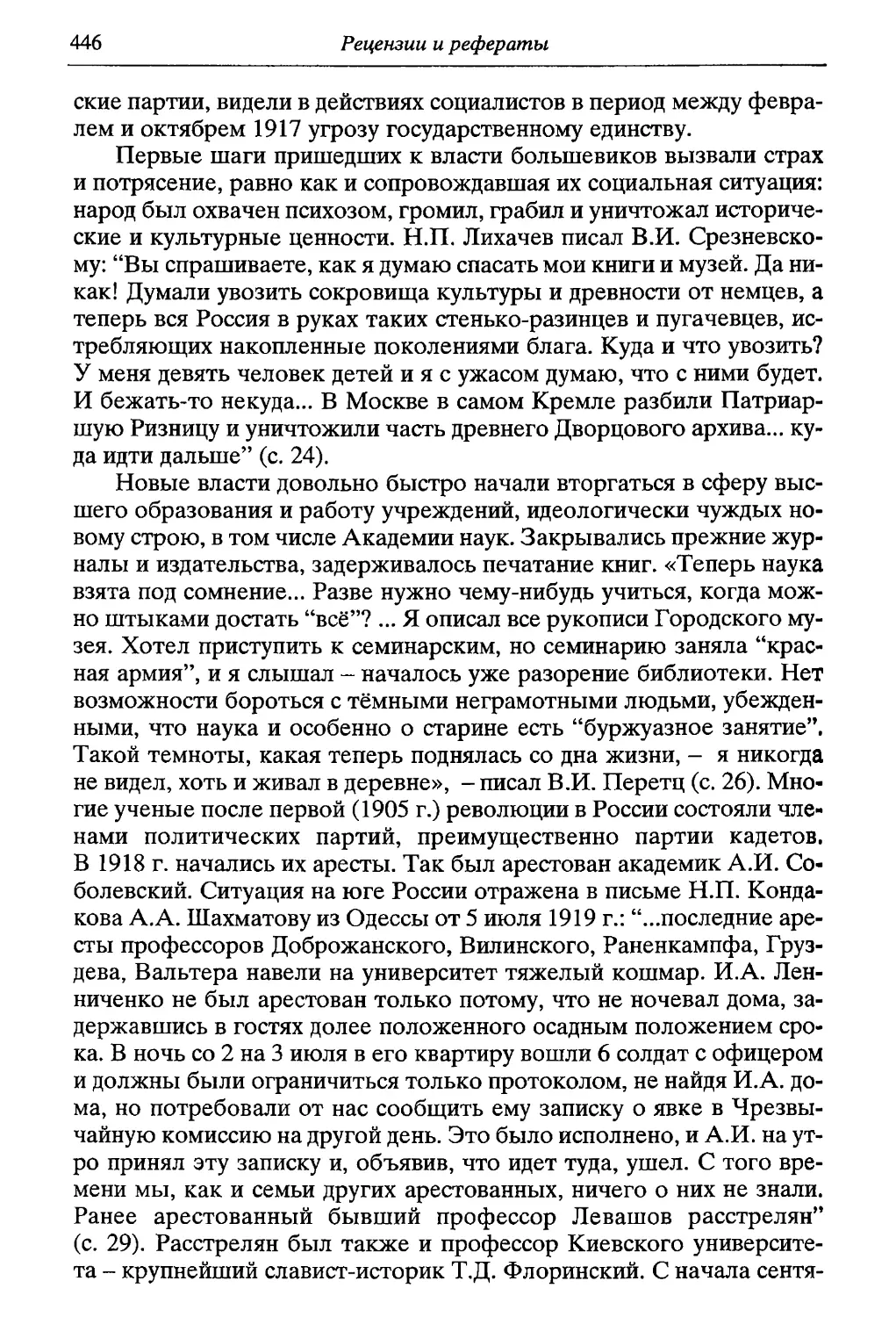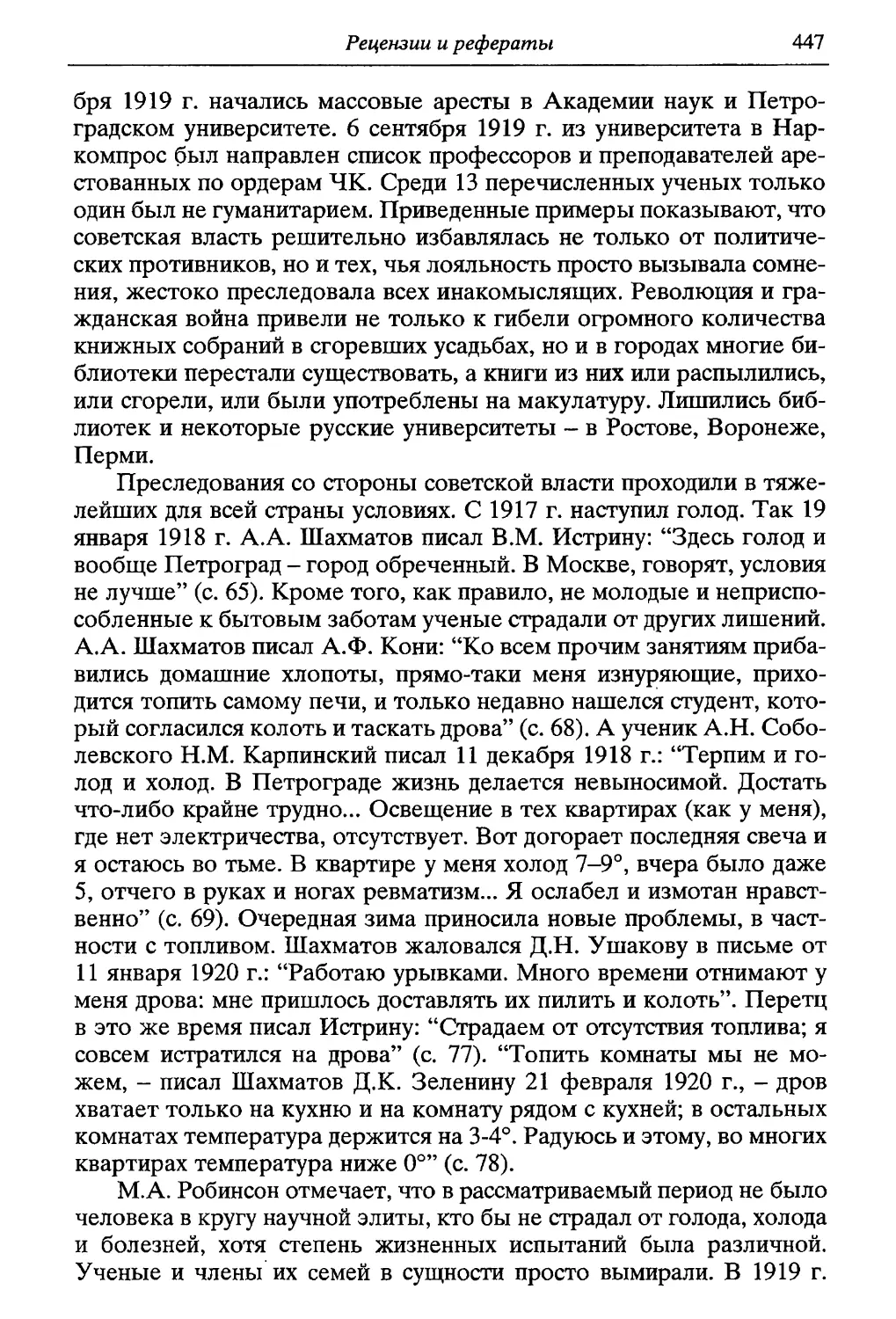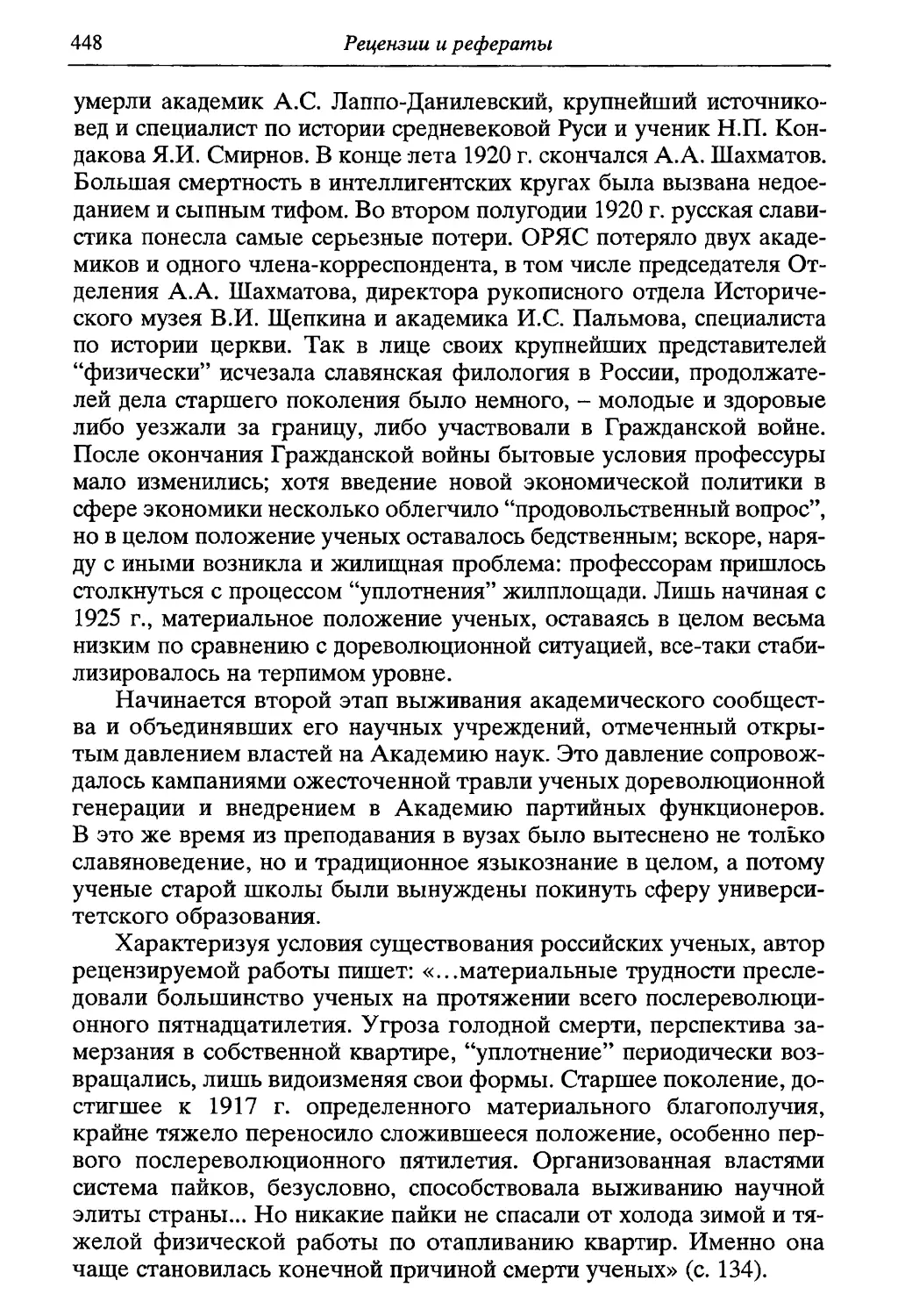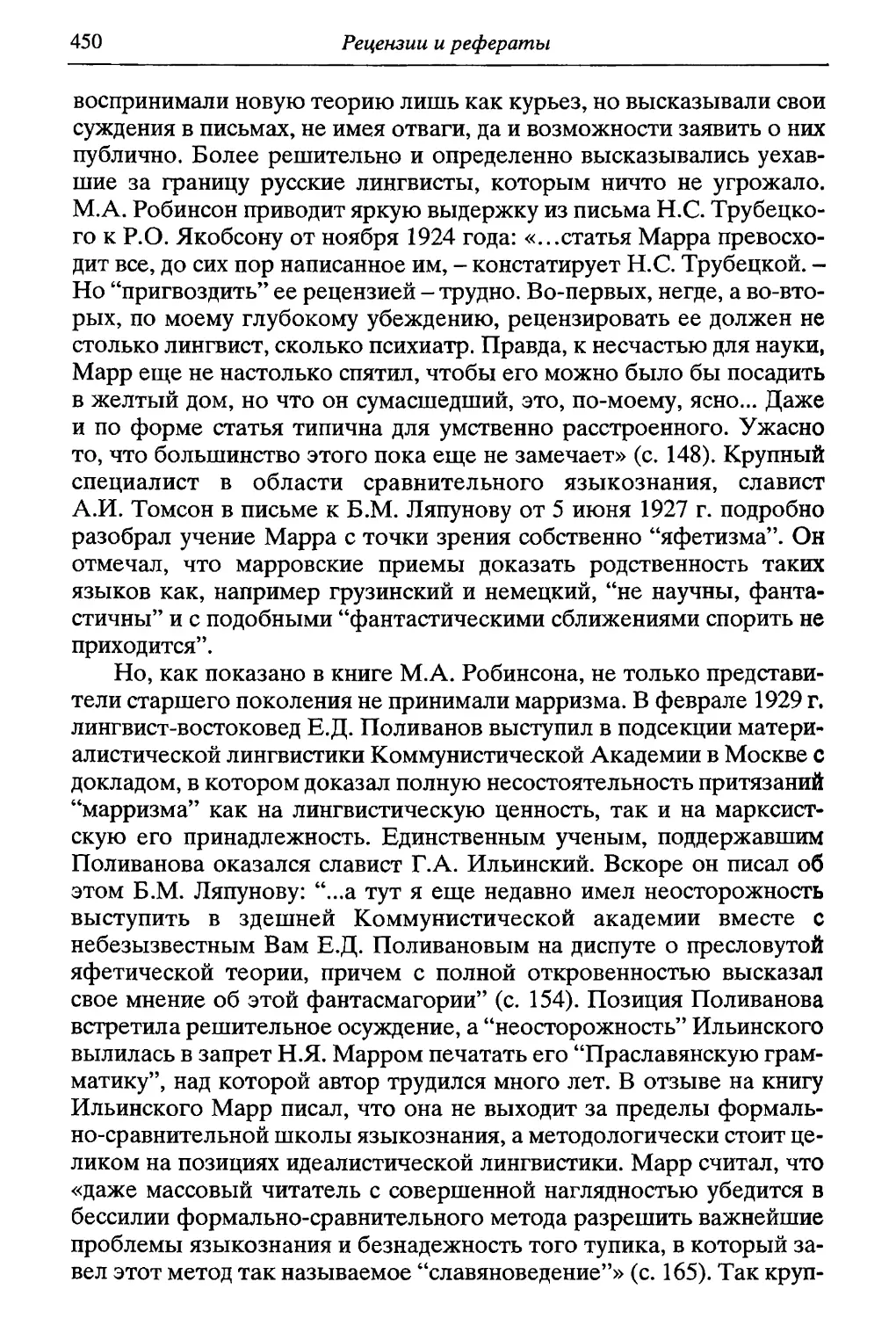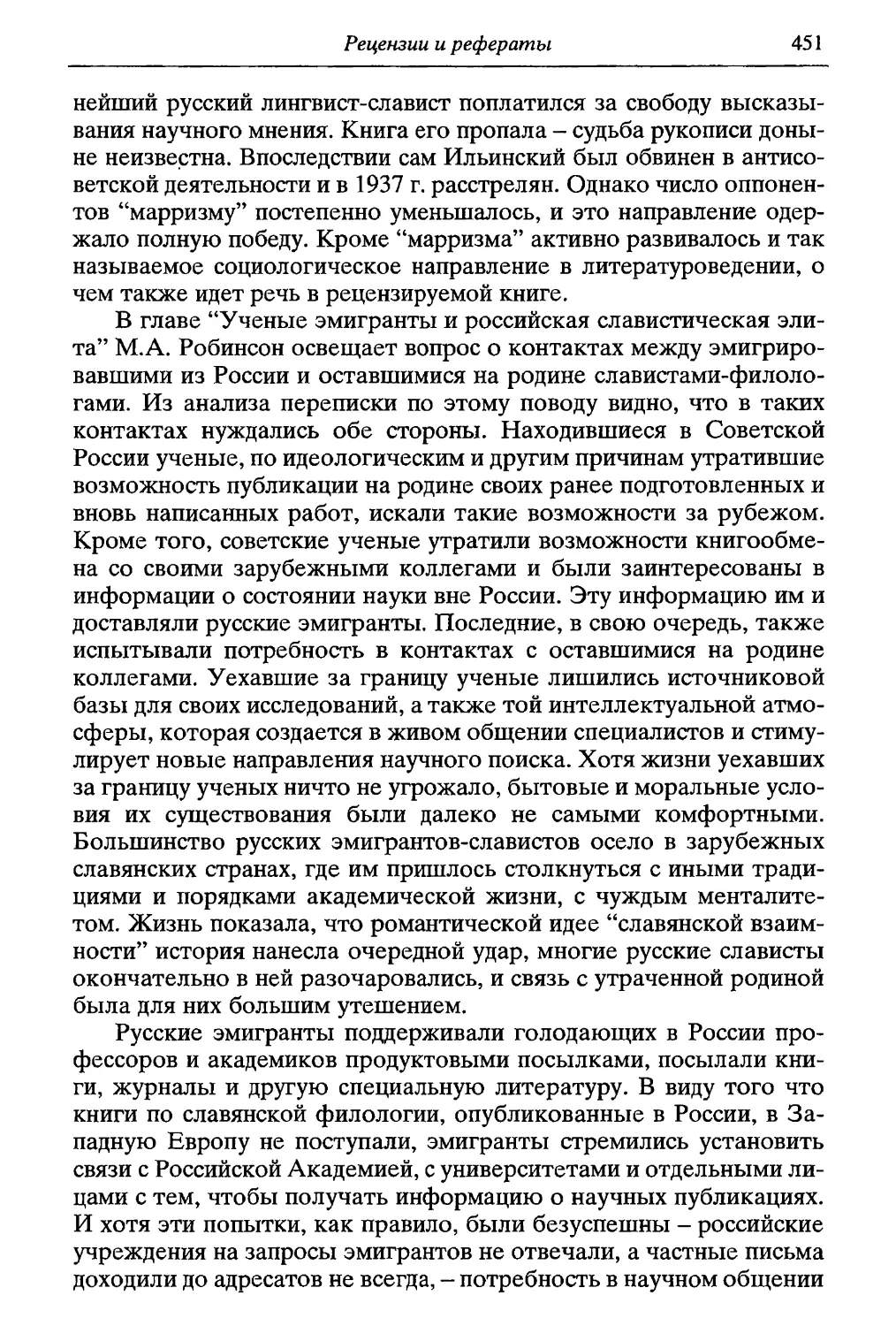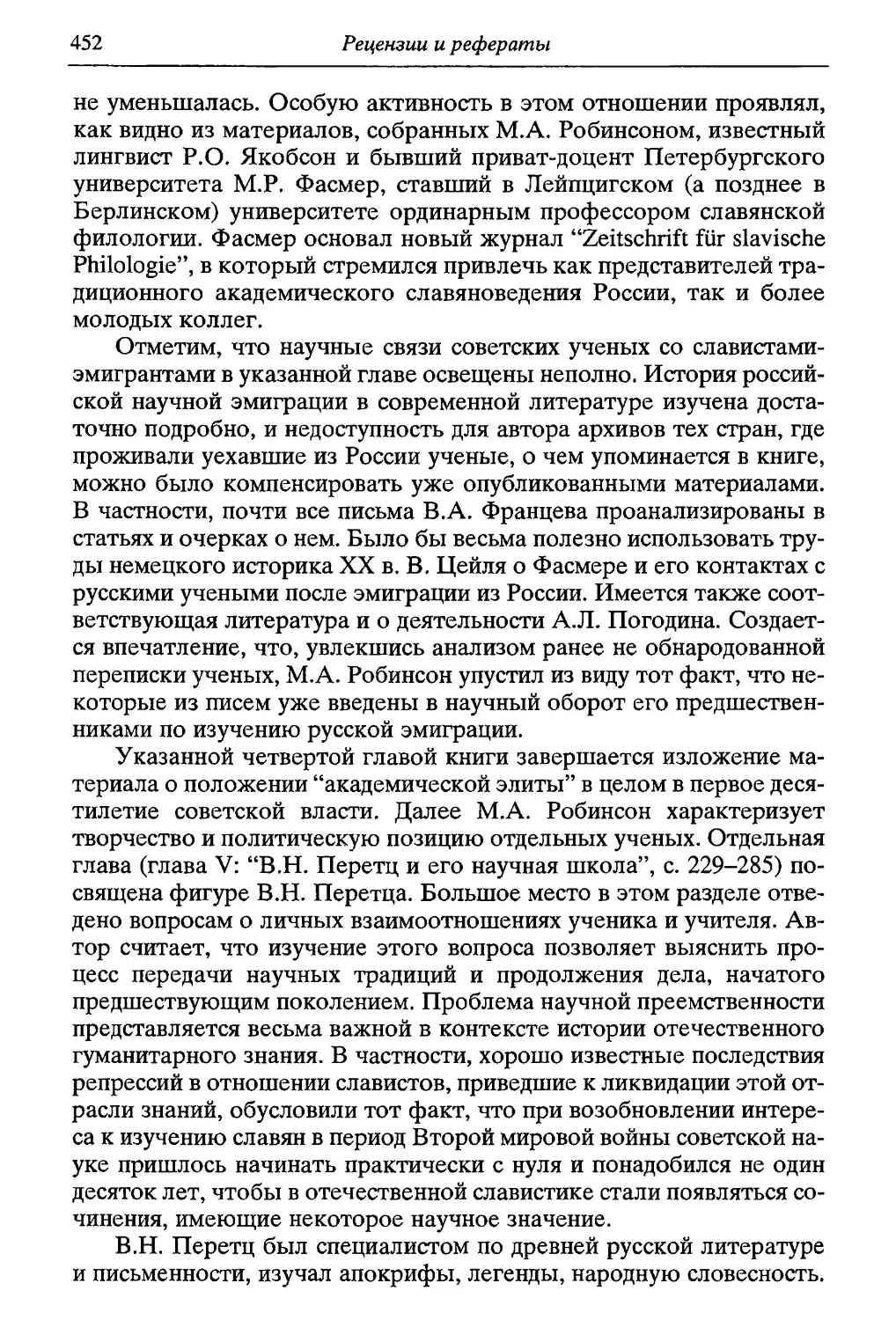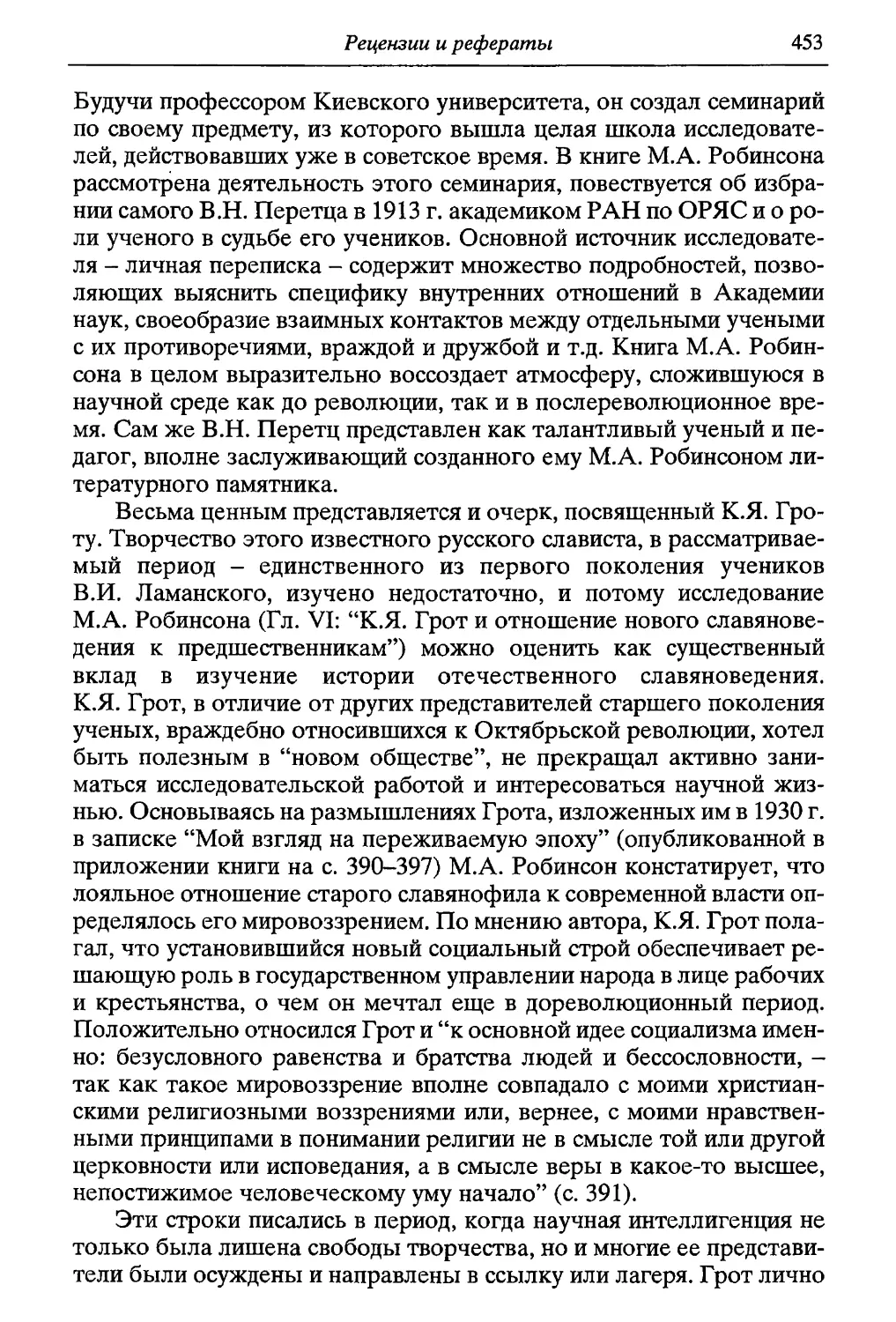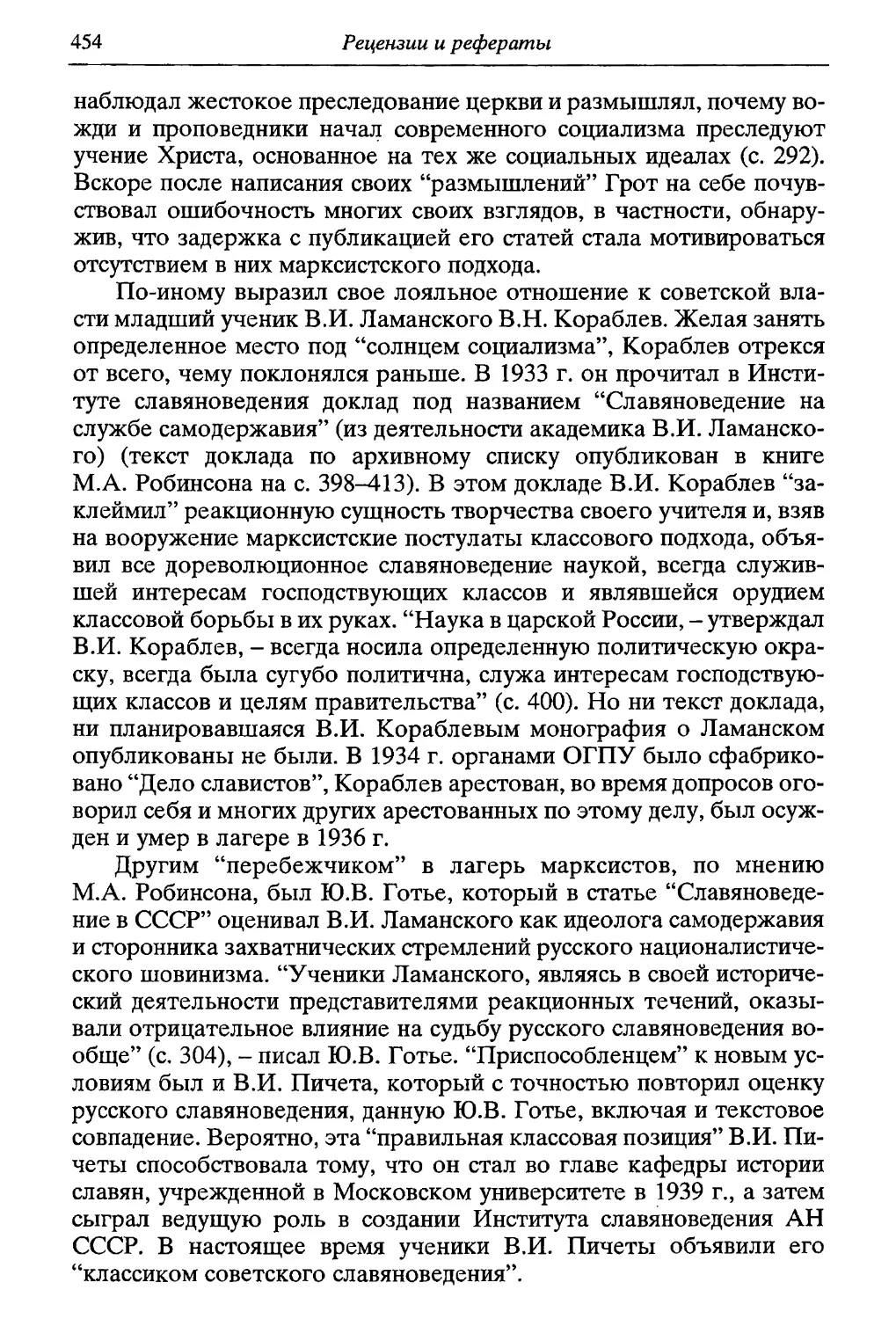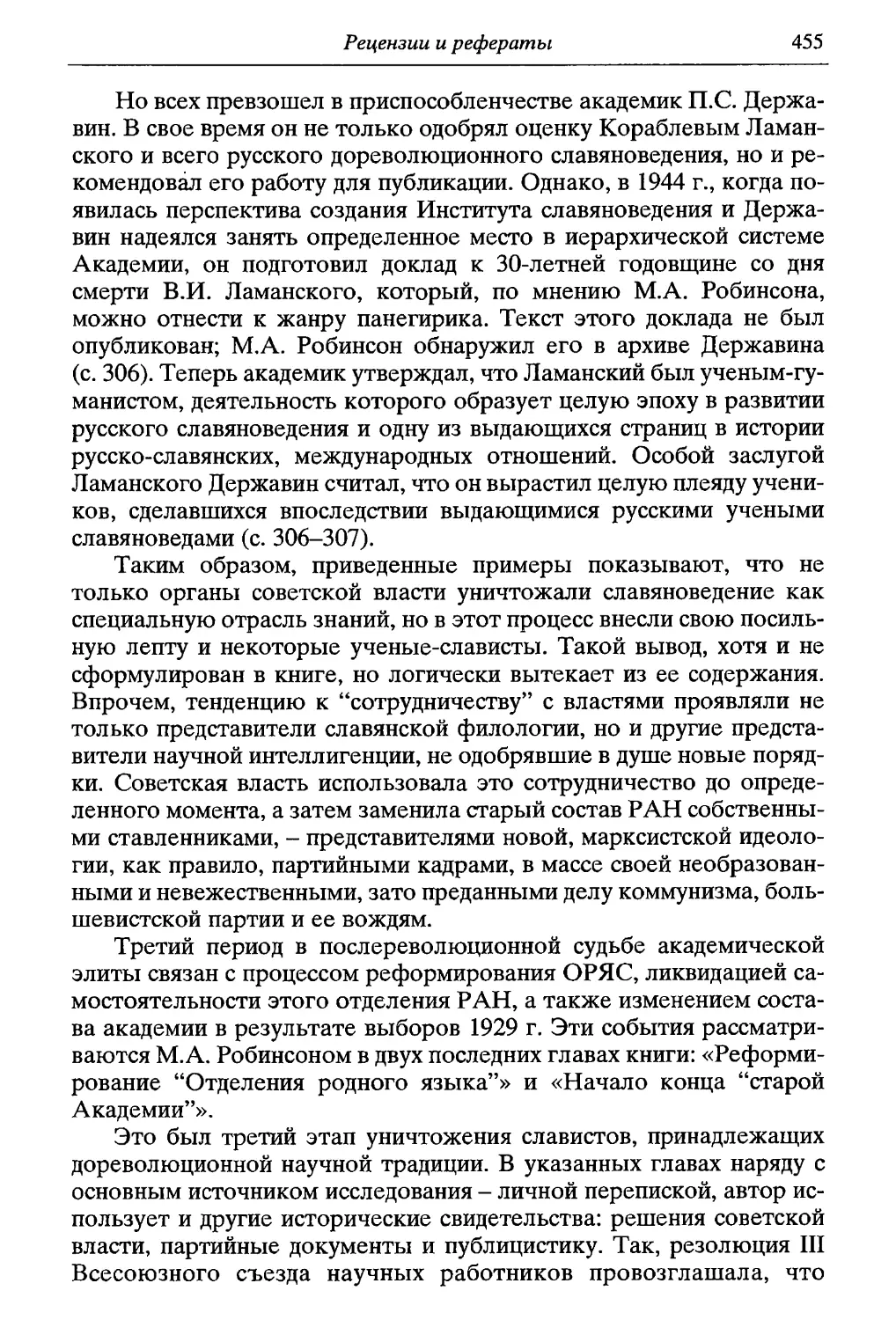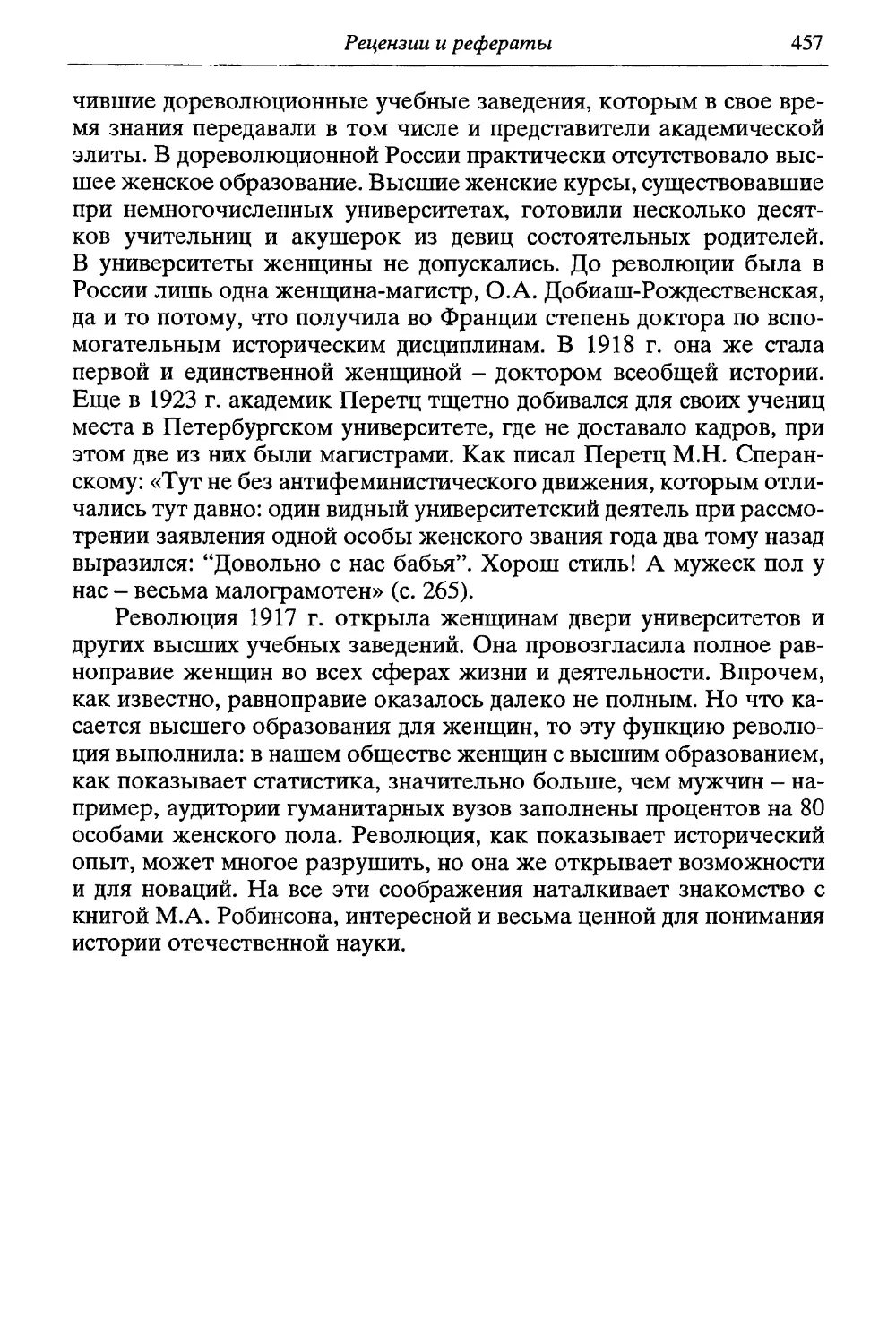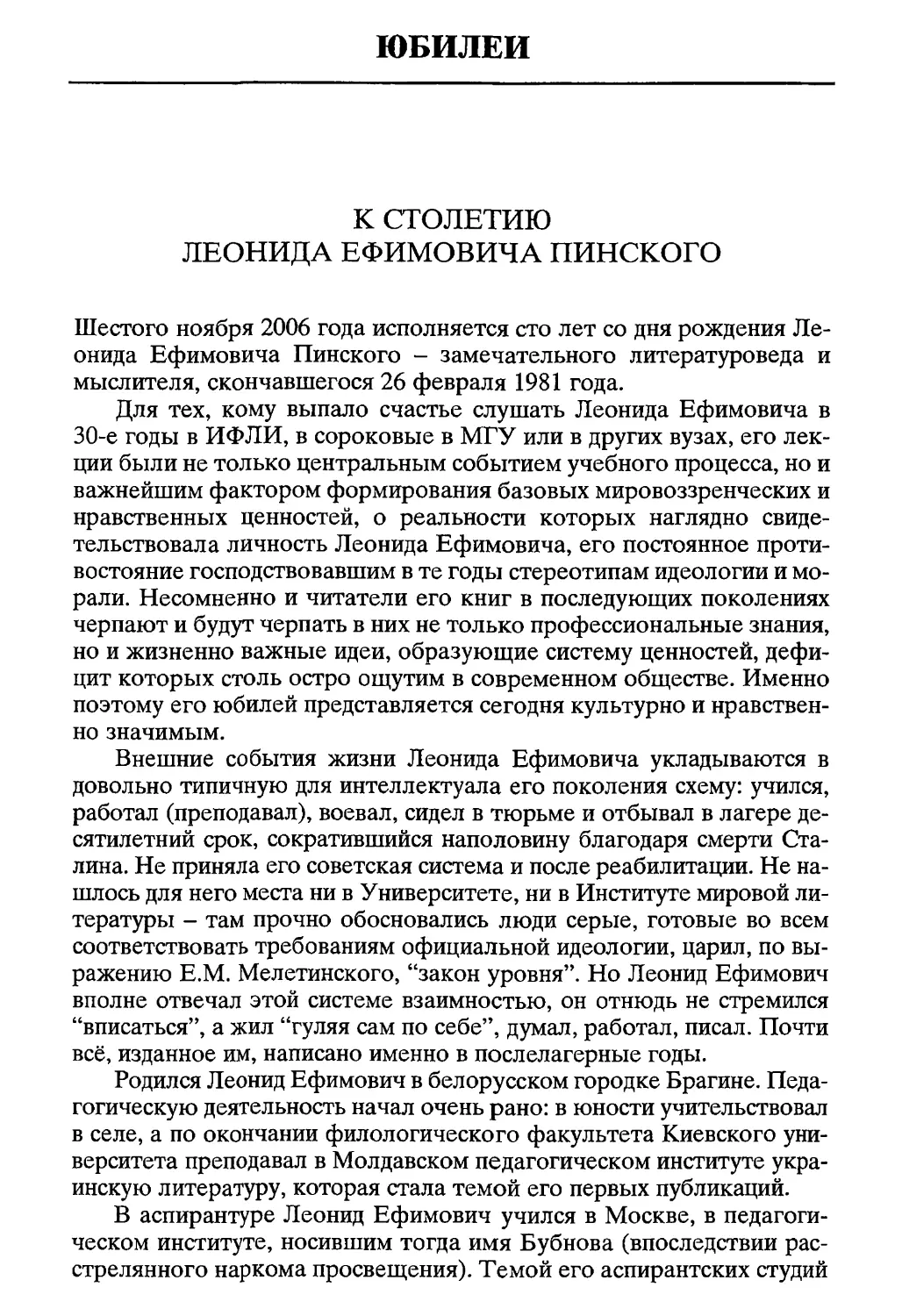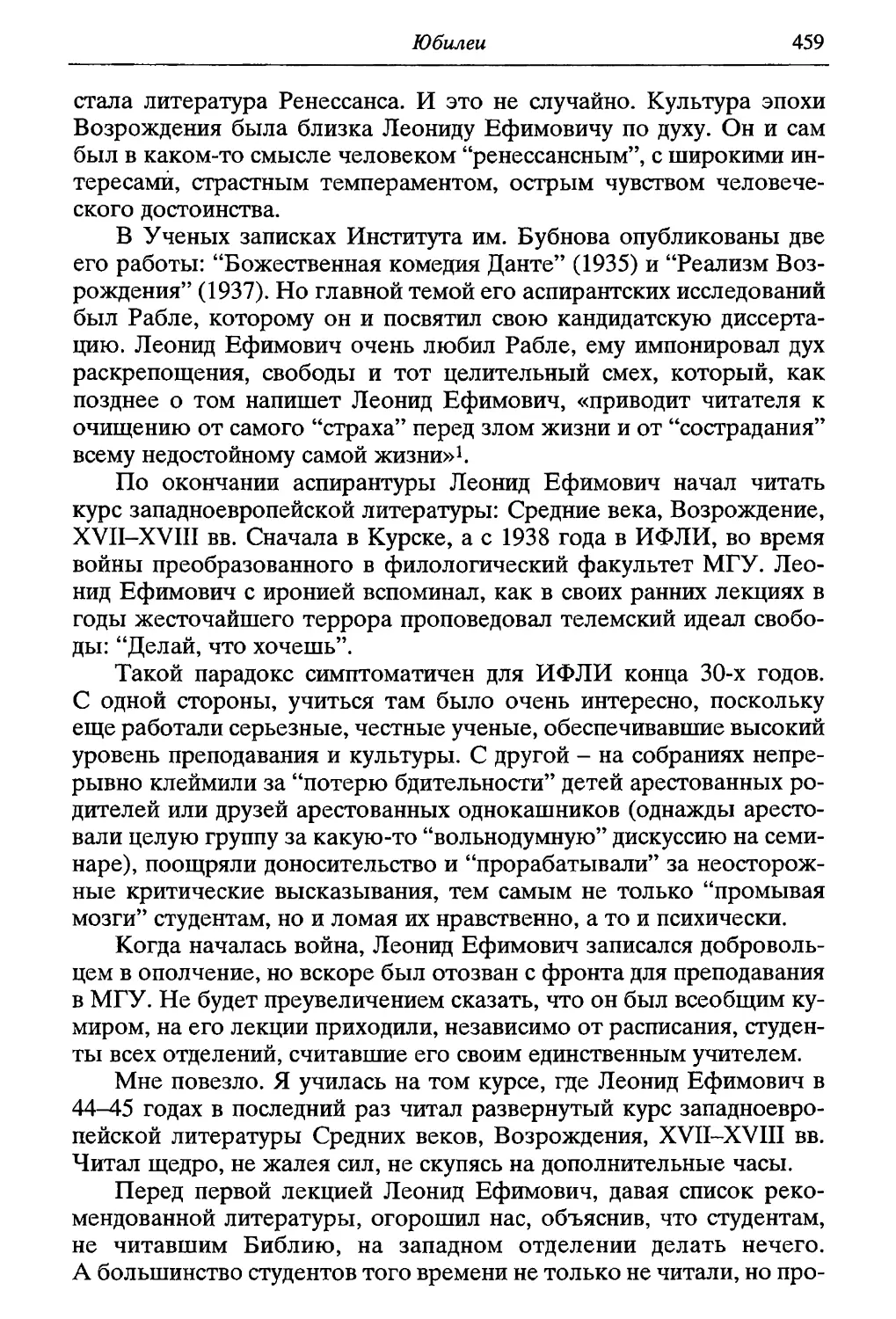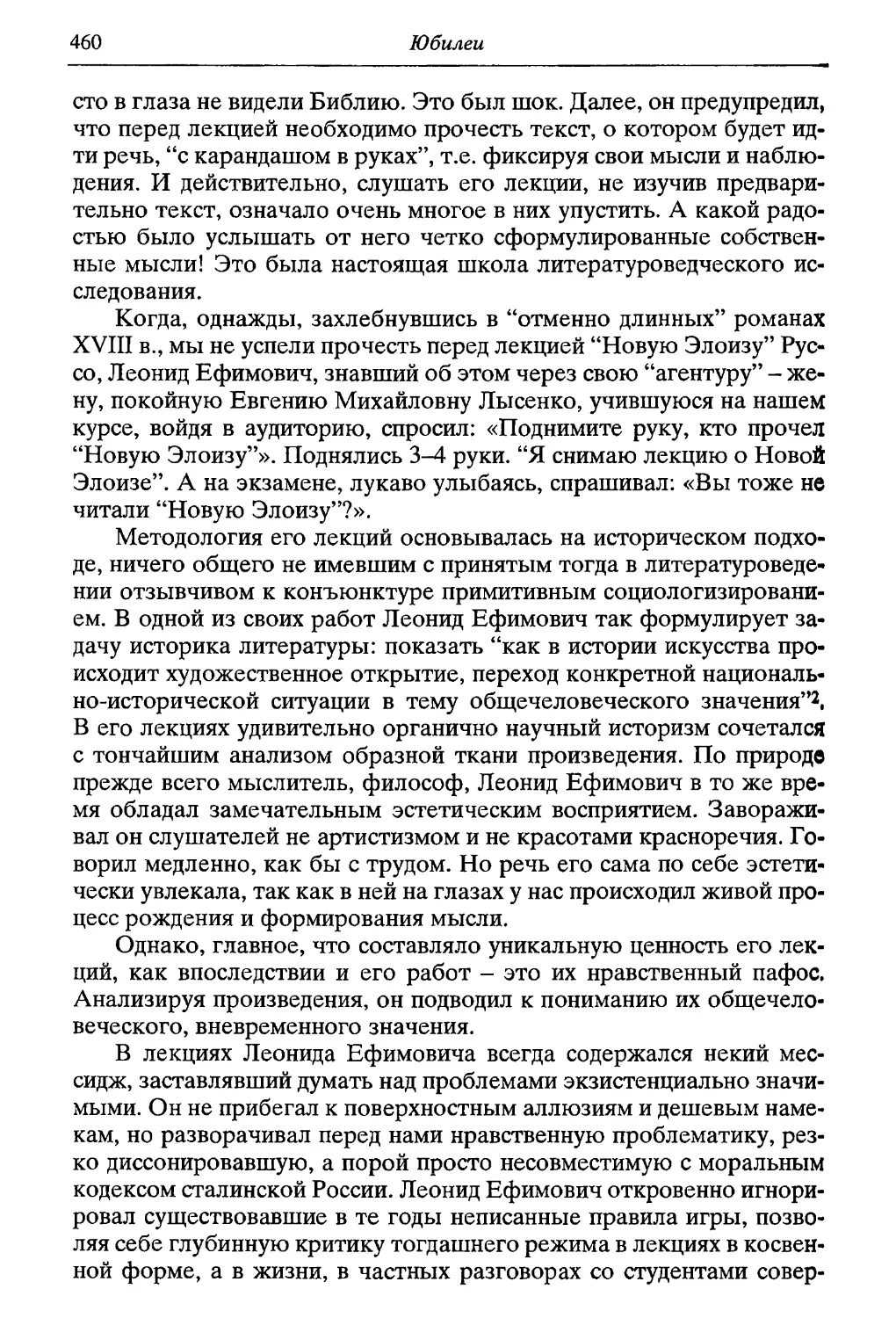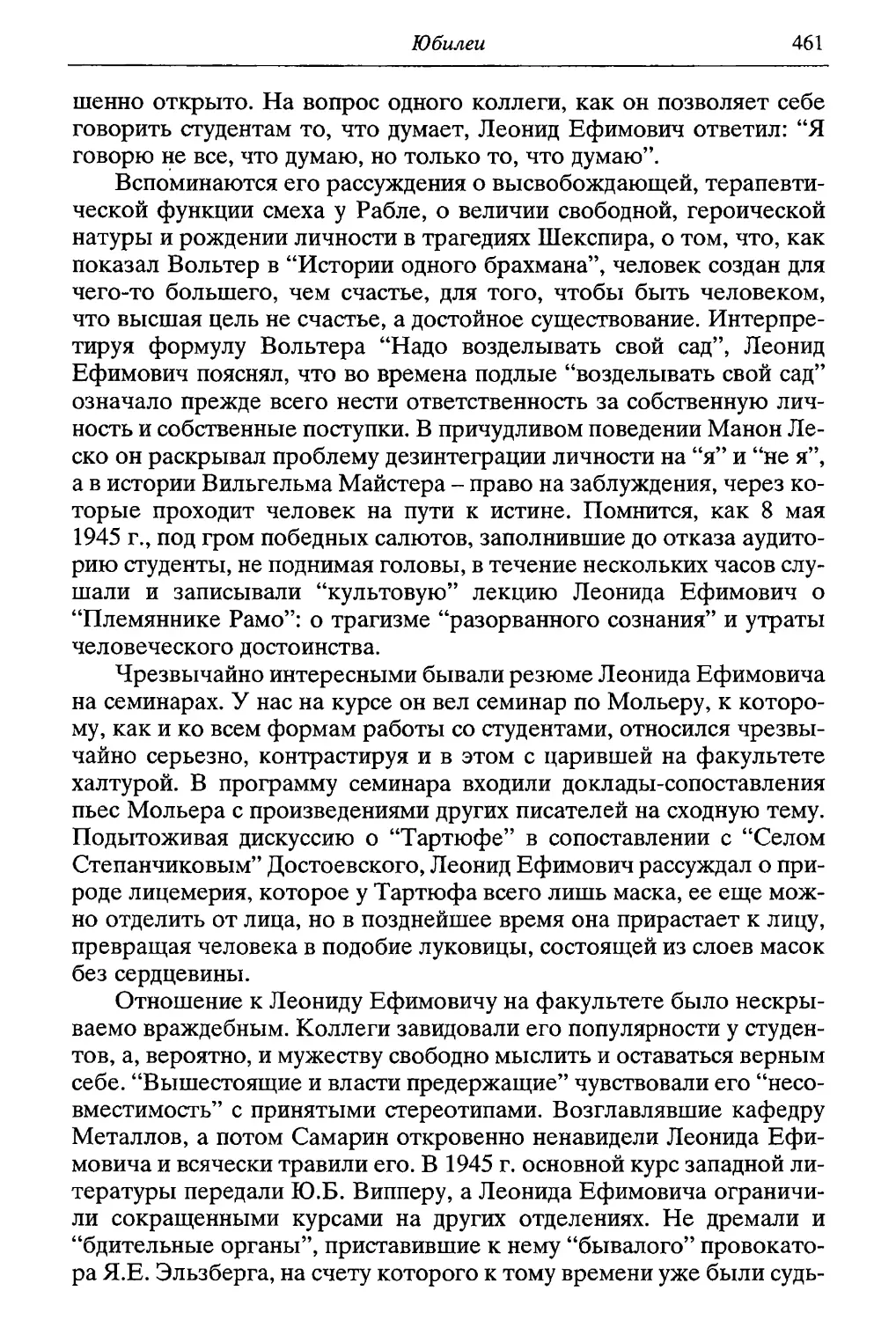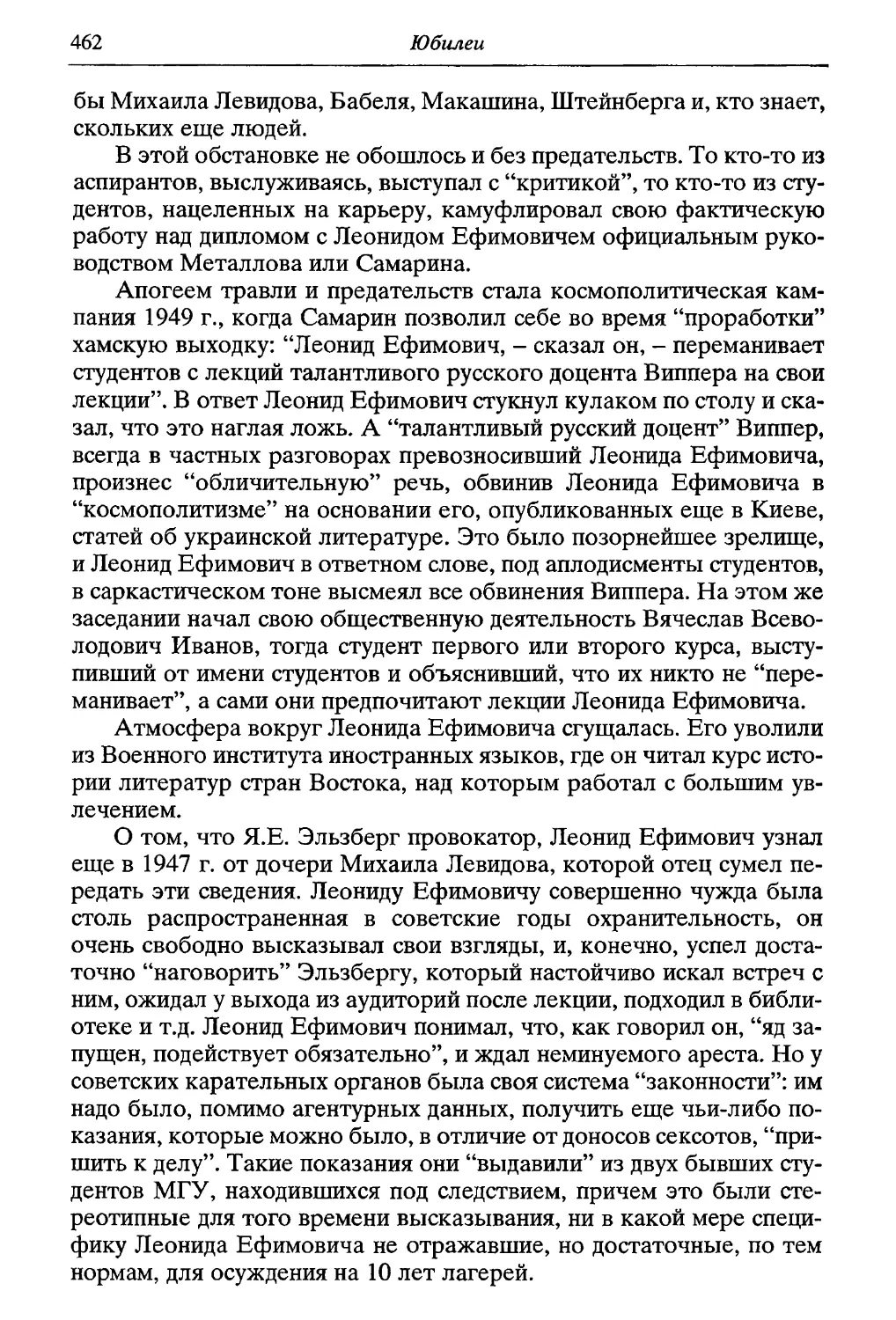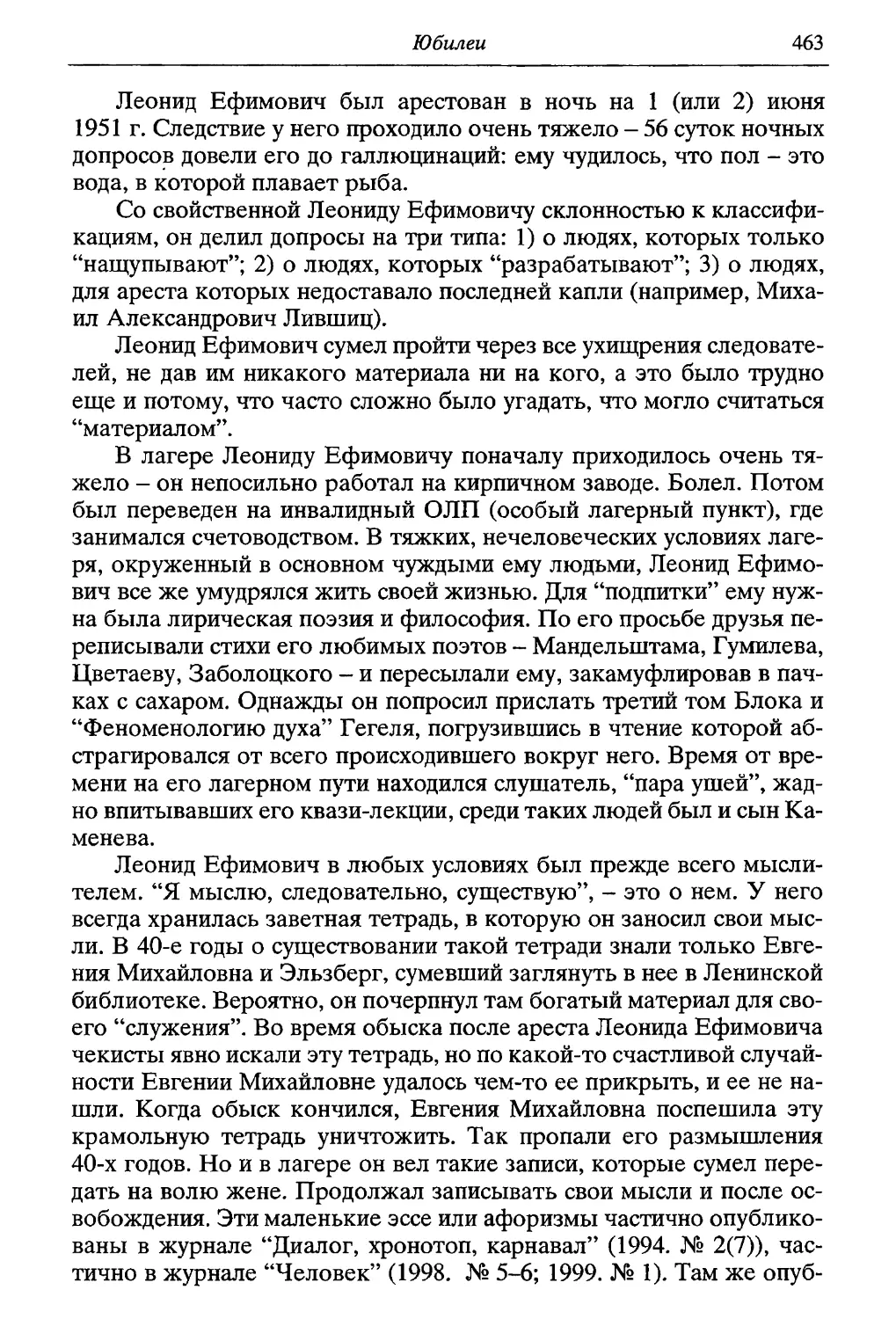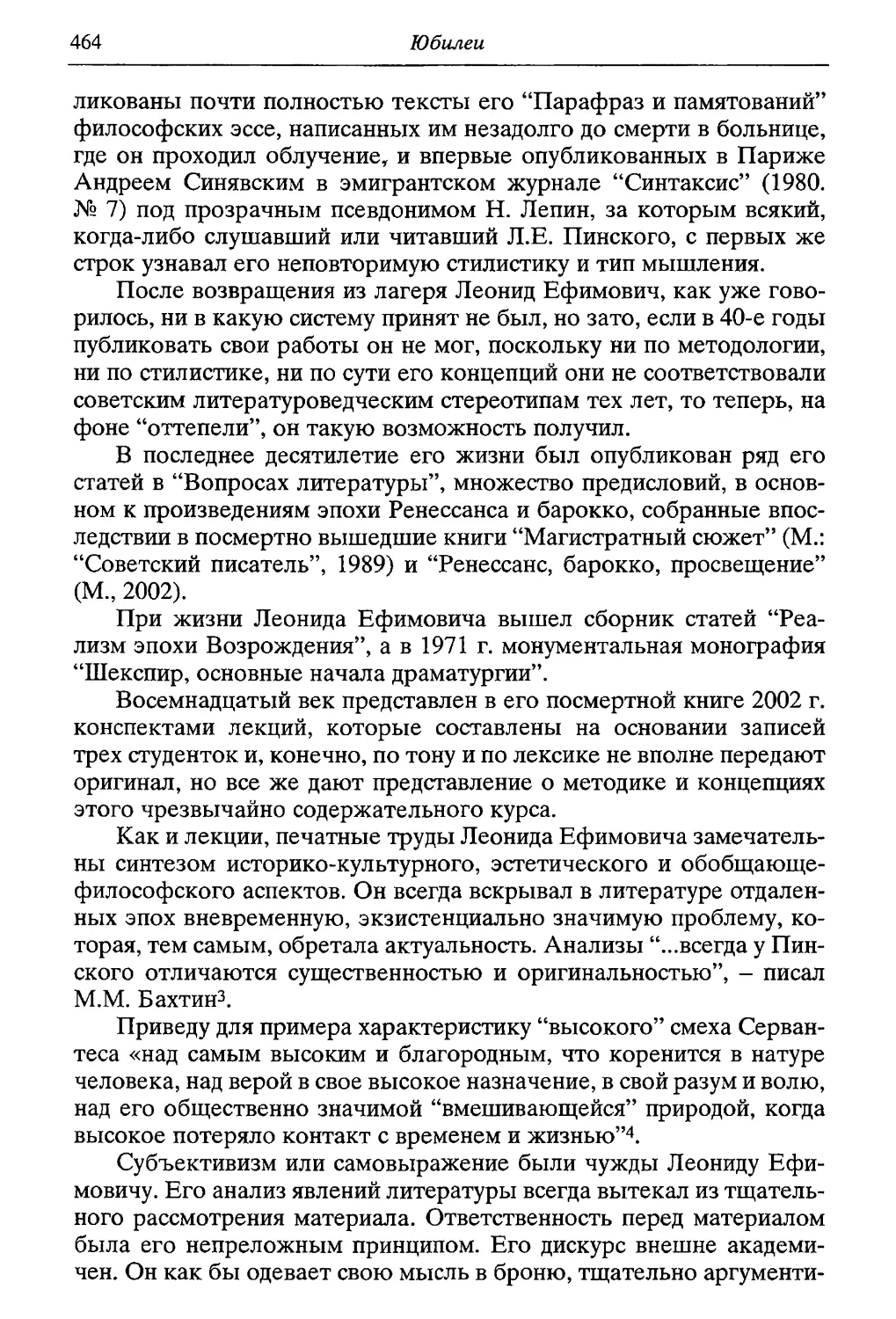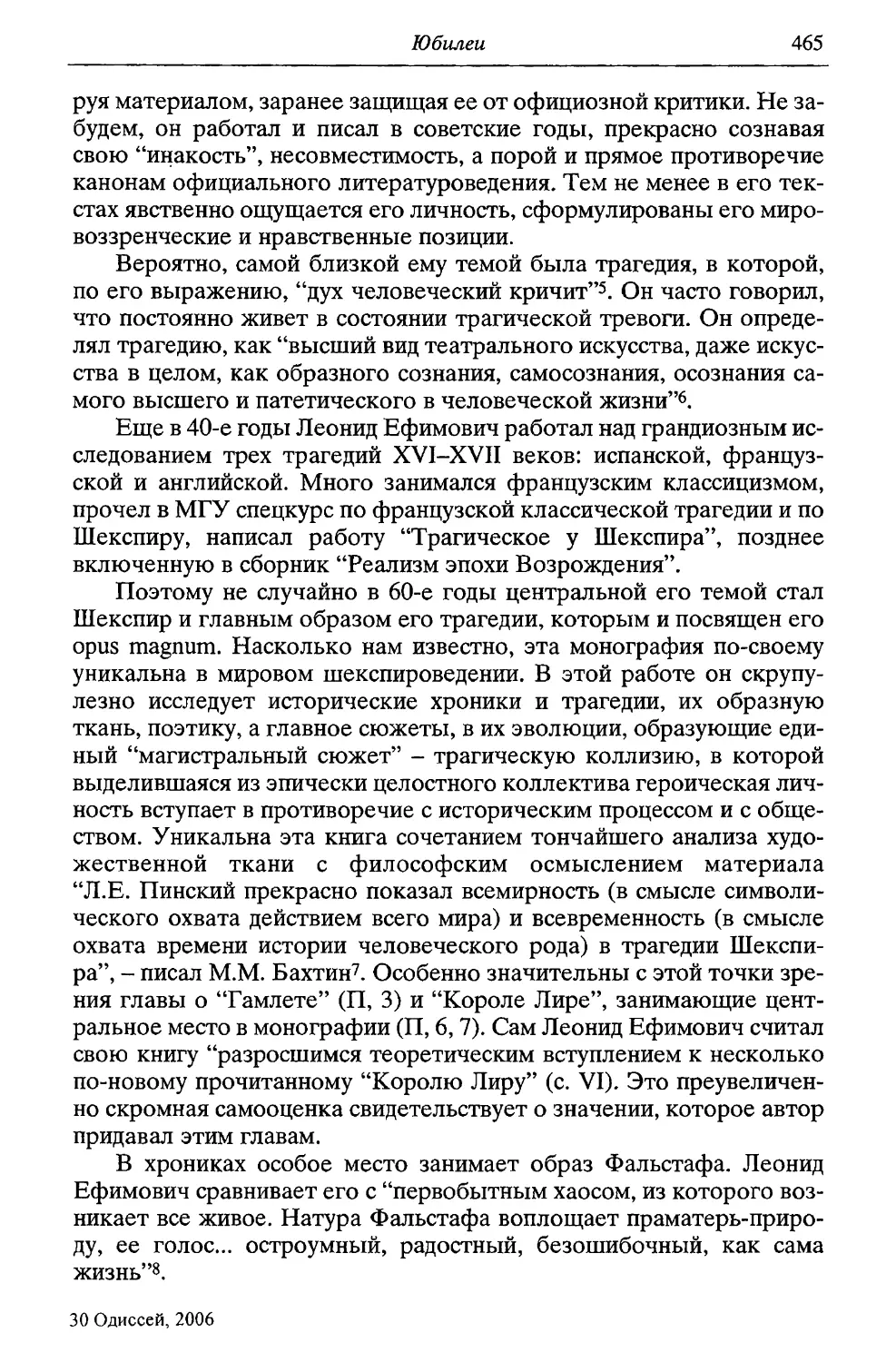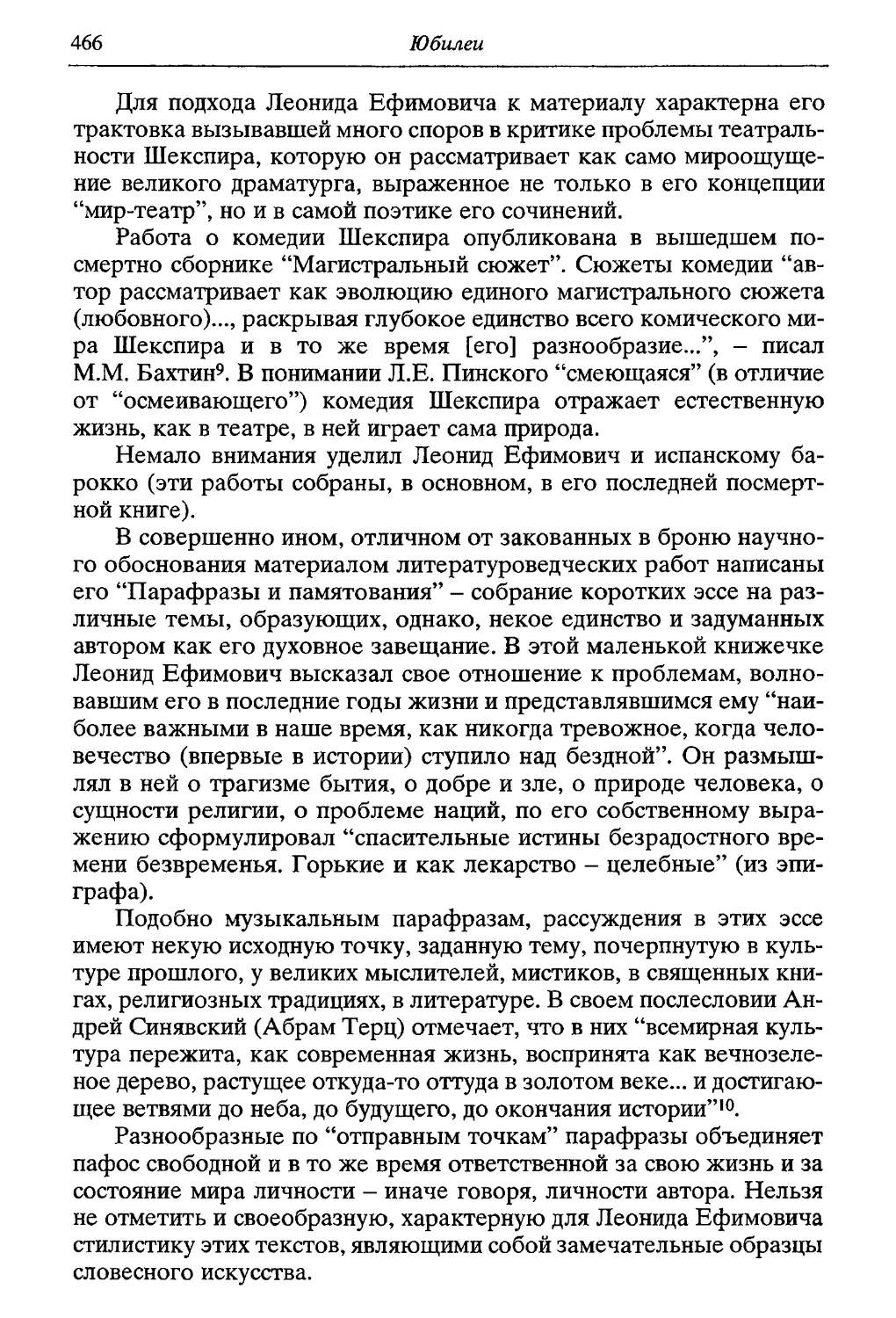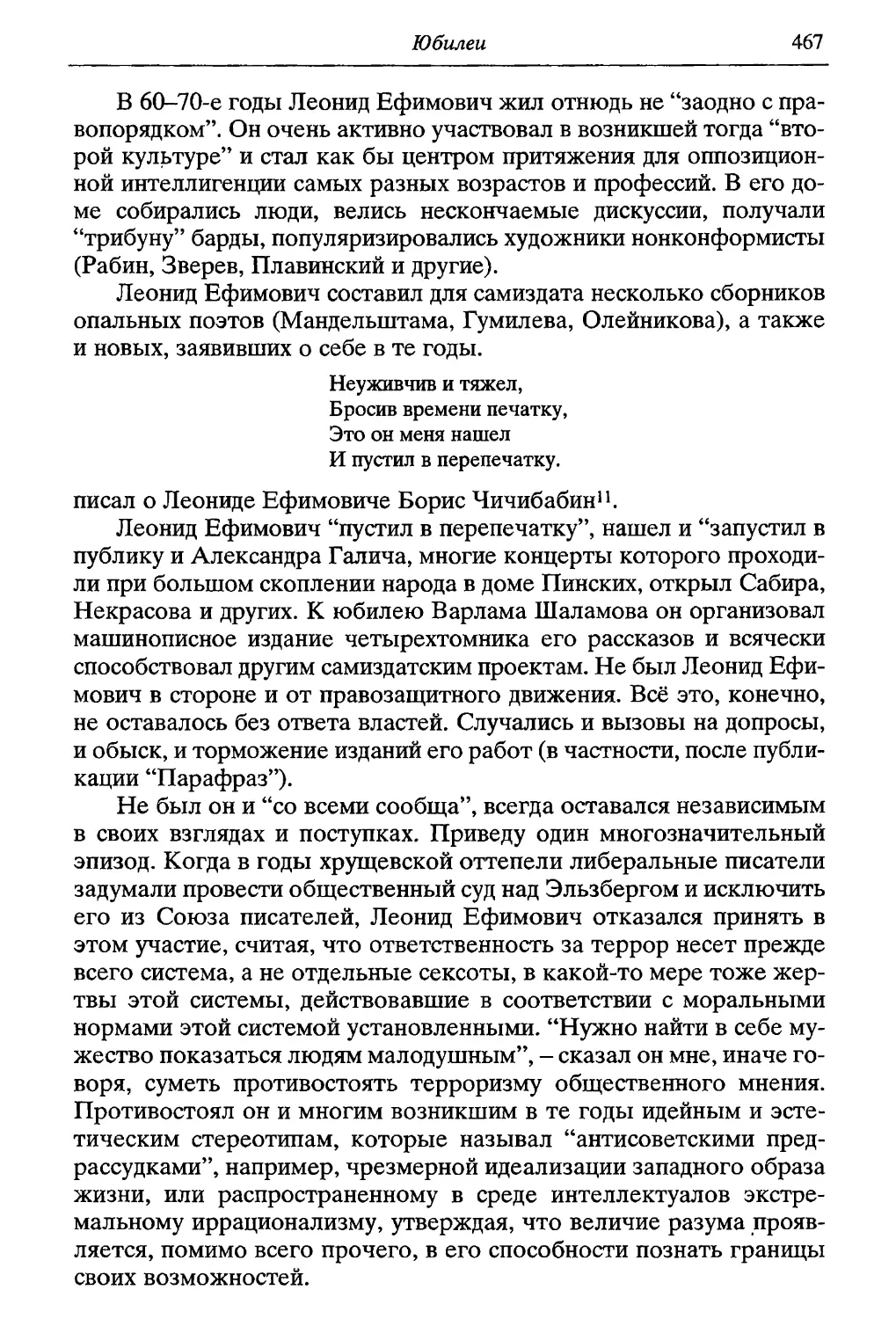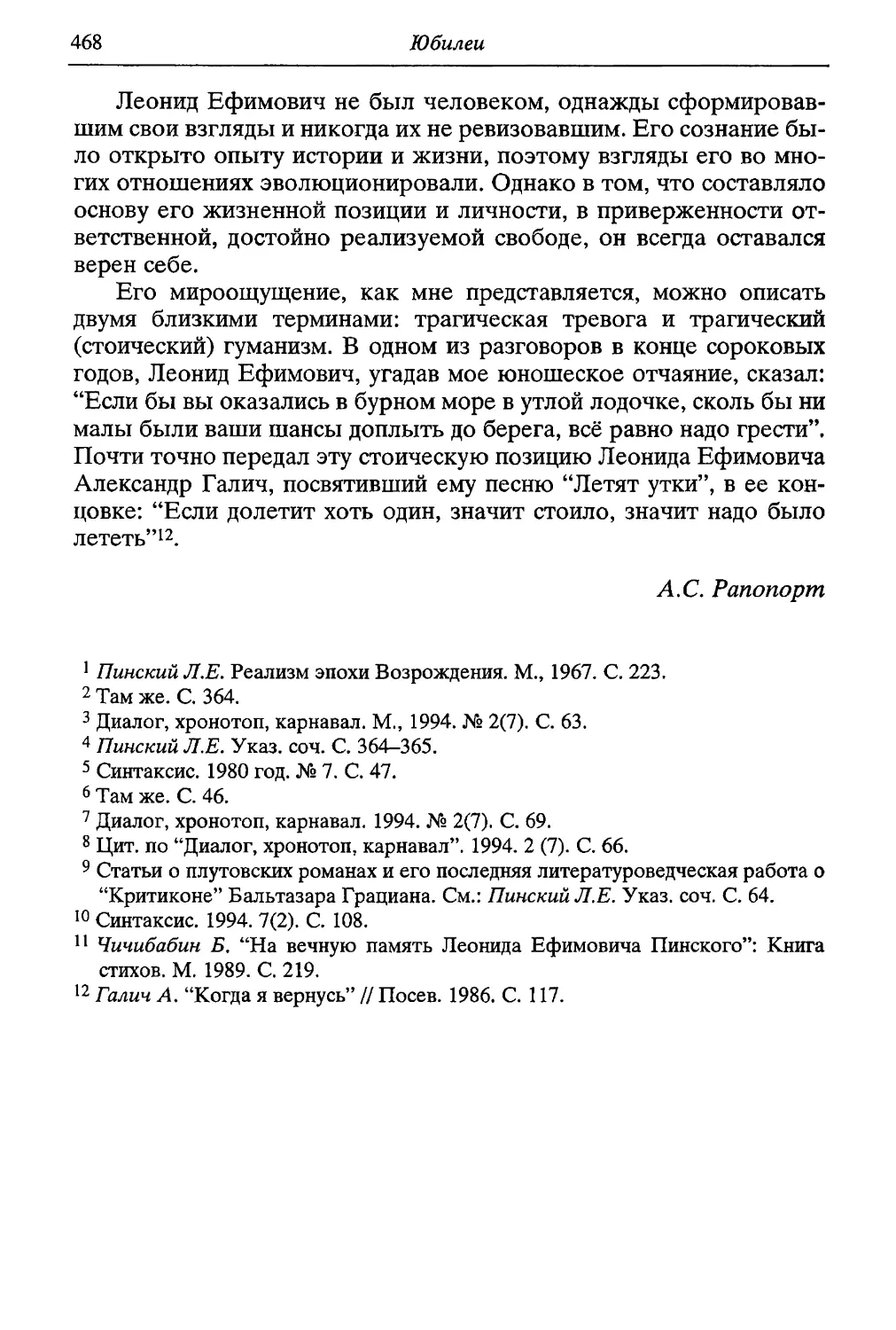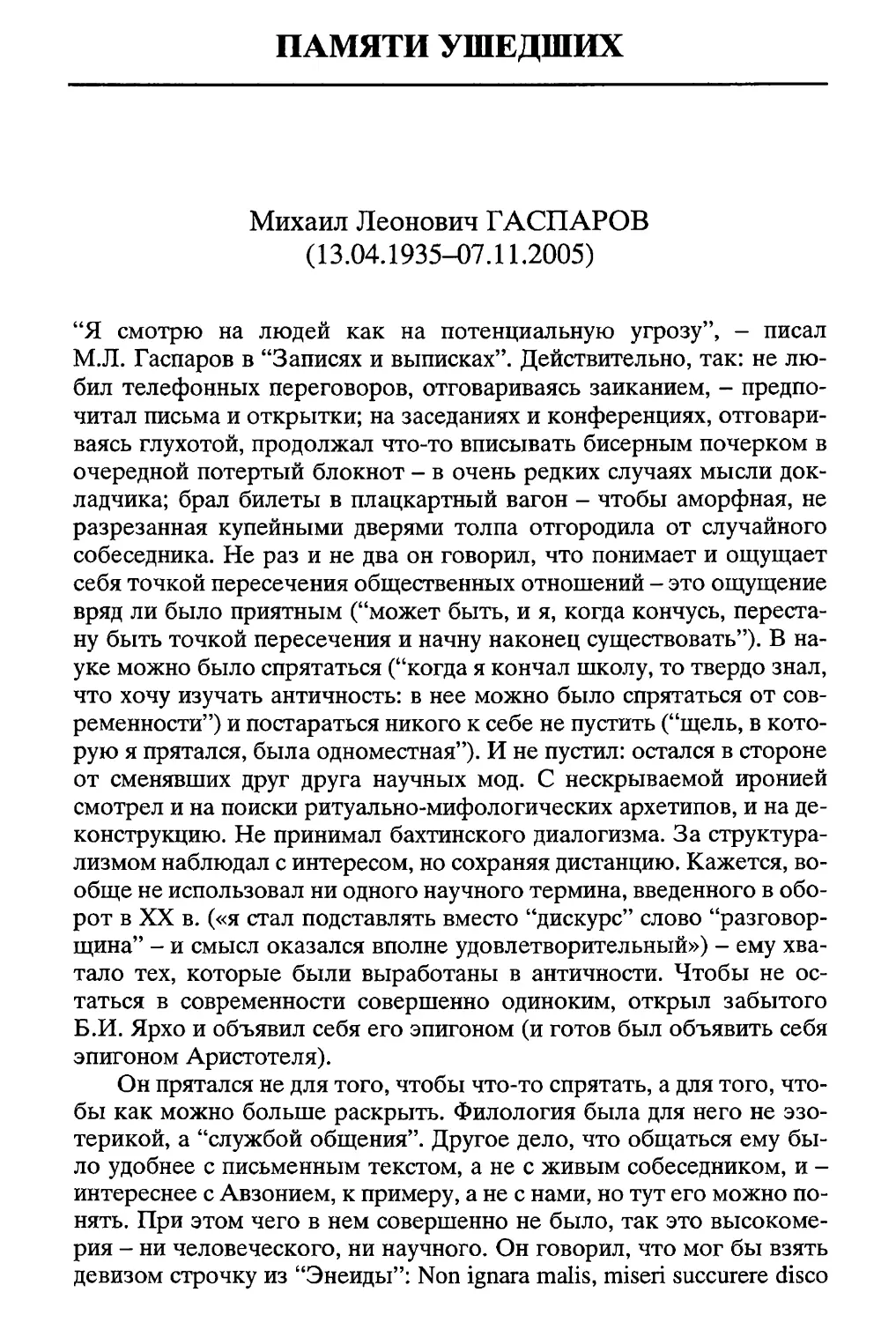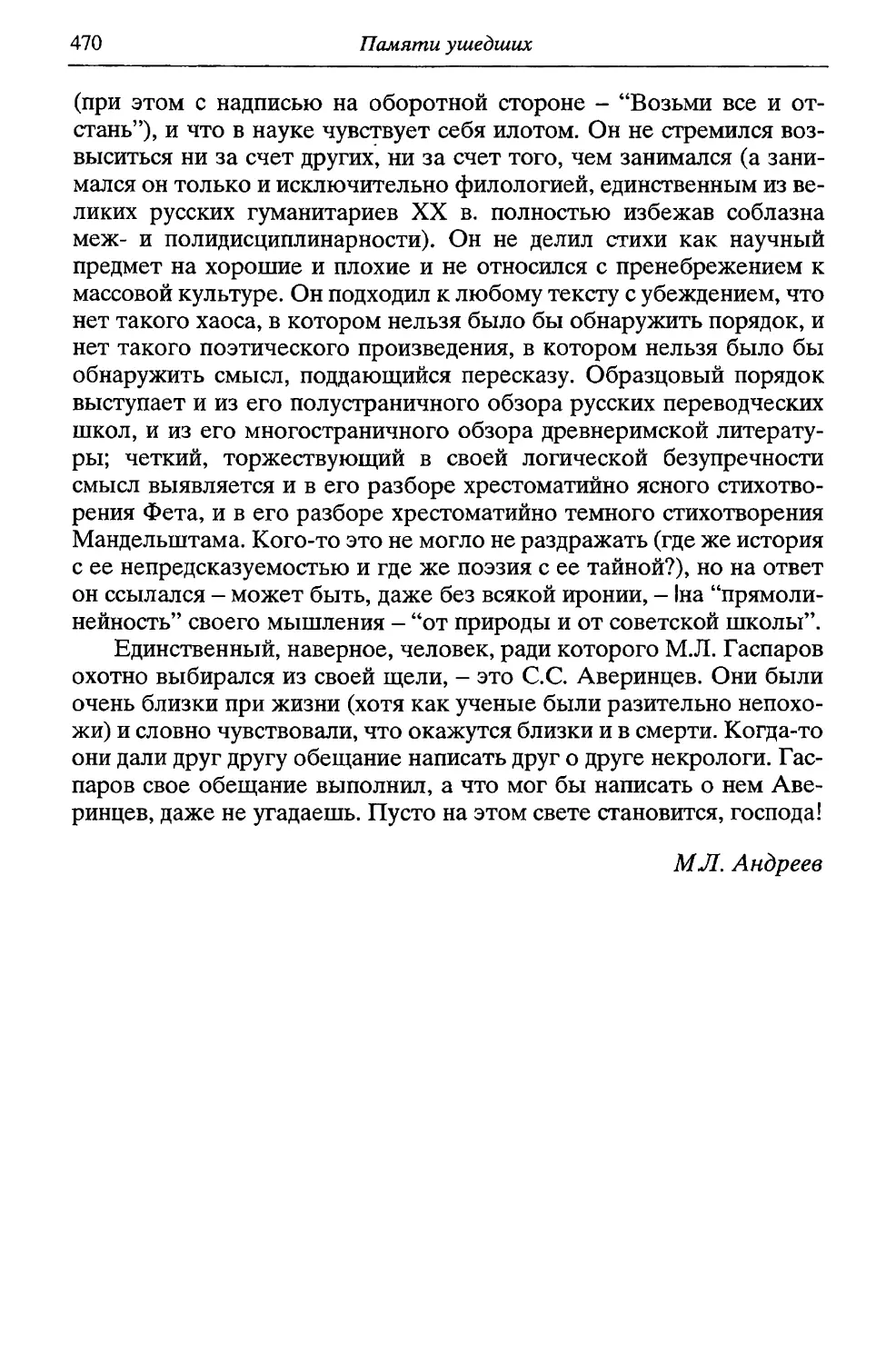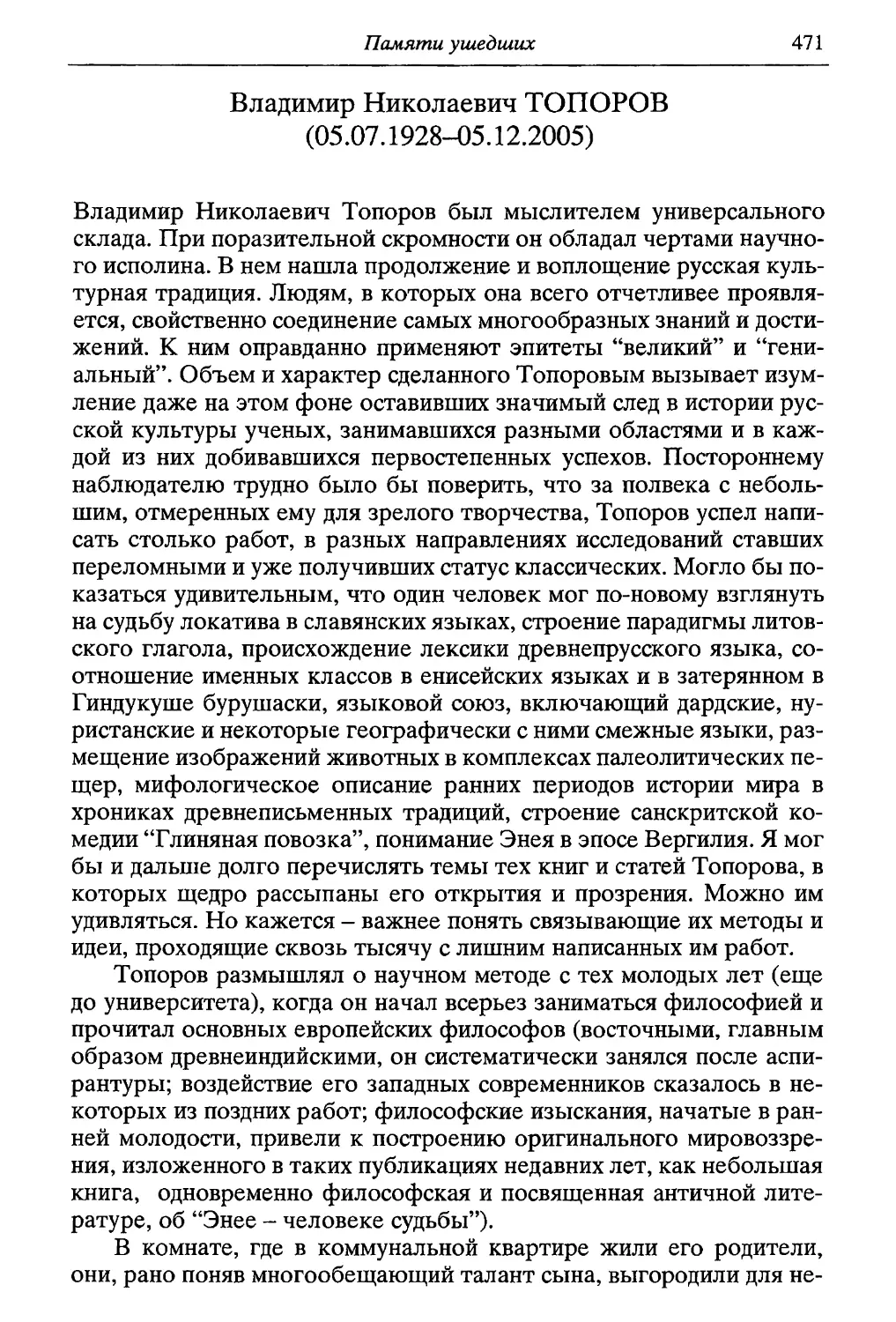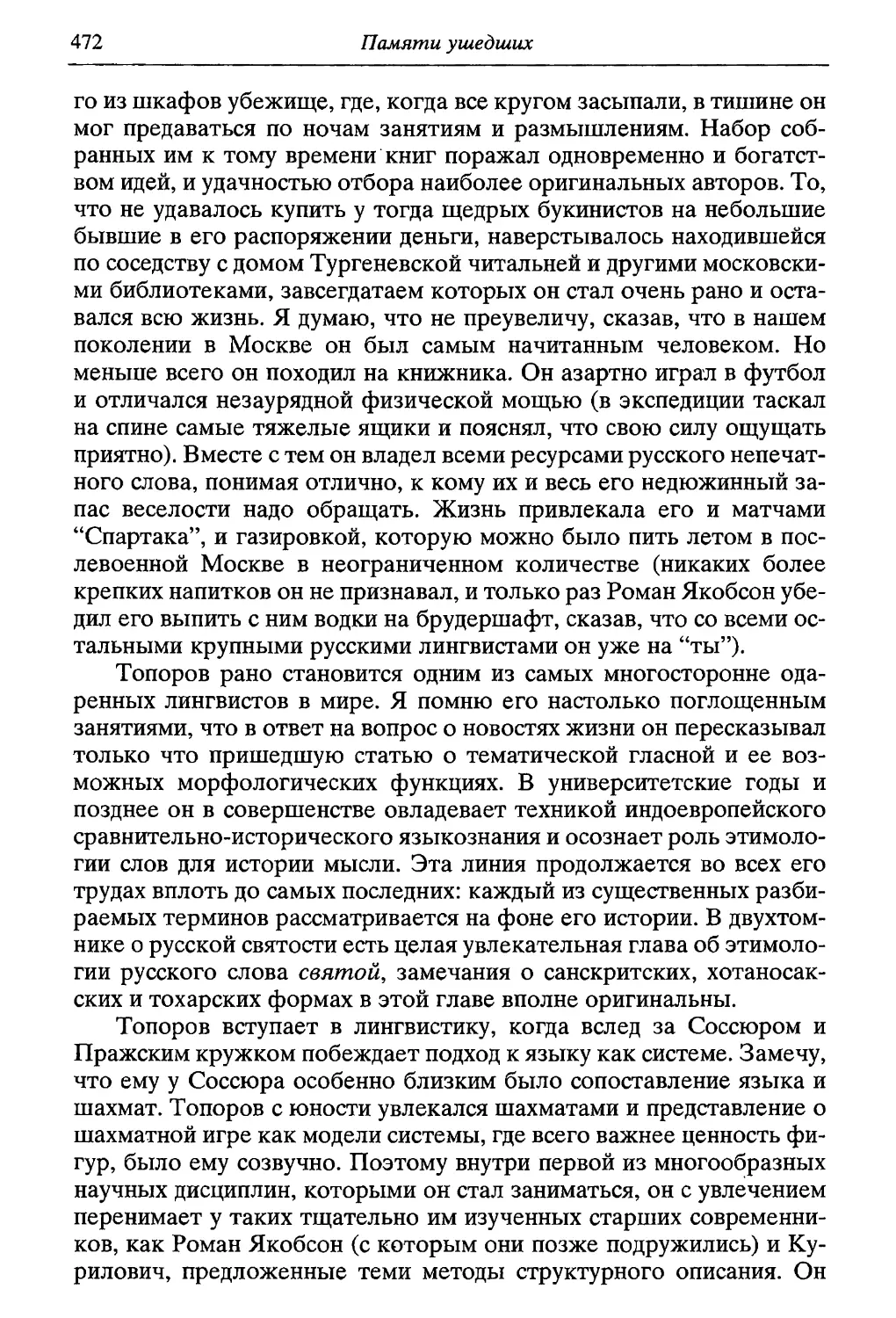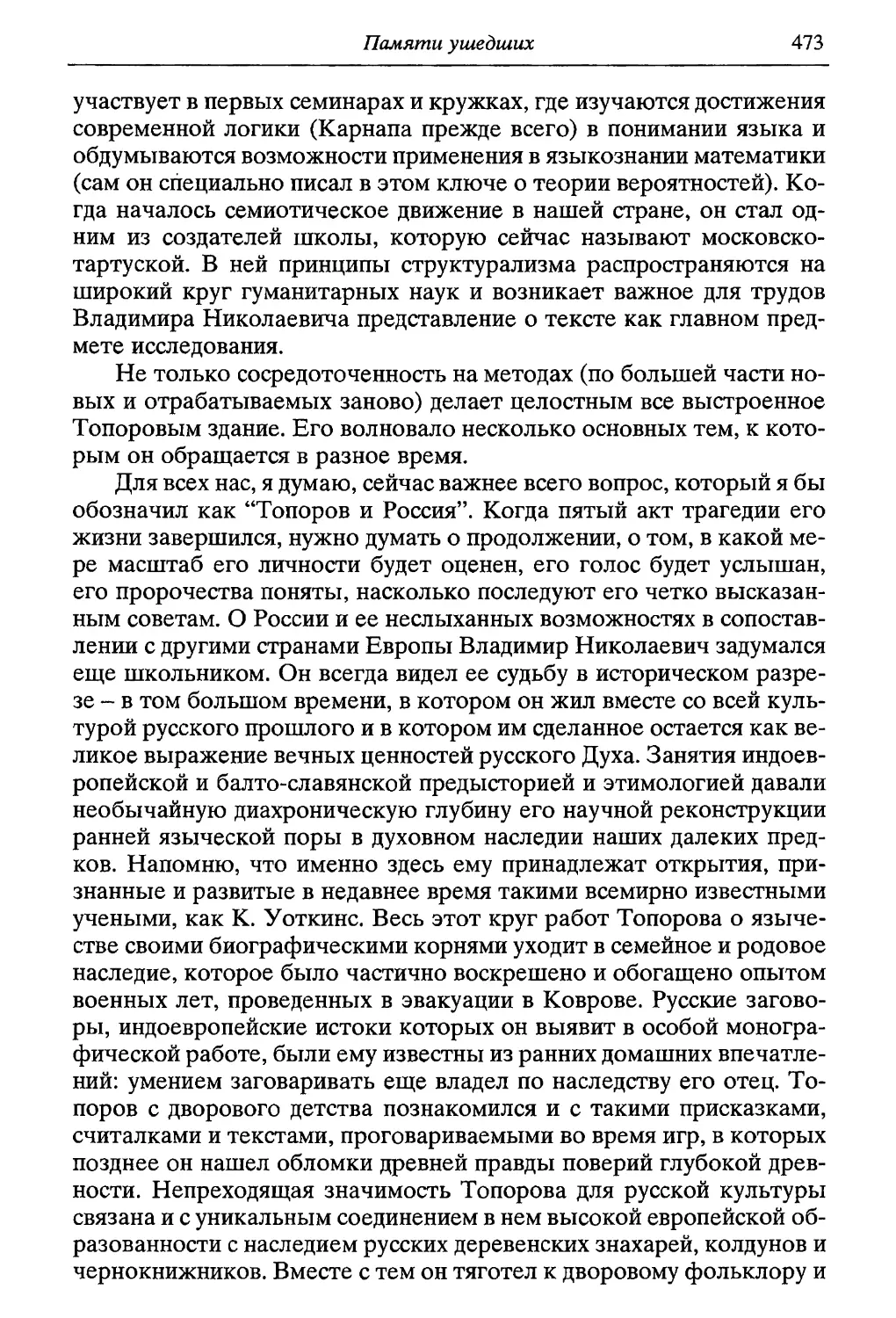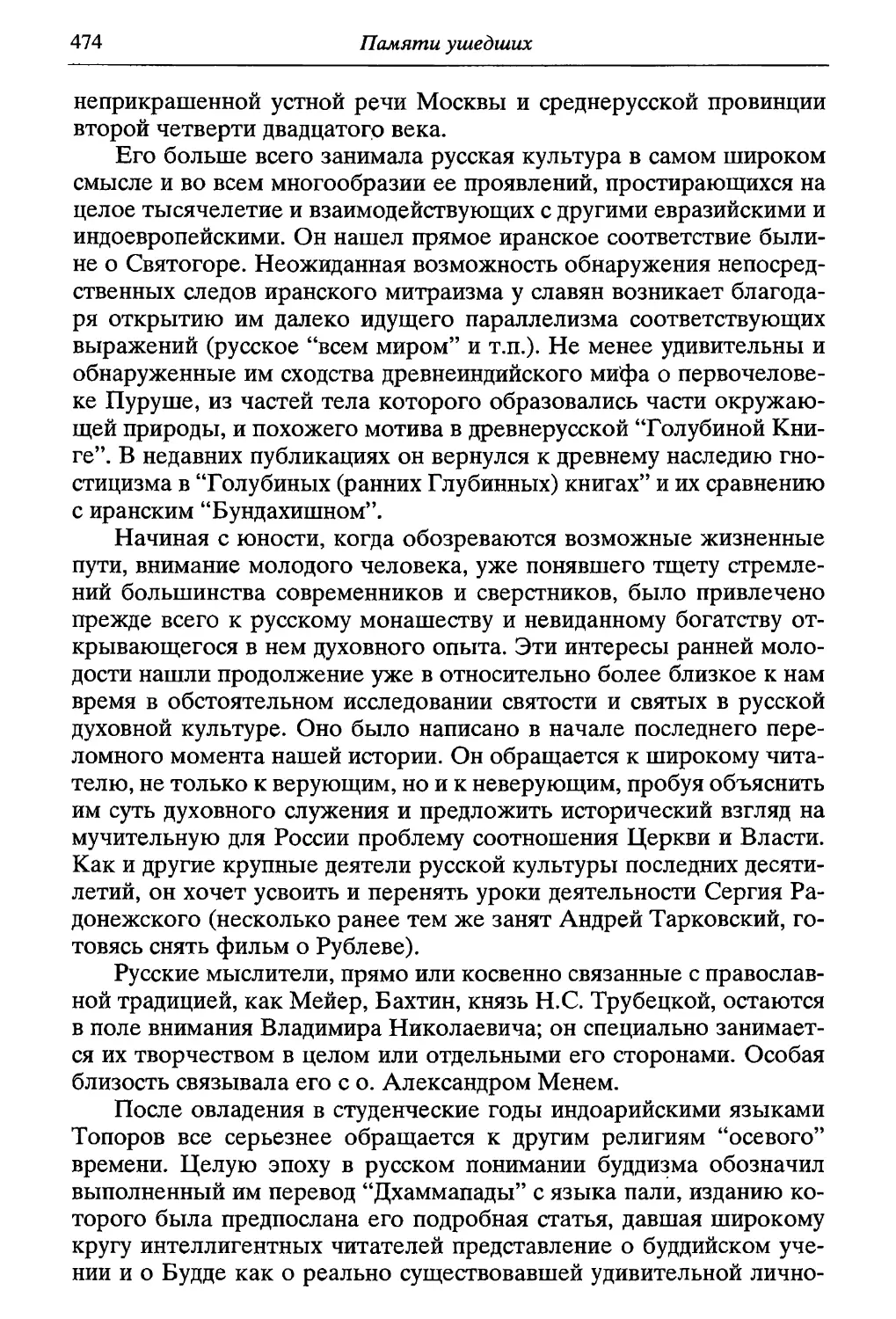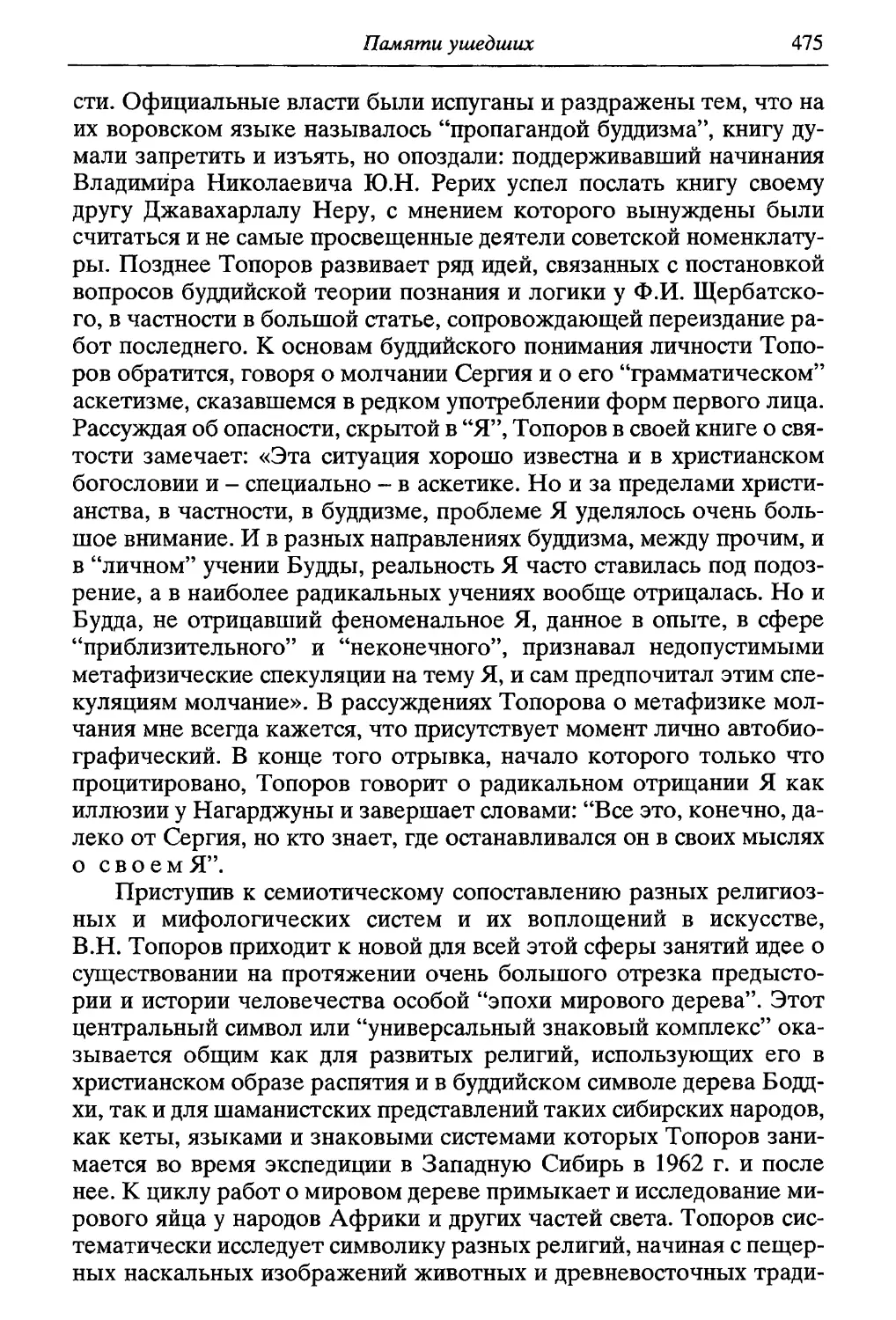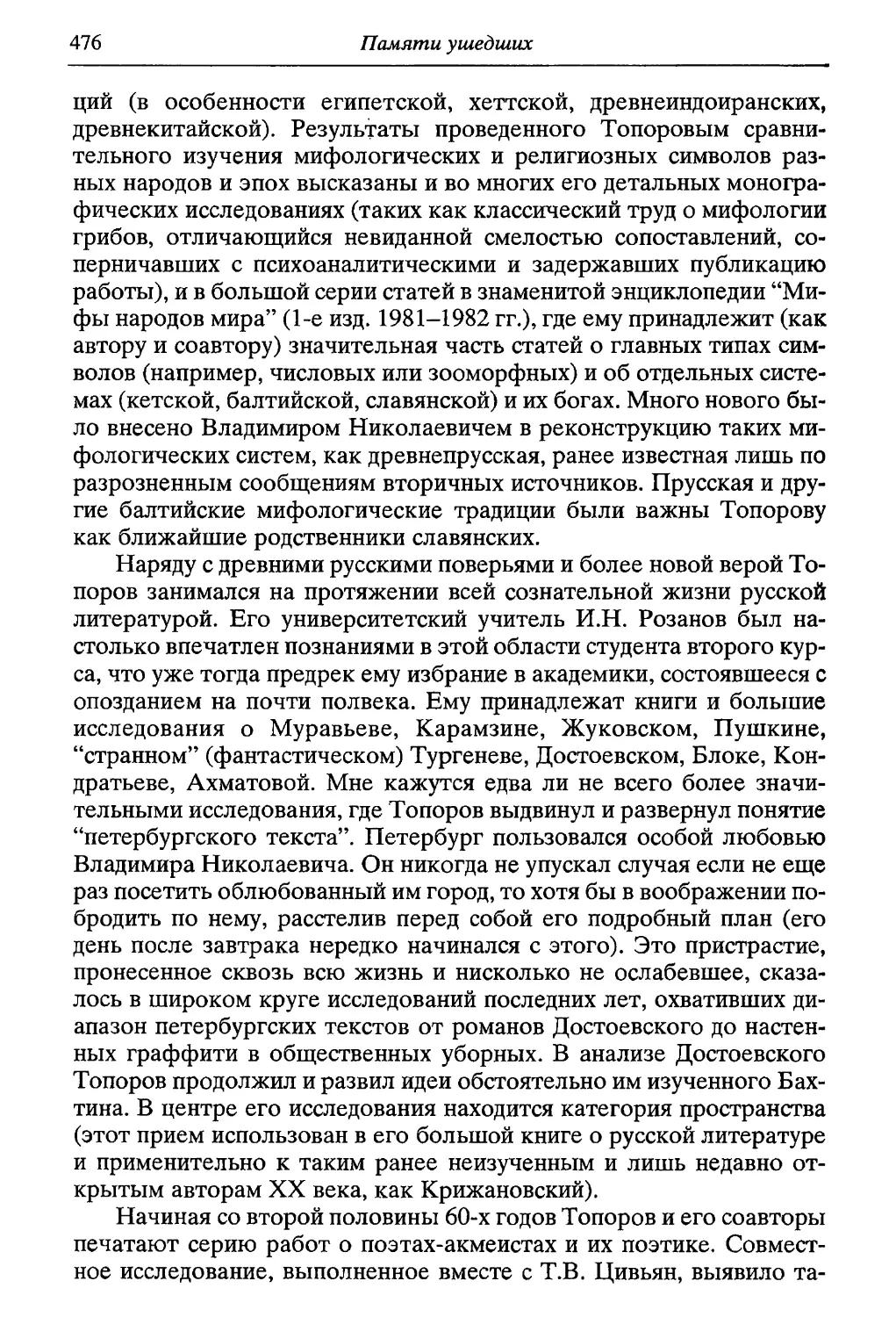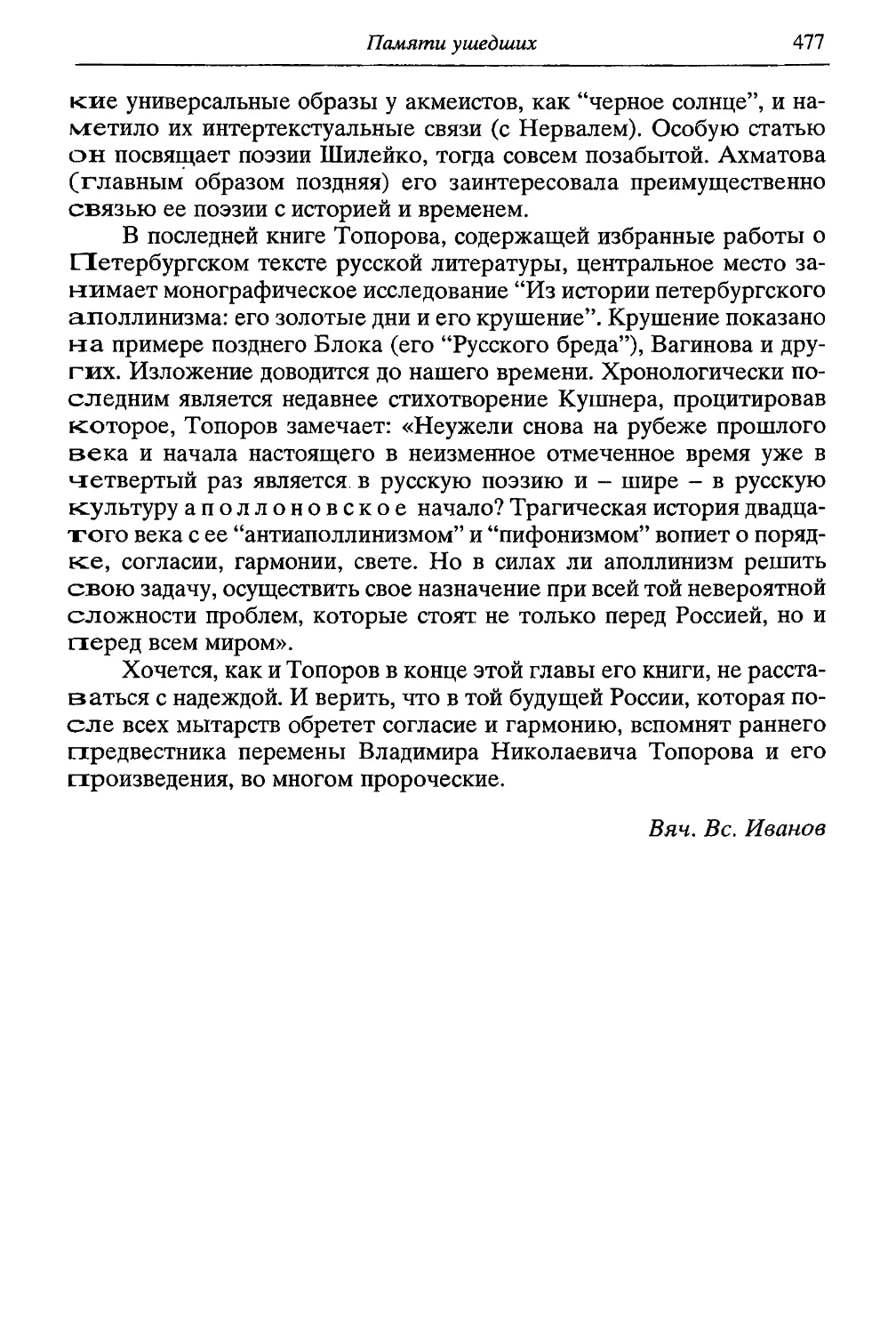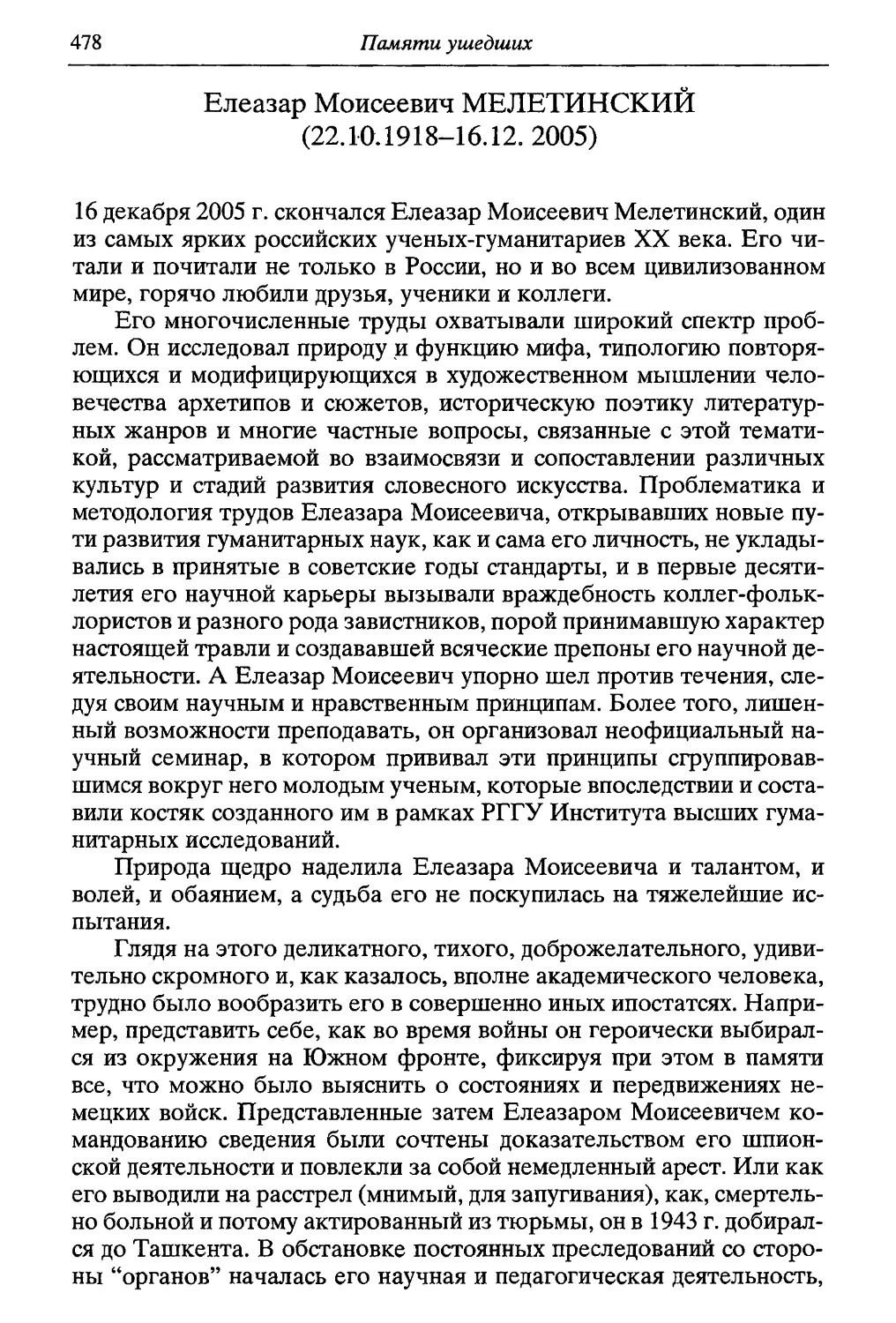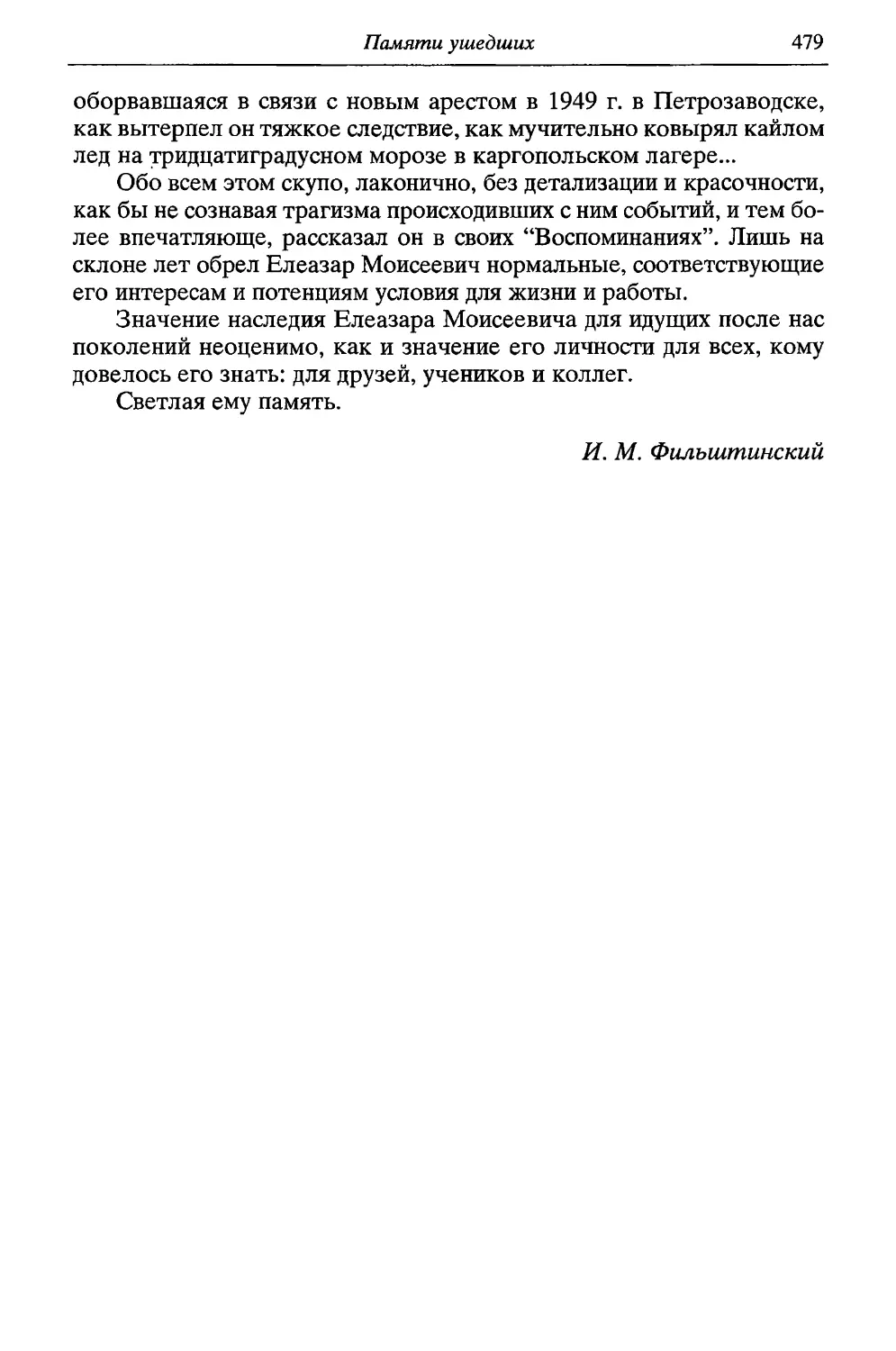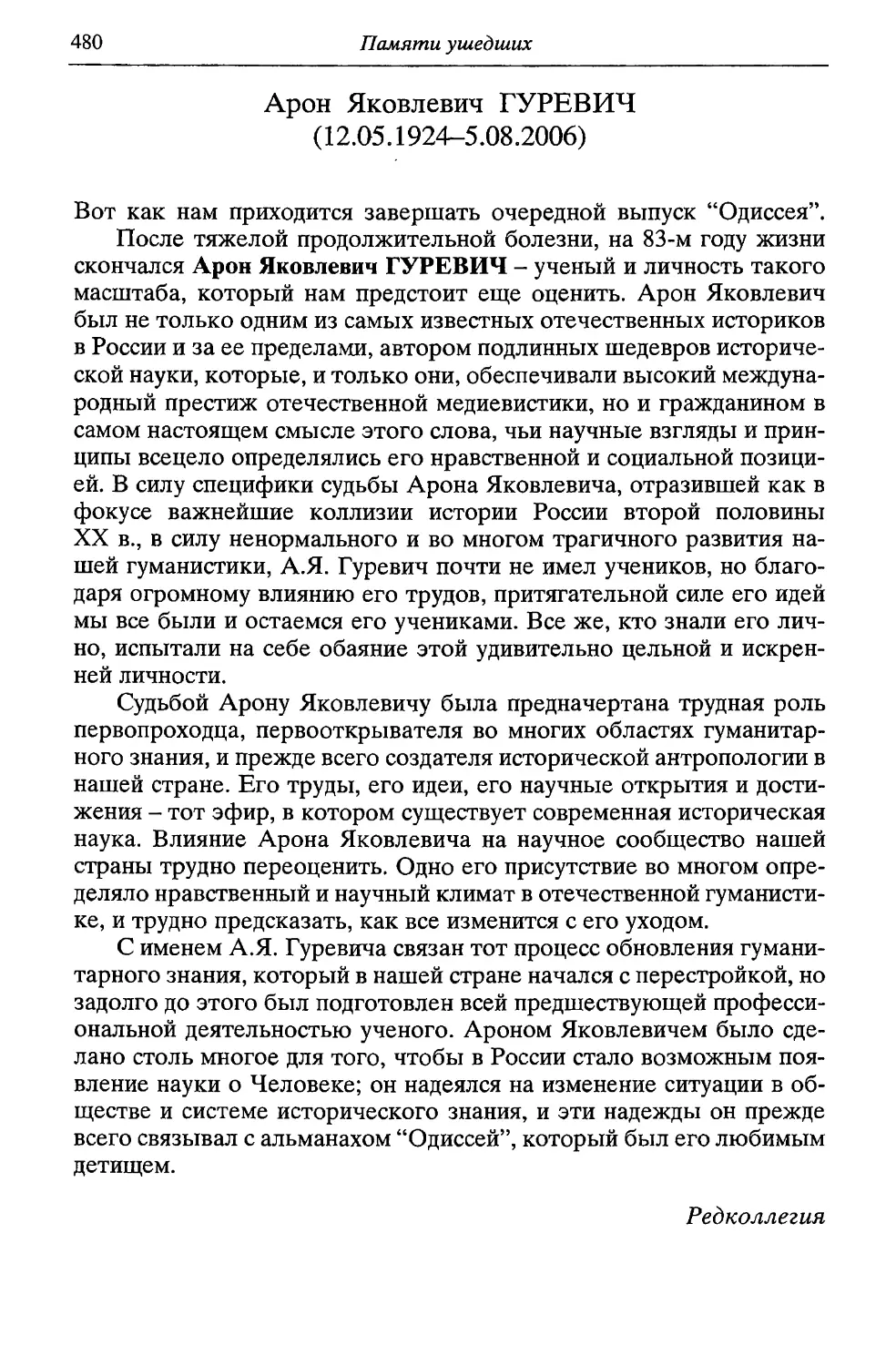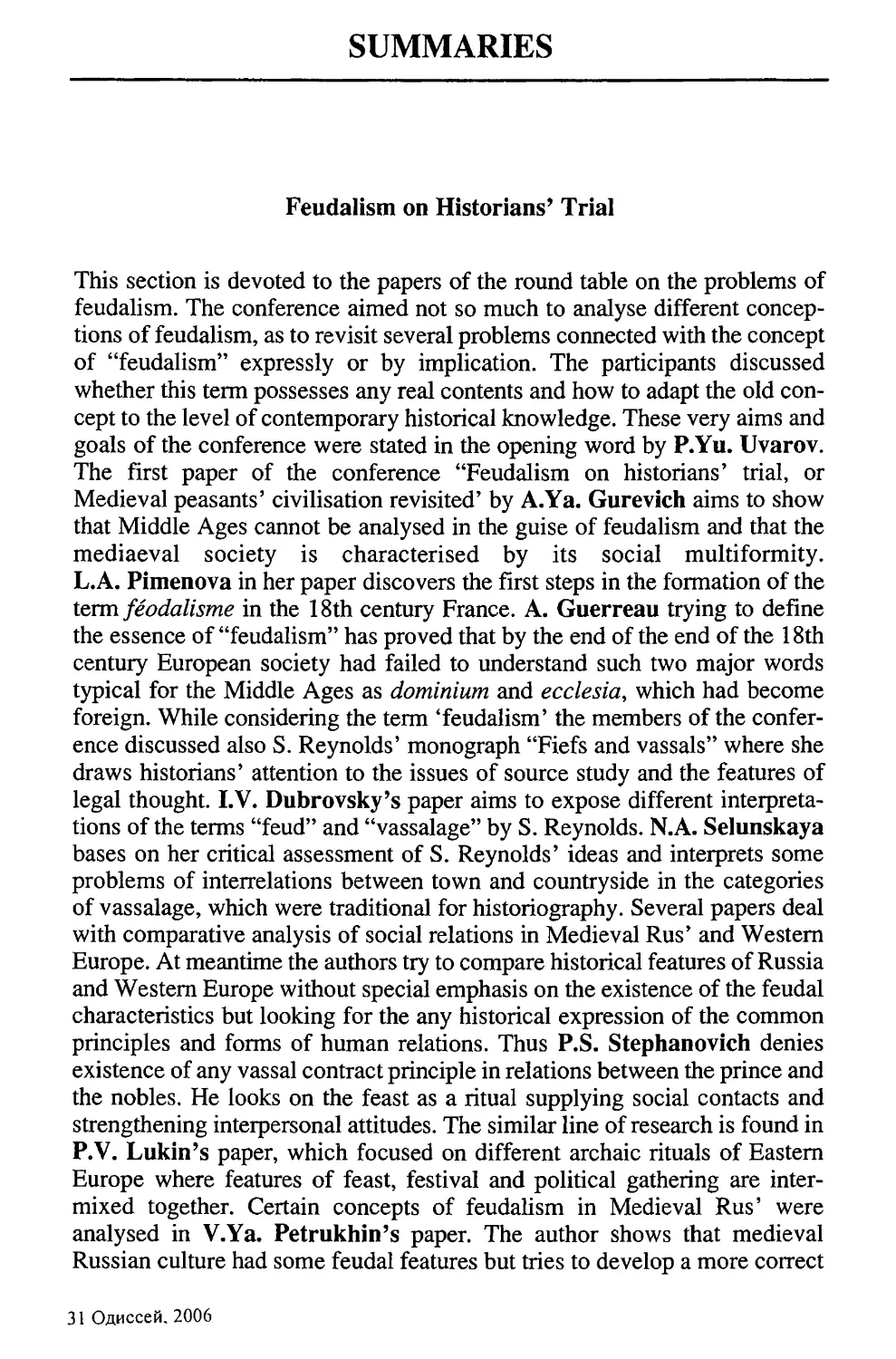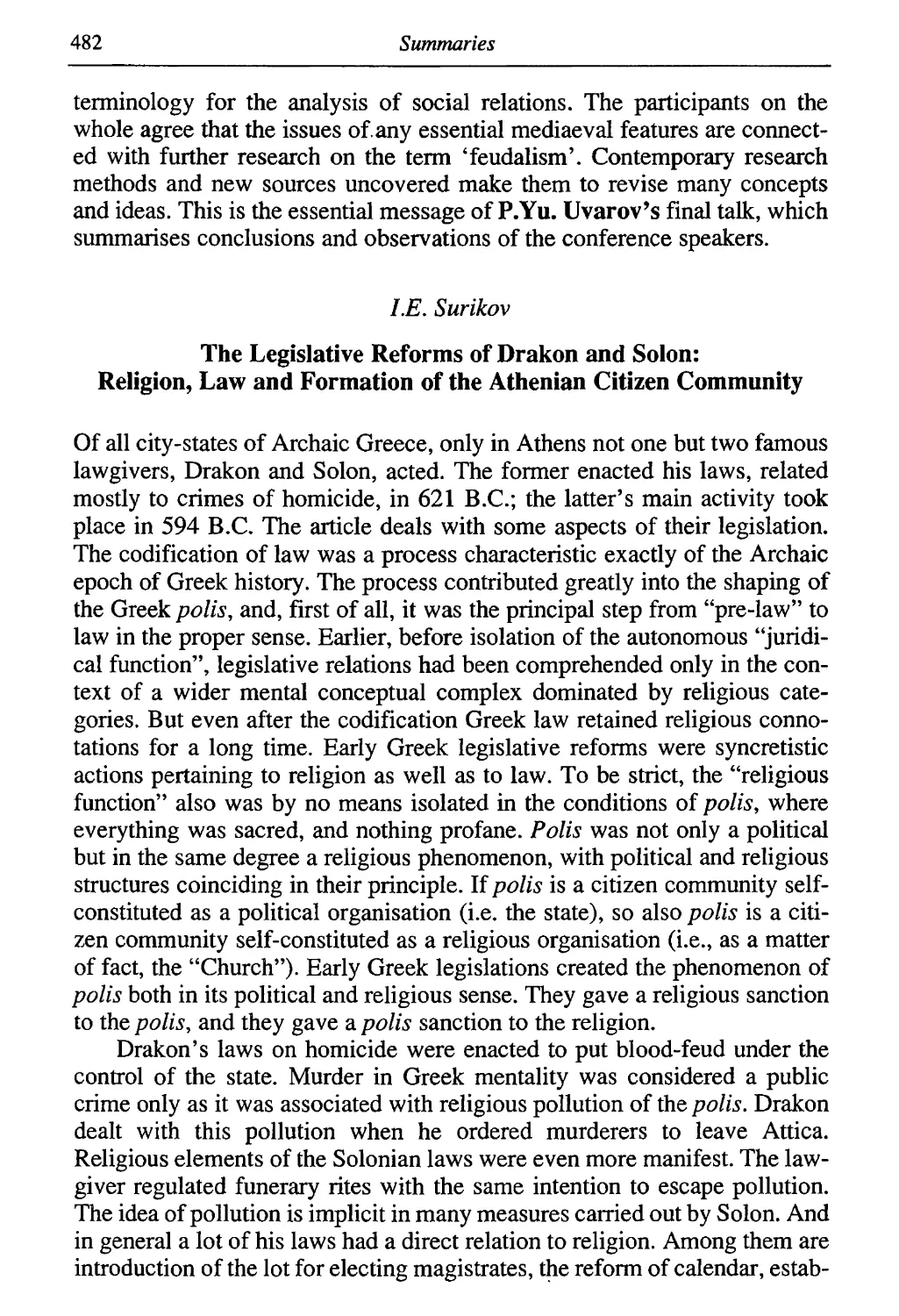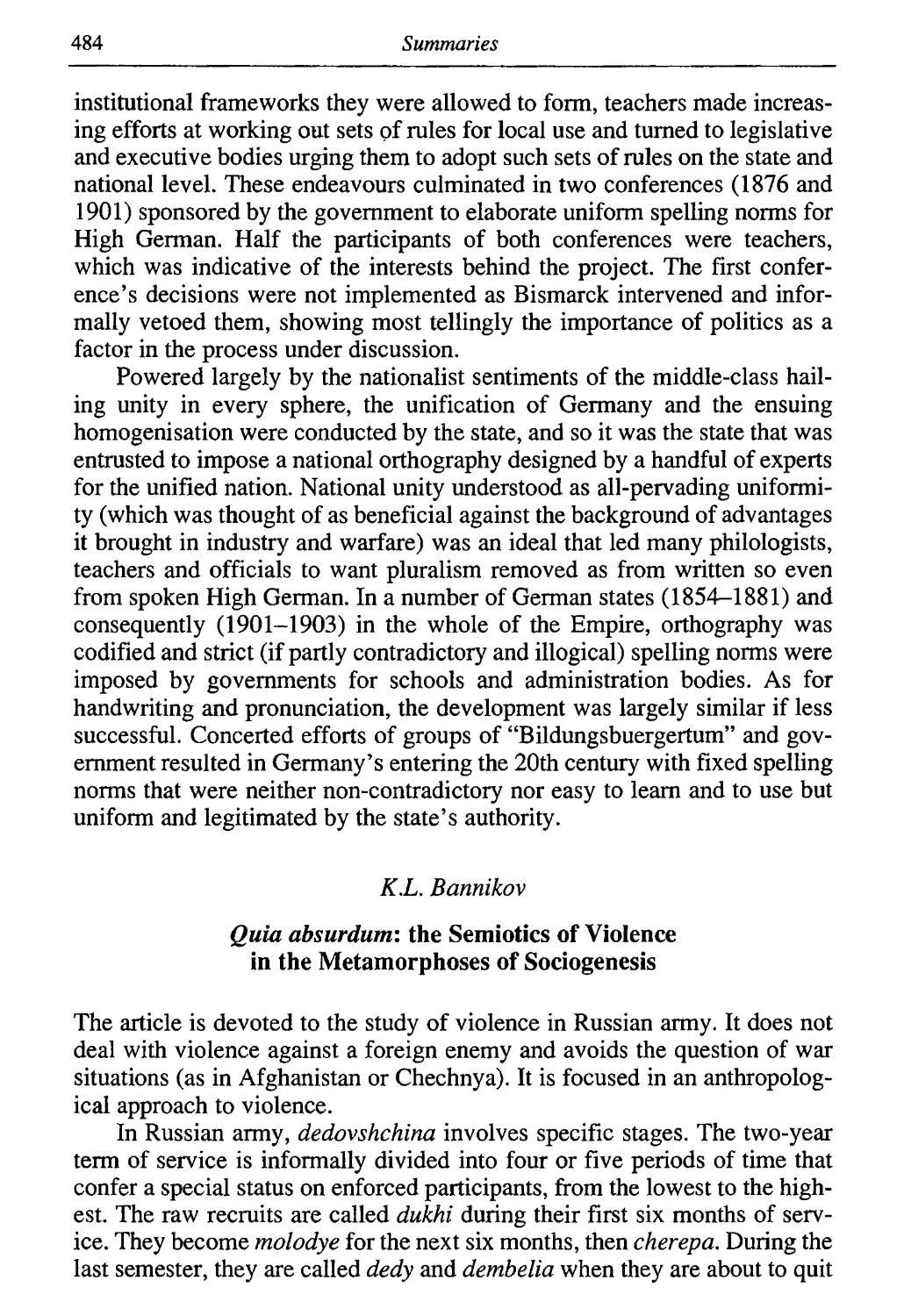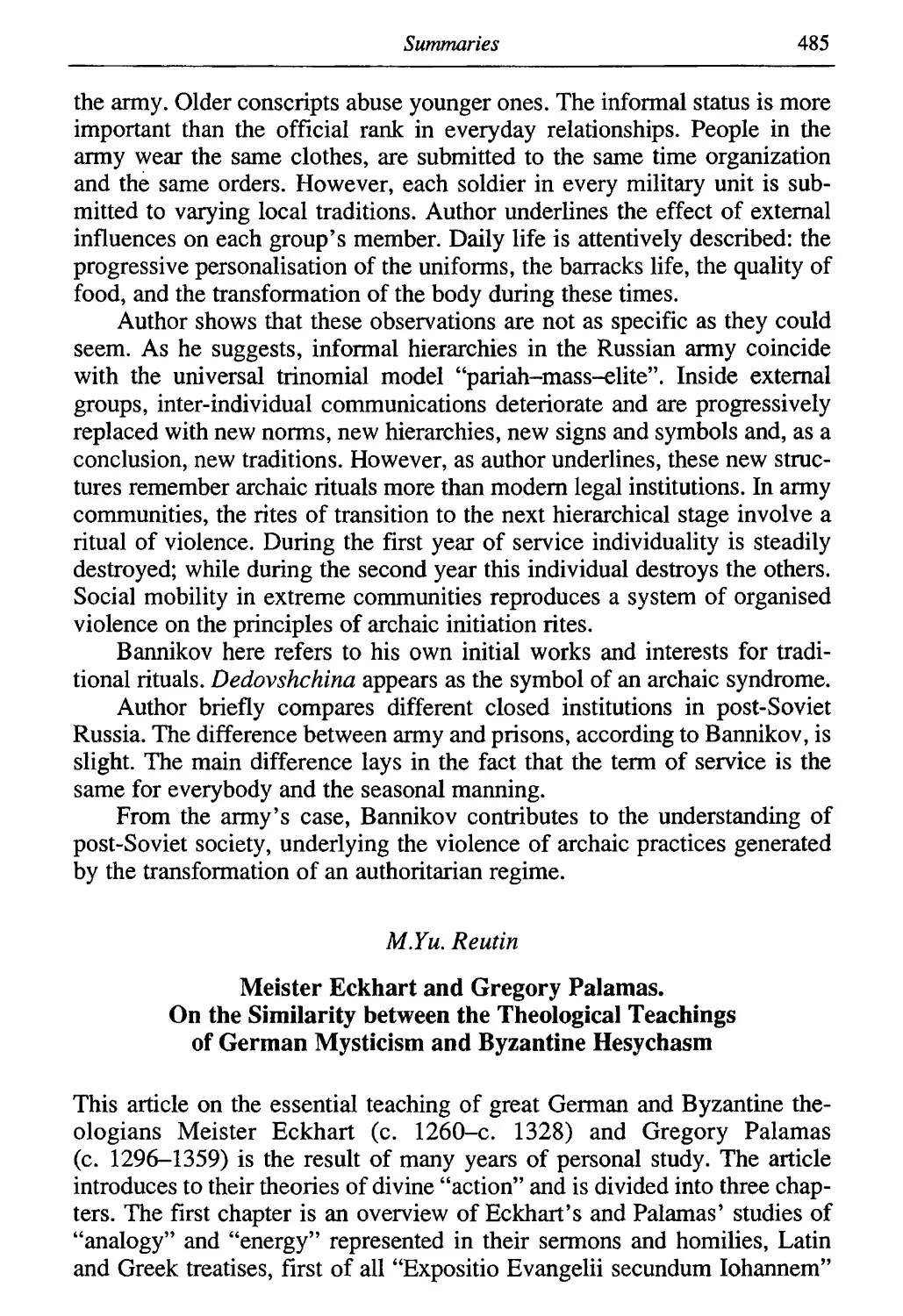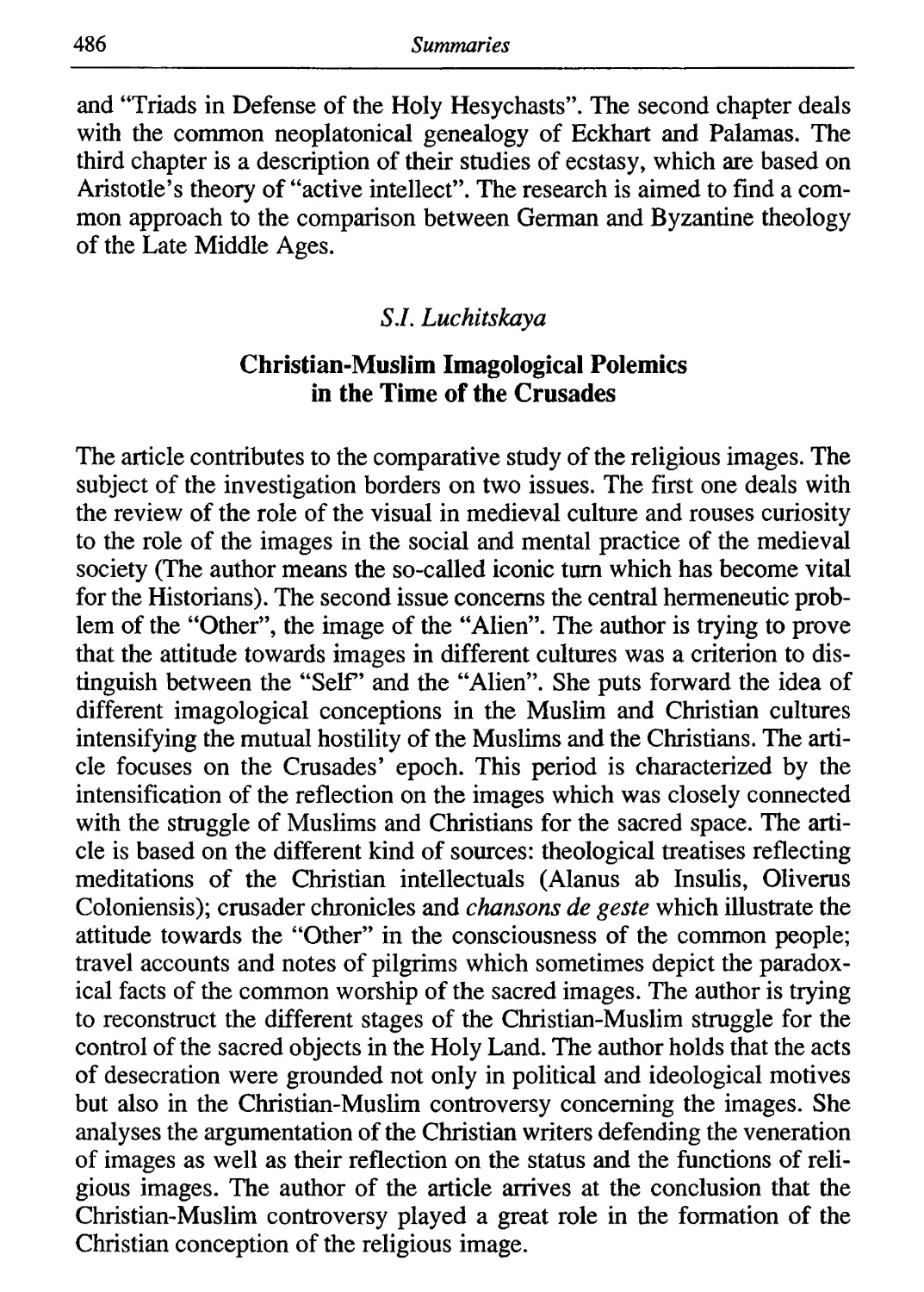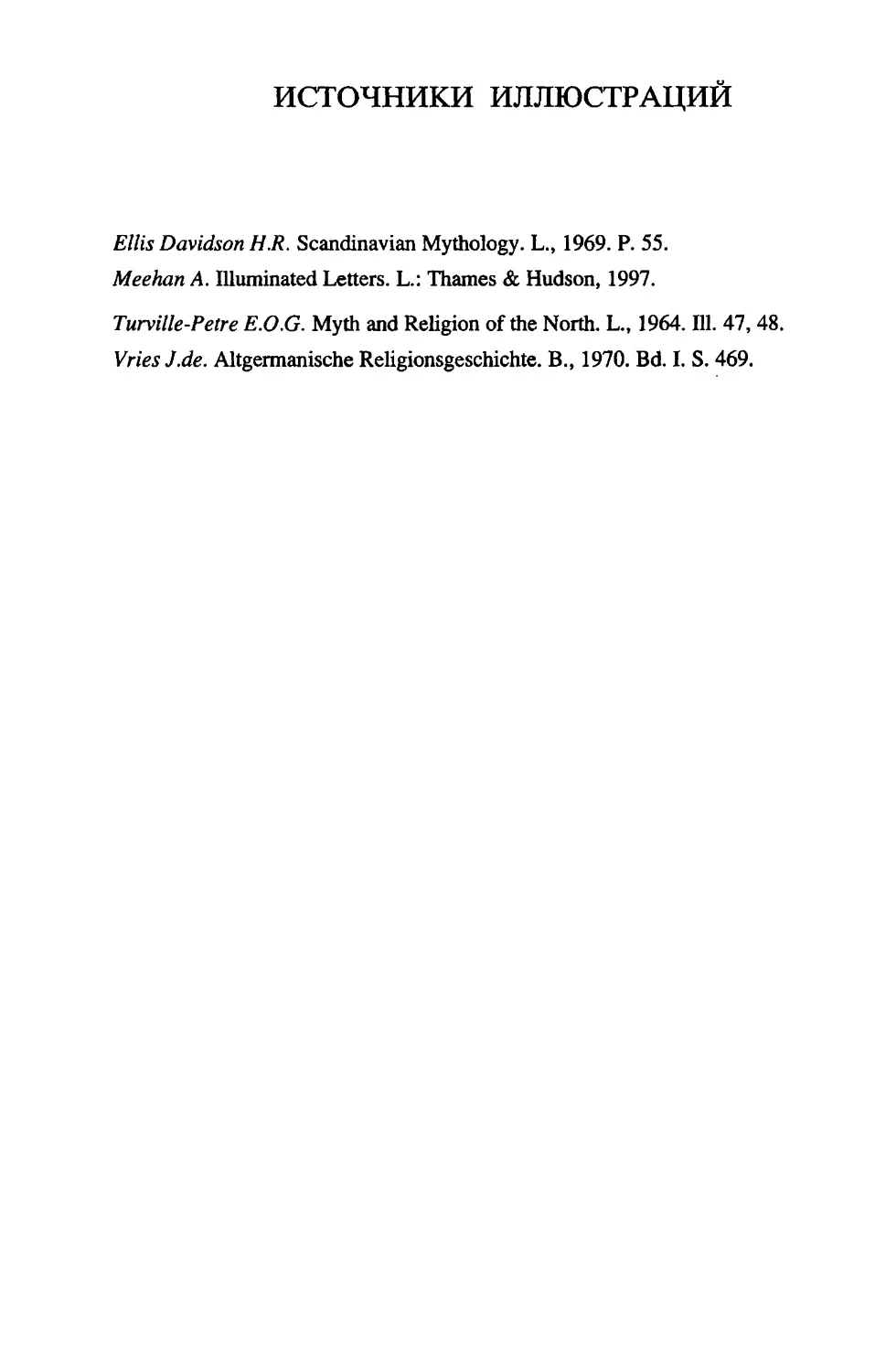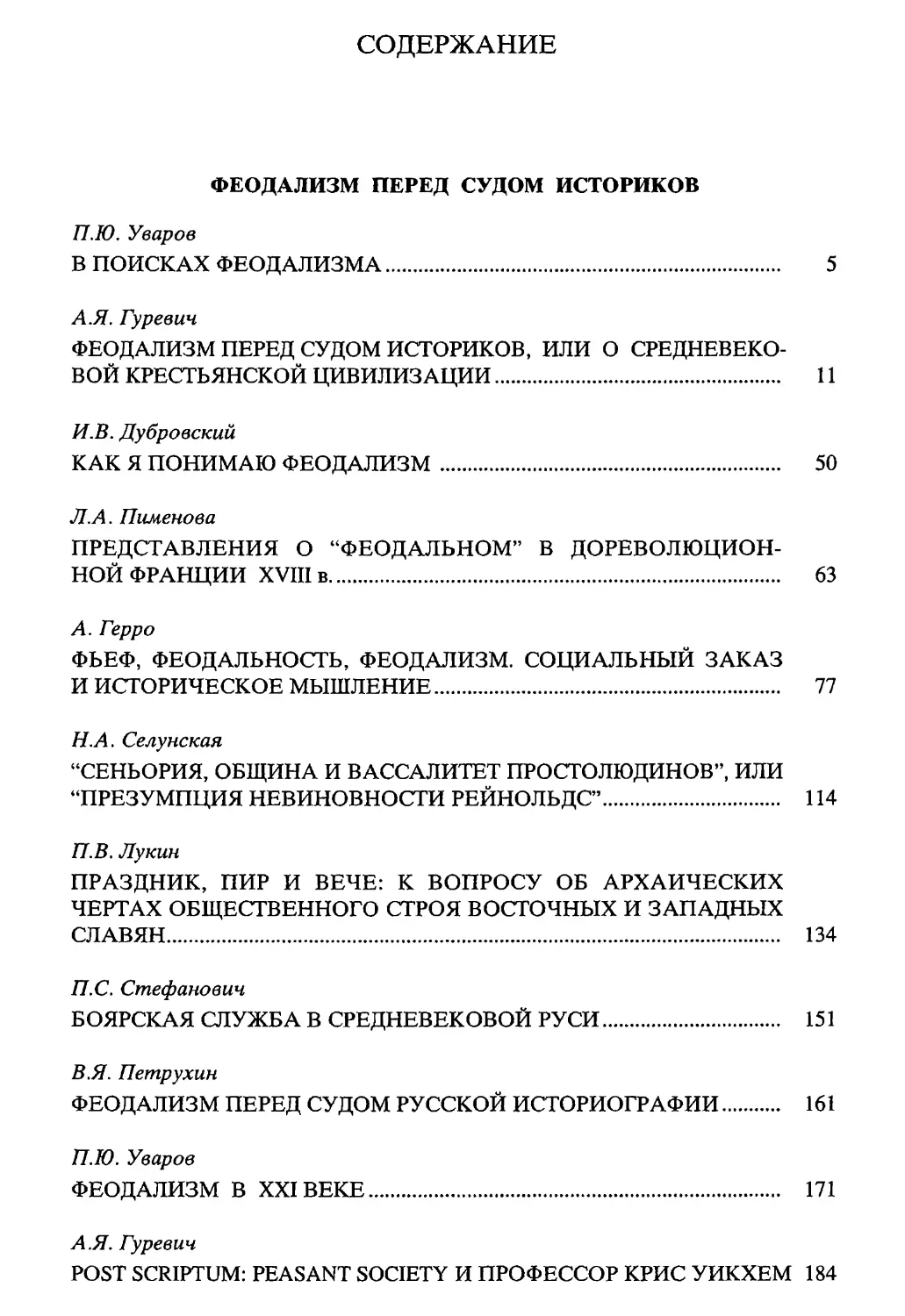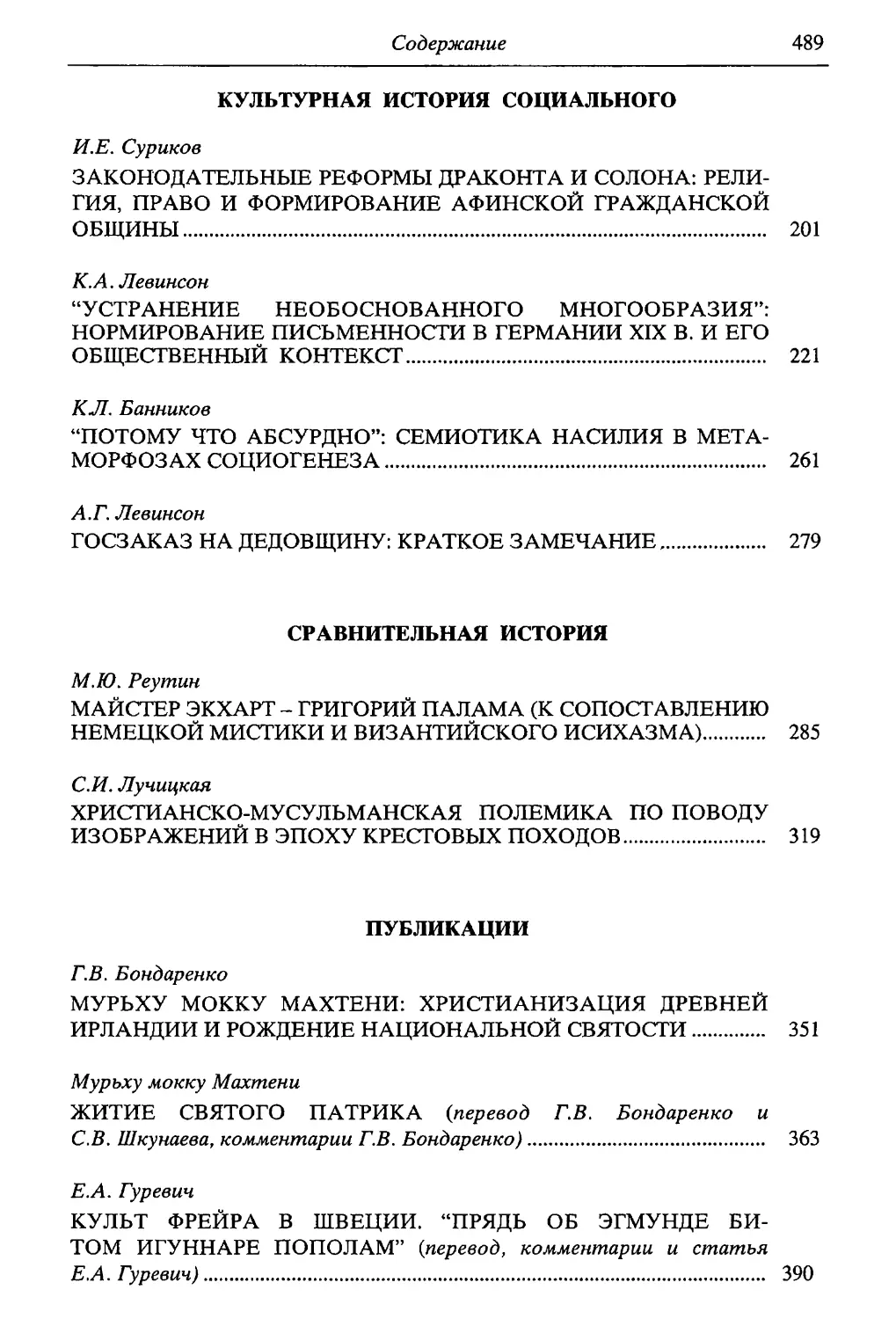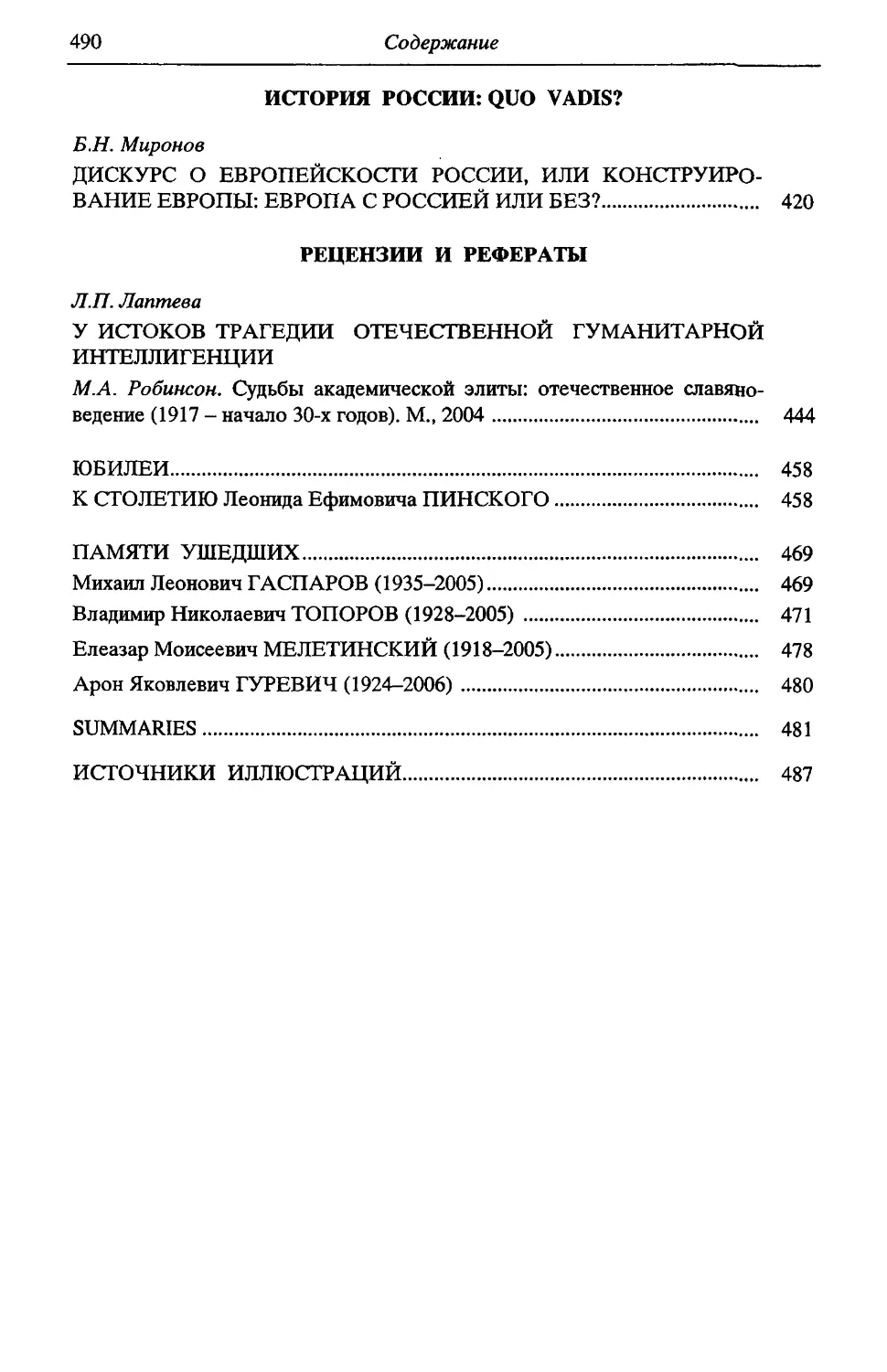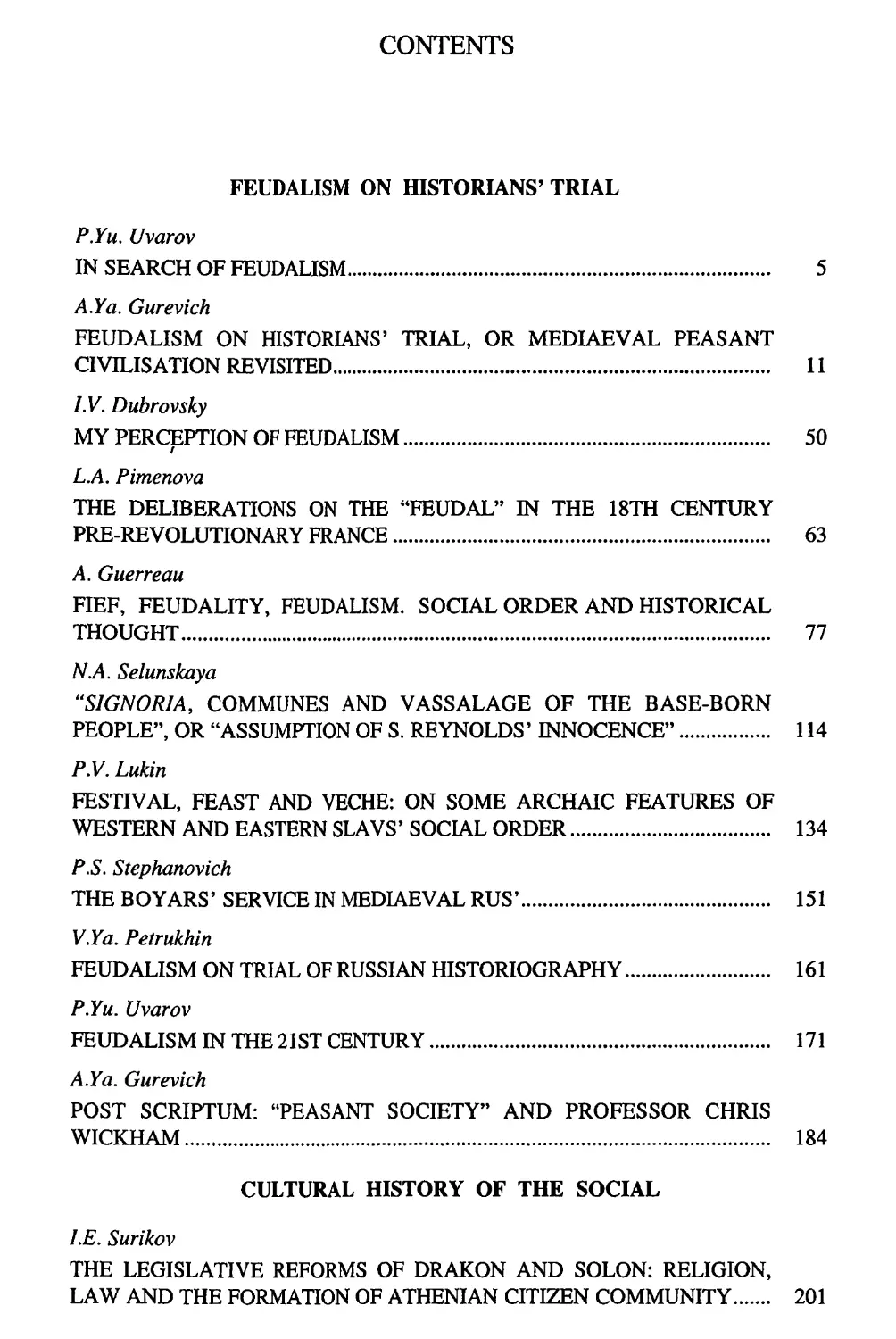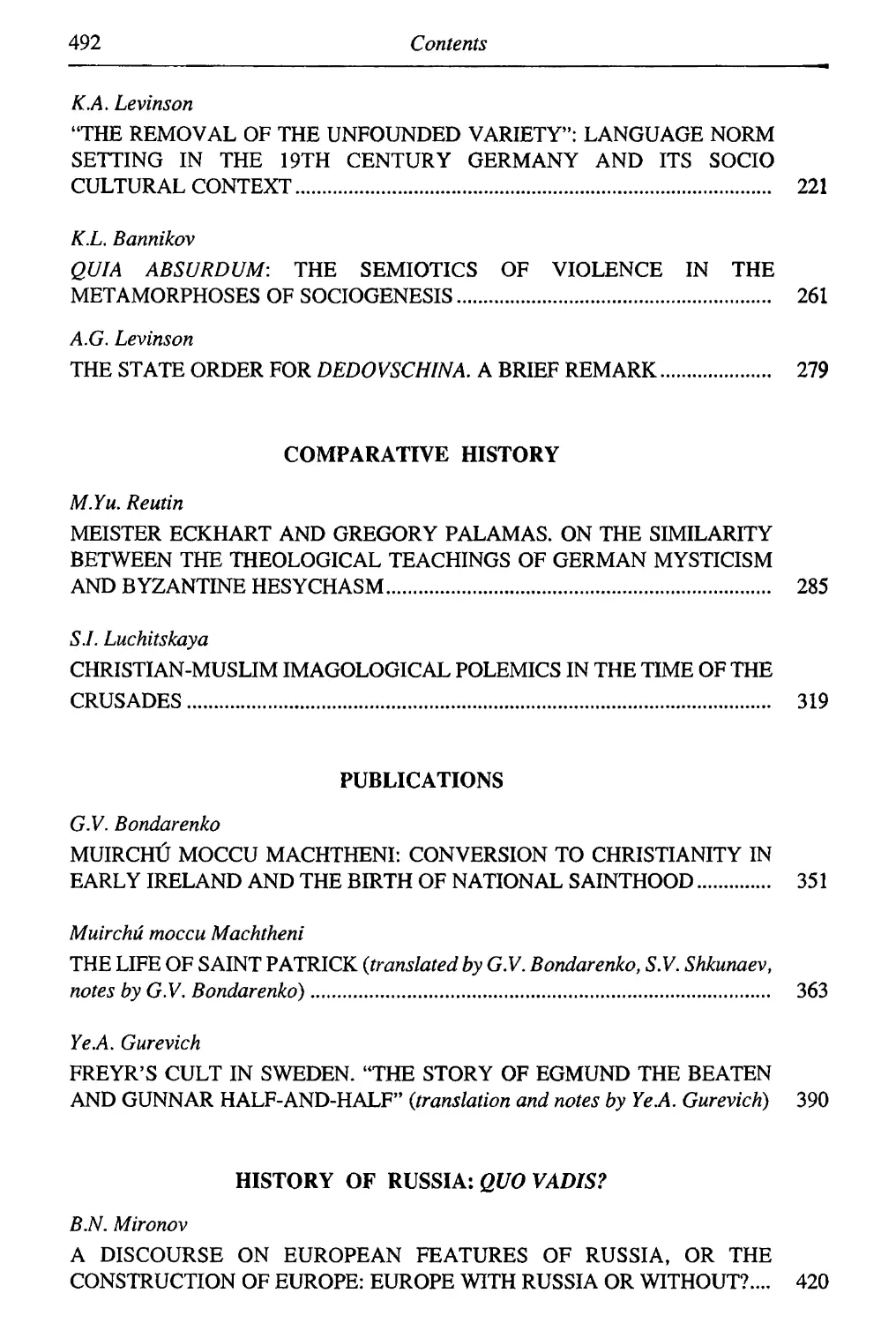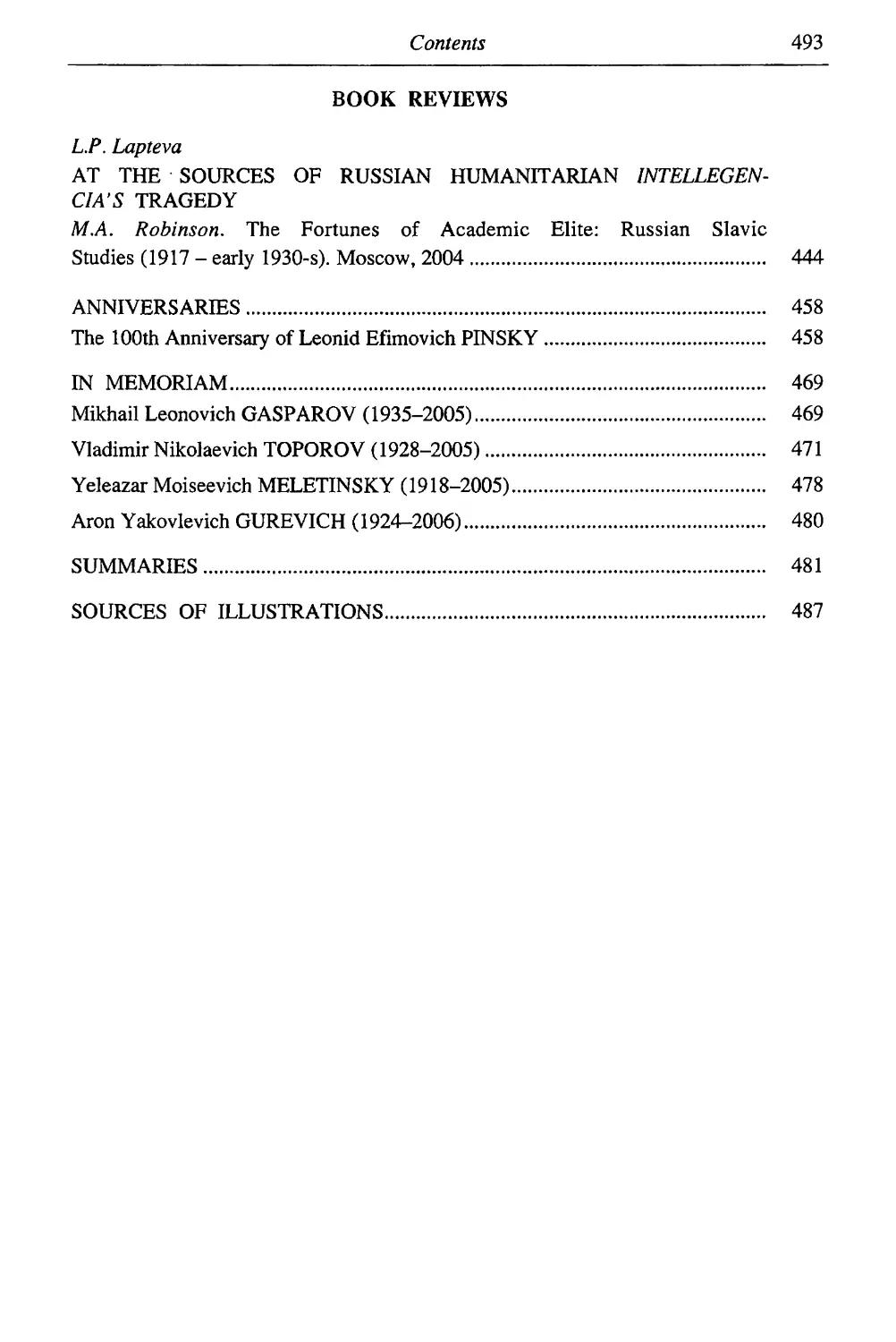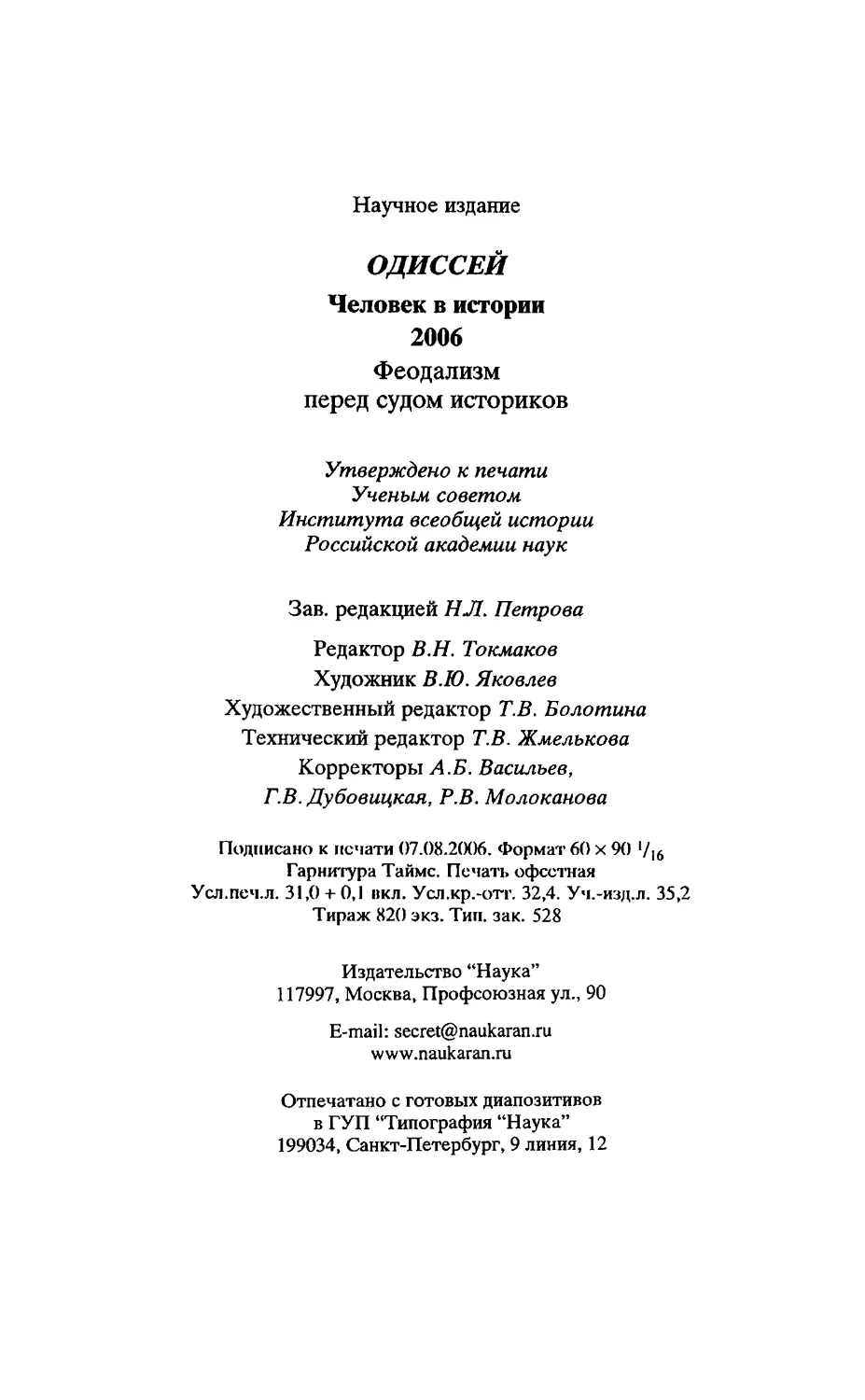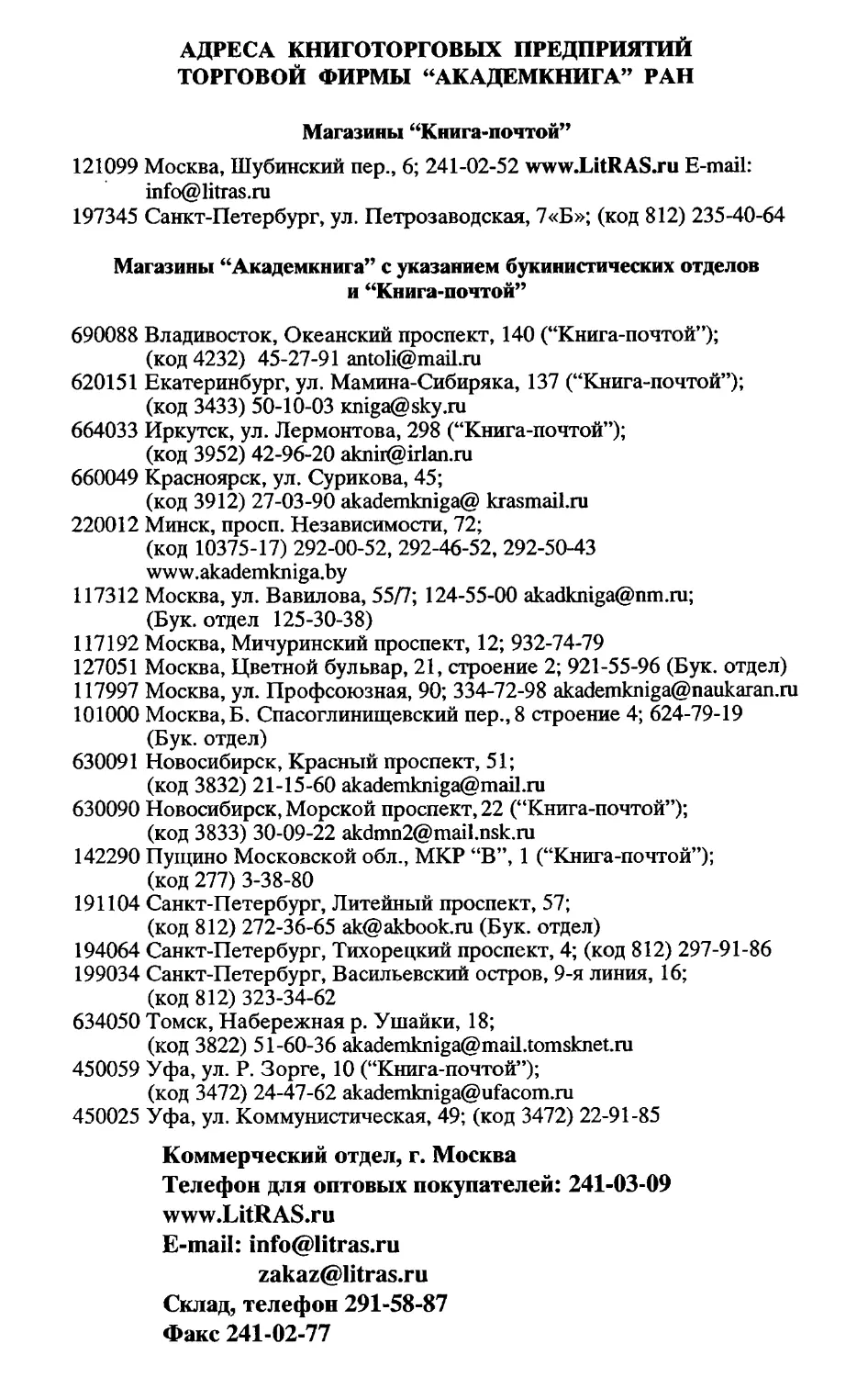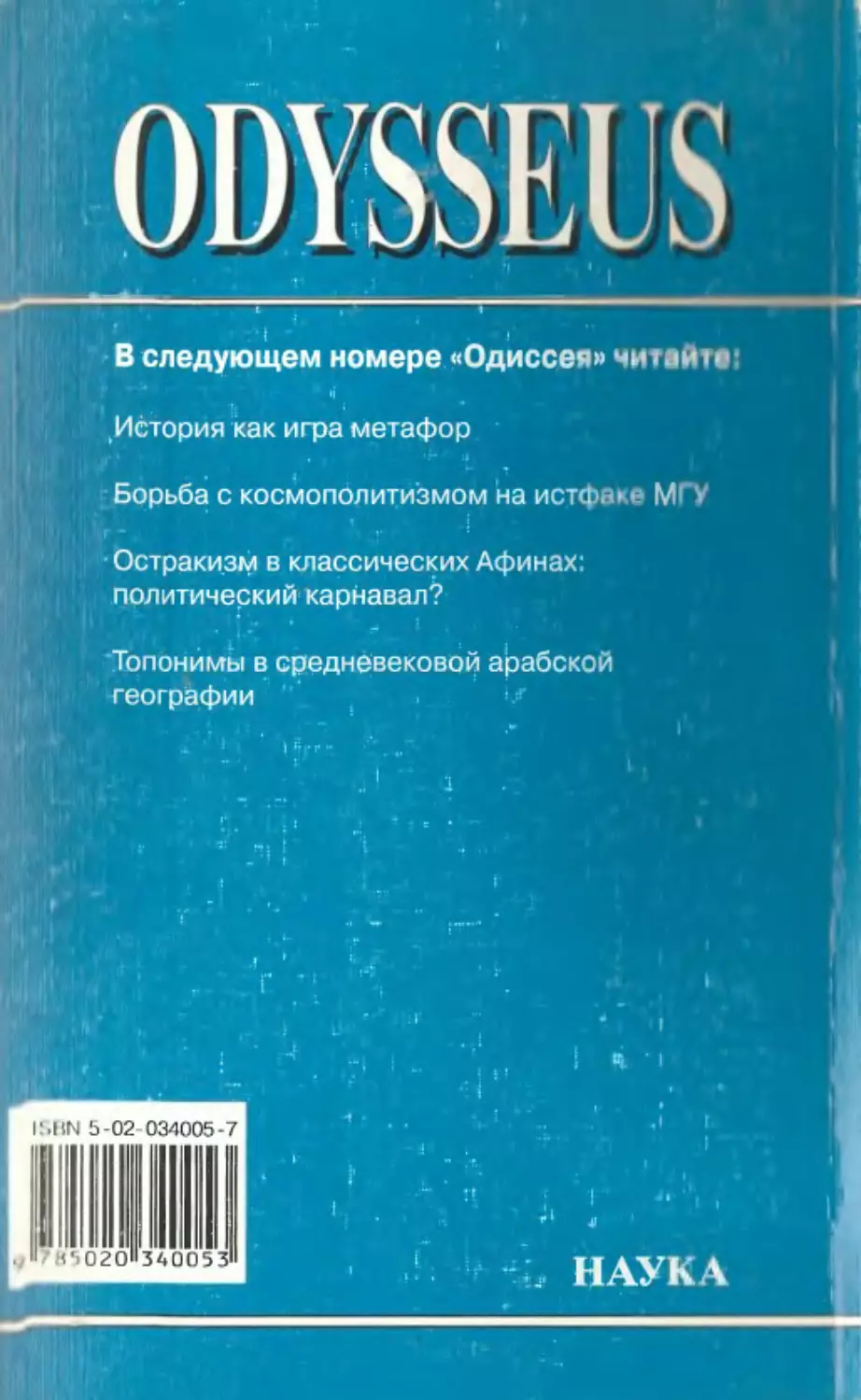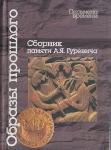Author: Гуревич А.Я.
Tags: всеобщая история всемирная история история культуры
ISBN: 5-02-034005-7
Year: 2006
Similar
Text
»
ОДИССЕИ
2006 - ОДИССЕИ
2006
Семиотика «дедовщины»
НАУКА
Культ Фрейра в Швеции
Майстер Экхарт
и Григорий Палама
Житие Святого Патрика: взгляд
из VII века
Феодализм перед судом
историков
«Устранение необоснованного
многообразия»...
Арон Яковлевич
ГУРЕВИЧ
(1924-2006)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY
ODYSSEUS
Man in History
Feudalism
on Historians’ Trial
2006
MOSCOW NAUKA 2006
ОДИССЕИ
Человек в истории
<Ыш
перед судом историков
2006
8
МОСКВА НАУКА 2006
УДК 94
ББК 63.3(0)
0-42
Издание основано в 1989 году
Главный редактор |А.Я. ГУРЕВИЧ |
Редакционная коллегия:
М.Л. АНДРЕЕВ, Л.М. БАТКИН,
Г.В. БОНДАРЕНКО (ответственный секретарь),
Б.С. КАГАНОВИЧ, С.И. ЛУЧИЦКАЯ (зам. главного редактора),
В.Н. МАЛОВ, С.В. ОБОЛЕНСКАЯ, М.Ю. ПАРАМОНОВА, А.В. ТОЛСТИКОВ,
П.Ю. УВАРОВ, Д.Э. ХАРИТОНОВИЧ, А.Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ
Секретарь редакции И.Г. ГАЛКОВА
•
Редакционный совет:
Ю.Н. АФАНАСЬЕВ, ВОЙЦЕХ ВЖОЗЕК, НАТАЛИ ЗЕМОН ДЭВИС,
Вяч. Вс. ИВАНОВ, ЖАК ЛЕ ГОФФ, | Е.М. МЕЛЕТИНСКИЙ~|,
В.И. УКОЛОВА, А.О. ЧУБАРЬЯН
Рецензенты:
доктор исторических наук С.Г. КАРПЮК,
кандидат исторических наук А.С. КЛЕМЕШОВ
Одиссей : человек в истории / Ин-т всеобщ, истории. - М. : Наука,
1989. -
2006 : Феодализм перед судом историков [гл. ред. А.Я. Гуревич]. -
2006. - 493 с. - ISBN 5-02-034005-7.
Главная тема выпуска - концепция феодализма с точки зрения современной истори-
ческой науки. Публикуются статьи по истории этого понятия и сравнительно-историче-
ские исследования, в том числе А.Я. Гуревича “О средневековой крестьянской цивилиза-
ции”. В разделе “Культурная история социального” анализируются социальные аспекты
нормирования языка в Германии; феномен насилия в российской армии рассматривается
сквозь призму семиотического подхода. Внимание читателей привлекут статья о евро-
пейскости России и публикации “Жития святого Патрика” и “Пряди об Эгмунте Битом”.
Для историков, историков культуры, студентов, специалистов-гуманитариев и широ-
кого круга читателей.
Темплан 2006-1-307
ISBN 5-02-034005-7 © Институт всеобщей истории РАН, 2006
© Коллектив авторов, 2006
© Российская академия наук и Издательство
“Наука”, продолжающееся издание “Одиссей.
Человек в истории” (разработка, оформле-
ние), 1995 (год основания), 2006
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство “Наука”, 2006
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ*
Этой теме был посвящен круглый стол, проведенный 25 апреля
2005 г. в рамках семинара по исторической и культурной антро-
пологии ИВИ РАН и Ассамблеи медиевистов при поддержке От-
деления Исторических и филологических наук РАН.
П.Ю. Уваров
В ПОИСКАХ ФЕОДАЛИЗМА
Хотим мы этого или нет, слова “Средневековье” и “феодализм” до
сих пор употребляются как синонимы. Однако о том, что же такое
феодализм, отечественные медиевисты, кажется, перестали всерьез
задумываться и спорить намного раньше, чем распался СССР. Да и в
западной историографии это понятие трудно назвать самым актуаль-
ным, во всяком случае, появляется немало обобщающих работ по сре-
дневековой истории, вообще обходящихся без этого термина. Не то,
чтобы кто-нибудь раз и навсегда опроверг существование феодализ-
ма, как Ломоносов в свое время опроверг существование флогистона.
Но термин “феодализм”, действительно, все реже появляется на стра-
ницах обобщающих работ и даже учебников, не говоря уже о специ-
альных монографиях. Возможно, это понятие выходит из моды, по-
добно тому, как выходит из моды определение “абсолютизм”.
Мы уже привыкли считать, что не просто изучаем прошлое, а за-
даем ему именно те вопросы, которые волнуют нас и наших совре-
менников. Нетрудно объяснить поэтому появление таких, некогда не-
привычных для медиевистов проблем, как гендерные аспекты свято-
сти, отклоняющееся поведение, восприятие чужого, переживание те-
лесности, чувство природы, зрительные образы власти - да и прочих
нетривиальных сюжетов, включая символику высунутого языка дья-
вола в готическом соборе. Волнует ли понятие “феодализм” наших
современников? А если признать, что то или иное понятие живет в на-
уке до тех пор, пока оно функционально, пока помогает ученому ре-
шать свои задачи, то правомерен и другой вопрос: помогает ли поня-
тие “феодализм” российским специалистам по западному Средневеко-
вью в их повседневной исследовательской деятельности?
* Издание настоящего выпуска “Одиссея” осуществлено при поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда, грант № 050101514.
6
Феодализм перед судом историков
На эти вопросы ответить сложно. В силу ряда причин, в том чис-
ле тех, которые принято относить к области социологии науки, в пер-
вое мгновение напрашивается отрицательный ответ. Думаю, что в
своих статьях и монографиях большинство из участников нашего за-
седания вполне обходится без слова “феодализм”. Мне, во всяком слу-
чае, при анализе французских нотариальных актов XVI в. это понятие
пока не понадобилось. Более того, если на вопрос западного коллеги
о научных интересах ответить, что основной предмет твоих занятий -
проблемы феодализма, то это, боюсь, только затруднит жизненно
важный для всех нас процесс международной научной коммуникации.
Такое положение можно было бы списать на издержки узкой профес-
сиональной специализации, но существует немало и обобщающих мо-
делей описания достаточно крупных процессов и явлений Средневе-
ковья, в которых не используется понятие “феодализм”1.
Может быть, правы те коллеги, которые говорят, что время
“больших нарративов”, глобальных обобщений, крупных тем уже и
вовсе миновало? Как было отмечено в одном недавнем исследова-
нии: “В театре современной микроистории классы, государства и на-
ции размытой тенью появляются на заднике сцены. Их выход к рам-
пе вызывает свист в зале”2. При таком взгляде на вещи эти слова,
иллюстрирующие распад основных исторических понятий, не могут
не относиться и к феодализму. Поэтому неудивительно, что, когда
мы затевали сегодняшнее заседание, нам приходилось слышать не-
доуменные вопросы: “Зачем нужно тратить время на столь устарев-
шую тему? Кого она может сейчас заинтересовать?”
Как выяснилось - многих. Присутствие на нашей сессии почти
сотни слушателей - вещь не частая в наше время, столь избалован-
ное всевозможными научными акциями медиевистов. На самом де-
ле ничего удивительного в подобном интересе нет. Вопрос о феода-
лизме обречен на успех, поскольку нам необходимо найти некото-
рые сущностные черты изучаемого общества - общества Западной
Европы эпохи Средних веков. Трудно сказать - почему? Наверное,
в нас слишком глубоко укоренена ностальгия по обладанию сущно-
стью, призванной обеспечить ясность. Но если состояние наших зна-
ний об этом обществе подсказывает нам, что понятие феодализма,
которым пользовались у нас полвека назад, лишь мешает понять
природу этого общества, то понятие надо либо переосмыслить, ли-
бо вообще от него отказаться. И тогда найти ему достойную замену.
Это нужно хотя бы для преподавания. Иначе курс истории вновь
превратится в перечень фактов политической истории и сборник
анекдотов. Но это необходимо далеко не только для преподавания.
Может быть, медиевистам в России наличие такой обобщающей ха-
рактеристики необходимо даже в большей степени, чем в других
странах.
П.Ю. Уваров. В поисках феодализма
7
Мало где в мире найдется столько специалистов, занимающихся
давней историей не своей страны. Добавим без ложной скромности -
специалистов, пока продолжающих пользоваться репутацией своеоб-
разного авангарда отечественной исторической науки. В этом отно-
шении Россию можно сравнить разве что с США или Канадой, но для
этих стран европейское Средневековье - эпоха не совсем чужая, да и
материальные возможности у них несопоставимы с нашими. У нас в
стране мы, медиевисты-“западники”, нужны прежде всего коллегам,
занимающимся историей Византии, славянских стран, Востока, но
главное - специалистам по отечественной истории. Ведь все они не-
избежно сверяют свои результаты с западным примером, почитае-
мым классическим. Оставим в стороне вопрос о том, хорош или плох
европоцентризм, - он все равно существует. Утверждение, что в Рос-
сии или в Афганистане феодализма не было, или, наоборот, что он
там существовал, предполагает сопоставление его с некоей моделью.
Мы, конечно, можем отказаться выполнять функцию “ответствен-
ных” за эту модель, но ею все равно будут пользоваться - просто это
будет безнадежно устаревшая модель. И выводы будут заведомо не
соответствующими современному состоянию науки. А эти выводы, в
конечном счете, формируют как самосознание нации (неизбывной
частью которого традиционно являются размышления о сходстве и
различиях России и Европы как отправной точке для поиска нацио-
нальной идеи), так и определение стратегических приоритетов в вы-
боре развития, сколь ни высокопарными могут показаться подобные
слова. Если человек уверен, что Средневековье - царство кулачного
права и мракобесия, а “настоящая” история начинается лишь с
XVIII в., то и рецепты, разрабатываемые им для модернизации наше-
го общества, будут соответствующими.
Приведу два конкретных примера. Советские специалисты по-
могали революционному правительству Афганистана разработать
аграрную реформу. При этом они, определяя стадию развития этой
страны как феодальную, руководствовались доступной им в ту пору
моделью феодализма, т.е. общества, основанного на безжалостной
эксплуатации крестьян феодалами, что предполагало наличие оже-
сточенного классового антагонизма. Затеваемая реформа должна
была превратить крестьянство в стратегического союзника новых
кабульских властей в их борьбе с феодальными пережитками. То,
что афганский крестьянин, хоть и взялся за оружие, но использовал
его отнюдь не против своего феодала-эксплуататора, оказалось не-
приятным сюрпризом для авторов аграрной программы. И отчасти
может быть поставлено в вину устаревшему представлению о фео-
дализме.
Второй пример менее трагичен, но более современен. Дочь на-
шей коллеги, студентка одного из экономических отделений заслу-
8
Феодализм перед судом историков
женного технического ВУЗа, должна была написать реферат по
экономике. В ту пору они как раз проходили экономику феодализ-
ма. Но помощь, оказанная нашей коллегой своему ребенку, явно не
соответствовала требованиям преподавателей, оценившим реферат
крайне низко. Выяснилось, что в списке рекомендованной литерату-
ры едва ли не самым “свежим” трудом была книга Б.Ф. Поршнева
“Политическая экономия феодализма”, 1954-го года издания! Но
стоит ли осуждать экономистов технического ВУЗа? Ведь почти ни-
кто из нашего многочисленного племени медиевистов не снисходит
до таких “низменных” сюжетов, как экономика Средневековья.
А сон разума, как известно, порождает чудовищ...
Справедливости ради надо сказать, что в последние годы наме-
тилась тенденция к возвращению разговоров о феодализме. Объ-
емная монография И.С. Филиппова, посвященная Южной Фран-
ции, носит подзаголовок “Проблема становления феодализма”3.
В 2001 г. тема “Что такое феодализм?” была вынесена в качестве
основной на Летнюю школу молодых медиевистов4. Тогда поста-
новка подобного вопроса вызывала еще большее недоумение, чем
сейчас. Тем более что она абсолютно не соответствовала исследо-
вательским интересам участников. Но в итоге все согласились в
том, что проблема важна, и с интересом обсуждали теоретическую
главу университетского учебника в диалоге с ее автором - Н. А. Ха-
чатурян, а выступление А.Я. Гуревича “Как я понимаю Средневе-
ковье?”, естественно, собрало полный аншлаг. Позже им же была
опубликована статья в “Одиссее” на эту тему5 и Введение к “Сло-
варю средневековой культуры”6. Два последних выпуска “Средних
веков” содержат рубрику “Переосмысляя феодализм”. Продолже-
нием традиций отечественной аграрной школы медиевистов стала
монография М.В. Винокуровой7, возвращающаяся к проблемам,
некогда считавшимся основными для понимания Средневековья.
В том, что западные медиевисты, оказывается, отнюдь не утрати-
ли вкус к обобщениям, можно убедиться на опыте Международно-
го семинара по медиевистике, организованного при поддержке
А.И. Решина в МГУ, куда регулярно с 2004 г. года приезжают ве-
дущие западные исследователи.
Менее всего мне бы хотелось, чтобы сказанное выглядело отче-
том о достижениях за истекшую пятилетку. Я лишь попытался на-
звать симптомы того, что разговор о базовых характеристиках сре-
дневекового общества назрел. Еще одним свидетельством этого яв-
ляется столь высокий интерес к сегодняшнему “Круглому столу”.
Сегодня речь пойдет о феодализме как об одной из таких возмож-
ных базовых характеристик. Мне бы хотелось предварить этот раз-
говор еще одним соображением о пределах использования обсужда-
емого понятия.
П.Ю. Уваров. В поисках феодализма
9
Надеюсь, сегодня уже никого не надо убеждать в том, что “фео-
дализм” - это не более чем исследовательская категория, помогаю-
щая взглянуть на прошлое под определенным углом зрения. Вроде
бы все знают слова “идеальный тип” и даже “исследовательская уто-
пия”, все уже наслышаны о вреде реификации категорий - о том, к
каким ошибкам может привести приписывание объективного суще-
ствования этим “исследовательским утопиям”. Но все равно - часто
приходится слышать от коллег: “Может, где-то феодализм и был, но
его явно не было вот в той стране, которую я изучаю!” (например, в
Португалии, Шотландии, Венгрии, Ирландии, Швеции, Голландии
и пр.). Это произносится с таким энтузиазмом и даже с таким пафо-
сом гражданского мужества, что не удивительно, как на аспирант-
ских экзаменах все чаще звучит ответ: “феодализма нигде не бы-
ло”. С этим трудно не согласиться. Но только, если к феодализму
подходить как к физически существующему объекту и к тому же
пользоваться при этом логическим критерием необходимых и доста-
точных условий (явление имеет набор свойств, которыми должны
обладать все члены данного множества и не должен обладать никто,
кроме них). При таком подходе ни Франция времен Гуго Капета, ни
Иерусалимское королевство не подпадут под определение феодаль-
ного общества - если исходить из нашего современного уровня зна-
ний об этих королевствах. Происходит не вполне честная операция:
берут обветшавшее понятие как минимум пятидесятилетней давно-
сти и накладывают его на эмпирический материал, добытый с при-
менением всей палитры современных подходов - подходов времен
постмодернизма и постпостмодернизма. И затем с радостью конста-
тируют, что понятие к данной реальности неприменимо, поскольку
реальность эта обладает, как оказалось, некими признаками, в него
не укладывающимися. Это происходит, разумеется, не только с
“феодализмом”, но и с такими категориями как “революция”, “абсо-
лютизм” и многими другими. В результате остается лишь вспомнить
слова лукавого иностранца с Патриарших прудов, о том, что у нас
чего ни хватишься - ничего нет.
Выходов из этой ситуации, на мой взгляд, может быть три:
Либо признать, что время абстракций, общих понятий и “боль-
ших нарративов”, действительно, безвозвратно прошло, и настала
эпоха узких специалистов и микросюжетов.
Либо отбросить все обветшавшие и перегруженные противоре-
чивыми коннотациями понятия и придумать новые.
Либо задуматься над тем, можно ли приспособить старые поня-
тия к нуждам современного уровня исследований. А если можно,
то как?
Каждый из трех путей имеет свои преимущества и недостатки.
Но сегодня мы сконцентрируемся на третьем пути.
Феодализм перед судом историков
1 Некоторые из них предложены в сб.: Конструирование социального. М., 2001.
2 Копосов Н. Почему стареет Клио? // Колосов Н. Хватит убивать кошек! Кри-
тика социальных наук. М., 2005. С. 135.
3 Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее Средневековье. Проб-
лема становления феодализма. М., 2000.
4 Эхо летней школы // СВ. М., 2002. Вып. 63.
5 Гуревич А.Я. “Феодальное средневековье”: Что это такое? Размышления ме-
диевиста на грани веков // Одиссей: Человек в истории, 2002. М„ 2002.
С. 261-294.
6 Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 5-18.
7 Винокурова М.В. Мир английского манора. М., 2004.
А.Я. Гуревич
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ,
ИЛИ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ
КРЕСТЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
I
Что такое “феодализм” с точки зрения современного историка?
Вопреки тому, что можно ожидать от статьи с подобным назва-
нием, в мои намерения отнюдь не входит разбор различных концеп-
ций феодализма, которые возникали, сосуществовали или противо-
борствовали в историографии на протяжении XIX и XX вв. Это -
особая и, несомненно, любопытная тема, но мне хотелось бы оста-
новиться на некоторых иных проблемах, прямо или косвенно свя-
П111ПЫХ с понятием “феодализм”.
Время от времени я в ходе своих размышлений об этом предме-
те останавливался в растерянности: каким образом удавалось и все
еще удается (удается ли?!) историкам, а равно и социологам, и фи-
иософам, вопреки глубочайшим переменам, кои пережили мир и, в
чпстности, научная мысль в указанный период, по-прежнему при-
держиваться давно сложившихся исторических понятий? Разумеет-
ся, понятие “феодализм” несколько изменяло свое содержание в
В1ВИСИМОСТИ от времени, когда его употребляли, и от того, каковы
были философские установки историков и их принадлежность к
той или иной национальной школе. И тем не менее многовековая
нюха, отделяющая Античность от Нового времени, “классику” от
"модерна”, сколь ни колебались ее хронологические границы, ос-
тается прочно связанной с понятием “феодализма”, в котором про-
должают видеть политическую, правовую, экономическую и соци-
альную квинтэссенцию Средневековья. Средневековье было фео-
дальным по своей сути, и феодализм синонимичен Средневеко-
вью - это равенство представляется настолько самоочевидным,
что сомнения возникают довольно редко.
Излишне напоминать о том, что понятие “феодализм” с само-
го начала обладало пейоративной окраской. В нем воплощался
комплекс представлений, противоположных понятию “граждан-
ского (буржуазного) общества”. Последнее же, напротив, вопло-
щало сумму качеств положительных. Исторический прогресс при-
вел к упадку и низложению феодализма и, тем самым, утвердил
общественную систему, основанную на более цивилизованных
формах человеческой организации. Даже после того как отгреме-
||ц буржуазные революции, в той или иной мере покончившие с
феодализмом, лежавшее на нем клеймо регресса и застоя не было
упразднено.
12
Феодализм перед судом историков
Между тем накопление фактического материала и, главное, уг-
лубление его анализа естественно и неизбежно приводит исследова-
телей к пересмотру многих конкретных вопросов. И в целом, и в ча-
стностях феодальное Средневековье выглядит ныне, на рубеже вто-
рого и третьего тысячелетий, отнюдь не таким, каким оно виделось
предшествующим поколениям. Медиевистами проделана огромная
исследовательская работа. В старые мехи постоянно вливается новое
вино, но, странным делом, оно мехов не разрывает. Мне кажется, что
налицо кричащее противоречие между самыми общими понятиями,
употребляемыми поколениями историков, и эмпирическим богатст-
вом нашей научной дисциплины. Начиная примерно с середины ис-
текшего века, она, эта дисциплина, пережила и, думается, продолжа-
ет переживать подлинную революцию. Эта революция охватила и
проблематику исторического исследования, и его конкретную мето-
дологию. Взгляд на историческое прошлое, те вопросы, которые ны-
не мы ему задаем, имеют мало общего с вопрошаниями наших науч-
ных дедов и прадедов. Поэтому кажется саморазумеющимся, что но-
вое содержание исторического знания требует отказа от унаследо-
ванных от прошлого стереотипов и новой концептуализации.
Ни в коей мере не претендуя на то, чтобы осуществить или хотя
бы приступить к осуществлению подобной ревизии, я ограничиваю
свою задачу попыткой указать на те трещины, которые образовались
в воздвигнутом усилиями медиевистов здании. На этот “подвиг” меня,
помимо всего прочего, побуждают уже предпринятые рядом коллег
опыты пересмотра понятия “феодального Средневековья”. Разве не
симптоматично и даже символично то, что вполне независимо друг от
друга отдельные историки разных стран и научных направлений все
более энергично высказывают сомнения относительно дальнейшей
пригодности концепта “феодализм” и того содержания, которым это
понятие нами наполняется? Не успел я - несомненно, стимулируемый
помимо собственных застарелых интересов дискуссией, порожденной
книгой С. Рейнольдс1, - опубликовать статью под названием, не оста-
вляющим сомнений в моих ревизионистских интенциях2, как прибыл
довольно объемистый том “Присутствие феодализма”, в котором
объединены дискуссионные статьи историков из разных стран Запа-
да3. В этой книге собраны тексты докладов, прочитанных на конфе-
ренции, состоявшейся в Институте истории Общества Макса Планка
в Гёттингене в 2000 г. И почти в тот же день я получил извещение от
профессора Яноша Бака о том, что в 2005 г. в Будапеште проводится
международная конференция “Употребление понятия Средневековья
и злоупотребление им в XIX-XXI вв.”.
О том, что брожение умов историков, занятых проблемой фео-
дализма, ведет к расшатыванию устоявшихся общих категорий, мо-
жет свидетельствовать обширная статья Л. Кухенбуха «“Феода-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации 13
л нам”: К вопросу о стратегиях использования одного раздражающе-
го гносеологического понятия»4. Если сопоставить эту работу с из-
дпнным тем же ученым сборником “Феодализм - материалы по тео-
рии и истории”5, то нетрудно убедиться: за четверть века, разделяю-
щую эти публикации, разрушение возведенной историками “вави-
лонской башни” стало необратимым. Не симптоматично ли и то, что
термин Feudalismus ныне заключен в статье Кухенбуха в вырази-
тельные кавычки? Правда, этот немецкий историк не склонен отри-
цить за понятием “феодализм” реальное содержание: “Представле-
ние, будто можно исключить феодализм из исторической науки, -
«то... заблуждение. Он в ней неотменимо присутствует”6. К сожале-
нию, он ограничивается преимущественно общими рассуждениями
и, как кажется, не придает решающего значения собственно “ремес-
лу историка” - конкретной исследовательской практике. Но, как из-
вестно, “Бог в деталях”, и ими не следовало бы пренебрегать.
Что касается отечественной историографии в ее нынешнем виде,
то приходится констатировать: проблема феодального Средневеко-
вья - понятия и предмета исторического исследования - весьма мало
тревожит наших медиевистов, вследствие чего многие продолжают
придерживаться довольно-таки заскорузлых взглядов и суждений.
11овышенный интерес к теоретическим вопросам медиевистики, пре-
дельно догматизированный и во многом стерильный в научном отно-
шении, сменился почти полным равнодушием к такого рода сюже-
там. Внимание к социально-экономической проблематике явственно
угасло, взоры историков обратились к новым темам, но именно поэ-
тому общие понятия и определения столетней давности все вновь и
вновь некритично воспроизводятся в научной и учебной литературе.
11е пора ли историкам ревизовать арсенал применяемых ими общих
понятий и посмотреть, насколько они разошлись с накопленными
ныне конкретными наблюдениями над источниками?
Именно в этой связи я хотел бы поддержать недавнюю попытку
И.В. Дубровского расчистить залежи толкований понятий “феод”,
"вассалитет”, “феодализм”, некритично используемых в современ-
ной медиевистике. Опираясь на труды С. Рейнольдс, равно как и не-
которых других исследователей, он наглядно демонстрирует пре-
дельную запутанность проблемы. В центре его внимания, как и у его
оксфордской предшественницы, - вассально-ленные отношения и
соответствующая им терминология, лишь отчасти восходящая к изу-
чаемой эпохе, но в основном употреблявшаяся учеными-юристами
11ового времени. “Эти историографические окаменелости влекут за
собой шлейф архаических представлений о Средневековье и обще-
стве в целом. За средневековые понятия сегодня выдаются структу-
ры интерпретации, изобретенные в XVI веке и детально разработан-
ные в следующем столетии”7.
14
Феодализм перед судом историков
II
Я отнюдь не намерен возвращаться к тем соображениям, которые
были высказаны мною в упомянутой выше недавней статье, и хочу
подойти к этой проблеме под несколько иным углом зрения. Рассу-
ждения теоретического характера обычно выглядят более или ме-
нее голословными и малоубедительными. Для практикующего исто-
рика решающим с точки зрения доказательности его тезисов оста-
ется вопрос об источниках. Перед нами - довольно широкий “ассор-
тимент” памятников прошлого, текстов самого разного рода, равно
как и материальных остатков старины, и исследователь, руководст-
вуясь ясно осознанными либо относительно смутно представляющи-
мися ему критериями, возводит те или иные памятники в ранг исто-
рических документов. Отбор свидетельств, привлекаемых истори-
ком для изучения, уже содержит в себе, пусть латентно, интерпрета-
цию: почему одни тексты привлекают его внимание, тогда как мно-
гое другое игнорируется? •
Но если вдуматься в эту источниковедческую проблему, то не
станет ли ясно, что интерпретация начинается гораздо раньше? Ав-
тор средневекового свидетельства, каковое для медиевиста послу-
жит предметом анализа и истолкования, сам произвел определен-
ный выбор - счел важным зафиксировать одни факты, опустив дру-
гие; придавая решающее значение каким-то сторонам изображен-
ной им действительности, он не склонен особо задерживаться на
иных. Нельзя упускать из виду и ту цепь толкований, которая содер-
жится в трудах историков - предшественников современных иссле-
дователей. В итоге пред нами - целая серия интерпретаций, с кото-
рыми приходится считаться или, во всяком случае, признавать их на-
личие. Другими словами, современный историк истолковывает не
“изначальные”, “сырые” факты, сообщения о которых дошли до не-
го “прямо из жизни”, - он имеет дело с той информацией, которая
уже пропущена через восприятие автора источника и, следователь-
но, рисует нам не то, “как это было на самом деле”, а некий образ
действительности, создавшийся в сознании автора или составителя
источника и обросший последующими толкованиями.
Поэтому вполне естественно, что медиевисты ныне сосредото-
чиваются во все большей мере не на восстановлении событийной ис-
тории, а на попытках реконструировать формы мировосприятия,
присущие людям изучаемой эпохи, или, по крайней мере, тем из них,
кто был причастен к созданию сохранившихся свидетельств. Итак,
нацеливая свой окуляр на прошлое, мы в лучшем случае способны
воссоздавать не самое это прошлое, но, собственно, лишь те его ас-
пекты, какие было угодно зафиксировать в источниках носителям
тогдашнего мировиденья, притом зафиксировать такими способами,
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
15
какие были характерны для средневекового сознания. Не представ-
ляет ли собой “ремесло” историка-медиевиста не что иное, как сов-
ременную интерпретацию средневековых интерпретаций?
Едва ли допустимо не считаться с тем несомненным фактом, что
современному медиевисту приходится, распутывая хитросплетение
интерпретаций, одновременно в полной мере принимать в расчет
бесчисленные и полные значимости умолчания? Именно на фоне
подобных умолчаний я и намерен рассмотреть в настоящем тексте
те данные, которые, к сожалению, редко привлекают внимание ис-
ториков.
* * *
I (рсдставляется целесообразным хотя бы на время отвлечься от “про-
клятой” проблемы феодализма и заглянуть, если можно так выра-
зиться, за его кулисы. Соответственно, далее речь пойдет не о фьефах
и вассалах, а о некоторых характерных чертах аграрного строя Сред-
невековья. Казалось бы, подобная постановка вопроса отнюдь не бле-
щет новизной. Об аграрном строе эпохи и, в частности, о судьбах кре-
стьянства в свое время было написано неисчислимое количество ис-
следований. Правда, приходится признать, что большинство этих тру-
дов датируется концом XIX и первой половиной XX в. В более близ-
кое нам время подобная тематика стала отодвигаться на второй план.
Можно вспомнить, что в отечественной медиевистике особое внима-
ние аграрной истории Запада уделяли такие ученые, как Н.И. Каре-
ев, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, Н.П. Граци-
анский, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, А.И. Неусыхин, М.А. Барг и
другие, и что во второй половине истекшего столетия этот интерес
резко снизился. Перед учеными стала вырисовываться иная пробле-
матика; я, однако, убежден в том, что история крестьянства не утра-
тила своей актуальности - просто-напросто необходимо переформу-
лировать исследовательскую задачу и, в частности, изменить акцен-
ты, что мне и хотелось бы предпринять.
Я позволю себе остановиться на нескольких конкретных приме-
рах, связанных с истолкованием определенных явлений средневеко-
вой духовной и материальной жизни. Эти примеры выглядят разроз-
ненными; во всяком случае, на первый взгляд связь между ними не
ясна. Тем не менее эта связь существует, и я намерен тотчас же ее
продемонстрировать. Да простит мне читатель мое возвращение к
гем сюжетам, о которых мне уже довелось писать раньше. Истори-
ческий факт, как и исторический источник, о нем сообщающий, не-
исчерпаем, а потому нелишне время от времени к нему возвращать-
ся. Речь идет всякий раз об отказе от традиционной интерпретации
исторических текстов и об установлении новых смысловых связей
между их сообщениями.
*6 Феодализм перед судом историков
Я вспоминаю дефиницию феодализма, которую полвека назад
дал Жорж Дюби: “Что такое феодализм? Это, прежде всего, умона-
строение”, “средневековый менталитет”8. Разумеется, нет основа-
ний принимать формулу Ж. Дюби за адекватное или исчерпываю-
щее определение феодализма. Не забудем, что этот великий исто-
рик отнюдь не ограничился такого рода определением - в большей
мере, нежели многие другие “анналисты”, Дюби выделял в качестве
первостепенных социальные стороны средневековой общественной
организации. Но даже если вышеприведенную дефиницию прихо-
дится принимать “со щепоткой соли”, то ее смысл не может вызы-
вать сомнения: социальные, экономические, правовые и политиче-
ские структуры Средневековья немыслимы, если отвлечься от эмо-
циональности людей, их образовывавших, если не вдуматься в их
картину мира.
* * *
Вновь повторю: интерпретация средневекового текста медиеви-
стом, работающим на рубеже XX и XXI столетий, в принципе не мо-
жет быть идентична той версии, какая запечатлена в этом тексте.
Но вся трудность состоит в том, чтобы, не навязывая древнему сви-
детельству наши нынешние суждения (к сожалению, такое навязы-
вание встречается в трудах историков слишком часто), попытаться
найти опору для другой, более убедительной интерпретации в самом
этом тексте.
И здесь я позволю себе вольность сослаться на свое недавнее ис-
следование. Оно посвящено анализу двух повествований о конфлик-
тах между исландскими бондами-хуторянами9. В одном из этих пове-
ствований, в своего рода “микросаге”, рассказывается о том, как
слуга знатного и зажиточного хозяина нанес оскорбление его сосе-
ду-бобылю, человеку более скромного достатка. Это происшествие,
само по себе кажущееся ничтожным, породило серию насильствен-
ных действий и вражду между могущественным Бьярни и потерпев-
шим от его слуг Торстейном. Конфликт привел к поединку между
ними, и в ходе этого поединка оба они проявили как боевую доб-
лесть, так и величие души. “Удача” Бьярни одолела “неудачу”, “не-
везенье” Торстейна, и в конце концов последний вынужден был при-
знать превосходство более “счастливого” богача и стать его “чело-
веком”. В центре повествования - сравнение двух доблестных му-
жей, каждый из коих старается превзойти другого в отстаивании
своего достоинства. Внимание автора рассказа концентрируется
именно на человеческих качествах протагонистов, и есть все основа-
ния предполагать, что на их великодушии и благородстве фиксиро-
валось внимание аудитории - тех, кто слушал или читал эту неболь-
шую сагу.
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
17
Испытание доблести индивида, демонстрация им чувств и пове-
дения, которое адекватно его свободе и независимости, - таков, по
моему убеждению, пафос исландских “семейных саг”. Свободный
хуторянин, глава семьи и полноправный участник местной судебной
сходки, в назначенные сроки посещающий общеисландское народ-
ное собрание альтинг, где со Скалы закона законоговоритель, един-
ственное на острове должностное лицо, излагает и толкует народ-
ное право, более всего озабочен тем, чтобы поддерживать свою ре-
путацию в глазах окружающих. Потому-то он с такой готовностью
хватается за меч или боевой топор, дабы защитить свое доброе имя
и по окончании жизни оставить по себе славу. Высокое самосозна-
ние бонда - вот та основа, на которой зиждется правопорядок неза-
висимой Исландии (она оставалась таковой вплоть до 60-х годов
XIII в.). Своеобразный “архаический индивидуализм” (я говорю об
“архаическом индивидуализме”, для того чтобы не возникло ника-
ких близких сравнений с гуманистическим индивидуализмом Ренес-
санса) пронизывает как исландскую повествовательную прозу, так и
артистически вычурную поэзию скальдов (воспевая подвиги нор-
вежских конунгов, они не упускали случая для прославления собст-
венных поэтических достоинств).
Таковы определяющие черты древнеисландской культуры, если
свести ее смысл к нескольким фразам.
Но, вчитываясь в повествование о “Торстейне Побитом Пал-
кой”, повествование, в котором “удача”, “везенье” обоих протагони-
стов выступают чуть ли не как самостоятельные сущности и где по-
этому все внимание, казалось бы, сосредоточено на их человеческих
доблестях, великодушии и благородстве, я не мог не заподозрить
присутствие еще и другого смыслового пласта. Он подан здесь до-
вольно неприметно, и современный читатель вполне может упус-
тить его из виду. Намеренно упрощая сюжет этого рассказа, т.е. от-
влекаясь от демонстрации высоты духа Бьярни, Торстейна, а затем
и отца последнего, исследователь социальных отношений нашел бы
здесь историю о домохозяине скромного достатка, который в конеч-
ном итоге оказался в зависимости от могущественного и богатого
соседа. Этот “низменный”, материальный план дан здесь в высшей
степени неназойливо, как бы пунктиром, так что возникает сомне-
ние, насколько существенным был он для автора. Может быть, пос-
ледний не столько намеревался поведать о том, как Торстейн сде-
лался “человеком” Бьярни, сколько “проговорился” об этом вопре-
ки собственным интенциям. Проговорился потому, что такова была
тогдашняя исландская повседневность: могущественные предводи-
тели собирали довольно значительные (по исландским масштабам,
разумеется) владения, а рядовые свободные хозяева в той или иной
мере утрачивали если не свободу, то независимость. Говорить при-
2 Одиссей. 2006
18
Феодализм перед судом историков
менительно к Исландии о феодализме или даже о каких-то его за-
чатках было бы неоправданным преувеличением. Но в любом аг-
рарном обществе неизбежна дифференциация, и, думается мне, в по-
вествовании о Торстейне сквозь картину противоборства, а затем и
примирения двух доблестных мужей проглядывает не столь возвы-
шенная суровая сторона действительности.
Делая все необходимые поправки на глубокое своеобразие сре-
дневековой исландской социальной жизни, тем не менее позволи-
тельно задаться вопросом: не вправе ли медиевист предположить,
что и в других странах среди ингредиентов генезиса новых общест-
венно-экономических отношений были и такие факторы, как психо-
логические, ментальные установки и стимулы, возникавшие под
воздействием системы ценностей, принятой в той или иной среде?
Осмелюсь утверждать: медиевист не только вправе допустить по-
добную возможность - он не вправе не допустить ее\ Социальные и
экономические процессы, имевшие место в ту эпоху, несомненно,
предполагали человеческие драмы, о коих, к сожалению, нам прихо-
дится только догадываться. Слишком редко приподнимается хотя
бы край завесы, заслоняющей от нашего взора человеческое содер-
жание этих конфликтов.
* * *
Наряду с явным дефицитом источников, которые позволили бы нам
приблизиться к уразумению человеческого содержания социальных
процессов периода раннего Средневековья, нельзя не отметить: меди-
евисты, следуя давней традиции, сосредоточивали внимание на юри-
дических текстах, тогда как памятники нарративные оставались где-
то на периферии. И вот к чему это приводило. Исследователи leges
barbarorum, как правило, принимают на веру ту схему социальной
стратификации, которая запечатлена во всех этих “варварских зако-
нах”, - nobiles, liberi, laeti, servi. Посягательства на жизнь, здоровье,
честь или имущество представителя каждого из этих правовых разря-
дов (исключая “рабов”) караются особыми возмещениями или штра-
фами. Если верить букве судебника, член того или иного разряда по-
лучал или платил раз навсегда установленную сумму денег. В этом
смысле все liberi или nobiles были равноценны и неразличимы.
Я убежден, историки, доверявшие этим предписаниям права, бы-
ли введены в заблуждение, и причина последнего коренится в из-
лишней приверженности к анализу нормативных источников. Меж-
ду тем склонность законодателя к унифицирующим упрощениям
вступала в явное противоречие с действительным положением дел,
а именно - с неупорядоченностью и сложностью социальной жизни.
Для того чтобы в этом убедиться, нам придется вновь обратить-
ся к скандинавским памятникам. В исландском судебнике Gragas ус-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
19
тиновлены размеры виры, полагающейся за убитого свободного че-
ловека: пять марок серебром. Но знакомство с многочисленными
гигами, которые повествуют об убийствах и вызванных ими распрях
и умиротворениях, не оставляет сомнения в том, что всякий раз, ко-
гда враждующим сторонам удавалось достичь соглашения об уплате
псргсльда, его размеры устанавливались отнюдь не в соответствии с
общей правовой нормой; последняя игнорировалась. Платили столь-
ко, сколько казалось правильным. Решающими критериями были
личные достоинства потерпевшего, уважение, коим он пользовался,
его принадлежность к “хорошему” роду. Иными словами, в центре
находился не социальный разряд (“знатный”, “свободнорожден-
ный", “вольноотпущенник”), но личность персоны, ее оценка соци-
умом. Мне трудно допустить мысль о том, что иначе дело обстояло
и в тех областях Европы, в которых были записаны и действовали
(‘вличсская, Саксонская, Лангобардская и все прочие “правды”. На-
личие семейных саг в Исландии проливает свет на такие стороны че-
ловеческих отношений, которые остаются в густой тени в тех реги-
онах, где записи права были произведены на латинском языке и где
предания, схожие с сагами, по ряду причин не были записаны.
* * *
Ныло бы нелепо ставить под сомнение распространенность и остро-
гу процессов, приводивших к созданию отношений личной и позе-
мельной зависимости и характеризуемых историками в терминах
резких и все обострявшихся антагонизмов между могущественными,
шатными и богатыми собственниками, с одной стороны, и мелким
людом, который утрачивал свободу и независимость - с другой. Для
обоснования подобной точки зрения существует множество истори-
ческих свидетельств, однако, еще раз повторю, социальная действи-
тельность в период раннего Средневековья была многообразна, и
едва ли вполне правомерно пытаться сводить ее к однозначному
классовому размежеванию.
В церковных и монастырских архивах сохранилось большое ко-
личество документов, оформлявших поземельные и иные имущест-
венные сделки. Некие собственники на разных условиях передавали
религиозным учреждениям свои владения или части их. Как прави-
ло, исследователь остается в неведении, каков был имущественный
в правовой статус лиц, земли которых подпадали под контроль цер-
кви или монастыря. Очевидно, среди традентов могли быть собст-
венники самого разного состояния, и если мелкие крестьяне, отда-
вавшие свои наделы “божьим людям”, скорее всего, должны были
подпасть под их власть и влияние, то собственники состоятельные
вполне могли сохранять свою независимость. Для того чтобы сдел-
ки с недвижимостью обрели законный характер, их условия не толь-
22
Феодализм перед судом историков
ными жителями или, по меньшей мере, с наиболее влиятельными из
их числа.
Обрисованная в общих чертах картина пиров-кормлений может
быть реконструирована на материале англосаксонских памятников
лишь отчасти. Историк узнает об этих явлениях преимущественно
из актового материала - из дарственных грамот, оформлявших ко-
ролевские пожалования земель и доходов в пользу церкви. Эти по-
жалования существенно нарушали те прямые связи, которые до то-
го существовали между вождем и соплеменником.
* * *
Предположение о существенном значении этой стороны социальной
жизни в функционировании ранних государств нашло дальнейшее
подтверждение, когда я от изучения англосаксонских памятников
обратился к памятникам норвежским. Англосаксонскому feorm в
Скандинавии соответствовала veizla. Значение этого слова - “пир”,
“угощение”. Но о норвежской средневековой “вейцле” наши данные
намного более богаты, нежели сравнительно скупые упоминания о
“кормлениях” в английских источниках, и потому институт, зафик-
сированный как в повествовательных, так и в нормативных текстах,
выступает перед нами с еще большей отчетливостью. Усадьбы ко-
нунга, размещенные в ключевых стратегических местах и регуляр-
но им посещаемые во время разъездов по стране, так называемые
hiisabyar, были своего рода центрами социальной жизни. В этих
усадьбах или в усадьбах наиболее влиятельных местных жителей
устраивались пиры, которые, помимо всего прочего, были важней-
шими узлами социальной информации и культурного обмена. Здесь
делились новостями, рассказывали саги и слушали песни скальдов,
воспевавших вождя, но здесь же творился суд и, главное, подверга-
лись проверке связи, существовавшие между конунгом и местным
населением. Обычай регулировал эти отношения, и в частности, бы-
ли установлены сроки, в течение которых предводитель с его дру-
жиной мог гостить в одном и том же hilsaby: длительное содержание
этой прожорливой команды могло грозить разорением гостеприим-
ным подданным.
Природа этих социальных связей не может быть понята вполне
адекватно, если не принять в расчет другой институт, игравший в жиз-
ни традиционного общества не меньшую роль, нежели пиры. Я имею
в виду обмен дарами. Этот обычай, если следовать Марселю Моссу,
представлял собой одну из важнейших универсальных форм общения
между индивидами, скрепляя дружбу и отношения взаимной помощи.
Природа этого института особенно отчетливо выступает в тех случа-
ях, когда перемещение даров из рук в руки было явно лишено каких-
либо материальных, хозяйственных оснований. На передний план вы-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
23
VI уипст жест - движение материального предмета от одного индиви-
/|и к другому или от одного социума к другому, предмета, обретавше-
го и результате акта дарения символический смысл. Не случайно по-
Жплование и получение подарка, как правило, совершались на пирах,
И присутствии многочисленных свидетелей12.
До сравнительно недавнего времени социоантропологи и исто-
рики нидели в институте обмена дарами одно из типичных воплоще-
ний жизнедеятельности архаических обществ. Новые исследования
тидстсльствуют о том, что этот обычай отнюдь не утратил своей
мщиальной значимости вплоть до начала Нового времени. Натали
Чсмоп Дэвис показала, что и во Франции XVI в. обмен дарами был
К высшей степени существенным ингредиентом социальной жизни
Нп самых разных ее уровнях. Движение даров подчинялось как еже-
годному календарному циклу, так и более индивидуализированному
циклу семейно-родовых отношений (рождение, свадьба, похороны
И г.д.). Ценность дара варьировалась в зависимости от бесчисленных
си туаций. В деревне движение подарков от господ к держателям и от
держателей к господам, равно как и их движение по социальной “го-
ризонтали”, отчасти могло иметь и материальное, экономическое
шипение, но вся эта довольно-таки сложная и разветвленная прак-
тика придавала специфическую эмоциональную окраску социаль-
ным о тношениям13. И в данном случае историк сталкивается с фак-
тами, далеко выходящими за пределы традиционного понимания
"внеэкономического принуждения”. Для определенных категорий
сельского населения, на которые не возлагались барщинные повин-
ности и тягостные платежи, подарки, приносимые свободными дер-
жателями сеньорам (дичь или домашняя птица, пара шпор или пер-
чаток и т.п.), оставались главным показателем их подвластности.
* * *
По тратимся, однако, к институту пира. Норвежские памятники не
только знакомят их читателя с той атмосферой, которая складыва-
лась на пирах, этих поистине центральных пунктах человеческого
общения, но и дают возможность увидеть то направление, в котором
пар "вейцла” изменял со временем свою природу. С объединением
i трины и созданием постоянных резиденций короля последний полу-
чил возможность вознаграждать отдельных своих служилых людей
посредством пожалования им кормлений в той или иной местности.
Vri/.ltitnadr мог кормиться за счет населения отведенной для его про-
корма территории. Однако остережемся от применения к институту
ai-Лцлы таких понятий, как “лен” или “фьеф”. Король мог пожало-
вать вейцлу дружиннику или кому-либо из своих приближенных, но
он мог и отобрать ее, и, во всяком случае, вейцлуманны или лендр-
мппны нс приобретали наследственных прав на отдававшиеся под их
24
Феодализм перед судом историков
контроль кормления. Если и можно (с осторожностью!) говорить о
том, что “вейцла” как бы начала свое движение по направлению к
лену, то она явно не зашла на этом пути так далеко, как это про-
изошло с франкским бенефицием, сделавшимся феодом. В Норве-
гии кормление так и оставалось кормлением, не превращаясь в по-
местье с барской запашкой и регулярными рентами, вносимыми за-
висимыми держателями14.
Позволю себе настаивать на том, что подобных “недоразвитых”
ленов в Европе было много и за пределами Скандинавии. Современ-
ный медиевист, встретивший термин feodum на страницах изучаемо-
го им памятника, не преминет заключить, что перед ним - земель-
ное владение, на определенных условиях пожалованное сеньором
вассалу и населенное зависимыми крестьянами, в поте лица трудив-
шимися на рыцаря, который тем самым располагал материальной
основой для исполнения вассальной военной службы. При этом наш
медиевист обычно не задумывается над следующим вопросом: на ка-
ком основании он допускает, что всякий раз, когда он встречает в ис-
точниках термин feodum, тот в жизни в точности соответствовал
только что упомянутой системе отношений между сеньором, ленни-
ком и крестьянами-держателями? В нашем современном мире мы
привыкли к тому, что принятая правовая терминология более или
менее унифицирована. Так ли обстояло дело в Средние века и в осо-
бенности в начале этой эпохи? Кто может поручиться за то, что
один и тот же термин, к тому же на чужом языке и потому a priori не
вполне понятный, имел всегда и везде одно значение? Пол Хайемс,
рассматривающий (в упомянутом выше сборнике “Присутствие
феодализма”) вопрос о феодальном оммаже, показал, сколь варьи-
ровались в зависимости от времени, места и, главное, ситуации те
правовые процедуры, которые покрывались термином homagium15.
Описанный во всех учебниках ритуал оммажа в действительности
отнюдь не был столь единообразным, как это нам представляется.
Кроме того он нередко применялся вовсе не при вступлении рыцаря
под власть сеньора, а по совершенно иным поводам, скажем, при
умиротворении между враждующими семьями. Я полагаю, что
мысль Хайемса о вариативности средневековых ритуалов, отнюдь
не отстоявшихся в неизменные формы, но в высшей степени теку-
чих, заслуживает сугубого внимания. Встречаясь с социальными от-
ношениями, не соответствующими “идеальному типу”, медиевисты
не без некоторой растерянности говорят о “недоразвитости” или да-
же “ублюдочности” обнаруженных ими институтов16.
О пирах и обмене дарами как явлениях, широко распространен-
ных в самых разных культурных регионах, далеко отстоящих от Ев-
ропы, социальные антропологи писали неоднократно. Перед нами -
общественные структуры с глубоко своеобразной системой произ-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
25
подства и потребления. Прибавочный, а отчасти и необходимый
продукт используется здесь не как средство накопления и эксплуата-
ции низших высшими - плоды человеческого труда служат основой
общения между индивидами и группами.
Стремясь акцентировать своеобразие подобной социальной
структуры, антропологи обозначают ее как peasant society, общест-
во, существенно отличающееся как от tribal society, так и от “обще-
ства промышленного”.
Ключевое слово, напрашивающееся для характеристики такого
рода “экономики”, - “взаимность” (reciprocity). Как мы видели, в оп-
ределенных ситуациях такого рода отношения могли послужить от-
правными точками для развития зависимости “слабых” от “силь-
ных”. Но, судя по всему, такова была лишь одна из возможностей,
открытых перед подобным социумом. Мне кажется правильным
рассматривать институты дара и пира, несомненно, чрезвычайно
широко распространенные на раннесредневековом Западе, не про-
сто как переходные состояния, но в качестве основополагающих
принципов социальной и экономической организации. Не имеем ли
мы дела с фундаментальной характеристикой “крестьянского обще-
ства”, над которым могла возникнуть феодальная сеньориально-
вассальная система, тем не менее едва ли одолевшая эту свою осно-
ву? Это общество и само по себе могло быть довольно глубоко диф-
ференцированным, что, однако, отнюдь не сближало его с общест-
вом феодальным.
* * *
О том, что употреблявшиеся в разных ситуациях и применительно к
разным социальным группам унифицирующие термины подчас мо-
гут ввести медиевиста в серьезное заблуждение, свидетельствуют и
некоторые иные факты. Исследователи английской аграрной исто-
рии XI в. немало сил потратили на попытки выяснить состав сель-
ского населения. Domesday Book, великая перепись 1086 г., содержит
уникальный для той эпохи “статистический” материал. Исследова-
тели располагают редкостной возможностью определить размеры
владений и количественный состав разных категорий крестьян. Пос-
ледние подразделяются на “вилланов”, “бордариев” и “коттеров”;
наряду с ними фигурируют и рабы (servi). Общепринята точка зре-
ния, согласно которой вилланы представляли собой слой полнона-
дельных крестьян; бордарии - держателей, менее обеспеченных
землей, тогда как к числу коттеров относятся сельские жители, ли-
бо лишенные пахотной доли в поместье, либо обладавшие участка-
ми ничтожных размеров.
Но здесь возникают кое-какие вопросы и сомнения. Во-первых,
принимают ли медиевисты во внимание тот факт, что в Средние ве-
26
Феодализм перед судом историков
ка все социально-правовые термины были многообразными и теку-
чими, в зависимости от бесчисленных обстоятельств? Тот, кого ко-
ролевские писцы, показания коих были сведены в “Книгу Страшно-
го суда”, в одном поместье квалифицировали как “виллана”, в дру-
гом вполне мог сойти за “бордария”. И точно так же в число “котте-
ров” могли попасть, повторяю, и лица, лишенные земли вовсе, и об-
ладатели сравнительно небольших участков.
В “Книге Страшного суда”, как и в “Сотенных свитках” (Rotuli
hundredorum) 1279 г., показания которых историки аграрного раз-
вития Англии сопоставляют между собой, земельные наделы кре-
стьян обозначены терминами “гайда”, “каруката”, “бовата”, “вир-
гата”. По мнению исследователей, указания числа этих пахотных и
тяглых земельных величин дают возможность определить разме-
ры манора и земельную обеспеченность крестьян. Эти бесчислен-
ные цифры прямо-таки просятся в статистические таблицы. Но,
боюсь, исследователи при этом не очень-то задумывались над воп-
росом, в какой степени “гайды”, “карукаты” или “виргаты” одного
поместья сопоставимы с одноименными тяглыми единицами, ука-
занными в описи другого поместья, расположенного в том же или
в ином графстве?
Не забываем ли мы о том, что в указанную эпоху не существо-
вало и не могло существовать никаких эталонов земельных мер и
эти последние могли бесконечно варьироваться в зависимости от
бесчисленных локальных обстоятельств? Я не задавал подобного
вопроса Е.А. Косминскому и М.А. Баргу, нашим классикам англий-
ской средневековой аграрной истории, и мне трудно было бы пред-
видеть их возражения. Тем не менее я решаюсь предположить, что,
учти они вышеуказанные сомнения, кое-какие их наблюдения и вы-
воды приобрели бы более условный характер.
В этой связи кажется нелишним возвратиться к вопросу о со-
циально-правовом и имущественном составе английского кресть-
янства в конце XI в. Принимая в расчет чрезвычайно высокий про-
цент “коттеров”, упомянутых в “Книге Страшного суда”,
И.Н. Гранат еще сто лет назад высказал мысль о том, что наличие
в английской деревне широкого слоя безземельных людей, т.е.
свободных рабочих рук, вовсе не было результатом позднесредне-
вековых “огораживаний”, но представляло собой “изначальную”
устойчивую характеристику деревенского быта17. И.Н. Гранат тем
самым разрывает непосредственную связь между существованием
в английской деревне довольно широкого слоя людей, готовых
продавать свою рабочую силу, и процессом “первоначального на-
копления”. Во всяком случае, здесь есть над чем призадуматься.
Особое значение приобретает вопрос о степени дифференциации
в среде крестьянства. Что может воспрепятствовать предположе-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
27
пню о том, что безземельные или малоземельные жители деревни
могли оказаться в зависимости не только от крупных собственни-
ков, но и от своих соседей-крестьян?
Если вдуматься в рассмотренный нами выше материал, то не
начнут ли пред нами вырисовываться пока еще смутные контуры
крестьянского общества, разумеется, ни в коей мере не оторванного
от тех феодальных институтов, которые по-прежнему занимают
центральное место в сознании медиевистов, но жившего сообразно
собственным и особым принципам и закономерностям? Приходится
допустить мысль о том, что это “крестьянское общество” отнюдь не
было обществом равных, но расчленялось на ряд имущественных и
социально-правовых групп и разрядов. Это своеобычное социальное
образование, к сожалению, сплошь и рядом игнорируется медиеви-
стами, мысль которых односторонне ориентирована на становление
феодального строя. Крестьянское же общество теряется в тени, от-
брасываемой грядущим феодализмом.
* * *
В центре внимания исследователей генезиса феодализма, как прави-
ло, стоит вопрос об изменениях, которые переживал в то время ин-
ститут земельной собственности. Согласно точке зрения, утвердив-
шейся в советской медиевистике, в дофеодальный период в недрах
сельской общины, обладавшей верховными правами на землю, по-
степенно вызревала частная собственность. Аллод все более стано-
вился объектом свободного распоряжения. Имущественная диффе-
ренциация вела к тому, что пахотные земли и иные угодья начали
концентрироваться в руках наиболее зажиточных членов общины
или переходить в собственность церкви и светской знати. Эта кон-
цепция, опиравшаяся на идею о прогрессировавшем разорении об-
щинников, наиболее подробно обоснована в трудах А.И. Неусыхи-
на. На его взгляд, она должна была объяснить процесс превращения
свободных общинников в мелких собственников, большинство кото-
рых со временем теряло свои права на наделы и превращалось в дер-
жателей, зависимых от крупных землевладельцев.
Изложенная (разумеется, предельно схематично) теория пред-
ставляется мне недостаточно обоснованной и противоречащей мно-
гим показаниям источников. Прежде всего: лежащий в основе этой
теории тезис о превращении общинной собственности на пахотную
землю в собственность частную, свободно отчуждаемую, опирался
на “марковую теорию” (Markgenossenschaftslehre) немецких медиеви-
стов XIX в. Согласно этой теории, в древности и в начале средневе-
ковой эпохи германцы-земледельцы объединялись в обширные
сельские общины-марки, обладавшие верховной собственностью на
землю. Тот факт, что в период позднего Средневековья источника-
28
Феодализм перед судом историков
ми зафиксировано существование общин-марок (см. об этом ниже),
убеждал приверженцев упомянутой теории, что истоки коллектив-
ного землевладения и Марковой организации надлежит искать, есте-
ственно, в седой старине. Основанием для того, чтобы марковая тео-
рия была принята на вооружение в марксистской историографии,
послужили работы Энгельса, который видел в марке один из оскол-
ков первобытно-общинного строя: разительный пример того, как
общая историческая концепция подминает под себя конкретную ра-
боту историков и создает труднопреодолимые препоны для незави-
симого исследования.
Но начиная с 30-х годов XX в. изыскания, проводившиеся с ис-
пользованием новых методов, разработанных в археологии, позво-
лили совершенно по-иному рассмотреть всю проблему. Тщательное
изучение старинных полей и древних поселений показало, что в по-
следние столетия до Р.Х. и в первые столетия новой эры германцы
упорно придерживались обычая селиться отдельными хуторами,
что, собственно, засвидетельствовано и в “Германии” Тацита. Эти
небольшие поселки оставались стабильными из поколения в поко-
ление, и возделываемые их обитателями пахотные поля подверга-
лись обработке на протяжении очень длительного времени. Архео-
логами обнаружены следы вспашки и каменные и земляные валы,
окружавшие эти поля18.
Ныне в науке уже не высказывается сомнений на тот счет, что
германцы представляли собой не номадов, но народ оседлых земле-
дельцев. Следы подобных “древних полей” обнаружены как в север-
ной половине Германии, так и в Ютландии, на Британских островах
и на Скандинавском полуострове. Существенно подчеркнуть другое
наблюдение: население этих территорий жило обособленными ху-
торами, а не общинами. Аграрный индивидуализм - явление, убеди-
тельно доказанное новейшими данными археологии и истории древ-
них поселений; с этой важнейшей констатацией отечественным ис-
торикам все еще предстоит освоиться и примириться.
Марковая теория лишилась своих оснований, и приходится пред-
положить, что те обширные общины-марки, существование коих за-
фиксировано для конца Средних веков и начала Нового времени,
впервые сложились в процессе внутренней колонизации Западной
Европы - процессе, охватившем ее не ранее рубежа XI и XII столе-
тий. С увеличением численности народонаселения возникла настоя-
тельная потребность в расчистках лесных территорий под пашню.
Раскорчевка лесов и освоение новых пахотных земель были осуще-
ствимы преимущественно для крестьянских коллективов, а не для
одиночек. Так были заложены основы марковых общин, ошибочно
принятых историками XIX в. за пережиточные формы более древ-
него аграрного строя19.
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
29
Результаты археологических исследований древних полей и по-
селений давно уже приняты в мировой медиевистике, и советская и
постсоветская отечественная историография остается, по сути дела,
единственным бастионом Марковой теории, бастионом обветшав-
шим и полуразрушенным20.
Но если приходится отказаться от изжившей себя точки зрения
на “исконную”, восходящую к родовому строю, общину и якобы со-
ответствовавшие ей формы земельной собственности, то и многие
аспекты проблемы генезиса феодализма неизбежно придется рас-
сматривать по-новому.
* * *
Мы уже невольно вторглись в сферу рассмотрения вопроса о приро-
де земельной собственности в раннесредневековой Европе. Здесь
пет ни места, ни возможности в должной мере углубиться в его су-
щество. Я позволю себе вкратце остановиться лишь на отдельных
аспектах этого вопроса. Не представляли ли собой упорные и неус-
танные поиски сельской общины в источниках начального этапа
('редневековья выполнение советскими медиевистами определенно-
го “социального заказа”? При этом отечественных историков не ос-
танавливало то обстоятельство, что в сохранившихся памятниках
первого тысячелетия н.э. мы не встречаем ни упоминаний общинной
организации, ни самого термина communitas. Что касается термина
villa, то он, вопреки очевидности, необоснованно получал явно тен-
денциозное истолкование (ср. его интерпретацию в работах
Н.П. Грацианского и А.И. Неусыхина). Не показательно ли то, что
если в своей монографии “Общественный строй древних германцев”
(1929) А.И. Неусыхин отрицал существование у них общины, то на-
чиная с 40-х годов рядовые свободные франки, как и представители
других германских племен, расселившихся на территории завоеван-
ной ими империи, без каких-либо доказательств упорно именова-
лись в его работах “общинниками”?
Земельный надел крестьянина или иного владельца в ряде ис-
точников характеризуется как аллод (allodium). В контексте теории,
с коей я полемизирую, аллод рассматривался как индивидуальный
надел, первоначально подконтрольный верховенству общины, а на
более поздней стадии эволюции последней превращающийся в част-
ную собственность, в “товар” (Энгельс). В любом случае аллод пред-
ставляется историкам объектом имущественных прав, предметом
отчуждения и более или менее свободного распоряжения. За неиме-
нием данных, историки лишены возможности более глубоко про-
никнуть в его природу.
Мне кажется, однако, что положение не безнадежно. Есть воз-
можность прибегнуть к своего рода “обходному маневру”. Правда,
30
Феодализм перед судом историков
для этого нам придется покинуть территорию франкского государ-
ства и вновь обратить свои взоры на Север. ।
Как мне уже неоднократно приходилось подчеркивать, древняя
Скандинавия могла бы послужить для медиевиста своего рода иссле-
довательской лабораторией. Дело в том, что если на континенте Ев-j
ропы латынь на протяжении ряда столетий оставалась официаль-
ным языком, на котором записывали как повествовательные тек-,
сты, так и юридические документы, то на Севере, как отчасти и в до-
норманской Англии, преобладали записи на народном языке. Куль-
турно-историческое значение этого факта поистине огромно. Я по-
зволю себе напомнить мысль Марка Блока: когда лица, заключав-
шие между собой поземельную или иную сделку, обращались к уче-
ному клирику, писцу, который должен был записать условия согла-
шения, то эти люди выражали свои намерения на родном языке; од-
нако ученый писец фиксировал это соглашение на латыни. Тем са-
мым происходил переход из одной системы понятий в другую. Зада-
ча, стоящая перед современным медиевистом, говорит Марк Блок,
заключается в том, чтобы мысленно перевести условия сделки с ла-
тыни на язык, на котором говорили и думали контрагенты, - задача
трудноисполнимая. Трудность, прежде всего, в том, что мы лишены
возможности подслушать речи этих людей21.
Что касается скандинавов, то записи права и повествовательные
и поэтические тексты, сохранившиеся в огромном количестве, за не-
многими исключениями записаны на древнесеверном (древнеис-
ландском, древненорвежском) языке. Это обстоятельство, само по
себе облегчая труд медиевиста, открывает перед ним возможность
несколько ближе подойти к сознанию носителей народного языка.
Еще более существенно другое преимущество: исследователь имеет
дело не с немногими германскими правовыми понятиями, кое-где
рассеянными в латинских текстах и подчас остающимися загадочны-
ми в силу своей изолированности, но с огромным правовым вокабу-
лярием, термины которого изменялись в зависимости от контекста.
Мы можем узнать, как эти люди представляли себе самые разные
аспекты социальной и правовой действительности и, более того, как
эти последние соотносились с общей картиной мира, присущей носи-
телям языка.
Земельная собственность, обозначавшаяся у франков термином
“аллод”, у скандинавов именовалась “одалем”. И вот какое наблюде-
ние можно сделать при знакомстве с древнескандинавской лексикой:
нет сомнений в том, что термин odal родственен термину edel. Пос-
ледний характеризует, однако, не земельную собственность, а лич-
ность собственника. Этим термином обозначали родовитость, бла-
городство, доброе происхождение. Не означает ли это, что земель-
ный собственник обладал свободой, полноправием и сознанием дос-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
31
тоинства человека, происходившего из свободного рода? Качества
полноправного свободного индивида распространялись и на его зе-
мельное владение, а обладание наследственной земельной собствен-
ностью придавало благородство и высокое достоинство одальману.
Анализ древнескандинавских памятников приводит к заключению,
•по права, характеризовавшие индивида, “облагораживали” его вла-
дение. То, что индивид владел наследственной землей, означало не
только его статус собственника, но вместе с тем придавало опреде-
ленные позитивные черты его личности. Короче говоря, личные
права и право собственности сочетались здесь в некое органическое
единство. Разве не показательно то, что, сообщая о якобы предпри-
нятом первым объединителем Норвегии королем Харальдом Пре-
красноволосым “отнятии одаля” у всего населения страны, автор
"Круга Земного” имел в виду, собственно, не совершенно невозмож-
ную поголовную конфискацию земельных владений, но посягатель-
ство короля на вольности бондов - свободных земледельцев и ско-
товодов22?
Отношение владельца одаля к наследственному участку земли
отнюдь не сводилось к отношению между субъектом и объектом.
()дальман и одаль находились в теснейшем, постоянном и едва ли
расторжимом единстве. Возникает вопрос: было ли подобное едине-
ние собственника-возделывателя земли с предметом его обладания
исключительной особенностью древней Скандинавии23? Здесь не-
лишне вспомнить о том, что во многих древнеанглийских текстах, и
правовых, и поэтических, наследственное земельное владение име-
нуется edel.
Древнескандинавские источники, несомненно, глубоко своео-
бычны, что исключает прямую экстраполяцию полученных при их
анализе результатов на другие регионы. Но вместе с тем медиевист
оказывается здесь лицом к лицу с новыми возможностями исследо-
вания, с новыми подходами к исторической действительности, в од-
ном случае перед ним открывающимися, а в других случаях - скры-
вающимися от его взора. Подобно тому, как основоположники исто-
рической антропологии в свое время позаимствовали у этнологов
новые для медиевистики понятия, способствовавшие обновлению их
профессии, историк-скандинавист, по-видимому, в состоянии сде-
лать еще один шаг в том же направлении.
* * *
Мне кажется, что мысль о неисчерпаемости исторического источни-
ка заслуживает внимания. Но эта неисчерпаемость есть не более
чем функция исследовательской активности историка. Задавая ис-
точнику новые вопросы, он тем самым рассматривает его под иным
углом зрения и ставит его в новые смысловые связи с другими источ-
32
Феодализм перед судом историков
никами. Для современной стадии развития исторического знания и,
в частности, медиевистики, императивным является поиск человече-
ского содержания объективного исторического процесса. Хорошо
известно, что среди сюжетов, обладающих большой привлекатель-
ностью для изучения, современные медиевисты вычленяют такие
богатые содержанием и многозначные феномены, как миф и его
связи с социальной практикой и память, организующая индивиду-
альное и коллективное сознание. Если читать средневековые тек-
сты под указанным углом зрения, то, мне думается, в них, в этих тек-
стах, можно было бы выявить такие пласты, которые еще сравни-
тельно недавно не высвечивались или даже игнорировались.
Для того чтобы дать конкретное подтверждение этой мысли, я
хотел бы вкратце остановиться на анализе одной из песней цикла
“Старшей Эдды”. Включенные в этот знаменитый комплекс песни
воспевают языческих богов и древних героев; и мир людей, погло-
щенных повседневными земными заботами, обычно кажется чита-
телю и даже исследователю бесконечно далеким от мира фантасти-
ческих и легендарных персонажей этого поэтического эпоса.
Но всегда ли так резко противопоставлены оба мира? В свое
время я задался этим вопросом, и мои выводы оказались далеко не
столь однозначными. Достаточно вчитаться в “Речи Высокого”, од-
ну из самых известных песней цикла, для того чтобы убедиться: цен-
тральное место в ней отведено афоризмам житейской мудрости, по-
учениям, которым надлежит следовать человеку, пробивающему
свой нелегкий путь в жизни. Как вести себя в чужом доме, в гостях,
на пиру, надлежит ли гостю быть общительным и разговорчивым
или же оставаться скупым на речи и остерегаться опьянения? Какую
роль выполняет обмен дарами? Каково содержание дружбы в обще-
стве домохозяев-хуторян, живущих в отдалении один от другого?
И т.д., и т.п. Изучение этих житейских максим позволяет исследова-
телю несколько приблизиться к пониманию мироощущения древних
исландцев, о быте и деяниях которых под совершенно иным углом
зрения рассказывают “семейные саги”. В “Речах Высокого” нет ни
богов, ни героев.
Но вот перед нами другая песнь этого же цикла - “Песнь о
Хюндле”. Она предельно заполнена именами легендарных персона-
жей, древних героев, фигурирующих и в других поэтических тек-
стах, равно как и именами языческих богов. В определенном смыс-
ле эта песнь есть не что иное как каталог славных имен. Но вчита-
емся в нее более пристально, и на поверхность выступит совсем иное
ее содержание. Вкратце оно сводится к следующему. Некий Оттар
готовится к тяжбе с неким Ангантюром, и объектом судебного раз-
бирательства на тинге будет “отцовское наследие”, земельное вла-
дение - одаль. Для того, чтобы выиграть свое дело в суде, Оттару
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
33
необходимо назвать имена сородичей, которые до него владели
этим достоянием. Но он не готов к тому, чтобы успешно пройти су-
дебную процедуру, ибо не помнит нужных имен.
Оттар обращается за помощью к богине Фрейе, очевидно, бла-
горасположенной к нему. Фрейя, в свою очередь, вызывает некое
сказочное существо Хюндлю - колдунью, обладательницу богатей-
шей памяти. Преодолевая ее сопротивление (ибо Хюндля отнюдь не
расположена к Оттару), Фрейя принуждает Хюндлю отправиться
вместе с ней в Валхаллу, чертог верховного бога Одина, и там про-
светить Оттара, открыть ему нужные имена. “Пиво памяти” делает
Хюндлю разговорчивой, и против собственной воли она обрушива-
ет на сознание “неразумного” Оттара целый каскад имен. Однако в
этом обилии имен собственных прослеживаются определенная стру-
ктура и логика.
Первыми в этом перечне идут имена представителей пяти поко-
лений родичей - предшественников Оттара с отцовской стороны.
Но на этом Хюндля не останавливается и продолжает называть име-
на знатных предков и славных людей, которые жили в давние вре-
мена и которые все оказываются связанными родством с Оттаром.
“Все это - род твой, неразумный Оттар!”, - приговаривает она. Сле-
дуя за Хюндлей, мы добираемся до легендарных королевских дина-
стий и даже до языческих богов. Теперь Оттар подготовлен к судеб-
ной тяжбе и может рассчитывать на успех. Но почему столь важны
эти генеалогические сведения?
Если мы отвлечемся от “Песни о Хюндле” и вчитаемся в древне-
норвежский судебник “Законы Гулатинга”, то найдем в нем предпи-
сание: человек обладает нерушимым правом владения одалем, если
способен перечислить представителей пяти поколений своих пред-
шественников-сородичей, кои в непрерывной наследственной линии
были собственниками этой земли. Но как раз именами представите-
лей пяти поколений предков Оттара и открывается обширный пере-
чень его фактической и легендарной родни, которая по сути дела ох-
ватывает всех свободных и благородных людей, с древнейших вре-
мен населявших Норвегию.
Деловой, фактичный реестр юридических предшественников
Оттара находит в речах Хюндли свое непосредственное продолже-
ние в длиннейшем перечислении имен героев и богов. Повторяю, от-
ныне Оттар готов к успешному судебному состязанию за обладание
отцовским одалем. Но вместе с тем - и это хотелось бы особо под-
черкнуть - в его сознании, в его “культурной памяти” возрождены
воспоминания о бесчисленных “людях Мидгарда”24. Современному
читателю бесконечного перечня имен, извергаемого опьяненной
Хюндлей в царстве мертвых, они, эти имена, ничего не говорят. Сов-
сем не так обстояло дело в то время, когда сложилась эта песнь и ко-
3 Одиссей. 2006
34
Феодализм перед судом историков
гда она в конце концов была записана. Каждое имя было компонен-
том эпоса и мифа, и о многих носителях этих имен существовали са-
ги и предания, так что упоминание имени неизбежно мобилизовало
память о его носителе и его подвигах. Иными словами, нагнетаемые
Хюндлей перечни имен суть своего рода аббревиатуры, за которы-
ми для скандинавов ХП или XIII в. скрывался целый мир. Для нас он,
за редкими исключениями, безвозвратно утрачен, но современному
исследователю необходимо вообразить себе то богатство воспоми-
наний и ассоциаций, которое каждое из имен, названных в “Песни о
Хюндле”, должно было порождать в сознании средневековых нор-
вежцев и исландцев.
“Песнь о Хюндле” - одна из мифологических песней эддическо-
го цикла, это самоочевидно. Но вместе с тем ее изучение помогает
нам понять тот мифопоэтический механизм, который, по-видимому,
включался на тингах в ходе расследования имущественных притяза-
ний и наследственных собственнических прав. Когда историк, изуча-
ющий поземельные отношения во франкском государстве, встреча-
ется в источниках с терминами allodium, haereditas, praecarium,
dominium или proprietas, он естественно и привычно оперирует пра-
вовыми категориями, и не более того. Боюсь, что сфера эмоций и
мифопоэтических преданий остается бесконечно далекой от него,
ибо латинская терминология и фразеология записей права едва ли
способны стимулировать его исследовательскую фантазию. Но, мо-
жет быть, было бы нелишне допустить, что в духовном универсуме
средневековых людей, которые тягались из-за земельных участков
и иного наследства, эти в высшей степени прозаичные судебные
тяжбы активизировали и тот мифопоэтический пласт сознания, ко-
торый, как мне кажется, приоткрывается перед нашим взором при
чтении “Песни о Хюндле”25.
Мне трудно представить себе, что подобное возбуждение сферы
эмоций, мифов и верований, которые медиевисты ныне объединяют
понятием memoria, имевшее место на скандинавском Севере, начис-
то отсутствовало в других широтах. Скорее всего, перед нами про-
бел, обусловленный своеобразием источников. Это “своеобразие”, а
точнее молчание, поистине вопиющее, нуждается в объяснении и
осмыслении.
Христианизация германских племен на континенте Европы, как
известно, произошла на полтысячелетия ранее, нежели на сканди-
навском Севере. Да и по существу эта христианизация была намно-
го более интенсивной. В результате, здесь не было условий для со-
хранения мифов, песней и народных преданий и обычаев в их “пер-
возданном” виде. Тот фонд правовых обычаев и верований, который
католическая церковь считала необходимым зафиксировать в пись-
менности, нашел выражение в текстах на латинском языке. “Ак-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
35
культурация варваров”, их приобщение к позднеримской цивилиза-
ции привели к тому, что многие тексты, порожденные их оригиналь-
ной устной культурой, не были записаны. Совсем иначе дело обсто-
йло па Севере.
* * *
Новый подход к интерпретации средневековых источников, кото-
рый я пытался здесь обосновать на нескольких, казалось бы, разроз-
ненных примерах (их число, разумеется, можно было бы умножить),
связан со стремлением преодолеть барьеры между мифологией и
Ираном, поэзией и социальными отношениями, бытом и религиоз-
ными верованиями. Направление исследований, постепенно утвер-
ждающееся начиная примерно с 70-80-х годов минувшего века, мо-
жет быть охарактеризовано как “экономическая антропология”,
"культурная история социального”, но я предпочел бы уже устояв-
шееся определение - “историческая антропология”. Ее существо за-
ключается в стратегии, направленной на раскрытие человеческого
измерения в истории. Но дело, собственно, не в словах и наименова-
ниях: трудность состоит в том, что источники, коими располагают
медиевисты, далеко не всегда поддаются анализу настолько глубо-
кому, чтобы добраться до человека и его мира.
Как видится в свете приведенных выше наблюдений процесс
феодализации, рисующийся в наших учебниках и исследованиях?
' 1десь трудно не обратить внимание на определенное противоречие.
11 советской медиевистике явный упор делался на процессах, приво-
дивших к формированию аллода, частной земельной собственности,
своего рода “товара”. Разорявшиеся массы общинников утрачивали
право собственности на свои наделы и оказывались перед суровой
необходимостью превратиться в держателей крупных землевла-
дельцев. Крестьянин утрачивал свой земельный участок или, во вся-
ком случае, право распоряжения им, делался прекаристом, зависи-
мым человеком. Индивиду приходилось расставаться со своей собст-
венностью, а вместе с нею и с личной свободой и независимостью.
Гакова общепринятая теория.
Между тем, как я старался показать, источники дают основание
и для противоположных утверждений. Наличие большого числа
"подписей” свидетелей поземельных сделок - лиц, явно обладавших
правоспособностью, - скорее, склоняет нас к выводу о сохранении
мелкой земельной собственности и, по-видимому, относительно ши-
рокого слоя рядовых свободных. Вдумываясь в существо института
"одаля”, невольно приходишь к мысли о теснейшей связи между до-
мохозяевами и землей, остававшейся предметом их трудовых усилий
на протяжении многих поколений. Земельный участок - не только
источник материальных благ, но и нечто большее. Земля была не-
36
Феодализм перед судом историков
посредственным продолжением субъективности обладателя, вопло-
щением физических и эмоциональных затрат предков.
Таким образом, приходится констатировать наличие прямо про-
тивоположных тенденций, проявлявшихся в отношении домохозяи-
на к возделываемой им земле. Налицо одновременно интимная связь
крестьянина с его патримонием и угроза утраты им своих собствен-
нических прав. Источники едва ли дают нам возможность уяснить,
какая из указанных тенденций превалировала. По-видимому, в раз-
ных областях могла возобладать та или иная тенденция, но, во вся-
ком случае, ясно, что утверждения о широкой экспроприации мел-
ких землевладельцев односторонни.
Однако другое наблюдение, как мне представляется, не может
внушать больших сомнений. Обладание земельным участком и воз-
делывание его ни в коей мере не сводилось к одному лишь утилитар-
ному его использованию. Земельный надел - отнюдь не бездушный
объект. Земельная собственность крестьянина была как бы пропи-
тана его эмоциями и верованиями, и мы видели выше, как право соб-
ственности на землю осознавалось в формах мифа, саги и легенды.
* * *
До сих пор речь шла преимущественно о феноменах, характерных
для начала средневековой эпохи. Теперь я позволю себе обратиться
к более поздним временам и в этой связи вновь вернуться к пробле-
ме сельской общины. Ибо крестьянская община классического и
позднего Средневековья, в свою очередь, предстает ныне перед ме-
диевистами в несколько ином виде. Отношения между крестьянами-
держателями земли и землевладельцами-господами оказываются
более сложными и многогранными. Новое прочтение уже извест-
ных науке Weistiimer - сельских “уставов”, записей обычного права -
дает возможность углубить наши представления об отношениях ме-
жду господами и крестьянами и поставить перед этими источника-
ми новые вопросы. Weistiimer, рассматривавшиеся немецкими уче-
ными XIX в. и прежде всего их наиболее видным публикатором Яко-
бом Гриммом в качестве “правовых древностей” (Deutsche
Rechtsalterthiimer), ныне поворачиваются к исследователю другой
своей стороной. В их основу положены записи местных “законов”,
излагавшихся на регулярных собраниях крестьян под председатель-
ством сеньора. Последний стремился упрочить свое верховенство,
между тем как крестьянский “мир”, не оказывая, как правило, пря-
мого противодействия господским домогательствам, тем не менее
пытался отстоять традицию, в той или иной мере ограничивавшую
помещичий произвол. На страницах “уставов” встречались и вступа-
ли во взаимодействие две традиции - та, которая выражала волю
крупного землевладельца, и крестьянская традиция противодейст-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
31
ним ей. До поры до времени (огрубляя - до кануна Крестьянской
войны 1525 г.) это противостояние, по-видимому, приводило к дос-
тижению некоего баланса сил.
Ценность Weistiimer для исследователя состоит прежде всего в
том, что здесь мы можем расслышать голоса крестьян, озабоченных
инцитой своих хозяйственных и правовых возможностей. В ответ на
предъявленные им вопросы об их повинностях представители общи-
ны должны были описать актуальное положение дел как унаследо-
iiniiHoe от предков. Поэтому Weistum - это текст, в котором реали-
зовался своего рода “диалог” между обеими сторонами. Господин
строил свои вопросы таким образом, чтобы навязать общинникам
собственное представление о тех порядках, коим они обязаны были
повиноваться. Крестьяне же стремились внести в свои ответы собст-
венное толкование традиции. Приходится предположить, что это со-
беседование подчас не было лишено немалой напряженности, по-
скольку господин стремился навязать им свою волю и присутствие
его вооруженной свиты служило своего рода молчаливым аргумен-
том, тогда как крестьяне, естественно, пытались противопоставить
ему такое понимание “старины”, какое представлялось им более
благоприятным.
Устанавливавшийся в результате подобного диалога баланс пра-
вовых норм и обычаев, коих надлежало придерживаться, одновре-
менно и выражал социальную память общинников, и в значительной
мере формировал ее. Несмотря на то, что в этих собраниях в целом
доминировала воля господина, крестьяне самим фактом соучастия в
“диалоге” налагали свой отпечаток на истолкование их отношений с
землевладельцем. Записи Weistiimer - продукт непосредственного
взаимодействия устной традиции с традицией письменной, и в этом -
несомненная познавательная значимость такого рода памятников.
В свое время в советской медиевистике была предпринята по-
пытка проанализировать Weistiimer, но ее недостатком было то, что
эти записи рассматривались исключительно с точки зрения выясне-
ния классовых антагонизмов, тогда как почти все богатство содер-
жания Weistiimer оставалось вне поля зрения исследователя26. Поэ-
тому ныне изучение жизни средневековой сельской общины, взгля-
дов и поведения крестьян - участников сельских сходок, опять-таки
сопровождавшихся попойками, приходится начинать по сути дела
сызнова. Тонкое многогранное исследование Гади Альгази демонст-
рирует нам, какие богатые перспективы сулит привлечение право-
вых записей, произведенных “близко к земле”27.
Антагонизм между земельным собственником и подданными,
природа “внеэкономического принуждения” в свете изучения
Weistiimer получают новое конкретное наполнение. Отношения ме-
жду господином и крестьянином не сводились к одной лишь угрозе
38
Феодализм перед судом историков
насилия или реализации этой угрозы. Желательно не упускать из ви-
ду, что эти антагонисты постоянно жили бок о бок и уже поэтому
должны были искать какой-то приемлемый modus vivendi. “Внеэко-
номическое принуждение”, как оно рисуется в Weistiimer, было при-
нуждением, использовавшим элементы правосознания, социальную
память и традиции. Если содержание записи обычаев определялось
в первую очередь волей господина, который ставил перед крестья-
нами важные для него вопросы - о повинностях, податях и соблюде-
нии господских привилегий, - то крестьяне при всем сохранении
приниженного положения все же выступали в какой-то мере в роли
толкователей “закона” деревни. Не без основания о средневековом
плебсе говорят как о “немотствующем большинстве”. Но в данном
случае оно не вовсе лишено голоса, и разве само молчание крестьян,
возникавшее в ходе беседы с господином, не было красноречивым?
Weistiimer - памятники, относящиеся к периоду между XII и
XVII столетиями. Они позволяют нам несколько приблизиться к по-
стижению духовной культуры простолюдинов Германии той эпохи.
Сколь ни бесправны (все же вернее говорить не о “бесправии”, а о
“неполноправии”) они были, господам приходилось считаться с ни-
ми не только как с угрожающей уже самими своими размерами мас-
сой, но как с субъектами правоотношений28.
* * *
В заключение я, рискуя вызвать раздражение читателя, хотел бы
еще раз обратиться к древнеисландским памятникам. Причина со-
стоит в том, что корпус древнескандинавских текстов отличается не-
обычайным многообразием. Оно особенно поражает, если учесть
крайнюю немногочисленность народа, в недрах которого эти сочи-
нения возникли и бытовали. Количество авторов, приходящихся на
душу населения, не может не поразить.
От конца XIII или начала XIV столетия дошла эддическая
“Песнь о Риге”, содержащая своего рода “мифологическую социо-
логию” или, точнее, “социогенез”.
Анализ социальной структуры средневекового общества давно
уже занимает европейских медиевистов. Достаточно вспомнить уче-
ние о тройственном членении общества, выдвинутое в начале XI в.
французскими церковными иерархами Адальбероном Ланским и Ге-
рардом из Камбре. В своих поучениях оба епископа пишут о тройст-
венно разделенном обществе, состоящем из oratores, bellatores и lab-
oratores (или aratores). Этот сословный порядок, как утверждают оба
автора, установлен Господом, и взаимодействие ordines служит осно-
вой благополучия королевства. Построения Адальберона и Герарда
многократно всесторонне исследованы, а потому я ограничиваюсь
лишь напоминанием о них.
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
39
В отличие от поэмы Адальберона, описывающей от века суще-
ствующий сословный порядок, “Песнь о Риге” излагает предание о
шпникновении социального устройства, и хотя эта песнь была запи-
( itiui несколько веков спустя после принятия скандинавами христи-
tiiicTiia, в этом сочинении едва ли можно обнаружить какие бы то ни
Пыло его следы. Разумеется, эта песнь - продукт ученой культуры,
но имеете с тем приходится допустить, что содержание “Песни о Ри-
। <•" возвращает читателя к состоянию общества, еще не затронуто-
го европейским церковным влиянием. Именно в этом плане нас и
ин тересует упомянутая эддическая песнь.
Вкратце ее сюжет сводится к следующему. Некое языческое бо-
жество по имени Хеймдаль, скрываясь под “псевдонимом” Риг (это
имя больше нигде в источниках не упоминается), последовательно по-
сещает три дома. Сперва Риг приходит в жалкую хижину, в которой
живут Прадед (Ai) и Прабабака (Edda), проводит у них три ночи и, на-
делив их поучениями, отправляется восвояси. Прабабка же рожает
сына по имени Раб (РггеП). Он отличается уродством, кожа у него тем-
ная и задубевшая. Когда он взял себе жену (ее звали йг, т.е. рабыня),
у них пошли сыновья с характерными именами-прозвищами: Скот-
ник, Грубиян, Хлевник, Лентяй, Бездельник, Вонючий и др., и дочери:
()брубок, Грязноносая, Крикунья, Служанка, Оборванка и другие в
том же роде. Трэль и его дети постоянно были заняты домашним и
грязным трудом. “Отсюда весь род рабов начался”.
Далее Риг посетил дом, в котором живут Дед (Afi) и Бабка
(Anima). Эти благополучные хозяева хорошо угостили Рига и оста-
вили ночевать вместе с собой. Гость провел у них три ночи, и в по-
ложенный срок Бабка родила сына Карла (Karl). Он был несравнен-
но более пригож, чем Трэль. Карл был землепашцем, а имя его
можно понимать как “мужчина”, “крестьянин”, “мужик”. (Здесь
уместно вспомнить, что в Англии раннего Средневековья рядовых
свободных именовали “кэрлами”.) Соответственно, детей Карла
звали Свободный крестьянин, Молодец, Свободнорожденный, Че-
ловек, Ремесленник, Земледелец и т.д., а дочерей - Говорливая, Гор-
дая, Надменная, Жена, Женщина, Хозяйка и т.д. “Отсюда все кре-
стьяне род свой ведут”.
Наконец Риг пришел к хоромам, в которых жили Отец (Fadir) и
Мать (Modir). Они вели праздный и праздничный образ жизни. Рига
роскошно угостили и опять-таки оставили у себя на три ночи, и в по-
ложенное время Мать родила сына, которого назвали Ярлом (Jarl).
Когда он подрос, то сделался красавцем, предававшимся охоте и во-
инским подвигам. Риг обучил его магическим рунам и наградил об-
ширными владениями. Среди детей Ярла выделился младший сын,
наделенный именем Конунг (Konungr), в свою очередь, обладавший
магическими способностями и превзошедший в этом своего отца.
40
Феодализм перед судом историков
Перед нами опять-таки tripartitio, но, в отличие от tripartitio
Christiana, она рисует генезис социального целого. Некое божест-
во сотворяет сперва рабов, затем свободных земледельцев и нако-
нец знатных предводителей, включая конунга. Бросается в глаза
другое существенное различие между обеими тройственными схе-
мами. Епископ Адальберон проливает слезы сочувствия тяжкой
доле серва, т.е. представителя ordo agricultorum. Между тем участь
“карлов” (крестьян) в “Песни о Риге” отнюдь не выглядит столь
же безотрадной. В противоположность “трэлям” (рабам) крестья-
не выглядят вполне благополучно; их образ жизни прост, особен-
но в сопоставлении с роскошным досугом Ярла и Конунга, но сам
по себе не имеет оттенка социальной неполноценности. Хотя их
жилища, одежда и питание несравнимы с роскошью Ярла, Карл
явно обладает сознанием человеческого достоинства, он - свобод-
ный человек29.
Если в “социологической схеме” французских епископов нача-
ла XI в. крестьяне образуют третье, низшее сословие, то в “Песни
о Риге” они выступают в качестве промежуточного, второго сосло-
вия. Тем, кто знаком с содержанием исландских саг, эта констата-
ция не покажется странной, ведь и в них свободные хуторяне, усту-
пая первенствующее положение влиятельным предводителям, вме-
сте с тем во всех отношениях возвышаются над рабами, слугами и
приживалами, каких было немало в усадьбе каждого самостоя-
тельного хозяина.
В кругозор медиевистов, изучающих аграрный строй, попада-
ют, как правило, зависимые и забитые сервы и вилланы. Исланд-
ские источники побуждают нас расширить поле обозрения и вклю-
чить в него рядового свободного, относительно самостоятельного
домохозяина. Во всяком случае, отечественным медиевистам давно
стоило бы подумать, не совершают ли они отнюдь не безобидную
ошибку, когда, говоря о зависимых крестьянах Запада, применяют
к ним понятие “крепостные”. Вольно или невольно они вчитывают
в социально-правовую действительность Англии или Франции
представления, порожденные знанием русской жизни эпохи “Мер-
твых душ”.
Само собою разумеется, что такой памятник поэзии, как
“Песнь о Риге”, рисует картину общества в своеобразном прелом-
лении. Помимо всего прочего, он ее в немалой степени архаизиру-
ет. Перед нами - не то, что было “на самом деле”, а то, что созда-
валось в сознании средневековых скандинавов. Иными словами,
налицо не “реальное отражение” общественного бытия, но его
образ, формировавшийся фантазией людей, принадлежавших
к этому обществу, т.е. неотъемлемая часть тогдашней действи-
тельности.
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
41
III
11ослс всех этих экскурсов, которые, боюсь, могли несколько уто-
мить иных читателей, поставим вопрос: что объединяет между со-
Оой приведенные выше примеры? Совершенно очевидна их гете-
рогенность. Примеры эти разбросаны и во времени, и в простран-
стве; более того, они принадлежат разным пластам исторической
реальности - от мифа и легенды до юридических записей. И тем не
менее внимательный читатель, как я надеюсь, не мог не ощутить
при ознакомлении с нашими свидетельствами постоянно обнару-
живающееся присутствие в этом материале слоя свободных лю-
дей - земледельцев и скотоводов, людей, которые, однако, отнюдь
не были только лишь непосредственными производителями и объ-
ектами эксплуатации. Они принимали деятельное участие в судеб-
ных сходках и пирах, слушали и, возможно, даже сочиняли песни и
сиги, выстраивая в своей фантазии образ общества, в котором по-
стоянно происходит движение даров. Содержание их сознания,
сфера их деятельности и самый их удельный вес, несомненно, бы-
ли всякий раз разными, но их наличие и прямое или косвенное да-
вление на социальную жизнь невозможно отрицать. Естественно,
степень свободы представителей этой социальной страты варьиро-
валась в широких пределах, и подчас нам ее трудно измерить. Я хо-
тел бы, однако, настаивать на том, что призыв к прочистке общих
понятий, употребляемых медиевистами, предполагает, в частности,
в приглашение заново продумать и уточнить и такой, казалось бы,
очевидный термин как “крестьянин”. Я убежден в том, что подоб-
ное переосмысление влечет за собой как самый тщательный и все-
сторонний анализ собственнических прав крестьянина и его соци-
ально-правового статуса, так и попытки проникнуть в содержание
его мыслей и верований.
В научной литературе уже было отмечено, что медиевисты-аг-
рарники, употребляя понятия “крестьянин” и “крепостной”, вольно
или невольно вкладывают в них то содержание, которое имели эти
понятия в Восточной Европе в конце Средневековья и в Новое вре-
мя. Этот упрек адресован в первую очередь русским медиевистам.
11аше сознание воспитано на материале истории России
X VI-XIX вв., и чрезвычайно трудно избавиться от того, чтобы пере-
носить смысл этих терминов на французских или английских вилла-
нов и сервов XII-XIV столетий. Картина социальной жизни почти
без остатка заполняется представлением о крайней забитости и бес-
правии трудового народа, с коего сдирают семь шкур, о неизбывном
антагонизме между крестьянами и крупными землевладельцами, о
постоянной и все нарастающей враждебности, насыщавшей отноше-
ния между ними. Что касается духовного мира сельского населения,
42 Феодализм перед судом историков
то важность его изучения была поставлена под вопрос известным
тезисом об “идиотизме деревенской жизни”.
Все эти явления, несомненно, имели место, и было бы нелепо
отрицать их важность. Но, может быть, настала пора остеречься не-
обоснованно односторонних взглядов историкам, вскормленным на
идеях классовой борьбы как главной движущей силы всей средневе-
ковой истории? Отношения между земельными собственниками и
зависимыми держателями длились на протяжении нескольких сто-
летий, и возникает резонный вопрос: возможна ли столь продолжи-
тельная жизнь на вулкане? Я позволю себе напомнить о том, что в
подробных и длительных беседах между представителями инквизи-
ции и жителями пиренейской деревни Монтайю обсуждались самые
разные аспекты жизни этих крестьян и крестьянок, от их повседнев-
ного быта и сексуальных отношений до их еретических верований и
внутридеревенских интриг. Менее всего мысль крестьян обраща-
лась на этих допросах к их господам: герцог, король, епископ как бы
отсутствуют в их сознании, и действительная жизнь сельского насе-
ления протекает на каком-то другом уровне. Таково свидетельство
судебных протоколов начала XIV в.
В предшествующем столетии в Германии была сочинена поэма
под названием “Майер Хельмбрехт”. Отец и сын Хельмбрехты
спорят между собой о том, какой образ жизни предпочтителен -
рыцарский, коему желает подражать Хельмбрехт-сын, или же че-
стный крестьянский труд, прославляемый его отцом. Драма завер-
шается жалкой гибелью младшего Хельмбрехта, силившегося вы-
скочить “из грязи в князи”. Любопытно, что его отец, преуспеваю-
щий хозяин, гордится своей независимостью и преисполнен чувст-
вом собственного достоинства. Анонимный автор поэмы ни сло-
вом не упоминает господина, который, надо полагать, высился над
этим крестьянином.
Историки привыкли к тому, чтобы четко противопоставлять
крестьян их господам, и вполне справедливо. Обращаясь к текстам
leges barbarorum, медиевисты склонны искать земельных собствен-
ников и эксплуататоров среди nobiles, тогда как в liberi homines они
видят “простых свободных” (Gemeinfreie), людей, стоящих перед ре-
альной угрозой утраты свободы и собственности. Между тем анализ
скандинавских источников, как правовых, так и повествовательных,
не оставляет никаких сомнений в том, что любой бонд - землевладе-
лец, домохозяин, глава семьи - обладал наряду с участком пашни и
выгоном не только крупным и мелким домашним скотом, но и раба-
ми, и что в его доме жили и трудились вольноотпущенники, наемные
работники и всякие приживалы. В одиночку свое хозяйство вели
лишь бедняки-бобыли. Упомянутая выше “Песнь о Риге” явно исхо-
дит из представления о том, что рабы, поглощенные тяжким и гряз-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
43
ним трудом, находились в зависимости не только от знатных ярлов,
но и от карлов - свободных и обеспеченных домохозяев.
Короче говоря, рабами (а рабство сохраняло в Европе свое зна-
чение на протяжении, собственно, всего Средневековья) обладали
нс одни только крупные землевладельцы, но и состоятельные, и
средние крестьяне. Границу между свободными и несвободными
приходится проводить не совсем там, где мы привыкли, ибо экс-
плуатация труда рабов и вольноотпущенников, равно как и наем-
ных работников, получила широкое распространение и в среде
крестьян.
Все это не могло не придавать облику средневекового крестья-
нина такие черты, которые в сумме самым существенным образом
отличают эту фигуру от фигуры русского мужика XVI-XIX столе-
тий. Комментируя содержание “Майера Хельмбрехта”, кое-кто из
советских литературоведов, вдохновленных идеей классовой борь-
бы, в свое время умудрился узреть на страницах этой поэмы крова-
вые отблески Великой крестьянской войны в Германии. Предпо-
сылка, лежащая в основе подобных рассуждений, заключается, ви-
димо, в том, что движущим стимулом в феодальном обществе, как и
и обществе капиталистическом, было максимальное выкачивание
прибавочного продукта. Но не допустимо ли иное предположение,
каковое я вовсе не склонен абсолютизировать, но вместе с тем не
полагаю возможным сбросить со счетов?
Моя гипотеза заключается в том, что медиевисты имеют дело с
обществом, экономика которого обладала существенными особен-
ностями. Основой хозяйственной жизни служило простое воспроиз-
водство, нацеленное на обеспечение элементарных потребностей
населения. Но если вдуматься, что представляли собою эти потреб-
ности, то мы увидим: в состав продукции домохозяйства включался
наряду с необходимыми для него жизненными средствами также не-
который “избыток”, предназначенный для удовлетворения таких со-
циальных потребностей, как оказание гостеприимства30, регулярное
участие в пиршествах и обмен дарами. Ибо это аграрное общество
могло нормально функционировать лишь прибегая к указанным
формам социального общения. Иными словами, те формы социаль-
ного общения, которые с современной точки зрения могут расцени-
ваться как факультативные, избыточные и необязательные для
функционирования хозяйства, на интересующей нас ступени обще-
ственного и культурного развития представляли собой обязатель-
ные и жизненно важные его условия. Этим-то и объясняется, по-ви-
димому, повышенное внимание имеющихся в нашем распоряжении
текстов к дару и пиру. Эти институты суть важнейшие узлы межлич-
ностных связей. Обмен дарами, происходивший, как правило, на пи-
I >ах, был одновременно и наиболее принятым способом перераспре-
44
Феодализм перед судом историков
деления продуктов, и, главное, средством установления и упрочения
мира, дружбы и взаимной поддержки.
Для того чтобы несколько яснее представить себе природу это-
го общества и поведение его членов, следует хотя бы вкратце оста-
новиться на еще одном явлении. От эпохи викингов (VIII-XI вв.) со-
хранилось огромное количество кладов, разбросанных как в самой
Скандинавии, так и в соседних странах. Ныне, как кажется, истори-
ки уже не придерживаются точки зрения, согласно которой облада-
тели сокровищ прятали их в беспокойное время для того, чтобы
впоследствии воспользоваться ими. Ведь многие из этих кладов бы-
ли спрятаны таким способом, который заведомо исключал их “вос-
требование”. Если часть сокровищ закапывали в курганах или в по-
таенных местах, то другие топили в болотах или на дне рек и морей.
“Сага об Эгиле Скаллагримссоне” повествует о том, как этот
скальд, предчувствуя приближающуюся кончину, схоронил в пота-
енном месте сундуки с серебром, в свое время полученным от анг-
лийского короля, и умертвил единственных свидетелей - рабов, ко-
торые помогли ему спрятать его сокровища. Отношение к драго-
ценным металлам и изделиям из них - кольцам, гривнам, застежкам
для плащей и т.п. - можно объяснить только при отказе игнориро-
вать уверенность этих людей в том, что принадлежавшие им мате-
риальные ценности воплощали некоторые присущие им качества,
что обладание сокровищами служило гарантией “успеха”, “удачи”,
“везенья” того, кому они принадлежали. Между индивидом и богат-
ством, которым он обладал, существовала, по их убеждению, тес-
нейшая связь, и эта связь сохранялась и после смерти человека.
В сагах и легендах упоминаются погребенные в курганах покойни-
ки, восседавшие на собственных сокровищах, оберегая их от воз-
можных посягательств. Отношение к богатству, представления о
судьбе, о смерти и потустороннем мире неразрывно переплетены в
этом сознании. Все вещи, от оружия до сокровищ, выполняют опре-
деленные символические функции.
Обо всех этих явлениях мне неоднократно приходилось писать
более подробно, и здесь я возвращаюсь к ним, собственно, для того,
чтобы читатель по возможности отчетливо представил себе своеоб-
разие цивилизации, которая, несомненно, отнюдь не ограничивалась
пределами древнескандинавского культурного круга. Но в других
регионах Европы она в силу ряда причин может выступать перед
взором исследователя в лучшем случае отдельными бессвязными
фрагментами, в то время как на Севере нам легче опознать ее об-
щие очертания31.
Средневековая европейская цивилизация отнюдь не исчерпыва-
ется своей феодальной ипостасью. Не подвергая ни малейшему со-
мнению существенность отношений, которые выражались в ленном
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
45
с трое, вассалитете, равно как и в разных формах крестьянской зави-
симости от “благородных”, вместе с тем едва ли правомерно игнори-
ровать те формы человеческого общежития, которые выходили за
рамки феодальных структур. Важно обратить внимание на социаль-
ную многоукладность средневекового мира. В этом последнем на-
ряду с феодальными военно-политическими и правовыми структу-
рами были широко распространены рабство и вместе с тем - наем-
ный труд. Особую роль в функционировании и трансформации об-
щества играл, разумеется, город, природа которого по своему суще-
ству весьма далека от феодализма. Но город средневековой эпохи -
но особая важная тема, на которой следовало бы остановиться от-
дельно32.
* * *
Я хотел бы завершить этот очерк личным впечатлением, выне-
сенным мною лет пятнадцать тому назад, когда мне впервые уда-
лось побывать на скандинавском Севере. Мои норвежские колле-
ги из университета в Тронхейме любезно предоставили мне воз-
можность не только побывать на поле Фростатинга - месте древ-
него народного собрания в северо-западной Норвегии, - но и поз-
накомиться с природной средой, в которой жили хуторяне в этой
части страны. Мы оказались на вершине холма, где тысячу лет на-
зад находилась усадьба одного из тронхеймских предводителей,
упомянутых в “Круге Земном” Снорри Стурлусоном. Этот хутор
па много миль отстоял от хуторов других бондов. Здесь я впервые
полностью осознал смысл слов Тацита о привычке германцев се-
литься поодаль один от другого. Это рассеянное по обширной тер-
ритории немногочисленное население действительно “не терпело
соседства”. Если между отдельными домохозяевами и существова-
ли определенные связи, то они выражались преимущественно в
охране традиционного права33, но отнюдь не в каких-либо общин-
ных распорядках.
Стоя на вершине холма, в недрах которого археологи обнаружи-
ли следы раннесредневекового поселения, я смог воочию предста-
вить себе, что такое “архаический индивидуализм” германцев и
скандинавов.
В отличие от тех медиевистов, интересы которых концентри-
руются на вассально-ленных отношениях, на росте церковно-мона-
стырского землевладения, на incastellamento (“озамковании”) и по-
добных бросающихся в глаза явлениях, я хотел бы подчеркнуть не-
обходимость изучения того крестьянского мира, который, будучи
материальной основой всех этих феодальных феноменов, отнюдь
не поглощался ими. Пред нами иной, глубинный пласт социальной
действительности, жизнь коего подчинялась специфическим тра-
46
Феодализм перед судом историков
-----------------------------------------------------------------------1
дициям и правилам. От этой “Атлантиды”, большая часть которой
не получила и не могла получить адекватного отражения в дошед-
ших до нас источниках, сохранились, собственно, лишь фрагмен-
тарные упоминания. Audiatur et altera pars. Я убежден в том, что дав-
но уже настало время обратить серьезное внимание на эту сторону
средневековой жизни34.
1 Reynolds S. Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford,
1994. Рец. И.В. Дубровского см.: Одиссей: Человек в истории. 1997. М.,
1998. С. 313-319.
2 Гуревич А.Я. “Феодальное Средневековье”: что это такое? Размышле-
ния медиевиста на грани веков // Одиссей: Человек в истории. 2002. М.,
2002. С. 261-294.
3 Die Gegenwart des Feudalismus. Presence du feodalisme et present de la fdo-
dalite. The Presence of Feudalism I Hrsg. N. Fryde, P. Monnet, O.G. Oexle.
Gottingen, 2002.
4 Kuchenbuch L. “Feudalismus”: Versuch fiber die Gebrauchsstrategien eines
wissenspolitischen Reizwortes // Ibid. S. 293-323. Кухенбух, в частности,
подчеркивает тот несомненный факт, что понятие “феодализм” приоб-
рело идеологическую и политическую негативную оценочную окраску
уже со времен Великой Французской революции, официально отменив-
шей “Старый порядок”. Что касается новейшей историографии, то ряд
ее представителей предпочитает вообще избегать использования поня-
тия “феодализм”. Оценка современного состояния вопроса чрезвычай-
но затруднена непрерывно нарастающей численностью исследований.
По словам Кухенбуха, пять тысяч ныне работающих медиевистов пуб-
ликуют до тысячи монографий и десяти тысяч статей ежегодно... Тем
не менее в этом все разрастающемся потоке выделяются отдельные
труды, порождающие “научный переполох”. К такого рода научным
событиям относится книга С. Рейнольдс “Фьефы и вассалы”, которая -
при известной ограниченности ее критической аргументации - поста-
вила под сомнение ряд казавшихся устойчивыми и общепринятыми
подходов к проблеме феодализма (см.: Ibid. S. 304,311). Как бы ни оце-
нивать вклад Рейнольдс в дискуссию о феодализме и сеньориально-вас-
сальных связях, она, как мне кажется, открывает новый этап в этой
дискуссии, и то, что И.С. Филиппов отделывается от труда Рейнольдс
немногими пренебрежительными замечаниями, не представляется мне
наиболее адекватной реакцией. См.: Филиппов И.С. Средиземномор-
ская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феода-
лизма. М., 2000. С. 72.
5 Feudalismus - Materialen zur Theorie und Geschichte / Hrsg. von L.
Kuchenbuch in Zusammenarbeit mit B. Michael. Frankfurt a. M.; B.; Wien,
1978.
6 Kuchenbuch L. Op. cit. S. 322.
7 См. ст. в наст, сб.: Дубровский И.В. Как я понимаю феодализм. В не-
сколько измененном виде эти же соображения И.В. Дубровский воспро-
изводит и в своей ст.: Феод // Словарь средневековой культуры / Под ред.
А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 561-567.
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации 47
* "Qu'est-ce que la fdodalite? Ce fut d’abord une disposition d’esprit”: Cm.:
Duhy G. La f£odalite? Une mentalite m6di6vale // Hommes et structures du
Moyen age. P., 1973. P. 110.
,J Человеческое достоинство и социальная структура. Опыт прочтения
двух исландских саг // Одиссей. Человек в истории. 1997. С. 5-30.
111 ('м. об этом: МильскаяЛ.Т. Светская вотчина в Германии VIII-IX вв. и ее
роль в закрепощении крестьянства. М., 1957.
11 (‘м.: Гуревич А.Я. Роль королевских пожалований в процессе феодально-
го подчинения английского крестьянства // Средние века. М., 1953.
Нып. 4. С. 49-73.
•'См.: Дары. Обмен дарами // Словарь средневековой культуры. С. 129 и
след.
1 ’ Ловис Н.З. Дары, рынок и исторические перемены: Франция, век XVI //
< )диссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 192-203; Davis N.Z. The Gift
in Sixteenth-Century France. Oxford, 2000. К сожалению, мне остался пока
недоступным сб.: Negotiating the Gift: Pre-Modem Figurations of Exchange I
lid. G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen. Gottingen, 2003.
н См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М.,
1967. С. 117-149.
1' //yarns Р. Homage and Feudalism: a Judicious Separation // Die Gegenwart des
Feudalismus. Presence du fdodalisme et present de la f£odalit£. The Presence of
Feudalism. P. 13-49.
1,1 Coss P. From Feudalism to Bastard Feudalism // Ibid. P. 79-107.
11 Гранат И.Н. К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии. М.,
1908.
IH Hatt G. The Ownership of Cultivated Land // Det Kgl. Danske Videnskabemes
Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. Kpbenhavn, 1939. В. XXVI. D. 6.
S. 16-17.
14 Я уже не останавливаюсь на той роли, какую в новых расчистках земель
под пашню играли церковно-монастырские учреждения, а отчасти и
светские сеньоры.
Подробнее см: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневе-
ковье. М., 1977. С. 125-149; Он же. Аграрный строй варваров Ц Исто-
рия крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1: Форми-
рование феодально-зависимого крестьянства. С. 90-136. Противопо-
ложную точку зрения отражает глава: Неусыхин А.И. Эволюция обще-
ственного строя варваров от ранних форм общины к возникновению
индивидуального хозяйства // Там же. С. 137-176. Сравнительно недав-
нюю попытку Я.Д. Серовайского реабилитировать измышления Цеза-
ря о кочевом быте германцев, а заодно и возродить “общинную тео-
рию” едва ли можно счесть успешной. См.: Серовайский Я.Д. Сообще-
ния Цезаря об аграрном строе германцев в соотношении с данными но-
вейших археологических исследований // Средние века. М., 1997. Вып.
60. С. 5-36.
См.: Bloch М. La society feodale. Р„ 1968 (1 6d. 1939). Р. 122-123. Ср.: Гуре-
вич А.Я. Язык средневекового источника и социальная действитель-
ность: билингвизм в средневековой Европе // Сборник статей по вторич-
ным моделирующим системам / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту, 1973.
С. 73-75.
48
Феодализм перед судом историков
22 См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии
С. 93-117.
23 Здесь нет возможности рассмотреть вопрос о тесном взаимодействш
субъекта-обладателя собственности и объекта его прав. Из ряда памят-
ников той эпохи явствует, что качества индивида распространялись иг
принадлежавшие ему вещи, будь то оружие, сокровища, боевые кони илг
жилище. Наследственное земельное владение, в свою очередь, включа-
лось в окружавшее человека “силовое поле”. I
24 Mid.gar dr - “срединная усадьба”, огороженное, обжитое и культивируе-]
мое пространство, противопоставленное Утгарду (UtgarSr), “пространств
ву за оградой”, миру враждебных человеку сил. 1
25 См.: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье.
С. 252-274.
26 Майер В.Е. Уставы как источник по изучению положения крестьян Гер-
мании в конце XV - в начале XVI вв. Ц Средние века. М., 1956. Вып. 8. М.,
1956.
27 Algazi G. Lords Ask, Peasants Answer: Making traditions in Late Medieval vil-
lage assemblies // Between History and Histories I Ed. G. Sider, G. Smith.
Toronto, 1997. P. 199-229. Я благодарен K.A. Левинсону за предоставлен-
ную мне возможность ознакомиться с переводом этой статьи.
28 О диалектике свободы и несвободы в средневековом обществе см. ст.:
Дубровский И.В. Свобода и несвобода // Словарь средневековой культу-
ры. С. 450-461.
29 См. подробнее раздел «Tripartitio Christiana - tripartitio Scandinavica. Опыт
сравнения двух средневековых “социологических схем”» в раб.: Гуре-
вич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. С. 274-303.
30 См.: Гостеприимство И Словарь средневековой культуры. С. 120 и след.
31 Почти единственная попытка рассмотреть такого рода “peasant-based”
social system в средневековой Европе (во всяком случае, попытка, из-
вестная мне) предпринята английским историком Крисом Уикхемом в
начале 90-х годов XX в. Отчетливо сознавая немалые особенности
Скандинавии, он тем не менее и, на мой взгляд, совершенно справедли-
во отмечает, что подобные самодовлеющие крестьянские общности так
или иначе могут быть обнаружены в самых разных регионах. Главное
заключается в том, чтобы выделить их в качестве важной формы аг-
рарного общества, существовавшего не только в период, предшество-
вавший генезису феодализма, но и сосуществовавшего с ним. См.:
Wickham CJ. Problems of Comparing Rural Societies in Early Medieval
Western Europe //Transactions of the Royal Historical Society. Ser. 6. L., 1992.
Vol. II. P. 221-246.
32 Сосуществование и взаимодействие деревни с городом - универсальная
черта самых различных цивилизаций добуржуазной эпохи. Тем не менее
важно не упустить из виду следующую особенность средневекового За-
пада: на аграрное пространство была наложена довольно плотная сеть
городских и полугородских поселений (давно отмечено, что, например,
немецкий крестьянин, как правило, имел возможность на протяжении од-
ного дня посетить близлежащий город и возвратиться домой). Мы не на-
блюдаем подобного ни в Византийской империи, ни в халифате, несмот-
А.Я. Гуревич. Феодализм..., О крестьянской цивилизации
49
l»i на высокую степень их урбанизации. См.: Rosener W. Die Bauem in der
ruiopliischen Geschichte. Munchen, 1993. S. 45.
" <) гильдиях и coniurationes, создававшихся местным населением в интере-
сах соблюдения мира, недавно писал О.Г. Эксле: Oexle O.G. Soziale
< ii uppen in der Standegesellschaft: Lebensformen des Mittelalters und ihre his-
lorischen Wirkungen // Die Representation der Gruppen. Texte - Bilder -
< Ibjckte / Hrsg. O.G. Oexle, A. von Hiilsen-Esch (Veroffentlichungen des Max-
I’lunck-Instituts fur Geschichte 141). Gottingen, 1998. S. 25ff.
H II данной статье не рассматриваются характерные черты народной куль-
турной и религиозной традиции, часто определяемые в современной ме-
диевистике как “народная культура”. О последней см.: Гуревич А.Я.
Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
()диссей, 2006
И.В. Дубровский
КАК Я ПОНИМАЮ ФЕОДАЛИЗМ
По-видимому, вопрос о том, что делать с понятием “феодализм”, так
или иначе встает перед многими. Я не исследователь данного пред-
мета, но читатель чужих книг и могу поделиться некоторым опытом
наведения порядка в собственной голове.
В глазах поколений историков, феодализм являлся основопо-
лагающим понятием общественного быта Средневековья. Нес-
равненно меньше единства было и остается в вопросе о том, что
под этим следует подразумевать. Хотя понятие кажется сегодня
изрядно дискредитированным (в особенности затруднительно опи-
сывать в качестве феодальных средневековые общества в целом),
немало исследователей держится мнения, что у слова “феодализм”
есть более узкое, техническое значение, в котором его использо-
вание оправдано. По распространенному предположению, на эту
роль лучше всего годится то, что в разных национальных традици-
ях именуют феодо-вассальными (ленными) институтами или отно-
шениями.
Ради того, чтобы снять возможные неясности - даже если это
называется: ломиться в открытую дверь, - я позволю себе развер-
нутую ссылку на книгу оксфордского профессора Сьюзен Рей-
нольдс “Феоды и вассалы” (1994). Наделавшая много шуму, эта ра-
бота, видимо, все же не открывает Америки; с моей точки зрения,
она повествует о том, о чем медиевисты знают или догадываются.
Более того, достаточно работ, известных и не известных Рей-
нольдс, написанных подчас многие десятилетия назад, где понятие
феодализма, феодальных институтов рассматривается с той точки
зрения, на которой настаивает английская исследовательница. А
именно: распространение феодальных институтов связывается не с
разложением раннесредневековых монархий, но напротив - с про-
грессивным укреплением королевской и княжеской власти после
XII в., с процессом политического подчинения мира сеньоров но-
вым политическим лидерам средневекового Запада. Русский меди-
евист справедливо вспомнит в этой связи Петрушевского. И много
кого можно вспомнить. Но меня сейчас интересует критическая
часть книги Рейнольдс.
Правда то, что банальная эрудиция по сей день внушает совсем
иные представления о феодализме в этом “узком смысле слова”.
Рейнольдс задается целью сопоставить данные источников об отно-
шениях власти и собственности в Средние века с понятиями “феода”
и “вассалитета”, которые в ходу у большинства историков. В ее по-
ле зрения последовательно попадают материалы по средневековой
истории Франции, Италии, Англии, Германии и попутно с ними - се-
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм
51
паратные национальные традиции толков о феодализме. Автор пы-
тается решить, в какой мере феод и вассалитет, как их обычно по-
нимают, представляли собой институты, имевшие то значение, кото-
рое им приписывается. Выводы Рейнольдс не страдают неопреде-
ленностью. По ее мнению, расхожее понимание феодализма как
альтернативы государственного порядка более связано с историо-
графической традицией, нежели опирается на верифицируемое про-
чтение источников.
Мысль Рейнольдс заключается в следующем. Рассмотрение
феодализма в узком значении феодального права было предопреде-
лено трудами ученых-февдистов XVI в., которые извлекли из небы-
тия составленную в Ломбардии в XII - начале XIII в. компиляцию
“Libri feudorum”, где говорилось о праве собственности, называемой
феодом, держатели которой именовались вассалами. Это средневе-
ковое схоластическое феодальное право, далекое от жизни и право-
вой практики, утверждает Рейнольдс, - скорее однофамилец, чем
родственник того феодального права, которое развилось в Новое
время под флагом его рецепции. Февдистам XVI в. было естествен-
но предполагать, что благородная собственность всегда называлась
феодом, ибо так было в их время. Памятник, казалось, позволял со-
ставить представление о происхождении феодов - из пожалований
за военную службу, ставших наследственными. Помимо актуальных
вопросов современности “Libri feudorum” помогали осмыслить исто-
ки национальной истории и социальную эволюцию в целом. Фео-
дальное право было возведено в ранг особого вклада германских на-
родов в европейскую историю и культуру. В свидетельствах Тацита
о дружинном быте германцев видели раннюю форму вассалитета,
тогда как феод представлялся следствием расселения некогда бродя-
чих германских племен на территории поверженной империи.
В дальнейшем между этими двумя фазами вырисовался период ал-
лодиальной собственности, на протяжении которого знать имела
земли на полном праве. Введение феодов было отсрочено до време-
ни Каролингов. Общая структура рассуждения выдержала все под-
новления, и вслед за феодальным правом скоро заговорили о фео-
дальном правлении и феодальном обществе. Монтескье, Адам
Смит, Маркс, более следуя этой древней традиции, чем современной
им историографии, утвердили взгляд на Средние века как на опреде-
ленную стадию истории, время феодализма.
Рассмотренные британской исследовательницей понятия васса-
литета и феода рисуются сугубым творением февдистов Нового вре-
мени. Эти историографические окаменелости влекут за собой
шлейф архаических представлений о Средневековье и обществе в
целом. За средневековые понятия сегодня выдаются структуры ин-
терпретации, изобретенные в XVI в. и детально разработанные в
52
Феодализм перед судом историков
следующем столетии. Антиквары Нового времени меньше нашего
были осведомлены об истории Средних веков и хуже себе представ-
ляли, как может быть организовано общество вообще. Тем не менее
именно с их легкой руки феод и вассалитет приобрели репутацию
архетипических форм землевладения и социального долга предста-
вителей господствующего класса средневековой Европы.
Вера в непогрешимость модели и историографический канон
истолкования того, что в нее не вписывается, как местной специ-
фики, не умаляющей правила, во многом выводят проблематику
феодализма “в узком смысле слова” за рамки актуальной истори-
ческой критики в область несколько туманных историографиче-
ских слухов. Возможно, в числе причин неуязвимости того, что ав-
тор называет “феодальной парадигмой”, - сама архаичность моде-
ли анализа. В большинстве случаев при рассмотрении феода и вас-
салитета фактически утверждается тождественность употреблен-
ного в источнике слова понятию, тождественность наших поня-
тий - средневековым, тождественность слов и понятий - вещам.
Исходя из предположения, что слова устойчиво представляют по-
нятия и вещи, исследователи прочерчивают траектории слов. Мно-
гозначность последних - ни для кого не секрет. Подразумевается,
однако, что слова обладают некими основными, сущностными зна-
чениями, разделяемыми всеми в первую очередь. Нет нужды гово-
рить, сколь это спорно. В контексте отношений власти и собствен-
ности, точные и устойчивые определения могли бы исходить от
правоведов, однако это не случай средневекового обычного права,
делавшего попросту невозможной унификацию словаря и его зна-
чений. Вырывавшееся из железных объятий живой жизни - време-
нами в область бесплотных абстракций - более синтетическое спе-
кулятивное правоведение отчасти влекло за собой такую унифика-
цию, но вместе с ней - и усугублявшиеся расхождения между раз-
ными правовыми системами. Средневековые нотарии и их клиен-
ты едва ли придавали словам феодального лексикона ту символи-
ческую силу, какую приписывают им современные исследователи,
будучи скорее сами подвержены магии поименования. Анализ ми-
нует главное. Ориентация на отыскание институтов уводит от рас-
смотрения конкретных систем власти и правопорядка, которыми и
обусловлены права и обязанности людей.
Особенно разрушительной критике Рейнольдс подвергает идею
вассалитета. Представление о вассалитете сложилось в те историо-
графические времена, когда отрицали существование в Средние ве-
ка политической власти и всякого понятия о публичном. Идея res
publica казалась тогда исключительным достоянием римской циви-
лизации, чуждой и слишком сложной для варваров. Предполагалось,
что между падением Римской империи и возникновением современ-
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм 53
пых государств Европа впадает в состояние “феодальной анархии”,
когда частные связи личной верности остаются единственным пал-
дпативом правопорядка. Стереотип феодо-вассальных институтов
но сей день мешает в полной мере оценить публично-правовые ос-
новы общественной жизни Средневековья. Историки слишком
охо тно рассматривают короля как высшего сеньора, ибо это согла-
суется с их представлением о феодализме - хотя и трудно доказуемо
для большинства королевств во многие периоды времени. Рей-
нольдс полагает, что понятием вассалитета нередко стремятся опи-
свть нормальные отношения между правителем и подданными.
Даже в сочинениях позднесредневековых юристов, по утвержде-
нию Рейнольдс, оторванных от жизни и правовой практики, замеча-
ния о вассалах и вассалитете не подразумевают те нормы и ценно-
сти, которые всплывают в трудах февдистов Нового времени. Для
основополагающих категорий социальных взаимоотношений в
('редкие века они обсуждаются слишком вяло и формулируются не-
достаточно эксплицитно. Средневековое феодальное право не ис-
толковывает связь между сеньорами и их вассалами в терминах по-
земельных отношений. Держать феод еще не означает быть васса-
лом и наоборот. Пресловутое “соединение институтов вассалитета и
феода”, поставленное исследователями в начало феодализма, прин-
ципиально не доказуемо. В многосложном мире у человека много
поводов чувствовать себя обязанным. Мысль об изначально единст-
венном сеньоре и лишь последующей профанации этой идеи в пери-
од, для которого доподлинно известно обратное, можно объяснить
только нежеланием вникнуть в реально существовавший политиче-
ский пейзаж. На место старинного романтического верования в су-
губо личный, добровольный, договорный характер вассалитета, ав-
тор ставит идею коллективных и имплицитных соглашений, остав-
ляющих той и другой стороне мало пространства для маневра. Ап-
риорным ей кажется мнение, что вассальные службы - прежде все-
го военные, а военные люди - по преимуществу вассалы в том смыс-
ле, какой обычно вкладывается в слово “вассал”. Едва ли не для всех
средневековых обществ характерны развитое социальное неравен-
ство и авторитаризм, однако представления о вассалитете как роде
о тношений в среде поставленной над простонародьем знати подра-
зумевают наличие в обществе разграничительной линии, которую в
действительности бывает очень трудно провести.
Не подвергая сомнению значение личных связей в Средние века,
Сьюзен Рейнольдс тем не менее убеждена в необходимости поло-
жить предел стремлениям втиснуть все их в монолитную концепцию
вассалитета. Последняя напоминает автору черную дыру. Под выве-
ской вассалитета проходят несопоставимые типы и нормы отноше-
ний между правителем и подданным, патроном и клиентом, земле-
54
Феодализм перед судом историков
владельцем и держателем, нанимателем и слугой, военным предво-
дителем и солдатом. Здесь трудно предполагать наличие универ-
сального правила. Если желать продвинуться в понимании сути де-
ла, надо оставить слово “вассалитет” и изучать конкретные системы
межличностных и коллективных отношений и ценностей. В широ-
ком спектре служб играет роль не материализующаяся идея васса-
литета, а статус сторон, социальная дистанция между ними и то, что
им друг от друга нужно.
Разговор о феоде кажется, по крайней мере, более предметным.
Между тем нет никакой возможности и смысла рассматривать бене-
фиции каролингского времени и феоды XIII-XIV вв. как воплоще-
ния, одного института, коль скоро они существуют в таких разных
правовых и политических контекстах. От понятий, описывающих,
скажем, Францию около 1300 г., мало толку при рассмотрении за-
падноевропейских обществ тремя или четырьмя столетиями ранее.
История феодализма “в узком смысле слова” видится автору не
столько органическим развитием неких традиционных ценностей и
отношений, сколько их палимпсестом.
На истории феода и феодального права я хочу специально оста-
новиться. Проблематика княжеской и королевской феодализации -
объектом которой после XII в. сделалось сеньориальное общество,
обладатели сеньориальных замков, до тех пор предоставленные са-
ми себе - имеет прямое отношение к вопросу о сеньориальной рево-
люции около 1000 г. Надеюсь, это стремление начать с конца в ито-
ге не покажется лишенным смысла. Естественно, предпочтительное
внимание я уделю Южной Франции, тому региону, который впослед-
ствии стал южной половиной Франции, поскольку именно здесь
сеньориальную революцию искали наиболее систематически и на-
ходили особенно часто.
Позволю себе напомнить некоторые вехи семантической исто-
рии слова “феод” на протяжении раннего Средневековья. Древней-
шие засвидетельствованные формы слова в германских языках обо-
значают богатство, сокровище, деньги, движимое имущество, скот -
в языке “готской Библии” Вульфилы IV в. или в древнеанглийском
“Беовульфе”, который восходит к рубежу VII и VIII в. То же слово,
видимым образом минуя семантическую эволюцию латинского
Средневековья, дает в новых языках, в частности, нем. Vieh,
(“скот”). Семантика впервые встречающегося в “Песне о Роланде”
(конец XI в.) старофранцузского feu или fiet, напротив, стоит в более
тесной связи с латинскими словоупотреблениями. (Форма fief утвер-
дилась во французском с XIII в.) В латинских текстах feo, fevum или
feus появляется в грамотах, происходящих из Санкт-Галлена (конец
VIII в.), Лукки (середина IX в.), Магелона (конец IX в.). С X в. слово
распространяется на юге Франции, в Каталонии и Бургундии, осо-
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм
55
бкнно активно - накануне и после 1000 г. Лишь в этот период латин-
иц ис упоминания феода, до того времени весьма эпизодические, глу-
циг и разноречивые, становятся, наконец, несколько более много-
численными и информативными. Феод означает некое дарение, воз-
награждение, плату. Около 1000 г. под феодом все чаще понимают-
UN именно земельные пожалования, хотя и впоследствии слово про-
должает употребляться для обозначения денежного или иного со-
держания, а также более экзотических предметов, вроде права пер-
шам броситься на врага - этим правом в “Песне о Роланде” жалует
Племянника король Марсилий. Согласно исследованиям Пьера Бон-
Ийгги и Элизабет Манью-Нортье, в качестве земельного пожалова-
нии феод нередко подразумевает собой в это время род собственно-
сти, которой наделяются графы, виконты, викарии и другие высоко-
Hih спиленные представители публичной власти из фонда публичных
(фискальных) земель, отчего слово fiscus оказывается обычным си-
нонимом феода, а сами пожалования привязаны к административно-
му делению на графства, викарии и затем кастелянства. Хотя такой
феод достаточно свободно наследуется и отчуждается, вполне воз-
можно, с ним связано меньше прав и больше обязанностей, нежели
V иным землевладением лиц сходного общественного положения.
По ч тобы судить об этом, внятных данных нет.
Аллод и феод не противопоставляются как некие альтернатив-
ные формы землевладения. По меньшей мере до XII в. в целом
преобладал единый взгляд на собственность свободных людей.
Опп предстает неизменно полной (т.е. не ограниченной сверх
обычных социальных условий ее существования), свободно насле-
дуемой и отчуждаемой. Собственность могущественных лиц объе-
ктивно более полна и свободна. Маленькому человеку труднее от-
стоять свои права. Тем не менее в принципе они у всех одинаковы.
Иге права защищает один обычай, все они подчинены единым или
сходным социальным ценностям и контролю. Полная собствен-
ность в этот период создавала базу общественного порядка, при
ко тором все другие поземельные отношения играли подчиненную
роль. К существовавшей системе землевладения и социального
долга земельные пожалования фактически не добавляли ничего
принципиально нового. Если случалось, что с переданной земли
полагалась служба, по своему объему и характеру она не отлича-
лись от той, которую несли владельцы унаследованной земли. Ко-
। да земля переходила в руки свободного человека, с течением вре-
мени се начинали воспринимать как свою собственную, и обычное
п pi ню закрепляло эти новые права.
('сньориальный строй не основывался на системе поземельных
отношений в той степени, как это было в позднее Средневековье.
11 пнеть существовала, так сказать, в чистом виде - не будучи опосре-
56
Феодализм перед судом историков
дованной поземельными правами, не выступая в их облике. Власть в
этом мире - она и есть власть. Такую систему аристократического
господства, основанного на “бане” (политическом лидерстве), Жорж
Дюби в своем исследовании о Маконне (в Южной Бургундии) назвал
баналитетной сеньорией.
В обстановке прогрессировавшей политической дезинтеграции
XI в., которую многие южнофранцузские историки описывают в
терминах сеньориальной революции, представление о феоде оказа-
лось поднято на щит крупными церковными землевладельцами. Но-
вый строй власти и правопорядка сеньориальной эпохи вынуждал
церковные учреждения систематически заручаться расположением
и поддержкой набиравших силу военизированных аристократий, и
передачи отдельных владений в управление мирянам были доступ-
ным и эффективным способом консолидации и расширения церков-
ных клиентел. Трудность заключалась в том, чтобы не допускать
при этом бесповоротного отчуждения церковных имуществ - вос-
прещенного каноническими установлениями, но вполне реального в
свете господствовавших в обществе представлений о собственности.
Если сила оружия на стороне милитаризированных аристократий,
то оружие клириков - истолкование права, и они пускают его в ход,
демонстрируя не больше миролюбия, альтруизма, а временами и же-
лания вникать в реалии существующих в обществе правовых систем.
Перед лицом болезненных недоразумений, мысль о феодальном по-
жаловании призвана спасать церковное землевладение. Идея особо-
го феодального права, судя по всему, развилась из этой практики уп-
равления церковными имуществами.
Другой важный момент его формирования, на который указы-
вает, в частности, Сьюзен Рейнольдс, - развитие правовой теории.
Суть перемен в правовой культуре средневековых обществ после
1100 г. она понимает как переход от имманентного и разноречивого
обычного права раннего Средневековья к более эзотерическому и
унифицированному профессиональному правоведению последую-
щих столетий. Новый профессионализм стремился рационализиро-
вать хитросплетения обычного права, оформить их в более или ме-
нее когерентные правила. Впервые в Италии в конце XI в. возник
новый род правоведов, которые стали изучать документы и выво-
дить из них дистинкции. Помимо прочего они оказались озабочен-
ными выработкой правил и определений, которые объясняли бы
практику условных земельных пожалований, называемых феодами.
Данные, которые бы свидетельствовали о распространении
феодальных пожалований в среде мирян, до XII в. крайне немного-
численны. Зато налицо психологические барьеры, блокирующие
или серьезно затрудняющие этот процесс. Линьяжи нервно реагиру-
ют на полученный кем-то из родственников феод, усматривая в том
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм
57
пятнающее их подчинение, и могут отвернуться от унизившегося. Та
же мораль линьяжа воспрещает расточать родовые земли на пожа-
лования посторонним лицам. Линьяжи охраняют наследственные
патримонии. К началу XII в. феод, вероятно, имеет некоторое рас-
пространение в среде мелкой аристократии, однако и там встречает-
ся скорее в особых обстоятельствах. Приберегая родовые земли, в
феод дают спорное - разряжая спорную ситуацию или переклады-
вая ее на чужие плечи - либо то, что сами держат в качестве феода
от третьих лиц. При семейном разделе понятие феода может прила-
гаться к доле какого-нибудь дальнего родственника, и в таком слу-
чае оно призвано символизировать определенное единство наследст-
венных земель и контроль над ними со стороны главы линьяжа. При
той эпизодической и служебной роли, какая отводится феоду в соци-
альных взаимоотношениях, он не создает сколько-нибудь единооб-
разных социальных ситуаций и скорее гармонизирует жизнь обще-
ства, нежели существенно меняет ее. Это констатировано Жоржем
Дюби для бассейна Соны, Андре Дебором - для бассейна Шаранты.
Итак, около 1000 г. феоды - это род имущества во владении тех,
кого называют personae publicae, “публичных”, т.е. связанных с госу-
дарственной властью лиц. Около 1100 г. феоды - условные пожало-
вания со стороны церкви, находящие лишь слабый отклик в свет-
ском обществе. Никогда до XIII в. феод не обозначал собственности
знати как таковой; некой особой благородной собственности до тех
пор вообще не существовало. Никогда прежде феоды не были
сколько-нибудь многочисленны. Напротив, по Бомануару, т.е. в
80-е годы XIII в., феод предстает обычной собственностью знатного
лица, отличной от других наследственных владений, и все сеньории
королевства, прямо или опосредованно, суть королевские феоды.
Новое наименование столь же новой для Запада особой благород-
ной собственности - следствие масштабных изменений в политиче-
ском существовании средневековых обществ. С начала XII в. прин-
ципы восходящего к церковным практикам феодального права освя-
щают реставрацию княжеской и королевской власти. Новый род
правовой аргументации упрощает подчинение сеньоров более регу-
лярным обязанностям и более эффективному контролю свыше.
Феод XII и последующих столетий - нечто принципиально от-
личное от того рода землевладения, которое называли феодом пре-
жде, и от прежней собственности знати, которая обычно феодом не
называлась. Он возникает не вследствие реального перераспределе-
ния земли. Торжествуют новые правовые определения. Единствен-
ный смысл превращения владений знати в феоды заключается в
признании ею нового политического подданства. Ответный жест
власти, признание особого статуса благородного землевладения, не
столько выдает бессилие последней перед лицом баронов, сколько
58
Феодализм перед судом историков
отражает благоразумно усвоенный способ господствовать над раз-
ными людьми, включая людей влиятельных и потому опасных, с ко-
торыми стоит считаться. Особые свободы и привилегии даются тем
в обмен на клятву верности и некоторый род военной поддержки. У
принимающих эти правила игры, очевидно, не было большого вы-
бора. Вместе с тем нельзя утверждать, что феод изначально мыс-
лился ими как более низкий род собственности. Вероятно, само под-
чинение воспринималось как почетное, поскольку касалось избран-
ного круга лиц. Процесс подобной феодализации создавал в общест-
ве разграничительные линии, которые до той поры едва ли было
возможно провести. Сам по себе особый контроль за немногими из-
бранными, недвусмысленно удостоверяя их выдающееся социальное
положение, конституирует знать с той мерой определенности, какой
не знало предшествовавшее Средневековье. На протяжении XIII в.
утверждается представление, согласно которому обладание феодом
подразумевает и в череде поколений создает знатность по крови.
Первые известные случаи превращения баронских сеньорий в
контролируемые князем феоды (по-фр. fief de reprise или по-лат.
feudum oblatum - “возвращенный феод”) происходят из картулярия
сиров Монпелье. Группа документов, датируемых 1112-1114 гг., сле-
дует единой формуле: некий барон передает свою сеньорию сиру
Гильому (V или VI), обычно получая взамен деньги; Гильом возвра-
щает переданное под именем феода (ad feudum) и принимает от ба-
рона клятву верности. Составленный в 1172 г. для графов Шампан-
ских список “феодов Шампани” включает без малого две тысячи та-
ковых, что трудно приписать тысячекратному повторению анало-
гичной операции. Скорее, налицо стремление графов рассматривать
в качестве феодов все сеньории в пределах своих владений. “Возвра-
щенные феоды” характерны для ранней стадии процесса феодализа-
ции. По мере возрастания власти и престижа принцев нередко име-
ет место молчаливое признание нового положения вещей без фор-
мального акта передачи и возвращения.
Красноречивым примером целостной региональной феодализа-
ции может служить развертывание процесса в Маконне. Согласно
Дюби, он протекает в заключительной трети XII - первой половине
XIII в. одновременно на нескольких уровнях. Последовательная по-
литика феодальной реставрации в Маконне усилиями французских
королей Людовика VII, Филиппа Августа и Людовика Святого ведет
к установлению королевского контроля над крупнейшими барония-
ми и важнейшими крепостями региона. Сходная стратегия - у консо-
лидирующей свои сеньории аристократии средней руки. В обоих
случаях умножение феодов происходит путем изменения статуса су-
ществующих сеньорий, под давлением или за звонкую монету, и
крайне редко - в результате нового испомещения. По сути дела име-
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм
59
и I место признание верховных прав сначала в высшем, а затем в сре-
днем этаже аристократии. Баронская собственность эшелонируется
м единой системе. Низшие слои рыцарства (те самые, которые неко-
I ди калькировали поземельные практики церкви) подобная феода-
ми нщия затрагивает поздно и в меньшей мере. Первоначально под-
чиняющиеся бароны, очевидно, мало что теряют из своих прав, но
после смерти обладателя феода его наследник вводится во владение
через инвеституру. Держание феода обязывает приносить оммаж,
пснмщающий конкретные политические договоренности, и эта про-
цедура также повторяется всякий раз, когда феод меняет своего вла-
дельца. Свыше санкционируется всякое отчуждение феода. В XIII в.
иПлвдатель феода должен был “делать” или “служить” свой феод
(liiccre feodum, feodum deservire). Феод, который не “служат”, может
быть конфискован. О конкретном содержании подобного рода фео-
дальных служб, в Маконне и многих других местах, доподлинно из-
вестно как раз не многое. Наиболее внятно формулируемые обяза-
тельства обладателей феодов - главным образом негативного свой-
стпп: знать свое место и не вредить сеньору.
Феодализация в Маконне выглядит не вполне законченной и не
скоординированной в деталях. Тем не менее власть, которой король
и несколько крупных баронов обладают над замками и значитель-
ной частью земель знати, уже достаточно оформлена и эффективна,
чтобы коренным образом изменить условия политической жизни в
регионе: подчинить членов высшего класса, шателенов, до той поры
не знавших узды и никого в мире, кто мог бы их покарать, некото-
рой дисциплине, претендовать на разрешение их споров, службу с их
с тороны и контроль над их замками. Через понятие феода сеньория,
сеньориальная власть в нарастающей мере уподобляется роду зем-
це владения, и, соответственно этому обстоятельству, ту же более
ннственную поземельную подоплеку приобретают старинные бана-
|| итетные прерогативы шателенов над окрестным земледельческим
ипсслением. Так касающаяся, казалось бы, одних сеньоров феодали-
зация в конечном счете принципиально меняет природу сеньориаль-
ной власти над крестьянами. Осуществленная в 1239 г. Людовиком
(‘пятым аннексия графства Маконского - своего рода символиче-
ский рубеж, за которым условия общественного существования че-
ловека диктуются уже не столько его отношением к власти в чистом
виде, т.е. замку и могущественному шателену, сколько статусом его
земли. Социальная структура отныне зиждется на системе позе-
мельных отношений, которая в свою очередь служит основой для
новой политической формации.
Конкретные условия и ход политической борьбы, символиче-
ской и другой, предопределяют временами противоречивые и пере-
менчивые облики локальных феодальных режимов. Здесь я со-
60
Феодализм перед судом историков
шлюсь на исследования Жерара Джорданенго. Так, графы Проваи-*
са долгое время остаются к феодальному праву достаточно равно-]
душны, ибо видят для своей власти и иной фундамент - в восходящи^
к каролингской эпохе, увядших, но не исчезнувших, публичных ин-
ститутах либо в реанимируемом римском праве. Рецепция римского
права в регионе одно время даже приводит к замещению существу-
ющих феодов иным родом держания, эмфитевсисом. Другие князья,
напротив, привержены осознанной и целенаправленной феодальной
политике. В ближайшем соседстве это случай графов Дофине, чье
княжество возникает фактически заново, не унаследовав той древ-
ней традиции политического лидерства, которая позволяет правите-
лям Прованса претендовать на клятвы и юрисдикции, альберги и ка-
валькады. Дофины - как называют графов Дофине по прозвищу од-
ного из них - обходятся с баронами едва ли не одними феодальными
методами, что оборачивается необременительностью феодального
подчинения. XIII в. проходит в тщетных попытках дофинов связать
феоды более строгими правилами - в том, что касается порядка кон-
фискации, исключения женщин из наследования и прочего. На рубе-
же XIV в. побеждает обратная тенденция. Бесконечные уступки раз-
нообразных привилегий отдельным группам знати и некоторым
крупным баронам говорят о поражении феодальной политики до-
финов и освящают независимость знати - расположенной приносит^
оммаж постольку, поскольку он ни к чему не обязывает, и признаю-
щей свои вотчины феодами, раз само своеобразие феода как формы
землевладения остается в высшей степени туманным. Определения,
призванные гарантировать притягательность феода в глазах баро-
нов, “свободный”, “благородный”, “древний”, в конце концов начи-
нают символизировать его свободу от княжеского контроля и
служб. Сохранив былые вольности, знать злоупотребляет фразео-
логией феодального права ради своего социального самоопределе-
ния и беспардонного прессинга в отношении власти дофинов - при-
сваивая себе все выгоды и не принимая никаких обязательств. Идея
дофина о введении “чистого феодального права”, merum ius feudo-
rum, остается в области благих пожеланий. Так феодальная полити-
ка дофинов приводит к обратному результату, и лишь после присо-
единения области к домену французских королей те наводят в Дофи-
не должный феодальный порядок.
В разных обстоятельствах, в зависимости от предмета сделки,
статуса контрагентов, их отношения друг к другу, выражение in
feudo может служить указанием на весьма различные права и обя-
занности сторон. Говоря о некоем “правильном феоде”, февдисты и
нотарии апеллируют к букве феодального права, однако не в силах
контролировать употребление и понимание слова другими лицами,
С тем же успехом под феодом может подразумеваться отнюдь не не-
И.В. Дубровский. Как я понимаю феодализм
61
движимость, а денежное или натуральное вознаграждение либо, ес-
ни речь идет все же о земле, - не благородное, а вполне крестьян-
ское держание. Во Франции такой неблагородный (ротюрный) феод
г XIII в. получает беспрецедентное распространение. Способствуя
оформлению технических терминов, развивающееся спекулятивное
Н|ииюиедение тем самым провоцирует усугубляющиеся расхожде-
нии и их трактовке между разными правовыми системами. В итоге
феод Нижнего Лангедока оказывается во многом сродни, скажем,
пронписальскому, но никак не феоду Верхнего Лангедока: по выра-
жению исследователя, ротюрный феод, так обстоятельно описан-
111.1(1 в Тулузской кутюме (1286 г.), словно бы происходит с другой
прпноной планеты.
I icTb обстоятельства, заставляющие меня теперь оставить облю-
Лишишую мною Южную Францию. Как известно, пример наиболее
утешного феодального развития (с реальной военной службой дер-
жи гелей, с правильной иерархией держаний) демонстрирует страна,
тик и нс импортировавшая целостной системы феодального права,
Англия. Само слово “феод”, вторично занесенное на острова нор-
миидским завоеванием и первоначально не свободное от француз-
ских коннотаций политического подчинения (в частности, в “Книге
( гриппюго суда”), очень скоро получает значение, весьма отличное
иг утвердившегося на континенте благодаря торжеству феодально-
in врана. Определение feodum (англ, fee) прилагается ко всякой пол-
ной, свободной, нормальным порядком наследуемой собственности.
|'н пювидность феода sochagia, землевладение сокменов, называе-
мых в латинских текстах “свободными людьми”, в действительности
имее т много общего с французским аллодом. Напротив, военное
держание или держание за ренту требуют дополнительных опреде-
лений (feodum militis или militarium, feodum talliatum). Путь утвержде-
нии идеи иерархии прав собственности в Англии - иной, нежели на
континенте. От эпохи нормандского завоевания английские короли
унаследовали род правления, при котором уже осуществлялся ре-
МИЫ1ЫЙ контроль над собственностью подданных. В опоре на суще-
t |иуц)щие административные и правовые инструменты впоследст-
вии происходит кристаллизация особых правил наследования и от-
чуждения собственности лиц высокого общественного статуса в си-
пу их особых обязанностей перед короной. Ко времени “Великой
миргии” (1215 г.) за королевское пожалование английским общест-
вом принимается то землевладение, которое в наибольшей мере за-
। ропуто королевской эксплуатацией. Как и в остальной Европе, по-
цитпчсский суверенитет трактуется в терминах отношений собст-
венности.
Гот же культурный стереотип, между прочим, засвидетельство-
IHIп в рассказе ряда скандинавских саг об “отнятии одаля”, родовых
62 Феодализм перед судом историков
земель жителей Норвегии, конунгом Харальдом Прекрасноволосым.
Подчинив страну свой власти, он якобы тем самым присвоил себе их
земли и превратил в своих держателей-лейлендингов. По счастью
для нас, скандинавский одаль - один из наиболее красноречивых и
изученных примеров феномена собственности на средневековом За-
паде. Воплощая нерасторжимое единство собственности и ее облада-
теля, одаль создает социальное лицо индивида, его высокое достоин-
ство. Мнимое “отнятие одаля” демонстрирует обратное - то, как ума-
ление королевским диктатом личной независимости воспринимается
в качестве покушения на принципы землевладения.
Я упомянул об этом вот в какой связи. Еще в начале XII в. Ир-
нерий, lucema juris, “светоч права”, усматривал в феоде институт
публичной службы, что близко семантике, засвидетельствованной
около 1000 г., но совершенно расходится с тем пониманием предме-
та, которое восторжествовало в средневековом феодальном право-
ведении, трактовавшем феод как связанное особыми правилами зе-
млевладение. Генетически административная природа феодализма
ощутимо не согласуется с частноправовым способом ее интерпрета-
ции. Кажется, юристы идут за народной мыслью - средневековыми
представлениями об индивиде, собственности и политическом ли-
дерстве, так живо запечатлевшимися в истории об “отнятии одаля”.
С упорством выводя этимологию слова “феод” из латинского fides
или fidelitas, всеми иными доступными способами подчеркивая лич-
ный, добровольный, договорный, аффективный характер феодо-
вассальных связей (что, надо полагать, весьма далеко отстоит от ре-
альной практики административного феодализма), февдисты откли-
каются на общие места средневековых воззрений на человеческое
достоинство и достойное, правильное политическое подчинение. В
конечном счете, подчинение знати совершается путем осмысления и
рационализации традиционных социальных ценностей и более или
менее осознанной и открытой манипуляции ими.
Л.А. Пименова
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О “ФЕОДАЛЬНОМ”
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ XVIII в.
Рассуждая о капитализме, Ф. Бродель в своем фундаментальном
труде вспомнил слова Ф. Перру, что капитализм - это не научный
термин, а “боевой клич... употребляемый где надо и где не надо”1.
Правда, хотя сам он и согласился отчасти с этим мнением, отказать-
ся от употребления пресловутого термина так и не смог. Замечание
Перру не в меньшей, если не в большей мере можно отнести и к сло-
ву “феодализм”. Этот термин и обозначаемое им понятие родились
в битвах Французской революции XVIII в. и изначально несли в се-
бе такую же негативную эмоциональную нагрузку, как понятия
“Старый порядок” или “бывшие”. “Феодализм” символизировал то
проклятое прошлое, с которым надо было как можно скорее покон-
чить, чтобы перестроить жизнь на началах свободы и разума. Такое
представление о “феодальном”, при всей своей революционной но-
визне, не возникло на пустом месте. Пусть слова “феодализм” до ре-
волюции не существовало2, но термины “фьеф”, или “феод” (le fief),
“феодальный” (feodal - только как прилагательное, существитель-
ного “феодал” в языке того времени не было), “феодальность” (1а
f£odalit£) и даже “феодальная система” (le systeme feodal) употребля-
лись. Посмотрим, каким смыслом наделяли эти слова французские
авторы XVIII в.
Выяснить это тем более важно, что, по признанию историков,
XVIII в. стал решающим моментом в зарождении представлений о
“феодальном” прошлом. Как пишет А. Герро, если раньше, начиная
с XVI в., имели место лишь “очень частные и ограниченные сужде-
ния” на эту тему, то к середине XVIII в. появляются “глобальный
подход к европейскому обществу” и “размышления над феодальной
системой”3.
Все авторы того времени единодушно признавали, что это
чрезвычайно сложный и запутанный сюжет. Так, например, аббат
Реми в статье для изданной Панкуком “Методической энциклопе-
дии” сетовал: “Из всех отделов юриспруденции этот самый об-
ширный и темный. Рожденные среди анархии, феодальные права
уже претерпели и возможно еще претерпят бесконечное множест-
во перемен (une infinite de revolutions). Чтобы понять эту материю,
надо углубиться в самые сумрачные века нашей монархии, про-
консультироваться у историков, изучить наших публицистов, со-
брать тысячу фактов, рассыпанных по нашим капитуляриям, ку-
тюмам и хартиям, пребывающим ныне в большем забвении, чем
когда-либо; надо проследить шаг за шагом неверный ход истории
нашего правления от его колыбели до пятнадцатого века... Мно-
64
Феодализм перед судом историков
жество писателей пытались пролить свет на этот хаос, но, к сожа-
лению, ни один из них не разделяет взглядов другого”4. Несколько
оптимистичнее был настроен Шарль-Луи де Монтескье, заявляв-
ший: “Хотя при изучении феодальных законов я и чувствую себя
как бы в темном лабиринте с бесчисленными дорогами и поворо-
тами, мне все же кажется, что я держу в руках конец нити и могу
двигаться вперед”5.
Можно выделить несколько типов дискурсов, в которых ис-
пользовался термин “фьеф” и производные от него. Первый из
этих дискурсов - юридический. Помимо собственно юридических
трактатов, он нашел отражение в текстах словарей и энциклопе-
дий конца XVII-XVIII вв. (статьи в словарях и энциклопедиях бы-
ли написаны на основе сочинений юристов, комментировавших
кутюмы)6. Как показала Р. Робен, осуществившая лексический
анализ употребления термина “фьеф” в юридической литературе
XVIII в., значение данного термина складывается из двух обяза-
тельных элементов. Первый из них - земельная собственность,
второй - юридическое отношение зависимости7. В литературе та-
кого рода фьеф трактовался как наследственное земельное владе-
ние, которое вассал получал от сеньора на определенных услови-
ях, принеся ему оммаж. Подчеркивалось, что фьеф - это владение
преимущественно дворянское. Владение фьефом, с одной сторо-
ны, накладывает обязанности, а с другой - дает почетные и полез-
ные права по отношению к крестьянам. Приведем лишь несколь-
ко примеров того, как определяли термин “фьеф” различные сло-
вари того времени: “Словарь Французской Академии” (1694;
1762): “Фьеф. Дворянский домен”8; “Большой исторический сло-
варь” Луи Морери (1692): “Фьеф, наследственное владение, кото-
рое получают от Сеньора посредством оммажа (heritage qu’on tient
a foy & hommage d’un Seigneur), при условии принесения ему клят-
вы верности и оказания ему некоторых услуг в мирное и военное
время”9; “Универсальный словарь” Антуана Фюретьера (1727) и
“Словарь Треву” (1771): “Фьеф. Земля, Сеньория или права, кото-
рые держат от высшего Сеньора на условиях принесения оммажа
или каких-либо обязательств”10.
В “Энциклопедии” Дени Дидро и Жана-Батиста д’Аламбера бы-
ло целых две статьи “Фьеф”. В одной из них, написанной Антуаном-
Гаспаром Буше д’Аржи, фьеф рассматривался с юридической точки
зрения: “Фьеф (юриспруд.) по-латыни feudum, или иногда в старину
feodum, есть недвижимость или реальное право, которое держится и
находится в зависимости от сеньора, на условиях принесения ему ом-
мажа, когда происходит передача в другие руки и смена владельца,
или со стороны сеньора, от которого зависит фьеф, или со стороны
вассала, являющегося владельцем фъефа"^. Автор подчеркивал,
Л.А. Пименова. Представления о “феодальном”...
65
что главным признаком фьефа служит оммаж: именно принесение
оммажа отличает фьеф от всех других видов владений.
Пожалование фьефа накладывало на вассала четыре типа обя-
зательств по отношению к сеньору: 1) принести оммаж; 2) уплачи-
вать сеньору “полезные права” (les droits utiles) при смене владельца
или в других случаях, согласно местным обычаям; 3) подавать сень-
ору отчет (1’aveu & denombrement) о состоянии своего фьефа; 4) по
вызову сеньора являться на его суд. Владение фьефом давало два ви-
да прав: почетные (к их числу относились сеньориальная юстиция,
патронат, личные почести, почести при посещении церкви, владение
голубятней, право охоты и рыбной ловли, содержание кроличьего
садка, владение прудом, преимущественное право выкупа зависи-
мых земельных держаний (retrait feodal) и полезные (подати при пе-
реходе зависимых владений в другие руки, ценз, шампар, терраж, де-
сятины, корве и баналитеты)12.
Буше д’Аржи отмечал, что распространение владения землей на
правах фьефа привело к установлению в империи Карла Великого
“феодального правления”. При “феодальном правлении” сеньор
имел над своими вассалами политическую власть, прежде всего су-
дебную: вассал должен был обращаться в суд своего сеньора13.
Заметно, что на протяжении XVIII в. тексты словарных статей
претерпели определенную эволюцию. С течением времени опреде-
ления становились развернутыми и все более подробными. Анали-
зируя эти тексты, Р. Робен обнаружила свойственное юристам
XVIII в. стремление “романизировать фьеф”, т.е. употреблять при-
менительно к нему заимствованное из римского права понятие соб-
ственности и уподоблять отношения между сеньором и крестьяни-
ном-цензитарием отношениям между земельным собственником и
арендатором14. Смысл проведенного юристами разделения феодаль-
ных прав на “почетные” и “полезные” исследовательница видит в
том, что таким образом “феодальное” “распадается на две противо-
положные системы; на фиктивную (так называемые личные права,
не основанные на контракте) и истинную феодальность (так называ-
емые полезные, т.е. основанные на контракте права). Происходит
разлом, отделяющий феодальность как сеньориальный гнет или
узурпацию публичной власти от феодальности-собственности”15.
Впоследствии, в первые годы революции именно это разграничение
послужило основанием для деления крестьянских повинностей на
“личные” (отменявшиеся безвозмездно как пережитки феодальных
порядков) и “реальные” (подлежавшие выкупу, так как за сеньора-
ми признавалось право собственности на них).
Термин feodal в словарях XVIII в. встречается только в качестве
прилагательного, производного от существительного “фьеф”. Тер-
мин la feodalite имеет очень узкое значение и определяется как “за-
5 Одиссей. 2006
66
Феодализм перед судом историков
висимость от фьефа”, “качество фьефа”, “держание наследства на
правах фьефа”16. Собирательное значение, применимое для харак-
теристики государственного и общественного устройства в целом, в
словарях не зафиксировано, хотя, как мы увидим дальше, термин 1а
feodalite в таком широком значении в литературе XVIII в. уже упот-
реблялся.
Второй тип дискурса, в котором широко использовались терми-
ны “фьеф” и “феодальный” - историко-политический. О “феодаль-
ном Средневековье” в XVIII в. писали политические мыслители и ис-
торики разных направлений. Самыми признанными и авторитетны-
ми историками феодальных порядков считались Шарль-Луи де Мон-
тескье (две последние книги его трактата “О духе законов” целиком
посвящены феодальному праву и феодальным законам) и аббат Га-
бриэль Бонно де Мабли. На их мнение зачастую можно встретить
ссылки как в энциклопедиях, так и в исторических трудах17. Авторы
исторических сочинений и политических трактатов отмечали, что в
Средние века фьеф давал своему владельцу не только право на по-
лучение податей, но и политическую, прежде всего судебную,
власть. Пожалование фьефов лежало в основе вассально-ленных
отношений и соответствующего этим отношениям типа отправле-
ния политической власти. Говоря о “феодальной системе” и “фео-
дальном правлении”, историки XVIII в. имели в виду систему вас-
сально-ленных отношений и основанный на них тип правления.
Так, в “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера рассмотренной вы-
ше юридической статье “Фьеф” предшествовала статья “Фьеф” с
пометкой в скобках “Политическое право. Литературная история”,
написанная шевалье Луи де Жокуром. В ней речь шла о том, как ус-
тановившаяся в Средние века наследственность фьефов и связанных
с ними прерогатив уничтожили власть государственную и создали
феодальную власть. В статье рассказывалось об особом типе фео-
дального правления18, установленного в Европе германцами, - прав-
ления, которое требовало, “чтобы собственность на завоеванную
область принадлежала всему составу союзников и чтобы каждый
имел свою долю в том, что он помог завоевать”. В результате стра-
на была разделена на области, которые назывались “провинциями”
и “графствами”, а “феодальная верность вытеснила государственное
или гражданское право”19.
Между историками шли споры, когда и у каких именно народов
впервые возникли феоды, как соотносились между собой феоды и
бенефиции (было ли это одно и то же, или две стадии одного процес-
са, или два совершенно разных института). Так, в ответе на вопрос о
соотношении между бенефицием и феодом расходились два наибо-
лее авторитетных специалиста по “феодальным проблемам” - Мон-
тескье и Мабли. Монтескье был в большей мере склонен усматри-
Л.А. Пименова. Представления о “феодальном”...
67
вать черты сходства между бенефицием и феодом, тогда как Мабли
подчеркивал принципиальные различия между ними.
Расходились два автора и в вопросе о времени появления от-
дельных “феодальных” институтов, в частности, дворянства. Мон-
тескье относил появление вассальных отношений ко времени заво-
евания франками Галлии и говорил о существовании дворянства у
франков уже при Хлодвиге, в V в. При этом Монтескье четко раз-
делял феодальные и вассальные отношения. Вассальные отноше-
ния, по его мнению, предшествовали феодальным. Так, он гово-
рил, что сначала “у германцев были вассалы, но не было феодов.
...Их феодами были боевые кони, оружие и пиры”20. Впоследствии
появились фьефы (Монтескье относит их возникновение ко време-
ни Каролингов) - сначала пожизненные, потом они стали наслед-
ственными, а сеньоры получили в своих фьефах право суда и фис-
кальную власть.
В отличие от Монтескье, Мабли утверждал, что при Хлодвиге у
франков существовало не наследственное дворянство, а только лич-
ные отличия. Если сам Хлодвиг и его предшественники, чтобы от-
личить знатных людей (Мабли обозначал их двумя терминами:
“гранды” и Leudes), дарили им боевых коней и оружие, то впослед-
ствии короли стали жаловать земли своего домена в виде бенефици-
ев. По поводу последних Мабли счел необходимым заметить, что
“некоторые современные писатели ошибочно смешивают их с вла-
дениями, которые впоследствии стали называть фьефами”21. При
преемниках Хлодвига держатели бенефициев присваивали себе все
новые права, включая судебную власть и сбор налогов с населения,
а прерогативы королей из династии Меровингов день ото дня сокра-
щались. Со временем бенефиции и привилегированный статус их
владельцев стали наследственными, что уже дает основания, по мне-
нию Мабли, говорить о возникновении дворянства. Появление на-
следственного дворянства и фьефов он относил ко времени правле-
ния Хлотаря II (613-629). Зарождение дворянства, с его точки зре-
ния, усугубило падение авторитета королевской власти и закрепило
порабощение народа22.
Установление феодального правления (le gouvemement feodal)
Мабли относил к IX в., когда Карл Лысый сделал бенефиции, а за-
тем и графства наследственными и “между раздробленными частя-
ми государства не осталось больше никаких связей, кроме вассаль-
ной клятвы (la foi et 1’hommage)”23. Сохранение такого порядка в те-
чение долгого времени Мабли объяснял четырьмя причинами: пол-
ным порабощением (I’asservissement) народа сеньорами; принадле-
жавшей сеньорам высшей судебной и отчасти законодательной вла-
стью над подданными; правом сеньоров вести друг с другом войны;
и, наконец, примерным равенством сил среди самых крупных сеньо-
68 Феодализм перед судом историков
ров, “мешавшим одному из них стать государем и диктовать законь
всей нации”24.
Монтескье, Мабли и авторы “Энциклопедии” - представител!
просветительской мысли. А как освещалась “феодальная проблема
тика” в официальной королевской историографии? В поисках отве
та на этот вопрос обратимся к трудам убежденного противника про'
светителей, историографа Франции Жакоба-Никола Моро25. I
20-томной истории Франции, явившейся плодом десятилетнего тру-J
да, Моро дал критический анализ взглядов Монтескье и Мабли на
историю феодальных институтов и изложил свою собственную точ-j
ку зрения. Монтескье он упрекал в том, что “он парил слишком вы-
соко над всеми Царствами Мира и видел их издалека”26. Мабли ему
казался ближе своим скрупулезным методом работы с опорой на
факты и документы истории. Но при этом Моро обвинял его в пред-
взятости, в частности за то, что Мабли находил в империи Карла Ве-
ликого черты республики с национальными ассамблеями.
По словам Моро, в результате многочисленных ошибок, совер-
шенных сыновьями Людовика Благочестивого, и особенно Карлом
Лысым (843-877), стали твориться невиданные ранее беспорядки и
началась “феодальная анархия”. Под последней Моро подразуме-
вал то, что государь не мог заставить знать подчиняться королев-
ской власти и уважать ее права. В течение столетия (примерно с се-
редины IX до второй половины X в.) родились феодальные поряд-
ки (la f6odalit£). Примечательно, что Моро употреблял этот термин
уже в новом, широком значении, а не в узком, зафиксированном в
словарях. Говоря о la fdodalitd, Моро имел в виду целый комплекс
взаимосвязанных явлений: должности стали передаваться по на-
следству, графы присвоили сбор налогов, были установлены сень-
ориальные цензы, экстраординарные подати, рыночные и дорож-
ные пошлины. Всевозможные нестроения продолжались вплоть до
восшествия на престол Гуго Капета (987). При первых Капетингах
постепенно на смену “феодальной анархии” пришли “монархиче-
ское правление” и “феодальная система”. Создание “феодальной
системы” явилось результатом вмешательства королевской вла-
сти. Стали записываться кутюмы. Были установлены “феодаль-
ные принципы и нормы” (principes et normes de la f6odalit£): во-пер-
вых, применительно к дворянству, были определены взаимные
обязательства сеньоров и вассалов и обязанности дворян по отно-
шению к королю; во-вторых, применительно к народу, были опре-
делены статус и обязанности сервов, вилланов и горожан. Рассуж-
дения Моро о la feodalitd в широком смысле этого слова и о “фео-
дальной системе” позволяют заключить, что именно у этого авто-
ра, в большей степени, чем у кого-либо из его современников,
оформилась концепция “феодализма”.
Л.А. Пименова. Представления о “феодальном”...
69
До какого же времени просуществовали феодальные порядки?
Мнения историков на этот счет совпадали. Одним из решающих эта-
нон в истории крушения “феодального правления” Мабли считал
цирствование Филиппа II Августа (1180-1223), который благодаря
ПоПсдам над Иоанном Безземельным стал гораздо богаче и могуще-
гтпепнее своих вассалов и сумел усилить королевскую власть. Сле-
дующий решающий этап - расширение прав королевской юстиции
при Людовике IX Святом (1226-1270). Окончательное же уничтоже-
ние феодального правления на большей части территории страны
произошло в конце XIII - начале XIV в. при Филиппе Красивом и его
сыновьях, когда “истинная монархия пришла на смену варварской и
инпрхической полиции фьефов в большинстве провинций, состав-
/пннпих королевство”27. Но в отдельных провинциях феодальное
правление еще сохранялось, так как герцоги Бургундский, Аквитан-
ский и Бретонский и граф Фландрский признавали короля Франции
гноим сюзереном, но не сувереном. Присоединение Бургундии, Ак-
витании и Бретани к землям французской короны в XV в. и переход
Фландрии под власть австрийского дома, в результате чего эта тер-
ритория стала рассматриваться как иностранная, ознаменовали со-
Пой, с точки зрения Мабли, полное искоренение остатков феодаль-
ного правления. Моро также относил конец феодального правления
но Франции к XV в.28 С ними был солидарен и Вольтер, по словам
которого, “Людовик XI нанес во Франции смертельный удар фео-
двл иному господству”29.
В отличие от большинства современников, внимание которых
привлекал преимущественно феодальный период в истории Фран-
ции, Вольтер видел в нем явление общеевропейское. Феодальный
порядок, с его точки зрения, явился следствием человеческой алчно-
сти и стремления крупных земельных собственников быть полно-
властными хозяевами в своих владениях. Повсюду в Европе, от Мо-
сковии до гор Кастилии крупные землевладельцы, не желая подчи-
ниться королевской власти, объединились против нее и установили
собственную власть над своими подданными. Так управлялась вся
1;иропа на протяжении более чем пятисот лет30.
Мабли также предпринял попытку подойти к рассмотрению
"феодальных” сюжетов сравнительно-исторически и поставил воп-
рос, почему “феодальное правление сохранилось в Германии, в то
время как во Франции оно было уничтожено”31. Он предложил це-
ны й ряд объяснений этому расхождению. Феодальное правление в
I ермании установилось позже, чем во Франции, и потому сохрани-
лось дольше. Германские “сеньоры” должны были постоянно вое-
вать с подступавшими к ним с севера и с востока “варварскими наро-
дами”, а это требовало поддержания порядка и субординации, поэто-
му взаимные права и обязанности сюзеренов и вассалов в Германии
70
Феодализм перед судом историков
соблюдались лучше, чем во Франции. Наряду с феодальным правле-
нием в Германии имелась публичная власть в лице “генеральных ас-
самблей нации” (так Мабли называл рейхстаги) и императора, от коз
торого все фьефы находились в прямой зависимости. Силы герман^
ских “сеньоров” оставались примерно равны, и ни одному из них не
удавалось чрезмерно возвыситься над другими. Германские импера-j
торы, несмотря на свой авторитет, не могли подчинить себе вассаз
лов по примеру французских Капетингов, так как имперская корона
была выборной. В то же время, по мнению Мабли, у Карла V был
шанс покончить с феодальным правлением, стать в Германии пол-
новластным государем и установить там “истинную монархию”, но,
поставив перед собой непосильную задачу подчинить и Империю, и
всю Европу, он не сумел ее осуществить. В результате эта его неуда-
ча закрепила в Германии феодальное правление32.
Можно сказать без преувеличения, что уже в XVIII в. феодальные
порядки оказались перед судом историков. Особенно суровы к ним
были сторонники сильной королевской власти. Сторонники ограни-
ченной монархии относились к этим порядкам более благосклонно и
отмечали в них как отрицательные, так и положительные черты.
Оценка феодальных порядков в трудах Монтескье не была од-
нозначно отрицательной. Так, он рассуждал о феодальных законах,
“которые причинили бесконечно много добра и зла; которые при
передаче поместий сохраняли права их прежних владельцев, кото-
рые, предоставив многим лицам различные права на одни и те же ве-
щи и на одних и тех же людей, уменьшили тяжесть прав в их сово-
купности; которые провели различные ограничения в чрезмерно об-
ширных государствах; которые создали порядок, стремящийся к
анархии, и анархию, обнаруживающую склонность к порядку и гар-
монии. ... Феодальные законы представляют прекрасное зрелище”33.
Резкая критика “феодальной анархии” и “тирании” звучала у
Вольтера. Он не пытался выяснить происхождение феодальных ин-
ститутов, а давал им оценку. Вольтер писал о том, что при потомках
Карла Великого на большей части Европы установилась “феодаль-
ная анархия”. Такое правление “кажется несправедливым, потому
что огромное большинство людей подавляется ничтожным мень-
шинством и простой гражданин сможет возвыситься лишь благода-
ря всеобщему потрясению (par un bouleversement general)”. Феодаль-
ное правление, по мнению Вольтера, приводит к упадку городов,
торговли и искусства: “Нет ни одного крупного города, нет торгов-
ли, нет изящных искусств при чисто феодальном правлении”34.
Мабли характеризовал феодальное правление как “анархиче-
ский беспорядок”, при котором “права всех зависели от произвола”
и “каждый сеньор вершил свой суверенный суд”35. С его точки зре-
ния, это правление “соединяло одновременно все пороки анархии и
Л.А. Пименова. Представления о "феодальном”... 71
ди потизма”36. Говоря об анархии, он имел в виду отсутствие в обще-
ние че ткой иерархии и субординации, а говоря о деспотизме - без-
1|ншпчпую власть сеньоров над народом. Мабли неоднократно про-
1иио|юставлял “феодальное правление” “истинной монархии”, т.е., с
ио точки зрения, - это два принципиально разных типа правления:
монархия не может быть феодальной.
(’ суровой критикой феодального правления выступила офици-
йлышя историография в лице Моро. При этом Моро подчеркивал,
•По короли от Филиппа-Августа до Людовика Святого сделали нема-
ло, "ч тобы облегчить ярмо феодальной тирании”37. “Наши Короли,
тпповив, по крайней мере, свое верховенство над Грандами, вскоре
11|»|0сгиут к единственному средству, которое у них тогда было, что-
Пы стать, наконец, подлинными Суверенами всей Нации: с того мо-
мента, когда они начнут видеть себя отцами Народа, они утвердят не-
рушимую основу Трона, дотоле вечно шаткого и столь часто попира-
емого; и из их полезного сообщества с бесчисленным множеством
народа, порабощенного сеньорией... родятся новые отношения, кото-
рые обеспечат Франции настоящее публичное Право”38.
Мысль о том, как короли своей властью защищали народ и обуз-
дывали “феодальную тиранию”, развивал и аббат Реми в статье для
"Методической энциклопедии”. Говоря о происхождении фьефов,
он отмечал, что многие из них представляли собой “земли частных
ниц, присоединенные к доменам сеньоров либо силой, либо страхом,
пиОо предрассудком, либо нуждой в покровительстве; ...и что в об-
щем фьефы при Гуго Капете и его предшественниках представляют
। оОой порядок вещей столь абсурдный, сколь и одиозный; что, нако-
нец, французский народ должен быть вечно благодарен царствую-
щей династии, за то, что она его неустанно защищала от тирании
множества мелких деспотов”39. Схожее мнение выражал Мабли, со-
I ипспо которому интересы как короля, так и народа, изначально
противостояли интересам знати40. Эти идеи уже очень близки к то-
му, что в XIX в. будет писать О. Тьерри о королевской власти, бо-
ровшейся против феодалов в союзе с третьим сословием.
Во французском экономическом дискурсе XVIII в. “феодальная”
п рминология оказалась невостребованной. Разумеется, существо-
вина обширная экономическая литература, в которой рассматрива-
ние!. и анализировались аграрные отношения Франции XVIII в. В
। к >п литературе речь шла о тех же самых реалиях, что и в юридиче-
< к и х текстах, посвященных “феодальным правам”. Однако экономи-
< ।и, описывая те же явления, использовали другие слова, такие как
" н-мольная собственность” и “земельная рента”. Так, А.-Р.-Ж. Тюр-
। о называл существовавший во Франции порядок землепользования
"отчуждением земли на условиях внесения платежей” (alienation du
hinds a la charge d’une redevance)41.
72
Феодализм перед судом историков
Экономисты, со своей стороны, тоже критиковали порядки,
сложившиеся в аграрной сфере. Но их критика была не такой эмо-
циональной, как у авторов исторических трудов. Они оперирова-
ли не понятиями “справедливо - несправедливо”, а “выгодно - не-
выгодно”, “рационально - нерационально”. Именно по этим пока-
зателям феодальная система, в их представлении, уступала фер-
мерской. Существующие порядки, с точки зрения либеральных
экономистов того времени, были нерациональными и не выгодны-
ми ни сеньорам, ни крестьянам. Крестьяне должны были ежегод-
но отдавать сеньору множество платежей, которые исчислялись
по-разному (одни деньгами, другие натурой; одни в абсолютной
величине, другие исходя из доли урожая). Размеры и порядок вне-
сения этих платежей складывались исторически и не зависели от
воли сеньора или крестьянина. Более рациональной и выгодной
обеим сторонам, по мнению экономистов, была бы система, при
которой крестьянин вместо многообразных платежей вносил бы
земельному собственнику фиксированную арендную плату, и раз-
меры ее платы определялись бы не многовековой традицией, а
свободным волеизъявлением собственника и земледельца при за-
ключении арендного договора42.
Наконец, с началом революции термин “феодальный” стал ши-
роко использоваться в публицистике. Публицисты называли “фео-
дальным” нечто архаичное, отжившее, не отвечающее духу време-
ни. В этом смысле термин “феодальный” сравним по своему значе-
нию с терминами “средневековый” или “готический”, как их пони-
мали в XVIII в. Такой смысл нашел отражение в революционных
призывах уничтожить феодальный порядок, под которым подразу-
мевались все политические и социальные институты, существовав-
шие во Франции до 1789 г.: монархия, церковь, дворянство, привиле-
гии. Как показал в своей монографии Дж. Маркофф, проанализиро-
вавший дебаты в Учредительном собрании по аграрному вопросу,
уже в самом начале революции понятие “феодальный порядок” обо-
значало некое “проклятое прошлое”, с которым необходимо покон-
чить. “Феодальным” для революционных законодателей было все
то, что противостояло “современному”43.
Итак, с одной стороны, значения понятий “фьеф” и “феодаль-
ный” в юридической и историко-политической литературе заметно
различались. В “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера этим двум зна-
чениям слова “фьеф” - юридическому и политическому - даже бы-
ли посвящены две отдельные статьи, написанные двумя разными ав-
торами. Юристы употребляли “феодальную” терминологию как
вполне нейтральную, лишенную эмоциональной окраски. В истори-
ко-политической литературе она была преимущественно негативно
эмоционально окрашенной. Юристы отделяли феод-собственность
Л.А. Пименова. Представления о “феодальном”...
73
от узурпированных личных прав, тогда как для историков средневе-
ковые феодальные порядки являлись узурпацией.
С другой стороны, эти два значения терминов “фьеф” и “фео-
дальный” были тесно связаны друг с другом. Корни явлений, кото-
рые рассматривали юристы, по их мнению, уходили в Средневеко-
вье - об этом свидетельствует приведенная в самом начале статьи
цитата из статьи аббата Реми в “Методической энциклопедии”. Фе-
одальные порядки в поземельных отношениях Франции XVIII в. рас-
сматривались как остатки средневекового “феодального правле-
ния”. Негативное отношение к “феодальному Средневековью” рас-
пространялось и на те порядки во Франции XVIII в., которые счита-
лись “феодальными”. Резкая оценка “феодального” в официальной
историографии прокладывала дорогу нападкам на “феодальный по-
рядок” со стороны оппозиционных публицистов и, впоследствии, ре-
волюционеров. К 1789 г. во французском обществе сложилось пред-
ставление о том, что в стране существуют некие феодальные поряд-
ки, представляющие собой пережитки прошлого и нуждающиеся в
реформировании или отмене44.
Р. Робен, а вслед за ней А. Герро говорили о наметившемся в
XVIII в. разграничении двух сторон “феодального” внутри юридиче-
ского дискурса. Вместе с тем шло и соединение юридического дис-
курса с историко-политическим. В сочетании этих двух противопо-
ложных тенденций скрыты истоки острых противоречий по поводу
определения сферы “феодального”, пришедшихся на первые годы
революции.
Когда в ночь на 4 августа 1789 г. Арман де Виньеро дю Плесси
де Ришелье, герцог д’Эгюийон выступал в Учредительном собрании
и говорил, что “несчастный земледелец, подчиненный действующим
еще во Франции варварским пережиткам феодальных законов, сто-
нет под игом притеснений, жертвой которых он является”, он фак-
тически повторял то, что раньше писал официальный королевский
историограф Моро об ужасах “феодального Средневековья”. Но
сразу вслед за этим д’Эгюийон добавил: “Нельзя, конечно, оспари-
вать, что права эти являются собственностью и что всякая собствен-
ность священна; но права эти вместе с тем тягостны для народа, и
все признают вытекающие из них постоянные стеснения”45. Иными
словами, революционные законодатели на практике вплотную
столкнулись с проблемой “феодальных прав” как собственности или
узурпации. Выпутываться из этого противоречия они будут еще дол-
гих четыре года, пока 17 июля 1793 г. Национальный конвент не
разрешит его самым радикальным образом, полностью отменив все
феодальные и сеньориальные права.
Французская революция, породившая термин “Старый поря-
док”, дала и определение этого порядка как “феодального”. Все эле-
74 Феодализм перед судом историков I
менты концепции “феодального Старого порядка” существовал!
уже в дореволюционной Франции XVIII в., но именно в годы рево3
люции они прочно соединились вместе. Произошло это, когда Учре-1
дительное собрание приняло декрет 11 августа 1789 г. об уничтожен
нии феодальных прав и привилегий. Он стал официальным “свиде-1
тельством о рождении” концепции “феодального общества”. Декрет!
открывался знаменитой фразой: “Национальное собрание полной
стью уничтожает феодальный порядок”. Далее речь шла об отмена
крестьянских повинностей сеньорам, сеньориальных прав охоты, со-,
держания голубятни и разведения кроликов, сеньориальной юсти-3
ции, десятин, а также об отмене продажи должностей, о ликвидаций
налоговых привилегий, привилегий провинций, областей и городов
и о праве всех граждан свободно занимать любые должности46. Ина-;
че говоря, под “феодальным порядком” здесь подразумевалась nd
только система взаимоотношений между крестьянами и их сеньора^
ми, но и вся система социальных привилегий. Так, благодаря усили-3
ям юристов и историков XVIII в. родилась концепция “феодального
строя”, которая была официально провозглашена в законодательст-
ве Французской революции и впоследствии получила развитие в ис-
ториографии периода Реставрации, в трудах Ф. Гизо, О. Тьерри и
Ж. Мишле.
1 PerrouxF. Le Capitalisme. Р., 1962. Р. 5; Бродель Ф. Материальная цивили-i
зация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1988. Т. 2. С. 221. •
2 Э. Хобсбаум зафиксировал появление термина “феодализм” в 1794 Г|
См.: Hobsbawm EJ. Capitalisme et agriculture: les rdformateurs ecossais au
XVIIIе siecle // Annales: Economies. Societes. Civilisations. 1978. N 3.
P. 580-601.
3 Guerreau A. Fief, feodalitd, fdodalisme. Enjeux sociaux et reflexion historienne
//Annales : Economies. Societes. Civilisations. 1990. N 1. P. 139.
4 Encyclopddie mdthodique. Jurisprudence: Dedide et presentee a Monseigneur
Hue de Miromesnil, Garde des Sceaux de France. P.; Liege, 1784. T. 4;
P. 506-507.
5 Монтескье Ш. Избранные произведения. M., 1955. С. 657.
6 В XVIII в. появился целый ряд юридических трактатов, посвященных фео-
дальным правам. См., например: Salvaing. De 1’usage des fiefs. P., 1731; Hevin.
Questions feodales. P., 1736; Billecoq. Traite des fiefs. P., 1749; Pocquet de
Livonniere C. Traitd des fiefs. P., 1756; Jacquet. Traite des fiefs. P., 1764;
Renauldon J. Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques.
P., 1765; Pensey H. de. Traitd des fiefs. P., 1773; Boutaric F. Traitd des droits fdo-
daux et des matieres seigneuriales. P., 1775; Pothier. Traitd des fiefs. P., 1776;
Preudhomme. Traitd des droits appartenants aux seigneurs sur leurs biens possddds
en roture. P., 1781; La Poix de Freminville E. de. La pratique universelie pour la
renovation des terriers et des droits seigneuriaux. P., 1746-1787; Guyot P.-J.-J.,
Merlin Ph.-A. Repertoire universel et raisonnd de jurisprudence civile et
Л.А. Пименова. Представления о “феодальном”...
75
iilminclle canonique et bdneficiale. P., 1784-1788. 17 vol.; Herve. Thdorie des
mill idrcs feodales et censuelles. P., 1785-1788. 5 vol. Непререкаемым автори-
Н'том н этих вопросах по-прежнему пользовался знаменитый юрист XVI в.
ill. Дюмулен: на его труды постоянно ссылались авторы как трактатов о
феодальных правах, так и соответствующих статей в словарях.
* Robin R. Fief et seigneurie dans le droit et 1’ideologie juridique a la fin du XVIIIе
•Idi'lc // Annales historiques de la Revolution frangaise. 1971. N 206. P. 556-557.
* I llclionnaire de I’Academie frangaise. 1694. lere £d. T. 1. P. 453; 1762. 4eme 6d.
I. I. P. 740.
M MoiAri L. Le Grand dictionnaire historique, ou Le Melange curieux de 1’histoire
mutiIc et prophane... Utrecht; Leyden; Amsterdam, 1692. 6ёте 6d. T. 1. P. 519.
1,1 I tni-tieie A. Dictionnaire universel, Contenant gdneralement tous les mots
Iiniigois, tant vieux que modemes, et les termes des sciences et des arts. La Haye,
I /27. T. 2; Dictionnaire universel frangois et latin, vulgairement appele
Dlclionnaire de Trevoux. P., 1771. Nouv. ed. T. 4. P. 137.
111'ncyclop6die ou Dictionnaire raisonnd des sciences, des arts et des metiers.
I Icudve, 1778. Nouv. 6d. T. 14. P. 329.
" Ibid. P. 334-335.
"Ibid. P. 332.
'< Bobbi R. Op. cit. P. 570-574.
" Ibid. P. 592.
• * <'m., например: Furetiere A. Op. cit. T. 2; Dictionnaire universel frangois et
Inlin... T. 4. P. 91; Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne... T. 13. P. 986;
I''iieyclop6die m£thodique. T. 4. P. 488-489.
" < M., например: История в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера / Пер.
II.В. Ревуненковой. Под ред. А.Д. Люблинской. Л., 1978. С. 134;
l!neyclop£die m6thodique. Jurisprudence. Т. 4. Р. 507-513; Moreau J.-N.
Pi incipes de morale, de politique et de droit public, puis£s dans 1’Histoire de notre
Monarchic, ou Discours sur 1’histoire de France. P., 1777. T. 5. P. 265-287.
• * Интересно, какую трансформацию претерпело в русском переводе свой-
ственное автору данной статьи, Л. де Жокуру чисто политическое истол-
кование “феодального”. Постоянно встречающееся в статье словосоче-
тание le gouvemement feodal было переведено как “феодальный строй”, в
результате чего интерпретация де Жокуром “феодального” приобрела
несвойственный ей социальный оттенок. См.: История в Энциклопедии
Дидро и д’Аламбера. С. 124-134.
• '* История в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера. С. 127, 131; Encyclopedic
он Dictionnaire raisonne. T. 14. P. 321-329.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 658.
11 Mably G.B., abbe de. Collection complete des oeuvres de I’abbe de Mably. P.,
Гiu> Ill de la R6publique (1794-1795). T. 1: Contenant les Observations sur I’his-
loire de France. P. 162. (Первое изд., 1765).
" Ibid. P. 182-187.
’ Ibid. P. 286.
'• Mably G.B., abbe de. Oeuvres completes de 1’аЬЬё de Mably. P., 1797. T. 2:
< ibservations sur 1’histoire de France. Livres 3-5. P. 21-22.
'' <'m. о нем: Gembicki D. Histoire et politique a la fin de 1’Ancien R£gime: Jacob-
Nieolas Moreau (1717-1803). P„ 1979.
76
Феодализм перед судом историков
26 Moreau J.-N. Principes de morale. T. 5. P. 265. j
27 Mably G.B., abbe de. Oeuvres completes. T. 2. P. 87.
28 Это видно из его высказывания по поводу правления Генриха IV: “В ег
царствование Правление уже не было феодальным: за сто лет до того пС
степенно исчезли все препятствия, мешавшие действиям королевско'
власти”. См.: Moreau J.-N. Legons de morale, de politique et de droit publii
Puises dans 1’Histoire de notre Monarchic, ou Nouveau plan d’dtude de 1’histoii
de France. Rddige par les ordres & d’apres les vues de feu Monseigneur I
Dauphin, pour 1’instruction des Princes ses Enfans. Versailles, 1773. P. 123.
29 Voltaire. Essai sur les moeurs et 1’esprit des nations, et sur les principaux faits d
1’histoire, depuis Charlemagne jusqu’a Louis XIII // Collection complete de
oeuvres de Mr. De Voltaire. Geneve, 1769. T. 2. P. 238.
30 Ibid.
31 Mably G.B., abbe' de. Oeuvres completes. T. 2. P. 103.
32 Ibid. P. 103-112.
зз Монтескье Ш. Указ. соч. С. 656.
34 Voltaire. Op. cit. T. 2. P. 238-239. ;
35 Mably G.B., abbe de. Collection complete... T. 1. P. 282.
36 Ibid. T. 2. P. 19.
37 Moreau J.-N. Principes de morale. T. 15. P. 137.
38 Ibid. P. 159.
39 Encyclopddie m£thodique. Jurisprudence. T. 4. P. 513.
40 Mably G.B., abbe de. Collection complete... T. 1. P. 182-187.
41 Turgot A.-R.-J. Formation et distribution des richesses / Textes choisis et pr6ser
tes par J.-Th. Ravix et P.-M. Romani. P., 1997. P. 170.
42 См. обоснование такой точки зрения у Тюрго: Ibid. Р. 170-174. |
43 Markoff J. The Abolition of Feudalism. Peasants, Lords, and Legislators in th
French Revolution. University Park: The Pennsylvania State Univ. Press, 199<
P. 520-525. I
44 Cm.: Robin R. Op. cit.; Mackrell J.Q.C. The Attack on “Feudalism”
Eighteenth-Century France. L., 1973; Heuvel G. van den. F6odalit6, Feodal ’
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820 / Hrsg. vo
R. Reichardt und E. Schmitt. Munchen, 1988. Bd. 10; Guerreau A. Op. cit.
45 Buchez PJ.B. et Roux P.C. Histoire parlementaire de la Revolution frangaise, о
Journal des assembles nationales depuis 1789 jusqu’en 1815. P., 1834—1831
T. 2. P. 224-230.
46 Ibid. P. 259-263.
Ален Герро
ФЬЕФ, ФЕОДАЛЬНОСТЬ, ФЕОДАЛИЗМ.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
И ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ*
ОПрп ч прошлого, особенно своего собственного прошлого, созда-
Илгмый правящей группой внутри любого общества, является
Мжиейшим элементом фундамента ее легитимности. Четкость и
Подробность этого образа в значительной мере зависят от уровня
|Ш пштия общества - хотя здесь вряд ли можно говорить о прямой
«мпнсимости, поскольку эволюция исторической науки не сводит-
ОИ к накоплению знаний. Когда правящий класс утрачивает конт-
роль над будущим, он впадает в иррационализм; историческая
мысль затормаживается, а порой подвергается регрессии, менее
ммстной, но гораздо более опасной, чем простые перерывы, вы-
иншиые социальными потрясениями. И наоборот - когда правя-
щим группа находится на пике активности и будущее рисуется
лй ясно, историческая рефлексия развивается под знаком ра-
|умн и прогресса, являющихся основой любого подлинно научно-
III шания1.
(’тремясь уйти как от наивного и упрощающего эволюционизма,
Iпк и от релятивистского историзма, который отвергает всякую на-
учную ценность концепций, прикрываясь понятием Zeitgebundenheit,
пП ьинленным абсолютным и окончательным (что само по себе про-
ниюрсчиво), определим с самого начала наш главный тезис: если со-
ципльный контекст действительно играет важную роль в мысли-
тельном процессе, на котором основывается научное знание любого
общества, то эта роль меняется вместе с идеологической конъюнк-
|урой. В одних случаях создаются условия, тормозящие или искажа-
ющие интеллектуальную деятельность, в других - наоборот, они
Ллигоприятствуют развитию гуманитарных наук и даже способству-
ни их значительному подъему. Эта связь определяет не все: область
Hi 'прической мысли имеет и собственные полюса напряжения. Она
гимн но многом подобна социальной и социо-идеологической сфере,
' hiiriicnu A. Fief, feodalitd, fdodalisme. Enjeux sociaux et reflexion historienne //
Annales. ESC. P., 1990. T. 45, N 1. P. 137-166. (Печатается с разрешения автора).
। i iiti.h является переработанной версией текста, по поводу которого многие
нчппти любезно высказали свои замечания; я выражаю особую благодарность
h Астарита, Р. Десимону, Ж. Гийаму, Ж. Ле Гоффу, Ж.-К. Шмитту, Б. Тёпферу,
Ж Пирту. Некоторая неровность статьи обусловлена тем, что она является про-
цп>1жс1шем мыслей, изложенных в книге “Феодализм, теоретический горизонт”
11 <• fdodalisme, un horizon theorique. P., 1980), и я не стал возвращаться к уже до-
toi шнпым положениям.
78
Феодализм перед судом историков
и, будучи ее частью, сохраняет некоторую автономию организации;
поэтому внешняя обусловленность исторической мысли сочетается
с постоянной эволюцией ее собственной структуры.
Как заметил Пьер Вилар, “простые вещи не всегда
неправильны”2 - по аналогии с этим можно сказать, что не все науч-
ные достижения могут быть сформулированы на “языке благовос-
питанных людей”, этом идеале, выросшем из риторики иезуитов и
атмосферы литературных салонов XVIII в. И если сегодняшний ма-
разм исторической мысли вынуждает нас обратиться к кропотливой
работе над концепциями, операции, необходимой для восстановле-
ния динамики науки, то прежде всего нужно указать на две крайно-
сти, в которые нам свойственно впадать: это излишняя схематизация
(когда вычленение концепции ведет к обеднению эмпирического из-
ложения) и избыточная тяжесть и сложность языка (когда привыч-
ка манипулировать общепринятыми понятиями оборачивается не-
возможностью обходиться без них).
Такого рода критика, относящаяся, казалось бы, к форме изло-
жения (точнее - к его канонической модели), на самом деле указы-
вает на более глубокую проблему, которая касается процесса синте-
за. Многие историки думают, что развитие их дисциплины происхо-
дит за счет простого накопления отдельных работ. Мы все еще жи-
вем по принципам XIX в., согласно которым “метод” является хоро-
шо выстроенной последовательностью трех действий: опыта, крити-
ки, изложения. Доказательство тому - целый ряд монографий, где
“синтез” предстает не чем иным, как изложением, построенным в
соответствии с правилами академической риторики. Лишь немногие
историки знакомы с дисциплинами (которые появились больше ве-
ка назад), уделяющими пристальное внимание структурно организо-
ванному концептуальному инструментарию. Эти социальные науки
укрепляют свои позиции по всем направлениям; историческая прак-
тика рискует стать анахронизмом. Историки должны осознать, что
им нужно стремиться к уравновешиванию двух понятий - динамики
и структуры - и всякий раз показывать, что анализ функционирова-
ния общества является единственным способом объяснить его эво-
люцию.
Взявшись всерьез за разработку концептуальной базы, историк
получит шанс воспользоваться преимуществом истории перед дру-
гими социальными науками: он сможет рассматривать обществен-
ную структуру как стабильно изменчивый объект, не страшась зара-
нее самой идеи генезиса.
Одним из возможных путей критики и реконструкции концеп-
ции, необходимых для возвращения ей научной эффективности, яв-
ляется ее структурно-генетический анализ. Размышления о феодаль-
ной системе представляют в этом отношении идеальный случай: по
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
79
меньшей мере с XVIII в. разногласия в трактовке этой темы, где и ко-
гда бы она ни появилась, предстают в форме резкого антагонизма;
почти всегда он обусловлен социальной мотивацией. Это дает нам
редкую возможность проследить взаимосвязь между идеологической
конъюнктурой, социальным заказом и развитием науки3.
ДВА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ “РАЗРЫВА”
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
Феодальная система стала постоянным объектом рефлексии в
XVIII в., в эпоху решающей битвы буржуазии за власть4. Все попыт-
ки обнаружить это понятие в более раннее время приводят лишь к
констатации редких и разрозненных высказываний, не являющихся
глобальной характеристикой европейского общества, как это, на-
против, имело место в XVIII столетии5. До тех пор главной катего-
рией осмысления прошлого были эпохи (tempora)6; каждая эпоха ха-
рактеризовалась рядом особенностей: географических, лингвисти-
ческих и, в первую очередь, религиозных. Определение эпохи в со-
ответствии с ее социальной организацией появляется только в
XVIII в., и первый автор, которого здесь можно упомянуть - Дж. Ви-
ко (однако интерпретация его труда тоже остается спорной)7.
В XIX в., напротив, уже с первых лет вырисовываются основные
пути размышлений о “феодальной системе” и их главные трудности,
которые по сей день сохраняют свою актуальность. Предыстория
споров о фьефе восходит к XVI в. во Франции и к XVII в. в Англии.
Напряженность и политико-религиозные конфликты во Франции в
XVI в. нередко выливались в дискуссии о том, где искать истоки
французской правовой системы - в римском или в обычном (кутюм-
ном) праве? В ходе споров родилось множество аргументов, оправ-
дывавших природу королевской власти, в частности, у Жана Бодена
появилось понятие “суверенитет”8, ведшее к правовому обоснова-
нию абсолютной монархии. Также и в Великобритании - шотландец
Крэйг, потом англичане Спельман и Коук в спорах о феодальной
(псевдо)-пирамиде и древности парламента выдвигали неоднознач-
ные аргументы из мифологического прошлого, делая это с подачи
правящей власти9.
Как показал Л. Кухенбух, именно в XVIII в. сложились три глав-
ные мыслительные парадигмы, определявшие с тех пор структуру
всех размышлений о феодальной системе10.
В рамках первой из них, наиболее сильной, противопоставлены
трактовки феодализма как частной политико-юридической и гло-
бальной социально-экономической системы. Для первой позиции
показательна фигура графа де Буленвилье (1658-1722), сделавшего
80
Феодализм перед судом историков
объектом своего внимания “феодальное правление”11. Принадлежа
к аристократической оппозиции абсолютной монархии, он пытался
доказать двойное тождество: свободные = франки = аристократы.
Из этого следовало, что единственной законной и либеральной фор-
мой правления является та, при которой вся власть сосредоточена в
руках аристократов. Адам Смит (1723-1790), напротив, стремился
доказать, что “феодальная анархия”, создававшая массу препятст-
вий свободе торговли, искажала и тормозила “естественный ход ве-
щей”, ведущий к накоплению богатств и прогрессу12.
Вторая представлена оппозицией приверженцев уникальности и
инвариантности европейского феодализма и решительных компара-
тивистов, говоривших о повсеместности и полиморфизме этой стру-
ктуры. Двумя столпами здесь являются Монтескье и Вольтер. В тра-
ктате “Дух законов” (1748) Монтескье стремился выработать абст-
рактную типологию для решения вопроса о “наилучшем правле-
нии”; для него “феодальные законы” были единичным историче-
ским явлением13. Ему возражал Вольтер. “Мэтр рациональной исто-
рии, основатель современного исторического знания”14 заявлял в от-
вет: “Феодальная система - вовсе не уникальное явление. Это очень
древняя форма, которая под разными видами правления известна на
трех четвертях нашего полушария”15. В “Опыте о нравах” (1756) он
писал: “Мы долго искали истоки феодального правления. Нужно
признать, что у него нет других истоков, кроме древнего обычая,
присущего всем народам: навязывать слабейшему обязанность пла-
тить дань и подчиняться”16.
Наконец, третья парадигма задана противостоянием, которое
прочитывается более четко, поскольку носит в высшей степени
субъективный характер: ненависть к феодализму и его воспевание,
революционное отрицание и реставрация и реакция. Для этого про-
тивостояния символичны работы Сийеса и Бёрка 1789-1790 гг.17
Какой же была в XVIII в. действительная социальная подоплека
этих оппозиций? Нельзя не признать глубину и оригинальность мыс-
ли авторов “Опыта о нравах и духе народов” и “Исследования о при-
роде и причинах богатства народов”. Конечно, сегодня вряд ли при-
менимы два их главных концепта - обскурантизм (“слепое суеве-
рие”) и анархия. Тем не менее Вольтер и Адам Смит заложили осно-
вы рационального исторического мышления в двух взаимодополня-
ющих плоскостях: социо-культурной и социо-экономической (при
том что ни один из них не был революционером). Заметим между
прочим, что оба они уже в названиях своих трудов вводят понятие
“народ”18. Нельзя не отметить и еще один любопытный факт. Адам
Смит видит главный источник обогащения в развитии сельского хо-
зяйства, основанного на собственности разумных размеров. Такой
естественной эволюции (the natural course of things), по его мнению,
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
81
препятствует сохранение больших доменов, наследие былой анар-
хии19; восстановить же “естественное развитие” можно только пу-
тем политических преобразований. В свою очередь, “Опыт о нра-
вах”, несмотря на название, является скорее пространной политиче-
ской хроникой. Главное зло на протяжении всей европейской исто-
рии Вольтеру видится в “римском скандале”, “бешенстве понтифи-
ката”20. При этом “единственным источником человечности” назва-
ны города, а буржуа выступают главными носителями “разума”21.
Если Адам Смит, вопреки расхожему мнению22, отдает предпочте-
ние вопросам сельского хозяйства и государственного управления,
то Вольтера больше привлекает развитие индустрии, связанное, по
его мнению, с общим прогрессом мысли и искусства.
Прежде чем говорить о политических предпочтениях шести на-
званных авторов, нужно вспомнить, что они принадлежали к двум
разным социальным группам (учитывая разницу ситуаций во Фран-
ции и в Великобритании), и были привержены их интересам и стре-
млениям. По сути, это оппозиция трех аристократов и трех буржуа.
С одной стороны мы видим мистификацию истории (Буленвилье),
антиисторическую типологию (Монтескье), отказ от рационального
мышления. С другой - изучение “развития вещей” и обогащения;
“нравов, обычаев, торговли, богатства”23; современной социальной
и политической ситуации во Франции. Стремление упрочить суще-
ствующее представление (и яростный протест против его пересмот-
ра) противостоит исследованию ситуации и ее эволюции, со стрем-
лением к рациональному взгляду на вещи и разумной оценке самого
развития. Закладывание основ рациональной концепции истории
оказывается тесно связанным с буржуазной идеологией XVIII в. (в
разных ее вариантах) и с тогдашними потрясениями европейского
общества. Без сомнения, это составляет главный фон, на котором
возникают и оформляются три упомянутые парадигмы.
Они рождались в ходе напряженной борьбы и размежеваний, хо-
тя в первое время без радикальных потрясений. И, кажется, до сих
пор до конца не осознана концептуальная роль двух заявленных в
них ключевых идей: свободы торговли и свободы совести.
Лозунг о свободе торговли создал репутацию физиократам.
Для них она означала свободу обращения товаров, в первую оче-
редь зерна. Но в целом это требование предполагало полную сво-
боду доступа к “рынку”, не только продуктов, но также земли и
людей. Об этом четко сказано у Адама Смита: сельскохозяйствен-
ные угодья должны стать предметом чисто коммерческих опера-
ций, контракты между собственниками и работниками должны ба-
зироваться только на экономических соображениях. По Адаму
Смиту, это единственный путь их взаимного обогащения. Все, что
мешало свободному распоряжению землей, все отношения, осно-
6 Одиссей, 2006
82
Феодализм перед судом историков
ванные на иной логике, нежели экономическая целесообразность,
отныне объявлялись пережитками истории, воспротивившейся
“естественному порядку вещей”.
Мы видим, как наметился первый концептуальный “разрыв”:
отделяя экономические связи от всех остальных24, Адам Смит рас-
членял целостность отношений, где экономические и неэкономиче-
ские факторы были нераздельно слиты. По сути, его инновация
лишь подводила теоретическую базу под практику, бытовавшую
(главным образом на континенте) уже несколько десятилетий: про-
тивопоставление “реальных” и “личных” прав. Режин Робен, прове-
дя лингвистический анализ25, доказала, что это разделение было од-
ной из главных задач французских юристов XVIII века. Они упорно
стремились представить аристократические домены как простую
“собственность”, выделяя при этом некоторые “личные права” -
впрочем, немногочисленные26. События лета 1789 г. завершили и
узаконили эту эволюцию: отмена “феодальных прав” означала пре-
жде всего превращение сеньоров в собственников. Последовавшие
за этим трудности показывают, что проблему эксплуатации такое
превращение никак не решало27.
Только после этого появляется “узкая (так называемая техниче-
ская) концепция феодальности”. Смысл этого нововведения столь
же прост, сколь и важен: оно вызвано необходимостью представить
сложные отношения господства и подчинения (главной характери-
стикой которых было взаимопроникновение разных аспектов, ус-
ловно определяемых как экономические, политические и религиоз-
ные28) в виде чисто экономических связей, имеющих правовую осно-
ву. Объявив собственность “неприкосновенным и священным пра-
вом” всего через три недели после отмены “феодального права”,
Учредительное собрание как нельзя более ясно выразило стремле-
ние реструктурировать правящий класс Франции на почве унифика-
ции всех земельных собственников. В 1776 г. в Великобритании этот
процесс уже шел полным ходом и потому не мог послужить идей-
ным стимулом для Адама Смита. Естественно, что столь удобное
положение позволило ему, в отличие от континентальных коллег,
представить такую картину прошлого, которая самой своей гло-
бальностью была гораздо ближе к истине.
Одной из ключевых характеристик философии Просвещения
была ее антиклерикальная направленность - этому факту сегодня
не уделяется должного внимания29. В результате мы упускаем из ви-
ду одну из глубочайших трансформаций XVIII в.: речь идет о созда-
нии новой религии - ни больше, ни меньше. В этом отношении не-
обходимо перечитать тексты Вольтера. “Обскурантизм” - одна из
центральных его категорий, она присутствует даже там, где не упо-
минается сам термин: “Этот фанатизм, результат невежества и
А. Герро. Фьеф, феодалъность, феодализм
83
предрассудков, болезнь, поразившая почти все века”30. Рим и като-
лическое духовенство были постоянными объектами его критики и
иронических выпадов. Тем не менее Вольтер вовсе не был атеистом.
Наверное, лучшая абстрактная формулировка этой новой концеп-
ции была дана Ж.-Ж. Руссо в труде “Об общественном договоре”.
Руссо четко разводит “религию человека”, или “естественное боже-
ственное право”, которое определяется им как “внутренний культ
высшего Бога”, и “религию гражданина”, “гражданское, или поло-
жительное божественное право”, которое составляют “догмы, риту-
алы, внешний культ, предписанные законом”31. Триумфальное ут-
верждение этого разделения в умах заслуживает того, чтобы быть
названным вторым “концептуальным разрывом” XVIII в.32 Несколь-
ко лет спустя программа, заключенная в этой концепции, была юри-
дически закреплена. Статья 10 “Декларации” от 26 августа 1789 г.
гласит: “Никто не должен подвергаться преследованию за свои
взгляды, даже религиозные, если их высказывание не мешает уста-
новленному законом общественному порядку”. В ноябре 1789 г. цер-
ковные блага передаются государству. В феврале 1790 г. Учреди-
тельное собрание отменило монашеские ордена, затем в июле того
же года была принята гражданская Конституция духовенства. Таким
образом была гарантирована свобода “естественного божественно-
го права”, а “гражданское божественное право” кардинально пере-
смотрено в интересах государства. Продажа церковного имущества
спровоцировала самое крупное в истории Франции перемещение
собственности, осуществленное в предельно короткие сроки - всего
за несколько лет.
Секуляризация церковного имущества, несомненно, была необ-
ходимым следствием провозглашения собственности “неприкосно-
венным и священным правом”: неотчуждаемые владения церкви
стали главным препятствием для формирования буржуазной собст-
венности, вещного права, отождествлявшего все движимые и недви-
жимые объекты с товарами. Иначе говоря, “свобода совести” нахо-
дилась в прямой взаимосвязи со “свободой торговли”; у Вольтера и
у буржуазии в целом имелись веские основания для того, чтобы счи-
тать обскурантизм “болезнью, поразившей почти все века”33, иначе
говоря, главной чертой устаревшего, но еще не исчезнувшего соци-
ального порядка, на смену которому они прочили новый строй.
Этот второй концептуальный разрыв сделал невозможным
представление о церкви как о “тотальном институте”. Однако, если
в случае первого разрыва разделение некогда целостного понятия
потом не раз становилось объектом осмысления, особенно после
крушения во Франции социального компромисса между буржуазией
и аристократией, то во втором случае оно, имея жесткую привязку к
факту секуляризации церковной собственности, не только не пере-
84
Феодализм перед судом историков
сматривалось, но, кажется, настойчиво вытеснялось из памяти всеми
правящими социальными слоями. И те настолько в этом преуспели,
что в дальнейшем исследователи средневековых обществ стали без
тени сомнения употреблять понятие “религия”, порождавшее неиз-
менное искажение смысла34. Иначе говоря, та трансформация евро-
пейского общества XVIII в., которую принято называть “возвыше-
нием буржуазии”, имея в виду расширение сферы влияния “рынка”
и устранение препятствий для его “свободного” функционирования,
спровоцировала одновременно коренное переустройство отноше-
ний между доминирующими группами и изменение представлений
об обществе, причем как самой структуры этих представлений (поя-
вление ведущей идеи прогресса), так и большинства отдельных по-
нятий. В этом отношении ситуация по обе стороны Ла-Манша скла-
дывалась по-разному. В Великобритании размеры церковной собст-
венности с XVI в. значительно сократились, англиканское духовен-
ство не играло решающей роли в обществе. Кроме того, имелась
тенденция к слиянию буржуазии и аристократии, что вело к ста-
бильному социальному компромиссу. В таких условиях Адаму Сми-
ту, имевшему возможность наблюдать остатки старой системы в
маргинальной зоне (в Шотландии), удалось прийти к целостному и в
то же время глубокому взгляду на вещи, представив сложные доми-
нантные отношения в виде экономических связей.
Во Франции же буржуазии было отказано в месте, которого она
искала, тогда как духовенство оставалось “высшим сословием” и, что
еще важнее, крупнейшим земельным собственником королевства.
Антиклерикальный настрой был неизбежной подоплекой любой со-
циальной критики, тогда как отношение к аристократии оставалось
скорее нейтральным, чему немало способствовала работа юристов
по превращению сеньоров в собственников. Эта неопределенность
вызывала заметное брожение умов; ее разрешила революция 1789 г.,
дав четкие ответы, которые оказали сильнейшее, если не решающее
влияние на все последующие интерпретации “феодальной системы”.
Здесь можно выделить три главных этапа. Провозглашение нового
права собственности в 1789 г. произошло на основе компромисса
буржуазии с аристократией. Секуляризация церковных ценностей
была отнюдь не случайным совпадением, а необходимым дополнени-
ем к нему. Но внешние влияния и в еще большей мере собственная
структура французского общества мешали осуществлению этого
компромисса, и второй этап был отмечен радикализацией буржуаз-
ного правления. С августа 1792 г. вместо “феодального режима”
(определение Мерлена де Дуэ) появилось понятие “феодальность”
(feodalite), как глобальная характеристика того состояния общест-
ва, которое надлежало искоренить. Теперь речь шла не об отмене
некоторых прав, а о тотальной трансформации социаль-
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
85
ного порядка. Вопрос о собственности, конечно, не пересматривал-
ся, но список того, что подлежало упразднению (на сей раз без ка-
кой бы то ни было компенсации) был существенно расширен. Так
закрепился двойной смысл понятия “феодальность”. Стабильность
была восстановлена стараниями первого консула. Интересно отме-
тить, что два решающих акта появляются в обратной последова-
тельности по сравнению с постановлениями 1789 г.: Конкордат, под-
писанный в 1801 г., и Гражданский кодекс, появившийся в марте
1804 г. Традиционно большую значимость придают Гражданскому
кодексу, который считается юридической основой буржуазного об-
щества. Однако его положения - не больше чем развертывание
принципов, уже сформулированных в 1789 г. Конкордат же, завер-
шая процесс, начатый принятием Декларации в августе 1789 г., ока-
зывается фундаментальной прелюдией к Гражданскому кодексу.
Церковь в лице своего главы, а затем и коллегии духовенства, при-
знала законность и неизбежность решающего переворота (значи-
мость которого во всех отношениях превосходит все предыдущие
реформы): отныне духовенство было не сословием, а простым кор-
пусом чиновников, чья деятельность осуществлялась в заданных
рамках и оплачивалась государством. Церковь больше не распола-
гала недвижимым имуществом и признавала де факте свободу сове-
сти. Тем самым второй концептуальный разрыв XVIII в. не только
воплотился в реальных событиях; его законность была признана как
французским обществом, так и папской властью, которая отныне
навсегда отказывалась от возврата к старой системе35.
Ни один из последующих социальных конфликтов не привел к
пересмотру этого вопроса, и никто из историков, кажется, не ощу-
тил того фатального отклонения, которое произошло в изучении
средневековой эпохи с введением понятия “религия”, абсолютно не-
соотносимого с идеей и ролью средневековой церкви. Во всех учеб-
никах истории Средневековья отдельная глава (в фундаментальных
трудах отдельный том) была посвящена истории религии. И сколь-
ко же специалистов по социальной истории строили свои рассужде-
ния о светском обществе, опираясь исключительно на церковные
документы и не обращая внимания на искажения, неизбежные при
таком подходе! Церковь стабильно воспринималась как особая сфе-
ра деятельности, если и не совсем изолированная, то, по меньшей
мере, автономная и самодостаточная. Нигде не упоминалось об ис-
тинном значении католической церкви в рамках феодальной систе-
мы (которое бы логично вело к определению церкви как “тотально-
го института”), и никому не приходило в голову, что здесь кроется
одна из самых показательных характеристик этой системы. В отли-
чие от этого первый концептуальный разрыв (глобальное господ-
ство и разделение его на отдельные “права”) в процессе эволюции
86
Феодализм перед судом историков
отношений буржуазии и аристократии “Старого порядка” был ос-
мыслен настолько, что более чем на век его изучение стало главным
фактором, стимулирующим исследования по средневековой Европе,
особенно во Франции и в Германии36.
ОТРЫВ МОТИВАЦИИ ОТ ОБЪЕКТА РЕФЛЕКСИИ
С НАЧАЛА XIX ВЕКА
Вскоре после принятия Конкордата Шатобриан опубликовал свой
труд “Гений христианства” (1802), в котором нередко видят знак воз-
врата к прежней религиозности. Однако на деле следовало бы гово-
рить об обратном: “христианство” по Шатобриану - то, что находит-
ся “в сердце”37, не что иное как “религия человека” в понимании Рус-
со. По сути, Шатобриан стал первым (и наиболее талантливым) ав-
тором, выстроившим всю историю церкви в мельчайших деталях на
фиктивной базе, в духе слащавого сентиментализма, который впол-
не отвечал настроениям эпохи, но рисовал абсолютно фантастиче-
скую картину Средневековья. Эти представления надолго стали
главным препятствием для рационального и взвешенного подхода к
феодальной системе38.
Наиболее рациональную картину феодальной Европы для всей
исторической мысли во Франции XIX в. создал в 20-е годы XIX в. Ги-
зо. Прежде всего он задался вопросом о причинах несовпадения пу-
тей развития английского и французского обществ (в одном случае
эволюционного, в другом революционного). Будучи монархистом,
Гизо представлял взгляды буржуазной демократии, не имевшей ни-
чего общего с аристократией “Старого порядка” и ее наследниками-
легитимистами. Он не искал компромисса, и потому его стремление
к объективному взгляду на феодальную систему представляется
вполне логичным. Главными понятиями для него стали “цивилиза-
ция” и “классовая борьба”. Он разрушает миф о феодальной пира-
миде, подчеркивает неразрывность личных и материальных связей
между сеньором и крестьянином, говорит о союзе буржуазии и ко-
ролевской власти39. Огюстен Тьерри написал историю “третьего со-
словия”, тогда как Мишле склонялся к лиризму, порой демагогиче-
скому, имевшему мало общего с научным подходом.
Ханс Кризер в своем тонком и проницательном исследовании
показал, что французские историки XIX в. были буквально одержи-
мы вопросом собственности40.
Шампионьер, Бенжамен Герард, Секретан и Риу де Невиль
(1876) выдвигали различные соображения, дополнявшие и уточняв-
шие определение феодальной системы, где главной характеристи-
кой выступали отношения глобального господства - его мы заста-
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
87
нем и у Фюстель де Куланжа в 80-е годы XIX в. Такой мыслитель,
как Сен-Симон, вернулся к концепции Вольтера и Адама Смита;
Огюст Конт даже пытался обобщить это понятие, представив его
этапом развития любого общества.
Но всегда находились и такие историки, которые разными спо-
собами доказывали необходимость радикального отделения юриди-
ческих и политических отношений от других, более материальных и
соотносимых с правом собственности. В частности, целый ряд уче-
ных, бывших учеников Школы Хартий (Анри Бордье, Эдгар Бута-
рик, Леопольд Делиль), пытались обосновать это разделение, про-
изошедшее на деле довольно поздно, научной традицией. В совер-
шенно ином ключе написана работа Алексиса де Токвиля. Она не
имеет ничего общего с этой анахроничной реакцией.
Новаторство труда “Старый Порядок и Революция” (1856) со-
стоит в том, что, игнорируя позиции “за” или “против” Революции,
Токвиль стремился если и не оставить это событие вовсе незамечен-
ным, то, по меньшей мере, свести его к политической драме с огра-
ниченными причинами и следствиями. Последователь величайших
рационалистов, Токвиль давал четкое определение феодальной сис-
темы как единства господства над людьми и владения землей; одна-
ко он утверждал, что это единство распалось задолго до 1789 г., и от-
ношения чистой собственности возобладали еще до Революции. Ка-
кие бы нарекания ни вызывала эта концепция41, она знаменовала
несомненный перелом в мысли: в 1856 г., когда после потрясений
1848 г. Франция окончательно встала на путь индустриального раз-
вития, отношения между разными фракциями доминирующего клас-
са неизбежно менялись. Антагонизм буржуазии и аристократии ото-
шел на второй план, став неуместным во многих отношениях42. Со-
циальный компромисс 1789 г. вновь обрел актуальность: нужно бы-
ло достичь согласия, чтобы устранить все “перехлесты” Конвента.
Сегодня Токвиль воспринимается как знаковая фигура, родона-
чальник сторонников пересмотра истории Революции. К сожале-
нию, никто не замечает, что как Токвиль, так и его интерпретаторы
упускают из виду одну из важнейших составляющих революцион-
ных преобразований: секуляризацию и продажу имущества церкви,
превращение духовенства в корпус чиновников, утверждение свобо-
ды совести. Если восстановить это равновесие, Революция предста-
нет тем, чем она была в действительности: глубочайшим переломом
в истории Франции.
Исследование Токвиля, известное и признанное, настоящий по-
литический манифест - возможно, слишком изощренный, чтобы
быть вовлеченным в дебаты своего времени, - в XIX в. не нашло
серьезных последователей. С одной стороны, необходимость узако-
нить компромисс вынуждала мыслителей утверждать незыблемую
88
Феодализм перед судом историков
границу между личными и реальными правами, сужая понятие фео-
дальное™ до структуры, основанной только на личных правах. С
другой - рационалистический энтузиазм буржуазии пошел на спад,
особенно после 1871 г. Окончательный упадок наступил в последнее
десятилетие века.
Двадцатилетие, предшествовавшее Первой мировой войне, ста-
ло во Франции периодом невиданного упадка рефлексии о феодаль-
ном обществе; эта деградация продолжалась и в промежутке между
двумя войнами43.
Германия в XIX в. была родиной такого множества глубочайших
мыслителей, что вся остальная Европа в этом отношении остава-
лась далеко позади. Их наследие до сих пор во многом определяет
научную мысль в целом и историческую в частности. Такая исклю-
чительная научная плодотворность напрямую связана с особыми
трудностями, встреченными в этой стране буржуазией на пути сво-
его становления. Поэтому нелишним будет для начала отметить не-
которые особенности социально-политической ситуации в Герма-
нии интересующего нас периода.
Главную проблему представляла раздробленность и неоднород-
ность государства; в начале XIX в. Германия была разделена на мно-
жество суверенных единиц, сильно разнившихся между собой как по
размерам, так и по уровню экономического и социального развития.
Не стоит забывать и о религиозной неоднородности, которая имела
здесь глубокие корни и играла куда более важную роль, чем где-ли-
бо еще в Европе. В целом буржуазия была крайне слаба и мало вли-
ятельна за исключением, может быть, рейнских областей и некото-
рых изолированных городских центров. Аристократия же повсюду
оставалась доминирующей силой, и, что немаловажно для нас, фео-
дальный режим в XIX в. оставался насущной реальностью для зна-
чительной части Германии. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что
политическим ориентиром для немецкой буржуазии была Француз-
ская революция, но в то же время ненависть к Франции, впервые вы-
званная наполеоновскими войнами, оставалась на протяжении всего
века одним из главных стимулов развития немецкого национализма.
В обстановке экономического застоя и парализующей раздроблен-
ности для этой анемичной буржуазии одинаково необходимы были
как притязания на национальное единство, так и противоречащее
ему, однако не менее важное стремление к идеалам Французской ре-
волюции44.
“Феноменология духа” написана в 1806 г. Как заметил Герберт
Маркус, отношение Гегеля к разуму очень близко к позиции Робес-
пьера, и он по праву может быть назван философом Французской
революции45. Французы не читали его, потому что он был немцем,
немцы его отвергли, поскольку он выступал за идеалы Француз-
А. Герра. Фьеф, феодалъностъ, феодализм
89
ской революции. “Феноменология духа” является, без сомнения,
первой в своем роде и до сих пор не превзойденной попыткой пред-
ставить рационалистическую концепцию истории человечества46.
Гегель выделяет в ней три ключевых момента: эпоха античного
полиса (Sittlichkeit - традиционная мораль); христиано-германская
эпоха (Средневековье; Bildung - воспитание); постреволюционная
эпоха (Moralitat - рациональная мораль). Нельзя не отметить прин-
ципиальную новизну такой схемы: феодальная эпоха приравнена к
христианству, при этом она характеризуется как негативная и в то
же время наиболее динамичная фаза, разразившаяся в 1789 г. реа-
лизацией абстрактной идеи свободы. Вопреки расхожему мнению
Гегель мыслил категориями конкретного общества; не следует
пренебрегать той ролью, какую он придает связке “господин-слу-
га” (Herr-Knecht). Но, помимо этого, Гегель - прямой наследник
просветительской мысли, и “Феноменология духа” свидетельству-
ет, что понятия, сформированные в результате двойного концепту-
ального разрыва XVIII в., были переняты им без малейшей крити-
ки. Христианский мир состоит из частных собственников47; отно-
шения собственности воспринимаются в прямой связи с отношени-
ями господства; рассуждая о христианстве, Гегель отделяет инди-
видуальную религиозность от социальной стороны религии
(церкви и духовенства)48.
Эта тенденция прослеживается и у первого ученика и последова-
теля Гегеля Эдуарда Ганса49, особенно в его труде “Наследственное
право в мировом историческом развитии” (Das Erbrecht in welt-
geschichtlicher Entwicklung (1824-1835)). Во введении к третьему то-
му “Наследственное право Средневековья” (Das Erbrecht des
Mittelalters, 1829) 70 страниц посвящены общим соображениям о
Средневековье. Ганс развивает и вульгаризирует идеи Гегеля приме-
нительно к праву собственности и наследования. Он использует тер-
мины Lehnrecht, Feudalrecht (“ленное право”, “феодальное право”)
столь же часто, как Feudalsystem (“феодальная система”) и Feudalitat
(“феодальность”). Им выстроена довольно сложная система вокруг
понятий собственности, семьи, государства и церкви. Как и Гегель,
он признает ключевую роль церкви и показывает, как осуществля-
лось ее господство в правовом аспекте, посредством особого права -
канонического.
Но в то время как Гегель и его ученики пытались развить на не-
мецкой почве буржуазную концепцию общества50, ведущие позиции
здесь принадлежали новой “Исторической школе права”51. Земель-
ная аристократия оставалась наиболее сильным классом, и собст-
венно феодальные отношения были представлены весьма широко в
сельской местности. Исследование Райнера Шульце52, который де-
тально анализирует эволюцию концепций феодального права у не-
90
Феодализм перед судом историков
мецких юристов XVIII-XIX вв., показывает, что, несмотря на свои
особенности и хронологию, это развитие в целом было аналогич-
ным тому, какое наблюдалось во Франции в XVIII в.: в обоих случа-
ях речь шла о законодательной трансформации феодалов в земель-
ных собственников.
Шульце выделяет три этапа. Начало XVIII в. проходило под зна-
ком теории jus naturae, активно развиваемой Кристианом Вольфом в
его стремлении выработать рациональное право. Отголоски этого
влияния заметны в прусском “Общем земельном праве” (Allgemeine
Landrecht) 1794 г. Характерный представитель этого направления -
С. Штрик. С другой стороны, сильное течение, восходящее по мень-
шей мере к работам Иоганна Шильтера конца XVII в., отказывалось
от рациональных принципов в пользу эмпирического историцизма,
направленного на поддержку существующего государственного
строя. Наилучшее выражение оно находит в работах Бури. Той же
традиции следует Шлоссер, стремясь утвердить основы антиабсолю-
тистского союза аристократии и буржуазии: он пытается уподобить
феодальное право обычному гражданскому, упоминая, впрочем, не-
которые специфические черты феодального права.
Первые годы XIX в. были временем триумфа “исторической шко-
лы права”, что соответствовало общему для всей Германии отходу от
универсальных идеалов Французской революции и стремлению исто-
рически обосновать свои национальные претензии. Эта школа с само-
го начала столкнулась, по меньшей мере, с двумя апориями: изучение
былых юридических практик в Германии выявляло скорее их множе-
ственность, чем единство; а “чисто феодальные отношения” были ар-
хаичны и противоречили экономическим и политическим установкам
немецкого государства. Образцовой для всей школы в этой ситуации
стала методика Эйхгорна. Ее ключевое понятие - “правовой инсти-
тут” (Rechtsinstitut); благодаря ему появилась возможность выявить
ведущие принципы и с их помощью оправдать историю права как од-
новременно эволюционирующую и непрерывную. Органицистский
взгляд, предлагаемый такой системой, позволяет говорить о “разви-
тии”, “стабильном состоянии”, “стагнации”, в результате чего без осо-
бого труда создается иллюзия непрерывности. Такие манипуляции с
феодальным правом позволяли классифицировать его как довольно
узкую подоснову гражданского права, и, таким образом, незаметно
приравнять феодальные отношения к набору обычных прав, главное
из которых - право собственности. Юристам оставалось лишь конста-
тировать прекращение действия феодального права после 1848 г., как
это сделал Г. Безелер.
Легко заметить сходство этой эволюции с тем, что происходило
во Франции в XVIII в. Однако есть у нее и существенные отличия, не
говоря уже о разрыве во времени. Компромисс 1789 г. во Франции
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
91
почти сразу распался, и на историческую сцену вышла буржуазия. Ис-
торики первой половины XIX в. выражали мнение победившего клас-
са, у которого не было ни малейшего повода маскировать действи-
тельную суть феодальных отношений; такая тенденция возникла
только после 1871 г. В Германии же ничто не могло помешать господ-
ству аристократии. Активность буржуазии и требования, выдвигае-
мые в “домартовский” период (Vormarz), были подавлены шоком ре-
волюции 1848 г. За редким исключением (например, Георг Герви-
нус53) немецкие историки тяготели к прусскому варианту. Для Прус-
сии была характерна особая форма компромисса: признание буржуаз-
ных экономических ценностей происходило с подачи государства, во
главе которого стояла аристократия, сохранившая свое социальное
превосходство. В историографии по нашей проблеме триумф Прус-
сии породил догму о феодальности в “узком”, “техническом” смысле,
сформулированную Георгом Вайцем54.
Период до 1848 г. отмечен появлением филологии и беспреце-
дентным взлетом науки, понятой как патриотический долг: в это
время была основана серия Monumenta Germaniae Historica - “Sanctus
amor patriae dat anitnum”*. Леопольдом Ранке были заложены основы
немецкой исторической традиции, где предпочтение отдавалось ди-
пломатической и военной истории: главными действующими лица-
ми на исторической сцене стали нации.
Всех немецких историков объединяло экзальтированное отно-
шение к германскому прошлому, которое часто связывалось с темой
“исконной свободы” (pristina libertas). Здесь не обходилось без пара-
доксов. Например, согласно Эйхгорну, у германцев было сословное
государство (Standestaat); Карла Великого он считал родоначальни-
ком феодальной аристократии и одновременно создателем первого
германского “государства”. При таком взгляде феодальная раздроб-
ленность (Zersplitterung) и анархия становились абсолютно необъяс-
нимыми.
В то время как многие авторы воспевали реакцию, будучи апо-
логетами “Старого порядка” (Адам фон Мюллер или Ф.Л. Фон дер
Марвиц), некоторые либералы (Карл Велькер) придерживались не-
гативных взглядов на феодализм, близких к позиции Адама Смита.
Однако большинство из них ограничивалось исследованием Герма-
нии, что не давало возможности делать выводы о феодальной систе-
ме в целом. Антифеодальная полемика “домартовского” периода
утихла после 1848 г., и кропотливая работа юристов мало-помалу
подошла к концу: большие домены были превращены в собствен-
ность. Прусский компромисс нуждался в историческом оправдании,
“Священная любовь к отечеству вдохновляет” - девиз, под которым появилась
серия (примеч. пер.)
92
Феодализм перед судом историков
что повлекло интерпретацию феодальных связей как: 1) “юридиче-
ских” отношений; 2) “чисто личных” отношений, благодаря чему
была “узаконена” собственность помещиков (Junkers).
Основы этого подхода заложил блистательный ученик Ранке
Георг Вайц (1813-1886). Он принадлежал к группе либеральных гер-
манистов, в 1848 г. принимал участие в работе франкфуртского пар-
ламента. В 1861 г. появилась его статья “Ленный строй”
(“Lehnswesen”)55; незадолго до этого, в 1857 г. он присоединился к
группе историков-либералов, что совпало со сменой монарха на
прусском троне. Сама дата появления этого текста указывает на его
программное значение.
.Ленный строй, по Вайцу, был одним из “самых значительных
явлений в жизни Европы”, в котором особым образом сплавились
римские и германские элементы. Он категорически отвергал поня-
тие “феодальной повинности” крестьян, считая, что эти обязатель-
ства не имели никакого отношения к фьефу. При этом Вайц при-
знавал существование феодального государства (Lehnstaat), где су-
верен являлся одновременно хозяином земель, большая часть ко-
торых отдавалась в держание. Некоторая часть населения находи-
лась в личных отношениях с сувереном, а большинство - с местны-
ми представителями государственной власти. Политическое и юри-
дическое неравенство разных групп населения в таком государстве
было особенно резким.
Так Вайц стал, возможно, первым крупным профессиональным
историком, который придал научный лоск этому дискурсу, искажен-
ному стремлением ограничить анализ исключительно политически-
ми и юридическими рассуждениями, оправдав этот догматический
подход якобы технической строгостью, противостоящей так назы-
ваемому вульгарному смыслу. На самом деле, как следует из анали-
за Р. Шульце, его работа стала не более чем завершающим аккор-
дом в эволюции юридического дискурса и социальных практик, про-
звучавшим тогда, когда того потребовала социальная и политиче-
ская обстановка.
Позиция, к которой полвека спустя пришел Георг фон Белов56,
говорит о значительной эволюции немецкого общества. За несколь-
ко десятилетий Германия превратилась в одну из сильнейших инду-
стриальных держав. Буржуазия сохраняла приверженность государ-
ственным и национальным ценностям, однако необоснованный от-
каз от изучения экономических структур отныне был невозможен.
Решение было найдено в том, чтобы разделить понятия “ленный
строй” (Lehnswesen) и “феодализм” (Feudalismus). Феодализм трак-
товался как глобальная система, в рамках которой выделялись соб-
ственно ленный строй (как центральный элемент), феодальные при-
вилегии и феодальные объединения (Einung)57; при этом ленный
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
93
строй оказывался центральным элементом системы. Тогда эта по-
пытка не была оценена по достоинству. Тем не менее именно в про-
должение этой идеи были развернуты основные работы Отто Хин-
це58, который резко отмежевался от немецкой традиции XIX в., от-
дав предпочтение сравнительному методу. В таком отходе от наци-
ональной тематики угадывается явный след обновленческих настро-
ений Веймарской республики.
Социальное напряжение в Германской империи конца XIX в.,
вызванное необычайно интенсивной индустриализацией, сказалось
на том интеллектуальном перевороте, который демонстрируют ра-
боты Макса Вебера. Он интересует нас прежде всего как теоретик
вопросов власти (Heirschaft)59. Размышляя о связях экономики и об-
щества, Макс Вебер выработал типологию форм власти, независи-
мую от экономических отношений. Он разработал теорию чистого
рационализма власти, абстрактное оправдание силовой политики
(как внутренней, так и внешней), отвечая тем самым на запрос доми-
нирующего класса, начавшего ощущать некоторую неуверенность в
своем будущем.
Аналитические выкладки Л. Кухенбуха60 весьма убедительны;
они показывают, что обращение к политической теме власти не тре-
бовало никакого разрыва с юридической концепцией Lehnswesen.
Однако эта тематическая близость не должна скрывать от нас на-
стоящего переворота перспективы, каким был переход от первично-
сти права к первичности силы. Именно эта тенденция, укрепившая-
ся в эпоху Веймарской республики, станет ведущей в период нацио-
нал-социалистического режима. Ключевой работой здесь станет
“Земля и власть” Отто Бруннера, вышедшая в 1939 г.61 Однако нель-
зя не вспомнить и труд Генриха Миттайса “Государство высокого
Средневековья”62, созданный в это же время в русле юридической
традиции Вайца и фон Белова.
Антилиберальный вклад Бруннера был одновременно прогрес-
сивным и ограничивающим63. Несомненно, неприязнь к юридиче-
ской традиции XIX в. позволила ему уловить (скорее интуитивно,
чем аналитически) анахронизм этого метода и неприемлемость ис-
пользования юридической схемы для анализа средневекового об-
щества. Отсюда ее замена более четкой концепцией власти, опира-
ющейся на одновременное господство над людьми и над землей.
Но в своих историографических обзорах Отто Бруннер не искал
никакой связи между исторической рефлексией и состоянием об-
щества в XIX в., а также юридическим уклоном общественной
мысли того времени: такой угол зрения вообще чужд его подходу.
Кроме того (что гораздо важнее), Отто Бруннер, претендуя на на-
учное опровержение либеральной идеологии, не заметил ее осно-
вы, т.е. структурной взаимосвязи двух идей - экономической сво-
94
Феодализм перед судом историков
боды и свободы совести. От него ускользнул факт единой природы
двух концептуальных разрывов XVIII в., и он, очевидно, даже не за-
подозрил о необходимости отдать должное истинной роли церкви
в феодальном обществе.
СЛАБОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ
“МАРКСИСТСКОЙ” ИСТОРИОГРАФИИ ФЕОДАЛИЗМА
Чтобы представить картину эволюции социальных штудий Сред-
невековья за последние полвека, достаточно беглого взгляда на-
зад. Потрясения межвоенного периода привели к катастрофе Вто-
рой мировой войны. Все европейские страны, за исключением Ве-
ликобритании, в той или иной мере пережили режим буржуазного
террора (который в случаях Португалии, Испании, Греции стал
продолжением или возобновлением уже существовавшего режи-
ма). Установление народно-демократического строя в восьми
странах Восточной и Центральной Европы после 1945 г. вызвало
легкую панику в высших кругах Западной Европы; она усилилась
в процессе деколонизации. В то же время небывалый экономиче-
ский рост породил технократическую идеологию, главные прин-
ципы которой - насущная эффективность и решение проблем по
мере их появления. Бурное развитие международной торговли за
последние пятнадцать лет резко изменило пропорциональное со-
отношение отраслей, приведя к одновременному росту доходов и
безработицы64; механизмы экономического контроля в пригра-
ничных регионах стали неэффективными. Для нашей проблема-
тики особенно важны перемены, связанные с землевладением:
роль доходов, получаемых от обработки земли, перестает быть
решающей для господствующего класса. Компромисс господству-
ющих групп, объединенных владением землей, остался далеко в
прошлом; юридическая концепция феодализма лишилась своей
социальной основы. В целом понятие “Старый порядок” потеряло
актуальность, перестало быть полюсом напряжения, вокруг кото-
рого выстраивались противоборствующие силы.
В 1968 г. университетский мир пережил сильное потрясение, и
перемены, произошедшие в следующие три-четыре года, заслу-
живают нашего внимания. Именно в этот период, между учрежде-
нием Пьером Нора серии “Библиотека историй” в 1972 г. и заклю-
чением, сделанным в 1979 году Жаком Ревелем под броским на-
званием “Парадигмы Анналов”65, развернулись дебаты о “раз-
дроблении истории”. Сейчас мы понимаем, что их ход во многом
определяли групповые стратегии VI секции Высшей школы прак-
тических исследований66.
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
95
В этом смятении 70-х продолжали развиваться старые направле-
ния, однако обсуждалась и возможность освоения новых. Некоторые
отважились заявить о необходимости выработки четких абстракт-
ных концепций67. Увы! Их призывы были вскоре забыты, и наше де-
сятилетие являет собой грустный спектакль: дробление тем, отсутст-
вие всякой концептуальной работы, общее истощение и упадок сил68.
Главный инструмент анализа - понятие “социальная система” (и при-
нятый под ним набор структур) - исчерпал себя, он не дает нового
пространства для исследований и поводов для дискуссий. Во Франции
тексты о феодальной Европе, где выражена более или менее абст-
рактная точка зрения69 или предлагаются какие-либо концептуаль-
ные нововведения70, можно пересчитать по пальцам одной руки. Эта
самоубийственная атомизация, исключающая необходимый в изуче-
нии социальных отношений разговор о структурах, заставляет ду-
мать, что настоящее мелководье еще впереди. Пытаясь идти тем не
менее в обратную сторону, мы довольствуемся здесь скромной це-
лью: представить конкретный элемент рефлексии - коррекцию того
образа, который создался у большинства французских медиевистов в
отношении “феодализма марксистского толка”.
С начала 50-х годов XX в. на западной историографии начина-
ют сказываться следствия идеологии “холодной войны”. Историо-
графическое поле перестраивается в соответствии с новой расста-
новкой сил. Многие авторы преподносят ситуацию так, как будто
существовало две концепции феодализма: марксистская и немарк-
систская. Первую более или менее откровенно поносили, объяв-
ляя ложной и опасной. На деле же из сотен медиевистов, опубли-
ковавших свои работы в течение двадцати пяти послевоенных лет,
едва ли наберется десяток марксистов! В то же время работы, вы-
ходившие в народно-демократических государствах, оставались
недоступными или неизвестными, за исключением четырех-пяти
исследований. Понятие “феодализм марксистского толка” было
фантомом, грубой карикатурой, сформированной в условиях идео-
логического прессинга убеждениями, не имеющими никакого от-
ношения к теме. Это пугало являлось, по сути, перекроенным ва-
риантом того, что называлось “феодализмом широкого толка”,
при этом самим текстам Маркса и историков-марксистов уделялся
минимум внимания71.
Так мы пришли к парадоксальной ситуации: схема, определяв-
шая феодализм необходимой фазой развития любого общества, о
которой писал Вольтер, и которую в конце XIX в. энергично разра-
батывали буржуазные позитивисты, сегодня приписана марксизму и
отвергнута именно по этой причине72.
Прежде всего необходимо помнить, что в работах Маркса и Эн-
гельса мы не встретим ничего, что можно было бы трактовать как
96
Феодализм перед судом историков
теорию феодальной системы или схему феодального производства.
Как показывает Кухенбух73, Маркс обращался к Средневековью и
феодализму лишь за тем, чтобы уточнить историю понятия или со-
циальной структуры, или для контрастного противопоставления
разных структур, чтобы продемонстрировать их преходящий харак-
тер. Круг чтения Маркса был довольно широк, и несомненны его
способности к критике и синтезу. Однако, как показывает анализ,
его концепция Средневековья напрямую восходит к идеям Гегеля,
Адама Смита, Гизо и Сен-Симона - т.е. буржуазных историков-ра-
ционалистов. Что касается двух упомянутых концептуальных раз-
рывов, то Маркс их, по всей видимости, не заметил. По некоторым
косвенным замечаниям (особенно в текстах до 1845 г.) мы можем за-
ключить, что идея о глобальном характере доминантных отноше-
ний феодализма была ему все же близка, относительно же церкви
вообще ничего определенного нет74.
Тексты Ленина являются куда более важным вкладом в исто-
риографию вопроса75. Крестьянство в царской России конца
XIX в. сохраняло многие черты крепостничества, совсем недавно
упраздненного. Интерпретация структур аграрного общества бы-
ла главной задачей русских социалистов, по этому поводу разгора-
лись горячие дебаты. Позиция Ленина эволюционировала. В
1896-1899 гг. он написал работу “Развитие капитализма в России”.
В этом тексте говорилось о двойном антагонизме в аграрной зоне:
старое противостояние крестьянства и крупных собственников,
оставшееся от крепостничества, соседствовало с новым конфлик-
том деревенского пролетариата и деревенской буржуазии. Но по-
сле революции 1905 года он существенно изменил свою точку зре-
ния, отказавшись от этого разделения и признав принципиальную
значимость старых структур, из чего делал вывод о необходимо-
сти союза со всем крестьянством и уничтожения института круп-
ной собственности.
Сам по себе вопрос о способе феодального производства волновал
Ленина не больше, чем Маркса. К тому же он пользовался по большей
части терминами “барщина” и “крепостное право”. Общество, кото-
рое он имел перед глазами и на которое делал ставку, уже было вовле-
чено в капиталистические отношения, и потому вопрос о функциони-
ровании собственно феодальной системы был не актуален. Сильная
сторона ленинской теории в том, что он всегда настаивал на исключи-
тельности российской ситуации по отношению к остальной Европе.
Но многие советские историки приняли данный исключительный слу-
чай за образец, и вслед за ними остальные историки-марксисты часто
уравнивали феодальную систему и крепостное право.
В 20-е годы ситуация в СССР была безвыходной: как можно бы-
ло отказаться от основ исторического материализма, находясь в об-
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
97
становке тотальной изоляции и в более чем сложных материальных
условиях? В первое время тон задавали взгляды Покровского
(1868-1932), русского историка, примкнувшего после 1905 года к
большевикам, который вообще отвергал изучение прошлого как
пассеизм. В 1934 г. Сталин признал необходимость изучения и пре-
подавания истории76. Некоторые медиевисты, сформировавшиеся
еще до 1917 г. и принявшие марксизм, опубликовали работы, напи-
санные ими тайком за последние десять лет. Наибольшего внимания
среди них заслуживает Евгений Косминский (1886-1959), специа-
лист по английской аграрной истории.
Советской парадигме феодализма были (и во многом остаются)
присущи три характерных аспекта. Во-первых, это необходимость
ссылки на марксистско-ленинскую теорию, что является полной
профанацией абстрактного подхода, так как эти знаменитые класси-
ки никогда не выдвигали своей собственной теории феодализма. Но
острота дискуссий о феодализме (в СССР - Б. Поршнев, С. Сказкин,
А. Гуревич, Ю. Бессмертный; в Польше - В. Кула, А. Вычански,
Г. Самсонович, Б. Геремек; в ГДР - Е. Вернер, Б. Тёпфер, Е. Мюл-
лер-Мертенс, Й. Херманн) показывает, что интеллектуальная атмо-
сфера медиевистов в Восточной Европе совсем не такова, какой
многие себе ее представляют.
Во-вторых - повышенное внимание к аграрным вопросам. Этот
крен обусловлен не столько работами Ленина, сколько самой специ-
фикой российского общества, где интерес к крестьянству был неиз-
бежен. При изучении чужих обществ советские медиевисты (осоз-
нанно или нет) сравнивали их с собственной ситуацией. Заметим,
что Маркс рассматривал как сельский, так и городской варианты до-
капиталистических обществ; в количественном же отношении тек-
стов, посвященных ремесленному производству, ростовщическому и
торговому капиталу, гораздо больше, чем тех, где говорится о зе-
мельной ренте и других аграрных вопросах.
В-третьих - теория формаций77. Все советские историки и эт-
нологи постоянно сталкивались с двумя вопросами (которые в
СССР до сих пор остаются открытыми): как определить экономи-
ческую и социальную формацию? Существует ли неизменная и не-
избежная последовательность этих пяти-шести формаций в исто-
рии каждого общества? Разные специалисты по-своему отвечали
на эти вопросы, медиевисты вступали в диалог со специалистами
по Античности, с синологами, индологами и этнологами. Напом-
ним еще раз, что теория стадиального развития восходит, по мень-
шей мере, к Вольтеру, Шлецеру, Кондорсе и Гегелю; что выска-
зывания Маркса на этот счет немногочисленны и противоречивы
(особенно в заметках, относящихся к десяти последним годам его
жизни)78; что эта теория “социального эволюционизма” была в хо-
7 Одиссей. 2006
98
Феодализм перед судом историков
ду у западноевропейских историков вплоть до 1900 года, и речь
здесь никоим образом не может идти о специфически марксист-
ском вопросе79.
ИТОГ:
ИСКАЖЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ
В любом исследовании средневекового общества в действие вовле-
чены по меньшей мере четыре объекта:
1) средневековое общество;
2) представления о нем историков начиная с 1750 г.;
3) представления этих историков о собственном обществе;
4) общество, к которому они принадлежат.
Ни один из этих элементов нельзя исключить. Особенно важ-
ным представляется анализ отношений между пунктами 3 и 4, иначе
говоря, того, как в разное время внутренние проблемы и стимулы
общества определяли представления о нем историков. Ведь именно
в образе своего общества медиевисты черпают те понятия (конкрет-
ные или структурные), при помощи которых они пытаются восста-
новить картину Средневековья.
Цель такого подхода не в том, чтобы подорвать авторитет исто-
рии как науки; речь идет лишь о попытке проследить на конкретных
случаях, как одни социальные и идеологические обстоятельства
благоприятствуют развитию научного подхода, а другие его тормо-
зят или блокируют. Выявление этой зависимости не освободит от
нее историков. Тем не менее это позволит разумно осмыслить те
случаи, когда медиевисты упраздняют одни понятия или вводят дру-
гие, руководствуясь не логикой рационального исследования, а при-
верженностью или антипатией к той или иной черте своего общест-
ва. Как бы ни был скромен этот вклад в научное знание, он многое
ставит на места и способствует нашему лучшему пониманию средне-
векового общества.
Для начала - два методологических вывода:
1. Роль национального контекста. С 1750 г. каждое из европей-
ских государств имело свою историю, и в каждом развивалась собст-
венная школа медиевистики. Национальный вопрос, один из важ-
нейших для Европы XIX в., имел в каждой стране свои особенности
и по-разному сказывался на работе медиевистов. Логика простран-
ственного деления феодального мира не совпадала с современной
системой наций. Это расхождение не осталось незамеченным, но
преодолеть его в исследованиях по сей день не удается. Вписывание
феодальной системы в национальную историю всякий раз ведет к
искажению картины.
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
99
Дело не ограничивается только национальным разделением; в
случае Франции и Германии две нации с XVIII в. находились в состо-
янии непрерывной вражды, что обостряло идеологическую атмо-
сферу и еще больше усложняло логику репрезентации; это противо-
стояние заметно сказалось на историографии80. Кроме того, темы,
понятия и методы исследований переносились из одного контекста в
другой без учета их изначальной социально-идеологической значи-
мости, что нередко приводило к полному перевертыванию смысла.
2. Проблема терминов и терминологической системы. Три сло-
ва, вынесенные в заголовок статьи, предстают своего рода эволюци-
онной цепочкой: в определенных временных контекстах “фьеф”
(около 1780 г.), “феодальность” (около 1820 г.) и “феодализм” (око-
ло 1950 г.) означают примерно одно и то же. В то же время в 50-е го-
ды XX в. “феодальность” возникает как термин, противоположный
“феодализму”. Смысл каждого понятия всякий раз вырисовывается
на фоне контекста, и еще вернее - на фоне других понятий, вместе с
которыми оно представляет единую терминологическую систему.
Исследование истории отдельно взятого понятия неизбежно приве-
дет нас в тупик. Каждому известна разница между европейскими
языками: слово “феодальность” (feodalite) непереводимо на англий-
ский; feudalidad не используется в кастильском диалекте81; feudalita
обозначает скорее социальную группу феодалов, чем феодализм
как систему. В немецком языке возник термин Lehnswesen, не имею-
щий эквивалента в других европейских языках (кроме, может быть,
голландского leenstelsel). С общими понятиями ситуация еще хуже:
французское regime или немецкое Verfassung - настоящие семанти-
ческие монстры. Иначе говоря, слова сами по себе - не более чем
метки, помогающие реконструировать стоящую за ними семантиче-
скую структуру, которая в нашем случае является объектом иссле-
дования. Это побуждает уделять больше внимания авторским сопо-
ставлениям, расхождениям во взглядах с оппонентами и причинам
этих расхождений, чем финальным дефинициям, которые только
кажутся четкими и определенными.
Задачу усложняет необходимость выделить доминирующие ти-
пы представлений. В любой стране в любую эпоху позиция интелле-
ктуальных меньшинств и одиночек отличается от представлений о
Средневековье, разделяемых большинством медиевистов. Это ведет
к необходимости рассматривать ситуацию одновременно в несколь-
ких странах, поскольку преобладание той или иной позиции в одном
государстве может быть напрямую связано с доминирующим мнени-
ем в соседнем, совпадать с ним или противостоять ему.
Кроме этих соображений общего характера, которые должны
сориентировать будущих исследователей, мы сформулируем четыре
более конкретных вывода. Если они будут взяты на заметку, труды
100
Феодализм перед судом историков
многих медиевистов придется заново переосмыслить, а в наших соб-
ственных концепциях Средневековья обнаружится немало пробелов
и несоответствий.
I. Первое наблюдение касается того, что мы предлагаем назы-
вать двойным концептуальным разрывом XVIII в. Во второй поло-
вине этого века представления об обществе у доминирующего клас-
са подверглись радикальной трансформации в двух направлениях,
что напрямую связано со следующими явлениями:
а) Отношения глобального господства, хорошо отражаемые по-
нятийной связкой dominus-homo, окончательно распались. Сама до-
минирующая группа приобрела двойную характеристику: с одной
стороны, это был слой земельных собственников (и владельцев дру-
гих благ, движимых и недвижимых), с другой - привилегированный
класс, обладавший правами и прерогативами, присущими его чле-
нам от рождения и ставящими их на высшую позицию в обществе.
Прежняя ситуация глобального господства исчезла не только из ре-
альной жизни, она стала энергично вытесняться (вплоть до полного
исчезновения) и из представлений о прошлом - по меньшей мере
внутри доминирующего класса.
б) Церковь некогда обозначала всех христиан, объединенных в
Богом созданное сообщество и находящееся в непосредственной свя-
зи с ним. В это сообщество входило все население Европы, кроме ев-
реев (по меньшей мере до XVI в.). Конечно, существовал целый ряд
региональных различий; кроме того, христиане были неравны в сво-
ем отношении к сакральному: степень близости к нему была основой
истинной иерархии, единственного вида неравенства, угодного Богу.
Эти два понятия - сообщество и иерархия - были нераздельны и яв-
лялись непоколебимой основой социального порядка82.
В XVIII в. часть доминирующего класса подвергла сомнению не-
обходимость принадлежности к церкви. Это был резкий скачок по
сравнению со всеми прошлыми “реформами”, которые ставили под
вопрос форму организации христиан и ее статус, но никак не принад-
лежность к ней. Появилось понятие “религия”. Разделив ее на “ре-
лигию человека” и “религию гражданина”, Руссо определил рели-
гию как особую сферу личных отношений человека с Богом. Это
окончательно разрушило прежнюю феодальную церковь, где лич-
ные отношения с Богом и общественное устройство были слиты в
органическое единство.
Мы попытались показать, что эти два разрыва находились в
тесной связи с двумя главными требованиями просветителей: сво-
боды торговли и свободы совести. Во время Французской револю-
ции (как при Учредительном собрании, так и при Консулате), дей-
ствия в этих двух направлениях предпринимались почти одновре-
менно, и детальный анализ выявляет их глубокую логическую вза-
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
101
имосвязь. Несмотря на то, что эти разрывы - два отдельных явле-
ния, они одновременны и близки друг другу. Наблюдая их, мы при-
ходим к размышлениям, с одной стороны, о ключевых структурах
феодальной системы, с другой - о том, как изменение представле-
ний о ней сказалось на последующей историографии. Напомним
еще раз, что эти два разрыва, несмотря на их изначальную взаимо-
связь, имели разную судьбу.
II. Упразднение понятия глобального господства позволило выде-
лить внутри феодальных отношений право собственности, и светские
аристократы незаметно превратились в землевладельцев. В Англии,
пережившей серьезные потрясения в XVII в., к XVIII столетию все ан-
тагонизмы утихли, английские аристократы уже были дельцами. В
таких условиях исследователь - такой, каким был Адам Смит, - нахо-
дился в более выгодной позиции для обзора общественных структур
прошлого, поскольку его взгляды не были обусловлены пертурбаци-
ями, сотрясавшими его собственное общество. В Германии социаль-
ные контроверзы и энтузиазм “домартовского” периода были лишь
краткой вспышкой; компромисс буржуазии с земельной аристокра-
тией, сохранявшей свое главенствующее положение, достиг апогея
после 1856 г., во время объединения земель вокруг Пруссии. И имен-
но тогда Георгом Вайцем была сформулирована догма о “феодализ-
ме в узком смысле”. Во Франции развитие шло зигзагами: компро-
мисс, установленный наспех в 1789 г., распался, взаимная ненависть
буржуазии и аристократии приобрела зловещую окраску. Разброс
мнений был чрезвычайно широк в течение почти всего XIX в. Исто-
рики-рационалисты (Гизо, Токвиль, Фюстель) признали единство
феодальных отношений господства. Но Школа хартий, ставшая опло-
том анахронизма, все еще пыталась оправдать концептуальный раз-
рыв разными техническими приемами, которым придавалось боль-
шее значение, чем здравому размышлению. В последние годы XIX в.,
когда разнородные представители господствующего класса стреми-
лись к единению, это течение, незаслуженно названное позитивист-
ским, праздновало свой триумф. С 90-х годов XIX в., когда возоблада-
ла юридическая доктрина “феодализма в узком смысле”, начался не-
бывалый упадок исторической науки. Последний штрих в эту карти-
ну внес Ф.Л. Гансхоф в самую темную эпоху гитлеровской оккупации.
В его известной книге “Что такое феодализм?”, суммированы все до-
стижения этого устаревшего и догматического подхода.
III. Второй разрыв с первых десятилетий XIX в. был полностью
упущен из виду. С тех пор, кажется, ни один историк не обратил вни-
мания на то, какие последствия имело изобретение “религии” в
XVIII в. и не попытался реконструировать понятие “Церкви”, соот-
носимое с той ролью, какую она играла в европейской феодальной
системе. Как объяснить столь полное затмение?
102
Феодализм перед судом историков
Религиозная ситуация в Европе начала XIX в. представлена тре-
мя вариантами: одни страны были протестантскими, другие католи-
ческими, в третьих уживались обе конфессии. В Великобритании и
скандинавских странах католическая церковь уже давно утратила
роль, присущую ей в Средние века. Там эволюция шла поэтапно, ни-
какого разрыва не было. В средиземноморских странах, во Франции
и в Австрии он, напротив, был весьма чувствителен. Однако церковь
в лице своего главы признала его законность и принялась всеми
средствами отрицать саму идею разрыва, стремясь всеми силами
удержать представление о своей незыблемости. Все католические
писатели и историки действовали в том же ключе. Проявляя редко-
стное единодушие, они стремились преуменьшить значение этой
трансформации; одновременно была начата масштабная работа по
переписыванию истории, дабы приспособить ее к новому понятию
религии. В регионах со смешанным вероисповеданием, особенно в
германских землях, католическая церковь по своему статусу почти
сравнялась с протестантской. Это произошло в период, когда осо-
бенно важна была идея национального единства; таким образом, по-
требность забыть разрыв удвоилась. Во всех вариантах трансформа-
ции (будь то реформы или соглашения) церковь теряла большую
часть своих владений. Новые собственники ее земель - аристокра-
ты-протестанты, буржуа разного рода и даже зажиточные крестья-
не - все чувствовали потребность прикрыть это расхищение “ное-
вым плащом”. В конечном счете, клирики и новый класс собствен-
ников, имея на то разные причины, совпадали в своем общем стрем-
лении и провоцировали тем самым ситуацию необходимой амнезии.
Этот факт пока трудно оценить по достоинству; но, в любом слу-
чае, переоценить его мы вряд ли рискуем, поскольку речь идет об
искажении, которому подверглось не только представление о церк-
ви в институциональном смысле, но и наш общий взгляд на феодаль-
ную систему. Чтобы до конца осмыслить этот факт, нужно тщатель-
но исследовать ту радикальную трансформацию, которой подвер-
глась католическая церковь в период между 1790 и 1890 годами, в
результате чего сложился современный институт, не имеющий ни-
чего общего со средневековой церковью.
IV. Нам осталось сказать о новых взглядах на средневековую
Европу, сложившихся за последние полвека. Юридическая концеп-
ция, доминировавшая еще в первой половине XX столетия, утрати-
ла в Европе социальную поддержку. Конфликтный характер завер-
шающей стадии феодального режима исчез из общественных пред-
ставлений. Отказ большинства современных историков от самого
понятия “феодализм”, похоже, продиктован тем, что соседним с ним
понятием является “капитализм”. Эти две системы подспудно осоз-
наются как следующие друг за другом в процессе исторической эво-
А. Герро. Фьеф, феодальностъ, феодализм
103
люции, и появление социализма в такой ситуации должно осмысли-
ваться как стоящая над ними более высокая ступень развития. Все
это ведет к неприятию глобального подхода, к монополии локально-
го рационализма. Исследования ограничиваются частными пробле-
мами или узкими территориальными рамками. Все попытки выра-
ботать новую общую аналитическую модель заранее дисквалифици-
рованы как возрождение философии истории, а любой глобальный
взгляд на историю заранее обвиняется в тоталитаризме83. История
превращается в перечень или сопоставление отдельных проблем, а
историки ориентируются на веяния моды. Уже почти невозможно
говорить ни о национальных школах, ни о разнице социального кон-
текста в разных странах.
Но мы чувствуем, что, в противоположность социальной логике,
логика научных исследований нуждается в абстрактной схеме, охва-
тывающей феодальную систему в ее целостности. Предлагаемые
наблюдения, возможно, помогут избавиться от иллюзии, что в отно-
шении затронутой темы все сказано последними исследованиями, и
убедиться, что археология общепринятых понятий (историографи-
ческий анализ которых позволяет определить их скорее как продукт
идеологической конъюнктуры, чем научного абстрагирования) мо-
жет принести немалую пользу в вырабатывании такой схемы.
1 Начиная с XVIII в. историографические исследования не уделяли внима-
ния связям между наукой, техникой и обществом, и их вклад в историче-
скую науку был, как правило, невелик. Нам известно лишь об одной по-
пытке, в отношении которой можно говорить об обратном. Речь идет о
группе немецких историков под названием “Theorie der Geschichte” (“Тео-
рия истории”), созданной в 1973 г. Ими опубликовано пять томов издания
“Beitrage zur Historik”: “Объективность и партийность в исторической на-
уке” (Objectivitat und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft / Hrsg.
R. Kosellek, W.J. Mommsen, J. Riisen. Munchen, 1977); “Исторические про-
цессы” (Historische Prozesse / Hrsg. K.G. Faber, C. Meier. Munchen, 1978);
“Теория и нарратив в истории” (Theorie und Erzahlung in der Geschichte I
Hrsg. J. Коска, T. Nipperdey. Munchen, 1979); “Формы историописания”
(Formen der Geschichtsschreibung / Hrsg. R. Koselleck, H. Lutz, J. Riisen.
Munchen, 1982); “Исторические методы” (Historische Methode / Hrsg.
C. Meier, J. Riisen. Munchen, 1988). Важной вехой в развитии современной
историографии стала недавно вышедшая книга Бландин Барре-Крижель
“Историки и монархия” (Barret-Kriegel В. Les historiens et la monarchic.
4 vols. P., 1988). О значении разума и прогресса см. стат. Ж. Ле Гоффа:
l’Enciclopedia Einaudi: “Progresso / reazione” (Vol. XL P. 198-230),
“Decadenza” (Vol. IV. P. 389-420); см. также: Guerreau A. L’historique, le
rationnel // Espaces-Temps. 1985. N 30. P. 28-34. Об упадке рационалистиче-
ских идеалов после 1880-х гг. см. примеч. 43. О современной ситуации см.:
Finkielkraut A. La defaite de la pensfe. P., 1987 (хотя позиция автора плохо
104
Феодализм перед судом историков
обоснована, он убедительно доказывает несостоятельность культурного
релятивизма).
2 Vilar Р. Reflexions sur les fondements des structures nationales // La Pensee.
1981. N 217. P. 59.
3 Существует три разных традиции анализа:
- история историков, которая раньше понималась как своего рода хрони-
ка; см., например: Fueter Е. Geschichte der neueren Historiographic. В.,
1936 (воспр. без больших изменений Ж. Лефевром: Lefebvre G. La nais-
sance de Г historiographic modeme. P., 1971);
- история историографической эволюции объекта исследования или по-
нятия; для нашей темы показательны следующие работы: Voss J. Das
Mittelalter im historischen Denken Frankreichs (16.-19. Jahrh.). Munchen,
1972; Gatto L. Viaggio intomo al concetto di medioevo. Profilo di storia della
storiografia medievale. Roma, 1977;
- абстрактный анализ взаимоотношений “исторического дискурса” и
социального контекста; его основателем считается Макс Вебер:
Weber М. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tubingen, 1922.
(фр. nep.: Essais sur la theorie de la science. P., 1965); из недавних работ
следует упомянуть в первую очередь издания группы “Theorie der
Geschischte” (см. примеч. 1). Также делались попытки изучения исто-
рических сообществ с исторической и социально-идеологической то-
чек зрения. См.: Carbonell Ch.-O. Histoire et historiens, une mutation
ideologique des historiens fran^ais (1865-1885). Toulouse, 1976; Iggers G.
Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen
Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart. Munchen, 1971;
Weber W. Priester der Klio: Historisch-sozialwissentschaftlische Studien zur
Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der
Geschichtswissenschaft 1800-1970. Frankfurt a. M.; Bern; N.Y., 1984. В
историографии некоторых сюжетов порой многое проясняет поста-
новка вопроса об идеологических воззрениях авторов. Например, о
структурах франкского общества см.: Muller-Mertens Е. Karl der
Grosse, Ludwig der Fromme und die Freien. Wer waren die Uberi homines
der karolingischen Kapitularien (742/743-832)? Ein Beitrag zur
Sozialgeschichte des Frankenreichs. B., 1963 (историографический об-
зор - S. 10-39); Irsigler F. Untersuchungen zur Geschichte des friih-
frankischen Adels. Bonn, 1969 (историографический обзор - S. 39-81).
Методологическое сопоставление этих трех подходов (где внимание
сосредоточено на эпохе и ее установках; на историках; на сюжете ис-
следования) является первой ступенью, начав с которой, мы уже рас-
полагаем достаточным набором данных, чтобы уловить социально-
историческую логику эволюции представлений о прошлом. Единст-
венным исследованием, проведенным в этом ключе по интересую-
щей нас теме, является кн. Людольфа Кухенбуха и Михаэля Бернда:
Kuchenbuch L., Bernd М. Feudalismus. Materialen zur Theorie und
Geschichte. Frankfurt; Berlin; Wien, 1977. Это важнейшая работа, кото-
рой многим обязано и наше собственное исследование.
4 Не останавливаясь подробно на этом вопросе, заметим лишь, что термин
feudal system появляется в 1757 г., feudalism - в 1794 г. (Hobsbawm EJ.
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
105
Capitalisme et agriculture: les reformateurs ecossaise au XVIII siecle // Annales.
ESC. 1978. T. 33. N 3. P. 580-601, cf. P. 682).
5 За неимением лучшего сошлемся на посредственный обзор: Boutruche R.
Seigneurie et feodalite. P., 1968. T. 1. P. 12-18.
6 Guenee B. Histoire et culture historique dans POccident medieval. P., 1980.
P. 147-154. (рус. пер.: Гене Б. История и историческая культура средневе-
кового Запада. М., 2002).
7 См. особ.: Horkheimer М. Anfange der biirgerlichen Geschichtsphilosophie.
1930 (фр. пер.: Р., 1974. Р. 113-135).
8 Этому понятию обычно уделяют мало внимания; между тем оно означа-
ет установление власти над людьми только на основании места их прожи-
вания. За ним угадывается территориальность права, принцип cujus regio
и в конечном счете феодальный dominium. В этом отношении (как и во
многих других) Боден выступает теоретиком феодальной системы. См.:
Dockes Р. L’espace dans la pensee economique du XVе au XVIIIе siecle. P.,
1969. P. 79-98.
9 Cp.: Brunner O. “Feudalismus, feudal” // Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg.
O. Brunner, W. Conze, R. Kosellek 1975. T. 2. P. 337-350.
10 Kuchenbuch L., Bernd M. Feudalismus... S. 145 ss.
11 Boulainvilliers H. de. Histoire de 1’ancien gouvemement de la France. P., 1727.
12 Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776
(E. Cannan ed., 1904; reed. Chicago, 1976). Cm.: Medick H. Naturzustand und
Naturgeschichte der biirgerlichen Geselschaft. Die Urspriinge der biirgerlichen
Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel
Pufendorf, John Locke und Adam Smith. Gottingen, 1973; см. также ст.
Э. Хобсбоума (примеч. 4).
13 Монтескье. Дух законов. Кн. XXX. Гл. 1. Книги XXX и XXXI, помещен-
ные в самом конце трактата, относятся к наиболее глубоко проработан-
ным частям.
14 Lefebvre G. La naissance de 1’historiographie modeme... P. 125.
15 Voltaire F. Fragments historiques sur 1’Inde et sur le general Lally // Voltaire F.
Oeuvres competes. P., 1879. T. 29. P. 91.
16 Voltaire F. Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits
de 1’histoire depuis Charlemagne jusqu’a Louis XIII, 1753-1778 (используемое
нами изд.: ed. R. Pomeau, P., 1963. P. 425). Заметим между прочим, что во-
преки мнению, сформированному католической историографией, Воль-
тер-историк относился к работе со всей строгостью, и, вырабатывая соб-
ственную концепцию синтеза, пользовался самыми прогрессивными ме-
тодами своего времени. Детальный анализ его работ см.: Gatto L.
Medioevo voltairiano. Roma, 1972.
w Sieyes EJ. Essai sur les privileges, 1788; Qu’est-ce que le tiers etat?, 1789;
Burke E. Reflections on the Revolution in France. L., 1790. Заметим, что эти три
оппозиции не подобны друг другу: например, два аристократа, Буленвилье
и Монтескье придерживались противоположных взглядов - первый нена-
видел абсолютную монархию и ратовал за “возвращение” древней аристо-
кратии, второй был близок духу Просвещения, выступая противником ста-
рой системы, с которой отождествлялись все главные проблемы.
106
Феодализм перед судом историков
18 По поводу трактовки этого повсеместно используемого термина (фр.
nation) существуют немалые трудности. Ни историография, ни теорети-
ческие размышления на эту тему не разрешают присущей ему неопре-
деленности. Занимая промежуточную позицию между понятиями “го-
сударство” и “этнос”, слово “народ” с XVIII в. до наших дней заключа-
ло в себе множество смыслов, которые соотносились с реалиями разно-
го рода, находившими порой неординарное воплощение (со всеми вы-
текающими последствиями, нередко трагическими). Эта тема в высшей
степени интересна для исследования. См. об этом: La nation, realites et
fantasmes // Raison presente. 1988. № 8 (ст. M. Caeving, M. Rodinson);
Balibar E., Wallerstein I. Race, nation, classe. Les identites ambigues. P.,
1988; наиболее четким остается текст Пьера Вилара: Vilar Р. Reflexions
sur les fondements des structures nationales // La Pensee. 1981. № 217.
P. 46-64. Здесь понятие “народ” (nation) представлено как продукт фео-
дальной системы.
19 Smith A. An Inquiry..., Book III. Р. 405-411, 437-444.
20 “Это странный спектакль: унижение, позор Рима и живая память о его
могуществе, несмотря на падение; эта толпа пап, назначаемых императо-
рами, их рабское подчинение и безграничная власть, когда они сами ста-
новятся хозяевами, и непомерное злоупотребление этой властью”
(Voltaire F. Essai sur les moeurs... P. 451); “Рим всегда стоит за наибольшее
подчинение человеческого духа, наибольшее подавление разума” (Ibid.
Р. 487); “Кровавый разгул императоров от Нерона до Веспасиана ужасал
Италию всего четыре года; разъяренное папство заливало кровью Евро-
пу в течение двух веков” (Ibid. Р. 517).
21 Voltaire F. Essai sur les moeurs... P. 721: “Единственным ресурсом человеч-
ности были города, презираемые большими суверенами. Ремесло и тор-
говля этих городов молча восстанавливали тот урон, который им с такой
помпой наносили принцы”
22 Адама Смита обычно считают защитником свободы торговли, а Вольте-
ра - выразителем идей буржуазии.
23 Voltaire F. Essai sur les moeurs... P. 757.
24 Анализ средневекового общества, проведенный Адамом Смитом, приво-
дит к сложным и неоднозначным выводам. Он говорит о сословной зави-
симости вассалов (retainers) (р. 433) и арендаторов (tenants) (р. 434—435);
объясняет, что власть аристократа проистекала из возможности мобили-
зовать всех, кто от него зависел, для утверждения порядка и правосудия
на своей территории (р. 435), и что “феодальное право” (the feudal law)
было внешней структурой, которая упорядочивала эту традицию, а не по-
рождала ее (р. 435—437). Он подвергает резкой критике манию юристов
применять к средневековым обычаям, особенно к майорату (the entails),
абсолютно неуместные термины римского права. Он уделяет внимание
как состоянию экономики, так и ее развитию. Тем не менее, представляя
глобальную картину этого общества, он, нимало не колеблясь, использу-
ет понятие “собственность”.
25 Robin R. Fief et seigneurie dans le droit et I’iddologie juridique a la fin du XVIII
siecle // Annales historiques de la Revolution frangaise. P., 1971. N 43.
P. 554-602. См. также: Idem. Le champ semantique de feodalite Ц Bulletin du
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
107
centre d’analyse du discours de Lille. 1975; Idem. Histoire et linguistique. P.,
1973. P. 204-206; 181-183.
26 Осознать всю важность этой трансформации непросто, поскольку нам са-
мим не удается абстрагироваться от нашей веры в “право” как трансцен-
дентальную категорию, хотя речь идет всего лишь о наивной идеализации
структуры европейского общества XIX-XX вв. О средневековом понима-
нии права см. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
С. 167-224; о праве в современном обществе см.: Arnaud A.-J. Essai
d’analyse structurale du Code civil franfais. La regie du jeu dans la paix bour-
geoise. P., 1973; Idem. Les juristes face a la societe du XIX siecle a nos jours. P.,
1975. О соотношении этих двух систем см: Renoux-Zagame M.-F. Origines
theologiques du concept modeme de propriete. Geneve, 1987; об истории права:
Poumarede J. Pavane pour une histoire du droit defunte (sur un centenaire
oublie) // Proces. Cahiers d’analyse politique et juridique. Lyon, 1980. P. 91-102.
27 Krieser H. Die Abschaffung des “Feudalismus” in der franzosischen Revolution.
Revolutionarer Begriff und begriffene Realitat in der Geschichtsshreibung
Frankreichs (1815-1914). Frankfurt a. M.; Bern; N.Y., 1984. S. 17-26;
Mazauric Cl. Sur la Revolution franjaise. Contributions a 1’histoire de la
Revolution bourgeoise. P., 1970 (об использовании понятий “феодальный
режим” (regime feodale) и “феодальность” (feodal ite) во время француз-
ской Революции см. р. 119-134).
28 Прямое применение этих категорий к средневековому обществу порож-
дает неминуемые противоречия. Конечно, разного рода “инстанции” и
“функции” этого общества нуждаются в определениях; однако, чтобы
они были подспорьем, а не препятствием, нужно отказаться от общепри-
нятых понятий и выработать адекватные определения. Эта задача крат-
ко описана в ст.: Guerreau A. Polftica / derecho / economfa / religion : ^como
eliminar el obstaculo? // Relaciones de poder, de production у parentesco en la
Edad Media у Modema / Ed. R. Pastor. Madrid, 1990. P. 459-465.
29 Несомненно, одним из главных успехов церкви в отвоевании своих пози-
ций у интеллектуалов явилось то, что в начале века ей удалось выставить
антиклерикальные настроения в неприглядном виде (как нелепицу или
сектантство) и отстоять право на собственную историю (во Франции это
связано с именами Жильсона, Ле Бра, Мэйора, Ремона и т.д.). Выявление
перегибов, спровоцированных этой неявной апологией “мистерий”, “от-
кровений” и “провидения” может стать богатым полем деятельности для
будущих историографических исследований. В их перспективу вполне
вписывается анализ искоренения антиклерикальной составляющей нау-
ки, принципиальной для просветителей. В целом же все говорит о том,
что превращение понятия “религия” в универсальную категорию являет-
ся методологической ошибкой, которая затрудняет изучение любого об-
щества, кроме современного западного мира. См. об этом: Rationalisme et
religions // Raison presente. 1984. № 72; Anthropological Approaches to the
Study of Religion / Ed. M. Banton. L., 1966; Auge M. G6nie du paganisme. P.,
1982.
30 Voltaire F. Essai sur les moeurs... P. 752.
31 “Религия, рассматриваемая по ее отношению к обществу, которое может
быть или общим или частным, может быть также разделена на два вида,
108
Феодализм перед судом историков
а именно: религия человека и религия гражданина. Первая, не имеющая
ни храмов, ни алтарей, ни обрядов, ограниченная только внутренним
культом высшего Бога и вечными моральными обязанностями, есть чис-
тая и простая религия Евангелия, истинный теизм и то, что можно на-
звать естественным божественным правом. Другая религия, составляю-
щая принадлежность одной только страны, дает последней ее богов, ее
собственных патронов и покровителей; у этой религии есть свои догма-
ты, свои обряды, свой внешний культ, предписанный законами. Вне той
единственной нации, которая исповедует эту религию, все остальное для
последней представляется неверным, чуждым и варварским. Она прости-
рает обязанности и права человека только на то пространство, которое
занимают ее алтари. Таковы все религии всех первобытных народов - ре-
лигии, которым можно дать название божественного гражданского или
положительного права” (“Об общественном договоре... “ Кн. IV. Гл. 8.
Цит. по: Руссо А. Об общественном договоре, или Принципы политиче-
ского права. М., 1938. С. 115).
32 Конечно, не Руссо изобрел это разделение - мы можем проследить, как
оно постепенно вырабатывалось у авторов XVII в. Одну из главных ро-
лей здесь играл Спиноза. См.: Deschepper J.-P. Le spinozisme // Histoire de
la philosophic / Ed. Y. Belaval. P„ 1973. T. 2. P. 483-507, cf. P. 496. Однако
взгляды Спинозы были встречены крайне враждебно (это доказывает,
что движения реформистского толка появились задолго до событий
XVIII в.), тогда как “Общественный договор” в конце XVIII в. обильно
цитировался в поддержку преобладающей точки зрения. О концептуаль-
ном разрыве нельзя говорить до тех пор, пока это разделение не станет
общепринятым и не приведет к тому, что прежняя целостность окажется
трудной для осмысления. В исследовательском плане главная проблема
заключается в том, чтобы определить момент, начиная с которого мне-
ние становится преобладающим.
33 Voltaire F. Essai sur les moeurs... P. 752.
34 См. примеч. 29. Можно отметить параллелизм явлений XVI и XVIII вв.:
усилия юристов по освобождению частной собственности от всякого
“феодального” принуждения сравнимы с повышением ценности частных
религиозных практик, обретавшим разные формы - все варианты цер-
ковной реформы, посттридентское католичество, янсенизм. Этому стру-
ктурному параллелизму можно противопоставить децентрализацию про-
блематики, начавшуюся в XIX в., о которой будет сказано ниже.
35 Любопытный пример распространенного хода мыслей о “религиозном
произведении” Революции, где все вопросы перевернуты с ног на голову:
“Финансовая необходимость заставила депутатов заняться религией”.
См.: GodechotJ. Les Revolutions (1770-1799). Р., 1970. Р. 149-151. Луи Бер-
жерон, придавая большее значение Гражданскому кодексу, чем Конкор-
дату, говорит о нем: “собственность, земля - ключевые слова общества,
управляемого нотаблями, чье могущество во многом обязано перерас-
пределению собственности и престижа, начавшемуся после 1789 года”.
См.: Bergeron L. L’Empire // Histoire de la France / Ed. G. Duby. P., 1971. T. 2.
P. 319-354; 332-334. Удивительна работа M. Вовеля, который говорит Oj
религиозных культах и набожности, но ни словом не упоминает факт рас-;
А. Герро. Фьеф, феодалъностъ, феодализм
109
продажи церковной собственности. См.: Vovelle М. La Revolution contre
1’Eglise. De la Raison a I’Etre supreme. Bruxelles, 1988.
"’Само собой разумеется, что выявление этого двойного разрыва ни в
коей мере не претендует на обобщающее объяснение интеллектуальных
потрясений XVIII в., и еще меньше на объяснение перехода от феодаль-
ной системы к капитализму. Абстрактный взгляд на эту глобальную
трансформацию см.: Godelier М. Transition // Dictionnaire critique du marx-
isme I Ed. G. Labica. P., 1982; Idem. Le marxisme dans les sciences humaines //
Raison presente. 1976. № 37. P. 65-77 (cf. P. 70).
u Guisot. Genie du christianisme. P., 1802. Livre III. Ch. 1.
,K Шатобриан вполне осознавал произошедший разрыв: “Все идет к воссоз-
данию католического единства. Христианская религия вступает в новую
эру; как нравы и общественные институты, она переживает третье пре-
ображение: она перестает быть политикой; она становится философией,
не теряя своей божественной сути. Просвещение и свободы расширили
ее гибкий круг, тогда как центр, ознаменованный крестом, остается веч-
но незыблемым” (Etudes historiques. 1831). Но читатели и потомки запом-
нили слово “незыблемый” и забыли о “преображении”. См., например:
Gognar Y. L’Eglise de saint Augustin a 1’epoque modeme. P., 1970 (как обра-
зец авторитетного и общепризнанного на настоящий момент мнения).
(’ледовало бы также проанализировать условия, в которых произошло
изменение отношения к Средневековью и развился вкус ко всему средне-
пековому (что было характерно для правящих слоев европейского обще-
ства в XIX в.). Как показывает вдумчивое исследование, это был слож-
ный и противоречивый процесс. См.: Garmier J.-F. Le gout du Moyen Age
chez les collectionneurs lyonnais du XIXе siecle Ц Revue de 1’art. P. 53-64.
Guerreau A. Le feodalisme, un horizon theorique. P., 1980. P. 43—46; Krieser H.
Die Abschaffung des “Feudalismus”... S. 46-47.
Krieser H. Die Abschaffung des “Feudalismus”... См. примеч. 27. Это важней-
шая работа, которой многим обязано настоящее исследование. В ней
прослеживается то, каким образом Франция XIX в. перестраивает пред-
ставления о прошлых веках в процессе “переваривания” Революции.
11 Крайне быстрая и жесткая эволюция 1789-1793 гг. говорит о том, что в
1789 г. земельные сеньоры и церковь обладали властью куда более об-
ширной, глубокой и разноплановой, чем власть простых собственников.
11 Даже Гизо, выступавший в 1828 г. апологетом классовой борьбы, в
1855 г. в предисловии к “Истории цивилизации во Франции” высказыва-
ет совершенно иное суждение: “Слепое соперничество высших классов
привело к краху все попытки установить свободное правление. Вместо
того чтобы объединиться, аристократия и буржуазия остаются в раздоре,
стремясь вытеснить или уничтожить друг друга, одни - не желая при-
знать никакого равенства, другие - никакого господства. Претензии эти
противозаконны и бессмысленны”.
11')та беспрецедентная регрессия научного знания, начавшаяся в конце
XIX в., остается полностью неосознанной. Подробнее см.: Guerreau A. Le
Icodalisme, un horizon theorique... P. 55-57, 67-71, 75-76, 119-121, 141-143.
11 Modeme deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914) /Hrsg. E.-W. B6ckenforde.
Konigstein, 1981; Iggers G.G. Deutsche Geschichtswissenschaft... P. 57-61.
по
Феодализм перед судом историков
45 Marcuse Н. Reason and Revolution. 1939. (фр. пер. Р., 1968. Р. 54-57).
46 Kojeve A. Introduction a la lecture de Hegel. Р., 1947 (1968).
47 Ibid. Р. 124; Hegel G.W.F. Phanomenologie des Geistes / Ed. Hoffmeister.
Leipzig, 1937. P. 354-361.
48 Ibid. P. 71-72; Hegel G.W.F. Phanomenologie des Geistes P. 161-170. Гегелев-
ской концепции общества часто не уделяется должного внимания; между
тем без нее невозможно оценить значение его исторической мысли. См.:
Hegel GW.F. La societe civile-bourgeoise / Ed. J.-P. Lefebvre. P., 1975;
Lefebvre J.-P., Macherey P. Hegel et la societe. P., 1984.
49 О Гансе см.: Reissner H.-G. Eduard Gans, ein Leben im Vormarz. Tiibingen, 1965.
50 He углубляясь в детали, напомним, что единственный труд, опубликован-
ный Гегелем-профессором, - “Философия права” (1821), и что его первая
часть, где закладывается основа всех дальнейших размышлений, посвя-
щена анализу собственности. j
51 Bbckenfbrde E.-W. Die deutsche verfassungsgeschichtlische Forschung im 19ij
Jahrhundert. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder. B., 1961; См. также
работы Мюллер-Мертенса и Ирзиглера (см. примеч. 3). ;
52 Schulze R. Der Rechtsbegriff des nexus feodalis in Vemunftrecht und historiscW
er Rechtsschule - zugleich ein Beitrag zur Auflosung des Feudalismus in
Deutschland (рукопись доклада, сделанного на коллоквиуме в Трире в мае
1981 г., 23 с.).
53 Г.Г. Гервинус в 1853 г. за свои идеи был привлечен к суду по обвинению!
в государственной измене. См. об этом статьи Йорна Рюзена и Карла-Ге-
орга Фабера в изд.: Objectiviat und Parteilichkeit... (см. примеч. 1). S. 77-124,
125-133.
54 Об эволюции немецкой историографии по теме феодализма в XIX в. см/
(кроме работ, указанных в примеч. 3, 9 и 51): Wunder Н. Der Feudalismus-
Begriff // Feudalismus. Zehn Aufsatze / Hrsg. H. Wunder. Munchen, 1974.
S. 10-76; Schreiner K. Kommunebewegung und Zunftrevolution: Zur Gegenwart
der mittelalterlichen Stadt im historisch-politischen Denken des 19.
Jahrhunderts //Festschrift fur Eberhard Naujok. Sigmaringen, 1980. S. 139-168;
Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli neH’Ottocento: Il
Medioevo. Bologna; B., 1988.
55 Waitz G. “Lehnswesen” // Deutsches Staatsworterbuch I Hrsg. J.C. Bluntschli,
K. Brater. Stuttgart; Leipzig, 1861. Т.6, (переизд. в: Waitz G. Abhandlungen zur
deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte. Gottingen, 1896. P. 301-317).
56 Below G. von. Der Deutche Staat des Mittelalters. Leipzig, 1914.
57 С особым вниманием следует изучить роль, которую сыграли идеи Отто
фон Гирке, см.: Gierke О. von. Das deutsche Gemeinschaftsrecht. В.,
1868-1913. См. также: Brunner Н. Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig,
1887-1892. Генрих Бруннер был представителем юридической традиции,
продолжателем идей Вайца; это один из авторов, на которых опирался
Марк Блок.
58 Hintze О. Wesen und Verbreitung des Feudalismus // Sitzungsber. d. preuss. Ak.
d. Wiss. Phil.-Hist. KI. 1929. N 20 (переизд. в: Gesammelte Abhandlungen.
Gottingen, 1962. T. 1. S. 84 u. folg.).
59 См. об этом: Schreiner К. Kommunebewegung und Zunftrevolution..,
S. 150-152; Ladriere P. La fonction rationalisatrice de 1’ethique religieuse dans
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
111
I» thdorie w£berienne de la modemite // Archives de science sociale des religions.
1986. N 61. P. 105-125; Pollak M. Un texte dans son contexte: J’enquete de Max
Weber sur les ouvriers agricoles // Actes de la recherche en sciences sociales.
1986. N 65. P. 69-75.
Ml Kuchenbuch L. Feudalismus... P. 145-150.
ftl Brunner 0. Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen
Verfassungsgeschichte Siidostdeutschlands im Mittelalter. Baden; Vienne, 1939.
,|J Mitteis H. Der Staat des hohen Mittelaters. Grundlinien einer vergleichenden
Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. Weimar, 1940.
hl Kuchenbuch L. Feudalismus...; Braudel F. Sur une conception de 1’histoire
sociale. P., 1959 (переизд. в: Braudel F. Ecrits sur 1’histoire. P., 1969.
P. 175-191).
M Rosier B., Dockes P. Rythmes economiques. Crises et changement social, une
perspective historique. P., 1983.
M Revel J. Histoire et sciences sociales: le paradigme des Annales // Annales ESC.
P., 1979. N 6. P. 1360-1376.
Ml Robin R., Grenon M. Pour la deconstruction d’une pratique historique //
Dialectiques, 1975. N 10. P. 5-32; Deneys H„ Tosel H„ Ricci F. La nouvelle
iddologie frantjaise. La philosophic contemporaine (depuis 1960) entre les sci-
ences humaines et l’anarchie. P., 1977.
fl/ l.e Goff J. L’histoire nouvelle // La nouvelle histoire / Ed. Le Goff J. P., 1978.
P. 240.
6K Godelier M. Les sciences de 1’homme et de la societ6 en France. Analyse et
propositions pour une politique nouvelle. P., 1982. P. 253-280.
6'’ Morineau M. Allergico cantabile // Annales. ESC. P., 1981. T. 36, N 4.
P. 623-641; AymardM. Autoconsommation et marches: Chayanov, Labrousse ou
Le Roy Ladurie? // Annales ESC. P„ 1983. N 6. P. 1392-1410.
M Guerreau-Jalabert A. Sur les structures de parente dans 1’Europe medievale //
Annales ESC. P., 1981. N 5. P. 1028-1049; Fossier R. Enfance de 1’Europe:
2 vols. P., 1982; Wirth J. L’image medievale. Naissance et developpements (VI-
XV siecles). P., 1989.
n Boutruche R. Seigneurie et feodalite... (см. примеч. 5) P. 18-25 (это самый во-
пиющий пример такого рода; кроме всего прочего автор смешивает
“марксистский феодализм” с “языковыми трудностями”); Ganshof F.L.
Qu’est-ce que la feodalite? Bruxelles, 1944. Гансхоф довольствуется изобли-
чающей заметкой (р. 11 в издании 1968 г.). Позже эта тенденция в ФРГ
проявится в ряде компаративных исследований, больше отвечающих на-
учному подходу. Мы уже упоминали работу Хайде Вундер (см. примеч.
54), нужно также отметить фундаментальный коллективный труд:
Sowietsystem und demokratische Gesellschaft: Eine vergleichende
Iinzyklopadie. 6 Bd. Freiburg; Bale; Wien, 1966-1972. Cm. ct.: “Mittelalter”
(F. Graus), “Feudalismus” (H. Neubauer), “Standische Verfassung”
(G. Oestreich, I. Auerbach); “Absolutismus” (Vierhaus), “Adel” (Bosl,
Mommsen), “Bauemkrieg” (Nipperdey, Melcher), “Burgertum” (Winkler),
“Leibeigenschaft” (Goehrke), “Reformation” (Friesen), “Renaissance” (Friesen),
“Franzosische Revolution” (E. Schmitt).
Guerreau A. Le feodalisme, un horizon theorique... P. 142-144; Dosse F.
L’histoire en miettes. Des “Annales” a la “nouvelle histoire”. P., 1987; Hacia una
112
Феодализм перед судом историков
nueva historia I Ed. A.M. Anciniega. Madrid, 1976; Kula W. Reflexiones sobre la
historia. Mexico, 1984 (польский оригинал: 1958). Плодотворной темой для
исследования могло бы стать выявление логики некоторых общеприня-
тых тезисов; так, интересен случай отказа Броделя от понятия “причина”
(cause) в разговоре об индустриальной революции, или термин derapage
(“занос, отклонение”), использованный Франсуа Фюре в отношении
Французской революции.
73 Kuchenbuch L. Zur Entwiklung des Feudalismuskonzepts im Werk von Karl
Marx (рукопись докл., сделанного на коллоквиуме в Трире в мае 1981 г.,
171 с.). См. также ст. “Feodalisme” // Dictionnaire critique du Marxisme. P.,
1982. P. 364-368.
74 Нужно вдуматься в то, как на самом деле следует интерпретировать не-
которые аллюзии, содержащиеся в первой книге “Капитала”. Знамени-
тый текст Энгельса “О крестьянской войне в Германии” (1850) тоже тре-
бует такого тщательного анализа. О том, из каких источников Маркс
черпал информацию о докапиталистической Европе, и о том, как он ее
трактовал, см.: Miiller-Mertens Е. Karl der Grosse... (см. примеч. 3) S. 19-23;
Karl Marx. Precapitalist Economic Formations / Ed. E.J. Hobsbawm. L., 1964.
P. 20-25. См. также: Hartstick H.-P. Karl Marx als Historiker //
Arbeiterbewegung und Geschichte: Festschrift fur Shlomo Na’aman / Ed.
H.-P. Hartstick, A. Herzig, H. Pelger. Treves, 1983. S. 166-232. Марксистская
традиция уделяла минимальное внимание вопросам религии; ее развитие
коммунистическими партиями в течение полувека усилило эту блокаду
(см. ст. “Religion” Ц Dictionnaire critique du marxisme... P. 774-780). О роли
Маркса в эволюции глобальных исторических концепций см. новатор-
скую раб.: Kittsteiner H.-D. Naturabsicht und unsichtbare Hand: Zur Kritik des
Geschichtsphilosophischen Denkens. Frankfurt a. M.; Berlin; Wien, 1980.
75 Kiittler W. Begriff und Analyse des Feudalismus in den Arbeiten Lenins //
Jahrbuch fur Geschichte des Feudalismus. 1978. N 2. S. 9-^10.
76 Graus F. “Mittelalter” (см. примеч. 71); KazhdanA. Soviet Studies on Medieval
Western Europe: a Brief Survey // Speculum. 1982. Vol. 57. P. 1-19; Вайн-
штейн ОЛ. История русской медиевистики, 1917-1966. Л., 1968 (рус.
изд., оставшееся для нас недоступным).
77 Weissgerber К. Zwischen Urgesellschaft und Kapitalismus: Die sowietischen
Diskussionen uber die vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen //
Ethnographisch-archaologische Zeitschrift. 1974. S. 655-690; 1975. S. 117-202.
78 Harstick H.-P. Karl Marx, uber formen vorkapitalistischer Produktion:
Vergleichende Studien zur Geschichte des Grundeigentums 1879-1880 (aus dem
handschriftlichen Nachlass). Frankfurt a.M.; N. Y., О значении, придаваемом
сегодня в демократических республиках историческому вкладу Энгельса
см.: Familie, Staat und Gesellschaftsformation. Grundprobleme vorkapitalistis-
cher Epochen einhundert Jahre nach Friedrich Engels’ Werk “Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und des Staats”/ Hrsg. J. Herrmann, J. Kohn. B.,
1988.
79 О полемике в ГДР по поводу феодализма см.: Feudalismus. Entstehung und
Wesen / Hrsg. E. Miiller-Mertens. B., 1985; Deutsche Agrargeschichte des
Spatfeudalismus / Hrsg. H. Hamisch, G. Heitz. B., 1986; Ideologic und
Gesellschaft im hohen und Spaten Mittelalter / Hrsg. K.-P. Matschke, E. Werner.
А. Герро. Фьеф, феодальность, феодализм
113
В., 1988. В моей книге дан краткий обзор работ марксистов (см.:
Guerreau A. Le feodalisme, un horizon theorique... P. 82-116); современное
состояние некоторых вопросов освещено в статье Хайде Вундер
“Feudalismus” (см. примеч. 71) - к сожалению, оставлена без внимания ис-
тория южной Европы; см. об этом: Structures feodales et feodalisme dans
Г Occident mediterraneen (X-XIII siecles): Congres. Rome, 1978. P„ 1980. Мно-
жество новаторских работ появилось в Испании: Pastor R. Del Islam al cris-
tianismo. En las fronteras de dos formaciones econdmico-sociales. Toledo, siglos
Х1-ХШ. Barcelona, 1975; Resistencias у luchas campesinas en la epoca del crec-
imiento у consolidacidn de la formacidn feudal. Castilla у Le6n, siglos X-XIII.
Madrid, 1980; Valdeon-Baruque J. Los conflictos sociales en el reino de Castilla
en los siglos XIV у XV. Madrid, 1975; Barbero A., Vigil M. La formacidn del
I'eudalismo en la Peninsula iberica. Barcelona, 1978; Garcia de Cortazar J.A. et
al. Organizacion social del espacio en la Espana medieval. La corona de Castilla
en los siglos VIII a XV. Barcelona, 1985. См. также: Romero J.L. Crisis у orden
en el mundo feudoburgues. Mexico, 1980. Разные точки зрения представле-
ны в изд.: Feudalism. Comparative Studies / Ed. E. Leach, S.N. Mukherjee,
J. Ward. Sydney, 1985.
H0 Парадоксы, порожденные этим противостоянием за последнюю треть
XIX в., легко проследить по деятельности Фюстель де Куланжа, см.:
Guerreau A. Fustel de Coulanges medieviste // Revue historique. 1986.
P. 381-406; их отмечает также Робер Фоссье в работе “Детство Европы”
(Enfance de 1’Europe). Ср.: Guerreau A. Un toumant de 1’historiographie medie-
vale Ц Annales. ESC. P., 1986. T. 41, N 5. P. 1162.
к| О его использовании в каталонском наречии см.: Bonnaissie Р. Sur la for-
mation du feodalisme Catalan et sa premiere expansion (jusqu’a 1150 environ) Ц
La formacid i expancio del feudalisme catala (colloque de Girona, janvier 1985) /
Ed. J. Portella I Comas. Girona; Barcelona, 1986. P. 7-21.
K? Guerreau A. Organisation et controle de Г espace: les rapports de 1’Etat et de
1’Eglise a la fin du Moyen Age // Etat et Eglise dans la genese de I’Etat modeme.
Madrid, 1986. P. 273-278.
K•’ Таким образом, мы де факто находимся в ситуации, когда идеологиче-
ские императивы, связанные с самоутверждением правящего класса, ста-
новятся препятствием для развития исторической науки, из-за чего идео-
логам проще выдвигать против истории обвинения в “ненаучности”.
Пер. с фр. И.Г. Галковой
X Одиссей, 2006
Н.А. Селу некая
“СЕНЬОРИЯ, ОБЩИНА
И ВАССАЛИТЕТ ПРОСТОЛЮДИНОВ”,
ИЛИ “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
РЕЙНОЛЬДС”
- Разве имя должно что-то
значить?-
проговорила Алиса с сомнением.
- Конечно, должно, - ответил
Шалтай-Болтай и фыркнул. -
...Ас таким именем, как у тебя,
ты можешь оказаться чем
угодно... Ну, просто чем
угодно!...
- Когда я беру слово,
оно означает то, что я хочу, не
больше и не меньше - сказал
Шалтай высокомерно.
- Вопрос в том, подчинится ли
оно Вам, - сказала
Алиса... Помолчав, Шалтай-
Болтай продолжал:
- Некоторые слова очень вредные!
Ни за что не поддаются! Особенно
глаголы
Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Я полагаю, “феодализм” никак не может быть привлечен к суду ис-
ториков хотя бы потому, что под именем феодальных в историо-
графии фигурировали самые разные феномены, агенты и институ-
ты. Известно, что первенство в создании концепта феодализма при-
надлежит юристам XVI-XVIII вв. Первоначально историки во мно-
гом опирались на эти разработки, хотя и не всегда отдавали себе в
этом отчет. И именно историки, в отличие от правоведов, не могут
в настоящий момент договориться не только об одном, но и о
двух-трех определений феодализма для возможного обсуждения1.
Кто же, с учетом этого обстоятельства, может претендовать на роль
судьи, а кто вынужден признавать себя ответчиком в деле суда над
феодализмом?
Термин “феодализм” одними историками использовался приме-
нительно к историческим реалиям раннего Средневековья, а други-
ми - при характеристике позднего Средневековья, в некоторых слу-
чаях термин фигурировал при описании отношений внутри военной
элиты или же появлялся совсем в ином контексте - развития сель-
ской сеньорией.
11.Л. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов” 115
11собходимо уточнить и другой вопрос или посылку, сформули-
рованную устроителями “круглого стола”. Как удается историкам
придерживаться давно сложившихся исторических понятий, в част-
ности сохранять понятие “феодализм” в своем арсенале? На этот во-
прос, заданный А.Я. Гуревичем в статье “Феодализм перед судом ис-
ториков”2, совсем несложно ответить. Нет, не удается совершенно и
достаточно давно. Нетрудно указать, что уже с 70-х годов прошлого
иски, т.е., по крайней мере, лет тридцать назад историки открыто
стали отказывать данному понятию в праве на существование, а к
концу столетия эта позиция получила завершенную форму3. Исто-
рики (западные медиевисты) сделали все для того, чтобы целостное
восприятие “феодализма” и “феодального” считалось наивным и не-
корректным среди профессионалов. Можно сказать, что понятие
"феодализм” подверглось радикальной деконструкции и исчезло.
Необходимость преподавания (что нередко равносильно необ-
ходимости упрощения) и тенденция принятия общих понятий в ка-
честве аксиом в рамках учебного процесса объясняют, почему
•'дипичные традиционалистские концепции социального строя
< 'редневековья продолжают переиздаваться4. В этом “репринт-
ном” развитии историографии сказывается и нежелание продол-
жить все более сложные споры о понятиях. С другой стороны,
но многих современных пособиях для высшей и средней школы
термин “феодализм” употребляется все реже5. К сожалению, с ис-
чезновением слова не исчезнут проблемы исторического позна-
ния, сопровождавшие и развитие, и критику понятия “феодально-
го мира”.
В самое последнее время стало возможным говорить о новом
обращении к теме, попытках возродить понятие “феодального”.
Дос таточно редкие обсуждения данной темы на международных
встречах медиевистов (например, в Центре исследований раннего
< 'редневековья в Сполето) показывают желание пойти наперекор
тенденциям, преобладающим в рамках национальных школ исто-
риографии.
Возникает такое сравнение: историки не могут разобраться, что
такое феодализм - имя собственное или нарицательное? Существу-
ет один “феодализм” или же их множество? Феодализм некогда счи-
тался “именем собственным” для Средневековья, конкретизировать
ко торое, естественно, не требовалось. Затем “феодализм” (как и
глова “феод” и “вассалитет”) становится именем нарицательным,
т.е. термином с набором стандартных словарных значений. И, нако-
нец, “феодализм” как бы попадает в “Зазеркалье”, где имя собствен-
ное непременно что-то значит, а простое существительное имеет
произвольное значение6. При столь противоречивых и несогласуе-
мых мнениях трудно продолжать конструктивную дискуссию, и го-
116
Феодализм перед судом историков
раздо легче перестать употреблять слово, чтобы не запутаться
окончательно.
Вопрос о том, как удается историкам придерживаться давно сло-
жившихся исторических понятий, думается, следует заменить дру-
гим, а именно, необходимо ли историкам общее определение феода-
лизма? Дискуссия в ИВИ РАН ценна именно как попытка дать на
этот вопрос ответ. За круглым столом в Академии наук было пред-
ложено, в частности, проанализировать исследовательские тезисы
Сьюзан Рейнольдс относительно вассалитета на средневековом ла-
тинском Западе7. Предложение показалось мне весьма важным, так
как в ее трудах обсуждаются основные методологические вопросы
изучения феномена вассалитета и передачи фьефов.
Кроме того, версия Рейнольдс интересна некоторыми частными
аспектами. Во-первых, ее публикации, даже небольшие, обычно вы-
зывают многочисленные отклики коллег8, а в наш век информаци-
онной революции такой интерес указывает, что работа действитель-
но важна и полемика по данному вопросу неизбежна. Во-вторых, в
предложенной к обсуждению работе исследовательница анализиру-
ет историю создания таких понятий, как “феод” и “вассалитет”. В
80-е годы XX в. корректным считалось разделять сферу поземель-
ных и личных (вассальных) отношений и ассоциировать именно эти
системы связей с “феодализмом”9. Независимо от того, возможно ли
ставить знак равенства между “банальной сеньорией” и феодализ-
мом, именно понятия сеньории и вассалитета являются наиболее
широкими из используемых в медиевистике. Соответственно, и ана-
лиз этих концептов не только был весьма актуален в период подго-
товки труда Рейнольдс, но и остается таковым до сих пор.
Проблема исследования вассальных отношений, которую я вы-
бираю в рамках данной статьи для более детального обсуждения, на
мой взгляд, важна еще и потому, что ставит вопрос о том, была ли
городская округа антиподом средневекового городского мира, или
же частью взаимосвязанной системы, которую составляли город,
“контадо” и “дистретто”? Если да, то можно ли принять тезис о том,
что взаимоотношения города и округи реализовывались как связи
коммуны (общины) и сеньории, что сфера действия вассальных от-
ношений объединяла и то, и другое? В историографии предшеству-
ющего периода, причем не только марксистской, данный вопрос
формулировался как проблема отношений города и феодализма,
феодального мира и коммуны.
Для меня важно выделить современные исследовательские пер-
спективы, снимающие барьеры между темой коммуны и темой сень-
ориальных связей. Мне представляется важным, что такую перспе-
ктиву (не в одной работе, а совокупностью исследований) раскрыва-
ет Рейнольдс.
Н.А. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов" 117
Рейнольдс ставит вопрос о ревизии определения вассалитета и
феода, также как и коммуны. Отметим, однако, что радикальный
критицизм Рейнольдс вписывается в определенный историографи-
ческий контекст. Эту традицию воплощают и предшественники
Рейнольдс, и некоторые из рецензентов и критиков, наиболее чут-
ких к сути вызова, сформулированного в исследовании “Фьефы и
вассалы”10.
В такой ситуации призыв “забыть феодализм” означает как раз
наоборот - задачу “вспомнить все”. Вспомним, что позиция Рей-
нольдс была удачно определена как тенденция крайнего номинализ-
ма, поскольку исследовательница пришла к радикальному отрица-
нию какого-либо общего смысла понятия “вассалитет”, и тезису о
принципиальной невозможности выкристаллизовать это общее по-
нятие из частных контекстов. Но номинализм столь давняя интелле-
ктуальная традиция, что ее никак нельзя назвать новаторской или
революционной.
Затем поставим вопрос, перечеркивает ли отказ от абстрактных
понятий и общих терминов возможности широких исследований со-
циальной жизни средневекового мира? Ставятся ли самой Рейнольдс
глобальные вопросы?
Кроме того, мне хотелось бы показать, что идеи Рейнольдс,
сформировавшиеся в процессе изучения английского Средневековья
(города и корпорации), не противостоят традиции и проблематике
изучения романского мира, не являются плодом развития внутрен-
них противоречий англоязычной историографии. И как именно со-
относится предложенная ею исследовательская парадигма с рядом
конкретных исторических казусов, например с материалом, харак-
теризующим специфический вариант социального развития средне-
вековых итальянских земель?
Поэтому я использую в данном очерке и сопоставление трудов
Сьюзан Рейнольдс с разработками именитой итальянской исследо-
вательницы Джины Фазоли. Я обнаружила возможности такого
сопоставления, исходя из общей направленности и сходства задач
авторов. Нельзя не отметить общего интереса к взаимосвязи ком-
муны и феодализма, который отличает труды обеих исследова-
тельниц. Также присутствует сходство и в стилистике работ, по-
скольку, как я считаю, основой этих трудов-монографий послужи-
ли лекционные циклы.
Работы Фазоли о взаимосвязи города и феодального мира я
отмечу в первую очередь. Особенно важны размышления иссле-
довательницы о первых основах объединений, которые впослед-
ствии получили правовой статус коммун. Работа Фазоли сформи-
ровала представление о том, что на первоначальной стадии разви-
тия коммуна носила исключительно частный характер и являлась
118
Феодализм перед судом историков
продуктом временного договора небольшого числа частных лиц -
горожан или селян-соседей, заключенного с принесением взаим-
ной клятвы-присяги11. Таким образом, произошел переход от
понимания коммуны как системы публичных и политических
функций к восприятию общины как системы временных персо-
нальных связей.
Если Джина Фазоли определила начальную фазу коммуны как
сообщество круговой поруки conjuratio, juramentum, т.е. частного
правового соглашения, то Рейнольдс утверждала в книге “Королев-
ства и общины Западной Европы 900-1300 гг.”, что понятие “комму-
на” не имело правового значения вообще12.
Это мнение спорно и связано с тотальным недоверием исследо-
вательницы к возможностям исторической интерпретации право-
вых терминов. Однако в текстах Рейнольдс присутствуют не только
отрицания устойчивых представлений историографии, но и позитив-
ные наблюдения и простые апелляции к здравому смыслу читателя,
которые, мне кажется, заслуживают внимания.
Рейнольдс, в частности, отмечает следующий важный момент:
историки обозначают вассальными отношения между лордом (сень-
ором) и его зависимым, но свободным или даже привилегированным
(анноблированным) вассалом, что и позволяет говорить, пусть не о
равенстве сторон, но об элементе добровольности и взаимности в
развитии этих отношений13. Именно это положение вещей, по мне-
нию Рейнольдс, коренным образом отлично от взаимоотношений
господина и его крестьян или подданных в классическом представле-
нии о личной зависимости.
Но такое наблюдение ставит не только водораздел между изуче-
нием феноменом вассалитета на латинском средневековом Западе и
классической концепцией крепостного состояния, но и перекидыва-
ет мостик к одновременному изучению статуса привилегированных
и непривилегированных вассалов.
Рейнольдс поднимает общий вопрос о роли церкви в процессах
реорганизации средневекового социума и в создании систем вассали-
тета - важный историографический сюжет. Напомню, в упоминав-
шейся выше монографии “Королевства и коммуна в Западной Евро-
пе” впервые изданной в 1984 г., существует специальный значитель-
ный раздел под названием “The Community of the Parish” (приходская
коммуна)14.
Автор высказывает идею о том, что коммуны, а также объеди-
нения и союзы внутри коммуны и братства внутри приходской об-
щины - это если не явления одного порядка, то звенья одной цепи.
Рейнольдс также справедливо уточняет, что приходская структура
включала в себя все зависимые от местной церкви земли, целую
правовую систему отношений зависимости15. Подчеркну, речь идет
Н.А. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов” 119
именно о системах вассальных связей, в первую очередь, о подчине-
нии общин и малых групп держателей.
Основной же тезис звучит именно как постулат номинализма:
общего значения всех случаев употребления термина “вассал” нет и
не может быть вообще16. Однако, внимательные критики подмети-
ли половинчатость номинализма Рейнольдс: с одной стороны, иссле-
довательница подчеркивает бессмысленность поисков универсаль-
ных значений терминов “феодализм” и “вассалитет”. С другой - Рей-
нольдс твердо верит в возможность указать все значения, которые
никак нельзя этим словам приписывать, т.е. берет на себя обяза-
тельство того же порядка, что и первоначально отвергнутое17.
На мой взгляд, значимость труда Рейнольдс по истории общин в
том, что исследовательница показывает роль сеньориально-вассаль-
ных связей при анализе формирования общин, а не только в связи с
исследованием фьефа. Таким образом, хотя общие концепты (как
“феодализм”, так и “община”) Рейнольдс отрицает, тем не менее на
уровне конкретных казусов вассальных отношений и коммун иссле-
довательница прослеживает взаимосвязь.
Из частных проблем, упоминаемых Рейнольдс (как и Фазоли),
выделим здесь лишь те, которые, как я полагаю, волнуют и авто-
ра синтезирующих работ, и любого исследователя-медиевиста.
Итак, во-первых, что такое само по себе объединение, обозначае-
мое “община” и “коммуна”, на каких условиях это объединение
принимает вышестоящую власть, правомерно ли говорить о доб-
ровольном согласии и взаимности обязательств вассальной и сень-
ориальной стороны, - или это риторика? Во-вторых, насколько
близки по смыслу употребляемые обозначения вассалов, лично
зависимых людей? В-третьих, какова роль нобилитета, церкви и
самих общин в истории формирования общин и систем личных и
поземельных связей?
Интересно, что Рейнольдс, ратуя за разбор “казуса”, за “улико-
вое” знание, избирает, пусть и вынужденно, широкие горизонты ис-
следования, а, например, советские историки-медиевисты, при суще-
ствовании всем известной глобальной модели феодализма и техники
интеграции в нее отдельных казусов и вариантов социальных связей,
могли позволить себе заниматься интерпретациями частностей, без
излишних комментариев и отсылок.
Итальянисты в советский период прекрасно работали с отдель-
ными казусами взаимоотношений сеньоров и общинников, а именно
с материалом хартий и статутов по истории отдельных общин (в ос-
новном на примере Севера Италии)18. Таким образом, существова-
ние глобальных концепций нисколько не препятствует углубленно-
му изучению казусов, а отсутствие их не отнимает необходимость
расширения исследовательских перспектив.
120
Феодализм перед судом историков
Что касается самих терминов vassi или vassali, то, как считает
Рейнольдс, употребление их не так типично для исторических источ-
ников, как это представляется, если полагаться на труды медиеви-
стов. Эти термины, по утверждению исследовательницы, фигуриру-
ют в каролингских документах и переходят под влиянием франкской
традиции в документы, составленные в Италии и Германии. В Ита-
лии после X в. встречаются обе формы слова. Однако в отличие от
этого во французских и германских землях слова, обозначающие
“вассал”, постепенно вышли из употребления (пока не были вновь
привнесены из Италии юристами).
Распространение термина “вассал” в документах ХШ в. Рей-
нольдс напрямую связывает с подъемом интереса к изучению права
в качестве особой “академической” дисциплины. При этом исследо-
вательница указывает, что такие термины как fidelis и homo иногда
могут выступать в качестве синонимов в значении “вассал”, но час-
то несут в себе гамму иных оттенков19. Данный момент Рейнольдс,
думается, излишне утрирует, как и бедность контекстов, которые
можно было бы привлечь для верификации терминов, так и выводы,
которые следует из этих построений.
На мой взгляд, независимо от того, есть ли основания считать
все формулировки Рейнольдс удачными, ее исследовательские те-
зисы могут быть верифицированы или проиллюстрированы мате-
риалом исторических источников, который не являлся объектом
специального исследования, но явно был знаком, хотя бы и по-
верхностно, этому автору: а именно, статутами общин итальянско-
го Средневековья. Если обратиться к историческим источникам,
датируемым в Италии ХШ в., то можно заключить, что именно в
юридических документах термины “вассалы” и “верные”, а также
просто “люди” употребляются как взаимозаменяемые обозначе-
ния вассальных групп.
О конкретных чертах, характеризующих положение вассалов,
можно составить представление по статутам общин, так как это не
только нормативное право, но, по большей части, интерпретирова-
ние, изложенное по казусам как обычая, так и нововведения.
Рассмотрим пример зависимой средневековой итальянской ком-
муны, о возникновении которой мы можем судить благодаря стату-
там - законодательству, предоставленному сеньором. Причем этим
сеньором было не светское лицо, а церковь, которая осуществляла
так называемое прямое господство (dominium directum) над обшир-
ными территориями важной исторической области - Сабины. Замок
Роккантика, вероятнее всего, существовал уже в первой четверти
XI в. в качестве временной резиденции графов Сабины. С упраздне-
нием этого статуса при папе Льве IX пришел в упадок и замок. Во-
зобновление поселения в 1060 г. при папе Николае II надо целиком
Н.А. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов” 121
приписать заслуге Римской церкви, стремившейся сделать замок оп-
лотом своего военно-политического могущества, стратегически
важным опорным пунктом Сабины. По мнению П. Тубера, это одна
из первых подобных инициатив Римской церкви20.
Местные жители именовались “верными” церкви21. Коммуналь-
ное развитие замка Роккантика проходило также под контролем и
воздействием Римской церкви. В 1326 г. ректор Патримония св. Пе-
тра в Тусции и Сабине на основе привилегий, пожалованных Рок-
кантика ранее, учредил статутное законодательство замка и новый
режим управления. Как сказано в прологе к статуту, до этого мо-
мента люди замка Роккантика не знали никаких элементов комму-
нального самоуправления22.
Прочитав документ, мы можем увидеть тот момент, когда в зам-
ке официально утверждалась система административных лиц: долж-
ность викария как главного управляющего, а также камерария, вое-
начальника и нотария общины23. Средства на выплаты жалования
должностным лицам, в соответствии со статутом, поступали от ме-
стного населения; выборной являлась должность нотария и камера-
рия, а викарий же прямо назначался от имени сеньора, т.е. Римской
церкви24.
Викарию поручалось управлять замком Роккантика “ради славы
и верности Римской церкви”, что отражалось в словах присяги25. В
статуте Рокка имелась специальная статья, предписывавшая вика-
рию следить за тем, чтобы все укрепления замка находились в со-
хранности, что показывает значимость этого должностного лица.
По поводу возможных злоупотреблений властью со стороны выс-
шего административного лица члены коммуны могли обращаться с
апелляциями в епископальную курию Сабины26.
Существовал запрет избирать на другие административные
должности лиц, неугодных церковным властям27, и приносить вас-
сальные присяги или отчуждать имущество в пользу магнатов28. Жи-
тели Роккантика отдавали церкви “ценз св. Петра”, а плюс к этому
выплачивали курии Сабины прокурацио (точная сумма в статуте не
указана) и средства на поддержание в порядке церквей, причем все
эти сборы производились поочажно29. Курии Римской церкви пред-
назначались и все штрафы за причиненный ущерб, взимаемые в
замке. Вот те обязанности, которые коммуна несла именно в силу
статуса вассалов церкви.
Обратимся теперь к более ранним документам, иллюстрирую-
щим взаимоотношения аббатства Субъяко с окрестными замками30.
Яркий пример известен по документу, давно опубликованному и вве-
денному в оборот, но нечасто используемому. Документ датирован
1193 г. и содержит пункты, регламентирующие обязанности населе-
ния замка Субъяко перед аббатом Субъяко, другой документ (от
122
Феодализм перед судом историков
1270 г.) - повинности близлежащих замков Рояте и Роккасека перед
тем же аббатством, причем только в этом последнем документе жи-
тели замков названы вассалами монастыря Субъяко31.
В документе от 1193 г., где формально еще никак не зафиксиро-
ваны вассальные связи замка с аббатством, нет упоминания о клят-
ве верности и не употребляется сам термин “вассалы”. Однако в
этом случае предвосхищены некоторые условия вассальной зависи-
мости людей Рояте и Роккасека, которые появились в письменной
форме почти век спустя. Прежде всего это уплата денежной ассизы,
собираемой ежегодно, некие службы, причитавшиеся монастырю
издавна, а кроме того оказание помощи в случаях, когда монастырь
приобретал новые земли и замки32. Введение термина “вер-
ность”/“верные” в юридические документы происходит не сразу, но
характер отношений сторон, видимо, существенно не меняется.
Рассмотрим, насколько схожи черты статуса “верных” церкви и
тех вассалов, которые признавали зависимость от светских сеньо-
ров. В качестве примера мы можем привести примеры общин но-
бильских замков, отметив, между прочим, что и светские сеньоры
принадлежали к папским непотам.
Проанализируем случаи, когда простолюдины приносили прися-
гу нобилям. Статут замка Виковаро, самый ранний из имеющихся в
нашем распоряжении, был составлен в 1273 г. по воле сеньоров Ор-
сини. В прологе статута нотарий указал, что статут был одобрен не
только господами, но и жителями замка, хотя, возможно, это просто
риторическая формула. Как всегда в торжественных случаях, жите-
ли были собраны перед палаццо сеньора кличем глашатая и коло-
кольным звоном. В качестве свидетелей на церемонии присутство-
вали такие почетные лица, как местный епископ, владелец соседне-
го замка, видный горожанин ближайшего города Тиволи, а также
судья и нотарий33. Текст нового установления был зачитан вслух.
Сходную ситуацию можно проследить по примерам замков дру-
гих родов. Во вступительной части статута Ровиано homines замка
получали напоминание о клятве верности, данной представителю
рода Колонна34. В статутах Каве и Дженаццано pedites этих замков
назывались обычно не термином “вассалы”, но просто людьми сень-
оров окрестных земель и укреплений, которыми являлись предста-
вители родов Колонна и Аннибальди35. Интересно, что при введении
статута в действие вассалами приносилась, таким образом, не просто
клятва верности сеньору, но клятва соблюдать те условия службы и
вассалитета, которые были записаны в статуте или грамоте.
Что касается принесения присяг, то все три категории сеньоров
и их «верные» фиксировали свои отношения в письменном праве.
Даже сеньоры, принадлежавшие к рыцарскому нобилитету, не про-
изводили никаких сложных церемоний, хотя священные предметы
Н.А. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов” 123
использовались при клятве. Обычно фигурирует клятва на Еванге-
лии, а также вполне прагматическая мера - залог. Нобили-сеньоры
за нарушение установленных с вассалами-простолюдинами согла-
шений могли поплатиться такой же суммой, как и община подвласт-
ного замка, если пренебрегала клятвой.
Простолюдины, как и благородные вассалы, обязывались нести
военную повинность36. И именно аристократы - владельцы замков
стремились привлекать вассалов-простолюдинов к военной службе
не только по охране замка, но и в других ситуациях. Например, в ста-
туте Виковаро подчеркивается неоднократно, что так называемые
массарии (простолюдины замка) были вассалами рода Орсини, обя-
занными им военной службой37. Нобили были склонны подчерки-
вать в местном законодательстве их особый статус. В основном это
касалось выгод и привилегий в хозяйственной жизни, свободы рас-
поряжения имуществом, но были и специальные привилегии, касаю-
щиеся таких важных основ, как гостеприимство и приношения.
Массарии замка Виковаро освобождались от обязанности при-
нимать на постой сородичей хозяев замка, которыми были Орсини.
Подобными привилегиями обладали вассалы-нобили других сеньо-
риальных родов, например, нобили замка Каве38.
Интересно также, что в статуте местечке Сгургола, замка рода
Каэтани, речь шла об освобождения от поборов, и приобретении
привилегий “libertas”, “franchitia”39, но лишь за плату. Таким обра-
зом, сеньориальная сторона повышала статус вассалов, не Имевших
нобильского происхождения.
Также массариям Виковаро дозволялось продавать свое моло-
дое вино кому угодно, а всем прочим жителям после того, как рас-
продаст свои запасы курия40. В Кампаньяно и Олевано вассалы-про-
столюдины могли вывозить на продажу плоды своих земельных на-
делов, но уплатив предварительно побор габеллу41. Массарии замка
Ровиано имели исключительную привилегию торговать излишками
своего продукта на “территориях” Рима и Тиволи, а это, видимо, бы-
ли самые выгодные рынки сбыта42.
Примечательно, что в документах мы не найдем обилия симво-
лических репрезентаций, но лишь подробные перечисления повин-
ностей или возможностей замены службы, например, извоза, денеж-
ным эквивалентом. Есть и другие примеры любопытные детализа-
ции. В соответствии с соглашениями между сеньорами и их “верны-
ми” из замка Виковаро обязанность принимать сеньора на постой и
натуральные приношения (конопли) - это взаимозаменяемые по-
винности. Также в определенных случаях постой домочадцев сеньо-
ра происходил за плату, причем, если не было уверенности, что сень-
ориальная сторона внесет деньги, то вассалы могли пропорциональ-
ным образом уменьшить приношения и исполнения служб.
124
Феодализм перед судом историков
Надо отметить, что в правовых документах, происходящих из
нобильских сеньорий, встречаются не только обозначения земель-
ных участков “верных” термином “феод” или “часть феода”, но не-
редко такое выражение, как bona stabilia. Этот термин обозначает
земельные держания, полученные путем феодальной уступки43. Но
не редки также и термины proprietas, bona hereditaria, hereditates, ко-
торые обычно означают “аллод”, а вовсе не временное условное
владение.
По норме права, любое земельное держание простолюдина бы-
ло отчуждаемым, т.е. верные могли продать их или завещать, но с
рядом ограничений, которые требует специального пояснения. Пре-
жде всего, эти ограничения передачи участка в другие руки исходи-
ли от сеньоров, желавших, чтобы земельные держания получали
только их вассалы (безразлично, прямые наследники или нет). При-
мерами может служить законодательство Дженаццано и Каве44, а
также Кампаньяно45. Колонна воспрещали наследование со стороны
тех родственников своих вассалов, которые не пожелали бы занять
место новых “верных” и в этом качестве на условиях службы вла-
деть землей. Сеньоры из рода Аннибальди первоначально запреща-
ли своим вассалам продажу участков даже в пользу других своих
“верных”. И лишь в 1286 г. подобное запрещение было снято, но при
этом позволено передавать bona feudalia о stabilia только в кругу вас-
салов.
В качестве сеньоров и свидетелей заключения договоров о ста-
тутах выступали римские аристократы, не просто имевшие в городе
резиденции, но игравшие важную роль в жизни римской civitas. Сам
термин “римское баронство” требует исторического комментария.
Дело в том что, несмотря на общепринятое значение термина, “ба-
ронство Рима” не было связано с уступкой земель в феод непосред-
ственно от верховной власти. Власть баронов распространялась не в
землях и замках, уступленных как феодальное владение, а в тех, что
на протяжении веков принадлежали могущественным фамилиям ри-
млян на правах собственности или эмфитевзиса.
Именно в этих сеньориях сочетались экономические и юридиче-
ские моменты проявления сеньориальной власти, а система вассаль-
ных связей, распространенная и на привилегированных жителей, и на
простолюдинов, соединяла функции подчинения и защиты населения.
Изучение феномена сеньории решает важный комплекс вопро-
сов, связанных с историей города и замка, взаимосвязи города и кон-
тадо. Если мы обратимся к примерам самих этих городов, то увидим,
что и для них характерны присяги верности, но уже приносимые од-
ной коммуной другой коммуне.
Показателен и исторически важен факт подчинения Риму сред-
невековой городской коммуны Тиволи, наследницы античной civi-
Н.А. Селунская. "Сеньория, община и вассалитет простолюдинов" 125
tas, игравшей значительную роль в социально-политической исто-
рии Римской провинции46. Город Тиволи занимал стратегически
важное положение, отсюда можно было контролировать сеть важ-
ных Дорог. Таким образом, естественно, что Тиволи играл роль как
локального рыночного центра, так и перевалочного пункта. В Сред-
невековье население города достигало трех тысяч47. В результате
соперничества двух старинных городских центров община Тиволи
стала зависимой от коммуны Рима.
По договорам Тиволи с Римом от 1257 и 1258 гг. коммуна Тиволи
обязывалась уплачивать ежегодно 1 тыс. лир или одну десятую часть
совокупного дохода коммуны (в пересчете на особую римскую моне-
ту - провизины сената)48. Сама процедура оглашения договоров тща-
тельно фиксировалась, в записи подчеркивалось как присутствие на
церемонии провозглашения договора как обеих общин, так и роль и
участие официальных представителей той и другой стороны.
К моменту заключения договора с Римом у коммуны Тиволи
уже существовал свод собственных установлений. Однако по воле
общины Рима и ее сенаторов эти статуты были пересмотрены, явно
не в сторону увеличения муниципальных (коммунальных) свобод.
Во всяком случае, отныне все нововведения в Тиволи подвергались
цензуре со стороны Рима49, при этом важнейший пост в городском
управлении, который исполнял comes, переходил к лицу, назначен-
ному коммуной Рима и римскому уроженцу.
Статуты 1305 г., прошедшие апробацию представителей Рима,
уже включали слова о верности и службе римскому народу “ad fideli-
tatem et sevritium sacri Romani populi”, хотя описания самой процеду-
ры и полной формулы принесения присяги в статуте не приводи-
лось50. Весьма сходные формулировки о верности и службе встреча-
ются, когда договор составлялся между двумя общинами, но одна из
сторон была представлена коммуной города, а другая - подвласт-
ным городу замком. Так было, например, в случае подчинения ком-
муной города Витербо и замка Фьорентино, практически в те же го-
ды (опубликованы документы от 1298 и 1395 гг., представляющие
собой запись статутов)51.
Земельные владения, принадлежавшие городской коммуне (ко-
торые чаще всего фиксируются в источниках термином posses-
siones), не являлись, конечно, результатом феодальной уступки или
установления отношений господства и подчинения между община-
ми. Не думаю, что в таких случаях все дело объясняется принципи-
альной несовместимостью вопросов поземельных отношений и вас-
сальных связей. Там и тогда, когда у сеньориальной стороны были
особые ресурсы и возможности влияния, возникала так называемая
сильная сеньория, позволявшая использовать поземельные отноше-
ния в связке с обязательствами “верности”.
126
Феодализм перед судом историков
Или же именно сила общины, хотя бы и юридически зависимой,
ограничивала стремления сеньора изменить привычный земельный
уклад. Но это не означает, что земельный фонд был исключен из
сферы отношений зависимости. Можно сказать, что в средневеко-
вом обществе любой аспект жизни был связан с землей, поэтому, ес-
тественно, зависимость общины, так или иначе, затрагивала и сво-
боду землевладения ее членов. Нет сомнений, что именно из нало-
гов на земельные владения общинников, формировались фонды вы-
плат, которыми подвластная коммуна была обязана по отношению
к более сильной civitas.
Итак, важной характеристикой статуса простолюдинов и целых
общин Папской области было наличие вассальных связей между ни-
ми и такими сеньорами, как нобили (в том числе урбанизирован-
ные), городские коммуны и церковь.
Вопрос так называемого сеньориального насилия также требует
учета особых казусов и локальной специфики или же расширения
круга проблемных задач исследований52. В частности, важны осо-
бенности состава элит и масштабы накопленных ими в определен-
ный исторический момент ресурсов53. При том что развитие сеньо-
рии явно не было линейным, одноплановым, на любом этапе ее эво-
люции прослеживается определенное смешение различных форм и
принципов осуществления сеньориальной власти, в том числе и дос-
таточно патриархальных. Видимо, различия интерпретаций одного
и того же феномена следует искать, прежде всего, в различиях раз-
вития национальных европейских школ историографии, а не только
в доступности и репрезентативности источников. Точнее, общий
подход и диктует избирательность ученых при работе с базой дан-
ных источников.
Будучи итальянистом, я заведомо предполагала, что возникнет
проблема противоречий между выводами историка, сформировав-
шегося в процессе изучения средневекового англосаксонского мира,
и моими собственными взглядами и исследовательским опытом. Од-
нако меня вполне удовлетворили построения Рейнольдс - не как
опора для будущих исследований, но как основа для преподавания
базовых вопросов развития средневековой общины и сеньории.
Кроме того, на мой взгляд, значимость труда Рейнольдс по истории
общин в том, что исследовательница и в этой работе показывает
роль сеньориально-вассальных связей в истории общины.
Многие исследователи темы общины и сеньории не стремятся
показать читателю и даже отдать себе отчет в том, что речь идет об
одних и тех же людях и группах людей, вовлеченных в отношения,
которые мы определяем как поземельную или личную зависимость,
как объединение в коммуну или подчинение сеньории. Однако та-
кую опасную ошибку никогда не совершала Рейнольдс.
11.Л. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов” 127
И сеньория, и коммуна - это не две четко разграниченные сис-
темы, а две игры, которые ведутся на одном и том же поле, причем
правила игры составляются и записываются согласно текущей юри-
дической моде.
Недостаточно полным кажется представление о том, что сред-
невековая итальянская коммуна, в том числе и коммуна города, вза-
имодействовала с сеньориальными структурами. Речь идет о том,
что в элиту civitas входили лица, которые выступали как сеньоры
окрестных земель и общин, города как коллективные сеньоры на-
значали своих должностных лиц для контроля над подвластными об-
щинами контадо, сеньориальный или феодальный строй пересекал-
ся с развитием институтов коммун.
Пропасть между миром коммуны и сеньории, является лишь об-
разом, неотъемлемой частью картины истории, которую создали
исследователи определенной эпохи. Но возможно найти такую точ-
ку зрения, которая не дает увидеть подобного разрыва. Мне показа-
лось важным то, что у Рейнольдс есть широкие перспективы рас-
смотрения предмета, несмотря на декларируемое развенчание цен-
ности общих исследовательских позиций.
Опыт Рейнольдс является весьма показательным и важным в
той историографической ситуации, когда отсутствует общепризнан-
ная, пусть и условная “большая модель описания”. Точка зрения
Рейнольдс по поводу вассалитета и концепта феодального была вы-
брана и обоснована в определенный момент развития историогра-
фии, связанный с ревизией общих понятий. Тезисы Рейнольдс следу-
ет признать удачными не потому, что ее подход может быть исполь-
зован другими исследователями при изучении любого конкретного
исторического материала, но потому, что они породили ряд продук-
тивных дискуссий. Главное, чтобы эти тезисы не стали “противопо-
ложным” общим местом, т.е. стереотипом.
При этом попытки обвинить именно книгу “Фьефы и вассалы”
в изобретении логики номинализма кажутся преувеличением. Тра-
диции и номинализма, и реализма придают самим своим сосущест-
вованием некий импульс развитию исследований. Теперь, когда в
среде отечественных медиевистов термин “социальная история”
все чаще подразумевает не “социальную историческую реаль-
ность, какой она была на самом деле”, а способ или метафору изу-
чения истории, странно не искать новые смыслы в старых “словах
о главном”.
В заключение отметим, что самый традиционный набор ис-
точников (как например, использованная в данном очерке источ-
никовая выборка) может показать неоднозначность проявлений
исследуемого феномена вассалитета. Но констатируем также, что
отдельный исследовательский казус может потребовать совмес-
128
Феодализм перед судом историков
тить в исследовании сферу поземельных и личных отношений,
юрисдикционные аспекты и структуры повседневности, аспекты
истории общины простолюдинов и развития сеньории, крестьян-
ский и рыцарский миры. При изучении казусов вассальных отно-
шений в Италии необходимо держать в руках все названные выше
сюжетные линии, чтобы возникла некая ткань повествования. Со-
гласимся, что отрицание общих понятий как заведомо несостоя-
тельных, не решает всех проблем. И частные, и узкие термины
также не гарантируют стопроцентного попадания в область опре-
деления специфических черт региональных и локальных проявле-
ний социальных феноменов. Хотя в данный момент не может
быть и речи о сохранении широкого понятия “феодализм”, право-
мерно отметить отдельные попытки частичного восстановления
разрушенных позиций. Видимо, после периода отхода от исполь-
зования концепта, историкам предстоит обсудить возможность
возрождения палитры понятия “феодализм”.
1 II feudalesimo nell’alto medioevo // Settimane di Studi nel Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo. Spoleto, 2000. Vol. 47. Тематика встреч в Центре
исследований средневековья г. Сполето (с 1999 до 2003 г.) доступна в
электронном виде: www.erlangerhistorikerseite.de/zfhm/spoleto3 .html
2 См. ст. А.Я. Гуревича “Феодализм перед судом историков, или О средневе-
ковой крестьянской цивилизации” в наст. вып. (с. 11-49).
3 См., например, вызвавшую серьезную дискуссию, позицию профессора
Браун, тезисы которой в 90-е годы XX в. развила и усилила С. Рейнольдс.
Brown E.A.R. The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval
Europe И American Historical Review. 1974. Vol. 79. P. 1063-1088.
4 Ganshof F.L. Feudalism. Toronto 1996 (Medieval Academy Reprints for
Teaching. T. 34). Этот пример весьма показателен, поскольку популярный
обобщающий труд по истории феодализма был переведен и переиздан в
последний раз более чем через столетие после рождения автора -
человека XIX в., создавшего основные произведения до 60-х годов про-
шлого века.
5 Например, достаточно, сравнить итальянские энциклопедии по истории
средних веков 70-80-х годов XX в. и начала нашего века, написанные ве-
дущими специалистами медиевистами и предназначенные для преподава-
телей и студентов магистратур гуманитарных факультетов: Storia d’Italia /
Dir. da G. Calasso. 1978-1983. Vol. 1-4; Storia d’ltalia. Einaudi. 1974. Vol. 2;
Storia d’Italia medievale / Dir. da O. Capitani. Laterza, 2004. В первом случае
термин “феодальный” несет огромную нагрузку, а в последнем труде под
редакцией Овидео Капитани совершенно не фигурирует даже в названиях
мелких параграфов.
6 Alexander Р. Logic and Humor of Lewis Carrol // Proceedings of the Leeds
Philosophical Society. 1951. Vol. 6. P. 551-566. См. также подробное приме-
чание ко 2-му стереотип, изд. на рус. яз., подготовленному Н.М. Дему-
Н.А. Селунская. "Сеньория, община и вассалитет простолюдинов" 129
ровой. См.: Приключения Алисы в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье.
М., 1991. С. 172-173.
'Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. N.Y.;
Oxford, 1994. P. 119-120.
к Отметим, например, что статья Рейнольдс по, казалось бы, частному во-
просу (формированию старта профессиональных правоведов) немедлен-
но получила три отклика-рецензии: The Emergence of Professional Law in
the Long Twelfth Century http://www.historycooperative.org/ioumals/lhr/21.2Z
Reynolds S. The Emergence of Professional Law in the Long Twelfth
Century I I Law and history Reviews. 2003. Vol. 21, N 2. Summer. P. 347-366;
Gorecki P. A View from a Distance // Ibid. P. 366-337; Radding Ch.M. Legal
Theory and Practice in Eleventh-Century Italy // Ibid. P. 377-382; Brand P. The
English Difference: The Application of Bureaucratic Norms within a Legal
System U Ibid. P. 383-388.
4 Что было отражено, например, в коллективном труде группы авторитет-
ных медиевистов Италии и Франции: См.: Structures feodales et feodalisme
dans I’Occident mediterraneen (X-XI ss.). Bilan e perspectives de recherches.
Roma, 1980.
10 Я выделяю рецензию, в которой четко обозначена историографическая
ситуация, предшествовавшая появлению книги Рейнольдс. См.:
Cheyette F. Rec. ad op.: Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence
Reinterpreted. N.Y.; Oxford, 1994//Speculum. 1996. Vol. 71. P. 998-1006. Ре-
цензия доступна в электронном виде на нескольких сайтах, в том числе:
http:/www.fordham.edu/ Halsall/source/reynolds-reviews.html:
Выделим следующий пассаж: «С. Рейнольдс, должно быть, воспри-
няла с унынием или смиренным недоверием извещение Академии меди-
евистов о том, что по просьбе ученых следующим томом, который бу-
дет напечатан в академической серии, переиздающей важные для пре-
подавания труды будет книга Гансхофа “Феодализм”, так как в своей
книге объемом в 500 страниц, уже не раз прорецензированной, она рья-
но спорила именно с Гансхофом и выступала против него. Конечно, на-
падки на “классическую” книгу Гансхофа, до сих пор являющуюся
предметом восхищения, не новы; они были общим местом в беседах,
которые велись в кулуарах, когда я едва закончил учебное заведение, а
Э. Браун, которой Рейнолдс посвятила свою книгу, подала пример в пе-
чати, опубликовав 20 лет тому назад весьма пространную и имеющую
очень ясную цель статью».
11 Fasoli G. Dalia civitas al comune nell’Italia settentrionale. Bologna, 1961.
12 Reynolds S. Kingdoms and communities in Western Europe 900-1300: 2nd ed.
Oxford, 1984. P. 179-180.
13 Reynolds S. Fiefs and Vassals... P. 17: “Прежде чем критиковать понятие
вассалитета, как оно используется в дискуссиях о вассально-фьефных от-
ношениях, необходимо как можно более ясно указать на тот смысл, ко-
торый мы здесь в него вкладываем. Историки употребляют понятие вас-
салитета..., чтобы обозначить отношения между сеньором и его свобод-
ным или знатным сторонником - вассалом. Поскольку вассал был сво-
бодным человеком, то их отношения, хотя и неравноправные, рассматри-
вались ими как добровольные и взаимные...”
9 Одиссей, 2006
130
Феодализм перед судом историков
]4 Именно поэтому в качестве вводного и обзорного очерка по теме приход-
ской коммуны можно рекомендовать кн.: Reynolds S. Kingdoms and com-
munities in Western Europe... P. 79-100.
>5 Ibid. P. 81.
16 Reynolds S. Fiefs and Vassals... P. 119—120: “Нельзя предположить, что та-
кие абстрактные существительные, как feo, fevum, feudum..., имели ус-
тойчивое значение, будучи вырваны из контекста их употребления. Если
даже в пределах какого-то контекста допустим определенный смысл
термина, это не значит, что этот смысл столь прочно закреплен за этим
термином, что может сохраняться и в других случаях, и в других контек-
стах. К сожалению, применительно к этому периоду (900-1100 гг.) из
контекста мало что можно прояснить... Возможно, писцы и использова-
ли определенные существительные для того, чтобы описать некоторые
виды собственности, но при этом они не заботились о том, чтобы охара-
ктеризовать саму категорию собственности”.
17 Cheyette F. Op. cit.; электронная версия: www.fordham.edu.HALSALL/:
18 Вернадская Е.В. К истории аграрных отношений Северной и Средней
Италии XIV-XVI вв. (по материалам провинций Модены и Феррары) //
Из истории трудящихся масс Италии. М., 1959; Брагина Л.М. Общинное
землевладение в Северо-Восточной Италии в XIII-XIV вв. // Средние
века. М., 1958. Вып. 12; Она же. Положение крестьянства в Северо-Вос-
точной Италии в ХШ-XIV вв. // Из истории трудящихся масс Италии. М.,
1959; Котельникова Л.А. О формах общинной организации северо-
итальянского крестьянства в IX-XII вв. // Средние века. М., 1960.
Вып. 17; Самаркин В.В. Эволюция либеллярного держания в Северо-Во-
сточной Италии в XII-XIV вв. Ц Вести. МГУ. История. 1964. № 3. Разу-
меется, официальной мотивировкой исследований являлся интерес к “по-
ложению трудящихся масс”, а такой феномен как “вассалитет простолю-
динов” не мог быть оценен всесторонне.
19 Reynolds S. Fiefs and Vassals... P. 22 (2. 2): “Ссылки на vassi или vassali не
так уж часто встречаются в источниках, как можно предположить при
чтении современных трудов по истории средних веков. Они часто встре-
чаются в каролингских документах и были перенесены франкскими за-
воевателями на итальянскую и германскую почву... Однако начиная с
X в. эти термины постепенно вышли из употребления во Франции и Гер-
мании, в то время как оба латинских слова продолжали употребляться в
Италии. Начиная с XIII в. употребление этих терминов в актах, государ-
ственных документах или юридических текстах... как представляется,
указывает на распространение нового академического права...”. Ibid.
Р. 23: “Термины fidelis и homo могут в некоторых случаях употребляться
для обозначения примерно того же феномена, который историки имеют
в виду, когда говорят о вассалах, но могут употребляться и в другом
смысле...”
20 Toubert Р. Les structures du Latium medieval: le Latium meridional et la Sabina
du IX a la fin do XII siecle. Roma, 1973. P. 402-403.
21 Statuti della Provincia Romana. Roma, 1910. Vol. I. P. 57: ...considerantes quod
universitatis hominum castri Rocche Antiqua comitatis Sabine iam dicti fideles
et devoti sancti matris Ecclesie...
II.Л. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов" 131
n Ibid.: ...quamvis non consueverint statutis vel scriptis legibus municipalibus
gutanari...
»' Ibid.1’. 58.1-II; 59. Ш-1Ш; 60. VI; 69. XXXV.
M Ibid. P. 58.1: Primo quidem decemimus quod universitas predicta...prout per nos
turrit declaratum, nostrum in Roccha predicta vicarium deputandum per nos et
Mieeessores nostros perpetuo reverenter recipiant...
>' Ibid. P. 18. CXXVIII; P. 58. II.
№ Ibid. P. 62. XIII. Statuimus et ordinamus quod quilibet posit appellare de omni
gnivamine ad curiam... et ad nostrum curiam Sabinensem...
11 Ibid. P. 59. Ш: ...qui notarius non sit vassalus neque suppositus alicui Romano
sen potenti persone...
Ibid. P. 80. LXVII: Statuimus quod nulla persona de rocca audeat vel presumat
I acerc aliquod vassallagium seu homagium aliqui persone, nec permittat facere
uliqui persone potenti, nec Romano, universitati, loco vel aliqui alio, qui non sit
de iurisdictione Roche, nec vendat vel alienet bona sua stabilia aliqui potenti...
Ibid. P. 97. CXXVII: ...statuimus quod census Sancti Petri...solvatur per foculare
cl non per libram...
Slaluti della Provincia Romana. Roma, 1930. Vol. II. P. 15-25.
11 Ibid. P. 23: ...vassalorum monasterii quos ipsum monasterium habet in castris
Koiatis et Rocca Sicce...
Ibid. P.25: ...salvis et reservatis in hiis omnibus servitiis consuetis que monasteri-
tnn a dictis vassalis recipere consuevit...; Ibid. P. 24: ...et dicta assisa colecta et
electa dicto domino abbati vel eius successoribus in festo predicto Nativitatis
Virginis assignabunt...; ...si autem dictum monasterium terram vel castellum aut
ecclesiam emerit dicti vassalli sine fraude et moderate de bonis propriis ipsorum
ipsi monasterio adiutorium prestabunt... Последнее условие также имеет па-
раллели в соглашениях светских сеньоров и их вассалов. См. данные пун-
кты по материалам документа из Субъяко от 1193 г.: Ibid. Р. 15: ...hac die
nostra bona voluntate et communi consensu totius popoli de Subiaco... ut omnes
habitatores dicti castri semper benivolos et devotos in servitio ipsius monasterii
et nostro conservemus, talem assisam cum eis facimus, exceptis clericis et mil-
itibus; Ibid. P. 16: ...si tamen nostrum monasterium emerit terram aliquam vel
castellum... de bonis propriis populus... adiutorium faciet...; Ibid. P. 17: ...salvo
tamen in his dominio monasterii et nostro, et salvis consuetudinibus antiquitus
constitutis in servitiis artificum et operis hominum quas semper monasterium
habuit et habere debet...
” Slatuti I. P. 5: ...ad Dei omnipotentis laudem et augmentum honoris domini
Francisci Napoleonis, domini Jacobi Napoleonis et domini Mathei Ursi domono-
rum castri Vicovari et pacificum ac tranquillum statum hominum ipsius castri
vassalorum eorundum dominorum, congregate universitate et hominibus ipsius
castri Vicovarii ad sonum campane et voce preconia ut moris est apud palatium
curie castri eiusdem in presentia venerabilis viri domini lacobi episcopi
Tyburtini, Bonicomitis domini castri Canis mortui, domini Philippi de Cellis
iudicis, ...mei Raynerii iudicis et notarii et testium subscriptorum ad hoc spe-
cialiter vocatorum et rogatorum...
14 Statuti II. P. 46. LXX: ...occasione debite fidelitatis.
*5 Исключение зафиксированы в прологе статута Каве 1307 г. См.: Statuti I.
Р. 29 и далее в специальных статьях (см. ниже).
132
Феодализм перед судом историков
36 Статут Каве 1305 г. наиболее емко показывает статус вассалов рода
Колонна в сравнении со статусом оруженосцев, приближенных, упол-
номоченных этих же сеньоров. См.: Statuti I. Р. 41. LXI: item quod si
aliquis vassalorum offendit aliquem de scotiferis dominorum puniatur vice
qualibet ut puniri debetur ac si offendisset unum de aliis de terra, si
vero offenderit domicellum dominorum, puniatur in duplo eius репе que impo-
nentur si offendisset alium de terra, si vero socium dominorum seu vice-
comitem offenderit, triplicetur репа...(si) castellanum offenderit quadruplice-
tur репа...
37 Ibid. P. 8. XV. P. 5: ...ad tranquillum statum hominum ipsius castri vassalorum
eorundem dominorum.
38 Ibid. P. 11. XXXX: ...et lectos facere non teneantur nec occasione lectorum
alicuius de familia vel alterius, aliquis pannus de domo massarii extrahatur vel
auferatur, sed solum tabemarii et hospites teneantur eos hospitare et eisdem lec-
tos facere recipiendo a curia quantum recipient ab aliis...”; P. 19. ПП: “Item quod
dicti nobiles non teneantur facere lectum familiaribus domini dicti castri nec lec-
tum pro eis et aliis quibuslibet ad curiam mictere. Set si aliquis nobilis seu socii
cum domino venerit quisque recipiat eum et faciat lectum, ut est consuetum; et si
contra fecerent solvant pro репа tres sollidos.
39 Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell’archivio Caetani / A cura di
G. Caetani. Perugia; San Casciano Vai di Pesa, 1922-1932. Vol. II. P. 130. Этот
пример относительно статусных различий владельцев наделов на землях
римских баронов подробно цитирует и разбирает С. Кароччию. См.:
Carocci S. Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel
Duecento e nel primo Trecento. Roma, 1993. P. 496 (Collection de I’Ecole
frangaise de Rome, 181). P. 232. Not. 139.
40 Statuti I. P. 9. XXII: ...si curia haberet aliquid vendere de rebus suis, videlicet de
blado vel vino, nullus de terra interim vendere debeat quousque curia vendider-
it...
41 Statuto di Olevano Romano del gennaio 1364 / A cura di V. La Mantia. Roma,
1900. XXXII. P. 9; Statuto di Campagnano del secolo decimoterzo // ASRSP.
1891. N 14. P. 60.
42 Statuti II. ХХХХХП1.
43 Убедительный сравнительный анализ документов приводится Кароччи, в
примеч. к разделу: Proprieta е gestione delle terre И Baroni di Roma. Особ.:
Carocci S. Op. cit. P. 214.
44 Как в случае замка Дженаццано - сеньории рода Колонна. См.: Statuti I.
Р. 131-132. XXII: “si aliquis moriretur habens filios vel nepotes... vel fratres
existentes in castrum Genezani libere moriantur eis, dummodo essent vaxalli
dominorum vel si non essent vaxalli... et vellent iurare vaxallagium dominis
possint defunto succedere, ut dictum est”.
45 Statuto di Campagnano Ц ASRSP. 1891. N 14. P. 78-80.
46 Viola S. Storia di Tivoli dalla sua engine fino al secolo XVII. Roma, 1819. Vol. 1-3;
Idem. Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel Quattrocento // Melanges de I’Ecole
franfaise de Rome: Moyen Age-Temps Modemes. 1982. N 94. P. 45-83; Il sistema
catastale di Tivoli (secoli XIV-XVI) // Archivio della societa romana di storia patria.
1982. T. 105. P. 217-236.
47 Beloch К.1. Bevolkerungsgeschichte Italiens. B., 1937. Bd. П. S. 56.
II.Л. Селунская. “Сеньория, община и вассалитет простолюдинов" 133
Stntuti I. Р. 264: ...homines Tiburis dabunt annuatim et in perpetuum comuni
(li bis millenas libras provisinorum senatus vel decimam partem omnium proven-
tnum comunis et hominum.
Siatuti I. P. 267: ...ordinamenta et statuta Tiburis per comune Urbis hactenus
corecta... et si que de nuovo per comune Tiburis fierent, per comune Urbis corri-
gantur...
111 Stututi I. P. 153: ...infrascripta capitula statuta et ordinamenta condita et facta
liicrunt per communem et populum civitatis Tyburtine in publico parlamento in
platea maioris dicte civitatis ad hoc ut dicta civitatis conservetur illesa ad fideli-
latcm et sevritium sacri Romani populi.
M Statuli I. P. 335: “...Ad honorem et reverentiam et fedelitatem potestatis comune
et consilium civitatis Viterbii et Octo de popolo eiusdem civitatis et paceficum et
tranquillium Castri Florentini...”
('м., например: Barthelemy D. La th£orie feodale a 1’epreuve de 1’antropologie:
Note critique // Annales: HSS. P., 1997. T. LIL P. 321-341. Кроме того, суще-
ствует непримиримое противоречий интерпретаций, принятых во фран-
цузской и итальянской историографии. Картина формирования сеньории
в представлениях итальянских исследователей несходна с различными
интерпретациями процесса, принятыми во французской историографии.
Речь идет не о нескольких десятилетиях, а о веках. Итальянская историо-
графия прослеживает формирование сеньории с рубежа VI1I-IX до
X1II-XIV вв. При этом с ранних веков ее существования исследователи
отмечают черты, характерные для французского варианта развития тер-
риториальных структур организации. Подробнее об этом историографи-
ческом споре я высказывалась в краткой публикации. См.: Селун-
ская Н.А. Эта банальная банальная сеньория // Средние века. М., 2004.
Вып. 64. С. 61-74.
11 Специфика римской элиты и способов ее влияния в римской округе, на
мой взгляд, лучше всего описана в серии работ Сандро Кароччи, кото-
рые мало известны российским медиевистам, как, впрочем и специали-
стам за пределами Италии. См.: Carocci S. Genealogie nobiliari е storia
demografica. Aspetti e problemi (Italia centro-settentrionale, XI-XIII secolo) //
Demografia e societa nell’Italia medievale / A cura di R. Comba, I. Naso. Cuneo,
1994; Idem. Assetto familiare, politica matrimoniale e regime successorio dei
baroni romani (Duecento e primo Trecento): cenni complessivi Ц La popolazione
di Roma dal medioevo all’eta contemporanea: fonti, problemi di ricerca, risul-
tati / A cura di E. Sonnino. Roma, 1998. P. 221-227.
П.В. Лукин
ПРАЗДНИК, ПИР И ВЕЧЕ:
К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ
ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН*
В своем докладе А.Я. Гуревич еще раз обратил внимание на значение
пира в европейском средневековом обществе как одного из важней-
ших традиционных “институтов”. Богатую, и что самое существен-
ное, не опосредованную римской культурой, с ее политико-правовы-
ми понятиями и риторикой, информацию о нем дают, как показал ав-
тор, скандинавские и, в меньшей степени, англосаксонские источни-
ки. А.Я. Гуревич убедительно показал и то, что пир являлся, в част-
ности, формой взаимодействия власти и так называемого рядового
населения. Отметил исследователь (в связи с другим традиционным
“институтом” - обменом дарами) и значимость календарного цикла,
в том числе праздников, в социальной жизни средневековой Европы.
Между тем, из поля зрения медиевистов зачастую ускользает не
только Север Европы (Скандинавия и англосаксонская Англия), но
и ее Восток - Балто-славянский мир. Бесспорно, однако, что архаи-
ческие явления сохранялись там существенно дольше, чем на Запа-
де, и некоторые из них были зафиксированы источниками. Особен-
но это характерно для западнославянских народов, у которых так и
не сложились государства (поморские и полабские славяне, сербы-
лужичане и др.). У восточных же славян, как известно, в Средние ве-
ка языком письменности был язык, близкий к народному, что, есте-
ственно, сближает этот регион со Скандинавией и англосаксонской
Англией и отличает от всей остальной Европы, где безраздельно
господствовала латынь. А это как раз и дает возможность того “об-
ходного маневра”, о котором применительно к северу Европы пи-
шет А.Я. Гуревич; маневра, позволяющего “несколько ближе по-
дойти к сознанию носителей народного языка”1. Историография
проблемы крайне бедна. О пирах и дарениях в домонгольской Руси
писал И.Я. Фроянов, отметивший некоторые их упоминания в лето-
писях (в чем его несомненная заслуга), однако, трактовал он их в
русле своей концепции древнерусского общества как “общинного
без первобытности”2. В реальности это привело его к очень риско-
ванным и (согласимся с М.Б. Свердловым3) бесплодным сопоставле-
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Российский гуманитарный научный
фонд), проект № 05-01-01074а; Фонда Герды Хенкель (Gerga Henkel Stiftung), Гер-
мания, в рамках проекта “Popular Assemblies of the Eastern and Western Slavs: a com-
parative Study” (AZ/05/SR/06) и Фонда содействия отечественной науке.
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
135
и и нм обычаев раннесредневекового русского социума с феномена-
ми. свойственными папуасам Новой Гвинеи, эскимосам и индейцам
('спорной Америки, племенам Полинезии и Меланезии, а почему-то
не с явлениями, характерными для обществ, близких к древнерус-
скому в социокультурном отношении.
Ценная информация о западных славянах, живших в Средние
пека на побережье Балтийского моря, содержится в житиях “апо-
стола поморян” немецкого епископа Оттона Бамбергского, напи-
санных в 40-50-е годы XII в. О его миссионерских путешествиях в
1124 и 1128 гг. имеются обстоятельные повествования в посвящен-
ных ему трех текстах. Автор одного из них, Херборд, свидетельст-
вует, что, когда миссионеры прибыли в один из небольших помор-
ских городков Пыжице - первое, с чем они столкнулись, был как
pu t праздник: “...мы увидели... что там со всей провинции вдруг со-
бралось до четырех тысяч человек. Был же какой-то праздничный
день у язычников, отмечая который игрой, огнями и пением, неис-
товый народ оглушал нас громкими криками”4. В историографии
о тмечалась связь как пыжичского собрания, так и других собраний
у поморян с культовыми мероприятиями5. Обращает на себя вни-
мание и то, что праздник этот сопровождался пиром, или, скорее,
пир находился в центре этого праздника: в результате благочести-
вым проповедникам “не казалось полезным и осмотрительным
приближаться к бурлящей от питья и веселья толпе”6. По мнению
польского историка К. Модзелевского, “сообщение Херборда ука-
зывает на связь между вечем и культовым праздником, соединен-
ным с потреблением на общем обрядовом пире... животных, пред-
ложенных в жертву богам”. И, хотя это предположение кажется
все-таки слишком смелым (в источнике ни о каких жертвоприно-
шениях не говорится), в принципе, исследователь совершенно
нрав. Прав, думается, К. Модзелевский и в том, что мы имеем дело
не с чем-то исключительным, а с “обычной нормой: народ, кото-
рый собрался на праздник на следующий день остался на месте в
ожидании начала веча”7.
Выясняется, однако, что речь идет не просто о приятном время-
препровождении жителей Пыжице и окрестных территорий (“про-
винции”), а о мероприятии, в ходе которого принимаются и полити-
ческие решения. После того как совет пыжичской знати (“конклав”)
принял решение о принятии новой веры, его члены “вышли к наро-
ду, который собрался как будто на праздник, не расходясь, по воле
Божьей, против обыкновения оставался на месте и не рассеялся по
селам”8. В результате собравшаяся толпа, выслушав primates, согла-
силась с их решением9. Связь политических собраний с языческим
культом становится еще более очевидной из рассказа другого агио-
графа, Эбона, об “общем собрании” (generate colloquium) жителей
136
Феодализм перед судом историков
крупнейшего поморского города Щецина, которое должно было
окончательно решить, “принимают ли они бремя Христово или
полностью отрекаются (от него. - ПЛ.)”. По словам Эбона, “в ус-
тановленный день первосвященник Господа взошел на гору Три-
глава в центре города, где находилась резиденция князя, и вошел в
большой дом, подходящий для этого собрания. Присутствовали
там знатные со жрецами и старшими по происхождению...”10. По-
видимому, гора Триглава, т.е., очевидно, центр поклонения местно-
му божеству, была избрана не случайно. Эбон отмечает и роль
жрецов (sacerdotes) на этом собрании; они указаны чуть ли не в ка-
честве главных участников, наряду со знатью (natu maiores) и наро-
дом (plebs). В научной литературе обсуждался вопрос о составе
участников собрания. Основываясь на показаниях Херборда о ре-
шающей роли “старших и мудрейших” (maiores natu et sapien-
tiores11), немецкий исследователь В. Визенер предположил, что это
было совещание достаточно узкого круга лиц12. Однако наиболее
ранний и достоверный агиографический текст об Оттоне Бамберг-
ском - нак называемое “Прюфенингское житие”, автором которо-
го, по-видимому, был библиотекарь монастыря св. Георгия в Прю-
фенинге Вольфгер13, однозначно свидетельствует о противопо-
ложном: “...первые в городе, воссев вместе с остальной толпой, по-
совещавшись друг с другом, постановили подчиниться епископу и
уверовать во Христа...”14. Следовательно, и здесь собрание имело
достаточно широкий характер.
Однако и совещания элиты поморянского общества также
могли быть связаны с культовыми сооружениями, как например, в
Щецине, о чем подробно рассказывает Херборд в главе своего
“Диалога”, посвященной четырем так называемым “континам”
(contine) - зданиям, связанным с культом местных божеств, преж-
де всего упомянутого выше Триглава. В одной из них, которая, по
словам агиографа, “была главной”, хранились “захваченные бо-
гатства и оружие врагов и все, что было приобретено из добычи
во время войны на море или же на суше в соответствии с законом
отчисления десятины”, но также “золотые и серебряные сосуды,
которые обычно служили знатным и могущественным для гада-
ния, пира и пития; в праздничные дни их должны были выносить
как бы из святилища”. Вообще в этом языческом храме наличест-
вовала вся, так сказать, инфраструктура для пиров: “огромные ро-
га диких быков, позолоченные и покрытые драгоценными камня-
ми, пригодные для питья, и рога, пригодные для музыки”, а вместе
с тем хранились и культовые принадлежности: “многочисленная
ценная, редкая и красивая на вид утварь для украшения и почита-
ния их богов...”15. Наконец, главное место занимал главный объ-
ект культа - “трехглавое изображение, которое, имея на одном ту-
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
137
н< нинце три головы, называлось Триглавом...”16. В высшей степе-
ни существенно, что три другие контины использовались лидера-
ми щецинского общества для (условно говоря) более светских за-
нятий: “Три же другие контины пользовались меньшим почтением
и были меньше украшены. Внутри по окружности были установ-
лены только сиденья и столы, так как там они имели обыкновение
проводить свои собрания; а именно, если они желали или пить,
пли развлекаться, или обсуждать свои важные дела, они сходились
и определенные дни и часы в эти же здания”17. Связь здесь между
такими социокультурными феноменами, как праздничная религи-
озная церемония, пир и политическое собрание совершенно
очевидна18.
Интересно, что западнопоморский князь Вартислав - верхов-
ный правитель славянских городов-“республик” на Балтийском
море, уже обратившийся в христианство, “назначил собрание
знатных и выдающихся людей всей области и правителей горо-
дов”19 (Херборд; согласно Эбону, “повелел [созвать] общее сове-
щание первых лиц своего королевства”, в котором приняли уча-
стие “первые лица города Дымина и других городов”20) в городе
Узнаме именно на праздник Пятидесятницы, используя, вероятно,
еще языческую традицию совмещения религиозного празднества
и политического собрания.
О том, насколько важно было участие в пире в архаическом
славянском обществе, сохранилось прекрасное свидетельство не-
мецкого хрониста Хельмольда, относящееся, правда, уже не к по-
морским, а к полабским славянам - ваграм. В январе 1156 г. немец-
кий епископ Герольд побывал в гостях у князя вагров Прибислава.
В свите епископа находился и Хельмольд, рассказывающий об
этом удивительном для него визите следующее: “...Прибислав при-
гласил нас зайти в его дом, который находился в далеком селении.
И он принял нас с большим радушием и устроил для нас роскош-
ный пир. Стол перед нами был заставлен 20 блюдами. Здесь я на
собственном опыте убедился в том, что до тех пор знал лишь пона-
слышке, а именно, что в отношении гостеприимства нет другого
парода более достойного [уважения], чем славяне; принимать гос-
тей они, как по уговору, готовы, так что нет необходимости про-
сить у кого-нибудь гостеприимства. Ибо все, что они получают от
земледелия, рыбной ловли или охоты, все это они предлагают в
изобилии, и того они считают самым достойным, кто наиболее рас-
точителен. Это стремление показать себя толкает многих из них на
кражу или грабеж. Такого рода пороки считаются у них прости-
тельными и оправдываются гостеприимством. Следуя законам сла-
вянским, то, что ты ночью украдешь, завтра ты должен предло-
жить гостям”. Пир, угощение, предлагаемое гостям, оказывается
138
Феодализм перед судом историков
здесь в определенной мере средоточием социальной и хозяйствен-
ной жизни, важнейшим звеном в иерархии ценностей, средством
поддержания и укрепления социального престижа. Естественно,
отсюда следует, что человек, отказывающийся “играть по прави-
лам” данного социума, нарушающий законы гостеприимства и по-
кушающийся на “святое” - пир, моментально утрачивает свой ста-
тус и может быть даже подвергнут суровому наказанию. Согласно
Хельмольду, “если же кто-нибудь, что случается весьма редко, бу-
дет замечен в том, что отказал чужеземцу в гостеприимстве, то
дом его и достатки разрешается предать огню, и на это все едино-
душно соглашаются, считая, что, кто не боится отказать гостю в
хлебе, тот - бесчестный, презренный и заслуживающий общего по-
смешища человек”21. К. Модзелевский полагает, что “возможно,
Хельмольд не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он опи-
сывал. Обращение коллектива против индивидуума, который на-
рушал правила гостеприимства, было здесь чем-то значительно бо-
лее ощутимым, чем моральное осуждение. Сожжение дома было
одним из строжайших наказаний, которые применяли племенные
общества”22. Действительно, сам способ наказания, заметим, сов-
падает с тем, который, по словам еще одного немецкого хрониста
Титмара Мерзебургского, писавшего в начале XI в., применялся
другими полабскими славянами, лютичами, в отношении тех, кто
нарушал “правила поведения” на ином, не менее важном общест-
венном мероприятии славянского архаического социума, “народ-
ном собрании”: “И всеми теми, которые вместе называются люти-
чами, никакой властитель единолично не управлял. Разбирая важ-
ные дела на собрании путем единодушного обсуждения, они все
приходили к согласию для принятия решений. Если же кто-либо из
соотечественников на собрании против них возражает, того бьют
палками и, если вне (собрания. - ПЛ.) оказывает открытое сопро-
тивление, он либо все теряет в результате поджога (курсив мой. -
ПЛ.) и безостановочного разграбления, либо он в их присутствии
выплачивает в зависимости от своего состояния необходимую де-
нежную сумму”23.
Не стоит, думается, вслед за пораженным гостеприимством ваг-
ров Хельмольдом считать, что мы имеем дело с какими-то присущи-
ми исключительно славянам социальными феноменами. Ведь и у
балтского народа пруссов, сохранившего вплоть до конца ХШ в., ко-
гда они были покорены немецкими крестоносцами, очень архаич-
ные черты общественного строя, мы сталкиваемся с подобными яв-
лениями. По свидетельству орденского хрониста Петра из Дусбурга,
собрания (placita, parlamenta) у них были тесно связаны с культовы-
ми церемониями, а центром социально-политической жизни был
пир (potacio)24. По-видимому, эти социокультурные феномены были
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
139
и гой или иной мере свойственны всей так называемой варварской
I'пропс или ее значительной части. Вопрос этот, впрочем, требует,
несомненно, отдельного изучения.
()днако, на первый взгляд, тут можно возразить, что все сказан-
ное имеет отношение только к задержавшимся в своем развитии ар-
мничсским, традиционным обществам, у которых не сложилось раз-
нитой государственности.
Но вот на Руси, в ХП-ХШ вв., где уже более 200 лет существует
государственность, фиксируются явления, поразительно схожие с
отмеченными выше у поморских славян.
В литературе хорошо известны древнерусские пиры. Однако
предметом внимания были в основном те, в которых участвовала ис-
ключительно социальная верхушка: князья и дружинники, а, значит,
они при отождествлении элитарной группы древнерусского общест-
1Ш с “феодалами”, могут быть охарактеризованы как “феодальные”
церемонии. Но есть и другие пиры, которые явно не вписываются в
"феодальную” модель.
По материалам гораздо более поздним, относящимся к XVII в.,
1Г1ПССТНЫ ритуальные пиры-братчины (преимущественно на Рус-
ском Севере). Сопоставлялись они и с засвидетельствованными в
жи тиях Оттона Бамбергского “собраниями” в храме Триглава в Ще-
цине25. Однако русские братчины позднего времени - это собрания
прихожан погостского храма, т.е. почти сплошь крестьян. Естест-
нснпо, никакого специально политического значения они не имели.
Однако есть и существенно более раннее русское свидетельство
о братчине, хронологически близкое к зафиксированным в житиях
епископа Оттона рассказах о поморянах. Под 6667 (115 826) г. в
Ипатьевской летописи сообщается о “братыцине” в Петров день в
11олоцке, переросшей в “вече на князя”, в результате чего Рогволод
Борисович вернул себе полоцкий стол: “...св’Ьтъ золъ св'Ьщаша на
князя своего Полочане на Ростислава на Глебовича... и послашася в
таин-Ь к Рогъволоду Борисовичю Дрьютьску... и начаша Ростислава
тати льстью оу братыцину к свят-Ьи Богородици к Старки на Пет-
роиъ дьнь, да ту имуть и. Он же 'Ьха к ним, изволочивъея в бронЪ
подъ порты, и не см-Ьша на нь дьрьзнути”. На следующий день поло-
чане снова стали приглашать князя к себе, однако, приехавший из
города “д-Ьтьскии” Ростислава сказал ему: “Не "бзди, княже, в-Ьче ти
в город!», а дружину ти избивають, а тебе хотять яти”27. Несмотря на
то, что по поводу полоцкой “братыцины” в историографии выска-
зывались разные соображения, бесспорно, как нам представляется
(особенно с учетом поздних сведений), ее понимание как “празднич-
ного пира”28. Таким образом, и здесь, как и в поморской Пыжице,
политическое собрание совпало с праздником (правда, в Пыжице - с
языческим, в Полоцке - с христианским) и пиром.
140
Феодализм перед судом историков
При этом действующие в летописном сообщении полочане -
участники “совета злого”, “братыцины” и веча, собранного с це-
лью изгнать Ростислава из Полоцка, однозначно отделяются от
княжеских дружин. Дружина Ростислава, к которой принадлежал
явившийся к князю в Белцицу детский (т.е. младший дружинник),
хотя и находилась в Полоцке (по крайней мере, ее часть), в вече яв-
но не участвовала и в число “полочан” данной статьи не входила;
наоборот, “полочане” ее избивают. Дружина же Рогволода Бори-
совича в это время, естественно, была со своим князем в Друцке.
Следовательно, полочане, полоцкие вечники этой летописной ста-
тьи - представители недружинной части населения, разных катего-
рий полоцких горожан. Но можно ли себе представить пир, столь
широкий по составу, и не в языческом Поморье, а в русском сред-
невековом городе?
Под 6656 (114929) г. в Ипатьевской летописи описывается вече в
Новгороде, созванное прибывшим туда князем Изяславом Мстисла-
вичем. “...и тако в Новъгород приде (Изяслав. - ПЛ.') с великою че-
стью и въ день недельный, и тоу оуср-Ьте сынъ его Ярославъ с бо-
яръ Новгородьцкыми и Ъхаста к святой Софьи на об'Ьднюю. Изя-
слав^ же [с] сыномъ Ярославом и посласта подвоискЪи и биричЪ по
оулицамъ кликати, зовучи къ князю на об'Ьдъ от мала и до велика,
и тако об'Ьдавше, веселишася радостью великою, честью разидоша-
ся въ своя домы. На оутрии же день пославъ Изяславъ на Ярославль
дворъ, и повелЪ звонити, и тако Новгородци и Псковичи снидошася
на въче”30.
И здесь бросается в глаза взаимосвязь веча и пира (“обеда”).
Среди новгородцев, бесспорно, выделяются новгородские бояре.
Именно они вместе с князем встречают Изяслава. Однако состав
участников и пира, и, очевидно, веча шире. На “обед”, по приказу
князя, зовут всех новгородцев “от мала до велика”, т.е. не только бо-
яр. При этом биричей и Подвойских рассылают по новгородским
улицам, а не по волости или селам, что говорит об участии в этом
пиршестве именно горожан. Такой же состав, надо думать, имеет и
вече, созванное наутро после того, как новгородцы повеселились на
“обеде” “радостью великой” и разошлись по домам. Ведь, когда ле-
тописец имеет в виду новгородских бояр, он их в этой статье и назы-
вает боярами, а вечников он именует новгородцами, т.е. более об-
щим понятием. Подтверждает это предположение и указание Мос-
ковского летописного свода конца XV в., сохранившего во многих
статьях, как показал А.Н. Насонов, “очищенный текст южнорусско-
го источника”, близкого к Ипатьевской летописи, но дающего в ря-
де случаев лучшие чтения31; согласно ему, на вече “снидошяся Ново-
городци вси”32. В вече участвуют и представители “пригорода” -
псковичи. Вполне вероятно, что такое же по существу явление под-
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
141
рнзумевается в статье Новгородской Первой летописи под
(• /-17( 1249/5033) г.: “Оженися князь Олександръ, сынъ Ярославль в
I loirhropofl’b, поя в Полотьск'б у Брячьслава дчерь, и в-бнчася в
Горопчи; ту кашю чини, а в Нов-бгород-б другую”34. Пиры в То-
ропце и Новгороде называются не “обедами”, а “кашами”, что со-
нсршенно не удивительно: ведь и в XVII в. главными продуктами,
потребляемыми на приходских братчинах, были пиво и каша35.
11 оводом для пира здесь стал не церковный праздник, а женитьба
князя, Александра Невского, что, конечно, принципиального зна-
чения не имеет.
В Киеве мы тоже встречаемся с “политическими” пирами. Под
(>(•59 (115136) г., в Ипатьевской летописи рассказывается об участии
и “обеде”, данном Изяславом Мстиславичем, уже “всех киян”:
"Оуведе Изяславъ стръя своего и отца своего Вячьслава оу Киевъ.
Нячьславъ же оубха в Киев, и -бха к святб'б Софьи, и сбде на столб
дбда своего и отца своего, и позва сына своего Изяслава к собб на
оббдъ, и Кияны веб, и королевы мужи, и Оугры, и с их дружиною,
и пребыша в величи любви”37. Примечательно, что и здесь в пире
участвуют не только князья и дружина, но и “все кияне”, т.е. киев-
ские горожане. Их присутствие на пиру не должно смущать, так как,
видимо, это было весьма масштабное мероприятие: в нем участвова-
ли нс только “мужи” венгерского короля, т.е. знать, но и “Угры” -
рядовые члены венгерского войска. Конечно, о политическом зна-
чении этого пира прямо в летописи не говорится.
Но в той же летописи ниже, под 6703 (119538) г. мы видим уже
развернутую картину традиционных социально-политических отно-
шений в киевском социуме. Речь в ней идет о заключении договора
между двумя могущественными русскими князьями того времени,
оратьями Ростиславичами: Давыдом смоленским и Рюриком киев-
ским: “Посла Рюрикъ по брата своего по Давыда къ Смоленьскоу,
река емоу: “И поиде Давыдъ и-Смоленьска в лодьяхъ [с] Смолняны,
и нриде Вышегородъ во средоу роусалнои недблб. И позва и Рю-
рикъ на об’Ьдъ. Давыдъ же прибха ко Рюрикови на оббдъ, и быша
и любви велици и во весельи мнозб, и даривъ дары многими, и отпо-
усти и. И оттолб позва сыновбць его Ростиславъ Рюриковичь к
собб на об'бдъ к Бблоугородоу, и тоу пребыша в весельи велицб и
и любви мнозб. Ростиславъ одаривъ дары многими и отпоусти. И
Давыдъ же позва великого князя Рюрика на об'бдъ к собб брата
своего и д-бти его, и тоу пребыша в весельи и в любви велицб. И ода-
рниъ Давыдъ брата своего Рюрика дарми многими и отпоусти и. По-
том же Давыдъ позва манастыря вся на об'бдъ, и бысть с ними ве-
селъ, и милостыню силноу раздава имъ и нищимъ, и отпоусти я. По-
томъ же позва Давыдъ Чернии Клобоуци вси, и тоу попишася оу не-
го вси Чернии Кло[боу]ци, и одаривъ их дарми многими, и отпоусти
142
Феодализм перед судом историков
их. Кыян'Ь же почаша звати Давыда на пиръ, и подаваючи емоу
честь великоу и дары многи. Давыдъ же позва КыянЪ к соб-6 на
об'Ьдъ, и тоу бысть с ними в весельи мноз-Ь, и во любви велици, и от-
поусти их”39. Выясняется, что соглашение между князьями в этот пе-
риод требовало урегулирования отношений этих князей с влиятель-
ными в Киевской земле силами: князьями и их окружением; духо-
венством (“монастырями”); находившимися на службе у русских
князей тюрками-федератами (“черными клобуками”); киевскими
горожанами, образовывавшими во время войны, по выражению ле-
тописца, “сильный полк Киевский” (“киянами”). И тем механизмом,
который обеспечивает это, оказывается не что иное, как целая се-
рия пиров, сопровождающаяся обменом дарами. Самые ранние сви-
детельства об одаривании как об элементе социальной жизни, игра-
ющем важную роль в отношениях между князем и населением зафи-
ксированы в упоминавшейся выше “Хронике” Титмара Мерзебург-
ского и русском начальном летописании в повествованиях о борьбе
за власть после смерти князя Владимира Святославича40. Согласно
Титмару, когда союзник Святополка “Окаянного” Болеслав Храб-
рый вторгся на территорию Руси, он “с желанным успехом пресле-
довал рассеявшихся врагов, и его принимали все жители и почтили
многочисленными дарами”41. В добровольности этих “многочислен-
ных даров” можно, конечно, сомневаться, но то, что термин munera
(“дары”), по-видимому, не является чисто риторическим, а отражает
некий реальный церемониал в отношениях между польским князем
и русским населением, выясняется из данных начального летописа-
ния, в соответствии с которыми еще раньше, в 1015 г., первой акци-
ей Святополка, стремившегося укрепиться в Киеве, было одарива-
ние местных жителей: “Святополкъ с-бде в Киевъ по отци, и съзва
Кыян’Ь и нача даяти им-бние имъ...”42. Ниже в ПВЛ сообщается (это-
го известия нет в НПЛ) следующее: “Святополкъ же оканьныи нача
княжити КыевЪ. Созвавъ люди, нача даяти овЪмъ корзна, а другым
кунами, и раздая множьство”43. Аналогичное сообщение есть и в
“Сказании о Борисе и Глебе”: “Святопълкъ же сЪдя КыевЪ по отци,
призвавъ Кыяны, много дары имъ давъ, отпусти”44. Здесь, как ви-
дим, используется даже тот же термин: “дары”. Разница в том, что
Болеслава одаривало русское население, а Святополк сам одаривал
киевлян, что объясняется, конечно, разным положением князей: Бо-
леслав выступал как удачливый завоеватель, и люди были заинтере-
сованы в его благосклонности, Святополк же, напротив, сам зависел
от благосклонности киевлян, поэтому дары, очевидно, ожидались от
него. М.Б. Свердлов резонно замечает, что «это была обычная для
средневековья форма “щедрости” как средства привлечения князья-
ми (королями) симпатий прежде всего городского населения на
свою сторону»45.
И.В. Лукин. Праздник, пир и вече
143
Н событиях же 1195 г. существенно то, что в случае с киевляна-
ми мы имеем дело не просто с одариванием правителем подвласт-
ных ему людей, но именно с церемонией, где в роли дарителей вы-
ступают обе стороны.
11ельзя исключать того, что столь же масштабное по составу
учпетпиков торжественное мероприятие имеет в виду и проезжав-
ший в 1247 г. через южную и юго-западную Русь на обратном пути
нт Каракорума францисканец Джованни дель Плано Карпини: “Ки-
енляпе же, узнав о нашем прибытии, все радостно вышли нам на-
встречу, именно они поздравляли нас, как будто мы восстали от мер-
твых... Даниил и Василько, брат его46, устроили нам большой пир и
продержали нас против нашей воли дней с восемь”47. Слово festum,
которое используется в оригинале, означает одновременно и пир и
прптдник, т.е., по-видимому, речь идет именно о торжественном
прпздничном пире. Либо в ходе него, либо сразу после состоялось
совещание, на котором, если верить католическому монаху, обсуж-
дался вопрос о признании южнорусскими землями покровительства
Римской церкви: “Тем временем они совещались между собою с епи-
скопами и достойными уважения людьми о том, о чем мы говорили
с ними, когда ехали к Татарам, и единодушно ответили нам, говоря,
что желают иметь господина Папу своим преимущественным госпо-
дином и отцом, а святую Римскую Церковь владычицей и учитель-
ницей...”48. В самом совещании, вполне возможно, участвовали толь-
ко представители социальной элиты (хотя точно установить, кто
скрывается за понятием probi viri, сложно), но связь его с торжест-
венной встречей почетных гостей и последовавшим за ней празднич-
ным пиром, прослеживается достаточно ясно.
Итак, несмотря на заметные различия между рассмотренными
явлениями у поморян и в Древней Руси (так, например, в собраниях
поморян иногда участвуют не только горожане, как это характерно
для древнерусского веча, но и сельское население из “провинции” -
явное свидетельство более архаического характера социально-поли-
тических структур у поморских славян), очевидны и общие, весьма
существенные черты. Мы видим, что свойственное для многих исто-
риков XIX в. (да и более позднего времени) стремление четко опре-
делить сущность и функции “институтов” раннесредневековых или
архаических обществ здесь не работает. С чем мы имеем дело? С
праздником, языческим или христианским? С пиром, который стано-
вится центром социальной жизни данной территории? С собранием
“народа”, принимающим важнейшее политическое решение и при-
знаваемым в качестве легитимного “института” властными структу-
рами (князем и знатью)? По-видимому, и с тем, и с другим, и с треть-
им. Обращает на себя внимание еще и то, что зачастую в собраниях
участвует отнюдь не только элита, но и широкие слои населения, что
144
Феодализм перед судом историков
выводит эти явления за рамки традиционного представления о “фео-
дальных” ритуалах. Очевидно, именно здесь, на праздничном пире-
собрании и происходит выявление, манифестация единства данных
политико-территориальных общностей.
Может возникнуть вопрос: какое эти, безусловно, лишь предва-
рительные наблюдения, требующие дальнейшего анализа, имеют
отношение к проблеме “феодализма”, русского или общеевропей-
ского? На первый взгляд, это отношение - чисто негативное. Дейст-
вительно, А.Я. Гуревич многократно и в том числе в обсуждаемом
докладе отмечал, что для историков, придерживающихся, условно
говоря, феодальной концепции, рассматривавшихся выше явлений
либо вообще не существует, либо они объявляются маргинальными
(их могут относить к сфере малопочтенных в системе традиционно-
го научного дискурса разделов истории, таких как быт, нравы, по-
вседневная жизнь), либо, если это невозможно, их пытаются насиль-
но втиснуть в рамки господствующей концепции.
В историографии Древней Руси это произошло соответственно с
пиром (практически ускользнувшим из поля зрения “серьезных” исто-
риков), праздником (монополия на его изучение, в том числе как яв-
ления социального, принадлежит этнографам) и вечем (которое, бу-
дучи еще в XIX в. вырвано историками государственно-правовой
школы из контекста аналогичных социальных явлений традиционно-
го общества и приобретя сомнительную честь называться “институ-
том”, в историографии советской пострадало еще больше: именно в
связи с вечем были сформулированы самые своеобразные теории
древнерусского социально-политического строя - от идеи узкосослов-
ной “феодальной демократии” до концепции общинного народовла-
стия, аналогичного древнегреческому полисному устройству49). Если
же мы дадим этим (и многим другим, не затрагивавшимся в этой ра-
боте) явлениям право на существование, они, на наш взгляд, не смо-
гут быть адекватно объяснены любой формой “феодальной концеп-
ции”: как истматовской, так и модифицированной - теорией “государ-
ственного феодализма”. В этом смысле эвристическая модель феода-
лизма не способствует изучению этих явлений (разумеется, автор
этих строк отнюдь не собирается столь же догматически отрицать,
что для каких-то других проблем она может быть полезной.
Однако в действительности очень часто споры о “феодализме”
маскируют, как кажется, совершенно иную проблему - места Руси
(России) в Европе (или отсутствия оного). Это ясно видно по поя-
вившимся в последние годы публикациям. Так, например, А.Л. Юр-
ганов, не обнаружив на Руси свойственных вроде бы для классиче-
ского западноевропейского феодализма явлений (вассально-лен-
ных отношений и т.д.) ставит вопрос об особом цивилизационном
пути России и даже о русско-монгольском синтезе. С другой сторо-
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
145
ни, в недавней монографии М.Б. Свердлов, отметив другие фено-
мены, напоминающие, по его мнению, западноевропейские анало-
ги, делает на этом основании противоположный вывод; одновре-
менно эти схожие явления последовательно объявляются “фео-
дальными”50.
Иными словами, мы видим, что “феодализм” стал этикеткой,
эмблемой других, более глубоких проблем, для изучения которых
требуется, на наш взгляд, перемена самой исследовательской точки
(рения (от абстрактных теорий к реальности) и включение в кон-
текст сравнительно-исторических исследований проблематики, ир-
релевантной для традиционных дискуссий о “феодализме”. В этом
смысле чрезвычайно полезной и потенциально плодотворной ка-
жется недавняя попытка польского медиевиста К. Модзелевского
рассмотреть целый ряд характерных для архаических и раннесред-
невековых обществ явлений в рамках модели “варварской Европы”.
11од “варварской Европой” историк понимает этнические группы,
которые в течение долгого времени либо не испытывали влияния
средиземноморской культуры, либо такое влияние было слабым
(германцы, славяне, кельты, балты, угро-финны). Тем самым у них
в течение длительного времени сохранялись важнейшие особенно-
сти традиционного общественного строя. С другой стороны, К. Мод-
зелевский вслед за немецким ученым Р. Венскусом51 полагает, что
устоявшаяся в науке еще с первой половины XIX в. и основанная на
свойственных для романтического периода историографии предста-
влении о “национальном духе” традиция рассматривать социальные
структуры указанных народов в отрыве друг от друга принципиаль-
но неверна. Напротив, справедливо, думается, возражая против та-
кой “сегрегации”, он соглашается с Р. Венскусом в том, что славяне
и балты, германцы и кельты, несмотря на все отличия, относятся в
широком смысле к одному “культурному кругу, в пределах которо-
го традиционные общества были организованы на близких принци-
пах”52. В своей монографии К. Модзелевский на основе такого под-
хода рассматривает некоторые важнейшие, с его точки зрения, из
этих принципов, в том числе и вече53.
Попыткой наметить некоторые пути такого подхода и является
данная работа.
1 См. статью в настоящем сб.: Гуревич А.Я. Феодализм пред судом истори-
ков, или О средневековой крестьянской цивилизации (с. 11-49).
2 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории.
Л., 1980. С. 137-149.
3 См., например: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская
власть на Руси VI - первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 189.
IО Одиссей, 2006
146
Феодализм перед судом историков
4 Herbordi Dialogue de vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis / Monumenta
Poloniae Historica. Series Nova. (Далее: MPH. S.N.) / Rec. et ann. J.
Wikarjak, praef. et comm, est K. Liman. W-wa, 1974. T. VII, fasc. 3. II. 14.
(Далее: Herbordus.) S. 84: “...Illic hominum ad quatuor milia ex omni
provincia confluxisse... aspeximus. Erat enim nescio quis festus dies pagano-
rum, quern lusu, luxu cantuque gens vesana celebrans vociferacione alta red-
didit attonitos” (здесь и далее пер. авт. кроме указ, случаев). X. Лов-
мяньский считает, что речь идет о русалиях - языческом празднике,
сопровождавшемся “совместным потреблением пожертвованной
пищи, обрядовыми пенями, плясками, общим весельем”. См.:
Ловъмянъский X. Религия славян и её упадок. VI-XII вв. СПб., 2003.
С. 187.
5 См„ -например: Zernack К. Die burgstadtischen Volksversammlungen bei den
Ost- und Westslaven: Studien zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des
VeCe. Wiesbaden, 1967. (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und
Wirtschaftsforschung des Europaischen Ostens. Bd. 33.) S. 227-228, 231, 235.
6 Herbordus. “...nobis visum est... in turbam potu leticiaque ferventem nos...
advenire”.
7 Modzelewski K. Barbarzyriska Europa. W-wa, 2004. S. 377, 378.
8 Herbordus. S. 86: “...ad populum egressi, qui sicut ad festum confluxerat, contra
morem indispersus Dei nutu in loco manebat nec in rus discesserat”.
9 Cm. Ibid.: “...omnis ilia miltitudo populi auditis primatum verbis in eandem sese
convenienciam inclinaverit”.
10 Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis // MPH. S.N. W-wa, 1969.
T. VII, fasc. 2. III. 16. S. 123-124. (Далее: Ebo.): “Indicitur ergo generale col-
loquium post quatuordecim dies, in quo certa diffinicione sacerdotes cum plebe
iugum Christi aut susciperent, aut penitus abdicarent. Statuta igitur die antistes
Domini montem Trigelawi in media civitate, ubi sedes erat ducis, ascendit, mag-
namque domum, huic colloquio oportunam, intravit. Assunt principes cum sac-
erdotibus natuque maioribus...” См. об этом: Dzieje Szczecina. W-wa; Poznan,
1985. T. 2. Wiek X - 1805. S. 34.
11 Herbordus. Ш. 20. S. 182.
12 Cm.: Wiesener W. Die Geschichte der christlichen Kirche in Pommem zur
Wendenzeit. B„ 1889. S. 103.
13 Cm.: Wikarjak J. Zywoty Ottona jako zrddlo historyczne // Pomorze Zachodnie
w zywotach Ottona. W-wa, 1979. S. 22-23.
14 5. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Prieflingensis // MPH. S.N. W-wa,
1966. T. VII, fasc. 1. III. 10. S. 68: “...Principes civitatis cum reliqua multitudine
consedentes, habita secum deliberatione, obtemperare episcopo et Christo
credere decreverunt...”
15 Herbordus. II. 32. S. 122-123: “Erant autem in civitate Stetinensi cdntine
quatuor. Sed una ex his que principalis erat, mirabili cultu et artificio constructa
fuit... In hanc edem ex prisca patrum consuetudine captas opes et arma hostium
et quicquid ex preda navali vel etiam terrestri pugna quesitum erat, sub lege dec-
imacionis congerebant. Crateres etiam aureos vel argenteos, in quibus augurari,
epulari et potare solebant ac potentes in diebus sollempnitatum quasi de sanctu-
ario proferendos ibi collocaverant. Cornua etiam grandia taurorum agrestium
deaurata et gemmis intexta, potibus apta et cornua cantibus apta, mucrones et
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
147
eultros, multamque suppellectilem preciosam, гагат et visu pulchram, in oma-
tum et honorem deorum suorum ibi conservabant...”
1,1 Ibid. S. 124: “Erat autem ibi simulacrum triceps, quod in una corpora tria capita
habens Triglaus vocabatur...”
11 Ibid.: “Tres vero alie cdntine minus venerationis habebant minusque ornate fuer-
ant. Sedilia tantum intus in circuitu exstructa erant et mense, quia ibi conciliab-
ula et conventus suos habere soliti errant; nam sive potare sive ludere, sive seria
sua tractare veilent, in easdem edes certis diebus conveniebant et horis”.
IH См. об этом также: Boron P. Slowiariskie wiece plemienne. Katowice, 1999.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach. #1841). S. 88.
14 llerbordus. Ш. 3. S. 152: “...Baronibus et capitaneis tocius provincie ac prefectis
civitatum in festo pentecostes conventum indixit...”
Ebo. III. 6. S. 104: “Statimque in festivitate penthecostes generale principum
rcgni sui colloquium in eodem loco indixit. Ubi convenientibus Timinensis civi-
tatis aliarumque urbium primoribus, sapienter eos ad suscipiendum christiane
fidei iugum provocabat”.
•’* Гелъмольд. Славянская хроника / Пер. Л.В. Разумовской. М., 1963.
С. 184-185. В оригинале: “...rogavit Pribizlaus ut diverteremus in domum
suam, quae erat in oppido remotiori. Et suscepit nos cum multa alacritate, fecitque
nobis convivium lautum. Mensam nobis appositam viginti fercula cumularunt.
Illic experimento didici, quod ante fama vulgante cognovi, quia nulla gens hon-
cstior Slavis in hospitalitatis gratia. In colligendis enim hospitibus omnes quasi ex
sententia alacres sunt, ut nec hospitium quondam postulate necesse sit. Quidquid
enim in agriculture, piscacionibus seu venatione conquirunt, totum in largitatis
opus conferunt, eo fortiorem quemquam quo profusiorem iactitantes. Cuius
ostentacionis affectacio multos eorum ad furta vel latrocinia propellit. Quae
utique vitiorum [genera] apud eos quidem venialia sunt, excusantur enim hospi-
talitatis palliatione. Slavorum enim legibus accedens, quod nocte furatus fueris,
crastina hospitibus disperties. Si quis vero, quod rarissimum est, peregrinum hos-
pitio removisse deprehensus fuerit, huius domum vel facultates incendio con-
sumere licitum est, atque in id omnium vota pariter conspirant, ilium inglorium,
ilium vilem et ab omnibus exsibilandum dicentes, qui hospiti panem negare non
timuisset”. Cm.: Helmoldi presbyteri Boroviensis Cronica Slavorum / Rec. B.
Schmeidler I I Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex MGH sep-
aratim editi. Hannoverae, 1937. Lib. I. Cap. 82. S. 158-159.
Modzelewski K. Barbarzyriska Europa. S. 30.
Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon Ц Monumenta Germaniae
Historica. Scriptores rerum Germanicarum. N.S. B., 1935. T. IX / Hrsg.
R. Holtzmann. VI. 25 (18). S. 304: “Hiis autem omnibus, qui communiter Liutici
vocantur, dominus specialiter non presidet ullus. Unanimi consilio ad placitum
suimet necessaria discucientes, in rebus efficiendis omnes concordant. Si quis
vero ex comprovincialibus in placito hiis contradicit, fustibus verberatur et, si
forinsecus palam resistit, aut omnia incendio et continua depredatione perdit aut
in eorum presentia pro qualitate sua pecuniae persolvit quantitatem debitae. Cm.
об этом: Zernack К. Die burgstadtischen Volksversammlungen... S. 212-213;
Lowmiariski H. Poczqtki Polski. W-wa, 1970. T. IV. S. 90-91.
•M Petri de Dusburg. Chronica Terre Prussie / Ubersetzt und erlautert von K. Scholz
und D. Wojtecki. Darmstadt, 1984. III. 5. S. 104,106,210; Ausgewahlte Quellen
148
Феодализм перед судом историков
zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. XXV. S. 324, 326 (pyc. nep.:
Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / Изд. В.И. Матузова. М.,
1997. С. 52-53; 134).
25 См.: Флоря Б.Н. Отношения государства и церкви у восточных и запад-
ных славян (Эпоха средневековья). М., 1992. С. 85.
26 См.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 170.
27 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 494-496.
28 См.: Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси
XI-XIII вв. М., 1955. С. 212; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские кня-
жества ХП-ХШ вв. М., 1982. С. 520; Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт
исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб.,
1995. С. 526; Miihle Е. Die stadtischen Handelszentren der nordwestlichen Ru$.
Anfange und fnihe Entwicklung altrussischer Stadte (bis gegen Ende des 12.
Jahrhunderts). Stuttgart, 1991. S. 236, Anm. 236. Ср., например, мнения
M.B. Довнар-Запольского, полагавшего, что “братыцина” - это церков-
ное братство при храме св. Богородицы (см.: Довнар-Заполъский М.В.
Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столе-
тия. Киев, 1891. С. 47) и В.Т. Пашуто, считавшего братыцину купече-
ским объединением, возглавившим выступление полочан (см.: Пашу-
то В.Т. Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское го-
сударство и его международное значение. М., 1965. С. 28; см. также:
Штыхов Г.В. Древний Полоцк. IX-XIII вв. Минск, 1975. С. 18-19). Эти
тезисы не подтверждены данными источников.
29 См.: Бережков Н.Г. Хронология... С. 61,147-148, 312.
зо ПСРЛ. Т. 2. Стб. 369-370.
31 Насонов А.Н. История русского летописания XI - начала XVIII в. М.,
1969. С. 288.
32 ПСРЛ. Т. 25. С. 45.
33 См.: Бережков Н.Г. Хронология... С. 262.
34 ПСРЛ. Т. 3. С. 77.
35 См.: Флоря Б.Н. Отношения... С. 85.
36 6659 г. в Ип. мартовский, а “описываемые события происходили... в кон-
це марта или, во всяком случае, не позже самого начала апреля” (Береж-
ков Н.Г. Хронология... С. 141, 151).
37 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 418-419.
38 Это известие находится в первой части статьи Ип. под 6703 г., которая,
согласно Н.Г. Бережкову, относится к соответствующему же мартовско-
му году. Давыд Ростиславич прибыл в Вышгород в среду “русальной не-
дели” (т.е. седмицы после праздника Св. Троицы), которая в тот год при-
ходилась на 17 мая. См.: Бережков Н.Г. Хронология... С. 207. Следова-
тельно, описываемые события происходили в 1195 г. от Р.Х.
39 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 681-682.
40 Подробнее о социально-политических аспектах проблемы см.: Лу-
кин П.В. Киевляне XI века в русских источниках и “Хронике” Титмара
Мерзебургского И Древняя Русь. 2003. № 4 (14). Дек. С. 94—96.
41 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon. VIII. 31 (16). S. 530: “...optata
prosperitate inimicos palantes insequitur et ab incolis omnibus suscipitur multi-
sque muneribus honoratur”.
П.В. Лукин. Праздник, пир и вече
149
42 ПСРЛ. Т. 3. С. 169. В ГГВЛ читается содержательно такой же текст:
“Святополкъ же сЪде Кыев-ь по отци своемь, и съзва Кыяны и нача да-
яти имъ именье” (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 132).
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 140.
44 Абрамович Д.И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им.
Пг„ 1916. С. 31-32.
45 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси
VI - первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 320.
46 Имеются в виду Даниил Романович галицкий и его брат Василько Рома-
нович.
47 Джиованни Плано дель Карпини. История монголов Ц Путешествия в вос-
точные страны Плано дель Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 81. В ориги-
нале: “Kiovienses autem quando adventum nostrum perceperunt omnes occurre-
runt nobis letanter. Congratulabantur enim nobis, quasi nos a mortuis surgere-
mus... Daniel et Wasilco frater eius fecerunt nobis magnum festum et tenuerunt
nos contra voluntatem nostram bene octo dies” (Sinica franciscana. Vol. 1: Itinera
et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XIV I Ed. P. Anastasius van den
Vyngaert O.F.M. Ad Claras Aquas (Firenze: Quaracchi), 1929. P. 127).
48 Джиованни дель Плано Карпини. Указ. соч. С. 87. В оригинале: “Medio
tempore inter se et cum Episcopis et aliis probis viris consilium habentes super
his que locuti fueramus eisdem, [quando] ad Tartaros procedebamus, nobis res
ponderunt communiter dicentes quod dominum Papam vellent habere in
dominum specialem et in pattern, et sanctum Romanam Ecclesiam in dominant
et magisttam...” (Sinica franciscana. Vol. 1. P. 127). О сути обсуждавшегося
вопроса см.: Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского
мира (ХШ век). СПб., 2004. С. 155.
49 Еще в 30-е годы XX в. С.В. Юшков в общих чертах сформулировал, а в
60-70-е годы В.Т. Пашуто, а особенно В.Л. Янин (на материалах Новго-
рода) и П.П. Тол очко (на материалах Киева) развили концепцию, сог-
ласно которой в вече преимущественно или исключительно играли роль
представители “господствующего класса”, “феодалов”, к которым в
Древней Руси причисляли бояр и дружинников. В конце 70-х - начале
80-х годов в трудах ленинградского исследователя И.Я. Фроянова и его
учеников, опиравшихся отчасти на земско-вечевую теорию, популярную
в русской историографии XIX в., отчасти на различные “неклассиче-
ские” марксистские концепции (идеи “дофеодального периода”, “общин-
ности без первобытности” и др.), нашел отражение “альтернативный”
подход к общественному строю Древней Руси, в центре которого нахо-
дилось представление о вече как о народном собрании “демократиче-
ских слоев населения города и деревни”, типологически близком к на-
родным собраниям древнегреческих полисов. См. об этом подробнее:
Лукин П.В. Город и вече: социальный аспект (историографические за-
метки) Ц Cahiers du Monde Russe. 46. 1-2. Janvier-juin. 2005.
50 См.: Лукин П.В. Рец. на кн.: Юрганов А.Л. Категории русской средневе-
ковой культуры. М.: Мирос, 1998. 448 с., илл. // Средневековая Русь. М.,
2001. Вып. 3; Лукин П.В., Стефанович П.С. Рец. на кн.: Свердлов М.Б.
Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI-XIII вв. СПб,
2003. 736 с. Ц Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6.
150 Феодализм перед судом историков
51 Wenskus R. Probleme der germanisch-deutschen Verfassungs- und
Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie // Historische Forschungen fiir
Walter Schlesinger. Koln, 1974.
52 Modzelewski K. Barbarzyriska Europa. S. 12.
53 Ibid. S. 356-401. При этом, как оговаривается автор, концепция “варвар-
ской Европы” является не конкретной задачей, а общей программой ис-
следований. Так, сам он ограничивается характеристикой лишь некото-
рых принципов на основе германских и славянских данных. Как скромно
подчеркивает К. Модзелевский, “отсутствие компетенции не позволило
мне заняться исторической антропологией ни балтских народов, ни ост-
ровных кельтов, ни даже балканского славянства” (Ibid. S. 12).
П.С. Стефанович
БОЯРСКАЯ СЛУЖБА
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ*
('лужба бояр князю - один из первых примеров, на который обыч-
но ссылаются, утверждая существование феодализма в средневеко-
вой Руси. При этом она интерпретируется как вассалитет, основан-
ный на землевладении (“вассально-ленные отношения”): бояре-вас-
салы вступают в служебный договор с князем-сюзереном, и судьба
их вотчин и поместий так или иначе оказывается в зависимости от
этой службы. В таком духе высказывался уже Н.П. Павлов-Силь-
ванский, первый историк, который последовательно и систематиче-
ски пытался доказать, что Древняя Русь представляла собой фео-
дальное общество; в советской историографии эту мысль развивали
С.В. Юшков и В.Т. Пашуто1.
Однако есть целый ряд явлений, связанных с боярской службой,
которые не укладываются в эту интерпретацию или плохо согласу-
ются с ней. В историографии уже обращалось внимание на ее наи-
более уязвимое место - в источниках не прослеживается прямая
связь службы с землевладением. Вообще, землевладение сеньори-
ального типа вплоть до XIV в. если и существовало на Руси, то в лю-
бом случае не имело первостепенного значения; основные доходы
знать в Древней Руси извлекала не из эксплуатации земельных вла-
дений (вотчин), а из военной и административной службы князю
(т.е. обогащалась военной добычей и доходами от исправления
должности - так называемыми кормлениями). Поборниками идеи
“русского феодализма” не принимался во внимание также тот факт,
что бояре в средневековой Руси нередко вступали в отношения с
князем корпоративно как представители “земли”, принимавшие его
в качестве правителя на определенных условиях. Такого рода поря-
док получил наиболее яркое выражение в русских средневековых
городах-“республиках” (прежде всего в Новгороде и Пскове), одна-
ко он обнаруживает себя также и в других древнерусских землях,
особенно в эпоху, непосредственно предшествовавшую монгольско-
му нашествию (конец XII - начало ХП1 в.). Коллективизм и связь бо-
ярства с городской организацией - явления, которые с феодализмом
ничего общего не имеют.
Мои исследования обрядовой стороны взаимоотношений князя
и знати в средневековой Руси показывают, что и в этом аспекте пря-
мые аналогии с западноевропейскими порядками не обнаруживают-
ся. Древнерусские ритуалы вступления на службу князю и оставле-
ния ее не могут быть сопоставлены, вопреки утверждениям
I would like to acknowledge support received from the INTAS, which contributed to this article.
152
Феодализм перед судом историков
Н.П. Павлова-Сильванского2, ни по сути, ни формально с западноев-
ропейскими (оммаж, инвеститура и т.д.). Более того, присягу верно-
сти служилые люди стали приносить государю только в относитель-
но позднее время - не ранее середины XIV в., и она носила не част-
ноправовой, а публичный, государственно-служебный характер, т.е.
в сущности это была присяга подданных, а не вассалов. До этого
времени, утверждая (или подтверждая по какому-то случаю) отно-
шения верности и службы с князем, бояре и служилые люди лишь
произносили некоторые условные формулы общего содержания
(“готовы за тебя голову положить” и т.п.)3.
Разумеется, нельзя отрицать существование некоего вассально-
договорного начала в отношениях князя и знати, но, очевидно, нель-
зя также постулировать его принципиально определяющий харак-
тер и строить на этом фундаменте какие-либо “феодальные” конст-
рукции.
В целом вырисовывается довольно сложная картина отношений
правителя и знати в Древней Руси и, в частности, организации бояр-
ской службы, в которой распознаются как некоторые аналогии яв-
лениям, известным в других частях средневековой Европы, так и яв-
ные черты своеобразия. Конечно, эти аналогии можно более или
менее удобно разместить в “феодальной модели” древнерусского
общества, но проблема в том, что всегда будут оставаться некие чер-
ты, заставляющие говорить о “не вполне развитом характере” это-
го общества, “упущенных возможностях” и т.д. А из этого следуют
утверждения об “отставании” исторического развития Руси, или, на-
оборот, о “забегании вперед” или “пробегании” определенных эта-
пов4. В итоге, хотя, кажется, никто не сомневается, что древнерус-
ское общество развивалось по своим собственным законам и путям,
целостного и внутренне связного представления об этих законах и
путях не складывается. Такого рода проблемы интерпретации ясно
обнаружатся, если мы посмотрим, как в существующих концепциях
истории средневековой Руси трактуются вопросы, связанные с бояр-
ской службой.
В концепциях “закрепощения сословий” и “вечевых основа-
ний” древнерусского строя, которые господствовали в досоветской
историографии, подход к оценке отношений князя и служилого
класса был задан идеей о трансформации дружинного строя в са-
модержавный - от “вольности” к “подданству”. Впрочем, этим от-
ношениям вообще не придавалось принципиального значения - ос-
новными действующими лицами на исторической арене были пра-
вители и “народ”; с исчезновением дружинной организации знать
представала лишь инструментом в руках власти. Такой подход под-
разумевал резкое противопоставление России Европе (откуда по-
том выросла теория “русского деспотизма”) и не давал внятной
П.С. Стефанович. Боярская служба в Средневековой Руси
153
оценки периоду XIII-XV вв.: ведь поскольку к концу XII в. фикси-
ровались явные признаки распада дружинного строя, период до об-
разования московского самодержавия (конец XV в.) представал ка-
ким-то переходным (так называемый удельный период, когда, по
выражению Н.М. Карамзина, Русь “гибла от разновластья”). Во
многом именно этим объясняется, почему вопрос о “русском фео-
дализме”, впервые серьезно поставленный Н.П. Павловым-Силь-
ва неким, приобрел такую остроту.
Прямолинейное сопоставление организации служилого класса
Руси с западноевропейской вассально-ленной системой, принятое
среди советских историков, как уже сказано, вызывает больше во-
просов, чем дает ответов. В настоящее время в изучении древне-
русской истории существуют три подхода. Два из них пытаются
"спасти” “феодализм” на Руси, предлагая расширить само это поня-
тие: в одном случае говорится о “государственном феодализме”, во
втором (этот подход предложил петербургский историк
М.Б. Свердлов) - о феодализме, основанном на “неземельных фье-
фах”. К сожалению, на деле это расширение мало что дает: само
понятие феодализма выхолащивается, и феодальным при желании
уже можно объявить едва ли не любое общество в истории челове-
чества5. Если же посмотреть, как осмысляется наша тема, то уви-
дим, что просто повторяется старая идея: развитие шло от “воль-
ной” дружины к схеме “государь-подданные”, а как характеризо-
вать строй отношений правителя и знати после разложения дружи-
ны и до формирования самодержавного строя - неясно. Эти вопро-
сы не существенны для третьего подхода, представленного так на-
зываемой “школой И.Я. Фроянова”. Этот историк отказывается в
объяснении древнерусского общества домонгольской эпохи от
“феодальной модели”, потому что она подразумевает существова-
ние классов и классовых антагонизмов. Согласно теории “общин-
ности без первобытности” (термин А.И. Неусыхина), это общест-
во являлось монолитной “общиной”; отношения власти и подчине-
ния описываются как “потестарные”, т.е. не вполне государствен-
но-классовые, и они отступают на самый задний план. В этой “об-
щинности” знати или элите места не отводится, а вопрос о том, ку-
да и как дальше шло развитие в XIII-XV вв., вообще не ставится.
Стремление И.Я. Фроянова обозначить “особый путь” Руси пред-
ставляет собой, очевидно, реакцию на попытки вписать историю
России в европейские схемы, однако удовлетворительной его тео-
рию - единственную на сегодняшний день альтернативную “фео-
дальной модели” - признать нельзя, во всяком случае, для объясне-
ния интересующих меня вопросов.
Тенденцией, господствующей сегодня в историографии, являет-
ся не противопоставление России и Западной Европы, но, напротив,
154
Феодализм перед судом историков
их сближение. В то же время, поскольку “феодальная модель” не оп-<
равдала себя, наблюдается явный дефицит интерпретаций, которые
бы ясно и конкретно обозначали единство исторических путей Рос-
сии и Европы. В этой ситуации, как мне кажется, новый взгляд на
средневековое общество, предложенный А.Я. Гуревичем, особенно
ценен для историка-русиста.
Хотя А.Я. Гуревич концентрирует внимание на слое “рядовых
свободных домовладельцах” и крестьянском мире, но общий вывод,
что средневековая европейская цивилизация не исчерпывается
“феодальной ипостасью”, с нашей точки зрения, позволяет по-ново-
му взглянуть и на элиту. Высвобождая из “феодальных пут” основ-
ную массу низших слоев - свободное крестьянство, - было бы не-
правильно оставить в них элиту и властные сферы. Мир элитных
слоев средневекового общества и их образ жизни тоже совсем не ог-
раничивался вассально-ленными отношениями и эксплуатацией за-
висимых крестьян. Русский материал демонстрирует это еще более
отчетливо, чем европейский: вассалитет здесь выражен слабее, зато
большее значение сохраняют дары, пиры и некоторые другие явле-
ния (о которых дальше) в качестве, как выражается А.Я. Гуревич,
“важнейших узлов межличностных связей”. Для отношений князя и
знати и принципов боярской службы этот момент социального об-
щения и взаимной связи дарами и услугами оказывается, с моей точ-
ки зрения, чрезвычайно важным. В разных местах и в разное время
он мог облекаться в разные формы, в том числе такие, которые
можно трактовать и как “вассальные”, но его архаическое происхо-
ждение и в то же время живучесть на протяжении всего Средневеко-
вья заставляют говорить о его структурообразующем, “архетипном”
характере. Эти “узлы межличностных связей” работали в качестве
факторов социально-культурного объединения не меньше полити-
ческих и экономических на единство элиты, создавая из нее реаль-
ную общность и способствуя ее организации.
Я выделил несколько такого рода “узлов”, которые обнаружи-
ваются на русских материалах, наверное, не все, но наиболее броса-
ющиеся в глаза; перечислю их с некоторыми примерами.
Прежде всего пир - наиболее естественный и традиционный,
уходящий корнями в глубокую древность, институт, который обес-
печивал социальное общение и служил укреплению межличностных
связей. Совместные трапезы как форма общения и взаимодействия
разных социально-политических сил обнаруживаются практически
на всех уровнях и во всех социально-культурных сферах: город, во-
лость, отношения князей, внешние сношения, монастырь, но также
и придворная жизнь, тон в которой задавали князь и его бояре. В на-
ших источниках не так много упоминаний и тем более описаний дру-
жинных или позднее придворных пиров, но важно, что эти упомина-
П.С. Стефанович. Боярская служба в Средневековой Руси
155
Нин сохраняются на протяжении всего Средневековья и однозначно
пшдстельствуют о большом значении этого института в жизни эли-
ты. 11аиболее известны древнейшие красочные описания пиров Вла-
димира Святославича, крестителя Руси, которые он устраивал для
дружины и киевлян6. Эти совместные трапезы служили средством
укрепления единства элиты и решения внутренних конфликтов,
формирования “общественного мнения”, проявлением заботы
илистей предержащих о “сирых и убогих” и т.д.
Но есть и более поздние примеры. В начале XIII в. в летописи
рпссказывается об оскорблении князя Даниила Романовича одним
in галичских бояр Молибоговичей, нанесенном во время пира - ос-
корблении, ставшим не только ярким эпизодом, но и своего рода
символическим выражением борьбы боярства с Даниилом за власть
и Галиче7. К 1433 г. относится известная история о золотом поясе,
который принес на пир, устроенный по поводу свадьбы великого
князя Василия Васильевича, будущего Темного, его двоюродный
брат Василий Косой. Этот пояс, бывший во владении одного из вид-
нейших московских боярских родов и якобы подмененный в свое
время тысяцким Вельяминовым, стал поводом ссоры между князья-
ми и боярами на пиру, с которого, как писал летописец, “много зла
ся почало”, т.е. началась грандиозная смута в Северо-Восточной Ру-
си второй четверти XV в.8 Таким образом, события существенные
для судеб князей и представителей древнерусской знати, а также и
для политического развития русских земель, происходят именно в
моменты собрания и общения элиты на пиру; поведение участников
□тих событий определенным образом фиксируется в общественном
сознании и осмысляется в культурной традиции.
О значении пиров в истории древнерусской знати говорит проис-
хождение такого известного явления, как местничество. Хотя как
институт оно сформировалось только в XV-XVI вв., но понятие “ме-
сто” уходит корнями в древность, и есть основания связывать его
происхождение с тем местом, которое должен был занимать соглас-
но своему достоинству и заслугам дружинник во время дружинного
пира. Конечно, позднее имелось в виду уже в более широком смыс-
ле место при дворе, т.е. позиция, статус, “чин” боярина и его рода.
Но в художественном мире былин, отразивших и древнейшие реа-
лии, когда общественная жизнь складывалась не под влиянием стро-
гих юридических норм, а общих условий быта, “место” - это прежде
всего место на пиру9.
Сложению и укреплению “межличностных связей” между пра-
вителем и знатью, конечно, способствовали и дары. Обмен дарами
и, шире, услугами выступает фактором социального объединения
и общения, как и пиры, в самых разных сферах и на разных уров-
нях, но также и между князем и знатью. Правда, одаривание носи-
156
Феодализм перед судом историков
ло в данном случае скорее односторонний характер: от князя боя-
рину, и смысл его был в том, чтобы не только вознаградить дру-
жинника, но и привязать его к себе силой (иногда воспринимавшей-
ся даже как магическая) тех этических обязательств, которые на-
кладывал дар на его получателя10. Со своей стороны, дружинник
предоставлял князю услуги, и тем самым их отношения приобрета-
ли двусторонний и даже в каком-то смысле взаимный характер.
Отличие Руси от Западной Европы в том, что этот момент взаим-
ности, изначально общий для славянской и германской (по-видимо-
му, также и кельтской) дружин, на Руси столкнулся не с частнопра-
вовым началом подчинения (коммендация, патронат), а с государ-
ственным, подкрепленным определенными христианскими идеями.
Западноевропейский вассалитет сложился из сочетания договор-
ного принципа с началом господства и подчинения (ср. возможную
этимологию слова vassus - от древневаллийского guas, “слуга”), а
на Руси в отношениях князя и знати это начало проявляется толь-
ко приблизительно с конца XII в. и сразу включается в христиан-
скую парадигму в связи с идеей богоустановленности власти11. Бо-
яре иногда называют себя холопами, а князя, которому они служат,
господином, но это надо понимать не как патронат или вассалитет,
а как выражение подданства12.
Любопытно, что в средневековой Руси тогда, когда речь шла о
боярской службе, дары упоминались вместе с “честью”. В древней-
ших летописях неоднократно повторяется мысль, что “любовь” кня-
зя к его дружине должна выражаться в “чести и дарах”, и это выра-
жение становится почти формулой. Понятие чести было многознач-
но, но главным и исходным было обозначение социального статуса
и достойного поведения в глазах общества13. Думаю, что его сопря-
жение с понятием дара неслучайно - совместным употреблением
этих слов выражалась мысль, что дар князя верно служащему ему
боярину - это не только признание заслуг последнего со стороны
первого, но и обеспечение социального статуса боярина, подтвер-
ждение его выдающегося, приближенного к князю, а значит к вла-
сти и богатству, положения. Неслучайным также кажется и вытес-
нение в этом контексте понятия “честь” словами “милость” и “жало-
вание” к XIV-XV вв. - в княжеском вознаграждении теперь важен
сам акт милости правителя к подданному. Таким образом, в древно-
сти боярская служба нацелена на обретение “чести”, а позднее - на
пожалования или милости.
В отношении элиты важным фактором социального общения и
объединения была также, с нашей точки зрения, военная деятель-
ность. Для средневековой знати эта деятельность была собственно
ее главной “профессией”, в этом прежде всего состояла ее служба,
это приносило и основной доход. Однако не менее, а может быть и
П.С. Стефанович. Боярская служба в Средневековой Руси
157
Полое, важно также то, что война для знатных людей была и обра-
зом жизни, а для многих, наверное, даже смыслом жизни. Я думаю,
совместные военные предприятия разного рода, объединявшие са-
мых разных людей, но в наибольшей степени и на регулярной осно-
ве именно представителей высших слоев, можно с полным правом
причислить к основным “узлам межличностных связей” эпохи Сред-
невековья, таким же, как пиры и обмен дарами. Не стоит распро-
страняться по поводу того, что война была образом жизни знати и
особым социо-культурным феноменом традиционного общества, -
об этом в историографии писалось много, в том числе и на русских
материалах (правда, все-таки скорее с точки зрения политической
пли институциональной14). Приведу только одно наблюдение, кото-
рое у меня сразу появилось, когда я сопоставил войну с пирами и да-
рами в указанном смысле.
Удивительно и в то же время весьма показательно, что пир и
война сближались самими древнерусскими людьми в художествен-
но-метафорическом языке образов, символов и понятий. Хорошо
известны слова уже упоминавшегося Владимира Святославича, ска-
занные болгарскому проповеднику ислама. Последний говорил, что
его религия требует “вина не пити”, на что русский князь ответил:
“Руси есть веселье питье, не можем бес того быти”15. Конечно, речь
здесь идет не об “алкогольной зависимости” русского народа. Глав-
ное в этих словах - признание необходимости и важности совмест-
ной трапезы для русских; очевидно, пир выступает и фактором, и
манифестацией единства дружинной Руси. Но обратим также внима-
ние на характеристику Владимиром совместного “пития” как “весе-
лья” и перенесемся на двести лет вперед в конец XII в. То же самое
слово появляется в “Слове о полку Игореве”, но уже совсем в дру-
гом контексте. Здесь передается речь бояр киевскому князю Свято-
славу Всеволодичу, которые объясняют его сон и рассказывают о
поражении Игоря; в конце они предупреждают князя о предстоящей
борьбе с половцами и заканчивают: “а мы уже дружина жадни весе-
лия”16. Очевидно, этими словами бояре выражают свою горячую го-
товность к новым ратным подвигам, причем прямо говорят, что
предстоящая война должна стать для них “веселием”. Такое понима-
ние военной деятельности далеко не случайно. Оно связано с одним
из ведущих образов в художественном мире “Слова” - сравнение
битвы с пиром. Так, например, описывается печальный исход сраже-
ния Игорева войска с половцами: “Ту кровавого вина не доста. Ту
пир докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за
землю Рускую”17. В данном случае картина кровавого пира конкре-
тизируется указанием на то, что этот пир был свадебный, - и это
также имеет свое обоснование и развитие в сложной сети символов
и метафор, которую плетет автор “Слова”18. Но для нас важно отме-
158
Феодализм перед судом историков
тить, что в принципе как в приведенных цитатах, так и в других ме-
стах битва уподобляется пиру, кровь - вину, исступление в бою -
утолению жажды, а настроение, которое оказывается общим для
обоих предметов сравнения, описывается как “веселье”. Мне кажет-
ся, в этом уподоблении, которому также находятся параллели в бо-
лее поздних памятниках древнерусской литературы и в фольклоре,
сказывается не только художественная смелость автора “Слова”, но
и глубокое родство пира и битвы как социо-культурных явлений
средневекового общества. За “весельем”, которое сближает пир и
битву, стояло не просто удовольствие, но радость самовыражения и
самоутверждения личности в обществе людей, близких по образу
жизни и духу. Если людьми той древней эпохи, носителями архаиче-
ского сознания, родство этих явлений осмыслялось образно-ассоци-
ативно, то задача современного историка лишь в том, чтобы почув-
ствовать это родство и продемонстрировать его с помощью рацио-
нально-систематических методов.
В целом, мне близка мысль о том, что средневековое общество
функционировало благодаря определенным формам социального
общения. Я бы особенно подчеркнул, что они обнаруживают себя на
разных уровнях: не только в среде рядовых свободных людей или
между ними и правителем, но и внутри элиты и в отношениях меж-
ду ней и правителем, свободными и зависимыми людьми. Поиск и
описание этих форм (“узлов межличностных связей”) дадут возмож-
ность увидеть другое, не феодальное или далеко не только феодаль-
ное, Средневековье. Явления, которые можно характеризовать как
такого рода “узлы”, оказываются чрезвычайно многосторонними и
многофункциональными, и в них как в “магическом кристалле” от-
ражаются разные грани общественной жизни эпохи Средневековья.
Мне кажется, речь должна идти не только о пирах и дарах, хотя зна-
чение совместной трапезы или дара, нередко освященных религией
или традицией, трудно переоценить. Такими же “узлами” были и
другие жизненные сферы и ситуации, в которых так или иначе про-
исходило взаимодействие отдельных личностей и социальное обще-
ние между ними, верификация, легитимизация и обновление челове-
ческих связей и отношений: разного рода другие, кроме пиров, соб-
рания, обмен не только дарами, но и информацией, услугами и т.д. В
случае с элитой (знатью), как нам кажется, особенно велико значе-
ние военной деятельности в этом смысле.
Такой подход, как я попытался показать здесь на нескольких
примерах, оправдывает себя и на русских материалах. Абстрагируясь
от “феодальной ипостаси”, которая и без того слабо обнаруживает
себя в сфере отношений князя и знати в средневековой Руси, благо-
даря этому “антропологическому” подходу мы не только находим но-
вое измерение в оценке этих отношений, но и по-другому (и как ка-
П.С. Стефанович. Боярская служба в Средневековой Руси
159
жстся, более перспективно) можем сравнить исторические пути Рос-
сии и Европы: не с точки зрения наличия или отсутствия “феодаль-
ных” институтов, а в поиске конкретно-исторического выражения
(каждый раз своеобразного и уникального) общих принципов и форм
отношений между людьми (“узлов межличностных связей”).
1 См.: Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988; Юш-
ков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939;
Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси // Новосель-
цев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древ-
нерусское государство и его международное значение. М., 1965.
2 Павлов-Сильванский Н.П. Указ. соч. С. 97-104,429-441.
3 См.: Стефанович П.С. Давали ли клятву верности служилые люди князю в
Средневековой Руси? // Мир истории: Электронный журнал. 2006. № 1
(www.historia.ru).
4 Ср., например, выводы, к которым пришел В.Д. Назаров, задавшись во-
просом о том, существовало ли рыцарство на Руси: по его мнению, «фе-
номен рыцарства западноевропейского типа так и остался в истории Рос-
сии нереализованной возможностью»; одной из причин этого было то,
что «Россия, по-видимому, слишком быстро “пробежала” дистанцию от
ранних стадий средневекового общества (особенно с учетом фазы реге-
нерации в конце XIII - начале XIV в.) к эпохе единой национальной мо-
нархии. В результате промежуточные этапы и характерные для них со-
циальные явления оказались “смазанными”». См.: Назаров В.Д. Нереа-
лизованная возможность: существовало ли рыцарство на Руси в
XIII-XV веках? // Одиссей: Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 126.
5 См.: Лукин П.В., Стефанович П.С. Рец. на кн.: Свердлов М.Б. Домон-
гольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси: VI-XIII вв. СПб.,
2003 Ц Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6.
6 Полное собрание русских летописей. (Далее: ПСРЛ.) Л., 1926. Т. 1.
Стб. 125-126.
7 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 763.
8 ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 250.0 свадебном пире и событиях вокруг не-
го см.: Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых зем-
левладельцев. М., 1969. С. 335-344.
9 См.: Мрочек-Дроздовский П.Н. О древнерусской дружине по былинам.
М., 1897. С. 75 и след.
10 См.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1: Древние германцы. Викинги.
М.; СПб., 1999. С. 234. Ср. также попытку развить эту мысль на русских
материалах: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и
потомков (IX-XII вв.). М., 1998. С. 115-125.
11 См.: Стефанович П.С. Религиозно-этические аспекты отношений знати
и князя на Руси в Х-ХП веках // Отечественная история. 2004. № 1.
С. 15-16.
12 Флоря Б.Н. Исповедные формулы о взаимоотношениях церкви и госу-
дарства в России в XVI-XVII вв. // Одиссей: Человек в истории. 1992. М.,
160
Феодализм перед судом историков
1994. С. 213. Ср.: Горский А.А. О происхождении “холопства” москов-
ской знати // Отечественная история. 2003. № 3. С. 80-83.
13 См.: Стефанович П.С. Древнерусское понятие чести в памятниках лите-
ратуры домонгольской Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики.
2004. № 2. С. 86-87.
14 Так, например, писал М. Грушевский о византийских и других внешних
походах Руси IX-XI вв.: “Эти походы, которые были венцом тогдашней
дружинной организации, соединяли в один организм всю дружинную ор-
ганизацию, раскинутую по всей территории государства, давали чувство-
вать единство государства и тем самым были для нее очень важны”. См.:
Грушевський М.С. 1стор1я Украши-Русь Вид. 2. Льв1в, 1905. Т. I. С. 428.
15 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 85.
16 Ироическая песнь о походе на Половцов удельнаго князя Новагорода-
Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в
исходе ХП столетия с переложением на употребляемое ныне наречие.
М., 1800. С. 26.
17 Там же. С. 18.
18 См.: Гаспаров Б.М. Поэтика “Слова о полку Игореве”. М., 2000. С. 70-80.
В.Я. Петрухин
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ
РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*
Трудно отыскать другой такой “концепт” в русской средневековой
историографии, который, будучи принят в исторической науке,
подвергался бы столь регулярному разбору с противоположными
оценками его значения и значимости для русской средневековой
истории. Для тех, кто признавал, что на Руси в IX-X вв. форми-
руется феодальная государственность (Н.П. Павлов-Сильванский,
А.Е. Пресняков и др.), которую воплощает княжеская власть, не-
приемлема была характеристика С.М. Соловьева, не признавав-
шего термина “феодализм” в отношении древней Руси: Соловьев
характеризовал княжескую власть как “родовую”, ибо легитим-
ной со времен призвания рода варяжских князей считалась именно
власть этого княжеского рода. Тем более эта характеристика
была неприемлема для сторонников формационного подхода
в советский период, особенно когда Соловьев именовал
княжескую власть древнерусского, домонгольского, периода “ро-
довым строем”, ибо “родовой строй” для марксистов был
эквивалентен первобытной формации. Государственность,
по Соловьеву, формируется в удельный период, с возвыше-
нием Москвы, когда московские князья преодолевают родо-
вые связи.
При всей давно оговоренной условности самих терминов “госу-
дарство” и “феодализм”, вызывает протест их использование при опи-
сании российской исторической действительности. Существует дав-
няя традиция отмечать принципиальные различия исторических явле-
ний в России и на Западе, где указанные термины давно стали пред-
метом не только истории, но и классической политэкономии. Так,
термины “государь” и производный от него “государство” неизвестны
памятникам домонгольской древней Руси (хотя распространены ис-
ходные слова “господин, господство”). Можем ли мы употреблять их
в отношении структур власти Русской земли до XIV в.? Поиски кор-
ректной терминологии заставили обратиться к лексике социальной
антропологии, предполагая в древней Руси некую “потестарность” -
неформализованные отношения княжеской власти и городов-госу-
дарств с их волостями (концепция И.Я. Фроянова и его школы в этом
* Статья подготовлена при финансовой поддержке программы фундаментальных
исследований ОИФН РАН “История, языки и литературы славянских народов в
мировом социокультурном контексте. Древняя Русь в культурном пространстве
средневековья. IX-XIII вв.”.
11 Одиссей, 2006
162
Феодализм перед судом историков
отношении перекликается с более ранними построениями М.Н. Пок-
ровского, получившими суровую отповедь Б.Д. Грекова1).
Еще сложнее обстоит дело с терминами “феод”, “аллод” и про-
чей терминологией, связанной с отношениями земельной собствен-
ности. “Как ни вчитываемся в летопись, чтобы подметить в ней ука-
зания на земельные отношения дружины, - обреченно писал еще
С.М. Соловьев, - не находим ничего...”2 Дружина не привязана к сво-
им земельным владениям, сами князья оказываются, по выражению
Ключевского, “перелетными птицами”: у них нет своих гнезд вроде
европейских каменных городов и замков, бродячая дружинная Русь
являет нам государственные формы в их “жидком состоянии”
(П.Н. Милюков). Миграционный процесс, охвативший Восточную
Европу во второй половине I тыс. н.э., - процесс славянской земле-
дельческой колонизации, - не завершился со становлением летопис-
ной “Русской земли”.
Сама летописная характеристика этого становления не вызыва-
ла доверия у критически настроенных историков: Ключевский писал
об “очень недурно комбинированной юридически постройке начала
Русского государства” в летописи3. Действительно, летописная ле-
генда о призвании из-за моря варяжских князей с их дружиной “всей
русью” - конфедерацией из племен чуди, словен, кривичей и мери -
как бы призвана служить “учебным пособием” для демонстрации то-
го, что есть государство: власть (из-за моря) здесь отделена от “наро-
да”, народ представляет территориальное объединение, населенное
неродственными племенами; наконец, сама формула призвания сви-
детельствует о синтезе двух традиционных форм господства - “дого-
вора” и подданства - “вручения себя”. Князья призваны, чтобы пра-
вить “по ряду, по праву”. Ряд (договор, по В.Т. Пашуто) - это вопло-
щение формализованных отношений между князьями, городами и
племенами-данниками. Дальнейшее изложение истории летописцем
производит впечатление “юридической комбинации”: братья Рюрика
скоропостижно умирают, так что новгородскому князю остается ра-
зослать своих “мужей” по их волостям, чтобы принять власть одно-
му: дружинники Рюрика из Новгорода отправляются в города Ростов
(к мере и кривичам), Полоцк (к кривичам), Белоозеро (к веси) и Му-
ром (к муроме). Вероятно, эта традиция не восходит прямо к событи-
ям IX в., но вряд ли она представляет собой конструкцию самого ле-
тописца, а не его обладающих властью информаторов рубежа XI и
XII вв., для которых первоначальное распределение волостей остава-
лось актуальным (в частности, новгородский князь соперничает с
черниговским князем из-за Мурома4). Следует напомнить, что это
первоначальное объединение получает, согласно летописи, от варя-
гов и общее надплеменное название - “Русская земля”. Это разноэт-
ничное объединение вызывало (со времен Карамзина) естественные
В.Я. Петрухин. Феодализм перед судом русской историографии 163
ассоциации с западноевропейскими раннесредневековыми образова-
ниями вроде государств Меровингов и Каролингов. Отсюда привне-
сенный Марксом по ассоциации с империей Каролингов и некогда
популярный в отечественной историографии термин “империя Рю-
риковичей”. Чертой политического строя, объединяющей эти обра-
зования, был коллективный сюзеренитет семьи правителей, или, по
('оловьеву, - власть целого княжеского рода над всей Русской зем-
лей. Разделение волостей между представителями княжеского “рус-
ского рода” и их дружинниками, собирающими подати и творящими
суд, составляли процесс огосударствления или окняжения подвласт-
ных им разноплеменных территорий. Маркс характеризовал эту по-
литическую структуру как “вассалитет без ленов или с ленами, суще-
ствовавшими только в форме сбора даней”5. В отечественной исто-
риографии эти отношения именуются раннефеодальными. Данные
археологии во многом уточнили ту общую картину, которую пред-
ставляют письменные источники, и историкам все чаще приходится
обращаться к материалам раскопок.
Однако тенденции, получившие преобладание в отечественной
науке с середины XX в., заставляли искать все основы древнерус-
ской государственности на месте, в Восточной Европе. Экономиче-
ский базис действительно был создан в процессе славянской земле-
дельческой колонизации VI-X вв., но официозной науке необходима
была демонстрация социальной или хотя бы имущественной диффе-
ренциации в археологических материалах, предшествующих време-
ни призвания варягов и распространения в Восточной Европе скан-
динавских древностей. Отсюда настойчивое стремление Б.А. Рыба-
кова и других исследователей обнаружить основы формирования го-
сударства и феодального строя в Восточной Европе уже в VIII в. По-
скольку ни письменные известия, ни археология не давали для этого
оснований - массовый материал относился к патриархальной “кре-
стьянской цивилизации” без отчетливых следов не только социаль-
ной, но и имущественной дифференциации, - то возникли: тенден-
ция к реинтерпретации давно известных археологических материа-
лов (“древности антов” VI-VII вв., условно поименованные так еще
А.А. Спицыным, были переименованы Б.А. Рыбаковым в “древно-
сти русов”, хотя о Руси в это время не было известно), желание при-
писать славянам богатейшие комплексы Приднепровья VII—VIII вв.
ироде Перещепина и Вознесенки (современные исследователи счи-
тают их захоронениями предводителей кочевнических объедине-
ний - болгар или хазар) и т.д. вплоть до недавних попыток В.В. Се-
дова локализовать “каганат русов” на территории волынцевской
культуры VIII - первой половины IX в. в левобережье Днепра, хотя
хакан и не каганат, а “остров русов”, упомянуты арабскими источни-
ками лишь в конце IX в.6
164
Феодализм перед судом историков
В действительности данные летописи подтверждают “внешние
источники”, в первую очередь - сочинение Константина Багряно-
родного “Об управлении империей”, которое свидетельствует о
“кружении” дружин “всей руси” по ллеменным землям их данников-
пактиотов, именуемых славиниями. Этот процесс назывался по-
людьем. Во время полюдья (зимой) русь кормилась у подданных
(“людей”) - славян, летом же, собрав и купив у них однодеревки,
дружина отправлялась в Византию. Механизм полюдья, в целом
близкий норвежской вейцле (охарактеризованной А.Я. Гуревичем),
уточняется летописными данными: дружина не кружила по всем зе-
млям славянских племен, ее вожди - представители княжеского ро-
да и воеводы (архонты у Константина) - получали право собирать
дань с земель того или иного племени. Заметим, что скандинавская
параллель здесь не просто “типологическая”: одни и те же сканди-
навские дружины, во главе с одними теми же предводителями могли
служить русским князьям, английским королям и византийским им-
ператорам, вполне вписываясь в разнообразные социальные отно-
шения - “ленно-вассальные” на Западе и связанные с рецепцией
римского права в Византии (договор руси Олега с греками 911г. сов-
падал с получением Роллоном в лен Нормандии, после принесения
вассальной присяги Карлу Простоватому в 911 г.7); раннесредневе-
ковый мир был единым и включал Восточную Европу, во многом
благодаря тому мобильному дружинному компоненту, который в
Восточной Европе получил имя русъ. Так, своему варяжскому вое-
воде Свенельду и его дружинникам, отрокам, князь Игорь “дал”
дань с древлян. Собственная дружина князя, не получившая ожидае-
мых богатств в Византии, роптала, и князю пришлось кормить ее у
древлян, хотя славяне протестовали, заявляя, что князь уже взял всю
дань. Восстание древлян закончилось расправой над Игорем как над
преступником - “волком”, который нарушил право, т.е. взял дани
больше, чем предусмотрено было договором - “рядом”. Вдова Иго-
ря Ольга идет на переговоры с древлянами и даже по “племенному”
праву соглашается на “компенсацию”, замужество с древлянским
князем Малом, но в действительности мстит древлянам за мужа при
помощи изощренных ритуалов; последняя ее месть - избиение древ-
лян на тризне по мужу, на его кургане, возведенном возле града дре-
влян Искоростеня.
За местью и конфликтом следует реформа государственного
права; полюдье заменяется системой даней, которая собирается не
во время разъездов дружины, но на специальных пунктах-погостах,
куда дань свозится стоящим там дружинникам. Ольга отмечает свои
“знамянья, места и повосты, становища и ловища” не только в Де-
ревской земле, но и на севере, на реках Новгородчины и Псковщи-
ны. Летопись специально называет также ее град Вышгород - киев-
В.Я. Петрухин. Феодализм перед судом русской историографии 165
ский пригород, и село Ольжичи. Эти летописные тексты Б.Д. Гре-
ков воспринимал как свидетельство становления феодального зем-
левладения на Руси8.
Из летописи неясно, насколько формирующееся княжеское до-
мсниальное хозяйство влияло на сложение общей системы земле-
владения, но очевидно, что конфликт княжого и племенного права,
подробно описанный в летописи, был важен для информаторов ле-
тописца: показательно также отсутствие перечня племенных земель
(кроме древлянской) в описании реформы Ольги: важнее были ком-
муникации - реки, на которых и были основаны погосты.
Значение термина “погост”, с середины X в. вошедшего в рус-
скую административную систему как обозначение центра террито-
рии, с которой собирались налоги (дань), включает характерную
черту, связанную с “гостьбой”, торговлей, обменом. Заметим, что и
в эпоху господства полюдья дружина должна была оплачивать услу-
ги поданных - покупать у них лодки для похода на Византию; тако-
го рода отношения Б.Н. Флоря назвал “служебной организацией”9.
Поселения X в., связанные с этими функциями, исследованы архео-
логически на важнейших водных магистралях Руси. Это Гнездово на
верхнем Днепре, Тимерево и др. на верхней Волге, Шестовица на
Десне под Черниговом, сходные поселения на Луге и др. Рядом с по-
селениями располагаются, как правило, обширные курганные груп-
пы, включающие так называемые дружинные курганы. Вероятно, к
этим погостам следует отнести и Городище под Новгородом, где
продолжала стоять дружина и после того, как княжеская резиденция
переместилась из Новгорода в Киев. Судьба этих поселений разли-
чалась по мере развития собственно городской сети. Городище ста-
ло экстерриториальной резиденцией новгородского князя, Гнездово
превратилось в центр сельской округи Смоленска, жизнь на прочих
заглохла. Место погостов в процессе градообразования дискутиру-
ется, как дискуссионным остается и вопрос о том, какое поселение
можно считать городом в древней Руси. Достаточен ли собственно
древнерусский признак - наличие укреплений - “града”? Заметим,
что многие погосты лишены значительных укреплений, обширные
селища вокруг небольшого городища, как правило, не укреплены.
Зато на погостах очевиден “признак”, являющийся определяющим
показателем для города - там перераспределяется прибавочный
продукт. Свидетельством этого перераспределения оказываются не
только данные о покупке русью ладей у данников, но и многочис-
ленные клады, накопление богатств на погостах. Археология вооб-
ще много дает для характеристики социальной структуры в “языче-
ский период”, когда разные погребальные обряды отмечают разные
социальные категории. Так, и среди дружинных курганов выделя-
ются монументальные насыпи, так называемые большие курганы,
166
Феодализм перед судом историков
которые содержат не только предметы вооружения и богатого уб-
ранства, но и следы особого культа: на Руси и в Скандинавии они
традиционно считаются княжескими, и сравнительные исследования
показывают, что это не просто археологическая метафора. Боль-
шие курганы венчают “ансамбль некрополя” крупнейших курган-
ных групп: в Гнездове под Смоленском и в Чернигове (в Киеве кня-
жеские курганы были снивелированы в процессе роста города).
Представители русского княжеского рода были погребены в цент-
рах, контролировавших важнейшие регионы Русской земли, - верх-
ний Днепр (переход из днепровской водной системы в волховскую),
центр левобережной земли северян (Чернигов); в центре земли дре-
влян был насыпан курган Игоря, и древляне были вынуждены уча-
ствовать в тризне по князю: его могильный памятник воплощал
власть княжеского рода над покоренной племенной территорией.
Дружинные курганы являют иерархию погребальных обрядов и
процесс окняжения Русской земли: с середины X в. (время реформы
Ольги) распространяется специфический дружинный обряд погре-
бения воина (часто с конем) в камерных гробницах. Эти погребения
известны как в самом киевском некрополе, так и в Гнездове, на Чер-
ниговщине, и, что немаловажно, в Верхнем Поволжье. Колонизация
этого региона - ополья с плодородными почвами, ставшего центром
формирования Ростово-Суздальской земли и последующего Мос-
ковского государства, продолжалась и велась, очевидно, под эгидой
дружины - княжеской власти. В процессе распространения дружин-
ных погребений усматривали отражение процесса “оседания” дру-
жинников на землях подданных: конечно, из этого процесса нельзя
делать выводов о феодализации, наделении дружинников ленами, но
то обстоятельство, что дружина располагала кладбищами вне упо-
мянутых крупных погостов, особенно на северянской Черниговщи-
не, включенной в состав среднеднепровской Русской земли в узком
смысле (домена киевского князя при Владимире Святославиче), оз-
начало, что дружина могла располагать земельными угодьями
(Б.А. Рыбаков10). Заметим, что как погосты, так и города распола-
гались на пахотных землях: таковыми были Новгород и Гнездово -
под курганами разросшегося некрополя обнаружены следы пашни.
Дифференциация внутри русской дружины отражена источни-
ками: характерно, что наряду с архаичной славянской терминологи-
ей, делящей дружинников на старших (мужей) и младших (отроков,
детских), сформировалась и “экзогенная” терминология, выделяю-
щая бояр (боляр - книжное, болгарское или хазарское происхожде-
ние термина дискутируется) и гридей (княжеская стража, слово
скандинавского происхождения). Еще более дифференцированную
структуру передает Русская правда: к дружинникам русинам там от-
носятся гридин, купчина, ябетник, мечник. Однако эта дифференци-
В.Я. Петрухин. Феодализм перед судом русской историографии 167
пция не дает представлений об отношениях вассалитета. В Русской
правде, представляющей дружинное “корпоративное право”, нет ре-
чи об отношениях дружинника и князя. Конечно, знаменитые “пи-
ры” князя Владимира Святославича ярко демонстрируют архаиче-
скую социальную функцию пира, которую продемонстрировал в
своих работах А.Я. Гуревич: любивший дружину Владимир думал на
пирах с ней о “строе земленем” и о ратях, распределяя богатства -
золото и серебро.
Проблема вассальных отношений проясняется в ранних лето-
писных сюжетах, посвященных конфликтам внутри правящего слоя:
один из таких конфликтов связан с началом княжения в Киеве Яро-
полка Святославича (975 г.). Сын старого киевского воеводы Све-
нельда охотился и, увлекшись преследованием дичи, столкнулся с
охотой князя Олега Святославича, которого отец посадил в право-
бережной Древлянской земле. Олег убил дружинника, ворвавшего-
ся в его угодья. Желая отмстить за сына, Свенельд уговорил Яро-
полка пойти на своего брата и “принять его волость”. Киевский
князь напал на древлянского и “приял его власть”. По “Русской
правде”, однако, отец должен был мстить за сына по праву кровной
мести. Можно считать, что месть Свенельда была изощренной, сам
он не мог мстить представителю княжеского рода, но натравил бра-
та на брата, князь же считал себя обязанным мстить за своего дру-
жинника-вассала. Этот существенный для всей дальнейшей русской
истории конфликт позволяет сделать еще одно предположение о ха-
рактере власти в древней Руси: А.Я. Гуревич предостерегает в своей
статье от сближения пожалований вейцлы дружинникам норвеж-
ского конунга с фьефами или ленами (как это делал Маркс в отно-
шении Руси)11, ибо это пожалование не носило наследственного ха-
рактера; в инциденте со Свенельдом можно подозревать, что киев-
ский воевода относился к Древлянской земле как к волости, с кото-
рой он имел наследственное право получать дань и “корм”, почему и
отправил туда своего сына.
Яркий пример верности вассальным связям на Руси являет дру-
жинник князя Ярополка Варяжко. После убийства этого князя варя-
гами Владимира (978), Варяжко бежит к печенегам и продолжает
воевать с Владимиром, пока тот не “привабил” дружинника, дав ему
клятву. Клятва верности есть уже вариант оммажа - отношений вза-
имной верности между сеньором и вассалом12.
Итогом распрей было единовластие Владимира Святославича в
Киеве и новая реформа, связанная как с правом, так и с идеологией.
Владимир крестил подвластную ему Русскую землю. Информация о
методах и степени христианизации разноречива: расхожим предста-
влениям о крещении огнем и мечом противостоят летописные моти-
вы относительно мирного обращения всех подданных вслед за кня-
168
Феодализм перед судом историков
зем и дружиной. Археология определенно свидетельствует о том,
что на рубеже X и XI вв. повсюду в городах и селах языческий по-
гребальный обряд кремации сменяется христианизированным обря-
дом ингумации. Это означает, что у князя и его дружины хватило
сил контролировать повсеместное обращение подданных. Другая
проблема, которую следовало разрешать методами государственно-
го администрирования, - содержание церковной организации. Оче-
видно, что Владимир не смог следовать здесь византийскому и евро-
пейским образцам, обеспечивая церковь землями с зависимыми
людьми. Он прибег к архаичному каноническому праву, Второзако-
нию, и дал церкви десятину от княжеских, государственных дохо-
дов. Можно заключить вслед за отечественной историографией, что
политический строй древней Руси уже в X в. кристаллизовался в
форме “государственного феодализма”, или раннего феодализма
(Л.В. Черепнин), где государство выступало в лице коллективного
сюзерена - княжеского рода в роли собственника всех подвластных
ему земель, присваивающего доходы (дань), опираясь на дружину,
формирующееся вооруженное “сословие”.
Именно церковь являлась, однако, идеальным феодальным ин-
ститутом, и не случайно первый дошедший до нас древнерусский
феодальный акт (прямых актовых данных о раздаче земель свет-
ским феодалам нет) был связан с пожалованием киевским князем
Мстиславом Владимировичем волости Буйцы со всеми доходами -
“данями, вирами и продажами” - монастырю св. Георгия в ИЗО г.
Можно считать, что этот акт знаменует конец “раннефеодальных”
отношений, сводившихся на Руси по преимуществу к взиманию да-
ней и кормлению дружины в городах и селах. Для киевского князя
Всеволода Ярославина в конце XI в. “печаль бысть от сыновець сво-
их (представителей младшего поколения княжеского рода, “племян-
ников”), яко начата ему стужати, хотя власти ов сея, ово же другие:
сей же, омиряя их, раздаваше власти (волости) им”. В XII в. традици-
онными становятся и вассальные отношения между старшими
князьями и князьями-подручниками, наделенными волостями
(В.Т. Пашуто13). Начинается дележ “черных волостей” и создание
вотчинной системы (В.Л. Янин14).
Со спецификой вотчинной системы на Руси связано еще одно
вполне очевидное обстоятельство, обнаруживающее различие между
Восточной и Западной Европой. На Руси не было каменных замков,
те немногочисленные укрепленные пункты XI-XII вв., которые в оте-
чественной историографии иногда трактуются как “замки феодалов”,
скорее всего, представляли собой погосты, центры, куда свозилась
дань, подати. Вотчинники предпочитали селиться на своих усадьбах в
городах (Б.А. Рыбаков называл их “коллективными замками”) - цен-
трах волостей, где под властью князя или боярского веча (как в Нов-
В.Я. Петрухин. Феодализм перед судом русской историографии 169
городе) распределялись доходы правящего слоя. Можно заметить,
что традиционная усадебная застройка, в том числе боярские усадьбы
в Новгороде с мастерскими и подсобными постройками, характеризу-
ющая планировку русских городов с древнейшего периода, может
быть увязана с формированием земельной собственности уже в X в.
Во всяком случае, новгородская берестяная грамота № 424 начала
ХП в. свидетельствует о продаже городских дворов на Руси как об
обыденном явлении: “отъ Гюргя к отьчеви и къ матери. Продавъше
двор идите же семо, Смольньску ли Кыеву ли. Дешеве ти хлебе. Али
не идете, а присъ[ли]те ми грамотичу, сторови ли есте”15.
“Суд историков” не должен сводиться к абсолютизации истори-
ческой специфики, равно как и к сведению исторических реалий и
исторической специфики к неким “общим местам” и понятиям, ко-
торые устоялись не только в науке, но и в естественном языке: уже
то обстоятельство, что термин “феодализм” присутствует в языке
современной культуры, определяет его право на существование.
Собственно, для историков важно для взаимопонимания сохранять
представления о некоем метаязыке научного описания16, и автору
представляется, что термин “феодализм” прочно вошел в этот язык,
древнерусская же культура, если пользоваться словами А.Я. Гуреви-
ча, имела феодальную ипостась.
1 Греков БД. Избранные труды. М., 1959. Т. II. С. 440-477. И.Я. Фроянов
(Древняя Русь. СПб., 1995) справедливо подвергает сомнению “классо-
вую сущность” государственных отношений и социальных конфликтов в
древней Руси, которая постулировалась советской историографией.
2 Ср.: Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. С. 17; Со-
ловьев С.М. Соч. М., 1991. Кн. 7. С. 16. Существенно при этом, что Со-
ловьев усматривал в отношениях подданных и князя, собирающего дань,
“выход племен из особного родового быта” (Там же. Кн. 1. С. 216).
3 Ключевский В.О. Соч. М., 1987. Т. 1. С. 155.
4 Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 109.
5 Маркс К. Разоблачение дипломатической истории XVIII в. // Вопросы ис-
тории. 1989. № 2. С. 4. По Марксу, эта система была “естественным след-
ствием примитивной организации норманнских завоеваний”.
6 Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002.
С. 255 и след. См. также дискуссию: Славяноведение. 2001. № 4.
7 При этом Роллон стал раздавать земли соратникам, создав в Нормандии
“образцовую” феодальную иерархию. Ср.: Дуглас Д.Ч. Норманны: от за-
воеваний к достижениям. СПб., 2003. С. 42-43; Джонс Г. Викинги. М.,
2003. С. 228-231.
8 Греков БД. Указ. соч. С. 242 и след.
9 Флоря Б.Н. “Служебная организация” у восточных славян // Этносоци-
альная и политическая структура раннефеодальных славянских госу-
дарств и народностей. М., 1987. С. 142-150.
170
Феодализм перед судом историков
10 Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по ар-
хеологии СССР. М.; Л., 1949. № 11. С. 51. Ср.: Черепнин Л.В. Указ. соч.
С. 159.
11 То обстоятельство, что передача дани “существенно отличалась от зе-
мельного пожалования”, подчеркивал (вслед за А.Е. Пресняковым) и
А.Л. Шапиро: О природе феодальной собственности на землю // Вопро-
сы истории. 1969. № 12. С. 68-69.
12 Такой вариант оммажа при заключении мира между враждующими сто-
ронами известен западному Средневековью - см. пример в статье А.Я Гу-
ревича (наст. вып. С. 11-49). Ср. также о Свенельде и противопоставле-
нии верного вассала Варяжко изменнику воеводе Блуду в летописи: Ми-
нинковаЛ.В. Отношения сюзеренитета - вассалитета домонгольской Ру-
си: Историография. Источники. Право. Социокультурный феномен. Рос-
тов-н/Д., 2005. С. 90 и след.
13 Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси // Новосель-
цев А.П. и др. Древнерусское государство и его международное значение.
М., 1965. С. 51 и след.
14 Янин ВЛ. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981. С. 241 и след.
15 Янин ВЛ. Я послал тебе бересту. М., 1998. С. 211.
16 Не случайно инициаторами круглого стола, посвященного феодализму,
недавно был издан “Словарь средневековой культуры” (М., 2003).
П.Ю. Уваров
ФЕОДАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
) 1,о начала нашего заседания слышались прогнозы, что оно превра-
тится в “похороны феодализма”, однако общий настрой выступав-
ших оказался совсем иным: если и ожидали “за упокой”, то получи-
лось определенно “во здравие”, и особых сомнений в необходимости
э того понятия я не услышал. Но не думаю, что в своем вступитель-
ном слове я был излишне пессимистичен, обрисовывая “историогра-
фический нигилизм” в отношении работы над понятием “феода-
лизм” или поисков иных форм генерализации в описании средневе-
кового общества. В том, что голоса “нигилистов” не получили сего-
дня должного представительства, нет ничего удивительного - зачем
же тратить время на то, чему не придаешь никакого значения? Хотя
выслушать другую сторону было бы полезно: надо обязательно про-
считывать не только выгоды, но и издержки феодального ракурса
рассмотрения средневекового общества.
Вернемся к текстам, представленным в качестве отправной
точки для обсуждения. К сожалению, основные тезисы Сьюзан
Рейнольдс не были сегодня проанализированы должным обра-
зом. Впрочем - этой сенсации идет уже второй десяток лет и
большинство ее положений сейчас мало кому кажутся излишне
дерзостными. Да, различного рода Libri feodorum (переведенные в
одном почтенном издательстве как “Книга Феодора”)1 не отража-
ют реальность, но скорее конструируют ее в соответствии с не-
кой целью; да, в еще большей степени этой сконструированной
картине было придано подобие упорядоченной системы в трудах
юристов раннего Нового времени; да, историки XIX-XX вв. рады
были не только воспринять эту фикцию, но и ретроспективно
распространить ее вглубь и вширь - на более ранние века и на
иные регионы, выпячивая одни черты и игнорируя другие. А то,
что их концепции несли очевидную идеологическую нагрузку, -
вещь и вовсе тривиальная для всех тех, кто читал учебники
О.Л. Вайнштейна или Е.В. Гутновой по историографии. Неоспо-
римым достоинством этой книги Сьюзан Рейнольдс было привле-
чение внимания к вопросам источниковедения и особенностей
правовой мысли, а также призыв к углубленному изучению исто-
рии понятий. При этом она ломает ряд застарелых стереотипов
медиевистики. Но трудно не заметить, что критике подвергаются
постулаты концепции “феодализма в узком смысле слова”, па-
мятной нам по анафемам, провозглашаемым этой концепции на
страницах всех советских учебников по истории Средних веков.
Тем самым С. Рейнольдс, может быть, не осознавая этого, усили-
вает конкурирующую теорию “феодализма в широком смысле
172
Феодализм перед судом историков
слова”. Последняя же изначально рассматривала феодализм как
универсальную категорию. И действительно, если публично-пра-
вовой аспект никогда не исчезал из системы организации власти,
и если одним и тем же термином могли обозначаться очень непо-
хожие друг на друга отношенйя между людьми, то западноевро-
пейский вариант развития не представляется столь уж несхожим с
другими регионами, в частности - с русскими землями. Об этом,
где прямо, где косвенно, даются свидетельства в выступлениях на-
ших специалистов по истории России2. Но тогда добываемый ими
материал может иметь в глазах западных коллег не только экзо-
тическую ценность. Так, например, “еретический” взгляд на
средневековый город, предлагаемый Жаком Эрсом3, рисует кар-
тину, весьма схожую с той, что давно уже разрабатывается отече-
ственными историками, изучающими Новгород и Псков с их го-
родскими боярскими усадьбами.
В поисках новых, менее схематичных, характеристик средневе-
кового общества надо учитывать достижения исторической антро-
пологии - этот призыв А.Я. Гуревича встретил единодушную под-
держку, равно как и указания на то, что средневековое общество
не исчерпывалось его феодальной составляющей. Об этом писал
Марк Блок: “Может быть, важнее всего сказать, что феодализм
затронул те страны, в которых мы можем его наблюдать, в разной
степени и существовал в них в разное время, ни одна из стран не
была феодализирована полностью... Конечно, несовершенство во-
площения - удел любого человеческого начинания. В европейской
экономике начала XX века, безусловно, развивающейся под зна-
ком капитализма, тем не менее остаются институты, остающиеся
вне этой схемы”4.
Точно так же все согласились с необходимостью более при-
стального внимания к “крестьянской цивилизации”, “крестьянскому
лику” Средневековья. Крестьяне чаще присутствовали в трудах ме-
диевистов не как субъекты, а как объекты истории, образуя молча-
ливый фон для тех процессов, которые находились в центре внима-
ния медиевистов. Как показывает материал северных и некоторых
других регионов Европы, крестьяне не только “тоже чувствовать
умели”, но обладали своей собственной системой мировосприятия,
представлений о чести, о социальном порядке и правосудии, и порой
отодвигали мир сеньоров за околицу своих повседневных забот. Об
этом можно судить и по материалам саг, и по “крестьянину Гельм-
брехту”, видя в этих и других памятниках не только отражение кре-
стьянских ценностей, но и способ их утверждения. Однако трудно
оспорить то, что в регионах, которые принято считать “классиче-
скими” для Западного Средневековья, голос крестьян доходит до ис-
торика настолько приглушенным, что неразличим без специальных
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
173
исследовательских методик. И причины (но также - цели и резуль-
таты) того, почему о крестьянах Франции чаще всего говорилось в
гоне, свойственном “Поэме о версонских вилланах” или рассуждени-
нм о природе “Хамова проклятья”, нуждаются в самостоятельном
осмыслении.
Крестьянский мир присутствовал в Средневековой Европе не
только как фон процессов феодализации, но и как своеобразный
ильтернативный вариант развития. Марк Блок в уже цитированной
главе “Феодального общества” говорил об этом: “На карте запад-
ной цивилизации в эпоху феодализма мы видим несколько белых
пятен: скандинавский полуостров, Фризия, Ирландия”5, - сегодня и
у нас шла речь об этих зонах крестьянской свободы, к которым,
как отмечалось, можно отнести и Византию. Такое же “белое пят-
но” представляли собой и многочисленные горные общества6, об-
ладающие между собой зримым сходством, порожденным, по-ви-
димому, сходством экосистемы. Пожалуй, наиболее интересным с
точки зрения социальной истории является формирование в этих
областях местной крестьянской элиты, не стремящейся к анобли-
рованию. Кстати, упоминавшаяся сегодня деревня Монтайю (рас-
положенная столь высоко, что ее жители не знали употребления
колеса), демонстрирует не “отсутствие феодализма”, а в первую
очередь - характерные черты именно такого сообщества европей-
ских горцев. В этих районах крепость большой семьи, архаизм от-
ношений между людьми сочетались с удивительным социальным
динамизмом: тысячи младших сыновей выплескивались из этих
мест - то как профессиональные воины, то как коробейники и куп-
цы, то как мастера отгонного скотоводства, по следам чьих отар
распространялись и еретические учения.
Закономерности функционирования крестьянского хозяйства
возвращаются сегодня в поле зрения западных ученых. По их при-
знанию, большую роль в этом сыграло знакомство с работами
А.В. Чаянова. Почему-то отечественные медиевисты не оценили
его вновь открытого наследия, которое в свое время повлияло на из-
вестного медиевиста М. Постана, ознакомившегося с трудами Чая-
нова еще в довоенные времена.
Но как же все-таки быть с главным нашим сюжетом - понятием
феодализма?
На мой взгляд, удачной была попытка Л.А. Пименовой просле-
дить момент зарождения этого понятия во Франции XVIII в.
Феодализм далеко не в первый раз оказывается перед судом -
уже с самых первых лет своего существования этот термин носил
оценочный, пейоративный характер. Правда и то, что тогда же его
считали как сугубо местным, западноевропейским явлением (Мон-
тескье), так и явлением универсальным, присущим множеству наро-
174
Феодализм перед судом историков
дов (Вольтер). Но главное заключалось в том, что он призван был
зафиксировать отличие старого общества от нового: общества, от-
вергаемого Европой, от общества формирующегося. Это происхо-
дило в тот впервые наступивший исторический момент, когда, по
словам Р. Козеллека, горизонт опыта перестал совпадать с горизон-
том ожиданий. И от этого “родимого пятна” термину “феодализм”
так и не удалось избавиться, несмотря на многочисленные зигзаги
на его историографическом пути и новые смыслы, привносимые в
него каждой новой историографической эпохой.
Вероятно, заранее предлагаемые к обсуждению тексты стоило
бы дополнить статьей Алена Герро, опубликованной еще в 1990 г.7
В ту пору, несмотря на пристальное внимание отечественных меди-
евистов ко всему, что публикуется в “Анналах”, на эту статью не об-
ратили внимания. Возможно, потому, что в ней Герро слишком уж
оптимистически оценивал достижения медиевистики социалистиче-
ских стран, что, если учесть год публикации, могло производить шо-
кирующее впечатление. Но вот то, что никакого отклика не нашла
у нас его последняя монография8, - это действительно странно и
обидно. В Европе ее много хвалили и еще больше ругали (слишком
авторитарным казался ее тон, слишком едко он критиковал совре-
менное положение дел, слишком рьяно защищал необходимость аб-
страгирования от сугубо эмпирических исследований), но она нико-
го не оставила равнодушным.
Главный посыл и статьи, и книги заключается в том, что евро-
пейское общество ко второй половине XVIII в. пережило разрыв, в
результате которого было утрачено понимание двух ключевых слов
Средневековья, ставшего отныне чуждой эпохой. Такими ключевы-
ми понятиями, с точки зрения А. Герро (не претендующего на роль
новатора и опирающегося на богатую историографическую тради-
цию), были dominium и ecclesia. В эпоху Просвещения на смену им
появляются новые понятия, точнее - принципиально новые смыслы
старых слов: “собственность” и “религия”. Как следствие - выделя-
ются принципиально новые сферы человеческой жизни, ранее не-
мыслимые по отдельности: политика, религия, экономика9. Этот пе-
реворот имел громадные последствия, чреватые прогрессом и рево-
люциями. И одновременно европейцы перестали понимать средне-
вековое общество, забыв смысл его ключевых слов.
Ален Герро завершает свою книгу двенадцатью тезисами, пред-
ставляющими не то чтобы исследовательскую программу, но скорее
меморандум о необходимости перестройки медиевистики в новом
столетии. Одно из важнейших требований заключается в необходи-
мости осознать, что Средневековье обладало особой системой при-
своения смыслов, и это делает невозможным “прямое прочтение”
средневековых источников с позиций обыденного здравомыслия со-
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
175
прсменного человека. Значит, необходима масштабная работа над
ис торической семантикой.
Герро ратует за системный подход к истории Средневековья и за
то, чтобы историки всерьез задумались о механизме динамики фео-
дального общества. Средневековая Западная Европа демонстриро-
II и ла явную способность к достаточно быстрому развитию, но в силу
обстоятельств, сопровождавших рождение термина “феодализм”,
динамика этого общества редко становилась объектом осмысления.
Главное же, к чему призывает Герро, - покончить с самоубийствен-
ным процессом дробления исследовательского поля медиевистики, с
выделением все новых специализаций, со своего рода “научным ау-
тизмом”, т.е. неспособностью обеспечить научную коммуникацию и
страхом перед любого рода обобщениями.
Положение отечественных медиевистов сильно отличается от
положения медиевистов французских. И все же очевидно, что мно-
гие упреки Герро справедливы и для нас, о чем говорилось и в сего-
дняшних выступлениях. Конечно, наша ситуация имеет несколько
более возвышенные объяснения, чем французская, но симптомы
весьма схожие. Лозунг: “Пусть расцветают сто цветов!” - привел к
пышному разнотравью медиевальных семинаров, ежегодников и на-
учных направлений. Кандидатские диссертации становятся все тол-
ще, темы все изощреннее, а уровень порой не только не уступает ев-
ропейскому, но и превосходит его. Но на вопрос: “А что же это да-
ст нам для понимания средневекового общества?” - ответить стано-
вится все сложнее. “Новые подходы”, “новые парадигмы” и “неожи-
данные ракурсы” - абсолютно необходимы, но недостаточны сами
по себе.
Еще недавно можно было сказать, что, например, пресловутые
прекарные отношения можно рассматривать по-разному. То, что
традент дарит свою землю монастырю, а в ответ получает ее в поль-
зование, можно трактовать как процесс феодализации: разорение
аллодистов и форму концентрации недвижимости в руках сеньоров
(в данном случае церковных), и старательно подсчитывать площади
передаваемой земли в бонуариях или моргенах. А можно видеть в
этом же процессе стремление средневекового человека обеспечить
себе защиту со стороны небесного патрона, чьи мощи хранились в
данном монастыре, и изучать особенности восприятия святости или
психологические последствия фобий. И между этими двумя подхода-
ми существует своеобразный “пакт о ненападении”, незримая внут-
ридисциплинарная межа - в одном секторе, в одном университете
или в одном семинаре занимаются первой стороной этого процесса,
а в другом секторе (семинаре, университете) - второй, причем кон-
венции, истины и авторитеты одних не признаются таковыми у дру-
гих и наоборот. Такое положение (конечно, обрисованное не без ри-
176 Феодализм перед судом историков
торического преувеличения) дает свои положительные результаты,
как и вообще всякая специализация, к тому же позволяет избежать
лобовых столкновений коллег. Но, как представляется, гораздо бо-
лее плодотворными выглядят попытки соединения этих подходов.
В качестве примера можно сослаться на достаточно известные у
нас работы Барбары Розенвайн (одна из которых носит говорящее
название - “Быть соседом святого Петра”)10 или Доминика Иона-
Пра11, основанные на изучении клюнийских грамот и комбинирую-
щие социально-экономические, аксиологические и иные ракурсы
исследования. Я же позволю себе остановиться на исследованиях,
относящихся к более раннему периоду, результаты которых были
недавно изложены в докладе Режин Ле Жан, выступавшей в про-
шлом году на уже упоминавшемся семинаре в МГУ.
Ключевым понятием для определения статуса свободного чело-
века в раннесредневековом обществе был patrimonium - родовые
владения (в первую очередь земли12). Им обладали все свободные:
собственно, обладание им определяло статус и достоинство индиви-
да, а вернее - семейной группы сонаследников, в которую этот ин-
дивид входил. Простые люди владели достаточно компактным пат-
римонием, но чем знатнее был род, тем обширнее была территория,
на которой он был разбросан, - вплоть до сформировавшейся на ру-
беже VIII-IX вв. имперской знати, владевшей землями, рассредото-
ченными по всей державе Каролингов. Сохранить родовые земли -
значило не только обеспечить источник материального существова-
ния, но и сохранить идентичность рода, а следовательно - его па-
мять, престиж, могущество. Сделать это было трудно в силу войн,
междоусобиц, слабости материальной базы, но главное - в силу дей-
ствия неумолимых демографических процессов. Исследователи,
комбинируя нарративный и актовый материал с археологическими
данными, воссоздают три повторяющиеся фазы существования пат-
римония. (Понятно, что источники позволяют это сделать лишь для
благородных семей, но, может быть, именно потому эти семьи и
слыли благородными, что им удалось удачно решить проблему со-
хранения патримония?) Первая фаза: родовые земли находятся в со-
вместном владении сонаследников; вторая - выделяются земли же-
натым сыновьям и приданое дочерям; третья - члены рода пытают-
ся восстановить единство патримония. На этой фазе семья была го-
това на все: бывшие родовые земли выкупаются за любые деньги,
ведутся судебные тяжбы (способствующие укреплению права родо-
вого выкупа), выстраиваются сложные матримониальные комбина-
ции, а когда надо - родичи и их “верные” берутся и за оружие. Но все
чаще последствия разделов патримония исправлялись дарениями
бывших родовых, а ныне поделенных земель монастырю или церк-
ви в обмен на сохранение права пользования (например, в форме
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
177
узуфрукта). Речь шла вовсе не о замене светского землевладения
церковным и не о процессах классообразования - ведь дарения свер-
шались в пользу тех монастырей или церквей, которые семья счита-
ла “своими”. Выходцы из этой семьи были монахами или даже абба-
тами данного монастыря, священниками данной церкви, в крайнем
случае - ими становились угодные семье люди. Церкви и монастыри
служили гарантом сохранения памяти рода - здесь были захоронены
их предки, здесь возносились молитвы во спасение их душ и за про-
цветание их потомков. Семьи не скупились на драгоценную церков-
ную утварь и иные вклады. Таким образом, патримоний восстанав-
ливался под защитой могущественного небесного покровителя, при
этом для членов данного рода или зависимых от него людей сохра-
нялась возможность пользования землей. Процесс этот отнюдь не
был прямолинейным - кого-то не устраивала такая перспектива,
кто-то отказывался от родства, одни семейства стремились погло-
тить другие и т.д. Сложные отношения складывались и между аб-
батствами - в игру включались и церковные иерархи, и королевская
власть. Чаще всего установление соподчиненности между семьями
сопровождалось аналогичным процессом, связывающим различные
церковные институты. Одни монастыри могли быть “подарены”
другим, более могучим и более прославленным, но при этом они на
определенных условиях вновь возвращались тем семьям, которые
изначально их опекали. Складывающуюся систему соподчинения
венчали “королевские” монастыри: так аристократические кланы,
не утрачивая окончательно своих социальных позиций, оказывались
под дополнительным контролем королей.
Оставим в стороне вопрос о степени обоснованности подобного
объяснения важных социальных процессов, относящихся к сущност-
ным чертам средневекового общества (к тому же изложенного мной
в непростительно упрощенном виде) и отметим любопытный способ
соединения “горнего и дольнего” в одной интерпретационной моде-
ли, без того, чтобы что-то считалось “базисом”, а что-то “надстрой-
кой”. Во всяком случае, такая модель, как представляется, не состо-
ит в кричащем противоречии с умонастроением людей раннего
Средневековья.
Нечто подобное происходит и в более известной мне историо-
графии французской Реформации и религиозных войн. Долгое вре-
мя историки были озабочены плодотворными поисками социаль-
ных, социально-экономических и политических обоснований этих
явлений. Затем, в 90-е годы XX в. в противовес таким поискам во-
зобладала тенденция, концентрирующая внимание на индивидуаль-
ном религиозном опыте - le vecu religieux. Реформация и Контрре-
формация объяснялись психологическими процессами, фантазмами
и страхами, императивами, порожденными логикой развития куль-
12 Одиссей, 2006
178
Феодализм перед судом историков
туры и т.д. Но сейчас все громче раздаются голоса, что внешне ло-
гичный призыв “объяснять религиозное религиозным” является та-
ким же анахронизмом, как объяснять религиозное социальным или
политическим. В сознании человека XVI в. отделить религиозное от
социального было еще невозможно13.
Подобных примеров можно приводить множество. Так, трудно
разобраться в механизме социального функционирования средневе-
кового города без осознания роли святых патронов городского сооб-
щества в целом или особенностей спиритуальности средневековых
горожан14. Так, сельская община, начиная с эпохи Высокого Сред-
невековья, немыслима без своего прихода, а следовательно - без
церковной десятины. Приход заключал договор со священником
(русская “руга рядная”), контролировал использование десятины.
Десятина мыслилась изначально (и до самого конца Средневековья)
как “патримоний бедных”, а уплата ее - как деяние, необходимое
для спасения души. Та ее часть, которая оставалась в распоряжении
приходской общины, могла служить “страховым фондом” на случай
недорода или иных бедствий, но также призвана была удерживать
на месте “своих” бедных, столь необходимых в качестве дополни-
тельной наемной рабочей силы в крепком крестьянском хозяйстве в
страдную пору. Разумеется, подход к сельскому приходу или к цер-
ковной десятине только с функционально-экономической точки
зрения столь же ущербен, как и подход к ней только с точки зрения
“историко-религиозной”.
* * *
Вернемся теперь к трем возможным направлениям работы над
понятием “феодализм”, которые были названы в начале нашей дис-
куссии:
1. Выступления участников показали, что мало кто из нас пока
готов отказаться от поиска обобщающих характеристик и генерали-
зирующих понятий; большинство по старинке продолжает мыслить
крупными историческими эпохами и цивилизациями. И похоже да-
же, что эта склонность имеет тенденцию возрождаться в новых
формах. Но в этом случае, как учат нас современные работы по эпи-
стемологии исторического знания, - необходима когнитивная точка,
“держащая” понятие “Средневековье” или его ментальный образ.
2. Название такой точки можно придумать иное - не обязатель-
но “феодализм”. Можно придумать иной маркер - “общество X” ли-
бо еще какое-нибудь новое слово. Примером может служить знаме-
нитый и весьма плодотворный термин “encellulement”15, придуман-
ный Робером Фоссье для обозначения существенного изменения
средневекового общества около Тысячного года. Этот термин, рав-
но чуждый средневековым людям и нам, позволяет избежать неже-
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
179
иптсльных коннотаций, вроде тех, которые вызывает термин “фео-
дальная революция”. Можно поступить не столь радикально, взяв
Оолее знакомый термин: “сеньориальное общество”. Но эти слова
пока не приживаются, а “феодализм” остается прочно укорененным
и общественном сознании и, наверное, долгое время таким останет-
ся, даже если мы все, сидящие в этом зале, объявим ему бойкот.
3. Поэтому работы с понятием “феодализм” не избежать. Но его
нельзя достать из сундука как старый салоп и бездумно накинуть на
изучаемое общество. Нужен тщательный анализ истории понятия,
нужна работа по его приспособлению к современному уровню нау-
ки с использованием всех достижений современной медиевистики.
А достижений этих немало.
- От деклараций о полезности Begriffsgeschichte перешли к изу-
чению истории понятий, и не только понятий, но и риторических си-
стем, их порождающих, а также их визуальных образов и метафор.
Изучается образ феодального Средневековья и те смысловые от-
тенки, которые он обретал в разные эпохи, а также обстоятельства
его рождения, и, что очень важно, - строительный материал, из ко-
торого это понятие было сложено.
- В изучении того, как выстраивались базовые понятия, особен-
но важны работы по истории права. В последние годы наметился на-
стоящий ренессанс в изучении средневековой юриспруденции. И те-
перь уже мало кого шокируют слова о том, что феодализм “изобре-
ли” те или иные глоссаторы, постглоссаторы или февдисты. Мы
уже поняли, что продукция, выходящая из-под пера интеллектуалов,
не только (а может, и не столько) отражала окружающий мир, но и
конструировала его. Тем более широкие перспективы открываются
перед теми, кто изучает формы творчества, особенности мышления
и социальные условия деятельности интеллектуалов Средневековья.
Не абстрактные “Церковь”, “Папство”, “Государство” или “Город”
формулировали нормы права, изобретали новые системы налогооб-
ложения или кредита, рисовали образы власти или описывали фор-
мы общественной иерархии, а вполне конкретные, пусть даже ос-
тавшиеся для нас анонимными, интеллектуалы, образующие специ-
фическую социальную среду.
- Для всех стала очевидной важность работы над дешифровкой
культурных кодов Средневековья, и слова о том, что Владимир Мо-
номах, призывая не зарывать деньги в землю, боролся против тезав-
рации экономики, вызывают лишь улыбку соболезнования. Восста-
новление образной системы средневековой культуры, того, как
средневековый человек конструировал образ “другого”, а следова-
тельно, и идеализированный образ себя, того, как функционировала
система средневековой эмблематики, того, как при помощи зри-
тельных образов власть являла себя подданным, - все это осознает-
180
Феодализм перед судом историков
ся теперь необходимым. И все это служит не только исправлению
историографических нелепиц, но - в перспективе - восприятию сре-
дневекового общества как целостности.
- Все чаще задумываются над тем, что институты, почитаемые
привычными для средневекового человека, не существовали подоб-
но постоянным декорациям, а возникали, распространялись и транс-
формировались, обеспечивая средневековому обществу ту самую
удивительную динамику, о которой говорит Герро. Кто и когда изо-
брел церковную десятину, почитание мощей святых, систему воен-
ных бенефициев, городскую коммуну, аркбутаны готического собо-
ра или университетскую корпорацию? Каким образом подобные но-
вовведения укоренялись, распространялись и трансформировались?
На эти вопросы если и не начали искать ответа всерьез, то, по край-
ней мере, осознали такую необходимость.
- Вклад “прагматического поворота” в нашу науку позволяет
сконцентрировать внимание на том, каким образом средневековый
человек каждый раз оказывался не столько пассивным “винтиком”
в процессе воспроизводства социальных отношений, сколько актив-
ным его соучастником. Существующая система связей между людь-
ми постоянно воссоздавалась заново, причем люди могли с большей
или меньшей степенью осознанности “играть своей идентично-
стью”, с большим или меньшим успехом добиваясь от окружающих
признания своих прав на ту или иную социальную роль. С этой точ-
ки зрения нации, этносы, социальные группы и даже сословия суще-
ствовали лишь в той мере, в которой находились люди, соглашавши-
еся, под воздействием объективных и субъективных обстоятельств,
играть по заданным правилам.
- Переиначивая известное высказывание Жоржа Дюби о том,
что феодализм - это средневековое умонастроение, мы сейчас впол-
не можем сказать, что феодализм - это историческая память (или,
может быть, “мемория”). Роль памяти в функционировании общест-
ва в особенной мере очевидна для Средневековья. Даже если вер-
нуться к поэтике “способа производства” и “производственных от-
ношений”, трудно не признать определяющую роль обычая, бывше-
го душой и жизнью феодального держания, а сила обычая лежала в
его незапамятности. Поэтому растущий интерес медиевистов к изу-
чению феномена памяти вполне объясним.
- Когда Бродель, в конце 50-х годов, участвовал в заседаниях на-
циональной аттестационной комиссии, он часто произносил фразу:
“Ваша диссертация недостаточно пахнет навозом, месье!”, и не бы-
ло для соискателя упрека страшнее. Не то, чтобы аромат представ-
ляемых к защите диссертаций удовлетворил бы сегодня Броделя, од-
нако его упрек сейчас не показался бы уже таким анахронизмом,
как лет десять назад. И если возрождение аграрной истории еще
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
181
только намечается, то различного рода таблицы, графики и подсче-
ты вновь возвращаются на страницы монографий. Изучение одних
только ментальных процессов без их материальной составляющей и
Осч определения их внешних рамок - “порога возможностей” Сред-
невековья - выглядит уже не столь привлекательным, как раньше.
- Возобновился интерес к компаративным исследованиям, кото-
рые служат необходимой формой продолжения диалога медиеви-
стов, изучающих разные регионы. Вот и сегодня, мы убедились в
плодотворности такого диалога - чего стоит одно только предложе-
ние Л.Б. Алаева видеть в Западной Европе своеобразное слабое зве-
но в системе феодализма!
Можно предвидеть вопрос: а где же, в какой стране действуют
все эти столь проницательные медиевисты, способные обеспечить
поистине стереоскопический взгляд на Средневековье? На него лег-
ко ответить: это медиевисты и историки раннего Нового времени,
живущие в России. Львиная их доля сосредоточена в Москве, а из
москвичей большая часть работает в ИВИ РАН. Все те тезисы, ко-
торые были сейчас перечислены, взяты мной из того, что за самые
последние годы высказывалось на многочисленных медиевальных
семинарах, публиковалось в ежегодниках, сборниках, монографиях
или диссертациях. И я еще далеко не все обозначил16...
Многие из сегодняшних докладчиков говорили о необходимости
системного подхода к изучению Средневековья, к чему призывает и
Ален Герро. Я также готов присоединиться к этому требованию. Но
надо отдавать себе отчет в том, что репутация самих понятий “сис-
тема” и “структура” оказалась скомпрометирована в глазах многих
представителей сообщества гуманитариев. Они считают эти поня-
тия порождением функционализма, и по природе своей редукциони-
стскими, вспоминая иногда слова Ницше о том, что система - прибе-
жище для людей робкого ума.
Поэтому выражусь осторожнее. Оставим открытым вопрос о
том, образовывало ли средневековое общество единую когерент-
ную систему, и о том, распространялась ли эта система на все сторо-
ны жизни людей средневековой Европы или даже на жителей дру-
гих регионов Старого света. Можно сказать еще обтекаемее: от-
крытым остается вопрос о том, насколько нам выгодно и насколько
уместно рассматривать Западную Европу и иные регионы в ракурсе
феодализма как системы?
Но вне зависимости от ответа на эти вопросы, представляется
абсолютно необходимым, чтобы мы сами образовывали систему.
И опять я выбираю очень осторожную формулировку, не призы-
вая ни к созданию единой структуры или проблемной группы, ни к
методологическому синтезу (последний термин изрядно затаскан
многочисленными конференциями, а что он означает, так и оста-
182
Феодализм перед судом историков
лось для меня загадкой). Речь идет всего-навсего о том, чтобы на-
ладить или восстановить нормальную научную коммуникацию ме-
жду всеми без исключения представителями нашего профессио-
нального сообщества.
Раз уж нам нужно заняться формулированием таких истин, кото-
рые могли бы стать общепринятыми (а именно этих истин в отноше-
нии Средневековья от нас требует социальный заказ), то надо пом-
нить, что у нас нет иного критерия их верификации, кроме апроби-
рования их научным сообществом - национальным и интернацио-
нальным. Медиевист, как и любой другой исследователь, может
приходить к ценным выводам, и может даже делиться ими с кругом
своих единомышленников, но этого недостаточно, чтобы придать
полученным выводам научное значение. Процедура неумолима: эти
выводы надо еще публично высказать в форме, доступной понима-
нию других медиевистов, не являющихся ни узкими специалистами в
данной области, ни адептами именно этой методологии. А затем
надлежит ответить на высказанные замечания. Но уже после этого
коллеги не имеют морального права эти выводы игнорировать.
Солдаты Понтия Пилата не решились при дележе добычи раз-
резать на куски доставшийся им бесшовный хитон. Нам тоже не сто-
ит окончательно раздирать на фрагменты цельное средневековое
общество. Для этого всего-то и нужно читать работы друг Друга и
высказывать по их поводу мнения (пусть даже и нелицеприятные). В
силу ряда причин задача эта вовсе не так проста, как может пока-
заться со стороны, но ее решение все же необходимо. И тогда рабо-
та над понятием “феодализм” или над каким-нибудь иным понятием,
призванным обозначить сущностные черты Средневековья, будет
продолжена в XXI веке.
1 Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 174.
2 Даже когда П.С. Стефанович в своем сегодняшнем выступлении показы-
вает контрпродуктивность изучения отношения князя и дружины на Ру-
си с применением “феодального клише”, речь идет именно о том узком
понимании феодализма, против которого направлено острие критики
Рейнольдс.
3 Heers J. La ville au Moyen Age en Occident: Paysages, pouvoirs et conflits. P.,
1990.
4 Блок M. Указ. соч. С. 433-434.
5 Там же. С. 433. В оригинале, конечно, речь шла не о феодализме, а о
феодальной эпохе.
6 Лекция “Горные общества Западной Европы в Средние века в свете но-
вейших исследований” была прочитана проф. Тулузского университета
Бенуа Кюрсентом (Benoit Cursente) 17 мая 2005 г. в МГУ в рамках Меж-
дународного семинара медиевистов.
П.Ю. Уваров. Феодализм в XXI веке
183
7 Guerreau A. Fief, feodalite, feodalisme. Enjeux sociaux et reflexion historienne //
Annales ESC. P., 1990. N 1. P. 137-166 (см. пер. этой ст. в настоящем сб.:
Герро А. Фьеф, феодальность, феодализм. Социальный заказ и историче-
. ское мышление, (с. 77-113).
8 Guerreau A. L’avenir d’un passe incertain. Quelle histoire du Moyen Age au XXI
siecle? P., 2001 (“Будущее неопределенного прошлого. Какой быть исто-
рии Средних веков в XXI в.?”).
9 От себя добавлю, что следствием Реформации явилось и рождение соци-
ального - как области абстрактных преставлений об общественном уст-
ройстве.
10 Rosenwein В.Н. То Be the Neighbor of Saint Peter. The Social Meaning of
Cluny’s Property, 909-1049. Ithaca; L., 1989; Eadem. Negotiating Space. Power,
Restraint and Privileges of Immunity in Early Modem Europe. N.Y., 1999.
11 logna-Prat D. Cluny comme “systime ecclesial” Ц Die Cluniazenser in ihrem
politish-sozialen Umfeld / Hrsg. G. Constable, G. Melville, J. Oberste. Munster,
1998. Подробнее см.: Решин А.И. Дар и некоторые аспекты становления
феодализма // Средние века. М., 2004. Вып. 65. С. 3-45; 2005. Вып. 66.
С. 75-115.
12 Но также и honores (почести/должности), драгоценности, рабы - манци-
пии.
13 Подробнее см.: Уваров П.Ю. Что стояло за религиозными войнами
XVI в.? От социальной истории религии к “le vecu religieux” и обратно //
Французский ежегодник. М., 2004. С. 2-38.
14 Город в средневековой цивилизации Западной Европы / Под ред.
А.А. Сванидзе. М., 1999-2000. Т. 1-4; особ. Т. 3: “Человек внутри город-
ских стен. Формы общественных связей”. М., 2000.
15 Букв, “объячеивание”. Фоссье обозначает этим термином появление ус-
тойчивых территориальных образований - сеньорий и замков, общин и
приходов, городских корпораций и проч.
16 Я бы сказал еще о гендерной проблематике, об успехах средневековой
археологии, о принципиально новом уровне, достигнутом в источникове-
дении...
А.Я. Гуревич
POST SCRIPTUM:
PEASANT SOCIETY
И ПРОФЕССОР КРИС УИКХЕМ*
В опыте историка, который на протяжении многих лет работает по
какой-то существенной для него проблеме, наверняка случаются
эпизоды, подобные следующему. Вполне неожиданно обнаружива-
ется, что вопросы, его тревожащие, почти в то же самое время за-
нимают и других исследователей. Самое общее объяснение такого
рода феноменов состоит, по-видимому, в том, что в научной “атмо-
сфере” рассеяны некие смысловые единицы (“эпистемы”), сближа-
ющие между собой историков даже при отсутствии контактов
между ними. Вполне правдоподобно, что эти историки не столь уж
решительно отрезаны друг от друга, и кристаллизация одной и той
же проблемы происходит в момент, когда они набредают на общие
понятия, на такой концепт, углубление в который с неизбежно-
стью и даже принудительностью побуждает их к одинаковому или
близкому ходу мысли.
Это присказка. Сказка же такова. Весной 2005 г. я подготовил
текст, который был призван сыграть роль провокации для новой
постановки вопроса о феодализме. Этот текст был размножен и
распространен среди коллег, а затем доложен мною в их собрании
и обсужден. Но как только все эти процедуры закончились, мне
стало известно, что в Оксфорде подготовлена к публикации и, ка-
жется, уже печатается монография известного английского исто-
рика Криса Уикхема “Очерчивая раннее Средневековье”. Благода-
ря исключительной любезности лично не знакомого мне автора и
некоторых московских коллег, я получил доступ к этой обширной
монографии, имеющей подзаголовок “Европа и Средиземноморье
в 400-800 гг.”1 Я уже раньше был наслышан о некоторых трудах
этого медиевиста, и в моем упомянутом выше докладе о феодализ-
ме ссылаюсь на статью Уикхема, уловив в ней понятийное содер-
жание и методические подходы, которые и мне представляются
близкими и плодотворными.
Ознакомившись с центральными главами нового произведения
Криса Уикхема, я убедился в том, что было бы ошибочным и неле-
пым обойти его молчанием. Расходясь во многом и существенном,
мы, вместе с тем, вольно или невольно разрабатываем одну и ту же
проблему - проблему “крестьянской цивилизации” или “аграрного
общества” (все эти дефиниции не лишены искусственности и услов-
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 05-01-01502а.
А.Я. Гуревич. Post Scriptwn: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 185
пости). Будучи марксистом, профессор Уикхем даже предпочитает
более сильные выражения: “крестьянский способ производства”, ка-
ковому он находит историческое место между рабовладельческим и
родоплеменным обществами, с одной стороны, и “феодальным спо-
собом производства” - с другой. По мысли Уикхема, наличие “кре-
стьянского способа производства” является логически необходимой
чертой раннесредневековой экономики, хотя в чистом виде этот
способ производства, по признанию автора, нигде на Западе не об-
наруживается.
Такая система понятий и дефиниций, боюсь, может ослабить
интерес читателя этого обширного труда. В самом деле, если хара-
ктеристику феодального способа производства оксфордский кол-
лега, завершивший свой титанический труд на рубеже нового ты-
сячелетия, без оговорок и уточнений (не говоря уже о ревизии или
новом подходе) целиком и полностью заимствует из “Капитала”,
то я, при всем безграничном уважении к Марксу, обескураженно
умолкаю. Ибо чтение книги “Очерчивая раннее Средневековье”
вновь ставит меня перед все тем же глубочайшим недоумением: ка-
ким образом философско-социологические и общеисторические
генерализации, сформулированные в середине XIX в., могут мирно
уживаться с колоссальным материалом накопленных с тех пор
конкретных наблюдений?
Однако, наверное, несправедливо начинать знакомить читателя
с этим трудом, критикуя автора со столь общих позиций. Вообще,
то, что я хотел бы выразить в этой моей реплике, продиктовано, в
первую очередь, стремлением по возможности выявить общность
позиций. Мы оба, Уикхем и я, пытаемся прояснить смысл понятия
“крестьянская цивилизация”. В какой мере оправдано оперирование
подобным концептом применительно к средневековому европейско-
му миру и какие новые ракурсы изучения этого феномена историк
был бы способен при этом получить?
Первое, что не могло не привлечь моего внимания, было сле-
дующее: оба мы работаем - каждый по-своему - с набором case
studies. Как я это сделал, читателю нетрудно убедиться, возвратив-
шись к предыдущим страницам настоящего сборника. Что касает-
ся оксфордского коллеги, то его cases обладают совершенно иным
удельным весом. Поприще, на котором он работает, - это вся рим-
ская и послеримская Европа, равно как и Средиземноморье, вклю-
чая Малую Азию и Египет. Обширные провинции империи сгруп-
пированы Уикхемом в семь регионов. Иначе говоря, если я копо-
шусь с теми или иными “казусами” на сугубом микроуровне, то
приборы, посредством коих работает Уикхем, - это скорее теле-
скопы. Как явствует из “Введения” в его монографию, вдохнов-
лявшими его научными образцами были те грандиозные попытки
186
Феодализм перед судом историков
синтеза, которые еще в начале истекшего столетия были предпри-
няты Альфонсом Дошлем и Анри Пиренном. Уикхем вновь, но с
новыми вопросами обращается к обзору целостной европейской
панорамы, которая, как уже было упомянуто, охватывает и весь
Средиземноморский мир.
В центре внимания исследователя - способы хозяйствования и
организации производства и эксплуатации рабочей силы. Все эти ре-
гионы: окрестности г. Лукка, Средний Рейн, Иль-де-Франс, Анато-
лия, Сирия и Палестина, Египет и англо-датский регион - в меньшей
или большей мере различаются между собой, но в конечном итоге
автор приходит к утверждению, что к концу позднеримского перио-
да рабовладельческий способ производства уже изживал себя, и на
смену ему приходили новые формы собственности на средства про-
изводства и, соответственно, изменялось положение трудящихся -
колонов, арендаторов, рабов. Об этом, если не ошибаюсь, мы уже
слыхали, и не раз. Однако профессор Уикхем подчеркивает другое
обстоятельство - изживание позднеримских социально-экономиче-
ских условий сделало более ясно видимой фигуру крестьянина. Это
понятие, “крестьянин”, если в него более пристально всмотреться и
не следовать бездумно расхожему стереотипу, отнюдь не столь оче-
видно - и в общеисторическом, и в социально-экономическом, и в
культурно-психологическом ключе.
Признаться, я ожидал от автора более развернутого и углуб-
ленного анализа этого понятия. Но, во всяком случае, крестьянин,
так или иначе, хотя бы в обобщенном виде фигурирует в каждом
из обрисованных автором регионов. Повсюду над крестьянами
высятся сильные мира сего - владельцы римских “вилл” и “фунду-
сов”, чиновники, сборщики налогов, военачальники и, пожалуй,
более всего заметные в сохранившихся источниках епископы и
другие церковные владыки. Смена власти и усиление влияния хри-
стианской церкви привели, помимо всего прочего, к тому, что ар-
хивы, хранящие свидетельства о движении земельной собственно-
сти и ее закреплении за новыми обладателями, о формах и разме-
рах ренты, взимаемой с крестьян и арендаторов, - суть, почти пол-
ностью, архивы церковные. А потому феодализм, вырисовываю-
щийся при анализе этих архивов, есть феодализм церковный. При
всей опасности аргументации ex silentio мы все-таки никак не мо-
жем отвергнуть подозрение, что обладатели многих, весьма мно-
гих, земельных владений, не подчиненных церковной юрисдикции,
оставались на своих участках.
Case в том смысле и объеме, в каком он употребляется в книге
Уикхема, едва ли вполне удовлетворяет требованиям микроанализа,
ибо включает в свой состав слишком многих и слишком многое. По-
этому вполне логичным кажется то, что автор, оперируя понятиями
А.Я. Гуревич. Post Scriptит: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 187
собственности, ренты, держания, хозяйственной и правовой зависи-
мости и т.п., совершенно обходит стороной человеческого индивида.
Кажется допустимым, что он, отвечая на подобный упрек, мог бы
сослаться на отсутствие текстов, в которые каким-либо образом
могло бы пробиться отдельное человеческое существо, не принад-
лежавшее ни к духовной, ни к правящей элите.
Но, многочтимый коллега, подобные источники, пусть редко,
все же имеются. Частично они собраны мною в приведенной выше
статье. Число их, к нашей досаде, крайне невелико и едва ли суще-
ственно возрастет при дальнейших изысканиях, но весь вопрос - не
в количестве обнаруженных специменов, а, я бы сказал, в их качест-
ве. Соответствующие тексты, прозаические и поэтические, позволя-
ют узнать человеческого индивида начала Средневековья “изнут-
ри”, в его высказываниях и суждениях, в его мироощущении. И тог-
да обнаруживается, что простой человек, вынужденный признать
над собой власть более могущественного, переживает внутреннюю
драму, а земельный собственник, для того чтобы отстоять свои пра-
ва, мобилизует всю историческую (и мифологическую) память, в ре-
зультате чего оказывается участником борьбы своих бесчисленных
предков, легендарных героев и языческих богов против сил зла - су-
дебная тяжба перерастает в его воображении и в поэтическом соз-
нании эпохи в мировую драму, исход которой решается на судебном
собрании.
Что касается экзотичности приведенных в моей статье приме-
ров, их концентрации на скандинавском Севере, то я хотел бы вновь
со всей определенностью подчеркнуть: дело вовсе не в том, под ка-
кими широтами и в какой сезон был записан текст, в котором опре-
деленным поэтическим или любым иным образом нашли выраже-
ние внутреннее состояние культуры, верования и убеждения людей,
их религиозность и менталитет. То, что авторы исландских саг,
скальдических песней и поэм “Старшей Эдды” выразили, всякий раз
по-своему, собственные умонастроения и картину мира, убеждает
меня в том, что духовная жизнь людей той эпохи, независимо от то-
го, к какому региону они относились, была неотъемлемой сущест-
веннейшей стороной их социальной жизни. В конце концов, не столь
важно - в том плане, в каком я хотел бы рассмотреть эту пробле-
му, - где и когда возник памятник, исследование содержания кото-
рого проливает свет на тогдашние верования и умонастроения, на
картину мира людей, коим посчастливилось довести до нашего све-
дения фрагменты своей культуры. Куда существеннее вывод о том,
что историку невозможно уклониться от задачи воспринять идущие
из этой культуры импульсы и сигналы и попытаться хотя бы частич-
но реконструировать внутренний мир тех, кто, казалось бы, был на-
чисто его лишен. Констатация того факта, что в большинстве слу-
188
Феодализм перед судом историков
чаев историки не имеют доступа к подобного рода феноменам, ни в
коей мере не может избавить их от понимания наипростейшей исти-
ны: верования, мысли, представления и духовные ценности были ор-
ганически присущи тем, кого наш научный анализ заключил в тот
или иной обездушенный и ©безжизненный case.
Так, по крайней мере, дело представляется автору настоящих
строк. Что касается профессора Уикхема, то в его концепции эта
сторона дела напрочь отсутствует. Источников нет попросту пото-
му, что их существование не предполагается. Еще раз повторю: тек-
стов изучаемой эпохи, в которых могли бы найти свое выражение те
или иные черты мировйденья простолюдина, до обиды немного, но
и тех, которые имеются, вполне достаточно для доказательства то-
го, что простолюдин этот обладал, не мог не обладать своим куль-
турно обусловленным сознанием. А потому исключить из картины
социальной действительности наличие этого сознания и его воздей-
ствие на нее невозможно и в тех 90 или даже 99 случаях из 100, ко-
гда прямо и непосредственно источники ничего нам не сообщают.
Отвлекаясь от подобной мысли, историк “крестьянского способа
производства” рискует обречь себя на упрощенное и обесчеловечен-
ное понимание самого этого способа производства.
Профессор Уикхем вынужден признать, что многие его утвер-
ждения или предположения относительно внутреннего устройства
“крестьянского общества” сугубо гадательны, ибо (мы вновь слы-
шим все ту же ламентацию) нет источников. Я задаюсь вопросом: не
сменились ли бы чисто умозрительные рассуждения о внутренней
структуре “крестьянского общества” чем-то более впечатляющим,
если бы мы внимательно прислушались к голосам, доносящимся из
глубины столетий? Конечно, трудно представить себе воочию отно-
шения между древнесаксонскими эделингами, фрилингами, лацци и
рабами, которых покорил Карл Великий и которые подняли восста-
ние Stellinga полстолетия спустя. Фразеология “Саксонской правды”
и хрониста Нитхарда не слишком-то проливает свет на внутреннюю
ситуацию в Саксонии и еще меньше на умонастроения представите-
лей упомянутых социальных градаций. Не упустим из виду, помимо
всего прочего, и того немаловажного обстоятельства, что рисующие
саксонский case правовые и нарративные источники написаны на ла-
тыни, а не на народном языке.
“Песнь о Риге”, записанная намного позднее и не там, а в Ислан-
дии, могла бы тем не менее, по моему убеждению, послужить лабо-
раторией для постижения поэтической и “социологической” мысли
людей, испытывавших потребность взглянуть на самих себя, на свой
социум не через холодные окуляры оксфордского профессора, а из-
нутри, в контексте культуры и верований тех, кто принадлежал к
“аграрной цивилизации”. Да извинит меня читатель за то, что я
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 189
вновь возвращаюсь на собственные следы. Но “Карфаген должен
быть разрушен”, - имею в виду марксистско-позитивистскую мето-
дологию, пробравшуюся к нам из XIX в. в 2006 год.
Профессор Уикхем может возразить, что сюжет, избранный им
для исследования, охватывает строго очерченный период между 400
и 800 годами, тогда как те примеры, на которые я позволил себе
вновь сослаться, содержатся в рукописях XIII-XIV вв. Он полагает,
что время Каролингов ознаменовалось упадком и размыванием
“крестьянского общества” (см. об этом ниже). Но почему я должен
следовать подобной логике, явно противоречащей содержанию и
смыслу исторических источников? Многие существенные аспекты
крестьянской цивилизации с наибольшей наглядностью продемонст-
рировали себя вовсе не до 800 г., а столетиями позднее. О чем это го-
ворит? Отваживаюсь на гипотезу: “крестьянское общество” не пред-
ставляло собой какого-то относительно краткого этапа в социаль-
ном развитии Европы; оно при всех пертурбациях обнаруживало по-
разительную устойчивость и в определенном смысле сохранялось
вплоть до Нового времени. Едва ли правомерно представлять себе
это аграрное общество в виде не слишком протяженного временно-
го периода, следующего за Античностью и предшествующего фео-
дализму. Даты, столь решительно поставленные нашим автором:
400 и 800 гг., - кажутся мне чрезвычайно произвольными и, во вся-
ком случае, никак не проистекающими из существа анализа. Откуда
взялись эти хронологические рамки, не только подозрительные в
силу своей закругленности, но (и это главное) навязываемые про-
фессором Уикхемом всем регионам и странам западного и восточно-
го Средиземноморья, равно как и центральной, и северной Европы?
Уважаемый коллега, разумеется, сознает условность подобного ро-
да дат. Но, подчинившись собственному созданию, он отказался,
весьма произвольно, от использования в своем построении принци-
па longue duree.
* * *
Мне кажется уместным напомнить здесь о том, что понятие peasant
society остается чрезвычайно малопривычным даже для наших ме-
диевистов. Ведь оно сложилось сравнительно недавно, преимущест-
венно в 60-е годы XX в., в кругу западных антропологов, занимав-
шихся Латинской Америкой и Евразией. Ныне все более выясняет-
ся, что это понятие - разумеется, со всеми необходимыми и сущест-
венными поправками и уточнениями, - может быть продуктивным
применительно и к Старому Свету (подобно тому как несколько
раньше понятие mentalite, обсуждавшееся Леви-Брюлем в контексте
анализа “первобытного мышления”, было после необходимой кри-
тической проработки и переосмысления внедрено Февром, Блоком
190
Феодализм перед судом историков
и их последователями в инструментарий медиевистики). Почти с са-
мого начала своего существования понятие peasant society получало
различные интерпретации, что вполне естественно, если принять во
внимание его связь с традиционным “формационным подходом”.
Поэтому я нахожу уместным, прежде чем продолжить знакомить
читателя с концепцией профессора Уикхема, вкратце охарактеризо-
вать иной подход к этому понятию.
Эта иная точка зрения выражена, в частности, в книге Вернера
Рёзенера “Крестьяне в европейской истории”2. Работа эта была
предназначена для издаваемой Жаком Ле Гоффом серии “Строить
Европу”, и интересующая нас проблема лишь сравнительно бегло в
ней рассмотрена. Тем не менее главное выражено с полной опреде-
ленностью.
Peasant society представляет собой, по Рёзенеру, комплекс об-
щественных и экономических отношений, распространенных и да-
же доминировавших среди деревенского населения Европы на про-
тяжении целого тысячелетия. Следовательно, речь должна идти не
о каком-то более или менее скоропреходящем феномене, но о
чрезвычайно длительной исторической эпохе - от образования си-
стемы барских дворов (сеньориального домена) во Франции до ос-
вобождения крестьян в конце XVIII и в XIX в. Соответственно,
здесь историку приходится оперировать особыми категориями вре-
мени, равно как и вновь вдуматься в соотношение понятий “дина-
мизма” и “статики”.
Эта социальная и экономическая организация оставалась, собст-
венно, вне поля зрения историков, поскольку в центре их внимания
традиционно находились (и до сих пор находятся) “вертикальные”
связи между сеньорами и крестьянами, которые играют в ученых
построениях медиевистов преимущественно или исключительно не-
самостоятельную, подчиненную роль “эксплуатируемых трудящих-
ся масс”. Приходится констатировать, что многие современные ис-
торики унаследовали от средневековых аристократов высокомерно-
пренебрежительный взгляд на непосредственных производителей
той эпохи. Если европейскому крестьянству в действительной исто-
рии удалось, пусть сравнительно недавно, добиться освобождения,
то в исследованиях профессоров оно этой эмансипации далеко еще
не достигло.
Давая беглую характеристику европейского “крестьянского об-
щества”, Рёзенер вычленяет такие его единые, общие черты: сеньо-
риальная зависимость, трехполье, семейные промыслы, относитель-
ная самостоятельность внутридеревенских отношений и устойчи-
вость системы крестьянских ценностей. К сожалению, кажется мне,
этот автор не нашел необходимым в должной мере углубиться во
внутреннюю социальную стратификацию сельского населения, ко-
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 191
торое на всем протяжении своей истории не оставалось однород-
ным, а подчас было глубоко дифференцированным, так что меж-
крестьянские отношения могли иметь не меньшее значение в жизни
деревни, нежели ее отношения с крупным землевладельцем.
Для крестьянства ряда стран Запада, подчеркивает Рёзенер, ог-
ромное значение имело так называемое “гуфовое устройство”. Гуфа
(Hufe) представляла собой наследственный земельный надел, кото-
рым обладала крестьянская семья. Естественно, гуфа неизменно ос-
тавалась центром приложения сил семьи. Особенно существенно
было то, что обладание гуфой создавало основу для известной кре-
стьянской самостоятельности, экономической и социальной.
Для того чтобы несколько яснее представить себе peasant socie-
ty, мне кажется полезным напомнить о социологической дихотомии
Gemeinschaft - Gesellschaft, в свое время обоснованной Ф. Тённисом.
Хотя в настоящее время кое-кто из социологов ставит под сомнение
убедительность этого построения, я позволю себе его придержи-
ваться. Ибо такие черты Gemeinschaft, как наличие прямых контак-
тов между членами сравнительно немногочисленного, а потому и не
анонимного сообщества, как отсутствие в нем строгой и все опреде-
ляющей жесткой социальной структуры, суть неотъемлемые харак-
теристики “крестьянского общества”. В немалой мере напоминая
Gesellschaft с присущими последнему напряженностями и конфлик-
тами и включая в свой организм многие ростки тех противоречий,
которые в полной мере могли бы развиться в более дифференциро-
ванном обществе, peasant society носит в себе “бациллы” подобного
развития.
Введение концепта peasant society оказалось возможным в ре-
зультате радикального изменения взгляда на общественные порядки
и аграрный строй средневековой Европы. Барскому домену, рыцар-
скому замку и всему аристократическому образу жизни пришлось
несколько потесниться для того, чтобы дать место крестьянской се-
мье, сельской гуфе и деревенской сходке. Никто не намеревается
посягать на значимость сеньориально-вассальных связей и всех от-
ношений, ими предполагаемых. Но кажется обоснованным желание
увидеть наряду с “парадной” стороной средневекового общества и
его более грубую, но в высшей степени существенную изнанку -
крестьян в европейской истории.
* * *
Говоря о проблеме “крестьянского общества”, я решаюсь утвер-
ждать, что понятия прогресса, развития, исторической динамики
здесь приходится существенно модифицировать. В работах разных
лет мне неоднократно доводилось затрагивать эту сторону вопроса.
Ни в коей мере не намереваясь превращать peasant society в некую
192
Феодализм перед судом историков
недвижимую окаменелость, я вместе с тем хотел бы подчеркнуть:
совершенно естественным образом историки смотрят на свой пред-
мет сквозь категории изменения, неустойчивости и динамизма. Од-
нако, после того как мы всерьез восприняли идею множественности
временных ритмов, в спектре которых существует исследуемое на-
ми общество, нам приходится все более пристально всматриваться в
особенности протекания времени, присущие тем или иным уровням
действительности. В частности, невозможно отрицать различия во
временных ритмах, каковым подчинялась жизнь горожан, крестьян,
монахов, духовенства, мелкого рыцарства и высокородной аристо-
кратии. Крестьянство более глубоко, нежели иные слои средневеко-
вого общества, подчинялось природным ритмам и едва ли вплоть до
конца эпохи (а может быть, и еще позднее) было способно вырвать-
ся из тисков мифа о вечном возвращении. Ни освоение новых терри-
торий под пашню, ни постепенное распространение более продук-
тивных методов обработки земли, ни относительное укрепление
торговых связей деревни с городом, ни возраставшее давление на
крестьян со стороны господ и королевской власти, побуждавшее их
интенсифицировать свой труд, - все эти изменения, подчас драма-
тичные, не могли радикальным образом расшатать и тем более раз-
рушить той основы, на какой воспроизводило себя peasant society.
Я легко допускаю, что это общество более или менее заметно из-
менялось - может быть, под воздействием высившихся над ним соци-
альных и политических сил скорее, нежели вследствие внутреннего
развития, - но при всем при том оно оставалось консервативным в са-
мой своей основе и, осмелюсь утверждать, сохраняло свои характер-
ные черты вплоть до времени падения феодализма. Его вклад в раз-
витие идей и ценностей был иным, нежели вклад бюргеров и духов-
ного сословия, ученых и гуманистов. Но все эти особенности, вклю-
чая консерватизм и преобладание статики над динамикой, никак не
дают оснований для его игнорирования или недооценки. И здесь я со-
лидарен с профессором Уикхемом, который, демонстрируя различия
в природных, этнических, политических и хозяйственных условиях
жизни того или иного региона, неизменно выявляет такие черты кре-
стьянского общества, как относительная малоизменчивость, способ-
ность ко внутренней самоорганизации и сравнительная экономиче-
ская и социальная автономия мелких собственников. В одних регио-
нах у них оказывается достаточно сил для того, чтобы противостоять
нажиму, в других эта способность с трудом обнаруживается, и Уик-
хем старается объяснить причину этих различий. Нетрудно видеть,
что он разделяет определенный взгляд на природу тех социальных и
экономических отношений, которые он квалифицирует как фео-
дальные. Вряд ли читатель его книги чрезмерно удивится тому, что
легче всего под это определение “феодального” нашему историку
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 193
оказалось подвести те отношения, которые он обнаружил преимуще-
ственно в Иль-де-Франсе. Что и требовалось доказать...
Существенно то, что Уикхем придает немалое значение внутри-
крсстьянским отношениям, на которые его предшественники, как
мне кажется, не обращали должного внимания. Прежде всего это
радикальная противоположность личной свободы и рабства. Кре-
стьянин-держатель, при большей или меньшей ограниченности сво-
их личных и имущественных прав, тем не менее противостоит бес-
правному рабу. И эта противоположность, в одних регионах со вре-
менем несколько смягчавшаяся, в других оставалась основополага-
ющей до конца Средневековья.
Крестьянство, в глазах историков противостоящее господам как
нечто целое, в своей действительной повседневной жизни отнюдь не
о тличалось гомогенностью. Вообще говоря, мы едва ли найдем в ис-
тории такие общественные объединения, которые строились бы на
принципах всеобщего равенства и свободы. Любой социум, сколь ни
примитивен он был, с неизбежностью переживал внутреннюю диф-
ференциацию. Это вполне относится и к peasant society. Оно было
расслоено на ряд имущественных и социально-правовых групп, и
между ними складывались многообразные и противоречивые отно-
шения. Находясь под властью крупного землевладельца (или подчи-
няясь одновременно нескольким господам), крестьянин вместе с тем
вполне мог быть патроном или притеснителем других держателей,
рабов и наемных работников. Медиевисту, обладающему способом
проникновения в недра средневековой деревни, нужно быть гото-
вым к тому, чтобы найти в ней многосложную социально-правовую
п экономическую неоднородность. Эта неоднородность не исключа-
ла даже возможности перехода отдельных возвысившихся крестьян
в низший слой благородных, хотя, конечно, память о сервильном
происхождении подобного рода выскочек-“нобилей” неизбежно со-
провождала их на протяжении нескольких поколений.
Однако, подчеркивает Уикхем, хотя крестьянское сообщество и
не было абсолютно эгалитарным, т.е. существовали разные виды
неравенства как внутри домохозяйств, так и между ними, оно было
относительно эгалитарным в том смысле, что социальные ранги
были неустойчивы и отсутствовали институциональные гарантии
сохранения власти и богатства за теми или иными индивидами или
семьями. В условиях отсутствия экономического накопления в кре-
стьянской среде имущественный и социальный ранг зависел от со-
блюдения ритуалов взаимности.
Короче говоря, констатация того, что перед нами крестьянин, в
действительности говорит о немногом. Куда важнее было бы уви-
деть его в той пестрой, многоликой и текучей социальной среде, ко-
торая жила сообразно присущим ей закономерностям и обычаям и
13 Одиссей, 2006
194
Феодализм перед судом историков
подчас имела мало общего с привычным для историков противосто-
янием “феодал-крестьянин”. Если феодальная система строится на
производстве, извлечении и распределении прибавочного продукта,
то отношения внутри “крестьянского общества” обладали сущест-
венно иными характеристиками. Именно поэтому я в вышеприве-
денном тексте старался подчеркнуть значение межкрестьянских
объединений, которые выражались во взаимной помощи, эквива-
лентном обмене, празднествах и пирах, равно как и в регулярно со-
зывавшихся местных и региональных сходках, одновременно вы-
полнявших судебные функции и роль центров обмена и распростра-
нения информации. Если здесь налицо и антагонизмы, то было бы
неверно рассматривать их в отрыве от механизмов взаимодействия и
сотрудничества.
По мнению Уикхема, об оппозиции “феодал-крестьянин” вооб-
ще не приходится говорить как о доминирующей черте социальной
структуры Западной Европы в раннее Средневековье. В начале
средневекового периода, в связи с сокращением аристократическо-
го землевладения после крушения Римской империи, многие терри-
тории стали независимы от власти знати, так что зоны, где господ-
ствовала аристократия, перемежались с зонами преимущественно
крестьянского землевладения, “подобно пятнам на леопардовой
шкуре”. До конца каролингского периода даже там, где власть коро-
ны и аристократии была сильнее всего (например, в Иль-де-Франсе),
она не была и не стремилась быть настолько всеохватной, чтобы по-
глотить и подорвать автономные экономические системы всех дере-
вень, населенных крестьянами-собственниками. Лишь приблизи-
тельно с рубежа IX столетия, пишет Уикхем, крестьянское общест-
во начинает уступать место феодальным отношениям. К 1000 (на
Севере к 1300) году, как утверждает автор, от крестьянского спосо-
ба производства в Европе остались лишь следы.
* * *
Пожалуй, одна из наиболее интересных черт “крестьянского обще-
ства”, но вместе с тем и такая его черта, которая в высшей степени
затрудняет его систематическую характеристику, заключается в те-
кучести и трудноуловимое™ его облика. Я позволю себе в чрезвы-
чайно сжатом, конспективном виде продемонстрировать эту слож-
ность опять-таки на исландском материале.
Колонисты - выходцы из Норвегии и других скандинавских
стран - в IX-X вв. заселили прибрежную кромку острова, в общем и
целом воспроизводя здесь привычные для них хозяйственные и со-
циальные порядки. Земледельцы, скотоводы и рыболовы основыва-
ли собственные хутора, в которых под эгидой домохозяина жили се-
мья, более дальние родичи, а также наемные работники, прибивши-
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 195
сея к хозяину бедняки и, в довольно большом числе, рабы и вольно-
отпущенники. Подобный микромир отличался автаркией и в хозяй-
ственном, и в правовом отношении. В этой семье или семейной об-
щине равенство отсутствовало, и все ее члены пребывали под стро-
гим контролем бонда-хозяина, единовластно возглавлявшего это со-
общество.
На хозяине лежали обязательства обеспечить возможно более
благоприятный уровень материального существования (по тогдаш-
ним европейским континентальным “нормам” весьма низкий), и, что
было не менее существенно, безопасность и соблюдение человече-
ского достоинства. Естественно, между отдельными хуторянами не
существовало ни имущественного, ни социального и нравственного
равенства, и уровень, на котором находилась та или иная семья, пре-
жде всего определялся общественным статусом и личным авторите-
том бонда. “Саги об исландцах” содержат богатейший материал, ха-
рактеризующий неустанные и непрестанные заботы хуторян о под-
держании и упрочении своего статуса, т.е. уважения, которым бонд
и его люди пользовались среди окружающих хозяев. Стратегия по-
недения, которой бонд не мог не придерживаться, заключалась в
том, что ему постоянно приходилось устанавливать или поддержи-
вать дружеские связи с влиятельными людьми. В этом отношении
особую важность приобретали взаимные посещения и обмен подар-
ками. Последние могли быть очень скромными - важна была та
коммуникативная функция, какую они выполняли, ибо получение
дара воспринималось в этом обществе как установление почти неру-
шимых связей между теми, кто дарами обменивался. Авторитет бон-
да определялся и его материальным достатком, и наличием у него
друзей, а также работящих и боеспособных людей в его доме, гото-
вых поддержать своего бонда в конфликте с другими лицами.
Но одновременно и, пожалуй, в еще большей степени общест-
венный вес свободного и полноправного человека зависел от его
личных качеств, ума и физических способностей. Эти “самостоя-
тельные люди” (выражение Халлдора Лакснеса) в социальной жиз-
ни отнюдь не были так уж самостоятельны. Силы социального сце-
пления действовали как по горизонтали, так и по вертикали. Для
того чтобы обеспечить устойчивость своего микромира, бонд, как
мы видели, должен был поддерживать определенные отношения с
другими хозяевами, населявшими отдаленные один от другого ху-
тора. Вместе с тем ему, как правило, приходилось искать себе по-
кровителя. В каждой округе имелись владения наиболее могущест-
венных собственников, которых их соседи именовали “большими
людьми”, или “хёвдингами” (главарями, предводителями). Хёвдин-
гом мог быть преуспевший бонд, но среди этих влиятельных хозя-
ев существовали и потомки людей, родословные которых восходи-
196
Феодализм перед судом историков
ли еще ко временам до начала колонизации Исландии. Хёвдинг -
человек, сумевший укрепить свое общественное влияние и добив-
шийся того, что другие бонды видели в нем своего предводителя.
Некоторые из хёвдингов именовались “годи” (godi), что указывало
на жреческие функции, которые “годи” выполнял в своем коллек-
тиве (Исландия приняла христианство в 1000 г.). Но было бы не-
точным видеть в “годи” прежде всего языческого жреца. Он был
предводителем бондов, а они образовывали его “годорд” (godorp).
К отношениям между годи и бондами, входившими в его годорд, ед-
ва ли безоговорочно применимы понятия господства и подчинения.
Бонд мог примкнуть к тому или другому годи на основе частного
договора между ними, но он был волен покинуть этого покровите-
ля и найти себе другого. В Исландии уже действовало неписаное,
но всем известное право, нормам которого все должны были пови-
новаться, но отношения между бондами и годи не регулировались
какими бы то ни было правовыми нормами. Уважение и автори-
тет, которыми пользовался тот или иной годи, его способность воз-
действовать на примкнувших к нему бондов, мера его влияния на
решения возглавляемого им тинга - судебного собрания, - все это
в конечном итоге зависело от соотношения сил и влияний отдель-
ных лиц, но отнюдь не от какой-то системы устоявшихся и законо-
дательно закрепленных юридических статусов.
Как видим, тенденции равенства и уважения полноправия каж-
дого из хуторян причудливо и неразрывно переплетались с тенден-
циями противоположного свойства - с тенденциями покровительст-
ва, зависимости, служения и повиновения. Среди основных социаль-
ных ценностей, на которых строилось это peasant society и которые
оно всемерно защищало и утверждало, мне хотелось бы вновь под-
черкнуть человеческое достоинство, самосознание индивида. Более,
чем о своем материальном достатке и внешнем благополучии, сво-
бодные бонды пеклись о незапятнанности собственной репутации;
как сказано в “Речах Высокого”, одной из поэм “Старшей Эдды”, ни
скот и иное имущество, ни сама жизнь не представляют собой такой
безусловной ценности, как суждение об индивиде, сложившееся у
его окружения. Эта бросающаяся в глаза забота о личной чести, о
достоинстве свободного человека побуждает меня квалифицировать
такие его коренные установки как своего рода индивидуализм. Разу-
меется, индивидуализм свободного хуторянина, участника судебной
сходки-тинга, человека, который обнаруживает влечение к позна-
нию жизни себе подобных (отсюда неистощимый интерес к семей-
ным сагам), бесконечно далек от индивидуализма носителей идей
Возрождения. Назовем этот индивидуализм архаическим.
Религиозность, приверженность ритуалам и магическим практи-
кам, своеобразные представления об устройстве “большого” и “мало-
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 197
го” миров - все это неотъемлемые компоненты существования “кре-
стьянского общества”. Скованность жестким форматом статьи не по-
зволяет мне хотя бы вкратце остановиться на описании тех черт куль-
туры этого общества, сведения о которых сохранились в источниках,
несмотря на упорную работу церкви по искоренению и замалчиванию
народных superstitiones. Проблему “народной культуры”, в которой
неразрывно и причудливо переплетались элементы христианства
(“приходского католицизма”) с языческими верованиями и практика-
ми, надлежало бы изучать в общем контексте peasant society.
Как мне кажется, знакомство с устройством общества, широко
обрисованного в “сагах об исландцах”, могло бы помочь нам понять,
до какой степени “крестьянское общество” было внутренне диффе-
ренцированным, не раскалываясь вместе с тем на антагонистиче-
ские группы или зародыши социальных классов. Исландия в
ХП-ХШ вв. пережила ожесточенные внутренние усобицы, вызван-
ные прежде всего соперничеством между могущественными хёвдин-
гами; она даже утратила свою независимость, подпав под власть
норвежских королей. При этом влияние наиболее богатых и власто-
любивых исландских предводителей роковым образом расшатыва-
ло то общественное устройство, основные контуры которого мы на-
блюдали выше. И тем не менее я решаюсь высказать предположе-
ние, что peasant society, историко-социологический тип которого
встречается в case studies профессора Уикхема, просуществовало на
этом острове на протяжении всего Средневековья. Известная дат-
ская исследовательница С. Хаструп назвала Исландию island of
anthropology. Именно здесь перед умственным взором историка-ан-
трополога открывается возможность ближе понять внутреннее уст-
ройство этого социологического феномена. Возможность эта воис-
тину уникальна. В определенном смысле это исключение, но “нор-
мальное исключение”, побуждающее нас заново осмыслить такой
исторический тип социальной организации, который продолжает ус-
кользать от взора медиевистов.
* * *
Уважаемый читатель предлагаемого мною текста, несомненно, с
малых лет был приучен к мысли, что крестьянин чуть ли не на про-
тяжении всей своей истории был “общинником”. Согласно обще-
принятой догме, родоплеменная община на протяжении тысячеле-
тий оставалась той формой, в которой кристаллизовался каждый ее
член, и переход на заре Средневековья к “земледельческой”3, а за-
тем и к соседской общине не высвобождал его личности.
Куда более убедительными представляются мне утверждения
профессора Уикхема о том, что на протяжении длительного време-
ни поселения деревнями, относительно крупными объединениями
198
Феодализм перед судом историков
домохозяев были сравнительно редки, уступая преобладающему ти-
пу разрозненных и обособленных усадеб либо небольших групп хо-
зяйств, состоявших всего лишь из нескольких дворов. Эти утвержде-
ния солидно обоснованы археологическими находками последних
десятилетий. Например, ютландское селение Vorbasse, как пишет
Уикхем, существовало на протяжении как минимум 2 тыс. лет с I в.
до н.э., причем если на ранних этапах своей истории оно неоднократ-
но меняло местоположение (в радиусе километра), то около 1200 г.
оно приобрело большую территориальную стабильность. Количест-
во домов, следы коих восстановлены, в этой и подобных ей деревнях
обычно не превышает десяти - максимум двадцати. Южнее, в Ита-
лии, среди раннесредневековых крестьянских поселений, следы ко-
торых изучены, преобладают изолированные усадьбы.
В поселках описанного выше типа, несомненно, занимались ре-
меслом, что давало основу для локального товарообмена. У Уикхе-
ма нет сомнений в том, что в подобных поселениях немалую роль иг-
рало рабство. Что касаетсяЪысшей прослойки деревенского населе-
ния, то остается не вполне ясной степень ее устойчивости и привиле-
гированности.
Внутренняя колонизация, расчистки и освоение новых земель,
потребность в которых нарастала по мере увеличения численности
населения, - эти явления сделались существенными факторами со-
циальной жизни, собственно, лишь на рубеже тысячелетий. Соот-
ветственно, как полагают Шапло и Фосье, Тейлор и Дайер, “дерев-
ня” в привычном, общепринятом ныне смысле этого слова возника-
ет лишь между IX и XII вв. Только в период высокого Средневеко-
вья, с возникновением замков, сельская община с ее аграрными по-
рядками (система открытых полей, трехполье, принудительный се-
вооборот и выпас по жнивью), с церковно-приходской жизнью (ор-
ганизованной вокруг сделавшихся многочисленными каменных цер-
квей) и с возросшими заботами о внутренней самоорганизации при-
обретает те черты, которые историки-медиевисты, социологи и фи-
лософы слишком долго принимали за исконные и неизменные осно-
вы крестьянской жизни.
Итак, в свете данных, накопленных наукой к настоящему време-
ни, община обретает исторический облик, и в том виде, в каком она
известна нам в период высокого и позднего Средневековья, она воз-
никает и развивается вместе с крестьянством. Иными словами, в пе-
риод перехода от Античности к Средневековью можно констатиро-
вать смену римского поместья (fundus) небольшой рыхло организо-
ванной деревней, что было, по-видимому, связано с крушением им-
перской системы налогообложения, утратой римской аристократи-
ей ее былого могущества и возрастанием автономии и социального
веса мелких собственников.
А.Я. Гуревич. Post Scriptum: Peasant Society и профессор Крис Уикхем 199
* * *
Книга Уикхема охватывает и ряд других сторон социально-экономи-
ческой жизни Европы в начале Средневековья, но центральной и
наиболее интересной из них представляется мне именно проблема
peasant society. Ибо как раз в ходе обсуждения указанной проблемы
с особой наглядностью выступают сильные и слабые стороны его
концепции. Понятие “peasant society”, занесенное логикой развития
гуманитарных наук из соседних дисциплин, оказывается тем осел-
ком, на котором испытывается методология автора. Как я полагаю,
даже помимо намерений профессора Уикхема перед читателем мо-
нографии обнажается заложенная в нее методология.
Боюсь, что не впаду в преувеличение, если скажу: новую для ис-
торической науки капитальную проблему, проблему peasant society,
автор пытается решать, исходя из традиционно понимаемой маркси-
стской доктрины. В поле его зрения неизменно остаются одни толь-
ко аспекты экономической и материальной жизни - распределение
земельной собственности и оформление прав на нее, эксплуатация
сельского населения, ренты, структура сельских поселений и иные
подобные же элементы социально-экономического анализа, кото-
рые в свое время исследовались многими медиевистами. Трудность
заключается не в возвращении ко вполне почтенным аспектам исто-
рического исследования, а в другом. Подведенный логикой собст-
венного анализа к новой большой проблеме “крестьянского общест-
ва”, профессор Уикхем пытается вскрыть тайны этого историко-со-
циологического явления при помощи явно устаревших приемов. Он
не расположен принять в расчет, притом в расчет не формальный,
но такой, который требует от историка радикальной прочистки при-
меняемых им понятий, того, что “крестьянское общество” - это об-
щество живых людей, которые вели себя осознанным образом и ру-
ководствовались культурными ценностями в своей практической
жизни, в том числе и производственной.
Неужели мы все еще не дожили до признания того, что в исто-
рии, в том числе и экономической, действуют не абстрактные кате-
гории, но живые субъекты, и что поэтому к ним и необходимо соот-
ветствующим образом обращаться? Иначе говоря, в общем виде ни-
кто вроде бы и не склонен отрицать эту очевидность, - трудности
начинаются там, где ее, эту очевидность, нужно претворить в пред-
мет исследовательского анализа и теоретического осмысления.
Именно в этот момент историк оказывается лицом к лицу с дилем-
мой: либо по-прежнему следовать по стопам позитивизма любого
толка, в том числе и марксистского, либо перейти на позиции исто-
рической антропологии. Я свой выбор сделал и смею заверить чита-
теля, что легкой жизни он не сулит.
200
Феодализм перед судом историков
Непредвиденная встреча с капитальным трудом профессора
Уикхема побудила меня вновь попытаться взглянуть на те понятия и
методы, кои ныне предлагает нам гуманитарное знание, и уже за эту
предоставившуюся мне возможность я глубоко признателен окс-
фордскому коллеге.
1 Wickham С. Framing the Early Middle Ages. Europe and Mediterranean 400-800.
Oxford, 2005.
2 Rosener W. Die Bauem in der europaischen Geschichte. Munchen, 1993.
3 Термин “земледельческая община”, заимствованный в рукописях Маркса,
был применен А.И. Неусыхиным в качестве характеристики переходного
типа общины от доминирования коллективизма к частичному высвобож-
дению аллода из-под общинной собственности на пахотные земли. Пери-
од подобных трансформаций охарактеризован исследователем как “дофе-
одальный период”. Не вдаваясь в детальное рассмотрение концепции
А.И. Неусыхина, который, насколько я мог его понять, склонялся к тому,
чтобы осмыслить “дофеодальный период” в теоретическом ранге чуть ли
не особой общественной формации, приходится признать, что, по его мне-
нию, это социально-экономическое образование завершило свою исто-
рию в конвульсиях каролингского периода. См.: Неусыхин А.И. Дофео-
дальный период как переходная стадия развития от родо-племенного
строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы ран-
него средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ.
М., 1968. Кн. 1; Он же. Эволюция общественного строя варваров от ран-
них форм общины к возникновению индивидуального хозяйства // Исто-
рия крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1: Формирование фео-
дально-зависимого крестьянства. М., 1985. С. 137-176. Призрак peasant
society, возникший было на страницах указанных работ А.И. Неусыхина,
тут же бесследно и исчезает.
КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО
И.Е. Суриков
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
ДРАКОНТА И СОЛОНА:
РЕЛИГИЯ, ПРАВО И ФОРМИРОВАНИЕ
АФИПСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБЩИНЫ*
Уникальность афинского полиса в греческом мире выразилась по-
мимо прочих многочисленных обстоятельств еще и в том факте, что
в архаическую эпоху, когда передовые государства Эллады пережи-
ли своеобразный “законодательный бум”, Афины - и, насколько из-
вестно, только они - стали ареной действия двух законодателей, ме-
стом письменной фиксации двух следовавших друг за другом с не-
значительным хронологическим разрывом законодательств. Причи-
на этой необычной ситуации, возможно, отчасти станет нам ясна в
ходе исследования, пока же отметим, что если первый из этих двух
законодателей - Драконт - представляется фигурой, в общем, стан-
дартной для своего времени, равно как и его деятельность не имеет
значительных отличий от мероприятий его “коллег” из других горо-
дов, то со вторым - Солоном - дело обстоит совсем иначе. Этот по-
следний был, безусловно, одной из самых ярких личностей во всей
античной истории и уж во всяком случае не имевшей себе равных в
архаической Греции по разносторонности и одновременной гармо-
ничности своих проявлений. Уникальная деятельность Солона не
стала определяющей для последующей политической, социальной,
идейной эволюции Афин в той мере, в какой могла бы, лишь по той
причине, что он, судя по всему, существенно опередил свое время.
Предметом анализа в настоящей статье станет именно законода-
тельная деятельность Драконта и Солона, естественно, не во всем
своем объеме ( такая задача потребовала бы отдельной и весьма об-
ширной монографии), а в ряде представляющихся нам важными и
недостаточно изученными предшествующей литературой аспектов.
Говоря об обще греческом контексте первых афинских письмен-
ных кодификаций нрава, следует отметить: нет никакого сомнения в
том, что они проходили в общем русле “первоначальной законода-
тельной реформы" (пользуемся выражением Э.Д. Фролова1), осуще-
Работа выполнена при поддержке РФФИ (номер проекта 03-06-80066).
202
Культурная история социального
стелившейся в архаическую эпоху в целом ряде греческих полисов и
обусловленной объективными факторами, в значительной мере об-
щими для многих регионов Эллады. Явления того же порядка - за-
конодательные реформы Залевка и Харонда в Великой Греции, Фи-
дона в Коринфе, Филолая в Фивах, составление первых сводов пись-
менных законов в городах Крита, который вообще, судя по всему,
можно считать “колыбелью” законотворчества в Элладе2. Иными
словами, Афины в этом отношении не уникальны. Однако несом-
ненно и то, что объективная ситуация в каждом отдельно взятом по-
лисе получала конкретное преломление и имела свои особенности.
Диалектическая динамика объективного и субъективного являла
собой сочетание и взаимодействие двух сторон единого процесса.
Ранние законодательные реформы внесли исключительно важ-
ный вклад в складывание феномена античного полиса прежде всего
в том отношении, что они стали принципиальным шагом на грече-
ской почве от “предправа” к праву в собственном смысле слова. Тер-
мин “прсдправо” (predroit) был введен в свое время выдающимся
французским антиковедом Л. Жернс3 и подразумевал следующие
импликации. До выделения автономной “юридической функции” в
греческом мире состояние отношений, которые мы ныне относим к
праву, было принципиально иным и осмыслялось в рамках более
широкого комплекса ментальных концептов, прежде всего религи-
озно-магического характера. Такое состояние и являлось “предпра-
вом”. Для этой системы воззрений и практик характерна важнейшая
роль таких институтов, как дар и порождаемая им обязанность4,
клятва, родовое проклятие, из которого закономерно вытекает идея
коллективной ответственности5, кровная месть как реализация за-
кона адекватного воздаяния, особое отношение к “чужакам”, один
из аспектов которого - специфический институт “моления” (1хете(а,
supplicatio)6, процедуры типа ордалий и т.п. Право как таковое лишь
постепенно выкристаллизовалось из этих практик, составив особую
сферу, в то время как ранее оно находилось в тесном смешении с ре-
лигиозными и этическими категориями.
Однако вряд ли верным было бы полагать, что после введения
первых законодательных сводов в греческих полисах ситуация не-
медленно и кардинально изменилась, что право решительно высво-
бодилось из-под влияния религии. Справедливо отмечалось7, что в
полисных условиях и позже, после появления права как такового,
сохранялись пережитки “предправа”, что автономная “юридическая
функция” долго еще не освободилась от магико-религиозного на-
следия (а собственно, освободилась ли она от него окончательно да-
же и по сей день, в нашем вполне светском, но тем не менее прони-
занном различными ритуалами обществе?). К греческому праву всё
это приложимо в несравненно большей степени, нежели, скажем, к
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 203
римскому, в котором достаточно четко отделялись друг от друга
сферы ius и fas. Таким образом, ранние греческие своды законов,
безусловно, следует трактовать как акты синкретического характе-
ра, имеющие прямое отношение как к праву, так и к религии.
Категория закона (Owpdg, v6|io£) в архаическую эпоху относи-
лась, в сущности, не столько к светской, сколько к религиозной, са-
кральной сфере жизни. Введение новых законов или изменение ста-
рых (даже такое изменение, как, например, простой их перевод из
устной формы в письменную, без какого-либо вмешательства в
формулировки) рассматривался как акт космического значения,
призванный восстановить гармоничный миропорядок, но могущий в
то же время привести и к еще худшему его нарушению в случае, ес-
ли этот акт не основывался на подобающей божественной санкции8.
Данное обстоятельство, кстати, нередко упускается из виду в иссле-
довательской литературе, когда архаическое законодательство ана-
лизируется исключительно в социально-экономических и политиче-
ских терминах.
Строго говоря, вообще не вполне ясно, можно ли вводить кате-
горию “светского” применительно к греческому полису и его праву9.
Так, техническое выражение то iepd xal та бела зачастую трактует-
ся как нечто вроде sacra et profana, т.е. совокупность религиозного,
“божеского”, с одной стороны, и мирского, “человеческого” - с дру-
гой. Однако, как убедительно показал А. Маффи10, термин боюд в
подобных контекстах вряд ли может быть понимаем как “светский”,
“профанный” в полном смысле слова; скорее следует говорить о не-
сколько ином уровне священного, имеющем отношение не к богам,
а к самому полису. В сущности, автономную “религиозную функ-
цию” в полисных рамках, подобно юридической, тоже нельзя счи-
тать четко выделившейся; она неразрывно переплеталась с прочими
аспектами бытия11. Последнему, кстати, способствовало отсутствие
специального сословия духовенства. Даже пожизненные и наследст-
венные жрецы, известные для некоторых культов (например, даду-
хи Элевсинских мистерий из рода Кериков) являлись полисными ма-
гистратами и могли параллельно активно заниматься политической
деятельностью12.
В полисе было сакрализовано буквально всё, любая сфера об-
щественной деятельности. Он являлся не только политическим, но и
религиозным феноменом. Часто отмечают, что религия в полисе
была тесно связана с политикой, государственностью13. Нам, одна-
ко, даже такая формулировка кажется недостаточной, слишком сла-
бой. Вернее было бы сказать, что религиозные и государственные
структуры в принципе совпадали.
Поясним свою мысль. Полис есть городская гражданская общи-
на, конституирующая себя в качестве политической организации,
204
Культурная история социального
т.е. государства. Но в той же самой мере полис есть городская граж-
данская община, конституирующая себя в качестве религиозной ор-
ганизации. Здесь напрашивается продолжение “...то есть церкви”, и
если мы воздерживаемся здесь от употребления термина “церковь”,
то только потому, что он несет в себе ряд устойчивых коннотаций
вполне определенного характера, с трудом увязывающихся в совре-
менном сознании с античной языческой религией. Впрочем, в запад-
ной исследовательской литературе можно встретить и определения
именно такого рода: в условиях религии, не имевшей ни элементов
откровения, ни канона священных текстов, ни духовенства, полис
играл роль церкви14.
Сказанное о полисе в целом в полной мере относится и к его за-
конам. Ранние законодательства как бы “творили” полис, причем в
ряде различных отношений. С одной стороны, они создавали полис-
ную государственность, фиксировали ее в стабильной, устойчивой
форме. Потестарная структура может считаться полноценным госу-
дарством, а не “протогосударством” или “квазигосударством” тогда,
когда она обладает некоей совокупностью писаных (т.е. уже не под-
лежащих несанкционированному изменению) авторитетных и обя-
зательных для всех публично-правовых норм, а это и есть законы.
Но, с другой стороны, архаические законодатели создавали полис и
как религиозную организацию. Они одновременно давали полису
религиозную санкцию и религии - санкцию полиса.
Вполне закономерно в данной связи то обстоятельство, что, со-
гласно устоявшемуся в историографии (и, насколько можно судить,
вполне обоснованному) мнению, значительное влияние на становле-
ние самого феномена раннего греческого законодательства оказал
наиболее авторитетный религиозный центр греческого мира архаи-
ческой эпохи - Дельфийский оракул15. В деятельности архаических
Дельф нашла выражение “легалистская” (термин М. Нильссона)
тенденция эпохи, в силу чего они и оказывались способными влиять
на первые кодификации права. Бесспорно, говорить о прямой дель-
фийской инспирации во всех конкретных случаях деятельности но-
мофетов было бы слишком категоричным. Так, если взять пример
Афин, ничего не известно о каких-либо контактах Драконта со свя-
тилищем на склоне Парнаса. Правда, это может объясняться тем,
что о личности и деятельности Драконта вообще не сохранилось
практически никаких конкретных фактов. Что же касается несрав-
ненно более знаменитого Солона, то существует обширная тради-
ция о связях этого законодателя с Дельфами16. Эти связи начались
еще в начале деятельности Солона (война Афин с Мегарами за Са-
ламин, первая Священная война за контроль над оракулом). И когда
этот афинский поэт и мудрец начал проводить свои кардинальные и
всеобъемлющие законодательные реформы, он встретил самую ре-
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 205
шительную поддержку дельфийского жречества17. Поддержка, по-
жалуй, была даже слишком рьяной: в одном из пророчеств пифии
(ар. Plut. Мог. 152с) Солону предлагалось ни более ни менее как про-
возгласить себя тираном. Законодатель, будучи убежденным про-
тивником единоличной власти, отверг это предложение (Sol. Fr. 23
Diehl)™.
* * *
О законодательстве Драконта (621 г. до н.э.) нам уже приходилось
писать19, и здесь мы во избежание повторений лишь сделаем акцент
на нескольких моментах, наиболее важных в контексте данной ста-
тьи. Важнейшее место в законодательстве, о котором идет речь, за-
нимал комплекс законов об убийстве (частично сохранился аутен-
тичный текст: IG. Р. 104). Есть даже мнение20, что законы об убий-
стве были вообще единственными законами, кодифицированными
Драконтом, а все остальные (о смертной казни за кражу, праздность
и т.п., впоследствии давшие повод говорить об экстраординарной су-
ровости вошедшего в поговорку “драконовского” законодательства)
были неоправданно приписаны ему позднейшей традицией. Как бы
то ни было, с какой-то степенью уверенности и системности мы,
действительно, можем делать выводы только по поводу законов об
убийстве21. Если и имелись какие-то другие законы Драконта, то
они уже вскоре были отменены Солоном (Arist. Ath. pol. 7.1; Plut. Sol.
17) и, таким образом, дойти до нас никоим образом не могли.
Что же можно сказать по поводу законов Драконта об убийстве
в интересующем нас аспекте? Главной их целью было поставить под
контроль формирующихся государственных структур архаичный
обычай кровной мести. Не то чтобы она отныне была отменена со-
вершенно: ее осуществление сохраняло законную силу для некото-
рых частных случаев (например, если убийца отказывался удалить-
ся в изгнание или возвращался в Аттику, не достигнув предваритель-
ного примирения с родственниками жертвы). Тем не менее нормой
отныне становилась не самочинная расправа, а организованный по-
лисом судебный процесс.
Необходимо отметить, что убийство в греческом мире - не толь-
ко в архаическую, но и в классическую и даже эллинистическую
эпоху, - в принципе считалось преступлением, имевшим отношение
к частной, а не государственной сфере22. На институциональном
уровне это проявлялось в том, что оно требовало возбуждения про-
цесса типа б(хт), а не урафт). Тем не менее убийство затрагивало,
бесспорно, интересы не только отдельных лиц, но и полиса, однако,
подчеркнем, лишь постольку, поскольку оно было не только юриди-
ческим, но и религиозным феноменом. Кровопролитие для архаиче-
ского менталитета означало (далеко не в последнюю очередь) воз-
206
Культурная история социального
никновение на территории полиса очага религиозной “скверны”, ко-
торая, в свою очередь, понималась как нечто вроде заразной болез-
ни23. Для ее ликвидации применялись различного рода катартиче-
ские ритуалы, считавшиеся достаточно эффективными: ритуально-
му очищению подвергалось место совершения преступления, а в
наиболее “тяжелых” случаях - даже вся территория полиса.
Но “носителем скверны” хат’ ^o/f|v оказывался, естественно,
убийца, и в связи с этим оставалось не вполне ясным, как с ним над-
лежит поступать. Оставить его безнаказанным было, конечно, не-
возможно: это ipso facto создавало бы угрозу дальнейшего оскверне-
ния для всех его сограждан. Однако ответ на убийство новым убий-
ством (будь то в виде кровной мести или в виде казни) тоже был не
оптимальным решением проблемы: на смену старому возникал но-
вый источник “скверны”. А к идее о том, что само государство, как
учреждение, санкционированное богами, может своей властью
снять скверну убийства (наиболее ярко эта идея проявилась в “Эвме-
нидах” Эсхила), афиняне VII в. до н.э. еще не пришли.
Самым лучшим в подобном положении казалось изгнание убий-
цы, удаление его за пределы полиса. Такой выход и ликвидировал
непосредственную опасность для граждан, и в то же время не приво-
дил к новой насильственной смерти. Поэтому абсолютно прав, на
наш взгляд, М. Гагарин, показывающий, что в законах Драконта на-
казанием даже за умышленное убийство было именно изгнание, а не
смертная казнь24. Кроме того, убийце запрещалось посещать святы-
ни, - естественно, во избежание их осквернения.
Все вышесказанное порождало необходимость более четко
очертить территориальные границы полиса, ясно осознать, где же,
собственно, убийца не должен находиться. Может ли он укрыться
где-нибудь на окраине Аттики, скажем, в Марафоне или Бравроне?
Законодательство Драконта не допускало такой возможности, а,
следовательно, вносило свой вклад в формирование полисного един-
ства и целостности. Не случайно закон об убийстве - первый извест-
ный документ, в котором все жители Аттики определяются как
’A0r|vaioi25. Все они теперь были связаны определенным набором
общеобязательных процедур для предотвращения и ликвидации
“скверны”, порождаемой убийством.
Законодательство Солона (594 г. до н.э.) известно несравненно
лучше, нежели драконтовское26. Более информативны данные и о
тех его аспектах, которые находились на стыке права и религии. В
частности, целый комплекс солоновских законов (свидетельства о
них: Demosth. XLIII. 62; Cic. Leg. II. 23.59; 25.64; Plut. Sol. 12; 21) име-
ет отношение к погребальной обрядности. Об этих законах мы тоже
уже говорили подробно в другом месте27, и здесь остановимся на
данном сюжете лишь кратко. Солон упорядочивал и даже ограничи-
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 207
вал обряды, совершавшиеся при погребении, вводил их в более уме-
ренные, чем ранее, рамки. При этом великий афинский законода-
тель руководствовался, насколько можно судить, следующими ос-
новными соображениями.
Во-первых, он опять же стремился свести к минимуму возмож-
ность распространения в полисе “скверны”, культовой нечистоты.
Нам даже трудно в полной мере представить, насколько большое
место в сознании (и подсознании) эллинов архаической эпохи зани-
мал этот религиозный страх осквернения28. “Скверна”, согласно об-
щераспространенному мнению, вызывалась не только убийством
(это лишь крайний случай), но и вообще любым контактом с миром
смерти. В частности, участие в похоронах само по себе оскверняло
индивида29. Соответственно, чем менее пышным был погребальный
ритуал, чем меньше людей принимало в нем участие, тем меньше
была религиозная опасность для полиса. Во-вторых, целью Солона
было помешать использованию погребения в качестве повода для
кровной мести. Таким образом, и в данном отношении он выступал
в известной степени как продолжатель дела Драконта.
В-третьих, сыграла свою роль при принятии законов о погре-
бальной обрядности и общая эгалитарная тенденция, связанная со
становлением полиса30. Не случайно меры аналогичного характе-
ра, регулировавшие эту обрядность, осуществлялись и в других
греческих государствах архаической, классической, да даже еще и
эллинистической эпох. Ведь все такого рода ограничения имели в
виду в первую очередь аристократов: именно они из жажды пре-
стижа устраивали демонстративно богатые похороны, что в целом
должно было все более противоречить коллективизму полисного
менталитета.
Согласно правовым воззрениям греков, человек и после смерти
продолжал обладать определенной совокупностью прав31. Неясным
оставалось, должна ли эта совокупность продолжать быть незыбле-
мой или же в ней можно осуществлять какие-то изменения, как это
делалось в отношении прав живых граждан. Кажется, Солон был
склонен ко второму ответу на этот вопрос. Он смело вторгся свои-
ми регулирующими установлениями в сакральную сферу, ранее на-
ходившуюся в исключительном ведении жреческих коллегий32, и
фактически “ограничил права” покойных. Очевидно, без этого не
мог быть сделан следующий шаг в постепенном складывании афин-
ской гражданской общины.
Великий законодатель вторгался в компетенцию жречества и в
ряде других случаев. Чуть подробнее рассмотрим в данной связи
еще некоторые из его законов и реформ, имевших отношение к ре-
лигии. Известно, что именно Солоном был введен принцип жребия
при выборе высших должностных лиц полиса, в том числе колле-
208
Культурная история социального
гии девяти архонтов (Arist. Ath. pol. 8.1). До того архонтов назначал
Ареопаг33. Принцип жеребьевки при избрании магистратов в древ-
негреческих государствах, по справедливому мнению ряда уче-
ных34, имел, помимо прочих своих коннотаций, четко выраженный
религиозный характер. Жребий рассматривался как воля богов, в
чьи руки, таким образом, теперь и передавался высший контроль
над полисными властями.
Солон осуществил реформу афинского календаря. Наиболее
подробно об этом повествует Плутарх (Sol. 25): «Солон заметил ано-
малии месяца и видел, что движение луны не совпадает вполне ни с
заходом солнца, ни с восходом, но часто в один и тот же день дого-
няет солнце и опережает его. Такой день он приказал называть “ста-
рым и молодым”, ввиду того, что часть дня, предшествующая конъ-
юнкции, относится к кончающемуся месяцу, а остальная - к уже на-
чинающемуся... Следующий день он назвал новолунием. Дни от два-
дцатого до тридцатого он считал от конца месяца, называя их убы-
вающими числами и сводя на нет соответственно ущербу луны». Бо-
лее кратко говорит о том же Диоген Лаэрций (I. 58-59): “Солон
впервые назвал тридцатый день месяца старым и новым... Афиня-
нам он присоветовал считать дни по лунным месяцам”. Аристотель
в “Афинской политии” ничего не говорит о календарных реформах
Солона, скорее всего потому, что заинтересован прежде всего изме-
нениями в государственном устройстве Афин, а не какими-либо дру-
гими вопросами.
Из процитированных источников следует, что афиняне считали
Солона фактическим создателем их полисного календаря со всеми
его характерными особенностями. Так это или не так - судить труд-
но; вряд ли в Афинах досолоновского времени не существовало еще
сколько-нибудь разработанной календарной системы. Несомненно,
во всяком случае, следующее. Во-первых, Солон действительно про-
водил какие-то реформы в данной области. О конкретном содержа-
нии этих реформ можно спорить, но оно и не имеет для нас принци-
пиального значения, коль скоро мы занимаемся здесь не историей
греческих календарей, а религиозным аспектом законодательства
Солона. Во-вторых, представляет особенный интерес тот факт, что
Солон вносил изменения именно в религиозный календарь. Дело в
том, что впоследствии, в классическую эпоху, в Афинах сосущество-
вали два календаря: религиозный (его еще называют праздничным
или архонтским) и гражданский. Первый из них был основан на лун-
ном месяце; именно по нему отмечались даты праздников и иных
культовых мероприятий. В основе же гражданского календаря ле-
жала притания - отрезок длиной в десятую часть года. Этот кален-
дарь служил для назначения сроков народных собраний, выборов
должностных лиц и в целом применялся в государственной жизни
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 209
полиса35. В солоновские времена календарь, основанный на прята-
нии, скорее всего, вообще еще не существовал, по крайней мере в
своем окончательно сформировавшемся виде. Кроме того, из сооб-
щений Плутарха и Диогена Лаэрция ясно видно, что Солон рефор-
мировал тот календарь, который имел основной единицей исчисле-
ния лунный месяц.
Таким образом, эта мера законодателя прямо относится к рели-
гиозной сфере36. Крупнейший специалист в области греческой рели-
гии М. Нильссон считает, что календарные реформы в греческих
полисах проводились под значительным дельфийским влиянием. Со-
лон и здесь, как в случае погребальной обрядности, смело принимал
па еебя фактически жреческие прерогативы. Реформируя лунный
календарь, он, конечно, отдавал себе отчет в том, что изменения в
нем повлекут за собой изменения в сроках культовых действий -
празднеств, жертвоприношений.
Афинский мудрец осуществлял нововведения и непосредственно
п отношении этих последних. Плутарх (Sol. 23) отмечает, что им бы-
ла проведена оценка жертвоприношений (т& тщгщата tcov Quolcov).
Он осуществил также переоценку наград победителям на общегре-
ческих состязаниях культового характера, в частности на Олимпий-
ских играх (Ibid. 23; Diog. Laert. I. 55), причем при этой переоценке
сократил размеры наград. Диоген Лаэрций приводит следующую
мотивацию, которой будто бы руководствовался законодатель: “Не-
хорошо, говорил он, излишествовать в таких наградах, когда столь-
ко есть граждан, павших в бою, чьих детей надо кормить и воспиты-
вать на народный счет... Гимнастические же борцы и в учении неде-
шевы, и в успехе небезопасны, и венцы принимают за победу не
столько над неприятелем, сколько над отечеством” (ср. также: Diod.
IX. 25). Эту мотивацию во всей ее совокупности нелегко принять.
Она явно взята Диогеном у какого-то автора классической эпохи и
отражает взгляды этого времени, когда, по наблюдению А.И. Зай-
цева, в связи с распространением демократии и реставрацией колле-
ктивистских ценностей происходила частичная утрата атлетикой ее
места в жизни37.
Однако обратим внимание на некоторые неожиданные выраже-
ния. Почему атлеты “в успехе небезопасны” (vixcovreg ёл^ццюО?
Почему они принимают венцы за победу над отечеством (отгфст-
uvrai хата тцд латрСбод)? Все становится на свои места, если мы
припомним, что олимпионики архаической эпохи действительно не-
редко представляли собой угрозу стабильности полиса, в частности
начинали претендовать на тираническую власть38. Олимпийские по-
бедители из Афин не были исключением. Наиболее известен в дан-
ной связи, безусловно, Килон, выигравший состязания в беге на
Олимпийских играх 640 г. до н.э., а через несколько лет поднявший
14 Одиссей, 2006
210
Культурная история социального
мятеж с целью установления тирании, но потерпевший неудачу, что
повело к кровавой резне39. Еще один афинский олимпионик - борец
Фринон, победитель 636 г. до н.э., - также, видимо, оказался челове-
ком с амбициями; он в конечном счете так и не смог ужиться со сво-
ими согражданами и, покинув город, отправился во главе колониза-
ционной экспедиции на берега Геллеспонта, где и погиб40. Всё это
происходило еще на памяти Солона, и нет ничего удивительного в
том, что он в интересах единства и стабильности полиса, предотвра-
щения гражданской распри принимал определенные меры для сни-
жения престижа и значения олимпиоников. В целом эту меру не без
оснований можно охарактеризовать как антиаристократическую41.
Назначал Солон и новые празднества. Одним из них стали Гене-
сии - праздник в честь умерших, как бы день их общеполисного по-
миновения, отмечавшийся ежегодно в пятый день месяца боэдроми-
она (Bekker. Anecd. I. 86. 22)42. Это мероприятие, бесспорно, следует
поставить в прямую связь с солоновскими законами, регулировав-
шими погребальную обрядность. Культ, связанный с погребением,
превращался из частного, родового в государственное дело.
Другой, еще более важный введенный Солоном праздник, со-
провождавшийся общим жертвоприношением, назывался Сисах-
фиями (Plut. Sol. 16). Не приходится сомневаться в том, что учреж-
дение этого праздника должно было освятить память о, пожалуй,
самой знаменитой из солоновских реформ - сисахфии, облегчении
долгового бремени43. По справедливому утверждению У.Р. Конно-
ра44, “Солон, как и многие политики архаической эпохи, действо-
вал в значительной степени в рамках церемоний, ритуалов и празд-
ников и через их посредство”. Этот исследователь полагает, что и
сама сисахфия проходила в форме праздника, вероятно, представ-
ляя собой процессию граждан по афинской хоре с ритуальным
уничтожением “закладных камней” (6poi). Характерно, что ни
один из этих камней досолоновского времени не найден археолога-
ми. Создается впечатление, что они были демонстративно разру-
шены или, еще вероятнее, удалены за пределы Аттики, подобно
останкам оскверненных. С этим-то актом высокого символическо-
го значения и было, судя по всему, связано учреждение благодарст-
венного жертвоприношения богам.
Коннор считает также, что еще одна важнейшая социально-по-
литическая мера Солона - разделение гражданского коллектива на
четыре имущественных класса (пентакосиомедимнов, всадников,
зевгитов и фетов) - тоже имела свой религиозный аспект. Он зада-
ется вопросом, почему в качестве критерия границ между классами
фигурирует оценка их доходов в медимнах, и обращает внимание на
то, что, согласно данным афинских надписей, именно в медимнах ве-
лось исчисление приношений начатков урожая (dnapyai) на аттиче-
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 211
ских аграрных празднествах. Чем богаче был человек, тем он, есте-
ственно, больше приносил в жертву. Праздники такого рода по обы-
чаю сопровождались процессиями, в которых, по мнению Коннора,
статус представителей различных классов проявлялся даже внешне:
пентакосиомедимны ехали в колесницах, всадники- на конях, зевги-
ты шли пешком. Феты к этим процессиям во времена Солона могли
еще просто не допускаться. Таким образом, главное солоновское но-
вовведение получало легитимацию путем включения его в традици-
онную ритуально-символическую модель. Тем конкретным празд-
ником, процессия которого послужила основой для создания систе-
мы четырех классов, скорее всего, были Панафияеи. В то время в
Афинах еще не было Великих Панафиней, справлявшихся раз в че-
тыре года с особенным блеском. Однако ежегодные, обычные Па-
нафинеи с их процессией-помпой, безусловно, существовали и уже
являлись самым важным событием религиозной жизни полиса45.
Таким образом, законодатель не только вводил новые праздне-
ства, но и осуществлял определенные изменения в существовавших
ранее. Известно, в частности, что один из его законов касался Элев-
синских мистерий (Andoc. I. 111). С именем Солона можно связать
создание ряда культовых построек. Плутарх (Sol. 9) говорит о храме
Эниалия, построенном Солоном на Саламине в ознаменование овла-
дения этим островом. К.М. Колобова считает (на наш взгляд, не без
основания), что первые каменные храмы на афинском Акрополе
(в том числе, возможно, прообраз Гекатомпедона на месте царского
дворца микенской эпохи) тоже были возведены именно при Соло-
не46. Монументальный каменный храм, приходивший на место не-
больших частных (родовых) святилищ, был, конечно, ярко выра-
женным символом религиозного единства полиса. Сохранились упо-
минания о законах Солона, которые регулировали деятельность
афинских культовых сообществ - фиасов, оргеонов и др. (D. XLVII.
22. 4; Phot. Lex. s.v. dpyecove?).
Коснемся религиозного компонента еще некоторых законов и
реформ Солона. Говоря о “погребальном” законодательстве, мы
уже указывали, что Солона, как, наверное, каждого грека архаиче-
ской эпохи, очень заботили проблемы культового осквернения; он
всячески старался избежать такового. “Скверна” могла прийти едва
ли не отовсюду; приходилось постоянно быть начеку и в каких-то
случаях даже заведомо подстраховываться. Признаки такого отно-
шения прослеживаются во многих солоновских мероприятиях. Ха-
рактерно, что Солон - при всей масштабности своих нововведений -
всецело оставил в силе законодательство Драконта об убийстве
{Plut. Sol. 17), а в этом законодательстве, как мы видели выше, кате-
гория “скверны” занимает достаточно важное место. Плутарх (Ibid.
23), насколько можно судить, указывает на то, что одно изменение в
212
Культурная история социального
драконтовский закон Солон все-таки внес, а именно оговорил, что
убийство любовника жены in flagranti не влечет за собой наказания
(стало быть, не оскверняет убившего?)47. Возможно, Солон действи-
тельно расширил круг убийств, не вызывавших “скверну”. Впрочем,
не менее вероятно, что он просто повторил предписание закона Дра-
конта (как раз в части, касающейся убийств, не чреватых последст-
виями, дошедший до нас текст этого закона сильно испорчен и не
подлежит полной и исчерпывающей реконструкции).
В солоновских законах идея “скверны” (по большей части, прав-
да, имплицитно) встречается не раз. Так, законодатель издает закон
о всеобщей амнистии (Ibid. 19) - но не включает в эту амнистию лиц,
виновных в индивидуальных или массовых убийствах, т.е. тех, чья
оскверненность была несомненной. Укажем еще и на то, что по со-
лоновским законам архонт, нарушивший клятву, принесенную им
при вступлении в должность, обязан был установить в Дельфах за
собственный счет золотую статую в натуральную человеческую ве-
личину (Arist. Ath. pol. 7. 1; Pint. Sol. 25)48. В данном случае, очевид-
но, имеется в виду искупление “скверны”, порожденной клятвопре-
ступлением. Обратим внимание на способ этого искупления - уста-
новку статуи. Способ этот весьма характерный, причем чисто дель-
фийский. Дельфы неоднократно в своей истории требовали от раз-
личных полисов очищаться от скверны, в числе прочего именно та-
ким образом. Так, когда спартанцы в V в. до н.э. уморили голодом в
храме Афины Халкиойкос мятежного военачальника Павсания,
оракул обязал их воздвигнуть близ этого храма две бронзовые ста-
туи умерщвленного. В Афинах в тех же катартических целях была
поставлена на Акрополе (скорее всего, в начале Пелопоннесской
войны) статуя Килона, убитого при попытке захвата тиранической
власти49. Предписание Солона прекрасно укладывается в рамки той
же парадигмы.
“Скверна”, как известно, порождалась отнюдь не только убийст-
вом или клятвопреступлением. Характерен в этом отношении еще
один солоновский закон, приводимый Диогеном Лаэрцием (I. 55) со
ссылкой на оратора Лисия. Этот закон запрещал развратникам вы-
ступать с трибуны (t6v 1)та1рт|хбта ei^yeiv топ рццатод), т.е. участ-
вовать в политической жизни. Этический момент здесь, бесспорно,
тоже присутствует. Но не будем забывать и о том, что обществен-
ные места полиса (во времена Солона к ним относились Акрополь и
примыкавшая к нему с востока “Старая Агора” с административны-
ми постройками50) считались территорией священной, “чистой” в
культовом отношении. Допущение недостойных в эту сакральную
зону, тем более дозволение им производить там какие-то важные
действия общественного характера, безусловно, привело бы к оск-
вернению полиса. Теми же опасениями, скорее всего, был продикто-
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 213
min закон Солона, запрещавший дурно говорить об умерших, а так-
же браниться (даже по отношению к живым) “в храмах, судебных и
правительственных зданиях, равно как и во время зрелищ” (Demosth.
XX. 104 cum schol.; Plut. Sol. 21), т.е. в тех же общественных местах
и по время общественных мероприятий. Перед нами, по сути, пере-
числение потенциально оскверняющих действий. В том же ключе
нужно рассматривать и атимию (лишение гражданских прав, т.е.
опять же запрещение участвовать в политической деятельности, по-
являться в общественных местах) для граждан, не содержащих соб-
ственных родителей или растративших их имущество (Diog. Laert. I.
55). Такие люди, в категориях архаического менталитета, нарушали
неписаные, но священные и высокоавторитетные обычаи рода, ро-
довой солидарности и, следовательно, тоже могли стать источником
“скверны”51.
Вводимые Солоном правовые нормы, долженствовавшие воспре-
пятствовать возникновению и распространению культового осквер-
нения, на наш взгляд, свидетельствуют, в числе прочего, и о дельфий-
ском влиянии на его деятельность. Почтение к Аполлону - к светло-
му, гармоничному Аполлону, богу-очистителю - достаточно ясно
видно в этих нормах. Отметим один интересный солоновский закон
(.Diog. Laert. I. 57): “Архонту, если его застанут пьяным, наказание -
смерть”. Мера, кажущаяся очень суровой, прямо-таки жестокой и, во
всяком случае, несоразмерной с тяжестью проступка, особенно если
учитывать, что вино в Древней Греции было наиболее употребитель-
ным напитком. А не проявилось ли здесь стремление свести к мини-
муму эксцессы нарождающегося дионисизма?52 Культ Диониса, кото-
рый как раз в это время стремительно распространялся по Греции,
принимая на первых порах, грубоватые, полуварварские и слабо гар-
монировавшие с полисными ценностями формы буйных оргий, встре-
тил себе мощного противника в лице жречества Аполлона, особенно
дельфийского. В конце концов, дионисизм удалось ввести в “цивили-
зованные” рамки и в таком виде сделать даже частью государствен-
ной религии (в том числе и в самих Дельфах), но это случилось уже
несколько позже, в частности в Аттике не ранее чем при Писистрати-
дах. В солоновские же времена “дионисийский вопрос” должен был
стоять весьма остро. Отсюда - и суровость наказания за пьянство, ес-
ли речь идет о высшем должностном лице53.
Судя по всему, именно Солон первым в Афинах, еще до Писист-
рата, всерьез занялся упорядочением эпической традиции, сбором
гомеровских героических песен (Diog. Laert. I. 57; ср. Plut. Sol. 10).
Это, конечно, было нужно ему и в политических целях (в частности,
в контексте афино-мегарского соперничества за обладание Салами-
ном). Но в целом данная мера имела также и религиозное значение;
она может говорить о том же “аполлоновском духе”54.
214
Культурная история социального
Итак, Солона с полным основанием можно назвать не только
реформатором в социально-экономической и политической облас-
тях, но и религиозным реформатором (хотя на этот последний ас-
пект его деятельности несравненно реже обращается внимание). Ра-
зумеется, далеко не все его законы, имевшие отношение к религии,
являли собой новшества, изменения существующих обычаев. Зача-
стую прибегал он и просто к записи норм устного традиционного
права. Так, одно из его сохранившихся установлений (“Кто выколет
глаз одноглазому, тому за это выколоть оба глаза”, - Diog. Laert. I.
57) представляет собой не что иное как модификацию обычая тали-
она55. Интересно, что аналогичный закон приписывается античной
традицией и другим законодателям архаической эпохи, в частности
Залевку. Из этого, на наш взгляд, не следует делать вывод ни о за-
имствовании одним законодателем у другого, ни тем более о недос-
товерности такого рода сообщений. Ведь талионные нормы и их
эволюция были более или менее схожими в различных греческих
полисах.
Однако, конечно, не в письменной фиксации обычного права
главная заслуга Солона. Афинский мудрец, смело вторгаясь, как мы
уже говорили, в прерогативы жречества, вносил серьезные измене-
ния в религиозную жизнь государства. Сущность этих изменений
можно определить как формирование системы полисной религии
взамен родовой56. Досолоновское жречество - в основном прерога-
тива знатных, евпатридских семей (“кланов”, как их часто, хотя не
вполне точно, именуют в исследовательской литературе). Жречест-
во после Солона (конечно, не одномоментно, а постепенно) инкор-
порируется в полисный мир. Жреческие должности в большинстве
своем становятся полисными магистратурами и начинают восприни-
маться как таковые. Первые шаги к этому, насколько можно судить,
сделал сам Солон. Так, по предположению ряда авторитетных ис-
следователей57, именно при Солоне в Афинах была учреждена кол-
легия экзегетов-пифохрестов, назначавшихся с санкции Дельфий-
ского оракула и призванных толковать его прорицания. Это была,
бесспорно, жреческая коллегия, причем высокого ранга и с важны-
ми полномочиями, но она фактически не имела ничего общего, кро-
ме названия, с более древними коллегиями экзегетов из аристокра-
тических родов58. Далее, по справедливому мнению В. Эренберга,
при Солоне члены культовых ассоциаций незнатных афинян (фиа-
сов, оргеонов) получили равные религиозные права с геннетами, т.е.
аристократами, членами родов59.
Солон, разрешив любому желающему из граждан выступать
истцом по прямо не касавшемуся его делу (Arist. Ath. pol. 9. 1; Plut.
Sol. 18), таким образом, явился основателем нового типа иска и про-
цесса - урафц, иска публичного, противостоящего иску частному
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 215
(6(хт]). Это также демонстрирует сознательную устремленность на
формирование полисных ценностей, на замену родовой солидарно-
сти солидарностью сограждан60. В частности, к Солону, очевидно,
восходит закон о урафц гфреос; (см. об этом законе: Aeschin. I. 15).
Понятие ОРрц; (“высокомерие, надменность, гордыня, превознесе-
ние себя над другими”) было одним из ключевых для древнегрече-
ского менталитета и в полисную эпоху всегда вызывало активное
неприятие. Солон с его подчеркнутым пиететом перед “благозако-
нием”, дельфийской этической идеей самоограничения, тоже дол-
жен был считать Oppig достойным всяческого наказания: ведь он
противоречил всем основным устоям полиса61.
Создание системы полисной религии всемерно поощрялось
Дельфийским оракулом с его идеями “легализма”. Солон шел в этом
отношении по дельфийскому пути, и жречество Аполлона не забы-
ло этого. Как известно, Солон довольно рано (очевидно, уже в тече-
ние VI в. до н.э.) оказался включенным в канон Семи мудрецов и за-
нял в нем, пожалуй, самое устойчивое место. Канон же этот созда-
вался при активном участии Дельф.
* * *
Можно с достаточной уверенностью говорить о том, что раннее
афинское законодательство (особенно солоновское) при всем разно-
образии своих проявлений имело некую общую интенцию, единый
стержень. И фиксировался он где-то на стыке права и религии. С од-
ной стороны, законодательные реформы создали в Афинах целост-
ную систему писаного права, по которому отныне полис жил на всем
протяжении своей истории. С другой же стороны, как мы видели,
эти реформы фактически создали целостную систему полисной ре-
лигии (или, во всяком случае, заложили основание для ее создания).
И всё это в своей совокупности, безусловно, способствовало форми-
рованию классической афинской гражданской общины.
1 Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 120 и след.
2 О наиболее ранних греческих законах и сводах законов см.: Gehrke H.-J.
Der Nomosbegriff der Polis // Nomos und Gesetz: Ursprunge und Wirkungen des
griechischen Gesetzesdenkens. Gottingen, 1995. S. 14 u. folg. Специально о
законодательствах Залевка и Харонда см.: Строгецкий В.М. Античная
традиция и современная историческая наука о законодательстве Залев-
ка и Харонда И Античность, средние века и новое время: Социально-по-
литические и этнокультурные процессы. Нижний Новгород, 1997.
С. 68-78. О законодательстве Фидона: Соломатина Е.И. Проблемы изу-
чения деятельности архаических законодателей в Греции (к вопросу о за-
конодательстве Фидона) Ц lus antiquum: Древнее право. 2002. № 1 (9).
С. 22-31. О законодательстве Филолая см.: Шишова И.А. Раннее законо-
216
Культурная история социального
дательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991. С. 74-93.
О раннем критском законодательстве см.: van Effenterre Н. Ein neues
Gesetz aus dem archaischen Kreta // Symposion 1985: Vortrage zur griechischen
und hellenistischen Rechtsgeschichte. Koln, 1989. S. 23-27; van Effenterre H.
Criminal Law in Archaic Crete Ц Symposion 1990: Vortrage zur griechischen und
hellenistischen Rechtsgeschichte. Koln, 1991. S. 83-86. О Крите как колыбе-
ли греческого законодательства см.: Jeffery L.H. Archaic Greece: The City-
States c. 700-500 B.C. L„ 1978. P. 76.
3 Gernet L. Droit et institutions en Grece antique. P„ 1982. P. 7 ss.
4 Для понимания института дара в архаических обществах и по сей день ос-
новополагающей остается классическая работа М. Мосса “Очерк о даре”
(см. в русс. пер. в кн.: Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996.
С. 83-222).
5 См. об этом: Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеар-
хаической и раннеклассической эпох: Род Алкмеонидов в политической
жизни Афин VII-V вв. до н.э. М., 2000. С. 238 и след.
6 Об отношении к чужакам в архаических обществах см.: ван Геннеп А. Об-
ряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999. С. 29 и след.
Об обрядах “моления” в греческом мире см.: Schlesinger Е. Die griechische
Asylie. Giessen, 1933. S. 33-52; Gould J. Hiketeia // JHS. 1973. Vol. 93.
P. 74-103.
7 См., например: van Effenterre H. Droit et predroit en Grece depuis le dechiffre-
ment du lineaire В // Symposion 1985: Vortrage zur griechischen und hellenistis-
chen Rechtsgeschichte. Koln, 1989. S. 3.
8 О космичности, “глобализме” древнегреческого правосознания см.: Су-
риков И.Е. Камень и глина: к сравнительной характеристике некоторых
ментальных парадигм древнегреческой и римской цивилизаций // Сравни-
тельное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). М.,
2000. С. 281; Он же. Из истории греческой аристократии... С. 118. О са-
кральном характере ранних греческих законов ср. также в недавней раб.:
Тумане X. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до
Перикла (VIII-V вв. до н.э.). СПб., 2002. С. 240. Справедливости ради от-
метим, что некоторые тезисы о ранних законодательствах, высказывае-
мые в этой книге, представляются весьма спорными, а порой - недоста-
точно продуманными.
9 Ср.: Jones J.W. The Law and Legal Theory of the Greeks: An Introduction.
Oxford, 1956. P. 32.
10 Maffi A. Tri tepri xal tri Saia. Contribute allo studio della terminologia giuridi-
co-sacrale greca // Symposion 1977: Vortrage zur griechischen und hellenistis-
chen Rechtsgeschichte. Koln, 1982. S. 33-52.
11 Cp.: Finley MJ. Early Greece: The Bronze and Archaic Ages: 2nd ed. L., 1981.
P. 129.
12 О некоторых аспектах политической деятельности этих дадухов см.: Су-
риков И.Е. Два очерка об афинской внешней политике классической
эпохи И Межгосударственные отношения и дипломатия в античности.
Казань, 2000. С. 101.
13 См., например: Ehrenberg V. The People of Aristophanes: 2nd ed. Oxford,1951.
P. 253 ff.; Flaceliere R. La vie quotidienne en GrSce au siecle de Pericles. P.,
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 217
1960. Р. 236 s.; Vernant J.-P., Vidal-Naquet Р. Mythe et tragedie en Grece anci-
enne. P., 1986. T. 2. P. 22-23.
1 ,1 С.м., в частности: Sourvinou-Inwood Chr. What is Polis Religion? // The Greek
City: From Homer to Alexander. Oxford, 1991. P. 302. Названная статья вооб-
ще очень важна для понимания места религии в жизни полиса.
г Особенно интенсивно этот тезис отстаивал крупнейший в XX в. исследо-
ватель древнегреческой религии Мартин Нильссон. См.: Nilsson М.Р.
Greek Piety. Oxford, 1948. Р. 46; Idem. Geschichte der griechischen Religion: 2.
Aufl. Munchen, 1955. Bd. 1. S. 640-644. Ср. также: Meier Chr. The Greek
Discovery of Politics. Cambridge (Mass.), 1990. P. 43; Кулишова О.В. Дель-
фийский оракул в системе античных межгосударственных отношений
(VII-V вв. до н.э.). СПб., 2001. С. 154 и след.
16 Эта традиция подробно разбирается нами в другом месте. См.: Сури-
ков И.Е. Солон и Дельфы // Studia historica. М., 2003. Вып. 3. С. 38-52. Там
же приводятся и соответствующие сообщения источников.
17 Ндпп К. Solon: Staatsmann und Weiser. Wien, 1948. S. 84-85.
18 По поводу упомянутой перипетии см.: Forrest W.G. The First Sacred War //
BCH. 1956. Vol. 80, N 1. P. 48.
19 Суриков И.Е. Законодательство Драконта в Афинах и его исторический
контекст // lus antiquum: Древнее право. 2000. № 2 (7). С. 8-18; Он же. За-
коны Драконта как мнимая реальность Ц Восточная Европа в древности
и средневековье: Мнимые реальности в античной и средневековой исто-
риографии. М., 2002. С. 215-221.
^Humphreys S. A Historical Approach to Drakon’s Law on Homicide Ц
Symposion 1990: Vortrage zur griechischen und hellenistischen
Rechtsgeschichte. Koln, 1991. S. 17—45.
21 О них см. наиболее подробно: Stroud R.S. Drakon’s Law on Homicide.
Berkeley, 1968; Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide Law. New
Haven, 1981.
22 Meleze Modrzejewski J. La sanction de 1’homicide en droit grec et hellenistique //
Symposion 1990: Vortrage zur griechischen und hellenistischen
Rechtsgeschichte. Koln, 1991. S. 3-16.
23 О категории “скверны” см.: Суриков И.Е. Из истории греческой аристо-
кратии... С. 227 и след, (с указ, на лит. вопроса).
24 Gagarin М. Op. cit. Р. 65 ff.
25 Frost F J. The Rural Demes of Attica // The Archaeology of Athens and Attica
under the Democracy. Oxford, 1994. P. 173.
26 Важнейшие сводки традиции об этом законодательстве см.:
Ruschenbusch Е. 20AQN0S NOMOI: Die Fragmente des solonischen
Gesetzwerkes mit einer Text- und Uberlieferungsgeschichte. Wiesbaden, 1966;
Martina A. Solone: Testimonianze sulla vita e 1’opera. Roma, 1968.
27 Суриков И.Е. Законодательство Солона об упорядочении погребальной
обрядности Ц lus antiquum: Древнее право. 2002. № 1 (9). С. 8-21.
28 См. об этом: Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000. С. 60 и след.
29 Ср.: Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion.
Oxford, 1985. P. 34-35.
30 См. об этой тенденции в архаической Греции в связи с погребальной об-
рядностью: Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of Greek City-State.
218
Культурная история социального
Cambridge, 1989; Robinson E.W. The First Democracies: Early Popular
Government outside Athens. Stuttgart, 1987. P. 65 ff.
31 Garland R. The Greek Way of Death. Ithaca, 1985. P. 8.
32 Cp.: Vlastos G. Solonian Justice // CIPh. 1946. Vol. 41. N 2. P. 67,74.
33 О дальнейших изменениях в способе избрания архонтов см.: Сури-
ков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н.э. // ВДИ. 1995.
№ 1. С. 33-34.
34 Wade-Gery Н.Т. Essays in Greek History. Oxford, 1958. P. 113; Murray O. Early
Greece: 2nd ed. L., 1993. P. 195.
35 О религиозном и гражданском календарях в Афинах см.: Samuel А.Е.
Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in Classical Antiquity.
Munchen, 1972. P. 57 f.
36 О религиозном значении солоновской реформы календаря см.: Ндпп К.
Op. cit. S. 84; Nilsson М.Р. Geschichte... Bd. 1. S. 644 u. folg.; Masaracchia A.
Solone. Firenze, 1958. P. 179—181.
37 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э.
Л., 1985. С. 111 и след.
38 См.: Зельин К.К. Олимпионики и тираны // ВДИ. 1962. № 4. С. 21-29.
39 Наиболее подробно о мятеже Килона см.: Суриков И.Е. Из истории гре-
ческой аристократии... С. 78-124 (с указ, на источники и на исслед. лит.).
40 О времени олимпийской победы Фринона см.: Moretti L. Olympionikai, i
vincitori negli antichi agoni Olimpici. Roma, 1957. P. 66. Об обстоятельствах
его гибели см.: Jeffery L.H. Op. cit. P. 89-90.
41 Vlastos G. Op. cit. P. 74-75.
42 Об этом празднике и введении его Солоном см.: Jacoby F. TENESIA. А
Forgotten Festival of the Dead // C1Q. 1944. Vol. 38, N 3/4. P. 65-75;
Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of Experiment. L., 1980. P. 117;
Garland R. Op. cit. P. 105; Латышев В.В. Очерк греческих древностей: Бо-
гослужебные и сценические древности. СПб., 1997. С. 129.
43 Н. Хэммонд даже считает, что само название этой реформы Солона, за-
крепившееся в античной традиции, произошло именно от названия празд-
ника, которое было первичным: Hammond N.G.L. Studies in Greek History.
Oxford, 1973. P. 160.
44 Connor W.R. Tribes, Festivals and Processions: Civic Ceremonial and Political
Manipulation in Archaic Greece // JHS. 1987. Vol. 107. P. 49.
45 Совсем недавно X. Тумане предложил иное объяснение натурального ха-
рактера солоновского имущественного ценза. Он считает, что Солон не
желал улучшить положение богатых торговцев и ремесленников, кото-
рые, по мнению исследователя, измеряли свое состояние не в сельскохо-
зяйственных продуктах, а в деньгах, и потому автоматически попадали в
низший класс фетов. См.: Тумане X. Указ. соч. С. 241 и след. Подчерк-
нем, однако, что во времена Солона вряд ли вообще кто бы то ни было в
Афинах измерял свое состояние в деньгах. В начале VI в. до н.э. афин-
ский полис еще не чеканил монету. См.: Kraft К. Zur solonischen Gewichts-
und Miinzreform Ц Jahrbuch fiir Numismatik und Geldgeschischte. 1969. Bd. 19.
S. 7-24; Crawford M.H. Solon’s Alleged Reform of Weights and Measures //
Eirene. 1972. Vol. 10. P. 5-8; Kraay C.M. Archaic and Classical Greek Coins.
Berkeley, 1976. P. 55 ff. Монеты из других полисов могли, конечно, спора-
И.Е. Суриков. Законодательные реформы Драконта и Солона 219
дически попадать в Афины, но еще не играли сколько-нибудь значитель-
ной роли в экономике и не могли использоваться для оценки состояний.
Если и была какая-нибудь альтернатива медимнам как цензовой едини-
це, то этой альтернативой могли быть только головы скота. Скот еще с
гомеровских времен широко использовался в греческом мире для оценки
богатства.
46 Колобова К.М. Революция Солона //Учен. зап. ЛГУ. Л„ 1939. № 39. С. 70.
Совершенно неубедительна недавняя попытка датировать старый храм
Афины на Акрополе гораздо более поздним временем, самым концом
VI в. до н.э., т.е. временем Клисфена: Childs W.A.P. The Date of the Old
Temple of Athena on the Athenian Acropolis // The Archaeology of Athens and
Attica under the Democracy. Oxford, 1994. P. 1-6. Эта попытка лежит в рус-
ле модной ныне тенденции приписывать все культурные достижения
Афин только периоду демократии.
47 Именно на этот закон ссылается защищающийся в первой речи Лисия.
48 Именно Солону античная традиция приписывала (и, насколько можно су-
дить, с полным основанием) учреждение целого ряда клятв - не только
клятвы архонтов, но также клятвы членов Совета, присяги гелиастов
(Demosth. XVIII. 6; XXIV. 147-148; Poll. VIII. 142; Liban. Decl. I. 9; Hesych.
s.v. треТд Oeoi; Bekker. Anecd. I. 242. 20). О религиозном значении клятвы
вряд ли нужно специально говорить.
49 См. об этих акциях: Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии...
С. 111-112. Там же приводятся ссылки на источники.
50 О местонахождении “Старой Агоры” см.: Robertson N. The City Center of
Archaic Athens // Hesperia. 1998. Vol. 67, N 3. P. 283 ff.
51 О факторе скверны в такого рода установлениях см.: Mikalson J.D.
Athenian Popular Religion. Chapel Hill, 1983. P. 86.
52 См. об этом явлении: Dabdab Trabulsi J.A. Dionysisme: pouvoir et society en
Grece jusqu’a la fin de 1’epoque classique. P., 1990.
53 Отметим, что у Солона был и закон, возбранявший всем гражданам упо-
требление несмешанного вина (Alexis Fr. 9 Kock).
54 Писистратиды, впоследствии наиболее активно занимавшиеся приведе-
нием в систему гомеровского эпоса, были враждебны дельфийскому жре-
честву. Но из этого не следует, что они неприязненно относились к куль-
ту Аполлона как таковому. Скорее напротив: они проводили очиститель-
ные ритуалы на Делосе - священном острове, где, по преданию родился
Аполлон (Herod. I. 64), создали в Афинах святилище Аполлона Пифий-
ского (Thue. VI. 54. 6-7).
55 О рудиментах талионного права у древних греков см. наиболее подробно:
Дворецкая И.А., Залюбовина Г.Т., Шервуд Е.А. Кровная месть у древних
греков и германцев. М., 1993. С. 12 и след.
56 Ср.: Jacoby F. Atthis: The Local Chronicles of Ancient Athens. Oxford, 1949.
P. 38; Ehrenberg V. From Solon to Socrates. L., 1968. P. 72; Alexiou M. The
Ritual Lament in Greek Tradition. L., 1974. P. 20; Колобова К.М. Указ. соч.
С. 70.
57 Jacoby F. Atthis... P. 38 ff.; Parke H.W., Wormell D.E.W. The Delphic Oracle.
Oxford, 1956. Vol. 1. P. 110-112; Parker R. Op. cit. P. 131.
58 Ранее в Афинах существовали две древние коллегии экзегетов (толкова-
220
Культурная история социального
телей сакральных предписаний): экзегеты “из эвпатридов” и экзегеты
“из Евмолпидов”. См. о них в исследовании: Oliver J.H. The Athenian
Expounders of the Sacred and Ancestral Law. Baltimore, 1950. Насколько нам
представляется, первая из этих коллегий была исконно афинской; ее чле-
ны были представителями высшего слоя собственно городской аристо-
кратии (эвпатридов). Вторая же появилась после инкорпорации в состав
афинского полиса (не позднее начала VII в. до н.э.) Элевсина - влиятель-
нейшего религиозного центра (Евмолпидами назывался главный элев-
синский жреческий род).
59 Ehrenberg V. The Greek State: 2 ed. L., 1969. P. 20.
60 Cp.: Ranulf S. The Jealousy of the Gods and Criminal Law at Athens: A
Contribution to the Sociology of Moral Indignation. Copenhagen, 1933. Vol. 1.
P. 130.
61 По поводу религиозного характера закона Солона о Oppig см.: Ленц-
ман ЯЛ. Рабы в законах Солона: к вопросу о достоверности античной
традиции Ц ВДИ. 1958. № 4. С. 67. В целом о понятии см.: Del
Grande С. Hybris: Colpa е castigo nell’espressione poetica e letteraria degli scrit-
tori della Grecia antica (da Omero a Cleante). Napoli, 1947; Dirat M. L’hybris
dans la tragedie grecque. Lille, 1973; Суриков И.Е. Эволюция религиозного
сознания афинян во второй половине V в. до н.э.: Софокл, Еврипид и
Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. М., 2002.
С. 40 и след.
К.А. Левинсон
“УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННОГО
МНОГООБРАЗИЯ”:
НОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ В ГЕРМАНИИ
XIX в. И ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ
В том, что касается языка и его письменного отображения, нам се-
годня кажется естественной нормативная ситуация, при которой
всякий, кто закончил хотя бы среднюю школу, знает (или может
узнать из словаря), что “так говорить/писать правильно, а так - не-
правильно”. И когда мы говорим, что то или иное слово “пишется”
через ту или иную букву, сама формулировка вызывает у непосвя-
щенного впечатление, будто указанное написание внутренне при-
суще данному слову (подобно тому как “эта болезнь передается
воздушно-капельным путем”). Лингвисты, однако, знают, что это
не так: соотношение между звуками языка и знаками письма под-
чиняется конвенциям, которые в большей или меньшей степени
обязаны своим возникновением и содержанием определенным со-
циальным условиям. И современные орфография и орфоэпия поч-
ти любого живого языка представляют собой плод некоторой ис-
торической эволюции.
В данной статье речь пойдет не о языках вообще, а конкретно о
немецком литературном языке (Hochdeutsch). Нынешняя норматив-
ная ситуация в нем кардинально отличается от той, в какой жило не-
мецкое языковое сообщество еще лет 250 назад1: тогда единого не-
мецкого языка еще просто не существовало, слова произносились и
писались на разные лады, и во многих случаях ни один из вариантов
не мог претендовать на статус общепризнанной нормы. А в XX в.
страны немецкоязычного ареала вошли уже с единым литератур-
ным языком, с единой, кодифицированной и обязательной для шко-
лы и администрации орфографией, с единым стандартом начерта-
ния букв и с зачатками нормирования произношения. За какие-то
сто лет произошла почти полная унификация письменного и значи-
тельная - нормативного устного языка. Обстоятельства этого про-
цесса и будут предметом нашего рассмотрения.
Не следует, однако, думать, что речь пойдет о вопросах истори-
ческой лингвистики. Моей исходной посылкой при исследовании за-
явленной проблематики является следующая: природа языковых
норм (“правил”) и их социально-культурное значение суть феноме-
ны не универсальные и вневременные, а исторически сложившиеся
и укорененные в конкретных культурных контекстах. Их формиро-
вание поддается плодотворному историческому изучению, причем
не только в русле истории языка, но и как социально-культурный
222
Культурная история социального
процесс. Представляется возможным и важным выяснить, какие об-
щественные силы были причастны к этому процессу, какие интере-
сы и ценности ими двигали, в рамках каких социальных институтов
он разворачивался и какие этапы проходил. Иными словами, орфо-
графию и орфоэпию я буду рассматривать как социальные констру-
кты и, соответственно, описывать процесс их конструирования со-
циумом.
Речь, таким образом, пойдет о становлении одного из аспектов
общественного нормативного сознания; язык - одна из плоскостей,
на которую проецируется это сознание. Как увидит читатель, в цен-
тре внимания будет стоять общество и царящие в нем ценности: я со-
бираюсь предложить некоторые соображения о том, как могло сло-
житься массовое убеждение в том, что естественно и необходимо
фиксирование и санкционирование - причем на государственном,
законодательном уровне - норм, касающихся написания и произно-
шения в немецком языке.
Важно с самого начала подчеркнуть, что создание единой немец-
кой орфографии и орфоэпии было именно процессом, а не актом, и
являлось не в первую, а в последнюю очередь делом государствен-
ной власти. От общеизвестного факта, что после объединения гер-
манских государств в империю в 1870-1871 гг. правительство прово-
дило усиленную политику унификации и интеграции, легко было бы
перейти к тезису, что унификация в области языка была “просто”
одним из элементов этой политики. Дело, однако, обстояло вовсе не
столь просто. С одной стороны, нельзя не согласиться с Эриком
Хобсбаумом, который пишет, что “каковы бы ни были мотивы це-
ленаправленного конструирования языка или всевозможных мани-
пуляций вокруг него, и какого бы масштаба ни достигали задуман-
ные перемены, сила государства здесь абсолютно необходима”2. С
другой - такое радикальное нововведение, как установление всеох-
ватной нормативной системы на пустом месте, не только было бы
не под силу правительству, но и не входило никогда в его планы. Ес-
ли и вышли - далеко не сразу, только на рубеже XIX-XX вв., - пра-
вительственные распоряжения, то они были подготовлены несколь-
кими десятилетиями общественного и культурного развития. Долж-
но было сформироваться и возобладать представление о необходи-
мости и возможности выработки единообразных норм и их офици-
ального насаждения.
Формирование и утверждение таких представлений - процесс
сложный и не поддается исчерпывающему описанию. Я надеюсь,
что мне удастся указать на некоторые политические, экономи-
ческие, социальные и культурные обстоятельства, которые, войдя
в повседневный опыт множества людей, в совокупности своей спо-
собствовали или же противодействовали изменению господствую-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 223
щих ценностных ориентаций в немецком образованном обществе,
на которые реагировало правительство. Причем происходило
это не в вакууме, а во взаимодействии и конкуренции с другими су-
ществующими представлениями и ценностями. Поэтому я го-
ворю не о “причинах” унификации, а о ее “общественном кон-
тексте”.
И тут сразу необходимо сделать очень важную оговорку относи-
тельно понятия “общество”. В XIX в. сословные и классовые разли-
чия и антагонизмы были столь сильны, что говорить о “немецком
обществе”, которое включало бы в себя все население страны, не
приходится. В рассматриваемых процессах активно участвовала
преимущественно (если не исключительно) буржуазия, прежде все-
го так называемая буржуазия образования (Bildungsburgertum): люди
с высшим и средним специальным образованием, т.е. очень неболь-
шой процент населения3. В основном это были преподаватели
начальной, средней и высшей школы, интеллектуалы, ученые, лите-
раторы, журналисты, книгоиздатели и политические деятели. Ог-
ромное же большинство населения - низшие слои бюргерства, кре-
стьянство, рабочий класс, дворянство и духовенство - оказались за-
тронуты этими процессами пассивно - постольку, поскольку дети из
этих сословий в качестве учеников начальной и средней школы бы-
ли вынуждены усваивать то, чему их учили.
* * *
Как сказал Леопольд фон Ранке, цель историка может заключаться
либо в том, чтобы ввести в оборот новую фактическую информа-
цию, либо в том, чтобы представить новый взгляд на то, что уже из-
вестно4. Очень многое из того, о чем здесь будет говориться, само по
себе хорошо известно всякому, кто изучал историю Германии5. Я
предлагаю свою интерпретацию этих сведений, соотнося их со сво-
ей проблематикой, хотя она и не привлекала к себе внимания тех ав-
торов, на чьи работы я опираюсь.
I
Начнем с того, с чем немецкое языковое сообщество вошло в
XIX век. Хронологически самым давним элементом описываемого
общественного контекста можно, наверное, считать идейное, юри-
дическое и политическое наследие Священной Римской империи
германской нации. Хотя империя и перестала быть фактом исто-
рии в самом начале XIX столетия, за века ее существования у нем-
цев сложились среди прочих следующие традиции и привычки
мышления.
224
Культурная история социального
Партикуляризм. Для Священной Римской империи было харак-
терно непрочное единство множества членов союза, в чем-то схо-
жих, в чем-то различных между собою. Их интересы бывали частич-
но общими, частично эгоистическими. В целях достижения общих
или частных интересов, которые охватывали многие земли, посте-
пенно создавались надрегиональные институты: валюта - талер,
представительный орган - рейхстаг, средство надрегиональной
письменной коммуникации - язык Hochdeutsch. Принцип, по которо-
му внедрялись эти институты, можно свести к формуле: нечто еди-
ное, всеобщее вводится в добавление к разнообразию, а не вместо
него, и утверждается оно в той мере, в какой в нем заинтересованы
многие стороны. Этот принцип был характерен и для тех союзов,
которые германские государства заключали между собой в период с
1806 по 1871 г. После воссоздания империи он был в значительной
мере ослаблен целенаправленной объединительной политикой Бис-
марка, но все же сохранился и по сей день в виде принципа полити-
ческого и культурного федерализма.
Как привычка мышления партикуляризм выражался, в частно-
сти, в том, что порядки, бытовавшие в соседних государствах, охот-
но принимались к сведению и порой взаимно копировались, но раз-
личия между их культурными и юридическими установлениями рас-
сматривались как нечто столь же естественное, как разница между
диалектами, на которых говорили жители разных земель.
Тем самым мы переходим к следующему фактору - языковому
многообразию. Как уже было сказано, в XIX в. германские земли
вступили не единой “Германией”, а множеством крупных и мелких
государств и диалектных ареалов. Различия между диалектами, при-
числяемыми к “немецким”, были столь велики, что жители разных
районов страны без специальной тренировки едва могли понимать
друг друга.
Единый, наддиалектный язык создавался в значительной мере
искусственно - как язык художественной и научной литературы, те-
атра, прессы, т.е. прежде всего как язык письменный, а уже во вто-
рую очередь - устный. Нормы произношения и правописания для
этого языка в XIX в. еще только складывались, и шли оживленные
дискуссии о том, что считать правильным, а что неправильным, при-
чем как в конкретных случаях, так и применительно ко всей языко-
вой системе в целом. В германских землях вопросами языковых
норм не ведала никакая единая инстанция, обладавшая властью или
моральным авторитетом, подобным французской Академии6. От-
сутствовал опирающийся на авторитет власти эталон, каким, напри-
мер, служил в Англии “королевский” язык, считавшийся образцо-
вым литературным языком. Становление норм, лексических и грам-
матических, происходило более или менее стихийно со времен Гу-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 225
тснберга, когда начали издаваться книги на народном языке, пред-
назначенные для надрегионального рынка. На утверждение того
или иного варианта в качестве общепринятого (или, скорее, наибо-
лее распространенного) влияли и его приемлемость для максималь-
ного числа читающих и пишущих, и солидность изданий, в которых
он использовался. Так, после Реформации среди протестантов ог-
ромным авторитетом обладали тексты Мартина Лютера, особенно
его перевод Библии. Влияние лексики и орфографии книг протес-
тантских авторов сказывалось, невзирая на конфессиональную
вражду, и в католических землях, поскольку их собственная литера-
турная продукция была значительно скромнее по масштабам.
В XVII в. получили распространение первые грамматики немец-
кого языка, насаждавшие как саму идею правильности/неправиль-
ности, так и конкретные указания надлежащих словоформ и их на-
писаний. Указания эти, однако, во многом расходились, так как
каждый автор возводил в ранг правил собственные представления,
определявшиеся местом его рождения и вкусом. А кроме того, ради-
ус действия этих учебников грамматики был невелик.
На рубеже XVIII-XIX вв. “Германия” оставалась сугубо куль-
турным, причем еще очень зыбким понятием: ее составляли самое
большее 300-500 тысяч человек, читавших изданные на Hochdeutsch
книги7, но говорившие и писавшие очень по-разному. Классическая
немецкая литература сочинялась еще в ситуации орфографической
свободы: у Гёте, например, в рукописях написания слов сильно ко-
леблются. И только в переписке с издателем он определял, что для
печатания своих сочинений предпочел бы орфографию, рекомендо-
ванную Иоганном Кристофом Аделунгом - одним из авторитетней-
ших грамматиков того времени8. Гёте принимал за совершенно нор-
мальное то положение, что можно по обстоятельствам выбирать из
нескольких наличествующих орфографий.
Третий фактор - изменившиеся по сравнению с началом XVIII в.
отношения людей с письменными текстами. В том, что касается
пассивной грамотности, т.е. чтения, в Германии произошел капиталь-
ный сдвиг. В начале века чтение книг и прочих длинных текстов бы-
ло обычным занятием только для клириков, студентов, профессоров
и еще нескольких немногочисленных категорий людей, которые по
самому своему образу жизни и занятий были связаны с письменным
словом, в то время как подавляющее большинство населения либо не
читало вовсе, либо ограничивалось чтением и перечитыванием од-
ной-двух книг: Библии (протестанты) и катехистических произведе-
ний. Иными словами, взаимоотношения этих людей с письменными
текстами в значительной мере (если не целиком) сводились к воспри-
ятию сакральных и близких к сакральным текстов, авторитет кото-
рых был слишком высок, чтобы обсуждать их орфографию.
15 Одиссей, 2006
226
Культурная история социального
Ко второй половине XVIII в. обычай читать и покупать книги:
бюргерской (особенно протестантской) среде приобрел значитель
ный размах: нередким явлением стали домашние библиотеки, насчи
тывавшие по пяти-десяти и даже более томов, причем не только ре
лигиозного, но и светского содержания9. В дополнение к многократ
ному почтительному восприятию одного религиозного текста при
шла практика экстенсивного чтения нескольких, а порой и многго
книг различной степени авторитетности. Таким образом, при pacry
щем спросе на книги и повышенном объеме чтения пиетет nepej
книжным текстом стал относительно меньше10. Соответственно
критичность в отношении к нему смогла возрастать. В XIX в. чита-
ющая на немецком языке публика вошла готовой к дискуссии о том,
как улучшить письменность.
В том, что касается активной грамотности, конец XVIII и нача<
ло XIX в. тоже были временем перемен, поскольку в Австрии, a no-i
том и в Пруссии, и во многих других немецких землях было введено
обязательное всеобщее начальное школьное обучение. Количество
людей, знакомящихся с письмом, с принципами, по которым устана-
вливались соответствия между звуками и буквами, стало быстро
увеличиваться. Выросло и постепенно превращалось в отдельную]
индустрию производство школьных учебников - букварей, прописей
и т.п. Вопрос, как писать то или иное слово - и почему именно так,]
а не иначе, - начал возникать повседневно в сотнях, а потом и в ты-|
сячах школ. Оказывались очевидны разноречия в книгах по обуче-
нию грамоте и проблематичность соблюдения старинного принципу
“пиши, как говоришь”. Стали в массовом порядке возникать типо4
вые дидактические проблемы. Постепенно накапливался и начинал
подвергаться рефлексии опыт учителей, пытавшихся научить детей
писать, и массовый опыт учеников, перенесших на себе тяготы этой
учебы. Эпоха Иоганна Песталоцци и Фридриха Дистервега была
эпохой зарождения современной образовательной системы с ее
школьной программой, учебниками, отметками, экзаменами и про-
чими атрибутами, в которых орфография и орфоэпия стали посте-
пенно играть все более важную роль.
Четвертый важный элемент рассматриваемого нами контек-
ста - это унаследованная германскими землями от Римской империи
юридическая традиция. В результате произошедшей в позднем
Средневековье “юридификации” (Verrechtlichung) огромное множе-
ство отношений между индивидами и корпорациями в публичной
сфере и даже поведение в приватной жизни стало регламентиро-
ваться фиксированными письменно правовыми нормами. Роль пра-
ва как главного регулятора общественных отношений, причем как
вертикальных, так и горизонтальных, была велика и возрастала с
течением времени. Конкретное содержание законов могло со време-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 227
нем гласно или негласно меняться11, но это не подрывало авторите-
та их как института.
Соответственно, весьма распространенными практиками были
отстаивание своих интересов и прав через суд, юридические кон-
сультации, формализованные процедуры дознания и правосудия.
Отдельные люди и корпорации, от крестьян до целых государств,
прибегали к помощи юристов - консультантов, нотариусов, адвока-
тов - не только в разрешении конфликтов, но и при ведении повсе-
дневных дел.
Для интересующей нас проблематики эта мощная юридическая
традиция важна с двух точек зрения: во-первых, в среде немецкой
буржуазии укоренено было уважение к законодательству; во-вто-
рых, пользовалась большим спросом и престижем, хорошо оплачи-
валась и была весьма желанной профессия юриста. Она требовала
университетского образования, поэтому доступ к ней был ограни-
чен, и это, как мы увидим ниже, имело отношение к судьбе немец-
кой орфографии.
Далее, говоря о законах, я не случайно подчеркнул, что они в
позднем Средневековье регулировали поведение индивидов в при-
ватной сфере. В раннее Новое время эта тенденция еще более уси-
лилась: на историческую арену вышло “полицейское государство”,
которое к своим средневековым функциям - сбору налогов и под-
держанию мира в стране - добавило новые: постоянный контроль и
регламентирование поведения своих подданных. Это -
Obrigkeitsstaat, государство, начальствующее над подданными, опе-
кающее, контролирующее и воспитывающее их12. Посредством бес-
численных и подробнейших “регламентов” (Ordnungen)13 власти
предписывали, как различным категориям подданных следовало
одеваться, структурировать свое время, справлять праздники, прода-
вать и покупать продукты, изустно выражаться, воспитывать детей
и проч.
Независимо от того, насколько успешны были в каждом кон-
кретном случае усилия властей по “социальному дисциплинирова-
нию”14, к XIX в. сложилась уже многовековая традиция подобных
отношений между государством и подданными, и означала она не
только приучение людей к тому, что государству до всего есть дело.
Она знаменовала еще и появление профессионалов управленческой
деятельности, институционализацию их в качестве особой катего-
рии населения - чиновничества. В Пруссии благодаря реформам ба-
рона фон Штейна чиновничество в XVIII в. превратилось в один из
очень важных элементов социальной структуры (о нем чуть ниже).
Шестым фактором, действие которого все больше сказывалось
и первой половине XIX в., стало постепенное усиление влияния
Пруссии и ее порядков среди прочих немецких земель.
228
Культурная история социального
После разгрома Наполеона Священная Римская империя гер
майской нации воссоздана не была, но интеграция бывших ее члено!
происходила в иных формах. Поначалу лидером интеграционное
процесса еще выступала Австрия, ориентировавшаяся скорее на СО'
хранение традиционного и партикуляристского строя. “Союзные!
акт”, ставший основанием Германского Союза в 1815 г., обеспечи
вал баланс интересов и сил участников и не допускал ни достиженщ
каким-то одним из них безусловного главенства над остальными, ни
с другой стороны, централизации и модернизации. Но в следующее
объединение государств, Таможенный Союз 1834 г., Австрия уже
даже не вошла. Вместо нее лидером интеграции стала оправившая^
ся после военного разгрома начала века Пруссия.
Эта страна имела сравнительно немногочисленное население^
сравнительно слабую экономику и сравнительно невыгодное reoi
графическое положение. Для того чтобы обеспечить стране буду-
щее, прусские короли сделали ставку на военную силу. В стране бы-
ла создана огромная по численности, вымуштрованная армия, наде-
ленная привилегированным статусом. В Пруссии был чрезвычайно
высок престиж и авторитет военных и всего, что связано с их обра-
зом жизни и поведением. Буржуа почитали за честь приглашать
офицеров на обед в свои дома.
В 1814 г. в Пруссии была введена всеобщая воинская повин-
ность. На фоне недавно закончившейся освободительной войны
против Наполеона это воспринималось15 в качестве залога свободы:
каждый гражданин, отмечали многие политики и публицисты, дол-
жен быть солдатом; именно на этой его функции держатся и его
личная свобода, и свобода страны.
В то же время буржуазия приветствовала введение всеобщей
воинской повинности еще и как уравнение ее в правах с дворянст-
вом под лозунгом “Закон один для всех!”. Лозунг этот, столь ба-
нально звучащий сегодня, на тот момент был в буквальном смысле
революционным: принцип равенства был чужд сословному обще-
ству до начала Нового времени, но после Великой Французской ре-
волюции он становился всё более популярен в буржуазных слоях.
В общественное сознание входило представление о “едином законе
для всех” как о ценности. При этом “все” означало как “все сосло-
вия”, так и “каждый человек”, т.е. в единый ценностно (положи-
тельно) нагруженный узел связались притязания буржуазии на рав-
ноправное положение с дворянством и ее готовность принимать
правила такого тотального института, как прусская армия с ее
муштрой и обезличенностью.
Служа в армии, мужчины усваивали ценности дисциплины и еди-
нообразия. Высокий престиж военной службы способствовал тому,
что армейские нравы одобрялись и в гражданской жизни, а провод-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 229
Пиками этих нравов, наряду с офицерами, гостевавшими в домах
буржуа, стали практически все здоровые мужчины, возвращавшие-
ся со срочной службы.
Помимо армии прусская монархия опиралась на созданный по
Новому образцу чиновничий аппарат. В нем действовал принцип же-
сткой субординации и беспрекословной дисциплины. Материальное
положение чиновников было завидным - государство наделило их
многими привилегиями, но вместе с тем требовало от них практиче-
ски полного отказа от самостоятельности. Чиновники обязаны бы-
ли носить униформу или по крайней мере одежду предписанного фа-
сона, вся их деятельность регламентировалась подробными инструк-
циями (единообразие и подробность которых в течение XIX столе-
тня возрастали); слуги государства не имели права самовольно ме-
нять место жительства, делать долги, играть на бирже, вступать во
внебрачные сексуальные отношения, пьянствовать и позволять себе
какие-либо другие вольности. Такая связка материального благопо-
лучия с железной дисциплиной обеспечивала сознательное принятие
последней16.
Таким образом, нововведения, способствовавшие политическо-
му и военному успеху Пруссии, способствовали одновременно тор-
жеству таких ценностей, как единообразие, минимум самостоятель-
ного мышления, всестороннее подчинение правилу, инструкции,
распоряжению начальства.
П
Теперь посмотрим, какие дополнения и изменения произошли в рас-
сматриваемом общественном контексте в середине XIX столетия.
Торжество малогерманского национализма. После поражения
Австрии в войне 1866 г. упал ее авторитет и, соответственно, пре-
стиж великогерманской идеологии, в которой доминировала силь-
ная традиционалистская и партикуляристская составляющая. Мало-
германский же национализм, ориентированный на Пруссию, укре-
пил свои позиции в немецких землях.
Немецкий национализм17 пережил в XIX в. несколько вспле-
сков - в ходе Наполеоновских войн, потом в 1840 г. в связи со спо-
ром о рейнской границе с Францией, затем во время революции
1848 г., по случаю празднования юбилея Шиллера в 1859 г., далее в
связи с войной с Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна, наконец,
во время Франко-прусской войны, - и в нем постепенно уси-
ливались наряду с культурной унитаристская и милитаристская
компоненты18.
Важнейшим устремлением этого национализма было объеди-
нение германских земель и создание единой нации. Именно тогда,
230
Культурная история социального
в начале 40-х годов XIX в., Гофман фон Фаллерслебен сочинил
“Песню немцев”, где ставшие через сто лет печально знамениты-
ми слова “Германия превыше всего” имели еще не шовинистиче-
ский смысл: они подразумевали, что единство Германии выше
партикулярных амбиций множества государств, составлявших
Германский союз19.
При этом важнейшей, если не единственной, силой, связующей
немцев, немецкие государства, особенно после распада Священной
Римской империи, считались немецкий литературный язык20 и не-
мецкая классическая литература. Поэтому дискуссии на темы языка
вообще и унификации языковых норм в частности в определенной
мере подпитывались энергией националистических чувств.
Политическая интеграция под гегемонией Пруссии. После по-
беда над Австрией и аннексии Ганновера, Нассау, Гессен-Касселя,
Шлезвиг-Гольштейна и Франкфурта-на-Майне Пруссия значитель-
но увеличила свою территорию. Ее законы и порядки превратились
в обязательные для гораздо большего числа представителей немец-
кого языкового сообщества. Создание Северогерманского Союза
(1867). где Пруссия была самым крупным и сильным членом, озна-
чало дальнейшее усиление ее престижа и влияния. Благодаря при-
сутствию гарнизонов прусской армии и направлению чиновников из
центра в местные органы, прусский дух сказывался не только на за-
конодательстве, но и на общественном климате в Северогерман-
ском Союзе.
J то же время надо сказать, что если в северных, главным обра-
зом протестантских, землях прусское владычество и прусский дух
распространялись теперь быстро, то южная Германия, состоявшая
из стран поликонфессионального состава или преимущественно ка-
толических, взирала на этот процесс со смешанными чувствами. С
одной стороны, многое отталкивало их: помимо религиозной розни,
пруссачество было чуждо более либеральным странам, таким как,
например, Вюртемберг21; экономические связи южных стран заста-
вляли их смотреть скорее в сторону Австрии, нежели на Северо-Во-
сток. С другой стороны, пангерманские настроения набирали силу.
Перспектива войны и затем собственно война с Францией привлека-
ли едмпатии и надежды населения южногерманских государств к
Пруссии, а продемонстрированная ею в 1870-1871 гг. победоносная
военная мощь убеждала в преимуществах прусской системы. Побе-
ды над Данией, Австрией и Францией означали триумф государства,
построенного по модели армии.
Экономическая интеграция. Развитие товарооборота и дальней
торговли постепенно (правда, очень постепенно!) способствовало
распространению идеи об экономической выгодности единых мер,
весов, валют и тарифов. Упрощение и унификация таможенных по-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 231
шлин были осуществлены в Таможенном Союзе, а единая валюта и
система мер и весов были введены в Северогерманском Союзе в
1868 г.22
Здесь очень важно обратить внимание на коренное различие
между надрегиональными конвенциями прошлого и тем, что уста-
навливалось теперь: Бисмарк ввел в Северогерманском Союзе
единую валюту не в дополнение к местным, а на смену им. То же
самое произошло с мерами и весами: местные, традиционные, бы-
ли заменены едиными, причем не собственно прусскими, а метри-
ческими, т.е. такими, которые были лишены локальной привязки.
С новой системой все могли и должны были индентифицировать
себя одинаково.
После 1871 г. эти же единицы были законодательно введены для
всей новооснованной империи. В последующие годы неоднократно
издавались поправки, касавшиеся “еще допустимых в общественном
обиходе отклонений от абсолютной правильности”23. Дело это было
государственное, законопроекты вносил сам канцлер. Нормативы
для тарирования измерительных приборов были очень точными,
так что можно было с погрешностью всего в 2% отличить “правиль-
ное” от “неправильного”.
Индустриализация. Обратим внимание на некоторые следствия
промышленного переворота, которые, как это ни покажется удиви-
тельным на первый взгляд, имеют важное значение для рассматри-
ваемой темы.
На памяти двух поколений страна полностью преобразилась,
превратившись в процветающую индустриальную капиталистиче-
скую державу, занявшую к концу века одно из первых мест в мире.
Экономическая рациональность промышленного капитализма
включает в себя, помимо прочих, следующие элементы:
Во-первых, проектирование, отчужденное от конкретного ис-
полнителя и обязательное к одинаковому исполнению всеми работ-
никами. Возникли новые отношения между производителем и про-
дуктом: личный вкус, идеи, настроения, способности работника ли-
шены в этой индустриальной модели права на участие в определе-
нии облика продукта. Изготовитель есть не созидатель, а исполни-
тель технического задания.
Во-вторых, технологическая цепочка: в изготовлении продукта
участвуют несколько разных работников, и ошибка на одном шаге
предсказуемо отзовется проблемами на последующих шагах. Это
относится не только к материальному производству, но и, например,
к финансовой сфере. Различные кассы и банки жизненно зависели
от того, чтобы каждый кассир и каждый счетовод с абсолютной
точностью выполнял предписанные ему операции. Не то чтобы пре-
жде аккуратность была в банковском деле менее ценна, но во вто-
232
Культурная история социального
рой половине XIX в. количество финансовых институтов и слож-
ность их работы возросли во много раз, так что умножилось число
ситуаций, когда ошибка одного дорого обходилась многим.
В-третьих: стандартизация, т.е. единообразие и высокая точ-
ность. В Англии в начале XIX в. и особенно начиная с 40-х годов ста-
ли изготавливать абсолютно одинаковые инструменты, в частности,
измерители, точность которых составляла одну миллионную долю
дюйма24, и металлические детали машин. Такая унификация сильно
облегчала строительство и ремонт кораблей, паровозов, оружия и
прочей техники. К середине века общие идеи стандартизации сни-
скали на островах уже повсеместное признание. Появлялись стан-
дарты на размеры и форму деталей, на состав материала, на свойст-
ва твердых, жидких и сыпучих тел, на самые разные параметры, ко-
торые дотоле считались очень индивидуальными, переменчивыми и
непредсказуемыми.
Германские инженеры, учившиеся в Англии, быстро перенесли
идею стандарта в производство у себя на родине. Как и в Велико-
британии, стандартные детали и прецизионные инструменты нашли
здесь применение прежде всего в строительстве железнодорожной
техники, которое началось в то время25.
Но помимо собственно промышленного применения они при-
несли идею стандартизации в умы образованных немцев. Через
предпринимателей и инженеров, численность и престиж которых в
середине века стали быстро расти, в сознание людей стало внедрять-
ся представление о полезности соблюдения при изготовлении любо-
го продукта, в том числе и письменного текста, неких предзаданных
единых параметров, отклонение от которых, с одной стороны, изме-
римо, а с другой стороны - недопустимо.
Техника и новые отношения с пространством и временем. Не
только точность измерения малых величин и стандартизация при-
шли в жизненный мир немцев с промышленным переворотом. Даль-
ние расстояния и связанные с их преодолением новые горизонты от-
крылись им, когда появились два революционных средства переме-
щения людей и информации: железная дорога и телеграф.
Первая немецкая железнодорожная линия была построена в
1835 г.26, а к середине XIX в. общая длина железнодорожных путей
в германских землях составила уже 6 тыс. км. После того как от-
дельные государства построили собственные железнодорожные се-
ти, в 40-60-х годах началось соединение их воедино, строительство
сквозных линий, особенно усилившееся, естественно, после созда-
ния империи. В 70-е годы железнодорожным сообщением были свя-
заны Запад с Востоком: можно было без пересадки проехать от
Ахена до Кёнигсберга, причем за очень короткое время, так как па-
ровозы уже тогда развивали большую скорость.
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 233
Железная дорога, помимо своей модернизирующей роли и непо-
средственных коммерческих выгод, заняла важное место в картине
мира немцев еще и в силу того, какую роль она сыграла в экономи-
ко-политическом и военно-политическом отношениях: она стала од-
ним из важных средств объединения германских земель. Установле-
ние железнодорожного сообщения с соседними и дальними государ-
ствами значительная часть буржуазии приветствовала именно как
средство приближения желанного национального единства27.
В конце 50-х годов, когда прусский генеральный штаб возгла-
вил Хельмут фон Мольтке (в 40-е годы бывший членом совета
правления Берлинско-Гамбургской железной дороги28), стали раз-
рабатываться новые оперативные планы, в том числе и с использо-
ванием массовой переброски войск по железной дороге. Планы эти
принесли блестящий успех. Победы Пруссии над Данией, Австри-
ей и Францией были в значительной мере обеспечены двумя фак-
торами: во-первых, детальным централизованным планированием
операций, не оставлявшим никакого места ни случайности, ни лич-
ной инициативе командиров и солдат, и во-вторых - использовани-
ем железной дороги. Таким образом, ее авторитет оказался связан
с авторитетом победоносной прусской армии, т.е. был обеспечен
независимо от того, насколько каждый данный немец пользовался
ею как видом транспорта.
Развитие железных дорог привело еще к нескольким важным
для нашей проблематики последствиям.
Во-первых, возник и стал быстро расти спрос на специалистов.
Это способствовало развитию начиная с 50-х годов системы про-
фессионального образования29 и формированию профессий, в ко-
торых ценятся точность и единообразие. Сказанное относится не
только к инженерам, но и к чиновникам: администрация железных
дорог стремительно бюрократизировалась и в последние десятиле-
тия XIX в. стала ареной организационных нововведений, которые
один из исследователей назвал образцом бюрократии в хорошем
смысле: служащие железных дорог получали всё более всеохват-
ные и скрупулезные должностные инструкции, построенные на
принципе полного единообразия, максимальной формализации и
рационализации30.
Во-вторых, при перемещении в широтном направлении поезда
быстро переносили людей в места, где время на их часах не совпада-
ло с местным временем. Для упорядочения железнодорожных рас-
писаний стало необходимо введение единой системы отсчета време-
ни. Так постепенно, к концу 60-х годов, сформировалось представле-
ние о том, что даже время, которое не принадлежит никому и вме-
сте с тем важно для всех, поддается регулированию, стандартизации,
унификации посредством переговоров и указов31. Можно предста-
234
Культурная история социального
вить себе, какое это имело воздействие на картину мира людей: ес-
ли такое можно делать со временем, то можно и с остальными нема-
териальными сущностями, в частности с языком.
В-третьих, посредством железной дороги усилилась дальняя ми-
грация, и все больше людей стали сталкиваться с носителями иных
региональных норм - в том числе языковых. Представления о том,
как “говорят по-немецки”, все больше релятивировались. Консен-
сус - там, где он был, - разрушался, и актуальность введения единой
нормы ощущалась все острее.
Другим важнейшим новшеством середины XIX в. стал теле-
граф32. Когда посылка телеграммы сделалась общедоступной плат-
ной услугой, был введен принцип оплаты за слово. В связи с этим
стала ежедневно возникать ситуация, когда слитное или раздельное
написание слов имело непосредственные последствия как для ко-
шелька того, кто подавал телеграмму, так и для той службы, кото-
рая ее посылала.
Кроме того, возник большой штат телеграфистов и прочих свя-
занных с телеграфом служащих, которые пополнили армию чинов-
ников, чья деятельность подробнейше регламентировалась должно-
стными инструкциями33.
Одним из важнейших факторов, определявших идейный климат
эпохи, была политическая реакция, наступившая после поражения
революции 1848 г.34 Государство и церковь объединились в борьбе
против “разрушительного либерализма”, стали активно насаждать
среди подданных скорее верность традиции, нежели привержен-
ность к инновациям, скорее послушание законам и властям, нежели
самостоятельность и склонность к ответственному выбору.
Наиболее важным для нашей проблематики аспектом политиче-
ской реакции середины XIX в. стала государственная школьная поли-
тика. Но прежде чем сказать о ней, необходимо обратиться к другой
силе, оказывавшей в это время растущее влияние на школу: к науке.
В эти годы формировалось научное языкознание и одновременно со-
временная историческая наука, и обе они обладали в Германии огром-
ным весом, так как играли (или, по мнению части интеллектуалов,
призваны были сыграть) важную роль в идеологическом обеспечении
единства немецкой нации. Филологи-германисты, многие из которых
были университетскими или гимназическими преподавателями, ак-
тивно высказывались в прессе по вопросам теории немецкого языка
вообще и его орфографии и орфоэпии в частности.
Одной из ведущих была так называемая историческая школа в
языкознании35, среди наиболее видных представителей которой вы-
делялся Якоб Гримм. Гриммовская программа германистики про-
никнута романтическим преклонением перед древневерхненемецки-
ми литературными памятниками. Эпитеты “старинный” и “совер-
КА. Левинсон. "Устранение многообразия” в Германии XIX в. 235
шейный” стали фактически синонимами в употреблении языкове-
дов-романтиков. Современную ему немецкую орфографию Якоб
Гримм яростно критиковал36, называл “варварской” и выдвигал в
качестве альтернативы ей более правильную на его взгляд “истори-
ческую” орфографию, т.е. такую, которая якобы существовала в
средневековых текстах.
Работы Гримма спровоцировали большую дискуссию. Его сто-
рону принял ряд германистов, в том числе Карл Вайнхольд, который
в 1852 г. опубликовал работу “О немецком правописании”37. Он на-
звал “вздором” предложение Иоганна Аделунга “пиши, как ты гово-
ришь”, ибо это вело бы к тому, что слово gut в южной Германии ста-
ли бы писать guot или guet, в Верхней Саксонии kud, в Бранденбур-
ге - jud, а Вестфалии - chud. Правописание, настаивал Вайнхольд,
должно руководствоваться законом “пиши, как того требует истори-
ческое развитие нововерхненемецкого языка”.
Горячие дискуссии по поводу реформ немецкой орфографии не
ограничивались университетской средой. Гимназические учителя из
числа приверженцев исторического направления стали приносить
его принципы в гимназию, т.е. учить детей не той орфографии, ко-
торой их обучали прежде, что создавало для учеников трудности.
Кроме того, эта была не та орфография, которую проходили их от-
цы, что вызывало растущее недовольство последних38.
Но тут нужно обратить внимание на специфику ситуации: речь
шла не о том, что Гримм и его последователи “противоречат прави-
лам орфографии”, а о том, какая орфография лучше, какая хуже.
Орфографий существовало множество, они назывались по именам
авторов, их предложивших (готшедовская, аделунговская, гриммов-
ская и т.п.). В словаре Гриммов даже приводятся примеры индивиду-
альных орфографий39. Можно было сказать “у такого-то дурная/хо-
рошая орфография”, как о почерке. Правда, различия между этими
индивидуальными орфографиями были в середине XIX в. уже не
очень значительны: они касались в основном написания существи-
тельных с большой или с малой буквы, употребления двойного sn/3,
написания th в немецких и заимствованных словах, а также исполь-
зования h для обозначения долготы гласного. И надо отметить, что
Гримм, предлагая вернуться к якобы существовавшей в прошлом
простой и логичной орфографии, ничего не говорил о том, кто и с
какой степенью обязательности должен будет ее придерживаться.
Этот вопрос его как исследователя не интересовал, а если сторонни-
ки несли идеи Гримма в школы и там их преподавали, то делали они
это в силу своего индивидуального представления о правильности и
своих учительских полномочий. Такая ситуация существовала еще
на рубеже 50-60-х годов, потом стала быстро меняться, о чем пой-
дет речь ниже.
236
Культурная история социального
Наряду с ценностью, которую репрезентировал этот лагерь (ис-
торически обоснованная правильность), существовала конкурирую-
щая прагматическая ценность, характерная для индустриального ве-
ка, - легкость обучения. Часть словесников, особенно школьных и
гимназических преподавателей, выступала за упрощение немецкой
орфографии, проявляя при этом больший или меньший радика-
лизм40. Этих реформаторов называли “фонетистами”: они предлага-
ли приспособить латинский алфавит к фонетике немецкого языка,
выбросив лишние знаки, добавив недостающие, чтобы по возмож-
ности достичь взаимно однозначного соответствия между знаком и
звуком. Одним из их рупоров стал журнал “Реформа”, выходивший
почти тридцать лет, но практического применения их новаторские
принципы почти не нашли41.
Споры между сторонниками разных орфографий происходили в
обстановке, когда существовал уже некоторый приблизительно ус-
тановившийся узус, т.е. помимо предлагаемых ими систем была та,
которой учились уже два-три поколения немцев. Недостатки, проти-
воречия и пробелы этой традиционной орфографии можно было
критиковать, но она обладала тем решительным преимуществом,
что была освящена привычкой.
Таким образом, и “истористы”, и “фонетисты” с их требования-
ми реформы посягали на существующий порядок, что в обстановке
политической реакции было встречено в штыки властями и лояль-
ными к ним слоями в обществе. Власти, начиная от дирекций школ
и гимназий и кончая министерствами, встали на защиту традицион-
но сложившейся нормативной системы (при всем ее несовершенст-
ве) от реформаторских поползновений. Поскольку печать была им
неподвластна, основной ареной борьбы стала начальная и средняя
школа. К рассмотрению ситуации в школе мы теперь и перейдем.
Школа. В новых экономических, политических и демографиче-
ских условиях немецкая образовательная система претерпела ради-
кальные количественные и качественные изменения. Учительство
стремительно профессионализировалось. Появилось в зачаточных
формах педагогическое образование в форме “учительских семина-
ров”. К 50-м годам XIX в. подросло уже второе поколение выпуск-
ников этих семинаров. Однако в условиях политической реакции со-
держание учительского образования стараниями референта мини-
стерства Фридриха Штиля свелось тогда к преподаванию того, что
способствовало “церковной жизни, христианской нравственности и
патриотизму”; всё же, что относилось к теории педагогики, методи-
ке, дидактике, психологии, а равно классическая греческая и немец-
кая литературы, было строго запрещено как материи политически
неблагонадежные42. Думается, вполне можно утверждать, что для
судеб немецкой орфографии это имело не последнее значение, так
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 237
кик пело к тому, что корни проблем, возникавших в преподавании
предмета, представлялись заложенными в самом предмете, а не в
способе его преподавания.
В 1866 г. был введен новый экзамен для преподавателей прус-
ских гимназий, который был направлен на обеспечение их должной
киалификации, но фактически проверялось на нем не общее образо-
иппие и не педагогические способности, а вызубренное знание курса.
Середина XIX в. стала временем, когда школьное образование в
I (руссии и многих других немецких землях было окончательно ого-
сударствлено: в 1856-1859 гг. компетентными правительственными
исдомствами повсюду в школах и гимназиях были введены единооб-
разные учебные планы и доктринальные предписания, контроль за
исполнением которых был в гимназиях, впрочем, несколько слабее,
чем в начальных школах.
Несмотря на свою многочисленность (к началу 70-х годов
школьных учителей в одной только Пруссии было более 50 тыс.) и
наличие осознанных профессиональных групповых интересов, пре-
подаватели начальной школы были слабо организованы. В услови-
ях реакции их организации и журналы, существовавшие до 1849 г.,
были закрыты, участие во “Всегерманском собрании учителей” бы-
ло прусским педагогам запрещено, создание собственных организа-
ций - тоже43. В 1858 г. в своей речи в прусском ландтаге Штиль го-
ворил, что одной из непременных его целей было прекратить “эман-
сипацию учителей от авторитета власти”.
В материальном и в идейном плане ориентиром для учителей на-
чальной школы были не столько гимназические преподаватели -
выпускники университетов, часто обладавшие учеными степенями и
сравнительно высоко оплачиваемые, - сколько низшие ранги чи-
новничества и низовое офицерство. “Армия” школьных учителей в
Пруссии, а после объединения и повсеместно, действительно имела
много общего с реальной армией - и в персональном, и в идеологи-
ческом отношении44. Учителя, как и чиновники, обретали свое само-
сознание по преимуществу благодаря статусу офицеров запаса, при-
обретенному во время годичной службы. Про победу над Австрией
было заявлено, что “войну выиграл прусский школьный учитель”: в
этом свете легко представить себе, чему и как он учил детей.
Учить детей теперь стало тоже сложнее, чем прежде. Числен-
ность их увеличивалась по мере того, как рос слой промышленной
и торговой буржуазии, слой чиновничества, слой инженеров и слой
финансовых служащих. Эти слои поставляли все более многочис-
ленный и смешанный контингент учеников, а затем и учениц в
школы и гимназии45. Социолектная и диалектная палитра стала пе-
стрее: в классах сидели рядом выходцы из разных семей, урожен-
цы разных языковых регионов. Они говорили по-разному, им каза-
238
Культурная история социального
лись естественными и правильными разные способы произноше-
ния звуков, разные употребления слов и грамматических форм.
Возникла потребность в новой легитимации норм. Попытки уста-
новления таковой на “исторических” или “фонетических” основа-
ниях предполагали реформу существовавшей рыхлой и не оформ-
ленной традиционной орфографии, что оказалось неприемлемо
для властей всех уровней.
Государство принимало меры по ограждению школьников от
всего, что было нацелено на развитие у них способности и привыч-
ки думать. Министерские “Регулятивы”, подготовленные Штилем
для начальных школ Пруссии в октябре 1854 г., предписывали учи-
телю не иметь мнения, а иметь только должностные обязанности и
воспитывать учеников только как христиан-протестантов и вер-
ных подданных прусского короля, но не как всесторонне образо-
ванных людей: “общечеловеческое образование” показало себя
“недейственным и вредным”, поэтому предписывалось удалить из
учебных планов все “лишнее, сбивающее с толку”, в частности
грамматику. Подобное было характерно не для одной только
Пруссии - в Баварии, например, тоже главной целью школы в
1851 г. провозглашалось воспитание в детях баварского национа-
лизма, а в педагогическом образовании указы 1850 и 1851 гг. вво-
дили изменения, направленные на ограждение будущих учителей
от “глупой гордости знанием”.
В качестве примера, позволяющего судить о ценностях, кото-
рые насаждались теперь в школах, процитирую воззвание “К роди-
телям воспитанников Геттингенской гимназии” (июль 1848 г.):
“...Учащейся молодежи нужно указывать на то, что кроме научного
познания она должна стремиться также к нравственному совершен-
ствованию и самостоятельности характера. Само собой разумеется,
что разумное воспитание должно иметь эту цель перед глазами. Яс-
но и то, что молодежь только тогда обретет нравственную твер-
дость и силу, если вовремя научится подчинять свою волю закону,
который является ей в словах родителей и преподавателей, и будет
с готовностью подчиняться необходимому порядку учебного заведе-
ния и жить в согласии с ним. С каждым шагом, который молодежь
совершает в покорности разумному закону, она приобретает все
больше нравственной силы, необходимой для способности к пра-
вильному самостоятельному выбору. Кто не научился вовремя пови-
новаться, тот не научится никогда владеть сам собой и тем более -
повелевать как следует другими.
Но здесь как раз и заключена опасность для учащейся молоде-
жи. Если вообще надлежащее послушание ей тяжело, то теперь еще
более, чем когда-либо. Она хочет претендовать на свободу, какая
приличествует взрослому мужчине, она хотела бы действовать с са-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 239
мостоятельностью, к которой у нее нет способности и на которую у
нее нет права. Исполнение требований, которые по необходимости
к ней предъявляются, оказывается поэтому вдвойне и втройне тяже-
лым для молодежи, так как необходимости покорности закону боль-
ше, а воли и склонности к этому кое у кого гораздо меньше, чем
раньше. Если принять во внимание еще и то, что молодежь подвер-
жена также столь многим влияниям, ослабляющим намеренно или
неумышленно ее уважение, любовь и доверие к тем, кто старается
лишь содействовать ее истинному благу, то станет очевидным, какая
опасность угрожает воспитанникам и нашего учреждения.
Поэтому... мы настоятельно просим родителей указать своим
сыновьям на то, что... для того, чтобы с успехом закончить гимна-
зию, они должны с безусловным доверием ввериться преподавате-
лям”46.
Одним из важнейших элементов социального контекста языко-
вой политики стала сформировавшаяся в эти десятилетия система
экзаменов. Цель ее состояла отнюдь не только в обеспечении высо-
кого образовательного уровня выпускников. Экзамены - наряду с
другими сложностями учебного процесса - приобрели роль социаль-
ного фильтра.
Одним из результатов промышленного роста середины века ста-
ло укрепление позиций мелкой и средней буржуазии, которая всту-
пила в конкуренцию за статус и за места на рынке труда с традици-
онными элитами. Стремясь сохранить свое положение в обстановке,
когда происхождение уже не было его единственной гарантией,
верхние слои сделали ставку на образовательный ценз как на
фильтр, призванный отсечь пути вертикальной мобильности для их
социальных конкурентов47. Аттестат зрелости если не полностью
сменил, то потеснил высокое происхождение в роли основного кри-
терия при распределении жизненных шансов. Всё больше станови-
лось должностей в управленческом аппарате и в армии, требовав-
ших аттестата зрелости того или иного уровня. Рос спрос на среднее
и высшее образование - не только и не столько на знания, сколько
на свидетельства об окончании определенной ступени, дававшие
право на поступление в высшие учебные заведения или на государ-
ственную службу. Поскольку рынок труда для выпускников высших
учебных заведений в эти десятилетия стагнировал или расширялся
очень медленно (в основном за счет роста бюрократического аппа-
рата), усиливалась конкуренция за рабочие места, которая в ходе
своего рода обратной цепной реакции вызывала конкуренцию за ме-
ста на университетской, а до того на гимназической скамье (так как
только гимназия давала право на поступление в университет). Нара-
стал конфликтный потенциал. Для регулирования нарастающей
конкуренции в условиях правового государства были найдены инет-
240
Культурная история социального
рументы, позволявшие не только сравнительно объективно оцени-
вать успеваемость учащихся, но и оспаривать впоследствии получен-
ные оценки: контрольная работа и письменный экзамен48.
Именно во второй трети XIX в. появляется более или менее еди-
ная и всеобщая практика контроля успеваемости школьников с вы-
ставлением им формализованных оценок за классные и домашние
работы, за сочинения, диктанты, контрольные и экзаменационные
работы. Именно эти оценки потом становились критерием при оп-
ределении “зрелости” выпускника, что имело первостепенное зна-
чение для его будущей карьеры.
Но для выставления таких оценок (и апелляций по их поводу) не-
обходимы были ясные, единые, фиксированные критерии, и тут ог-
ромную роль играло определение того, что правильно, а что оши-
бочно, и какова тяжесть той или иной ошибки. Так как узус часто
бывал не жестким или не однозначным, то, чтобы было с чем све-
ряться, директора школ и особенно гимназий начали составлять ор-
фографические справочники для внутреннего пользования, потом
обмениваться ими, заимствовать их друг у друга. Движение препода-
вателей за кодификацию орфографии набрало такой размах, что
стало предметом публичной дискуссии. Появились статьи в педаго-
гической периодике и даже специальные журналы, в которых пред-
лагались различные способы оценки орфографической правильно-
сти в диктантах и сочинениях. В этих условиях, когда реформатор-
ские попытки филологов угрожали традиционному порядку, а по-
требности учителей подталкивали к систематизации аморфной нор-
мативной системы, образовательные ведомства приступили к ее ко-
дификации.
Подводя промежуточный итог, подчеркнем, что элементы об-
щественного контекста, на первый взгляд кажущиеся разрозненны-
ми, образовывали тесно переплетенный клубок: чиновники почто-
во-телеграфного ведомства привлекались на первых порах к службе
на железных дорогах, поскольку там не хватало специалистов; ар-
мия теперь должна была сотрудничать с другими государственными
учреждениями (такими как железная дорога и телеграф), поэтому ее
офицеры становились сами в некоторой степени бюрократами; уво-
ленные в запас военнослужащие вливались в ряды учителей, а выпу-
скники школ и гимназий сдавали экзамены, чтобы стать военными;
один и тот же человек, Мольтке, был и кумиром нации на военном
поприще, и поборником как развития железнодорожного транспор-
та, так и его огосударствления; другой офицер прусской армии, Вер-
нер Сименс, стал отцом немецкого телеграфа и многих других тех-
нических новинок; унификации тарифов на железнодорожные пере-
возки и телеграфные сообщения, как и школьных программ, были
связаны с общей правительственной политикой унификации и ого-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 241
сударствления, и т.д. и т.п. Одним словом, принципы единообразия,
дисциплины и формализации входили в жизнь человека сразу с не-
скольких сторон.
III
Тенденции, наметившиеся в землях, подпавших под политическое
или идейное влияние Пруссии, укрепились после создания империи,
осуществленного на волне широких националистических настрое-
ний49 и одновременно массового восторга по отношению к прусским
успехам. Однако вскоре обнаружились и трудности объединитель-
ного процесса.
Создание империи. Роль государства. Требования объединения
раздавались “снизу”, но образование империи было осуществлено
"сверху”. Взяв дело объединения Германии в свои руки, правитель-
ство Бисмарка создало страну с прогрессивным экономическим ук-
ладом и консервативным, не ориентированным на реформы и дина-
мику государственно-политическим строем50.
Объединение, однако, еще не означало единства. Последнее
складывалось очень трудно, так как реальная готовность бывших
суверенных государств поступаться не только своей самостоятель-
ностью, но и своеобразием оказывалась не всегда так уж велика, а
население империи было раздираемо классовыми и идейными про-
тиворечиями. Внутренняя консолидация шла очень медленно, и цен-
тральная (а это значит - прусская: императором был прусский ко-
роль) власть играла скрепляющую, руководящую и легитимирую-
щую роль. Государство, вполне в духе позднего Средневековья, бра-
ло на себя очень многие функции, претендовало на роль “отца”, раз-
решавшего или, по крайней мере, оставлявшего за собой разреше-
ние проблем и конфликтов, воспитывавшего подданных, управляв-
шего всеми процессами и ответственного за все.
Группы населения, не поддававшиеся быстрой интеграции в со-
ответствии с установками авторитарного государства, - например,
представители национальных меньшинств (французы, поляки, дат-
чане, евреи), - при необходимости подвергались сегрегации и ре-
прессиям. Носители политического инакомыслия (например, соци-
ал-демократы, политические католики) объявлялись “врагами им-
перии”. Эта политика насаждала, как видим, все те же ценности, о
которых уже шла речь выше: единообразие в мыслях и способах их
выражения, в поведении, в лояльности властям предержащим51.
“Культуркампф” 70-х годов XIX в. помимо всего прочего был
борьбой Бисмарка против партикуляризма и за укрепление государ-
ственной власти в культурной и религиозной сферах. В частности,
светская центральная власть окончательно отобрала у церкви над-
зор за школами. Школы и гимназии получили от государства задачу
16 Одиссей, 2006
242
Культурная история социального
(неоднократно повторенную в последующие десятилетия конца
XIX - начала XX в.) воспитывать хороших подданных52, послушных
властям и видящих в этом служение отечеству, развивать в них на-
ционализм (с этой целью школьный литературный канон был пере-
ориентирован с античных авторов на веймарских классиков немец-
кой литературы), волю и одновременно дисциплинированность. Та-
ким образом эти ценности насаждались в буржуазной среде - даже в
тех землях, где были более демократические, либеральные, парла-
ментаристские традиции, как, например, в Вюртемберге.
В самых разных областях государственная интеграционная по-
литика проводилась на общенациональном уровне по новой модели,
принцип которой мы уже видели на примере валюты, времени, мер
и весов: единство (империи, нации и всех ее институтов, понимае-
мых как сферы ведения того или иного правительственного органа)
трактовалось как единообразие, т.е. вводилось не в дополнение к
разнообразию, а взамен него.
Настроения в обществе. К сказанному выше о сочетании уни-
таристского, этатистского и милитаристского элементов в прусском
национализме53 можно добавить, что после объединения страны по-
добные настроения усилились и в других регионах Германии. Объе-
динение не принесло того счастья, которое ожидалось. Следующей
целью было провозглашено превращение Германии в мировую дер-
жаву. А это означало, помимо всего прочего, наращивание военно-
промышленного потенциала и его идеологического сопровождения,
т.е. новый всплеск энтузиазма по поводу армейских и этатистских
ценностей. Детские книжки с картинками, буквари и открытки кон-
ца XIX в. полны изображений детишек в солдатских касках, с сабля-
ми и ружьями. Гимназические сочинения (в части содержания писав-
шиеся практически по заданной колодке) пестрят фразами: “Война
есть зло, но она же есть и добро, ибо очищает народ”, “Мы, немцы, -
самый великий и самый образованный народ в мире” и т.п. Превос-
ходство Германии над другими странами (прежде всего, по старой
памяти, над Францией) виделось многим не только в гении немецких
поэтов и мыслителей, но и в немецком солдатском духе исполни-
тельности, педантизма и точности.
Идеология правительства пользовалась поддержкой не только
армии, чиновничества и промышленной буржуазии, но и значитель-
ной доли буржуазии образования, профессуры. Часто энтузиазм
этих слоев даже опережал правительственную политику. В вопросах
языка государство испытывало некоторое идейное давление54 со
стороны школьных учителей и профессоров под лозунгом “единой
Германии - единое правописание”: идеологические мотивы этого
движения сплетались с профессиональным интересом педагогов, ко-
торый заключался в том, чтобы получить из рук государства леги-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 243
тимный единый стандарт, которого они могли бы придерживаться
как в преподавании, так и в оценке знаний учеников.
Правда, нельзя сказать, что такие настроения были всеобщими.
11орой предлагались и проекты, ориентированные на другие ценно-
сти: именно в конце XIX в. в городской среде развернулось то, что
получило обобщающее название “движения за реформу”
(Reformbewegung): поиски новых форм жизни и новых ее смыслов
шли в разных сферах, таких как культура досуга, медицина, кулина-
рия, архитектура и жилищное строительство55, психология, педаго-
гика. В это время зарождались идеи Рудольфа Штайнера, через не-
которое время вылившиеся в концепцию “вальдорфских школ”, и
Георга Кершенштайнера, создававшего свои “трудовые школы”, пе-
дагогика Марии Монтессори и другие педагогические концепции.
На рубеже XIX-XX вв. в нескольких европейских странах и в Север-
ной Америке возникло широкое реформаторское педагогическое
движение, и многие германские педагоги занимали место среди ак-
тивных его участников56. “Реформаторская педагогика” ставила
своей целью внедрение в школу художественного воспитания, под-
черкивала значимость совместного труда, настаивала на конфессио-
нальной свободе школы, т.е. пропагандировала воспитание детей
совершенно не в прусском духе. Преподавание грамматики и орфо-
графии в этой концепции не играло существенной роли именно по-
тому, что язык рассматривался как средство свободного самовыра-
жения человека, а не как поприще овладения сложными и сухими
правилами.
Однако подавляющее большинство школьных и гимназиче-
ских преподавателей не склонны были даже публично обсуждать
либеральные проекты. Характерно, что среди публикаций в про-
фессиональной педагогической прессе за последние десятилетия
XIX в. обнаруживается очень мало статей, в которых предлагают-
ся или хотя бы рассматриваются такие методы борьбы с низкой
успеваемостью учеников по правописанию, которые предусматри-
вали бы больше мягкости, снисходительности и свободы в оценке
письменных работ.
Законы, циркуляры и инструкции государственных органов
приобретали в глазах буржуазии тем больший авторитет, что в
них (а не в укреплении парламентаризма, например) многие виде-
ли спасение от анархизма, безбожия, нигилизма и прочих зол эпо-
хи. Подчинение законам и государству имело в глазах очень мно-
гих представителей буржуазии “ценность для выживания”. Поэто-
му введение законодательным путем единых норм для всего, в том
числе и для языка, уже не всем казалось таким неприемлемым
вмешательством государства в приватную сферу подданных, как в
середине XIX в.
244
Культурная история социального
IV
Итак, к началу последней трети XIX в. в сознание буржуазии обра-
зования уже основательно внедрились такие ценности, как единооб-
разие и подчинение инструкции. Распространилась не просто при-
вычка, но и желание иметь на все случаи официальный эталон, от-
ступление от которого недопустимо. И потому инициатива по коди-
фикации и унификации языковых норм, касавшихся орфографии,
начертания букв и произношения, исходила не от государства, а
снизу, от учителей, в меньшей степени - от книгоиздателей или уче-
ных-германистов. Однако сторонники установления единых языко-
вых норм апеллировали к государству как к высшей инстанции, ко-
торая должна была санкционировать то, что они считали правиль-
ным и необходимым для всех. Вот к чему это вело.
В орфографии-, принцип единства стал главной целью в ущерб
всем остальным. Это значило, что правила написания стремились
сделать едиными не только для всех людей, но и для всех слов: был
взят курс на последовательное устранение равноправных двояких
вариантов написания.
После того или одновременно с тем, как профессиональные
организации учителей стали выпускать сборники орфографиче-
ских правил для отдельных школ или городов, соответствующие
правительственные ведомства в германских землях начали состав-
лять и печатать для школ “официальные”, утвержденные прави-
тельственной, а то и высочайшей инстанцией (т.е. в ряде случаев
монархом) сборники правил правописания и орфографические
словари. Первый официальный сборник правил со словарем вы-
шел в Ганновере в 1855 г., потом в Вюртемберге в 1861 (и после ре-
формы в 1883-1884 гг.), затем в Баварии в 1879 г. (баварскому сво-
ду правил был идентичен вышедший вскоре после него баденский).
В Пруссии министерство по делам церкви, образования и здравоох-
ранения в 1862 и 1868 гг. выпускало распоряжения, предписывав-
шие учителям придерживаться одной орфографии хотя бы в рам-
ках одной и той же школы57; в 1871 г. берлинский “Союз препода-
вателей гимназий и реальных школ” выпустил словарь и справоч-
ник по орфографии, который был тут же рекомендован для всеоб-
щего употребления, а на его основе в 1880 г. вышел слегка перера-
ботанный официальный свод для всех прусских учреждений на-
чального и среднего образования. При составлении этих норматив-
ных текстов были отвергнуты “радикальные” принципы “истори-
стов” и “фонетистов”, а зафиксировано было в основном то, что
соответствовало сложившемуся узусу58.
В этих орфографических словарях еще содержались десятки, ес-
ли не сотни двояких написаний, которые были даны как равноправ-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 245
ные, или же одно из них считалось предпочтительным, другое - до-
пустимым. Потом началось стремительное искоренение этих двоя-
ких вариантов. В 1880 г. вышел первым изданием орфографический
словарь Конрада Дудена (кстати, ректора гимназии)59, постепенно
ставший наиболее авторитетным справочником в этом вопросе. От
издания к изданию Дуден последовательно искоренял двоякие напи-
сания. В 1901 г. организация книгоиздателей попросила Дудена вы-
пустить специально для наборщиков словарь, где были бы даны
единственные варианты для всех слов. Правда, и в этом “Дудене для
наборщиков” двоякие написания в некотором количестве еще пред-
ставлены. Впоследствии (1911) он был слит с основным словарем,
что означало дальнейшее устранение двояких написаний. Это стало
одной из основных тенденций в истории немецкой орфографии, со-
храняющейся до наших дней.
Поскольку словари-справочники, выпущенные отдельными
землями в 50-70-х годах, при всем своем сходстве, обнаруживали и
некоторые расхождения, цель полной унификации оказалась еще
далеко не достигнута. Поэтому, отвечая устремлениям ревнителей
языка, прусский министр по делам церкви, образования и здраво-
охранения Адальберт фон Фальк созвал первую Орфографиче-
скую конференцию (1876), перед которой стояла задача вырабо-
тать единую орфографию для единой Германии 60. Участвовали в
ней всего 14 человек - преподаватели, германисты, представители
книгопечатного и книготоргового дела и государственные чинов-
ники61. Присутствовал, но не принимал участия в прениях на-
чальник одного военного учебного заведения. Основная задача,
которую решали участники, была не в том, чтобы выработать как
можно лучшую немецкую орфографию, оптимизировав ее с раци-
ональных позиций, а в том, чтобы найти, как можно меньше от-
ступая от традиционно сложившегося, некий компромисс, прием-
лемый для всех.
Очень многим из того, что вошло в итоговый документ, сами его
разработчики, особенно германист Рудольф фон Раумер, остались
недовольны. Со своей профессиональной точки зрения они предпо-
чли бы многое улучшить, но не стали этого требовать, опасаясь, что
в таком случае общественность откажется принять их решения. В
итоге зафиксировали, по возможности, то, что и так являлось более
или менее общепринятым.
Однако решения этой конференции остались нереализованны-
ми, так как в прессе появились многочисленные протесты против
новой орфографии, а правительства земель отказались издать соот-
ветствующие предписания для подчиненных им ведомств. Должно
было пройти еще несколько десятилетий, прежде чем удалось осу-
ществить затеянное на общегосударственном уровне.
246
Культурная история социального
Пока же, видя неуспех конференции, земельные министерства,
не собирая новых форумов, подготовили и выпустили сборники пра-
вил и словари для своих территорий. Различия между ними были ми-
нимальны, так что некоторые земли перенимали их друг у друга.
Единая и обязательная для всех школ и административных орга-
нов орфография была выработана только в начале нового столетия.
17-19 июня 1901 г. в Берлине проходила вторая Орфографическая
конференция (дебаты кончились уже 18-го). Среди 26 ее участников
находились двое представителей книжной торговли, двое универси-
тетских профессоров, девять высокопоставленных чиновников от
имперских и земельных правительственных ведомств и 13 школь-
ных и гимназических учителей. Состав, как видим, ясно указывает
на то, какие силы стояли за этим движением.
Никаких реформ конференция проводить не собиралась, ничего
нового не ввела, а только утвердила отмену употребления th в сло-
вах немецкого происхождения и устранила еще несколько двояких
написаний. Новый свод правил, который она приняла, в основном
повторял прусский свод 1880 г.62
Решения второй конференции поддержал в июле 1902 г. импера-
тор. Он, правда, сделал оговорку, что в донесениях, подаваемых лич-
но на его имя, разрешалось и далее использовать прежнюю орфо-
графию.
После этого верхняя палата парламента рекомендовала соот-
ветствующим министерствам введение в землях разработанных пра-
вил. Таким образом, выработанный конференцией свод правил был
введен по всей империи не законодательной властью (рейхстагом и
бундесратом), а органами исполнительной власти, т.е. земельными
правительствами, посредством административных циркуляров. И
потому обязательными эти правила стали только для тех сфер, ко-
торые подчинялись правительственным ведомствам: главным обра-
зом это были начальные и средние школы плюс педагогические се-
минары (новая орфография вступала в силу с начала 1903/04 учеб-
ного года), а также административный аппарат.
За тридцать лет, прошедших после объединения, готовность к
солидарному действию у земельных правительств стала выше: все
они подчинились рекомендации бундесрата. В самом скором време-
ни их примеру последовали правительства Австрии и Швейцарии.
Со вступлением в силу правительственных циркуляров 1902 г. на
территории немецкоязычного ареала наступила эпоха официально
предписанного орфографического нормативного единства, продол-
жавшаяся около ста лет - вплоть до последней реформы
1998-2005 г.
Критика официально утвержденной в начале XX в. орфографии
не затихала на протяжении этих ста лет ни на минуту, предложения
К.А. Левинсон. "Устранение многообразия” в Германии XIX в. 247
но ее реформе разрабатывались и рассматривались многократно,
реформы и реформы реформ проводились по крайней мере триж-
ды, и только одно стало уже на долгие годы неосуществимо - либе-
рализация, т.е. допущение различных написаний в качестве равно-
правных и толерантное отношение к нарушениям нормы63. Причем
дело было не в том, что государство так строго санкционировало
эту норму, а в том, что в среде законопослушной немецкой буржуа-
зии образования утвердилось убеждение, будто то, что написано в
орфографическом словаре, имеет силу закона для всех. Даже если в
предисловиях к словарям было сказано, что они содержат рекомен-
дации, а не предписывают (да и не имеют права что-то предписы-
вать64) всем пользователям языка помимо школьников и чиновни-
ков, уже мало кто обращал на сие внимание. Нормативное сознание
сложилось, и поколебать его смогли только революционные собы-
тия 1968 г., но о них здесь говорить уже невозможно.
В начертании букв унификация шла сначала на уровне школ,
потом - регионов, затем на общеимперском уровне. Например, на
совместном заседании членов Королевской провинциальной школь-
ной коллегии и советников по делам школ в провинции Ганновер
под председательством обер-президента действительного тайного
советника фон Лейпцигера 18 ноября 1867 г. в Ганновере один из
членов коллегии указал на тот факт, что учителя начальных школ
на уроках письма применяют множество различных форм начерта-
ния букв, а также на те нежелательные последствия, которые выте-
кают из этого, особенно при переходе учеников в другие школы и
учебные заведения, ремесленные училища и т.п. Выступавший (фа-
милия его в источнике65 не упоминается) внес ходатайство о том,
чтобы Провинциальная школьная коллегия способствовала введе-
нию наконец единой формы начертания букв в педагогических учеб-
ных заведениях (к чему уже предпринимались несколько безуспеш-
ных попыток), а тем самым и осуществлению этого единства в на-
чальных школах.
Коллегия с готовностью выразила согласие заняться этим де-
лом, собрала отчеты на эту тему со всех директоров педагогических
семинаров и образцы шрифтов из каждого семинара и “в различиях
между способами начертания отдельных букв в разных семинарах
увидела новый повод для того, чтобы способствовать устранению
необоснованного разнообразия (курсив мой. - КЛ.). После тщатель-
ной подготовки и совещаний специалистов, с учетом исторического
и генетического развития немецкого шрифта, а также с учетом за-
конов красоты и простоты, требований легкости и результатов сло-
жившегося повсеместно в школах узуса” Королевская провинциаль-
ная школьная коллегия в 1868 г. установила и ввела в педагогиче-
ских семинарах нормативный шрифт (так называемый Normal-
248
Культурная история социального
Ductus) для немецкого (“готического”) и латинского алфавитов. В
распоряжении по этому поводу говорилось, что коллегия тем самым
“заложила фундамент, на котором в будущем будет вестись успеш-
ная работа по устранению неправомерного произвола и внедрению
целесообразного, единого шрифта в школах”.
Такой шрифт в описанном идеологическом контексте мыслился
только “национальным”, т.е. это был вариант готического курсива.
Слова “целесообразный и единый” являлись скорее заклинаниями,
чем объективной оценкой: по поводу целесообразности тех или
иных начертаний велись оживленные споры, в которых привлека-
лись порой и псевдонаучные аргументы66, но главную роль играли
ценностные ориентации оппонентов. А что касается единства, то де-
тям так или иначе приходилось учить по восемь разновидностей для
всех букв алфавита: печатные и письменные, прописные и строчные
в латинском и готическом (немецком) вариантах. Латинский курсив
в это время использовался и в немецких текстах - для выделения
имен собственных, заголовков и некоторых других элементов, - по-
этому нельзя сказать, что тот, кто писал только по-немецки, мог об-
ходиться всего одним набором букв.
В конце 90-х годов XIX в. был введен единый для школ всей Гер-
манской империи так называемый “шрифт Зюттерлина”, названный
по разработавшему его художнику-графику. Буквари, прописи и
другие наглядные пособия постепенно (насколько позволяли техни-
ческие и финансовые возможности) были приведены к новому стан-
дарту, и дети учили шрифт Зюттерлина почти полстолетия, до
40-х годов XX в.67
Начертание букв было делом национальной идентичности,
причем перед нами здесь прекрасный пример “изобретения тради-
ции”68: как подчеркивал еще Якоб Гримм, так называемый “немец-
кий” (в русской традиции “готический”) шрифт на самом деле во-
все не являлся специфически немецким: он был распространен в
Средние века по всей западной и центральной Европе; потом дру-
гие народы постепенно перешли на “антикву” и “гуманистический
курсив”, а немцы этого не сделали. Гримм не видел в этом ничего
хорошего, и в своем словаре (где придерживался к тому же орфо-
графических правил собственного изобретения) он сознательно ис-
пользовал “антикву”69.
Движение за сохранение “немецкого” шрифта было организаци-
онно оформлено: в начале XX в. существовал “Союз в поддержку
немецкого шрифта”, который рассылал повсюду письма с призывом
использовать пишущие машинки с готическими литерами70. Такие
литеры почему-то так и не научились делать достаточно хорошо,
поэтому рекламируемые машинки спроса не находили, а вся маши-
нопись в Германии осуществлялась обычным латинским шрифтом
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 249
(зачастую даже без немецкой лигатуры Д), в чем патриоты усматри-
вали оскорбление и угрозу немецкому языку.
По иронии судьбы отменил “немецкий” печатный шрифт и
письменный “шрифт Зюттерлина” не кто иной как Адольф Гитлер
в разгар Второй мировой войны - на том основании, что покорен-
ным народам следует облегчить изучение немецкого языка. Про-
тив этой реформы поднялся было протест под лозунгом “Быть
немцем - значит быть верным!”, но тогда власти “третьего рейха”
выдвинули железный аргумент, объявив готический шрифт “ев-
рейскими” буквами. Этого было достаточно, чтобы заткнуть рот
оппонентам71.
Помимо националистических и унитаристских ценностей графи-
ка была нагружена еще и ценностями моральными. Каллиграфии
придавалось в школе очень важное воспитательное значение. Даже
в эпоху, когда в делопроизводстве уже достаточно широко были
распространены пишущие машинки, школьное начальство настаи-
вало на том, что “хороший почерк - это лучшее рекомендательное
письмо, с которым школа может выпустить в жизнь своих учени-
ков”72. Дело было не только и не столько в прагматических качест-
вах почерка - его читаемости, быстроте исполнения или экономии
бумаги, сколько в том, что занятия чистописанием приучали ребен-
ка к дисциплине, воспитывали в нем “характер”, т.е. волю и испол-
нительность. “Плохой почерк должен рассматриваться как неуваже-
ние к учителю и как грубая леность со стороны ученика”, - подчер-
кивали инспекторы школ на протяжении всего XIX в., да и позже73.
Нельзя сказать, что единообразие начертания было обеспечено
полностью. Даже школьников невозможно было заставить всех пи-
сать одинаково. А вне школы немцы тем более позволяли и позво-
ляют себе в почерке больше свободы, чем в правописании. Но санк-
ционированная с помощью школьных отметок норма появилась - и
стала активно применяться.
Последний аспект нормирования, который мы разберем, касает-
ся произношения. Как уже отмечалось, между немецкими диалекта-
ми существуют значительные фонетические различия, которые да-
же унификация орфографии не в состоянии полностью устранить:
один и тот же письменный текст уроженцы разных мест прочтут
вслух с разным произношением. В наше время диалектные фонети-
ческие особенности уже сильно сглажены за счет пространственной
и социальной мобильности населения, а также под воздействием ра-
дио и телевидения, но все равно они еще весьма и весьма заметны.
В XIX же веке находилось просто очень мало людей, которые гово-
рили бы на Hochdeutsch без региональной окраски.
Усредненное, понятное людям в разных концах страны произно-
шение раньше всего стали практиковать в театре: труппы, разъез-
250
Культурная история социального
жавшие по городам, должны были обеспечить себе внимание и по-
нимание зрителей, если они не хотели ограничиваться локальным
ангажементом. Кроме того, многие говоры обладали определенны-
ми статусными коннотациями, которых исполнители хотели избе-
жать. Пусть Гёте говорил с гессенским, а Шиллер со швабским про-
изношением, герои их исторических драм на сцене так говорить не
могли. Постепенно сформировалось надрегиональное и к тому же
особо четкое произношение, получившее впоследствии название
“сценического”.
Но постепенно тема фонетических различий (и их устранения)
была выведена за пределы сферы прагматики в сферу политики.
Под лозунгом национального объединения - трактуемого как уста-
новление единообразия - стали раздаваться требования стандарти-
зировать наряду с орфографией и орфоэпию.
В школе, а особенно в гимназии детей уже и в первой половине
XIX в. учили говорить “правильно”, но представления о том, какое
именно произношение наиболее верное, у преподавателей сильно
разнились: на юге, например, некоторые считали, что ей и ei надо
произносить одинаково, а на севере с этим никто бы не согласился.
Идея единого эталона постепенно стала обретать контуры к концу
70-х годов XIX в., - как и в случае с письмом, прежде всего в голо-
вах учителей.
В связи с дискуссией о введении единой орфографии один депу-
тат рейхстага заявлял в 1880 г., что если законодательный орган им-
перии будет вдаваться в регулирование того, как людям писать, то
скоро ему придется начать приказывать им, как говорить. Фраза бы-
ла задумана, вероятнее всего, как риторическое преувеличение, но
прошло время и к концу XIX в. предписания по поводу того, как го-
ворить, были составлены. Правда, произношение не регламентиро-
валось законами и инструкциями - книга, содержащая такие нормы,
была выпущена в частном порядке. Это работа Теодора Зибса “Не-
мецкое сценическое произношение. Результаты совещания по вы-
равнивающему урегулированию немецкого сценического произно-
шения...”74
В докладе на этой конференции (1898) Зибс - уроженец Ганно-
вера, германист, преподававший на тот момент в университете
Бреслау, говорил: “Нам необходимо для преподавания определе-
ние образцового произношения, как необходимо оно и тем ино-
странцам, которые желают изучать немецкий язык. Каждый учи-
тель хочет иметь возможность в каждом данном случае дать одно-
значный ответ. Но на что ему опираться при определении правиль-
ного произношения? Школа может только добиваться того, чтобы
те или иные правила соблюдались, но сама она их формулировать
не может. У нас вообще нет даже единой школы”. В качестве об-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия" в Германии XIX в. 251
разца для школы Зибс предлагал “принятое в драматическом теа-
тре немецкое сценическое произношение, которое считают обыч-
но нормой для произношения немецкого языка. Но сценическое
произношение не одинаково в разных регионах Германии и не во
всех отношениях может быть одобрено с научной точки зрения.
Поэтому из орфоэпических соображений желательно введение для
сцены и школы усредненного нормированного произношения, что
тем более важно, поскольку в будущем улучшения орфографии с
необходимостью будут базироваться именно на нем”. Прежде все-
го, говорил Зибс, необходимо:
“1. Выровнять различия в произношении между театрами верх-
не-, средне- и нижненемецкого языковых ареалов, будь то по образ-
цу речи образованных людей или по историческим, или же эстети-
ческим критериям;
2. устранить различия в произношении каждого данного звука
в разных словах. Такие различия были созданы произвольно бла-
годаря воздействию орфографии на произношение, и наука их от-
вергает”.
Если удастся устранить различия в произношении между театра-
ми и в рамках каждой театральной труппы, отмечал Зибс, то “дире-
ктора театров и артисты будут избавлены от многих неудобств и
учителя получат ориентир”.
Подчеркнул он и политическое значение своего дела: “Всякий
хороший немец, чьему сердцу дорого дело полного взаимного слия-
ния наших племен, будет рад этому новому шагу на пути к полному
объединению... Те, кто придает значение не только политическим,
но и экономическим интересам, тоже поддержат это средство даль-
нейшей спайки Севера и Юга, ибо ничто не разделяет на сегодняш-
ний день Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Германию сильнее, неже-
ли язык. Тут, правда, было выдвинуто возражение: разве не следует
уважать своеобразие диалектов и позволять им свободно развивать-
ся? ... Даже если немецкие диалекты в самом деле пострадают от
развития единого произношения по всей Германии, это не остановит
нас на пути к нашей цели. Мы пожертвовали бы диалектами в инте-
ресах единого немецкого произношения, как ради единого немецко-
го письменного языка были принесены в жертву многие достояния
диалектной лексики - как срубают деревья в лесу, через который
должна пройти железная дорога...”75
Выпущенная в 1898 г. Теодором Зибсом книга выдержала
множество изданий и постепенно стала эталоном для сцены, по-
том для радио и телевидения, а также в некоторой степени для
школы, но происходило это медленно и почти без государственно-
го вмешательства: если таковое и было, то только в XX в., во вре-
мена Веймарской республики, когда было выпущено правительст-
252
Культурная история социального
венное распоряжение, предписывавшее “сценическое произноше-
ние” в качестве общеобязательного76. Действенность же этой нор-
мы оказалась наименьшей из всех рассмотренных: диалектные
различия произношения сохранились и по сей день даже в речи об-
разованных людей77.
V
Чтобы этот обзор общественного контекста языкового нормирова-
ния не выглядел однобоким, подчеркну еще раз факторы, оказывав-
шие действие в противоположном направлении, т.е. тормозившие те
процессы, о которых шла речь выше.
Локальное своеобразие и традиции партикуляризма. Несмотря
на объединение и на быстро шедшие процессы модернизации, урба-
низации и индустриализации, на выравнивание законодательств и
школьных программ, на массовую миграцию и другие унифицирую-
щие факторы, Германия была в XIX в. и в значительной мере оста-
ется по сей день весьма неоднородным пространством в культурном
и, в частности, в языковом отношении. Сохранение локального
своеобразия представляло собой в сознании людей важную цен-
ность, и это препятствовало полной унификации. В Южной Герма-
нии неприязнь к пруссачеству способствовала более сильной оппо-
зиции тем нововведениям, которые исходили из Берлина. В рейхста-
ге католические партии противодействовали бисмарковской поли-
тике.
Культурный суверенитет земель. Даже после объединения в
империю германские государства сохранили значительную долю су-
веренитета, и он, в частности, касался сферы образования. Поэтому
школьные программы, учебные планы, учебники, наглядные посо-
бия и многое другое хоть немного, но различались от земли к земле.
Правительства согласовывали друг с другом многие пункты, но все
же, как правило, не стремились к полному единообразию, если не
имелось на то конкретных веских причин. Решения первой Орфо-
графической конференции 1876 г. не были реализованы не только
из-за того, что общественность протестовала против конкретного
их содержания, но и потому, что правительства земель оказались не
готовы к такому единству действия, которое требовалось для повсе-
местного проведения реформы.
Ограниченность компетенции государственных органов. Нор-
мы, касавшиеся языка, вводились не законами, обязательными для
всех подданных государства, а ведомственными циркулярами, и по-
тому действовали с юридической точки зрения только в тех сферах,
которые подчинялись соответствующим ведомствам, т.е. главным
образом в системе школ и административных органов. Частные из-
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 253
дательства, выпускавшие книги и периодическую прессу, правитель-
ству в этом отношении не были подчинены, и заставить их испол-
нять эти циркуляры было невозможно.
Разумеется, косвенным путем через школу и администрацию
официальные нормы распространялись в образованном обществе,
но тем не менее редакции газет и журналов, издательства и разные
общественные организации на вполне легальных основаниях могли
придерживаться своих собственных норм. Многие так и делали. Это,
конечно, приводило к тому, что их печатная продукция меньше ис-
пользовалась в школе, но в других нишах рынка они вполне находи-
ли сбыт. Наряду с орфографическим словарем Дудена, завоевавшим
себе постепенно главенствующее положение, существовали и суще-
ствуют другие, конкурирующие словари с иными правилами, иными
написаниями одних и тех же слов.
Отсутствие единой государственной политики. Категорию
“государства” мы использовали до сих пор, не обращая внимания на
ее собственную проблематичность. Государство, однако, не пред-
ставляло собой монолита, внутри него имелись разные ветви вла-
сти, различные ведомства и разнообразные идейные лагеря. Одно
ведомство (как, например, имперское почтовое министерство)
предпринимало попытку ввести в качестве общеобязательной ор-
фографию Гражданского кодекса, другие же могли этому противо-
действовать. Личные пристрастия министров и границы компетен-
ций представляли собой джунгли, в которых с трудом могла про-
бить себе дорогу единая политика. Одно время даже существовала
парадоксальная ситуация, когда в прусских школах уже действова-
ли правила, введенные в 1880 г., а в административных органах Би-
смарк под угрозой наказания запретил следовать этим правилам, и
там действовала другая орфография. Чиновникам приходилось
официальные тексты писать по одним правилам, частные же - по
другим (более привычным). Различия были невелики, но они име-
лись, и все о них знали. Дело это разрослось до масштабов полити-
ческого скандала. Аргументы канцлера выдвигались как юридиче-
ские (указ прусского министра культуры для школ не мог быть обя-
зателен для других прусских, а тем более для имперских ведомств),
так и политические: Бисмарк считал новые правила “никчемным
стеснением личной свободы”78.
Многие другие государственные деятели тоже не разделяли
вышеописанные ценностные представления и имели иные точки
зрения по вопросу о том, каким образом и в какой мере государст-
во может и должно воздействовать на язык. Например, на заседа-
нии рейхстага в апреле 1880 г. депутат Штефани заявлял, что офи-
циально утвержденные школьные орфографии не нужны, так как
“было бы проще простого, нисколько не вторгаясь в гражданскую
254
Культурная история социального
сферу, запретить учителям в школах... отступать от того, что при-
нято в образованных кругах”. Сохраняющиеся двоякие написания
отдельных слов не вызывают в Германии ни малейшего возмуще-
ния, продолжал он, “потому что Германия хочет, чтобы индивиду-
альность каждого свободно развивалась, и ничего не имеет против
того, чтобы эта разница индивидуальностей находила свое выра-
жение и в языке, и в его написании”. А депутат от центра (т.е. ка-
толической оппозиции, с которой Бисмарк боролся в годы “куль-
туркампфа”) Райхенспергер взывал к коллегам: “Давайте же не бу-
дем заходить по пути регламентирования и централизирования еще
дальше, чем мы уже зашли в столь многих областях”. Этот путь,
предостерегал он, приведет к тому, что рейхстагу придется прини-
мать “постановления о том, как надо произносить слова в тех или
иных частях страны или во всей стране”. Это опасение (вполне
обоснованное, как показали дальнейшие события) Райхенспергер
обосновывал тем, что “всё движение” за единую и предписанную
государством орфографию есть “на самом деле специфически учи-
тельское” предприятие. А юрист и историк Трейчке подчеркивал,
что следовать в этом вопросе за учителями - это все равно, что в
вопросе о налогах и пошлинах прислушиваться к мнению одних
только предпринимателей79.
* * *
Резюмируя всё сказанное выше, можно отметить, что не только и не
столько имперская политика властей после 1871 г., сколько ряд раз-
нородных политических и экономических тенденций XIX столетия
образовали тот общественный контекст, в котором соответствие
официально утвержденным правилам и единообразие стали само-
стоятельными ценностями, не нуждавшимися более в специальном
обосновании. В образованном обществе оказалось возможным и ес-
тественным представление, что “необоснованное многообразие” в
письменном отображении языка подлежит искоренению путем ад-
министративных циркуляров и что единая и государственно санкци-
онированная норма предпочтительнее, чем свобода выбора, индиви-
дуальность или прагматическая рациональность.
1 Если здесь речь идет только о немецком языковом сообществе, то это не
следует понимать так, будто описываемая ситуация была уникальна: во
многих других странах Европы, в том числе и в России, наблюдались во
второй половине XVIII - начале XX в. во многом сходные явления и про-
цессы. О формировании русской орфографической нормы только что
вышла прекрасная работа: Григорьева Т.М. Три века русской орфогра-
фии. М., 2005.
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 255
2 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998. С. 179.
3 См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и
распространении национализма. М., 2001. С. 97; Wehler H.-U. Deutsche
Gesellschaftsgeschichte. Munchen, 1995. Bd. 3: 1849-1914.
4 von Ranke L. Englische Geschichte/Hrsg. W. Andreas. Wiesbaden, 1957. Bd. 1. S. 5.
5 Новые обзоры германской истории второй половины XIX в. в сжатой и
доступной форме можно найти в кн.: Матвеева А.Г. Германская империя
1870-1914. М., 2002; Шульце X. Краткая история Германии. М., 2004.
С. 89-133.
6 О том, что хорошо бы немцам последовать французскому примеру, писал
Лейбниц: См.: Leibniz G.W. Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die
Ausiibung und Verbesserung der deutschen Sprache. Stuttgart, 1983. S. 17.
7 Вплоть до начала XIX в. суммарный тираж всех произведений Гёте и
Шиллера составил не более 100 тыс. экземпляров. См.: Wehler H.-U. Op.
cit. 1987. Bd. 1: 1700-1815. S. 305.
8 von Goethe J.W. Briefe // Idem. Werke, Weimarer Ausgabe. Munchen, 1987.
(8. Nachdr.) Bd. IV. S. 388.
9 О домашних библиотеках XVIII и начала XIX в. см., например: Медик X.
Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культура в сельской
местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген (1748-1820) //
Прошлое - крупным планом: современные исследования по микроисто-
рии / Под общ. ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. СПб., 2003.
С. 181-222. Нельзя сказать, что пример лайхингенских пиетистов типи-
чен для всех жителей Германии в то время, но эта проблематика автором
учитывается.
10 Engelsing R. Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten.
Gottingen, 1973. S. 136 u. folg.
11 См., например: Algazi G. Lords Ask, Peasants Answer: Making Traditions in
Late Medieval Village Assemblies // Between History and Histories I Ed.
G. Sider, G. Smith. Toronto, 1997. P. 199-229.
12 Об усилиях и неудачах государственной регламентации в таких областях,
как торговля и супружеские отношения см.: Левинсон К.А. Чиновники в
городах Южной Германии XVI-XVII вв.: опыт исторической антрополо-
гии бюрократии. М., 2000. С. 49-61.
13 Примеры таких регламентов см.: Dillenburgische Brotkaufs-Ordnung von
1487 (Text) Ц Alt-Nassau. 1906. Nil; Ewald M. Polizei-Verordnungen fur die
Stadt Frankfurt am Main: 3. Aufl. Frankfurt a. Main, 1906; Polizei- und
Landesordnungen / Bearb. von G.K. Schmelzeisen. 2 Bd. Koln, 1968-1969.
14 Теория “социального дисциплинирования” связана прежде всего с име-
нем Герхарда Эстрайха. См.: Oesterich G. Policey und Prudentia civilis in der
barocken Gesellschaft von Stadt und Staat // Idem. Strukturprobleme der friihen
Neuzeit. Ausgewahlte Aufsatze / Hrsg. B. Oestreich. B., 1980; Breuer S.
Sozialdisziplinierung, Probleme und Problemverlgerung eines Konzeptes bei
Max Weber, Gerhard Oestreich und Michel Foucault // Soziale Sicherheit und
soziale Disziplinierung / Hrsg. Ch. SachBe, F. Tennstedt. Frankfurt a. M., 1986.
15 Сведения в этом и следующем абзацах из кн.: Мйгтапп A. Die offentliche
Meinung in Deutschland iiber das preussische Wehrgesetz von 1814 wahrend der
Jahre 1814-1819. Leipzig, 1910. S. 27 u. folg., 98 u. folg.
256
Культурная история социального
16 См.: Stile Т. PreuBische Biirokratietradition. Gottingen, 1988. S. 167 u. folg., 43
u. folg.
17 По этой проблематике существует огромная литература, из которой для
нашей темы имеют значение прежде всего работы: Андерсон Б. Указ,
соч.; Хобсбаум Э. Указ, соч.; Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel
Hill, 1982; Breuilly J. Nationalism and the State. Manchester, 1982; Gellner E.
Nations and Nationalism. Oxford, 1983; The Formation of National States in
Western Europe / Ed. C. Tilly. Princeton, 1975. Здесь нет возможности вда-
ваться в дискуссию о природе национализма вообще и немецкого в част-
ности. Не присоединяясь ни к одной из сторон в споре о том, является ли
нация порождением национализма или наоборот, я говорю здесь лишь о
том, какие ценности были связаны с малогерманским национализмом.
18 См.: Шульце X. Указ. соч. С. 85 и след., 98.
19 См.: Там же. С. 86.
20 О том, что именно языку было суждено превратиться не только в связу-
ющий элемент одной или нескольких наций в конкретных случаях, но
стать ядром самого определения нации в современную эпоху, см.: Хоб-
сбаум Э. Указ. соч. С. 95.
21 См.: Langewiesche D. Liberalismus und Demokratie in Wurttemberg zwischen
Revolution und Reichsgriindung. Diisseldorf, 1974.
22 Cm.: MaB- und Gewichtsordnung vom 17.8.1868.
23 Cm.: Gesetz vom 11. 7. 1884, betreffend die im offentlichen Verkehr noch zu
duldenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit..., а также: Die MaB-
und Gewichtsordnung fiir den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868 nebst
den dieselbe abandemden und erganzenden Gesetzen vom 11. Juli 1884 und vom
26. April 1893; Das Gesetz, betreffend die Einfiihrung der MaB- und
Gewichtsordnung fiir den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868 in Bayem
vom 26. November 1871; Das Gesetz, betreffend die Einfiihrung der MaB- und
Gewichtsordnung vom 17. August 1868 in ElsaB-Lothringen vom 19. Dezember
1874, и др.
24 См.: http://www.explorebiography.eom/business_figures/J/Joseph_Whitworth.
html.
25 См.: Rubberdt R. Geschichte der Industrialisierung. Wirtschaft und Gesellschaft
auf dem Weg in unsere Zeit. Munchen, 1972. S. 81 u. folg., 355.
26 О развитии железнодорожного транспорта в германских землях и в мень-
шей степени о социальных, культурных и политических последствиях это-
го процесса см.: O’Dell А.С. Railroads and geography. L., 1956; Riibberdt R.
Op. cit. S. 81-85.
27 Langewiesche D. Op. cit. S. 69.
28 Здесь и далее в этом абзаце я опираюсь на кн.: Showalter D.E. Railroads and
Rifles. Soldiers, Technology, and the Unification of Germany. Hamden, 1975.
P. 14, 29 ff.
29 Ibid. P. 33.
30 Stile T. Op. cit. S. 43 u. folg.
31 Ср. слова Гейне о железных дорогах, сказанные уже в 1843 г.: “Какие
перемены должны теперь наступить в наших воззрениях и наших пред-
ставлениях! Поколебались даже основные понятия о времени и про-
странстве”. Эта цитата и множество интереснейших соображений по
К.А. Левинсон. "Устранение многообразия” в Германии XIX в. 257
поводу восприятия железных дорог людьми XIX в. содержатся в ст.:
Козлов СЛ. Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебе-
ра Ц Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 7-60 (цит. с. 23). См.
также: Schivelbusch W. Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung
von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 2005 (1. Aufl.
Munchen, 1977).
12 Riibberdt R. Op. cit. S. 94.
33 Siile T. Op. cit. S. 44 u. folg.
14 Подробнее см.: WehlerH.-U. Op. cit. Bd. 3. S. 401-414; Шульце X. Указ. соч.
С. 89-105.
35 По истории немецкого языкознания XIX в. вообще и орфографических
дискуссий в нем в частности существует большая литература. Вместо
множества работ назовем: Moser Н. Deutsche Sprachgeschichte: 6. Aufl.
Tubingen, 1969; Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte. Reinbeck bei Hamburg,
1986. Bd. 2. В остальном см. библиографию в раб.: Schlaefer М.
Kommentierte Bibliographic zur deutschen Orthograph ietheorie und
Orthographiegeschichte im 19. Jahrhundert. Heidelberg, 1980. Но наиболее
удобный с точки зрения рассматриваемой проблематики обзор представ-
ляют ст.: Idem. Grundziige der deutschen Orthographiegeschichte vom Jahre
1800 bis zum Jahre 1870 // Sprachwissenschaft. 1980. N 5; Idem. Der Weg zur
deutschen Einheitsorthographie vom Jahre 1870 bis zum Jahre 1901 //
Sprachwissenschaft. 1981. N 6. См. также книгу, которая написана челове-
ком, стоящим вне филологической дисциплины, - правоведом Вольфган-
гом Копке: Корке W. Rechtschreibreform und Verfassungsrecht: schul-
rechtliche, personlichkeitsrechtliche und kulturverfassungsrechtliche Aspekte
einer Reform der deutschen Orthographic. Tubingen, 1995. На них я и опира-
юсь в этом и следующем абзацах, хотя излагаемые тут сведения содер-
жатся и в любой историко-лингвистической работе по этому периоду.
36 Deutsches Worterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm: Nachdr. der Ausg.
Leipzig 1893. Munchen, 1984. Bd. 1. Sp. LI-LXIII.
37 Weinhold K. Ueber die deutsche Rechtschreibung // Zeitschrift filr die 6ste-
rreichischen Gymnasien. 1852. S. 93 u. folg.
38 См.: Корке W. Op. cit. S. 6 u. folg.
39 Deutsches Worterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 13. Sp. 1364; Bd. 14.
Sp. 429; Bd. 15. Sp. 1708.
40 1 декабря 1876 г. был основан “Всеобщий союз в поддержку введения
простой немецкой орфографии”, переименованный впоследствии во
“Всеобщий союз в поддержку упрощенного правописания” (Allgemeiner
ferein fur fereinfahte rehtSreibut)). Основатель союза Ф.В. Фрике выпустил
“Призыв к созданию национальной орфографии для объединенной Гер-
мании” (Aufruf zur beschaffung einer nazionalen ortografi filr das geeinigte
deutschland). Ha 1884 г. организация насчитывала более 2 тыс. членов,
большинство которых составляли учителя. См.: Bramann K.-W. DER WEG
ZUR HEUTIGEN RECHTSCHREIBNORM: Abbau orthographischer und
lexikalischer doppelformen im 19. und 20. jahrhundert. Frankfurt a. M.; Bern;
N.Y., 1987. S. 92 u. folg.). Таким образом, открытые приверженцы этой
радикальной фонетической реформы насчитывали менее 4% от общей
численности преподавателей. См.: WehlerH.-U. Op. cit. Bd. 3. S. 404. Уста-
17 Одиссей, 2006
258
Культурная история социального
новить их процент от числа учителей немецкого языка представляется
почти невозможным, так как почти все учителя вели по несколько пред-
метов.
41 Schlaefer М. Grundziige der deutschen Orthographiegeschichte vom Jahre 1800
bis zum Jahre 1870. S. 276 u. folg., здесь S. 291.
42 К этому и следующим абзацам см.: Wehler H.-U. Op. cit. Bd. 3. S. 401 u.
folg.
43 Ситуация изменилась с приходом “новой эры” в начале 60-х годов XIX в.:
преподавание немецких классиков в педагогических семинарах было сно-
ва разрешено, посещение “Всегерманского собрания учителей” - тоже; в
1871 г. были созданы “Германский союз учителей” и “Земельный союз
учителей народных школ Пруссии”.
44 См.: Kitchen М. The Army and the Civilians // The Political Influence of the
Military. A Comparative Reader / Ed. A. Perlmutter, V.P. Bennett. New Haven;
L„ 1980. P. 90-95.
45 Cm.: Wehler H.-U. Op. cit. Bd. 3. S. 406-412.
46 Stadtarchiv Gottingen, Bestand Max-Planck-Gymnasium, “An die Eltem der
Zoglinge des Gymnasiums Gottingen”. Juli, 1848.
47 Kaelble H. Soziale Mobility und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahrhundert.
Gottingen, 1983. S. 188 u. folg. Ср. иной взгляд в кн.: Lundgreen Р., KraulМ.,
Ditt К. Bildungschancen und soziale Mobilitat in der stadtischen Gesellschaft des
19. Jahrhunderts. Gottingen, 1988.
48 Андерсон Б. Указ. соч. С. 98.
49 См.: Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 187.
50 К данному и следующим абзацам этого раздела см.: Матвеева А.Г. Указ,
соч.; Шульце X. Указ. соч. С. 111-119.
51 Wehler H.-U. Op. cit. Bd. 3. Passim.
52 Наибольшую известность получило требование императора Вильгельма,
чтобы средняя школа воспитывала “молодых немцев с национальным
образом мысли” (1890). См.: Rede fiber die Reform hoherer Schulen. 4.
Dezember 1890 // Reden Kaiser Wilhelms П. Zusammengestellt von Axel
Matthes. Munchen, 1976. S. 30-40.
53 He случайно песня M. Шнекенбургера “Стража на Рейне”, написанная
примерно в одно время с “Песней немцев” Фаллерслебена, но гораздо бо-
лее воинственная по содержанию, на много десятилетий вытеснила ту с
позиций неформального национального гимна. См.: Шульце X. Указ. соч.
С. 86; http://www.von-fallersleben.de/cms/modules.php?name=News&new_
topic=7; http://ingeb.org/Lieder/heildiri.html; Gans R. Erfahrungen mit dem
Deutschunterricht. Eine Analyse autobiographischer Zeugnisse im
Zusammenhang mit der Geschichte des Bildungsbiirgertums im 19. Jh. //
Muttersprachlicher Unterricht im 19. Jh: Untersuchungen zu seiner Genese und
Institutionalisierung / Hrsg. H.D. Erlinger und C. Knobloch. Tubingen, 1991.
S. 9-60, здесь S. 12 u. folg.
54 Говорить о лоббировании было бы неуместно, так ни формальная, ни не-
формальная репрезентация интересов этой группы практически не была
организована.
55 См.: Zimmermann С. Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die
Reformbewegung in Deutschland 1845-1914. Gottingen, 1991.
К.А. Левинсон. “Устранение многообразия” в Германии XIX в. 259
36 См.: http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/alltagsleben/paedagogik/
37 Wilmanns W. Die Orthographic in den Schulen Deutschlands: 2.Aufl. B., 1887.
S. 18. Такое же распоряжение выходило в Австрии в 1854 г.
38 См.: Корке W. Op. cit. S. 8 u. folg., 18 и. folg., и особ.: Bramann K.-W. Op. cit.
(там же библиогр. данные словарей и справочников).
59 Корке W. Op. cit. S. 9 u. folg.
м Verhandlungen der zur Herstellung groBerer Einigung in der deutschen
Rechtschreibung berufenen Konferenz. Berlin, den 4. bis 15. Januar 1876. S. 111;
Корке W. Op. cit. S. 15 u. folg.
61 Bramann K.-W. Op. cit. S. 86 u. folg.
62 Корке W. Op. cit. S. 28-32.
63 Ibid. S. 323.
64 Ibid. Passim.
65 Stadtarchiv Gottingen, Alte Hauptregistratur, Bestell-Nr. AHR I D 1, 6 Nr. 9.
Magistral der Stadt Gottingen. Acta betreffend Anstellung eines besonderen
Schreiblehrers an den Volksschulen sowie den Schreibunterricht iiberhaupt.
1883-1886. Konigliche Regierung, Abtheilung fiir Kirchen und Schulwesen.
Schreiben an die Herren Kreisschulinspectoren des Regierungs-Bezirks, das
Konigliche und Grafliche Consistorium zu Neustadt u/H, an den Magistral in
Goslar und den Herm Landrabbiner Dr. Guttmann in Hildesheim vom 6. October
1886. J. No. П. 7294.
й6 Например, на первой Орфографической конференции 1876 г. предложе-
ние перейти с “готического” шрифта на “антикву” было отклонено на
том, в частности, основании, что “этот шрифт объявлен врачами вред-
ным”. См.: Verhandlungen der zur Herstellung gr6Berer Einigung in der
deutschen Rechtschreibung berufenen Konferenz. S. 111.
67 Знакомство с архивными рукописными материалами конца XIX - начала
XX в. показывает, правда, что даже школьные преподаватели, ответст-
венные за обучение детей этому шрифту, сами отнюдь не всегда писали
“немецкими буквами”, а использовали зачастую латинский курсивный
шрифт, подобный тому, каким пользуются в других странах.
68 См.: The Invention of Tradition / Ed. Hobsbawm E.J., Ranger T. Cambridge,
1983.
® Cm.: Grimm J. Op. cit. Bd. 1. Sp. LI-LXIU.
70 Hauptstaatsarchiv Stuttgart Bestand E 130b - Staatsministerium, Bestellnummer
(Buschel) 1829 - “Bund fiir deutsche Schrift”: 1921-1942.
71 Kilppers H.-G. Orthographiereform und Offentlichkeit. Dusseldorf, 1984. S. 110.
При Гитлере, кстати, была объявлена (1944) и значительная орфографи-
ческая реформа, направленная на упрощение и “онемечивание” правопи-
сания. Но из-за военных действий и последовавшего вскоре крушения на-
цистского режима закон о реформе практически не вступил в действие и
был забыт. См.: Корке И7. Op. cit. S. 36 u. folg.
72 Franckesche Stiftungen Halle/Saale. A, IV, 21. Conferenz-Buch der Knaben-
Biirgerschule: Ostem 1892 - [1913]. 3. Konferenz, den 24. August 1911.
S. 472 u. folg.
73 Franckesche Stiftungen Halle/Saale. Knabenbiirgerschule, 9. 2. 2.
Konferenzprotokolle A, IV, 7 Protocoll-Buch fiir die Lehrer-Conferenzen an der
Knaben-Biirger-Schule von 13/4 1864 bis 10/4 1875. Konferenz am 18. August
1866.
260 Культурная история социального
74 Siebs Th. Deutsche Btihnenaussprache: Ergebnisse der Beratungen zur aus-
gleichenden Regelung der deutschen Btihnenaussprache, die vom 14.-16. April
1898 im Apollosaale des Kdniglichen Schauspielhauses zu Berlin stattgefunden
haben. B.; Koln; Leipzig, 1898.
75 Ibid. S. 5-10.
76 Krech E.-M. Probleme der deutschen Ausspracheregelung // Beitrage zur
deutschen Ausspracheregelung I Hrsg. H. Krech. B., 1961. S. 9.
77 См.: Лобанова И.В. Немецкая фонетическая лексикография: от исто-
ков к современности (http://www.isuct.rU/konf/antropos/section/4/
LOBANOV A.htm).
78 Корке W. Op. cit. S. 22 u. folg.
79 Сведения и цитаты в этом абзаце - из указанной работы В. Копке: Ibid.
S. 23-26.
КЛ. Банников
“ПОТОМУ ЧТО АБСУРДНО”:
СЕМИОТИКА НАСИЛИЯ
В МЕТАМОРФОЗАХ СОЦИОГЕНЕЗА
ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ - ПЕРЕЗАГРУЗКА
СОЦИАЛЬНОСТИ?
Всякий, кому довелось побывать в армейских казармах или лагер-
ных бараках, возможно, вспомнит первое чувство - это чувство
глубокого удивления от нового опыта пребывания в этой концент-
рированной антропологической среде, отношения в которой идут
вразрез со всем предыдущим опытом социализированной в граж-
данском обществе личности. Причудливые отношения, в которые
вступают друг с другом обитатели казарм российской армии, - ре-
зультат “лабораторного” опыта, которые ставит на своих гражда-
нах государство. Оставляя тему прав человека правозащитникам,
рассмотрим недавнюю советскую и современную российскую ар-
мию с антропологической точки зрения метаморфоз культурной
природы человека.
Надеюсь, я не открою военную тайну, сообщая, что положение
солдат в поздней советской и современной российской армии отли-
чается от положения рабов разве что пафосной риторикой “рабо-
владельцев” на тему рабства как “почетной обязанности”. Сомнева-
ющимся в справедливости столь радикального утверждения я пред-
лагаю ознакомиться с архивом аналитических материалов и доку-
ментов по новейшей “этнографии” российской армии, который фор-
мирует на web-сайте журналист Александр Костинский1, с подшив-
ками “Новой газеты”, которая на протяжении лет регулярно публи-
кует материалы о правах человека в армии, а также с моей моногра-
фией “Антропология экстремальных групп”2.
Человек, попадающий на срочную службу, оказывается между
жерновами двух систем организованного насилия: официальной, ци-
нично именуемой “почетной обязанностью”, и неофициальной, из-
вестной как “дедовщина”. Официальная система, кроме малоубеди-
тельной риторики и девальвированного пафоса на тему “долга” и
“патриотизма”, никаких стимулов солдату для добросовестной служ-
бы не предлагает. А поскольку в мерах принуждения официальная
уставная система ограничена своей собственной природой - зако-
ном, постольку ее дополняет “дедовщина” - неограниченная в мерах
воздействия на тело и психику неуставная система доминантных от-
ношений. Во взаимодействии обоих систем - “уставщины” и “дедов-
щины” достигается сверхзадача тоталитарного государства - воспи-
262
Культурная история социального
тание гражданина в системе превентивного унижения, как эффек-
тивно тотального механизма социального контроля.
Армейские коллективы начинают формироваться путем меха-
нической консолидации - призывной мобилизацией лиц одного по-
ла и возраста в одном пространстве на продолжительное время, в
течение которого в их среде вырабатываются принципы самомо-
билизации, осуществляемые в итоге через репрессивный контроль
сознания. Подавление гражданской личности с целью изготовле-
ния из нее идеального солдата и идеального гражданина тотали-
тарного государства, подчиняющегося на уровне рефлексов в со-
ветско-российской армии реализуется словно точно по Дж. Оруэл-
лу, описавшему технологии уничтожения субъективности челове-
ческой личности3.
В армии “развитого социализма” и развитой же дедовщины, так
же как в романе, образ внешнего врага размыт и не ясен. Он опасен
человеческой личности тем, что приучает его ненавидеть абстракт-
но, беспредметно, как бы жить в состоянии страха и ненависти вооб-
ще, отчего эти чувства скоро становятся интегральной частью лич-
ности. Иосиф Бродский об этом писал: «На мой взгляд, тюрьма го-
раздо лучше армии. Во-первых, в тюрьме никто не учит тебя нена-
видеть далекого “потенциального” врага. ... В тюрьме твой враг -
не абстракция; он конкретен и осязаем. В тюрьме имеешь дело с
одомашненным понятием врага, что делает ситуацию приземлен-
ной, обыденной. По существу, мои надзиратели или соседи ничем не
отличались от учителей и тех рабочих, которые унижали меня в по-
ру моего заводского ученичества. Служба в советской армии дли-
лась от трех до четырех лет, и я не видел человека, чья психика не
была бы изуродована смирительной рубашкой послушания. За ис-
ключением разве музыкантов из военных оркестров да двух дальних
знакомых, застрелившихся в 1956 году в Венгрии, - оба были коман-
дирами танков. Именно армия окончательно делает из тебя гражда-
нина; без нее у тебя еще был бы шанс, пусть ничтожный, остаться
человеческим существом. Если мне и есть чем гордиться в прошлом,
то тем, что я стал заключенным, а не солдатом»4.
Приведение человеческой психики к средней норме покорной
массы осуществляется не сразу, но постепенным включением раци-
онализированного гражданского сознания в среду тотального абсур-
да. Абсурд в армии - действенный инструмент десоциализации гра-
жданской личности, воспитанной в идеальных парадигмах культу-
ры: логики, здравого смысла, личной ответственности и свободы
выбора. В армии происходит десоциализация гражданского челове-
ка с последующей ресоциализацией его в качестве строевой едини-
цы тоталитарного режима, имеющей опыт запредельного унижения
и умеющего унижать. «Когда подобное унижение захватывает всех
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 263
членов в группе и становится всеобще-принудительным, даже обяза-
тельным (ритуальным, как дедовщина), возникает некое подобие
“справедливости” и готовность ее поддержать, более того - навя-
зать, в свою очередь, другим»5.
Стремление к соответствию даже самым извращенным, но при-
нятым в качестве “нормы” реалиям, и под угрозой превращения не
соответствующего в антропологического антипода - главный сти-
мул принятия младшими беспредельного насилия со стороны стар-
ших, и есть принцип самовоспроизводства “дедовщины”.
Приобретению опыта унижения посвящена первая половина сро-
ка службы в армии, а опыт пытать и унижать ближнего приобрета-
ется, по извращенной логике компенсации собственного унижения,
на протяжении второй половины этого срока. Доминантные отноше-
ния детально оформляются в разработанной системе статусных сим-
волов, охватывающей не только символическую трансформацию
одежды, жилого пространства, предметного мира личности вообще,
се систем жизнеобеспечения, включая правила приема пищи, сна,
личной гигиены и физиологических отправлений, но и знаковую
трансформацию самого человеческого тела посредством татуиро-
вок, шрамов и генитальных операций, направленных на “украшение”
половых органов всевозможными надрезами и имплантантами.
Переход из одного статуса в другой сопровождается обрядами,
аналогичными возрастным инициациям в архаических обществах,
смысл которых - символическая смерть мальчика и возрождение
его в статусе взрослого мужчины-воина. Состояние в период перехо-
да статусов классики социальной антропологии Ван Геннеп и Вик-
тор Тернер определили как “лиминальное” (от лат. limen - “грани-
ца”). “Лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни се; они - в
промежутках между положениями, предписаниями”6, - писал В. Тер-
нер о социально-психологическом состоянии туземной молодежи в
период инициационных обрядов.
Подобно молодым туземцам, члены низших солдатских страт
(“духи”) в своей лиминальности доведены до семиотического абсо-
люта; они бесправны настолько, что состоят не только в промежут-
ках между статусами, этическими моделями и правовыми нормами,
но и между пространством и временем. “Духи” вне пространства, по-
скольку семиотически бесплотны: они должны каждую минуту фор-
мировать пространство (мыть казарму и ровнять койки), но не име-
ют права этим пространством пользоваться (лежать или сидеть), по-
скольку они должны всегда “летать” (крайне расторопно выполнять
адресованные им сигналы), они должны молчать, но понимать язык
жестов (приносить сигареты, газеты, тапки по щелчку пальцев).
Адаптация сознания к среде абсурда происходит на фундамен-
тальном уровне - через отучение размышлять о смысле как тако-
264
Культурная история социального
вом. Десоциализация гражданской личности, с ее последующей ре-
социализацией в качестве идеального солдата, подчиняющегося на
уровне рефлексов, не размышляя о целях, образах и смыслах собст-
венного действия, осуществляется посредством тотального вовлече-
ния его в автоматизированную деятельность7. Достигается это пу-
тем чередования нейтральных бессмысленно-механических (“муш-
тра”), или в активно-репрессивных действиях. Репрессивные меха-
нические действия отличаются от нейтральных тем, что они, орга-
низованные по формальным признакам действия разумного и раци-
онального, предлагаются пытаемому к осмыслению, но при этом
всем известно, что они не имеют другой цели, как подавление его
воли и сознания. Можно очень хорошо вымыть грязную казарму.
Но чистую казарму вымыть невозможно, ее можно лишь бесконеч-
но перемывать, и целью труда в этом случае будет не достижение
чистоты, а подавление личности деятеля абсурдностью его дейст-
вий. В превращенной в физическую и психологическую пытку убор-
ке помещений выхолащивается сам смысл эстетики и комфорта. Ка-
зарменная красота - это геометрия пространства, исключающая че-
ловеческое присутствие. И работы по ее поддержанию ведутся, во-
первых, бессмысленно непрерывно, во-вторых, их цель подчеркнуто
репрессивна8. Так и происходит организация труда в армии - не ра-
ди выполнения рациональной работы, но ради постоянной репрес-
сии, которая так же имеет у военачальников псевдорациональное
обоснование - “занять личный состав”. В советско-российской ар-
мии, в которой “круглое носят, квадратное катают” и “подметают
ломом плац”, лишенный смысла труд переосмыслен из рациональ-
ной деятельности в иррациональную, в качестве средства репрессив-
ного управления.
Сама казарменная эстетика - ее чистота и красота, потому что
она (и здесь в полной мере открывается антигуманитарное значение
социального применения абсурда) - не для жизни людей, а для их
символической смерти. А средства наведения порядка посредством
изощренных технологий приобретают характер пытки, в чем и со-
стоит цель изощрения. Все это бесконечное перемывание полов и
стен с вареным (чтобы не мылилось!) мылом, набивание канта на за-
правленной кровати посредством табурета и тапочки, надраивание
унитазов зубными щетками и бритвами (предметами, семантически
связанными с чистым телесным верхом, абсурдно используемые в
среде грязного телесного низа) имеет семантической целью уничто-
жение личности. Как лучше уничтожить человека мыслящего? Эм-
пирически доказать абсурдность самого факта сознания. Точная ин-
версия принципа cogito ergo sum. Дембельский привет Декарту!
Продукт семантического уничтожения человеческого существа
воплощается в низших и наиболее бесправных кастах иерархии де-
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 265
довщины. “Духи”, как семиотически воплощенное отсутствие, не
имеют права счета времени, календарь им “не положен по сроку
службы”. Но при этом они обязаны вести счет сроку службы своих
“дедов”, особенно когда наступает сто дней до приказа об их уволь-
нении в запас.
Хронотоп для “тех, кого нет” вообще не существует, как не мо-
жет существовать тело у призраков (“духов”!). Их социальная функ-
ция - персонификация границ бытия, мира, социума, самого антро-
пологического предела человека, за которым простирается враж-
дебный мир внешних и внутренних антиподов - офицеров и “чмы-
рей” (всеми презираемых изгоев и париев) - персонификаторов все-
уравнивающего и растворяющего принципа энтропии “уставщины”.
Стать “чмырем” или “чмом” - значит пройти путем семантических
этико-эстетических несоответствий и ...сорваться в пропасть экзи-
стенциального абсурда. Если унижение и уничтожение “духов” но-
сит ритуальный характер, неизбежный и временный, как возрастная
фаза, после которой их ждет также неизбежное повышение статуса,
то положение “чмо” - абсолютно, поскольку не меняется.
Если доминантные отношения относительно общей массы нор-
мативны и обеспечены подобием правовой системы, или, как это
верно заметил Лев Гудков, “здесь жертва и насильник различаются
только фазой цикла насилия, а не существом, не антропологически”,
то “чмо” не только являются исключением из правил, но персони-
фицируют собой сам принцип исключения вообще. В том числе ан-
тропологического исключения. Разумеется, правило перехода из
фазы жертвы в фазу насильника на них не распространяется. Соци-
альный феномен “чмо” состоит в культурной миссии культурного
антипода.
РОЛЬ АНТИПОДА
В СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Всевозможные абсурдные типы - социальные антиподы, “живые
трупы”, воплощение идеи небытия или скверны мира, выполняют
важную социальную миссию - обозначают самим фактом своего па-
радоксального существования границы бытия, утверждая принципы
социальности от обратного. Благодаря антиподам любой член соци-
ума, испытывающий дефицит позитивных факторов идентичности и
будучи не в состоянии внятно самому себе сказать “кто есть я”, мо-
жет указать на антипода и сказать примерно следующее “я могу не
знать, кто есть я, но я точно знаю, что я не есть он”. То есть “мы не
антиподы, антиподы - не мы”. Это не принцип идентичности, а ее за-
клинание, действенное для тех, кто сомневается в ее наличии.
266
Культурная история социального
В любом обществе, переживающем кризис идентичности, соци-
ально востребованы социально-абсурдные (или нормально асоци-
альные) типы - юродивые, “городские сумасшедшие”, бомжи и пр.
Их роль - “социальная прививка”, в которой они демонстрируют
всякому социализирующемуся члену общества промежуточное со-
циобиологическое состояние, к которому может привести неадек-
ватность персональной позиции общественным нормам поведения.
Некоторые сообщества даже специально, в социоритуальных
целях содержали таких асоциальных типов. Общественный интерес
к символической функции антипода как фактора негативной соци-
альной мобилизации оформлялся в областях религиозного сознания
и составлял семиотический фокус идеи жертвоприношения.
«Предусмотрительные Афины содержали на свой счет несколь-
ко несчастных для жертвоприношений этого рода. В случае нужды,
т.е. когда город поражало или грозило поразить какое-то бедствие:
эпидемии, голод, чужеземное вторжение, внутренние распри, в рас-
поряжении коллектива всегда имелся фармак. Жертва считается
той скверной, которая заражает все вокруг себя, и смерть, действи-
тельно очищает общину, поскольку возвращает туда мир. Поэтому
“фармака” и проводили чуть ли не повсюду - чтобы он впитал всю
нечистоту и взял ее на себя; после этого “фармака” выгоняли или
убивали во время церемонии, в которой участвовало все населе-
ние»9. Семиотика церемониала очищения древнегреческого полиса
аналогична церемонии очищения в древней Японии. Там, в процессе
обряда о-хараи, скверна, накопившаяся в человеке, переходила кук-
ле, которая бросалась в поток. По всей видимости, в церемониаль-
ной функции куклы-заменителя эволюционировали человеческие
жертвоприношения, имеющие тот же смысл ретрансляции жизнен-
ных сил и аккумуляции скверны.
В концепции Жирара смысловое значение обрядов с участием
фармака - это социальная идентичность, интеграция и очищение со-
циума от скверны путем изгнания ее персонификатора. “Данный об-
ряд - повторение спонтанного самосуда, который вернул в общину
порядок, поскольку против жертвы отпущения и вокруг нее воссоз-
дал единство, утраченное во взаимном насилии10. ... Где всего не-
сколько мгновений назад были тысячи отдельных конфликтов, ты-
сячи изолированных пар братьев-врагов, там снова возникает сооб-
щество, собранное воедино в ненависти, которую ему внушает толь-
ко один из его членов. Вся злоба, прежде раздробленная на тысячи
разных индивидов, вся ненависть, прежде направленная куда попало,
теперь сходится к единственному индивиду, к жертве отпущения”11.
Едва ли не каждая воинская часть недавней советской и совре-
менной российской армии, подобно древнегреческому полису, спе-
циально заводила себе “чмо” - семиотическое подобие древнегрече-
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно”: Семиотика насилия 267
ского фармака. Для этого из массы новобранцев выделялись наибо-
лее слабые, иногда, страдающие виктимными комплексами лица, и
общество их намеренно “чмырило”, т.е. опускало в статусе посред-
ством негативных символических действий. Важно заметить, что,
как и древнегреческий полис, солдатский коллектив при глумлении
над изгоем, которое позволено каждому, независимо от его места в
иерархии, переживает общее, внестратовое единение. И “дух”, и
“дед”, чьи положения совершенно полярны, могут совершать в от-
ношении “чмо” одинаковые насильственные действия, и это призна-
ется социально ценным, поскольку семантически закрепляет при-
надлежность и “духа”, и “деда” к некому социальному единству.
Таким образом, антиподы выполняют важную социализатор-
скую миссию - они демонстрируют своим примером всем “подраста-
ющим поколениям” новобранцев, как жить не нужно. Их участь
ужасна настолько, что созерцание этих несчастных изо дня в день
вызывает катартические “страх и трепет”, и инстинктивное желание
следовать в той социальной парадигме, которая ведет не на дно, а к
вершинам пирамиды. С другой стороны, “старшие товарищи” - “де-
ды”, “дембеля”, и младший привилегированный класс “черпаки”,
они же “черепа” (солдаты срочной службы, прослужившие полови-
ну срока), охотно объясняют не обретшим социальное тело “духам”,
что нужно делать для того, чтобы этой вершины достичь. Нужно,
разумеется, делать все, что скажут “деды” и “черепа”. Так что прин-
ципы социальной мобильности “дедовщины” парадоксальны лишь
на первый взгляд. Они примитивны и тем эффективны, абсурдны,
но логичны: “первый год ты - никто, второй год ты - все”. На фоне
этой логики куда более абсурдно выглядят официальные принципы
тотального равенства каждого перед исключающим всякую внут-
реннюю мобильность уставом: обезличивание и бесправие на протя-
жении всех двух лет службы выглядят таким же абсурдом, как и
участь “чмо”. В этом плане “опущенные” все два года службы живут
“по уставу” и символически отправляются “на дембель” “с очка”, т.е.
покидают воинскую часть непосредственно с дежурства по роте, в
котором и провели все два года за чисткой туалетов. Таким образом,
“чмо” как аккумулятор социальной скверны, не только семиотиче-
ски, но и почти физически, “смешан с дерьмом” - антивеществом,
операции с которым - единственная общественно полезная функция
всех антисуществ. Важно заметить, что каждая ступень этой статус-
ной лестницы оформлена разнообразными символами, за исключе-
нием первой, точнее сказать, “нулевой”, единственным символом
которой является само тело и его физиологические отправления.
Антипод как символ - это биологический субстрат аморфно асо-
циального существа, не прошедшего в своем развитии необходимых
для социокультурного воплощения стадий. То есть в силу своей из-
268
Культурная история социального
начальной “ущербности” неспособный преодолеть дистанцию - от
“ничто” до “все”, которую в этой “лаборатории культурогенеза” за
два года проходят все, кто восходит по иерархической лестнице,
принимая общие правила восхождения. Этот путь наверх связан с
физическими страданиями и моральным унижением личности, кото-
рое воспринимается в качестве средства посвящения, неизбежно не-
обходимого. Таким образом, антиподом может стать не только сла-
бый, неряшливый, страдающий виктимными комплексами человек
(каким обычно представляются “чмо”), но также и личность, обла-
дающая обостренным чувством собственного достоинства.
Семантическая интерпретация унижения/уничтожения лично-
сти как инструмента инициации в ее первобытной логике (“умирает
ребенок, рождается взрослый”) позволяет понять, каким образом
такие неотъемлемые реалии воинской службы, как чистка чужих
сапог и стирание чужих носков, “делают из пацанов настоящих муж-
чин”, согласно мнению, распространенному в российском обществе.
В столь экстремальной форме социальной консолидации сооб-
щества, естественно стремящегося к распаду, т.е. состоящего из ин-
дивидов, когда-то принадлежащих к разным культурным традициям
и социальным стратам, но вынужденных сосуществовать, будучи со-
бранными и удерживаемыми насильно, антиподы несут социально-
антропологическую миссию. Они самим фактом своего абсурдного
существования обозначают границу, разделяющую социокультур-
ное и социобиологическое.
ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛО.
ФИЗИОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
Человека, впервые попавшего в армию, в тюрьму или в иную разно-
видность концентрационного лагеря, шокирует само “концентриро-
ванное” состояние человеческой массы и, как следствие, высокий
уровень “физиологичности” в символическом дискурсе коммуника-
ций. Видимо, физиологизацию символического дискурса социаль-
ной коммуникации в армии следует связывать с общими процессами
десоциализации и семиотической деградации культуры.
В межличностной коммуникации военнослужащих постоянно
акцентируются две темы: тема гомосексуального акта как символа
иерархических и доминантных отношений в официальной и в не-
официальной иерархии и тема дефекации в качестве символа оттор-
жения, игнорирования доминантной экспансии со стороны началь-
ника и общего нигилизма по отношению к системе в целом. Началь-
ник, побуждая подчиненного к действию от имени системы, грозит
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 269
его “вы...бать”, а подчиненному на него и на систему “насрать”. В
этих символах интеракции достигается баланс сил между лично-
стью, которая всегда подчинена, и системой, которая всегда домини-
рует. Начальник, выступая от лица системы, должен всегда оказы-
вать символическое давление, а подчиненный всегда должен ему
символически противостоять. Как только этот баланс сил наруша-
ется, противостояние из символического превращается в реальное,
и опущенного могут “опустить” в статусе окончательно, как описа-
но выше, но уже не на словах, а на деле. То есть перейти на более
низкий смысловой уровень символов коммуникации - фактически,
от полисемантики к моносемантике.
В доминантных отношениях среди военнослужащих и заклю-
ченных реальные физиологические акты используются в качестве
символических средств формирования социальной структуры.
Символическое мужеложство как средство разведения по полюсам
социальной иерархии его пассивного и активного участников или
организация для париев постоянного физического контакта с экс-
крементами - все это говорит об актуализации элементарных фи-
зиологических актов в качестве знаково-символических средств
социального структурирования изначально аморфной антрополо-
гической массы.
В символическом осмыслении/восприятии собственного тела со-
стоит начальная фаза социогенеза сознания, которая, во-первых, су-
дя по данным структурной мифологии, лежит в основе культуроге-
неза, и, во-вторых, судя по совпадению этих данных с материалами
этнологов по иррационально-символической деятельности живот-
ных, не является прерогативой человека. Как и информационная ак-
тивность в широком смысле слова.
В частности, антропоморфный принцип космогонии представля-
ет человеческий организм и продукты его жизнедеятельности в ка-
честве аллегории структурных компонент мира и законов их функ-
ционирования. А в некоторых архаических мифах физиологические
акты богов и первых людей акцентированы в качестве архетипа
территориальной деятельности по обустройству вселенной. Напри-
мер, японский бог-демиург Идзанаги провел водораздел мира точно
так же, как собаки метят территорию12.
Впрочем, и не только на ранних, но и на вполне зрелых стадиях
ход эволюции культуры во многом определяется попытками осмыс-
ления, контролирования, упорядочивания, табуизации и кодирова-
ния естественных физиологических процессов. То есть с попыток
как можно более полного вовлечения всех проявлений биологиче-
ского в сферу символического.
Физиологический акт, переосмысленный и символически реали-
зованный как акт социальный, и более того социогенный, высвечи-
270
Культурная история социального
вает те глубины социогенеза, на которых происходит “перезагруз-
ка” социальных отношений в современной армии.
В Российской армии, равно как и в колониях заключенных, пе-
риодически имеют место случаи мужеложства с целью социального
структурирования - “опускания” изгоев для формирования из них
социального дна, для того чтобы была хоть какая-то почва под но-
гами у этих повисших в культурном вакууме лиминальности бес-
правных людей. Для того чтобы аморфная однополая масса приоб-
рела хоть какую-то структуру. Именно в терминах гомосексуальных
актов российские военные чаще всего обозначают служебные отно-
шения между начальником и подчиненным и даже придумывают на
эту тему соответствующие поговорки. Подчеркнем, что эти “тези-
сы” возникли не среди нормальных гомосексуалистов, а в агрессив-
но-брутальной армейской среде, преследующей всякий намек на ре-
альную гомосексуальность.
Редукция символического дискурса социальных отношений в ар-
мии говорит об обратимости процессов культурного развития, воз-
вращающей человека к “нулевой” семиотической фазе его специфи-
чески человеческой, внебиологической информационной эволюции.
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЗАБОРА
Проблема примитивизации семиотического поля культуры в армии
не была бы столь злокачественной, если бы ценности гражданского
общества корректировали бы специфический менталитет военных, а
не наоборот. Но в том и состоит принципиальное отличие истинно
гражданского общества от обществ, пораженных синдромом тотали-
таризма: в первых казарма подтягивается до общего уровня культу-
ры, во вторых общий уровень культуры опускается до уровня казар-
мы. Проблема России в том, что общий уровень ее правовой и поли-
тической культуры, даже на самом, казалось бы, “верху”, оказывает-
ся не выше, чем на самом, казалось бы, низу. И современные прин-
ципы ротации кадров в “элитах” не способствуют его повышению.
Исследователь российских элит Ольга Крыштановская, наблю-
дая процесс милитаризации власти13, пишет: “Набирая людей из чис-
ла военных и сотрудников спецслужб и пополняя ими политическую
элиту, российский президент и люди из его окружения оказывают
влияние на характер реформ в России. Военная среда по своей сути
авторитарна, демократический стиль правления для нее чужд. Если
бы речь шла о паре генералов, ставших политиками, серьезной при-
чины говорить об опасности для общества не было бы. Но в данном
случае речь идет об их мощном притоке во все сферы и на все уров-
ни правительства. Количество, согласно известному диалектическо-
К Л. Банников. "Потому что абсурдно”: Семиотика насилия 271
му закону, превращается в качество. То есть характерный для воен-
ных и разведывательных структур авторитарный стиль руководства
может однажды стать единым для всей страны”14.
Авторитарный стиль правления - это социологическая сторона
медали власти. Антропологическая же заключается во все той же
примитивизации всей сферы политических отношений, связанной с
уплощением полисемантического объема информационного поля и
сокращением каналов коммуникаций. Постоянное расширение и ус-
ложнение информационного поля необходимо любой саморазвива-
ющейся системе, но в группах, в которых взаимодействие основано
на сигналах-командах и тайнах-секретах, принципы открытого об-
щества признаются такими же избыточными и вредными, как и сол-
дат, рассуждающий о смысле полученного приказа. Результаты се-
миотической редукции коммуникаций вследствие милитаризации
власти ведут к десоциализации элит и проявляют себя в первую оче-
редь в символах-отношениях, принятых в их группах, т.е. там, где
“элита” обращается друг к другу на своем языке.
На всех уровнях политических “элит” в современной России фи-
зиологические акты сохраняют свое значение в качестве ресурса по-
литического влияния. Физиологизация политики сама за себя гово-
рит о состоянии политической культуры. Вспомним “компромат” на
генпрокурора Ю. Скуратова - видеосъемку из борделя, показанную
по федеральному каналу. Или ответ депутата Госдумы Алексея Ми-
трофанова на вызов “цветных революций” в странах СНГ, выразив-
шийся в съемке порнофильма “Юлия”, главные герои которого - ли-
ца, похожие на премьер-министра Украины и президента Грузии.
В ряд этих примеров можно добавить и физиологический юмор
президента Путина, которым он периодически шокирует мир за пре-
делами кремлевской стены, используя в качестве “оружия” против
оппонента, на вопрос которого не может ответить по существу, яр-
кие физиологические образы15.
Или еще эпизод. В одной из радиопередач “Эха Москвы”, ком-
ментируя слова Михаила Ходорковского о том, что тот по освобож-
дении из тюрьмы не собирается мстить, журналист Матвей Гана-
польский, некстати вспоминая Евангелие и слова про одну и другую
щеку, “остроумно” шутит: “Ну, посмотрим, что он там в колонии бу-
дет подставлять...”16 “Отличный юмор. Очень знаковый, - коммен-
тирует message Ганапольского многомиллионной аудитории радио-
слушателей художник и публицист Никита Алексеев. - Он показы-
вает: предположение, что на зоне всякого могут, а то и должны от-
пидарасить, совершенно естественно. Я все же имею надежду, что
это не совсем так”17.
Этих примеров уже достаточно для подтверждения тезиса о
том, что именно следствием распада полисемантичеких связей,
272
Культурная история социального
формирующих объем и насыщенность информационного поля
культуры, можно объяснить повышенное внимание всех тотали-
тарных режимов к физиологической тематике. В этом смысле в
одном ряду следует рассматривать все практики по соблюдению
“расовой чистоты” - от опытов нацистов “третьего рейха” до ини-
циатив депутатов Государственной Думы, спекулирующих темой
“русского генофонда”. Например, недавние инициативы ЛДПР ли-
шать российского гражданства всех вступающих в брак с иностран-
цами или истерики по поводу усыновления российских детей граж-
данами других государств.
Смысл таких инициатив - актуализация физиологического в ка-
честве последнего интегрирующего фактора в обществе; точнее,
снова, как в антропогенезе, первого - поскольку физиологическое
на фоне деградации политического остается тем единственным, что
понятно и близко каждому.
Антропологические интерпретации позволяют высветить от-
дельные метаморфозы политической истории в новом неожиданном
ракурсе. При этом замечу, что наши интерпретации обходят сторо-
ной возможности психоанализа, как невостребованные в русле се-
миотики.
Сама постановка вопроса о функционировании физиологии на
уровне языка знаков переводит проблему сексуального поведения в
область семиотики культуры. «Коренная ошибка фрейдизма, - пи-
шет Ю.М. Лотман, - состоит в игнорировании того факта, что стать
языком можно только ценой утраты непосредственной реальности и
переведения ее в чисто формальную - “пустую” и поэтому готовую
для любого содержания сферу. Сохраняя непосредственную эмоци-
ональную (и всегда индивидуальную) реальность, свою физиологи-
ческую основу, секс не может стать универсальным языком. Для
этого он должен формализоваться, полностью отделиться, - как это
показывает пример признающего свое поражение павиана [в знак
которого побежденный самец принимает позу самки. - К.Б.], - от се-
ксуальности как содержания. Попытки возвратить в физиологиче-
скую практику все те процессы, которые культура производит, в
первую очередь, со словом, делают не культуру метафорой секса,
как утверждал Фрейд, а секс - метафорой культуры»18. В общем, на
уровне павианов, сексуальное является архетипическим символом
социального и проявляется так же как и у солдат, заключенных и у
отдельных депутатов, - в символической институализации доми-
нантных отношений.
Мы не отказываем депутату Митрофанову в его праве конвер-
тировать либидо в средство международной политики и вовсе не ут-
верждаем, что то, что красит павиана, не к лицу депутату Госдумы.
Депутату все к лицу, что нравится его избирателям. В данном кон-
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 273
тексте стоит задуматься разве что о проблемах глобальной безопас-
ности. Популярность физиологических образов в качестве инстру-
ментов влияния среди российской политической “элиты” свидетель-
ствует Лишь о том, что в современной России за обслуживание, хра-
нение и применение ядерного арсенала отвечают группы людей, чьи
отношения основаны на тех же семантических интеракциях, что и в
стаде павианов.
“АРХАИЧЕСКИЙ СИНДРОМ”,
ЕГО РОЛЬ В КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
“Властный символизм оказывал непосредственное воздействие на
мышление архаического человека и, прежде всего, на его иррацио-
нальные пласты. ... Более того, в периоды общественно-политиче-
ских кризисов и дезинтеграций, а также идеологических деградаций
реактуализируются наиболее архаические формы проявления вла-
стных отношений. Этот феномен возрождения комплекса архаиче-
ских представлений, стереотипов и норм поведения уже получил на-
звание архаического синдрома”, - пишет исследователь систем вла-
сти В.А. Попов19.
Семиотический анализ армейских социальных реалий убеждает
нас в том, что законам генезиса и развития культуры присущи нели-
нейность и обратимость. За детабуизацией интимного в армии про-
слеживается тенденция десемйотизации социальных отношений, в ко-
торой архетипы коллективного бессознательного реактуализируют-
ся в качестве правовых норм. Я в этом явлении “архаического синдро-
ма” вижу не только и столько деградацию культуры, сколько ее фун-
даментальный принцип самосохранения. Архетипы коллективного
бессознательного (в том числе нормативно-символическая реактуа-
лизация физиологии) предстают перед нами в своем фундаменталь-
ном качестве - в качестве ключевого и пускового фактора системной
организации информационной активности человеческого (а как пока-
зывает опыт павианов, и не только человеческого) сознания.
Структуры коллективного бессознательного реактуализируют-
ся тогда, когда обширный социальный кризис не оставляет общест-
ву оснований для конструктивной консолидации и позитивной иден-
тичности. Архетипы оказываются последней системообразующей
инстанцией, способной пресечь процессы дезинтеграции социально-
го сознания, спасая его тем самым от окончательного распада. Те
факты актуализации физиологических актов в качестве социально-
нормативных показывают, до какой стадии деградации доводит че-
ловеческие сообщества процесс упрощения их интеркоммуникаци-
онных связей - до стадии высших животных.
18 Одиссей. 2006
274
Культурная история социального
И в то же время на тех же примерах мы наблюдаем, как подоб-
но “предохранителям” в социогенной функции срабатывают архети-
пические структуры коллективного бессознательного, как стреми-
тельно и с какого уровня происходит “перезагрузка” социальных от-
ношений и культурных норм. “Дедовщина” в своем противостоянии
“уставщине” рождает целую систему альтернативной культуры со
своим фольклором, поэзией, эстетическими канонами, социальной
памятью, символическими системами коммуникации и т.п., соста-
вившую целый пласт в рамках общенациональной культуры России
конца XX - начала XXI в.
Именно реактуализацией архетипических структур и образов
можно объяснить сходство статусных символов и ритуалов дедов-
щины с символами и ритуалами архаических сообществ. Но это
представляется уже не столь важным. Важно то, что за всеми извра-
щениями “дедовщины”, за ее насилием над человеческой личностью
открывается еще одно базовое значение символов культуры - адап-
тивное. В фольклоризации реальности происходит преодоление аг-
рессии и насилия путем их символизации и в итоге преобразование
деструктивного экзистенциального абсурда в семантический конст-
руктивный.
КАРНАВАЛ В КАЗАРМЕ.
КАЗАРМА КАК КАРНАВАЛ
Несмотря на постоянное насилие и агрессию, как образ социально-
го действия в армейских коллективах, жизнь в казармах довольно
веселая. “Кто в армии служил, тот в цирке не смеется”, - говорят
солдаты сами про себя.
Рефлексия, попытки объяснения, переходящие в самооправда-
ние, солдат, их самоирония на тему интеллектуальной ограниченно-
сти военной среды - все эти рефлексии направлены на перевод эк-
зистенциального абсурда в семантический, в результате чего совре-
менная российская культура пополнилась целым пластом неофольк-
лора под названием “армейские маразмы”.
В этом жанре осмысляется как семантический (эстетический),
так и экзистенциальный (этический) абсурд уставщины и пародиру-
ется в ее оригинальном устном фольклоре - “армейском маразме”,
основанном на принципе трансформации или столкновении смыслов
в единице текста.
Смеховая сторона агрессии представляется системой психологи-
ческих защит сознания от переживания ее уничтожающей сути. В
таком общественном “празднике”, как глумление над изгоем, отчет-
ливо прослеживаются карнавальные элементы. В постсоветской ар-
К Л. Пенников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 275
мии возник новый карнавал - так называемый “День ох...го духа”,
организованный по принципу инверсии бытовых доминантных от-
ношений. В этот день “деды” с “духами” меняются ролями.
Из солдатских писем: «А вечером мы обычно ходим по домам -
продаем краску, жесть и другие стройматериалы. А потом отдаем
деньги “дембелям”, а они, как только появится возможность, поку-
пают "химку” и курят, а потом ночью нас заставляют отжиматься и
делать разные “штучки”, чтобы посмеяться. А так, когда “не обку-
ренные”, они - неплохие парни.... Через 13 дней будет “день ох...го
духа”, когда до приказа остается 50 дней. Мы можем потребовать с
“дембеля” сигареты, конфеты или еще чего-нибудь. Но после того,
как этот день пройдет, нас опять будут гонять, как и прежде. Может,
сильнее».
Универсальное социально-психологическое значение карнава-
ла - разрядка внутрисоциальной напряженности, достигаемая через
инверсию традиционных ролей и снятие повседневных запретов.
Л.С. Клейн в этой связи заметил, что в тюрьмах искажается
язык. Целый лексический пласт существительных трансформирует-
ся уменьшительными суффиксами, “камерка”, “комнатка”, “мамка”,
“начальничек” и т.п. Люди, таким образом, бессознательно дистан-
цируются от собственной жизненной трагедии, подчеркивая в речи
иллюзорность, “игрушечность” актуальной реальности20.
То же самое можно сказать и о солдатском сленге. Слова-заме-
нители употребляются для трансформации. Вместо “пытаю”, “при-
нуждаю”, “унижаю”, “избиваю” - “воспитываю”, “придаю ускоре-
ние”, “учу Родину любить”, “объясняю политику партии”. Инфан-
тильное сознание боится осознать содеянное. Поэтому карнаваль-
ные инверсии, вызывая психологическую разрядку, не способствуют
осознанию реальности, напротив, самые сильные табу в солдатских
коллективах накладываются на открытый разговор, открытость ин-
формации.
Все члены группы обязаны если не участвовать в насилии, то
смеяться или разделять общее приподнятое настроение. Сочувству-
ющий жертве разделит судьбу жертвы, но не за акт сострадания, а
за реализованное посредством него экзистенциальное “разоблаче-
ние” семантического насилия, которым чревато серьезное отноше-
ние к тому, что принято считать смешным.
Свидетели того, как в зонах “опускают” человека, сообщают,
что акция обставляется как карнавальная свадьба, наподобие свадеб
шутов при королевских дворах. Аналогия неслучайна, поскольку и в
том, и в другом случае смех возникает как реакция на акт социаль-
ной инверсии. И одновременно смех выступает защитой реализован-
ных с целью жесткого контроля извращений, т.е. “творческого под-
хода к насилию”.
276
Культурная история социального
Как в традиционном обществе детабуизация физиологической
темы осуществлялась исключительно в рамках смеховой, карна-
вальной культуры, так и в армии повышенная психологическая на-
пряженность вызывает спонтанные проявления карнавальных реф-
лексов с их традиционной детабуизацией физиологической темы.
АПОЛОГИЯ АБСУРДА
Репрессивный контроль изолированной и замкнутой на себя армей-
ской системы тотален и охватывает все категории военнослужащих,
но именно как абсурд проявляется лишь на границе военного социу-
ма с общегражданским. Бегство от абсурда военнослужащих самых
разных должностей и званий заставляет “лечить подобное подоб-
ным” и рационально эксплуатировать саму идею безумия. Особенно
пародируются в “маразмах” центральные темы официальной идео-
логии, о которых на официальном уровне принято говорить всерьез
и с пафосом. Например, об уставных правовых отношениях в армии,
которые как бы есть, но которых как бы нет. Зато есть практиче-
ская эксплуатация идеи безумия, ресурса личности, вступающей в
конфликт с законом. Одним из распространенных средств уклоне-
ния призывной молодежи от принудительной воинской службы в
российской армии конца XX - начала XXI в. является симуляция пси-
хических заболеваний, как это называется - “косить под дурака”. Но
также все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда психиатры об-
следуют на предмет вменяемости не только призывников, но и ко-
мандиров высоких рангов, которые таким образом стремятся уйти
от ответственности за совершенные на службе преступления. И те,
и другие имеют шанс встретиться в коридоре одного сумасшедшего
дома, фактически оставаясь здоровыми людьми. На рубеже тысяче-
летий сумасшедший дом стал символом отношения трезвомысляще-
го человека к воинской службе и убежищем для самых крайних ка-
тегорий военнослужащих - призывников, не желающих добросове-
стно служить, и командиров, не способных конструктивно руково-
дить своими подразделениями.
Если в “психушках” томятся в противостоянии с системой ре-
ально хитроумные офицеры, то там, где рефлексия абсурда реали-
зуется в художественной области солдатского фольклора, началь-
ник-офицер обычно предстает идиотом, речи которого исполнены
пафоса, но лишены смысла, поскольку он постоянно невпопад упо-
требляет “умные” слова и просто неспособен связно формулиро-
вать мысли.
Эксплуатация абсурда в армейском фольклоре, производя на
свет литературный жанр “армейского маразма”, не исчерпывается,
КЛ. Банников. “Потому что абсурдно": Семиотика насилия 277
как явление культуры, ни своим этическим, ни эстетическим аспек-
тами. Тексты “армейских маразмов” показательны своей структу-
рой, которую образуют пересекающиеся и абсурдно сочетающиеся
смыслы: “от забора до обеда”, “здесь вам не тут”, “кто не все, того
накажем”. В единице текста происходит трансформация реальности.
Абсурд в этих произведениях сюрреалистичен. Он открывает ресурс
внутреннего динамизма, благодаря чему абсурд армейской редакции
стал предметом эстетического переживания в гражданском общест-
ве, а в самой армии - средством достижения психологической неза-
висимости. Эстетика абсурда в армии связана со специфической эти-
кой межличностных отношений. Абсурд, возведенный в этико-эсте-
тический принцип, расширяет границы реальности и выводит всех
участников социальных отношений за пределы их ограниченного,
подавленного, униженного существования и тем самым восстанав-
ливает утраченную в агрессивной бытовой рутине смысловую мно-
гомерность бытия, и в результате абсурд из средства подавления
гражданской личности в армии превращается в средство воссозда-
ния ее внутренней свободы.
1 http:// lit.lib.ru/d/dedovschina
2 Банников КЛ. Антропология экстремальных групп. М., 2002.
3 Оруэлл Дж. “1984” и эссе разных лет. М., 1989.
4 Бродский И.А. Меньше единицы // Сочинения Иосифа Бродского. СПб.,
1999. Т. 5. С. 20-21.
5 Гудков Л. Идеологема “врага”: “Враги” как массовый синдром и меха-
низм социокультурной интеграции Ц Образ врага. М., 2005. С. 42.
6 Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 169.
7 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование
миров. М.; Воронеж, 1996.
3 Левинсон А. Об эстетике насилия. Армия и общество в СССР/России за
последние 10 лет // Неприкосновенный запас. М., 1999. № 2 (4).
9 Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 118-119.
ю Там же. С. 118.
11 Там же. С. 101.
1 2Нихонсёки. Анналы Японии / Пер. и коммент. Л.М. Ермаковой и
А.М. Мещерякова. СПб., 1997. С. 125.
13 Ольга Крыштановская: “Среди сотрудников аппарата представителей
Путина в семи вновь созданных президентских округах многие посты
молниеносно заняли военные (до 70 процентов всего персонала). ... За
последнее время все больше людей с военным прошлым или из разведки
работает даже в Министерстве экономики. Только среди заместителей
министров их 35 процентов” (www.inosmi.ru/translation/187653.html).
14 Крыштановская О. Владимир Путин протежирует бывшим военным //
Siiddeutsche Zeitung. 2003. 20 Jul. (интернет-версия: www.inosmi.ru/transla-
tion/187653.html).
278
Культурная история социального
15 Американские журналисты с удивлением узнали истинное содержание
речи, с которой президент России Владимир Путин выступил на пресс-
конференции в Брюсселе в ноябре 2004 г. В варианте переводчика фра-
за Путина выглядела следующим образом: “Если вы хотите стать ислам-
ским радикалом, приезжайте в Москву. Мы мультиконфессиональное и
многонациональное государство. Пожалуйста, приезжайте, в Москве
терпимо относятся ко всему и ко всем”. В действительности, как с удив-
лением узнали журналисты “Нью-Йорк тайме”, слова Путина зву-
чали значительно более угрожающе: “Если же вы готовы стать самым
радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, пригла-
шаю вас в Москву. Я порекомендую сделать операцию таким обра-
зом, чтобы у вас уже ничего не выросло” (www. rosconcert.com/ com-
mon/arc/story.php?id_cat=24&id=24502).
16 Эхо Москвы. 2005. 31 мая.
17 Алексеев Н. На нары, брат, и долой Европу! Ц Иностранец. М„ 2005. № 20
(65). С. 7.
18 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 141.
19 Попов В.А. Символы власти и власть символов // Символы и атрибуты
власти. СПб., 1996. С. 12-13.
20 Лев Самойлов (Клейн Л.С.) Этнография лагеря // Этнографическое обо-
зрение. 1990. № 1.
А.Г. Левинсон
ГОСЗАКАЗ НА ДЕДОВЩИНУ:
КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Актуальность темы насилия в российской армии и самой армии как
института насилия в российском обществе в специальном обоснова-
нии не нуждалась бы. Но на тот момент, когда статья уходила в из-
дательство, эта тема вышла на уровень актуальности, до того не до-
стигавшийся. В силу стечения различных обстоятельств один, а за-
тем множественные случаи внутриармейского насилия стали пред-
метом обсуждения в прессе и далее в Государственной Думе и в Со-
вете Безопасности.
Приняты решения о том, что подобным явлениям будут проти-
вопоставляться различные меры: ужесточение полагающихся нака-
заний и расширение круга ответственных лиц с включением туда
офицеров, также вопросы о реформировании дисциплинарных ба-
тальонов, восстановлении гауптвахт и т.д. Обсуждаются меры вве-
дения новых для российской армии институтов: военной полиции,
сержантов-контрактников, капелланов.
Принятие этих мер как-то скажется на положении в воинских
частях. Но как представляется, эти меры обращены к недопущению
эксцессов дедовщины, но не самого явления. Характерным образом
министр обороны начал с утверждения о его неустранимое™, зая-
вив, что оно присуще нашему обществу в целом и начинается “с дет-
ского сада”.
Эта дискуссия происходит на фоне обструкции, которую об-
щество устраивает армии как тотальному институту. Вот данные
опроса1:
Если бы кто-то из членов вашей семьи подлежал при- зыву в армию, вы бы... Среди всех опрошенных
предпочли бы, чтобы он прошел службу в армии 34%
стали бы искать способ избежать службы в армии 53%
Речь идет о том, что на сегодня легальными и нелегальными
способами большинство молодых людей избегают выполнения за-
кона о всеобщей воинской обязанности. По данным только что упо-
минавшегося опроса среди лиц 18-24 лет предпочли бы, чтобы тот
родственник, кто подлежит призыву, “прошел службу в армии” -
26%, а “искать способ избежать службы в армии” стал бы 61%.
В ответ устами высших должностных лиц в государстве объяв-
лено о планах восстановить тотальный охват мужского населения
280
Культурная история социального
воинской службой (при сокращении ее протяженности до од-
ного года).
Конфликт между обществом гражданских лиц и призывной ар-
мией входит в острую фазу: министр обороны заявил о “беспреце-
дентной антиармейской кампании”. Проблема внутриказарменного
террора при этом оказывается центральной. По опросам за период с
2000 г. по 2006 г., дедовщина определенно вышла на первое место
среди причин, по которым общество не желает предоставлять своих
членов для службы в армии.
В 2000 г. на вопрос: “Хотели бы вы, чтобы ваш сын, брат, муж
или другой близкий родственник служил сейчас в армии? Если нет,
то почему?” - давали ответ “не хотели бы из-за возможности гибе-
ли/ранения в конфликтах типа чеченского” - 48%, ответ «не хотели
бы из-за “дедовщины”, неуставных отношений, насилия в армии» -
34%. Это были две главные (по частоте ответов) причины. К 2006 г.
они таковыми остались, но поменялись местами. Нежелание слу-
жить объясняли риском гибели/ранения в ходе военной операции
32%, а дедовщиной - 49%2.
За эти годы, как показывает сравнение ответов, перемены про-
изошли в позициях всех главных социально-демографических групп.
Нежелание отдавать своих близких в армию всегда было острее вы-
ражено среди женщин, нежели среди мужчин, среди молодых людей,
нежели среди пожилых, среди наиболее образованной публики, не-
жели среди менее образованных, среди жителей столицы, нежели
среди жителей села. Но во всех этих категориях населения боязнь
дедовщины выросла и вышла на первое место. При этом в предста-
влениях групп, которые в целом менее подвержены указанным опа-
сениям (мужчины, люди старшего возраста и т.д.), дедовщина в
2006 г. стала более важным фактором, чем был для них же риск ги-
бели или ранения в боевых действиях в 2000 г.
Антропологическая проблематика насилия очевидным образом
сопрягается здесь с социальной. Во всех обществах армия выполня-
ет много ролей кроме номинальной - применять вооруженное наси-
лие к военному противнику. Во многих странах армия выступила, в
частности, агентом модернизации всего общества. Ее роль в россий-
ском обществе представляется также во многом связанной с процес-
сом модернизации, но роль эта была разной на прошлом и на ны-
нешнем этапах данного процесса. Разное значение приобретала и
система неформального принуждения внутри армии как института.
Переход (перевод) сельского и аграрного российского общества
в поселково-городское и индустриальное был совершен преимуще-
ственно в военизированных формах организации. Собственно воо-
руженные силы (включая органы милиции и безопасности) играли
при. этом помимо очевидной функции силового инструмента и сред-
А.Г. Левинсон. Госзаказ на дедовщину: Краткое замечание
281
ства еще несколько важных ролей. Во-первых, обороне, а значит -
прмии, была придана функция главной цели общественных усилий.
Вес лишения оправдывались этим. Во-вторых, армии отводилась
роль модели и идеального образца социального устройства. Нако-
нец, в-третьих, армия сама была превращена в институт воспитания
в перевоспитания населения. В ее рамках проходила ускоренная ре-
социализация мужского сельского патриархального населения в от-
носительно более пластичную и мобильную рабочую силу для соз-
даваемой промышленности. Типичная мужская советская судьба: из
деревни призвался в армию, после армии не вернулся, в городе по-
ступил на завод.
В армии обучали грамоте, обращению с относительно сложны-
ми механическими устройствами и семиотическими системами, учи-
ли следовать формальным правилам и техническим инструкциям.
Наряду с этим армия была трудовым лагерем, местом производст-
ва массовых работ, организованного и массового применения подне-
вольного ручного труда. Сочетание начатков механизации и массовых
элементарных физических действий/усилий отвечало той форме инду-
стриализации, которая в этот период проходила в целом в стране.
Индустриализм, индустриальный госсоциализм, сложившийся в
пашей стране, был порожден при посредстве и участии армии, а ар-
мия получила свою форму и характер благодаря этому строю. Их
подобие является сущностным и очень глубоким. Отметим один мо-
мент сходства. Российско-советский индустриализм был создан пу-
тем ускоренной трансформации сельского субстрата. Остатки оного
встречались повсеместно, в частности в недоурбанизированных по-
селково-слободских формах расселения. Точно так же армия имела
на протяжении длительного времени демографическую базу в лице
сельского и поселкового населения с его культурой.
Эта культура имела свои ценности, связывавшие ее с глубоко
архаическими временами. Субъектом действий является коллектив-
ный родовой субъект. Ради его сохранения или его победы действу-
ет индивид. Ценностью является существование коллективного
субъекта. Жизнь индивида имеет подчиненную ценность в глазах ос-
тальных и в его собственных.
Следует особо отметить, что эта идеология сформировалась в
условиях традиционного режима воспроизводства населения, когда
на одну родительскую пару приходилось в три-пять раз большее
число детей. Люди, точнее рекруты, призывники, живая сила, пред-
ставляли собой возобновляемый ресурс для командования: “Бабы
новых нарожают”. Ценность представляли собой обученные кадры,
т.е. офицеры.
Сегодня изменился социальный контекст существования армии.
Наиболее важных перемен две.
282
Культурная история социального
Во-первых, это так называемый демографический переход, на-
ступление нового режима (суженного) воспроизводства населения.
На пару взрослых теперь в целом приходится менее двух детей. Цен-
ность единичной человеческой жизни начинает преобладать над цен-
ностью родовой. Это осознали в первую очередь женщины в их роли
“солдатских матерей”. Женщины более не согласны снабжать армию
неограниченным человеческим ресурсом. Армия же осталась релик-
том предыдущей демографической эпохи с ее нормами затратного
отношения к “живой силе”. Но если ранее между ценностными сис-
темами сельского многодетного общества и армии не было принци-
пиальных расхождений, а лишь степенные, то теперь поступающий в
армию контингент “единственных сыновей” нуждается в переделке в
центральном вопросе о ценности индивидуального существования.
Дедовщина, в частности, построена на утверждении принципа, в со-
ответствии с которым ни здоровье, ни сама жизнь первогодка - в от-
личие от того, как его воспитали дома, - не являются ценностью ни
для окружающих, ни для него самого. Бессмысленные на первый
взгляд пытки и убийства, а также самоубийства - это моменты и ре-
зультаты подобной суггестии со стороны неформальной структуры
армии. Истязание новобранцев голодом, холодом, перегрузками со
стороны формальных командиров имеет тот же смысл, выступает в
общем случае как знак и лишь в частном - как недосмотр, халат-
ность, ошибка соответствующих должностных лиц.
Второе изменение в обществе - это переход от индустриального
типа экономики к “сервисному”. Переход этот в значительной мере
оказался скрыт от глаз общества совпавшим с ним по времени воз-
вратом от командно-административной госсоциалистической систе-
мы к одному из вариантов рыночной. Сам переход имел вид и фор-
му то ли стихийного, то ли злонамеренного “развала экономики”, за-
тяжного кризиса милитаризованной индустриальной экономической
системы.
Та реальная хозяйственная деятельность, которая сейчас кормит
страну, не связана с военно-промышленным комплексом. Сигналы
рынка труда, улавливаемые обществом, ориентируют молодых лю-
дей на карьерные пути, связанные с бизнесом и сервисом в широком
смысле этого слова. Экономика услуг, явившаяся к нам в 90-е годы
прошлого века в обличье множественных вынужденных выборов
(торговать, ремонтировать, прислуживать - “чтоб хоть как-то вы-
жить”), укрепилась. Военная промышленность, которая “лежала”
эти годы, поднимается сама в той мере, в которой перепрофилиро-
валась в ответ на спрос потребительского рынка.
Поднимается она и под воздействием государственно-централи-
зованных усилий по ремилитаризации. Военно-промышленный ком-
плекс ищет свое место. Он одновременно грезит о возвращении се-
А.Г. Левинсон. Госзаказ на дедовщину: Краткое замечание
283
бе того центрального положения, которое имел в советской систе-
ме, и чает найти новое в рамках системы постсоветской, используя и
ресурсы госзаказа, и возможности экспорта. Нельзя сказать, что
этот комплекс остро заинтересован в сохранении большой призыв-
ной армии как таковой. Но он нуждается в режиме максимального
благоприятствования со стороны государственного руководства, а
для обеспечения этого нужен общий милитаристический настрой.
11оследний, возможно, мог бы быть реализован и на путях общей и
поенной модернизации. Но при данных обстоятельствах более про-
стым и вероятным оказался путь консервации и ретро-ориентации,
возрождения или имитации опробованных форм идеологического и
управленческого характера. Роль переформированной армии, функ-
ция ее как заповедника и хранителя наиболее “совковых” форм со-
циальной организации возрастает. Психологический консерватизм
начальства, боязнь перемен и даже связанные с такой армией эконо-
мические интересы коррумпированного начальства носят не глав-
ный, а подчиненный характер. Собственно, армия повышением сво-
ей ригидности реагирует на перемены в обществе как институт, как
целое и как часть более крупного комплекса, пытающегося вернуть
себе доминирующее положение в общественно-государственной си-
стеме. В этом смысле показательно обострение феноменов дедов-
щины, имеющей отношение и к коррупции, и к перераспределению
неких экономических ресурсов, но в основном и в главном, конечно,
являющейся грандиозной символической системой перевоспитания
личности через переозначивание. И главный обобщенный посред-
ник, который обращается в этой системе, это не материальное бла-
го, а социальный ресурс: насилие/власть.
Как явствует из сказанного, проблема заключается в том, что
нормы и порядки этого уже прожитого большим обществом ранне-
индустриального строя армия через ее формальные и неформаль-
ные структуры не просто хранит в себе, но активно стремится рас-
пространять вовне. Дедовщина как неформальный институт внутри
формального, собственно армии, многими воспринимается как бо-
лезнь, порок армейской системы. Считается, что укрепление дисци-
плины и тому подобные меры способны устранить дедовщину. По
более современной версии, озвученной министром обороны, эти ме-
ры позволят держать дедовщину “в рамках”. Нам представляется,
что это не так. Армия не просто существует в нашем обществе, и уж
тем более - не как пережиток. При всей ее анахронистичности ар-
мия как бывший осевой институт общества продолжает оказывать
на него свое влияние. Дедовщина как механизм выполняет роль
главного ресоциализирующего инструмента.
На этот раз ресоциализации подвергаются молодые люди, выра-
щенные в обществе, которое усвоило (хотя бы в начатках) новые
284
Культурная история социального
индивидуалистические, гуманистические ценности; само общество
строится на идеях ценности личности, уважения ее прав и свобод.
Эти начала - сила права, - как известно, с особым тщанием уничто-
жаются на первом этапе переделки людей. На втором на их место
имплантируется право силы.
Показательно, что наиболее острый антагонизм развернулся в
обществе в форме конкуренции армии и высшей школы как двух ва-
риантов института социализации. В обществе широко распростране-
но мнение, что эти два жизненных пути альтернативны. Вуз “спаса-
ет” от армии, армия избавляет от бремени высшего образования.
Попытки изменить это положение производятся непрерывно, но на
сегодня исследования позволяют констатировать такую ситуацию.
Служба в армии больше не воспринимается в молодой части об-
щества как непременное условие становления “настоящего мужчи-
ны”. Молодой человек, не прошедший горнило армии и дедовщи-
ны, - более не маргинальная фигура слабака-интеллигента, но “нор-
мальный парень”. Психофизическим навыкам, даваемым армейской
службой (“сила” и производные от нее), сопоставлены как равные
или предпочитаемые навыки, предоставляемые институтом высшей
школы.
Здесь не место обсуждать в деталях метаморфозу самой выс-
шей школы, приспосабливающейся к спросу в экономике услуг.
Важно лишь сказать, что на ведущие места в том, что дает вуз вы-
пускнику, выходят навыки и компетенции, связанные не со специ-
альными знаниями, а скорее с социальными манерами и коммуни-
кационными способностями. Во многом это именно тот комплекс
норм отношения к собственной и чужой личности, который пер-
вым подлежит уничтожению в жерновах казарменного террора.
Эти черты человека не нужны военно-силовому типу обществен-
ной организации и нужны сервисно-предпринимательскому типу.
В описываемом на этих страницах конфликте решаются судьбы и
перспективы не только отдельных молодых людей, но российско-
го общества в целом.
1 Опрос “Левада-центра”, проведенный по репрезентативной выборке сре-
ди взрослого населения РФ (1600 чел.) в 2006 г.
2 Опросы ВЦИОМ и далее “Левада-центра” проводились по стандартной
репрезентативной выборке среди взрослого населения РФ (1600 чел.).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
М.Ю. Реутин
МАЙСТЕР ЭКХАРТ - ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
(К сопоставлению немецкой мистики
и византийского исихазма)
1. ВВЕДЕНИЕ
('опоставление тех или иных идей и интуиций, принадлежащих двум
мистическим школам первой половины XIV в., рейнской мистике и
пфонскому исихазму, имеет смысл только в том случае, если парал-
лельно уясняется доктринальное родство и общее сходство самих
лих школ. Действительно, средневековая христианская культура
(условно взятая как единое целое) - это культура по преимуществу
риторическая, изобилующая общими местами, которые непрерывно
транслируются из столетия в столетие и циркулируют между ее во-
сточной и западной частями. При таком положении дел подбор “об-
щих мест”, усвоенных разными вероучительными направлениями,
отнюдь не представляется сложным. Но из наличия таких “мест”
(при том, что их может быть достаточно много) еще не следует вы-
вод о родстве направлений. С другой стороны, если по мере подбора
цитат устанавливается системное родство нескольких духовных тра-
диций, и на уровне теории и на уровне практики, и если это родство
подкрепляется общей генеалогией, то цитаты не могут отводиться,
объявляться не имеющими силы только на том основании, что в них
сформулированы всего лишь “общие места”. “Общие места” стано-
вятся индивидуальными в ходе их усвоения и насыщения личными
модальностями. Они могут формировать общность мистического
опыта и затем из этой общности возрождаться и спонтанно возни-
кать, однако уже не в качестве топосов и клише, а в качестве инди-
видуальных свидетельств. Именно это мы имеем в случае Иоан-
на Экхарта (ок. 1260 - ок. 1328) и Григория Паламы (1296-1359)1,
двух современников, возглавивших и философски обосновавших два
во многом сходных визионерских течения.
Вопрос о сходстве богословских идей рейнского и афонского ми-
стиков был впервые поставлен в докторской диссертации В. Лосско-
го “Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхар-
та”. В ней автор указывал в частности: «Различие, которое могло бы
286
Сравнительная история
быть сопоставлено с различием между сущностью и энергией в ви-
зантийском богословии, предусматривается и экхартовской теоло-
гией в ее целом. Бог-Божество, “Им же вся быша”, будучи предста-
влен в творениях, является безусловной реальностью, отличной от
Бога в Себе, непостижимого в Своей неопределенной сущности бы-
тия. - Впрочем, в том и в другом случае речь идет об одном и том же
Боге-бытии, тождественном Себе Самому»2. Напомним, что диссер-
тация Лосского была лишь первым шагом в осуществлении обшир-
ного замысла сопоставления византийского и немецкого мистициз-
ма XIV в. Этот замысел не был осуществлен. В. Лосскому вторит
о. И. Мейендорф, признанный знаток исихазма и творчества Пала-
мы. Размышляя в одной из своих работ о причинах неудачи Флорен-
тийского собора 1438/1439 гг., где речь шла об объединении католи-
ческой и православной церквей, И. Мейендорф говорит о слабой
представленности на нем германской церкви (в которой к тому вре-
мени еще были живы традиции Экхарта, Сузо и Таулера) и добавля-
ет, что в этом случае вопрос о нетварной благодати камнем пре-
ткновения бы не стал3. В недавнее время на эту же тему высказалась
петербургская переводчица и исследовательница Н.О. Гучинская в
предисловии к трактатам рейнского Мастера: “Духовное родство с
Отцами Восточной Церкви, которое можно увидеть у Экхарта, сви-
детельствует о том, что истоки (курсив автора. - М.Р.) богословия
немецкого мистика лежат в православной традиции, как утверждал
и он сам”4.
Исследование о. И. Мейендорфа о Гр. Паламе пробудило инте-
рес к исихазму в католическом мире. Демонстрируя благожелатель-
ное отношение к богословию Паламы (сменившее в 60-х годах его
давнее, воспитанное о. М. Жюжи, неприятие), кардинал Ш. Жюрне
и о. А. де Аллё, однако, не обнаружили в западной теологии учений,
чем-либо похожих на паламистское учение об энергиях5. Напротив,
утверждалось различие мыслительных навыков исихазма (антино-
мичность) и схоластики (логический рационализм), а теории энер-
гий противопоставлялась теория “чистого акта” (actus purus)6. При
этом под “чистым актом” понималось совпадение сущности и бытия
Бога, другим словами, совершенная актуальность Его наличия, ко-
гда за пределами тех или иных Его проявлений и действий не оста-
ется никакого потенциального, не выявленного остатка. Важный
шаг в сравнительном изучении византийской и немецкой мистиче-
ских школ сделал Э. фон Иванка (Грац). Не сопоставляя напрямую,
он включил их в своей монографии “Plato Christianas”7 в общий по-
ток средневекового неоплатонизма. В настоящее время проблемами
рецепции платоновской философии в латинской, греческой, араб-
ской и еврейской культурах заняты ученики и последователи Р. Кли-
бански и В. Байервальтеса8.
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт — Григорий Палама
287
2. УЧЕНИЯ ЭКХАРТА И ПАЛАМЫ
О ВНУТРЕННИХ АТРИБУТИВНЫХ
АНАЛОГИЯХ И ЭНЕРГИЯХ
Перейдем к сути проблемы и рассмотрим в самых общих чертах он-
тологию Майстера Экхарта и Григория ПаламыВ 9.
Первый разделял прокловское (“Начала теологии”, § 98) и, если
брать шире, неоплатоновское учение о том, что Бог находится как
полностью внутри сотворенного Им мира, так и полностью вне его:
вне - в качестве мыслящего себя Разума и источника излучаемых за
Его пределы идей; внутри - в качестве самих этих идей, изведенных
и присутствующих в мире “способом дробным и обессиленным”10 *, в
виде форм сотворенных вещей. На рубеже XIII-XIV вв. это чрева-
тое пантеизмом и потому требующее для своей обороны углублен-
ной понятийной проработки переживание охватило обе части хри-
стианской ойкумены и породило в среде афонских исихастов и рейн-
ских мистиков похожие друг на друга учения об энергиях и внутрен-
них атрибутивных аналогиях (так именовались Божественные исхо-
ждения), за которыми стояла общая, во многом воспитанная фило-
софией Аристотеля интуиция формы.
Майстер Экхарт
"...Бог есть повсюду. Бог присут-
ствует во всяком творении силой,
наличием и сущностью; в каждом
вполне, полностью внутри и пол-
ностью вне. Вот почему Он не дви-
жется, не изменяется, не преходит,
когда все погибает, наподобие того,
как не погибает душа при отсечении
руки. Ведь душа таким образом пол-
ностью пребывает в руке, что в то
же время остается полностью вне
ее" ("Толк, на Исход". Гл. 20. П. 163;
LW И. S. 143).
Григорий Палама
"Как бестелесный, Бог - нигде,
но как Бог - повсюду... Все объе-
диняя и охватывая, Он пребывает
в Самом Себе, везде и над всем"
("Сто пятьдесят глав". Гл. 60; Р. 155).
"...Бог целиком находится в Себе и
целиком живет в нас, сообщая нам не
Свою природу, но Свою славу и сия-
ние. Это божественный свет, - и он
справедливо именуется святыми Бо-
жественностью, ведь он обоживает"
("Триады". I. Ч. 3. П. 23; Р. 159).
В сочинении “Против Акиндина” (III. Гл. 10. П. 28) Палама пи-
сал о Боге, что Его “...сущность (огкла) есть по необходимости бы-
тие (6v), но бытие не есть по необходимости сущность”11. Это выска-
зывание как нельзя лучше обобщает практиковавшуюся Экхартом
множественность взглядов на Бога, которая соответствует реальной
множественности способов Его наличия и которую он закреплял
термином “sub ratione”. Так Бог в Себе рассматривался им в качест-
ве сущности и добытийного Разума, а Бог ad extra - в качестве Бы-
тия (по отношению к тварным вещам), Блага (по отношению к воле
288
Сравнительная история
людей) и Истины (в отношении к их интеллекту). В том и в другом I
случае Бог, о Котором афонский исихаст мог говорить в аристоте- ;
левских категориях отношения и действия, а рейнский мистик — в ка- '
тегориях сущности и отношения, не исчерпывался сущностью 1
(‘Urgrund” у Экхарта) и становился как бы “больше” нее12. Таким
образом немецким мистическим богословием был нанесен удар по
учению о “чистом акте”, доминировавшем в латинской схоластике.
За пределами тварного мира Бог существует как deus adsconditus,
неведомый Бог. Будучи местом идей и мысля Себя13, Он созерцает
наличные в Его разуме, не-сущие (ибо они принадлежат не бытию, а
разуму) образцы: “экземпла” и “парадигмы”. В пределах же тварно-
го мира и вне Своего замкнутого на Себя интеллекта Бог присутст-
вует в виде единосущной Ему благодати (gnade-gratia-xdptg). «Но вот
Бог глаголет, — читаем мы проп. 9 Майстера Экхарта, — “Никто не
благ, токмо един Бог“. Что есть благо? Благо то, что сообщает се-
бя... Бог наиболее сообщительный. Ни одна вещь не сообщает себя
из принадлежащего ей, ибо никакие творения не существуют сами по
себе... Но Бог сообщает Свое, ведь то, что Он есть, Он есть из Себя
Самого. И во всех дарах, которые Он подает, Он в первую очередь
подает Себя Самого. Он подает Себя в качестве Бога, — таким, каков
Он есть во всех Своих дарах, и насколько их способен принять тот,
кто их с охотою принимает»14. На Рейне и на Афоне нетварная бла-
годать описывалась как свет (11еЬ1-1их-ф®д) по аналогии с сиянием
Солнца. Благодать источается из “переливающейся Причины” (Па-
лама), вследствие “кипения и выплескивания” более чем совершен-
ного, “плюсквамперфектного” Божества (Экхарт).
Майстер Экхарт "...Благодать относится к Богу также, как сияние солнца относится к солнцу, и она с Ним едина и воз- водит душу в Божественную сущ- ность, делая ее богоподобной [еди- ноформенной Богу] и позволяя ей вкусить Божественного благород- ства" .(Проп. 81; DW III. S. 400). «В "Исходе" 3 о Боге написано: "Аз есмь тот, Кто есмь". - Обрати внимание на формальное подобие человека в благодати Богу и одно- временно на отличие от Него, вроде образа и того, что "по образу". Стало быть: "Благодатью Божей есмь то, что есмь". Всякое действие Бога в творении есть благодать и только Божье деяние или даяние Григорий Палама "...Ведь солнцем называется как луч, так и источник луча. И из этого вовсе не следует, что существует два солнца. Так вот, есть один только Бог, если даже Богом именуется ис- ходящая из Него боготворящая благодать" ("Триады". III. Ч. 3. П. 11; Р. 715-717). «Итак, человеческой природе Он дал славу Божества, природы же не дал. И поэтому одно дело природа Бога, а другое - ее слава, хотя они и неотделимы друг от друга. Но даже если слава отличается от Божест- венной природы, она все-таки не принадлежит вещам, сущим во времени, [будучи] по превосходству "не сущей", самой же Божественной
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
289
Майстер Экхарт
есть благодать» (Лат. проп. XXV/1;
LW IV. S. 234-235).
«Надобно взирать на то, все ли
излияния благодати, которые ты
воспринял, - все ли они Божест-
венны и "отдают" ли они Божест-
венным благородством, сообщитель-
iH.i ли они и распространяются ли по
образу излучения, - как Бог излу-
чается в Своей благостыне на все,
что так или иначе может Его вос-
принять» (Проп. 81; DW Ш. S. 402).
Григорий Палама
природе присущей неведомым обра-
зом. Эту-то превосходящую все сущее
славу Он дал не только соединенному
с Ним по ипостаси составу, но и уче-
никам» ("Триады". II. Ч. 3. П. 15;
Р. 419).
Являясь по существу эклектиком, Экхарт иногда противоречил се-
бе и учил, как и подобает католику, о “тварности” благодати: “gnade ist
cin creature” (Проп. 24; DW I. S. 419; Проп. 82; DW III. S. 429). Поэто-
му, чтобы остаться верным своей теории Божественной эманации, ему
приходилось разводить благодать и свет Божий: “Благодать - это свет,
распространяющийся надо всем и превышающий все, что Бог когда-
либо сотворил или собирается сотворить. И все же свет благодати, как
бы велик он ни был, мал в сравнении со светом Божественным”15.
И для рейнской мистики, и для афонского исихазма проблема
благодати - это прежде всего проблема символа (bilde-imago/species-
ouppoXov), символа не изобразительного, а “выразительного”, т.е.
ипу'гренне причастного той реальности, которую он знаменует, и
сдиноприродного ей: “Td pev ouv cpuoixdv deel ouveort тг[ <pvoei лар’
t'|c; то elvai г/ы” (“Природный символ всегда сопутствует той при-
роде, посредством которой имеет свое бытие”)]6- И если так, “ра-
зумно и здраво”, а не как Варлаам, понять символ, то Палама, пожа-
луй, согласится на то, чтобы свету Преображения, воссиявшему на
Фаворе, приписать символический смысл.
Майстер Экхарт
"Образ в подлинном смысле
есть простое истечение в соответ-
ствии с формой, посредством кото-
рого сообщается целиком чистая об-
наженная Сущность. Так созерцает
< Сущность метафизик, исключая со-
дстельную, а равно целевую причи-
ны, составляющие для физика осно-
вание для созерцания естеств. -
Итак, образ есть истечение из сокро-
венного в молчании и исключении
всего, относящегося к внешнему"
(Лат. проп. XLIX/3; LW IV. S. 425-
426). IЧ
Григорий Палама
"Итак [свет Преображения] не
возник, не начался и не кончился, ибо
природные символы всегда сопри-
сущи природе, символами которой
они выступают" ("Триады". III. Ч. 1.
П. 19; Р. 595).
IЧ Одиссей, 2006
290
Сравнительная история
Майстер Экхарт
«Образ присутствует только в
просветленном разумом естестве,
где одно и то же возвращается в
"совершенном обращении" к себе и
где Порождающий по отношению к
порожденному, или побегу, есть Он
же Сам в Своем ином, обретая Себя
в Своем ином как иное Себе» (Лат.
проп. XLIX/2; LW IV. S. 425).
"Когда из древа прорастает ка-
кая-нибудь ветвь, то она обладает
именем и сущностью этого дерева.
Что из него выходит, то в нем
остается. И что в нем остается, то из
него выходит: так ветвь становится
образом древа" (Проп. 16 a; DW I.
S. 259).
Григорий Палама
"Так как символ природным об-
разом получает бытие от того, сим-
волом чего выступает, мы говорим,
что он становится символом себя
самого. - Ведь и воспламеняющая
сила огня, выставляя вперед в ка-
честве своего символа доступное
чувству тепло, делается... символом
себя самой, всегда имея с собой это
тепло, и тем не менее оставаясь еди-
ной и не претерпевая ни малейшего
разделения с собою, пользуясь же
теплом естественным способом в
качестве символа всякий раз, когда
находится способное к восприятию.
Так и свет готового взойти солнца
выставляя символом сияние зари,
становится символом себя самого"
("Триады". III. Ч. 1. П. 20; Р. 595).
Будучи продолжением учения о благодати, теория символа пред-
ставляет собой основу мистагогической этики и философии отре-
шенности рейнского Мастера. “Образ как таковой не является су-
щим, ведь чем больше присматриваешься к веществу, из какового
он сделан, тем больше он отвлекает от постижения предмета, чьим
он является образом”17. Следовательно: “Ты должен быть из Него,
и должен быть для Него, и должен быть не из себя самого, и должен
быть не для себя самого, и не должен никому принадлежать”18. Для
Экхарта и Паламы целью аскезы является уподобление человека
первой материи, дощечке для письма, не имеющими своего образа и
готовыми означиться любыми напечатлениями Бога. Человеку над-
лежит стать бескачественным субстратом того знака, которому
предстоит в нем обнаружиться.
Знаковая составляющая исихазма, его семиотическая суть - вот
то, что обратило на себя внимание русских религиозных философов
первой половины XX в. Мысль о. П. Флоренского (“Мысль и язык”,
“Иконостас”), А.Ф. Лосева (“Философия имени”), о. С. Булгакова
(“Философия имени”) и впоследствии о. А. Шмемана (“Евхаристия”)
была в значительной мере обусловлена связанным с исихазмом дви-
жением имяславия, которое развернулось на Афоне в 10-е годы
XX в., имея своим основным документом сочинение схим. Илариона
“На горах Кавказа”. Изучая в своих трактатах постепенное развора-
чивание трансцендентной сущности в слова и тварные вещи, А. Лосев
писал: “Методологически надо различать энергию сущности и самую
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
291
сущность. Энергия действует в ином и по этому действию познается.
Сущность же действует... косвенно, сама оставаясь незатронутой”19.
Но разворачивание сущности описывал и Г. Сузо, констанцский
доминиканец, ученик и ближайший сподвижник Майстера Экхарта.
В Апологии своего учителя, названной “Книжица Истины”
(1328-1330 гг.), Г. Сузо указывал, что “форма дает сущность обособ-
ленно и отдельно, как от Божественной сущности, так и от всего
прочего, подобно тому, как природная форма камня дарует ему об-
ладание своей личной сущностью. И это сущность не Бога, ибо ка-
мень - не Бог, и Бог - не камень, хотя он и остальные творения бла-
годаря Ему являются тем, что они суть”20. Напряженно переживая
присутствие “неведомого Бога” в тварном мире Своей благодатью
или, говоря словами Сузо, разворачивание сущности “от Бога до
камня”, афонский исихазм и рейнская мистика были озабочены тем,
чтобы не соскользнуть в еретический пантеизм. Утверждая зависи-
мость каждой вещи от Бога, нужно было одновременно утверждать
и их принципиальное онтологическое различие. В этом контексте в
византийском и немецком богословии независимо друг от друга и
вполне закономерно возникли соотносимые пары терминов-, “отли-
чаться” (бюсрёры, distinguere) и “отделяться” (бюолйтац discrepare) у
Паламы21, “различение” (underscheidenheit) и “разделение” (under-
schidunge) у Сузо. “Разделение есть нечто иное, чем различение. Как
известно, тело и душа нераздельны, ведь одно пребывает в другом,
и ни один член не может быть жив, будучи отделен. Но душа отлич-
на от тела, ведь ни душа не является телом, ни тело душою”22. Играя
терминами “различение” и “разделение”, византийские и немецкие
мистики описывали не сплошное, но прерывистое разворачивание
самой по себе незатронутой сущности. Размышляя над ее действия-
ми в иноприродной по отношению к ней тварной среде, мыслители
de facto пришли к постановке более общего вопроса о тонких и не-
прямолинейных влияниях, оказываемых вещью на познающего ее
наблюдателя при том, что материал, из которого изготовлена дан-
ная вещь и с помощью которого она, казалось бы, только и может
влиять (например, посредством прямого контакта) остается не за-
действован ни в малейшей мере. Такой перенос из сферы экстатиче-
ской мистики в область практической гносеологии Экхарт осущест-
влял вполне осознанно. Сама собой напрашивается мысль, что обе
мистические школы сложились вокруг феномена информации. И
уже первые наблюдения над словарем экхартовских схоластических
сочинений (forma, formaliter, uniformiter, formare, reformare, confor-
mare, informare и т.д.) не оставляют здесь ни малейших сомнений.
Надо сказать, что в этом вопросе позднесредневековая евро-
пейская мистика вышла далеко за пределы аристотелевской фило-
софии. Проблеме информации, конечно же, было уделено некото-
292
Сравнительная история
рое внимание и в сочинениях Стагирита. Так, в трактате “О душе”
он писал, что чувство “способно воспринимать формы ощущаемо-
го без его материи, подобно тому как воск принимает отпечаток
перстня без железа или золота”23. Приведенный пример очень ва-
жен, ибо в нем очерчены границы мышления Аристотеля. Влия-
ние, как утверждается в труде “О возникновении и уничтожении”,
может осуществляться только при непосредственном соприкосно-
вении вещей: “...ни действовать, ни претерпевать в собственном
смысле не способны те вещи, которые не могут соприкасаться друг
с другом”24. Отсюда становится понятен тот интерес, который ан-
тичный философ проявлял к теории пор и к передаточным воз-
можностям внешней среды (воздуха и воды). С этой же точки зре-
ния он критиковал платоновское учение об идеях, в частности от-
рицая возможность связи между эйдосом и отдельной вещью и ут-
верждая, что для соотнесения эйдоса и вещи не подходит ни одно
из значений предлога “из”25. Неоплатонизм, т.е. усовершенство-
ванный вариант учения Платона, возник при попытке учесть и пре-
одолеть критику Аристотеля. В экхартовском изводе он уже опе-
рировал тремя видами символизации: “соименной”, описывающей
аристотелевский эффект соприкасания однородных вещей, “одно-
именной”, обосновывающей невозможность взаимодействия не ка-
сающихся разнородных предметов, и “аналогической”, отражаю-
щей все же возможные тонкие, бесконтактные влияния этих пред-
метов (читай Бога на тварь через благодать)26.
Итак, и византийская, и немецкая мистика были сосредоточены
на проблемах “домостроительства Божьего”, на проявлениях самой
по себе неявленной сущности во вне, в тварной среде. Но проявле-
ние - это процесс. Процесс же нельзя описать, не связывая друг с
другом противоречивым, а точнее, диалектическим образом дис-
кретные по своей природе значения слов и понятия. Отсюда - еще
одна общая черта мышления Экхарта и Паламы, их учеников и пос-
ледователей. В этой связи крупнейший знаток исихазма Г. А. Остро-
горский писал: “Греческо-христианское мышление я бы назвал в су-
ществе своем антиномичным. Греческая догматика сплошь покоит-
ся на положениях логически друг друга исключающих и уничтожа-
ющих, мысля теологически единым то, что логически является мно-
жественным, и, наоборот, мысля теологически множественным то,
что логически едино”. И далее, уже о Паламе: “Он становится на
путь антиномического мышления, являясь верным продолжателем
философских традиций греческой догматики. Его система соответ-
ствовала и отвечала самим основам греко-христианского мышле-
ния”27. Но и глава рейнской мистической школы был диалектиком
par excellence. Диалектика пронизывает все мышление рейнского
мистика, составляя ткань его мысли, суть его афоризмов: «Надобно
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама 293
тать, - читаем мы в “Толковании на Исход”, - что нет ничего столь
неподобного, как Творец и любое творение. А с другой стороны, ни-
что столь не подобно, как Творец и любое творение. И далее: ничто
не является столь неподобным и вместе с тем подобным чему-либо
другому, как неподобны и в то же время подобны Бог и любое тво-
рение»28. Какое бы понятие ни исследовал Экхарт, оно разворачива-
ется в иерархию пар соподчиненных понятий; при этом каждая еди-
ная и противоречивая двоица тезиса и антитезы порождает сложное,
не сводимое к ним и удерживающее их представление, которое в
спою очередь также сочленяется с противоположным ему с тем,
чтобы влиться в синтез на новой ступени. Таким образом домини-
канский теолог получает понятия, каждое из которых представляет
собой сложное равновесие нескольких противоположностей.
Но что же, собственно говоря, заставило Экхарта и, по утвержде-
ниям Острогорского, Паламу сдвинуть философские понятия со сво-
их устойчивых, приписанных им абстрактной, школьной мыслью
мест и вывести их из тождества самим себе? Скрытый за научными
представлениями и выговаривающийся в них опыт, в частности и пре-
жде всего опыт unio mystica. Спонтанное протекание, разворачивание
опыта разрушает ограниченность изолированных и четко очерчен-
ных понятий и их речевых символов - слов - и не может описываться
иначе, как только в диалектических сочленениях. В ходе подобного
описания научные концепции, по своей природе статичные и дискрет-
ные, по необходимости “наезжают” друг на друга и “ломают друг дрУ'
гу края”, иначе говоря подвергаются частичному взаимному отрица-
нию во имя порождения динамического и более адекватного изобра-
жаемому опыту синтеза. Так сам понятийный строй сочинений Эк-
харта и Паламы, его диалектика, свидетельствует о скрытом за ним И
в нем же открывающемся опыте экстатического единения с Богом.
Однако ни Экхарт, ни Палама, ни их ученики отнюдь не были
стихийными диалектиками. Они не просто диалектически мыслили
явленность в мире трансцендентного Бога, но размышляли и наД
самой диалектикой, культивировали ее в качестве метода.
Генрих Сузо
"Если две contraria, т.е. две про-
тивоположные вещи, человек не
осознает как единое друг с другом,
то с ним, без сомнения, невозможно
рассуждать о подобных вещах"
("Книжица Истины". Гл. 6; S. 32).
Григорий Палама
"...Толкующий высказывание
так, что обе его части остаются
верны, а не так, что одна менее, а
другая более предпочтительна, такой
человек благочестив. Использующий
же одну часть так или иначе против
другой неблагочестив или даже
нечестив по отношению к каждому
из названных положений" ("Феофан";
PG. 150,917).
294
Сравнительная история
Григорий Палама "Итак, нам следует принимать оба утверждения и устанавливать их себе как правила благочестия. А тех, кто противопоставляет одно [утвержде- ние] другому, или считает их подоб- ными друг другу, надлежит отвергать как нечестивых и безумных" ("Фео- фан"; PL 150,932).
“Противопоставляющих одно [утверждение] другому... надле-
жит отвергать”, так как они еретики, искажающие живую антино-
мичность догматов, добытую в мистическом опыте богообщения, в
угоду своим логически безупречным и непротиворечивым, но пото-
му же и ложным, убогим понятиям. Догматы противоречивы, наста-
ивает Палама в диалоге “Феофан”, как противоречивы и библей-
ские откровения: “Бога не видел никто никогда” (Ин. 1: 18), но “чи-
стые сердцем Бога узрят” (Мф. 5: 8). На эту тему, между прочим, пи-
сал о. П. Флоренский в своем “Столпе и утверждении Истины”.
Сам Палама выказал себя диалектиком, когда снял оппозицию
Бога и тварного мира, введя в нее третий член, благодать, совокуп-
ность энергий, отличных от Божественной природы, но не отделен-
ных от нее. И тогда, вместо оппозиции возникла триада: непричаст-
ная причина - причастное - причащающееся. Вслед за Отцами вос-
точной Церкви Палама описывал эти энергии (“исхождения”, “силы”,
если вспомнить терминологию Ареопагита) следующим образом:
Григорий Палама «Мы... видим Божественные силы приобщаемыми и все никогда не начавшимися, но не по действию, а по существованию, хотя и не само- стоятельными, - приобщаемыми... в качестве преждесуществующих в Боге; приобщаемое, согласно боже- ственному Максиму, никогда не начало быть, и "небытие не старше его", но вечно существует от вечно сущего Бога, вечно находясь без отделения вокруг Него и совечно с Ним бытийствуя в Нем» ("Триады". III. Ч. 2. П. 20; Р. 679). "Максим назвал последнее [обо- жение] не только воипостасным, но и нерожденным и не только нетвар- ным, но и неограниченным и сверхвременным, так что улучившие Майстер Экхарт «Поначалу надобно знать, что мудрец и мудрость, правдолюбец и истина, праведник и праведность, блаженный и благостыня друг на друга взирают и так друг к другу относятся: благостыня не сотворена, не создана и не рождена, однако же она рождающа и порождает бла- женного. А блаженный, коль он вправду блажен, не созданный и не сотворенный, но рожденный ребенок и сын благостыни. Сама себя и все, что она есть, благостыня порождает в блаженном, сущность, знание, лю- бовь и деяние вливает она с избыт- ком в блаженного. А блаженный берет все свое существо, знание, любовь и деяние из сердца и сокро- венных недр благостыни и лишь из
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
295
Григорий Палама
его делаются в нем нетварными,
безначальными и безграничными,
хотя возникли со стороны своей
природы из ничего" ("Триады". III.
Ч. 1. П. 31;Р. 617).
[С ссылкой на Дионисия, "О Бо-
жественных именах". Гл. XI. П. 6]:
"Сущетворная сила" Бога [тво-
рит] "сущности",
"Жизнетворная сила” [творит]
"живущее как живое чувственно,
осмысленно или умно",
"Умудряющая" сила [творит]
"умудряемое",
"Обоживающая" сила - "обоживае-
мое..." ("Триады". III. Ч. 2. П. 23;
Р. 683).
Майстер Экхарт
нее. Блаженный и благостыня суть
не что иное, как единое благо, все во
всем, кроме порождения и рождения-
становления. И все же порождение,
присущее благостыне, и рождение-
становление в блаженном суть еди-
ная сущность, единая жизнь. Все, что
имеет блаженный, он получает от
благостыни и в благостыне. Тут он
есть, существует и жительствует. Тут
осознает он себя самого и все, что он
сознает, и любит все, что он любит; и
творит с благостыней [и] в благосты-
не, а благостыня с ним и в нем, все их
дела сообразно тому, как написано и
как Сын говорит: "Отец, во Мне
пребывающий и живущий..."» ("Кни-
га Божественного утешения". Гл. 1;
DW V. S. 9).
В обоих отрывках благодать предстает как совокупность уни-
версалий. Рассматривая универсалии как сущие “при” Боге и “око-
ло” Бога, богословы наполняли их сходным содержанием: мудрость,
истина, святость, праведность, благостыня (Экхарт), мудрость, сво-
бода, праведность, святость (Палама), и описывали по четырем па-
раметрам. Согласно их мнению, 1) универсалии существуют до сво-
их субъектов-носителей; 2) существуют и после них, и, когда те ис-
чезают, они остаются; 3) универсалии не получают от субъектов, а
наоборот сообщают им свое бытие; 4) субъекты существуют “по-
стольку - поскольку”, лишь в ту меру, в какую способны вневремен-
ным образам приобщаться универсалиям, благодати.
3. НЕОПЛАТОНИЗМ ЭКХАРТА И ПАЛАМЫ,
ПРОБЛЕМЫ БОГОПОЗНАНИЯ
И БОГОСЛОВСКОГО ДИСКУРСА
Эмпирических связей между рейнской мистикой и афонским исихаз-
мом, по всей вероятности, не было, а потому с особой остротой вста-
ет вопрос об их общих истоках. Говоря в целом, обе мистические
школы представляли собой восточно- и западноевропейскую ветви
средневекового неоплатонизма. В отечественной литературе воп-
рос о неоплатонизме Григория Паламы ставился неоднократно.
Еще Ф. Успенский в издании “Синодика в неделю православия” пи-
296 Сравнительная история |
----------------------------------------
сал, что “Изучение всей полемики между Варлаамом и Паламой...
может говорить за то, что неоплатонизма придерживались против-
ники Варлаама”29. Ф. Успенскому вторит А.Ф. Лосев30, а в наши дни
И.П. Медведев31. Если в России предположения о неоплатонизме
Паламы звучат несколько “еретично”, то в западной науке, не пода-
вленной мнением ортодоксии, они высказывались уже давно, тем же
о. А. де Алле, Э. фон Иванкой, К. Байумкером и Д. Райншем (Бер-
лин), указывавшим, что “с точки зрения метафизики можно все же
в общем и целом с полным правом говорить о> неоплатоновской тра-
диции, [прослеживаемой] у Паламы”32. Эту точку зрения оспаривал
о. И. Мейендорф, напоминая о взаимном несоответствии христиан-
ской и неоплатоновской апофазы. Согласно последней, Божествен-
ная трансцендентность является следствием ограниченности тварно-
го разума, тогда как согласно первой, транспендентность является
качеством самого Бога. Мейендорф настаивал также на “библей-
ском монизме” идеолога исихазма, который тот осознанно противо-
поставлял “платоновскому дуализму”33. Со вторым, основным, аргу-
ментом следует решительно не согласиться, ведь дуализм преодоле-
вался уже в рамках позднеантичных и средневековых неоплатонов-
ских течений. Следуя в их русле, Палама ставил своей целью субли-
мировать эманационную теорию, “воцерковить” ее, по-своему ин-
терпретировав присущий ей пантеизм.
Но именно эта же задача стояла и перед Майстером Экхартом
в его противостоянии женскому мистицизму, выдвигая свое учение
о внутренней атрибутивной аналогии, несущностном подобии сущ-
ностно неподобных Бога и тварного мира (за. которым стояла ин-
туиция формы и информации)34, он пытался втиснуть мистику сво-
их подопечных в рамки церковной доктрины. Что касается экхар-
товского неоплатонизма, то он ни у кого сомнений не вызывает.
Между прочим указываются и основные источники его неоплато-
новской теологии (К. Ру), а именно: “Книга XXIV философов”,
“Вождь нерешительных” (в рус. пер. “Путеводитель растерянных”)
Моше бен Маймона35 и “Книга о причинах”, являющаяся сжатым
конспектом “Основ теологии” Прокла. С последней Экхарт был,
кажется, тоже знаком по переводу, выполненному в конце ХШ в.
Вильгельмом фон Морбеке. Среди прочих нпоплатоновских тек-
стов, оказавших влияние на немецкого мистикП, следует упомянуть
«Комментарий на “Сон Сципиона”» Макробия, трактаты Боэция
(“Утешение философией”, “О Троице”), Августина, а также араб-
ские и еврейские толкования на аристотелевские сочинения: Ави-
ценны (Ибн Сины), Аверроэса (Ибн РушЩа) и Авенцеброля
(Ибн Габироля). Как видим, эти источники представляют две -
позднеантичную и позднесредневековую - волны западноевропей-
ского неоплатонизма.
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
297
Майстер Экхарт был, как утверждается и Н. Гучинской, чрез-
пычайно сильно ориентирован на богословие восточной Церкви.
('остоя в 1302-1303 и 1311-1313 гг. штатным лектором при теоло-
гическом факультете Парижского университета, он имел в своем
распоряжении созданный в его скриптории в 50-е годы XIII в.
"Corpus Dionysiacum”, куда входили не только дионисиевские тек-
сты, но также комментарии и парафразы на них. Рейнскому мисти-
ку были известны и старейшие толкования на Дионисия, состав-
ленные Иоанном Скифопольским и Максимом Исповедником.
I $ основе экхартовских выкладок лежало учение Ареопагита о Бо-
жественных “выступлениях”. Но “выступление” (лрбобо?) стоит в
трактатах последнего в общем ряду с такими синонимами, как
"энергия” (evepyeia), “сила” (Sovapig) и “аналогия” (avaXoyia)36.
Все эти термины описывают один и тот же процесс: явление в им-
манентной среде трансцендентного Бога, однако, описывают с раз-
ных сторон: “сверху”, от Бога (“энергия”, “сила”) и “снизу”, от ве-
щи (“аналогия”). Впоследствии эти термины были разобраны за-
падной и восточной традициями, перешли к Экхарту и Паламе. Пе-
ред ними стояла задача таким образом истолковать Дионисия -
развивая уже заложенные в его трактатах, но методологически не-
достаточно проработанные идеи - чтобы утвердить не сплошной,
а, как сказано выше, прерывистый характер упомянутых “выступ-
лений” в область тварного мира. И если у Ареопагита их неявное и
е трудом постижимое качество иллюстрировалось с помощью го-
лоса, то у Экхарта - посредством воздействий магнита.
Дионисий Ареопагит
"Причина... всему персонально
причаствует, - подобно тому как го-
лос, будучи одним и тем же, мно-
гими ушами воспринимается как
один" ("О Божественных именах".
Гл. 5. П. 10; С. 218-219).
Майстер Экхарт
"Форма всякой составной сущ-
ности (вещи. - М.Р.) возвышается над
материей и как бы отстоит от нее,
ведь она оказывает некое действие,
простирающееся на материю, подоб-
но тому, как магнит притягивает же-
лезо" ("Толк, на Евангелие от Иоан-
на". Гл. 14. П. 554; LW III. S. 483).
Предлагая свои в целом похожие друг на друга учения о Божест-
венных “выступлениях”, богословы исходили из разных, в некотором
смысле противоположных культурно-исторических ситуаций. Если
Палама учением о нетварной благодати так или иначе откликнулся
на дуализм мессалиан-богомилов, то Экхарт противопоставил учение
о нетварной же благодати пантеизму “братьев и сестер свободного
духа”, радикальных бегардов и бегинок. Однако тот и другой с раз-
ных сторон пришли к одному результату, ведь ответ дуализму и пан-
298
Сравнительная история
теизму может быть только один - теория формы, неважно скрывает-
ся ли интуиция формы под именем “энергии” или “аналогии”.
Кроме Дионисия Ареопагита, к часто упоминаемым и цитируе-
мым у Экхарта авторам принадлежат Иоанн Дамаскин и Иоанн Зла-
тоуст. Экхарт знал “Шестоднев” Василия Великого. Используя выра-
жение архим. Киприана (Керна), автора “Антропологии св. Григо-
рия Паламы”, можно сказать, что многие “духовные предки”37 визан-
тийского исихаста были отдаленными предками и Майстера Экхар-
та. - Помимо указанных сочинений, важную роль в становлении эк-
хартовского богословия сыграли трактаты Оригена и платоновский
“Тимей” в переводе Халкидия (первая половина IV в.). Заметим: од-
ной из насущных задач в сравнительном изучении византийского иси-
хазма и немецкой мистики является разработка темы “аристотелизм
Паламы”, которая, как показал комментарий Р.Е. Синкевича на “Сто
пятьдесят глав”, требует к себе самого пристального внимания, одна-
ко неизменно игнорируется (как впрочем и неоплатонизм Паламы)
представителями православной науки об исихазме. Прежде всего
тщательному анализу должны быть подвергнуты такие термины Ста-
гирита, как “способность” (Strvagu;) и “деятельность” (Svepycia)38.
Если придерживаться предложенного Г.М. Прохоровым трехча-
стного членения эволюционной истории исихазма, то нужно при-
знать, что экхартовское учение о внутренней атрибутивной анало-
гии соответствует ее второму этапу “философско-богословского
выражения и обоснования”39. Оказав мощное органическое влияние
на христианство немецкоязычного региона (в частности на Нико-
лая Кузанского), учение рейнского мистика не имело сколько-ни-
будь ощутимых политических последствий и не представляло собой
теоретического обобщения какой-либо психосоматической практи-
ки, которую можно было бы сопоставить с деланием “умной молит-
вы” в монастырях и скитах Афона. И хотя у Экхарта можно найти
рассуждения о сидячей молитвенной позе (проп. 90), роли сердца в
физической и духовной жизни человека (проп. 14, 71, 81, 82, 99), об
опрощении, внутреннем единении, хранения ума и отсечения помы-
слов (проп. 5а, 19, 33, 34, 69, 72, 81, 86; Pf. I, II), его идеи не обобще-
ны в цельное аскетическое учение. Однако само их наличие недву-
смысленно свидетельствует о восточных симпатиях рейнского Мас-
тера. В культуре восточного христианства его интересовала не толь-
ко линия Дионисия и его греческих толкователей, но и традиция
практической аскезы. Недаром в проп. CIX, СХ (Pf.) он упоминает
имена и приводит примеры из житий Антония, Макария, Арсения,
Нестора, цитирует слова св. Исаака о молитве и плаче (используя
сведения, почерпнутые из “Жизни пустынных отцов” Руфина, из
“Жизнеописания отцов” и сочинения “О знаменитых мужах” Иеро-
нима). Осуществляя духовное окормление женских общин и мона-
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
299
стырей, Майстер Экхарт во многом опирался на ту древнюю аскети-
ческую традицию, к которой тоже, хотя и в несколько расширенном
значении, приложимо название “исихазм” (термин “fjcruxia” возник в
IV в.) и которую на рубеже XIII-XIV вв. методически развили Ники-
фор Уединенник, Псевдо-Симеон, Григорий Синаит и Каллист Ан-
гсликуд. С их сочинениями немецкий мистик уже не был знаком. Не
знал он и “молитвы Иисусовой” и вообще глубоко сомневался в це-
лесообразности и возможности непрестанного молитвенного дела-
ния. По этому вопросу его мнение (“Речи наставления”, гл. 6; Лат.
upon. XXIV) весьма напоминало мнение Варлаама, в интерпретации
Паламы (“Триады”. И. Ч. 1. П. 30).
Не будучи, в отличие от паламистского учения об энергиях, тео-
ретическим обоснованием какой-либо молитвенной практики, эк-
хартовское учение об аналогиях все же обобщало опыт обращения
со словами молитвы40. С одной стороны, размышления Экхарта о
природе молитвенного слова логически следовали из положений
теории формы. А с другой - такие размышления были исходным
стимулом и отправным моментом в создании самой этой теории.
И то, что Экхарт говорил об обращенном к Богу слове, весьма по-
минало суждения на эту тему Григория Паламы, отличаясь от них
разве что большей внятностью:
Майстер Экхарт Григорий Палама
"Слова молитвы имеют своим предметом Бога и поэтому обретают от Него свою видовую определен- ность... Они по необходимости несут запечатленным в себе нечто Бо- жественное" (Лат. проп. XLVII/2; "Передача Духа осуществляется не только с молитвой в душе - молит- вой, которая совершает таинствен- ным образом единение молящегося с неоскудеваемым источником оного великого дара..." ("Триады". П. Ч. 2.
LW IV. S. 404). П. 13; Р. 347).
Выстраивая свою метафизику имени, рейнский Мастер исходил
из некоторых положений аристотелевской философии. Последняя
могла предложить для создания этой метафизики несколько мысли-
тельных ходов. Первый состоял в том, чтобы “буквы” {читай звуки,
Аристотель не отличал те от других) считать “материальной, а зна-
чение слова - “формальной причиной”41. Но доминиканский схоласт
предпочел другое аристотелевское построение: “Так как все изменя-
ющееся изменяется из чего-нибудь во что-нибудь, то изменяющееся,
когда оно впервые испытало изменение, должно быть уже в том, во
что изменилось. Ибо изменяющееся выходит из того, из чего оно из-
менилось...”42 Эту мысль Экхарт истолковал следующим образом.
Всякое действие, в том числе речевое, направленное на достижение
какой-либо цели и на получение так или иначе оформленной вещи,
300
Сравнительная история
заранее, уже в своем протекании определено, реально окачествова-
но самой этой целью и самой этой вещью. Другими словами, такое
определение осуществляется в ретроспекции и обращенности из бу-
дущего к настоящему, от искомого результата (“целевой причины”)
к подготавливающим его и в настоящий момент производимым уси-
лиям. Заключая в себе нечто от своего деятеля (интенсивность, ма,
териал и инструментарий), действие, в том числе речевое, организу-
ется в своем существе вовсе не им, но информацией об итоговом ре-
зультате. Именно на этих посылках основывался Экхарт, размыш-
ляя о природе молитвенного слова. Будучи, на первый взгляд, всего
лишь последовательностью звуков, артикулируемых человеком, та-
кое слово обращено в качестве своей цели к Богу, а потому опреде-
лено и окачествовано Им и, стало быть, не исчерпывается звуковой
оболочкой, но содержит в себе нечто от Бога. Экхарт был имяслав'
цем и имяславцем в большей мере, чем Палама, чье богословское
учение потребовало в дальнейшем значительных усилий, чтобы пе.^
ревести его в область теории языка. Экхарт сам осуществил такой
переход, закрепив лингвистические интуиции афонского исихаста в
четкой системе терминов и понятий. К тому же он проявлял интерес!
к еврейской мистике “имени Божьего”, привлекая для своих построй
ений тетраграмму и производные от нее “имена из 2, 12 и
42 букв”. Тетраграмма стала для Экхарта символом в подлинном
смысле этого слова. “Изолированное”, т.е. не произведенное от дру-
гих корней (ведь и в области онтологии философ методично искоре-
нял представления о “содетельной причине”), с таинственной огла-
совкой и неизвестным значением, имя “jod-he-waw-he” оставалось
запредельным тварному миру, хотя и обреталось внутри него43. Как
и Христос, оно “в мире было... и мир его не познал” (ср. Ин. 1: 10).
Не имея возможности останавливаться на других пунктах сопос-
тавления, мы вынуждены лишь упомянуть о сходстве идей Паламы
о мистическом познании сущего в его “причинах”, “основаниях” и
“первообразах” с тем, что у Экхарта, как и во всей августинианской
традиции, именовалось “утренним знанием”. В сравнении с этим зна-
нием и опытом unio mystica в целом, считают оба мыслителя, отчас-
ти обесценивается отрицательное, апофатическое, богословие. Оно
уступает свое первенство положительному, катафатическому, дис-
курсу о трансцендентном.
Майстер Экхарт "...Утверждение, так как оно отно- сится к бытию, соответствует Богу и Божественному как таковому. Отри- цание же не соответствует, но посторонне Ему. Коротко гово- ря, причиной сему служит то, что Григорий Палама [Апофатическое восхождение] "освобождает представление [о Боге] от всего прочего, но само по себе не может принести единения с запре- дельным" ("Триады". I. Ч. 3. П. 21; Р. 153).
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
301
Майстер Экхарт
утверждение предполагает бытие и
«включает его. Ведь копула есть
мнляется посредником всех
утперждений либо угадывается в
них. А всякое отрицание и только
оно содержит в себе небытие"
("Толк, на Исход". П. 77; LW II.
,S. КО).
Григорий Палама
"В соответствии с отрицательным
богословием ум размышляет о не-
свойственном Богу и действует рас-
членяющим образом..." ("Триады". II.
Ч. 3. П. 35; Р. 457).
Экхартовское отрицательное богословие питалось двумя источ-
никами; апофазой Дионисия и Маймонида. В этом рейнский Мастер
иыступал верным последователем Альберта Великого, у которого
указанное совмещение наметилось в толкованиях на “Corpus
I )ionysiacum”. У Моше бен Маймона апофаза уже рассматривается
как чистый эвристический метод, оторванный от непосредственной
снязи с трансцендентным и приложимый для описания различных
объектов. Приняв в качестве научного метода, Экхарт отверг апофа-
iy в приложении к Богу, ведь “Бог есть чистое и полное Бытие”44. Но
и Палама отказался говорить об этом несомненном для всякого экс-
тптика, хотя и неописуемом, бытии в терминах отрицательного бого-
словия. То, как мистики переживали трансцендентное бытие, видно
in их толкований на библейское “Аз есмь тот, Кто есмь”, Исх. 3: 14.
Апофаза не соответствует мистическому опыту и поэтому
должна быть преодолена, как должна быть преодолена и катафаза,
и высшем синтезе нового, утвердительно-отрицательного дискурса
о “неведомом Боге”. Если афонский исихаст не заходил дальше про-
граммных заявлений по этому вопросу, то его старший современник
с Рейна вплотную приступил к развитию антиномической речевой
практики, собирая то лучшее, что было создано в рамках схоласти-
ческой традиции.
Григорий Палама
"Как вмещение и видение Боже-
ственных вещей иное и высшее, в
сравнении с утвердительным бого-
словием, так вмещение отрицания в
духовном видении из-за превос-
ходства видимого иное и высшее, в
сравнении с богословием отрица-
тельным" ("Триады". II. Ч. 3. П. 26;
Р. 439).
«[Дионисий] одно и то же име-
нует и мраком и светом, и видением
и невидением, и знанием и незна-
нием. Почему же это и тьма и свет?
Майстер Экхарт
Бог есть "не становление, но
только момент настоящего", "станов-
ление кроме становления", "обнов-
ление помимо новизны". Он "способ
без способа, бытие без бытия", "на-
чало без начала", "исхождение без
изменения" и "цель без цели"... Свой-
ства Бога: "мудр без мудрости, благ
без благости, могуществен без вла-
сти", "един без единства", "тройствен
без троичности", "велик без коли-
чества", "благ без качества". Его
302
Сравнительная история
Григорий Палама "Из-за переизбытка", - он говорит, - "истечения света", так что он - свет в собственном смысле, но по пере- избытку - тьма» ("Триады". II. Ч. 3. П. 51; Р. 491). Майстер Экхарт аффекты, "гневается без смятения", "страдает без страдания", "ревнует без ярости", "жалеет без скорби". "Чем больше Бог на нас гневается, тем больше Он нас жалеет и нам сострадает..." (Проп. 50, 71, 9; "Толк, на Исход". П. 36; лат. проп. XI/2; XII/2; XVIII).
К экхартовской катафазе второго уровня относятся не только
приведенные выше антиномические (“сокровенная тьма незримого
света”), но и суперлативные (“сверхсущий, сверхдостохвальный”),
рефлексивные (“свет-сам-по-себе”), тавтологические (“чистота вся-
ческой чистоты”), удвоенные негативные45 высказывания, взятые в
качестве “чистейшего утверждения”, а также противоречивые опре-
деления того, что Палама именовал “триипостасной Единицей”:
“Различие исходит от единства, различие в Троице. Единство - это
различие, и различие - это единство. Чем больше различия, тем
больше единства, ведь это различие без различения”46. Составляя в
своей совокупности утвердительно-отрицательную речевую практи-
ку, все эти риторические фигуры и авторские неологизмы освобож-
дают слово средневерхненемецкого языка от присущего ему значе-
ния, дабы сформулировать положительное, но невыразимое обыч-
ным словом содержание.
4. АНТРОПОЛОГИЯ ЭКХАРТА И ПАЛАМЫ,
УЧЕНИЕ ОБ ЭКСТАЗЕ
В заключение мы обратимся к учению об экстазе в том его виде, в
каком оно было развито у Экхарта и Паламы. Прежде всего остано-
вимся на внешних фактах.
Для Экхарта каноном экстаза было восхищение ап. Павла до
“третьего неба” (2 Кор. 12: 2-4). В немецкой мистике ему отведено
примерно то же место, какое в богословии исихастов отводилось
Преображению Христа на Фаворе (Мф. 17: 1-13). Восхищение
Павла состоялось, по Экхарту, на кромке трансцендентного и им-
манентного, так что, познавая высшими силами “вечные вещи”,
своими низшими силами, которые были связаны с телом, он нахо-
дился во времени. И если бы, как сказано в проп. 23, Павла кто-ни-
будь “коснулся иглой”, то он бы непременно почувствовал. Пребы-
вая телом во времени, апостол “сердцевиной” души обретался вне
времени и там вневременным образом, т.е. не опосредованно через
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
303
сотворенных во времени ангелов, а непосредственно, созерцал Бо-
га. Это-то и есть “третье небо” ап. Павла, когда в него, отрешенно-
го от телесности (“первое небо”) и всякой образности представле-
ний (“нёбо второе”), вливается Бог47. Нечто подобное утверждал и
Палама, анализируя в “Триадах” (III. Ч. 1. П. 36) исступление ап.
Петра в Пятидесятницу: он в полной мере сохранил память, чувст-
ва (зрение, слух) и интеллектуальные способности. Что же касает-
ся Павла, то, по Паламе, “в экстазе он забывает даже о молении
Богу”. Но и, согласно Экхарту, “отрешенная чистота вовсе не мо-
жет молиться”48.
Вообще говоря, существовала огромная разница между “ста-
рым” экстазом и “новым”, культивировавшимся в период второй
волны неоплатонизма в западноевропейской культуре начиная с
ХШ в. Недаром и П. Динцельбахер завершает вереницу персонажей
своей монографии “Видение и визионерская литература в средние
века”49 непосредственно перед Экхартом, включая в нее, правда, эк-
хартовского ученика Г. Сузо, до знакомства с Экхартом в Кёльне ас-
кета и экстатика старого толка. “Старый” экстаз, практиковавший-
ся простонародными мистами, монахинями, оседлыми и бродячими
бегинками, не выходил за пределы пусть и несколько деформиро-
ванных представлений о пространстве и времени. Ему были прису-
щи визуальные, акустические, тактильные ощущения, дробная пла-
стика образов, равно как сюжетность и функциональность (преду-
преждение, исцеление, поучение, укрепление, наказание). В нем же
закладывался алгоритм прочтения пластических символов, аллего-
рий. Будучи по существу коммуникативным, “старый” экстаз сво-
дился к установлению связи с кем-нибудь из умерших, угодников,
Христом, Богородицей и существовал в качестве видения (visio), ко-
гда в экстатическом трансе мистом покидаются пределы дольнего
мира, или явления (apparitio), когда миста, при том, что он остается в
пределах наличной реальности, воспринимает ее, посещают при-
шельцы горних миров.
Традиционный экстаз Экхарт ничтоже сумняшеся называл “ло-
жью”. В проп. LXXVI/1 (Pf.) он уверял свою паству, что люди “бы-
вают весьма сильно обмануты” видениями (visionen), “когда в духе
своем они зримым образом созерцают предметы”, “картины челове-
чества Господа нашего Иисуса Христа” и “слышат в духе обращен-
ные к ним словеса”50. Не поднимая спорного вопроса о мистической
одаренности и о личном мистическом опыте Экхарта, мы тем не ме-
нее вынуждены признать, что в тюрингский, парижский, особенно
же страсбургский и кёльнский периоды своего творчества - в каче-
стве ли приора, куратора подконтрольных доминиканцам женских
общин, университетского лектора либо заезжего проповедника - он
общался с монахами и бегинками, нередко переживавшими экстати-
304
Сравнительная история
ческие состояния. Поэтому в немецкоязычных проповедях и тракта-
тах, которые был доступны широким слоям монашествующих и
простонародных мистов, рейнский Мастер уделял экстазу столь
большое внимание51. При этом он безошибочно распознавал и осу-
ждал разного рода “восхищения”, “теплоту чувств”, лжеэкстатиче-
ские и истерические мороки, получившие впоследствии в православ-
ной аскетике наименование “прелести”. Знал он и наработанный,
“холодный” экстаз, когда в экстатические переживания самим чело-
веком переносятся расхожие представления и обращенные к нему
общественные ожидания. Такой этикетный экстаз, экстаз как соци-
альную роль, мистик описал и оценил по достоинству в ранних “Ре-
чах наставления”.
В согласии с Экхартом рассуждал и Палама. Но тут необходимо
иметь в виду следующее. Если рейнская мистика сложилась в проти-
востоянии женскому мистицизму с его ложным экстатическим опы-
том, то учение Паламы формулировалось в спорах с универсальным
ученым и ренессансным гуманистом западного образца Варлаа-
мом Калабрийским. Отсюда - различие доктринальных акцентов
при сходном, в сущности говоря, содержании. Палама пишет о лож-
ном мистическом опыте походя, в основном имея в виду новоначаль-
ных делателей “умнбй молитвы”. Приводя слова св. Марка Пустын-
ника: “чистое сердце предоставляет Богу неотягченный веществен-
ными образами ум...”, он напоминает Варлааму о подлинных молит-
венных навыках: не обращаться к телу, окружающим его предме-
там, не действовать чувством и воображением, не рассматривать
рассудочно и умозрительно устройство сущего и проч. (“Триады”. I.
Ч. 3. П.41;П. Ч. 2. П. 15).
Новый, воспитанный неоплатонизмом экстаз характеризовал-
ся отсутствием всех упомянутых Динцельбахером черт. Само де-
ление на видение и явление теряло в нем всяческий смысл, ибо
пространственные представления оставались в нем невостребова-
ны... В нем не было ничего, кроме символики света и простых про-
низанных светом стереометрических форм. Впрочем, и фигура-
тивные образы упоминались лишь с тем, чтобы подвергнуться де-
конструкции, как это делалось в любимой и часто цитируемой Эк-
хартом “Книге XXIV философов”: “Бог есть беспредельный шар,
коего центр находится всюду, а поверхность нигде”52. Но ведь не-
что похожее мы видим и у Паламы, созерцающего “пресвет-
лый свет” (dp/icpiOTOV ф<Ъд), лишенный какой бы то ни было пла-
стической закрепленности. По всей вероятности, строй неоплато-
новской мысли не только оформлял на выходе мистические созер-
цания, но и, в обратном движении, внедрялся в экстаз и воспиты-
вал его.
А теперь от внешних наблюдений перейдем к существу вопроса.
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
305
В булле Иоанна XXII “На ниве Господней” от 27.III. 1329 г., в ко-
торой проклинались 28 изречений Майстера Экхарта, под № 10 сто-
ит следующая цитата из проп. 6: “Мы вполне преображаемся в Бога
и преосуществляемся в Него; тем же образом, как в таинстве хлеб
нреосуществляется в Тело Христово. Я так преосуществляюсь в Не-
го, что Он объединяет меня со Своим бытием, а не уподобляет ему;
клянусь живым Богом, это воистину так, тут нет никакого разли-
чия”53. Этот пункт дважды обсуждался в рамках кёльнского процес-
са в 1325-1326 гг., и оба раза Экхарт так или иначе отказывался от
приведенных в нем слов, говоря: “верно, ...если верно понять”, “...яв-
ляется ошибкой”, и далее: “Ведь святой или благой человек, кем бы
он ни был и как бы тесно он ни был связан с Богом, не становится
все-таки Самим Богом и Самим Христом, или Первородным, и дру-
гие через него не спасаются”54. (Заметим: проповеди предъявлялись
их автору в анонимных записях. Поскольку же они записывались в
иолуеретической среде, излагаемые в них мысли зачастую искажа-
лись и получали пантеистический окрас. Это давало Экхарту право
отказываться от многих из проповедей и цитат.) О проповедуемом
па Рейне не-сущностном единстве человека и Бога в экстазе визан-
тийские исихасты учили посредством термина “свет воипостасный”
(фюд ЕУилбататод), который, согласно Паламе, так назван не пото-
му, что имеет свою ипостась, а потому, что посылается “в ипостась
иного”. “Таково в собственном смысле воипостасное, созерцаемое и
не само по себе и не в сущности, но в ипостаси”55. В связи со сказан-
ным встает вопрос: если в пределах обеих мистических школ, афон-
ской и рейнской, единство в экстазе оценивалось не как сущностное,
то как вообще оно оценивалось?
Говоря об экстатическом единении человека и Бога, рейнский
Мастер имел в виду их единство не по существу, но в совместном
действии. Здесь он основывался опять-таки на Аристотеле, гово-
рившем, что “Действие воспринимаемого чувством и действие чув-
ства тождественны, но бытие их не одинаково”56. Не позволяя при-
числить Экхарта к числу пантеистов, этот оттенок мысли (и харак-
терный признак опыта?) сближал его с доминиканцем Дитрихом
Фрайбергским (ок. 1250 - ок. 1310). Согласно Дитриху, человече-
ский разум не исходит, наподобие прочих вещей, из Божественного
интеллекта в качестве одной из его частных идей или форм. Разум
создан “по образу” и, стало быть, подобен неограниченной сущности
Божьего интеллекта в его целокупности. При этом разум в той ме-
ре исходит из сущности Бога, в какой он Ее созерцает, “...происте-
кая из Нее и стяжая свою сущность тем, что постигает оную выс-
шую Сущность”, - пишет Дитрих в трактате “О блаженном созерца-
нии”. Отсюда у Экхарта: “Когда Бог взирает на тварь, Он сообщает
ей ее бытие. Когда же тварь взирает на Бога, она стяжает свое бы-
20 Одиссей. 2006
306
Сравнительная история
тие. Душа имеет разумное, познающее бытие, а посему где Бог, там
и душа, где душа, там и Бог“57. И более образно:
Майстер Экхарт "Глаз, которым я вижу Бога, - это тот самый глаз, которым Бог видит меня; мой глаз и глаз Божий суть один глаз и одно зрение и одно познание и одна любовь" (Проп. 12; DW I. S. 201). Григорий Палама "Насколько... их познает Бог, на- столько же они познают Бога..." ("Триады". III. Ч. 3. П. 12; Р. 719).
Заострение аристотелевских посылок привело к антиаристоте-
левским выводам: действие разума, созерцание, обосновывает его
сущность. В рамках аристотелевско-томистской онтологии это не
имело ровно никакого смысла, ведь действие, принадлежа к числу
акциденций, т.е. к разряду случайно приложенного, не может опреде-
лять чьей бы то ни было сущности. Но вот у Дитриха, как и Экхарта,
разум в своем созерцании Бога уподобляется Богу и сам становится
светом в силу того, что созерцает Божественный свет... “Из сказан-
ного выясняется ответ на давний и сложный вопрос”, как любил по-
вторять доминиканский теолог, тварен человеческий разум (“верши-
на”, “синтерисис”, “искорка”, “основание души”) или нетварен. Тва-
рен, если его понять как субстрат, и нетварен, если под ним разуметь
некую силу, интенцию, устремленную к Богу активность58. На этой
основе Экхартом и Паламой, как независимо друг от друга свиде-
тельствуют К. Флаш и И. Мейендорф, был опрокинут порядок ие-
рархий, который составлял у Дионисия «необходимое и всеобщее по-
средство передачи Божественного “исхождения”»59.
Разум объединяется в акте экстатического созерцания с идеаль-
ными интеллигибельными объектами и отождествляется с ними. Его
новой онтологической основой становятся умопостигаемые объекты,
тогда как старой онтологической основой было телесное и эмоцио-
нальное бытие. Человек есть бог и человек есть ничто. Если так по-
нять экстатическое единство, то в экхартовских утверждениях, вроде:
“Смиренному человеку высокого рода недостаточно быть единород-
ным Сыном, Которого Отец родил в вечности; он хочет быть и От-
цом и... родить Того, Кем я предвечно рожден”60, нельзя обнаружить
решительно ничего еретического. Экхартовское учение о пребыва-
нии души в объектах ее интеллекции соответствует теории познания
у Августина (“О Троице”, кн. IX, гл. 12) и теории активного разума
Моше бен Маймона (“Вождь нерешительных”, кн. I, гл. 68).
Далеко простирающиеся, хотя и не терминологические, соот-
ветствия идеям Дитриха и Экхарта мы обнаружим в практике и тео-
рии воспитанного неоплатонизмом византийского исихазма:
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
307
Майстер Экхарт «"Что знаешь, только то и мо- жешь любить"... В этой связи за- меть, что я не могу тем или иным образом помнить о Боге и не будет истинным то, что я помню о Боге, если Бог не присутствует в моей памяти. Точно так же обстоит дело с разумом и волей. Воистину, можно ли сказать, что я помышляю о Боге, постигаю или люблю Его, если Его нет в мышлении, разуме, воле или любви?» (Лат. проп. L; LW IV. S. 429-430). "И от переизбытка свет, обре- тающийся в основании души, из- ливается в тело, и оно вполне про- светляется" (Проп. II; Pf. S. 12). [Человек препровождается] "от сияния к сиянию и сиянием в сияние" (Проп. 23; DW I. S. 398). Григорий Палама "Бога никто не видел и не увидит, ни человек, ни ангел, однако постольку, поскольку ангел и чело- век видят чувственным либо ум- ственным образом. Став же Духом и видя в Духе, как не узреть подобное подобным, в полном согласии с тем, что говорят богословы?" ("Триады". II. Ч. 3. П. 31; Р. 449). "Свет видится в свете, и видящее пребывает в подобном же свете... Оно само целиком становится светом и уподобляется видимому, верней, несмешанно объединяется с ним, будучи светом и видя свет посред- ством света. - Взглянет ли на себя, узрит свет, на то ли, что видит, и там тоже свет, на то ли, чрез что видит, все тот же свет... [Видящий] стал светом и видит свет, отличный от всего тварного" ("Триады". II. Ч. 3. П. 36; Р. 459-461).
Из тезиса о деятельном единстве (синергии) человека и Бога в
экстазе следует вывод, что человек в общении с Ним не исчезает
в качестве самостоятельной ипостаси. Эта мысль, правда, зачас-
тую искажалась в околоэкхартовских, склонных к пантеизму кру-
гах, в которых составлялись списки трактатов и проповедей рейн-
ского мистика: “Душа... лишается своего имени, Бог ее поглоща-
ет, и она в ничто обращается, как солнце поглощает зарю, так что
та исчезает”61. Образом единства в совместном действии стал для
рейнского мистика феномен зрения, в его августиновской интер-
претации. В латинской проп. L он писал: “Нельзя было бы утвер-
ждать, что я вижу человека либо [какой-то] цвет, если бы образ
цвета или даже самый цвет, но в ином бытии, или скорей то же бы-
тие, но иным способом, не присутствовало в глазу”62. Так и Бог в
ином бытии,... вернее в том же бытии, но другим способом присут-
ствует в воспринимающей Его человеческой личности, не смеши-
ваясь с нею по существу.
В рассматриваемом вопросе Майстер Экхарт и Григорий Пала-
ма выступали приверженцами и сторонниками дионисиевского уче-
308
Сравнительная история
ния о “вечном круге”. Согласно этому учению Бог посредством че-
ловека “Сам Себя с Собою сводит и к Себе движет”. В толковании
на дионисиевы трактаты учение о круге развивает и Максим Испо-
ведник: “Вечный круг исходит из Добра, ниспосылается из Него
на воспринимаемое умом и чувствами и вновь к Нему возвращается,
не останавливаясь и не прекращаясь”63. Дионисию и Максиму
вторит Экхарт в проп. 1: “Бог познается Богом в душе”, и
проп. LXXVI/1 (Pf.): “Душа не действует, не познает и не любит, в
ней действует и познает Сам Себя Бог”64.
По Экхарту и Паламе, в экстатическое богообщение вступает не
только разум или душа человека, но он весь в своем телесном един-
стве. Правда, его психосоматический состав должен быть преобра-
жен благодатью, которая изливается в душу, а через душу - и в те-
ло. (Устойчивый православный мотив световидности плоти, знако-
мый по воспоминаниях Мотовилова об экстазе св. Серафима Саров-
ского.) Тезис о возможности зрительного восприятии благодатного
света вызвал протест со стороны противников Гр. Паламы, и преж-
де всего Варлаама Калабрийского.
Майстер Экхарт "[Благодать] изливается даже в само тело и притом в таком изобилии, что оно в качестве тела подчиняется душе, как воздух све- ту, - без того, чтобы при этом воз- никло какое-то сопротивление, что и открывается в дарах, каковые суть прозрачность и бесстрастие, утон- ченность и подвижность. И тогда жизнь становится совершенной, а подчинение материала - оконча- тельным" (Лат. проповедь ХП/2; LW IV. S. 136). "Некий языческий учитель ут- верждает, что природа на сверхпри- родное неспособна. Посему Бог не может быть познан никакою приро- дой. Если Он и может быть познан, то сие должно случиться в сверхъ- естественном свете" (Проп. LVIL Pf. S. 182). Григорий Палама «...Беспредельный свет, посред- ством которого, - после того, как иссякла [или сдержана, йотолагко] вся- кая познавательная сила, - святым в силе Духа открывается зримым обра- зом Бог как Бог, объединенный с бо- гами и видимый ими. Через причастие Лучшему превратившись в нечто луч- шее и, по пророческому слову, "об- новившись в силе", они приостанав- ливают всякое действие души и тела, так что посредством них является и ими созерцается только свет, ведь изобилием славы побеждается всякое природное ощущение, "дабы Бог был все во всем", по Апостолу» ("Триады". II. Ч.З.П. 31; Р. 451). "...Не по-нашему созерцают рож- денные в Боге, обожившиеся и бого- вдохновенно устремленные к Нему [?]. - Чудесным образом они со- зерцают чувством сверхчувственное, а умом превышающее ум, когда их человеческим способностям усваи- вается сила Духа, которой они видят то, что нам не по силам" ("Триады". III. Ч. 3. П. 10; Р. 713).
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
309
Приведем отрывок из трактата-проповеди “О человеке высоко-
го рода”, в котором рейнский мистик подробно изображает экстати-
ческое состояние. “Когда человек, душа, дух взирает на Бога, то он
понимает и мыслит себя познающим, т.е. он осознает, что видит и
созерцает Бога. И иным людям сдается, и это может показаться по-
хожим на правду, что цвет и ядро блаженства заключается в осозна-
нии, - когда дух сознает, что он постигает Бога. Ведь, если бы я ис-
пытал все блаженство и об этом не ведал, то какой же прок был бы
мне от того, и чтб это было бы за блаженство? Но я уверенно утвер-
ждаю: это не верно. Если и верно сие, - что душа без этого все-таки
не была бы блаженна, - то блаженство сокрыто все же не в этом.
Ибо первое, в чем блаженство сокрыто, это то, что душа в чистоте
взирает на Бога. Здесь берет она всю свою суть и свою жизнь и тво-
рит все, что она есть, из основания Бога и не ведает о знании, о люб-
ви и ни о чем вообще. Она обретает покой только и единственно в
сущности Бога; она не сознает, что здесь сущность и Бог. Но если
бы она знала и понимала, что она Бога видит, созерцает и любит, то
это, в соответствии с естественным порядком вещей, было бы уда-
лением, а [затем] возвращением в исходное...”.
В этом отрывке собраны вместе рассматриваемые нами мотивы.
Во-первых, настойчиво звучит мысль о деятельном (личностном), а
не сущностном (пантеистическом), единении с Богом. “Взирая на
Бога”, душа “не осознает, что здесь сущность и Бог”. Она не в силах,
как настаивает Экхарт в другом месте, описать Его посредством
объективирующих местоимений. В то же время, сохранившись в ка-
честве ипостаси, душа способна к рефлексии. Она может “мыслить
себя познающей”, т.е. осознавать “что видит и созерцает Бога”. Го-
воря иначе, уже во-вторых, “в соответствии с естественным поряд-
ком вещей”, это есть “удаление и [затем] возвращение в исходное...”.
Сопоставляя экстатическое единство и отстраненное осознание
единства, теолог сравнивает эти состояния с белизной как таковой и
белым по своему окрасу предметом: “Белое гораздо ничтожней и
гораздо более внешне, чем белизна [сама по себе]. Весьма различны
стена и фундамент, на котором стена зиждется”65. Но как бы ни-
чтожна ни была рефлексия в сравнении с созерцанием “горних ве-
щей”, она важна уже потому, что именно в ней зачинается речь, дис-
курс о трансцендентном во всем многообразии составляющих его
речевых практик.
И, наконец третье, самое главное: посредством неточной цита-
ты из Дитриха Фрайбергского утверждается активный характер
претерпевания Божественной благодати: “...душа в чистоте взирает
на Бога. Отсюда берет она всю свою суть и свою жизнь”. Здесь су-
ществует своего рода пропорция “поскольку-постольку”, “inquan-
tum-intantum” у Экхарта, “xct06aov-xaTa tooovtov” у Паламы, ведь
310
Сравнительная история
поскольку взирает, постольку и получает, а если не взирает, то ни-
чего не получит. Инициатором выступает сам человек, потому что
его сущность, как сказано, вопреки Аристотелю, обосновывается
акциденцией и произвольным деянием. В этом вопросе рейнская ми-
стика уже явным образом выступала за узкие границы теории поз-
нания в сферу конструирования мировоззрения и моделирования по-
ведения. Она утверждала волевое и трудовое отношение к судьбе и
жизни, указывая на исходную человеческую инициативу (впрочем,
никак не мотивированную, но осознанную и принятую в качестве
аксиомы), которая заложена в основе сложной техники интеллек-
ции умопостигаемых объектов.
Отнюдь не случайным выглядит тот факт, что в пику монахиням
и бегинкам, а равно и вопреки современному мнению, рейнский Ма-
стер рассматривал экстаз вовсе не как самоценное состояние и вер-
шину духовного совершенства, но скорее как школу и подготовку к
социальному служению человека. Об этом он рассуждал в частности
в проп. 2 и 86, толкуя Лук. 10: 38-42: “Пришел Иисус в одно селе-
ние”. В первой из них Экхарт ставит имя “жена” выше имени “дева”,
ибо, в отличие от девы, жена способна не только к восприятию Бо-
га, но и принесению плода. Сочетая два имени, проповедник создал
образ чистой и плодовитой “девы-жены”. То, чему он учил, находит-
ся в вопиющем противоречии с мнением Л.П. Карсавина, высказан-
ном им в “Основах средневековой религиозности в ХП-ХП1 веках”:
“Мистику всякая деятельность психологически чужда, он живет от
экстаза к экстазу... Он невольно смотрит на нее как на подготови-
тельную ступень к экстазу или как на средство для его достиже-
ния”66.
Но действительное положение дел совершенно иное. В основе
экстаза лежит деятельное обращение, сам экстаз заключается в де-
ятельном претерпевании, последствия экстаза состоят в деятельном
изведении обретенной внутренней формы во вне, в область социума.
Что касается исихазма, то в творчестве и практике последователя
Паламы, мирянина Николая Кавасилы он также вышел из кельи ас-
кета в область общественной жизни. Цели мирской исихии были
сформулированы в трактате Кавасилы “О жизни во Христе” (рус.
пер. “Семь слов о жизни во Христе”). Настаивая, как и Экхарт, на
необходимости хранения помыслов в жизни в миру, Николай, одна-
ко, в отличие от Экхарта не рассматривает социальную деятель-
ность человека как экстраполяцию, внешнее выявление его опыта
богообщения. Вся суть жизни в миру состоит в том, чтобы уберечь-
ся от мира, пройти мимо него, внутренне не заметив его. К тому же
выводу подводит анонимный автор “Откровенных рассказов стран-
ника духовному отцу своему”, памятника исихазма XIX в. и своего
рода манифеста российского странничества. “Откровенные расска-
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
311
чы” напрочь лишены экхартовской диалектики вненаходимости ин-
дивида по отношению к социуму, “множеству”, как любил называть
его Экхарт, и одновременной причастности к нему, - диалектики, в
которой нашла отражение прокловская антиномия причастно-
сти/непричастности Бога по отношению к дольнему миру. Если
предвозрожденческая рейнская мистика заложила основы буржуаз-
ной этики, то на почве православного исихазма не было развито фи-
лософии социального действия.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги сказанному, мы можем свидетельствовать о наличии
многочисленных общих черт в богословии идеологов двух мистиче-
ских школ XIV в., Иоанна Экхарта и Григория Паламы. Антиномия
присутствия - отсутствия Бога в сотворенном мире, учение о благо-
дати (внутренних атрибутивных аналогиях, энергиях), символе
(с привлечением терминов “различение” и “разделение”) и экстазе,
низкая оценка отрицательного богословия и переход к построению
нового богословского дискурса, наконец, диалектическая манера
мышления, - все это недвусмысленно указывает на объективную
близость немецкой и византийской мистики. Общность же источни-
ков, и прежде всего та роль, какую играл в творчестве Экхарта и
Паламы ареопагитический корпус67, позволяет трактовать указан-
ную близость как генеалогическое родство двух, западного и вос-
точного, неоплатоновских течений.
Повторяя слова М. Блока, говорят о “ложности” сравнений, на-
правленных на поиск общих черт: они якобы стирают уникальную
неповторимость каждого из сопоставляемых феноменов. При этом,
однако, совершенно забывают о методологической стороне вопро-
са. Указание на сходство явлений помещает их в новую парадигму
мышления, размещает на новом эпистемологическом фоне, како-
вым является каждое из этих явлений по отношению друг к другу.
Если многие вопросы теории энергий решаются в пределах теории
аналогий другим образом и в других терминах, то само наличие аль-
тернативных решений, позволяя взглянуть со стороны на хорошо
знакомые построения, углубляет уровень анализа и сдвигает его в
иной горизонт. Лишь в этом случае возможно обновление знания,
ревизия устоявшихся представлений, их перевод из разряда общих
мест-аксиом в разряд проблем и требующих постоянного доказыва-
ния теорем.
Но такой подход возможен только при наличии различий. В
противном случае речь будет идти о совпадении, тождестве эписте-
мологического фона и рассматриваемых на его поле явлений, что
312
Сравнительная история
сведет на нет саму возможность сравнения. Основное принятое в
данной работе отличие богословских взглядов Экхарта и Паламы
состоит в том, что интуиции афонского исихаста рейнский мистик
неизменно обдумывает, прописывает, используя фигуры аристоте-
левской философии, которые он зачастую перестраивает, стремясь
адекватно отобразить свой опыт богообщения. В качестве примера
можно привести соответствующую православному имяславию эк-
хартовскую метафизику имени. Богословские взгляды Экхарта и
Паламы сочетают в различных пропорциях библейский креацио-
низм и неоплатоновский эманационизм. Теории информации могли
разрабатываться лишь в рамках последнего, поскольку в пределах
волюнтаристских представлений о Боге-личности, Который “со-
творил, когда пожелал”, между “горним” миром и “дольним”,
трансцендентным и имманентным расположена совокупность про-
извольных Божественных действий, по которым, в отличие от Бо-
жественных “исхождений”-эманаций, невозможно судить о Творце.
Этот род агностицизма, связанного с апофазой и одноименной сим-
волизацией (омонимией определений и имен Бога) демонстрирует
Моше бен Маймон. Кроме того, эманационное учение в развитой
форме, как оно представлено у Экхарта (и между прочим у Диони-
сия), закономерным образом ведет к подавлению христологии. К
ней рейнский мистик, в отличие от главы исихастов, проявлял ис-
ключительно малый интерес. (Его ученик Генрих Сузо вообще
ббльшую часть жизни молился Истине-Премудрости Божьей. Он
создал андрогинный образ, наделив его чертами Прекрасной Дамы
и пользуясь обращением “Господь”68.) Наконец, Экхарт был не
только учителем экстаза, мистагогом, но и натурфилософом. Его
учение о благодати делится на две области. В первой из них иссле-
дуются “выступления” Бога в среду предметного мира, во второй -
в человеческое естество. Ведь Бог, согласно рейнскому Мастеру,
общается с человеком не как с тварной вещью. “Бог присутствует
во всех вещах. Но поскольку Бог Божествен и поскольку Бог наде-
лен разумом, Бог нигде не пребывает в столь подлинном смысле
как в душе и ангеле, и если хочешь, в глубочайшей глубине души и
в высшей вершине души”69. Связь между Богом и миром вещей ус-
танавливалась Экхартом посредством форм (аналогий, раздел 2-3),
а между Богом и человеком - посредством соименной символиза-
ции, отражающей соотношение однородных предметов (раздел 4).
В последнем случае рейнский мистик привлекал терминологию по-
рождения, из которой сам собой следовал вывод о единосущности
Бога и человека, что и ставилось ему в вину инквизицией. Что ка-
сается прочих различий, то о них едва ли имеет смысл говорить70,
поскольку они не задействованы в данной работе и не оттеняют
взглядов Григория Паламы.
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
313
Настоящая статья представляет не более чем промежуточные
результаты и скорей напоминает развернутый план еще не реали-
зованного проекта. Последний, таким образом, включает в себя в
качестве составного звена постороннюю критику и уточнения.
Вероятно, следует изменить и манеру письма, по некоторым от-
зывам, “изотерическую” и “герметичную”. В этой связи, правда,
следует заметить, что писать можно просто, можно - сложно, а
можно - просто о сложном. В последнем случае текст, будучи
простым по своему существу, “по совпадению”, как говорил Ари-
стотель, превходящим образом становится сложным. Это уже за-
висит от темы, каковой в нашем случае является отнюдь не “куль-
тура безмолвствующего большинства”, но культура образован-
ной, говорящей и напряженно мыслящей элиты, и мыслящей, на-
до заметить, совершенно иным образом нежели мы. Сделать
текст и в таком смысле простым означает подменить тему иссле-
дования. - Это последнее было предпринято нами исходя из тео-
логии Экхарта; богословие Паламы оставалось для нас своего ро-
да “Nebenfach”. Мы уверены в том, что каковы бы ни были его
предварительные результаты, оно послужит основой кристалли-
зации нового знания...
1 Иоанн Экхарт, немецкий доминиканец, глава рейнской мистической
школы. Приор в Эрфурте, викарий Тюрингии (1294-1300), лектор
(1293-1294), профессор (1302-1303, 1311-1313) богословия при Париж-
ском университетом, доминиканском Studium generale (1323-1326) в
Кёльне, провинциал Саксонии (1303-1311), генеральный викарий Боге-
мии (1307), куратор женских доминиканских монастырей в Страсбурге
и в его окрестностях (1313-1322). Осн. соч.: Комментарии на книги Вет-
хого и Нового завета (“Opus triparti turn”), нем. трактаты: “Речи настав-
ления”, “Книга Божественного утешения”, “О человеке высокого ро-
да”, “Об отрешенности”, 56 лат. эскизов к проп. и ок. 140 нем. проп. В
булле Иоанна XXII “На ниве Господней” от 27.III.1329 г. были прокля-
ты 28 пунктов экхартовской теологии.
Григорий Палама, идеолог византийского исихазма. Воспитанник Им-
ператорского Университета, монах на Афоне (1316 с перерыв, до
1345/1346), и в Верии, участник соборов 1341, 1347 и 1351 гг., архиеп.
Фессалоникийский (1350-1359). Осн. соч.: “Триады в защиту священно-
безмолствующих”, диалог “Феофан”, “Сто пятьдесят глав естественных,
богословских, этических и практических”, “Против Акиндина”, “Свято-
горский томос”, послания Варлааму и Акиндину, “Беседы” на 53 воскр.
года и др. Канонизирован в 1368 г.
2 Lossky V.N. Theologie negative et connaissance de Dieu chez Maftre Eckhart. P.,
1960. P. 344.
3 Мейендорф И.Ф. Флорентийский собор: причины исторической неуда-
чи//Византийский временник. М., 1991. Т. 52. С. 84—101.
314
Сравнительная история
4 Гучинская Н.О. Мистическое богословие Мастера Экхарта // Мастер Эк-
харт. Избранные проповеди и трактаты / Пер., вступ. ст. и коммент.
Н.О. Гучинской. СПб., 2001. С. 28.
5 Jugie М. Palamas Grdgoire И Dictionnaire de Theologie Catholique. P., 1932.
T. 11/2. P. 1735-1776; Jugie M. Palamite (controverse) // Ibid. P. 1777-1818;
Journet Ch. Palamisme et thomisme: A propos d’un livre recent // Revue
Thomiste. P., 1960. T. 60. P. 429-452; HalleuxA. de. Palamisme et Scolastique.
Exclusivisme dogmatique ou pluriformitd thSologique? // Revue th^ologique de
Louvain. Louvain, 1973. T. 4. P. 409-442.
6HalleuxA. de. Palamisme et Scolastique. P. 420.
7 Ivanka E. von. Plato Christianus. Ubemahme und Umgestaltung des Platonismus
dutch die Vater. Einsiedeln, 1964.
8 Platonismus in der Philosophic des Mittelalters / Hrsg. W. Beierwaltes.
Darmstadt, 1969.
9 Цитаты приводятся по изд.: Экхарт: 1) Meister Eckhart. Die deutschen und
lateinischen Werke: 10 Bd. Stuttgart, 1936-1997. (DW; LW);
2) Meister Eckhart I Hrsg. Fr. Pfeiffer. Leipzig: G.J. Goschen’sche
Verlagshandlung, 1857. (Pf.); 3) Meister Eckhart. Werke: 2 Bd. / Hrsg.
N. Largier. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verl., 1993; Палама:
1) Gregoire Palamas. Defense des saints h6sychastes: 2 vol. / Ed. J. Meyendorff.
Louvain, 1959; 2) Saint Gregory Palamas. The One Hundred and Fifty
Chapters / Ed. R.E. Sinkewicz (C.S.B). Toronto: Pontifical Institute of Medieval
Studies, 1988; 3) Грг|уор(ои той ПаХсща Хоуурйццата / Ехб(б.
П.К. Хрт)отоп. Тбщх; Г'. ФеооиХоуСхг], 1970. (Хр.) И PG. 150-151.
10 Майстер Экхарт. Толкование на Евангелие от Иоанна. Гл. 1. П. 180
(LW III. S. 149, 7-8). Взято из: Книга о причинах. § 9 (Die pseudo-aris-
totelische Schrift “Uber das reine Gute”, bekannt unter dem Namen “Liber de
causis” / Hrsg. O. Bardenhewer. Freiburg; Breisgau, 1882. S. 173-174).
11 Григорий Палама. Против Акиндина. III. Гл. 10. П. 28 (Хр. Г', Р. 184,
31-32).
12 Григорий Палама. Сто пятьдесят глав. Гл. 134: “тб лрбд т£ те xal тб noi£-
Tv” (Р. 238, 4—5). Майстер Экхарт. Толкование на Исход. Гл. 15. П. 62:
“substantia et relatio” с отсылкой к Августину, Боэцию и др. (LW II. S. 67,
5); Генрих Сузо. Книжица Истины. Гл. 3: “wesen und die widertragenden
eigenschafte” (Heinrich Seuse. Das Buch der Wahrheit / Hrsg. L. Sturlese,
R. Blumrich. Hamburg, 1993. S. 12,42-43).
13 Бог как мыслящий Сам Себя чистый Разум описывался в ранней
(1302-1303) парижской диспутации Экхарта “Тождественны ли в Боге
бытие и сознание?” (LW V. S. 37—48; пер.: Реутин М.Ю. Учение о форме
у Майстера Экхарта. М., 2004. С. 56-66). При этом им использовались
аристотелевские выкладки, связанные с перводвигателем. Ср.: Аристо-
тель. Метафизика. XII. Гл. 7: “Ум через сопричастность предмету мысли
мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и
мысля его, так что ум и предмет его - одно и то же” (Аристотель. Соч.
М., 1975. Т. 1.С. 310).
14 Майстер Экхарт. Проповедь 9 (DW I. S. 149, 1-12).
15 Там же. Проповедь 70 (DW Ш. S. 196, 3-5).
16 Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. III. Ч. 1.
П. 14 (Р. 585, 17-18).
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
315
17 Майстер Экхарт. Тождественны ли в Боге бытие и сознание? П. 4
(LW V. S. 43, 14—44,2); Реутин М.Ю. Учение о форме у Майстера Экхар-
та. С. 60.
|к Майстер Экхарт. Проповедь 16 b (DW I. S. 271, 1-3).
19 Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990. С. 108.
211 Генрих Сузо. Книжица Истины. Гл. 4 (S. 14,17-22); Майстер Экхарт. Об
отрешенности / Пер., вступ. ст. и коммент. М.Ю. Реутина. М., СПб., 2001.
С. 325.
21 Григорий Палама. Феофан, или о Божественной природе и о непричаст-
ности к ней равно как и о причастности. (PG 150, 940 С)
п Генрих Сузо. Книжица Истины. Гл. 7 (S. 60, 80-85). Об отрешенности.
С. 340.
Аристотель. О душе. II. Гл. 12. (Аристотель. Соч. Т. 1. С. 421).
74 Аристотель. О возникновении и уничтожении. I. Гл. 6 (Аристотель.
Соч. М., 1981. Т. 3. С. 402).
Аристотель. Метафизика. I. Гл. 9; XIII. Гл. 5 (Аристотель. Соч. Т. 1.
С. 88, С. 330).
26 См. очерк “соименной”, “одноименной” и “аналогической” символизации
у Фомы Аквинского и Майстера Экхарта в: Реутин М.Ю. Учение о фор-
ме у Майстера Экхарта. С. 5-17.
•' Острогорский Г. Афонские исихасты и их противники. К истории позд-
невизантийской культуры Ц Записки русского научного института в Бел-
граде. Белград, 1931. Вып. 5. С. 367-368.
•>lf Майстер Экхарт. Толкование на Исход. Гл. 20. П. 112 (LW II. S. 110,
3-6).
29 Синодик в неделю православия. Сводный текст с приложениями / Изд.
подг. Ф.И. Успенским. Одесса, 1893. С. 70. Ср. мнение И.Ф. Мейендорфа:
“Отношение св. Григория Паламы к античной философии вообще и в ча-
стности его переписка с Варлаамом на эту тему показывают, насколько
неверно считать его христианским наследником неоплатоников”. См.:
Протопресв. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Па-
ламы: Введение в изучение. СПб., 1997. С. 186.
10 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
С. 892.
11 Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. С. 68.
12 Reinsch D. Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis
Theol. Gr. 174. B., 1974. S. 24.
33 Протопресв. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Па-
ламы. С. 326.
14 См. очерк учений о форме и внутренней атрибутивной аналогии в твор-
честве Экхарта в: Реутин М.Ю. Учение о форме у Майстера Экхарта.
С. 17-39.
35 С легкой руки М.А. Шнейдера заглавие маймонидовского трактата
а’ЭТМЛ лпа стало переводиться как “Путеводитель растерянных” (по-
вторено в рус. переводе: Сират К. История средневековой еврейской фи-
лософии. М., 2003). Этот перевод заменил старый “Путеводитель блуж-
дающих” (Бек С., Бранн М. Еврейская история. Одесса, 1897. Т. 2. С. 99).
Следует сказать, что в средневековой и ренессансной Европе заглавие
316
Сравнительная история
основного сочинения Маймонида переводилось иначе: “Dux neutrorum"
(сер. ХШ в., пер. с евр. авторизированного перевода Ибн Тиббона, пере-
издан под названием “Dux seu Director dubitantium aut perplexorum” в Пари-
же в 1520 г.) и “Doctor peiplexorum” (И. Буксторф, Базель, 1629), что
более соответствует причастию mi» (Hiph.) от гл. >)’. Современные
французский (“Le guide des egares” / С. Мунк. Париж, 1856-1866), немец-
кий (“Fuhrer der Unschltissigen” / А. Вайс. Лейпциг, 1923-1924) и англий-
ский (“The guide of the perplexed” / III. Пинес. Чикаго; Лондон, 1963) пере-
воды находятся ближе к латинской версии, хотя и имеют в качестве вто-
рого лексическое значение “путеводитель”. Для латинской версии ХШ в.
можно предложить перевод “Вождь нерешительных”.
36 Lossky V. La notion des “Analogies” chez Denys le Pseudo-Areopagite //
Archives d’Histoire doctrinale et litt6raire du Moyen Age / Ed. Ё. Gilson,
G. ТЬёгу O.P. Paris, 1931. Vol. 5. P. 279—309. Здесь же (P. 308) дается
подробная характеристика (в 10 пунктах) понятия “аналогия” у
Дионисия.
37 Архим. Киприан Керн. Духовные предки Святого Григория Паламы
(Опыт мистической родословной) // Богословская мысль: Труды право-
славного богословского института в Париже. Париж, 1942. Вып. IV.
С. 102-131.
38 См.: Вениаминов В. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Па-
ламы Ц Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствую-
щих. М„ 1995. С. 375.
39 Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в
XIV веке // Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы:
Ст. СПб., 2000. С. 44-95. Автором выделяются “келейный этап” (первые
десятилетия XIV в.), “теоретический этап” (1341-1347) и этап “закрепле-
ния” доктрины в церковной жизни и политике (с 1347).
40 О молитвенном опыте Экхарта см.: Loser Fr. Oratio est cum deo confabu-
latio. Meister Eckharts Auffassung vom Beten und seine Gebetspraxis //
Deutsche Mystik im abendlandischen Zusammenhang: Kolloquium Kloster
Fischingen 1998 / Hrsg. W. Haug, W. Schneider-Lastin. Tubingen, 2000.
S. 283-316.
41 Аристотель. Физика. II. Гл. 3 {Аристотель. Соч. Т. 3. С. 88).
42 Там же. VI. Гл. 5. {Аристотель. Соч. Т. 3. С. 189).
43 См. об этом: Майстер Экхарт. Толкование на Исход. Гл. 20. П. 143-184
(LW II. S. 130-158).
44 Майстер Экхарт. Толкование на книгу Премудрости. Гл. 7. П. 140
(LW II. S. 478, 7).
45 Майстер Экхарт. Толкование на Евангелие от Иоанна. Гл. 1. П. 207: “У
Бога по причине того, что Он является бытием, не может отсутствовать
или не хватать бытия. Ибо бытие противостоит отсутствию и недостаче.
Посему Бог не есть какая-то часть мироздания, но есть нечто, пребываю-
щее вне, или скорей, раньше и выше него. Вот почему Богу не присуще ни-
какое лишение или отрицание, но Ему, и только Ему, подобает отрицание
отрицания, каковое есть ядро и вершина чистейшего утверждения”
(LW III. S. 175, 2-7).
М.Ю. Реутин. Майстер Экхарт - Григорий Палама
-311
,f’ Майстер Экхарт. Проповедь 10 (DW I. S. 173, 2-5). В одном из ближай-
ших номеров журнала “Новое литературное обозрение” (НЛО) должна
появиться наша статья «“Sermo mysticus” Майстера Экхарта», где подроб-
но будет рассмотрена теория и практика антиномического (утвердитель-
но-отрицательного) богословского дискурса.
и Майстер Экхарт. Проповедь 23 (DW I. S. 403, 1—405, 10).
,|к Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. I. Ч. 3.
II. 21 (Р. 155, 18-19); Майстер Экхарт. Об отрешенности. С. 217 (DW V.
S. 426, 7).
,1' Dinzelbacher Р. Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart, 1981;
Worterbuch der Mystik / Hrsg. P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1989; Гуревич А.Я.
Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
10 Майстер Экхарт. Проповедь LXXVI/1 (Pf. S. 240, 20-25).
11 О соотношении женского мистицизма и мистики Экхарта см.: Langer О.
Mystische Erfahrung und spirituelle Theologie. Zu Meister Eckharts
Auseinandersetzung mit der Frauenfrommigkeit seiner Zeit. Munchen; Zurich,
1987.
v Книга XXIV философов. § 2 (Liber viginti quattuor philosophorum. Corpus
Christianorum. Torino, 1997. T. 143 A. P. 7, 1-2); также § 18: “Бог-это шар,
имеющий столько поверхностей, сколько в нем имеется точек” (Р. 25,
1-2); Об отрешенности. С. 114, С. 366 (сн. № 433-436).
" Archiv fiir Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters / Hrsg.
P.H. Denifle, Fr. Ehrle S.I. B., 1886. Bd. 2. S. 638. Об отрешенности. С. 315.
Инквизиционный процесс против Майстера Экхарта. I. П. 132 (LW V.
S. 296, 11); II. П. 99 (LW V. S. 341, 24-25); Об отрешенности. С. 256,
С. 289.
Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. III. Ч. 1.
П. 9 (Р. 573, 24-26).
Аристотель. О душе. Ш. Гл. 2 (Аристотель. Соч. Т. 1. С. 426).
Майстер Экхарт. Проповедь 10 (DW I. S. 173, 6-9).
Flasch К. Einleitung // Dietrich von Freiberg. Opera omnia: 4 Bd. Hamburg,
1977. Bd. 1. S. XX-XXI. См.; Хорьков МЛ. Майстер Экхарт: Введение в
философию великого рейнского мистика. М., 2003. С. 179.
w Протопресв. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Па-
ламы. С. 258-259. Flasch К. Einleitung. S. XX.
, lU Майстер Экхарт. Проповедь 14 (DW I. S. 239, 4—7). Это высказывание
многократно предъявлялось мистику кёльнскими инквизиторами, ср.
п. 21 буллы “На ниве Господней”: Об отрешенности. С. 236, 285, С. 316,
397 (сн. № 1096).
61 Майстер Экхарт. Об отрешенности (DW V. S. 428, 1-3). С. 218.
62 Майстер Экхарт. Лат. проповедь L (LW IV. S. 430, 1-4).
Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. Гл. 4, § 14 (Диони-
сий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии /
Пер., вступ. ст. и коммент. Г.М. Прохорова. СПб., 1994. С. 129).
64 Майстер Экхарт. Проповедь 1 (DW I. S. 18, 8); проповедь LXXVI/1 (Pf.
S. 243, 4-6).
65 Майстер Экхарт. О человеке высокого рода (DW V. S. 116, 21-117, 4;
117, 10-12); Об отрешенности. С. 207.
318
Сравнительная история
66 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках.
СПб., 1997. С. 256.
67 Топоров В.Н. Мейстер Экхарт-художник и “ареопагитическое” наследст-
во Ц Палеобалканистика и античность. М., 1989. С. 219-252.
68 Сохранились принадлежащие Г. Сузо графические изображения образов,
созерцаемых им во время экстазов; см.: Seuse Н. Deutsche Schriften I Hrsg.
К. Bihlmeyer. Stuttgart, 1907.
69 Майстер Экхарт. Проповедь 30 (DW П. S. 94, 9-95, 3).
70 В отличие от Паламы, Экхарт, возможно, иногда скатывался в ересь, счи-
тая праведника полноправным участником тринитарного процесса:
“...без праведного человека Бог не знал бы что делать” (Тезис 13 буллы
“На ниве Господней”. Об отрешенности. С. 315). Подобные высказыва-
ния обычно изучаются в связи с ересью швабского местечка Риз
(1270-1273), документированной Альбертом Великим.
С.И. Лучицкая
ХРИСТИАНСКО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛЕМИКА
ПО ПОВОДУ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ*
В последние годы историки все чаще обращают внимание на роль
изображений в социальной и ментальной практике средневекового
общества. Можно сказать, что историческая наука переживает сего-
дня своеобразный “иконический поворот”1, когда почти ни одно
серьезное исследование по истории средневековой культуры не об-
ходится без анализа изобразительного опыта средневекового обще-
ства. Историки стремятся рассматривать изображения с самых раз-
ных точек зрения (а не только как эстетический феномен), разраба-
тывают методику их анализа на основе междисциплинарного диало-
га истории и истории искусства. Они сосредотачивают свое внима-
ние на исследовании изображений всех видов, письменных свиде-
тельств об использовании религиозных образов в обществе и на изу-
чении концепции визуального в Средние века. К этому последнему
сюжету я бы хотела подойти с точки зрения истории взаимных пред-
ставлений мусульман и христиан. Я помещаю предмет своего иссле-
дования на стыке двух важных проблем, обсуждаемых ныне в меди-
евистике. Первая из них связана с переосмыслением роли визуаль-
ного в средневековой культуре и повышенным вниманием к роли
изображений. Вторая вписывается в центральную для герменевтики
проблему Иного, образа Другого.
Итак, меня будет интересовать, в какой степени различное - у
мусульман и христиан - отношение к роли изображений в сакраль-
ном пространстве (известно, что в этом смысле в мусульманском ми-
ре утвердилась аниконическая традиция, в то время как христианст-
во в течение веков превратилось в цивилизацию образов) могло слу-
жить критерием различения между “своими” и “чужими”. Чтобы по-
казать это, я попытаюсь проследить эволюцию исламо-христиан-
ских контроверз по поводу изображений в эпоху крестовых походов.
Но для этого необходимо сначала напомнить о различных позициях
христианства и ислама относительно изображений.
Как известно, христианство в течение веков пыталось преодо-
леть ветхозаветный запрет на изображения и их почитание. Оправ-
дывая свою концепцию религиозного образа, христиане обра-
щались к догмату о Воплощении (как и догмату о Св. Троице).
Идея Воплощения, Воплощенного Слова предполагала совер-
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (04-01-00294а). Пользуясь случаем, вы-
ражаю благодарность д-ру филос. наук А.В. Смирнову за ценные советы и помощь при
написании работы.
320
Сравнительная история
шенно иное по сравнению с Ветхим Заветом отношение к визуаль-
ной сфере. В соответствии с “Книгой Бытия” (1 : 26) человек
создан “по образу и подобию Бога”. Согласно Новому Завету Воп-
лощение придало завершенный вид этой связи между человеком,
Богом и Христом. Христос в Новом Завете говорит: “видевший
меня видел Отца” (Иоанн XIV: 9). Согласно апостолу Павлу, во,
“Втором послании к коринфянам”, “взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ” (2-е Кор. III: 18), согласно “Посла-
нию к колоссянам”, Христос “есть образ Бога невидимого”
(Кол. 1: 15), Воплощение Христа рассматривалось как глав-
ный способ медиации между видимым и невидимым и как модель
всякой медиации в христианстве. Такова функция религиозных
образов Христа, Богоматери и святых, которые при определенных
обстоятельствах воплощают их присутствие среди верую-
щих. Культ образов был постепенно оправдан в христианстве.
Тем не менее существование образов порождало проблему идоло-
поклонства: как почитать Бога в его образах не почитая их вмес-
то Бога, где граница, разделяющая дозволенные и недозволенные
образы? Обвиняя других в идолопоклонстве, христиане пытались
отвести эти обвинения от самих себя, и отклонить атаки на
них евреев и мусульман, считавших христиан идолопоклонниками.
Полемический термин “идолопоклонство” служил в церков-
ной христианской культуре обозначением чуждых ей культо-
вых практик.
Визуальная стратегия ислама во многом отличается от христи-
анской. С одной стороны, в Коране нет четкого запрета на изобра-
жения, и Ветхий Завет намного более недвусмысленный в этом от-
ношении, чем Коран (Исх. XX: 4; Второз. IV: 15: “Твердо держите в
душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда го-
ворил к вам Господь на Хориве из среды огня”). С другой стороны,
можно отметить отсутствие развернутой концепции изображения в
Коране, приходится даже говорить об определенной скудости мыс-
ли по поводу изображений. На самом деле, исходной точкой отсчета
аниконической экзегезы мусульманских теологов служил неболь-
шой корпус текстов, в которых в основном говорится об образах
ложных богов, т.е. попросту говоря, идолов. Суры “Авраам” и “Про-
роки” говорят о борьбе Авраама против почитания идолов (аль-
аснам). Согласно Корану, лишь ложные божества должны быть раз-
рушены, а отнюдь не каждое изображение.
Итак, в мусульманской традиции изображения в принципе не за-
прещены. Для обозначения различных форм искусства в исламе
употребляется термин “тасвир” (от глагола саввара), причем подра-
зумеваются именно двухмерные образы, поскольку уже упоминав-
шиеся предписания относительно идолопоклонства препятствовали
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
321
развитию скульптуры2. Но кораническое использование глагола
саввара предполагает, что первоначальное значение “тасвир” - при-
давать форму вещи или лицу (XL. 64; LXIV. 3; VII. 11; III. 6). Термин
"аль-мусаввир”, который в мусульманской традиции, незнакомой со
скульптурой, равнозначен термину “живописец, чертежник”, в Ко-
ране относится к Богу как создателю формы (LIX. 24).
В Коране факт создания изображения (am-maceup) специфиче-
ским образом отождествляется с актом Творения (аль-халък). Со-
гласно учению ислама, лишь Богу надлежит создавать живые суще-
ства и давать им “дыхание жизни” (ар-рух). Аллах - “Творец, Созда-
тель, Преобразователь” (LIX. 24), Аль-мусаввир, и как единствен-
ный Создатель он не терпит “сотоварищей”, так что ат-тасвир -
э то деятельность, в принципе присущая Богу, и именно эта идея ста-
ла обоснованием неприятия изображений в исламе.
Таким образом, хотя в Коране и нет строгих и однозначных за-
претов на живопись и другие изобразительные искусства, все же
существует большое число оговорок относительно законности их
существования и практики. Первые оговорки такого рода появля-
ются в теологической литературе начиная со времен последних
Омейядов или ранних Аббасидов. Широко распространенные ха-
дисы упоминают, например, о том, что ангелы неохотно входят в
дом, где есть изображения3, что архангел Гавриил дал пророку
Мухаммаду согласие войти в дом лишь после того, как из него уда-
лили собаку и изъяли изображения4. Некоторые авторитеты вы-
ступали против (но не запрещали!) изображения живых существ,
наделенных душой и обладающих “дыханием жизни” (ар-рух) (за
исключением растений и деревьев, которые первые мусульмане
рассматривали в противоположность аристотелевской традиции
как неодушевленные предметы)5. Эти хадисы предсказывали му-
саввиру, что в судный день он будет наказан за свою неспособ-
ность оживить изображенные ими существа. (Уже во времена
Омейядов мусульмане угрожали и христианам, создающим изо-
бражения живых существ, наказанием на Страшном Суде.) Одна-
ко не только Коран, но и хадисы неоднозначно интерпретируют
запрет на изображения, так как некоторые авторитеты сужают
фокус этих запретов. Например, хадисы описывают, как пророк
приказал разрушить все изображения в Каабе за исключением
изображения Девы и младенца Христа6. Известно, что с самого
конца VII в. с монет исчезают изображения правителей, а остают-
ся лишь арабские надписи. Этот факт еще раз подкрепляет кон-
цепцию Руди Парэ и позволяет вписать монетную реформу Абд-
аль-Малика в общий процесс исламизации. В любом случае, кора-
ническая традиция и хадисы предполагали достаточно широкое
толкование запрета на изображение7.
21 Одиссей, 2006
322
Сравнительная история
Можно отметить, что ислам отказался от распространения по-
стулатов веры при помощи изображений. Нерукотворные чудотвор-
ные изображения, которые греки называли acheiropoietoi, в исламе
не были известны. Зато прочно утвердилась идея неизобразимости
Бога. “Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он - прони-
цателен, сведущий!” - говорится в Коране (VI. ЮЗ)8. Нельзя изобра-
жать Бога, так как “нет никакого божества, кроме единого Бога”
(V. 73). В глазах благочестивого мусульманина визуальная репрезен-
тация Бога может быть воспринята как создание двойника Бога или
его незаконной копии: “Мне повелено поклоняться Аллаху и не при-
давать Ему сотоварищей” (XIII. 36). В отличие от христиан, которые
рассматривают Воплощение как модель медиации между видимым и
невидимым миром, мусульмане этой догмы не признают. Для них
признать ее означало бы преступить догмат исключительного абсо-
лютного характера Бога (СХП. 1-4: “1. Скажи: “Он - Аллах - един”
2. Аллах, вечный; 3. он не родил и не был рожден; 4. и не был Ему
равным ни один!”). Тем самым христиане являются в глазах мусуль-
ман именно теми, кто придают Богу сотоварища. В соответствии с
этим догмат о св. Троице отвергается мусульманами (IV. 171): “Ве-
руйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите - три! Удержи-
тесь, это - лучшее для вас. Поистине, Аллах - только единый бог.
Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок”). В общем за-
прещено изображать Бога в какой бы то ни было конкретной фор-
ме, создавать и почитать изображения включая Крест, так как Стра-
сти Христовы и акт Распятия также отрицаются в исламе (IV, CLVII)
«...и за их слова: “Мы ведь убили Мессию, Ису, сына Мариам, по-
сланника Аллаха” (а они не убили его и не распяли, но это только
представилось им)». В общем отношение ислама к изображениям
основывается на ветхозаветной заповеди: “Не делай себе никакого
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли” (Исх. 20: 4). В целом ислам не
допускает изображений в сакральном пространстве.
* * *
Различное отношение к изображениям с особой остротой проявилось
в эпоху крестовых походов, когда христиане, как и мусульмане, стре-
мились укрепить свои позиции в культовом пространстве и оправдать
свое присутствие в Святой Земле. Борьба за контроль над объектами
культа и образами, которые могли быть использованы для религиоз-
ной легитимации, почти 200 лет определяла противоборство мусуль-
манского и христианского миров. Как известно, Иерусалим - центр
христианства, это место Страстей Христовых, и именно там находят-
ся самые главные святыни христианства - Гроб Господень и Честной
Крест. Иерусалим является также для мусульман священным городом
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
323
Ил. I. Куббат-аль-Сахра. Иерусалим
(алъ-кудс), третьим после Мекки и Медины. Гора Мория (территория,
па которой находился первый храм) - то место, откуда пророк под-
нялся на седьмое небо, там он оставил отпечаток своей ноги на скале,
где Авраам совершал жертвоприношение. Именно на этом месте му-
сульмане заложили основания мечети аль-Акса (“Отдаленная”) в мо-
мент завоевания святого города в 638 г. Другая чрезвычайно важная
святыня - Куббат-аль-Сахра. Эта мечеть была воздвигнута на горе
Мория в период войн халифа Абд-аль-Малика (686-691) против хри-
стиан. Это здание в форме купола (Купол Скалы) должно была сим-
волизировать победу ислама над христианством. Оно было построено
на том месте, где, возможно, находился древнееврейский храм, разру-
шенный ок. 70 г. до н.э., в святом городе христиан. Таким образом, по-
явление в этом месте мечети провозглашало новую веру в городе двух
монотеистических религий9.
С приходом крестоносцев сакральное пространство в Иерусали-
ме существенно преобразилось10. Мечети были превращены в хри-
стианские церкви. Куббат-аль-Сахра была отождествлена кресто-
носцами с древним храмом Израиля. Сразу же после завоевания
Иерусалима в 1099 г. она была преобразована в Templum Domini (Храм
Господень), самое важное для христиан здание. Позже храм был обра-
щен тамплиерами в христианскую церковь11. Мечеть аль-Акса была
324
Сравнительная история
Ил. 2. Мечеть Омейядов. Дамаск
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
325
отождествлена с храмом Соломона (так называемый Templum
Salomonis, Palatium Salomoni) и стала резиденцией правителей Иеруса-
лимского королевства. Присутствие христиан в сакральном простран-
стве горы Мория рассматривалось мусульманами как осквернение свя-
тынь. Точно так же присутствие культовых предметов мусульман рас-
сматривалось христианами как святотатство. Известно, что религия
устанавливает границу между “чистым” и “нечистым”12. Каждая сто-
рона стремилась защитить свои святыни от осквернения и одновре-
менно профанировать чужие культовые предметы.
В своих сочинениях христианские авторы демонстрируют враж-
дебное отношение к мусульманскому культу. Если хронисты назы-
вают христианские церкви loca sancta, sanctuarium Dei, sacra loca, то
культовые места мусульман с их точки зрения всего лишь diabolica
atria, а мусульманский контроль над культовым пространством на
Храмовой горе - настоящее святотатство. Описывая ситуацию в
Иерусалиме до прихода крестоносцев, хронист Бодри Дейльский го-
ворит о профанации храма Соломона (бывшей мечети аль-Акса):
“Но почему мы пренебрегли храмом Соломона, или же скорее хра-
мом Господнем, где эти варварские нации (barbarae nations) почита-
ют свои статуи (simulacra), которые они установили там против за-
кона и воли Бога?”13. По поводу Купола Скалы хронист Бодри Дей-
льский пишет: “Святый храм Господень осквернен; и пространство
храма стало местом собрания непочтительных народов; дом молит-
вы стал вертепом разбойников”14. Здесь он почти буквально повто-
ряет евангельскую цитату: «И говорил им: написано: “дом Мой до-
мом молитвы наречется”; а вы сделали его вертепом разбойников»
(Мт. 21: 13). Именно в таком духе воспринимаются превращения
христианских церквей в мечети. Не случайно хронисты, которые
желали повлиять на воображение читателей, рассказывают об оск-
вернении святынь и христианских образов накануне крестового по-
хода. Так Эккехард говорит в своей хронике о храме Гроба Господ-
ня и о Куббат-аль-Сахра: “Если Гроб Господень благодаря Провиде-
нию остался неповрежденным, то Храм Господень обречен на свято-
татство языческой религии”15. Попутно Эккехард замечает, что Ку-
пол Скалы является самым известным местом культа мусульман и
что сарацины входят туда босиком, предварительно помыв ноги; на-
против, христианам, рассматриваемым как “нечистые”, вход в храм
запрещен (“immundis judicabant”)16. Таким образом, хронисты отда-
ют себе отчет в существовании сакрального пространства мусуль-
ман, которые также прочерчивают границу между “чистым” и “не-
чистым”. Но со своей стороны они описывают культ мусульман как
ритуальные нечистоты, и при этом вдохновляются библейским об-
разом агрессивных и воинствующих язычников, созданным, напри-
мер, в Псалмах: “Боже! Язычники пришли в наследие Твое; осквер-
326
Сравнительная история
нили свитый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины”
(78: I)17. Пассаж из хроники Бодри Дейльского: “Иерусалим оказал-
ся во власти языческих нечистот”, - кажется неким отзвуком этого
псалма18.
Во время военных конфликтов мусульмане атакуют сферу са-
крального. Согласно хронистам Бодри Дейльскому и Гвиберту Но-
жанскому, мусульмане разрушали христианские церкви и превраща-
ли их в стойла для скота, сознательно профанировали христианские
святилища и глумились над христианскими образами. Продолжа-
тель хроники Петра Тудебода Сиврейского рассказывает о том, как
мусульмане “осквернили церковь св. Петра” в Антиохии, соорудив
на месте церкви “три дьявольских молельни”. Мусульмане убрали
украшенные золотом и серебром христианские образы, которые
“дивно сияли на всю церковь”, замазав их известью и надписав на
них “дьявольские буквы”19. Несомненно, в основе этих актов деса-
крализации лежали мотивы политические и идеологические. Но эти
рассказы также свидетельствуют о том, что концепция религиозно-
го изображения в обеих культурах оказывала влияние на восприятие
Другого. Каждая сторона старалась «профанировать святыни своего
врага и лишить их сакральной силы. В глазах христиан сакральное
материализовалось в изображениях, реликвиях, крестах, статуях и
образах. Рассказы хронистов, повествующих об осознанных атаках
на сакральное, будь то реальных или воображаемых, отсылают не
только к христианским представлениям об изображениях, которые
рассматриваются как центр культового пространства, но также сви-
детельствуют об их осведомленности о неприятии мусульманами
изображений, в частности Креста, отвергаемого в исламе20. Так, во
время осады Маары мусульмане установили крест на крепостных
стенах и глумились над ним. Согласно Петру Тудебоду, во время
коллективной литании христиан мусульмане глумились над Чест-
ным Крестом, били по нему бревном приговаривая: “Франки, нра-
вится вам такой крест?”21.
Описывая культ мусульман, христианские авторы используют
полемический термин “идолопоклонство”. Этим термином обозна-
чались недозволительные культовые практики, в частности почи-
тание ложных образов. В “Антиохийской песни” описана сцена
идолопоклонства сарацин: Мекка - спиритуальный центр ислама, и
в ней сосредоточены святыни сарацин, в частности золотой идол, в
котором обитает демон Сатана. Этот идол поддерживался в возду-
хе благодаря действию двух магнитов, которые заставляли его вра-
щаться22. Во время церемоний духовный глава “Мекки” (“Mieque”),
халиф Багдада (“califes de Bandas”) призывает демона, Сатану
(Sathanas), обитающего в идоле, дабы он пророчествовал о бедах и
несчастьях христиан и дал добрые предзнаменования мусульма-
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
327
нам23. Во время религиозных церемоний сарацины, поместив идол
Магомета на спине слона, проносят его по всем улицам города.
Статуя пророка сияет от обилия украшающих ее драгоценных кам-
ней24. Но мусульмане почитают своих идолов до тех пор, пока те их
защищают и помогают им. Sansadoines (Шамс-ад-Даул, сын султа-
на Яги-Сиана), побежденный христианами во время осады Антио-
хии, предсказывает поражение сарацин. Он атакует мусульманские
святыни: опрокидывает статую Магомета, что вызывает всеоб-
щее негодование мусульман. За причиненное пророку оскорбле-
ние они швыряют в него дротики, а султан (“soudan”) требует его
повесить25.
Как можно интерпретировать эти фантастические описания са-
кральных изображений мусульман, которые в действительности бы-
ли адептами ветхозаветных запретов на изображения? Дело в том,
что хронисты описывают культ мусульман исходя из своей христи-
анской концепции изображения. С точки зрения христианских авто-
ров изображения занимают центральное место в сакральном про-
странстве - ведь именно при помощи образов простым верующим
передавалось знание о наиболее важных догматах. Вследствие это-
го христианские авторы приписывают мусульманскому миру свои
собственные представления о роли изображений в культе, обнару-
живая у мусульман сакральные образы, религиозные шествия и дру-
гие знакомые христианам ритуалы. Можно было бы сказать, что
христиане находились во власти образов. Христианские писатели
приписывают сакральным образам, святыням и ритуалам мусульман
негативный смысл. Святыни врага осмеиваются, профанируются,
оказываются ложными, т.е идолами, - следовательно, мусульманам
приписывается идолопоклонство.
Вот эпизод из хроники Петра Тудебода: во время осады Иеруса-
лима христиане организовали процессию, во время которой кресто-
носцы, одетые в белые одежды, босиком и неся кресты, направились
к вершине горы Синай. В ответ сарацины организовали религиоз-
ную процессию, неся изображение Магомета на тряпице на острие
меча26. Исходя из своей концепции изображения, средневековые пи-
сатели рисуют культ мусульман симметричным христианскому.
В “Антиохийской песни” содержится примечательный диалог, яко-
бы состоявшийся между Готфридом Бульонским и атабеком Мосу-
ла Кербогой. В этом воображаемом диалоге христианский рыцарь
произносит свои угрозы: он дойдет до Персии и завладеет двумя кан-
делябрами со свечами, которые горят перед изображением Магоме-
та в Мекке и поставит эти канделябры перед Гробом Господним27.
Те же слова произносит Шамс-ад-Даул, сын Яги-Сиана, после сдачи
города Антиохии. Он заявляет о том, что в скором времени христи-
ане разрушат стены Мекки и заберут стоящие перед изображением
328
Сравнительная история
Ил. 3. Церковь Гроба Господня. Иерусалим
пророка канделябры. Этот же рассказ воспроизводится в песни Пер-
вого цикла крестового похода - “Завоевание Иерусалима”28.
Христиане стремились продемонстрировать, что в религиозных
зданиях и культовых образах мусульман сосредоточена дьявольская
сила. В том же самом Templum Domini (Куббат-аль-Сахра), который
согласно хронистам был “профанирован и осквернен” присутствием
мусульман, христиане устроили ужасную резню (Танкред вдобавок и
ограбил храм), и этот акт был интерпретирован как Божий суд, так
как “место это было обагрено кровью тех, кто своим богохульством
его так долго осквернял”29. Суть рассказов хронистов - религиозные
образы мусульман наделены демонической зловещей силой, и пре-
вращение мечетей в храмы христианские - это восстановление са-
С.И.Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
329
крального пространства. Удачный крестовый поход должен завер-
шиться падением идолов и утверждением христианских свещенных
образов.
С другой стороны, хронисты стремятся показать, что в религиоз-
ных изображениях сосредоточена божественная сила, помогающая
крестоносцам одерживать победы над врагом30. Совсем не случайно
такие рассказы часто упоминаются в хрониках. Рассказы о чудотвор-
ных иконах и нерукотворных образах (йхыролощтос) циркулировали
на средневековом Западе благодаря контактам с православным Вос-
током. Совершенно очевидно желание католического Запада завла-
деть чудодейственной силой византийских сакральных образов. Это
желание, как отмечают исследователи, заметно усилилось во время
крестовых походов и норманнских завоеваний - периодов наиболее
интенсивных контактов между Западом и Востоком31.
Рассказы о чудотворных образах можно обнаружить в хрониках
крестовых походов, например, Петра Тудебода. Во время осады Ан-
тиохии в 1098 г. турки заметили в глубине свода церкви св. Петра са-
кральный образ, “такой драгоценный и чистый”, что, казалось, он
что-то говорил мусульманам. Возбужденные видом этого изображе-
ния, мусульмане разговаривают с ним, как если бы это был одушев-
ленный предмет: “Что ты делаешь там, деревенщина? Твои люди
осаждают нас снаружи, а ты следишь за нами здесь? Мы же желаем,
чтобы ни тебя, ни твоих людей здесь не было”32. Они приказывают
образу спуститься, угрожают ему и метают в него стрелы. Но то
был чудотворный образ, и, конечно, ни одна из стрел не попала в
изображение. Затем по приказу эмира один из турок залез наверх и
попробовал сборосить вниз христианское изображение; но как толь-
ко он приблизился, свод обвалился, и турок упал на землю, сломав
себе все конечности и испустив последний вздох. Согласно хронисту,
чудотворный образ внушал большой страх мусульманам33.
Мусульманские авторы тоже обращали внимание на то, что хри-
стиане находились во власти образов. Автор “Собрания историй”
Ибн-аль-Асир рассказывает, что после взятия Иерусалима в 1187 г.
на улицах Акры можно было видеть похоронную процессию - огром-
ное количество священников, монахов и рыцарей, одетых в черное,
демонстрировали свою глубокую скорбь по поводу падения
Иерусалима: они изготовили большое изображение Мессии, которо-
го бил по лицу араб; они нарисовали кровь на лице Христа и говори-
ли возбужденной толпе: “Вот Мессия, побитый Мухаммадом, проро-
ком мусульман!” В своей истории о завоевании Иерусалима мусуль-
манами секретарь Салах-ад-дина Имад-ад-дин выражает удивление
по поводу чрезмерного почитания христианами Честного Креста.
В его глазах оно граничит с идолопоклонством34. Имад-ад-дин описы-
вает, как христиане переживали утрату Честного Креста. Он полага-
330
Сравнительная история
ет, что отвоевать эту драгоценную реликвию составляет самую глав-
ную цель христиан в их войне с мусульманами. Согласно Имад-ад-ди-
ну, христиане простираются ниц перед Честным Крестом и поклоня-
ются ему. “Почитать его, - говорит он, - было для них первей-
шим долгом, они отождествляли его со своим богом, перед которым
они простирались ниц”. Он недоумевает, почему христиане заключи-
ли Честной Крест в реликварий из золота и украсили его жемчугом
и драгоценными камнями. Он описывает процессии, во время
которых христиане проносили Честной Крест по улицам Иеруса-
лима и почитали его. Он замечает, что христиане создали по образу
Честного Креста многочисленные его копии, которые они окру-
жили его почитанием и поклонялись ему35. Но в его глазах христиа-
не, которые толкутся вокруг креста, не кто иные как “обожатели
тагату”36.
Конфликт между мусульманами и христианами осмысляется
Имад-ад-дином как борьба монотеизма против Троицы, истинной
религии против нечестивости. Он называет христиан “идолопоклон-
никами” или “людьми Троицы”, что для него одно и то же37.
Естественно, он связывает религиозный культ образов с христиан-
скими догматами, которые отвергаются в исламе, - такими как Во-
площение, св. Троица и Страсти Христовы. Мусульмане стремятся
разрушить христианские образы, которые являются для них визу-
альной манифестацией этих догм. Согласно Ибн-аль-Асиру, когда
мусульмане вошли в Иерусалим в 1187 г., они заметили большой
крест, воздвигнутый на вершине Куббат-аль-Сахры. Они сбили
крест под жалобные вздохи христиан и радостные крики мусульман
“Аллах акбар!”38. Согласно старофранцузской версии хроники Гий-
ома Тирского, мусульмане не только сбросили наземь Крест, водру-
женный на вершине купола храма, но и протащили его до врат и раз-
рубили на куски39. Итак, кресты, образы и иконы, составляющие са-
кральное пространство христиан, воспринимаются мусульманами
как религиозные нечистоты. Говоря о восстановлении культовых
мест мусульман, Имад-ад-дин упрекает христиан в том, что они ук-
расили их статуями и изображениями. Он описывает алтарь христи-
анского храма как объект языческого почитания. В этом месте, по-
читаемом христианами, он видит вырезанные на мраморе изображе-
ния животных, среди которых он обнаруживает и изображение сви-
ньи40. Можно догадаться, что речь идет скорее всего об образе агн-
ца Божьего41. Иногда Имад-ад-дин описывает христианский культ в
карикатурной манере. Он перечисляет вперемешку ритуалы и дог-
мы христиан. С его точки зрения, христианский культ - сущая про-
фанация. Он презрительно переименовывает название церкви Воск-
ресения (по-арабски аль-Кийяма) в аль-кумама, что означает “грязь,
мусор”42. После завоевания Иерусалима мусульмане восстанавлива-
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
331
ют свое сакральное пространство: они запрещают христианам посе-
щать церковь Воскресения, они изымают христианские образы, сби-
вают кресты с церквей, омывают Храм Господень (Куббат-аль-Сах-
ра) розовой водой, зажигают ладан и очищают это место культа и
другие мечети, восстанавливая их статус и назначая имамов и муэд-
зинов. Вследствие всех этих процедур Иерусалим в глазах мусуль-
ман вновь обретает статус святого города (аль-кудс).
Можно заметить, что все эти сочинения хронистов крестовых
походов, так же как и арабских авторов, демонстрируют расхожде-
ния мусульман и христиан во взглядах на изображения, и эти конт-
роверзы имели важнейшее значение в борьбе мусульман и христиан
за сакральное пространство.
* * *
Нели хроники и песни цикла крестового похода дают нам примеры
агрессии по отношению к сакральному, то теологические тракта-
ты выявляют рефлексию интеллектуалов по поводу изображений.
Их авторы знают о том, что у мусульман есть довольно серьезные
причины обвинять их в идолопоклонстве. Они ищут аргументы,
чтобы опровергнуть обвинения, будь то реальные или воображае-
мые, предъявляемые им мусульманами. В конце концов и те, и дру-
гие пытаются доказать одно и то же: христианские изображения
истинны, и их существование оправданно, в то время как изобра-
жения, почитаемые нехристями, являются идолами. Но в отличие
от хронистов и поэтов, теологи осознают двусмысленность пози-
ции христиан: ведь хотя христиане и преодолели в течение веков
ветхозаветный запрет на изображения, они не располагали четки-
ми критериями, которые позволили бы им отличить дозволенные
образы от недозволенных. К тому же соотношение образа и его
прототипа в течение Средних веков менялось несколько раз, что
приводило к смещению границ между идолами и образами43. Реф-
лексия христианских писателей на эту тему, как известно, была
чрезвычайно изощренной.
Одним из авторов, пытавшихся оправдать существование хри-
стианских образов перед лицом обвинений мусульман, был Алэн
Лилльский. Его четырехчастный трактат был написан во второй по-
ловине XII в. - т.е. в разгар крестовых походов44. Это сочинение под
названием “О вере католической” посвящено критике “язычников”.
Под “язычниками” он подразумевает учеников Магомета - “ужас-
ной секты”. В то же время он обвиняет других врагов христианской
веры - еретиков (вальденсов и катаров), а также евреев. Примеча-
тельно, что наиболее важный пункт разногласий между христиана-
ми и мусульманами касается, с его точки зрения, сферы визуально-
го. Алэн Лилльский, который пишет свое произведение в эпоху рас-
332
Сравнительная история
цвета готического искусства, ссылается на образы и скульптуры
произведения средневекового искусства. i
“Христиане изображают Бога сидящим на возвышенном престо-
ле, рука его поднята в благословляющем жесте, а вокруг него изо-]
бражения орла, человека, тельца и льва. Они создают образы и
скульптуры как умеют и почитают их в дозволенных местах”45.
Христианский писатель вполне осознает тот факт, что мусульман
не, как и евреи, обвиняют христиан, которые помещают в церквах
изображения и скульптуры, в несоблюдении ветхозаветного запрета:
«Упомянутые еретики, как и иудеи, оскорбляют нас за то, что в
наших церквах можно видеть изображения и скульптуры; они гово-
рят, что тем самым мы преступаем божественную заповедь, которая
гласит: “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли”»
(Исх. 10: 4; Втор. V. 8)46.
Алэн Лилльский как раз и пытается отклонить обвинения му-
сульман, которые могут приписать христианам идолопоклонство.
Он показывает, что неприятие мусульманами изображений влечет
за собой ошибочное толкование всех религиозных догматов: точно
так же как евреи, мусульмане отвергают догмат о св. Троице и оши-
бочно толкуют Святой Дух как некую материальную субстанцию
(flatus naturalis), а не как лицо Троицы, равное Богу Отцу и Богу Сы-
ну; они также, по словам Алэна Лилльского, отвергают Страсти
Христовы, факт Распятия и Воскресение Христа, утверждая, что
Христос не был ни умерщвлен, ни распят. Опровергая обвинения в
адрес христиан, Алэн Лилльский прибегает к традиционным аргу-
ментам, он ссылается на пассажи из Ветхого Завета, в частности на
Книгу Исхода, в которой упоминается об изображениях херувимов в
храме Моисеевом (Исх. 25: 20). При этом он опирается на известную
максиму Григория Великого: изображения суть для неграмотного то
же самое, что Писание для клириков; созерцая изображения, негра-
мотные постигают Писание47. В общем, с точки зрения Алэна
Лилльского, который следует церковным авторитетам, изображе-
ния составляют основу духовного созерцания. Т.е. можно достичь
мира невидимого посредством созерцания мира видимого. Дабы на-
помнить о том, что даже мыслям изображения придают материаль-
ный ощутимый характер, Алэн Лилльский ссылается на книгу
Исайи, в которой пророк рассказывает о своем видении: он узрел
Господа восседающим на престоле и окруженным шестикрылыми
серафимами (Исх. 6: 2). Алэн Лилльский приводит этот пассаж из
Ветхого Завета, дабы оправдать существование христианских обра-
зов: “Если Исайя желал придать телесный аспект своему вообража-
емому в уме видению, то вовсе не абсурдно изображать в образах то,
что написано в Священном Писании”48.
С.И.Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
333
Затем Алэн Лилльский оправдывает существование образов
тем, что они служат запоминанию истории Спасения и при этом
опять ссылается на книгу пророка Иезекииля, в частности на его ви-
дение четырех апокалиптических животных (1:5,10). “То, что видел
Иезекииль... мог бы христианин изобразить для памяти?”49 - такой
иопрос ставится христианским писателем, который, несомненно, ви-
дел подобные образы на порталах церквей. Говоря о, так сказать,
меморативной функции образов, он оправдывает почитание Креста
как символа Страстей Христовых:
“Мы почитаем Святой Крест не потому, что он имеет силу сам
по себе, но потому что после епископского благословения он освя-
щается в память о Страстях Христовых, и мы поклоняемся Кресту
нс так, как мы поклоняемся Богу... мы почитаем Бога в силу Его бо-
жественности, а Крест - по причине Страстей Христовых...”50.
Здесь следует заметить, что Алэн Лилльский использует различ-
ные термины: adoratio, idolatria, dulia, latria для обозначения почита-
ния религиозных образов. Он проводит различие между всеми эти-
ми формами. С его точки зрения, adoratio может быть лишь формой
почитания Бога, иначе она становится idolatria51. Совершенно оче-
видно, что он заимствовал у греков различение между latria - фор-
мой почитания Бога - и dulia - формой почитания Творения (святых,
ангелов и пр.). Именно Иоанн Дамаскин сформулировал эти разли-
чия52. В этом смысле Алэн Лилльский всего лишь углубляет аргу-
менты знаменитого византийского теолога. “Христиане, - говорит
он, - создают живописные изображения и скульптуры, но они им не
поклоняются”53. Стало быть, latria может быть лишь формой почи-
тания Бога, в то время как надлежащая форма почитания образов -
dulia, и именно так христиане почитают сакральные образы54. Мож-
но сказать, что в дебатах с мусульманами Алэн Лилльский разраба-
тывает христианскую концепцию образа, которая была позже сфор-
мулирована средневековыми писателями, и, поступая так, он полно-
стью отдает себе отчет в опасностях обвинений евреев и мусульман;
он опровергает их аргументы прибегая к испытанным способам по-
лемики.
В ту эпоху, когда писал Алэн Лилльский, немецкий писатель
Оливер, архиепископ Кельна и епископ Падерборна (1196-1227),
также ввязывается в теологические дебаты с мусульманами. Оливер
Кельнский был одним из участников V крестового похода, и именно
во время его пребывания в Святой Земле, с 1217 г. по 1222 г., им бы-
ли написаны его основные теологические труды55. Оливер пропа-
гандировал крестовый поход Фридриха II и поэтому не случайно его
творчество было тесно связано с его деятельностью проповедника.
Он написал несколько писем, адресованных султану аль-Камилю,
которого Оливер Кельнский страстно желал обратить в христианст-
334
Сравнительная история
во. Возможно, эти письма так и не дошли до своего адресата, что не
помешало писателю полемизировать со своим противником, выду-
мывая за него его обвинения и возражения.
Оливер Кельнский рассказывает о борьбе мусульман и христиан
за сакральное пространство. Он замечает, что Куббат-аль-Сахра
(Templum Domini) после завоевания Святого Города стала недоступ-
ной для христиан. Христианский писатель сетует по этому поводу и
напоминает о том, что библейский царь Соломон предоставлял всем
паломникам свободный доступ в храм, дабы каждый народ мог “при-
нести жертву уст” (Ос. 14: З)56. Но мусульмане не терпели присутст-
вия христиан в своем сакральном пространстве, проводя границу ме-
жду “чистым” и “нечистым”. Оливер Кельнский прекрасно осведом-
лен о том, что мусульмане рассматривали христиан как “нечистых”
(immundi) и неверных (increduli) и приписывали им многочисленные
заблуждения57.
Одно из писем султану аль-Камилю, начинается с утверждения:
“Чуждо нам идолопоклонство”58. Оливеру Кельнскому известно,
что главные догматы христианства, такие как Воплощение, Страсти
Христовы и Распятие, отвергаются в исламе. Он знает, что мусуль-
мане верят в непорочное зачатие и чудесное рождение Христа, но в
то же время не соглашаются с тем, что он Сын Бога и не признают
св. Троицу “по упорству своему и нераскаянному сердцу”59 (произно-
ся это суждение, он опирается на цитату из Нового Завета: Поел, к
Рим. 2:5). Пытаясь обратить султана в христианство, Оливер Кельн-
ский восклицает: “О если бы ты признал божественность Христа и
мог бы понять тайну Воплощения и то, что он был вознесен на не-
беса, ты бы смог поверить!”60
Согласно Оливеру Кельнскому, разногласия между христианами
и мусульманами по поводу догматов имеют следствием их различное
отношение к изображениям. Догмат о Воплощении сделал для хри-
стиан возможным создание и почитание изображений, которое осуж-
дается мусульманами. Потому Оливер Кельнский произносит слова,
обращенные к султану: “Ты считаешь нас идолопоклонниками, пото-
му что мы почитаем Творение”61. Епископ стремится показать, что не
только почитание Творца, но и почитание Творения не может рассма-
триваться как идолопоклонство. Как и в свое время Алэн Лилльский,
он заимствует идеи из греческой концепции изображения: он различа-
ет dulia - почитание Творения, а не Творца и latria - почитание едино-
го и невидимого Бога. Под dulia он, в частности, понимает почитание
Честного Креста и других образов. От этой формы почитания он от-
личает yperdulia, которая отождествляется им с почитанием человече-
ской природы Христа62. Оправдывая существование образов, Оливер
черпает свои аргументы из Писания, ссылаясь на различные пассажи
Ветхого Завета - эпизод с медным змием (Числа. 21: 8), с херувимами
С.И.Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
335
в храме Соломона и херувимами и пальмами в храме, описанном
Иезекиилем (41: 19)63. В общем, Пятикнижие и Книга Иезекииля по-
зволяют показать, что уже в еврейских храмах, несмотря на ветхоза-
ветные запреты, находились изображения, и что скульптурные и жи-
вописные образы создавались по повелению Бога. Таким образом,
уже ветхозаветным евреям были известны формы почитания, пред-
восхитившие культ образов. Итак, отношение христиан к изображе-
ниям освящается авторитетом Ветхого Завета. В своих письмах к сул-
тану Оливер Кельнский говорит также о социальных функциях рели-
гиозных изображений. Например, он вспоминает о дидактической
функции образов, подобно многим средневековым авторам, повторяя
максиму Григория Великого о том, что неграмотные нуждаются в ви-
зуальных символах, чтобы лучше понять Слово Божье. Он говорит
также о том, что образы взывают к памяти (ad memoriam revocant) и
воскрешают в памяти Священную историю и христианские догматы.
Образы, по его мнению, делают возможным “восхождение” от мира
видимого к миру невидимому64. Он ссылается и на их чудотворные
функции, оправдывая почитание изображений. В подтверждение это-
му он рассказывает о чудесах, сотворенных иконой в Бейруте. На
этой иконе был изображен Распятый Христос. Евреи глумились над
образом и втыкали в него гвозди, и из ребра изображенного Христа
истекли вода и кровь65. Евреи под впечатлением этого чуда обраща-
лись в христианство вместе с женами и детьми66. Оливер Кельнский
ссылается и на другой пример, подтверждающий чудотворные функ-
ции образов. Он вспоминает о знаменитой иконе “Богоматери из Са-
иднайи”, находящейся в монастыре около Дамаска, обильно источаю-
щей масло. Это чудо, по его словам, сарацины не могут отрицать67.
По рассказам других средневековых авторов, прежде всего Бурхарда,
посланного Фридрихом I на Ближний Восток, известно, что бла-
годаря своим чудодейственным качествам икона стала предметом со-
вместного почитания христиан и мусульман, которые на праздник
Богоявления приходили ей поклониться68. Оливер не упоминает об
этом обстоятельстве. Быть может, потому что Оливер Кельнский,
погруженный в полемику, не замечает противоречий между своими
теоретическими постулатами и фактами, которые он наблюдает в по-
вседневной жизни. Его рассказ имеет единственную цель - убедить
мусульман, показать им, что существуют образы, вызывающие бла-
гочестие христиан, почитая которые христиане вовсе не становятся
идолопоклонниками.
* * *
Если ученые трактаты христианских писателей акцентируют теоло-
гические дебаты, то паломники, имевшие непосредственные конта-
кты с мусульманским миром, скорее свидетельствует о повседнев-
336
Сравнительная история
ной жизни. Позволило ли им это отстраниться от теологических де-
батов, осознают ли они разногласия между мусульманами и христи-
анами по поводу изображений в меньшей мере, чем отцы церкви?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим записки путешест-
венников и западных паломников ХП-ХШ вв.
На самом деле, их сочинения можно сблизить с итинерариями,
описывающими места культа в Святой Земле. Путешественники об-
стоятельно рассказывают об образах, реликвиях и других сакраль-
ных предметах, которые находятся в святилищах и местах культа.
Святыни горы Мория были описаны Иоанном Вюрцбургским, кото-
рый путешествовал по Святой Земле в 1160-1170 гг. Он придает
большое значение храму Господню (Templum Domini), который
писатель считает одним из главных центров христианского сакраль-
ного пространства. Христиане воздвигли на вершине здания крест.
Мусульмане, отвоевав священный город у христиан, не пожалели де-
нег, чтобы снять этот крест69. Иоанн Вюрцбургский подтверждает,
что с точки зрения мусульман крест является визуальной манифе-
стацией тех догматов, которые отвергаются в исламе. «Но хотя са-
рацины не верят в Страсти Христовы и отвергают Крест, - говорит
Иоанн Вюрцбургский, - именно в этом храме они на свой лад почи-
тают Творца»70. В целом христианский автор признает, что таковы
догмы мусульман и таково их негативное отношение к образам, по-
путно замечая, что подобные взгляды противоречат точке зрения
христианских теологов, например св. Августина. Но хотя Иоанн
Вюрцбургский ссылается на святых отцов, он не считает мусульман
идолопоклонниками71. Присутствие мусульман на священной горе
он не рассматривает как языческие нечистоты. Он стремится интер-
претировать факты разрушения христианских образов исходя из му-
сульманских представлений о месте образов в культовом простран-
стве. Все эти наблюдения свидетельствуют о более толерантном от-
ношении к хорошо знакомым ему догмам ислама.
Интерес к образам, несомненно, присутствует в записках палом-
ников ХП-ХШ вв. Так, немецкий доминиканец Бурхард Мон Сион-
ский посетивший Палестину и некоторые регионы Ливана, постоян-
но рассказывает о христианских святынях и реликвиях в своем
“Описании Святой Земли” (1283). Посетив Вифлеем, он благочести-
во повествует о капелле, отделанной мрамором и украшенной моза-
иками. «Эта капелла, - говорит он, - возвышается над плитой, на ко-
торой был произведен на свет Христос»72. Согласно Бурхарду, это
место особого почитания верующих. Примечательно, что даже са-
рацины, которые чтут все церкви Богоматери, проявляют особое
благоговение в отношении этой церкви, - говорит Бурхард в своем
сочинении, - по той причине, что в ней хранится эта важнейшая ре-
ликвия. Он рассказывает и о других святынях, находящихся в этой
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика... 337
церкви, как и об их чудодейственной силе. Султан, узнав о том, что
>та церковь богато украшена дорогими образами и скульптурами,
приказывает забрать из нее все ценные материалы, которые он же-
лает использовать для строительства своего дворца. Но как только
мусульмане приблизились к церкви, они увидели огромную змею,
ипезапно выползшую из совершенно гладкой и ровной стены, такой
гладкой, что и иголка через нее не прошла бы. Змея подползла к са-
рацину и укусила его. Затем присутствующие там увидели, как из
сгены выползает другая змея, потом третья, и так до тринадцатой.
I сраженный происшедшим у него на глазах чудом, султан отказал-
ся от своих намерений73.
Рассказы такого рода, которые мы уже встречали в хрониках,
подтверждали чудодейственную силу христианских изображений;
они оправдывали существование сакральных образов. Они должны
были убедить и мусульман в том, что сакральное локализуется в об-
разах, скульптурах и других предметах культа. Рассказы о чудесах
с тановятся все более многочисленными в паломнической литерату-
ре, например в записках немецкого паломника Титмара. Он участво-
вал в VI крестовом походе и в 1217 г. во время перемирия между хри-
стианами и мусульманами путешествовал по Палестине. Он первым
из христианских паломников посетил не только государства кресто-
носцев и Синай, но и другие исламские центры, такие, как Багдад,
Дамаск и даже Мекку74. Как и его предшественники, Титмар отме-
чает “мерзость запустения” (Мт. 21: 13), царящую в Святой Земле, и
много говорит о христианских святилищах, разрушенных мусульма-
нами. Так, Храм Господень (Templum Domini) был обращен в мечеть
и стал недоступен для христиан. Он отмечает, что наиболее важная
святыня - церковь Воскресения пришла в запустение и не действу-
ет75. Но отметив, что мусульмане отвоевали сакральное пространст-
во в Святой Земле, Титмар обращает внимание на сакральные обра-
зы, которые были предметом совместного почитания христиан и му-
сульман. Вслед за Бурхардом, Оливером Кельнским и другими он
рассказывает о знаменитой иконе в Саиднайе. Он упоминает о ее чу-
додейственных функциях и о том, что даже сам султан Дамаска из-
лечился от слепоты при помощи источаемого ею целебного масла76.
11усть султан и не обратился в христианство под влиянием этого чу-
да, как это часто происходит в средневековой литературе77, он все
же смог уверовать в чудотворное действие иконы. По словам Титма-
ра, хотя султан и был язычником, он веровал в Бога и благодаря мо-
литвам вновь обрел зрение. Примечательно, что согласно Титмару
мусульмане подобно христианам почитают христианские святыни.
Но, упомянув об этом, Титмар счел необходимым рассказать об их
догматических разногласиях: несмотря на то, что мусульмане почи-
тают Богоматерь и верят в Непорочное Зачатие, они не принимают
.’2 Одиссей, 2006
338
Сравнительная история
самой важной догмы - о Воплощении, как и отвергают таинство
крещения и Страсти Христовы78. Создается впечатление, что отно-
шение Титмара к исламу весьма противоречиво: с одной стороны, он
подчеркивает, что мусульмане отвергают христианскую концепцию
изображений, с другой - он констатирует, что мусульмане почитают
одни и те же образы и святыни.
В отличие от своих предшественников - Бурхарда, Оливера
Кельнского и др. - Титмар упоминает еще один предмет культа, вы-
зывавший благочестие как христиан, так и мусульман. Речь идет о
находящейся на горе Хорив Неопалимой Купине, из которой Гос-
подь говорил с Моисеем. Христиане разделили терновый куст на ча-
сти с целью создать много реликвий и затем заменили живой куст
его золотым изображением; позднее на основе ветхозаветного опи-
сания они создали скульптуру Моисея. Титмар снова напоминает
нам о том, что христиане, в отличие от мусульман, не могут обой-
тись без изображений, присутствие которых в сакральном простран-
стве обязательно79. Тем не менее именно Неопалимая Купина стала
общим для мусульман и христиан объектом почитания. Сарацины,
как и христиане, почитают это святое место: приходя туда покло-
ниться святыне, мусульмане снимают обувь, подобно тому как это
делал Моисей в тот момент, когда он предстал перед Богом
(Исх. 3: 11-22). Султан также проявил особо почтительное отноше-
ние к этому святому месту, несколько раз посетив его80. Кажется,
Титмар весьма охотно рассказывает о сакральных предметах, кото-
рые стали объектом совместного почитания людей разной веры. И
тем не менее он возвращается к прежним фантастическим легендам:
в своих записках он говорит о Каабе - огромном черном камне, ко-
торый он мог видеть в Мекке во время своего путешествия. Извест-
но, что почитание Каабы было одной из важных тем мусульманско-
христианских контроверз по поводу изображений. Когда мусульма-
не стремились обвинить христиан, почитающих Крест, в идолопо-
клонстве, христиане в ответ подвергали нападкам мусульманский
культ Каабы81. Однако Титмар путает Каабу с могилой Магомета.
В его глазах мусульманский культ абсолютно аналогичен культу
христиан, которые рассматривают Гроб Господень как самый важ-
ный объект их культа. И потому исходя из собственных представле-
ний он полагает, что самая главная святыня мусульман - гроб про-
рока ислама. В Средние века существовало много легенд о могиле
Мухаммада. Согласно Эмбрико Майнцскому, Готье Компьенскому и
другим церковным писателям могила пророка висит в воздухе, под-
держиваемая двумя магнитами82. Похоже, все эти легенды хорошо
знакомы Титмару. “На самом деле, - выражает он удивление в сво-
их записках, - могила Магомета не висит в небе, но находится на зе-
мле, и именно в ней была похоронена правая нога пророка, в то вре-
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
339
мя как все остальное тело пожрали свиньи”83. Таким образом, весь-
ма беспристрастные описания сакрального пространства Святой Зе-
мли сочетаются в записках Титмара с искажениями образа ислама.
Если Титмар оставил нам достаточно неоднозначное описание
мусульманского мира и святых мест на Востоке, то его современ-
ник францисканский монах Фиденций Падуанский, описывает от-
ношения между мусульманами и христианами в более тенденциоз-
ной манере. Совершенно очевидно, что его произведения были
эхом мусульманско-христианских контроверз по поводу изображе-
ний. После Лионского собора 1274 г. Фиденций был отправлен по-
слом папой Григорием X на Ближний Восток, где он пробыл дол-
гое время84. В своей “Книге об обретении Святой Земли”, сочинен-
ной в конце ХШ в., где он говорит об отношении мусульман к изо-
бражениям следующее: “...сарацины с ненавистью относятся к об-
разам и уничтожают изображения, попирают их ногами и бросают
их в нечистоты”85. В этом произведении он описывает атаки му-
сульман на предметы христианского культа. Вот как сарацины от-
мечали свои торжества по случаю взятия Триполи 26 апреля 1289 г.
Согласно Фиденцию Падуанскому они привязали крест к хвосту ос-
ла и так тащили его по всем улицам города, оскверняя его всеми
возможными способами. Фиденций прекрасно осведомлен о том,
что мусульмане считают христиан идолопоклонниками. Проник-
нув в лагерь сарацин, он встречает мусульманского воина. Между
ними завязывается примечательный диалог: “Почему вы, христиа-
не, почитаете образы?” - спрашивает мусульманский воин. Ответ
Фиденция полностью вписывается в христианскую теологию об-
раза: “Вы ошибаетесь, потому что христиане не почитают образы
и изображения, - говорит он, - но они почитают святых, которые
на небесах”86. Опираясь на вполне традиционные аргументы, Фи-
денций Падуанский желает сказать, что изображение святых поз-
воляет осуществить восхождение от видимых вещей к невидимым.
Как это обычно бывает в дебатах христиан с иноверцами, диспут
заканчивается демонстрацией очевидного превосходства христиан.
Пристыженный мусульманский воин, не найдя аргументов против
своего оппонента, предпочитает удалиться. В том же сочинении
“Книга об обретении Святой Земли” Фиденций замечает, что по-
читание Честного Креста интерпретируется мусульманами как
поклонение ложным образам, ибо они не понимают сущности Свя-
той Троицы и интерпретируют ее как почитание трех лиц (tres
homines)87. Итак, Фиденций ввязывается в дебаты с христианами и
пытается оправдать христианскую концепцию образа перед лицом
обвинений мусульман, но в то же время он объясняет смысл их
атак на Честной Крест и другие изображения, ссылаясь на их по-
стулаты веры и ритуалы.
340
Сравнительная история
Присутствие мусульман в святых местах Палестины рассматри-
вается как языческие нечистоты в записках Рикольдо да Монте Кро-
че. Этот доминиканец из Флоренции прибыл в Святую Землю в
1288 г. в качестве паломника и остался в Акре, со временем заняв-
шись миссионерской деятельностью. Свои сведения об исламе, соб-
ранные им во время путешествия, он изложил в сочинении “Против
сарацинского закона” (“Contra legem Sarracenorum”). Он описывает
свое путешествие по Святой Земле и странам Среднего Востока в
своей “Книге паломничества” (“Liber peregrinationis”). Рикольдо да
Монте Кроче также размышляет над причинами поражения кресто-
носцев в своих “Письмах о падении Акры”, обращенных к Богома-
тери88. Он посетил многие города Ближнего Востока от Турции до
Багдада и везде замечал факты осквернения сакрального простран-
ства: мусульмане разрушали христианские церкви, устраивали там
стойла, обращали церкви в мечети или строили на месте разрушен-
ных христианских святынь мечети с минаретами89. “В Иерусали-
ме, - сообщает он, - сарацины устроили хлев на Синайской горе в
церкви, построенной в том месте, где происходила Тайная Вечеря”90.
Что касается церкви Воскресения, в которой находится главная ре-
ликвия христианства - Гроб Господень, то она “стала недоступной
для христиан”91. Рикольдо описывает церкви, в которых долгое вре-
мя не было службы и сакральные образы, которые перестали быть
предметом почитания. Покинутые святилища, разоренные церкви -
эти святыни стонут, - говорит он, - лишенные посетителей92. Нари-
сованная картина создает впечатление “мерзости запустения”
(Мт. 24: 13).
В своих письмах о падении Акры он также рассказывает об ак-
тах осквернения христианских сакральных образов. В день взятия
Триполи 26 апреля 1289 г. жители турецкого города Севаса осквер-
нили Распятие: “Узнав грустную новость о взятии Триполи, они при-
вязали изображение Христа к хвосту лошади и протащили его по
грязи через весь город”. “Сарацины делали это, - говорит он, - с це-
лью как можно сильнее унизить Христа и всех христиан (ad maiorem
contumeliam Christianorum et Christi)”93. Согласно Рикольдо да Монте
Кроче, во всех городах Иудеи и Галилеи, особенно в Иерусалиме са-
рацины разыскивали изображения Богоматери и Христа с целью по-
глумиться над ними - они выкалывали им глаза копьями, дубинками
и мечами и бросали их наземь94.
Итак, мусульмане отвергают изображения, глумятся над ними и
их оскверняют. Согласно Рикольдо да Монте Кроче, эти атаки на са-
кральное связаны с отрицанием мусульманами догм св. Троицы и
Воплощения Христа. Францисканский монах хорошо осведомлен о
том, что мусульмане отвергают догмат о Воплощении на основании
суры Корана (6: 101), которая говорит: “Создатель внове небес и зе-
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
341
мли! Как будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги”. Кро-
ме того, - продолжает Рикольдо, - мусульмане не могут постичь
сущность св. Троицы. Если христиане толкуют св. Троицу как неде-
лимую и единую, то мусульмане, - говорит он, - отделяют Бога От-
ца от Бога Сына95. Похоже, Рикольдо стремится интерпретировать
акты профанации христианских святынь исходя из догматов ислама,
он не ограничивается только тем, что изображает мусульман как
язычников и идолопоклонников, как это делали хронисты кресто-
вых походов.
В том же духе Якопо ди Верона описал мусульманские святыни
в своей “Книге паломничества” (“Liber peregrinationis”). В этом сочи-
нении францисканский монах излагает впечатления, которые он по-
лучил во время своего путешествия по Востоку в начале XIV в. Опи-
сывая Большую мечеть в Дамаске, он рассказывает, что именно ту-
да “приходят сарацины, чтобы возносить молитвы согласно своему
обычаю”. Но хотя он и называет веру мусульман “ложным и веро-
ломным” учением96, он вполне верно интерпретирует его главную
черту. Согласно Якопо, это именно отсутствие религиозных изобра-
жений и живописных образов в мечети. Якопо ди Верона оправды-
вает такое отношение мусульман к изображениям, проявляя неза-
урядную эрудицию: с его точки зрения из всех книг Священного Пи-
сания они предпочитают книгу Бытия. Он подчеркивает и другую
отличительную черту ислама: мусульмане считают Христа сыном
Богоматери, но отрицают, что он Сын Бога97. Таким образом, Яко-
по ди Верона связывает отношение мусульман к религиозным изо-
бражениям с отрицанием ими догмата о Воплощении...
* * *
Итак, мы попытались проследить этапы борьбы за сакральное про-
странство во время крестовых походов и выяснить роль, которую иг-
рали в этой борьбе изображения. Реконструируемая нами картина по-
хожа на мозаику. Мы изучили произведения разных жанров - хрони-
ки крестовых походов, теологические трактаты и записки путешест-
венников и паломников. Можно заметить, что самая общая черта всех
этих произведений заключается в том, что их авторы сосредоточены
на изображениях, реликвиях и иконах. Хронисты крестовых походов
рассказывают нам о борьбе за сакральное пространство, они подчер-
кивают различное отношение мусульман и христиан к изображениям,
и эти разногласия являются основой взаимных обвинений в идолопо-
клонстве. В своих описаниях мусульманского мира христианские пи-
сатели обнаруживают у иноверцев предметы и ритуалы, сходные с
христианскими: изображения и скульптуры, коллективные литании и
прочие религиозные шествия. Но хронисты наделяли эти культовые
объекты отрицательным смыслом и оправдывали агрессивные дейст-
342
Сравнительная история
вия по отношению к сфере сакрального противника. Мы попытались
выявить интенции враждебных намерений по отношению к религиоз-
ным образам и сознательных атак на культовые предметы, такие как
Крест и Распятие. Мы видели, что мусульмане разрушали сакральные
предметы противника не только по политическим мотивам, но и по-
тому, что эти культовые объекты были визуальным воплощением
отвергаемых в исламе догм. Таким образом акты десакрализации бы-
ли опосредованно связаны с мусульманско-христианскими контровер-
зами по поводу изображений.
Одновременно Отцы церкви размышляли над статусом и функ-
циями изображений в своих сочинениях. Христианские писатели
стремились защитить христианский культ изображений перед лицом
обвинений мусульман, и именно под влиянием мусульманско-христи-
анских контроверз по поводу изображений они четче осознали хри-
стианскую концепцию изображения. Но есть еще один фрагмент
этой картины. Его можно выявить по запискам путешественников и
паломников. Эти авторы чаще всего описывают святые места, как
они выглядят в период перемирий. Описывая эпизоды отвоевания
сакрального пространства мусульманами (например, профанации
Креста и Распятия), они стремятся объяснить эти эпизоды исходя из
своих знаний о догматах ислама. Еще более удивительно, что они
рассказывают о сакральных образах, которые были объектом сов-
местного поклонения христиан и мусульман.
Таким образом, мы можем реконструировать достаточно проти-
воречивую картину сакрального пространства в Святой Земле: пред-
ставляется, что места культа были не только пространством конфли-
ктов, но и контактов: с одной стороны, мусульмане, как и христиане,
боролись за отвоевание сакрального пространства, с другой - они по-
читают одни и те же сакральные образы и изображения. Вряд ли сто-
ит объяснять этот парадокс опираясь на концепцию Нормана Дэни-
ела, который в свое время предложил различать ученый и народный
уровни восприятия ислама98. Но несомненно, что изображения зани-
мали важное место в контактах между мусульманами и христианами,
а различное отношение к изображению служило специфическим
критерием, позволяющим различать “своих” и “чужих”. В то же вре-
мя эти контакты способствовали кристаллизации христианской кон-
цепции изображения. Эти контроверзы также внесли свой вклад в
расширение знания средневекового Запада об исламе.
1 Термины “iconic turn”, “pictorial turn” применяют для обозначения сущест-
венных изменений в профессиональной деятельности историков, кото-
рые все чаще обращаются к изображениям как историческим источни-
кам. См., например: Mitchell WJ.T. Picture Theory. Essays on Verbal and
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
343
Visual Representation. Chicago, 1994; Idem. Der “Pictorial Turn” Ц Privileg
Blick. Kritik der visuellen Kultur / Ed. C. Kravanga. B., 1997. S. 15-40; Images
in Medieval and Early Modem Culture (Approaches in Russian Historical
Research) (Medium Aevum Quotidianum. Sonderband ХШ) I Ed. by G. Jaritz,
S. Luchitskaya, J. Rasson. Krems, 2003.
2 Taswir // Encyclopaedia of Islam. Leiden, 2001. CD Rom. Vol. 1.
•’ Ibid.
Paret R. Die Entstehung des Islamischen Bilderverbots // Kunst des Orients.
1976-1977. Bd. 11. S. 158-181.
5 См. об этом: алъ-Халлаб А. Эстетические основы исламского орнамента.
М., 1999. С. 33, 35. Среди многочисленных исследований на эту тему см.:
Clement J.-F. L’image dans le monde arabe: interdits et possibilities Ц L’image
dans le monde arabe I Sous la dir. de G. Beaug€ et J.-F. Cldment. P., 1995.
P. 1-23; Creswell K.A.C. Early Muslim Architecture: Umayyads A.D. 622-750.
Oxford, 1969. T. 1-2; Grabar O. The Formation of Islamic Art. New Haven,
1973. P. 48-67; Paret R. Die Entstehung des Islamischen Bildverbots Ц Kunst des
Orients. 1976/1977. Bd. 11. S. 158-181; van Reenen D. The Bildverbot, a New
Survey // Der Islam. 1990. T. LXVII. P. 27-77. См. также: Стародуб T.X.
Изображение неизобразимого. О специфике арабо-мусульманского визу-
ального искусства Ц Одиссей. Человек в истории: Язык Библии в нарра-
тиве. М., 2003. С. 368-378.
6 Руди Парэ, проанализировавший материалы хадисов, пришел к выводу
о том, что запрет на изображения возникает лишь в последние десяти-
летия VII в. Так, он разошелся с датировкой К. Кресвелла и О. Грабаря,
которые полагали, что исламский запрет возник лишь тогда, когда ви-
зантийское иконоборчество, спровоцированное эдиктом папы Льва III в
726 г., уже достигло своего кульминационного пункта. Датировка Р. Па-
рэ позволяет и в новом свете рассмотреть монетную реформу омейяд-
ского халифа Абд-аль-Малика (685-705 гг.). См.: Paret R. Op. cit.
S. 158-181.
7 Все зависело от периода и региона. Скорее всего подобные предписания
были наиболее действенным в странах Магриба, ибо там изображения
живых существ встречаются крайне редко, в то время как в Персии - ча-
ще. См.: Taswir // Encyclopaedia of Islam. Leiden, 2001. CD Rom. Vol. 1.
8 Все цитаты из Корана даны в пер. И.Ю. Крачковского.
9 Grabar О. Kubbat al-Sakhra - the Dome of the Rock // The Encyclopedia of
Islam I Ed. C.E. Bosworth, B. Lewis, Ch. Pellat. Leiden, 1986. T. V. P. 298-299.
10 Schein S. Between Mount Moriah and the Holy Sepulcre: The Changing
Traditions of the Temple Mount in the Central Middle Ages // Traditio: Studies
in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion. N.Y., 1984. T. XL.
P. 175-195.
11 См. об этом: Busse H. Vom Felsendom zum Templum Domini // Das Heilige
Land im Mittelalter: Begegnungen zwischen Orient und Okzident / Hrsg.
W. Fischer et al. Neustadt, 1982. S. 19-31; Grabo'is A. La fondation de 1’abbaye
du Templum Domini et la legende // Autour de la Premiere croisade (Actes reu-
nis par M. Balard). P., 1997. P. 231—239; Ligato G. The Temple esplanade in cru-
sader Jerusalem // Jerusalem: House of Prayer for all the Peoples in the three
Monotheistic Religions / Ed. A. Niccacci. Jerusalem, 2001. P. 141-162.
344
Сравнительная история
12 Douglas М. Purity and Danger. An analysis of Concepts of pollution and Taboo.
L., 1970. P. 17; Idem. Pollution Ц International Encyclopadeia of the Social
Sciences / Ed. D.L. Sills. 1968. P. 336-342.
13 Baldrici episcopi Dolensis Historia Hierosolymitana // Recuiel des Historiens des
Croisades. Historiens Occidentaux (RHC Hist. Осс). P., 1879. T. IV. P. 13
(Baldrici Dolensis). Термин simulacrum негативный и служит для обозначе-
ния языческих статуй. Бодри Дейльский и другие хронисты употребляют
это слово для описания мнимых изображений мусульман; говоря о хри-
стианских образах, они пользуются термином effigies.
14 Ibid. Р. 11: “Pollutum est nimirum sanctum Dei templum, et facta est aula Dei
gentium convenarum irreverentes conventiculum...”
15 Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita seu libellus de oppresione, liberatione ac
restauratione sanctae Hierosolymitanae ecclesiae / Ed. H. Hagenmeyer. Tubin-
gen, 1877 . P. 14.
16 Ibid. P. 14.
17 Cole P.J. “O God, the heathen have come on your inheritance” (Ps. 78.1): The
Theme of Religious Pollution in Crusade Documents, 1095-1188 H Crusaders
and Muslims / Ed. M. Schatzmiller. Leiden, 1993. P. 84-111. Об использова-
нии языка Писания в хрониках см.: Лучицкая С.И. Библейские цитаты в
хрониках крестовых походов // Одиссей. Человек в истории: Язык Биб-
лии в нарративе. М., 2003. С. 65-72.
18 Baldrici Dolensis. Р. 13: “Jerusalem... sub spurcitiam paganorum redacta est”
19 Historia peregrinorum euntium Jersolymam seu Tudebodus imitatus et continua-
tus Ц RHC Осс. P., 1866. T. III. P. 195 (Tudebodus imitatus).
20 В этом смысле рассказы хронистов свидетельствуют о знании ими му-
сульманских догм.
21 Petri Tudebodi Historia de Hierosolymitano itinere / Ed. J. H. Hill, L. Hill. (Да-
лее: Tudebodus). P., 1977. P. 137: “Franci, agip salib?” Возможно, речь идет
об исковерканной арабской фразе.
22 Это реминисценция из сочинения начала XII в. “Vita Mahumeti” Эмбрико
Майнцского, см.: Tolan J. Anti-Hagiography: Embrico of Mainz’s “Vita
Mahumeti”// Journal of medieval history. Amsterdam, 1996. T. XXII, № 1.
P. 25-41.
23 La Chanson d’Antioche / Ed. S. Duparc-Quioc. (Далее: La Chanson d’Antioche.)
P., 1977. Vol. I. V. 5320-5335: “Quant paien ont oi parler le Sathena, / Cascuns
d’els mercie et forment 1’aora...”
24 Ibid. V. 5280-5283; V. 5300-5312: “Tos ert d’or et d’argent, molt luist et reflam-
bie, / Sor 1’olifant seoit, sor le forme muzie; / Crues estoit par dedens et fais par
triforie, /Mainte piere I flainboie et luit et esclarcie...” О представлениях об
идолопоклонстве см.: Luchitskaya S. Les idoles musulmanes: images et
гёаИгёв // Das europaische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs / Hrsg.
M. Borgolte. B., 2001. S. 283-298.
25 La Chanson d’Antioche. V. 4895^4910: “Quant li paien le voient, molt en fu
grans li hus, / II li lancent de loing dars trencans et agus. /Soudans lor escria:
“Maintenant soit pendus!”
26 Tudebodus. P. 137: “Sarraceni hoc videntes, similiter pergebant per muros civi-
tatis Machomet in quadam asta deferentes, uno panno coopertum”.
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
345
27 La Chanson d’Antioche. V. 9241-9247: “Par Mahomet de Mieque m’en vaurai
retomer / Рог les. II. candelabras qu’en fera aporter, / Tres devant le Sepulcre puis
les ferai poser”.
28 La Chanson de Jdrusalem I Ed. Nigel. R. Thorp. L., 1992 (The Old French
Crusade Cycle. Vol. VI). V. 7275-7280: “Et les grands candelabras devant
Mahon ardant I Meterai el Sepucre u Dex fu suscitant...”
29 Le “Liber” de Raymond d’Aguilers / Publ. J. Hill, L.L. Hill. P., 1969.
P. 150-151.
30 Достаточно вспомнить о роли Честного Креста в сражениях с мусульма-
нами. См.: Murray A. Mighty Against the Enemies of Christ: The Relic of the
True Cross in the Armies of the Kingdom of Jerusalem // The Crusades and their
Sources: Essays presented to Bernhard Hamilton / Ed. J. France, G. Zajac.
Adershot, 1988. P. 217-237.
31 На эту тему см.: Brubaker L. Introduction: The Sacred Image // The Sacred
Image East and West / Ed. R. Ousterhout, L. Brubaker. Chicago, 1995.
P. 16.
32 Tudebodus imitatus. P. 195: “Quid agis hie, rustice? Homines tui obsident
nos extra, et hie nos observas? Certe nec te, nec tuos homines amplius vo-
lumus”.
33 Ibid: “vir [...] ad pulcherimam imaginem appropinquate vellet, mox [...] cecidit
ille, [...] fractoque statim collo, [...] omnibus membris dissolutuis, [...] jacebat
mortuus in ecclesia. Videntes hoc alii nimio terrore correpti sunt.” Почти такой
же эпизод рассказан в “Житии св. Симеона”, чрезвычайно популярном
произведении византийской литературы. В нем речь идет о ремесленни-
ке, который желал возблагодарить святого, освободившего его от власти
демона. Для этого ремесленник поместил образ св. Симеона над входом в
свой эргастерий. Видя это, нехристи негодовали и захотели убить ремес-
ленника, а образ святого Симеона опрокинуть на землю, (“repleti zelo ita
ut convenerit multitude, et cum tumulto clamaret: Tolle a vivendo qui hoc fecit,
et imago deponatur”). Но, все кто пытался это сделать, падал на землю и
разбивались насмерть. Согласно автору произведения это чудо оправды-
вало почитание образов (“adorata cum ratione imagine”). He случайно этот
рассказ был включен в собрание постановлений VII вселенского собора.
См.: Sacrorum Conciliarum nova et amplissima collectio / Ed. J.-D. Mansi.
Florentiae, 1767. T. XIII. P. 76-78.
34 Он несколько раз отмечает, что почитание сакральных предметов огра-
ничивается у христиан почитание Гроба Господня и Честного Креста.
См.: Chroniques arabes des croisade I Textes recueillis et prdsentds par
F. Gabrieli. (Далее: Gabrieli); P., 1977. P. 200. См. также: Imad ed-Din al-
Katib al-lsfahan. Conquete de la Syrie et de la Palestine / Ed. C. de Landberg.
Leyde, 1888. P. 18-29 (Imad ad-Din). Cm.: 'Imad-ad-Dtn al-Isfahani al-Kitab
Muhammad ibn Muhammad. Conquete de la Syrie et de la Palestine par Saladin /
Ed. H. Massd. P„ 1972. (Далее: Masse H.) P. 29.
35 Cm.: Gabrieli. P. 163-164. Вот еще один пример взаимного непонимания
мусульман и христиан в вопросе об изображениях. Усама-ибн Мункыз ут-
верждает в своем сочинении, что христиане не понимают культовую пра-
ктику мусульман. Как-то раз утром Усама и его друг пришли в Купол
Скалы, где франк сказал им: “Хочешь увидеть Бога, как он выглядел ре-
346
Сравнительная история
бенком?” И он показал изображение Богоматери с младенцем Христом.
“Вот Бог, каким он был ребенком!” “Бог насмехается над этими нечес-
тивцами”, - говорит Усама. См.: Усама ибн Мункыз. Книга наставлений /
Пер. И.Ю. Крачковского. М., 1959. С. 89.
36 'Imad ed-Din. Р. 18. Арабский хронист имеет в виду соответствующий пас-
саж из Корана: “Тот, кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал
из них обезьян и свиней, и кто поклонялся тагату”. См. также: Ibid. Р. 395.
37 Masse Н. Р. 28, 50,260.
38 Ibn-al-Athir. Extrait du Kamel-Altewarykh // Recueil des historiens des
croisades. Historiens Orientaux. P., 1872. P. 704.
39 La Continuation de Guillaume de Туг I Ed. M. Morgan. P., 1982. P. 75: “Les
autres Sarazins monterent sur le comble dou mostier et abatirent une crois qui
estoit sur le pinnacle dou Temple...”
40 Masse H. P. 54-55.
41 Впрочем, это гипотеза M. Камилла: Camille М. The Gotic Idol. Ideology and
Image Making in Medieval Art. Cambridge, 1989. P. 137.
42 Gabrieli. P. 175; Masse H. P. 367.
43 См. об этом: Camille M. The Gotic Idol: Ideology and Image-Making in
Medieval Art. Cambridge; N.Y., 1989.
44 Alanus ab Insulis. Contra paganos // Patrologiae cursus completes. Series latina.
(Далее: Alanus ab Insulis.) P., 1855. T. CCX; См. также: Alverny М.-Th. Alain
de Lille et 1’Islam. Le Contra paganos. Islam et Chretiens du Midi
(XII-XIV ss.) H Cahiers de Fanjeux. Toulouse, 1983. Vol. 18. P. 303-350.
45 Alanus ab Insulis. Op. cit. Col. 427: “Christiani autem effigiant Deum sublimi
sedentem solio, manuqeu porrecta signantem et circa eum magno dignitatis
prestigio, aquilam, hominem, vitulum et leonem. Has effigies exsculpunt, fabri-
cant et depingunt unde possunt et ubi possunt adorant et colunt”.
46 Ibid. Col. 427: «Nobis etiam insultant predicti heretici cum ludeis, quia habemus
ymagines in ecclesiis nostris et sculptilia, in quo videmur obviare precepto divi-
no quod ait: “Non facies tibi sculptile, nec omnem similitudinem que est in celo
vel in terra vel in aquis vel sub terra”».
47 Cm.: Gregorii Magni Epistula ad Serenium Massiliensem Ц Patrologiae cursus
completus. Series latina. T. LXXVII. Col. 1128-1129: “Nam quod legentibus
scriptura, hoc idiotis praestat picturam cerentibus [...] in ipsa legunt qui litteras
nesciunt”. M. Камилл показал, что в разные эпохи эта максима могла об-
ретать новые смыслы в зависимости от контекста. См.: Camille М. The
Gregorian Definition Revisited: Writing and the Medieval Image // Image.
International Workshop. P., 1996. P. 89-90.
48 Alanus ab Insulis. Op. cit. Col. 427: “Si Ysaias quod vidit ymaginaria vel mentali
visione corporali significatione voluit representare, non videtur absurdum esse ut
redigeret in picturam quod redegerat in scripturam”.
49 Ibid.: “Quod ergo Ezechiel legitur vidisse et scripsisse non potest christianus ad
memoriam pingere?”
50 Ibid.: “Nec ipsam factam crucem sanctam dicimus quod in se, vel ex se habeat
virtutem, sed postquam benedictione pontificali sanctificatur in memoriam
Dominice passionis, iam crucem, non divino sed debito venerationis cultu attol-
limus et colimus; .... alio enim modo homo adorat Deum, scilicet propter ipsius
divinitatem; alio modo venerator crucem, scilicet propter crucifixi passionem”.
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полемика...
347
51 Alanus ab Insulis. Op. cit. Col. 428: “Nulli enim debetur adoratio nisi Deo; qui
enim cultum divinum creature attribuit ydolatria est”.
52 loannis Damascenis Contra imaginum calumni'atores orations tres // Die
Schriften des Johannes von Damaskos // Hrsg. Von P. Bonifatius Kotter O.S.B.
B„ N.Y., 1975. T. III. P. 135: “ПрФтос; троло^ xpooxwfjoetoq 6 хатй Хатре-
lav, q npoodyopev p6va> тф фйаее лроахи\т)тф Осф, xai ovroc; хата
бсафброи? rpdnvq. lipmov pev хатй t6v Tfjg 6ouXelaq npooxvvowi yap
айгф ndvta rd хтСарата Фс; 6ovXot бсолбтд, “бойка ad”, xal ol ptv
fexowltog, ol бё йхошкос;”.
53 Alanus ab Insulis. Op. cit. Col. 428.
54 Ibid.: “Ad ilium dicendum quod ilam speciem adorationis que debetur Deo, que
grece dicitur latria, christianus non exhibet creature, sed earn que grece dicitur
dulia, que debetur homini vel angelo”.
55 Cm.: von den Brincken A.-D. Islam und Oriens Christianus in den Schriften des
Kolner Domscholastikers Oliver (fl227) // Miscellanea Mediaevalia
(Orientalische Kultur und Europaisches Mittelalter). B.; N.Y., 1985. T. I.
S. 86-102.
56 Oliverus Coloniensis Schol. Epistola salutaris regi Babilonis ab auctore huius
operas conscripta (Epistola 5) Ц Die Schriften des Kolner Domscholastikers,
spateren Bischofs von Paderborn und Kardinal-Bischofs von S. Sabina Oliverus /
Hrsg. H. Hoogweg. Tubingen, 1894. S. 305-306 (Ep. 5).
57 Ep. 5. P. 306: “Templum Domini nec cum precio nec sine precio nostros intrare
permittit frater tuus, sed tamquam incredulous et immundos repellit”.
58 Ep. 5. P. 297: “ Procul est a nobis idolatria, quam ius naturale prohibet et les
Domini detestatur”.
59 Ibid.: “Vere vos estis increduli, qui Jhesum Christum de Spiritu sancto concep-
tum et de virgine natum confitemini et tamen filium Dei negatis, quia rem sicut
est non intuemini propter duritiam vestram et cor impenitens".
60 Ep. 5. P. 296: “Utinam agnoscere divinitatem in Christo et misterium incamatio-
nis intelligere valeres, mortem Christi, quern vivum ad cellos ascendisse confi-
teris, credere posses”.
61 Ep. 5. P. 297: “Idolatras nos appellas, quia creaturam veneramur. Procul est a
nobis idolatria, quam ius naturale prohibet et les Domini detestatur”.
62 Ibid.: “colimus, verumque Deum latria, que ipsi soli debetur, adoramus, crucem
sanctam atque alias imagines adoramus dulia, humanitatem Christi yperdulia”.
63 Ep. 5. P. 298: “In templo Salomonico,... imagines erant duo Cherubini de lignis
olivarum... In templo Ezechielis in parietibus errant picte facies hominis et facies
leonis iuxta palmam ... Ipse Dominus precepit fieri serpentem eneum contra ser-
pentem ignitos”.
64 Ep. 5. P. 297: “Imagines littere sunt laicorum, que eos nobis ad memoriam revocant,
quorum sunt imagines, devotionem excitant, et ex eis nunquam virtus egreditur...”
65 Это описание содержит аллюзию на евангелие от Иоанна. (Иоанн.
19: 34).
66 Ibid.: “Judeis et Christianis certissime constabat de imagine Salvatoris, cui Judei
multipliciter illuserunt, clavis earn confixerunt, deinde lancea militis aperuerunt
latus eius, de quo sanguis et aqua largiter effluxerunt. Apud Berithum factum est
hoc miraculum... omnes Judei... cum uxoribus et parvulis ad baptismum proper-
averunt.”
348
Сравнительная история
67 Ер. 5. Р. 297-298: “luxta Damascum in casali Sardenai de ycona beate Virginis
oleum habundanter stillat, quod gens tua negare non potest, nec audet ibi com-
morari Christi cultoribus”.
68 Рассказ Бурхарда сохранился в “Славянской хронике” Арнольда Любек-
ского. См.: “Ad hunc locum in assumptione gloriose Virginis et in festo a nativ-
itatis sue omnes Sarraceni illius provincie una cum christianis causa orandi con-
fluunt, et Sarraceni ceremonialia sua illuc offerunt cum maxima devotione...”:
Amoldi abbatis Lubecensis Chronica // MGH SS / Ed. J. M. Lappenberg.
Hannover, 1868. T. 21. P. 237-240.
69 loannis Wirziburgensis Descriptio Terrae Sanctae // Peregrinatores tres. Saewulf.
lohannes Wirzeburgensis. Theodericus / Ed. R.B.C. Huygens. Turnhout, 1994:
“cui signum sanctae cruces in supreme a Christianis est appositum, quod
Sarracenis est valde contrarium et muti auri sui dispendio veilent ese remotum”.
70 Ibid. P. 94: “hoc Templum venerantur cum in eo Creatorem suum adorent”.
71 Ibid.: “Nam licet fidem passionis Christi non habeant, tamen hoc Templum ven-
erantur cum in eo Creatorem suum adorent, quod tamen pro idolatria habendum
est teste Augustino, qui asserit idolatriam esse quicquid fit preter fidem Christi”.
72 Burchardus de Monte Sion Descriptio Terrae Sanctae // Peregrinatores medii aevi
quatuor / Ed. J.M.C. Laurent. Leipzig, 1873. (Далее: Burchardus.) P. 78: “Est
autem capella ista tota interius facta de opere musino ... super locum ilium, ubi
beata virgo peperit, potest dici missa super tabulam marmoream, quae strata ist
ibi. De lapide eciam nudo videtur pars, ubi natus est Christus”.
73 Burchardus. P. 79-80: “Mira res! Artificibus cum instrumentis accedentibus ipso
adhuc astante Soldano cum multis aliis de sano et integra pariete, quern nec acus
videbatur penetrare, serpens mire magnitudinis exivit primeque tabule, que occu-
rit, morsum dedit... Secundam adiit terciamque et quartam et deinceps usque ad
tricesimam, et ita omnibus accidit... Omnibus stipendibus et ipso Soldano con-
tinue propositum revocante, serpens disparuit”.
74 Cm.: Peregrinatio Magistri Thietmari // Extrait du tome XXV des Mdmoires
Academic royale de Belgique, Voyages faits en Terre Sainte par Thietmar, en
1217, et par Burchard de Strasbourg, en 1175, 1189 ou 1225 I Ed. par le Baron
Jules de Saint Genois, 1884. (Далее: Thietmar.) О паломниках XII в. см.:
Grabois A. La “Decouverte” du monde musulman par les pelerins europdens du
XII siecle // Al-Masaq. 1992. T. V. P. 29-4; Idem. Les pelerins occidentaux en
Terre Sainte au Moyen age // Studi medievali. 1989. XXX/1. P. 26-38.
75 Thietmar. P. 34: “Templum Domini... Saraceni in suam maneriem converterunt,
quo nunquam Christianus presumat intrare. Ecclesia Dominici Sepulchri et locus
passionis ssue sine luminaribus, sine honore, sine reverends semper claus existit...”
76 Ibid. P. 28: “Nam ymago eadem, ... came videtur induta, de qua camis liquor
emanat,... soldanus Damascenorum qui monocles fuerat, oculo cum quo videbat
infirmabatur”. Cp.: Albrici monaichi Trium Fontium Chronica, Monumenta
Germaniae historica. Scriptores. 1874. T. XXIII. P. 935; Amoldi abbatis...
Chronica... P. 239-240.
77 История об образе Богоматери в Саиднайе породила весьма популярную
в Средние века легенду о “сарацине, обратившемся в христианство под
влиянием созерцания образа”. См.: Bacci A. Sacred Space for a Holy Icon: the
Shrine of Our Lady of Saydnaya // Hierothopy. Studies in the Making of Sacred
Space / Ed. A. Lidov. Moscow, 2004. P. 132-135.
С.И. Лучицкая. Христианско-мусульманская полед>ика- 349
Ibid. Р. 8: ‘Credunt enim Sarraceni beatam virginem per an^elum concepisse,
Ihesum Christu, peperisse, post partum, virginem permans/sse- Hunc
Virginis ... fuisse dicunt ... in celum assumptum, ... sed negjrnt eum esse fllim
Dei et crucifixum et baptizatum, mortuum et senutum et eius resurrec-
tionem...” ’
° Ibld‘ P' 45; “rubtis quidem quern vidit et adoravit Moyses, sl/blatus est et inter
Christianos, pro reliquis, distractus. Ad instar autem illius nibl factus est aureus
rubus ex laminis aureis et ymago Domini aurea suerrubem et Vmag° Moysi stans
«о тнГяа «г* dexteram rubi tam4uam discalciata et nudis peidbus
ibid.: Ipse etiam Soldanus magnus, rex babyloniei, tunc temtforis exsisterat ibi,
et reverens locum ilium humiliter et nudis pedibus, introivit
См. об этом: Ducellier A. Chretiens d’Orient et Islam au Мс?Уеп aSe- XII-XV
siecles. P., 1996. P. 118.
K2 му °6 ЭТ0М подРобнее: Tolan J- Saracens. Islam in the med/eval Imagination.
N. i,, 2001. P. 135—171.
1,3 Thietmar. Op. cit. P. 54: “Tumba est Mahumeti non pendet if1 aere- sicut multi
asserunt, immo super terram est, et non habetur ibi plus de corPore suo nisi dex‘
S4 гГ peS’quia reliclum corpis eius totum a porcis “christianorum’ ’ devoratus est....”
Cm.: Rizzardi G. Fra Fidenzio da Padova e 1’islam // cJtudi francescani.
T. LXXXH, № 1/2. P. 103-125. "
x5 Fidentius Padovensis Liber recuperationis // Bibliotheca bio-bi^liograPhica della
Terra Santa e dell’Oriente francescano. Quarracchi presso Fir^nze> 1913- T- H-
P. 5: “Sarraceni multum abhorrent ymagines, et sibi subste’rnunt' et in loca
immunda proiciunt...”
Ibid. P. 5: “... sarraceni trahebant crucem Christi ad caudam as^ni> et omnia vitu-
н7 репа quae poterant ymaginibus inferebant...”
Ibid. P. 20: “Non enim intelligent fidem Chrisrianorum: autri*mant enim 4uod
Xnstiam dicunt more humano Trinitatem, quam dicant tres d^os sicut dic’mus
tres homines”.
X!i Среди работ, посвященных Рикольдо да Монте Кроче см.: J^andonnel Р. Fra
Ricoldo de Monte-Croce, pelerin en Terre Sainte et missionaiTe en Orient- xn
siecle // Revue biblique. 1893. T. II. P. 44-61, 182-202, 548-6(P7; Grabois A. La
“Decouverte...” P. 37-41; Ricoldo da Monte-Croce. IsaracerA Contra Legem
Saracenorum / A cura di G. Rizzardi. Firenze, 1992; RicaF^ Montcroix.
Peregrination en Terre Sainte et au Proche Orient. Texte latin et t/raduction- Lettres
sur la chute de Saint Jean d’Acre / Ed. R. Kappler. P., 1997 (Дал^е: Peregrination.)
Lettres de Ricoldo de Monte-Croce / Ed. R. Rohricht // Archived de 1’Orient latin,
1884. T. И. P. 273: “Nonne in tota Turchia et Perside et usq416 ad Baldactum
invenimus omnes eccelsias christianorum diruptas aut stabulata^ aut mecitas fac-
tas Sarracenorum?”
J° Ibid. P. 273-274: “In Iherusalem civitate sancta invenerim turr?iter stabulatam a
Sarracenis ecclesiam illam magnam et devotissimam in n^onte 8У0П> ubi
у, p°rninUS cena> ultimam mitificam cum suis discipulis fecit...”
Peregnnation. P. 48: “venimus ad Iherusalem In qua primo iuir41118 ad eccelsiam
sepulchn Domini nostri Ihesu Christi et non potuimus intrare ncPlentibus sarrace-
n Lettres de Ricoldo de Monte-Croce... P. 274- “Et ecce totus loc/18 desertus gemit
absque habitatore...”
350
Сравнительная история
93 Ibid. Р. 273: "... ligaverunt crucem cum ymagine crucifixi ad caudam equi et
traxerunt per totam civitatem”.
94 Lettres de Ricoldo de Monte-Croce... P. 273: “Sarraceni invenerunt ymaginem
tuam et tui sanctissimi filii, eruerunt oculos lanceis et gladiis et fustibus et
dimiserunt ita cecatas quas omnes pictures ad contumeliam christianorum et
Christi?”
95 Ibid. P. 267: “hec tibi non taceo, quia tuam sanctissimam Trinitatem et misterium
incamacionis totaliter evacuare conatur. Tollit enim a patre filium et a filio patrem
et ab utroque Spiritum Sanctum”.
96 Jacopo di Verona. Liber peregrinationis I Ed. U. Monneret de Villard., Roma,
1950. P. 134: “ad incamacionis totaliter evacuare conatur. Tollit enim a patre fil-
ium et a filio patrem et ab utroque Spiritum Sanctum”.
96 Ibid. P. 134: “orandum secundum legem suam perfidam et iniquam”.
97 Ibid. P. 103: “nam in eorum moscetis nullum est altare, nulla ymago, nulla pic-
ture et de novo et veteri Testamento modica aut nulla credunt nisi librum Genesis:
verum est quod credunt Jhesum Cristum fuisse filium Virginis Marie, sed non Dei
filium sed prophetam magnum...”
98 Daniel N. Learned and Popular Attitudes to the Arabs in the Middle Ages //
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. L., 1977. N 1.
P. 41-52.
ПУБЛИКАЦИИ
Г. В. Бондаренко
МУРЬХУ МОККУ МАХТЕНИ:
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ ИРЛАНДИИ
И РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТОСТИ
Фигура святого Патрика (лат. Patricius, др.-ирл. Cothr(a)ige, Pddraig)
за долгое время исследований и научных споров, к сожалению, не
стала яснее и понятнее даже для специалистов. Основная пробле-
ма, связанная с патрикианскими исследованиями, - это крайняя не-
многочисленность надежных источников о жизни этого ирланд-
ского святого. Проблема в этом случае заключается в том, что ни
точных дат его жизни, ни его достоверного с исторической точки
зрения жизнеописания, не существует. Однако начало христиан-
ской церкви в Ирландии традиционно связывают со святым Патри-
ком, ставшим наиболее почитаемым святым острова, признанным
“апостолом Ирландии”. Конечно, можно сказать, что о жизни про-
светителя Северной Британии (будущей Шотландии) Ниниана мы
знаем еще меньше, но проблема св. Патрика оказывается настоль-
ко сложной именно из-за нашей кажущейся информированности.
Поздняя житийная литература, в самом начале которой стоит труд
Мурьху мокку Махтени, создала особую патрикианскую традицию.
Этот корпус текстов, по сути, оказывается мифом, который ярко
расцвел уже в литературных памятниках на среднеирландском
языке, таких, например, как “Разговор старейших” (“Accalam па
senorach”, XIII в.). Патрик прочно входит в местную национальную
традицию, становится героем эпоса, поэзии и прозаических преда-
ний. Однако за всеми этими живописными картинами из жизни
“апостола” Ирландии исследователь четко видит лишь два текста,
проливающие свет на жизнь исторического святого Патрика и на-
писанные им самим в первой половине V в. Это “Исповедь”
(Confessio) и письмо северобританскому королю Коротику1.
Я не ставлю себе задачи пересказывать те немногие факты из
“Исповеди” св. Патрика, которыми и исчерпывается наше знакомст-
во с биографией святого. Важно другое - св. Патрик, будучи дейст-
вительно ревностным и успешным распространителем веры Хри-
стовой в Ирландии, тем не менее не может считаться единственным
и самым ранним христианским миссионером на острове, а “апосто-
352
Публикации
лом” Ирландии становится уже благодаря сложившемуся в течение
Средних веков церковному преданию.
Достаточно упомянуть о миссии галло-римлянина св. Палладия,
первого епископа ирландцев, который, согласно “Хронике” Проспе-
ра Аквитанского, был поставлен в епископы римским папой Целе-
стином в 431 г. (Важно, что св. Патрик отправился проповедовать
христианство в Ирландию без санкции папы, но повинуясь ангелу
Викторику - Confessio. § 23.) Проспер в своем кратком свидетельст-
ве проговаривается, что св. Палладий был назначен первым еписко-
пом “для ирландцев, верящих во Христа” (ad Scottos in Christum cre-
dentes). Иными словами, к тому времени в Ирландии, никогда не
бывшей частью Римской империи, уже жили христиане, чьи души
нуждались в защите перед лицом пелагианской ереси, распростра-
нившейся в то время в Британии. Христиане эти могли быть как ро-
мано-британского происхождения (пленники и их потомки), так и
местного ирландского. Судя по всему, первые христиане в Ирландии
появляются уже в конце IV в., это были в первую очередь купцы из
Римской империи, пленники (романо-британцы и др.), рабы, члены
их семей. К концу IV в. относятся и первые христианские захороне-
ния в Ирландии. Надо иметь в виду, что IV-V вв. были временем по-
стоянных набегов ирландских морских разбойников на западное по-
бережье Британии, во время которых в плен брали многих местных
жителей, как того же Патрика. Помимо Патрика, действовавшего
на севере страны, и Палладия, миссия которого, скорее всего, рас-
пространялась на восток - на Лейнстер, стоит упомянуть еще и о
южном центре христианской проповеди в Мунстере, издавна имев-
шем торговые связи с континентом.
В связи с тем, что апостолом Ирландии считался романо-брита-
нец Патрик, а не Палладий, в средневековой ирландской традиции и в
научной литературе XX в. родилась концепция “двух Патриков” (ста-
рого и молодого, или даже трех), особенно привлекательная из-за
двух дат смерти святого, сохранившихся в ирландских анналах (457 и
492 гг.). Кроме того, в последнее время археологические свидетельст-
ва и исторический анализ агиографической литературы указывают
на то, что юг страны, Мунстер, был, вероятно, зоной самого раннего
распространения христианства в Ирландии, миссии или миссий, пред-
шествовавших св. Патрику, чья деятельность связывается с севером
острова, Ольстером (древним Уладом). Патрик был епископом Ир-
ландии, поставленным скорее всего британскими епископами, а не са-
мим папой, в отличие от Палладия. В то же время этот вопрос оста-
ется сложным. Странно и неуверенно Патрик начинает свое письмо к
королю Коротику: “Я, Патрик, грешник и неуч, здесь в Ирландии за-
являю, что я епископ (episcopum me esse fateor)”2. Видимо, некоторые
ставили епископство Патрика под сомнение.
Г.В. Бондаренко. Мурьху мокку Махтени: христианизация Ирландии 353
Из самой “Исповеди” св. Патрика и всей раннесредневековой па-
грикианской традиции можно сделать вывод об уникальном положе-
нии этого святого в истории ирландской церкви. Важно, что только
из его произведений мы можем узнать о начале христианизации ост-
рова, о положении на нем первых христиан в V в. В отличие от позд-
ней Римской империи, где государственная власть, начиная с импера-
тора Феодосия Великого, способствовала распространению христи-
анства и поддерживала миссию на территории всей империи, в Ир-
ландии св. Патрик и другие миссионеры столкнулись с первоначаль-
ным неприятием королевской власти и, тем более, друидической
корпорации. Патрику приходилось платить и королям, и законни-
кам-брегонам за защиту во время его поездок по стране. С ним путе-
шествовали сыновья королей то ли в качестве охраны, то ли как по-
следователи (возможно, и то и другое одновременно). Этим юным
принцам он также платил вознаграждение3. Именно из молодых сы-
новей аристократов и королей формировались отряды фениев и раз-
бойников. Эти молодые воины отличались высокой социальной мо-
бильностью и вполне могли стать одними из первых христиан-нео-
фитов, последователей святого. Другая категория последователей и
аудитории св. Патрика - это женщины. Как мы знаем из истории
церкви, женщины часто оказывались более восприимчивыми к про-
поведи и более решительны в выборе веры, чем мужчины. Также и
но время миссии св. Патрика многие женщины британского и ир-
ландского происхождения, богатые и бедные, даже рабыни, крести-
лись, а затем зачастую принимали иноческий постриг. При этом они
претерпевали ругань и гонения за веру от своих родителей. Те же
женщины приносили Патрику на алтарь (sic!) свои скромные дары и
драгоценные украшения, за что язычники-ирландцы зачастую обви-
няли святого в стяжательстве4. Таким образом, первоначальная паст-
ва Патрика (а скорее всего и других миссионеров) состояла в основ-
ном из маргинальных членов общества: молодежи, женщин и рабов.
Помимо всего прочего, св. Патрик был родоначальником ир-
ландской литературы; с его “Исповедью” Ирландия входит в мир ла-
тинского языка и письменности. Именно “Исповедь” Патрика - пер-
вое литературное произведение, написанное в Ирландии. А с пись-
менностью и Писанием начинается и история страны. Как часто бы-
вает в истории, св. Патрик традиции, даже житий VII в., написанных
св. Мурьху и Тиреханом, имеет мало общего с автором “Исповеди”.
У Мурьху и в позднейших житиях скромный романо-британец
(считавший себя римлянином со всеми вытекающими последствия-
ми), чудесным образом спасшийся от язычников, ведомый ангелом
в землю своих недавних поработителей для мирной и успешной
проповеди Евангелия, превращается в достойного соперника могу-
щественных друидов, участвующего с ними в своеобразных маги-
23 Одиссей, 2006
354
Публикации
ческих поединках. В то же время сам Патрик, очевидно, за годы
ирландской миссии сблизился с местными жителями, во многом
жил их интересами и даже стал сам считать себя ирландцем. Как он
писал в “Послании к Коротику”, этому северобританскому королю
и его воинам, взявшим в плен новообращенных ирландцев: “Воз-
можно, мы не из одной овчарни”; и далее, в том же письме заявлял:
“Мы ирландцы” (Hiberionaci sutnus)5. Успеху его миссии явно спо-
собствовала инкорпорация в ирландское общество. Вообще, нам
очень сложно говорить о способах и реалиях обращения Ирландии
в христианство на протяжении полутора столетий существования
первоначальной ирландской церкви. После произведений св. Пат-
рика середины V в. и до середины VI в., когда был составлен “Пер-
вый Синод св. Патрика”, первый памятник ирландского церковно-
го законодательства, в нашем распоряжении нет достоверных ис-
точников по истории церкви.
В целом мы не можем отмахнуться от преданий о св. Патрике,
хранившихся и развивавшихся в Ирландии на протяжении веков. Да-
же если их значение как исторических источников невелико, нельзя
забывать о роли этих преданий для всей средневековой истории Ир-
ландии. В особенности это касается церковного центра Ирландии,
монастыря Арма (древняя Ард Маха, Ard Machae), основание кото-
рого приписывается ему. “Наследники св. Патрика”, аббаты, сидев-
шие в Арма, стойко отстаивали свои права на первенство в ирланд-
ской церкви, основываясь на авторитете святого.
При этом юг острова (как, например, в случае пасхальных раз-
ногласий) часто выступал независимо. Надо отметить, что в ранне-
средневековой Ирландии при отсутствии городов сложилась особая
форма церковного устройства: важнейшую роль играли крупные
монастыри и их аббаты, стоявшие во главе особых монастырских
“фамилий” из нескольких монастырей. Иногда аббат крупного мо-
настыря мог быть одновременно и епископом (как, например, в Кил-
дэре), но в основном монастырские “фамилии” заменяли отсутству-
ющую епархиальную структуру.
Труды Патрика стали главным источником, на котором основы-
вались его первые биографы Мурьху и Тирехан. Несомненно, исто-
рикам очень повезло, что “Исповедь” и письмо св. Патрика дошли
до наших дней, и мы можем оценить степень оригинальности ранних
биографов святого. При этом большая часть оригинального матери-
ала того же Мурьху базируется на местной ученой, церковной и на-
родной традиции, постепенно формировавшей образ крестителя Ир-
ландии на протяжении около 200 лет после его смерти.
К сожалению, нам почти ничего не известно о биографии одно-
го из первых ирландских агиографов, Мурьху макку Махтени. Его
род мокку Махтени (moccu Machtheni), о принадлежности к которо-
Г.В. Бондаренко. Мурьху мокку Махтени: христианизация Ирландии 355
му он сам упоминает в начале жития, согласно Э. Хогану, происхо-
дил из туата И Фаэлань (Ui Faeldin), в районе современного Клэйна,
гр. Килдэр6. Так что по происхождению он, возможно, был лейн-
стерцем, подобно Аэду, епископу Шлевте, и Когитосу, первому ир-
ландскому агиографу, автору жития св. Бригиты. Связь с этими дву-
мя лейнстерскими церковными деятелями оговаривается самим
Мурьху, а Когитос скорее всего был его духовником и учителем в
новом для тогдашней Ирландии искусстве агиографии. Мурьху, в от-
личие от своего современника Тирехана, пытался, подобно Когито-
су, написать связное жизнеописание святого, а не просто перечис-
лить некоторые его деяния, хотя, возможно, с точки зрения совре-
менного читателя, это ему и не совсем удалось. При этом житие Па-
трика было написано Мурьху по просьбе епископа Аэда, и, судя по
обращению к “господину” Аэду (mi domine Aido), до смерти послед-
него в 700 г. Знавший Арма и ее окрестности не понаслышке, Мурь-
ху, видимо, писал свое произведение в Арма, в то время, когда там
гостил епископ Аэд. Интересно, что и Аэд, и Мурьху участвовали в
соборе в Бирре в 697 г. Современные исследователи склонны дати-
ровать “Житие...” Мурьху самым концом VII в.7, а Л. Билер уточнял,
что оно скорее всего было создано после собора в Бирре, где, види-
мо, были достигнуты соглашения по принятию во всей Ирландии
римского счета Пасхи и формы тонзуры, в ответ на что св. Патрик
признавался апостолом всей Ирландии8.
В любом случае, принимаем ли мы версию о лейнстерском или
северном, ольстерском происхождении Мурьху, очевидно, что его
произведение было написано не в последнюю очередь с целью ут-
верждения первенства монастырского центра в Арма, основанного
св. Патриком и продолжавшего традицию святого. Эта пропаганда
Арма была актуальна в условиях постоянной конкуренции крупней-
ших ирландских монастырей - таких как Килдэр, Иона, Клонмак-
нойс, Слети. Именно в этом историческом контексте имеет смысл
рассматривать пассажи Мурьху, посвященные Арма и ее связи с Па-
триком.
Житие св. Патрика Мурьху сохранилось в трех рукописях: в
Книге из Арма (А, Дублин, Тринити Колледж 52, f. 2r-8v), написан-
ной до 845 г. (год смерти ее писца Фердомнаха, которого Ольстер-
ские анналы называют sapiens et scriba optimus Airdd Machae)9, в ру-
кописи из Брюссельской королевской библиотеки (В, Брюссель, Ко-
ролевская библиотека, 64, f. 299r-303r) XI в. и в рукописи из Венской
национальной библиотеки (С, Вена, Национальная библиотека, Ser.
nova 3642) конца VIII в.10 Из этих рукописей Книга из Арма предста-
вляет собой наибольший интерес для патрикианских исследований и
раннесредневековой ирландской истории в целом. Помимо интере-
сующего нас “Жития св. Патрика” Мурьху в ней содержатся также
356
Публикации
произведения самого св. Патри-
ка, его “Исповедь” и письмо Ко-
ротику, Collectanea Тирехана (де-
яния св. Патрика) и Liber Angeli
(пропагандистский текст, оправ-
дывающий претензии Арма на
первенство среди ирландских мо-
настырей). Епископ Тирехан, ав-
тор второго раннего жития
св. Патрика, написал свой труд
примерно в то же время, что и
Мурьху, в конце VII в. или даже
немного раньше. При этом важ-
но, что каждый из этих двух ав-
торов не знал о работе другого, и
тексты их независимы один от
другого. Мурьху и Тирехан, до-
полняя друг друга, составляют
своеобразный тандем в ранней
ирландской агиографии, предста-
вляя собой взгляд церковной эли-
ты VII в. на V в. - взгляд, во мно-
гом обусловленный сложившей-
ся за это время устной патрики-
анской традицией (о которой мы
ничего не знаем) и церковно-по-
литической конъюнктурой. По-
мимо трех указанных рукописей
Ил. 1. Инициал из рукописи начала
IX в. “Книга из Арма”
в восьми более поздних житиях
мы находим в той или иной мере
измененные варианты различ-
ных фрагментов из Мурьху11.
Повторим, что “Житие св. Патрика” Мурьху нельзя рассматри-
вать как достоверный исторический источник по Ирландии V в. ско-
рее оно отражает представления церковных кругов VII в. о стране, ее
сакрально-политическом центре Темре, ее языческом прошлом и пе-
реходе к новой вере и новому времени. Уже для агиографов VII в.
Темра, друиды и языческие верования представляли собой отрину-
тую языческую старину, несмотря на то, что, согласно законодатель-
ным памятникам, в какой-то деградировавшей форме, на окраине об-
щества, друиды существовали еще в VII в. Рассматривая проблему
соотношения местной традиции и христианской учености в ранне-
средневековой Ирландии, актуальную для текста Мурьху, надо все-
гда помнить, что христианство в этом регионе помимо духовного
Г.В. Бондаренко. Мурьху мокку Махтени: христианизация Ирландии 357
преображения общества дало стране возможность стать частью ла-
тинского мира, приобщиться к античной культуре, к письменности,
литературе и истории. Поразительная особенность раннехристиан-
ской Ирландии заключается в том, что семя христианства падает не-
посредственно на почву древнего дописьменного общества, в отсут-
ствие римского или греческого буфера, на почву общества, строго
регламентированного предписаниями жреческого класса друидов,
общества, где власть короля также была сакральной. Помимо ново-
го взгляда на жизнь и смерть, новой нравственности, христианство
также дает форму всему комплексу идей и представлений, бытовав-
ших в древней языческой Ирландии в виде часто противоречивых,
переливающихся и изменяющихся феноменов: все это обретает свою
новую и вполне определенную форму в литературе, изобразитель-
ном искусстве и архитектуре. При этом христианство было принято
ирландцами без особого сопротивления, мирно - на острове неиз-
вестны святые мученики за веру (другой пример такого мирного при-
нятия христианства в Европе - это остров Исландия, население кото-
рой обладало существенной пропорцией ирландской крови).
Уникальные черты раннесредневековой Ирландии как в соци-
ально-политической, так и в культурной сфере, обусловлены, с од-
ной стороны, тем, что эта страна никогда не была частью Римской
империи, а с другой - тем, что вплоть до утверждения христианства
в Ирландии существовало ученое жреческое сословие, судя по все-
му, функционально схожее с индийскими брахманами. Христианст-
во, церковная организация, письменная культура и историческое со-
знание непосредственно наложились на древнейший пласт архаиче-
ской дописьменной культуры. В этом и заключается уникальное по-
ложение раннесредневековой Ирландии в европейском контексте.
Несмотря на всю трудность проблематики, связанной с институ-
том друидов в кельтском мире, а особенно в Ирландии, и прежде
всего с популярными мифами вокруг этого института, краткостью и
противоречивостью релевантных источников, мы не можем оста-
вить без внимания ту особую роль, которую отводили друидам ран-
неирландские агиографы, в частности Мурьху и Тирехан. Читая
этих авторов, мы должны помнить, что после смерти святого Патри-
ка прошло уже около двухсот лет, в Ирландии укрепилась церковь,
начались уже обрядовые и календарные споры с Римом и между се-
вером и югом Ирландии. В то же время ясно, что христианизация
острова была постепенной и оставляла на географической и соци-
альной периферии еще много укрытий для языческого прошлого.
Да и не только на периферии: древнеирландская литература и уче-
ный класс филидов (поэтов-сказителей) сохраняли многие черты
языческого мировоззрения. Таким образом, мы можем восприни-
мать данные ранних ирландских агиографов о друидах, соперниках
358
Публикации
св. Патрика, с осторожностью, но не можем отбрасывать их цели-
ком: судя по всему, для церковных деятелей VII в. борьба с наследи-
ем язычества являлась едва ли не более актуальной, чем для самого
Патрика в V в. Важно и то, что друиды во всем корпусе ирландской
житийной литературы (в отличие от литературы светской) всегда
выступают как самые главные враги веры Христовой, как абсолют-
ное зло для церкви и для общества.
Интересно, что в отличие от античных латинских авторов, ран-
ние ирландские агиографы, писавшие также на латыни, называют
ирландских друидов magi, а не druides. Сложно сказать, насколько
они были знакомы с античной историографией, но даже если учесть
такое знакомство, очевидно, ирландским агиографам не приходило
в голову сопоставить собственных друидов и галльских druides у то-
го же Цезаря. Термин magi явно носит более церковный характер, и
не удивительно, что евангельские волхвы (pdyoi) в ирландских пере-
водах и апокрифах становятся друидами.
Согласно Мурьху, после пленения ирландскими пиратами Патрик
попадает на семь лет в услужение к друиду по имени Милух мокку
Бойн, который выкупил его. Далее Мурьху уточняет, что Патрик слу-
жил в хозяйствах четырех друидов, откуда и одно из имен святого -
Котиртиак (искаж. “четыре дома”)12. Если к сведениям о друиде-хозя-
ине Патрика мы еще можем отнестись с вниманием, то далее следует
явная ложная этимология древнеирландского варианта имени свято-
го. Дело в том, что латинское имя Patricias ирландцем V в. могло быть
озвучено лишь как *Cotrigios, поскольку звук [р] отсутствовал в гой-
дельском. Затем же *Cotrigios было переосмыслено как Котиртиак.
В то же время, по меньшей мере странно, что Патрик, если он был в
услужении у друида в течение столь долгого времени, ни словом не
упоминает в своей “Исповеди” ни своего хозяина, ни друидов вообще.
Что это: нежелание миссионера возвращаться к неприятной для него
теме, или Мурьху и Тирехан отражают пресловутую популярную тра-
дицию, эксплуатирующую друидическую тему?
Мурьху сообщает, что в начале своей миссии св. Патрик прибыл
в Темру, важнейший королевский центр Ирландии. Там при дворе
верховного короля Лойгуре, сына Ниалла, св. Патрик встретил
“мудрецов и друидов, предсказателей и заклинателей, и творцов вся-
ческих злодеяний, которые могли знать и провидеть будущее по
обычаю язычников и идолопоклонников”. Двоих друидов король
Лойгуре приблизил к себе более всех: Лотроха (Лохру) и Лукета Ма-
ела (mael - “бритоголовый”, от особой друидической тонзуры).
Именно этим двоим друидам Мурьху приписывает известное пред-
сказание о пришествии Патрика и новой веры: “Они-то, с помощью
своего магического искусства, часто предрекали, что вскоре придет
в их страну из-за моря чужой обычай”. Вера эта “изничтожит богов
Г.В. Бондаренко. Мурьху мокку Махтени: христианизация Ирландии 359
их со всеми их искусными деяниями”. Этим же друидам Мурьху при-
писывает текст предсказания о св. Патрике, пожалуй, второй текст
после триады, упомянутой Диогеном Лаэртским, который может
восходить к подлинному друидическому сочинению. Этот стих при-
водится Мурьху в латинском переводе, однако он сам признается,
что слова ирландского оригинала были не всегда доступны “из-за
темного их языка”13. В любом случае, очевидно, что оригинал был
написан на древнеирландском языке, и действительно, разные руко-
писи приводят несколько вариантов этого предполагаемого ориги-
нала, как, например текст из Liber Hymnorum:
Придет бритоголовый
Из-за моря безумного,
Его плащ с дырой для головы,
Его посох загнут наверху,
Его стол на западе его дома;
Все его люди ответят:
“Аминь, аминь”14.
Даже если по лингвистическим параметрам язык этого текста не
указывает на дохристианское его происхождение, реалии текста
подразумевают очень раннюю датировку. Сам св. Патрик в проро-
честве не упомянут, отношение к миссионеру явно языческое, а с
христианами ирландцы были знакомы и до начала миссии в V в. Бо-
лее того указание на расположение стола-алтаря в храме на западе
указывает на древность произведения15. Можно предположить, что
текст этот восходит к реальному пророчеству V в., времени проник-
новения в Ирландию христианских миссионеров из Британии и Гал-
лии, одним из которых и был св. Патрик.
Мурьху ссылается еще раз на сведения друидов, когда описывает
путь св. Патрика мимо “могил людей Фиака”. Об этом месте он по-
черпнул информацию из историй (fabulae) некоего друида Ферхертне,
одного из девяти друидов-пророков восточного королевства Брега16.
То есть, несмотря на все негативное отношение агиографа к друидам,
сам он по крайней мере два раза ссылается на наследие уходящего
ученого сословия! Причем знание “старины места” (др.-ирл. dindshen-
chas), в данном случае могилы, явно входило в обязанности ирланд-
ских друидов, так же как знание королевской генеалогии.
Самое известное же столкновение св. Патрика с друидами проис-
ходит на Пасху, когда король Лойгуре и его люди собрались в Темре
на некое ночное языческое празднество (скорее всего, имеется в ви-
ду Белтане, праздновавшийся в начале мая). Вокруг короля собра-
лись “друиды, заклинатели, предсказатели, всяких искусств знатоки
и учителя”. Патрик зажигает пасхальные свечи раньше, чем был
зажжен огонь Белтане во дворе Темры, это видят люди, собравшие-
ся у короля и сам король, обуянный гневом. Только двое его могуще-
360
Публикации
ственных друидов, Лохру и Лукет Маэл, могли сказать ему, кто зажег
этот огонь. Вместе с этими друидами Лойгуре отправляется к Патри-
ку. Лохру начал разговор с Патриком и при этом поносил христиан-
скую веру, Патрик же призвал Господа и просил, чтобы этот друид
немедля умер. Тут же друид поднялся в воздух, упал, стукнувшись го-
ловой о камень, и мозг его разлетелся в разные стороны17. Так, сог-
ласно Мурьху, началась борьба святого с друидическим сословием,
продолжившаяся затем магическими состязаниями Патрика и Луке-
та Маела. При этом представляется, что в воображении агиографа
св. Патрик сам приближается по своим свойствам к магу-друиду, а чу-
деса его вполне вписываются в местный ирландский колорит. Разби-
тые головы и разлетающиеся брызги мозга врагов мы встретим поз-
же и в традиционной светской древнеирландской литературе.
На следующий день, в день Пасхи христиан и праздник язычни-
ков, в Темре собрались короли, князья и друиды на главный пир. Ко-
гда к ним явился Патрик, никто из них не встал поприветствовать
его, кроме главного филида, оллава, Дувтаха мокку Лугира18, о ко-
тором мы не располагаем иными сведениями. В тот же день, соглас-
но Мурьху, Дувтах уверовал в Бога. Вместе с Дувтахом на этом пи-
ру в Темре был и молодой филид Фиакк, впоследствии крестивший-
ся и ставший епископом. Интересно, что Мурьху здесь особо выде-
ляет поэтов и сказителей филидов, бывших частью языческого уче-
ного сословия, как первых приверженцев и учеников Патрика. Фи-
лиды, в отличие от друидов, предстают вполне благорасположенны-
ми к новой вере. Таким образом, моделируется отношение св. Пат-
рика и церкви в целом к этому светскому ученому сословию, кото-
рому, согласно традиции, в конце VI в. очень помог выжить и сохра-
нить влияние св. Колум Киле. В то же время, начиная разговор о
празднике в Темре, Мурьху замечает, что там собрались “короли,
князья и друиды”, т.е. бывшие на пиру филиды как бы приписаны к
друидическому сословию. Не в этом ли нужно искать ответ на загад-
ку происхождения сословия поэтов-филидов? Возможно, филиды
представляли собой некую часть сословия друидов, принявшую хри-
стианство и сохранившую былые привилегии. Отсюда и частое сме-
шение друидов и филидов в ранних ирландских текстах.
Оригинальная модель христианизации Ирландии была предло-
жена С.В. Шкунаевым еще в 1991 г. Он полагает, что корпоративно
организованное жречество (друиды), доминировавшее в общество и
связывавшее королевскую власть целым рядом ритуальных ограни-
чений и запретов, вызвало недовольство аристократии (во главе с
королями), обратившейся к новой, менее ритуально обусловленной
религии. Это движение в Ирландии типологически сравнивалось с
социально-религиозным феноменом индийской истории, так назы-
ваемым “восстанием кшатриев”, когда это военно-аристократиче-
Г.В. Бондаренко. Мурьху мокку Махтени: христианизация Ирландии 361
ское сословие встало на сторону буддизма и отринуло древнюю ре-
лигию жрецов-брахманов. В оправдание этой версии христианиза-
ции “зеленого острова” Шкунаев апеллировал, в частности, к упоми-
наниям Мурьху о предоставлении аристократами-землевладельцами
Патрику земли для возведения храмов и строений для ранних мона-
шеских общин19.
Однако отношения первых ирландских миссионеров с королев-
ской властью и аристократией не всегда складывались столь безоб-
лачно: как упоминает сам Патрик в “Исповеди”, ему приходилось
делать подарки местным племенным королям за их благорасполо-
жение, и несмотря на это, короли эти чуть не убили его и, по его сло-
вам, надели оковы и держали под стражей четырнадцать дней20. Со-
гласно традиции, отраженной у Мурьху и Тирехана, отношения Па-
трика с верховным королем Темры, Лойгуре, всегда были весьма на-
пряженными. В других ирландских агиографических памятниках ко-
роль также часто предстает в качестве противника святого и сто-
ронника старого порядка. Королевская власть в источниках ни разу
не называется инициатором гонений на друидов, связь королей и
друидов представляется более тесной и продолжительной, не сошед-
шей на нет в одночасье. Вспомним опять же, что Ольстерские анна-
лы упоминают друидов при дворе верховного короля Темры в 60-е
годы VI в. во время правления Диармайда мак Кербала.
Таким образом, представляется более вероятным постепенный
и “маргинальный” путь христианизации Ирландии. Первые христиа-
не на острове были британцами и галло-римлянами (купцами, раба-
ми, переселенцами), затем общину пополнили члены их семей мест-
ного ирландского происхождения, именно к этой первой группе и
был отправлен Палладий. Затем миссия Патрика и других ранних
проповедников затрагивает женщин, рабов, изгоев, а также сыновей
аристократов и королей. Лишь в этом последнем случае можно при-
знать актуальной “аристократическую” составляющую христиани-
зации. Новая вера распространялась в стране постепенно, в течение
долгого времени оставаясь замкнутой в монастырской ограде, где и
создавались и переписывались как памятники агиографии, подоб-
ные “Житию св. Патрика” Мурьху, так и прозаические предания на
древнеирландском языке. Отдельный вопрос - насколько обмирщен
был такой древнеирландский монастырь? Насколько высоко было
влияние окружающего общества на нравы и культуру внутри мона-
стырских стен? Однако в этом коротком введении к публикации пе-
ревода “Жития св. Патрика” Мурьху мы вряд ли сможем ответить на
эти вопросы, требующие отдельного исследования.
Особая тема - великая миссия ирландских монахов в Британии и
континентальной Европе, приведшая к образованию крупнейших
монастырских центров, таких как Линдисфарн, Ярроу, Санкт-Гал-
362
Публикации
лен, Боббио, Люксей и многие другие. К тому же открытию Ислан-
дии мы обязаны не скандинавам, а ирландским монахам, первыми
поселившимися на этой северной земле. Ирландская церковь пода-
рила нам таких известных богословов и философов, как Иоанн Скот
Эриугена и Иоанн Дунс Скот. Любому медиевисту и историку церк-
ви, который обращается к западноевропейской средневековой циви-
лизации и западной церкви, не стоит забывать об уникальной цер-
ковной традиции “зеленого острова” веры в водах внешнего океана,
на краю Ойкумены.
1 Saint Patrick. Confession et lettre a Coroticus I Ed. R.P.C. Hanson, C. Blanc. P.,
1978 (Sources chretiens. N. 249); de Poor M. Patrick. The Pilgrim Apostle of
Ireland. N.Y., 1998. Русс, пер.: Святитель Патрик Ирландский. Испо-
ведь / Пер. Н. Холмогоровой под ред. М. Касьян // Альфа и Омега. 1995.
Вып. 4 (7). С. 141-154.
2 de Paor М.Б. Op. cit. Р. 280.
3 Confessio. § 52, 53.
4 Ibid. § 42,49. Мурьху также упоминает о даре св. Патрику, чудесном котле.
5 de Paor М. Op. cit. Р. 288; Бондаренко Г.В. Конфликт святого Патрика и
бриттского короля Коротика (по “Житию св. Патрика” Мурьху и “Пос-
ланию” св. Патрика) // Язык и культура кельтов. Материалы II коллок-
виума. СПб., 1993. С. 1-2.
6 В то же время Л. Билер считает, что он принадлежал туату Мохтане
(Tuath Mochtaine) с равнины Арма. См.: Bieler L. Muirchu’s Life of St.
Patrick as a Work of Literature Ц Medium ?Evum. 1974. Vol. XLIII, N 3. P. 220.
7 Charles-Edwards Th. Early Christian Ireland. Cambridge, 2000. P. 440.
8 Bieler L. Op. cit. P. 220.
9 Book of Armagh, the Patrician Documents I Ed. E. Gwynn. Dublin, 1937
(Facsimiles in Collotype of Irish Manuscripts. Vol. Ill); Gwynn J. Liber
Ardmachanus. Dublin, 1913.
10 The Patrician Texts in the Book of Armagh / Ed. L. Bieler. Dublin, 1979. P. 2-4.
n Ibid. P. 20-22.
12 Ibid. P. 62.
13 Ibid. P. 74, 76.
14 The Irish Liber Hymnorum / Ed. J.H. Bernard, R. Atkinson. L., 1898. Vol. I.
P. 100.
'5 Travis J. A Druidic Prophecy, the First Irish Satire, and a Poem to Raise Blisters I I
Publications of the Modem Language Association of America. 1942. Vol. LVII.
P. 910-911.
16 The Patrician Texts... P. 84.
17 Ibid. P. 90.
18 Ibid. P. 92.
19 Шкунаев C.B. Герои и хранители ирландских преданий Ц Предания и ми-
фы средневековой Ирландии / Пер. и коммент. С.В. Шкунаева. М., 1991.
С. 11-12.
20 Confessio. § 52.
Мурьху мокку Махтени
ЖИТИЕ СВЯТОГО ПАТРИКА*
(Посвящение) Многие, господин мой Аэд1, пытались привести в по-
рядок этот рассказ, следуя тому, что их отцы и те, кто были от нача-
ла посланниками Слова, передали им, однако труднейшая задача
рассказчика, различающиеся мнения и многочисленные подозрения
не давали им избрать определенную стезю; не ошибусь, что как, со-
гласно нашей пословице, мальчики спускаются в амфитеатр, так в
опасное и глубокое море священного повествования, где валы пучин
дерзко вздымаются среди острейших рифов в неведомых водах, что
до сих пор не бороздила ни одна лодка, кроме лодки отца моего Ко-
гитоса2, с моим малым дарованием и опытом спустил я на воду ребя-
ческую весельную кимбу3. Однако я не хотел бы выдать малое за
большое, я попытаюсь изложить отрывочно и с великим трудом
лишь некоторые из многих деяний святого Патрика с моими малы-
ми знаниями, неточными свидетелями, нестойкой памятью, усталым
умом и скромным слогом, но с благочестивой любовью, подчиняясь
велению твоей святости и власти.
Во имя Царя небесного,
Спасителя этого мира.
Начинается пролог жи-
тия святого Патрика Испо-
ведника.
Необходимы время, мес-
то и человек. Название мест-
ности Кесария в Каппадокии,
что прежде называлась Ма-
садра. Время - Валентиниана
и Валента, которые правили
семнадцать лет, год от сотво-
рения мира - пять тысяч сто
семьдесят пятый. От стра-
Илл. 2. Символ св. ап. Луки
в “Книге из Арма”
стей же Господа нашего Ису-
са Христа отсчитываем 436 лет до кончины Патрика. Человек: Ва-
силий, melchus по-еврейски, basilicus по-гречески, тех на латыни. Ва-
силий, то есть, царек; basilica, то есть царский дом; basilicum, то есть
царский; basilion, то есть царство. И он написал все свои труды по-
гречески; Руфин пресвитер, знаток обоих языков, выросший в Кеса-
* Перевод с лат. Г.В. Бондаренко и С.В. Шкунаева выполнен по изд.: The Patrician Texts in
the Book of Armagh / Ed. L. Bieler. Dublin, 1979 (Scriptores Latini Hibemiae. Vol. X). P. 62-122.
Коммент, к пер. Г.В. Бондаренко.
364
Публикации
рии, хоть и был латинянин, перевел его труды на латынь4. Я нашел
четыре имени Патрика, записанные в книге, что была во владении
Ултана, епископа Дал Конхобайр: святой Магон, то есть, знамени-
тый; Суккет, (...) то есть, Патрик, (Котиртиак), потому что он слу-
жил в хозяйствах четырех друидов5; и купил его один из них, имя ко-
торому было Милух мокку Бойн, друид, и Патрик служил ему семь
лет. У Патрика, сына Кальфорния, было четыре имени: Сохет, дан-
ное при рождении, Контике, когда он служил, Мавоний, когда учил-
ся, Патрик, когда он был рукоположен.
(1) О происхождении Патрика и его первом пленении
(2) О его плавании с язычниками и страдании в пустыне, о
том, как он чудесно нашел пищу себе и язычникам
(з) О втором пленении, которое он в течение шестидесяти
дней претерпевал от врагов
(4) О приеме родственниками, когда те узнали его
(б) О его возрасте, когда он отправился увидеть апостоль-
ский престол, желая научиться мудрости
(б) О его встрече со святым Германом в Галлии и о том,
почему он не пошел дальше
(?) О его возвращении из Галлии, рукоположении Палла-
дия и смерти последнего
(8) О рукоположении Патрика епископом Аматорексом
после смерти Палладия
(9) О языческом короле, обитавшем в Темре, когда святой
Патрик принес крещение
(ю) О первом его путешествии на этот остров, чтобы вы-
купить себя у Милиукка, прежде чем иных освободить
от дьявола
(11) О смерти Милиукка и о том, что сказал Патрик о его по-
томстве
(12) О совете святого Патрика, когда обсуждали празднова-
ние первой Пасхи
(13) О литургии первой Пасхи на этом острове
(14) О языческом пире в Темре в ту же ночь, когда святой
Патрик праздновал Пасху
(15) Как король Лойгуре пришел из Темры к Патрику в па-
схальную ночь
(1б) О призвании Патрика к королю, вере Эрка, сына Дай-
га, и смерти друида в ту ночь
(17) О том, как король и его люди разгневались на Патри-
ка, как Бог наказал их, и о преображении Патрика на
глазах язычников
(18) О приходе Патрика в Темру в день Пасхи и о вере Дув-
таха мокку Лугира
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
365
(19) О борьбе Патрика с друидом в тот день и чудесных де-
яниях
\20) Об обращении короля Лойгуре и о слове Патрика о
судьбе его королевства
(21) Об учении, крещении и чудесах святого Патрика, сле-
дующего примеру Христа
(22) О Макк Куйлле и его обращении по слову Патрика
(23) Об истории Даре и его лошади и о том, как он подарил
Патрику Ард Маху
(24) О язычниках, работавших в воскресный день вопреки
указанию Патрика
(25) О плодоносной земле, словом Патрика обращенной в
солончак
(2б) О смерти Монеисен, саксонской девы
(27) О том, как святой Патрик видел небеса отверстыми,
Сына Божия и ангелов Его
(28) О ссоре святого Патрика и Кортеха, короля Айла6
Это незначительное сообщение о святом Патрике и его деяни-
ях записал Мурьху макку Махтени по просьбе Аэда, епископа града
Шлевте.
О РОЖДЕНИИ СВЯТОГО ПАТРИКА
И О ЕГО ПЛЕНЕНИИ В ИРЛАНДИИ
Патрик, или иначе Сохет, родом бритт, появился на свет в Британии.
Отцом его был дьякон Куальфарний, сын, как поведал сам Патрик,
пресвитера Потита из селения Баннавем Табурнийский, что непода-
леку от нашего моря. Селение это, как я узнал точно и несомненно,
зовется Вентре7. Мать его звали Конкесса. Шестнадцати лет от роду
вместе с другими был он захвачен в плен и увезен на наш варварский
остров, где и пребывал в рабстве у жестокого короля-язычника.
Шесть лет служил он ему, как то в обычае у евреев, пребывая в со-
дрогании и страхе Божьем по слову Псалмопевца (Пс., 66, 6; 35, 2),
бодрствуя и творя многие молитвы. Сто молитв творил он днем и
сто ночью, с охотою отдавая Богу Богово, а кесарю кесарево. Так
убоялся он Господа и возлюбил всемогущего Бога, ибо до того вре-
мени не знал истинного Бога, но только тогда испытал горение ду-
ха. После многих тягот, что перенес он в этой земле, - голода и жа-
жды, холода и наготы, - после того как пас он овец, после частых яв-
лений ему ангела Божьего Викторика, сотворил он, как почти всем
это известно, немало чудес по Божьим наставлениям, из которых
упомяну я лишь одно или два: “Хорошо, что постишься ты, скоро от-
правишься ты в свое отечество”, и еще: “Вот, корабль твой уже на-
366
Публикации
готове”, - но был тот корабль на деле не близко, а далеко, в двух-
стах милях, где не случалось бывать юноше. После всего того, о чем
мы сказали и что едва ли кому под силу изложить целиком, оставил
Патрик языческого владыку с его деяниями, и, вручив себя святому
попечению Бога небесного и бессмертного и воле Его, в возрасте
двадцати трех лет пустился в путь на корабле к Британии вместе с
неизвестными ему людьми, варварами и язычниками, поклонявши-
мися множеству ложных богов.
Три дня и столько же ночей провел он в море, словно Иона,
вместе с этими нечестивыми людьми, а потом, наподобие Моисея,
но другим образом, влачился двадцать восемь дней по пустынным
местам. Словно иудеи, упрекали его язычники, ибо истощились
силы их от голода и жажды, и уговаривал его кормчий, чтобы по-
молился он своему Богу, дабы спасти их всех от смерти. Умилосер-
дившись бедами их, сожалея о людях и духовно деля страдание их,
увенчанный добродетелью и прославленный Господом, с Божьей
помощью доставил он всем в избытке пищи, ибо послал им Гос-
подь стадо свиней, как некогда евреям стаю перепелов. Как в бы-
лые времена Иоанн, набрели они и на лесной мед, но как подоба-
ет нечестивым язычникам, вместо акрид получили они свинину.
Сам же святой Патрик не притронулся к этой еде, ибо была она
принесена в жертву, но не терпел ни в чем ущерба, не ощущая ни
голода, ни жажды.
И в ту самую ночь сильно искушал его во сне сатана, словно по-
гребая Патрика под грудой скал и круша члены его, но дважды воз-
звал Патрик к Илии, и немедля воссияло для него солнце, и рассея-
ли лучи его остатки тьмы, и возвратились к Патрику силы его8.
И через много лет снова попал он в плен к чужеземцам, и удо-
стоился в первую ночь слышать слово Господне: “Два месяца прове-
дешь ты у них” - иначе говоря, у врагов твоих. Так и случилось, ибо
через шестьдесят дней освободил его Господь из рук их и доставил
ему и спутникам его пищу, огонь и ясную погоду во всякое время,
покуда на десятый день не встретили они людей.
И снова спустя немного лет, как и встарь, пребывал он в радости
у родителей своих в своем отечестве. Приняли они его как сына и
просили после стольких испытаний и тягот никогда больше не оста-
влять их. Но не так полагал Патрик, и было ему много видений.
К тому времени близилось ему к тридцати годам и, по слову Апосто-
ла, достиг он возмужания, всей полноты возраста Христова. Отпра-
вился он посетить и почтить апостольский престол, главу всякой
церкви в целом мире, дабы приобщиться, научиться и проникнуться
божественной мудростью и святыми таинствами, к которым при-
звал его Господь, дабы затем проповедовать и нести слово Божье
внешним народам, склоняя их к вере Христовой.
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
367
Так пересек он море на юге Британии и пустился в путь через
Галлию, желая затем пересечь Альпы и добраться до Рима. По до-
роге туда встретил он человека святых нравов, епископа Альтиси-
одора, великого пастыря Германа9. Оставался Патрик у него нема-
лое время, как прежде Павел пребывал у ног Гамалиила, и там, в
совершенном терпении, смирении и послушании он возлюблено
учился и упражнялся в знании, мудрости, целомудрии и всяком бла-
горасположении духа и души по велению своего сердца и с великим
страхом Господним в доброте и простоте сердца своего, девствен-
ный в теле и духе.
Провел он там немалое время - кто говорит сорок лет, иные
тридцать, - и тогда верный его Викторик, что предрек Патрику бу-
дущее, еще когда пребывал он в рабстве в Ирландии, стал часто яв-
ляться ему и сказал, что пришло время пускаться в путь, дабы еван-
гельской сетью ловить дикие варварские племена, к которым Гос-
подь направил его учителем. Так было сказано ему в видении: “При-
зывают тебя сыновья и дочери Фохлотского леса”10, и т.д.
Когда исполнился тому срок, с Божьей помощью приступил он
к тому делу, к которому всегда приуготовлялся, делу евангельской
проповеди. Послал с ним Герман старшим священника Сегития11,
чтобы был у него товарищ и свидетель, ибо тогда еще не был по-
ставлен Патрик святым господином Германом в епископы. Знали
они, что Палладий, архидиакон папы Целестина, епископа Рима,
который занимал тогда апостольский престол как сорок пятый на-
следник святого апостола Петра, был поставлен в епископы и по-
слан им в зимний холод на наш остров, дабы обратить его в истин-
ную веру. Однако постигла его неудача, ибо не может человек со-
брать плодов на земле, если не даны они ему будут с небес. Ни эти
дикие и нечестивые люди не пожелали внять его наставлениям, ни
сам Палладий не захотел надолго остаться в чужой земле, но пред-
почел вернуться к тому, кто его послал. На обратном пути, пере-
плыв через первое море и пустившись в дорогу посуху, скончался
он в бриттских пределах12.
Услышав о смерти святого Палладия в Британии, ученики его -
Августин, Бенедикт и иные - по дороге домой сообщили о том в Эб-
мории, и тогда Патрик со спутниками отправился кружным путем и
прибыл к достославному человеку и великому епископу по имени
Аматорекс, обитавшему неподалеку. Там святой Патрик, ведая о
своем предназначении, принял епископский сан от святого епископа
Аматорекса13. Низшие саны приняли в тот же день Изернин, Аукзи-
лий и другие. Получили они благословение, совершив все согласно
обычаю, и, словно нарочно для Патрика, пропели стих из псалма
(109, 4): “Ты еси иерей во веки по чину Мелхиседекову”. Потом во
имя Святой Троицы взошел славный путник на приготовленный для
368
Публикации
него корабль и вскоре прибыл в Британию. Исполнив там лишь са-
мые необходимые для путешествия дела, ибо никто не может возжа-
ждать Господа с леностью, с попутным ветром отправился он в путь
через наше море.
В ту пору, когда случилось все, о чем сказано, правил в этих кра-
ях великий король, свирепый язычник, император варваров, сидев-
ший в Темре, бывшей тогда столицей королевства ирландцев14. Зва-
ли его Лойгуре, сын Ниалла, и был он из рода, что правил почти
всем островом15. Были у него мудрецы и друиды, предсказатели и за-
клинатели, и творцы всяческих злодеяний, которые могли знать и
провидеть будущее по обычаю язычников и идолопоклонников.
Двоих из них приблизил король к себе превыше прочих: Лотроха,
или иначе Лохру, и Лукета Маела, которого звали еще Ронал. Вот
они-то, с помощью своего магического искусства, часто предрекали,
что вскоре придет в их страну из-за моря чужой обычай, царство О
неведомым и тяжким учением, ему же учат немногие, но многие
принимают. Все станут почитать его, и опрокинет оно королевства,
и поразит королей, что встанут на его пути; соблазнит оно толпы
людские и изничтожит богов их со всеми их искусными деяниями, а
потом воцарится вовеки. Описывали они человека, что принесет но-
вый обычай, и предрекали его приход в стихах, которые особенно
часто возглашали за два или три года до появления Патрика. Вот
эти слова, не всегда доступные разумению из-за темного их языка:
Придет бритоголовый с загнутым наверху посохом,
Из дома своего с дырой в крыше станет он петь святотатство,
Из-за его стола, что в переднем пределе дома его,
Все люди его возгласят: “Да будет так, да будет так”16.
Что нашими словами можно сказать яснее: “Когда свершится
все это, не устоит наше языческое царство”. Так и случилось потом:
сокрушены были идолы после прихода Патрика, и воцарилась кафо-
лическая вера Христова в нашей стране повсюду. Довольно об этом,
вернемся к рассказу.
Под конец святого путешествия корабль святого мужа, полный
заморских чудес и духовных сокровищ, достиг удобной гавани в об-
ласти Колу, известной в наших краях пристани, что зовется Инбер
Де17. Там подумал Патрик, что перво-наперво надо ему дать за себя
выкуп. Тогда отправился он на север, чтобы увидеть того язычника,
Милиука, у которого прежде был в рабстве, и дать ему двойное воз-
мещение за свой выкуп из рабства - земное и небесное - и тем спа-
сти от рабства того, кто держал в рабстве его самого. Повернул Па-
трик корабль к острову, что зовется ныне его именем и лежит к вос-
току от берега. Потом, покинув Брегу и оставив Коналле и земли
уладов слева, подошел Патрик к заливу Брене18. Высадился он со
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
369
спутниками у Инбер Слайн, спрятал свой утлый кораблик и собрал-
ся отдохнуть неподалеку от берега. Там набрел на них свинопас му-
жа по имени Диху, человека доброго по природе, хоть и язычника.
Жил он там, где сейчас амбар, названный именем Патрика19. Решил
свинопас, что были они ворами или разбойниками, и, рассказав о
том своему господину, незамеченным привел его к тому месту. Сна-
чала Диху думал убить их, но только увидел он лицо святого Патри-
ка, как Господь умягчил его разум. Проповедовал Патрик Диху ис-
тинную веру, и сразу уверовал он - первым в стране - и оставался с
ним святой несколько недолгих дней. Потом, желая поскорее дви-
нуться в путь и прийти к Милиуку, дав ему выкуп за его свободу, и
обратить в веру Христову, оставил Патрик Диху свой корабль и по-
шел к землям круитни. Наконец подошел он к Шлиав Миш, откуда
много лет назад, когда был он еще в рабстве, увидел Патрик, как ан-
гел Викторик оставил отпечаток своей легкой ноги на камне другой
горы и на его глазах вознесся на небо20.
Услышал Милиук о том, что желает его посетить бывший раб,
дабы силой заставить его принять на склоне лет чужой обычай и
сделать рабом раба, и тогда дьявол вложил ему мысль самому окон-
чить свои дни в огне. Собрал Милиук все свое добро в дом, где пре-
жде жил он королем, и сжег себя вместе с домом21. В то время сто-
ял Святой Патрик на том самом месте у правого склона Шлиав
Миш, откуда даровано было ему после столь милостивого возвра-
щения впервые снова увидеть края, где жил он в рабстве, - там и по-
сейчас стоит крест, дабы отметить место, откуда бросил он на них
взор, - и прямо перед глазами увидел смерть короля в огне. Удру-
ченный увиденным, молча не сходил он с места два или три часа,
вздыхая, сокрушаясь и плача. Потом сказал он: “Не знаю я, лишь
Господь знает этого мужа и короля, что решил погибнуть в огне, но
не уверовать в конце жизни и не служить вечному Богу; не знаю я,
лишь Господь знает, что никто из его сыновей не воссядет на пре-
стол как король его королевства вовеки, а потомство его останется
подневольным”. Сказав так, помолился Патрик и осенил себя крест-
ным знамением, а потом повернулся и тем же путем пошел к землям
уладов. Возвратился он в Маг Иниш к Диху и оставался там много
дней, и обошел всю долину. Возлюбил он эти края, и стала возрас-
тать там вера.
Между тем вернемся к сказанному. На седьмой день всякой не-
дели являлся ему ангел, и как простой человек говорит с другим, так
и Патрик говорил с ним. Даже когда Патрика шестнадцати лет от
роду схватили, и шесть лет провел он в рабстве, тридцать раз посе-
щал его ангел, и Патрик удостоился советов его и разговора, преж-
де чем отправиться из Ирландии к латинянам. Сто молитв творил
Патрик днем и сто молитв ночью. Как-то раз пас Патрик свиней и
24 Одиссей, 2006
370
Публикации
растерял их, но явился ему ангел и указал на них. А еще однажды
тот же ангел говорил с ним о многом и ступил ногой на камень Шки-
рид против Шлиав Миш и вознесся на небо, а отпечаток ноги его и
сейчас можно видеть на камне. На том самом месте тридцать раз го-
ворил ангел с Патриком, и стало оно местом молитвы, и там счаст-
ливо даруется верным все, о чем просят они.
Приближался в ту пору праздник Пасхи, первой, что посвящена
была Господу в нашем Египте этого острова, как некогда она празд-
новалась, согласно книге Бытия. Стали они думать, где праздновать
им ее в стране язычников, куда послал Патрика Господь. Сказал ка-
ждый свое, а потом по внушению свыше решил святой Патрик, что
великий этот праздник Господень, первейший из всех, надо праздно-
вать им на обширной равнине Бреги22, ибо там было главное коро-
левство тех народов и средостение всего идолопоклонства и языче-
ства. Там, по слову Псалмопевца (73,14), сможет он сокрушить гла-
ву змиеву, и впервые неотразимый клин будет тогда вбит в голову
идолопоклонства молотом неустрашимых деяний и веры руками ду-
ховными святого Патрика и его спутников, дабы не могло оно далее
противиться вере Христовой. Так оно и случилось.
Вывели они свой корабль в море и, оставив Диху пребываю-
щим в мире и нерушимой вере, поплыли от Маг Иниш по провиде-
нию Божьему с берегом по правую руку, а прежде имели они его
по левую. После доброго пути ступили они на берег у Инбер Кол-
пди. Там оставили они корабль и пешком отправились к той вели-
кой равнине. К вечеру подошли они к месту захоронения мужей
Фиакка, вырытому, по преданию, людьми (то есть рабами) Фиак-1
ка - так говорит Ферхертне, один из девяти друидов-провидцев
Бреги23. Там поставили они шатер, и с великим почтением отпразд-
новал Патрик со спутниками Пасху высочайшему Богу, жертву
хвале, по словам пророка24.
И случилось так, что в том же году было и идольское празднест-
во со многими заклинаниями, магическими обрядами и другими суе-
верными действами идолопоклонников. Собрались на него короли,
сатрапы, вожди, князья и все благородные мужи из народа, а с ними
друиды, заклинатели, предсказатели, всяких искусств знатоки и учи-
теля. Все они призваны были к королю Лойгуре в Темру, их Вави-
лон, как некогда к Навуходоносору; в ту же ночь, когда святой Пат-
рик праздновал Пасху, они собрались на свой языческий праздник,
Был среди них обычай, доведенный до каждого, что если кто в лю-
бой области, будь он близко иль далеко, зажжет в эту ночь огонь,
прежде чем загорится он в королевских покоях, то есть во дворе
Темры, то поплатится за это жизнью25. Между тем святой Патрик,
празднуя Священную Пасху, возжег яркий божественный благосло-
венный огонь, и так он сиял в ночи, что увидели его почти все жите-
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
371
ли равнины. Заметили этот огонь в Темре, и все стали смотреть на
него и изумляться. Созвал король старейшин и сказал: “Кто тот, что
осмелился совершить непотребство в моем королевстве? Смерть
ему”. И ответили все, что не знают, кто это сделал, и только друиды
сказали: “О король, здравствуй во веки веком! Если только не по-
гаснет этой же ночью тот огонь, что зажжен был прежде огня в тво-
ем доме, уже никогда не погаснуть ему. Поднимется он выше огня
всех наших обычаев, и тот, кто возжег его, и царство, что принес
тот, кто возжег его, возвысятся над всеми нами и тобой самим и со-
блазнят людей твоего королевства, и все королевства покорятся
ему, и уступит ему вся страна, и воцарятся они навеки”.
Услышав это, сильно обеспокоился король, как некогда Ирод, и
весь народ Темры вместе с ним. Ответил король так: “Да не случит-
ся это, но отправимся посмотреть, что там творится, и схватим, и ли-
шим жизни тех, кто вершит зло в нашем королевстве”. Повелел
Лойгуре запрячь трижды девять колесниц по преданию богов, взял с
собой двух самых могущественных друидов, Лукета Маела и Лохру,
и под конец ночи отправился к захоронению мужей Фиака. Как и по-
добало им, повернули они налево свои лица и морды коней26. В пути
сказали королю друиды: “Король, не должно тебе самому прибли-
жаться к тому месту, дабы потом не поклониться тому, кто возжег
огонь. Оставайся поодаль, а мы призовем к тебе этого человека,
чтобы он поклонился тебе, и ты стал его господином. Перед тобой
поговорим мы с ним, и так сможешь ты испытать нас”. Ответил ко-
роль: “Добрый совет вы даете. Поступлю я, как вы говорите”. Приб-
лизились они к тому самому месту и сошли с колесниц, но не вошли
в круг, освещенный огнем, а сели рядом.
Потом призвали святого Патрика к королю за пределы осве-
щенного круга, и сказали друиды своим людям: “Не станем вставать,
когда он подойдет, ибо тот, кто встанет при его приближении, уве-
рует и поклонится ему”. Когда поднялся святой Патрик и узрел мно-
жество их колесниц и коней, то губами и сердцем своим произнес
стих Псалмопевца: “Сии на колесницах, и сии на конех, мы же во
имя Господа Бога нашего призовем” (Пс. 19, 8), и направился к ним.
Не встали они при его приближении, и только один человек по вну-
шению Господнему не внял словам друидов, и был это Эрк, сын Дай-
га, чьи мощи почитают сейчас во граде Слане. Поднялся он и благо-
словил его Патрик, и уверовал Эрк в вечного Бога. Потом начали
они разговор, и один из друидов по имени Лохру нападал на святого
Патрика и осмелился поносить высокомерными словами кафоличе-
скую веру. Смотрел на него святой Патрик, пока говорил он такое,
и, словно Петр о Симоне, сказал во весь голос Господу: “О Господь
всемогущий, во власти которого всё, Ты, пославший меня сюда!
Пусть этот нечестивец, поносящий имя Твое, немедля умрет”. При
372
Публикации
этих словах вознесся друид в воздух и рухнул на землю. Ударился он
головой о камень, и мозг его разлетелся вокруг27. Умер он у всех на
глазах, и оттого убоялись язычники.
Разгневались тогда король и его люди за это на Патрика, и захо-
тел король немедля убить его, и сказал: “Схватите этого человека,
который хочет погубить нас”. Увидел Патрик, что язычники хотят
напасть на него, поднялся и возгласил: “Да воскреснет Бог, и разы-
дутся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его” (Пс, 67,
1). Настала немедля тьма, и раздался ужасный гул, и обратились не-
честивцы друг против друга, и восстал каждый на соседа своего, и
сотряслась земля, так что перепутались оси колесниц, и устремились
они вперед вместе с конями, и лишь немногие из них полуживыми
добрались до горы Мондуйрн. Семь раз семеро человек погибли то-
гда после проклятья святого Патрика на глазах их короля в наказа-
ние за его слова. Всего четверо осталось их - сам король с короле-
вой и еще двое ирландцев, - и были они в великом страхе. Подошла
тогда королева к Патрику и сказала: “О могущественный и справед-
ливый муж, не погуби короля, ибо придет он к тебе и преклонит ко-
лени, и признает твою власть”. Охваченный страхом, приблизился
король, преклонил колени перед святым и сделал вид, что почитает
его. Когда же расстались они, и отошел король недалеко, поносил
король Патрика теми же словами, желая, во что бы то ни стало, ли-
шить его жизни. Знал Патрик о мыслях злого короля. Благословил
он во имя Исуса Христа своих спутников, восьмерых мужей и маль-
чика, и направились они к королю. Пересчитал их король, когда
приближались они, и вдруг исчезли Патрик со спутниками на глазах
короля, а вместо людей увидели язычники восемь оленей и оленен-
ка, бегущих в чащу. И возвратился тогда грустный, напуганный и
пристыженный король Лойгуре в Темру с теми немногими, кто еще
оставался при нем.
Назавтра, в день Пасхи, сошлись у Лойгуре короли, князья и дру-
иды, ибо в этот день собирались они на главный пир. Ели они и пи-
ли вино во дворе Темры, и говорили одни, а другие размышляли о
том, что случилось. Тут вошел к ним святой Патрик с пятью лишь
спутниками через запертые двери, как читаем мы о Христе, дабы
воздать им за дела их и проповедовать веру святую перед всеми на-
родами в Темре. Когда появился он в пиршественной зале Темры,
никто не поднялся со своего места кроме разве что одного человека,
главного поэта Дувтаха макку Лугира. Был тогда подле него юный
поэт по имени Фиакк, ставший потом славным епископом, чьи мощи
почитаются в Шлевте. Как сказал я, один тот Дувтах встал, чтобы
почтить святого Патрика, и благословил его святой, и уверовал Дув-
тах первым в тот день, что и зачлось ему по праву28. Когда увидели
язычники Патрика, то предложили ему разделить с ними пищу, да-
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
373
бы подвергнуть его испытанию, о котором речь впереди. Знал Пат-
рик, чему суждено случиться, и не отказался от пищи.
Пока все они ели, друид Лукет Маел, бывший при споре про-
шлой ночью, намеревался после смерти своего собрата выступить
против святого Патрика и опустил каплю яда из своей чаши в кубок
Патрика, дабы увидели прочие, что тот сделает. Узрел Патрик это
испытание и на глазах всех благословил свой кубок, и замерзло в
нем питье, словно лед. Потом перевернул он свой кубок, и только
капля яда друида вытекла из него. Снова благословил он тогда свой
кубок, и стало в нем питье как прежде на удивление всем. Вскоре
сказал друид: “Сотворим же чудеса на этой широкой равнине”. “Ка-
кие же?” - спросил его Патрик. “Напустим на землю снег”, - сказал
друид. “Не желаю я делать ничего против Господней воли”, - отве-
тил Патрик. “На глазах у всех напущу я снег”, - сказал друид. Про-
изнес он волшебные заклинания и напустил на всю равнину снег, до-
ходящий до пояса. Видели это все и были удивлены. Сказал тогда
святой: “Видим мы это, а теперь убери его”. “До сего же часа назав-
тра не могу я исполнить этого”, - сказал друид. “Можешь ты делать
зло, но не можешь творить добро. Не так я”, - ответил святой и бла-
гословил всю долину вокруг себя, тогда без дождя, тумана и ветра
пропал снег. Зашумели тут толпы, и весьма удивились, и раскаялись
в сердце своем. Малое время спустя, призвав демонов, навел друид и
на землю великую густейшую тьму в ознаменование чуда, и все лю-
ди возроптали. “Разгони тьму”, - сказал тогда святой, но снова было
это не по силам друиду. Тогда помолился святой, благословил равни-
ну, и немедля рассеялась тьма, засияло солнце, так что все возрадо-
вались и возносили благодарения. После этих деяний друида и Пат-
рика на глазах короля, сказал им король: “Бросьте ваши книги в во-
ду, и поклонимся мы тому, чьи книги останутся целы”. “Я сделаю
это”, - сказал Патрик. “Не желаю я испытания водой, - сказал дру-
ид, - ибо вода это его Бог”. Без сомнения слышал он уже, что в во-
де творит Патрик крещение. “Тогда предоставьте испытание ог-
ню”, - сказал король. “Я готов”, - отвечал Патрик. Не хотел этого
друид и сказал: “Этот человек один год поклоняется воде, а другой
огню как своему Богу”. Сказал на это святой: “Не так это. Пусть же
один из моих мальчиков и ты сам войдете в разные половины запер-
того дома, и ты будешь в моем платье, а мальчик в твоем. Вместе по-
дожгут вас, и свершится суд в присутствии Всевышнего”. Этот совет
приняли и построили для них дом наполовину из сырого дерева, а на-
половину из сухого. Поместили потом друида в первую половину, а
одного из юношей святого Патрика по имени Бенигн в платье друи-
да - в другую. Потом заперли вход в дом и на глазах у всей толпы по-
дожгли. И случилось так, что в ответ на молитвы Патрика пожрал
огромный огонь сырую половину дома вместе с друидом, и ничего
376
Публикации
щих путников. Вдруг заметил он святого Патрика, излучавшего яр-
кое сияние истинной веры и украшенного чудесной диадемой небес-
ного прославления. Направлялся Патрик к цели своей с неколеби-
мой уверенностью в своем учении. Задумал Мак Куйл лишить его
жизни и сказал своим пособникам: “Вот идет соблазнитель и совра-
титель людей, что хитростями своими обманывает их и привлекает
многих. Пойдемте заманим его в ловушку и поглядим, есть ли какая
власть у бога, которого он прославляет?” Вот что они сделали, иску-
шая святого: положили они на землю одного крепкого телом мужа,
накрыли его плащом, и притворился тот, что смертельно болен. Так
хотели они испытать святого человека. Поносили они его, называя
соблазнителем, его чудеса - хитростями, а молитвы - заклинаниями.
Когда приблизился Патрик с учениками, сказали ему язычники:
“Смотри, один из нас занемог. Пропой над ним заклинания твоей се-
кты, может, он станет здоров”. Твердо и бесстрашно ответил им свя-
той Патрик, зная все их хитрости и намерения: “Неудивительно, ес-
ли он и вправду болен”. Открыли тогда лицо того, кто притворялся
больным, и увидели, что он уже мертв. Изумились все и стали меж-
ду собой говорить: “Воистину, это Божий человек. Дурно мы посту-
пили, стараясь провести его”. Между тем повернулся святой Патрик
к Мак Куйлу и спросил его: “Зачем хотели вы испытать меня?” От-
вечал ему жестокий властитель: “Я виновен в том, что случилось, и
готов сделать все, что ты скажешь. Отдаюсь я во власть всевышне-
го Бога, о котором ты проповедуешь”. И сказал святой: “Уверуй то-
гда в Бога моего Исуса и покайся в грехах своих, и прими крещение
во имя Отца и Сына и Святого Духа”. В сей же час обратился король
в истинную веру, уверовал в предвечного Бога и был крещен. Потом
сказал Мак Куйл: “Сознаюсь тебе, святой господин мой Патрик, что
хотел я погубить тебя. Скажи, чем должен я заплатить за такое зло-
деяние?”. И ответил ему Патрик: “Я не могу судить, но Бог рассудит.
Отправляйся немедля к берегу безоружным и покинь край ирланд-
ский. Не бери с собой никакого добра кроме простого короткого
платья, едва прикрывающего тело, не ешь и не пей ничего, что про-
израстает на этом острове, и неси на своей голове этот знак греха
твоего. Когда подойдешь к морю, скуй ноги свои железной цепью и
брось ключ в море, садись в лодку из одной-единственной шкуры без
руля и без весла и готовься поплыть туда, куда отнесет тебя ветер и
море. И на той земле, куда приведет тебя божественное провидение,
исполняй божественные повеления”. Ответил ему Мак Куйл: “Сде-
лаю я так, как ты сказал. Что же нам делать с мертвым?”. “Будет он
жить и восстанет без мучений”, - ответил Патрик. В тот же час вос-
кресил его Патрик, и восстал он к жизни невредимым. Немедленно
отправился Мак Куйл к морю к югу от Маг Иниш, уверовав неколе-
бимо. У берега сковал он себя цепью и бросил ключ в море, как и
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
377
было ему сказано, а потом пустился в море в маленькой лодке. Под-
гонял ее северный ветер и отнес на юг к острову Эвония. Там встре-
тил он двух дивных мужей, воистину блистательных в вере и учении,
которые первыми донесли слово Божье и святое крещение на ост-
ров Эвонию и обратили в кафолическую веру жителей острова.
Имена им были Кониндр и Румил. Увидели они человека в бедном
платье и удивились, и сжалились над ним. Взяли они его с моря и
приняли как должно. Так, обретя на этом богоданном острове ду-
ховных отцов, упражнял он свое тело и душу и провел всю свою
жизнь с этими двумя святыми епископами, пока не наследовал им
епископство. Это Мак Куйл, епископ Мане34 и прелат Ард Хумнонн.
В другой раз святой Патрик отдыхал в день воскресный на бере-
гу моря возле соленого болота, что лежит немного к северу от
Бычьего перевала35, и услышал громкий шум, который поднимали
язычники, копавшие канаву вокруг усадьбы. Патрик созвал их и за-
претил им работать в воскресный день. Они же не прислушались к
словам святого и даже насмехались над ним. И молвил святой Пат-
рик: “Mudebroth36, что бы вы ни наработали, не будет вам никакой
выгоды”. Так и случилось. На следующую ночь поднялся могучий
ветер и взволновал море, и весь труд язычников уничтожила буря по
слову святого.
Жил в ту пору в краю Артер богатый и почтенный человек по
имени Даре. Попросил у него Патрик землю для богослужения, и
спросил богач святого: “Какой земли ты добиваешься?” “Прошу
я, - ответил святой, - тот холм, что зовется Друйм Салех, дабы мог
я обосноваться там”. Но Даре не хотел отдавать Патрику эту воз-
вышенность и дал ему другую, пониже, там, где сейчас могилы му-
чеников у Арма и где жил потом святой Патрик и его люди37. Нем-
ного спустя конюх Даре привел лошадь пастись на луг поселения
христиан. Не понравилось это Патрику, и сказал он: “Глупо посту-
пил Даре, послав грубых животных смущать покой малой обители,
которую он отдал Богу”. Словно глухой, конюх не услышал и, слов-
но немой, не открыл рта своего и ничего не сказал. Оставил он ло-
шадь на ночь и пошел прочь. На другое утро пришел он проведать
лошадь и увидел, что она сдохла. Печальный вернулся он домой и
сказал господину своему: “Этот христианин убил твою лошадь, оби-
жался он, что беспокоили его обитель”. И сказал Даре: “Сам он до-
стоин смерти. Иди немедля и убей его”. Лишь только ушли люди
его, настигла внезапная смерть самого Даре, и тогда сказала жена
его: “Христианин повинен в этой смерти. Пусть кто-нибудь немед-
ля идет к нему и передаст нам его благоволение, и вы будете невре-
димы, а тем, кто отправился убить его, велит возвращаться”. Пош-
ли двое и сказали Патрику, не выдавая правду: “Даре занемог. Дай
нам что-нибудь, чтобы его излечить”. “Это правда?” - спросил свя-
374
Публикации
не осталось на ее месте кроме ризы святого Патрика, которую не
тронуло пламя. Напротив, со счастливым Бенигном и сухой полови-
ной дома стало то же, что и с тремя отроками29, - не тронул их огонь
и не принес страдания или какого ущерба, и только риза друида сго-
рела по Божьей воле. Весьма разгневался тогда король на Патрика
из-за гибели своего друида и едва не бросился на него, но удержал
его Господь, ибо по молитве и по слову Патрика настиг нечестивцев
гнев Божий и многие из них лишились жизни. И сказал тогда святой
Патрик королю: “Если не уверуешь ты сейчас, то немедля умрешь,
ибо гнев Господень падет на твою голову”. Ужаснулся король, и со-
дрогнулось сердце его вместе со всем его городом.
Созвал тогда Лойгуре старейшин и весь свой совет и сказал им:
“Лучше мне уверовать, чем умереть”, и по совету своих людей уве-
ровал в тот же день и обратился к вечному Господу Богу, и тогда же
уверовали еще многие. Сказал королю святой Патрик: “Оттого что
противился ты моему учению и чинил мне зло, продолжатся дни тво-
его царствования, но никто из семени твоего никогда уже не будет
королем”30.
Потом по воле Господа Исуса оставил святой Патрик Темру и
пустился в путь, наставляя все народы и крестя их во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа, и проповедовал везде с помощью Господа, укре-
пляя слово свое чудесами, о которых еще будет речь.
Итак, по воле Божьей, приступлю я к описанию малого числа из
многих чудес, сотворенных Патриком, епископом всей Ирландии
(если я могу так сказать) и славным учителем ее.
В те еще времена, когда вся Британия была погружена в холод
неверия, досточтимая дочь одного из королей по имени Монесан бы-
ла преисполнена Духом Святым, с чьей помощью не принимала она
ни одного предложения, хотя многие сватались к ней. Нередко поли-
вали ее обильно водой, но и тогда нельзя было принудить ее пойти
против желания и совершить недостойное. Когда среди побоев и по-
токов воды принуждали ее покориться, она все спрашивала свою
мать и кормилицу, знают ли они Творца колеса, освещающего мир,
и слышала в ответ, что создал солнце Тот, Чей престол - небеса;
она, часто принуждаема к замужеству, отвечала, просветленная яр-
чайшим советом Святого Духа: “Никогда не совершу я этого”. Ибо
по примеру патриарха Авраама всем существом искала она Творца
всего созданного31. В великом горе пребывали ее родители, а услы-
шав, что каждый седьмой день является праведному мужу Патрику
Господь, отправились со своей дочерью в Ирландию. С превелики-
ми трудами добрались они до него. Спросил он у новоприбывших:
кто они? Пришельцы воскликнули: “Горячее желание дочери нашей
увидеть Господа привело нас к тебе”. Тогда, преисполнившись Свя-
тым Духом, возвысил Патрик голос и спросил: “Веруешь ли ты в Бо-
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
375
га?”. И ответила она: “Верую”. Тогда погрузил ее Патрик в купель с
водой и Духом Святым. Не сходя с места, рухнула тогда девушка на
землю и испустила дух свой в руки ангельские. Погребли ее там, где
скончалась. И предрек Патрик, что через двадцать лет перенесут ее
тело с почестями в часовню неподалеку. Так потом и случилось. Мо-
щам девушки из-за моря и посейчас поклоняются там.
Не умолчу о чудесном деянии Патрика. Дошли до него вести о
зле, чинимом неким бриттским королем по имени Кориктик, власте-
лином несчастным и жестоким, первейшим гонителем и убийцей
христиан. Пытался Патрик наставить его в письме на путь истины,
но король лишь насмехался над его спасительными предостереже-
ниями. Узнал об этом Патрик, вознес молитву Господу и сказал:
“Господи, если только возможно, изгони вероломного мужа из это-
го мира и из грядущего”. Прошло с того не много времени, и услы-
шал Кориктик, как некто пел, что придется ему лишиться королев-
ства, а все близкие ему люди подпевали. Вдруг на глазах у всех по-
среди площади превратился он жалким образом в маленькую лиси-
цу и убежал. С того часа и дня, словно утекшая вода, не появлялся
он больше32.
Кратко скажу о чуде, сотворенном божественным и апостоль-
ским мужем, Патриком, о коем у нас идет речь, когда был он еще во
плоти. Такое, насколько я знаю, можно прочесть только о нем и
Стефане. Однажды, когда ночью, как обычно, молился он в уеди-
ненном месте, узрел он знакомые ему небесные видения и, желая ис-
пытать своего дорогого и преданного святого мальчика, спросил
его: “О сын мой, скажи мне, чувствуешь ли ты то, что чувствую я?”
Немедля ответил ему мальчик по имени Бенигн: “Знаю я уже, что
ты чувствуешь, ибо я вижу разверстые небеса, Сына Божьего и ан-
гелов Его”. И сказал тогда Патрик: “Вижу я, что ты уже достоин
стать моим преемником”. Немедля пошли они скорым шагом к
обычному месту молитвы. Молились они, стоя посредине течения
реки, и сказал мальчик: “Не могу я больше терпеть холодной воды”.
И вправду вода была слишком холодна для него. Тогда велел ему
Патрик спуститься вниз по течению. Но и там не мог он долго оста-
ваться в воде, ибо, признался мальчик, была она слишком горяча.
Он не мог более терпеть и вышел на берег33.
Во времена Патрика жил в краю уладов человек по имени Мак
Куйл мокку Греке. Был он жестоким и нечестивым правителем, так
что называли его Циклопом. Мысли его были дурны, речи - неуме-
ренны, дела - злы, дух - суров, душа - гневна, тело - нечестиво, ум -
жесток, жизнь его была языческой, а совесть - пустой. Так низко
опустился он в нечестивости, что однажды засел высоко в холмах на
Друим мокку Эхах и день за днем предавался бесчинствам, не стес-
няясь своей невиданной жестокости и безжалостно убивая проходя-
378
Публикации
той Патрик, ибо знал, что случилось. Благословил воду и подал им
со словами: “Окропите водой вашу лошадь и забирайте с собой”.
Окропили они водой лошадь, и ожила она, и увели они ее с собой, а
потом окропили той водой Даре, и излечился он. Пошел тогда Да-
ре почтить святого Патрика и принес ему чудесный заморский мед-
ный котел, вмещавший три метреты38. И сказал Даре святому:
“Пусть будет теперь твоим этот медный котел”. “Благодарю те-
бя”, - ответил святой Патрик. Возвратился Даре домой и сказал:
«Глуп этот человек, если кроме “Благодарю тебя” не нашел ничего
сказать в ответ на чудесный медный котел в три метреты». И ска-
зал затем рабам своим: “Идите и заберите назад наш медный ко-
тел”. Пришли его люди к Патрику и сказали: “Заберем мы котел”.
И тут ничего не сказал им Патрик, кроме “Благодарю вас, забирай-
те”. И они забрали котел. Стал расспрашивать Даре своих людей:
“Что сказал этот христианин, когда вы забрали медный котел?”
«Он сказал “Благодарю вас”», - ответили люди. И сказал тогда Да-
ре: «“Благодарю вас” - когда давали, “Благодарю вас” - когда от-
нимали. Воистину хорошо он сказал. За эти “Благодарю вас” полу-
чит он свой медный котел обратно». В этот раз пошел к Патрику
сам Даре, принес ему медный котел и сказал: “У тебя останется
этот медный котел, ибо ты тверд и ничто не поколеблет тебя. Дам
я тебе ту землю, которую ты просил, и живи там”. И было это то
самое место, которое зовется сейчас Арма39. Потом пошли святой
Патрик вместе с Даре и осмотрели чудесный и благоугодный дар.
Поднялись они на холм и нашли там олениху и ее маленького оле-'
ненка, лежавших на том самом месте, где ныне алтарь в северном,
храме в Арма. Захотели спутники Патрика поймать олененка и
убить его, но не пожелал этого святой и не разрешил им сделать^
это. Поднял святой олененка и понес на плечах своих, и последова-
ла за ним олениха, как кроткая и ласковая овца, пока не отпустил
Патрик олененка в другую долину к северу от Арма, где, по словам
сведущих людей, и ныне бывают чудесные знамения.
Другие рассказывают, что жил тогда в Маг Иниш суровый и
жадный человек, который в безумии своем и жадности дошел до то-
го, что однажды, когда два быка, влачивших повозку Патрика после
святых трудов его, остановились в поле и принялись щипать траву,
силой увел их прямо на глазах святого Патрика. Разгневался Патрик
и сказал ему, проклиная: “Mudebrod, плохо поступил ты. Пусть же
это поле вовеки не принесет ничего ни тебе, ни твоему потомству.
Отныне будет оно бесплодным”. Так и случилось. В тот же день ог-
ромное наводнение морское залило все поле и, по слову пророка, об-
ратилась “земля плодоносная в слатину от злоб живущих на ней"
(Пс., 106, 34). Так и остается она песчаной и бесплодной со времени
проклятья святого Патрика до сего дня40.
Мурьху Мокку Махтени. Житие Святого Патрика
379
(1) Об усердии Патрика в молитве
(2) О разговоре с ним мертвеца
(з) О том, как ночь на воскресный день была освещена,
так что были найдены лошади
(4) О том, как ангел запретил Патрику умереть в Арма
(б) О пылающем ежевичном кусте, в коем был ангел
(б) О четырех просьбах Патрика
(7) О дне смерти его и о времени жизни его в тридцать лет
(8) О том, как был положен предел ночи и о двенадцати
ночах без тьмы
(9) О причастии, которое он принял от епископа Тассаха
(10) О бдении ангелов в первую ночь у тела Патрика
(11) О том, как ангел дал совет о его захоронении
(12) Об огне, поднявшемся над его могилой
(13) О море, поднявшемся, чтобы не допустить битвы за его
тело
(14) О счастливом заблуждении народа
Что же до усердия его в молитве, то напишем лишь о немногом
из того, о чем можем поведать. Всякий день читал он все псалмы и
гимны вместе с Апокалипсисом Иоанна и духовными песнями Писа-
ния, будь то на месте или в пути. Сто раз осенял он себя каждый час
дня и ночи крестным знамением, и всякий раз, когда замечал Патрик
по пути крест, сходил он с колесницы, чтобы молиться подле него.
Как-то однажды миновал он придорожный крест и не заметил
его. Видел тот крест возничий Патрика, и когда прибыли они в заез-
жий дом41, туда, куда вел их путь, и стали молиться перед трапезой,
сказал возничий: “Видел я крест рядом с нашей дорогой”. Тогда по-
кинул Патрик сей кров, пошел обратной дорогой и стал молиться
подле креста. Там увидел он могилу и спросил покойного, похоро-
ненного там, какой смертью тот умер и веровал ли. И ответил мер-
твец: “Был я язычником, и схоронили меня на этом месте. А в дру-
гом краю была женщина, и потеряла она сына, жившего и похоро-
ненного вдали от нее. Через несколько дней пришла она сюда опла-
кать его и в горе своем приняла могилу язычника за могилу своего
сына и водрузила подле нее крест”. И сказал тогда Патрик, что по-
тому-то и не заметил он крест, что стоял тот подле могилы язычни-
ка. Такова была чудесная сила Патрика, что заговорил с ним покой-
ный, а потом явлена была могила скончавшегося в вере Христовой,
и поставили тот достойный знак животворящего креста подле нее.
Никогда не пускался Патрик в путь с вечера субботы до утра по-
недельника. Однажды в воскресение остался он ночевать в поле в
честь святого дня, и вдруг налетела жестокая буря с дождем. Но хо-
тя сильный дождь и залил всю страну, сухим осталось место, где
380
Публикации
провел ночь святой епископ, как случилось то с раковиной и руном
Гедеона (Судьи. 6, 36-40)42.
Раз пришел к Патрику его возничий43 и сказал, что потерял сво-
их лошадей, и сокрушался о них, словно о любимых друзьях, но не
мог отправиться искать их в темноте. Умилостивился благочести-
вый отец Патрик и сказал рыдающему возничему: “Бог, в трудах и
тяготах скорый Помощник, подаст нам помощь, и найдешь ты ло-
шадей, о которых сокрушаешься”. Потом освободил он руку из ру-
кава туники, поднял вверх, и пять пальцев ее, словно огни, осветили
все вокруг, и при свете воздетой руки отыскал возничий своих лоша-
дей и перестал горевать. Никому не рассказывал возничий о том чу-
де до самой смерти Патрика.
После стольких чудес, записанных в иных книгах и верными ус-
тами почитаемых в мире, стал близиться день его смерти; явился Па-
трику ангел и поведал о том. Тогда послал Патрик сказать в Арма,,
что любил он превыше всех прочих земель, чтобы пришли за ним1
многие мужи и отнесли его туда, куда он желал. Потом отправился!
он со спутниками по воле своей в путь к Арма, возлюбленной земле!
своей. Подле дороги горел тогда ежевичный куст, но как случилось!
это прежде с Моисеем, не пожирал его огонь. И был в том кусте ан-
гел Виктор, который часто являлся Патрику, и послал Виктор к Па-:
трику другого ангела, чтобы велел он Патрику не идти туда, куда он!
желал. Сказал ему ангел: “Отчего пустился ты в путь без совета Ви-
ктора? Иди к нему, ибо зовет он тебя”. Изменил Патрик путь свой И
спросил, как ему должно поступить. Ответил ему ангел: “Возвра-
щайся туда, откуда пришел, - т.е. в Савул, - и исполнены будут че^
тыре твои просьбы. Первая, чтобы твое управление было в Арма4*,!
Вторая, чтобы всякий, кто в день кончины прочтет гимн в твою
честь, был судим тобой по грехам его. Третья, чтобы потомки Диху,
что любезно принял тебя, заслужили милосердие, а не гибель. Чет^
вертая, чтобы все ирландцы судимы были тобой в день Страшного1
суда (как сказано апостолам: “Сядете и вы на двоюнадесяте престо-
лу, судяще овеманадесяте коленома Израилевома” (Мф. 19, 28)), И
судил бы ты тех, чьим апостолом был. Возвращайся же, как сказал!
я тебе, и умрешь ты, и пойдешь путем отцов твоих”. И случилось это!
на семнадцатый день марта - а всего лет прожил он сто и двадцать, -,
и каждый год отмечают тот день по всей Ирландии.
“И положишь ты предел ночи”45. И в день кончины его не опус-
калась ночь на землю, и не было ее все двенадцать дней, что по всей
стране отмечалось его погребение, и не обнимала она землю темны-
ми крылами, и не была сумрачной, и не посылал Босфер звездонос-
ных сумерек46. Говорили улады, что до конца года его кончины не,
были ночи такими темными, как обычно, что без сомнения возвеща-j
ет о заслугах этого человека. А если кто-то решится маловерно от-|
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
381
рицать, что в то короткое время, когда оплакивали Патрика, был
положен предел ночи и не наступала ночь во всей стране, пусть ус-
лышит и со вниманием отметит, как в знак выздоровления Иезекии
воротилось солнце на десять линий на солнечных часах Ахаза, так
что день едва ли не удвоился, и как еще солнце утвердилось над Га-
ваоном и месяц над долиной Алиона47.
Когда приблизился час его смерти, принял Патрик причастие из
рук епископа Тассаха на пути к жизни блаженной, как сказал ему о
том ангел Виктор.
В первую ночь после кончины пребывали ангелы у благосло-
венного тела и пели псалмы и молитвы, а все пришедшие на погре-
бение в ту ночь уснули. В следующие ночи с молитвами и пением
псалмов люди охраняли тело. Когда вознеслись те ангелы на небе-
са, остался после них сладчайший дух медовый и сладкий запах буд-
то от вина, как сказано в благословении патриарха Иакова: “Се во-
пя сына моего, яко воня нив польных, ему же благослови Господь”
(Быт. 27, 27).
Когда приходил к Патрику ангел, то дал ему совет о погребении:
"Пусть выберут двух неукрощенных быков и дадут им нести, куда
пожелают, повозку с твоим телом. Там, где остановятся они, да воз-
ведут храм в честь твоего тела”. И по слову ангела выбрали двух не-
укрощенных бычков, и смирно тянули они повозку со святым телом
на выях своих. Из Клохера, что на восток от Финдабайр, из скотины
Конала выбраны были быки, что по воле Господней дошли до Дун
Летглаше, где и погребен Патрик48.
И сказал ему еще ангел: “Дабы не вынули из земли мощи твои,
да положат на твое тело на локоть земли”. Так и сделали, а недавно
увидели, что и вправду такова была Божья воля, ибо, когда начали
строить храм над его телом, узрели вдруг землекопы пламя, рвуще-
еся из погребения, и отступили, устрашась огня.
После кончины Патрика жестокий спор, едва не приведший к
войне, разгорелся из-за его мощей между И Нейлами и Артир с од-
ной стороны и уладами - с другой, народами дотоле близкими и
дружными, а ныне жестокими врагами. Но дабы не пролилась
кровь, высоко поднялась вода в заливе Друим Бо по милости Божь-
ей и за заслуги Патрика, так что взлетали гребни волн высоко в воз-
дух, и огромные валы устремлялись вперед, вздымаясь и падая, слов-
но, желая охладить вражду жестоких племен - а народы эти тако-
вы, - бурное море восстало и помешало им биться.
Потом, когда похоронили Патрика и успокоилась вода в зали-
ве, снова бросились Артир и И Нейлы в битву с уладами. Запасясь
всем для войны и вооружившись, захватили они место упокоения
блаженного тела, но, по счастью, обманулись. Решили они, что
отыскали двух быков и повозку, и подумали, что увозят тело свя-
382
Публикации
того. С телом этим и со всем своим оружием дошли они до самой
реки Кабкенне и тут вдруг не узрели они больше тела. И вправду
не могли бы народы прийти к согласию об этом достославном и
блаженном теле, если бы по воле Господней не явилось бы им это
видение, дабы спасение бесчисленных душ не обернулось кровью и
разрушением. И в былые времена ослеплены были сирийцы, дабы
не убили они святого пророка Иелисея, и провидением Господним
доведены были до Самарии49. Так и это видение ниспослано было
для мира между народами.
1 Аэд, епископ Шлевте (совр. Слетти, гр. Лиш) (ум. 700), признал верховен-
ство Арма как первой церкви в Ирландии, основанной св. Патриком, пе-
реехал в Арма во время правления там аббата Шегене (661-688), умер в
Арма.
2 Когитос (Cogitosus) - своеобразное прозвище одного из первых ирланд-
ских агиографов, написавшего во второй половине VII в. житие св. Бри-
гиты (Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J.-P. Migne. Parisiis,
1849. T. 72. Col. 775-790). Мурьху использовал многие агиографические
мотивы и стилистику Когитоса. Судя по этому упоминанию, Когитос,
возможно, был духовным отцом и учителем Мурьху. Судя по замечанию
Мурьху, Когитос был первым ирландским агиографом.
3 Cymba (греч.) - род лодки, челнока, здесь скорее всего имеется в виду ир-
ландская длинная лодка, корпус которой сшивался из нескольких кож
(др.-ирл. curach). Образ встречается также у Когитоса, хотя возможна и
игра слов: имя автора жития muir chii букв, 'морской пес, волк'.
4 Начало жития святого Василия Великого странным образом оказалось
включенным в пролог жития св. Патрика.
5 Ранняя форма заимствования имени Патрика (Patricius) из латыни в ар-
хаический древнеирландский - Cothr(a)ige, где лат. р переходит в q, так
как в гойдельском не было звука р. Возможно, заимствование это вос-
ходит еще к V в. Реконструируемая форма Cothirthiacus возникла лишь
для обоснования ложной этимологии от др.-ирл. cethir thige 'четыре
дома’.
Мы переводим magus Мурьху как ‘друид’, поскольку речь идет имен-
но об этом древнеирландском ученом и жреческом сословии. В поздней-
шей агиографической литературе др.-ирл. druf почти всегда соответству-
ет лат. magus. В древнеирландском каноническом праве начала VI в. дру-
ид назван haruspex, но возможно, речь идет об особой разновидности про-
видцев (Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and
Ireland 2.2 / Ed. Haddan, Stubbs. Oxford, 1878. P. 329). Проблема существо-
вания и исчезновения друидов в Ирландии вызывала много дискуссий в
научной среде, однако за недостатком достоверных источников и в связи
с диаметрально противоположной оценкой имеющихся релевантных
древнеирландских текстов разными школами кельтологов обсуждение
этой проблематики фактически прекращено. Пребывание св. Патрика
на службе у друида не подтверждается “Исповедью” самого Патрика, где
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
383
он просто упоминает своего хозяина, которому служил шесть лет, не
уточняя его профессии (Confessio. §17). Патрик вообще не упоминает
друидов в своих произведениях. Другой биограф Патрика, Тирехан, так-
же называет Милиукка друидом. Мурьху позже называет хозяина Патри-
ка королем.
6 Содержание, скорее всего, было добавлено позднейшим редактором,
впрочем, так же как и содержание второй части жития.
7 Точное расположение места рождения Патрика неизвестно. Селение
Баннавем Табурнийский упоминается и самим святым в “Исповеди”. Су-
дя по всему, оно располагалось недалеко от Ирландского моря на запад-
ном побережье Британии (в Южной Шотландии или Северном Уэльсе).
8 Здесь Мурьху воспроизводит фрагмент “Исповеди” св. Патрика, когда
святой взывает к Илии, сам не ведая отчего. Здесь, возможно, присутст-
вует смешение двух форм: Helias 'Илия' и Helios ‘Солнце'.
9 Св. Герман, епископ Осера (стандартное лат. название Autessiodorum). До
пострижения в монахи был губернатором провинции. В 429 г. папа Целе-
стин по наущению будущего первого епископа ирландцев Палладия по-
слал Германа в Британию с целью положить конец пелагианской ереси.
Герман удачно справился с этой миссией и возвратил британцев в кафо-
лическое вероисповедание.
10 Зов ирландцев из Фохлотского (Воклутского) леса упоминается самим
Патриком в “Исповеди” (23). Патрик указывает, что лес этот располо-
жен возле “западного моря” (ргоре mare occidentale), т.е. на побережье
Атлантики. Возможно, возле совр. Киллала, графство Мэйо. Очевидно,
именно в этих местах святой пребывал в рабстве.
11 Л. Билер предполагает, что Сегитий был приставлен к Патрику для по-
ездки в Рим, чтобы свидетельствовать о его заслугах перед поставлением
во епископы.
12 Палладий, предшественник св. Патрика, был первым епископом ирланд-
цев. По сообщению Проспера Аквитанского, его поставил папа Целе-
стин (422-432,41-й, а не 45-й наследник св. ап. Петра) и отправил в 431 г.
“к ирландцам, во Христа верующим” (MGH. АА. Т. IX. Chronica Minora. I.
Р. 473). Проспер указывает, что Палладий, будучи диаконом, способству-
ет отправлению Германа Осерского с миссией в Британию. Это застави-
ло некоторых исследователей (К. Хьюз, Л. Билер, Д. О’Кронин) думать,
что Палладий был осерским клириком. При этом логичнее было бы сог-
ласиться с Мурьху в том, что папскому архидиакону в Риме было легче
оказать влияние на решение папы, чем приезжему галльскому клирику.
Судя по всему, миссия Палладия была направлена на восток Ирландии, в
Лейнстер, к христианам романо-британского и местного ирландского
происхождения. Согласно другому произведению Проспера, деятель-
ность Палладия в Ирландии была более успешной, чем это представля-
лось Мурьху.
13 Город Эбмория локализовать не удается. Епископ Аматорекс
(Amathorex) - возможно, имеется в виду предшественник св. Германа
Аматор, епископ Осера, у чьей могилы был поставлен во епископы св.
Патрик (вульгарн. лат. a sancto Amatore могло быть неверно понято ир-
ландским читателем).
384
Публикации
14 Темра - от др.-ирл. Temair Breg (род. п. Temro, Temrae), или Тара (от совр.
англ. Тага), находится на востоке Ирландии в современном графстве Вест-
мит неподалеку от долины реки Бойн. Др.-ирл. temair (‘возвышенное мес-
то, высокий холм'), причем помимо собственно Темры (Temair Breg ‘ Тем-
pa в Бреге') оно входило в некоторые другие топонимы: Temair Luachra,
Temair Chualnge, Temair Ema. Этимологически temair восходит к индоевро-
пейск. корню *tem- “темный” (др.-верхн.-нем. demar; белорусск. “цемра”,
укр. “темрява”, русс, (курск. диал.) “темрива” ‘тьма'). Учитывая то, что в
Temair Breg (Темра) известны докельтские захоронения бронзового века и
эпохи неолита, “темная сторона” temair связана с захоронениями и миром
мертвых, нижним миром. Комплекс сооружений в Темре возникает очень
рано: первое крупное укрепление овальной формы было сооружено еще в
эпоху неолита (сер. IV - сер. III тыс. до н.э.). Большая часть монументов
Темры, однако, относится скорее всего к железному веку (“кельтскому
времени”) (Raftery В. Iron-age Ireland // A New History of Ireland / Ed. D. 0
Croinfn. Oxford, 2005. Vol. 1. P. 167). Темра никогда не была “столицей” Ир-
ландии, но “король Темры” издревле обладал особой значимостью и ста-
тусом. Большое значение имел и королевский пир/праздник в Темре. См.:
Бондаренко Г.В. Некоторые особенности восприятия древнеирландского
праздника // Одиссей: Человек в истории. М., 2005.
15 Лойгуре, сын Ниалла, верховный король Темры (454-462), один из первых
представителей западной, коннахтской династии И Нейллов (“потомков
Ниалла”), правивших в Темре; собрал “пир Темры” в 454 г.; воевал с лейн-
стерцами: в 458 г. потерпел от них поражение, а в 462 г. был убит в битве
с ними. И Нейллы - род, к которому он принадлежал, действительно в то
время успешно распространяли свою экспансию на всю северную полови-
ну Ирландии (упоминание Мурьху - одно из самых ранних свидетельств об-
щеирландских амбиций И Нейллов). Мурьху упоминает, что он принял ве-
ру св. Патрика, но Тирехан, возможно основываясь на более точных ис-
точниках, пишет, что Лойгуре отказался от крещения.
16 Имя одного из друидов Lucet Mael содержит характерный элемент mael
(‘бритый, стриженный'), часто маркирующий друидов, поскольку они
особым образом выбривали голову. Первый элемент в языческих именах
с mael обычно содержит теоним. Любопытно противопоставление двух
“бритоголовых” Лукета Маела (mael) и Патрика (ascicaput) - святой вос-
принимается как равный друидам, но иной, враждебный “бритоголовый”.
Эта деталь усиливает аргументацию тех исследователей, кто считает, что
этот латинский стихотворный текст действительно восходит к подлинно-
му языческому сочинению, воспроизводящему отношение друидов и их
последователей к христианам в V-VI вв. Характерно выражение “станет
петь святотатство” (incantabit nefas), где nefas используется в языческом
значении как “нечто, запрещенное богами”.
17 Инбер Де (Устье Бога) - крупнейшая в раннесредневековый период при-
стань в устье р. Вартри на восточном побережье Ирландии. Область Ко-
лу (позднее Куалу) располагалась южнее совр. Дублина.
18 Залив Брене - совр. залив Странгфорд-Лох в Ольстере. Таким образом,
св. Патрик совершает морское путешествие на север вдоль восточного
побережья Ирландии.
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика
385
19 Этот амбар (orreum) связывается с местечком Саул в совр. гр. Даун (др.-
ирл. saball 'амбар', в свою очередь заимствование от лат. stabulum 'стой-
ло, хлев’). Л. Билер предположил, что Диху дал св. Патрику этот амбар для
его первого церковного здания в Ирландии (fiieler L. Muirchti’s life of St.
Patrick as a Work of Literature // Medium TEvum. 1974. Vol. XLIII, N 3. P. 222).
20 Cruithni - др.-ирл. этноним, обозначающий как пиктов на территории Се-
верной Британии, так и родственные им ирландскоязычные племена на
территории Ирландии, при этом круитни, жившие в Ирландии никогда не
обозначались латинским словом Picti. Так и в нашем случае Мурьху пред-
почитает прямо использовать ирландскую форму (in regiones
Cruidnenorum) для обозначения области их расселения в Северной Ирлан-
дии. Шлиав Миш - горная гряда Слемиш в совр. гр. Антрим.
21 Для Милиука было недопустимым стать зависимым от своего бывшего
раба, это не укладывалось в ирландские представления о статусе короля.
В то же время, согласно другому варианту жизнеописания Патрика Ми-
лиук был друидом, и рассказ о его сожжении в доме дублируется следую-
щим рассказом о сожжении в доме друида Лукета Маела. Интересно, что
насильственное сожжение в королевском доме часто фигурирует дресне-
ирландских преданиях См.: Togail Bruidne Da Derga / Ed. E. Knott. Dublin,
1975; Da Choca’s Hostel / Ed. W. Stokes // Revue celtique. (Далее: RC.) 1900.
Vol. XXI; Aided Muirchertaig meic Erca / Ed. Lil Nic Dhonnchadha. Dublin,
1964. Рус. пер.: Предания и мифы средневековой Ирландии / Пер. и ком-
мент. С.В. Шкунаева. М., 1991. По археологическим данным известно,
что “сорокаметровое строение” в Эмайн Махе было ритуально сожжено
на рубеже нашей эры.
22 Равнина Бреги (Mag Breg) - равнина на восточном побережье Ирландии
к северу от современного Дублина. На этой равнине располагалось коро-
левство Брега, главным королевским центром которого и была Темра.
23 История могилы людей Фиакка, несомненно, известная Мурьху, пред-
ставляет собой фрагмент во многом утраченного традиционного язы-
ческого “знания о местах” (dindshenchas). Фрагмент содержит с трудом
переводимые вкрапления древнеирландского языка, поэтому мы не
можем даже сказать, кто был одним из друидов-пророков Бреги (unus
е nouim magis profetis Bregg): Ферхертне или Фиакк? Дж. Карни предпо-
ложил, что Мурьху знал не дошедшую до наших дней поэму некоего
языческого друида-пророка Ферхертне о могиле людей Фиакка. Важ-
но, что речь идет о вполне определенном языческом институте девяти
друидов-пророков королевства Бреги, память о котором сохранилась
вплоть до VII в.
24 Пс. 49,14.
25 Речь идет, с одной стороны, о королевском празднике, пире в Темре (Feis
Тетпго), который, согласно литературной традиции, праздновался в ночь
на Самайн (1 ноября) и имел ритуально-магический характер для обще-
ства и королевской власти. С другой стороны, весенняя дата и связь с
культом огня дают возможность увидеть здесь аллюзию на весенний
праздник Белтане (1 мая), который также отмечался в Темре. При этом
описание языческого праздника, аллюзии на Вавилон и Навуходоносора
восходят здесь к книге пророка Даниила (2, 2; 3, 2-3; 5,1).
25 Одиссей, 2006
386
Публикации
26 Поворот направо, объезд “посолонь” считались у древних ирландцев бла-
гоприятными, и, напротив, поворот налево и объезд против солнца были
неблагоприятны. Интересно, что движение “посолонь” характерно для
ритуала коронации монарха у многих народов, движение же против солн-
ца, наоборот, часто присутствует в погребальных ритуалах. См.: Подоси-
нов А.В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических куль-
турах Евразии. М., 1999. С. 508-509). В предании “Разрушение заезжего
дома Да Дерга” запрет на движение “посолонь” вокруг Темры каким-то
образом ограничивал власть короля, а запрет на движение против солн-
ца вокруг Бреги уберегал от преждевременного погребения. В случае
Лойгуре король выбирает заведомо неблагоприятную для него сторону
поворота, предположение Л. Билера об ассоциации левого поворота с
язычеством у Мурьху лишь подтверждает эту дихотомию.
27 Аллюзия на Симона Волхва, согласно апокрифическим источникам,
умевшего летать (Деяния свв. апостолов Петра и Павла). С другой сторо-
ны, в древнеирландской литературе друидам также приписываются спо-
собности совершать своего рода “шаманский полет”. См.: Carey J. The
Lough Foyle Colloquy Texts: Immacaldam Choluim Chille 7 ind 6claig oc
Carraic Eolairg and Immacaldam in druad Brain 7 inna banfhatho Febuil 6s Loch
Fhebuil //Eriu. 2002. Vol. 52. P. 74-75; La siёge de Druim Damhghaire / Ed. M.-
L. Sjostedt//RC. 1926. Vol. 43. P. 110-112, § 117.
28 Главный поэт (poeta optimus) - лат. эквивалент др.-ирл. термина ollam,
обозначавшего высший ранг в иерархии филидов (поэтов, хранителей ис-
торического, юридического знания, сказителей). Характерно, что имен-
но филид, согласно Мурьху, становится одним из первых обращенных
Патриком, а его ученик первым епископом Лейнстера: если друидиче-
ское сословие резко противилось принятию христианства, то филиды, не
имевшие жреческих функций, рано были обращены и инкорпорированы
в новую христианскую элиту острова. В юридическом трактате “C6rus
Bdscnai” именно Дувтах макку Лугарь объясняет св. Патрику законы ир-
ландцев.
29 Снег в древнеирландской мифологии ассоциировался с потусторонним
миром и друидическими превращениями. Суд Божий, испытание огнем -
заведомый анахронизм для языческой Ирландии V в. Аллюзия на трех
библейских отроков в пещи (Дан. 3, 50).
30 Это пророчество св. Патрика не исполнилось, так как сын Лойгуре Лу-
гайд (ум. 507) также был верховным королем. Сложно объяснить появ-
ление пророчества, поскольку Мурьху, несомненно, знал о правлении Лу-
гайда.
31 Пример поисков Авраамом Бога взят Мурьху не из Библии, а из ветхоза-
ветных апокрифов при посредстве Иеронима. Вот что сообщает о детст-
ве Авраама апокрифическая “Книга юбилеев, или Малое Бытие”: “И ди-
тя начало замечать греховность земли, как она была соблазнена ко гре-
ху чрез изваяния и нечистоту... И он начал молиться Творцу всех вещей,
чтобы Он спас его от обольщения сынов человеческих и чтобы его на-
следие, после того как он стал праведным, не впало в греховность и не-
честие”. См.: Книга Еноха. Апокрифы / Пер. протоиерея Александра
Смирнова. СПб., 2000. С. 128.
Мурьху Мокку Махтени. Житие Святого Патрика
387
32 Кориктик, Коротик (Corictic, Coroticus) - известен по знаменитому под-
линному письму св. Патрика к Коротику, где святой укоряет этого севе-
робританского короля Стратклайда, правившего до 450 г., за набег на Се-
верную Ирландию и жестокое обращение с ирландскими пленниками-
христианами. По мнению Д.А. Винчи, Мурьху не читал “Послание к Ко-
ротику”, т.е. сообщает о конфликте Патрика и Коротика на основе на-
родной традиции. В пересказанной Мурьху легенде св. Патрик, подобно
друиду, совершает превращение короля в лису. Пение же, предсказыва-
ющее судьбу короля также должно было ассоциироваться с друидически-
ми функциями, поскольку друиды в древнеирландской литературе зачас-
тую предсказывают судьбу правителя. См.: Бондаренко Г.В. Конфликт
святого Патрика и бриттского короля Коротика... С. 1-2.
33 Св. Бенигн (др.-ирл. Бенен) - сподвижник св. Патрика. Аскетическая
практика молитвы в холодной воде была известна в раннесредневековой
Ирландии.
34 Упоминание о епитимье Мак Куйла - самое раннее в ирландской литера-
туре свидетельство особого типа наказания, заменяющего смертную
казнь, когда преступник отправлялся в лодке без весел в открытое море
(Byrne М.Е. On the Punishment of Setting Adrift H Eriu. 1930-1932. Vol. XI).
Мак Куйл становится первым епископом острова Мэн (Эвония).
35 Бычий Перевал - вероятно, у реки Квойл возле залива Странгфорд-Лох.
36 Mudebroth - др.-ирл. искажение древневаллийской фразы min Duw braut
С (клянусь) Богом Страшного суда’). Таким образом, Мурьху осознает,
что в речи Патрика, британца по рождению, признававшегося в своей
“Исповеди” в слабом знании латыни, должны были проскальзывать
бриттские слова и выражения. Конечно, Патрик должен был говорить на
бриттском языке, предшественнике древневаллийского, и, по реконст-
рукции К. Джексона, клятва св. Патрика на бриттском должна была зву-
чать как *pin DewaE brodoS, а древневаллийская фраза была заимствова-
на в VI в. См.: Jackson К. Language and History in Early Britain. Edinburgh,
1953. P. 633.
37 Недавние раскопки в Арма обнаружили христианские захоронения
V-VI вв. в дубовых гробах. Они вполне могут соответствовать “могилам
мучеников”, упомянутым Мурьху (6 Croinin D. Early Medieval Ireland.
400-1200. L.; N.Y., 1995. P. 155). Интересно и само название кладбища, по-
скольку история ирландской церкви в ранний период не знает мучеников,
и христианизация страны, судя по имеющимся источникам, проходила
безболезненно. Возможно, основание кладбища связано с неизвестным
нам фактом мученичества первых ирландских христиан, но, с другой сто-
роны, автор мог подразумевать особое духовное, аскетическое “мучени-
чество”, известное в ранней ирландской церкви.
38 Котел в Древней Ирландии был символом достатка и благосостояния, не-
отъемлемым атрибутом гостеприимного хозяина (briugu), которым, судя
по всему, и был землевладелец Даре. Часто волшебные чудесные котлы,
неисчерпаемые источники пищи, фигурируют в преданиях. Оживляю-
щий котел бога Дагды упоминается в предании “Битва при Маг Туред”.
Чудесный большой котел был дорогим даром, повышающим статус Па-
трика. Метрета - античная мера жидкости: 39, 29 л.
388
Публикации
39 Арма (др.-ирл. Ard Machae 'Возвышенность Махи', совр. англ. Armagh) -
святилище богини Махи (связанной с лошадьми и военной деятельно-
стью) существовало в Арма-в дохристианскую эпоху, таким образом,
христианская церковь унаследовала святое место от язычников. Рядом с
Арма находился другой древний сакральный центр уладов - Эмайн Маха,
с которым связаны предания уладского цикла (“Похищение быка из Ку-
альнге” и др.). Сложно сказать, был ли действительно основан св. Патри-
ком церковный центр в Арма, археологические данные свидетельствуют
о ранней дате его основания (V в.).
40 Маг Иниш - равнина в современном графстве Даун. С точки зрения древ-
неирландского права, св. Патрик был неправ. Землевладелец, во владе-
нии которого пасся чужой скот, имел право загнать скот себе в загон и
потребовать компенсации (Kelly F. Early Irish Farming. Dublin, 1997.
P. 135-137). Однако мораль этой истории не связана со светскими юриди-
ческими нормами и скорее ставит под сомнение их непререкаемость в
церковных делах. Речь идет о недопустимости противиться воле святого
и церкви.
41 Заезжий дом (здесь лат. hospitium, др.-ирл. bruiden) - дом, где любой пут-
ник свободно мог получить ночлег и еду. Хозяин заезжего дома (др.-ирл.
briugu) был зажиточным господином, который мог себе позволить такое
гостеприимство, однако порой он получал материальную поддержку от
короля.
42 По просьбе Гедеона Бог омочил росой лишь овечье руно, с которого Ге-
деон собрал чашу воды (в Вульгате concam “раковину”). Затем по новой
просьбе Гедеона Бог оставил лишь руно сухим.
43 Колесница, на которой, согласно Мурьху, передвигался по Ирландии св.
Патрик, была для того времени и роскошью, и средством повышения
статуса. Все герои древнеирландских преданий передвигаются и воюют
на колесницах, известных еще у континентальных кельтов. Возница
(агае) был главным помощником воина-аристократа в поездках и бит-
вах. На колеснице было два сидения: на переднем сидел возница с боди-
лом в руках, а за ним - воин (Raftery В. Pagan Celtic Ireland. L., 1994.
P. 106). В древнеирландских источниках упоминается, что на колесни-
цах ездят благородные воины, короли, в христианскую эпоху - еписко-
пы (двухколесная колесница изображена на высоком кресте X в. в мо-
настыре Клонмакнойс). Ни простолюдины, ни разбойники не могли по-
зволить себе такую роскошь, как собственная колесница. В то же вре-
мя современная археология пока не дала ни одного примера найденной
в Ирландии кельтской колесницы. Исторические же свидетельства со-
общают, что боевые действия на колесницах ведутся и в раннесредневе-
ковый период. Одно из самых поздних упоминаний колесницы в бою
мы находим в житии св. Колумбы, написанном Адомнаном, который
упоминает, что во время битвы при Мойн Дари Лотарь в Северной Ир-
ландии в 563 г. один из королей круитни, Эохайд Лайв, спасся бегством
на колеснице от победителей И Нейллов (currui insidens evaserit:
Adomndn. Vita sancti Columbae. I. 7).
44 Имеется в виду первенство чести Арма, которая считалась в Средние ве-
ка основанной св. Патриком и центром его миссии. При этом гораздо бо-
Мурьху мокку Махтени. Житие Святого Патрика 389
лее вероятно, что Даунпатрик, место погребения святого, а не Арма, был
основным центром его проповеднических трудов.
45 Фраза, видимо, отражает определенную древнеирландскую идиому.
46 “Ночь опустилась, обняв крылами темными землю” (nox ruit et fuscis tel-
lurem amplectitur alis) {Вергилий. Энеида. VIII. 369). Bosferus от phosferus.
В то время как на континенте Вергилий был относительно мало извес-
тен, такие ирландские авторы, как Мурьху и Адомнан, были явно знако-
мы с его творчеством.
47 Солнце возвратилось на десять линий назад на часах Ахаза по молитве
Исаии пророка в знамение исцеления царя Иезекии (4 Царств. 20: 8-11).
Иисус Навин воззвал к Господу во время битвы с аморреями: “Да станет
солнце прямо Гаваону, и месяц прямо дебри Алион”. Солнце и луна сто-
яли, пока шла битва (Ис. Нав. 10,12-13).
48 Дун Летглаше - совр. Даунпатрик. Истории о диких животных, везущих
тело святого, известны и в других памятниках ирландской житийной ли-
тературы.
49 4 Царств. 6: 18-20.
Е.А. Гуревич
КУЛЬТ ФРЕЙРА В ШВЕЦИИ.
“ПРЯДЬ ОБ ЭГМУНДЕ БИТОМ
И ГУННАРЕ ПОПОЛАМ”*
В то время в Исландии было немало знатных людей, которые состо-
яли в родстве с конунгом Олавом сыном Трюггви1. Одним из них,
как уже говорилось2, был Глум Убийца, сын Эйольва Кучи и Астрид
дочери Вигфуса херсира. Сестру Глума Убийцы звали Хельга. Она
была замужем за Стейнгримом из Мачтового Залива. Их сыном был
Торвальд по прозвищу Тасальди3.
У Глума Убийцы воспитывался человек по имени Эгмунд. Он
был сыном Храфна. Этот Храфн был тогда богат и жил на севере в
Нагорном Фьорде. А прежде он был рабом Глума и его матери Ас-
трид, но Глум дал ему свободу, и Храфн стал его вольноотпущенни-
ком. Мать Эгмунда происходила из рода людей из Гуддаля4, и ее имя
не называется. Она была в родстве с Глумом Убийцей. Эгмунд был
человек красивый, статный и многообещающий. Он пользовался
большим расположением Глума, своего родича. К тому времени, ко-
гда Эгмунд вырос, Глум был уже в летах и жил на Поперечном
Склоне в Воловьей Долине5, а Вигфус, сын Глума, находился тогда
у Хакона ярла6 в Норвегии.
Как-то раз весной Эгмунд сказал Глуму, что желает уехать из
страны.
- Я хочу, - говорит он, - купить корабль у Гусиной Отмели. Я со-
бираюсь приобрести его на отцовские деньги, так что средств на эту
покупку у меня хватает, однако я рассчитываю, что ты поможешь
мне и замолвишь за меня словечко.
Глум отвечает:
- Многие из тех, на кого возлагают не больше надежд, чем на те-
бя, отправляются в плавание. По мне, так главное, чтобы в этой по-
ездке ты скорее стремился снискать себе славу и уважение, чем
большие барыши, разумеется, если придется выбирать одно из двух.
Глум купил ему у норвежцев корабль, и Эгмунд снарядился в
путь, взяв с собой множество товаров, которыми его снабдил отец.
Эгмунду предстояло верховодить на корабле. Большинство его
спутников были исландцы, никогда прежде не покидавшие страну.
Они вышли в море в конце лета при сильном попутном ветре. Пого-
да им благоприятствовала.
* Перевод с древнеисландского и комментарии Е.А. Гуревич. Перевод выполнен по изд.:
fslendinga sogur о paettir / Ed. Bragi Halldorsson et al. (Svart a hvftu). Reykjavik, 1987. III. Bls.
2335-2344.
Е.А. Гуревич. Культ Фреира в Швеции. "Прядь об Эгмунде Битом..." 391
Они завидели землю на исходе дня. Ветер дул в сторону берега.
Сидевшие у руля норвежцы сказали, что всего безопаснее убрать па-
рус на ночь, предоставить кораблю дрейфовать, и причалить, когда
станет совсем светло.
Эгмунд отвечает:
- Нам не следует упускать такой хороший ветер - как знать, бу-
дет ли он дуть завтра. Да и ночь нынче выдалась лунная.
Они послушались его и продолжили плавание. А когда они при-
близились к берегу, путь им преградило множество связанных меж-
ду собой боевых кораблей, которые стояли в проливе между двумя
островами. Однако они заметили эти корабли не раньше, чем пото-
пили один из них и вошли в гавань. Некоторые на торговом кораб-
ле стали поговаривать, что они поступили неосмотрительно, но Эг-
мунд отвечал, что нечего им лезть не в свое дело. Кораблями же те-
ми командовал Хакон ярл, а потопленное судно принадлежало чело-
веку по имени Халльвард. Это был могущественный муж и большой
друг ярла. Все имущество с этого корабля погибло, но людям уда-
лось спастись.
Как только наступило утро, ярлу сообщили о нанесенном им ос-
корблении и ущербе. Он был сильно разгневан этой новостью и
сказал:
- Должно быть, это дело рук каких-нибудь ротозеев, никогда
прежде не посещавших чужие страны. Дозволяю тебе, Халльвард,
поквитаться с ними и отомстить за свою обиду. Уверен, что ты без
труда с ними справишься. У тебя достанет отваги и доблести воздать
им по заслугам, кто бы они ни были.
Тут Вигфус, сын Глума Убийцы, говорит:
- Государь, если эти люди предложат вам рассудить их, вы мог-
ли бы примириться с ними и сохранить им жизнь. Я сейчас же отпра-
вляюсь разузнать, кто они такие, и если только возможно, попыта-
юсь покончить дело миром.
Ярл отвечает:
- Поступай, как знаешь. Но, думаю, они сочтут, что мой тесак
тешет слишком гладко: придется им раскошелиться за то, что они
учинили!
Вигфус пошел на торговый корабль и узнал Эгмунда, своего ро-
дича. Он тепло приветствовал его и спросил о своем отце и о том,
какие еще новости тот привез из Исландии. Эгмунд охотно отвечал
на все его расспросы. Потом Вигфус сказал:
- Вам грозят большие неприятности из-за вашей оплошности.
Затем Вигфус рассказал им, что произошло, а также о том, как
трудно было склонить Хакона ярла к примирению.
- Мне поручено, родич, предложить тебе отдаться на суд ярла. Я
берусь представлять твою сторону в этом деле, и постараюсь до-
392
Публикации
биться всего, что в моих силах, и тогда, как бы нелегко нам ни при-
шлось, надо надеяться, все устроится.
Эгмунд отвечает:
- Все, что мне доводилось слыхать об этом ярле, не слишком-то
обнадеживает, и всего меньше, когда он расточает угрозы, так как
он, пожалуй, не преминет их исполнить. Однако я буду не прочь за-
платить возмещение, если он сбавит тон.
Вигфус сказал:
- Тебе придется все хорошенько взвесить, ведь ты имеешь дело
с человеком, от гнева которого тебе не укрыться, если ты отка-
жешься подчиниться его приговору.
Вигфус отправляется на корабль ярла и говорит ему, что эти
люди - его побратимы, а некоторые из них приходятся ему родичач
ми, и что -
- Они хотели бы, чтобы вы вынесли решение по их делу.
Тут один из людей ярла говорит:
- Ты сказал неправду своему государю, Вигфус. Пока что мы не
слыхали от них никакого дельного предложения. :
Халльвард сказал: \
- Думаю, для меня лучший выход - самому отомстить за себя. И
никому не стоит совать нос в это дело.
Ярл согласился с ним.
Вигфус сказал:
- Я сделаю все от меня зависящее и убью того, кто станет при*
чиной смерти моего родича Эгмунда.
Халльвард сказал:
- Хоть вы, исландцы, и большие смельчаки, в этой стране при-
выкли ожидать, что уважающие себя люди не станут сидеть слож|
руки и сносить оскорбления, будь то от вас, родичей Глума Убийцы,
или от кого другого.
Затем Халльвард садится в лодку и отправляется на торговый
корабль, а Хакон ярл велит тем временем не спускать глаз с Вигфу»
са. Халльвард прибывает на торговый корабль и спрашивает, кто
там главный. Эгмунд называет свое имя. Халльвард говорит:
- Я и мои товарищи считаем, что вы нанесли нам большой
ущерб. Мы здесь для того, чтобы выяснить, намерены ли вы пред»
ложить нам достойное возмещение.
Эгмунд отвечает:
- Мы не отказываемся заплатить, если только вы не вздумаете
запросить с нас слишком много.
Халльвард сказал:
- Те, кого это касается, не удовлетворятся безделицей за этакое
бесчестье.
Эгмунд сказал:
Е.А. Гуревич. Культ Фреира в Швеции. "Прядь об Эгмунде Битом..." 393
- Мы и вовсе не станем ничего платить, если с нами будут обхо-
диться высокомерно.
- Я не собираюсь, - говорит Халльвард, - клянчить у вас то, что
вам пристало предлагать самим!
Тут он прыгнул на борт и с такой силой хватил Эгмунда обухом
секиры, что тот упал замертво. После этого Халльвард возвращает-
ся к ярлу и рассказывает ему о том, что произошло, а ярл говорит,
что он обошелся с ними куда мягче, чем они того заслуживали.
Халльвард отвечает:
- Вся вина лежит на их предводителе, однако я счел, что для пер-
вого раза с него хватит и того, чтобы я вздул его до потери памяти.
Бесчестье - заслуженная расплата за оскорбление. А ежели понадо-
бится, ничто не помешает мне продолжить мстить и впредь.
Когда Вигфус узнал о случившемся, он пришел в такую ярость,
что пожелал напасть на Халльварда или убить его, как только тот
ему подвернется, но ярл повелел следить за ним, чтобы ему не пред-
ставилось такого случая.
Эгмунд очнулся, однако он получил такое тяжелое увечье, что и
после наступления зимы был вынужден долго лежать, не вставая.
Но со временем он поправился, и тогда ему пришлось сносить нема-
ло насмешек из-за того, что с ним стряслось. Где бы он ни появлял-
ся, его называли Эгмундом Битым, он же делал вид, что знать не
знает о своем прозвище. Вигфус часто наведывался к нему и угова-
ривал его отомстить.
- Я помогу тебе, - говорил он, - восстановить твою честь.
Эгмунд отвечает:
- Не стоит ворошить это дело, родич. Сдается мне, что теперь
мы с Халльвардом квиты. Ведь трудно было бы ожидать, что мне
сойдет с рук упрямство, с каким мы себя поначалу повели. Да и не-
благоразумно мстить, когда Халльвард в большой дружбе с Хако-
ном ярлом, а ты здесь находишься в его власти. Негоже мне подвер-
гать тебя риску быть покалеченным или убитым по моей вине. Раз-
ве этим должен я отплатить Глуму, твоему отцу?
Вигфус отвечает:
- Ты не дождешься благодарности ни от меня, ни от моего отца,
если станешь утверждать, будто действуешь в моих интересах, идя
против моей воли. Я-то думаю, что тобой скорее движет трусость,
чем осторожность, и куда как плохо поддерживать человека, у кото-
рого в груди заячье сердце. Похоже, ты пошел в своих родичей-ра-
бов, а не в людей с Поперечной Реки7.
На этом они расстались, и Вигфус был вне себя от гнева.
Миновали зима и весна. Летом Эгмунд снарядился и отплыл в
Исландию. Это путешествие принесло ему большие барыши. Он
привел свой корабль в Островной Фьорд.
394
Публикации
Глум вскоре узнал о прибытии корабля, и ему было тотчас же
доложено о том, как Эгмунд обесславил себя в этой поездке. А пос-
ле того, как Эгмунд отдал все распоряжения о своем корабле и иму-
ществе, он отправился прямиком на Поперечный Склон к Глуму и
оставался там некоторое время. Глум был с ним немногословен, и
было заметно, что он совсем не рад его приезду. Эгмунд же пребы-
вал в прекрасном расположении духа и очень важничал после своего
возвращения. Он посещал все сходки в округе и охотно принимал
участие в делах других людей, и какие бы споры там ни возникали,
казалось, никому не удавалось скорее отыскать пути для их разре-
шения, чем Эгмунду. Он также с готовностью взвалил на себя забо-
ты о припасах и прочих хозяйственных нуждах Глума и проявил се-
бя в этом с наилучшей стороны, однако Глум по-прежнему не желал
с ним разговаривать.
Как-то раз Глум сказал ему:
- Ты должен знать, Эгмунд, что я не испытываю благодарности
за твои труды. И меня удивляет, что ты с таким рвением встреваешь
в чужие дела, когда тебе самому впору занимать храбрости. Первая
же твоя поездка окончилась так бесславно, что я предпочел бы ни-
когда больше тебя не видеть. Ты покрыл себя позором и стал уко-
ром для всех своих родичей, и отныне навсегда будешь прозван тру-
сом за то, что не отважился отомстить за себя.
Эгмунд отвечает:
- Тебе бы следовало, родич, принять во внимание, что заставило
меня отказаться от мести. Я решил, что это может повредить Виг-
фусу, твоему сыну.
- Нечего тебе было заботиться о нем против его воли, - говорит
Глум. - По мне, так лучше бы вы оба были мертвы, зато ты проявил
бы храбрость и отомстил. А теперь остается одно из двух: либо у тебя
куда больше выдержки и терпения, чем у других людей, и ты, хоть и с
запозданием, но все же покажешь себя настоящим мужем и в другой
раз не струсишь, либо ты и впрямь ни на что не годен и все худшее в
тебе возьмет верх, потому что часто недостает отваги тем, кто ведет
свой род от рабов, и я не желаю, чтобы ты у меня долее оставался.
После этого Эгмунд уехал к своему отцу.
Эгмунд провел две зимы в Исландии, а летом снарядил свой ко-
рабль, нанял команду и отправился в Норвегию. Он прибыл на север
в Трандхейм и поплыл вдоль фьорда. Вечером он встал неподалеку
от Нидархольма8.
Тогда Эгмунд сказал:
- Спускайте лодку. Я хочу зайти в реку и разведать, что нового
происходит в стране.
Эгмунд надел двуцветный плащ, отделанный вдоль швов золо-
той тесьмой, это было большое сокровище. Он пересел в лодку, за-
Е.А. Гуревич. Культ Фреира в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 395
хватив с собой двоих гребцов. Было раннее утро, когда они направи-
лись к причалам. В это время сверху из города спускался какой-то
человек. На нем была красная расшитая накидка с капюшоном. Че-
ловек в накидке сошел на пристань и спросил, кому принадлежит
лодка. Эгмунд назвал свое имя. Горожанин сказал:
- Так ты Эгмунд Битый?
- Некоторые меня так называют, - отвечает Эгмунд. - А тебя
как зовут?
Тот говорит:
- Меня зовут Гуннар Пополам. Это прозвище я получил оттого,
что мне нравится ходить в двуцветной одежде.
Эгмунд сказал:
- Что нового здесь в стране?
Гуннар отвечает:
- Главная новость тут - что Хакон ярл умер и на престол взошел
превосходный конунг, Олав сын Трюггви.
Эгмунд спросил:
- Не знаешь ли ты, где сейчас может находиться человек по име-
ни Халльвард, родовитый и богатый муж из Трандхейма?
Гуннар отвечает:
- Не удивительно, что ты о нем спрашиваешь. Его теперь зовут
Халльвард Шея. Это потому, что в прошлом году он участвовал вме-
сте с Хаконом ярлом в битве с йомсвикингами9 и получил там боль-
шую рану в шею прямо под ухом, и с тех пор ходит, скривив голову
набок. Он теперь в городе с Олавом конунгом, и тот очень его це-
нит. Какой на тебе ладный плащ, Эгмунд, двуцветный и выкрашен
отменно! Не продашь мне его?
- Продать - не продам, - говорит Эгмунд, - но раз уж он тебе так
приглянулся, готов отдать задаром.
- Так отдай, и пусть тебе во всем сопутствует удача! - сказал
Гуннар. - Я хочу отблагодарить тебя за твой подарок. Для начала
прими от меня эту накидку, как знать, может, она тебе пригодится.
Затем Гуннар возвращается в город в плаще, а Эгмунд надевает
накидку.
Он сказал своим людям:
- Привяжите лодку кормой к причалам, чтобы ее не сносило те-
чением, пока я сойду на берег. А вы тем временем оставайтесь на
своих местах и держите весла наготове.
После этого Эгмунд направился наверх в город. По дороге ему
не встретилось ни души. А когда он проходил мимо постоялого
двора, то увидал, что двери распахнуты и какие-то люди стоят вну-
три и умывают руки. Один из них был выше ростом и выглядел
внушительнее других. Он держал голову склоненной набок, и по
рассказу Гуннара Эгмунд догадался, что это Халльвард. Эгмунд
396
Публикации
подошел к дверям, и все, кто там находились, признали в нем Гун-
нара Пополам. Понизив голос, он позвал Халльварда выйти к не-
му ненадолго:
- У меня к тебе важное и неотложное дело, - сказал он.
Затем Эгмунд отошел от дверей и обнажил меч. Гуннар Попо-
лам был всем хорошо знаком, поэтому Халльвард вышел из дому
один, и не успел он приблизиться к Эгмунду, как тот нанес ему смер-
тельный удар. После этого Эгмунд побежал вниз к лодке. Он сбро-
сил с себя накидку и, вложив в капюшон камень, забросил ее в реку,
так что она пошла ко дну. Эгмунд прыгнул в лодку и приказал гре-
сти прочь из реки. А когда они прибыли на торговый корабль, он
сказал своим людям:
- Здесь в стране большое немирье. Ветер как раз дует из фьор-
да, поставим парус и воротимся в Исландию.
Они стали говорить, что уж больно он пуглив, раз не решается
высадиться на берег из-за каких-то там усобиц, которые ведут меж-
ду собой местные жители, однако поступили, как он велел. Они вер-
нулись в Исландию и пристали в Островном Фьорде. Эгмунд поехал
к Глуму Убийце и поведал ему о своей поездке. Он сказал, что месть
свершилась, хотя и с большим опозданием. Глум принял это извес-
тие с одобрением и сказал, что у него было предчувствие, что тот в
конце концов все же окажется стоящим человеком. Эгмунд остался
у Глума на зиму, и его там хорошо принимали.
А теперь нужно рассказать о том, что, когда людям Халльварда-
показалось, что он долго не возвращается, они вышли наружу и на-
шли его лежащим мертвым в луже крови. Об этой новости было до-
ложено Олаву конунгу, а также о том, что, по общему мнению,,
убийцей Халльварда был Гуннар Пополам. Конунг сказал:
- Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Но как бы
то ни было, его следует как можно скорее разыскать и повесить, ес-'
ли это его рук дело. i
У Гуннара был брат по имени Сигурд. Он был человек богатый
и дружинник Олава конунга; тот очень его любил. Сигурд тогда на-
ходился в городе. Как только он узнает, что его брата собираются
казнить, он бросается искать его и находит. Сигурд спрашивает,
правда ли, что он совершил то, в чем его обвиняют. Гуннар отвеча-
ет, что не имеет к этому никакого отношения.
Сигурд сказал:
- Однако люди считают, что это так, а потому расскажи мне,
что тебе известно об этом происшествии.
Гуннар отвечает:
- Сейчас я не стану ничего говорить ни тебе, ни другим.
Сигурд сказал:
- Раз так, тебе необходимо скрыться. j
Е.А. Гуревич. Кулып Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 397
Гуннар так и сделал, он спрятался в лесу, и его не нашли. Затем
он отправился на восток, перевалил через горы и прошел Упплёнд10,
скрываясь на протяжении всего своего странствия и нигде не задер-
живаясь, пока не добрался до Швеции.
В то время там совершались великие жертвоприношения11, и из-
давна повелось, что наиболее почитаем был Фрейр12. Этот идол
Фрейра обладал столь могучими чарами, что дьявол говорил с людь-
ми из его уст, и Фрейру в услужение была отдана молодая и краси-
вая женщина. Тамошние жители верили, что Фрейр был живой, и
так в какой-то мере и было, и думали, что он, вероятно, нуждается в
наложнице. Вместе с Фрейром ей полагалось распоряжаться капи-
щем и ведать всем, что находилось в его владении.
Гуннар Пополам добрался наконец до тех мест и обратился к
жене Фрейра за помощью, прося ее предоставить ему кров. Она ог-
лядела его и спросила, кто он таков. Он назвался бродягой и челове-
ком незначительным и сказал, что он чужестранец. Она отвечает:
- Непохоже, чтобы тебе во всем сопутствовала удача, потому что
Фрейр смотрит на тебя недружелюбно. Для начала можешь остаться
здесь на три ночи, а там поглядим, как Фрейр отнесется к тебе.
Гуннар сказал:
- Что до меня, я предпочитаю твою защиту и расположение бла-
госклонности Фрейра.
Гуннар был большой весельчак и отличный рассказчик. По про-
шествии трех ночей он спрашивает жену Фрейра, как обстоит дело
с его дальнейшим пребыванием.
- Сама не знаю, - говорит она. - Ты человек неимущий, но тем
не менее, похоже, хорошего рода, а потому мне следовало бы по-
мочь тебе. Однако Фрейр не очень-то тебя жалует, и я боюсь, как
бы он не разгневался. Поживи здесь полмесяца, и тогда будет видно,
что из этого выйдет.
Гуннар сказал:
- Пока все складывается так, как мне и хотелось: Фрейр меня
ненавидит, зато ты готова мне помогать, а я и сам не желаю иметь
ничего общего с Фрейром, потому что, по мне, он - настоящий
дьявол.
Чем дольше Гуннар там оставался, тем большей любовью он
пользовался у всех, благодаря тому, что знал толк в развлечениях, да
и прочим своим достоинствам. Он опять приходит побеседовать с
женой Фрейра и спрашивает у нее, на что он может рассчитывать.
Она ответила:
- Люди хорошо к тебе относятся, и сдается мне, будет правиль-
но, если ты останешься здесь на зиму и будешь сопровождать нас с
Фрейром в поездке по пирам, когда он отправится по стране улуч-
шать урожай. Однако он к тебе не благоволит.
398
Публикации
Гуннар поблагодарил ее.
И вот пришла пора отправляться в дорогу. Фрейр с женой
должны были ехать в повозке, а сопровождавшие их слуги идти
впереди. Им предстоял долгий переход по горным тропам. Тут под-
нялась сильная вьюга, и стало трудно идти, однако Гуннару было
велено не отходить от повозки и вести лошадь. А спустя некоторое
время вышло так, что все их люди разбрелись кто куда, и Гуннар
остался один при повозке, в которой сидели Фрейр и его жена. Гун-
нар совсем выбился из сил, продвигаясь вперед и ведя за собою ло-
шадь, и в конце концов махнул на это рукой и забрался в повозку,
предоставив лошади самой находить дорогу. Немного погодя жен-
щина сказала Гуннару:
- Соберись с силами и опять веди лошадь, не то Фрейр нападет
на тебя.
Он так и делает. Прошло еще немного времени, и когда он сно-
ва почувствовал сильную усталость, он сказал:
- На этот раз я готов рискнуть и вступить в поединок с Фрейром,
если он вздумает напасть на меня.
Тут Фрейр вылезает из повозки, и они начинают бороться, одна-
ко Гуннар явно уступает Фрейру в силе. Видит он, что коли так бу-
дет продолжаться, ему не устоять. И вот он думает про себя, что
ежели ему посчастливится одолеть этого дьявола и воротиться назад
в Норвегию, он тогда сызнова обратится в истинную веру и поми-
рится с Олавом конунгом, если тот согласится принять его. И стои-
ло ему только подумать об этом, как Фрейр зашатался и сразу же
вслед за тем повалился перед ним. Тут из истукана выскочил демон,
который в нем прятался, и от него всего-то и осталось, что пустое
дупло. Он разбивает его в щепы и возвращается к повозке.
Затем он предлагает женщине выбрать одно из двух: либо он по-
кинет ее и пойдет своим путем, либо, когда они доберутся до обита-
емых мест, ей придется сказать, будто он Фрейр. Она отвечает, что
охотнее предпочла бы второе. После этого Гуннар переодевается в
облачение деревянного истукана. Тут стало проясняться.
Спустя некоторое время они являются на пир, который был для
них приготовлен13. Там уже находились многие из тех, кто должен
был их сопровождать. Все сочли важным знаком, что Фрейр пока-
зал свое могущество, сумев добраться вместе со своей женой до че-
ловеческого жилья в этакую непогоду, хотя все его слуги разбежа-
лись. А еще они дивились тому, что он мог теперь ходить наравне со
всеми и ел и пил, как другие люди.
Они разъезжали по пирам всю зиму. Фрейр был всегда немного-
словен со всеми, кроме своей жены. Оказалось, что он больше не хо-
чет, чтобы перед ним убивали живых существ, как прежде, и не же-
лает принимать жертвы или какие-нибудь иные приношения, кроме
Е.А. Гуревич. Культ Фреира в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом..." 399
золота и серебра, драгоценной одежды и других сокровищ. А со вре-
менем люди стали замечать, что жена Фрейра носит дитя. Это изве-
стие было встречено большим ликованием, и шведы не могли нара-
доваться на Фрейра, свое божество. Погода также стояла благопри-
ятная, и все сулило такой добрый урожай, какого никто не мог при-
помнить. Слухи о могуществе языческого бога шведов разнеслись
широко по свету, дошли они и до Олава конунга сына Трюггви, и он
задумался, что бы они могли означать. Как-то раз весной Олав ко-
нунг призывает к себе Сигурда, брата Гуннара Пополам, побеседо-
вать и спрашивает, известно ли ему что-нибудь о Гуннаре, его бра-
те. Сигурд отвечает, что не имеет от него никаких вестей.
Конунг сказал:
- Сдается мне, что этот языческий бог шведов, которого они
именуют Фрейром и о котором нынче ходит столько рассказов, на
самом деле не кто иной, как твой брат Гуннар. Ничто так не прель-
щает языческих богов, как жертвоприношения живых людей14. Я
хочу послать тебя за ним на восток, ибо прискорбно знать, что хри-
стианская душа пропадает столь жалким образом. Но если он явит-
ся ко мне добровольно, я обещаю впредь не гневаться на него, по-
скольку мне стало известно, что Халльварда убил не Гуннар, а Эг-
мунд Битый.
Сигурд немедленно отправляется в дорогу и странствует, пока
не находит этого Фрейра и не узнает в нем Гуннара, своего брата. Он
передает ему слова и поручение Олава конунга. Гуннар говорит в
ответ:
- Я бы охотно поехал и примирился с Олавом конунгом. Однако
если шведы прознают обо всем, они захотят убить меня.
Сигурд сказал:
- Попытаемся убраться отсюда тайком и будем уповать на то,
что удача и добрая воля Олава конунга вместе с милосердием Божь-
им возымеют большую силу, чем злая воля и преследование шведов,
как наверняка и случится.
И вот Гуннар начинает готовиться к путешествию вместе со сво-
ей женой. Они захватили с собой столько движимого имущества,
сколько были в состоянии унести на себе, и ночью тайно отправи-
лись в путь. А когда шведы это узнали, они догадались обо всем, что
произошло, и тотчас же послали за ними погоню. Однако стоило
преследователям отойти совсем недалеко, как они заблудились, и
так и не настигли их; с тем шведы и воротились назад. Сигурд же и
его спутники нигде не останавливались, пока не явились к Олаву ко-
нунгу. Тот примирился с Гуннаром и велел крестить его жену. И с
тех пор оба они придерживались истинной веры.
400
Публикации
“Пряди” - короткие рассказы, по преимуществу повествующие об ис-
ландцах, которые было принято вплетать в жизнеописания правителей
Норвегии. “Прядь об Эгмунде Битом и Гуннаре Пополам” (Ogmundar pdttr
dytts ok Gunnars helmings) известна из сочиненной в начале XIV в. “Большой
саги об Олаве Трюггвасоне” (изд.: 61afs saga Tryggvasonar en mesta / Udg.
Olafur Halldorsson. Kpbenhavn, 1961. Vol. 2. S. 1-18), которая была впослед-
ствии включена с дополнениями в одно из наиболее значительных собраний
саг о норвежских королях - “Книгу с Плоского Острова” (Flateyjarbok), со-
ставленную в Исландии в последней четверти XIV в. (изд.: Flateyjarbok. En
samling af norske konge-sagaer med indskudte mindre fortaellinger. Christiania,
1860-1868. Bd. I. S. 332-339).
Начало истории об Эгмунде Битом содержится также в одной из сред-
невековых рукописей “Саги о Глуме Убийце” (Vatnshyma, конец XIV в.), где
эта сага сохранилась лишь фрагментарно. Поскольку рассказ отсутствует в
основной и единственной полной рукописи саги (M66ruvallabok, XIV в.),
предполагается, что он был опущен средневековым редактором как не име-
ющий прямого отношения к истории Глума, в которой Эгмунд ни разу не
упоминается. См.: VIga-Glums saga I Ed. G. Turville-Petre. Oxford, 1960.
P. XXXI). Действие во фрагменте доводится всего лишь до инцидента с
Халльвардом, поэтому на его основании невозможно судить о том, как эта
редакция пряди соотносится с ее версией, вплетенной в королевскую сагу.
1 Норвежский король (995-1000).
2 Прежде чем появиться в пряди, Глум дважды упоминался в “Большой са-
ге об Олаве Трюггвасоне”, в которую вставлен рассказ об Эгмунде (см.:
Flateyjarb6k. Bd. I. Bls. 65; 287). Первое упоминание связано с сообщением1
о женитьбе будущего отца конунга Олава, Трюггви Олавссона, на Аст-
рид, племяннице деда Глума, Вигфуса херсира (херсир - мелкий племен-
ной вождь в Норвегии в период, предшествовавший объединению страны,
т.е. до X в.); во второй раз мы находим его имя в родословной конунга.
3 Торвальд Тасальди (“Неряха”?) - один из персонажей “Саги о Глуме
Убийце”, принимающий деятельное участие в описываемых в ней кон-
фликтах на стороне своего родича Глума. Здесь он, судя по всему, упомя-
нут лишь потому, что о нем также имеется прядь (Torvalds pdttr tasalda),
как и история Эгмунда, сохранившаяся в составе “Большой саги об Ола-
ве Трюггвасоне”. Это - одна из “прядей о крещении”, герой которой ус-
пешно выполняет опасное поручение, возложенное на него конунгом-
миссионером и в конце концов добивается обращения в христианство че-
ловека, упорно противившегося переходу в новую веру.
4 Род исландских первопоселенцев, получивший название по местности,
расположенной в Нагорном Фьорде. О родстве безымянной матери Эг-
мунда с Глумом Убийцей в других источниках не упоминается; предпола-
гается, что родословная героя пряди - изобретение ее автора.
5 Согласно саге (гл. 26), Глум был изгнан из своей усадьбы на Поперечной
Реке в Островном Фьорде на севере Исландии. Около 989 г. он поселил-
ся на границе той же местности на Поперечном Склоне, где и окончил
свои дни предположительно в 1003 г.
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 401
6 Ярл Хакон сын Сигурда, правитель Норвегии (975-995), обычно изобра-
жаемый в древнескандинавских источниках как ярый язычник. Как сле-
дует из дальнейшего, действие начальных эпизодов рассказа относится к
самому концу правления ярла Хакона: когда Эгмунд спустя год вновь
приезжает в Норвегию, то узнает, что к власти в стране пришел конунг
Олав Трюггвасон. Однако во фрагменте, сохранившемся в составе “Саги
о Глуме Убийце”, события пряди передвинуты не менее чем на десятиле-
тие назад, что явным образом затрудняло переход к ее второй части -
рассказу о Гуннаре. Неизвестно, каким образом разрешалась эта хроно-
логическая проблема, поскольку повествование во второй редакции пря-
ди обрывается сразу же после возвращения Эгмунда в Исландию.
7 Т.е. в род Глума Убийцы (см. примеч. 5).
8 Трандхейм - область в Северо-Западной Норвегии (ныне Трённелаг);
фьорд - Трандхеймсфьорд, на побережье которого в устье реки Нид рас-
положен Нидарос (современный Тронхейм); Нидархольм - остров, лежа-
щий во фьорде севернее города, тогда как пристани, к которым затем на-
правился Эгмунд, пересев в лодку, находились в нижнем течении реки.
9 Многократно воспетое скальдами грандиозное морское сражение в Хьё-
рунгаваге, в котором ярл Хакон и его сыновья одержали победу над вторг-
шимися в Норвегию воинственными викингами из Йомсборга (не найден-
ной, вероятно, легендарной викингской крепости, расположенной на побе-
режье Балтийского моря в устье Одера). Тогда как исландские королев-
ские саги и, в частности, “Круг Земной” (“Сага об Олаве сыне Трюггви”,
гл. 35—42), “Сага о йомсвикингах”, а также настоящий рассказ датируют
это сражение 994 г., Саксон Грамматик относит его к более раннему вре-
мени - к правлению датского конунга Харальда Синезубого (ум. 986 г.).
10 Упплёнд - область в Восточной Норвегии.
11 Христианизация Швеции, начавшись почти одновременно с христианиза-
цией Норвегии, в правление короля Олава Скётконунга (ок. 995-1020),
завершилась лишь в конце 80-х годов XI в. Вплоть до этого времени в
центральных (свейских) областях страны продолжал играть важную
роль Уппсальский храм, описанный ок. 1075 г. Адамом Бременским, где
совершались языческие жертвоприношения (см. об этом подробнее в
статье). О роли культа Фрейра в Швеции, и в особенности в Свеаланде,
свидетельствуют многочисленные топонимы с первым элементом Frey-.
12 Фрейр - букв, “господин”, в скандинавской мифологии бог плодородия.
См. подробнее в статье.
13 Культовая поездка бога плодородия, объезжающего Швецию для “улуч-
шения урожая” (см. статью), описывается в пряди в тех же выражениях,
что и традиционные для правителей Норвегии ежегодные поездки по пи-
рам, так называемым “вейцлам” (veizla), угощениям, устраивать которые
для государя и его дружины в целях их прокормления входило в обязан-
ности свободных хозяев - бондов. Та же система “угощений” (gaerd) суще-
ствовала и в Швеции.
14 Узнав, что в Швеции прекратились человеческие жертвоприношения, ко-
нунг Олав умозаключил, что под личиной Фрейра скрывается Гуннар. О
человеческих жертвоприношениях в священной роще свеонов (свеев), со-
вершаемых в Уппсале каждые девять лет, известно из сообщения Адама
Бременского (см. подробнее ниже в статье).
26 Одиссей. 2006
402
Публикации
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
“ПРЯДИ ОБ ЭГМУНДЕ БИТОМ И ГУННАРЕ ПОПОЛАМ”
Едва ли требуется убеждать читателя, что перед ним один из заме-
чательных образцов древнеисландской малой прозы: о нарратив-
ных достоинствах “Пряди об Эгмунде Битом и Гуннаре Пополам”
мы можем судить уже по тому, с каким искусством ее анонимный
автор сумел слить воедино две, по всей видимости, первоначально
самостоятельные и не только никак не связанные между собой, но
вдобавок еще и столь различные истории. И в самом деле: казалось
бы, что может быть общего между рассказом о безвестном исланд-
це, вступившем в Норвегии в конфликт с сильными мира сего и в
конце концов отомстившем своему знатному обидчику, и повество-
ванием о злоключениях норвежца-христианина в языческой Шве-
ции? К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем, здесь же за-
метим лишь, что широкую известность “пряди” принесло отнюдь
не недюжинное мастерство средневекового рассказчика (до срав-
нительно недавнего времени1 “Прядь об Эгмунде Битом и Гуннаре
Пополам” вообще не привлекала к себе внимания как произведе-
ние словесности), но исключительно описанное во второй ее части
беспрецедентное приключение героя, которому довелось повстре-
чаться с самым почитаемым у шведов божеством, Фрейром, а за-
тем и самому занять его место.
Со времен Якоба Гримма едва ли найдется исследование сканди-
навской мифологии и шире - древнегерманских верований, которое
обошлось бы без изложения или, по крайней мере, упоминания рас-,
сказа о Гуннаре. При этом интерес историков религии, в первую
очередь, вызывается вовсе не тем, что делало этот рассказ привле-
кательным в глазах средневековой (да и современной) аудитории, -
не описанной в нем “одушевленностью” деревянного идола и но
дерзким обманом предприимчивого героя. Главной ценностью исто-
рии Гуннара считаются содержащиеся в ней сведения о языческом;
культе, часть которых помимо нее не была обнаружена ни в одном
другом скандинавском нарративном источнике, но, как оказывается, ,
прямо перекликается с информацией, известной из оставленного бо-
лее чем тысячелетием ранее сообщения Тацита о религиозных пред-
ставлениях и обрядах, распространенных у ингевонской группы гер-
манских племен.
Рассказывая о свевах, племенном союзе, в состав которого вхо-
дило немало различных народностей, в том числе и англы, римский
историк подробно останавливается на их верованиях. По его словам,
все они “поклоняются Нерте, т.е. Матери-Земле, и думают, что она
вмешивается в дела людей и объезжает народы. На одном из остро-
вов Океана (как полагают, в Дании. - Е.Г.) есть девственная роща, а
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 403
в ней посвященная богине колесница, накрытая покрывалом. Дос-
туп к ней разрешается одному только жрецу. Он знает, когда боги-
ня находится внутри [колесницы], и с великим благоговением следу-
ет за ней, влекомой телками. Тогда наступают радостные дни, празд-
ничный вид приобретают те места, которые она удостоит своим
прибытием и где гостит. Никто [тогда] не затевает войн, не берется
за оружие; все железо спрятано; лишь тогда познают они мир и спо-
койствие, только тогда любят их, пока тот же жрец не возвратит в
священную рощу богиню, пресытившуюся общением со смертными.
Тотчас же после этого в скрытом от нескромных глаз озере обмы-
ваются и колесница, и покровы, и, если угодно верить, само божест-
во. Все это делают рабы, которых немедленно вслед за тем погло-
щает то же самое озеро. Отсюда тайный ужас и благочестивое неве-
дение по отношению к тому, что видеть могут только те, кто должен
умереть” (“Германия”, гл. 40)2. Описанная Тацитом богиня Нерта не
упоминается ни в одном ныне известном древнегерманском тексте,
однако, как давно было установлено, Nerthus - это точный женский
эквивалент имени Ньёрд (Njordr), скандинавского божества из рода
ванов, богов плодородия, от которого родились Фрейр и Фрейя, брат
и сестра, состоявшие в кровосмесительной связи, вследствие чего
считается весьма вероятным, что и Ньёрд и Нертус представляли со-
бой такую же ритуальную пару3. Между тем в процитированном
рассказе партнером Нертус оказывается сопровождающий ее жрец,
единственный, кому разрешен доступ к богине. Налицо, таким обра-
зом, знаменательная параллель с историей о Гуннаре, где при Фрей-
ре находилась молодая женщина, которая считалась его женой и
вместе с ним распоряжалась всеми его богатствами и через которую
осуществлялись все контакты между языческим богом и его поклон-
никами. Эта аналогия наводит на мысль, что в обоих рассказах, по-
видимому, может идти речь о культовом браке, заключаемом в од-
ном случае между женским, а в другом - мужским божеством и со-
ответственно приданным каждому из них партнером противополож-
ного пола4. Хотя в пряди такое слово не употребляется, жена Фрей-
ра - это, судя по всему, (hof)gydja, “(храмовая) жрица”. Притом, что
последние иногда упоминаются в повествованиях, местом действия
которых служила не континентальная Скандинавия, но Исландия,
рассказ о Гуннаре - единственный текст, проливающий хоть какой-
то свет на роль жрицы в древнегерманском культе5. Большинство
же подобных упоминаний - не более чем “говорящие” имена. Так,
можно быть почти уверенными в связи по крайней мере одной из но-
сящих соответствующее прозвище женщин, Турид Жрицы Храма
(Puridr hofgydja), именно с культом Фрейра, поскольку ее брата, Тор-
да, прозывали Годи Фрейра (Freysgodi; godi, от god, ср.р., мн.ч. “язы-
ческие боги”, - жрец, одновременно выполнявший функции предво-
404
Публикации
дителя местного населения)6.
Более развернутое сообщение
содержится только в “Саге о лю-
дях из Оружейного Фьорда”
(гл. 5), где в качестве эпизодиче-
ского персонажа появляется
“храмовая жрица” Стейнвёр, на-
званная хранительницей главно-
го капища, куда все окрестные
жители обязаны были уплачи-
вать “храмовую подать” (hoftoll),
языческий аналог церковной де-
сятины.
В рассказе о Гуннаре ничего
нс сказано ни о местоположении
храма, в котором содержались
идол Фрейра и его жена, ни о его
убранстве. Надо заметить, что
пряди вообще скупы на описа-
ния и им в еще большей мере,
чем сагам, свойственно не уде-
лять внимания избыточным для
сюжета, непосредственно не “ра-
ботающим” на него деталям. Не-
достающие подробности языче-
ского культа шведов - “свеонов”
сообщает немецкий хронист
Адам Бременский в “Деяниях ар-
хиепископов Гамбургской церк-
ви” (ок. 1075 г.). По его словам, у этого племени имеется “знамени-
тое святилище, которое называется Уппсала [и] расположено неда-
леко от города Сигтуны. В этом святилище, которое все украшено
золотом, народ поклоняется статуям трех богов. Самый могущест-
венный из них - Тор - восседает на престоле в середине триклиния”,
а по бокам от него сидят Водан (= Один) и Фриккон (= Фрейр). Ка-
ждый из этих богов имеет свои полномочия: “Тор, - говорят евсо-
ны, - царит в эфире, он управляет громами и молниями, ветрами и
дождями, ясной погодой и урожаями. Второй, Водан, что означает
“ярость”, ведет войны и дает человеку смелость перед лицом врагов.
Третий - это Фриккон, дарующий смертным мир и наслаждения.
Его идол они снабжают огромным фаллосом. Бодана же представ-
ляют вооруженным, как у нас обычно Марса. А Тор скипетром под-
ражает Юпитеру...” (кн. IV, гл. 26)7. Предполагается, что найденный
в Рэллинге (юго-восточная Швеция) амулет - миниатюрная бронзо-
Ил. I. Миниатюрная бронзовая
статуэтка Фрейра (Рэллинге,
Швеция)
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. "Прядь об Эгмунде Битом..." 405
вая фигурка фаллического божества, возможно, является умень-
шенной копией идола Фрейра из Уппсальского храма. Что же каса-
ется установленной в этом сообщении иерархии, согласно которой
заглавное место в “троице” почитаемых свеонами богов отведено
вовсе не Фрейру, а Тору, то на сей счет не раз высказывались сомне-
ния в осведомленности ученого немца, опиравшегося на сведения,
полученные от неких информантов-христиан8. И данные топоними-
ки, и разнообразные скандинавские письменные свидетельства, к
числу которых принадлежит и наша прядь, однозначно указывают
на безусловное предпочтение, оказываемое Фрейру, очевидно, не
случайно называемому “богом шведов”9, что, разумеется, не исклю-
чало поклонения и другим богам.
В рассказе о Гуннаре “великие жертвоприношения”, совершав-
шиеся в дохристианской Швеции, упомянуты лишь вскользь. Адам
Бременский, напротив, с обстоятельностью этнографа, не скупясь
на подробности, описывает известные ему проявления языческого
культа свеонов: “Ко всем их богам приставлены жрецы, которые
приносят жертвы [от имени] народа. Если грозит мор и голод, они
умилостивляют идол Тора, если война - Водана, если предстоит
справлять свадьбы - Фриккона. Кроме того, каждые девять лет в
Уппсале устраивают всеобщее празднество всех областей Свеонии.
От [участия в] этом празднестве не освобождается никто...”10. Приу-
роченные к весеннему равноденствию пиры и сопровождающие их
жертвоприношения длятся в течение девяти дней. Жертвоприноше-
ния происходят следующим образом: “Из всей живности мужского
пола приносится девять голов: их кровью принято умилостивлять
богов. Тела же развешиваются в роще, которая находится рядом со
святилищем. Ибо эта роща священна для язычников, так что ее де-
ревья считаются божественными - [таковыми их делают] трупные
выделения жертв. Вместе с людьми там также висят собаки и лоша-
ди. Один христианин рассказывал мне, что видел LXXII тела, висев-
шие вперемежку. А магические песнопения, которые они обычно
исполняют, совершая обряд жертвоприношения, многочисленны и
нечестивы, и поэтому будет лучше [о] них умолчать” (гл. 27)1
Подобно Тациту, Адам Бременский говорит о священной роще,
в которой, судя по приносимым там жертвам, по представлениям
свеонов, обитают их божества12. В передаваемых средневековым ав-
тором свидетельствах об уппсальском языческом культе можно от-
метить и еще одну параллель с рассказом римского историка: если
последний упоминает об озере, в котором после обряда омовения
богини Нертус и ее колесницы находили свою погибель совершав-
шие его рабы, то первый сообщает об имеющемся по соседству с
храмом, рядом с высоким вечнозеленым деревом, жертвенном ис-
точнике, куда язычники “ввергали живого человека” и в зависимо-
406
Публикации
сти от того, всплывет утопленник или нет, заключали, принята ли их
жертва и будет ли исполнено их желание. (Нельзя не вспомнить в
этой связи мифологическое мировое древо германцев - ясень Иггд-
расиль и находящийся под его корнем священный источник, которо-
му Один пожертвовал свой глаз). Как и Тацит, Адам Бременский пи-
шет о человеческих жертвоприношениях, которые в его время, по-
видимому, воспринимались уже как нечто исключительное по своей
жестокости. Хотя отдельные упоминания о принесении в жертву
живых людей касаются и других частей Скандинавии (в “Саге о кре-
щении”, гл. 12, сказано, например, что в 1000 г. непосредственно пе-
ред тем, как в Исландии было принято христианство, его противни-
ки решили принести в жертву по два человека из каждой четверти
страны и просить языческих богов предотвратить смену веры), есть
основания полагать, что местная ученая традиция в первую очередь
связывала этот обычай с культовой практикой шведов. Можно
вспомнить об упоминаемых в “Круге Земном” (“Сага об Инглин-
гах”, гл. 15, 43) ритуальных жертвоприношениях древнешведских
правителей “ради урожая”, а датский историк Саксон Грамматик
(начало XIII в.) прямо утверждает в “Деяниях датчан” (кн. III)13, что
Фрейр, поселившись неподалеку от Уппсалы, изменил издревле за-
веденный обычай, которого веками придерживались многие наро-
ды, на “невыразимо отвратительный” способ поклонения высшим
силам - умерщвление людей.
Вероятно, именно о человеческих жертвах идет речь и в нашей
пряди, когда в ней сообщается, что лже-Фрейр не желал, чтобы пе-
ред ним по-прежнему “убивали живых существ”. Употребленное в
данном контексте слово kvikendi может пониматься двояко - и как
обозначение любых одушевленных существ вообще, и как наимено-
вание животных, прежде всего скота. Если первое значение в этой
связи, скорее, применимо к шведским реалиям, как они виделись их
более “цивилизованным” соседям (напомним сказанное конунгом
Олавом, когда до него дошел слух о могуществе бога шведов: “ни-
что так не прельщает языческих богов, как жертвоприношения жи-
вых людей”), то второе - к норвежским. В “Саге о Хаконе Добром”
(гл. 14) в “Круге Земном” содержится подробное описание жертвен-
ных пиров, устраиваемых правителями Норвегии до восшествия на
престол Олава Трюггвасона. Снорри Стурлусон так описывает ото-
шедшую в прошлое языческую практику: “По древнему обычаю,
когда предстоял жертвенный пир, все бонды должны были собрать-
ся туда, где стояло капище, и принести припасы, которые нужны во
время жертвенного пира. На этот пир все должны были принести
также пива. Для пира закалывали всякого рода скот, а также лоша-
дей. Вся кровь от жертв называлась жертвенной кровью (hlaut), а ча-
ши, в которых она стояла, - жертвенными чашами, а жертвенные
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 407
веники были наподобие
кропил. Ими окропляли
все жертвенники, а также
стены капища снаружи и
внутри. Жертвенной кро-
вью окропляли также лю-
дей. А мясо варили и вку-
шали на пиру. Посредине
пиршественной палаты го-
рели костры, а над ними
были котлы. Полные куб- Ил. 2. Культовая повозка железного века
ки передавались над кост- (Дейбьерг, Ютландия)
рами, и тот, кто давал пир
и был вождем, должен был освящать полные кубки и жертвенные
яства. Первым был кубок Одина - его пили за победу и владычест-
во своего конунга, потом шли кубок Ньёрда и кубок Фрейра - их пи-
ли за урожайный год и мир... Пили также кубок за своих родичей,
которые уже были погребены. Этот кубок называли поминаль-
ным”14. Ни в этом, ни в других рассказах королевских саг, действие
которых относится к языческим временам, мы не найдем информа-
ции о человеческих жертвах.
Как и сообщение Тацита, отображенная в истории Гуннара ре-
лигиозная практика связывала наступление мира и процветания с
регулярно совершаемыми божеством объездами “подвластных” ему
территорий. В пряди прямо говорится, что Фрейр отправляется по
стране посещать устраиваемые для него шведами жертвенные пиры
дабы “улучшать людям урожай” (gera monnum arbot). Ни самое путе-
шествие языческого божества, ни его сакральные атрибуты - счита-
ется, что колесница символизирует смерть и весеннее возрождение,
являясь, таким образом, важнейшей составной частью культа пло-
дородия15, - не упоминаются в каких-либо иных письменных источ-
никах. Однако, судя по всему, эти сведения могут быть подтвержде-
ны археологическими находками: культовыми повозками железно-
го века и эпохи викингов, обнаруженными в захоронениях на терри-
тории Ютландии и Норвегии, а возможно, также и относящимся к
еще более раннему времени (середина - конец I тыс. до н.э.) рисун-
ком на погребальной урне, найденным в иллирийской области
(Эденбург, Германия), на котором изображена колесница, по всей
видимости, со стоящим в ней идолом. Учитывая же явно просматри-
вающиеся за сообщениями как скандинавских, так и латинских ис-
точников признаки архаической сакрализации шведских правите-
лей, в частности возложение на них ответственности за урожай, ес-
тественно видеть связь между культовым путешествием бога плодо-
родия и средневековым обычаем, связанным с именем короля Эри-
408
Публикации
ка, так наз. Eriksgata (“дорога Эрика”). Согласно ему, вновь избран-
ный конунг должен был объехать страну, двигаясь по ходу солнца, -
ритуал, в котором король, похоже, выступал наследником Фрейра16.
Будучи единственной историей, прямо подтверждающей цент-
ральные элементы описанного Тацитом древнего культа, рассказ о
Гуннаре оказывается важным звеном, помогающим восстановить
отдельные, как можно было бы думать, безвозвратно утраченные
мифологические связи. Прежде всего это касается взаимоотноше-
ний Фрейра с легендарным королем Фроди, при котором установил-
ся не однажды упоминаемый в разнообразных скандинавских тек-
стах “мир Фроди” (Frdda fridr) - многолетний период всеобщего бла-
годенствия и спокойствия, когда по всей земле не было ни войн, ни
беззаконий. Вот как в “Младшей Эдде” разъясняется наименование
этой благословенной эпохи: Фроди, сын Фридлейва, правнук Одина,
был датским конунгом, правившим “в те времена, когда Август ке-
сарь водворил на всей земле мир, тогда родился Христос”. Посколь-
ку же Фроди был “самым могущественным конунгом в северных
странах, считают, что это он водворил мир во всех землях, где гово-
рят по-датски (т.е. на древнескандинавском языке. - Е.Г.), и люди на
севере называют это миром Фроди. Тогда никто не чинил зла друго-
му, даже повстречав убийцу отца или брата... Не было тогда ни во-
ров, ни грабителей, так что одно золотое кольцо долго лежало на
Ялангрсхейд-поле (в Ютландии. - Е.Г.)”17. Согласно изложению
Снорри, этот великий мир завершился убийством Фроди “намоло-
тым” ему на волшебной мельнице Гротти вражеским воинством (о
чем повествуется в эддической “Песни о Гротти”). Примерно то же,
причем значительно более подробно, рассказывает об этом датском
короле, чья империя помимо Севера включала в себя десятки стран
и народов, простираясь от Рейна на западе до Руси (Ruscia) на восто-
ке, Саксон Грамматик. За одним лишь отличием: причиной смерти
Фрото (Фроди) в “Деяниях датчан” названа обернувшаяся морской
коровой колдунья, проткнувшая престарелого короля рогом (кн. V).
Кроме того, Саксон особо останавливается на посмертной судьбе
Фроди. Сообщается, что после гибели короля, знать, испугавшись
восстания провинций и распада империи, в течение трех лет скрыва-
ла ото всех его смерть и возила по всем землям забальзамированное
тело Фроди в королевской колеснице, объясняя такой способ пере-
движения немощью дряхлого правителя.
В рассказе этом, и в особенности в его последней части, не просто
просматриваются прозрачные параллели с описанными в нашей пря-
ди и у Тацита регулярными посещениями божества плодородия, чьи
совершаемые в ритуальной колеснице поездки приносят смертным
мир и процветание, он еще и содержит прямые указания на отождест-
вление Фроди с Фрейром18. Начать с того, что и Freyr, и Frodi вполне
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. "Прядь об Эгмунде Битом..." 409
могут пониматься как име-
на нарицательные. Первое
наименование означает
“господин”, второе - по
происхождению прилага-
тельное: inn frxSdi - “муд-
рый” (изначально “изо-
бильный”), вместе же они
составляют существитель-
ное с эпитетом - Freyr inn
fr6di. В “Саге об Инглин-
гах” (гл. X) этот “изобиль-
ный господин", по-видимо-
му, появляется под своим
полным именем: здесь он
назван Ингви-Фрейром
(Yngvi-Freyr) и объявлен
родоначальником шведско-
норвежской королевской
Ил. 3. Повозка из захоронения в Усеберге,
украшенная резными изображениями сцен
из древнескандинавских сказаний
(Норвегия, IX в.)
династии Инглингов (“потомков Инга")19. Впрочем, у Снорри Ингви-
Фрейр вовсе и не бог, но смертный конунг, правлению которого шве-
ды приписывали урожайные годы и воцарившийся повсюду мир, - по-
следний, как и в других местах, называется здесь “миром Фроди”. Тут
же излагается история обожествления Фрейра. Когда этот правитель
заболел и умер, он был тайно перенесен в курган, где его тело сохра-
нялось в течение трех лет. Шведам же было сказано, что Фрейр жив.
и они продолжали приносить ему подати, которые ссыпались в его
курган через специально проделанные окна: “в одно окно - золото, в
другое - серебро, а в третье - медные деньги. И благоденствие и мир
сохранялись". Впоследствии правда о смерти Фрейра вышла наружу,
однако оказалось, что благоденствие и мир тем не менее сохраняют-
ся. Поэтому люди решили, что “так будет все время, пока Фрейр в
Швеции, и не захотели сжигать его”; они назвали его “мировым бо-
гом” (veraldar god), и с тех пор всегда приносили ему жертвы “за уро-
жайный год и мир”20. Аналогии с рассказом в “Деяниях датчан” оче-
видны: в обеих историях смерть правителя скрывается от народа в те-
чение трех лет, кроме того, установленный по всему свету “мир Фро-
ди” - властителя, представленного Саксоном Грамматиком Августом
Севера - оказывается прямой заслугой Фрейра...
* *
Вовсе не оспаривая возможности рассматривать историю Гуннара в
качестве одного из ценных источников информации о древнесканди-
навском культе бога плодородия, нельзя не заметить, что перед на-
410
Публикации
ми произведение, в котором языческие обычаи и верования изобра-
жаются с позиций средневекового христианства и не просто подвер-
гаются осуждению (а не исключено, что и осмеянию21), но вдобавок
еще и неизбежному искажению. По всем признакам этот рассказ -
типичная “прядь о крещении” с характерной для подобного рода со-
чинений темой богоборчества и непременной концовкой - обраще-
нием неверных (в данном случае в лице бывшей “жены” Фрейра и
возвращенного в лоно церкви вероотступника Гуннара). В подспуд-
ном или открытом столкновении, которое зачастую принимает в
этих историях форму поединка или состязания в силе и ловкости22,
язычество неизбежно проигрывает христианству, доказывающему
свое преимущество перед старым обычаем - превосходство веры в
“Белого Христа” над поклонением “деревянным богам” (tr£god,
skurdgod). Эти последние в таких рассказах всегда развенчиваются,
причем, как правило, разоблачается их истинная сущность. То же
имеет место и в нашей пряди.
Напомним, что необычайные жизненные проявления Фрейра,
демонстрирующего известную “одушевленность”, объясняются
здесь тем, что в его деревянной оболочке скрывается демон. Когда
идол двигался, то, по мнению язычников, им владело божество, ко-
торое он представлял, а по мнению христиан - дьявол. Одолев в
схватке с помощью короля Олава Трюггвасона и обратив в бегство
нечистого, Гуннар разрубает опустевшее дупло. Еще более рази-
тельные способности, причем опять-таки благодаря таящемуся в
нем дьяволу, обнаруживает идол другого божества. В “Пряди о Рёг-
нвальде и Рауде”23 рассказывается о “великом жертвователе” Рауде,
большом почитателе Тора. От приносимых Раудом многочисленных
жертв идол набирался такой силы (magnade med myklum blotskap lik-
neski Pors), что “дьявол говорил с ним” из деревянного истукана.
Больше того: дьявол так управлял этим идолом, что всем казалось,
будто тот ходит, и Рауд часто водил Тора по острову, где находилось
капище. В дальнейшем этот могущественный Тор потерпел пораже-
ние в столкновении с Олавом Трюггвасоном и встретил свой бес-
славный конец24.
Демонологическое объяснение природы языческих богов легко
сочетается с эвгемеристическим, так что обе эти, казалось бы, не
вполне согласующиеся между собой трактовки, могут последова-
тельно использоваться в рамках одного и того же эпизода саги о ко-
роле-крестителе25. В том же жизнеописании Олава Трюггвасона по-
сле истории о злоключениях Гуннара мы находим рассказ, место
действия которого - уже не языческая Швеция, но норвежский
Трёндалёг в пору христианизации. В нем повествуется о том, как ко-
нунгу пришлось самолично учинить расправу над вынесенным им из
капища идолом Фрейра, тем самым предоставив своим подданным
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 411
возможность воочию убедиться в беспомощности и бессилии их де-
ревянного кумира26. В отличие от “шведского” Фрейра, с которым
довелось столкнуться Гуннару, его норвежский двойник не обнару-
живает ни малейших признаков жизни, притом, что прежде, как ут-
верждали прибывшие на народное собрание почитатели этого бо-
жества, он не раз говорил с ними и приносил им “мир и урожай”. Ра-
столковав этим людям в присутствии доставленного из капища исту-
кана, что с ними скорее всего разговаривал не кто иной, как сам дья-
вол, конунг пожелал сам удостовериться в могуществе и необыкно-
венных способностях идола и выяснить, действительно ли он умеет
“говорить и отвечать”. Тот, однако, никак не реагировал на обра-
щенные к нему речи государя, а потом даже не попытался оборо-
няться от ударов королевской секиры, мгновенно превратившей его
в груду щепок. Покончив с идолом, Олав разъяснил трендам, кем на
самом деле был их бог. Из его слов следовало, что Фрейр был “ве-
ликим конунгом” в Швеции, при котором в стране царили мир и бла-
годенствие. Когда он умер, его поместили в курган, однако шведы
верили, что он все еще жив, поклонялись ему как богу и, как и во
времена его правления, приносили ему дань - золото, серебро и мед-
ные монеты за то, что он обеспечивал им урожай и мир. А чтобы он
не скучал, ради его увеселения они вырезали из дерева двух истука-
нов, которые также были помещены в курган. Позднее эти деревян-
ные люди (tremenn) были извлечены из кургана вместе с сокровища-
ми, и им обоим присвоили имя Фрейра. Одного из них шведы оста-
вили себе и стали приносить ему жертвы, другого же отправили в
Трёндалёг, где ему начал также поклоняться тамошний люд. Таким
образом, то, что они принимали за живое божество, на самом деле
было изготовленным из дерева “творением человеческих рук, кото-
рое лежит теперь здесь, изрубленное на мелкие куски и готовое на
растопку”. Тут же сообщается и о якобы водворившемся при Фрей-
ре “мире Фроди”, за который на Севере принимали Pax Augusta, на-
чавшийся в то самое время, “когда истинный Бог послал своего воз-
любленного Сына на помощь и во спасение всего человечества...”27.
Как видим, эвгемеристическая интерпретация происхождения язы-
ческого культа, вложенная в уста первого христианского правителя
Норвегии, в значительной своей части почти дословно совпадает с
уже приводившимся рассказом из “Саги об Инглингах”, где с рацио-
налистических позиций излагается история возникновения королев-
ского рода Инглингов. Следует, однако, отметить и знаменательное
отличие версии Снорри от процитированного здесь рассказа: в ней
ни словом не упоминаются деревянные истуканы, “за компанию”
препровожденные в курган вместе с Фрейром. Надо полагать, что
последующее появление этих идолов в жизнеописании Олава Трюг-
гвасона было обусловлено выдвижением на первый план темы обра-
412
Публикации
Ил. 4. Изображение ритуальной повозки с идолом (?) на погребальной урне
раннего железного века (Эденбург, Германия)
щения и осуждения язычества, не играющей сколько-нибудь замет-
ной роли в начальной саге “Круга Земного”, где ничего не сказано и
о дьявольской сущности древнескандинавских богов28.
Эвгемеристическая трактовка языческого культа находит отра-
жение и в рассказе о Гуннаре: шведы с готовностью поддаются об-
ману, принимая за Фрейра (в действительности - одухотворенного
дьявольским колдовством деревянного идола!) живого человека,
обожествляют его и приносят ему жертвы. Не исключено, что автор
пряди иронизирует над неразумными язычниками, не способными
отличить вырезанного из куска дерева истукана от существа из пло-
ти и крови и догадавшимися о мошенничестве Гуннара не раньше,
чем тот бежал, захватив с собой принесенные ими драгоценные по-
жертвования “за мир и урожай”. Неудивительно, что эта беспреце-
дентная в древнескандинавской литературе дерзкая мистификация
натолкнула кое-кого из исследователей на мысль о возможно имев-
шем здесь место инокультурном влиянии.
Тогда как историки религии находят в приключении Гуннара в
Швеции отголоски древнегерманского языческого культа, историки
литературы, напротив, скорее, склонны усматривать в нем исланд-
скую адаптацию популярного на протяжении всего Средневековья
бродячего мотива, получившего наименование “обман Нектане-
ба”29. Последний восходит к роману псевдо-Каллисфена “Александ-
рия”, созданному на рубеже II и III вв., где, в частности, рассказыва-
ется об обстоятельствах появления на свет Александра Македонско-
го. Пораженный красотой македонской царицы Олимпиады волхв и
целитель Нектанеб, в прошлом египетский правитель, желая овла-
деть ею, “открывает” ей намерение богов сделать ее матерью вели-
кого царя, после чего является к ней сам в образе бога Аммона. Сов-
ременному читателю тот же мотив известен, в первую очередь, из
“Декамерона” Боккаччо, в одной из новелл которого (IV. 2) некий
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 413
брат Альберт соблазняет простодушную мадонну Лизетту, выдавая
себя за ангела30. Поскольку и в случае с Гуннаром как будто бы на-
лицо аналогичный обман - простой смертный выдает себя за
сверхъестественное существо, вследствие чего обретает земную
возлюбленную, - было высказано предположение, что в конечном
счете и этот исландский рассказ может быть обязан своим происхо-
ждением античному сюжету о Нектанебе31. Принимая во внимание
те далеко идущие трансформации, которым обычно подвергались
на исландской почве занесенные с континента (или из Англии) мо-
тивы и сюжеты, было бы неосмотрительным категорически отвер-
гать самую возможность подобного заимствования: ведь и на этот
раз привезенный из-за моря рассказ мог претерпеть радикальные
изменения. Как бы то ни было, обман Гуннара обнаруживает с “об-
маном Нектанеба” лишь то общее, что и там, и там герой успешно
выдает себя за сверхъестественное существо - могущественного бо-
га и именно в этом качестве вступает в связь с земной женщиной.
Мотивы же этого плутовства совершенно различны. Если в антич-
ной истории и производной от нее позднейшей новеллистической
традиции его объектом является женщина, чьей любви добивается
герой, то в нашей пряди женщина как раз и оказывается исключен-
ной из круга вводимых в заблуждение лиц: напротив, она изначаль-
но посвящена в намерения героя и становится его сообщницей.
Совершенно очевидно, что изображение взаимоотношений Гун-
нара с “женой” Фрейра не укладывается в рамки иноземного сюже-
та, зато ему нетрудно отыскать параллели в самих прядях. В отли-
чие от “саг об исландцах”, где женщина обычно играет роль храни-
тельницы семейной чести и подстрекательницы к мести, выступая в
конфликтах на стороне своего мужа и сыновей, в прядях она, как
правило, наоборот, переходит в лагерь противника, принимая на се-
бя функции помощницы героя - антагониста своего супруга. Обыч-
но это высокопоставленная женщина, покровительствующая без-
вестному чужестранцу, не взирая на враждебность к нему собствен-
ного мужа (порой дело доходит даже до открытой конфронтации
между супругами, как в “Первой Пряди о Халльдоре сыне Снорри”
или в “Пряди о Стейне сыне Скафти”)32. То же наблюдается и в на-
шем рассказе, с той лишь разницей, что ситуация резко изменяется
после того, как герой одерживает победу над могущественным “му-
жем” героини: из благодетельницы, давшей приют бедному чуже-
странцу, и хозяйки, отдававшей ему приказания, жена Фрейра в од-
ночасье превращается в спутницу и наложницу лжебога, утратив-
шую свое былое положение и целиком зависящую от милости вче-
рашнего бродяги. Что же до любовной темы, то, как и в подавляю-
щем большинстве прядей, она здесь не акцентируется вовсе, так что
можно вообще усомниться в ее наличии. Новоиспеченных “супру-
414
Публикации
гов” в первую очередь связывает соучастие в обмане, в случае обна-
ружения которого им обоим грозит верная гибель, а также жажда
обогащения: не случайно, решившись наконец бежать в Норвегию,
они не забывают прихватить с собой столько полученного от одура-
ченных шведов “движимого имущества, сколько были в состоянии
унести на себе”.
В отличие от саг об исландцах, пряди - это, как правило, исто-
рии со счастливым концом. Герои таких рассказов удачливы и с че-
стью выходят из выпавших на их долю испытаний. И для Гуннара
его злоключения заканчиваются вполне благополучно. Явившись
в Швецию бездомным скитальцем, вынужденным бежать на чуж-
бину от государева гнева, Гуннар возвращается в Норвегию побе-
дителем: он заручился прощением конунга Олава, одолел Фрейра,
стяжал большие богатства, наконец, приобрел жену. Однако его
успех зиждется на обмане, а потому можно ли с уверенностью счи-
тать, что, подобно другим персонажам прядей, он завоевал его с
честью? Дать ответ на этот вопрос не так-то просто. Как и аноним-
ный автор саги, рассказчик пряди воздерживается от прямой оцен-
ки моральных качеств и поступков своих героев, поэтому о его от-
ношении к ним приходится судить лишь на основании совокупно-
сти косвенных признаков, в том числе и высказываний других пер-
сонажей рассказа.
Первое, что читатель узнает о Гуннаре, это его прозвище, полу-
ченное им за пристрастие к двуцветной одежде - helmingr (букв, “по-
ловина”). Между тем известно, что в то время, когда, как предпола-
гается, создавалась прядь (конец XIII - начало XIV в.33), подобное
щегольство осуждалось. В 1269 г. в Исландии был издан епископ-
ский запрет священникам носить яркую (“красную, желтую или зе-
леную”), а также “двуцветную” (hdlfskipt) одежду. В Норвегии ана-
логичный запрет на ношение двуцветного платья уже для всех лиц
мужского пола был введен при короле Хаконе Магнуссоне
(1299-1319)34. Поскольку же прозвище - не что иное как обществен-
ная характеристика индивида, в данном случае оно, по всей видимо-
сти, свидетельствует о том, что окружающие считали Гуннара лег-
ковесным франтом и не принимали его всерьез35. Это мнение под-
тверждает реакция Олава Трюггвасона на известие о якобы совер-
шенном им убийстве (“Никогда бы не подумал, что он на такое спо-
собен”), а также впоследствии высказанная конунгом догадка, что
кому же, как не Гуннару, скрываться под личиной Фрейра. Из по-
добных замечаний следует, что от этого человека скорее можно бы-
ло ожидать плутовства, нежели решительных и отважных поступ-
ков. Трудно судить о том, как средневековая аудитория пряди вос-
принимала взятую им на себя роль бога плодородия: по-видимому,
обман оправдывался тем, что он был направлен против язычников.
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом..." 415
Совершенно очевидно, однако, что во время своего пребывания в
Швеции, Гуннар, хотя и одержал верх над Фрейром, показал себя
плохим христианином. Он не исполнил данного им обета вернуться
к королю Олаву в случае, если ему будет дарована победа над “де-
моном”, но вместо этого самым “жалким образом” продолжал гу-
бить свою душу ради золота и драгоценных нарядов. Страсть Гунна-
ра к мишуре и послужила причиной его мытарств, ведь все его невз-
годы начались всего-навсего из-за яркого плаща. Из чувства призна-
тельности за этот сомнительный дар он, вместо того, чтобы выдать
человека, бесчестно переложившего на него вину за свое преступле-
ние, почел за лучшее покинуть родные края и тем самым понес рас-
плату за собственное фатовство.
Обман и становится связующим звеном между двумя объеди-
ненными в одну историю рассказами. При этом обман не просто
служит средством, обеспечивающим композиционную целостность
“Пряди об Эгмунде Битом и Гуннаре Пополам”: бросается в глаза
основанный на нем параллелизм ситуаций, которые описываются
в обеих ее частях. И там, и там действует герой-обманщик, выдаю-
щий себя за другого и ради достижения своей цели прибегающий к
переодеванию.
Тогда как Гуннар заслуживает снисхождения уже только пото-
му, что одновременно выступает и как жертва обмана, “этический
облик” Эгмунда представляется современному читателю более оп-
ределенным. Однако можем ли мы быть уверенными, что наша
оценка действий этого героя совпадает с отношением к нему средне-
вековой исландской аудитории? Рупором общественного мнения не-
сомненно является здесь воспитатель и родич Эгмунда, Глум Убий-
ца, чья позиция высказана предельно ясно: Эгмунд покрыл себя по-
зором, не отомстив обидчику, и либо он, пусть и с большим опозда-
нием, но все же “покажет себя настоящим мужем”, как и пристало
члену их рода, либо своим бездействием докажет, что он “ни на что
не годен”, так как пошел в своего отца-вольноотпущенника (“часто
недостает отваги тем, кто ведет свой род от рабов”). Эгмунд мстит,
возвращая себе расположение своего воспитателя, а значит, осуще-
ствляет первую из этих возможностей. Однако читатель остается в
неведении, был ли Глум осведомлен о том, как он обошелся с Гунна-
ром Пополам. Естественно, складывается впечатление, что в конеч-
ном счете раб в Эгмунде берет верх над родовитым хозяином, и со-
вершенный с серьезными моральными издержками акт отмщения в
действительности не приводит к восстановлению утраченной чести.
Это впечатление как будто бы поддерживается параллелями из дру-
гих прядей: собираясь отомстить, их герои нередко прибегают ко
всякого рода ухищрениям, дабы остаться неузнанными, однако ни-
кто, кроме Эгмунда, не взваливает ответственность за совершенное
410
иуоликации
им убийство на случайно подвернувшегося и ни в чем не повинного
прохожего!36 И тем не менее не будем спешить с выводами: что ес-
ли Глум все же был посвящен в обстоятельства убийства Халльвар-
да, однако не нашел в поступке своего воспитанника ничего предо-
судительного?
Последнее вполне вероятно, поскольку, как оказывается, пове-
дение героя пряди в целом ряде существенных моментов весьма на-
поминает описанные в “Саге о Глуме Убийце” действия его воспита-
теля и судьи. Из этой саги мы узнаем, что и сам Глум в молодости
отнюдь не спешил совершить то, чего от него ожидали окружаю-
щие, а именно - поквитаться с обидчиками, захватившими по праву
принадлежавшее ему имущество. Мало того: много позже Глум,
убив в стычке своего недруга, внушает случайному участнику столк-
новения, двенадцатилетнему мальчику, что убийство это - дело его
рук, и, таким образом, подобно Эгмунду, сознательно перекладыва-
ет ответственность на другого. В конце концов правда выходит на-
ружу, и родичам убитого удается добиться изгнания Глума из его
усадьбы на Поперечной Реке в Островном Фьорде, однако хитрость,
к которой он прибегнул в этом инциденте, никак не вредит репута-
ции героя. Приведенные параллели37 заставляют иначе взглянуть и
на поступок Эгмунда: не исключено, что и в нем средневековый чи-
татель скорее усматривал изобретательность и смекалку, нежели
низкий обман...
Сохранившийся в “Саге о Глуме Убийце” фрагмент пряди не по-
зволяет судить о том, включала ли эта ее версия наряду с рассказом
об Эгмунде, в котором Глуму отводилась заметная роль, также и
рассказ о Гуннаре, не имевший к нему никакого отношения. Впро-
чем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что и в этом втором
рассказе обнаруживается известная аналогия с историей Глума - ге-
роя, так же как и Гуннар, вступившего в конфликт с Фрейром. Из са-
ги явствует, что Глум совершил против Фрейра целый ряд преступ-
лений: осквернил, пролив на нем кровь, посвященное этому богу по-
ле Vitazgjafi (букв. “Надежный Податель” - Фрейр позаботился о
том, чтобы это поле всегда приносило хороший урожай), затем, на-
рушив наложенный Фрейром запрет, в течение долгого времени
прятал в священных пределах, где было расположено его капище,
своего объявленного вне закона сына Вигфуса, а в довершение все-
го принес двусмысленную клятву в трех храмах, в том числе и в ка-
пище Фрейра38. Большая часть истории Глума проходит под знаком
вражды с Фрейром. Перед тем как покинуть округу, Торкель, недруг
Глума, изгнанный им из собственной усадьбы, посещает капище
этого божества и приносит ему быка, прося о том, чтобы та же
участь когда-нибудь постигла и Глума39. При этом он призывает
Фрейра подать ему знак, если его жертва будет принята благосклон-
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. "Прядь об Эгмунде Битом..." 417
но, и тут же убеждается в том, что был услышан: бык взревел и упал
мертвый. Впоследствии, незадолго до того, как Глуму, в свою оче-
редь, пришлось оставить свои владения, ему приснился Фрейр. Он
восседал на престоле на берегу реки, где к нему явилось множество
народу. Это были умершие родичи Глума, желавшие примирить его
с Фрейром, однако тот гневно отказал им всем, припомнив быка, не-
когда полученного им от Торкеля. Когда вскоре после этого сна
Глум был изгнан со своей земли, он разорвал все отношения с Фрей-
ром, а в конце саги мы узнаем, что за несколько лет до своей кончи-
ны он принял крещение и умер в белых крестильных одеждах.
Разумеется, взаимоотношения Глума с Фрейром мало чем напо-
минают ту историю, которая приключилась с Гуннаром в языческой
Швеции, и тем не менее вполне вероятно, что именно “Сага о Глуме
Убийце”, герое, так же, как и Гуннар упорно враждовавшем с Фрей-
ром, сыграла решающую роль в выборе продолжения для тесно свя-
занного с этой сагой рассказа об Эгмунде Битом. Что же до самой
необходимости в том или ином продолжении этого рассказа, то она
была во многом продиктована его жанровой принадлежностью. Ис-
тория об Эгмунде Битом - одна из типичных прядей об исландцах на
чужбине. Герой такой истории, оказавшись в Норвегии, в результа-
те совершенного им тяжелого проступка (обычно убийства прибли-
женного короля) вступает в конфликт с могущественным правите-
лем страны, из которого впоследствии выходит победителем, добив-
шись примирения с государем. Случается, что герой-исландец схо-
дит со сцены “досрочно”, и тогда его место тут же замещается дру-
гим персонажем, например, его помощником. В лице Гуннара Попо-
лам прядь и обретает этого необходимого “преемника”, который,
заступив на место поспешно отбывшего восвояси героя, доводит до
конца начатый им конфликт с норвежским королем.
1 Harris J. Ogmundar Jsdttr dytts ok Gunnars helmings: Unity and Literary Relations //
Arkiv for nordisk filologi. 1975. Bd. 90. S. 156-182.
2 Древние германцы. M., 1937. С. 78.
3 Turville-Petre G. Myth and Religion of the North. L., 1964. P. 172.
4 Ibid. P. 172.
5 Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. B., 1970. Bd. II. S. 193.
6 Islendingabdk. Landnamabok / Jakob Benediktsson gaf dt (Islenzk Fomrit. I).
Reykjavik, 1968. Bd. II. Bls. 321. Несколько исландцев носили прозвище
Freysgodi, “Годи Фрейра”. Один из них, Храфнкель, герой одноименной саги,
деливший с Фрейром все свое имущество, без колебаний убивает пастуха, по-
смевшего сесть верхом на посвященного Фрейру коня Фрейфакси (и в других
сагах упоминаются священные кони, принадлежащие Фрейру; конину ели на
жертвенных пирах, отсюда последующий запрет на употребление ее в пищу
христианами). В “Саге о Гисли” рассказывается о годи Торгриме, обычно уст-
раивавшем пиры и приносившем жертвы Фрейру в предзимние дни. Когда он
27 Одиссей, 2006
418
Публикации
был похоронен, юго-западный склон его кургана никогда не замерзал, и на
нем не лежал снег - свидетельство расположения к нему бога, которому он
верно служил.
7 Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Ed.
B. Schmeidler. Hannover; Leipzig, 1917 (Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi); Unveranderter
Nachdruck, 1977. S. 257-259. (Пер. B.B. Рыбакова.)
8 Turville-Petre G. Op. cit. P. 245 f.
9 См., например: Flateyjarbok. Bd. III. S. 246; ср. также утверждение “Саги об
Инглингах” о том, что Фрейр “воздвиг в Уппсале большое капище, и там бы-
ла его столица” (Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. С. 15).
10 Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. S. 259-260.
(Пер. B.B. Рыбакова).
11 Ibid.
12 Ср. также и другое сообщение Тацита о том, что германцы посвящают своим
божествам “рощи и дубравы” (“Германия”, гл. IX: Древние германцы. С. 60).
О том, что эта древняя практика сохранялась и в Исландии, свидетельствует
“Книга о заселении страны” (Landndmabdk. Bd. П. Bls. 270), где упоминается
один из исландских первопоселенцев, приносивший жертвы роще (bldtadi
lundinn).
13 Saxo Grammaticus. The History of the Danes I Ed. H. Ellis Davidson. Cambridge,
1979. Vol. I. P. 73.
14 Снорри Стурлусон. Круг Земной. С. 74 и след. В саге это описание приводит-
ся в связи с рассказом о неудавшейся попытке Хакона Доброго, первого нор-
вежского конунга-христианина, склонить население Трёндалёга к принятию
новой веры. Не пожелавшие перейти в христианство бонды, напротив, угро-
зами принуждают своего правителя соблюдать обычаи предков и не укло-
няться от участия в жертвенном пире - пить все посвященные богам кубки и
отведать ритуальной конины. Конунгу приходится подчиниться и выполнить
их требования. В итоге он снискал любовь всего народа, причем норвежцы
связывали с его правлением свое благополучие: “годы были урожайные, и ца-
рил мир” (с. 79), а когда Хакон был смертельно ранен в бою (ок. 960 г.), его
похоронили в кургане и на его могиле “сказали то, что по языческому обы-
чаю говорят, провожая в Вальгаллу” (с. 86).
15 Turville-Petre G. Op. cit. Р. 173.
16 Vries J. de. Op. cit. Bd. I. S. 473. Ср. у Адама Бременского: «Они также почи-
тают как богов [некоторых] людей, даря им бессмертие за славные деяния.
В “Житии святого Ансгария” упоминается, что подобным образом они обо-
жествили короля Эрика» (Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis eccle-
siae pontificum. Cap. XXVI).
17 Младшая Эдда. С. 142 / Пер. О.А. Смирницкой. М., 1994.
18 Turville-Petre G. Op. cit. Р. 170.
19 Ср. наименование ингевонов у Тацита: надо полагать, что Инг(ви) (др.-сканд.
Yngvi = др.-англ. Ing) считался эпонимическим предком этого германского
племени. Сохранились древнеанглийские стихи, в которых фигурирует Инг,
где, в частности, сказано, что он путешествовал через море в повозке. См.:
Ellis Davidson H.R. Scandinavian Mythology. L., 1969. P. 79.
20 Снорри Стурлусон. Круг Земной. С. 16.
21 См., например: Heinrichs A. Der liebeskranke Freyr, euhemeristisch entmythisiert //
Alvlssmal. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens. 1997. N 7.
S. 29 f.
Е.А. Гуревич. Культ Фрейра в Швеции. “Прядь об Эгмунде Битом...” 419
22 Как, например, в “Пряди об Эйндриди Широкостопом”. См.: Скандинавский
Вильгельм Телль / Публикация Е.А. Гуревич // Одиссей: Человек в истории,
2003. М., 2004. С. 422-450.
23 Flateyjarbok. Bd. I. S. 291 ff.
24 Ibid. S. 298.
25 О связи средневекового эвгемеризма с демонологией см.: Weber G.W.
Euhemerismus // Reallexikon der germanischen Altertumskunde: 2. Aufl. B., 1994.
Bd. 8. S. 1-16.
26 Flateyjarbok. Bd. I. S. 400-404.
22 Ibid. S. 403.
28 Точное время создания “Большой саги об Олаве Трюггвасоне” не установле-
но, по-видимому, она была написана в нач. XIV в., при этом считается, что
главным источником для нее послужил именно “Круг Земной” Снорри Стур-
лусона. Этот же эпизод излагается и в более раннем жизнеописании Олава
Трюггвасона, составленном ок. 1190 г. монахом Оддом Сноррасоном, однако
в этой ранней саге содержится лишь лаконичное сообщение о том, что ко-
нунг вбежал в капище и “разбил вдребезги Фрейра и многих других богов”
(Saga Olafs konungs Tryggvasunar / Udg. af P.A. Munch. Christiania, 1853. S. 37.
Кар. 35).
29 См.: Weinreich O. Der Trug des Nektanebos; Wandlungen eines Novellenstoffes.
Leipzig; B., 1911.
30 Джованни Боккаччо. Декамерон. M., 1955. С. 254-260.
31 Reuschel Н. Der Gottertrug im GunnarsJjattr helmings Ц Zeitschrift fiir deutsches
Altertum und deutsche Literatur. 1934. Bd. 71. S. 155-166.
32 Подробнее см.: Гуревич Е.А. Древнескандинавская новелла: поэтика “прядей
об исландцах”. М., 2004 (глава «Женщины в “прядях об исландцах”»).
33 J6nas Kristjansson. Formali Ц Eyfirdinga sSgur (fslenzk fomrit 9). Reykjavik, 1956.
Bls. LXIII.
34 Falk Hj. Altwestnordische Kleiderkunde. Kristiania, 1919. S. 81 folg. О семантике
цветной одежды в древнеисландской литературе см.: Valtyr Gudmundsson.
Litklaedi Ц Arkiv for nordisk filologi. 1893. Bd. 9. S. 171-98.
35 Harris J. Op. cit. P. 166.
36 См. подробнее: Гуревич Е.А. Древнескандинавская новелла. С. 73-90.
37 Можно отметить также и отдельные аналогии в деталях: спасаясь от пресле-
дования, Глум бросает в реку свой зеленый плащ; другой персонаж саги, пы-
таясь обмануть людей Глума, выворачивает наизнанку бывший на нем дву-
сторонний (двуцветный) плащ, прикидываясь пастухом.
38 Согласно сохранившимся описаниям, клятвы в капище приносились на специ-
ально предназначенном для этого серебряном кольце весом не менее двух ун-
ций, которое было окрашено кровью жертвенного быка.
39 Аналогичный эпизод имеется в “Пряди о Брандкросси”.
ИСТОРИЯ РОССИИ: QUO VADIS?
Б.Н. Миронов
ДИСКУРС О ЕВРОПЕЙСКОСТИ РОССИИ,
ИЛИ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЕВРОПЫ:
ЕВРОПА С РОССИЕЙ ИЛИ БЕЗ?
С большим интересом ознакомился с соображениями и замечани-
ями коллег из соседнего цеха, высказанными о моей книге “Соци-
альная история России”. «На сей раз, - говорит организатор обсу-
ждения А.Я. Гуревич, - ее содержание рассматривают специали-
сты по всеобщей истории. Взгляд “извне” и взгляд “изнутри” по
необходимости неодинаковы. Проблемы социальной истории Рос-
сии с конца ХУП в. и вплоть до 1917 г. оказываются при подходе
“извне” включенными в более обширный, глобальный контекст и
становятся предметом сравнительного анализа». Пять экспертов,
занимающихся разными проблемами, периодами и странами, все-
сторонне, заинтересованно и уважительно к моей точке зрения
дискутировали по затронутым в книге вопросам. Амплитуда мне-
ний по предложенной концепции широка - от несогласия до почти
полного согласия - такая же, как и среди русистов, обсуждавших
“Социальную историю России” раньше. Дискуссию открыла
И.М. Супоницкая. Моя концепция ей не показалась достаточно ар-
гументированной, но, как ни странно, свои возражения против нее
она черпала главным образом из моей же монографии. Рецензен-
ту кажется, что выводы книги противоречат ее содержанию, при-
чем не какие-то отдельные, частные выводы, а все и по всем про-
блемам: “Превосходный материал зачастую противоречит автор-
ской концепции” (с. 389)1. “Автор постоянно стремится показать
наличие социальной динамики, хотя факты чаще свидетельствуют
о статике” (с. 383). “Он видит лишь количественные различия ме-
жду Россией и Западом и не хочет замечать качественных, кото-
рые сам отчетливо показал” (с. 388). Положение о противоречии
между выводами и конкретным содержанием монографии - лейт-
мотив рецензии.
И пришлось уважаемой И.М. Супоницкой по необходимости де-
лать за меня выводы, которые, как ей кажется, логично вытекают
из моего исследования. На самом деле ее выводы - не что иное как
расхожие клише о России, уже более 100 лет существующие в оте-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
421
чественной и зарубежной историографии, которые рецензент пол-
ностью разделяет. Здесь и угнетение нерусских, и коррумпирован-
ная бюрократия, и отсутствие местного самоуправления, и неправо-
вой характер российской государственности от Петра до 1917 г. и
т.д. и т.п.
Между тем в книге я всесторонне обсуждаю каждый такой
стереотип, привожу аргументы за и против, взвешиваю и делаю
вывод, как правило, не в его пользу. Однако рецензент в тексте
видит только то, что соответствует ее представлениям, и совер-
шенно не замечает того, что им противоречит. И вера ее феноме-
нально крепка: книга объемом в 110 а.л., в которой она находит
некоторые достоинства - знание историографии, современную
методологию, широкий круг источников, - не поколебала ее исто-
рических представлений о России ни на йоту. Трудно дискутиро-
вать с рецензентом, если новых аргументов у нее, как правило,
нет, а в тех редких случаях, когда они приводятся, их доказатель-
ствами считать невозможно. Например, не соглашаясь с моим вы-
водом о том, что богатые природные ресурсы России не объясня-
ют особенностей ее социального и политического строя, в качест-
ве аргументов И.М. Супоницкая приводит мнения двух экспертов:
1) А. Илларионова, высказанное в газетной статье, о том, что вы-
сокие мировые цены на нефть сопровождаются сворачиванием
реформ в России, тогда как низкие цены их стимулируют; 2) доре-
волюционного историка и публициста Н.М. Ядринцева о том, что
открытие золота в Сибири пагубно сказалось на хозяйстве края:
другие отрасли были свернуты; людские ресурсы, и без того не-
большие, стекались на прииски (с. 379). Как советник президента,
так и сибирский областник Н.М. Ядринцев - люди, политически
ангажированные самим своим положением, к тому же говорят они
о текущем моменте, а не о социологической закономерности, ко-
торую я пытаюсь постичь.
«Вызывает недоумение, - пишет уважаемый оппонент, - оценка
национальной политики Российской империи “толерантной” до
1830 г. Он пытается убедить читателя в том, что русское правитель-
ство даже “создавало некоторые преимущества в правовом отноше-
нии для нерусских”» (с. 380). Те многочисленные сведения, которые
на сей счет приведены в книге, как видно, рецензента не убедили.
Привожу новые.
Поддержка такого положения в империи, чтобы материальный
уровень жизни нерусских, проживавших в национальных окраинах,
был по возможности выше, чтобы нерусские народы всегда платили
меньшие налоги и пользовались льготами, всегда являлось состав-
ной частью национальной политики российского правительства
(табл. 1).
422
История России: Quo vadis?
Таблица 1
Прямые налогирусских и нерусских в XVIII в.
(в коп. с души мужского пола)
1725-1760 гг. 1761-1782 гг. 1783-1793 гг. 1794-1796 гг.
Русские* 110 270 370 400
Украинцы* — 85-100 70-120 100-120
Белорусы* — 55 170 200
Иноверцы, 40 40 40 40
кроме евреев* Евреи - 100 120-170 240-370
* Государственные крестьяне Источник: Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование
Екатерины II. СПб.: Сенатская типография, 1906. С. 122-123.
В XVIII в. львиная доля нерусских по социальному положению
принадлежала к государственным крестьянам, чьим хозяином была
казна, а с точки зрения самих людей - российский император. Не
случайно именно в этой группе наблюдались наибольшие послабле-
ния в налогообложении, которые до 1794 г. даже нарастали: налог с
“иноверцев” был меньше, чем с русских в 1725 г. в 2,75 раза, а в кон-
це века - в 10 раз. Подобное положение сохранялось до конца пери-
ода империи, хотя в XIX в., особенно с 60-х годов, налогообложение
постепенно унифицировалось. В 1886-1895 гг. прямой налог на душу
среди русского населения составлял 1,91 р., а среди нерусского насе-
ления - 1,22 р., или на 59% меньше.
Определить роль Российской империи в развитии народов, вхо-
дивших в ее состав, действительно нелегко, поскольку каждый из
более чем 200 этносов в чем-то выиграл, а в чем-то проиграл. В та-
кой ситуации было бы целесообразным учесть баланс плюсов и ми-
нусов для каждого этноса. К сожалению, из-за отсутствия соответ-
ствующих данных подобные индивидуальные оценки для всех этно-
сов в настоящее время (и думаю в будущем) невозможны. Но если
бы мы даже ими располагали, все равно потребовалось бы 200 оце-
нок как-то обобщить. Позволю сделать достаточно грубую и, есте-
ственно, приблизительную оценку положения русских и 13 нерус-
ских народов (на долю первых приходилось 44,6%, на долю вторых -
40,3% всего населения империи) по отдельности и в целом на 1897
год. Расчет приурочивается к году всеобщей переписи, из которой
взяты необходимые данные, и основывается на измерении баланса
плюсов и минусов.
В настоящее время ООН для измерения качества жизни населе-
ния использует так называемый индекс человеческого развития,
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
423
или индекс развития человеческого потенциала (Human
Development Index). Он включает три показателя: 1) индекс ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении; 2) индекс образова-
ния (процент грамотности и доля детей школьного возраста, посе-
щающих школу); 3) и индекс производства (валовой внутренний
продукт на душу населения). Каждый показатель принимает значе-
ние от 0 до 1, индекс человеческого развития равен их среднему
арифметическому. Результаты расчетов приведены в табл. 2. Вслед-
ствие отсутствия сведений о валовом внутреннем продукте на душу
населения по этносам, я воспользовался данными о государствен-
ным доходах на душу населения. По этой причине полученные мною
индексы нельзя сравнивать с индексами ООН, но они вполне срав-
нимы между собой.
Индекс человеческого развития для русских равен 0,247, для не-
русских (взвешенный на доле каждого этноса) - 0,301, или на 22%
выше. Следовательно, и положение нерусских в целом было пред-
почтительнее, чем русских. Из 14 народов, для которых имеются
данные для подсчета индекса человеческого развития у восьми: ев-
реев, латышей, литовцев, поляков, украинцев, финнов, эстонцев и
немцев - индекс был выше, чем у русских, а у пяти: башкир, белору-
сов, молдаван, татар, чувашей - ниже. У поляков, как у тех, которые
проживали собственно в Польше (0,354), так и тех, кто проживал
собственно в России (0,315), индекс человеческого развития был вы-
ше, чем у русских. То же самое наблюдалось у финнов, проживав-
ших в Финляндии (0,620) и в России (0,762). Из приведенных данных
следует, что у тех этносов, у которых до присоединения индекс че-
ловеческого развития был выше, он и сохранился таким же, а у тех,
у кого был ниже, остался ниже. Таким образом, незаметно, чтобы
русские эксплуатировали нерусских.
А как оценить существование черты оседлости? - иронически
спрашивает И.М. Супоницкая, справедливо считая это важным кри-
терием оценки положения евреев в империи. На этот вопрос очень
убедительно ответил один из рецензентов, А.Б. Каменский: «Совер-
шенно очевидно, что черта оседлости воспринимается нами сегодня,
как, впрочем, воспринималась она уже в конце XIX - начале XX в.,
в качестве откровенно дискриминационной меры в отношении ев-
рейского населения, хотя бы потому, что свобода передвижения -
несомненно, один из важнейших признаков гражданского, открыто-
го общества, как мы сегодня его понимаем. Однако нельзя не учи-
тывать и того, что, как показано новейшими исследованиями этой
темы, при установлении черты оседлости власть руководствовалась
вовсе не антисемитскими побуждениями, а неспособностью втис-
нуть еврейскую общину в рамки старательно создаваемой ею в Рос-
сии сословной структуры европейского типа. Причем, как ни пара-
Таблица 2
Индекс человеческого развития 14 этносов России в 1897 г.
Средняя про- должитель- ность жизни, лет Средняя гра- мотность, % Средние госу- дарственные доходы, коп. на д.н. Индекс про- должитель- ности жизни Индекс гра- мотности Индекс произ- водства Индекс чело- веческого раз- вития
Русские 28,7 29,3 1092 0,061 0,293 0,388 0,247
Чуваши 31,0 9,8 469 0,100 0,098 0,095 0,098
Татары 34,9 16,4 469 0,164 0,164 0,153 0,160
Белорусы 36,2 20,3 442 0,186 0,203 0,137 0,175
Украинцы 38,1 18,9 929 0,218 0,189 0,343 0,250
Евреи 39,0 41,4 849 0,233 0,414 0,318 0,322
Башкиры 37,3 18.5 316 0,204 0,185 0,044 0,144
Молдаване 40,5 8,8 460 0,258 0,088 0,148 0,165
Поляки 41,0 41,8 991 0,267 0,418 0,361 0,349
Литовцы 41,8 48,4 1278 0,279 0,484 0,432 0,398
Немцы 45,0 78,5 1331 0,333 0,785 0,443 0,520
Эстонцы 43,1 94,1 1753 0,302 0,941 0,519 0,587
Финны 44,3 98,3 2377 0,321 0,983 0,604 0,636
Латыши 45,0 85 1278 0,333 0,850 0,432 0,538
В среднем для этносов 1432,4 27,7 937 0,123 0,277 0,345 0,248
Подсчитано по: Антропов П.А. Финансово-статистический атлас России. СПб., 1898. Табл. 1; Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 2. С. 2-91, 134-175; Птуха М. Смертность 11 народностей Европейской России в конце XIX века. Киев, 1928. С. 36-43 и др.
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
425
доксально это звучит, именно черта оседлости в значительной мере
способствовала сохранению традиционного образа жизни и соответ-
ственно национальной идентичности российских евреев» (с. 417).
И.М. Супоницкая убеждена, что не может быть ни социальной
динамики, ни модернизации при крепостном праве по определению
(с. 382). “Если самоуправление - повинность и обязанность, - увере-
на она, - то это не самоуправление в современном понимании”
(с. 384). А если самоуправление - и право, и обязанность? Если ре-
бенок чистит зубы иногда по пожеланию, иногда по принуждению,
значит, это не гигиена? Россия не была оригинальной в этом отно-
шении, например, в некоторых германских государствах XVIII - пер-
вой половины XIX в. также действовала государственная концепция
самоуправления (кстати, в современных европейских странах мест-
ное самоуправление все более переходит от общественной к госу-
дарственной концепции)2. Однако и при господстве общественной
концепции местного самоуправления обязанность в нем участвовать
также существует, но по обычаю, как неписаная норма, и уклонение
от нее наказывается общественным мнением.
“В обществе, не перешедшем от обычного права к законода-
тельному, - утверждает И.М. Супоницкая, - едва ли могло возобла-
дать главенство закона” (с. 385). А как быть с Великобританией, где
до сих пор обычное право играет существенную роль в обществен-
ной жизни и где нет писаной конституции? Что делать с так называ-
емым конституционным обычаем (правилом, не санкционирован-
ным нормами государственного права, но применяемым в управле-
нии) в странах, воспринявших англосаксонскую правовую систему -
в Индии, Канаде, США и др. Точка зрения, согласно которой обыч-
ное право регулировало жизнь людей в традиционных (бесписьмен-
ных) обществах и правом в полном смысле не считалось, в настоя-
щее время пересмотрена. На Западе получила признание концепция
правового плюрализма, в соответствии с которой индивид даже в со-
временных развитых демократических странах является субъектом
не только государственного правового регулирования, но и обычно-
правового. Это прежде всего относится к этническим диаспорам,
различного рода субкультурам (молодежным, криминальным, рели-
гиозным и т.д.), фирмам и учреждениям. Будучи членом этнической,
субкультурной, профессиональной группы, семьи и т.д. он подчиня-
ет свое поведение сложившимся в них неформальным предписани-
ям, несоблюдение которых предполагает те или иные принудитель-
ные санкции со стороны соответствующего коллектива3.
Оппонент не допускает мысли о возможности развития россий-
ской бюрократии по веберовскому сценарию к рациональной бюро-
кратии до середины XIX в., потому что “рациональные отношения в
обществе, в том числе среди чиновничества, формируются вместе с
426
История России: Quo vadis?
рыночными отношениями, каковые в России при господстве нату-
рального хозяйства не могли появиться ни в XVIII в., ни в первой по-
ловине XIX в.” (с. 386). Даже если М. Вебер прав, то следует иметь
в виду, что российская экономика уже в конце XVIII в. не была на-
туральной: товарность сельского хозяйства составляла около
9-12%, а в середине XIX в. - 17-18% от чистого сбора земледельче-
ских продуктов4. Считается, что современная рациональная бюро-
кратия возникла вместе с капитализмом. Но весь капитализм не ро-
дился за шесть дней. И бюрократия прошла долгий путь развития,
прежде чем стала современной. Элементы рациональных отноше-
ний можно отметить до наступления капитализма среди и француз-
ских легистов, и испанских летрадос, и китайских чиновников. Поче-
му элементы рациональности не могли появиться в отношениях ме-
жду русскими чиновниками до победы капитализма? Только потому,
что они русские!?
Мои аргументы о возможности непрерывных социальных изме-
нений в России в XVII - первой половине XIX в., в условиях крепо-
стничества, рецензента не убедили. Но что делать с остальной Евро-
пой, где при крепостном праве социальная динамика в сторону раз-
вития гражданского общества и правового государства происходила,
или с США, где аналогичные социальные изменения наблюдались и
при широком господстве рабства? Получается, что Россия - это
страна и народ без истории. Это же совершенно алогично.
Почему И.М. Супоницкая категорически отторгает даже воз-
можность зарождения институтов нормального европейского обще-
ства в России: элементов самоуправления, гражданского общества и
правового государства? Могу только предположить, что рецензенту
мешают стереотипы. Когда они не мешают, новая информация вос-
принимается спокойнее.
Например, Л.М. Баткин в противоположность И.М. Супоницкой
главное достоинство книги видит в том, что “Миронов возвращает
России ее историю” (с. 394). С ним солидарна М.Ю. Парамонова,
констатируя, что “тезис о глубоких и очевидных изменениях русско-
го общества в течение указанного периода подкрепляется обшир-
ным фактическим материалом” (с. 403). Посмотрите, как А.Я. Гуре-
вич отнесся к тому, что я пишу о трудовой этике русских крестьян.
Он тоже, по его словам, взволнован, но не отвергает, хотя и не при-
нимает сразу моих выводов - он сомневается и размышляет.
Возможно, что вторая причина невнимания к моим аргумен-
там - недостаточное знакомство с книгой. Источниковедческий
анализ текста рецензии позволяет мне выдвинуть гипотезу, что оп-
понент ограничилась чтением введения, первой и заключительной
глав; остальные главы бегло пролистала, в лучшем случае познако-
милась с их выводами. При таком чтении вникнуть в мои аргумен-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России... 427
ты трудно. Я, конечно, не могу претендовать на то, чтобы ИЗО
страниц книги штудировались. Но в противном случае и оценки
должны делаться как-то осторожнее и аккуратнее. Ну, как, напри-
мер, можно заявить: “К сожалению, Б.Н. Миронов, используя инст-
рументарий современной социальной истории, не показал специфи-
ку развития России, обращая внимание преимущественно на ее
сходство с Западом”, если каждый затронутый в книге институт,
процесс, структура рассмотрены в историческом развитии за
200-250 лет на анализе новых источников, с привлечением основ-
ной отечественной и зарубежной историографии, т.е. показаны в
своей российской специфике? В том случае, если читалась только
заключительная глава, где содержатся общие выводы, в которых
российская специфика, объективно отраженная в самом исследова-
нии, оказалась несколько в тени, и общая картина предстала до не-
которой степени смещенной в сторону общего.
Серьезные претензии предъявлены мне и в отношении методо-
логии. Рассмотрим их по порядку.
Внешние изменения принимаются за процесс (с. 386). Я настаи-
ваю, что все социальные институты и структуры, затронутые в кни-
ге, изучены мною в единстве внутренних и внешних изменений. Под-
робно показано, что социальная структура общества подверглась
глубокой внутренней трансформации при внешней малоподвижно-
сти. Московское государство было бессословным и бесклассовым.
К концу ХУШ в. в России в основном сформировались сословия, ко-
торые к 1917 г. юридически утратили важнейшие специфические
привилегии и превратились в пока еще не полноценные классы.
Прослежено, как в течение XVIII - начала XX в. главные соци-
альные организации населения - сельская и городская общины, ку-
печеские, мещанские, ремесленные и дворянские корпорации - с
точки зрения структуры, функций, управления, межличностных от-
ношений, норм жизни с течением времени становились все более ра-
циональными, формализованными, полагающимися в своей дея-
тельности на твердые юридические принципы.
Установлено, что в течение XVIII - начала XX в. у всех сословий,
хотя и в разной степени, семья изменялась в направлении нуклеари-
зации и гуманизации семейных отношений: уменьшалось насилие над
слабыми в семье, устанавливался известный контроль со стороны об-
щества и закона за соблюдением интересов женщин и детей.
Показано применительно к каждой крупной социальной группе,
от дворянства до крестьянства, как эта группа постепенно раскрепо-
щалась, как крепостничество, пронизывавшее в начале XVIII в. все
общество снизу доверху, постепенно к началу XX в. уступало место
отношениям, основанным на личной свободе, договоре и признан-
ных законом сначала сословных, а потом и гражданских правах.
428
История России: Quo vadis?
Тщательно, шаг за шагом проанализирована эволюция, кото-
рую в течение императорского периода испытали город и деревня, в
частности, как и почему города из аграрных постепенно превраща-
лись в торгово-промышленные, как происходило размежевание го-
рода и деревни в административном, социальном и экономическом
отношениях, как изменялась социальная и экономическая структура
городского и сельского населения.
Обстоятельно изучено, как развивались в XVIII - начале XX в.
государственное, уголовное, гражданское и процессуальное право.
Прослежены изменения, которые приводили к установлению как
власти закона над человеческим произволом, так и превосходства
закона над обычаем, к отделению судебной власти от администра-
тивной, к признанию за каждым человеком равного права на судеб-
ную защиту, к росту гражданских прав населения.
Шаг за шагом, с точки зрения легитимности и политических
представлений различных социальных групп, роли отдельных госу-
дарственных структур и сословий, проанализировано развитие рос-
сийской государственности в XVII - начале XX в., как она из абсо-
лютной монархии начала XVIII в. превратилась в де-юре правомер-
ную монархию во второй четверти XIX в., в де-юре конституцион-
ную монархию в 1906 - феврале 1917 г., в де-юре демократическую
парламентскую республику в марте-октябре 1917 г.
Столь же подробно изучено взаимоотношение общества и госу-
дарства и становление гражданского общества от его зарождения в
последней трети XVIII в. до возникновения основных его элементов
в начале XX в., после установления в России де-юре конституцион-
ного строя.
История России втискивается в западные схемы, которым
она не соответствует (с. 389). “В ней (России. - Б.М.), - по мнению
И.М. Супоницкой, - не развились отличительные признаки Запада:
институт частной собственности, право, индивидуализм. Сильная го-
сударственность не знала оппозиции церкви и общества, как на За-
паде, а православная церковь не испытала Реформации. Из-за нераз-
витости городов и торговли в России оказался малочисленным сред-
ний слой - основа демократического общества, включающий наибо-
лее активных граждан. До XX в. в стране вместе с крестьянской об-
щиной преобладали коллективистские ценности, что помешало (и
до сих пор мешает) России перейти к обществу нового времени, хо-
тя дважды, в начале и в конце XX в., страна пыталась это сделать”
(с. 388).
Во-первых, я не использую никаких схем, а лишь анализирую
развитие изучаемых структур и институтов, и если оно напоминает
то, что происходило в остальной Европе в более раннее время, я
констатирую это сходство. Никакой подгонки и априорности. Ока-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
429
залось в большинстве случаев, что Россия повторяла развитие ос-
тальной Европы, в том числе в отношении утверждения приоритета
права, института частной собственности и признания гражданских
свобод. Кстати, это могло быть результатом того, что российская
верховная власть и элита весь период империи тщательно выстраи-
вали развитие страны по западноевропейскому сценарию, и все ре-
формы проводили по западным образцам. Рецензент не приводит
данные, которые опровергают такую траекторию социального раз-
вития России, и, несмотря на это, данный тезис отвергает.
Во-вторых, у И.М. Супоницкой, мне кажется, есть склонность к
графическому мышлению - для нее какой-то признак социальной
зрелости общества либо есть, либо нет. И если нет, то Россия - не
Европа. Но ведь история - это процесс. Прежде чем на Западе воз-
никло в развитом виде, например, гражданское общество (кстати, по
мнению социологов, в некоторых странах совсем недавно - во вто-
рой половине XX в.), правовое государство, рынок как регулятор
экономики, частная собственность и т.д., прошло много времени.
Так и в России. К 1917 г. принципиальные институты Запада в Рос-
сии не достигли зрелости, но все они появились, и я подробно выяс-
нил, как эти институты развивались и каких успехов в своем разви-
тии достигли к концу периода империи.
“В сравнениях с Западом Миронов использует только метод
аналогии, не рассматривая специфики, не учитывая разное содер-
жание явлений” (с. 380) Метод аналогии, как известно, состоит в
том, что на основе сходства одних признаков сравниваемых объек-
тов делается заключение о сходстве других признаков. У меня же,
как правило, сравниваются одни и те же признаки институтов и
структур в России и других европейских странах и на основании это-
го сравнения делаются выводы о сходстве или различии. При этом
вывод о сходстве модели и прототипа не распространяется на другие
институты и структуры, не участвовавшие в сравнении. Кстати, ме-
тод аналогии (при надлежащем его применении) предполагает имен-
но сравнение специфического содержания модели и прототипа.
“Умом Россию не понять, если целью исследователя является
терапия, а не истина”, - полагает оппонент (с. 389). Если бы
И.М. Супоницкая знала, как можно лечить, не понимая болезни, то
это было бы величайшим открытием. Боюсь только, что это невоз-
можно, как изобретение вечного двигателя.
Взгляд на Россию как на страну молодую “непозволителен”
после того, что случилось в XX в., считает уважаемый рецензент
(с. 382). Слово “непозволителен” как-то напоминает цензуру. Бу-
дем считать это неудачным выражением. Если же по существу, то
именно XX в. наиболее выпукло показывает, что Россия - страна
молодая, или, как говорят социологи и политологи, страна “второ-
430
История России: Quo vadis?
го эшелона”, или, как я предпочитаю говорить, европейская стра-
на другого часового пояса, над которой солнце христианской циви-
лизации взошло на несколько столетий позже, чем над западноев-
ропейскими странами. После известного зигзага Россия вполне
возвратилась в европейскую колею развития и буквально повторя-
ет то, что происходило в западноевропейских странах в более ран-
нее время. Да и в советские времена от европейской колеи Россия
далеко не отъезжала. В последние 20 лет в западной русистике сло-
жилось целое научное направление, которое находит в Советском
государстве элементы паневропейского “социального” государства
эпохи пост-Просвещения.
Наконец, последнее замечание оппонента состоит в том, что мое
исследование выходит за общепринятые рамки социальной истории:
темы государства и права к социальной истории непосредственно не
относятся (с. 381-382). Думаю, что и здесь И.М. Супоницкая ошиба-
ется. В “Энциклопедии социальной истории Европы” (т. 2) есть спе-
циальный отдел “Государство и общество”, в котором рассмотрены
те же проблемы, которые анализировал я, - эволюция типов господ-
ства, источники и легитимность власти, социальная опора, бюрокра-
тия и т.п.5 Девиантное поведение и социальный контроль, всегда
входившие в предмет социальной истории, невозможно изучать без
анализа права.
Итак, я не согласен с оценками И.М. Супоницкой. Но мне при-
ятно констатировать, что наши расхождения касаются в основном
оценочных и концептуальных обобщений, а не конкретного анали-
за, с которым она как будто согласна. Я чрезвычайно благодарен ей.
Ее бескомпромиссная критика все равно функциональна: не дает
расслабиться.
В другом ключе написана рецензия Л.М. Баткина. Он вступает в
диалог: рефлектирует, предлагает решения поставленных мною
проблем и задает новые вопросы. Кроме того, он настолько внима-
тельно познакомился с книгой, что сумел адекватно оценить ее со-
держание и понять, что книга действительно пытается возвратить
России ее историю. Ведь представления о застойности или маятни-
ковости российского исторического процесса до сих пор очень попу-
лярны в отечественной и зарубежной историографии.
Мне кажется верным понимание Л.М. Баткиным нормальности
применительно к России и вообще к любой европейской стране.
Уважаемый коллега артикулировал это точно и в то же время изящ-
но: «“Запад” дает классическую модель, точнее, набор достаточно
разных моделей, не будучи, как хорошо известно, идиллически од-
нородным и согласным внутри себя с первых шагов мутации и до на-
ших времен» (с. 395-396). И, на мой взгляд, нормальность и европей-
скость России следует понимать именно в рамках европейских аль-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
431
тернатив. За 300, а возможно, даже за 1000 последних лет истории
ничего не произошло в социальной истории России такого, чтобы не
произошло в какой-нибудь европейской стране. С XVIII в. и до
1917 г. Россия во всем мире рассматривалась как неотъемлемая
часть Европы; не вышло ни одного учебника по истории Европы,
где бы Россия не занимала видного места. После 1917 г. и особенно
в период “холодной войны” ситуация изменилась: Россия стала пер-
соной “нон грата” в Европе; последняя же стала идентифицировать-
ся с Западом. Россию стали постепенно от Европы отлучать, в зна-
чительной степени потому, что и сама Россия противопоставляла се-
бя Западу.
Положение в последние 15-20 лет стало вновь изменяться, но
стереотипы, сложившиеся в период “холодной войны” как в отече-
ственной, так и зарубежной историографии серьезно мешают это-
му. Конструирование Европы продолжается, и от современных ис-
ториков во многом зависит, войдет ли Россия в Европу, другими сло-
вами, будет ли общественное мнение Европы считать Россию ча-
стью Европы или нет. Ведь невозможно признать Россию органиче-
ской частью Европы, если в самой России в дискурсе о ее цивилиза-
ционной принадлежности ее таковой не признают. А европейская
самоидентификация, как и признание европейской идентификации
России со стороны всего мира, - это принципиально важно для Рос-
сии. Позиция “Одиссея” как одного из авторитетнейших изданий со-
временной России очень важна для историографии. В силу этого и
настоящий дискурс о европейскости России имеет большое значение
и будет иметь серьезные последствия.
Я вполне согласен с Л.М. Баткиным, что для понимания соци-
альной истории следовало бы призвать русских писателей и публи-
цистов (с. 396). Нельзя сказать, чтобы я этого не делал. Однако ме-
ня сдерживало убеждение, что прежде чем обращаться к дискурсу о
России, следует в позитивистских рамках и с позитивистской тща-
тельностью понять объект дискурса, конечно, отдавая отчет, что
нет объекта без субъекта.
Мне редко приходится общаться с А.Я. Гуревичем, которого я
безмерно уважаю и ценю. И я очень рад возможности подискутиро-
вать с ним на страницах “Одиссея” - его любимого детища. Начну с
того, что мне очень понравился эпиграф (из Бенкендорфа) к его за-
меткам и название рецензии - остроумно и оригинально, как все, что
он делает. Название я понимаю как призыв: пророком можешь ты не
быть, профессионалом быть обязан! Это очень актуально для совре-
менной России, где так много людей претендуют на роль пророка.
А.Я. Гуревич основное внимание уделил методологическим про-
блемам. Ему показалось, что я «избрал в качестве орудия синтеза,
определяющей идеи исследования, не антропологический ракурс
432
История России: Quo vadis?
рассмотрения, но понятие “модернизация”» (с. 399). Концепт модер-
низации действительно используется, в частности его базисные идеи
о направлениях трансформации традиционного, доиндустриального
общества в современное, индустриальное. Однако модернизация не
смешивается с урбанизацией, как показалось уважаемому рецензен-
ту. К тому же теория модернизации не главная моя исследователь-
ская стратегия, как почему-то некоторым кажется. По крайней ме-
ре все главные сюжеты, затронутые в моей книге: государствен-
ность, крепостное право, семья, русская община, демография, соци-
альная структура, преступность, общество - изучаются с позиций
культурной антропологии. Традиционно российская государствен-
ность рассматривалась как система, чуждая интересам народа, кре-
постное право и община - как институты, принудительно навязан-
ные государством сверху; сельская община считалась одними иссле-
дователями социальным атавизмом, другими - высшим социальным
достижением русского народа. Получалось, что самодержавие суще-
ствовало без твердой социальной опоры, в каком-то безвоздушном
пространстве, а базисные институты общества были чужды населе-
нию. Антропологический подход показал, что монархия, крепостное
право и община существовали на протяжении ряда веков потому,
что были укоренены в коллективном бессознательном, или в мен-
тальностях, и воспринимались обществом как законные, оптималь-
ные или даже единственно возможные. Я показываю, что действо-
вавшие институты и нормы не являлись внешними, навязанными
людям, просто вмененными или приписанными государством или
правом; они рождены в ходе взаимодействия всех действующих лиц
и являлись по существу договорными (контрактными) отношения-
ми. Крепостное право вводилось государством в своих фискально-
полицейских интересах, но в то же самое время и по желанию само-
го населения, которое вынуждено было платить налоги и повинно-
сти за убежавших; передельная община в XVIII-XIX вв. в тех рай-
онах, где ее до тех пор не было, вводилась государством в его собст-
венных интересах, но и по требованию бедных и средних крестьян,
которые хотели с помощью переделов конфисковать землю у бога-
тых; попытка ограничения самодержавия аристократией при Анне
Иоанновне не состоялась прежде всего по требованию дворянства,
хотя и претендент на трон против этого не возражала. Социальные
институты и сама политика самодержавия были результатом ком-
промисса, “переговоров”, неписаных договоров между различными
социальными группами и структурами и соответствовали их интере-
сам. Например, в главе “Главные социальные организации кресть-
янства, городского сословия и дворянства”, выявлена контрактная
сущность институционального устройства крестьянской и городской
общины, а также дворянских корпораций, показана заинтересован-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
433
ность всех социальных групп и государства в этих институтах, в си-
лу того что они на компромиссной основе удовлетворяли потребно-
сти всех заинтересованных сторон. В книге десятки страниц посвя-
щены выяснению того, что люди думали, как формулировали свои
представления о себе, помещиках, монархе, семье, обществе, общи-
не, свободе, крепостничестве, государстве, чтобы понять это колле-
ктивное бессознательное, которое определяло их политическое, со-
циальное, экономическое и демографическое поведение.
В то же время я глубоко убежден, что позитивистская парадиг-
ма изучения и написания истории не исчерпала себя и у нее есть бу-
дущее. В рамках этой парадигмы я пытался учесть и так называе-
мый “спектр социальных времен”, т.е. считался с тем, что на раз-
личных уровнях и в различных социальных структурах изменения
проходили разными темпами. Было установлено, что глубина об-
щинных отношений и их изживание, переход от обычного права к
писаному, изменения в семейной структуре и внутрисемейных отно-
шениях, демографический переход, эволюция политических пред-
ставлений, секуляризация сознания, перемены в трудовой этике
проходили с разной скоростью в среде различных сословий. В ре-
зультате три главных сословия - дворянство, городское сословие и
крестьянство из-за различных темпов социальной динамики в кон-
це XIX в. находились как бы на разных стадиях социального разви-
тия и социальной организации, жили в значительной мере в разных
социальных, правовых и культурных условиях, несмотря на то что
постоянно взаимодействовали и влияли друг на друга. Крестьянст-
во, составлявшее большинство населения, в массе своей проживало
в сельской общине, руководствовалось в основном обычным пра-
вом, передачу культурного наследства осуществляло устным путем
и т.д., т.е. существовало в условиях общности традиционного типа.
Городское сословие к началу XX в. в значительной мере изжило об-
щинные отношения, но отдельные его группы - купцы, мещане и
ремесленники - в разной степени. Дворянство и разночинная интел-
лигенция практически не знали общинной организации частной и
общественной жизни и в начале XX в. уже жили по законам совре-
менного гражданского общества, т.е. в условиях равенства возмож-
ностей, приоритета заслуг перед рождением, открытости и социаль-
ной мобильности, главенства закона; психологически они были го-
товы к социальным переменам, к жизни в условиях демократии и
разделяли концепцию прогресса6.
Разделяю озабоченность глубокоуважаемого А.Я. Гуревича сте-
пенью обоснованности моего вывода о позитивной роли крепостно-
го права в процессе модернизации российского общества в период
империи. Сознаюсь, и я был крайне озадачен полученным результа-
том. Но я далек от того, чтобы провозгласить лозунг “Да здравству-
28 Одиссей, 2006
434
История России: Quo vadis?
ет внеэкономическое принуждение!”. Дело в том, что принуждение
имело экономический и модернизационный эффект на сравнитель-
но коротком промежутке’ времени - в XVIII - первой половине
XIX в. В этот период, с одной стороны, у крестьян не было достаточ-
ных ни внутренних, ни внешних стимулов ни к цивилизации (в элиа-
сианском смысле), ни к модернизации, ни к развитию производства
выше потребительско-минималистского предела (удовлетворявше-
го минимальные биологические потребности). С другой стороны, у
государства и дворянства была острая необходимость в модерниза-
ции страны и увеличении государственных доходов, а у помещиков
также и в росте личных доходов. К середине XIX в. принуждение,
во-первых, морально устарело в глазах значительной части русской
общественности и самих помещиков, во-вторых, стало малоэффек-
тивным средством в чисто инструментальном смысле, что послужи-
ло одним из факторов отмены крепостного права.
Не обошел я вниманием и специфический тип отношения к тру-
ду, который, совершенно справедливо указывает А.Г. Гуревич,
явился одним из важнейших принципов новоевропейской цивилиза-
ции. После Великих реформ 1860-х годов, когда внутренние и внеш-
ние стимулы появились, а принуждение потеряло смысл, трудовая
этика начала постепенно и очень медленно трансформироваться в
буржуазную. Более подробно этот вопрос рассмотрен в специаль-
ных работах, где, кстати, упомянуто, что в страдную пору крестьяне
трудились, не считаясь ни с временем, ни с затратой сил7. Я согласен,
что при анализе трудовой этики аргументация, опирающаяся только,
на фольклор, не может считаться достаточной, поэтому использова-
ны другие источники. Однако фольклор, по крайней мере в русских
условиях XVIII - начала XX в., на мой взгляд, является важным ис-
точником для характеристики трудовой этики.
Упрек в том, что недостаточно внимания уделено той роли, ка-
кую играла православная церковь в переустройстве крестьянской и
городской жизни в период империи, справедлив, но лишь отчасти.
В книге отмечена роль церкви в отмене крепостного права, в разви-
тии сословного строя и уголовного права, в демографических про-
цессах, в эволюции семейного строя и государственности8. Конечно,
этому сюжету можно было бы уделить и больше внимания. Но бо-
юсь, что тогда бы роль церкви оказалась преувеличенной. Дело в
том, что в период империи лидером модернизации в России было го-
сударство, а не церковь; последняя выступала скорее фактором sta-
tus quo, а не социальных изменений.
Вполне согласен с А.Я. Гуревичем, что процесс цивилизации оп-
ределялся прежде всего изменениями в интеллектуальной и эмоцио-
нальной жизни людей, в их системе ценностей и диктуемом ею соци-
альном поведении. Именно поэтому проблеме изменения менталь-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
435
ностей, в том числе и под влиянием церкви, уделено достаточно мно-
го места9.
Остановлюсь еще на одном важном замечании. «Хочет историк
того или не хочет, - полагает А.Я. Гуревич, “идеальный тип” - про-
ект исследования - присутствует в его сознании с самого начала. Тот
этап истории России, современником коего является автор, не мо-
жет не создавать перспективы, в которой он рассматривает про-
шлое. В этом отношении не стоило бы оставлять в заблуждении ни
себя, ни читателя» (с. 402).
Я никогда не говорил и не писал, что у меня не было проекта.
Проект, конечно, был, как и подробное оглавление с тезисами по
каждой главе. В проекте были именно “гнев и пристрастия” из-за от-
сутствия оптимистической перспективы. Однако содержательные
результаты проекта настолько разошлись с тем, как я их представ-
лял до начала работы, что я изменил название, вернее добавил прин-
ципиальный подзаголовок, в котором артикулировалась главная, на
мой взгляд, тенденция социального развития России в период импе-
рии. Оптимистическая перспектива родилась после завершения трех
глав, посвященных развитию государственности, гражданского об-
щества и права. До работы над “Социальной историей” этими сюже-
тами я занимался мало, и мои представления были достаточно сте-
реотипными - правят не законы, а люди, в политическом и граждан-
ском отношении - бег на месте, перманентное подавление общест-
венности, личности и закона и т.п. Изменение взглядов на эти воп-
росы и создало оптимистическую перспективу всему исследованию.
Думаю, что большую роль в укреплении моего исторического опти-
мизма сыграла проходившая в России перестройка.
В лице М.Ю. Парамоновой моя концепция, а в некоторых случа-
ях и методология встретили серьезного оппонента, с которым инте-
ресно и продуктивно дискутировать, что естественно, учитывая ее
опыт в методологических и сравнительно-исторических исследова-
ниях. По мнению моего уважаемого оппонента, тезис о европейско-
сти России нельзя считать доказанным, потому что «концепты и по-
нятия, описывающие реалии европейского общества нового време-
ни и средневековья, применяются Б.Н. Мироновым для характери-
стики реалий русской истории без достаточно убедительного обос-
нования семантической аутентичности подобного присвоения
“имен”» (с. 404,406).
Правда, М.Ю. Парамонова приводит только один пример такого
спорного, по ее мнению, присвоения имен - при использовании по-
нятий “сословие”, а на другие намекает. Боюсь, что уважаемый оп-
понент не имела возможности внимательно познакомиться с глава-
ми “Главные социальные организации крестьянства, городского со-
словия и дворянства” и “Крепостное право от зенита до заката”. Я не-
436
История России: Quo vadis?
присваиваю важным признакам социальных групп сословные назва-
ния “самоуправление”, “права, закрепленные в законе”, “сословное
самосознание”, “сословная организация”, “внутренняя интеграция”;
я маркирую их черты как сословные после тщательного анализа ре-
алий их внутренней жизни. Причем я беру не какие-то произволь-
ные и второстепенные признаки, а именно те, которые считаются в
социальных науках признаками именно сословий, а не классов или
каст. Другими словами, я сравниваю идеальный тип (в веберовском
смысле) сословной организации общества с русскими реалиями и
только после сравнительного анализа выношу диагноз о сословно-
сти.
Идеально-типологический анализ, как известно, - общеприня-
тый методологический прием, введенный М. Вебером. Его сторон-
ников следует отнести не к реалистам, так как они не приписывают
общим понятиям самостоятельной онтологической реальности, и не
к номиналистам, так как они не утверждают, что универсалии суще-
ствуют только в мышлении, а с некоторой натяжкой к концептуали-
стам, так как они полагают, что универсалии воспроизводят объеди-
няемые в человеческом уме (в идеальном типе) сходные признаки
единичных вещей.
Вместе с тем я разделяю сомнения оппонента в отношении со-
словности крестьян, так как тоже считаю крестьянство наименее со-
словным из всех сословий, т.е. в наименьшей степени соответствую-
щим идеальному типу сословия10. Согласен и с тем, что мой анализ
сословности желательно углубить, показав, в какой степени меха-
низмы и нормы социального поведения, групповой аутентичности и
корпоративной солидарности, сложившиеся в Западной Европе, со-
ответствовали принципам формирования групповой и сословной
идентичности в русском обществе. Идеально было бы сравнить
структуру и функционирование конкретных сословных организаций
в России и европейских странах в разные эпохи. Но это специальная
и очень сложная задача. И здесь много подводных камней. В частно-
сти, сословность российской социальной структуры возникла под
влиянием западноевропейских образцов очень поздно - в конце
XVIII в., когда на Западе она деградировала, и, возможно, была бо-
лее похожа не на ту сословность, которая была в классическом
Средневековье, а на умирающую сословность XVIII в.
Аналогичным образом я сравниваю идеальный тип правового
государства с российской государственностью в разные эпохи, иде-
альный тип гражданского общества с реально существовавшим
российским обществом, идеального веберовского чиновника с ре-
альными российскими чиновниками и т.д. и делаю вывод о степени
приближения российских реалий к идеальному типу. Я обнаружил,
что правовое государство сложилось в России к 1917 г. только де-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
437
юре, а не де-факто (между двумя этими состояниями расстояние в
несколько поколений); гражданское общество вообще не сформи-
ровалось к 1917 г., хотя некоторые его структурные элементы поя-
вились в конце XVIII в., а все основные элементы: общественное
мнение, независимая пресса, массовые общественные организации и
партии, наличие механизма для мирного разрешения социальных
конфликтов в виде Государственной думы - к концу периода импе-
рии; российский чиновник к 1917 г. сильно приблизился к идеально-
му типу, но все же был от него еще на приличном расстоянии.
В силу изложенного мне трудно согласиться с М.Ю. Парамоно-
вой, что я “безоговорочно” принимаю постулат о соответствии рос-
сийской модели социального развития западной парадигме и что не
столько его доказываю, сколько риторически и логически его под-
тверждаю (с. 403). На самом деле оговорок так много, что некото-
рым кажется, будто они и сам тезис дезавуируют. Кроме того, кни-
га великовата, чтобы служить только цели презентация символа ве-
ры. В ней много фактов, которые доказывают соответствие россий-
ской модели социального развития европейской.
Мне представляется продуктивным предложение М.Ю. Парамо-
новой - известного знатока средневековой религиозности в России и
на Западе заменить мое весьма краткое, в несколько фраз, описание
русской народной религиозности11, полным и всесторонним анали-
зом, включив в него исследование таких проблем, как методы воз-
действия церковной культуры на социальное сознание, содержание
и смысл религиозного наставления, исходящего со стороны духовен-
ства, степень дисциплинирующего влияния этического кода церков-
ной культуры на стихийно формирующиеся нормы традиционного
поведения, рациональный и последовательный анализ системы от-
ношений между церковной и традиционной культурами в России.
Особенно нуждается в объяснении следующий факт: как при фор-
мальной, поверхностной, пронизанной суевериями религиозности
подавляющей части крестьянства, вся крестьянская жизнь оказалась
подчиненной нормам церковно-православного учения.
Второе принципиальное возражение М.Ю. Парамоновой состо-
ит в том, что для доказательства европейской идентичности России
автор использует уязвимые “логические подпорки” (с. 407—408).
(1) «Автор практически приравнивает две логические оппозиции:
“традиционное общество - современное общество” и “средневековое
европейское общество - современное европейское общество”». Дей-
ствительно в теории модернизации указанные две логические оппо-
зиции приравниваются, можно сказать по умолчанию. Кто пользует-
ся концептом “модернизация”, вынужденно делает то же самое.
(2) «Европейское средневековье вовсе не было, как полагает
Б.Н. Миронов, всего лишь колыбелью “модернизма”, его детством
438
История России: Quo vadis?
и инкубационным периодом». То, что европейское средневековье -
это совершенно конкретный, локально, хронологически и типоло-
гически поддающийся описанию феномен, не противоречит тому,
что оно - колыбель “модернизма”. На этот счет в социальных нау-
ках есть разные точки зрения, и точка зрения уважаемого оппонен-
та не является и не может быть нормативной.
(3) «“Европейская” парадигма, заданная началом русской исто-
рии, тем более отождествляемая с “византинизмом”, вызывает сом-
нения». Европейские корни русской истории, соотношение “евро-
пейской” и “византийской” традиций и степень включенности Древ-
ней Руси в круг последней - спорные проблемы. Дискуссия по ним
никогда не закончится уже только по недостатку источников и гло-
бальности проблемы. Каждый исследователь всегда будет прини-
мать индивидуальное решение, основанное в значительной степени
на интуиции, интеллектуальной ориентации, самоидентификации и
вере. Как сомнения оппонента, так и мое мнение одинаково уязви-
мы, но имеют право на существование.
Должен также заметить, что рецензируемая книга посвящена
новой и новейшей истории, в то время как сомнения, высказанные
М.Ю. Парамоновой, по больше части относятся к более раннему
времени. Я не мог с той же полнотой и тщательностью, как это сде-
лано для периода империи (хотя и это, конечно, нельзя считать ис-
черпывающим), рассмотреть затронутые мной проблемы за 1000
лет российской истории. Поэтому пользовался работами моих кол-
лег, где нет ясности ни по одной из затронутых уважаемым оппонен-
том проблеме. Что же касается XVIII-XX вв., то в этот период Рос-
сия, на мой взгляд, несомненно повторяла развитие остальной Евро-
пы уже потому, что верховная власть и российская элита, как уже
говорилось выше, весь период империи тщательно выстраивали раз-
витие страны по западноевропейским образцам. Но я согласен, что
три принципиальных вопроса: (а) был ли российский доимперский
социум вариантом европейского социума, (б) явился ли он колыбе-
лью российского модернизма периода империи или нет, (в) следова-
ла ли Россия в течение двухсотлетнего периода империи по европей-
ской траектории в соответствии со своими внутренними интенциями
или по воле верховной власти и элиты - остаются дискуссионными
и, думаю, навсегда таковыми останутся. Как всегда, спорными оста-
нутся и любые оценочные и концептуальные обобщения.
(4) “Неясно соотношение процессов европеизации и модерниза-
ции” применительно к России. Мой анализ показал, что европеиза-
ция и модернизация применительно к России периода империи озна-
чали одновременно и активное усвоение европейских образцов, и
все более последовательную реализацию исходной, европейской по
существу, культурной матрицы, а в некоторых отношениях и попыт-
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
439
ку привить институты и структуры европейской культуры на рос-
сийском теле.
Теперь о двух конкретных замечаниях М.Ю. Парамоновой. По
ее мнению, «магия слов и соблазн уподобить явления с помощью
единых понятий приводят и к совсем курьезным последствиям, в ча-
стности, автор полагает, что “крепостное право” и “передельная об-
щина” были в равной степени свойственны и европейскому и русско-
му обществу в период, предшествовавший полноценной модерниза-
ции» (с. 405). Уважаемый оппонент вслед за А.Я. Гуревичем счита-
ет, что в средневековой Европе не было крепостничества, так как
несвобода в то время не имела ничего общего с бесправием раба или
крепостного: зависимое крестьянство не было бесправно, его отно-
шения с господином регулировались обычаем, пользовалось эле-
ментами самоуправления12. Должен заметить, что эту точку зрения
разделяют далеко не все историки, в том числе и те 170 ведущих экс-
пертов по социальной истории из Европы и США, которые участво-
вали в фундаментальной “Энциклопедии социальной истории Евро-
пы”13. Их точка зрения мне представляется достаточно убедитель-
ной потому, что российские крепостные крестьяне (помещичьи, го-
сударственные, удельные и другие категории) даже в апогей крепо-
стничества не были совершенно бесправными, их отношения с гос-
подином так же регулировались обычаем, а с XVIII в. и законом; они
пользовались самоуправлением, имели некоторые гражданские пра-
ва (заключали сделки, платили налоги, призывались в армию, при-
носили клятву верности при восшествии на престол императора), но
они признаются крепостными. Что касается эксцессов и злоупот-
реблений крепостным правом, то ведь они встречались и на средне-
вековом Западе14.
Теперь о передельной общине. В данном случае уважаемый оп-
понент, по-видимому, несколько вольно интерпретирует одну мою
фразу: “Даже такие институты, как общинная собственность и пере-
делы, были известны во многих европейских странах в средние века,
а в некоторых регионах Австрии, Германии бытовали еще в XVIII -
начале XIX в.; в Норвегии общинная собственность дожила до на-
ших дней”15. Здесь речь идет только об общинной собственности и
переделах, причем не как об общеевропейском феномене, а как об
институтах, встречавшихся и в других, кроме России, обществах. На-
пример, переделы отмечены в Дании, Германии, Англии, Венгрии,
Галиции, Польше, Молдавии, Румынии и др.16; общинная собствен-
ность была распространена в еще большем числе социумов.
В целом должен признать, что диалог с М.Ю. Парамоновой по-
лучился для меня очень полезным, интересным и конструктивным.
Так бывает всегда, когда неидентичное мнение другого признается
за равное с собственным.
440
История России: Quo vadis?
Пожалуй, ни с одним рецензентом (а мне известно, что свое мне-
ние о книге печатно высказали более 70 человек) у меня не было та-
кого взаимопонимания как с А.Б. Каменским. Особенно мне импо-
нирует, что он разделяет мое “негативное отношение к широко рас-
пространенным представлениям об исключительности русской ис-
тории, в том числе о ее исключительной трагичности”, что он пра-
вильно понимает, что я имею в виду под “нормальностью”, хотя, я
согласен с ним, само слово требует описания “нормы”, что он, по-
добно мне, видит поступательное развитие русской государственно-
сти в направлении правового государства, а русского общества - в
направлении гражданского общества. И все же по некоторым вто-
ростепенным, на мой взгляд, вопросам у нас - и слава Богу! - есть
расхождения.
“Книга в действительности оказывается методологически уста-
ревшей, - считает он, - ибо, несомненно, написана в рамках тради-
ционной для русской историографии позитивистской парадигмы”
(с. 412). Не думаю, что позитивизм устарел. Вышел из моды - да.
А это не одно и то же. Большинство современных историков (в ми-
ровом масштабе, включая и Запад) работают в рамках позитивист-
ской парадигмы. Уверен, что каждый хороший историк любой ин-
теллектуальной ориентации, включая и культурного, или социаль-
ного, антрополога, должен быть также и позитивистом. Постмодер-
низм обогатил методологию истории, но вытеснить позитивистскую
методологию ему оказалось не под силу. Но и на постмодернизм мо-
да проходит.
Также вышла из моды, но не потеряла своей актуальности в со-
временной социальной науке и теория модернизации, которая от-
нюдь не является позавчерашним словом ни западной социологии,
ни западной славистики. Хотя теория была разработана в
1950-1960-е гг., она интенсивно развивалась в 1970-1990-е гг. и в со-
временной социологии в обновленном виде занимает важное, хотя и
не доминирующее, как прежде, положение, сосуществуя с другими
теориями. Многие современные социологи считают, что усовершен-
ствованная теория модернизации дает исследователю ориентиры
для объяснения процессов, происходящих как в прошлом, так и в на-
стоящем. Не только российские, но и западные историки достаточ-
но активно используют теорию модернизации.
К моему сожалению, и А.Б. Каменскому “резко бросается в гла-
за заданность” (с. 410). Значит, что-то в этом упреке все-таки есть,
хотя мне кажется, что работал я без заданности. Остается предполо-
жить, что известная доля априоризма присутствовала у меня на бес-
сознательном уровне.
Несколько слов к вопросу, который так волнует А.Б. Каменско-
го, об исключении из истории индивида как неизбежном следствии
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
441
обобщения. Дело, думаю, не в обобщении, а в методологии изучения
того или иного предмета и объекта. Социальная история по опреде-
лению более равнодушна к индивиду как таковому (я имею в виду не
только Иванова, Петрова или Сидорова, но также и Цезаря, Напо-
леона или Сталина), чем традиционная событийная, по преимущест-
ву политическая история. Социального историка интересуют массы,
а индивиды - как иллюстрации массы. Напротив, традиционную ис-
торию больше интересует отдельный человек, а массы - как прило-
жение его силы и воли или как среда, в который он действует и ко-
торая оказывает на него влияние. Мне, например, социальная исто-
рия нравится больше именно потому, что в ней меньше субъекти-
визма, больше объективности; ее выводы мне представляются на-
дежнее, убедительнее и весомее. На мой взгляд, выпускать на соци-
альную сцену отдельного человека опасно - в большинстве случаев
он говорит за себя и от себя, и есть вероятность его частное мнение
принять за голос социальной группы, сословия или класса, чем соци-
альная история в первую очередь интересуется. Поэтому я редко ра-
ботаю с индивидуумами. Но это не значит, что социальный историк
не чувствует индивида, его потребности, желания, интенции. Напри-
мер, благодаря большому опыту работы с цифрами, я и через циф-
ру, которая отражает массу, чувствую отдельных людей так же яв-
ственно, как если бы читал о них какой-нибудь нарратив. Тому, кто
боится потерять в толпе индивида, социальной историей заниматься
некомфортно и, возможно, противопоказано. Наоборот, кому не-
уютно и трудно работать с индивидом из-за непредвиденности его
поведения, тот охотно занимается социальной историей. Таким об-
разом, область, которую выбирает исследователь, - это дело склон-
ностей и выбора. Каждая сфера историографии по-своему искушает
и таит угрозы. Как говорит былина об Илье Муромце: “Во доро-
женьку-ту ехать - убиту быть, во другую-то ехать - богату быть, да
во третью-ту ехать - женату быть”.
Меня, как моего уважаемого коллегу, волнует вопрос: «Стоит
ли вообще пытаться создать универсальную, всеобъемлющую кон-
цепцию социальной истории России, зная, что уже созданная с таки-
ми усилиями концепция будет пересмотрена под влиянием новых
данных, а ее построение возможно лишь путем “спрямления” исто-
рии за счет индивидуального?» (с. 415). Но если у А.Б. Каменского
на этот вопрос нет однозначного ответа, то у меня есть - стоит! Соз-
дание такой работы не повредит ни ее автору, ни ее читателю. Ис-
тория, как ни обидно, фрагментируется. Обобщающие работы при
всей ограниченности возможностей отдельных авторов выполняют
необходимую интегрирующую функцию в науке, без них историки
перестанут друг друга понимать и друг другом интересоваться.
Нельзя забывать, что мы вооружены мощным оружием, которого
442
История России: Quo vadis?
не было у наших великих предшественников - компьютером и ин-
тернетом. Наконец, могут быть подготовлены хорошие коллектив-
ные работы, вкус к которым в советское время был отбит принуж-
дением и диктатом редакторов и директивных органов, по заданию
которых обобщающие труды, как правило, и писались. Но на Запа-
де коллективные работы успешно создаются, как об этом свиде-
тельствуют, например, “Энциклопедия социальной истории Евро-
пы” или “Социальная история Великобритании”17.
“Любая претендующая на универсальность объяснительная схе-
ма русской истории, - немного ностальгически говорит А.Б. Камен-
ский, - оказывается крайне уязвимой... Должно существовать по
меньшей мере несколько не исключающих, но дополняющих друг
друга научно обоснованных версий русской истории, ни одна из ко-
торых не может, как бы ни хотелось этого ее автору, претендовать
на абсолютную истинность” (с. 416). Совершенно согласен с уважа-
емым коллегой, что пророками хочется быть многим, но время их,
как кажется, прошло.
В заключение выражаю искреннюю признательность всем уча-
стникам дискуссии за интересный, полезный и конструктивный для
меня, а, возможно, и для других разговор. “Одиссей” - это не “Шко-
ла злословия”. Оказаться в компании острых, проницательных,
принципиальных и в то же время доброжелательных критиков - это
большое удовольствие, участие в такой дискуссии повышает уро-
вень адреналина в крови, волнует и стимулирует.
1 Здесь и далее указывается стр. из “Одиссея” за 2004, где опубликованы ре-
цензии. См.: История России: QUO VADIS? // Одиссей. Рыцарство: реаль-
ность и воображаемое. М., 2004. С. 378-422.
2 См., например: Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран.
М, 2000. С. 460-467.
3 Бенда-Бекманн К. Правовой плюрализм // Человек и право: Книга о летней
школе по юридической антропологии. М., 1999; Ковлер А.И. Антропология
права. М., 2002.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало
XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и
правового государства: 3-е изд. СПб., 2003. Т. 2. С. 524.
5 Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000 / Ed. Peter N. Steams.
N.Y., 2001. Vol. 2. P. 439-553.
6 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. С. 291.
7 Миронов Б.Н. “Послал Бог работу, да отнял черт охоту”: Трудовая этика рос-
сийских рабочих в пореформенное время И Социальная история. Ежегодник.
1998/1999. М., 1999. С. 243-286; Он же. “Всякая душа празднику рада”: Труд
и отдых в русской деревне второй половины XIX-начала XX в. И Проблемы
социально-экономической и политической истории России XIX-XX веков /
Отв. ред. А.Н. Цамутали. СПб., 1999. С. 200-210.
Б.Н. Миронов. Дискурс о европейскости России...
443
8 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. С. 98-110,
160-167, 327-344,363-365, 382-384,453^156,474-479; Т. 2. С. 326-332.
9 Там же. Т. 1. С. 327-344.
10 Там же. С; 141.
11 Там же. Т. 2. С. 301.
12 Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
С. 243-244.
13 Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000. Vol. 2. P. 369-388. Cm.
также: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург,
2005. С. 277.
14 См. например: Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 259.
15 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. С. 300.
16 История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1 / Отв. ред.
З.В. Удальцова. М., 1985. С. 104; Там же. Т. 2 / Отв. ред. М.А. Барг. М., 1986..
С. 481; Blum J. The End of the Old Order in Rural Europe. Princeton, 1978.
P. 123-124; Idem. The European Village as Community: Origins and Functions //
Agricultural History. 1971. Vol. XLV. См. также: The Peasantries of Europe: From
the Fourteenth to the Eighteenth Centuries / Ed. T. Scott. Oxford; Cambridge (Mass),
1998; Rosener W. The Peasantry of Europe. L.; N.Y., 1994.
17 Cambridge Social History of Modem Britain 1750-1950 / Ed. F.M.L. Thompson.
Cambridge, 1990. Vol. 1-3.
РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ
Л.П. Лаптева
У ИСТОКОВ ТРАГЕДИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славя-
новедение (1917 - начало 30-х годов). М., 2004.
Работа М.А. Робинсона “Судьбы академической элиты: отечествен-
ное славяноведение (1917 - начало 30-х годов)” посвящена исследо-
ванию положения российских ученых в первые полтора десятилетия
после Октябрьской революции 1917 г. Эта монография повествует
об участи российских ученых-славистов в годы, когда постепенно
подготавливались обвинения дореволюционных ученых в антисо-
ветской деятельности, вылившиеся, в частности, в печально знаме-
нитое “дело славистов”. Эта трагическая история была освещена в
работе “Дело славистов в 30-е годы” Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова,
опубликованной в 1994 г., в которую были включены исследование
и документальные свидетельства фактического разгрома россий-
ского славяноведения. Рецензируемая монография М.А. Робинсона
является по содержанию хронологическим предшественником ука-
занной книги Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова.
Как известно, процесс взаимоотношений советской власти с рос-
сийской академической наукой закончился почти поголовным физи-
ческим уничтожением ученых-гуманитариев дореволюционного по-
коления, осуществленным с помощью сфабрикованных каратель-
ными органами обвинений. В отличие от работы Ф.Д. Ашнина и
В.М. Алпатова, основанной на материалах следствия по “делу слави-
стов” из архивов бывшего КГБ СССР, книга М.А. Робинсона имеет
другую источниковую базу. Автор проанализировал письма почти
60 отечественных ученых, преимущественно славистов, а также их
коллег - представителей других гуманитарных специальностей.
Кроме того к исследованию привлечены дневниковые записи, вос-
поминания, документы актового характера, исходящие из Академии
наук, высших партийных инстанций и пр. Вся корреспонденция из-
влечена автором из архивов, главным образом Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, и представляет собой ранее неизвестный или малоизвест-
ный материал. На наш взгляд, использованная в книге корреспон-
Рецензии и рефераты
445
денция, несмотря на некоторую ее субъективность, естественную
для этого вида исторического источника, обладает более высокой
степенью достоверности в отображении реальных событий по срав-
нению с материалами следственного дела. Последние основаны на
допросах обвиняемых, проводившихся с применением морального и
физического насилия, результатом чего были оговоры самих себя и
наговоры на других обвиняемых. В письмах, как правило, содержат-
ся откровенные суждения по политическим вопросам, ясно сформу-
лировано отношение ученых к новым методологическим и идеоло-
гическим предписаниям послереволюционных властей.
В фокусе изучения М.А. Робинсона находится судьба славян-
ской филологии и ученых, представлявших ее во втором отделении
Российской академии наук - в Отделении русского языка и словес-
ности (ОРЯС), после Октябрьской революции. Вопрос этот в на-
шей историографии не изучен, а между тем ОРЯС в досоветский
период было главным центром славистических исследований в
России. Однако к области славяноведения в начале XX в. относи-
лись не только филологические исследования - изучение славян-
ских языков, литератур, древних памятников письменности и т.п.,
но и исследования истории славян, их культуры и духовной жизни
во всех ее проявлениях с древности и до современности. Между тем
о славистах-историках, также членах Академии, в том числе и по
ОРЯС, в книге не говорится почти ничего, хотя автору следовало
бы, видимо, учесть, что отечественное славяноведение включает в
себя и творчество историков-славистов. В силу этого позволим се-
бе отметить, что понятие “славяноведение”, использованное в на-
звании, перекрывает содержание исследования М.А. Робинсона,
фактически ограничивающегося сферой филологии и кругом уче-
ных-филологов.
Описываемый в книге процесс уничтожения гуманитарной нау-
ки и ликвидации ее кадров в области славяноведения может быть, на
наш взгляд, разделен условно на три этапа. Первый из них приходит-
ся на 1917-1925 годы. Февральскую революцию либеральные рус-
ские ученые восприняли сочувственно, посчитав ее освобождением
России от прежнего деспотизма и началом строительства новой жиз-
ни. С течением времени, однако, настроения изменялись, во многом,
под влиянием объективной ситуации: война продолжалась, в стране
господствовала анархия, осложнилось продовольственное положе-
ние в городах. Русские войска отступали, немецкие продвигались в
сторону столицы. Общество радикализировалось и в провинции.
“Россия пропала - это ясно!” - писал А.А. Шахматов В.М. Истрину.
Либерально настроенные ученые восприняли октябрьский перево-
рот отрицательно. Они в целом были принципиальными противни-
ками всякой революции: резко осуждая правые и националистиче-
446
Рецензии и рефераты
ские партии, видели в действиях социалистов в период между февра-
лем и октябрем 1917 угрозу государственному единству.
Первые шаги пришедших к власти большевиков вызвали страх
и потрясение, равно как и сопровождавшая их социальная ситуация:
народ был охвачен психозом, громил, грабил и уничтожал историче-
ские и культурные ценности. Н.П. Лихачев писал В.И. Срезневско-
му: “Вы спрашиваете, как я думаю спасать мои книги и музей. Да ни-
как! Думали увозить сокровища культуры и древности от немцев, а
теперь вся Россия в руках таких стенько-разинцев и пугачевцев, ис-
требляющих накопленные поколениями блага. Куда и что увозить?
У меня девять человек детей и я с ужасом думаю, что с ними будет.
И бежать-то некуда... В Москве в самом Кремле разбили Патриар-
шую Ризницу и уничтожили часть древнего Дворцового архива... ку-
да идти дальше” (с. 24).
Новые власти довольно быстро начали вторгаться в сферу выс-
шего образования и работу учреждений, идеологически чуждых но-
вому строю, в том числе Академии наук. Закрывались прежние жур-
налы и издательства, задерживалось печатание книг. «Теперь наука
взята под сомнение... Разве нужно чему-нибудь учиться, когда мож-
но штыками достать “всё”? ... Я описал все рукописи Городского му-
зея. Хотел приступить к семинарским, но семинарию заняла “крас-
ная армия”, и я слышал - началось уже разорение библиотеки. Нет
возможности бороться с тёмными неграмотными людьми, убежден-
ными, что наука и особенно о старине есть “буржуазное занятие”.
Такой темноты, какая теперь поднялась со дна жизни, - я никогда
не видел, хоть и живал в деревне», - писал В.И. Перетц (с. 26). Мно-
гие ученые после первой (1905 г.) революции в России состояли чле-
нами политических партий, преимущественно партии кадетов.
В 1918 г. начались их аресты. Так был арестован академик А.И. Со-
болевский. Ситуация на юге России отражена в письме Н.П. Конда-
кова А.А. Шахматову из Одессы от 5 июля 1919 г.: “...последние аре-
сты профессоров Доброжанского, Вилинского, Раненкампфа, Груз-
дева, Вальтера навели на университет тяжелый кошмар. И.А. Лен-
ниченко не был арестован только потому, что не ночевал дома, за-
державшись в гостях долее положенного осадным положением сро-
ка. В ночь со 2 на 3 июля в его квартиру вошли 6 солдат с офицером
и должны были ограничиться только протоколом, не найдя И.А. до-
ма, но потребовали от нас сообщить ему записку о явке в Чрезвы-
чайную комиссию на другой день. Это было исполнено, и А.И. на ут-
ро принял эту записку и, объявив, что идет туда, ушел. С того вре-
мени мы, как и семьи других арестованных, ничего о них не знали.
Ранее арестованный бывший профессор Левашов расстрелян”
(с. 29). Расстрелян был также и профессор Киевского университе-
та - крупнейший славист-историк Т.Д. Флоринский. С начала сентя-
Рецензии и рефераты
447
бря 1919 г. начались массовые аресты в Академии наук и Петро-
градском университете. 6 сентября 1919 г. из университета в Нар-
компрос был направлен список профессоров и преподавателей аре-
стованных по ордерам ЧК. Среди 13 перечисленных ученых только
один был не гуманитарием. Приведенные примеры показывают, что
советская власть решительно избавлялась не только от политиче-
ских противников, но и тех, чья лояльность просто вызывала сомне-
ния, жестоко преследовала всех инакомыслящих. Революция и гра-
жданская война привели не только к гибели огромного количества
книжных собраний в сгоревших усадьбах, но и в городах многие би-
блиотеки перестали существовать, а книги из них или распылились,
или сгорели, или были употреблены на макулатуру. Лишились биб-
лиотек и некоторые русские университеты - в Ростове, Воронеже,
Перми.
Преследования со стороны советской власти проходили в тяже-
лейших для всей страны условиях. С 1917 г. наступил голод. Так 19
января 1918 г. А.А. Шахматов писал В.М. Истрину: “Здесь голод и
вообще Петроград - город обреченный. В Москве, говорят, условия
не лучше” (с. 65). Кроме того, как правило, не молодые и неприспо-
собленные к бытовым заботам ученые страдали от других лишений.
А.А. Шахматов писал А.Ф. Кони: “Ко всем прочим занятиям приба-
вились домашние хлопоты, прямо-таки меня изнуряющие, прихо-
дится топить самому печи, и только недавно нашелся студент, кото-
рый согласился колоть и таскать дрова” (с. 68). А ученик А.Н. Собо-
левского Н.М. Карпинский писал 11 декабря 1918 г.: “Терпим и го-
лод и холод. В Петрограде жизнь делается невыносимой. Достать
что-либо крайне трудно... Освещение в тех квартирах (как у меня),
где нет электричества, отсутствует. Вот догорает последняя свеча и
я остаюсь во тьме. В квартире у меня холод 7-9°, вчера было даже
5, отчего в руках и ногах ревматизм... Я ослабел и измотан нравст-
венно” (с. 69). Очередная зима приносила новые проблемы, в част-
ности с топливом. Шахматов жаловался Д.Н. Ушакову в письме от
11 января 1920 г.: “Работаю урывками. Много времени отнимают у
меня дрова: мне пришлось доставлять их пилить и колоть”. Перетц
в это же время писал Истрину: “Страдаем от отсутствия топлива; я
совсем истратился на дрова” (с. 77). “Топить комнаты мы не мо-
жем, - писал Шахматов Д.К. Зеленину 21 февраля 1920 г., - дров
хватает только на кухню и на комнату рядом с кухней; в остальных
комнатах температура держится на 3-4°. Радуюсь и этому, во многих
квартирах температура ниже 0°” (с. 78).
М.А. Робинсон отмечает, что в рассматриваемый период не было
человека в кругу научной элиты, кто бы не страдал от голода, холода
и болезней, хотя степень жизненных испытаний была различной.
Ученые и члены их семей в сущности просто вымирали. В 1919 г.
448
Рецензии и рефераты
умерли академик А.С. Лаппо-Данилевский, крупнейший источнико-
вед и специалист по истории средневековой Руси и ученик Н.П. Кон-
дакова Я.И. Смирнов. В конце лета 1920 г. скончался А.А. Шахматов.
Большая смертность в интеллигентских кругах была вызвана недое-
данием и сыпным тифом. Во втором полугодии 1920 г. русская слави-
стика понесла самые серьезные потери. ОРЯС потеряло двух акаде-
миков и одного члена-корреспондента, в том числе председателя От-
деления А.А. Шахматова, директора рукописного отдела Историче-
ского музея В.И. Щепкина и академика И.С. Пальмова, специалиста
по истории церкви. Так в лице своих крупнейших представителей
“физически” исчезала славянская филология в России, продолжате-
лей дела старшего поколения было немного, - молодые и здоровые
либо уезжали за границу, либо участвовали в Гражданской войне.
После окончания Гражданской войны бытовые условия профессуры
мало изменились; хотя введение новой экономической политики в
сфере экономики несколько облегчило “продовольственный вопрос”,
но в целом положение ученых оставалось бедственным; вскоре, наря-
ду с иными возникла и жилищная проблема: профессорам пришлось
столкнуться с процессом “уплотнения” жилплощади. Лишь начиная с
1925 г., материальное положение ученых, оставаясь в целом весьма
низким по сравнению с дореволюционной ситуацией, все-таки стаби-
лизировалось на терпимом уровне.
Начинается второй этап выживания академического сообщест-
ва и объединявших его научных учреждений, отмеченный откры-
тым давлением властей на Академию наук. Это давление сопровож-
далось кампаниями ожесточенной травли ученых дореволюционной
генерации и внедрением в Академию партийных функционеров.
В это же время из преподавания в вузах было вытеснено не только
славяноведение, но и традиционное языкознание в целом, а потому
ученые старой школы были вынуждены покинуть сферу универси-
тетского образования.
Характеризуя условия существования российских ученых, автор
рецензируемой работы пишет: «...материальные трудности пресле-
довали большинство ученых на протяжении всего послереволюци-
онного пятнадцатилетия. Угроза голодной смерти, перспектива за-
мерзания в собственной квартире, “уплотнение” периодически воз-
вращались, лишь видоизменяя свои формы. Старшее поколение, до-
стигшее к 1917 г. определенного материального благополучия,
крайне тяжело переносило сложившееся положение, особенно пер-
вого послереволюционного пятилетия. Организованная властями
система пайков, безусловно, способствовала выживанию научной
элиты страны... Но никакие пайки не спасали от холода зимой и тя-
желой физической работы по отапливанию квартир. Именно она
чаще становилась конечной причиной смерти ученых» (с. 134).
Рецензии и рефераты
449
Быть может, было бы целесообразно подчеркнуть, что револю-
ция уравняла элиту общества и основную массу населения в услови-
ях жизни, ограничив и тех и других в удовлетворении даже мини-
мальных жизненных потребностей, и решила таким специфическим
образом проблему “социальной несправедливости”, предполагав-
шей право интеллигенции на ряд существенных социальных и мате-
риальных привилегий.
Несмотря на тяжелейшие условия жизни многие ученые продол-
жали заниматься научной работой - завершали ранее начатые ис-
следования, строили планы на будущее. Отдав всю жизнь научной
деятельности, они просто не могли существовать иначе и именно в
работе находили утешение. Более того, сохранившая энергию часть
академического сообщества оказывала решительное сопротивле-
ние, тайное или открытое, новым методологическим течениям, ко-
торые внедрялись в науку советскими властями. Основой для всех
отраслей знания был объявлен марксизм, специфическими произ-
водными которого стали такие идеологизированные научные тече-
ния, как социологизм в литературоведении и так называемая “шко-
ла Покровского” в исторической науке. Для славистики во многом
насильственное внедрение этих новых научных построений имело
негативные последствия.
Процессу развития и укоренения в научной среде этих новых
подходов и реакции на них со стороны ученых старой академиче-
ской школы М.А. Робинсон посвящает отдельную главу, красноре-
чиво озаглавленную «“Новая религия” вместо науки: противники и
сторонники» (с. 144-190).
История возникновения и содержания одного из таких учений -
так называемого марризма, достаточно широко освещена в отечест-
венной научной литературе, в том числе и в публикациях последних
десятилетий1. Вместе с тем М.А. Робинсон в своем исследовании
приводит новые данные, показывающие, что учение о языке - “яфе-
тидология”, выдвинутое академиком Н.Я. Марром в начале 20-х го-
дов, встретило решительное неприятие со стороны наиболее круп-
ных языковедов-славистов. Как известно, “учение” Марра полно-
стью отрицало все предшествующее языкознание. По мнению
М.А. Робинсона, “оно наносило удар” по классической филологии в
особенности. Теория Марра отрицала существование определенных
языковых семей, и, следовательно, уничтожала важнейший признак
родства славянских народов - родство языковое (с. 147). Автор при-
водит свидетельства того, что такие ученые, как В.Н. Перетц, ви-
зантинист С.А. Жебелев, В.П. Бузескул, М.Н. Сперанский и другие,
1 Наиболее значительная, на наш взгляд, работа на эту тему: Алпатов В.М. История
одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
29 Одиссей, 2006
450
Рецензии и рефераты
воспринимали новую теорию лишь как курьез, но высказывали свои
суждения в письмах, не имея отваги, да и возможности заявить о них
публично. Более решительно и определенно высказывались уехав-
шие за границу русские лингвисты, которым ничто не угрожало.
М.А. Робинсон приводит яркую выдержку из письма Н.С. Трубецко-
го к P.O. Якобсону от ноября 1924 года: «...статья Марра превосхо-
дит все, до сих пор написанное им, - констатирует Н.С. Трубецкой. -
Но “пригвоздить” ее рецензией - трудно. Во-первых, негде, а во-вто-
рых, по моему глубокому убеждению, рецензировать ее должен не
столько лингвист, сколько психиатр. Правда, к несчастью для науки,
Марр еще не настолько спятил, чтобы его можно было бы посадить
в желтый дом, но что он сумасшедший, это, по-моему, ясно... Даже
и по форме статья типична для умственно расстроенного. Ужасно
то, что большинство этого пока еще не замечает» (с. 148). Крупный
специалист в области сравнительного языкознания, славист
А.И. Томсон в письме к Б.М. Ляпунову от 5 июня 1927 г. подробно
разобрал учение Марра с точки зрения собственно “яфетизма”. Он
отмечал, что марровские приемы доказать родственность таких
языков как, например грузинский и немецкий, “не научны, фанта-
стичны” и с подобными “фантастическими сближениями спорить не
приходится”.
Но, как показано в книге М.А. Робинсона, не только представи-
тели старшего поколения не принимали марризма. В феврале 1929 г,
лингвист-востоковед Е.Д. Поливанов выступил в подсекции матери-
алистической лингвистики Коммунистической Академии в Москве с
докладом, в котором доказал полную несостоятельность притязаний
“марризма” как на лингвистическую ценность, так и на марксист-
скую его принадлежность. Единственным ученым, поддержавшим
Поливанова оказался славист Г.А. Ильинский. Вскоре он писал об
этом Б.М. Ляпунову: “...а тут я еще недавно имел неосторожность
выступить в здешней Коммунистической академии вместе с
небезызвестным Вам Е.Д. Поливановым на диспуте о пресловутой
яфетической теории, причем с полной откровенностью высказал
свое мнение об этой фантасмагории” (с. 154). Позиция Поливанова
встретила решительное осуждение, а “неосторожность” Ильинского
вылилась в запрет Н.Я. Марром печатать его “Праславянскую грам-
матику”, над которой автор трудился много лет. В отзыве на книгу
Ильинского Марр писал, что она не выходит за пределы формаль-
но-сравнительной школы языкознания, а методологически стоит це-
ликом на позициях идеалистической лингвистики. Марр считал, что
«даже массовый читатель с совершенной наглядностью убедится в
бессилии формально-сравнительного метода разрешить важнейшие
проблемы языкознания и безнадежность того тупика, в который за-
вел этот метод так называемое “славяноведение”» (с. 165). Так круп-
Рецензии и рефераты
451
нейший русский лингвист-славист поплатился за свободу высказы-
вания научного мнения. Книга его пропала - судьба рукописи доны-
не неизвестна. Впоследствии сам Ильинский был обвинен в антисо-
ветской деятельности и в 1937 г. расстрелян. Однако число оппонен-
тов “марризму” постепенно уменьшалось, и это направление одер-
жало полную победу. Кроме “марризма” активно развивалось и так
называемое социологическое направление в литературоведении, о
чем также идет речь в рецензируемой книге.
В главе “Ученые эмигранты и российская славистическая эли-
та” М.А. Робинсон освещает вопрос о контактах между эмигриро-
вавшими из России и оставшимися на родине славистами-филоло-
гами. Из анализа переписки по этому поводу видно, что в таких
контактах нуждались обе стороны. Находившиеся в Советской
России ученые, по идеологическим и другим причинам утратившие
возможность публикации на родине своих ранее подготовленных и
вновь написанных работ, искали такие возможности за рубежом.
Кроме того, советские ученые утратили возможности книгообме-
на со своими зарубежными коллегами и были заинтересованы в
информации о состоянии науки вне России. Эту информацию им и
доставляли русские эмигранты. Последние, в свою очередь, также
испытывали потребность в контактах с оставшимися на родине
коллегами. Уехавшие за границу ученые лишились Источниковой
базы для своих исследований, а также той интеллектуальной атмо-
сферы, которая создается в живом общении специалистов и стиму-
лирует новые направления научного поиска. Хотя жизни уехавших
за границу ученых ничто не угрожало, бытовые и моральные усло-
вия их существования были далеко не самыми комфортными.
Большинство русских эмигрантов-славистов осело в зарубежных
славянских странах, где им пришлось столкнуться с иными тради-
циями и порядками академической жизни, с чуждым менталите-
том. Жизнь показала, что романтической идее “славянской взаим-
ности” история нанесла очередной удар, многие русские слависты
окончательно в ней разочаровались, и связь с утраченной родиной
была для них большим утешением.
Русские эмигранты поддерживали голодающих в России про-
фессоров и академиков продуктовыми посылками, посылали кни-
ги, журналы и другую специальную литературу. В виду того что
книги по славянской филологии, опубликованные в России, в За-
падную Европу не поступали, эмигранты стремились установить
связи с Российской Академией, с университетами и отдельными ли-
цами с тем, чтобы получать информацию о научных публикациях.
И хотя эти попытки, как правило, были безуспешны - российские
учреждения на запросы эмигрантов не отвечали, а частные письма
доходили до адресатов не всегда, - потребность в научном общении
452
Рецензии и рефераты
не уменьшалась. Особую активность в этом отношении проявлял,
как видно из материалов, собранных М.А. Робинсоном, известный
лингвист P.O. Якобсон и бывший приват-доцент Петербургского
университета М.Р. Фасмер, ставший в Лейпцигском (а позднее в
Берлинском) университете ординарным профессором славянской
филологии. Фасмер основал новый журнал “Zeitschrift fur slavische
Philologie”, в который стремился привлечь как представителей тра-
диционного академического славяноведения России, так и более
молодых коллег.
Отметим, что научные связи советских ученых со славистами-
эмигрантами в указанной главе освещены неполно. История россий-
ской научной эмиграции в современной литературе изучена доста-
точно подробно, и недоступность для автора архивов тех стран, где
проживали уехавшие из России ученые, о чем упоминается в книге,
можно было компенсировать уже опубликованными материалами.
В частности, почти все письма В.А. Францева проанализированы в
статьях и очерках о нем. Было бы весьма полезно использовать тру-
ды немецкого историка XX в. В. Цейля о Фасмере и его контактах с
русскими учеными после эмиграции из России. Имеется также соот-
ветствующая литература и о деятельности А.Л. Погодина. Создает-
ся впечатление, что, увлекшись анализом ранее не обнародованной
переписки ученых, М.А. Робинсон упустил из виду тот факт, что не-
которые из писем уже введены в научный оборот его предшествен-
никами по изучению русской эмиграции.
Указанной четвертой главой книги завершается изложение ма-
териала о положении “академической элиты” в целом в первое деся-
тилетие советской власти. Далее М.А. Робинсон характеризует
творчество и политическую позицию отдельных ученых. Отдельная
глава (глава V: “В.Н. Перетц и его научная школа”, с. 229-285) по-
священа фигуре В.Н. Перетца. Большое место в этом разделе отве-
дено вопросам о личных взаимоотношениях ученика и учителя. Ав-
тор считает, что изучение этого вопроса позволяет выяснить про-
цесс передачи научных традиций и продолжения дела, начатого
предшествующим поколением. Проблема научной преемственности
представляется весьма важной в контексте истории отечественного
гуманитарного знания. В частности, хорошо известные последствия
репрессий в отношении славистов, приведшие к ликвидации этой от-
расли знаний, обусловили тот факт, что при возобновлении интере-
са к изучению славян в период Второй мировой войны советской на-
уке пришлось начинать практически с нуля и понадобился не один
десяток лет, чтобы в отечественной славистике стали появляться со-
чинения, имеющие некоторое научное значение.
В.Н. Перетц был специалистом по древней русской литературе
и письменности, изучал апокрифы, легенды, народную словесность.
Рецензии и рефераты
453
Будучи профессором Киевского университета, он создал семинарий
по своему предмету, из которого вышла целая школа исследовате-
лей, действовавших уже в советское время. В книге М.А. Робинсона
рассмотрена деятельность этого семинария, повествуется об избра-
нии самого В.Н. Перетца в 1913 г. академиком РАН по ОРЯС и о ро-
ли ученого в судьбе его учеников. Основной источник исследовате-
ля - личная переписка - содержит множество подробностей, позво-
ляющих выяснить специфику внутренних отношений в Академии
наук, своеобразие взаимных контактов между отдельными учеными
с их противоречиями, враждой и дружбой и т.д. Книга М.А. Робин-
сона в целом выразительно воссоздает атмосферу, сложившуюся в
научной среде как до революции, так и в послереволюционное вре-
мя. Сам же В.Н. Перетц представлен как талантливый ученый и пе-
дагог, вполне заслуживающий созданного ему М.А. Робинсоном ли-
тературного памятника.
Весьма ценным представляется и очерк, посвященный К.Я. Гро-
ту. Творчество этого известного русского слависта, в рассматривае-
мый период - единственного из первого поколения учеников
В.И. Ламанского, изучено недостаточно, и потому исследование
М.А. Робинсона (Гл. VI: “К.Я. Грот и отношение нового славянове-
дения к предшественникам”) можно оценить как существенный
вклад в изучение истории отечественного славяноведения.
К.Я. Грот, в отличие от других представителей старшего поколения
ученых, враждебно относившихся к Октябрьской революции, хотел
быть полезным в “новом обществе”, не прекращал активно зани-
маться исследовательской работой и интересоваться научной жиз-
нью. Основываясь на размышлениях Грота, изложенных им в 1930 г.
в записке “Мой взгляд на переживаемую эпоху” (опубликованной в
приложении книги на с. 390-397) М.А. Робинсон констатирует, что
лояльное отношение старого славянофила к современной власти оп-
ределялось его мировоззрением. По мнению автора, К.Я. Грот пола-
гал, что установившийся новый социальный строй обеспечивает ре-
шающую роль в государственном управлении народа в лице рабочих
и крестьянства, о чем он мечтал еще в дореволюционный период.
Положительно относился Грот и “к основной идее социализма имен-
но: безусловного равенства и братства людей и бессословности, -
так как такое мировоззрение вполне совпадало с моими христиан-
скими религиозными воззрениями или, вернее, с моими нравствен-
ными принципами в понимании религии не в смысле той или другой
церковности или исповедания, а в смысле веры в какое-то высшее,
непостижимое человеческому уму начало” (с. 391).
Эти строки писались в период, когда научная интеллигенция не
только была лишена свободы творчества, но и многие ее представи-
тели были осуждены и направлены в ссылку или лагеря. Грот лично
454
Рецензии и рефераты
наблюдал жестокое преследование церкви и размышлял, почему во-
жди и проповедники начал современного социализма преследуют
учение Христа, основанное на тех же социальных идеалах (с. 292).
Вскоре после написания своих “размышлений” Грот на себе почув-
ствовал ошибочность многих своих взглядов, в частности, обнару-
жив, что задержка с публикацией его статей стала мотивироваться
отсутствием в них марксистского подхода.
По-иному выразил свое лояльное отношение к советской вла-
сти младший ученик В.И. Ламанского В.Н. Кораблев. Желая занять
определенное место под “солнцем социализма”, Кораблев отрекся
от всего, чему поклонялся раньше. В 1933 г. он прочитал в Инсти-
туте славяноведения доклад под названием “Славяноведение на
службе самодержавия” (из деятельности академика В.И. Ламанско-
го) (текст доклада по архивному списку опубликован в книге
М.А. Робинсона на с. 398-413). В этом докладе В.И. Кораблев “за-
клеймил” реакционную сущность творчества своего учителя и, взяв
на вооружение марксистские постулаты классового подхода, объя-
вил все дореволюционное славяноведение наукой, всегда служив-
шей интересам господствующих классов и являвшейся орудием
классовой борьбы в их руках. “Наука в царской России, - утверждал
В.И. Кораблев, - всегда носила определенную политическую окра-
ску, всегда была сугубо политична, служа интересам господствую-
щих классов и целям правительства” (с. 400). Но ни текст доклада,
ни планировавшаяся В.И. Кораблевым монография о Ламанском
опубликованы не были. В 1934 г. органами ОПТУ было сфабрико-
вано “Дело славистов”, Кораблев арестован, во время допросов ого-
ворил себя и многих других арестованных по этому делу, был осуж-
ден и умер в лагере в 1936 г.
Другим “перебежчиком” в лагерь марксистов, по мнению
М.А. Робинсона, был Ю.В. Готье, который в статье “Славяноведе-
ние в СССР” оценивал В.И. Ламанского как идеолога самодержавия
и сторонника захватнических стремлений русского националистиче-
ского шовинизма. “Ученики Ламанского, являясь в своей историче-
ский деятельности представителями реакционных течений, оказы-
вали отрицательное влияние на судьбу русского славяноведения во-
обще” (с. 304), - писал Ю.В. Готье. “Приспособленцем” к новым ус-
ловиям был и В.И. Пичета, который с точностью повторил оценку
русского славяноведения, данную Ю.В. Готье, включая и текстовое
совпадение. Вероятно, эта “правильная классовая позиция” В.И. Пи-
четы способствовала тому, что он стал во главе кафедры истории
славян, учрежденной в Московском университете в 1939 г., а затем
сыграл ведущую роль в создании Института славяноведения АН
СССР. В настоящее время ученики В.И. Пичеты объявили его
“классиком советского славяноведения”.
Рецензии и рефераты
455
Но всех превзошел в приспособленчестве академик П.С. Держа-
вин. В свое время он не только одобрял оценку Кораблевым Ламан-
ского и всего русского дореволюционного славяноведения, но и ре-
комендовал его работу для публикации. Однако, в 1944 г., когда по-
явилась перспектива создания Института славяноведения и Держа-
вин надеялся занять определенное место в иерархической системе
Академии, он подготовил доклад к 30-летней годовщине со дня
смерти В.И. Ламанского, который, по мнению М.А. Робинсона,
можно отнести к жанру панегирика. Текст этого доклада не был
опубликован; М.А. Робинсон обнаружил его в архиве Державина
(с. 306). Теперь академик утверждал, что Ламанский был ученым-гу-
манистом, деятельность которого образует целую эпоху в развитии
русского славяноведения и одну из выдающихся страниц в истории
русско-славянских, международных отношений. Особой заслугой
Ламанского Державин считал, что он вырастил целую плеяду учени-
ков, сделавшихся впоследствии выдающимися русскими учеными
славяноведами (с. 306-307).
Таким образом, приведенные примеры показывают, что не
только органы советской власти уничтожали славяноведение как
специальную отрасль знаний, но в этот процесс внесли свою посиль-
ную лепту и некоторые ученые-слависты. Такой вывод, хотя и не
сформулирован в книге, но логически вытекает из ее содержания.
Впрочем, тенденцию к “сотрудничеству” с властями проявляли не
только представители славянской филологии, но и другие предста-
вители научной интеллигенции, не одобрявшие в душе новые поряд-
ки. Советская власть использовала это сотрудничество до опреде-
ленного момента, а затем заменила старый состав РАН собственны-
ми ставленниками, - представителями новой, марксистской идеоло-
гии, как правило, партийными кадрами, в массе своей необразован-
ными и невежественными, зато преданными делу коммунизма, боль-
шевистской партии и ее вождям.
Третий период в послереволюционной судьбе академической
элиты связан с процессом реформирования ОРЯС, ликвидацией са-
мостоятельности этого отделения РАН, а также изменением соста-
ва академии в результате выборов 1929 г. Эти события рассматри-
ваются М.А. Робинсоном в двух последних главах книги: «Реформи-
рование “Отделения родного языка”» и «Начало конца “старой
Академии”».
Это был третий этап уничтожения славистов, принадлежащих
дореволюционной научной традиции. В указанных главах наряду с
основным источником исследования - личной перепиской, автор ис-
пользует и другие исторические свидетельства: решения советской
власти, партийные документы и публицистику. Так, резолюция III
Всесоюзного съезда научных работников провозглашала, что
456
Рецензии и рефераты
“идеологический нейтралитет, как и нейтралитет политический, со-
вершенно недопустим в условиях борьбы за строительство социа-
лизма”. Пропагандисты решений съезда утверждали, - говорит да-
лее М.А. Робинсон, - что существует некая группа ученых, которая
воплотила и сконцентрировала в себе все традиции старой капита-
листической школы, весь быт и уклад капиталистического строя.
Группа эта количественно мала, но идеологически вредна своим
влиянием, и необходимо “разоблачение ее реакционной сущности,
скрывающейся иногда за нейтралитетом и даже лояльностью”
(с. 359). Впрочем, к концу 30-х годов советская власть справилась с
этим “вредным влиянием”. Из 35 академиков гуманитарного профи-
ля к середине 30-х годов 15 человек умерли, остальные были репрес-
сированы и окончательно ликвидированы в 1937-1938 гг.
Книга М.А. Робинсона - явление уникальное. Она вскрывает
трагическую судьбу ученых, попавших в революционный кругово-
рот и трагедию самой науки - славянской филологии в России.
В то же время монография вызывает ряд соображений. Прежде
всего, представляется сомнительной тенденция оценивать исключи-
тельно негативно все процессы российской истории послеоктябрь-
ского периода. Содержание рецензируемой книги не позволяет сде-
лать иного вывода, нежели категорическое осуждение политики со-
ветской власти в отношении науки, культуры и просвещения. Такой
подход стал модным в определенной части публикаций, однако, на
наш взгляд, историк не должен следовать за модой, он обязан объе-
ктивно и диалектически оценивать явления, отказавшись от эмоций
и личных пристрастий. Между тем, эмоциональный и мировоззрен-
ческий радикализм присутствуют в системе авторских суждений.
Хорошо известно, что в дореволюционной РАН и в частности в
ОРЯС весьма сильными были консервативные тенденции. Так, в те-
чение десятилетий обсуждалась реформа правописания на русском
языке, так называемый вопрос “с ером или без него”. После рево-
люции вопрос модернизации правописания был решен весьма быст-
ро. Нельзя забывать и о том, что именно в первые годы советской
власти были созданы алфавиты для многочисленных бесписьмен-
ных народов Российского государства, которым таким образом был
открыт путь к грамотности и созданию собственной литературы.
Эта безусловно значимая и в социальном, и в научном плане работа
могла быть осуществлена только силами лингвистов и филологов,
воспитанных до революции и востребованных в новой политической
системе. Общеизвестно, что до революции Россия была страной
почти поголовной неграмотности населения. Всеобщее бесплатное
обучение в школах, его обязательность для детей с 8-летнего воз-
раста, а так же так называемые “ликбезы” для взрослых тоже были
плодами революции. А выполняли функцию учителей лица, окон-
Рецензии и рефераты
457
чившие дореволюционные учебные заведения, которым в свое вре-
мя знания передавали в том числе и представители академической
элиты. В дореволюционной России практически отсутствовало выс-
шее женское образование. Высшие женские курсы, существовавшие
при немногочисленных университетах, готовили несколько десят-
ков учительниц и акушерок из девиц состоятельных родителей.
В университеты женщины не допускались. До революции была в
России лишь одна женщина-магистр, О.А. Добиаш-Рождественская,
да и то потому, что получила во Франции степень доктора по вспо-
могательным историческим дисциплинам. В 1918 г. она же стала
первой и единственной женщиной - доктором всеобщей истории.
Еще в 1923 г. академик Перетц тщетно добивался для своих учениц
места в Петербургском университете, где не доставало кадров, при
этом две из них были магистрами. Как писал Перетц М.Н. Сперан-
скому: «Тут не без антифеминистического движения, которым отли-
чались тут давно: один видный университетский деятель при рассмо-
трении заявления одной особы женского звания года два тому назад
выразился: “Довольно с нас бабья”. Хорош стиль! А мужеск пол у
нас - весьма малограмотен» (с. 265).
Революция 1917 г. открыла женщинам двери университетов и
других высших учебных заведений. Она провозгласила полное рав-
ноправие женщин во всех сферах жизни и деятельности. Впрочем,
как известно, равноправие оказалось далеко не полным. Но что ка-
сается высшего образования для женщин, то эту функцию револю-
ция выполнила: в нашем обществе женщин с высшим образованием,
как показывает статистика, значительно больше, чем мужчин - на-
пример, аудитории гуманитарных вузов заполнены процентов на 80
особами женского пола. Революция, как показывает исторический
опыт, может многое разрушить, но она же открывает возможности
и для новаций. На все эти соображения наталкивает знакомство с
книгой М.А. Робинсона, интересной и весьма ценной для понимания
истории отечественной науки.
ЮБИЛЕИ
К СТОЛЕТИЮ
ЛЕОНИДА ЕФИМОВИЧА ПИНСКОГО
Шестого ноября 2006 года исполняется сто лет со дня рождения Ле-
онида Ефимовича Пинского - замечательного литературоведа и
мыслителя, скончавшегося 26 февраля 1981 года.
Для тех, кому выпало счастье слушать Леонида Ефимовича в
30-е годы в ИФЛИ, в сороковые в МГУ или в других вузах, его лек-
ции были не только центральным событием учебного процесса, но и
важнейшим фактором формирования базовых мировоззренческих и
нравственных ценностей, о реальности которых наглядно свиде-
тельствовала личность Леонида Ефимовича, его постоянное проти-
востояние господствовавшим в те годы стереотипам идеологии и мо-
рали. Несомненно и читатели его книг в последующих поколениях
черпают и будут черпать в них не только профессиональные знания,
но и жизненно важные идеи, образующие систему ценностей, дефи-
цит которых столь остро ощутим в современном обществе. Именно
поэтому его юбилей представляется сегодня культурно и нравствен-
но значимым.
Внешние события жизни Леонида Ефимовича укладываются в
довольно типичную для интеллектуала его поколения схему: учился,
работал (преподавал), воевал, сидел в тюрьме и отбывал в лагере де-
сятилетний срок, сократившийся наполовину благодаря смерти Ста-
лина. Не приняла его советская система и после реабилитации. Не на-
шлось для него места ни в Университете, ни в Институте мировой ли-
тературы - там прочно обосновались люди серые, готовые во всем
соответствовать требованиям официальной идеологии, царил, по вы-
ражению Е.М. Мелетинского, “закон уровня”. Но Леонид Ефимович
вполне отвечал этой системе взаимностью, он отнюдь не стремился
“вписаться”, а жил “гуляя сам по себе”, думал, работал, писал. Почти
всё, изданное им, написано именно в послелагерные годы.
Родился Леонид Ефимович в белорусском городке Брагине. Педа-
гогическую деятельность начал очень рано: в юности учительствовал
в селе, а по окончании филологического факультета Киевского уни-
верситета преподавал в Молдавском педагогическом институте укра-
инскую литературу, которая стала темой его первых публикаций.
В аспирантуре Леонид Ефимович учился в Москве, в педагоги-
ческом институте, носившим тогда имя Бубнова (впоследствии рас-
стрелянного наркома просвещения). Темой его аспирантских студий
Юбилеи
459
стала литература Ренессанса. И это не случайно. Культура эпохи
Возрождения была близка Леониду Ефимовичу по духу. Он и сам
был в каком-то смысле человеком “ренессансным”, с широкими ин-
тересами, страстным темпераментом, острым чувством человече-
ского достоинства.
В Ученых записках Института им. Бубнова опубликованы две
его работы: “Божественная комедия Данте” (1935) и “Реализм Воз-
рождения” (1937). Но главной темой его аспирантских исследований
был Рабле, которому он и посвятил свою кандидатскую диссерта-
цию. Леонид Ефимович очень любил Рабле, ему импонировал дух
раскрепощения, свободы и тот целительный смех, который, как
позднее о том напишет Леонид Ефимович, «приводит читателя к
очищению от самого “страха” перед злом жизни и от “сострадания”
всему недостойному самой жизни»1.
По окончании аспирантуры Леонид Ефимович начал читать
курс западноевропейской литературы: Средние века, Возрождение,
XVII-XVIII вв. Сначала в Курске, а с 1938 года в ИФЛИ, во время
войны преобразованного в филологический факультет МГУ. Лео-
нид Ефимович с иронией вспоминал, как в своих ранних лекциях в
годы жесточайшего террора проповедовал телемский идеал свобо-
ды: “Делай, что хочешь”.
Такой парадокс симптоматичен для ИФЛИ конца 30-х годов.
С одной стороны, учиться там было очень интересно, поскольку
еще работали серьезные, честные ученые, обеспечивавшие высокий
уровень преподавания и культуры. С другой - на собраниях непре-
рывно клеймили за “потерю бдительности” детей арестованных ро-
дителей или друзей арестованных однокашников (однажды аресто-
вали целую группу за какую-то “вольнодумную” дискуссию на семи-
наре), поощряли доносительство и “прорабатывали” за неосторож-
ные критические высказывания, тем самым не только “промывая
мозги” студентам, но и ломая их нравственно, а то и психически.
Когда началась война, Леонид Ефимович записался доброволь-
цем в ополчение, но вскоре был отозван с фронта для преподавания
в МГУ. Не будет преувеличением сказать, что он был всеобщим ку-
миром, на его лекции приходили, независимо от расписания, студен-
ты всех отделений, считавшие его своим единственным учителем.
Мне повезло. Я училась на том курсе, где Леонид Ефимович в
44-45 годах в последний раз читал развернутый курс западноевро-
пейской литературы Средних веков, Возрождения, XVII-XVIII вв.
Читал щедро, не жалея сил, не скупясь на дополнительные часы.
Перед первой лекцией Леонид Ефимович, давая список реко-
мендованной литературы, огорошил нас, объяснив, что студентам,
не читавшим Библию, на западном отделении делать нечего.
А большинство студентов того времени не только не читали, но про-
460
Юбилеи
сто в глаза не видели Библию. Это был шок. Далее, он предупредил,
что перед лекцией необходимо прочесть текст, о котором будет ид-
ти речь, “с карандашом в руках”, т.е. фиксируя свои мысли и наблю-
дения. И действительно, слушать его лекции, не изучив предвари-
тельно текст, означало очень многое в них упустить. А какой радо-
стью было услышать от него четко сформулированные собствен-
ные мысли! Это была настоящая школа литературоведческого ис-
следования.
Когда, однажды, захлебнувшись в “отменно длинных” романах
XVIII в., мы не успели прочесть перед лекцией “Новую Элоизу” Рус-
со, Леонид Ефимович, знавший об этом через свою “агентуру” - же-
ну, покойную Евгению Михайловну Лысенко, учившуюся на нашем
курсе, войдя в аудиторию, спросил: «Поднимите руку, кто прочел
“Новую Элоизу”». Поднялись 3-4 руки. “Я снимаю лекцию о Новой
Элоизе”. А на экзамене, лукаво улыбаясь, спрашивал: «Вы тоже не
читали “Новую Элоизу”?».
Методология его лекций основывалась на историческом подхо-
де, ничего общего не имевшим с принятым тогда в литературоведе-
нии отзывчивом к конъюнктуре примитивным социологизировани-
ем. В одной из своих работ Леонид Ефимович так формулирует за-
дачу историка литературы: показать “как в истории искусства про-
исходит художественное открытие, переход конкретной националь-
но-исторической ситуации в тему общечеловеческого значения”2,
В его лекциях удивительно органично научный историзм сочетался
с тончайшим анализом образной ткани произведения. По природе
прежде всего мыслитель, философ, Леонид Ефимович в то же вре-
мя обладал замечательным эстетическим восприятием. Заворажи-
вал он слушателей не артистизмом и не красотами красноречия. Го-
ворил медленно, как бы с трудом. Но речь его сама по себе эстети-
чески увлекала, так как в ней на глазах у нас происходил живой про-
цесс рождения и формирования мысли.
Однако, главное, что составляло уникальную ценность его лек-
ций, как впоследствии и его работ - это их нравственный пафос.
Анализируя произведения, он подводил к пониманию их общечело-
веческого, вневременного значения.
В лекциях Леонида Ефимовича всегда содержался некий мес-
сидж, заставлявший думать над проблемами экзистенциально значи-
мыми. Он не прибегал к поверхностным аллюзиям и дешевым наме-
кам, но разворачивал перед нами нравственную проблематику, рез-
ко диссонировавшую, а порой просто несовместимую с моральным
кодексом сталинской России. Леонид Ефимович откровенно игнори-
ровал существовавшие в те годы неписанные правила игры, позво-
ляя себе глубинную критику тогдашнего режима в лекциях в косвен-
ной форме, а в жизни, в частных разговорах со студентами совер-
Юбилеи
461
шенно открыто. На вопрос одного коллеги, как он позволяет себе
говорить студентам то, что думает, Леонид Ефимович ответил: “Я
говорю не все, что думаю, но только то, что думаю”.
Вспоминаются его рассуждения о высвобождающей, терапевти-
ческой функции смеха у Рабле, о величии свободной, героической
натуры и рождении личности в трагедиях Шекспира, о том, что, как
показал Вольтер в “Истории одного брахмана”, человек создан для
чего-то большего, чем счастье, для того, чтобы быть человеком,
что высшая цель не счастье, а достойное существование. Интерпре-
тируя формулу Вольтера “Надо возделывать свой сад”, Леонид
Ефимович пояснял, что во времена подлые “возделывать свой сад”
означало прежде всего нести ответственность за собственную лич-
ность и собственные поступки. В причудливом поведении Манон Ле-
ско он раскрывал проблему дезинтеграции личности на “я” и “не я”,
а в истории Вильгельма Майстера - право на заблуждения, через ко-
торые проходит человек на пути к истине. Помнится, как 8 мая
1945 г., под гром победных салютов, заполнившие до отказа аудито-
рию студенты, не поднимая головы, в течение нескольких часов слу-
шали и записывали “культовую” лекцию Леонида Ефимович о
“Племяннике Рамо”: о трагизме “разорванного сознания” и утраты
человеческого достоинства.
Чрезвычайно интересными бывали резюме Леонида Ефимовича
на семинарах. У нас на курсе он вел семинар по Мольеру, к которо-
му, как и ко всем формам работы со студентами, относился чрезвы-
чайно серьезно, контрастируя и в этом с царившей на факультете
халтурой. В программу семинара входили доклады-сопоставления
пьес Мольера с произведениями других писателей на сходную тему.
Подытоживая дискуссию о “Тартюфе” в сопоставлении с “Селом
Степанчиковым” Достоевского, Леонид Ефимович рассуждал о при-
роде лицемерия, которое у Тартюфа всего лишь маска, ее еще мож-
но отделить от лица, но в позднейшее время она прирастает к лицу,
превращая человека в подобие луковицы, состоящей из слоев масок
без сердцевины.
Отношение к Леониду Ефимовичу на факультете было нескры-
ваемо враждебным. Коллеги завидовали его популярности у студен-
тов, а, вероятно, и мужеству свободно мыслить и оставаться верным
себе. “Вышестоящие и власти предержащие” чувствовали его “несо-
вместимость” с принятыми стереотипами. Возглавлявшие кафедру
Металлов, а потом Самарин откровенно ненавидели Леонида Ефи-
мовича и всячески травили его. В 1945 г. основной курс западной ли-
тературы передали Ю.Б. Випперу, а Леонида Ефимовича ограничи-
ли сокращенными курсами на других отделениях. Не дремали и
“бдительные органы”, приставившие к нему “бывалого” провокато-
ра Я.Е. Эльзберга, на счету которого к тому времени уже были судь-
462
Юбилеи
бы Михаила Левидова, Бабеля, Макашина, Штейнберга и, кто знает,
скольких еще людей.
В этой обстановке не обошлось и без предательств. То кто-то из
аспирантов, выслуживаясь, выступал с “критикой”, то кто-то из сту-
дентов, нацеленных на карьеру, камуфлировал свою фактическую
работу над дипломом с Леонидом Ефимовичем официальным руко-
водством Металлова или Самарина.
Апогеем травли и предательств стала космополитическая кам-
пания 1949 г., когда Самарин позволил себе во время “проработки”
хамскую выходку: “Леонид Ефимович, - сказал он, - переманивает
студентов с лекций талантливого русского доцента Виппера на свои
лекции”. В ответ Леонид Ефимович стукнул кулаком по столу и ска-
зал, что это наглая ложь. А “талантливый русский доцент” Виппер,
всегда в частных разговорах превозносивший Леонида Ефимовича,
произнес “обличительную” речь, обвинив Леонида Ефимовича в
“космополитизме” на основании его, опубликованных еще в Киеве,
статей об украинской литературе. Это было позорнейшее зрелище,
и Леонид Ефимович в ответном слове, под аплодисменты студентов,
в саркастическом тоне высмеял все обвинения Виппера. На этом же
заседании начал свою общественную деятельность Вячеслав Всево-
лодович Иванов, тогда студент первого или второго курса, высту-
пивший от имени студентов и объяснивший, что их никто не “пере-
манивает”, а сами они предпочитают лекции Леонида Ефимовича.
Атмосфера вокруг Леонида Ефимовича сгущалась. Его уволили
из Военного института иностранных языков, где он читал курс исто-
рии литератур стран Востока, над которым работал с большим ув-
лечением.
О том, что Я.Е. Эльзберг провокатор, Леонид Ефимович узнал
еще в 1947 г. от дочери Михаила Левидова, которой отец сумел пе-
редать эти сведения. Леониду Ефимовичу совершенно чужда была
столь распространенная в советские годы охранительность, он
очень свободно высказывал свои взгляды, и, конечно, успел доста-
точно “наговорить” Эльзбергу, который настойчиво искал встреч с
ним, ожидал у выхода из аудиторий после лекции, подходил в библи-
отеке и т.д. Леонид Ефимович понимал, что, как говорил он, “яд за-
пущен, подействует обязательно”, и ждал неминуемого ареста. Но у
советских карательных органов была своя система “законности”: им
надо было, помимо агентурных данных, получить еще чьи-либо по-
казания, которые можно было, в отличие от доносов сексотов, “при-
шить к делу”. Такие показания они “выдавили” из двух бывших сту-
дентов МГУ, находившихся под следствием, причем это были сте-
реотипные для того времени высказывания, ни в какой мере специ-
фику Леонида Ефимовича не отражавшие, но достаточные, по тем
нормам, для осуждения на 10 лет лагерей.
Юбилеи
463
Леонид Ефимович был арестован в ночь на 1 (или 2) июня
1951 г. Следствие у него проходило очень тяжело - 56 суток ночных
допросов довели его до галлюцинаций: ему чудилось, что пол - это
вода, в которой плавает рыба.
Со свойственной Леониду Ефимовичу склонностью к классифи-
кациям, он делил допросы на три типа: 1) о людях, которых только
“нащупывают”; 2) о людях, которых “разрабатывают”; 3) о людях,
для ареста которых недоставало последней капли (например, Миха-
ил Александрович Лившиц).
Леонид Ефимович сумел пройти через все ухищрения следовате-
лей, не дав им никакого материала ни на кого, а это было трудно
еще и потому, что часто сложно было угадать, что могло считаться
“материалом”.
В лагере Леониду Ефимовичу поначалу приходилось очень тя-
жело - он непосильно работал на кирпичном заводе. Болел. Потом
был переведен на инвалидный ОЛП (особый лагерный пункт), где
занимался счетоводством. В тяжких, нечеловеческих условиях лаге-
ря, окруженный в основном чуждыми ему людьми, Леонид Ефимо-
вич все же умудрялся жить своей жизнью. Для “подпитки” ему нуж-
на была лирическая поэзия и философия. По его просьбе друзья пе-
реписывали стихи его любимых поэтов - Мандельштама, Гумилева,
Цветаеву, Заболоцкого - и пересылали ему, закамуфлировав в пач-
ках с сахаром. Однажды он попросил прислать третий том Блока и
“Феноменологию духа” Гегеля, погрузившись в чтение которой аб-
страгировался от всего происходившего вокруг него. Время от вре-
мени на его лагерном пути находился слушатель, “пара ушей”, жад-
но впитывавших его квази-лекции, среди таких людей был и сын Ка-
менева.
Леонид Ефимович в любых условиях был прежде всего мысли-
телем. “Я мыслю, следовательно, существую”, - это о нем. У него
всегда хранилась заветная тетрадь, в которую он заносил свои мыс-
ли. В 40-е годы о существовании такой тетради знали только Евге-
ния Михайловна и Эльзберг, сумевший заглянуть в нее в Ленинской
библиотеке. Вероятно, он почерпнул там богатый материал для сво-
его “служения”. Во время обыска после ареста Леонида Ефимовича
чекисты явно искали эту тетрадь, но по какой-то счастливой случай-
ности Евгении Михайловне удалось чем-то ее прикрыть, и ее не на-
шли. Когда обыск кончился, Евгения Михайловна поспешила эту
крамольную тетрадь уничтожить. Так пропали его размышления
40-х годов. Но и в лагере он вел такие записи, которые сумел пере-
дать на волю жене. Продолжал записывать свои мысли и после ос-
вобождения. Эти маленькие эссе или афоризмы частично опублико-
ваны в журнале “Диалог, хронотоп, карнавал” (1994. № 2(7)), час-
тично в журнале “Человек” (1998. № 5-6; 1999. № 1). Там же опуб-
464
Юбилеи
ликованы почти полностью тексты его “Парафраз и памятований”
философских эссе, написанных им незадолго до смерти в больнице,
где он проходил облучение, и впервые опубликованных в Париже
Андреем Синявским в эмигрантском журнале “Синтаксис” (1980.
№ 7) под прозрачным псевдонимом Н. Лепин, за которым всякий,
когда-либо слушавший или читавший Л.Е. Пинского, с первых же
строк узнавал его неповторимую стилистику и тип мышления.
После возвращения из лагеря Леонид Ефимович, как уже гово-
рилось, ни в какую систему принят не был, но зато, если в 40-е годы
публиковать свои работы он не мог, поскольку ни по методологии,
ни по стилистике, ни по сути его концепций они не соответствовали
советским литературоведческим стереотипам тех лет, то теперь, на
фоне “оттепели”, он такую возможность получил.
В последнее десятилетие его жизни был опубликован ряд его
статей в “Вопросах литературы”, множество предисловий, в основ-
ном к произведениям эпохи Ренессанса и барокко, собранные впос-
ледствии в посмертно вышедшие книги “Магистратный сюжет” (М.:
“Советский писатель”, 1989) и “Ренессанс, барокко, просвещение”
(М„ 2002).
При жизни Леонида Ефимовича вышел сборник статей “Реа-
лизм эпохи Возрождения”, а в 1971 г. монументальная монография
“Шекспир, основные начала драматургии”.
Восемнадцатый век представлен в его посмертной книге 2002 г.
конспектами лекций, которые составлены на основании записей
трех студенток и, конечно, по тону и по лексике не вполне передают
оригинал, но все же дают представление о методике и концепциях
этого чрезвычайно содержательного курса.
Как и лекции, печатные труды Леонида Ефимовича замечатель-
ны синтезом историко-культурного, эстетического и обобщающе-
философского аспектов. Он всегда вскрывал в литературе отдален-
ных эпох вневременную, экзистенциально значимую проблему, ко-
торая, тем самым, обретала актуальность. Анализы “...всегда у Пин-
ского отличаются существенностью и оригинальностью”, - писал
М.М. Бахтин3.
Приведу для примера характеристику “высокого” смеха Серван-
теса «над самым высоким и благородным, что коренится в натуре
человека, над верой в свое высокое назначение, в свой разум и волю,
над его общественно значимой “вмешивающейся” природой, когда
высокое потеряло контакт с временем и жизнью”4.
Субъективизм или самовыражение были чужды Леониду Ефи-
мовичу. Его анализ явлений литературы всегда вытекал из тщатель-
ного рассмотрения материала. Ответственность перед материалом
была его непреложным принципом. Его дискурс внешне академи-
чен. Он как бы одевает свою мысль в броню, тщательно аргумента-
Юбилеи
465
руя материалом, заранее защищая ее от официозной критики. Не за-
будем, он работал и писал в советские годы, прекрасно сознавая
свою “инакость”, несовместимость, а порой и прямое противоречие
канонам официального литературоведения. Тем не менее в его тек-
стах явственно ощущается его личность, сформулированы его миро-
воззренческие и нравственные позиции.
Вероятно, самой близкой ему темой была трагедия, в которой,
по его выражению, “дух человеческий кричит”5. Он часто говорил,
что постоянно живет в состоянии трагической тревоги. Он опреде-
лял трагедию, как “высший вид театрального искусства, даже искус-
ства в целом, как образного сознания, самосознания, осознания са-
мого высшего и патетического в человеческой жизни”6.
Еще в 40-е годы Леонид Ефимович работал над грандиозным ис-
следованием трех трагедий XVI-XVII веков: испанской, француз-
ской и английской. Много занимался французским классицизмом,
прочел в МГУ спецкурс по французской классической трагедии и по
Шекспиру, написал работу “Трагическое у Шекспира”, позднее
включенную в сборник “Реализм эпохи Возрождения”.
Поэтому не случайно в 60-е годы центральной его темой стал
Шекспир и главным образом его трагедии, которым и посвящен его
opus magnum. Насколько нам известно, эта монография по-своему
уникальна в мировом шекспироведении. В этой работе он скрупу-
лезно исследует исторические хроники и трагедии, их образную
ткань, поэтику, а главное сюжеты, в их эволюции, образующие еди-
ный “магистральный сюжет” - трагическую коллизию, в которой
выделившаяся из эпически целостного коллектива героическая лич-
ность вступает в противоречие с историческим процессом и с обще-
ством. Уникальна эта книга сочетанием тончайшего анализа худо-
жественной ткани с философским осмыслением материала
“Л.Е. Пинский прекрасно показал всемирность (в смысле символи-
ческого охвата действием всего мира) и всевременность (в смысле
охвата времени истории человеческого рода) в трагедии Шекспи-
ра”, - писал М.М. Бахтин7. Особенно значительны с этой точки зре-
ния главы о “Гамлете” (П, 3) и “Короле Лире”, занимающие цент-
ральное место в монографии (П, 6,7). Сам Леонид Ефимович считал
свою книгу “разросшимся теоретическим вступлением к несколько
по-новому прочитанному “Королю Лиру” (с. VI). Это преувеличен-
но скромная самооценка свидетельствует о значении, которое автор
придавал этим главам.
В хрониках особое место занимает образ Фальстафа. Леонид
Ефимович сравнивает его с “первобытным хаосом, из которого воз-
никает все живое. Натура Фальстафа воплощает праматерь-приро-
ду, ее голос... остроумный, радостный, безошибочный, как сама
жизнь”8.
30 Одиссей, 2006
466
Юбилеи
Для подхода Леонида Ефимовича к материалу характерна его
трактовка вызывавшей много споров в критике проблемы театраль-
ности Шекспира, которую он рассматривает как само мироощуще-
ние великого драматурга, выраженное не только в его концепции
“мир-театр”, но и в самой поэтике его сочинений.
Работа о комедии Шекспира опубликована в вышедшем по-
смертно сборнике “Магистральный сюжет”. Сюжеты комедии “ав-
тор рассматривает как эволюцию единого магистрального сюжета
(любовного)..., раскрывая глубокое единство всего комического ми-
ра Шекспира и в то же время [его] разнообразие...”, - писал
М.М. Бахтин9. В понимании Л.Е. Пинского “смеющаяся” (в отличие
от “осмеивающего”) комедия Шекспира отражает естественную
жизнь, как в театре, в ней играет сама природа.
Немало внимания уделил Леонид Ефимович и испанскому ба-
рокко (эти работы собраны, в основном, в его последней посмерт-
ной книге).
В совершенно ином, отличном от закованных в броню научно-
го обоснования материалом литературоведческих работ написаны
его “Парафразы и памятования” - собрание коротких эссе на раз-
личные темы, образующих, однако, некое единство и задуманных
автором как его духовное завещание. В этой маленькой книжечке
Леонид Ефимович высказал свое отношение к проблемам, волно-
вавшим его в последние годы жизни и представлявшимся ему “наи-
более важными в наше время, как никогда тревожное, когда чело-
вечество (впервые в истории) ступило над бездной”. Он размыш-
лял в ней о трагизме бытия, о добре и зле, о природе человека, о
сущности религии, о проблеме наций, по его собственному выра-
жению сформулировал “спасительные истины безрадостного вре-
мени безвременья. Горькие и как лекарство - целебные” (из эпи-
графа).
Подобно музыкальным парафразам, рассуждения в этих эссе
имеют некую исходную точку, заданную тему, почерпнутую в куль-
туре прошлого, у великих мыслителей, мистиков, в священных кни-
гах, религиозных традициях, в литературе. В своем послесловии Ан-
дрей Синявский (Абрам Терц) отмечает, что в них “всемирная куль-
тура пережита, как современная жизнь, воспринята как вечнозеле-
ное дерево, растущее откуда-то оттуда в золотом веке... и достигаю-
щее ветвями до неба, до будущего, до окончания истории”10.
Разнообразные по “отправным точкам” парафразы объединяет
пафос свободной и в то же время ответственной за свою жизнь и за
состояние мира личности - иначе говоря, личности автора. Нельзя
не отметить и своеобразную, характерную для Леонида Ефимовича
стилистику этих текстов, являющими собой замечательные образцы
словесного искусства.
Юбилеи
467
В 60-70-е годы Леонид Ефимович жил отнюдь не “заодно с пра-
вопорядком”. Он очень активно участвовал в возникшей тогда “вто-
рой культуре” и стал как бы центром притяжения для оппозицион-
ной интеллигенции самых разных возрастов и профессий. В его до-
ме собирались люди, велись нескончаемые дискуссии, получали
“трибуну” барды, популяризировались художники нонконформисты
(Рабин, Зверев, Плавинский и другие).
Леонид Ефимович составил для самиздата несколько сборников
опальных поэтов (Мандельштама, Гумилева, Олейникова), а также
и новых, заявивших о себе в те годы.
Неуживчив и тяжел,
Бросив времени печатку,
Это он меня нашел
И пустил в перепечатку.
писал о Леониде Ефимовиче Борис Чичибабин11.
Леонид Ефимович “пустил в перепечатку”, нашел и “запустил в
публику и Александра Галича, многие концерты которого проходи-
ли при большом скоплении народа в доме Пинских, открыл Сабира,
Некрасова и других. К юбилею Варлама Шаламова он организовал
машинописное издание четырехтомника его рассказов и всячески
способствовал другим самиздатским проектам. Не был Леонид Ефи-
мович в стороне и от правозащитного движения. Всё это, конечно,
не оставалось без ответа властей. Случались и вызовы на допросы,
и обыск, и торможение изданий его работ (в частности, после публи-
кации “Парафраз”).
Не был он и “со всеми сообща”, всегда оставался независимым
в своих взглядах и поступках. Приведу один многозначительный
эпизод. Когда в годы хрущевской оттепели либеральные писатели
задумали провести общественный суд над Эльзбергом и исключить
его из Союза писателей, Леонид Ефимович отказался принять в
этом участие, считая, что ответственность за террор несет прежде
всего система, а не отдельные сексоты, в какой-то мере тоже жер-
твы этой системы, действовавшие в соответствии с моральными
нормами этой системой установленными. “Нужно найти в себе му-
жество показаться людям малодушным”, - сказал он мне, иначе го-
воря, суметь противостоять терроризму общественного мнения.
Противостоял он и многим возникшим в те годы идейным и эсте-
тическим стереотипам, которые называл “антисоветскими пред-
рассудками”, например, чрезмерной идеализации западного образа
жизни, или распространенному в среде интеллектуалов экстре-
мальному иррационализму, утверждая, что величие разума прояв-
ляется, помимо всего прочего, в его способности познать границы
своих возможностей.
468
Юбилеи
Леонид Ефимович не был человеком, однажды сформировав-
шим свои взгляды и никогда их не ревизовавшим. Его сознание бы-
ло открыто опыту истории и жизни, поэтому взгляды его во мно-
гих отношениях эволюционировали. Однако в том, что составляло
основу его жизненной позиции и личности, в приверженности от-
ветственной, достойно реализуемой свободе, он всегда оставался
верен себе.
Его мироощущение, как мне представляется, можно описать
двумя близкими терминами: трагическая тревога и трагический
(стоический) гуманизм. В одном из разговоров в конце сороковых
годов, Леонид Ефимович, угадав мое юношеское отчаяние, сказал:
“Если бы вы оказались в бурном море в утлой лодочке, сколь бы ни
малы были ваши шансы доплыть до берега, всё равно надо грести”.
Почти точно передал эту стоическую позицию Леонида Ефимовича
Александр Галич, посвятивший ему песню “Летят утки”, в ее кон-
цовке: “Если долетит хоть один, значит стоило, значит надо было
лететь”12.
А.С. Рапопорт
1 Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1967. С. 223.
2 Там же. С. 364.
3 Диалог, хронотоп, карнавал. М„ 1994. № 2(7). С. 63.
4 Пинский Л.Е. Указ. соч. С. 364-365.
5 Синтаксис. 1980 год. № 7. С. 47.
6 Там же. С. 46.
7 Диалог, хронотоп, карнавал. 1994. № 2(7). С. 69.
8 Цит. по “Диалог, хронотоп, карнавал”. 1994. 2 (7). С. 66.
9 Статьи о плутовских романах и его последняя литературоведческая работа о
“Критиконе” Бальтазара Грациана. См.: Пинский Л.Е. Указ. соч. С. 64.
10 Синтаксис. 1994. 7(2). С. 108.
11 Чичибабин Б. “На вечную память Леонида Ефимовича Пинского”: Книга
стихов. М. 1989. С. 219.
12 Галич А. “Когда я вернусь” // Посев. 1986. С. 117.
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Михаил Леонович ГАСПАРОВ
(13.04.1935-07.11.2005)
“Я смотрю на людей как на потенциальную угрозу”, - писал
М.Л. Гаспаров в “Записях и выписках”. Действительно, так: не лю-
бил телефонных переговоров, отговариваясь заиканием, - предпо-
читал письма и открытки; на заседаниях и конференциях, отговари-
ваясь глухотой, продолжал что-то вписывать бисерным почерком в
очередной потертый блокнот - в очень редких случаях мысли док-
ладчика; брал билеты в плацкартный вагон - чтобы аморфная, не
разрезанная купейными дверями толпа отгородила от случайного
собеседника. Не раз и не два он говорил, что понимает и ощущает
себя точкой пересечения общественных отношений - это ощущение
вряд ли было приятным (“может быть, и я, когда кончусь, переста-
ну быть точкой пересечения и начну наконец существовать”). В на-
уке можно было спрятаться (“когда я кончал школу, то твердо знал,
что хочу изучать античность: в нее можно было спрятаться от сов-
ременности”) и постараться никого к себе не пустить (“щель, в кото-
рую я прятался, была одноместная”). И не пустил: остался в стороне
от сменявших друг друга научных мод. С нескрываемой иронией
смотрел и на поиски ритуально-мифологических архетипов, и на де-
конструкцию. Не принимал бахтинского диалогизма. За структура-
лизмом наблюдал с интересом, но сохраняя дистанцию. Кажется, во-
обще не использовал ни одного научного термина, введенного в обо-
рот в XX в. («я стал подставлять вместо “дискурс” слово “разговор-
щина” - и смысл оказался вполне удовлетворительный») - ему хва-
тало тех, которые были выработаны в античности. Чтобы не ос-
таться в современности совершенно одиноким, открыл забытого
Б.И. Ярхо и объявил себя его эпигоном (и готов был объявить себя
эпигоном Аристотеля).
Он прятался не для того, чтобы что-то спрятать, а для того, что-
бы как можно больше раскрыть. Филология была для него не эзо-
терикой, а “службой общения”. Другое дело, что общаться ему бы-
ло удобнее с письменным текстом, а не с живым собеседником, и -
интереснее с Авзонием, к примеру, а не с нами, но тут его можно по-
нять. При этом чего в нем совершенно не было, так это высокоме-
рия - ни человеческого, ни научного. Он говорил, что мог бы взять
девизом строчку из “Энеиды”: Non ignara malis, miseri succurere disco
470
Памяти ушедших
(при этом с надписью на оборотной стороне - “Возьми все и от-
стань”), и что в науке чувствует себя илотом. Он не стремился воз-
выситься ни за счет других, ни за счет того, чем занимался (а зани-
мался он только и исключительно филологией, единственным из ве-
ликих русских гуманитариев XX в. полностью избежав соблазна
меж- и полидисциплинарности). Он не делил стихи как научный
предмет на хорошие и плохие и не относился с пренебрежением к
массовой культуре. Он подходил к любому тексту с убеждением, что
нет такого хаоса, в котором нельзя было бы обнаружить порядок, и
нет такого поэтического произведения, в котором нельзя было бы
обнаружить смысл, поддающийся пересказу. Образцовый порядок
выступает и из его полустраничного обзора русских переводческих
школ, и из его многостраничного обзора древнеримской литерату-
ры; четкий, торжествующий в своей логической безупречности
смысл выявляется и в его разборе хрестоматийно ясного стихотво-
рения Фета, и в его разборе хрестоматийно темного стихотворения
Мандельштама. Кого-то это не могло не раздражать (где же история
с ее непредсказуемостью и где же поэзия с ее тайной?), но на ответ
он ссылался - может быть, даже без всякой иронии, - 1на “прямоли-
нейность” своего мышления - “от природы и от советской школы”.
Единственный, наверное, человек, ради которого М.Л. Гаспаров
охотно выбирался из своей щели, - это С.С. Аверинцев. Они были
очень близки при жизни (хотя как ученые были разительно непохо-
жи) и словно чувствовали, что окажутся близки и в смерти. Когда-то
они дали друг другу обещание написать друг о друге некрологи. Гас-
паров свое обещание выполнил, а что мог бы написать о нем Аве-
ринцев, даже не угадаешь. Пусто на этом свете становится, господа!
МЛ. Андреев
Памяти ушедших
471
Владимир Николаевич ТОПОРОВ
(05.07.1928-05.12.2005)
Владимир Николаевич Топоров был мыслителем универсального
склада. При поразительной скромности он обладал чертами научно-
го исполина. В нем нашла продолжение и воплощение русская куль-
турная традиция. Людям, в которых она всего отчетливее проявля-
ется, свойственно соединение самых многообразных знаний и дости-
жений. К ним оправданно применяют эпитеты “великий” и “гени-
альный”. Объем и характер сделанного Топоровым вызывает изум-
ление даже на этом фоне оставивших значимый след в истории рус-
ской культуры ученых, занимавшихся разными областями и в каж-
дой из них добивавшихся первостепенных успехов. Постороннему
наблюдателю трудно было бы поверить, что за полвека с неболь-
шим, отмеренных ему для зрелого творчества, Топоров успел напи-
сать столько работ, в разных направлениях исследований ставших
переломными и уже получивших статус классических. Могло бы по-
казаться удивительным, что один человек мог по-новому взглянуть
на судьбу локатива в славянских языках, строение парадигмы литов-
ского глагола, происхождение лексики древнепрусского языка, со-
отношение именных классов в енисейских языках и в затерянном в
Гиндукуше бурушаски, языковой союз, включающий дардские, ну-
ристанские и некоторые географически с ними смежные языки, раз-
мещение изображений животных в комплексах палеолитических пе-
щер, мифологическое описание ранних периодов истории мира в
хрониках древнеписьменных традиций, строение санскритской ко-
медии “Глиняная повозка”, понимание Энея в эпосе Вергилия. Я мог
бы и дальше долго перечислять темы тех книг и статей Топорова, в
которых щедро рассыпаны его открытия и прозрения. Можно им
удивляться. Но кажется - важнее понять связывающие их методы и
идеи, проходящие сквозь тысячу с лишним написанных им работ.
Топоров размышлял о научном методе с тех молодых лет (еще
до университета), когда он начал всерьез заниматься философией и
прочитал основных европейских философов (восточными, главным
образом древнеиндийскими, он систематически занялся после аспи-
рантуры; воздействие его западных современников сказалось в не-
которых из поздних работ; философские изыскания, начатые в ран-
ней молодости, привели к построению оригинального мировоззре-
ния, изложенного в таких публикациях недавних лет, как небольшая
книга, одновременно философская и посвященная античной лите-
ратуре, об “Энее - человеке судьбы”).
В комнате, где в коммунальной квартире жили его родители,
они, рано поняв многообещающий талант сына, выгородили для не-
472
Памяти ушедших
го из шкафов убежище, где, когда все кругом засыпали, в тишине он
мог предаваться по ночам занятиям и размышлениям. Набор соб-
ранных им к тому времени книг поражал одновременно и богатст-
вом идей, и удачностью отбора наиболее оригинальных авторов. То,
что не удавалось купить у тогда щедрых букинистов на небольшие
бывшие в его распоряжении деньги, наверстывалось находившейся
по соседству с домом Тургеневской читальней и другими московски-
ми библиотеками, завсегдатаем которых он стал очень рано и оста-
вался всю жизнь. Я думаю, что не преувеличу, сказав, что в нашем
поколении в Москве он был самым начитанным человеком. Но
меньше всего он походил на книжника. Он азартно играл в футбол
и отличался незаурядной физической мощью (в экспедиции таскал
на спине самые тяжелые ящики и пояснял, что свою силу ощущать
приятно). Вместе с тем он владел всеми ресурсами русского непечат-
ного слова, понимая отлично, к кому их и весь его недюжинный за-
пас веселости надо обращать. Жизнь привлекала его и матчами
“Спартака”, и газировкой, которую можно было пить летом в пос-
левоенной Москве в неограниченном количестве (никаких более
крепких напитков он не признавал, и только раз Роман Якобсон убе-
дил его выпить с ним водки на брудершафт, сказав, что со всеми ос-
тальными крупными русскими лингвистами он уже на “ты”).
Топоров рано становится одним из самых многосторонне ода-
ренных лингвистов в мире. Я помню его настолько поглощенным
занятиями, что в ответ на вопрос о новостях жизни он пересказывал
только что пришедшую статью о тематической гласной и ее воз-
можных морфологических функциях. В университетские годы и
позднее он в совершенстве овладевает техникой индоевропейского
сравнительно-исторического языкознания и осознает роль этимоло-
гии слов для истории мысли. Эта линия продолжается во всех его
трудах вплоть до самых последних: каждый из существенных разби-
раемых терминов рассматривается на фоне его истории. В двухтом-
нике о русской святости есть целая увлекательная глава об этимоло-
гии русского слова святой, замечания о санскритских, хотаносак-
ских и тохарских формах в этой главе вполне оригинальны.
Топоров вступает в лингвистику, когда вслед за Соссюром и
Пражским кружком побеждает подход к языку как системе. Замечу,
что ему у Соссюра особенно близким было сопоставление языка и
шахмат. Топоров с юности увлекался шахматами и представление о
шахматной игре как модели системы, где всего важнее ценность фи-
гур, было ему созвучно. Поэтому внутри первой из многообразных
научных дисциплин, которыми он стал заниматься, он с увлечением
перенимает у таких тщательно им изученных старших современни-
ков, как Роман Якобсон (с которым они позже подружились) и Ку-
рилович, предложенные теми методы структурного описания. Он
Памяти ушедших
473
участвует в первых семинарах и кружках, где изучаются достижения
современной логики (Карнапа прежде всего) в понимании языка и
обдумываются возможности применения в языкознании математики
(сам он специально писал в этом ключе о теории вероятностей). Ко-
гда началось семиотическое движение в нашей стране, он стал од-
ним из создателей школы, которую сейчас называют московско-
тартуской. В ней принципы структурализма распространяются на
широкий круг гуманитарных наук и возникает важное для трудов
Владимира Николаевича представление о тексте как главном пред-
мете исследования.
Не только сосредоточенность на методах (по большей части но-
вых и отрабатываемых заново) делает целостным все выстроенное
Топоровым здание. Его волновало несколько основных тем, к кото-
рым он обращается в разное время.
Для всех нас, я думаю, сейчас важнее всего вопрос, который я бы
обозначил как “Топоров и Россия”. Когда пятый акт трагедии его
жизни завершился, нужно думать о продолжении, о том, в какой ме-
ре масштаб его личности будет оценен, его голос будет услышан,
его пророчества поняты, насколько последуют его четко высказан-
ным советам. О России и ее неслыханных возможностях в сопостав-
лении с другими странами Европы Владимир Николаевич задумался
еще школьником. Он всегда видел ее судьбу в историческом разре-
зе - в том большом времени, в котором он жил вместе со всей куль-
турой русского прошлого и в котором им сделанное остается как ве-
ликое выражение вечных ценностей русского Духа. Занятия индоев-
ропейской и балто-славянской предысторией и этимологией давали
необычайную диахроническую глубину его научной реконструкции
ранней языческой поры в духовном наследии наших далеких пред-
ков. Напомню, что именно здесь ему принадлежат открытия, при-
знанные и развитые в недавнее время такими всемирно известными
учеными, как К. Уоткинс. Весь этот круг работ Топорова о языче-
стве своими биографическими корнями уходит в семейное и родовое
наследие, которое было частично воскрешено и обогащено опытом
военных лет, проведенных в эвакуации в Коврове. Русские загово-
ры, индоевропейские истоки которых он выявит в особой моногра-
фической работе, были ему известны из ранних домашних впечатле-
ний: умением заговаривать еще владел по наследству его отец. То-
поров с дворового детства познакомился и с такими присказками,
считалками и текстами, проговариваемыми во время игр, в которых
позднее он нашел обломки древней правды поверий глубокой древ-
ности. Непреходящая значимость Топорова для русской культуры
связана и с уникальным соединением в нем высокой европейской об-
разованности с наследием русских деревенских знахарей, колдунов и
чернокнижников. Вместе с тем он тяготел к дворовому фольклору и
474
Памяти ушедших
неприкрашенной устной речи Москвы и среднерусской провинции
второй четверти двадцатого века.
Его больше всего занимала русская культура в самом широком
смысле и во всем многообразии ее проявлений, простирающихся на
целое тысячелетие и взаимодействующих с другими евразийскими и
индоевропейскими. Он нашел прямое иранское соответствие были-
не о Святогоре. Неожиданная возможность обнаружения непосред-
ственных следов иранского митраизма у славян возникает благода-
ря открытию им далеко идущего параллелизма соответствующих
выражений (русское “всем миром” и т.п.). Не менее удивительны и
обнаруженные им сходства древнеиндийского мифа о первочелове-
ке Пуруше, из частей тела которого образовались части окружаю-
щей природы, и похожего мотива в древнерусской “Голубиной Кни-
ге”. В недавних публикациях он вернулся к древнему наследию гно-
стицизма в “Голубиных (ранних Глубинных) книгах” и их сравнению
с иранским “Бундахишном”.
Начиная с юности, когда обозреваются возможные жизненные
пути, внимание молодого человека, уже понявшего тщету стремле-
ний большинства современников и сверстников, было привлечено
прежде всего к русскому монашеству и невиданному богатству от-
крывающегося в нем духовного опыта. Эти интересы ранней моло-
дости нашли продолжение уже в относительно более близкое к нам
время в обстоятельном исследовании святости и святых в русской
духовной культуре. Оно было написано в начале последнего пере-
ломного момента нашей истории. Он обращается к широкому чита-
телю, не только к верующим, но и к неверующим, пробуя объяснить
им суть духовного служения и предложить исторический взгляд на
мучительную для России проблему соотношения Церкви и Власти.
Как и другие крупные деятели русской культуры последних десяти-
летий, он хочет усвоить и перенять уроки деятельности Сергия Ра-
донежского (несколько ранее тем же занят Андрей Тарковский, го-
товясь снять фильм о Рублеве).
Русские мыслители, прямо или косвенно связанные с православ-
ной традицией, как Мейер, Бахтин, князь Н.С. Трубецкой, остаются
в поле внимания Владимира Николаевича; он специально занимает-
ся их творчеством в целом или отдельными его сторонами. Особая
близость связывала его с о. Александром Менем.
После овладения в студенческие годы индоарийскими языками
Топоров все серьезнее обращается к другим религиям “осевого”
времени. Целую эпоху в русском понимании буддизма обозначил
выполненный им перевод “Дхаммапады” с языка пали, изданию ко-
торого была предпослана его подробная статья, давшая широкому
кругу интеллигентных читателей представление о буддийском уче-
нии и о Будде как о реально существовавшей удивительной лично-
Памяти ушедших
475
сти. Официальные власти были испуганы и раздражены тем, что на
их воровском языке называлось “пропагандой буддизма”, книгу ду-
мали запретить и изъять, но опоздали: поддерживавший начинания
Владимира Николаевича Ю.Н. Рерих успел послать книгу своему
другу Джавахарлалу Неру, с мнением которого вынуждены были
считаться и не самые просвещенные деятели советской номенклату-
ры. Позднее Топоров развивает ряд идей, связанных с постановкой
вопросов буддийской теории познания и логики у Ф.И. Щербатско-
го, в частности в большой статье, сопровождающей переиздание ра-
бот последнего. К основам буддийского понимания личности Топо-
ров обратится, говоря о молчании Сергия и о его “грамматическом”
аскетизме, сказавшемся в редком употреблении форм первого лица.
Рассуждая об опасности, скрытой в “Я”, Топоров в своей книге о свя-
тости замечает: «Эта ситуация хорошо известна и в христианском
богословии и - специально - в аскетике. Но и за пределами христи-
анства, в частности, в буддизме, проблеме Я уделялось очень боль-
шое внимание. И в разных направлениях буддизма, между прочим, и
в “личном” учении Будды, реальность Я часто ставилась под подоз-
рение, а в наиболее радикальных учениях вообще отрицалась. Но и
Будда, не отрицавший феноменальное Я, данное в опыте, в сфере
“приблизительного” и “неконечного”, признавал недопустимыми
метафизические спекуляции на тему Я, и сам предпочитал этим спе-
куляциям молчание». В рассуждениях Топорова о метафизике мол-
чания мне всегда кажется, что присутствует момент лично автобио-
графический. В конце того отрывка, начало которого только что
процитировано, Топоров говорит о радикальном отрицании Я как
иллюзии у Нагарджуны и завершает словами: “Все это, конечно, да-
леко от Сергия, но кто знает, где останавливался он в своих мыслях
о своем Я”.
Приступив к семиотическому сопоставлению разных религиоз-
ных и мифологических систем и их воплощений в искусстве,
В.Н. Топоров приходит к новой для всей этой сферы занятий идее о
существовании на протяжении очень большого отрезка предысто-
рии и истории человечества особой “эпохи мирового дерева”. Этот
центральный символ или “универсальный знаковый комплекс” ока-
зывается общим как для развитых религий, использующих его в
христианском образе распятия и в буддийском символе дерева Бодд-
хи, так и для шаманистских представлений таких сибирских народов,
как кеты, языками и знаковыми системами которых Топоров зани-
мается во время экспедиции в Западную Сибирь в 1962 г. и после
нее. К циклу работ о мировом дереве примыкает и исследование ми-
рового яйца у народов Африки и других частей света. Топоров сис-
тематически исследует символику разных религий, начиная с пещер-
ных наскальных изображений животных и древневосточных тради-
476
Памяти ушедших
ций (в особенности египетской, хеттской, древнеиндоиранских,
древнекитайской). Результаты проведенного Топоровым сравни-
тельного изучения мифологических и религиозных символов раз-
ных народов и эпох высказаны и во многих его детальных моногра-
фических исследованиях (таких как классический труд о мифологии
грибов, отличающийся невиданной смелостью сопоставлений, со-
перничавших с психоаналитическими и задержавших публикацию
работы), и в большой серии статей в знаменитой энциклопедии “Ми-
фы народов мира” (1-е изд. 1981-1982 гг.), где ему принадлежит (как
автору и соавтору) значительная часть статей о главных типах сим-
волов (например, числовых или зооморфных) и об отдельных систе-
мах (кетской, балтийской, славянской) и их богах. Много нового бы-
ло внесено Владимиром Николаевичем в реконструкцию таких ми-
фологических систем, как древнепрусская, ранее известная лишь по
разрозненным сообщениям вторичных источников. Прусская и дру-
гие балтийские мифологические традиции были важны Топорову
как ближайшие родственники славянских.
Наряду с древними русскими поверьями и более новой верой То-
поров занимался на протяжении всей сознательной жизни русской
литературой. Его университетский учитель И.Н. Розанов был на-
столько впечатлен познаниями в этой области студента второго кур-
са, что уже тогда предрек ему избрание в академики, состоявшееся с
опозданием на почти полвека. Ему принадлежат книги и большие
исследования о Муравьеве, Карамзине, Жуковском, Пушкине,
“странном” (фантастическом) Тургеневе, Достоевском, Блоке, Кон-
дратьеве, Ахматовой. Мне кажутся едва ли не всего более значи-
тельными исследования, где Топоров выдвинул и развернул понятие
“петербургского текста”. Петербург пользовался особой любовью
Владимира Николаевича. Он никогда не упускал случая если не еще
раз посетить облюбованный им город, то хотя бы в воображении по-
бродить по нему, расстелив перед собой его подробный план (его
день после завтрака нередко начинался с этого). Это пристрастие,
пронесенное сквозь всю жизнь и нисколько не ослабевшее, сказа-
лось в широком круге исследований последних лет, охвативших ди-
апазон петербургских текстов от романов Достоевского до настен-
ных граффити в общественных уборных. В анализе Достоевского
Топоров продолжил и развил идеи обстоятельно им изученного Бах-
тина. В центре его исследования находится категория пространства
(этот прием использован в его большой книге о русской литературе
и применительно к таким ранее неизученным и лишь недавно от-
крытым авторам XX века, как Крижановский).
Начиная со второй половины 60-х годов Топоров и его соавторы
печатают серию работ о поэтах-акмеистах и их поэтике. Совмест-
ное исследование, выполненное вместе с Т.В. Цивьян, выявило та-
Памяти ушедших
477
кие универсальные образы у акмеистов, как “черное солнце”, и на-
метило их интертекстуальные связи (с Нервалем). Особую статью
он посвящает поэзии Шилейко, тогда совсем позабытой. Ахматова
(главным образом поздняя) его заинтересовала преимущественно
связью ее поэзии с историей и временем.
В последней книге Топорова, содержащей избранные работы о
Петербургском тексте русской литературы, центральное место за-
нимает монографическое исследование “Из истории петербургского
аполлинизма: его золотые дни и его крушение”. Крушение показано
на примере позднего Блока (его “Русского бреда”), Вагинова и дру-
гих. Изложение доводится до нашего времени. Хронологически по-
следним является недавнее стихотворение Кушнера, процитировав
которое, Топоров замечает: «Неужели снова на рубеже прошлого
века и начала настоящего в неизменное отмеченное время уже в
четвертый раз является в русскую поэзию и - шире - в русскую
культуру аполлоновское начало? Трагическая история двадца-
того века с ее “антиаполлинизмом” и “пифонизмом” вопиет о поряд-
ке, согласии, гармонии, свете. Но в силах ли аполлинизм решить
свою задачу, осуществить свое назначение при всей той невероятной
сложности проблем, которые стоят не только перед Россией, но и
перед всем миром».
Хочется, как и Топоров в конце этой главы его книги, не расста-
ваться с надеждой. И верить, что в той будущей России, которая по-
сле всех мытарств обретет согласие и гармонию, вспомнят раннего
предвестника перемены Владимира Николаевича Топорова и его
произведения, во многом пророческие.
Вяч. Вс. Иванов
478
Памяти ушедших
Елеазар Моисеевич МЕЛЕТИНСКИЙ
(22.10.1918-16.12. 2005)
16 декабря 2005 г. скончался Елеазар Моисеевич Мелетинский, один
из самых ярких российских ученых-гуманитариев XX века. Его чи-
тали и почитали не только в России, но и во всем цивилизованном
мире, горячо любили друзья, ученики и коллеги.
Его многочисленные труды охватывали широкий спектр проб-
лем. Он исследовал природу и функцию мифа, типологию повторя-
ющихся и модифицирующихся в художественном мышлении чело-
вечества архетипов и сюжетов, историческую поэтику литератур-
ных жанров и многие частные вопросы, связанные с этой темати-
кой, рассматриваемой во взаимосвязи и сопоставлении различных
культур и стадий развития словесного искусства. Проблематика и
методология трудов Елеазара Моисеевича, открывавших новые пу-
ти развития гуманитарных наук, как и сама его личность, не уклады-
вались в принятые в советские годы стандарты, и в первые десяти-
летия его научной карьеры вызывали враждебность коллег-фольк-
лористов и разного рода завистников, порой принимавшую характер
настоящей травли и создававшей всяческие препоны его научной де-
ятельности. А Елеазар Моисеевич упорно шел против течения, сле-
дуя своим научным и нравственным принципам. Более того, лишен-
ный возможности преподавать, он организовал неофициальный на-
учный семинар, в котором прививал эти принципы сгруппировав-
шимся вокруг него молодым ученым, которые впоследствии и соста-
вили костяк созданного им в рамках РГГУ Института высших гума-
нитарных исследований.
Природа щедро наделила Елеазара Моисеевича и талантом, и
волей, и обаянием, а судьба его не поскупилась на тяжелейшие ис-
пытания.
Глядя на этого деликатного, тихого, доброжелательного, удиви-
тельно скромного и, как казалось, вполне академического человека,
трудно было вообразить его в совершенно иных ипостатсях. Напри-
мер, представить себе, как во время войны он героически выбирал-
ся из окружения на Южном фронте, фиксируя при этом в памяти
все, что можно было выяснить о состояниях и передвижениях не-
мецких войск. Представленные затем Елеазаром Моисеевичем ко-
мандованию сведения были сочтены доказательством его шпион-
ской деятельности и повлекли за собой немедленный арест. Или как
его выводили на расстрел (мнимый, для запугивания), как, смертель-
но больной и потому актированный из тюрьмы, он в 1943 г. добирал-
ся до Ташкента. В обстановке постоянных преследований со сторо-
ны “органов” началась его научная и педагогическая деятельность,
Памяти ушедших 479
оборвавшаяся в связи с новым арестом в 1949 г. в Петрозаводске,
как вытерпел он тяжкое следствие, как мучительно ковырял кайлом
лед на тридцатиградусном морозе в каргопольском лагере...
Обо всем этом скупо, лаконично, без детализации и красочности,
как бы не сознавая трагизма происходивших с ним событий, и тем бо-
лее впечатляюще, рассказал он в своих “Воспоминаниях”. Лишь на
склоне лет обрел Елеазар Моисеевич нормальные, соответствующие
его интересам и потенциям условия для жизни и работы.
Значение наследия Елеазара Моисеевича для идущих после нас
поколений неоценимо, как и значение его личности для всех, кому
довелось его знать: для друзей, учеников и коллег.
Светлая ему память.
И. М. Филыитинский
480
Памяти ушедших
Арон Яковлевич ГУРЕВИЧ
(12.05.1924—5.08.2006)
Вот как нам приходится завершать очередной выпуск “Одиссея”.
После тяжелой продолжительной болезни, на 83-м году жизни
скончался Арон Яковлевич ГУРЕВИЧ - ученый и личность такого
масштаба, который нам предстоит еще оценить. Арон Яковлевич
был не только одним из самых известных отечественных историков
в России и за ее пределами, автором подлинных шедевров историче-
ской науки, которые, и только они, обеспечивали высокий междуна-
родный престиж отечественной медиевистики, но и гражданином в
самом настоящем смысле этого слова, чьи научные взгляды и прин-
ципы всецело определялись его нравственной и социальной позици-
ей. В силу специфики судьбы Арона Яковлевича, отразившей как в
фокусе важнейшие коллизии истории России второй половины
XX в., в силу ненормального и во многом трагичного развития на-
шей гуманистики, А.Я. Гуревич почти не имел учеников, но благо-
даря огромному влиянию его трудов, притягательной силе его идей
мы все были и остаемся его учениками. Все же, кто знали его лич-
но, испытали на себе обаяние этой удивительно цельной и искрен-
ней личности.
Судьбой Арону Яковлевичу была предначертана трудная роль
первопроходца, первооткрывателя во многих областях гуманитар-
ного знания, и прежде всего создателя исторической антропологии в
нашей стране. Его труды, его идеи, его научные открытия и дости-
жения - тот эфир, в котором существует современная историческая
наука. Влияние Арона Яковлевича на научное сообщество нашей
страны трудно переоценить. Одно его присутствие во многом опре-
деляло нравственный и научный климат в отечественной гуманисти-
ке, и трудно предсказать, как все изменится с его уходом.
С именем А.Я. Гуревича связан тот процесс обновления гумани-
тарного знания, который в нашей стране начался с перестройкой, но
задолго до этого был подготовлен всей предшествующей професси-
ональной деятельностью ученого. Ароном Яковлевичем было сде-
лано столь многое для того, чтобы в России стало возможным поя-
вление науки о Человеке; он надеялся на изменение ситуации в об-
ществе и системе исторического знания, и эти надежды он прежде
всего связывал с альманахом “Одиссей”, который был его любимым
детищем.
Редколлегия
SUMMARIES
Feudalism on Historians’ Trial
This section is devoted to the papers of the round table on the problems of
feudalism. The conference aimed not so much to analyse different concep-
tions of feudalism, as to revisit several problems connected with the concept
of “feudalism” expressly or by implication. The participants discussed
whether this term possesses any real contents and how to adapt the old con-
cept to the level of contemporary historical knowledge. These very aims and
goals of the conference were stated in the opening word by P.Yu. Uvarov.
The first paper of the conference “Feudalism on historians’ trial, or
Medieval peasants’ civilisation revisited’ by A.Ya. Gurevich aims to show
that Middle Ages cannot be analysed in the guise of feudalism and that the
mediaeval society is characterised by its social multiformity.
L.A. Pimenova in her paper discovers the first steps in the formation of the
term feodalisme in the 18th century France. A. Guerreau trying to define
the essence of “feudalism” has proved that by the end of the end of the 18th
century European society had failed to understand such two major words
typical for the Middle Ages as dominium and ecclesia, which had become
foreign. While considering the term ‘feudalism’ the members of the confer-
ence discussed also S. Reynolds’ monograph “Fiefs and vassals” where she
draws historians’ attention to the issues of source study and the features of
legal thought. I.V. Dubrovsky’s paper aims to expose different interpreta-
tions of the terms “feud” and “vassalage” by S. Reynolds. N.A. Selunskaya
bases on her critical assessment of S. Reynolds’ ideas and interprets some
problems of interrelations between town and countryside in the categories
of vassalage, which were traditional for historiography. Several papers deal
with comparative analysis of social relations in Medieval Rus’ and Western
Europe. At meantime the authors try to compare historical features of Russia
and Western Europe without special emphasis on the existence of the feudal
characteristics but looking for the any historical expression of the common
principles and forms of human relations. Thus P.S. Stephanovich denies
existence of any vassal contract principle in relations between the prince and
the nobles. He looks on the feast as a ritual supplying social contacts and
strengthening interpersonal attitudes. The similar line of research is found in
P.V. Lukin’s paper, which focused on different archaic rituals of Eastern
Europe where features of feast, festival and political gathering are inter-
mixed together. Certain concepts of feudalism in Medieval Rus’ were
analysed in V.Ya. Petrukhin’s paper. The author shows that medieval
Russian culture had some feudal features but tries to develop a more correct
31 Одиссей. 2006
482
Summaries
terminology for the analysis of social relations. The participants on the
whole agree that the issues of . any essential mediaeval features are connect-
ed with further research on the term ‘feudalism’. Contemporary research
methods and new sources uncovered make them to revise many concepts
and ideas. This is the essential message of P.Yu. Uvarov’s final talk, which
summarises conclusions and observations of the conference speakers.
I.E. Surikov
The Legislative Reforms of Drakon and Solon:
Religion, Law and Formation of the Athenian Citizen Community
Of all city-states of Archaic Greece, only in Athens not one but two famous
lawgivers, Drakon and Solon, acted. The former enacted his laws, related
mostly to crimes of homicide, in 621 B.C.; the latter’s main activity took
place in 594 B.C. The article deals with some aspects of their legislation.
The codification of law was a process characteristic exactly of the Archaic
epoch of Greek history. The process contributed greatly into the shaping of
the Greek polls, and, first of all, it was the principal step from “pre-law” to
law in the proper sense. Earlier, before isolation of the autonomous “juridi-
cal function”, legislative relations had been comprehended only in the con-
text of a wider mental conceptual complex dominated by religious cate-
gories. But even after the codification Greek law retained religious conno-
tations for a long time. Early Greek legislative reforms were syncretistic
actions pertaining to religion as well as to law. To be strict, the “religious
function” also was by no means isolated in the conditions of polls, where
everything was sacred, and nothing profane. Polis was not only a political
but in the same degree a religious phenomenon, with political and religious
structures coinciding in their principle. If polls is a citizen community self-
constituted as a political organisation (i.e. the state), so also polls is a citi-
zen community self-constituted as a religious organisation (i.e., as a matter
of fact, the “Church”). Early Greek legislations created the phenomenon of
polls both in its political and religious sense. They gave a religious sanction
to the polls, and they gave a polls sanction to the religion.
Drakon’s laws on homicide were enacted to put blood-feud under the
control of the state. Murder in Greek mentality was considered a public
crime only as it was associated with religious pollution of the polis. Drakon
dealt with this pollution when he ordered murderers to leave Attica.
Religious elements of the Solonian laws were even more manifest. The law-
giver regulated funerary rites with the same intention to escape pollution.
The idea of pollution is implicit in many measures carried out by Solon. And
in general a lot of his laws had a direct relation to religion. Among them are
introduction of the lot for electing magistrates, the reform of calendar, estab-
Summaries
483
lishment of new feasts, etc. Solonian reforms demonstrate serious Delphic
influence. As a result of these reforms, religious life of Athens changed very
much; the system of polis religion, civic religion emerged instead of the trib-
al one.
K.A. Levinson
‘The Removal of the Unfounded Variety’:
Language Norm Setting in the 19th Century Germany
and Its Socio-Cultural Context
The article describes some aspects of the socio-cultural context in which the
social construction of the modem High German spelling norm took place in
the 19th century. Rather than regarding the establishment of a single nation-
al language norm as a linguistic phenomenon, the author argues that this was
largely a societal process, to be described and analysed as progressing in
interaction with a number of social, economic, political and cultural factors.
These include, to begin with, the German nationalism characterised by uni-
tarism, militarism and etatism. Overcoming the local spirit, however, was a
task that took the unified German Empire decades after 1871 to solve, while
political federalism and the diversity of local dialects kept working the other
way, which made it difficult to impose uniform norms on the national level.
Among further factors of particular importance, Prussia’s hegemony in
military, political and economic terms has to be stressed. With Prussia
growing and assuming influence, values such as army discipline, uniformi-
ty, order and respect for the authorities’ instructions were instilled in the
middle-class youth throughout the northern part of Germany.
Beside these virtues, Prussian (and, later on, German Empire’s) impres-
sive success in warfare and economy had a lot to do with modem industrial
technology involving much standardisation and precision. In particular, rail-
ways and telegraph were instrumental in winning wars as well as in con-
fronting masses of Germans with the advantages of standardisation. Equally
important, however, was the experience of managing and rationalising
intangible things such as weights, measures, currencies and time reckoning
which were all reformed by the state in the course and for the benefit of eco-
nomic and political integration.
The second half of the 19th century saw a proliferation and consolida-
tion of educational institutions in Germany with increasing masses of
schoolchildren learning to read and write and then passing their exams in
order to get qualified for entering universities, professions or military serv-
ice. Teachers were confronted on the daily basis with the inconvenience of
lacking reliable spelling rules, which rendered them unable either to teach
unambiguous norms or to give incontestable marks at exams. Within the
484
Summaries
institutional frameworks they were allowed to form, teachers made increas-
ing efforts at working out sets of rules for local use and turned to legislative
and executive bodies urging them to adopt such sets of rules on the state and
national level. These endeavours culminated in two conferences (1876 and
1901) sponsored by the government to elaborate uniform spelling norms for
High German. Half the participants of both conferences were teachers,
which was indicative of the interests behind the project. The first confer-
ence’s decisions were not implemented as Bismarck intervened and infor-
mally vetoed them, showing most tellingly the importance of politics as a
factor in the process under discussion.
Powered largely by the nationalist sentiments of the middle-class hail-
ing unity in every sphere, the unification of Germany and the ensuing
homogenisation were conducted by the state, and so it was the state that was
entrusted to impose a national orthography designed by a handful of experts
for the unified nation. National unity understood as all-pervading uniformi-
ty (which was thought of as beneficial against the background of advantages
it brought in industry and warfare) was an ideal that led many philologists,
teachers and officials to want pluralism removed as from written so even
from spoken High German. In a number of German states (1854-1881) and
consequently (1901-1903) in the whole of the Empire, orthography was
codified and strict (if partly contradictory and illogical) spelling norms were
imposed by governments for schools and administration bodies. As for
handwriting and pronunciation, the development was largely similar if less
successful. Concerted efforts of groups of “Bildungsbuergertum” and gov-
ernment resulted in Germany’s entering the 20th century with fixed spelling
norms that were neither non-contradictory nor easy to learn and to use but
uniform and legitimated by the state’s authority.
K.L. Bannikov
Quia absurdumx the Semiotics of Violence
in the Metamorphoses of Sociogenesis
The article is devoted to the study of violence in Russian army. It does not
deal with violence against a foreign enemy and avoids the question of war
situations (as in Afghanistan or Chechnya). It is focused in an anthropolog-
ical approach to violence.
In Russian army, dedovshchina involves specific stages. The two-year
term of service is informally divided into four or five periods of time that
confer a special status on enforced participants, from the lowest to the high-
est. The raw recruits are called dukhi during their first six months of serv-
ice. They become molodye for the next six months, then cherepa. During the
last semester, they are called dedy and dembelia when they are about to quit
Summaries
485
the army. Older conscripts abuse younger ones. The informal status is more
important than the official rank in everyday relationships. People in the
army wear the same clothes, are submitted to the same time organization
and the same orders. However, each soldier in every military unit is sub-
mitted to varying local traditions. Author underlines the effect of external
influences on each group’s member. Daily life is attentively described: the
progressive personalisation of the uniforms, the barracks life, the quality of
food, and the transformation of the body during these times.
Author shows that these observations are not as specific as they could
seem. As he suggests, informal hierarchies in the Russian army coincide
with the universal trinomial model “pariah-mass-elite”. Inside external
groups, inter-individual communications deteriorate and are progressively
replaced with new norms, new hierarchies, new signs and symbols and, as a
conclusion, new traditions. However, as author underlines, these new struc-
tures remember archaic rituals more than modem legal institutions. In army
communities, the rites of transition to the next hierarchical stage involve a
ritual of violence. During the first year of service individuality is steadily
destroyed; while during the second year this individual destroys the others.
Social mobility in extreme communities reproduces a system of organised
violence on the principles of archaic initiation rites.
Bannikov here refers to his own initial works and interests for tradi-
tional rituals. Dedovshchina appears as the symbol of an archaic syndrome.
Author briefly compares different closed institutions in post-Soviet
Russia. The difference between army and prisons, according to Bannikov, is
slight. The main difference lays in the fact that the term of service is the
same for everybody and the seasonal manning.
From the army’s case, Bannikov contributes to the understanding of
post-Soviet society, underlying the violence of archaic practices generated
by the transformation of an authoritarian regime.
M.Yu. Reutin
Meister Eckhart and Gregory Palamas.
On the Similarity between the Theological Teachings
of German Mysticism and Byzantine Hesychasm
This article on the essential teaching of great German and Byzantine the-
ologians Meister Eckhart (c. 1260-c. 1328) and Gregory Palamas
(c. 1296-1359) is the result of many years of personal study. The article
introduces to their theories of divine “action” and is divided into three chap-
ters. The first chapter is an overview of Eckhart’s and Palamas’ studies of
“analogy” and “energy” represented in their sermons and homilies, Latin
and Greek treatises, first of all “Expositio Evangelii secundum lohannem”
486
Summaries
and “Triads in Defense of the Holy Hesychasts”. The second chapter deals
with the common neoplatonical genealogy of Eckhart and Palamas. The
third chapter is a description of their studies of ecstasy, which are based on
Aristotle’s theory of “active intellect”. The research is aimed to find a com-
mon approach to the comparison between German and Byzantine theology
of the Late Middle Ages.
S.I. Luchitskaya
Christian-Muslim Imagological Polemics
in the Time of the Crusades
The article contributes to the comparative study of the religious images. The
subject of the investigation borders on two issues. The first one deals with
the review of the role of the visual in medieval culture and rouses curiosity
to the role of the images in the social and mental practice of the medieval
society (The author means the so-called iconic turn which has become vital
for the Historians). The second issue concerns the central hermeneutic prob-
lem of the “Other”, the image of the “Alien”. The author is trying to prove
that the attitude towards images in different cultures was a criterion to dis-
tinguish between the “Self’ and the “Alien”. She puts forward the idea of
different imagological conceptions in the Muslim and Christian cultures
intensifying the mutual hostility of the Muslims and the Christians. The arti-
cle focuses on the Crusades’ epoch. This period is characterized by the
intensification of the reflection on the images which was closely connected
with the struggle of Muslims and Christians for the sacred space. The arti-
cle is based on the different kind of sources: theological treatises reflecting
meditations of the Christian intellectuals (Alanus ab Insulis, Oliveras
Coloniensis); crusader chronicles and chansons de geste which illustrate the
attitude towards the “Other” in the consciousness of the common people;
travel accounts and notes of pilgrims which sometimes depict the paradox-
ical facts of the common worship of the sacred images. The author is trying
to reconstruct the different stages of the Christian-Muslim struggle for the
control of the sacred objects in the Holy Land. The author holds that the acts
of desecration were grounded not only in political and ideological motives
but also in the Christian-Muslim controversy concerning the images. She
analyses the argumentation of the Christian writers defending the veneration
of images as well as their reflection on the status and the functions of reli-
gious images. The author of the article arrives at the conclusion that the
Christian-Muslim controversy played a great role in the formation of the
Christian conception of the religious image.
ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Ellis Davidson Н.R. Scandinavian Mythology. L., 1969. P. 55.
Meehan A. Illuminated Letters. L.: Thames & Hudson, 1997.
Turville-Petre E.O.G. Myth and Religion of the North. L., 1964. Ill. 47,48.
VriesJ.de. AltgermanischeReligionsgeschichte. B., 1970. Bd. I. S. 469.
СОДЕРЖАНИЕ
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ
П.Ю. Уваров
В ПОИСКАХ ФЕОДАЛИЗМА.............................. 5
А.Я. Гуревич
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ, ИЛИ О СРЕДНЕВЕКО-
ВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ..................... 11
И.В. Дубровский
КАК Я ПОНИМАЮ ФЕОДАЛИЗМ.......................... 50
Л.А. Пименова
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О “ФЕОДАЛЬНОМ” В ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НОЙ ФРАНЦИИ XVIII в.............................. 63
А. Герро
ФЬЕФ, ФЕОДАЛЬНОСТЬ, ФЕОДАЛИЗМ. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
И ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.......................... 77
Н.А. Селунская
“СЕНЬОРИЯ, ОБЩИНА И ВАССАЛИТЕТ ПРОСТОЛЮДИНОВ”, ИЛИ
“ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ РЕЙНОЛЬДС”.............. 114
П.В. Лукин
ПРАЗДНИК, ПИР И ВЕЧЕ: К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКИХ
ЧЕРТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ
СЛАВЯН.......................................... 134
П.С. Стефанович
БОЯРСКАЯ СЛУЖБА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ............ 151
В.Я. Петрухин
ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ...... 161
П.Ю. Уваров
ФЕОДАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ............................ 171
А.Я. Гуревич
POST SCRIPTUM: PEASANT SOCIETY И ПРОФЕССОР КРИС УИКХЕМ 184
Содержание
489
КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО
И.Е. Суриков
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДРАКОНТА И СОЛОНА: РЕЛИ-
ГИЯ, ПРАВО И ФОРМИРОВАНИЕ АФИНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБЩИНЫ......................................... 201
К.А. Левинсон
“УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННОГО МНОГООБРАЗИЯ”:
НОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ В ГЕРМАНИИ XIX В. И ЕГО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ.......................... 221
КЛ. Банников
“ПОТОМУ ЧТО АБСУРДНО”: СЕМИОТИКА НАСИЛИЯ В МЕТА-
МОРФОЗАХ СОЦИОГЕНЕЗА........................... 261
А.Г. Левинсон
ГОСЗАКАЗ НА ДЕДОВЩИНУ: КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ....... 279
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
М.Ю. Реутин
МАЙСТЕР ЭКХАРТ - ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (К СОПОСТАВЛЕНИЮ
НЕМЕЦКОЙ МИСТИКИ И ВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА)...... 285
С.И. Лучицкая
ХРИСТИАНСКО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛЕМИКА ПО ПОВОДУ
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.......... 319
ПУБЛИКАЦИИ
Г.В. Бондаренко
МУРЬХУ МОККУ МАХТЕНИ: ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ
ИРЛАНДИИ И РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТОСТИ....... 351
Мурьху мокку Махтени
ЖИТИЕ СВЯТОГО ПАТРИКА (.перевод Г.В. Бондаренко и
С.В. Шкунаева, комментарии Г.В. Бондаренко).... 363
Е.А. Гуревич
КУЛЬТ ФРЕЙРА В ШВЕЦИИ. “ПРЯДЬ ОБ ЭГМУНДЕ БИ-
ТОМ ИГУННАРЕ ПОПОЛАМ” (перевод, комментарии и статья
Е.А. Гуревич).................................. 390
490
Содержание
ИСТОРИЯ РОССИИ: QUO VADIS?
Б.Н. Миронов
ДИСКУРС О ЕВРОПЕЙСКОСТИ РОССИИ, ИЛИ КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ ЕВРОПЫ: ЕВРОПА С РОССИЕЙ ИЛИ БЕЗ?........... 420
РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ
Л.П. Лаптева
У ИСТОКОВ ТРАГЕДИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяно-
ведение (1917 - начало 30-х годов). М., 2004 ..... 444
ЮБИЛЕИ............................................ 458
К СТОЛЕТИЮ Леонида Ефимовича ПИНСКОГО............. 458
ПАМЯТИ УШЕДШИХ.................................... 469
Михаил Леонович ГАСПАРОВ (1935-2005).............. 469
Владимир Николаевич ТОПОРОВ (1928-2005) .......... 471
Елеазар Моисеевич МЕЛЕТИНСКИЙ (1918-2005)......... 478
Арон Яковлевич ГУРЕВИЧ (1924-2006)................ 480
SUMMARIES......................................... 481
ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ............................. 487
CONTENTS
FEUDALISM ON HISTORIANS’ TRIAL
P.Yu. Uvarov
IN SEARCH OF FEUDALISM...................................... 5
A.Ya. Gurevich
FEUDALISM ON HISTORIANS’ TRIAL, OR MEDIAEVAL PEASANT
CIVILISATION REVISITED..................................... 11
I.V. Dubrovsky
MY PERCEPTION OF FEUDALISM................................. 50
!
L.A. Pimenova
THE DELIBERATIONS ON THE “FEUDAL” IN THE 18TH CENTURY
PRE-REVOLUTIONARY FRANCE................................... 63
A. Guerreau
FIEF, FEUDALITY, FEUDALISM. SOCIAL ORDER AND HISTORICAL
THOUGHT.................................................... 77
N.A. Selunskaya
“SIGNORIA, COMMUNES AND VASSALAGE OF THE BASE-BORN
PEOPLE”, OR “ASSUMPTION OF S. REYNOLDS’ INNOCENCE”........ 114
P.V. Lukin
FESTIVAL, FEAST AND VECHE: ON SOME ARCHAIC FEATURES OF
WESTERN AND EASTERN SLAVS’ SOCIAL ORDER................... 134
PS. Stephanovich
THE BOYARS’ SERVICE IN MEDIAEVAL RUS’..................... 151
V.Ya. Petrukhin
FEUDALISM ON TRIAL OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY.............. 161
P.Yu. Uvarov
FEUDALISM IN THE 21ST CENTURY............................. 171
A.Ya. Gurevich
POST SCRIPTUM: “PEASANT SOCIETY” AND PROFESSOR CHRIS
WICKHAM................................................... 184
CULTURAL HISTORY OF THE SOCIAL
I.E. Surikov
THE LEGISLATIVE REFORMS OF DRAKON AND SOLON: RELIGION,
LAW AND THE FORMATION OF ATHENIAN CITIZEN COMMUNITY....... 201
492
Contents
К.A. Levinson
“THE REMOVAL OF THE UNFOUNDED VARIETY”: LANGUAGE NORM
SETTING IN THE 19TH CENTURY GERMANY AND ITS SOCIO
CULTURAL CONTEXT........................................ 221
K.L. Bannikov
QUIA ABSURDUM-. THE SEMIOTICS OF VIOLENCE IN THE
METAMORPHOSES OF SOCIOGENESIS........................... 261
A.G. Levinson
THE STATE ORDER FOR DEDOVSCHINA. A BRIEF REMARK......... 279
COMPARATIVE HISTORY
M.Yu. Reutin
MEISTER ECKHART AND GREGORY PALAMAS. ON THE SIMILARITY
BETWEEN THE THEOLOGICAL TEACHINGS OF GERMAN MYSTICISM
AND BYZANTINE HESYCHASM................................. 285
S.I. Luchitskaya
CHRISTIAN-MUSLIM IMAGOLOGICAL POLEMICS IN THE TIME OF THE
CRUSADES................................................ 319
PUBLICATIONS
G.V. Bondarenko
MUIRCHU MOCCU MACHTHENI: CONVERSION TO CHRISTIANITY IN
EARLY IRELAND AND THE BIRTH OF NATIONAL SAINTHOOD....... 351
Muirchii moccu Machtheni
THE LIFE OF SAINT PATRICK (translated by G.V. Bondarenko, S.V. Shkunaev,
notes by G.V. Bondarenko)............................... 363
Ye. A. Gurevich
FREYR’S CULT IN SWEDEN. “THE STORY OF EGMUND THE BEATEN
AND GUNNAR HALF-AND-HALF” (translation and notes by Ye.A. Gurevich) 390
HISTORY OF RUSSIA: QUO VADIS?
B.N. Mironov
A DISCOURSE ON EUROPEAN FEATURES OF RUSSIA, OR THE
CONSTRUCTION OF EUROPE: EUROPE WITH RUSSIA OR WITHOUT?.... 420
Contents 493
BOOK REVIEWS
L.P. Lapteva
AT THE SOURCES OF RUSSIAN HUMANITARIAN INTELLEGEN-
CIA'S TRAGEDY
M.A. Robinson. The Fortunes of Academic Elite: Russian Slavic
Studies (1917 - early 1930-s). Moscow, 2004 ................... 444
ANNIVERSARIES.................................................. 458
The 100th Anniversary of Leonid Efimovich PINSKY............... 458
IN MEMORIAM.................................................... 469
Mikhail Leonovich GASPAROV (1935-2005)......................... 469
Vladimir Nikolaevich TOPOROV (1928-2005)....................... 471
Yeleazar Moiseevich MELETINSKY (1918-2005)..................... 478
Aron Yakovlevich GUREVICH (1924-2006).......................... 480
SUMMARIES...................................................... 481
SOURCES OF ILLUSTRATIONS....................................... 487
Научное издание
ОДИССЕЙ
Человек в истории
2006
Феодализм
перед судом историков
Утверждено к печати
Ученым советом
Института всеобщей истории
Российской академии наук
Зав. редакцией ИЛ. Петрова
Редактор В.Н. Токмаков
Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина
Технический редактор Т.В. Жмелькова
Корректоры А.Б. Васильев,
Г.В. Дубовицкая, Р.В. Молоканова
Подписано к печати О7.О8.2(Х)6. Формат 60 х 90 '/16
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 31,0 + 0,1 вкл. Усл.кр.-отг. 32,4. Уч.-изд.л. 35,2
Тираж 820 экз. Тип. зак. 528
Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП “Типография “Наука”
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА” РАН
Магазины «Книга-почтой”
121099 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52 www.LitRAS.ru E-mail:
info@litras.ru
197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7«Б»; (код 812) 235-40-64
Магазины «Академкнига” с указанием букинистических отделов
и “Книга-почтой”
690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 (“Книга-почтой”);
(код 4232) 45-27-91 antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 (“Книга-почтой”);
(код 3433) 50-10-03 Kniga@sky.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 (“Книга-почтой”);
(код 3952) 42-96-20 aknir@irlan.ru
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45;
(код 3912) 27-03-90 akademkniga@ krasmail.ru
220012 Минск, просп. Независимости, 72;
(код 10375-17) 292-00-52, 292-46-52, 292-50-43
www.akademkniga.by
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00 akadkniga@nm.ru;
(Бук. отдел 125-30-38)
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; 932-74-79
127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96 (Бук. отдел)
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90; 334-72-98 akademkniga@naukaran.ru
101000 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8 строение 4; 624-79-19
(Бук. отдел)
630091 Новосибирск, Красный проспект, 51;
(код 3832) 21-15-60 akademkniga@mail.ru
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 (“Книга-почтой”);
(код 3833) 30-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пущино Московской обл., МКР “В”, 1 (“Книга-почтой”);
(код 277) 3-38-80
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57;
(код 812) 272-36-65 ak@akbook.ru (Бук. отдел)
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4; (код 812) 297-91-86
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16;
(код 812) 323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18;
(код 3822) 51-60-36 akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 (“Книга-почтой”);
(код 3472) 24-47-62 akademkniga@ufacom.ru
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85
Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: 241-03-09
www.LitRAS.ru
E-mail: info@litras.ru
zakaz@litras.ru
Склад, телефон 291-58-87
Факс 241-02-77
ODYSSEUS
• I I
В следующем номере «Одиссея» нитейte:
История как игра метафор
’ * » '
Борьба с космополитизмом на истфаке МГУ
Остракизм в классических Афинах:
политический карнавал?
Топонимы в средневековой арабской
географии
1
*
ISBN 5-02 034005-7
i -
41
0020
340053
НАУКА