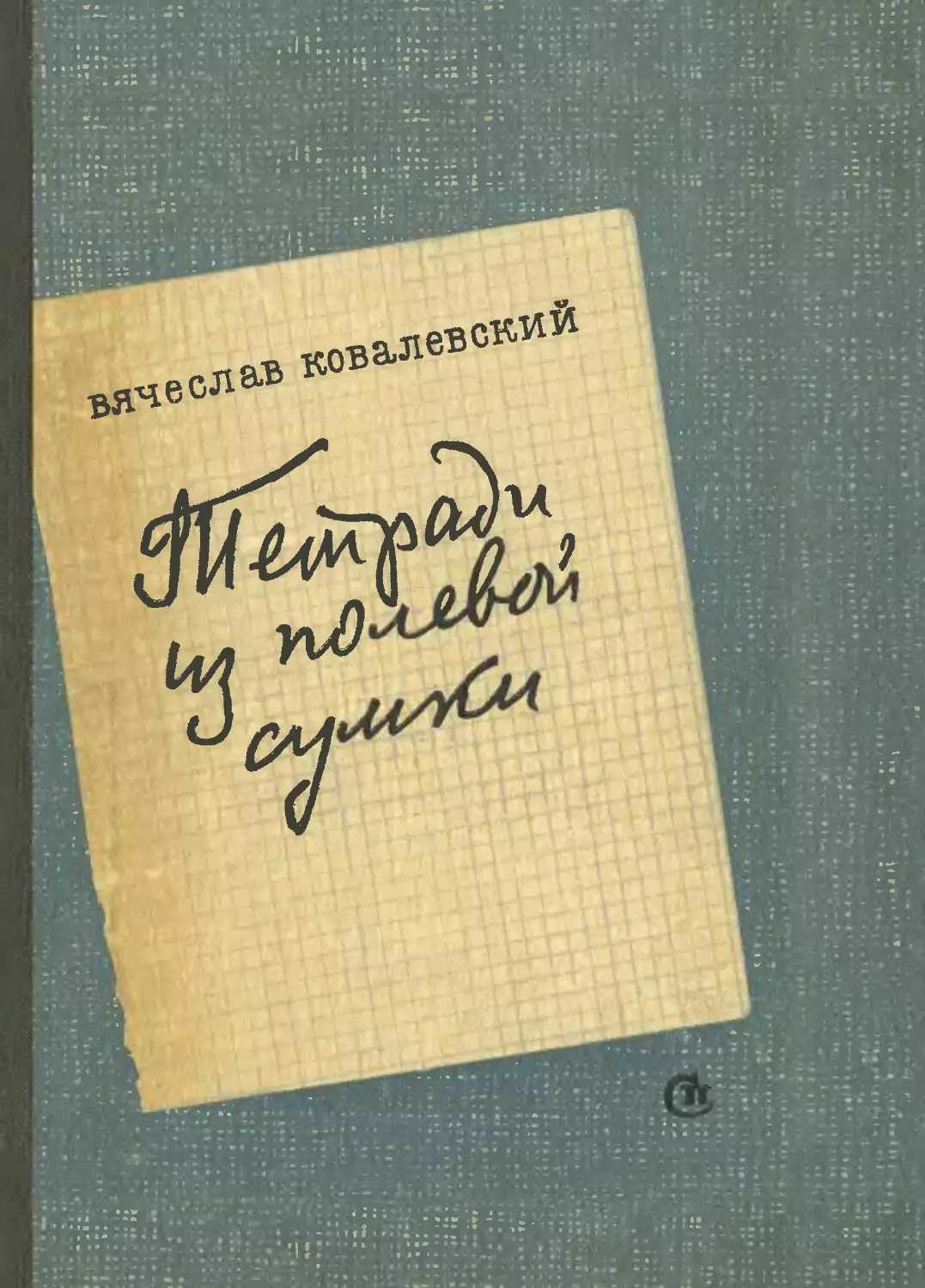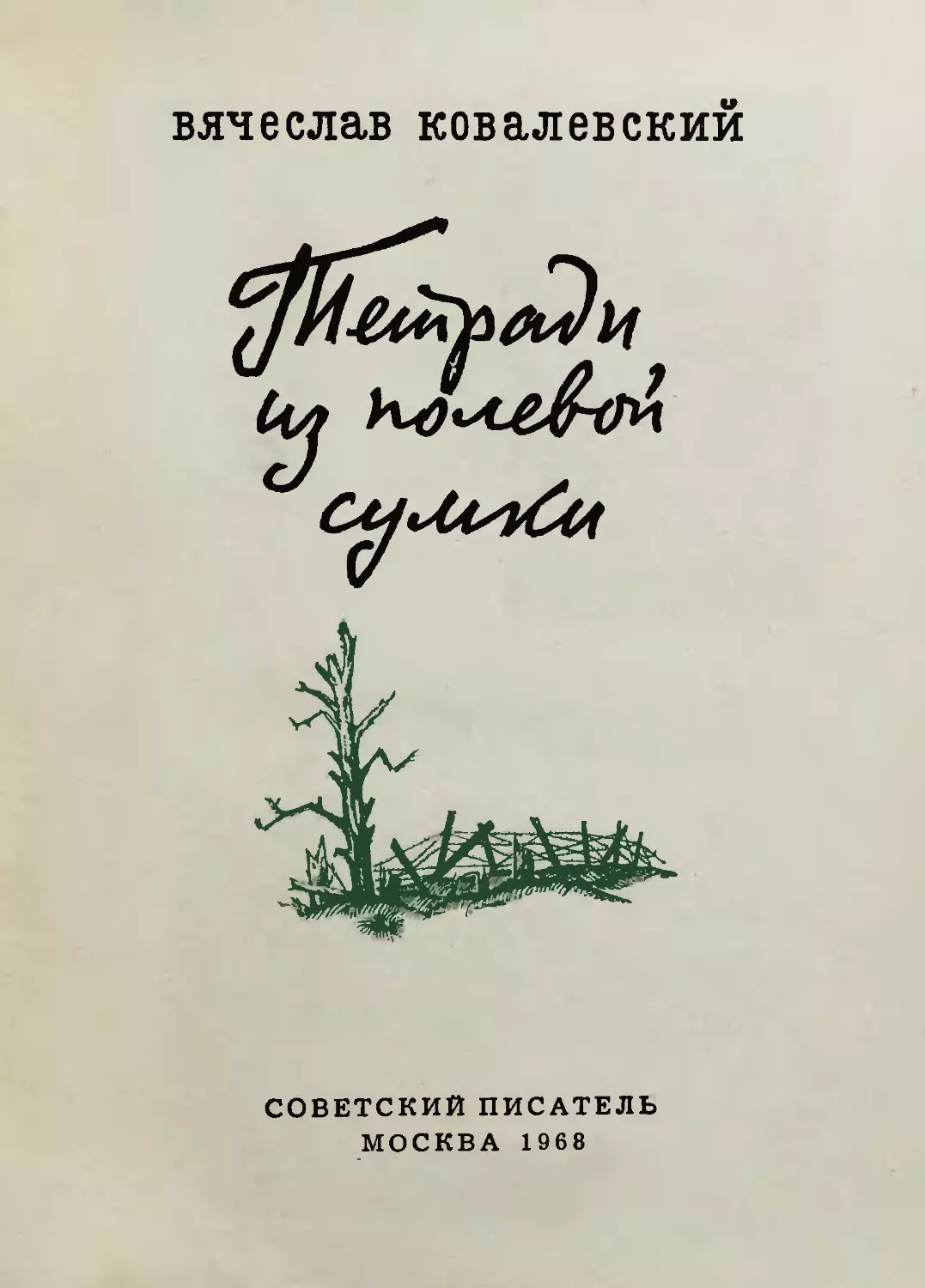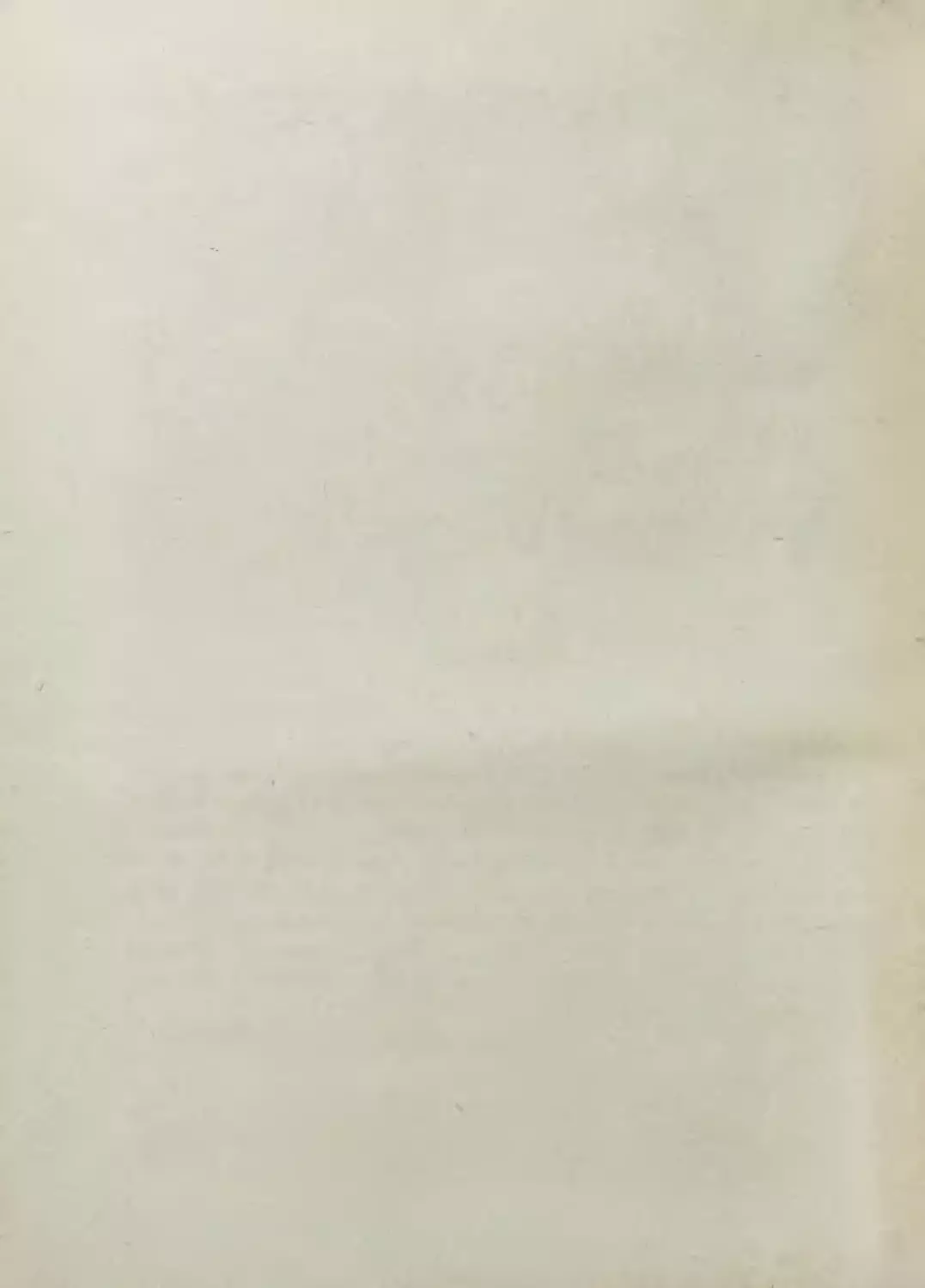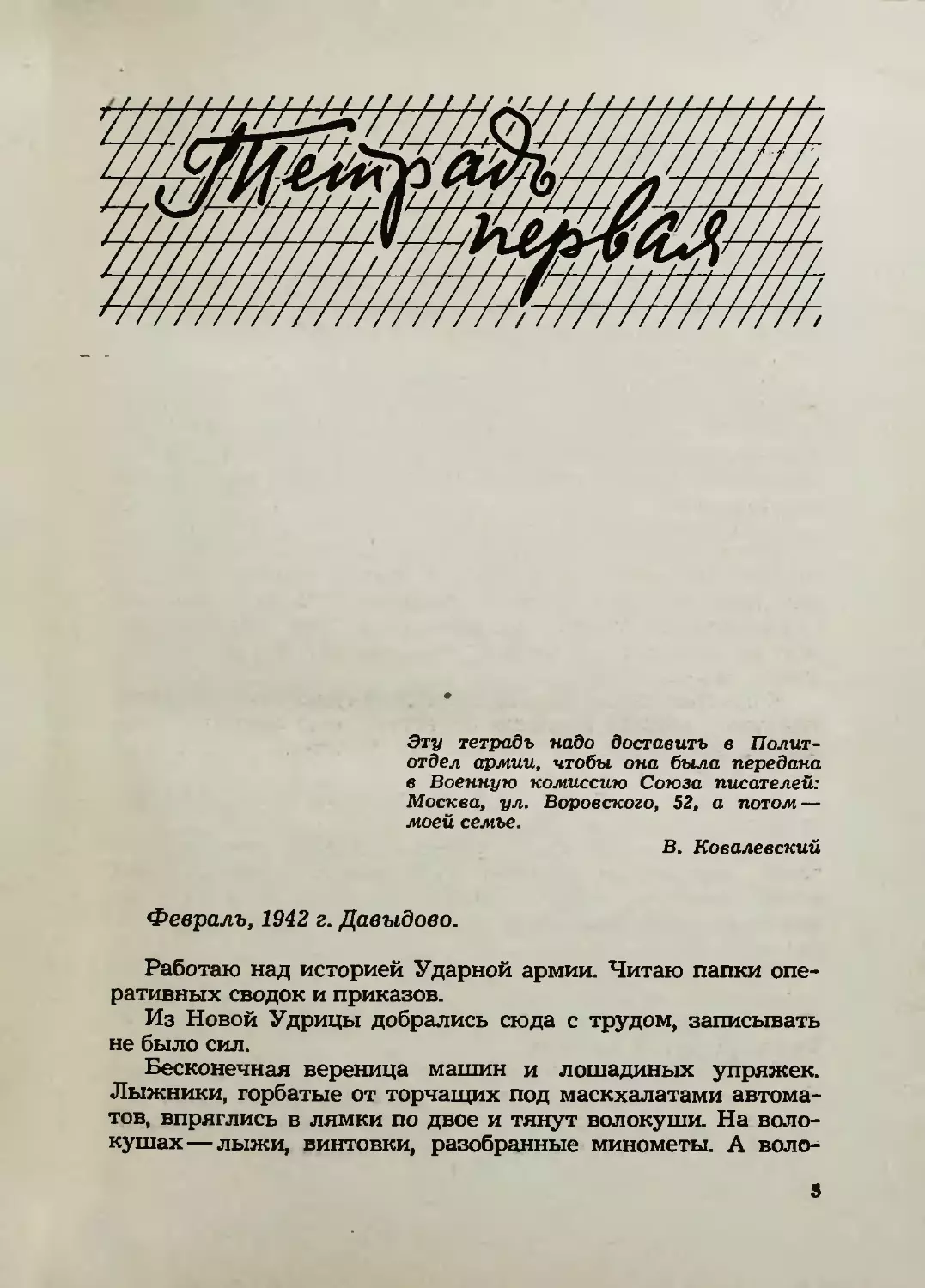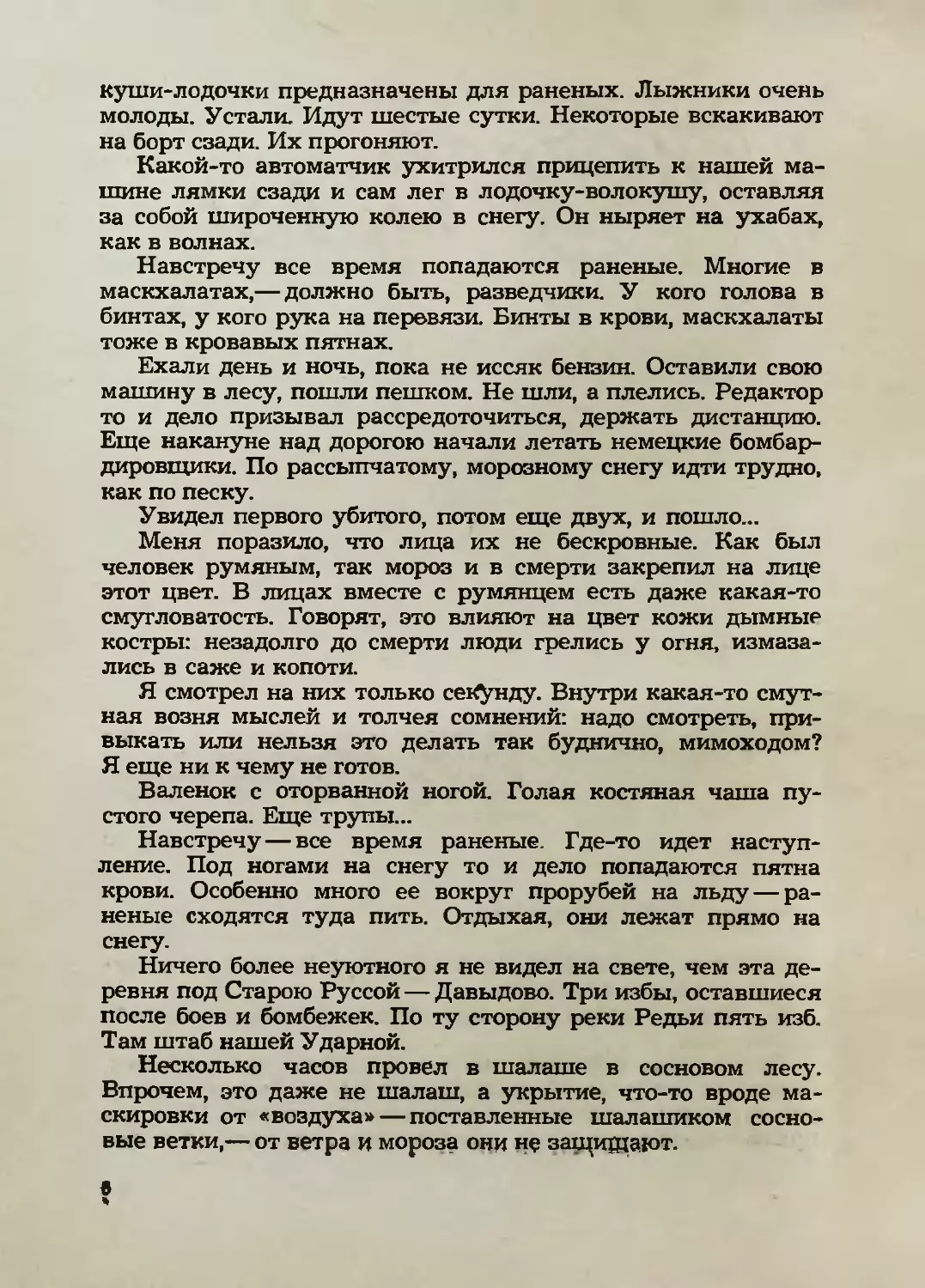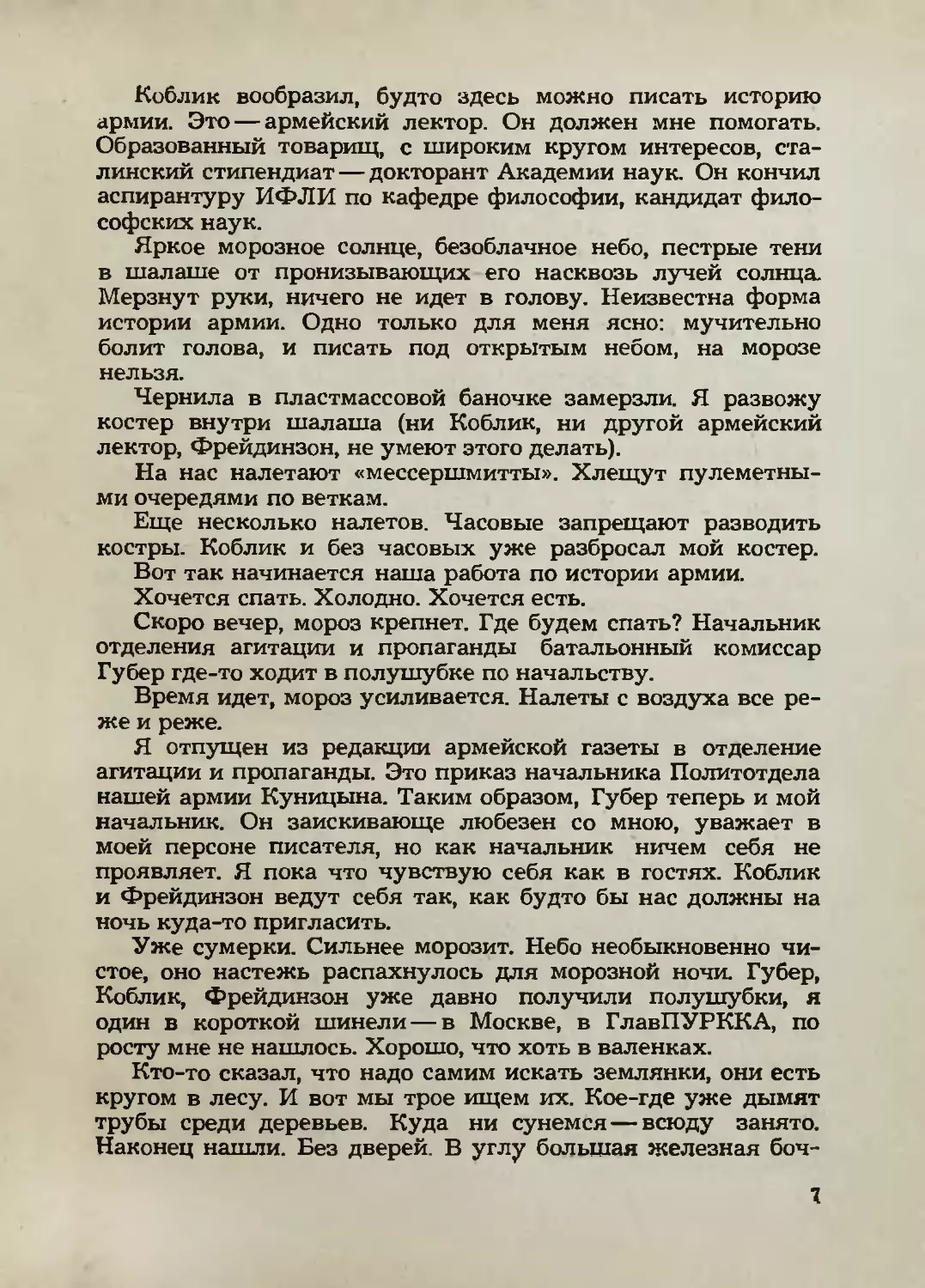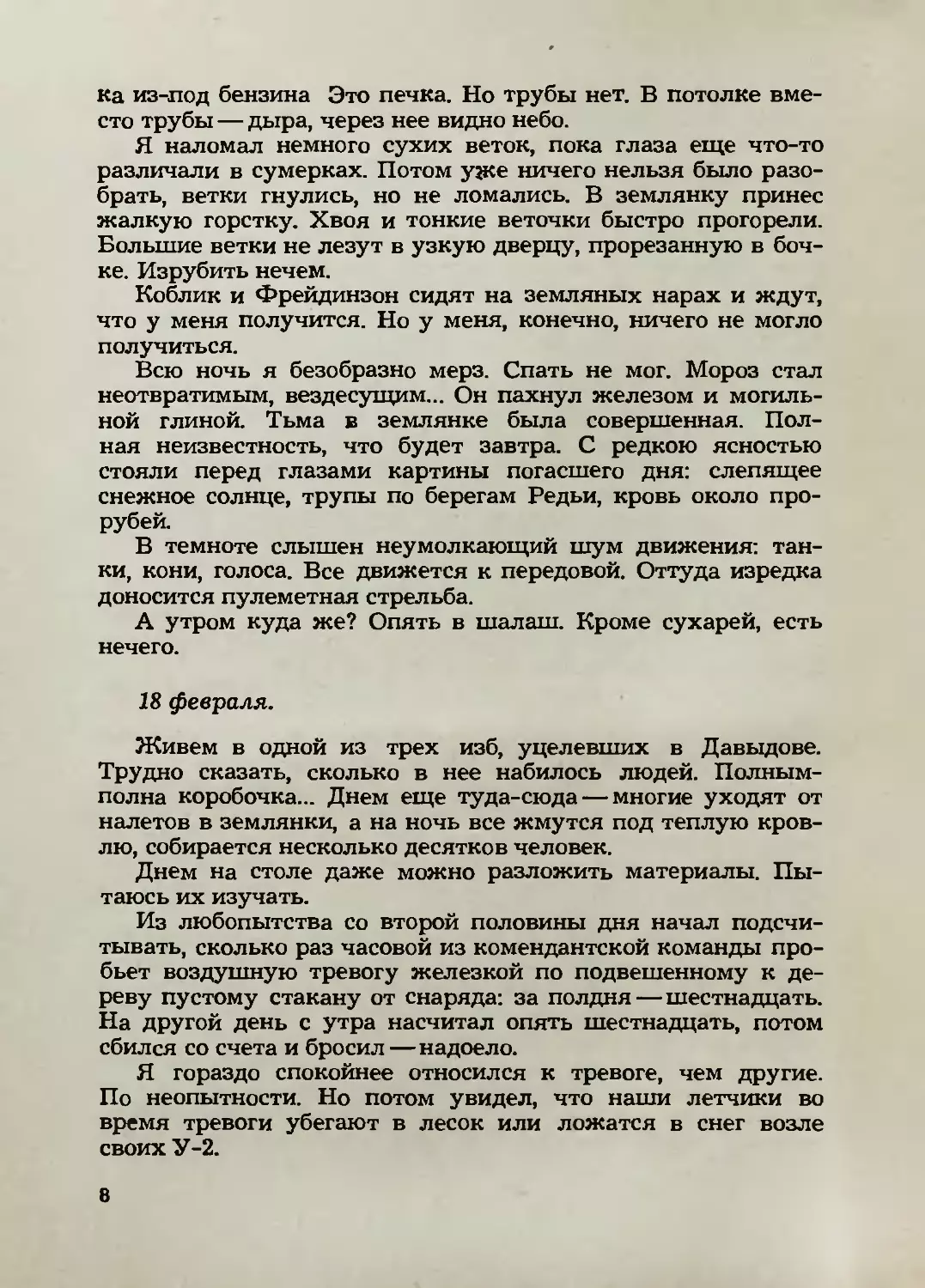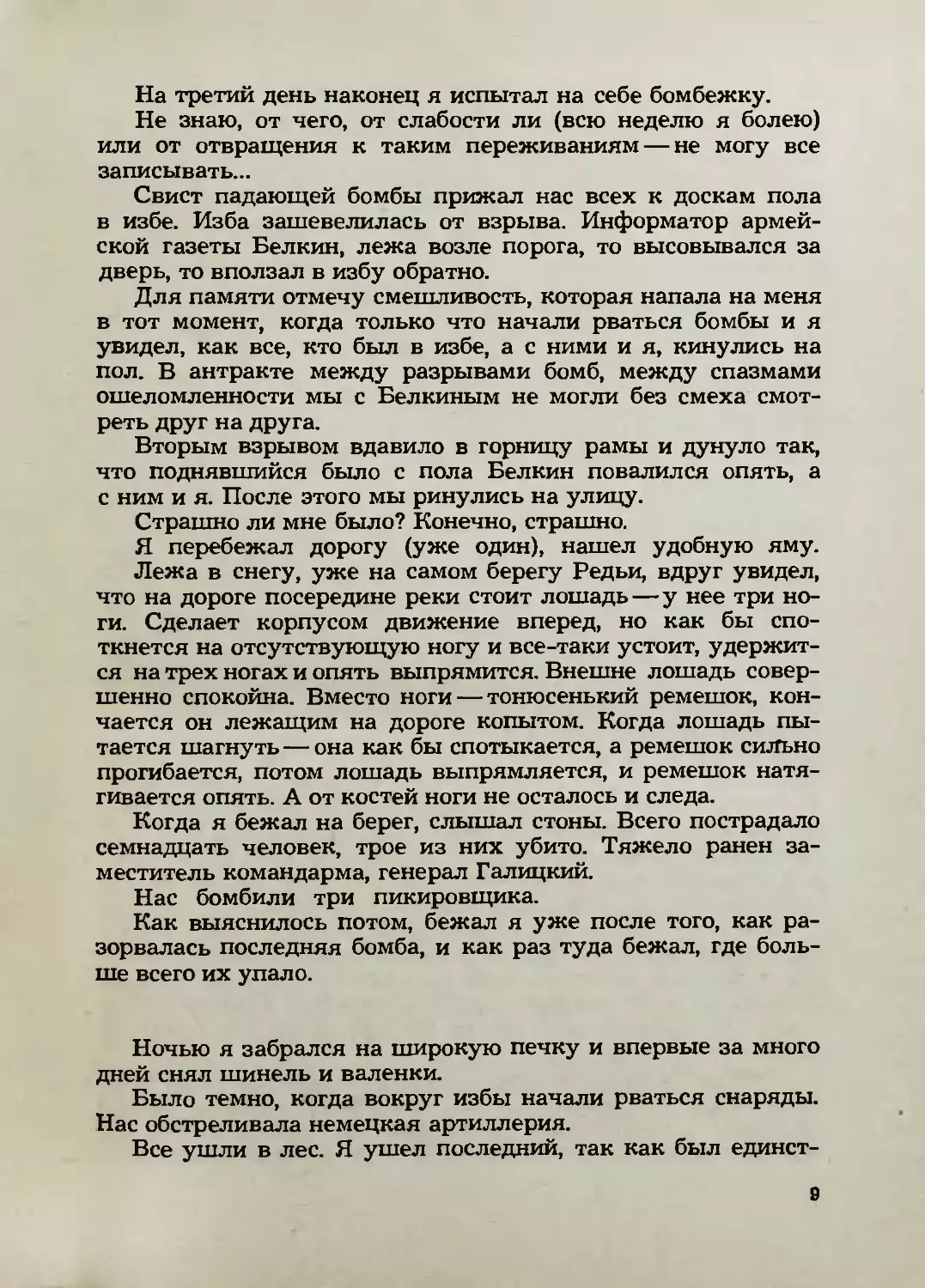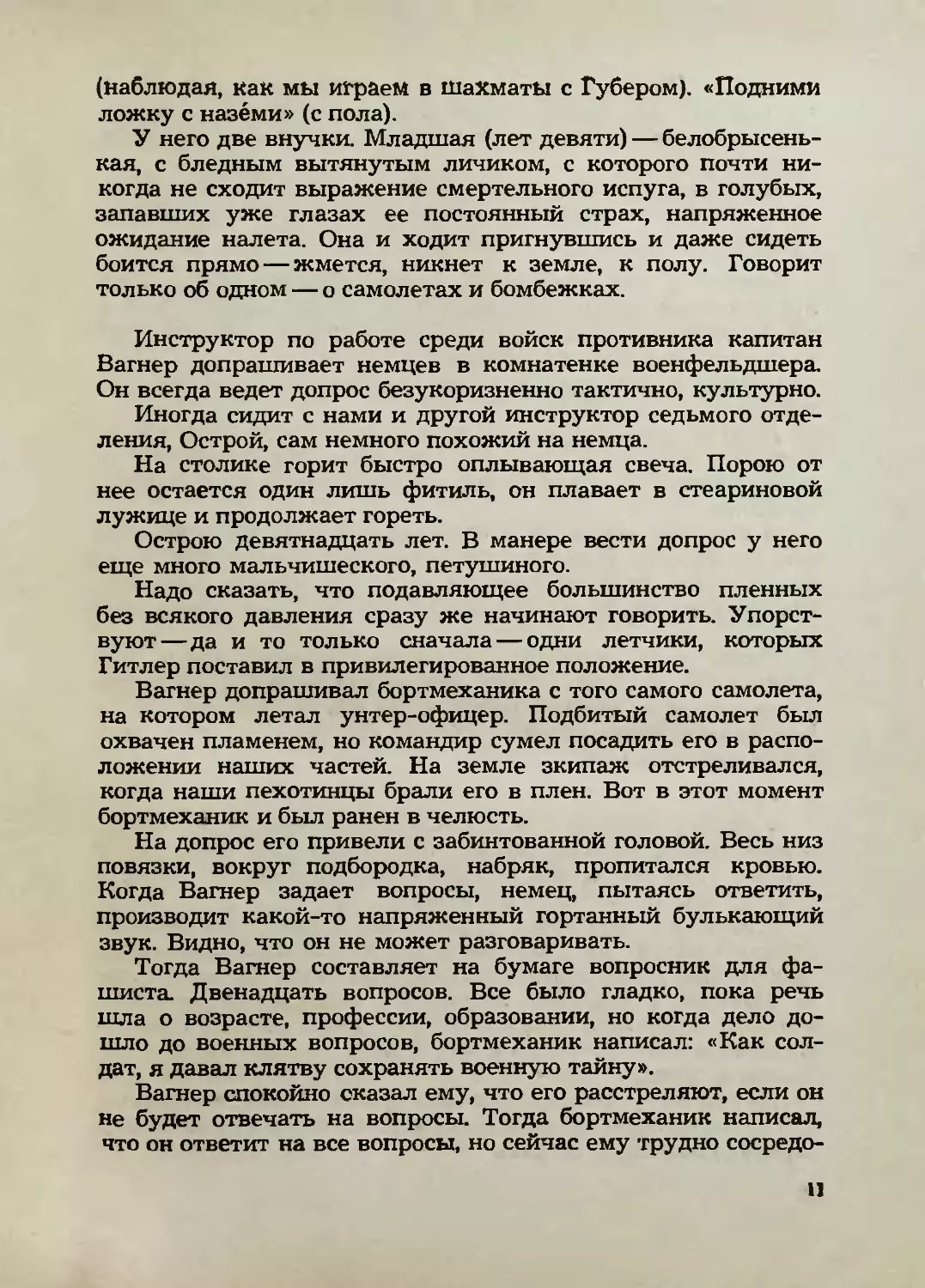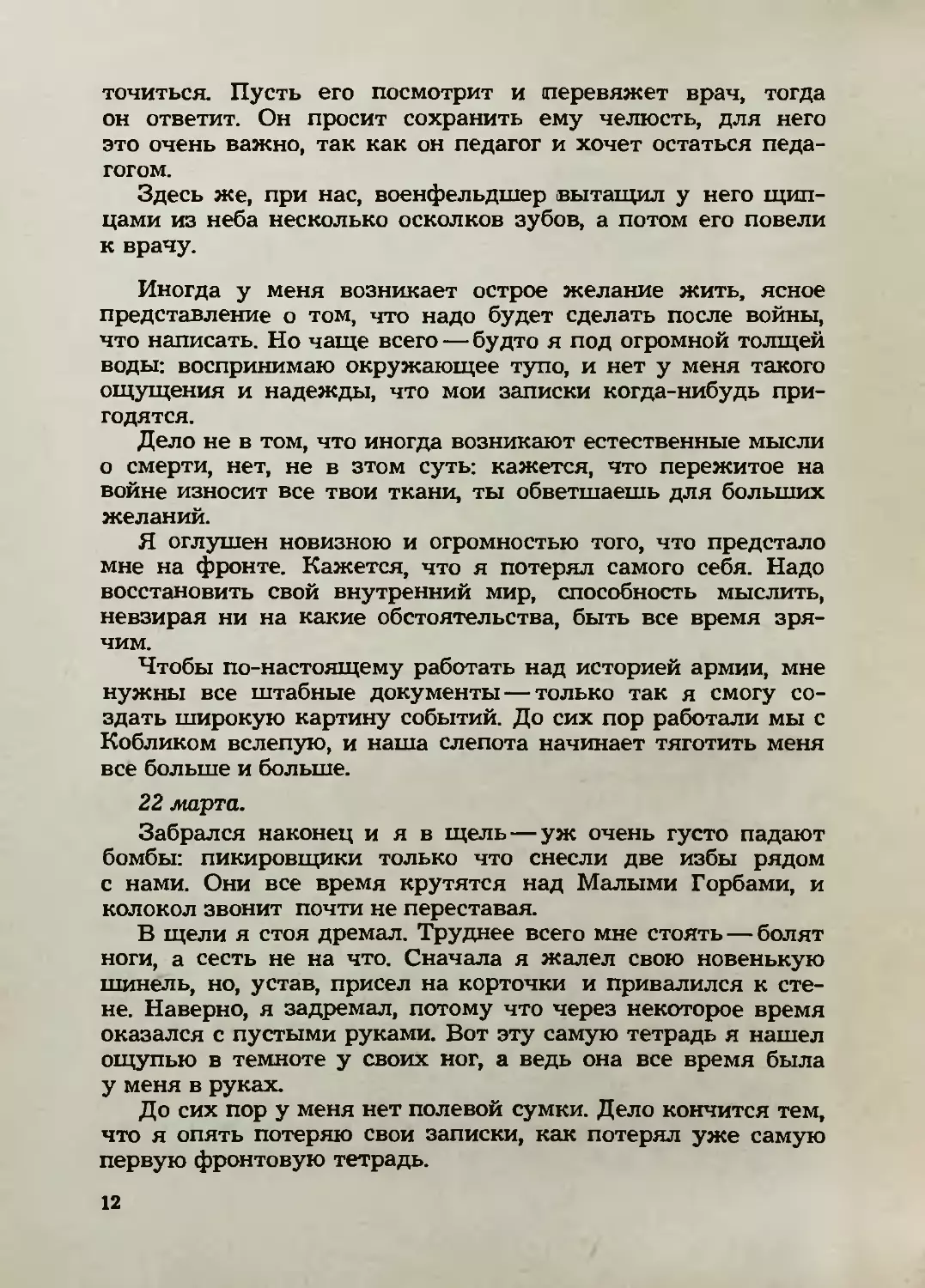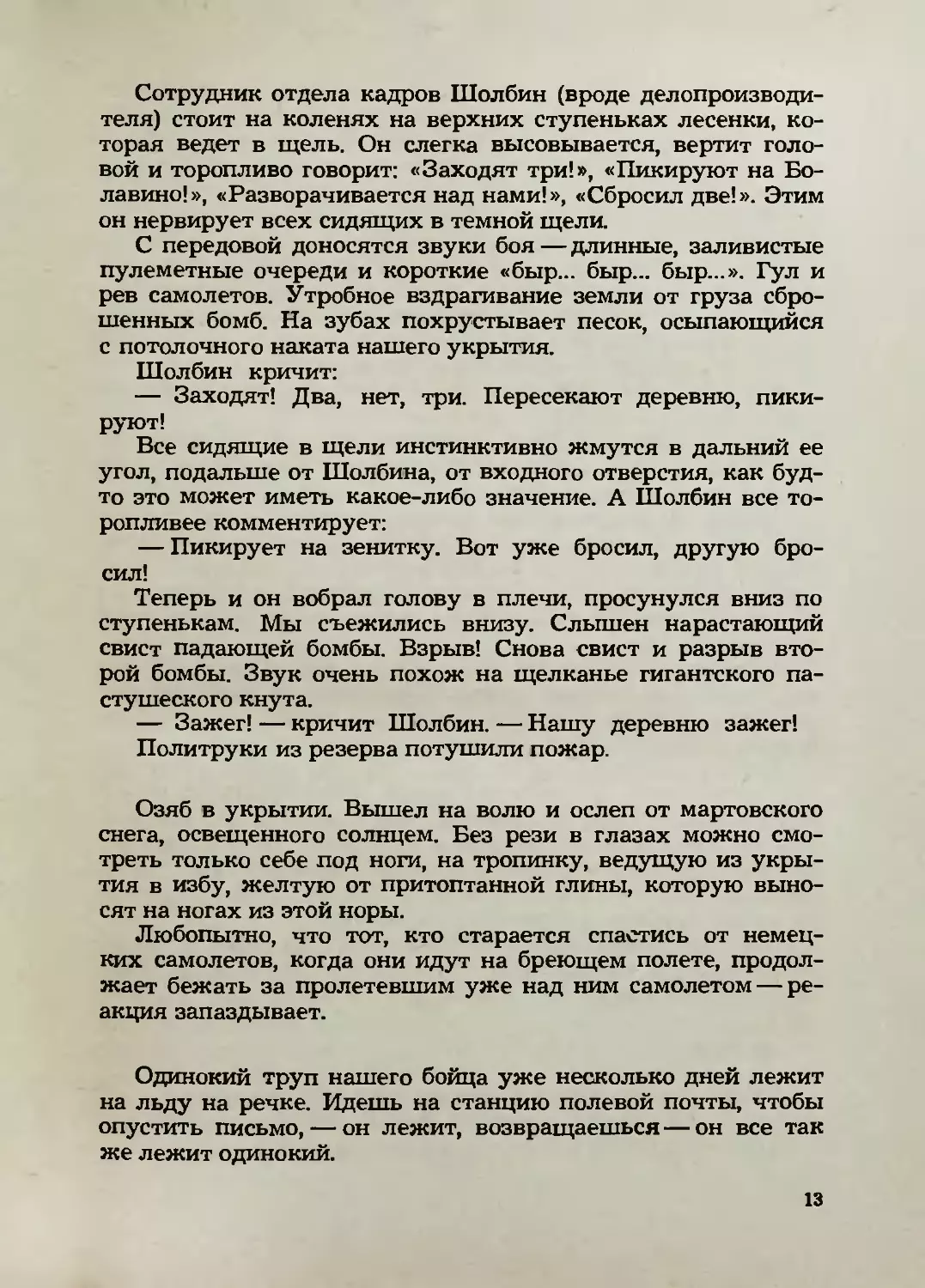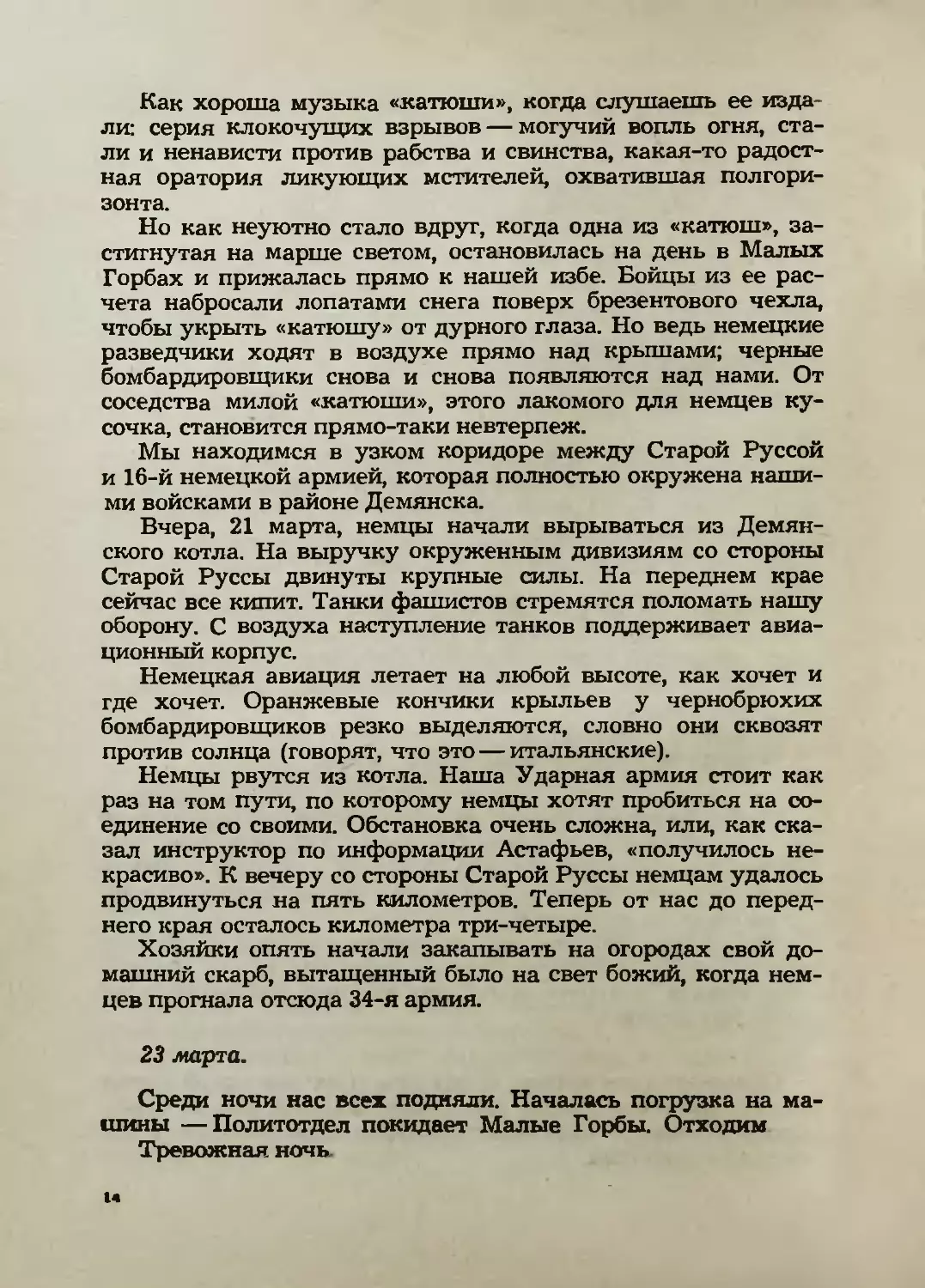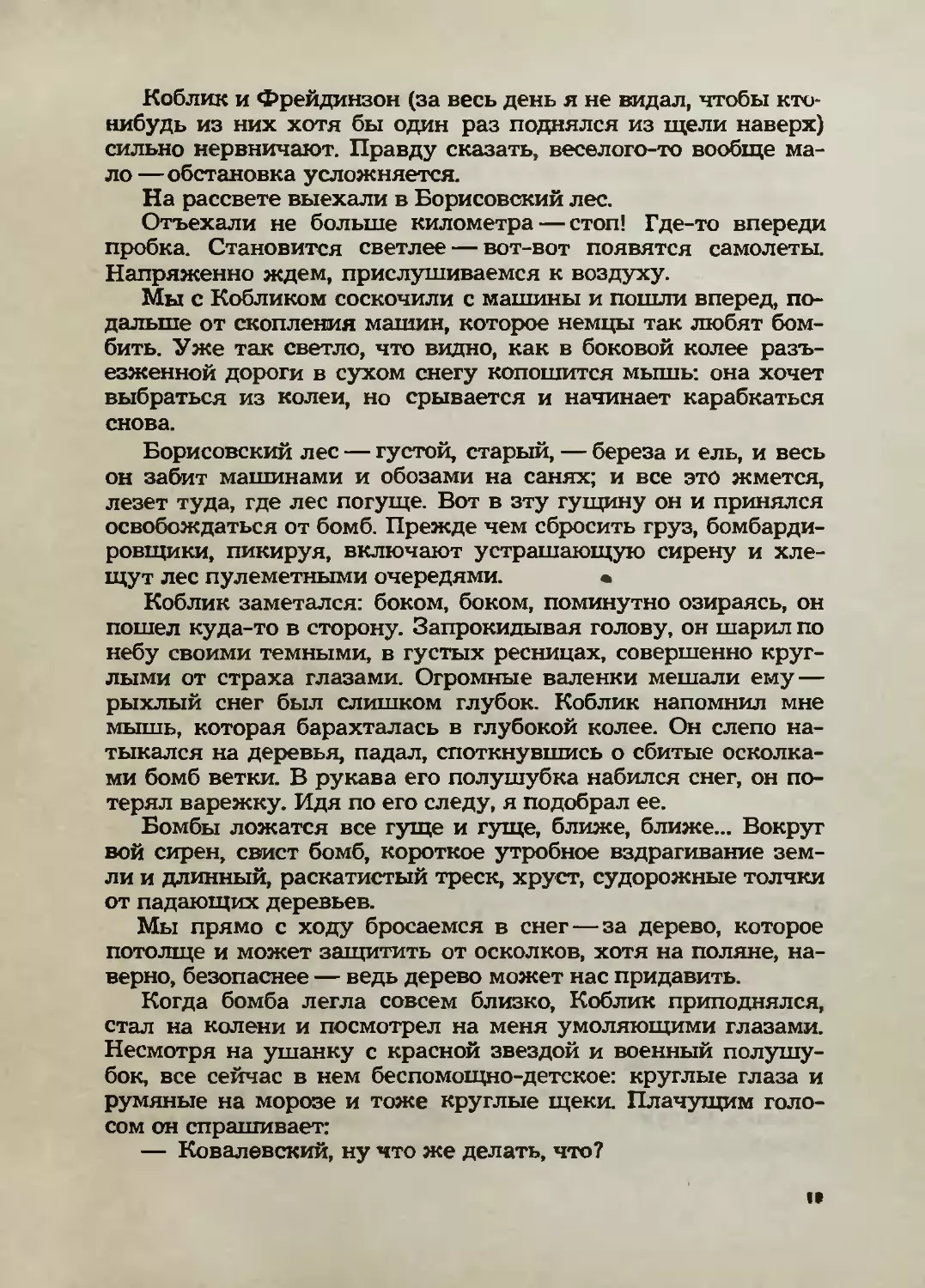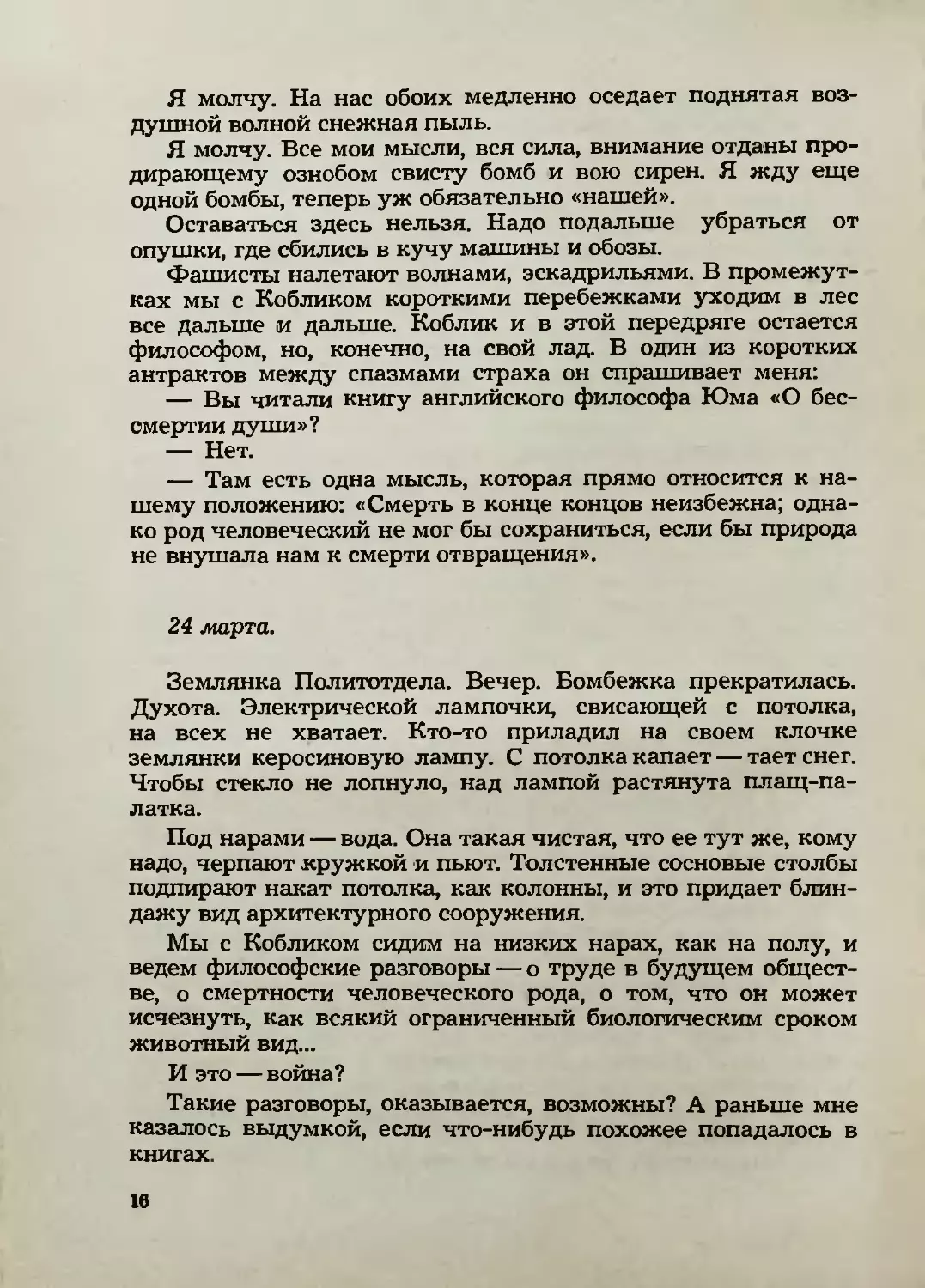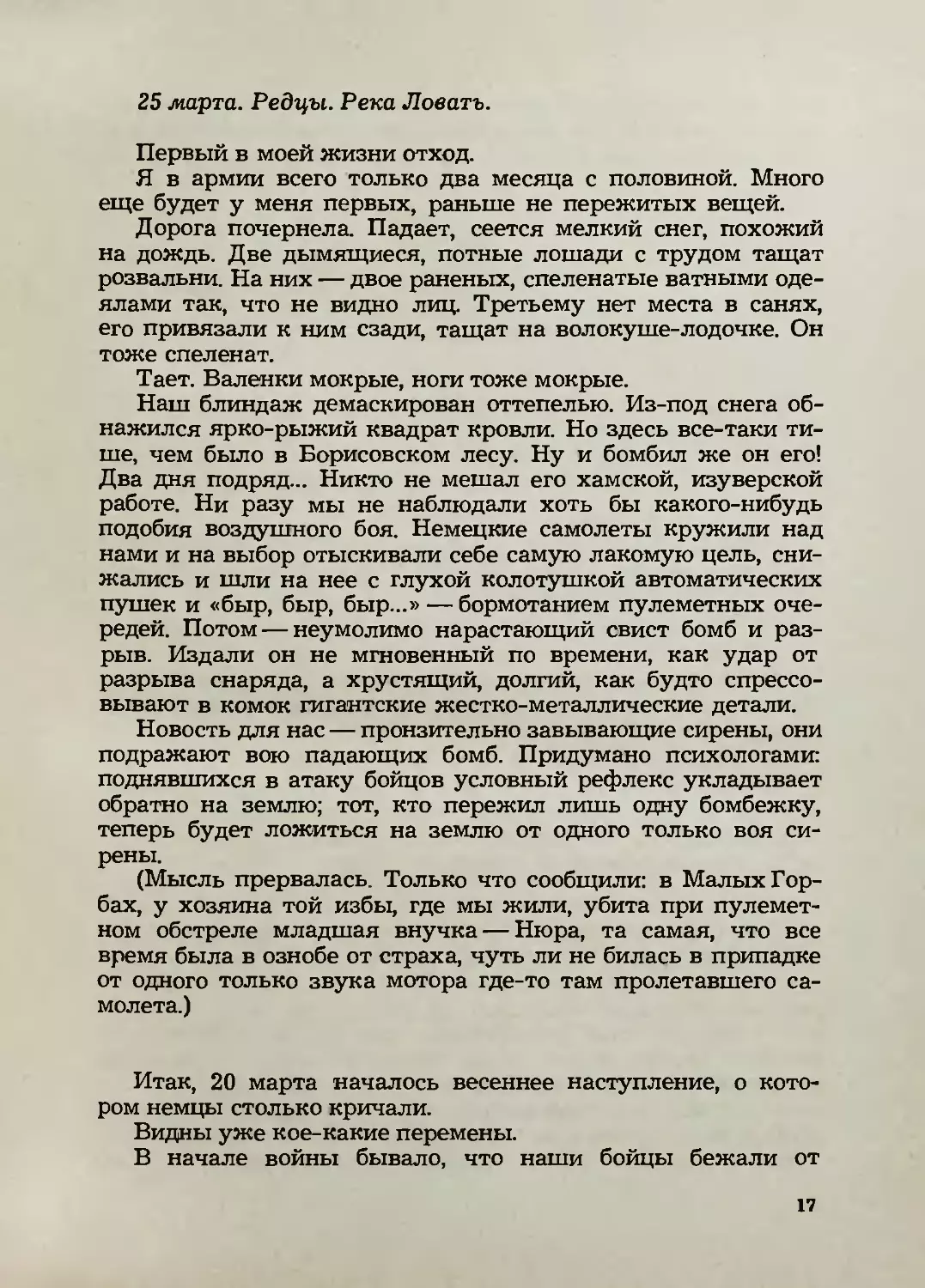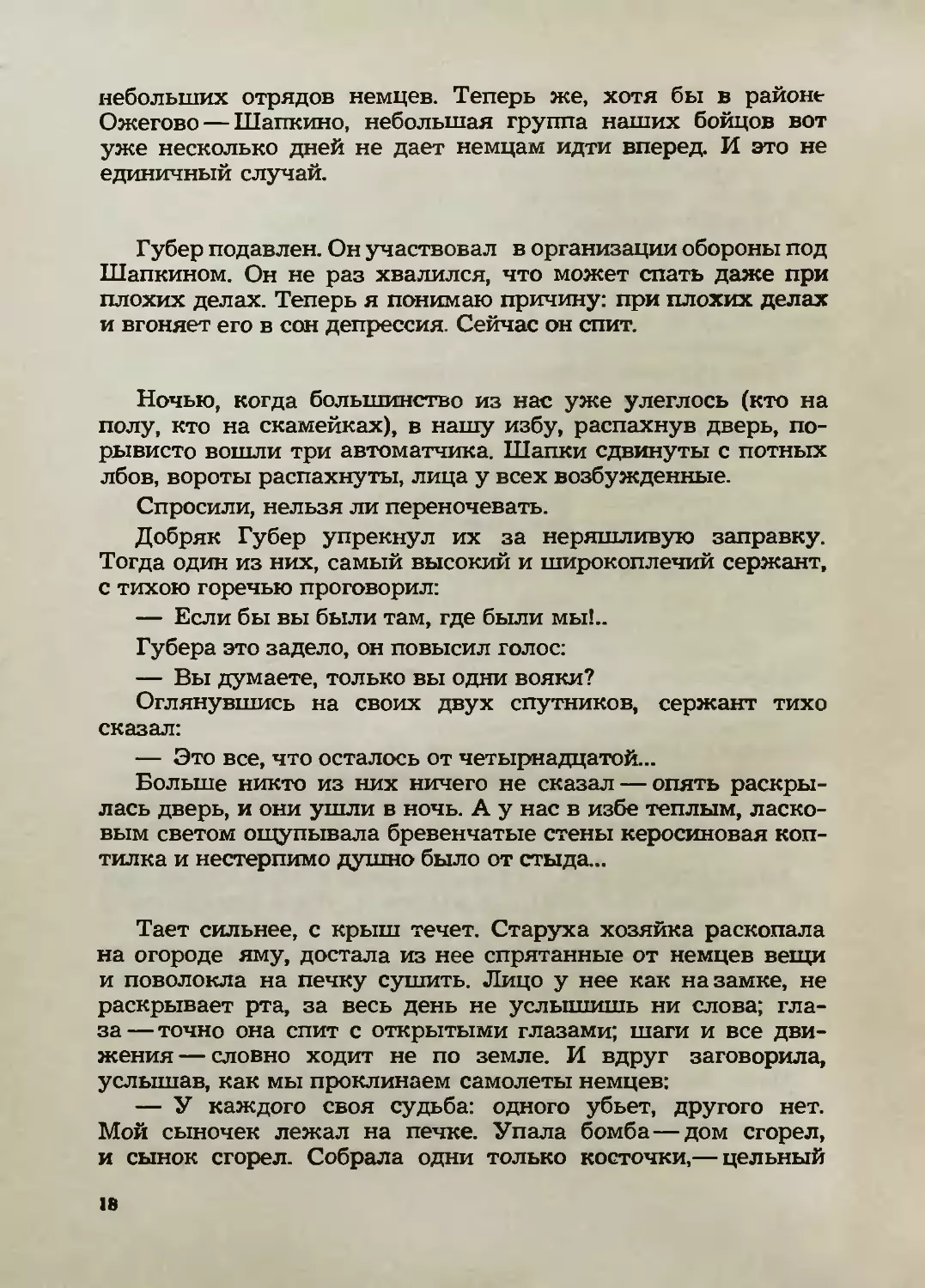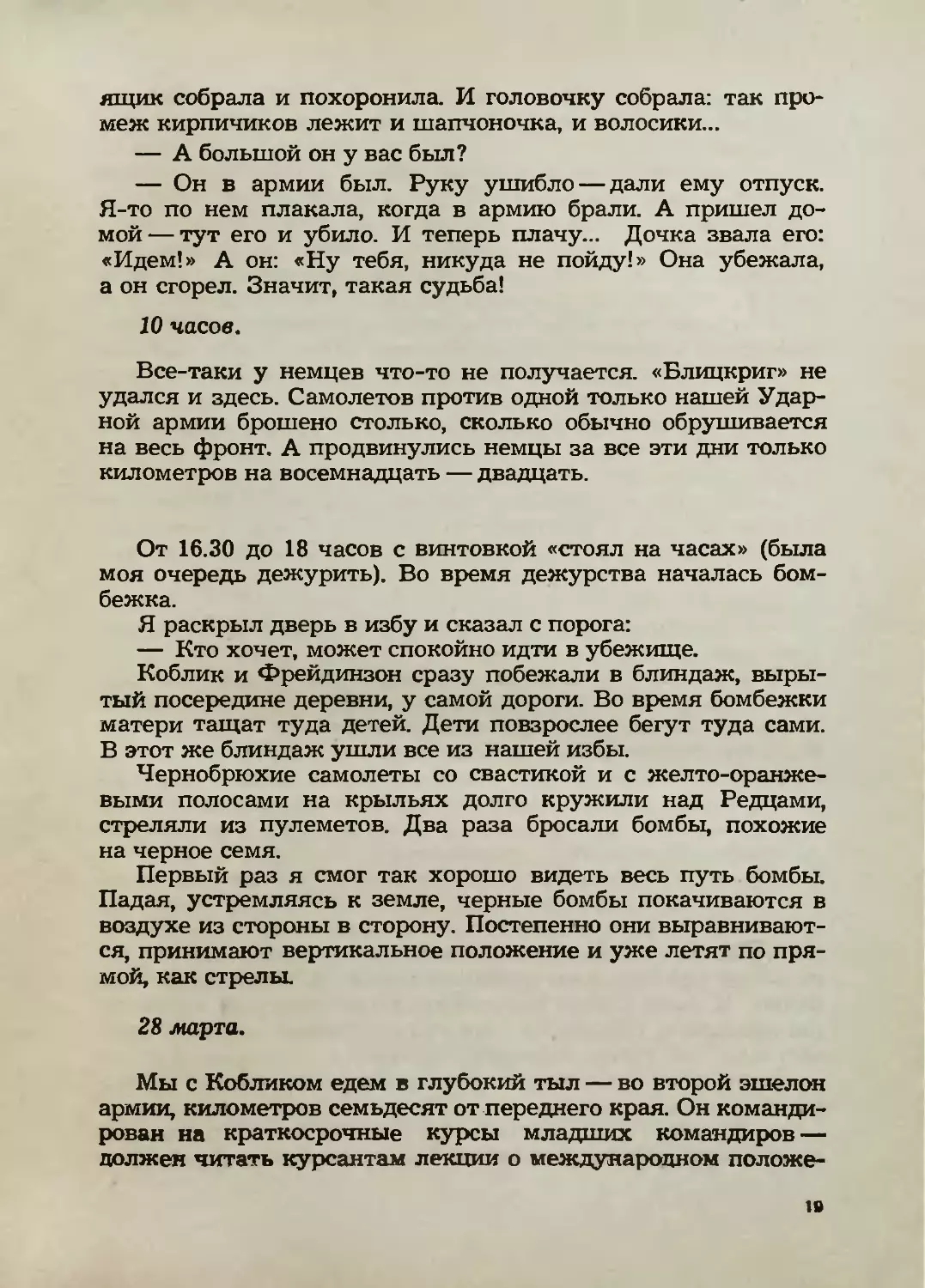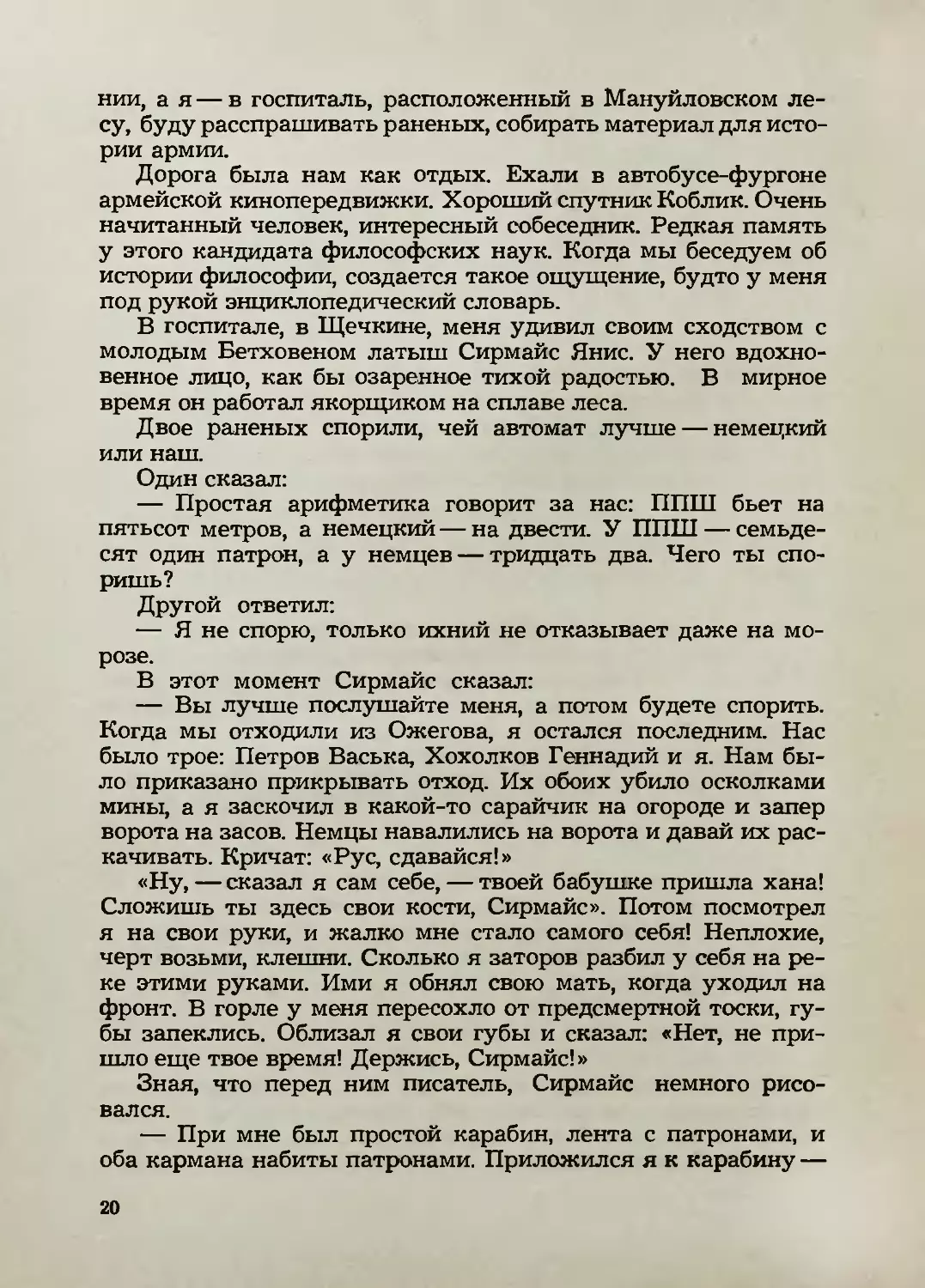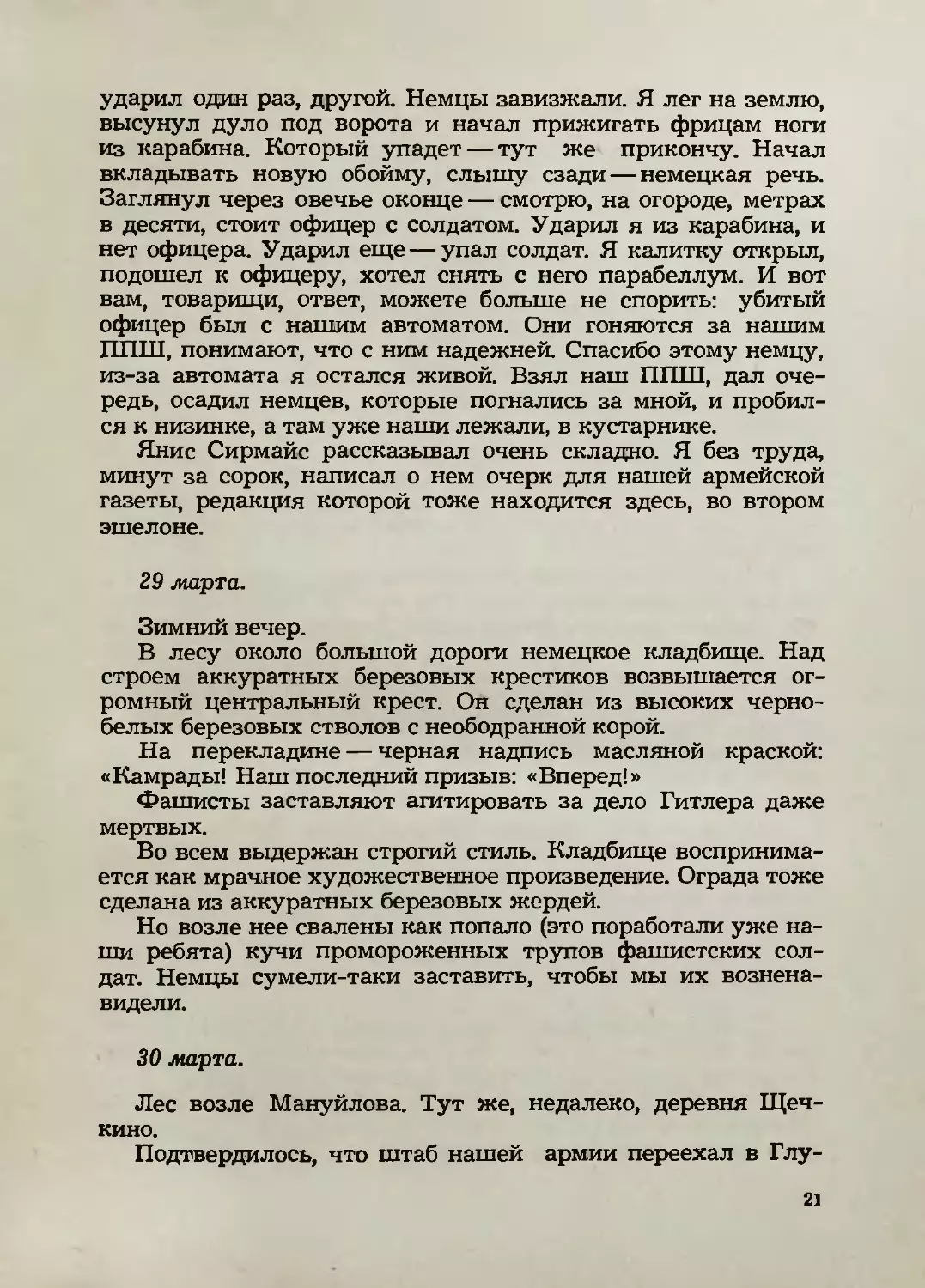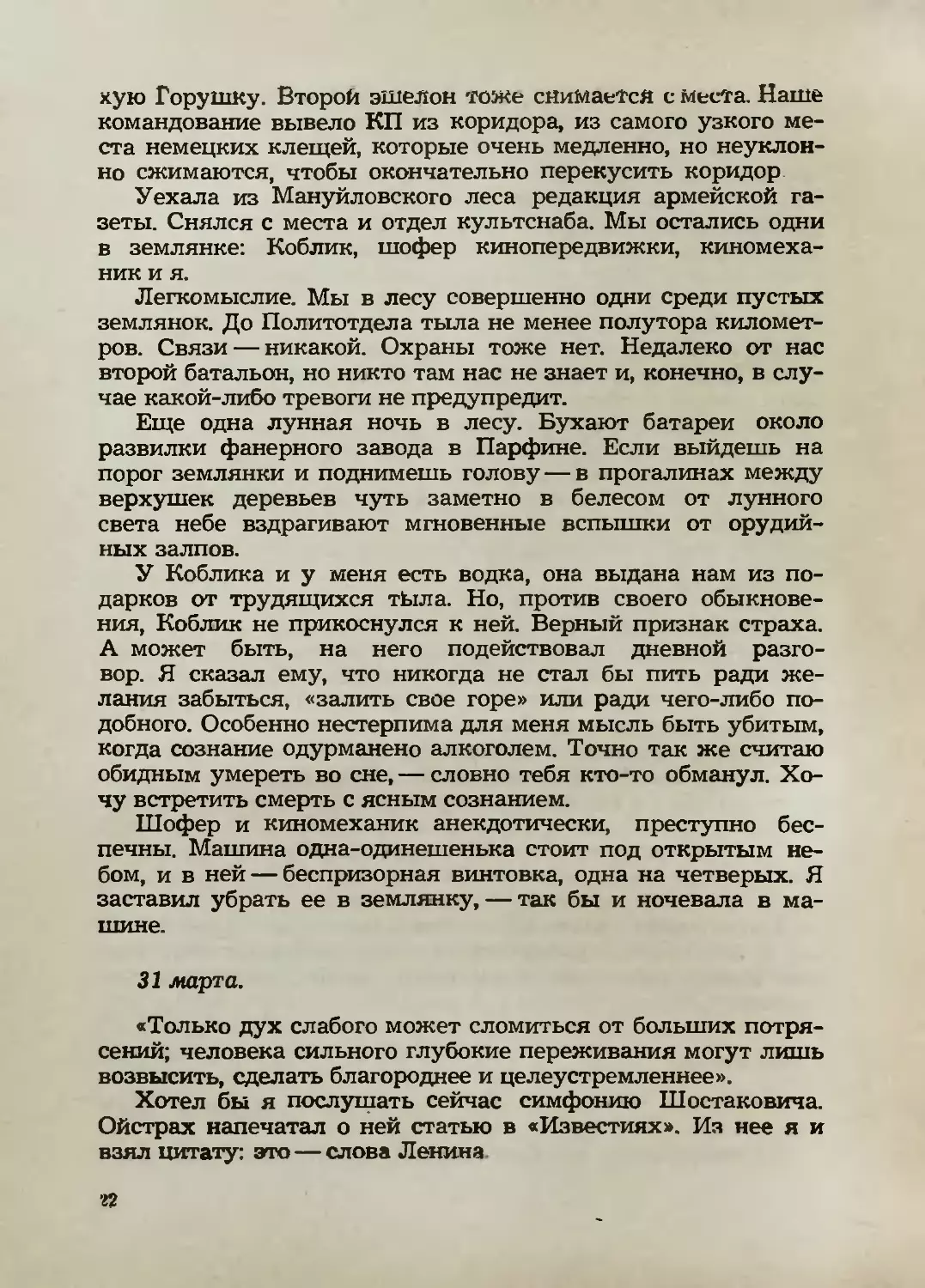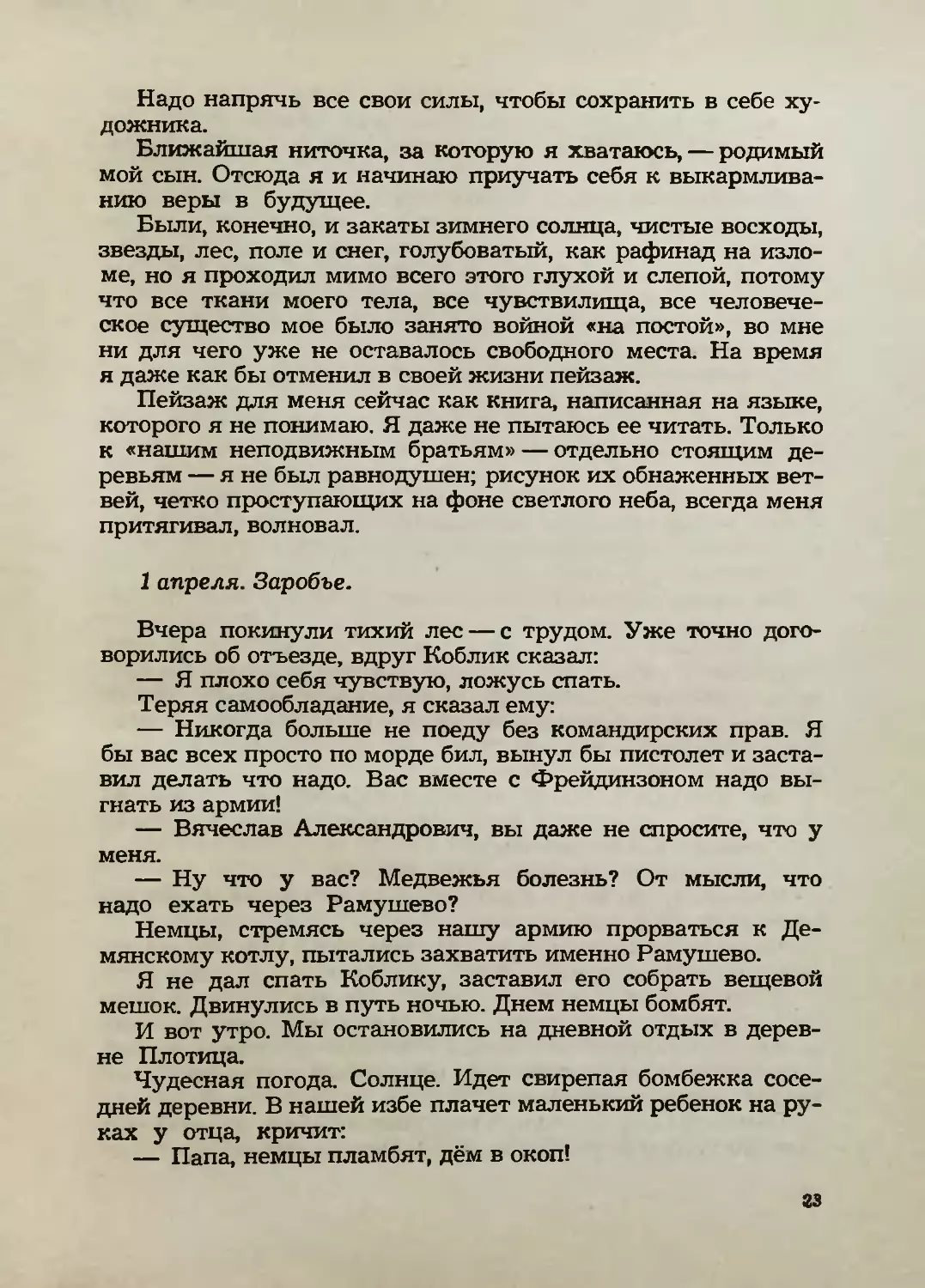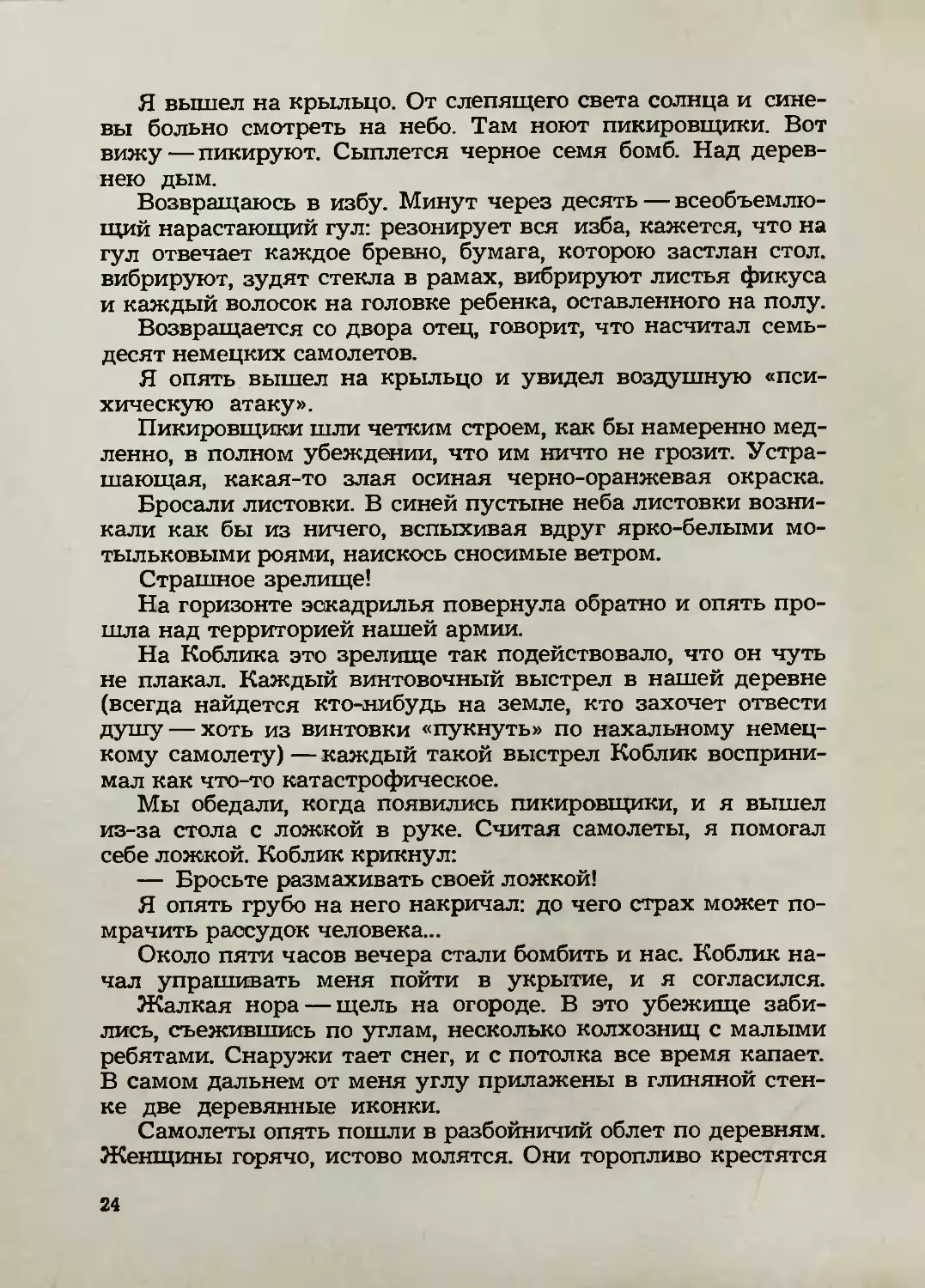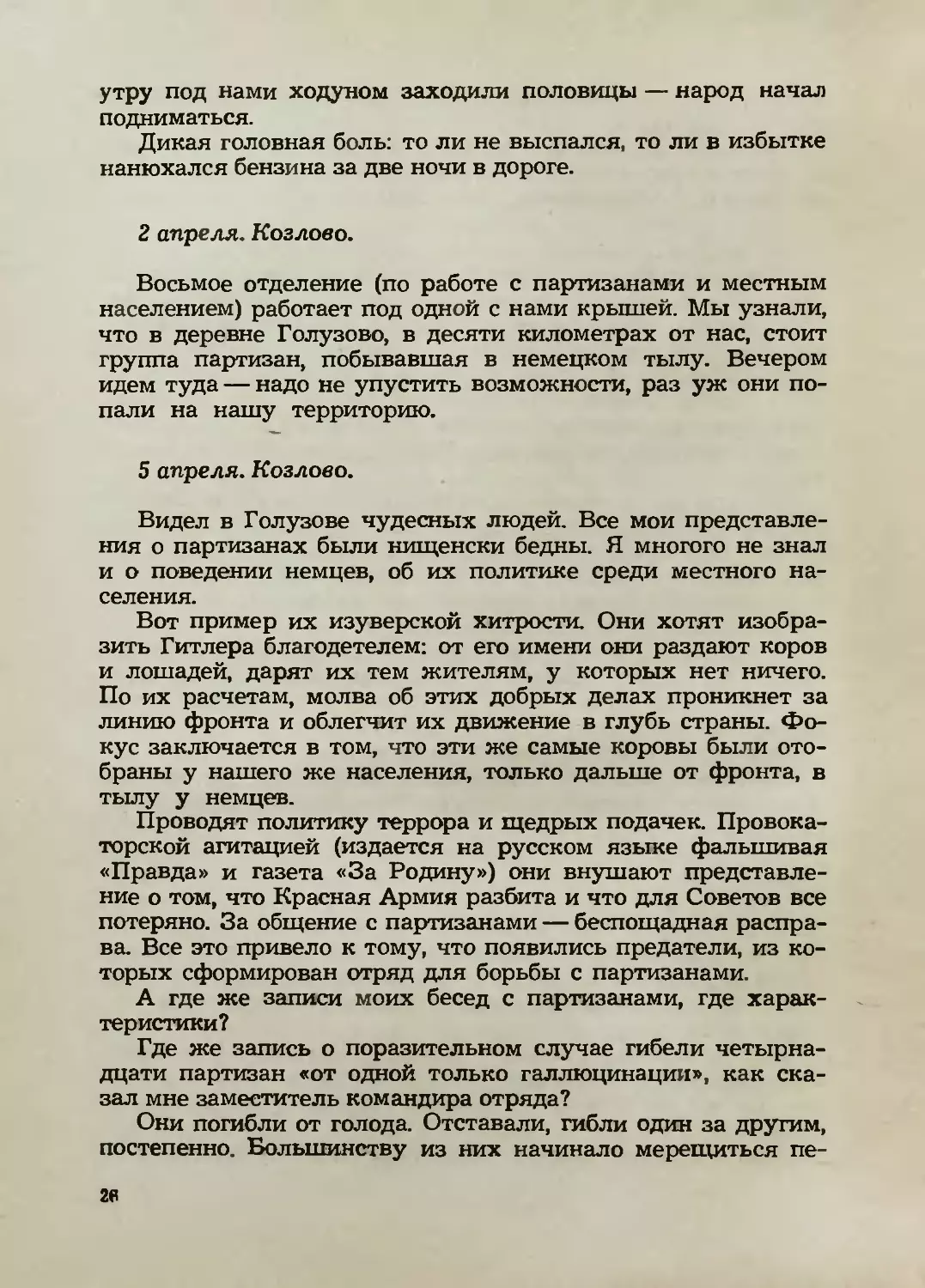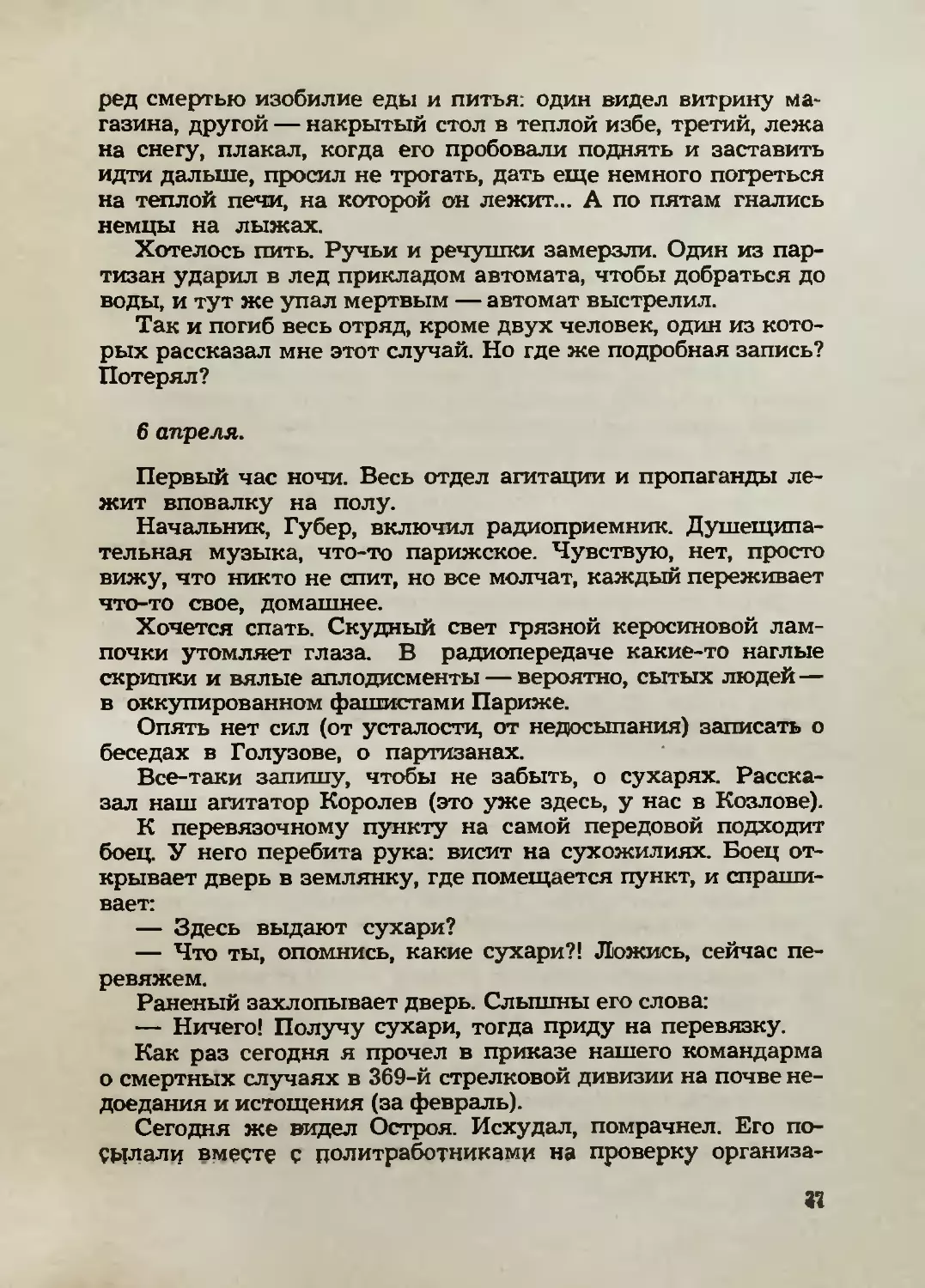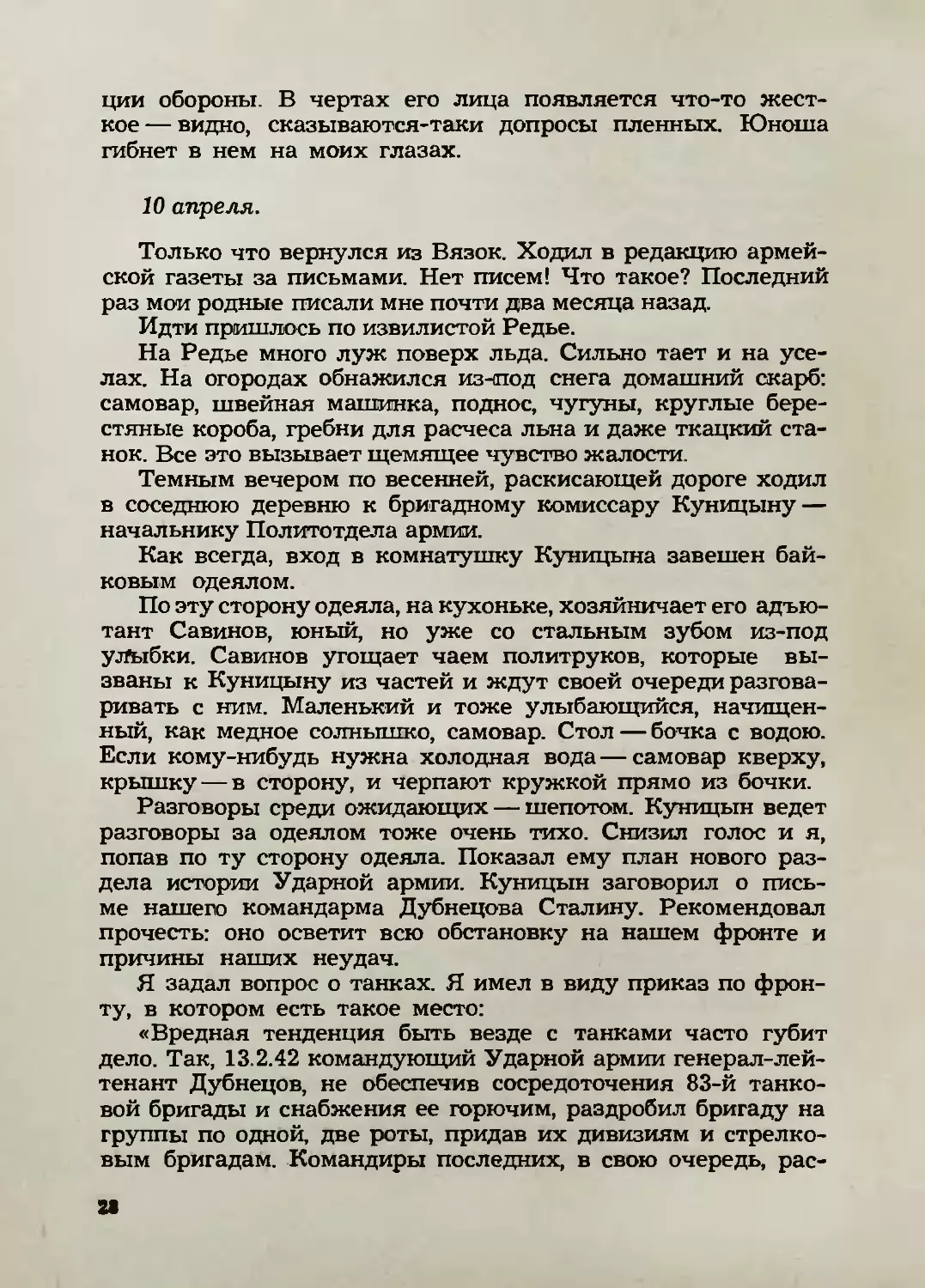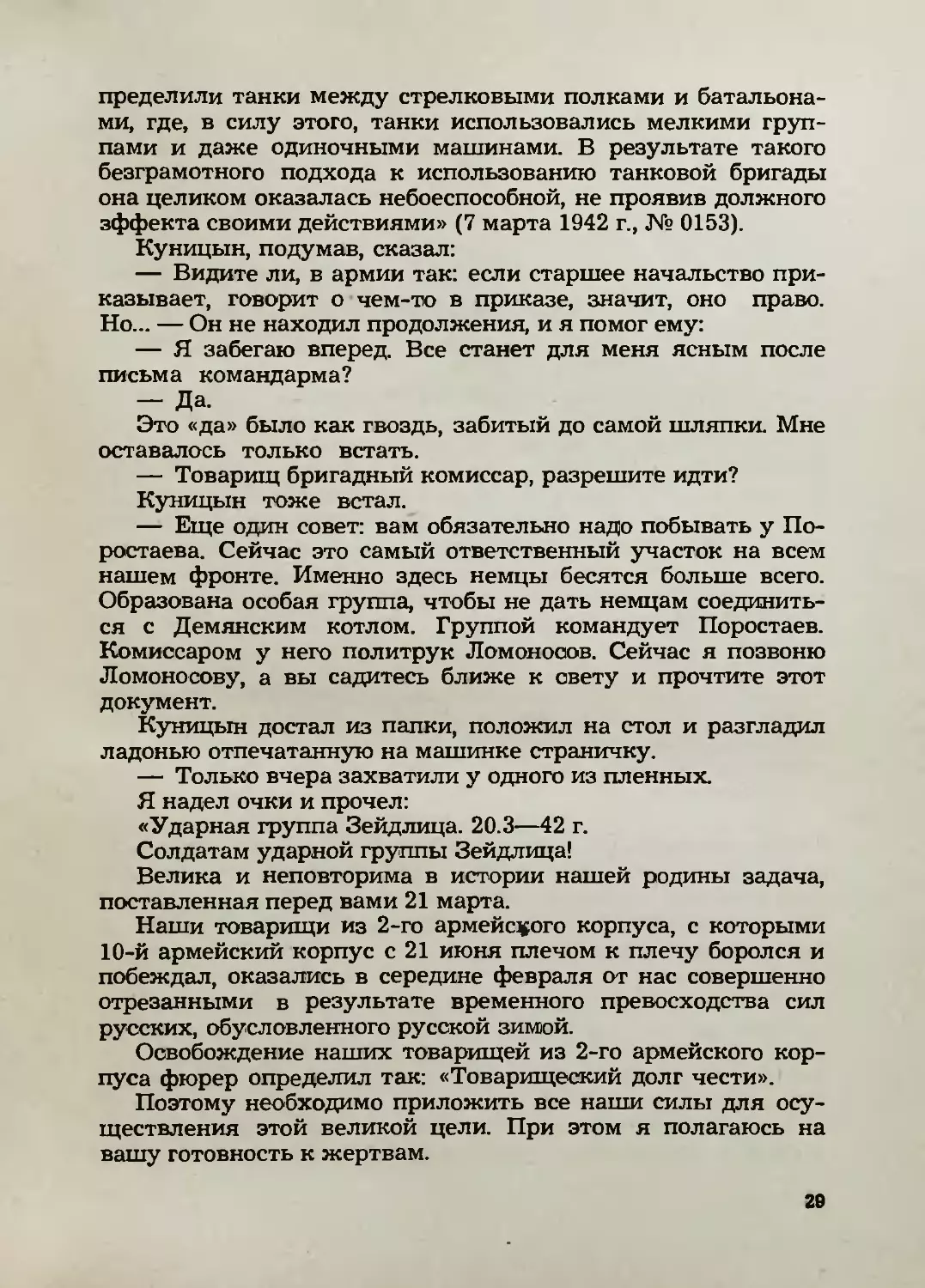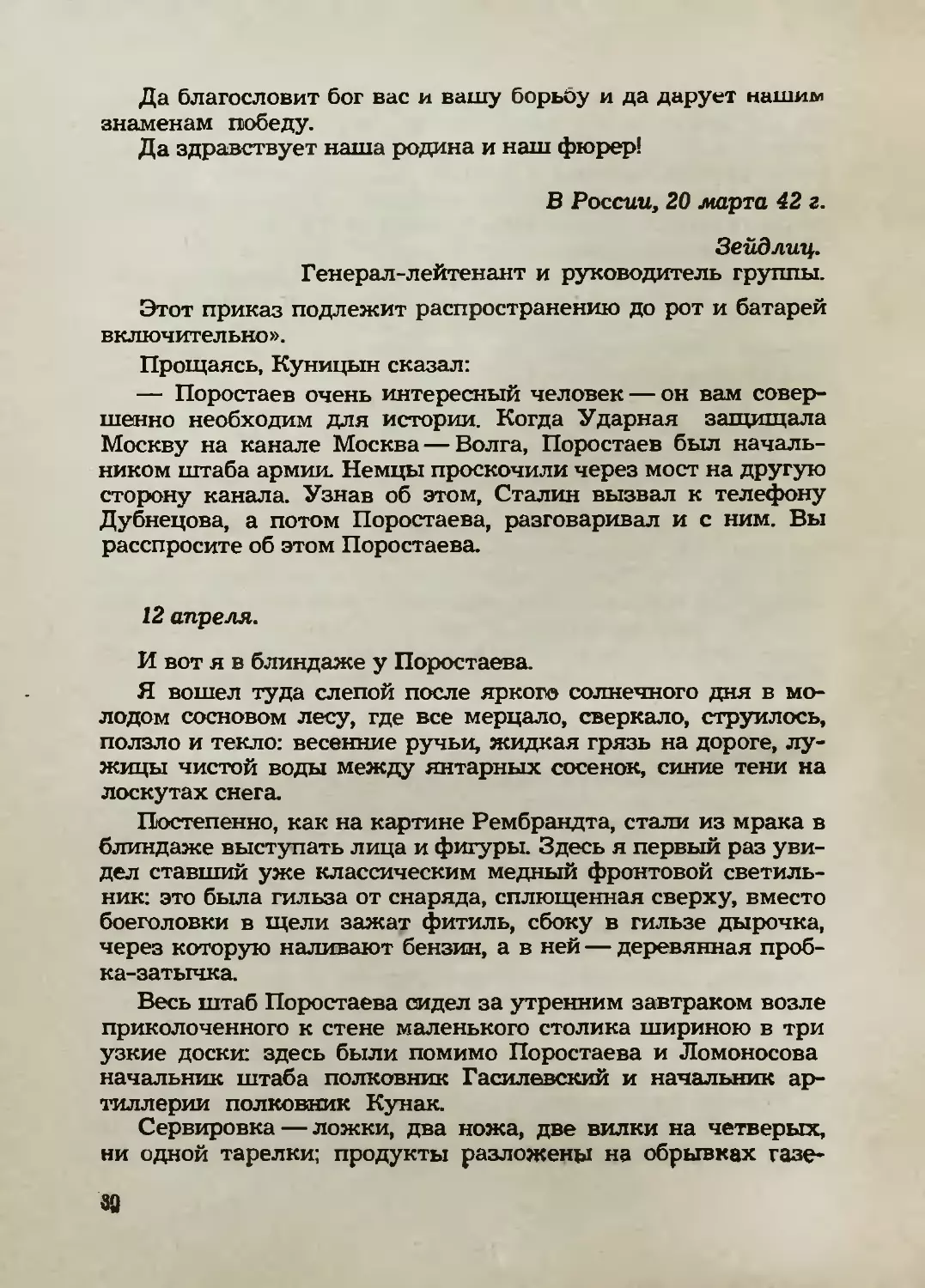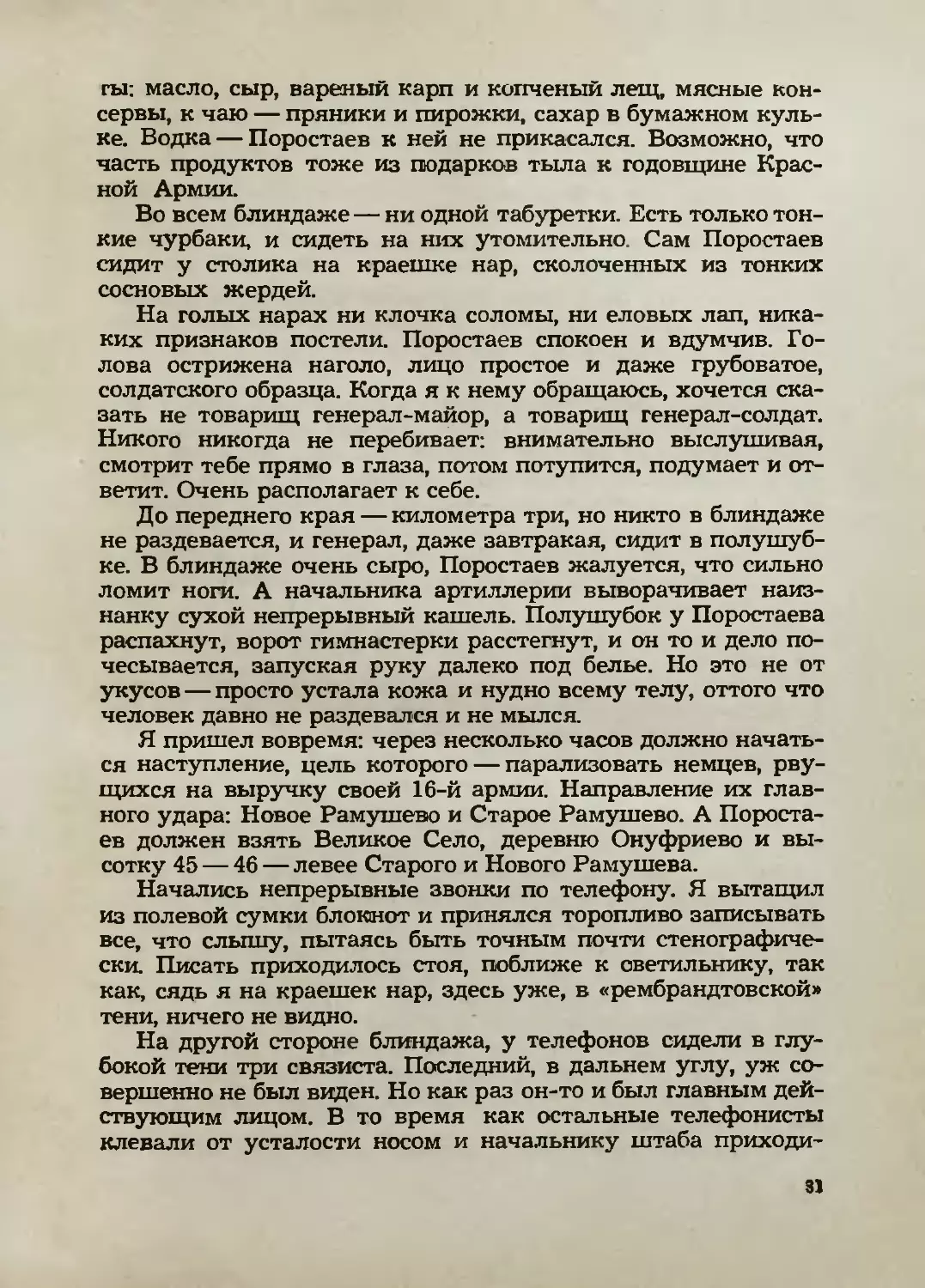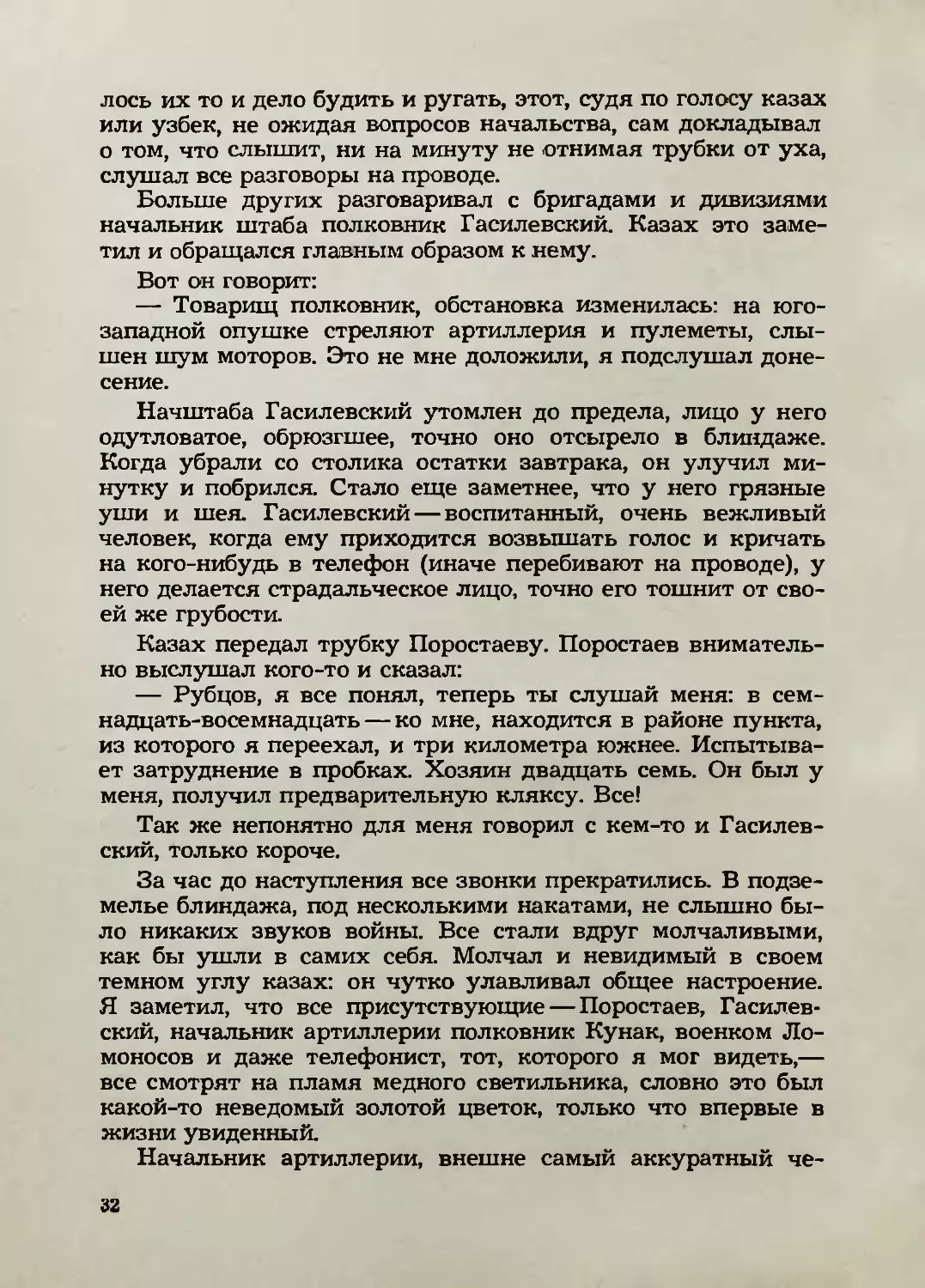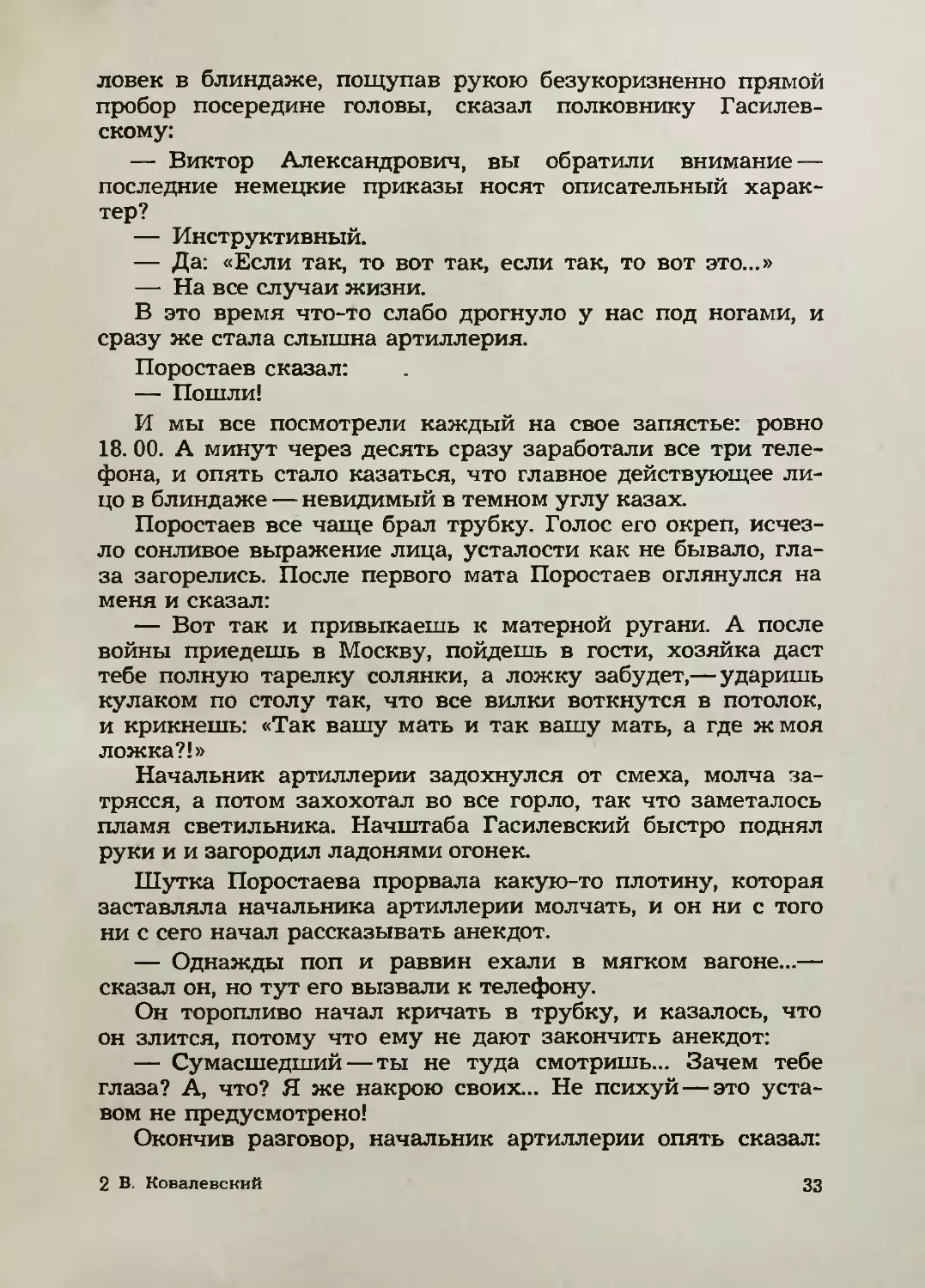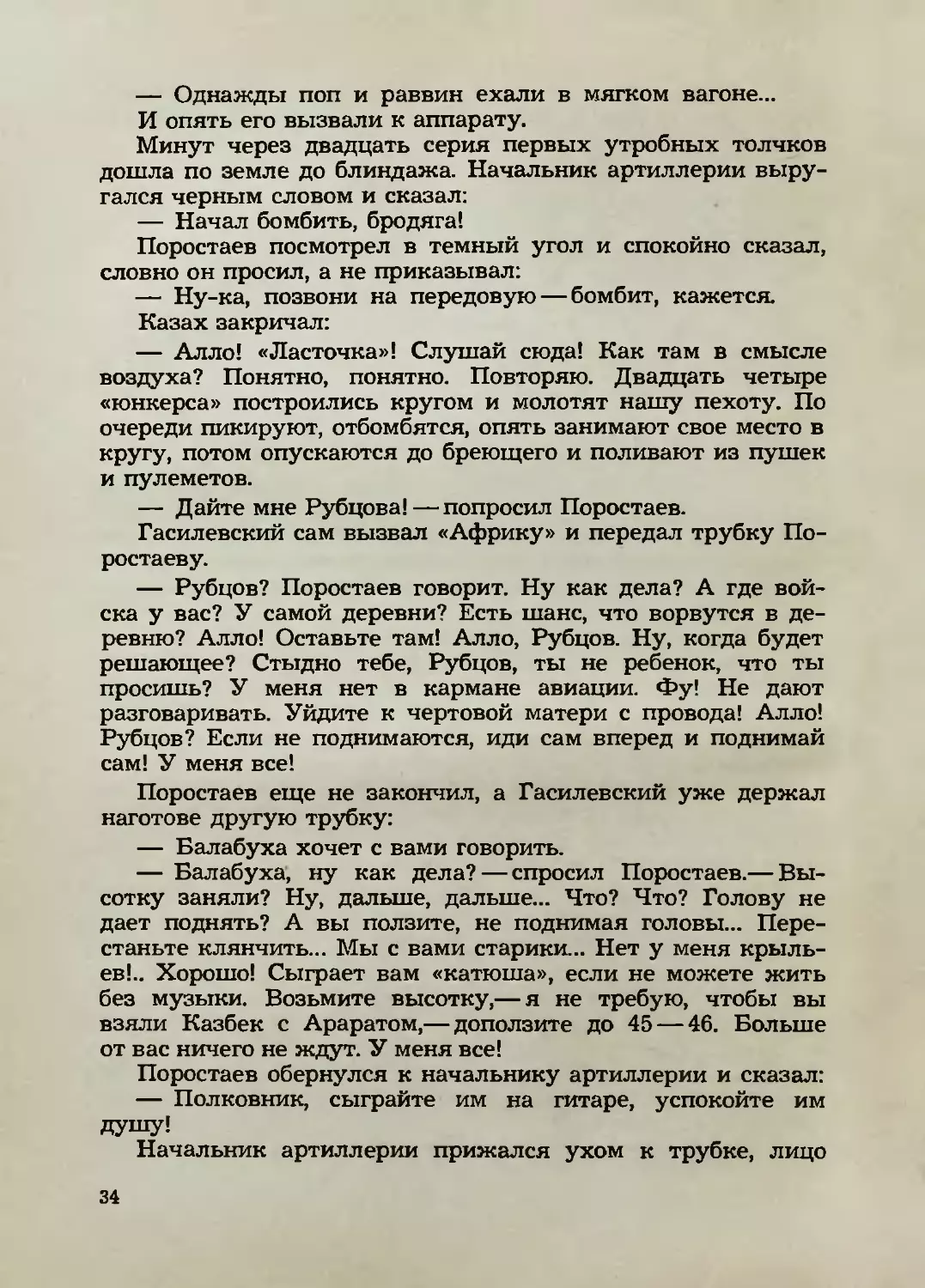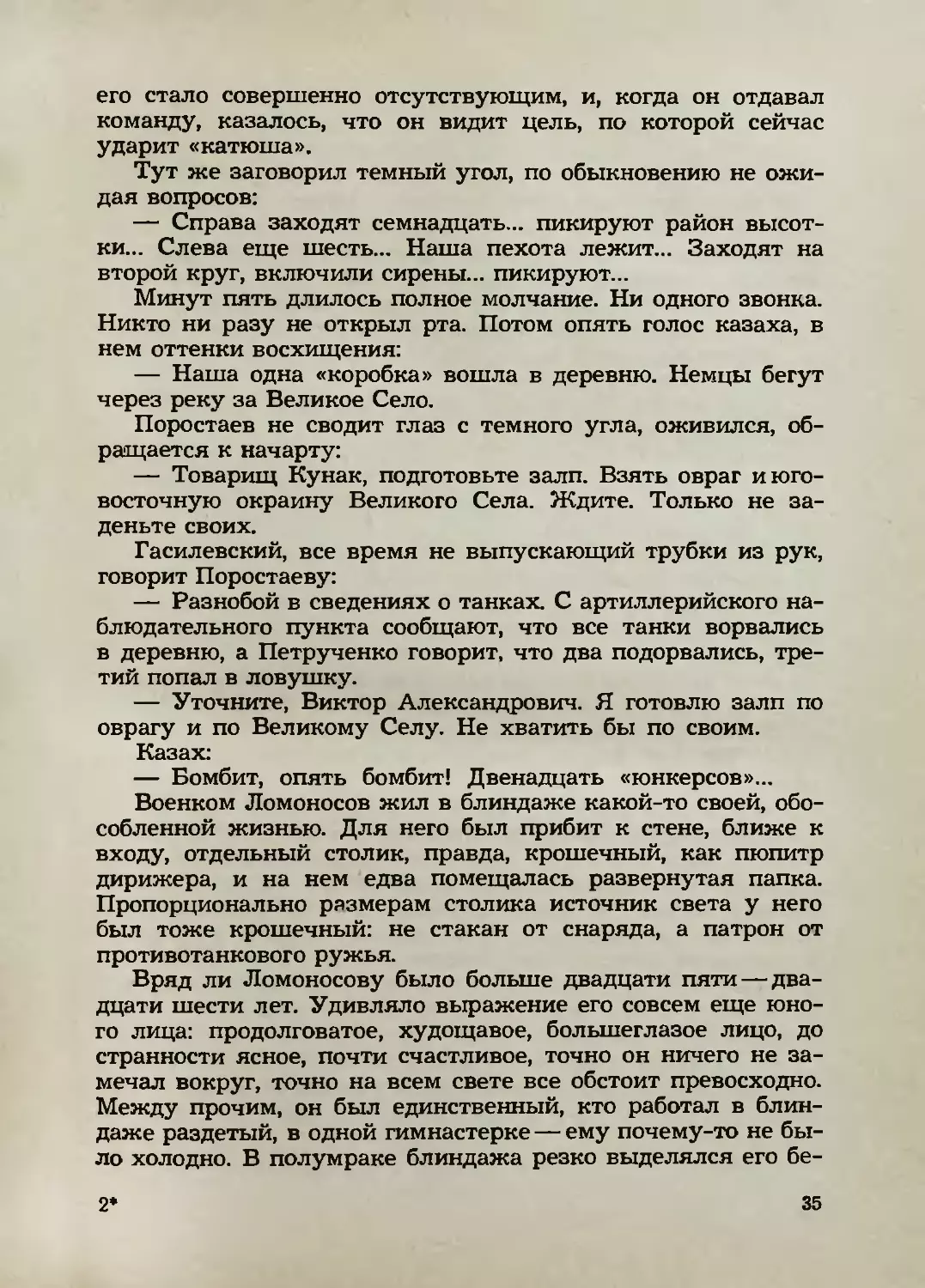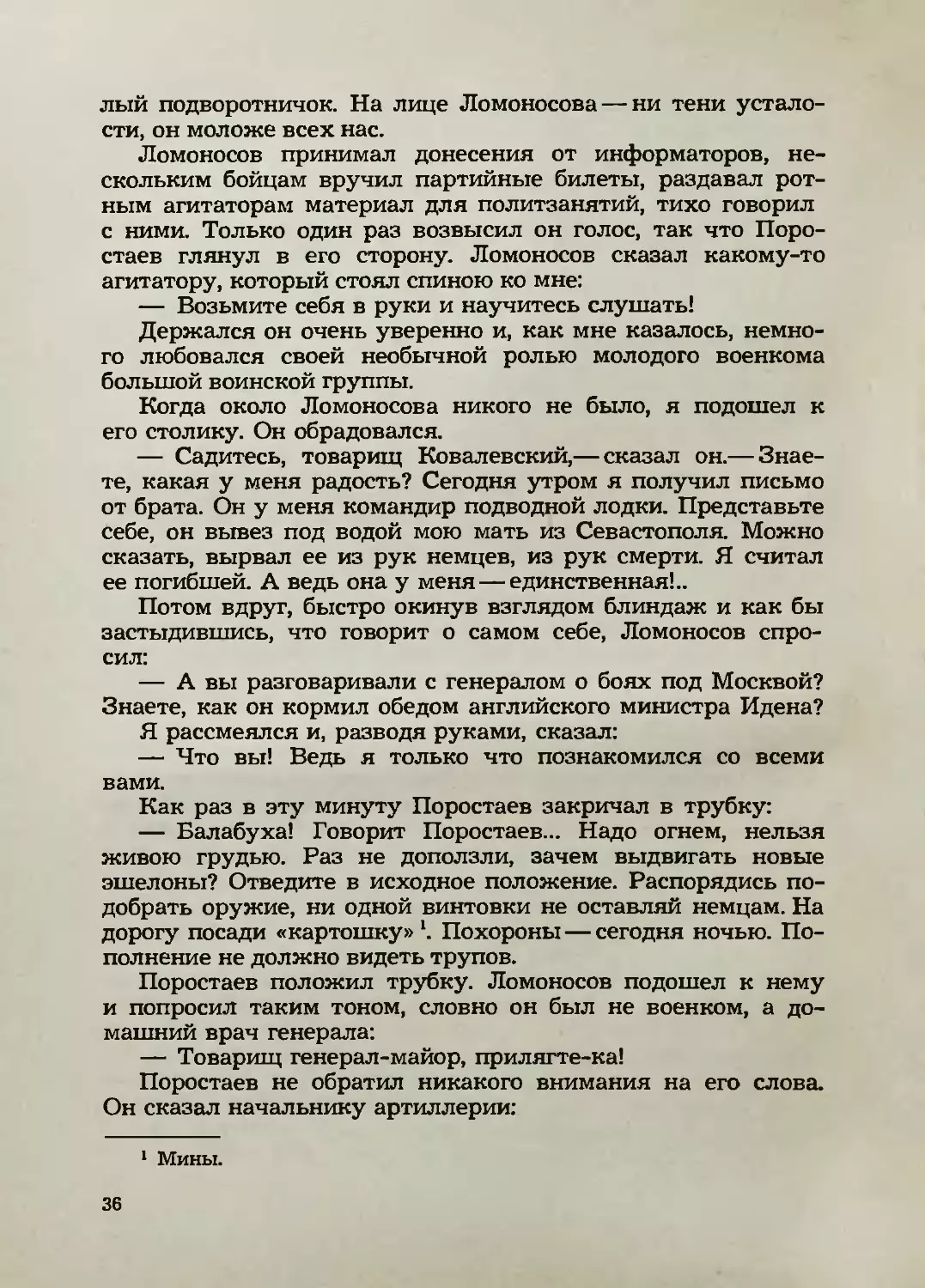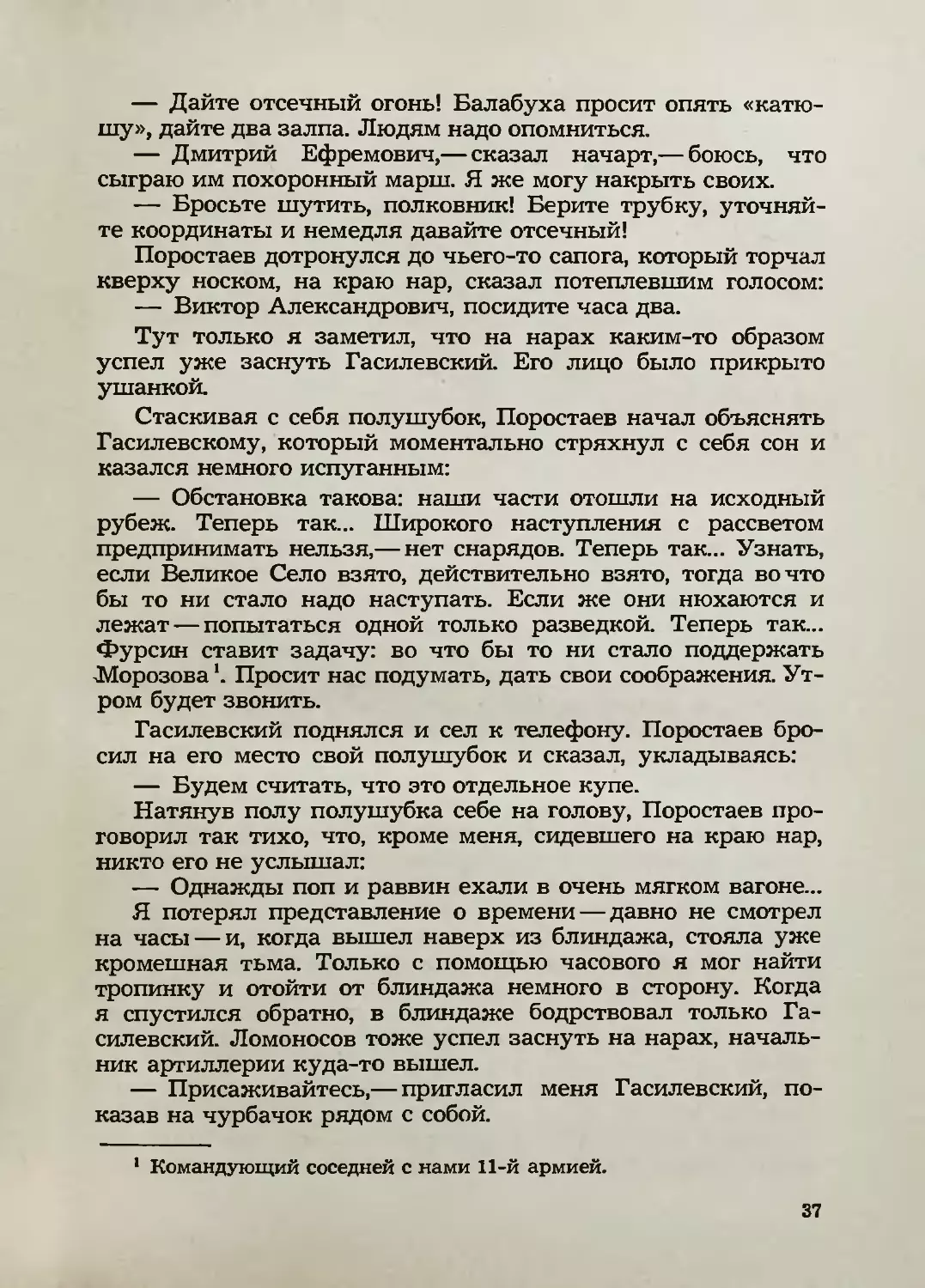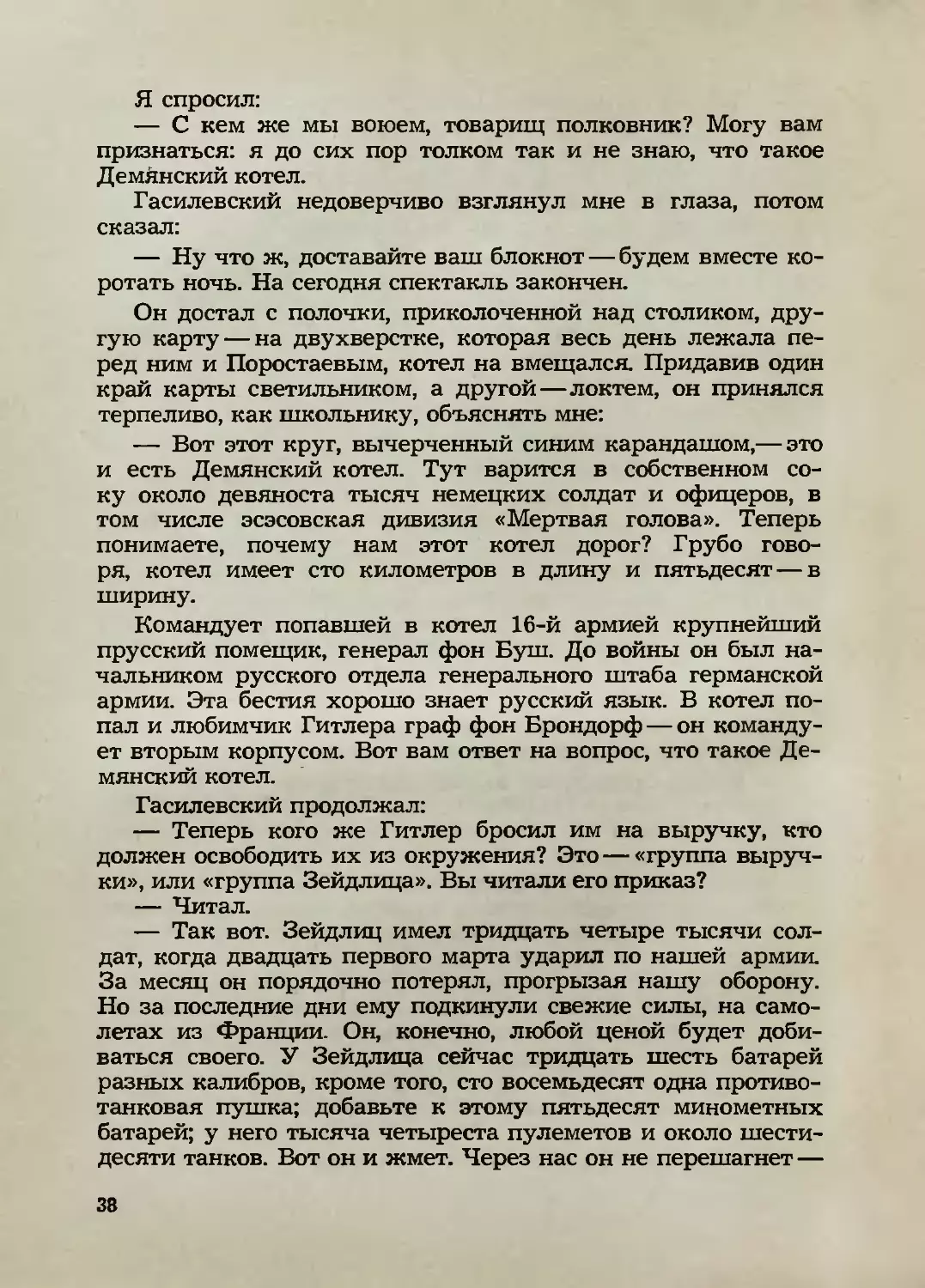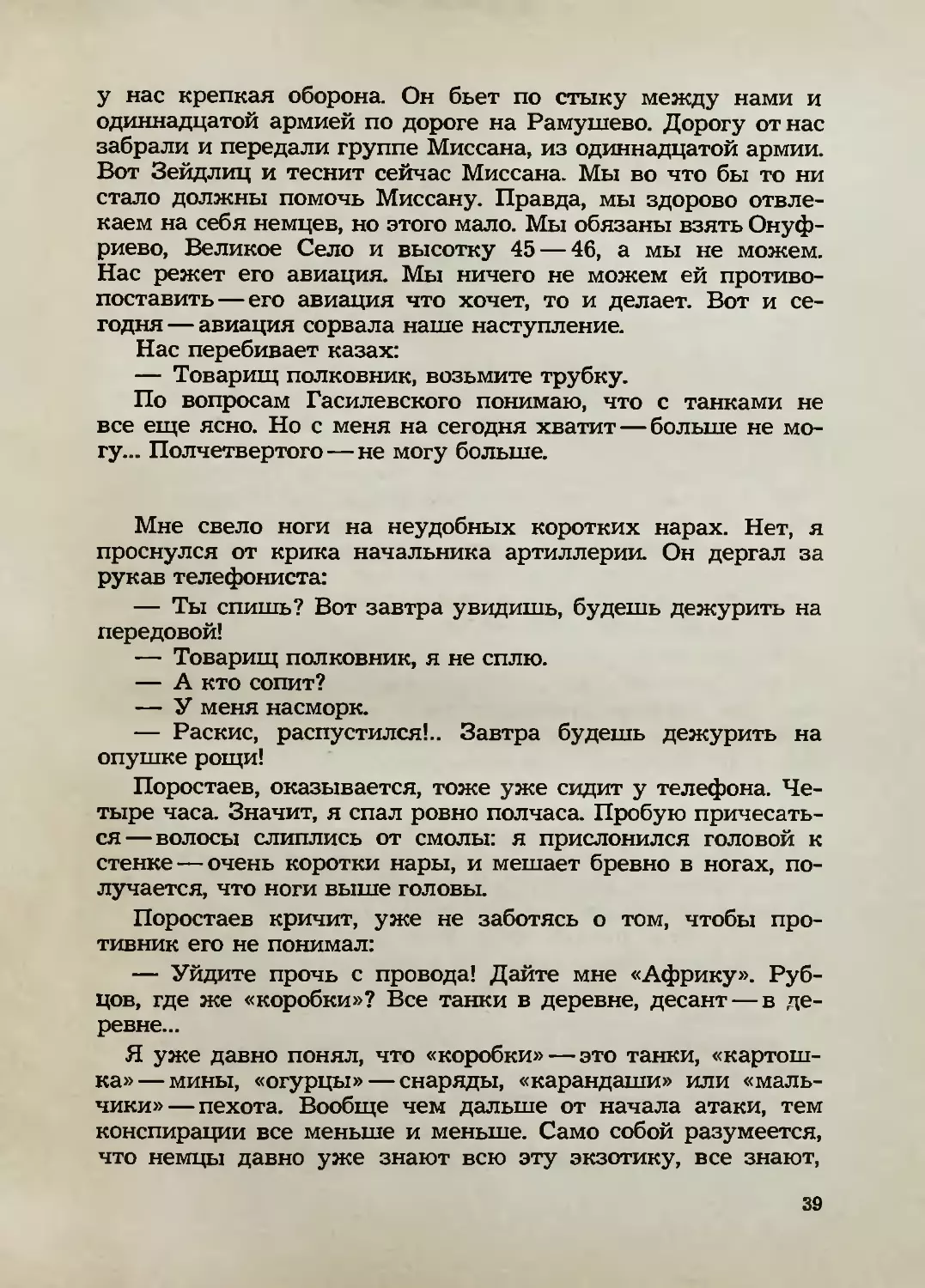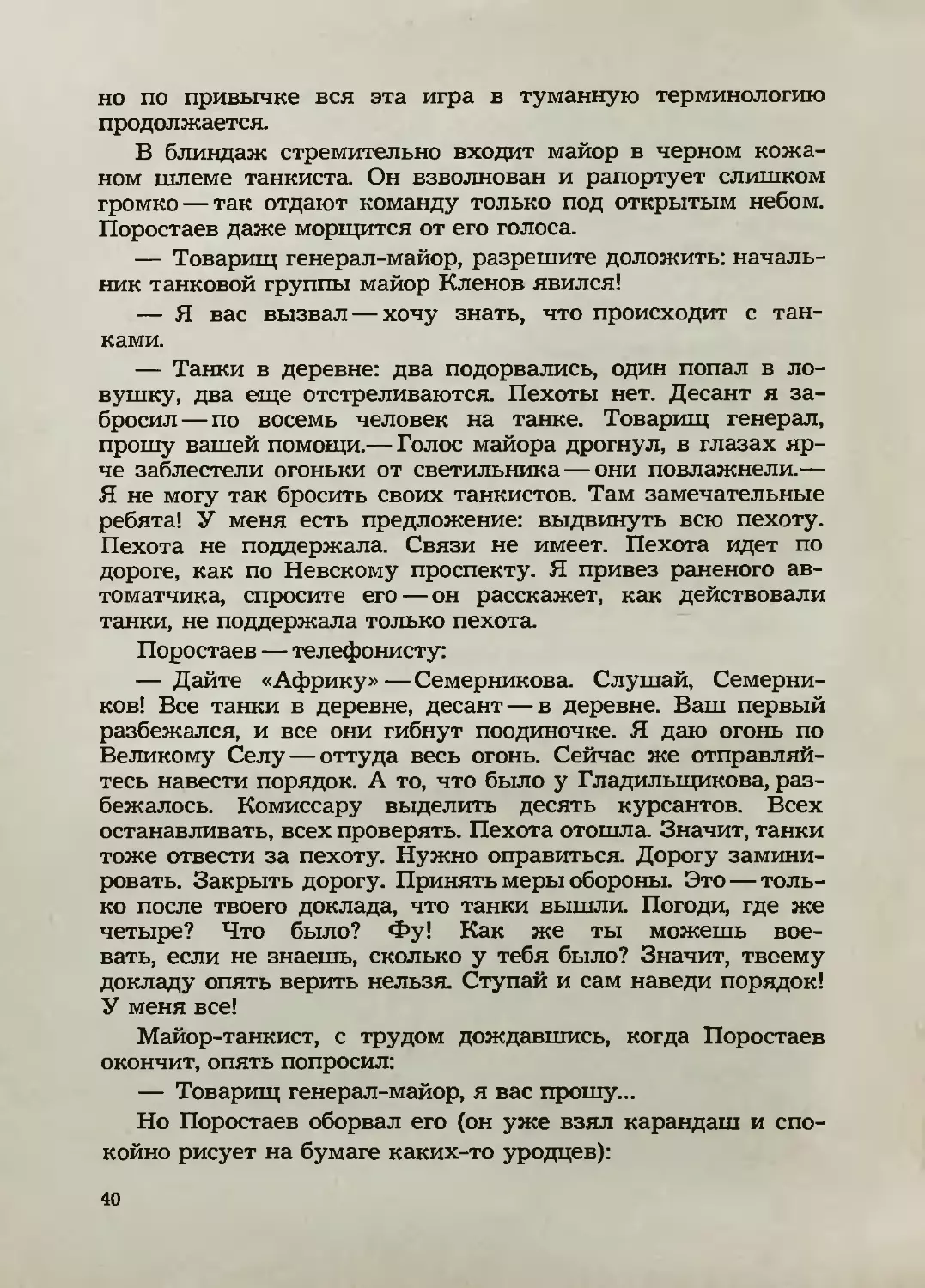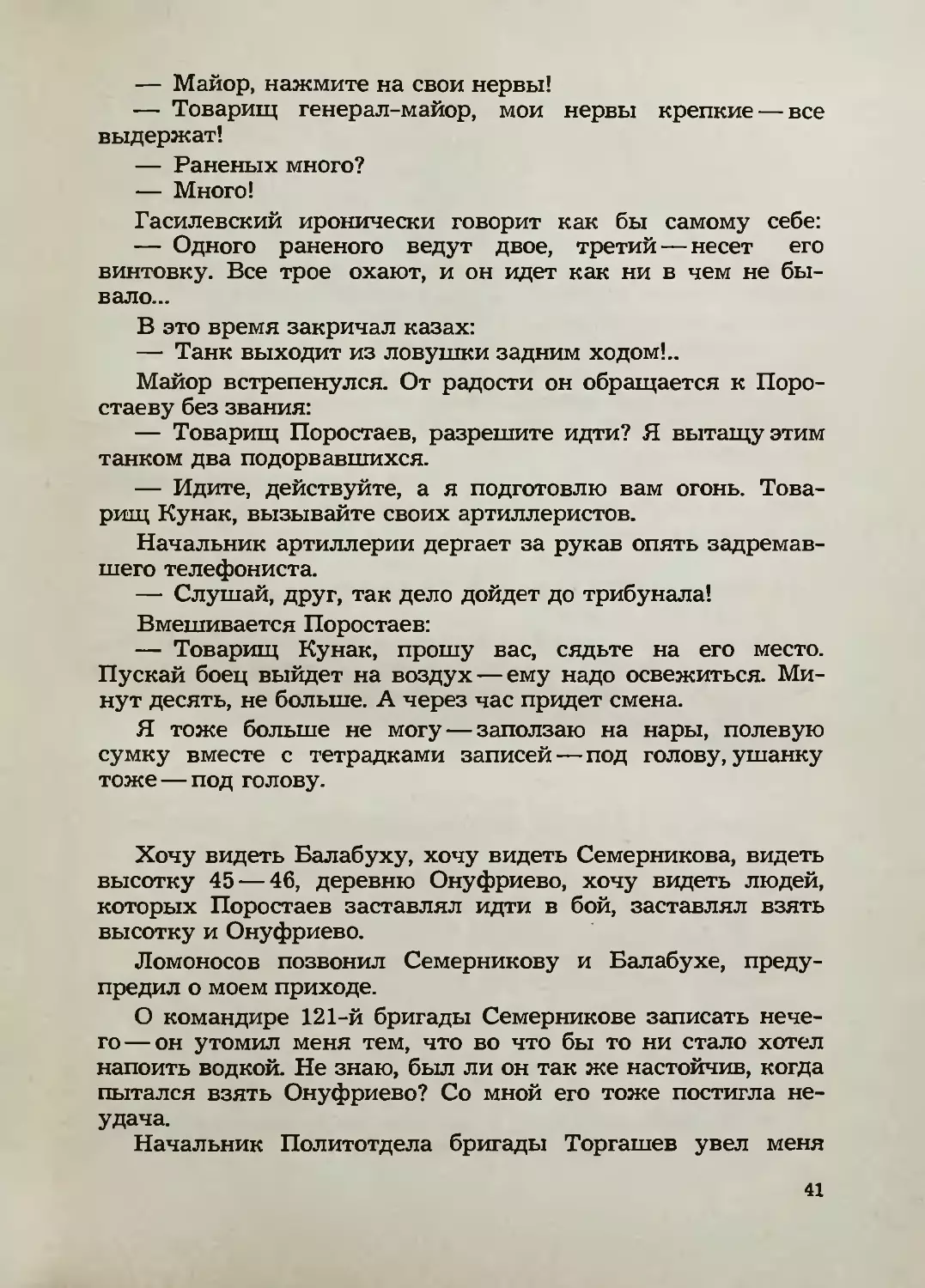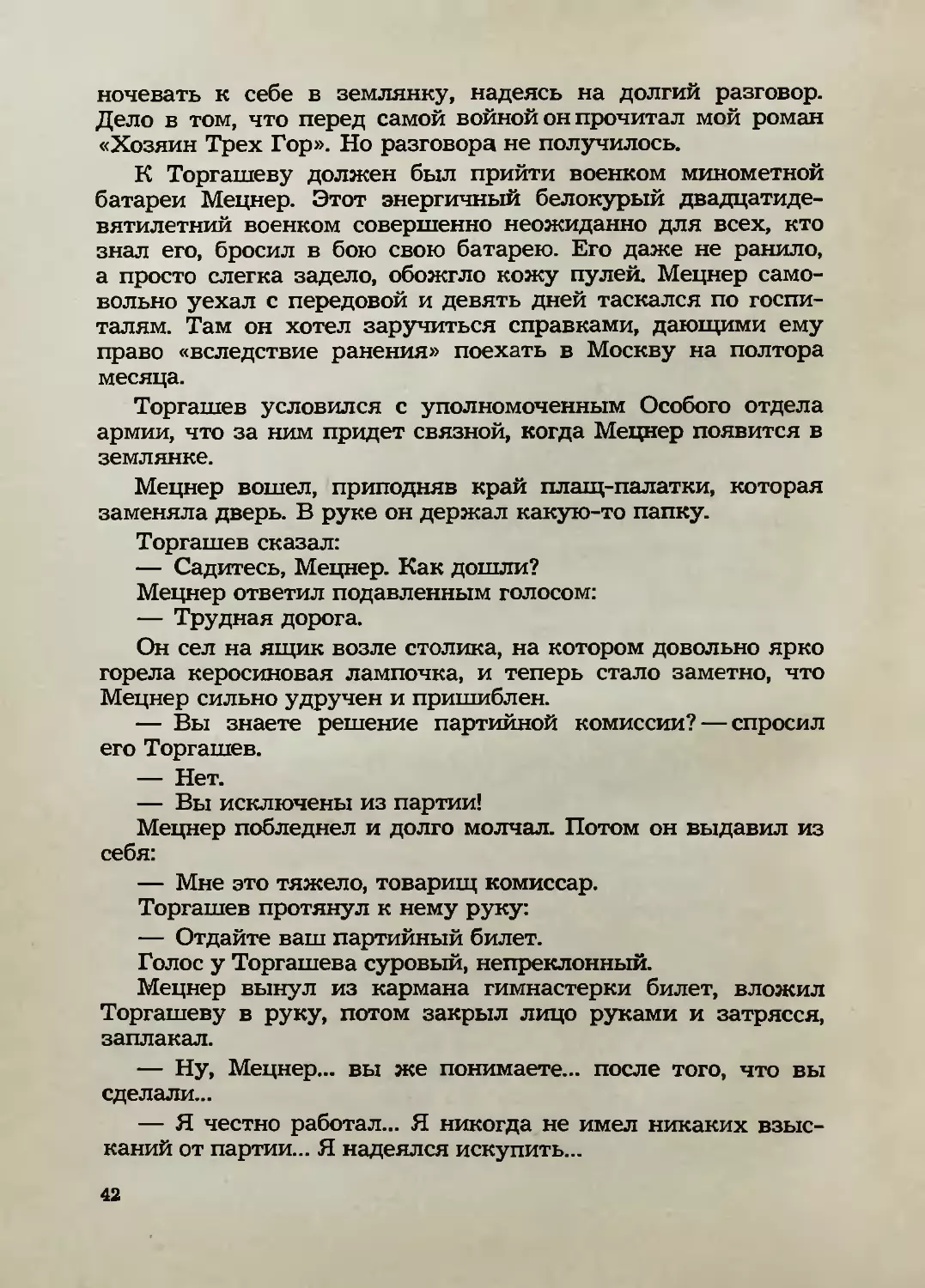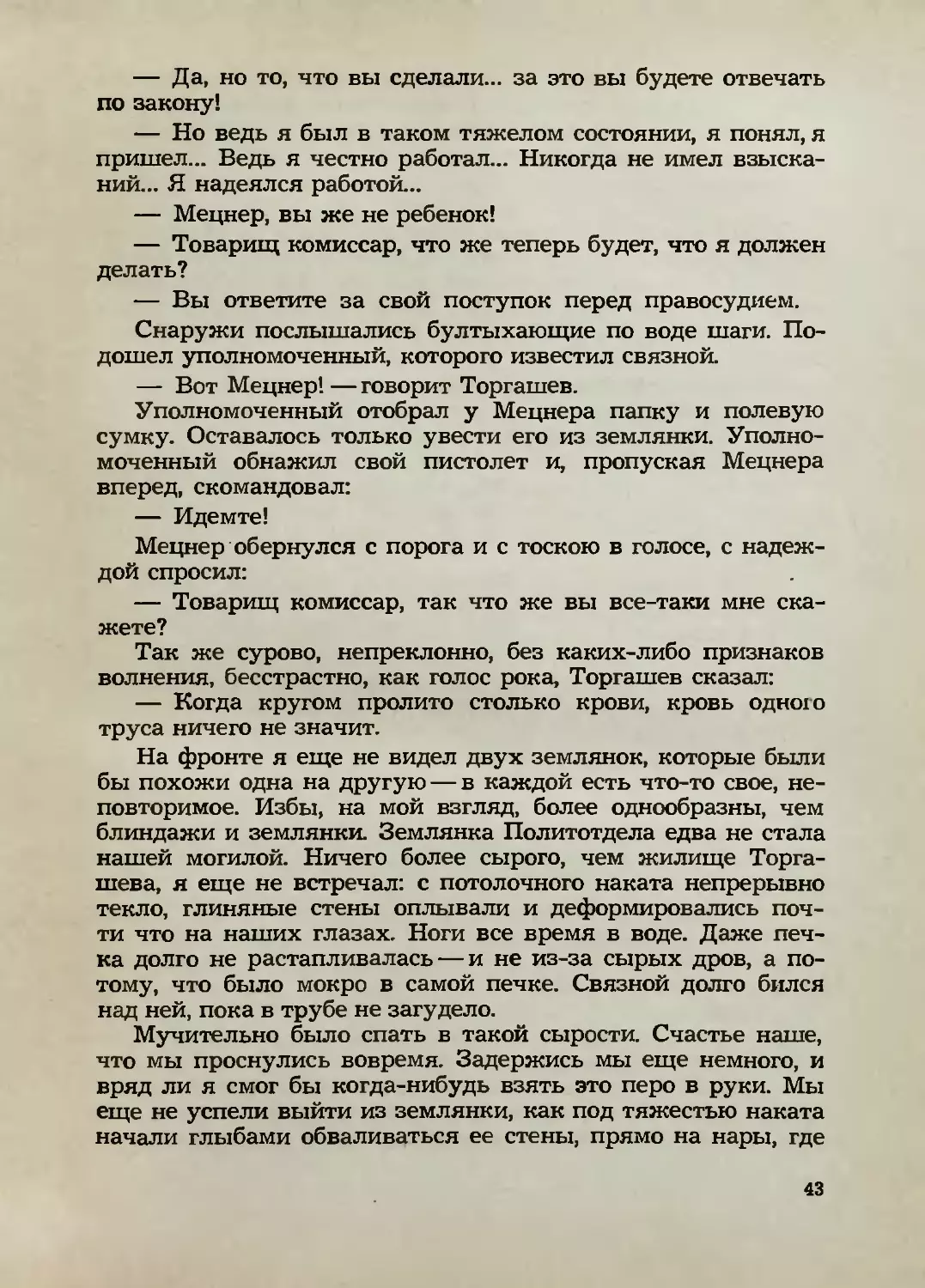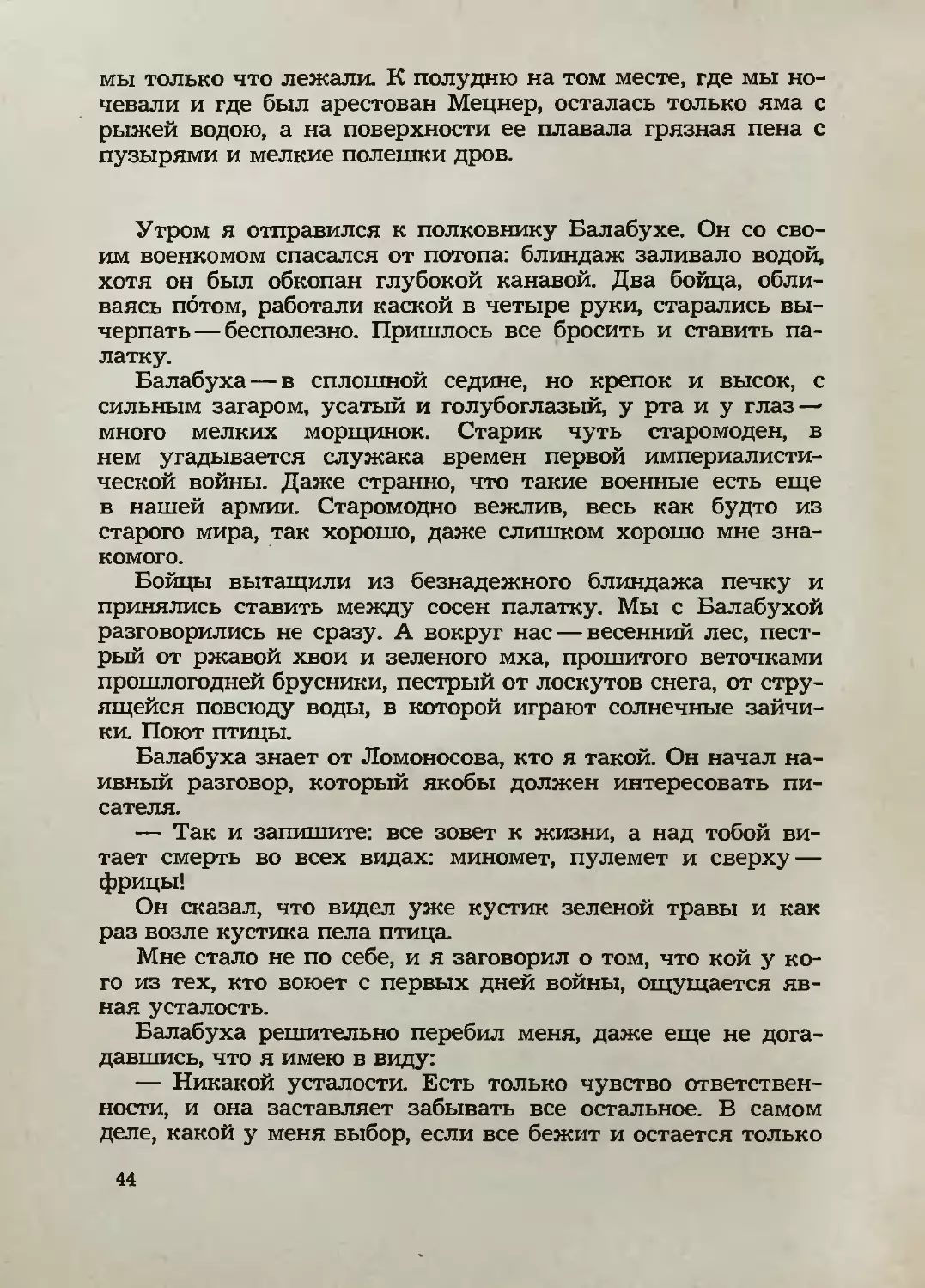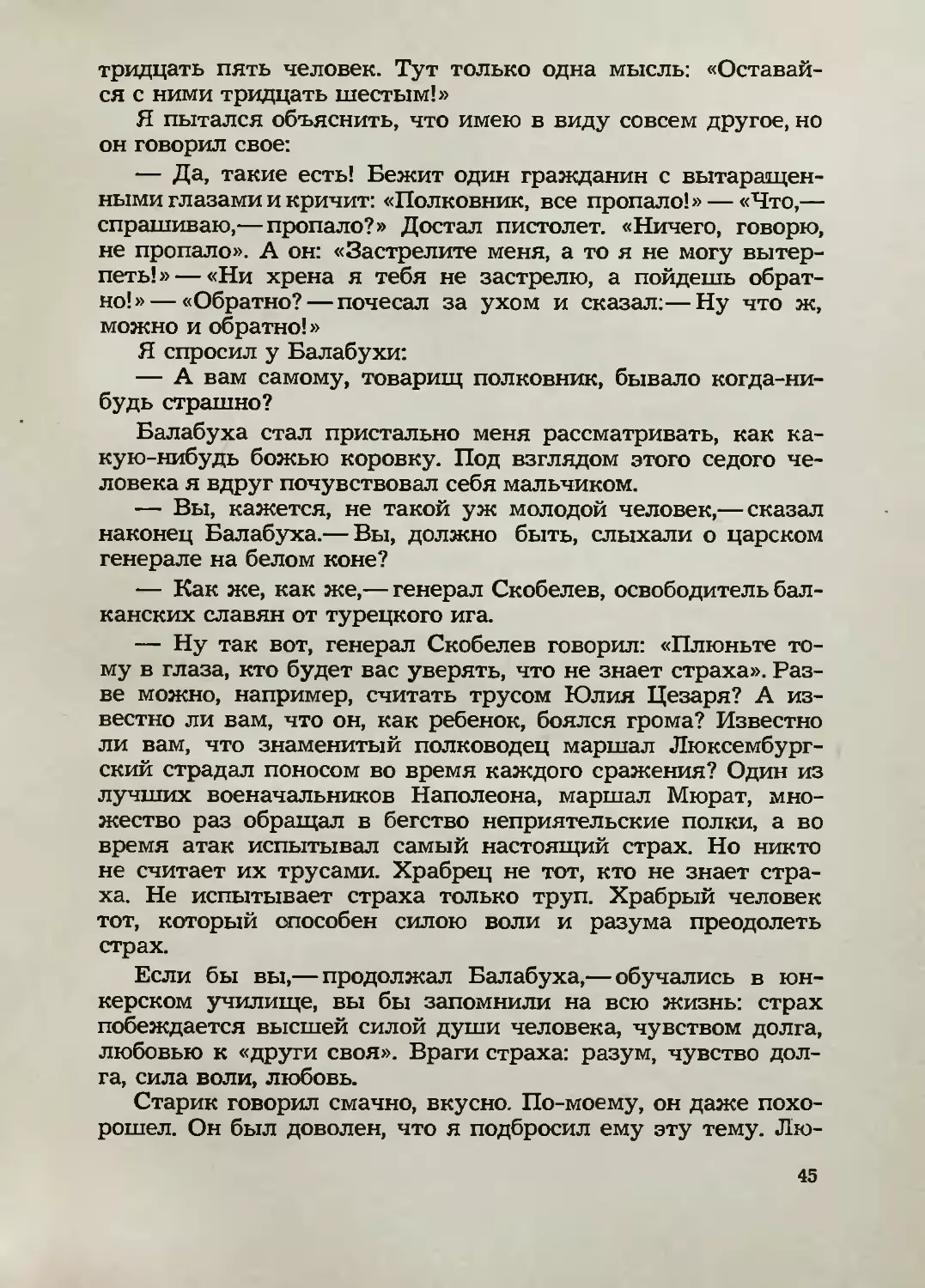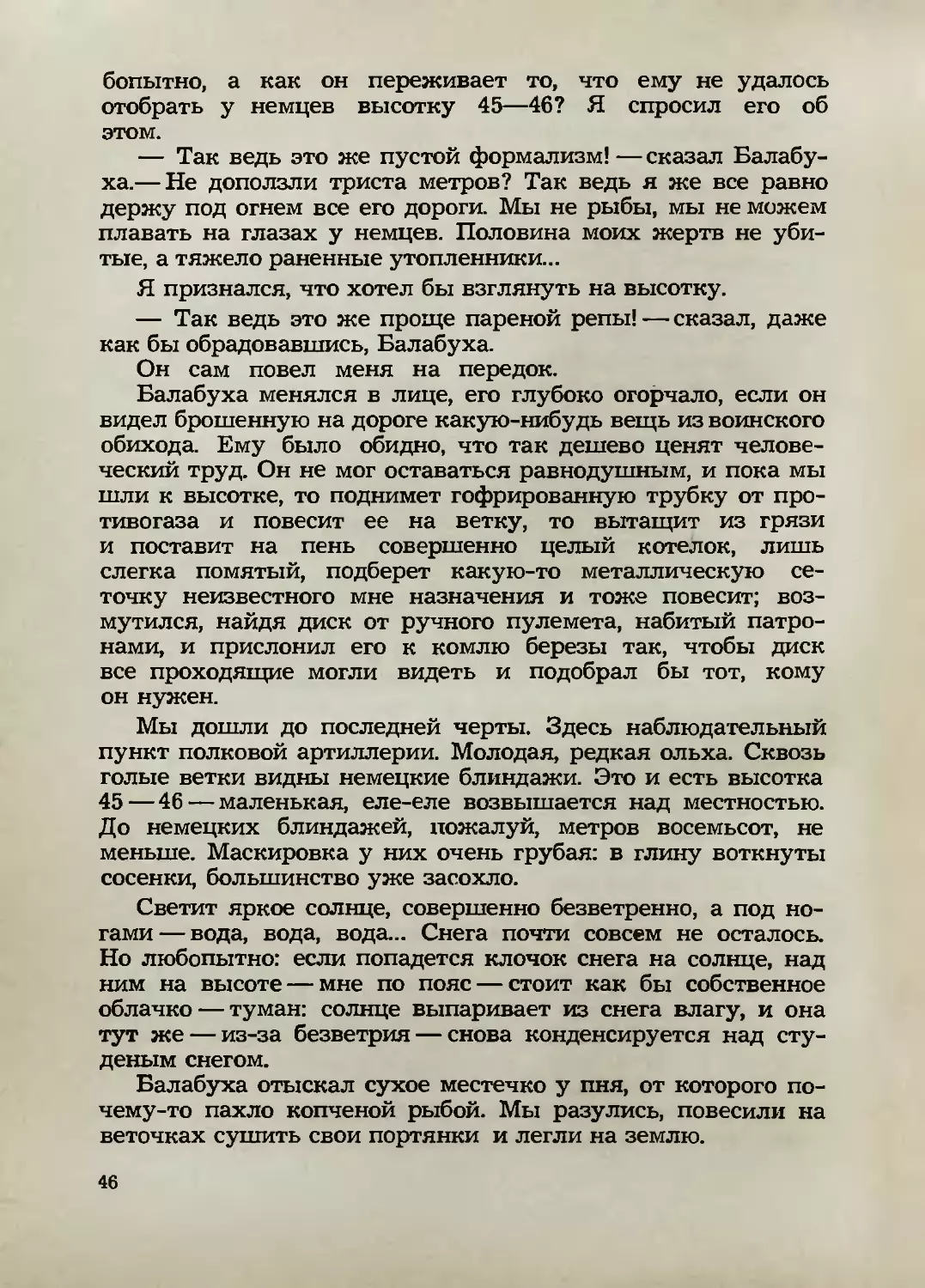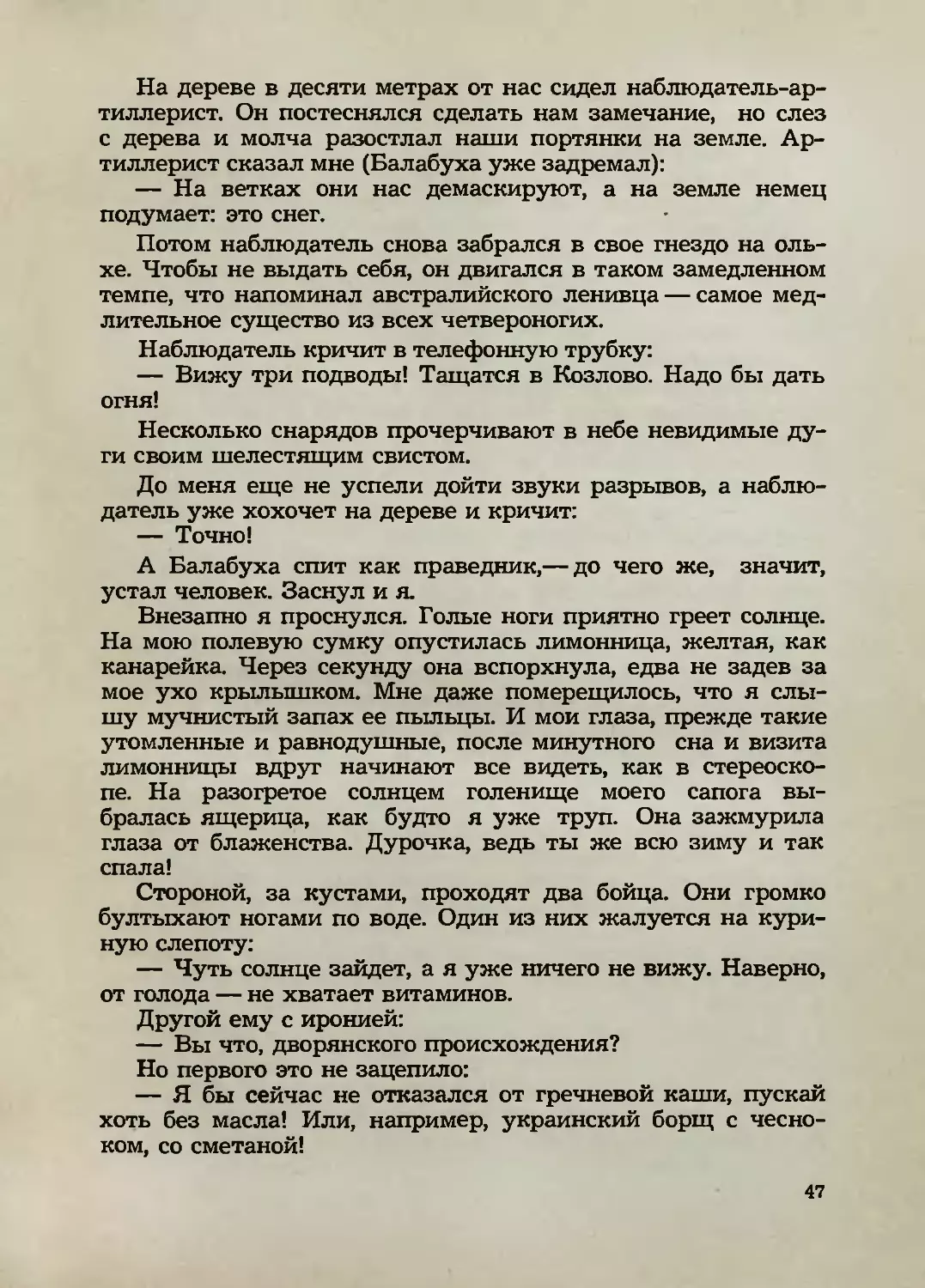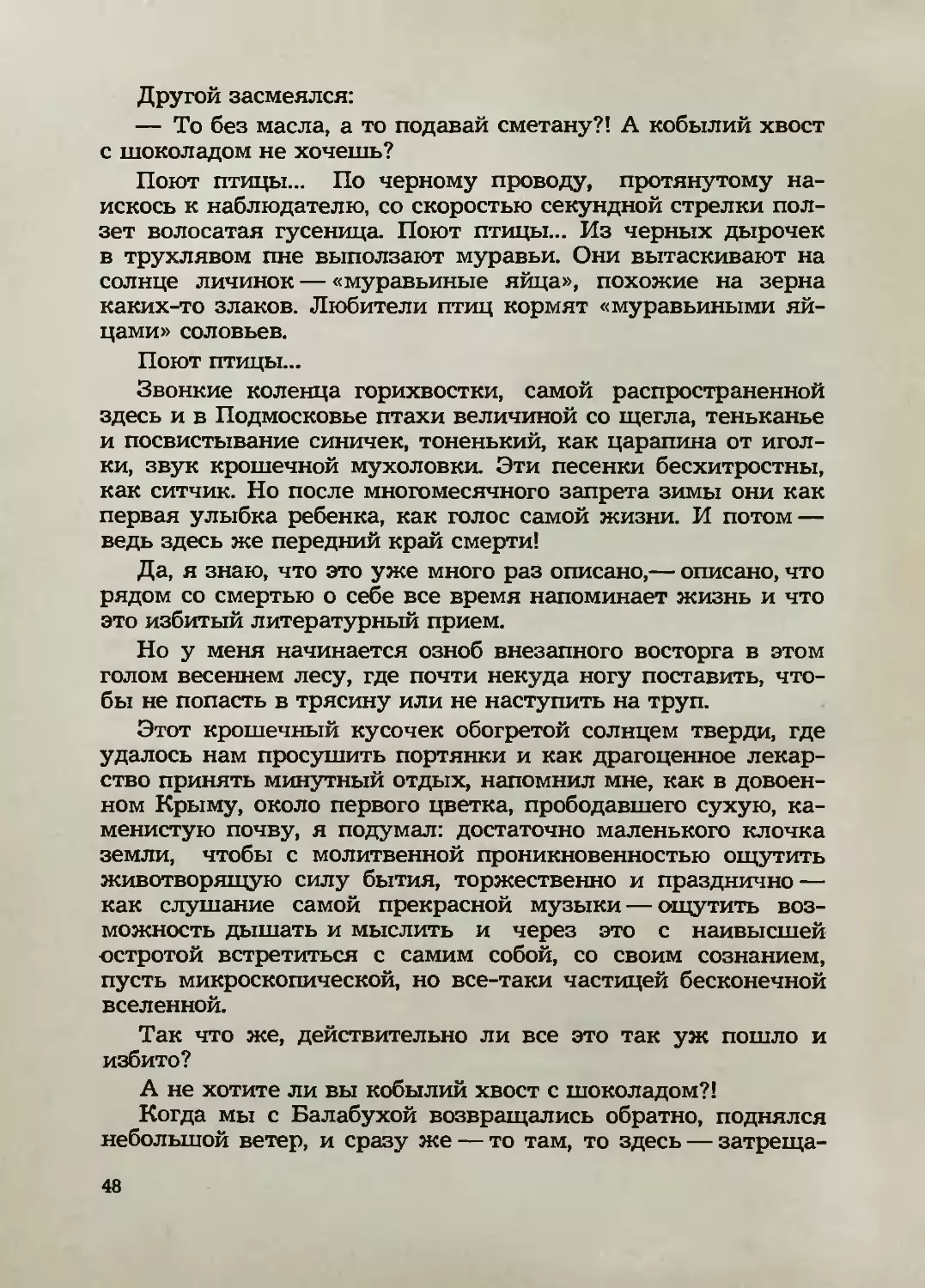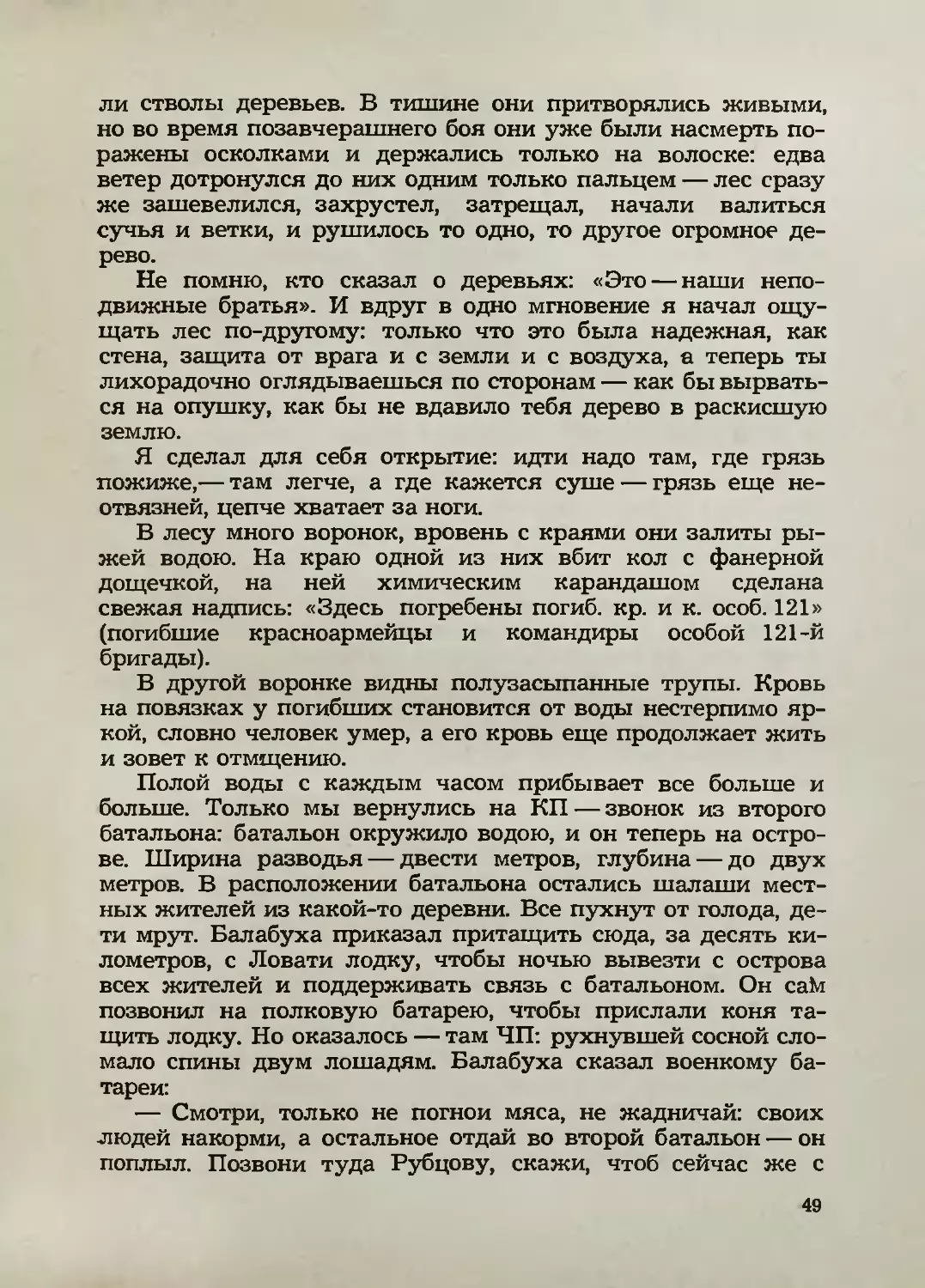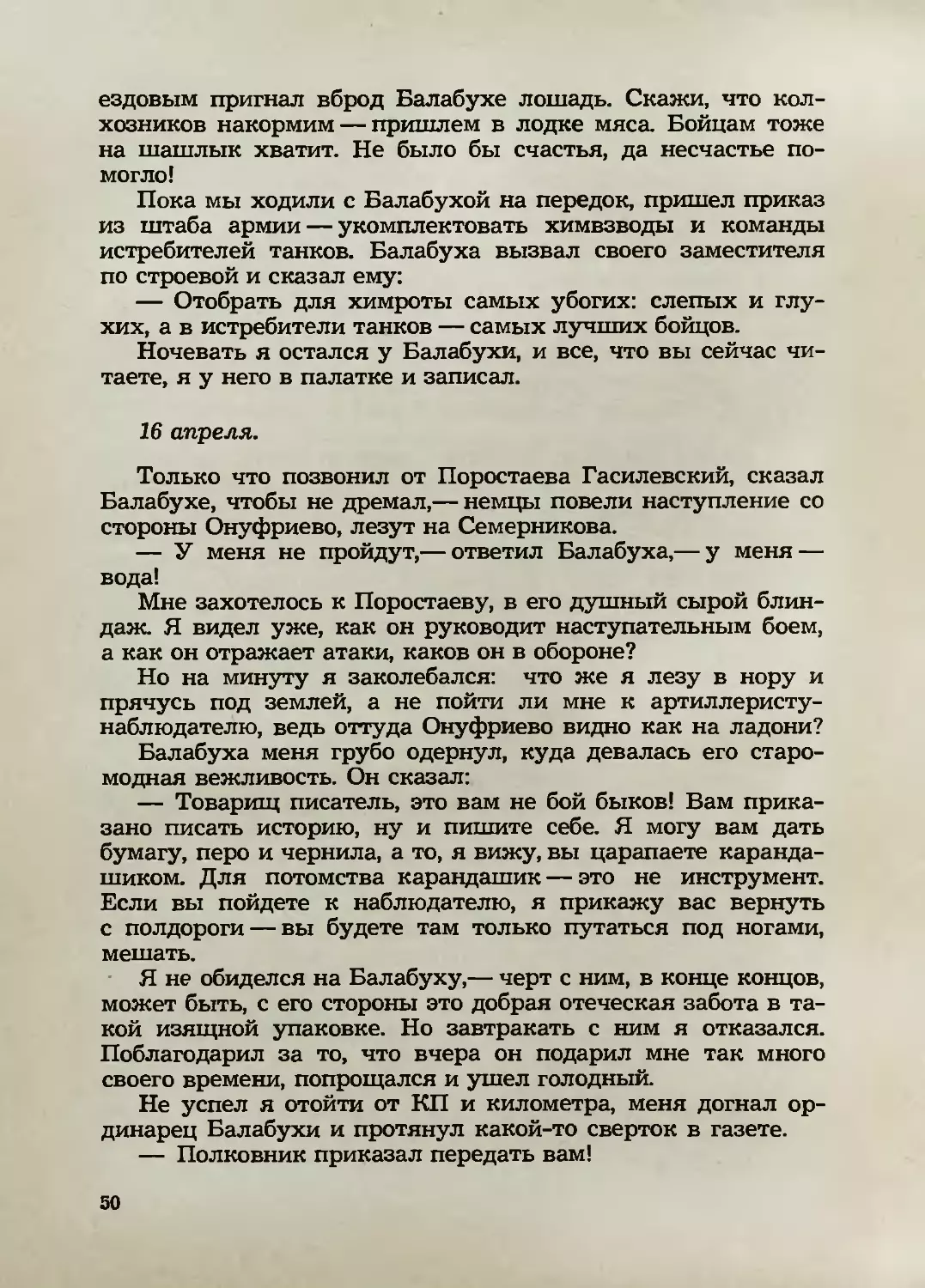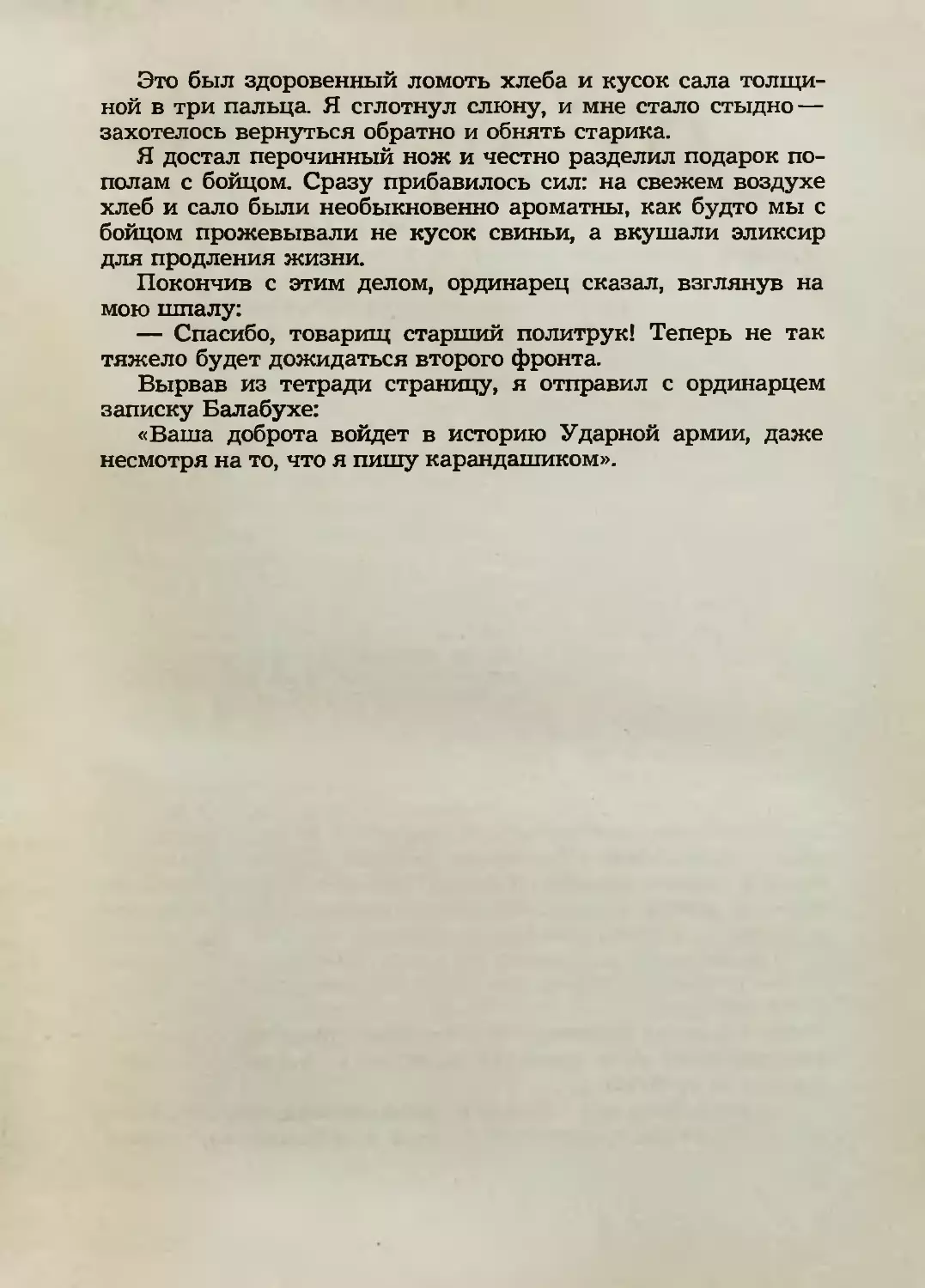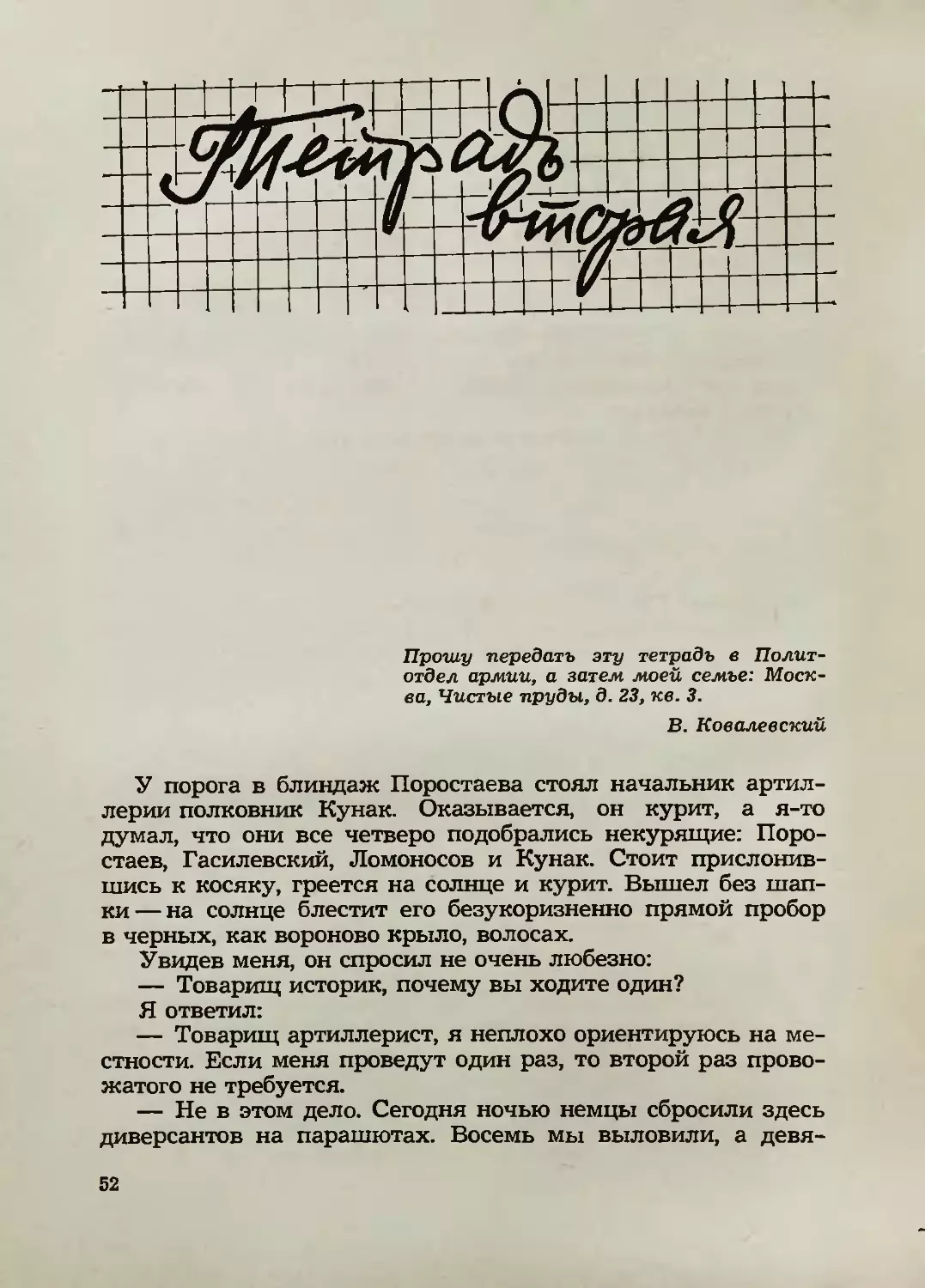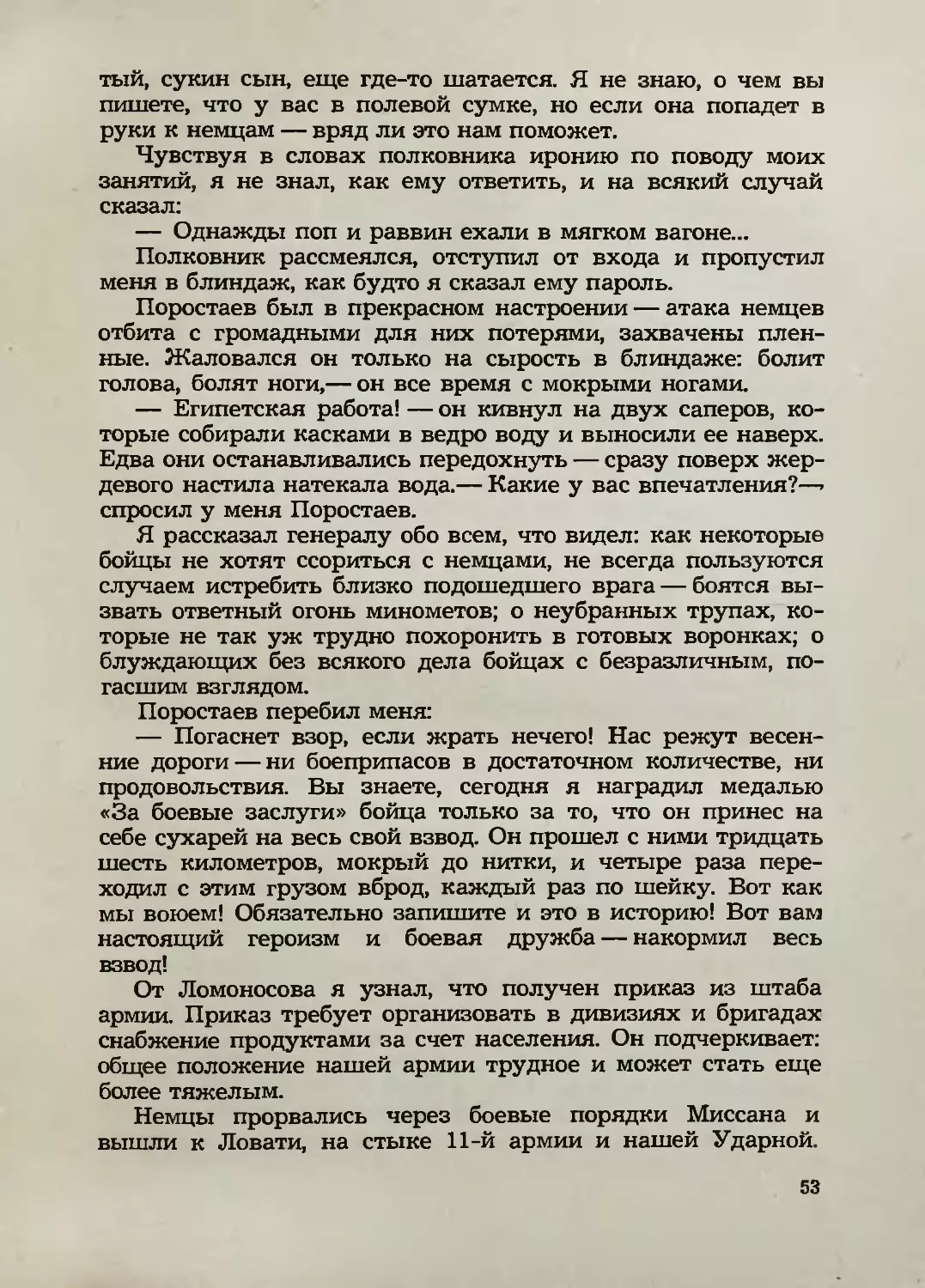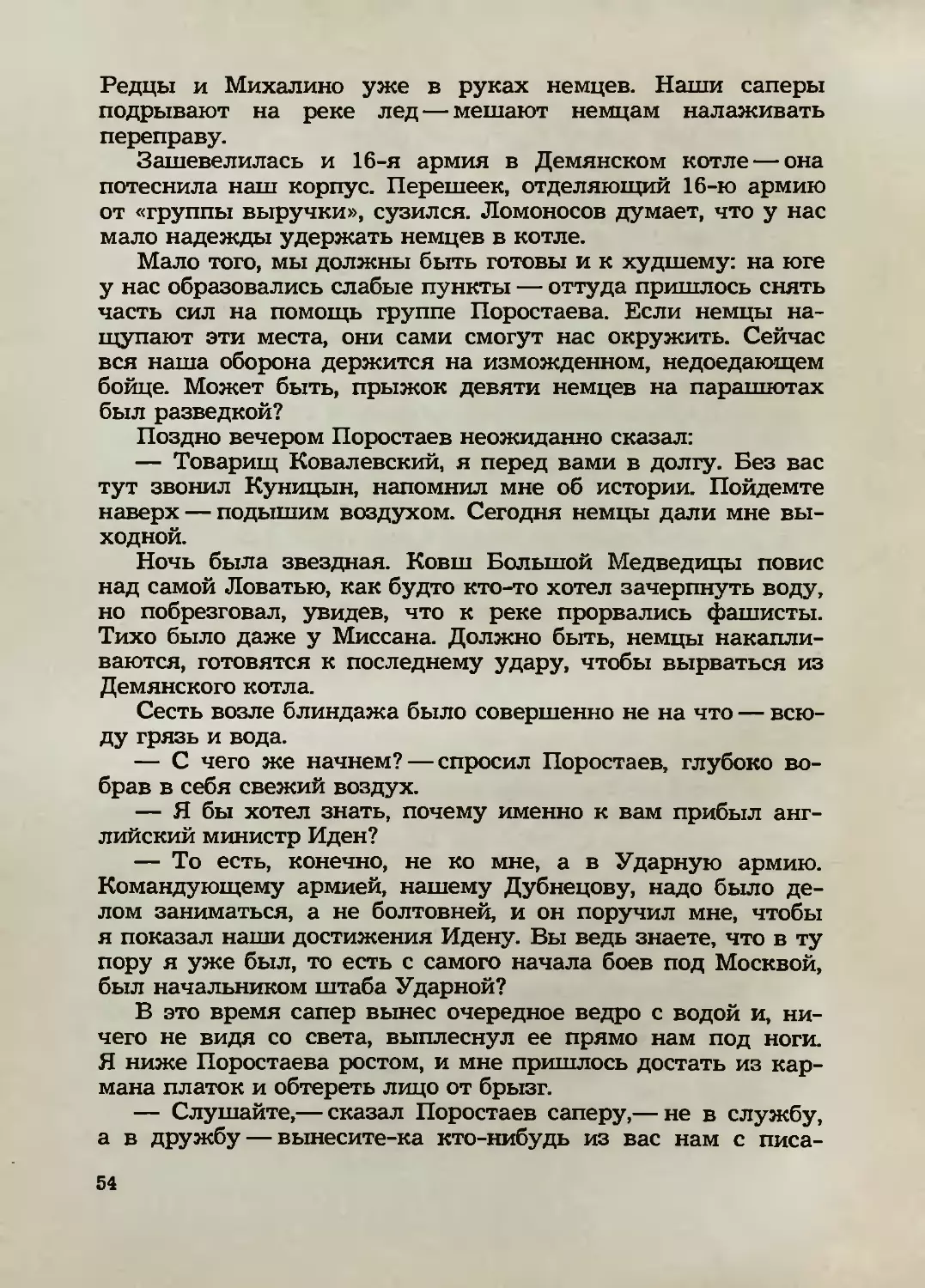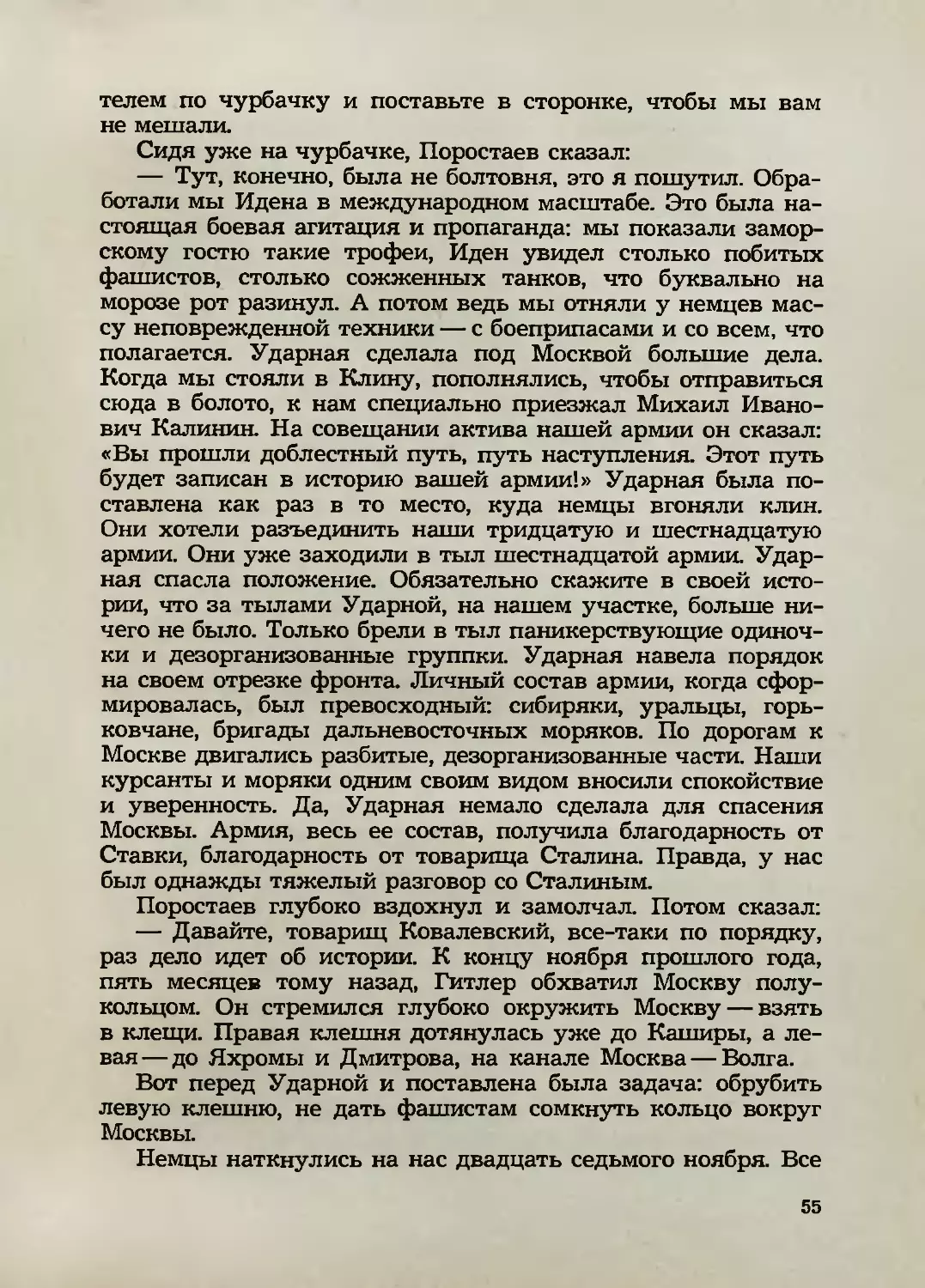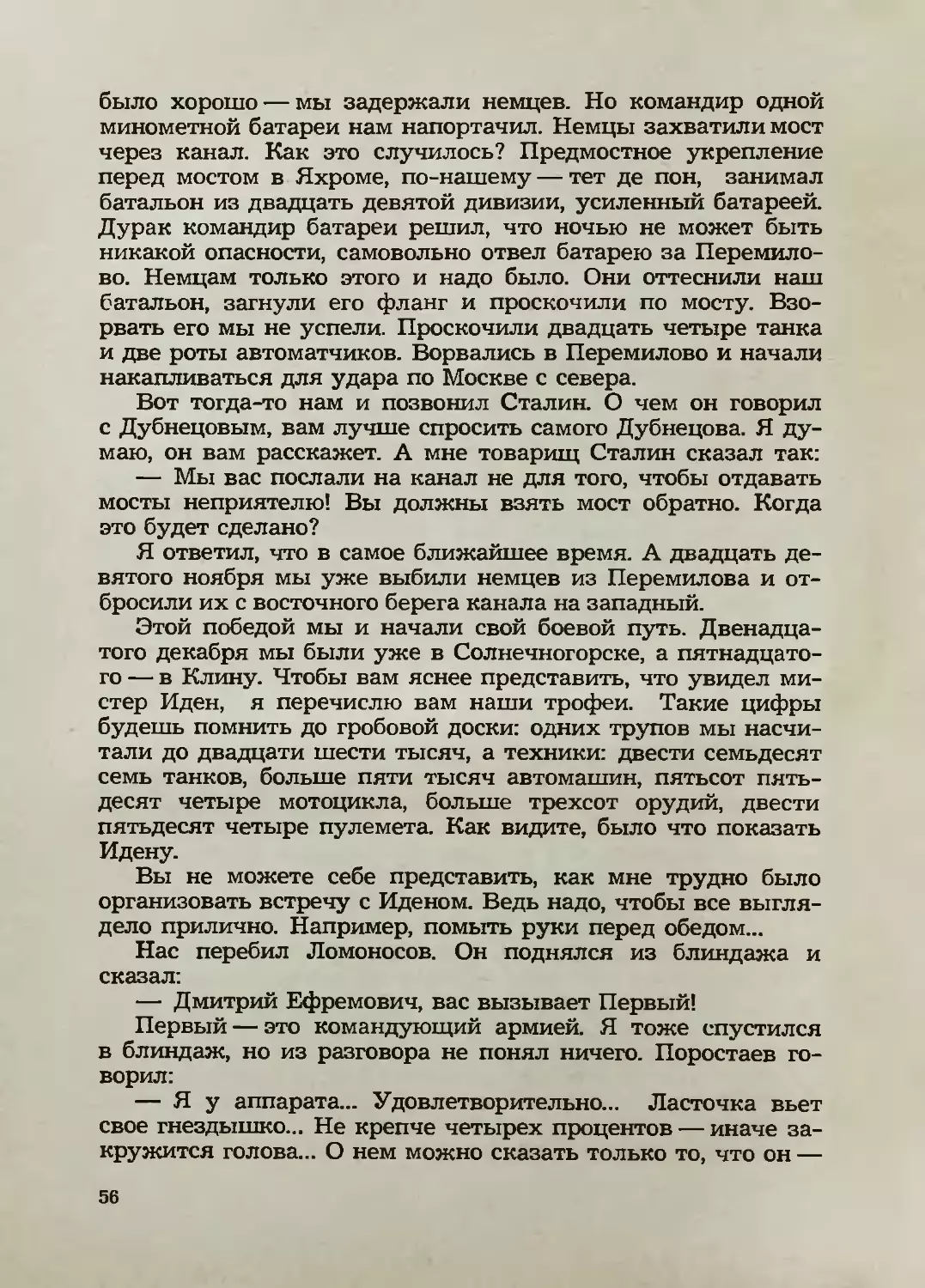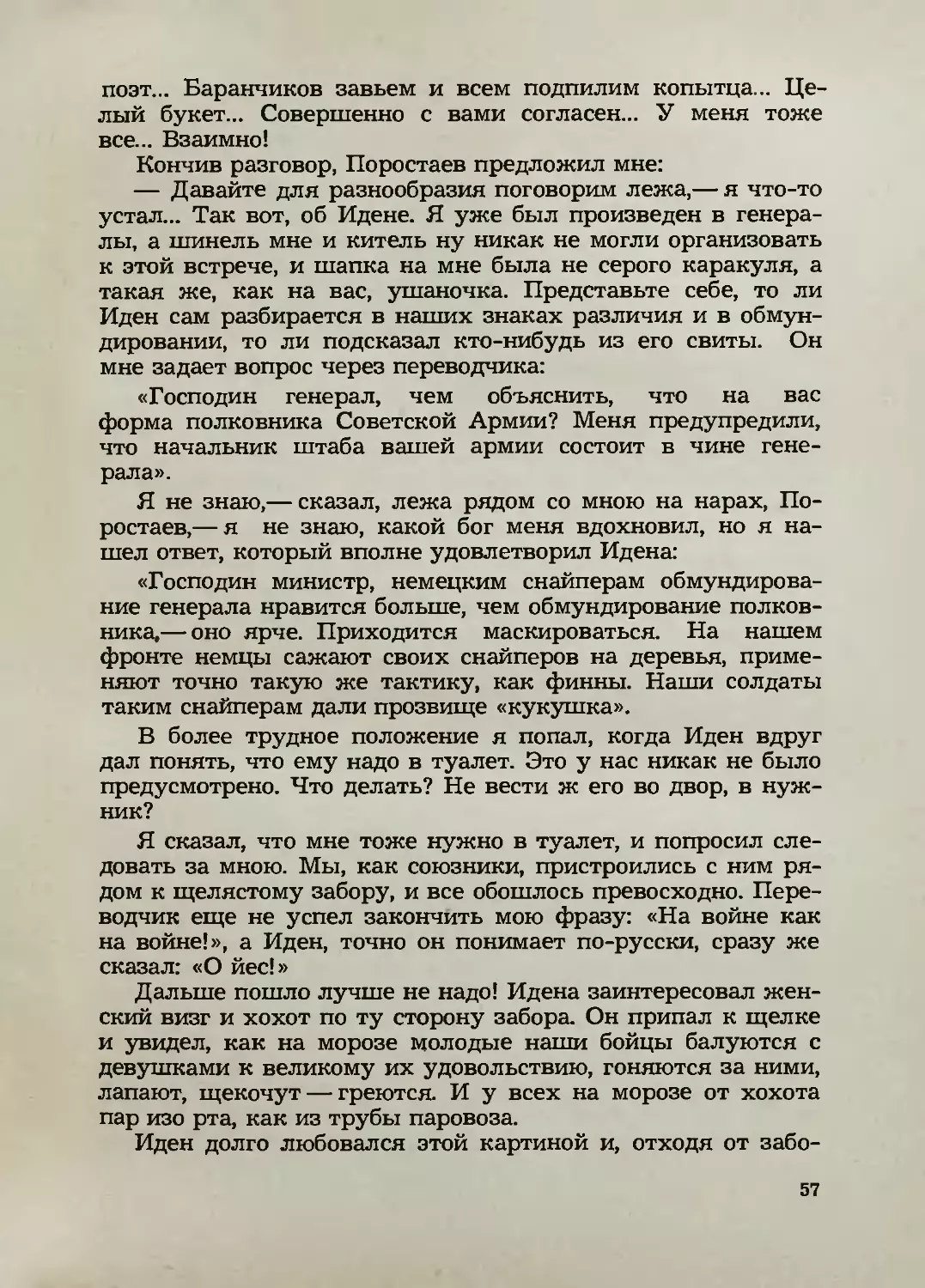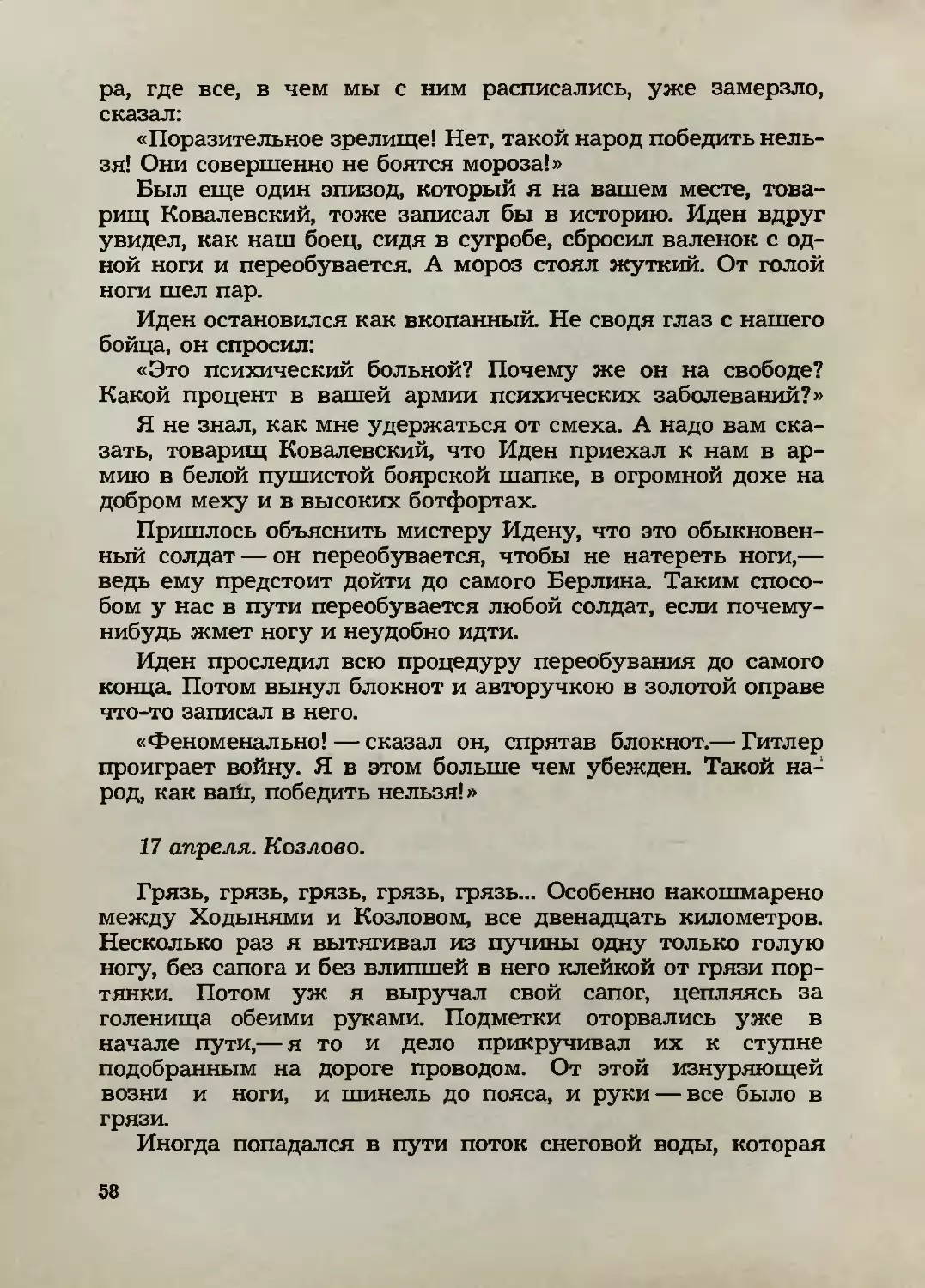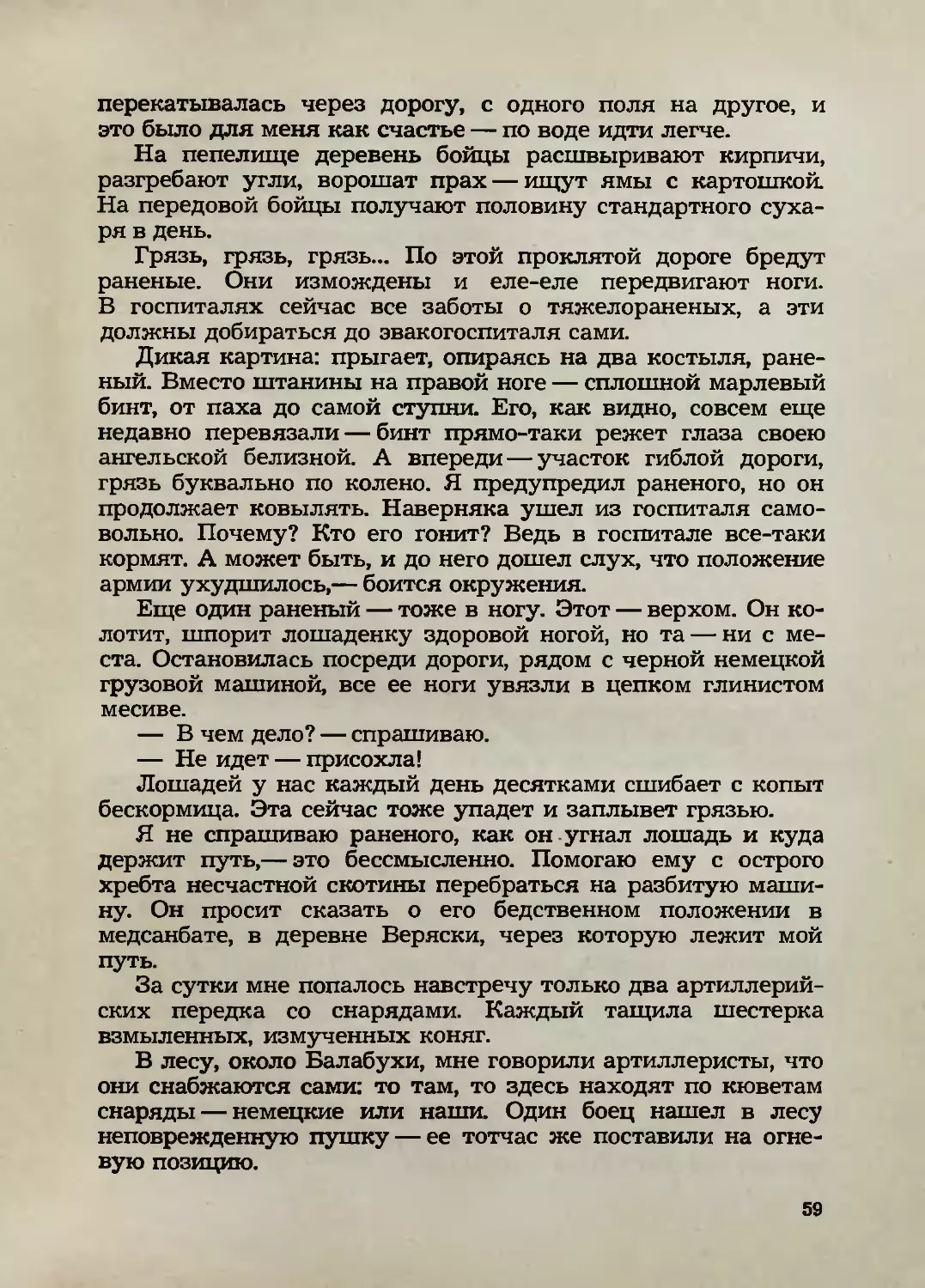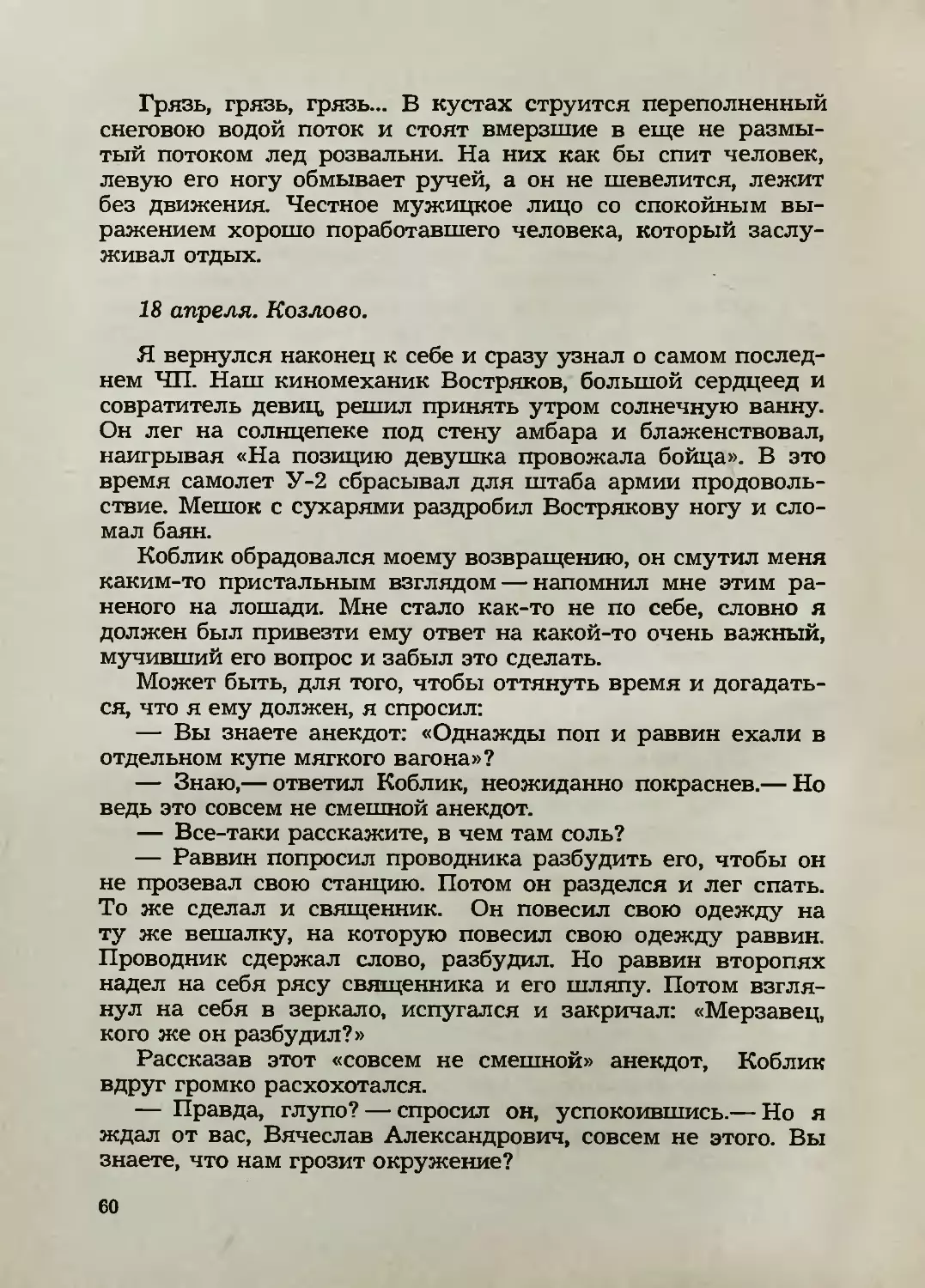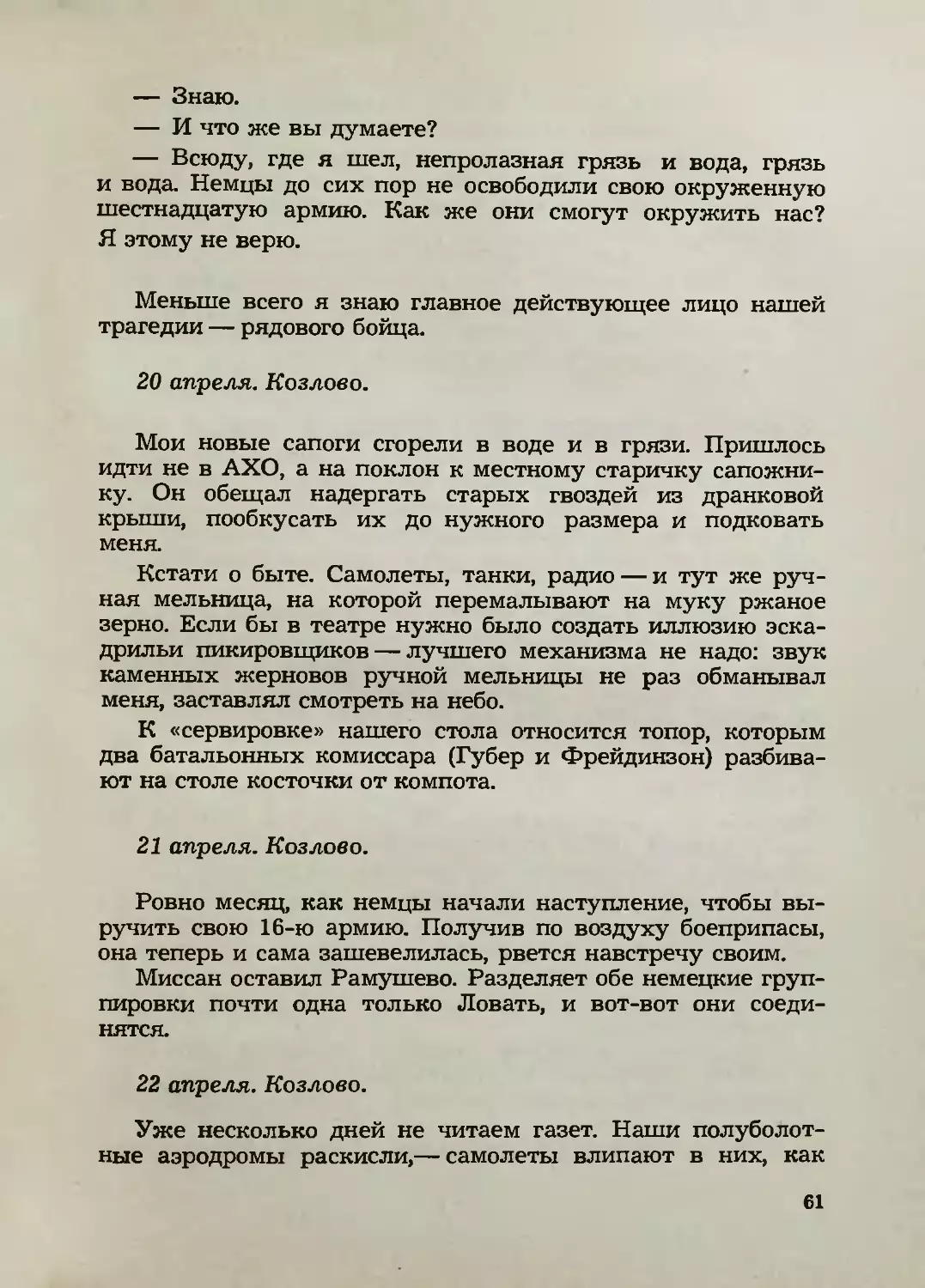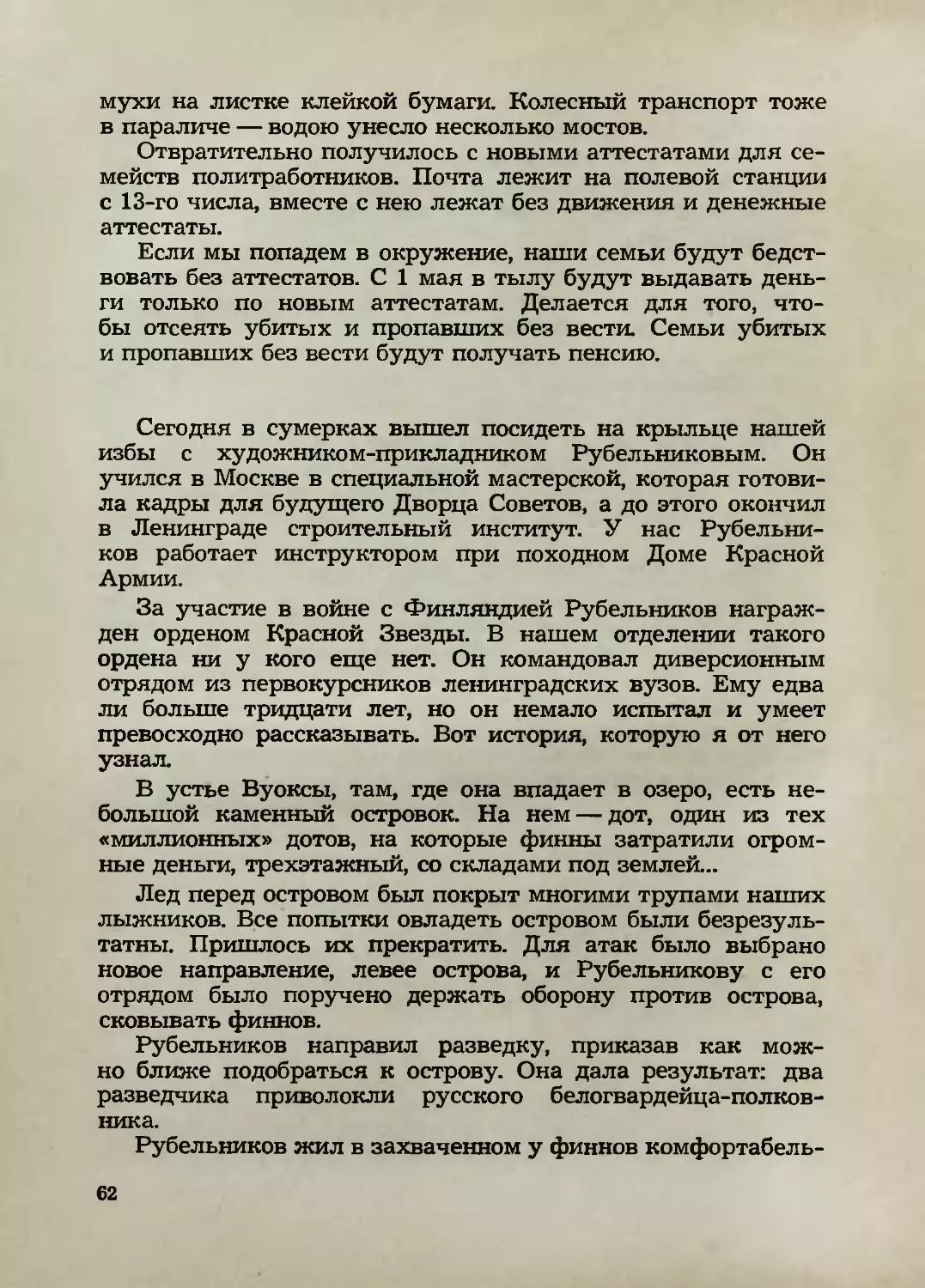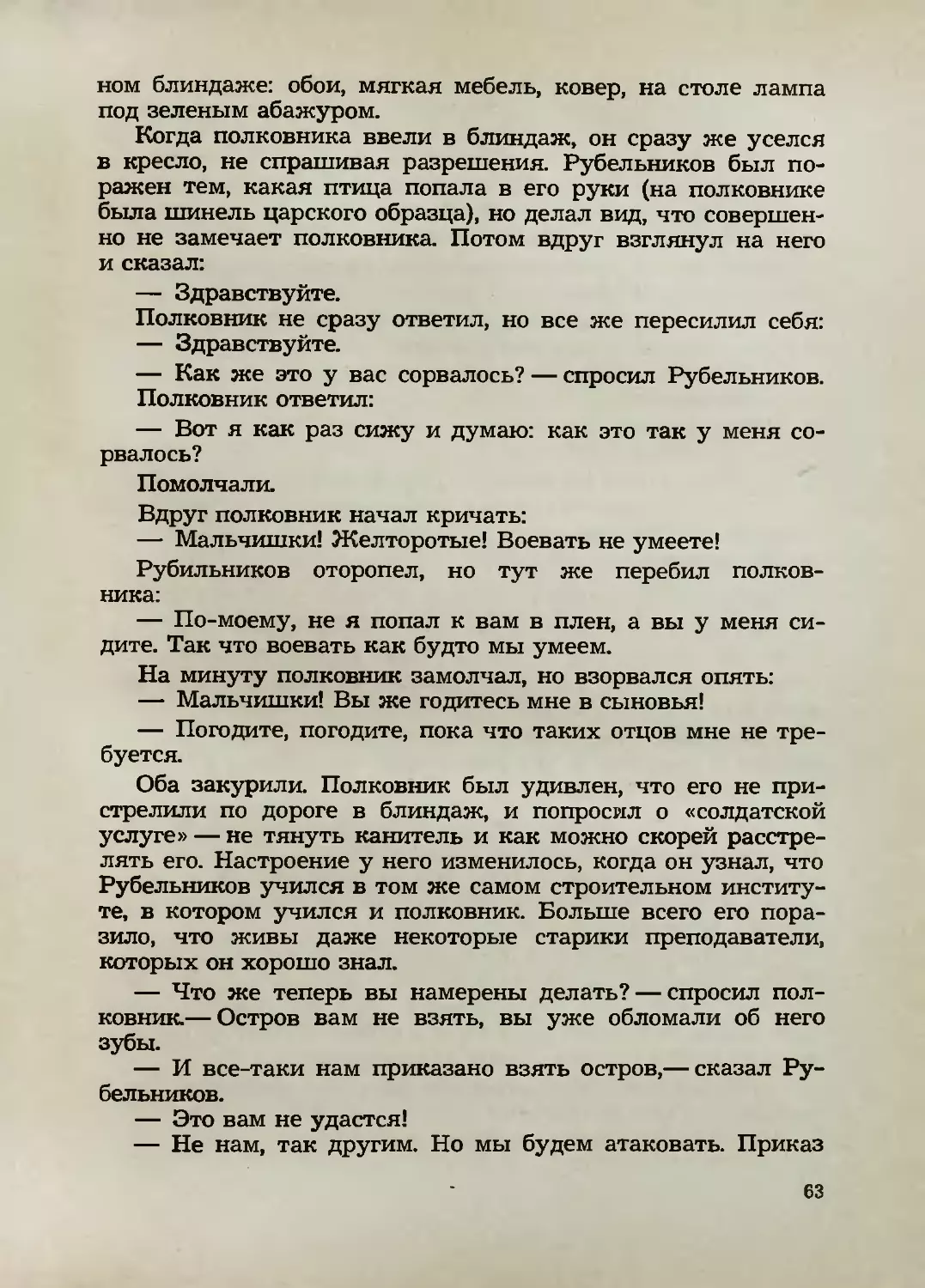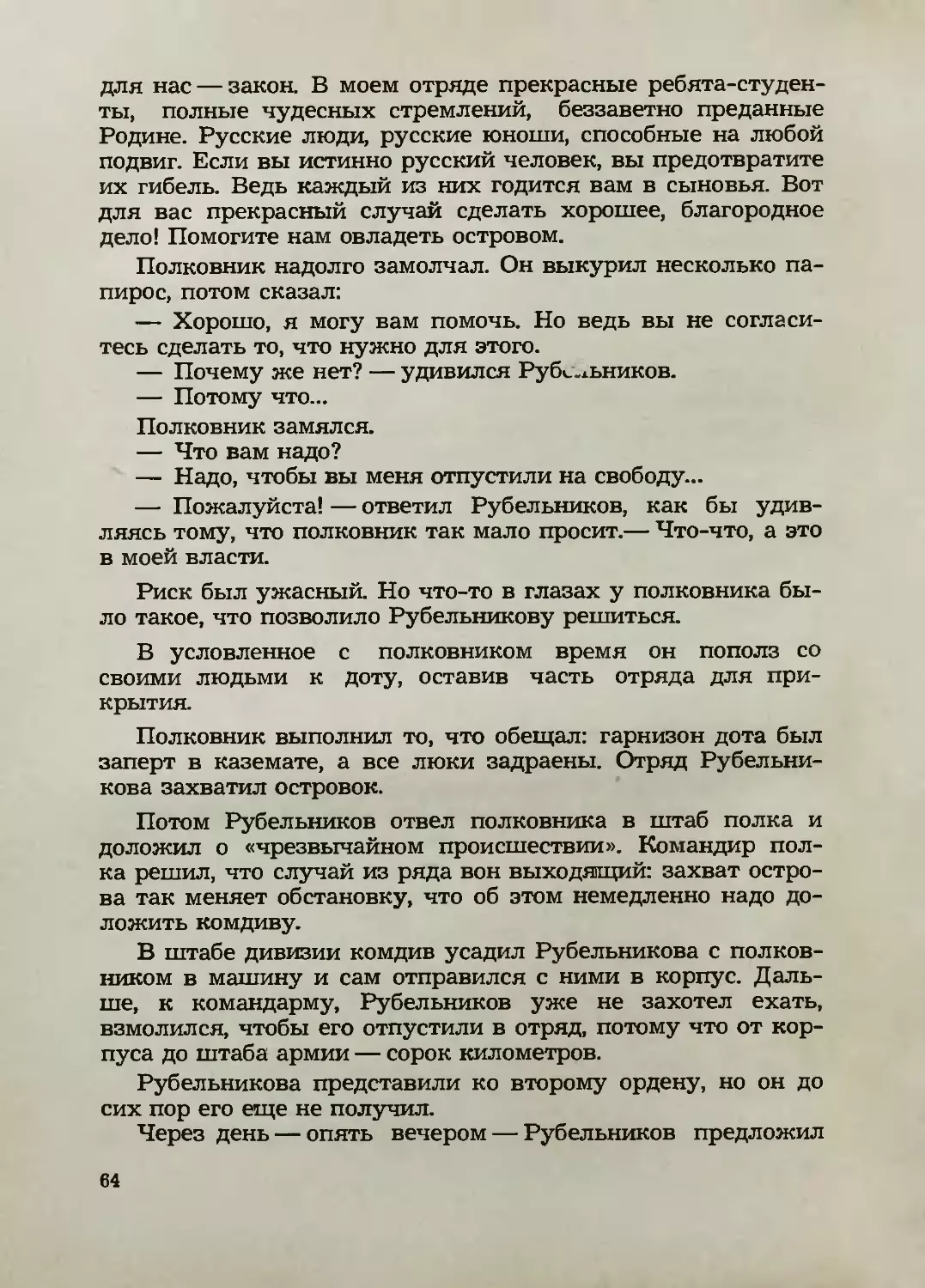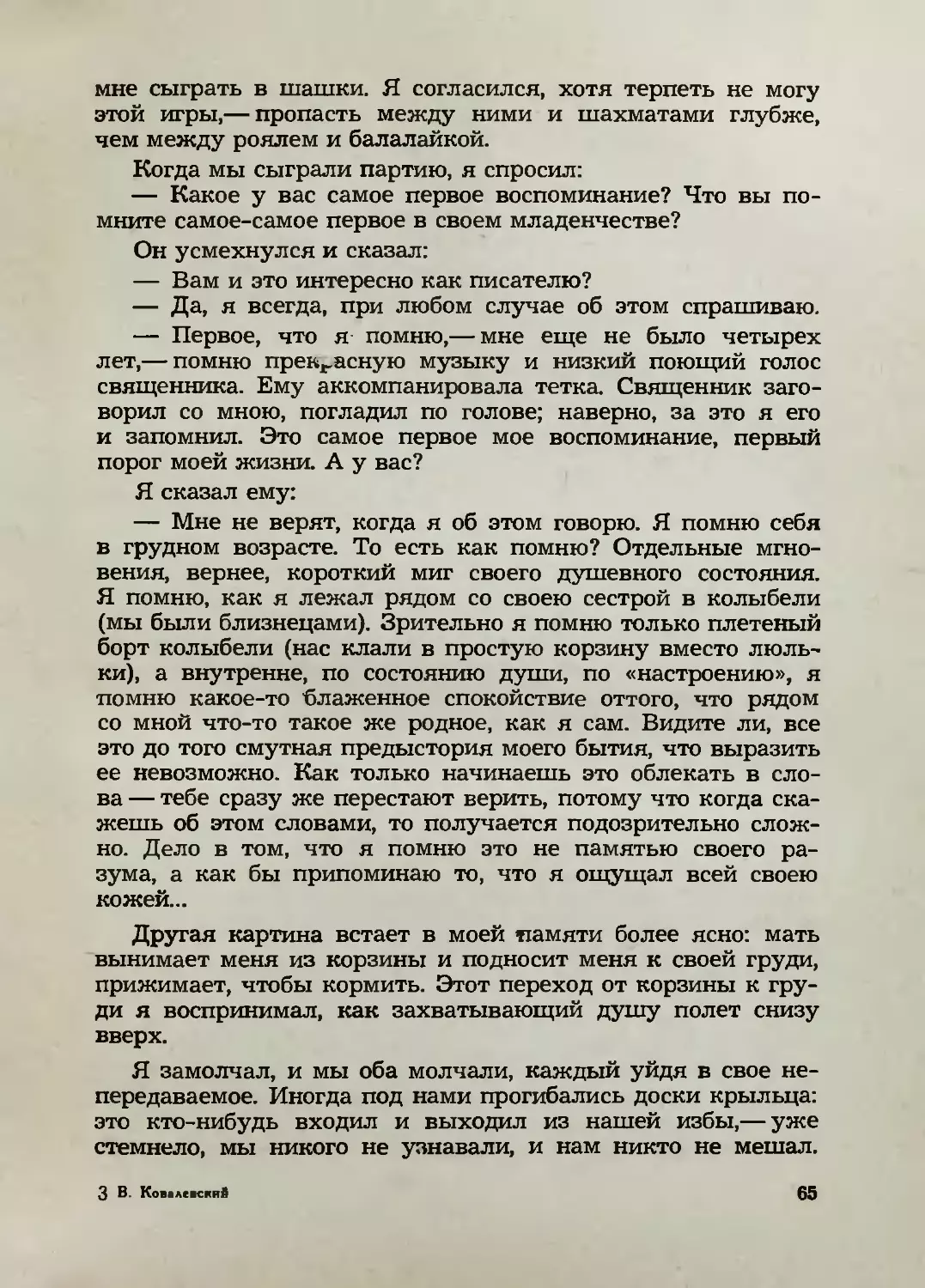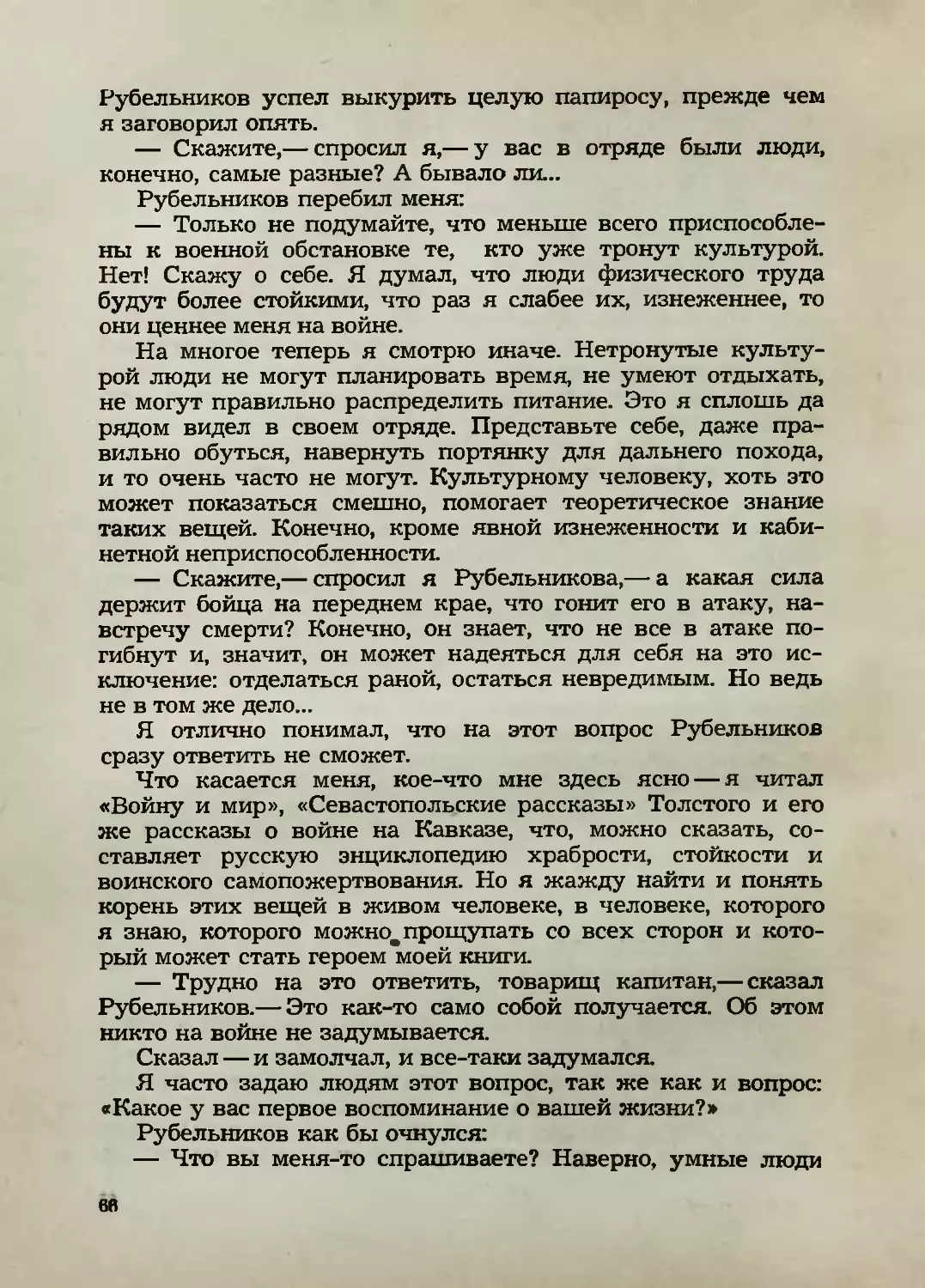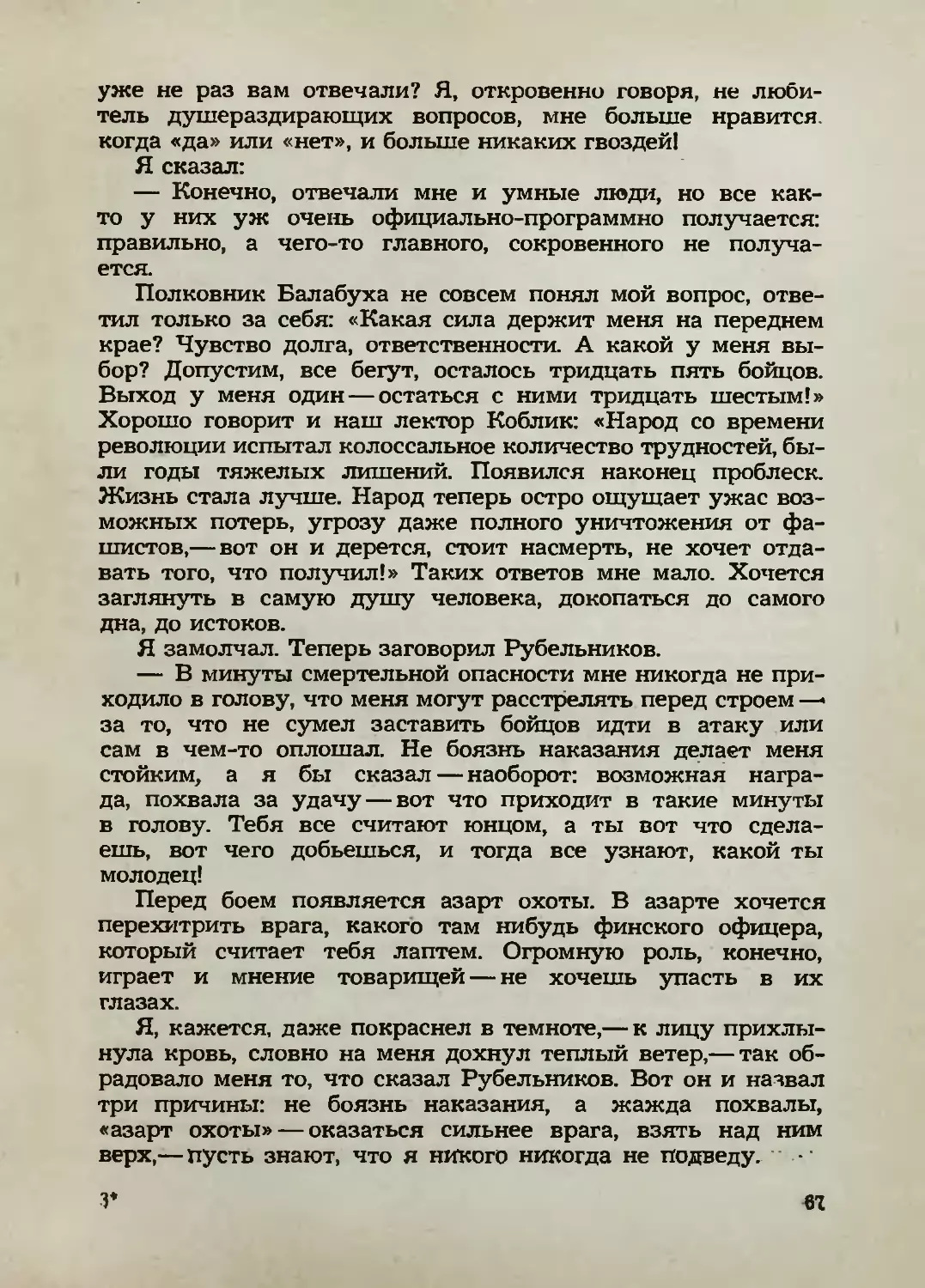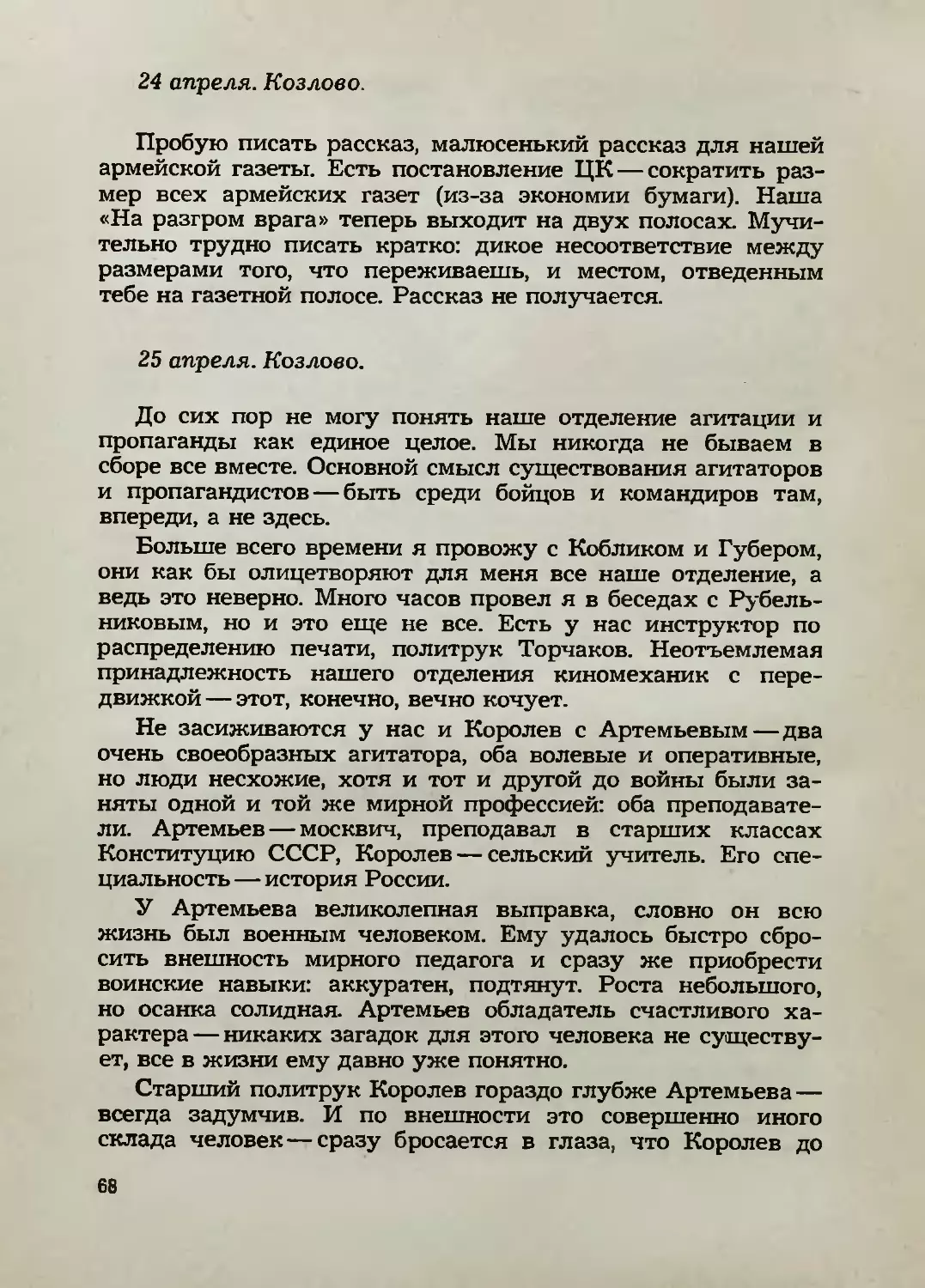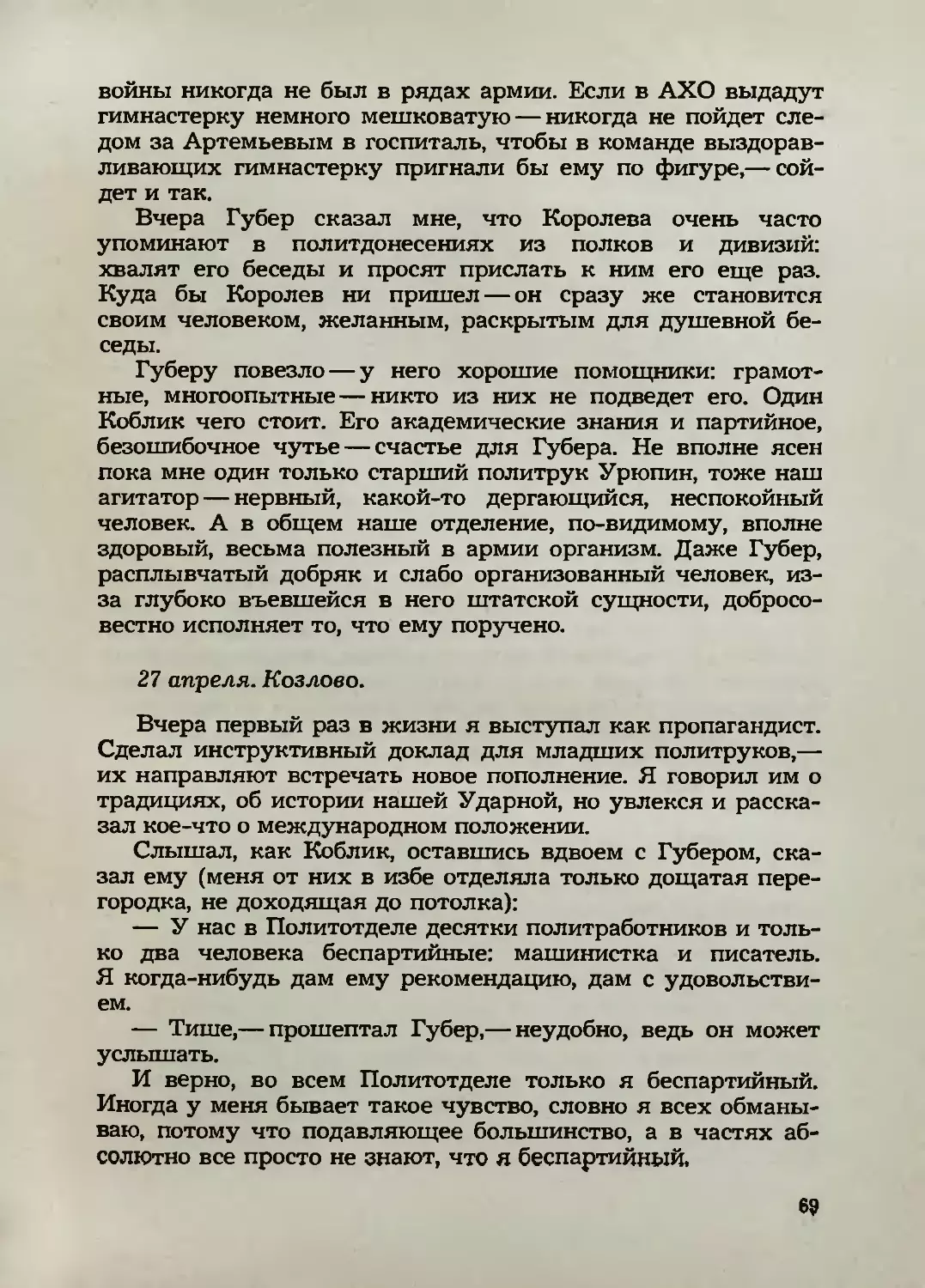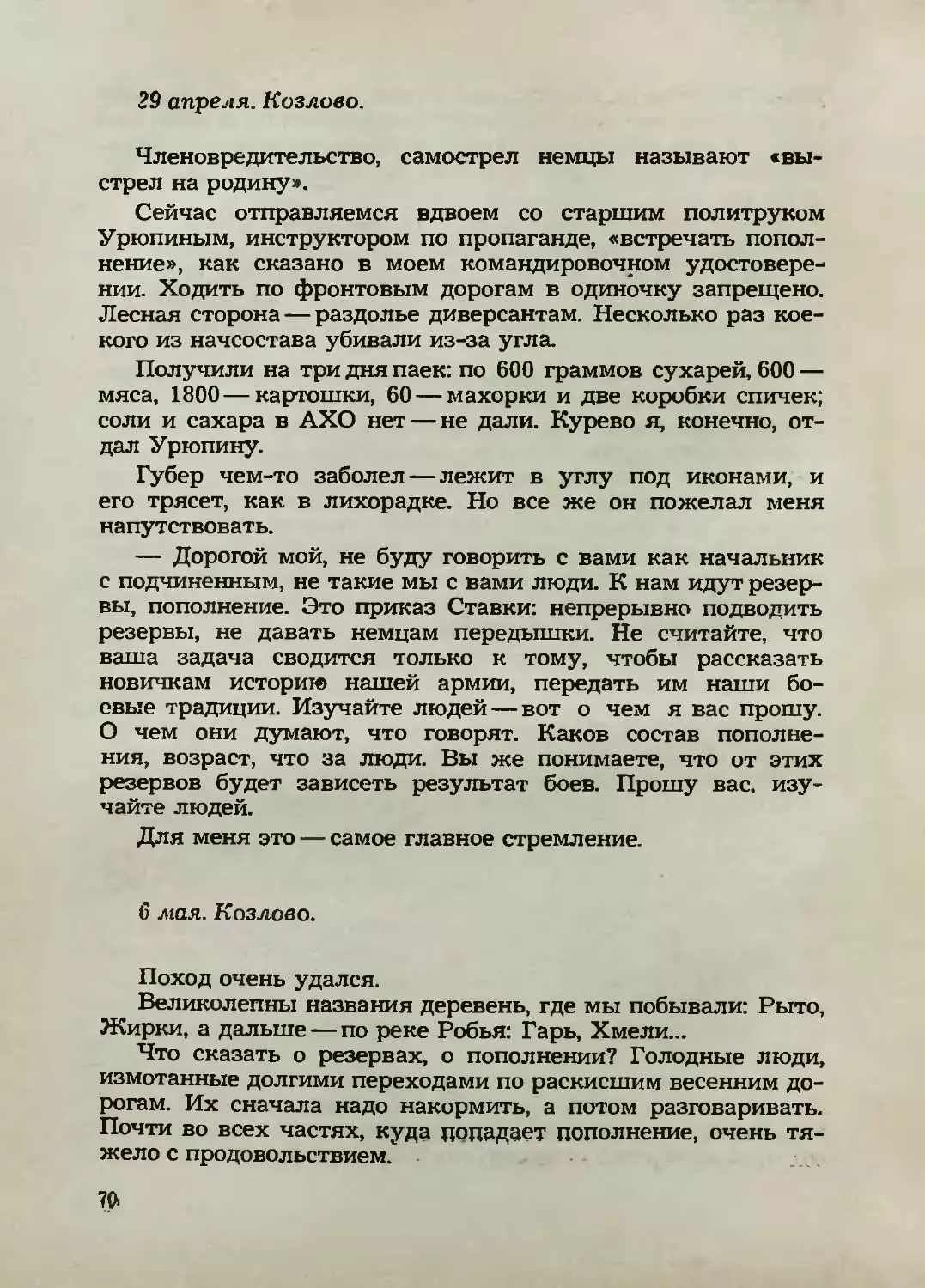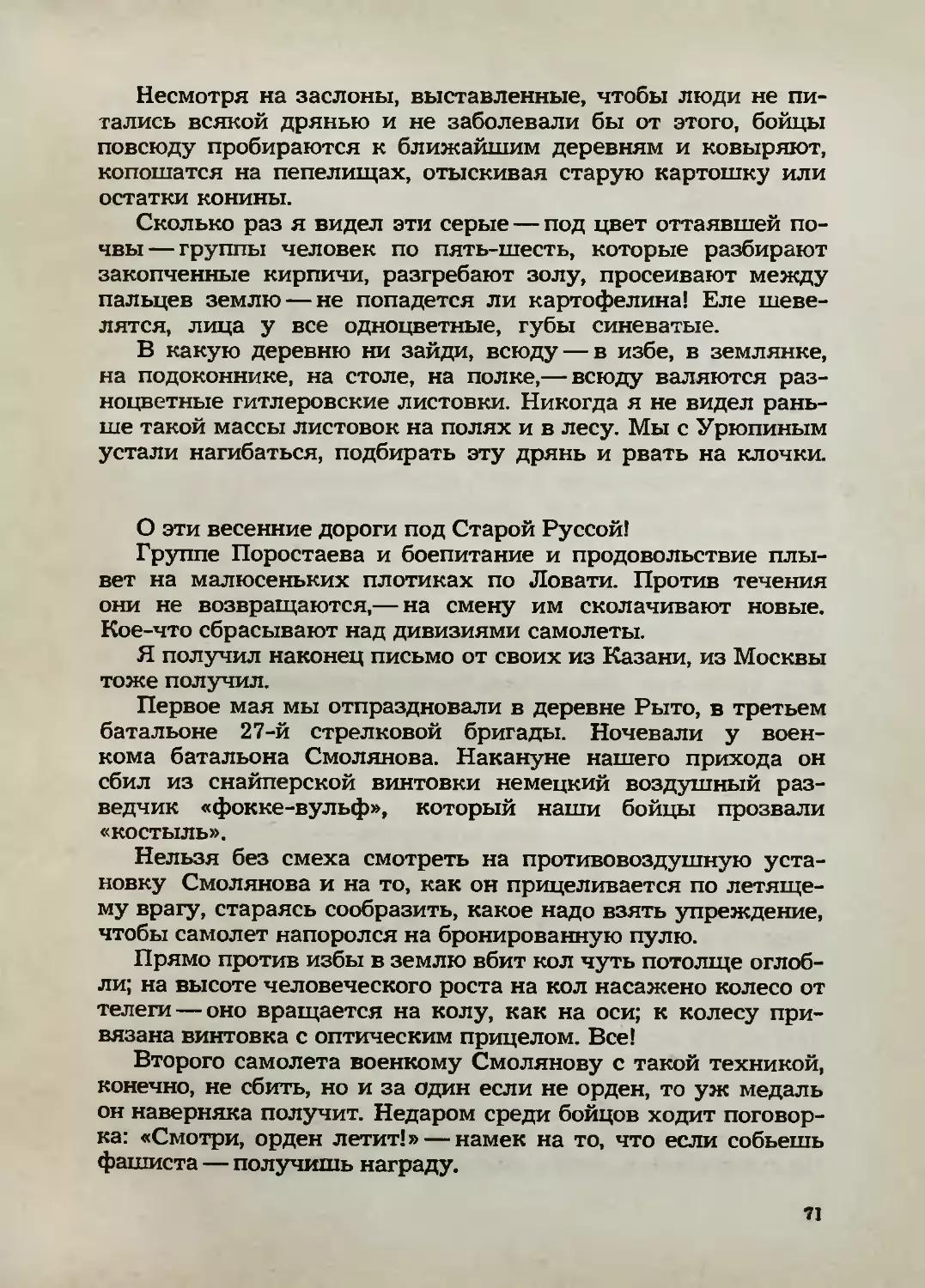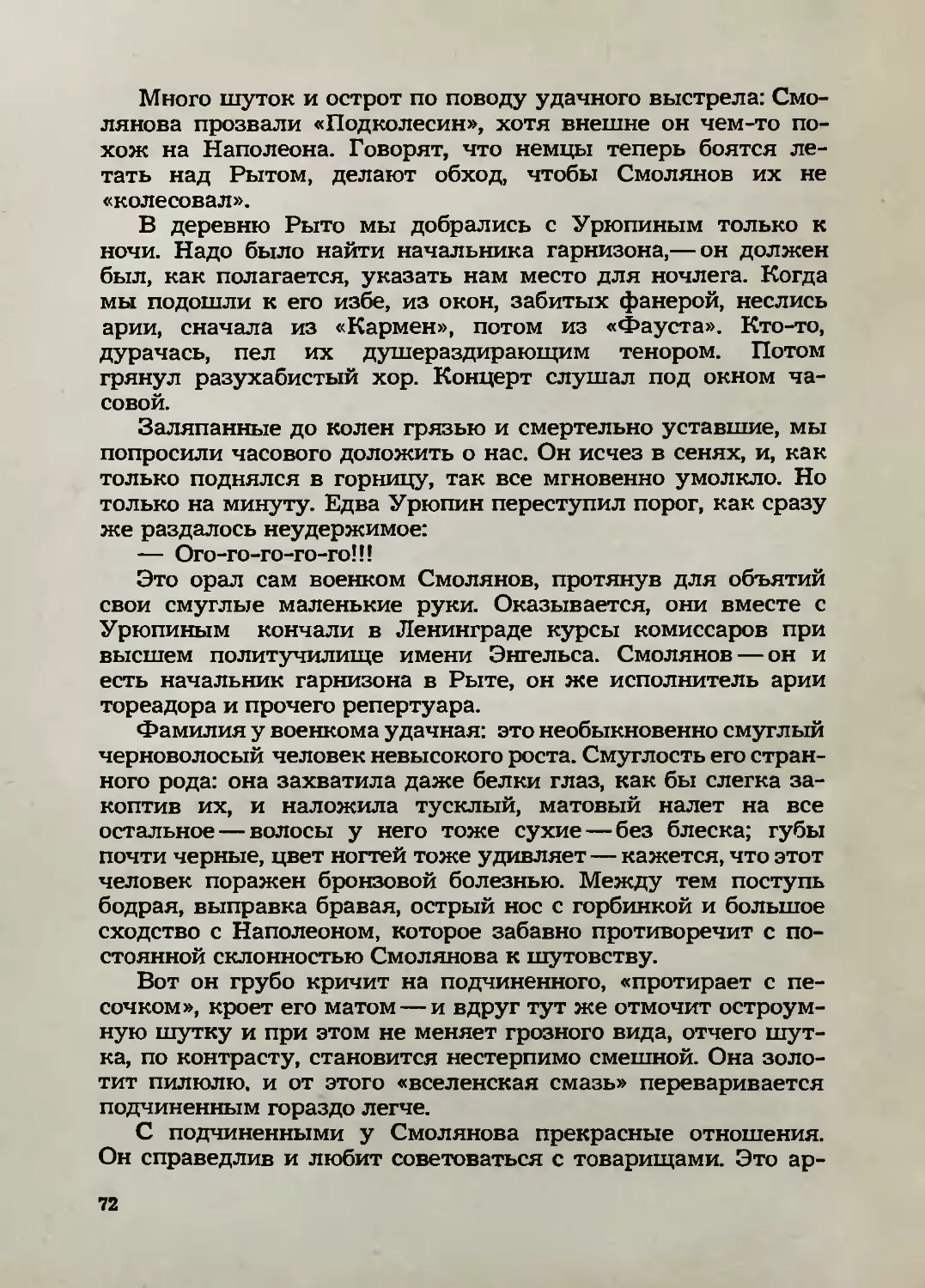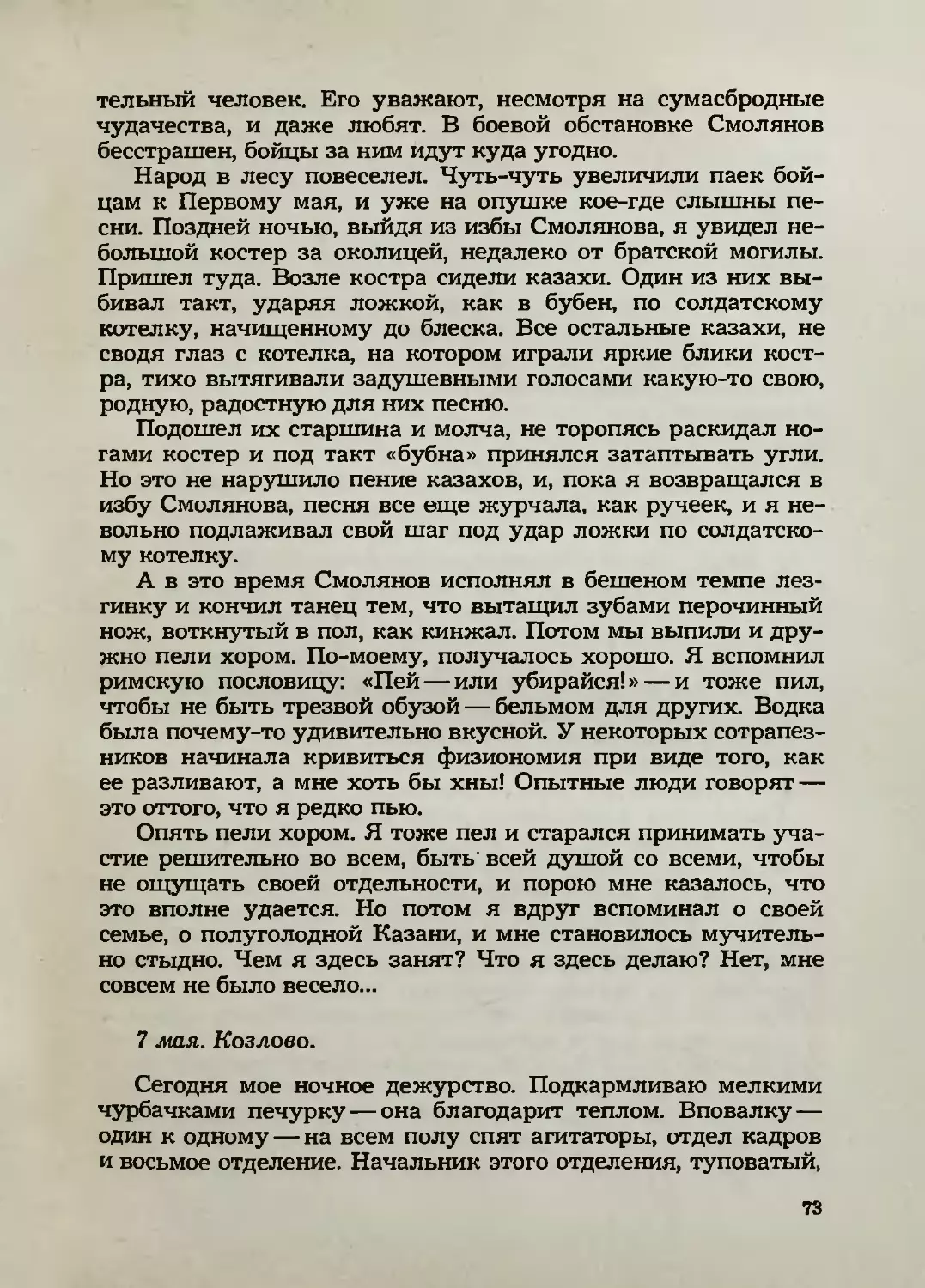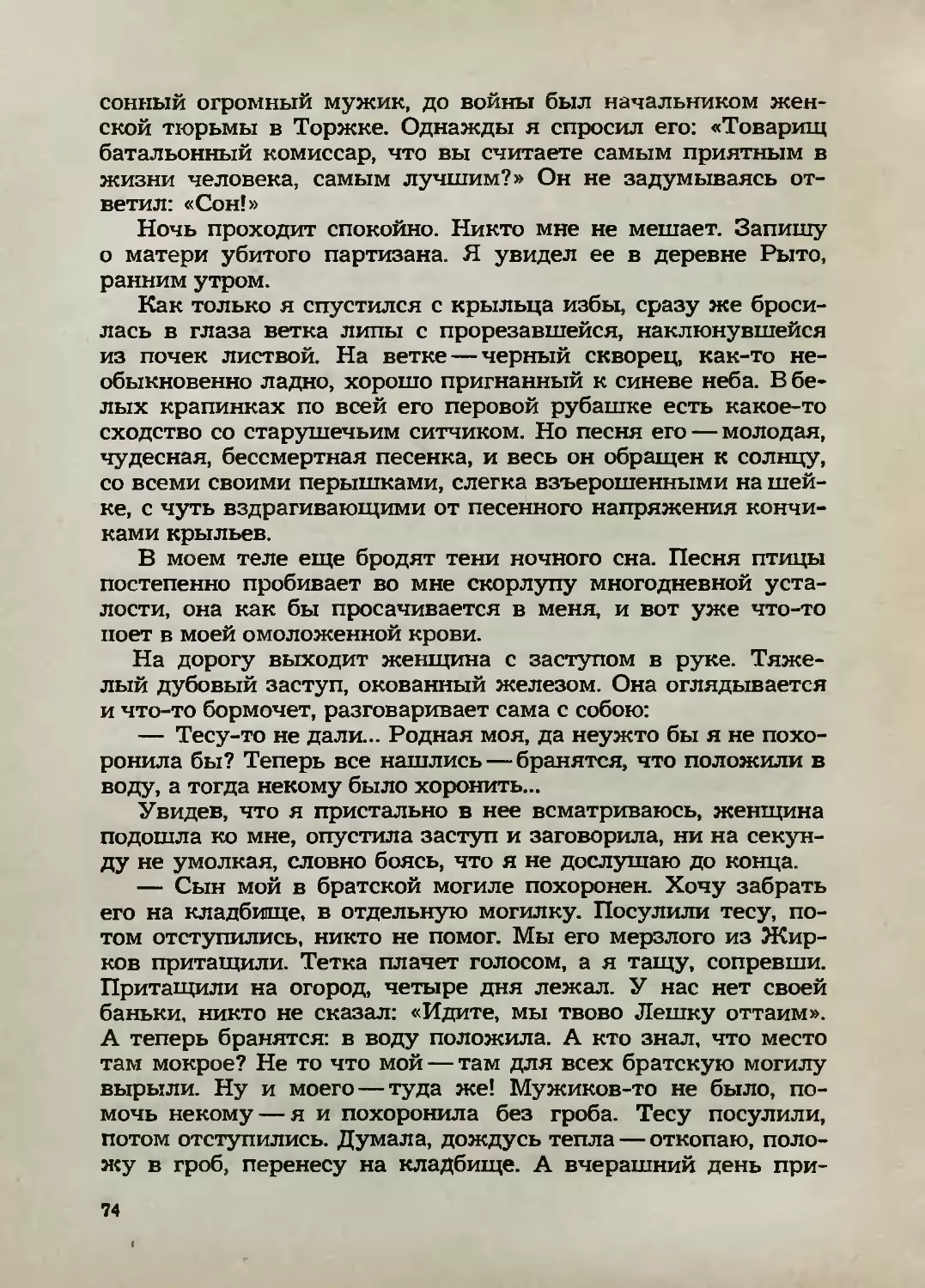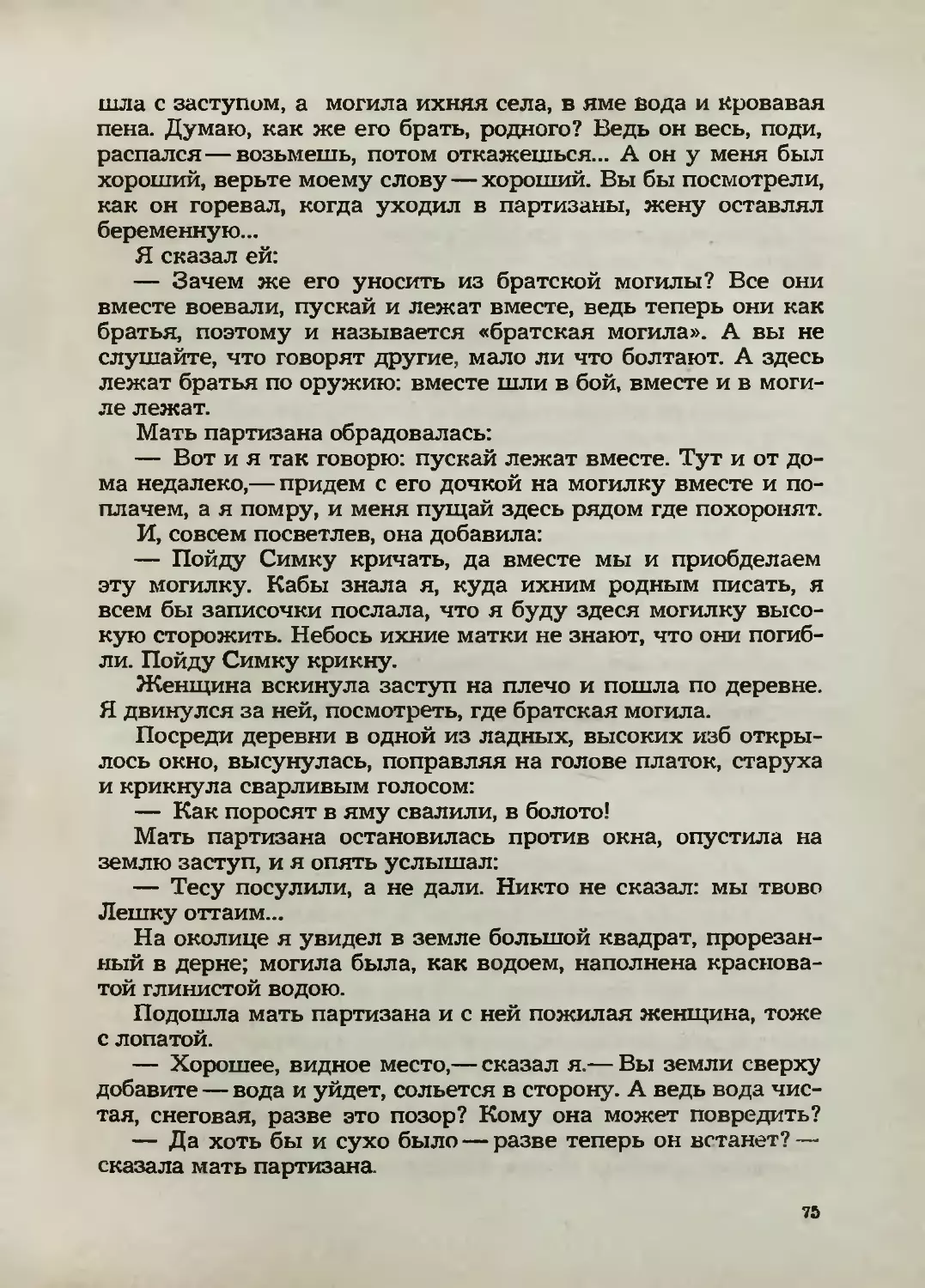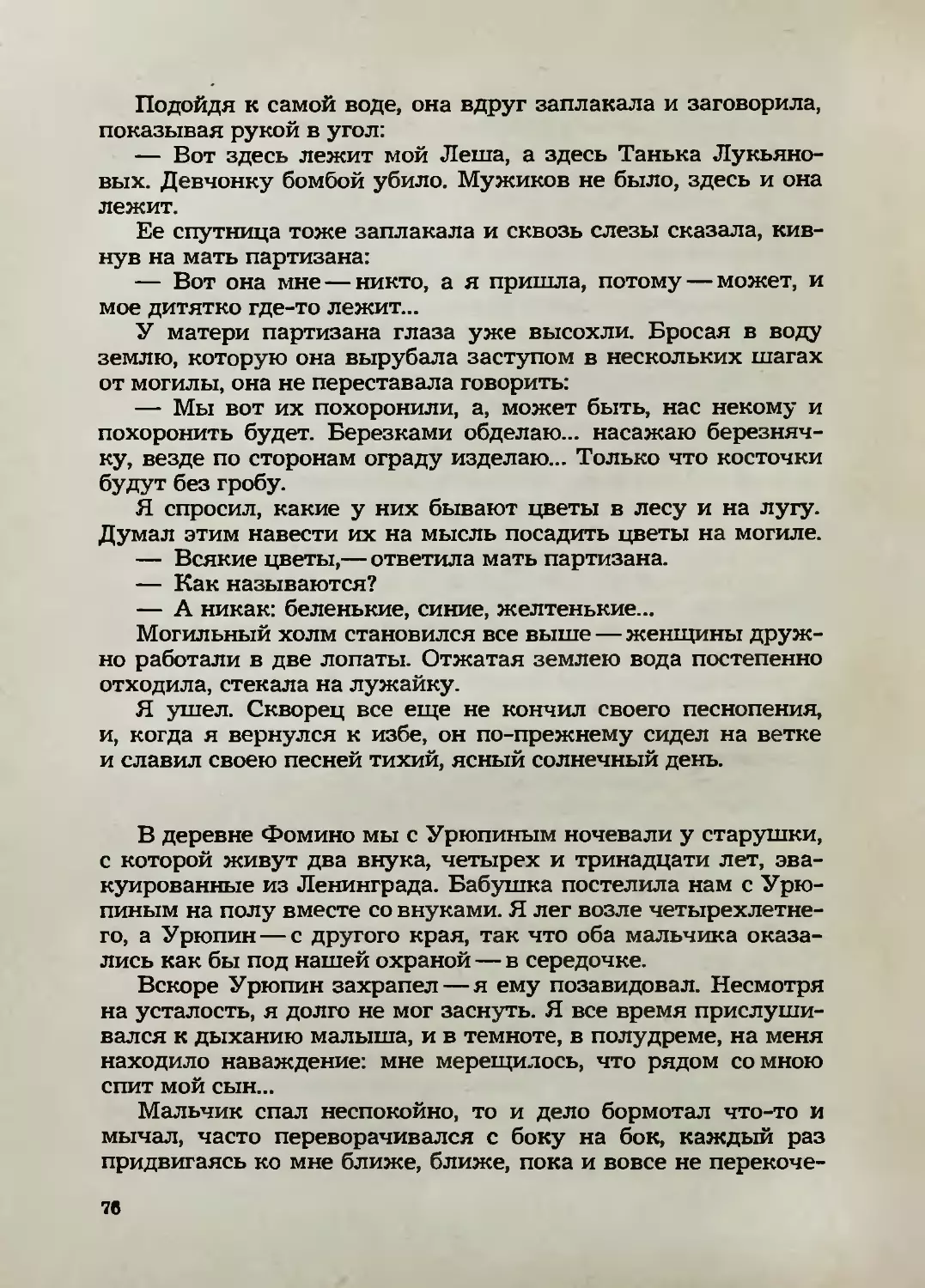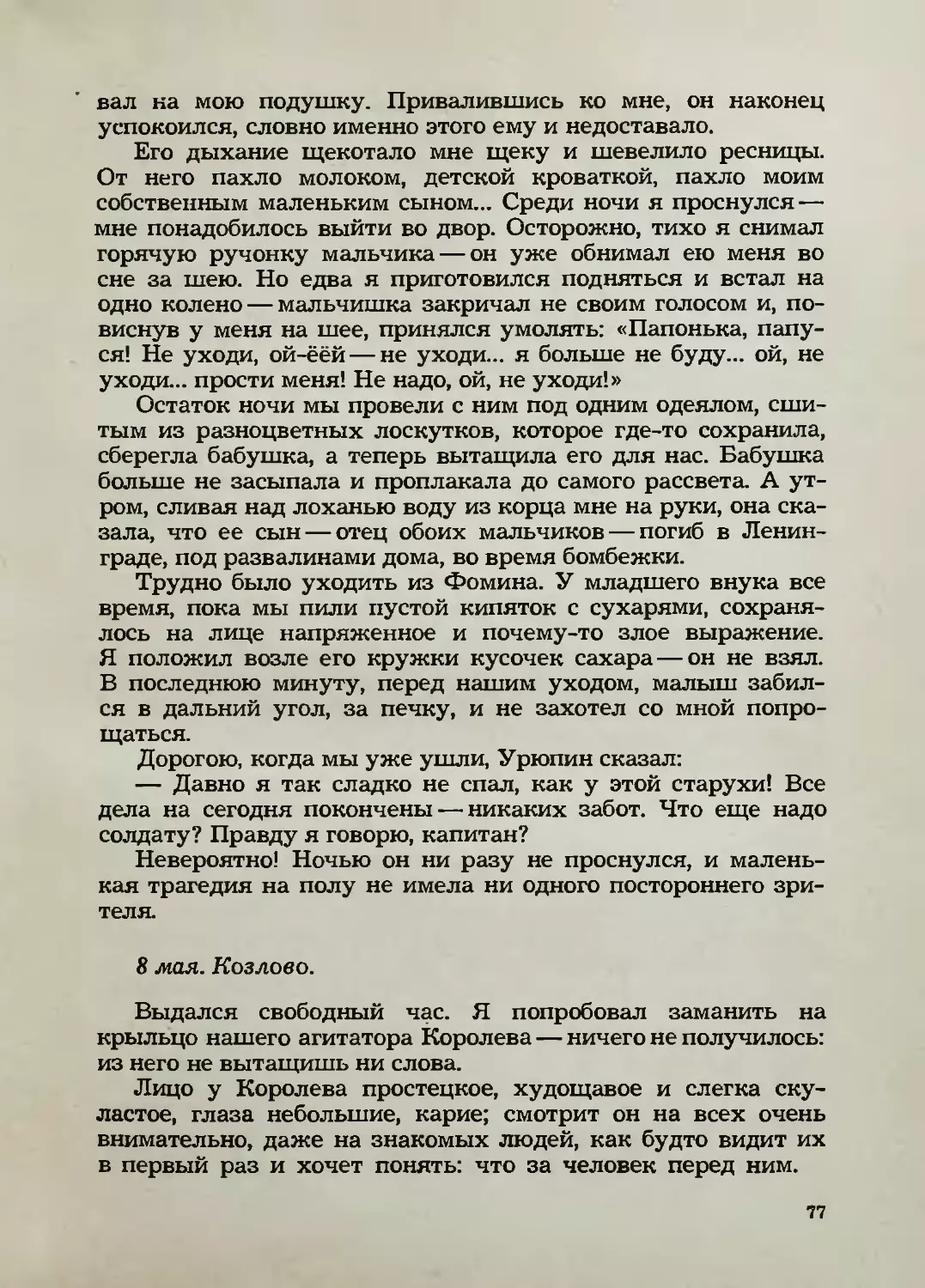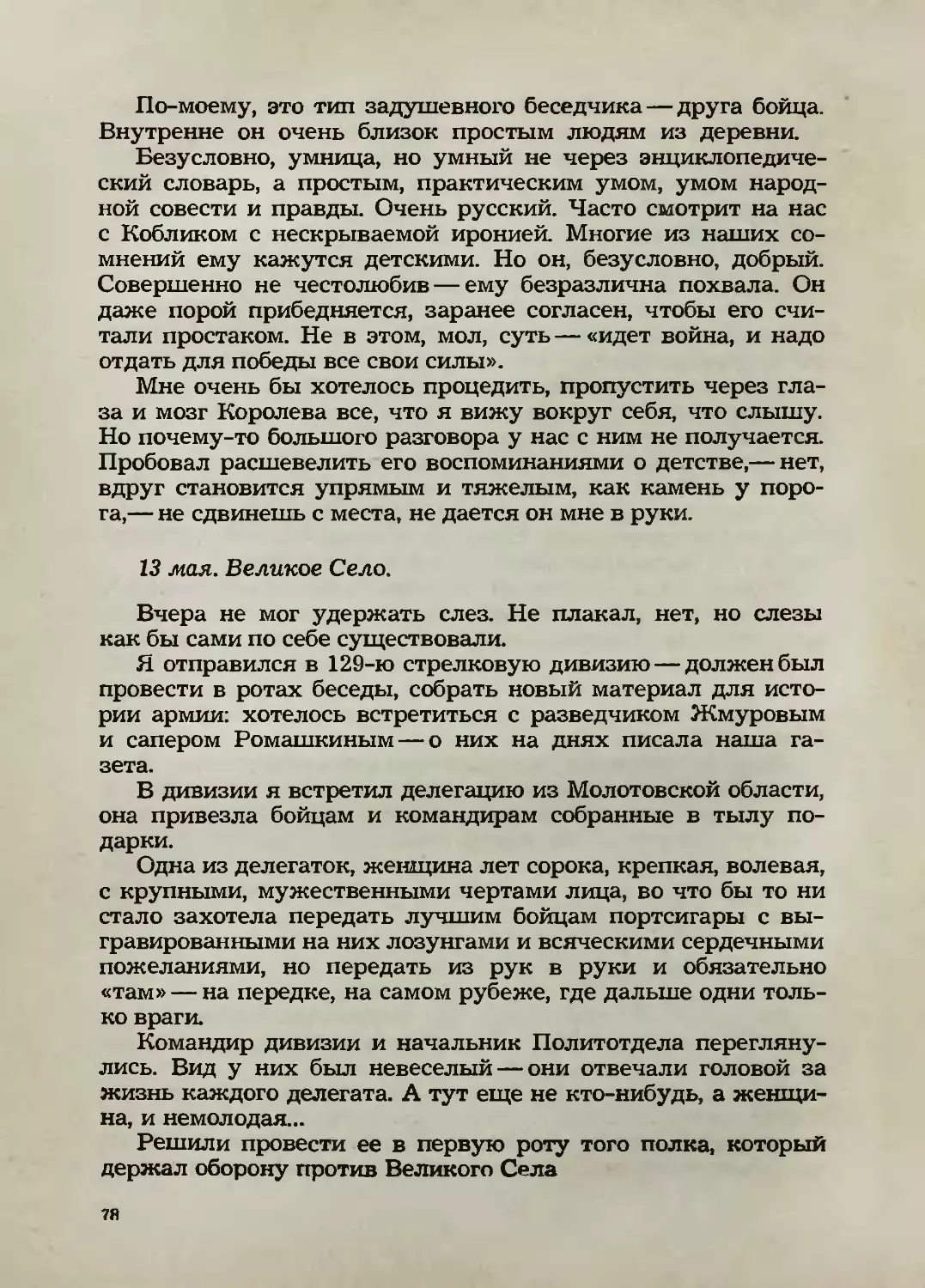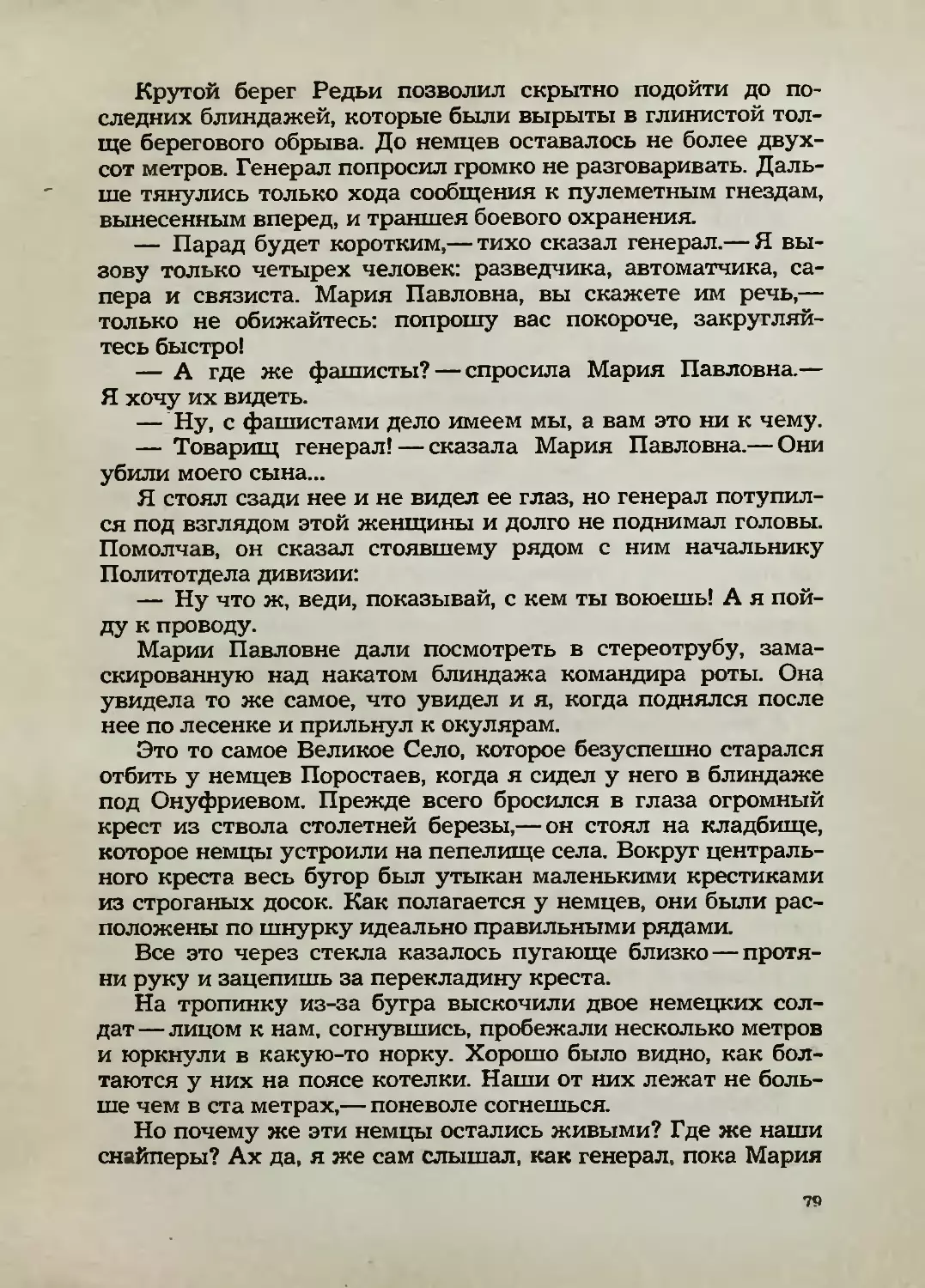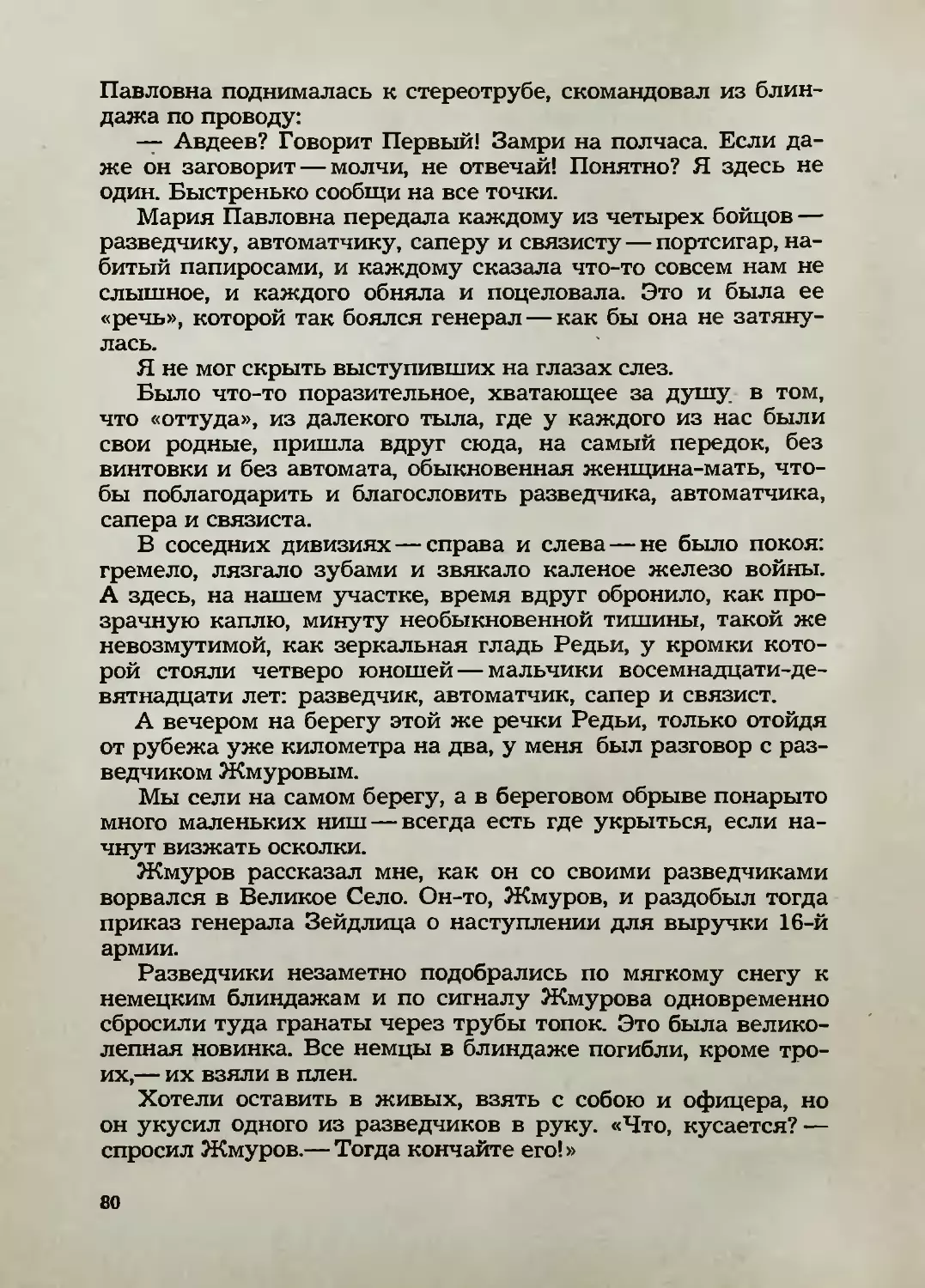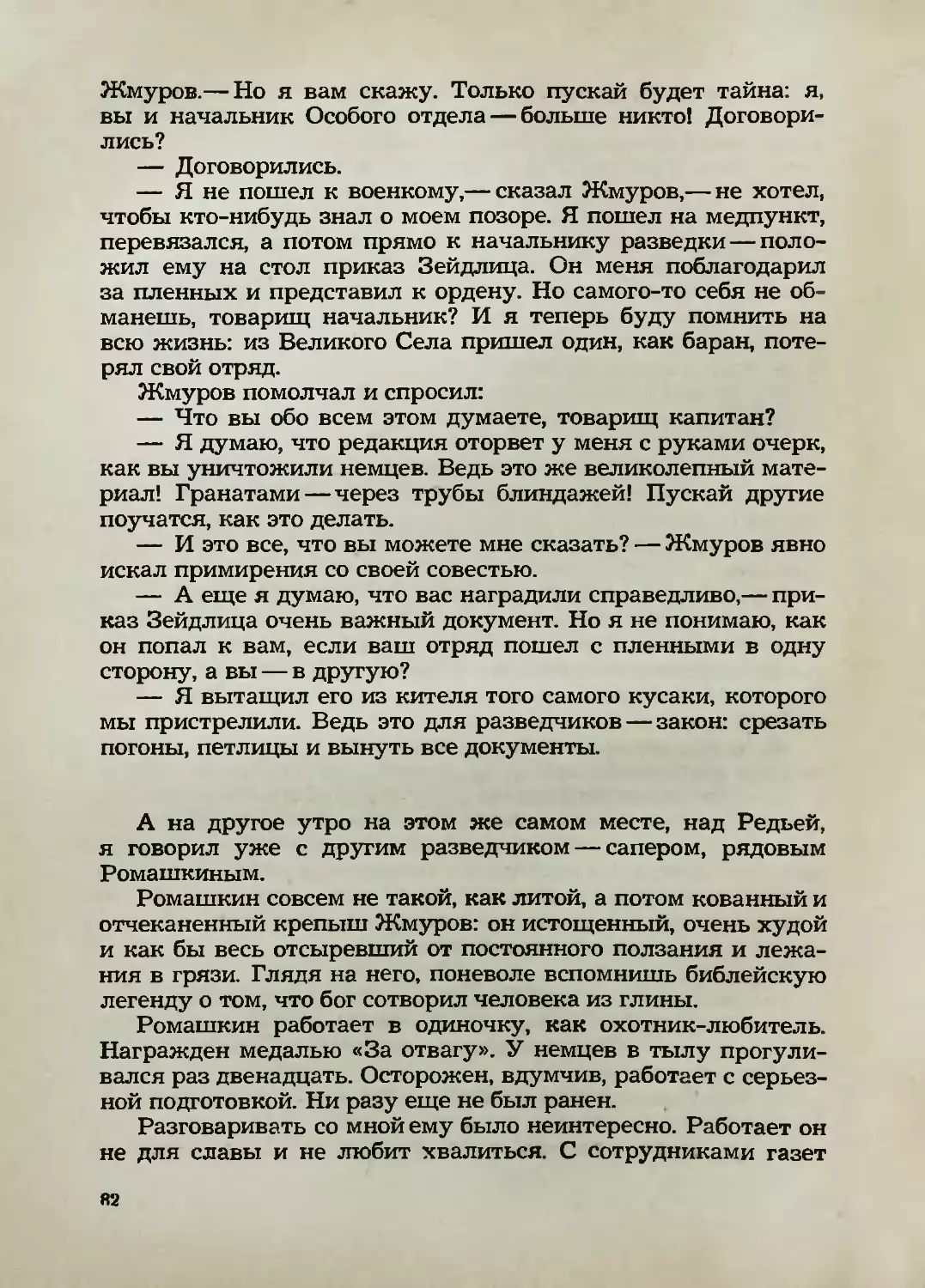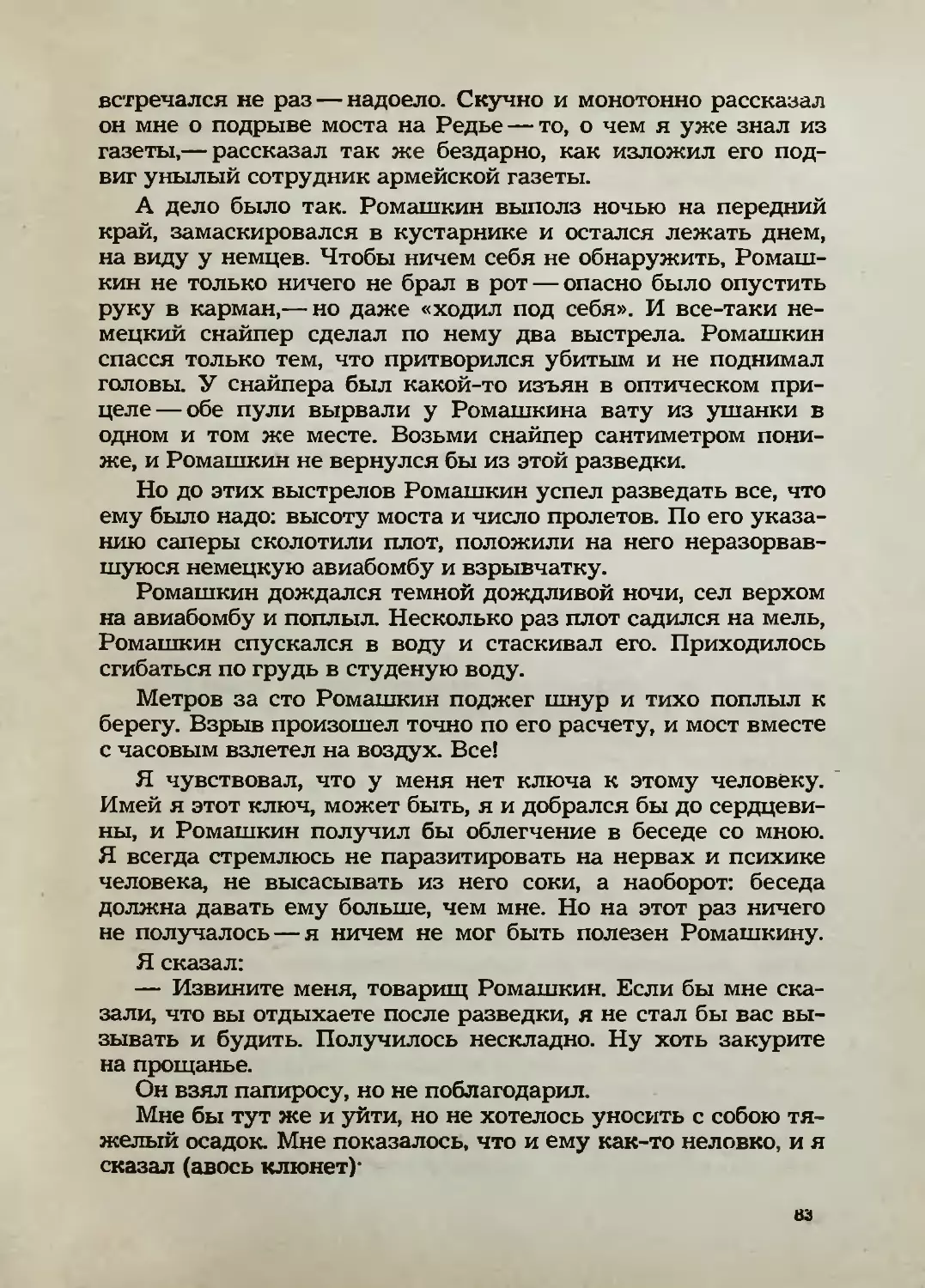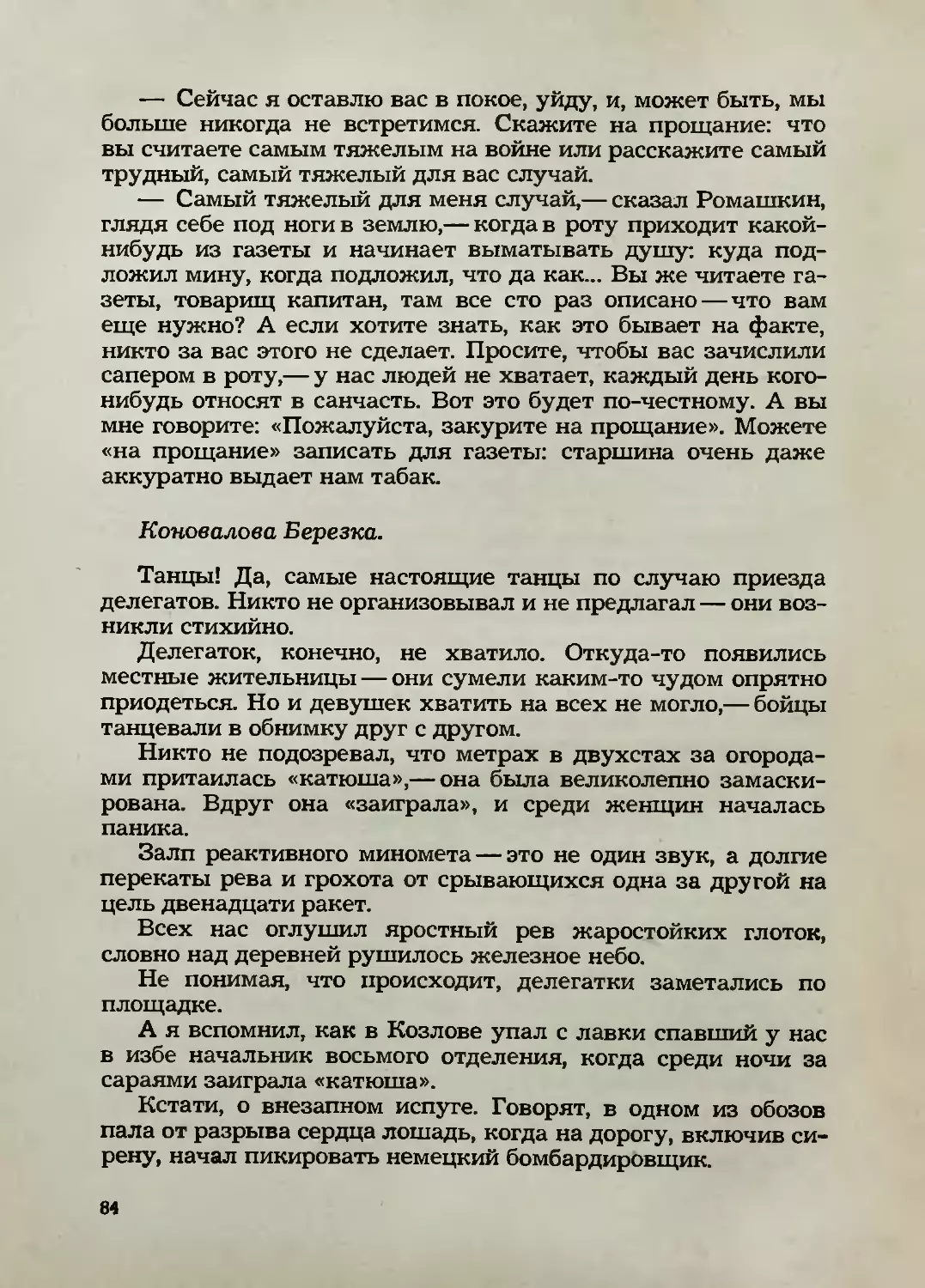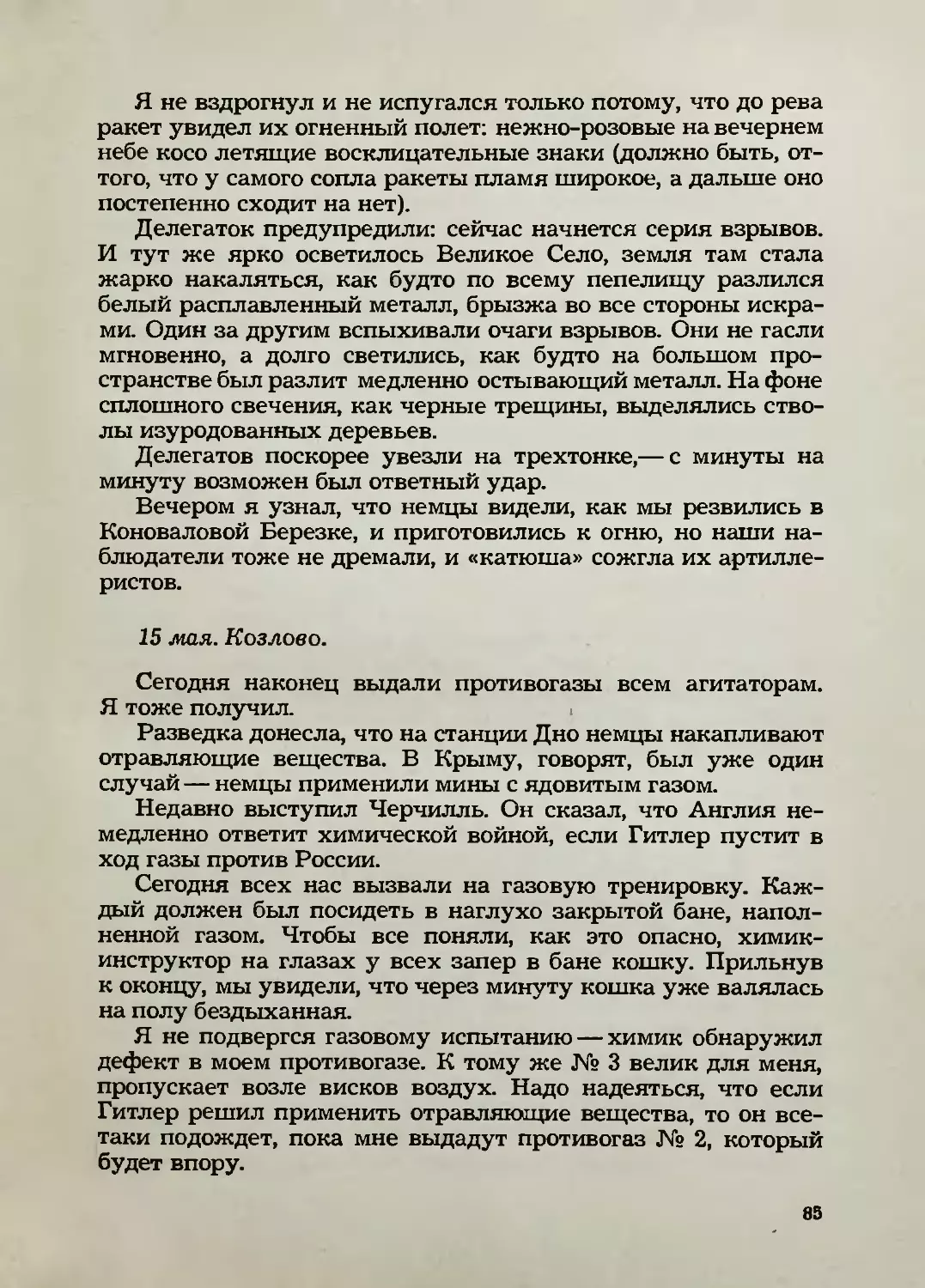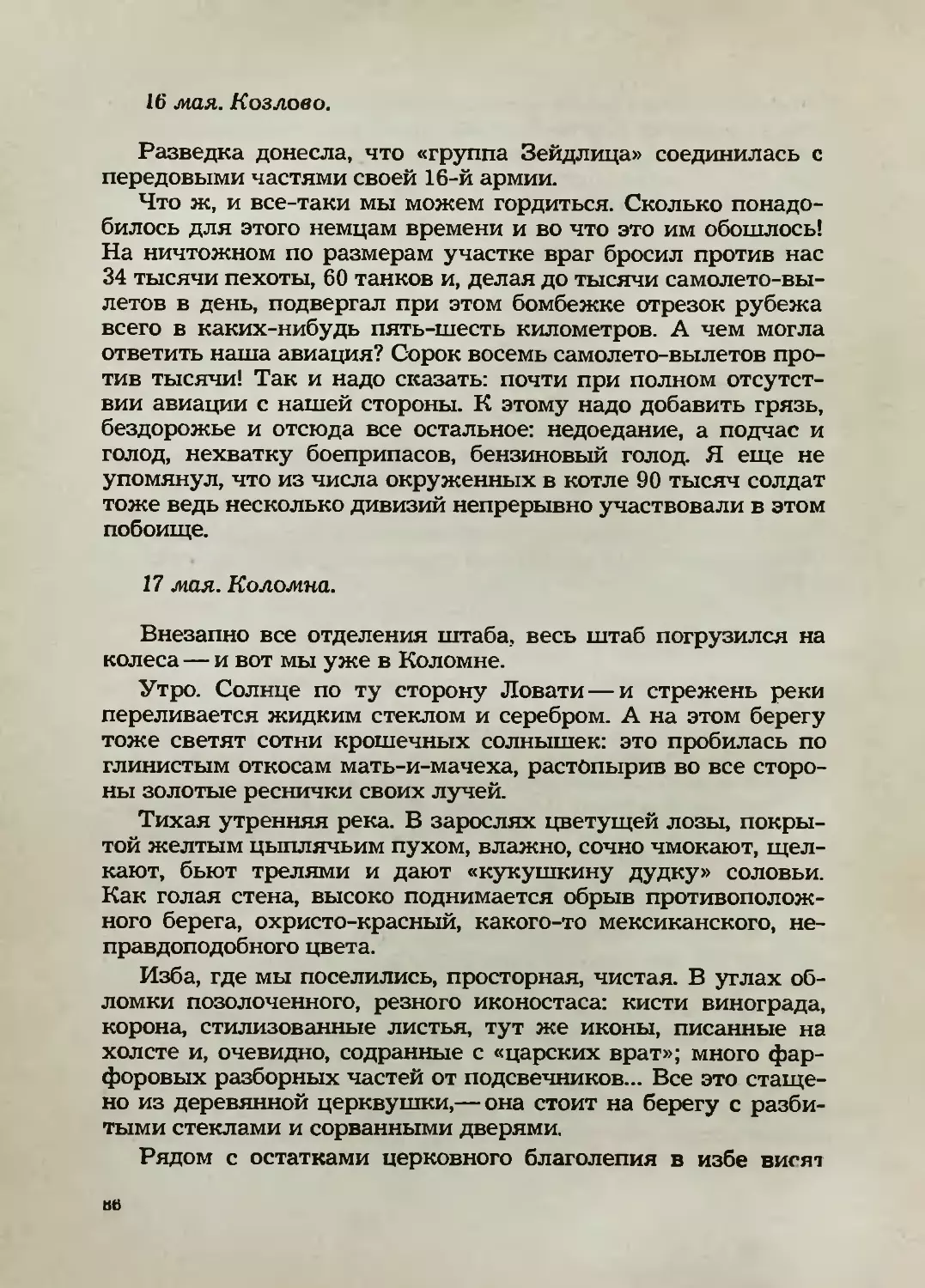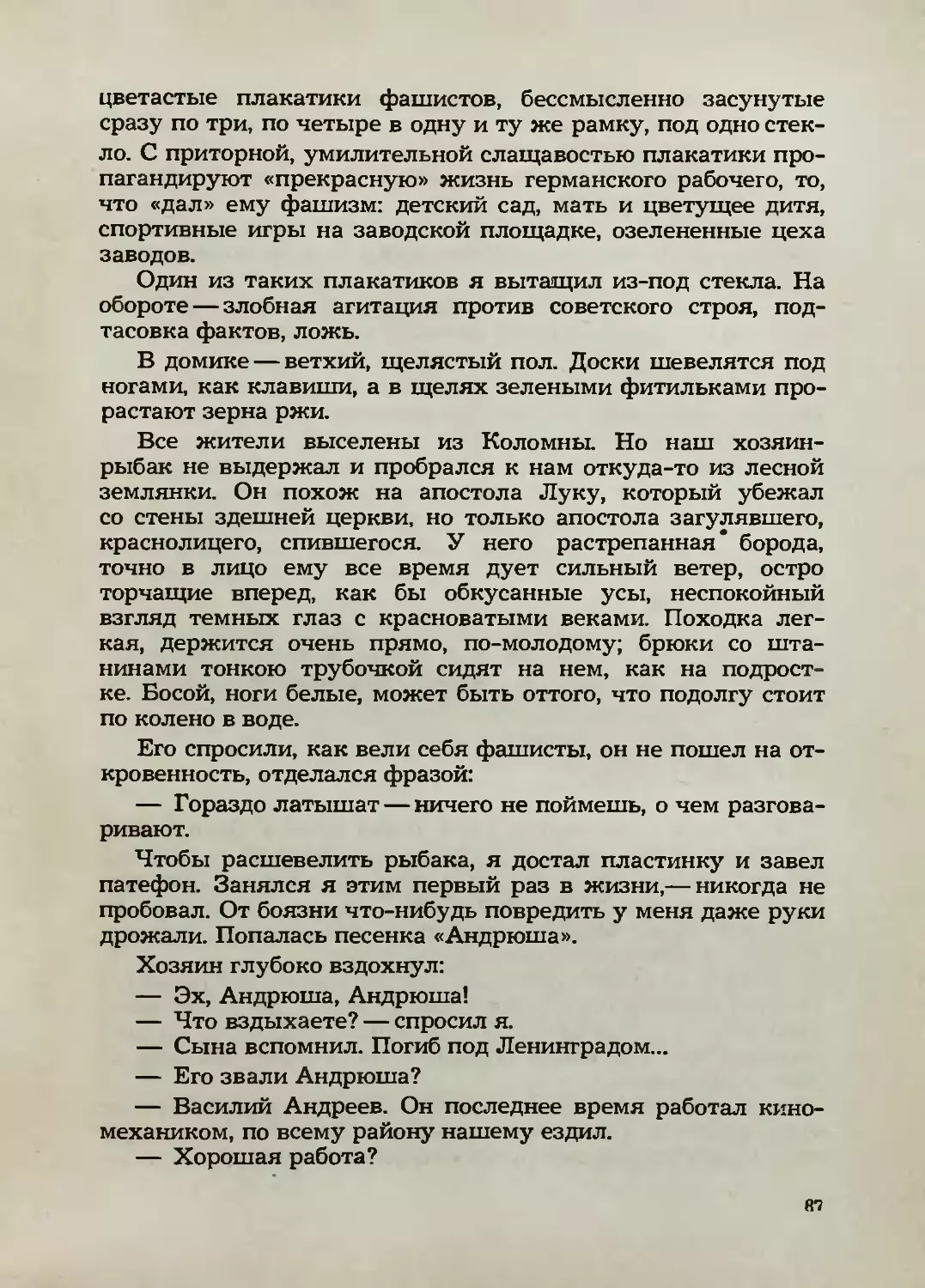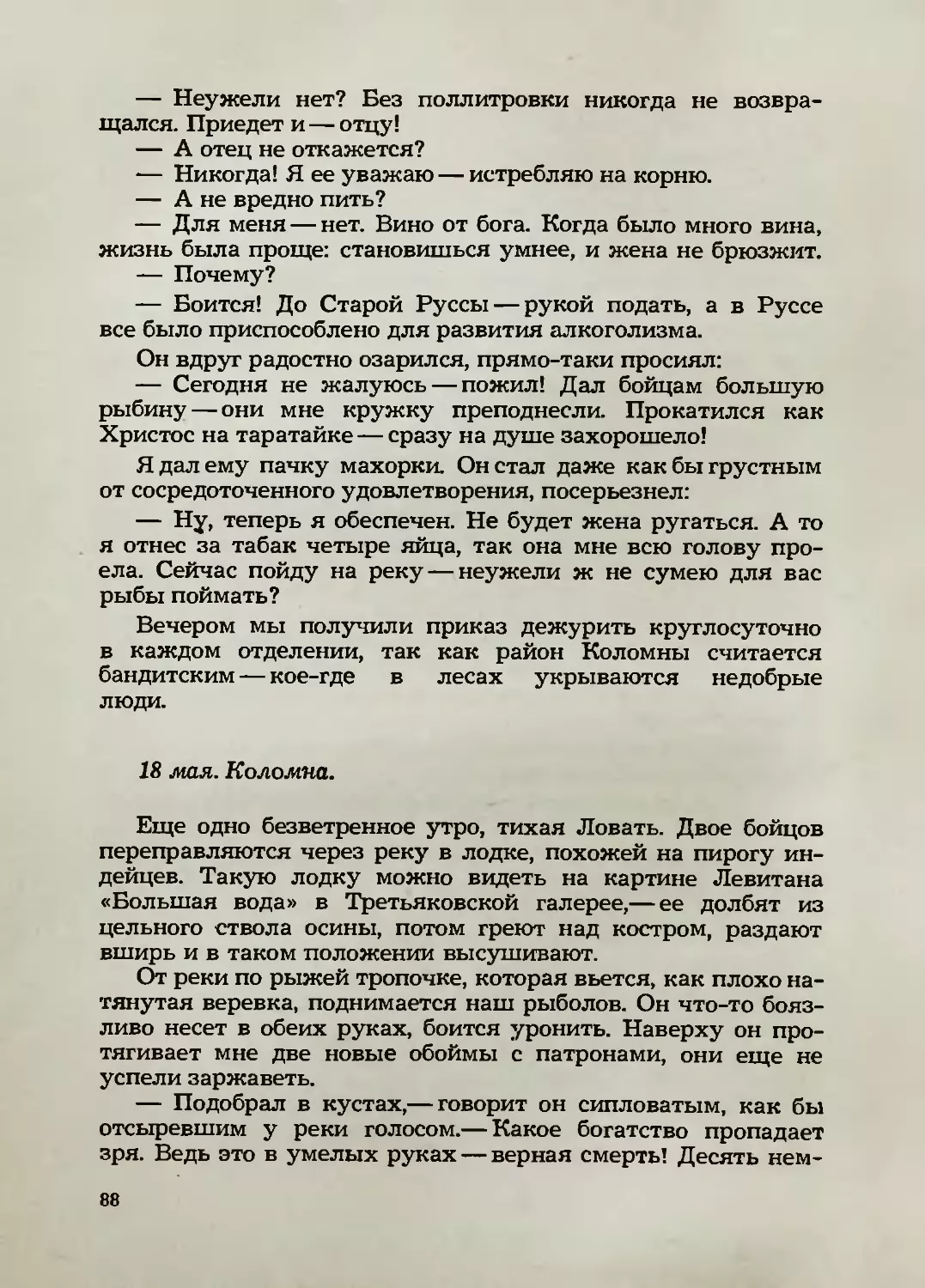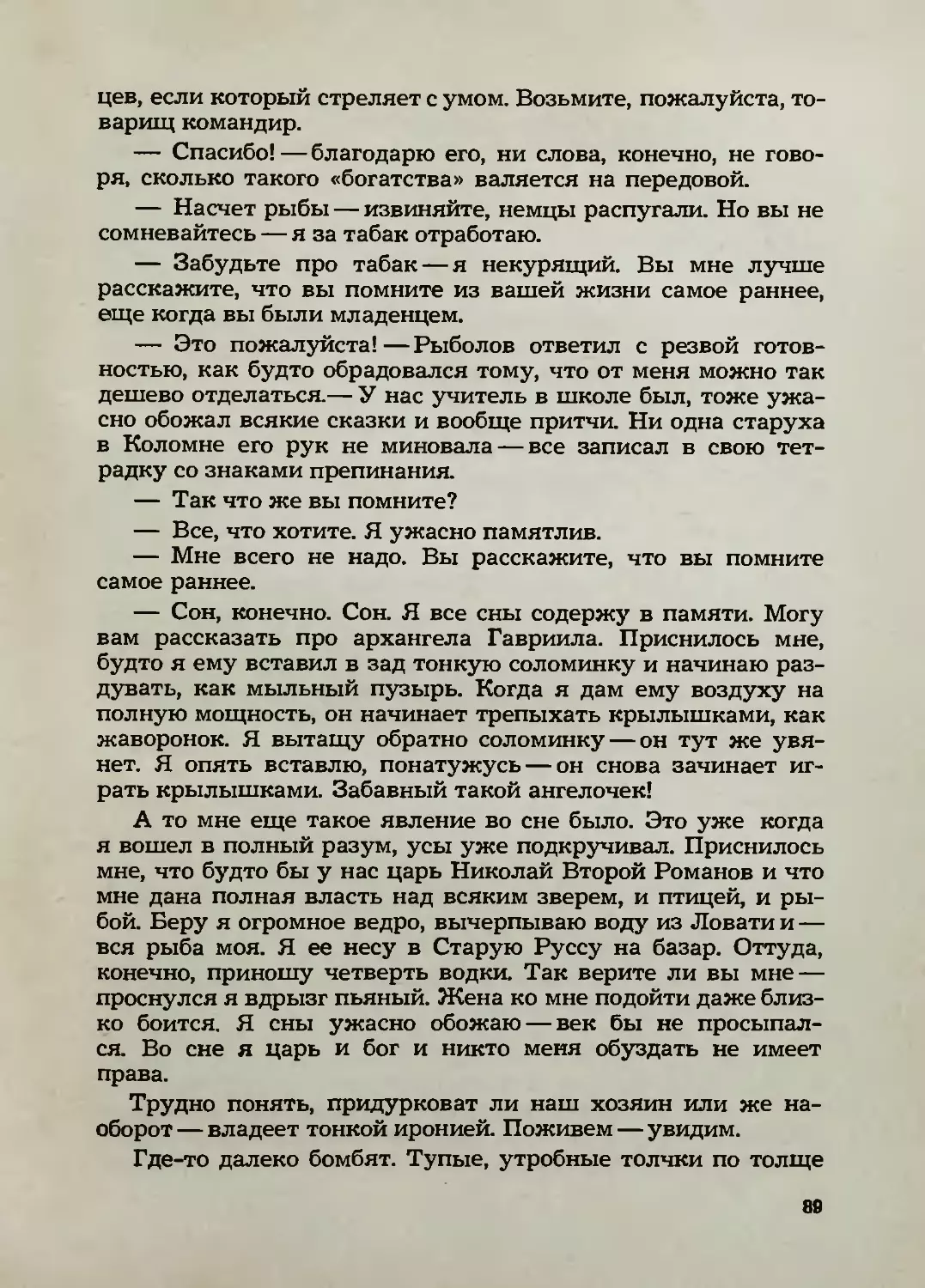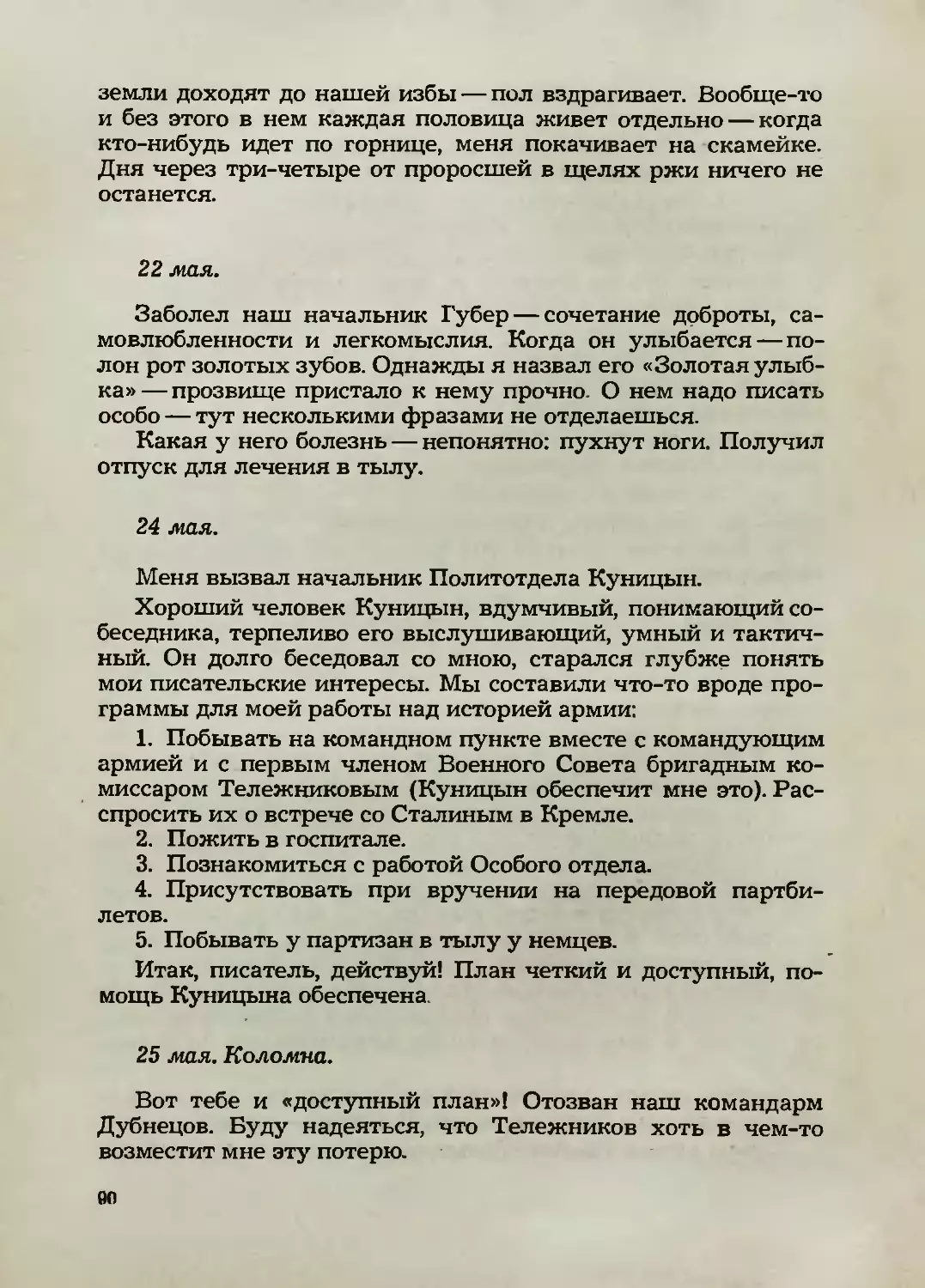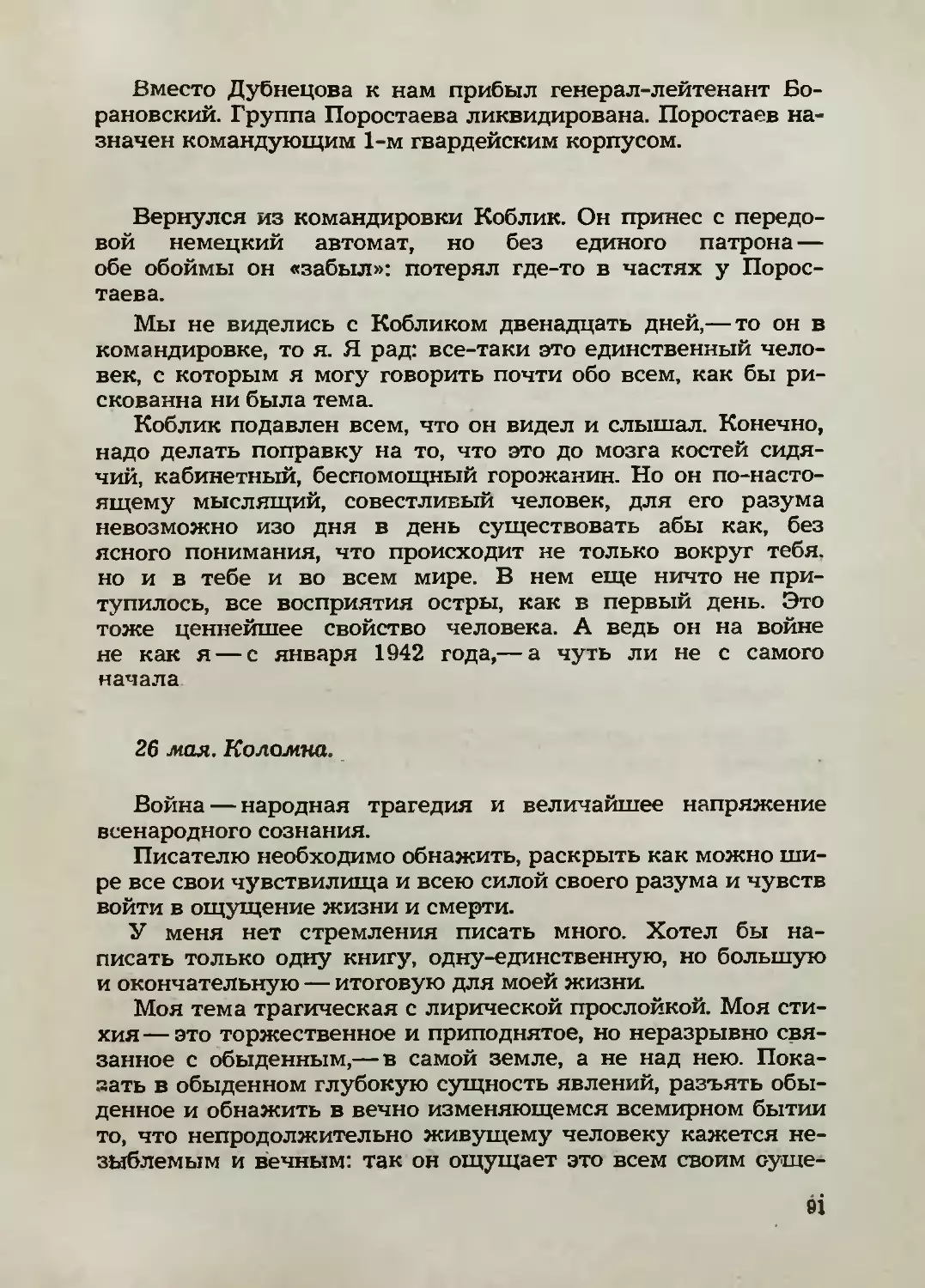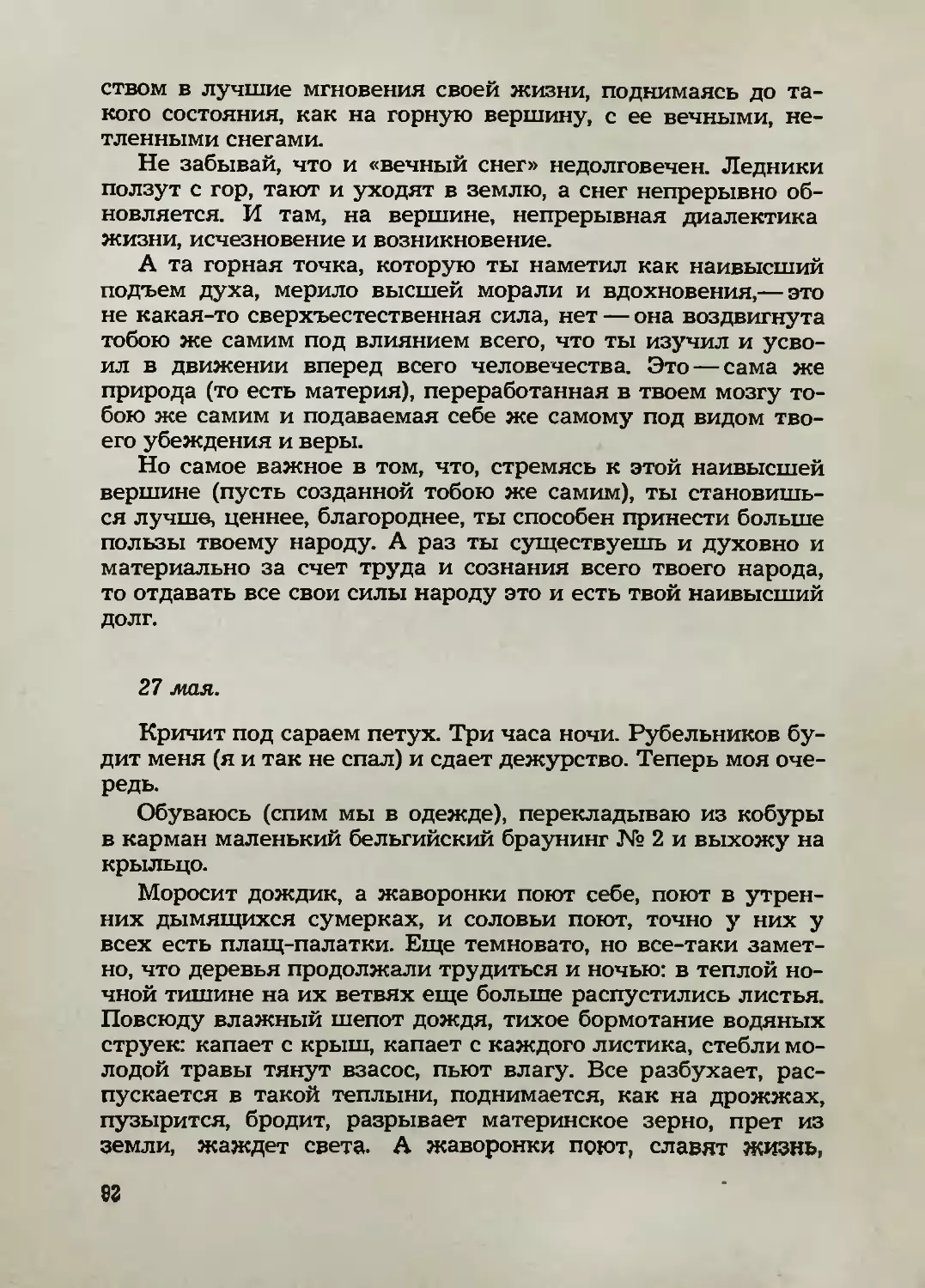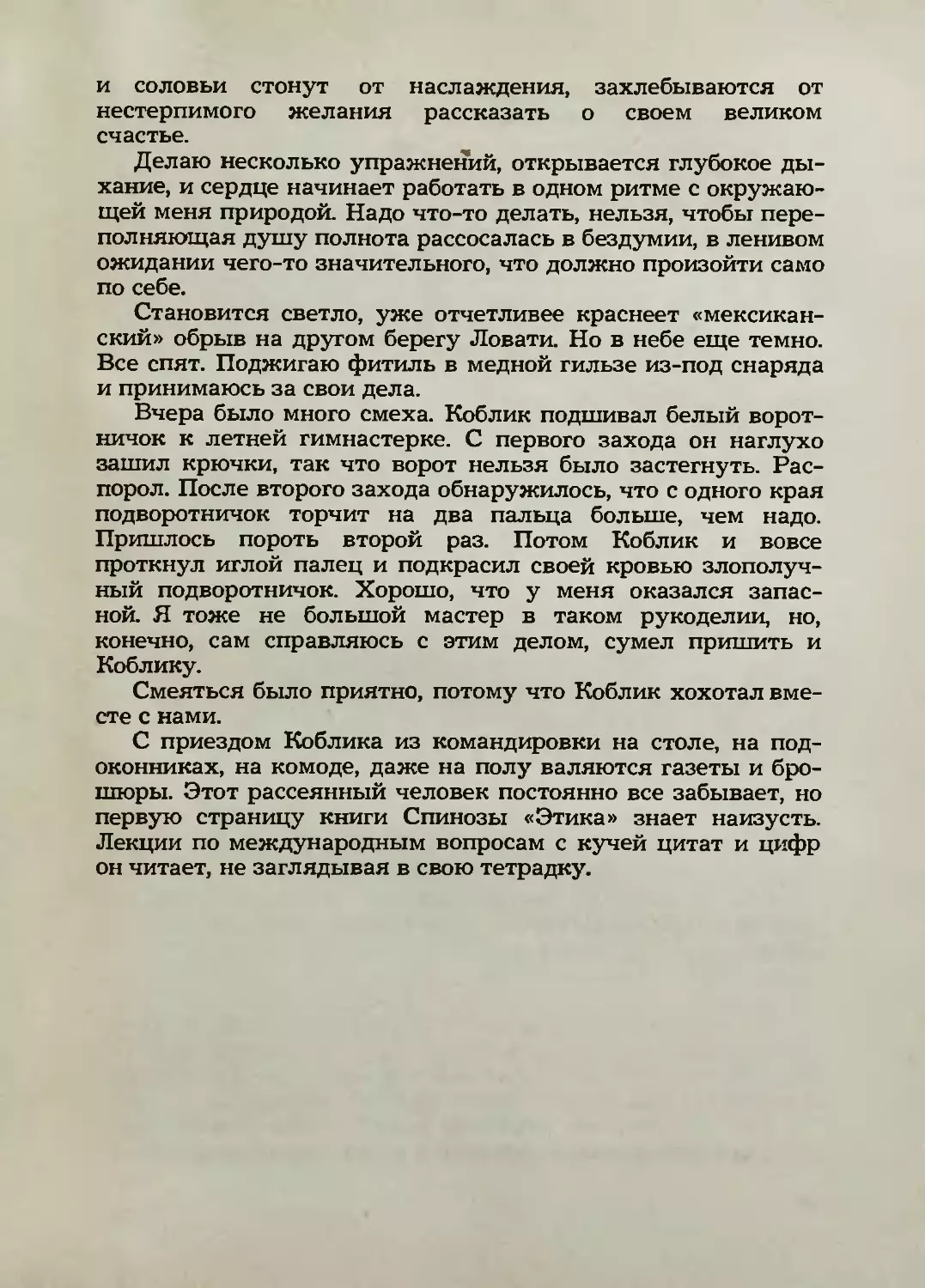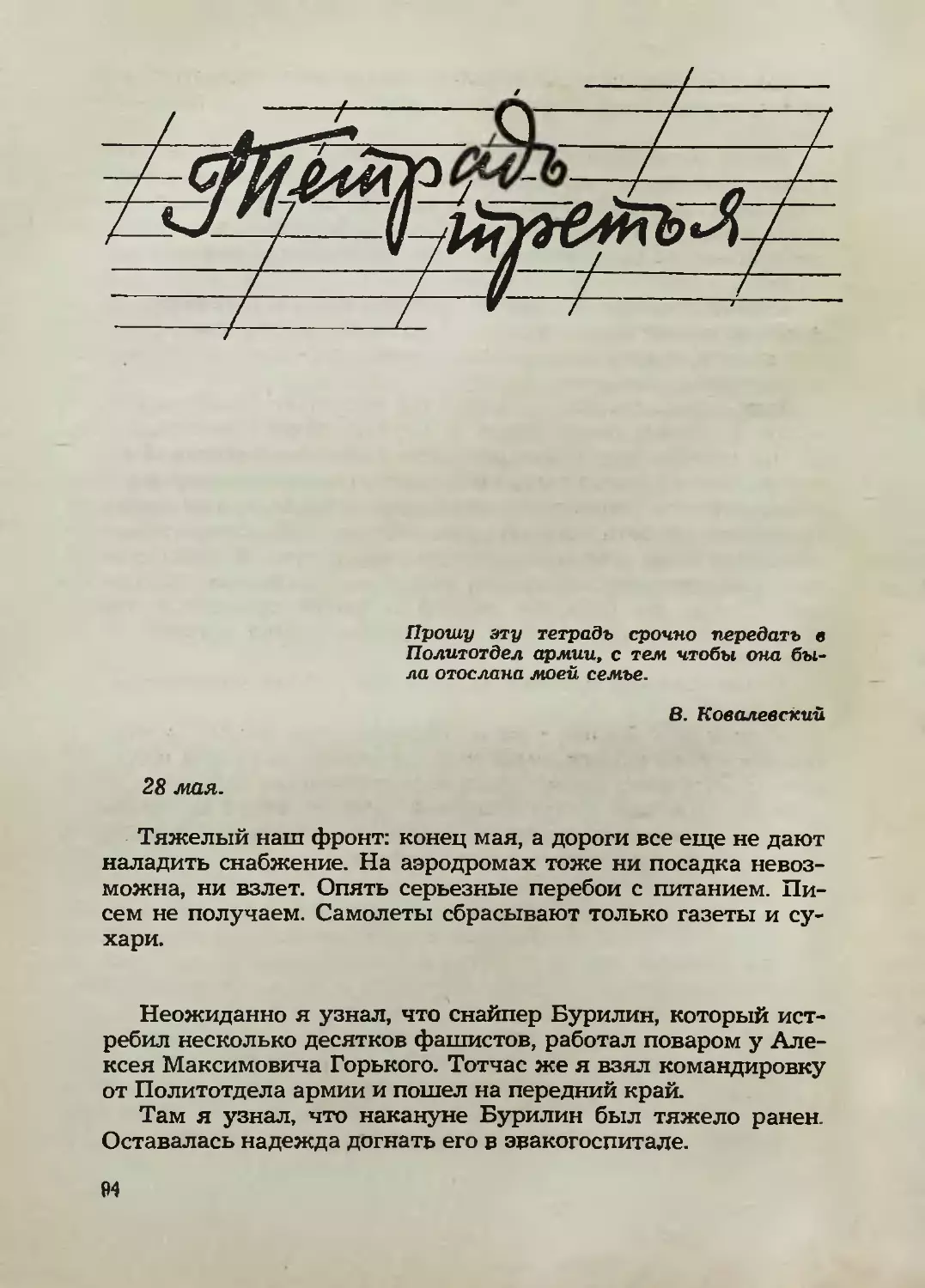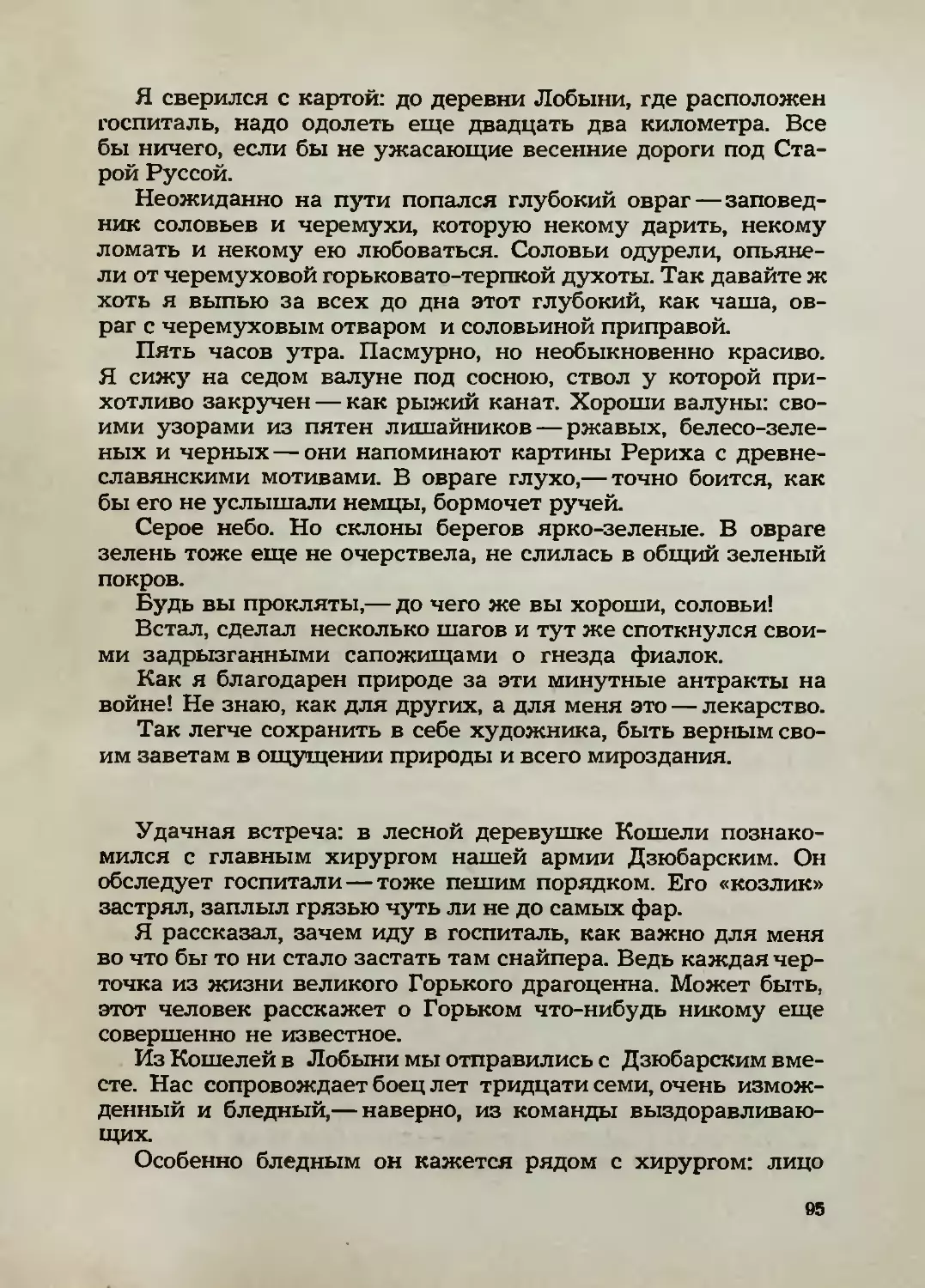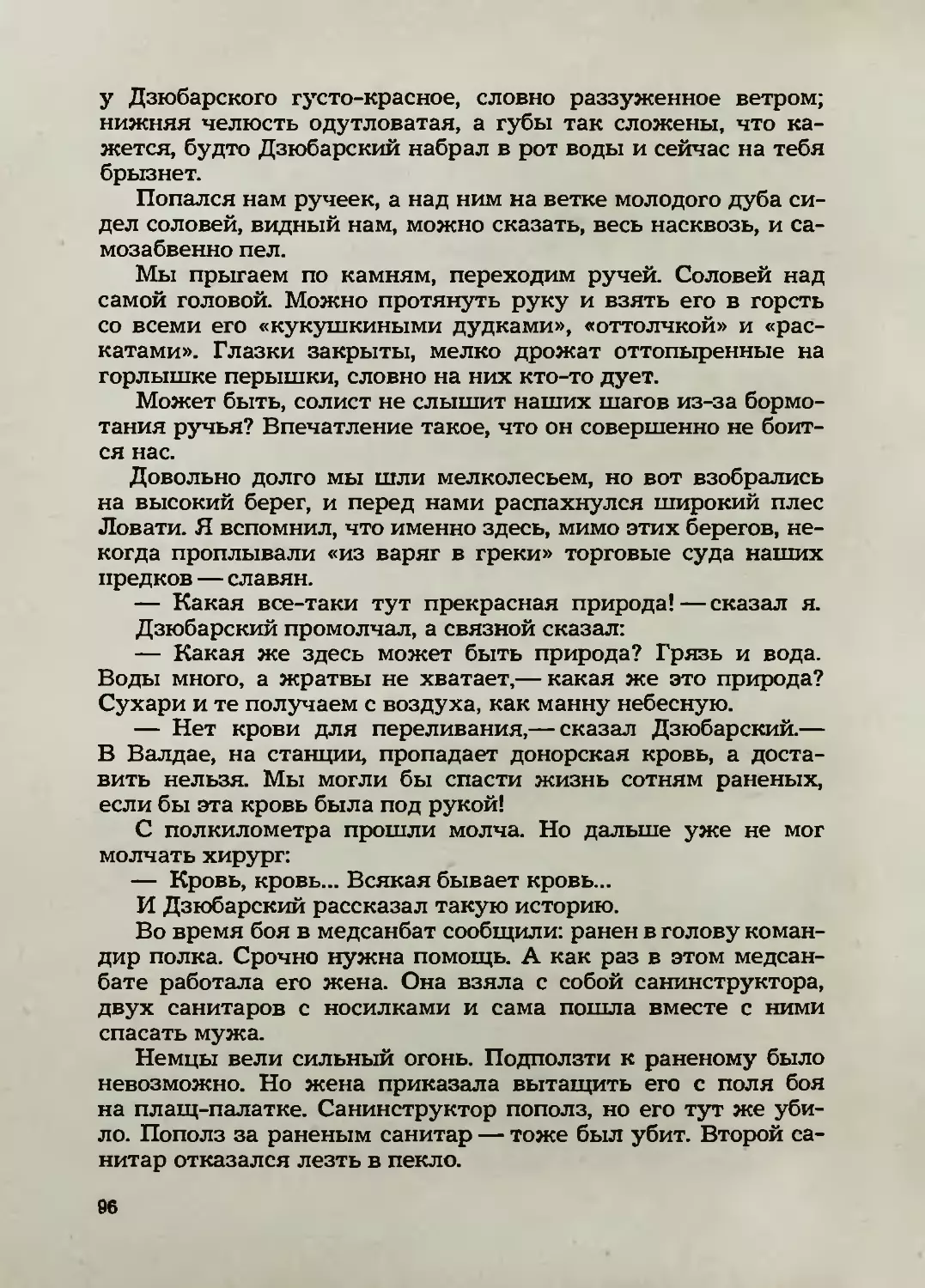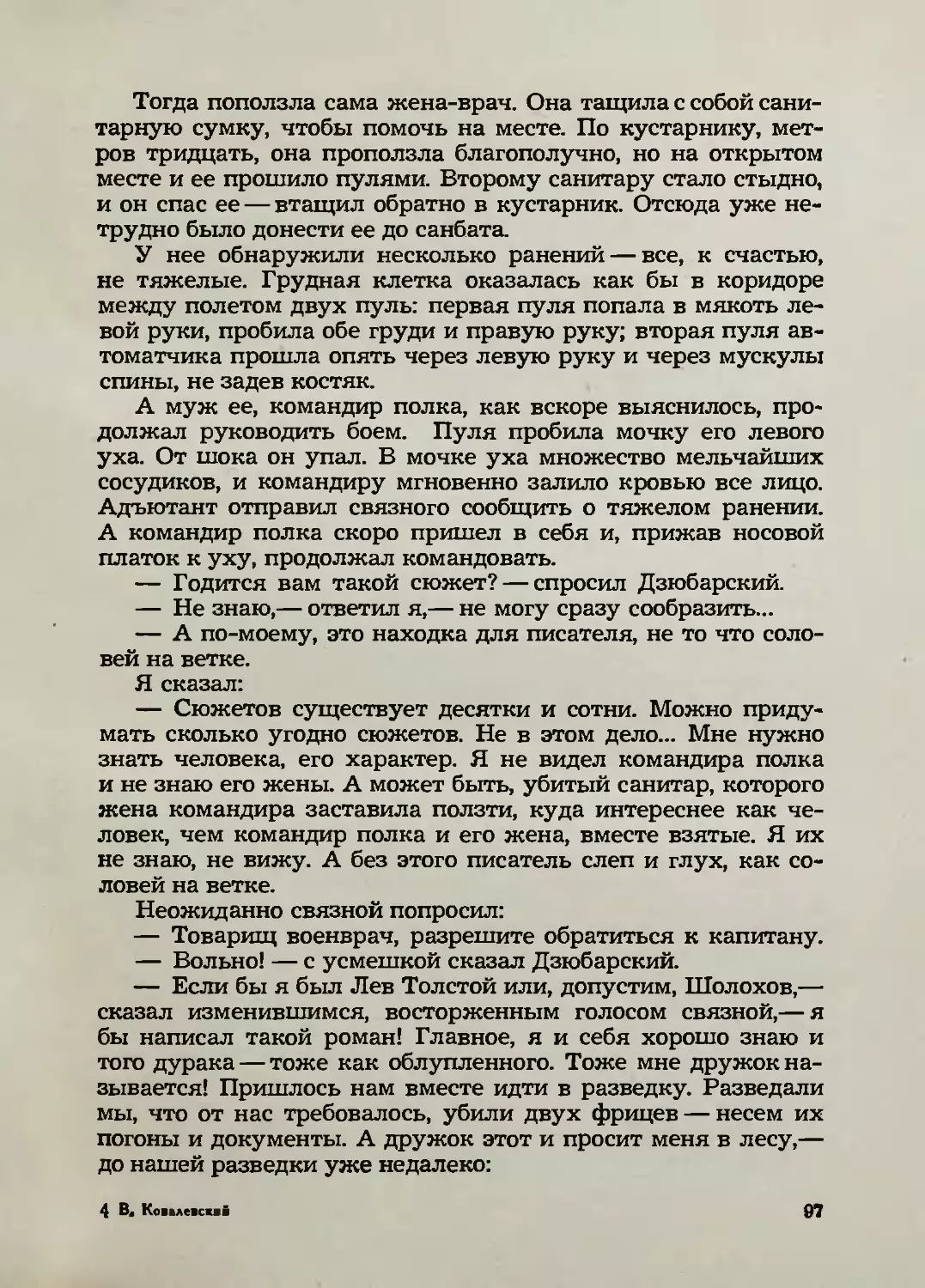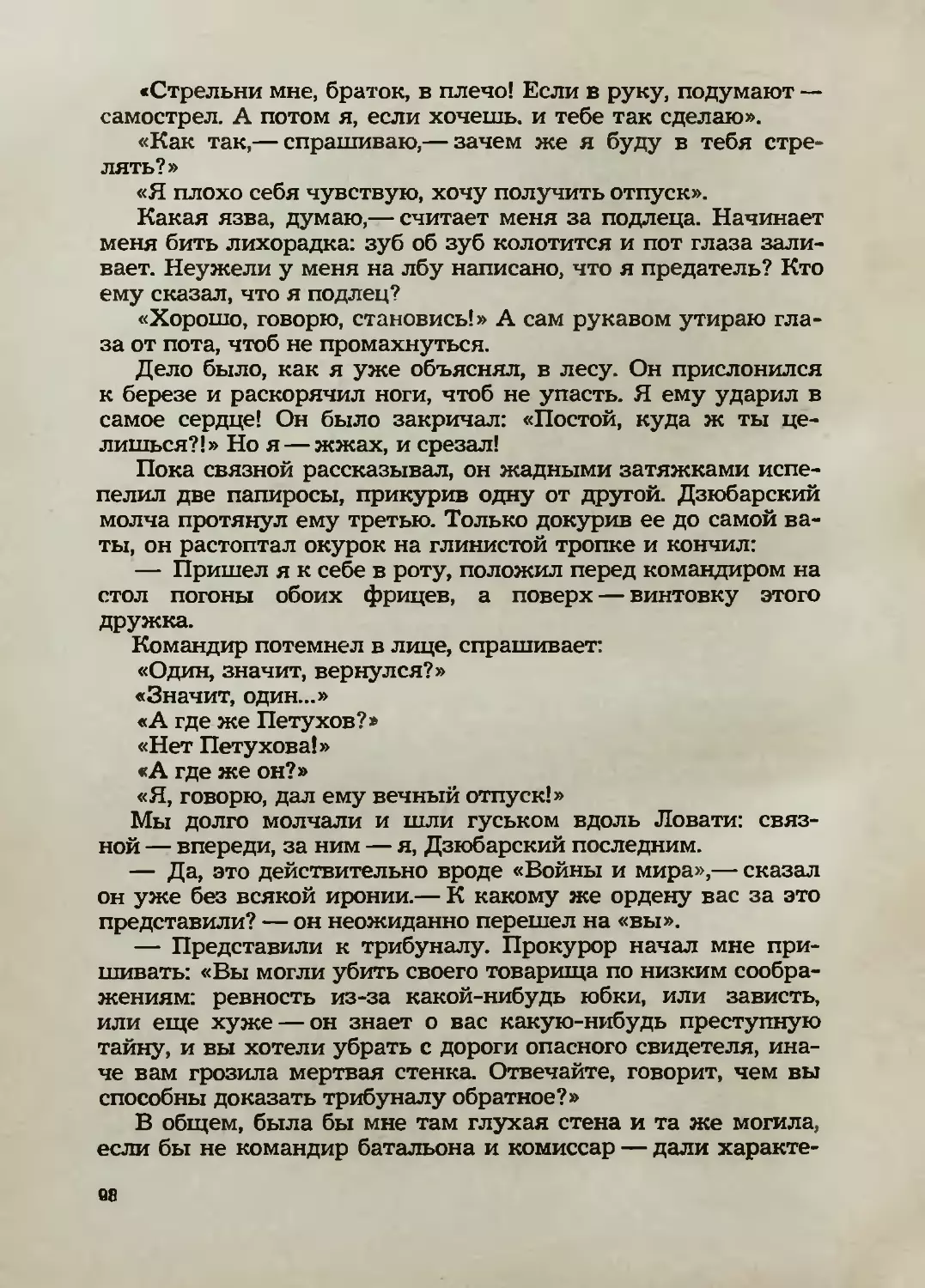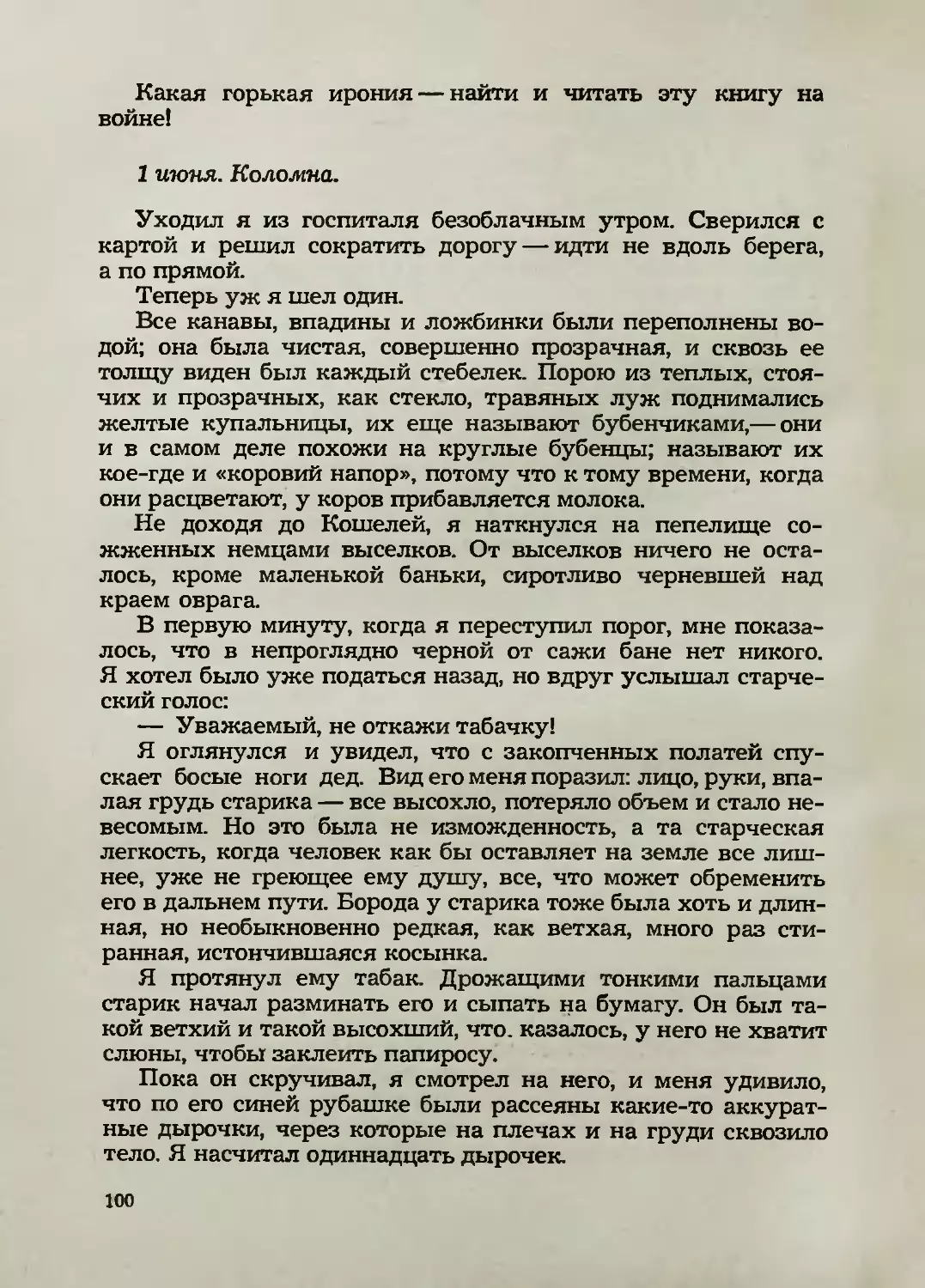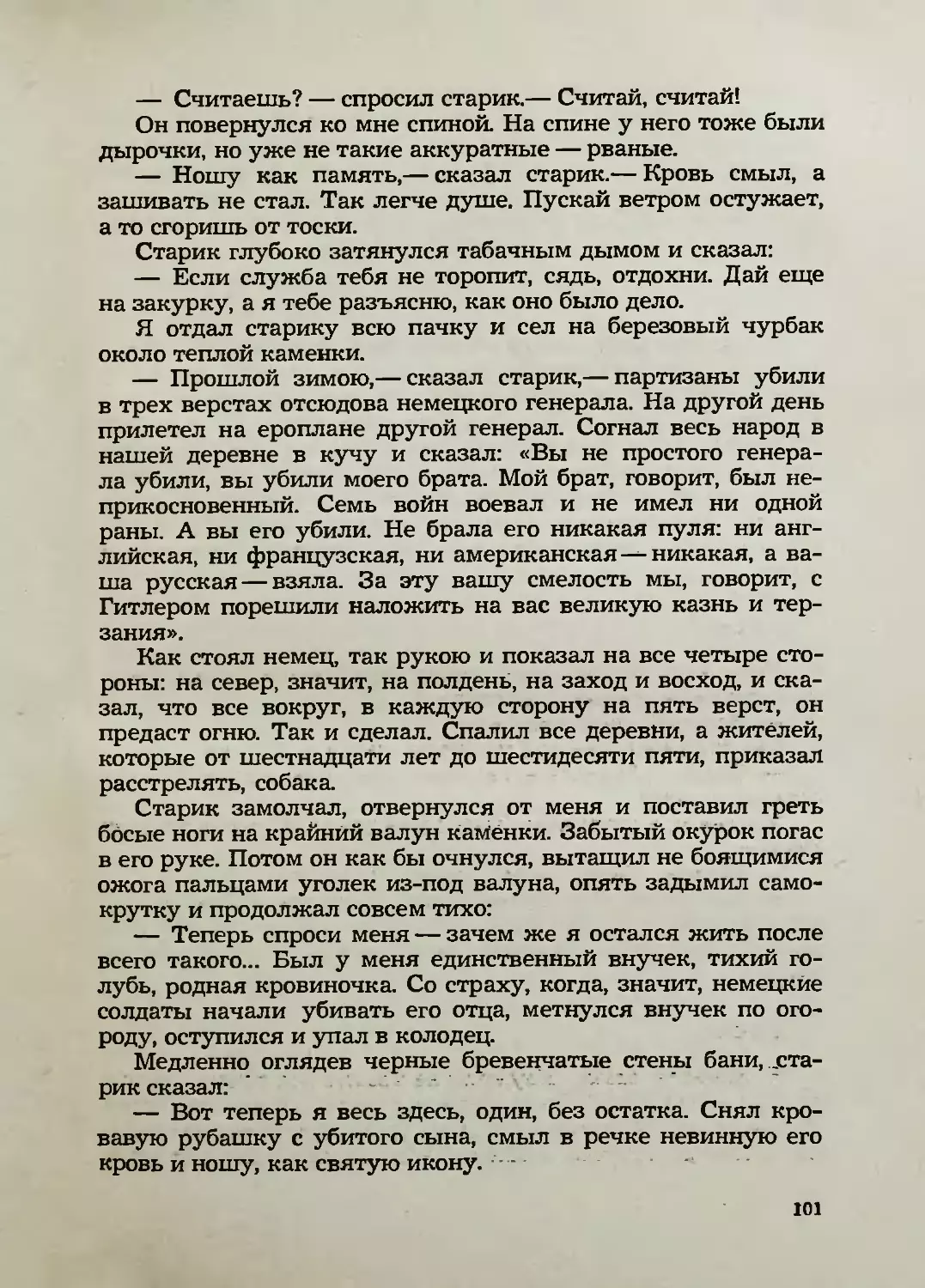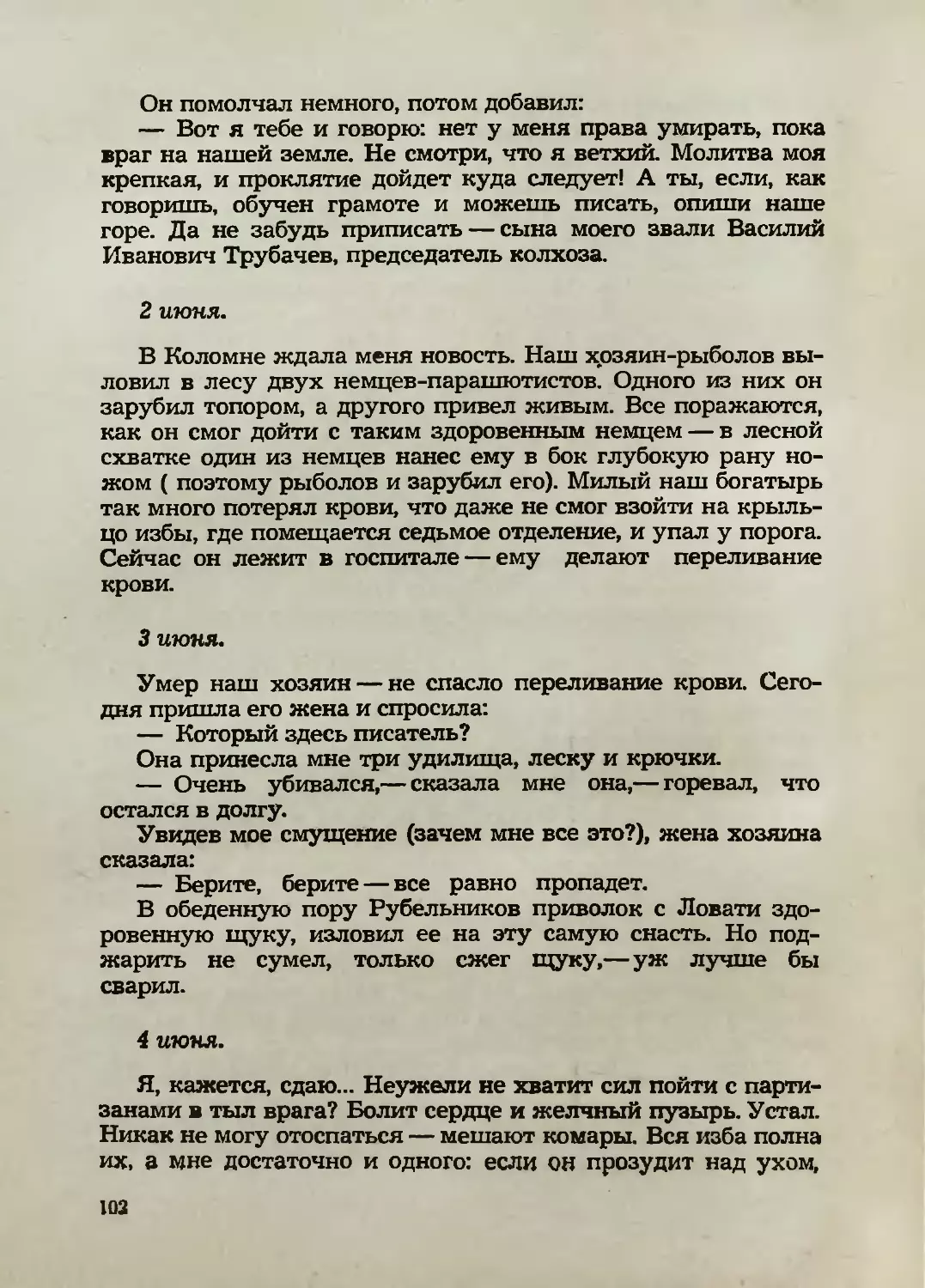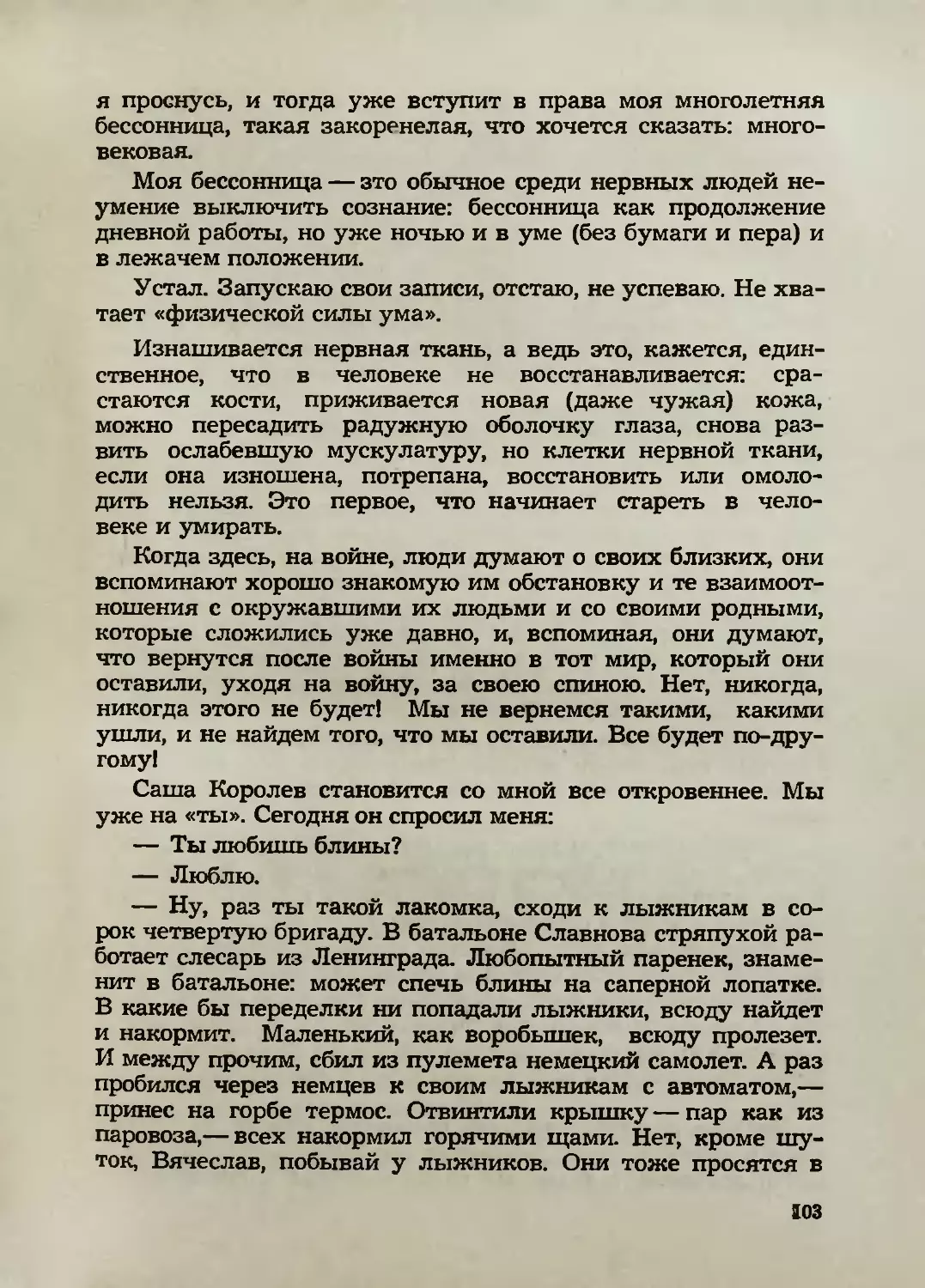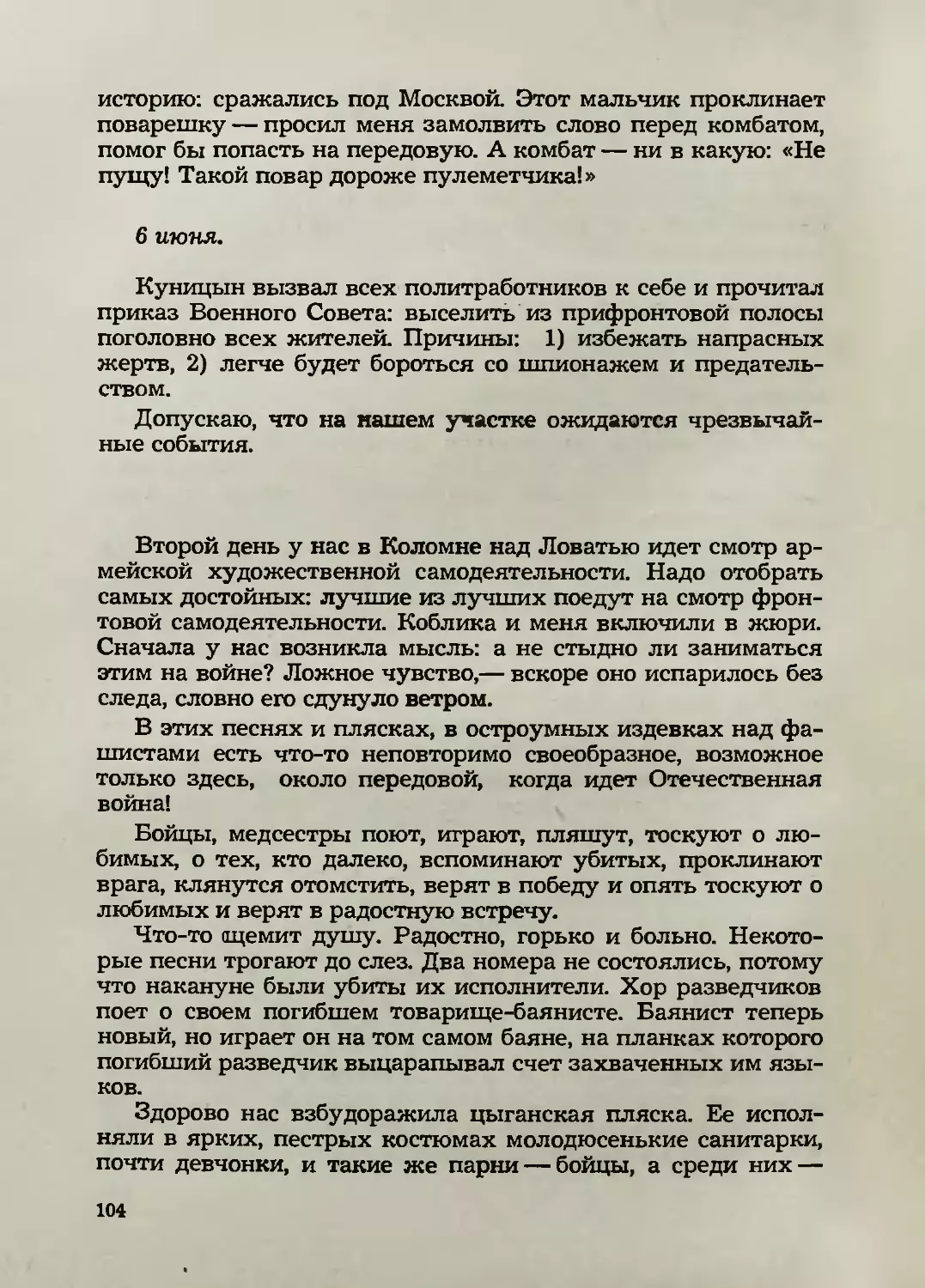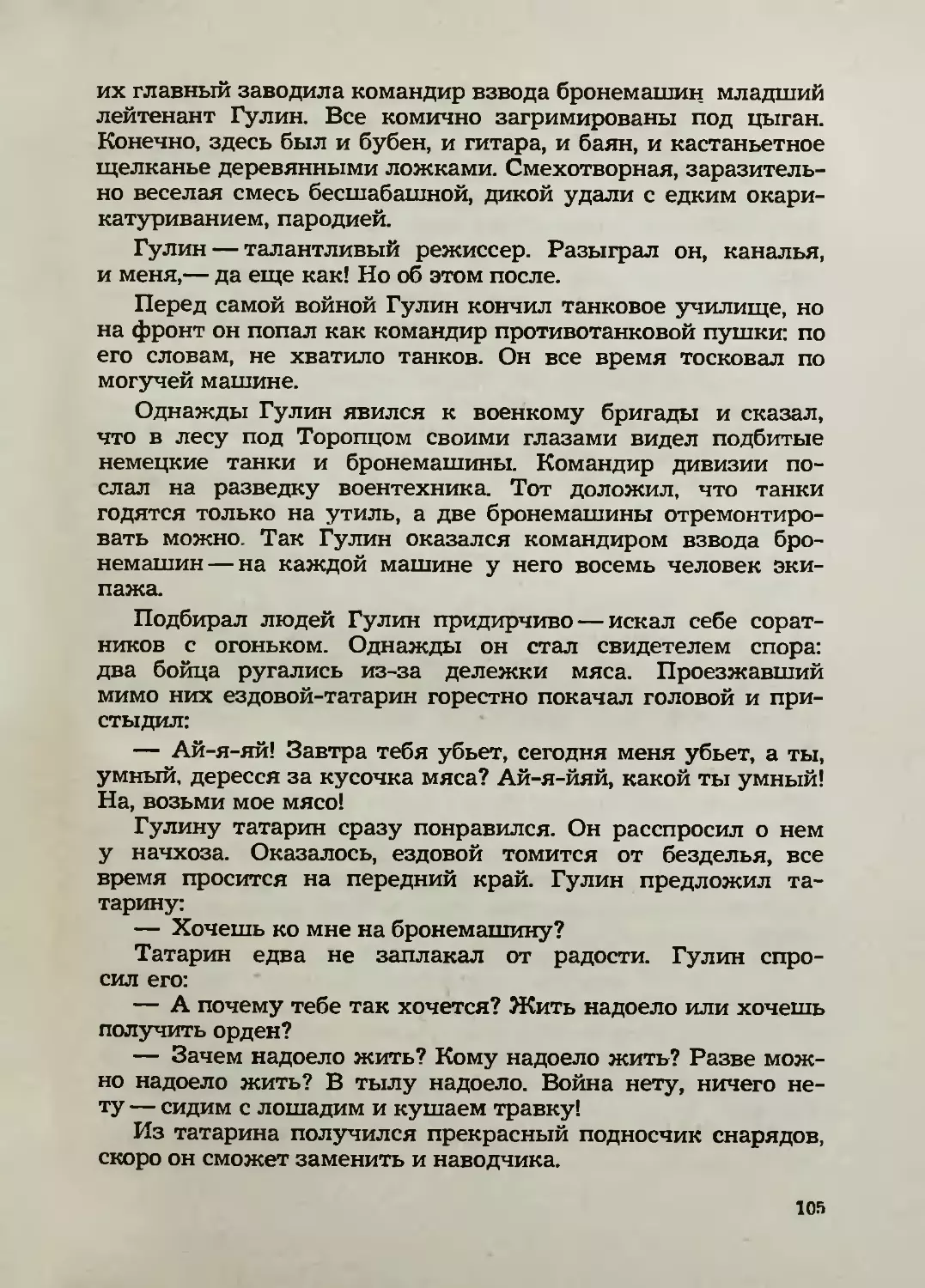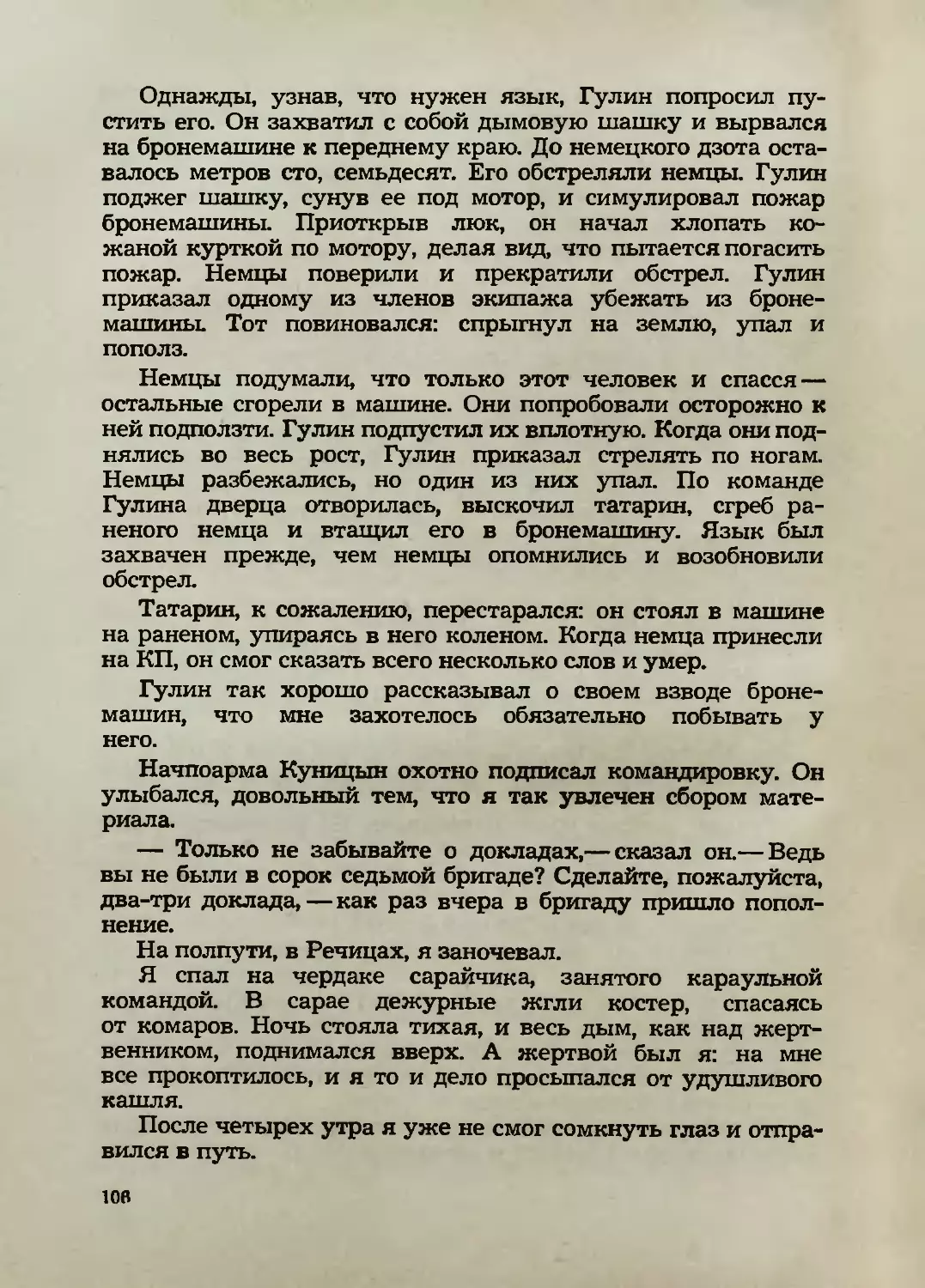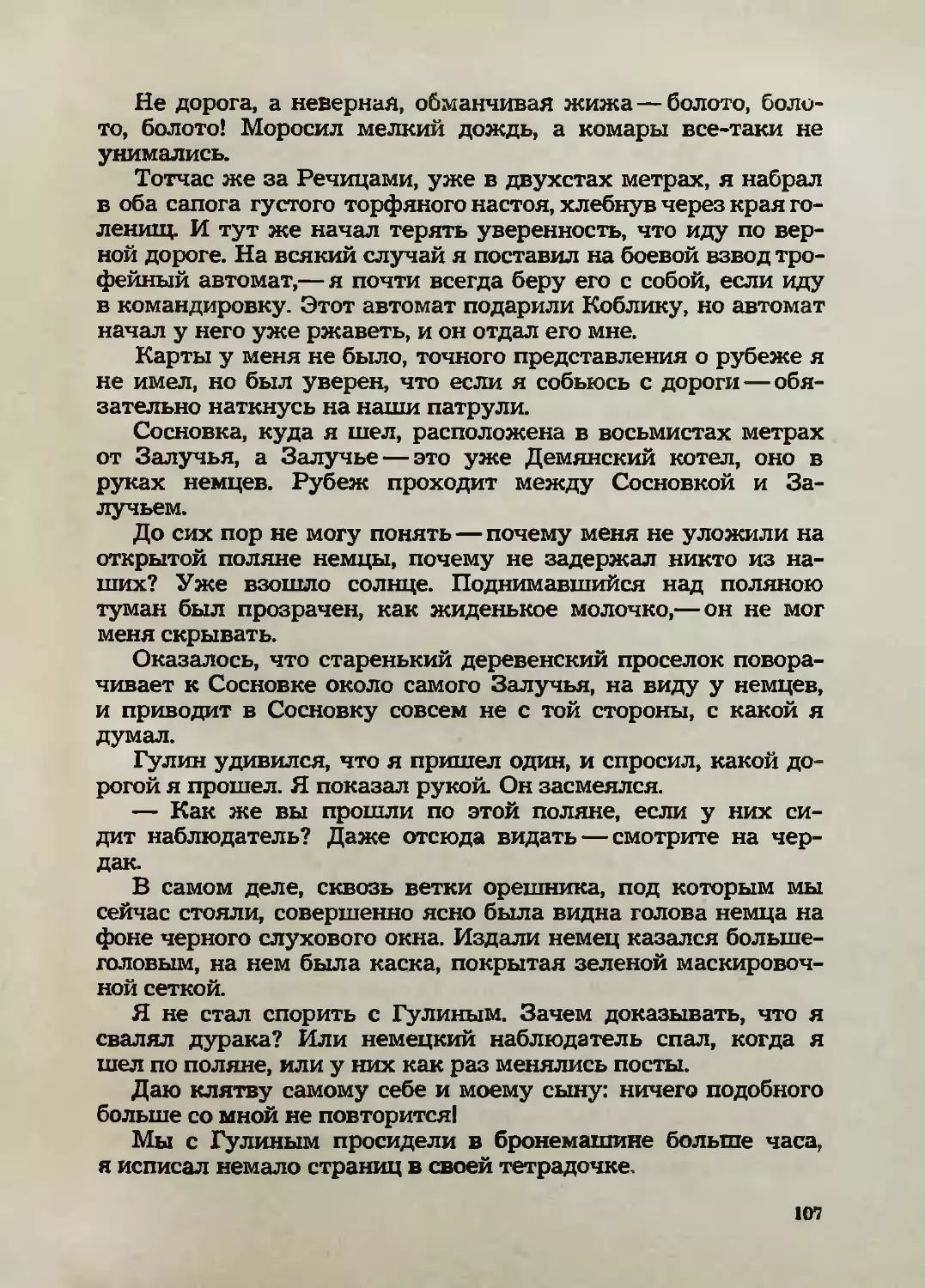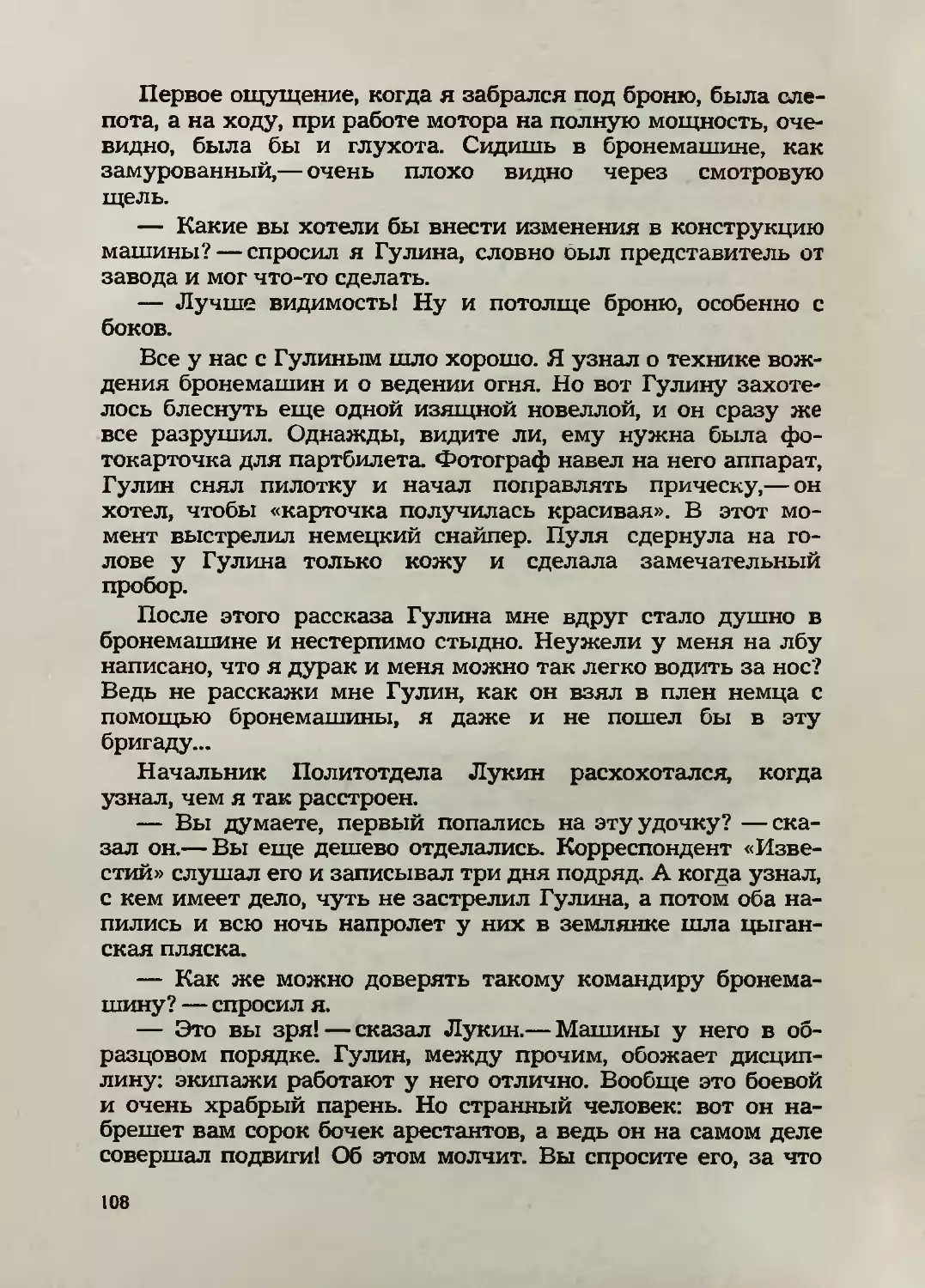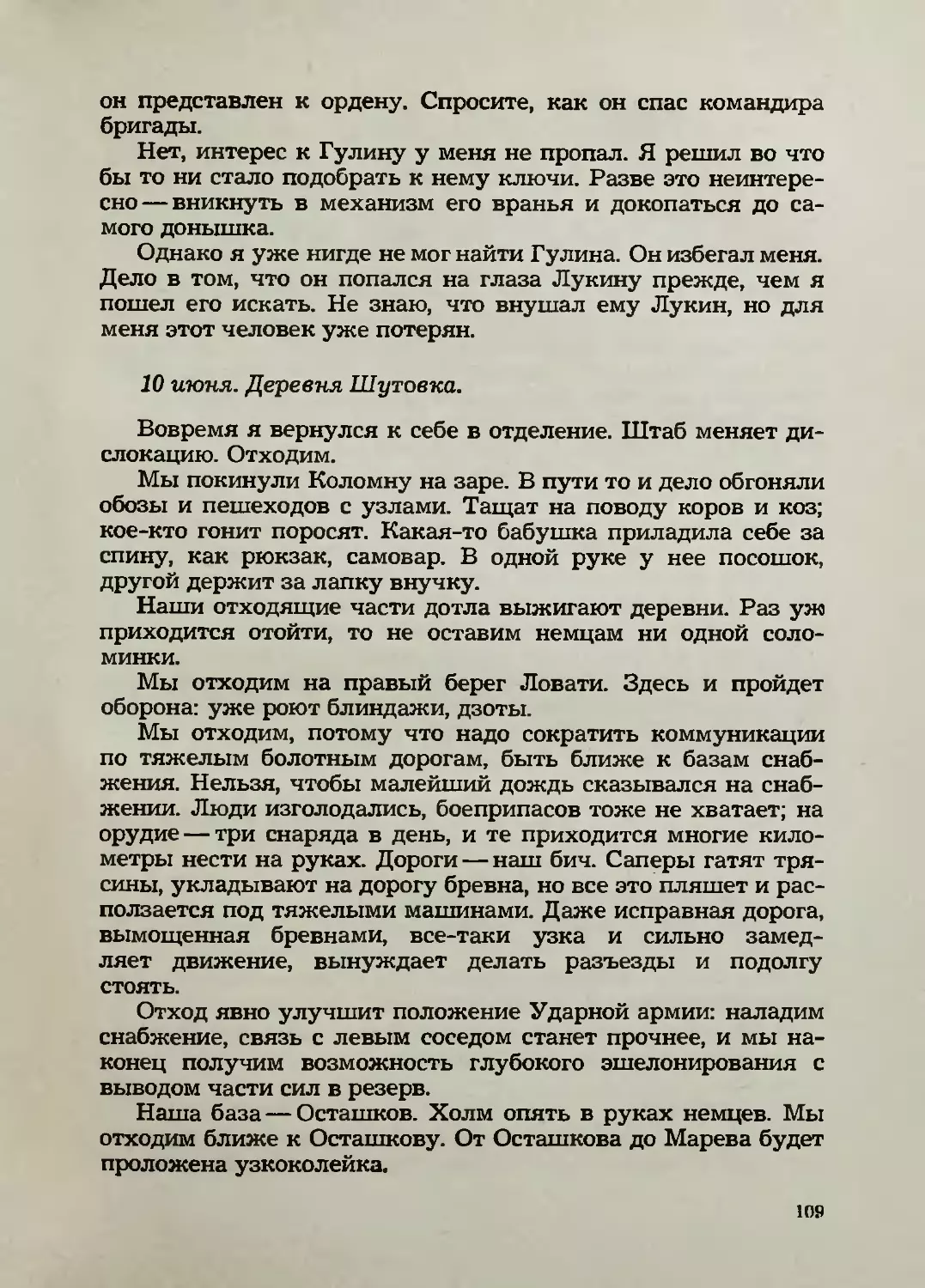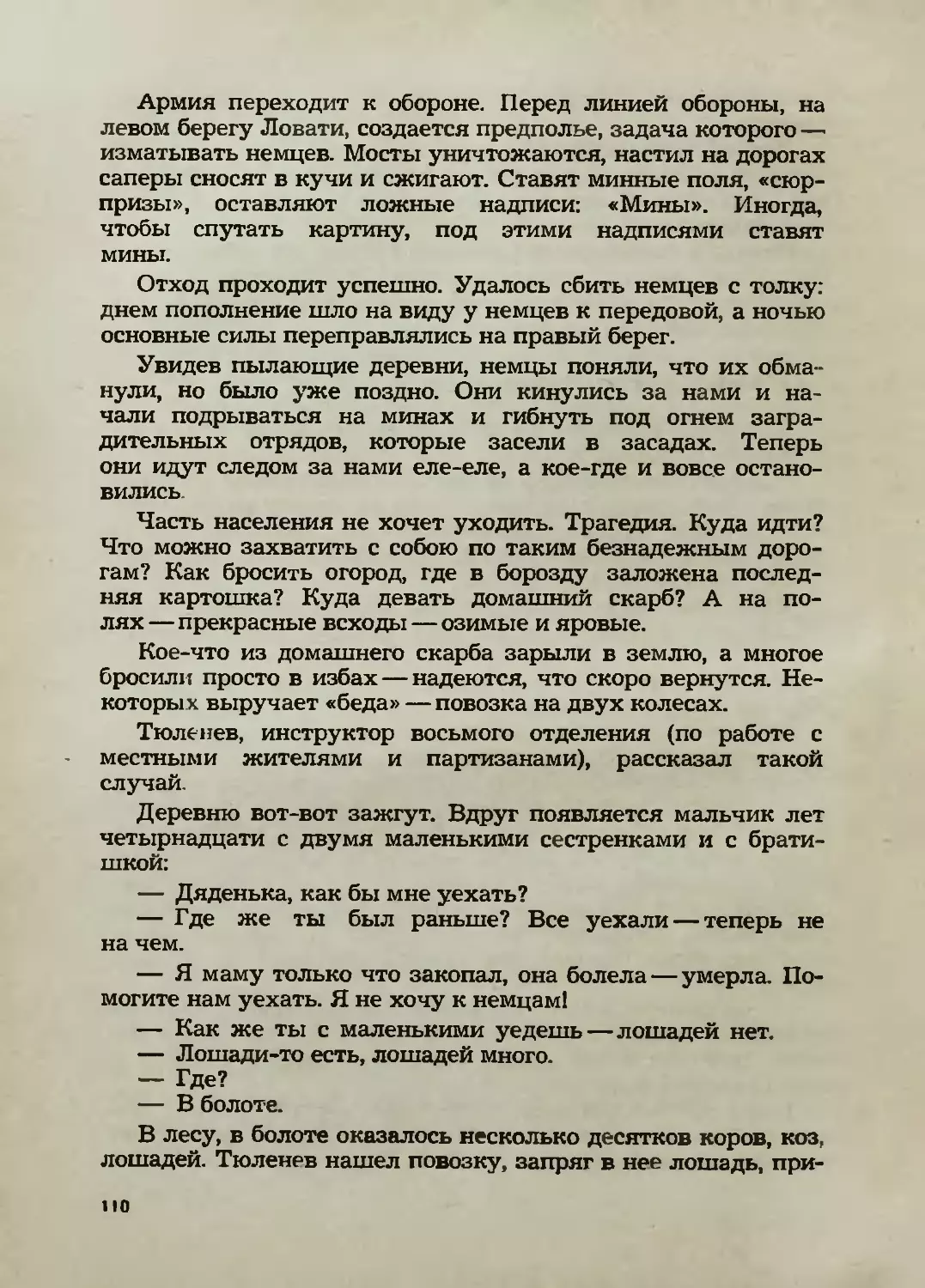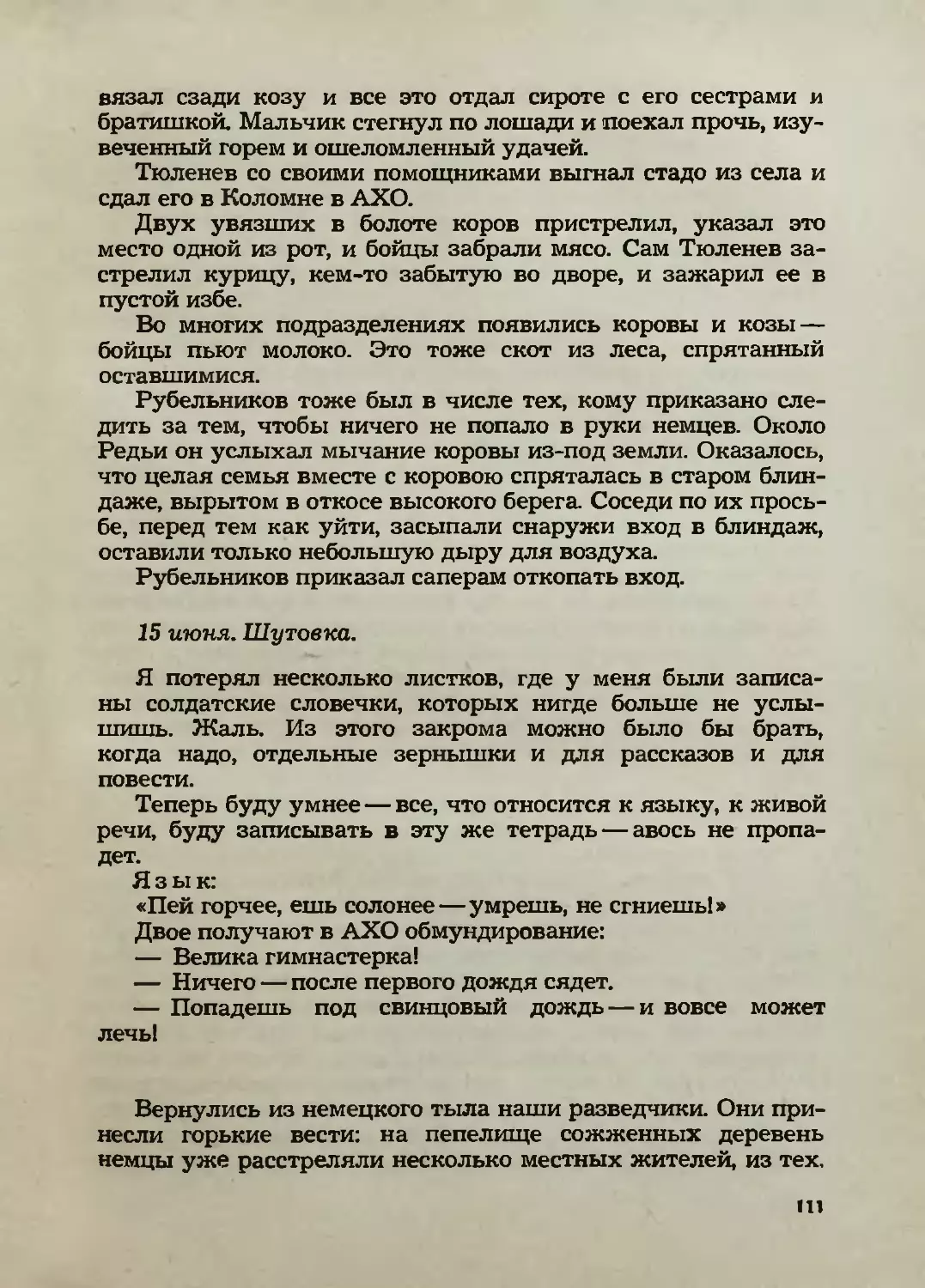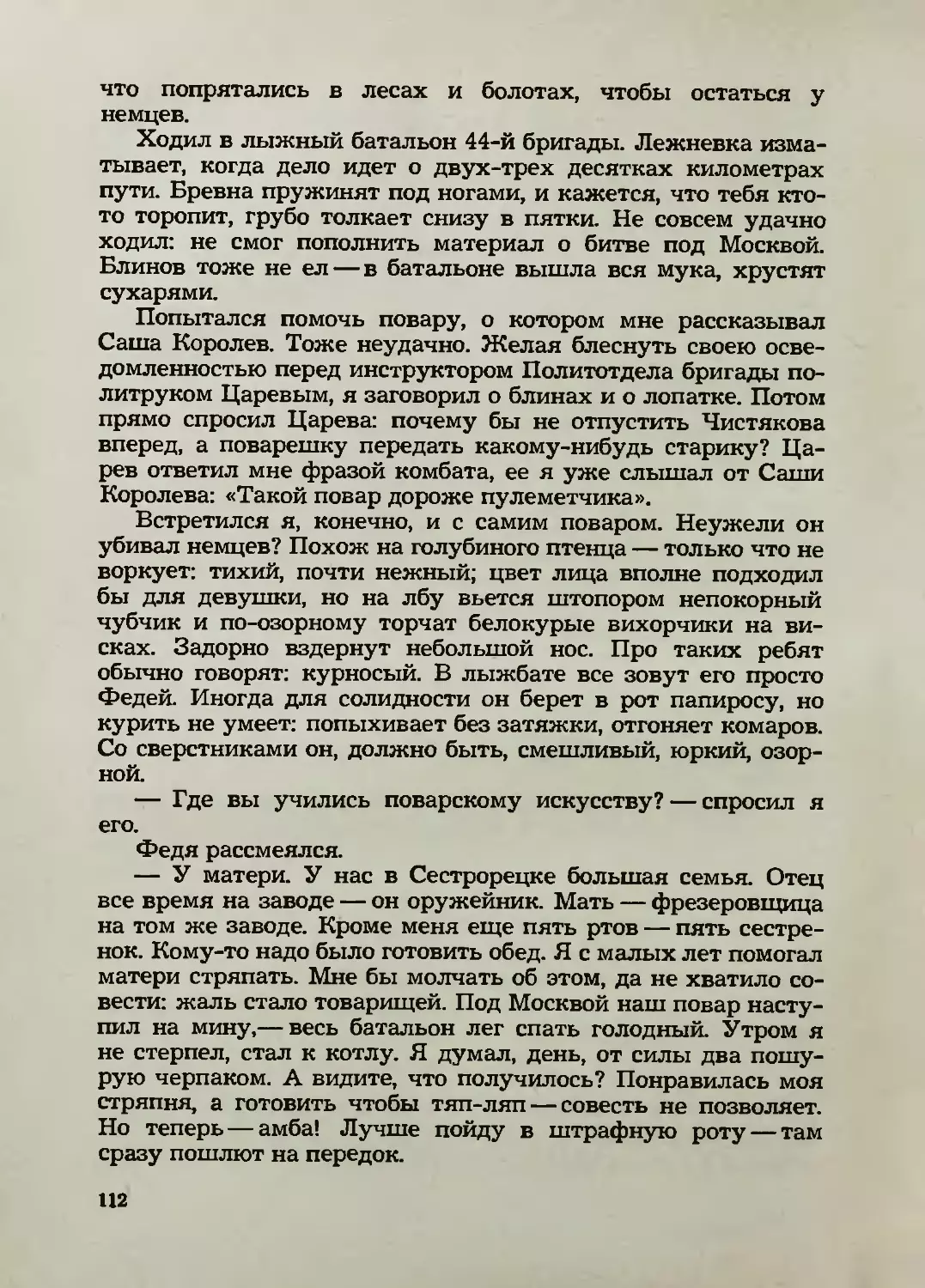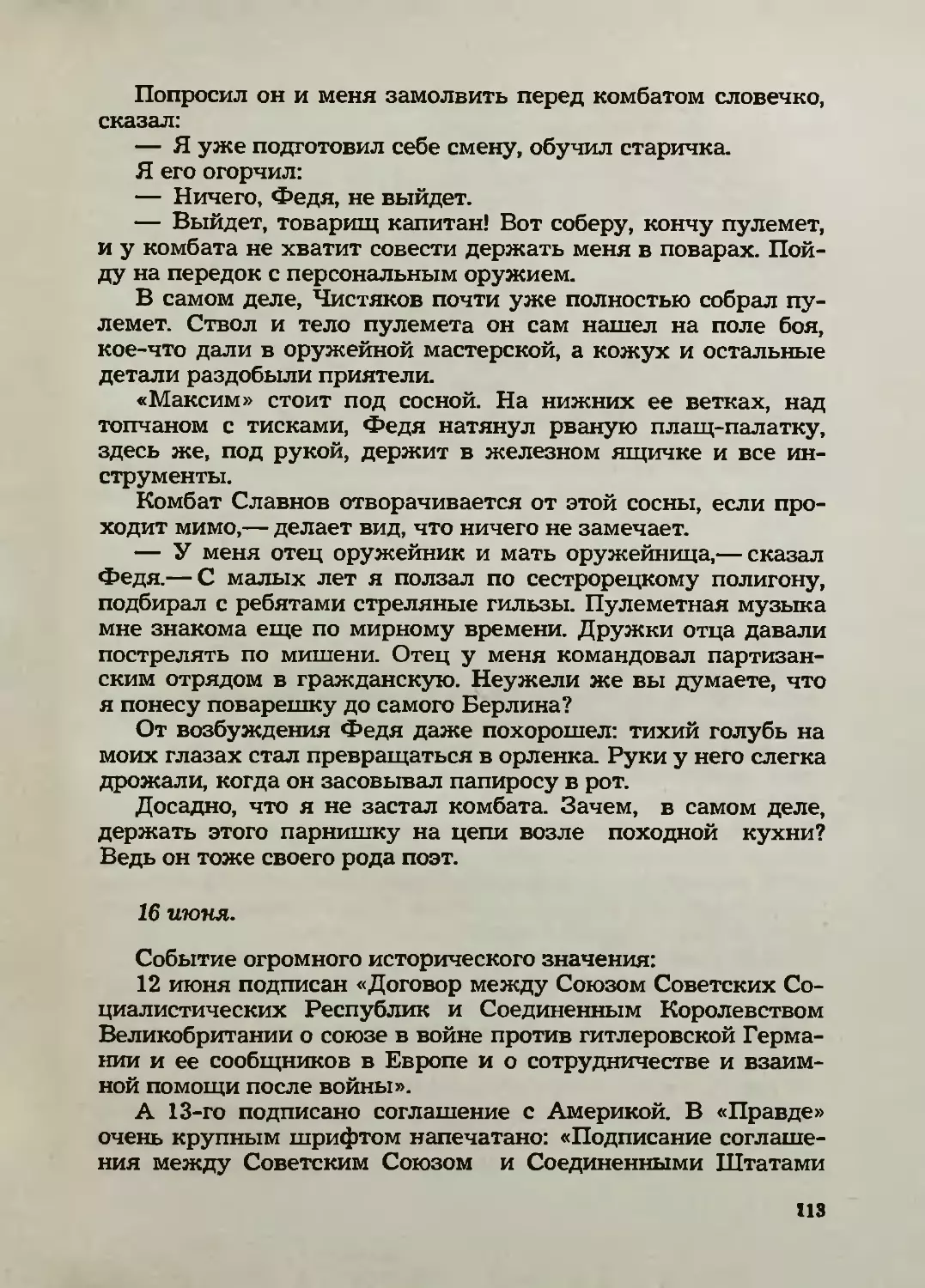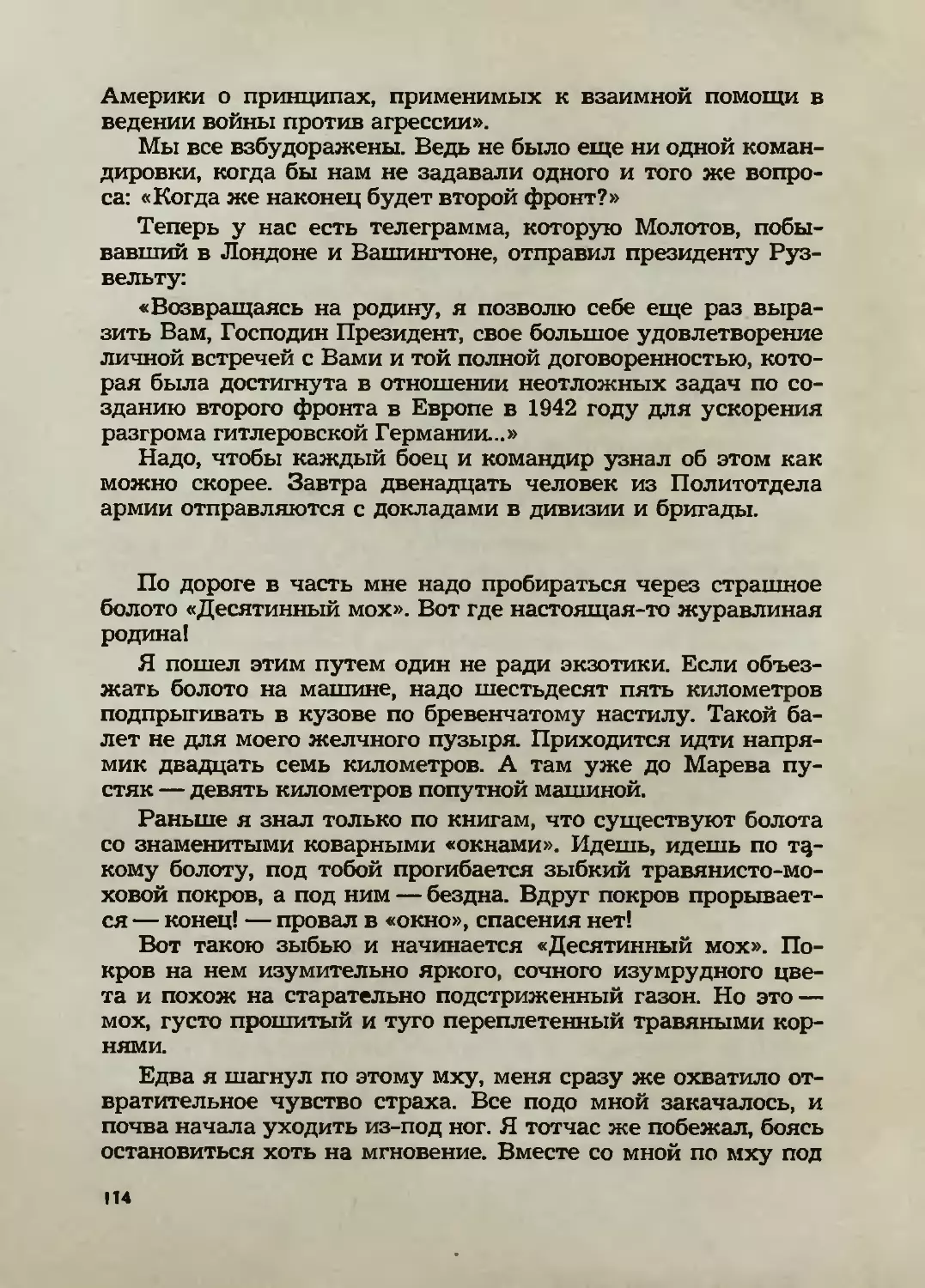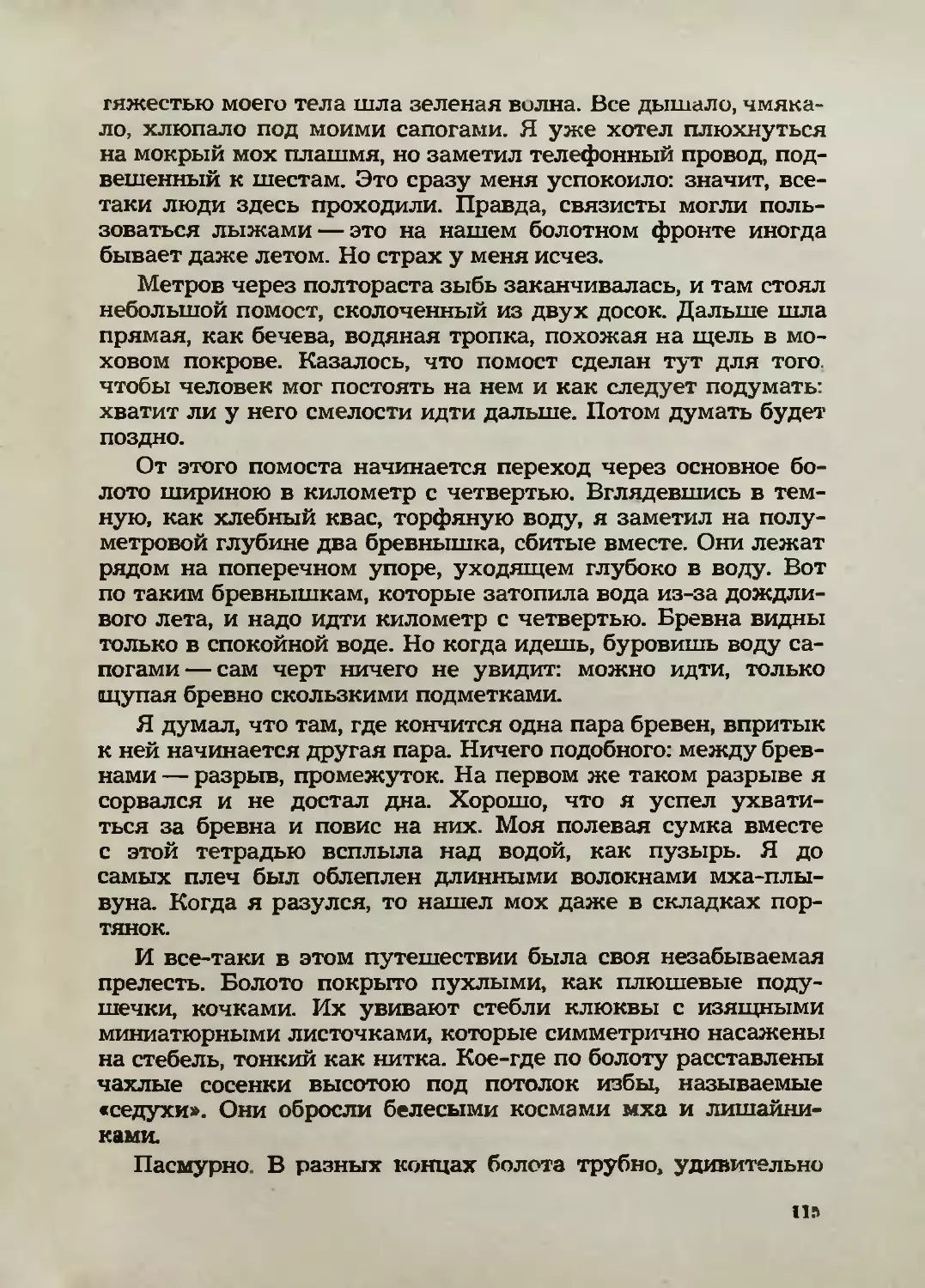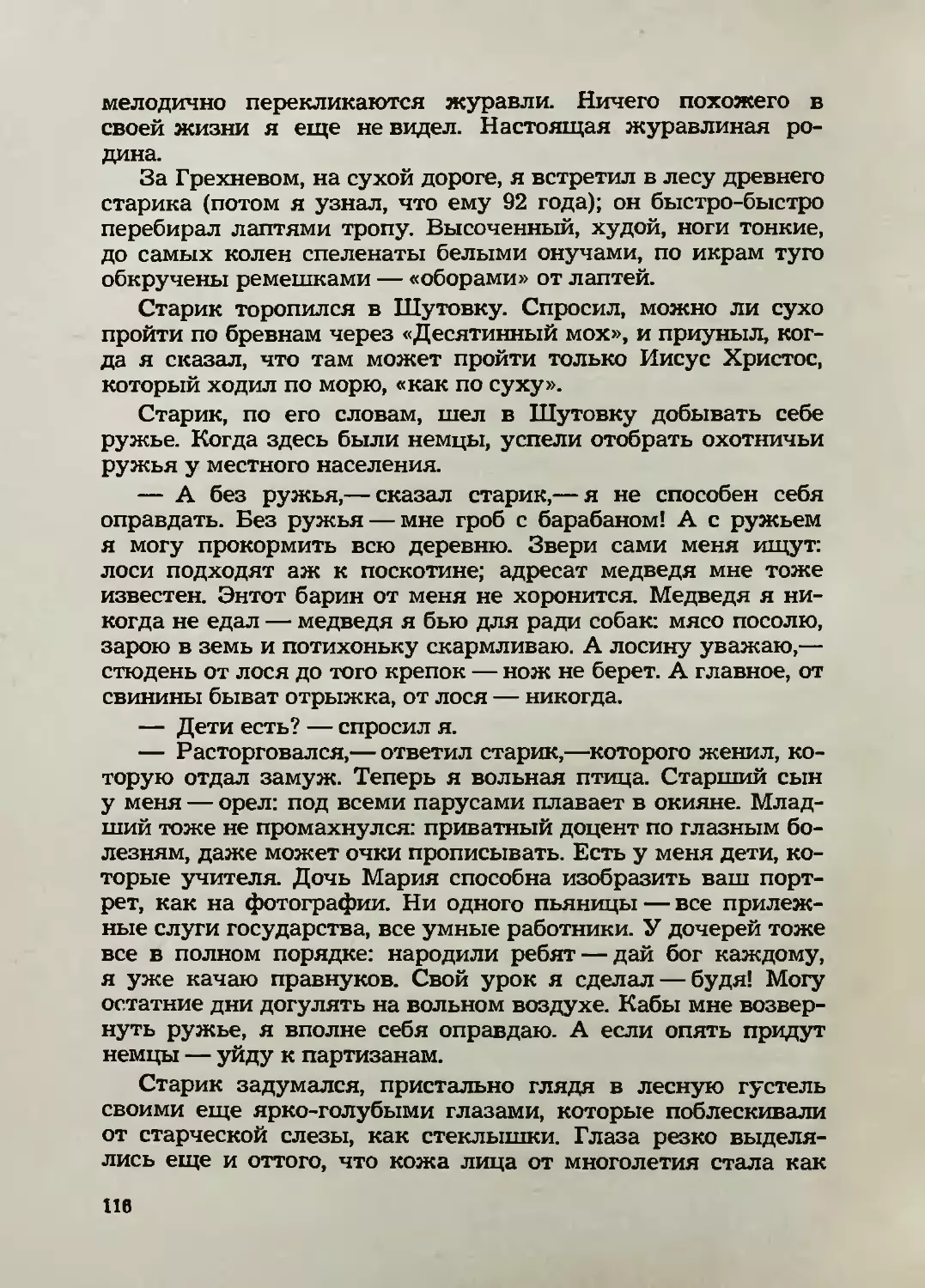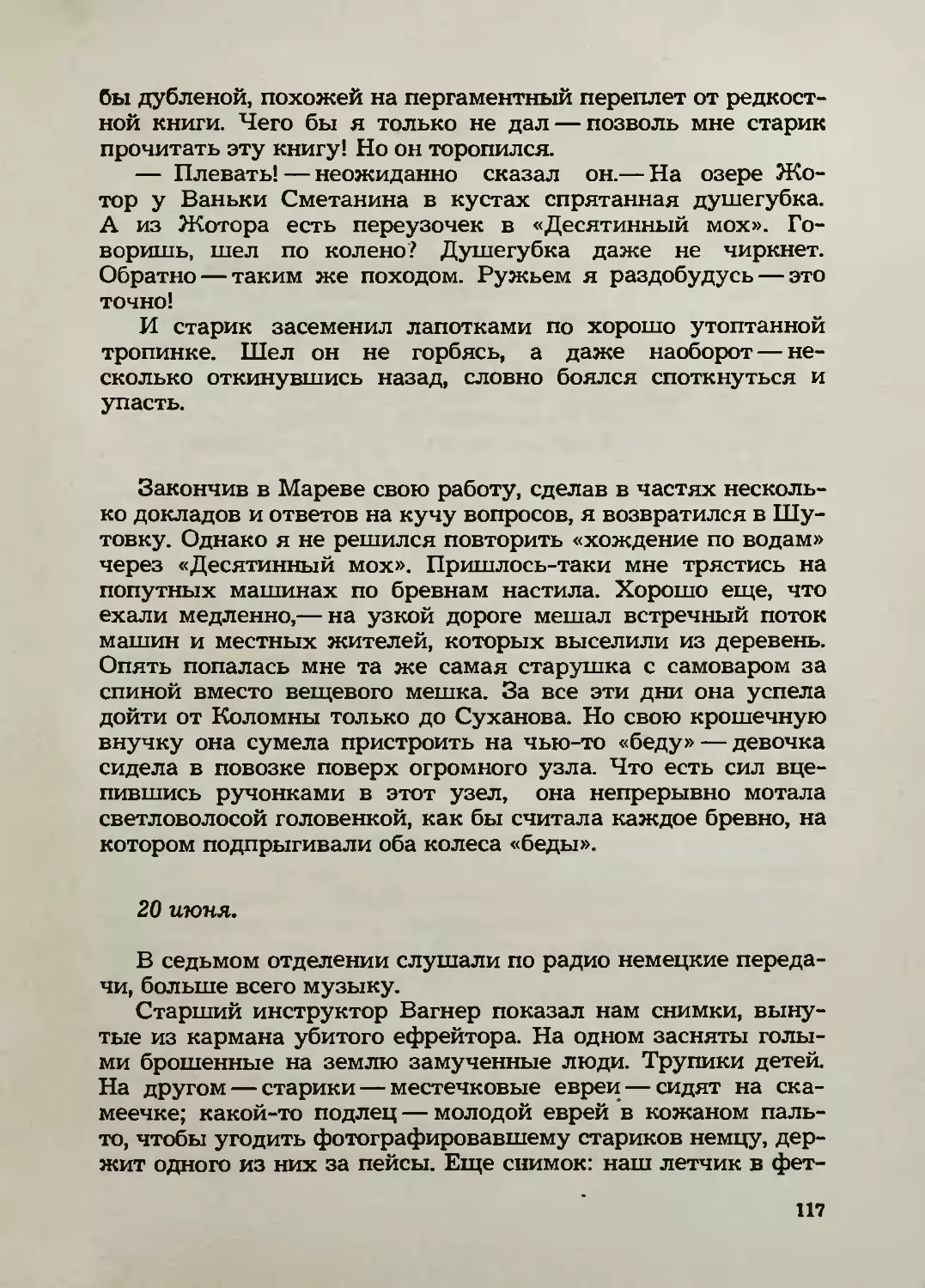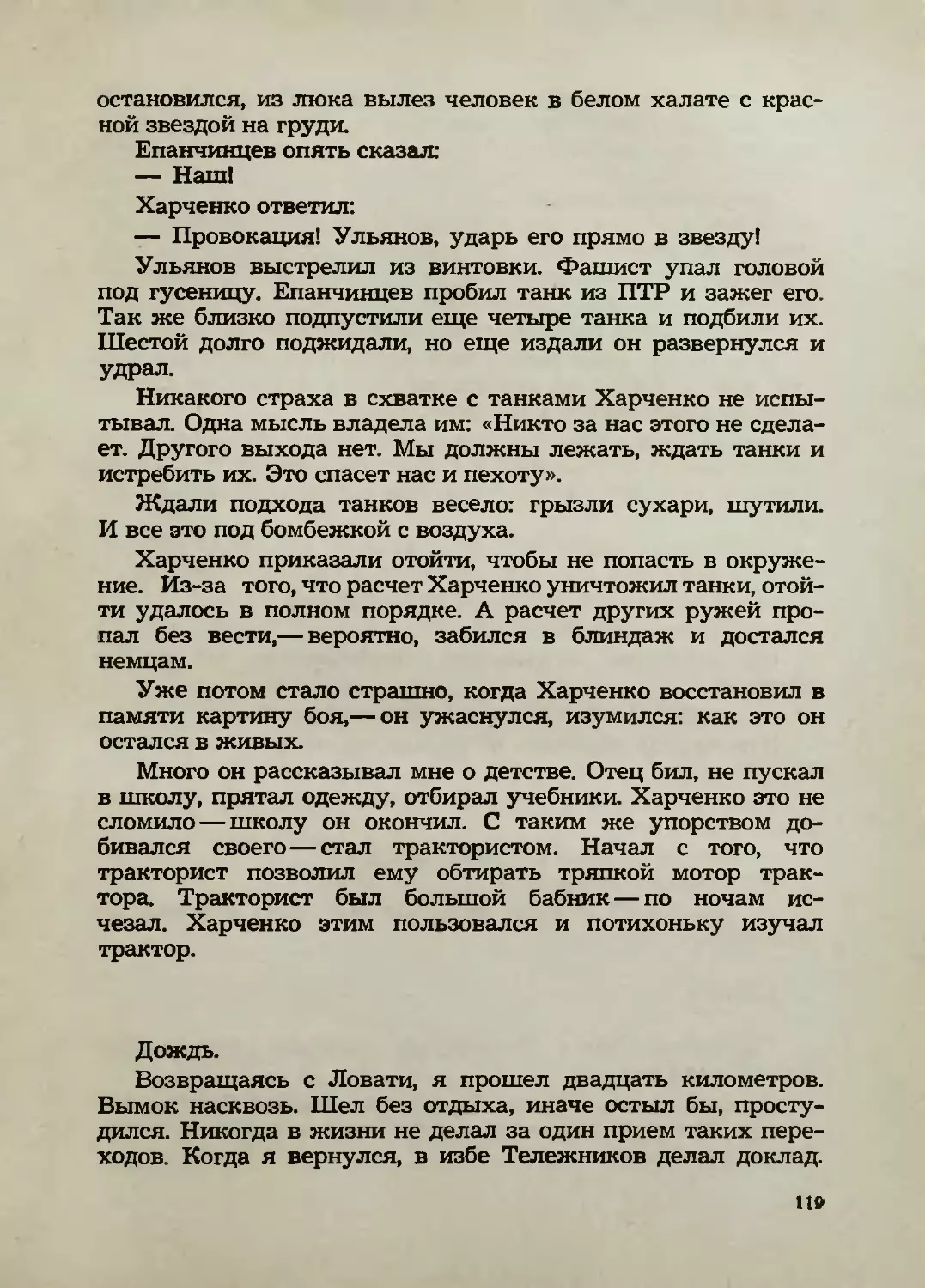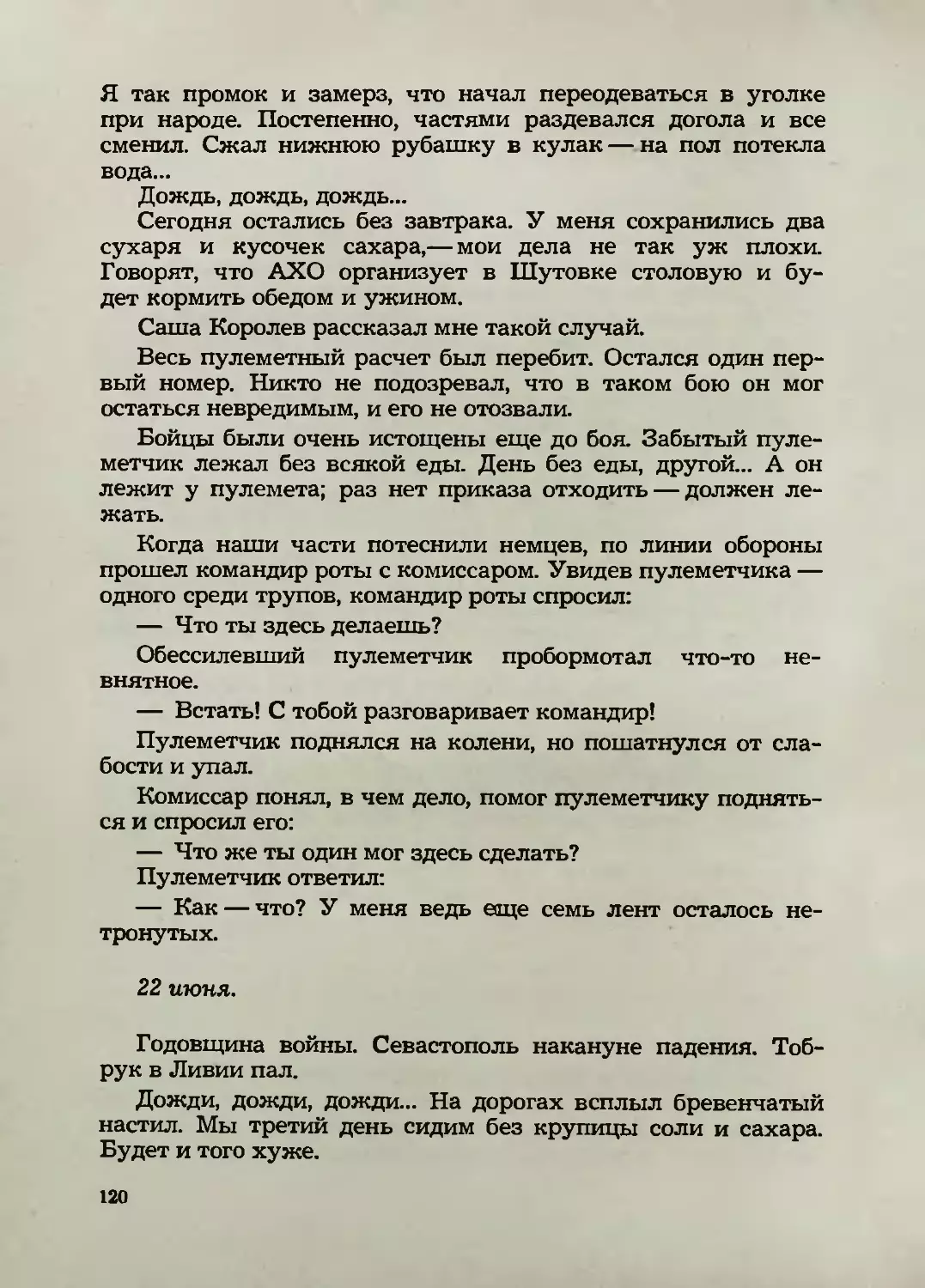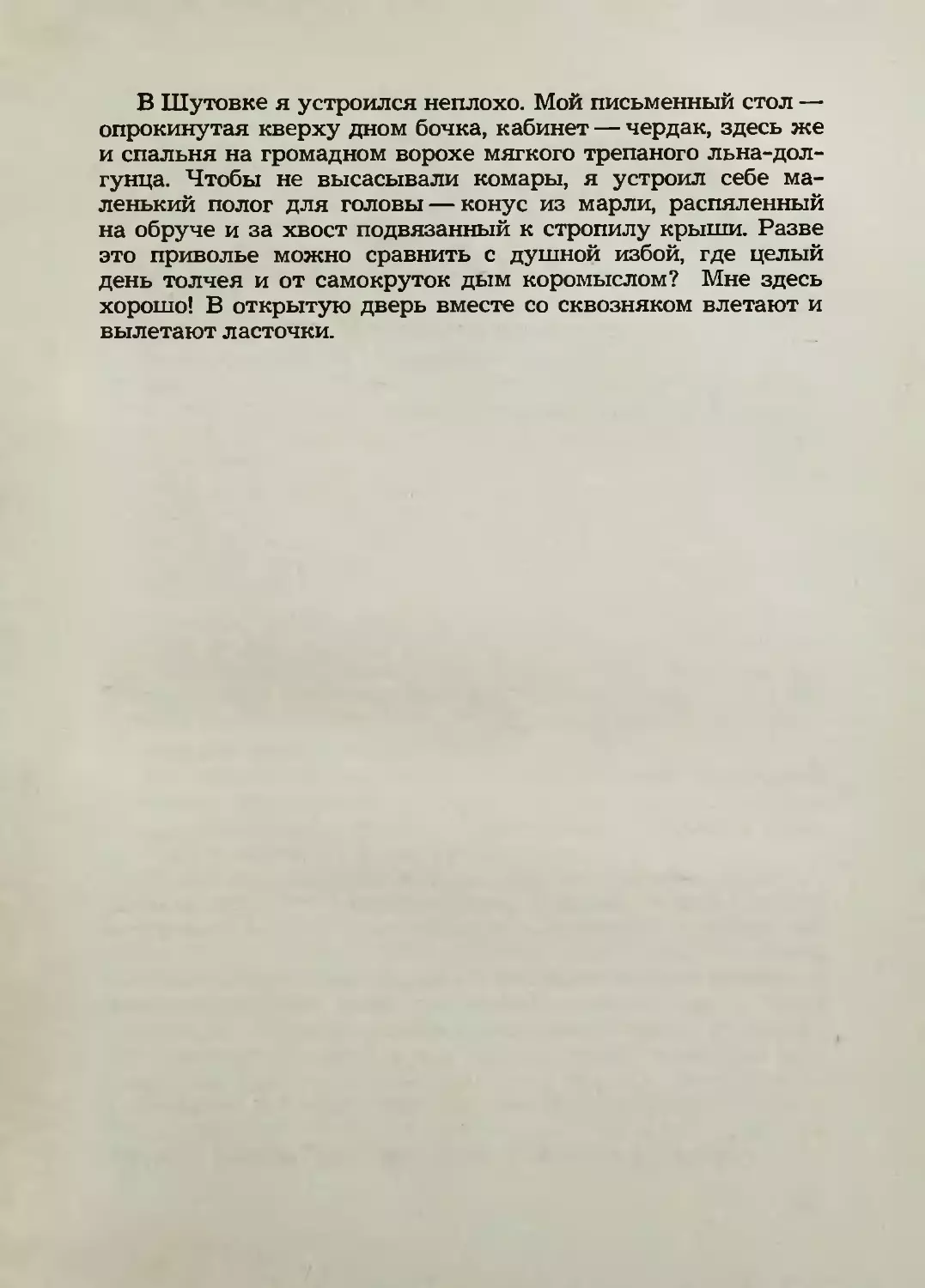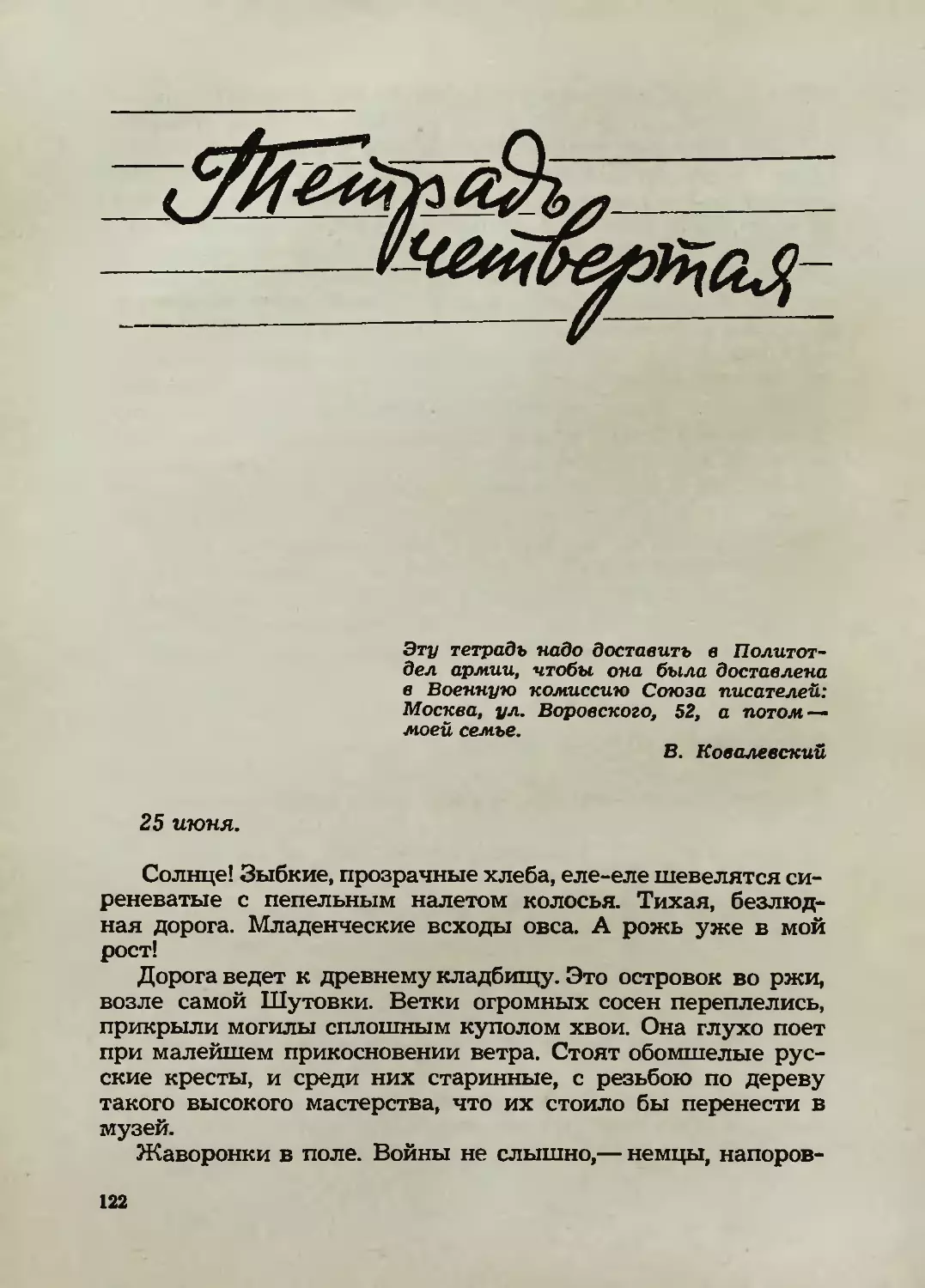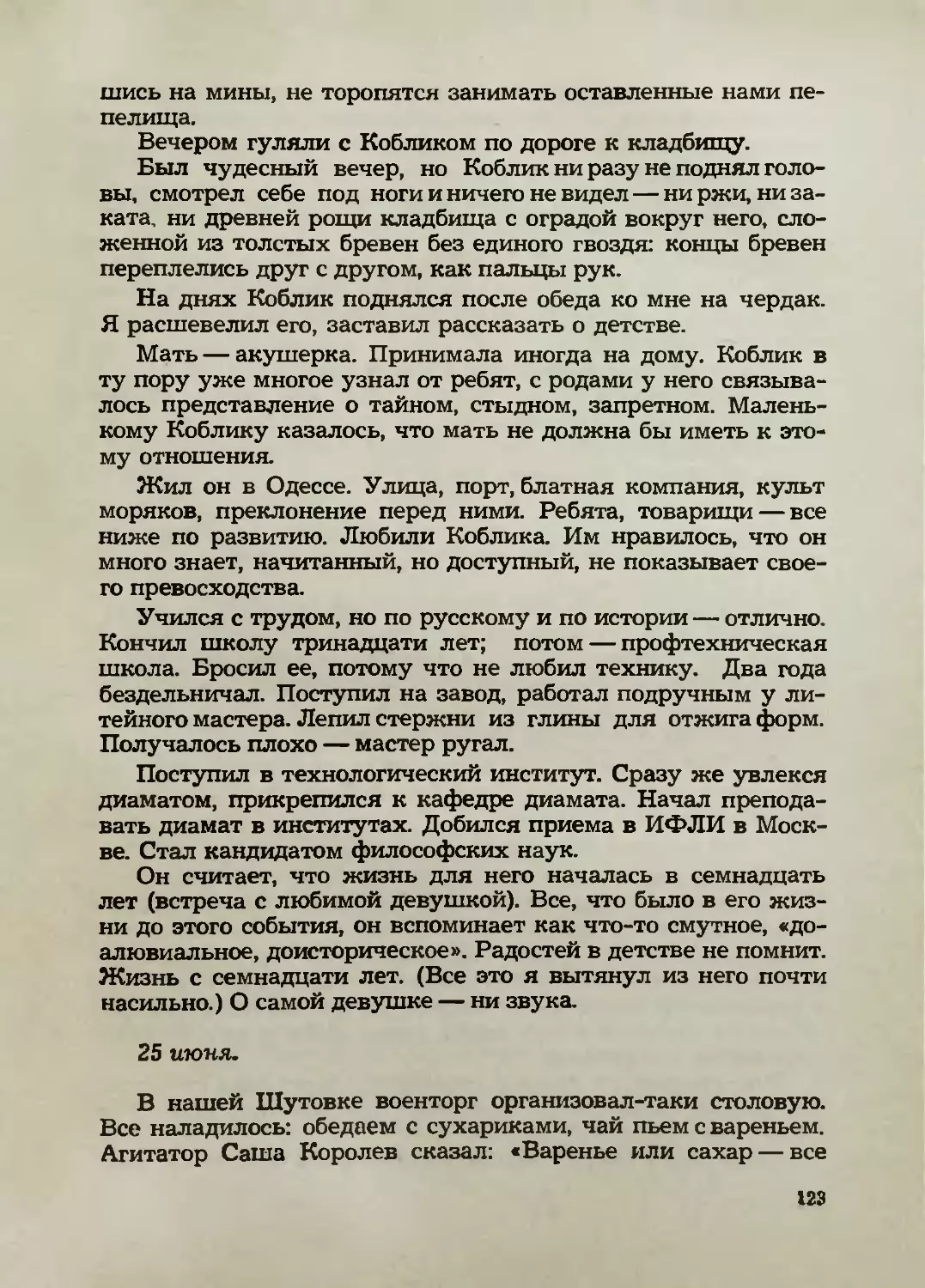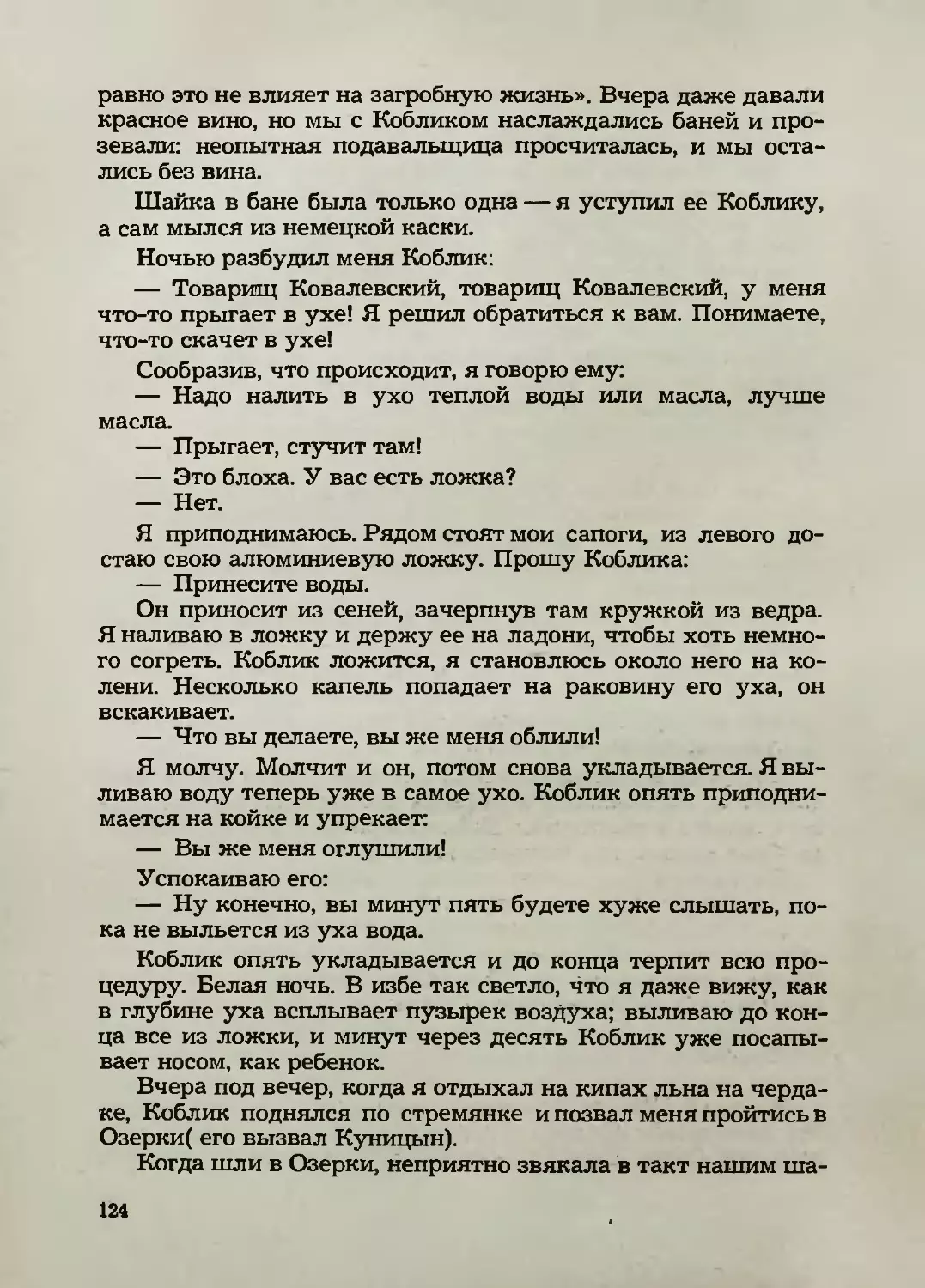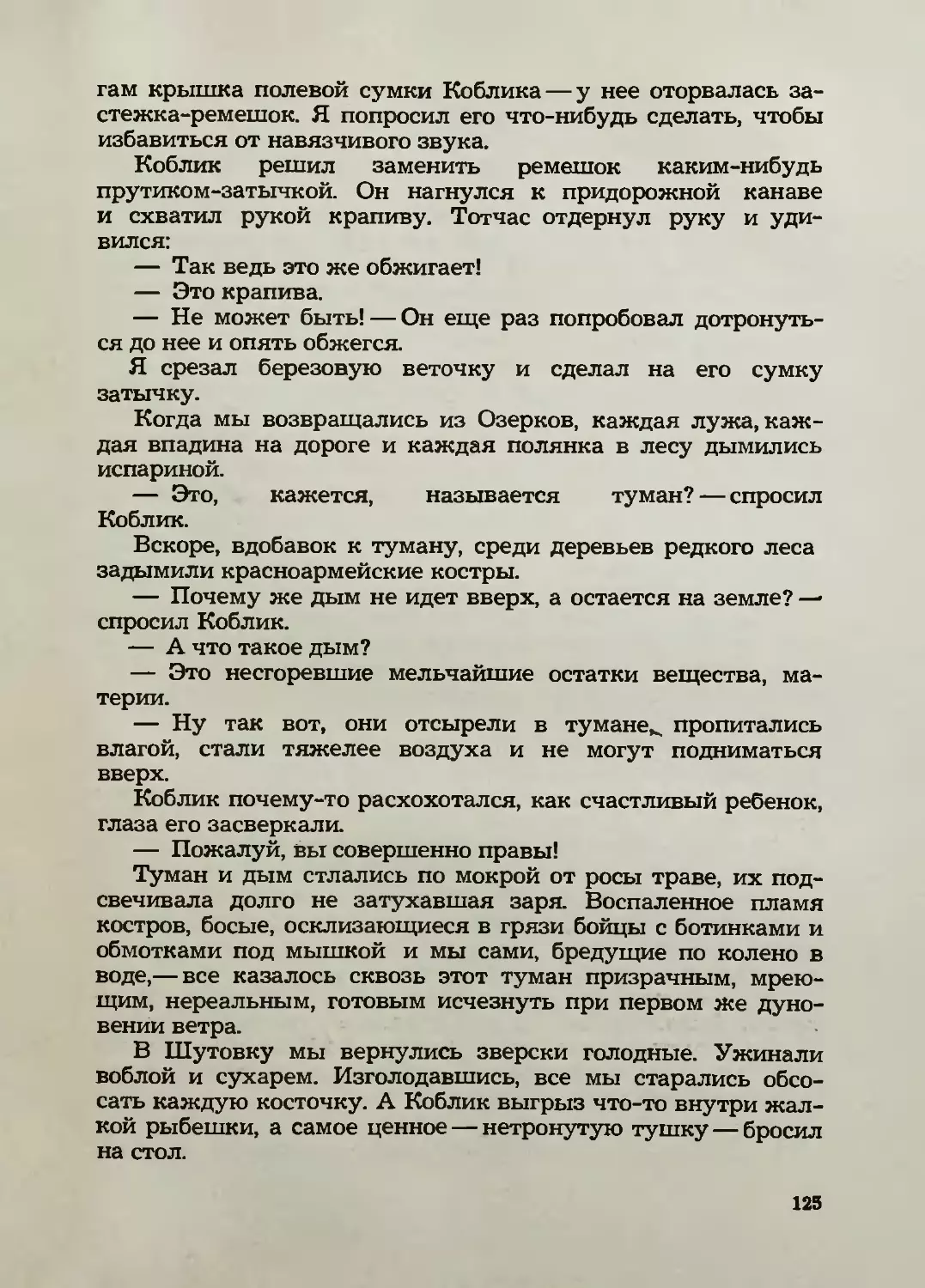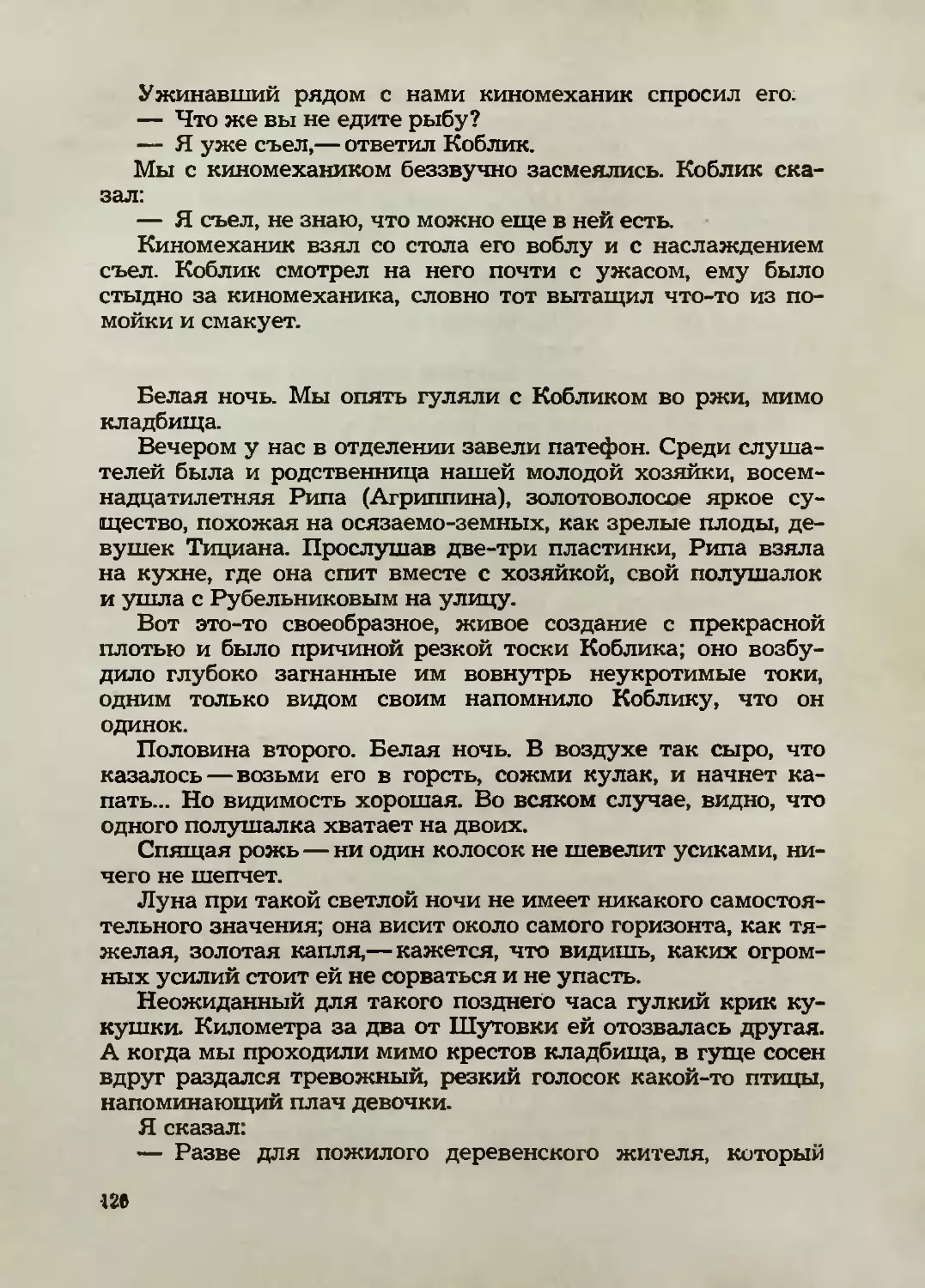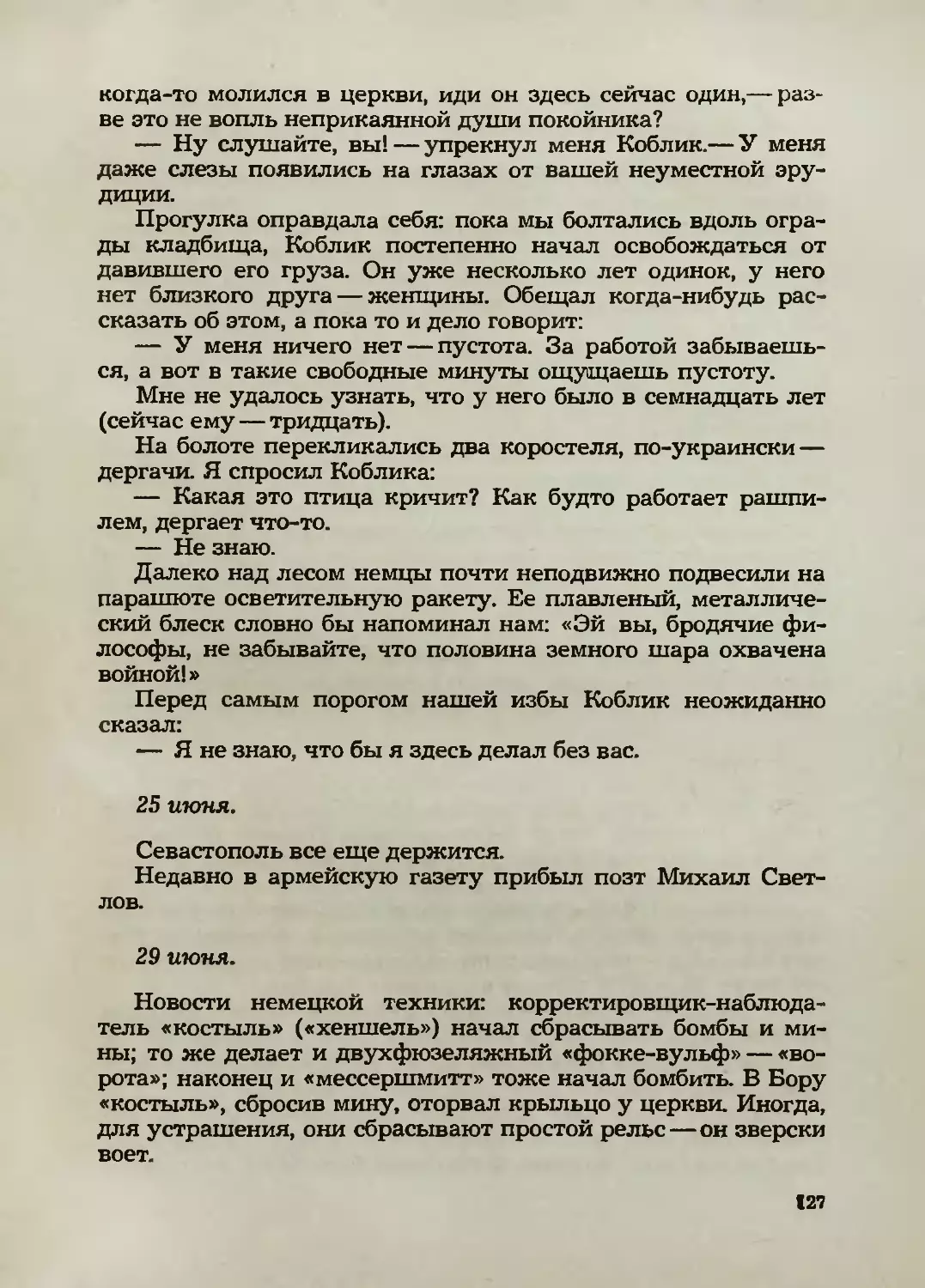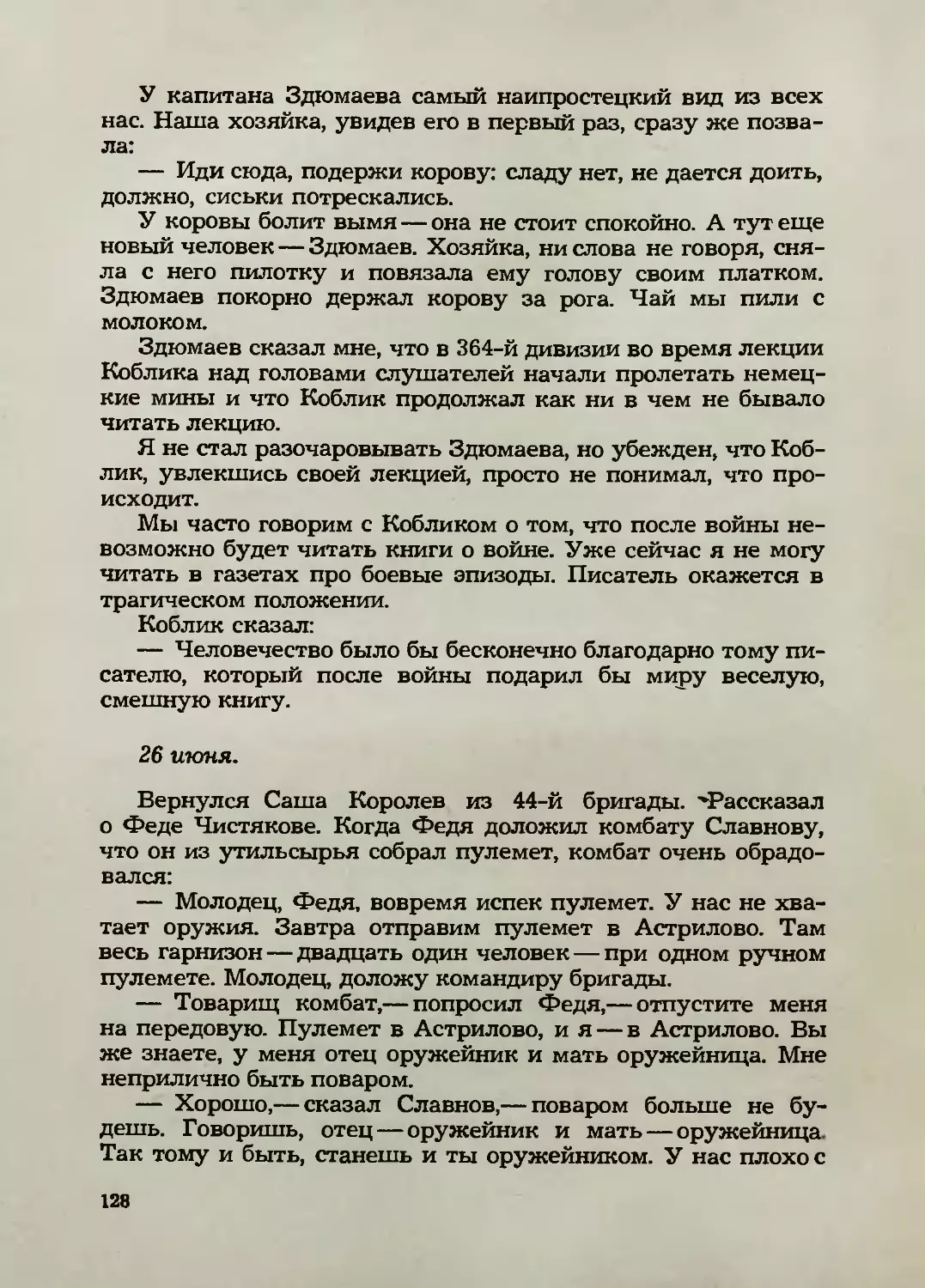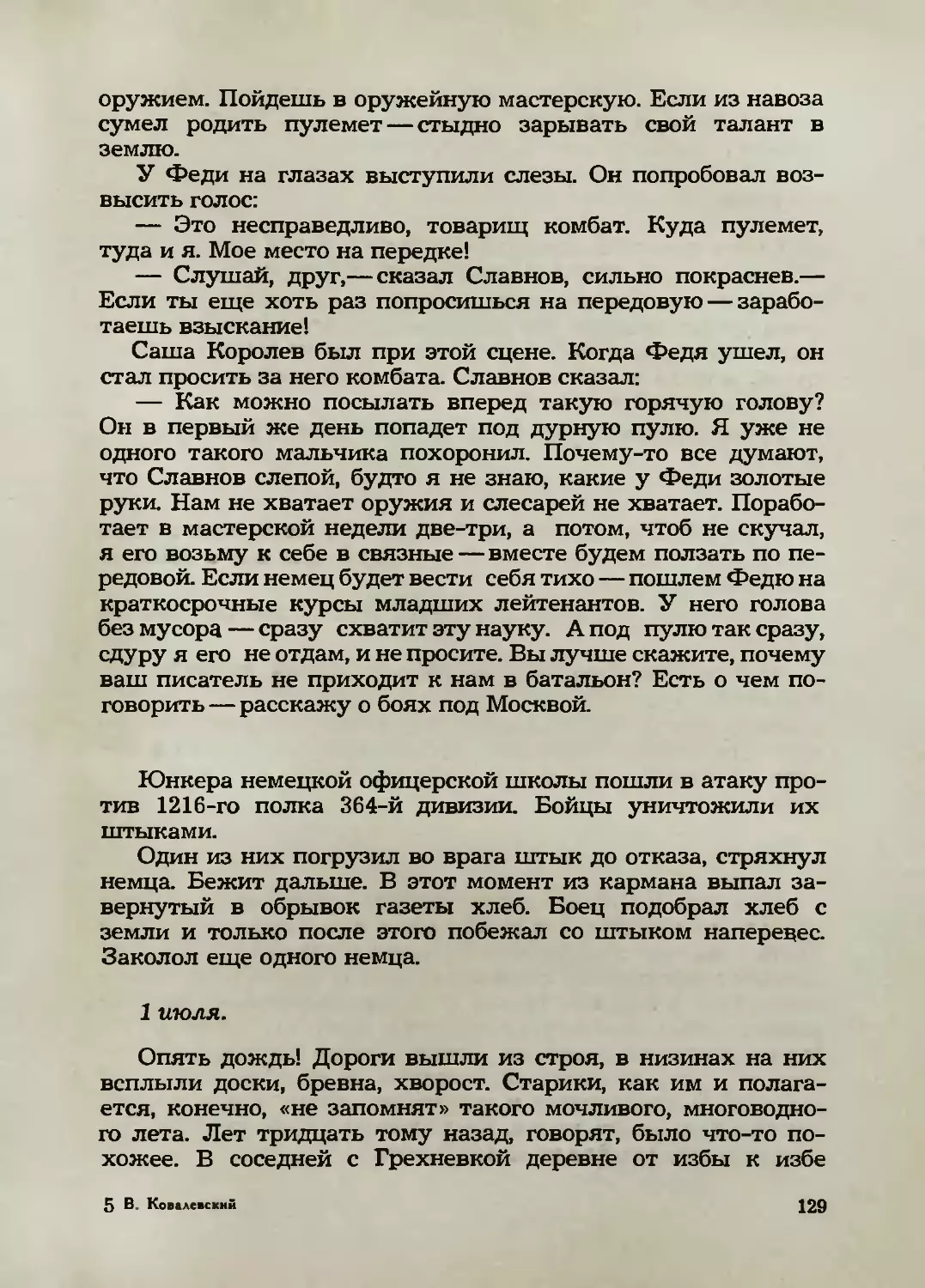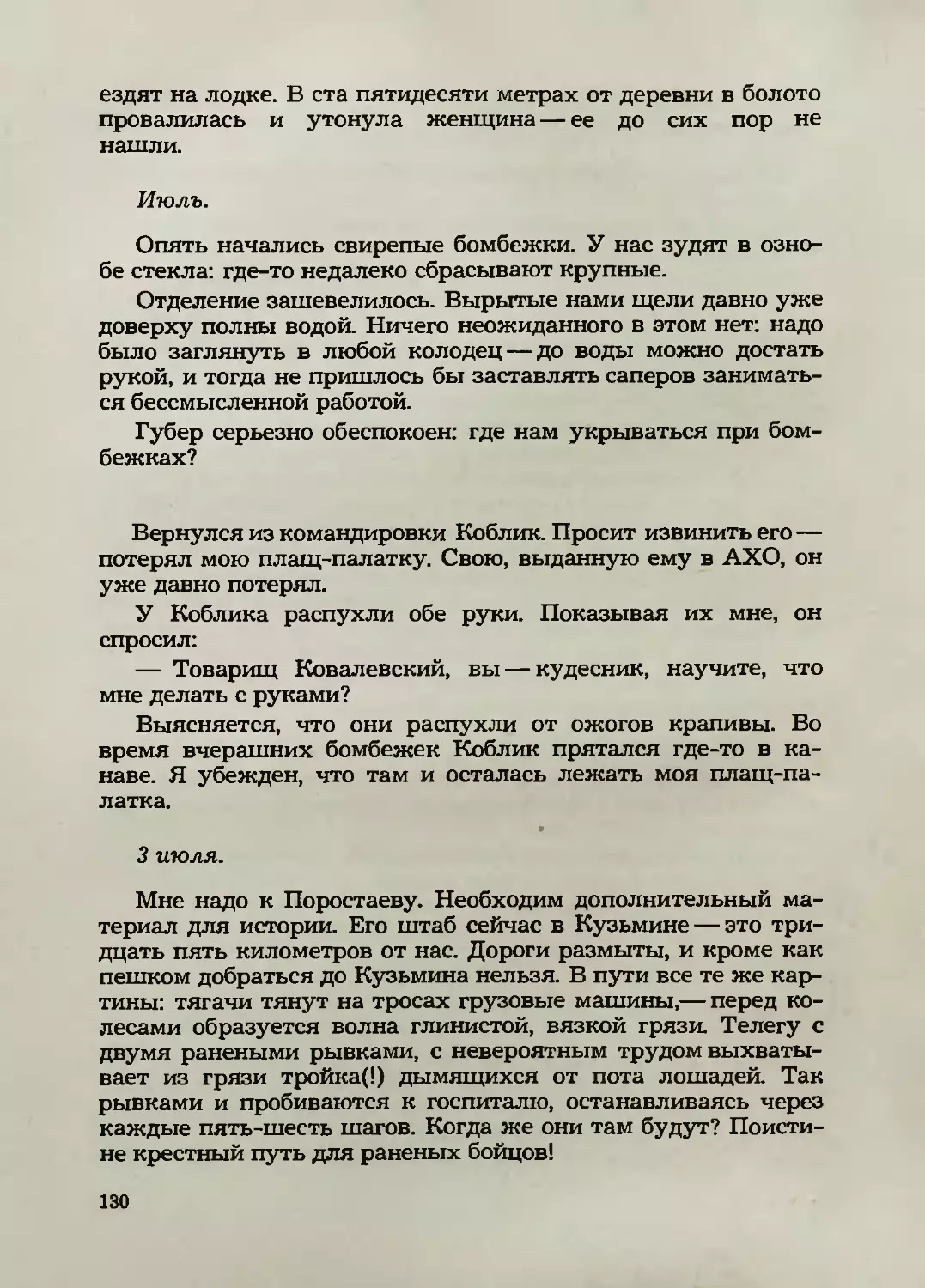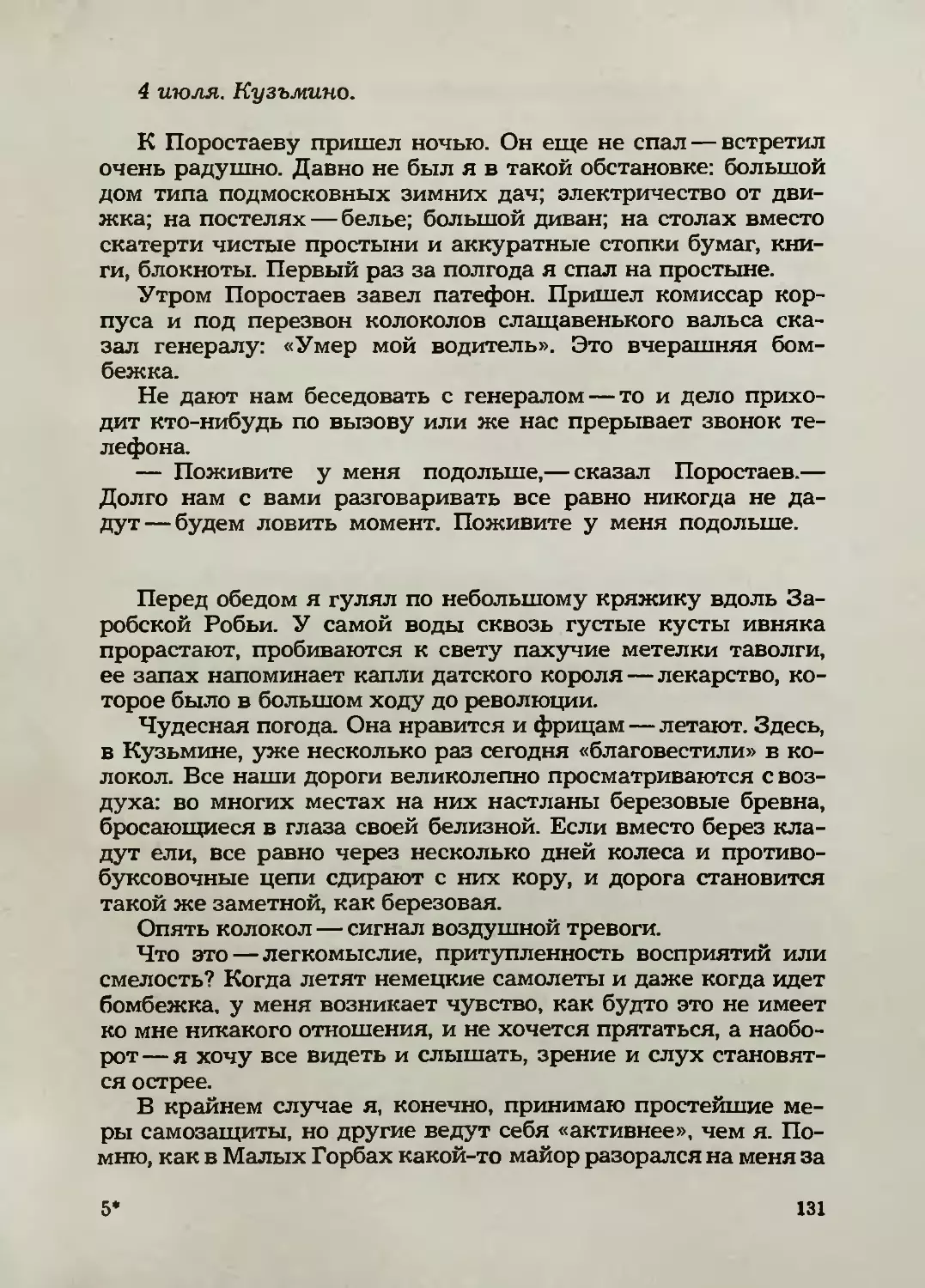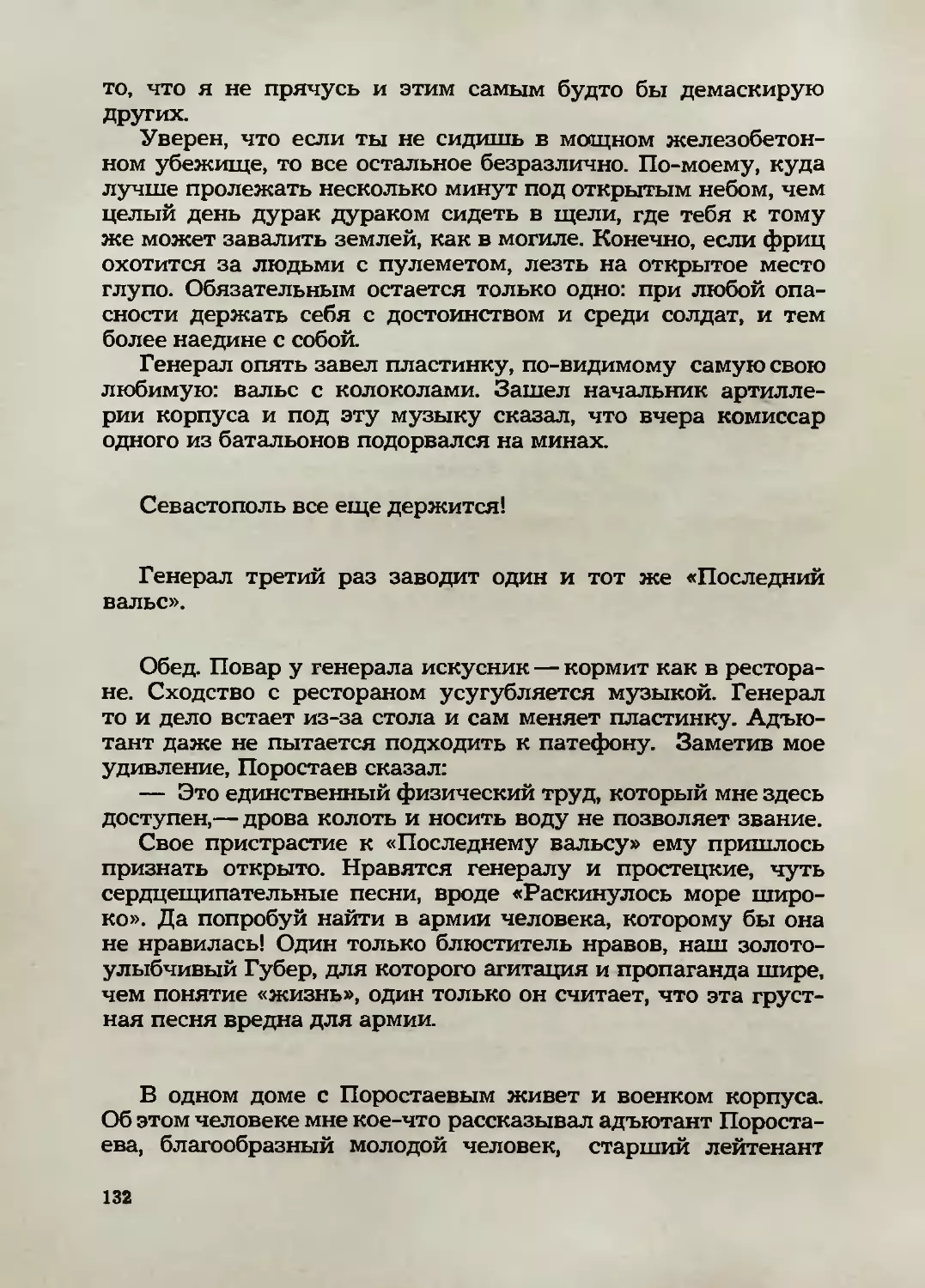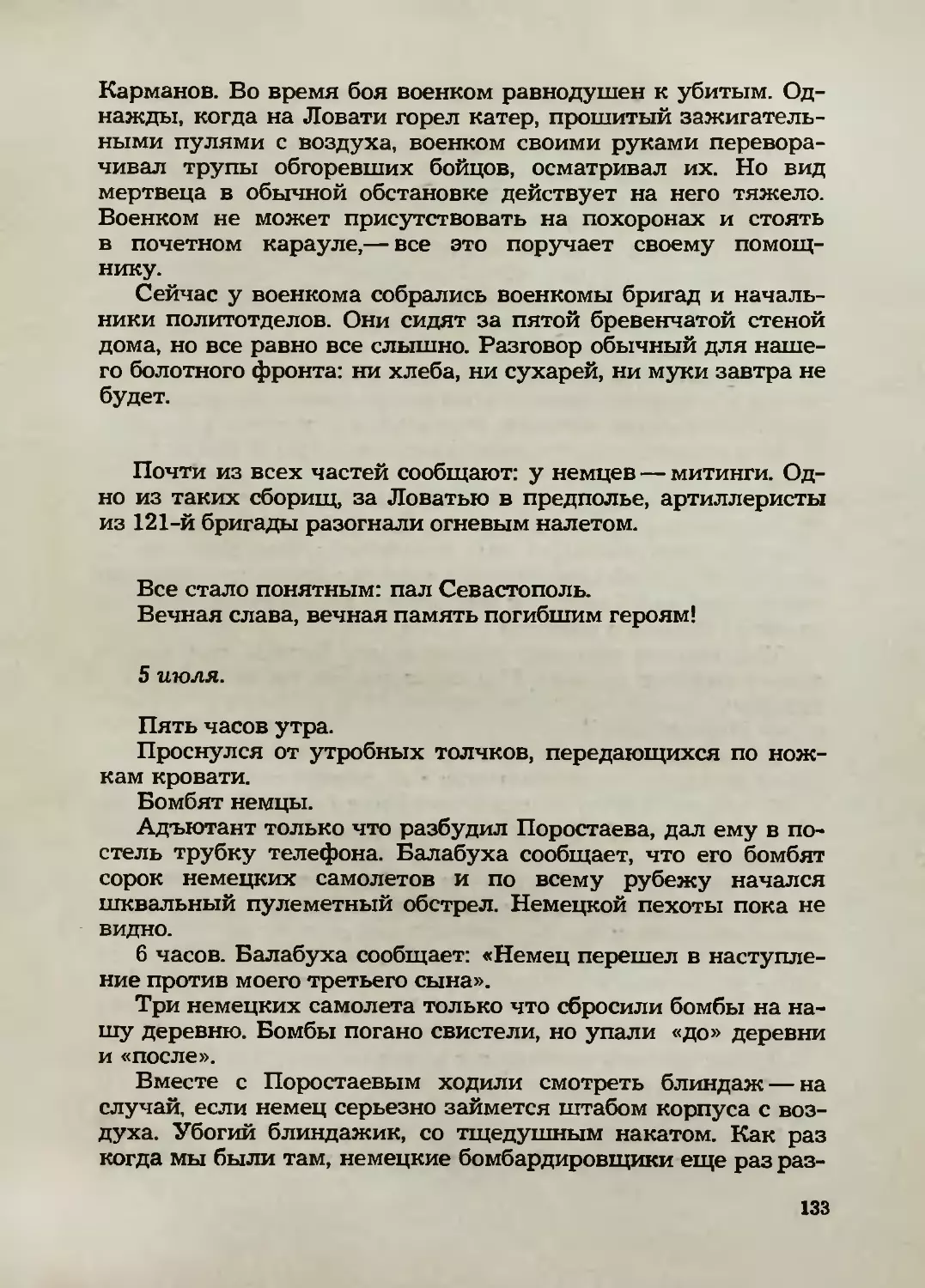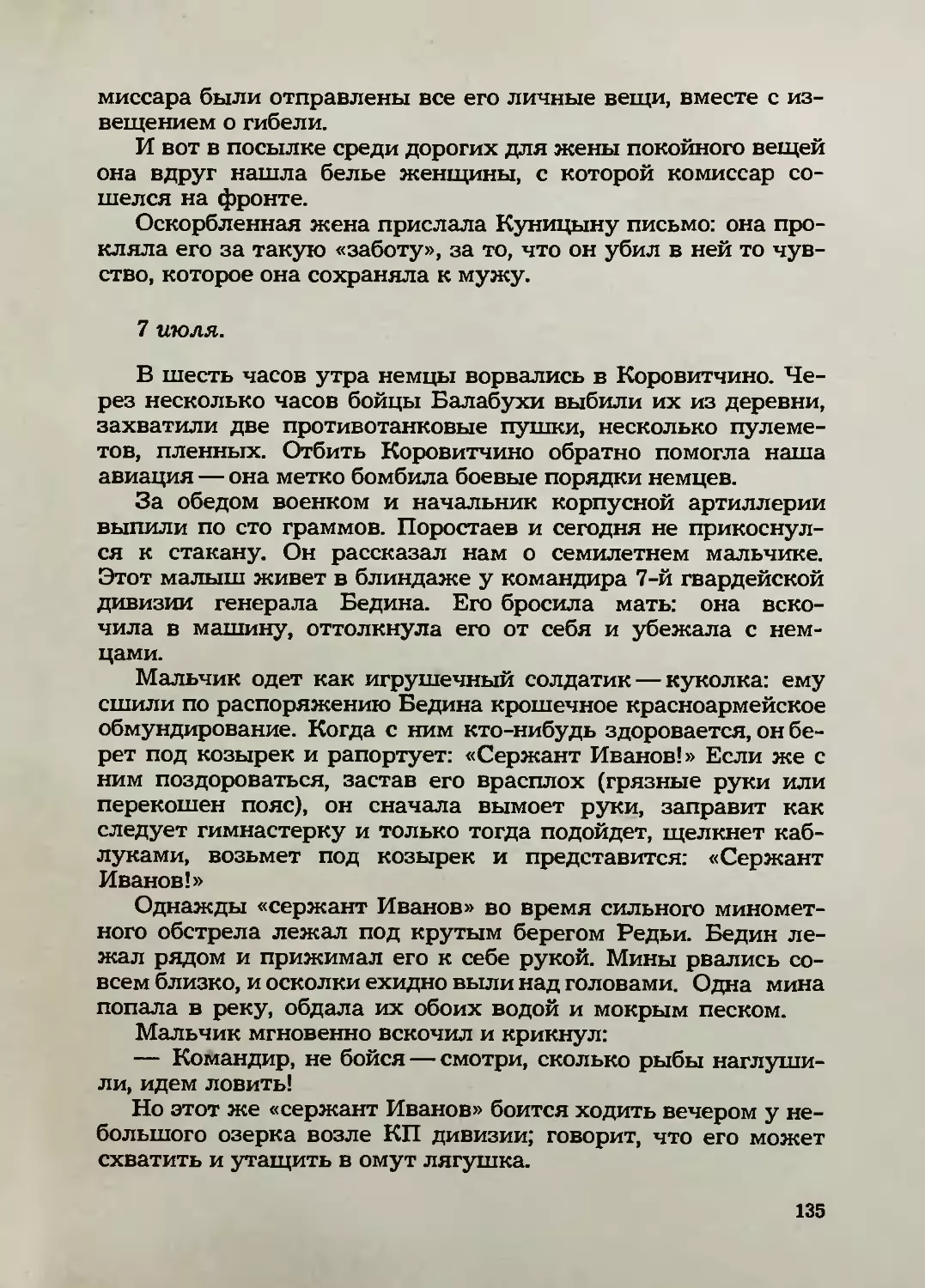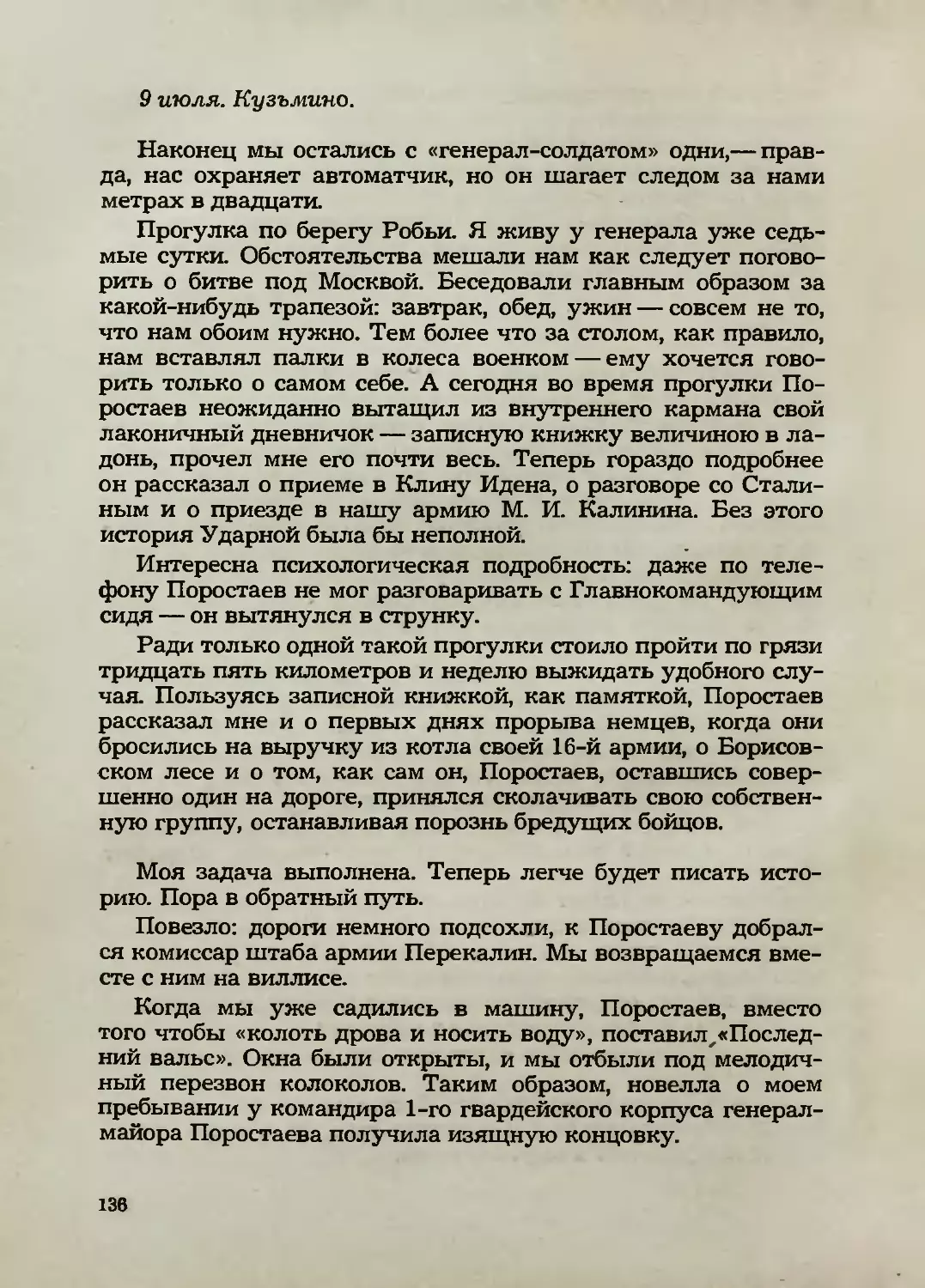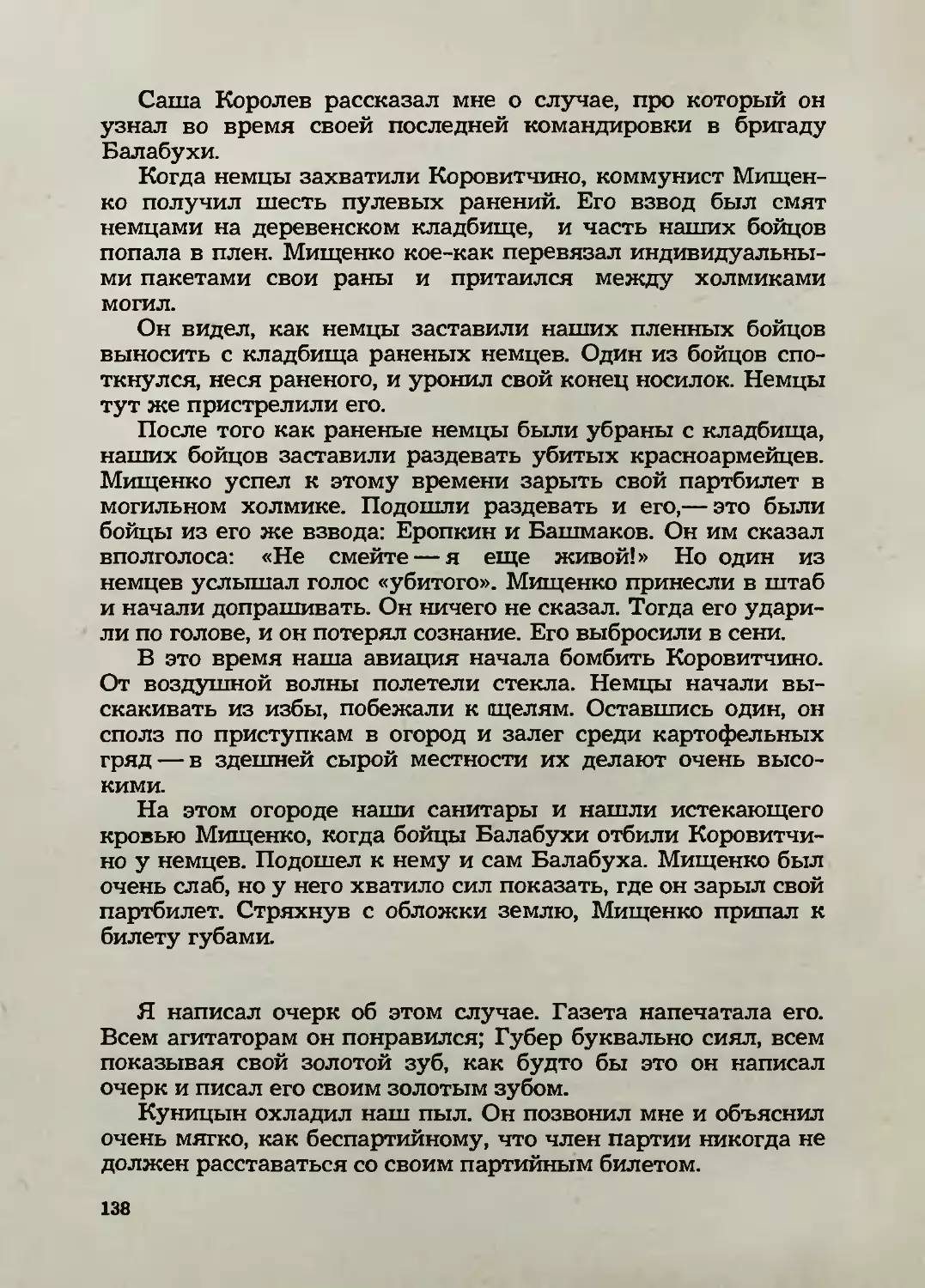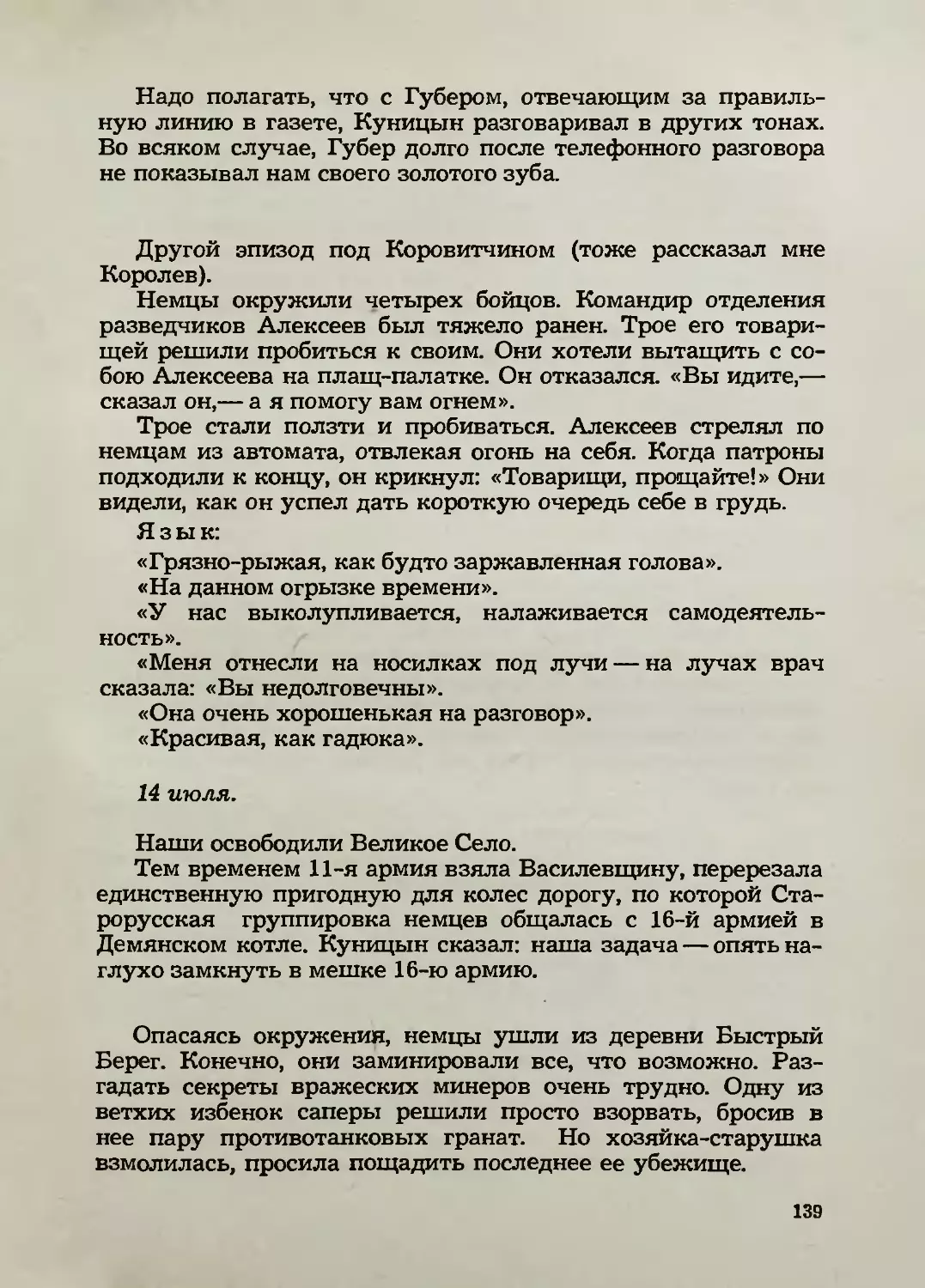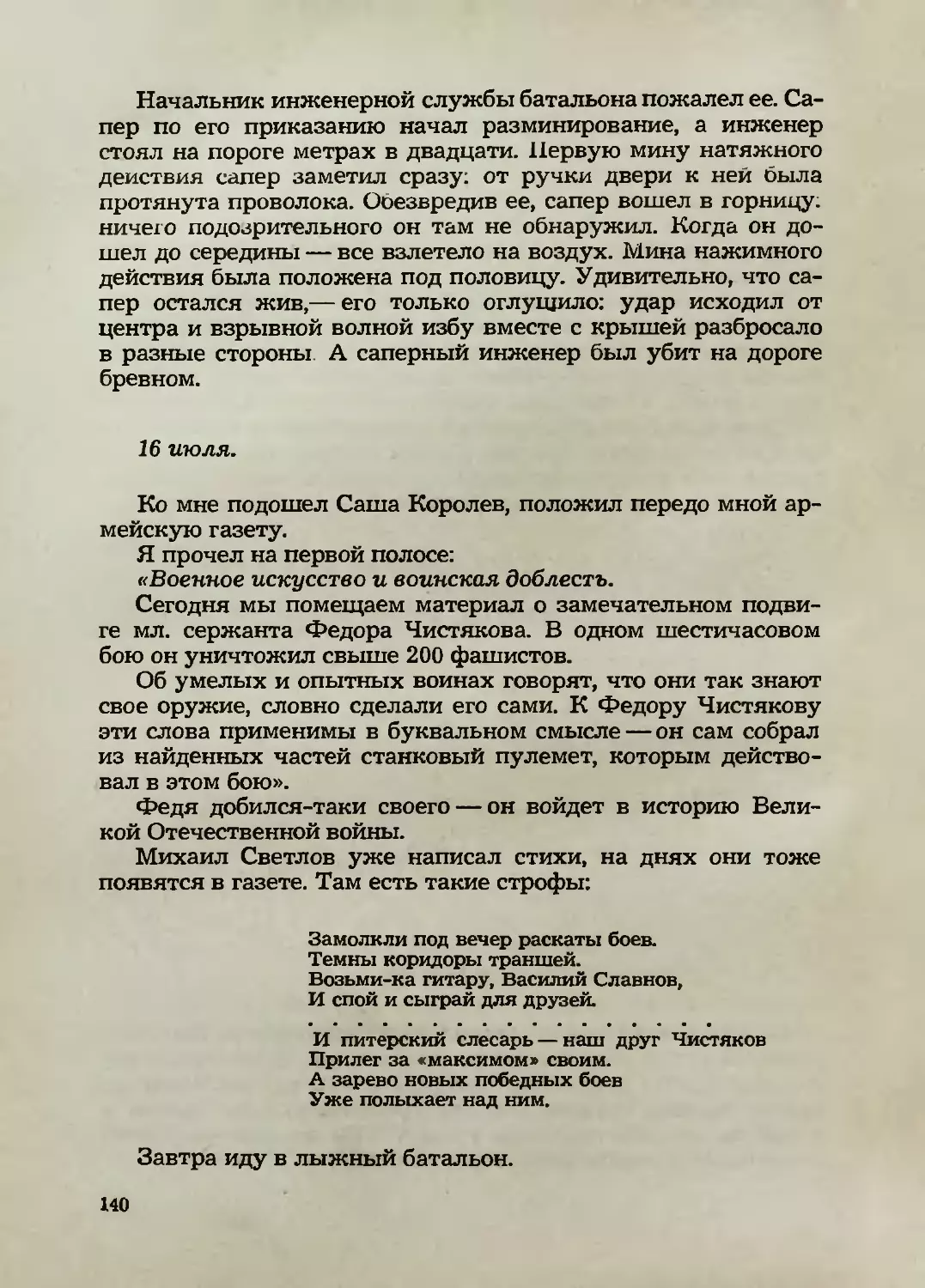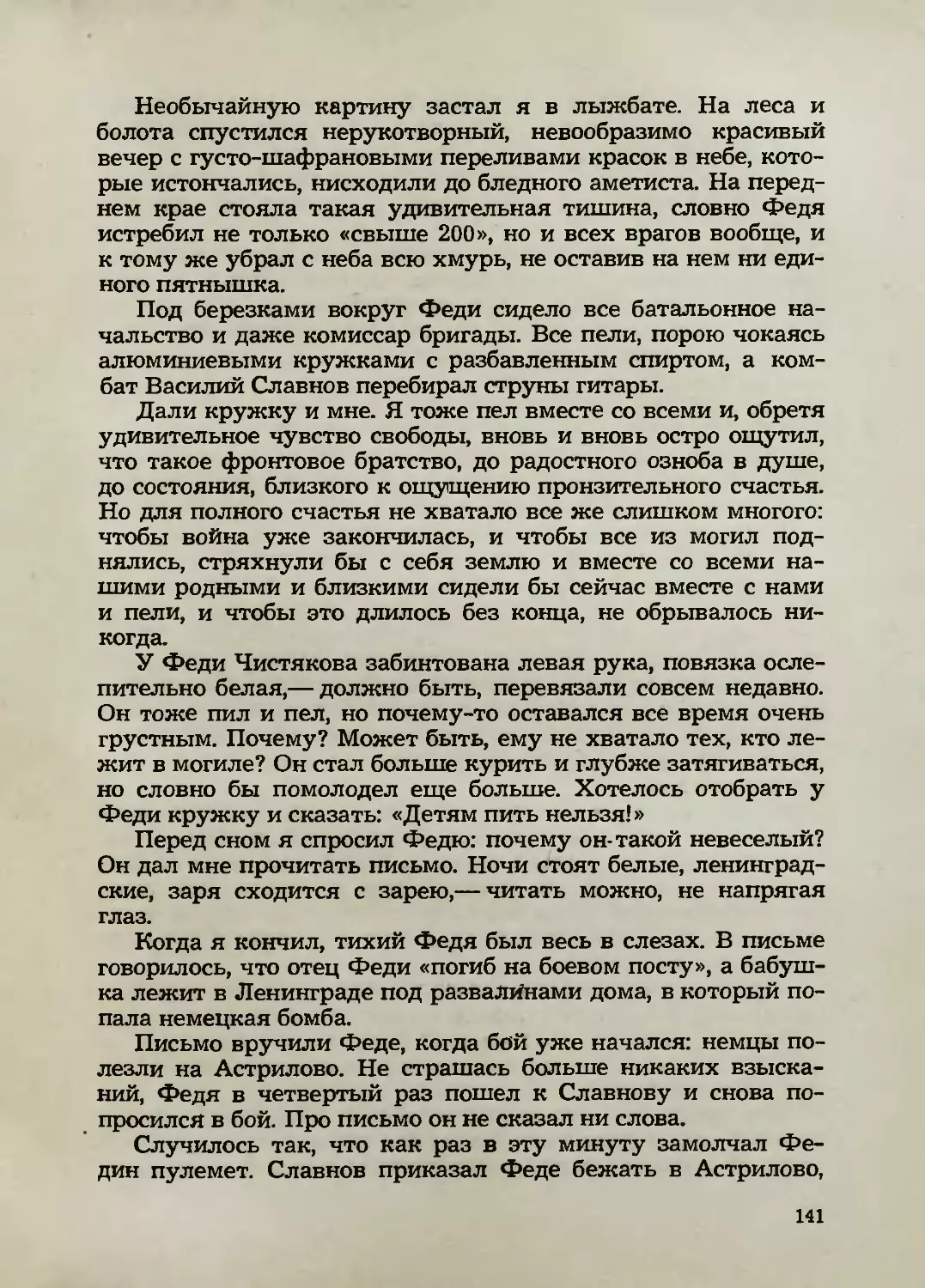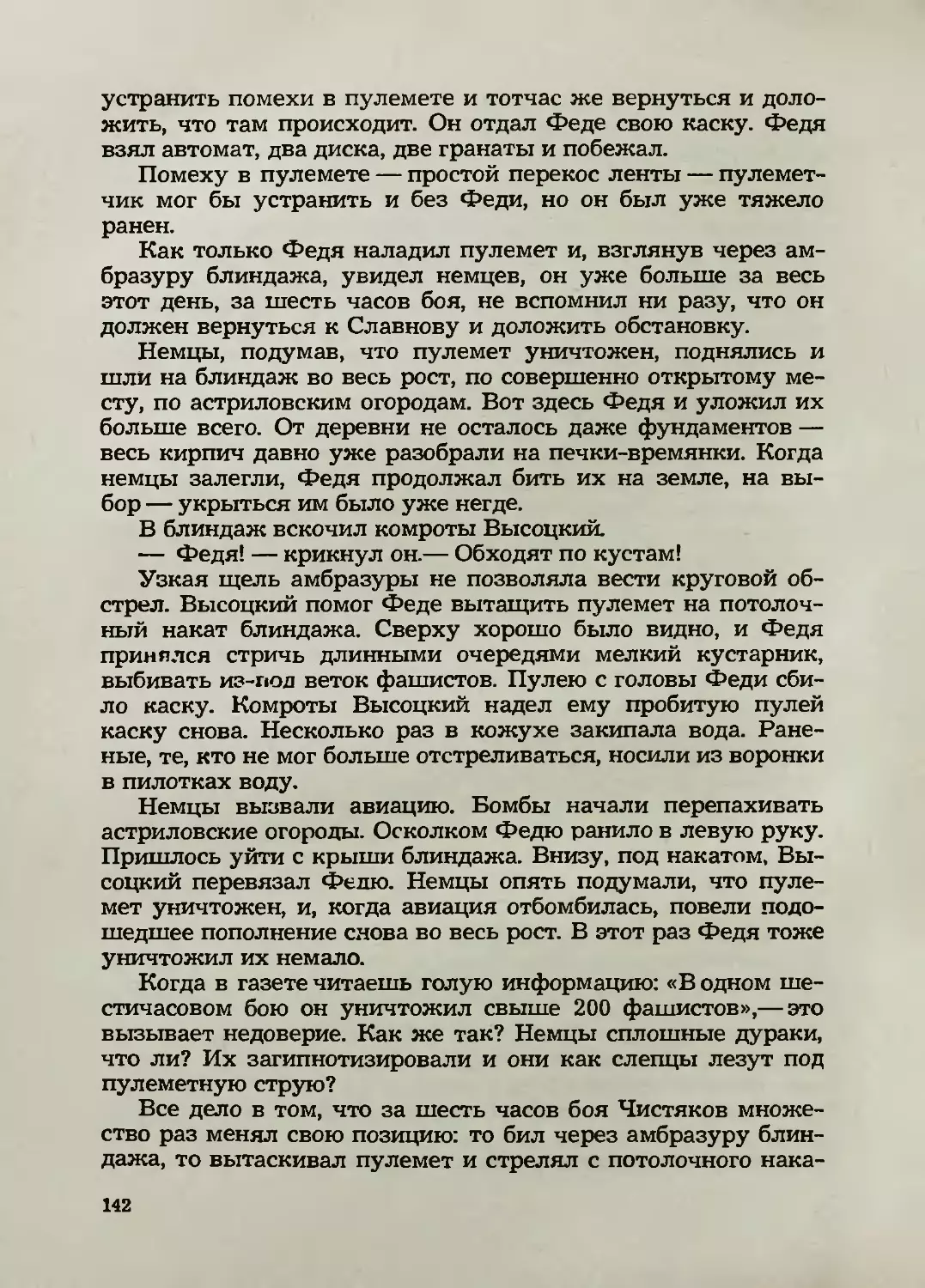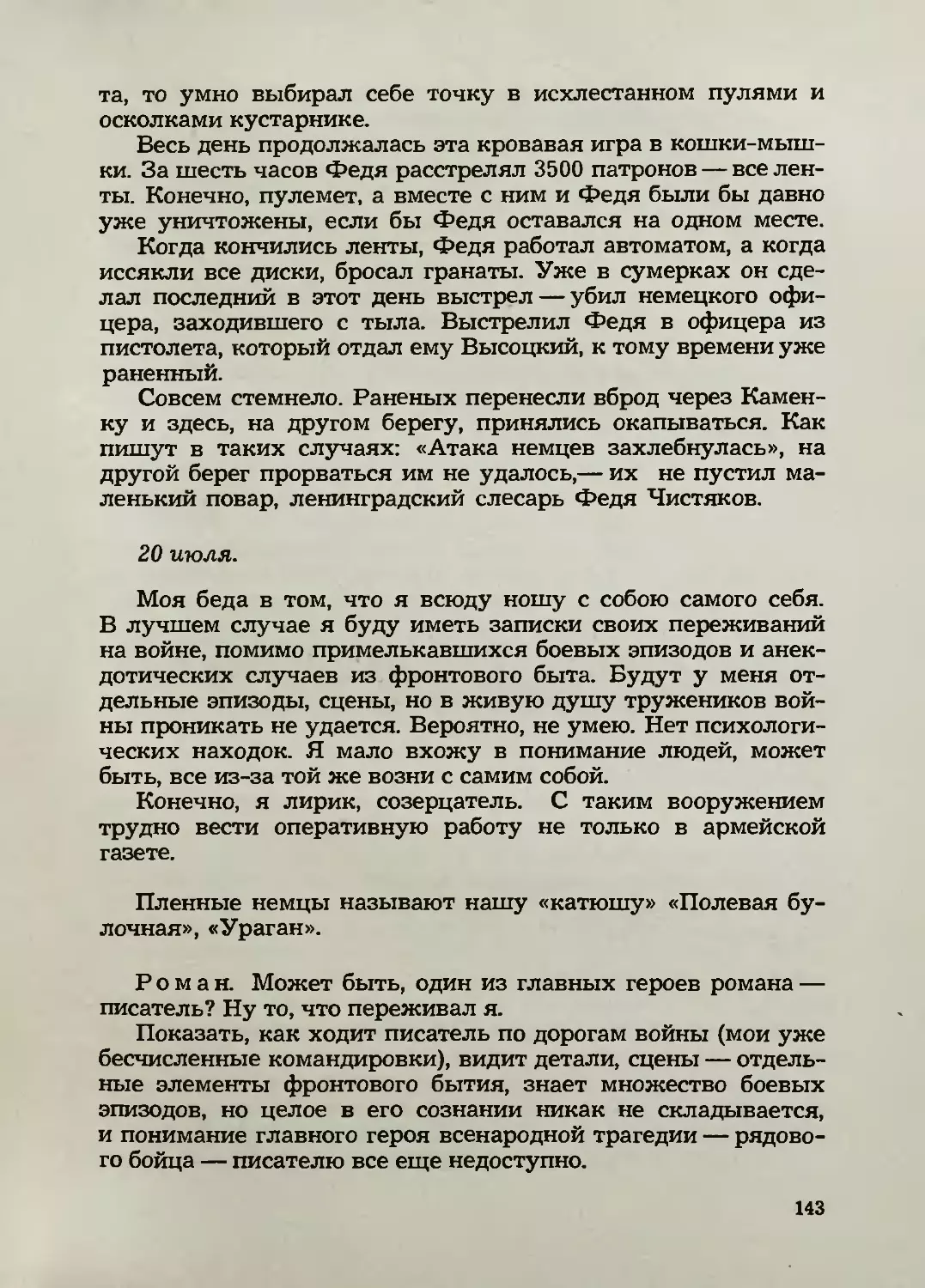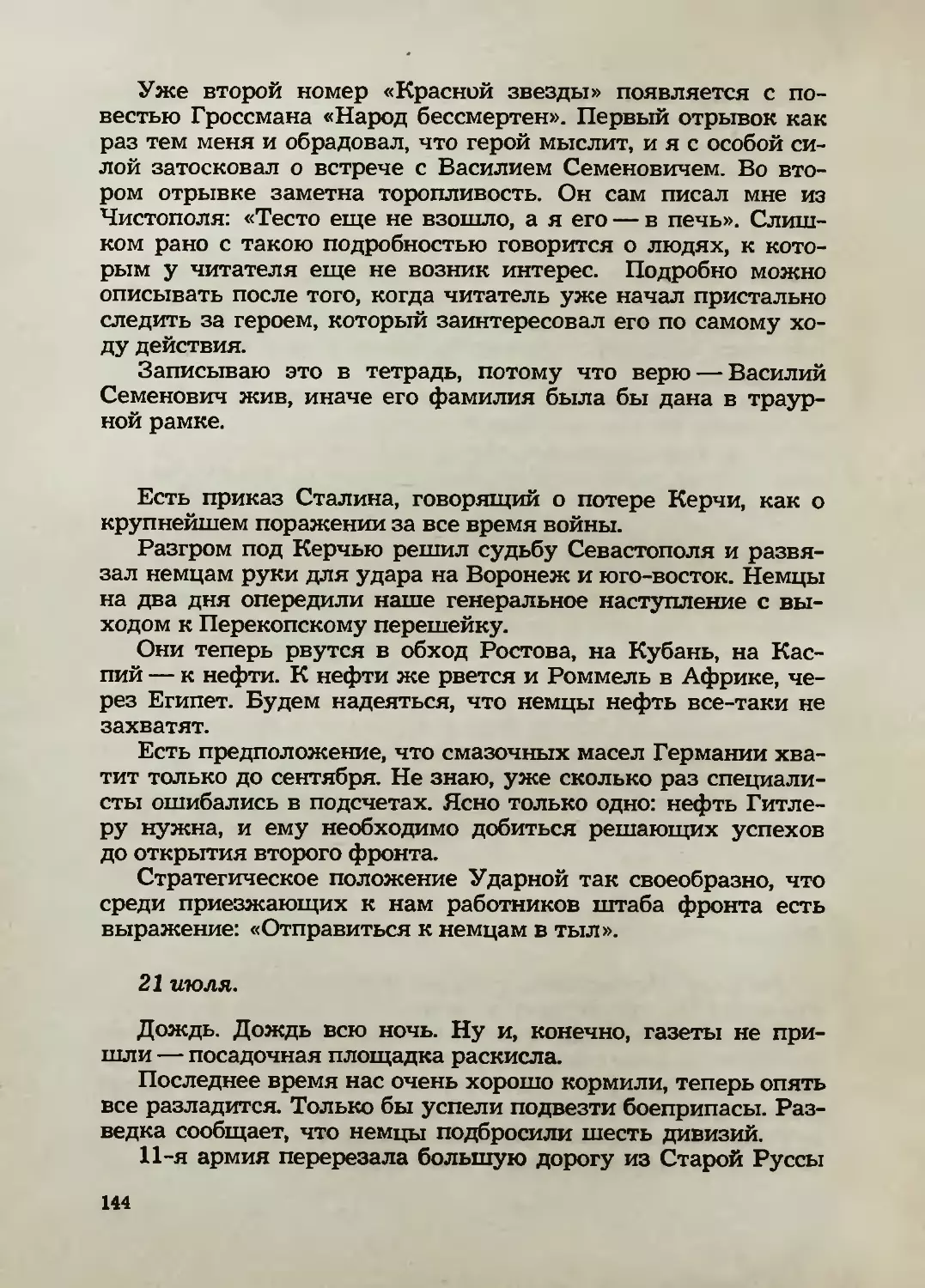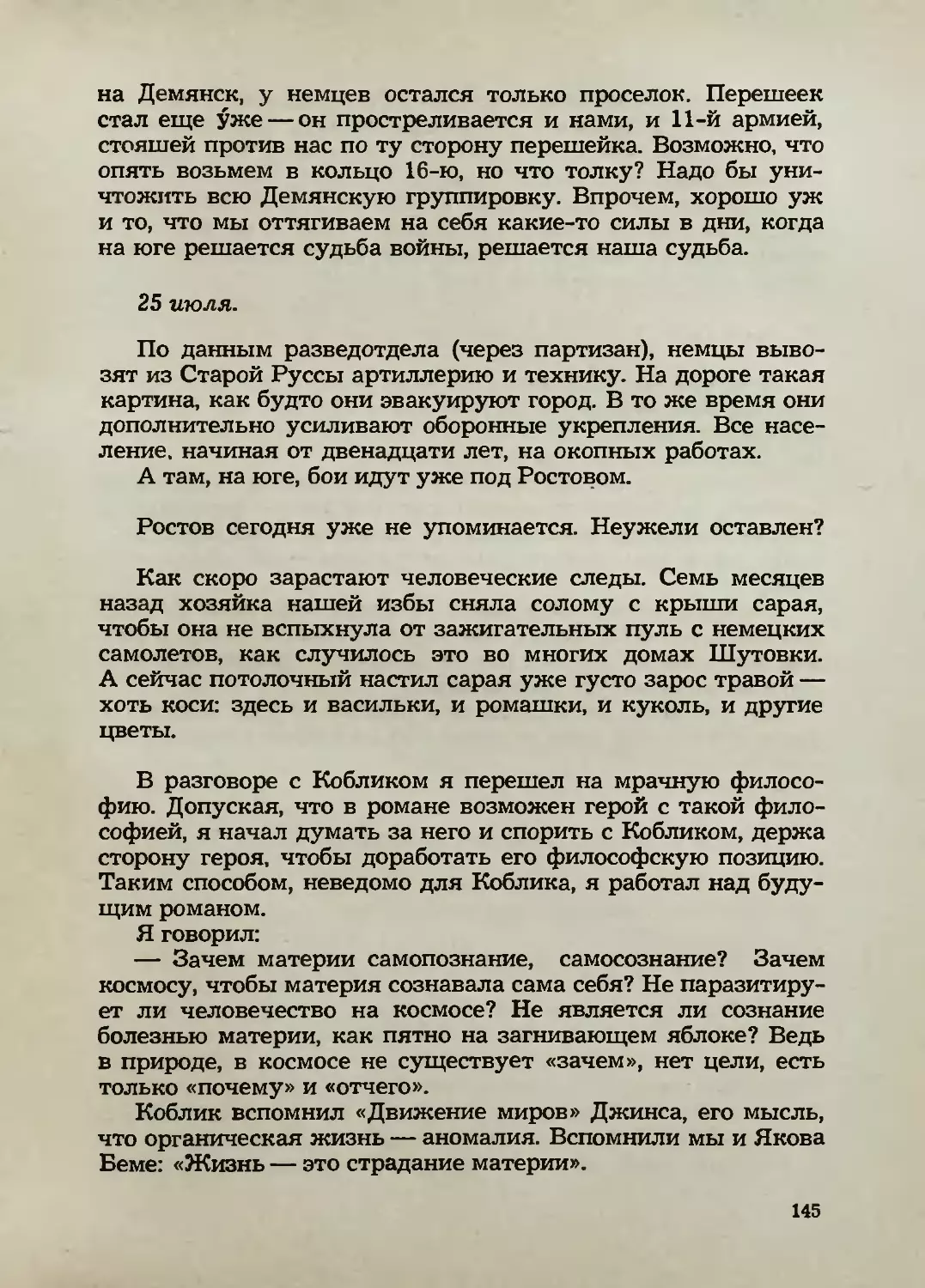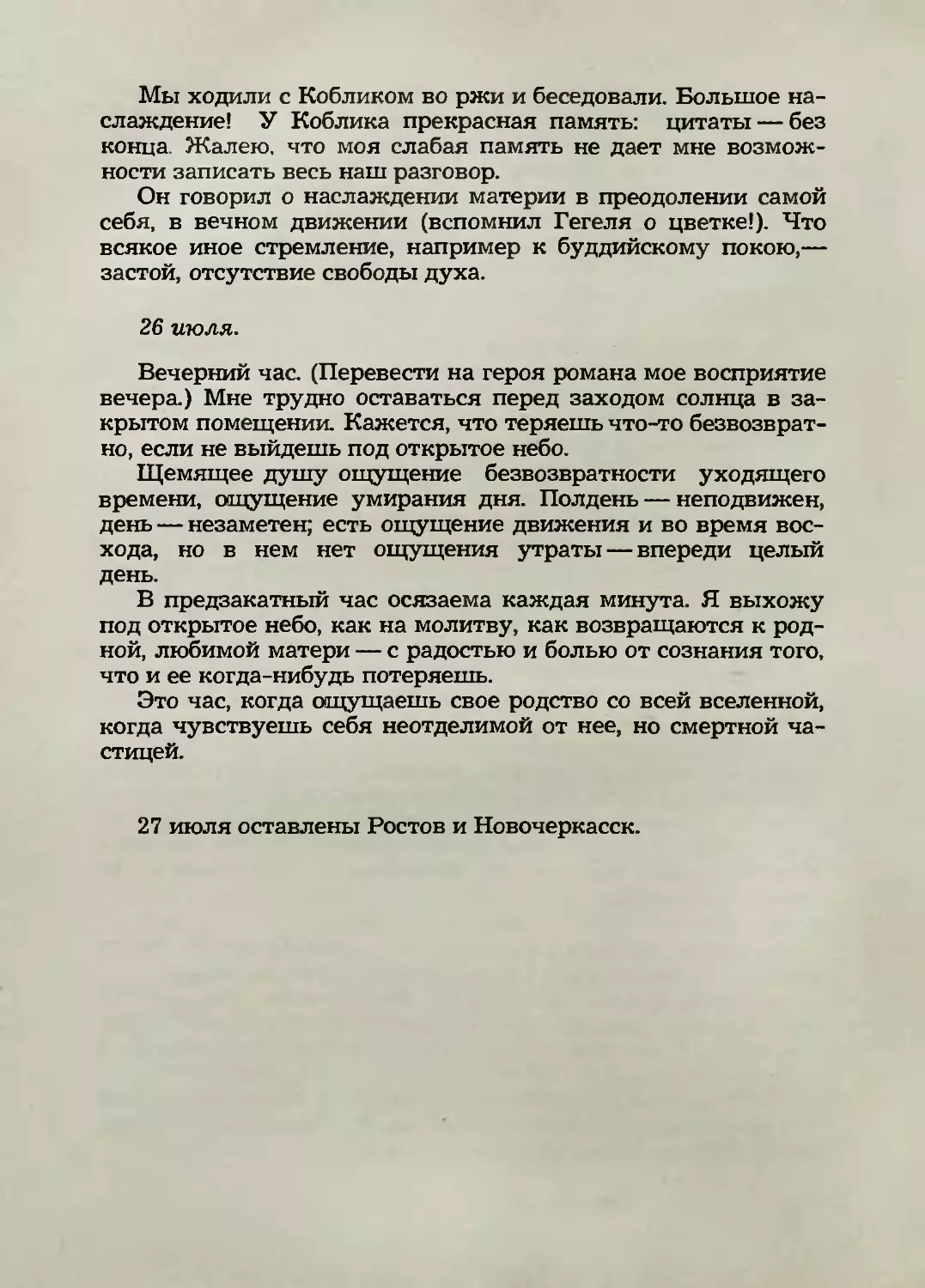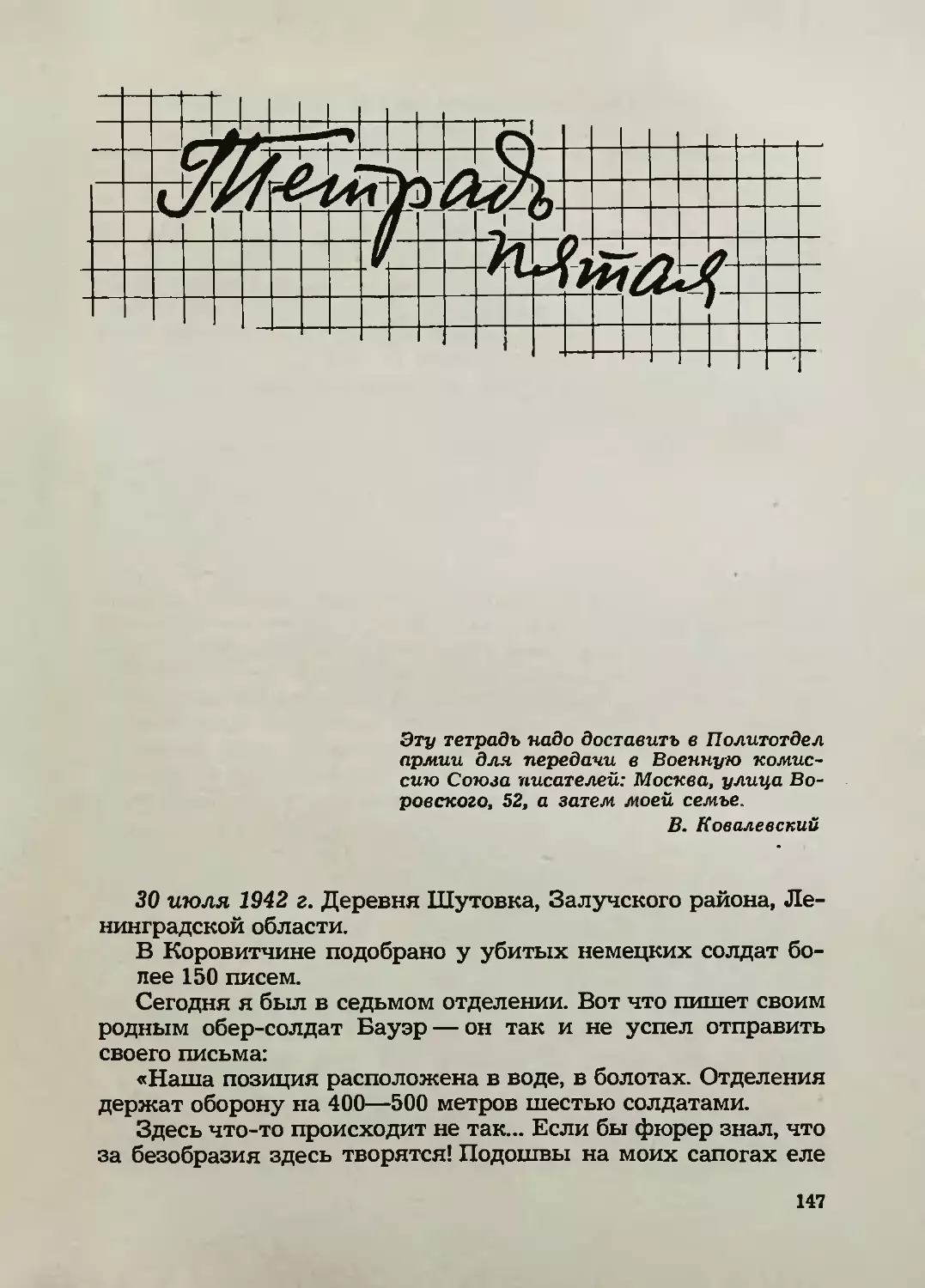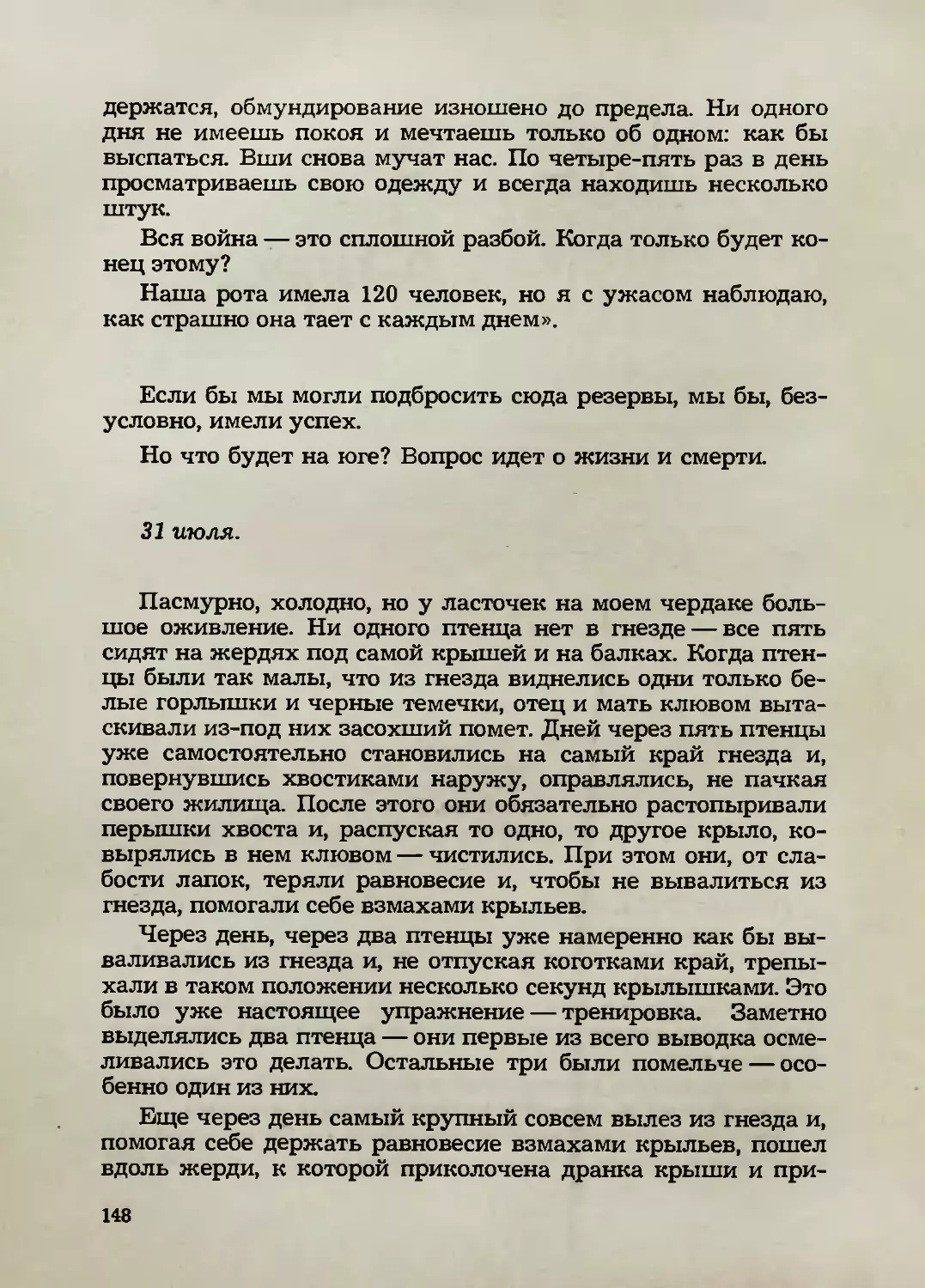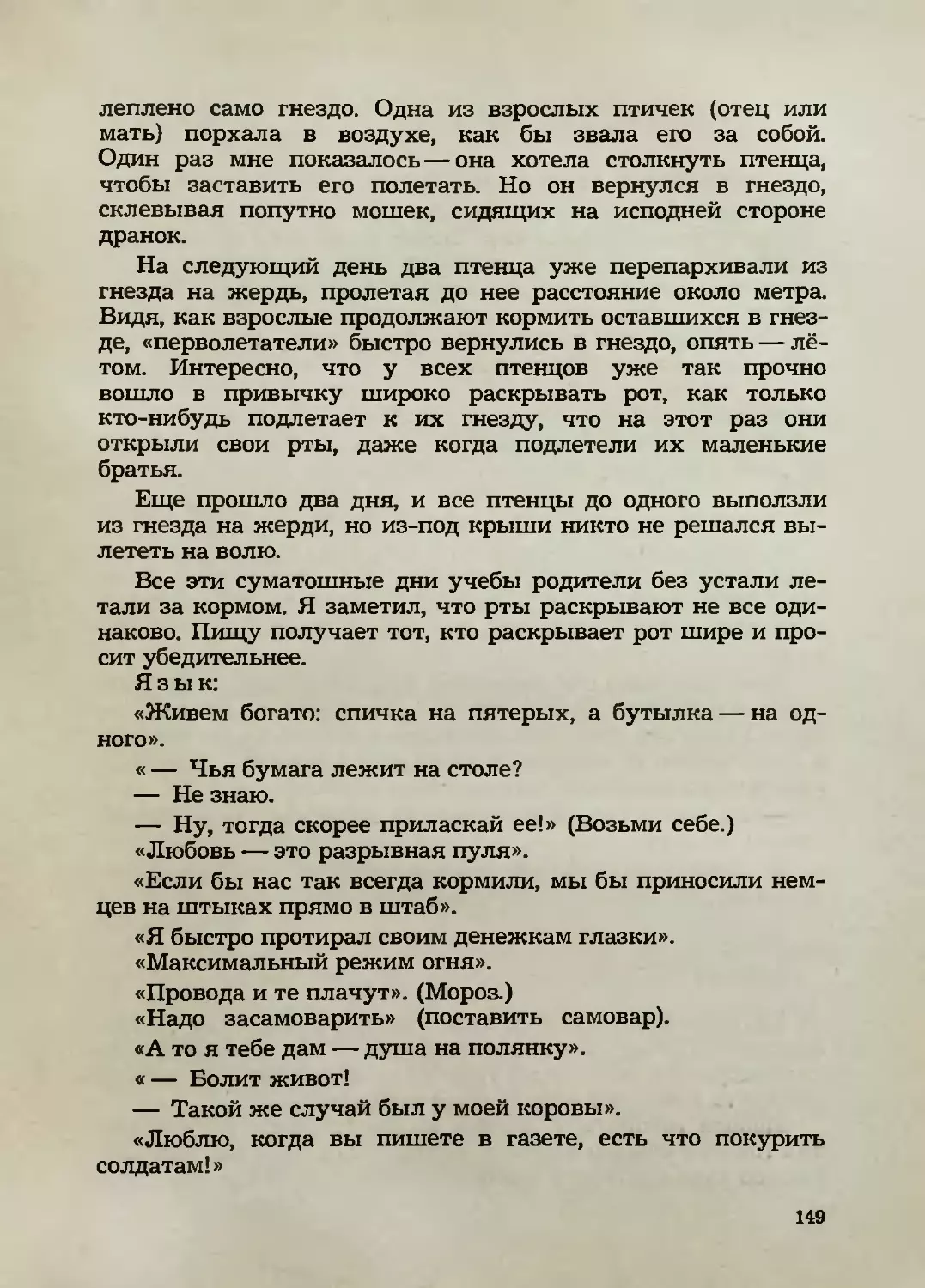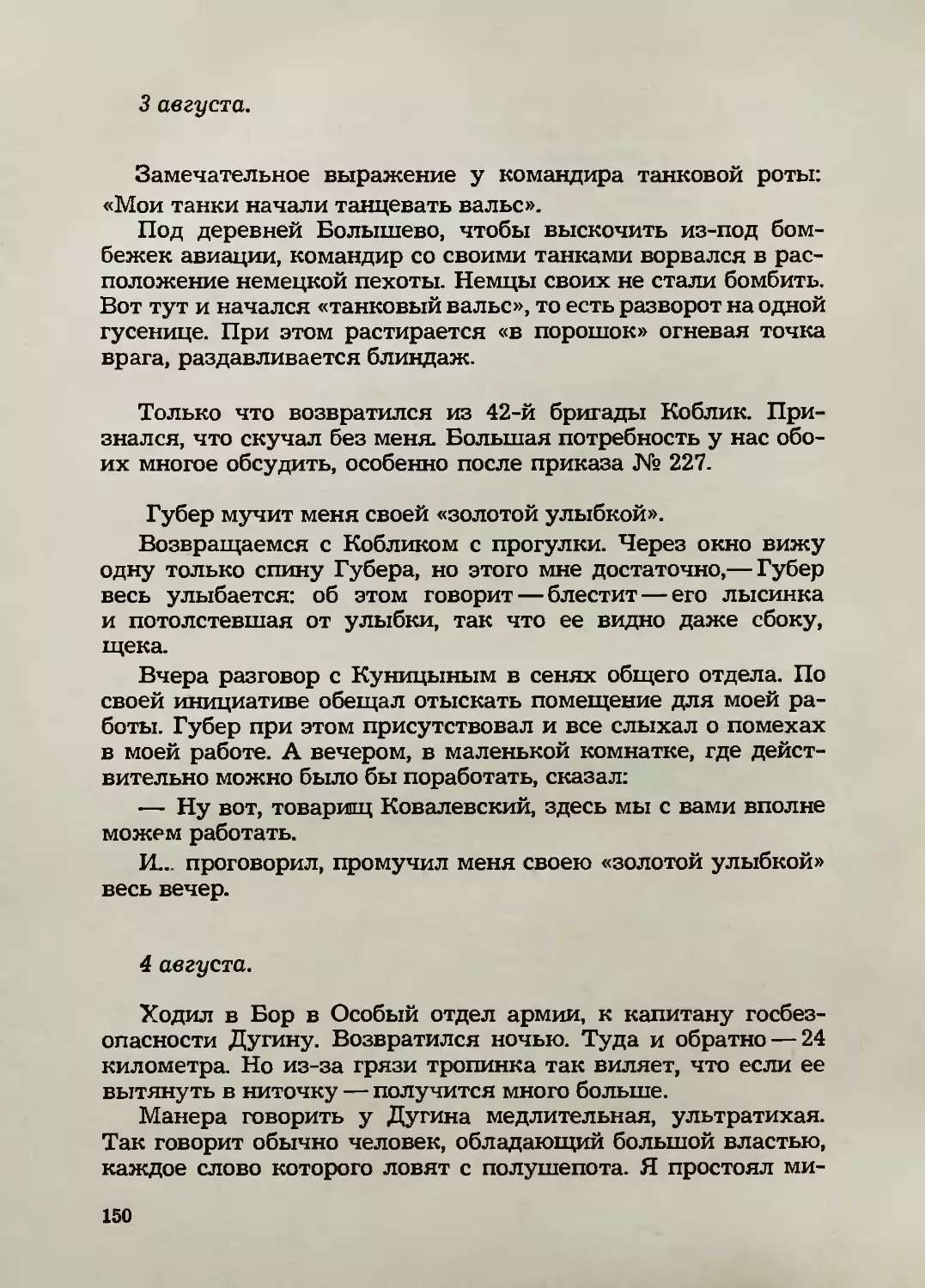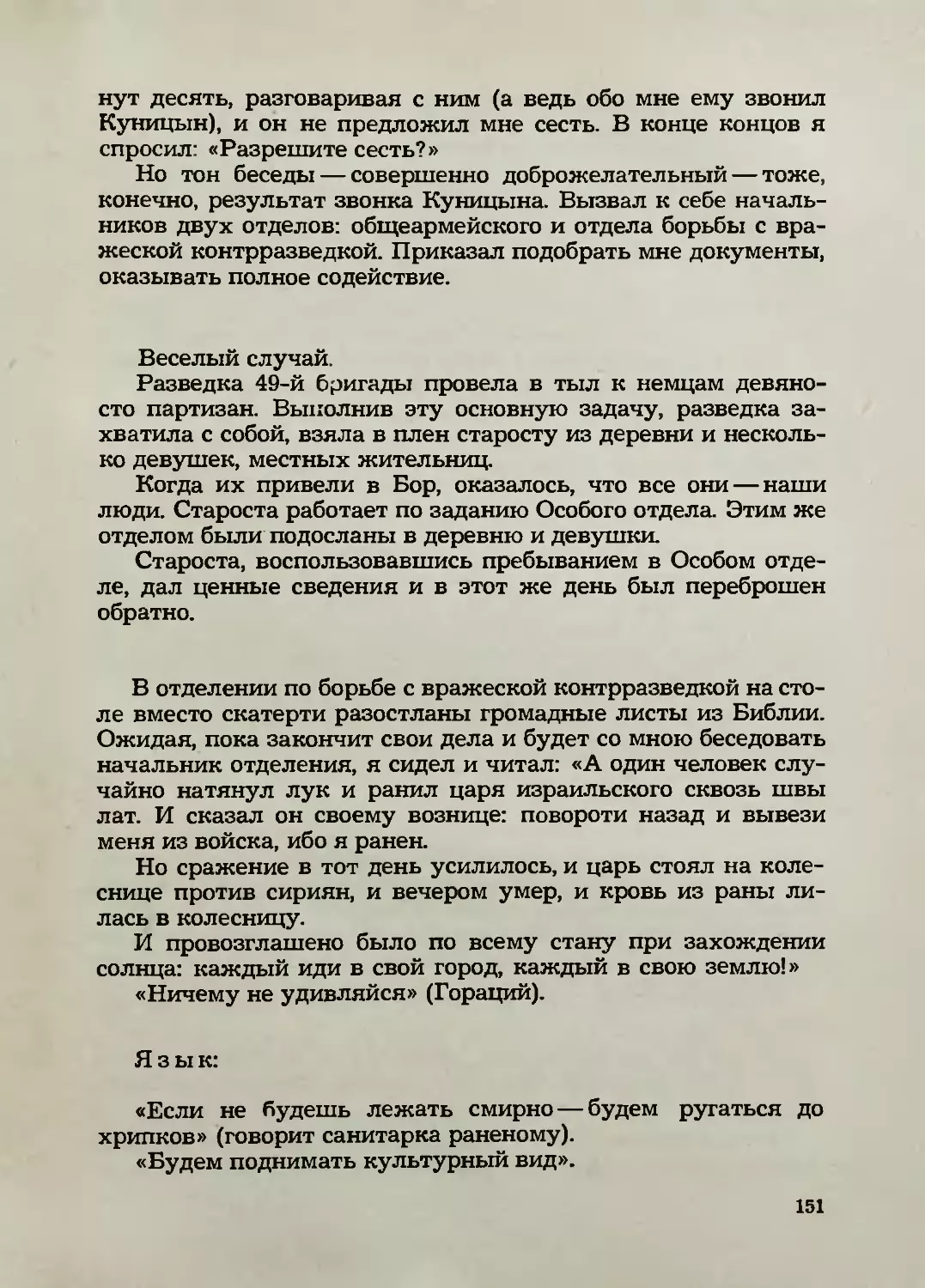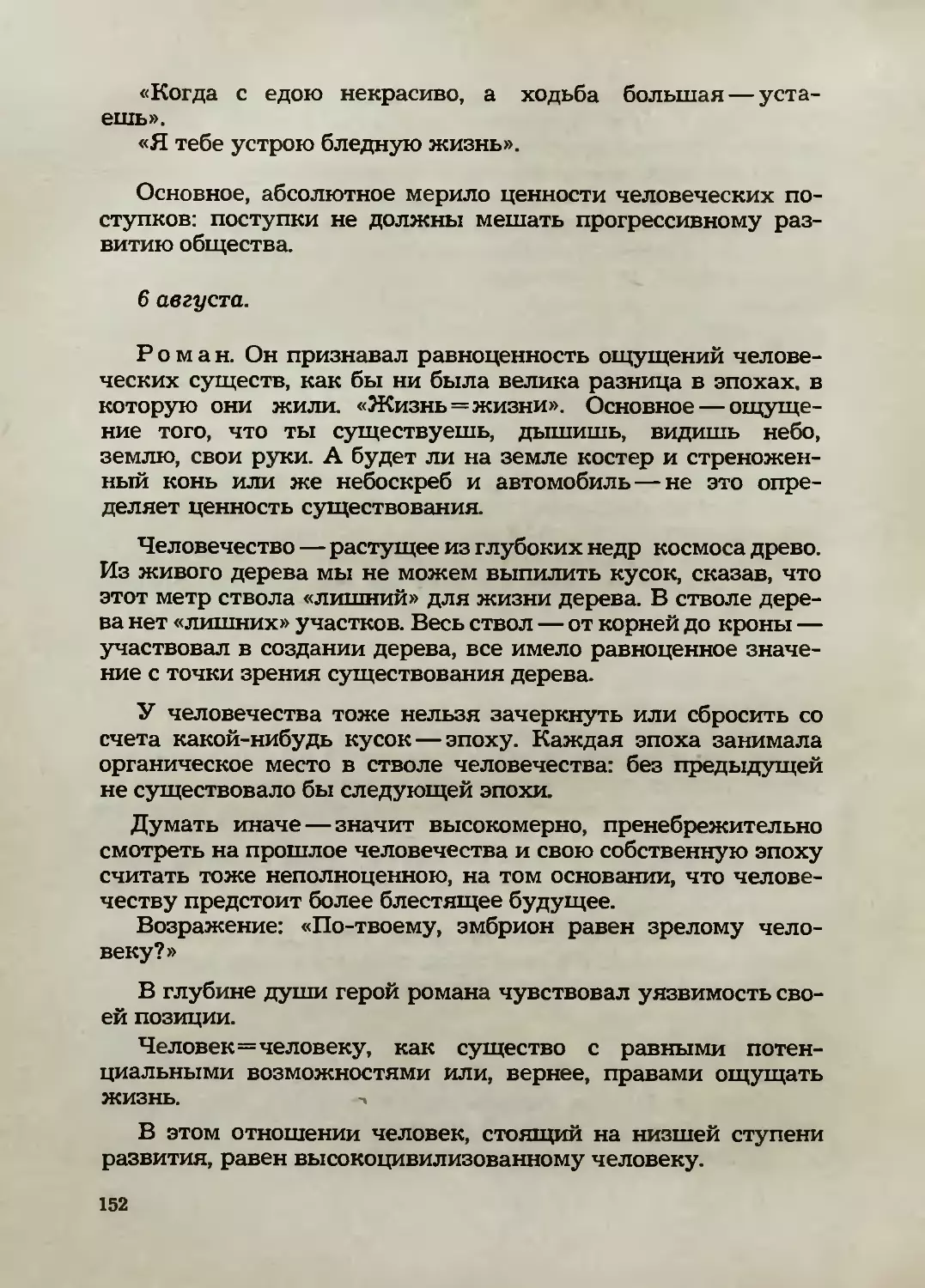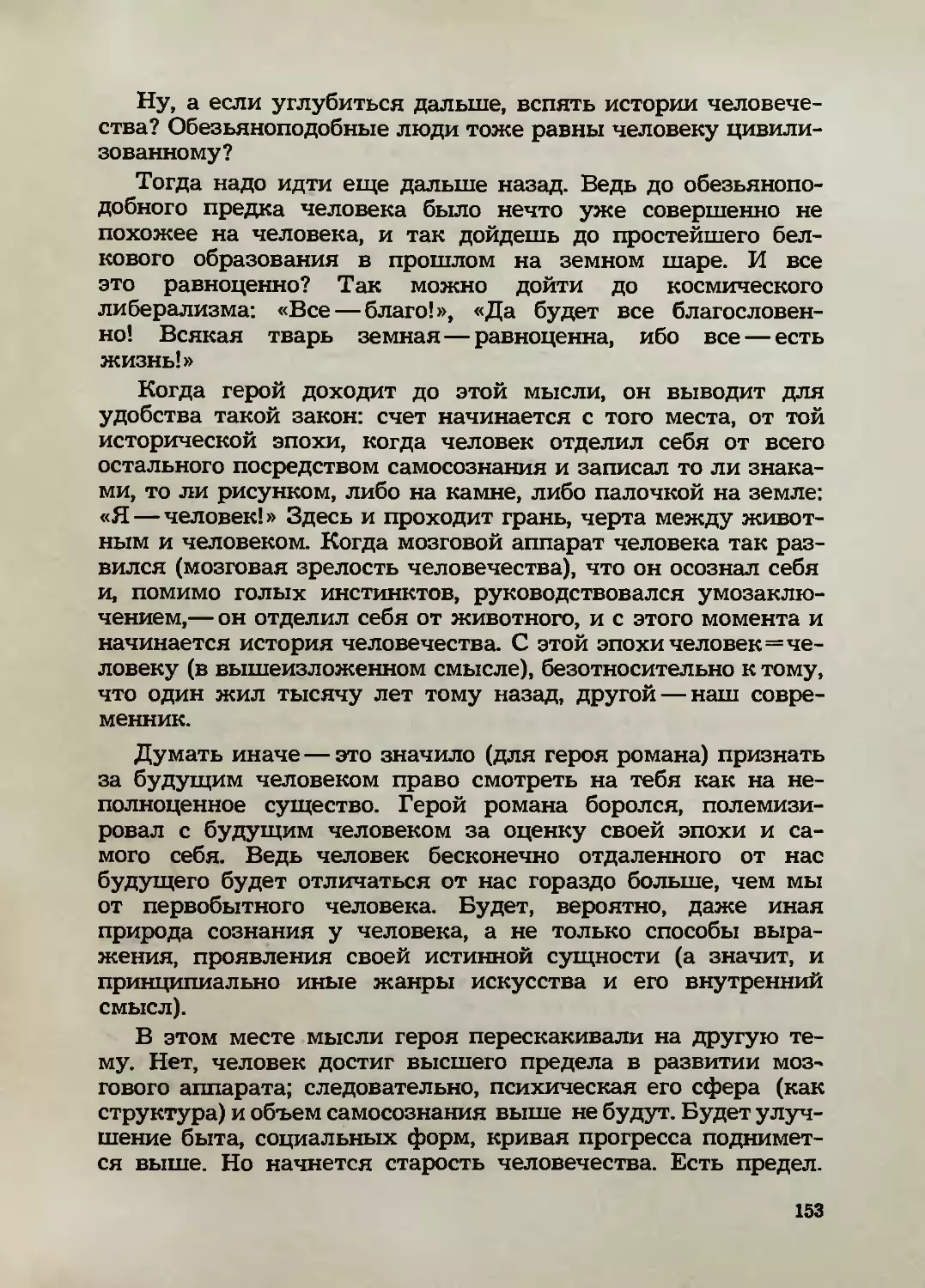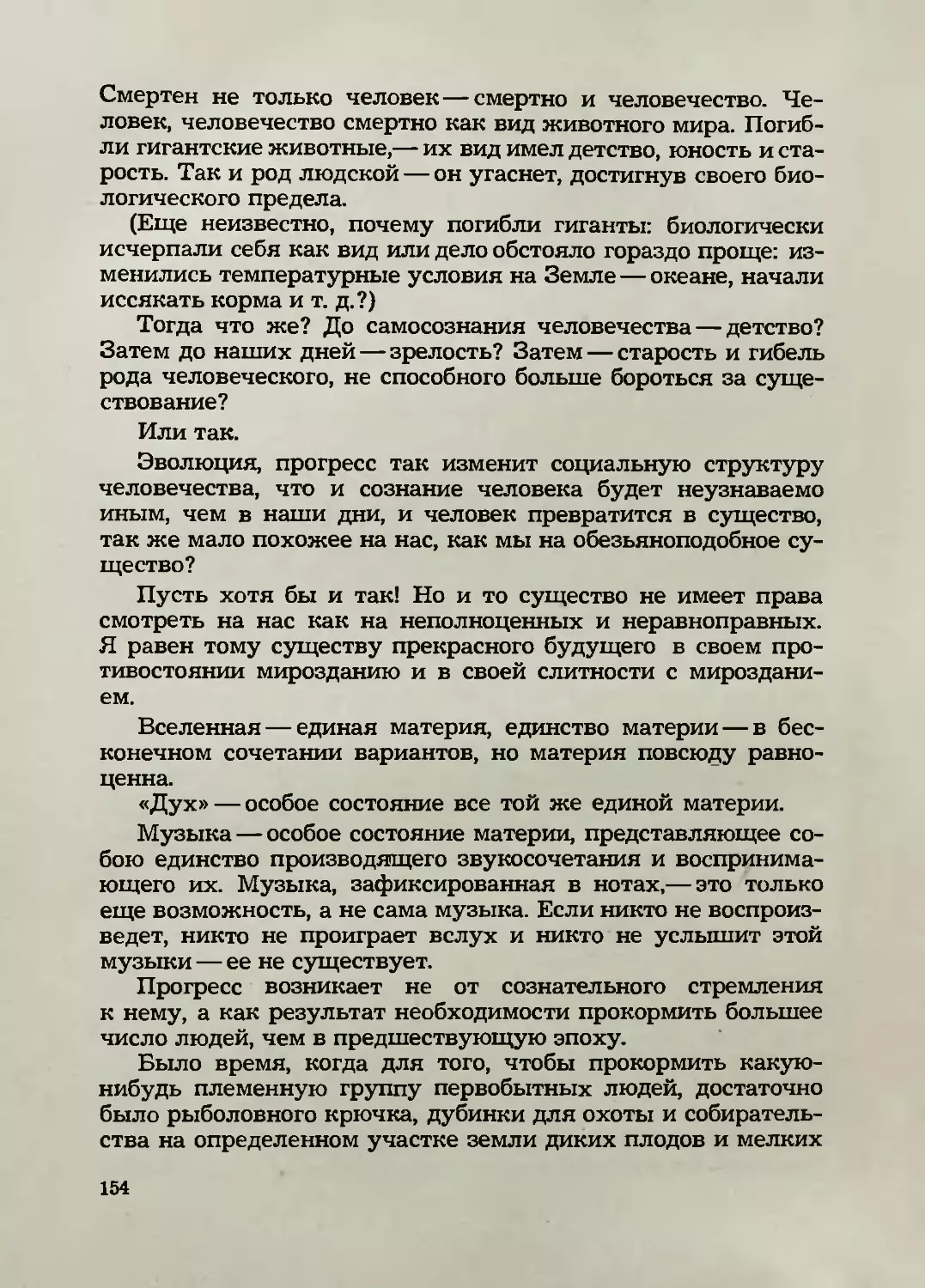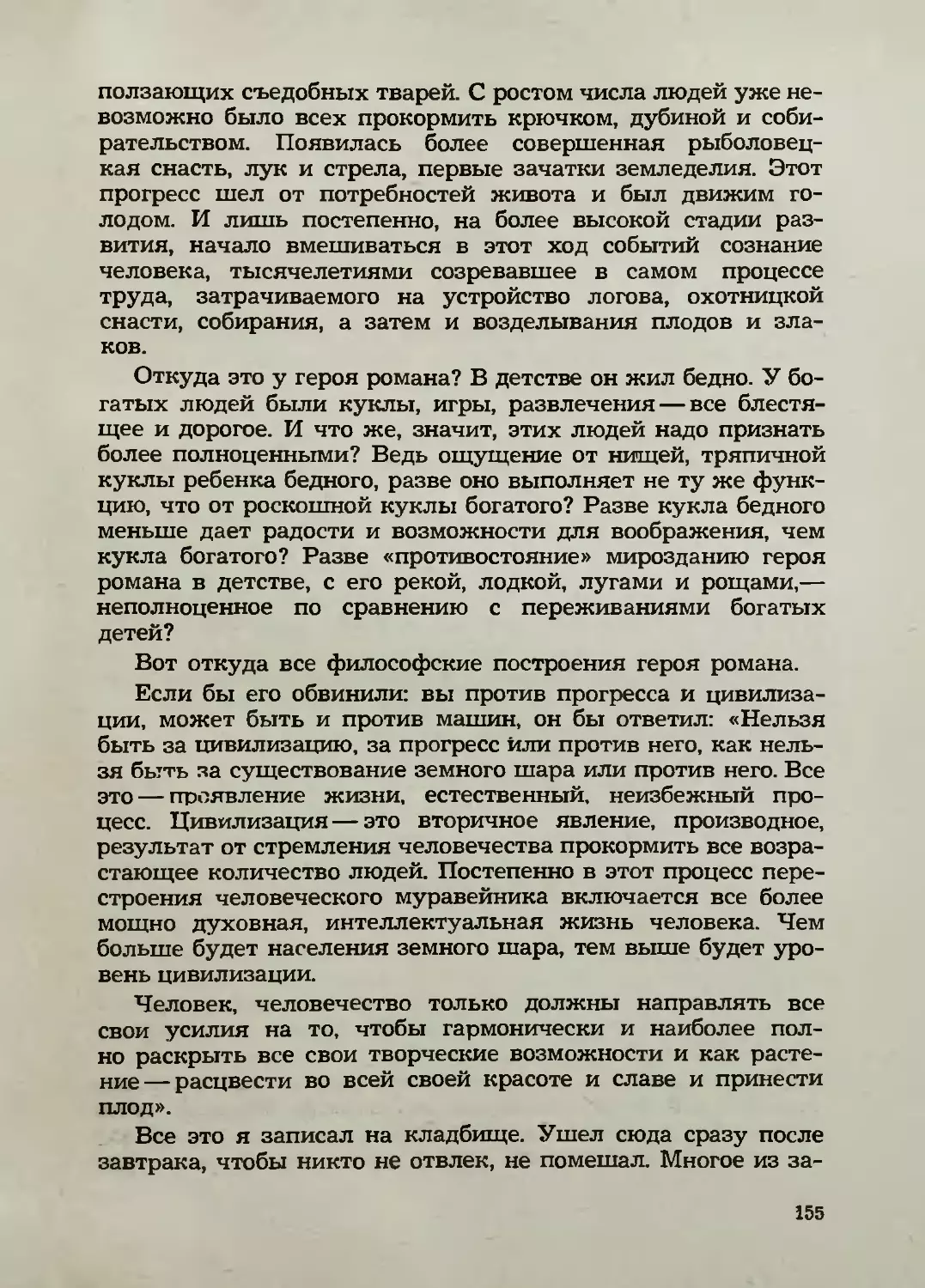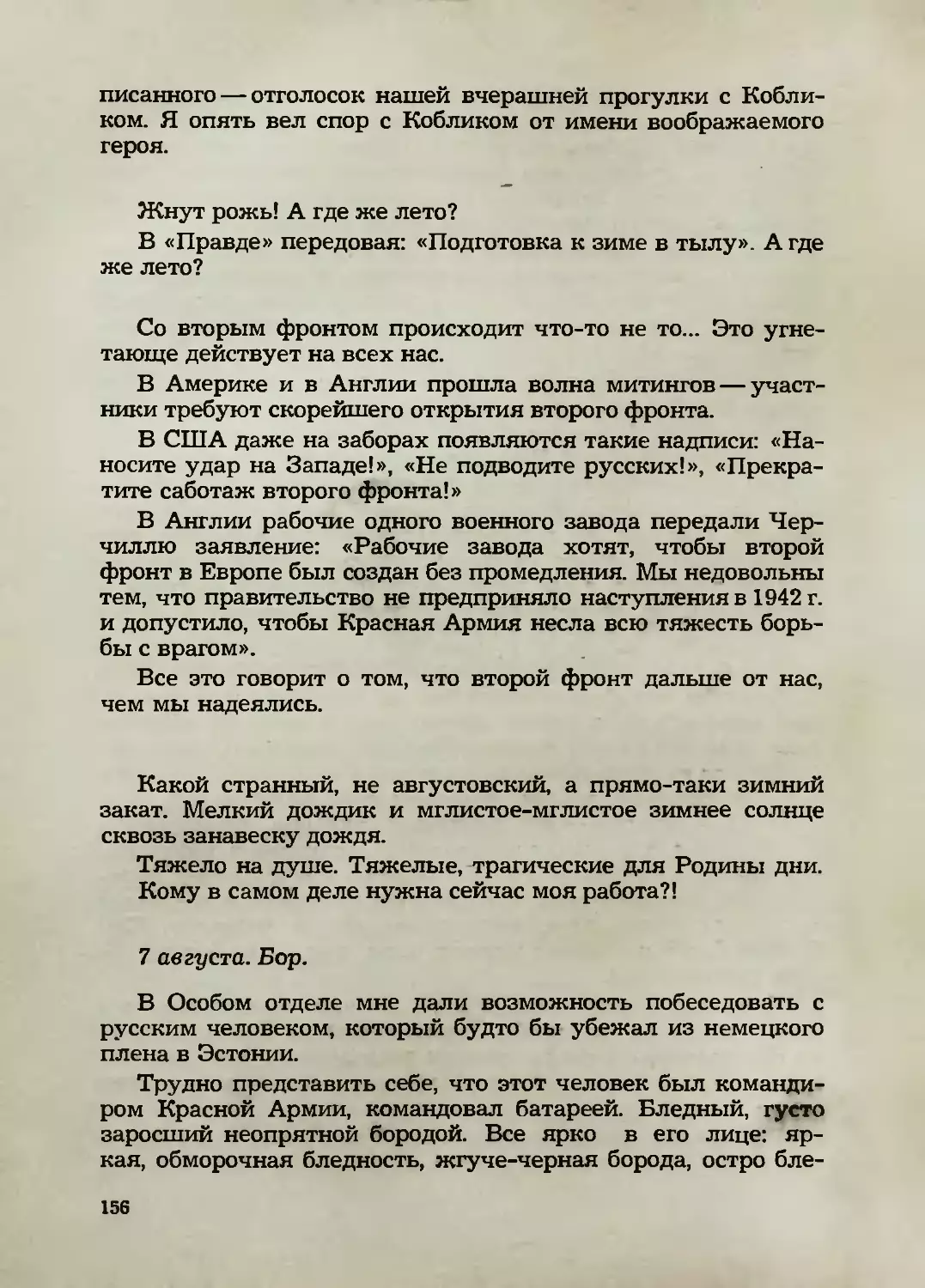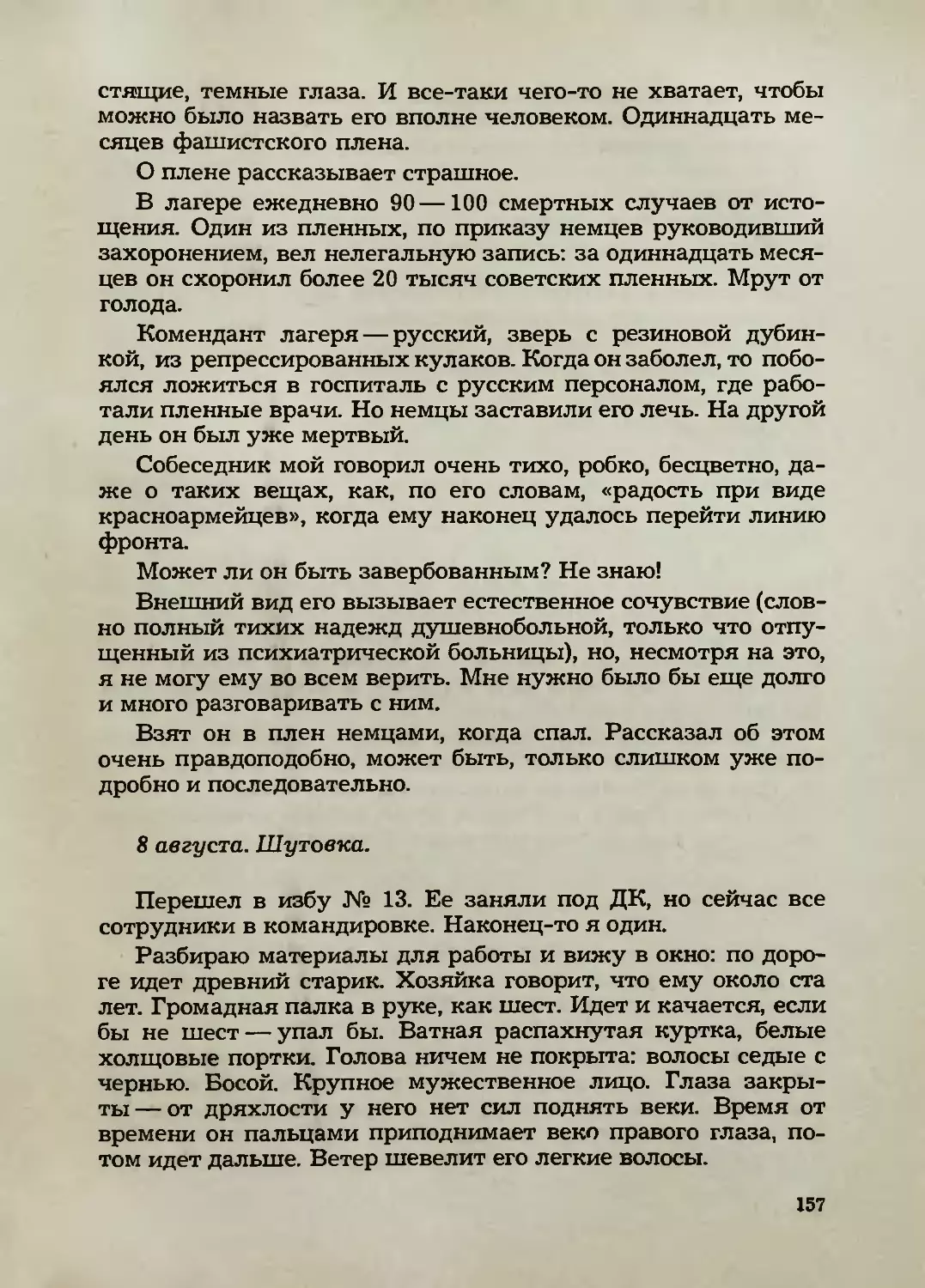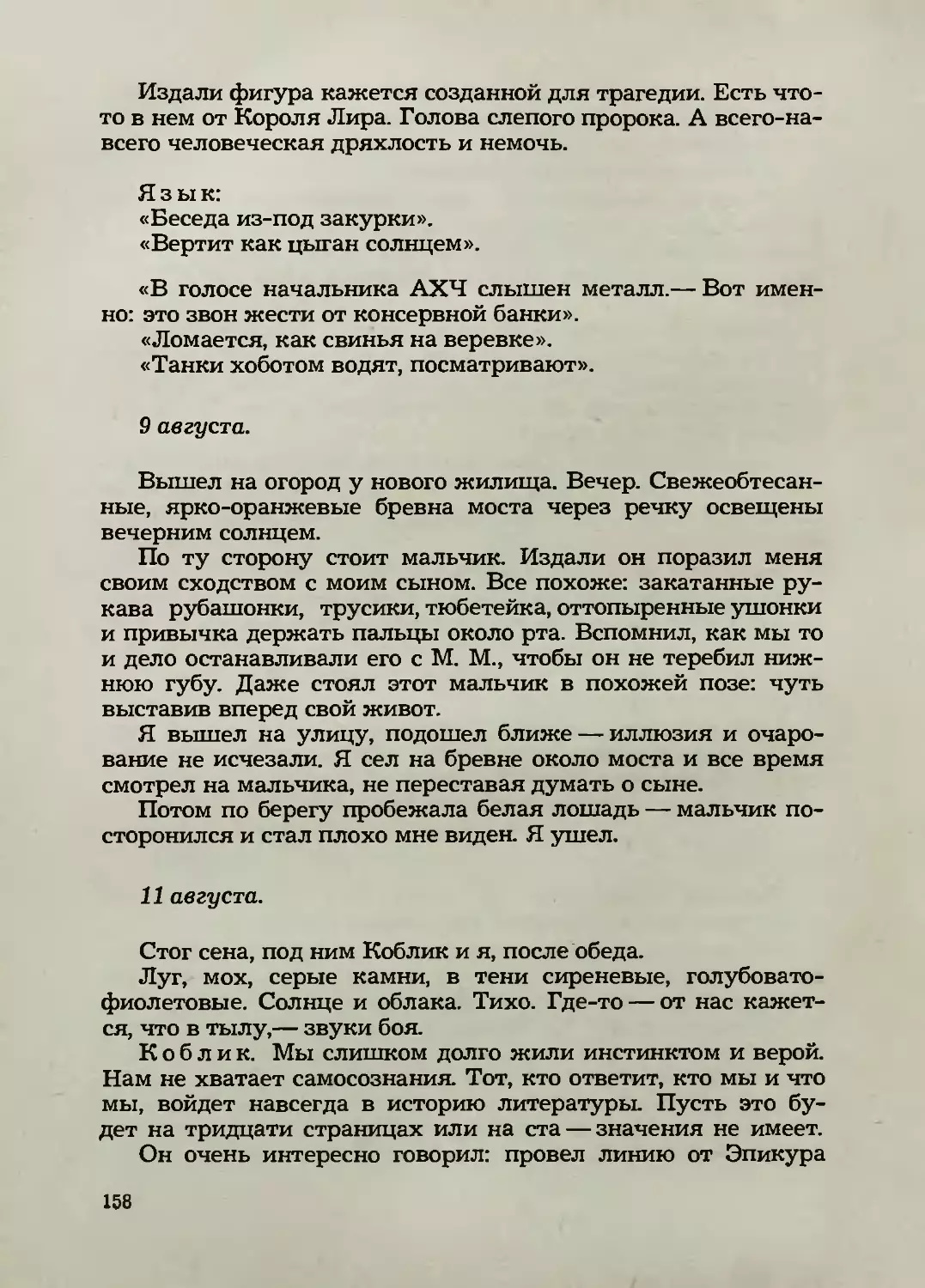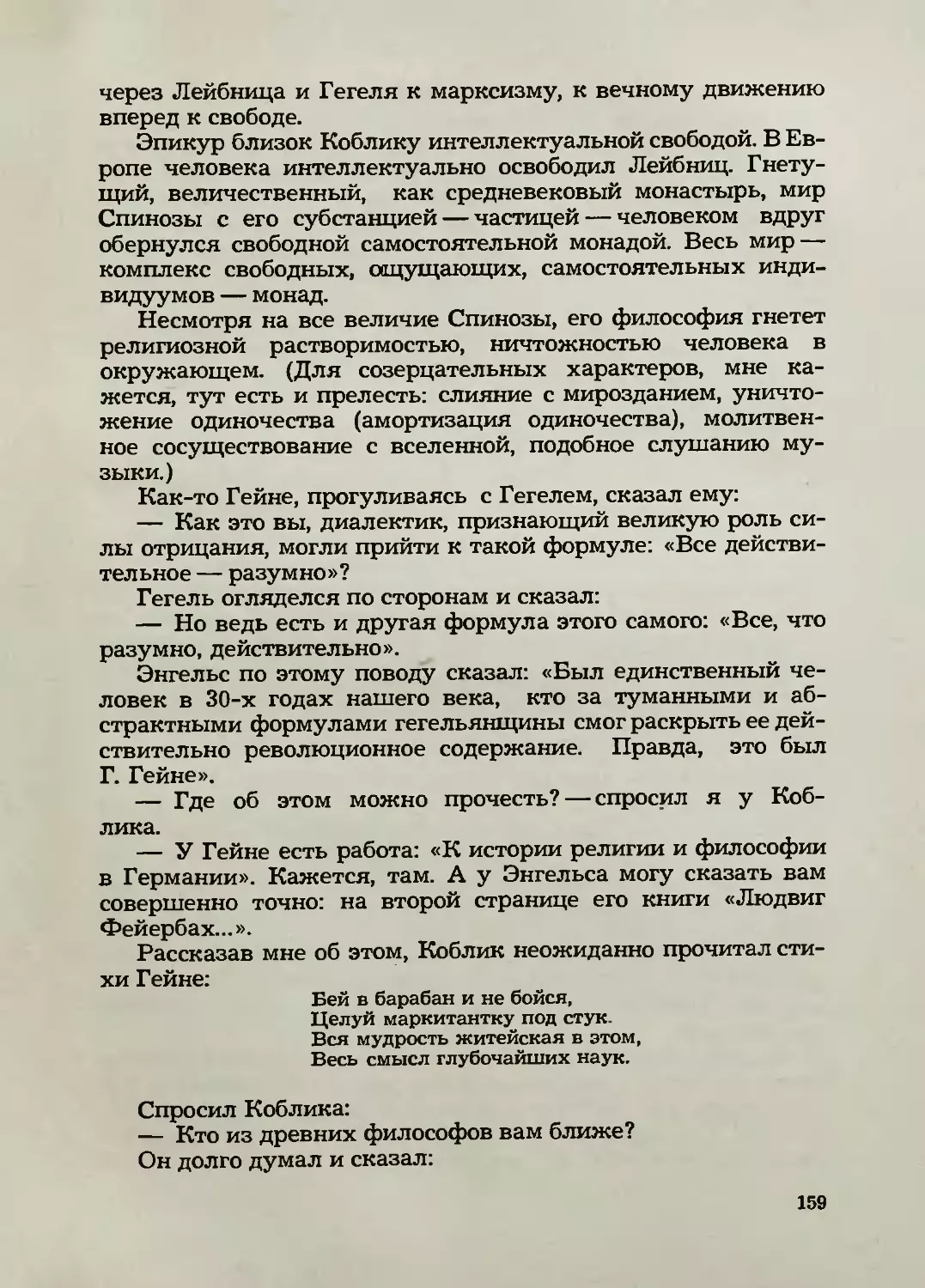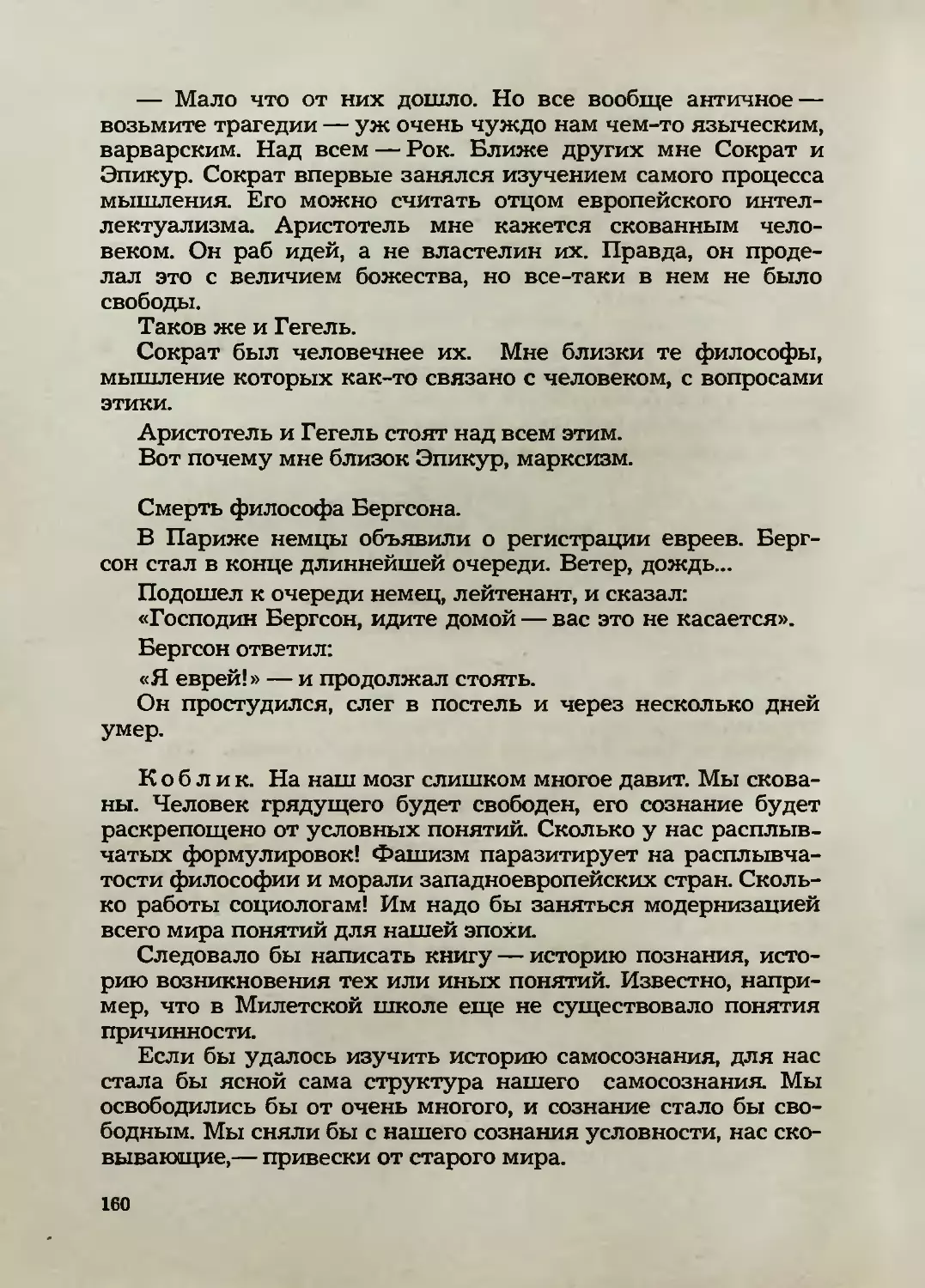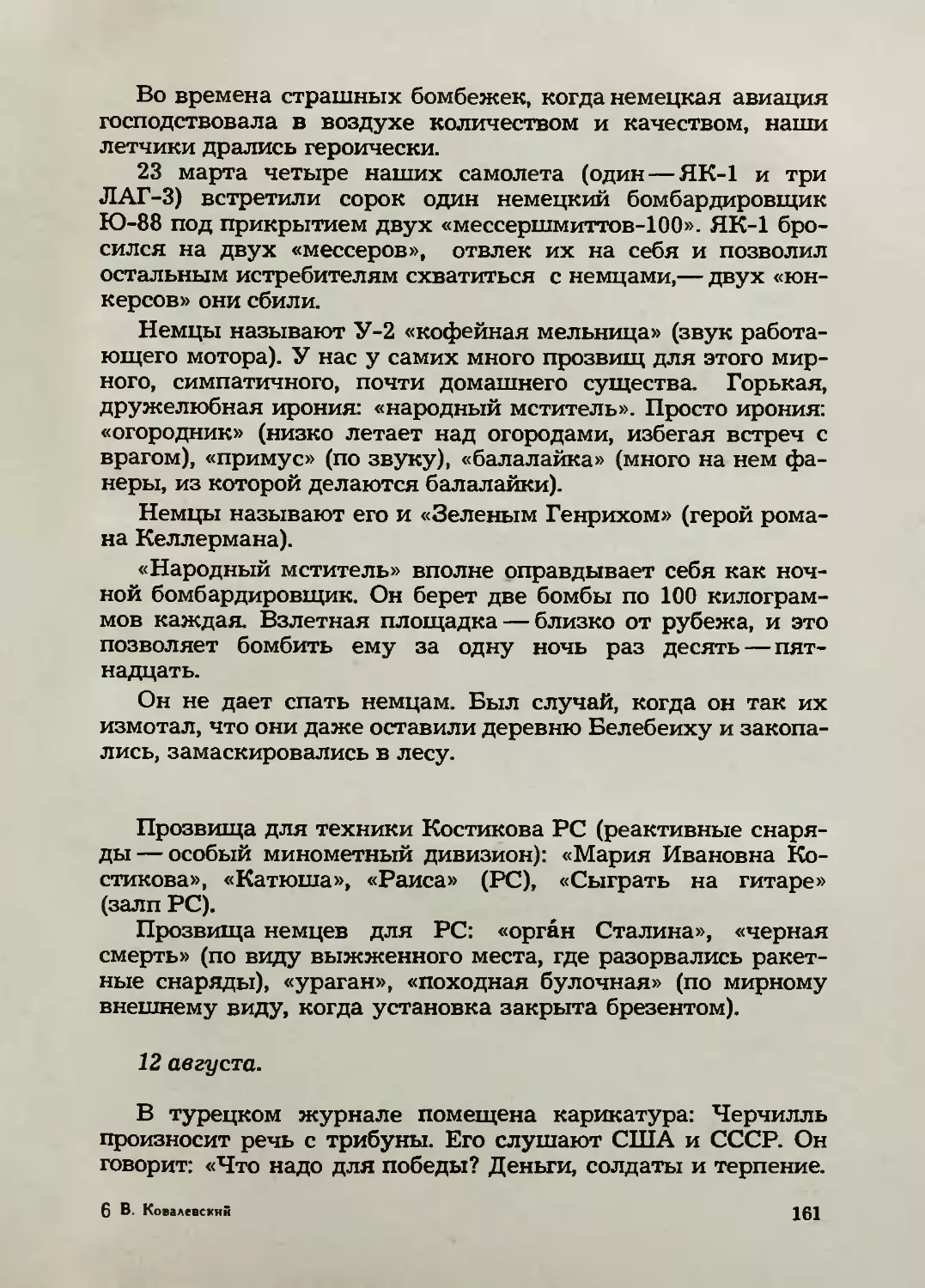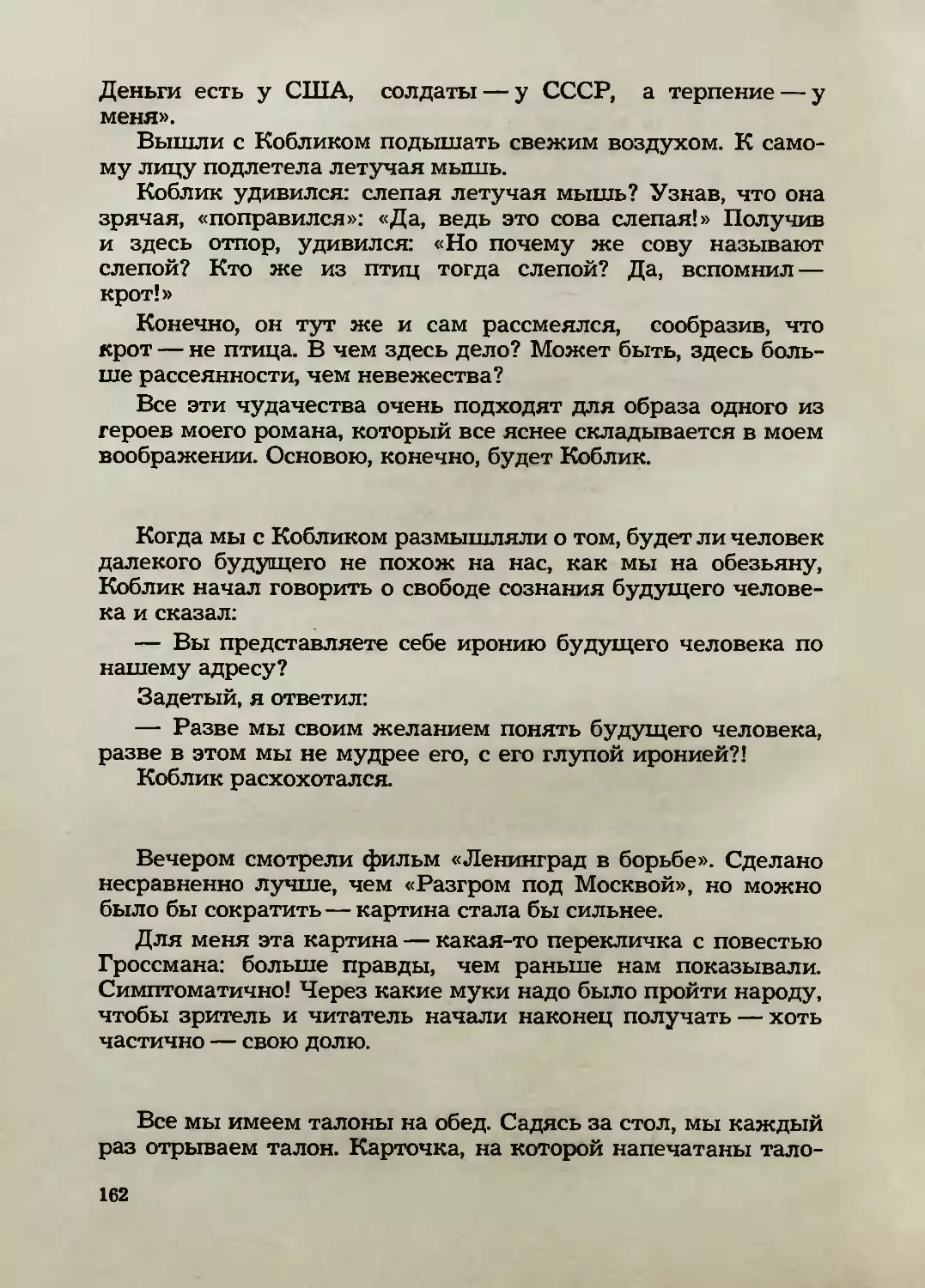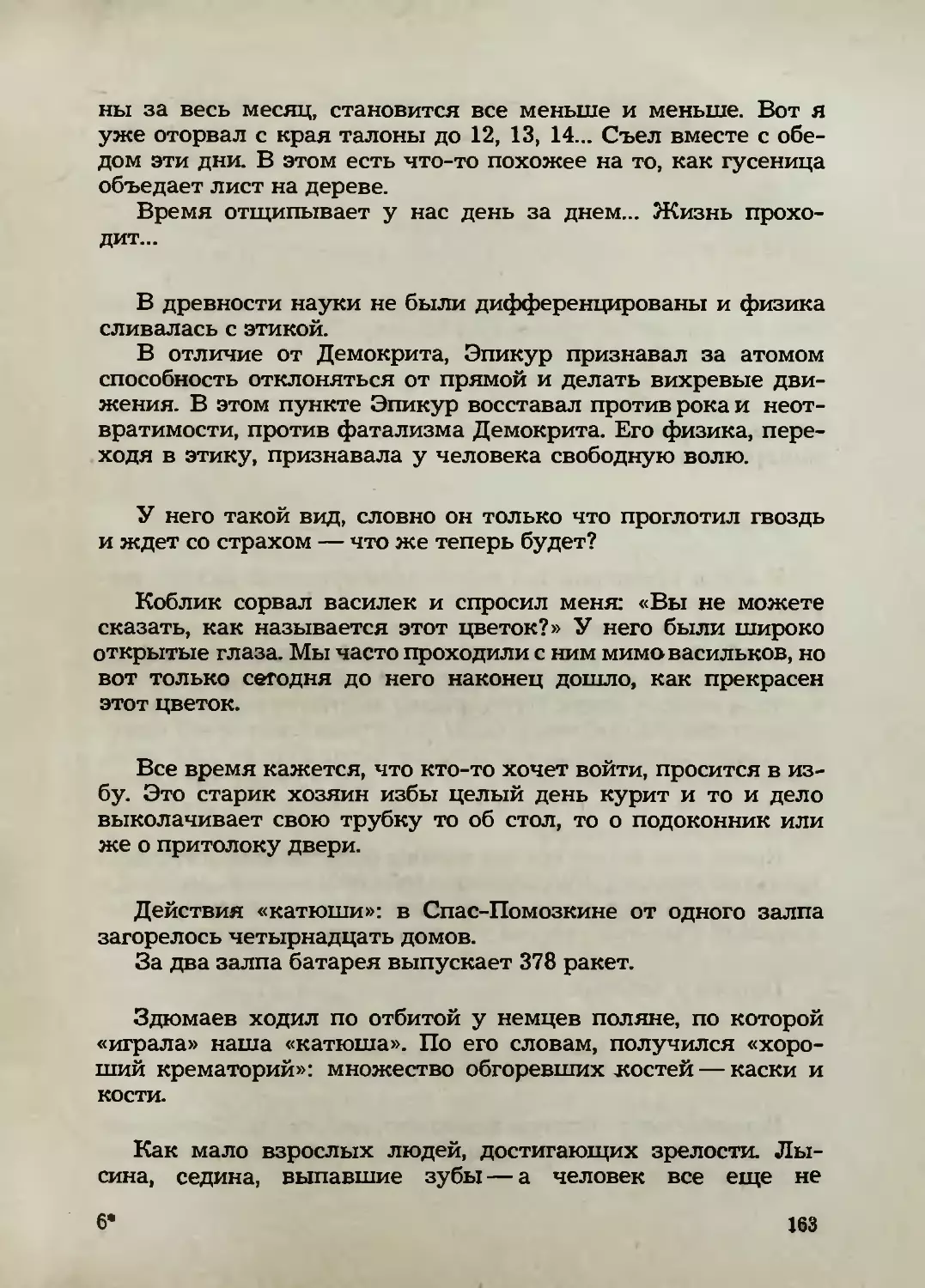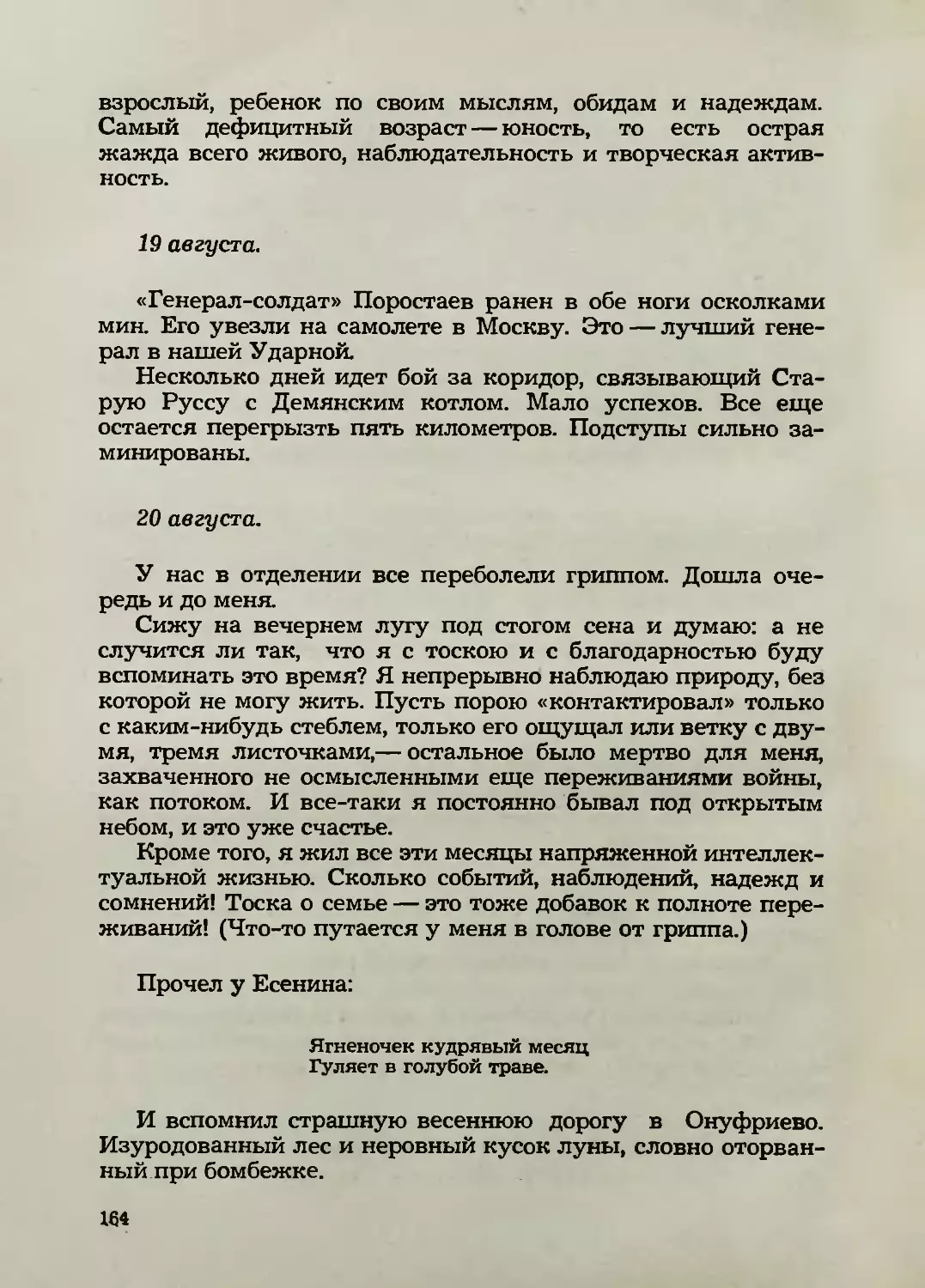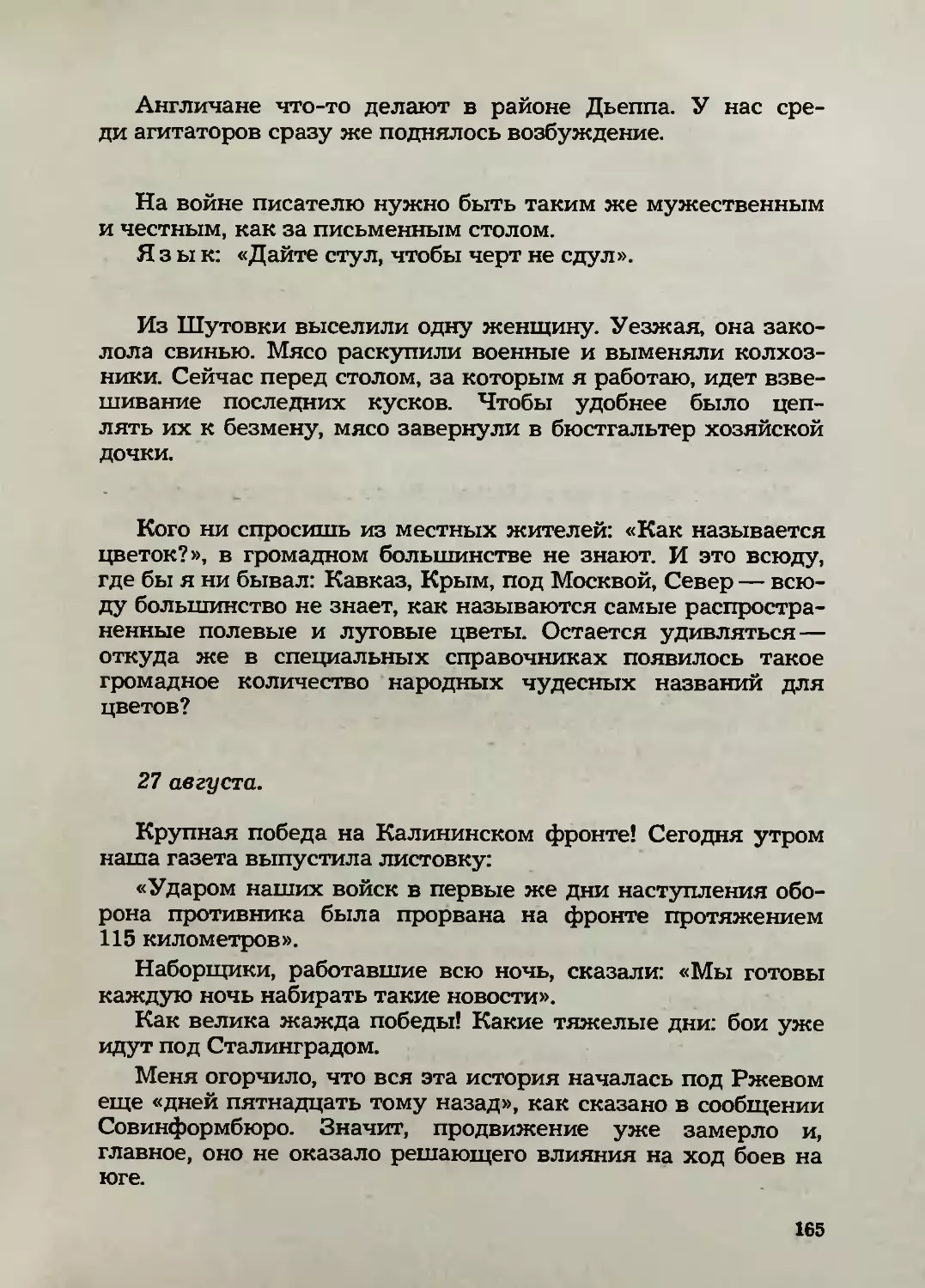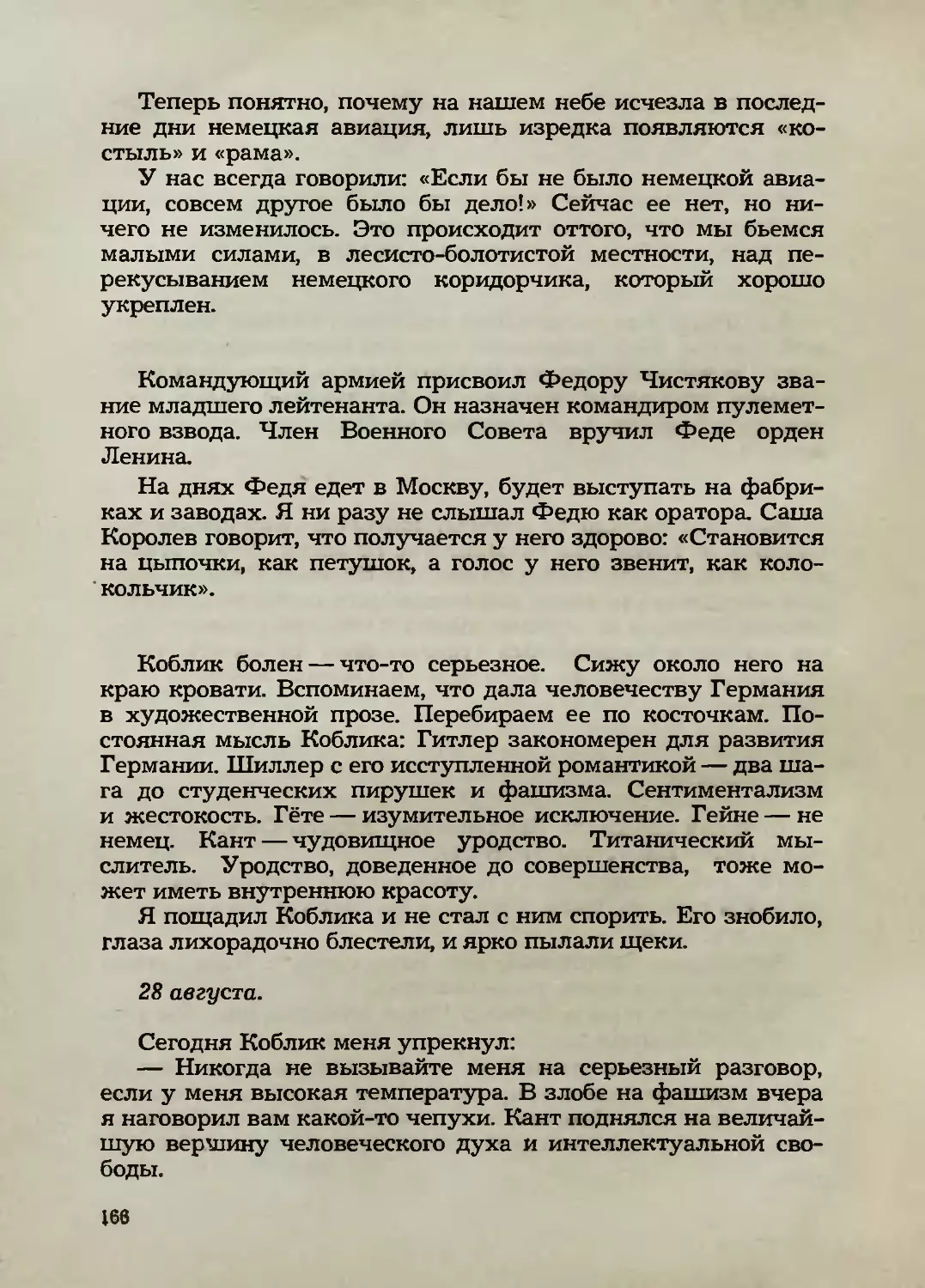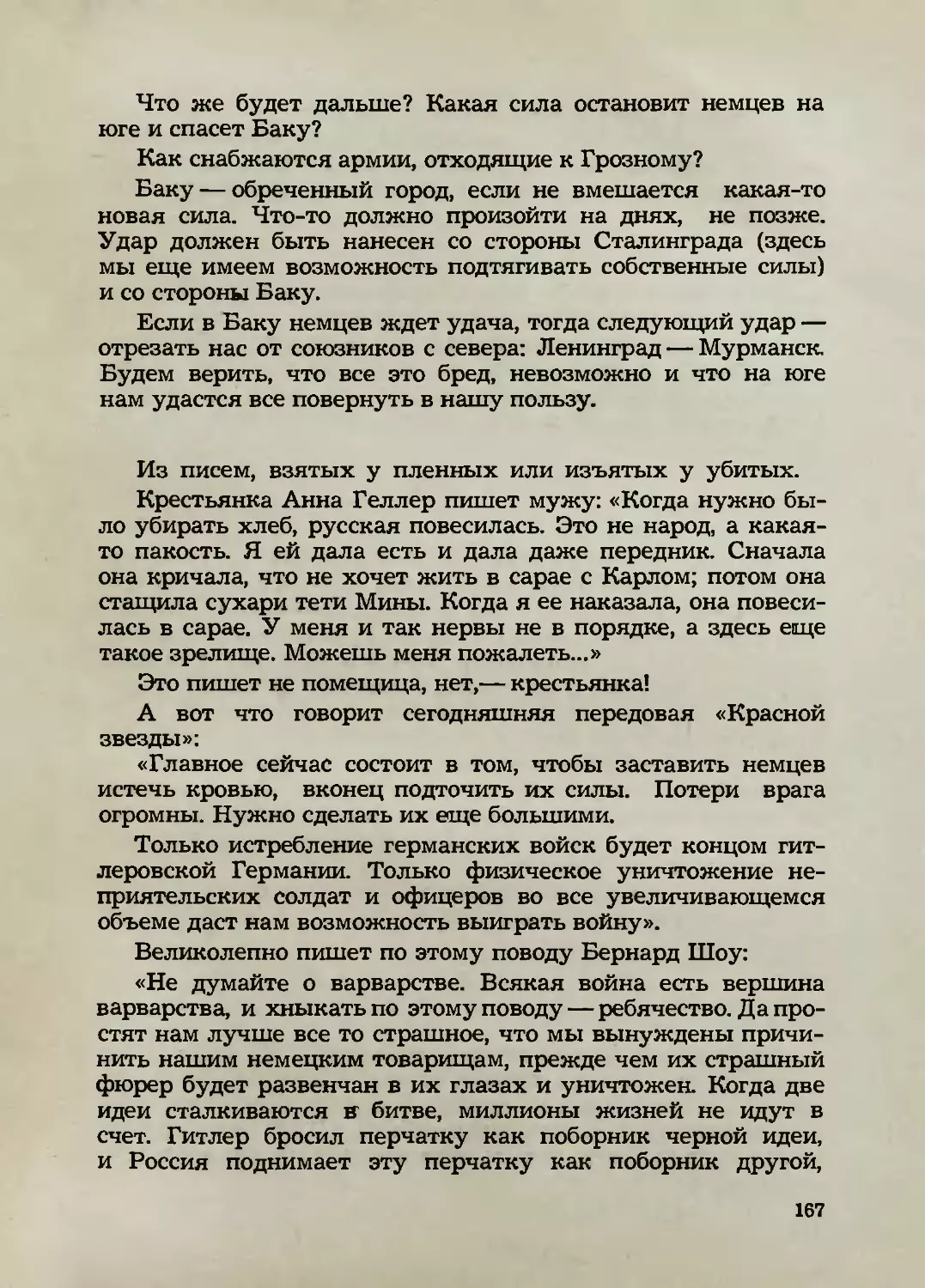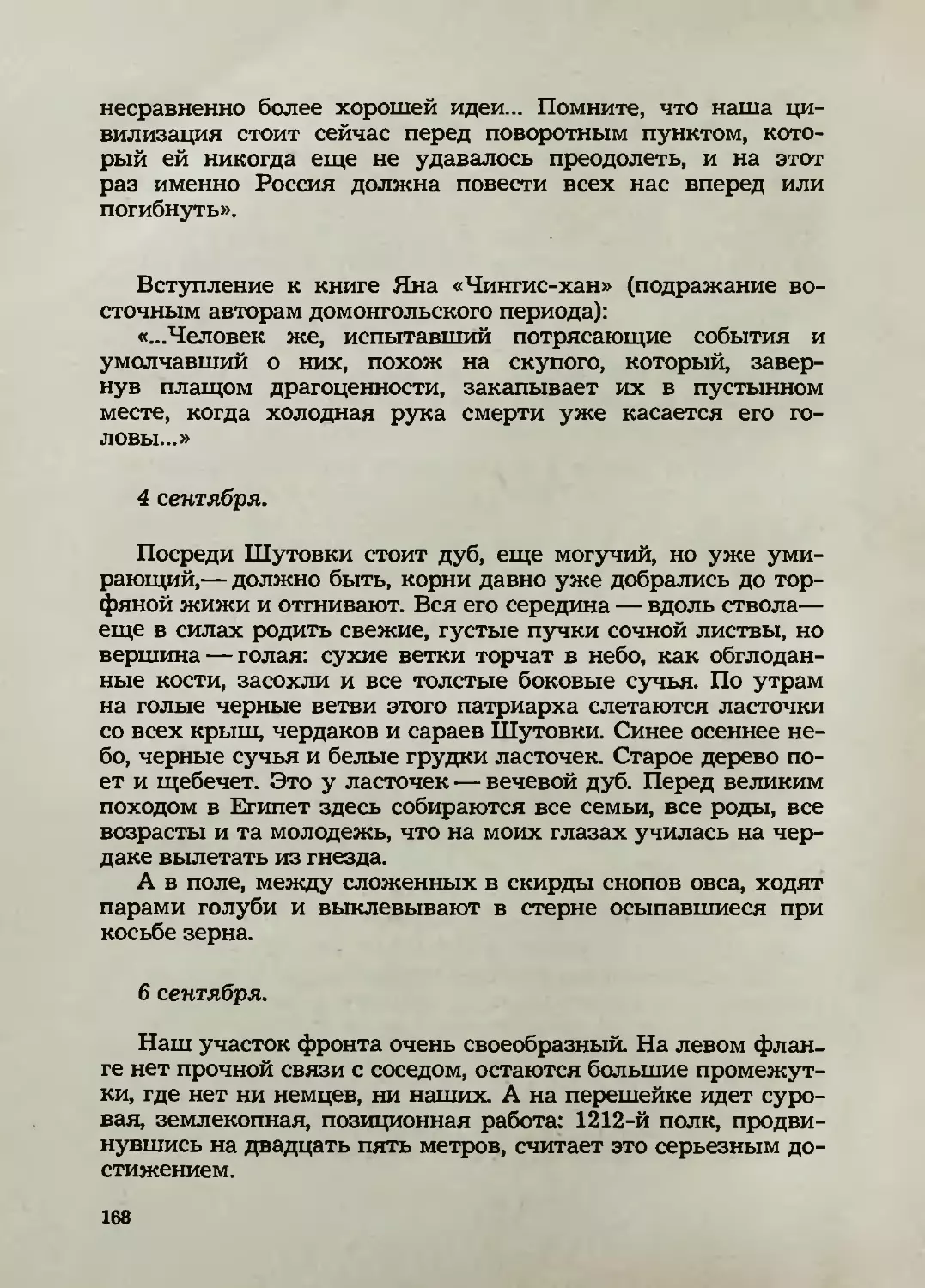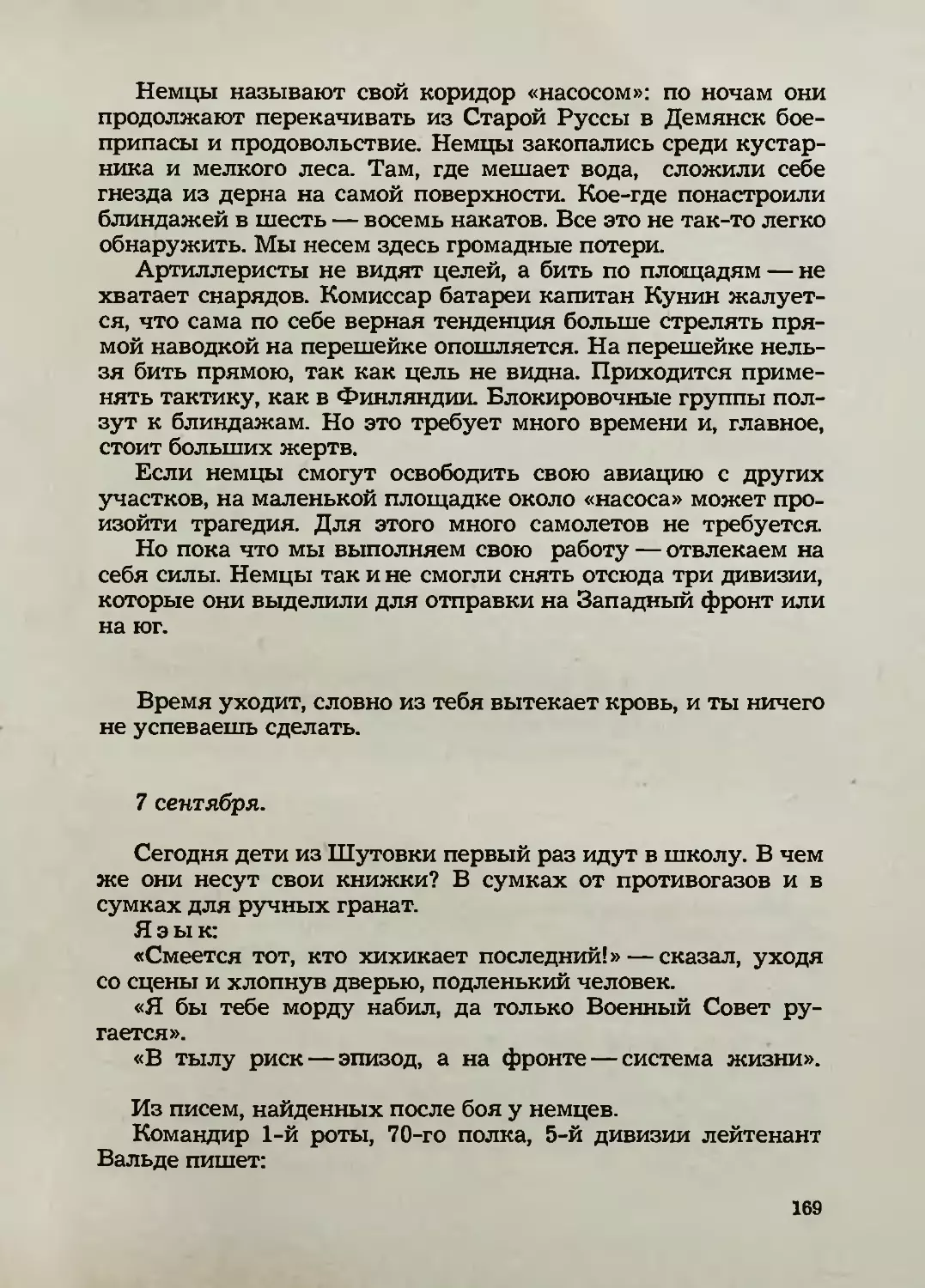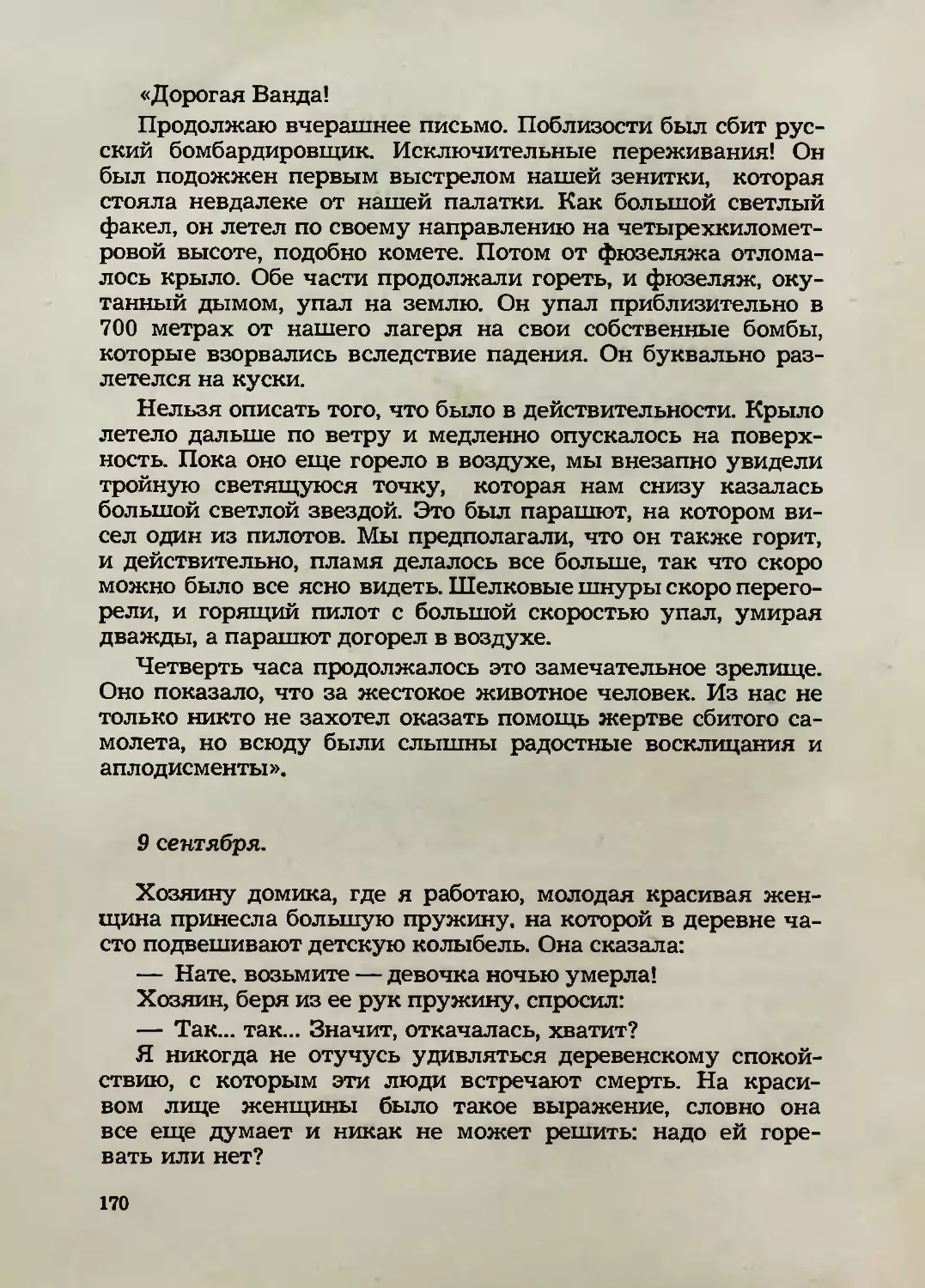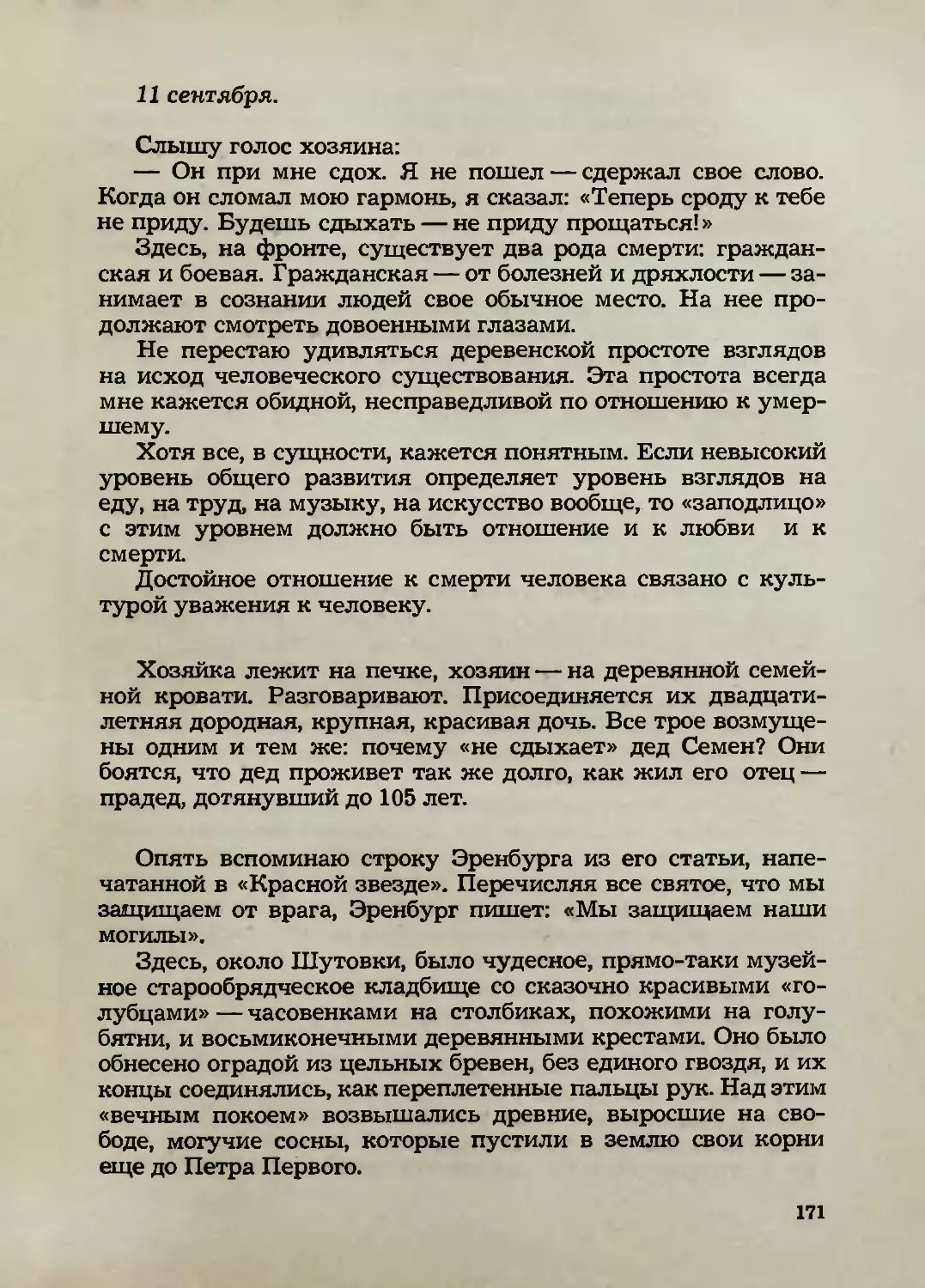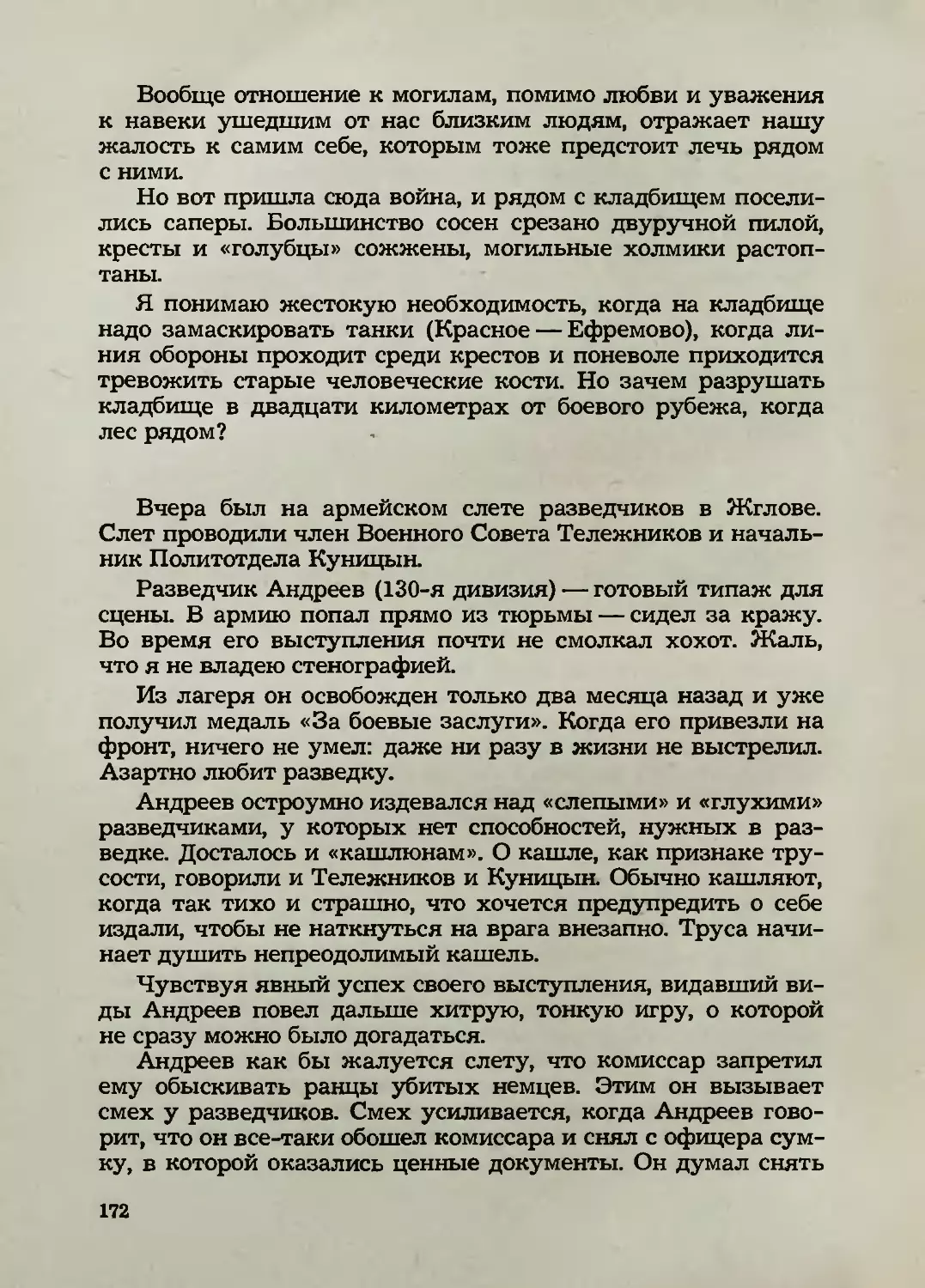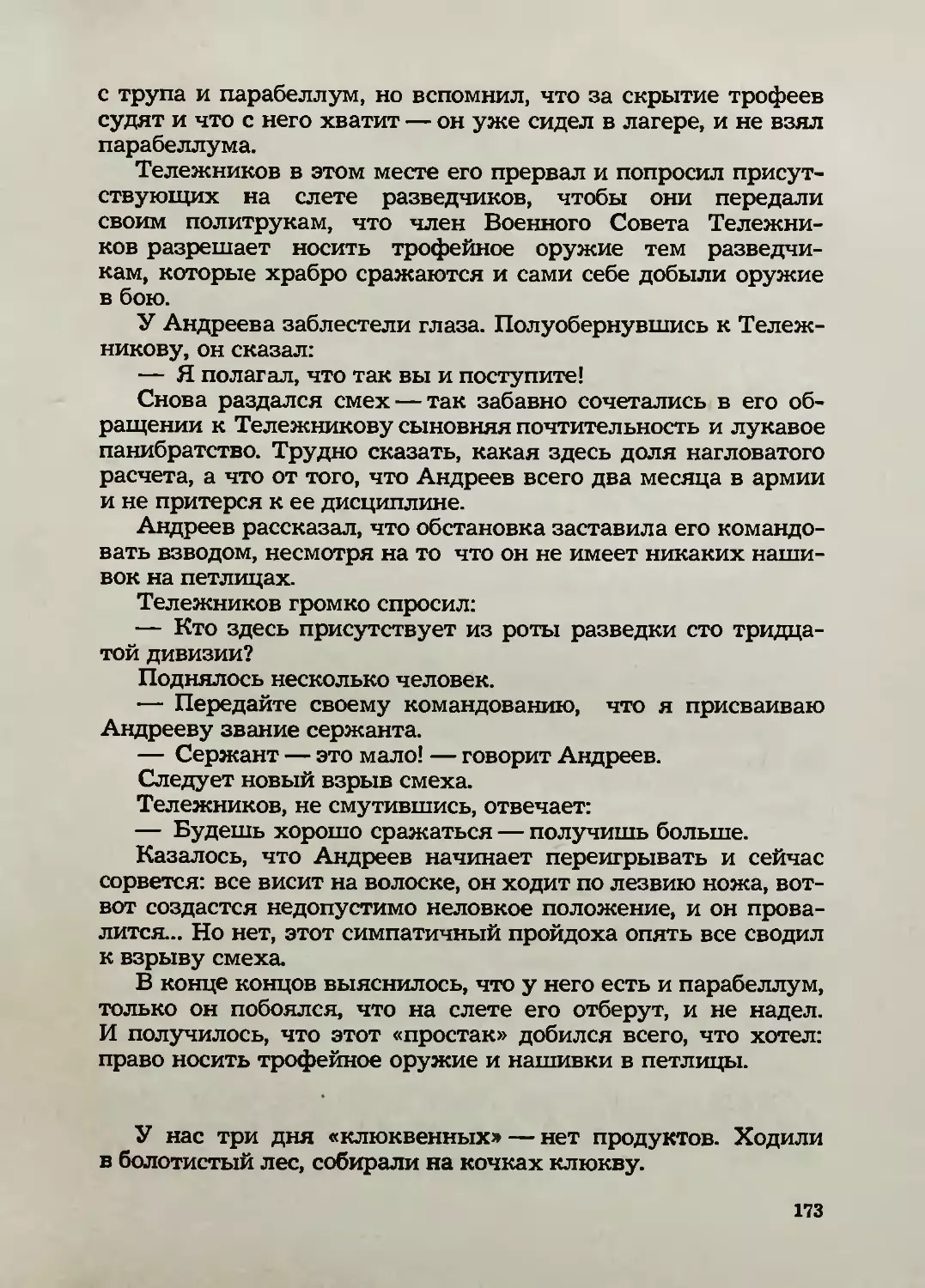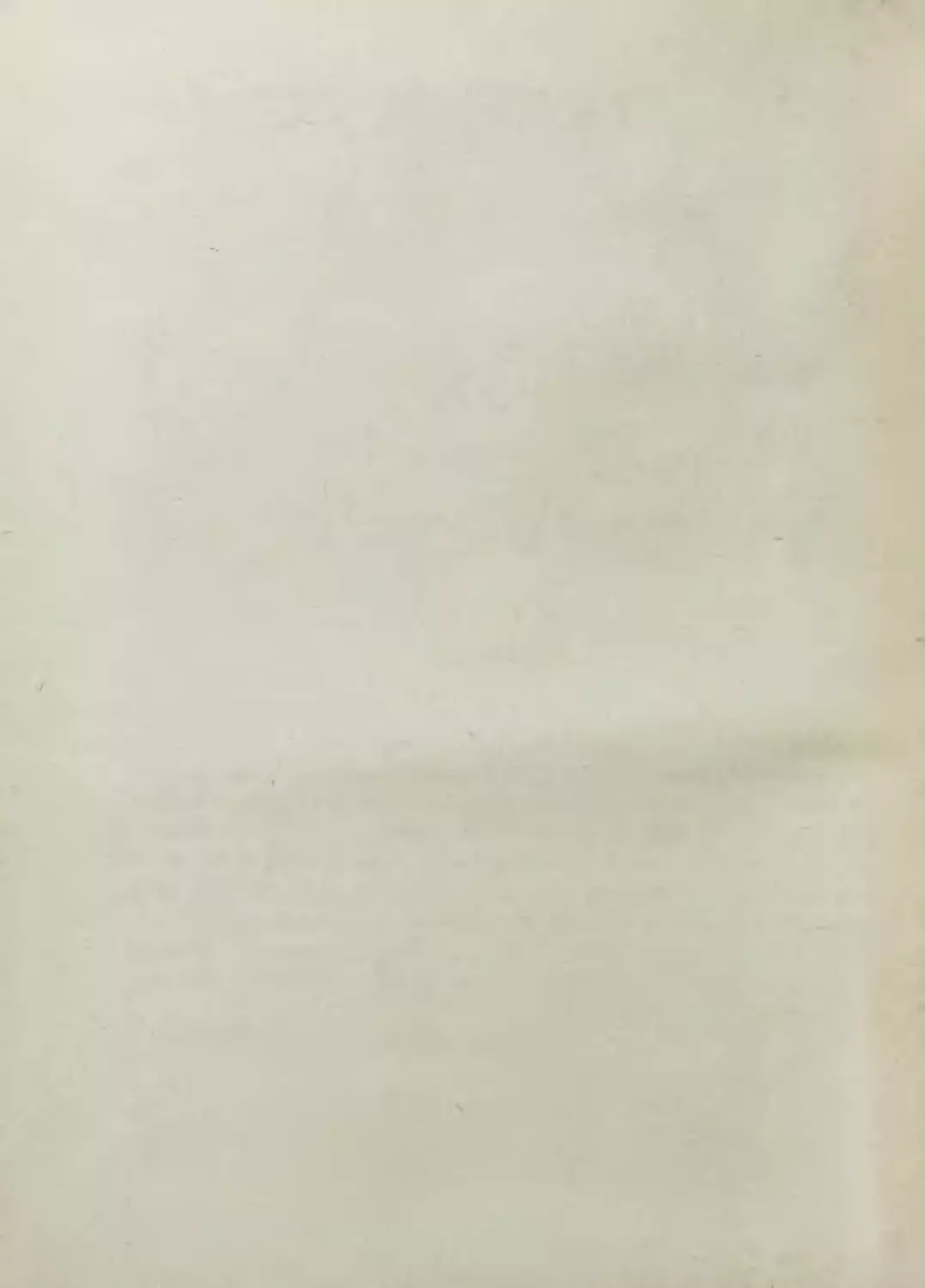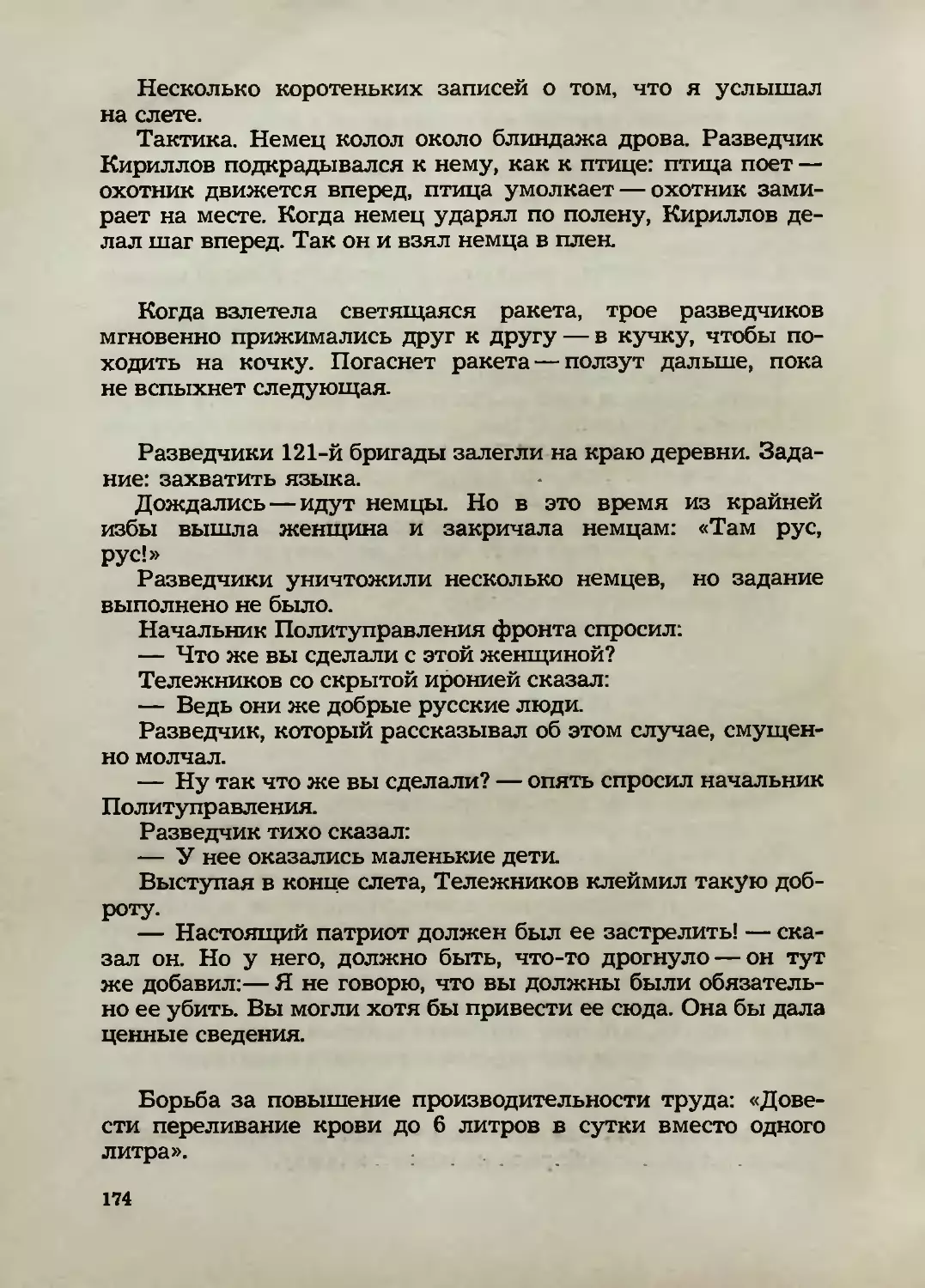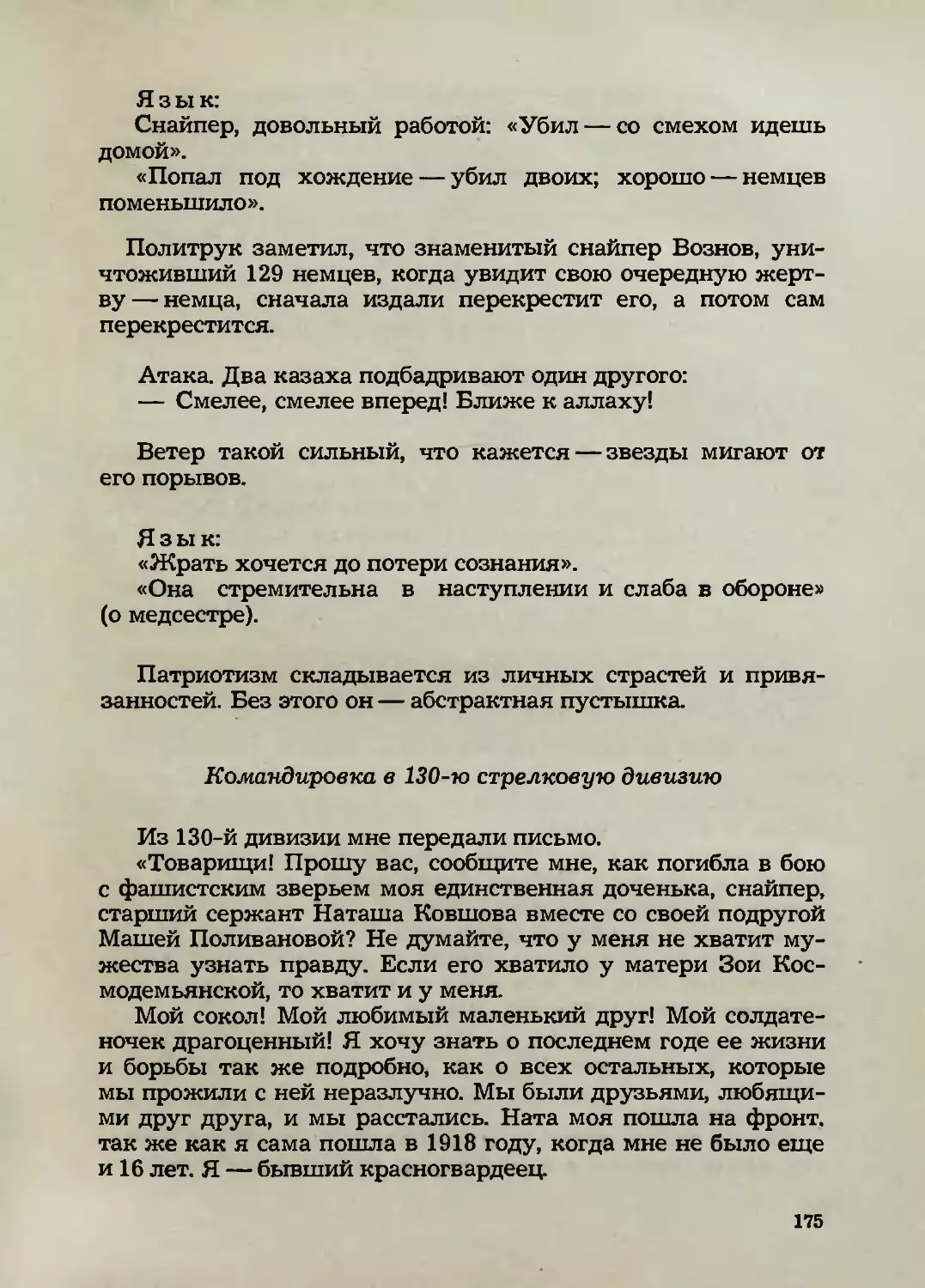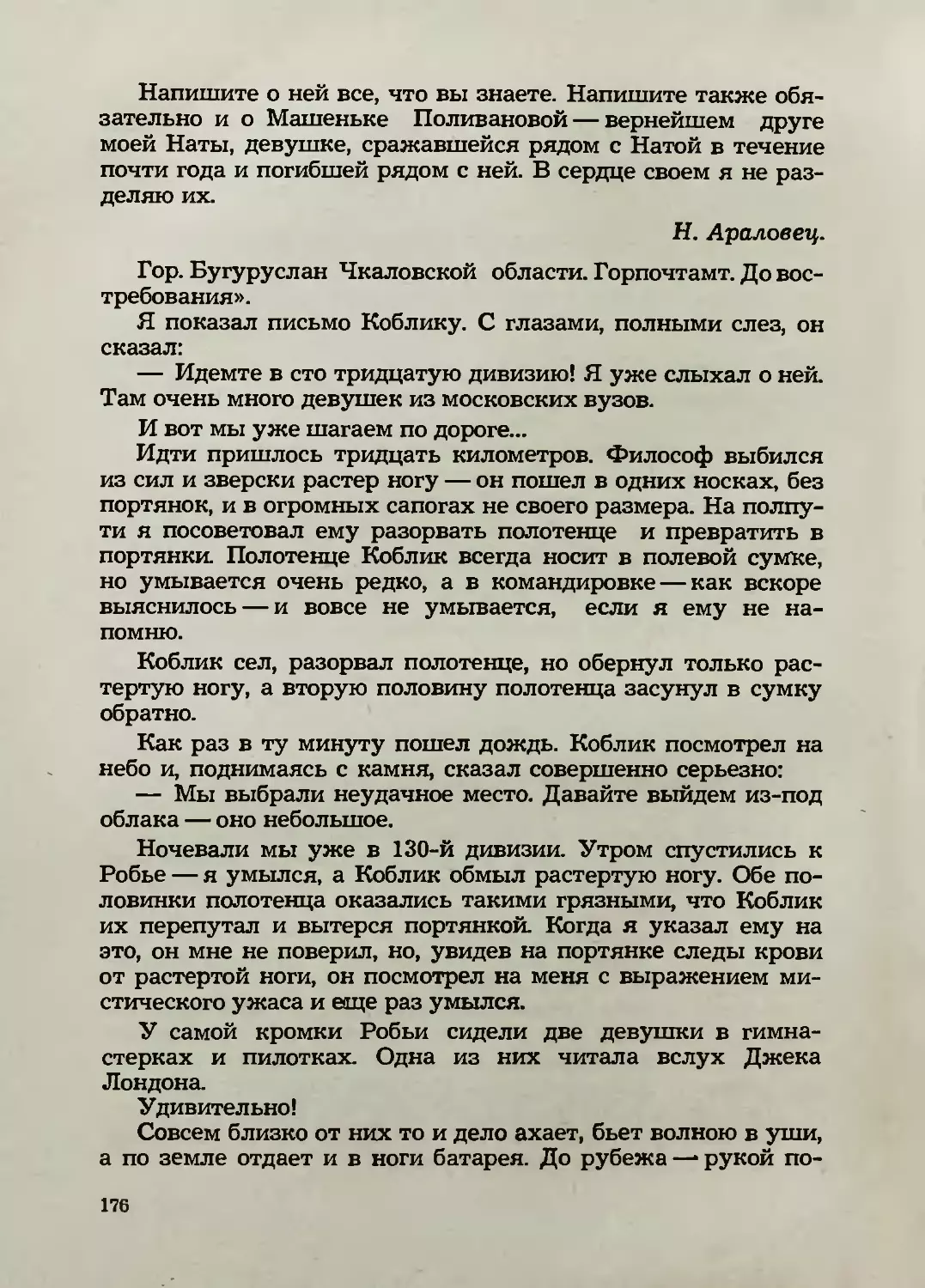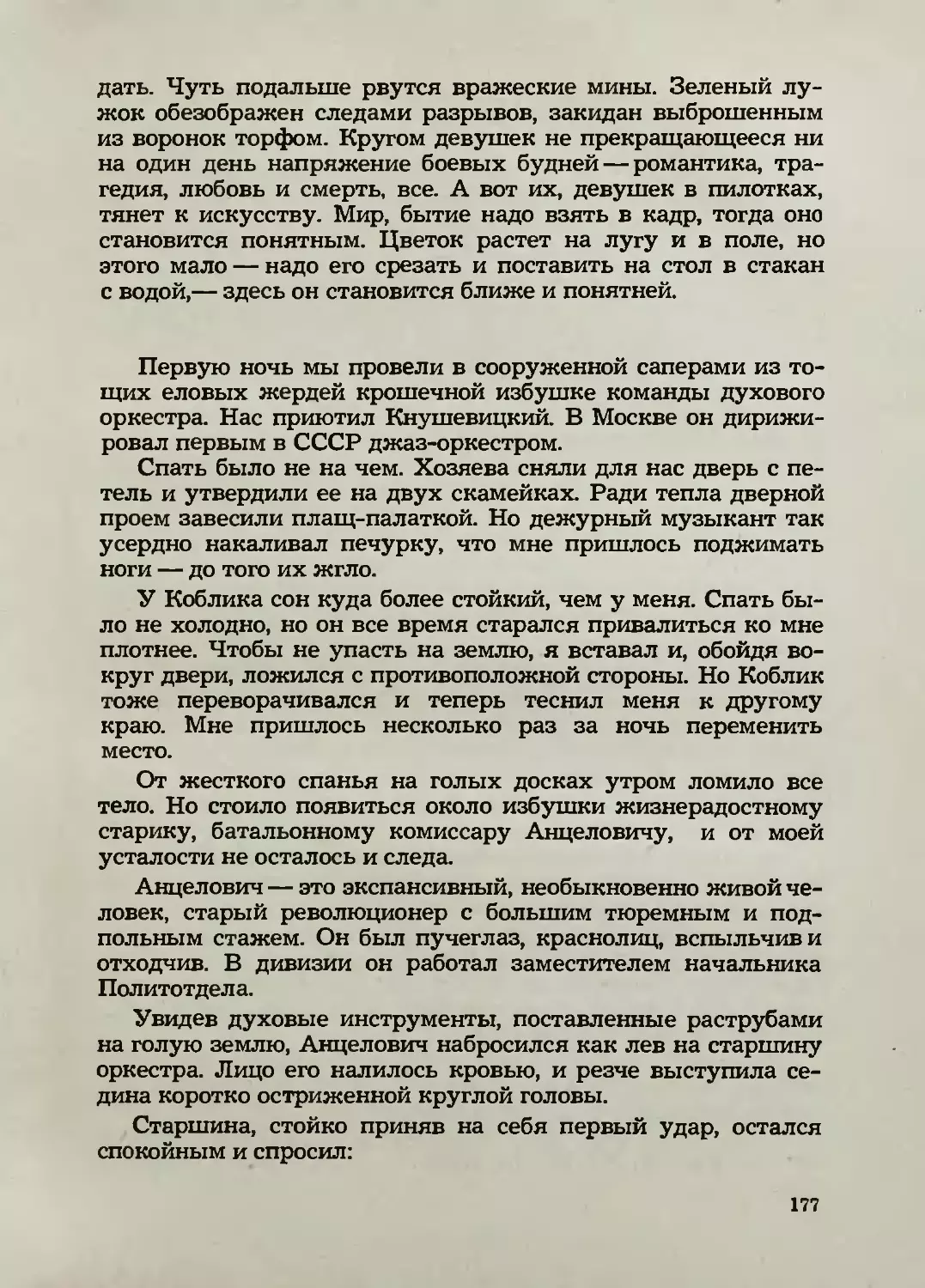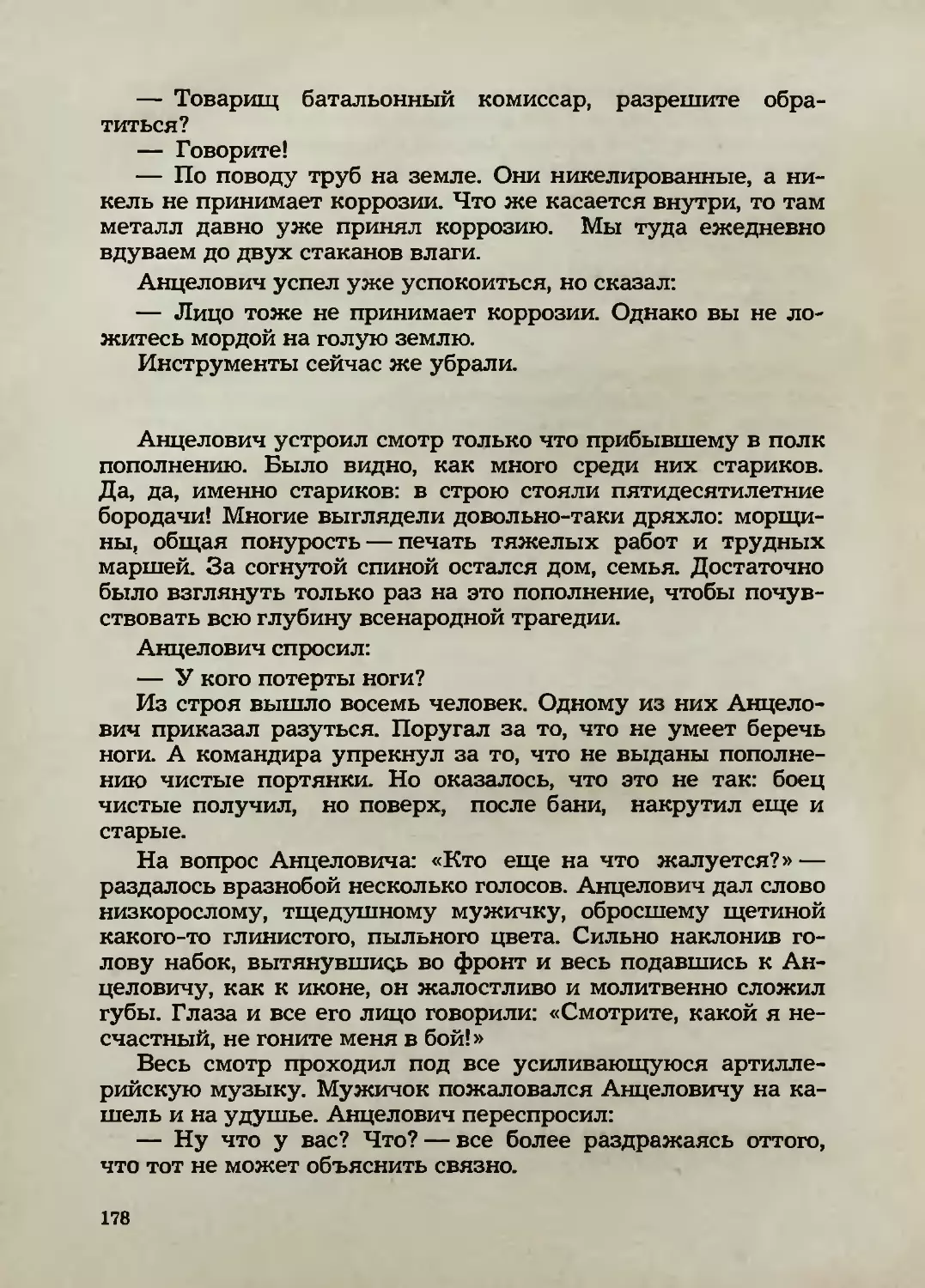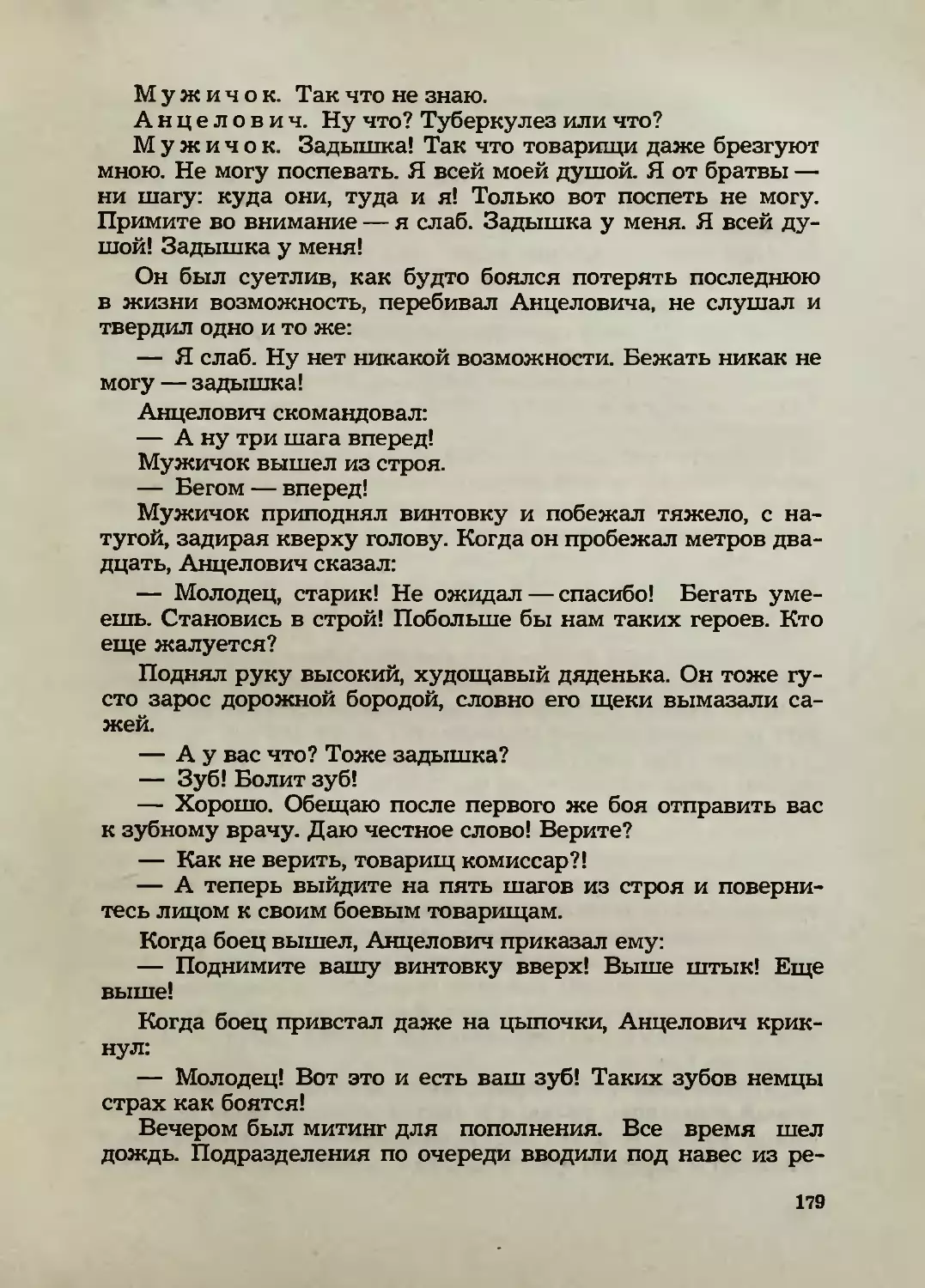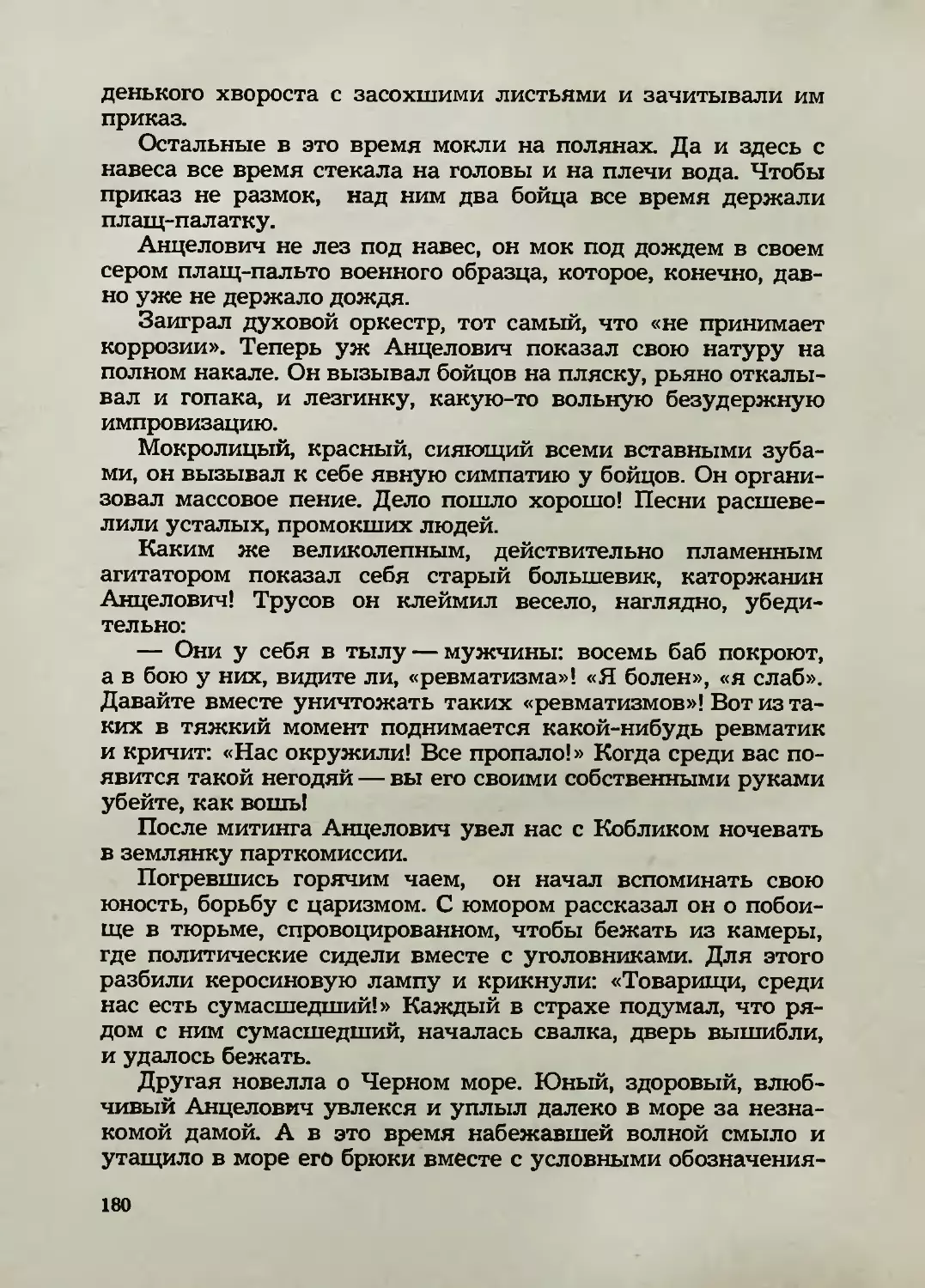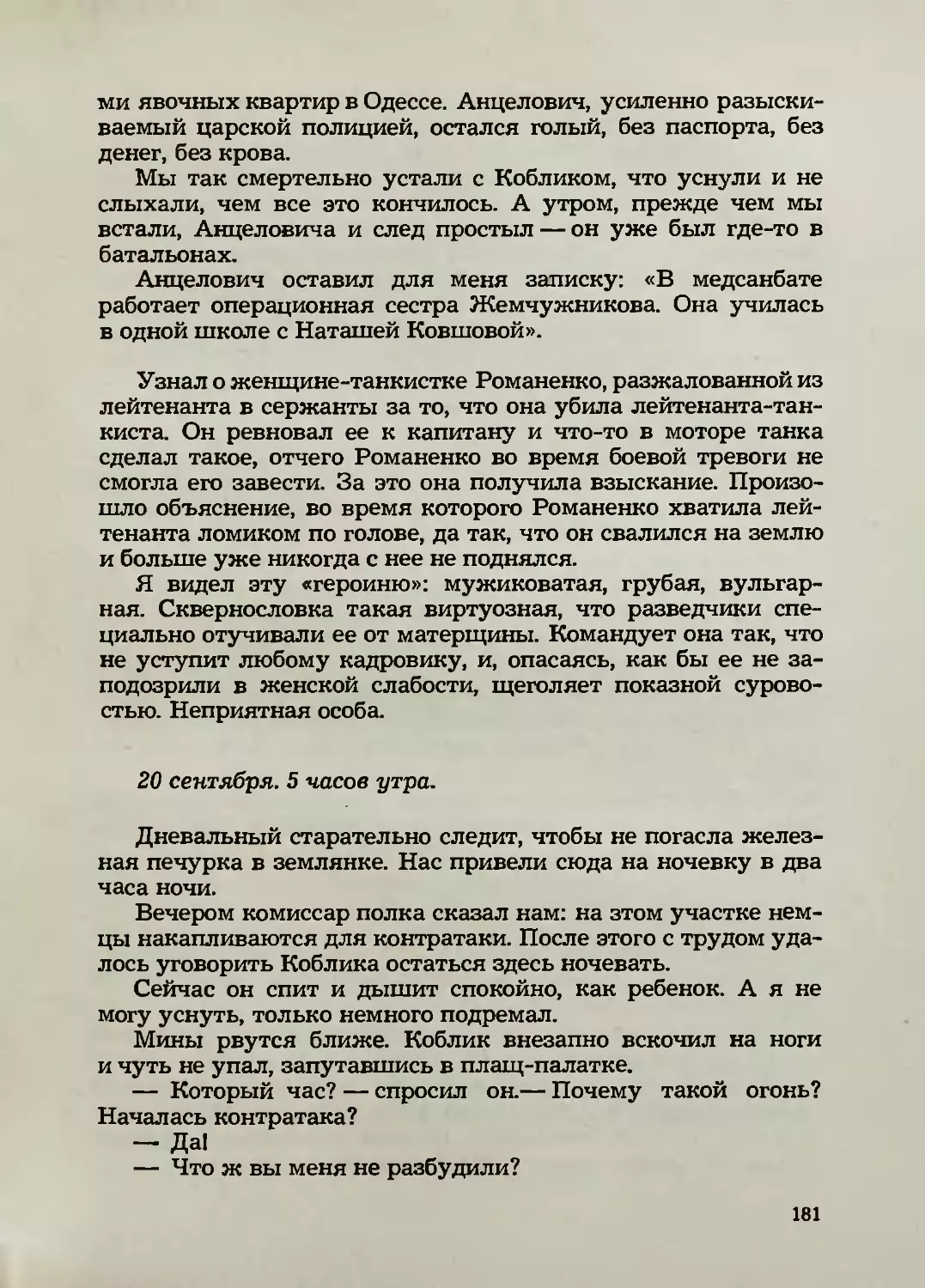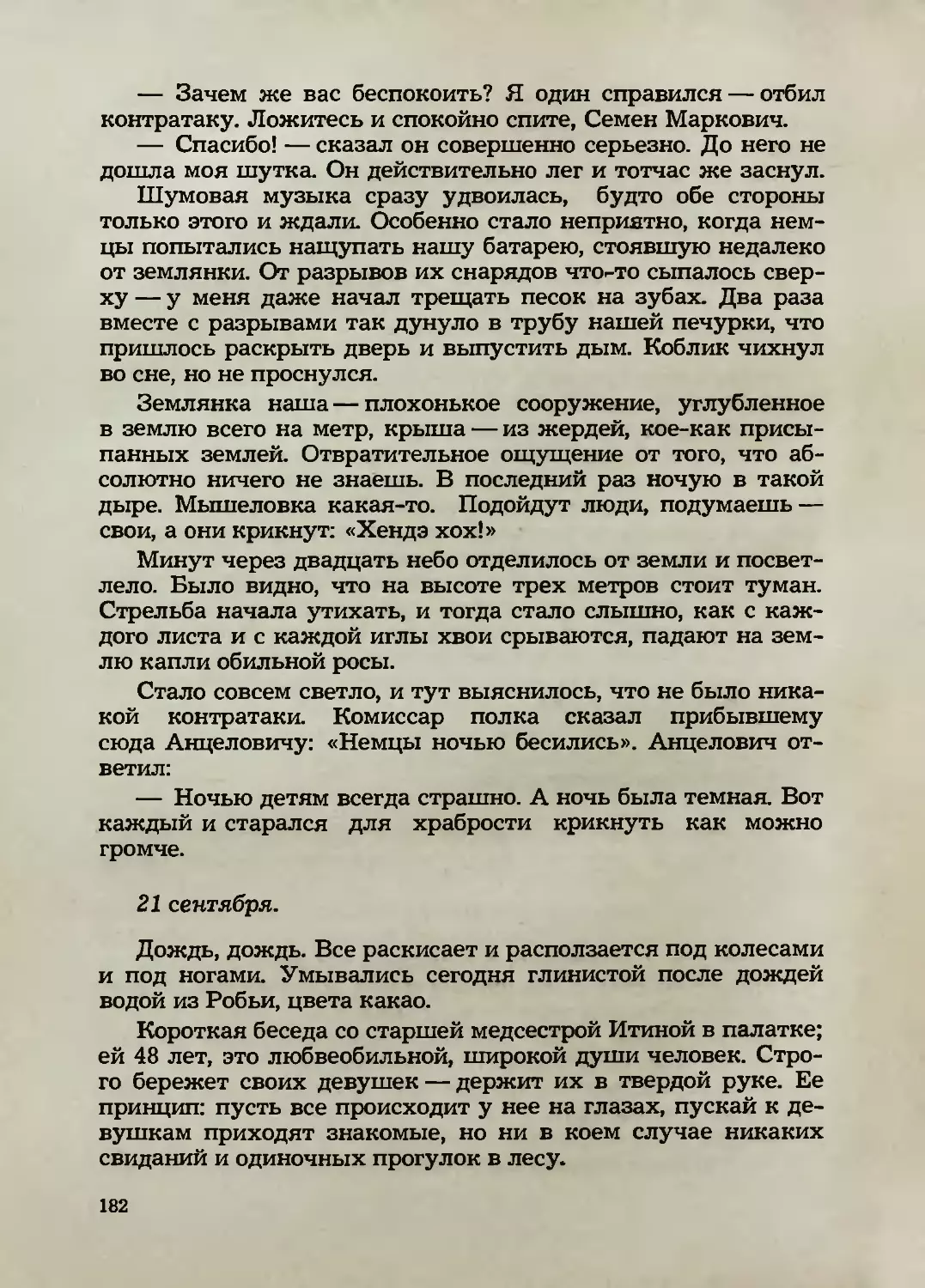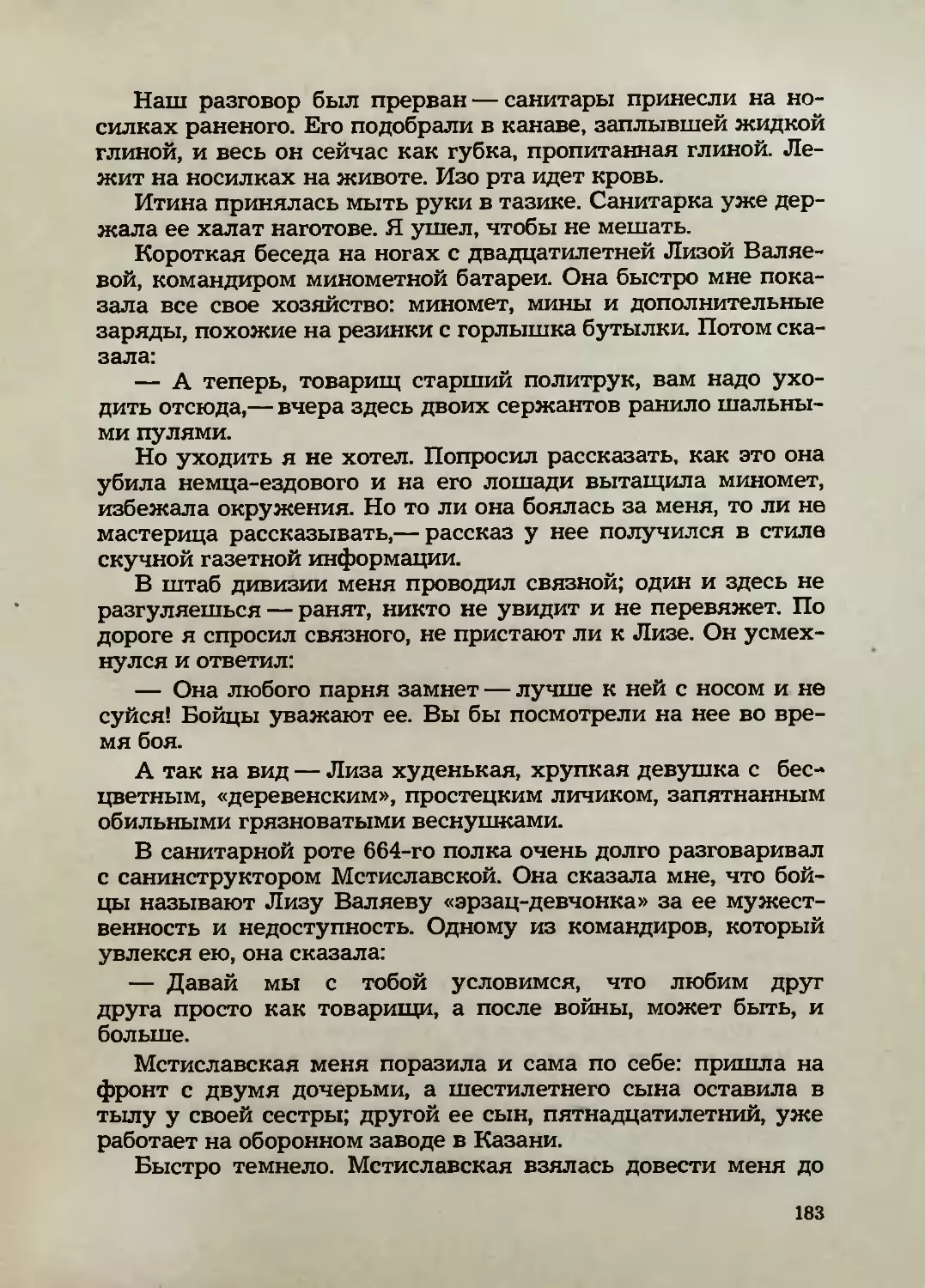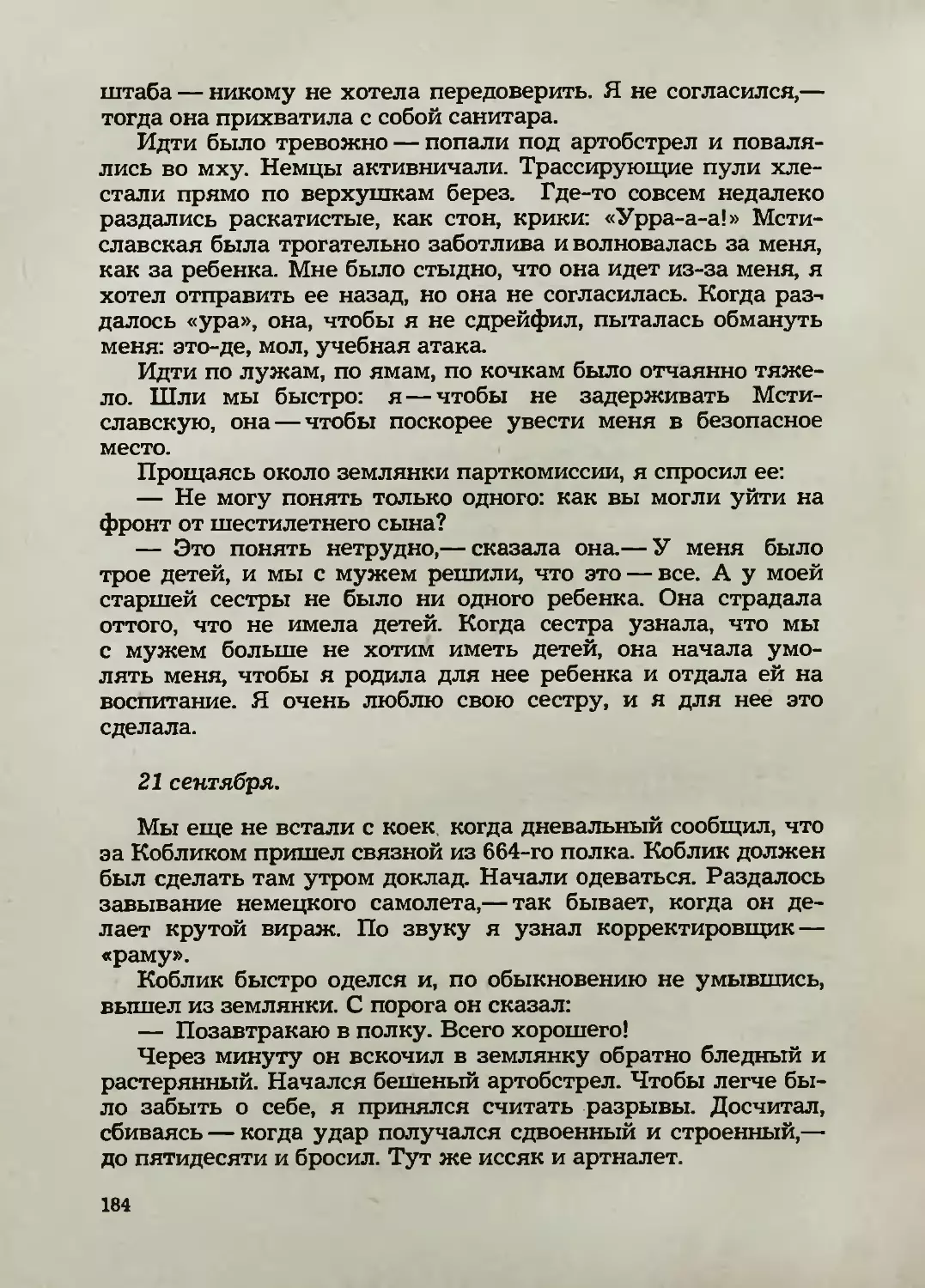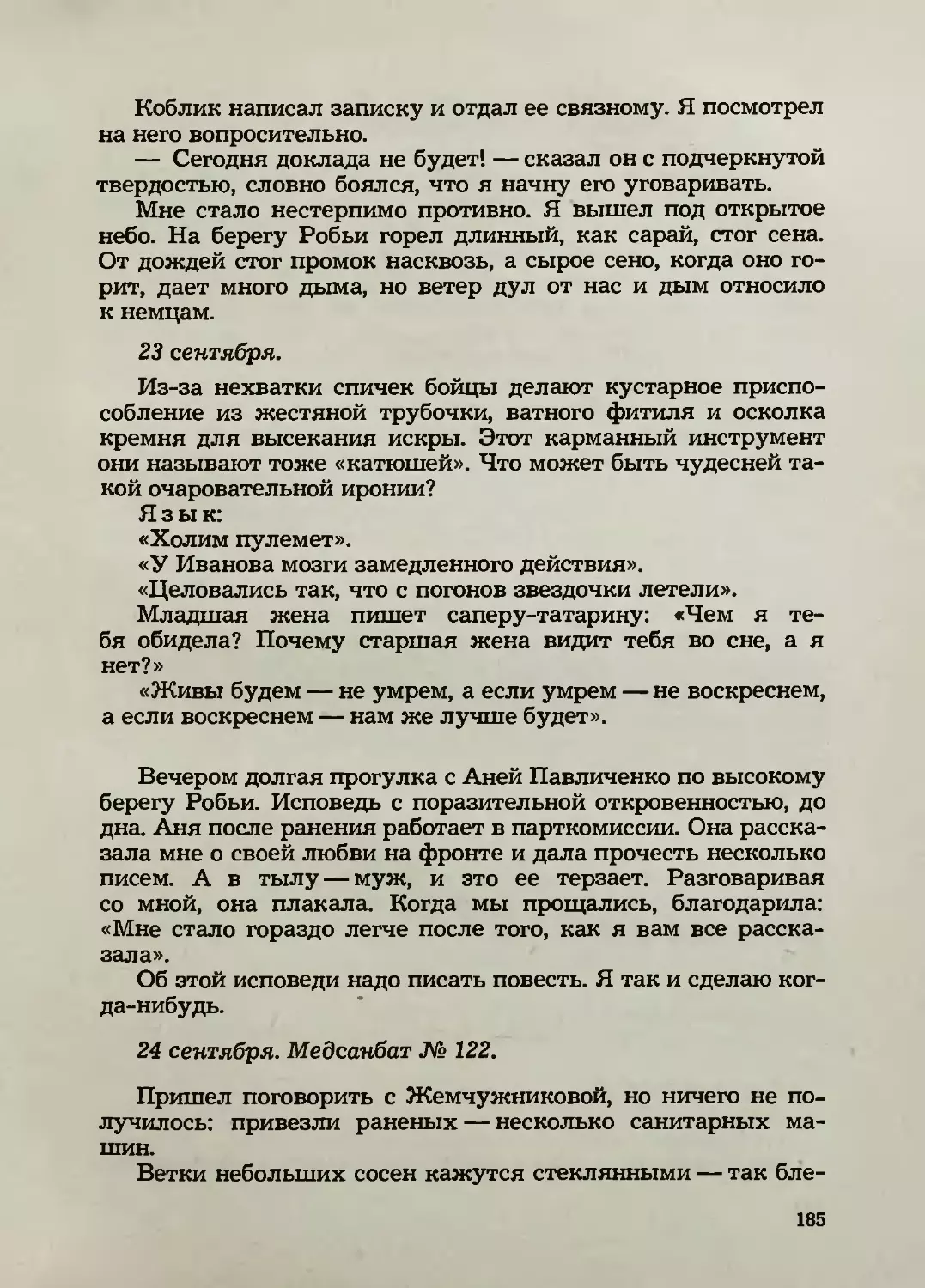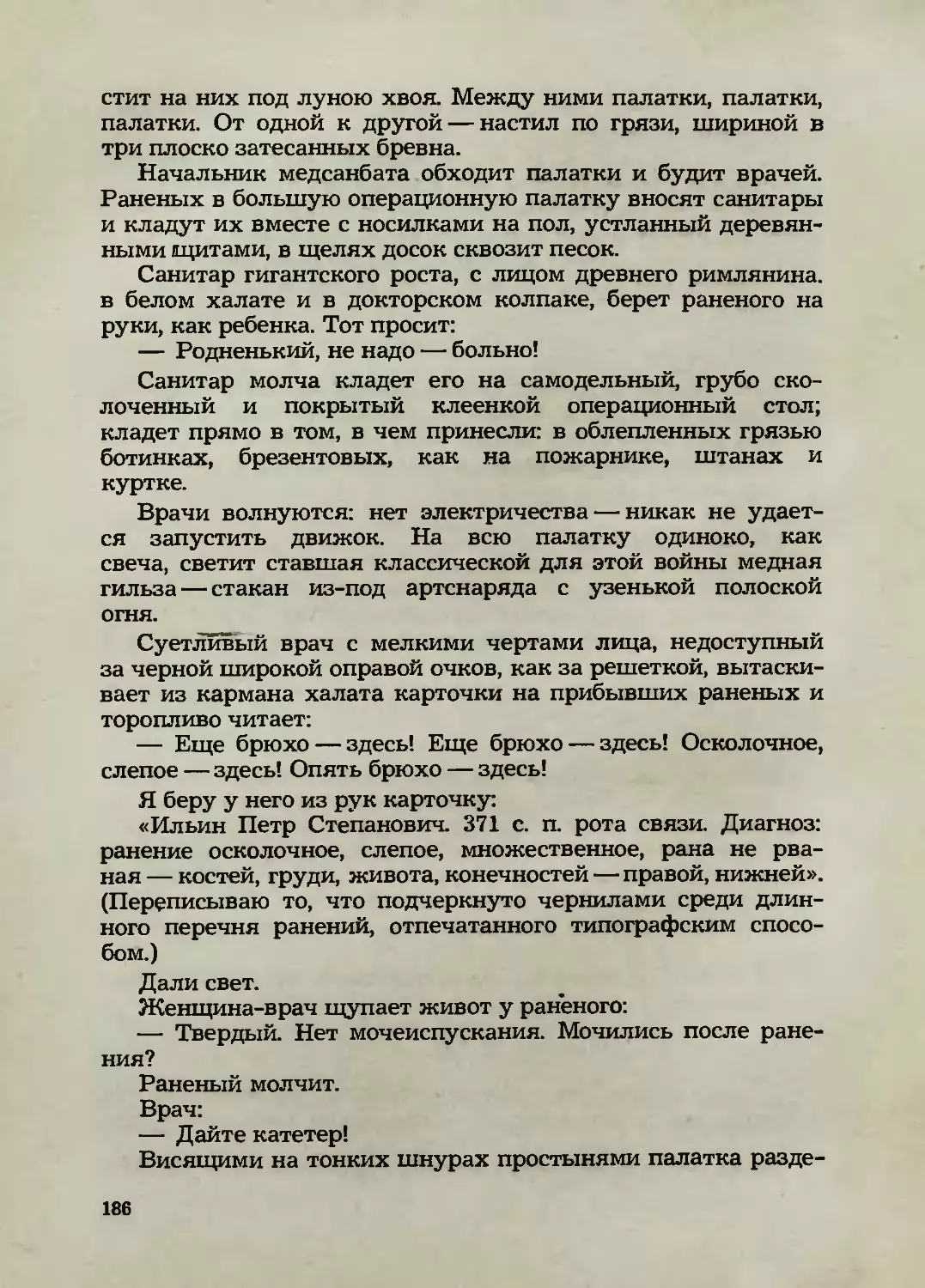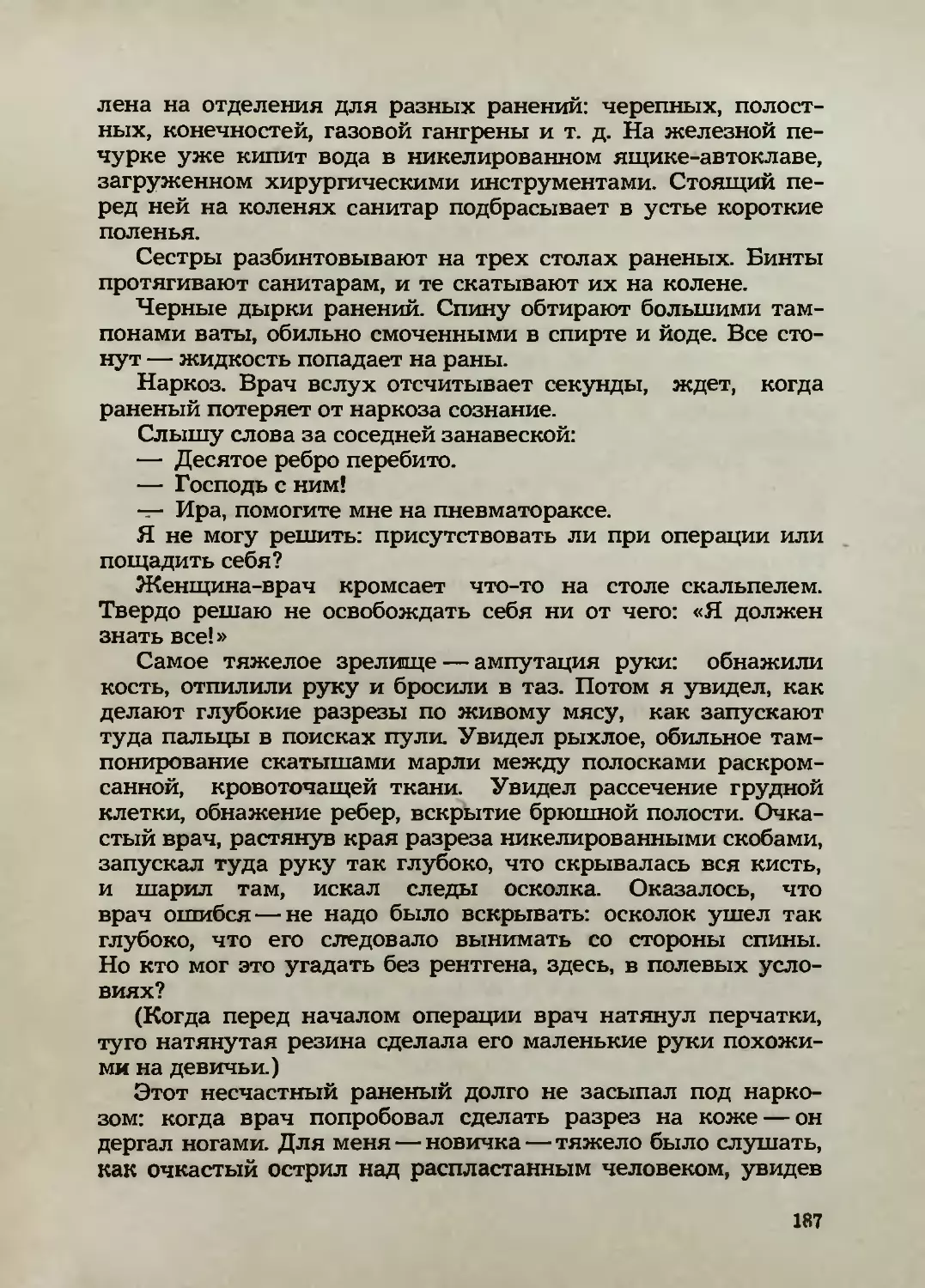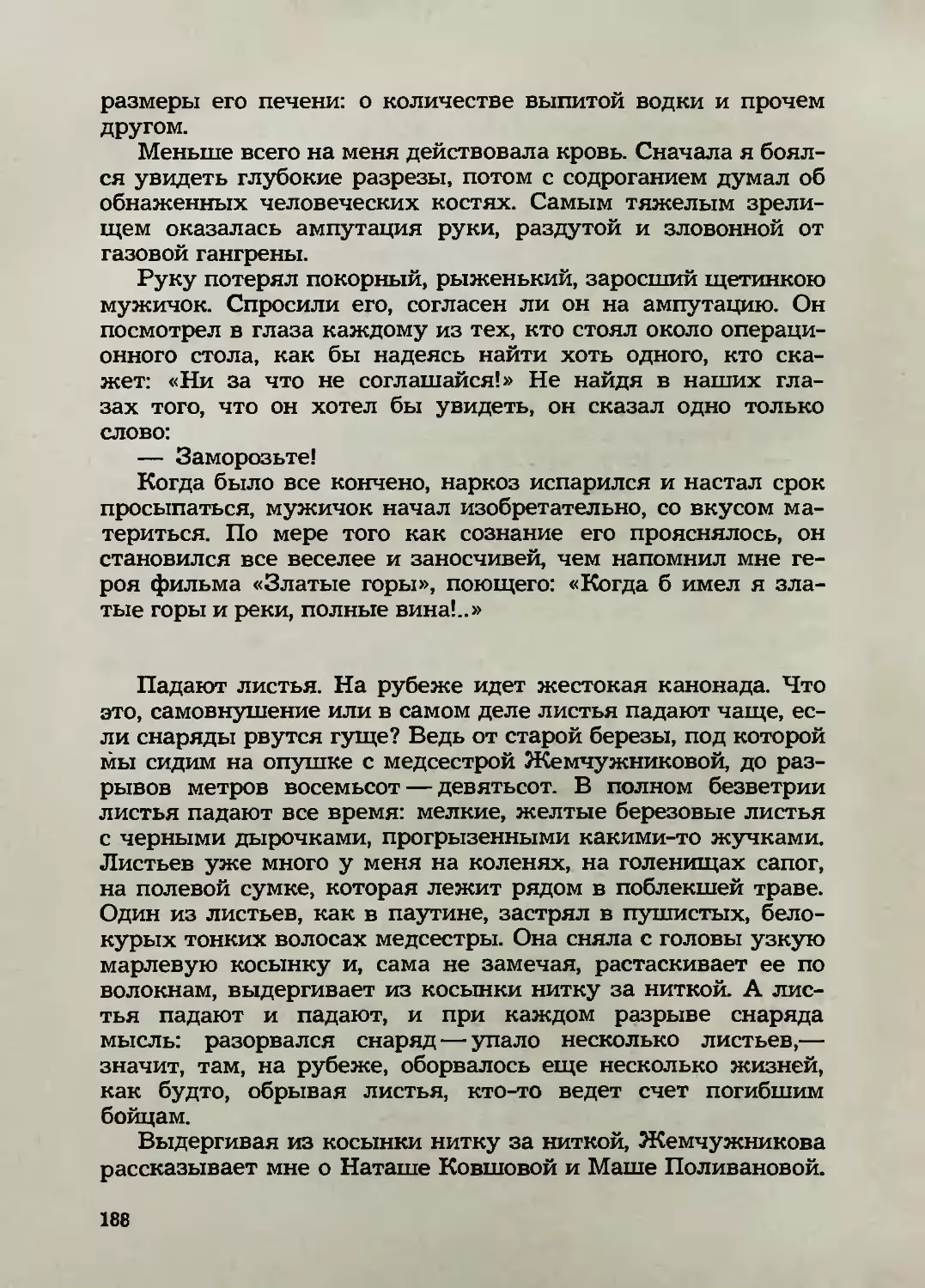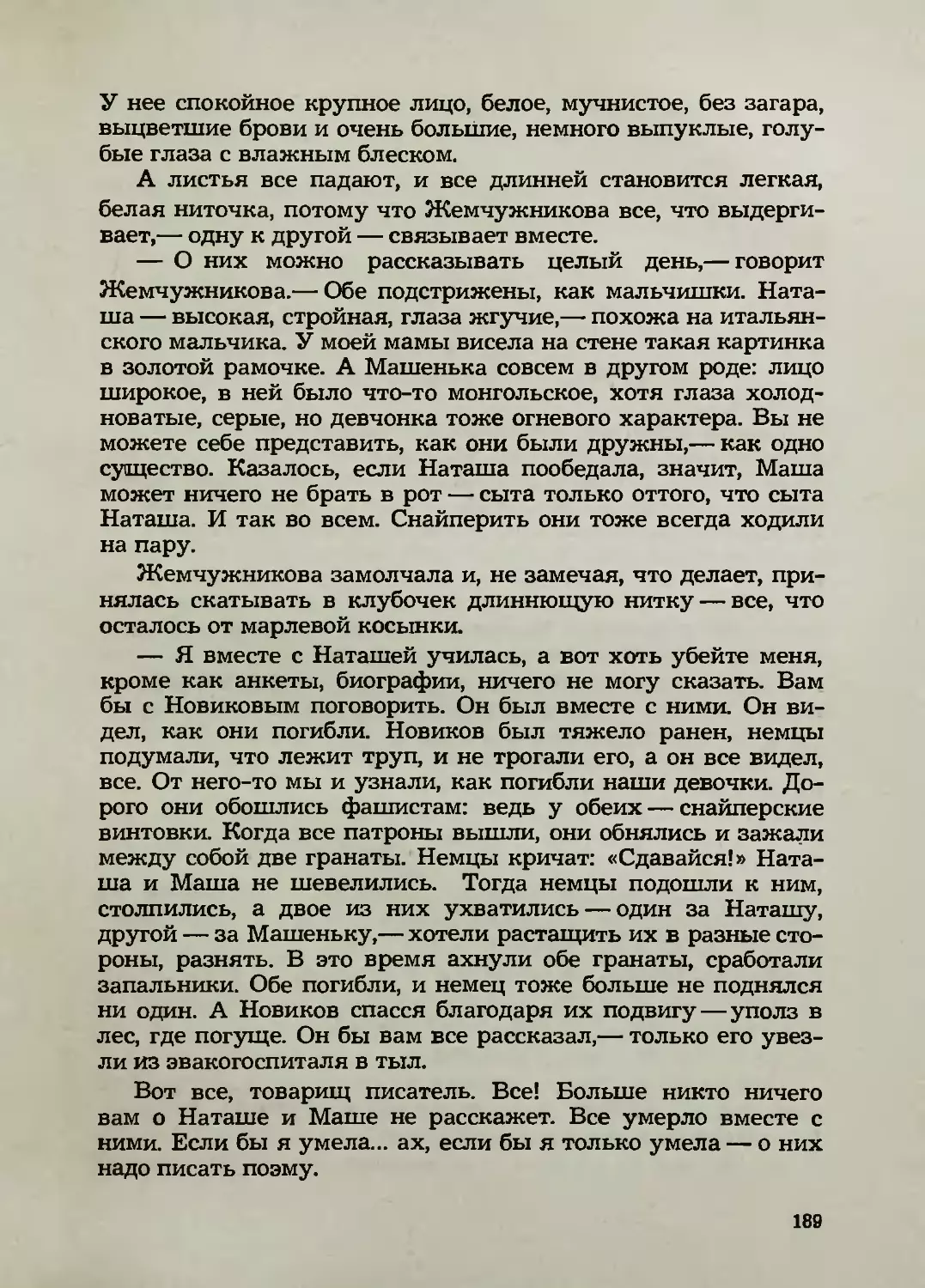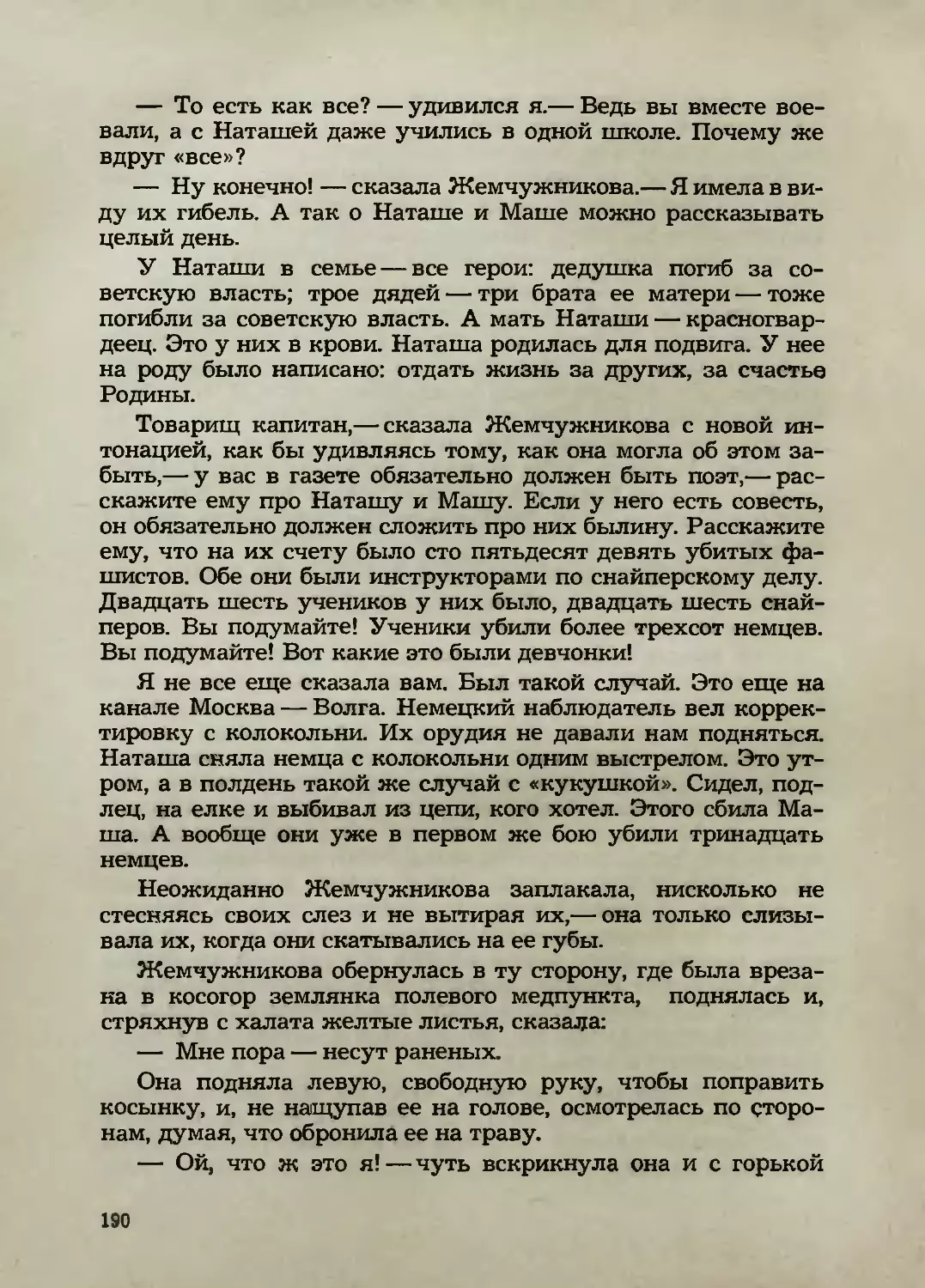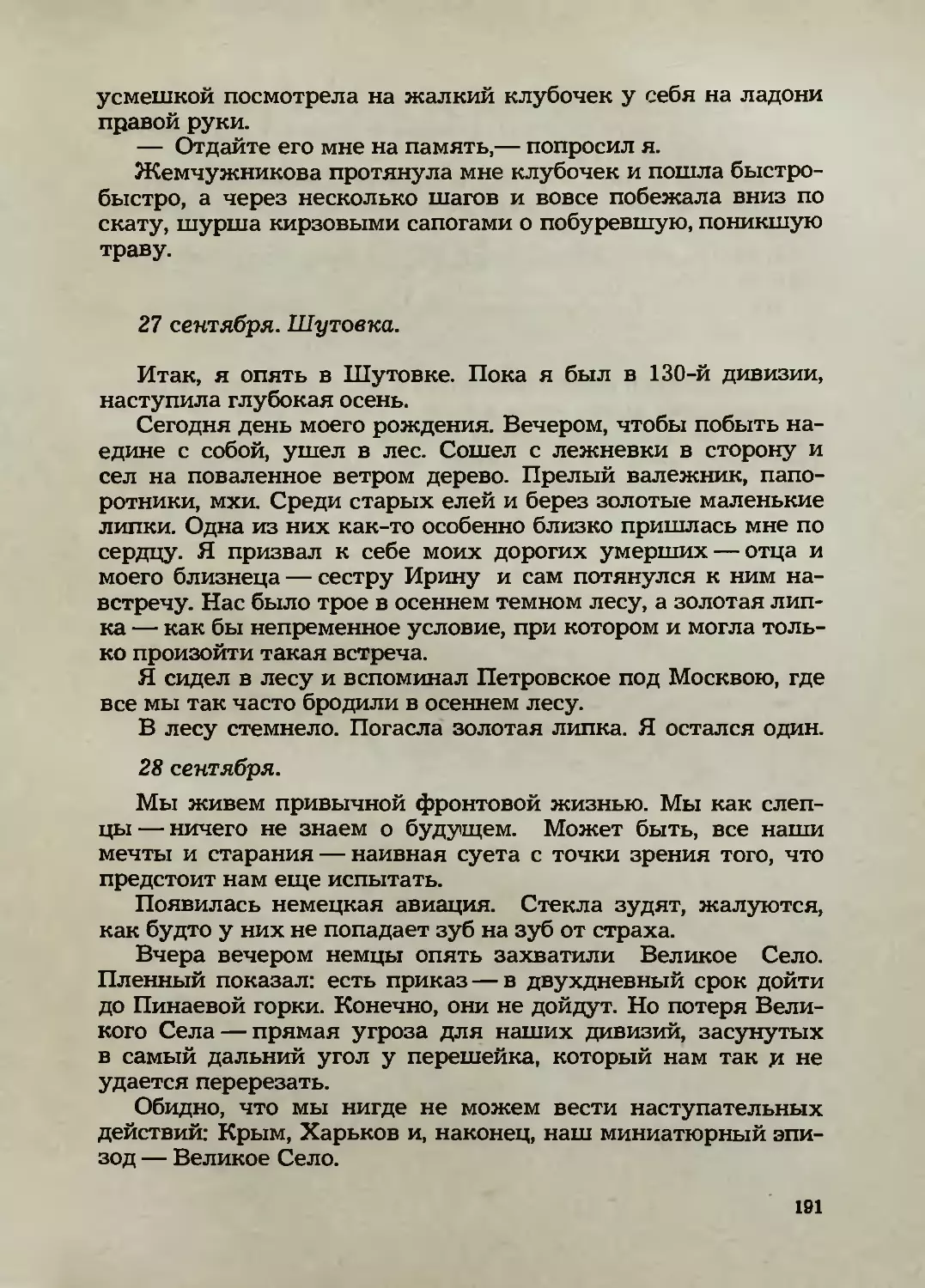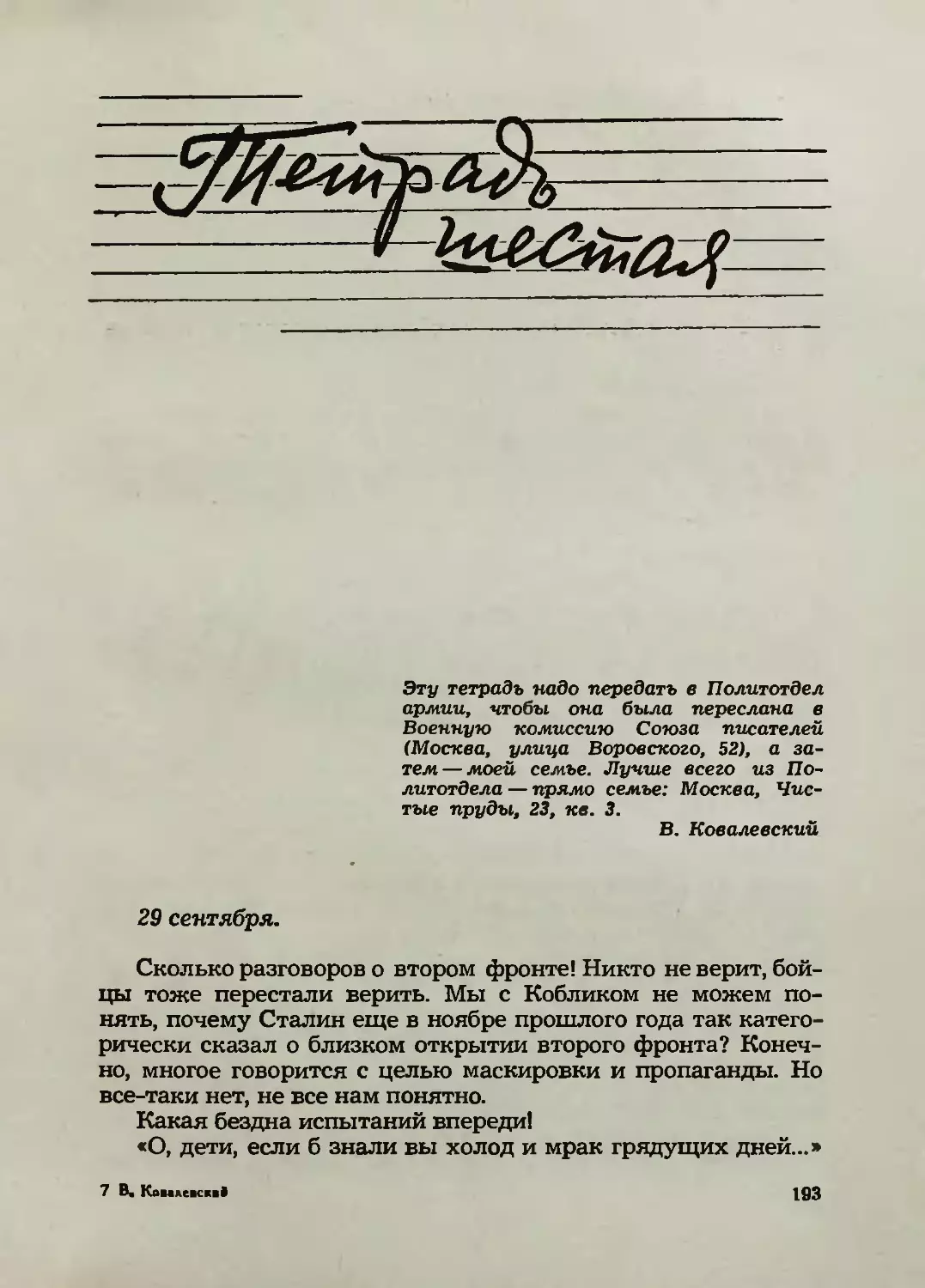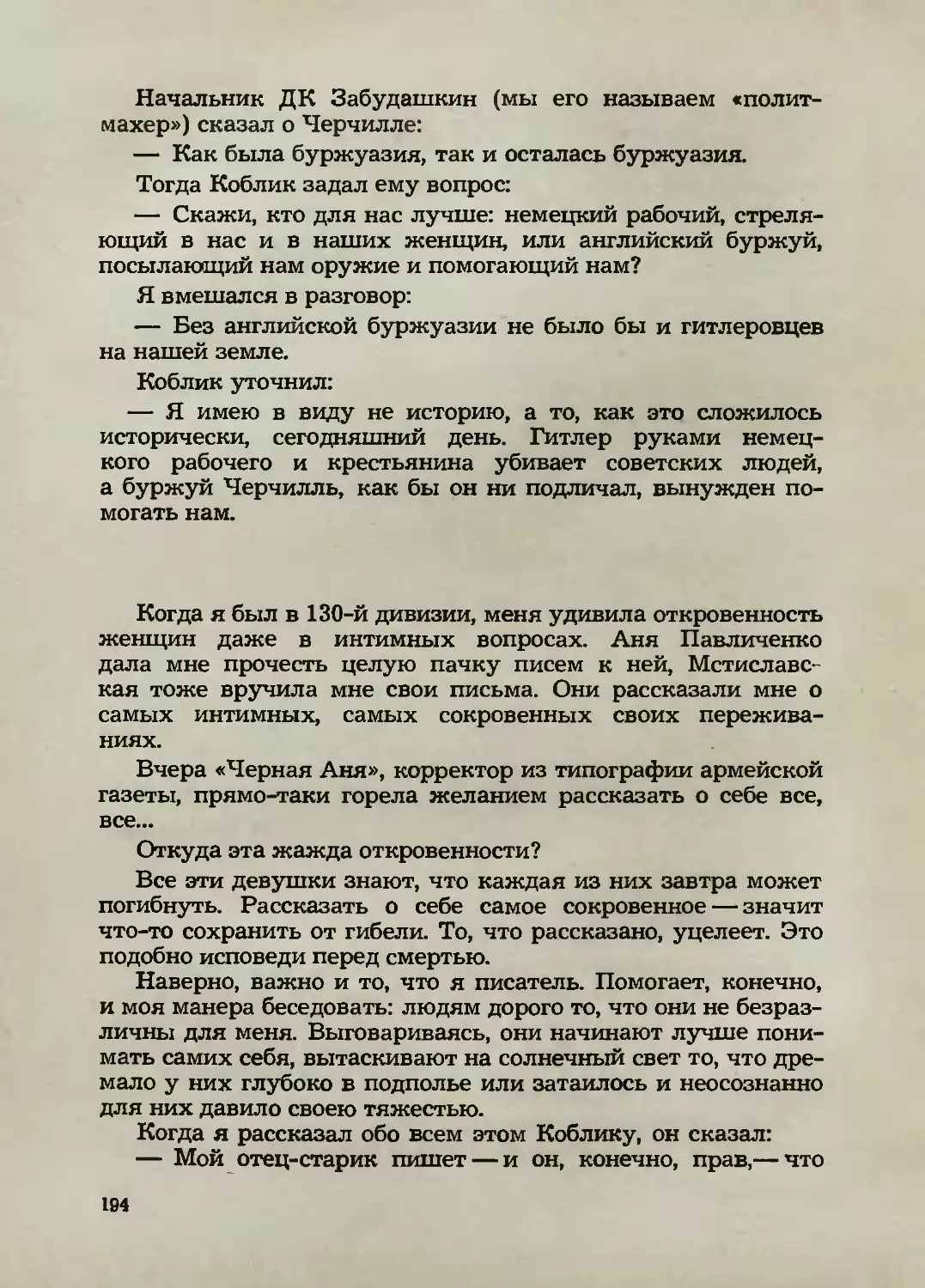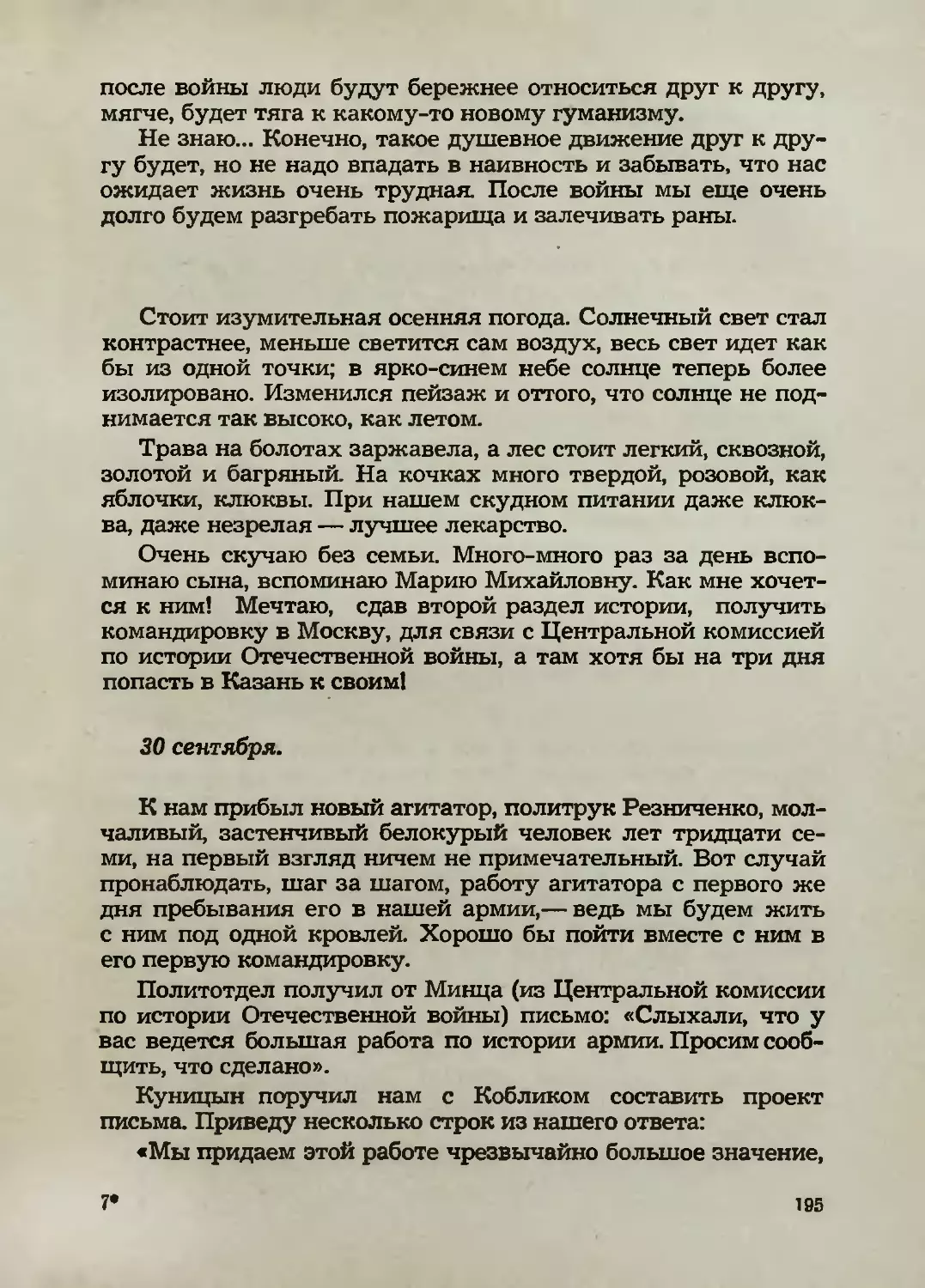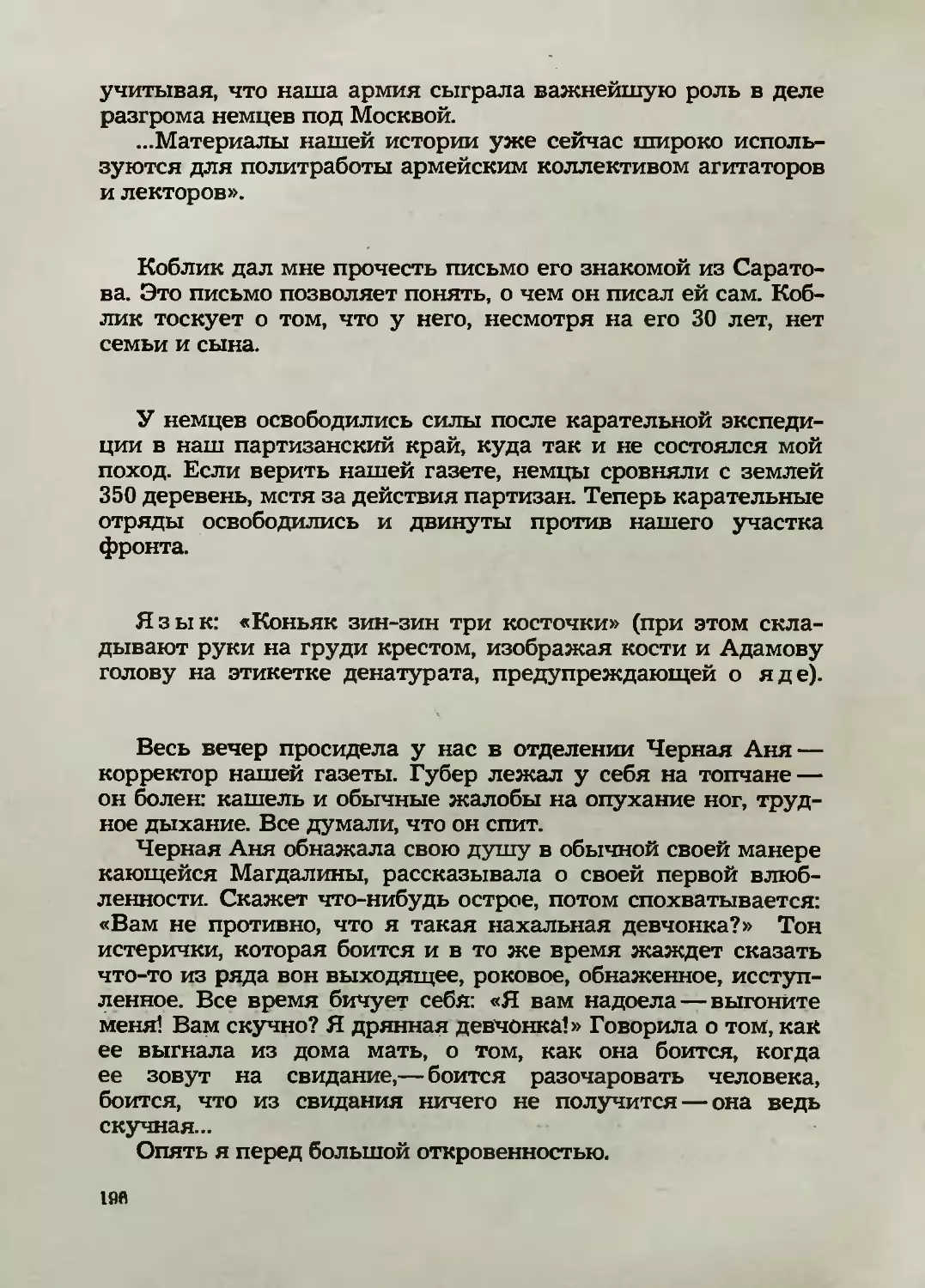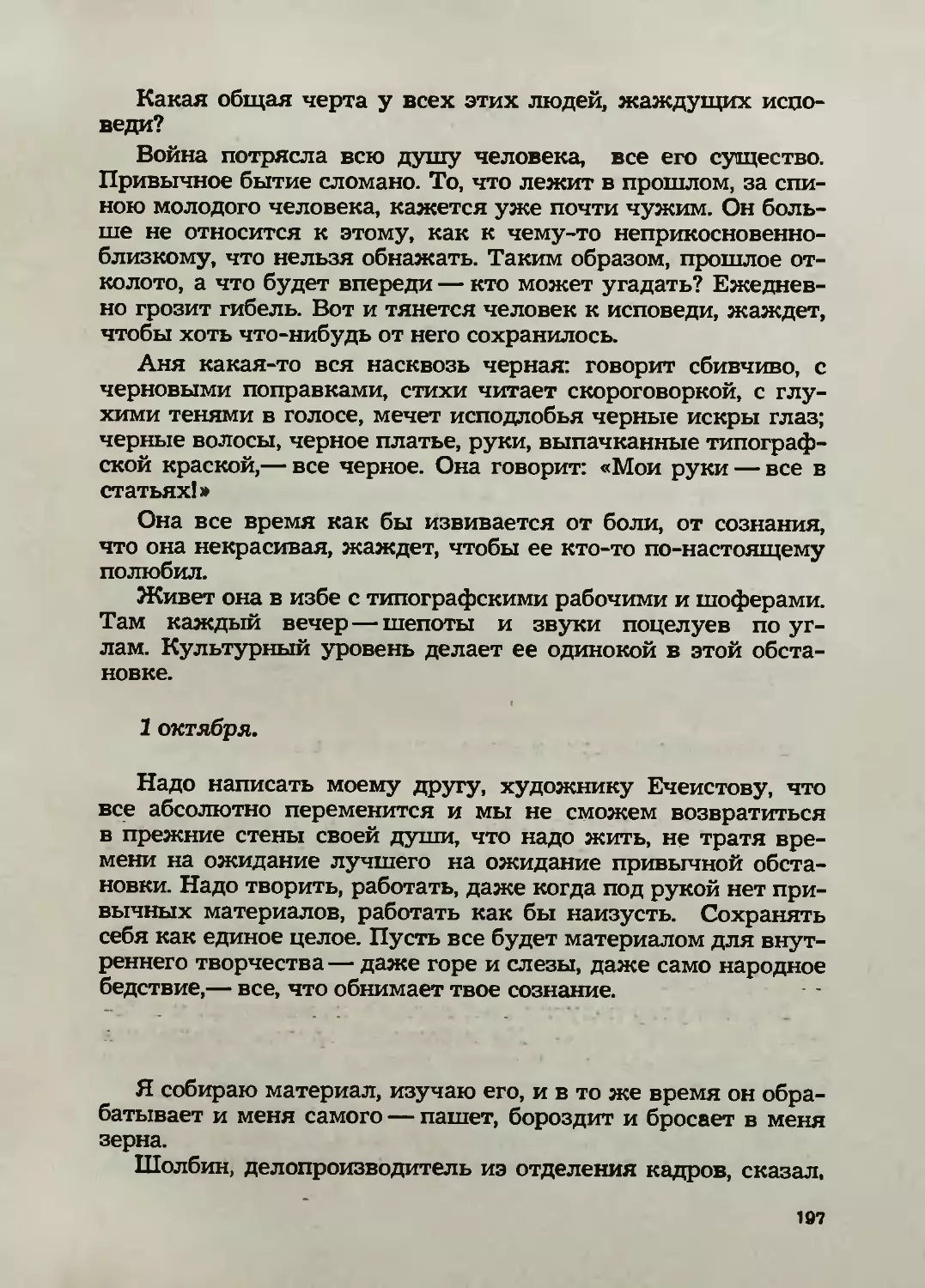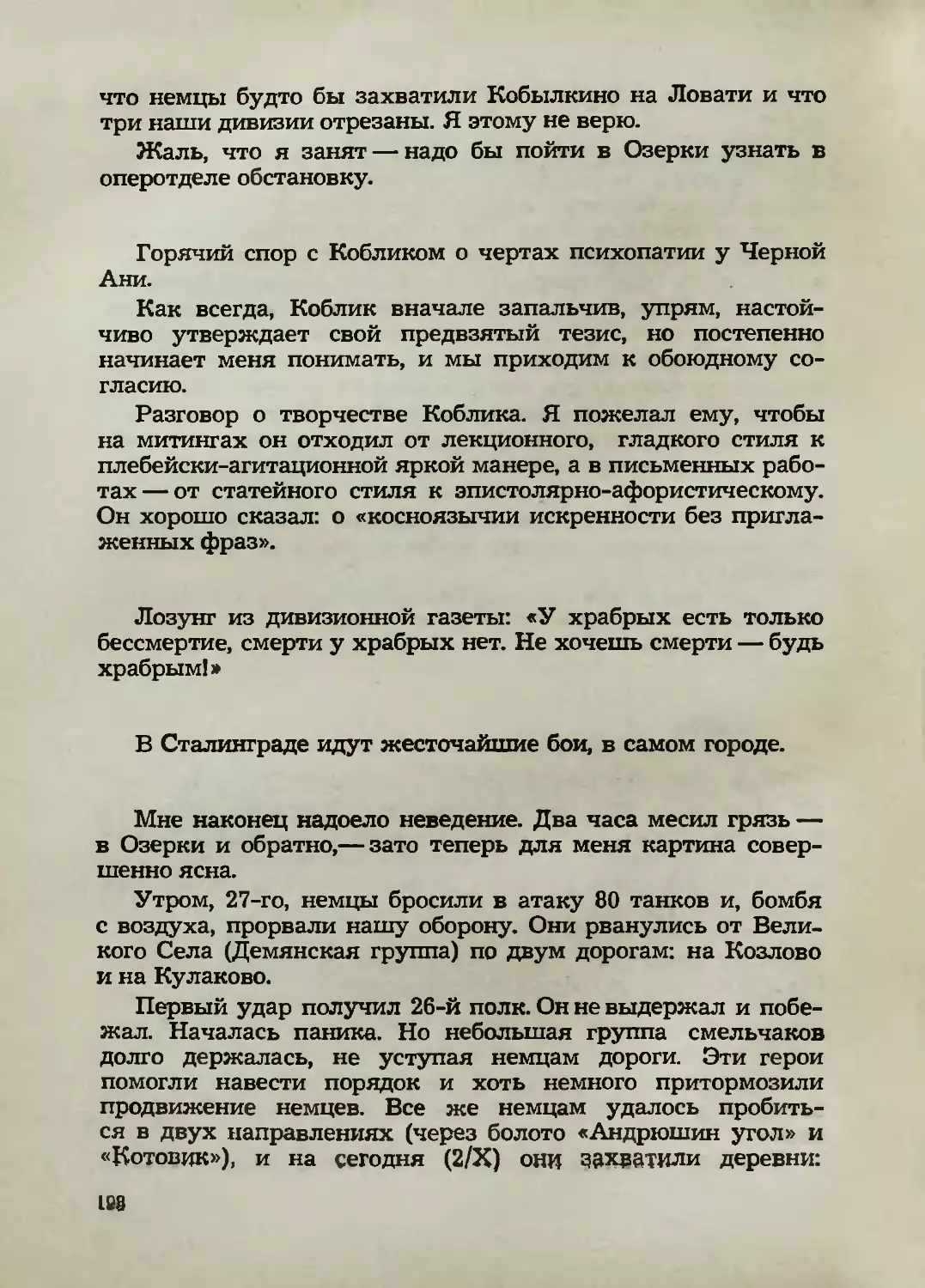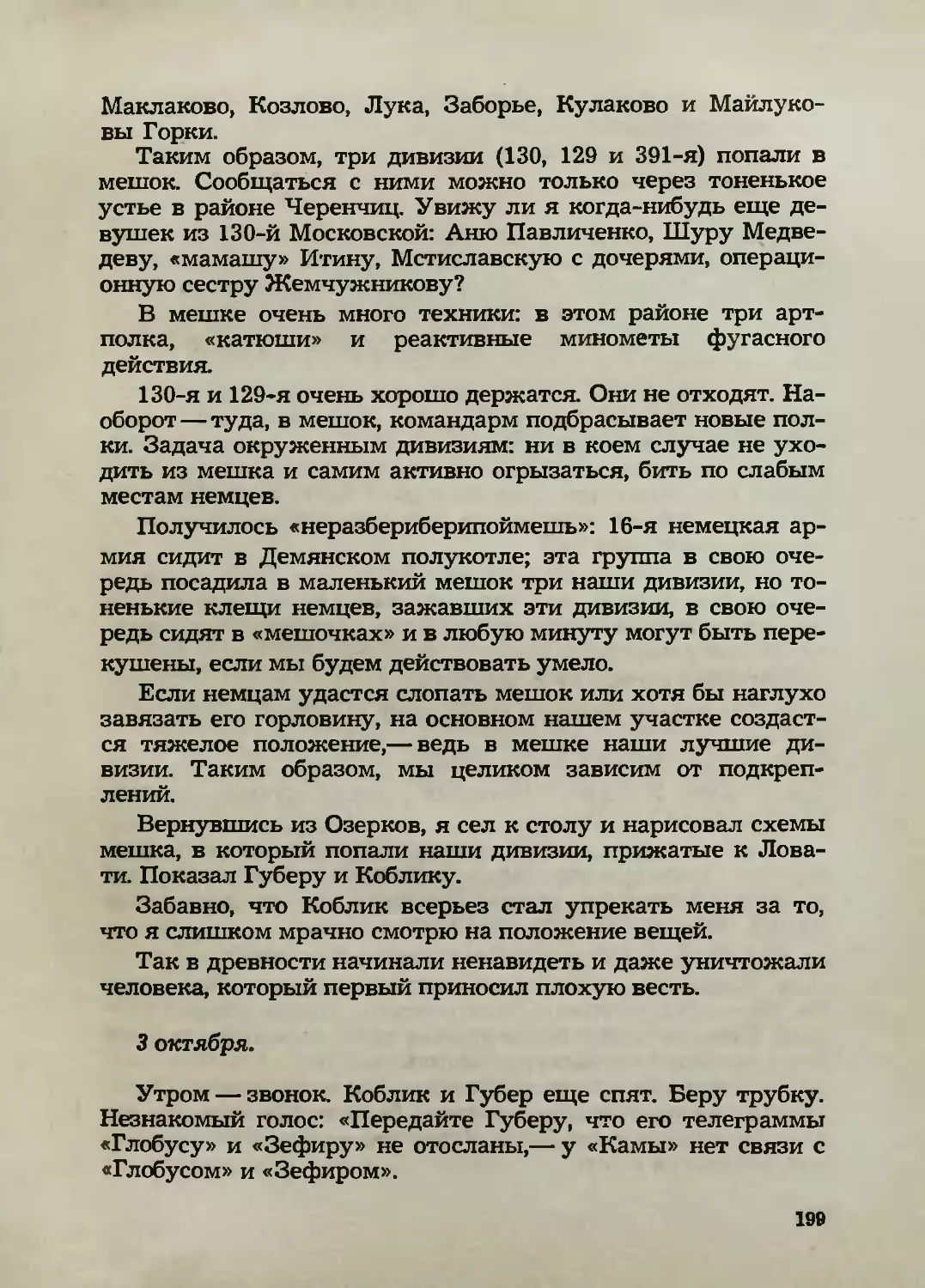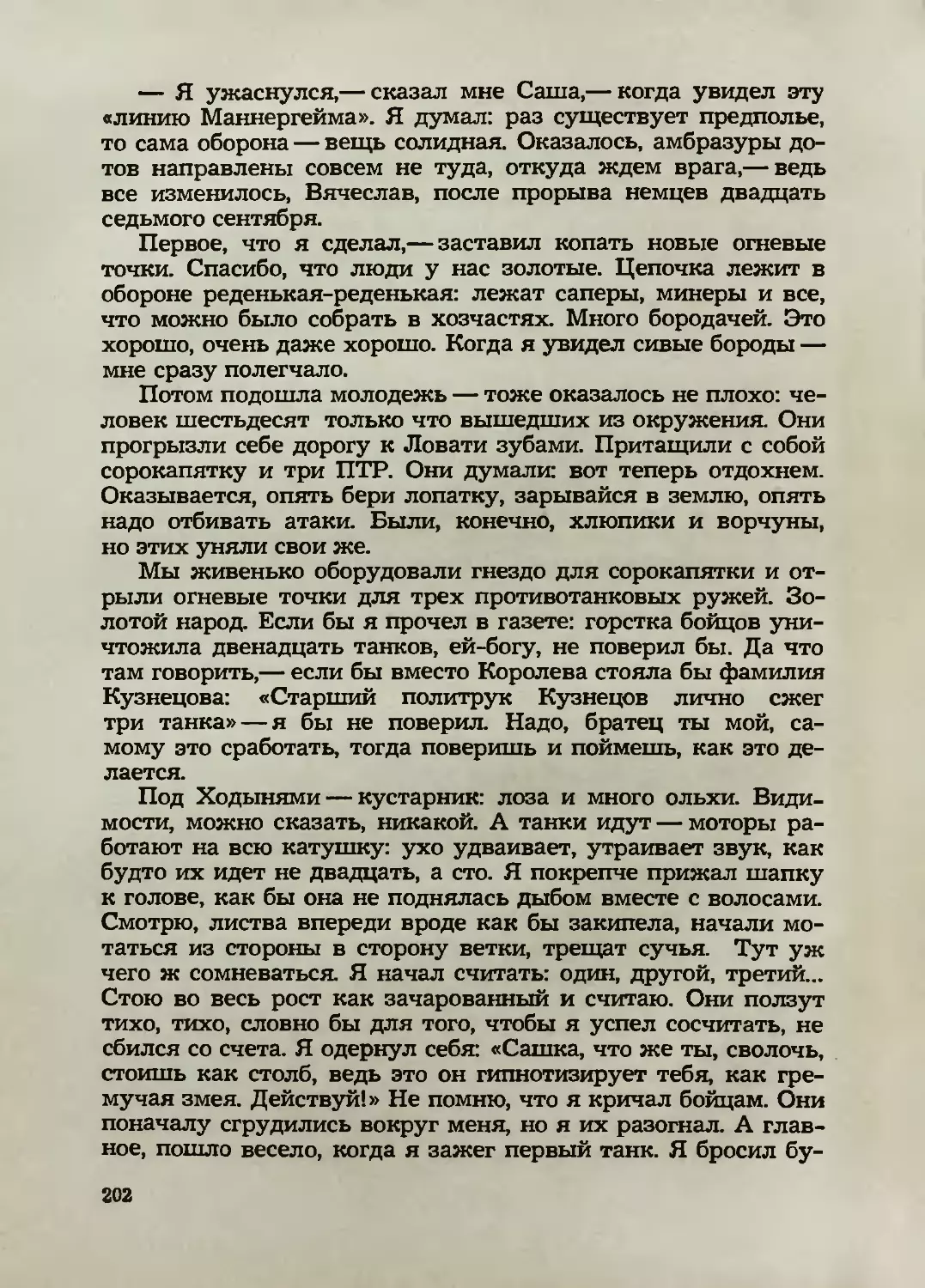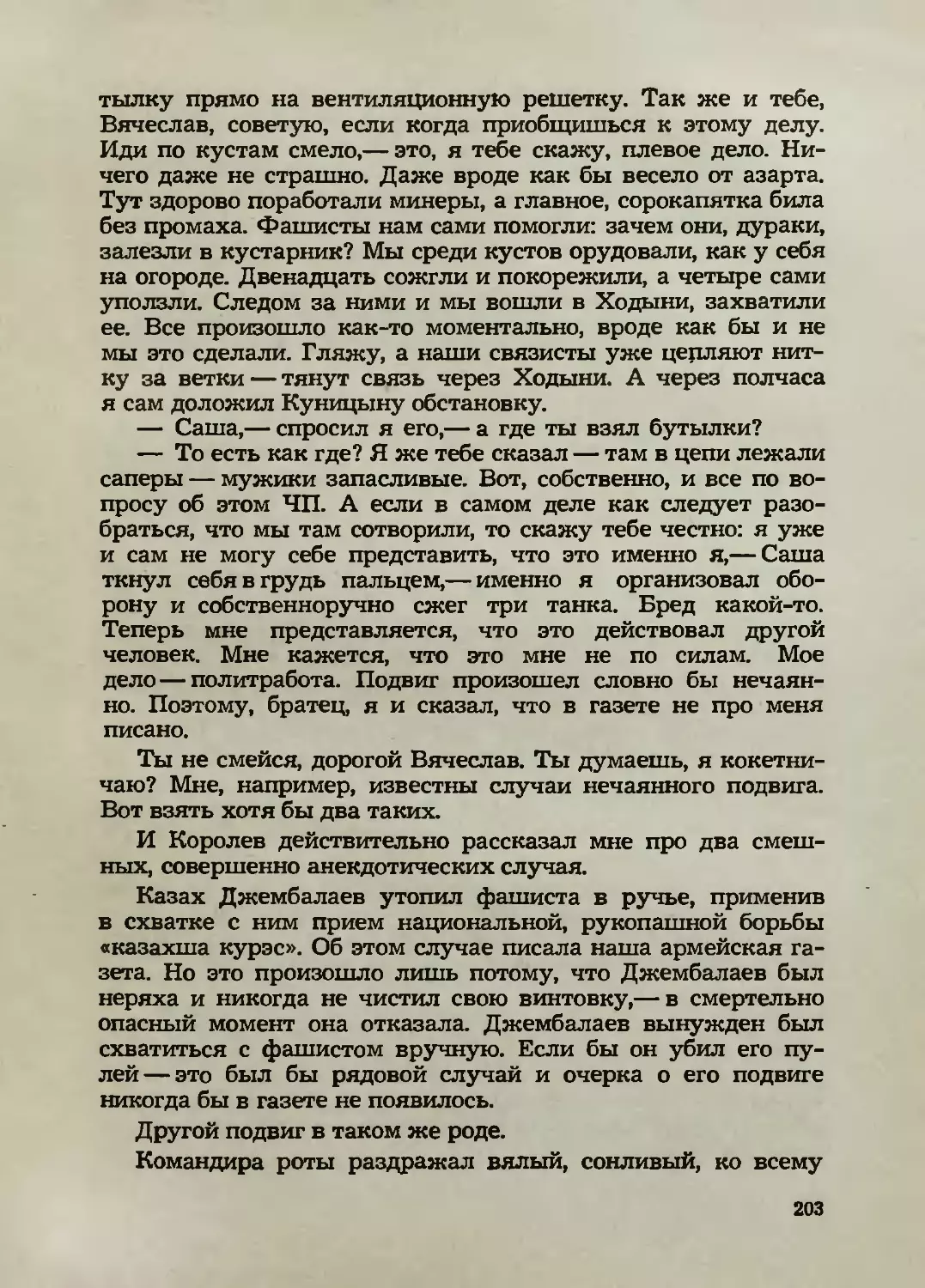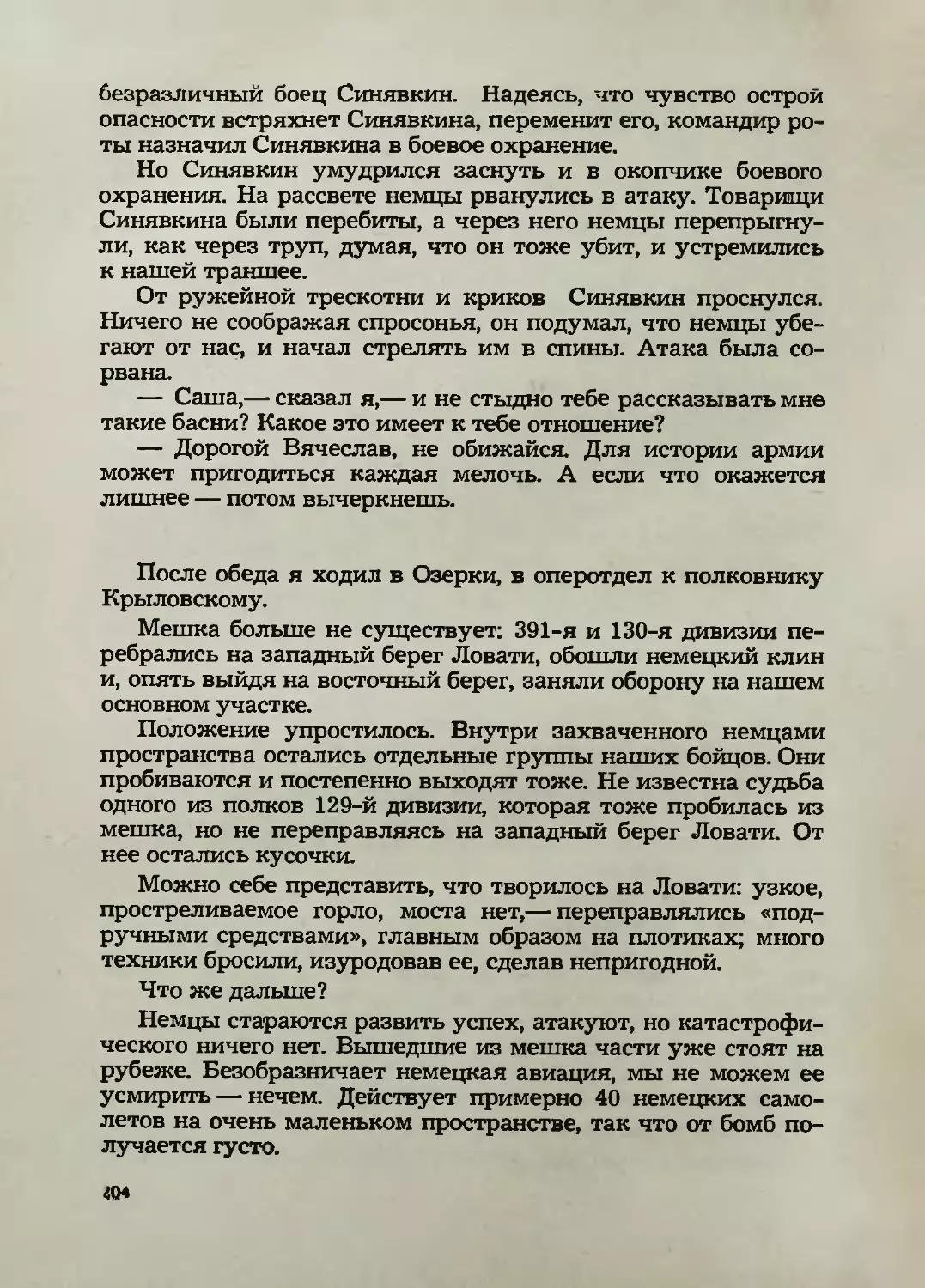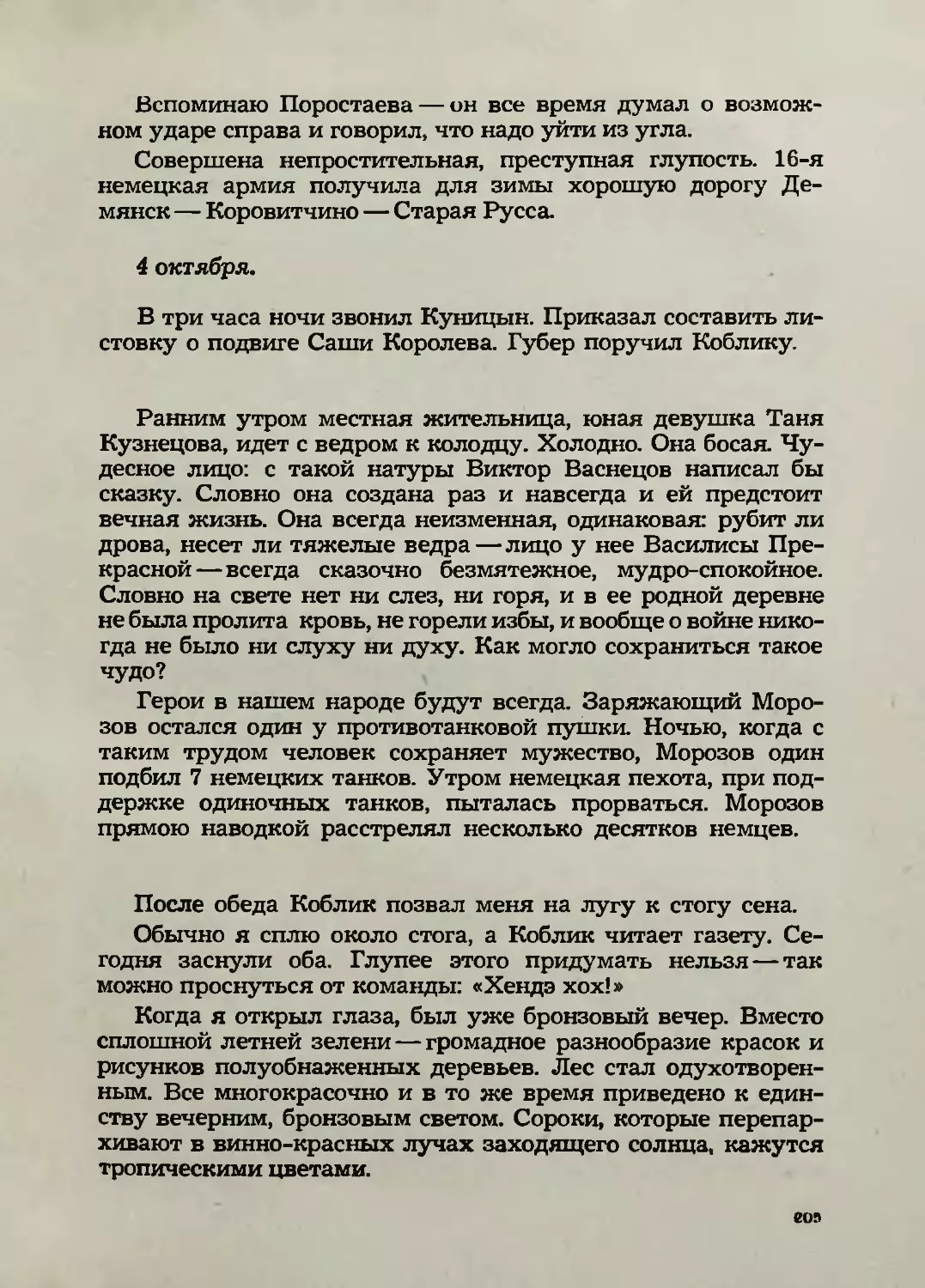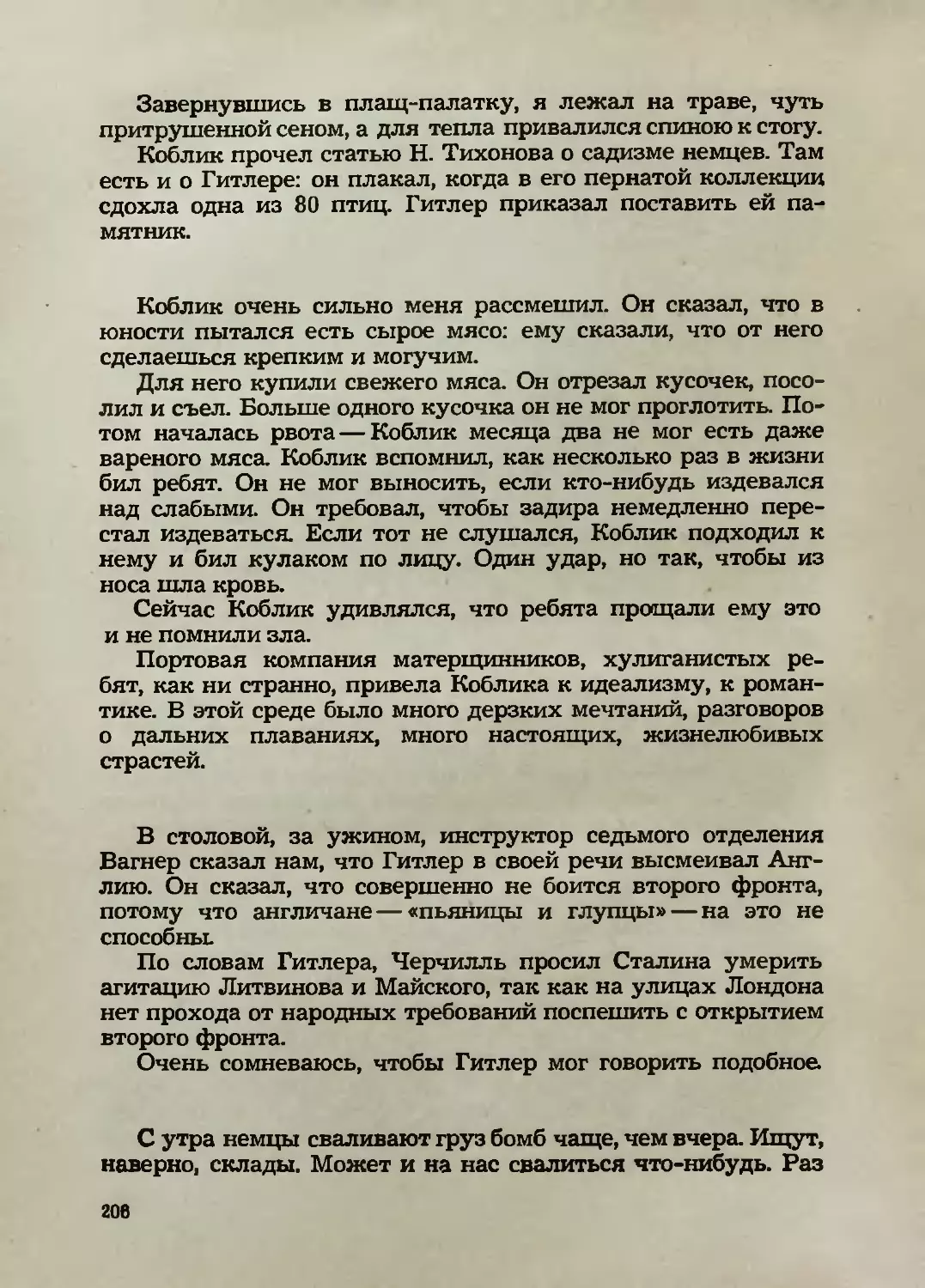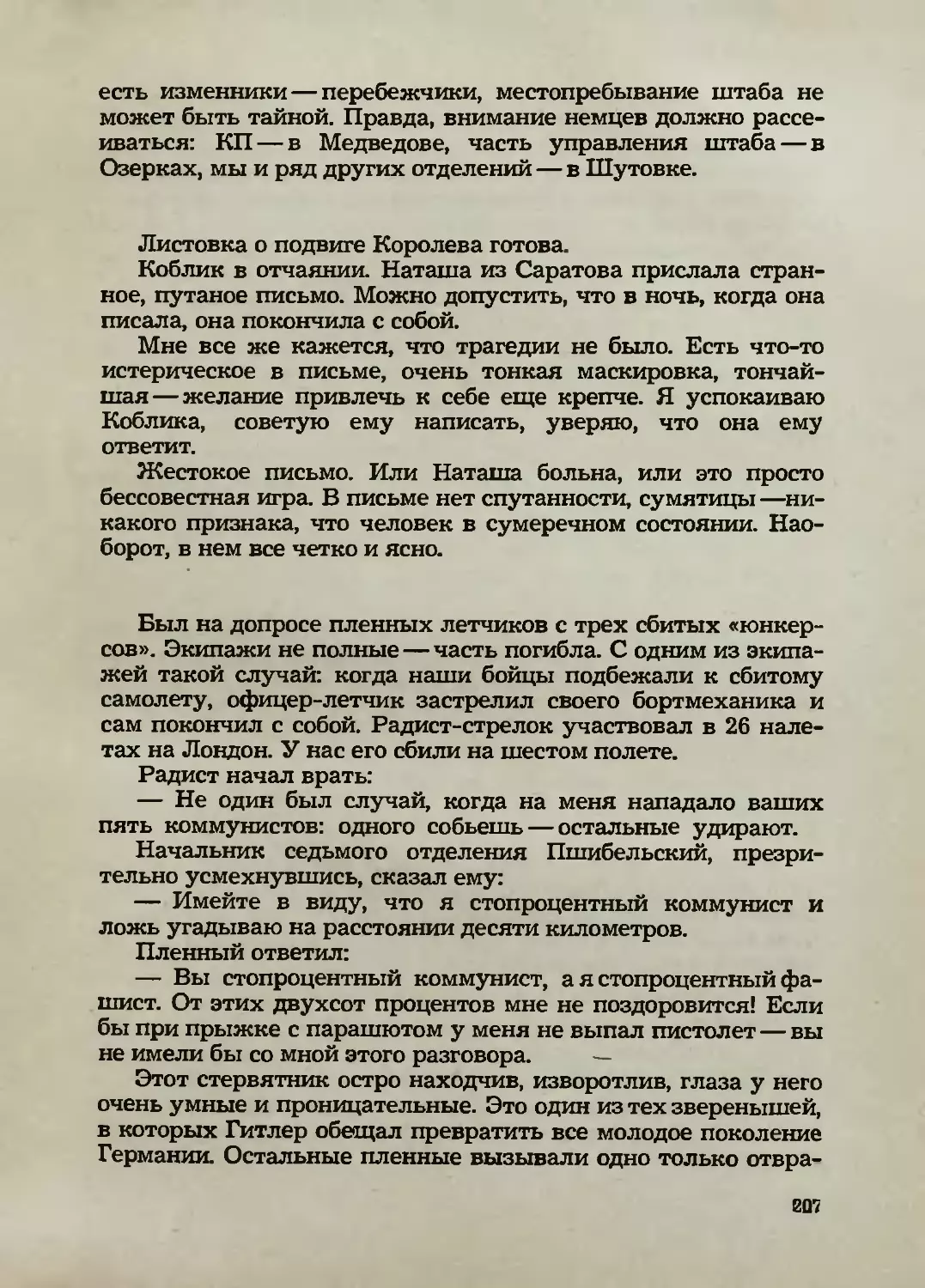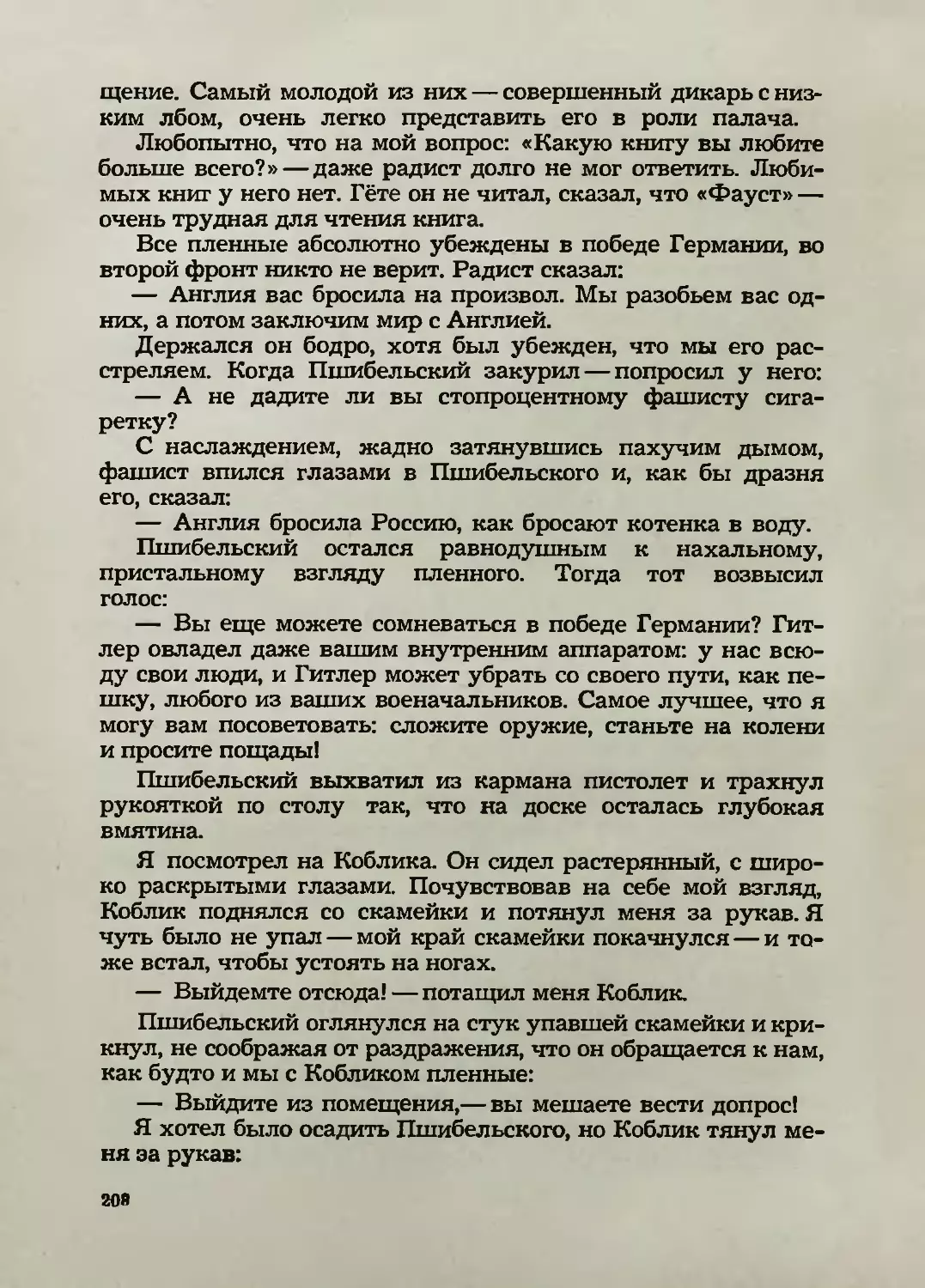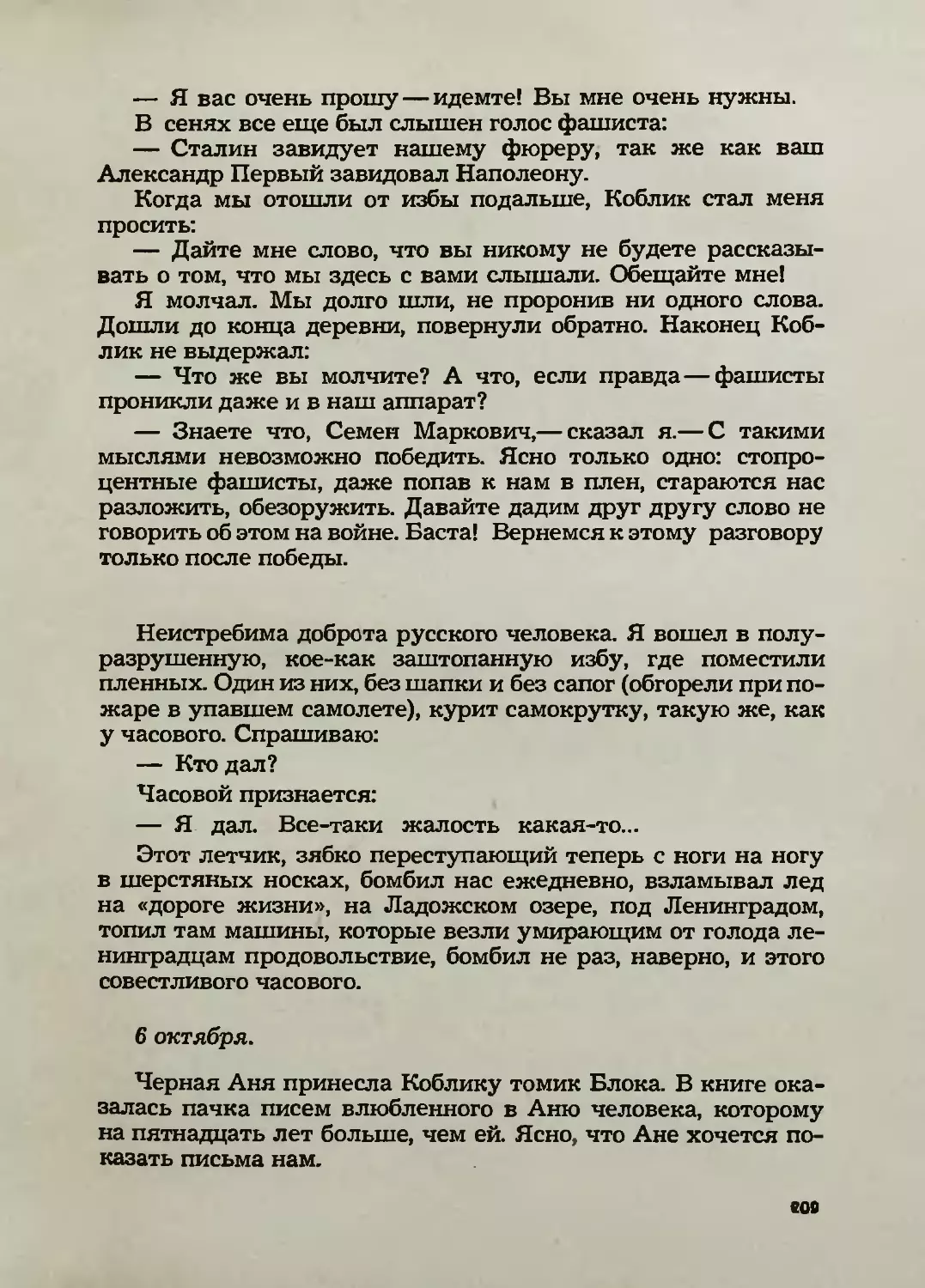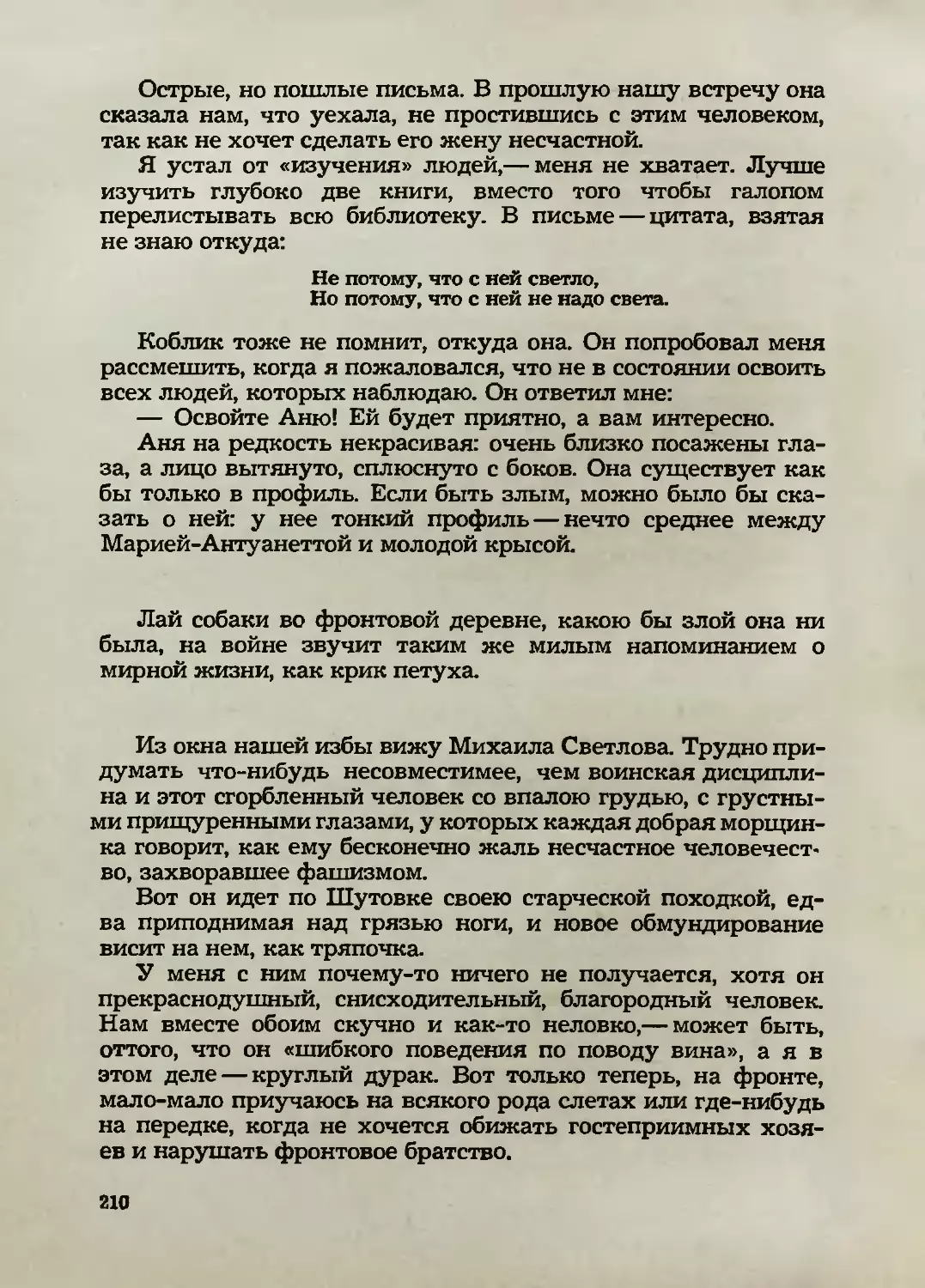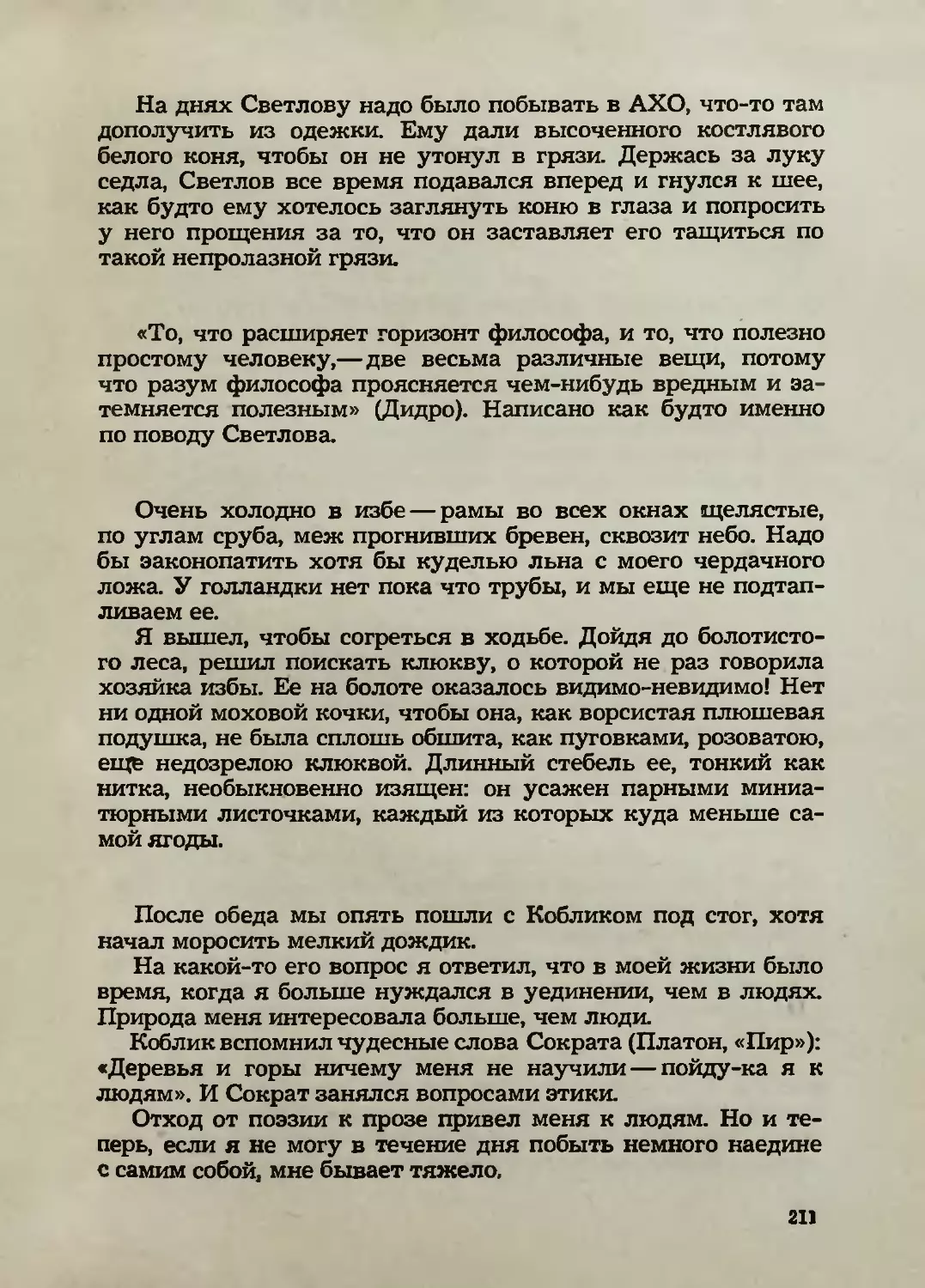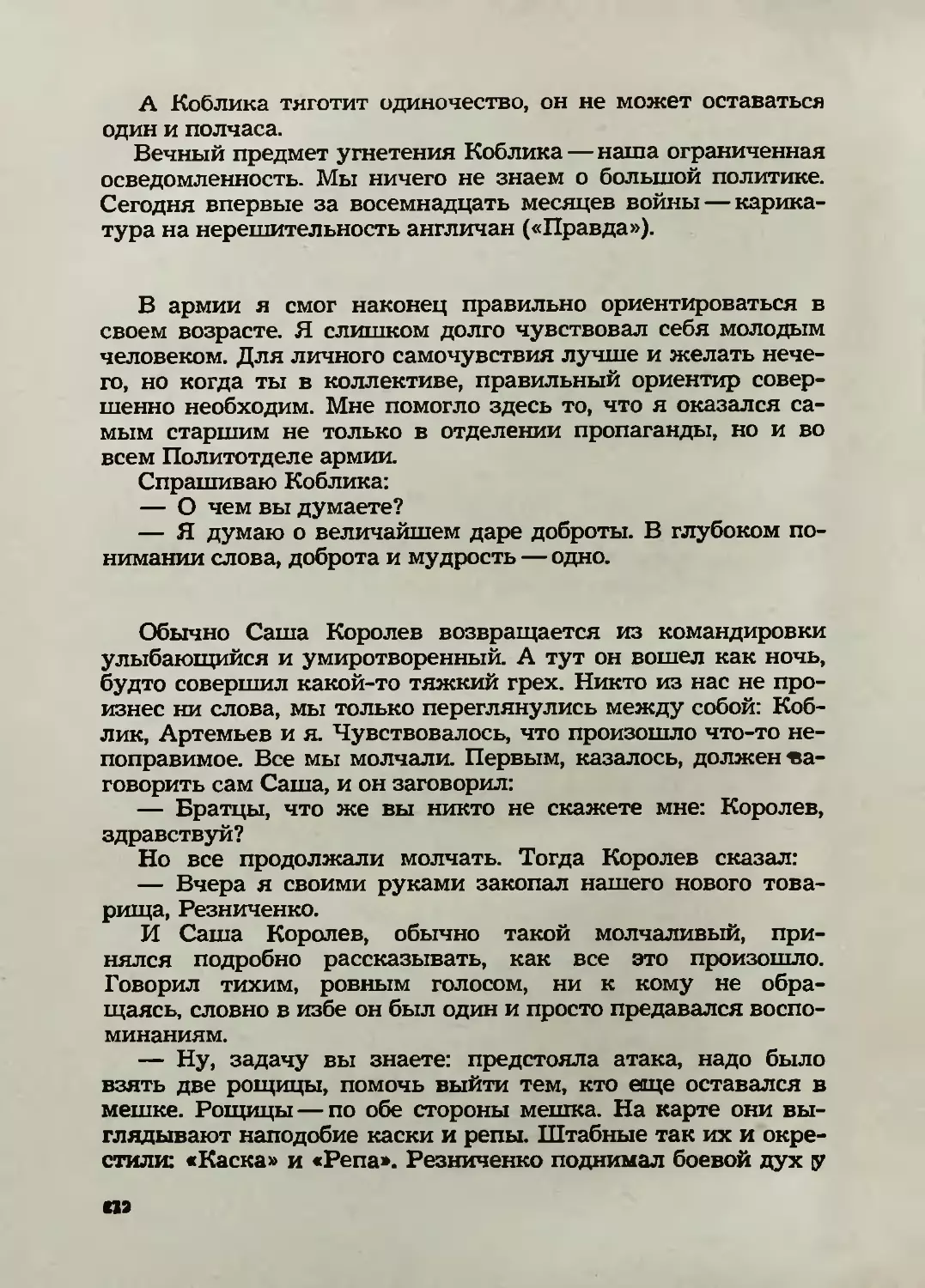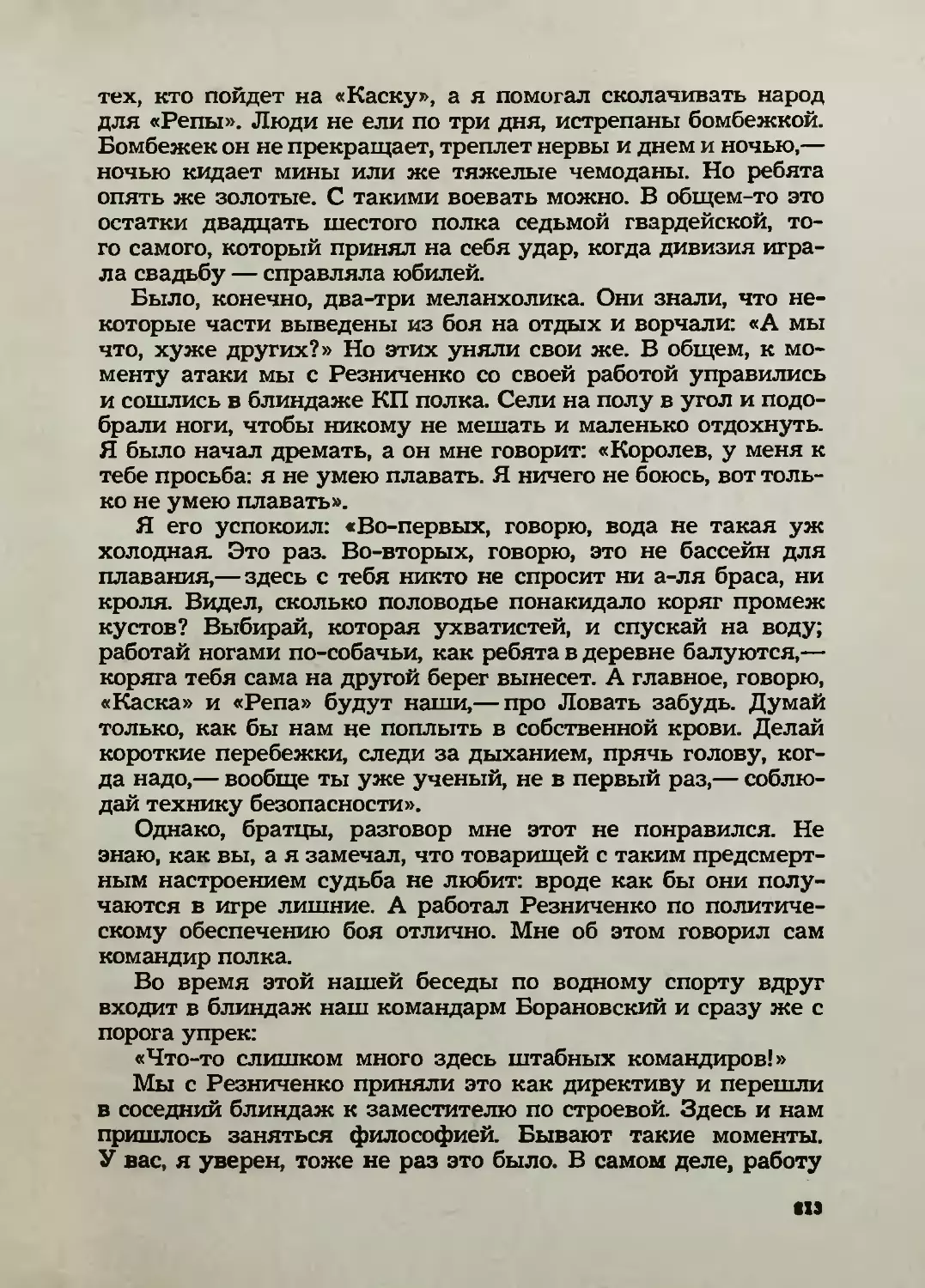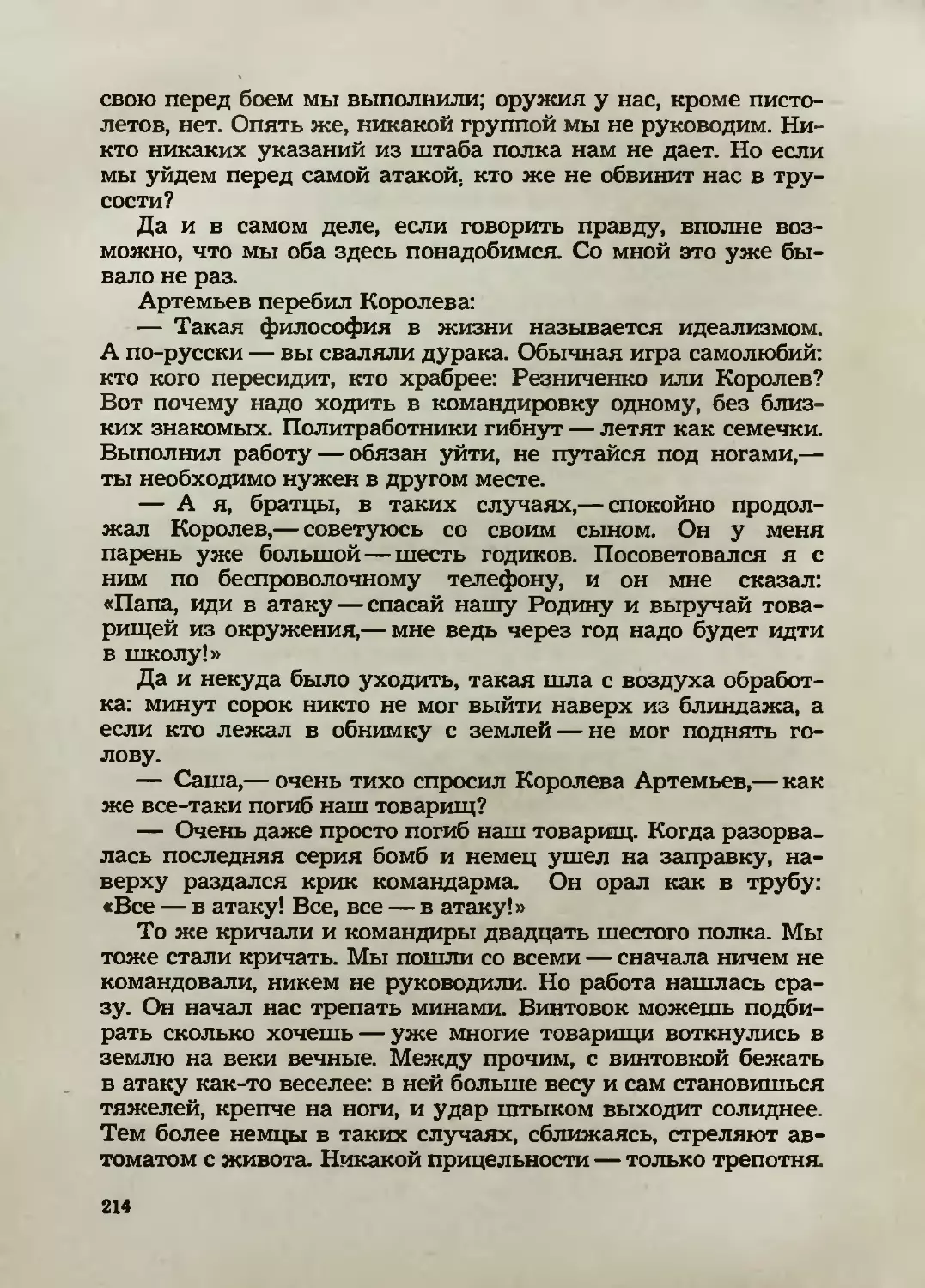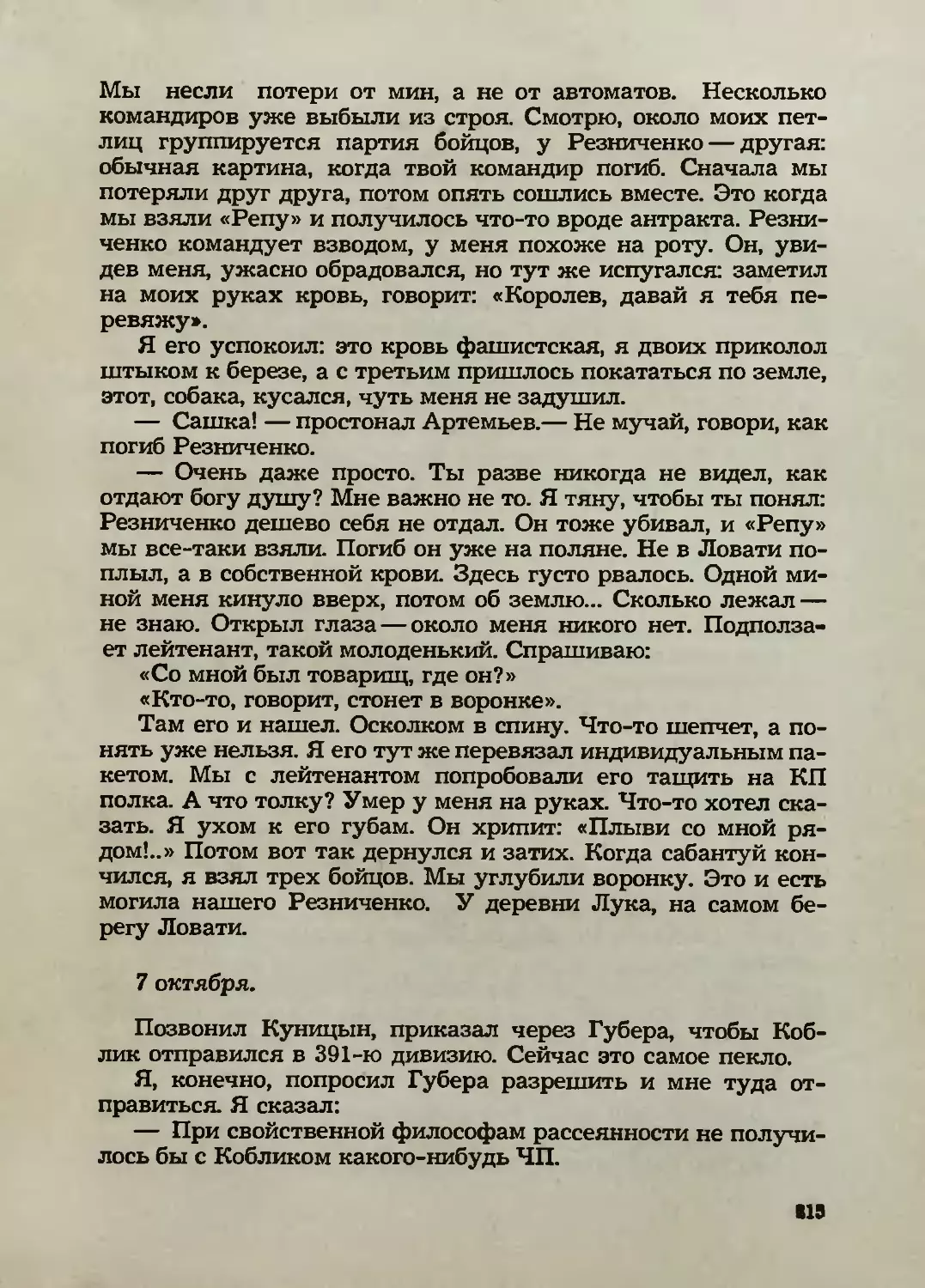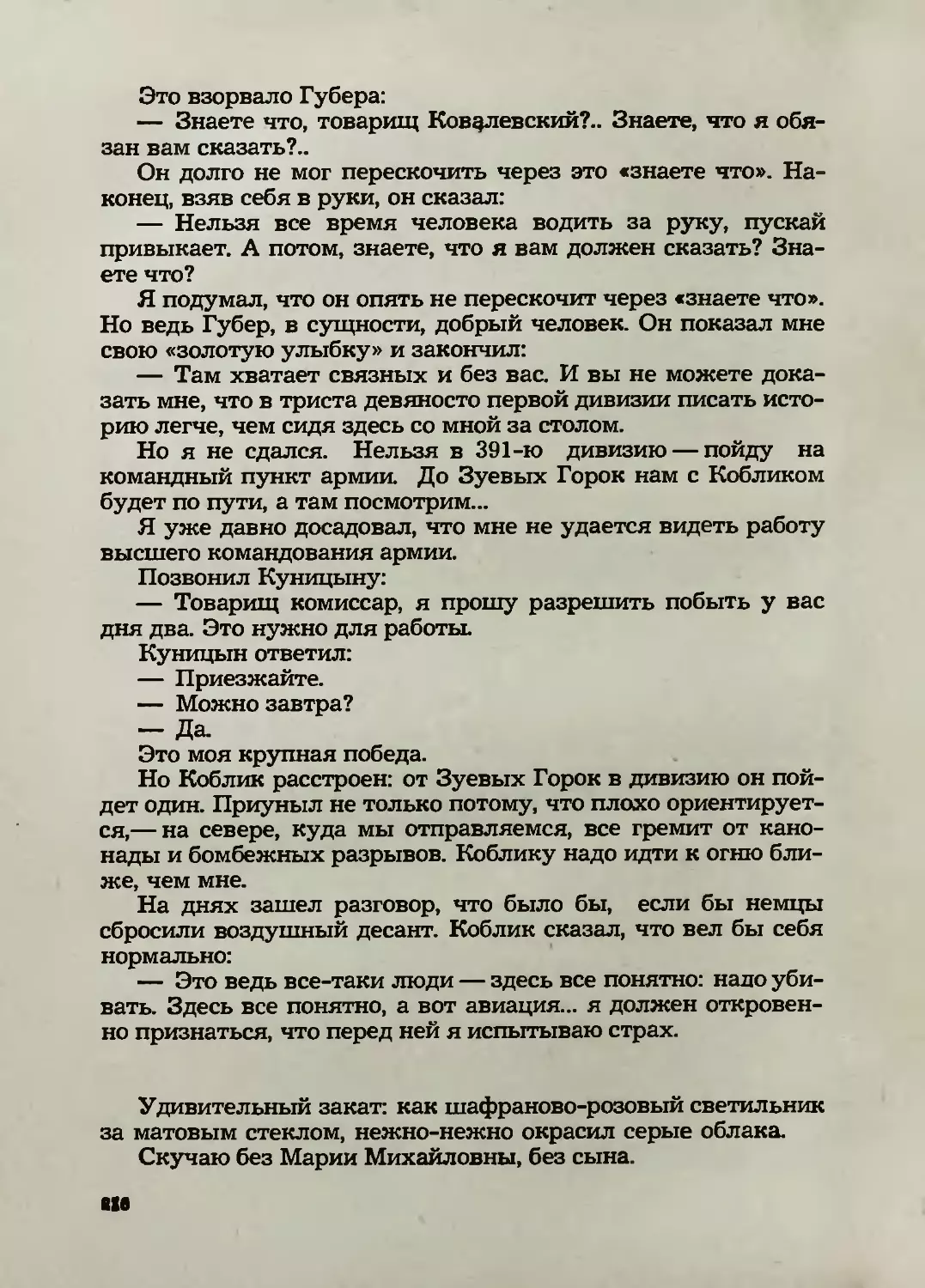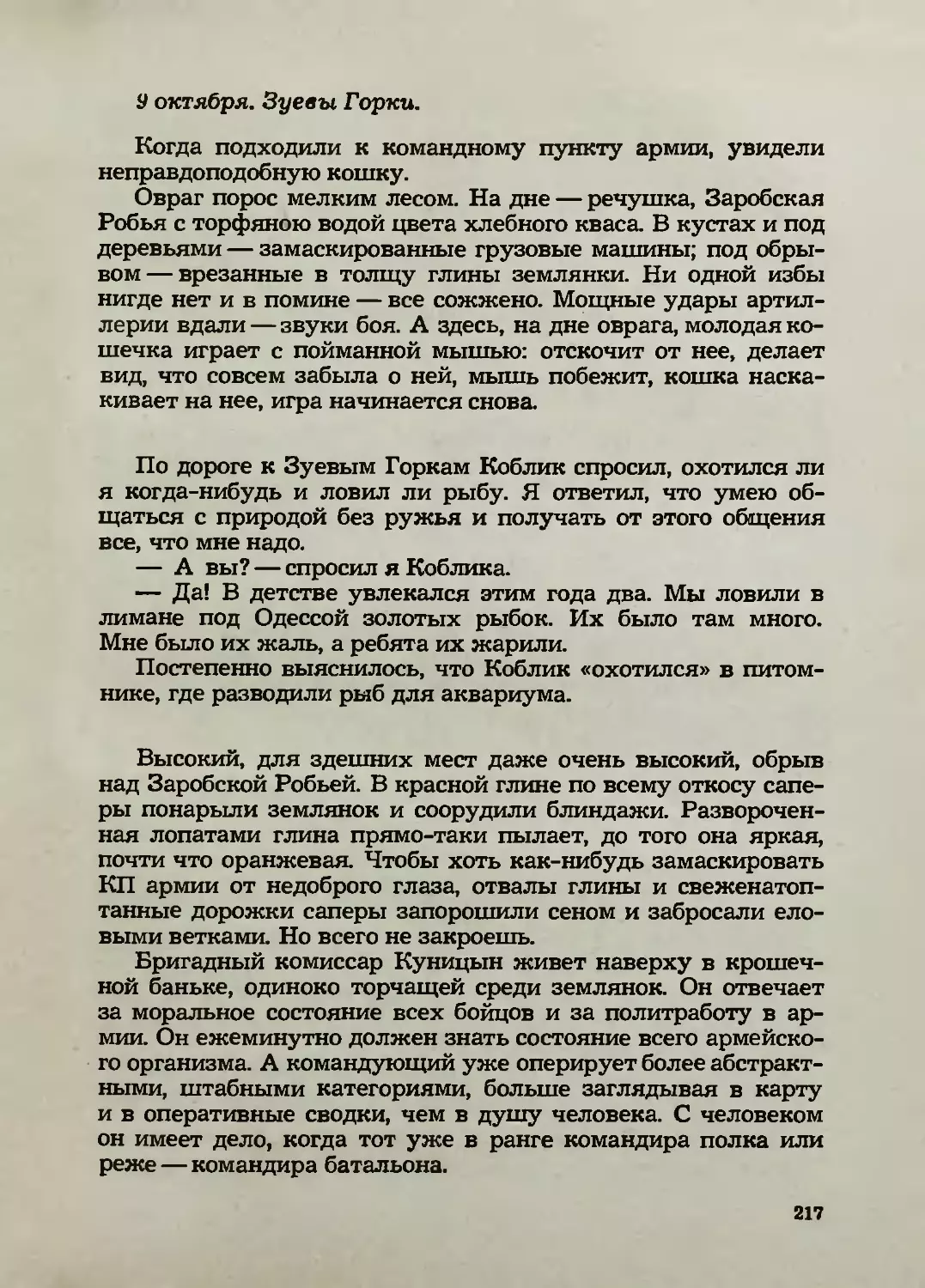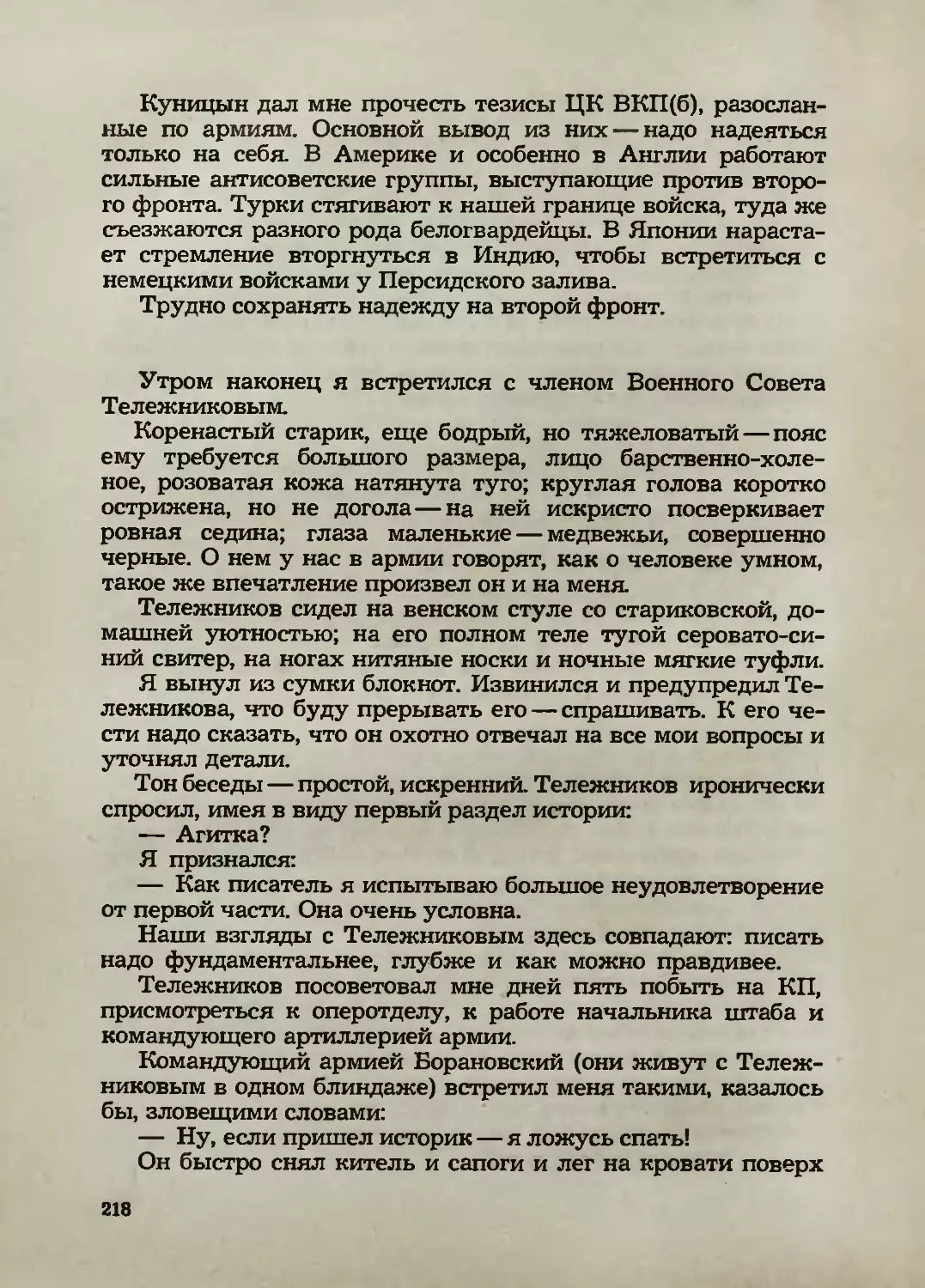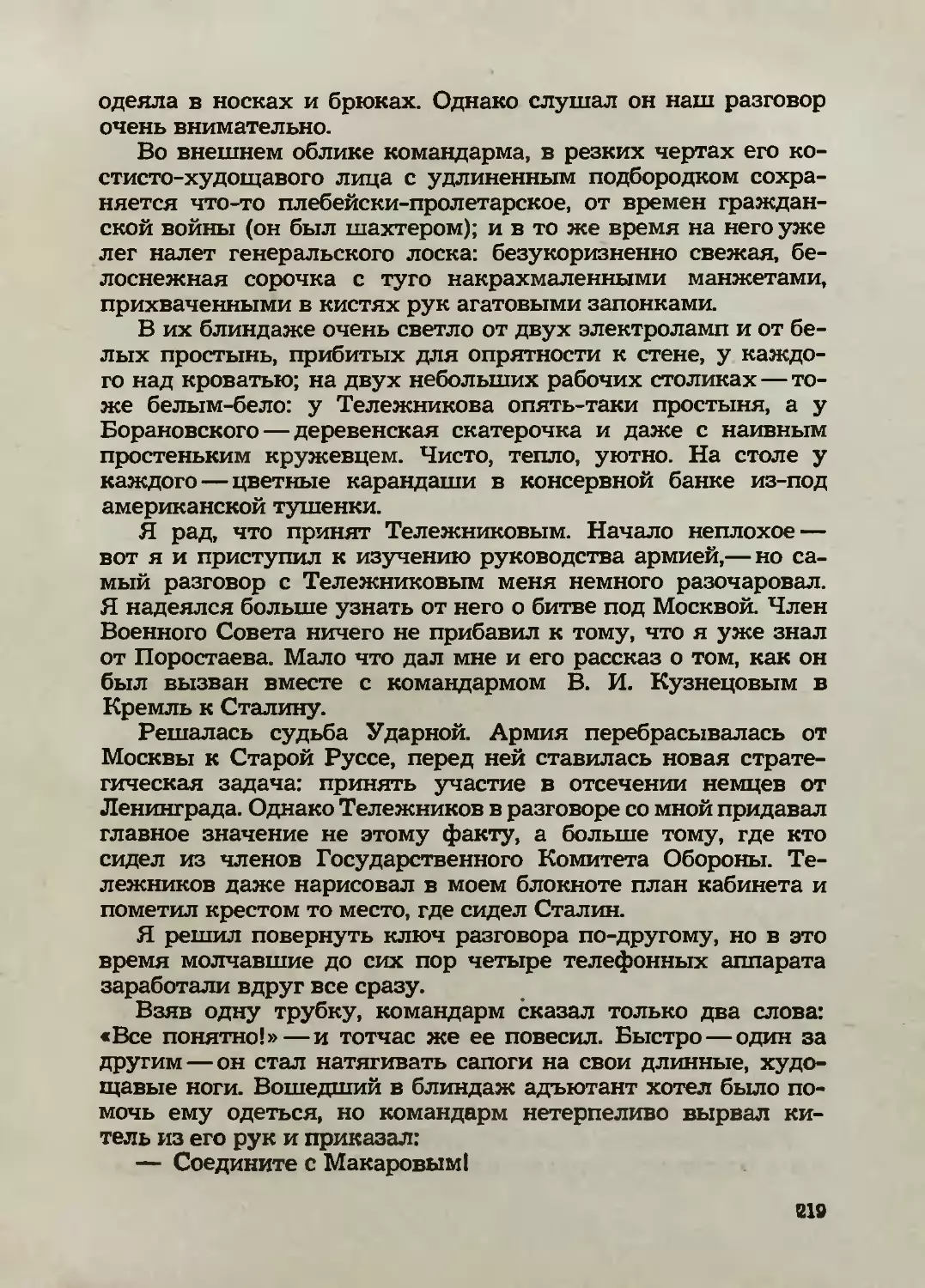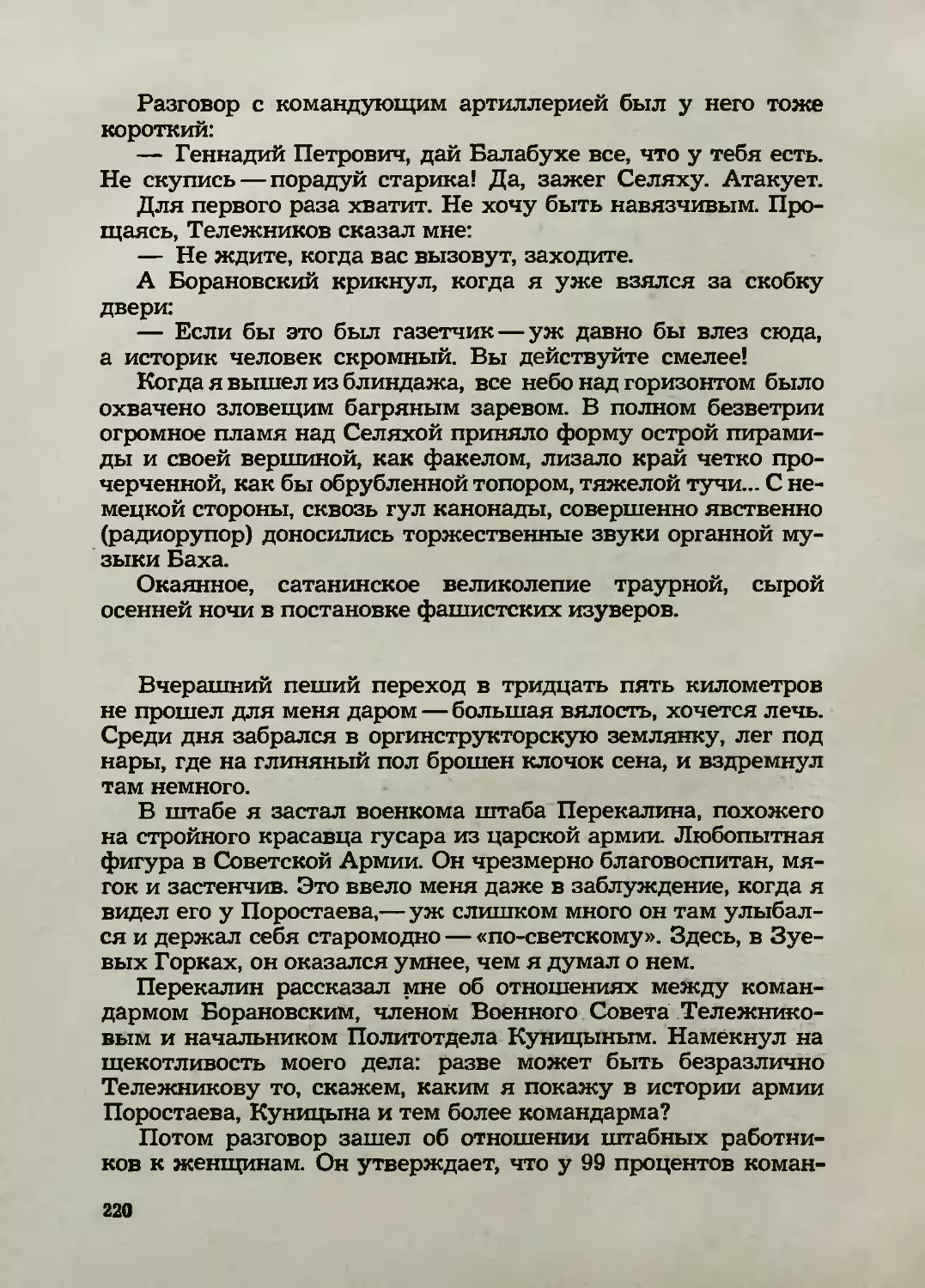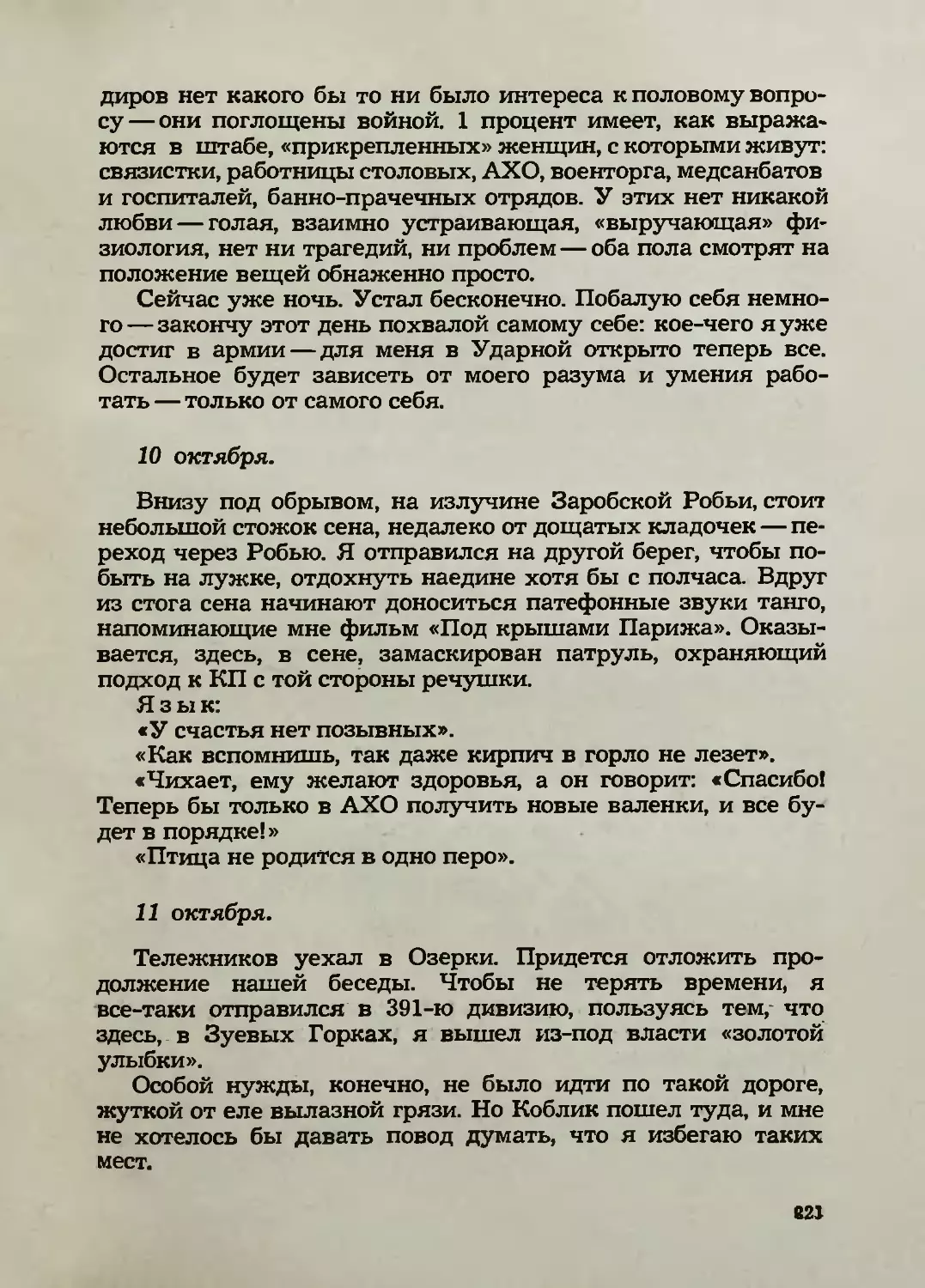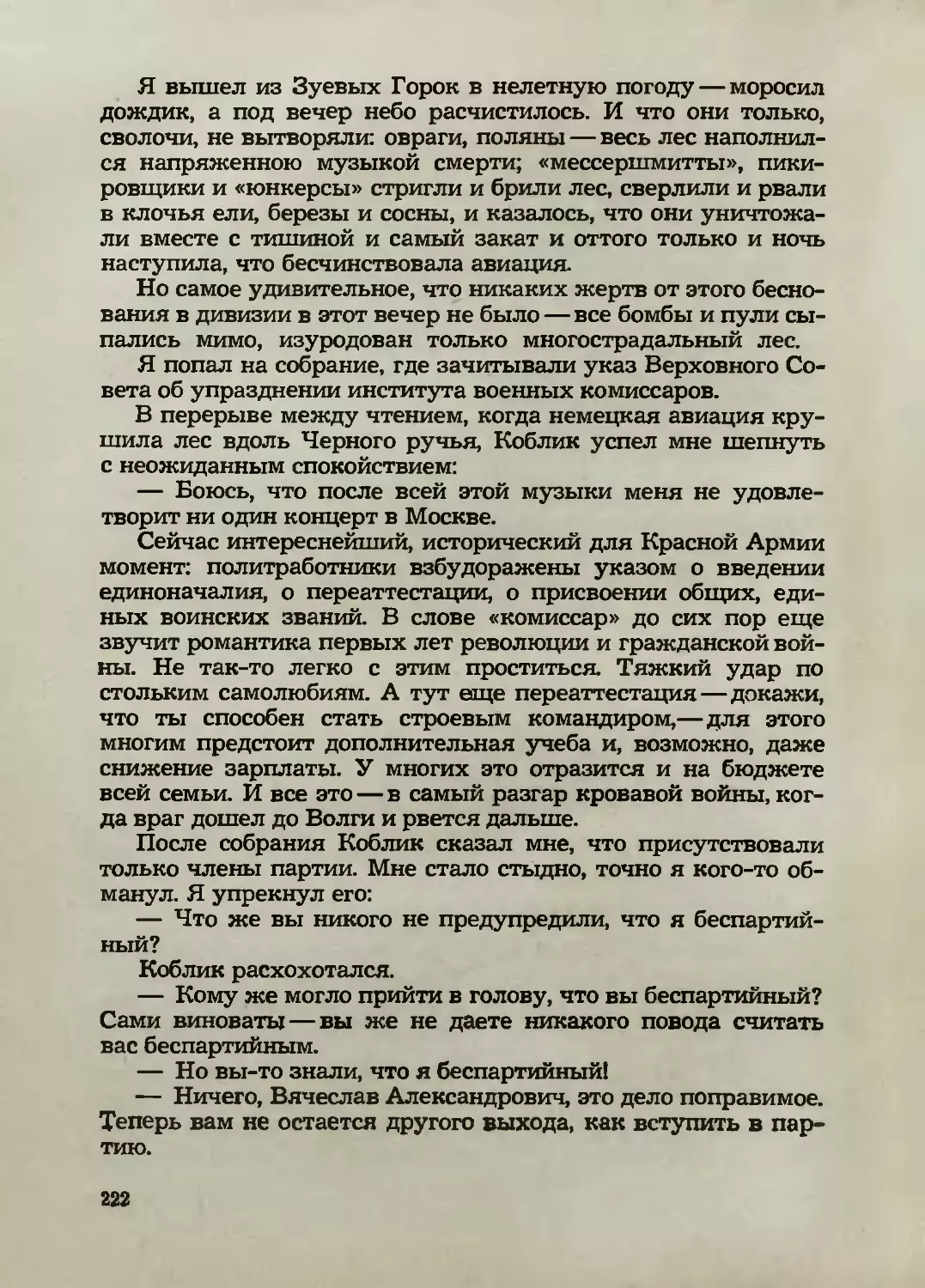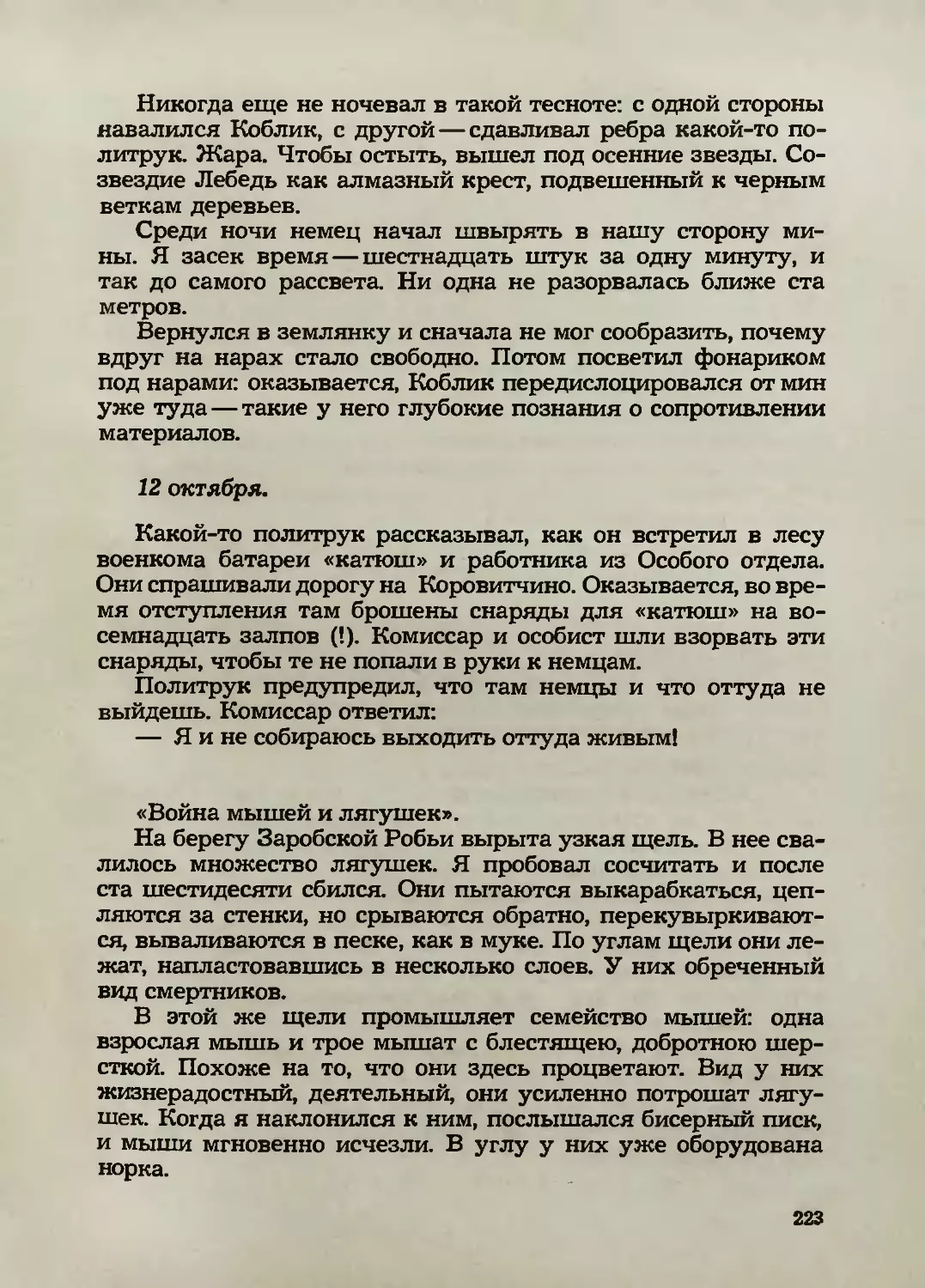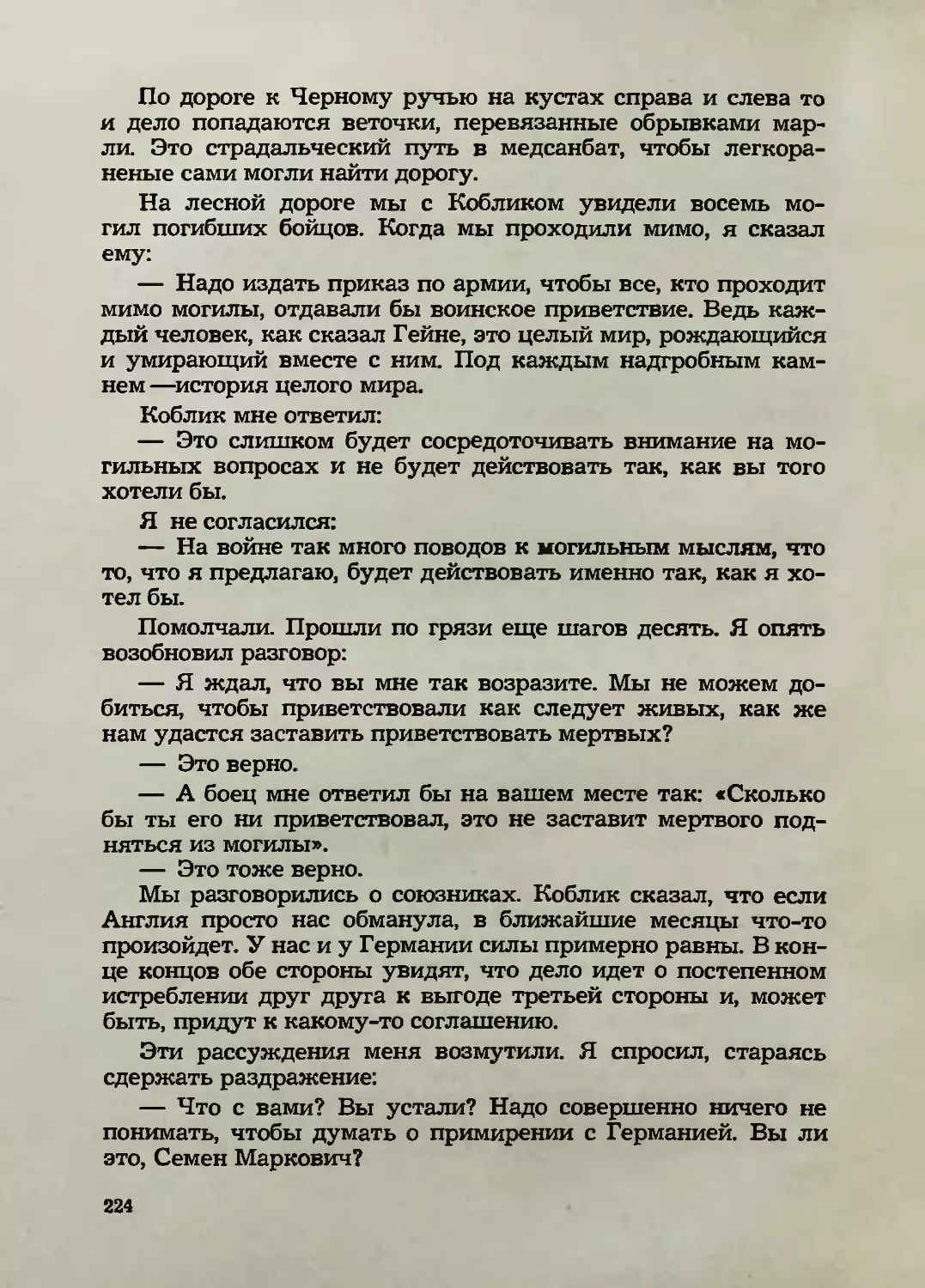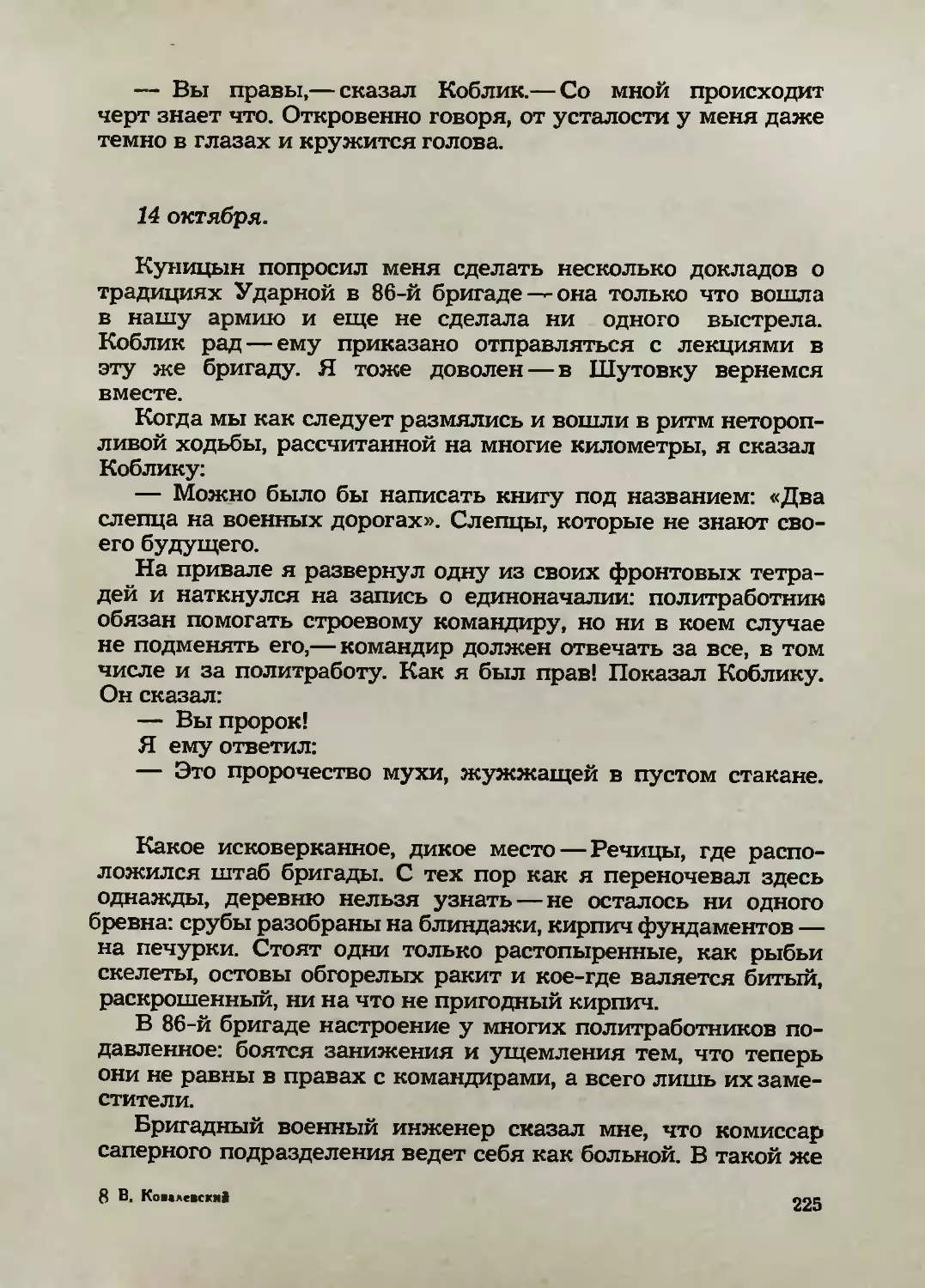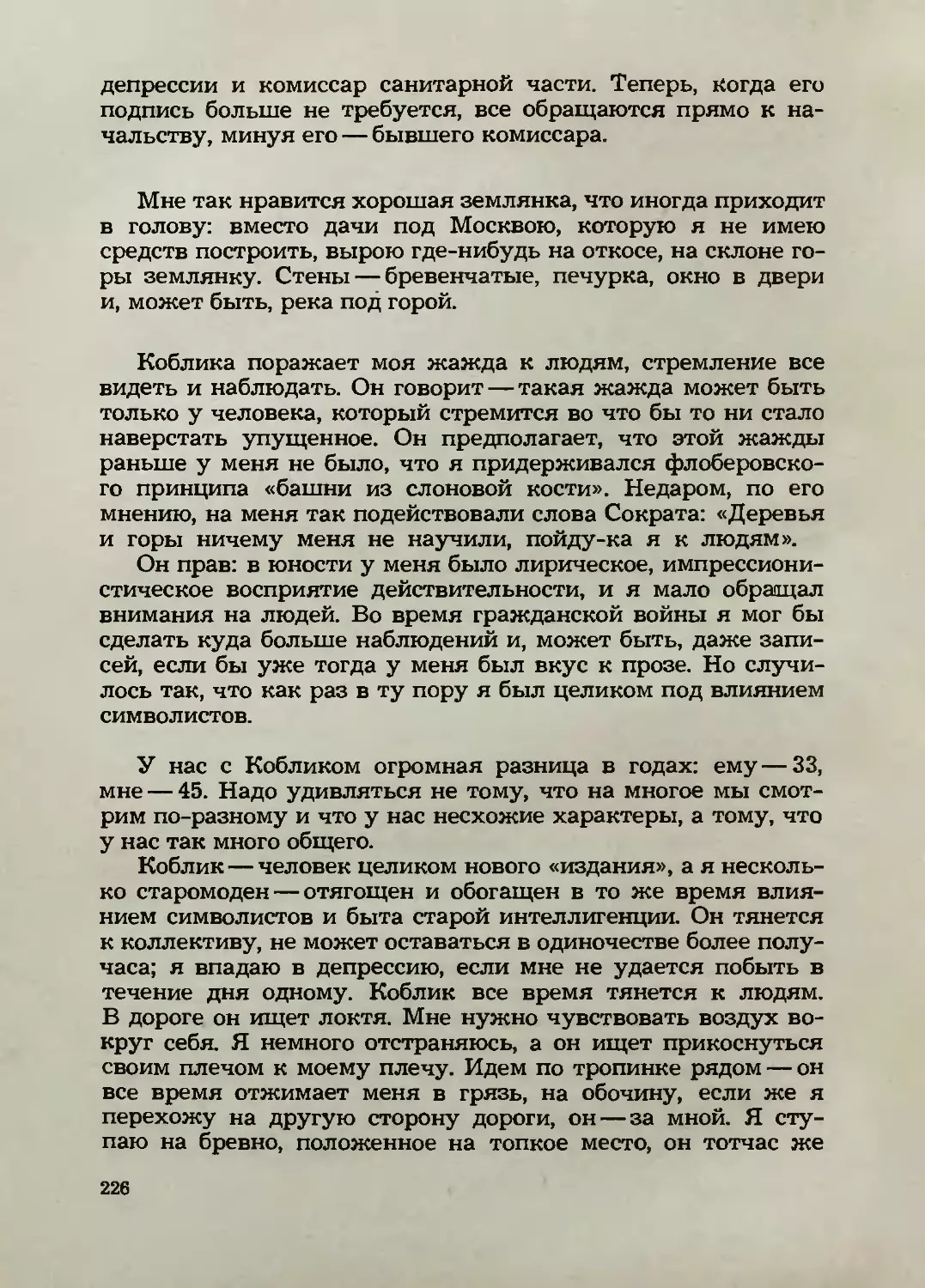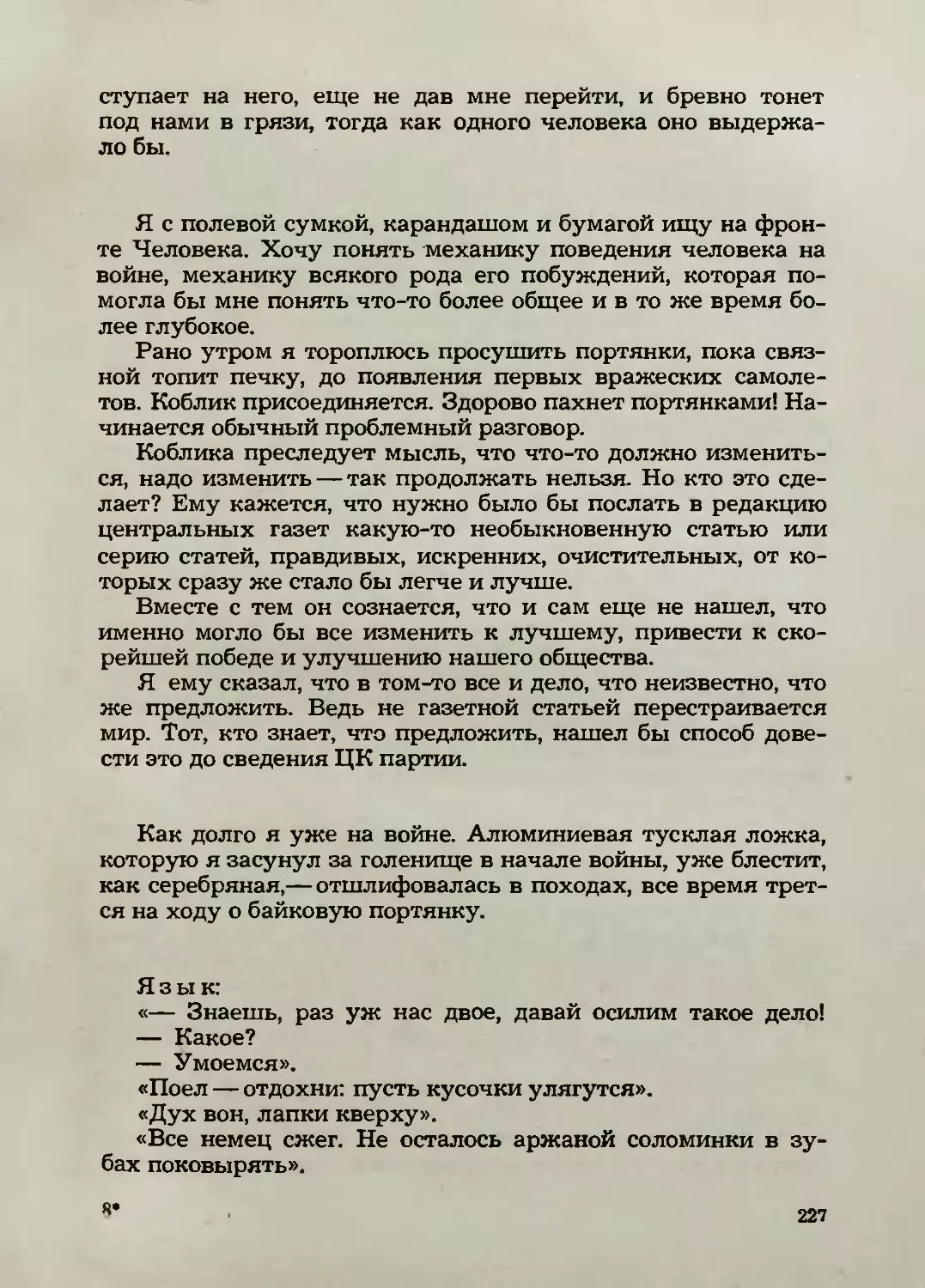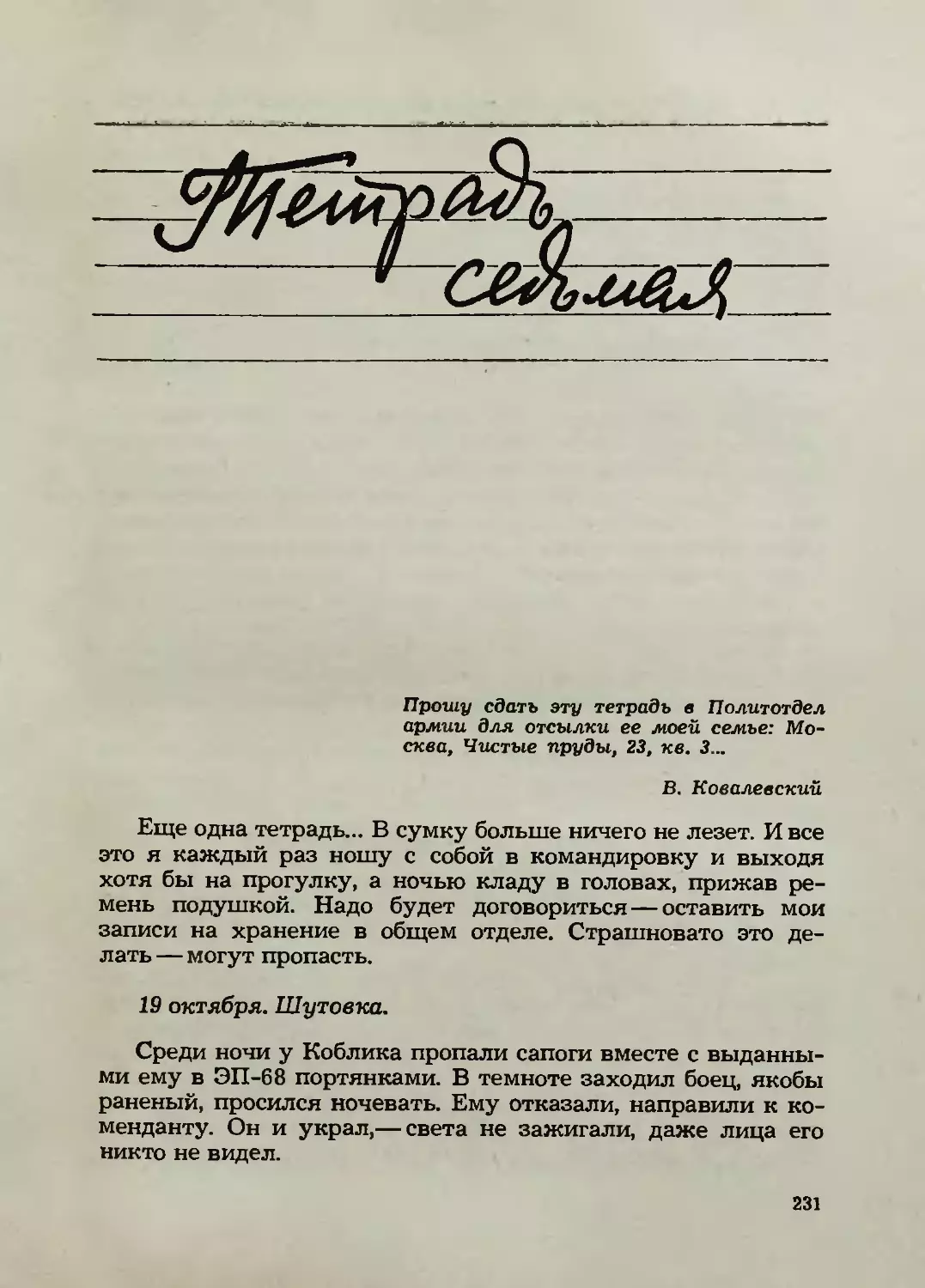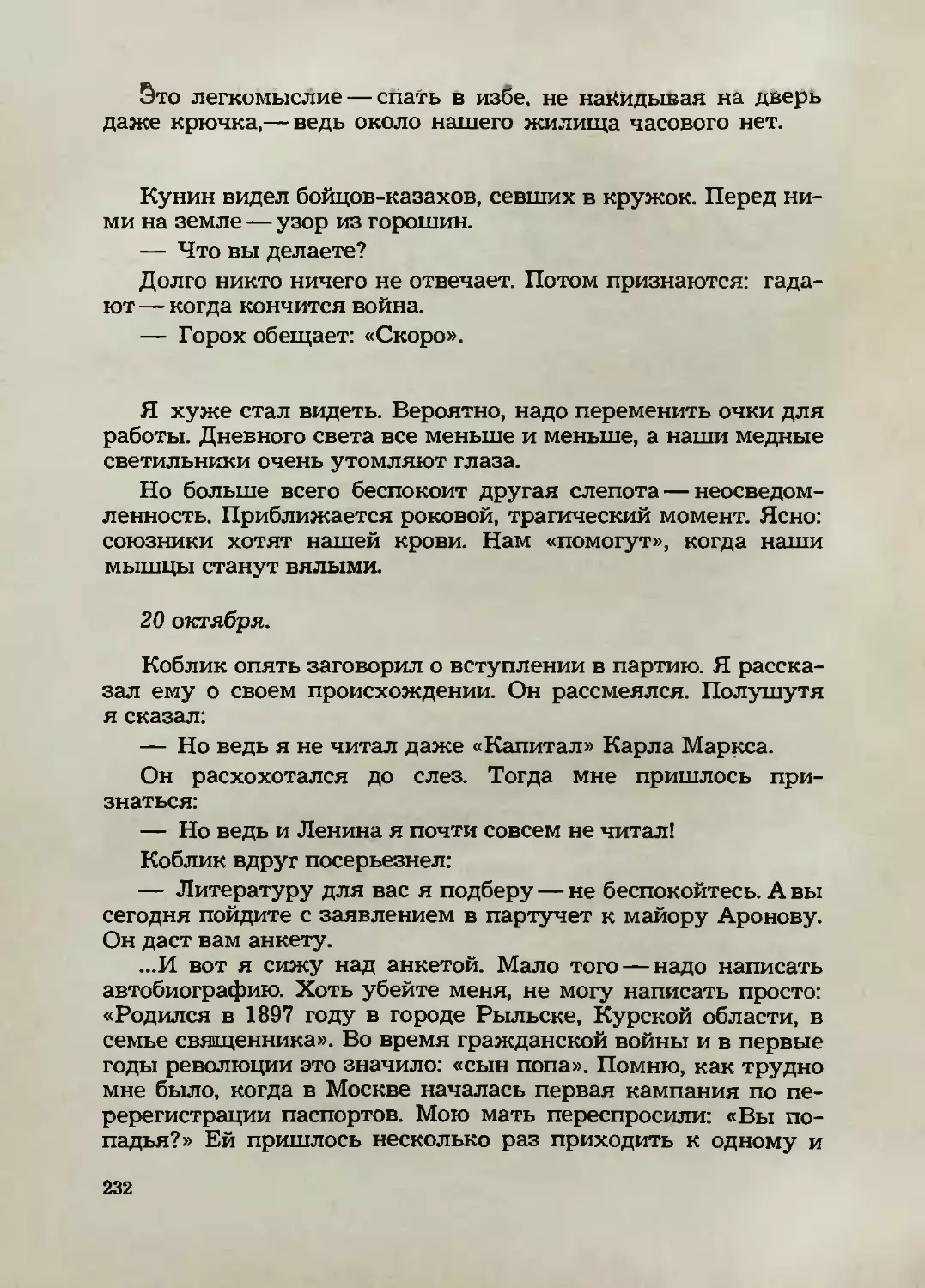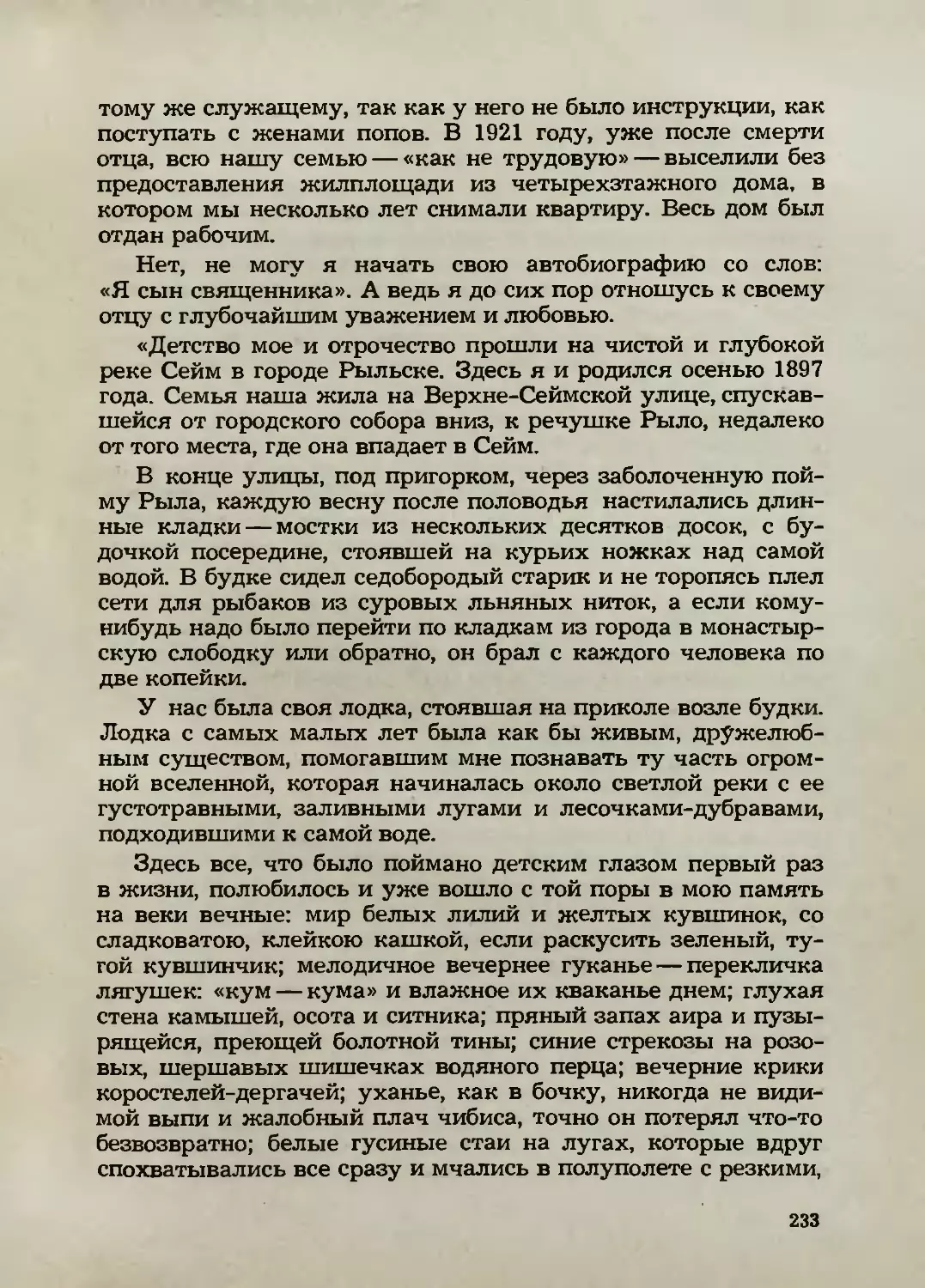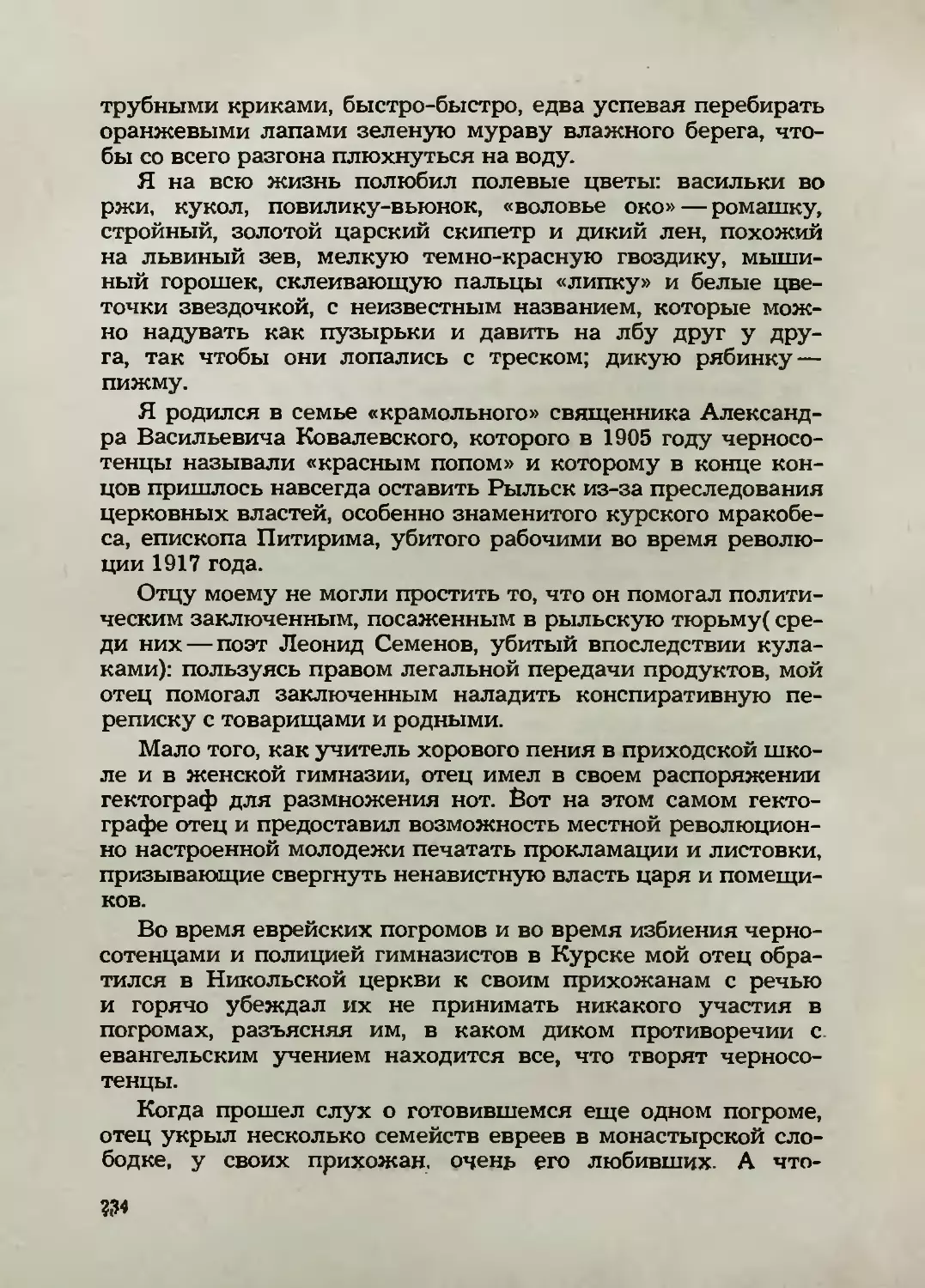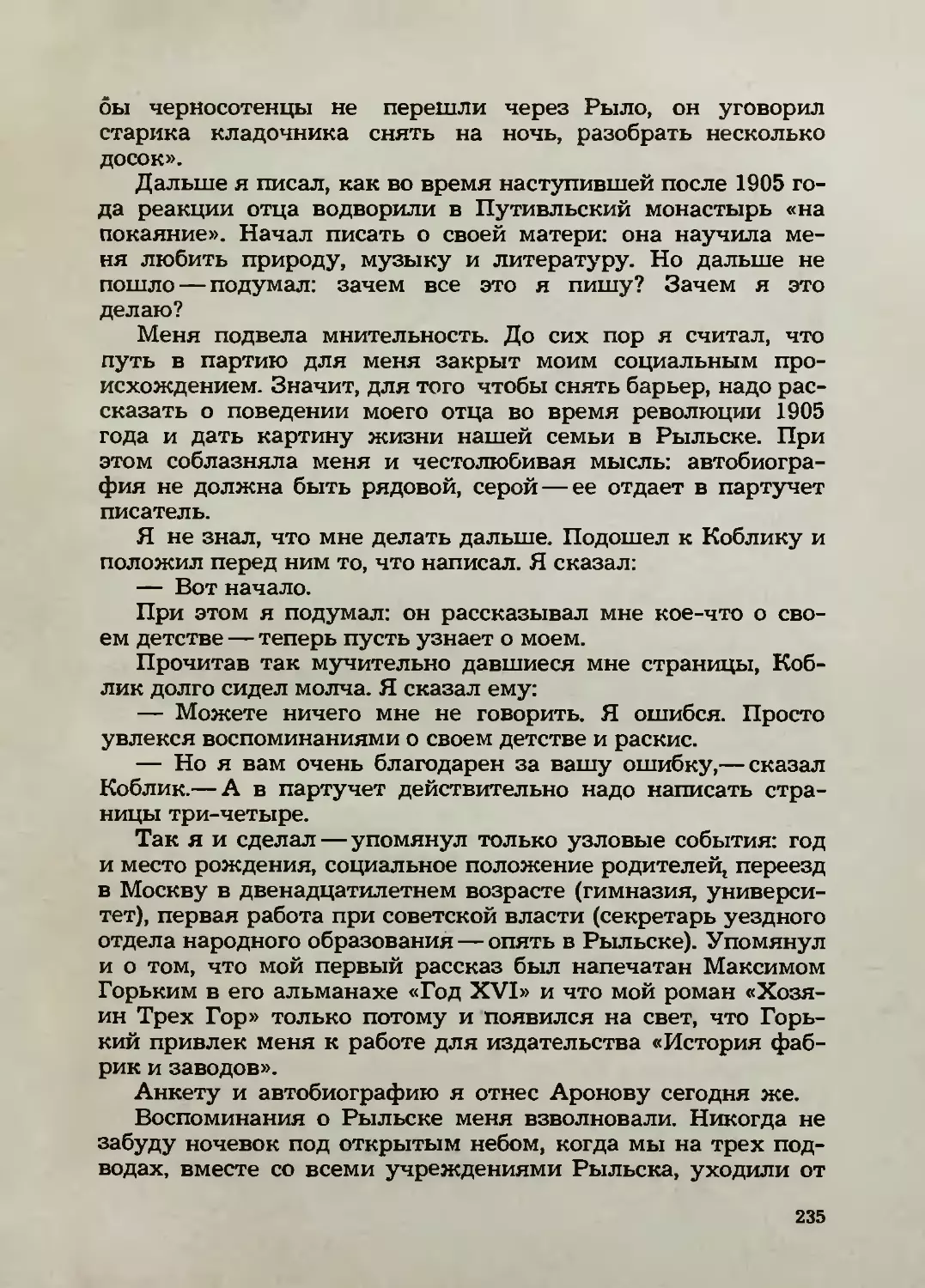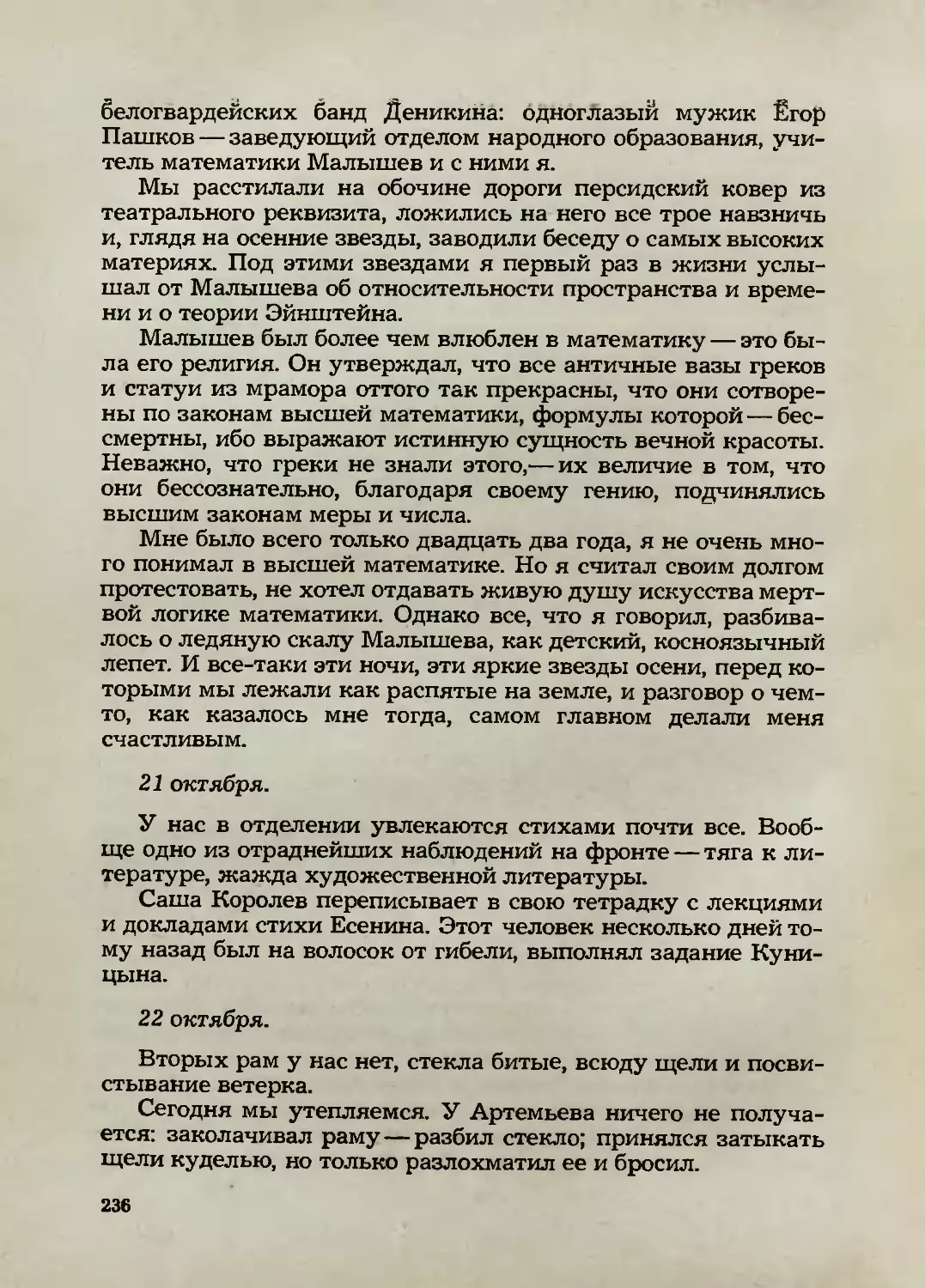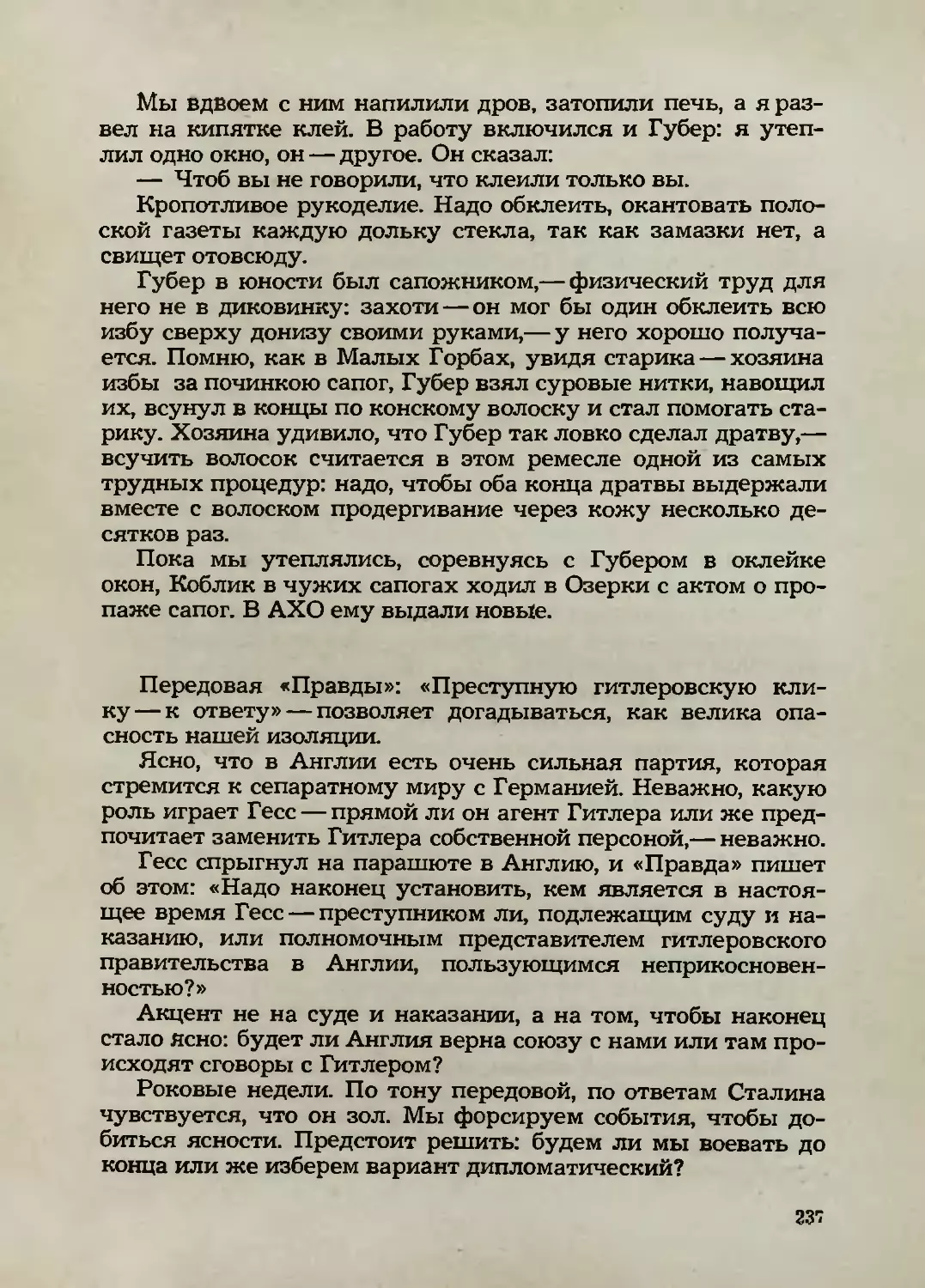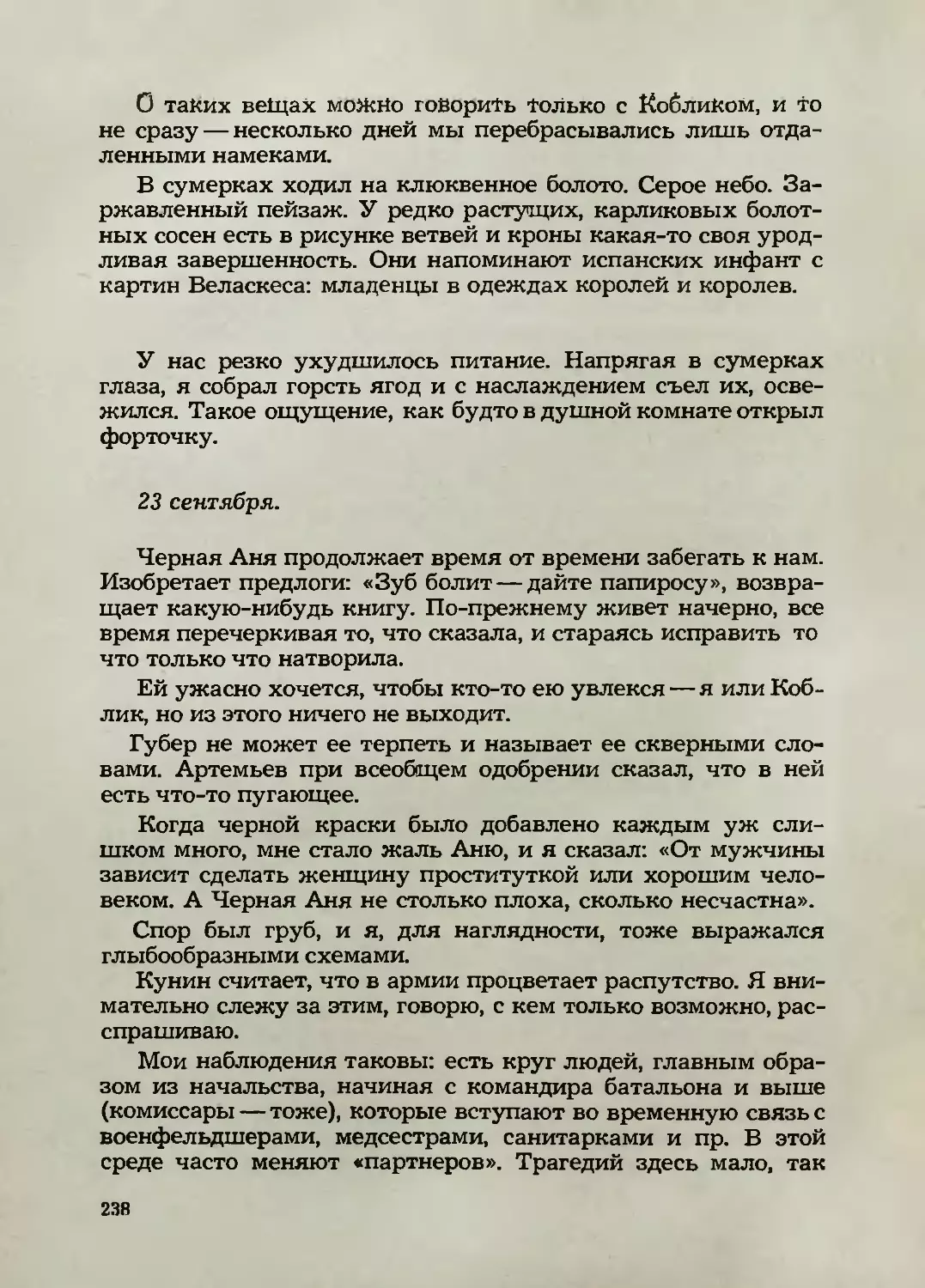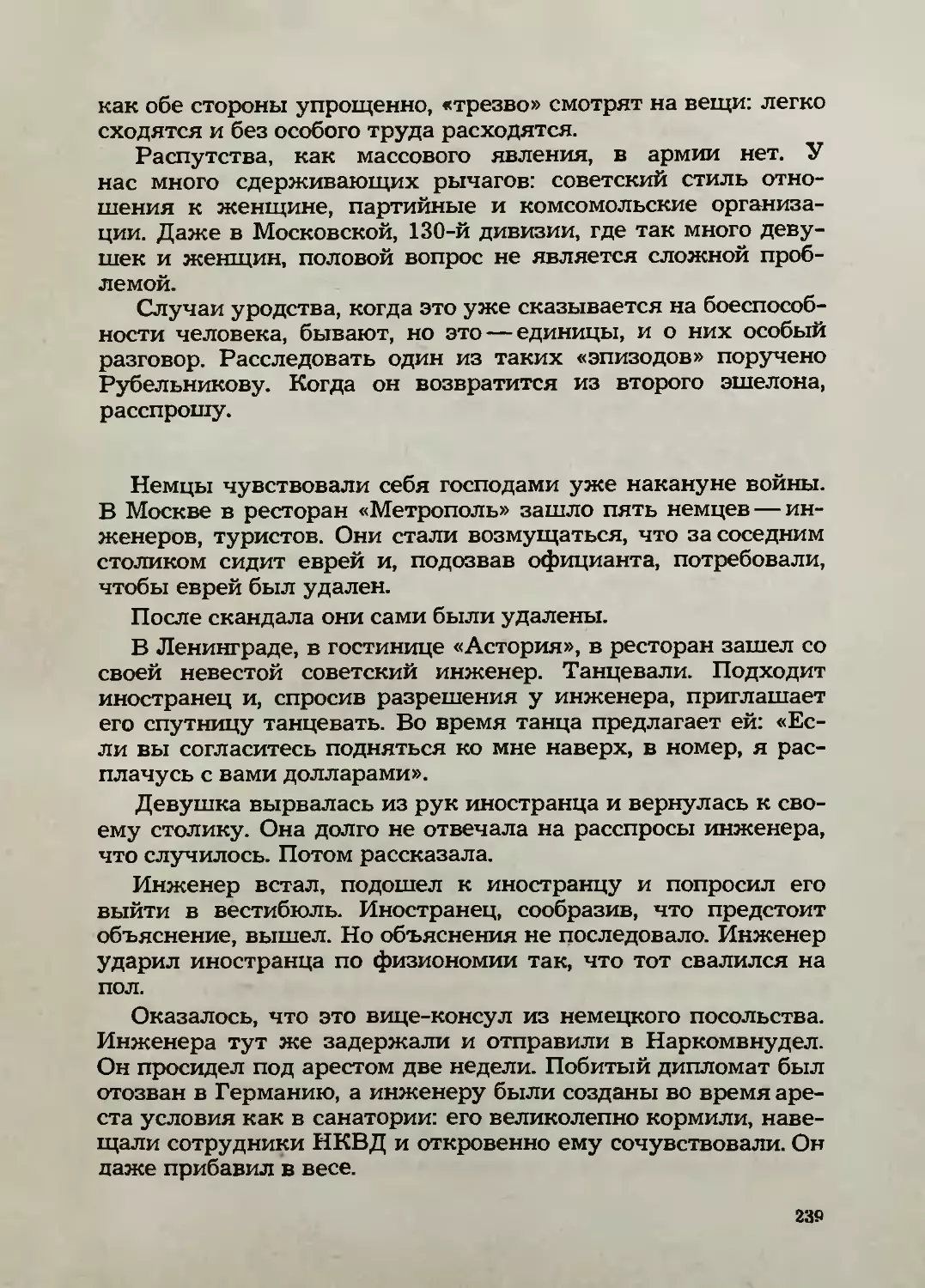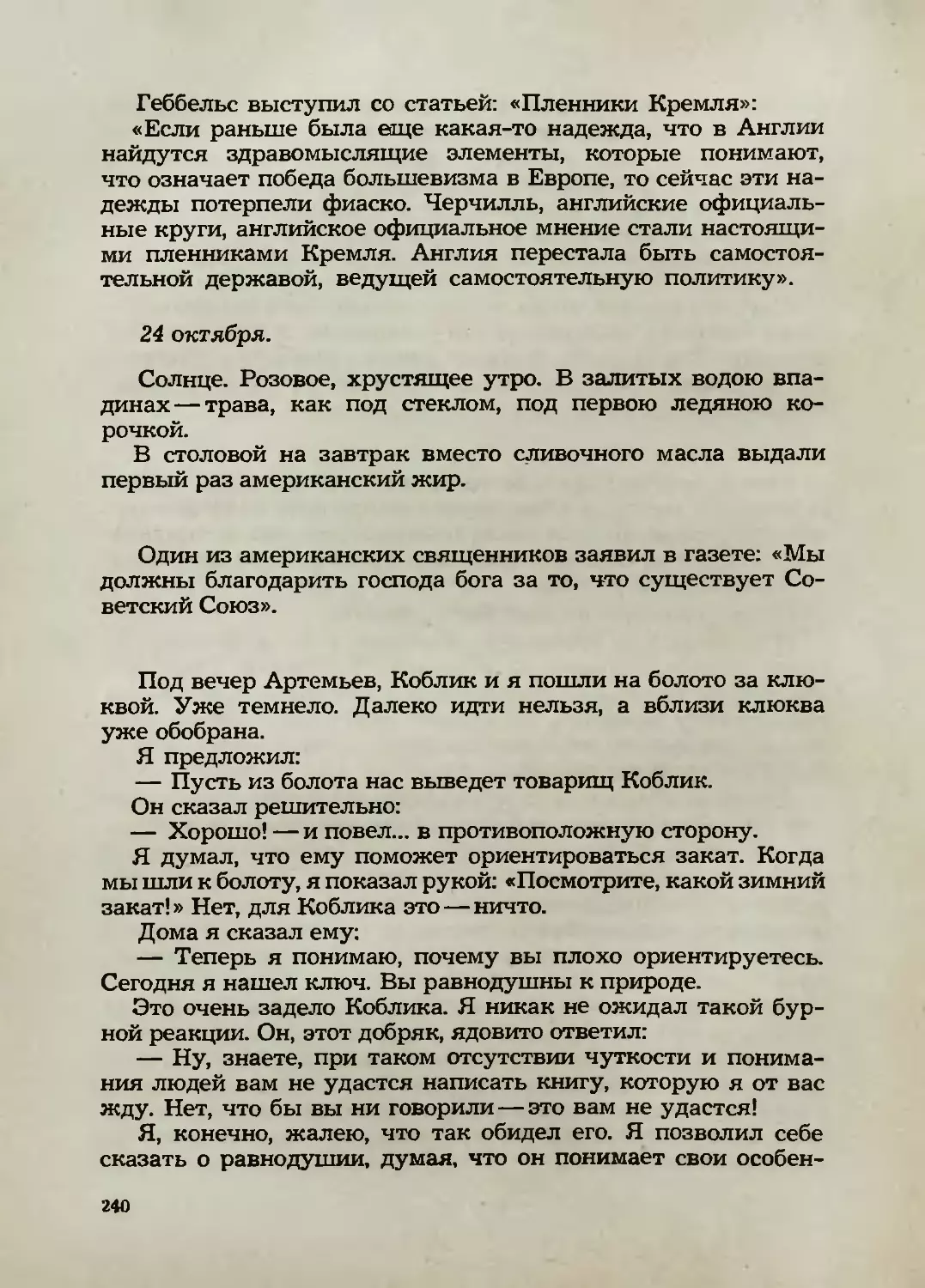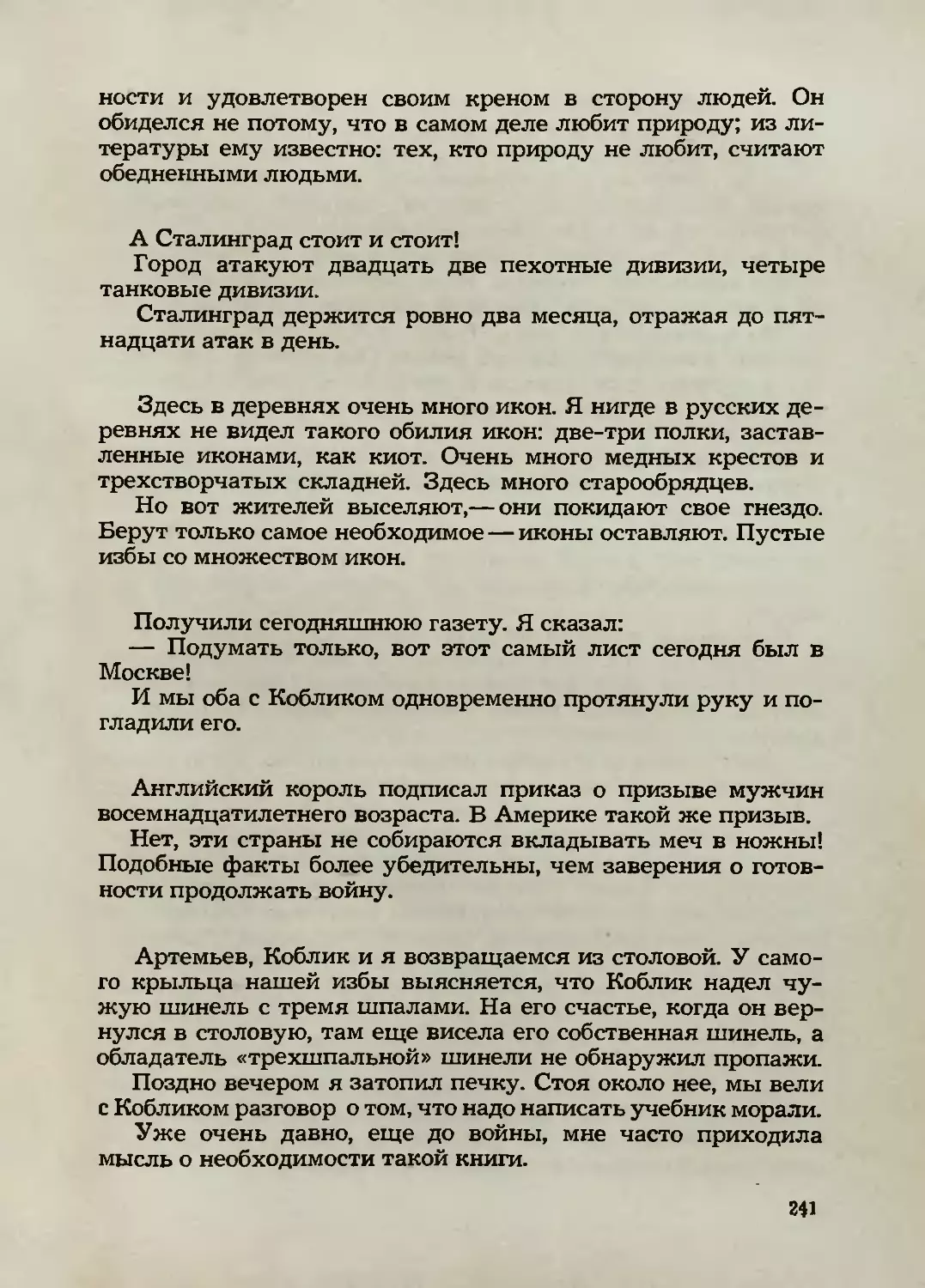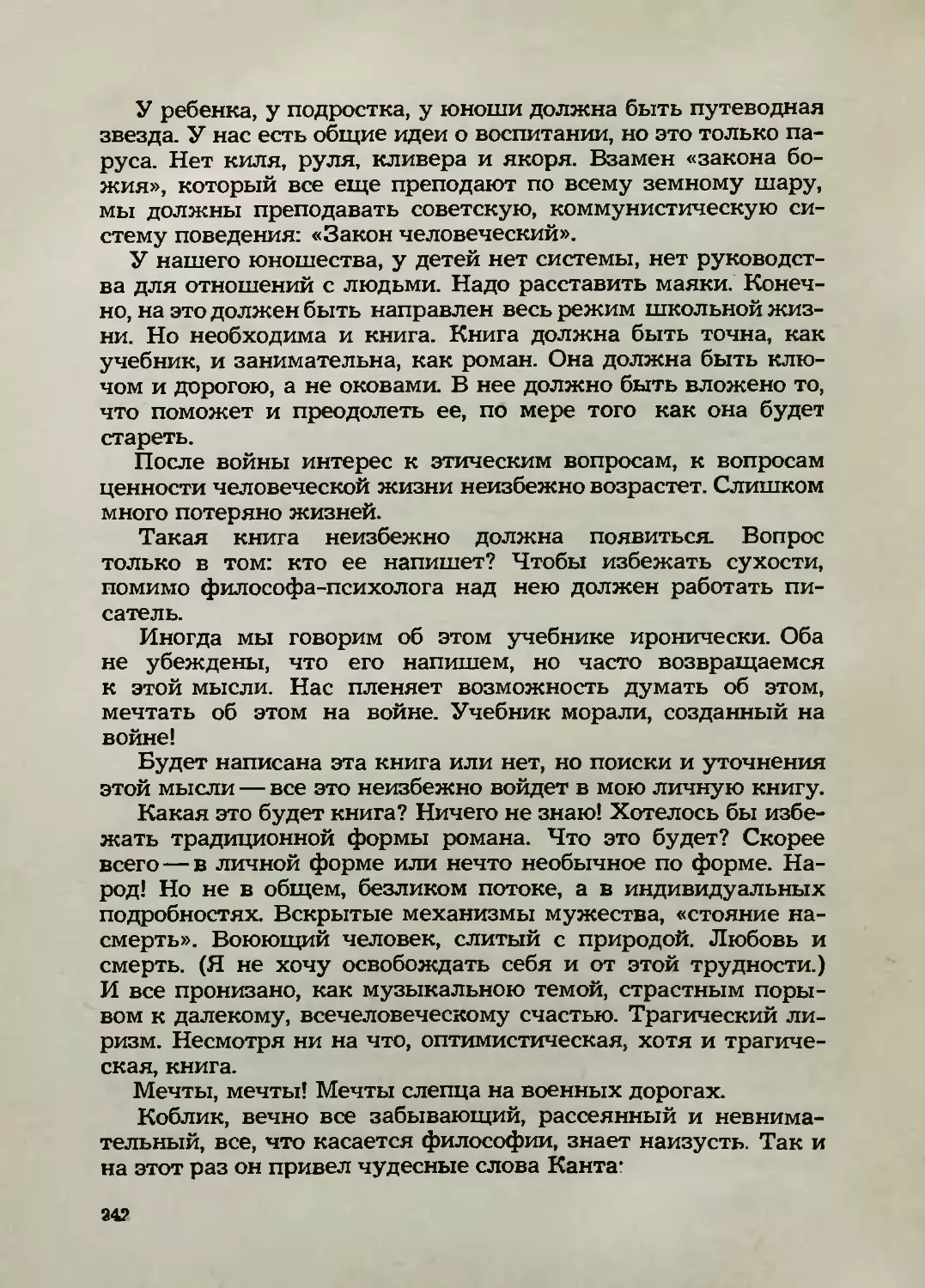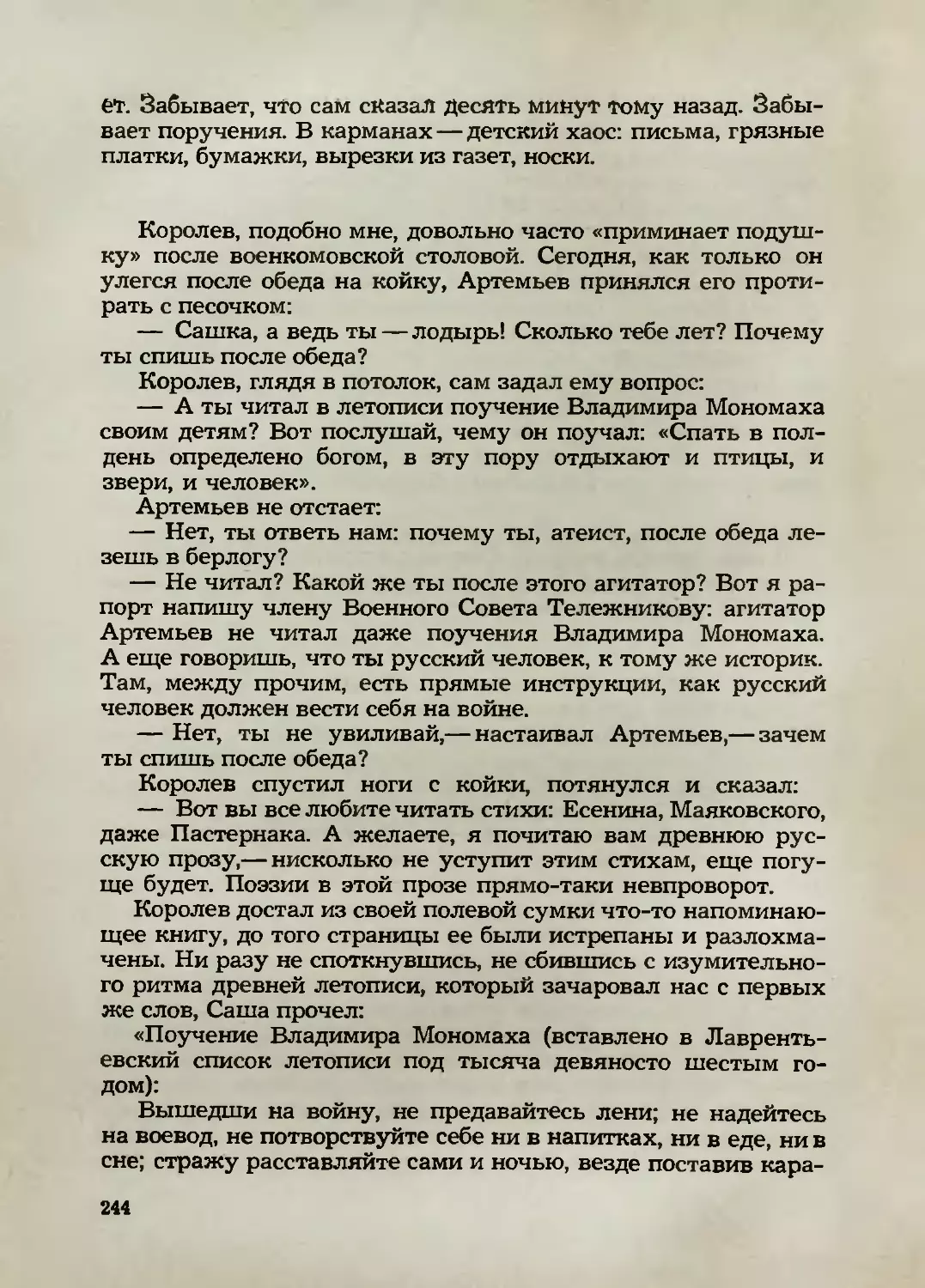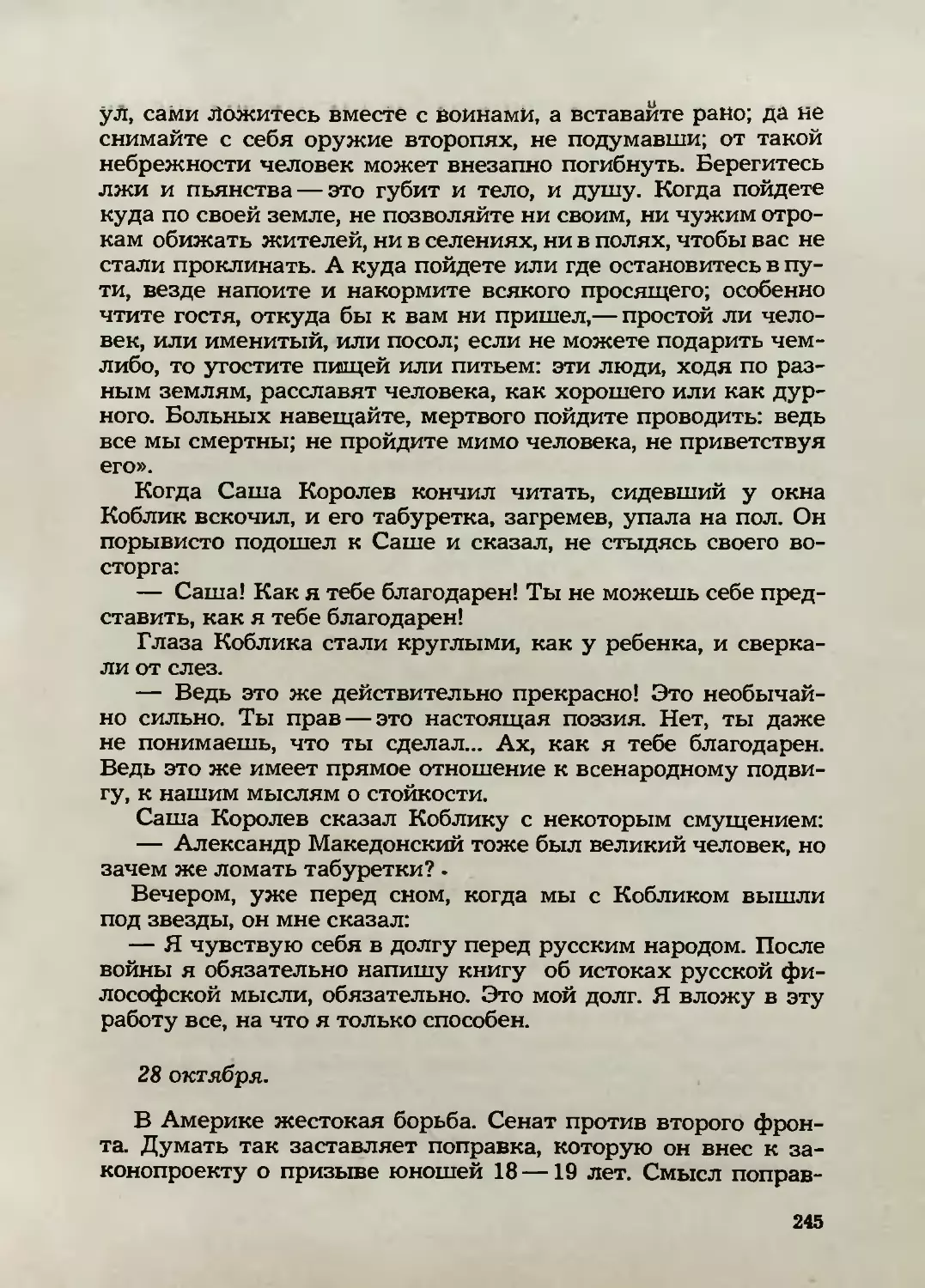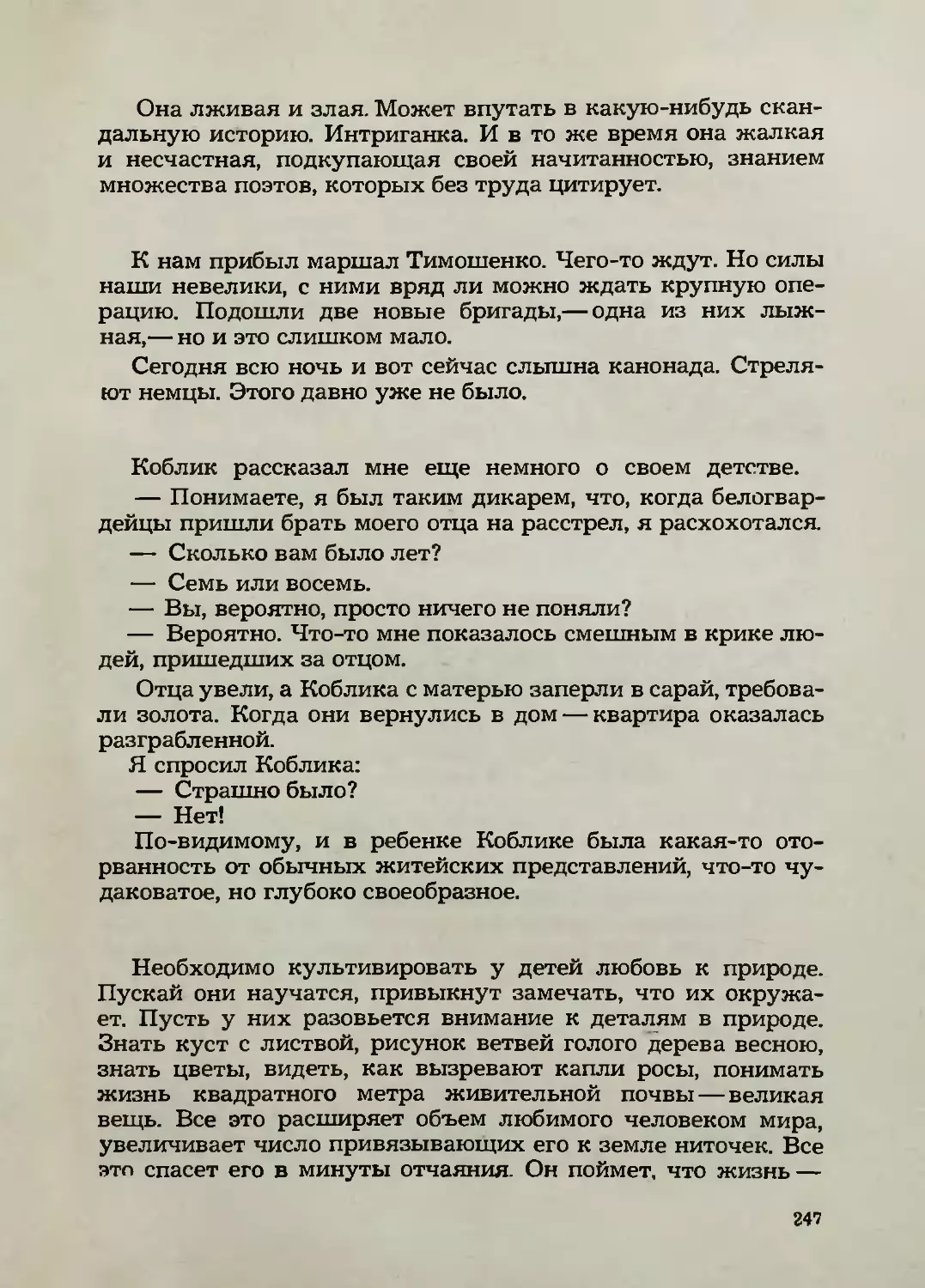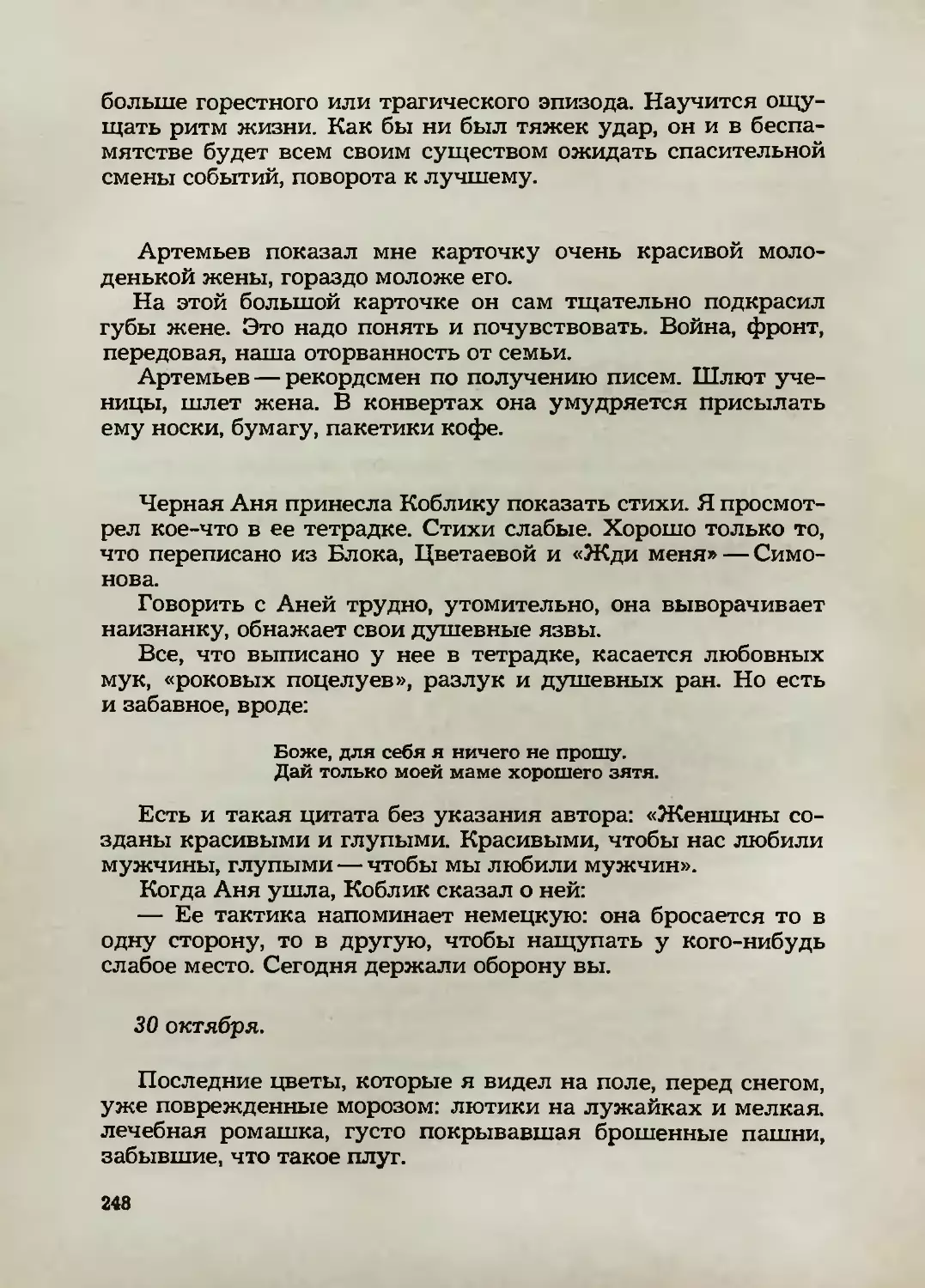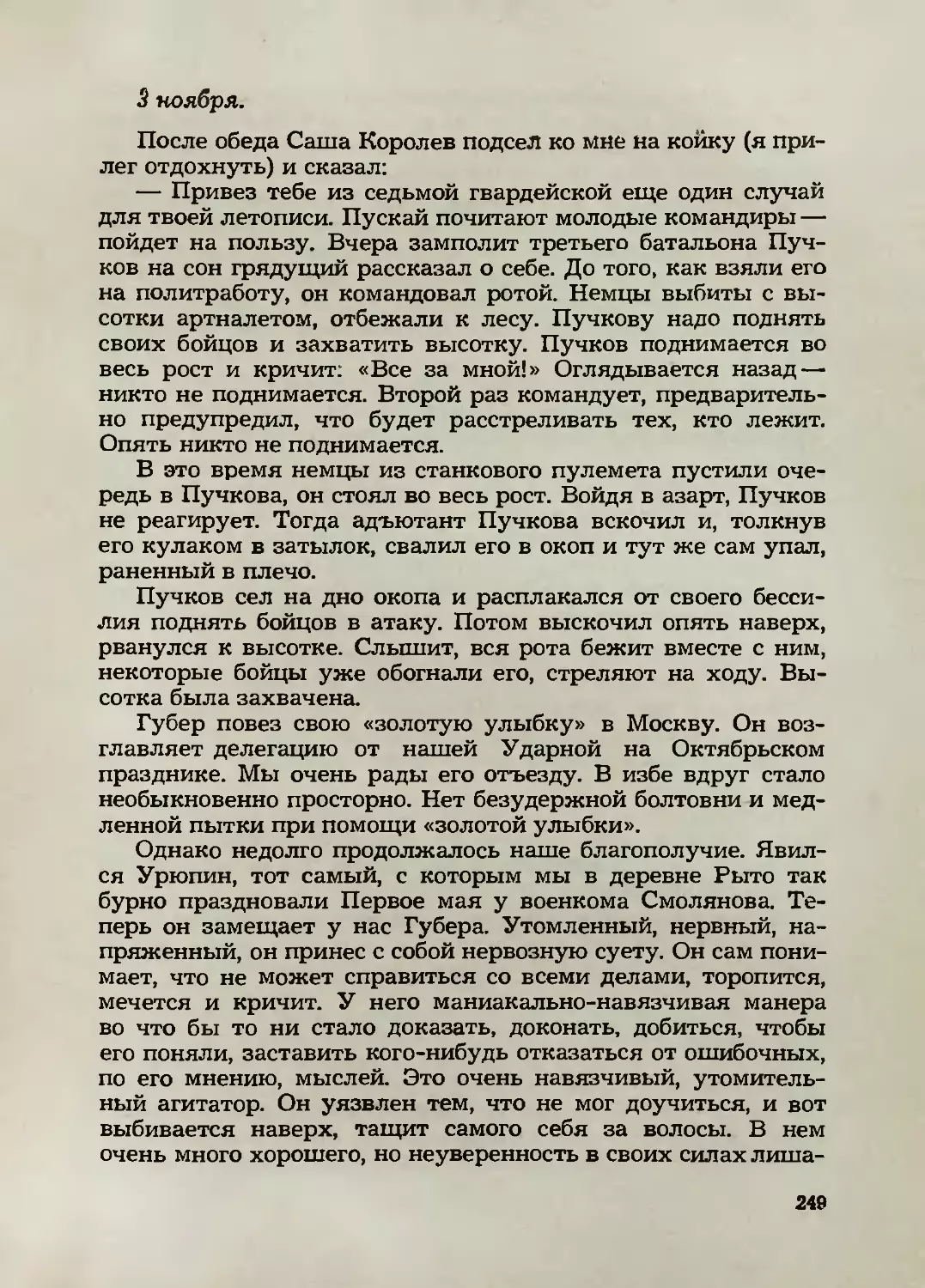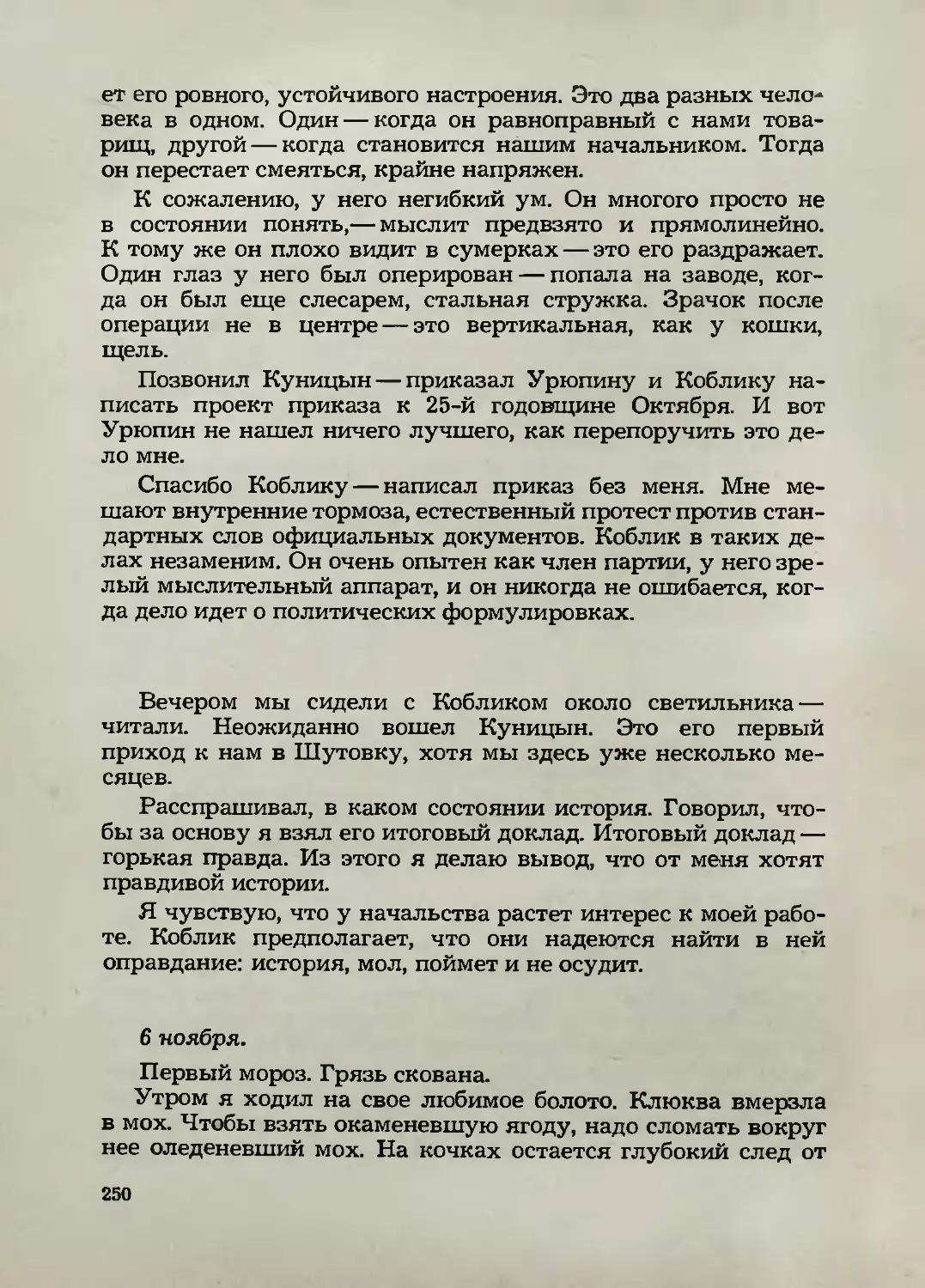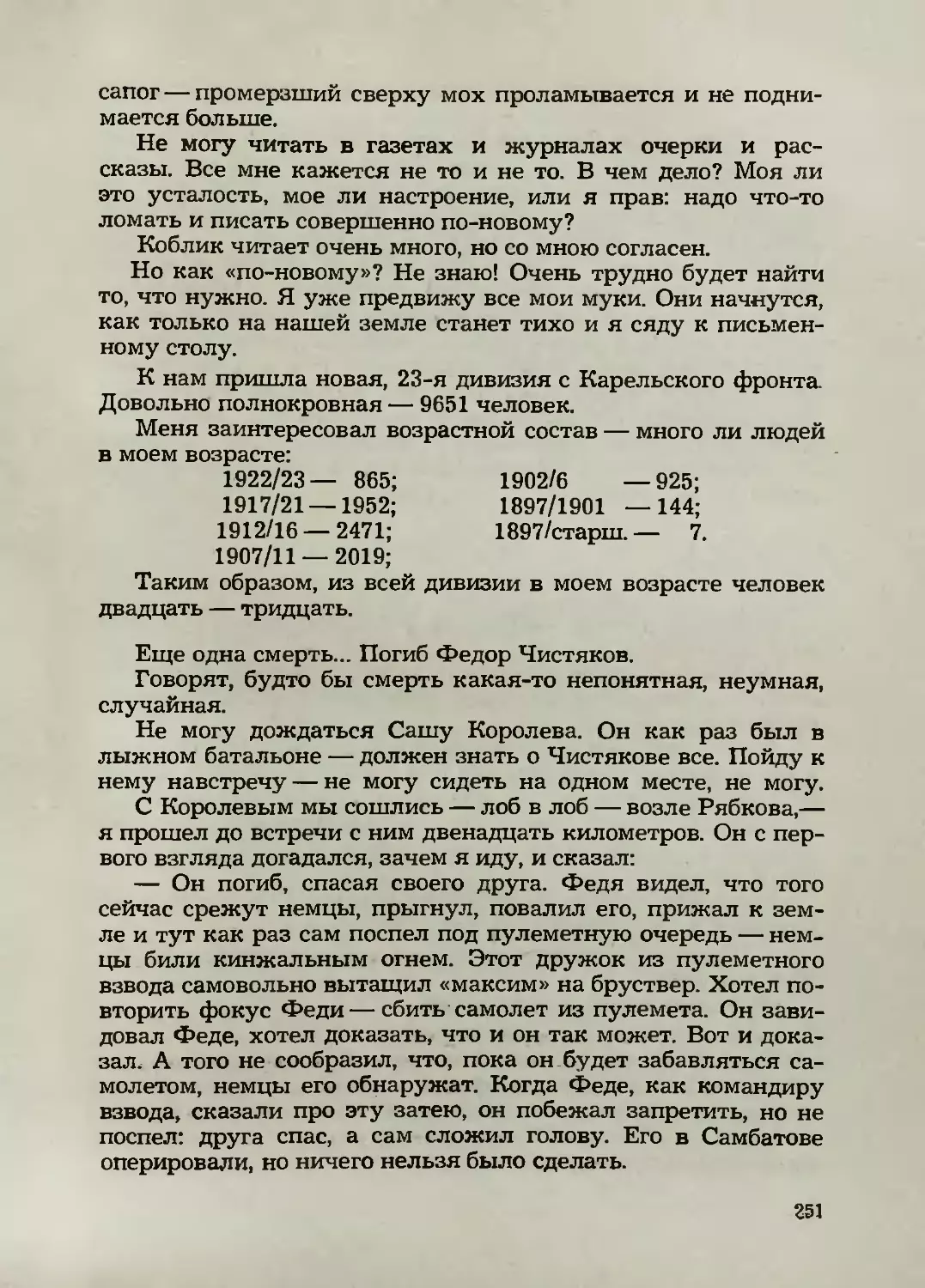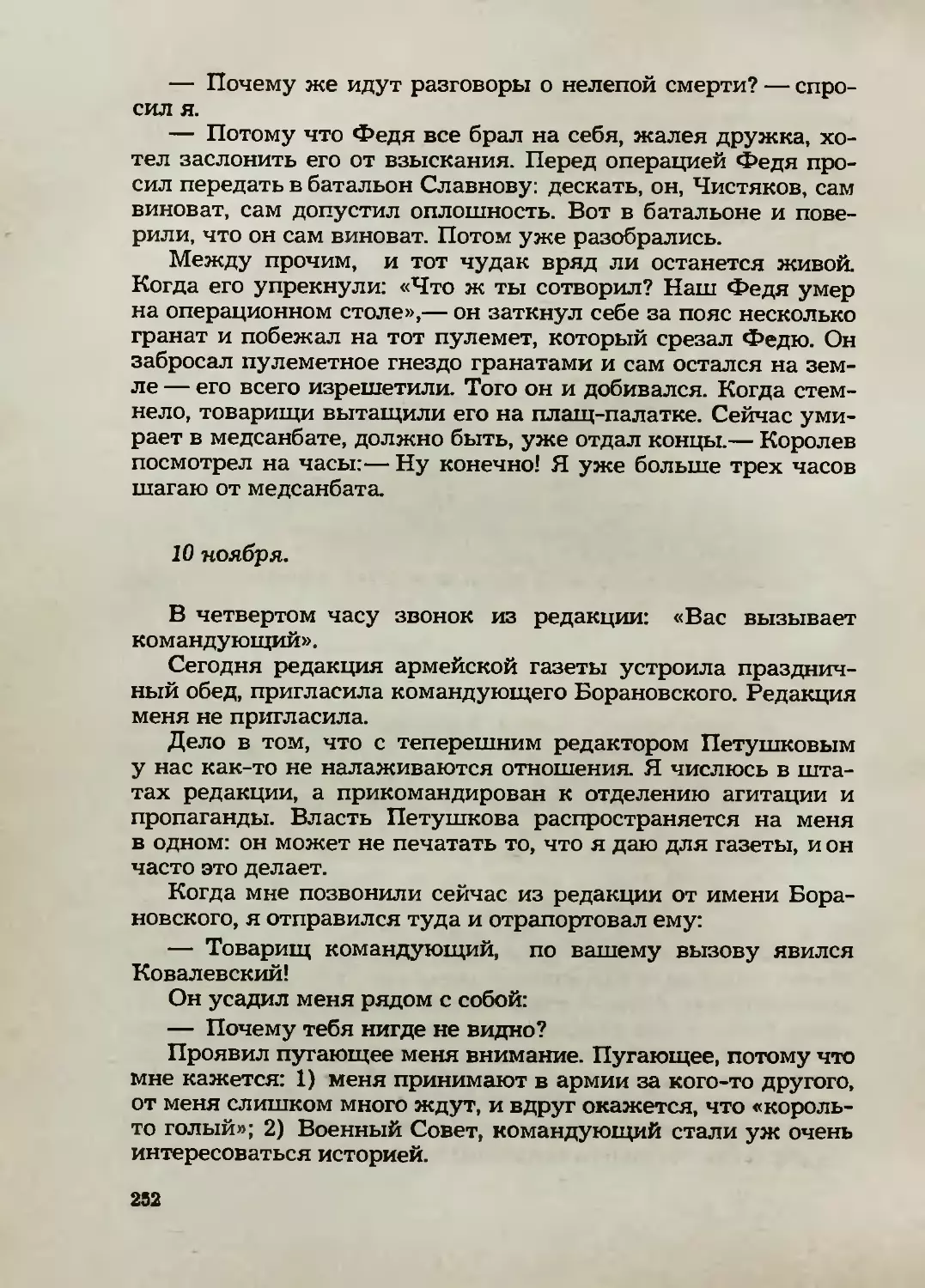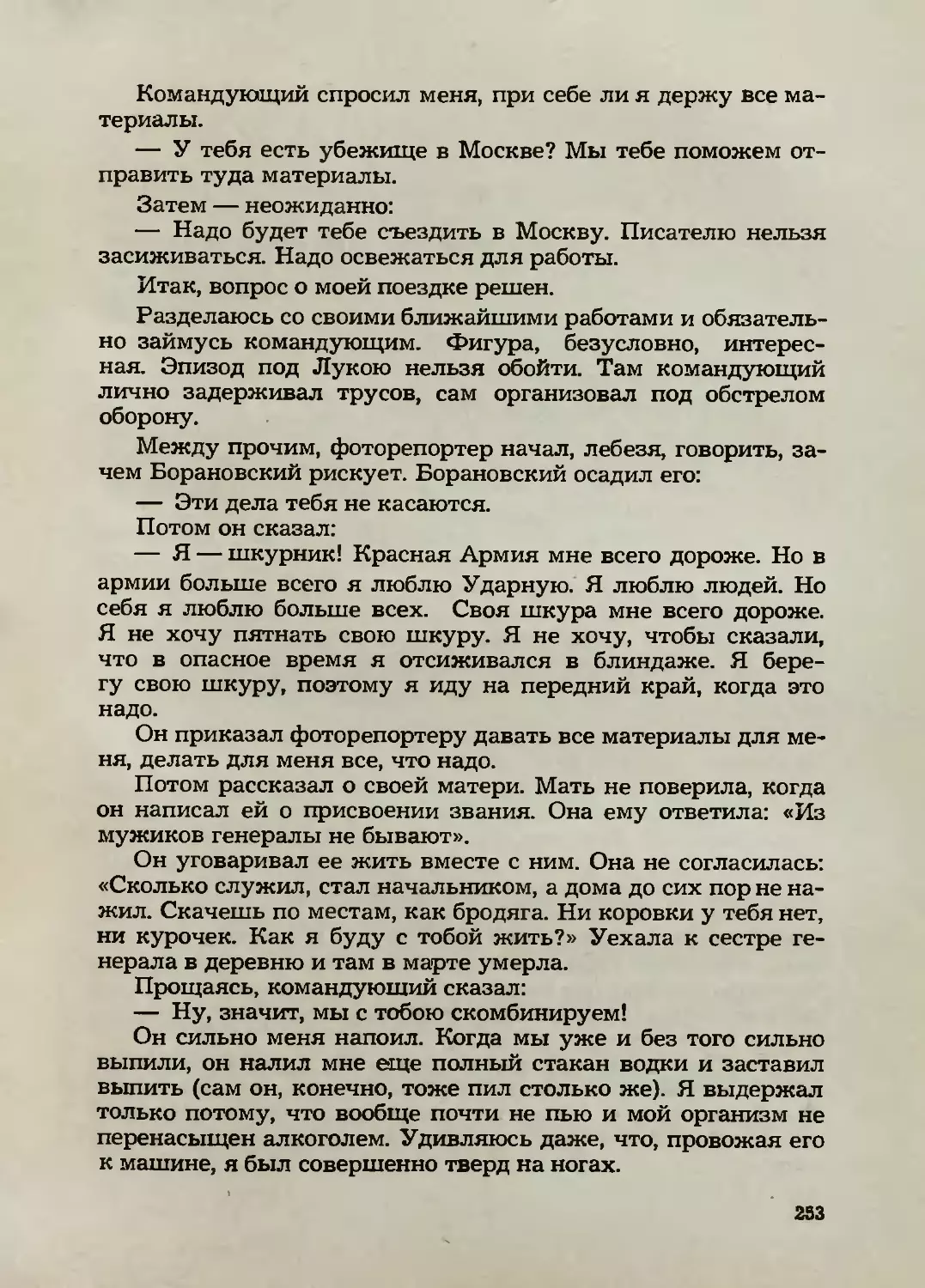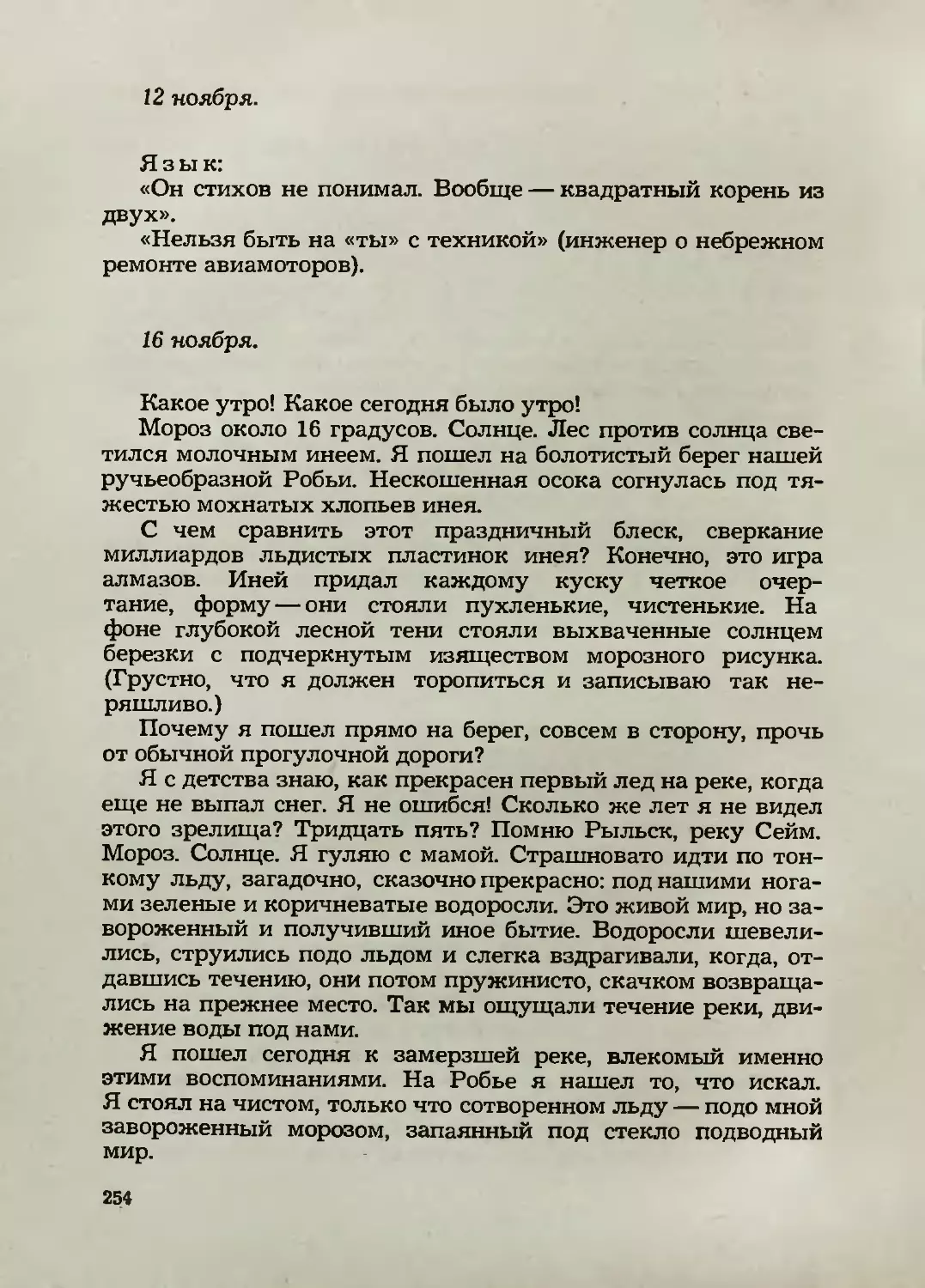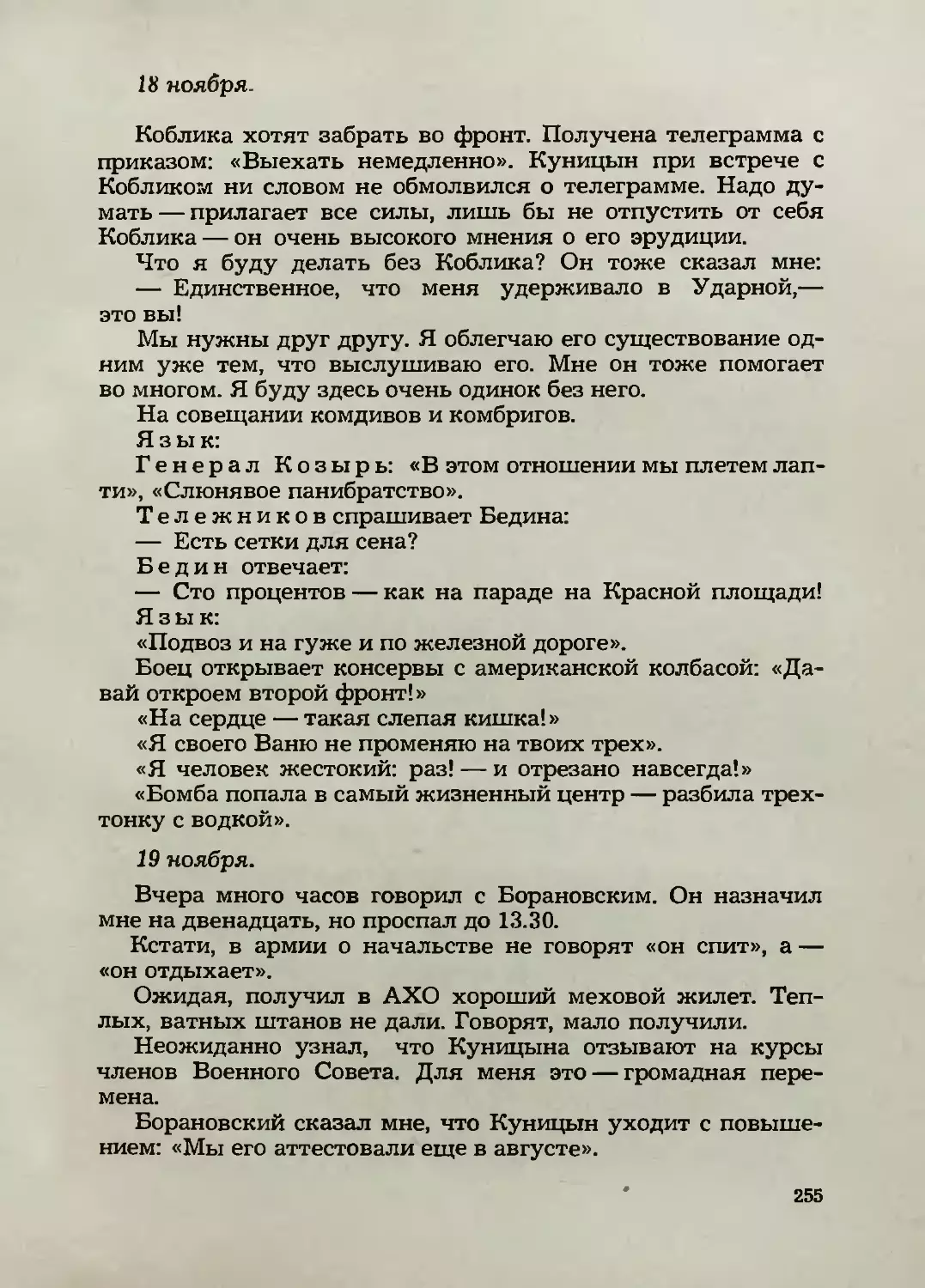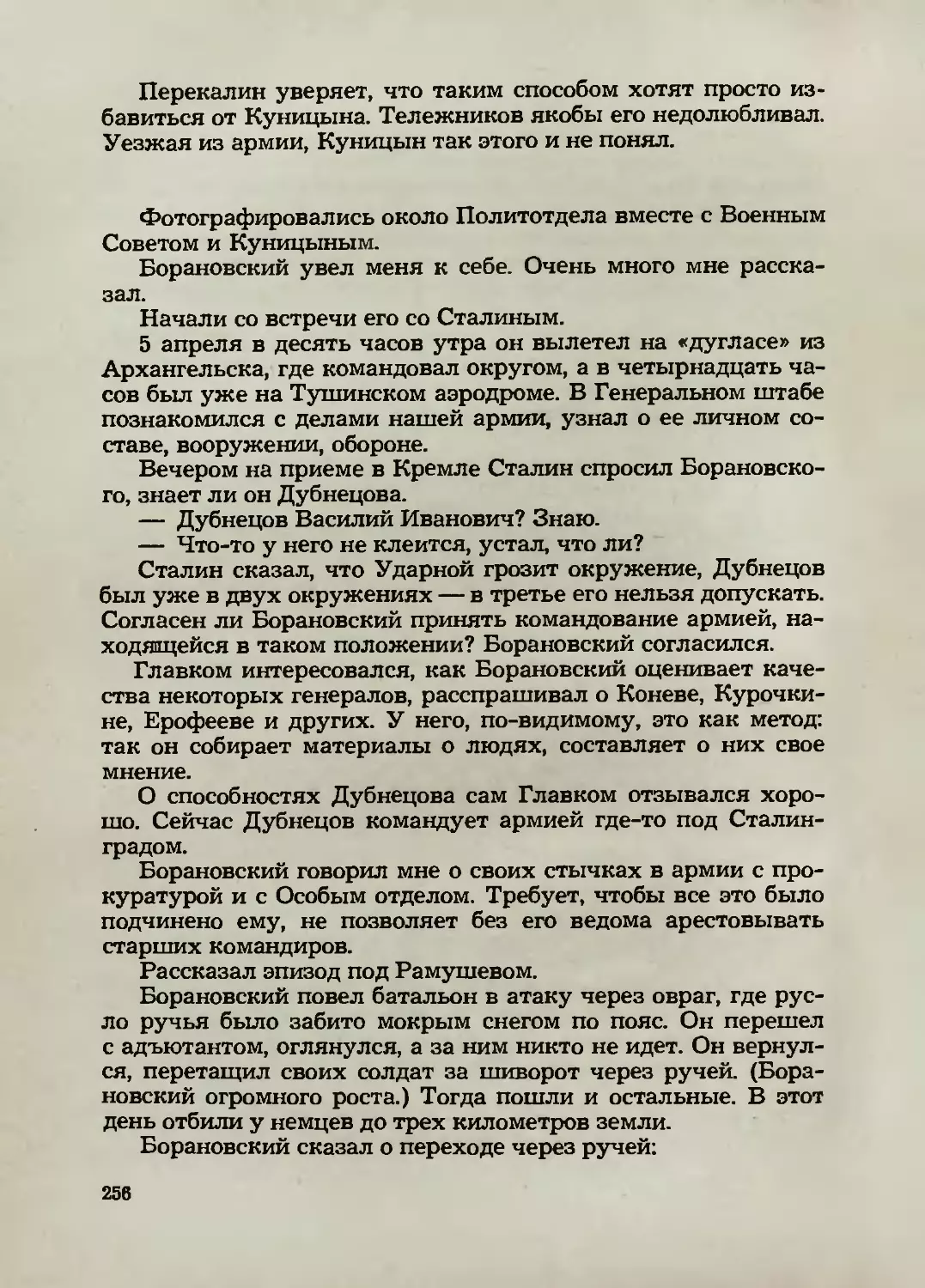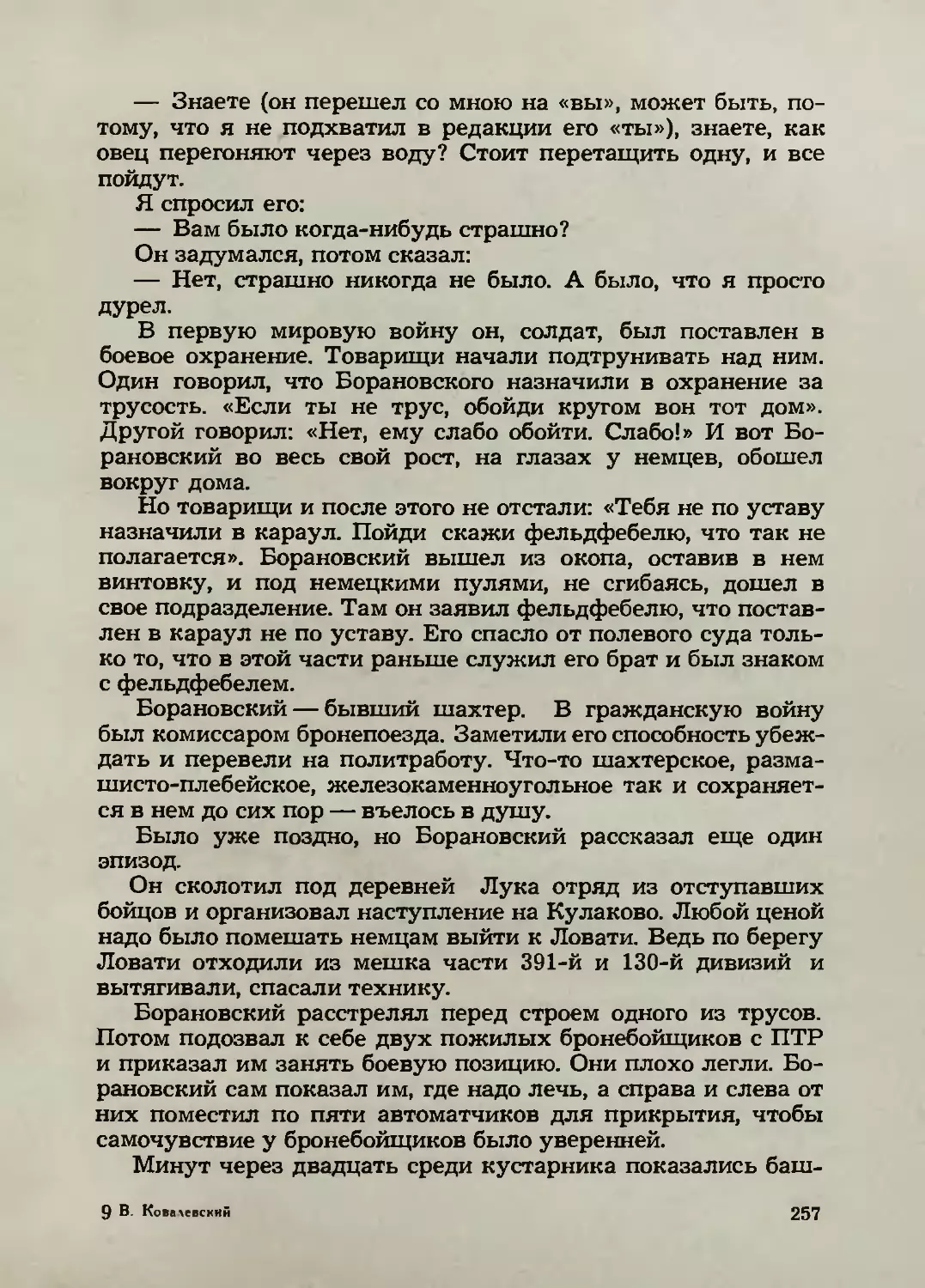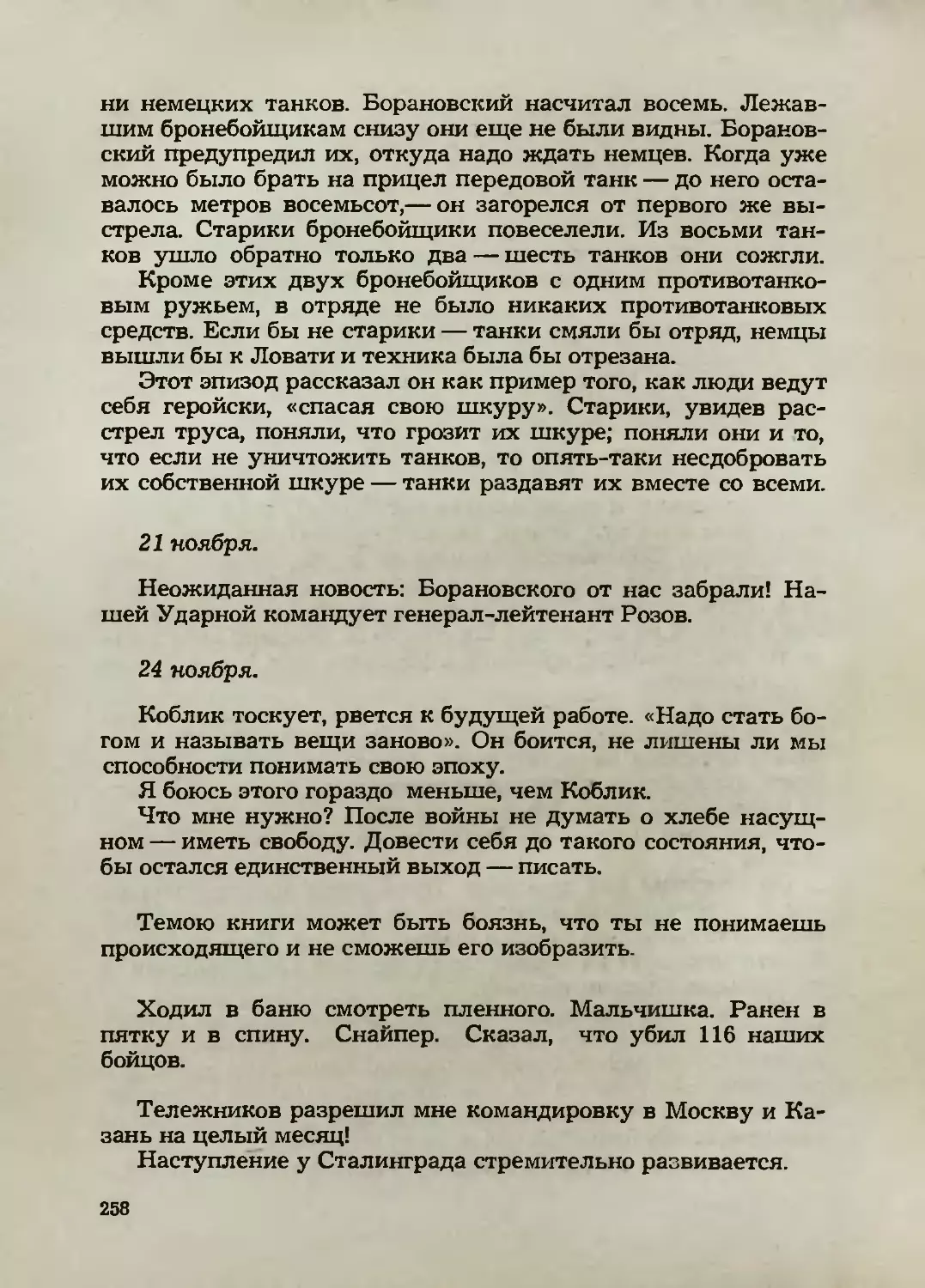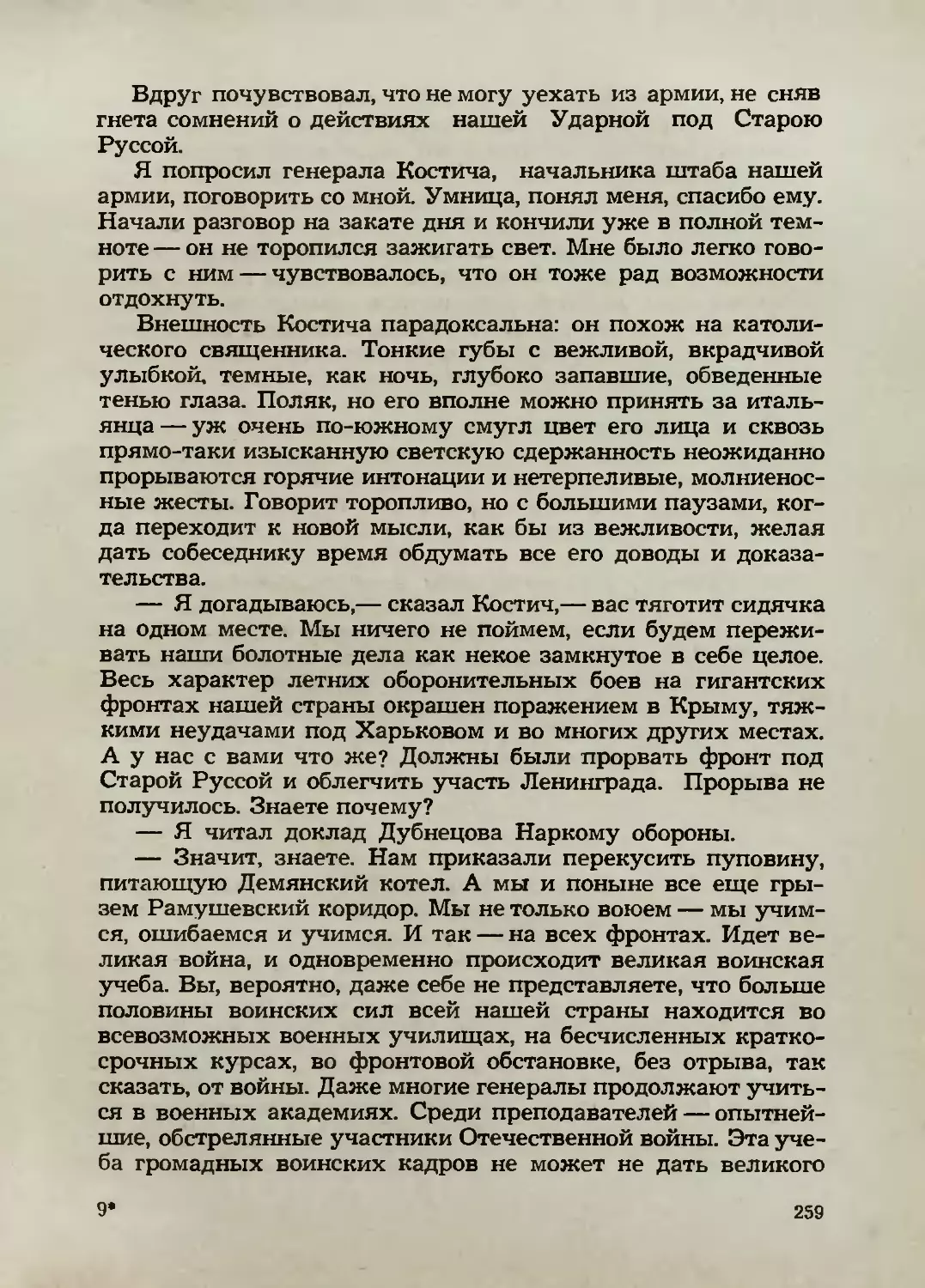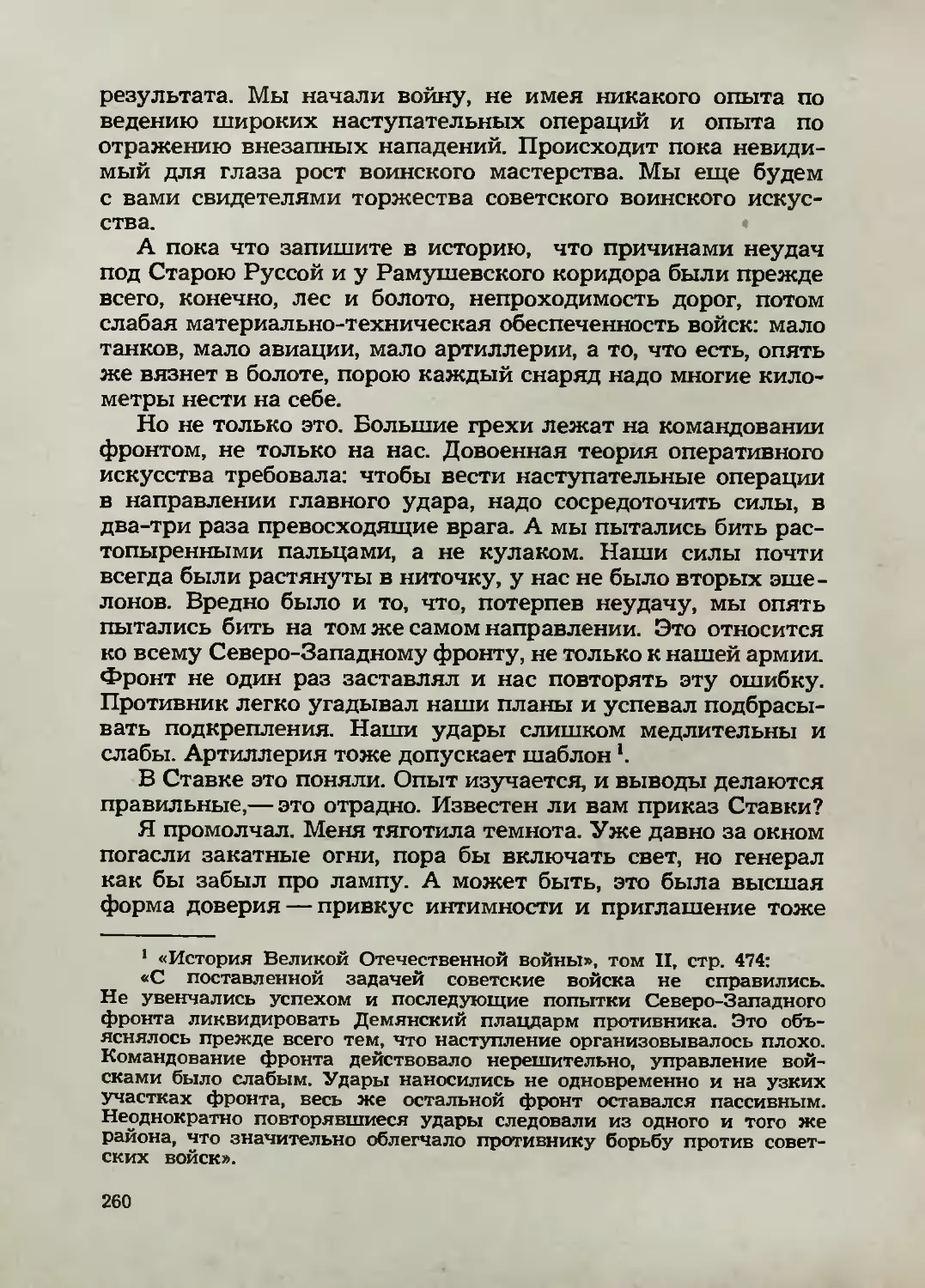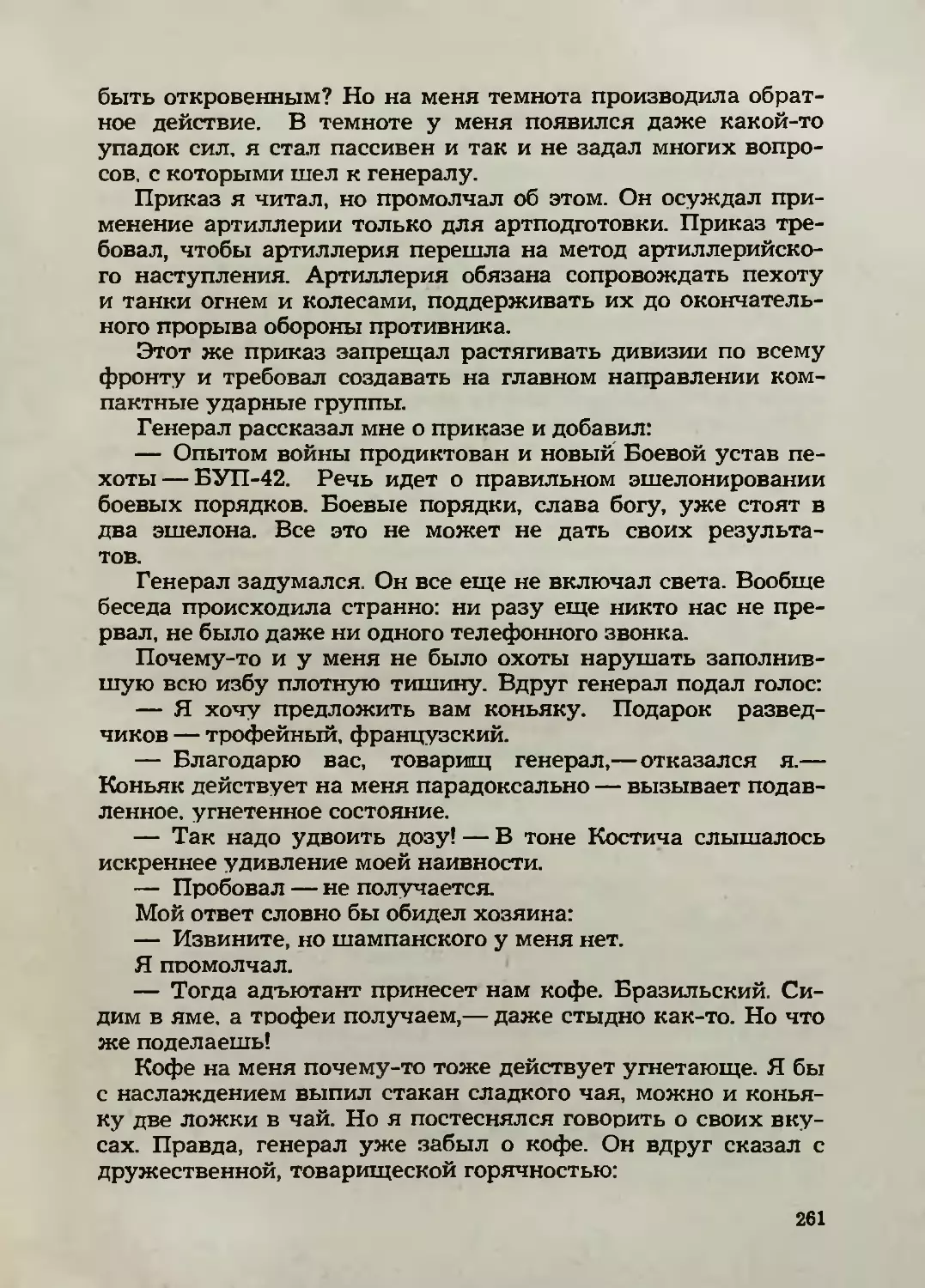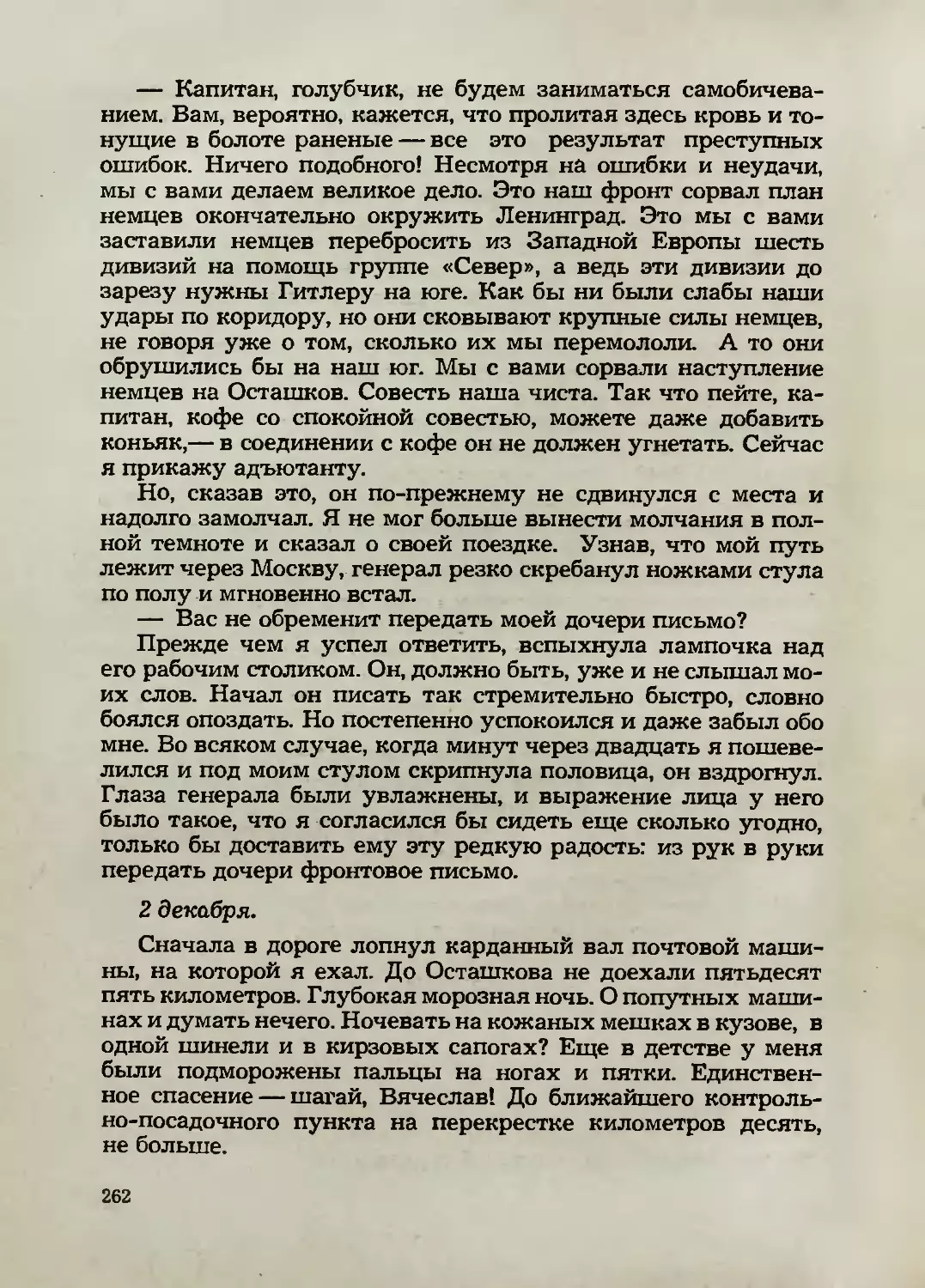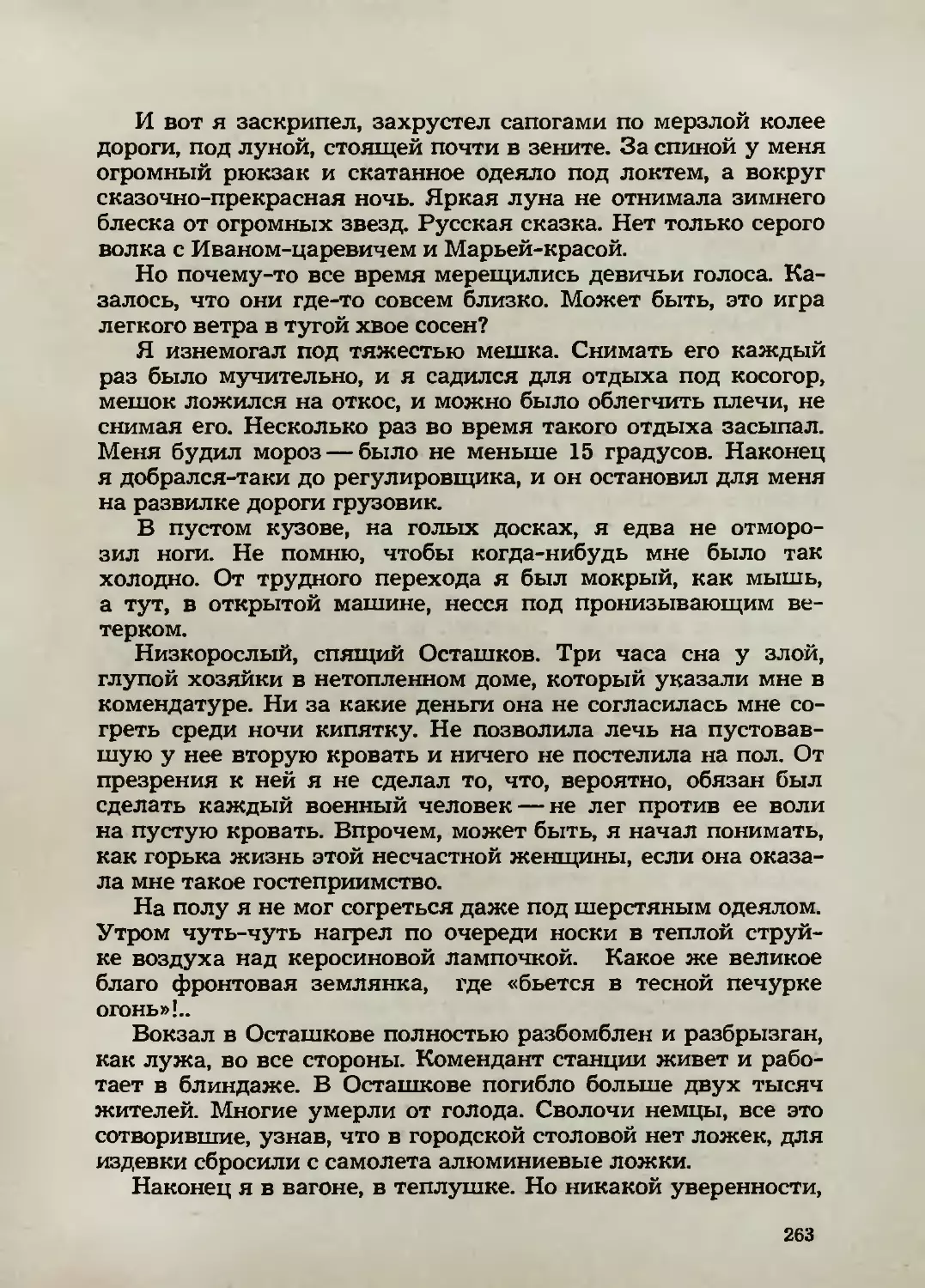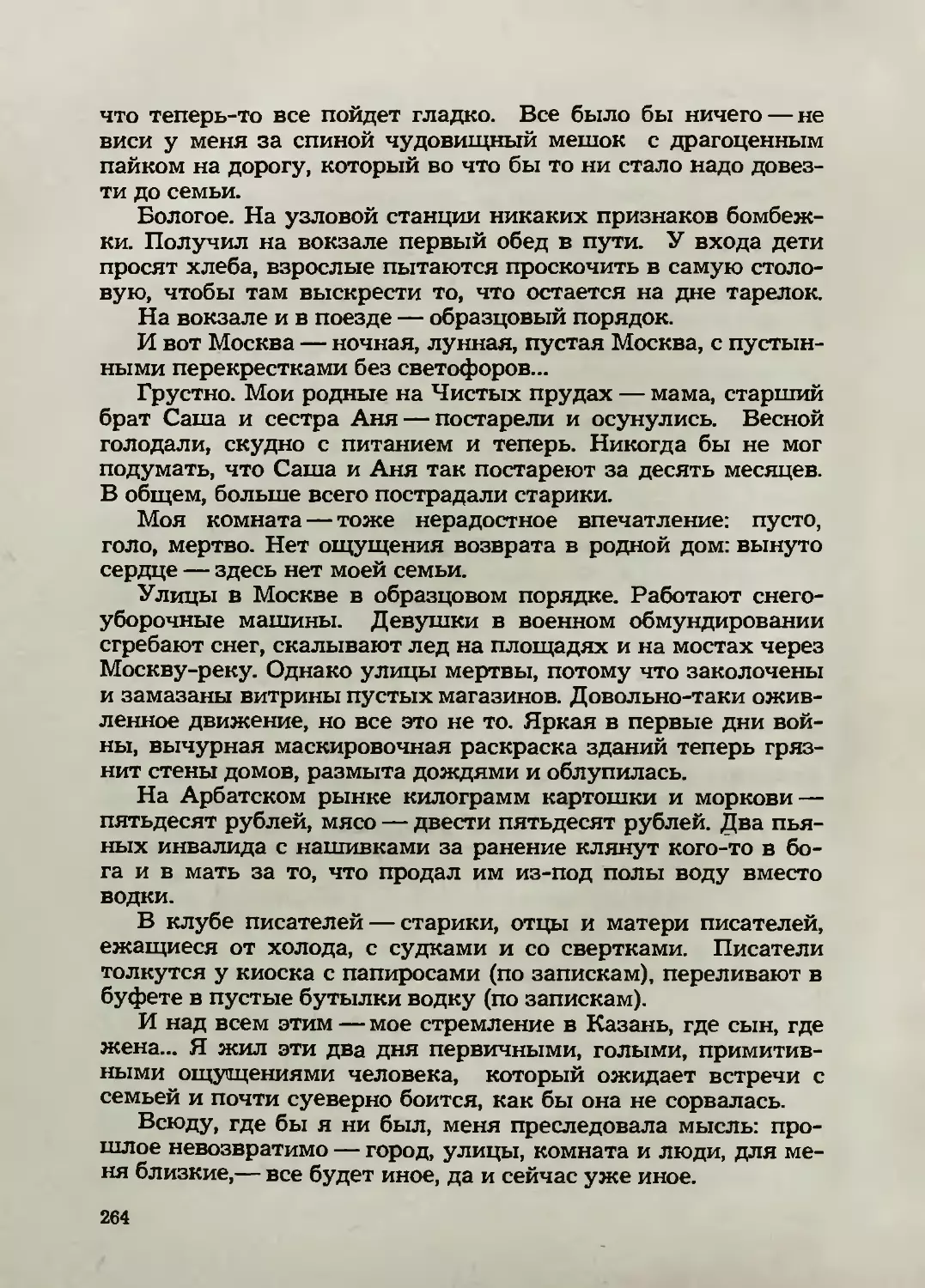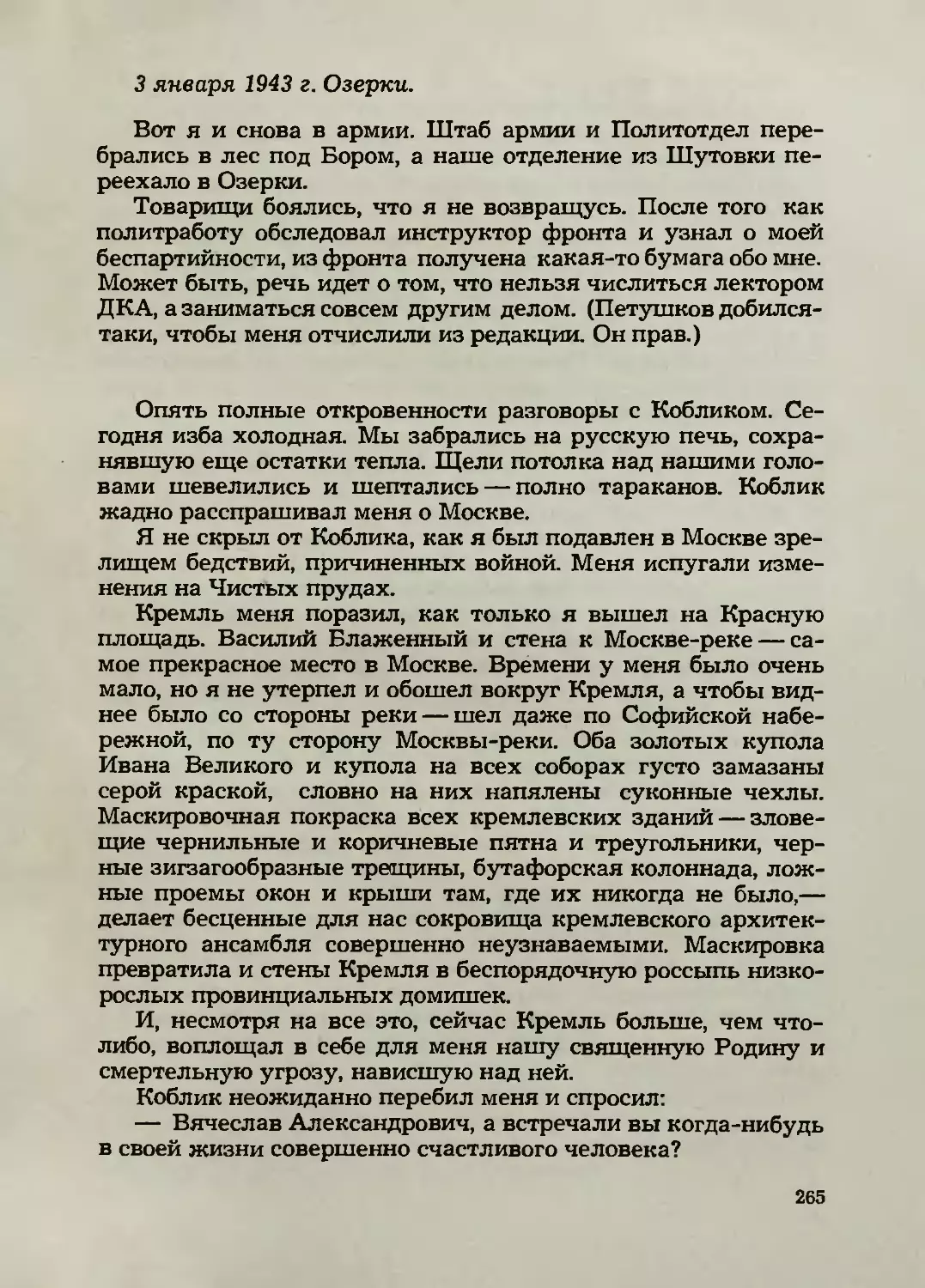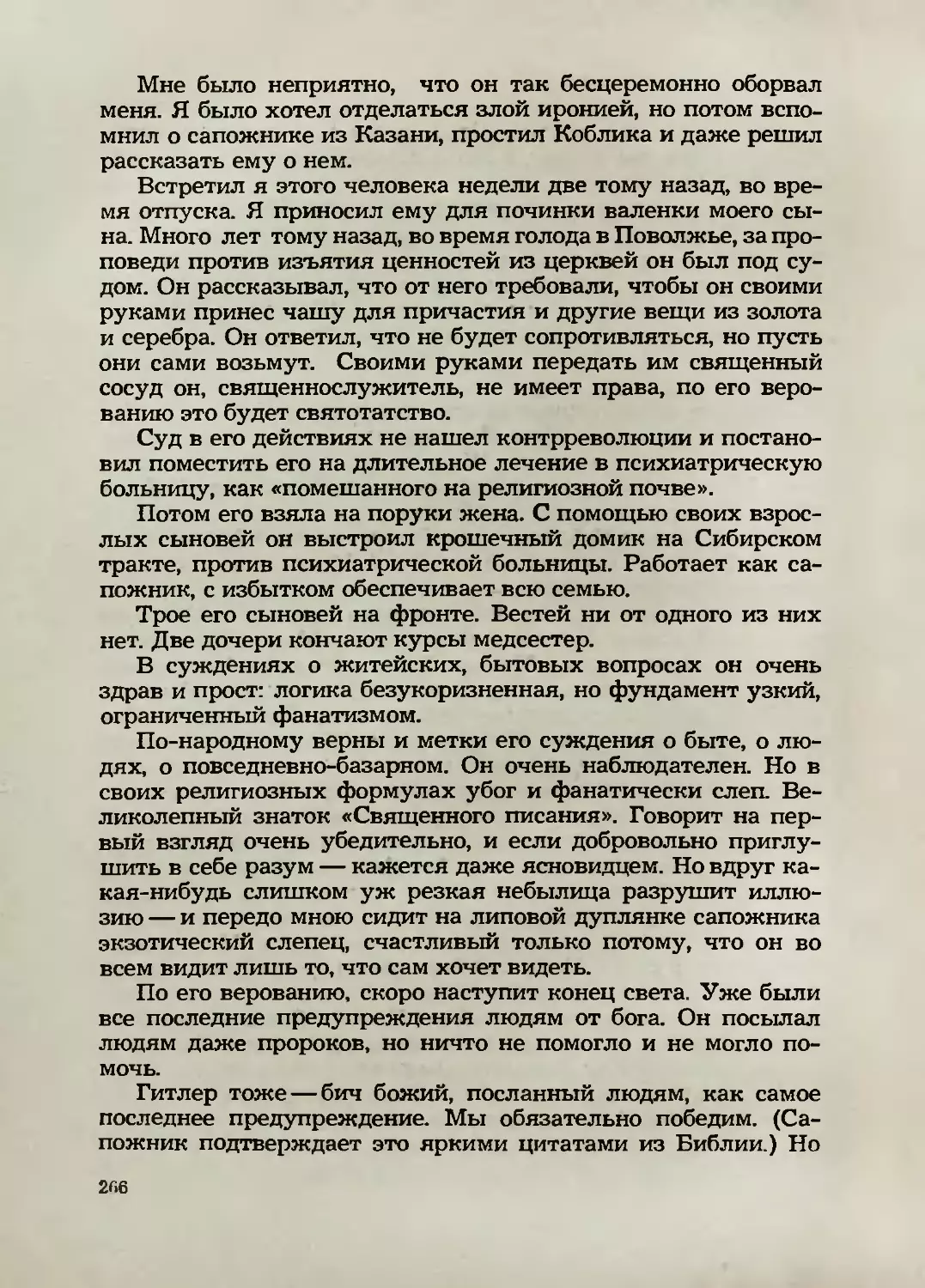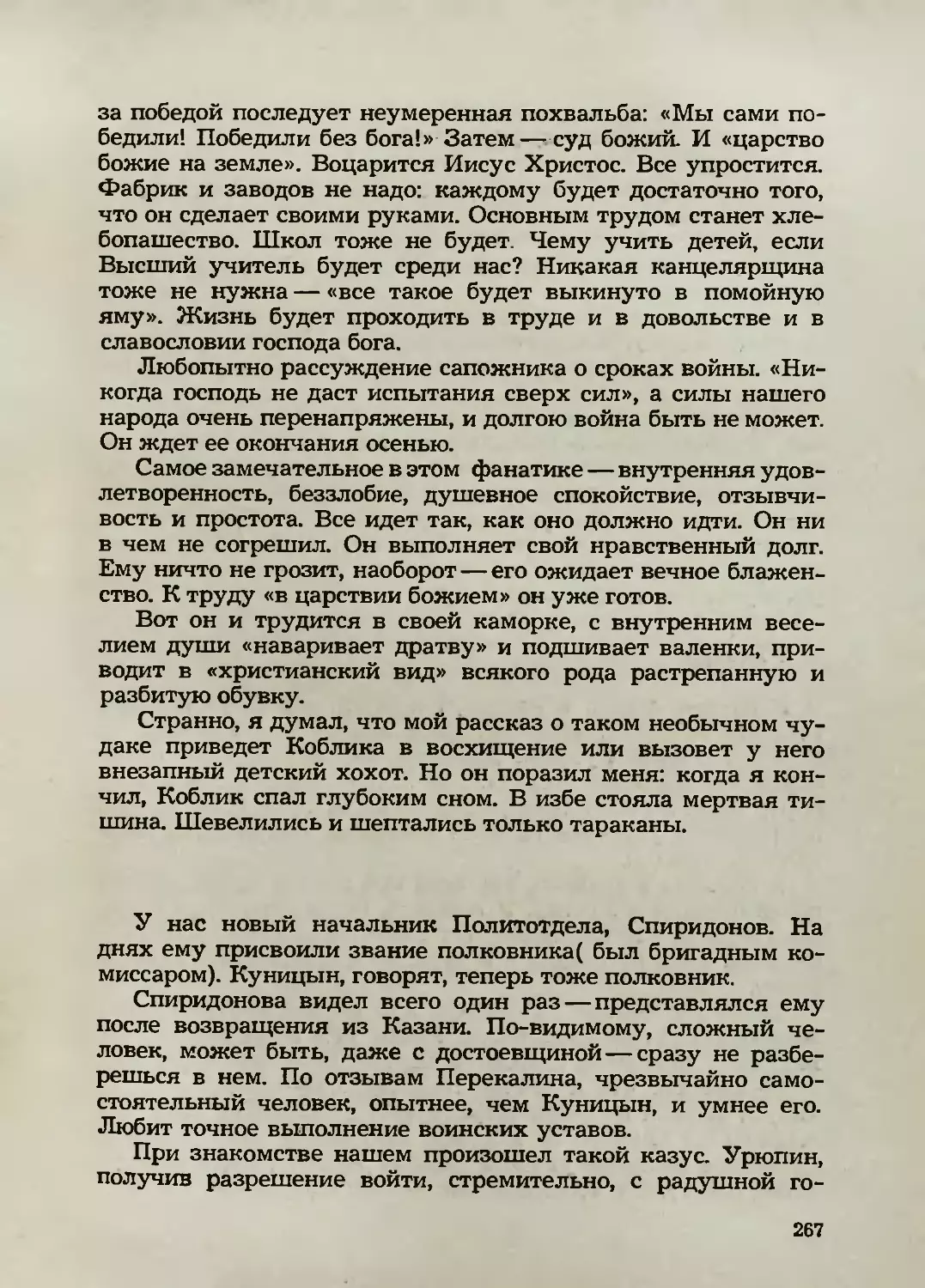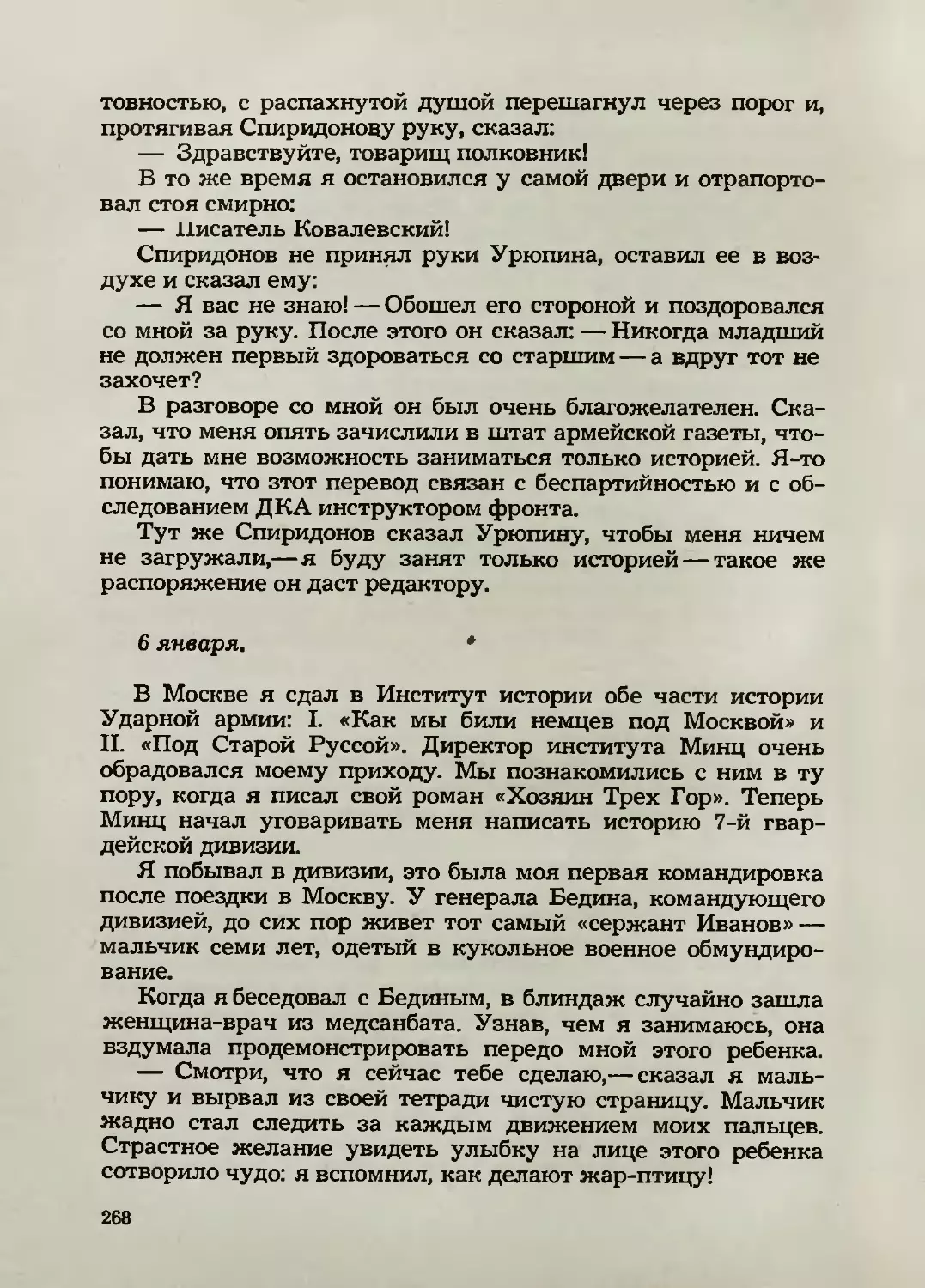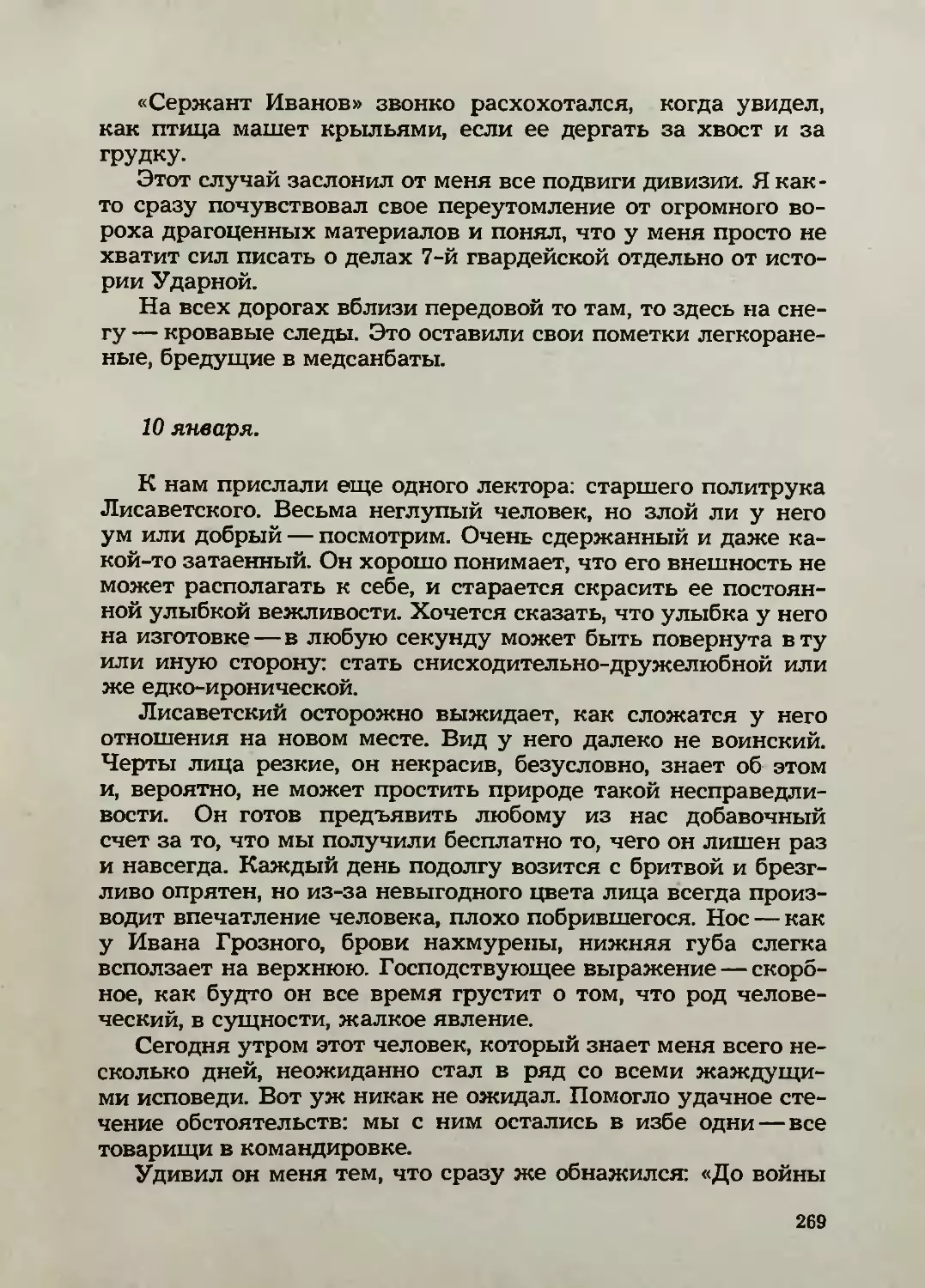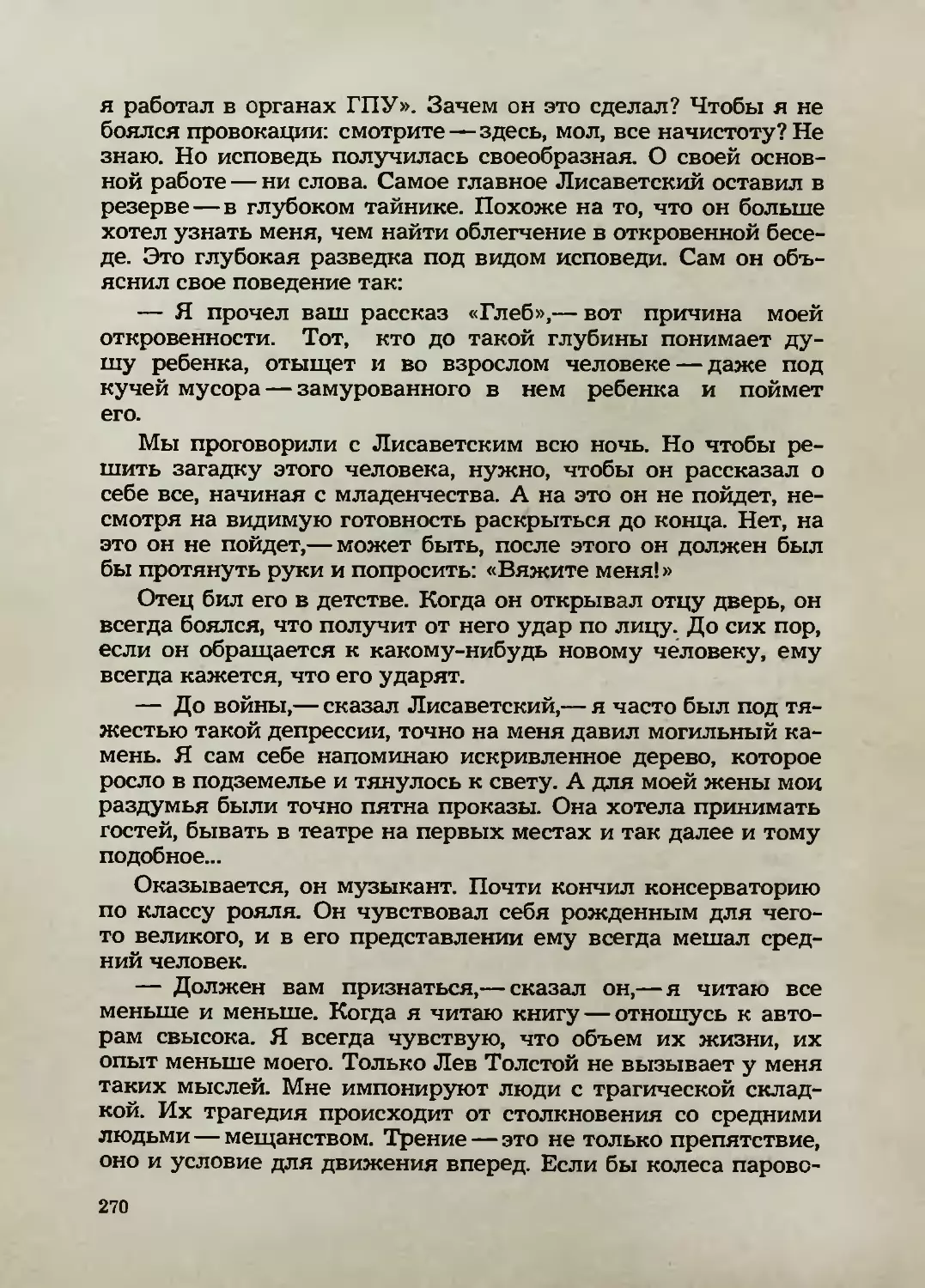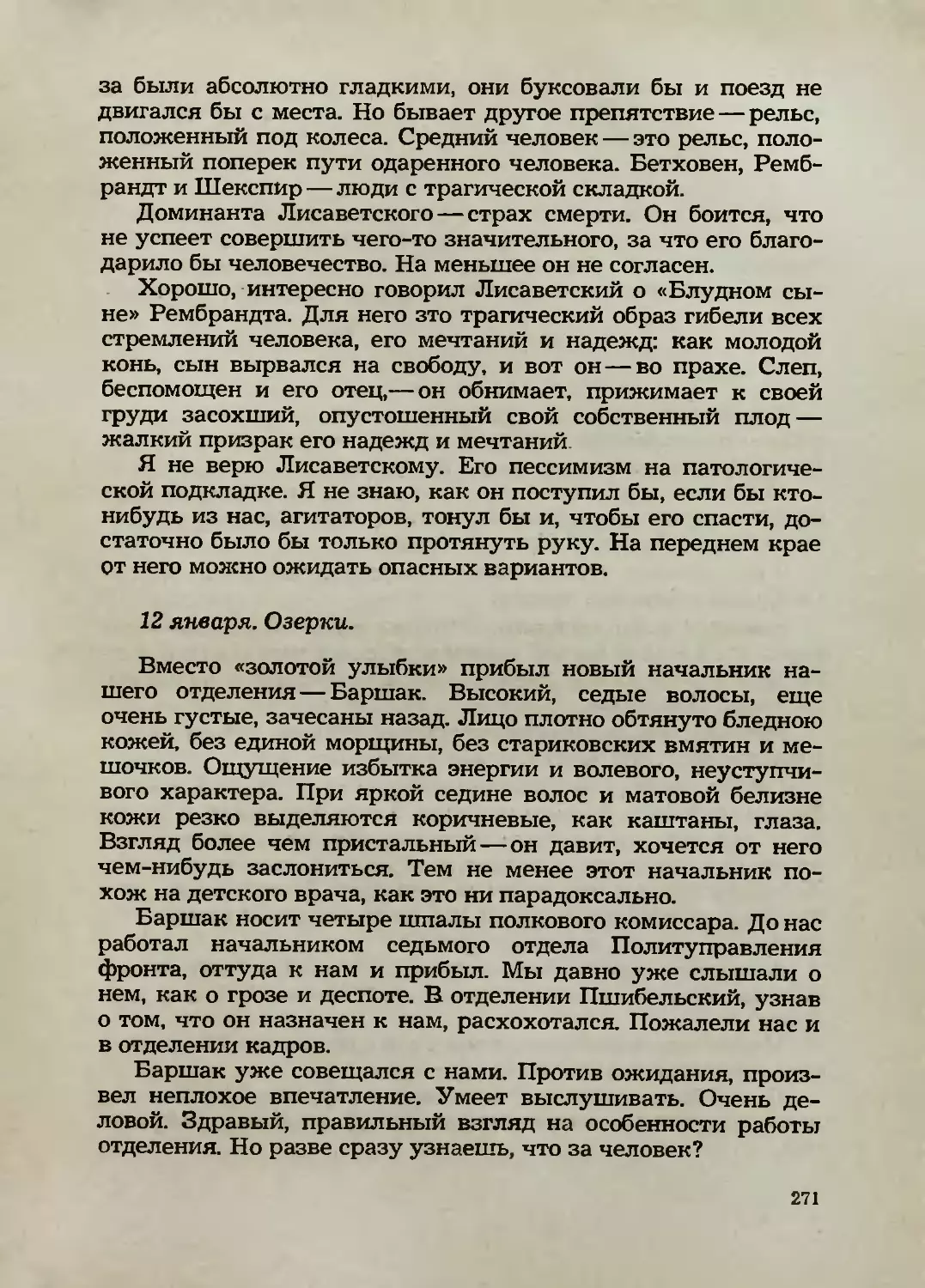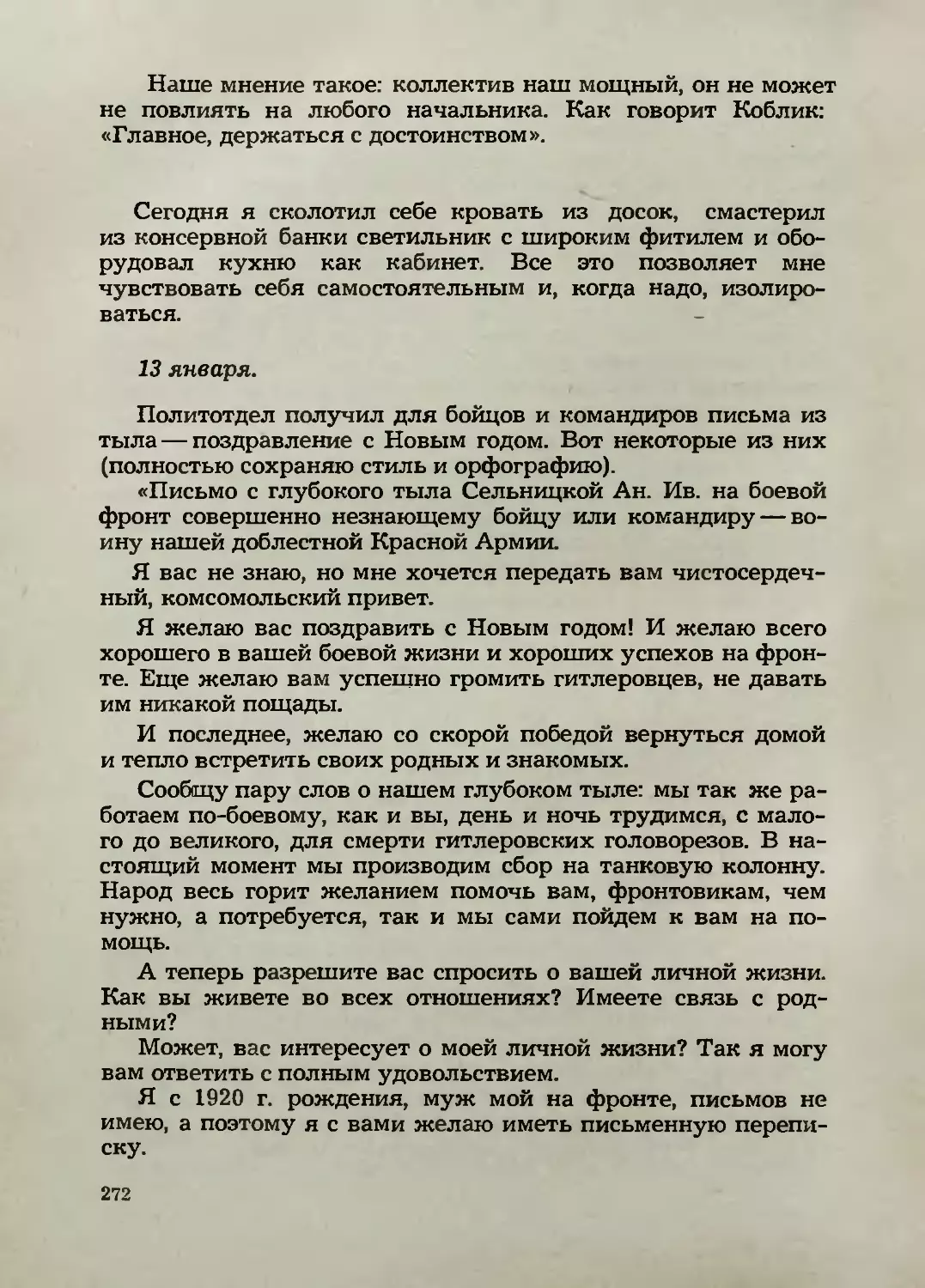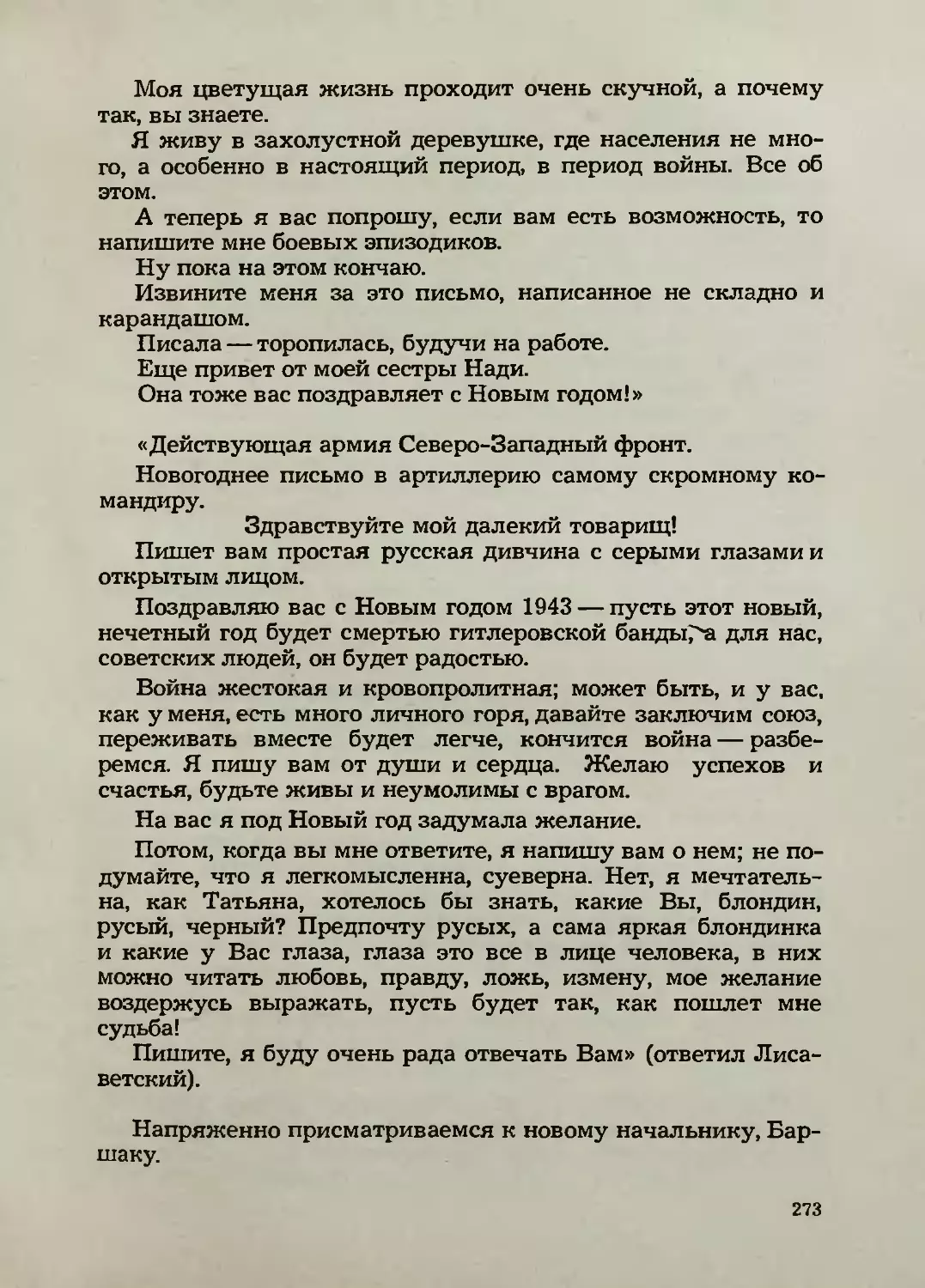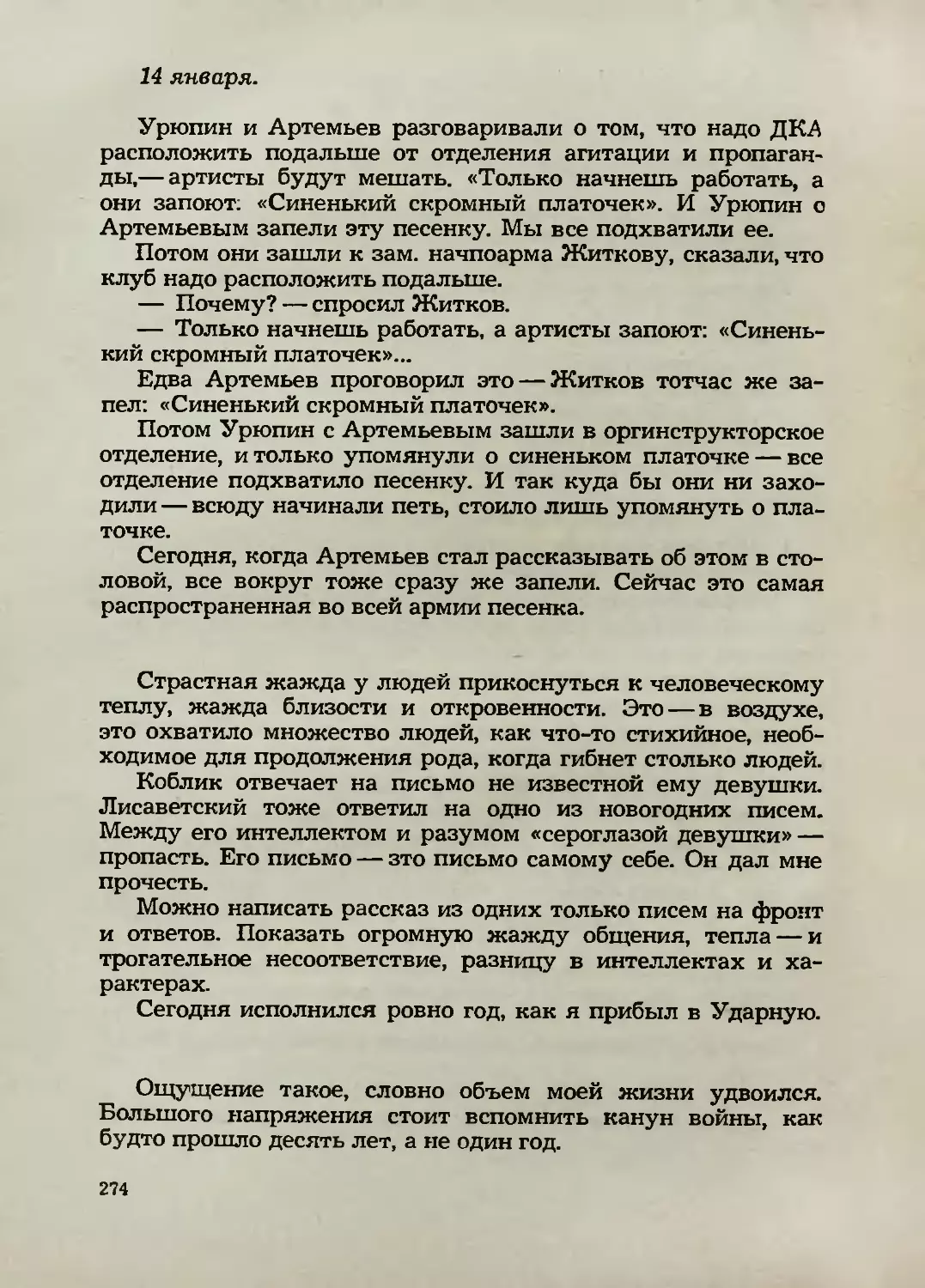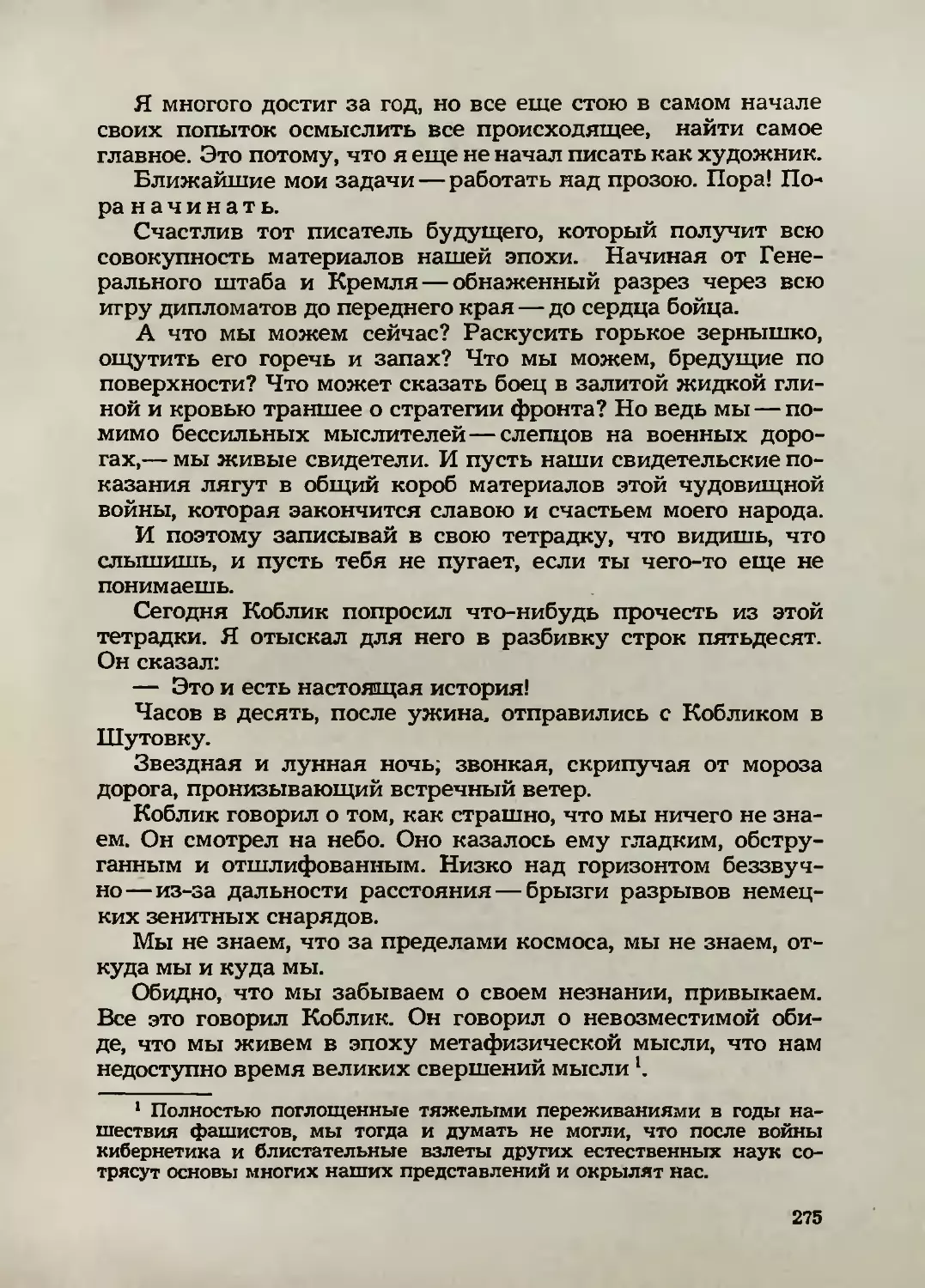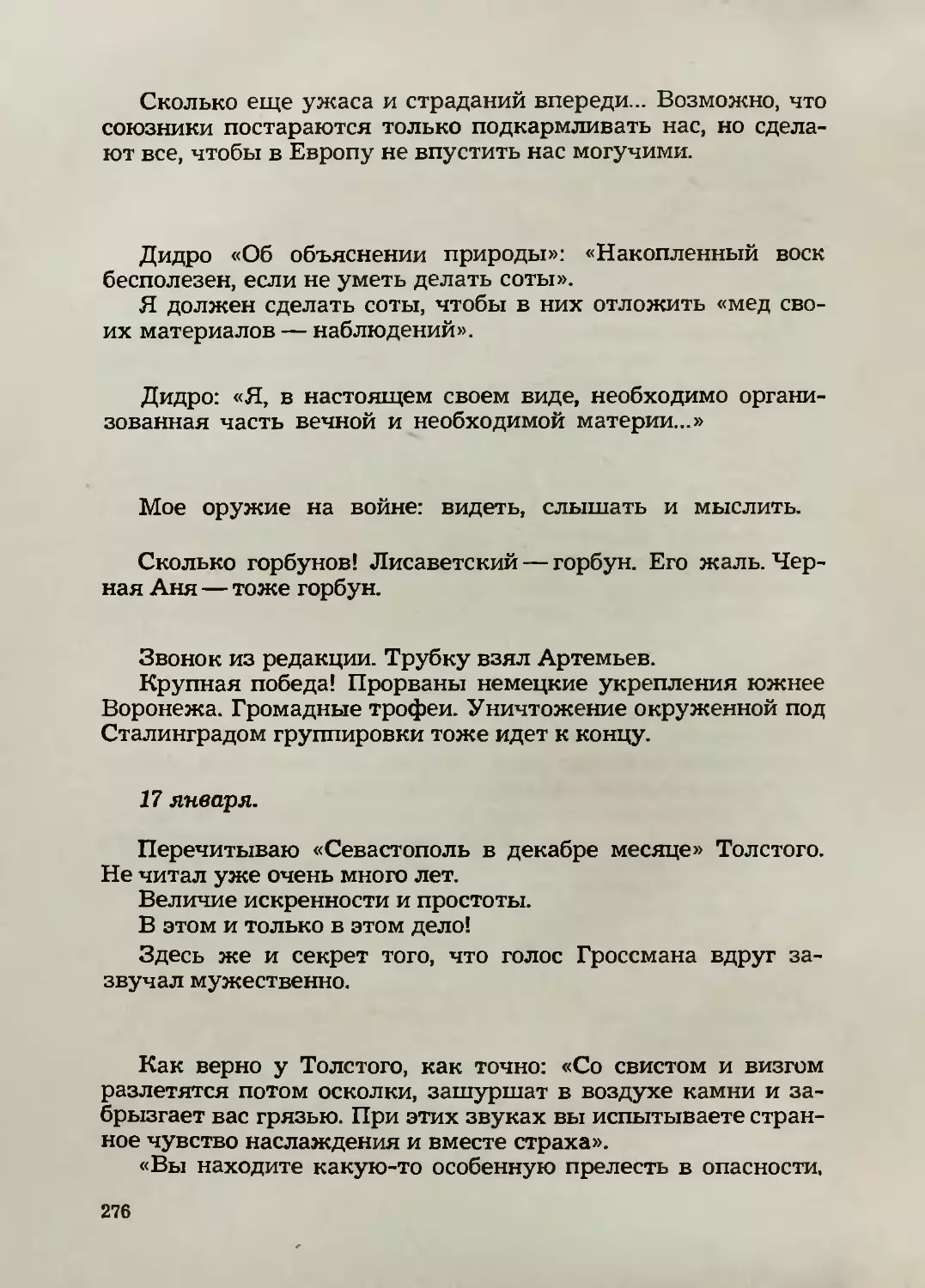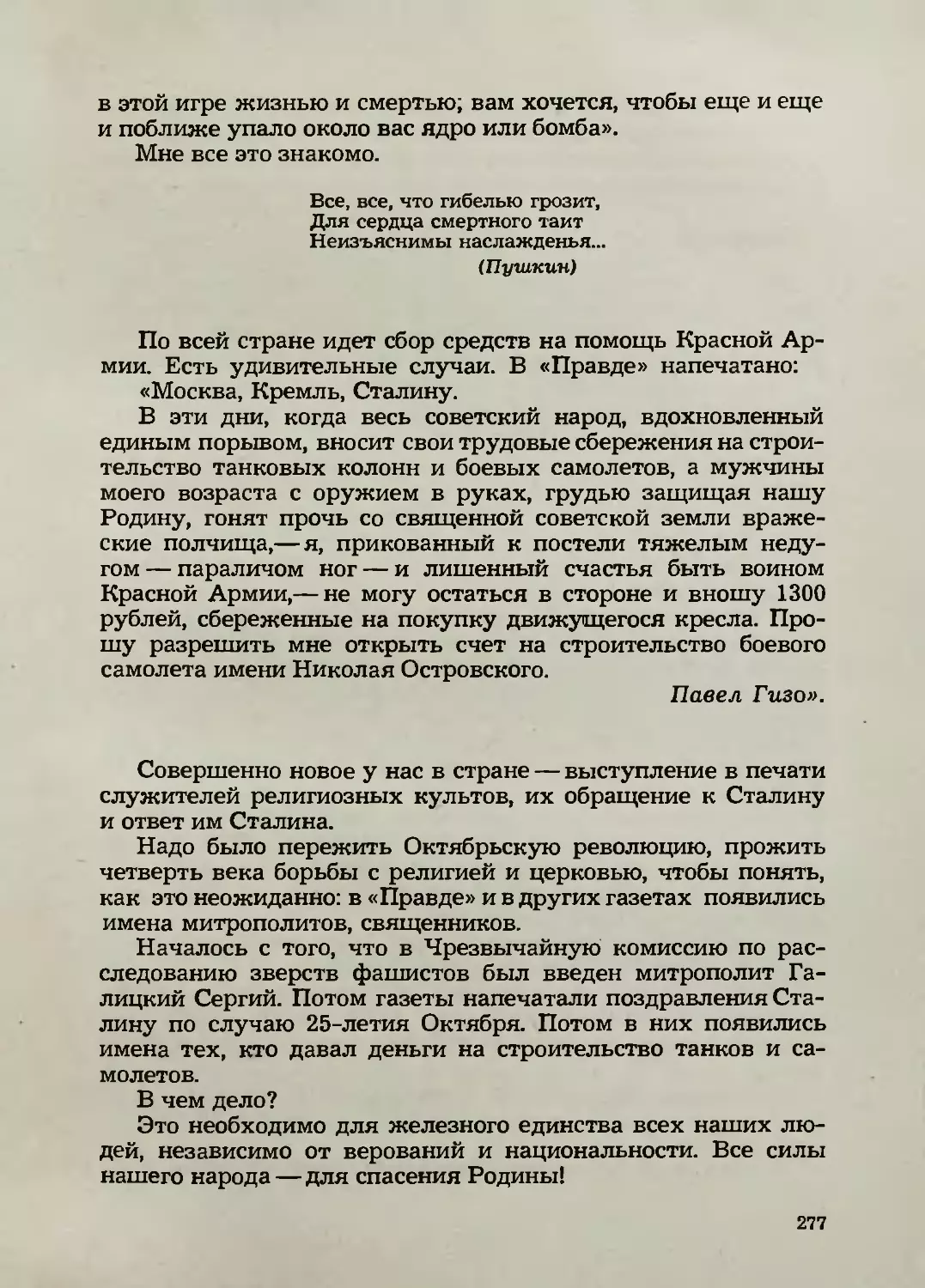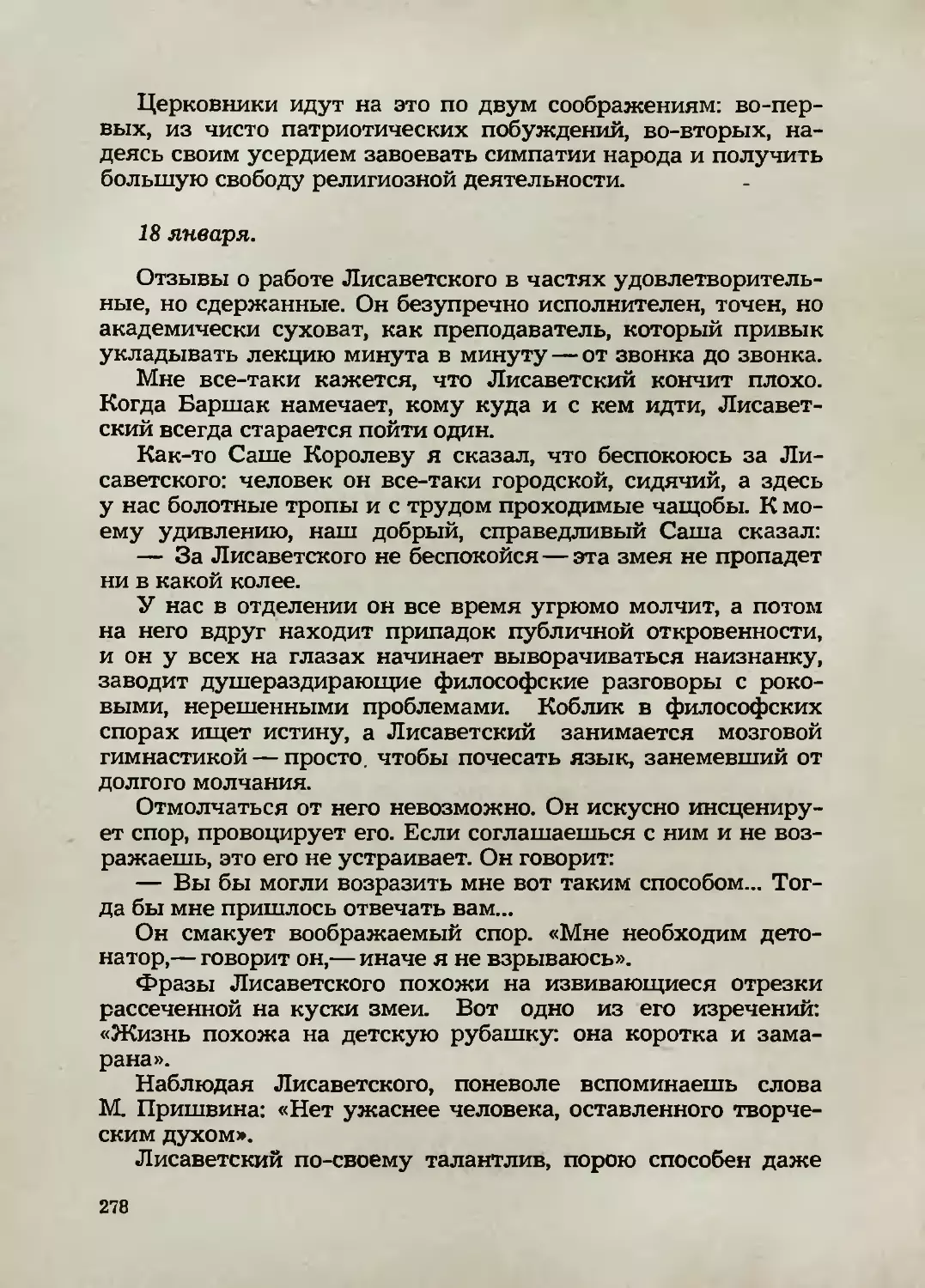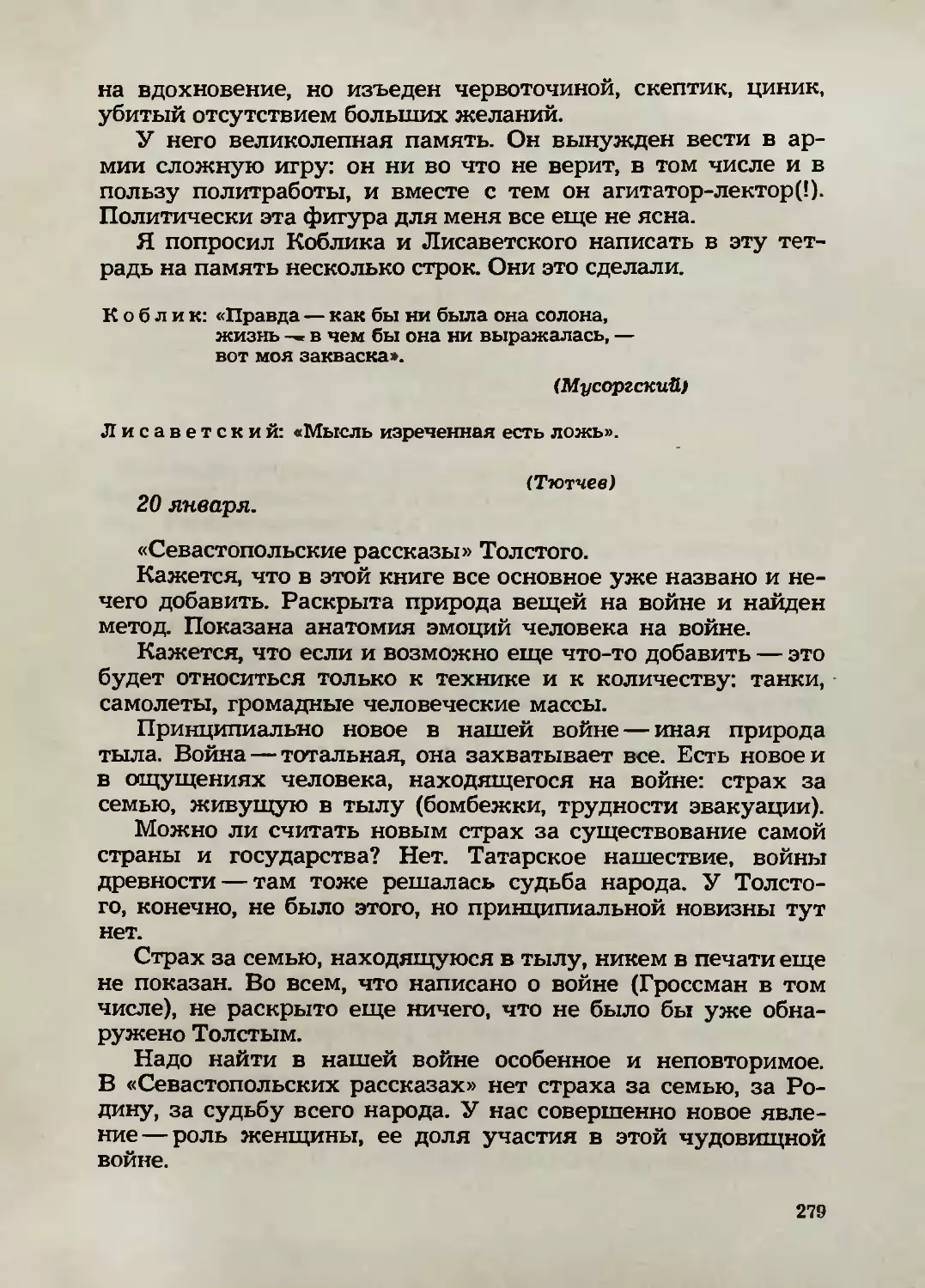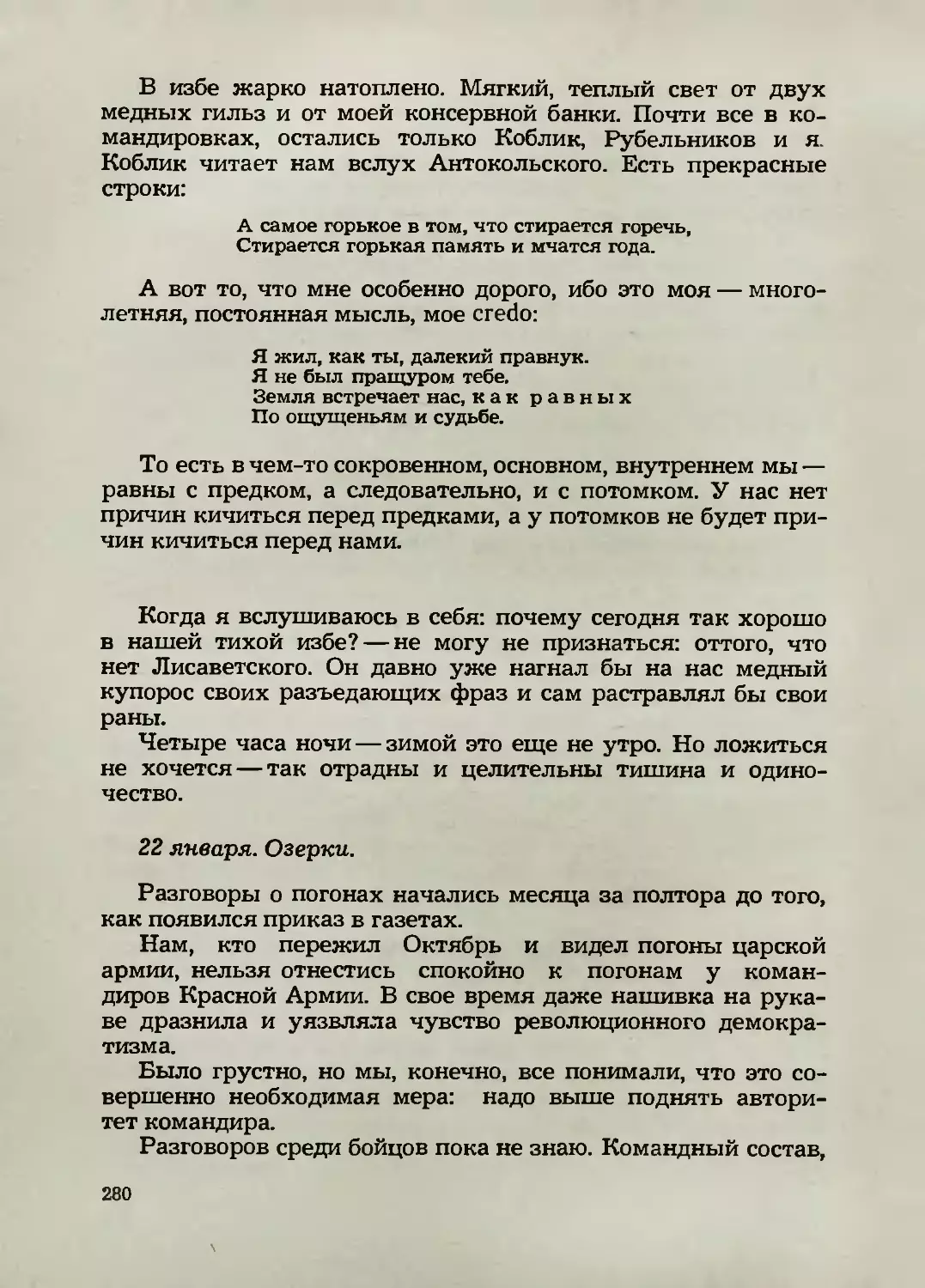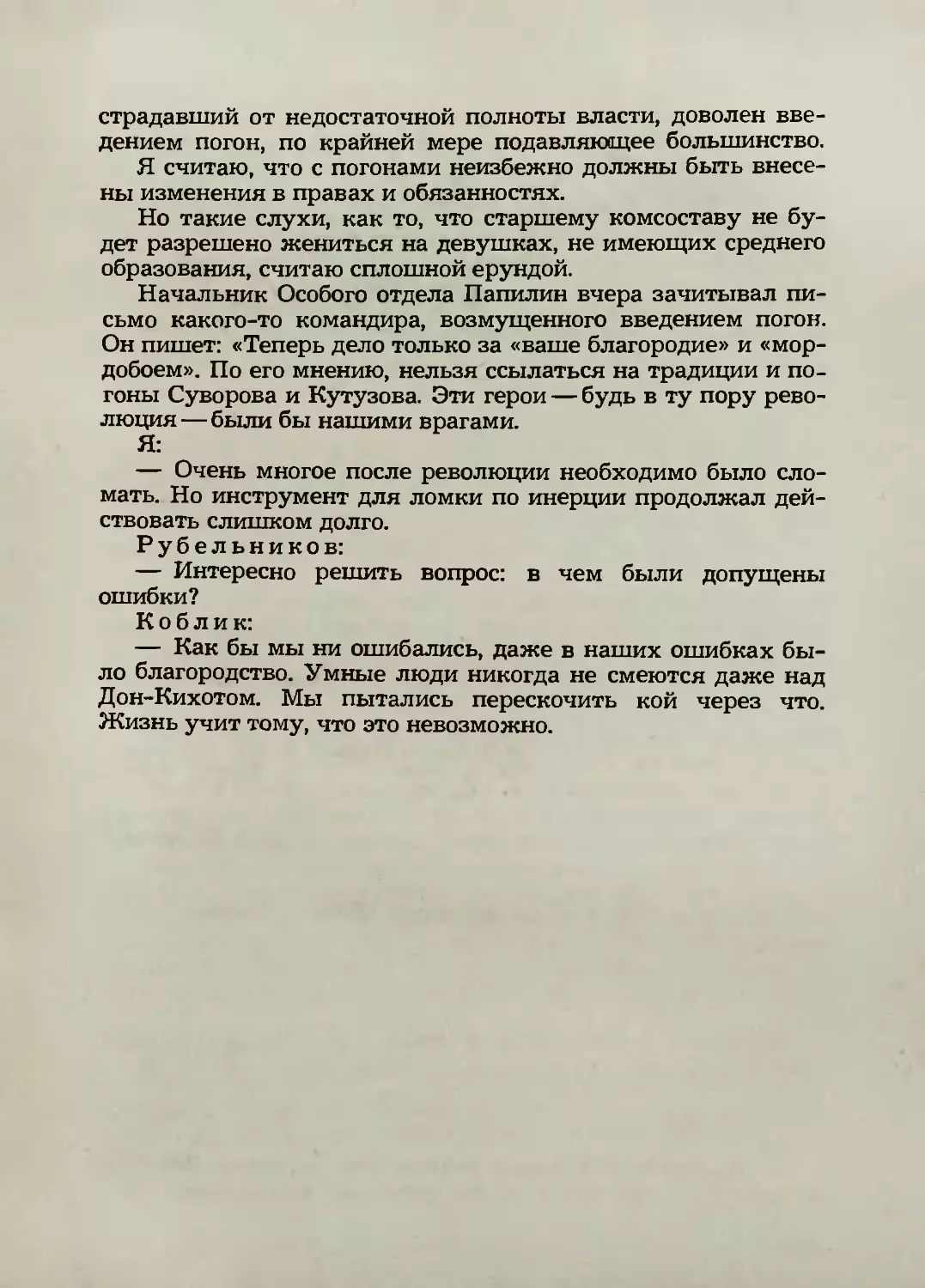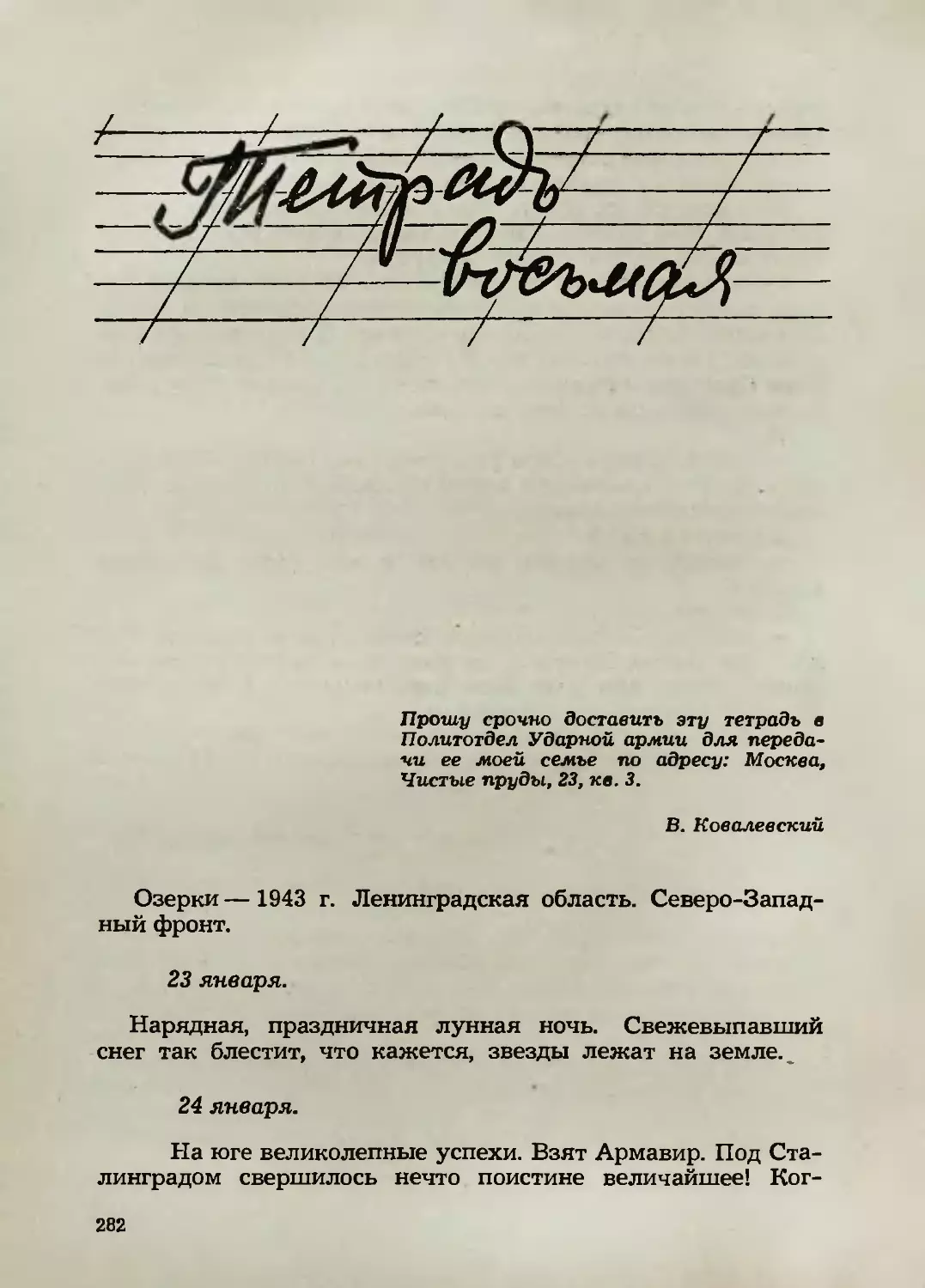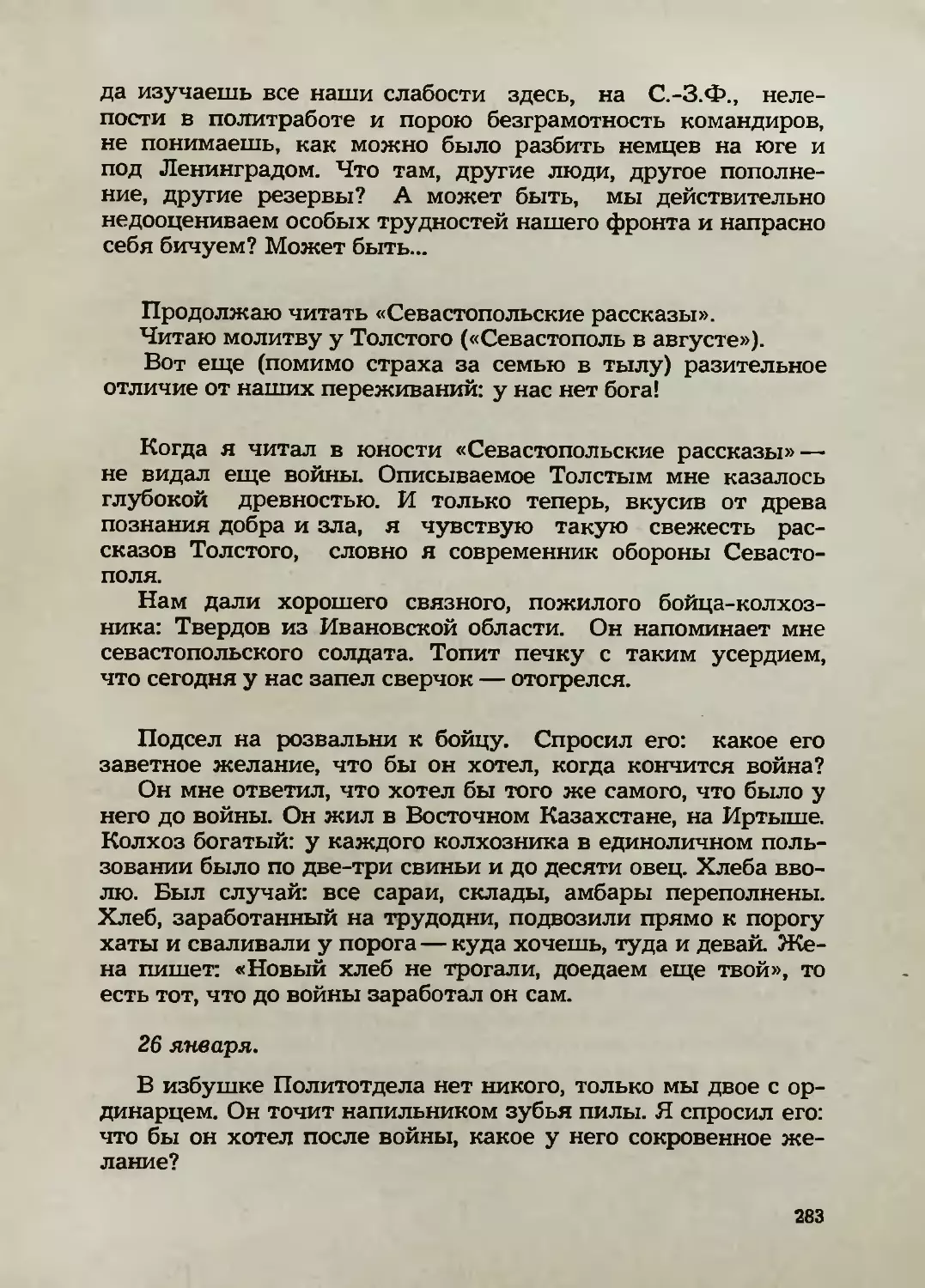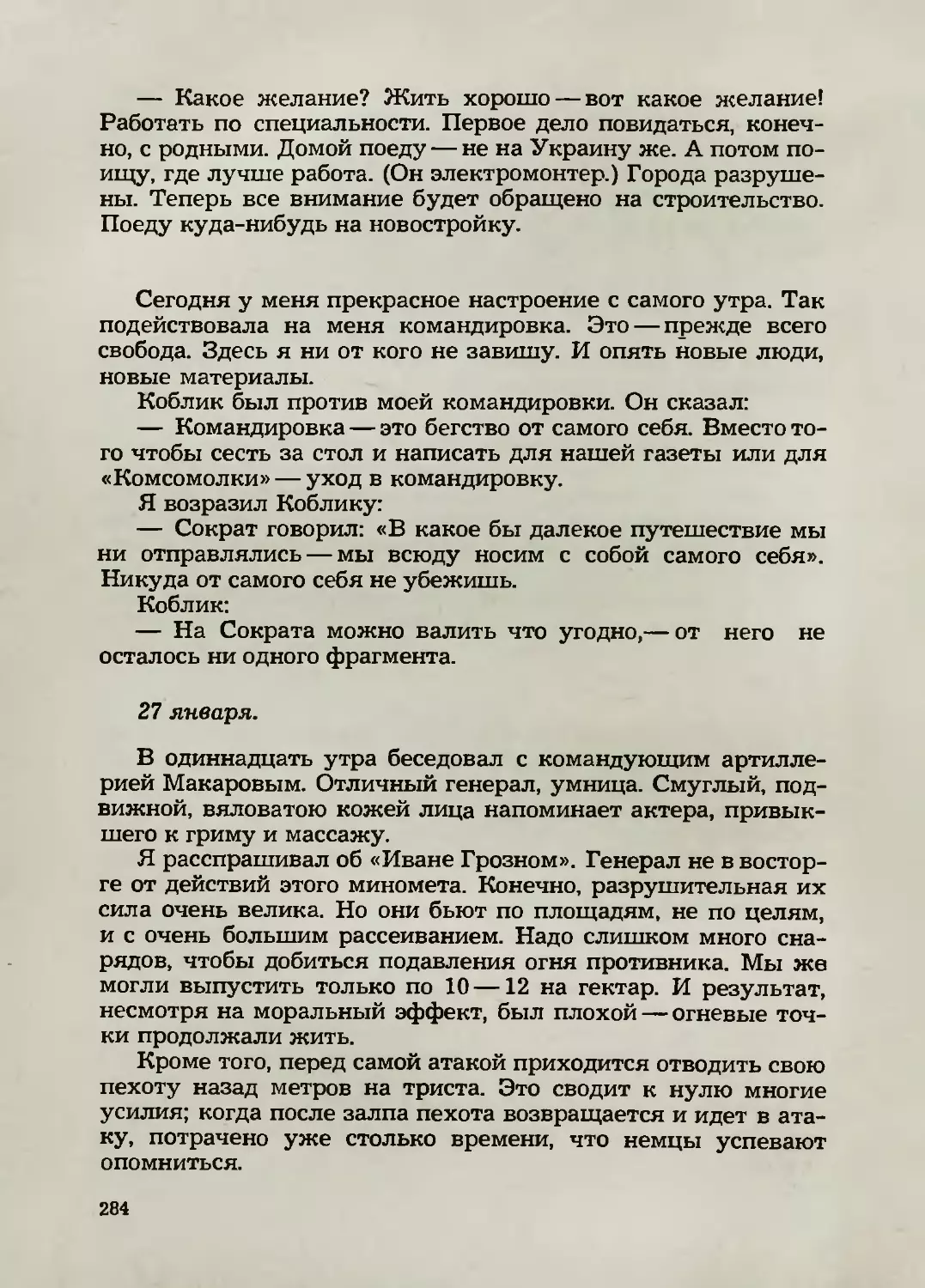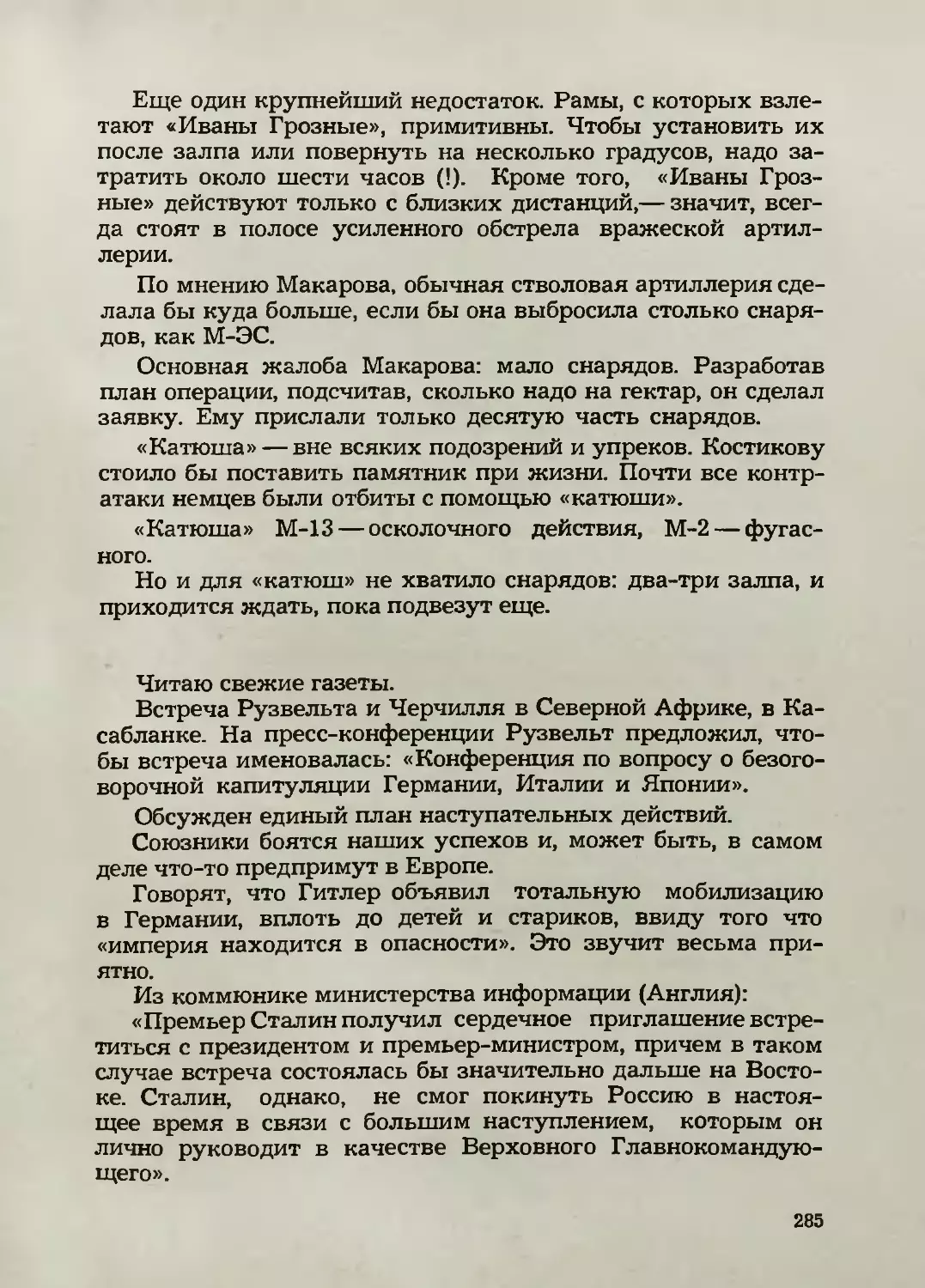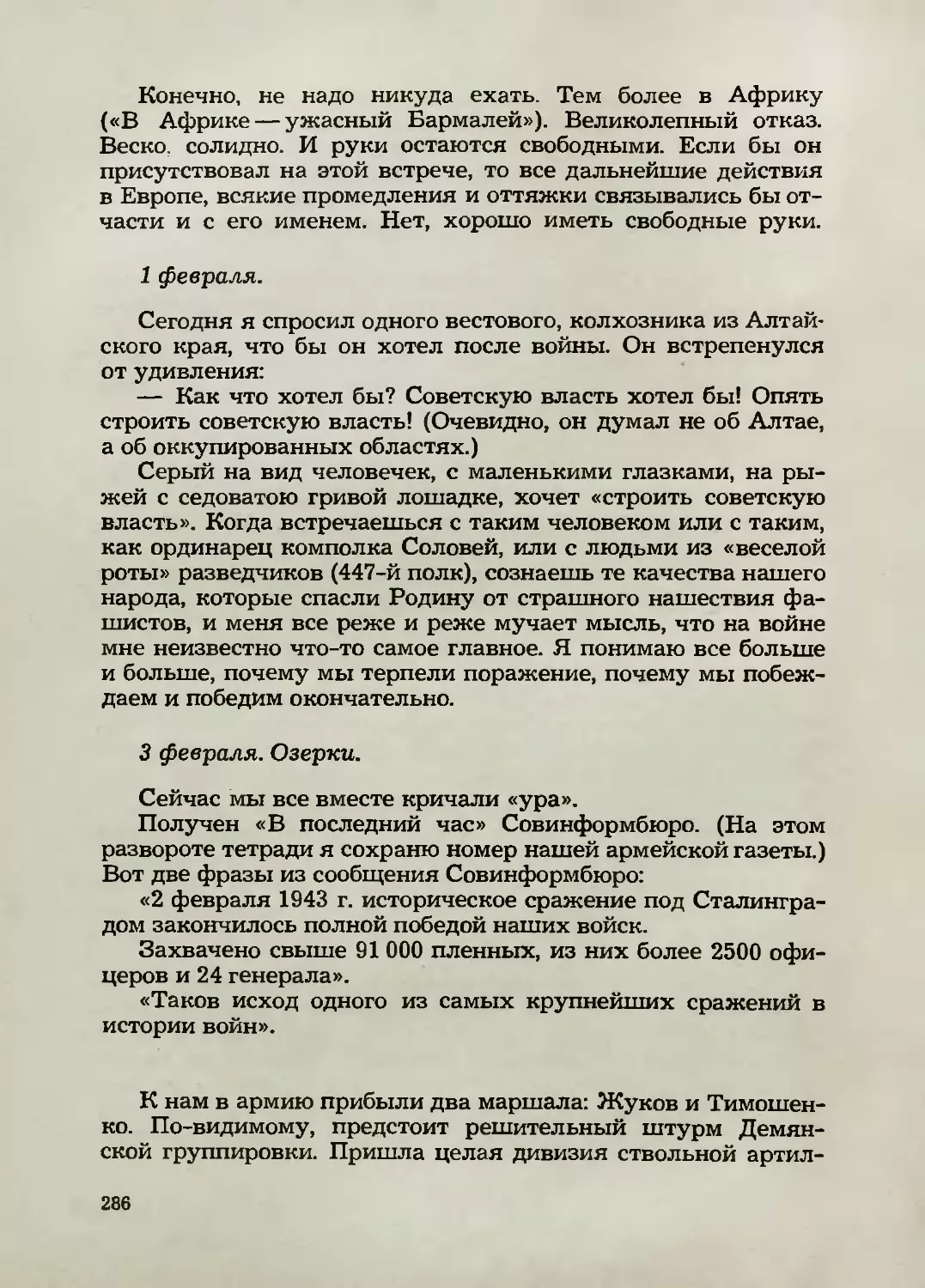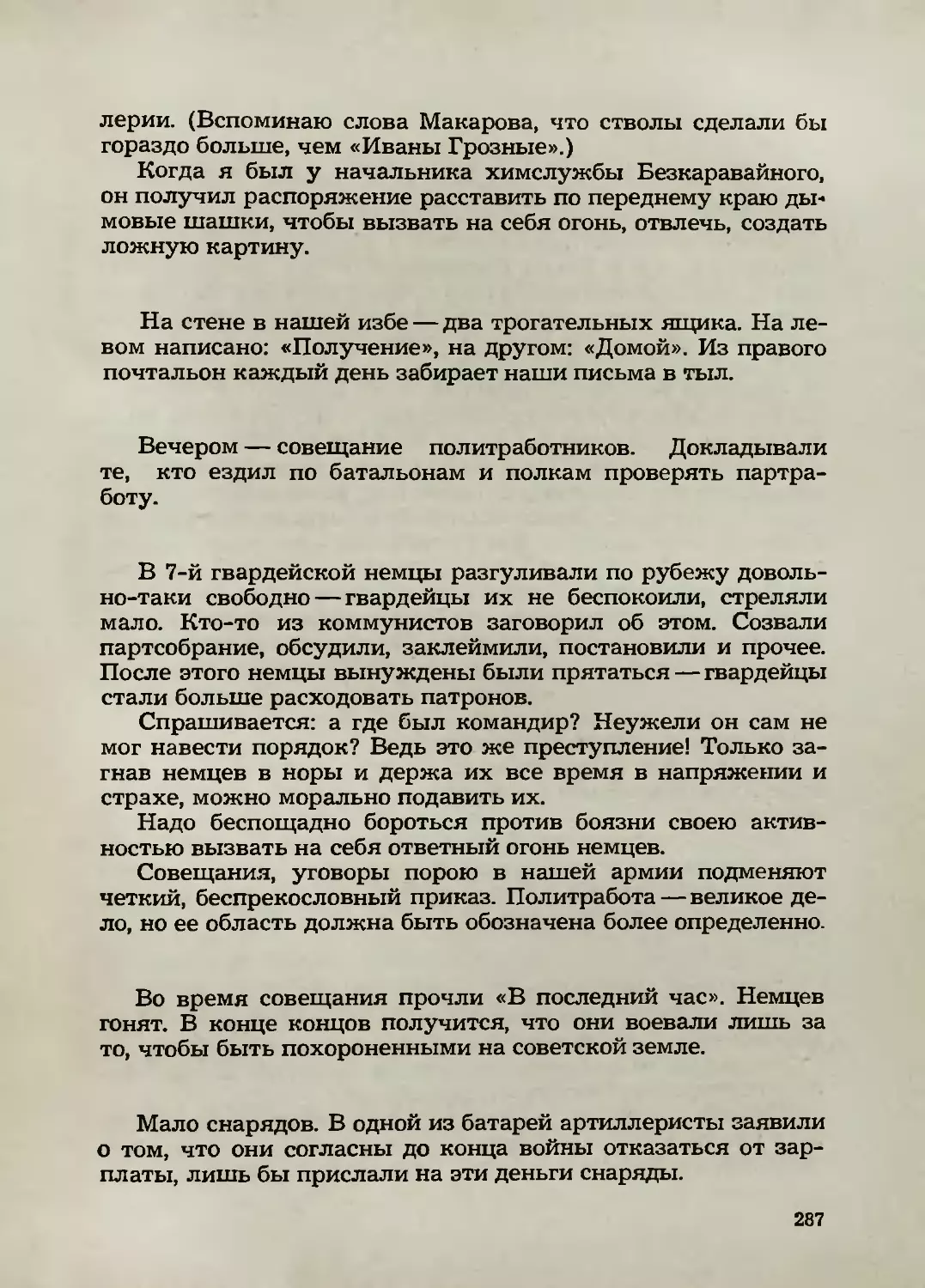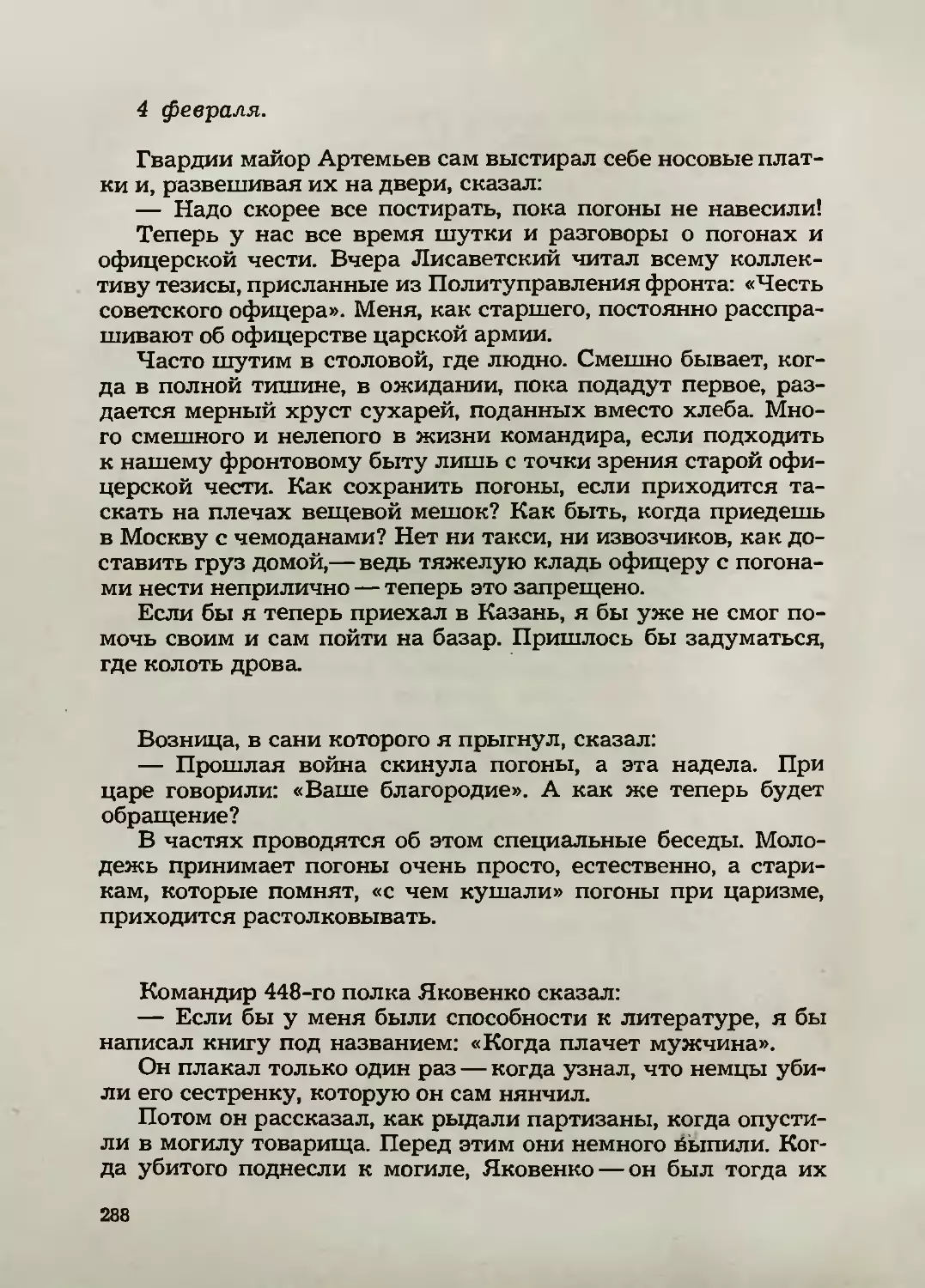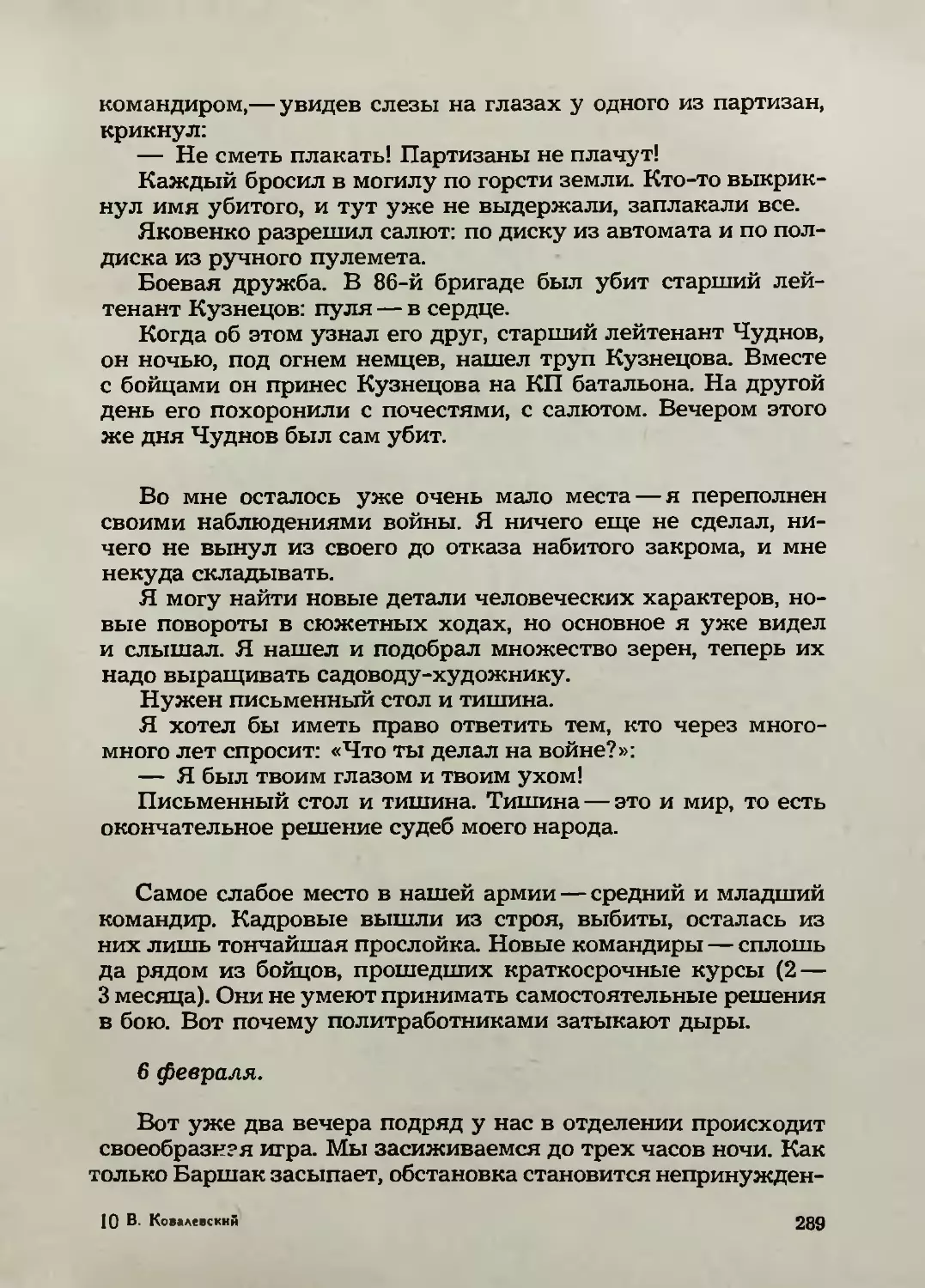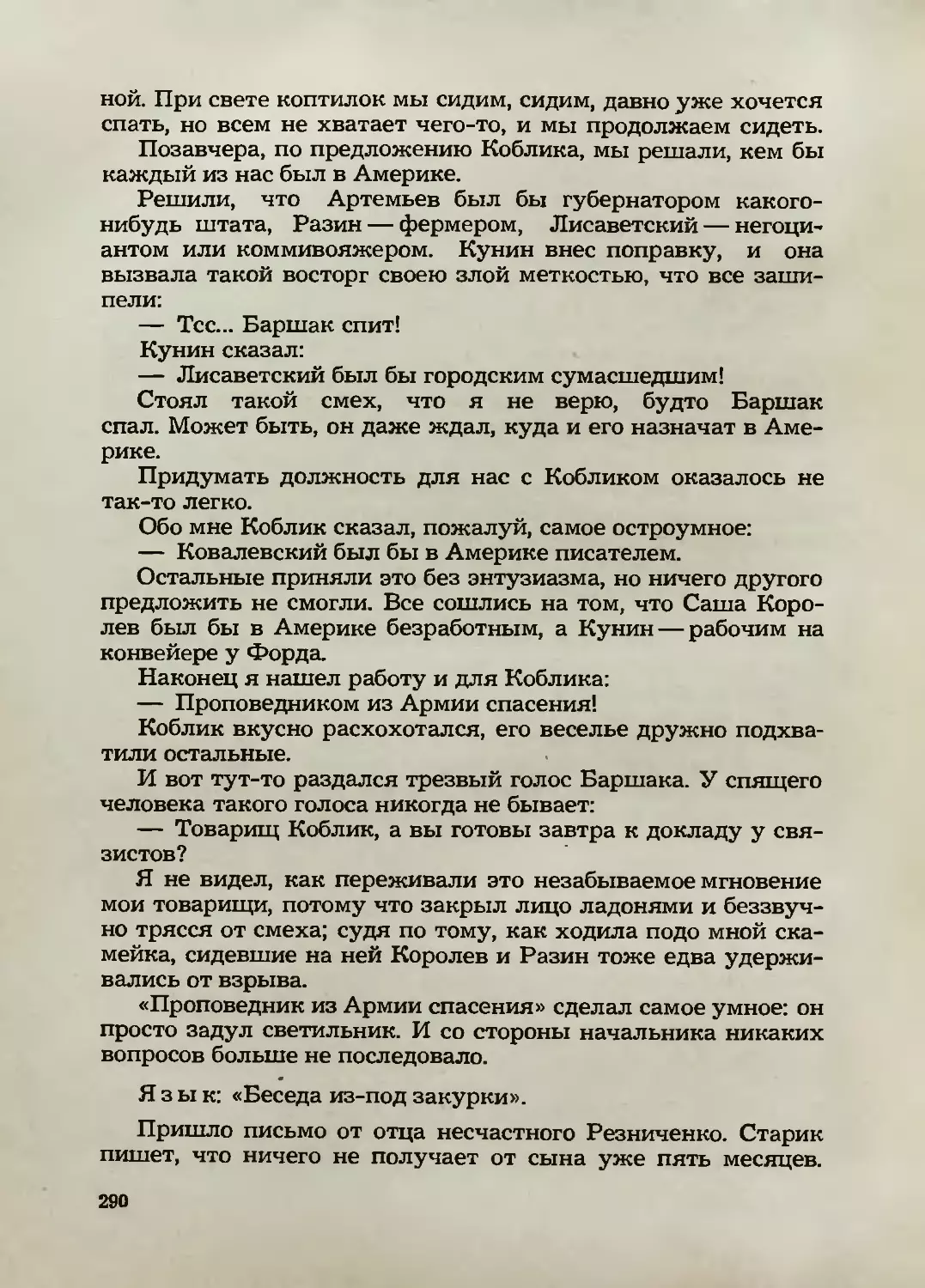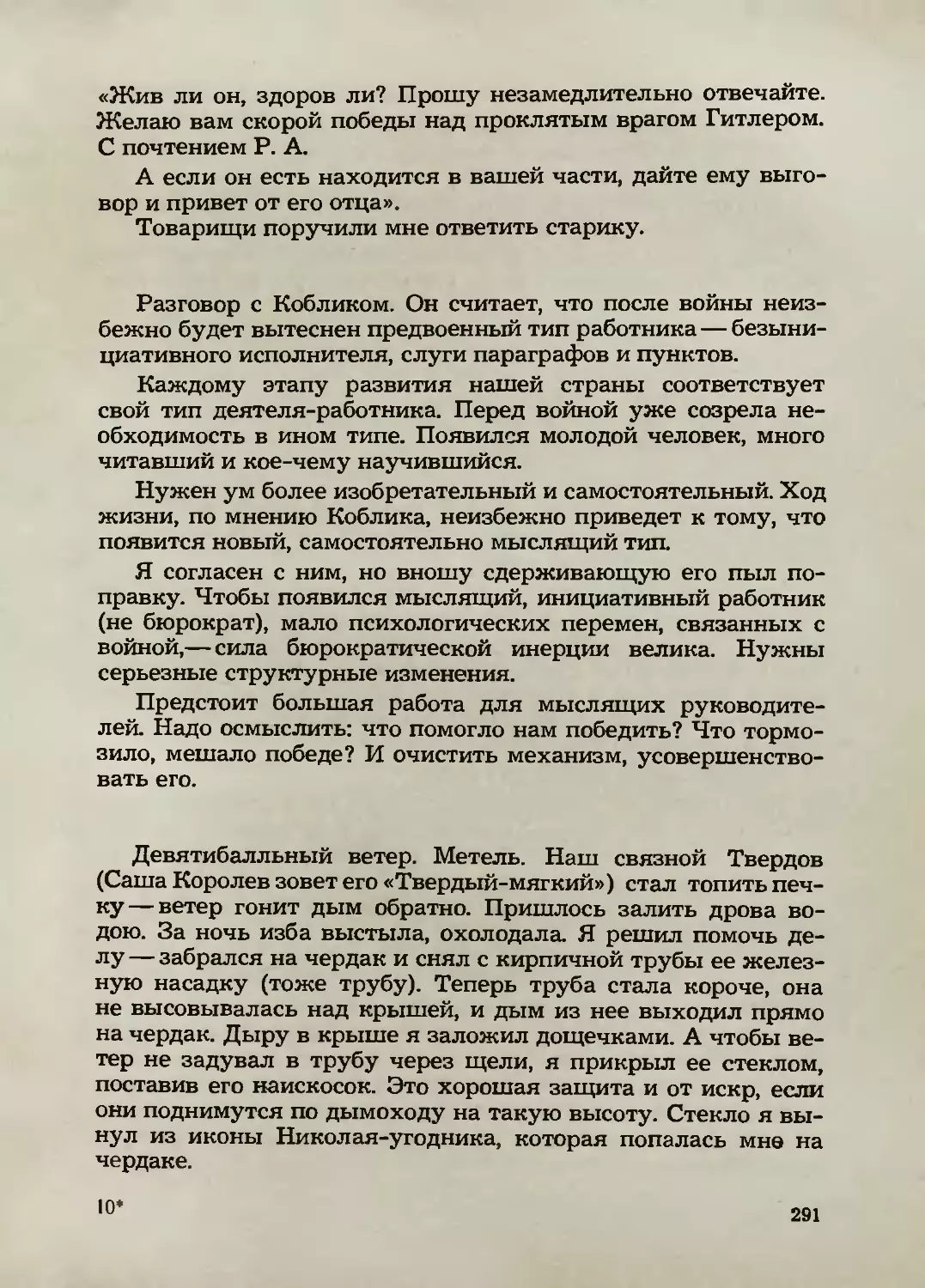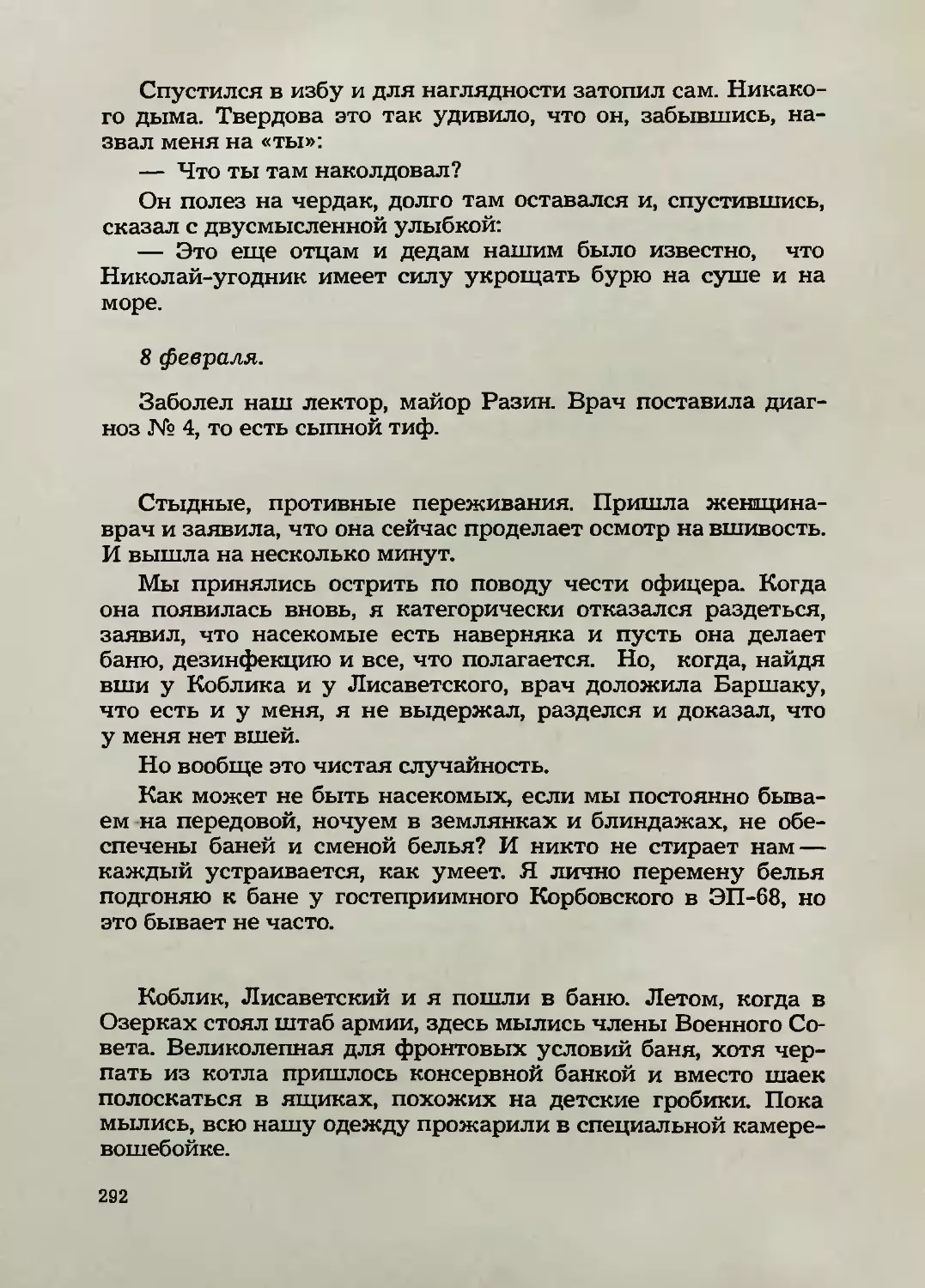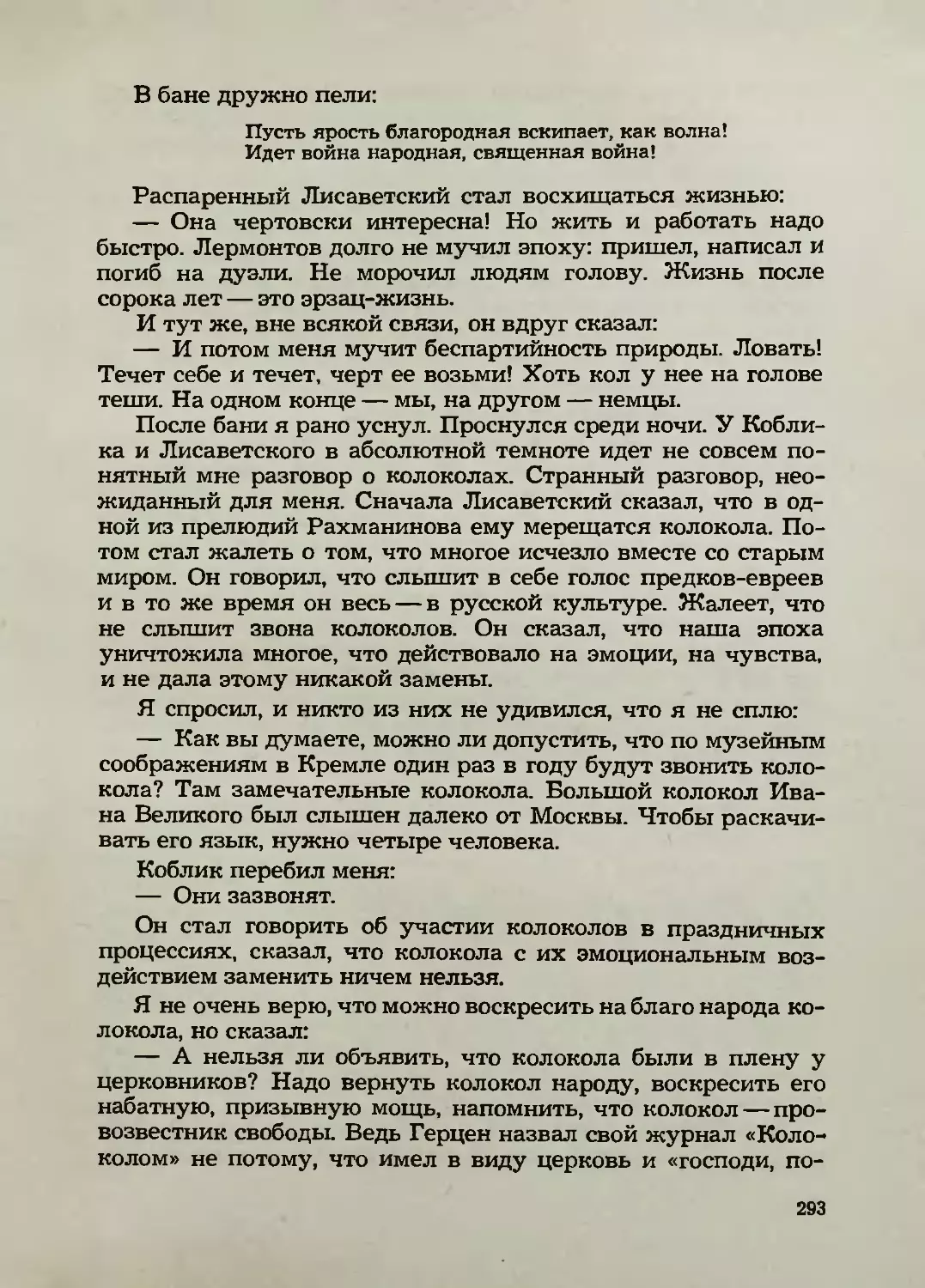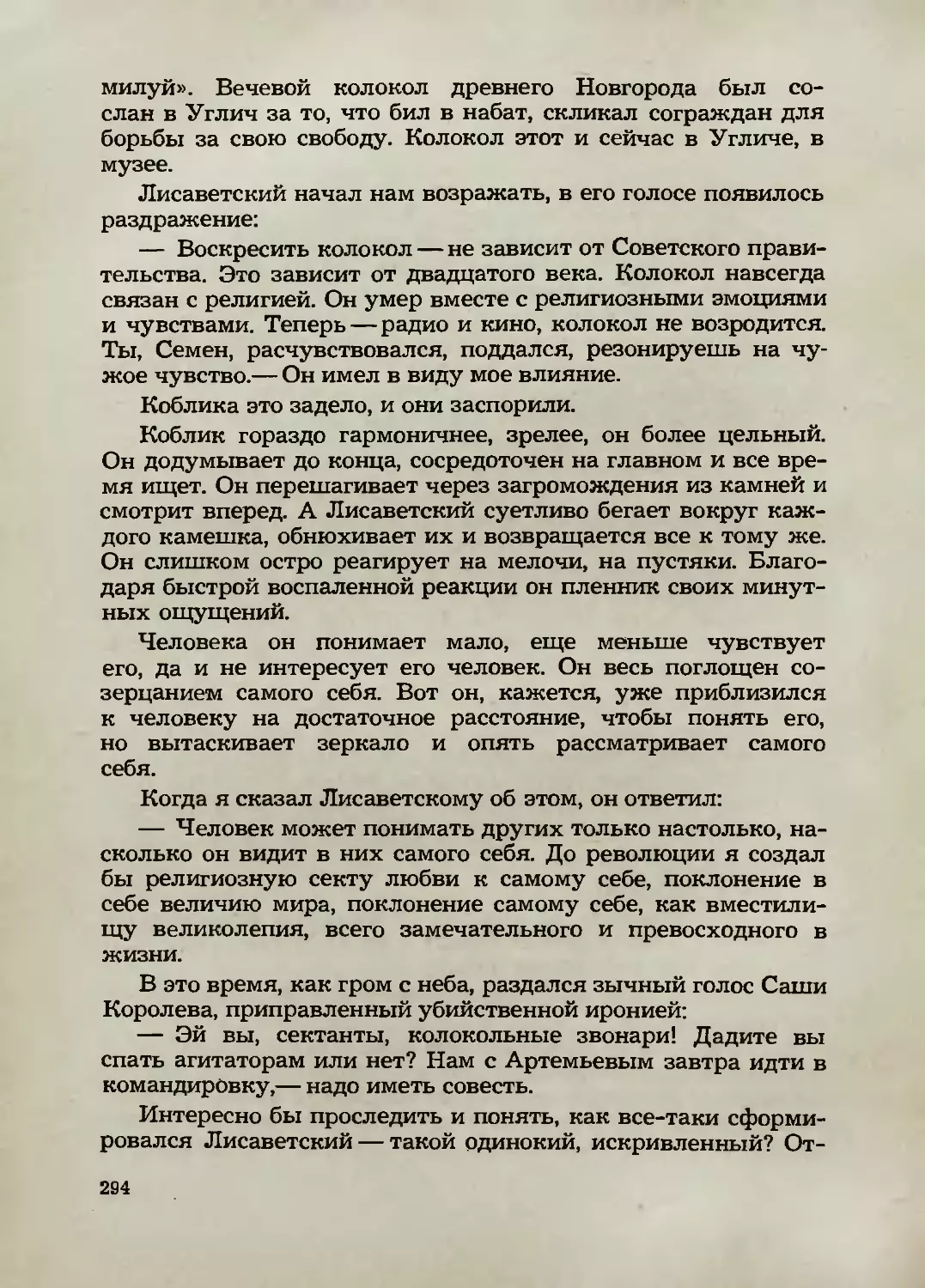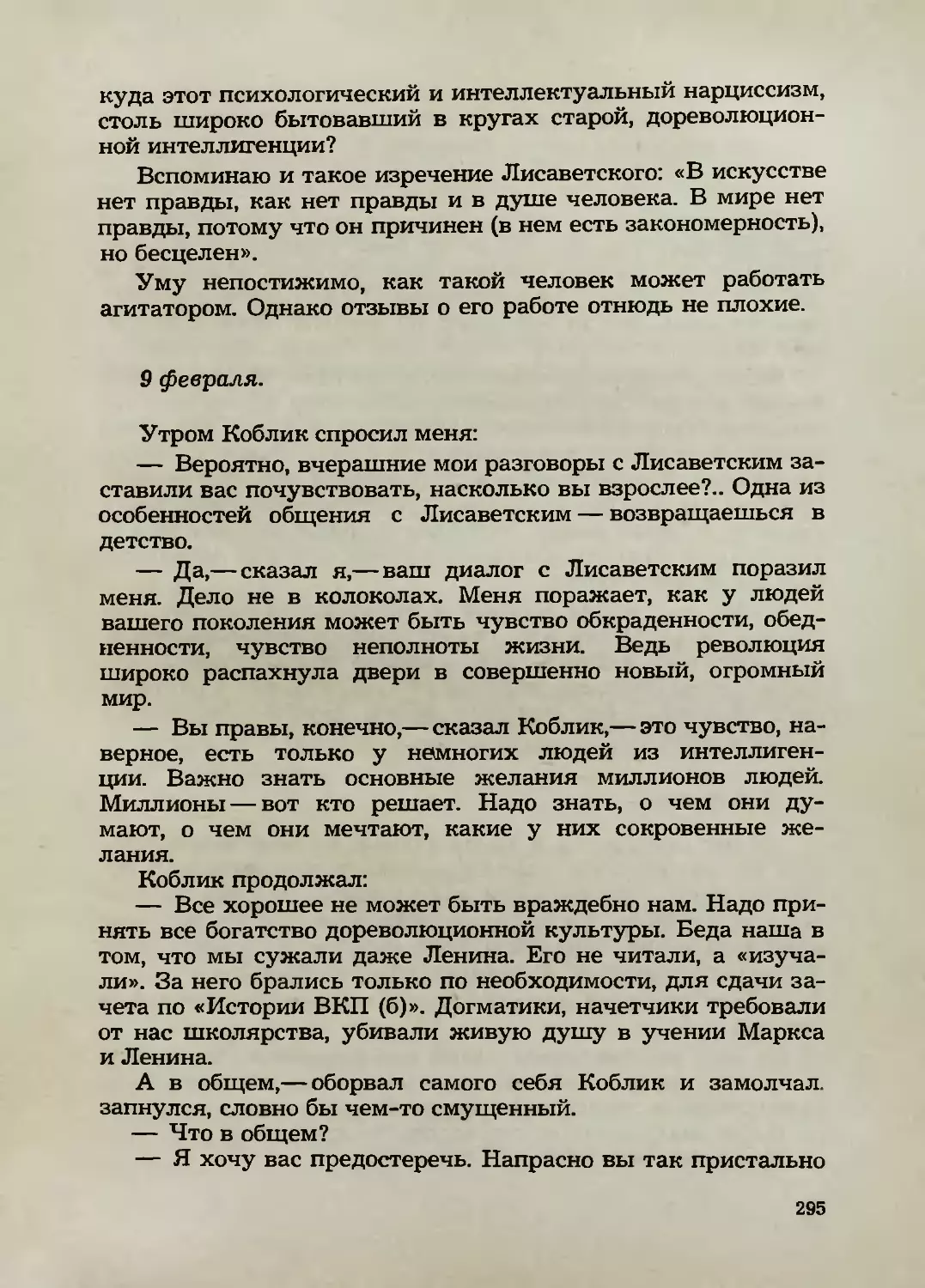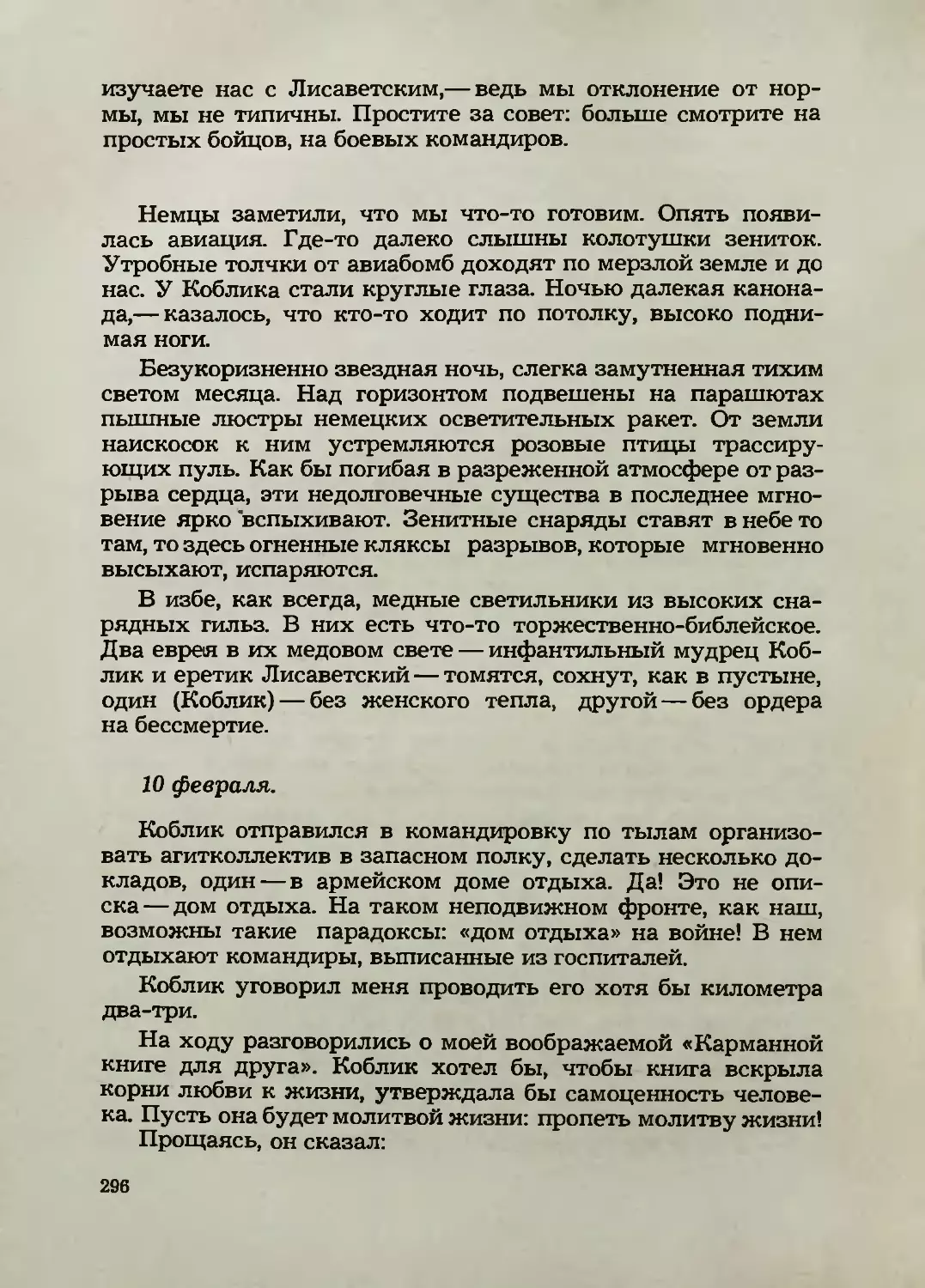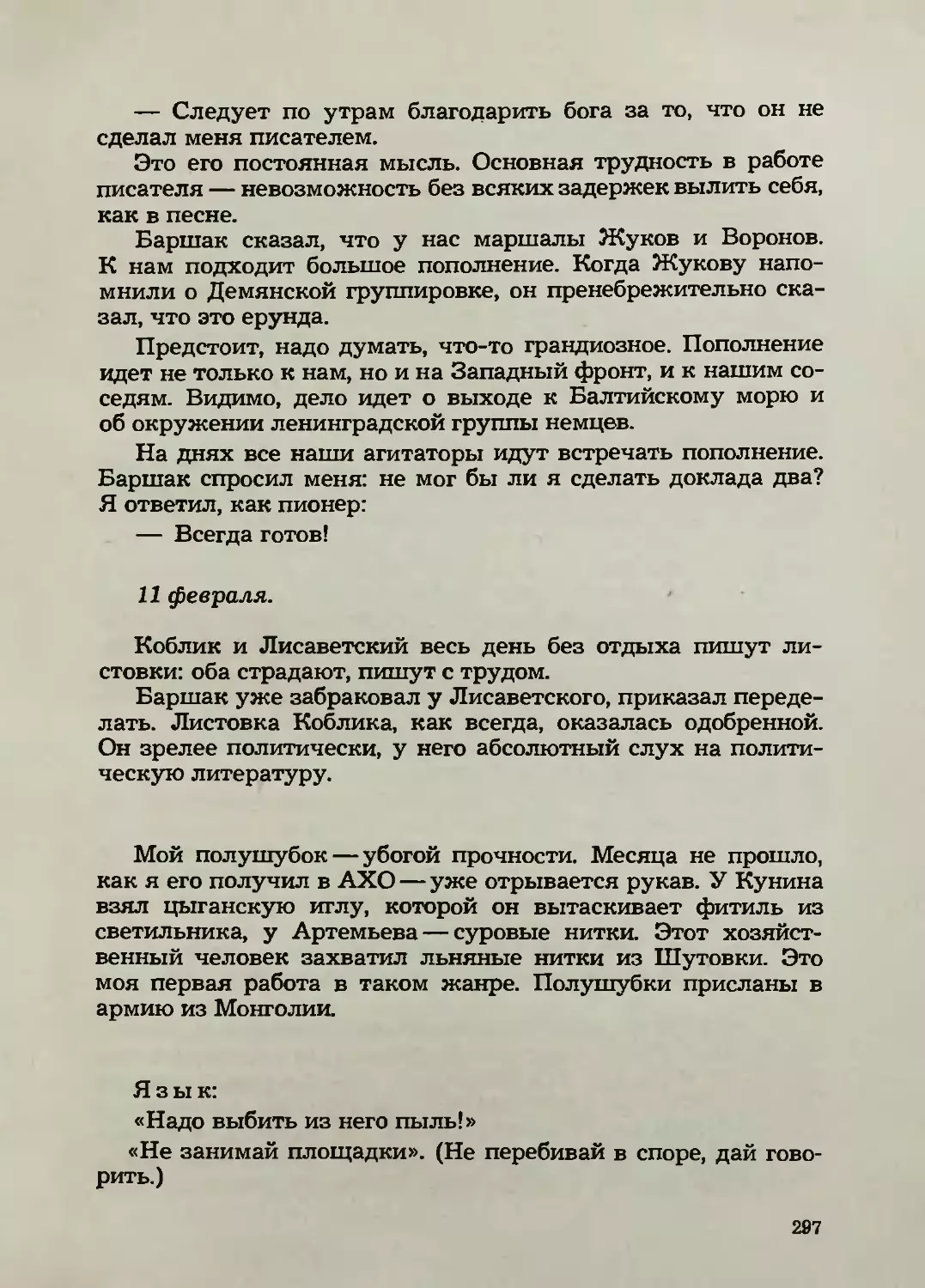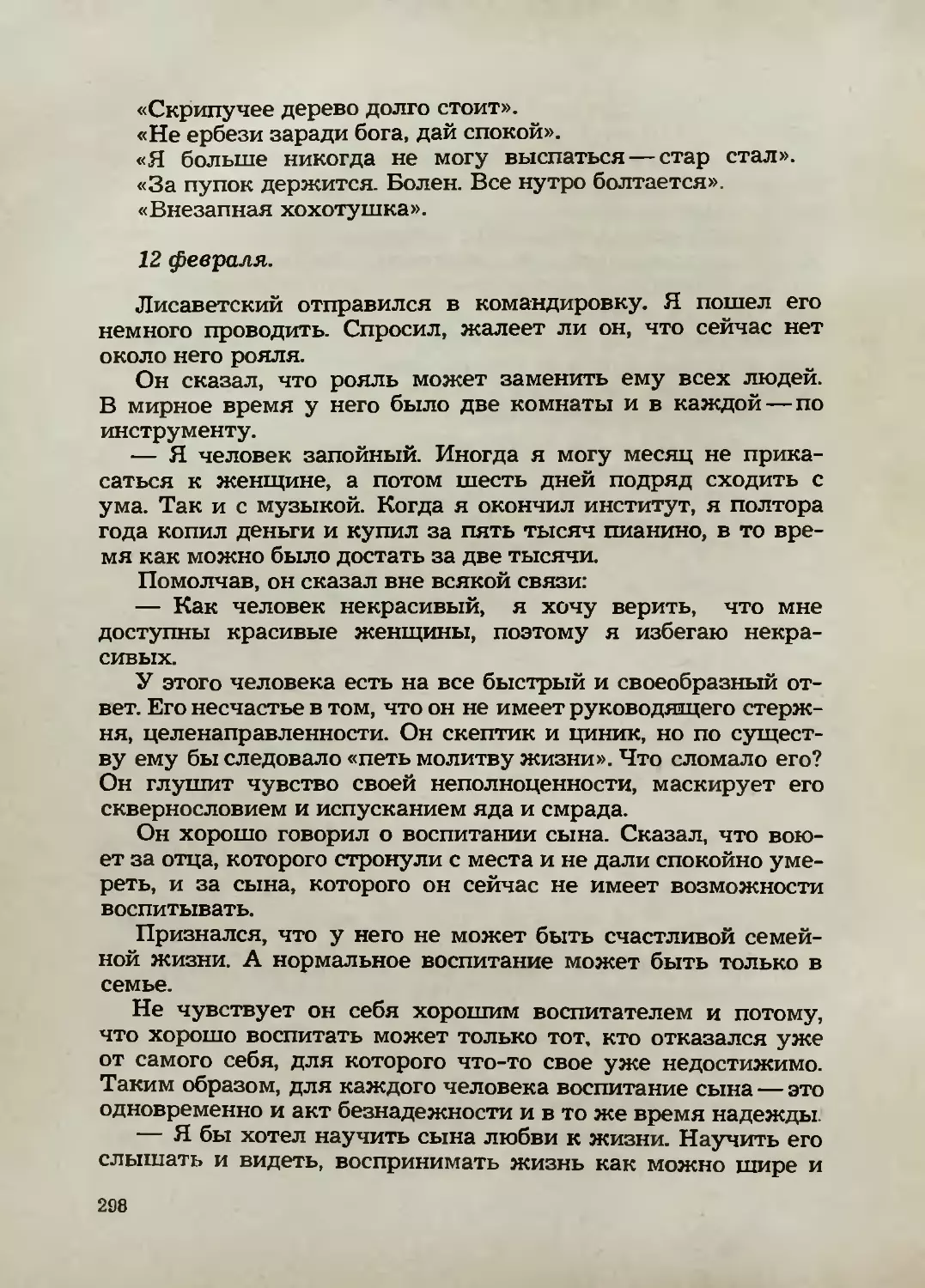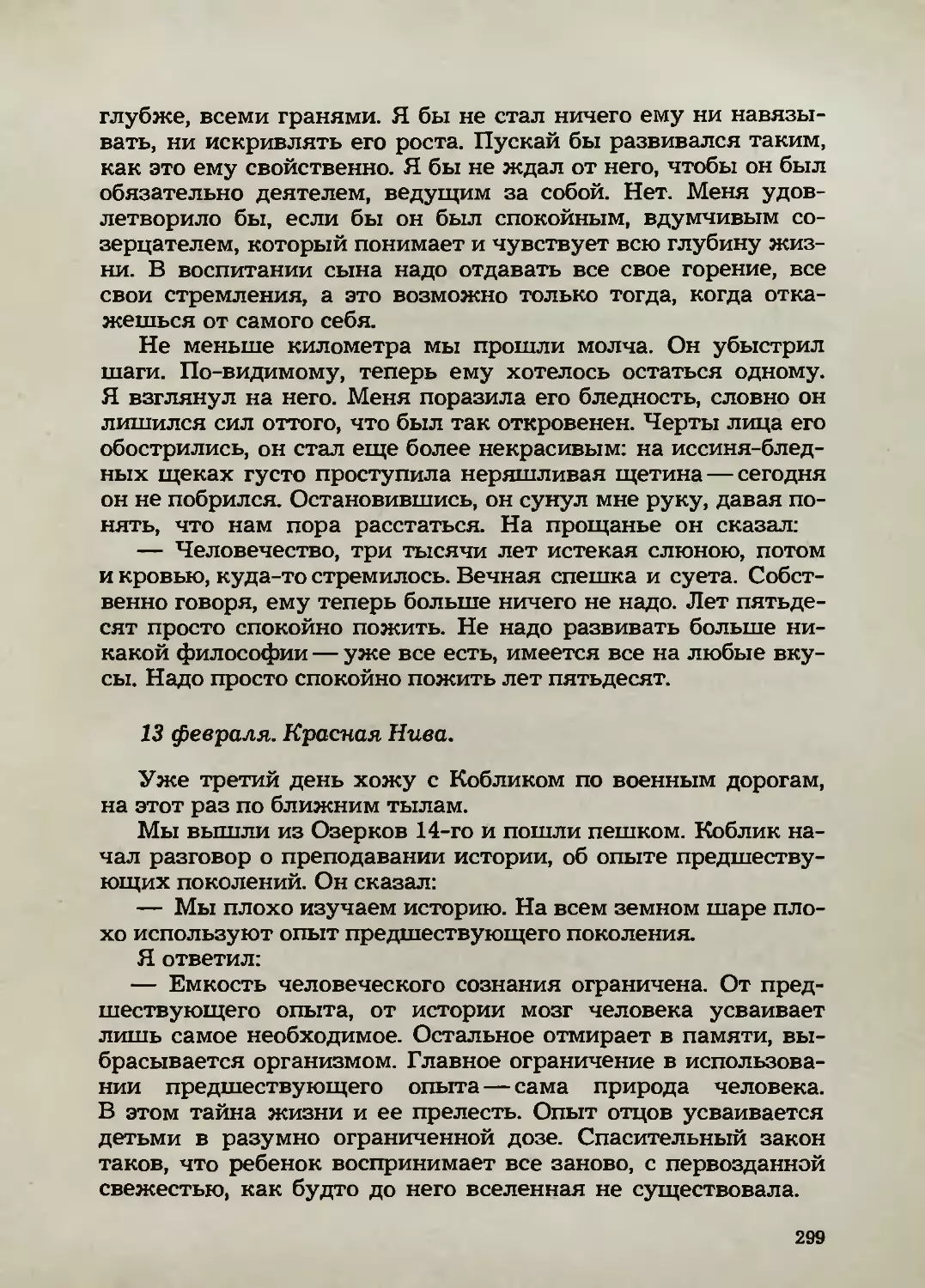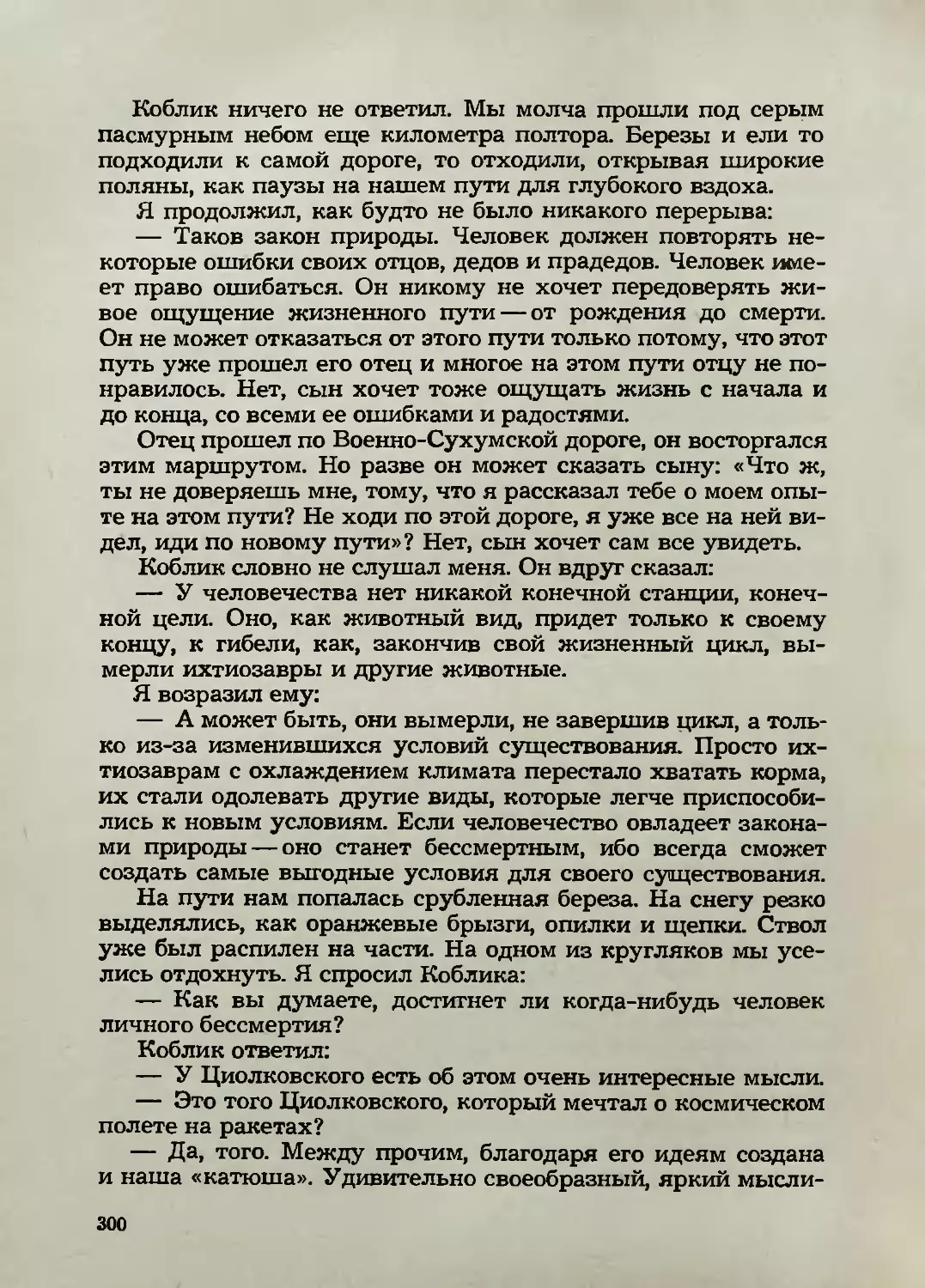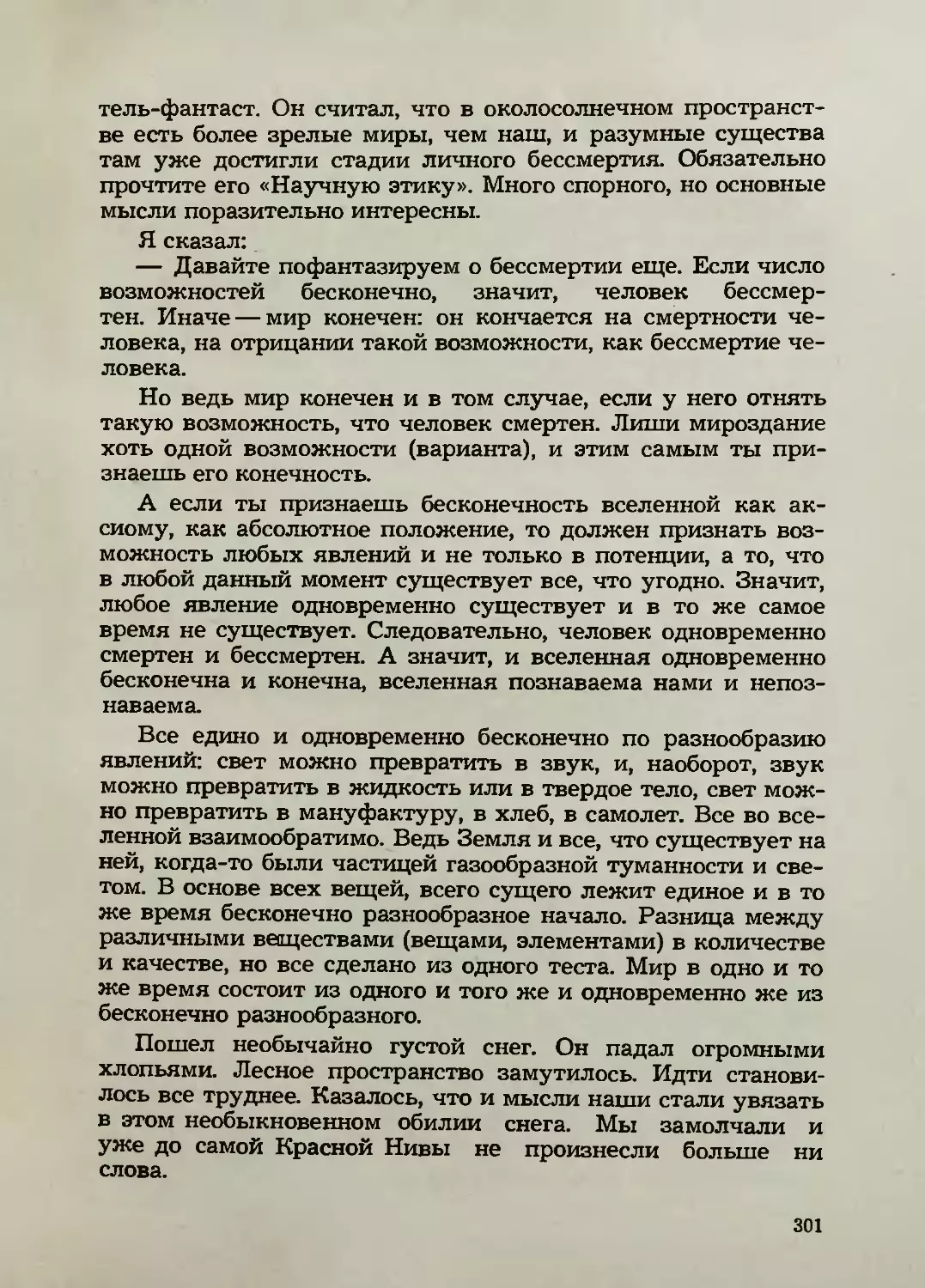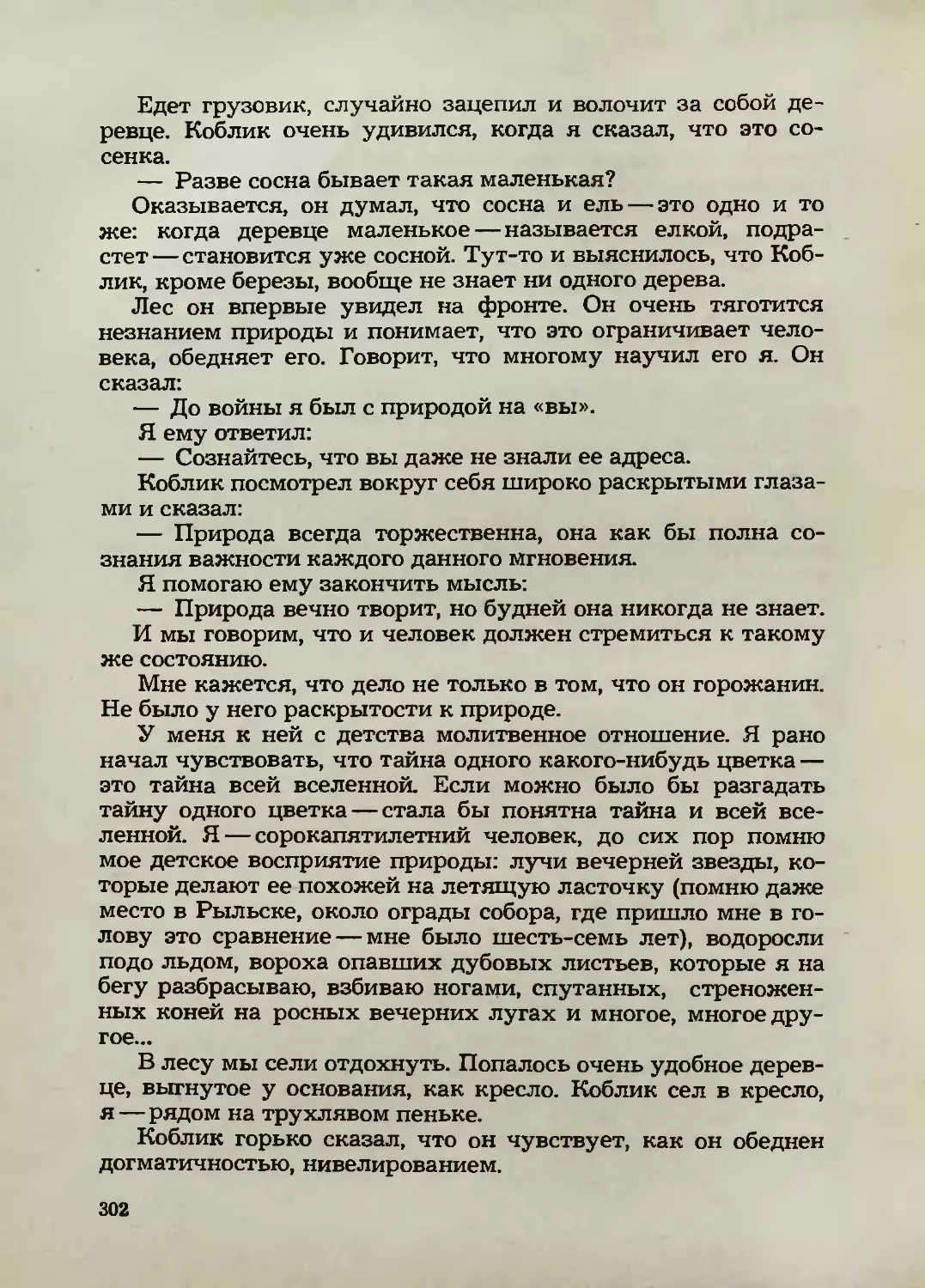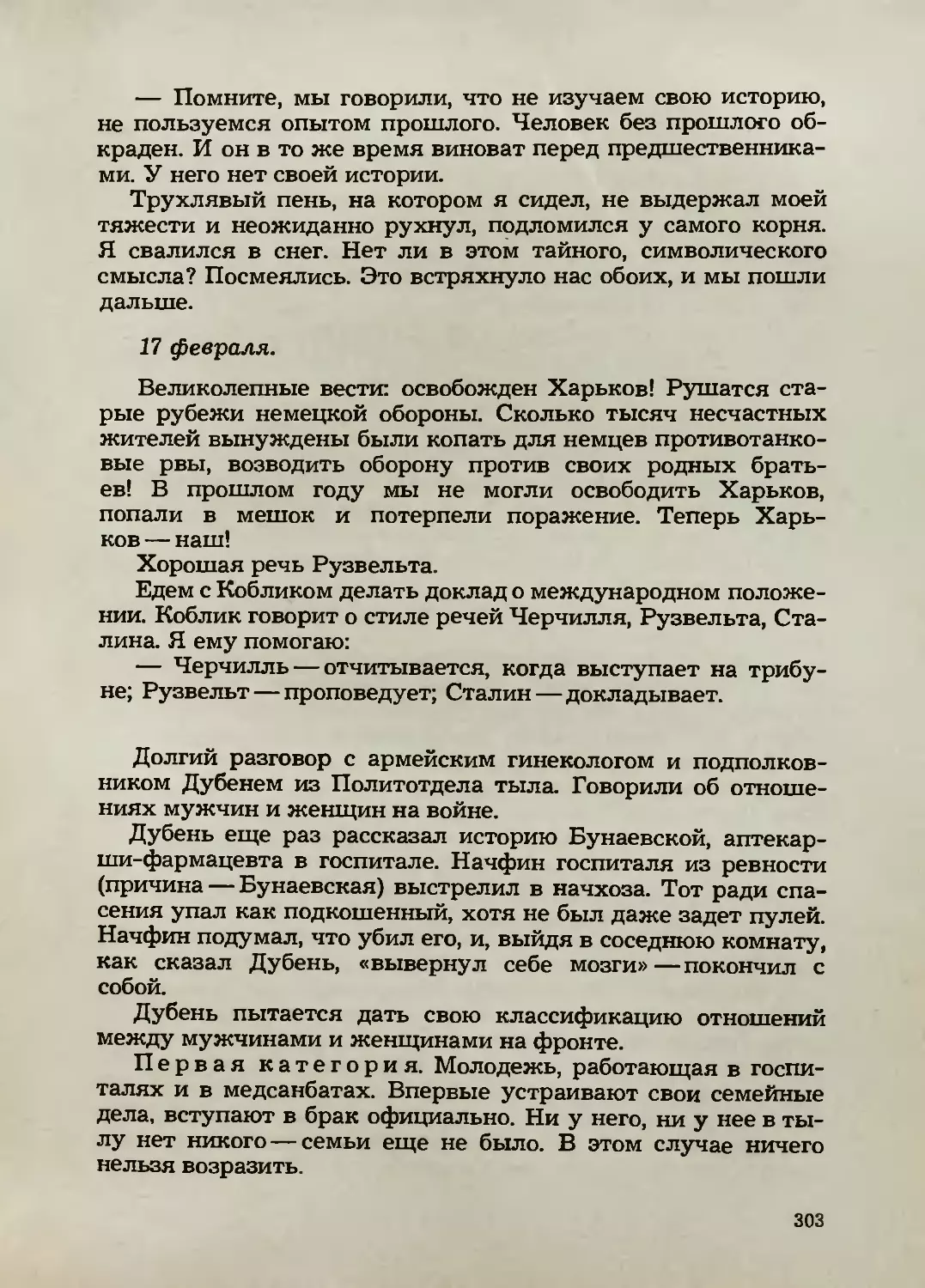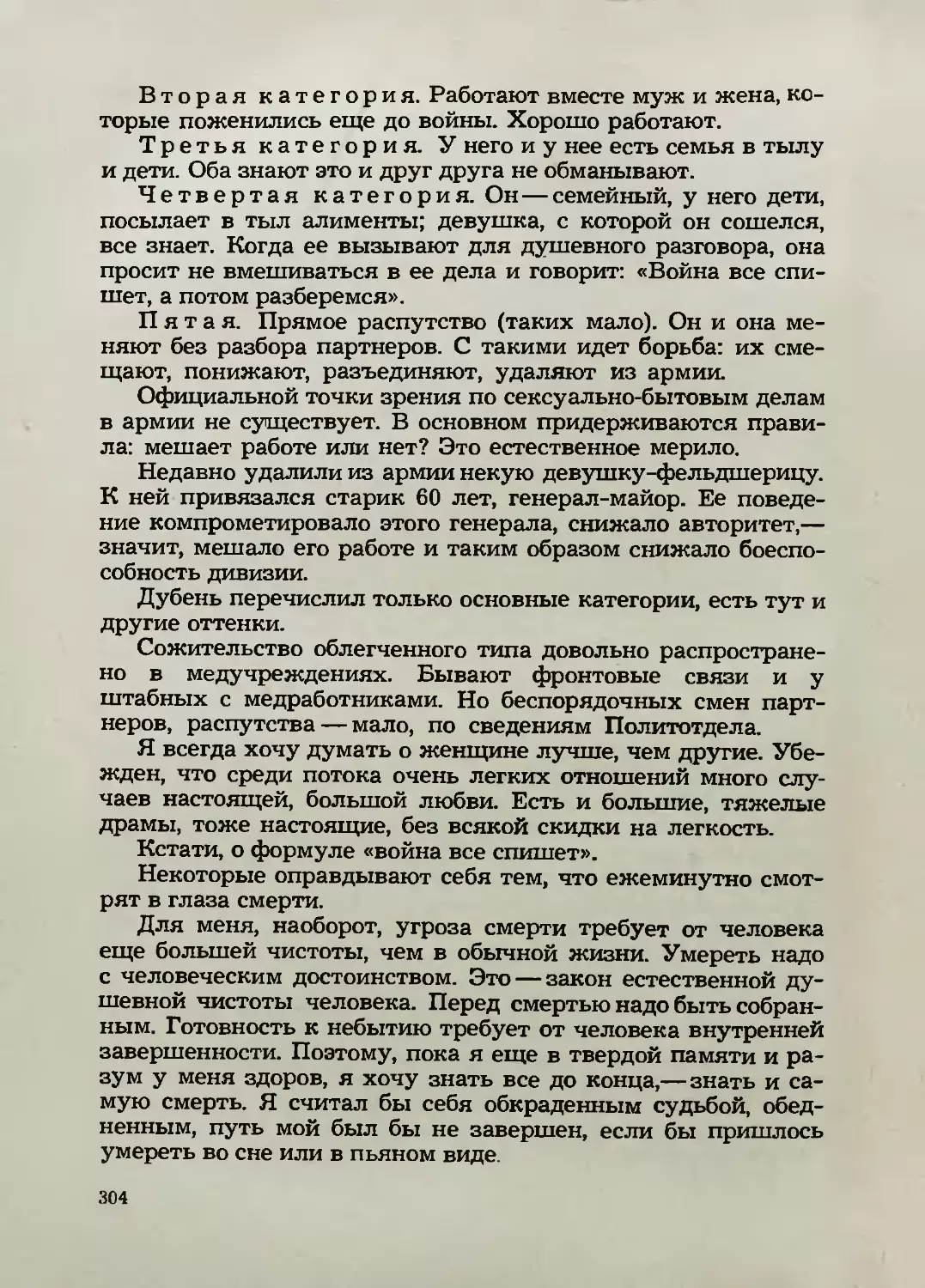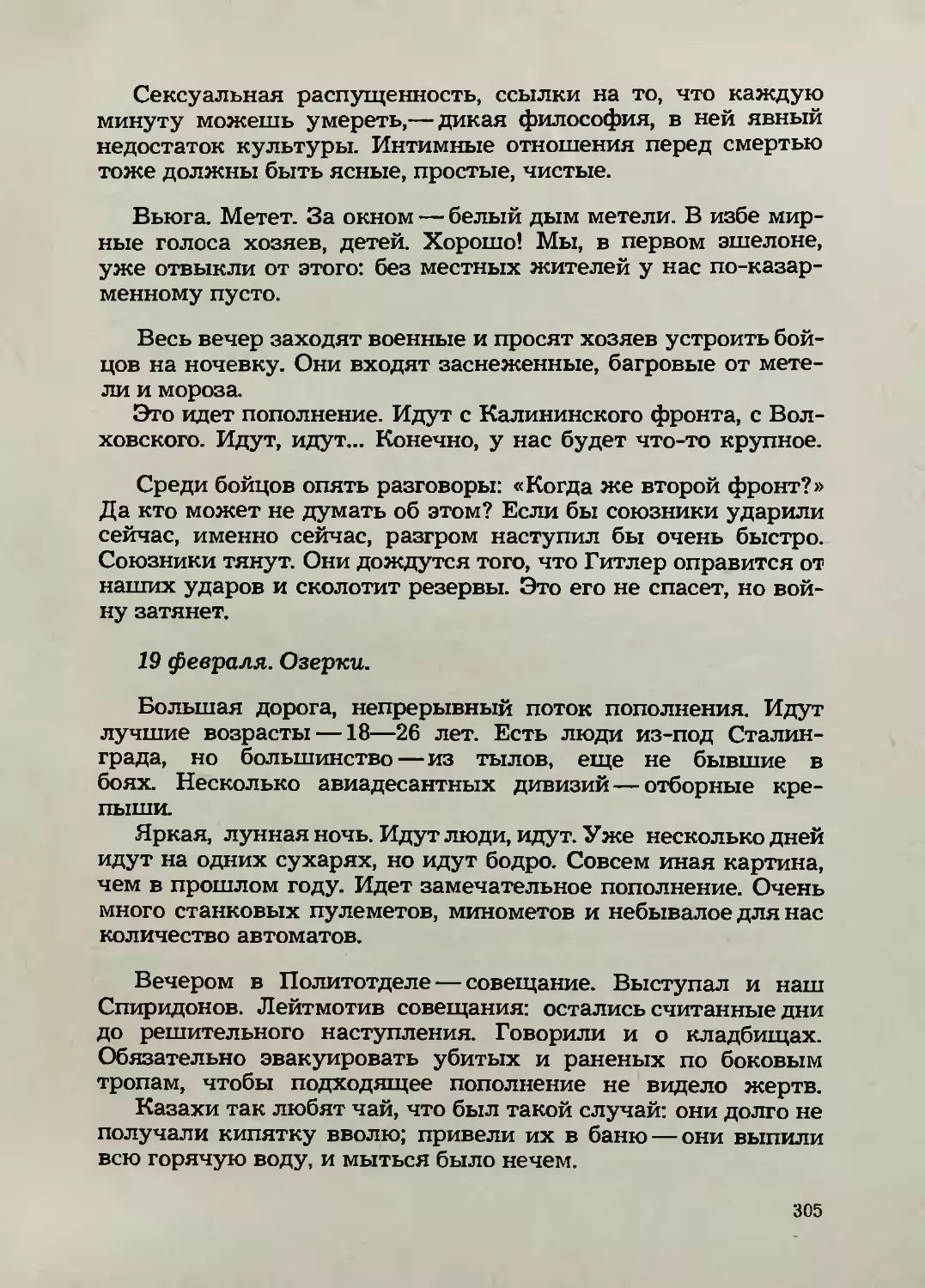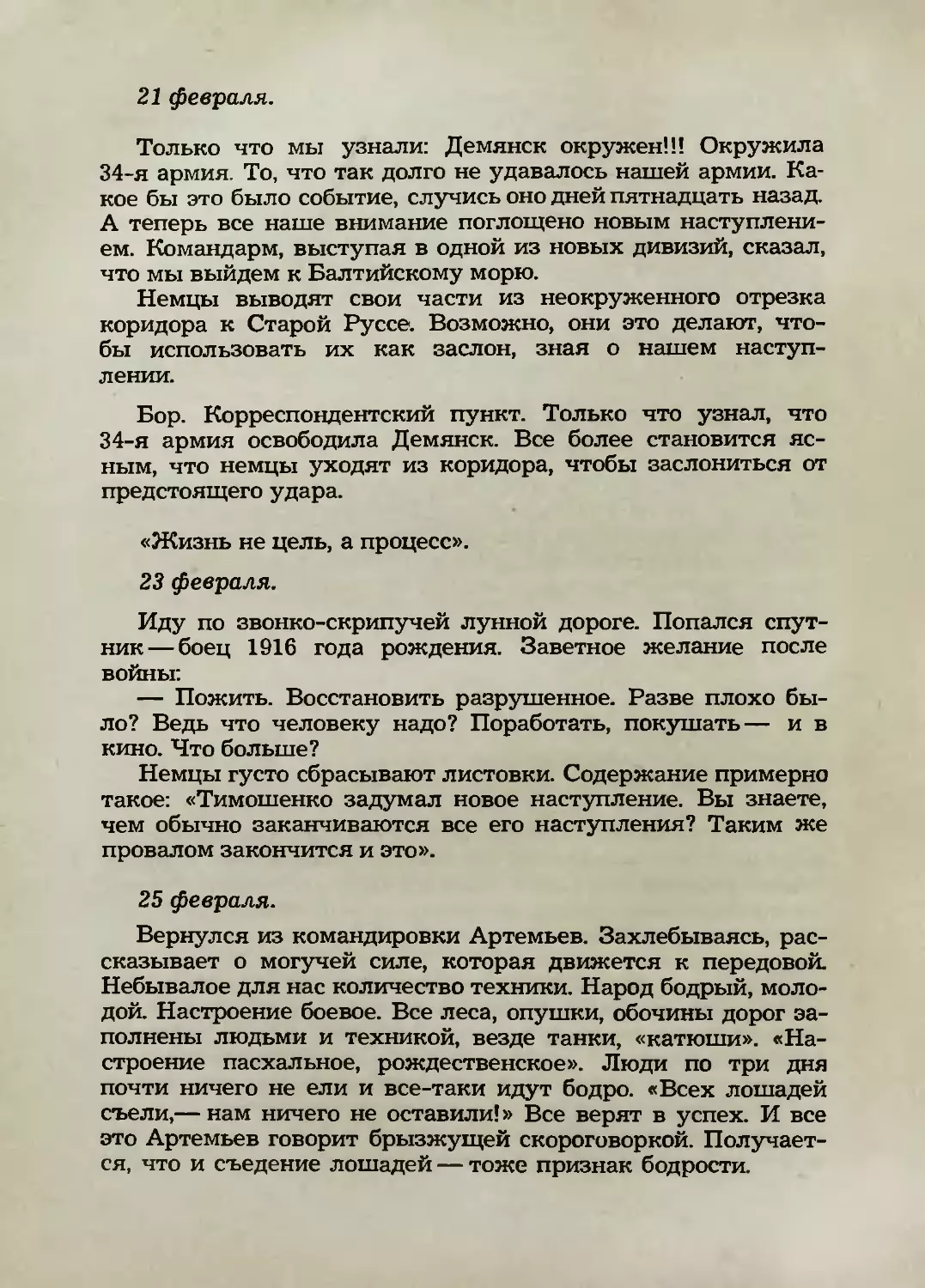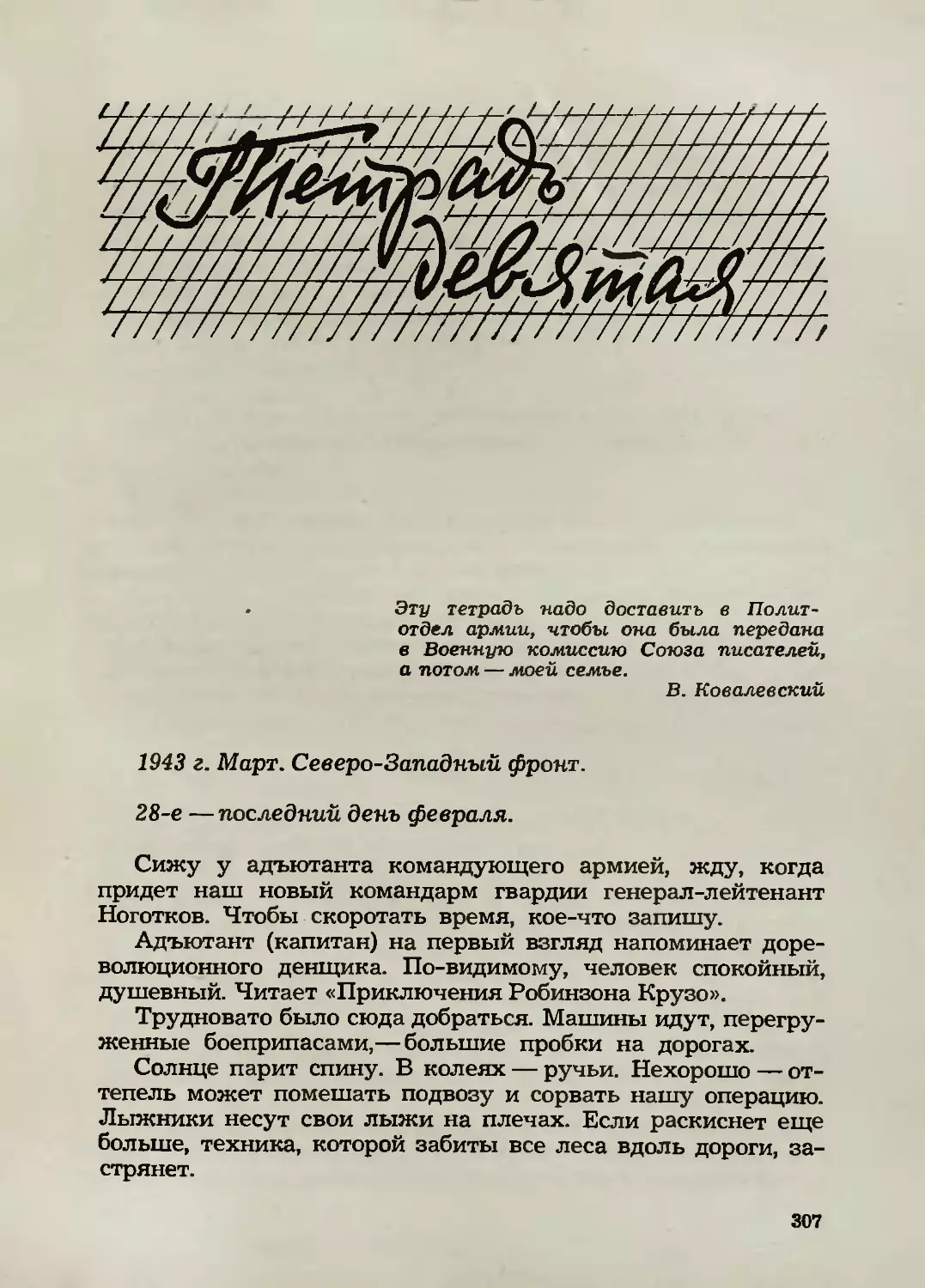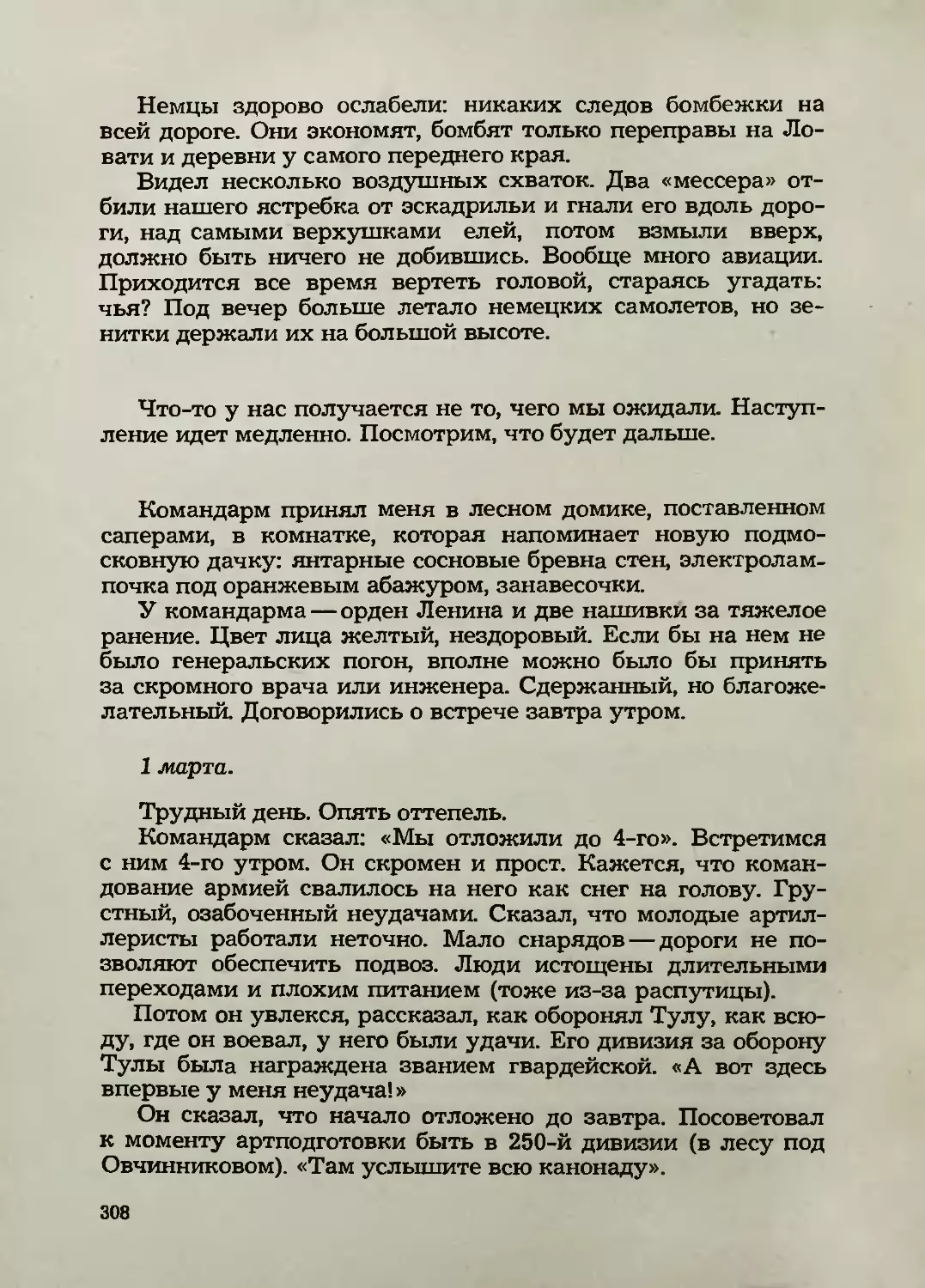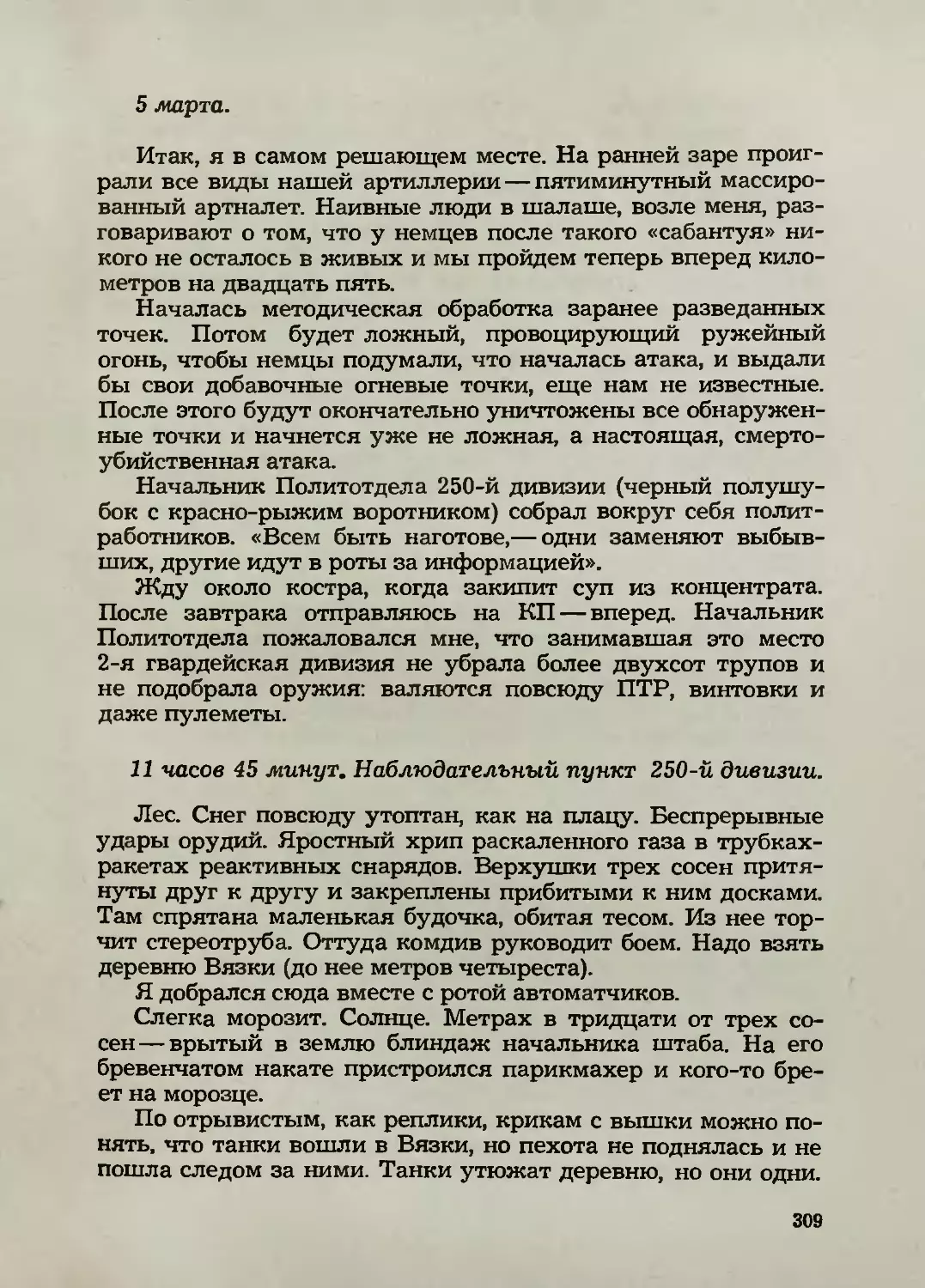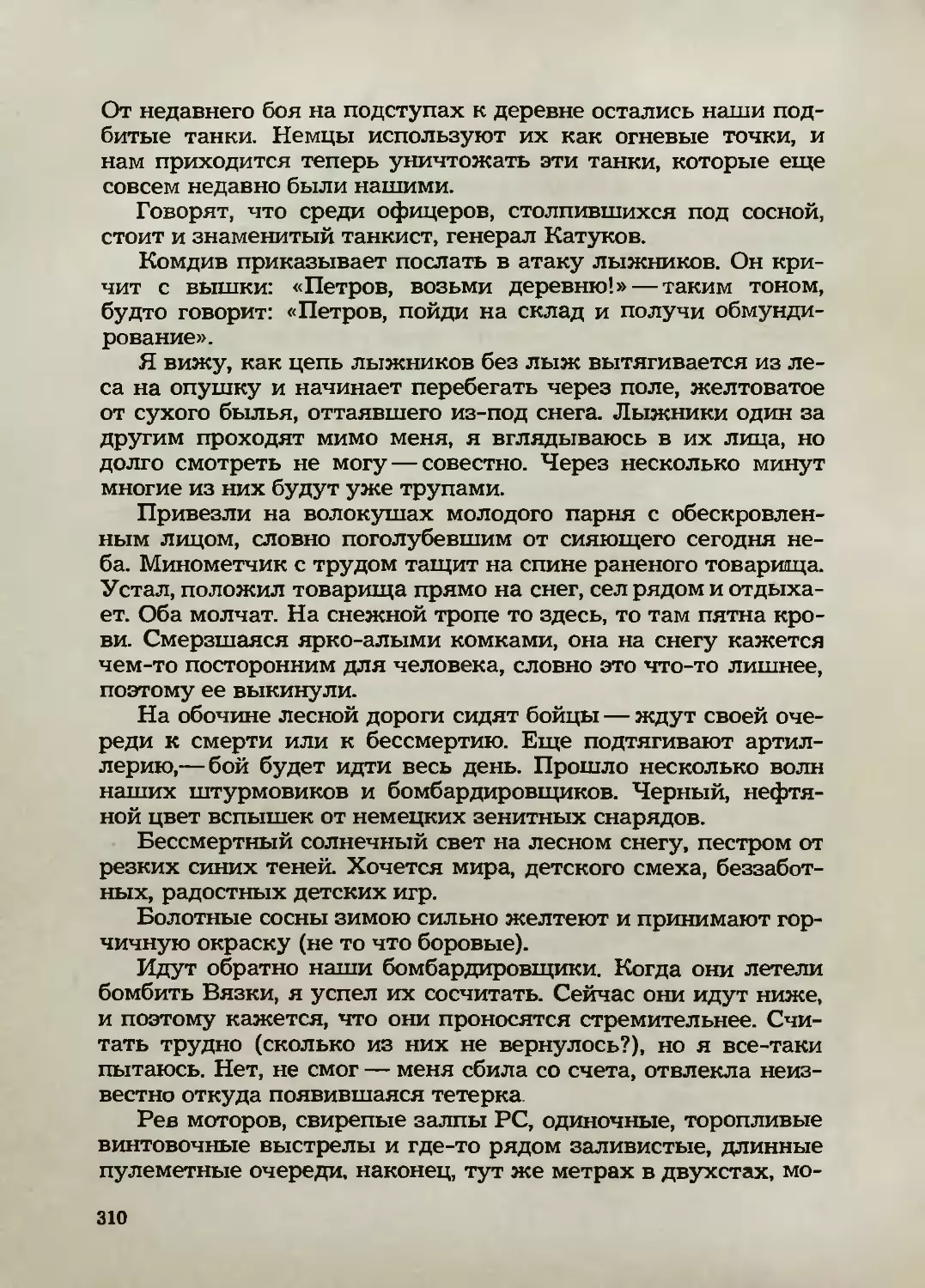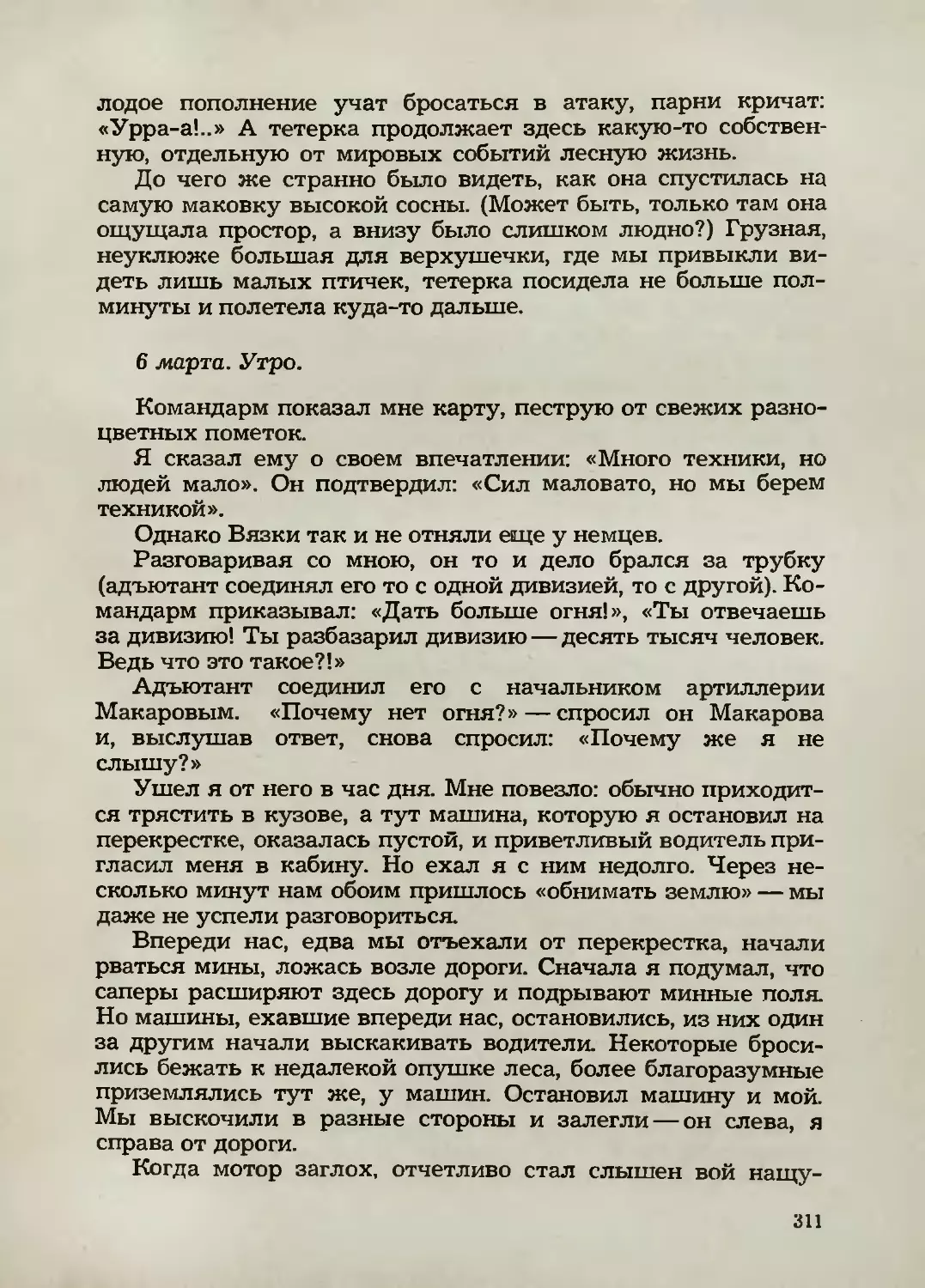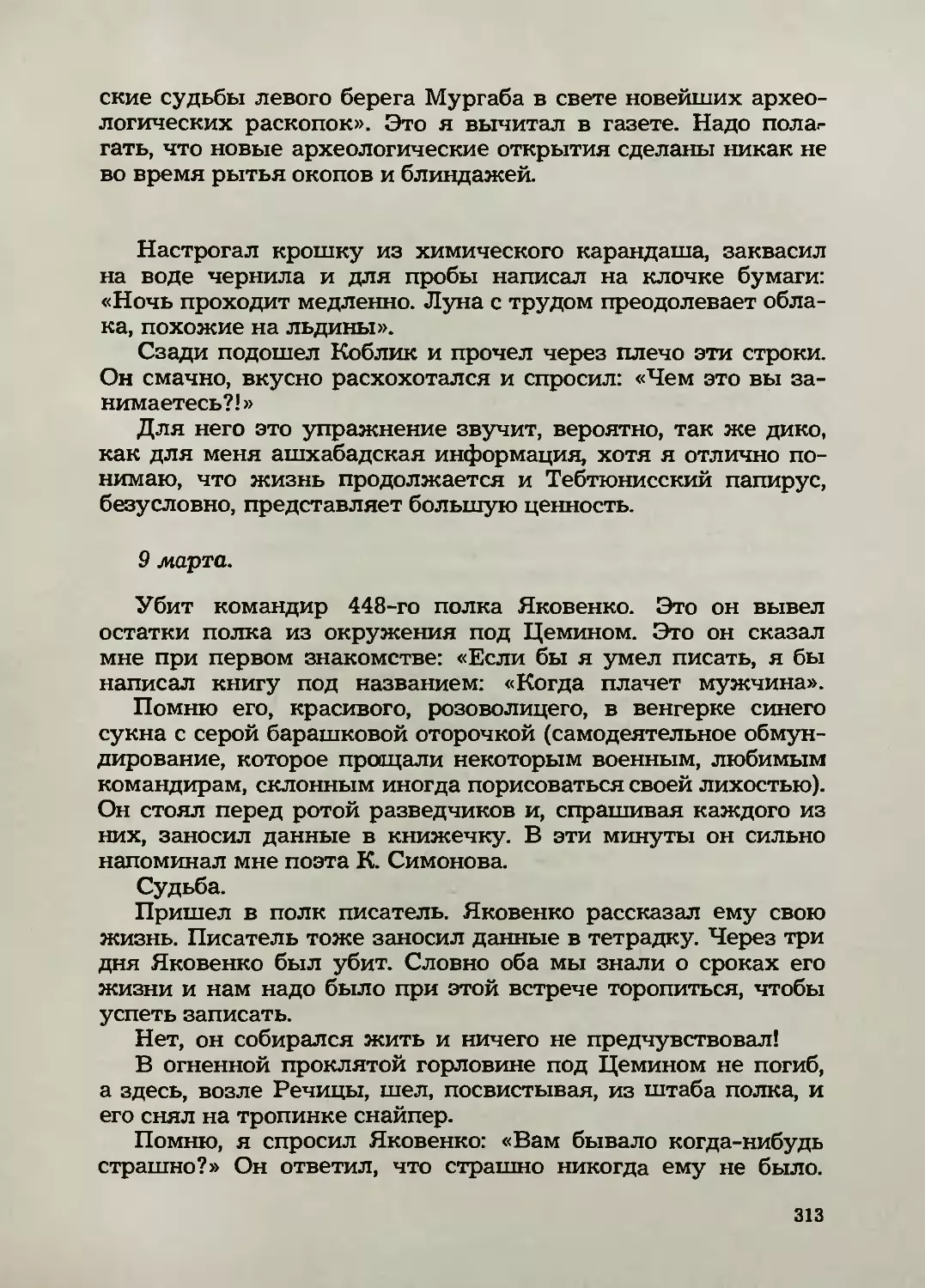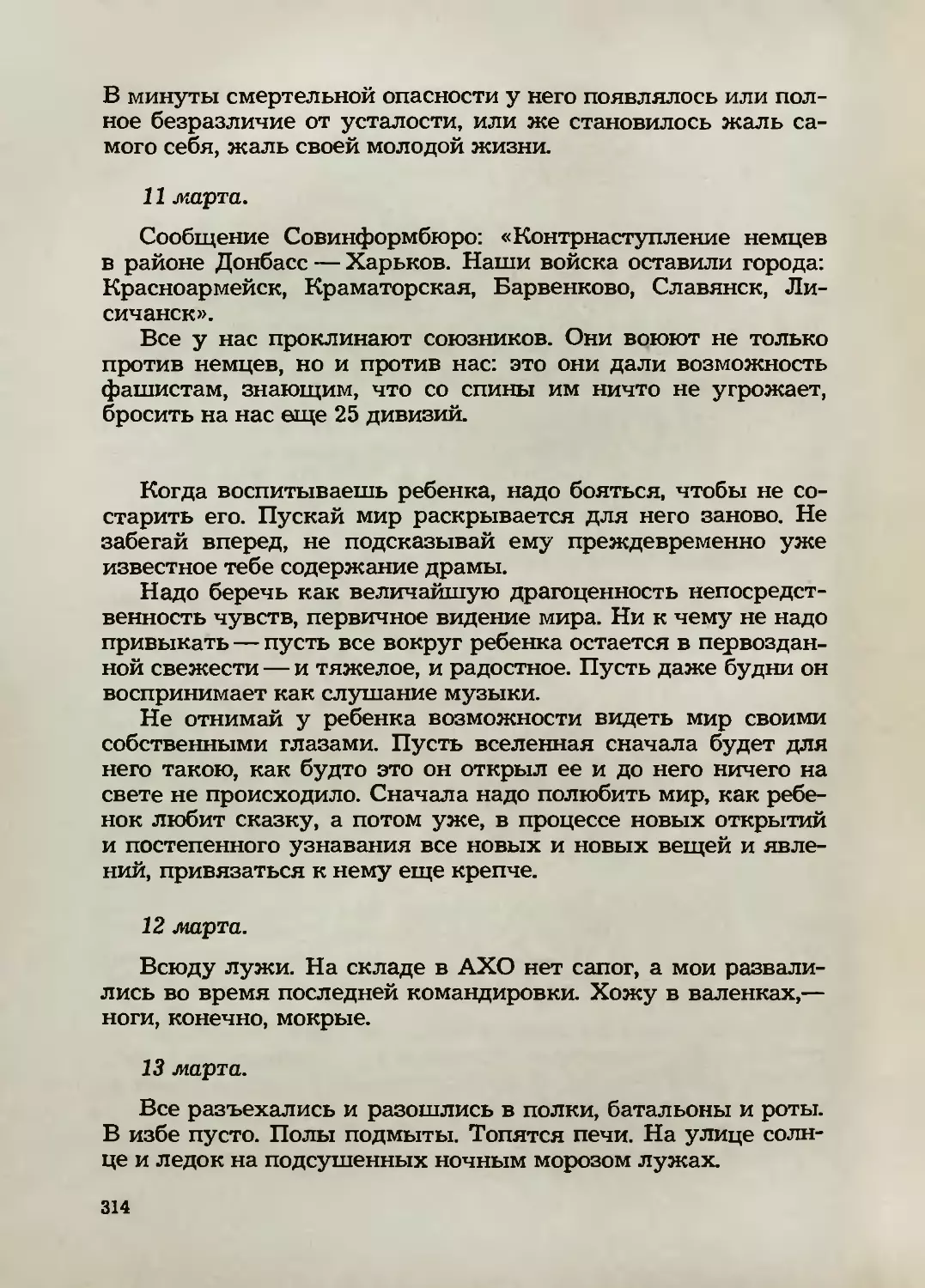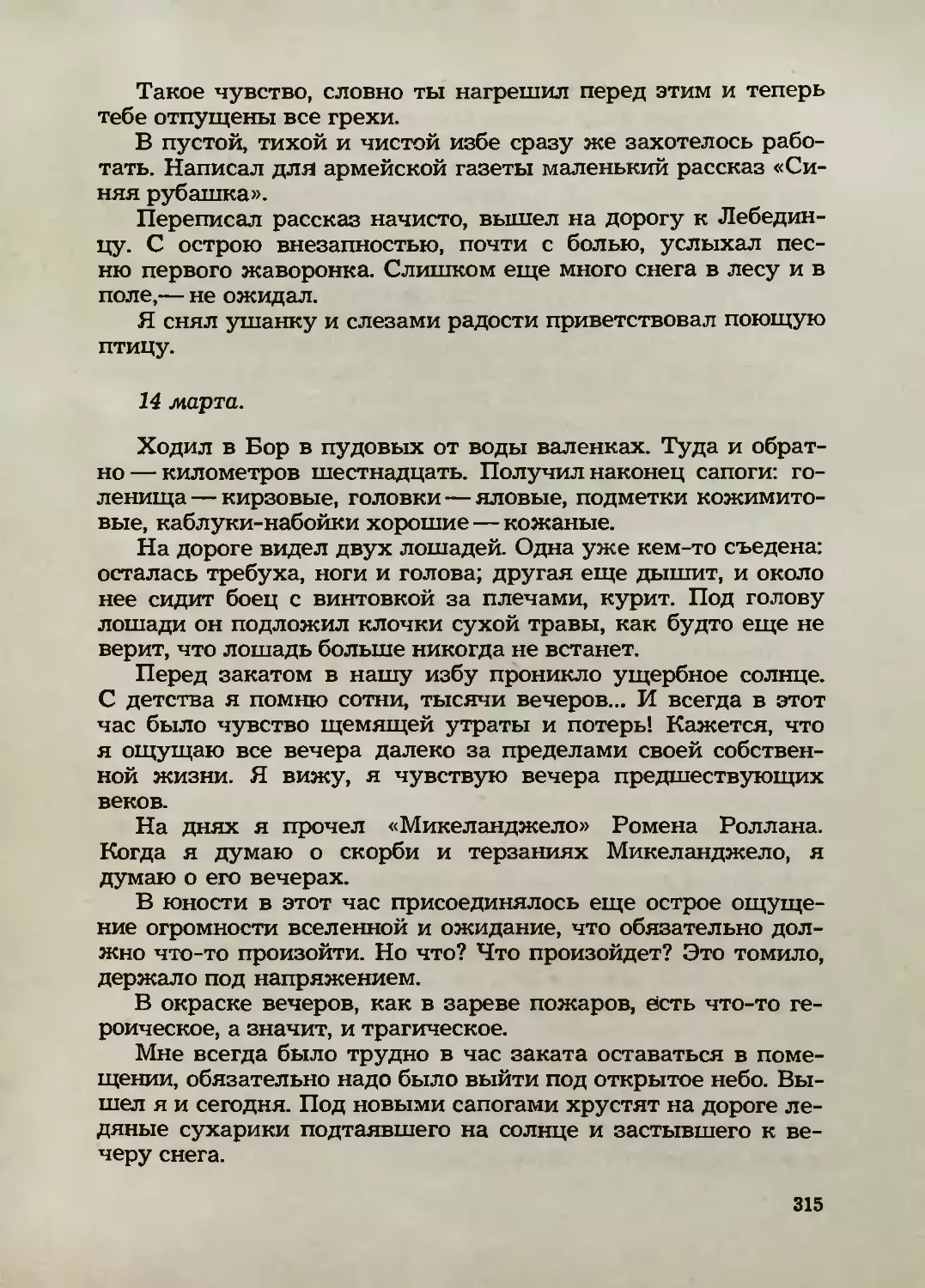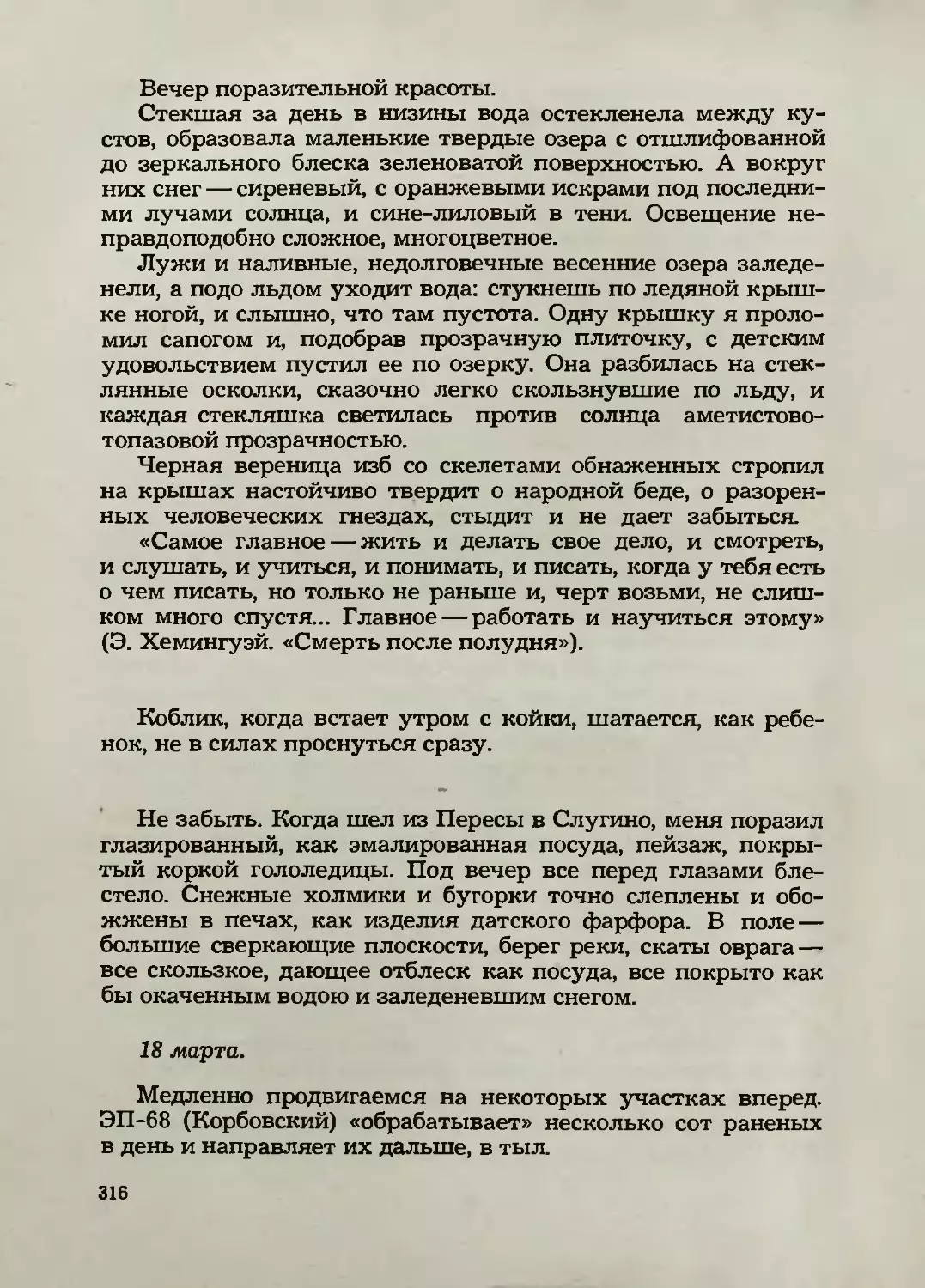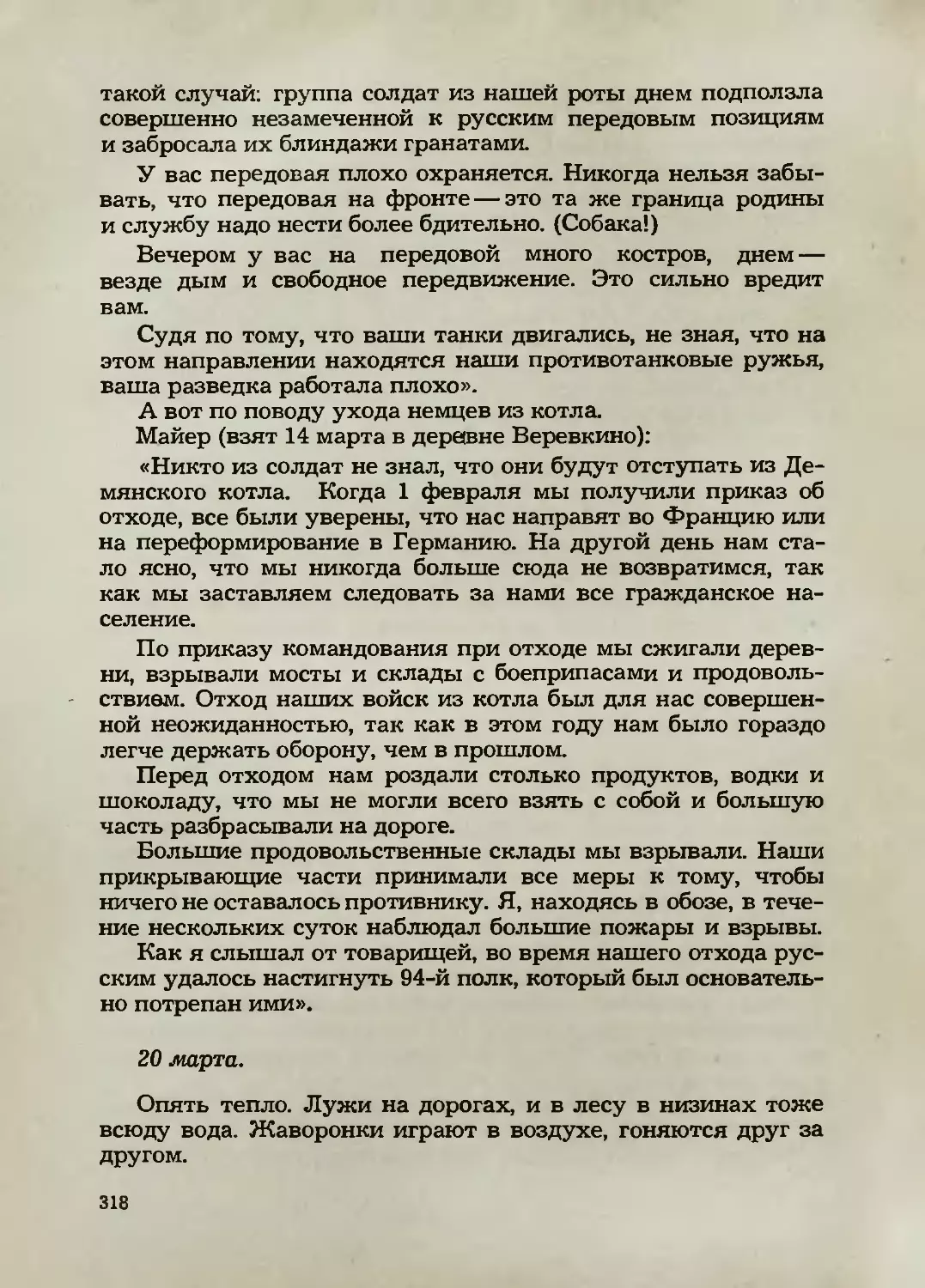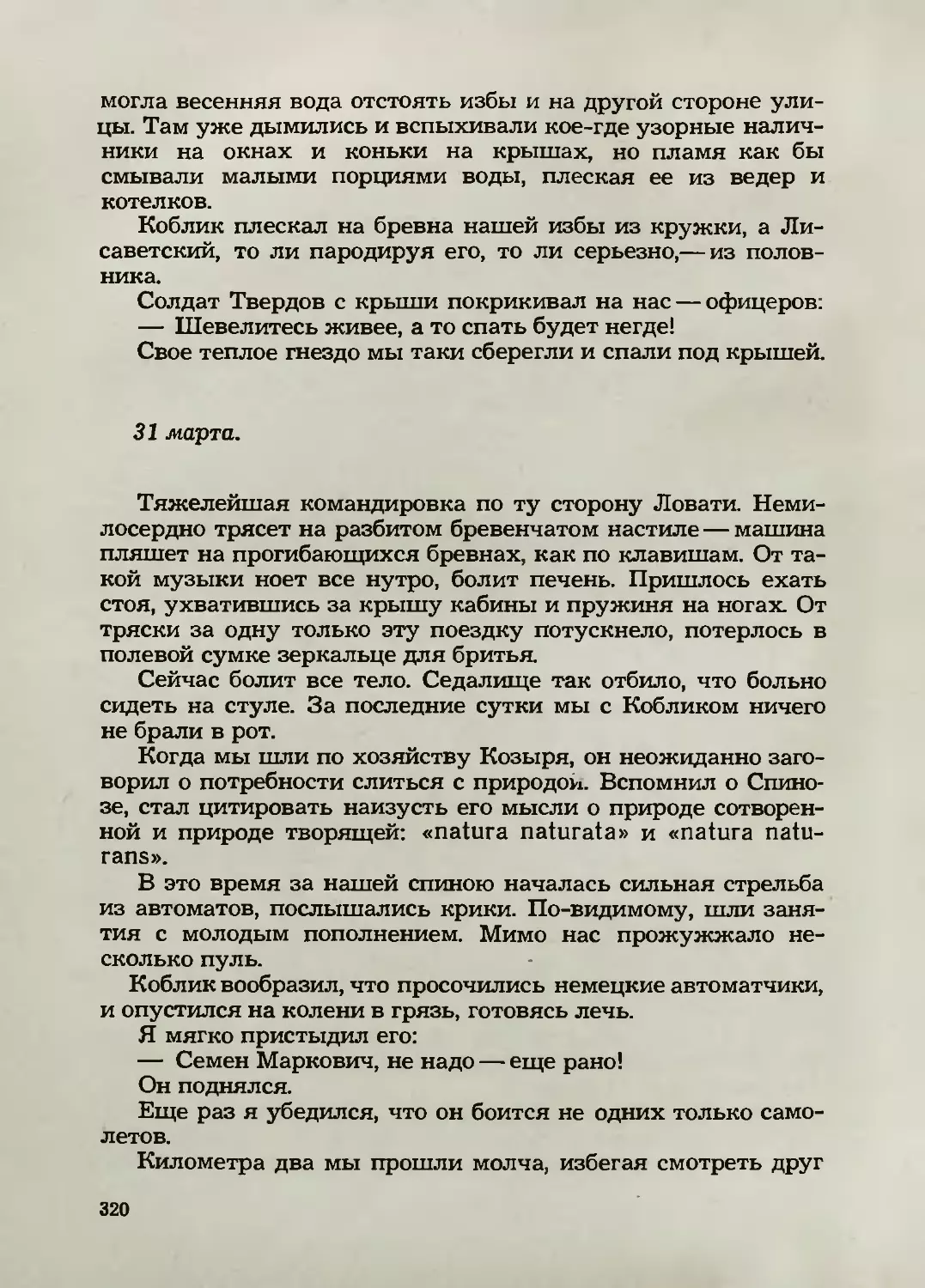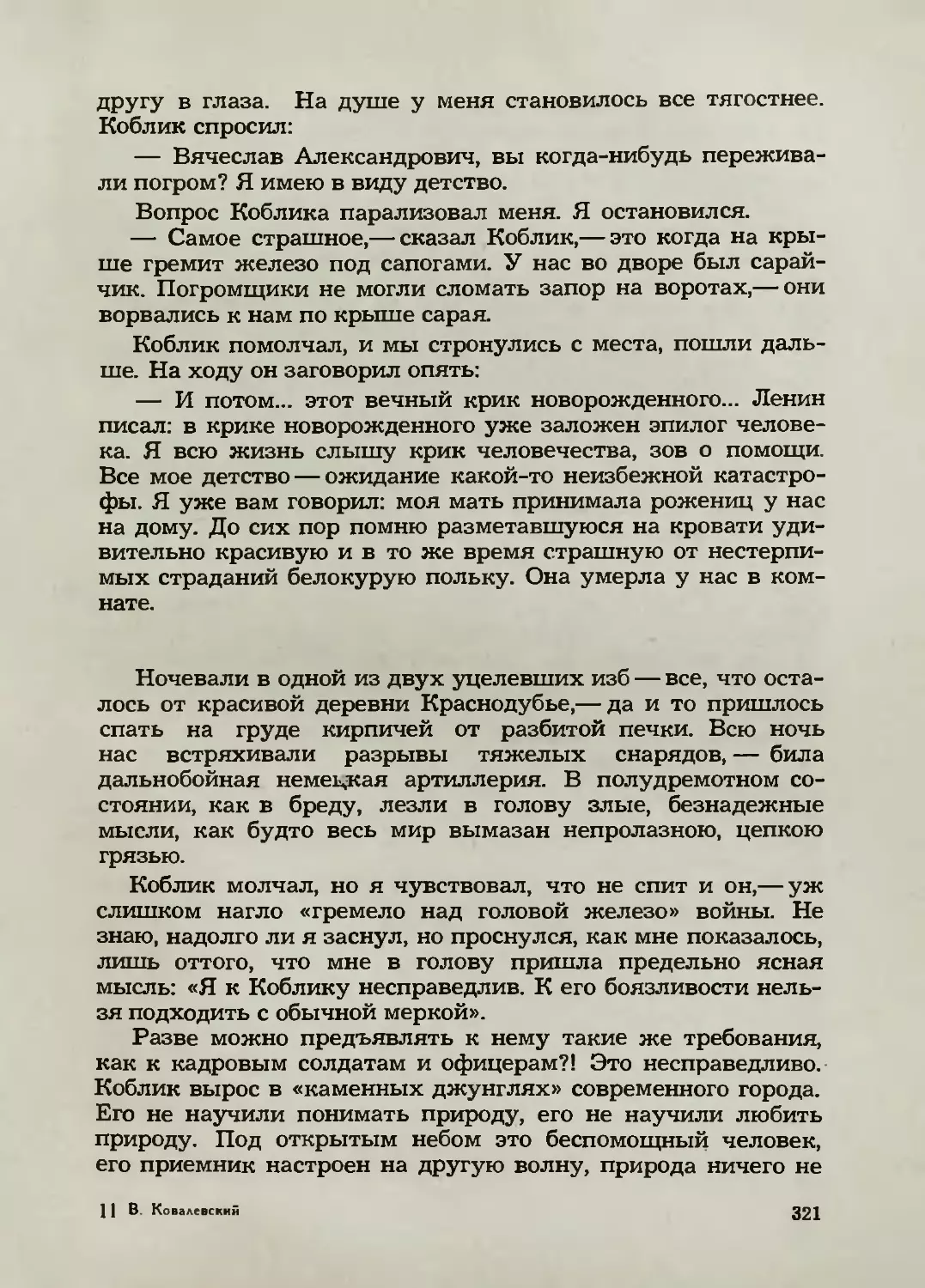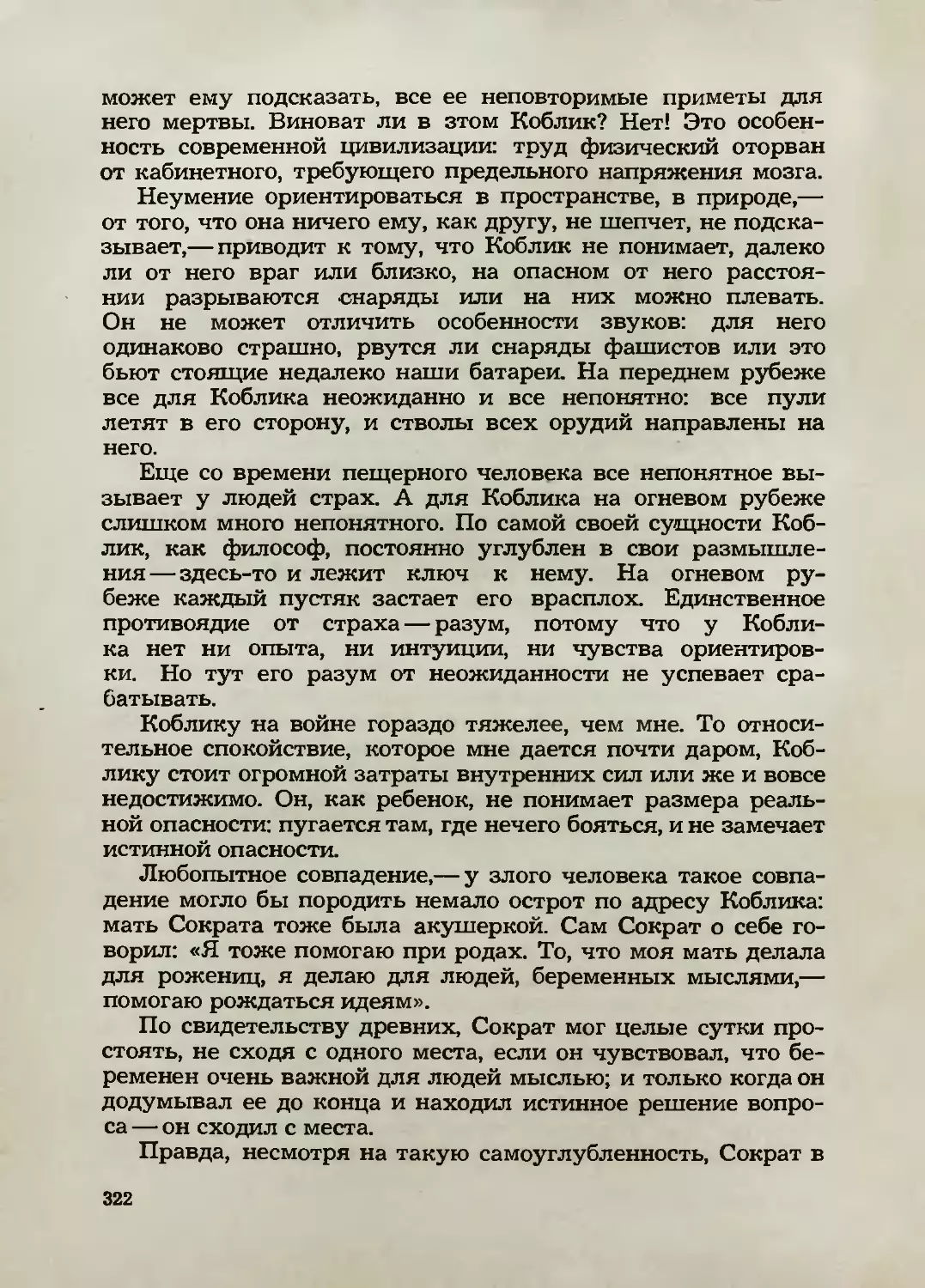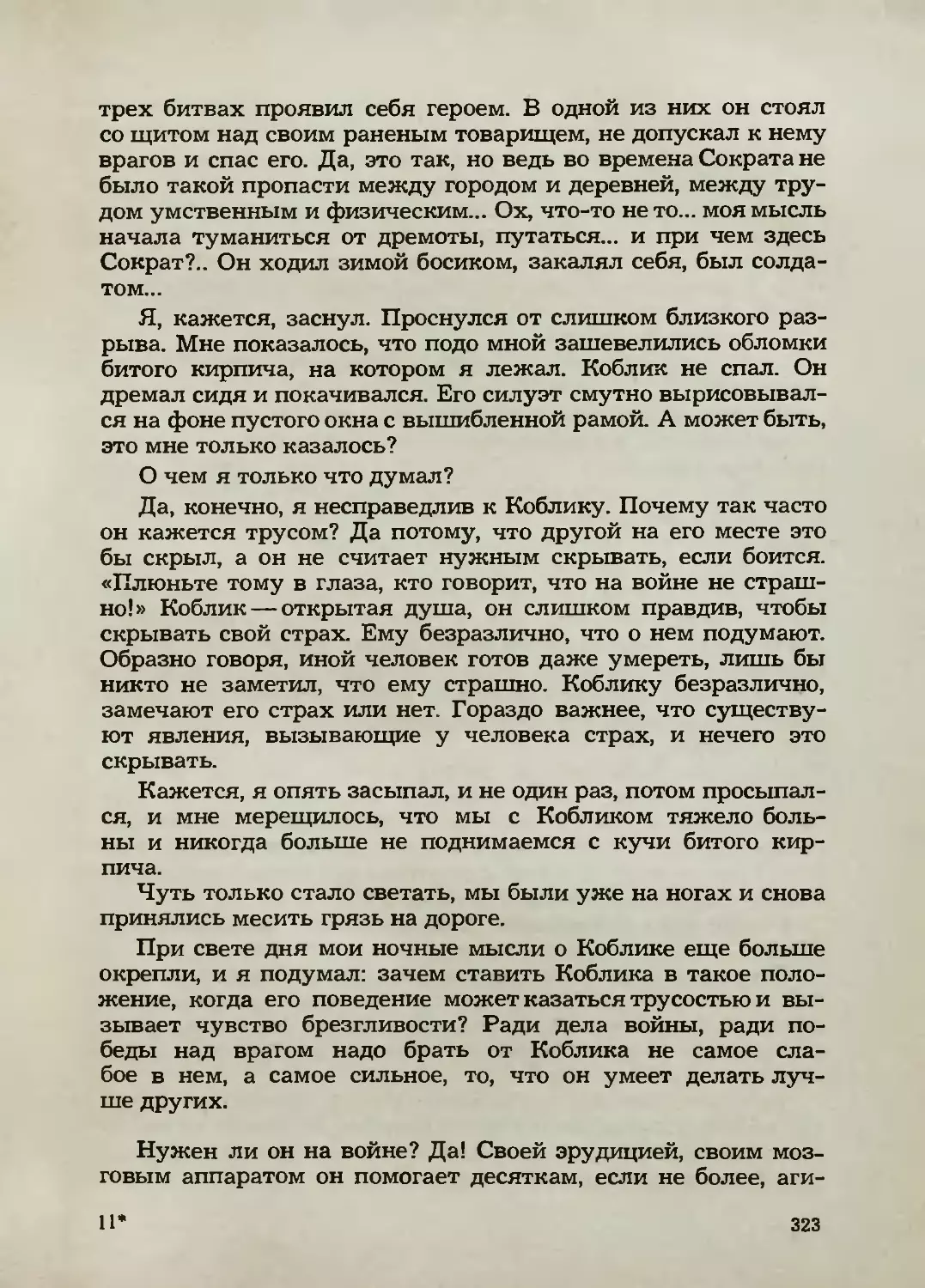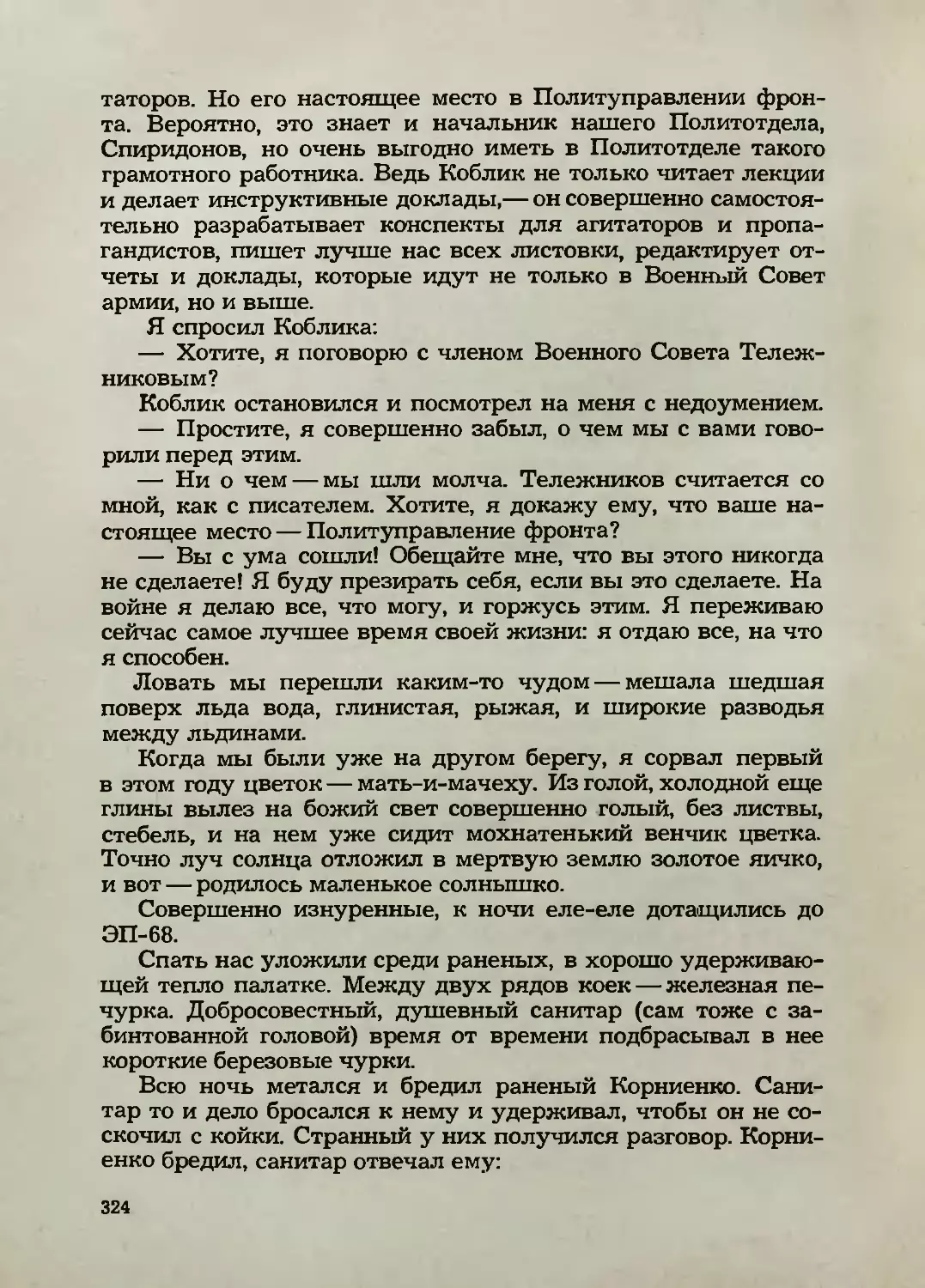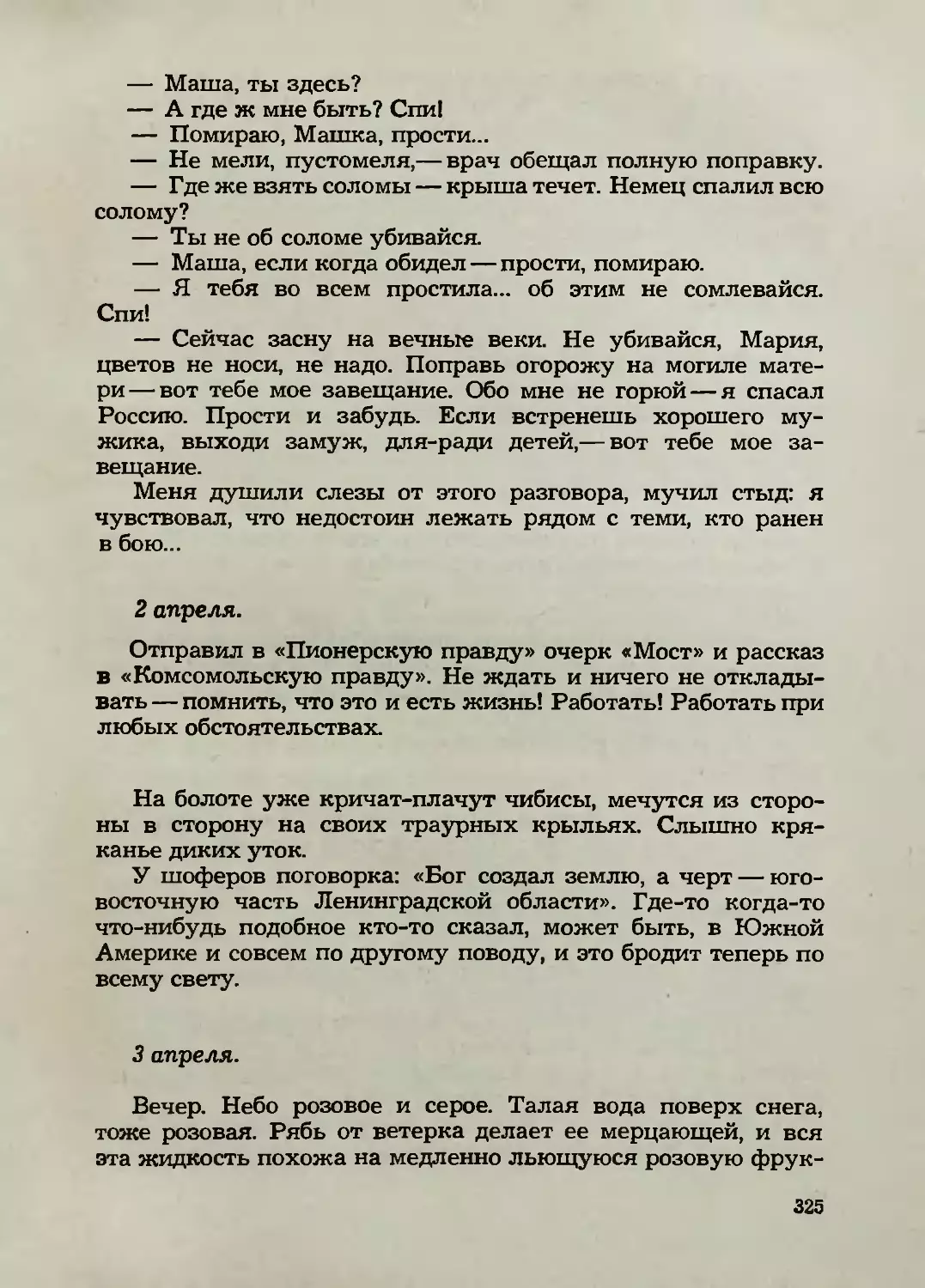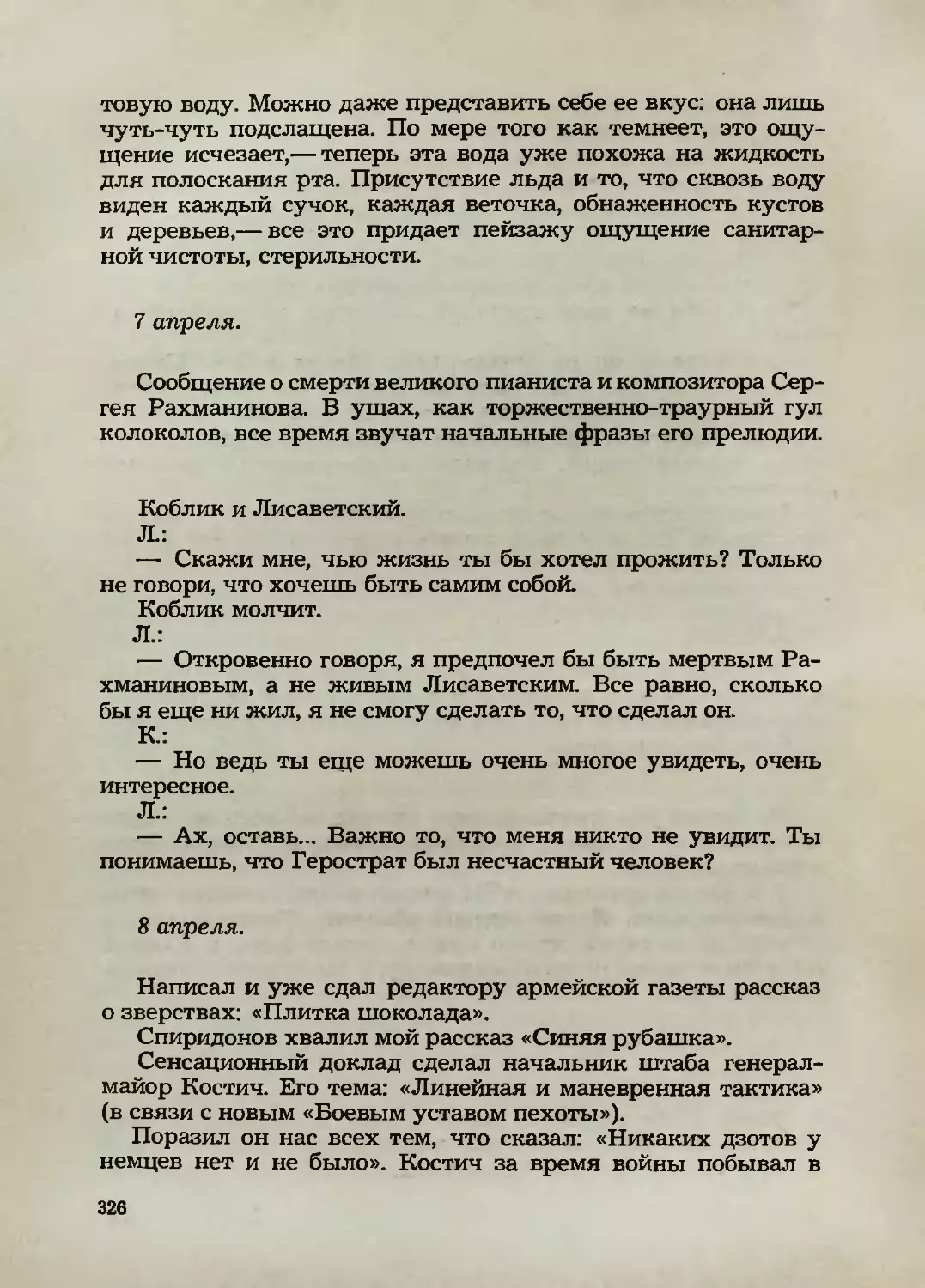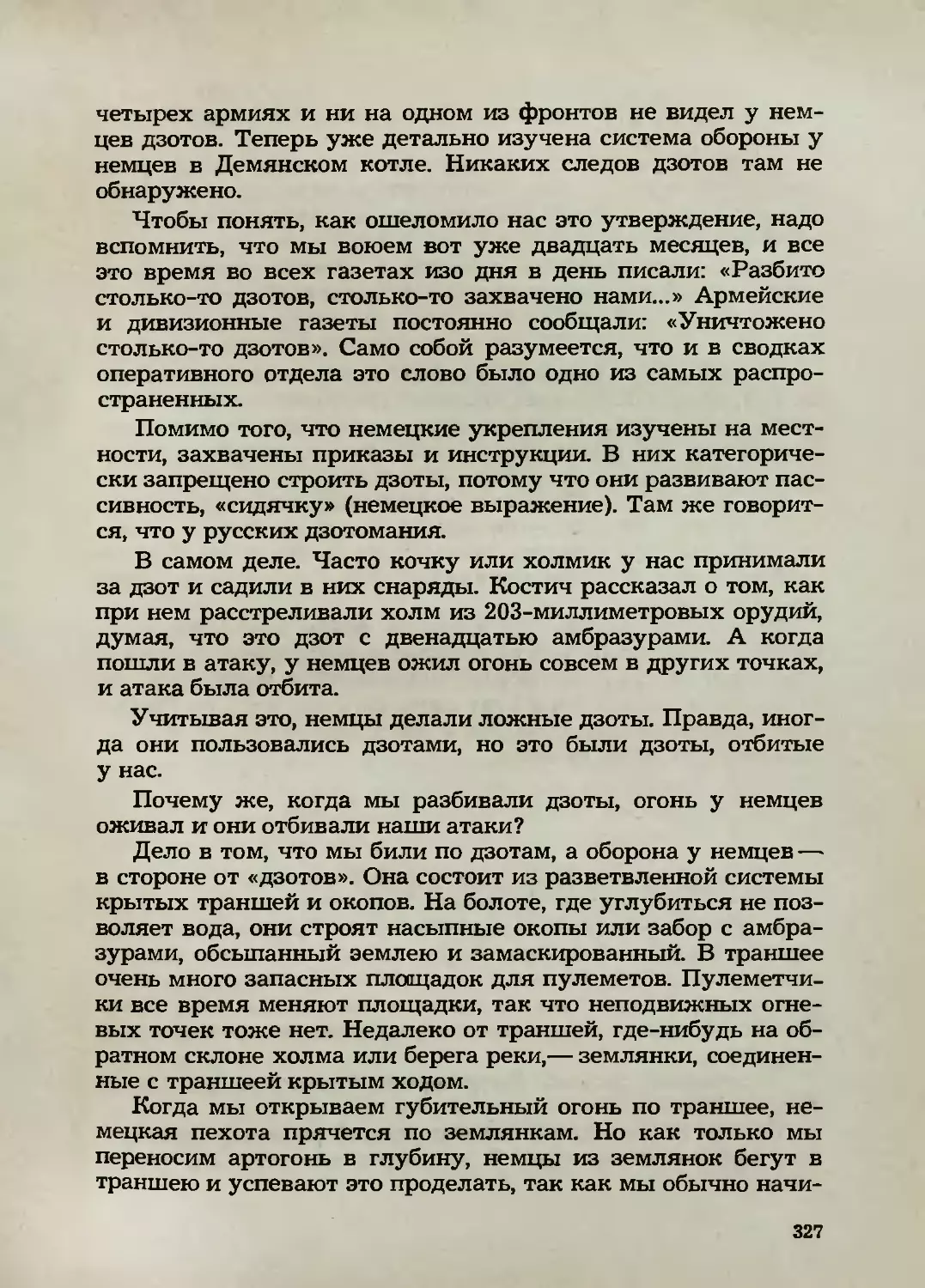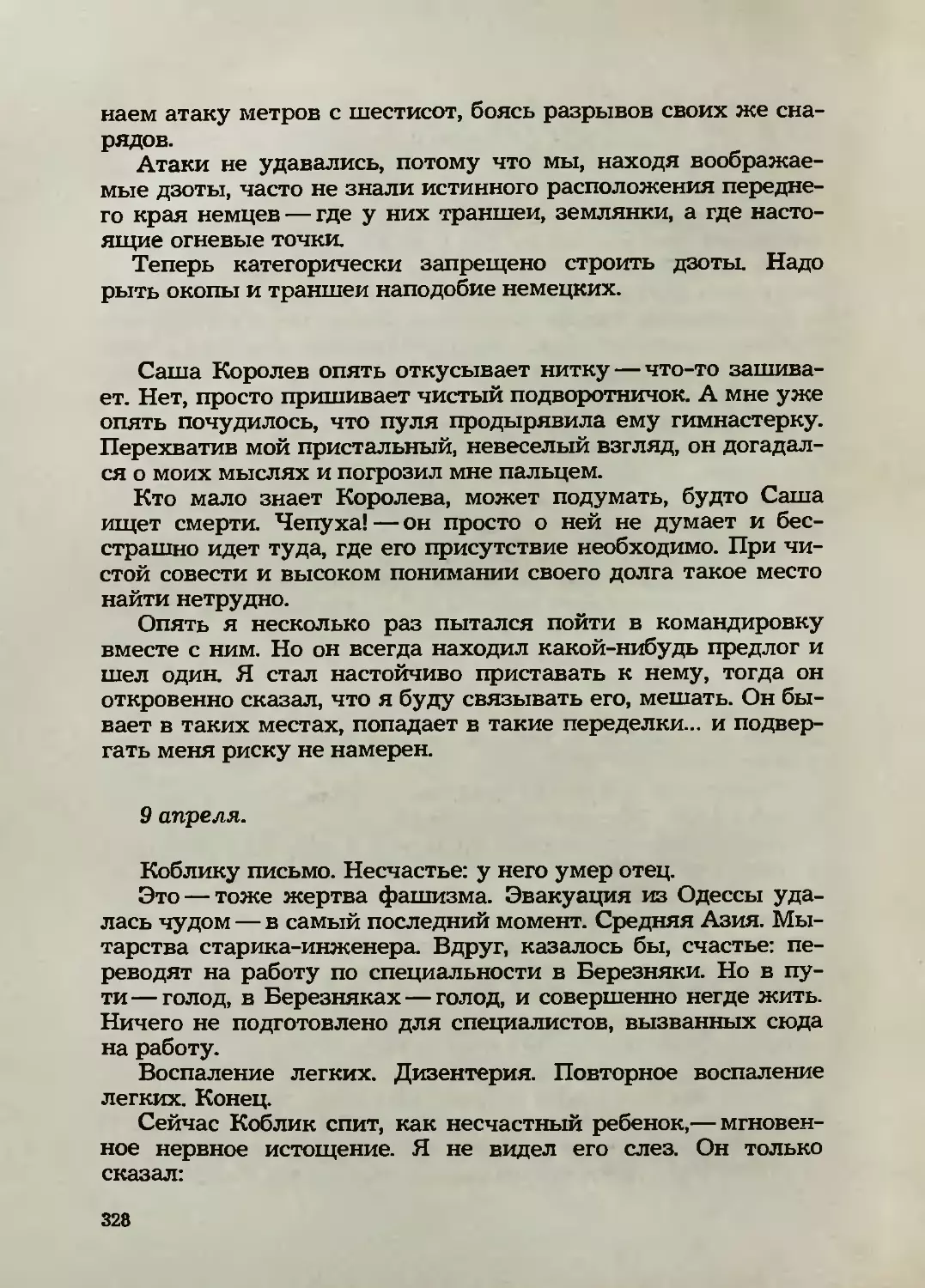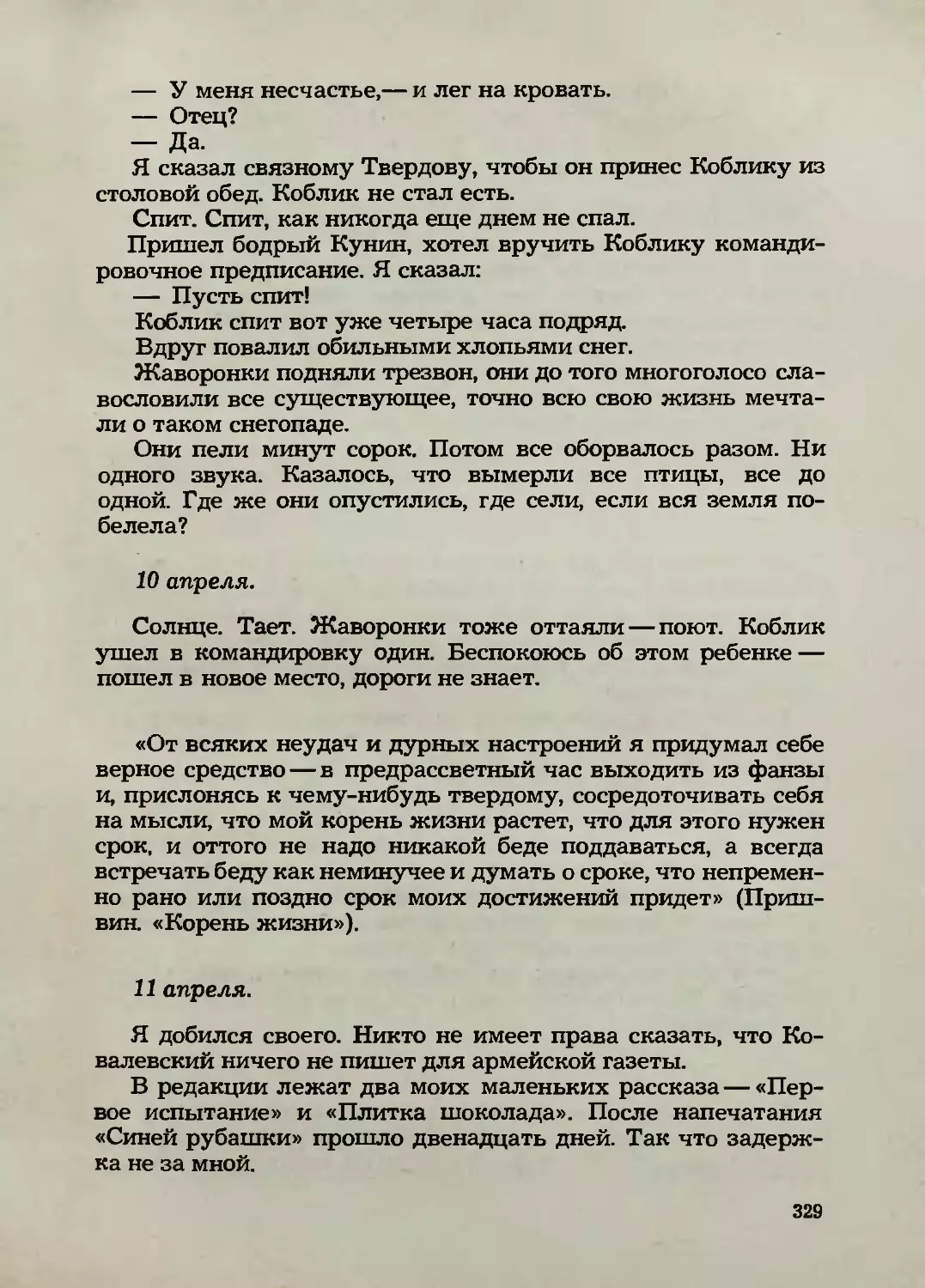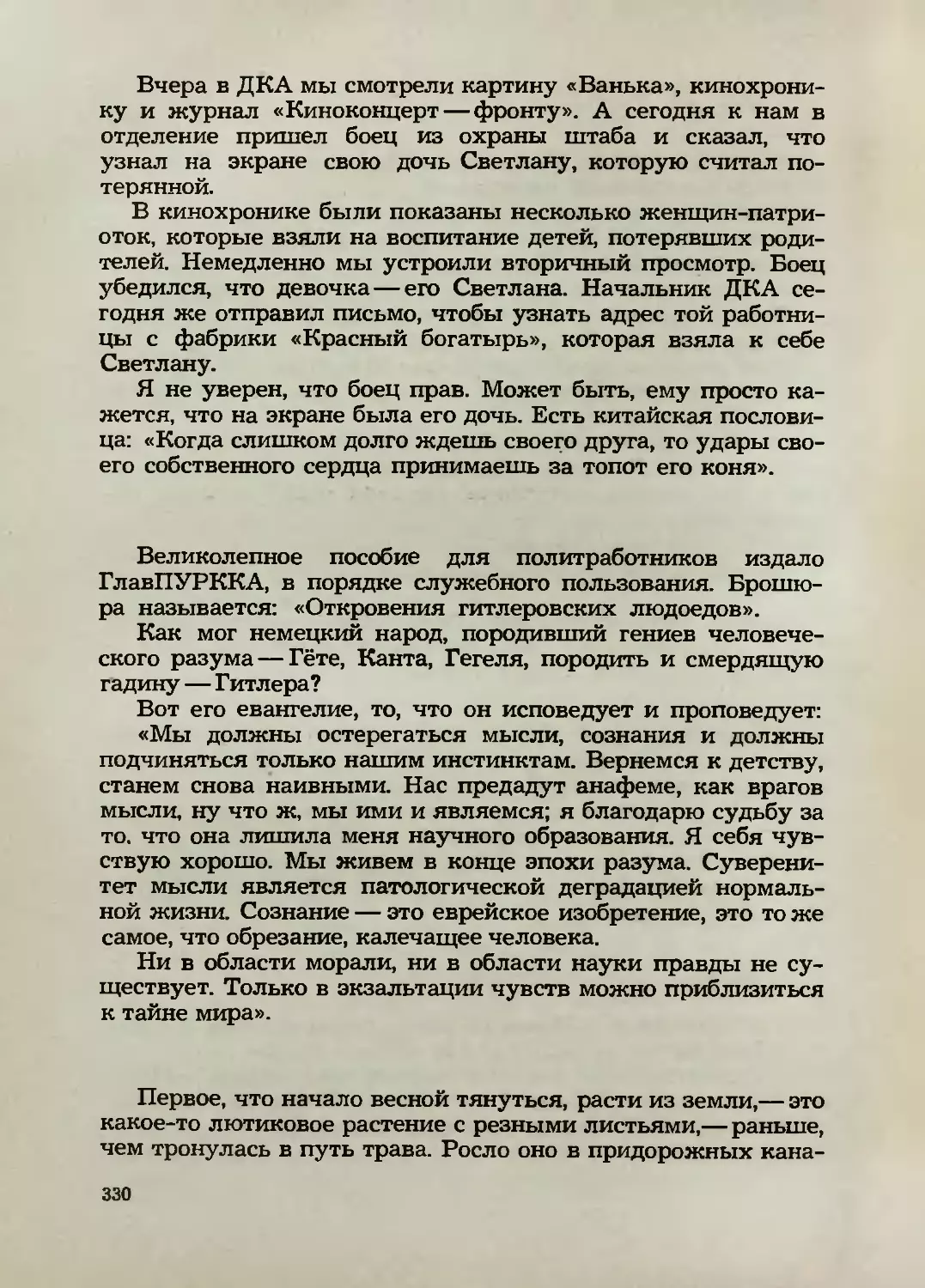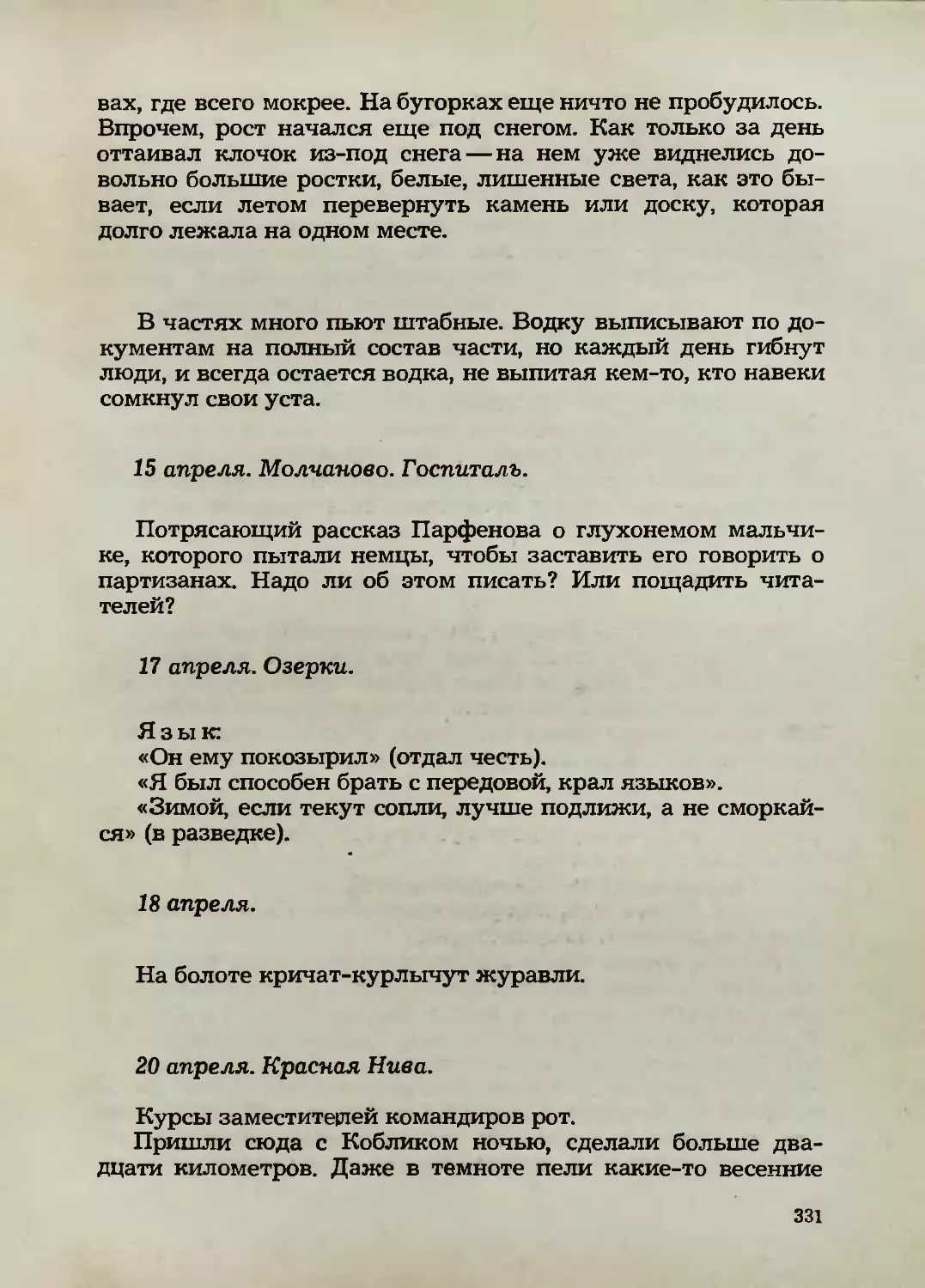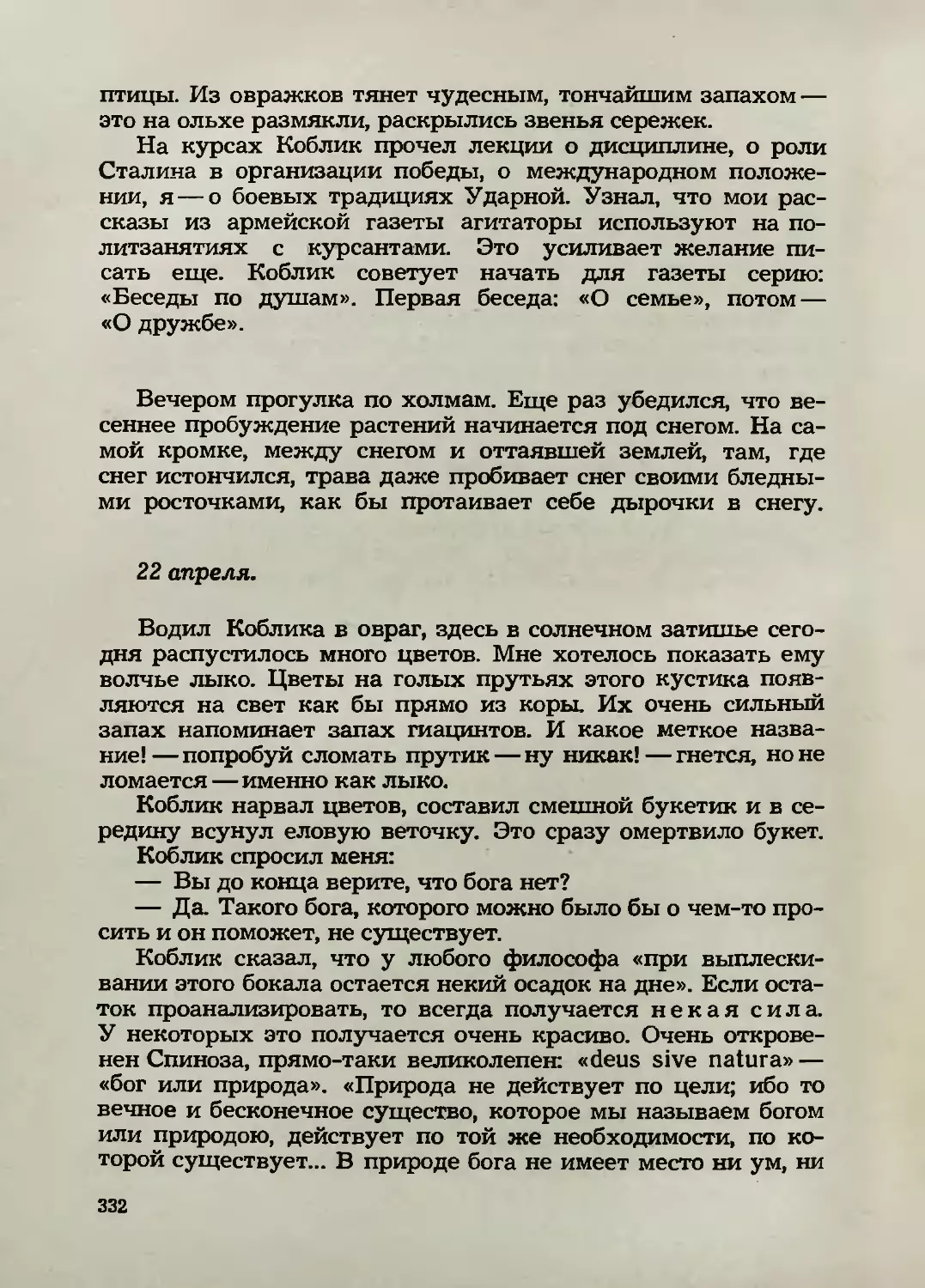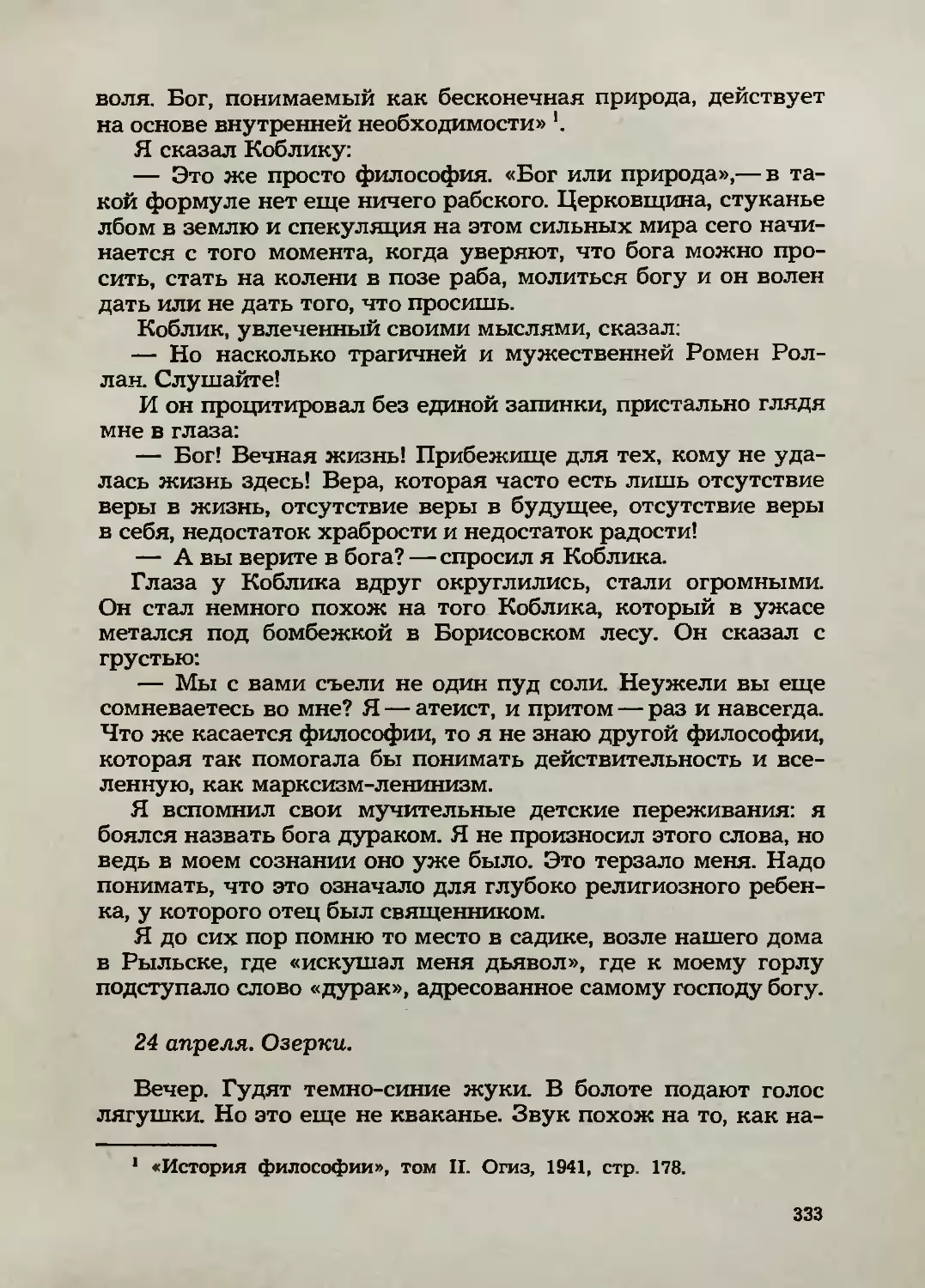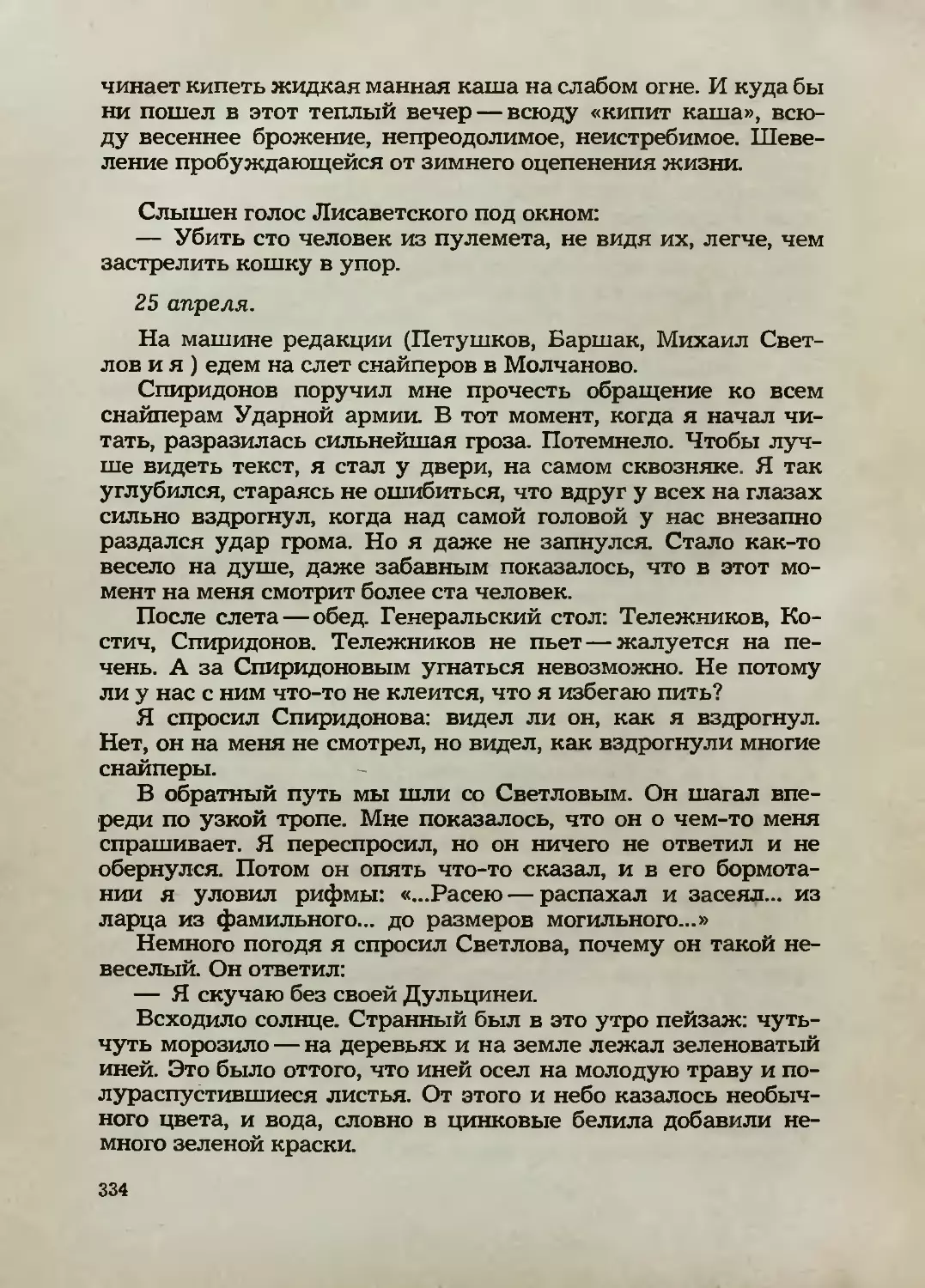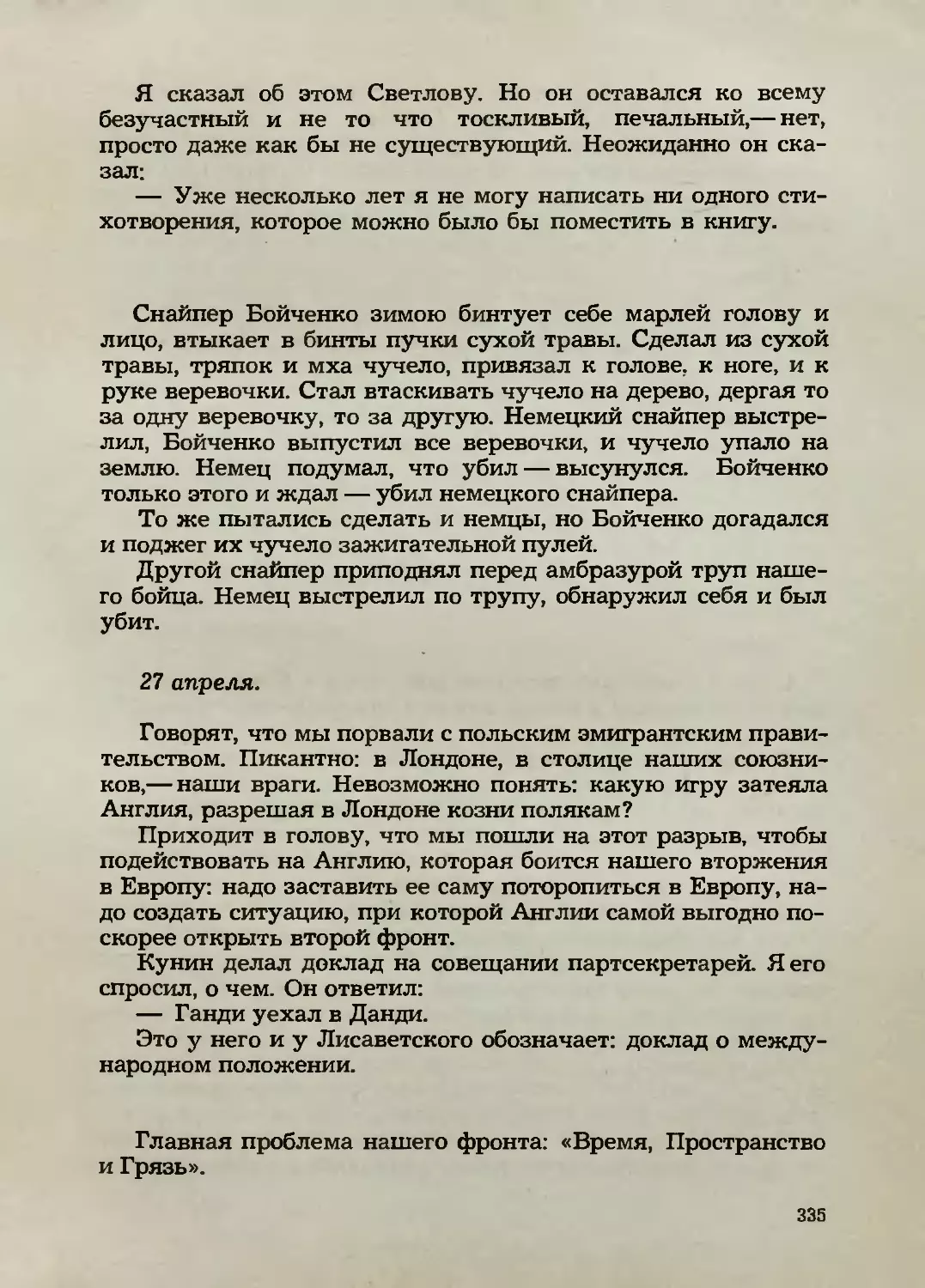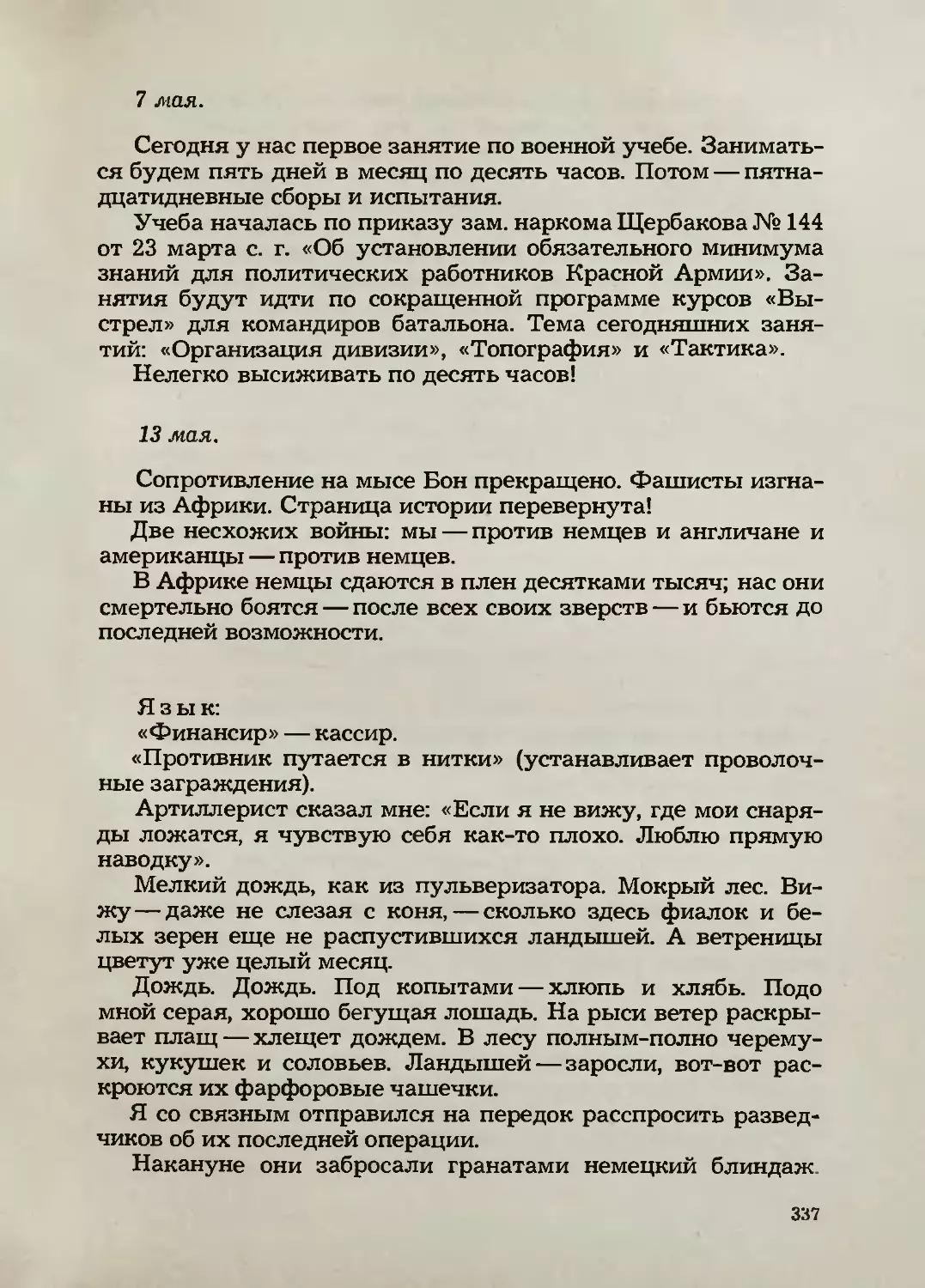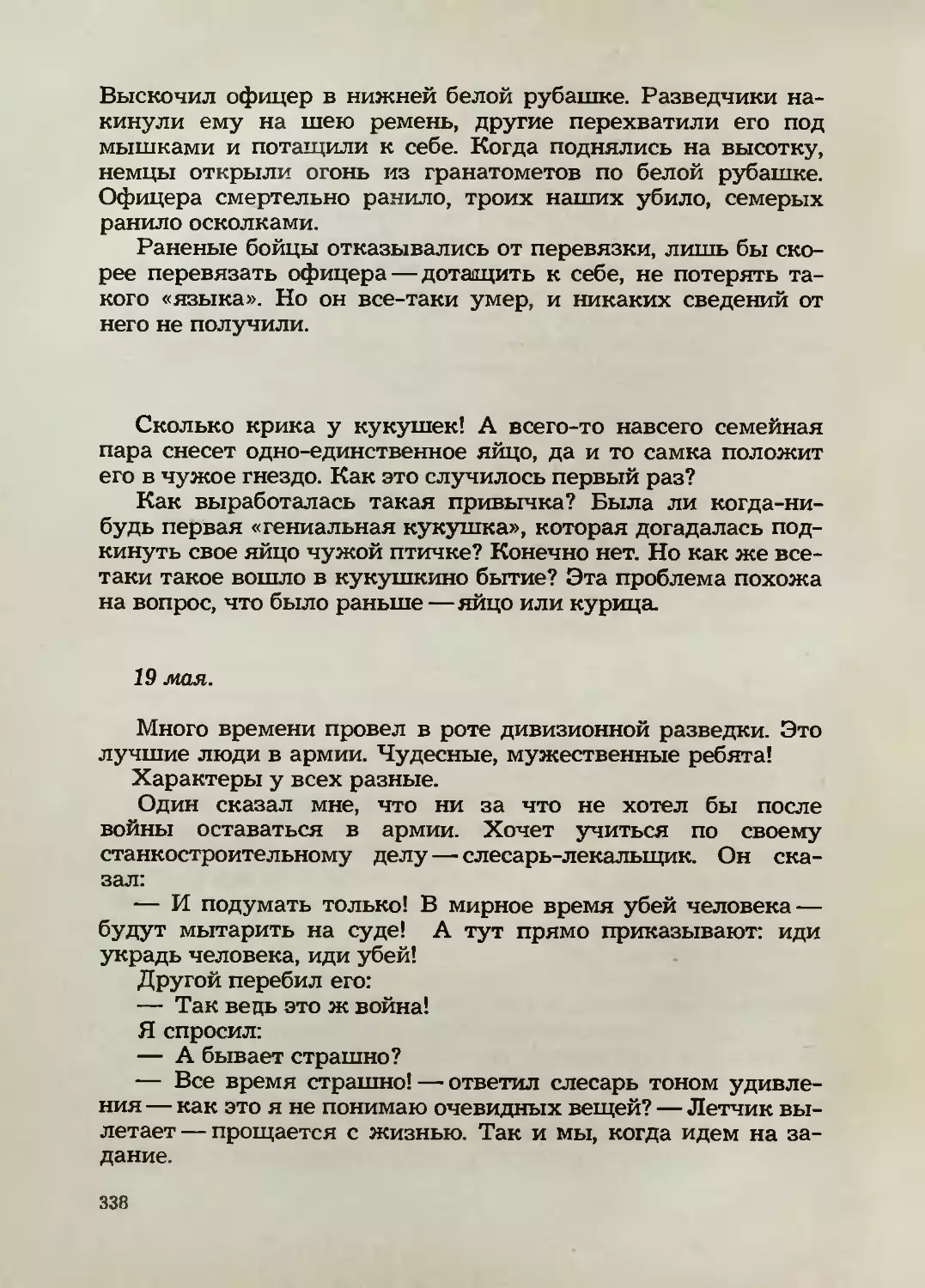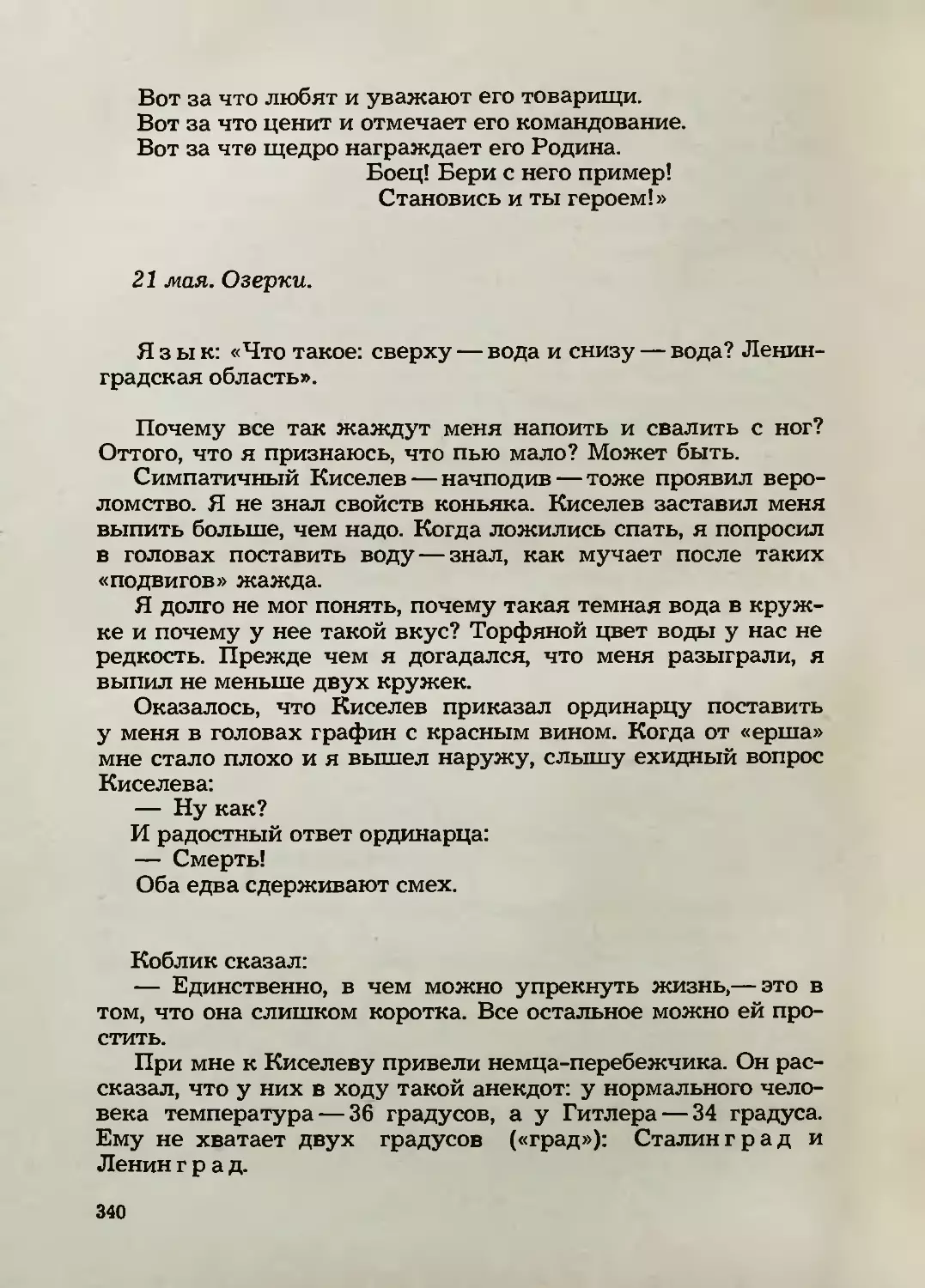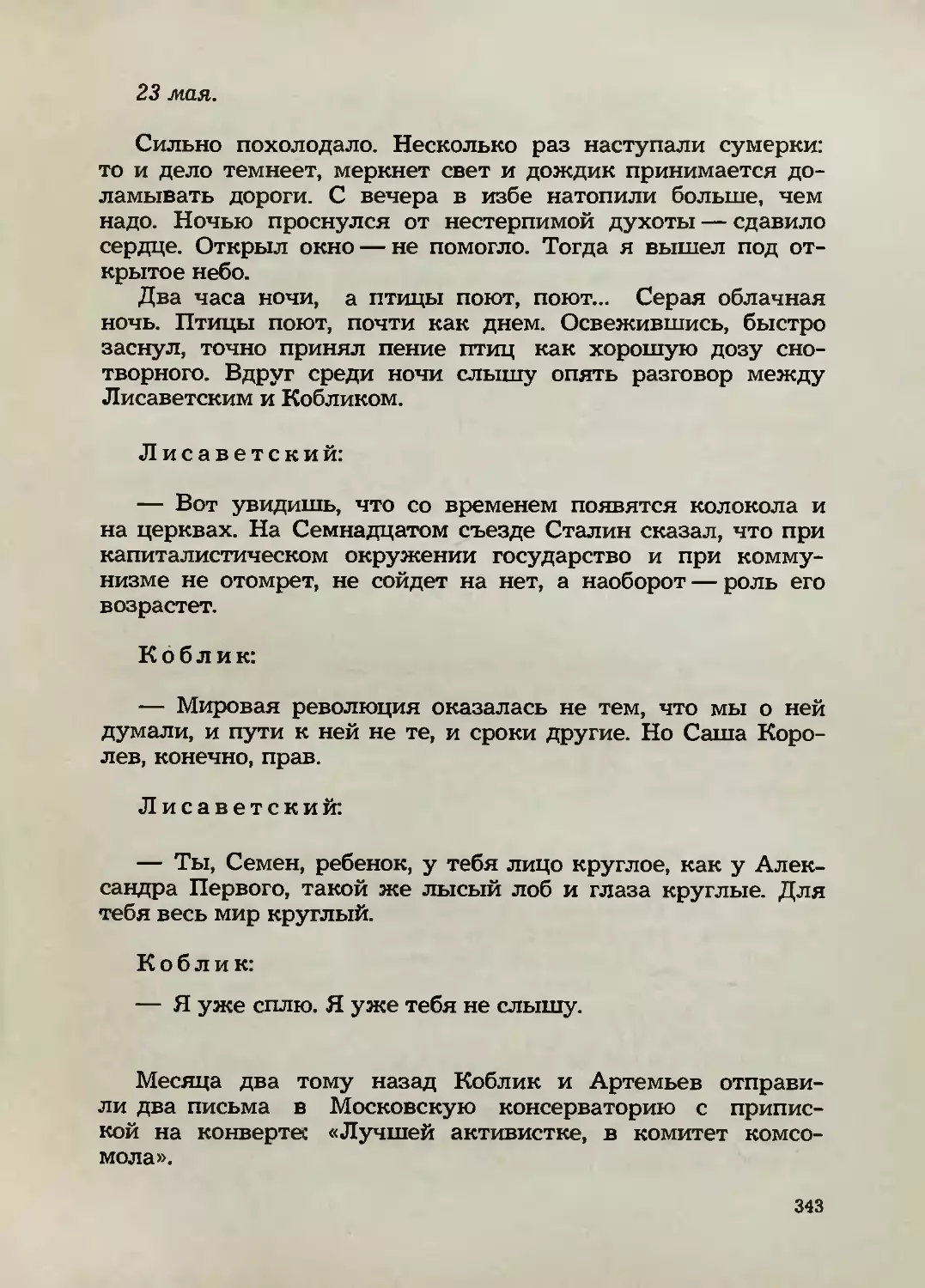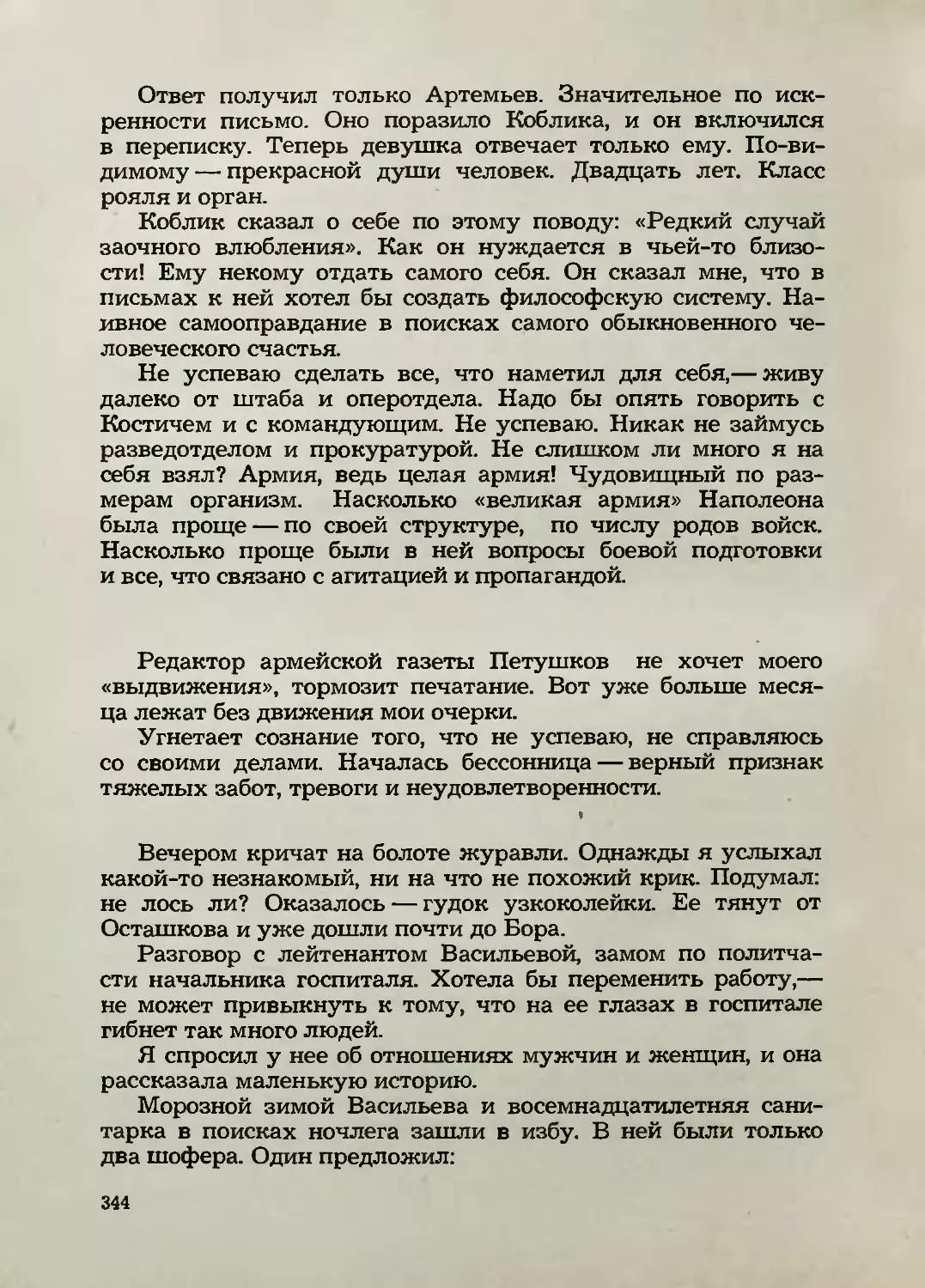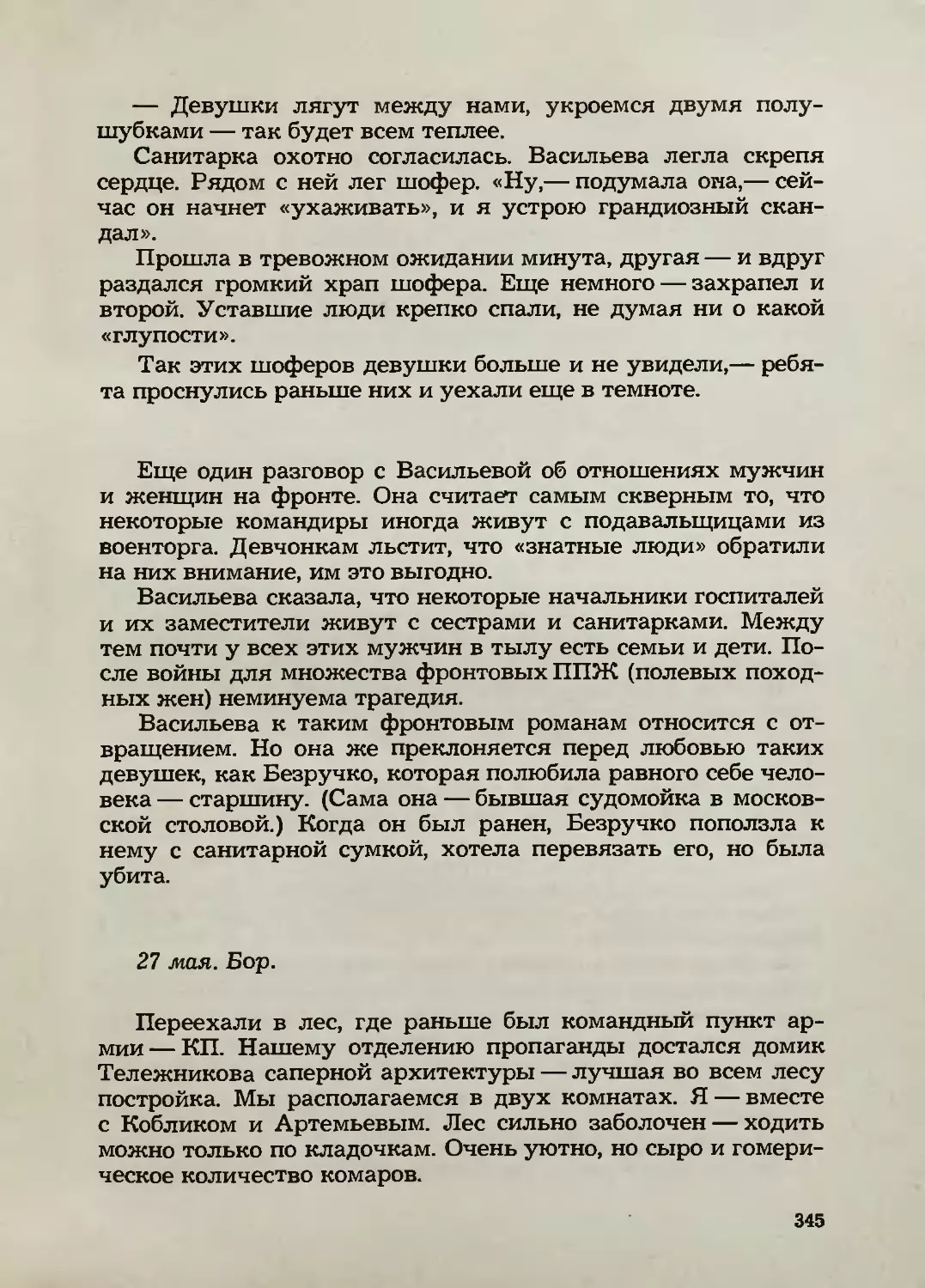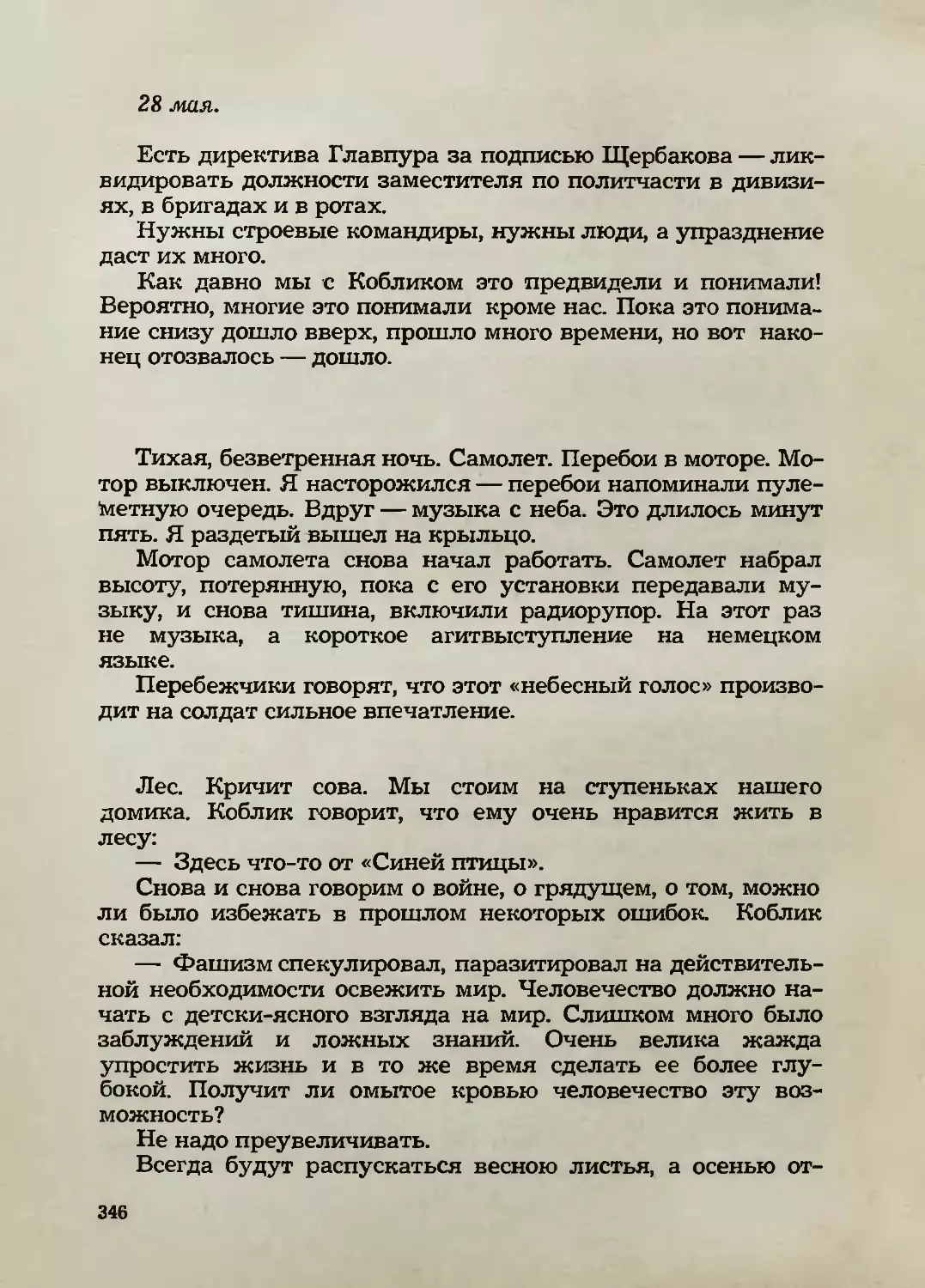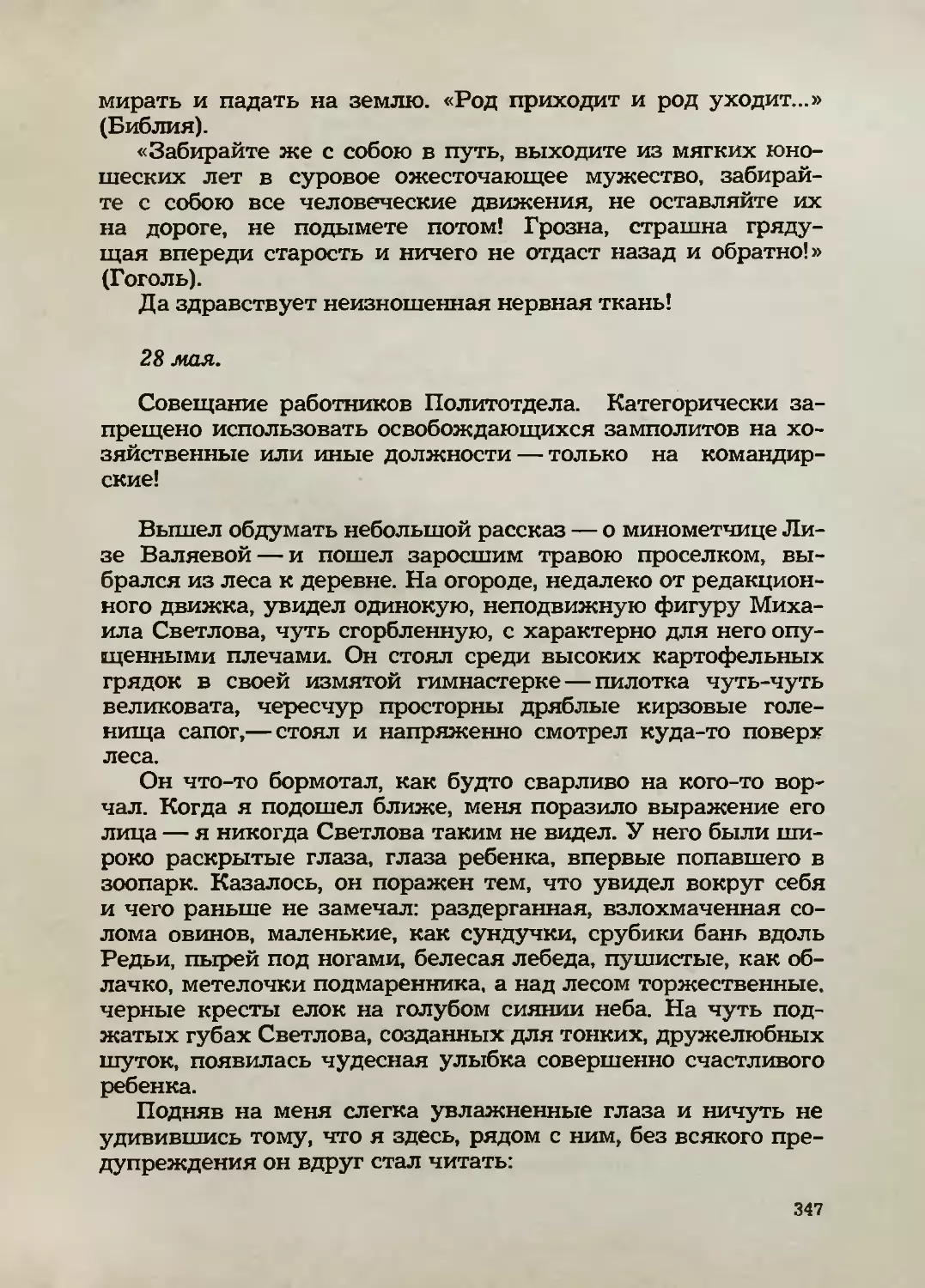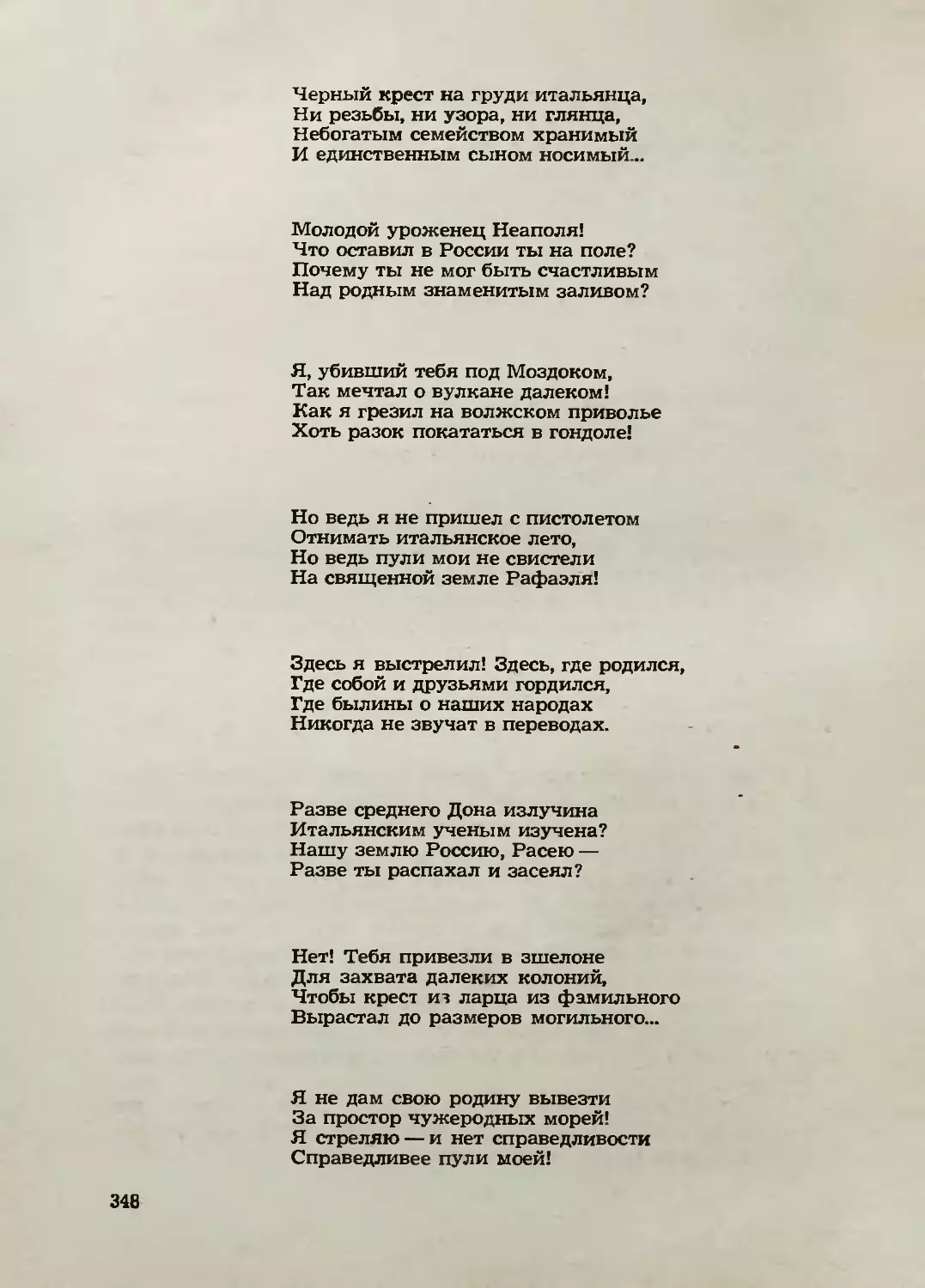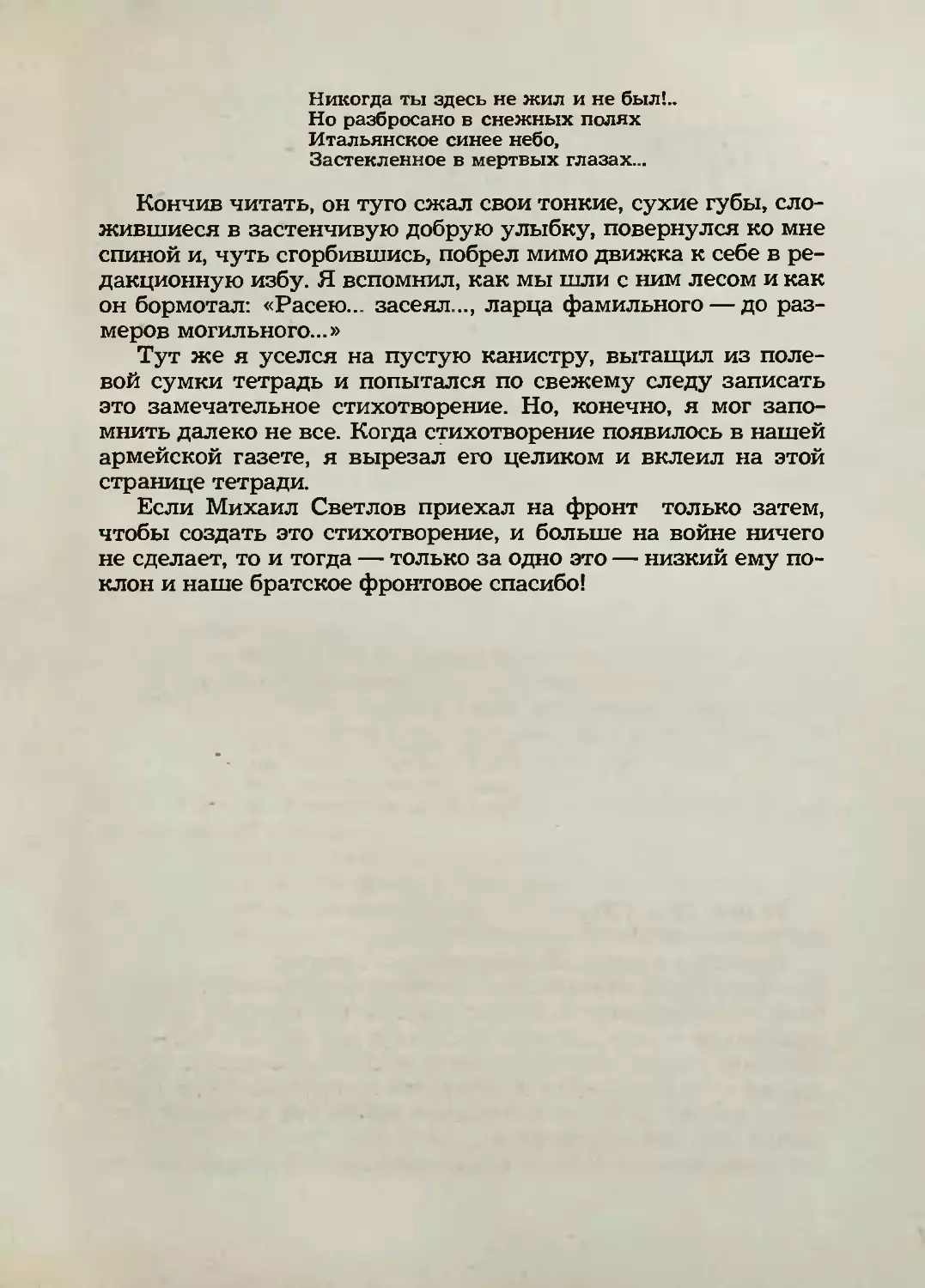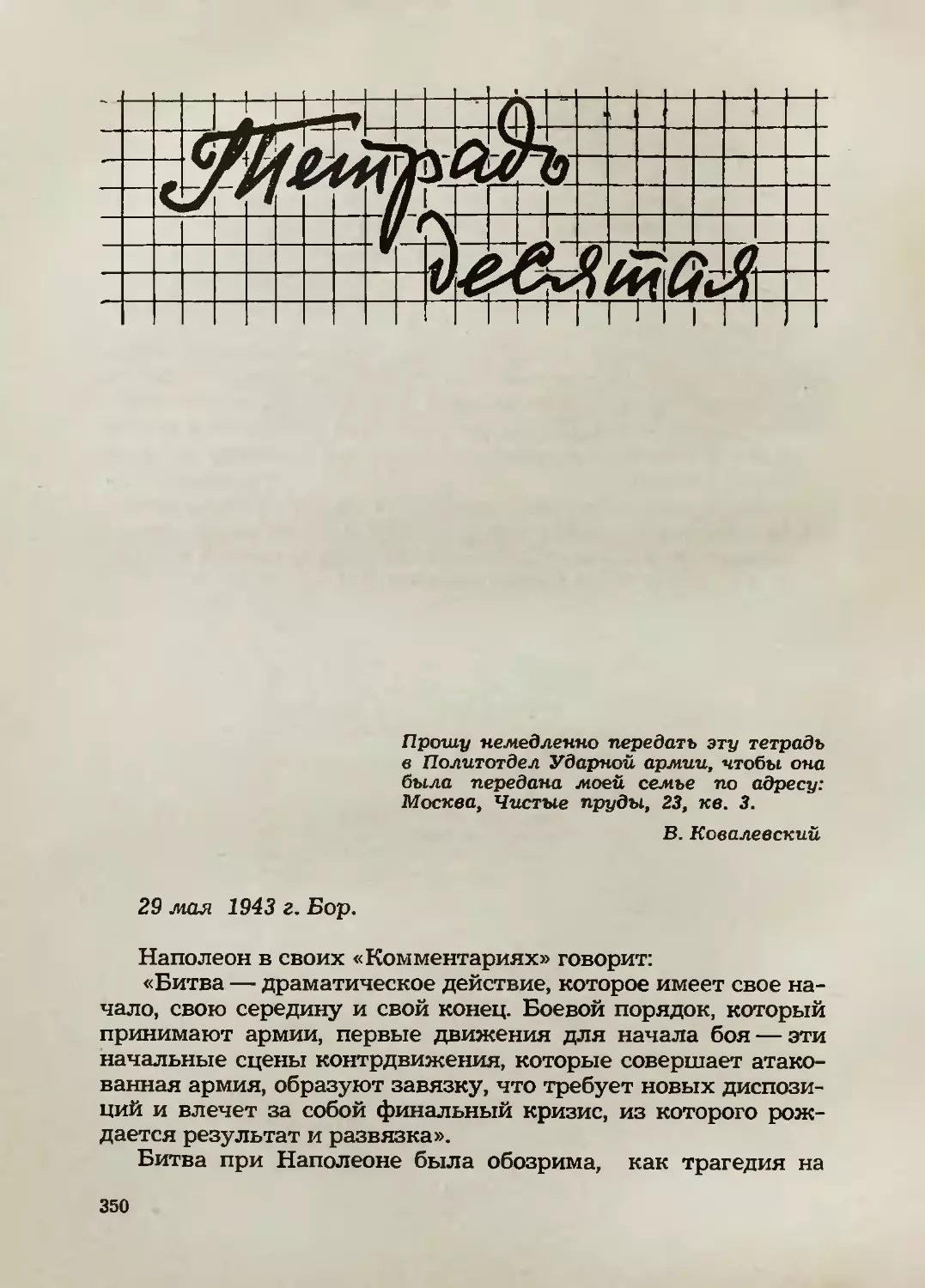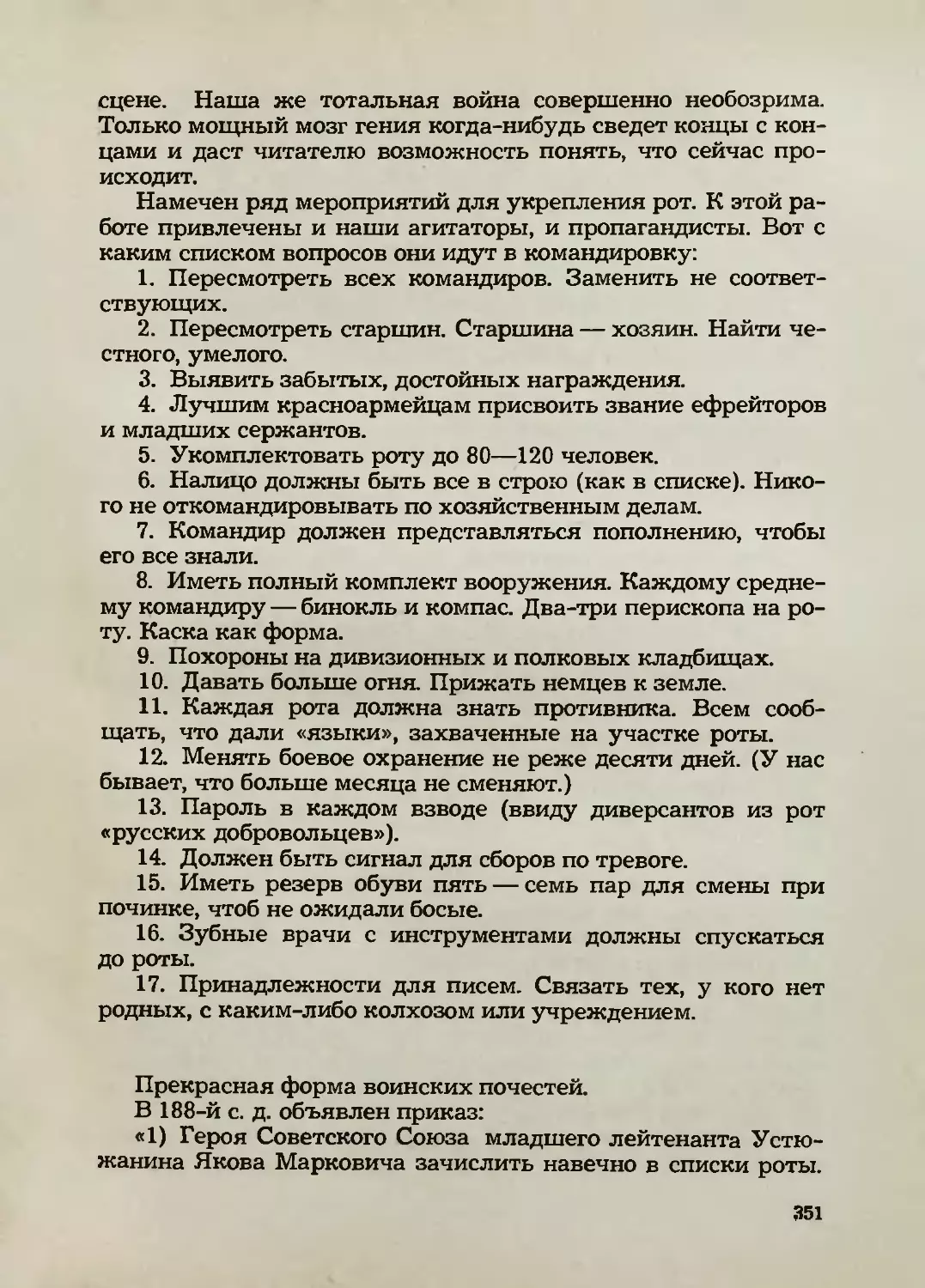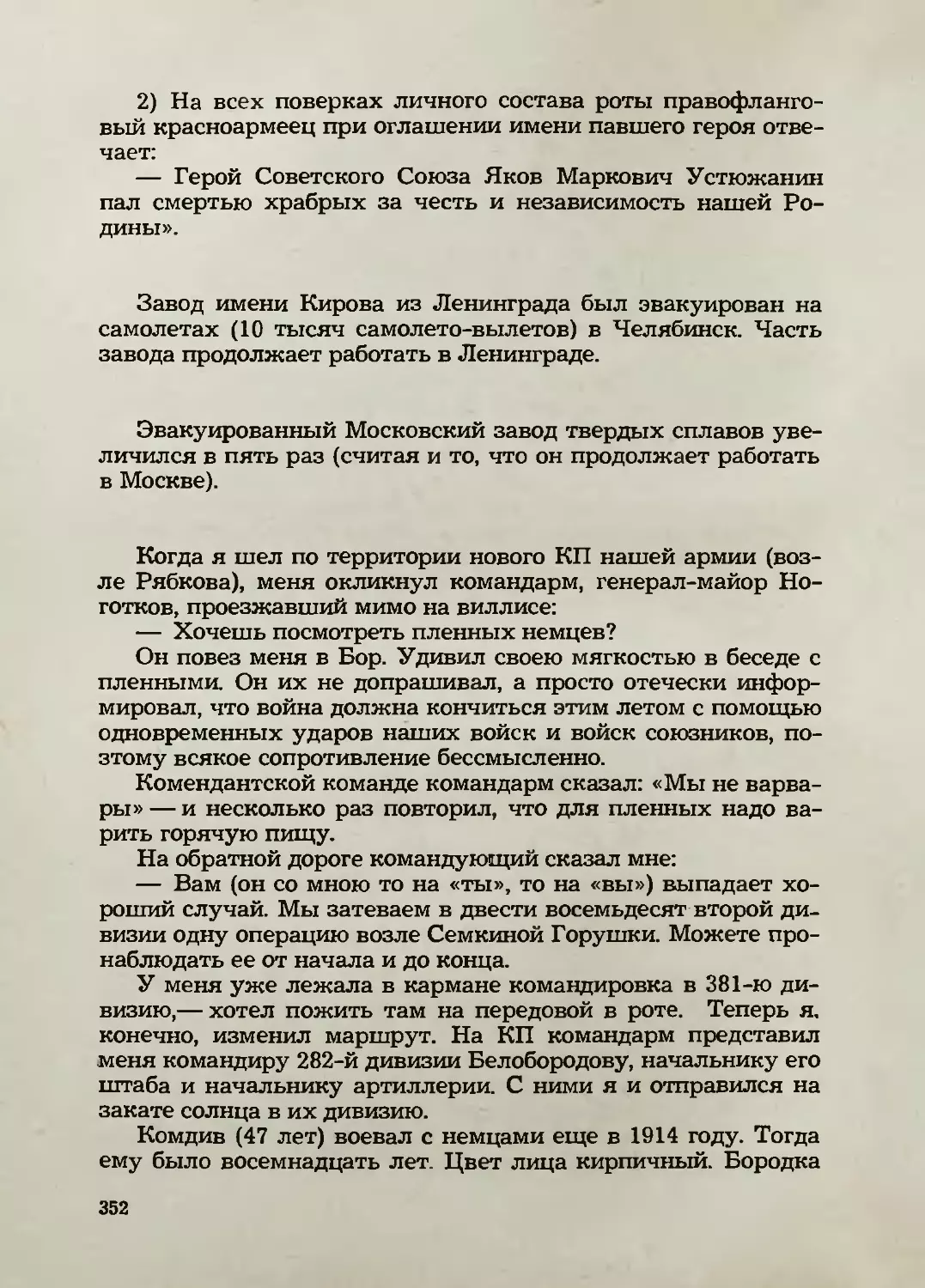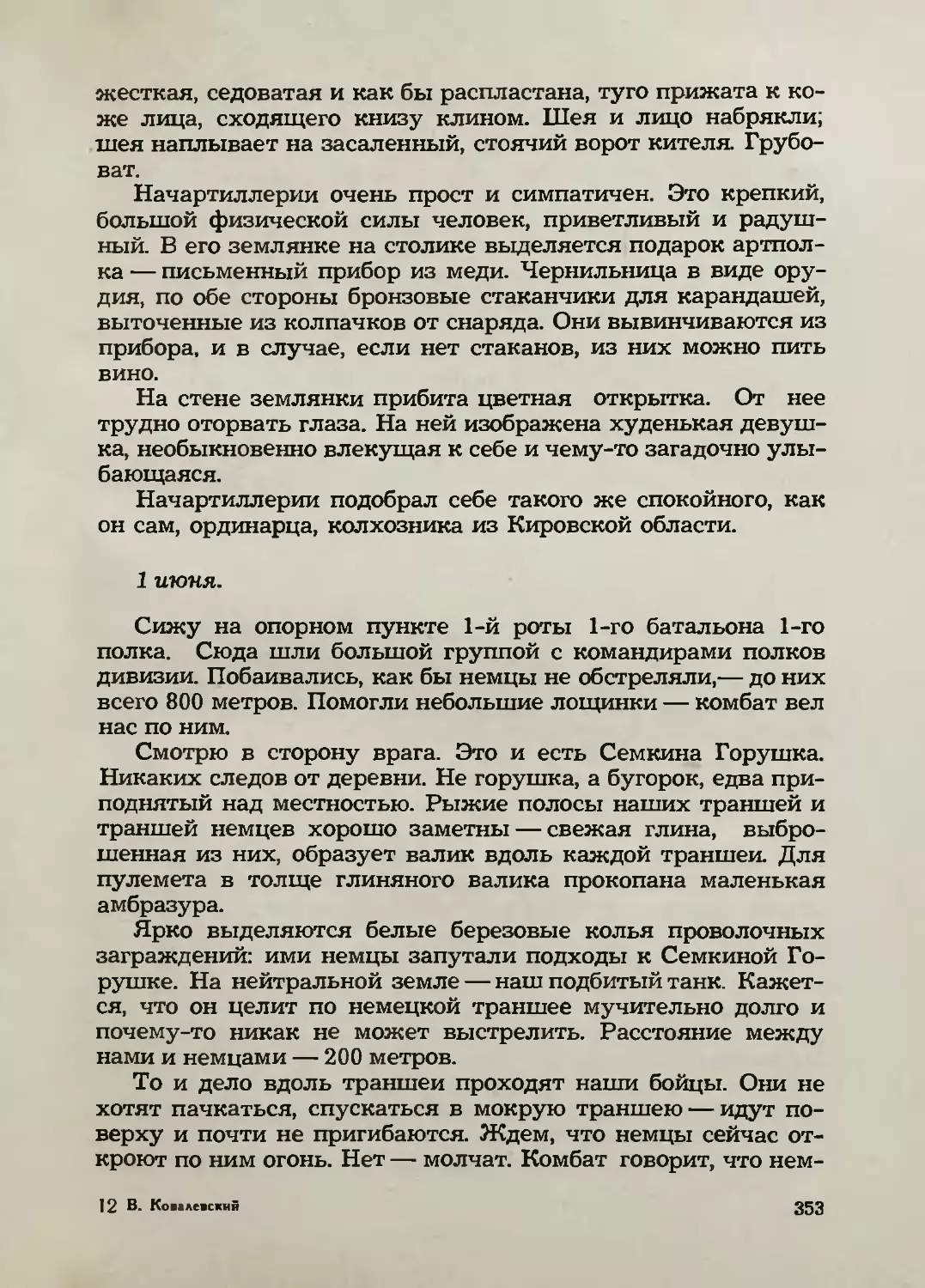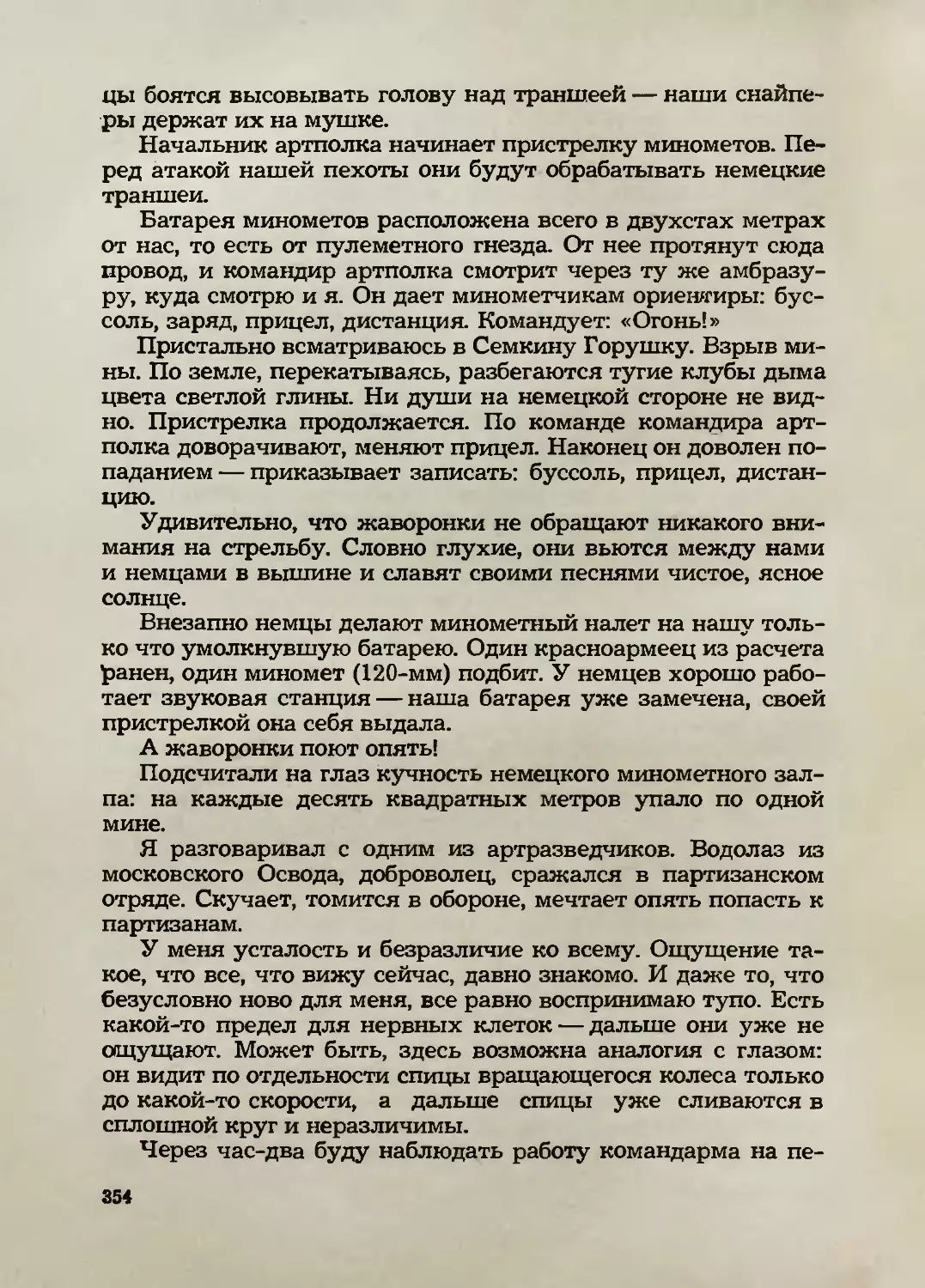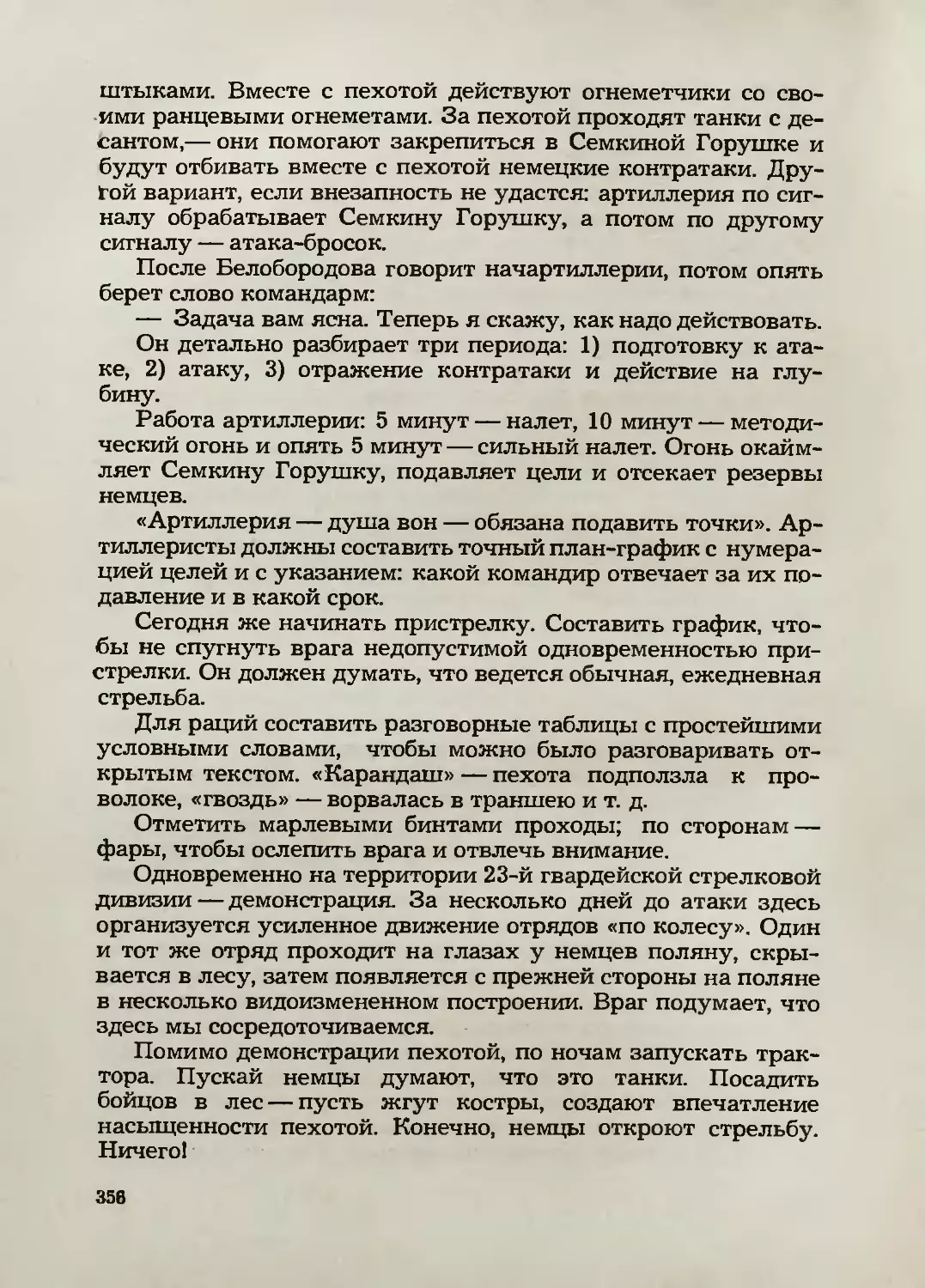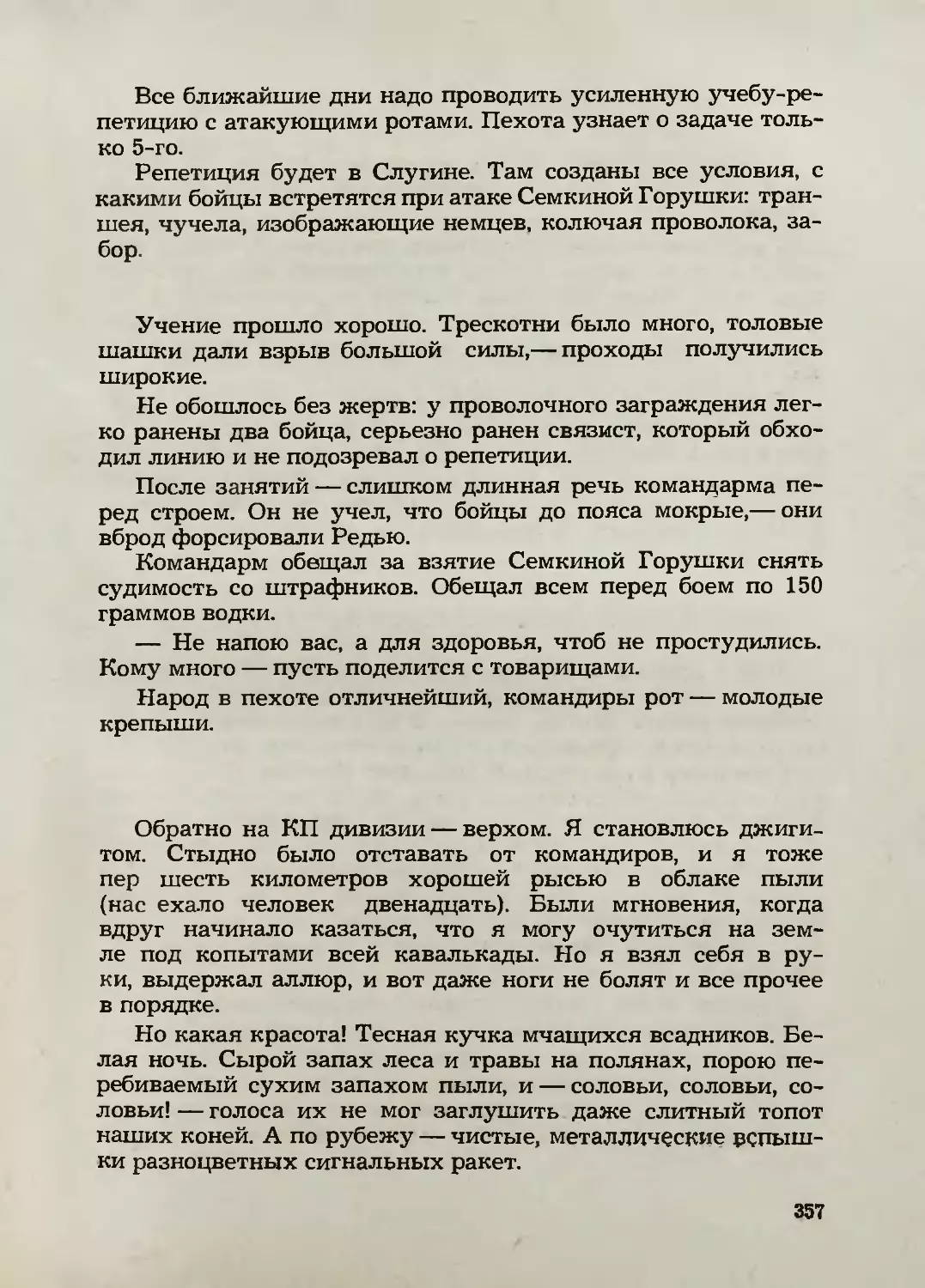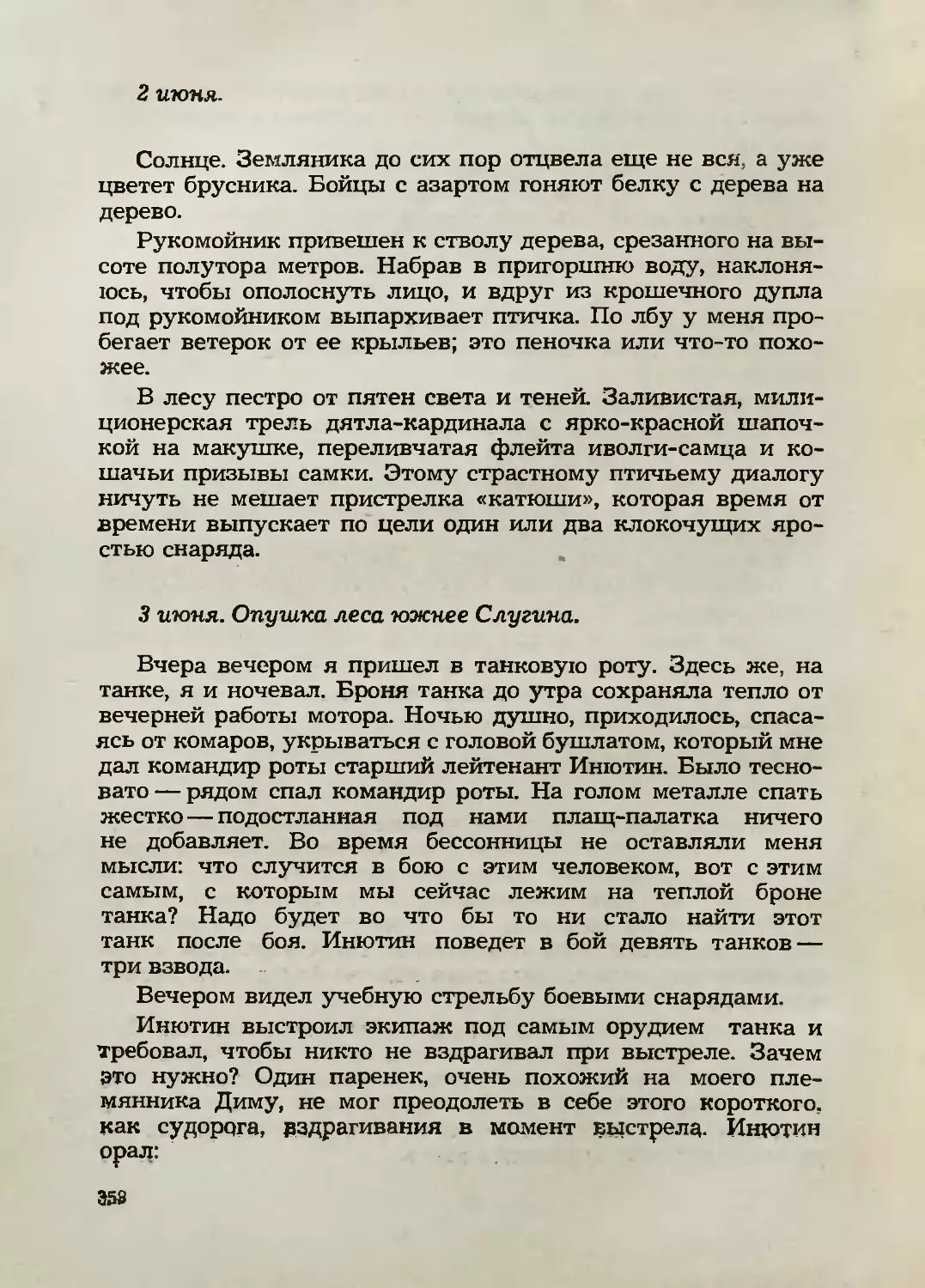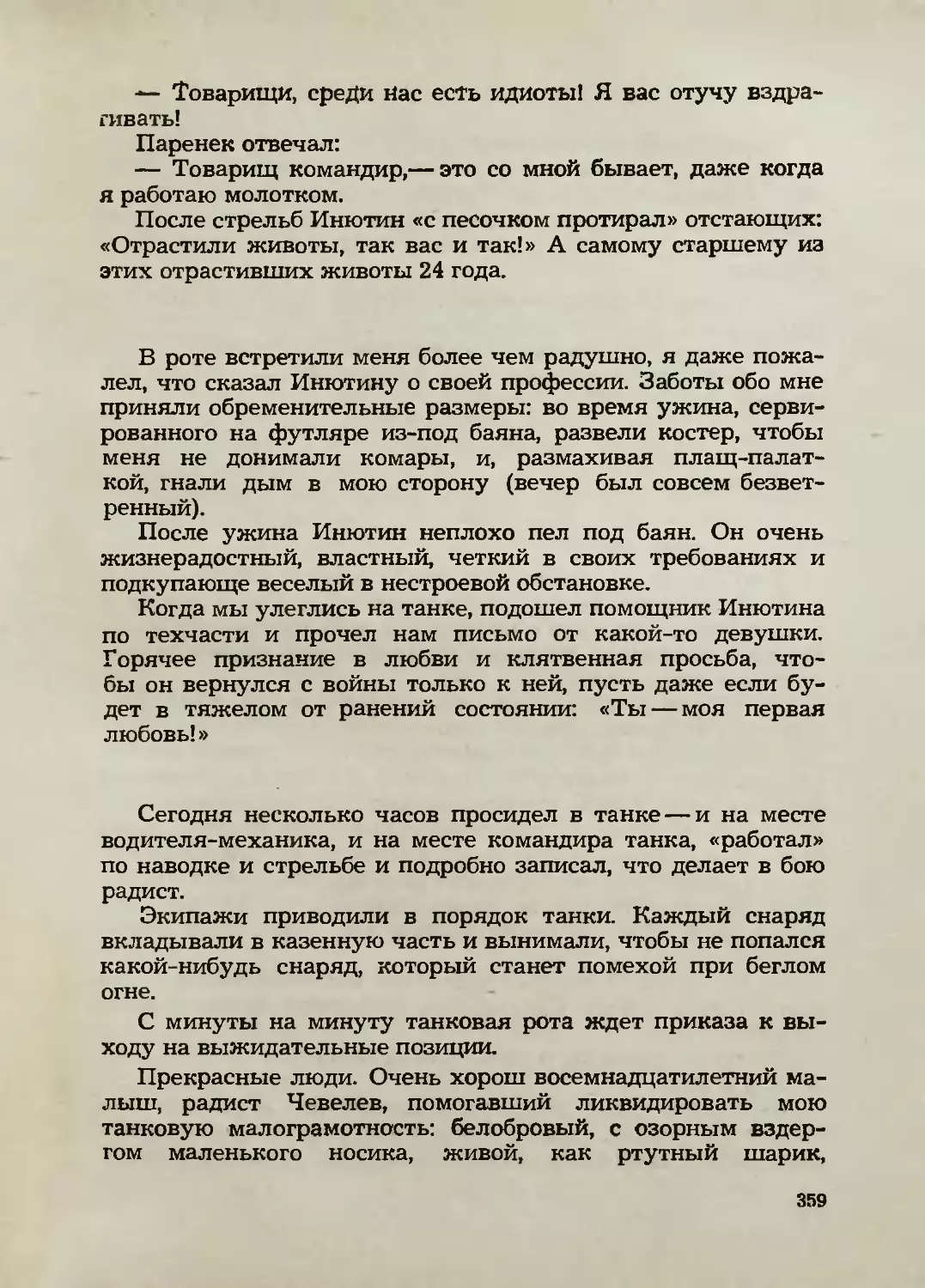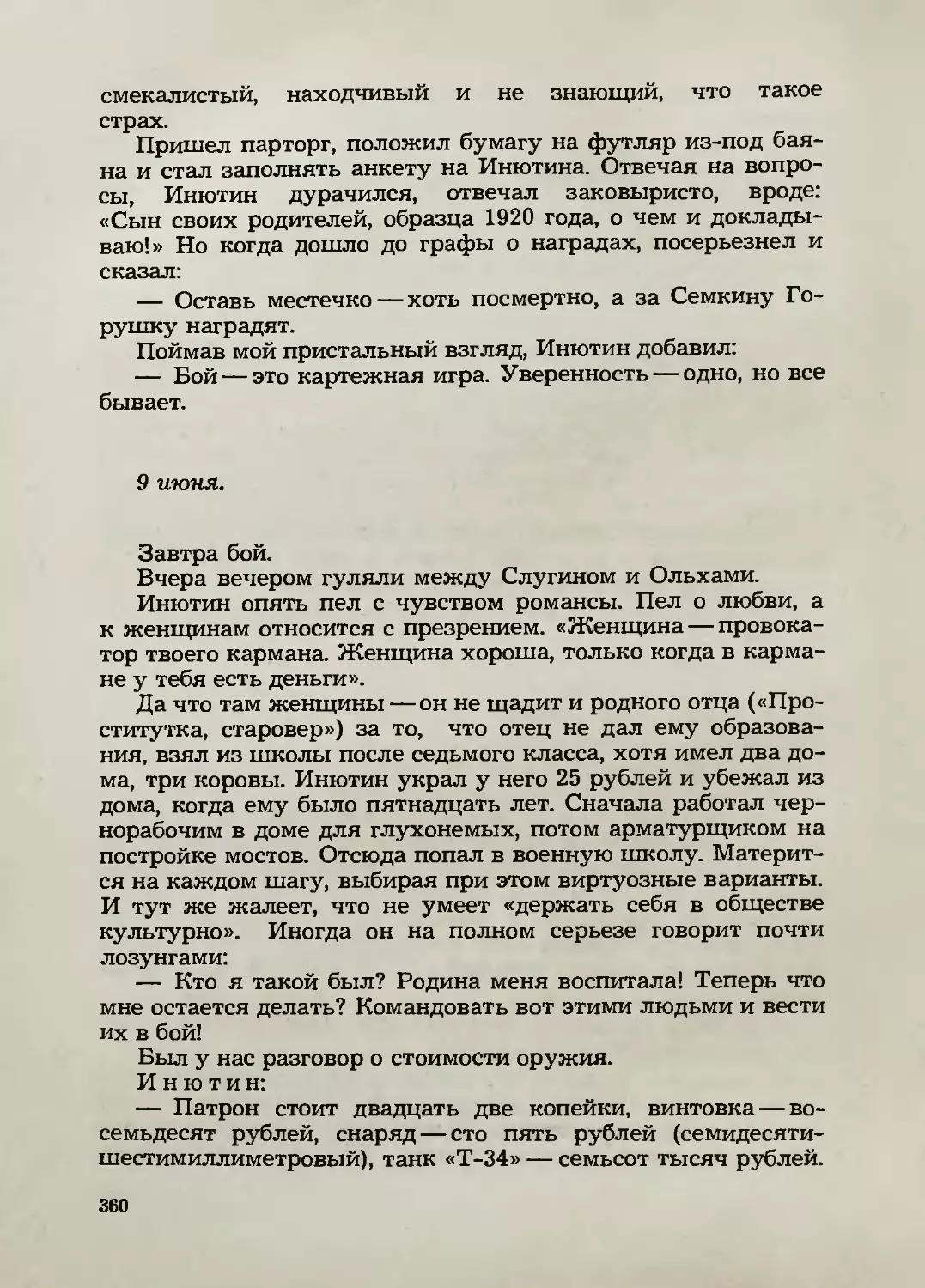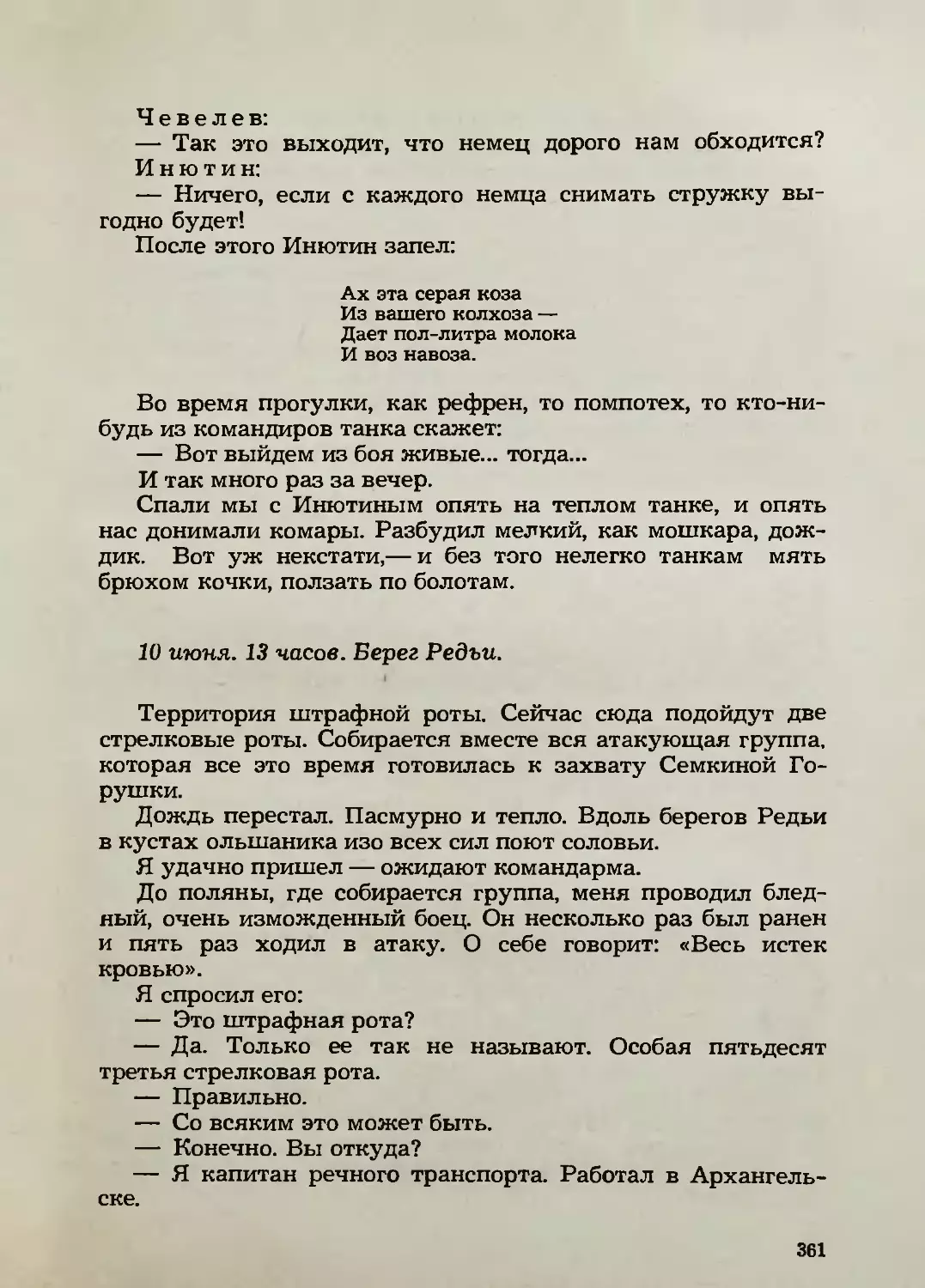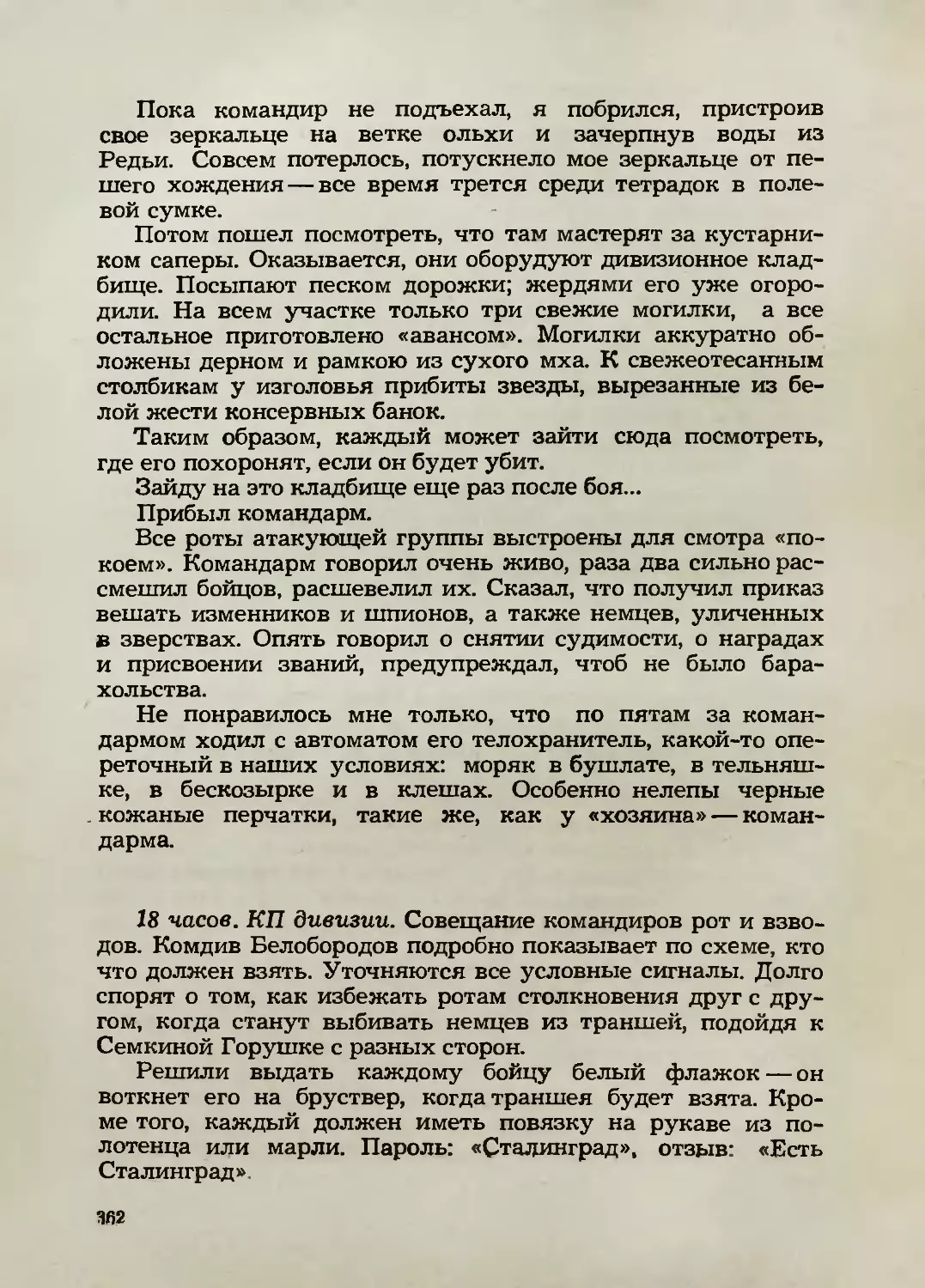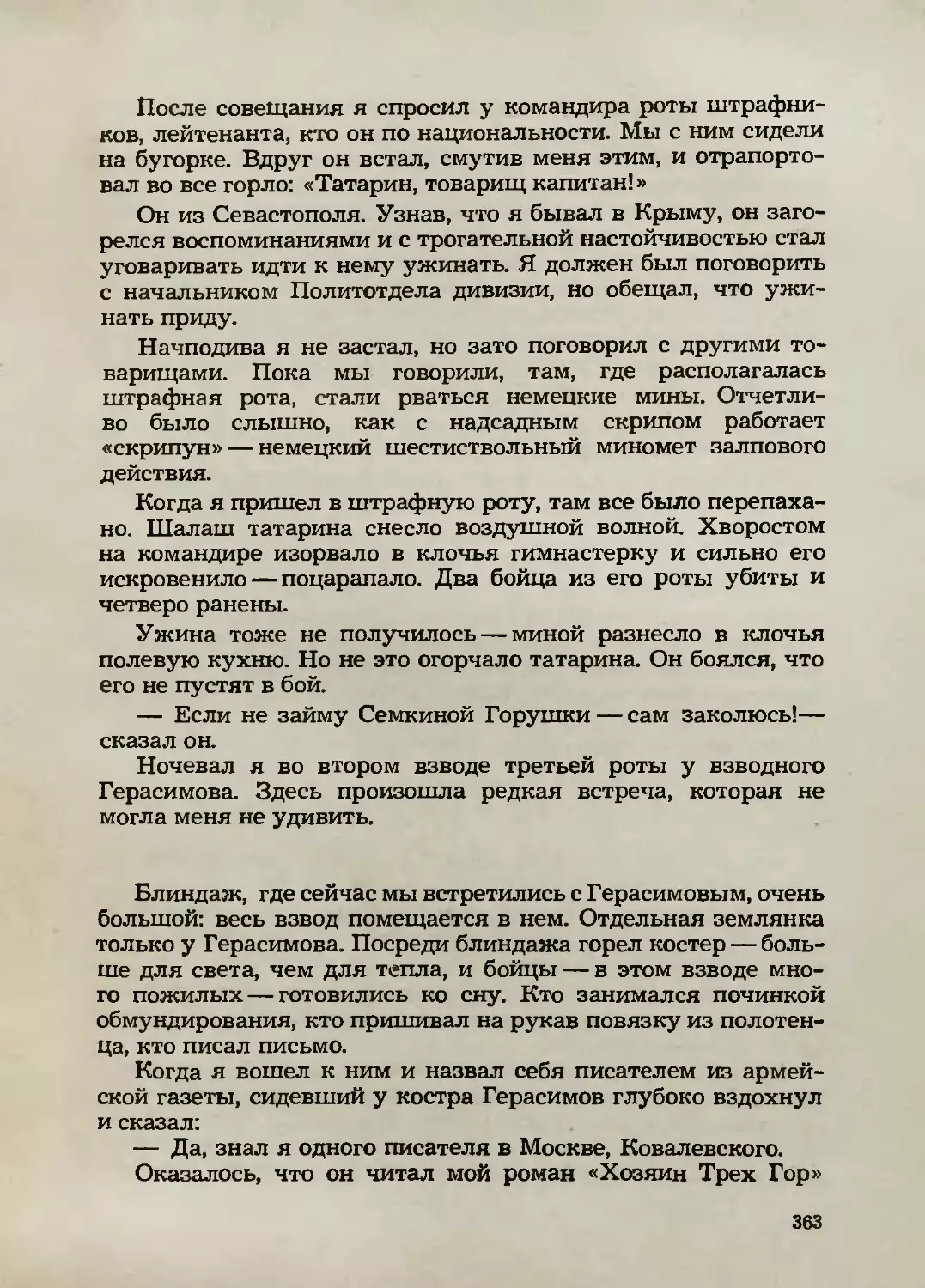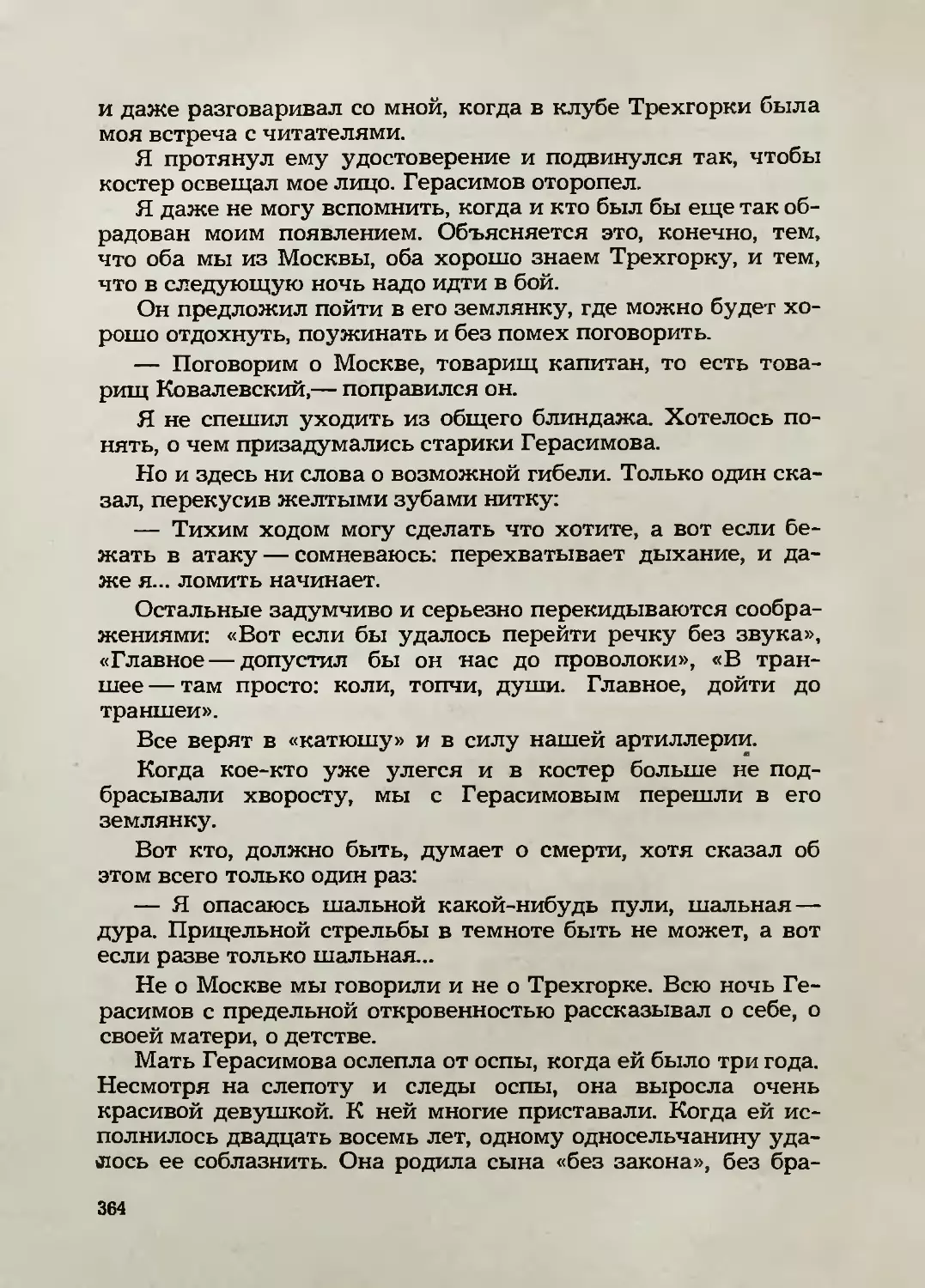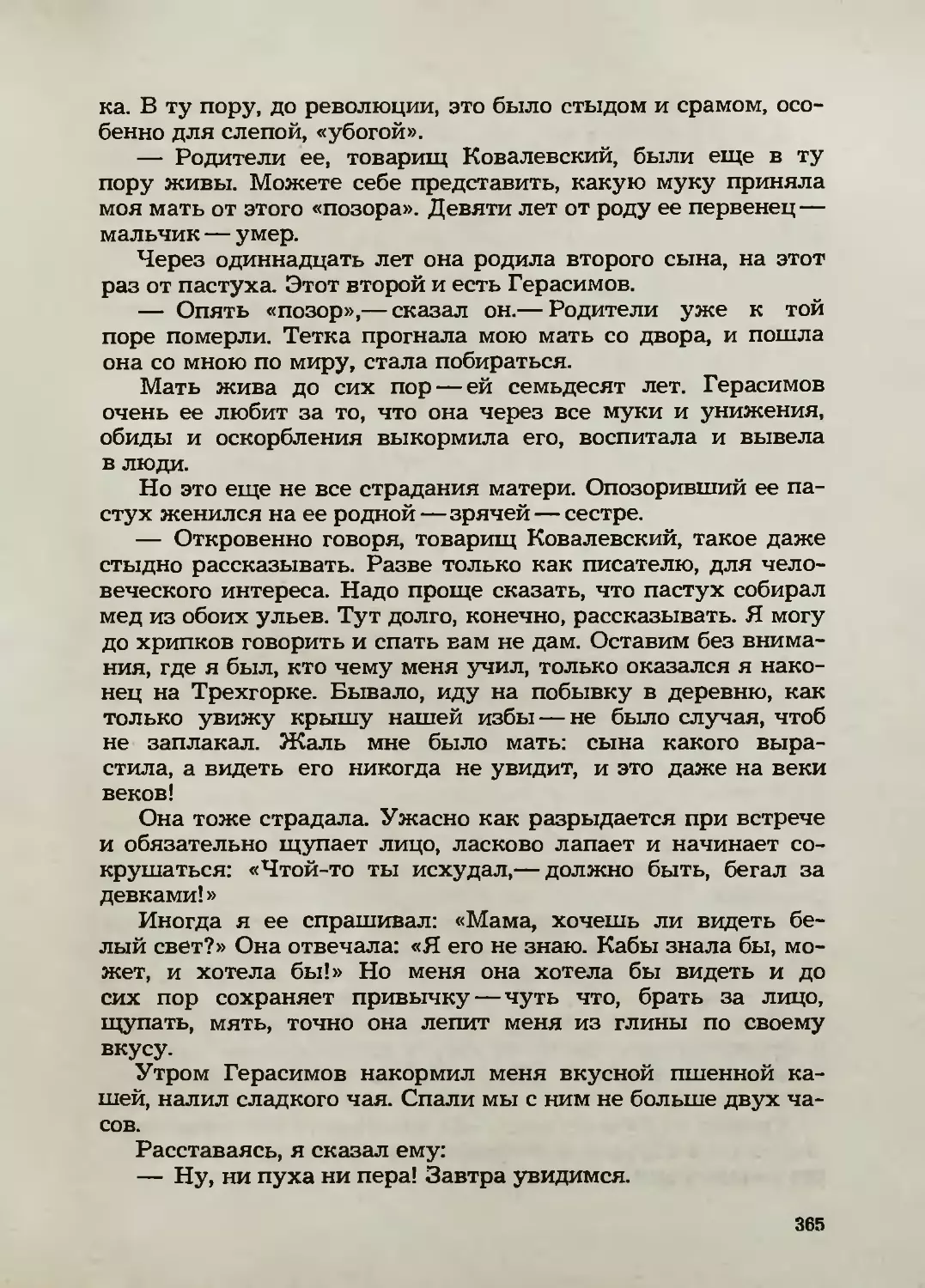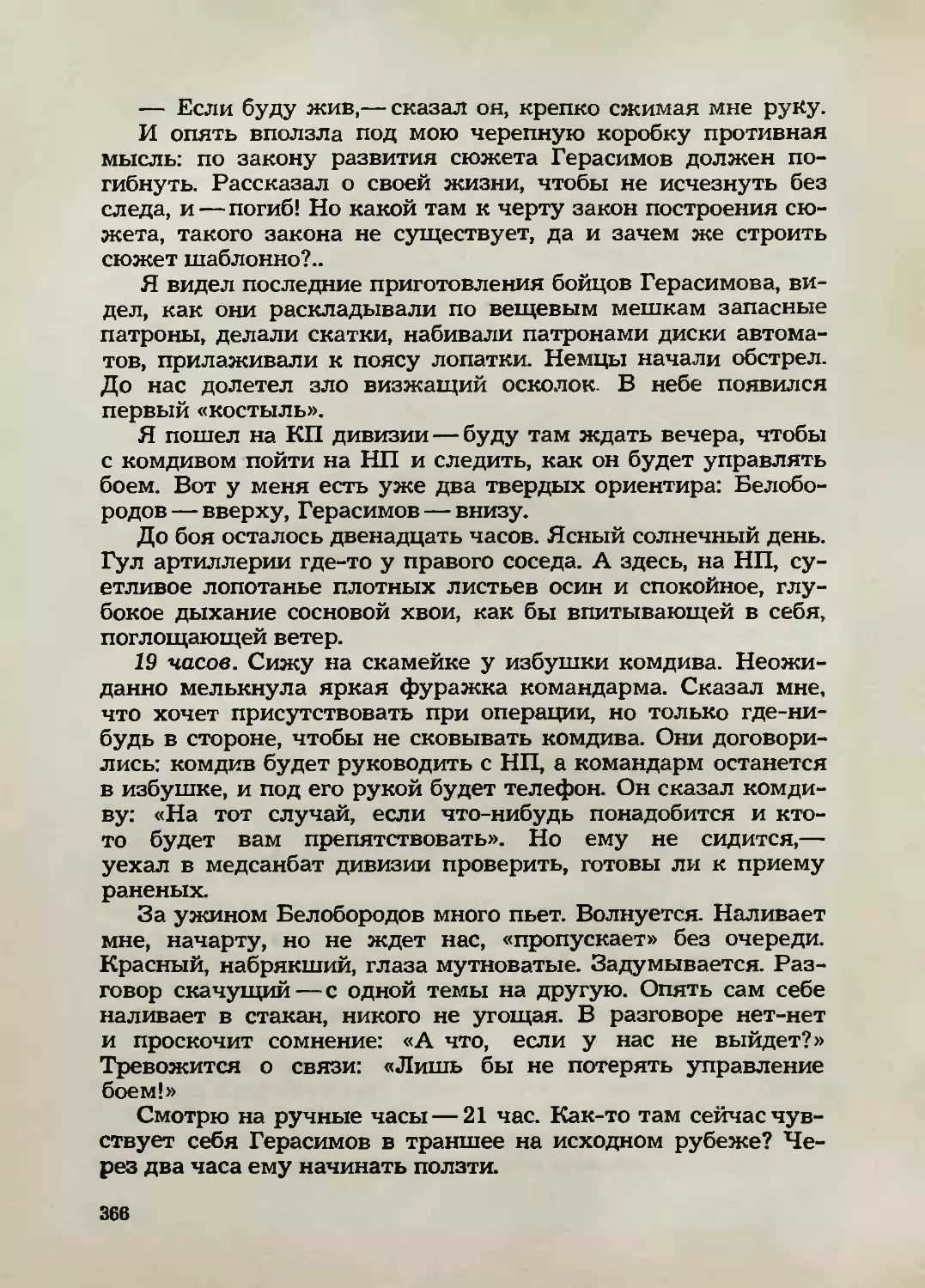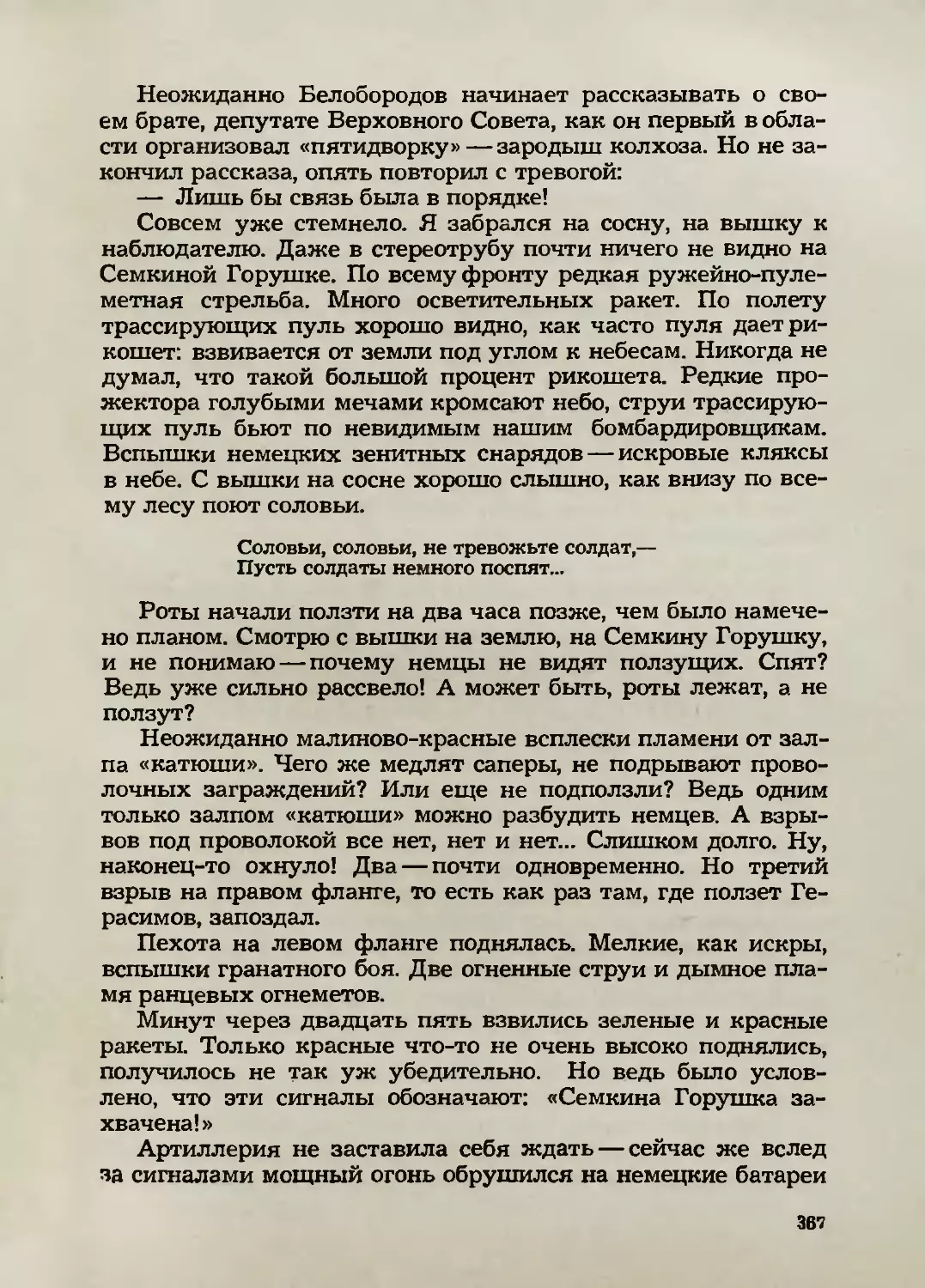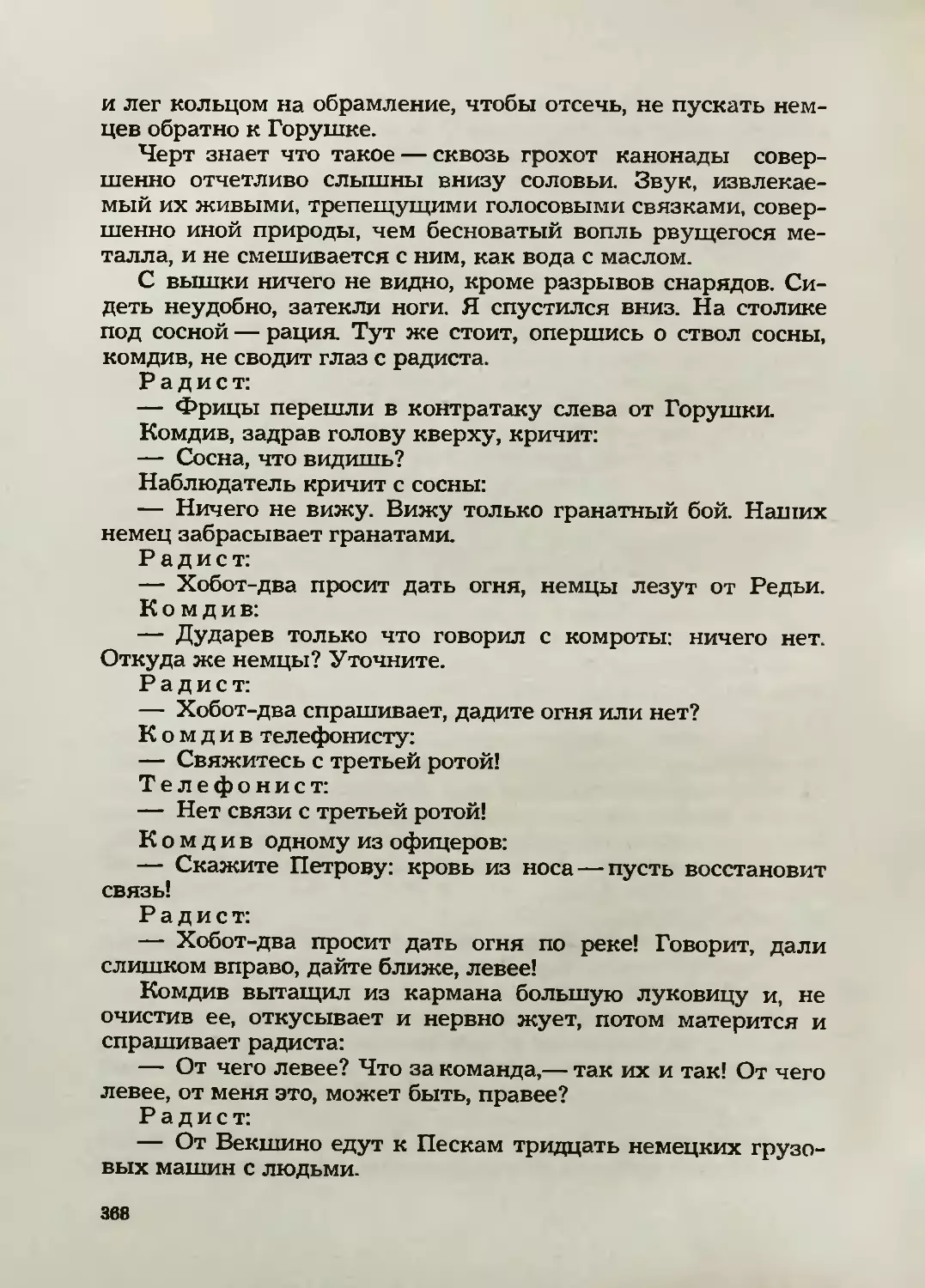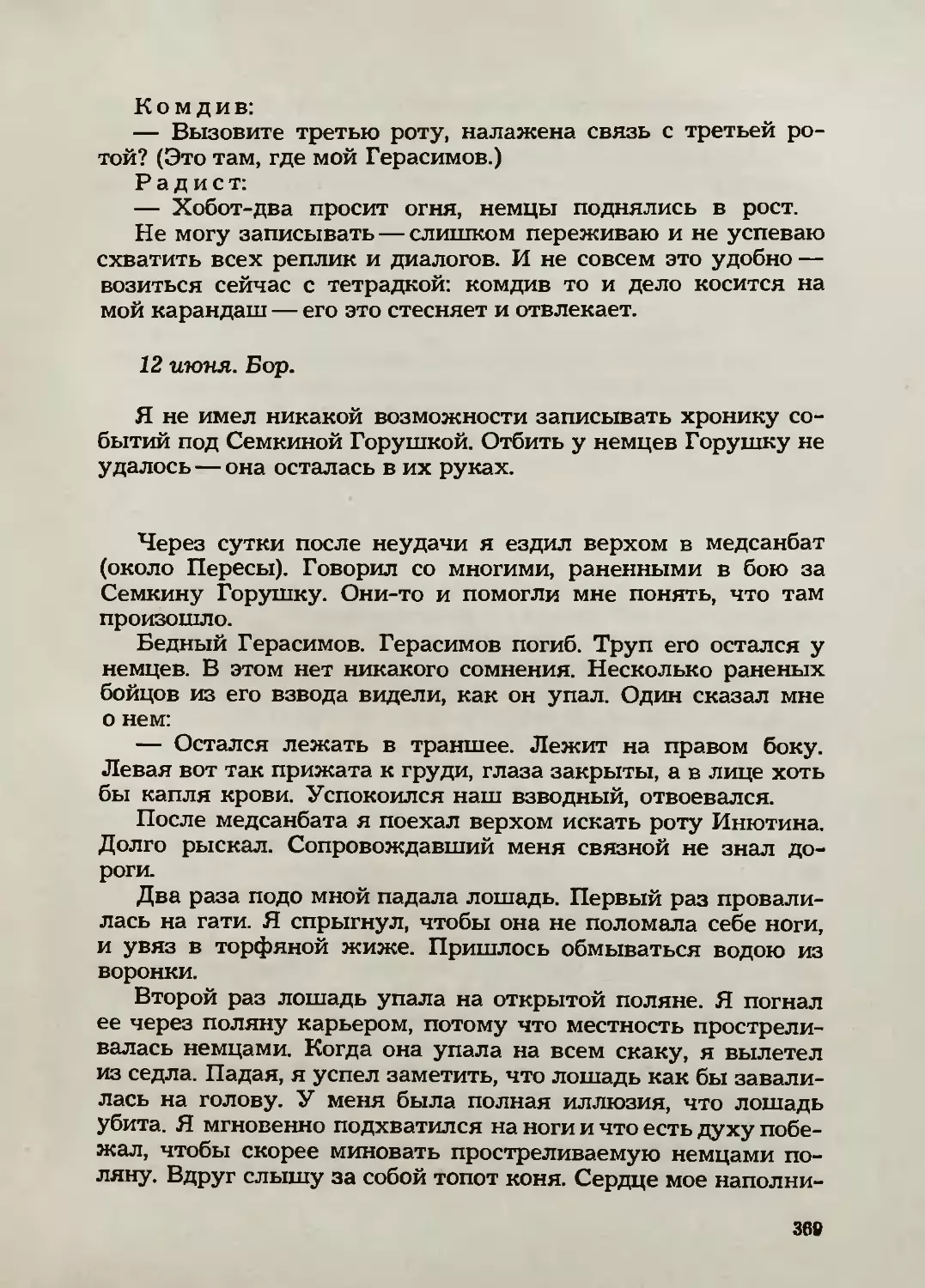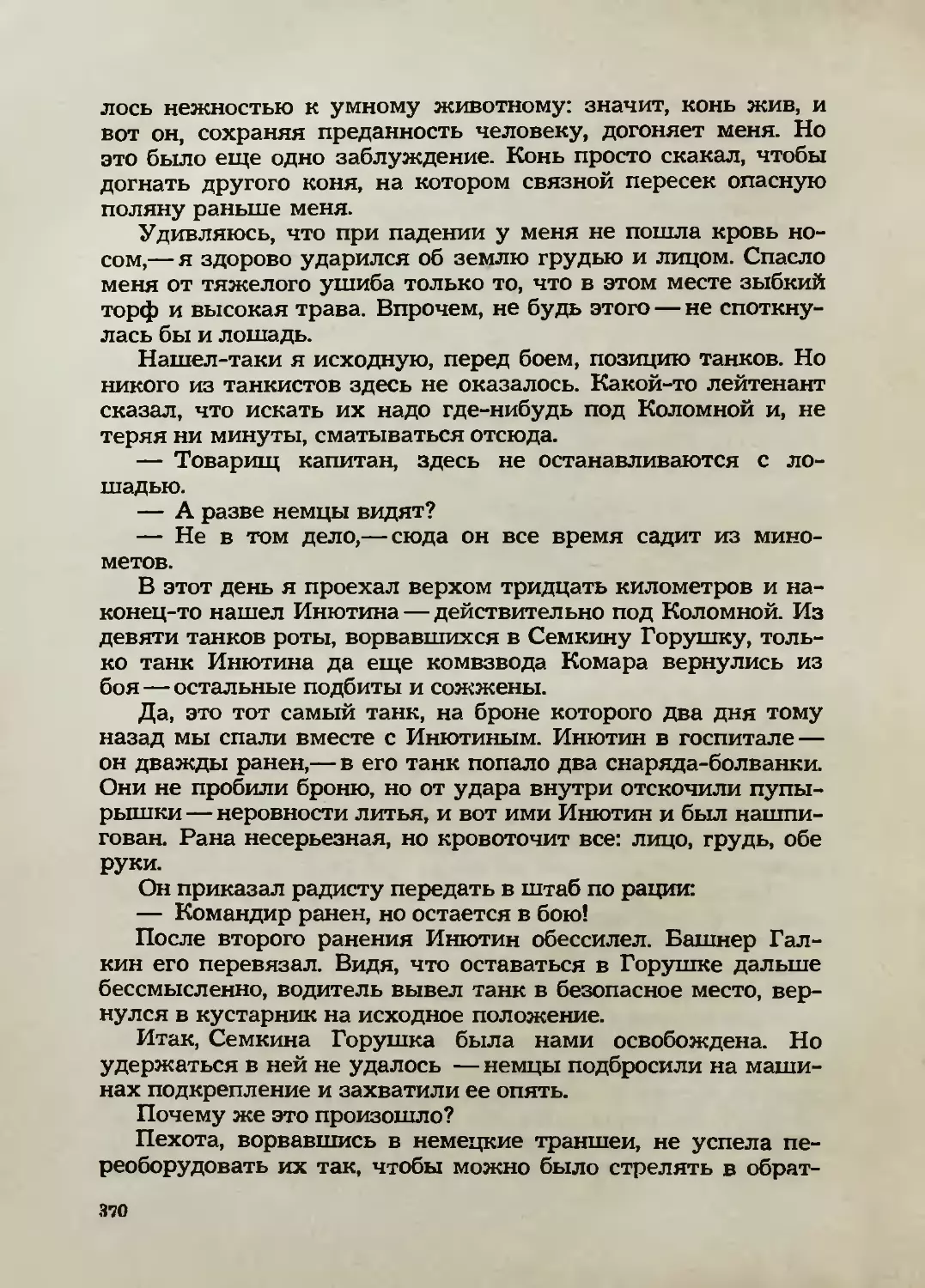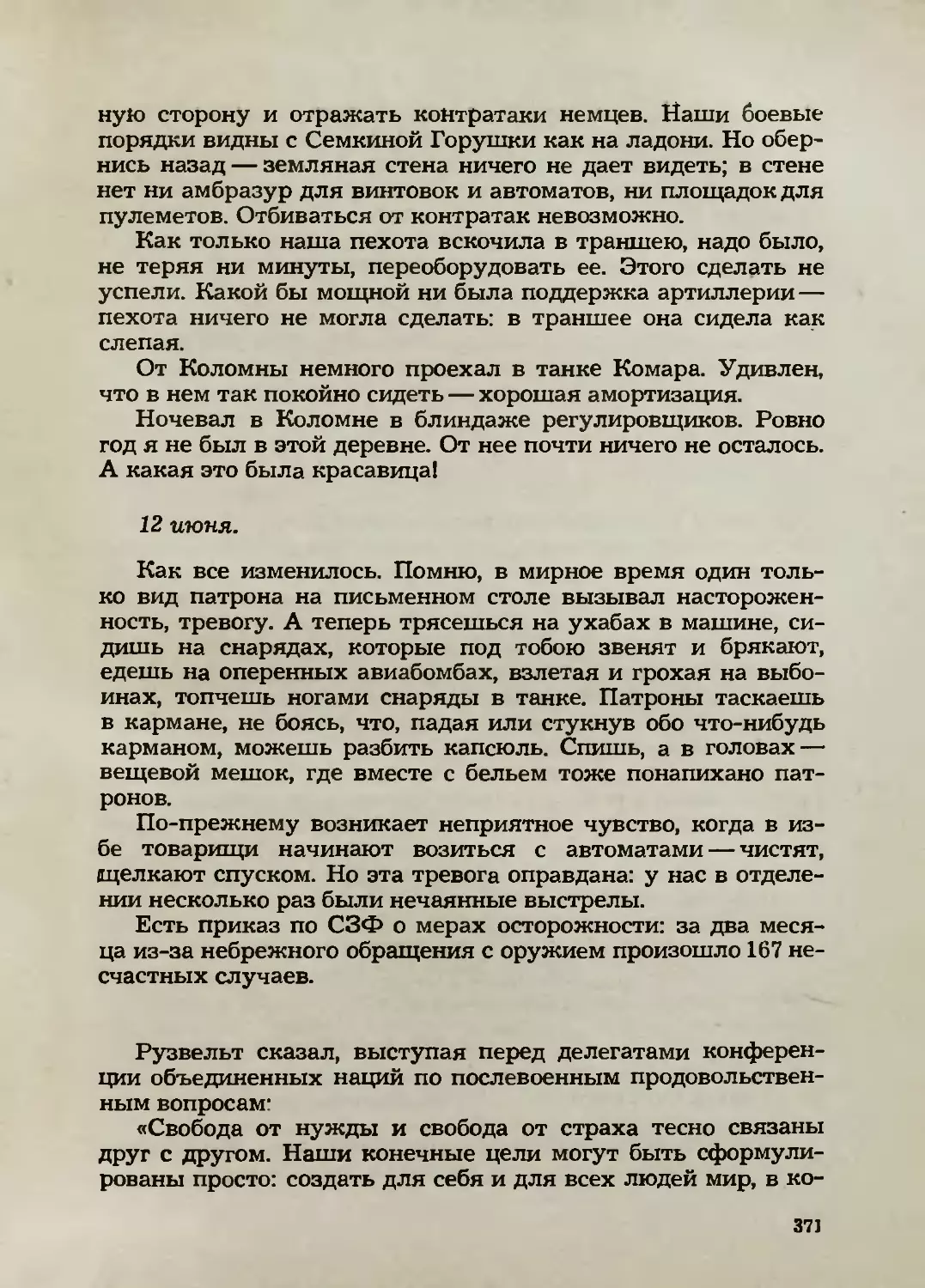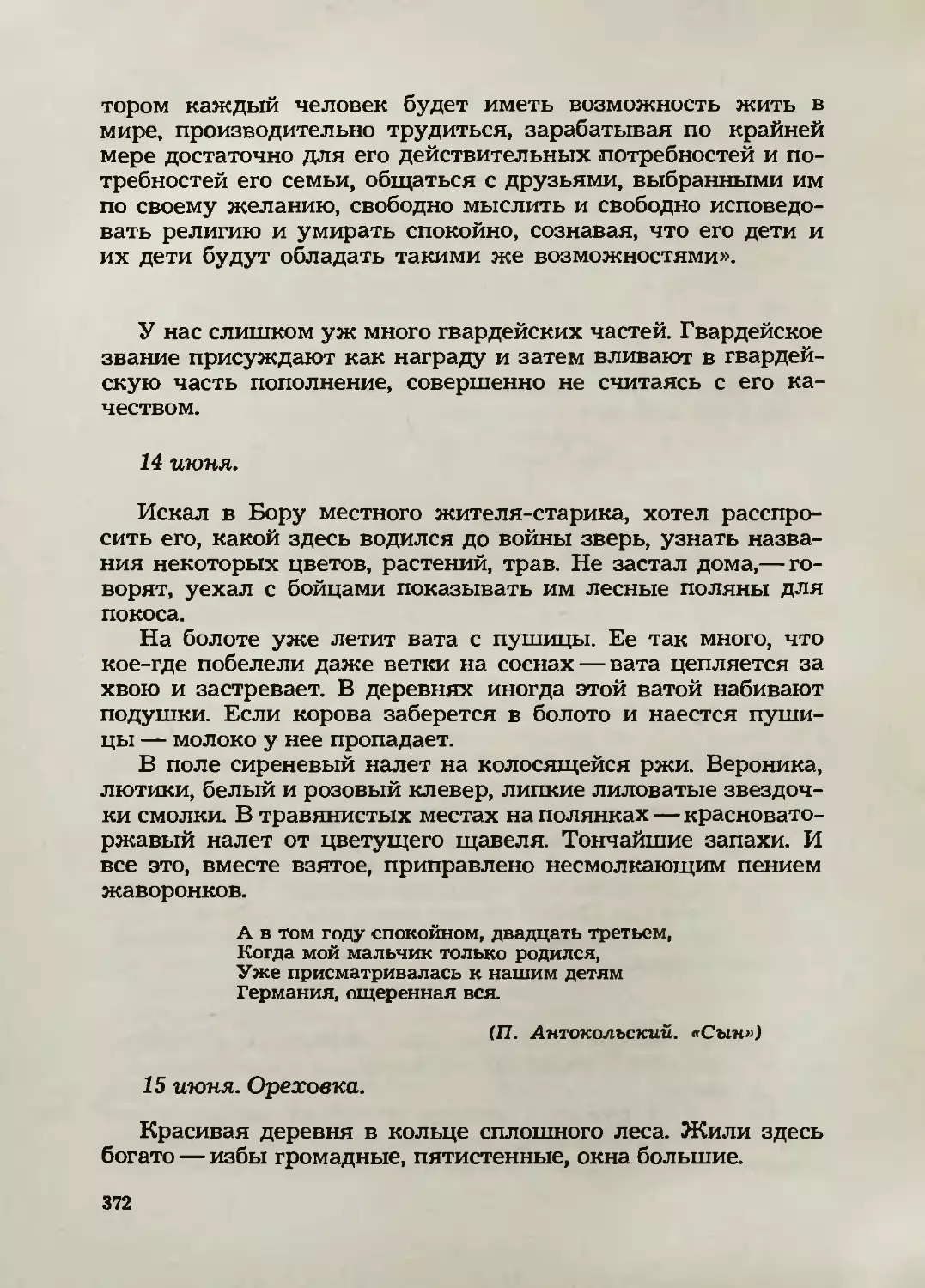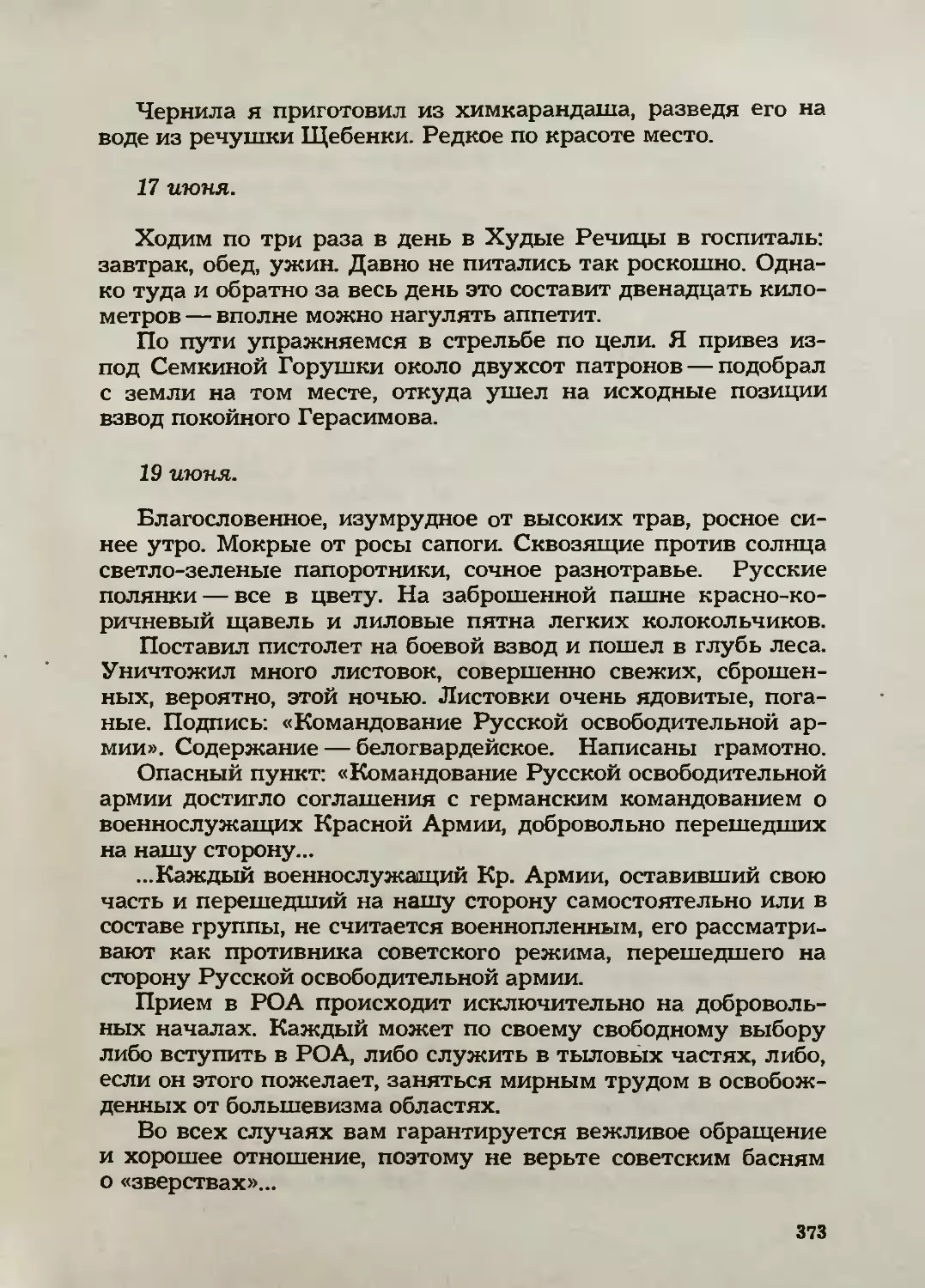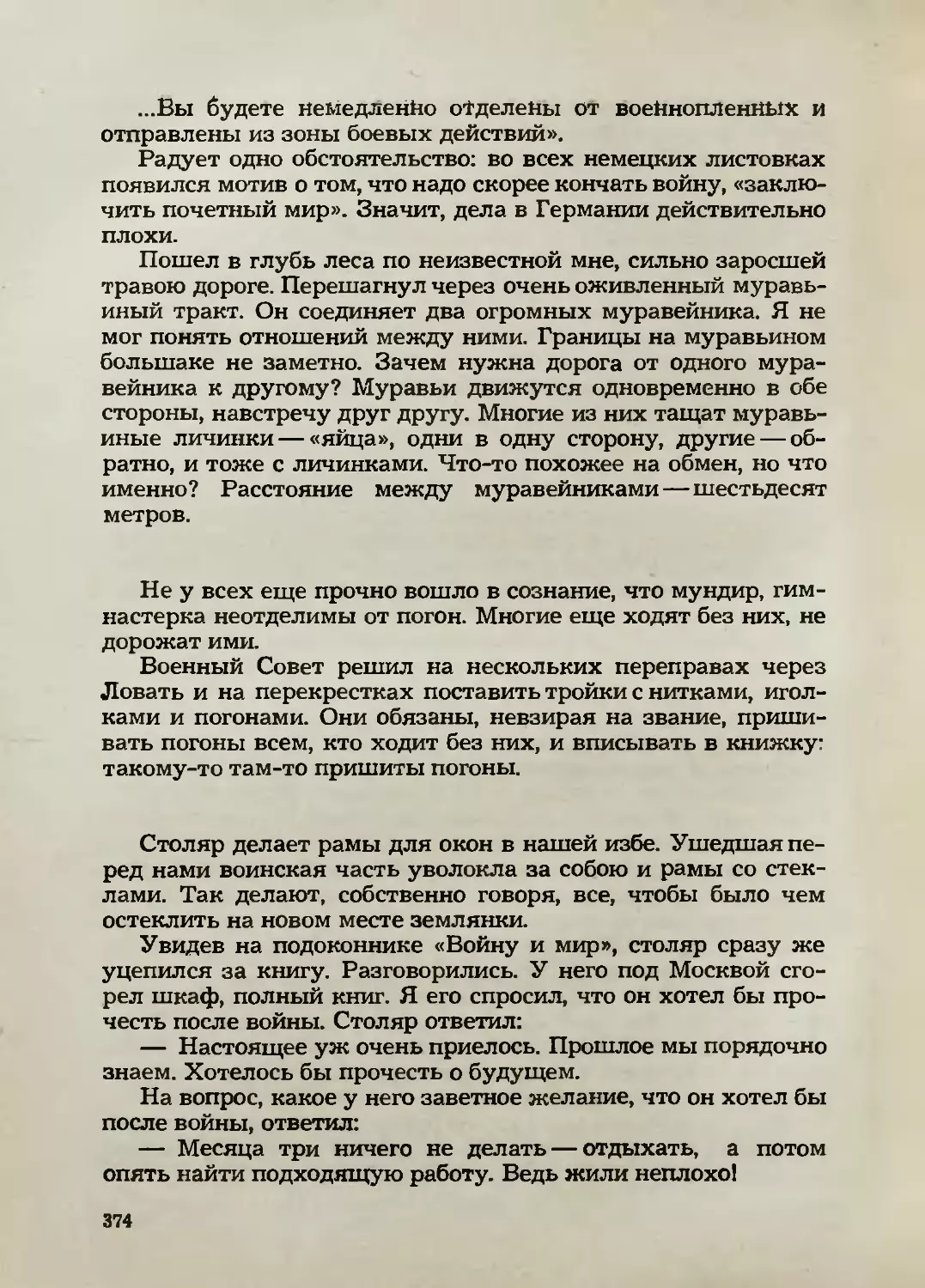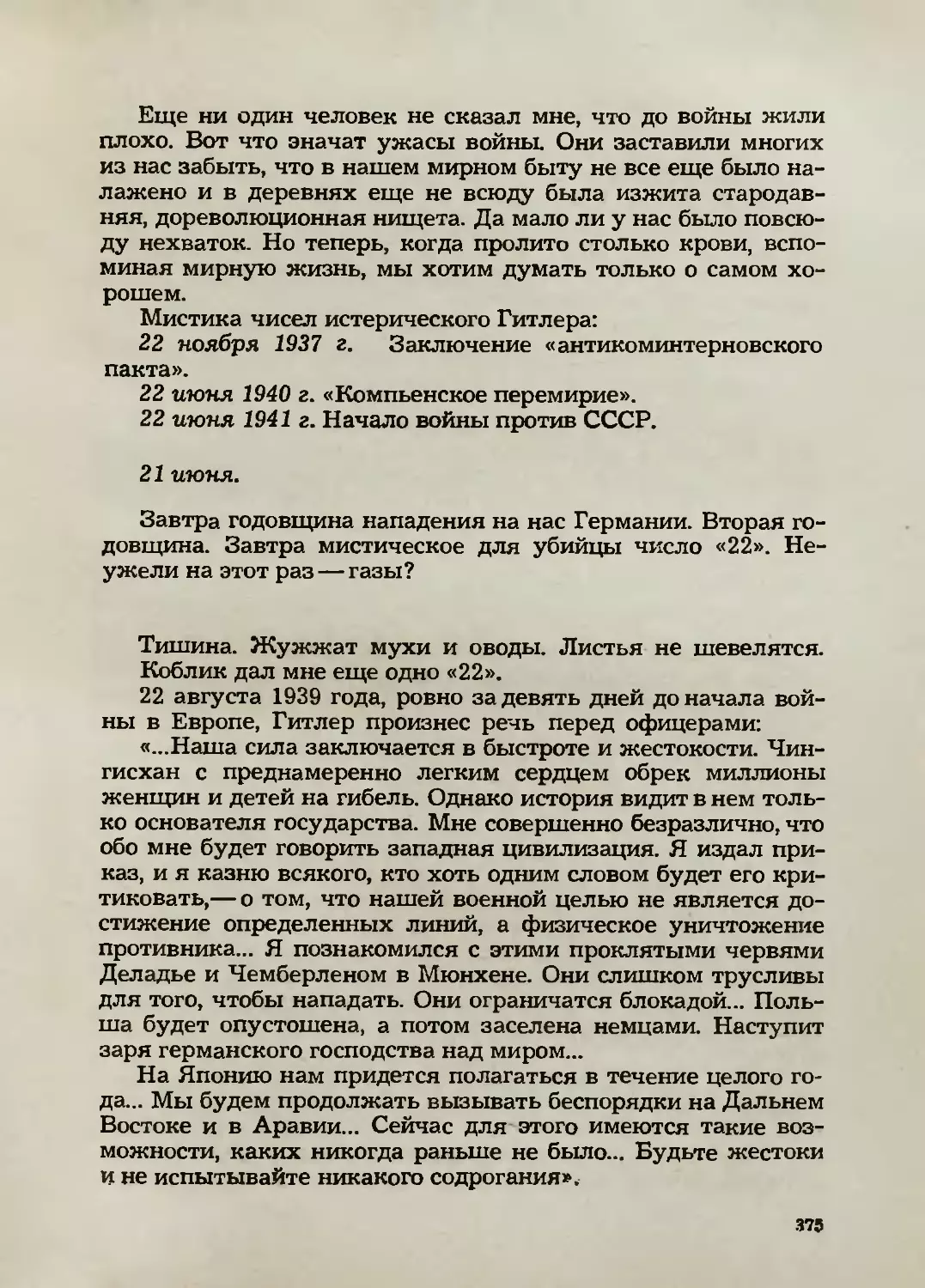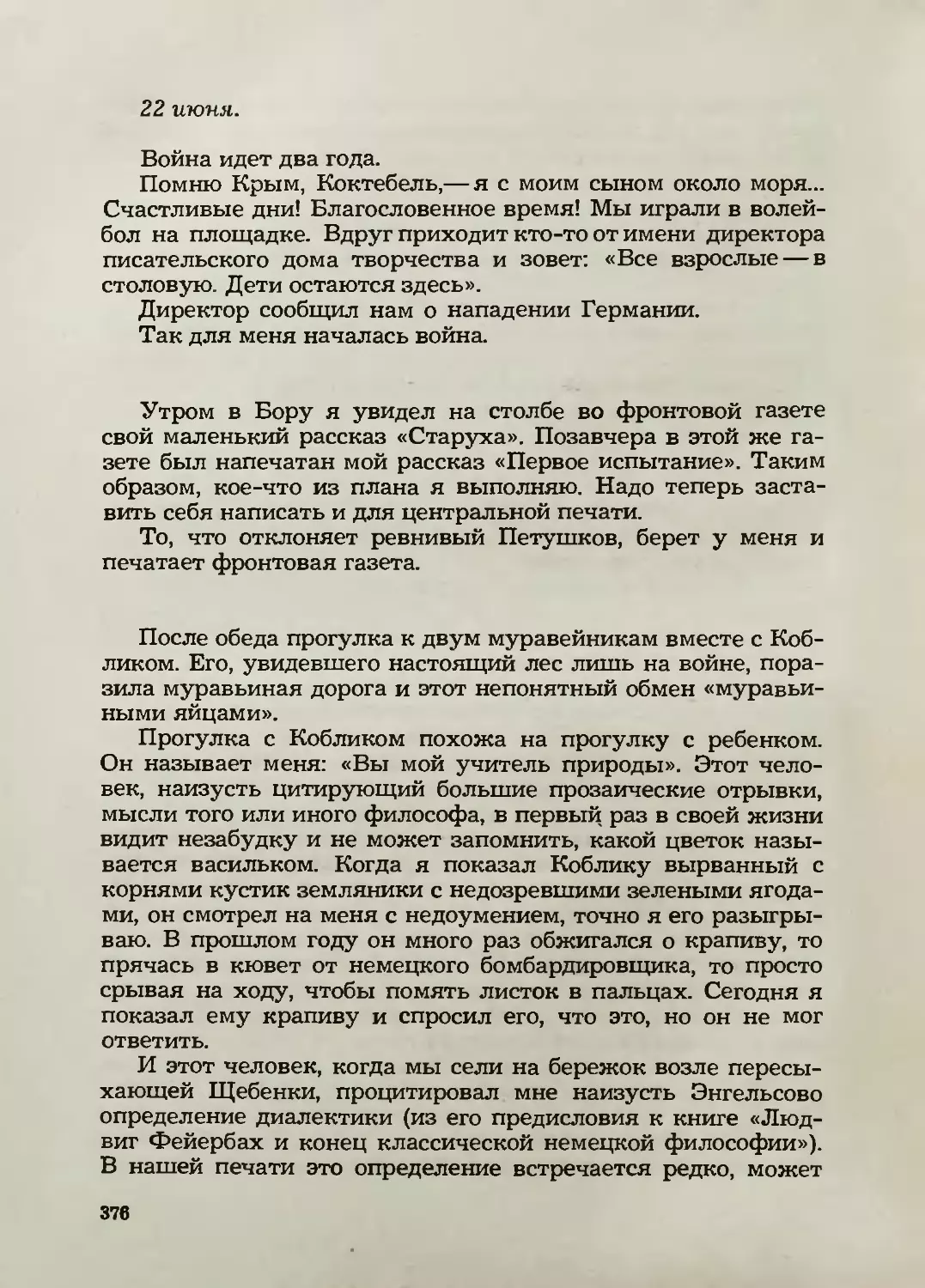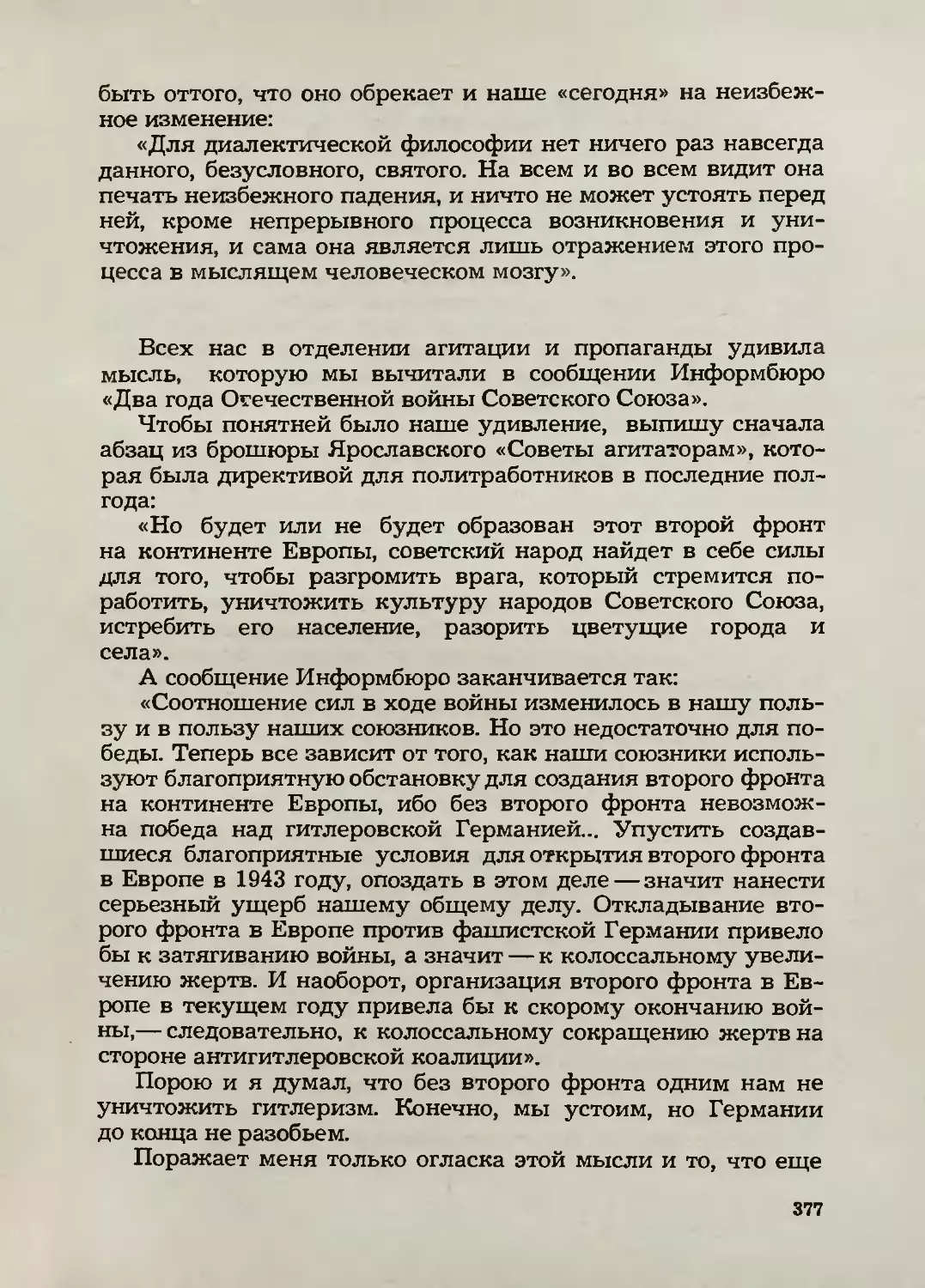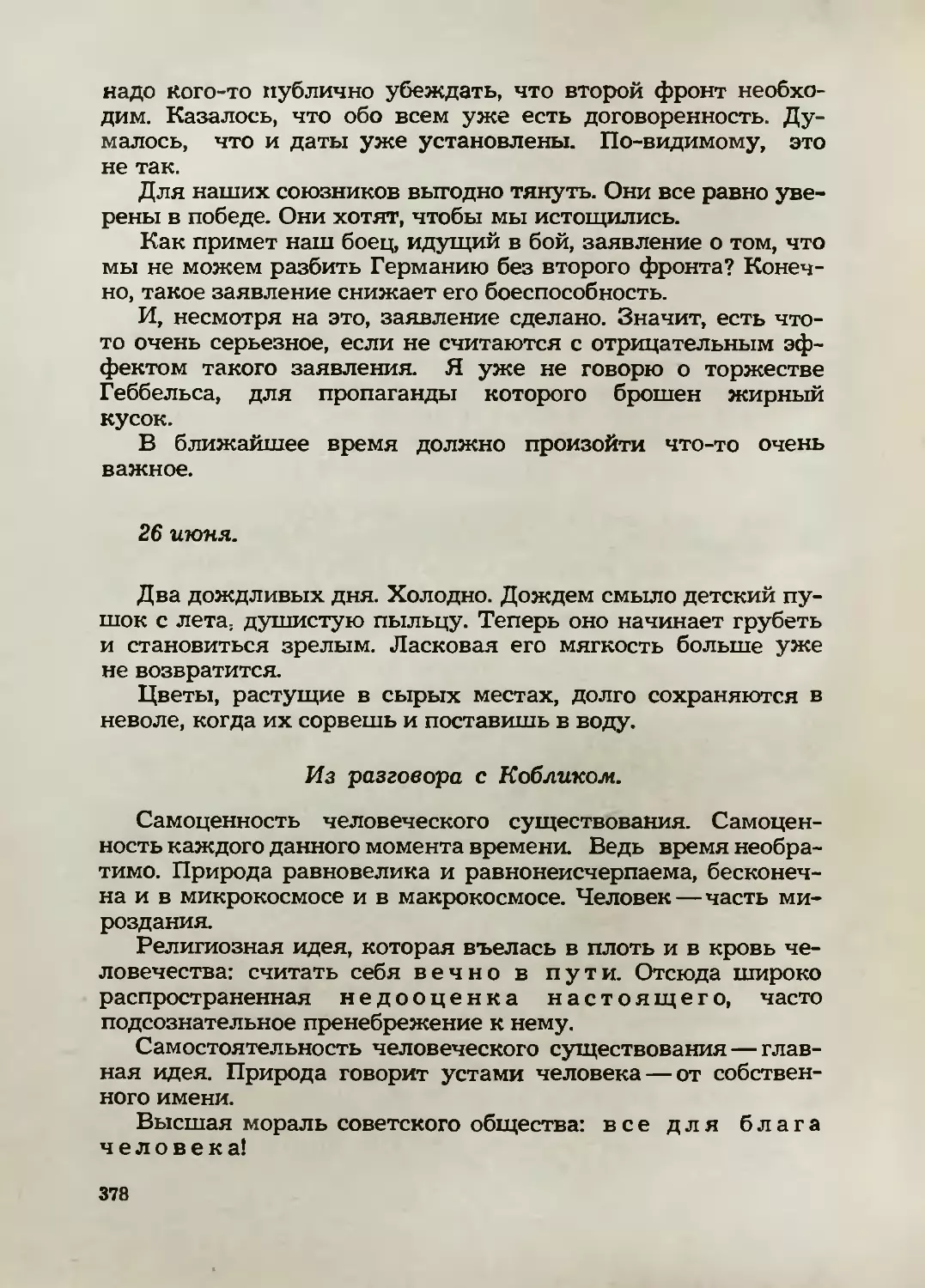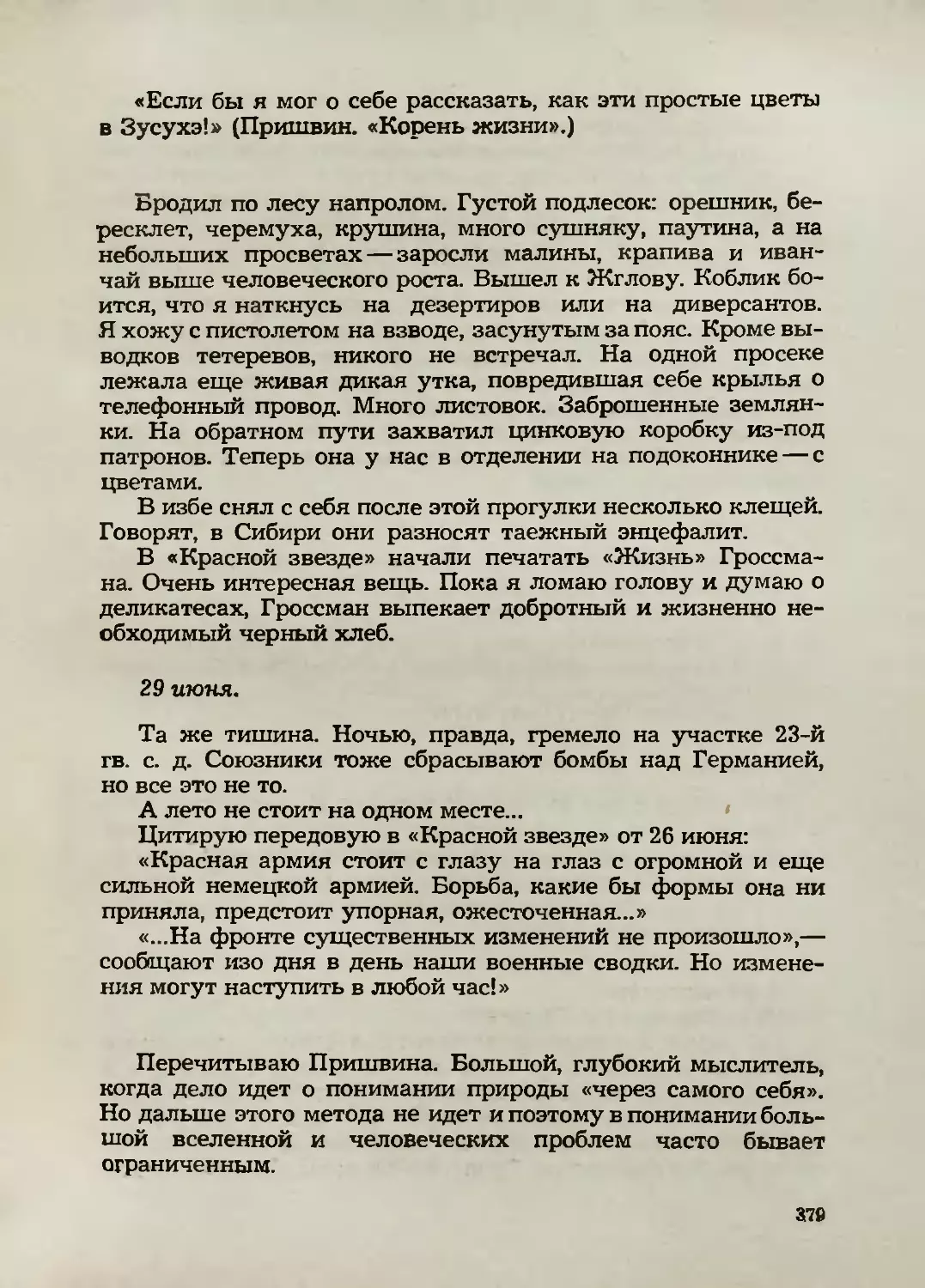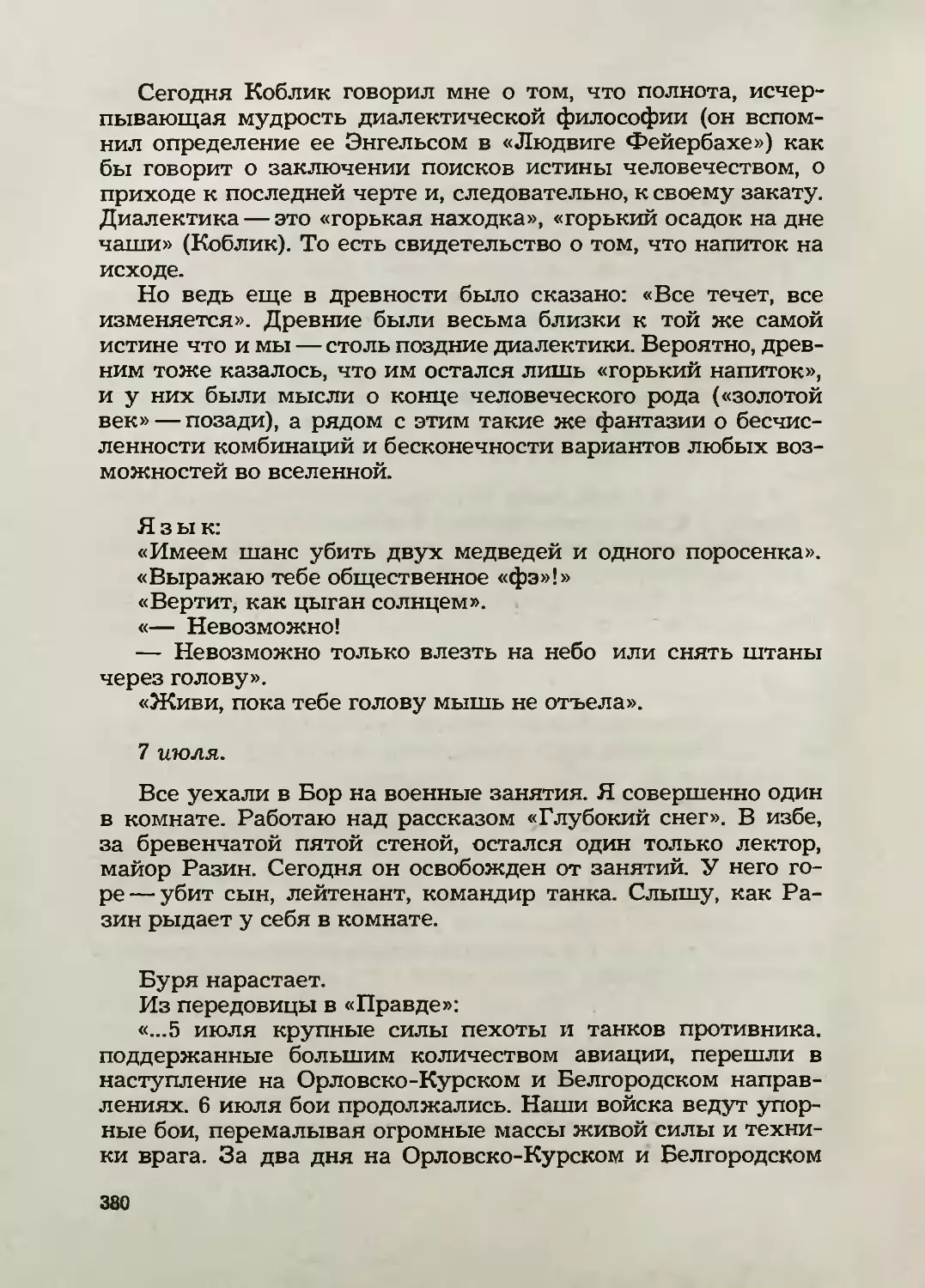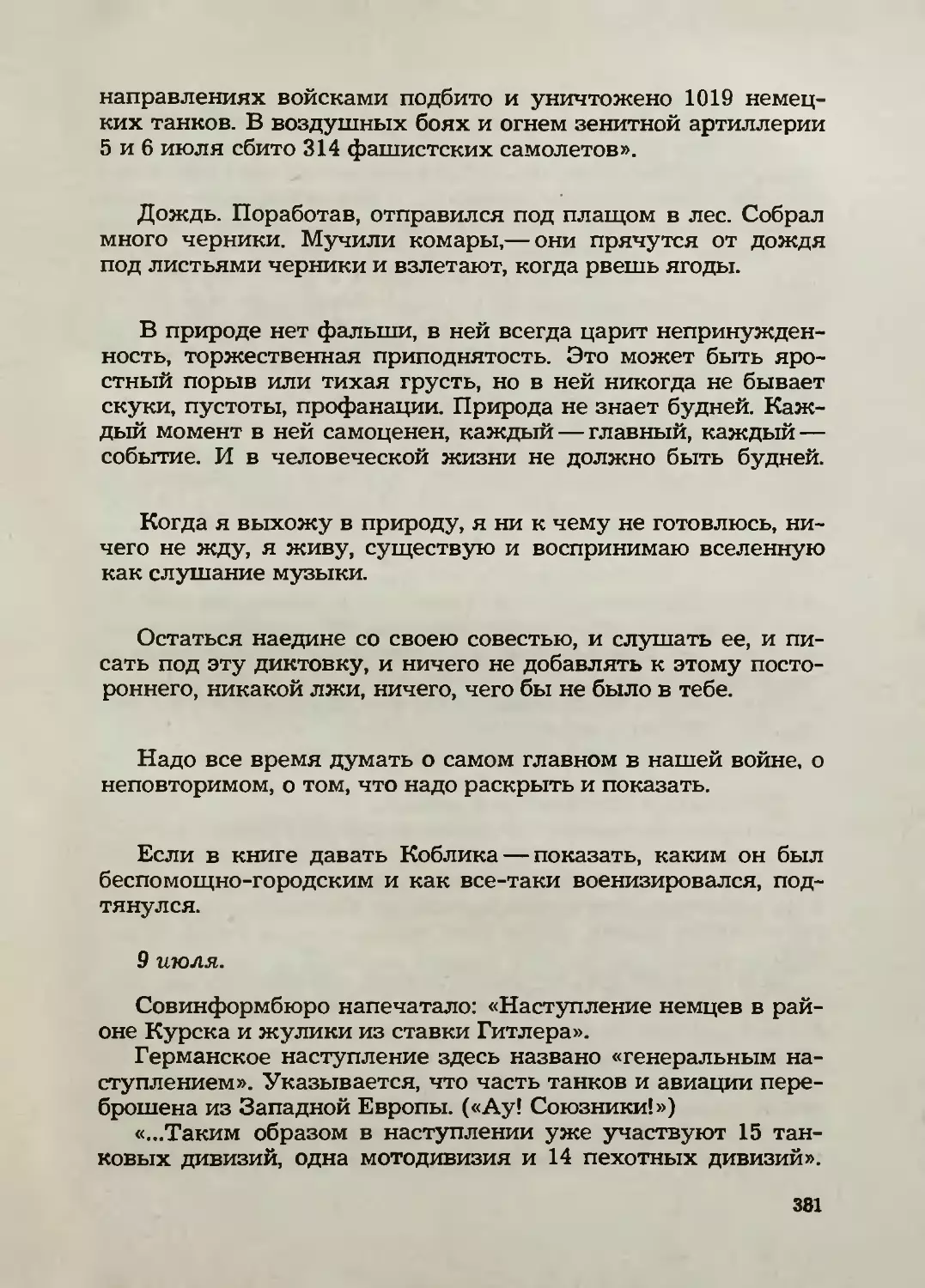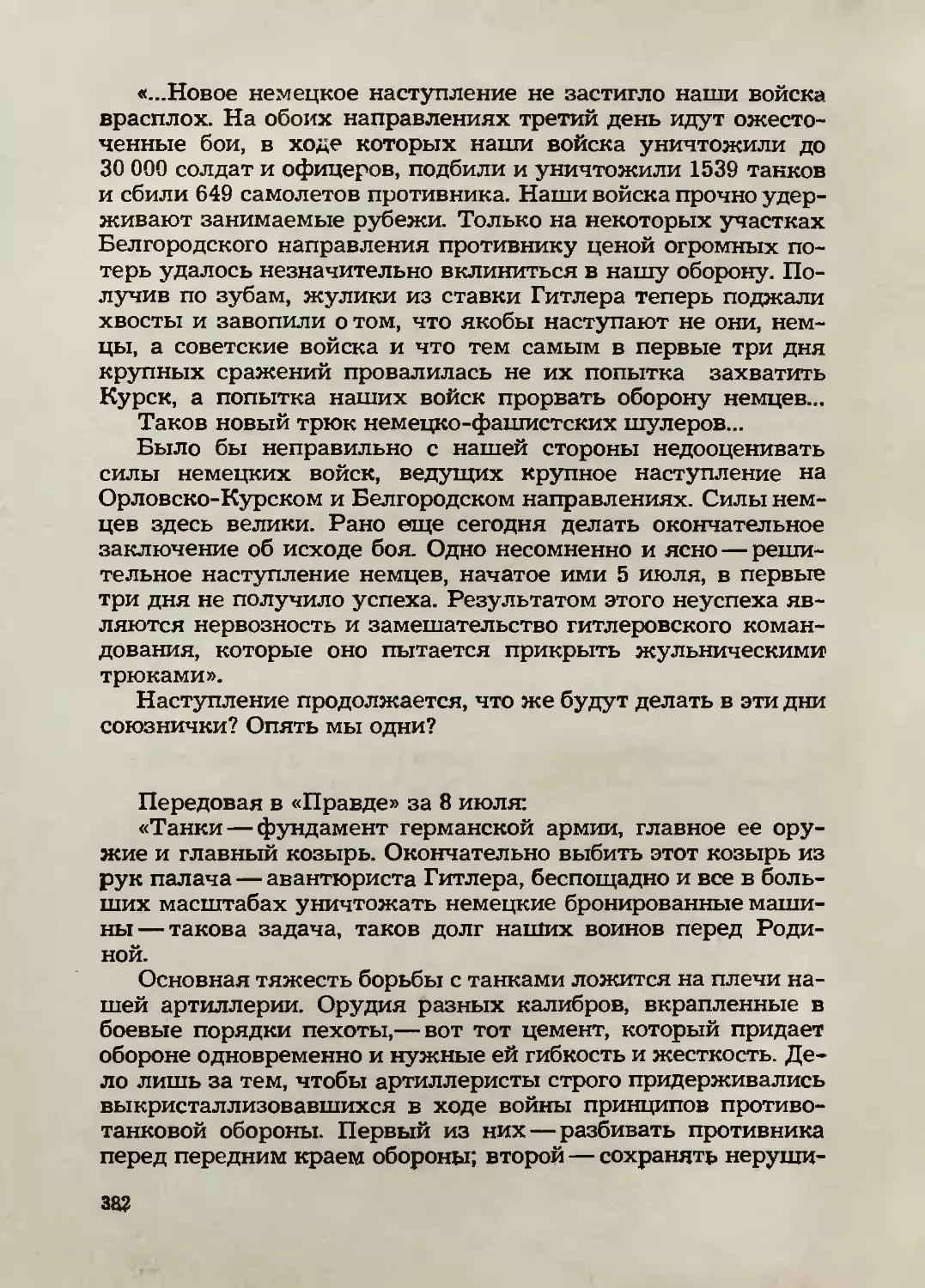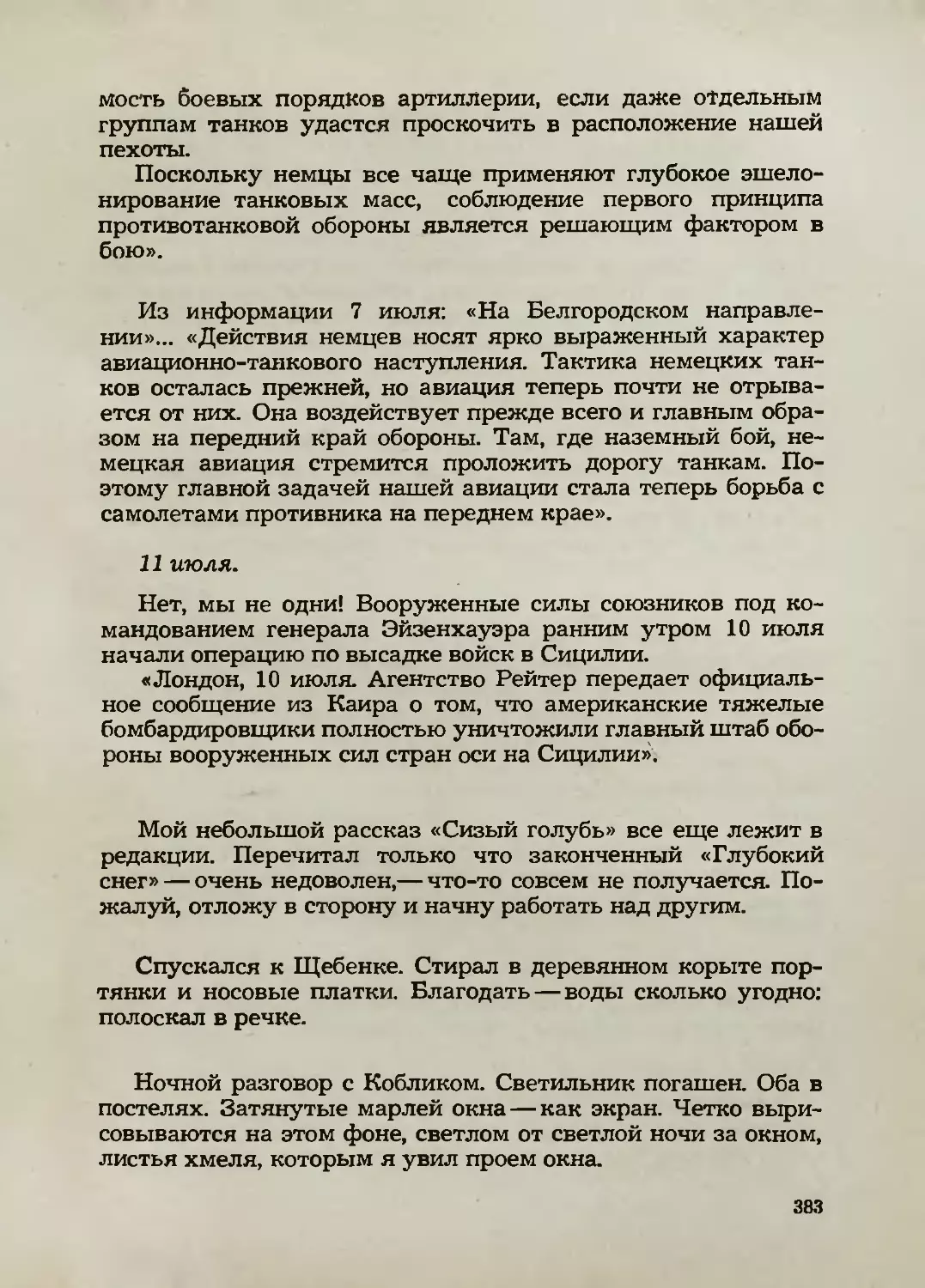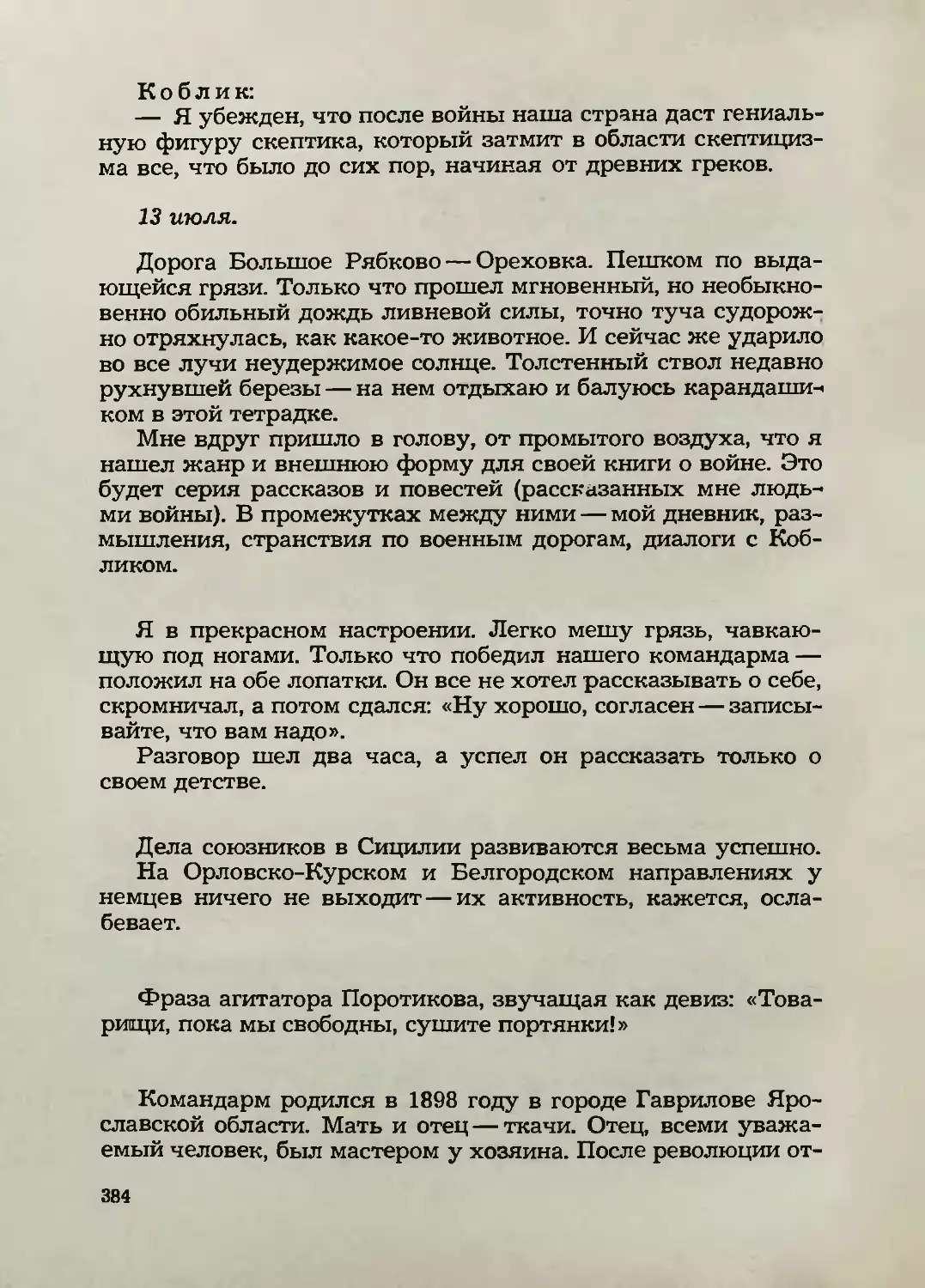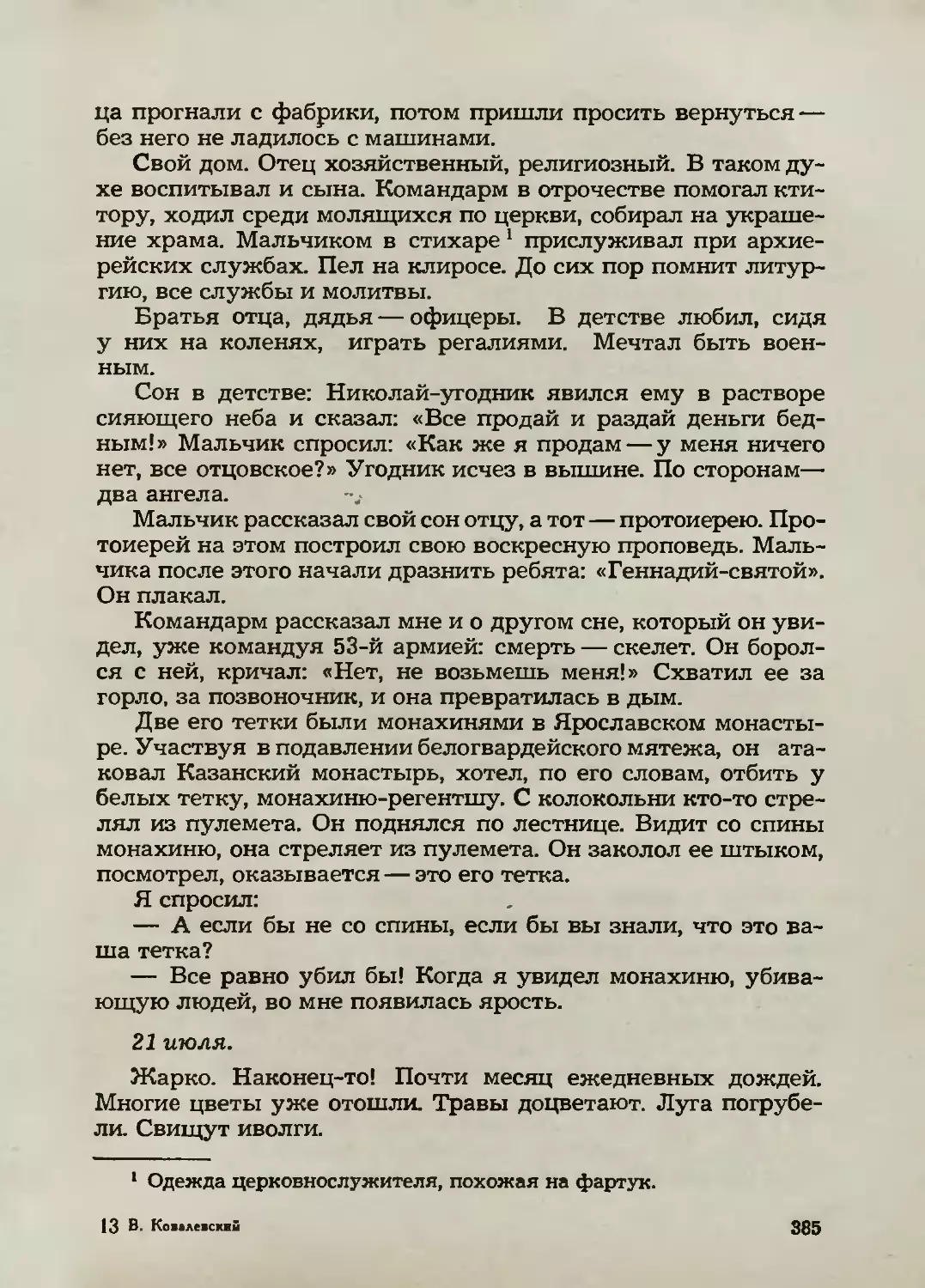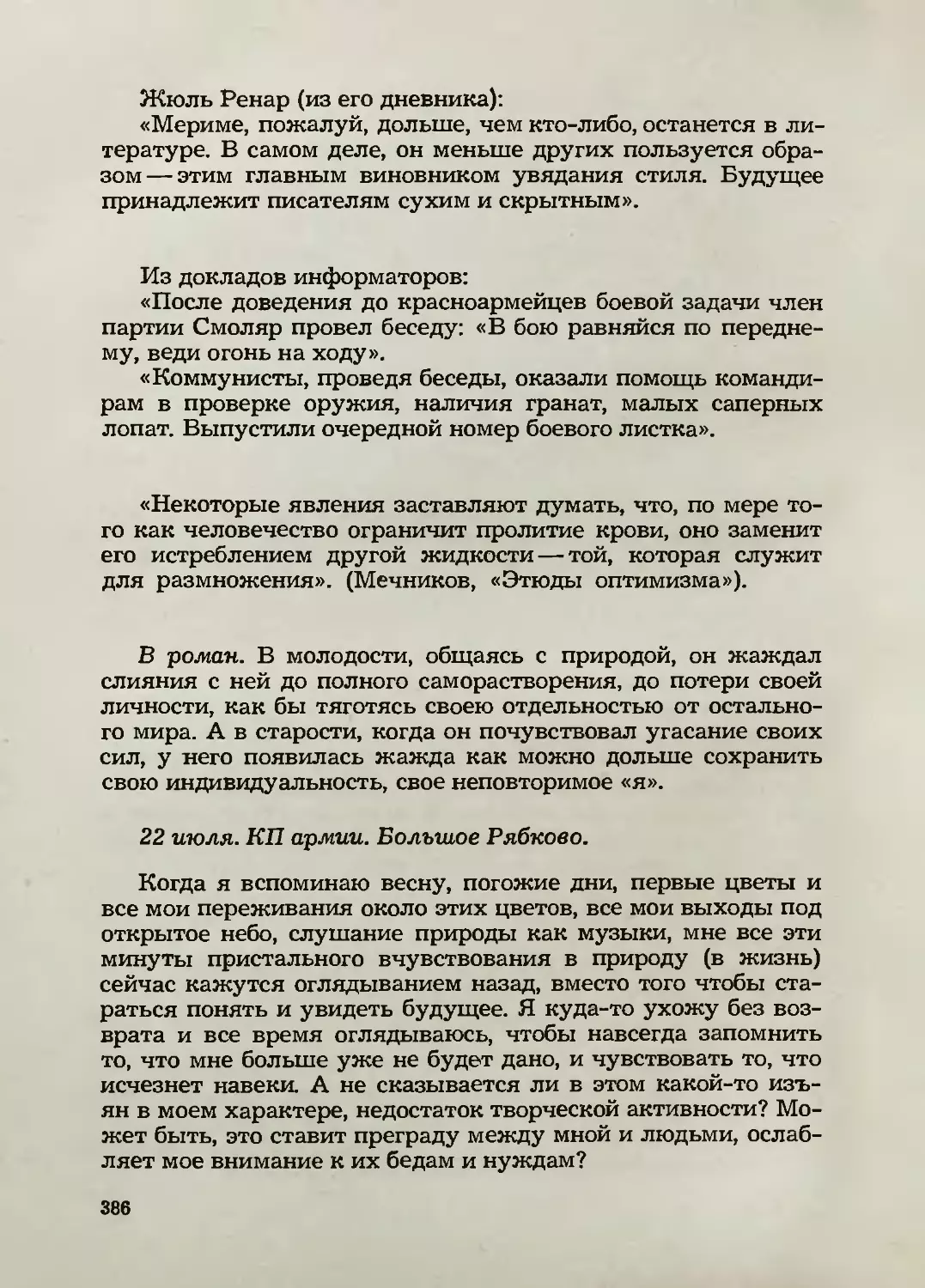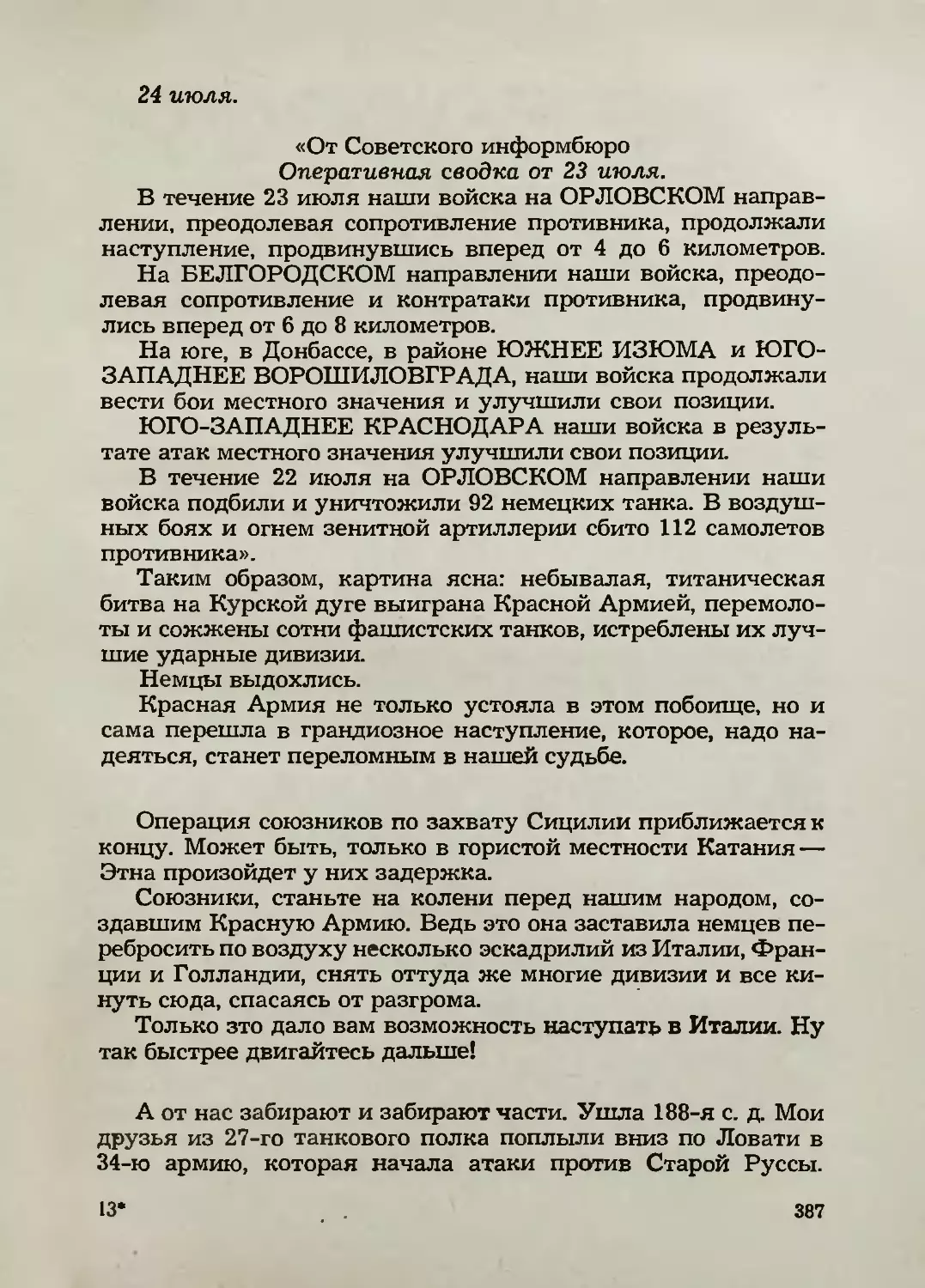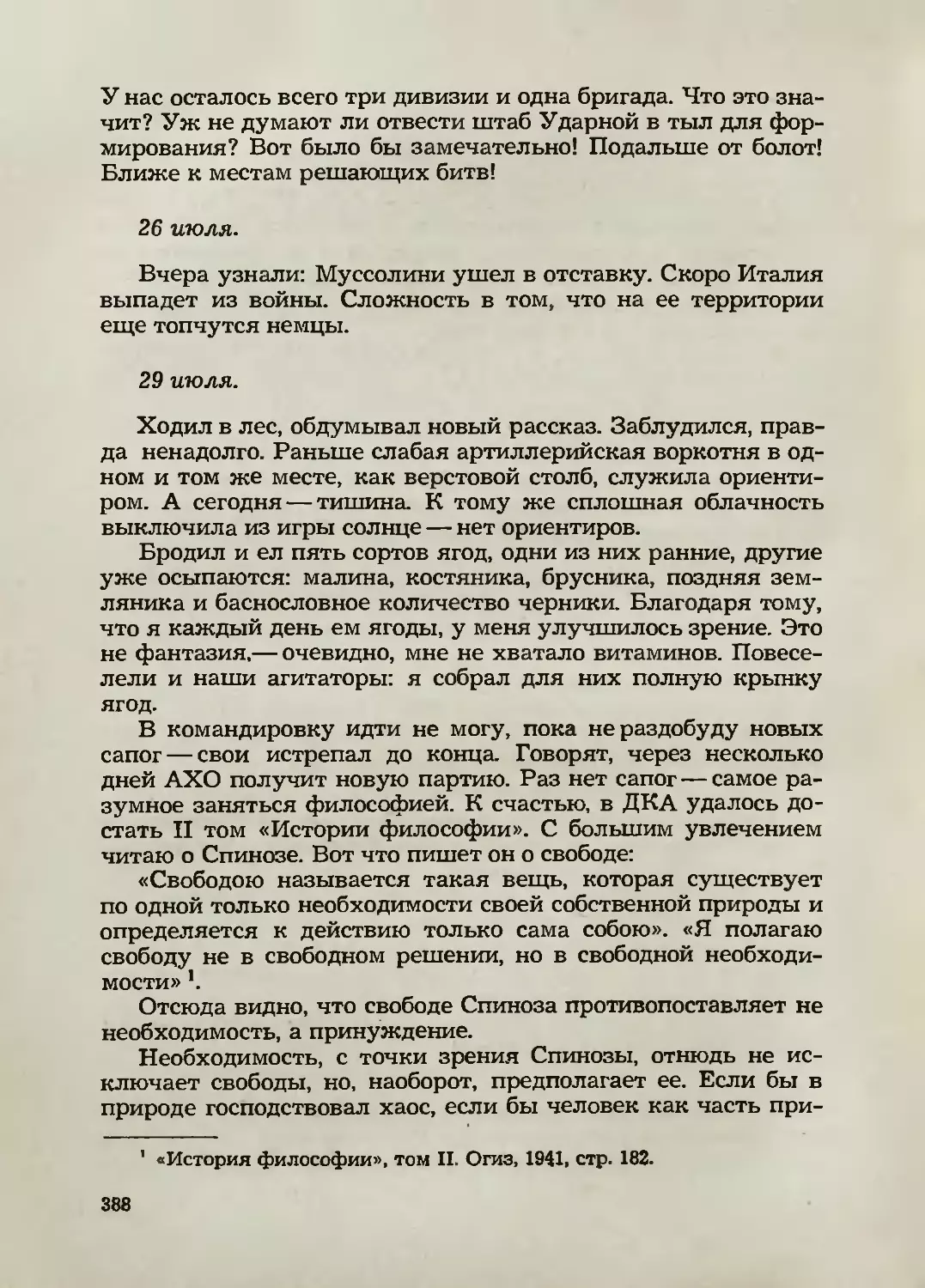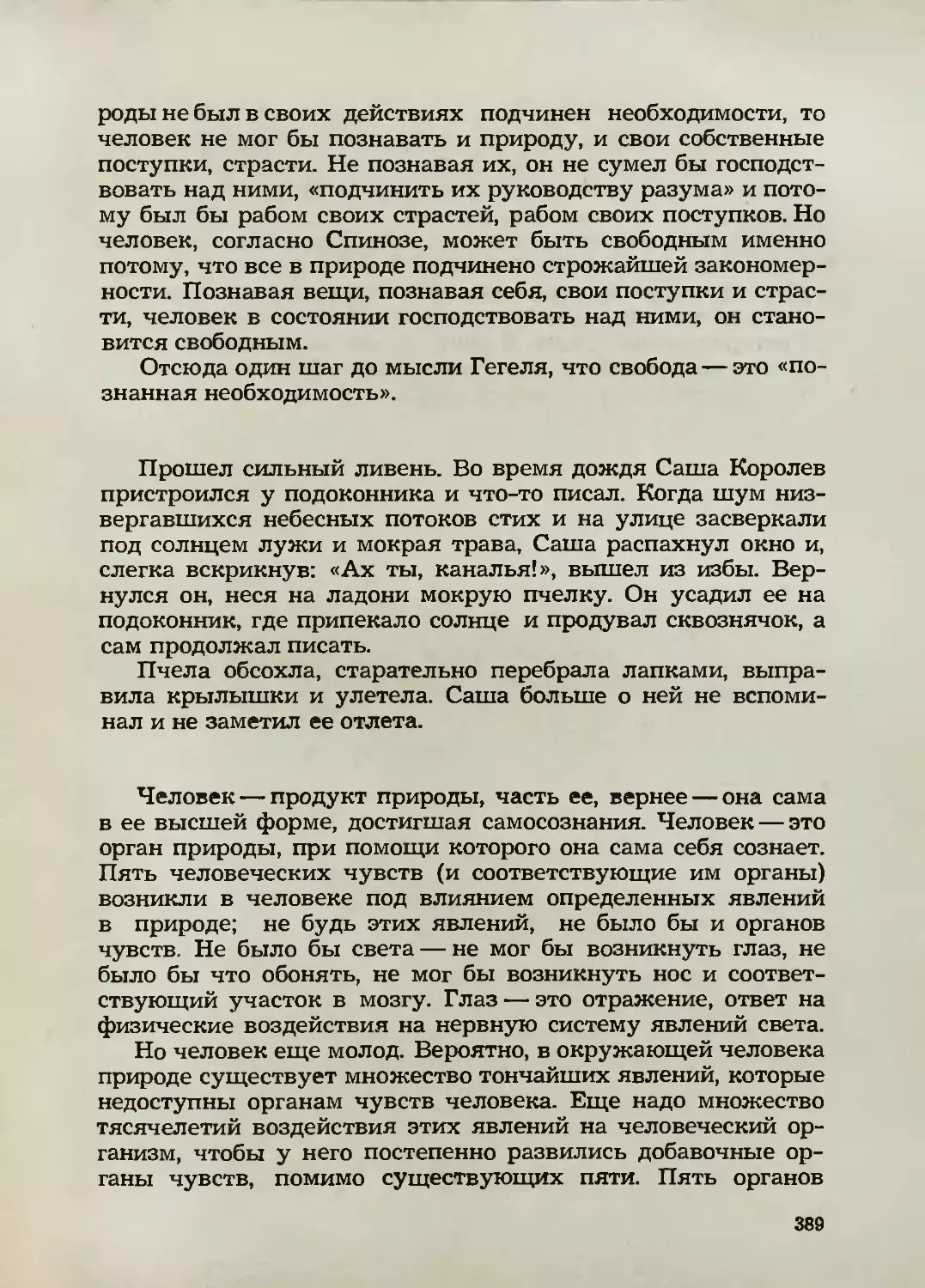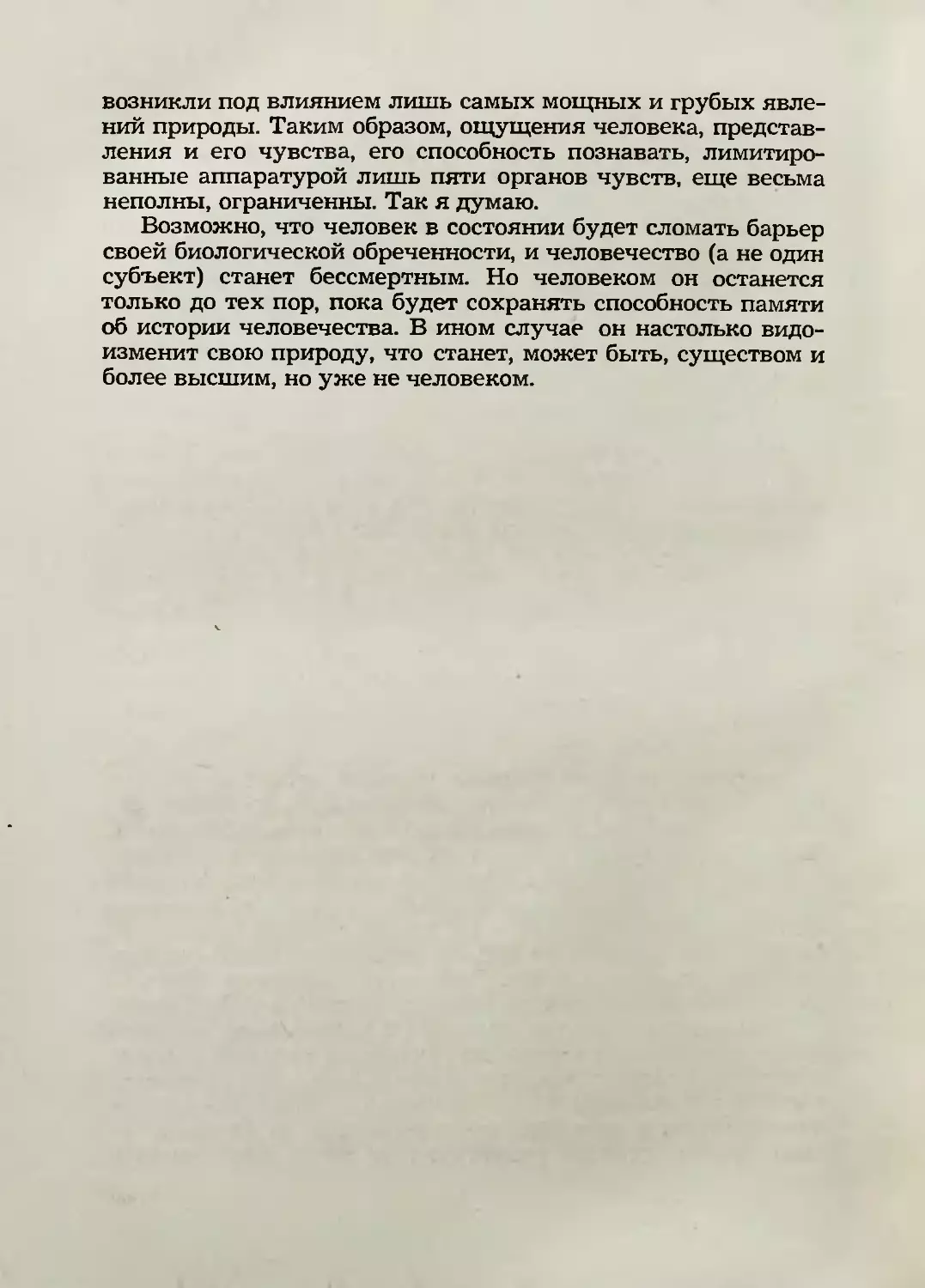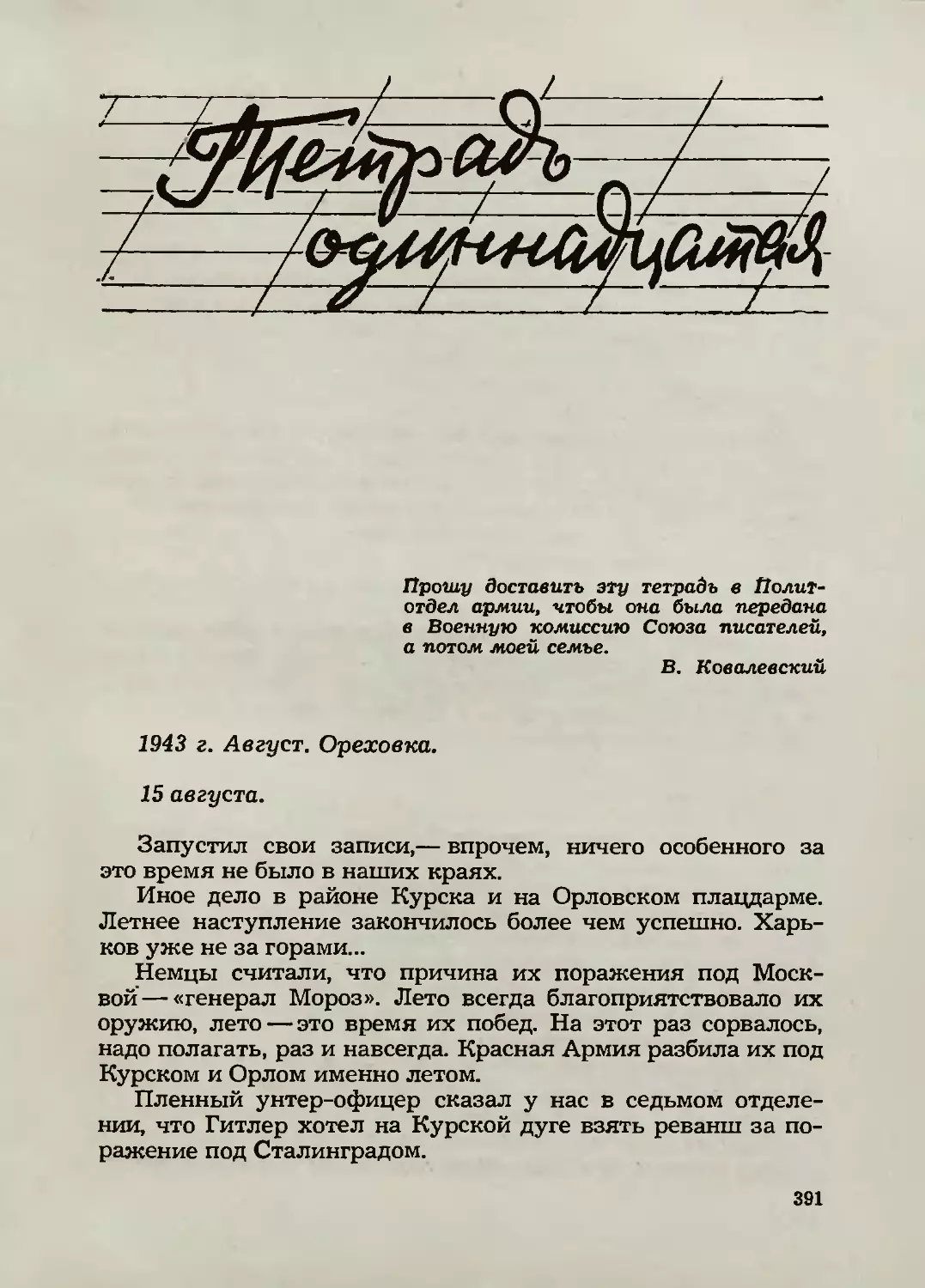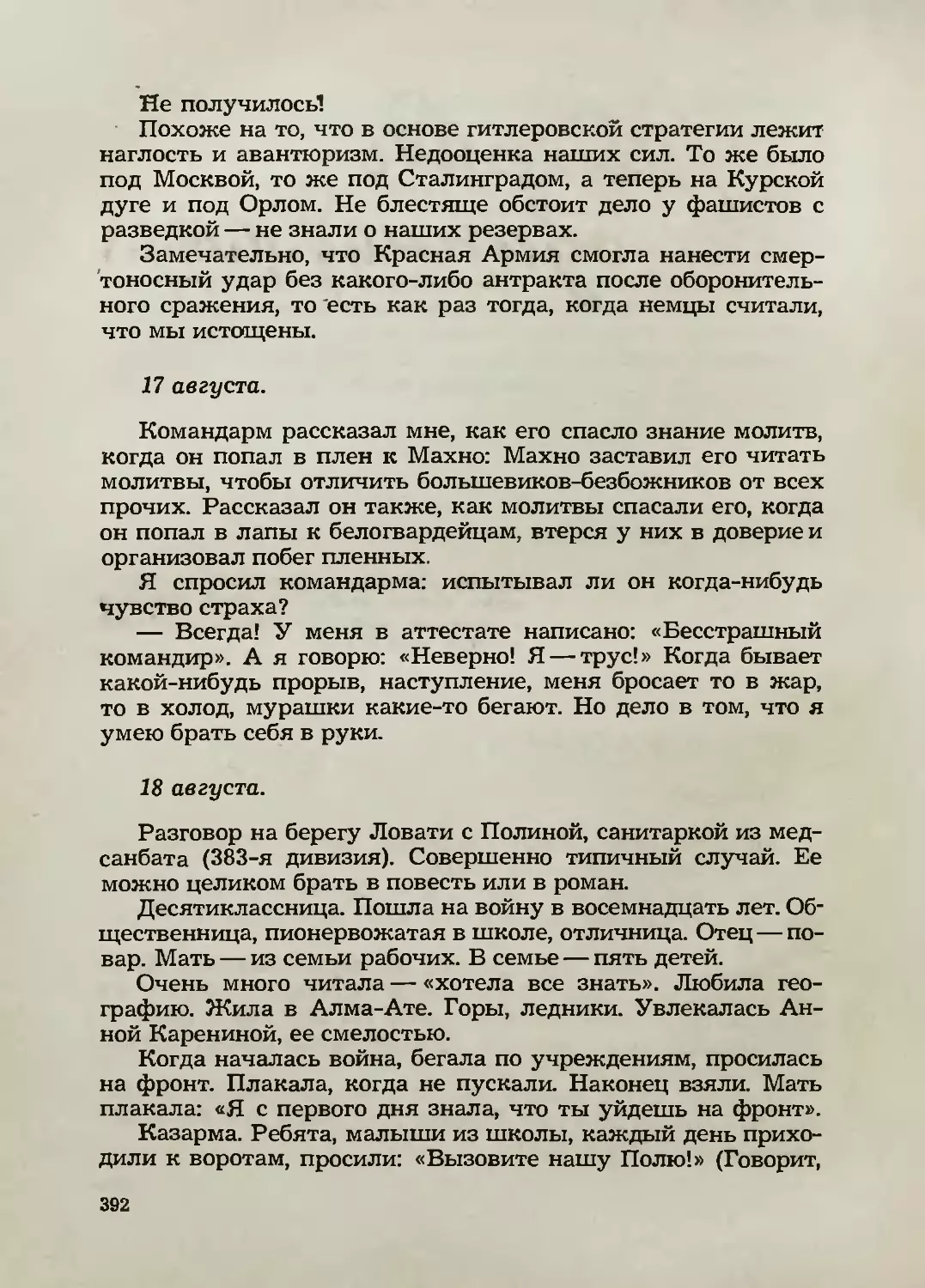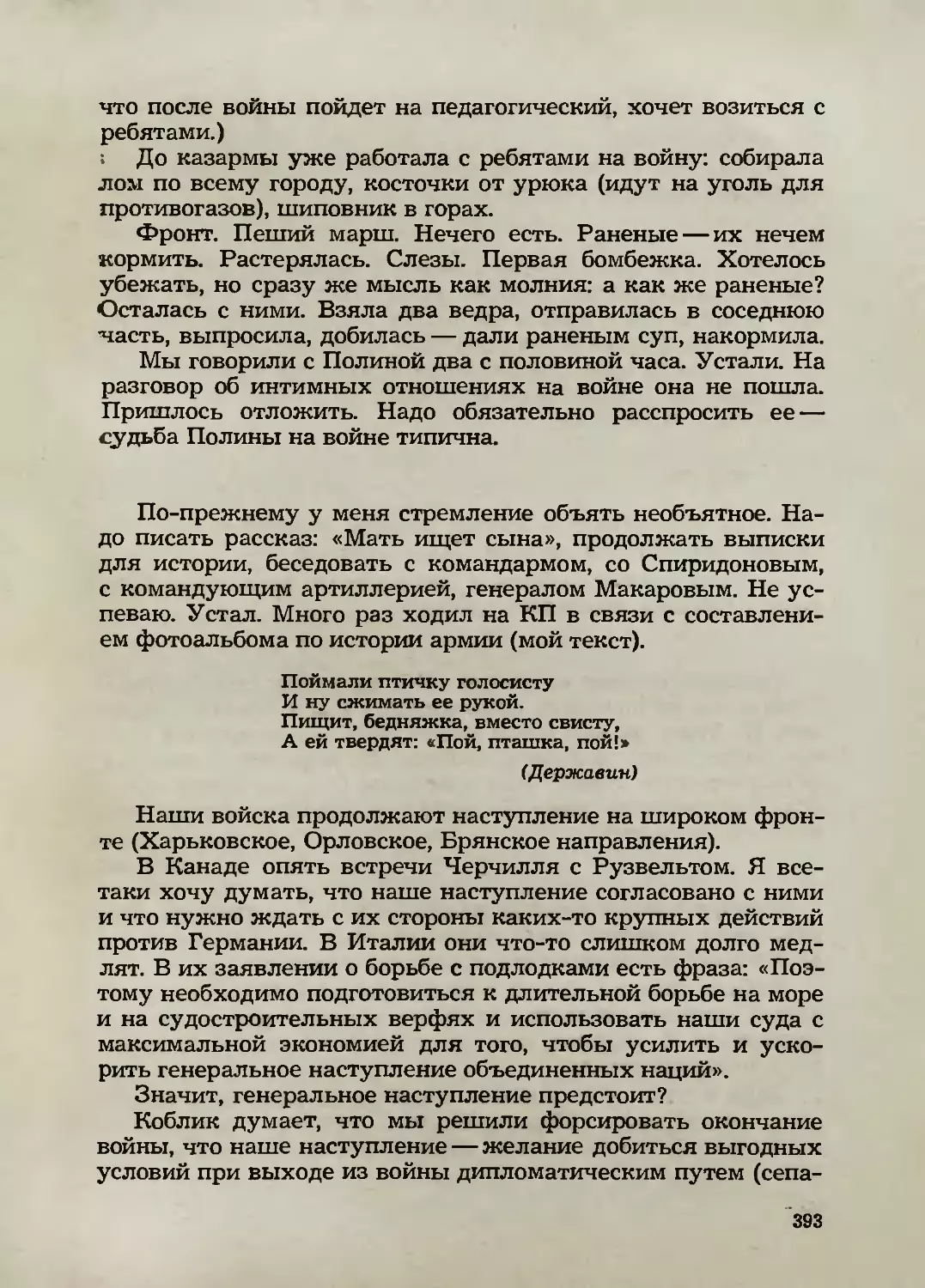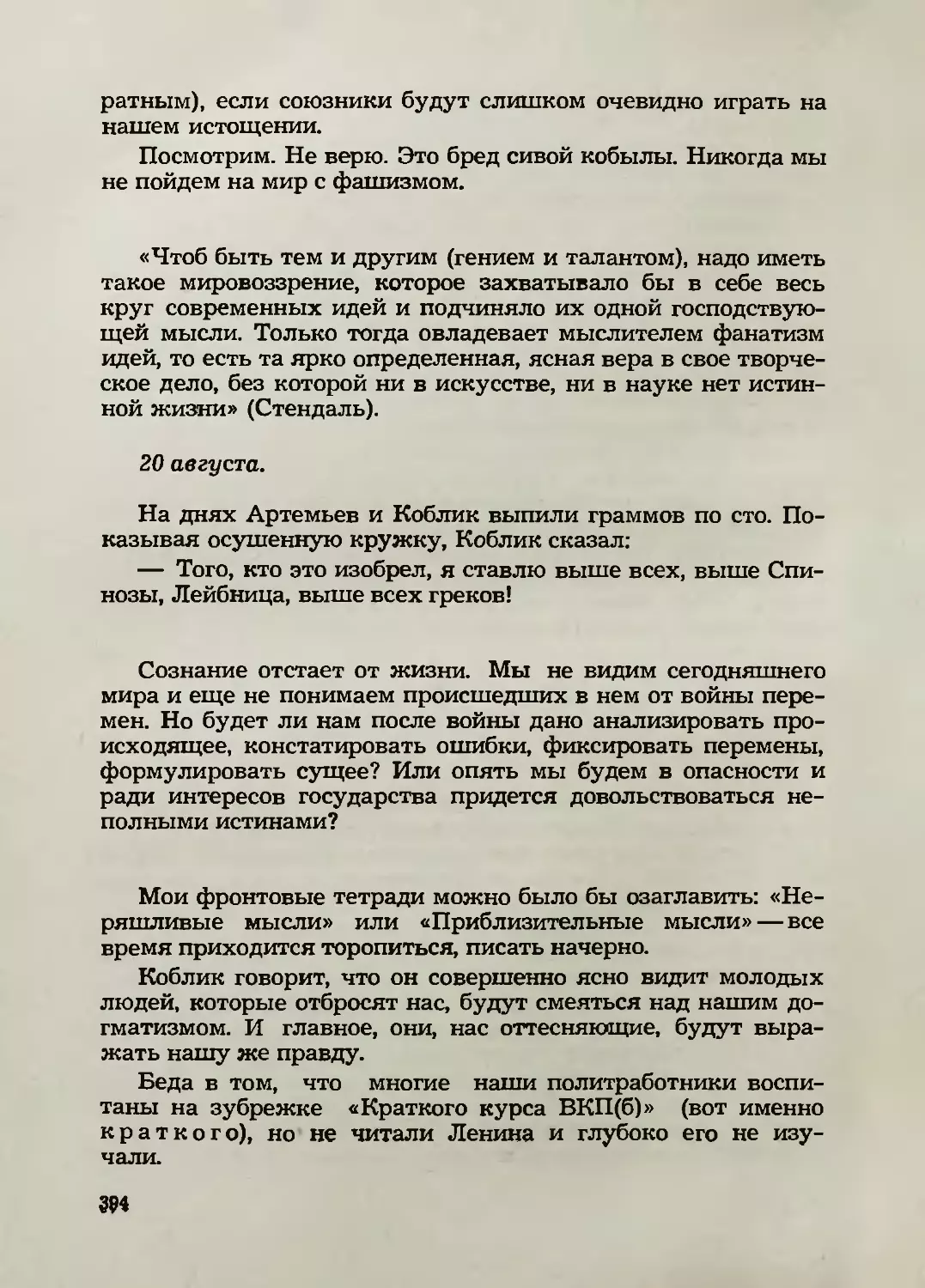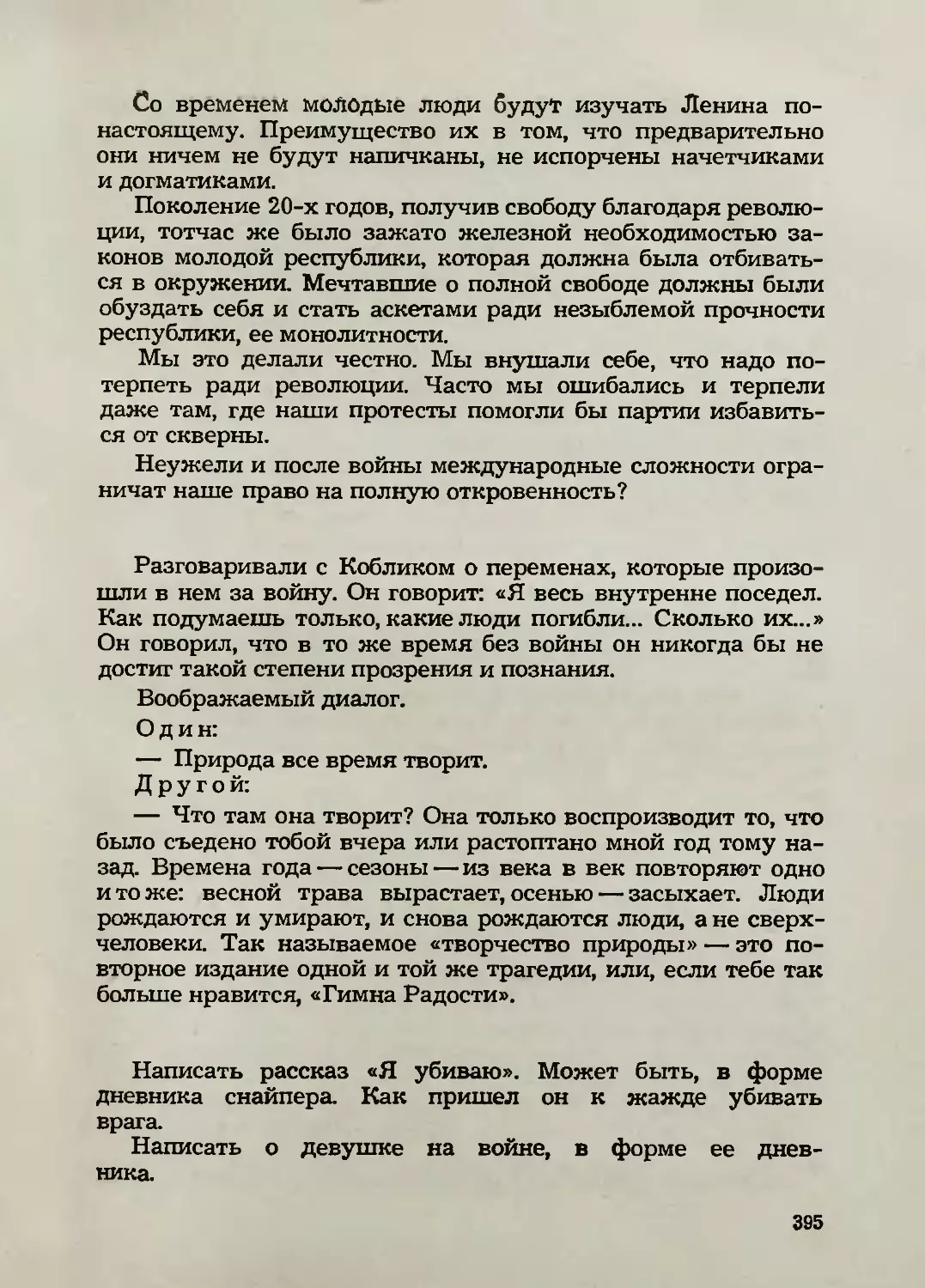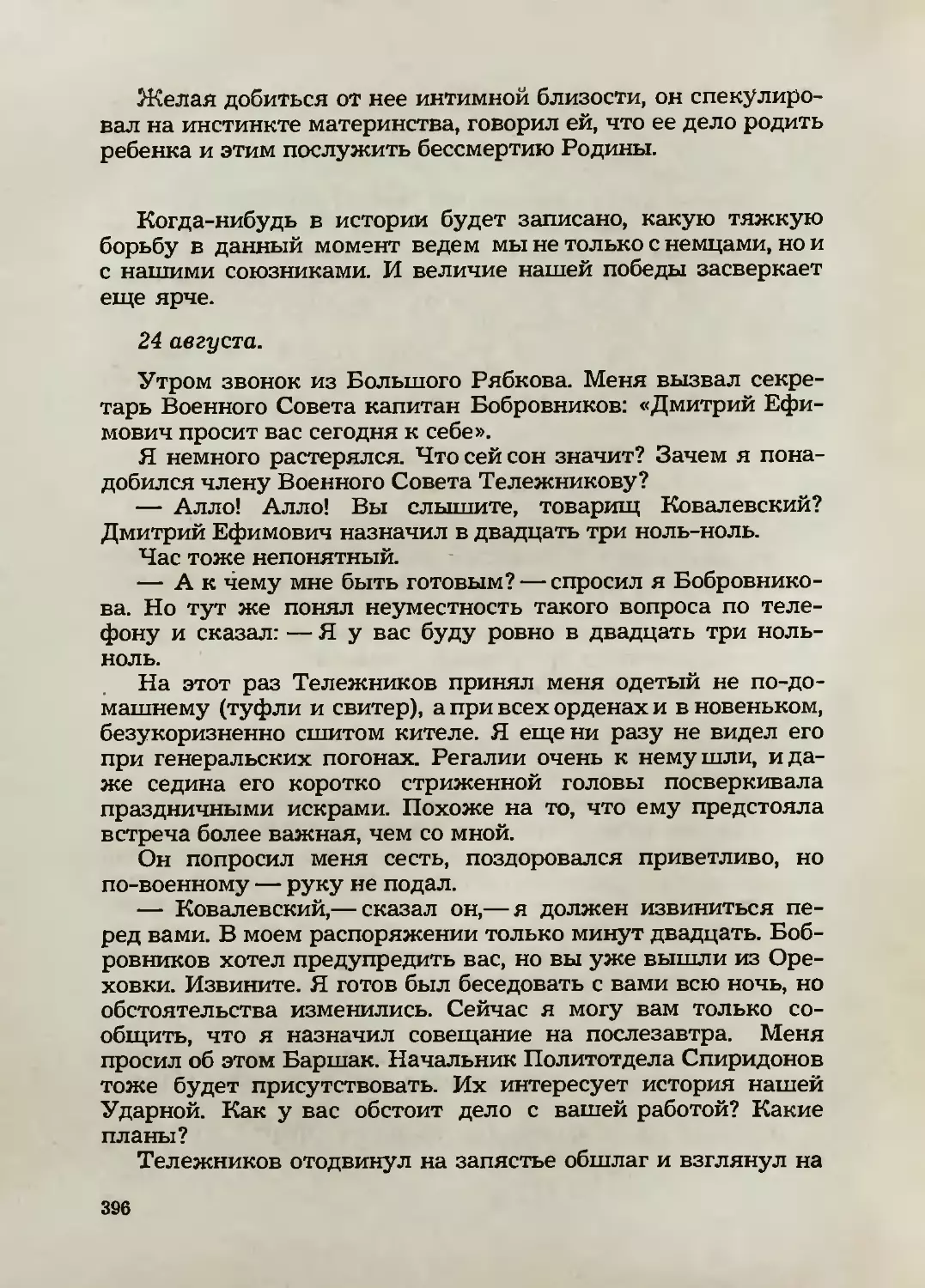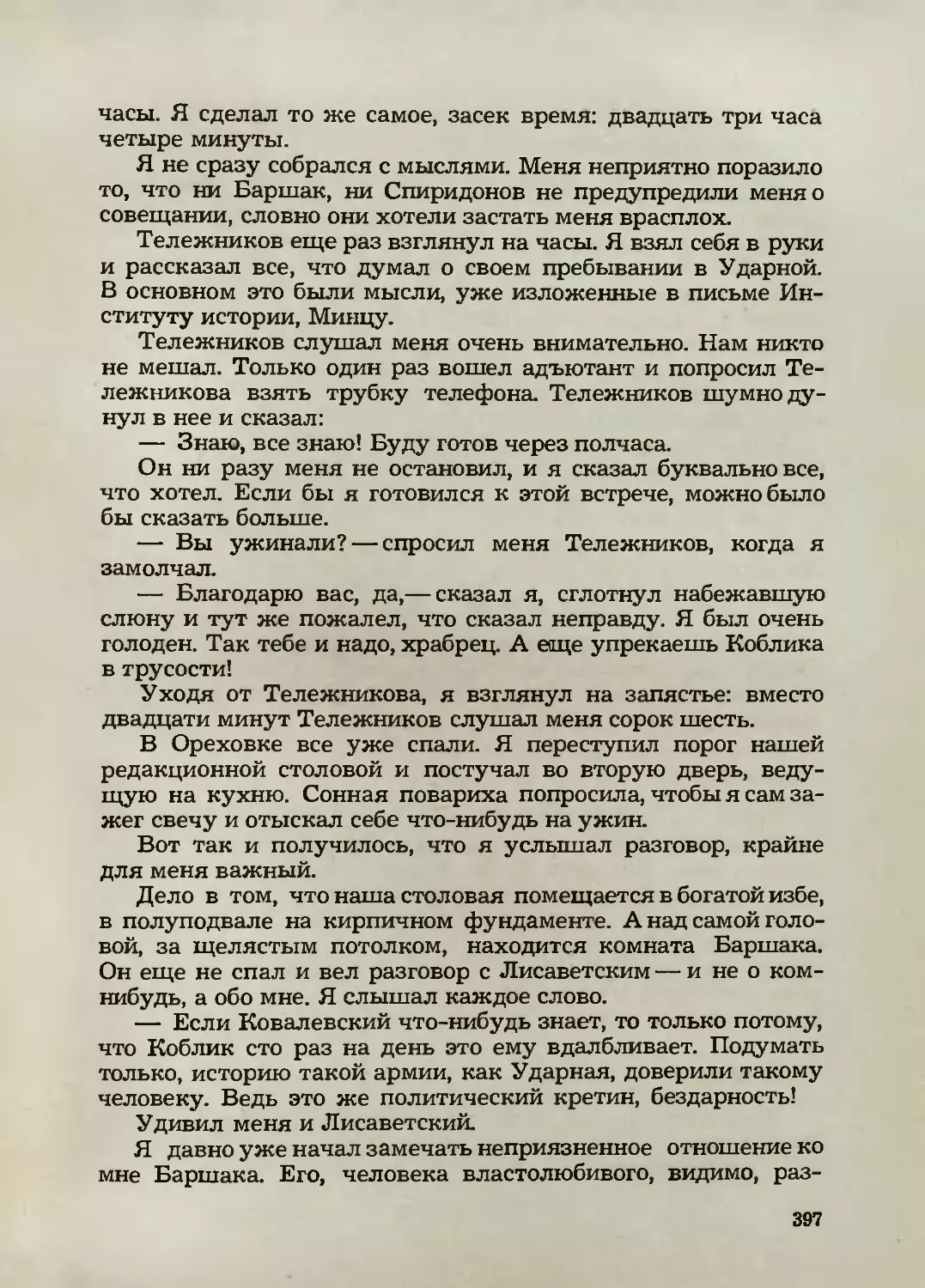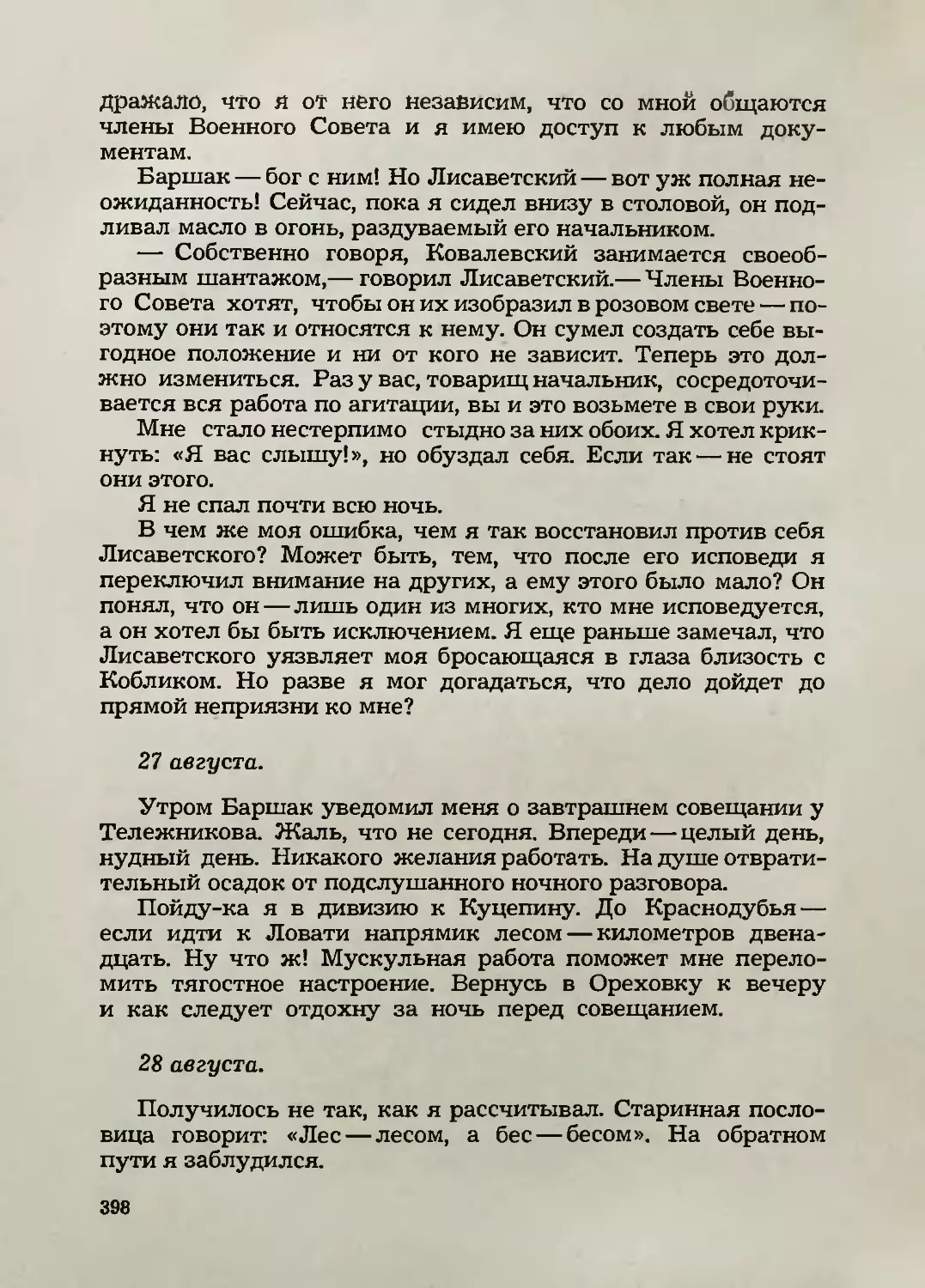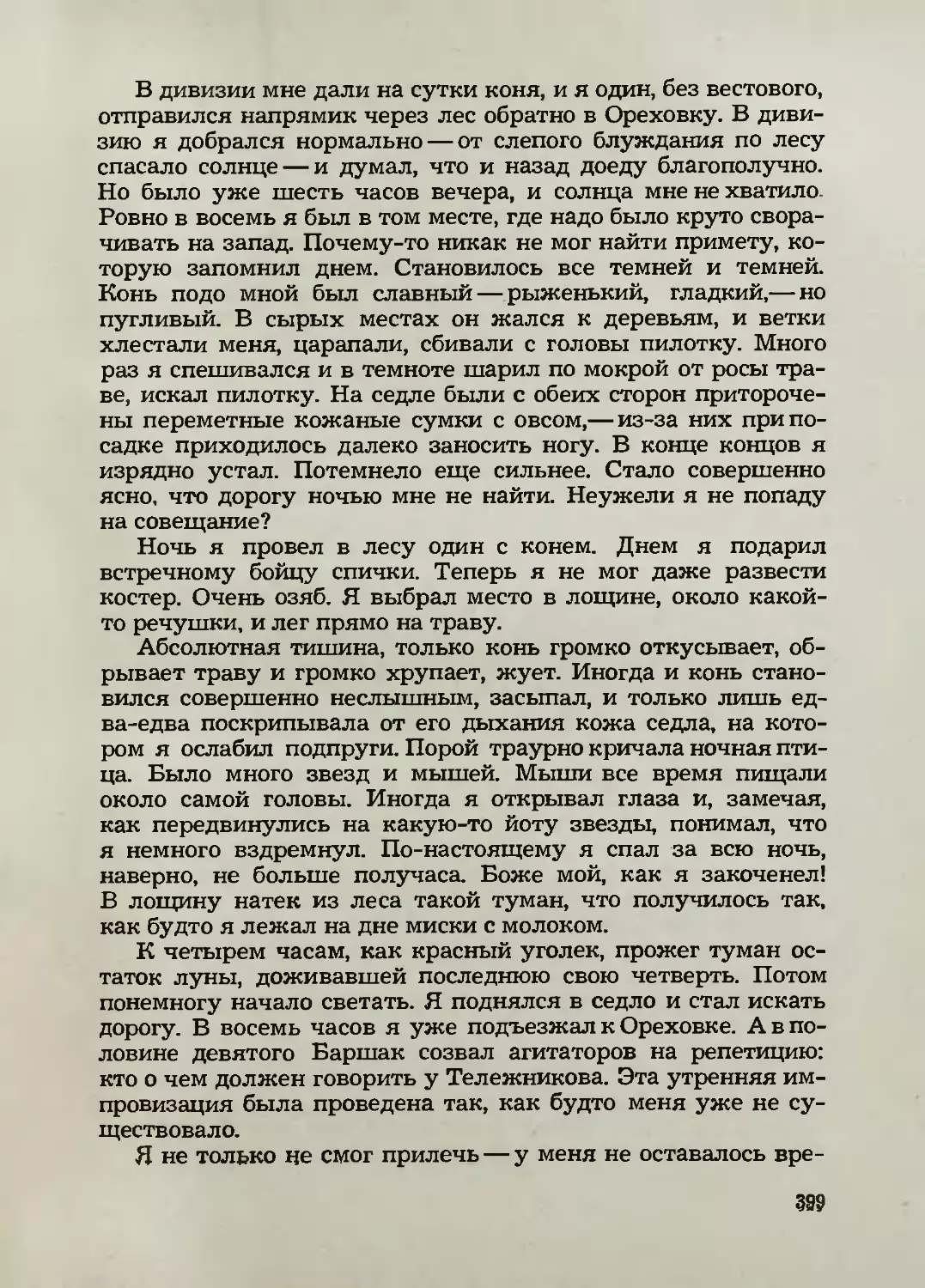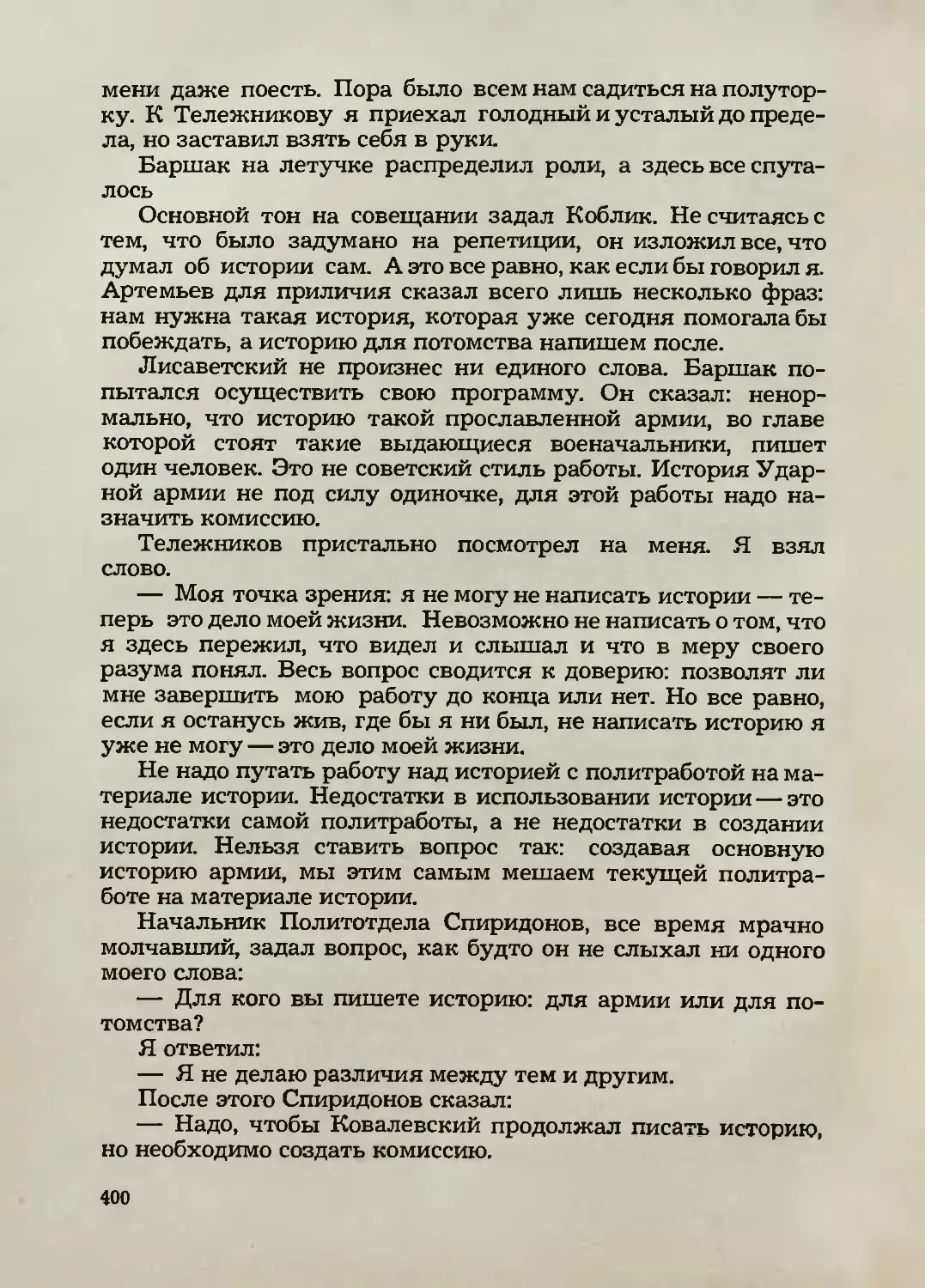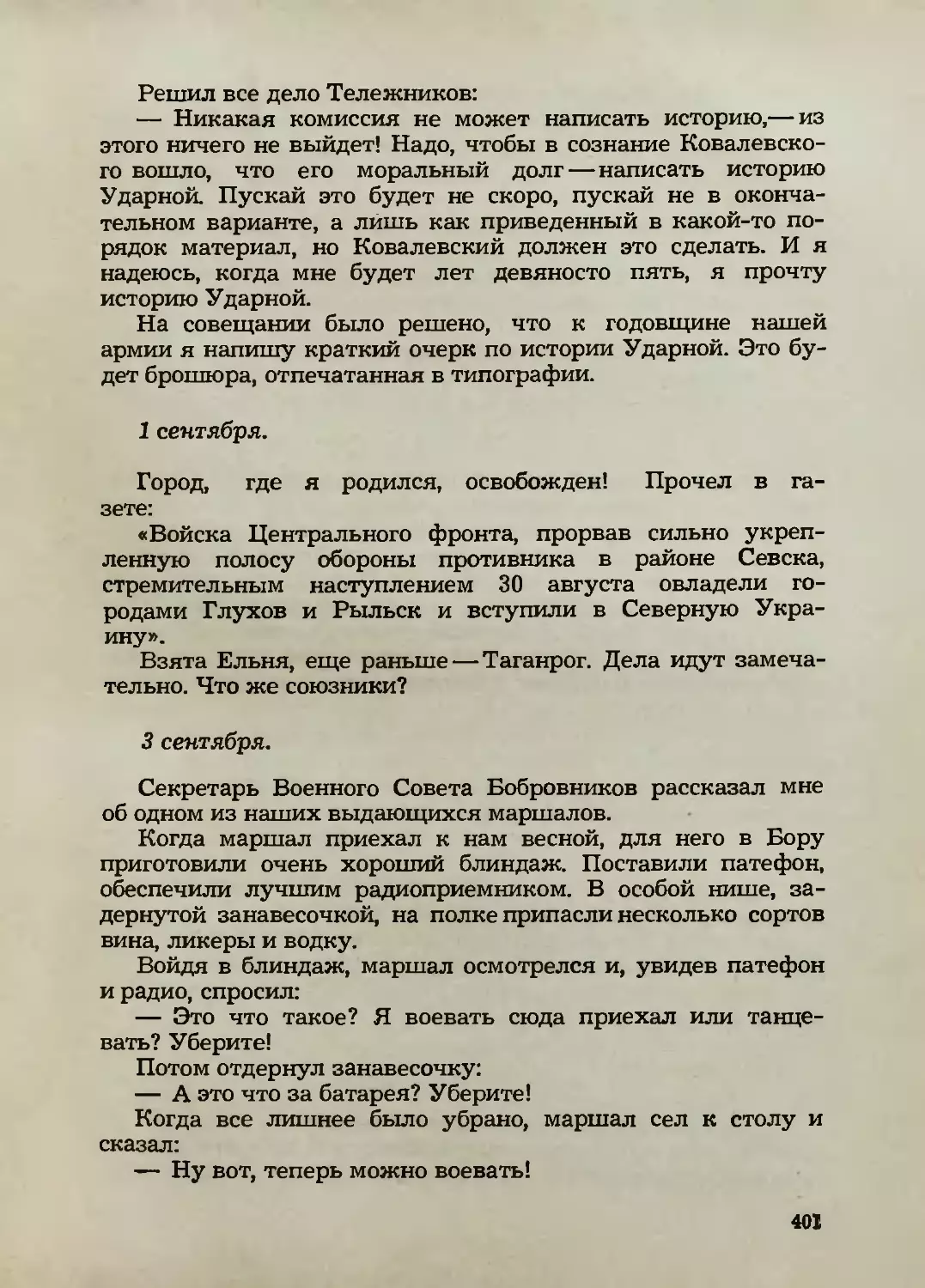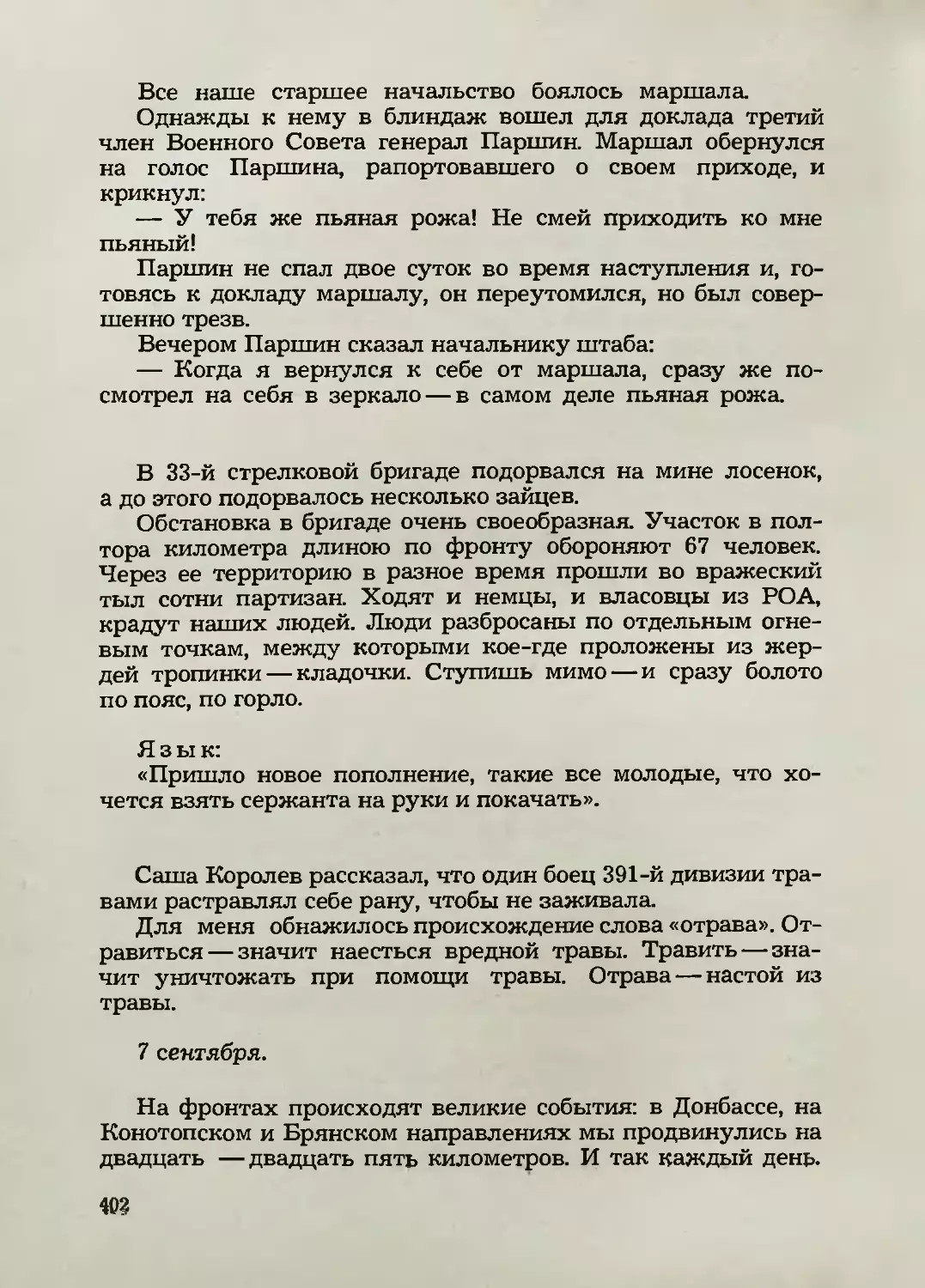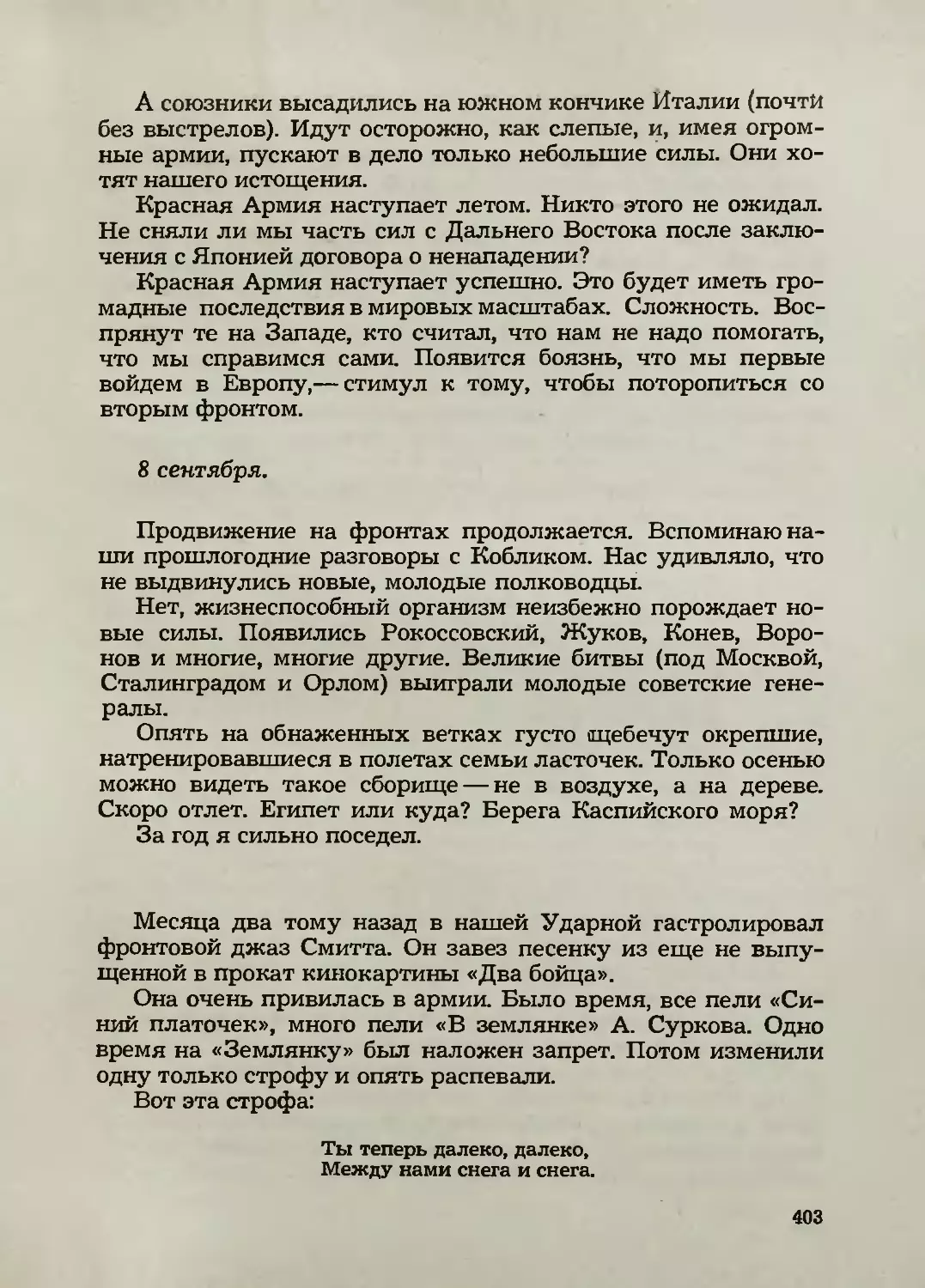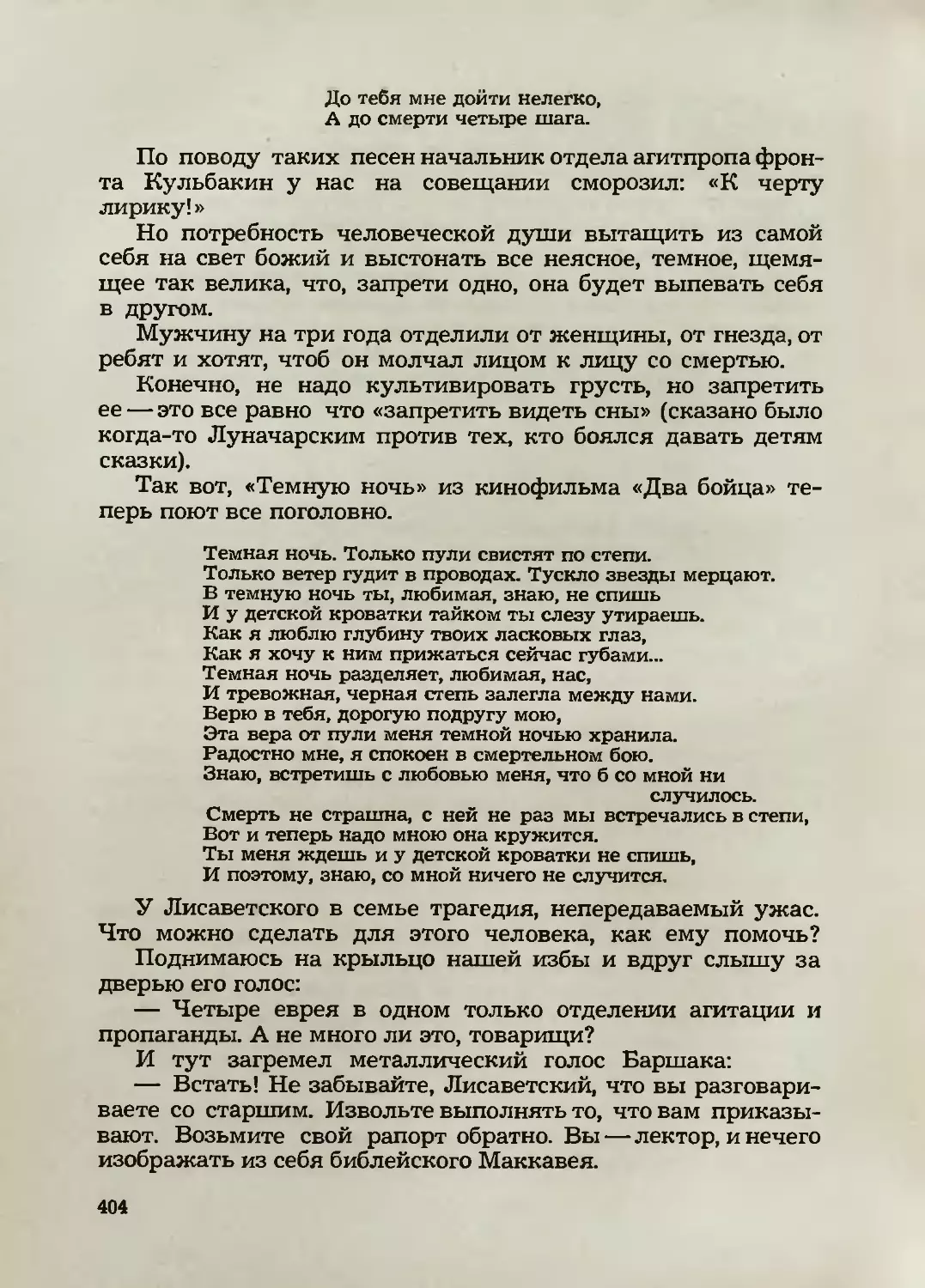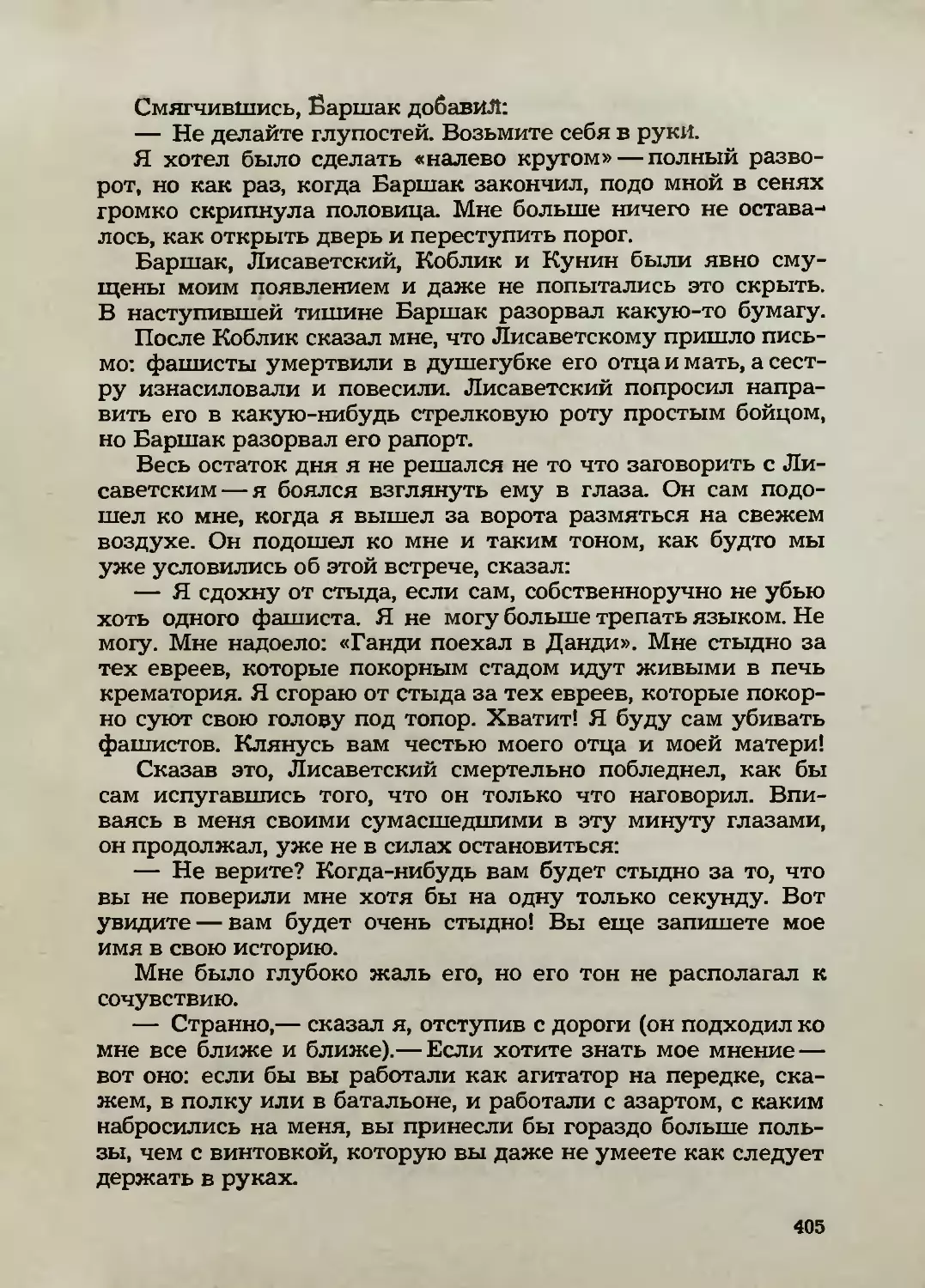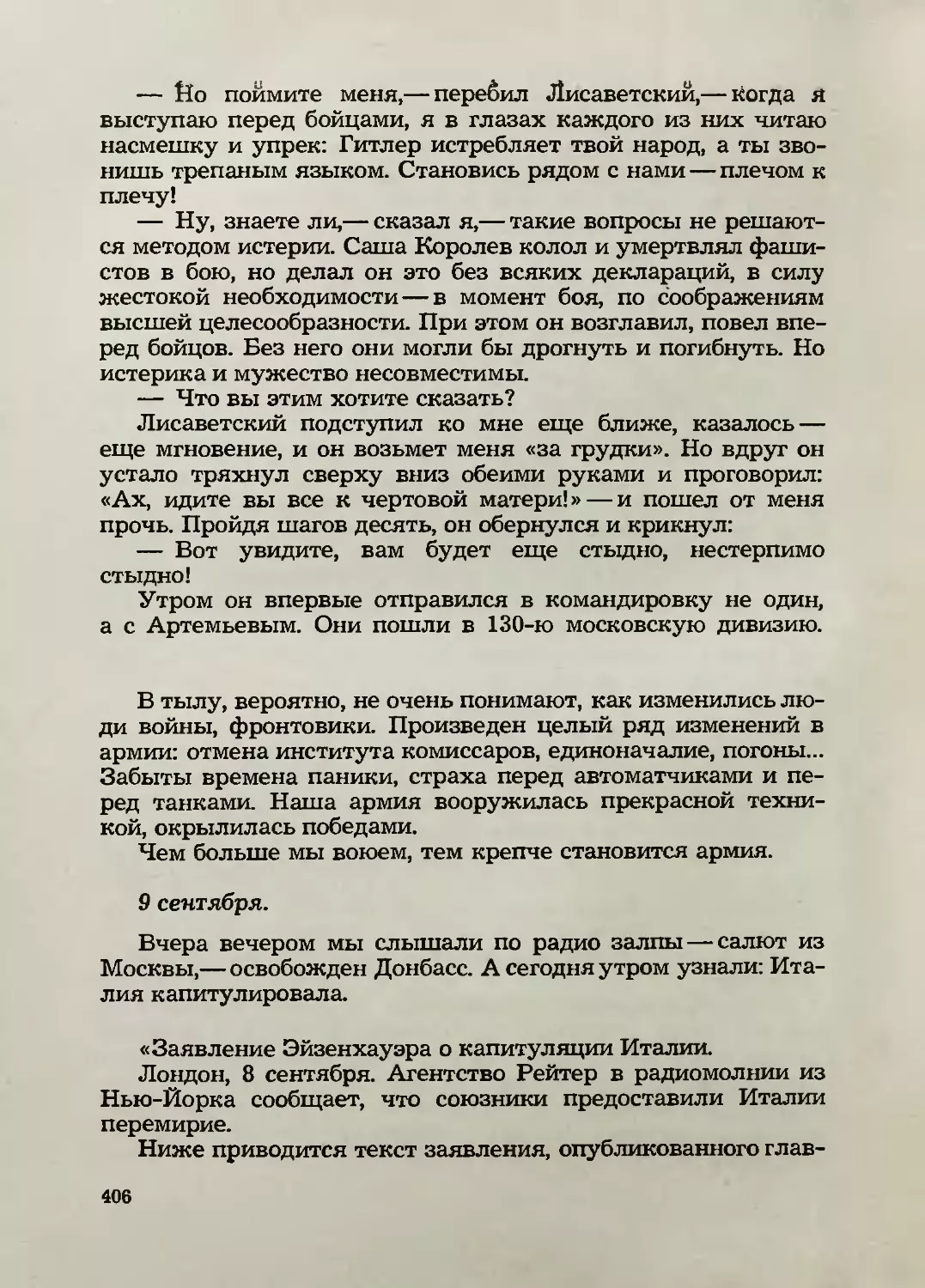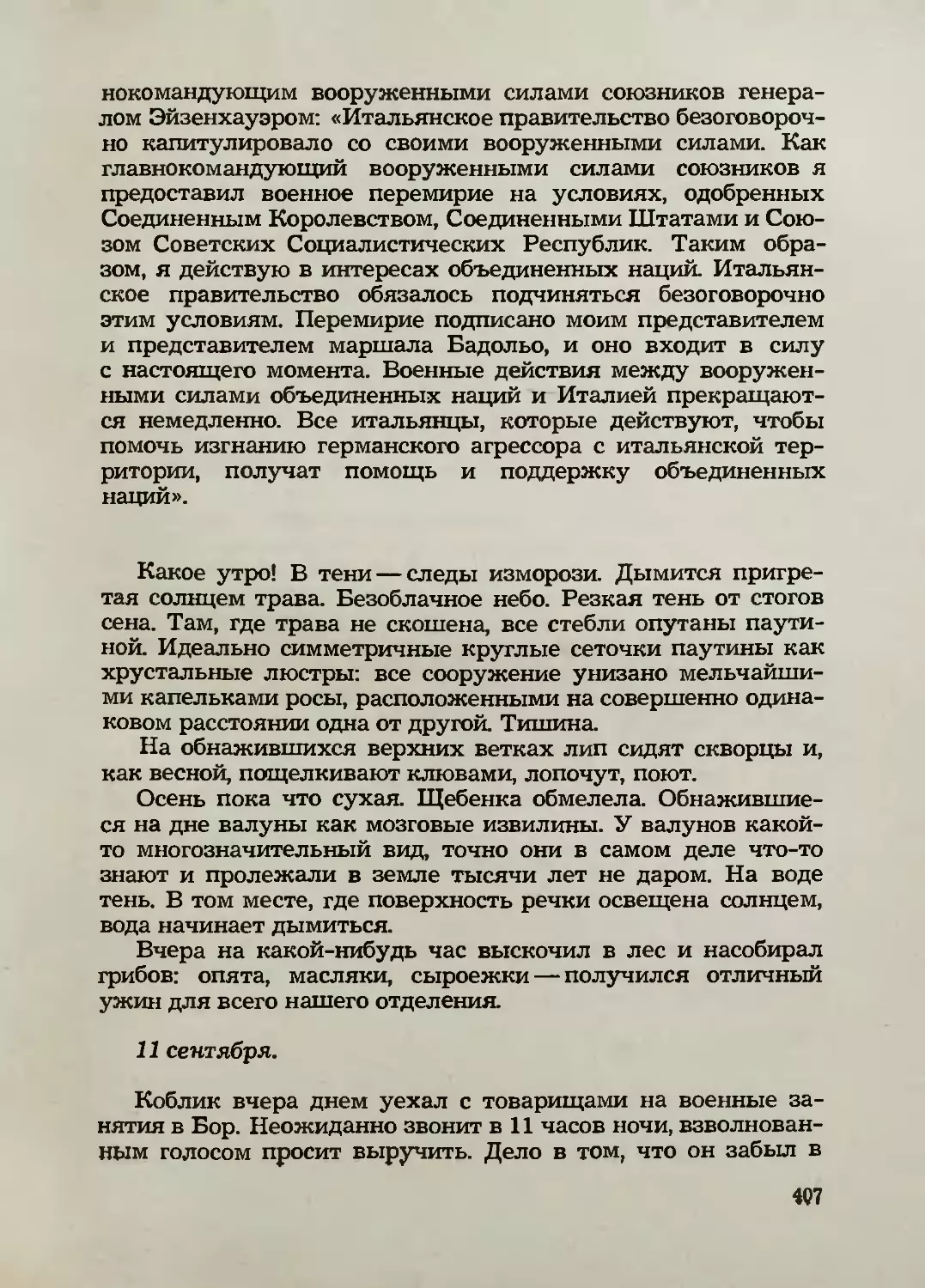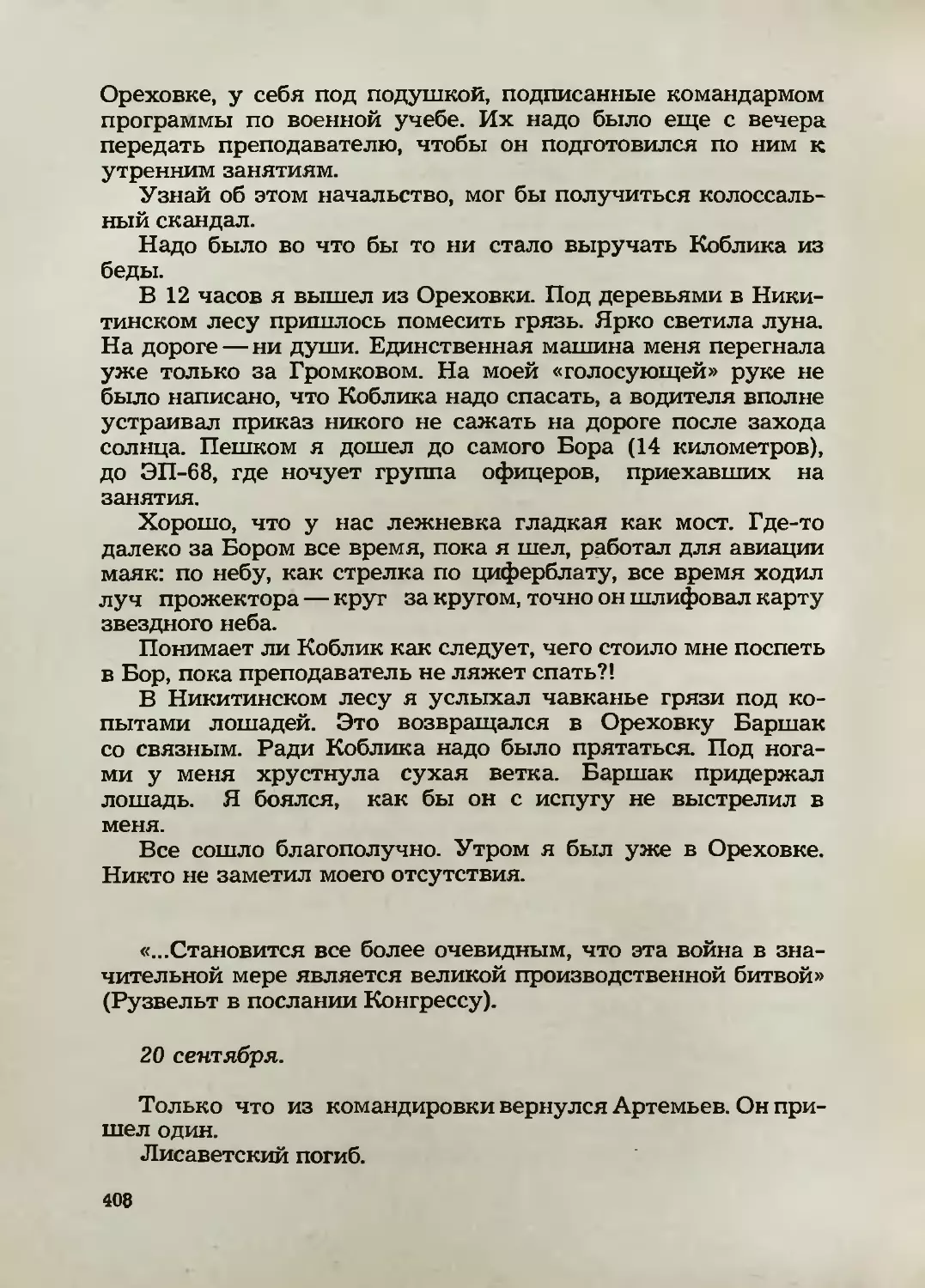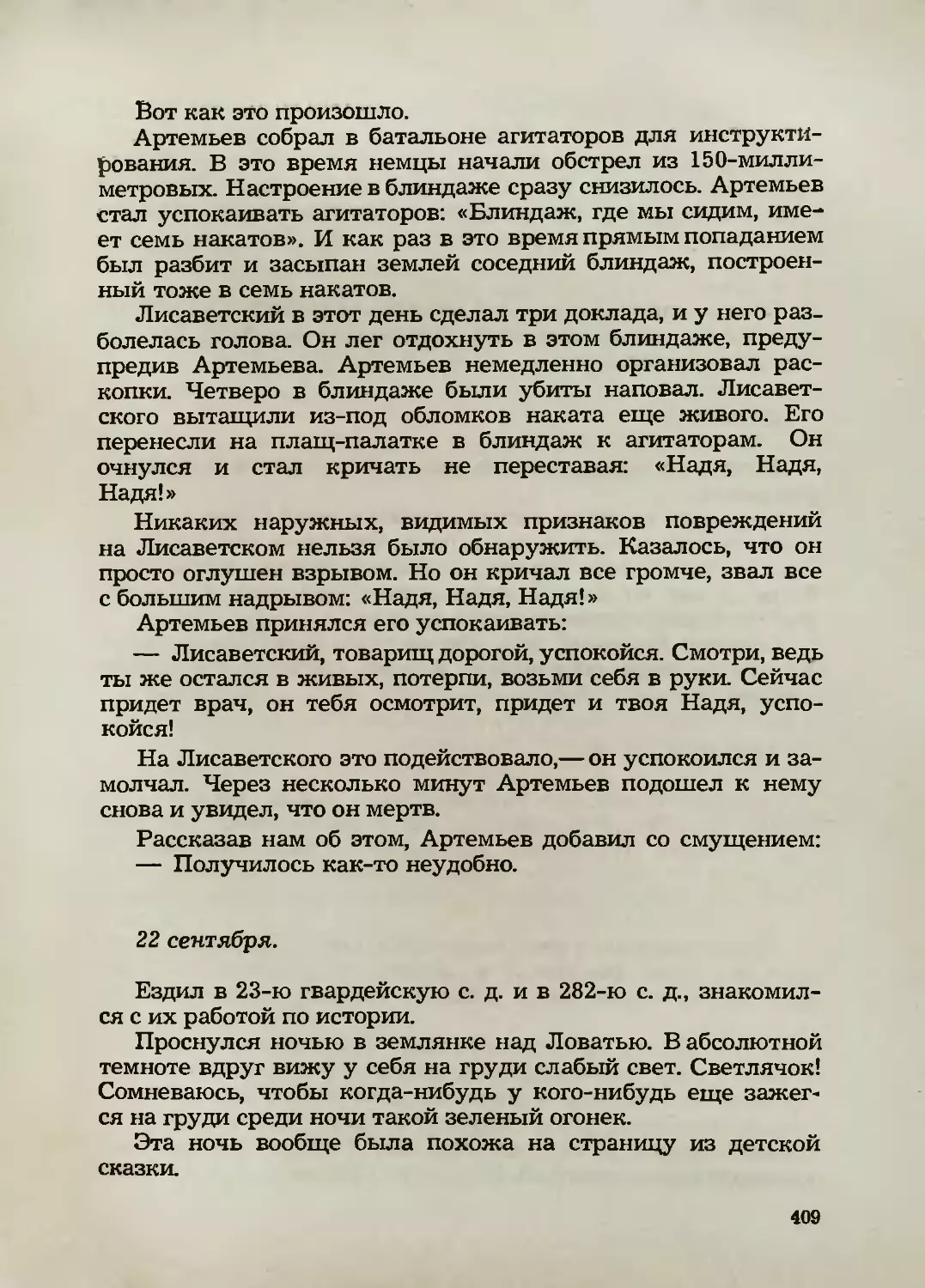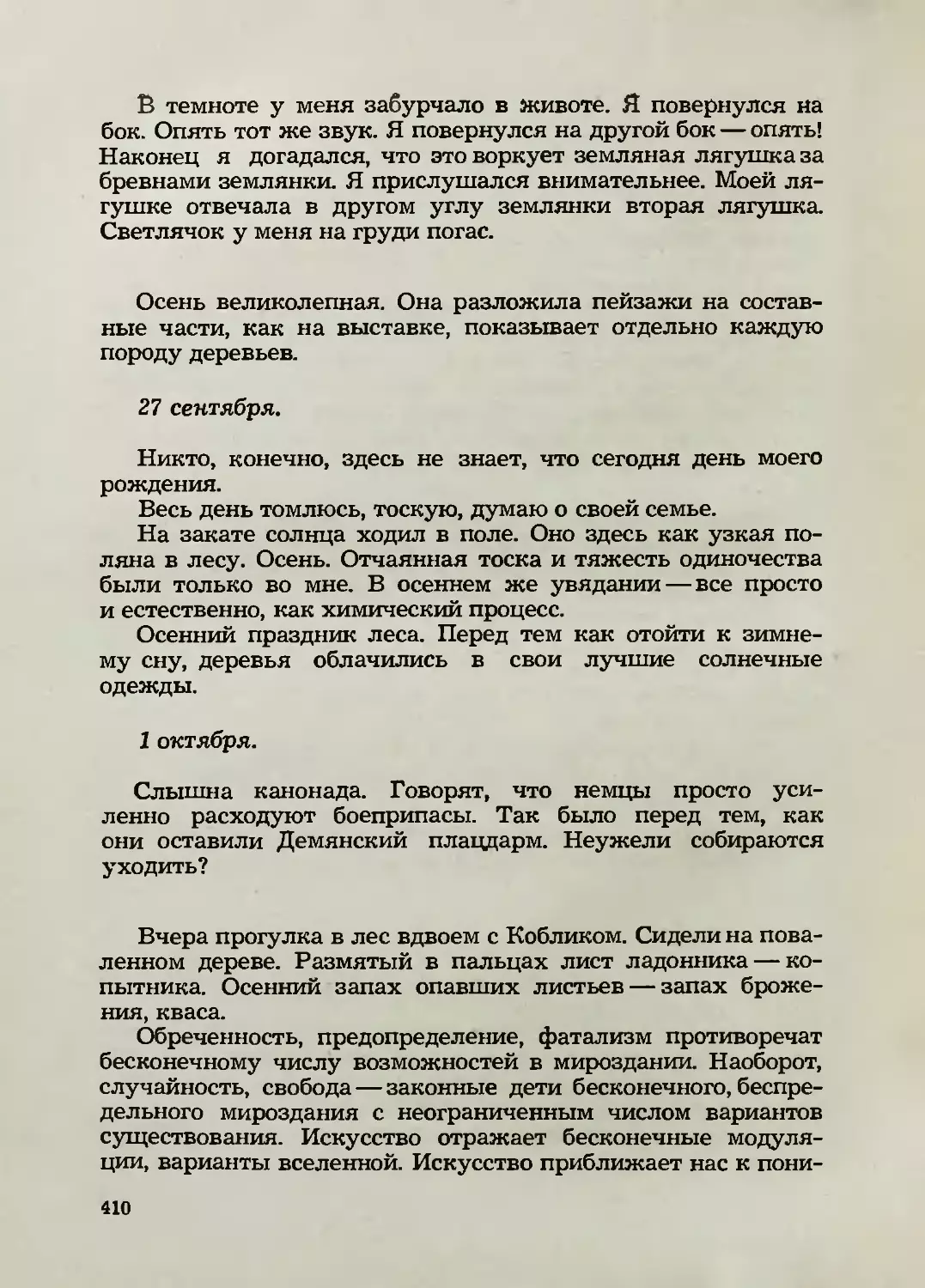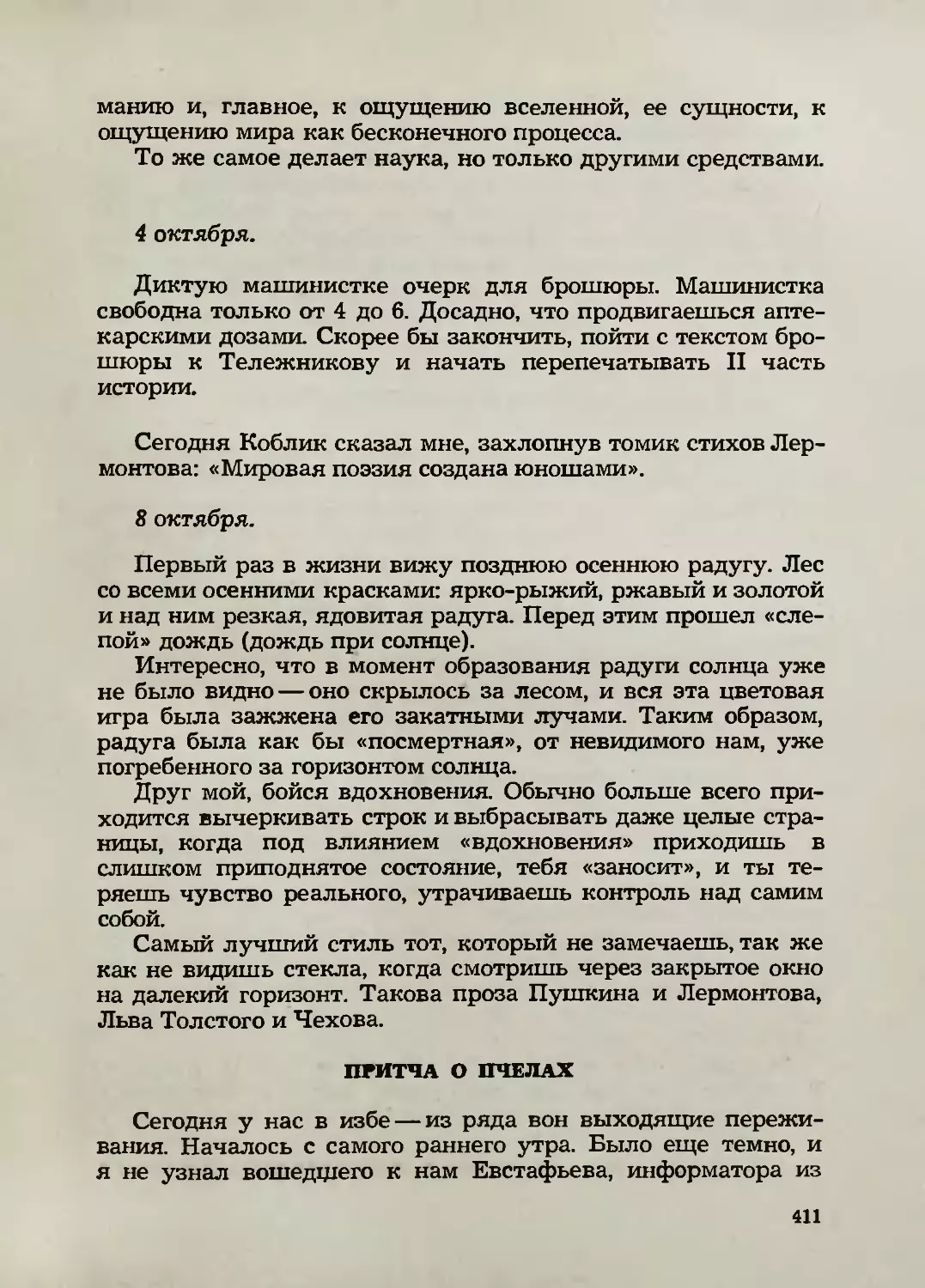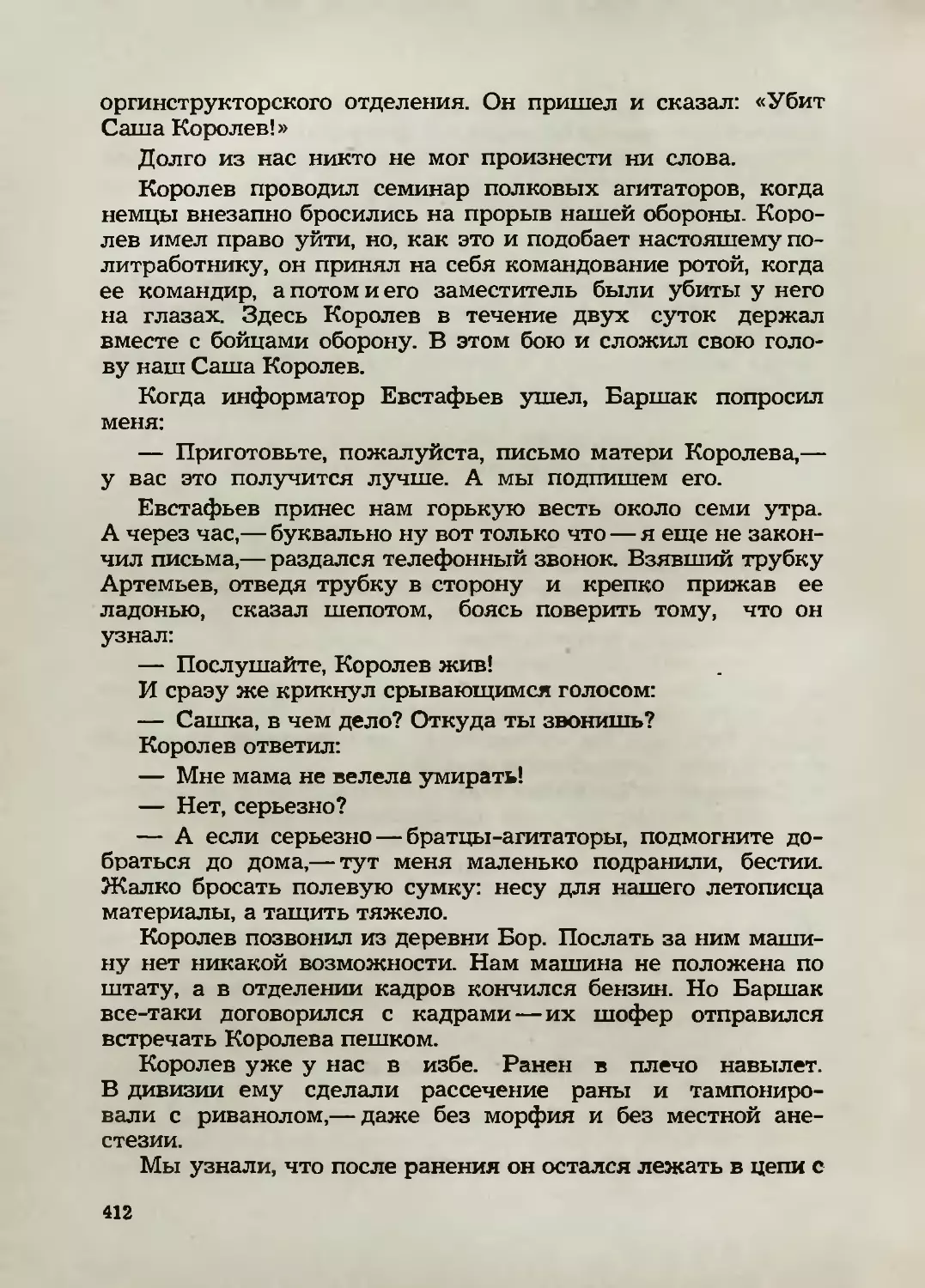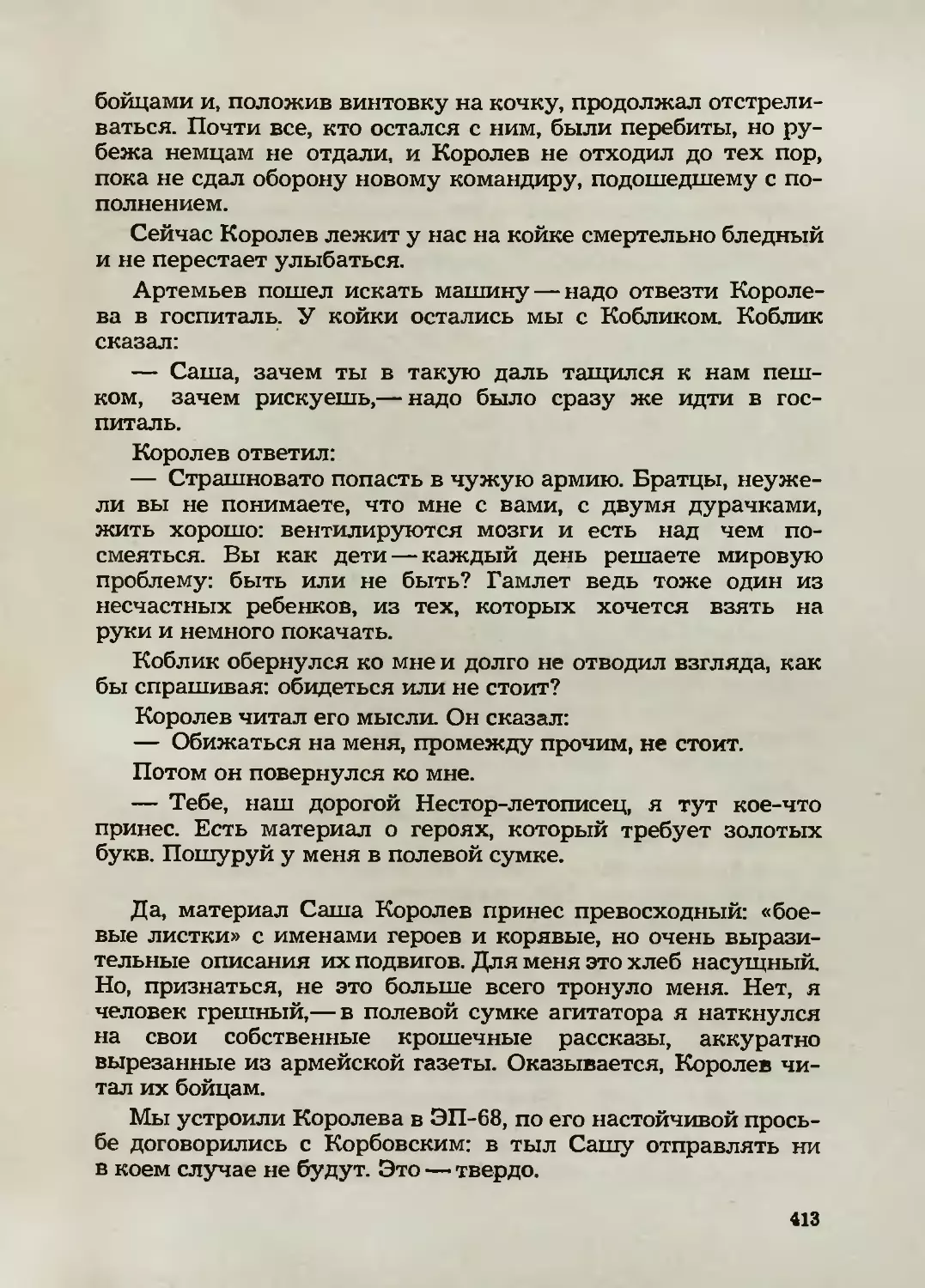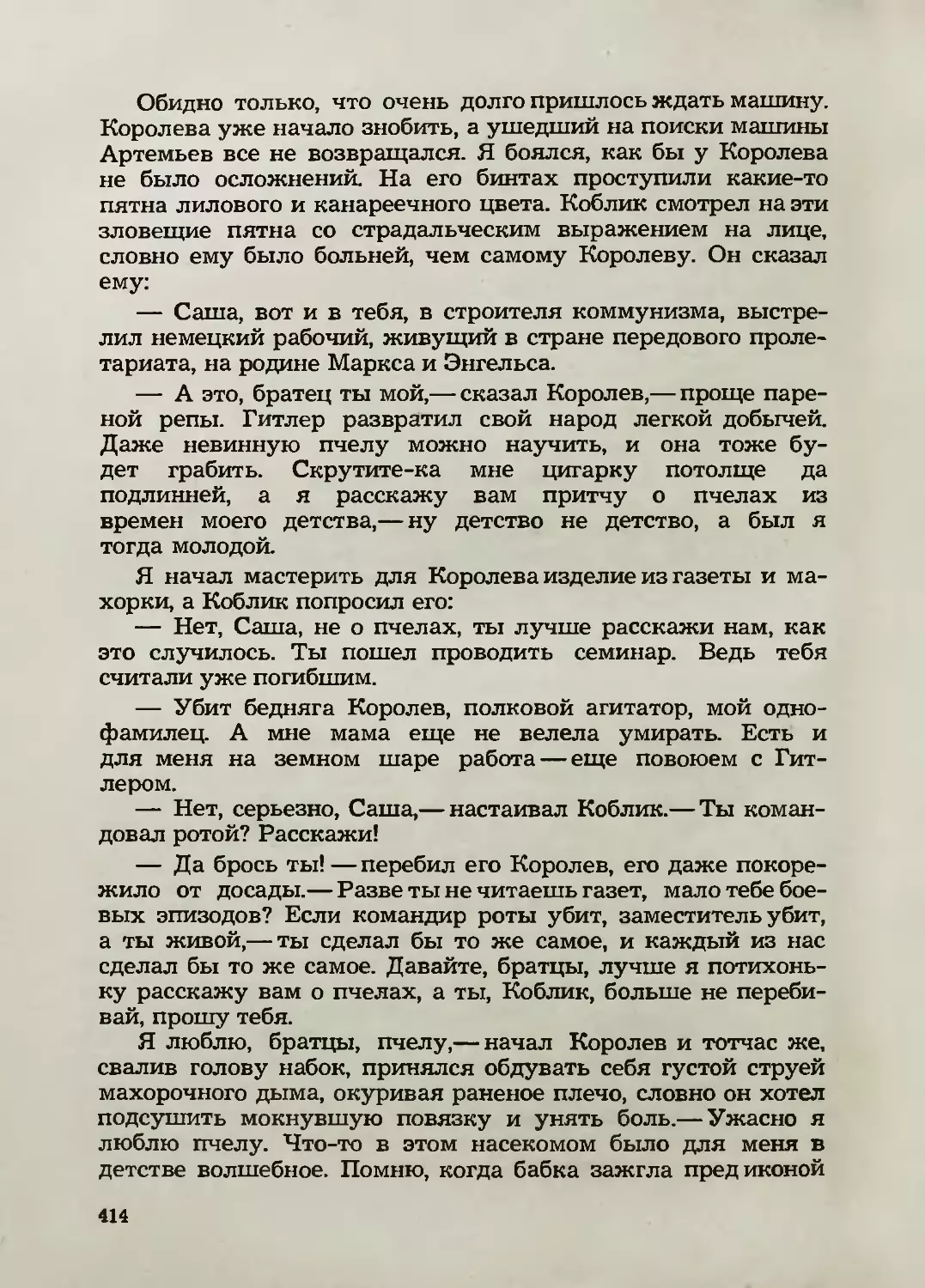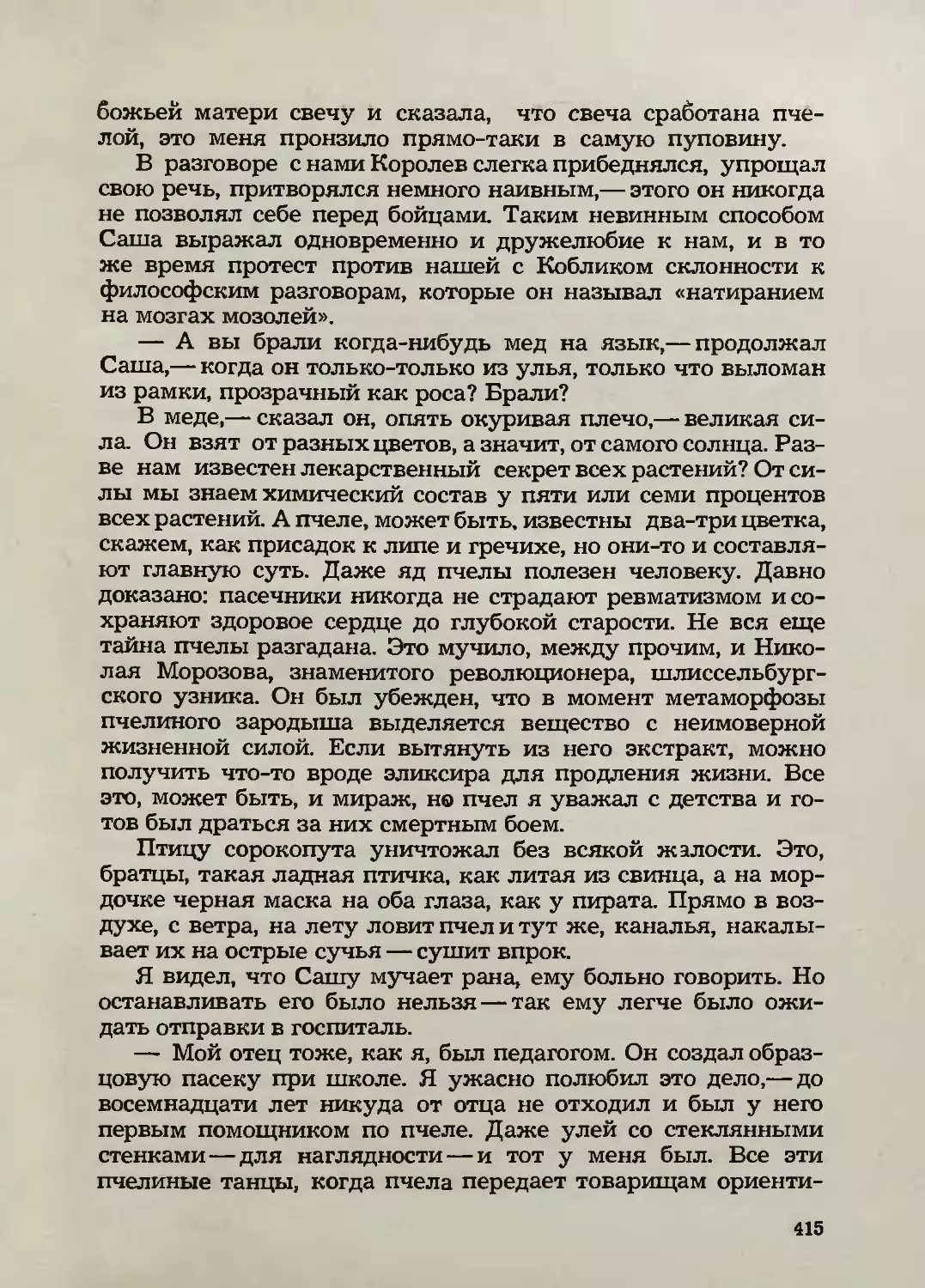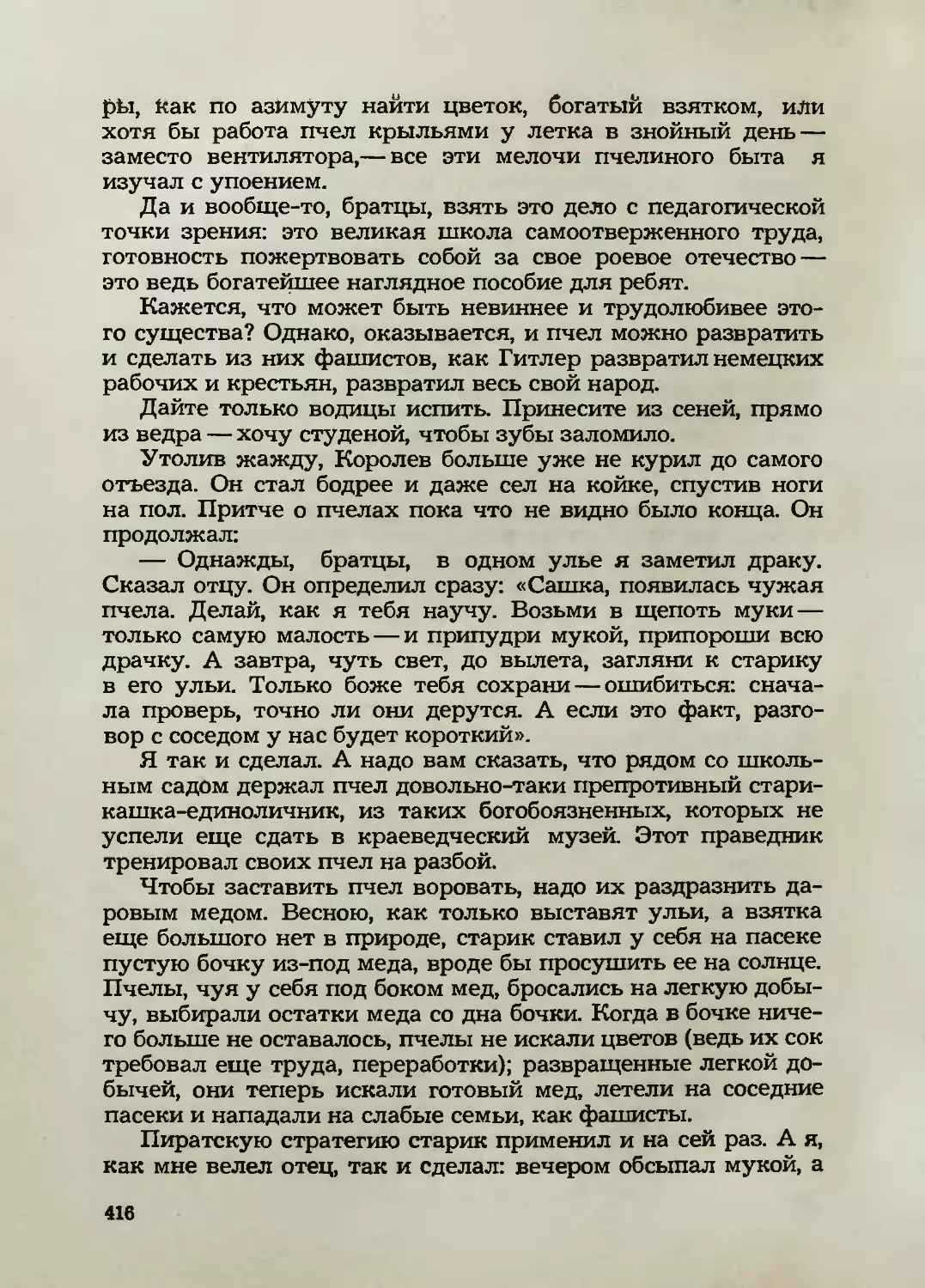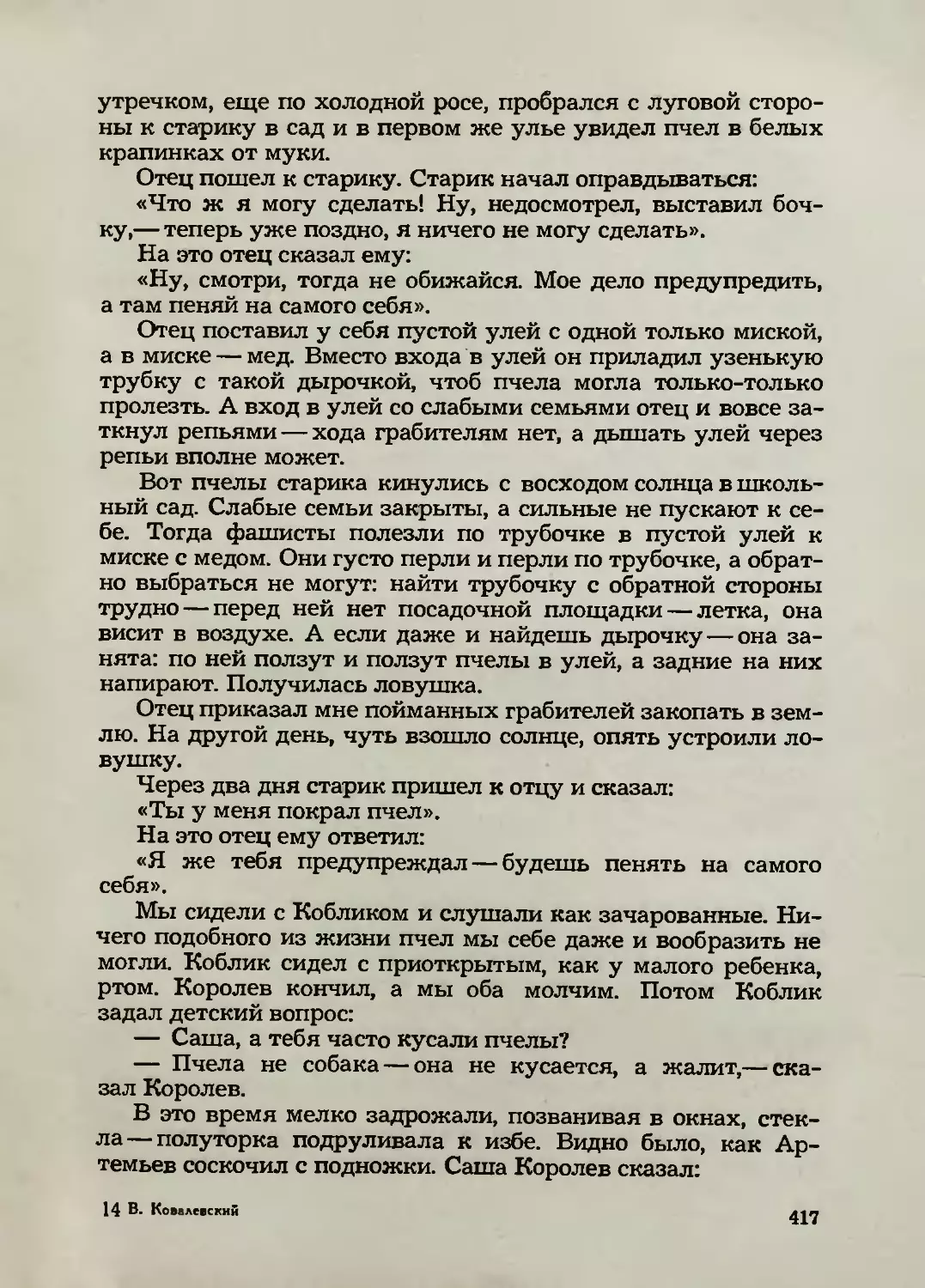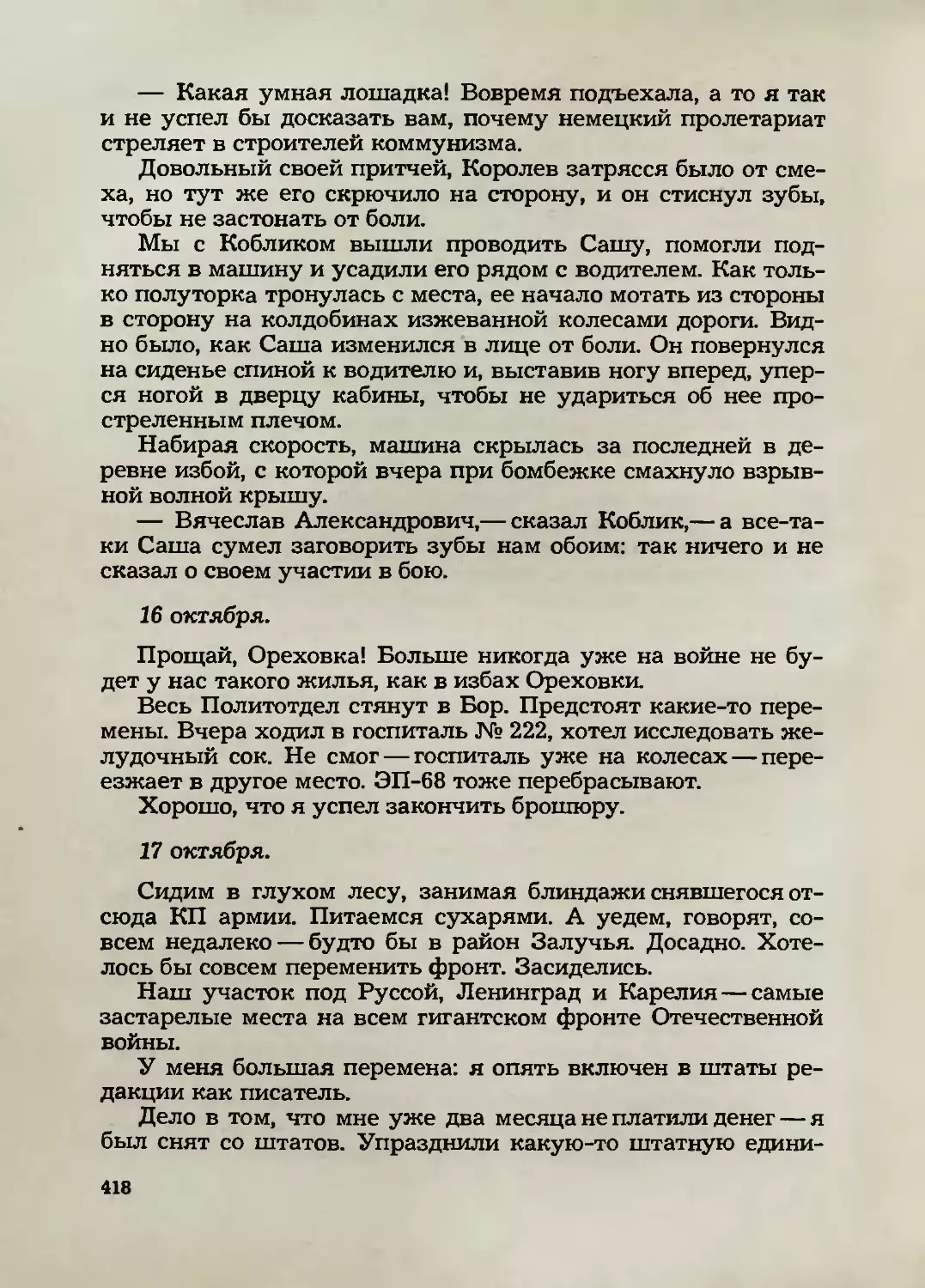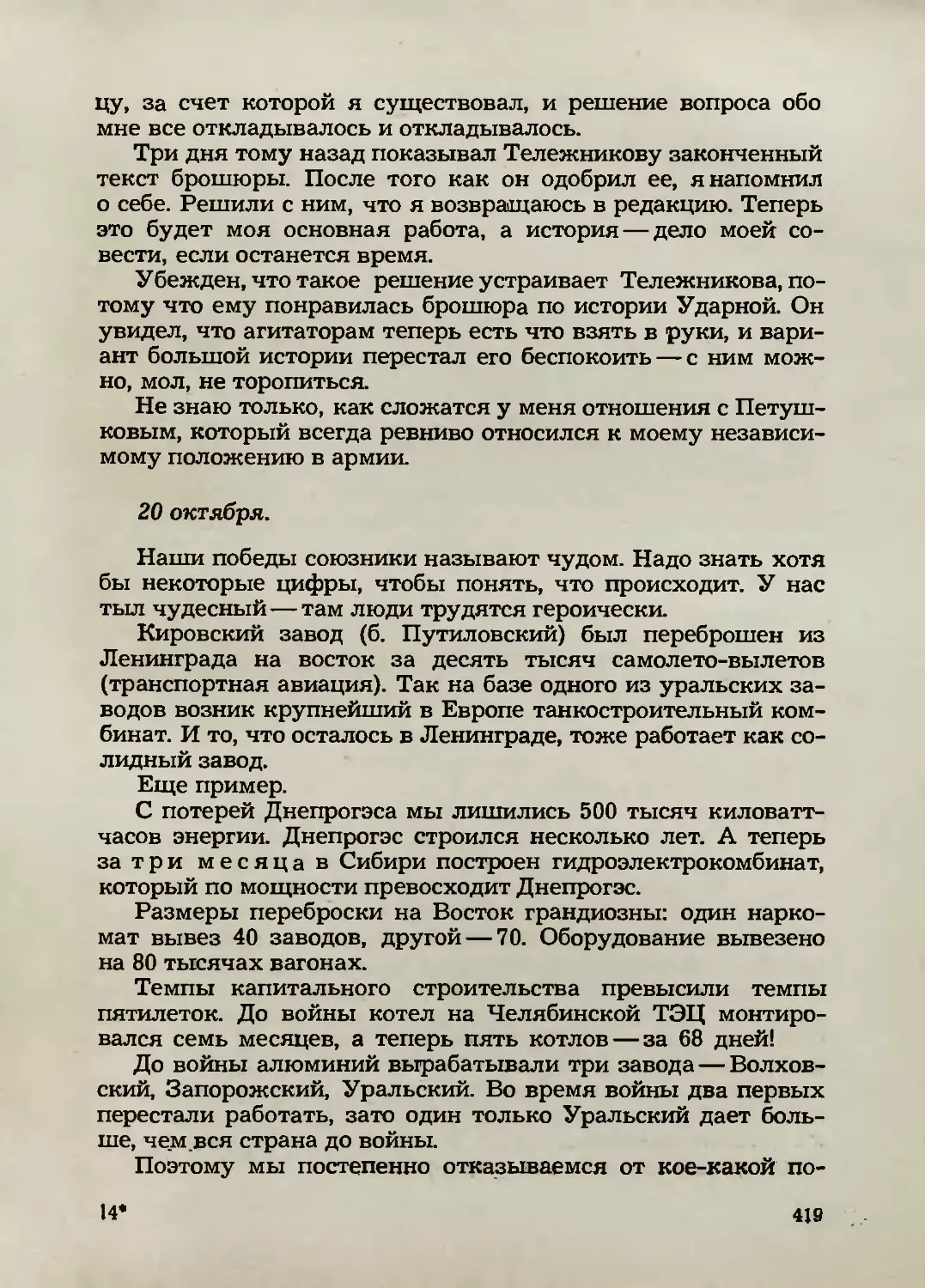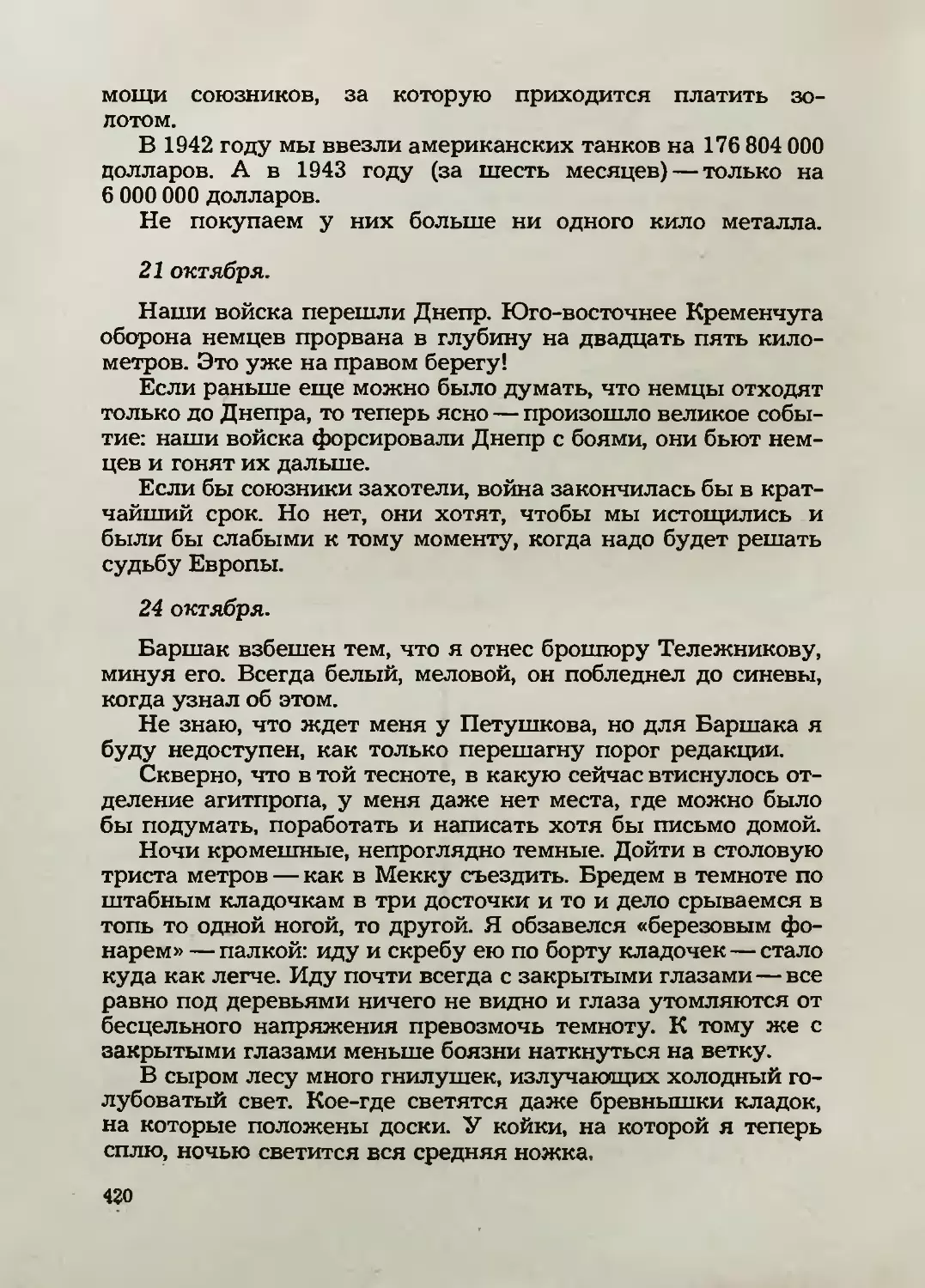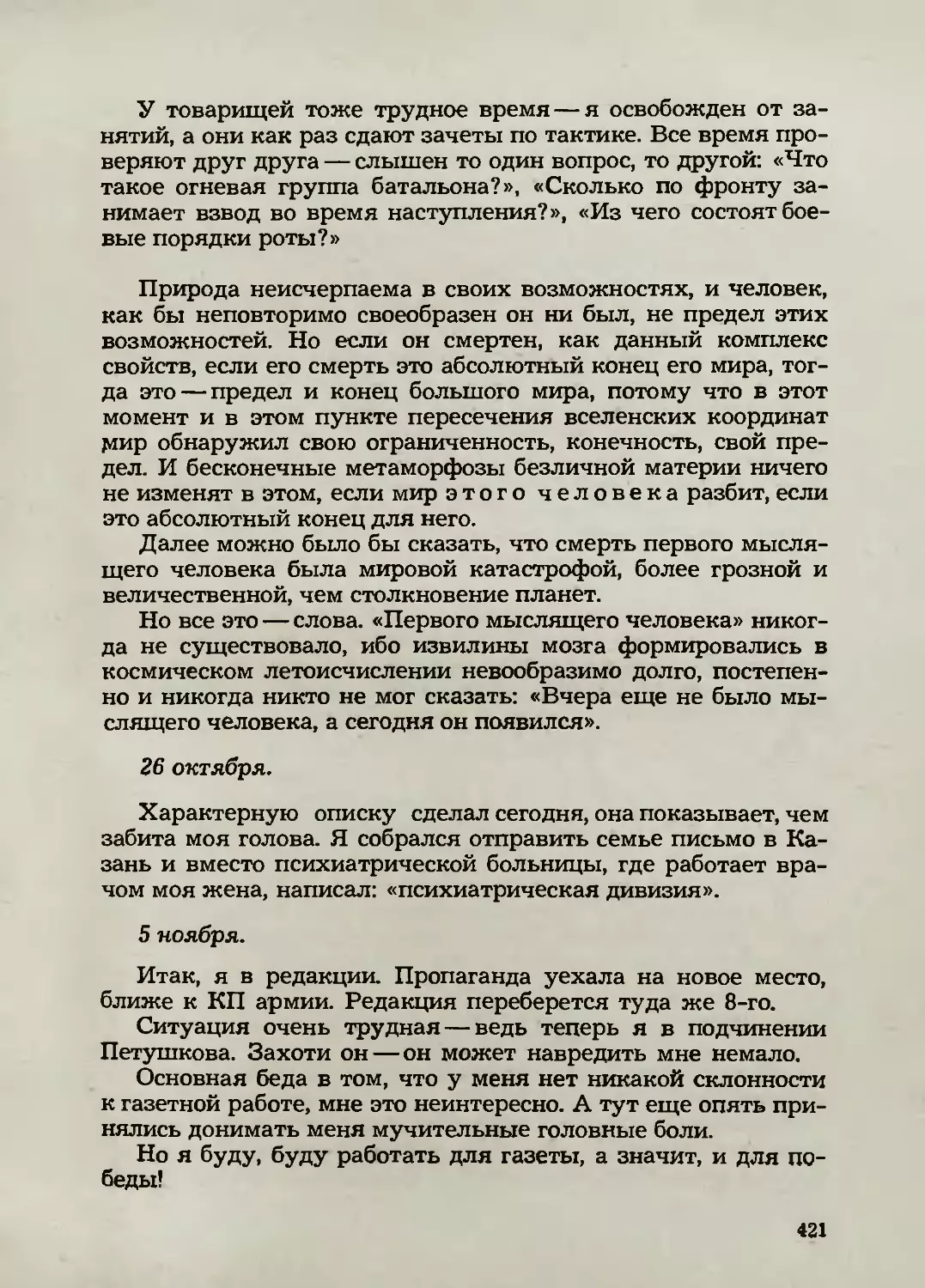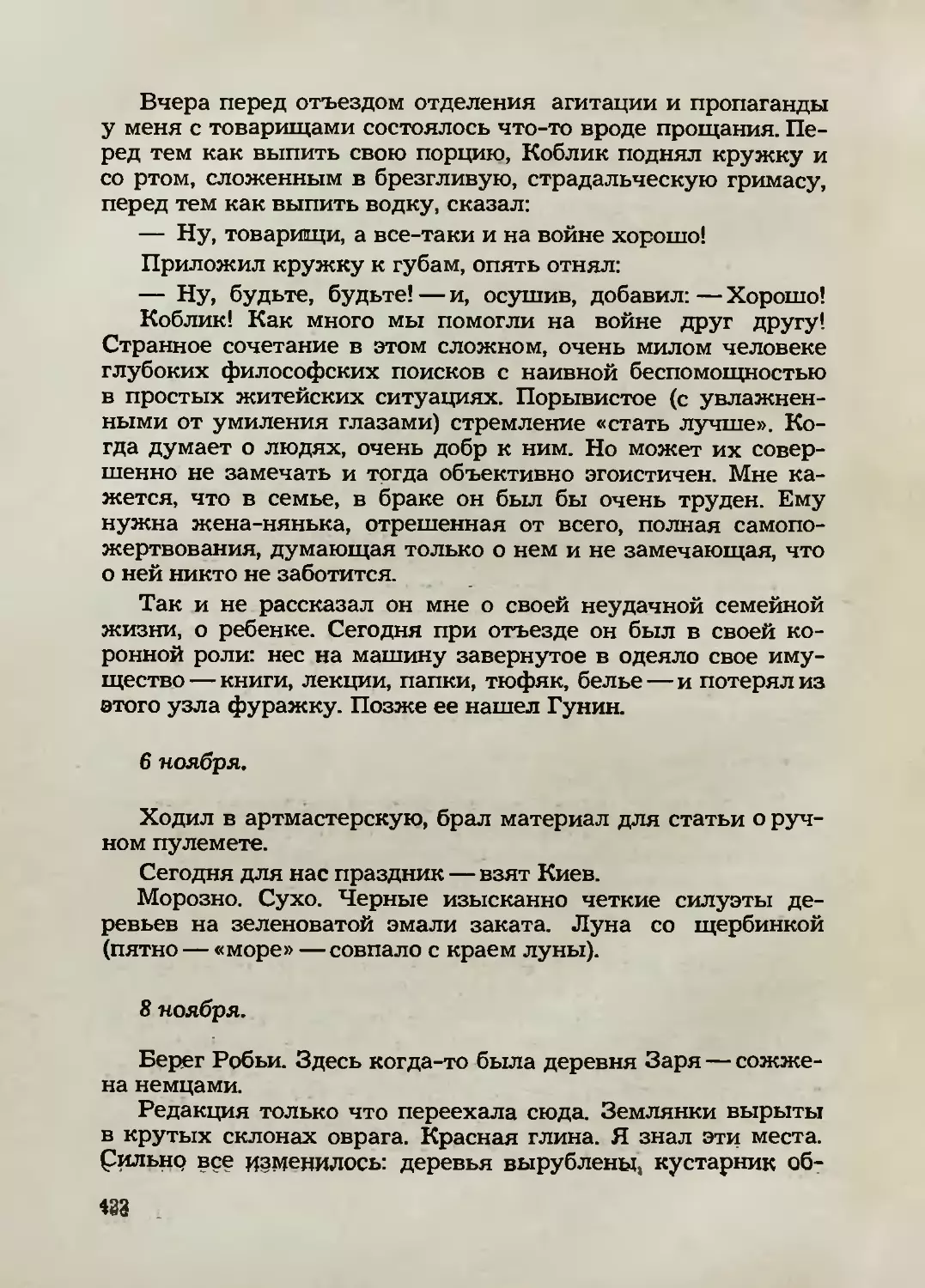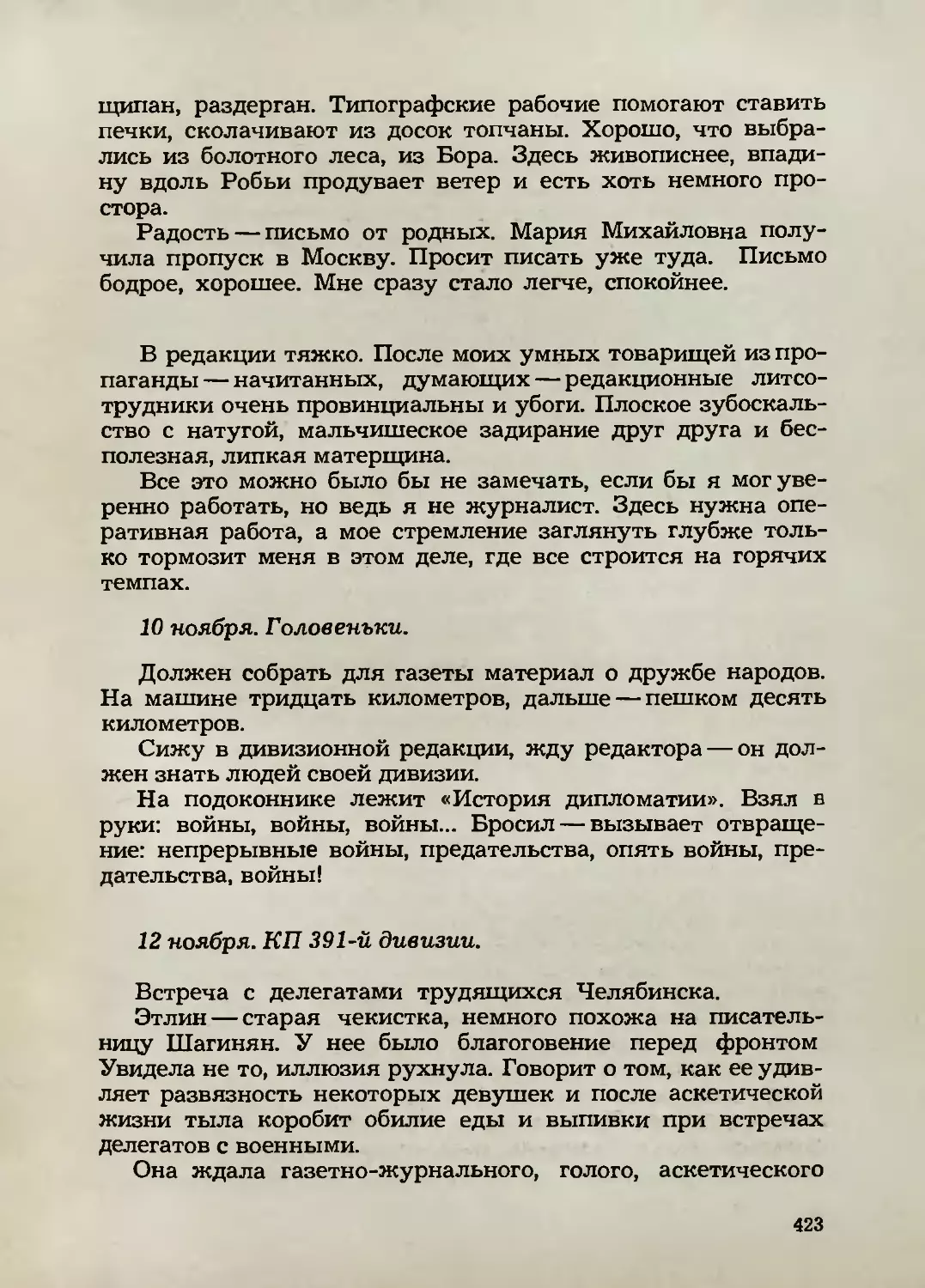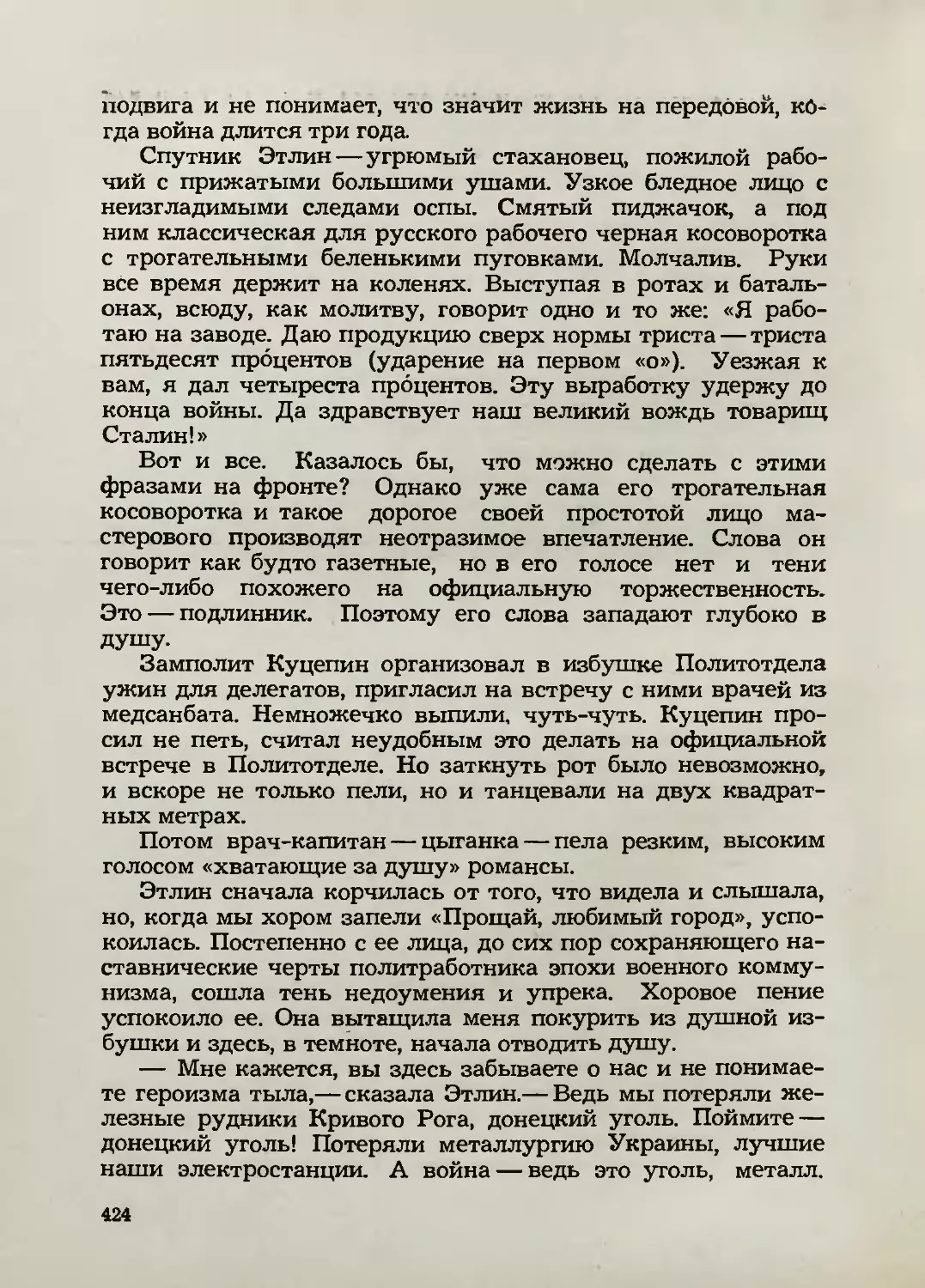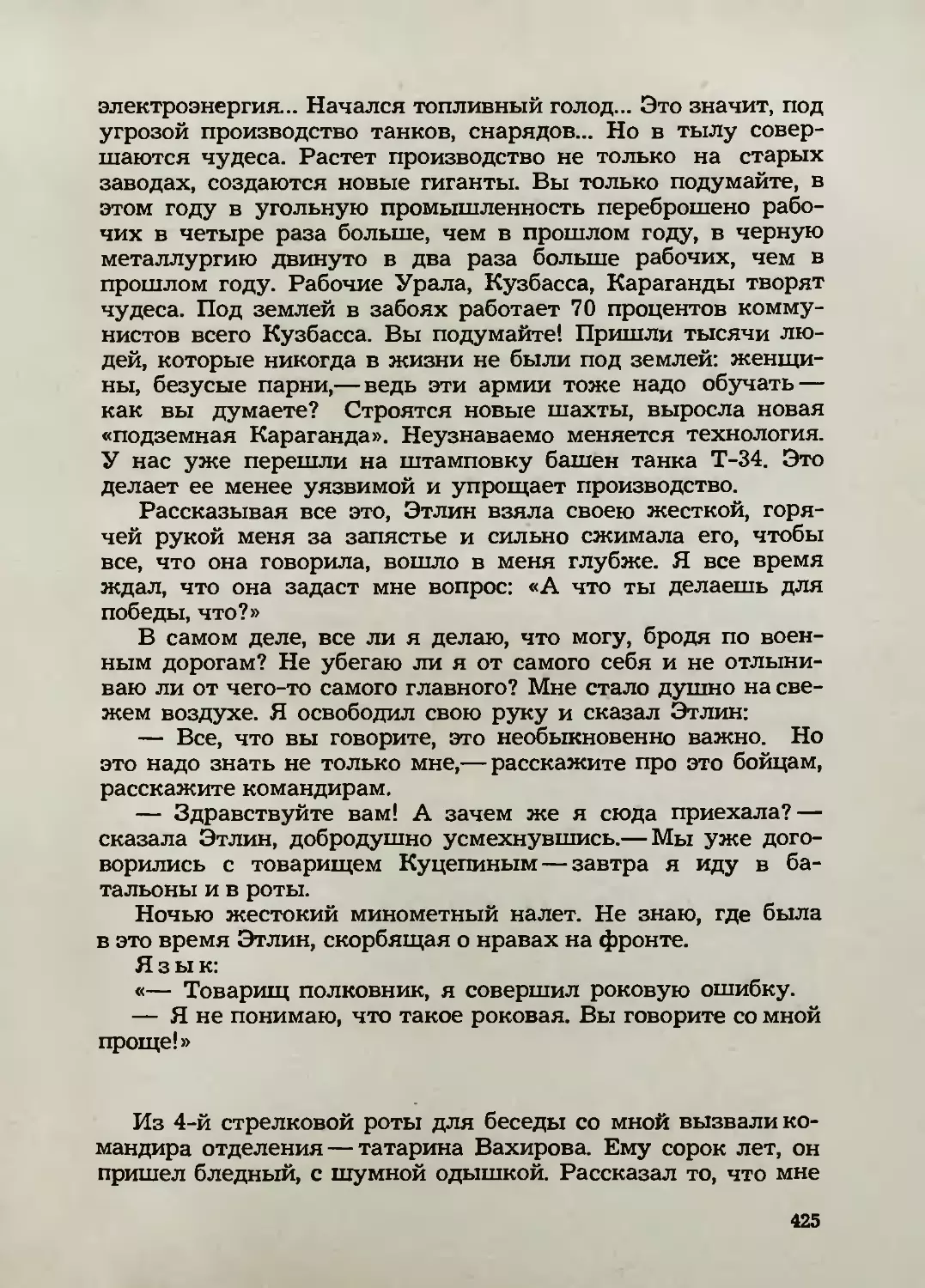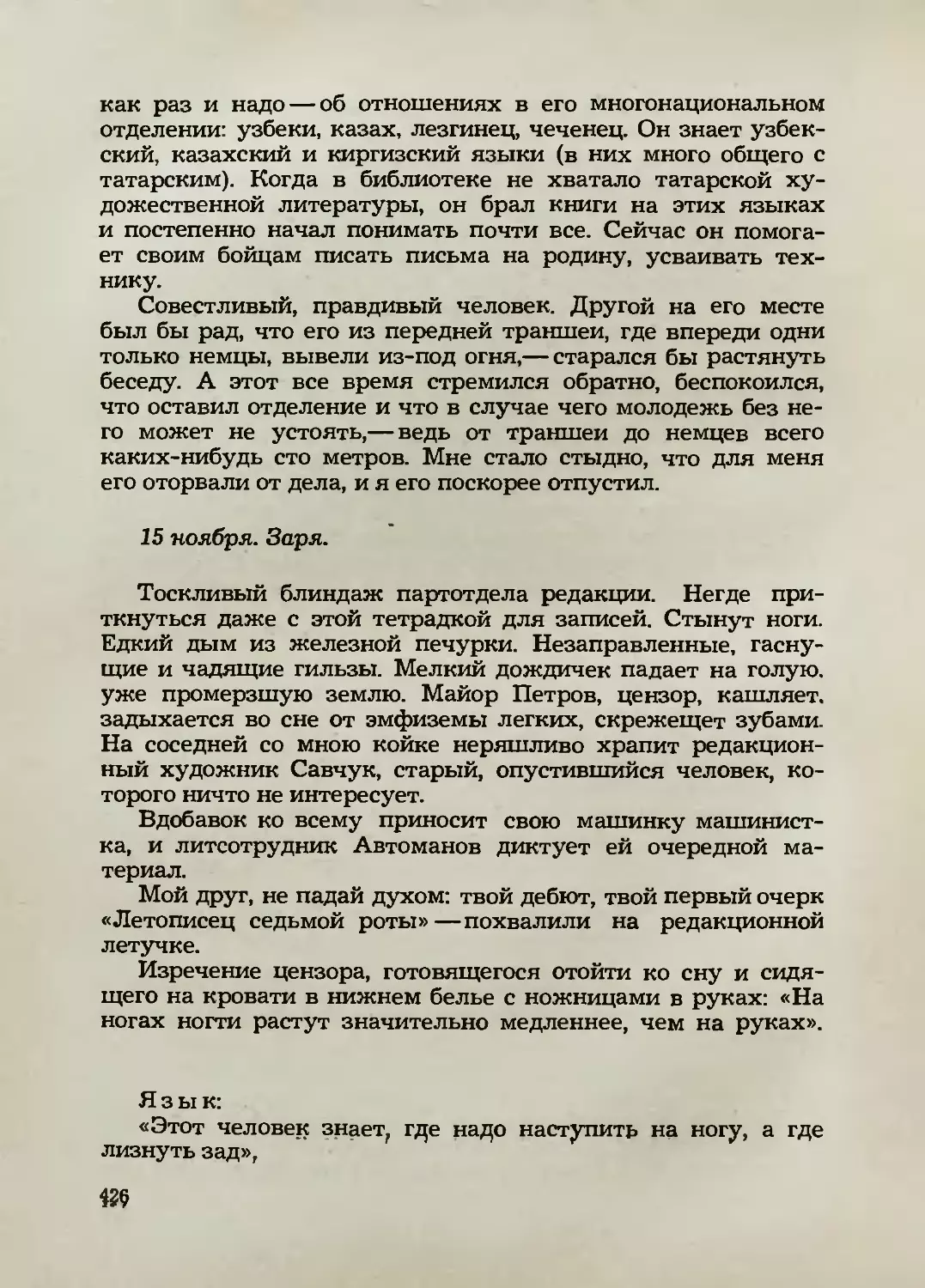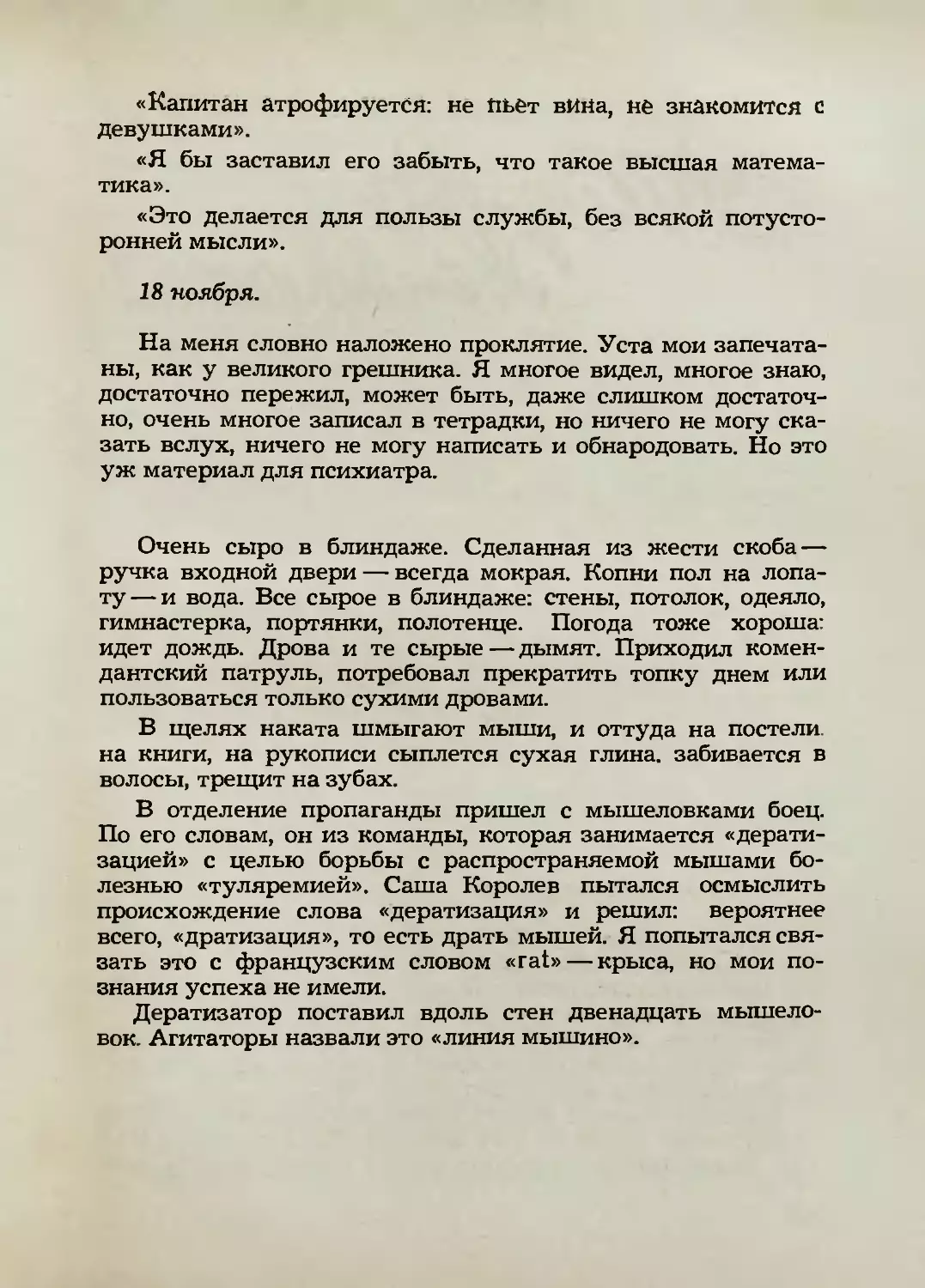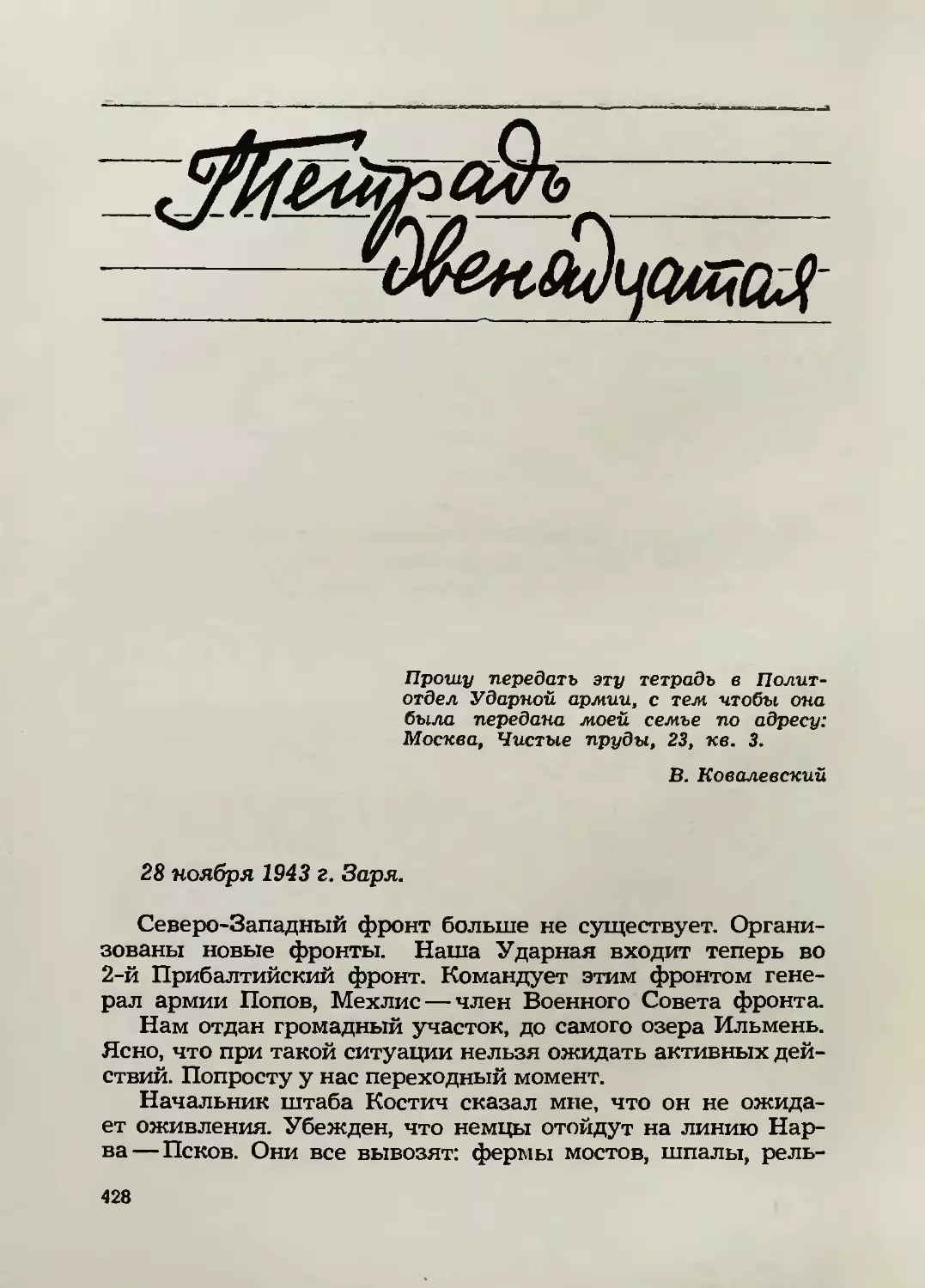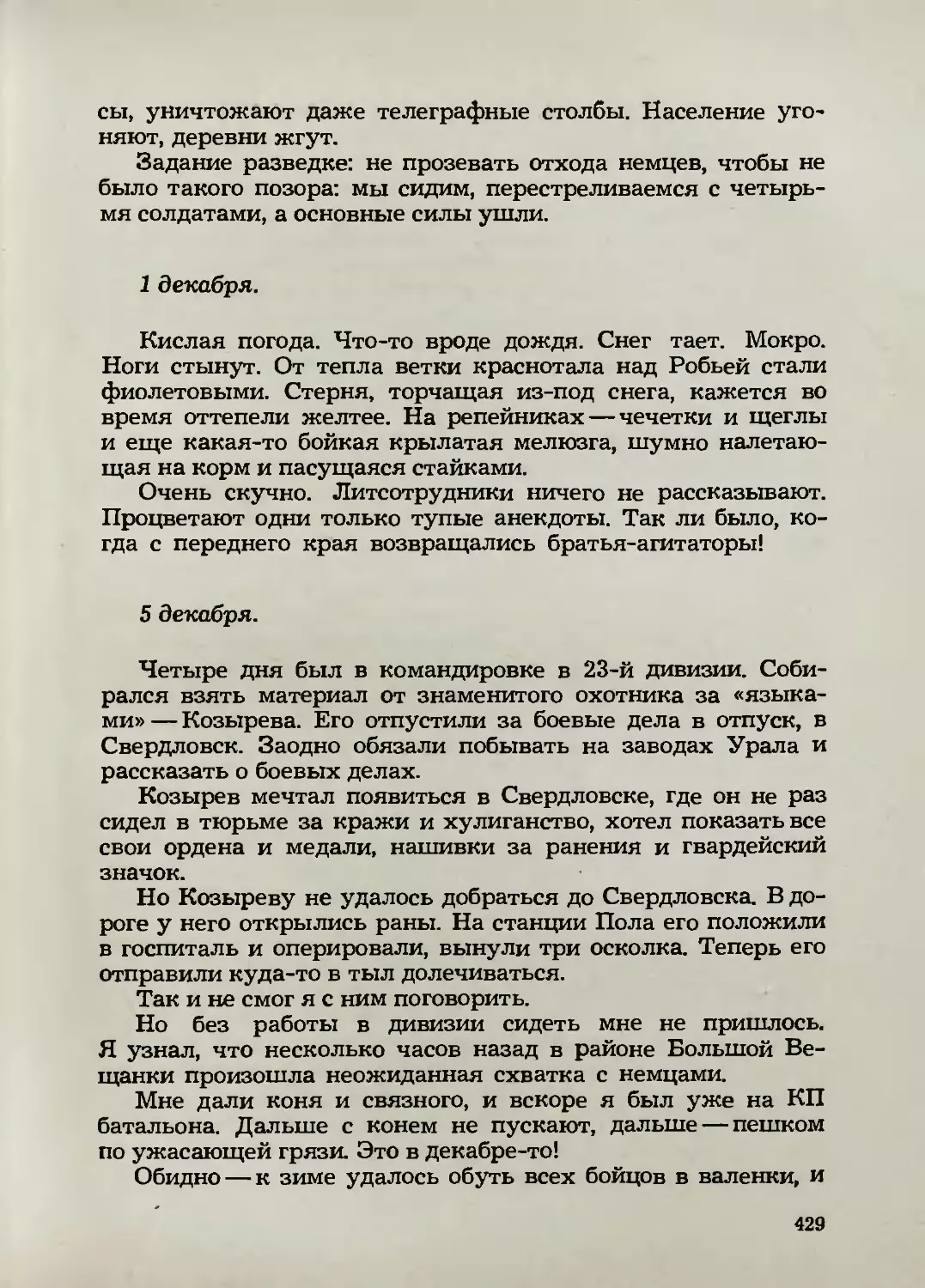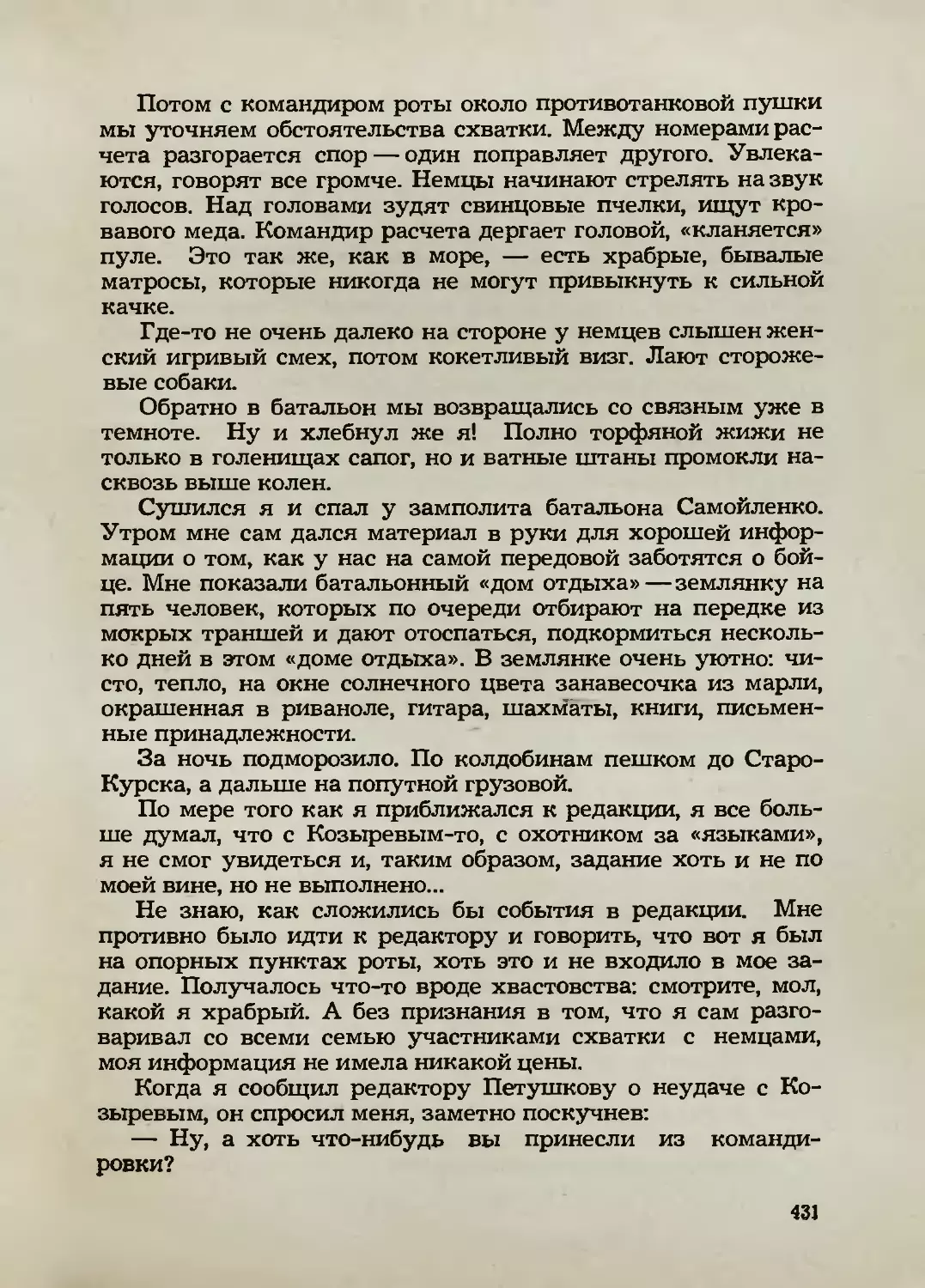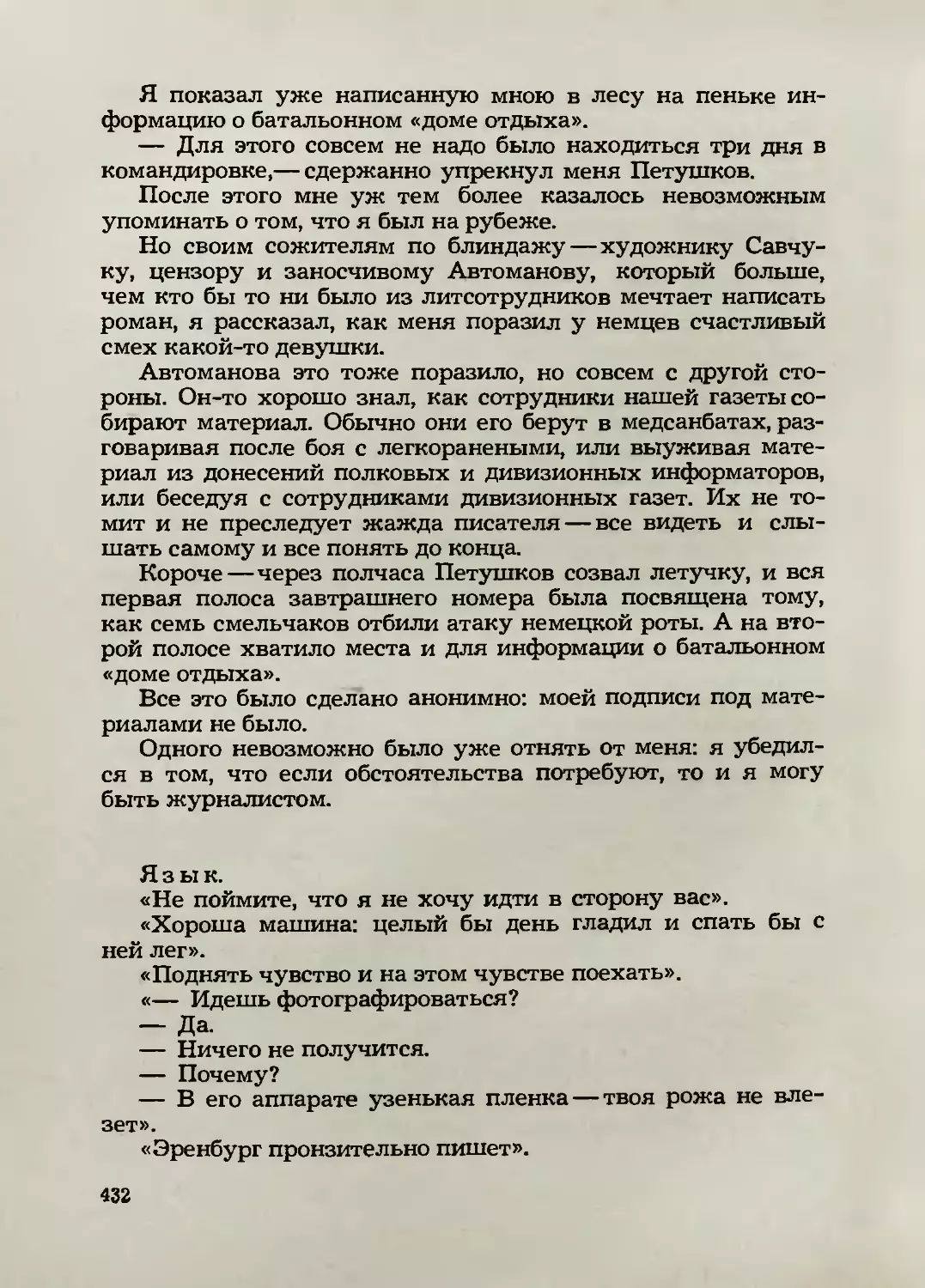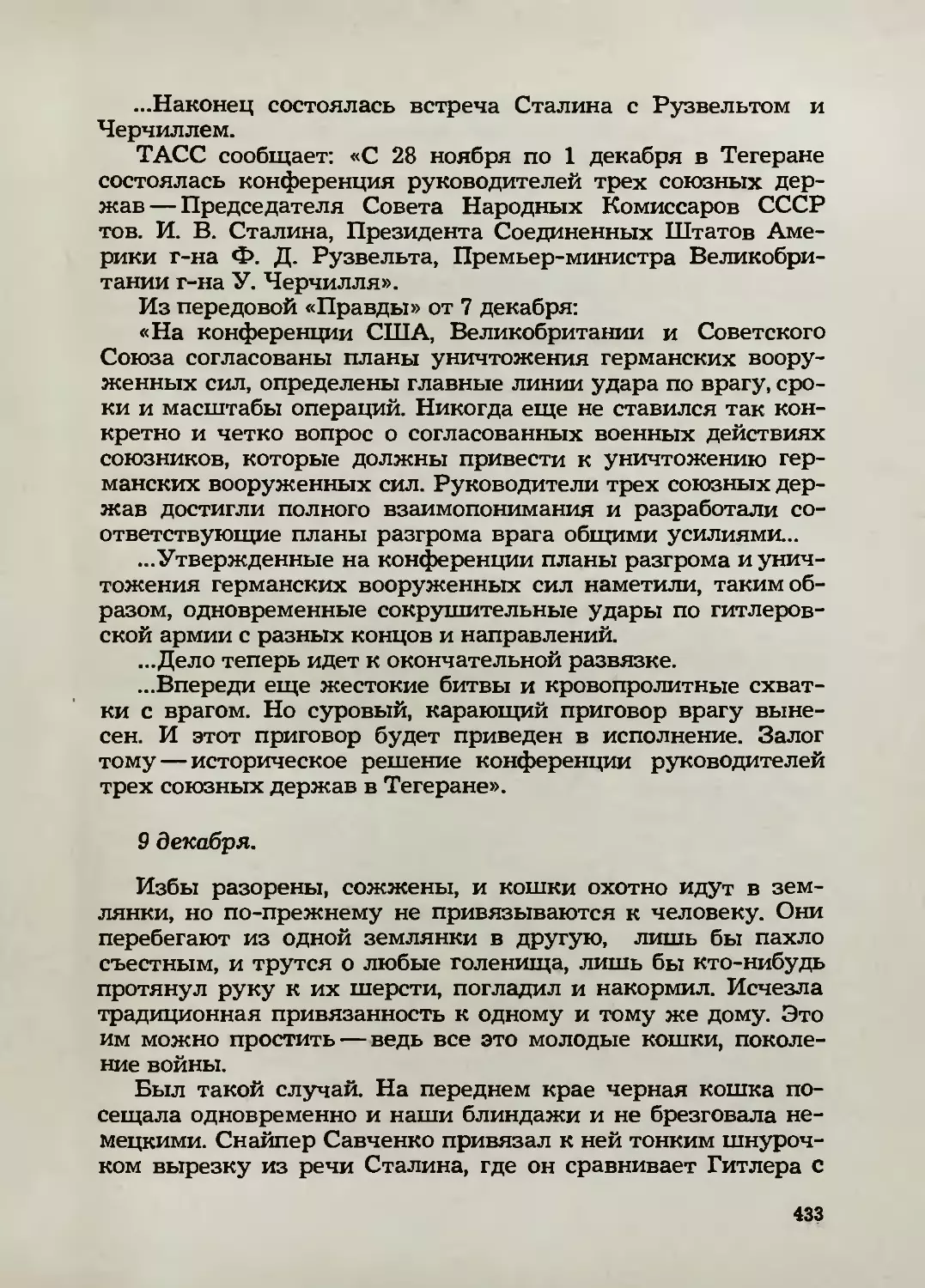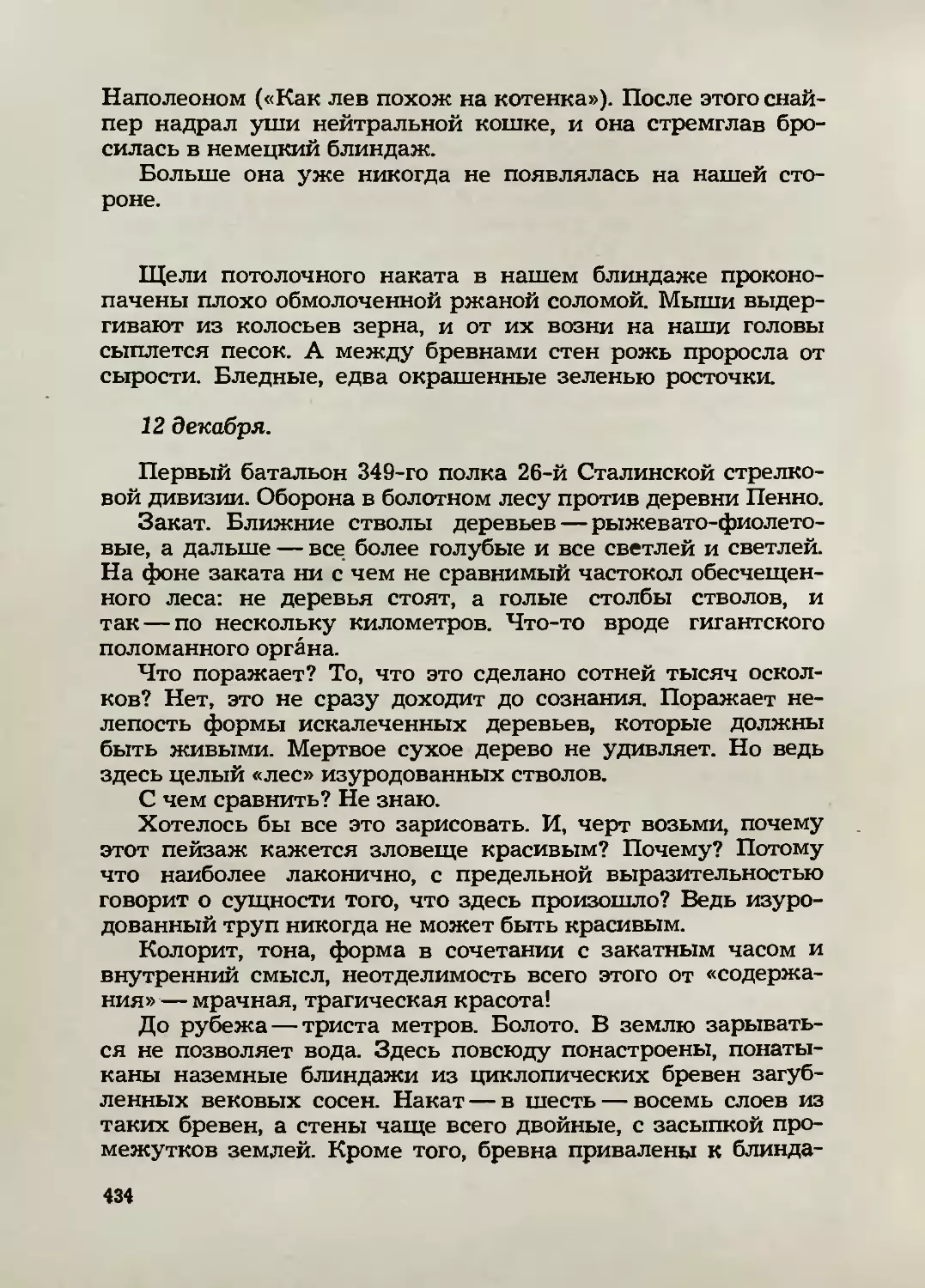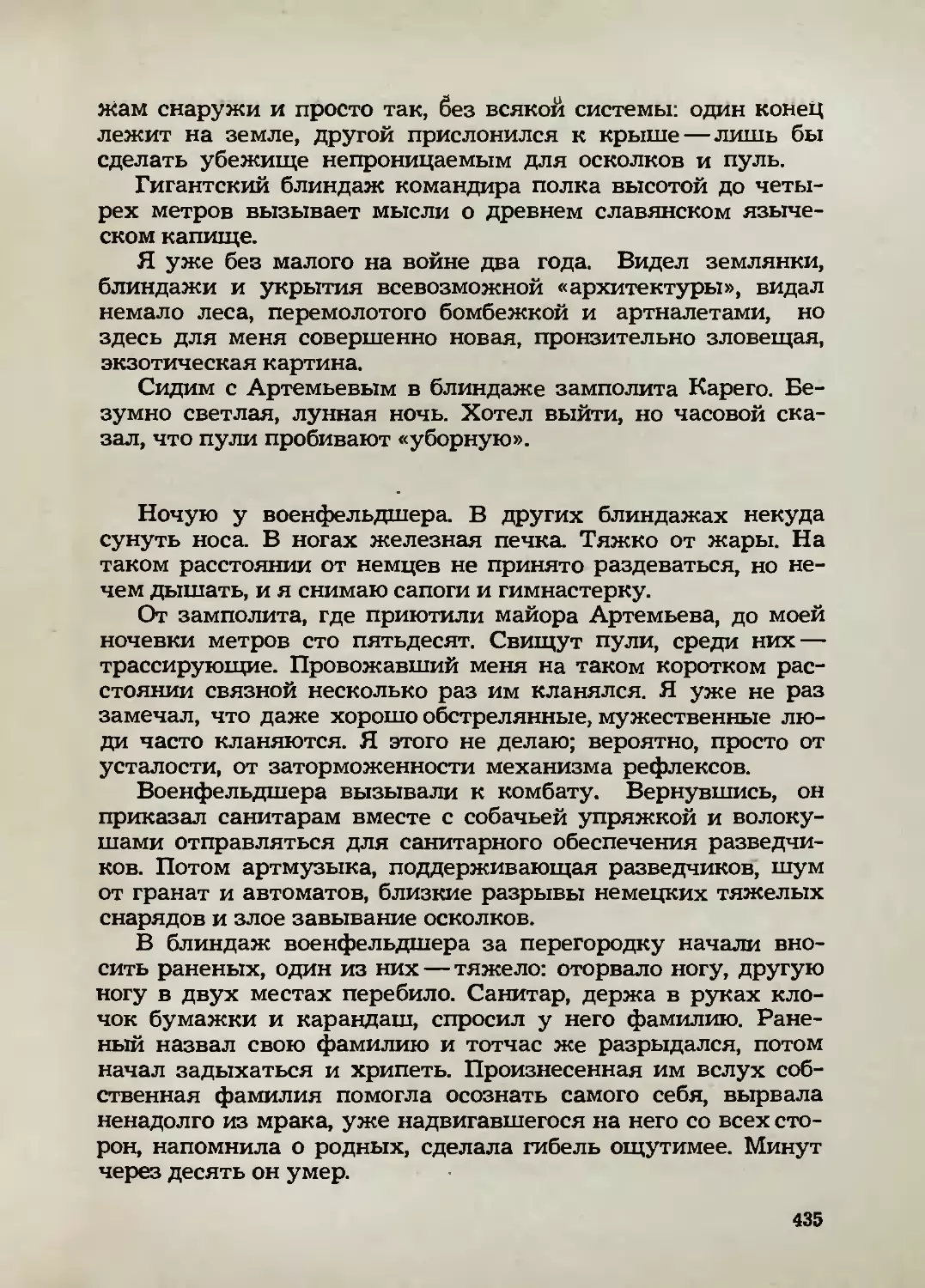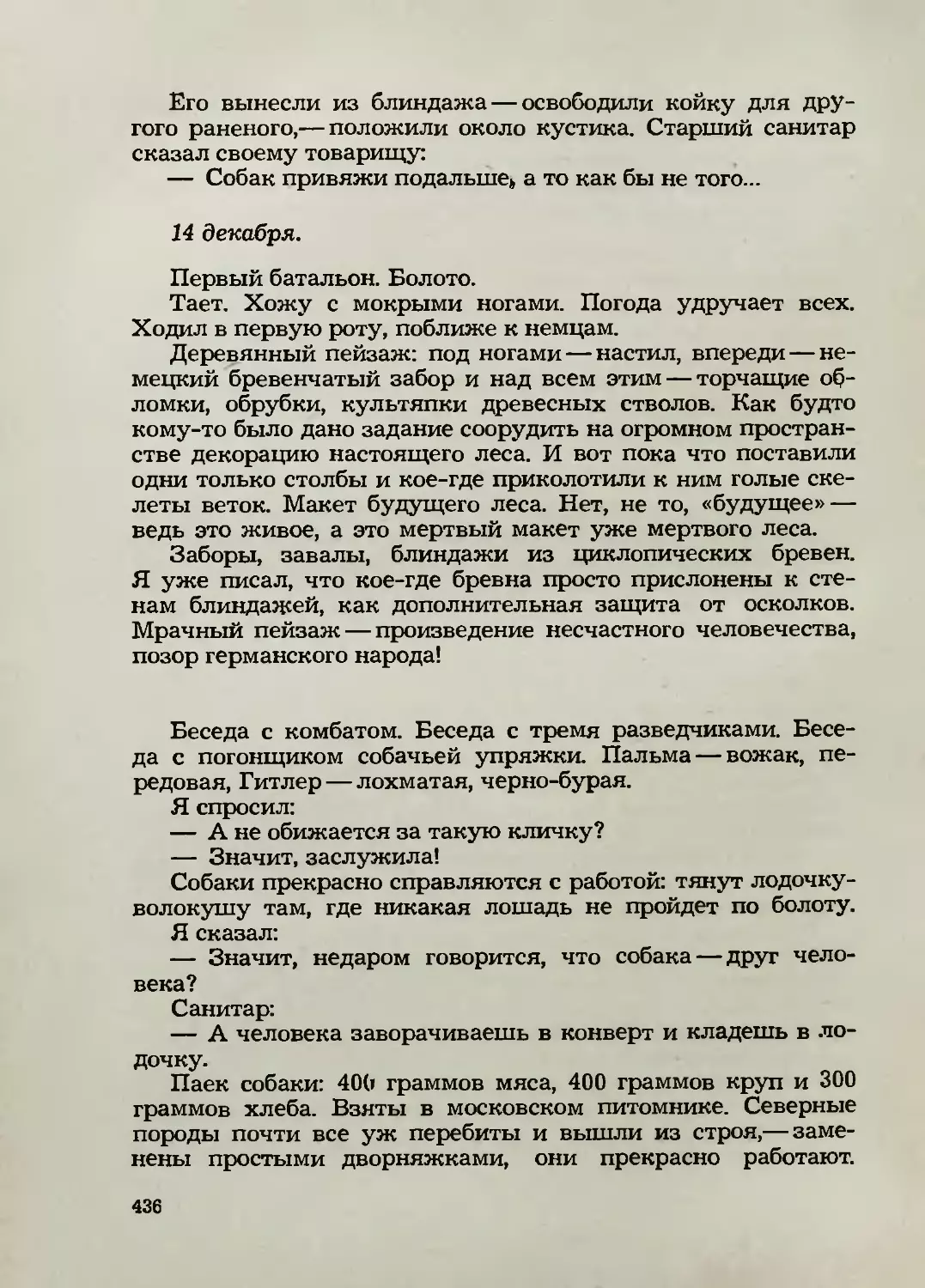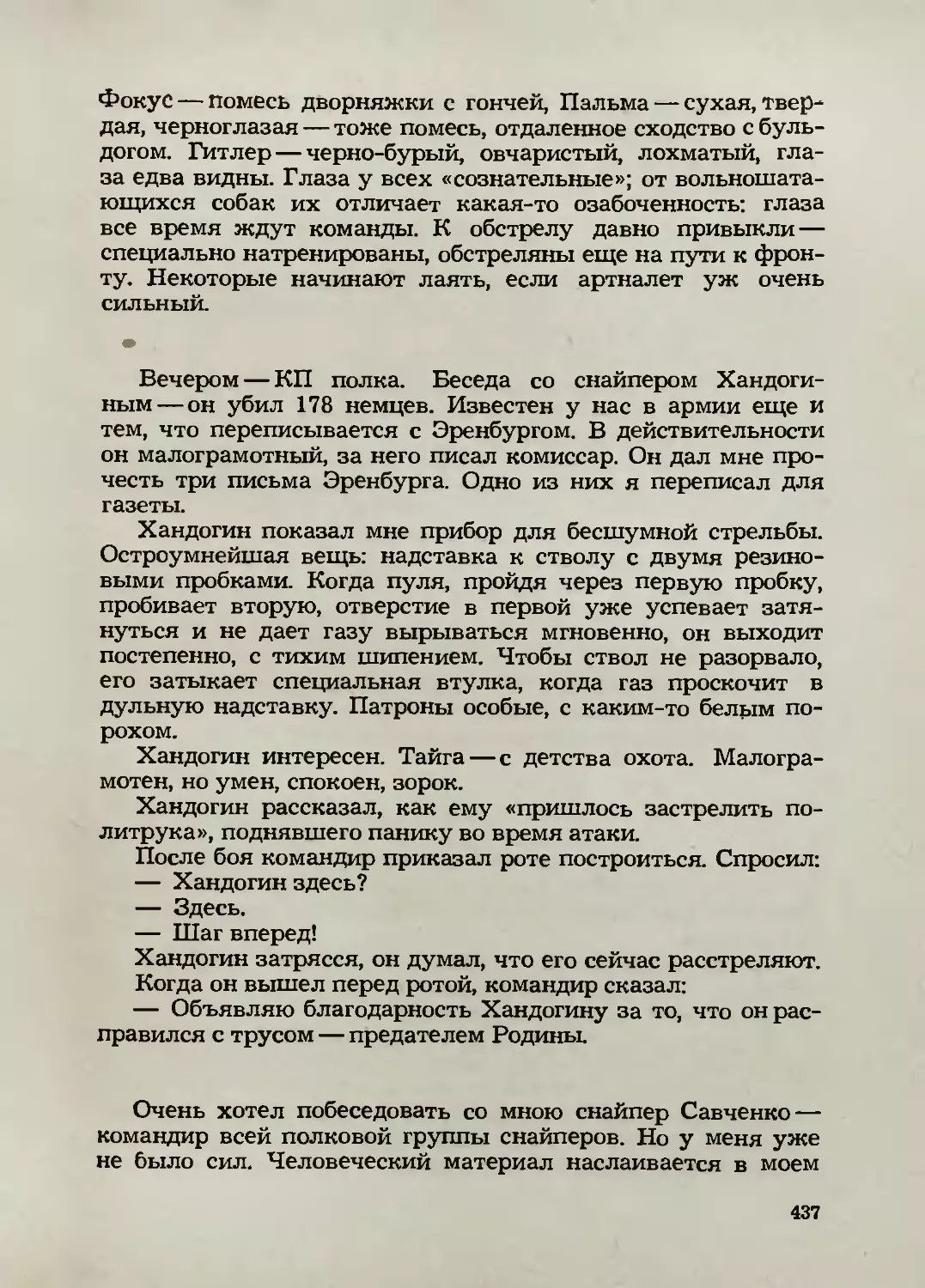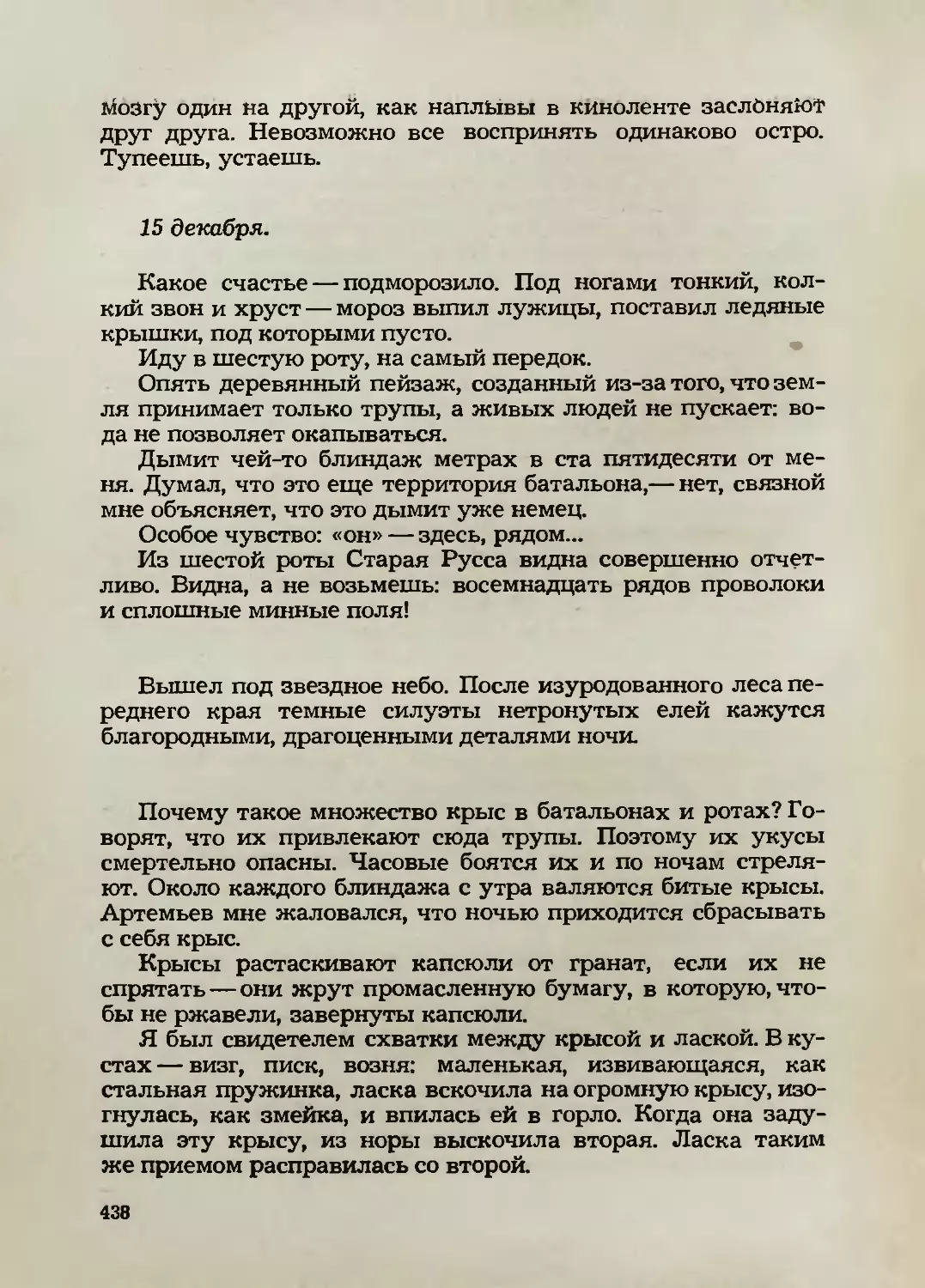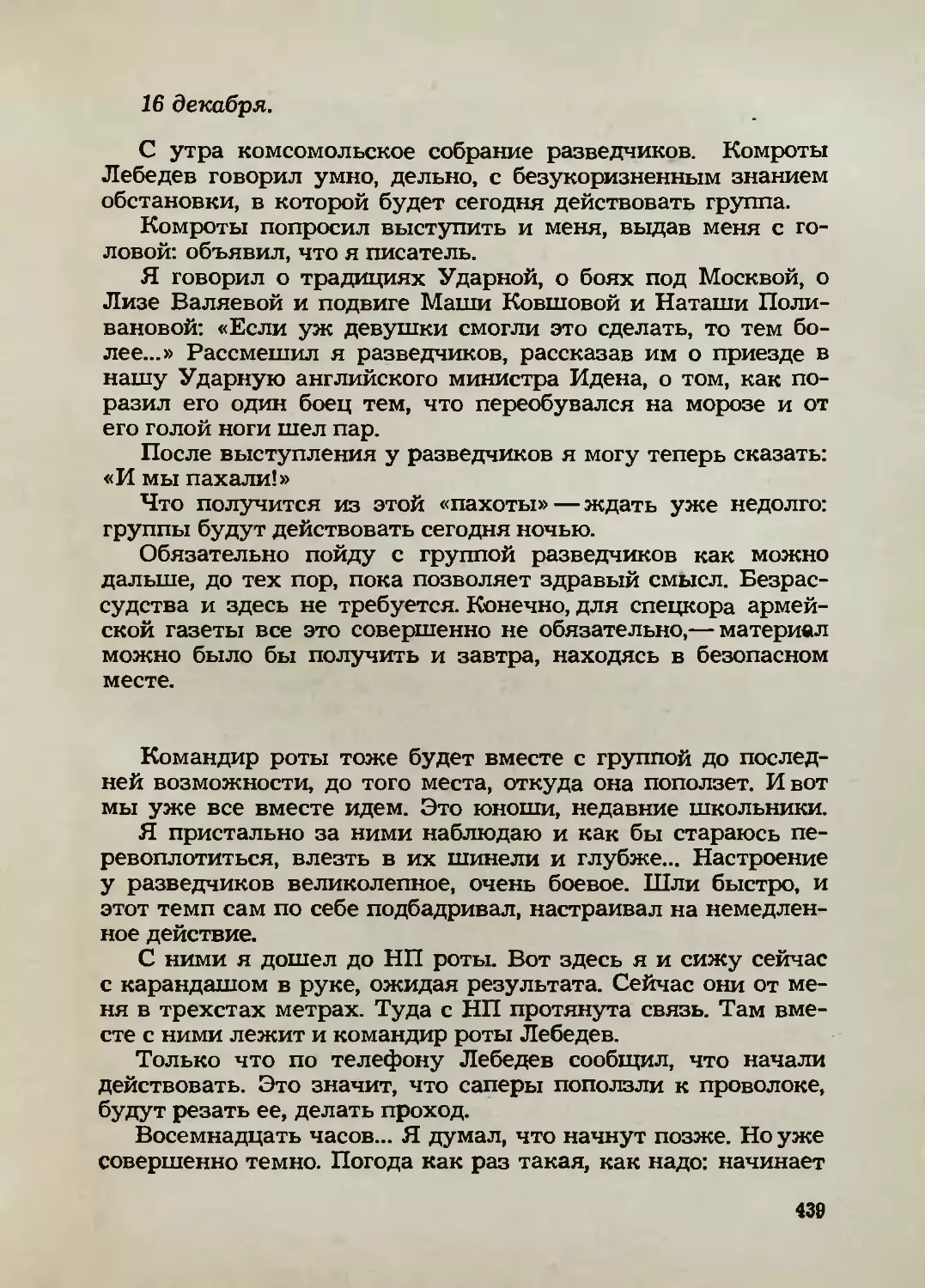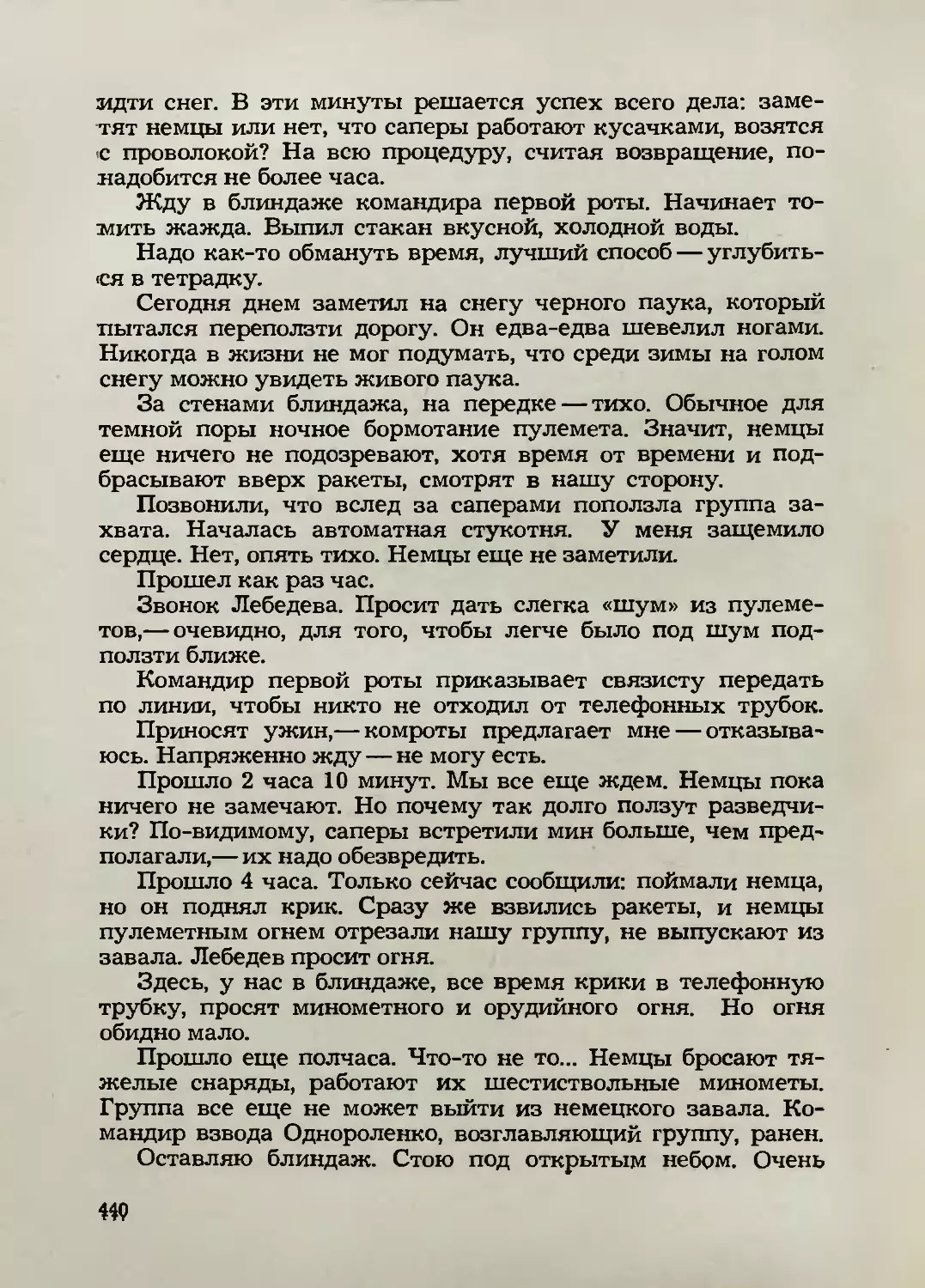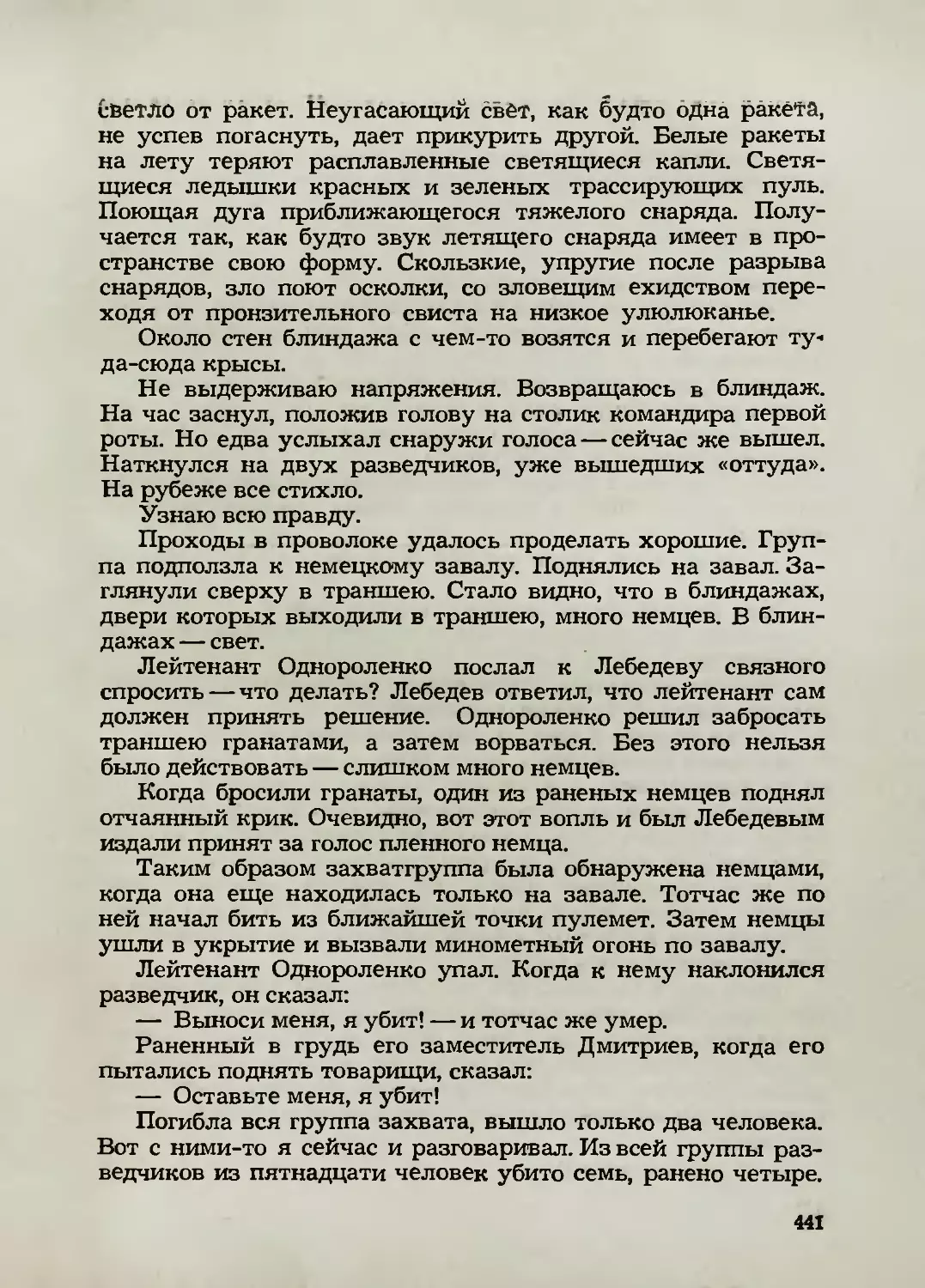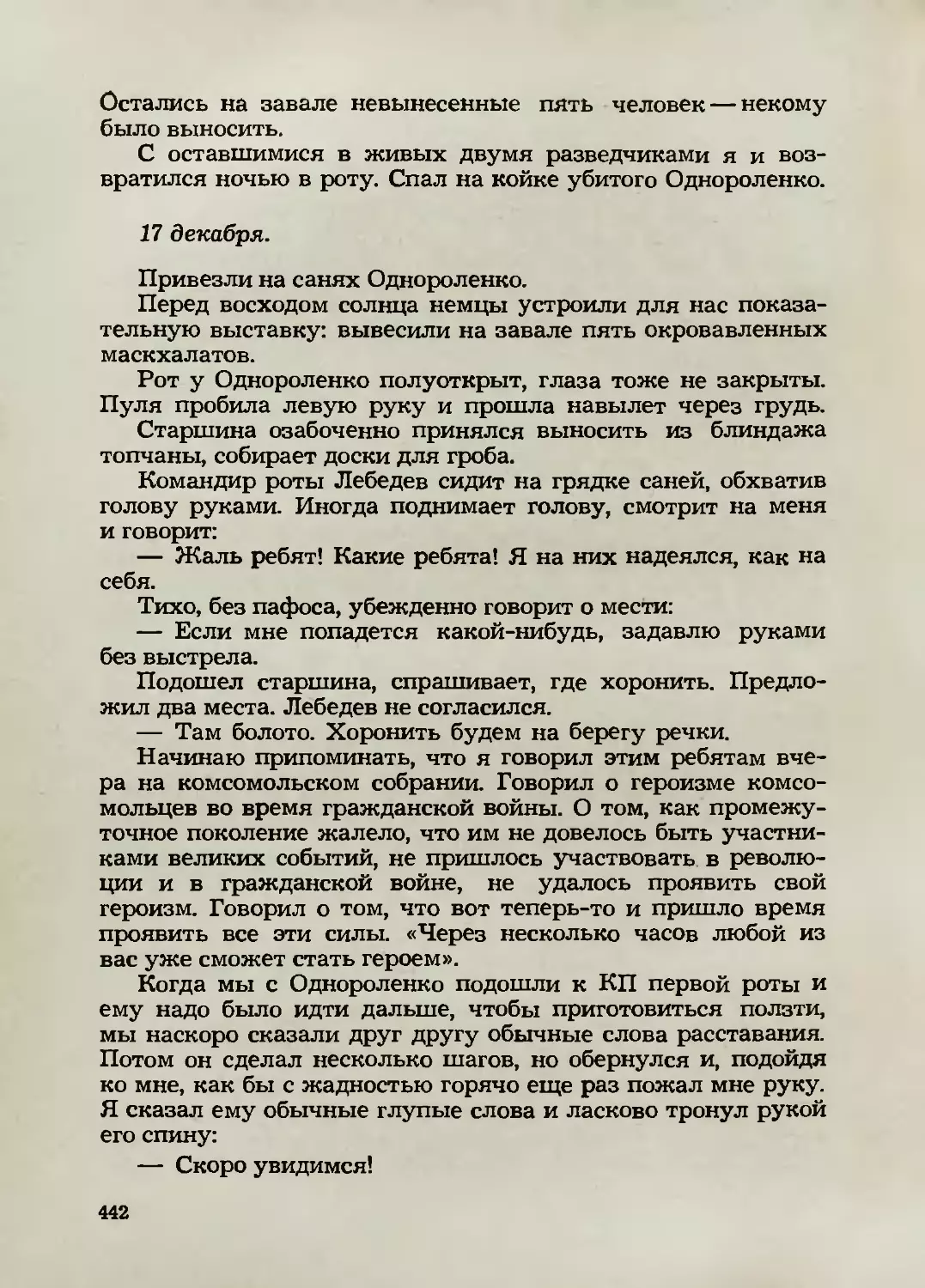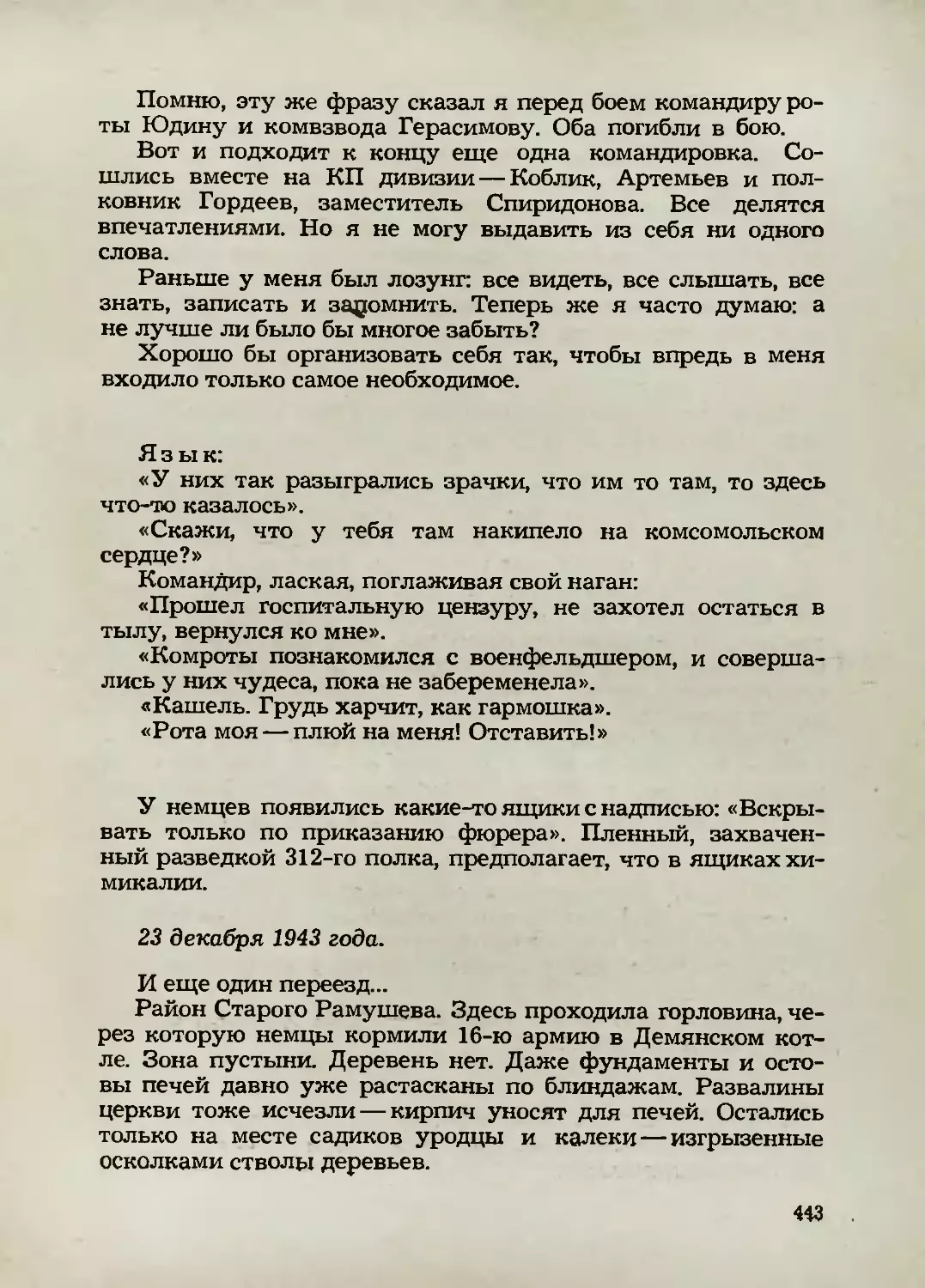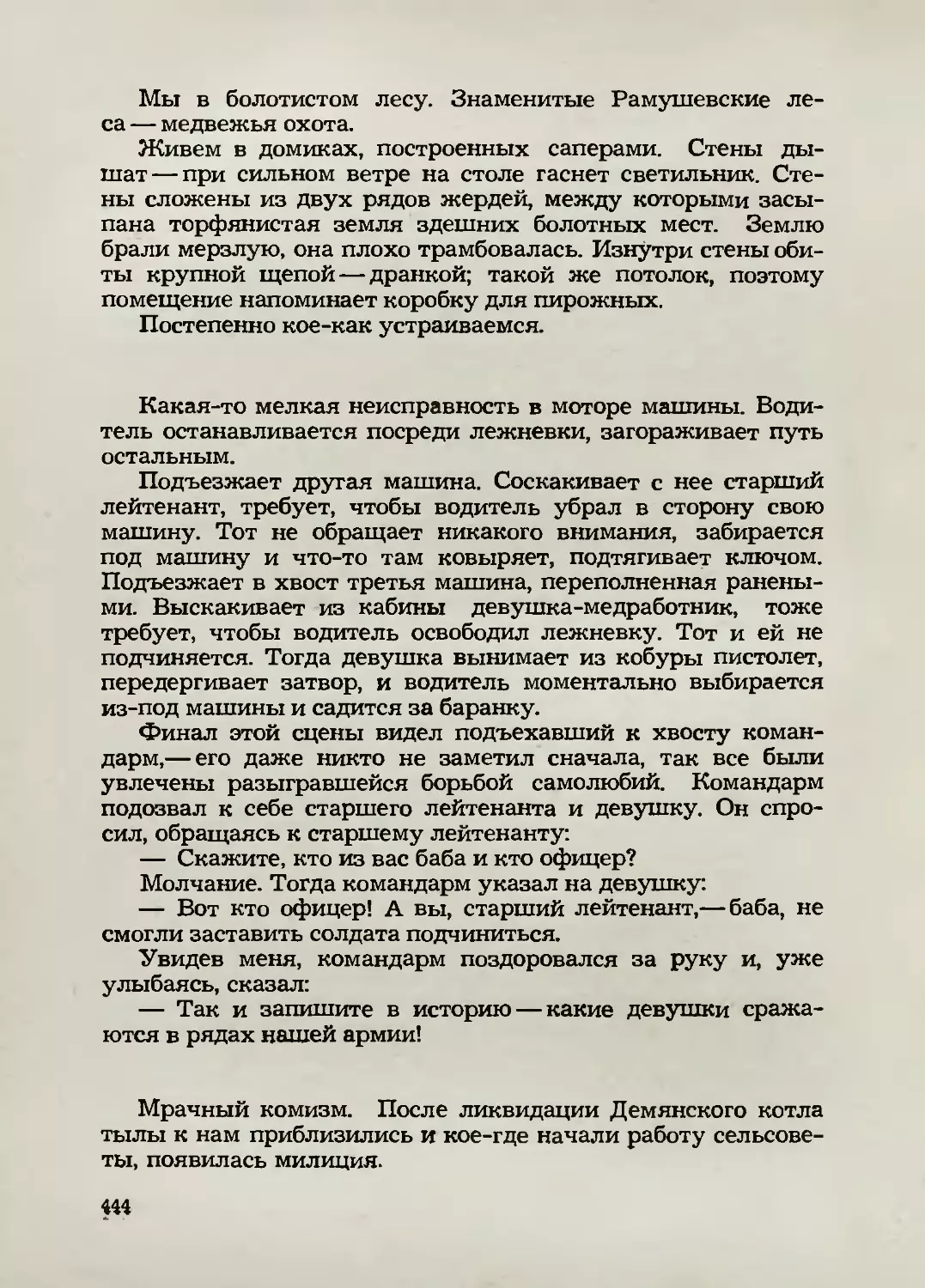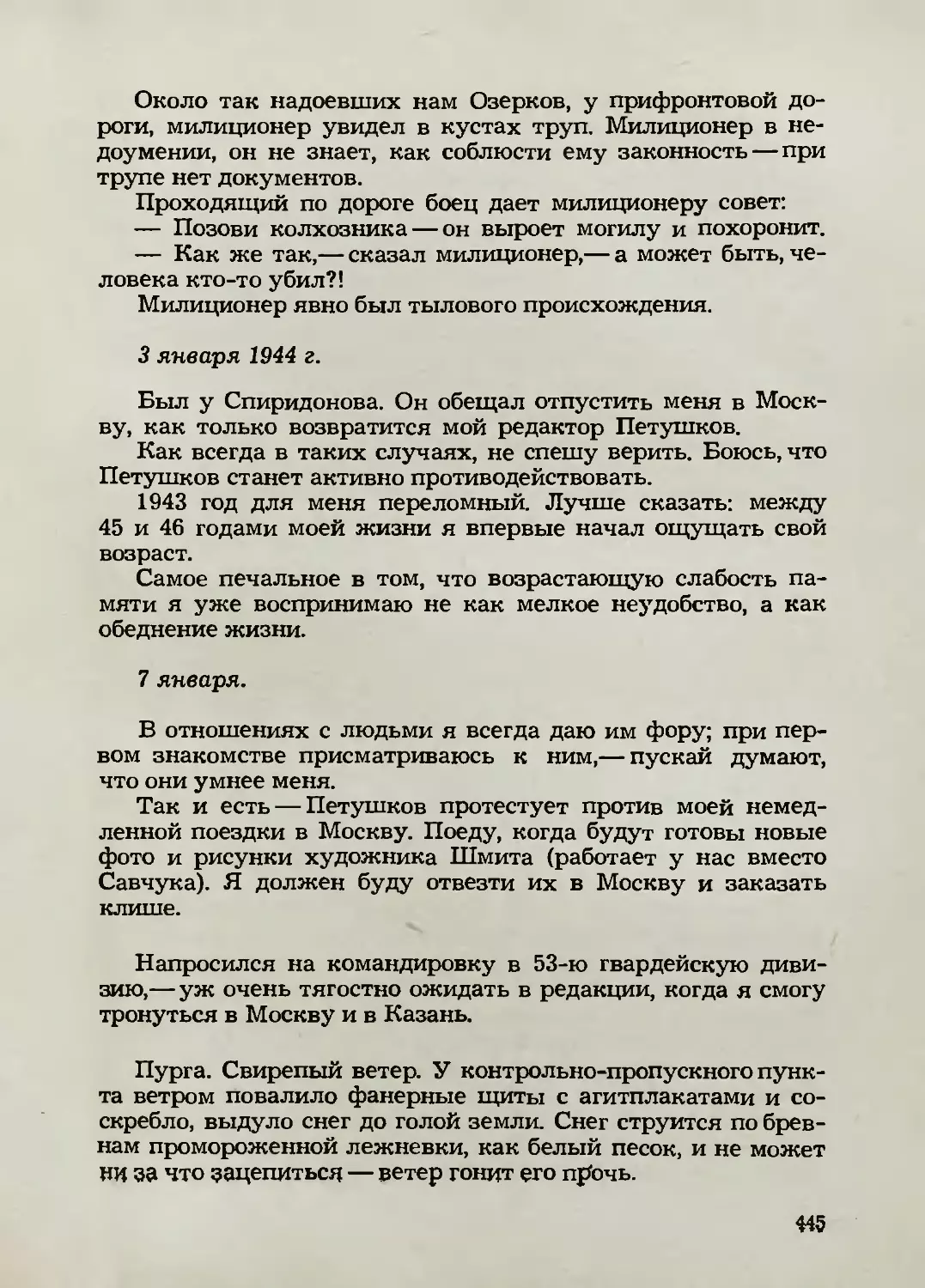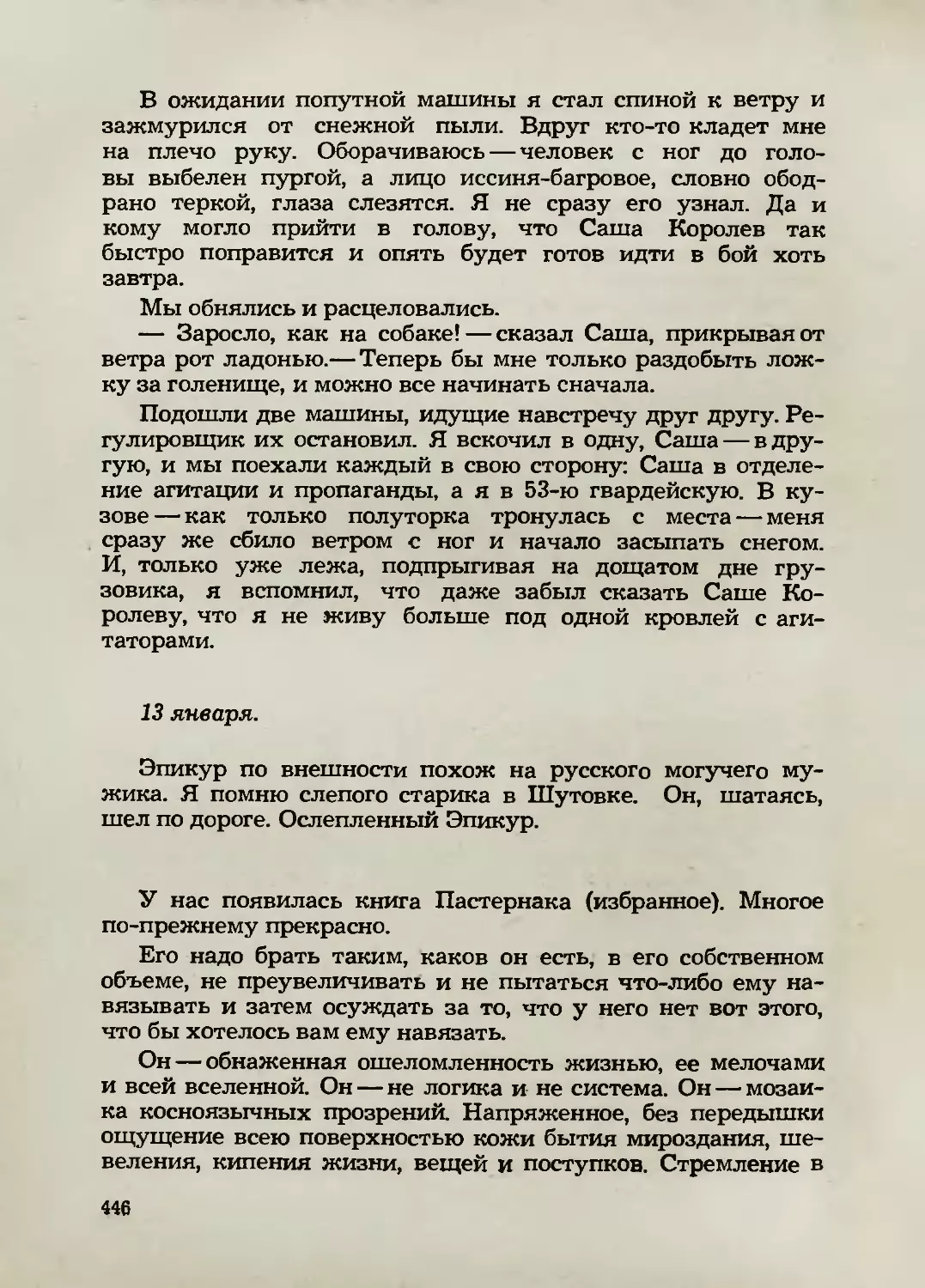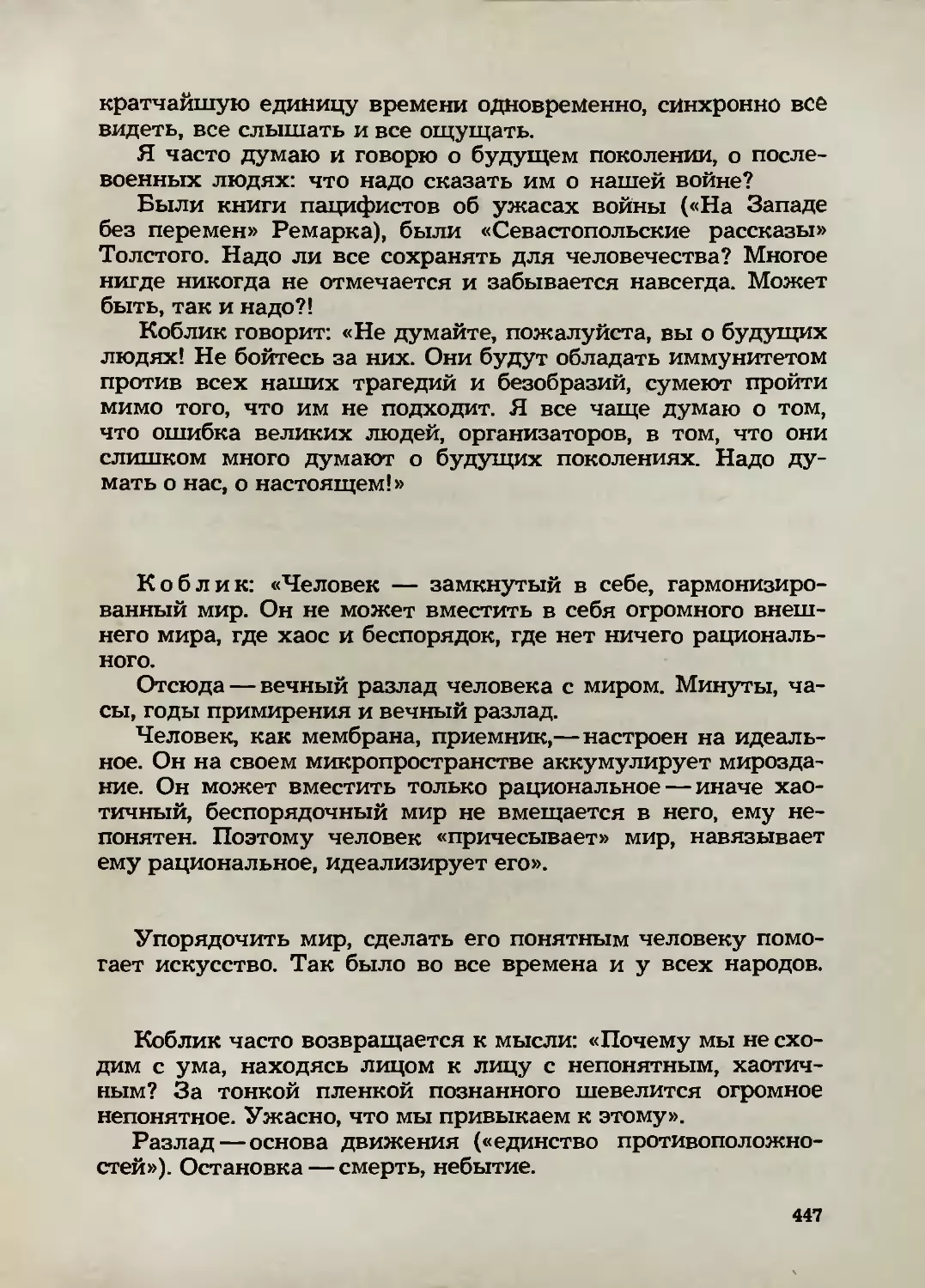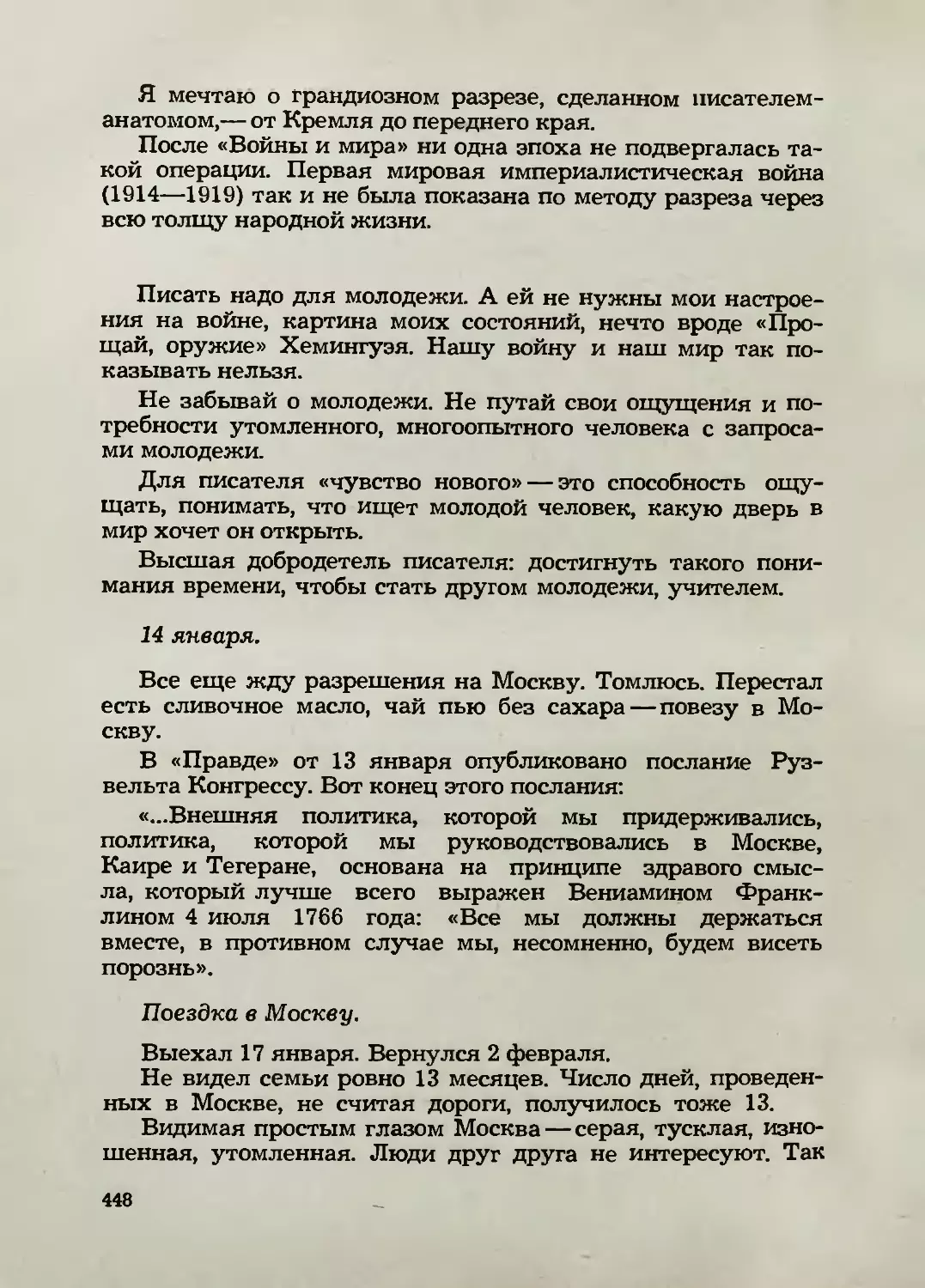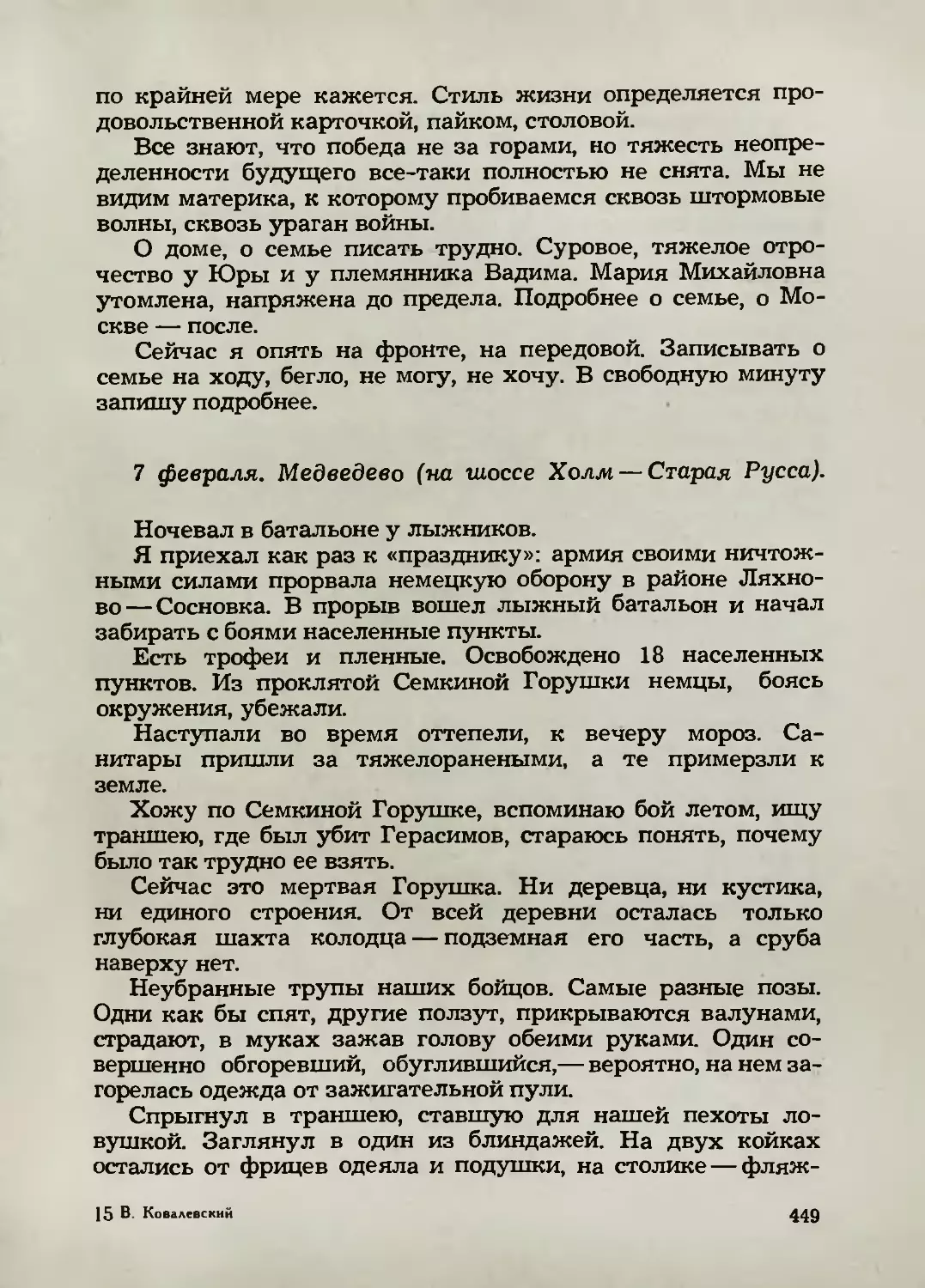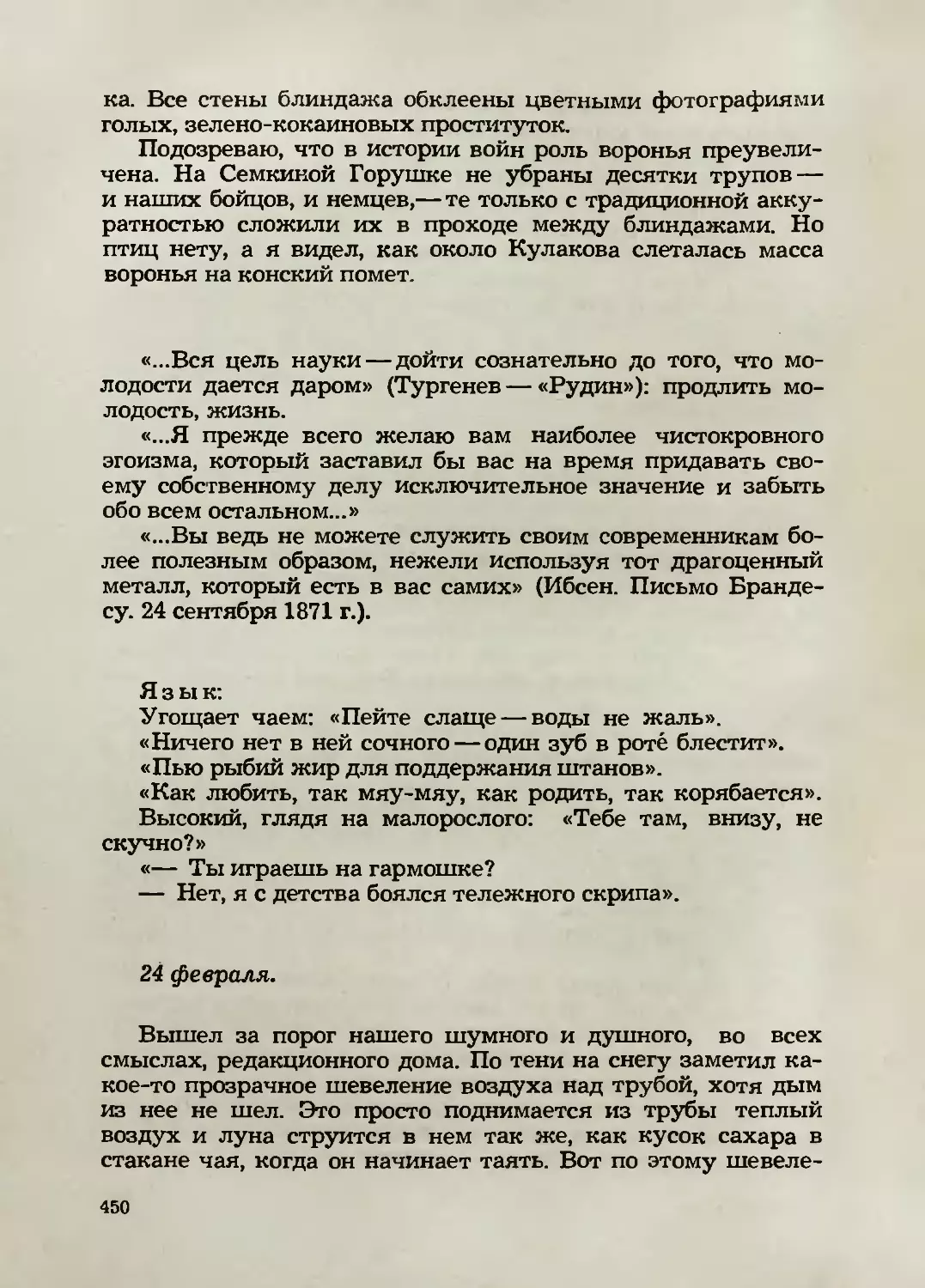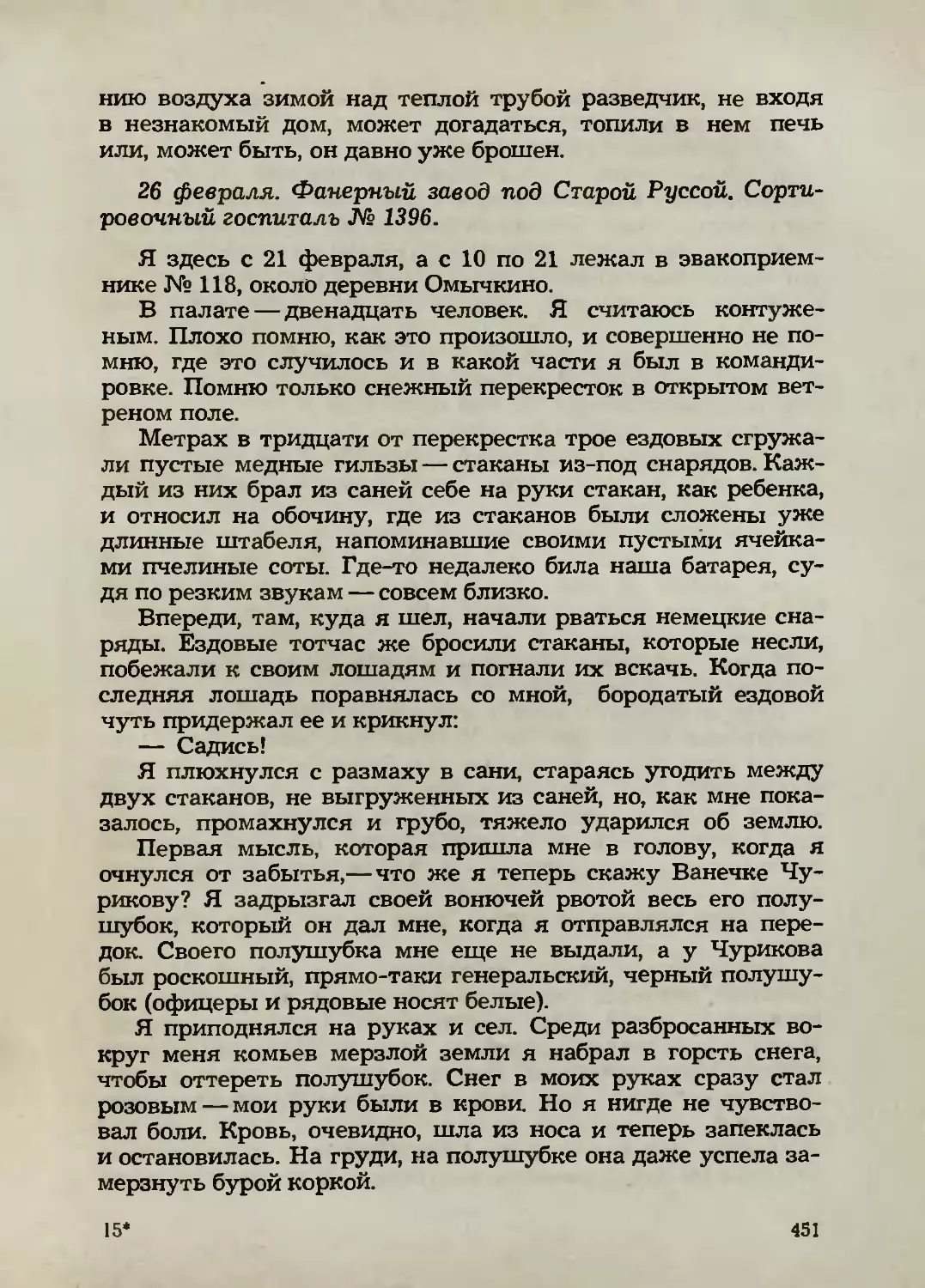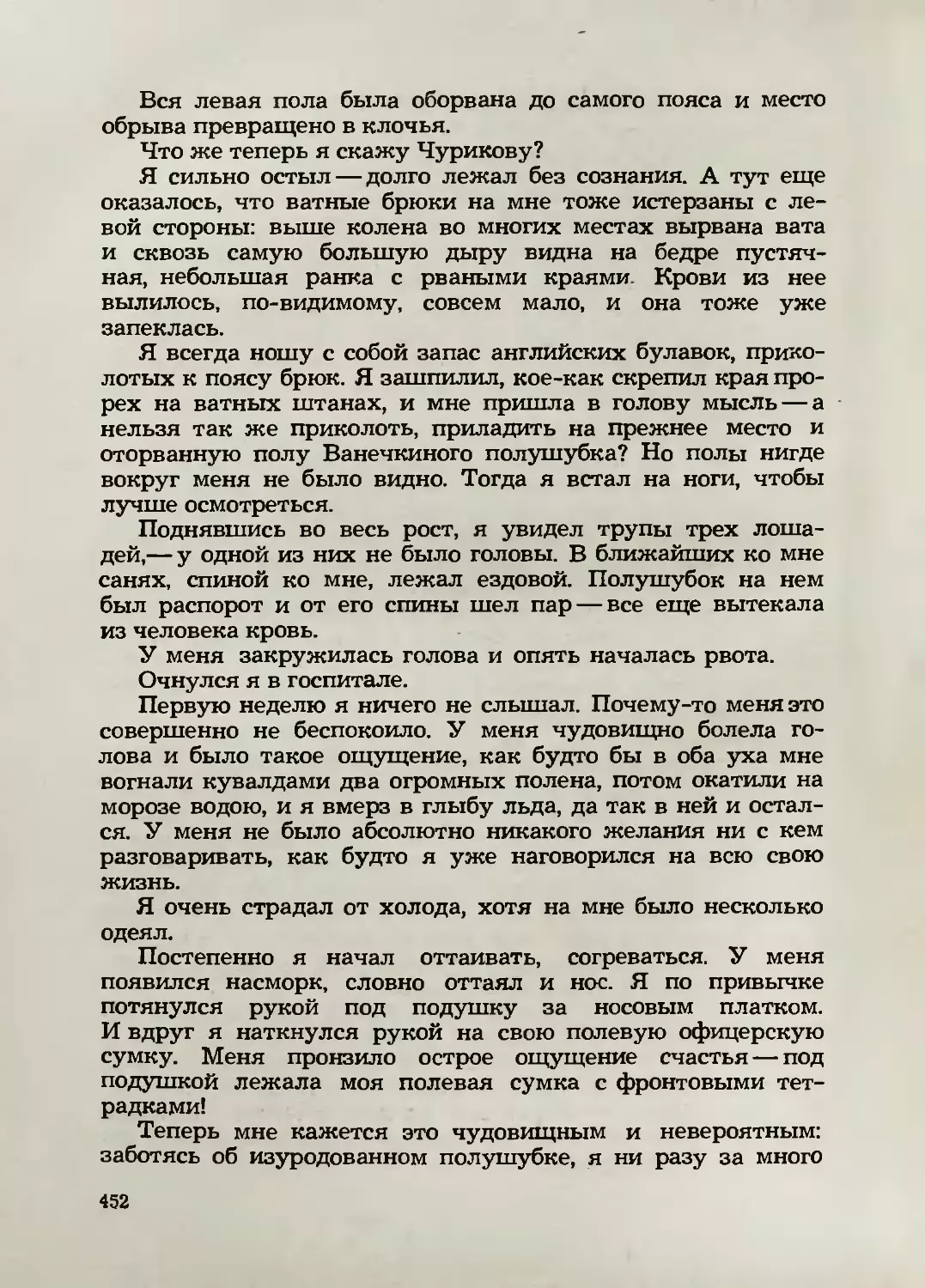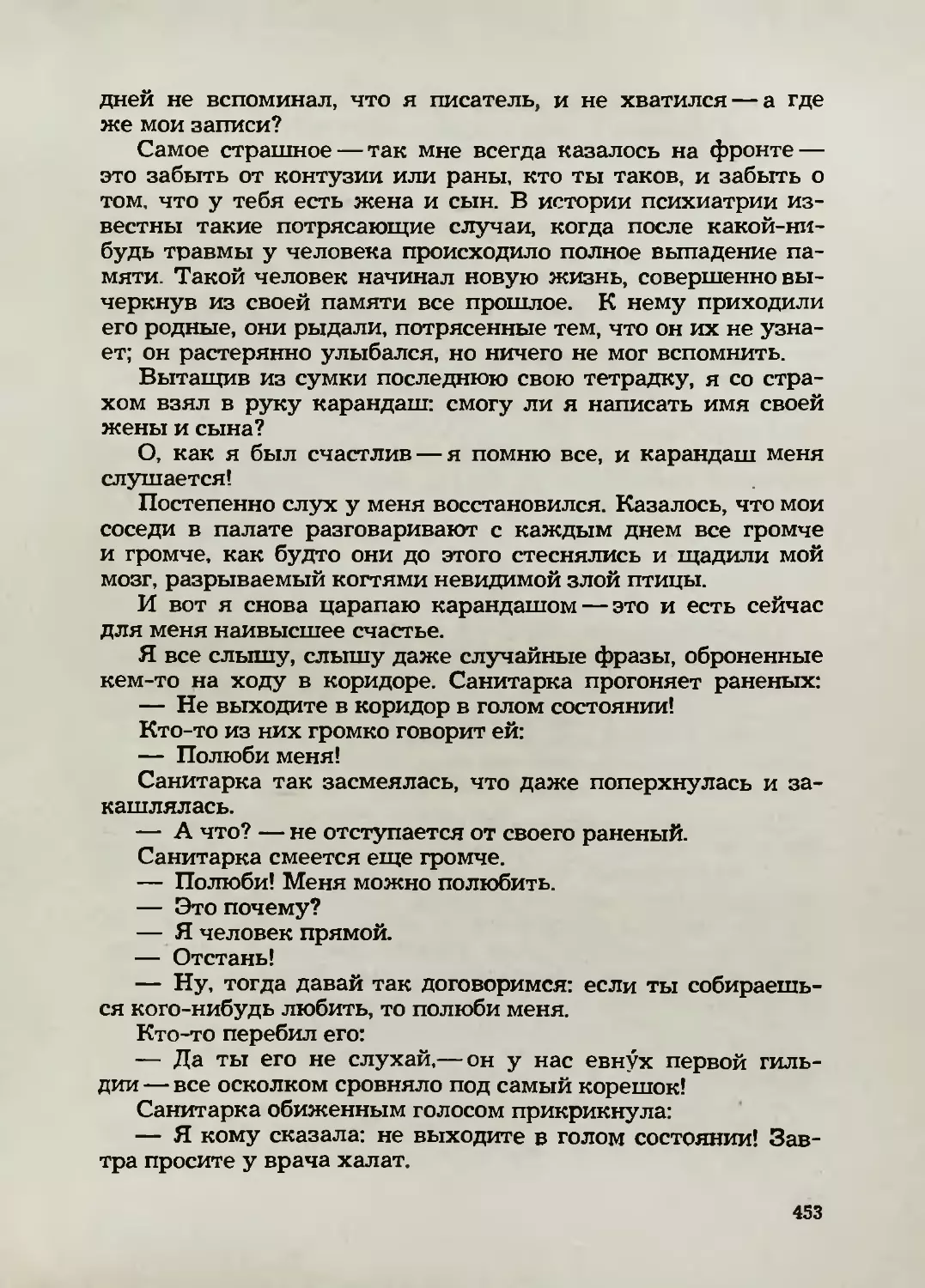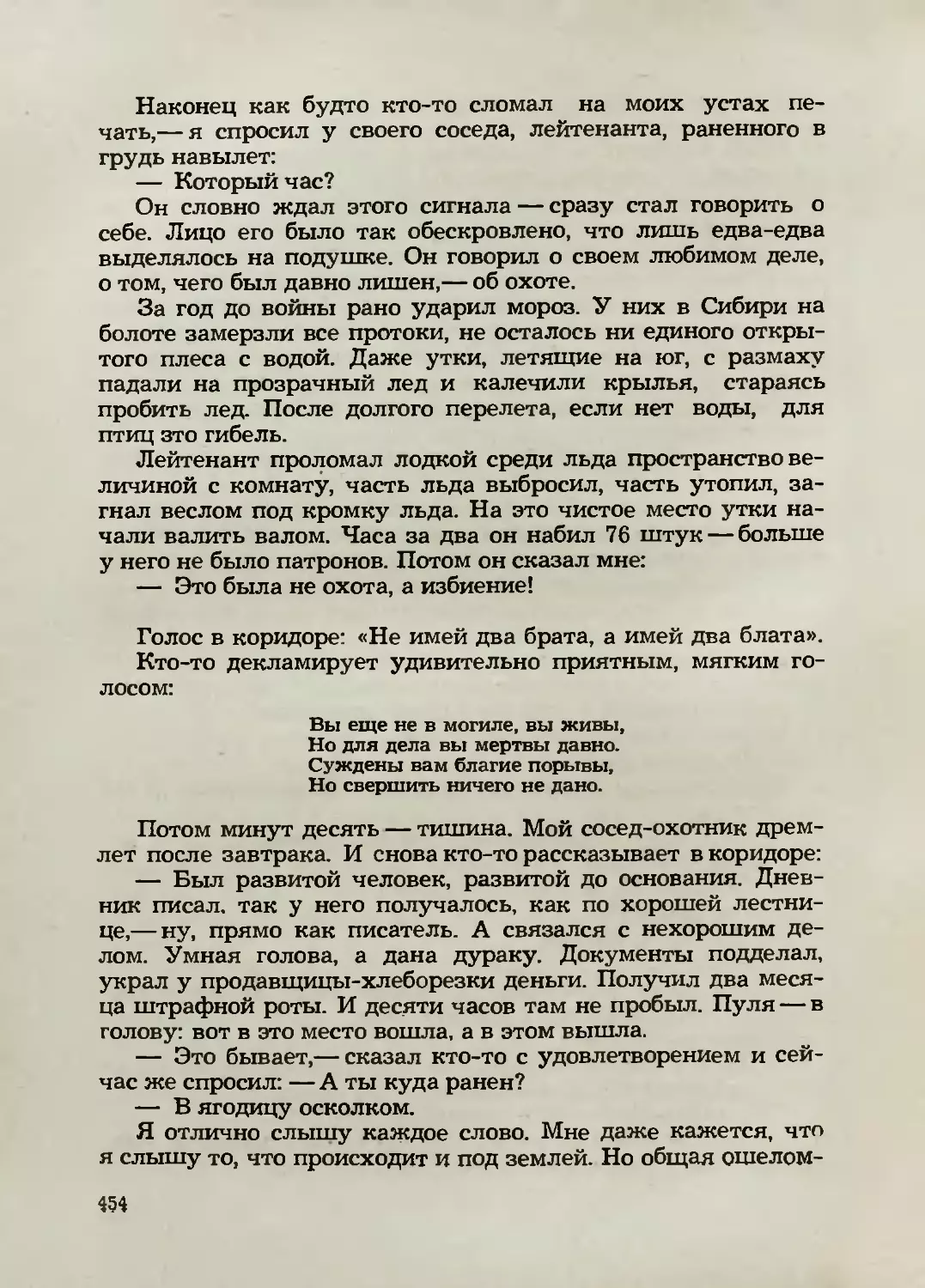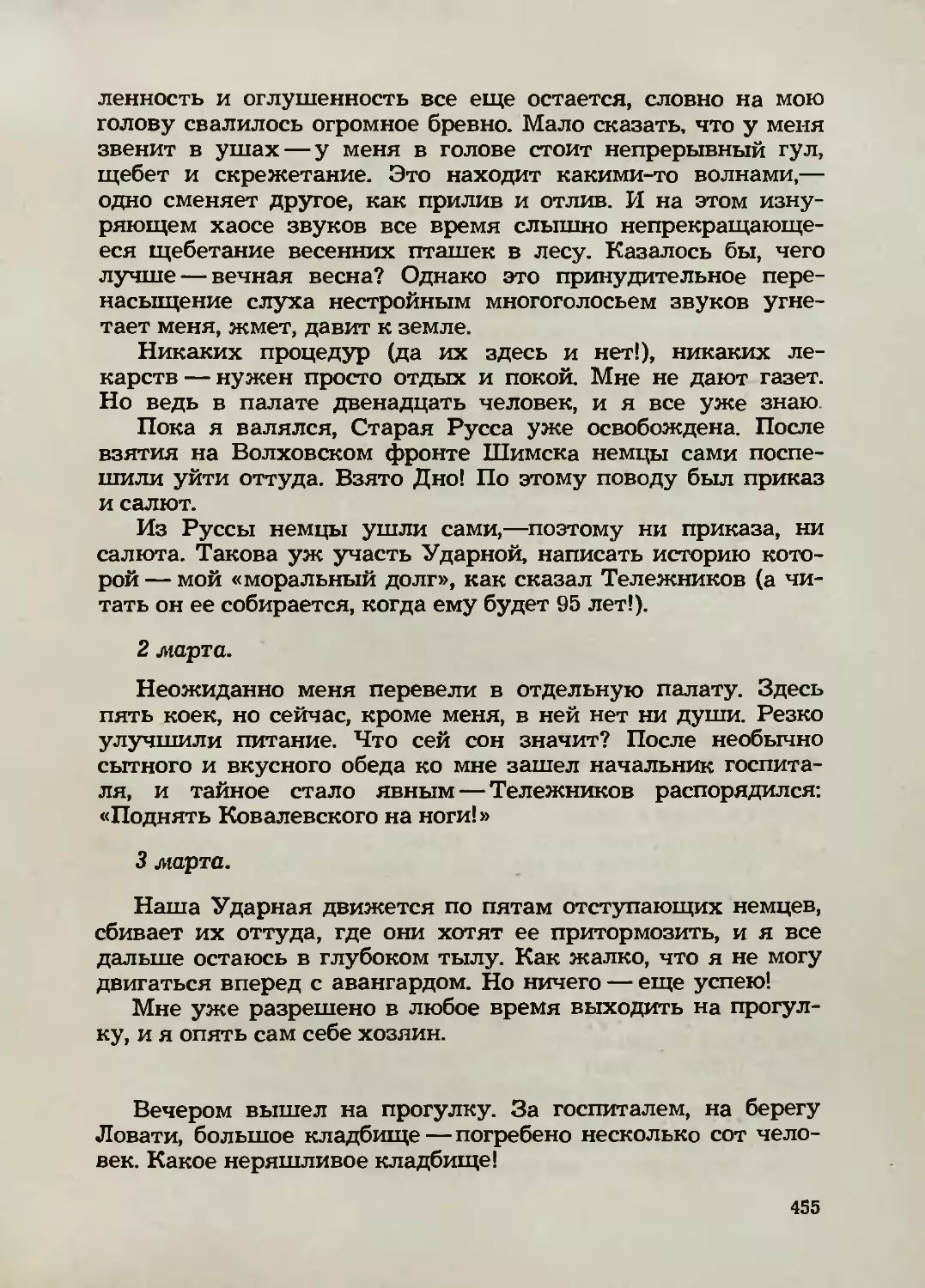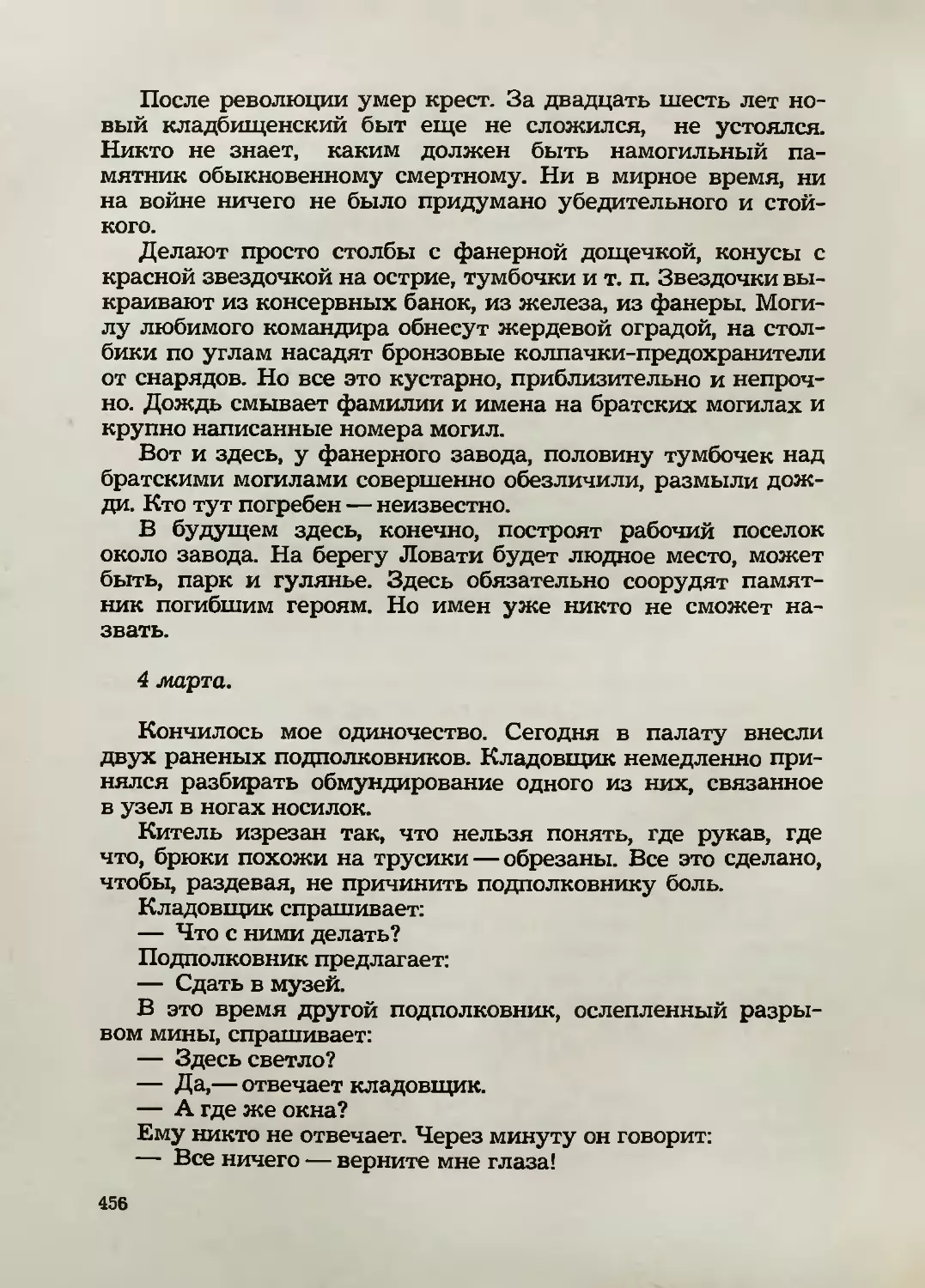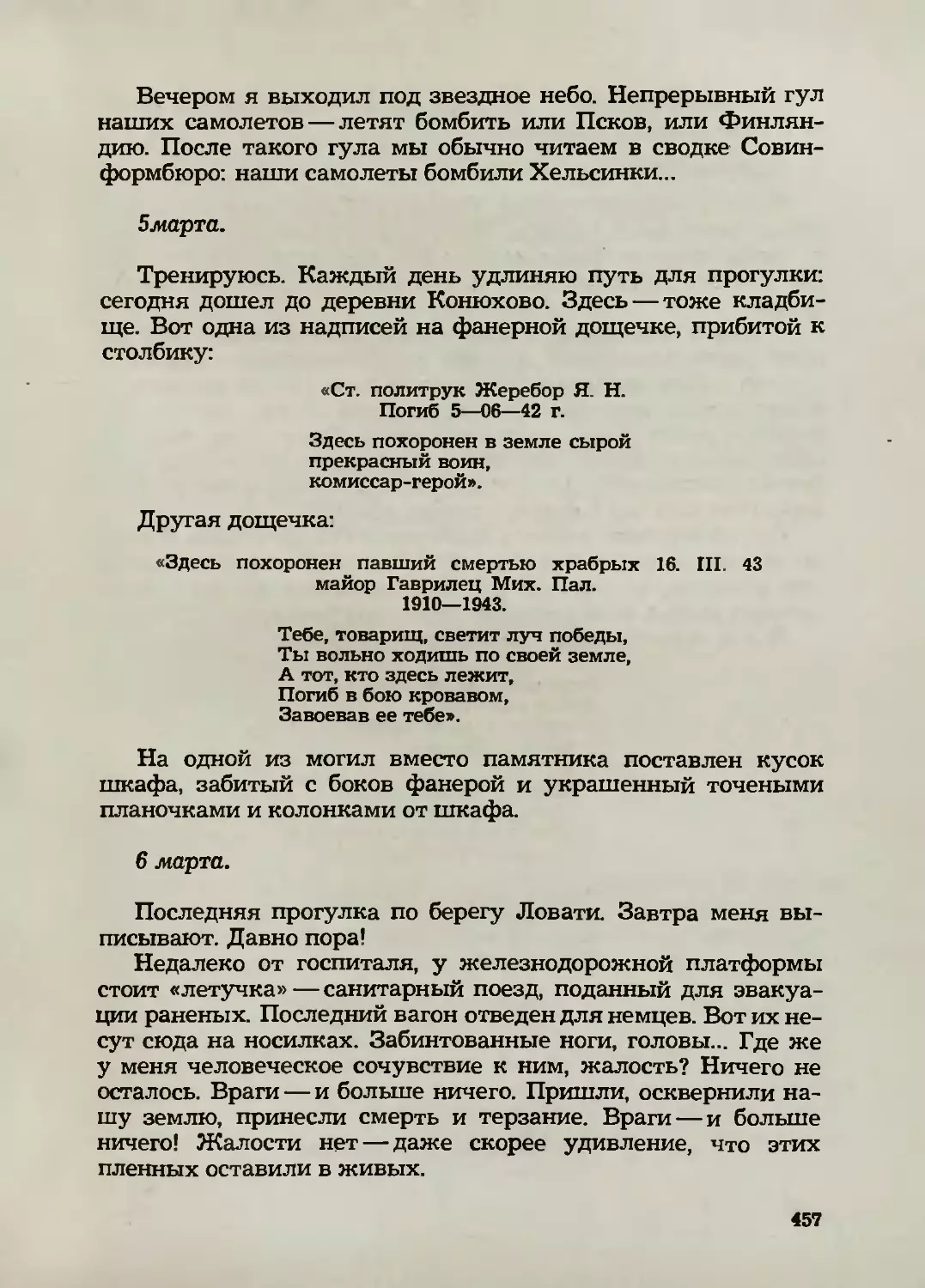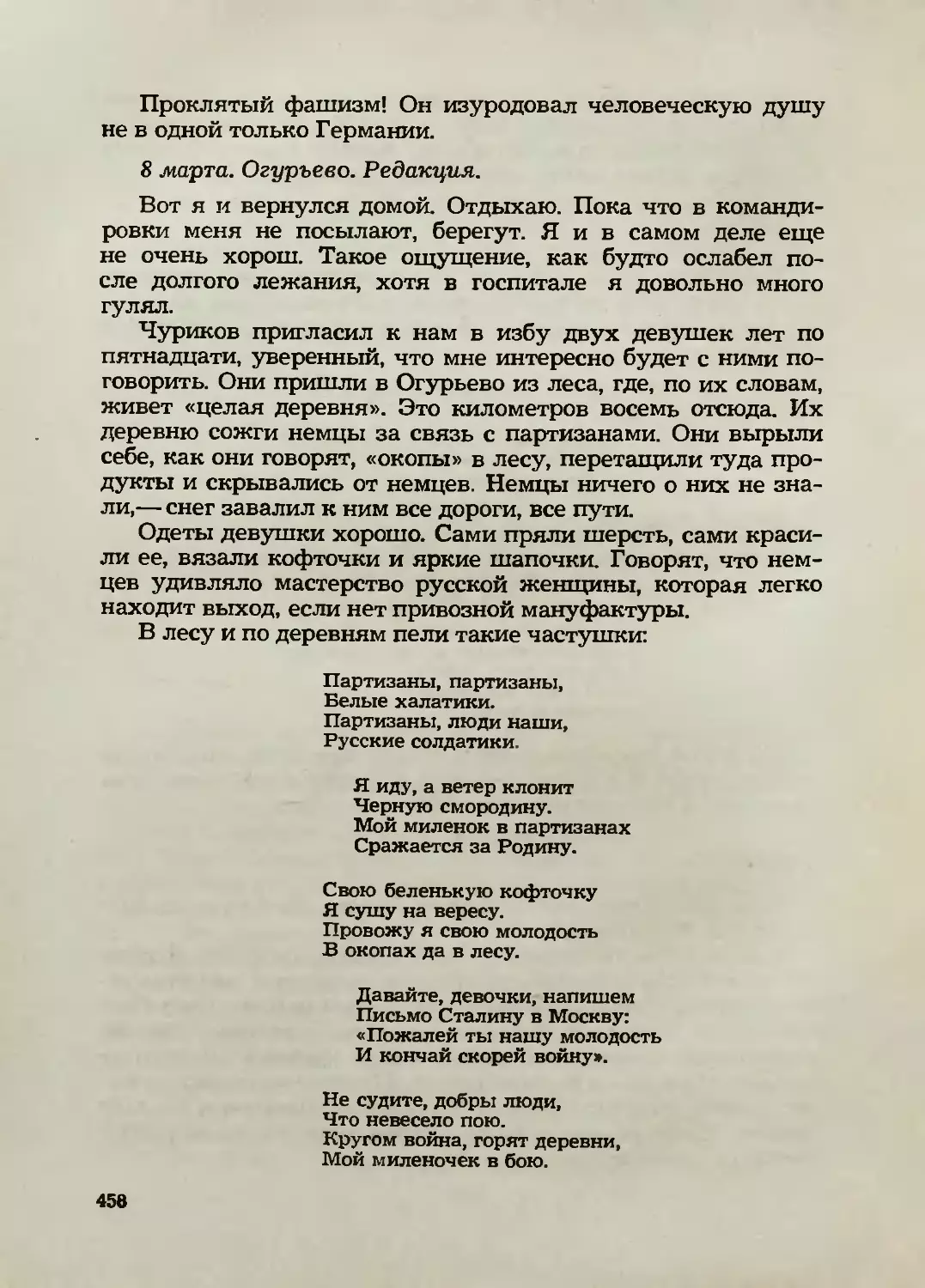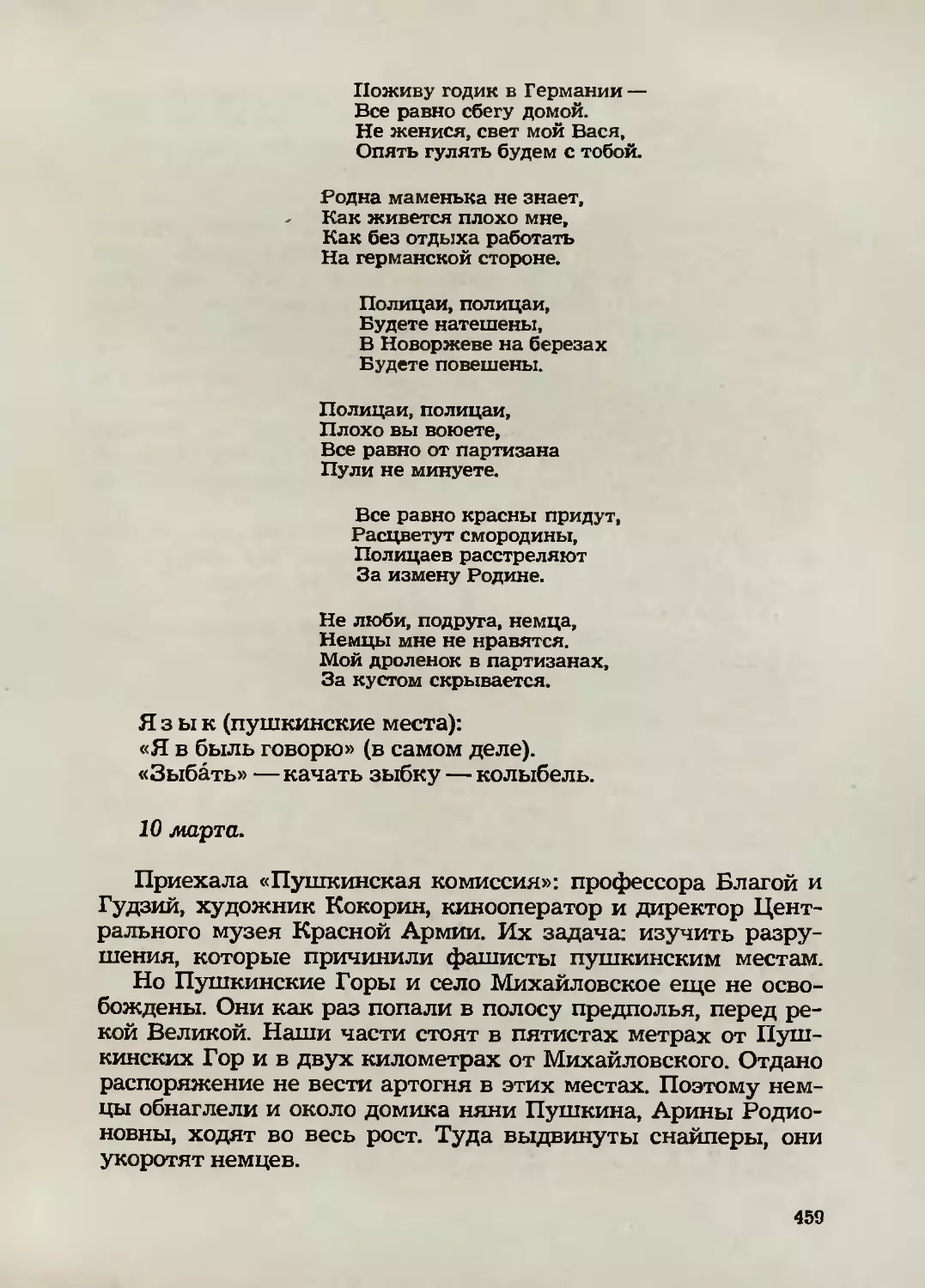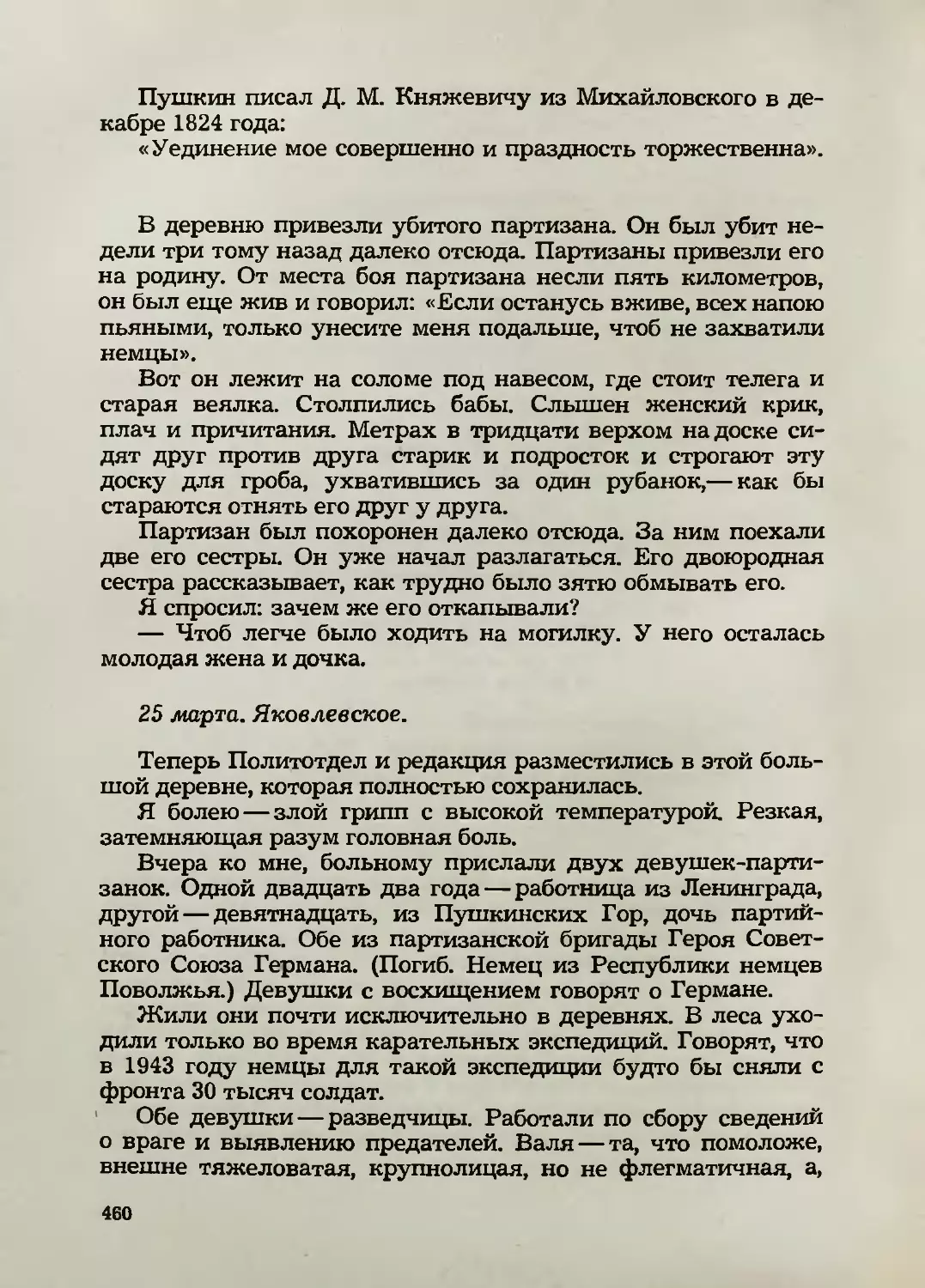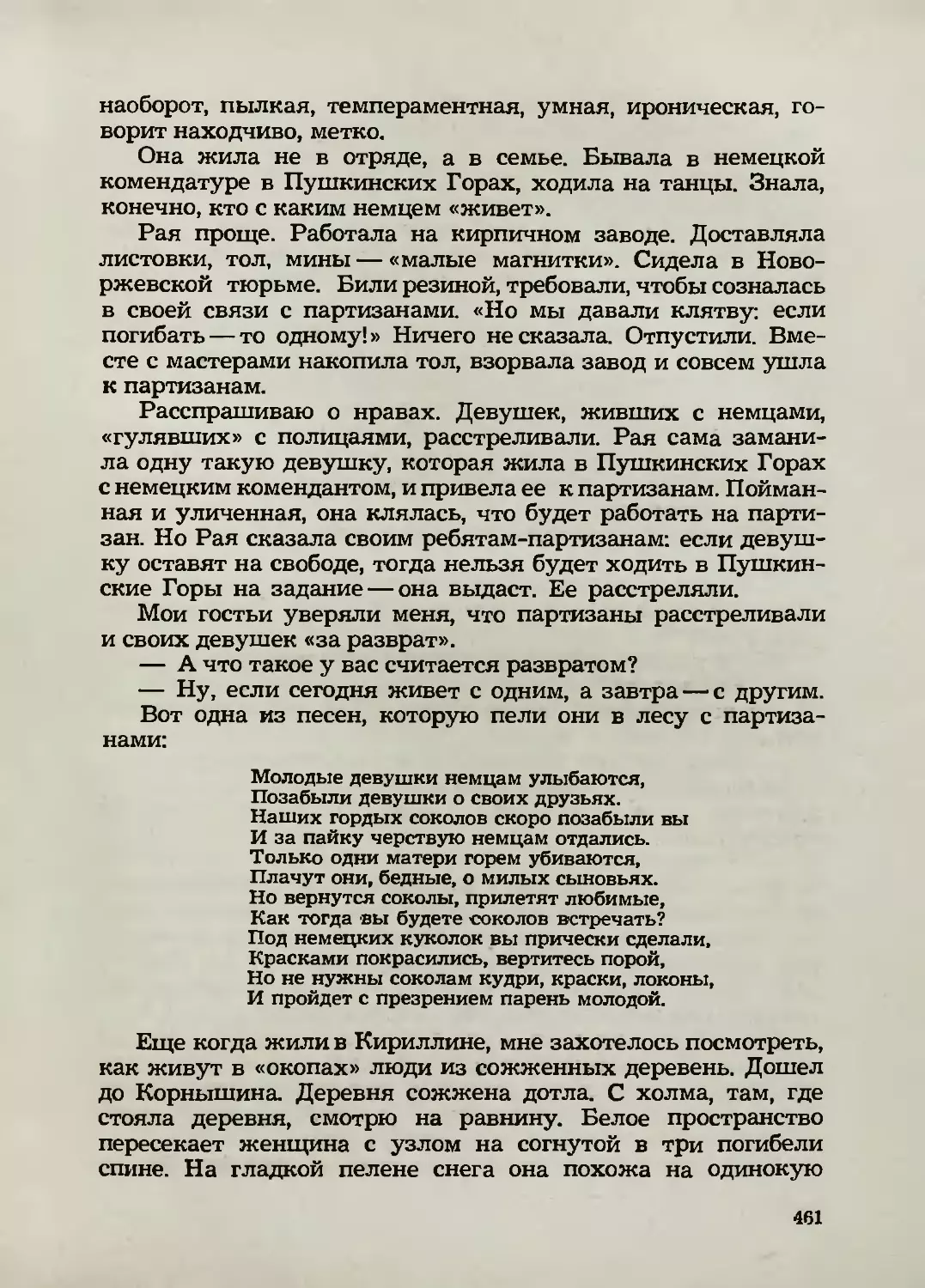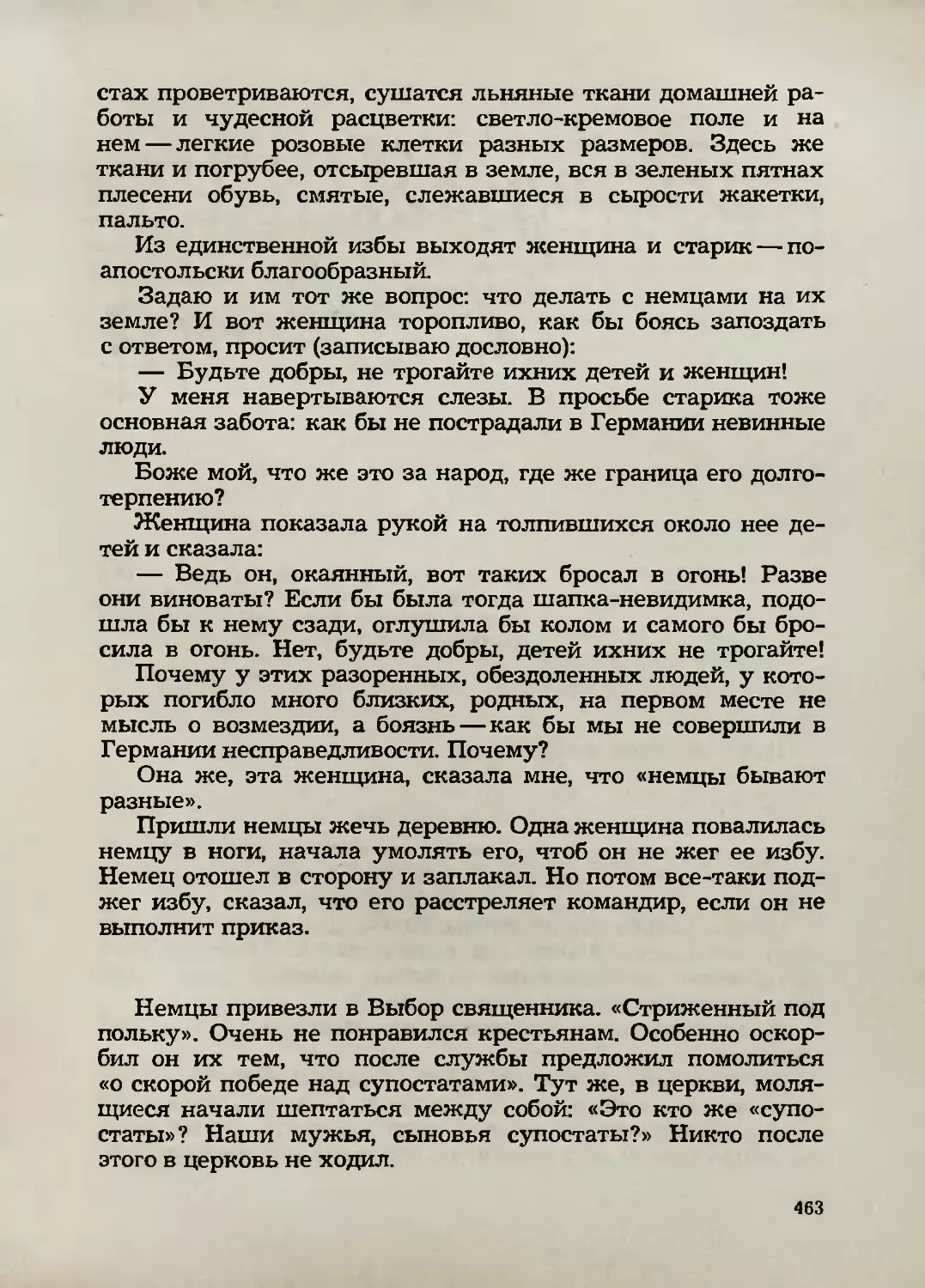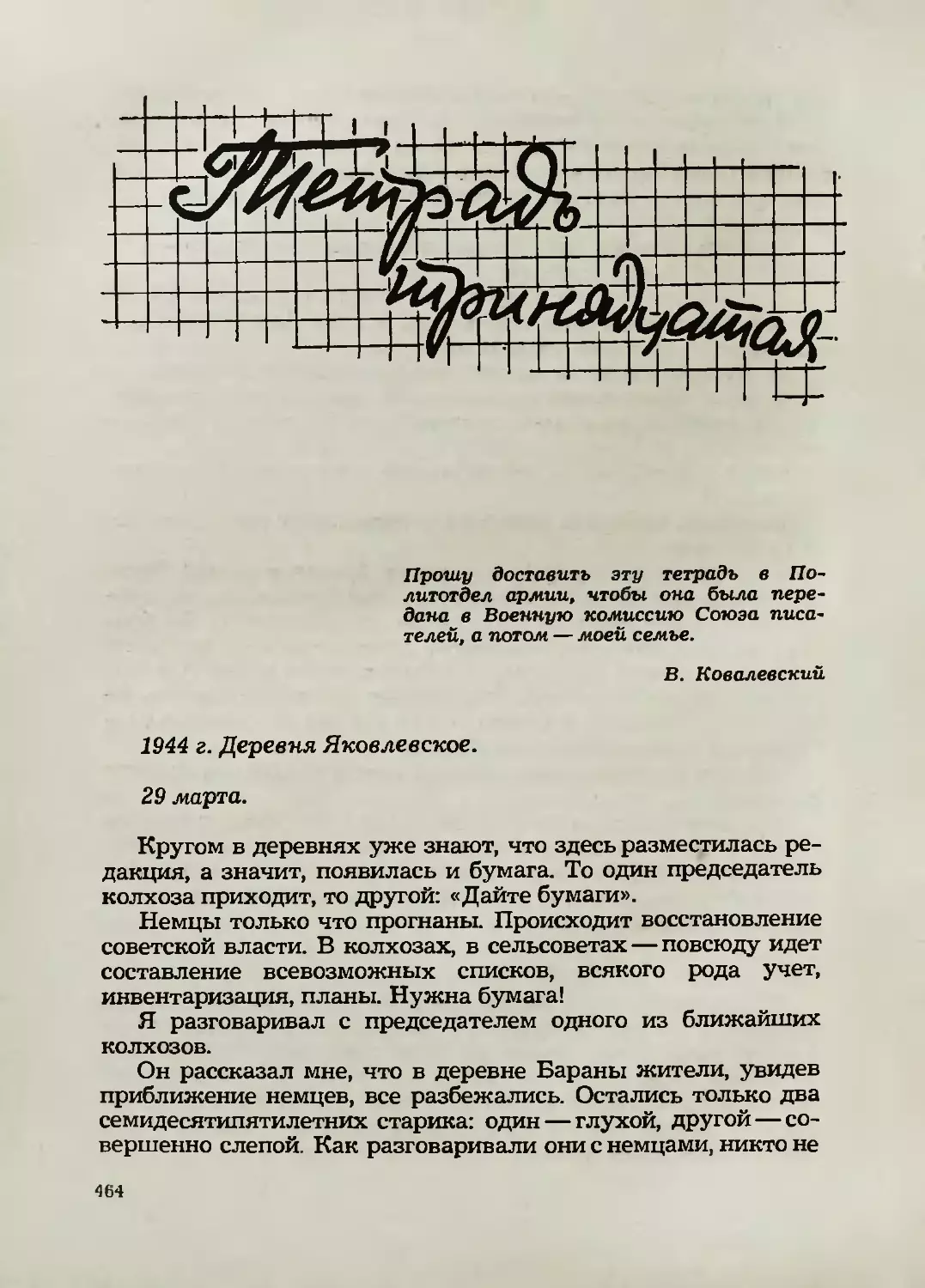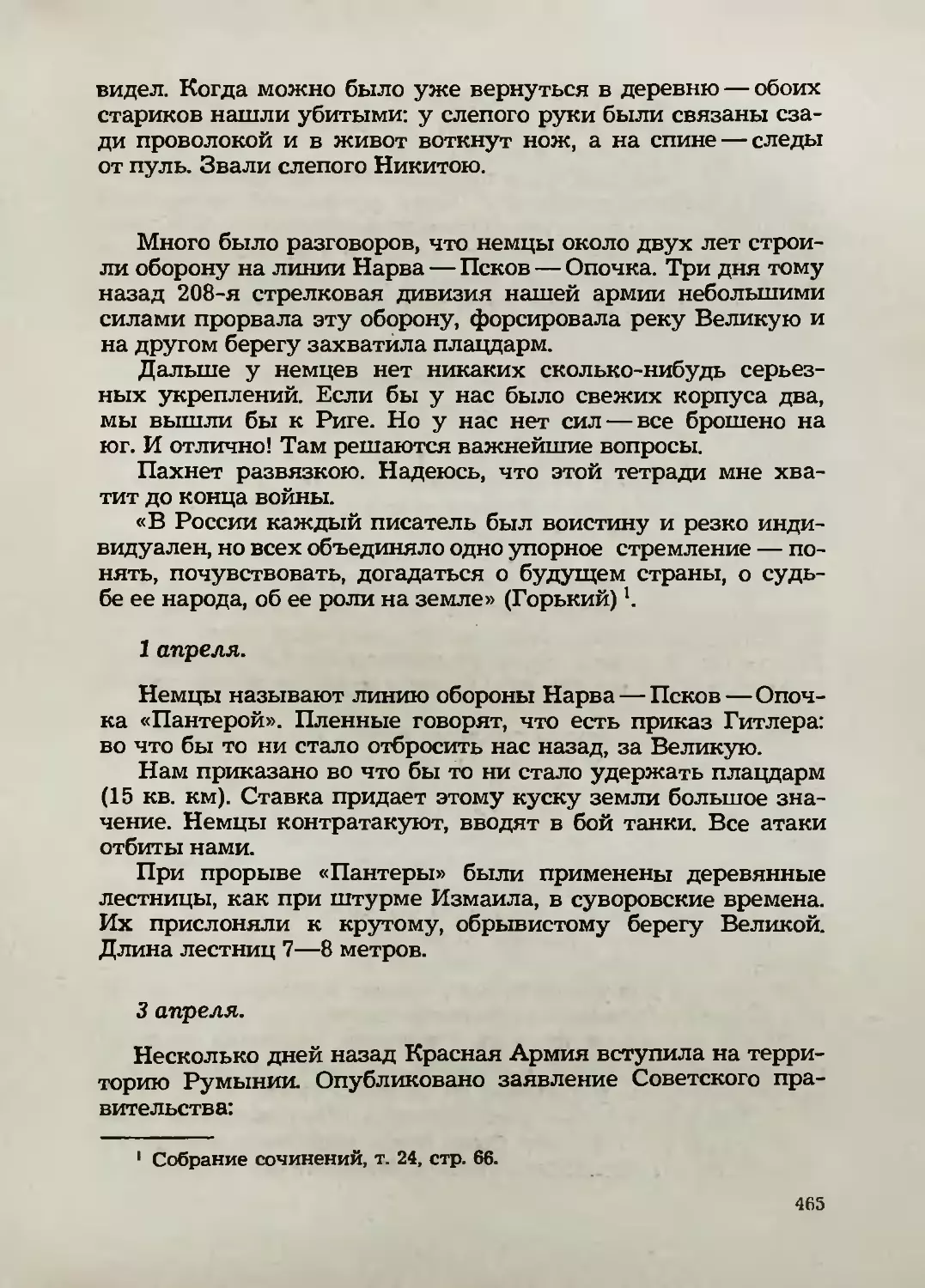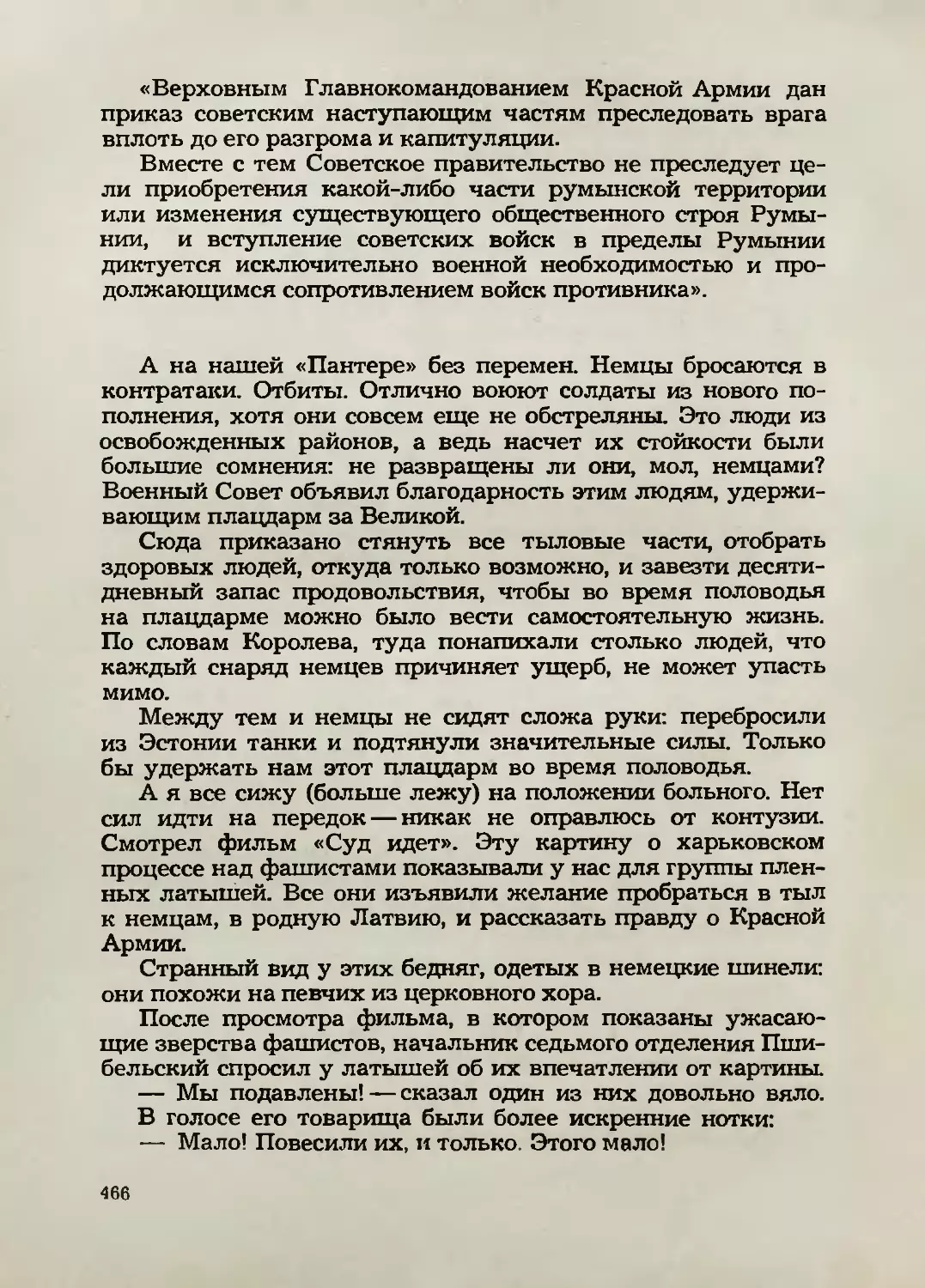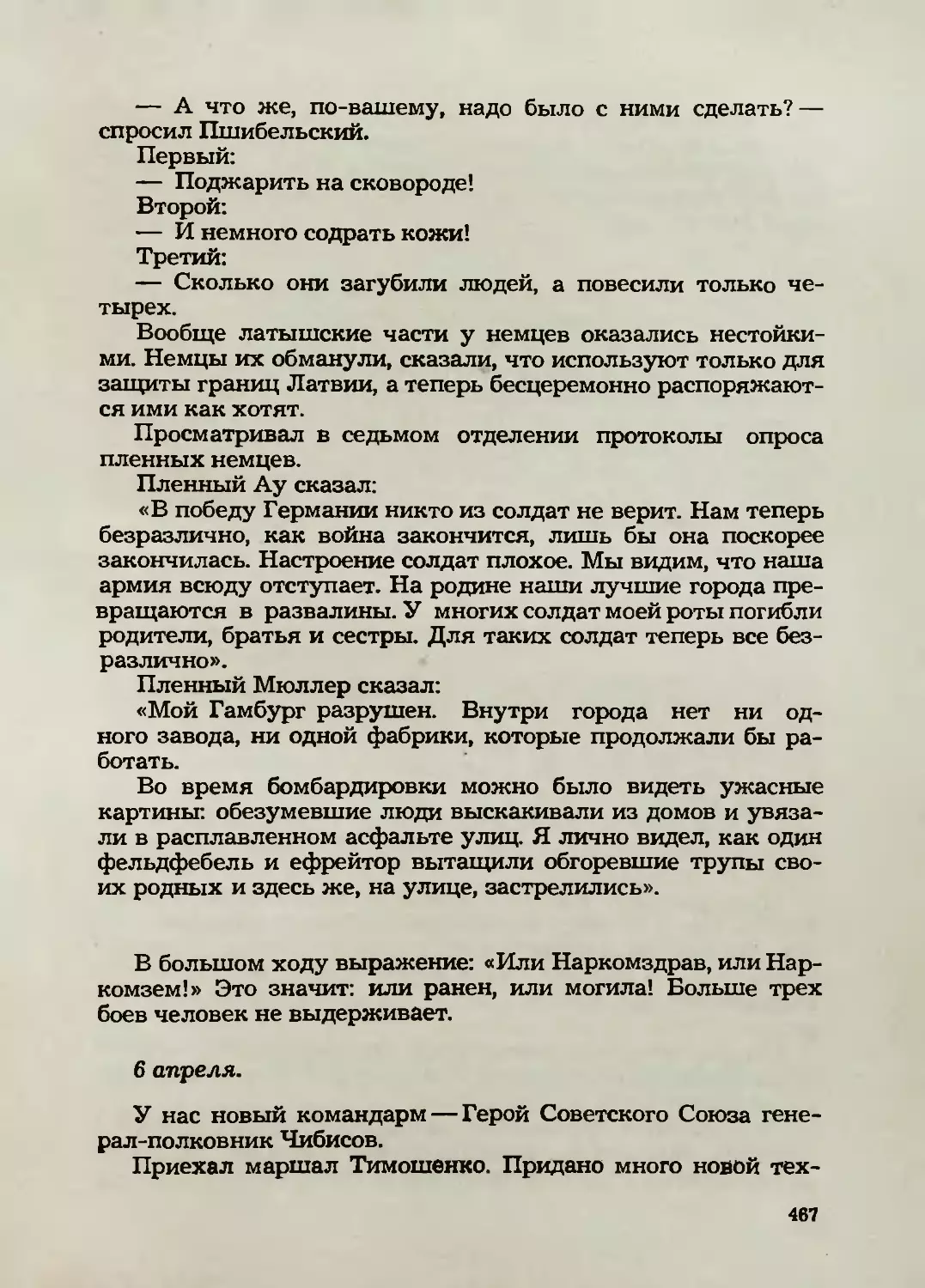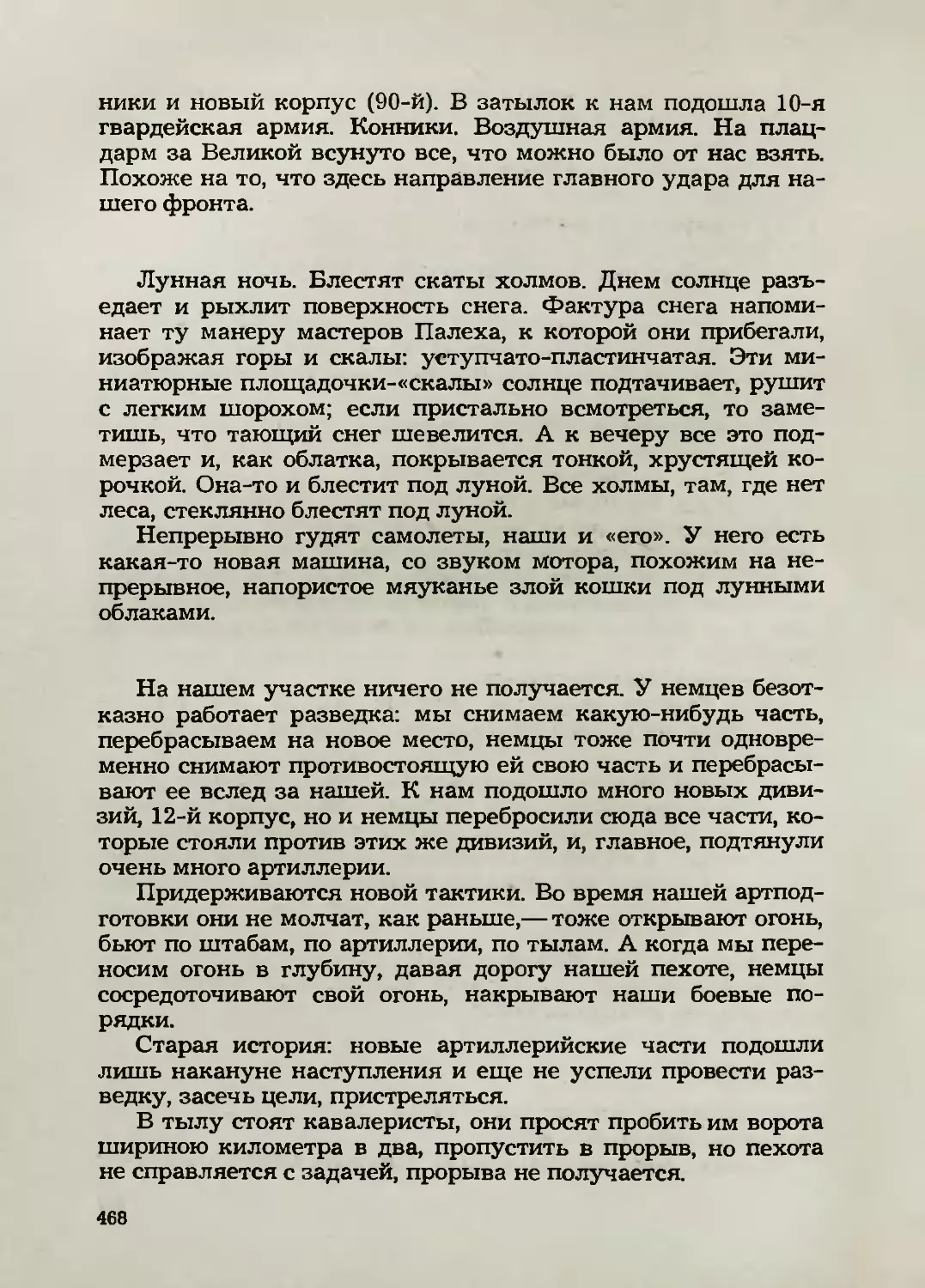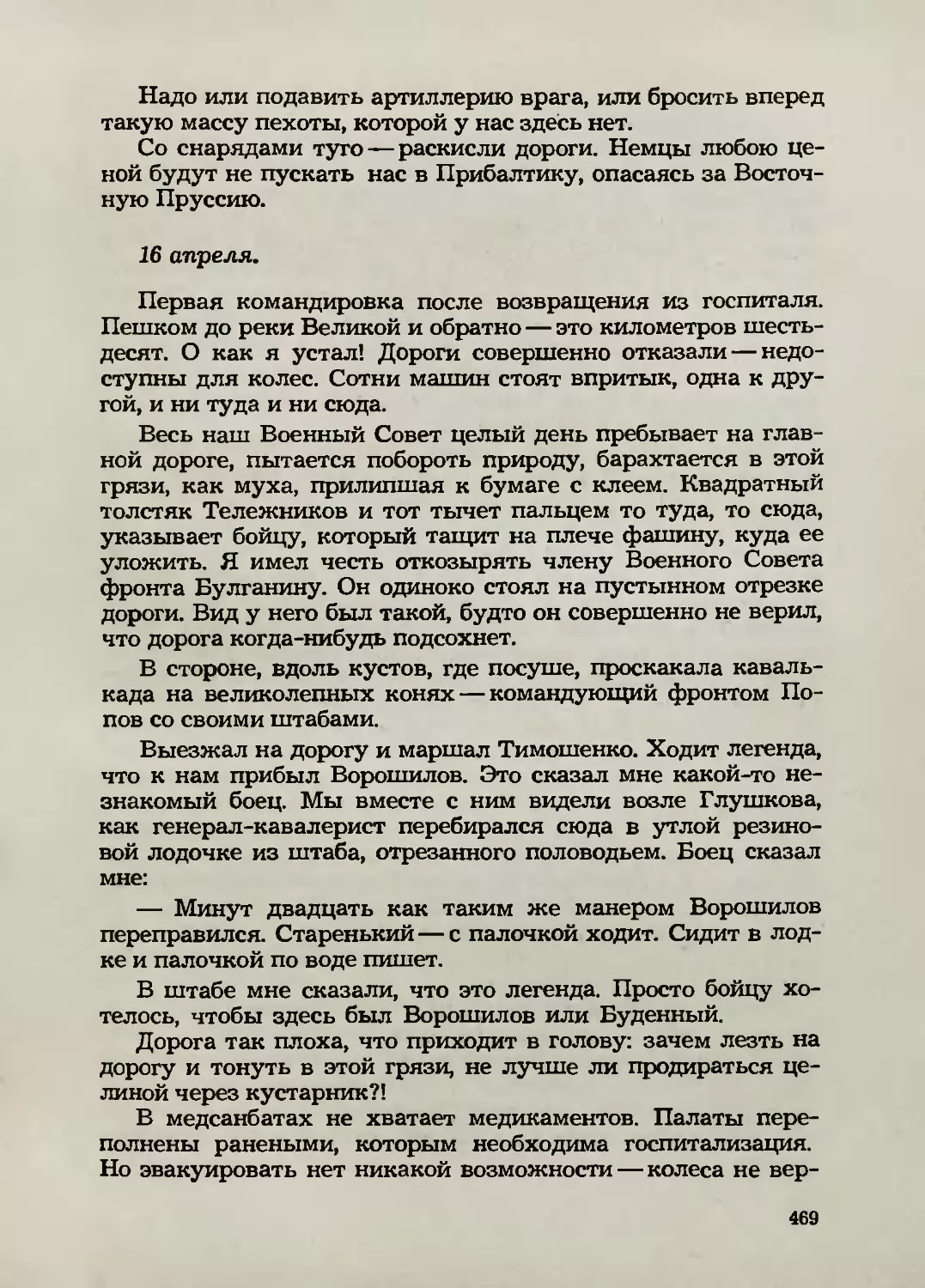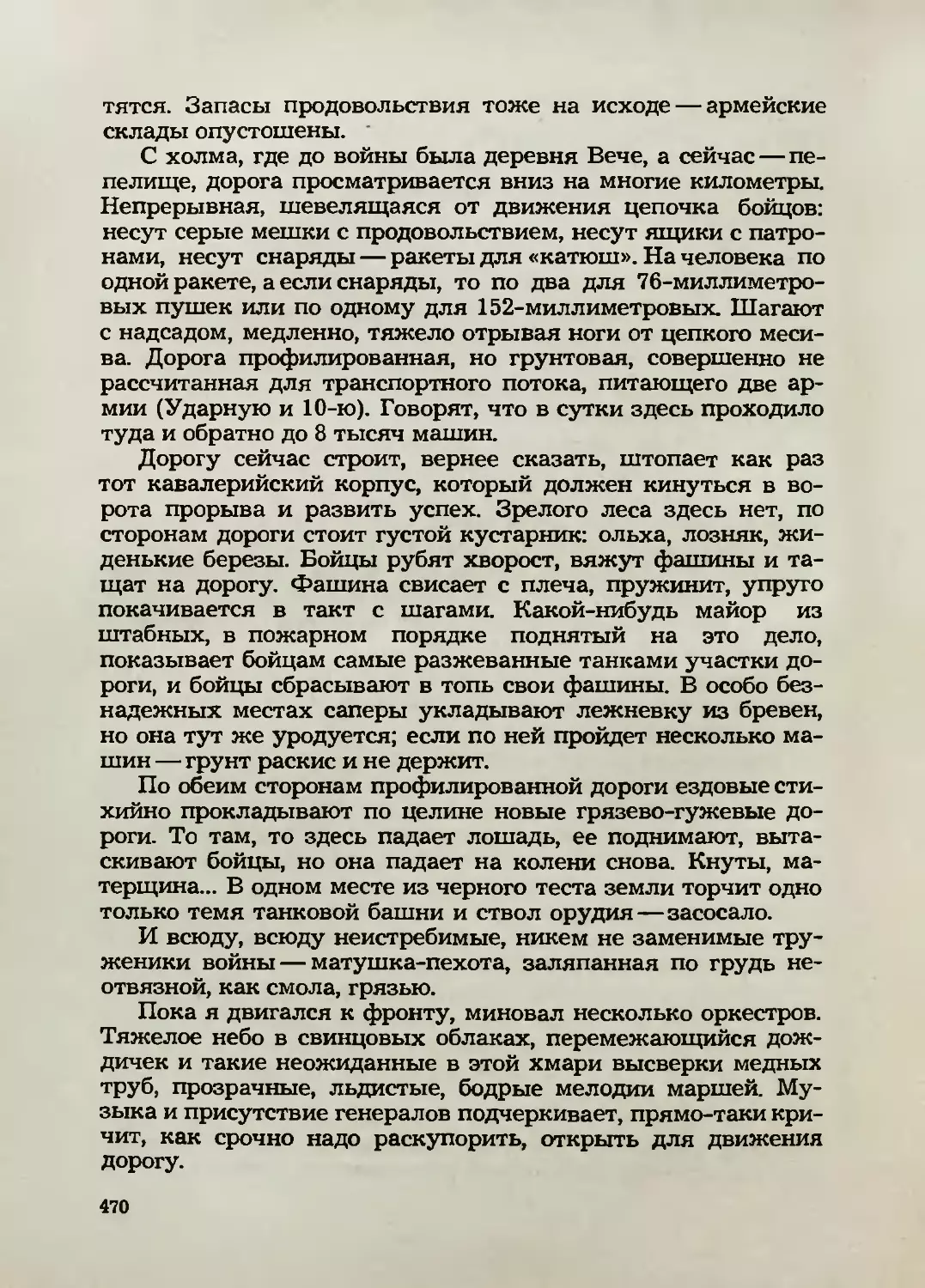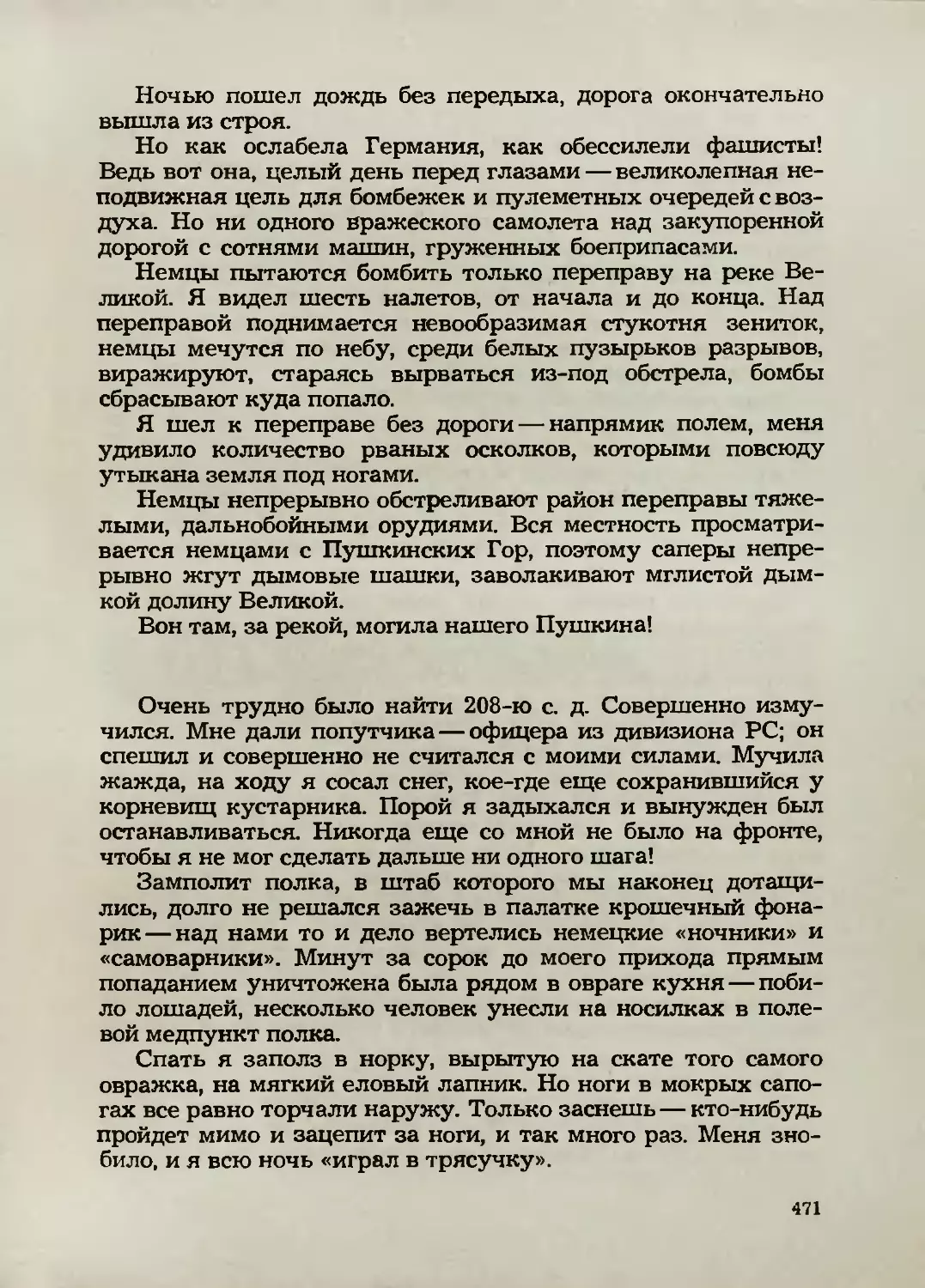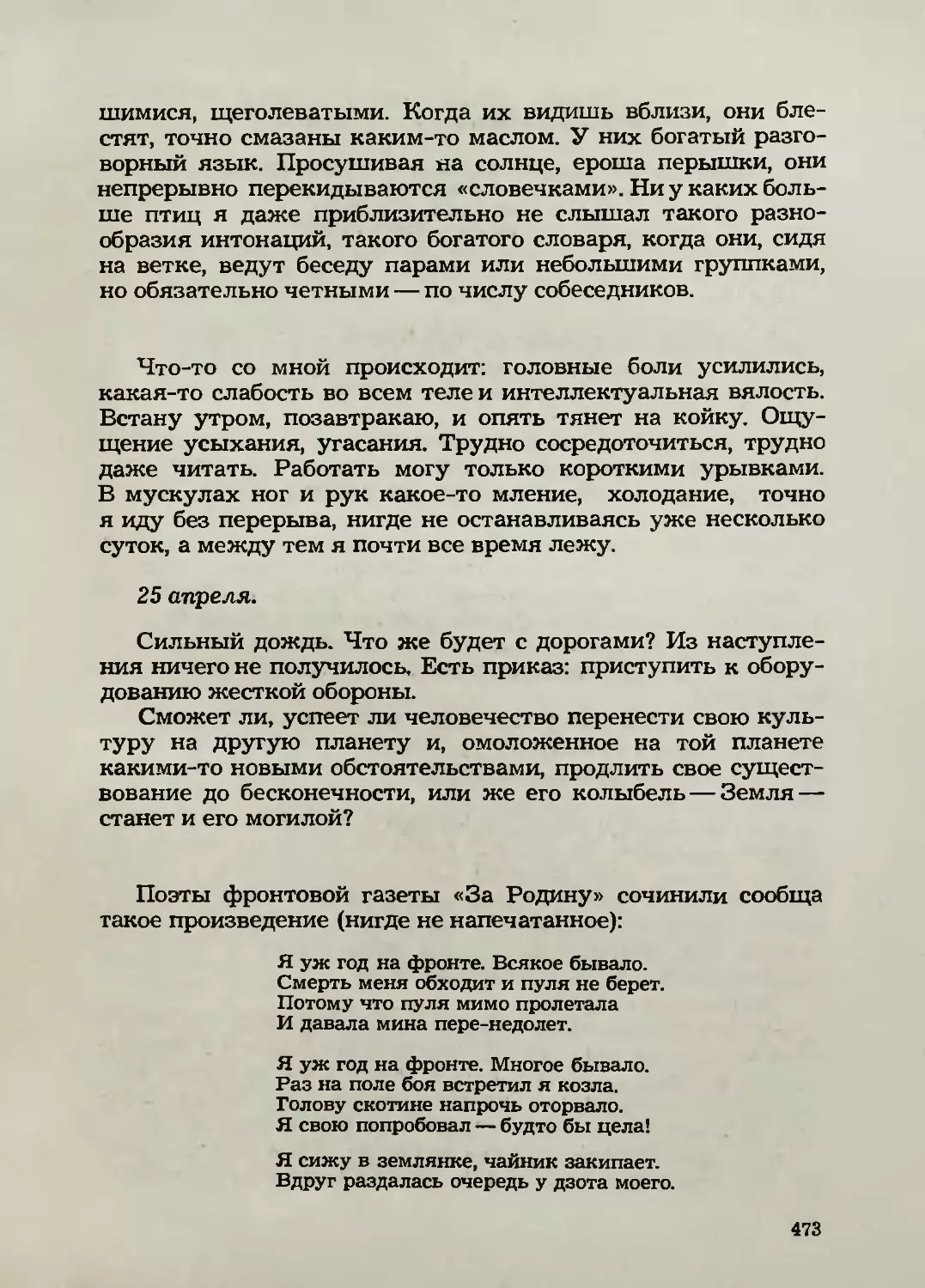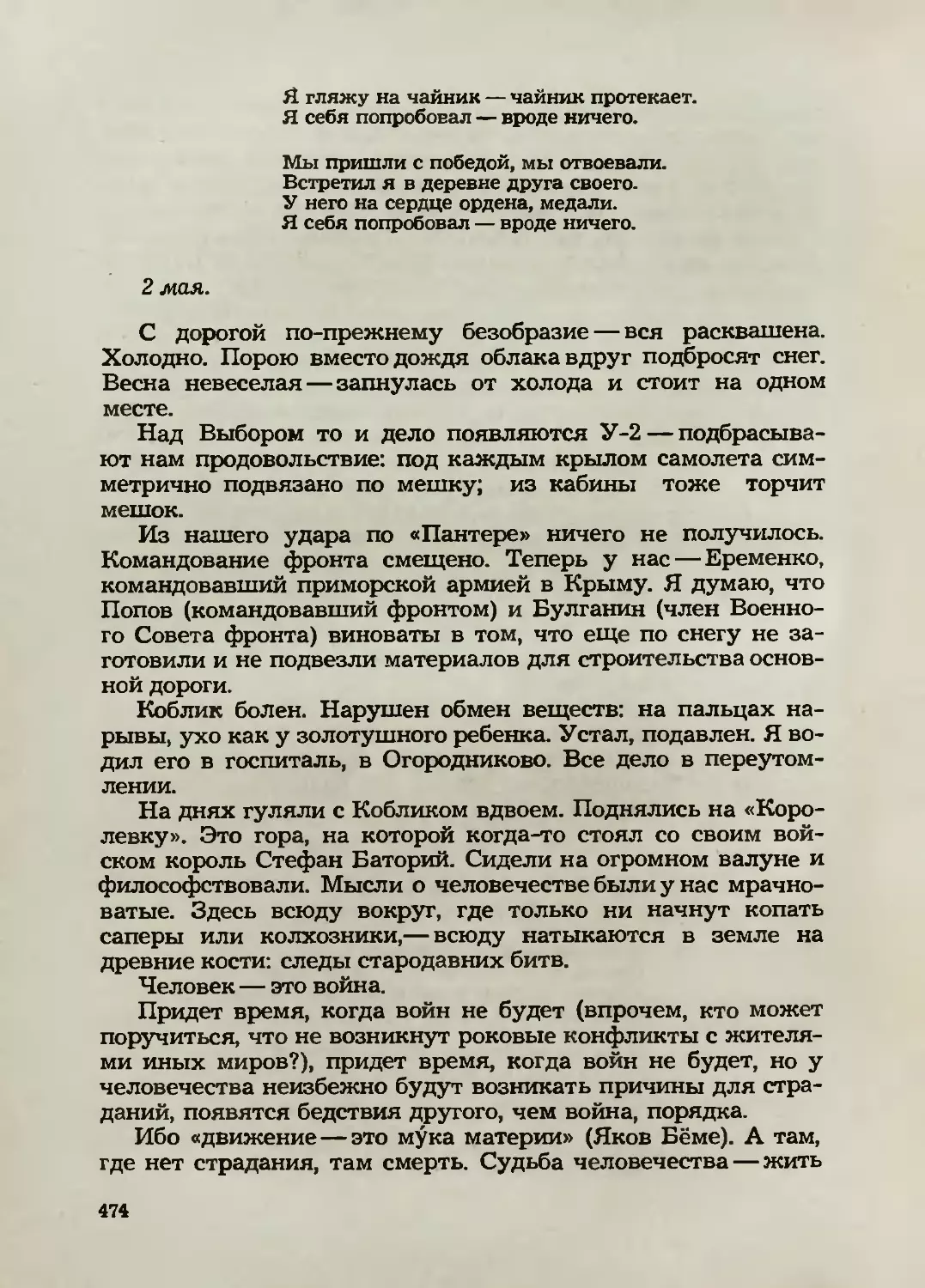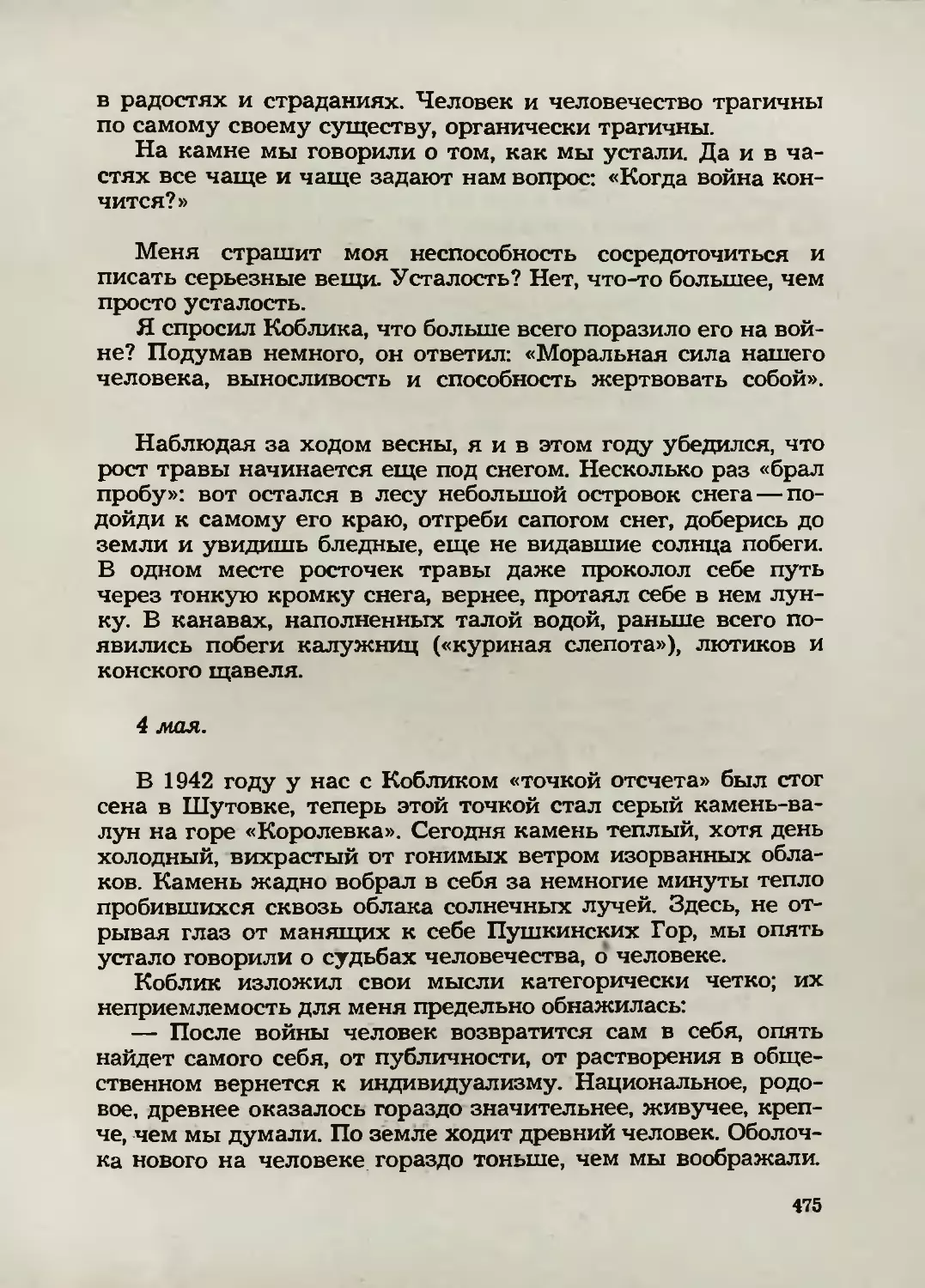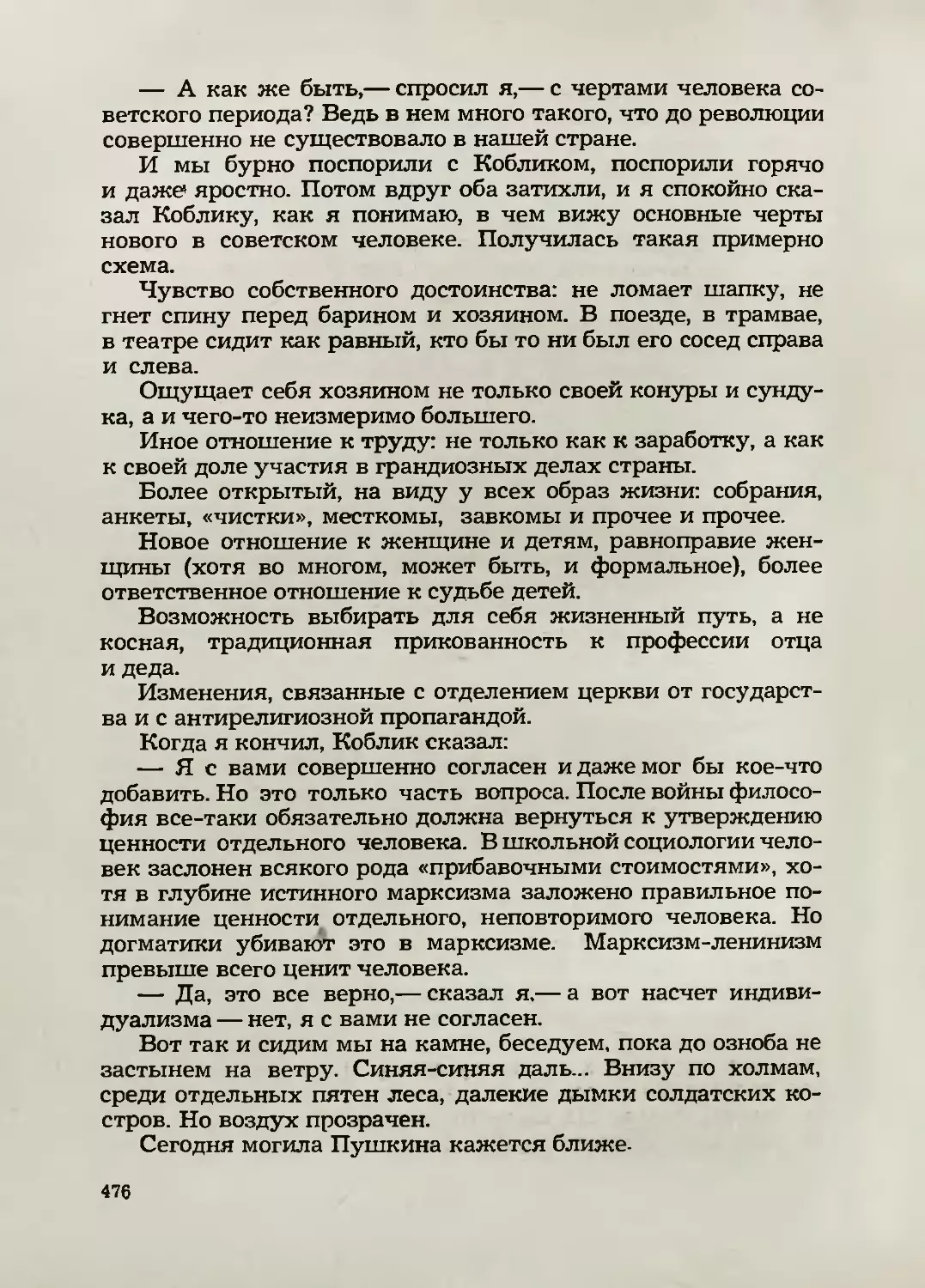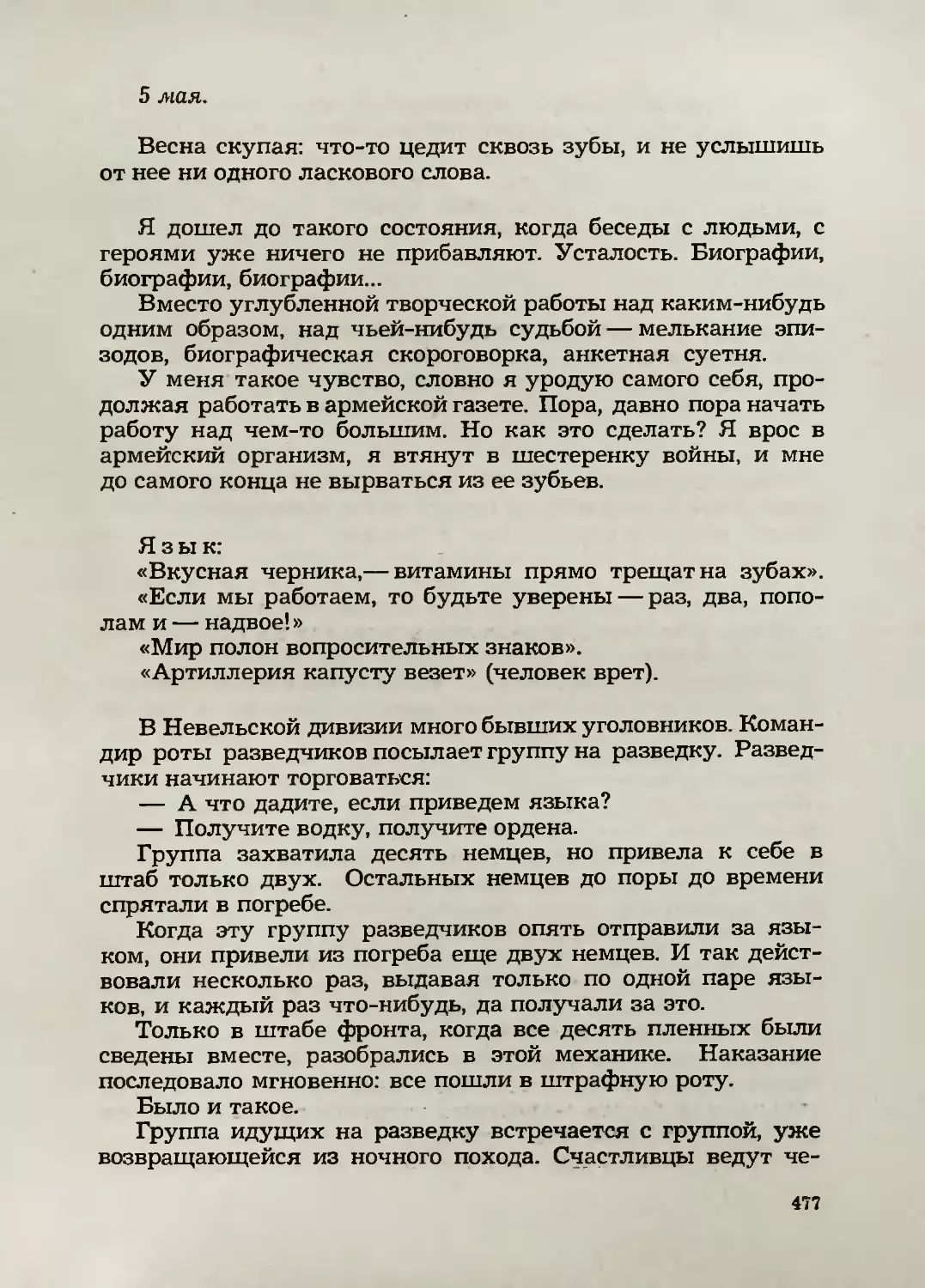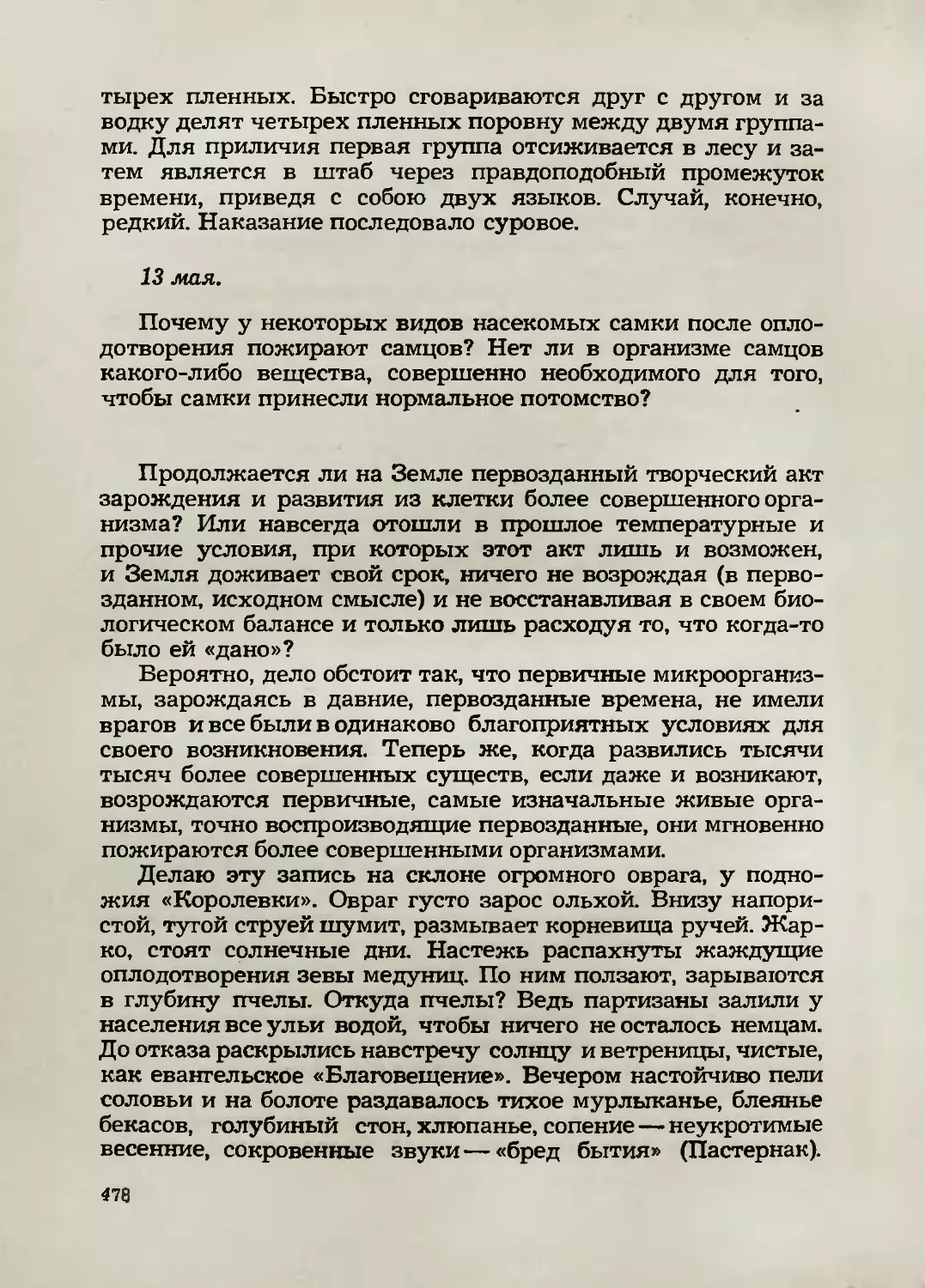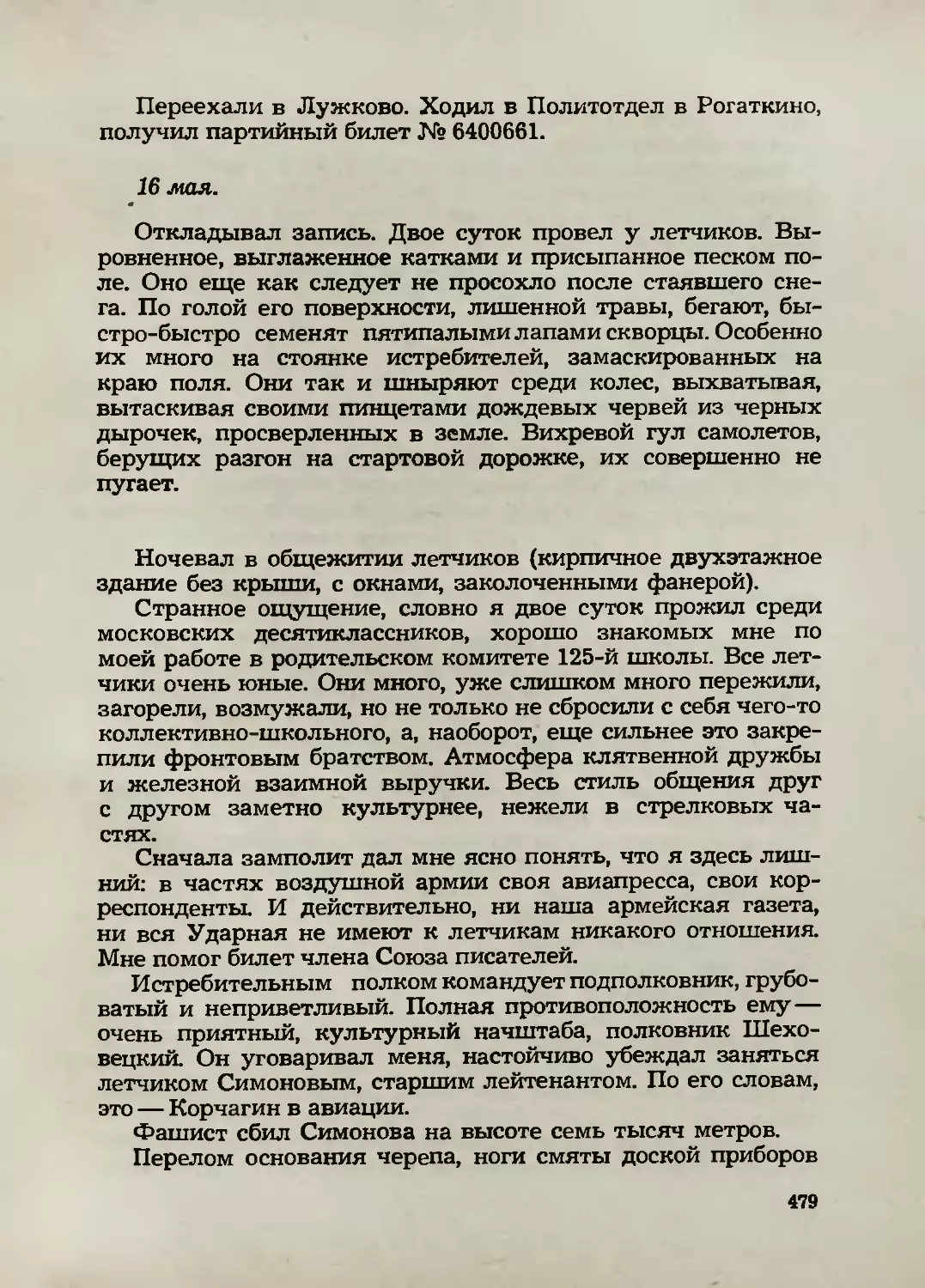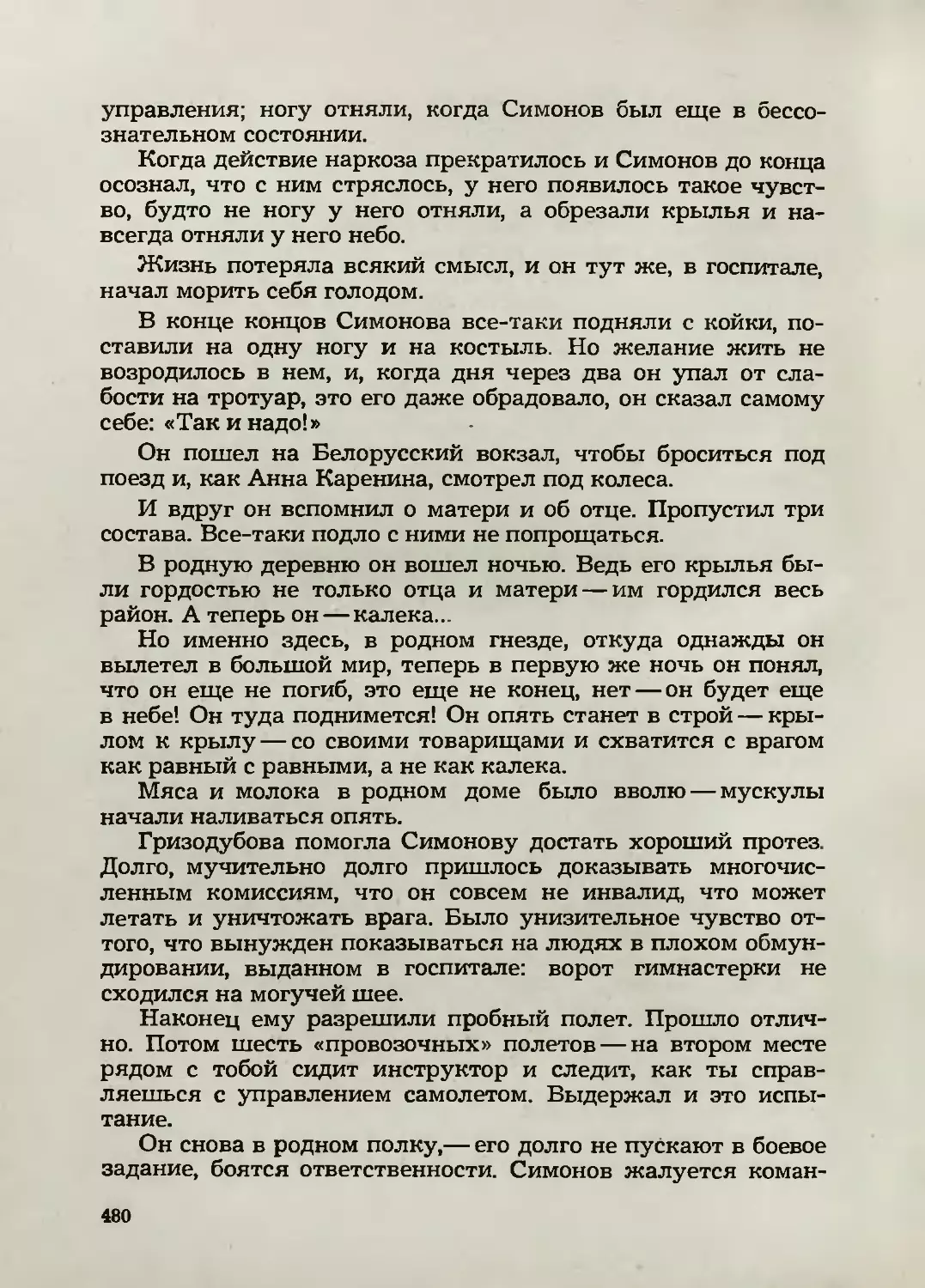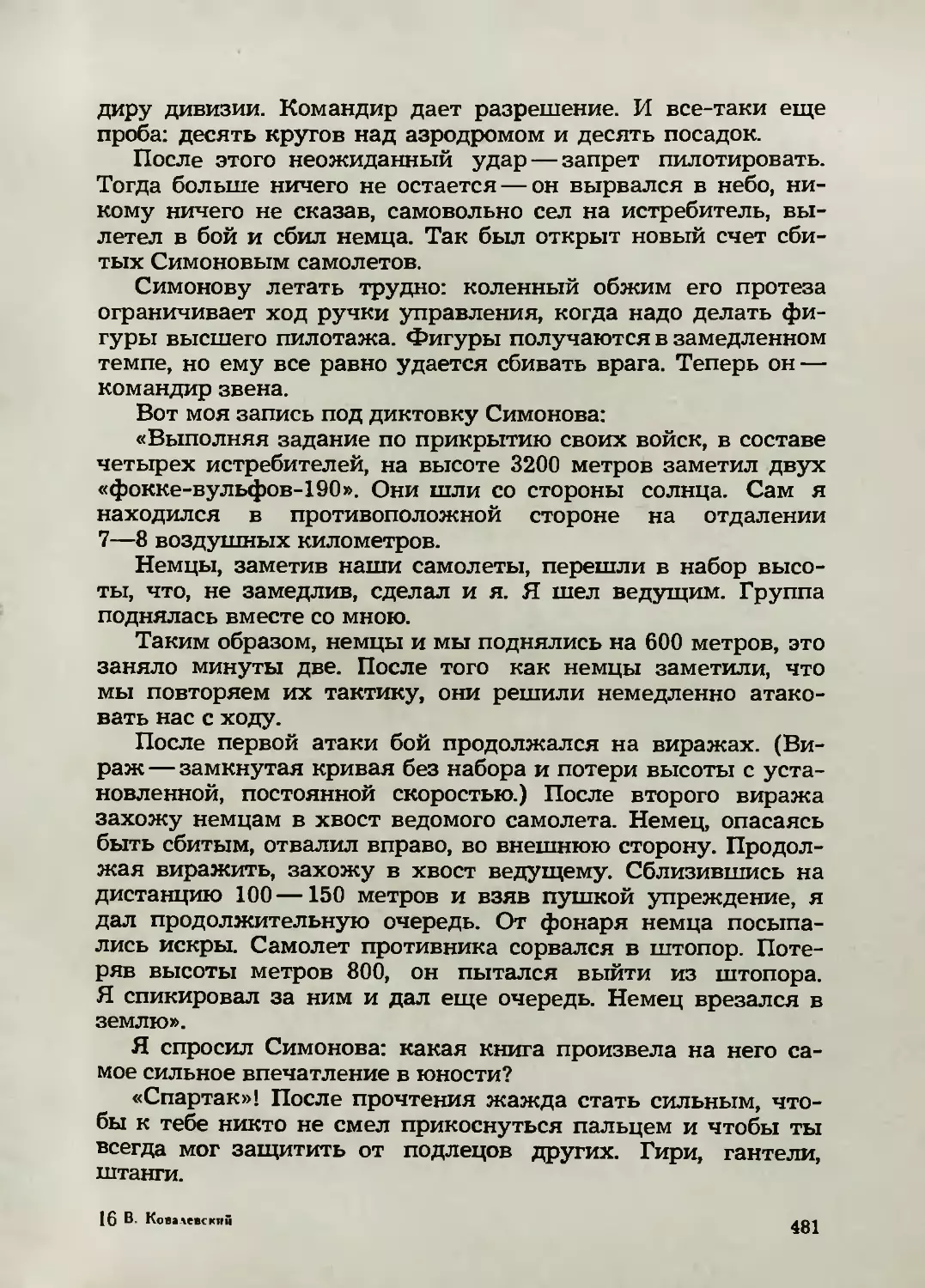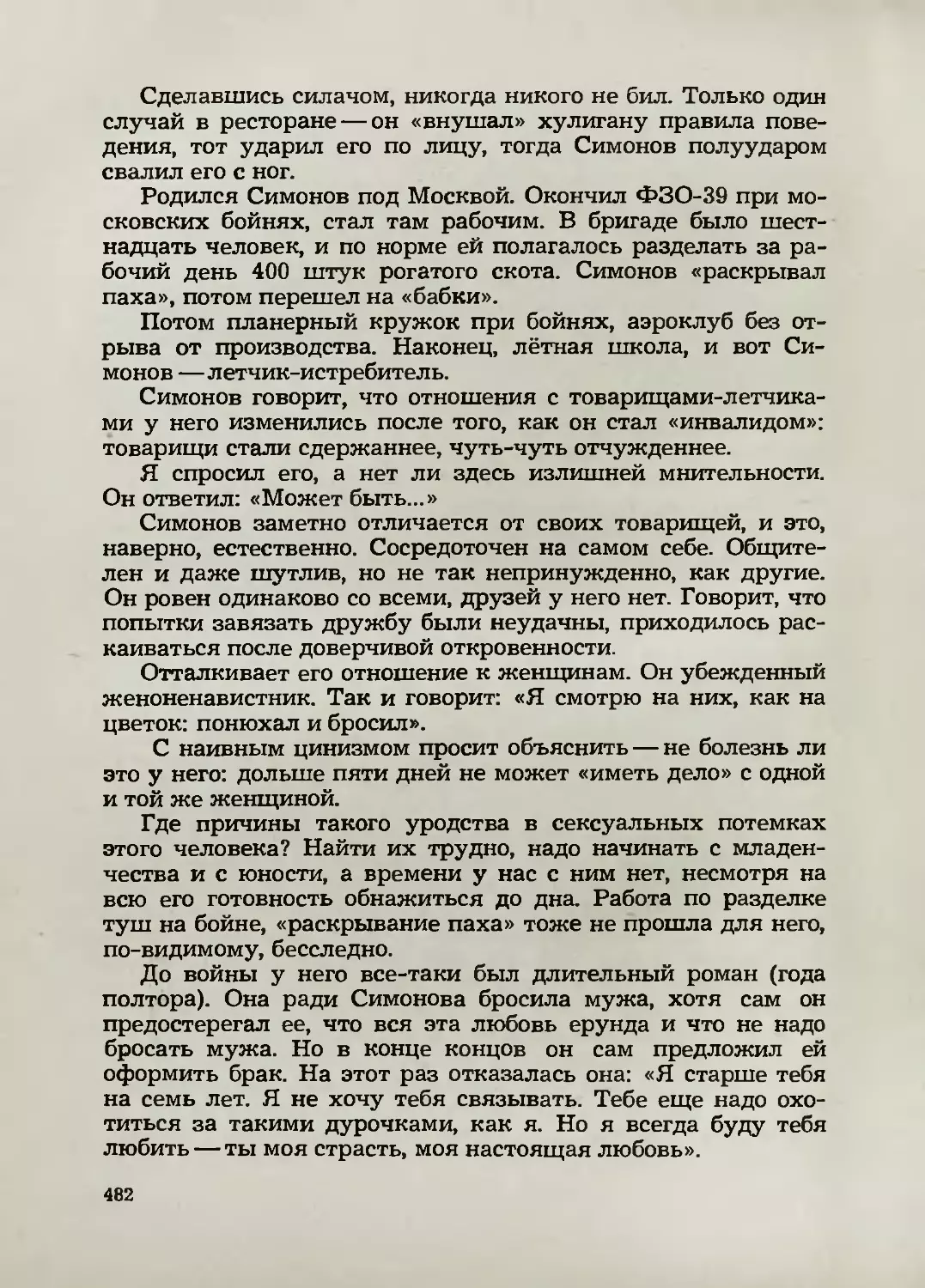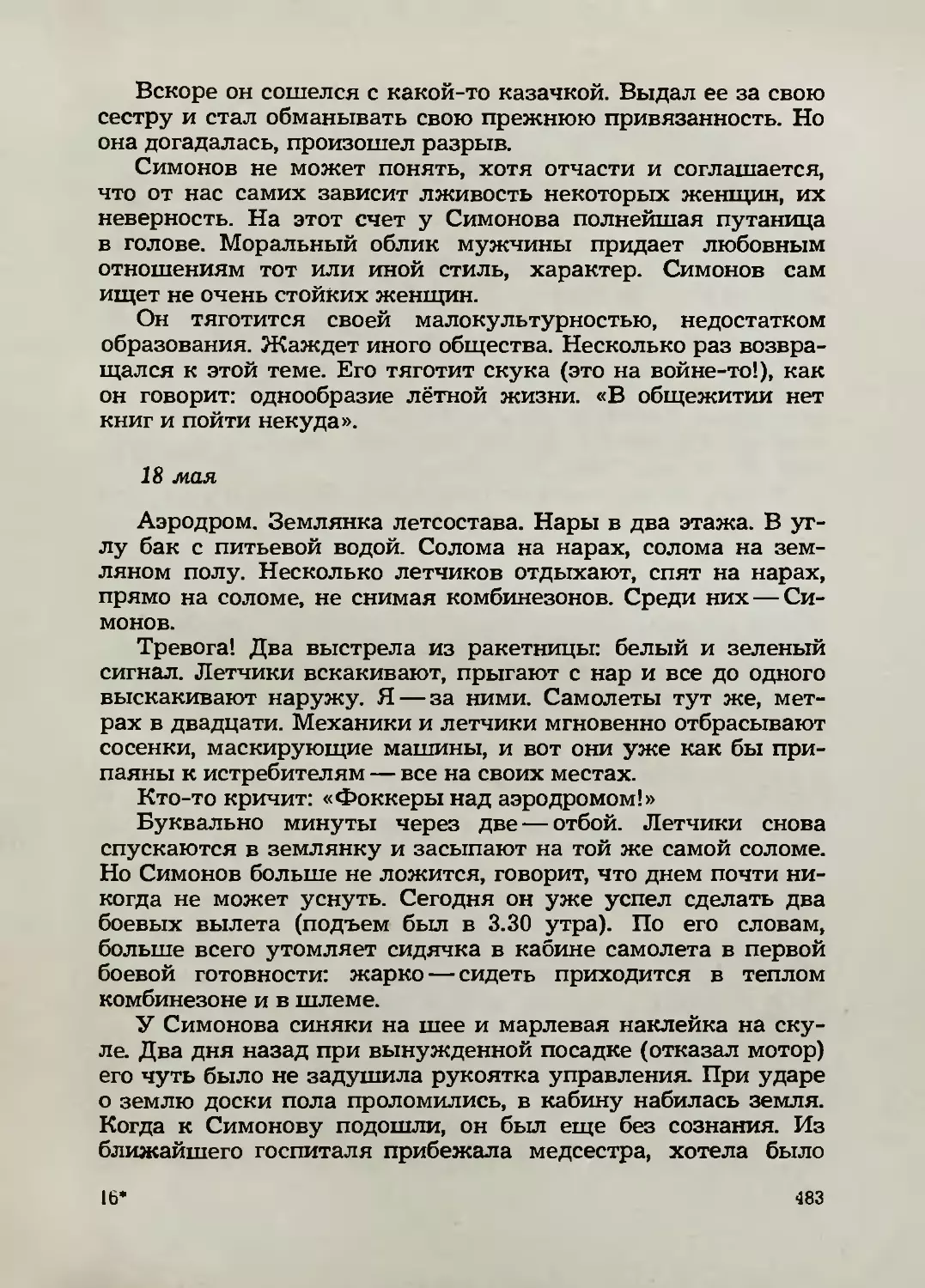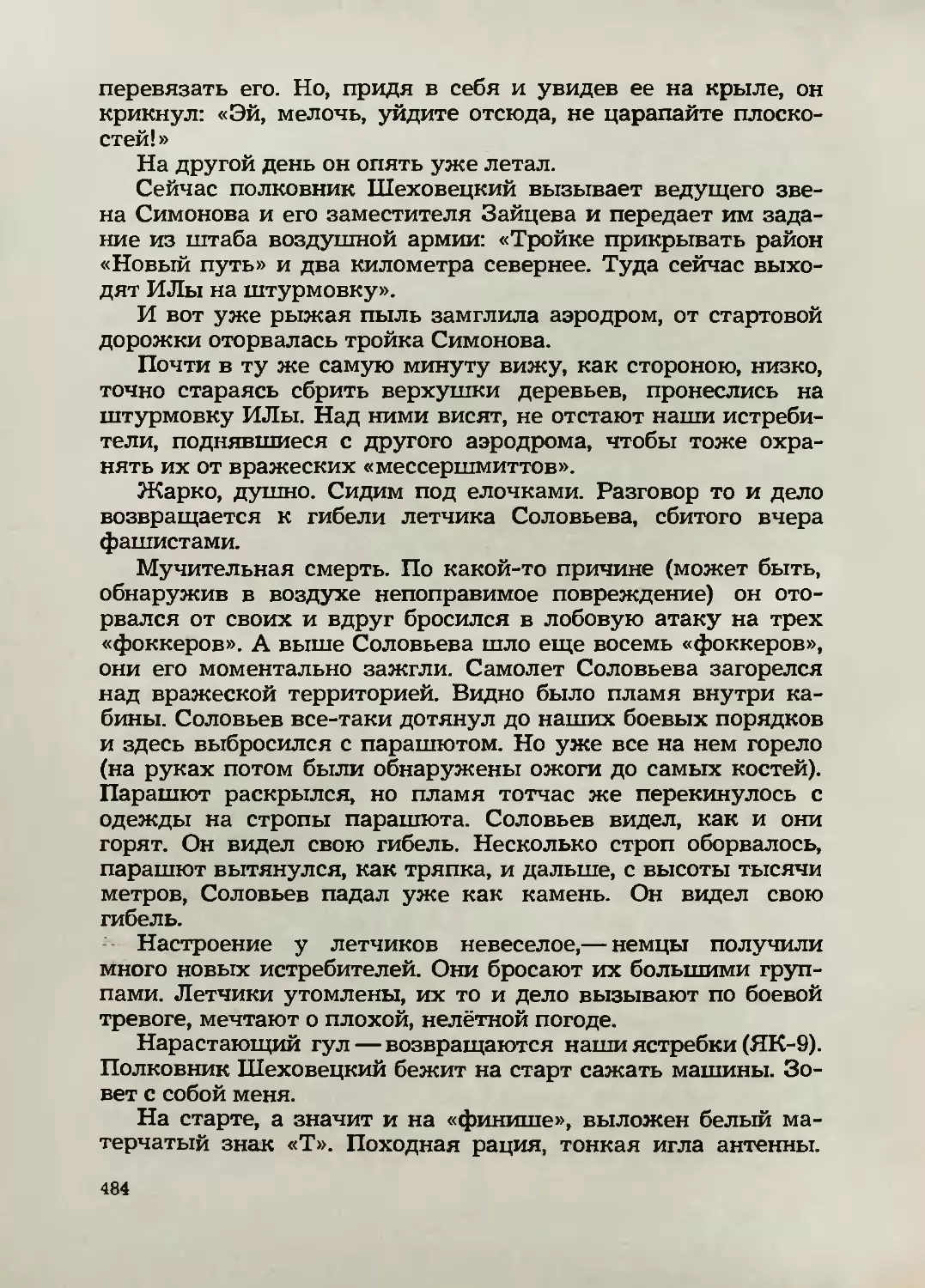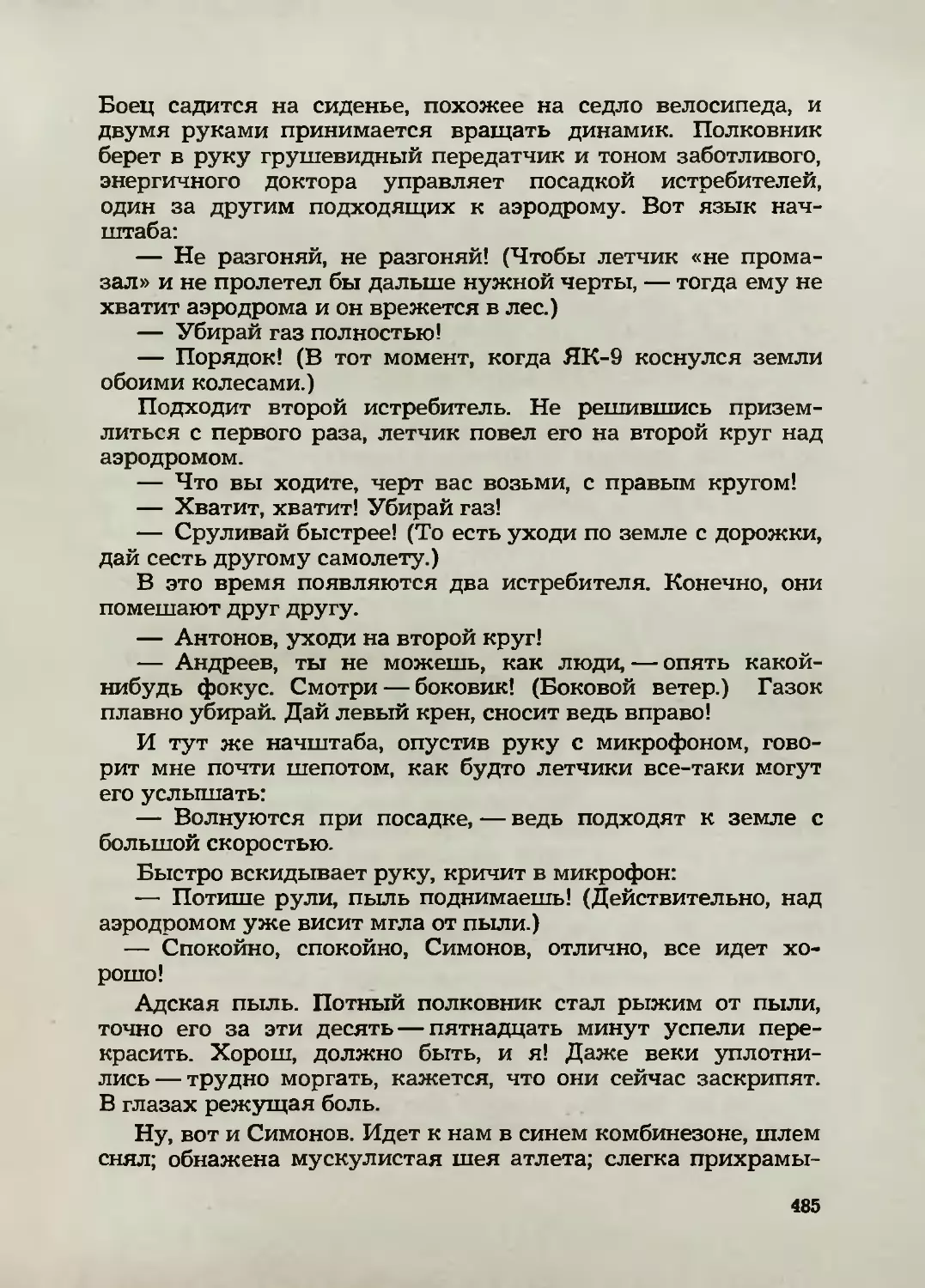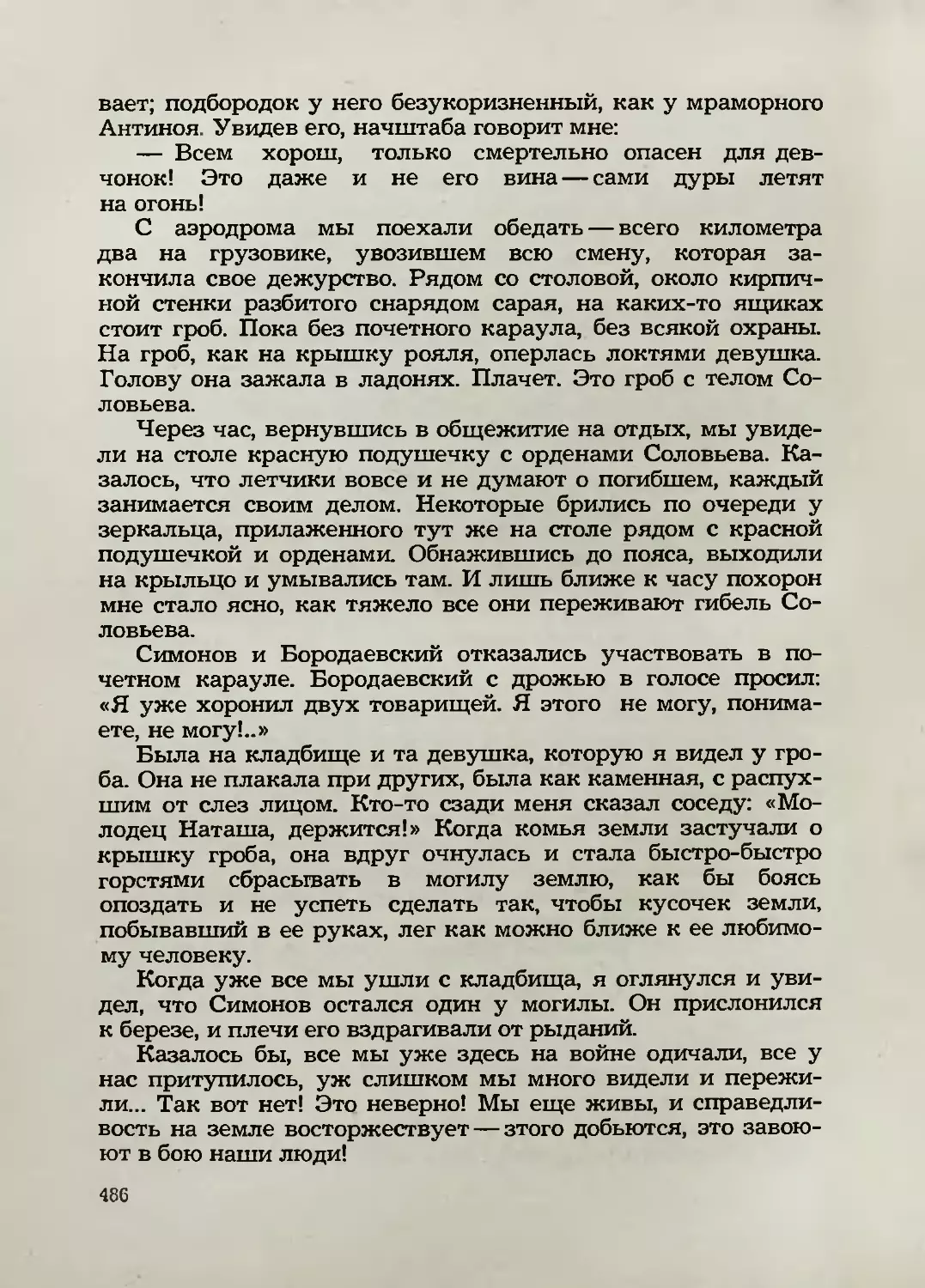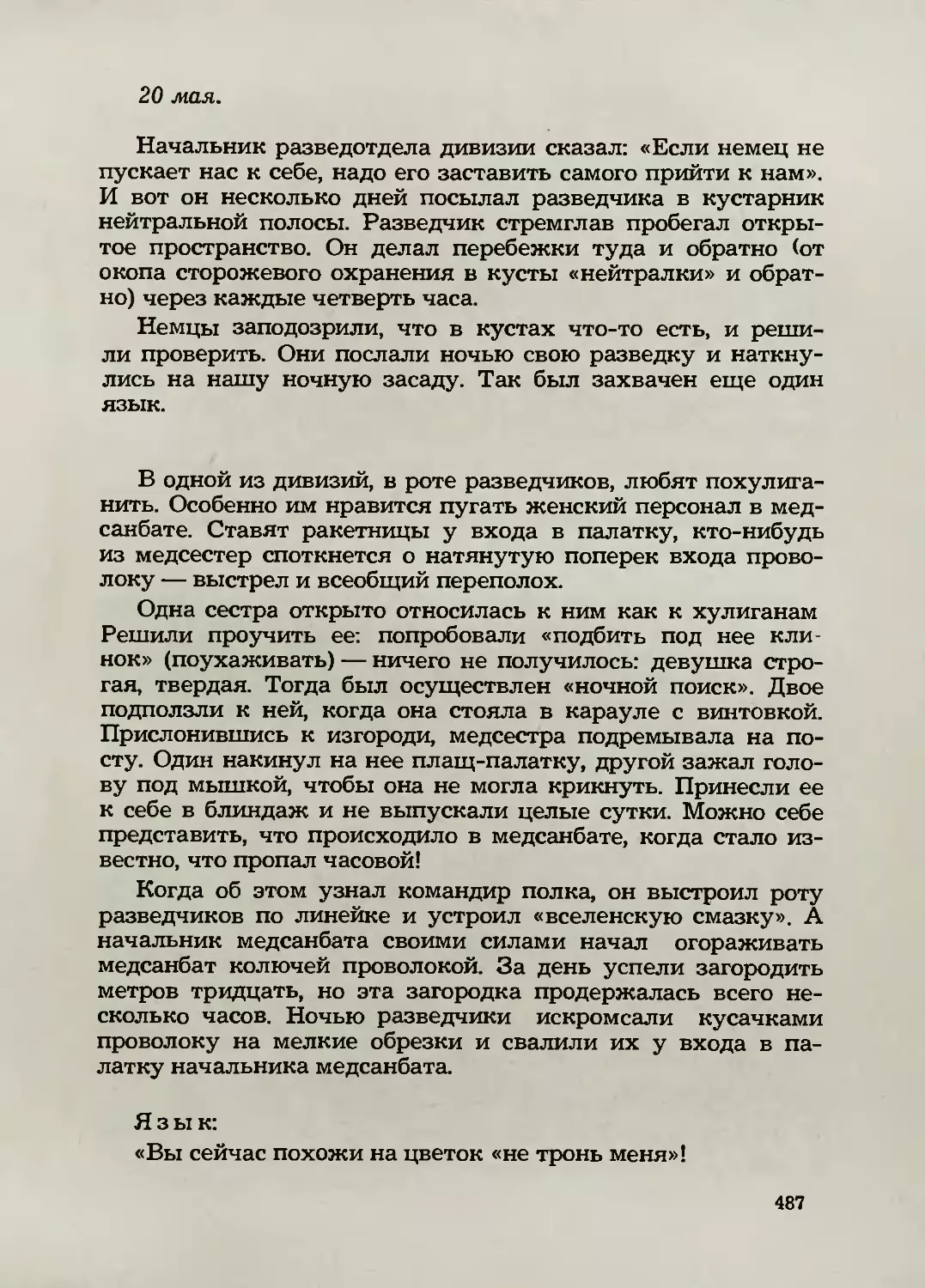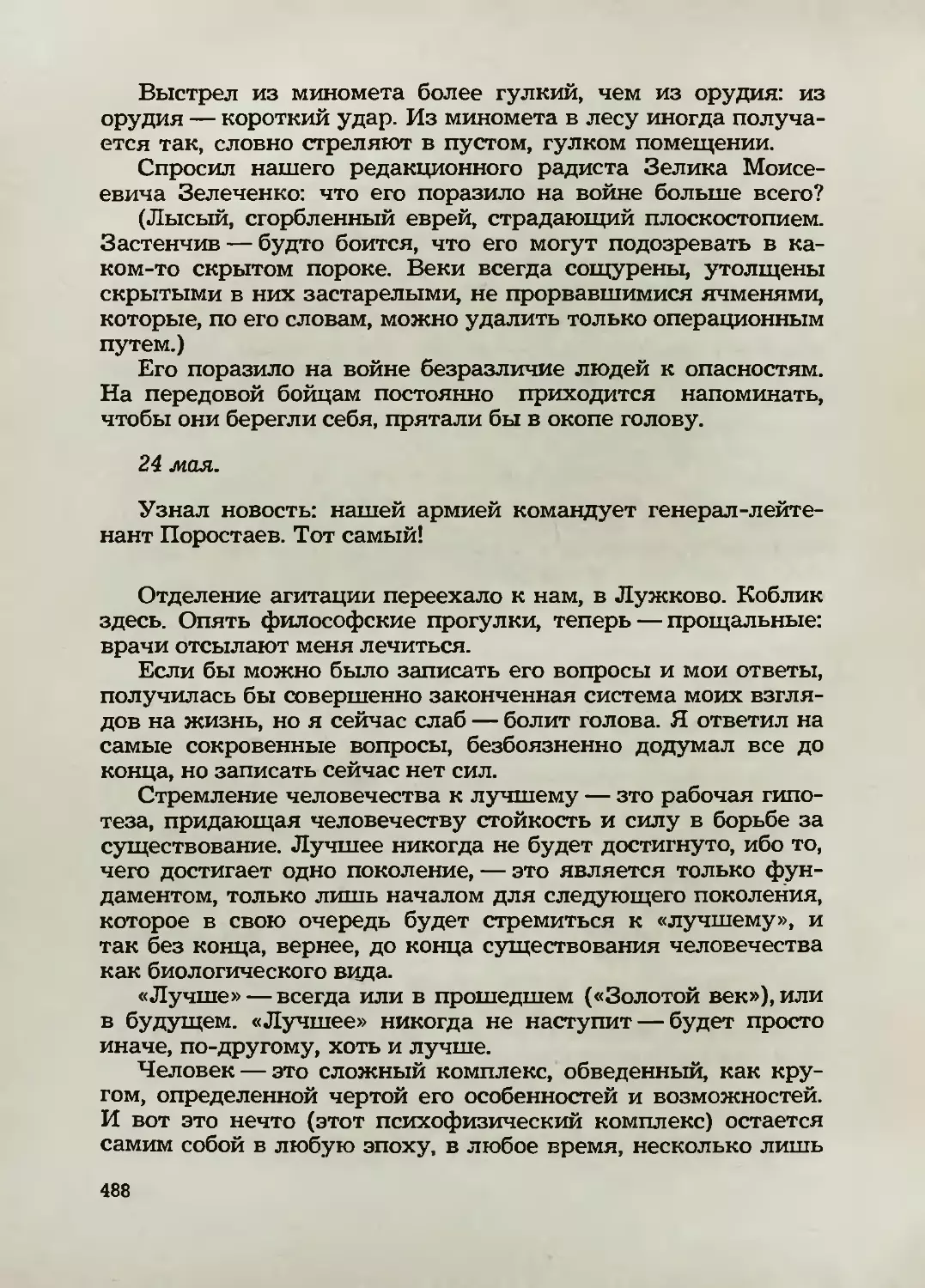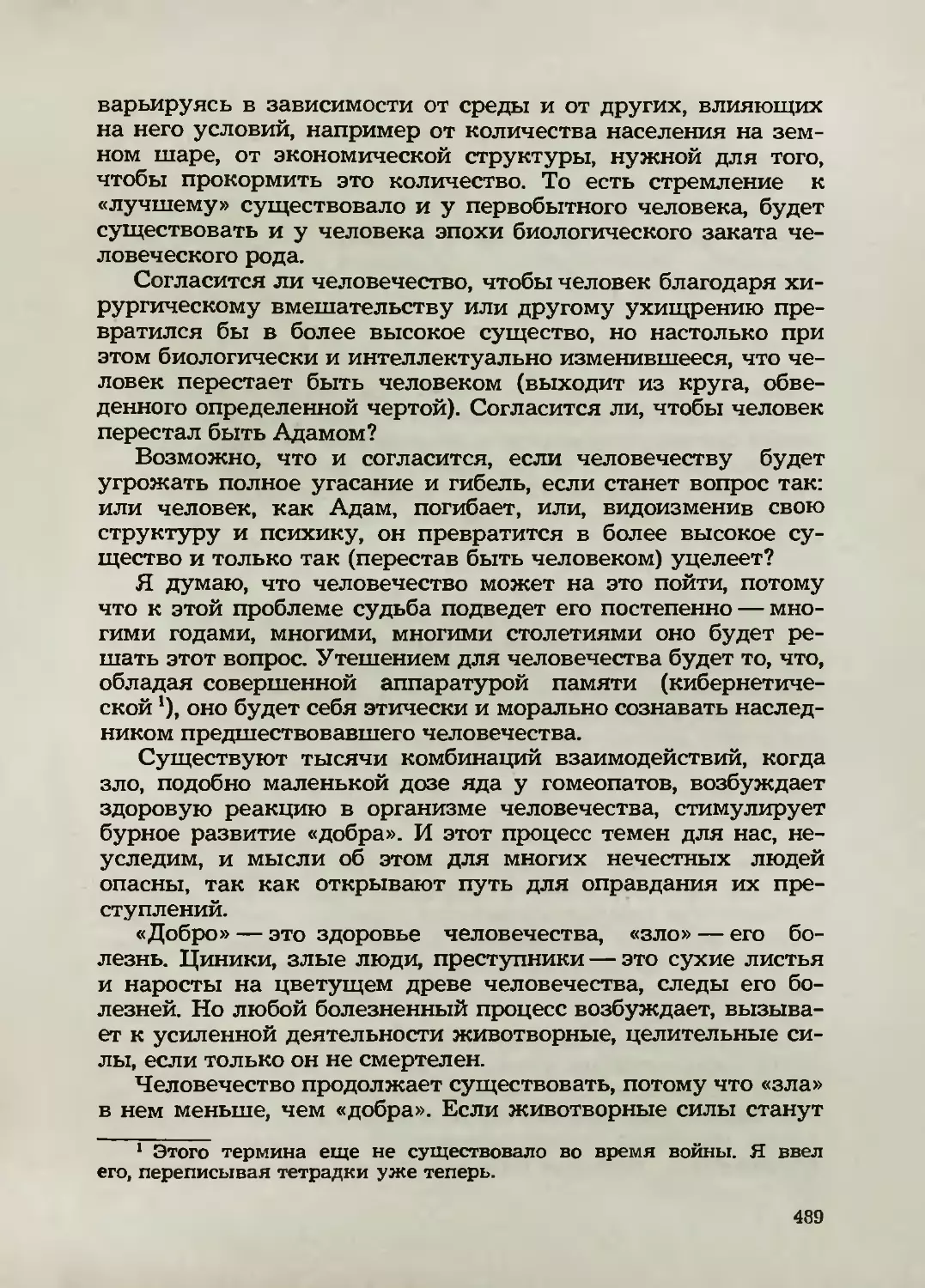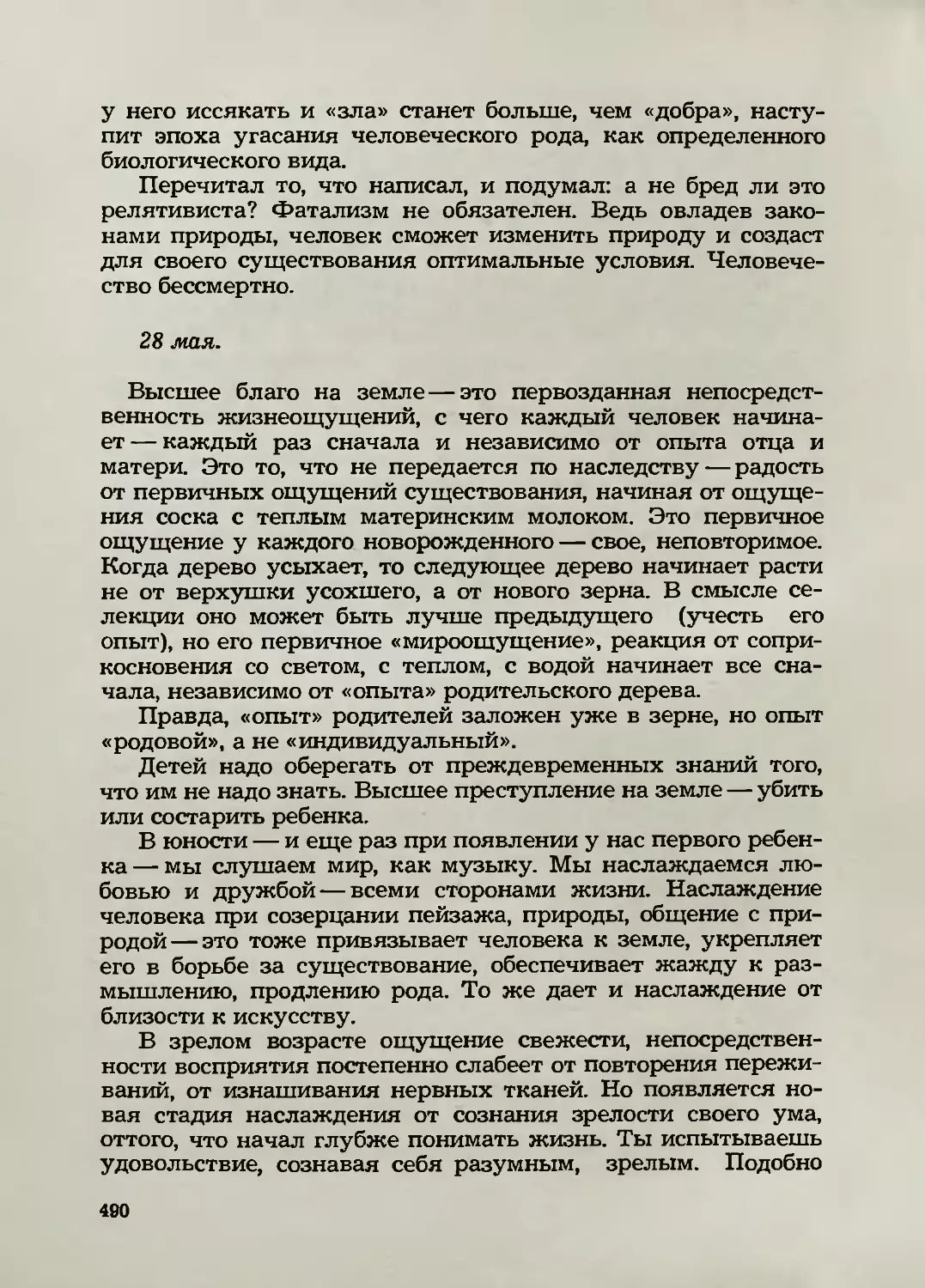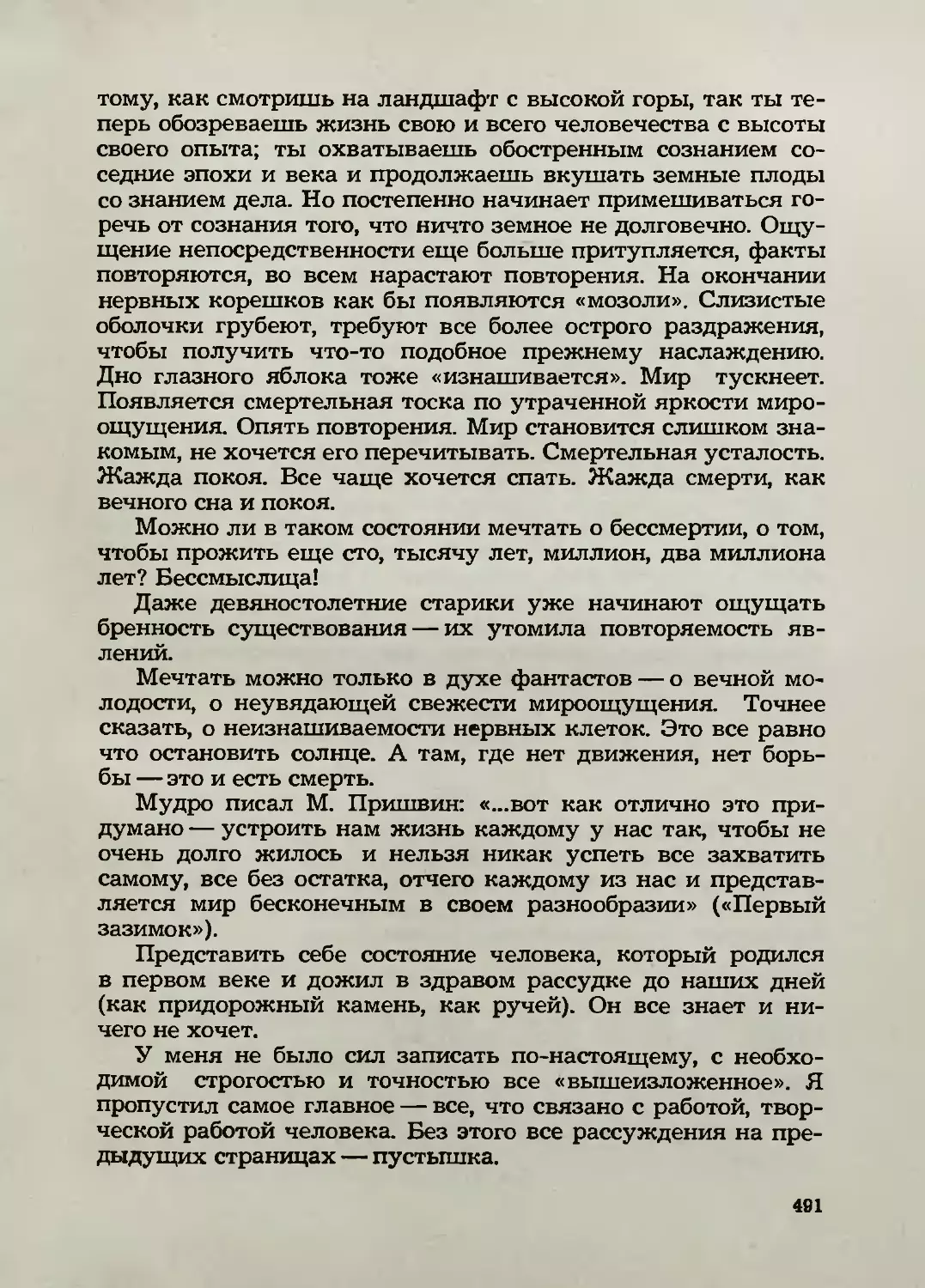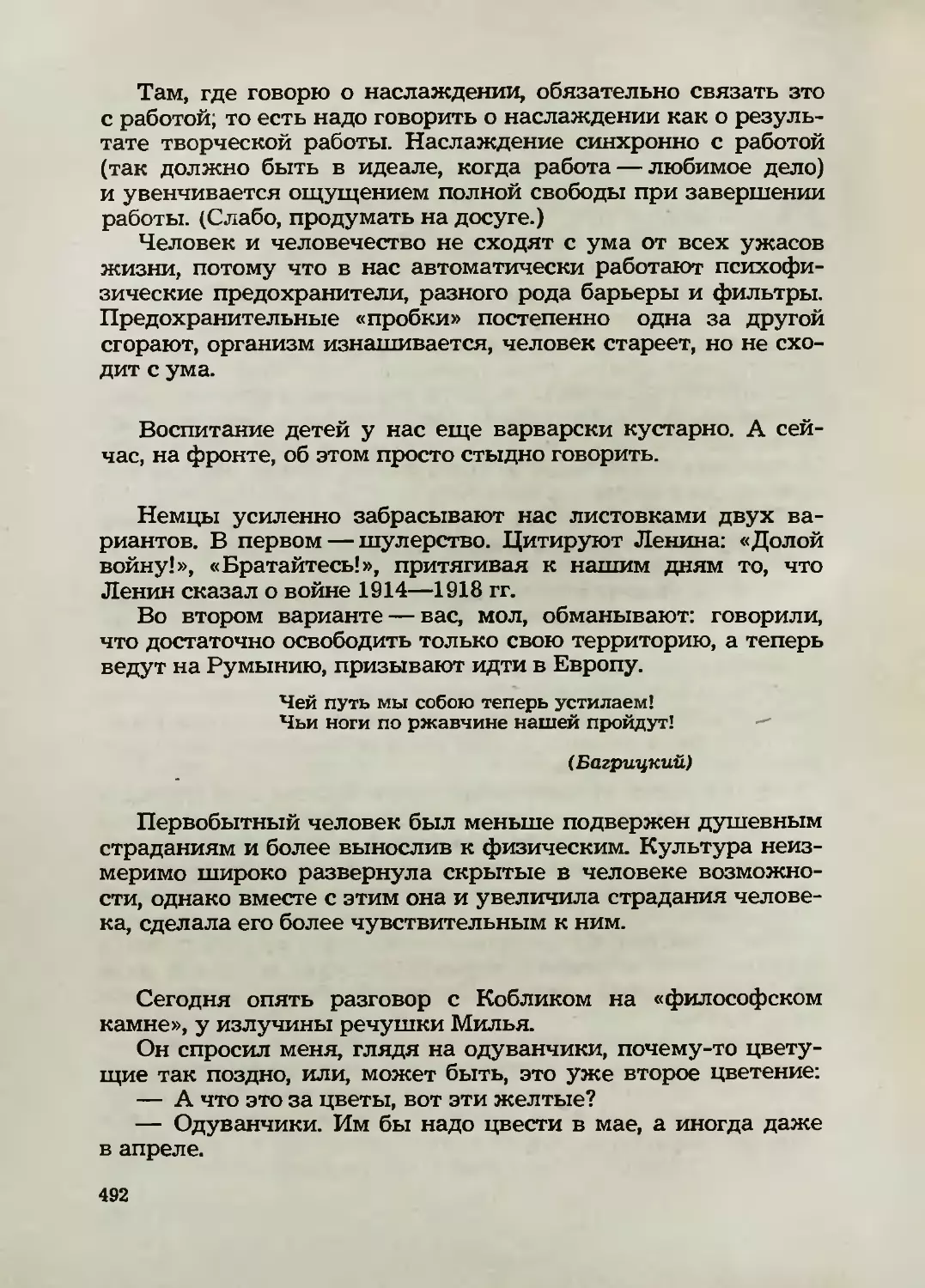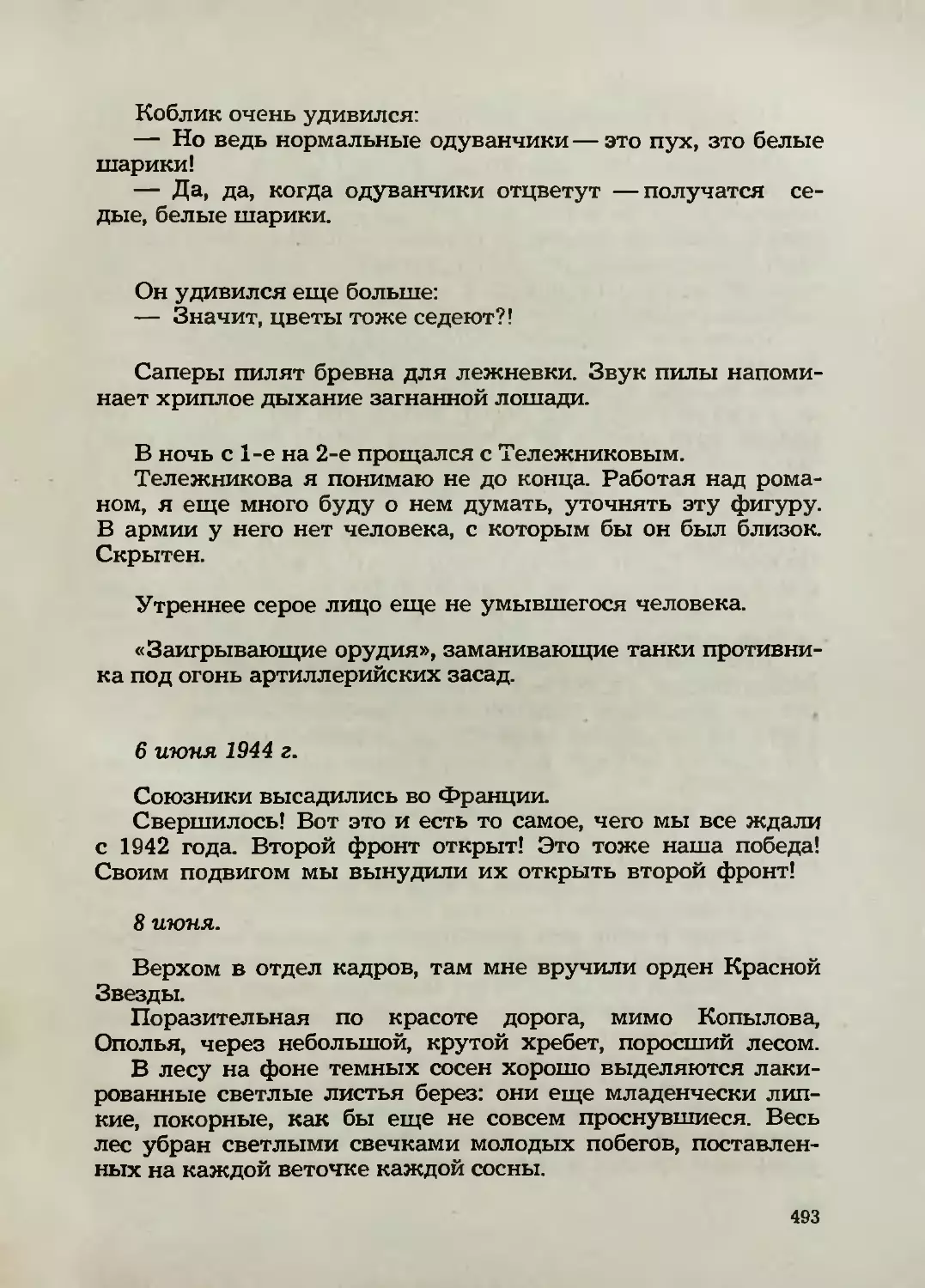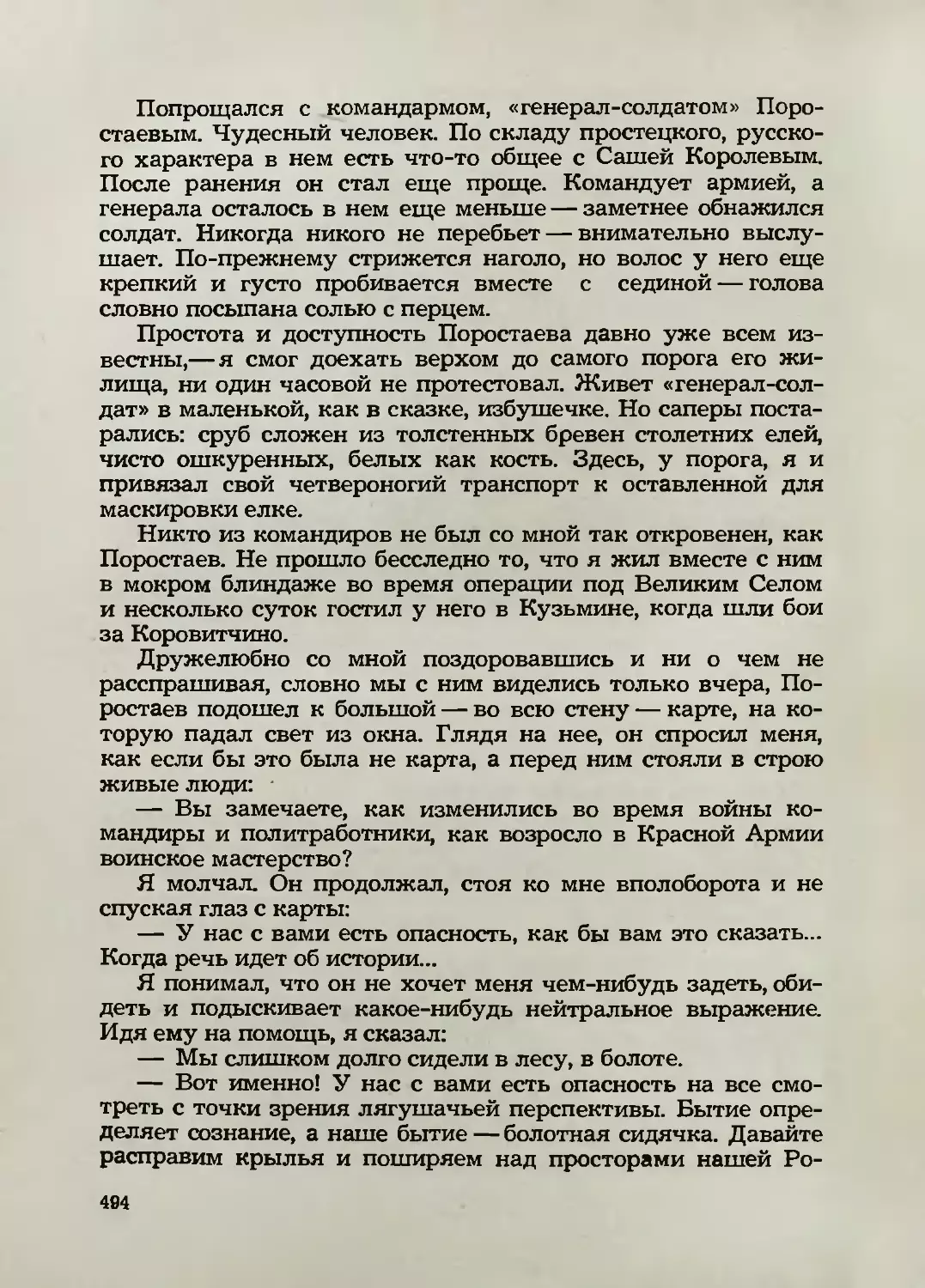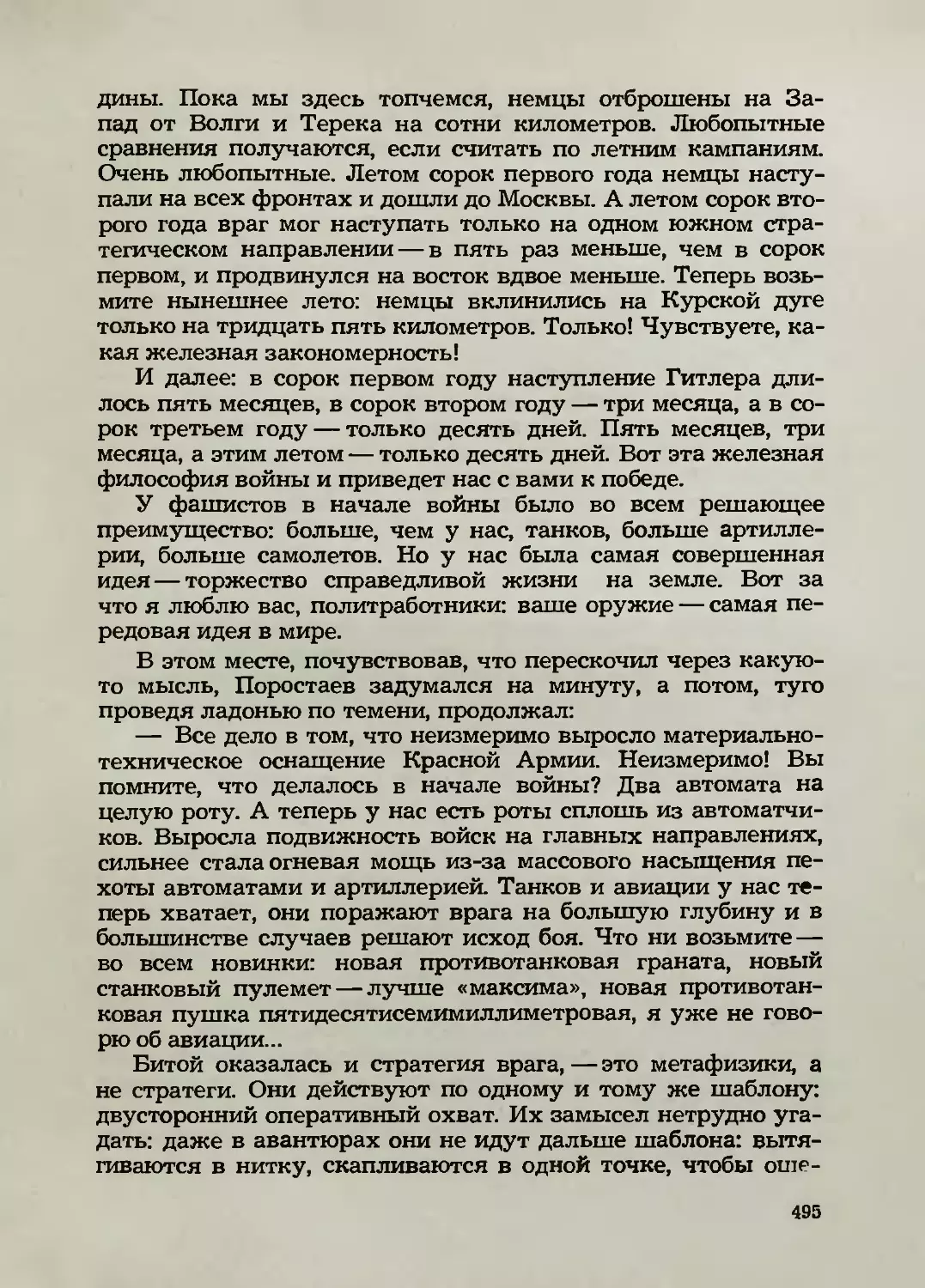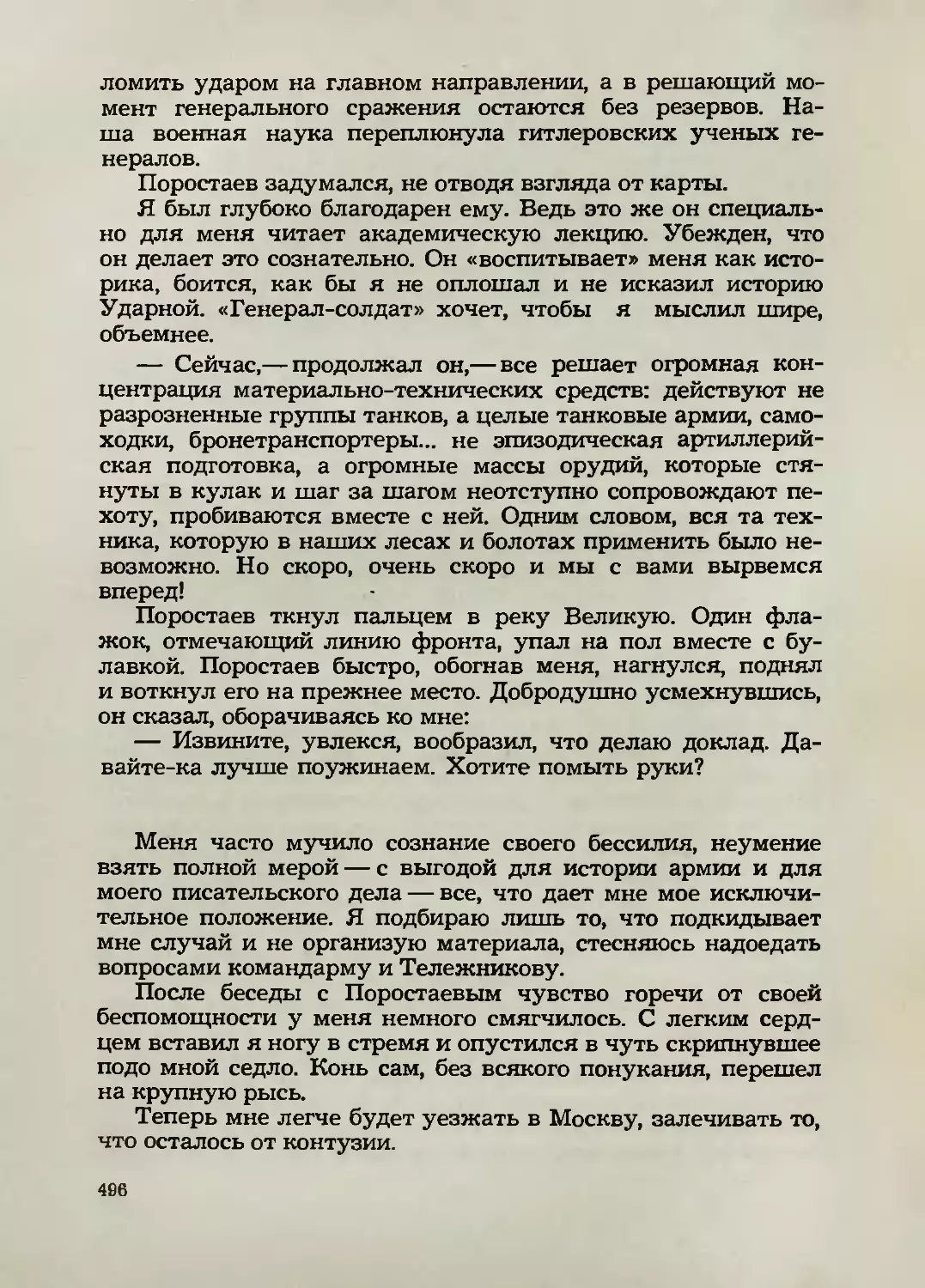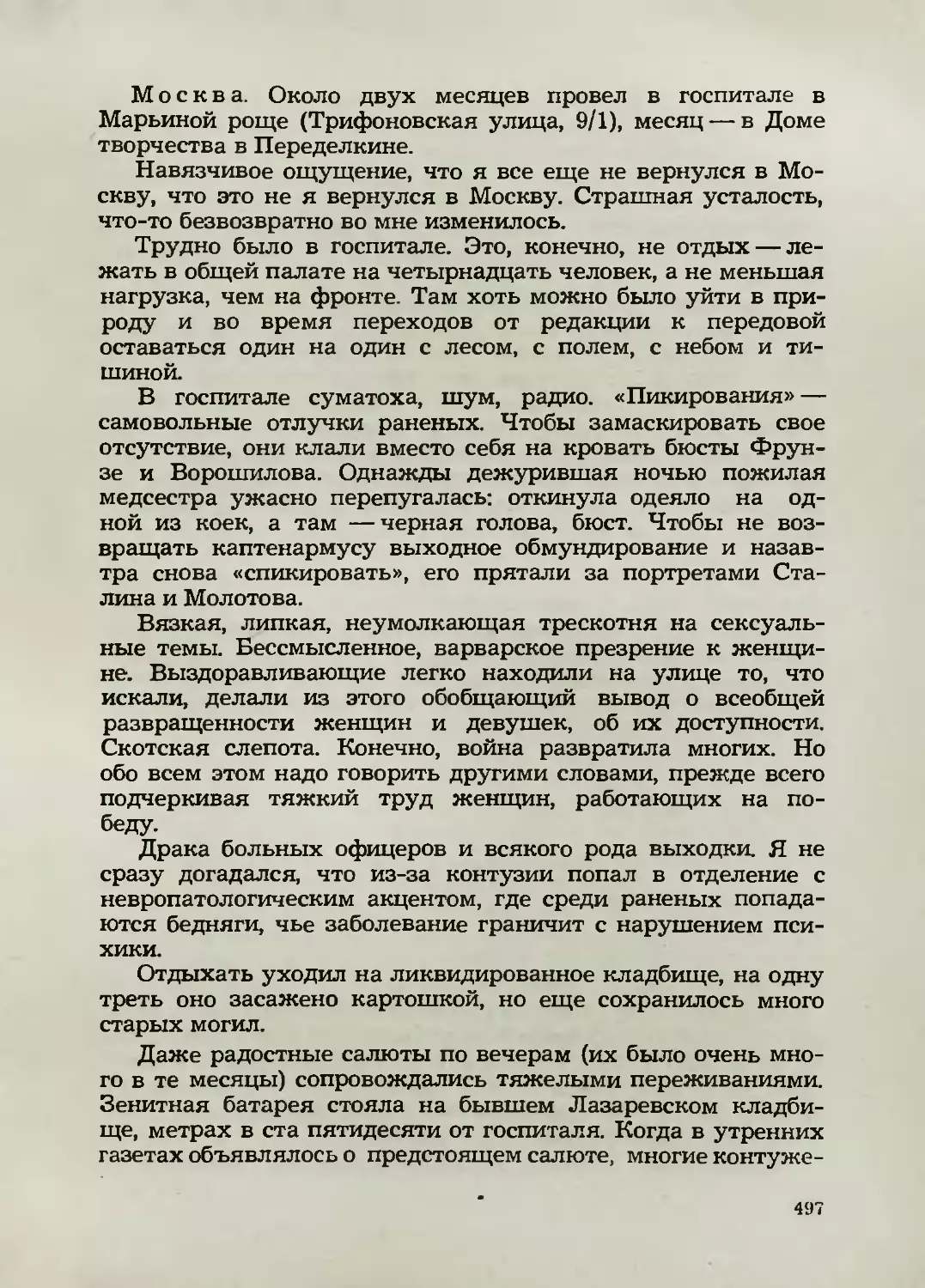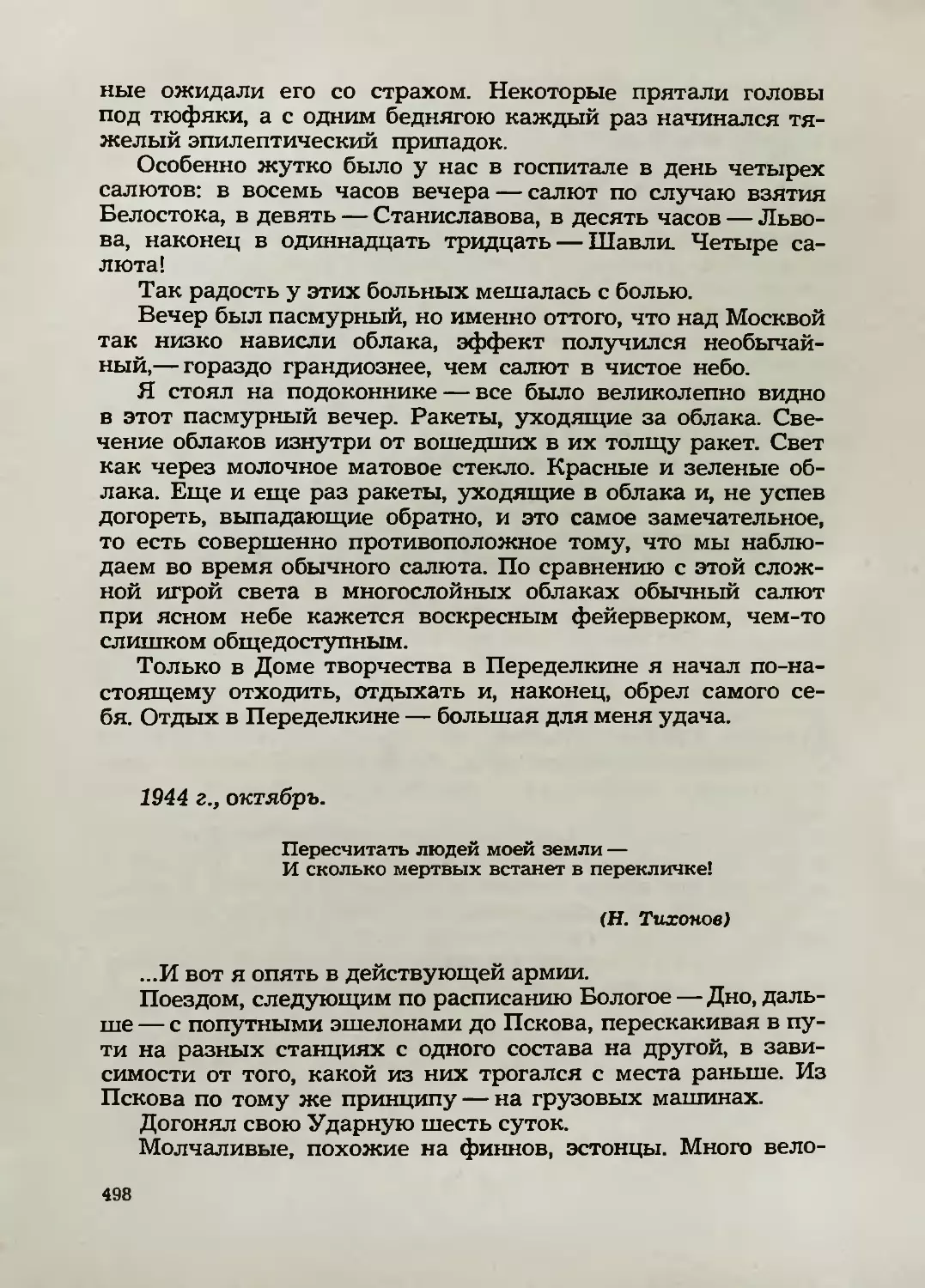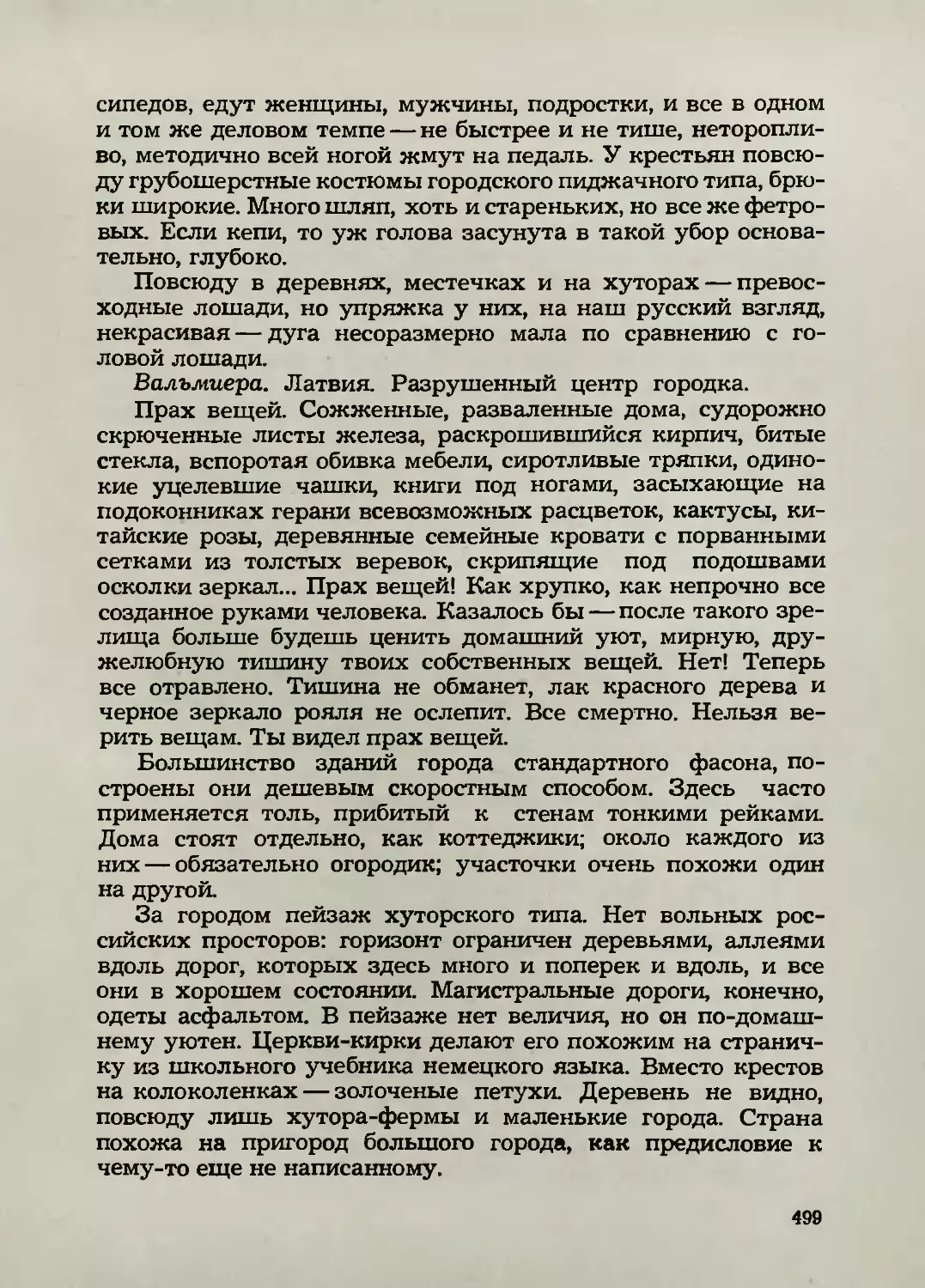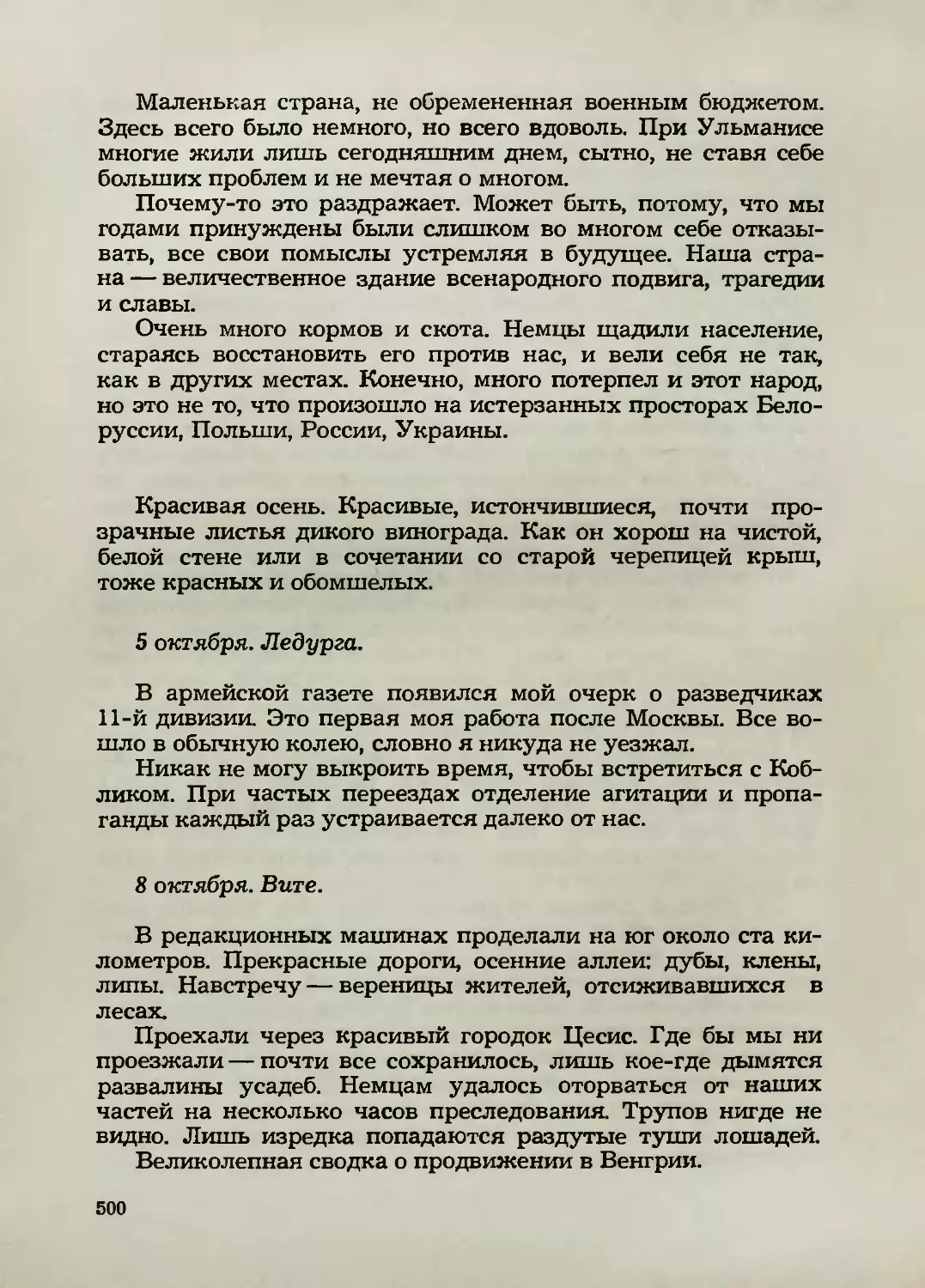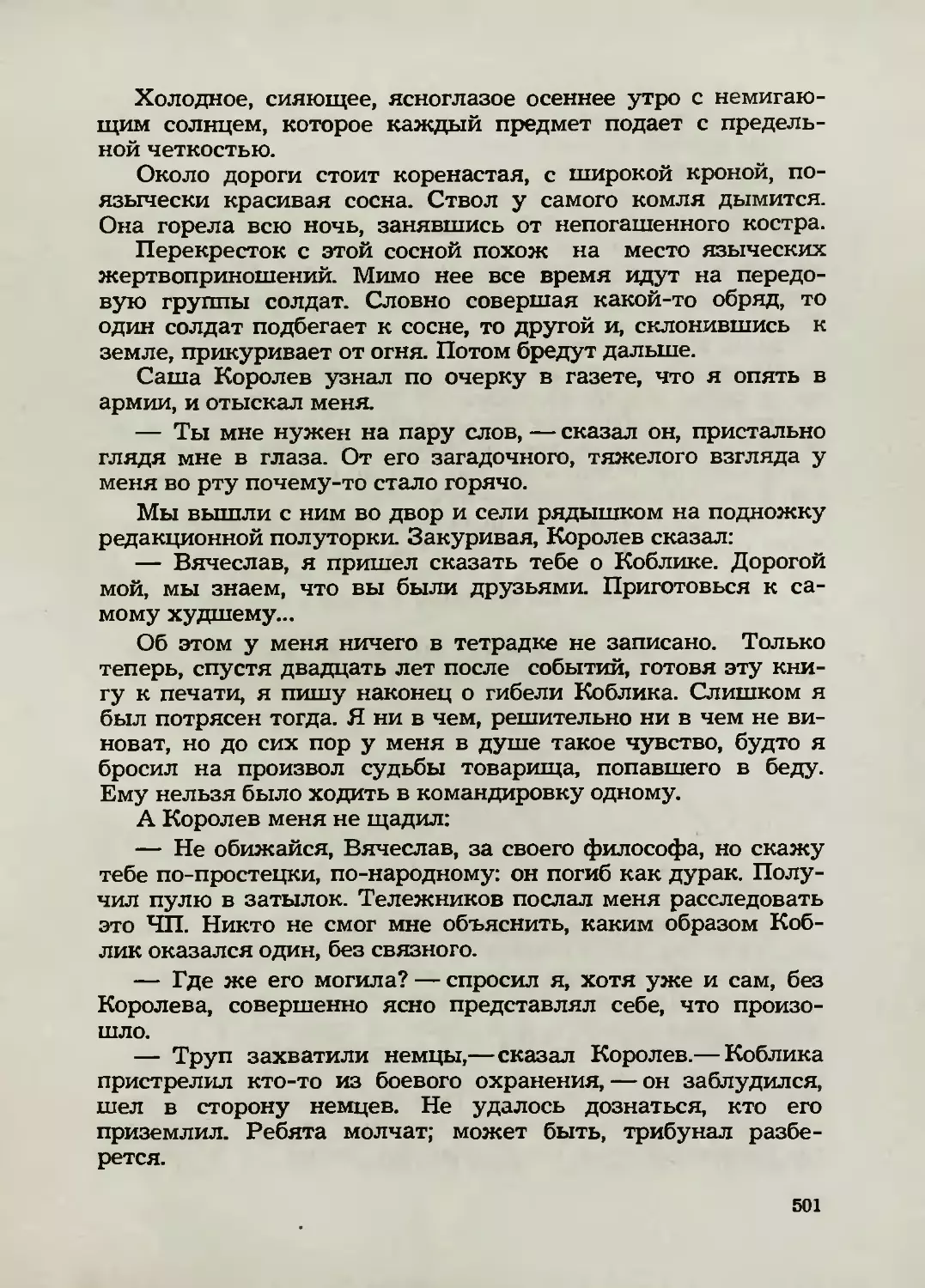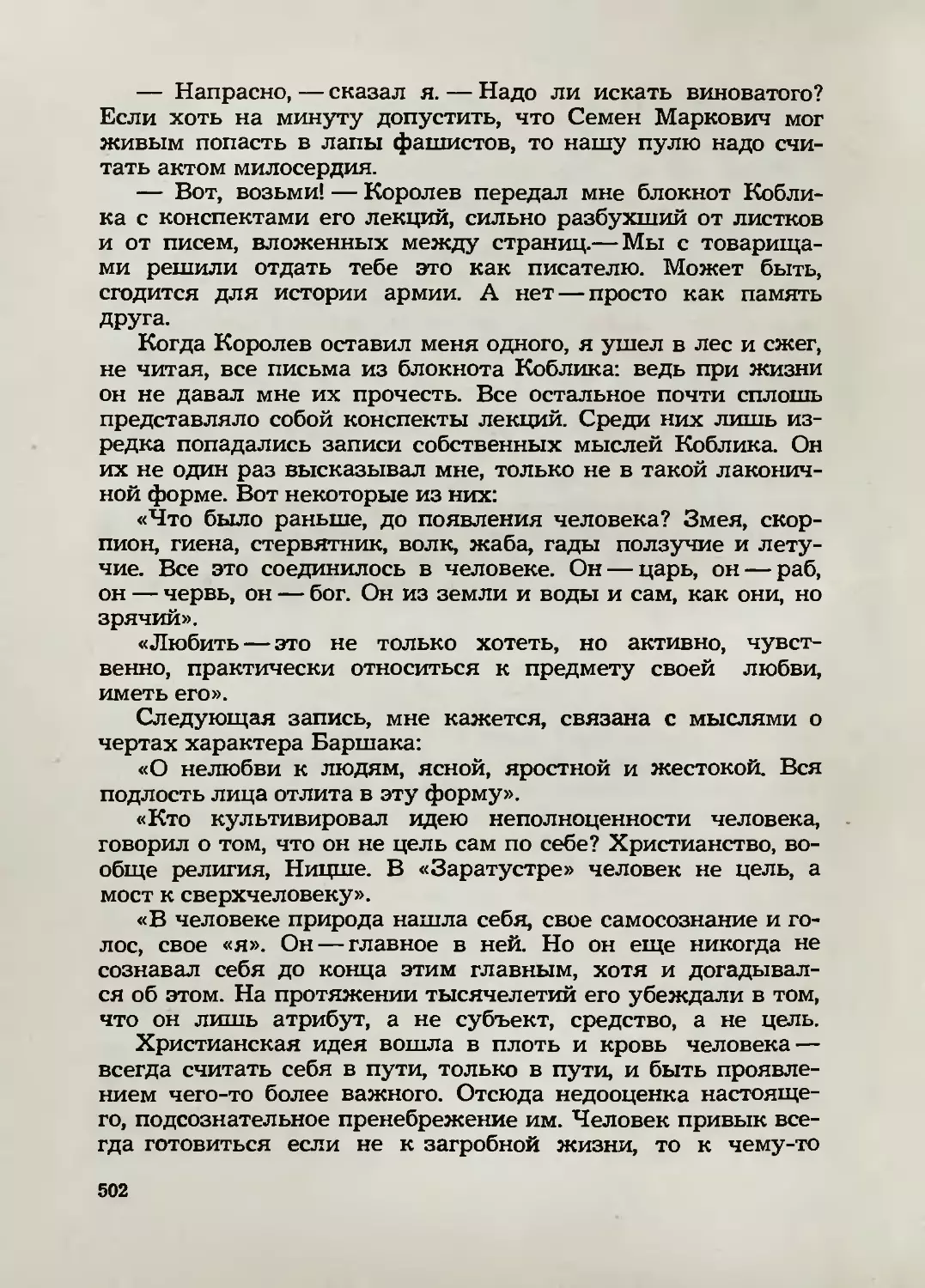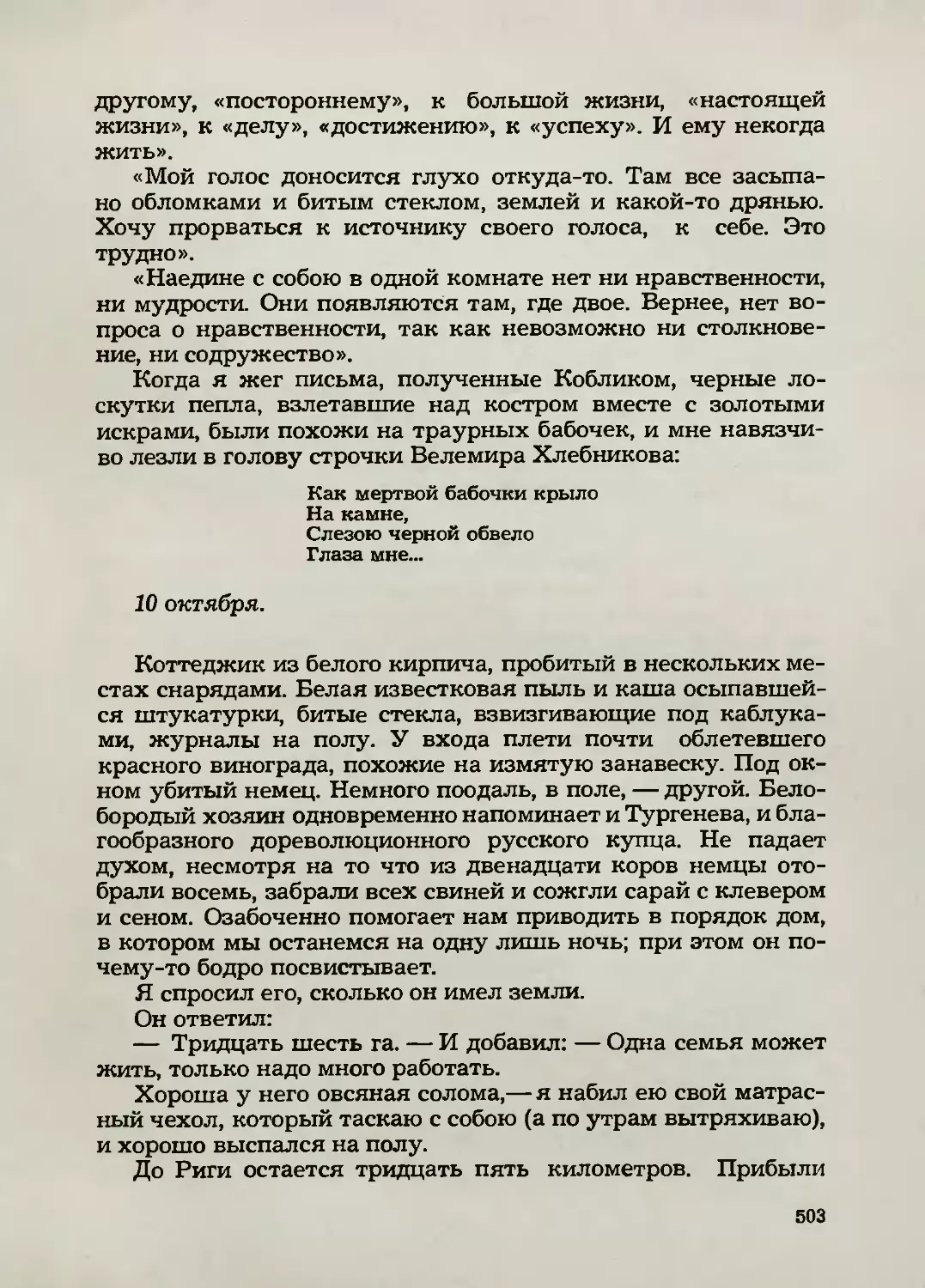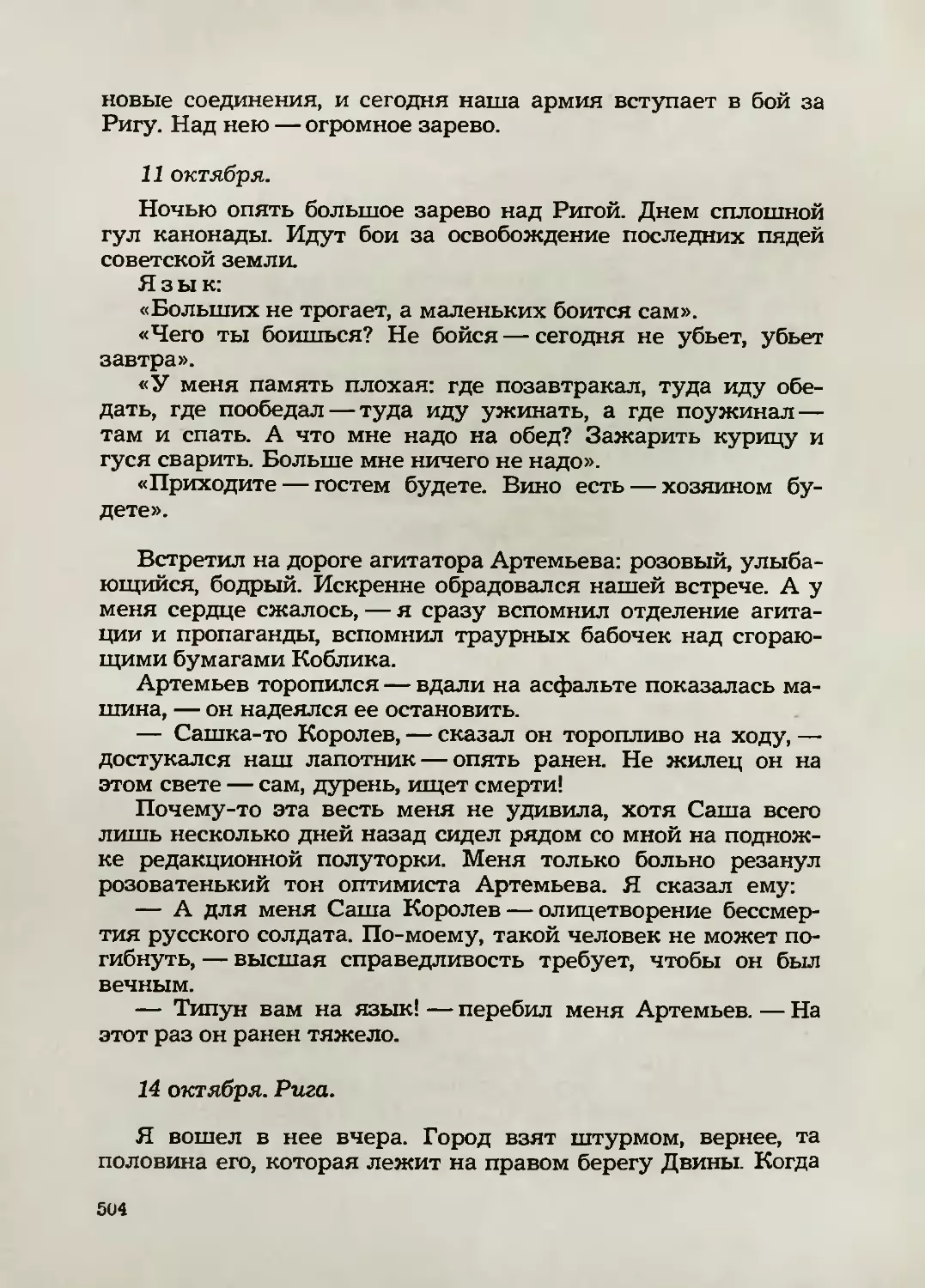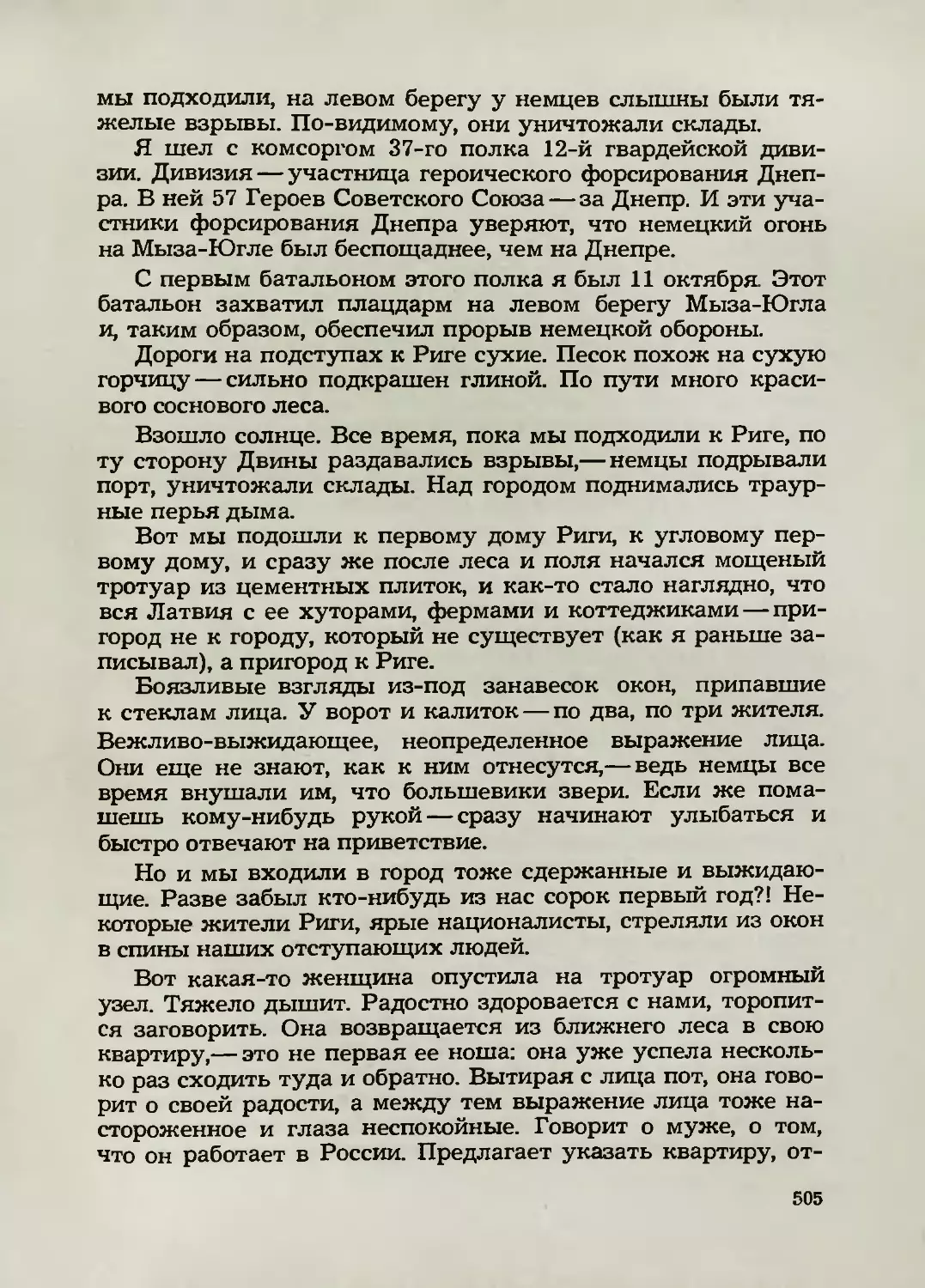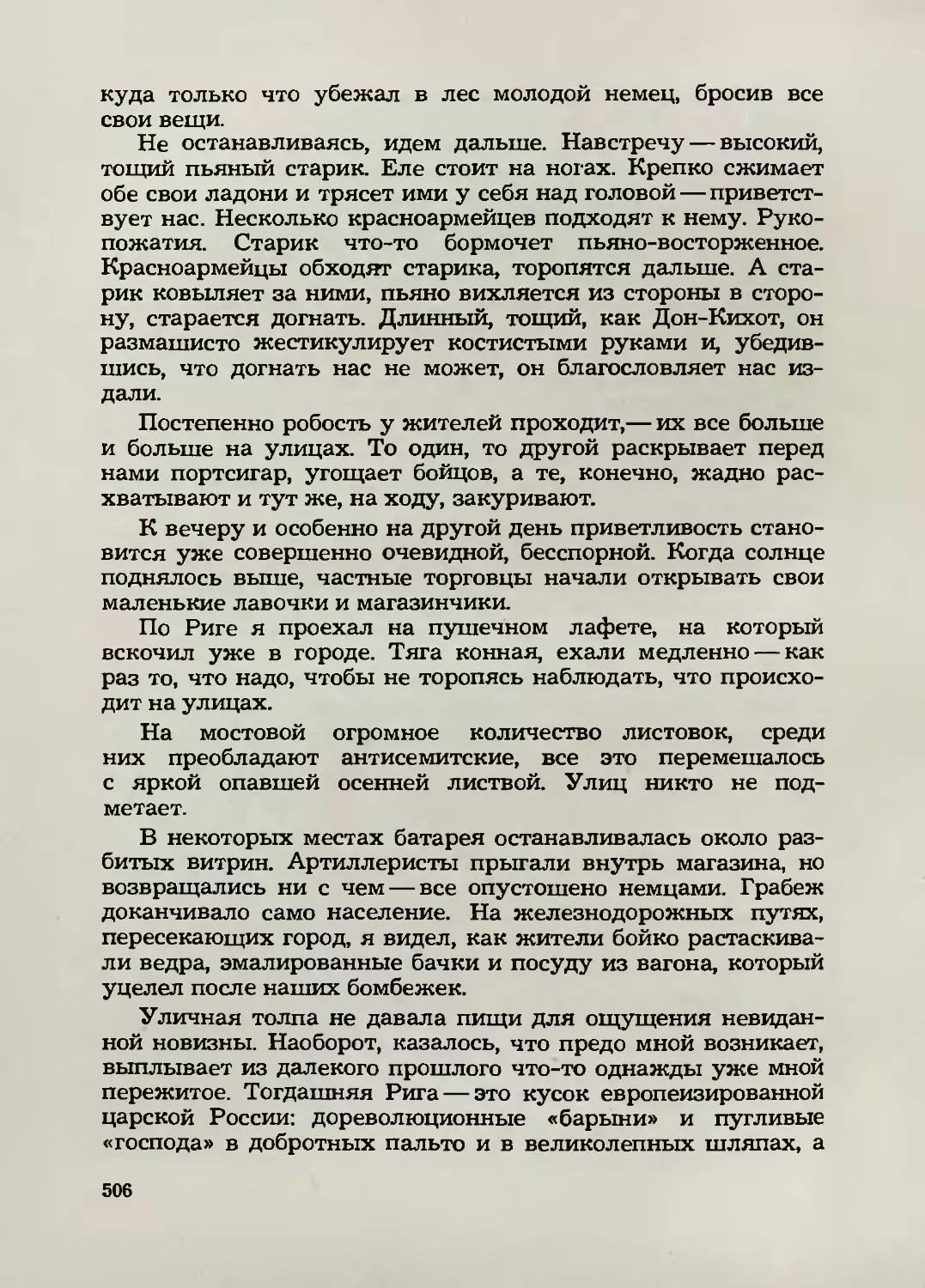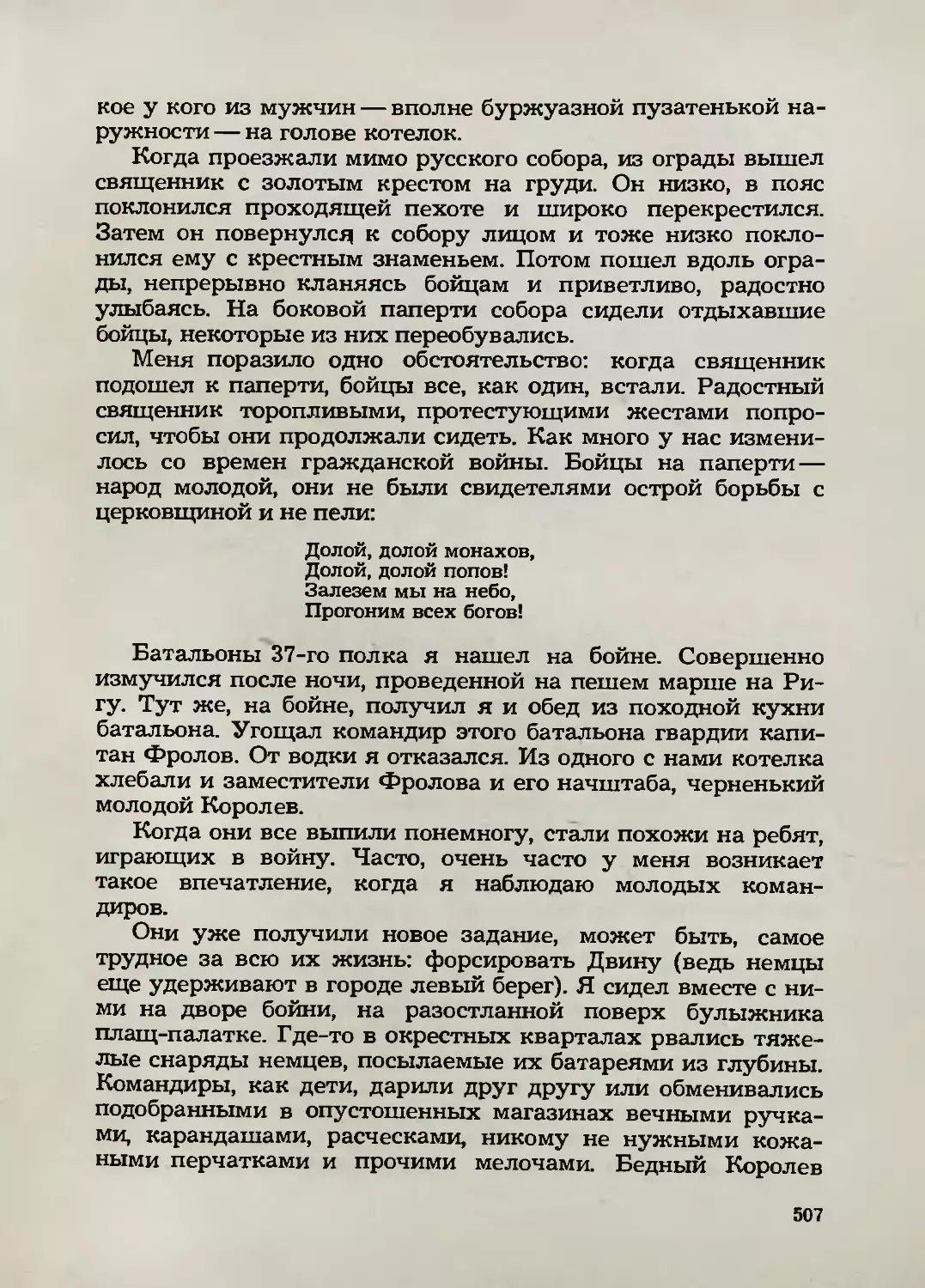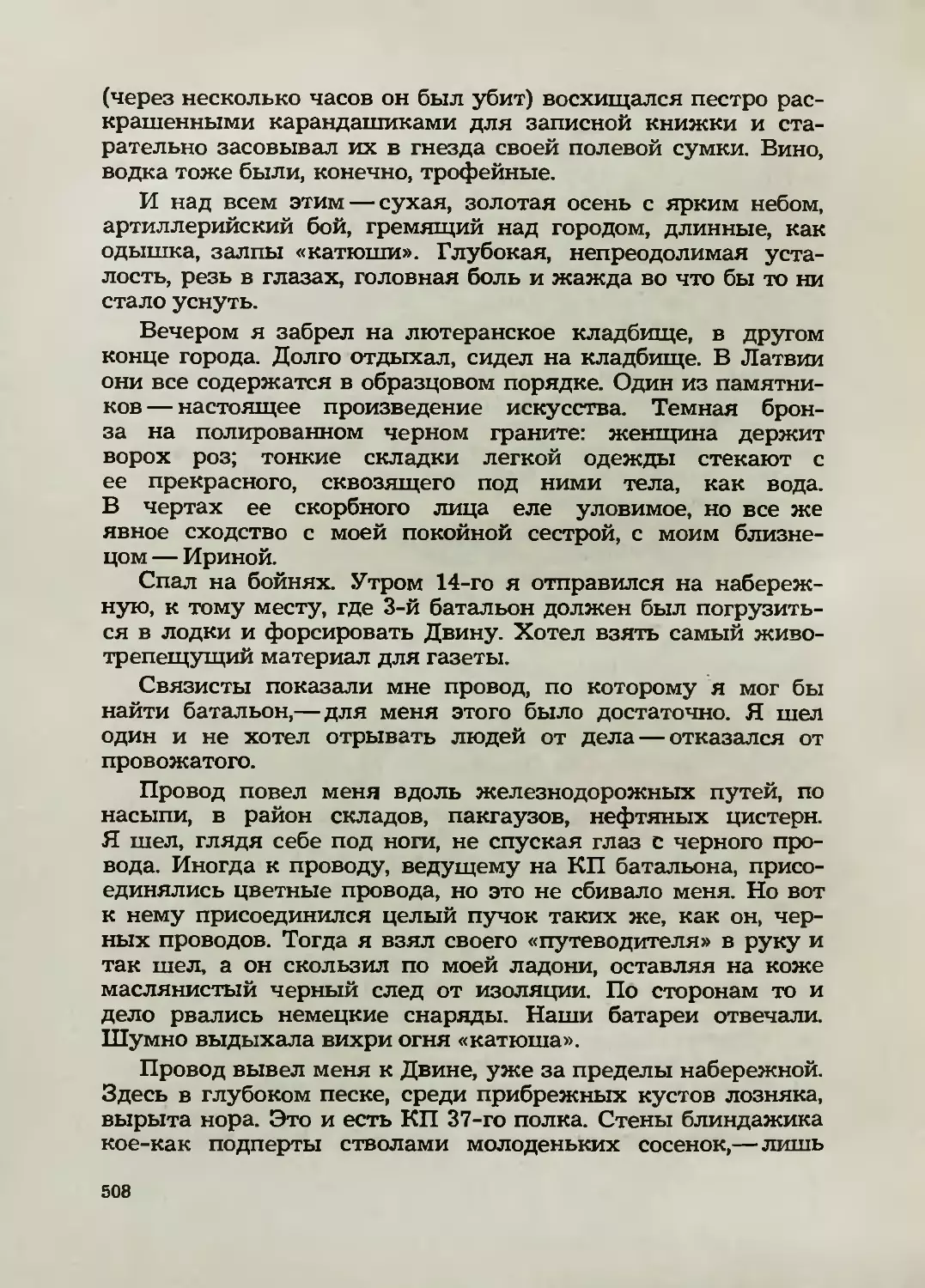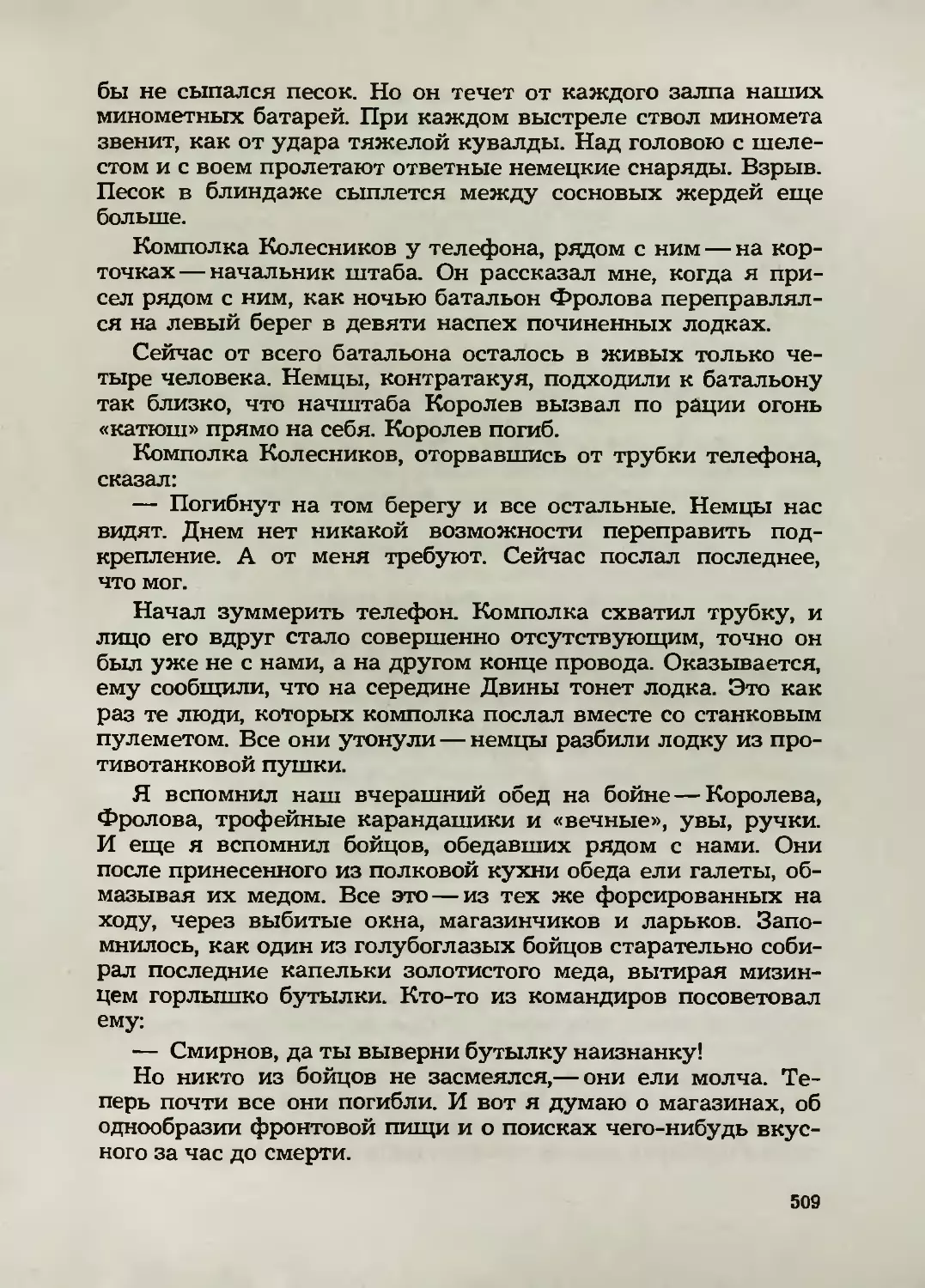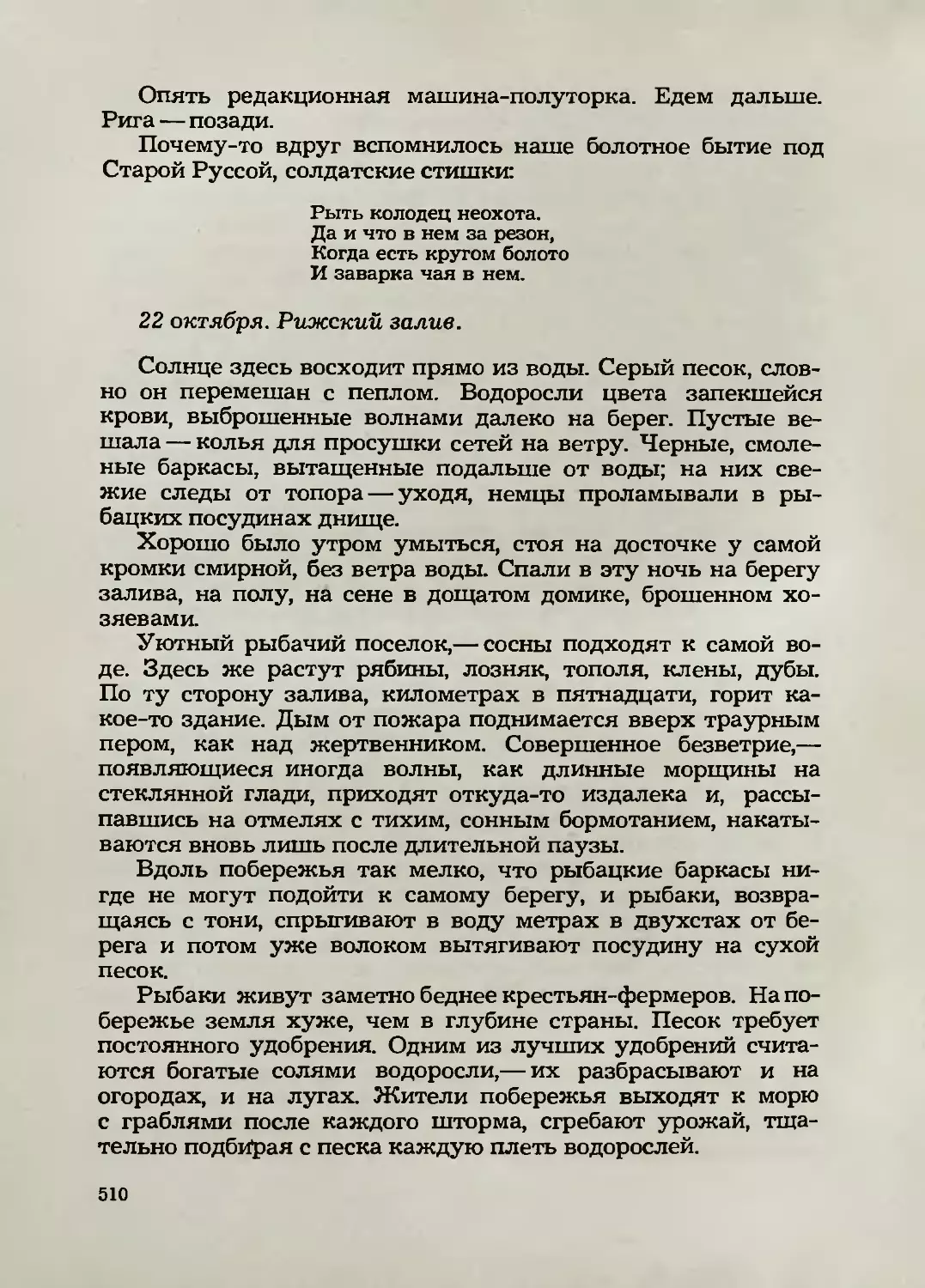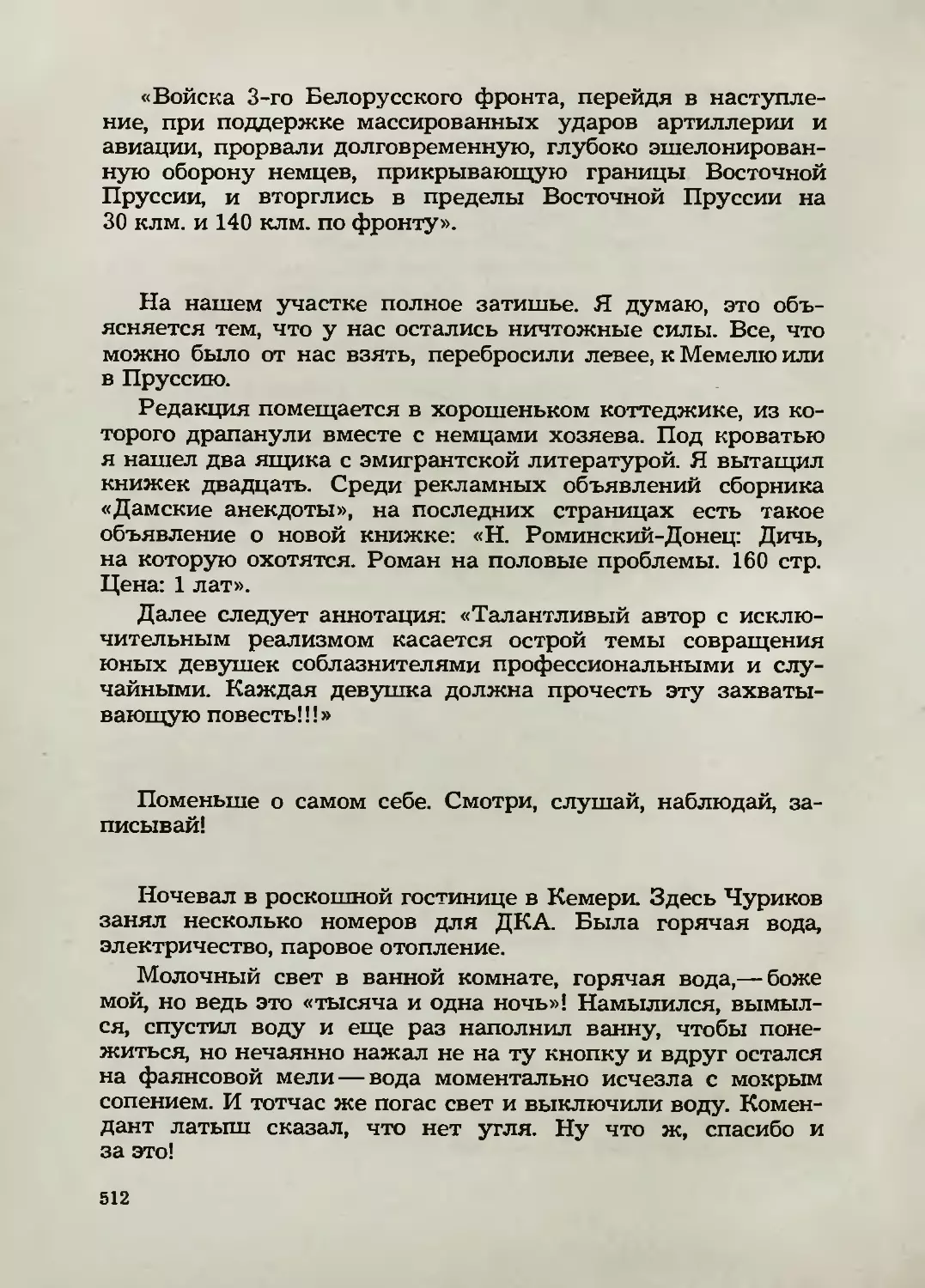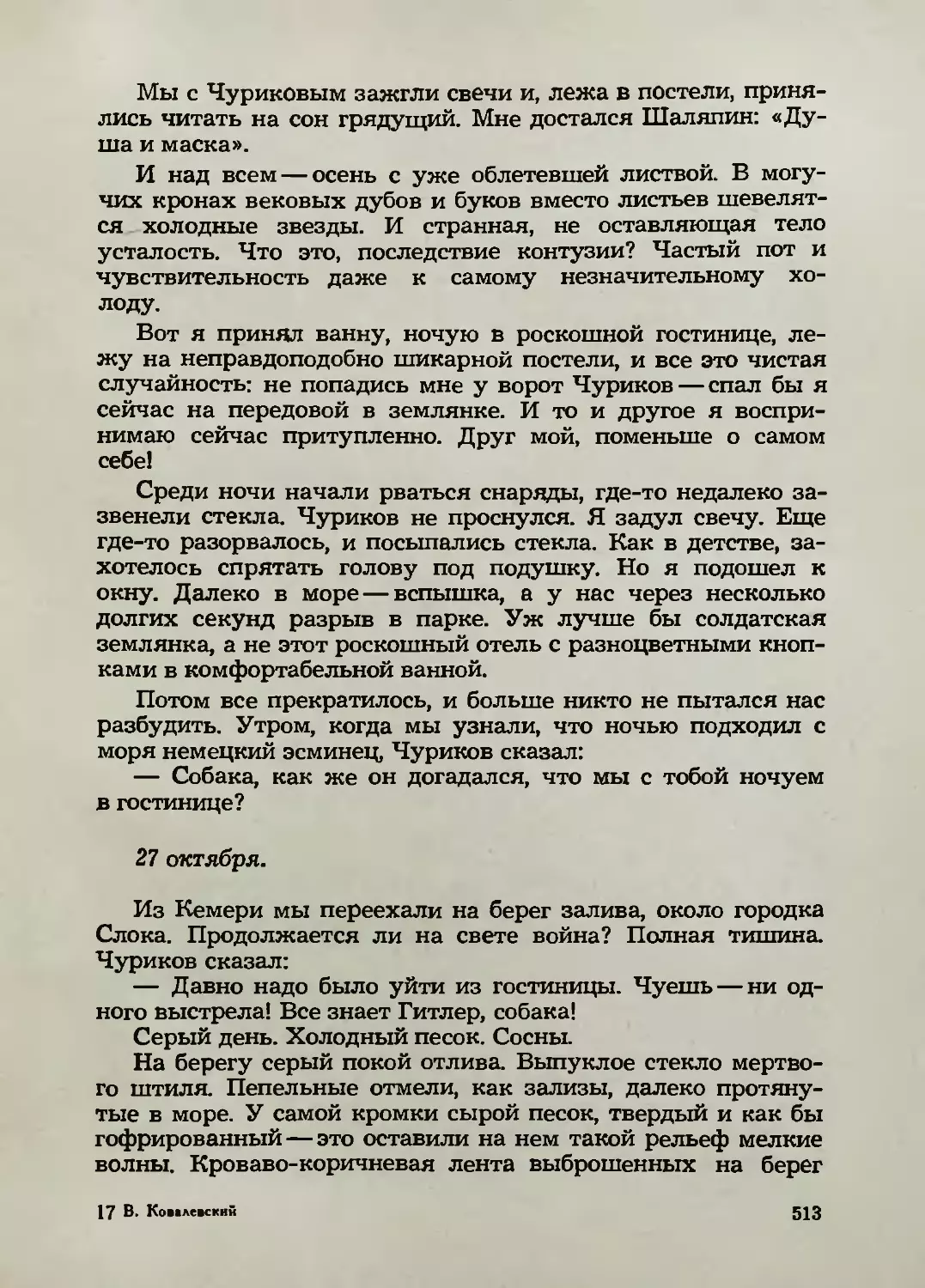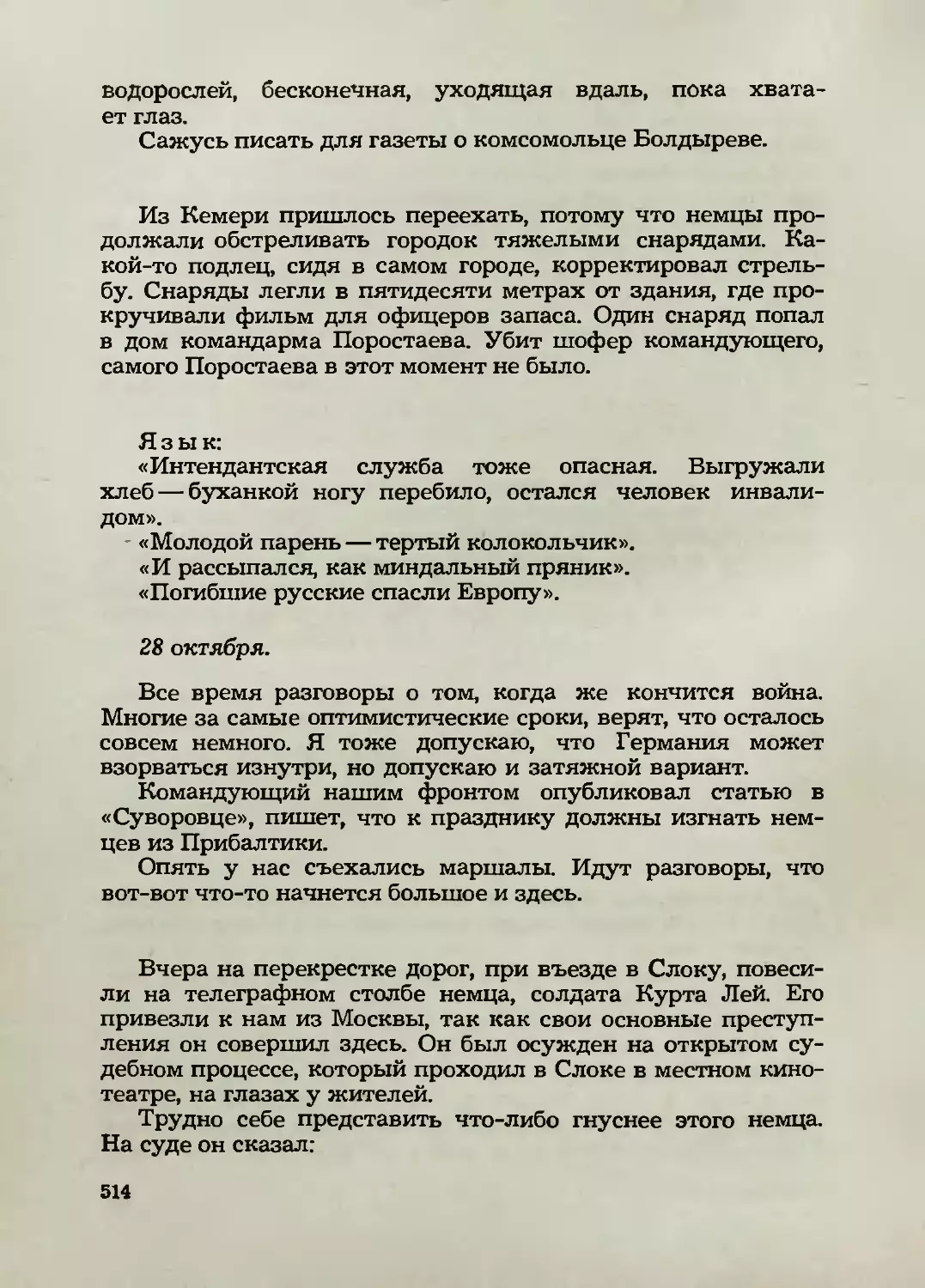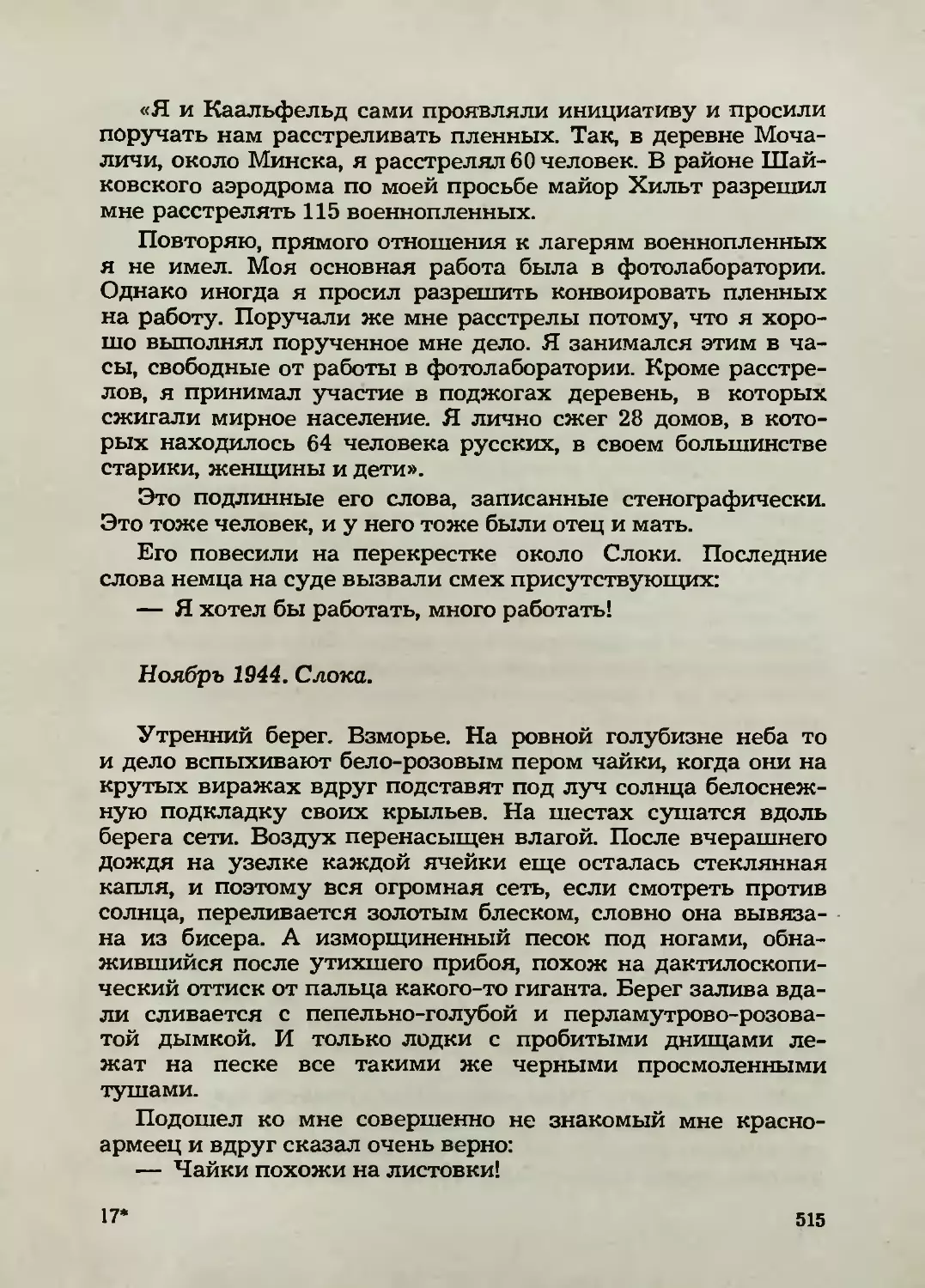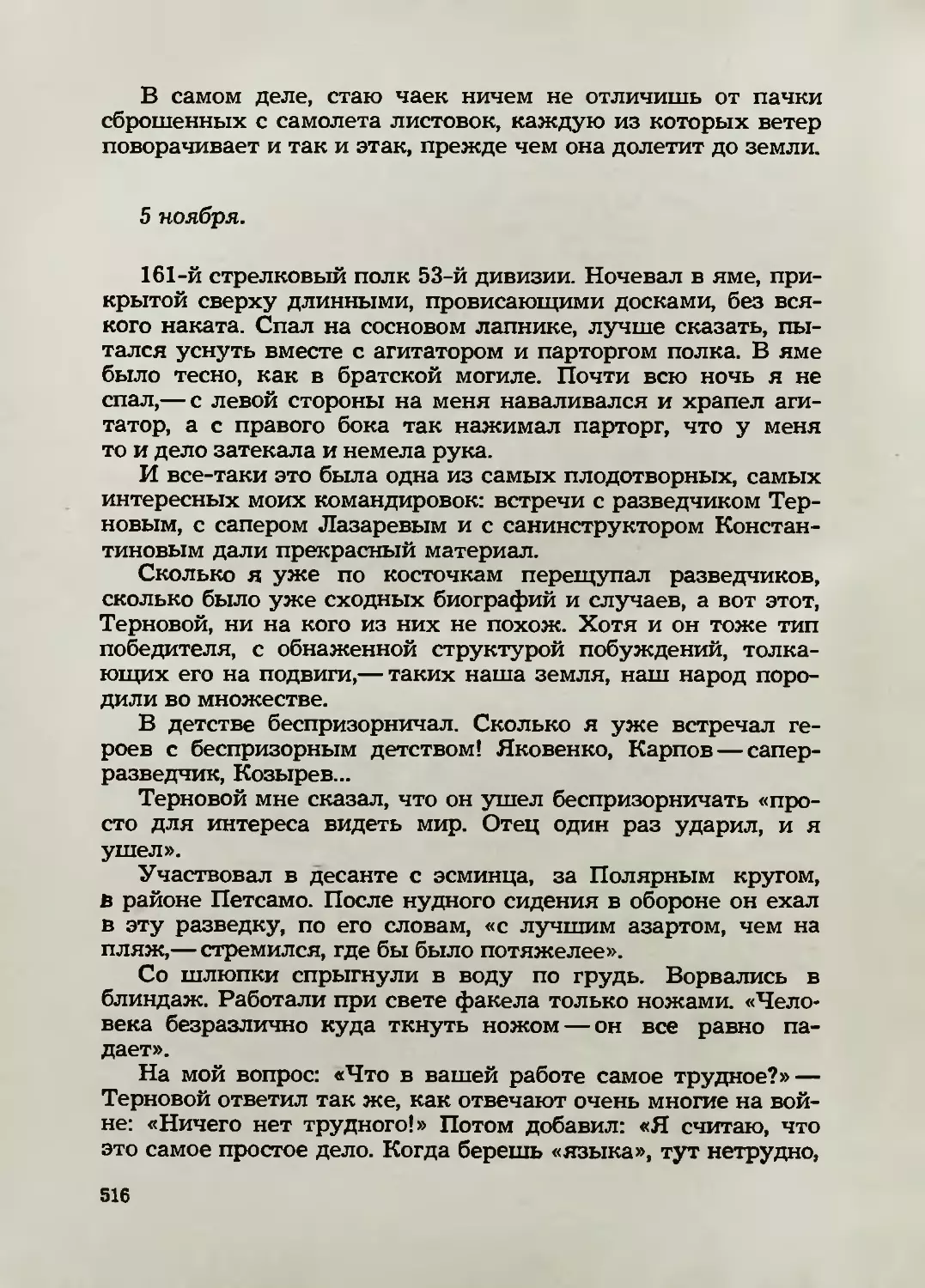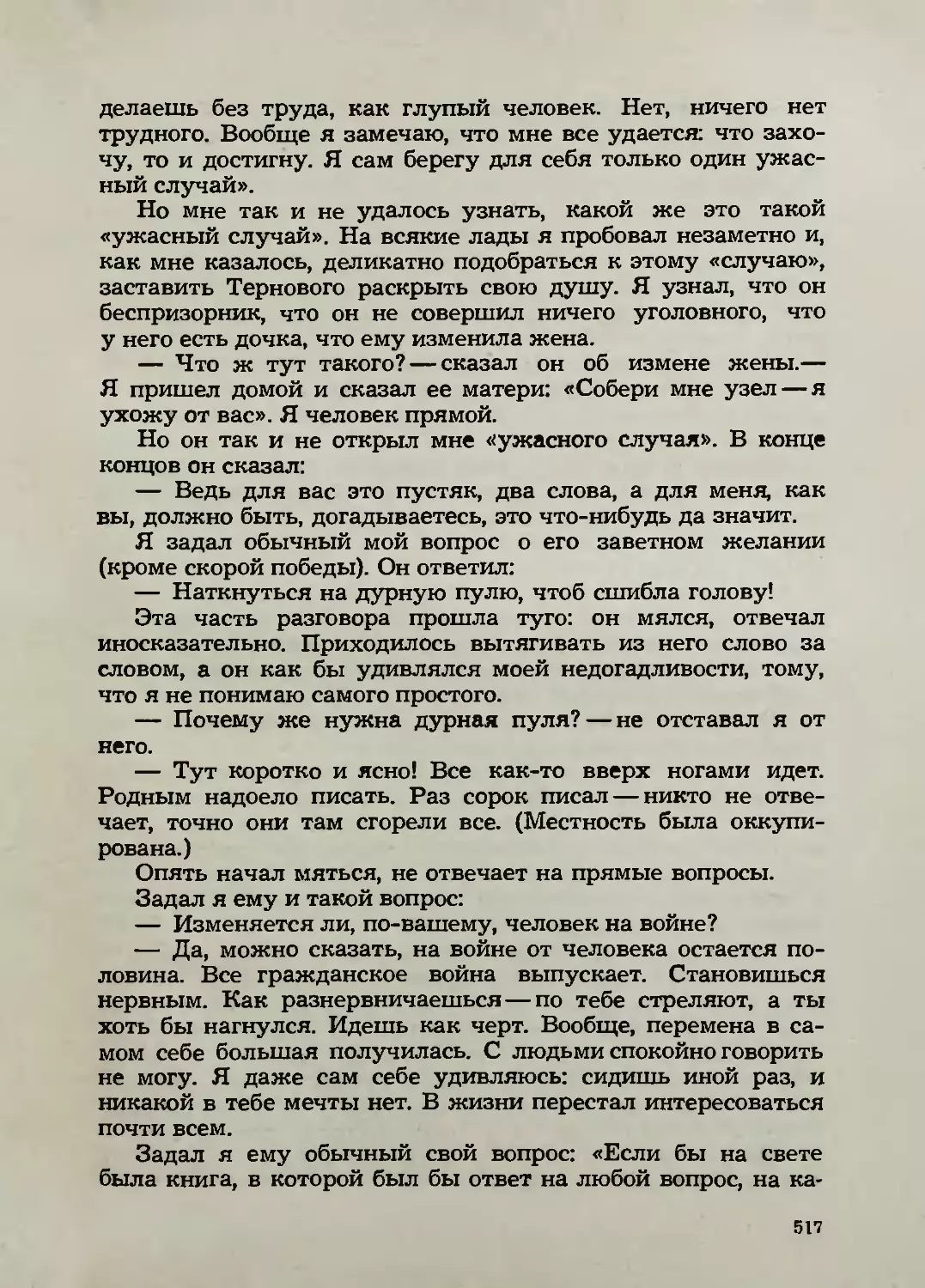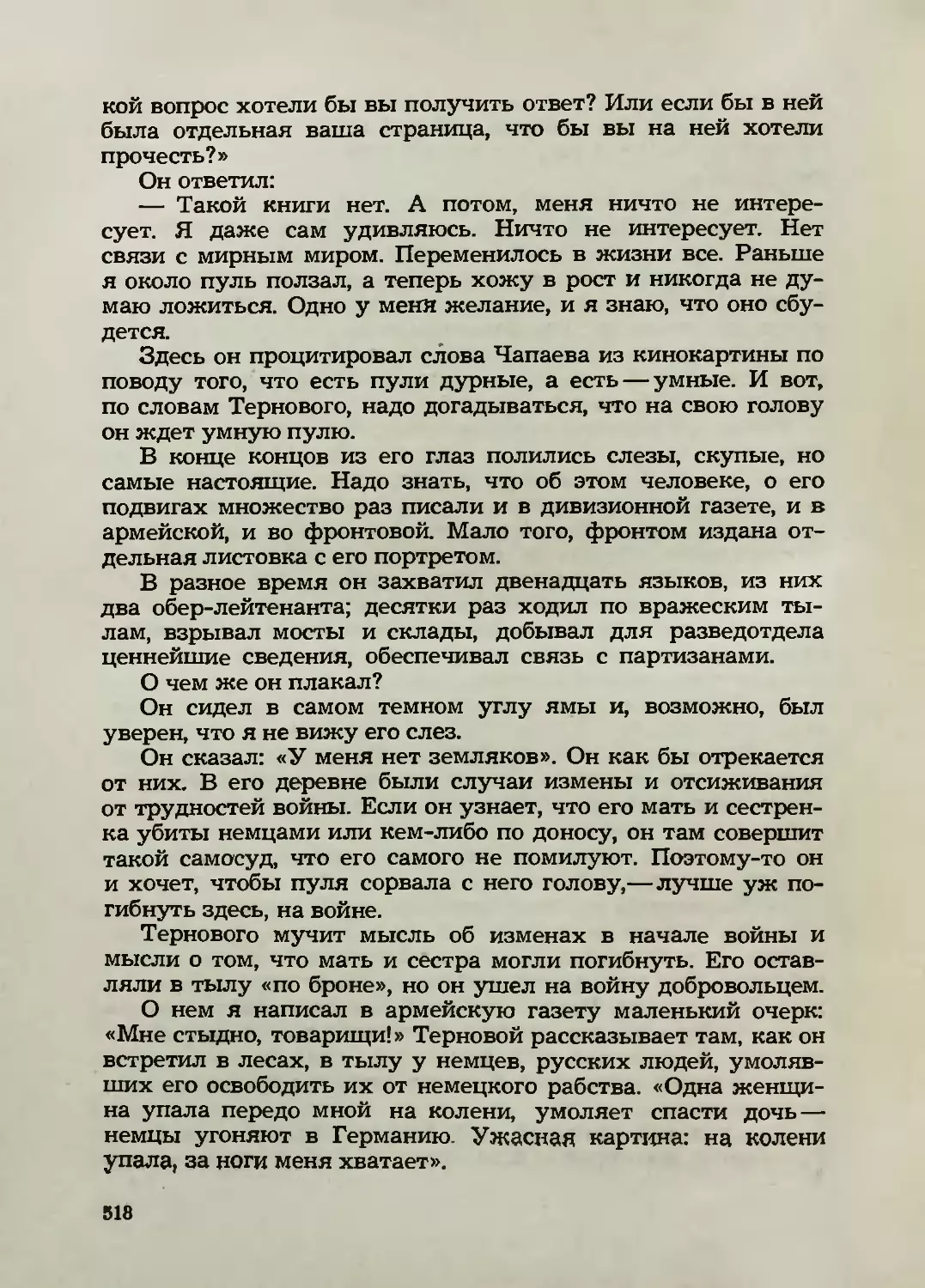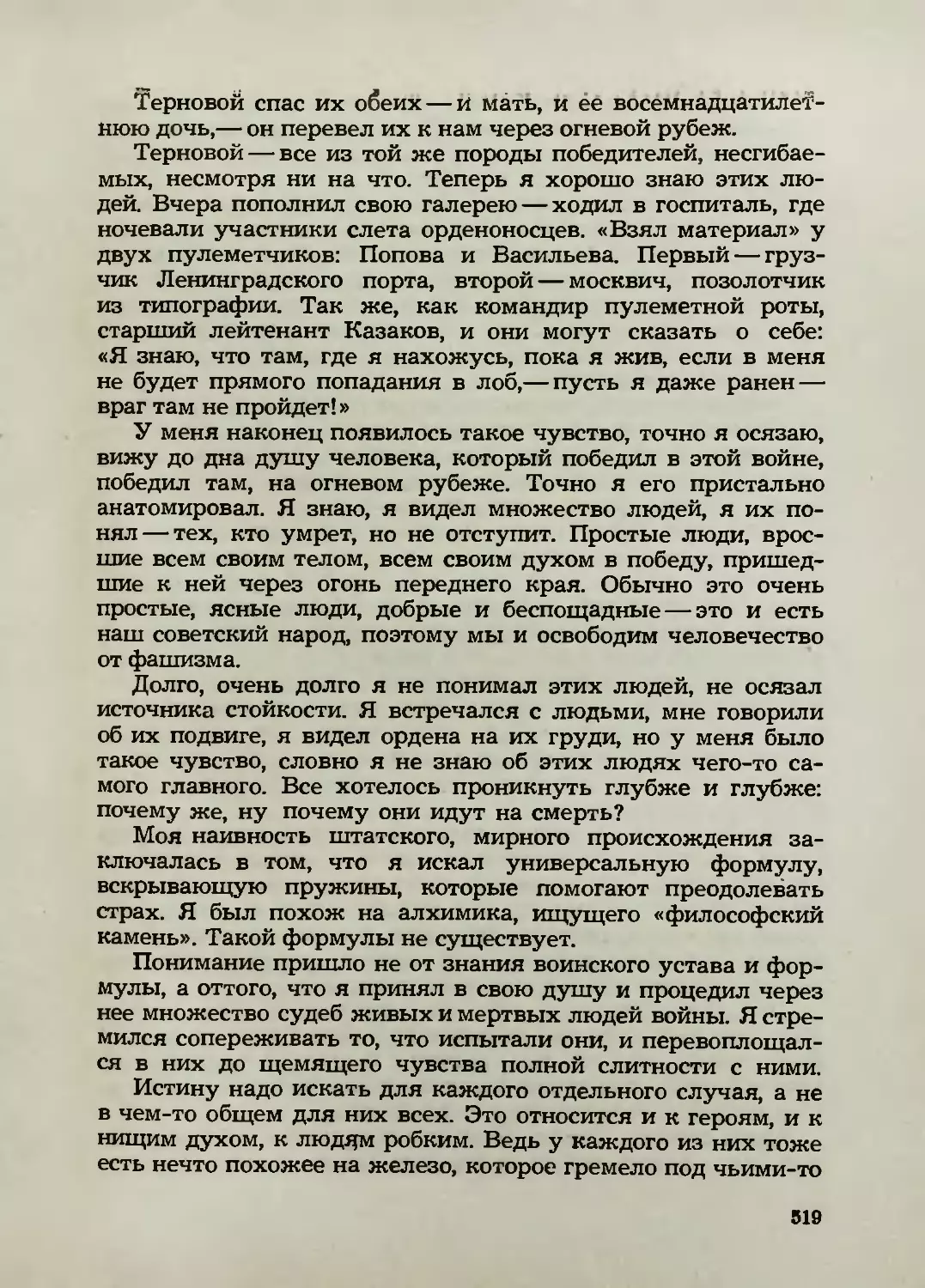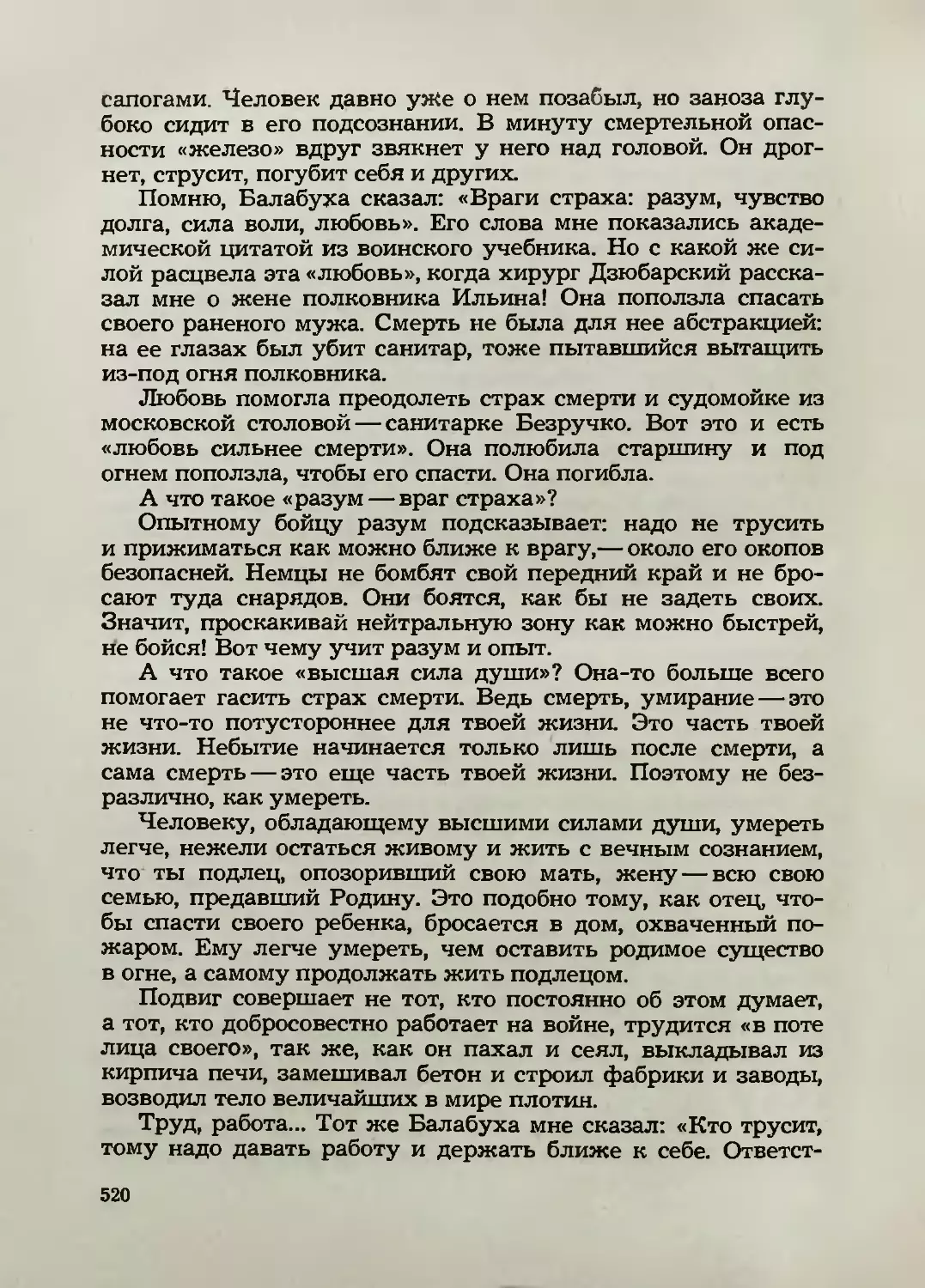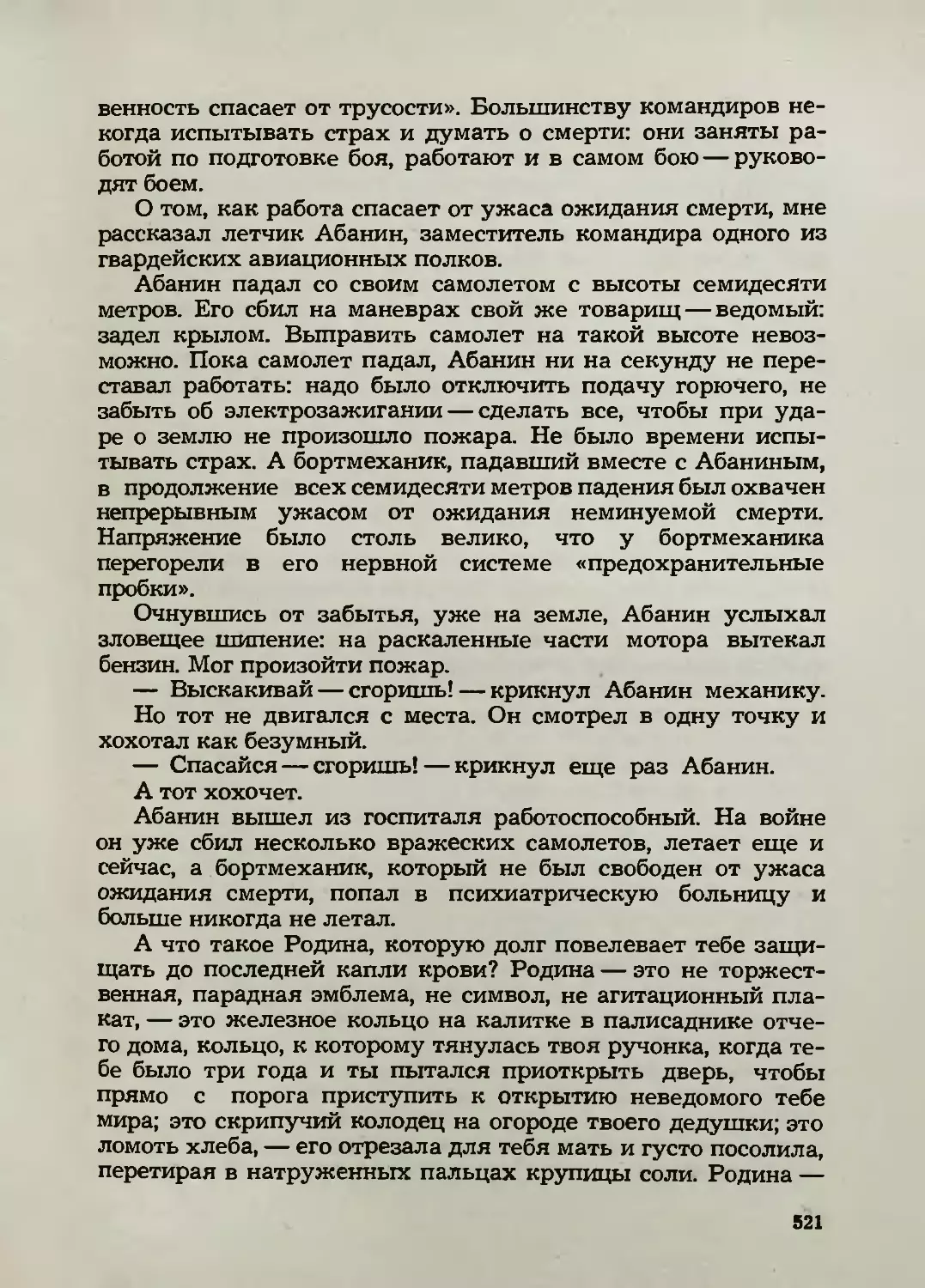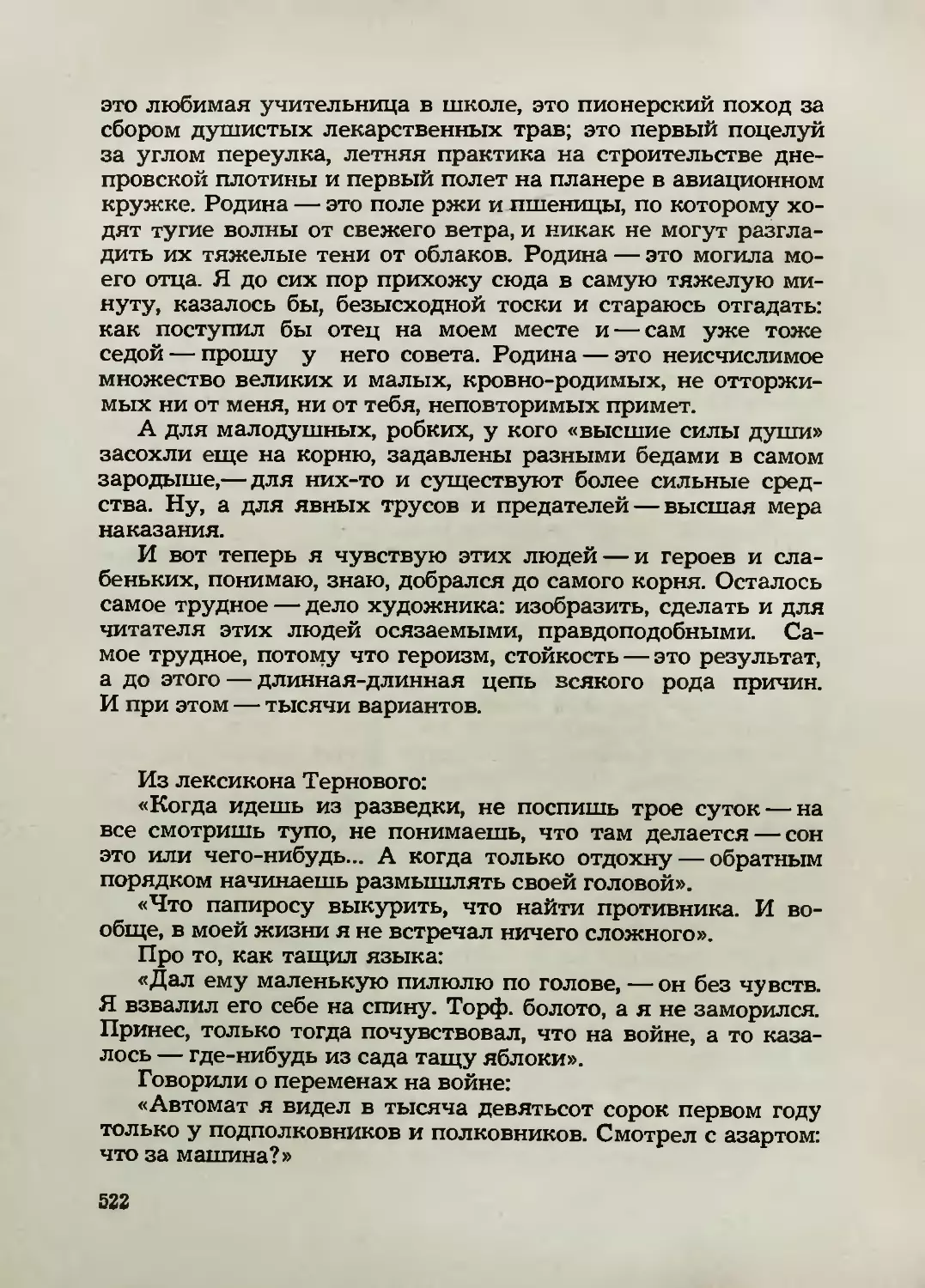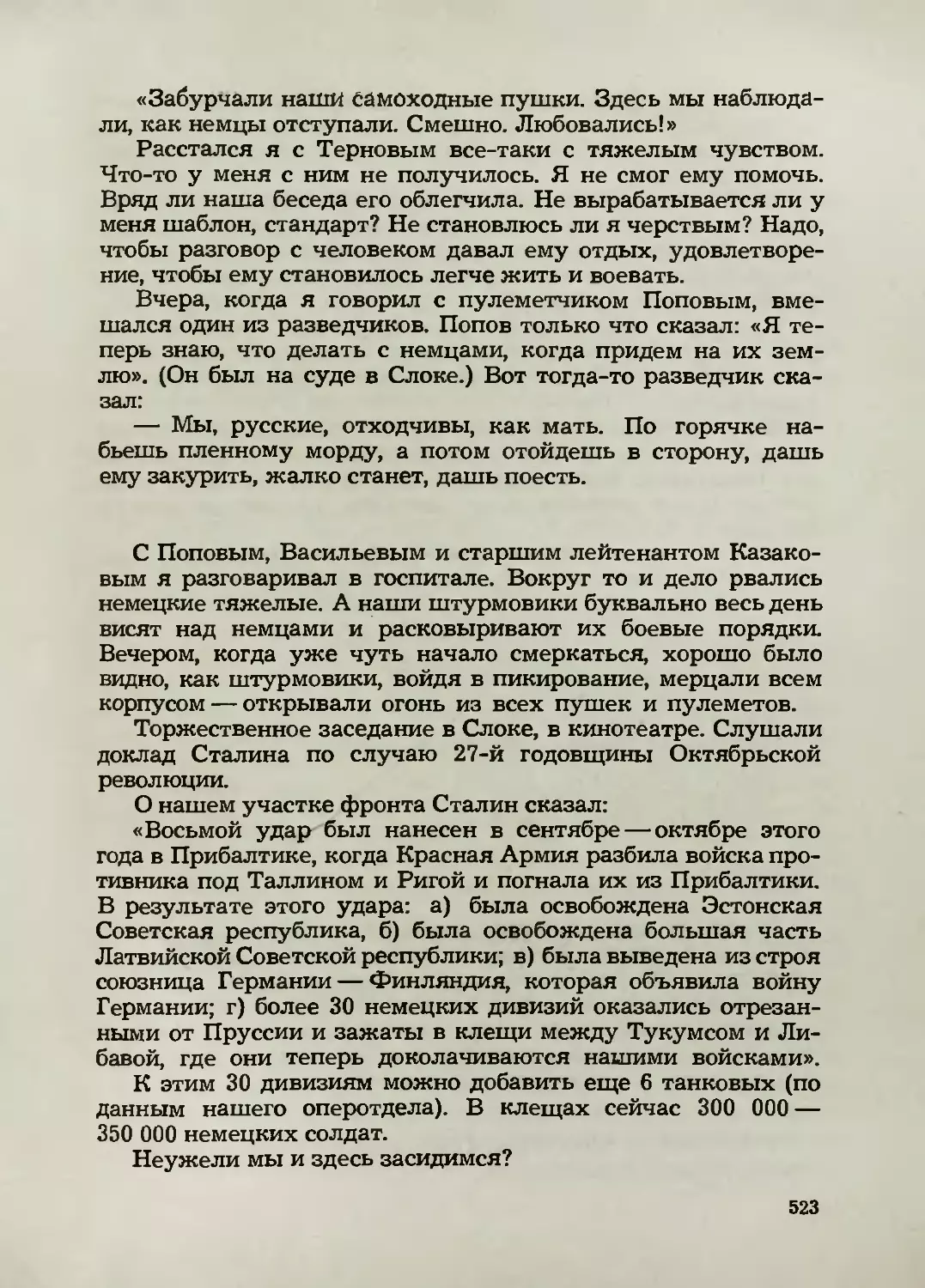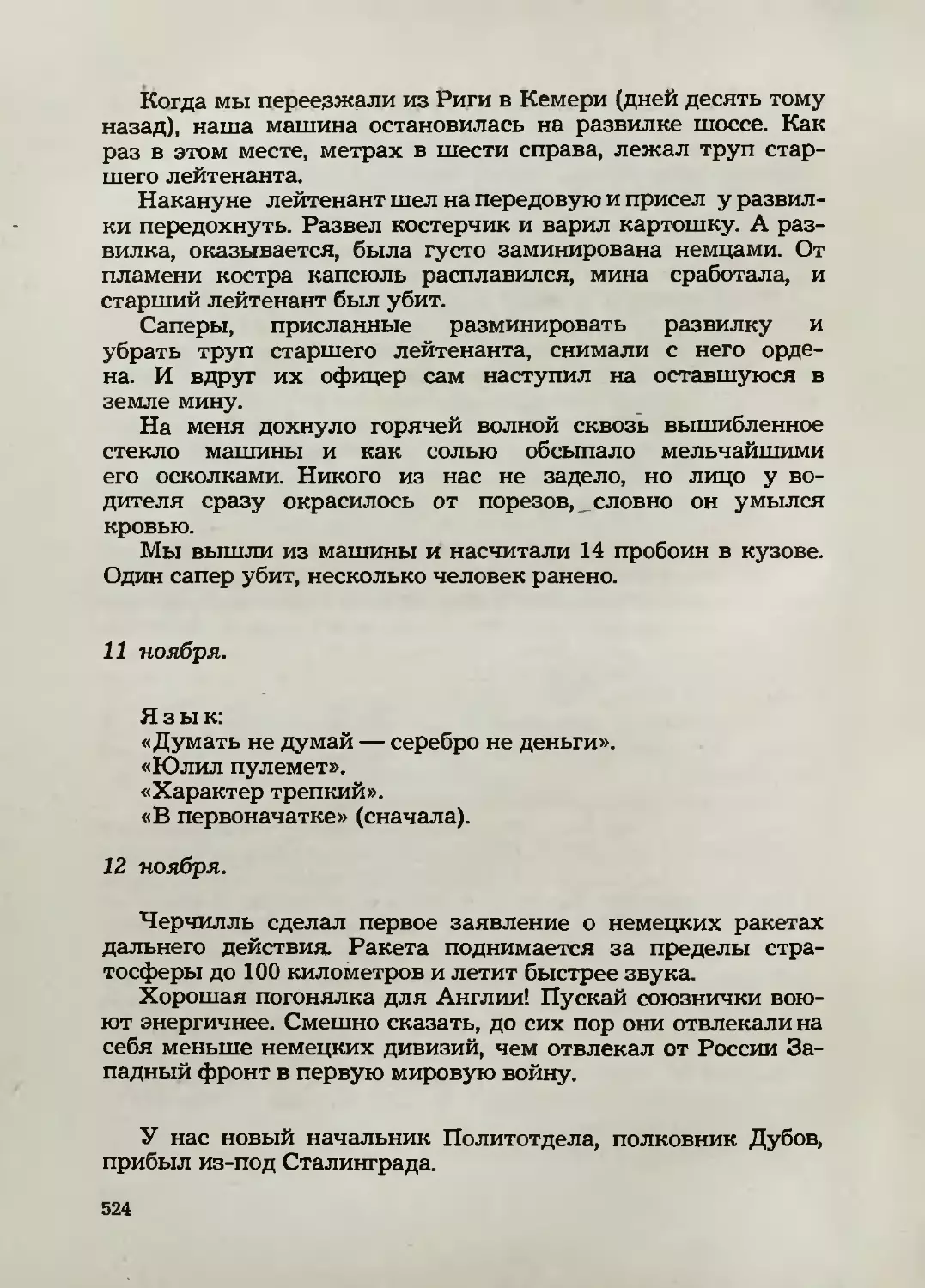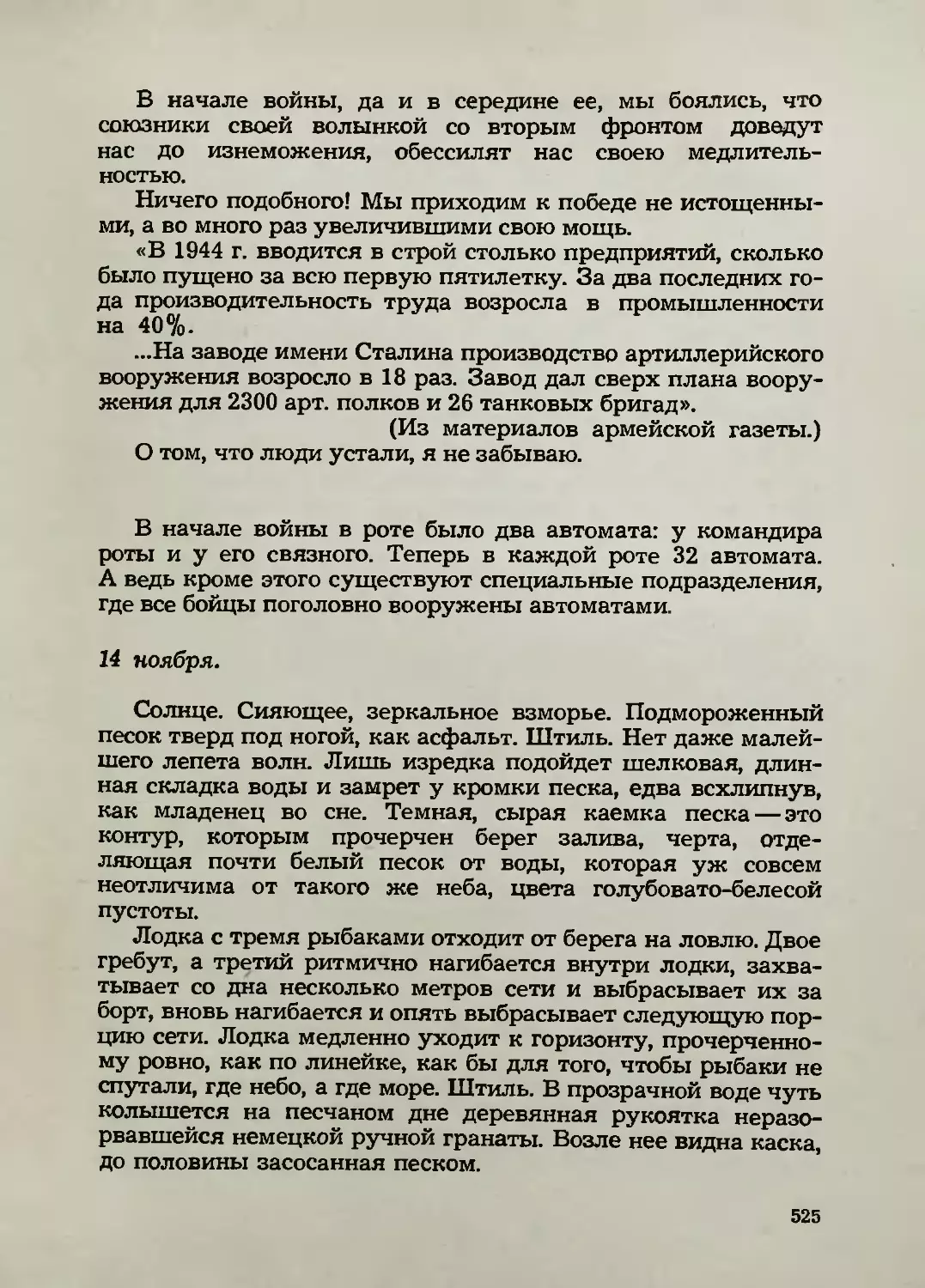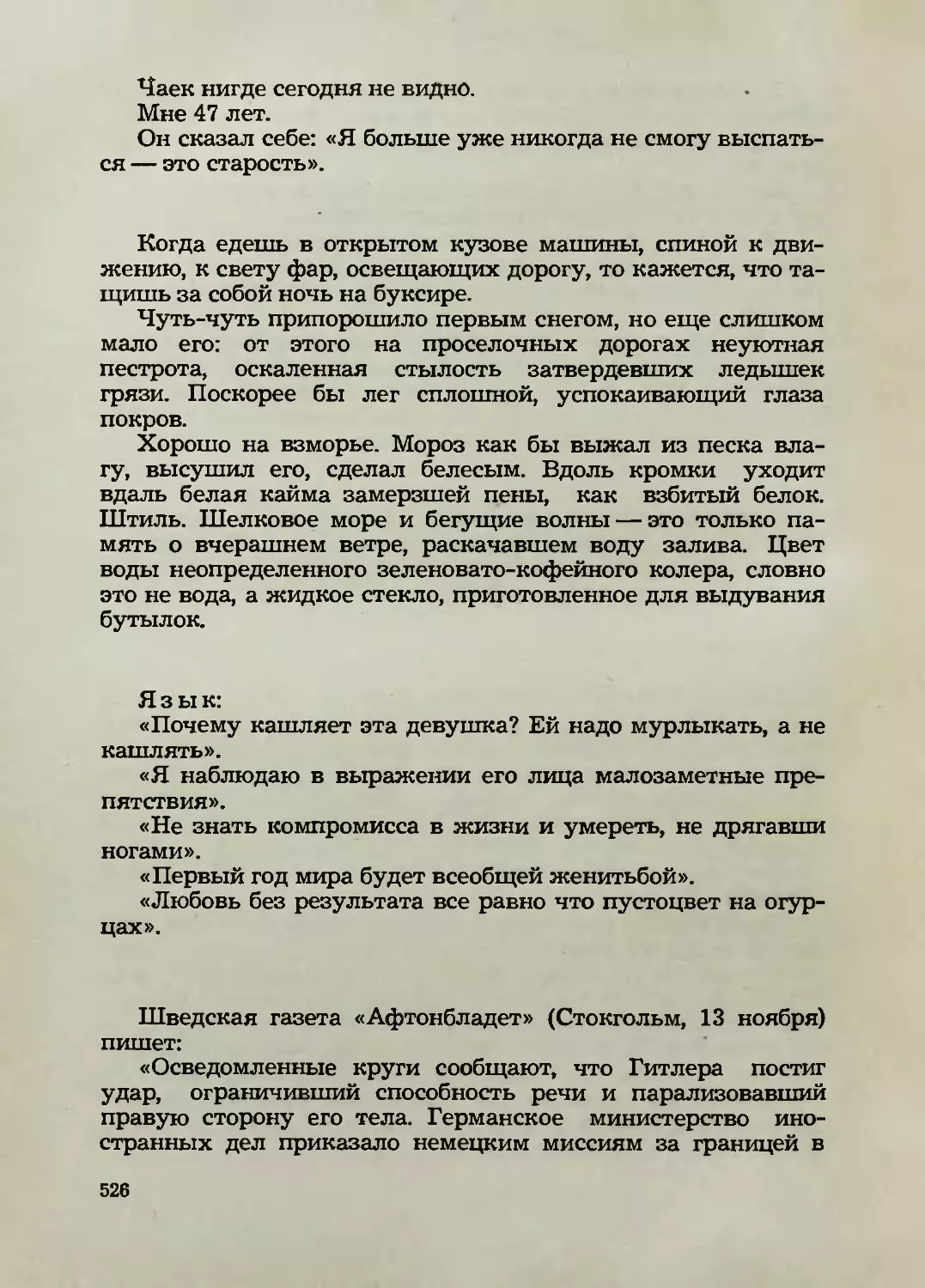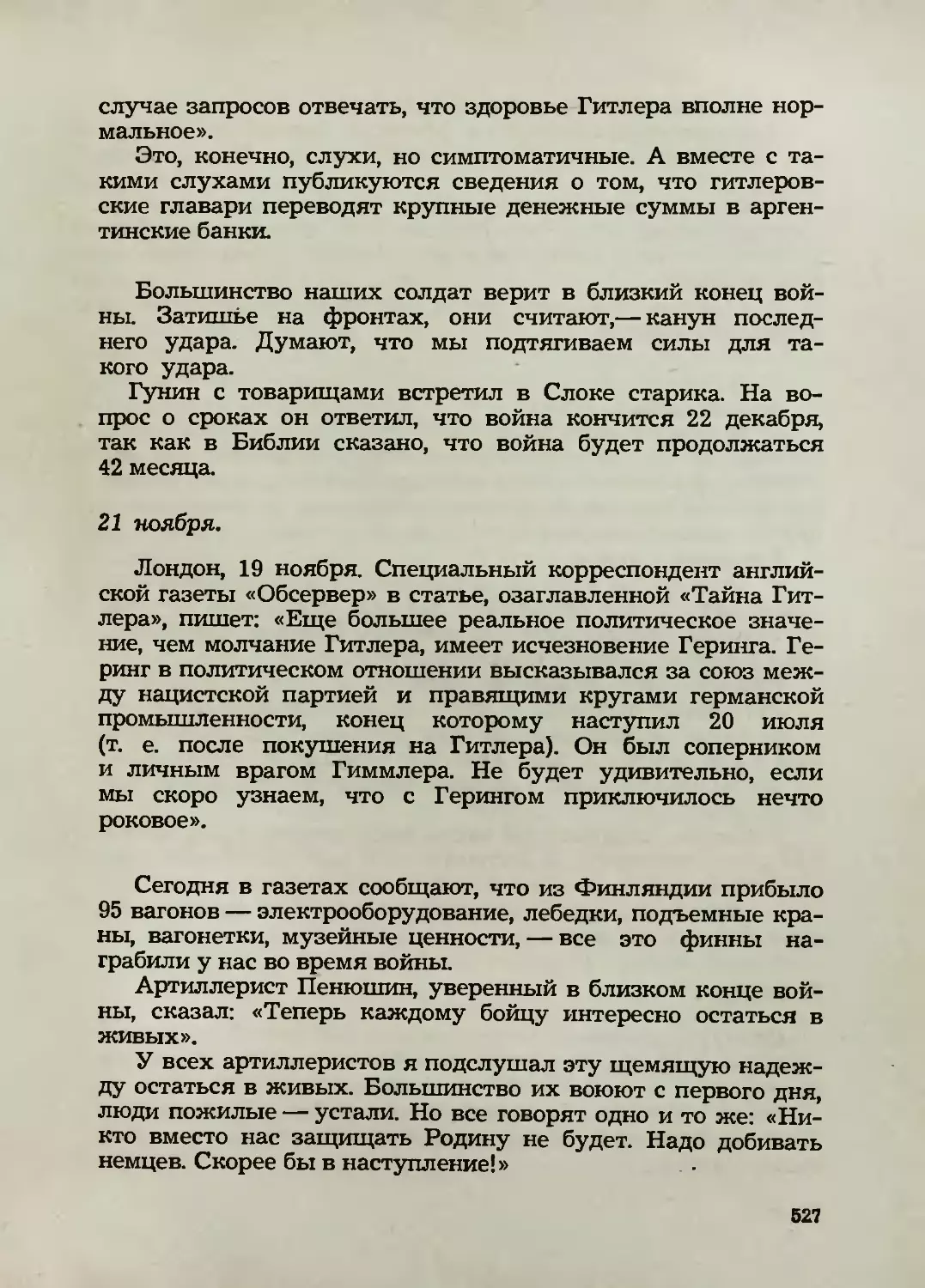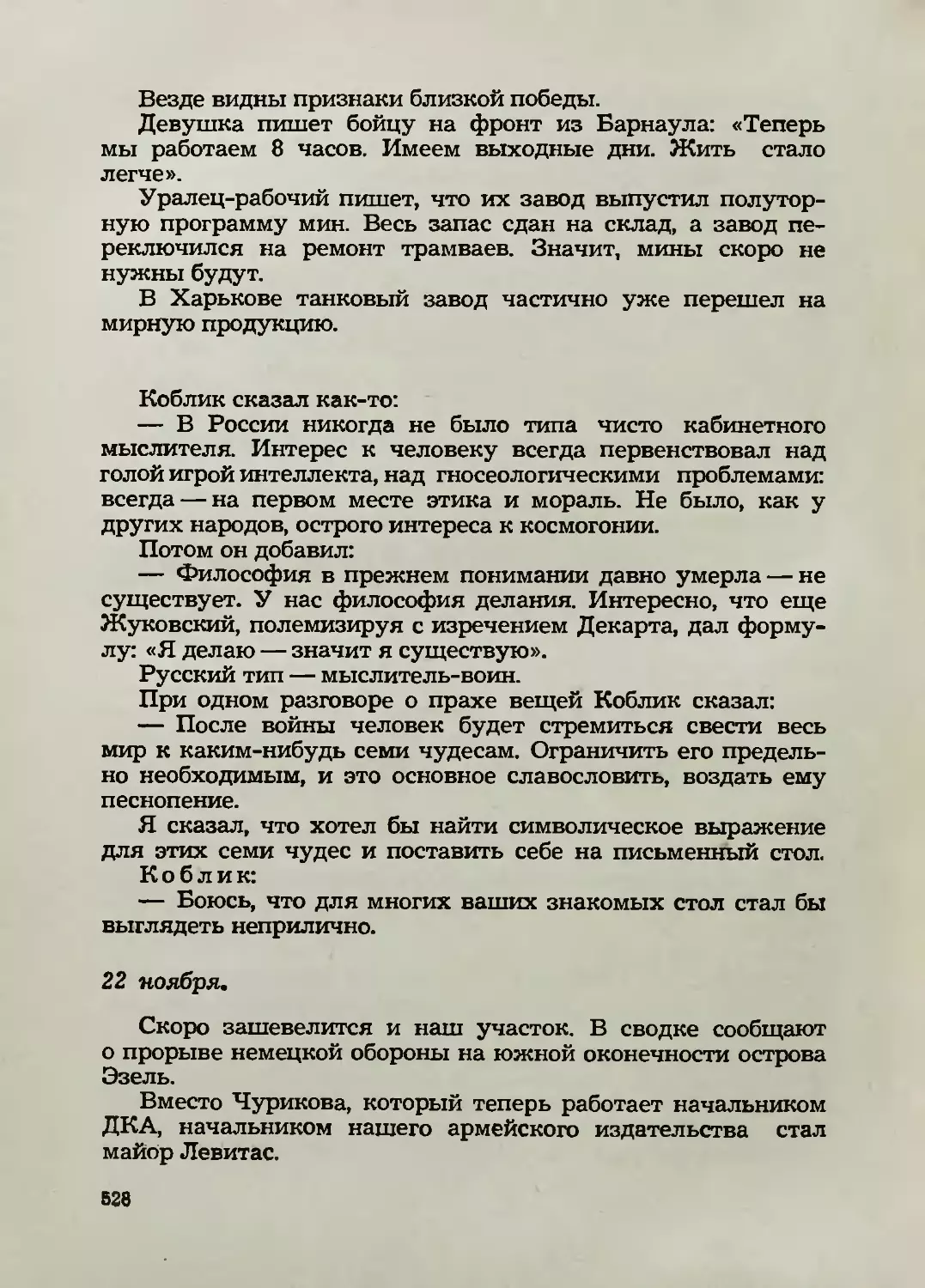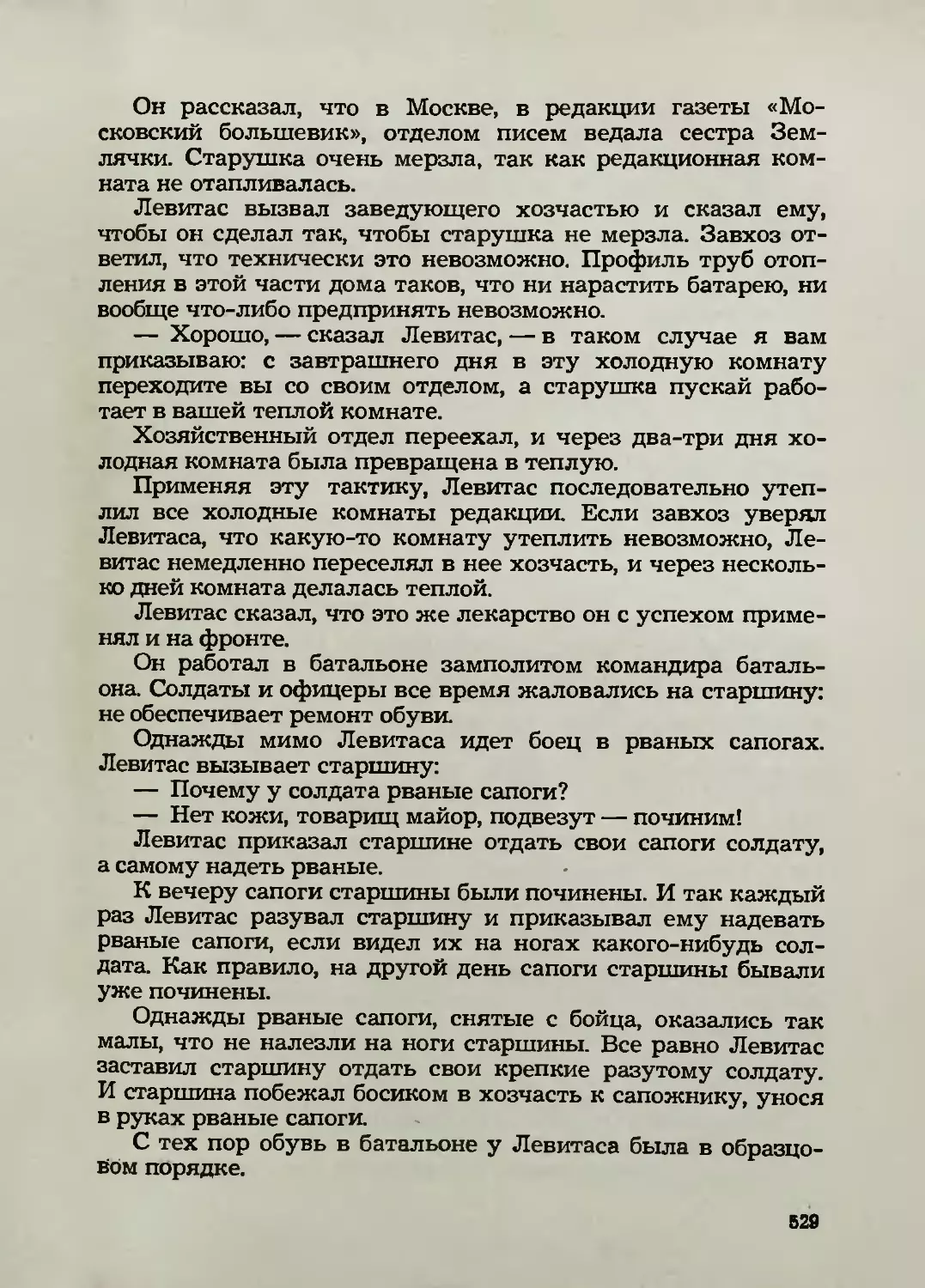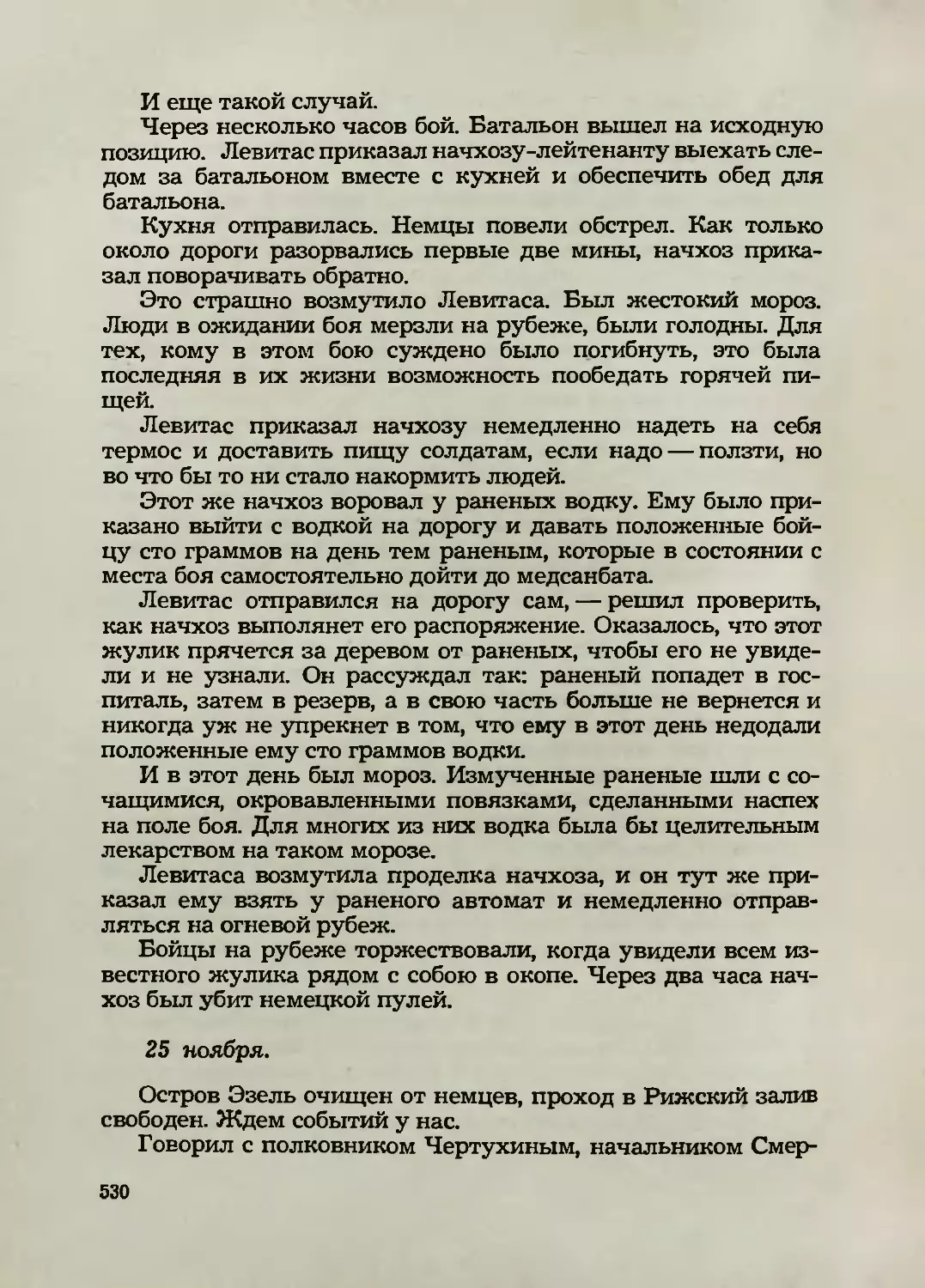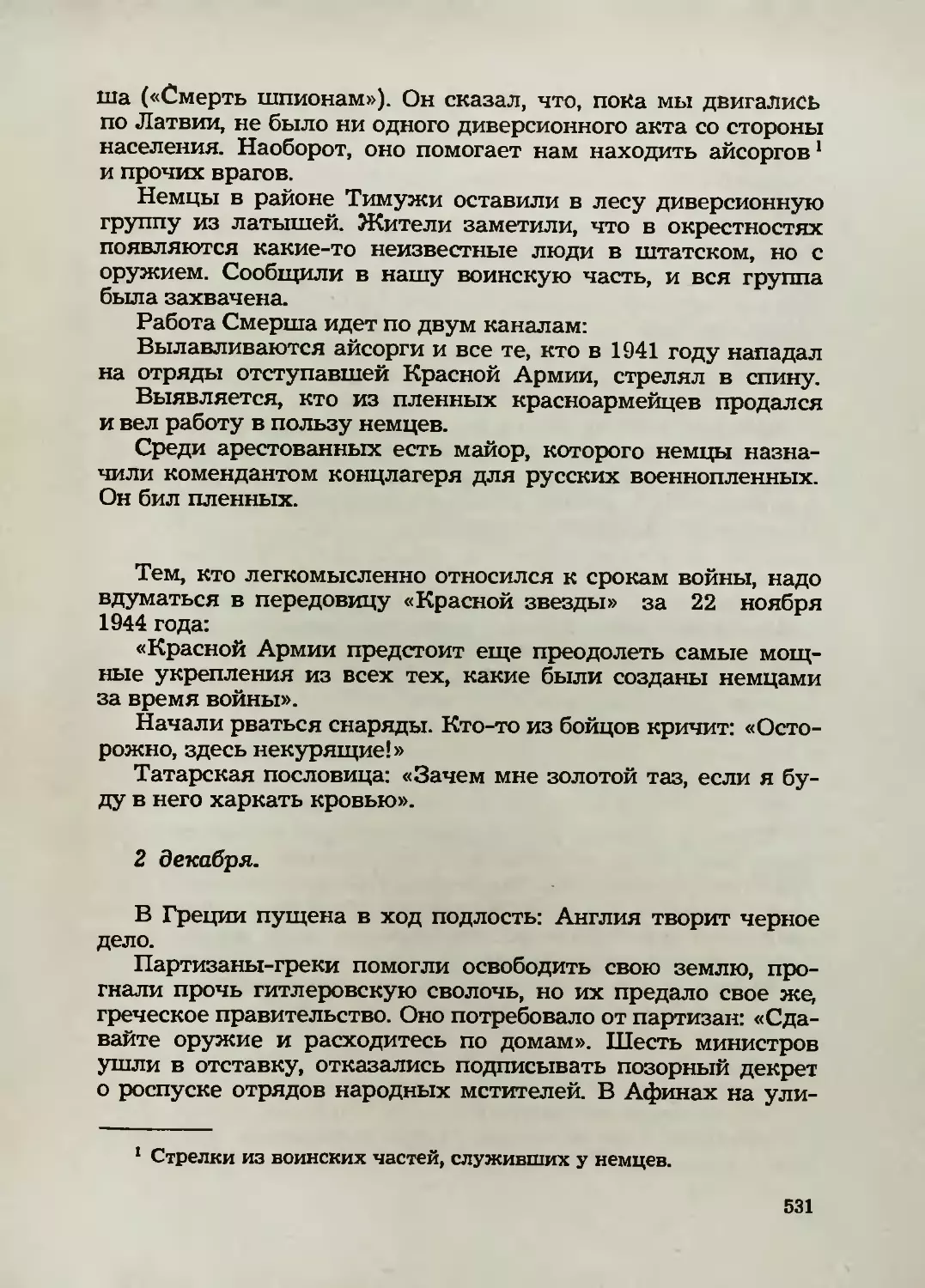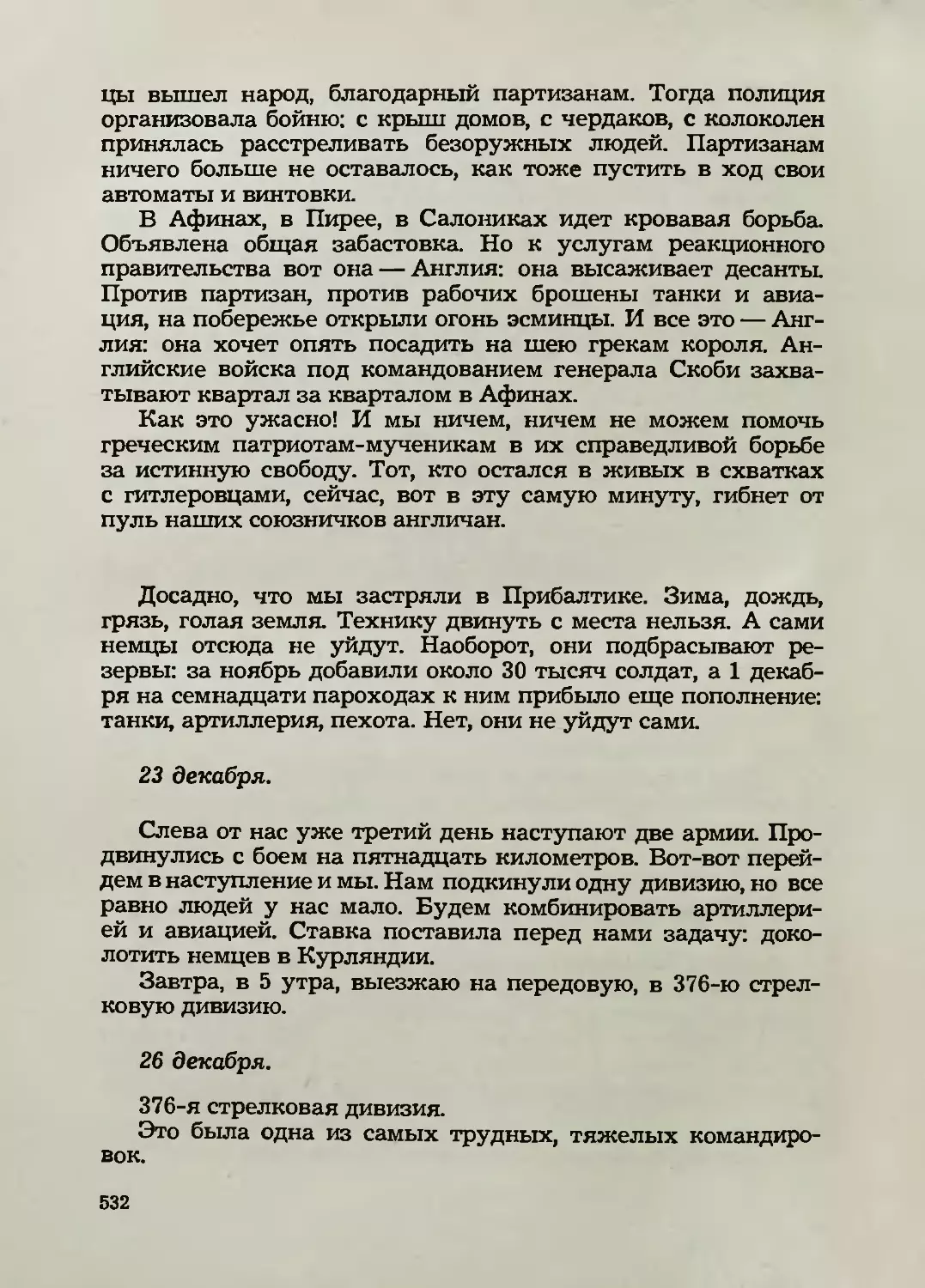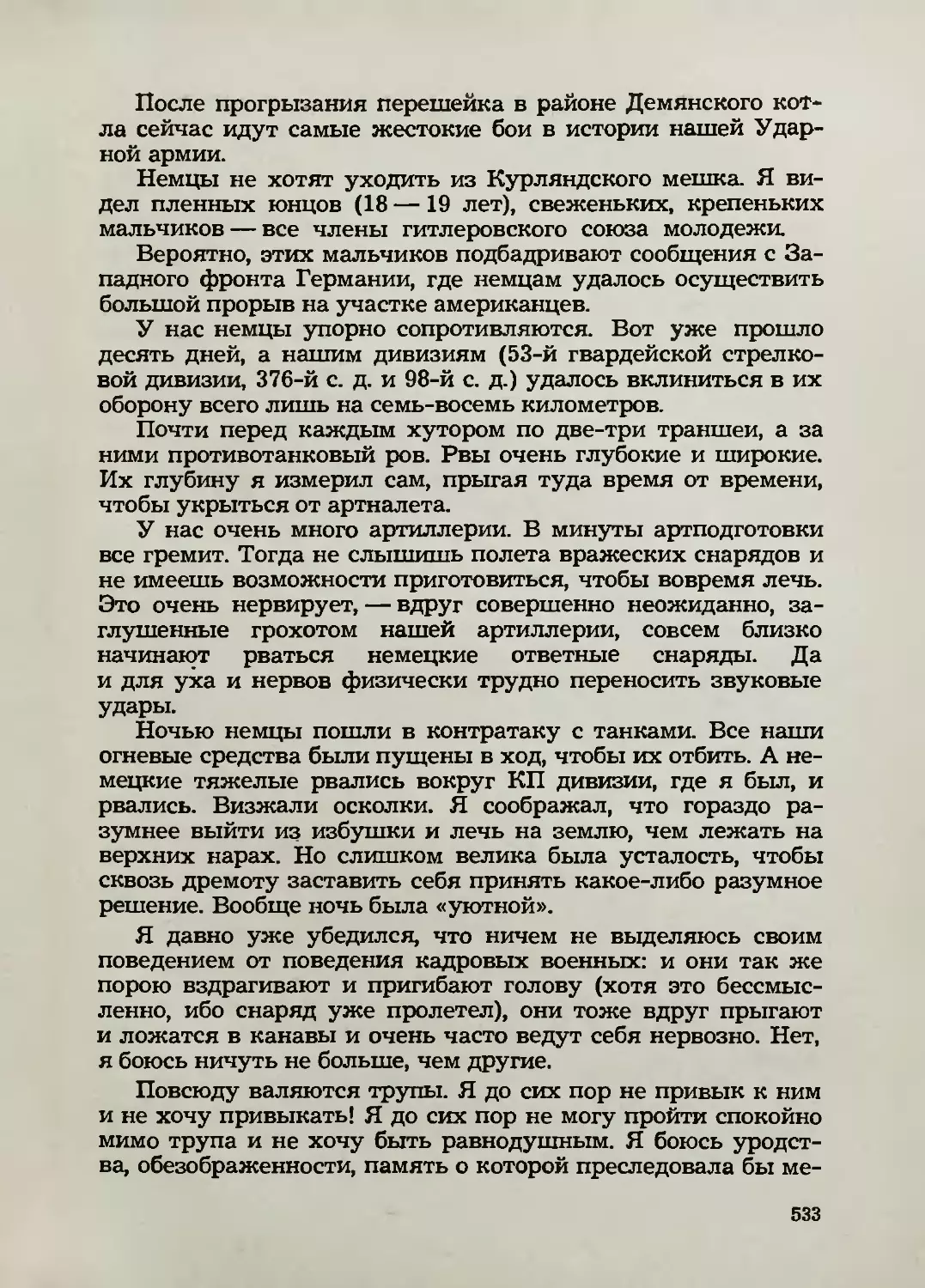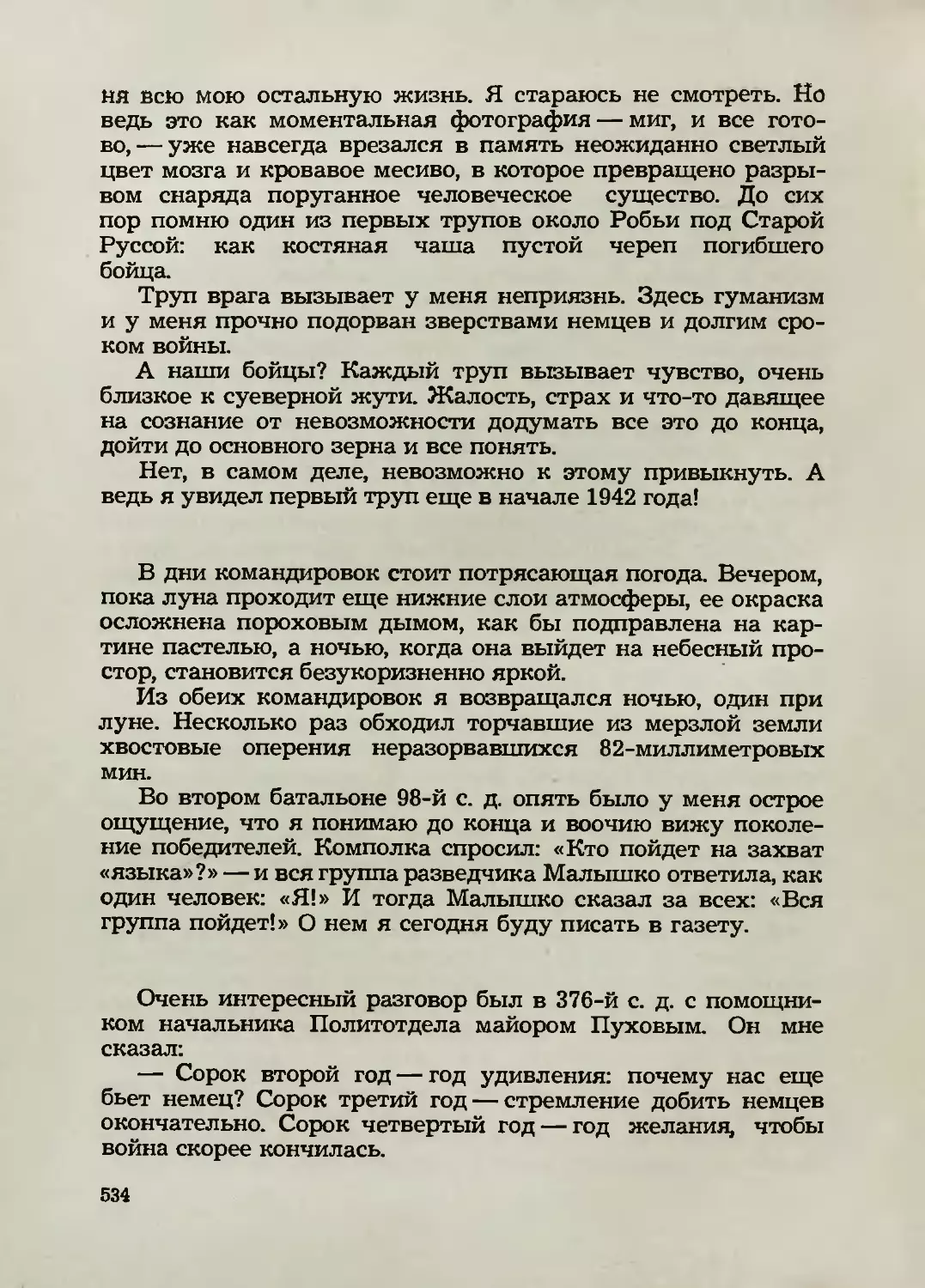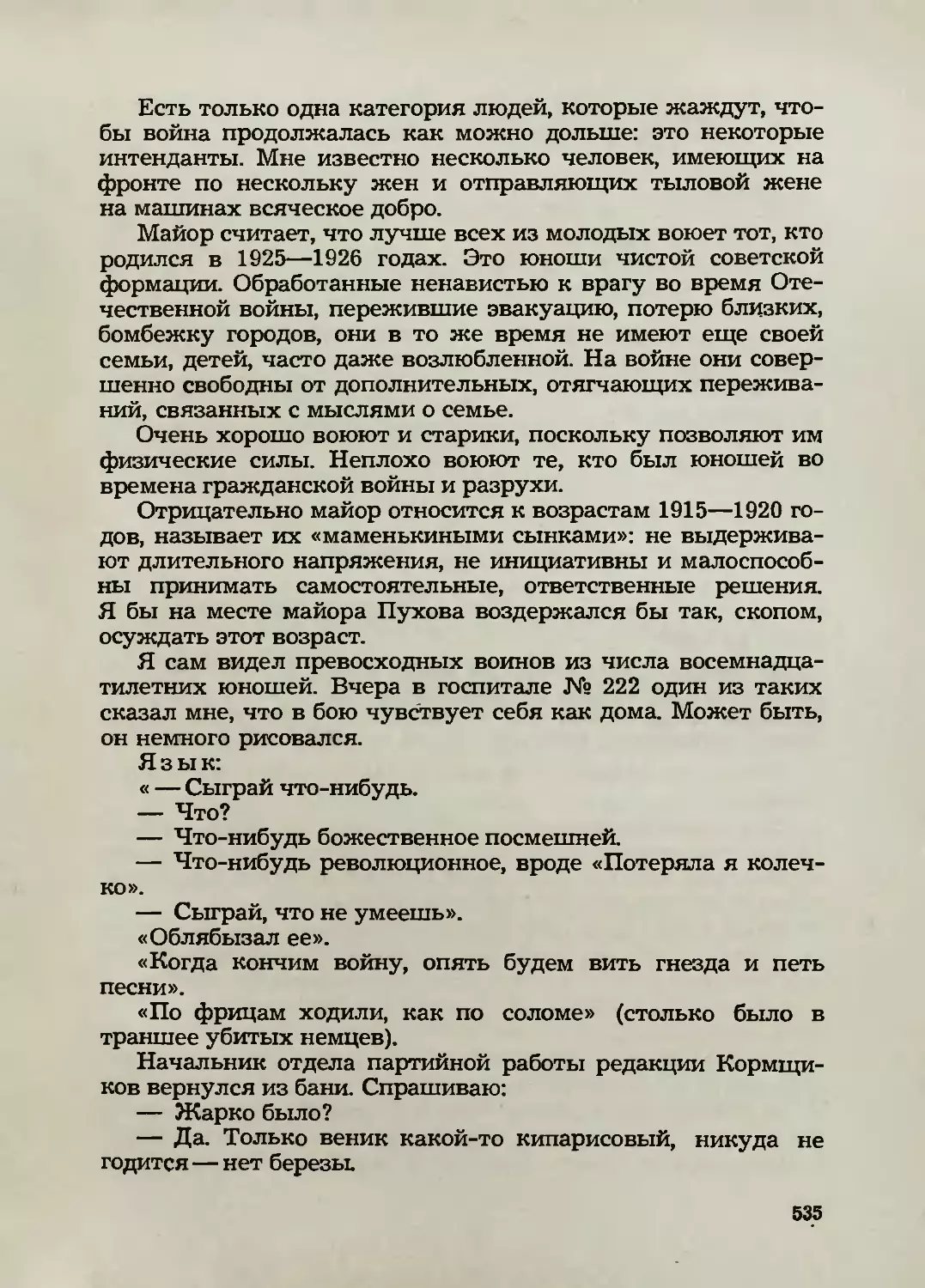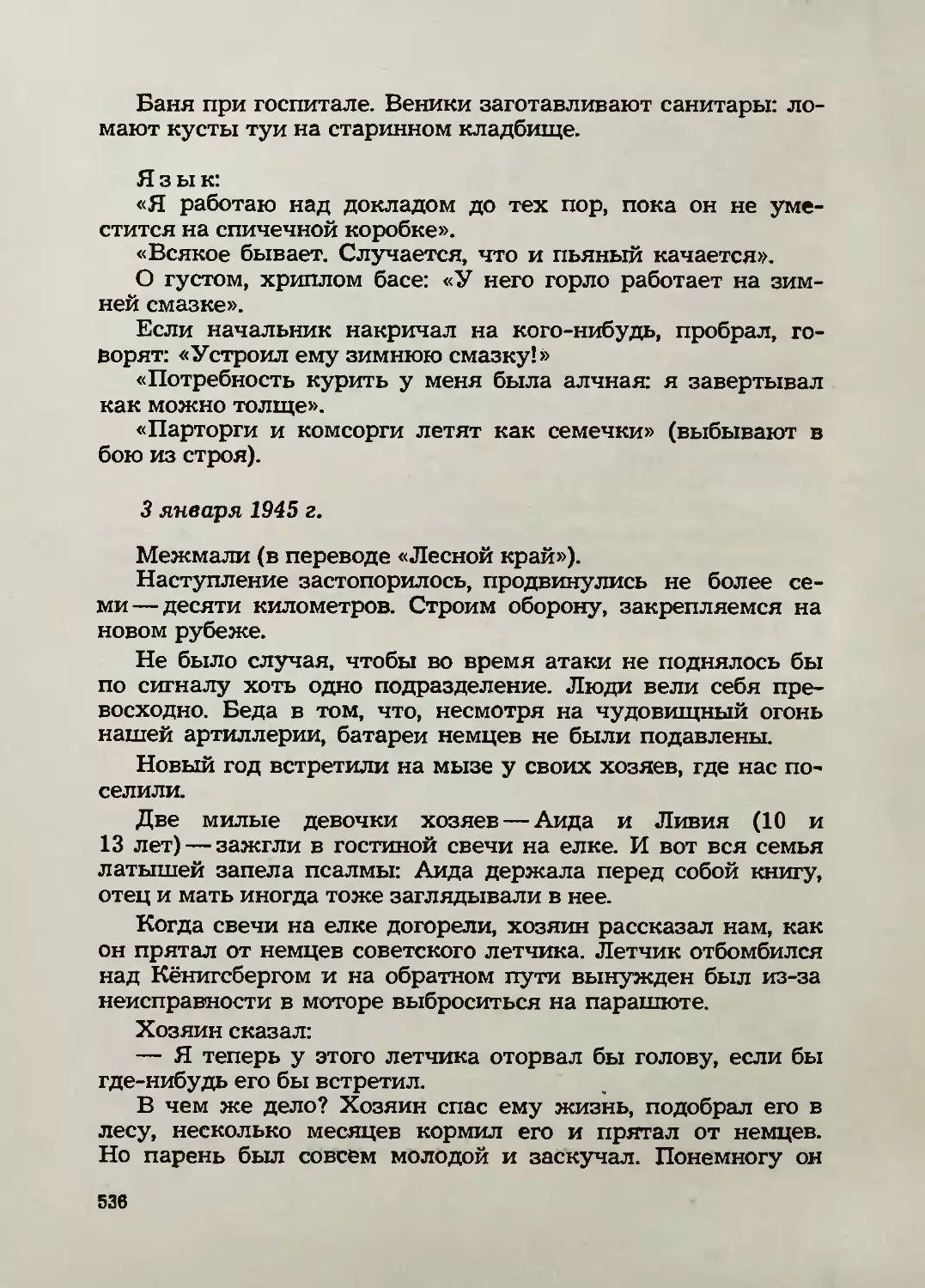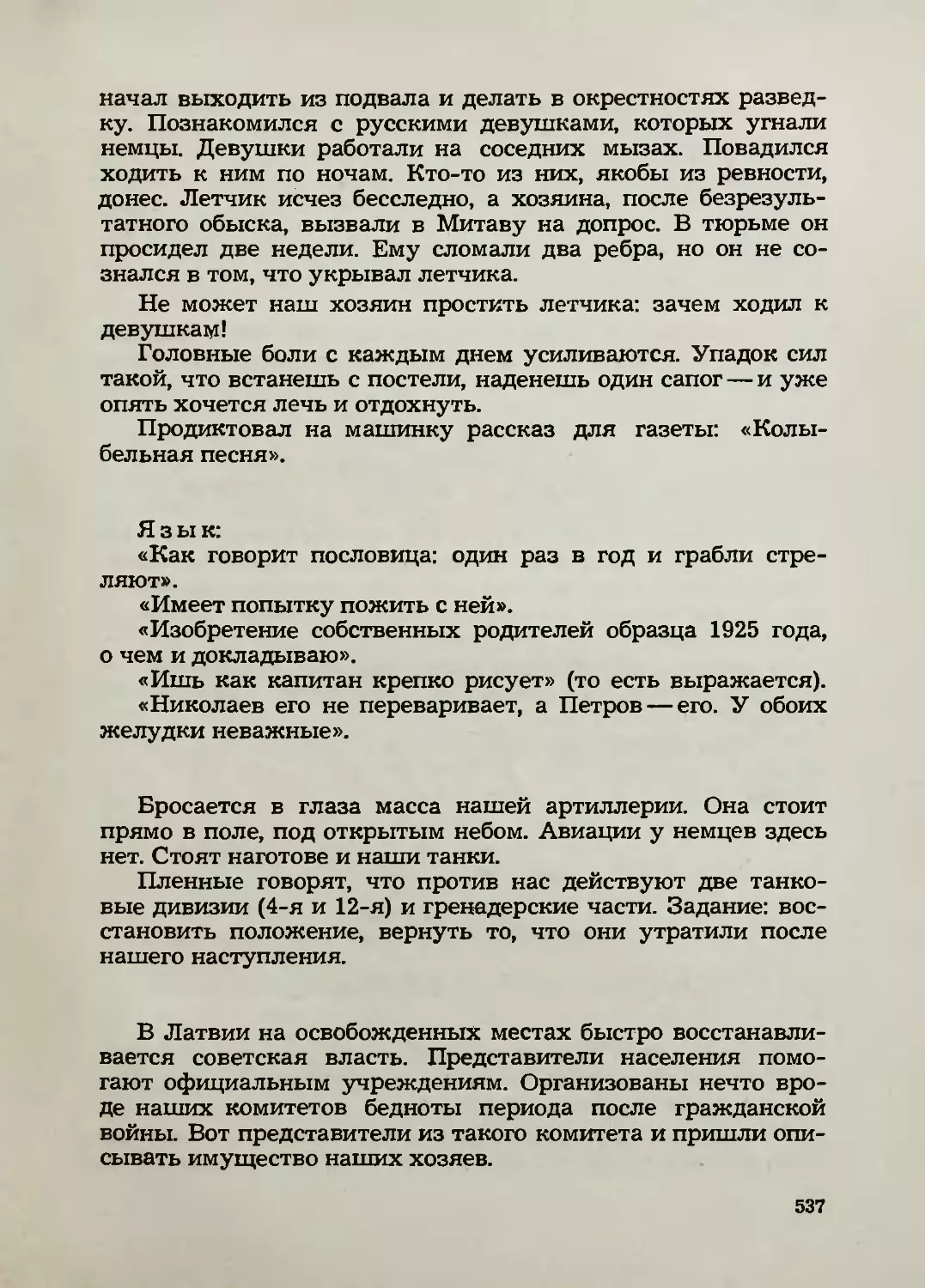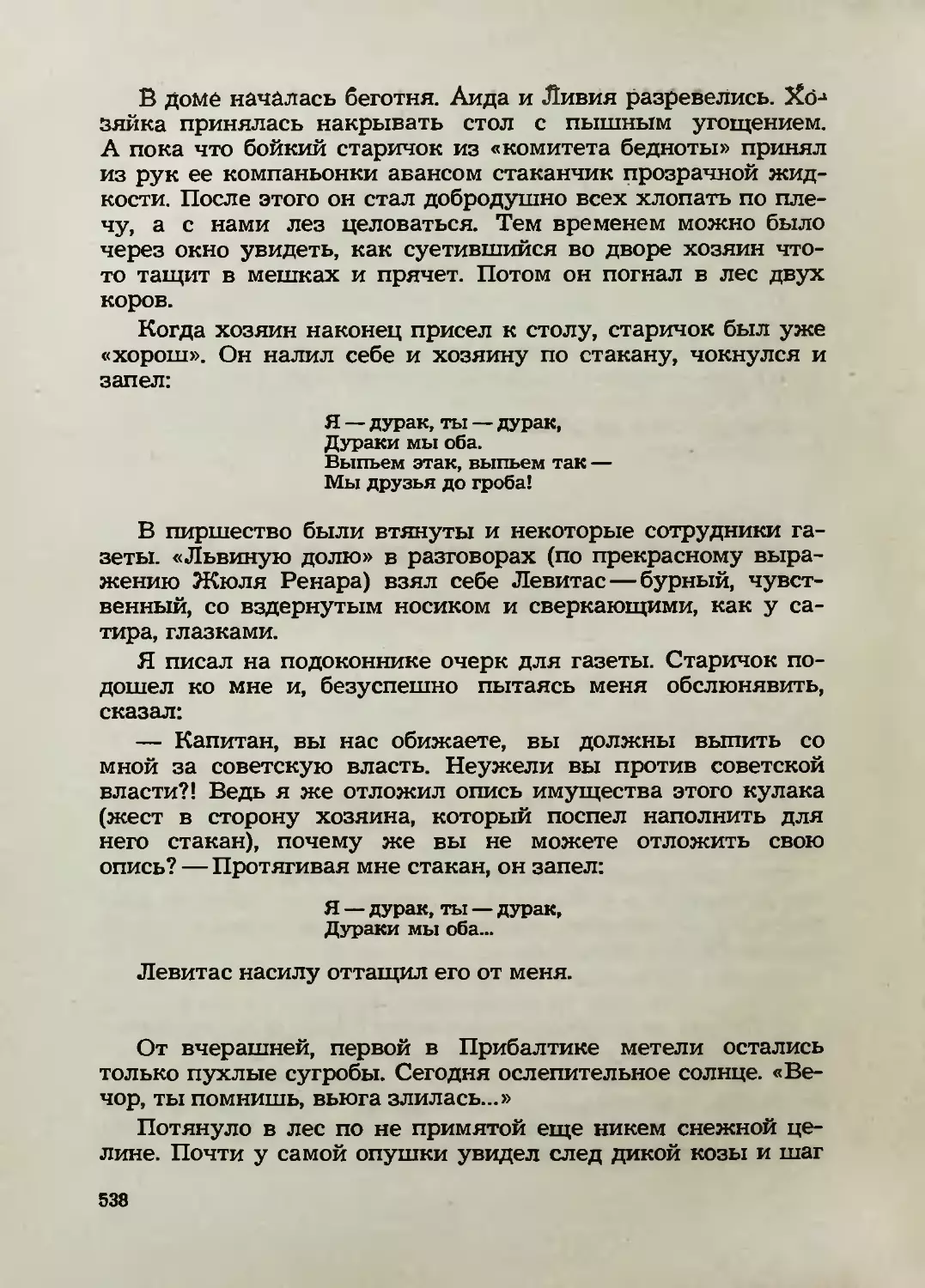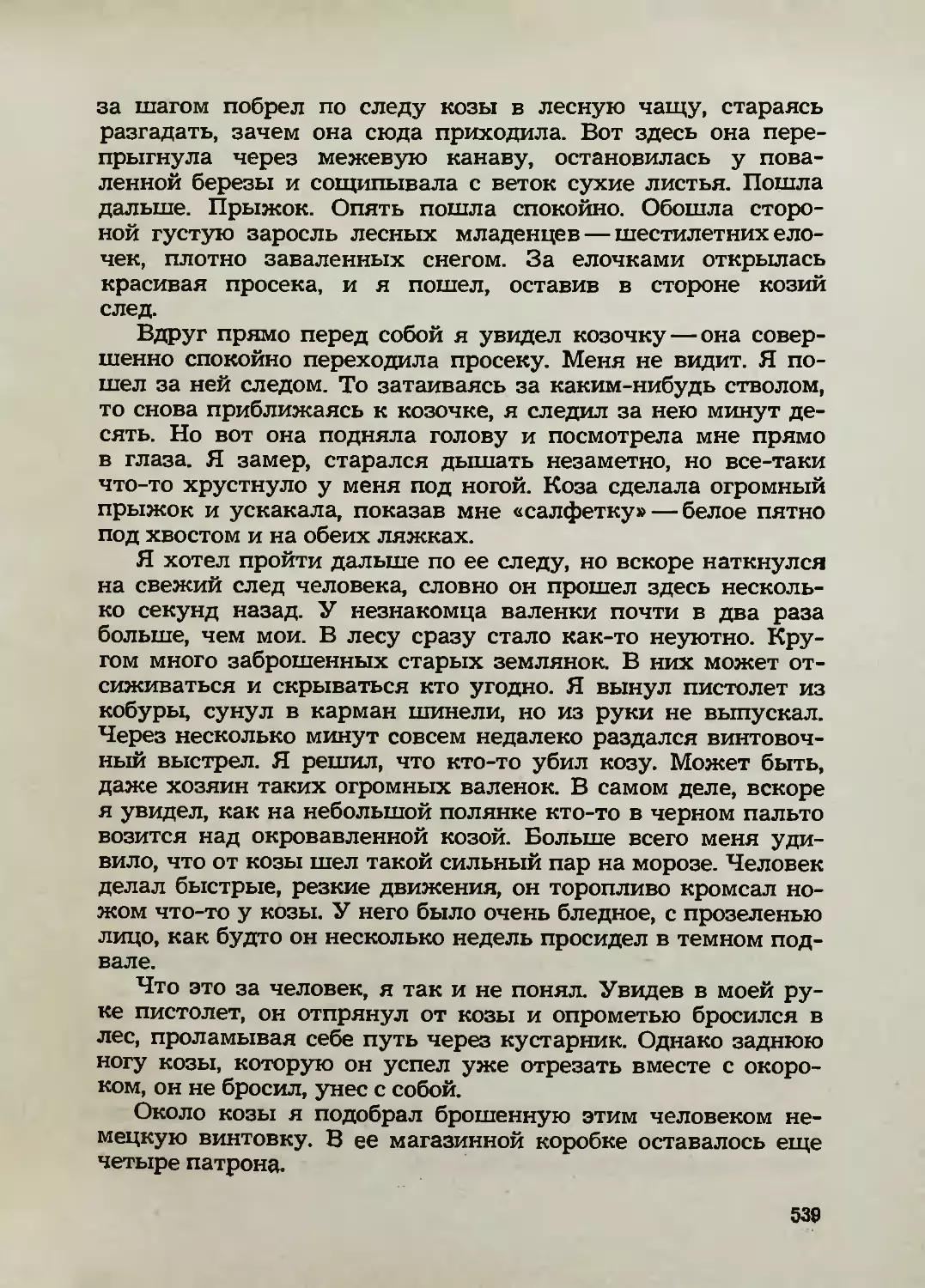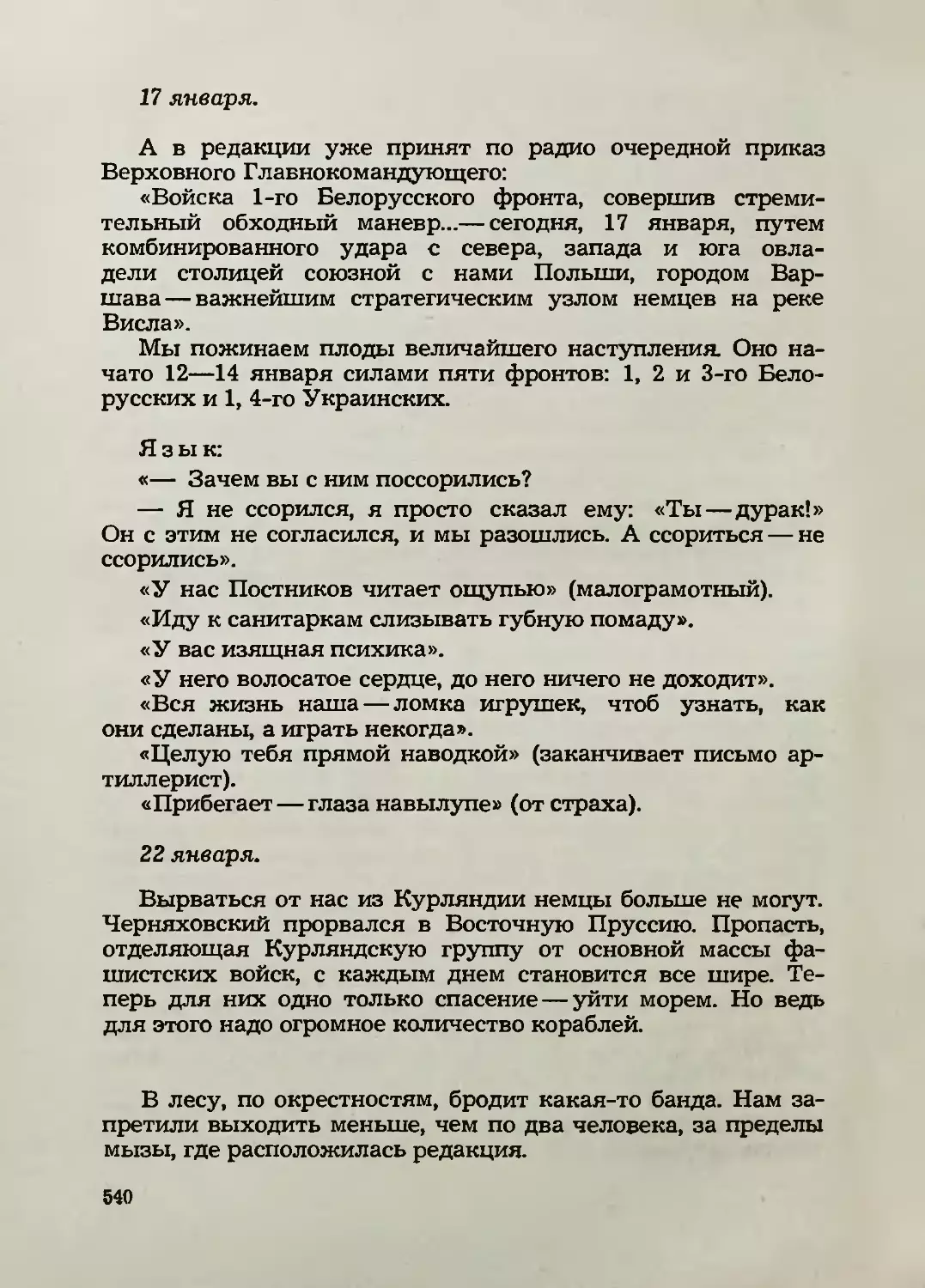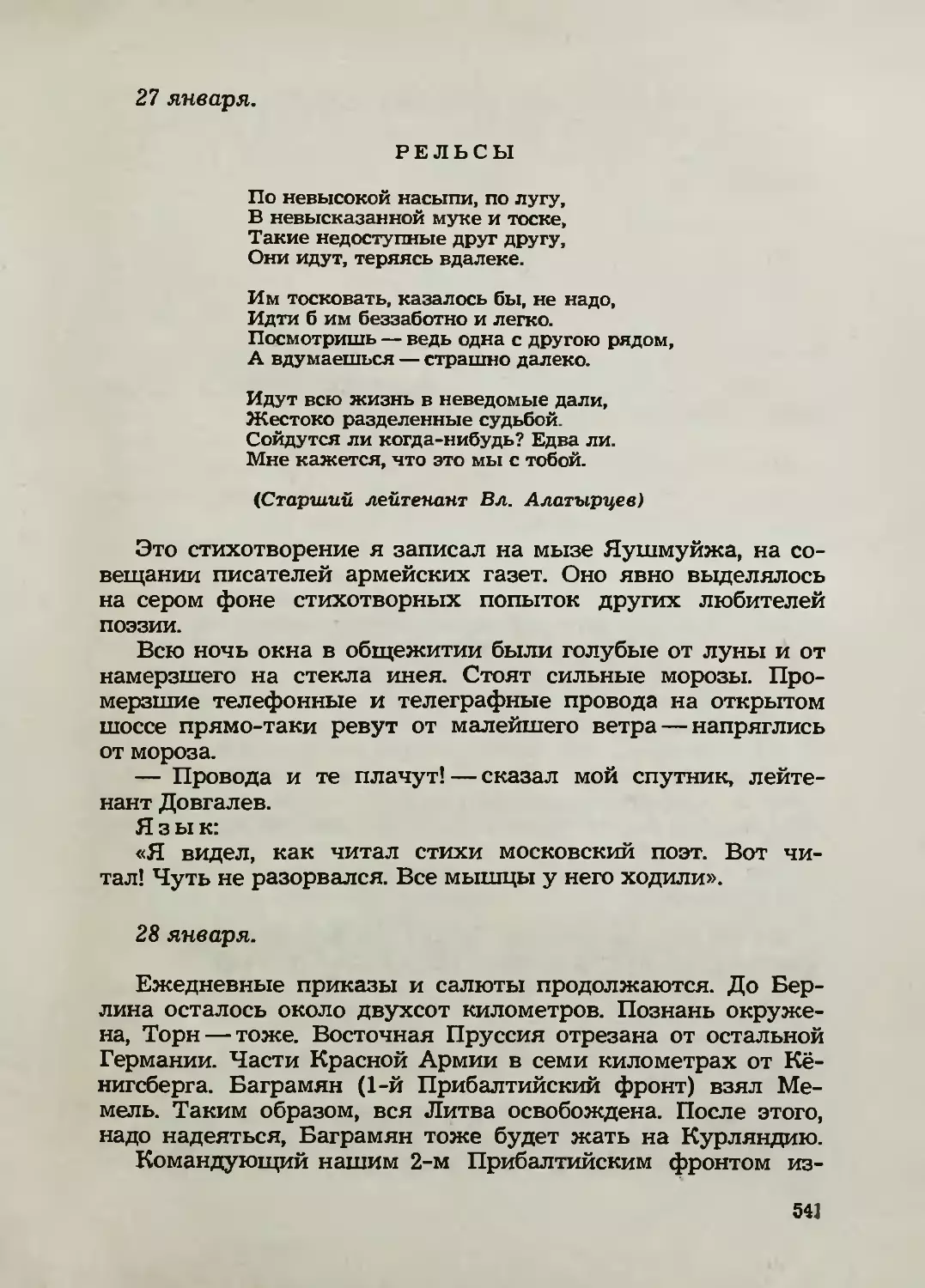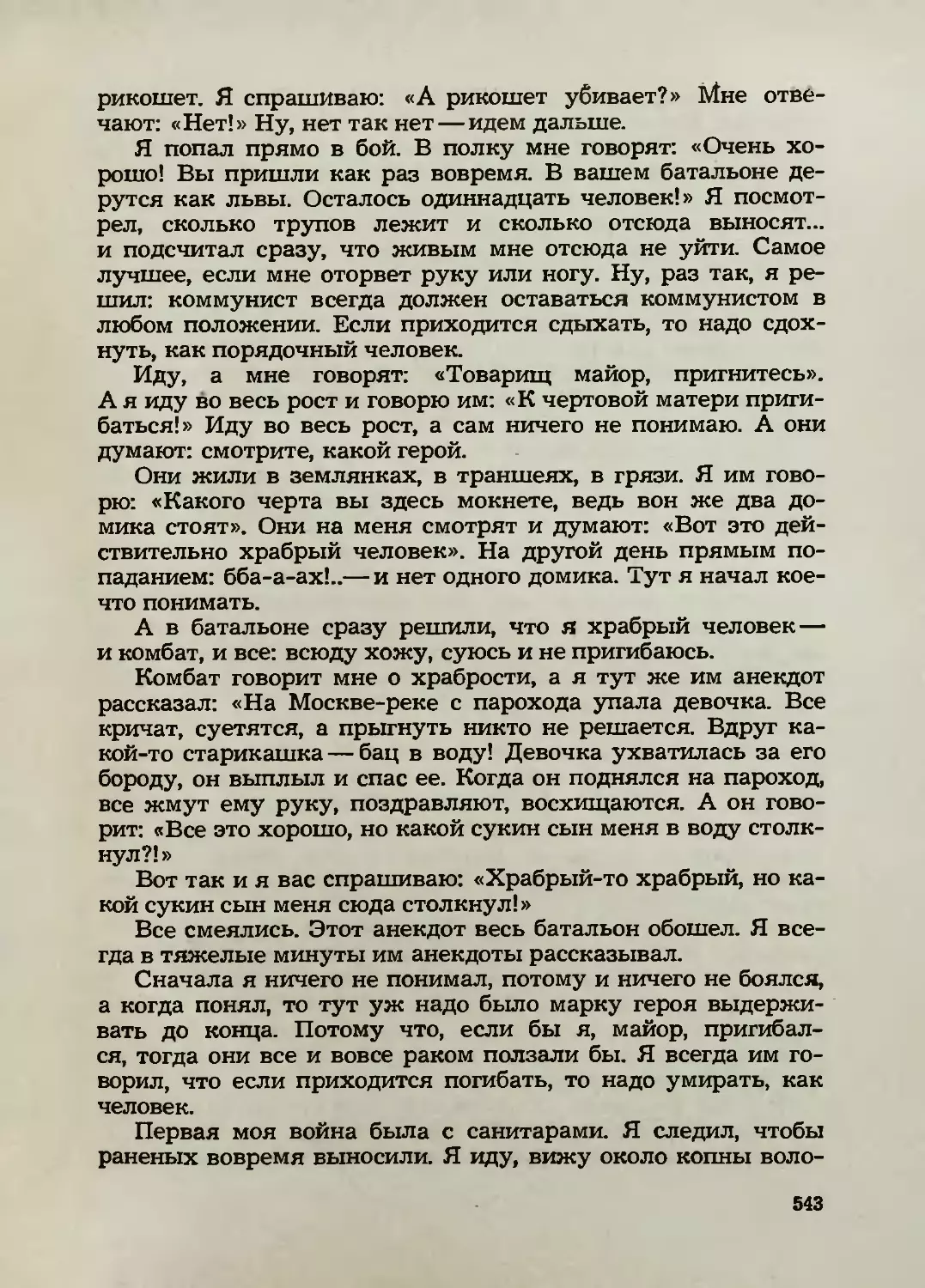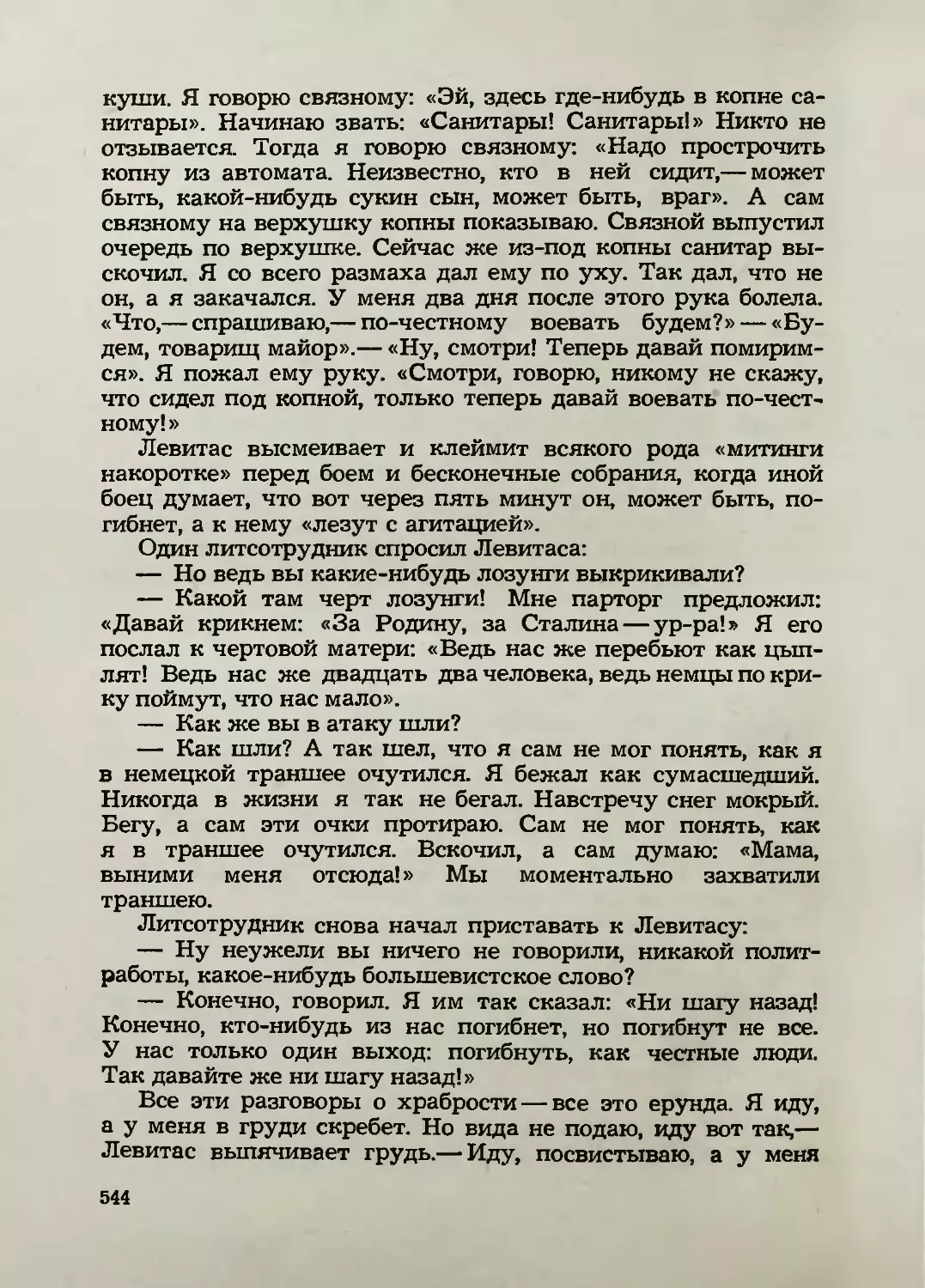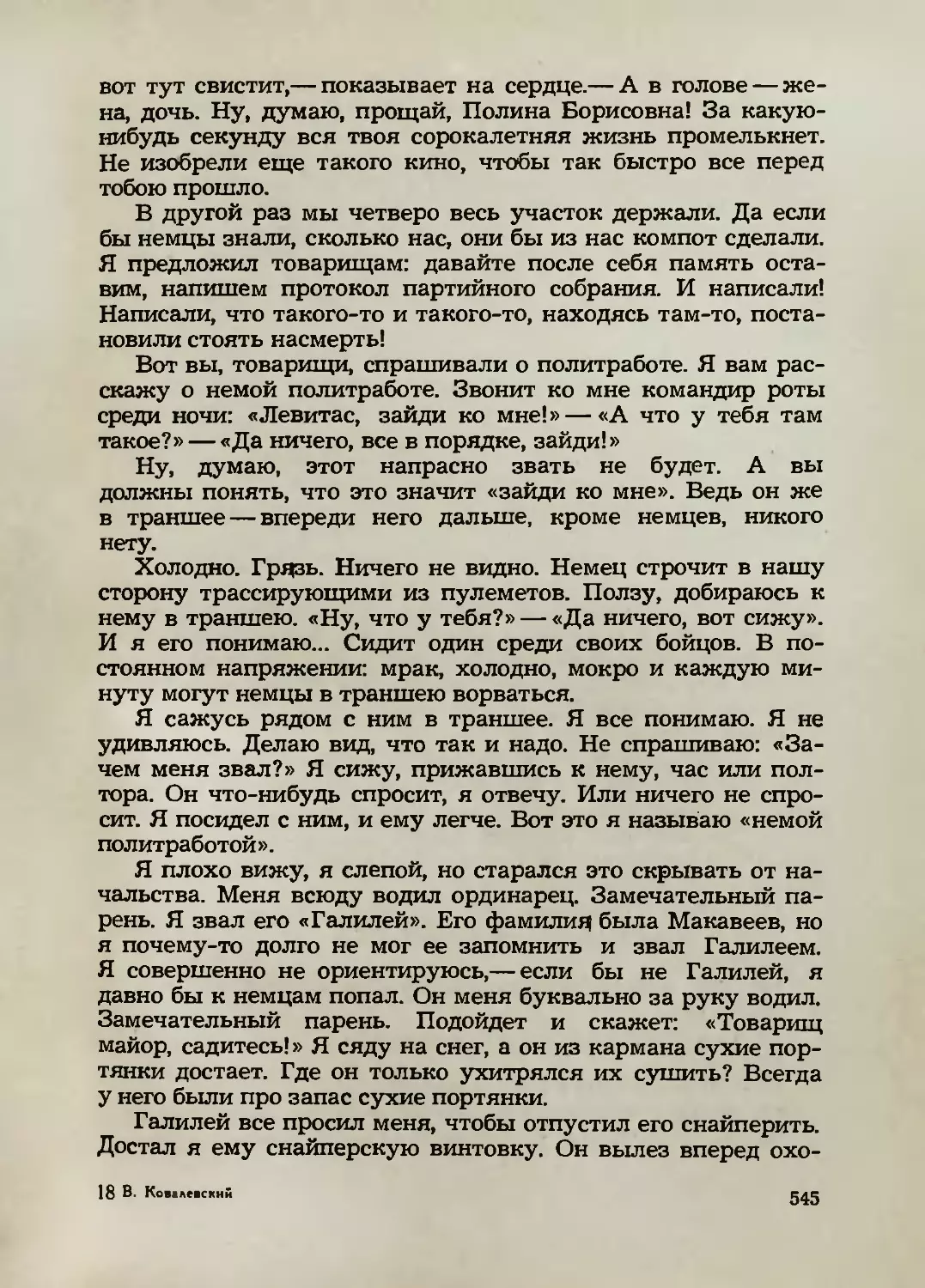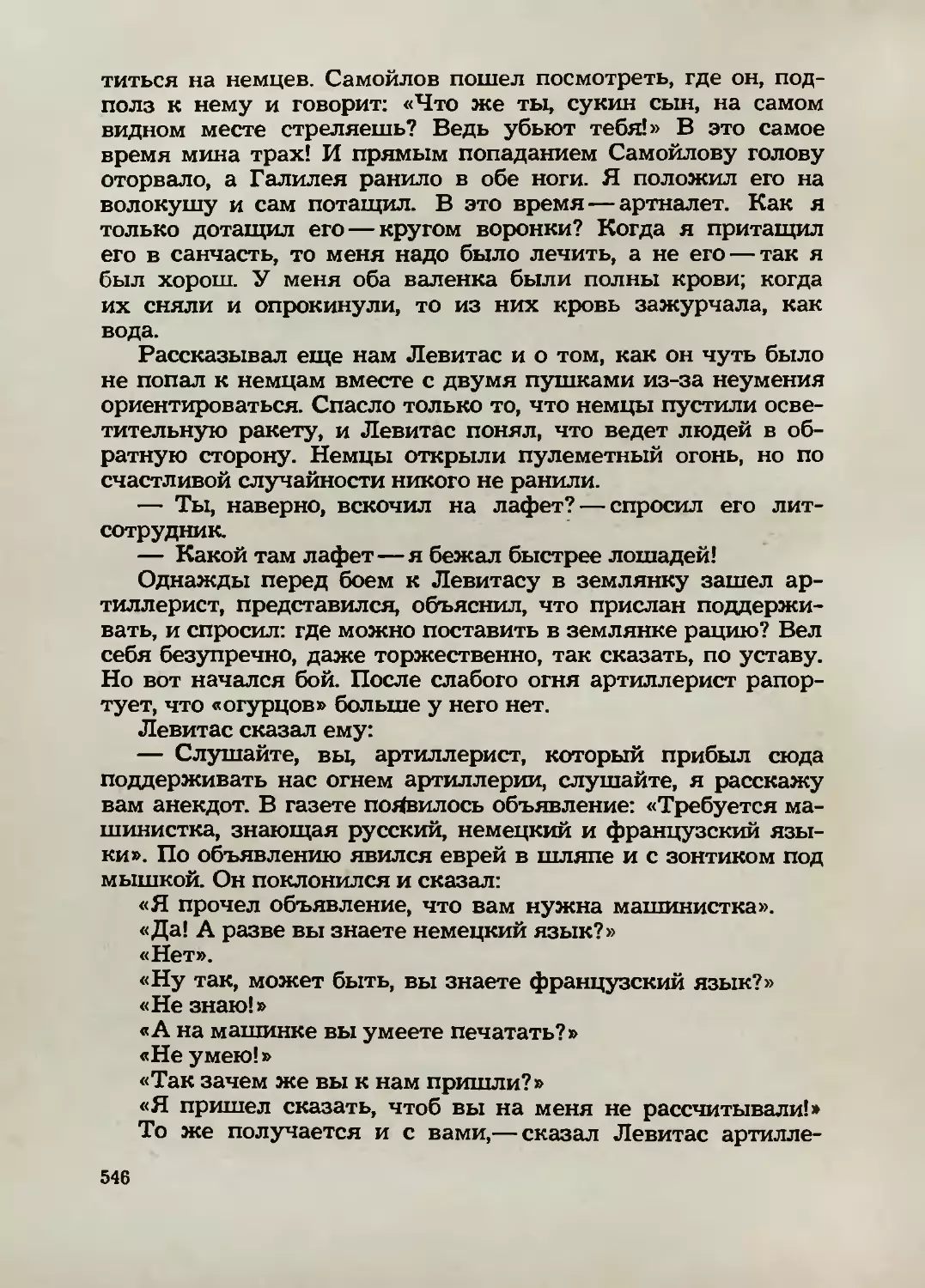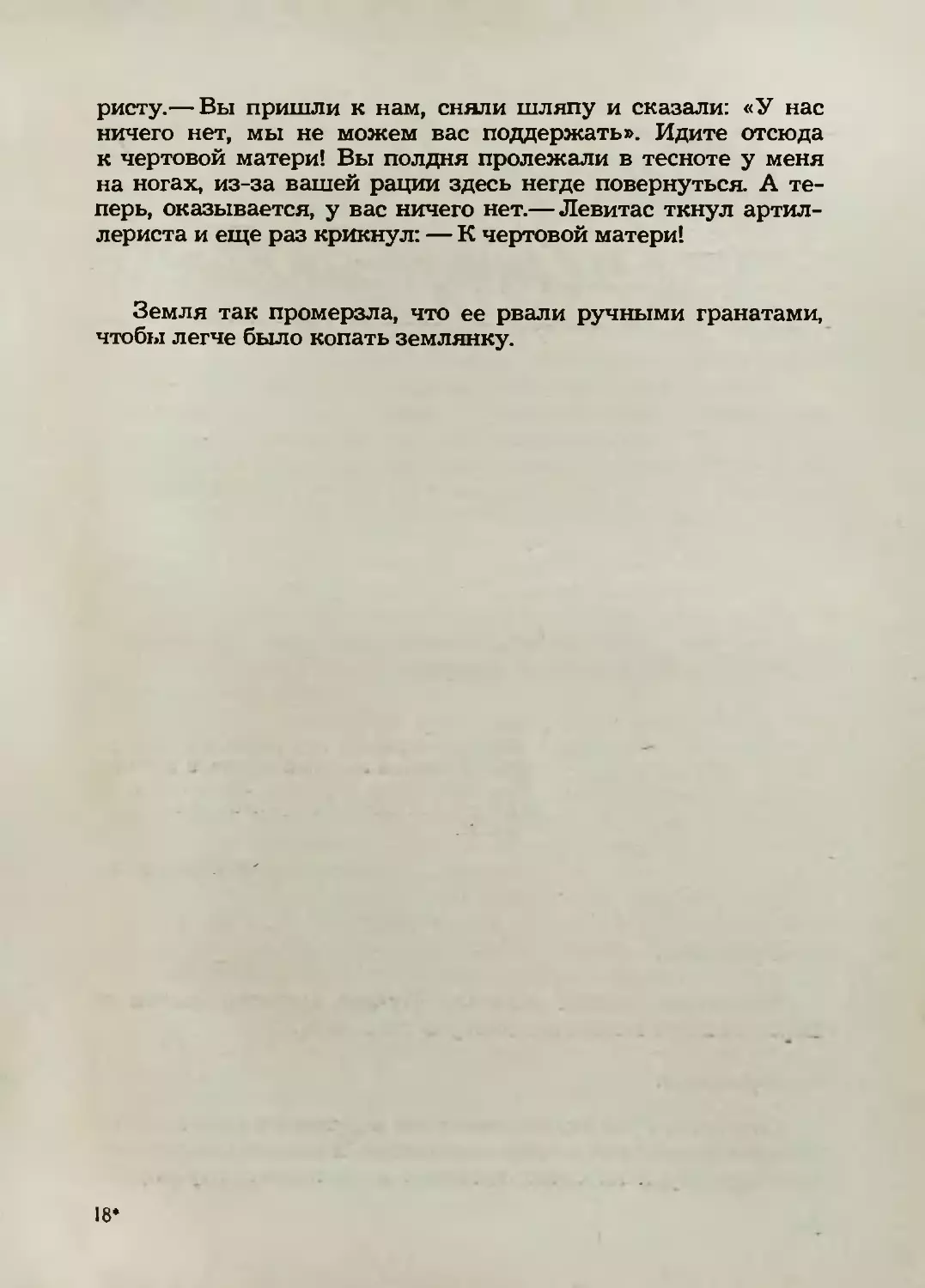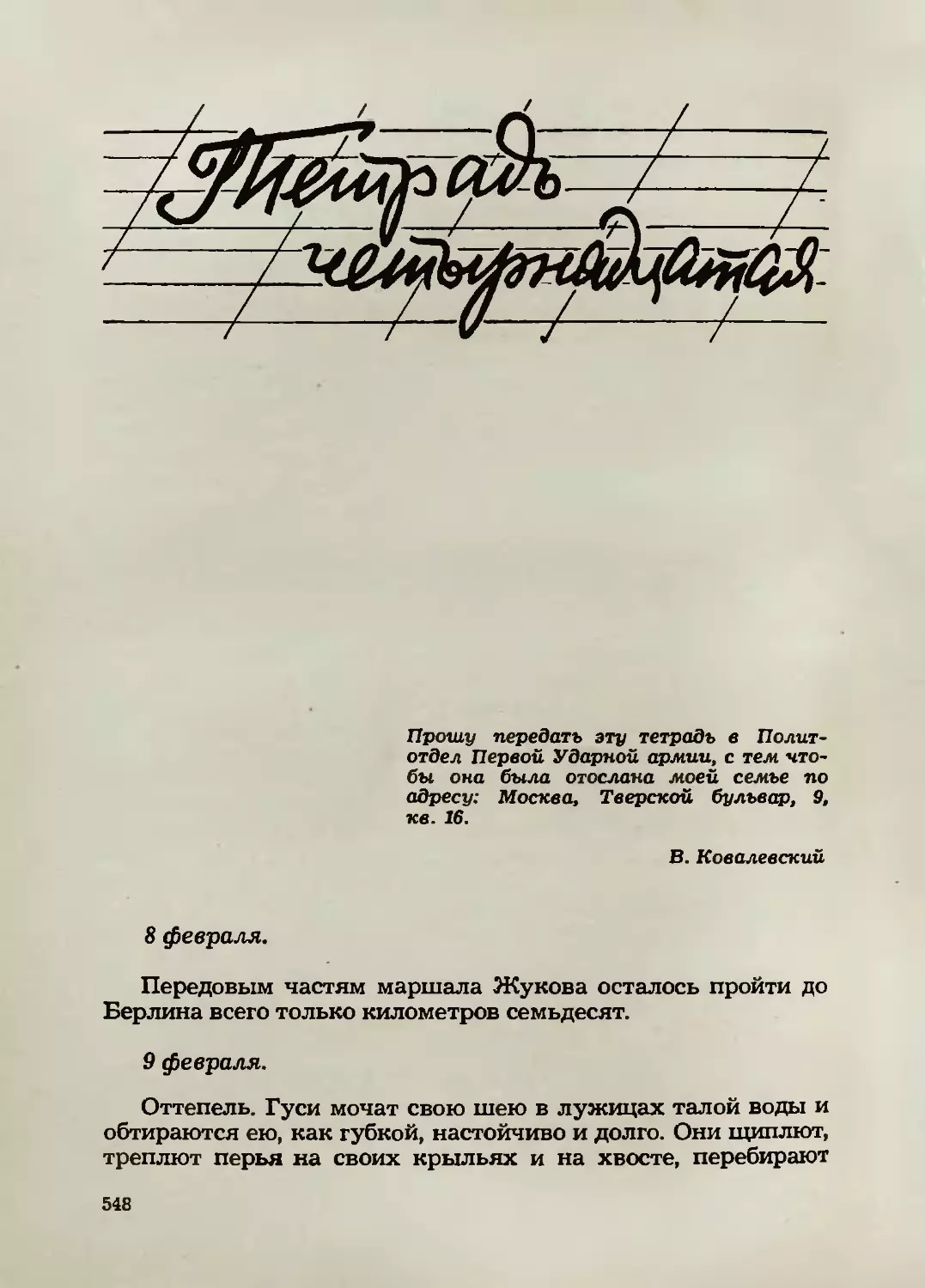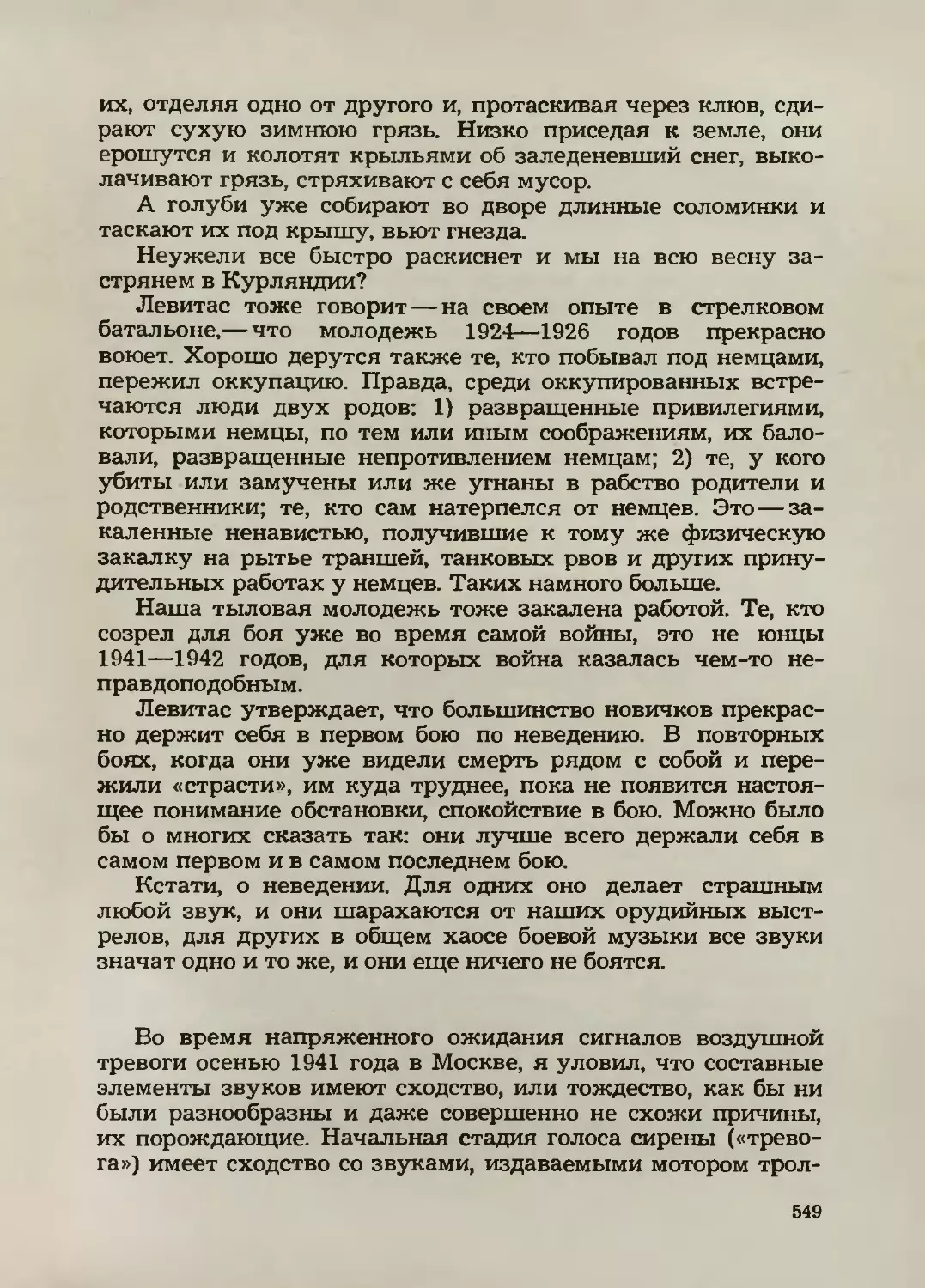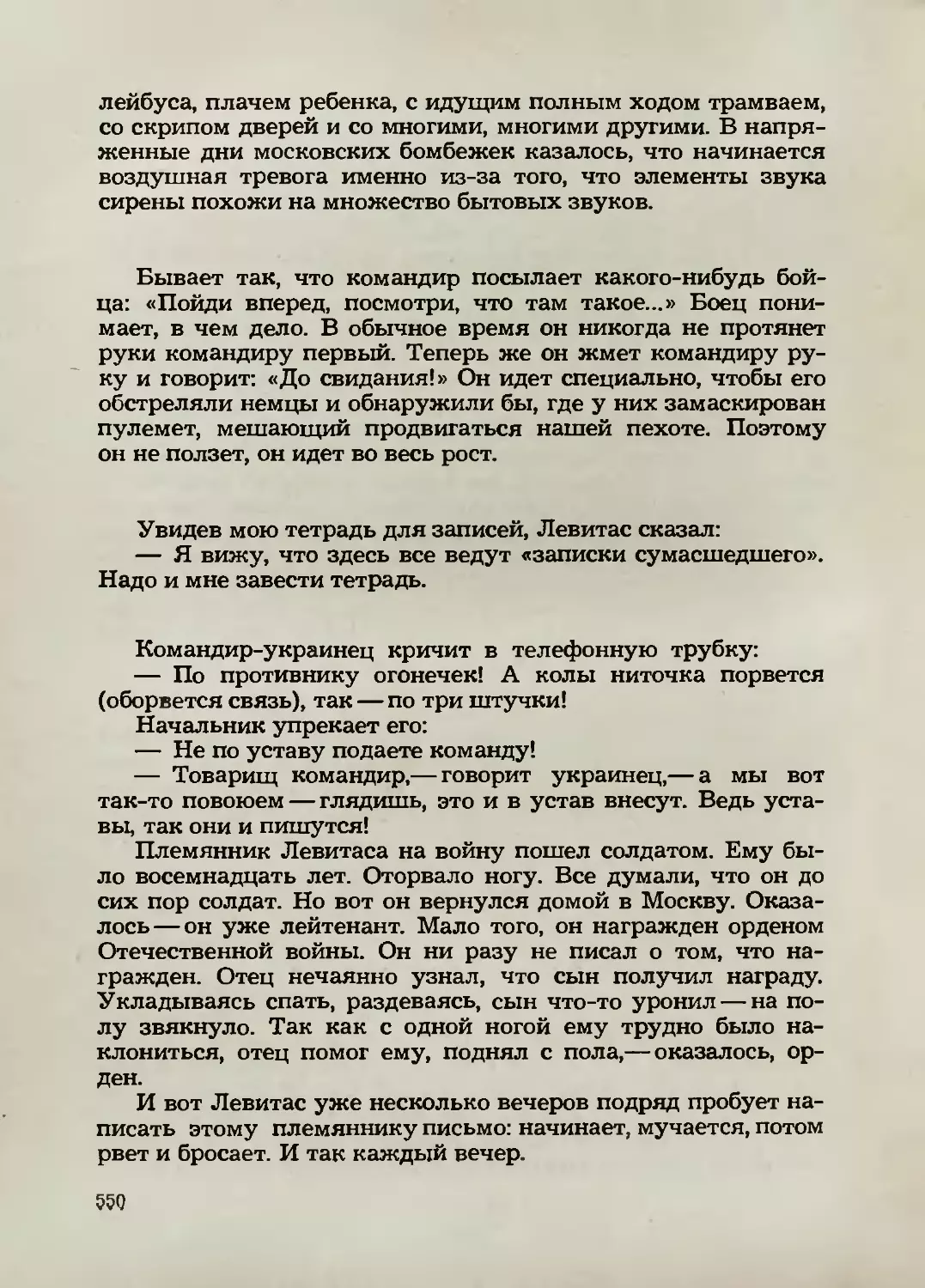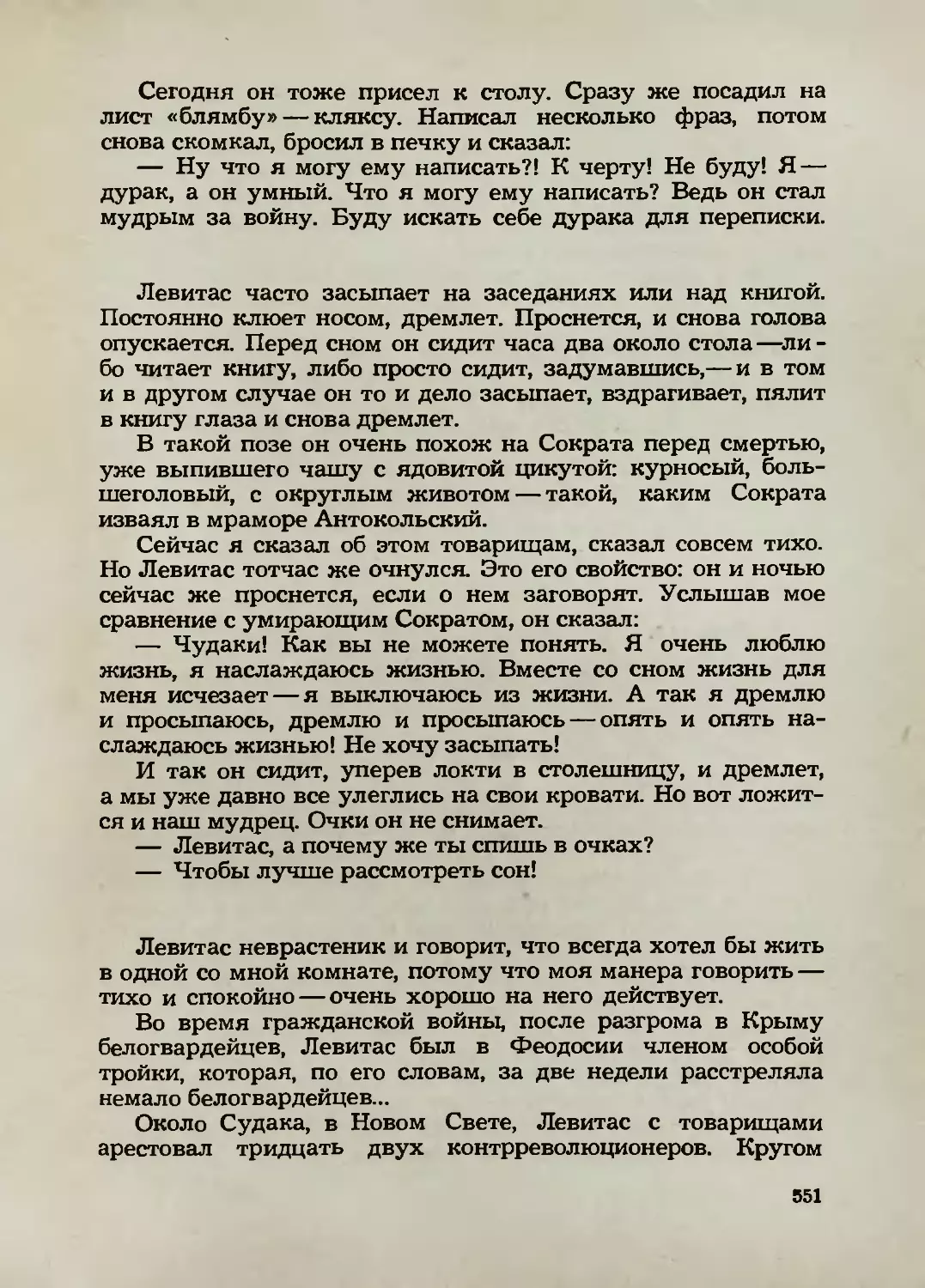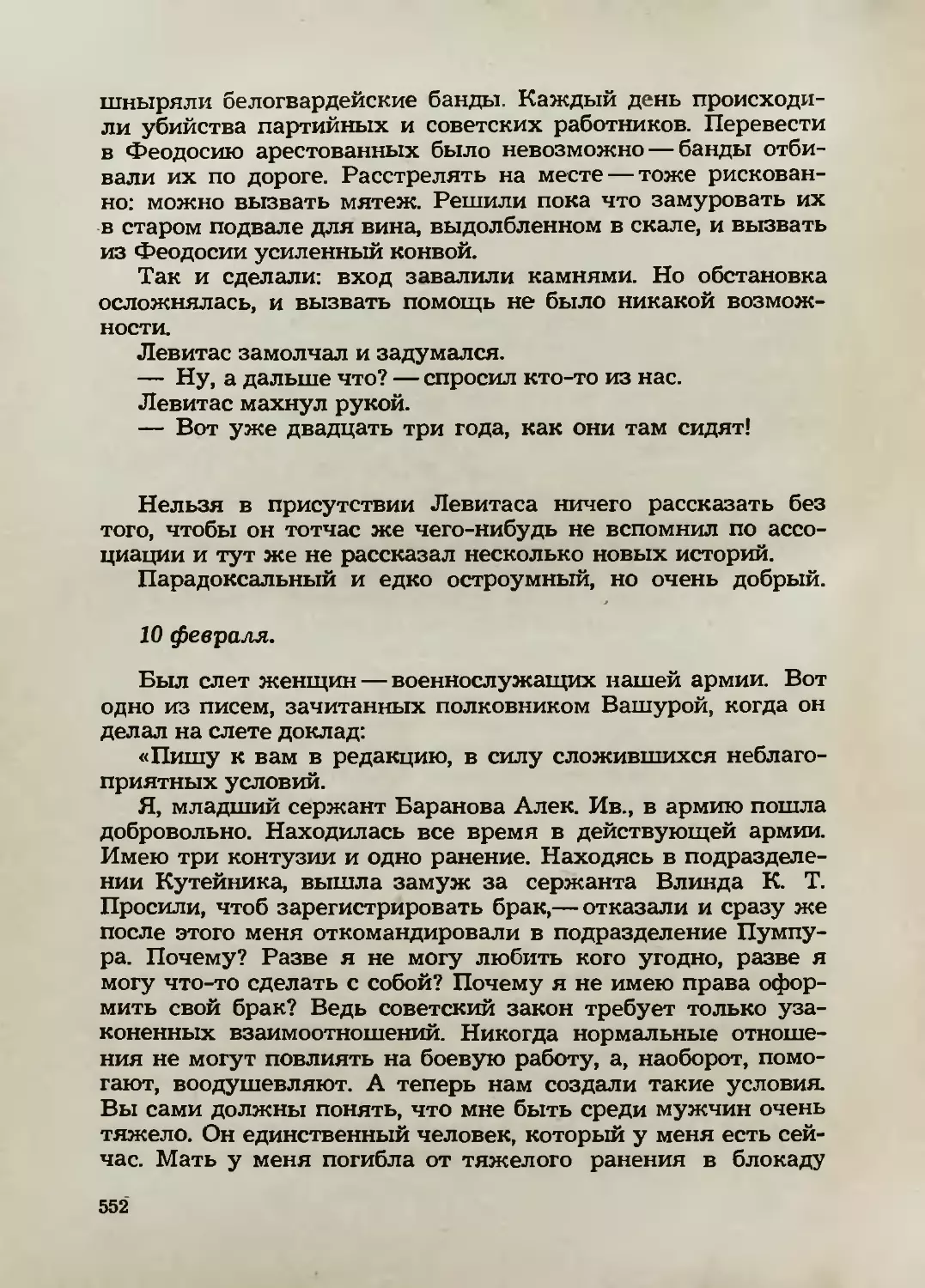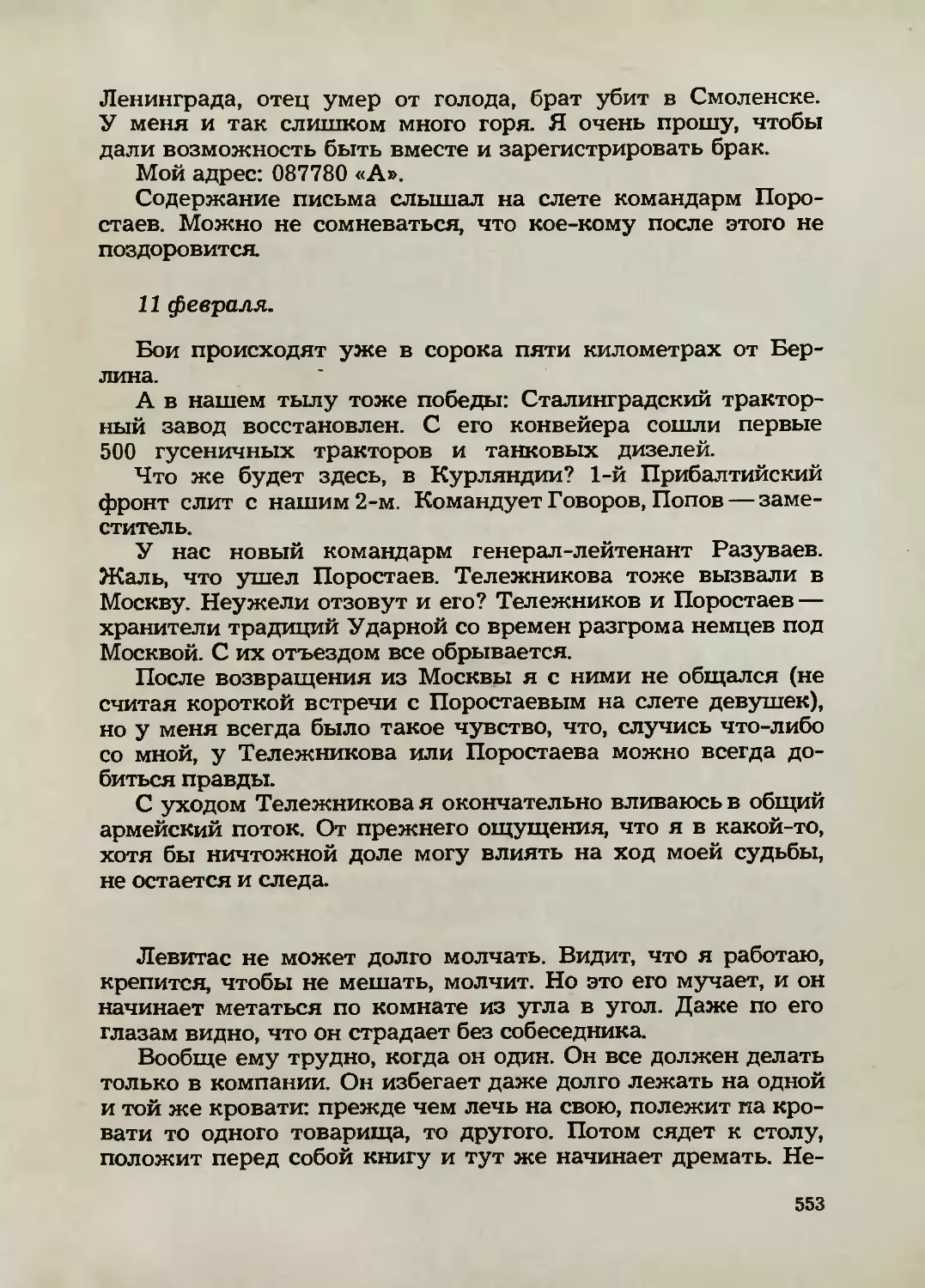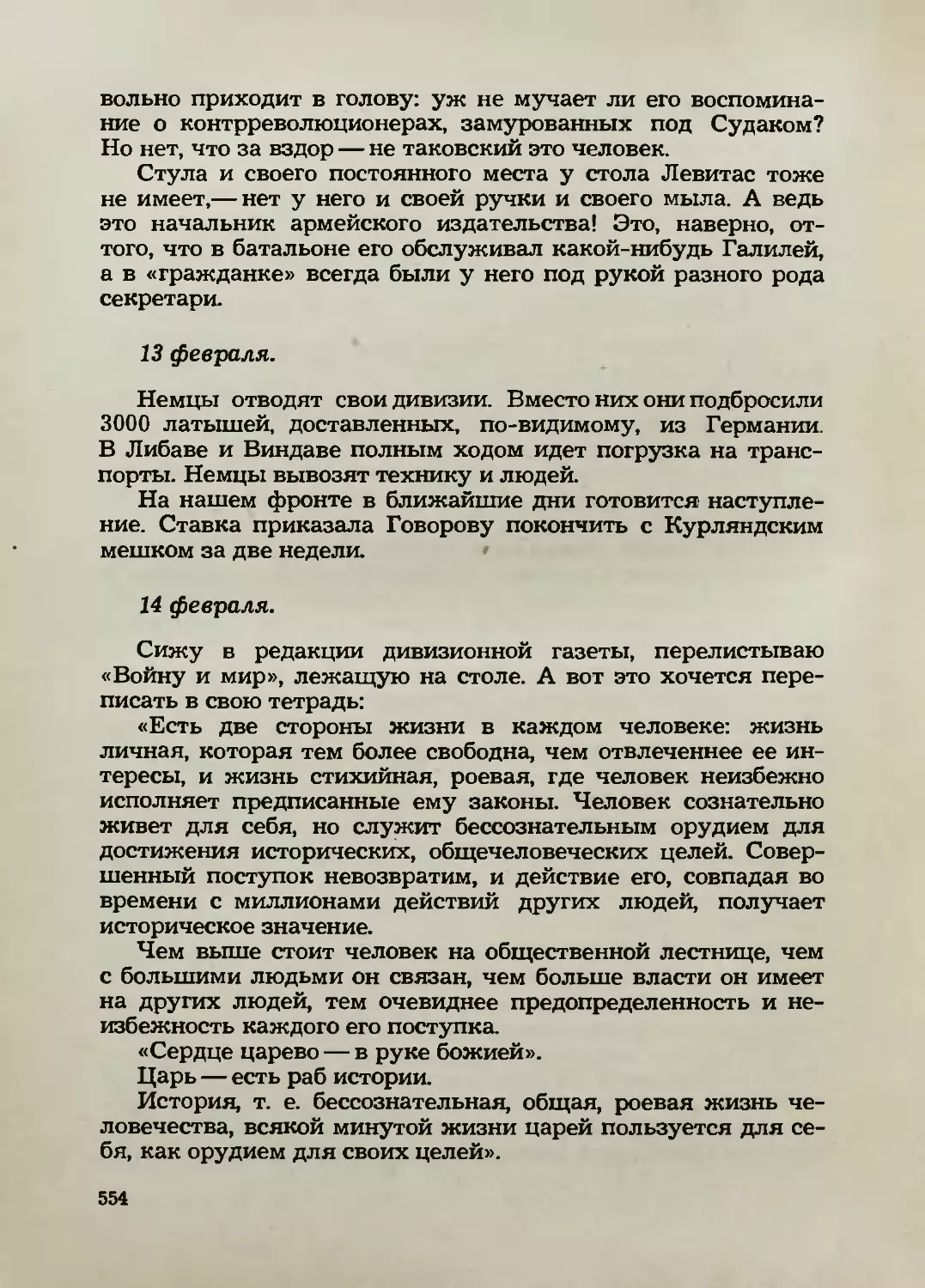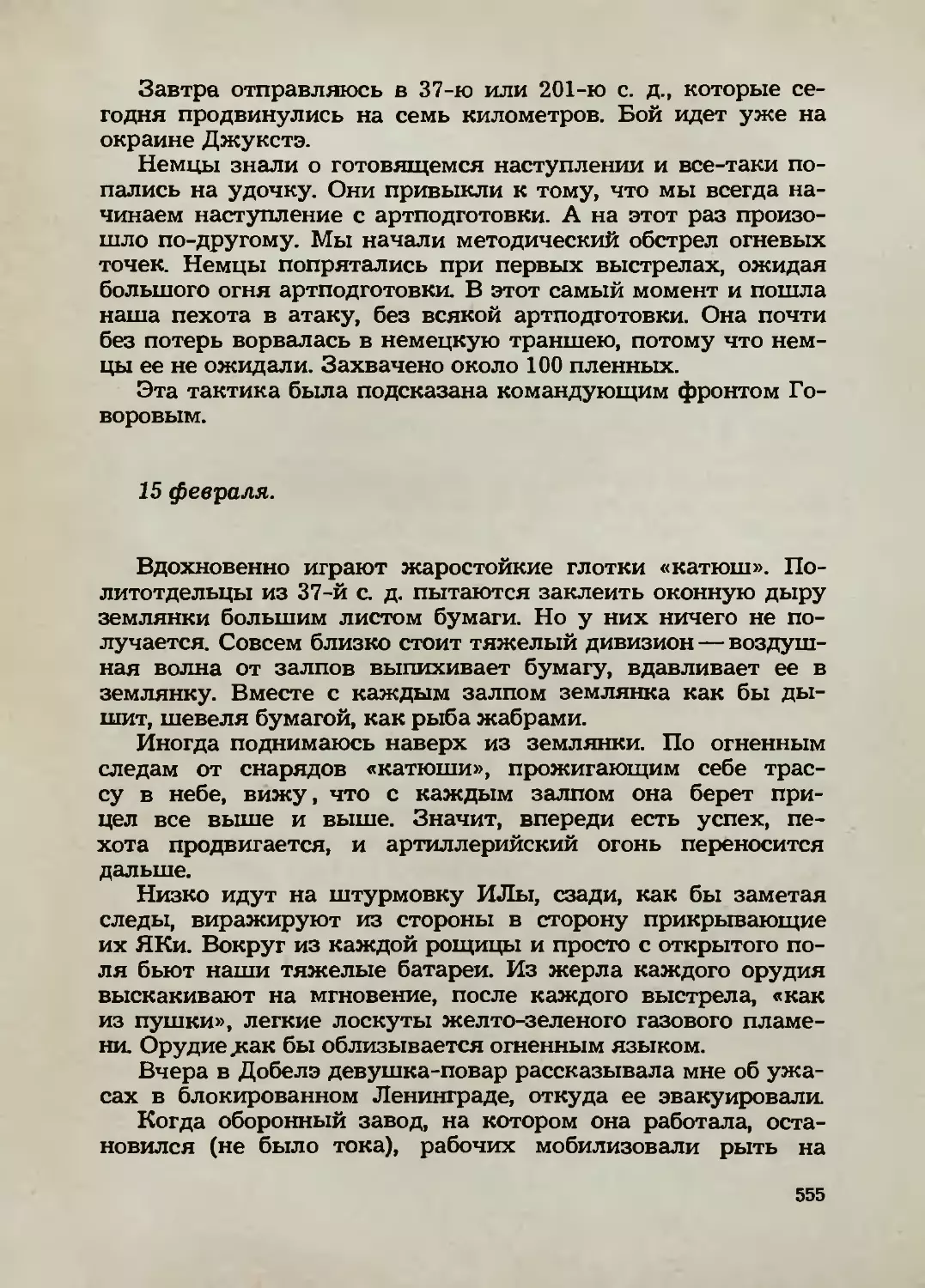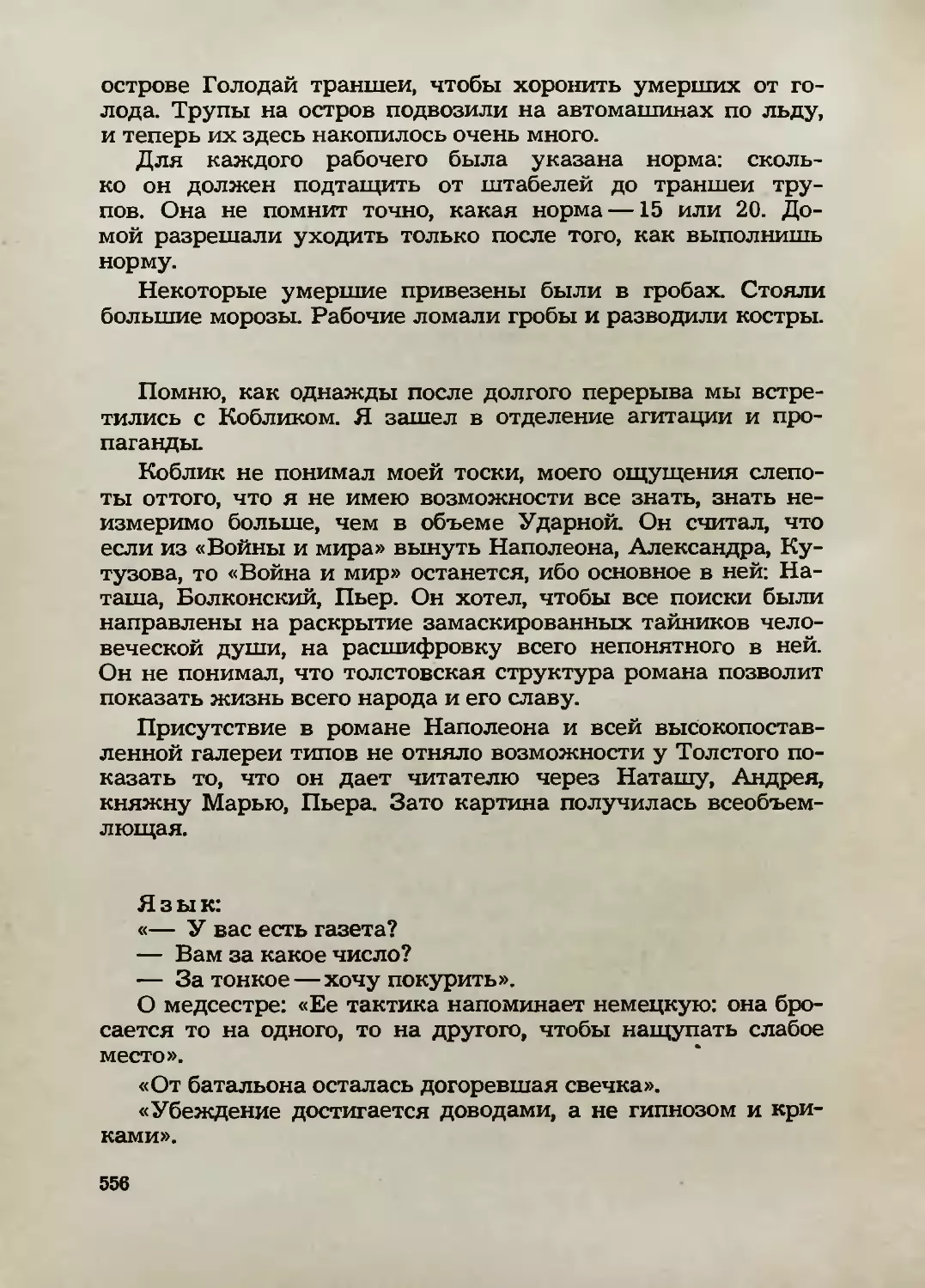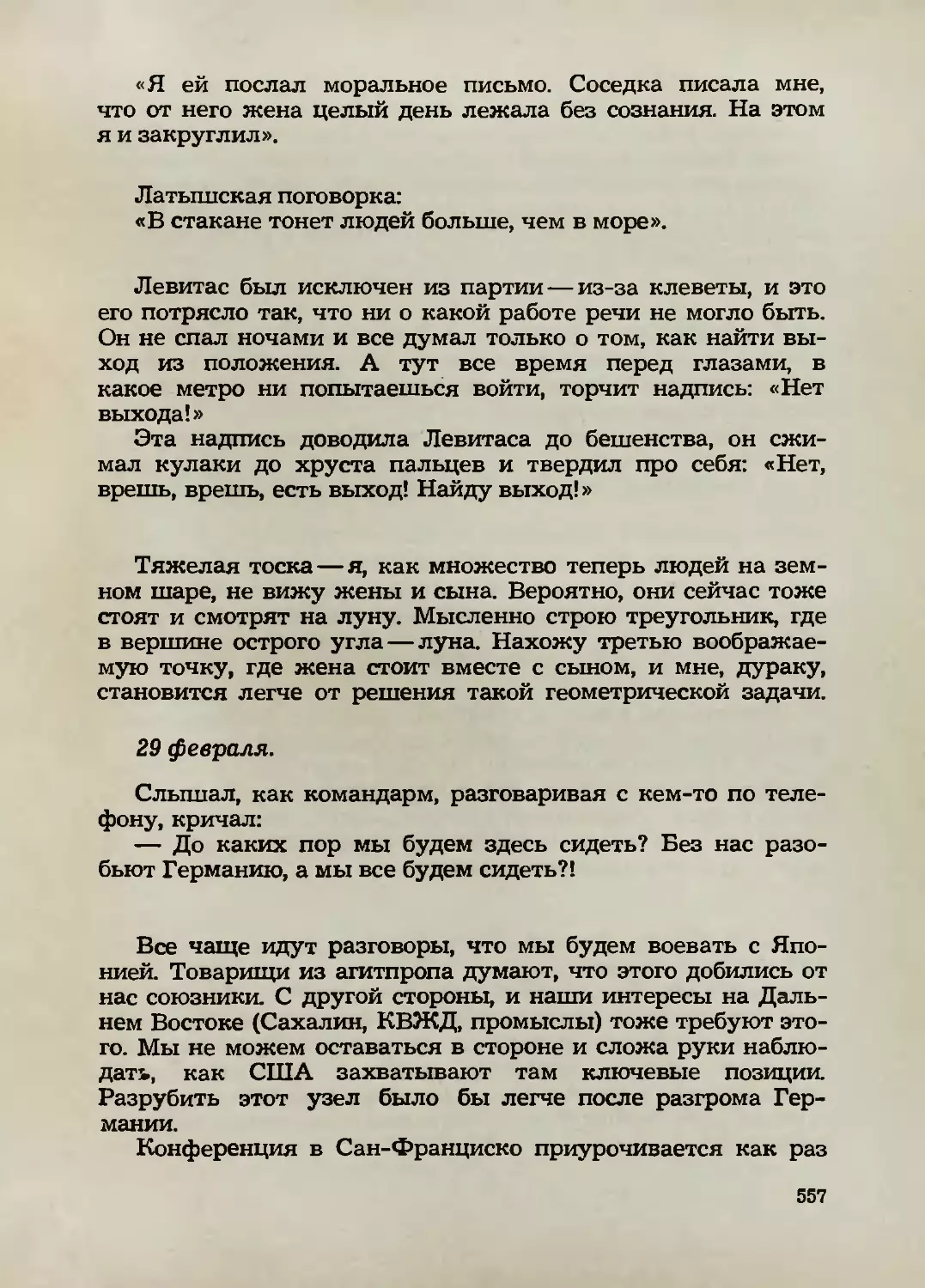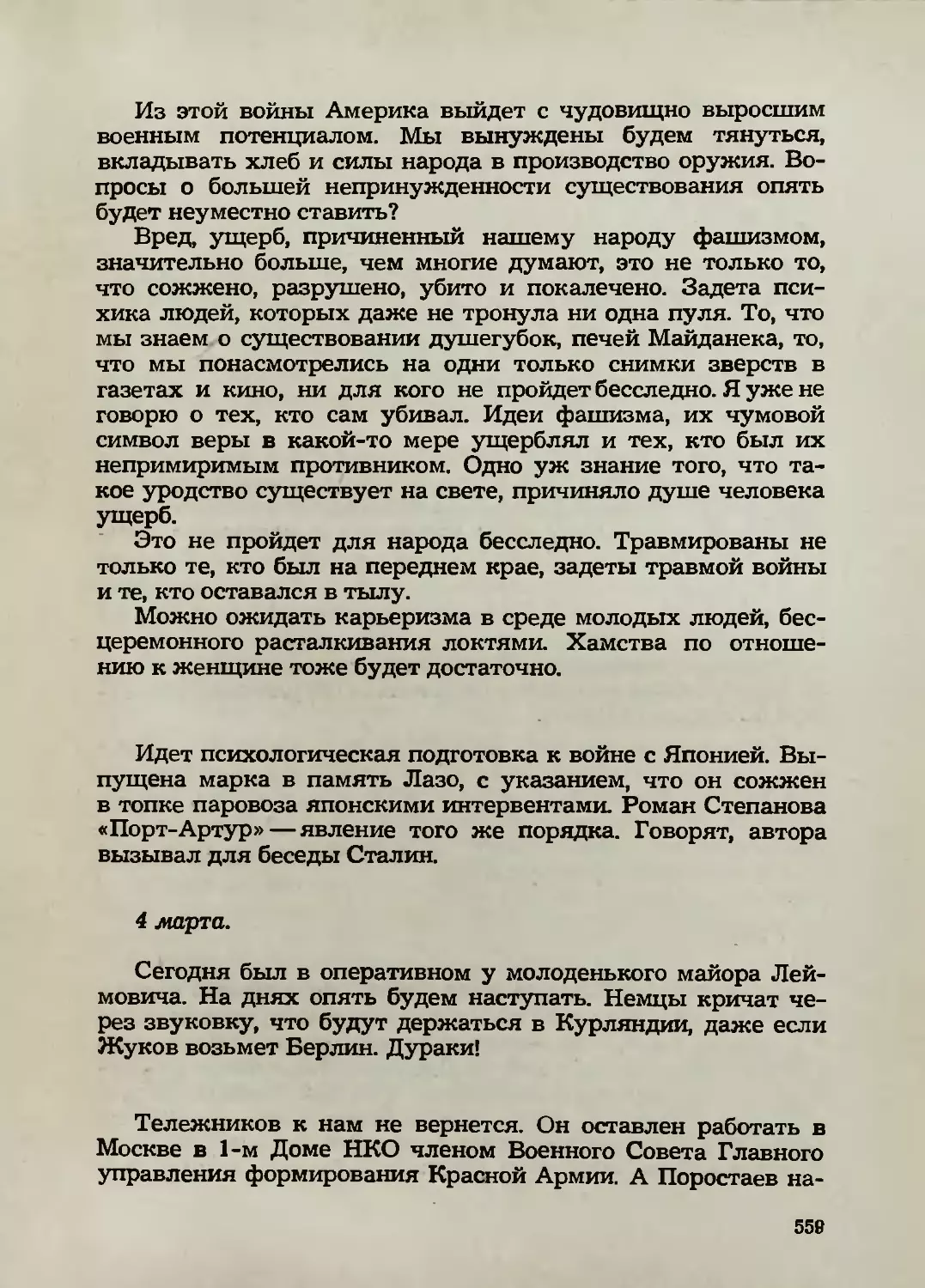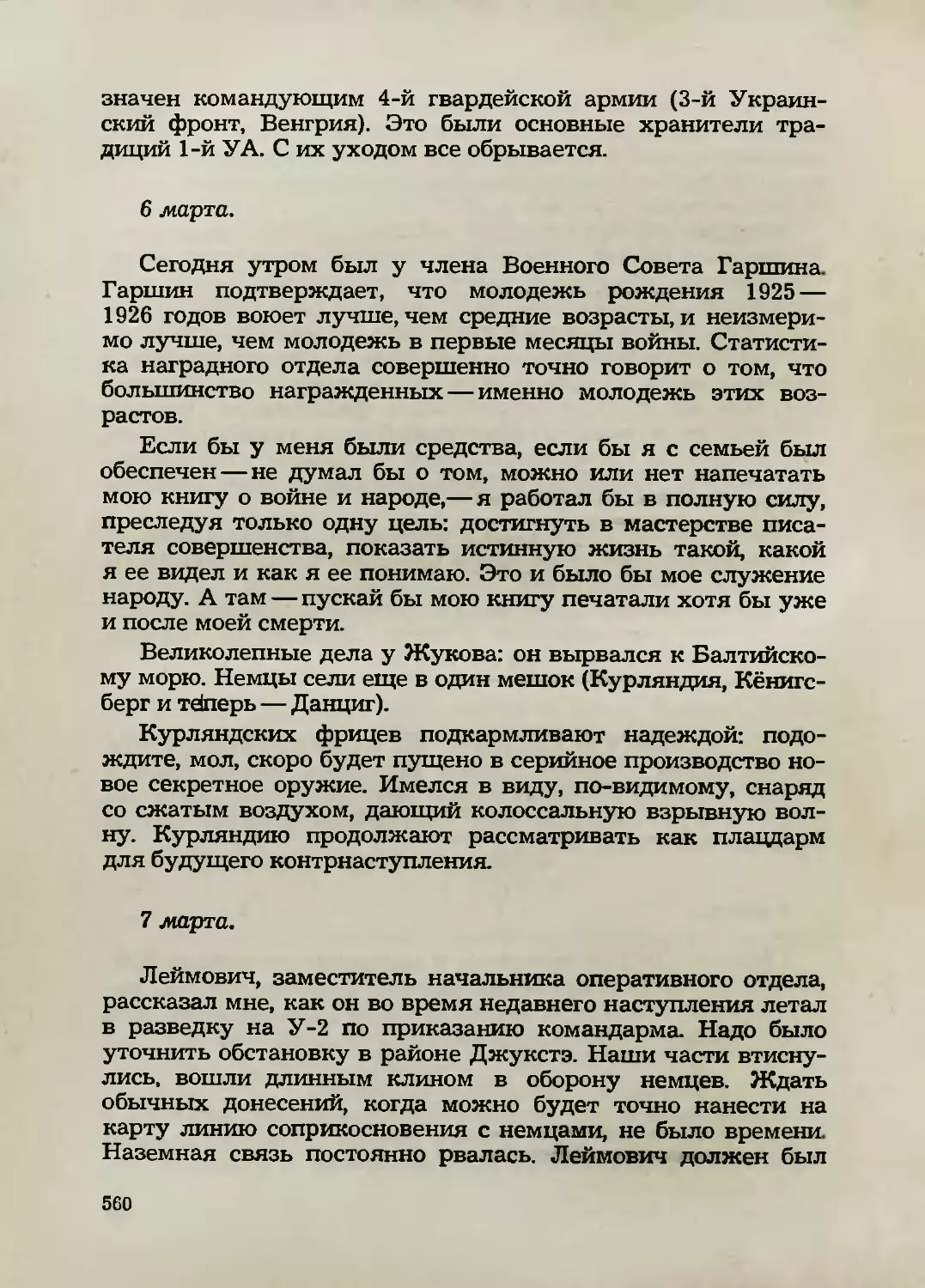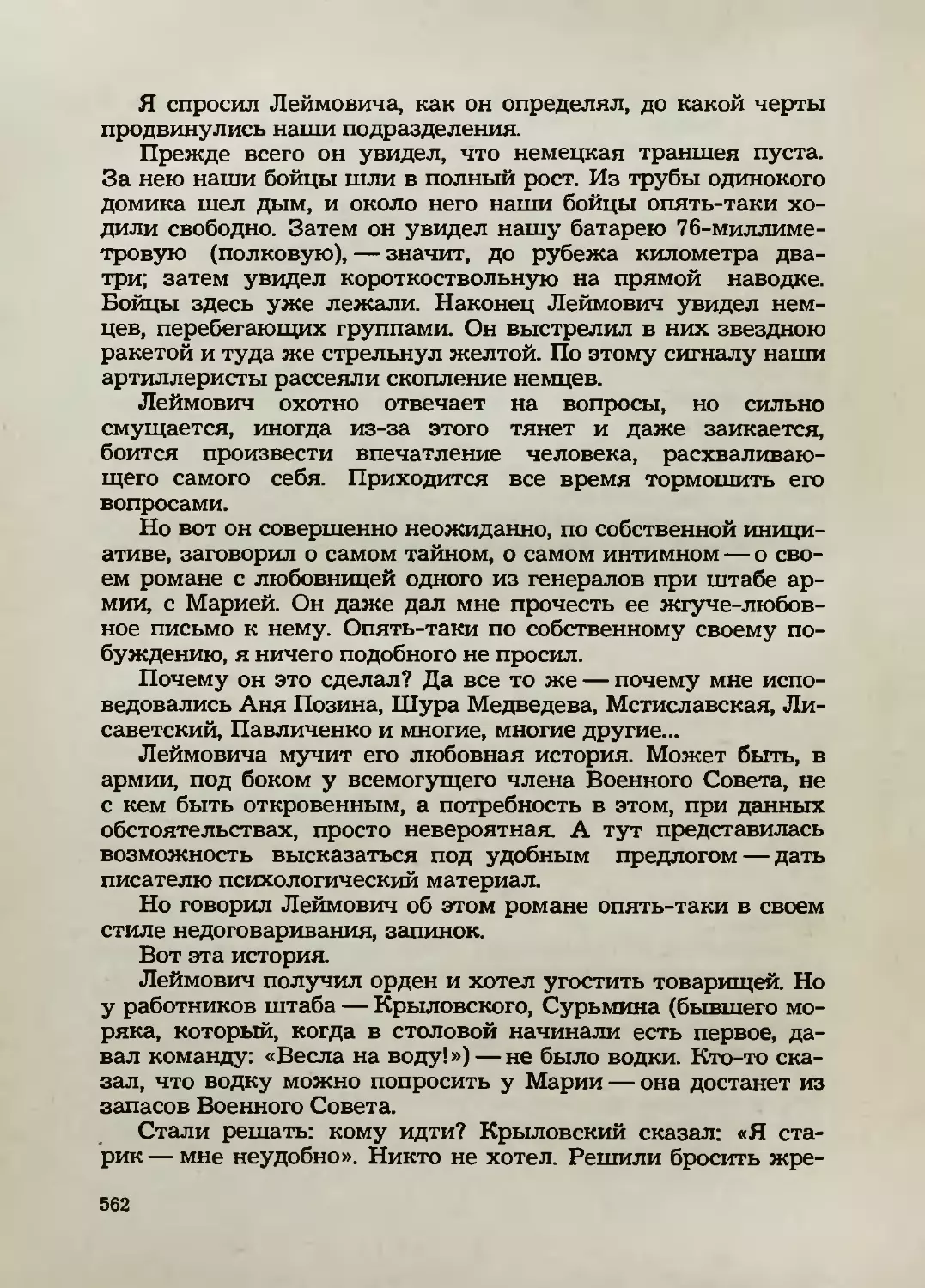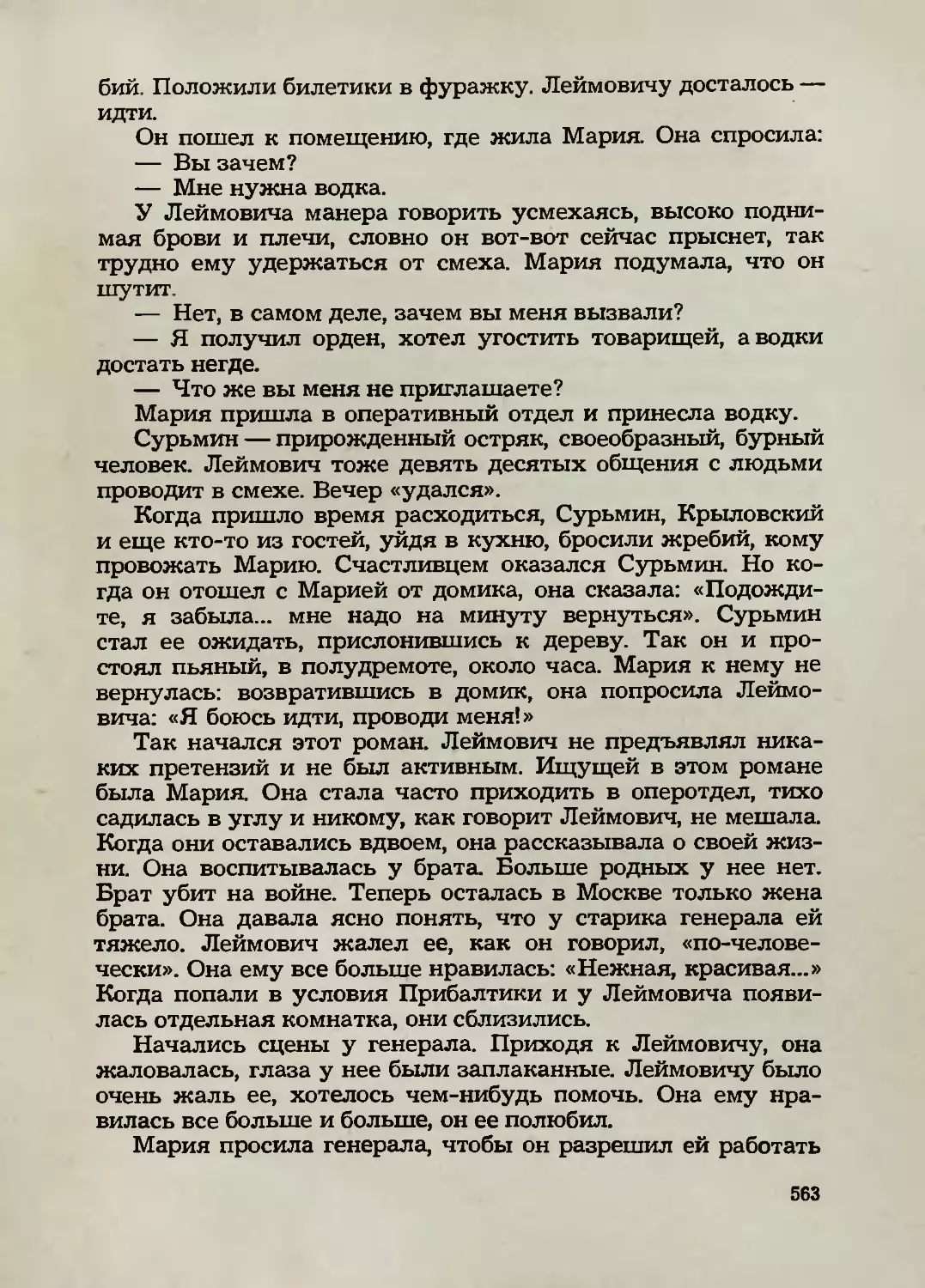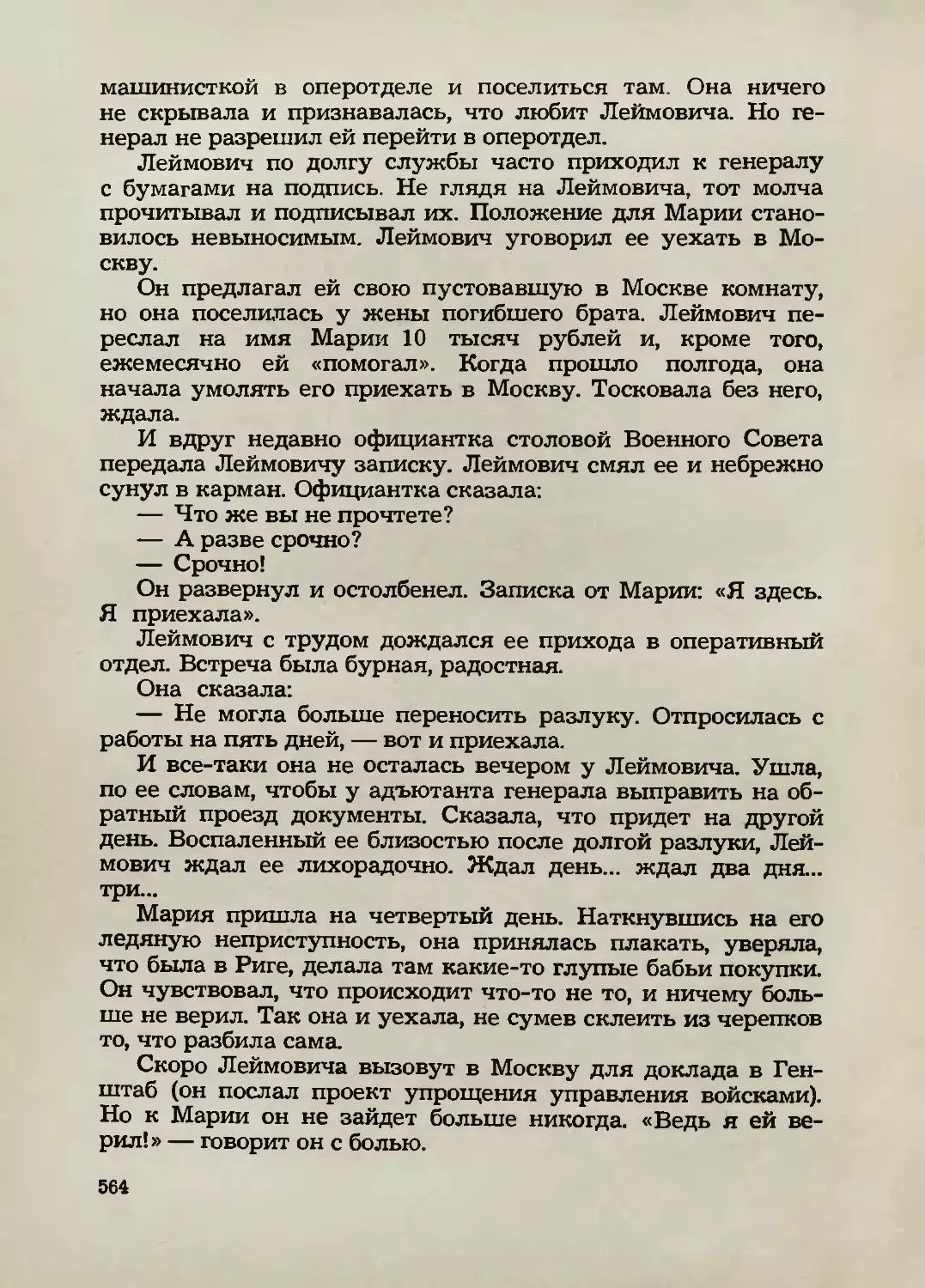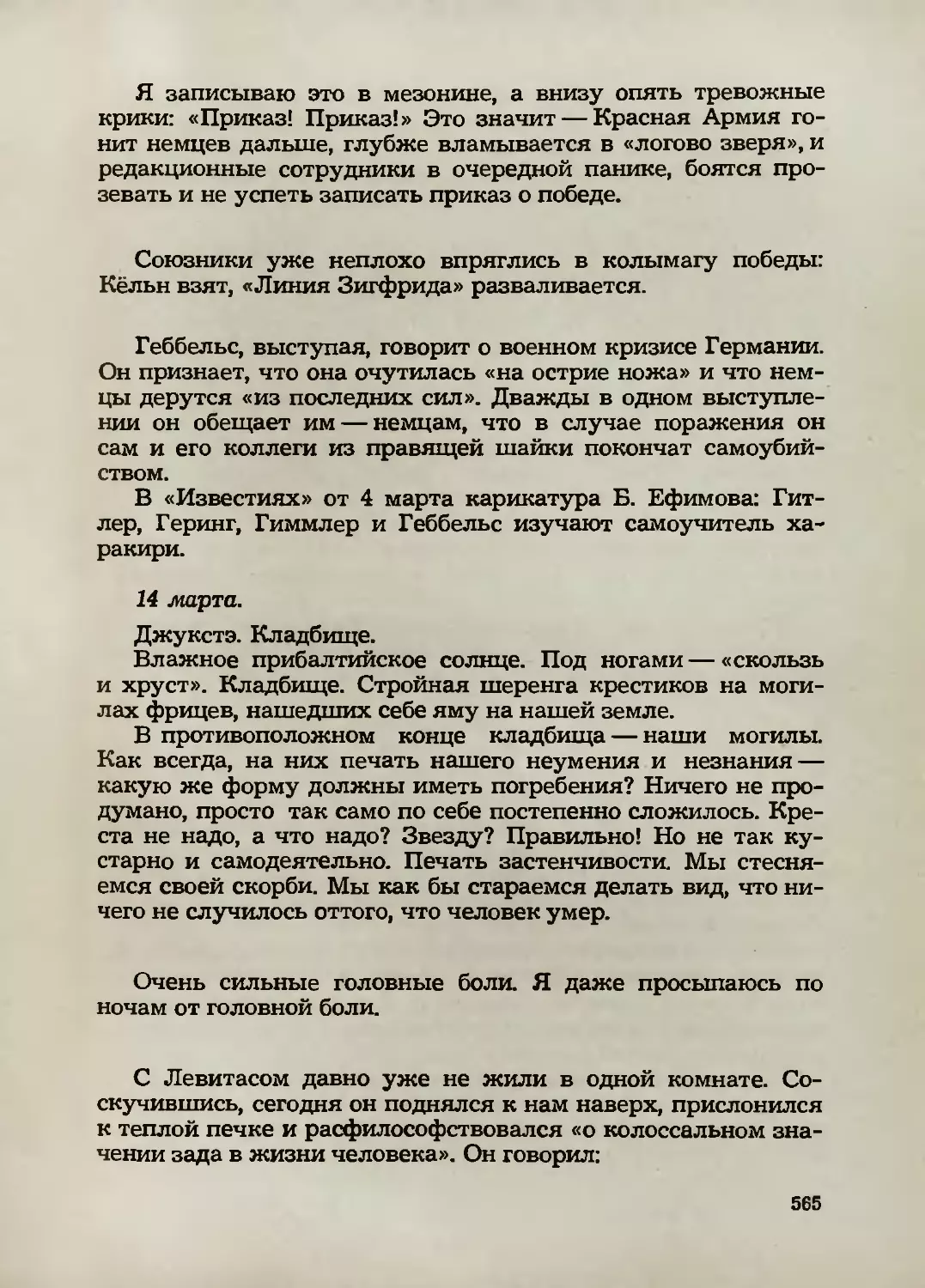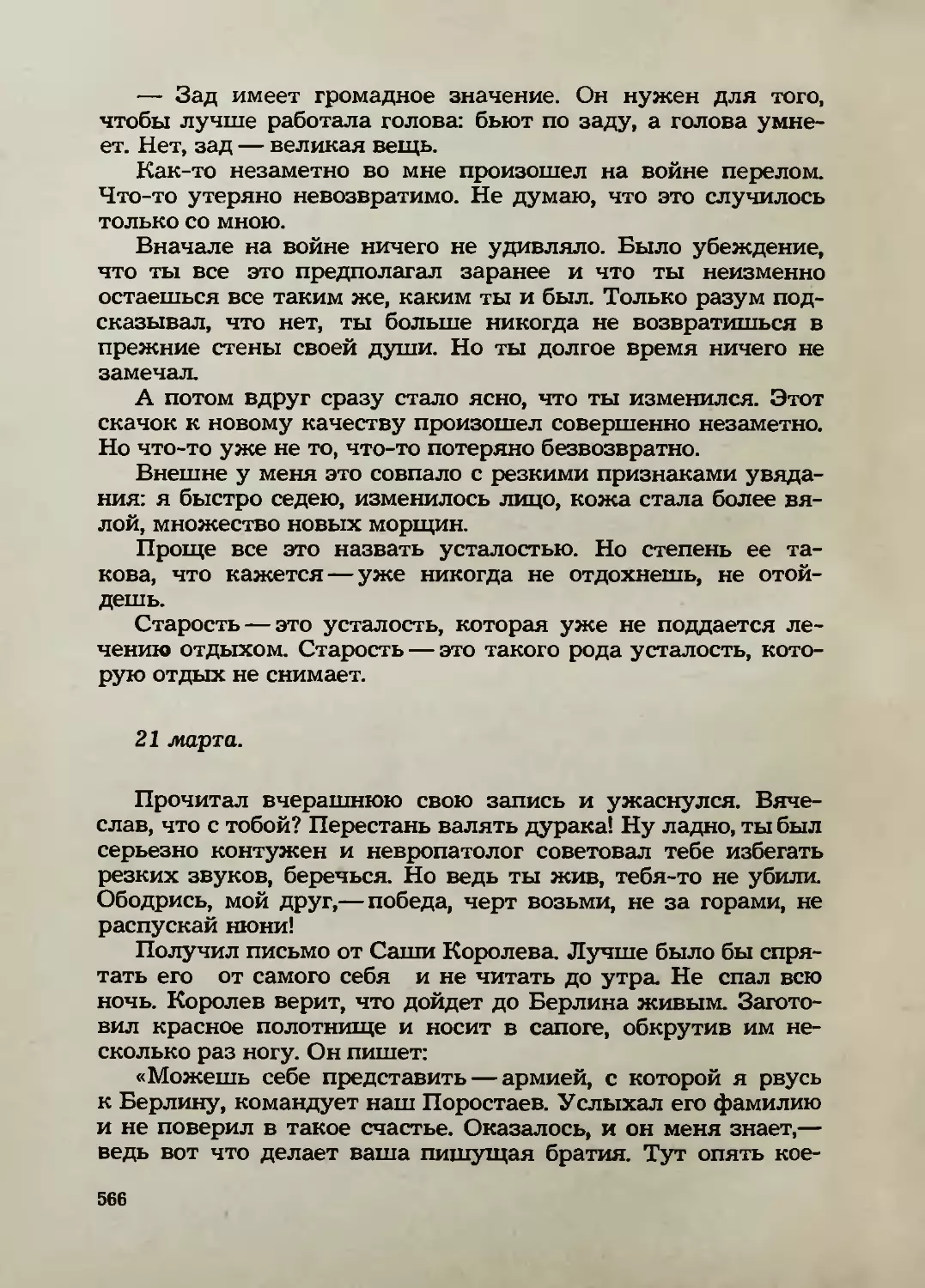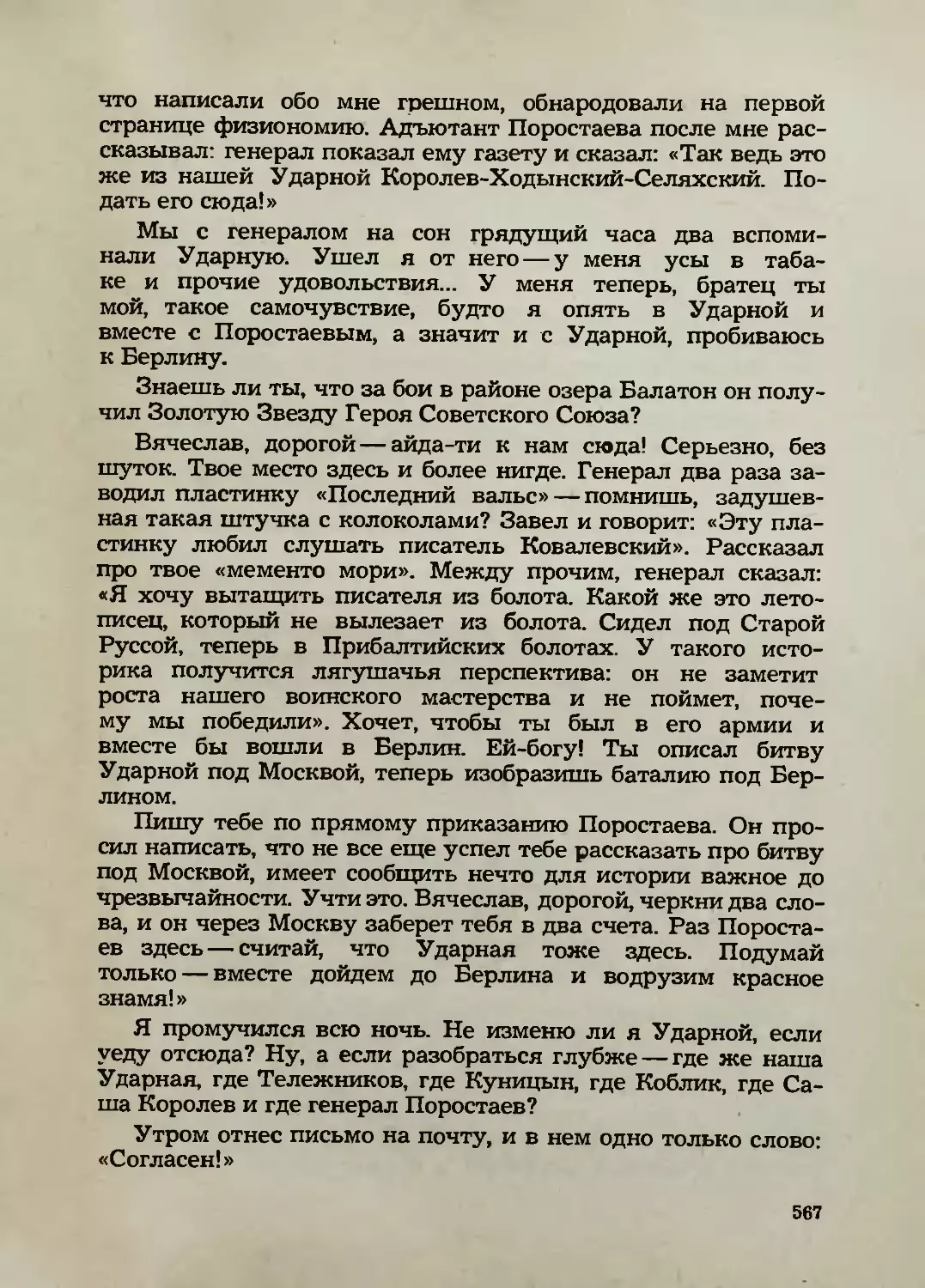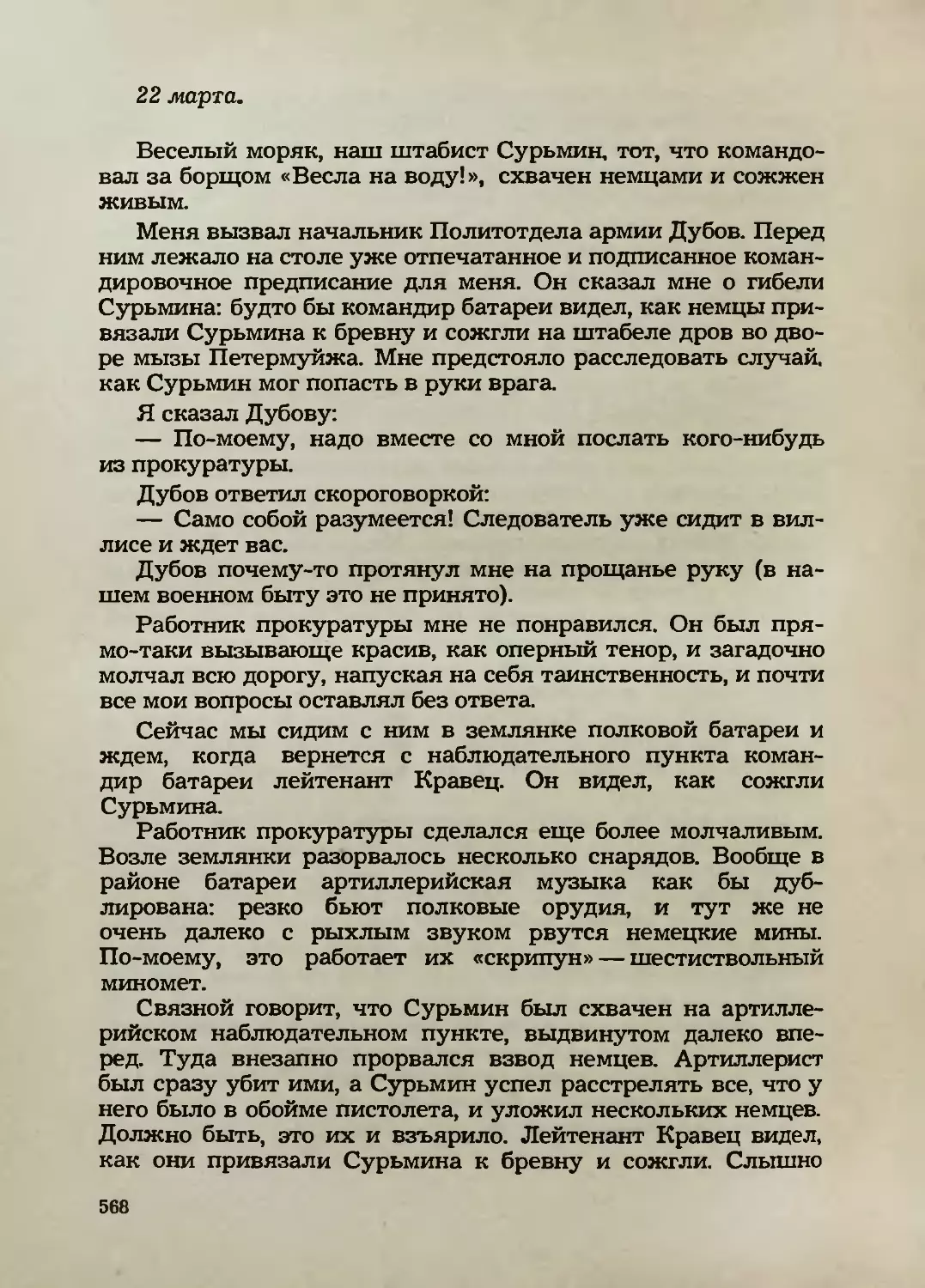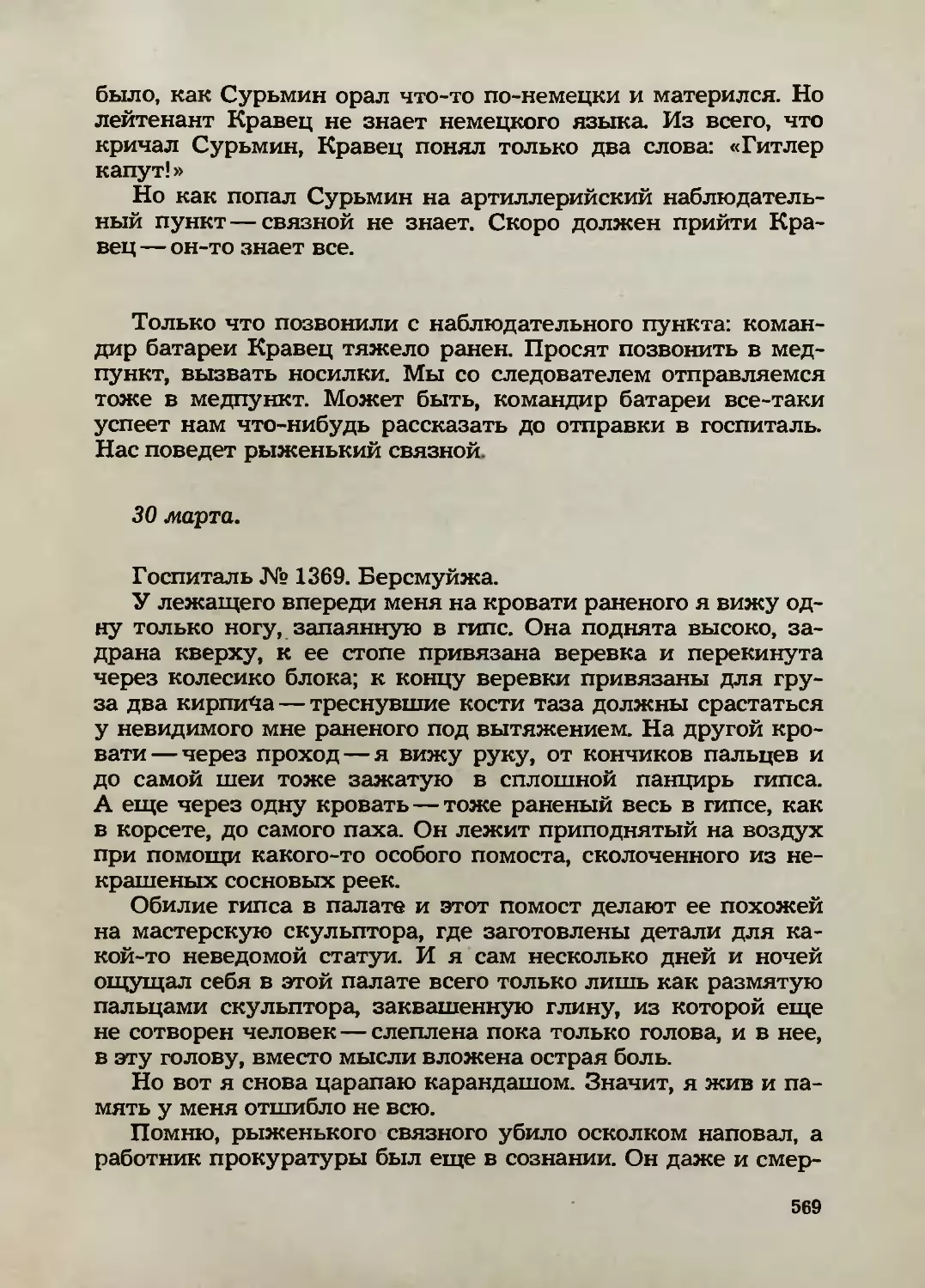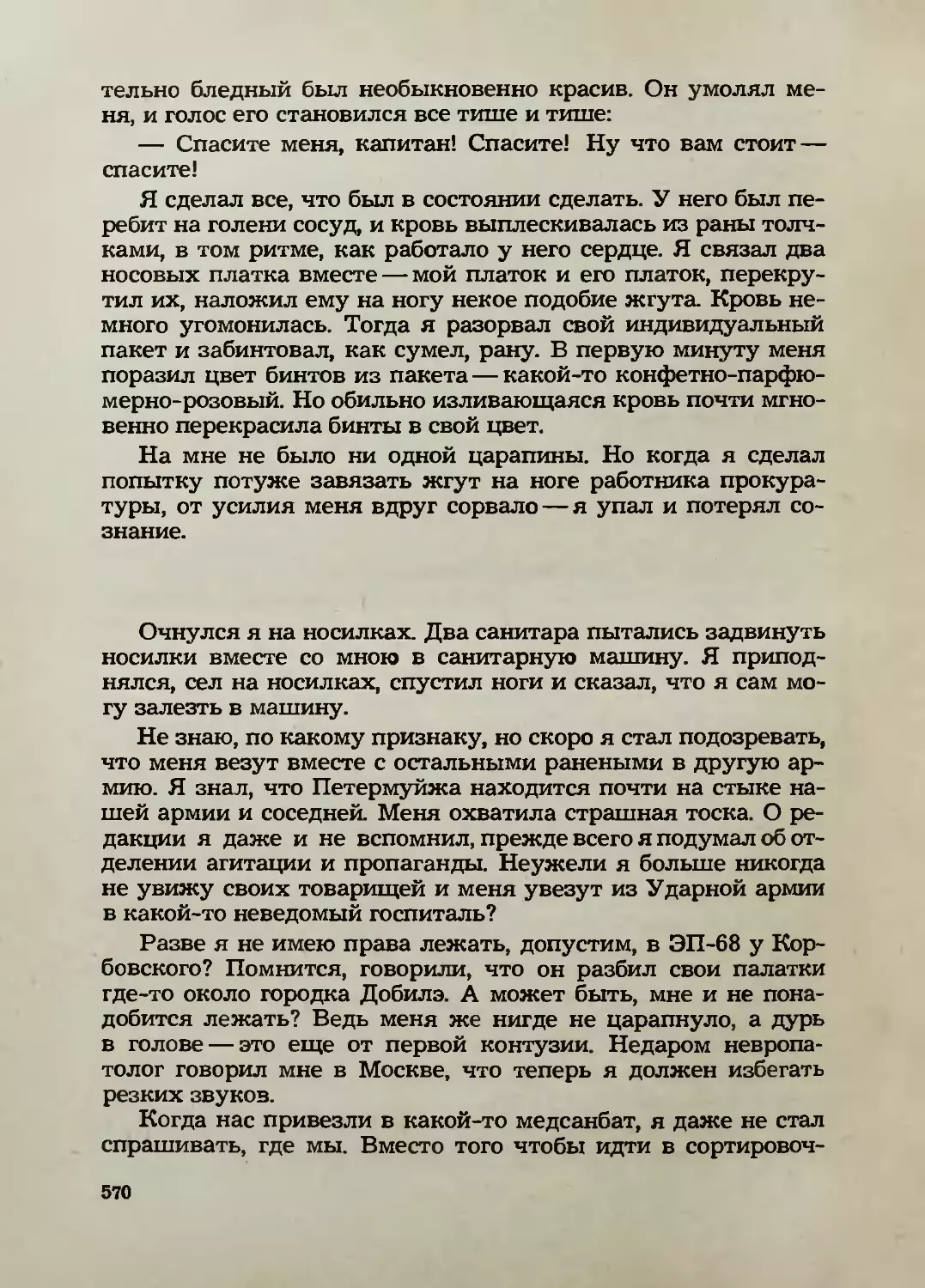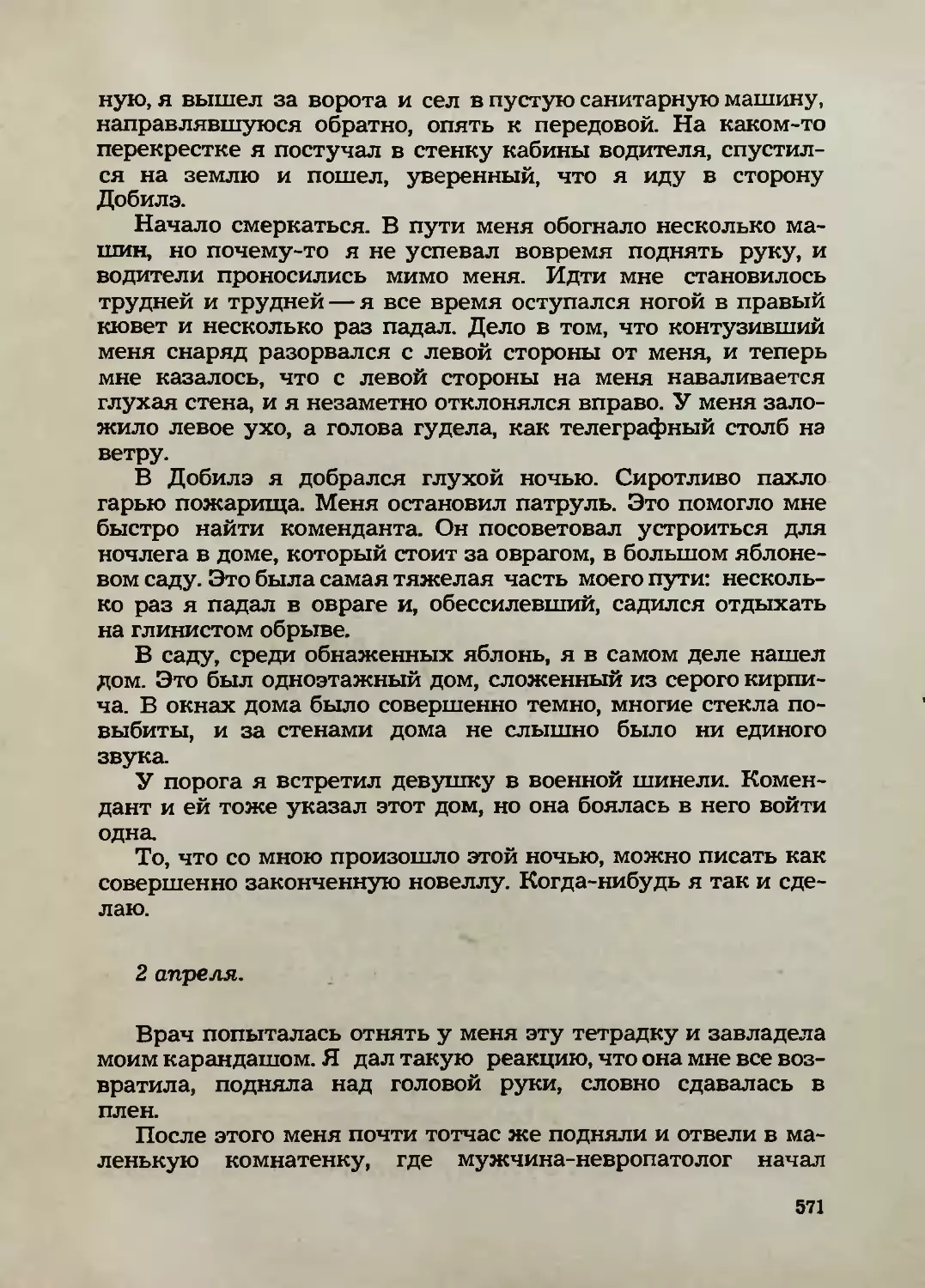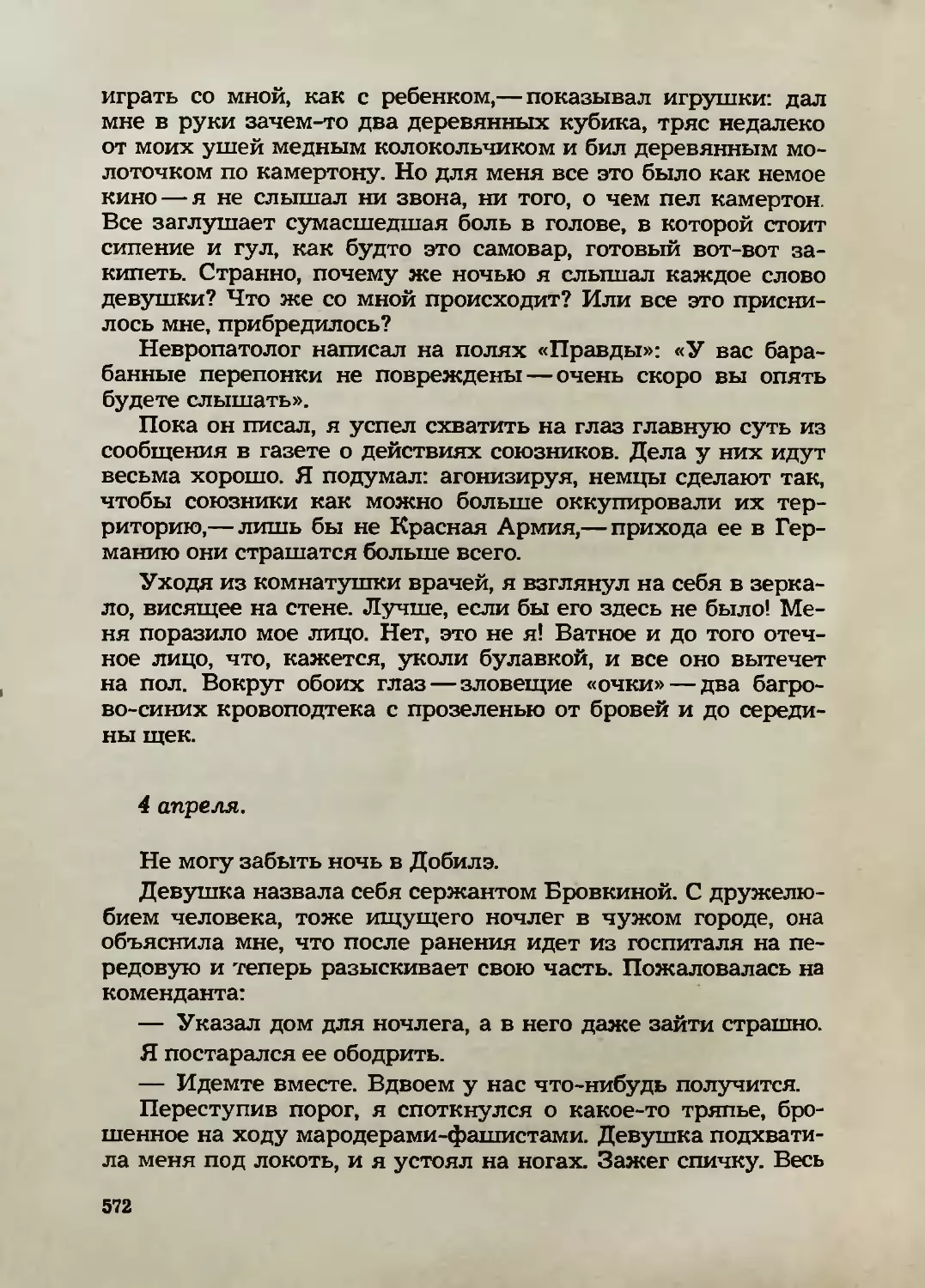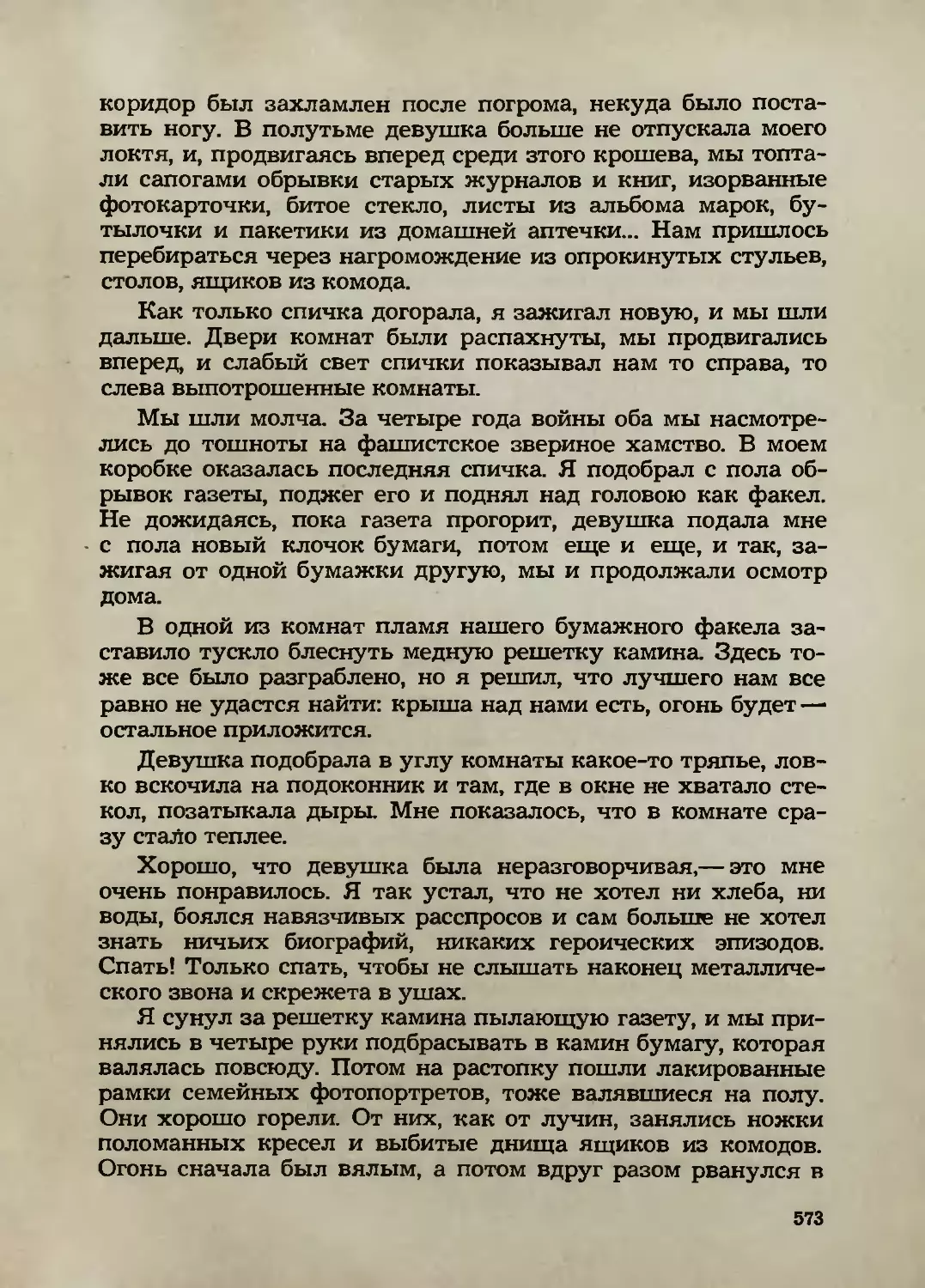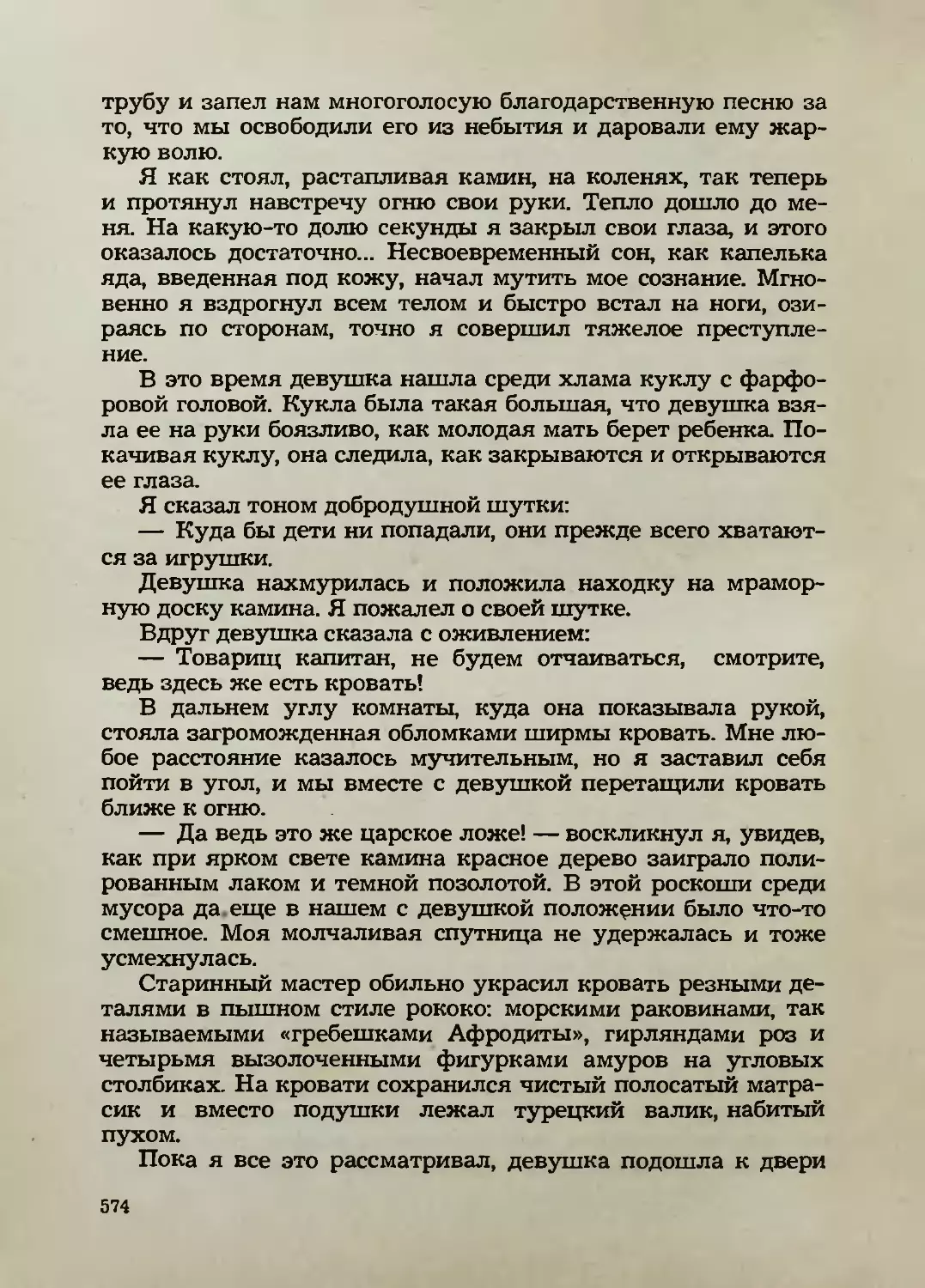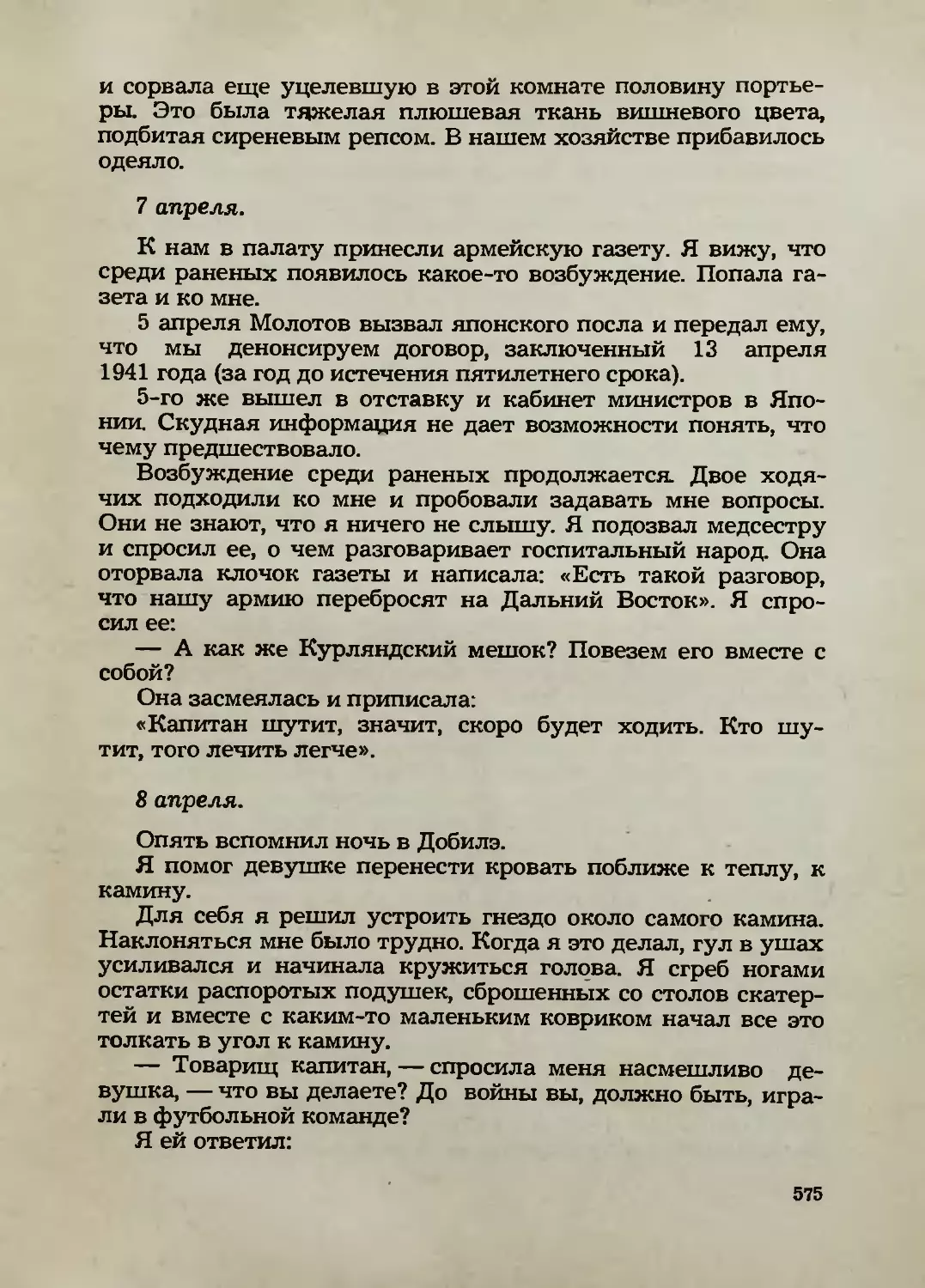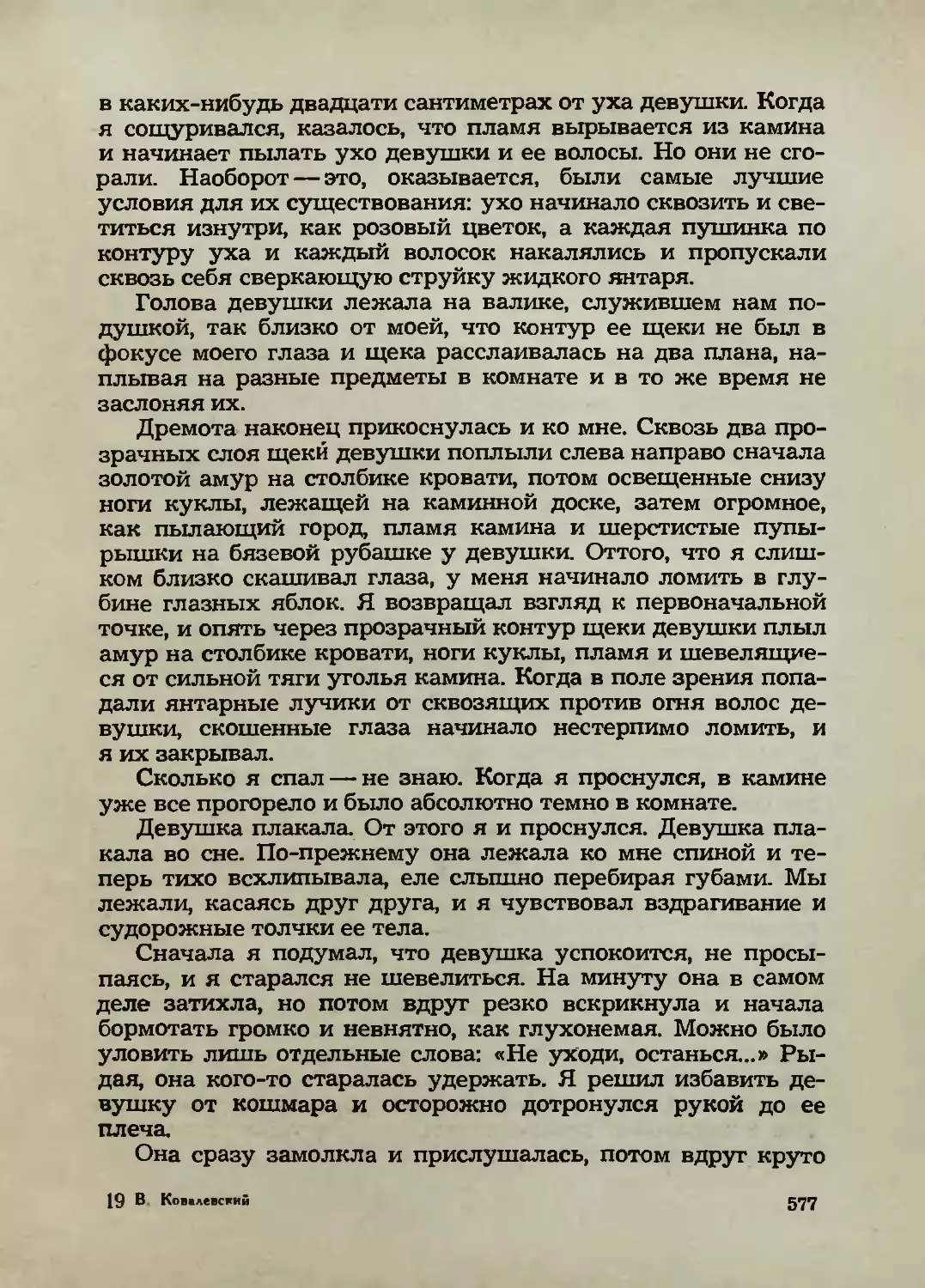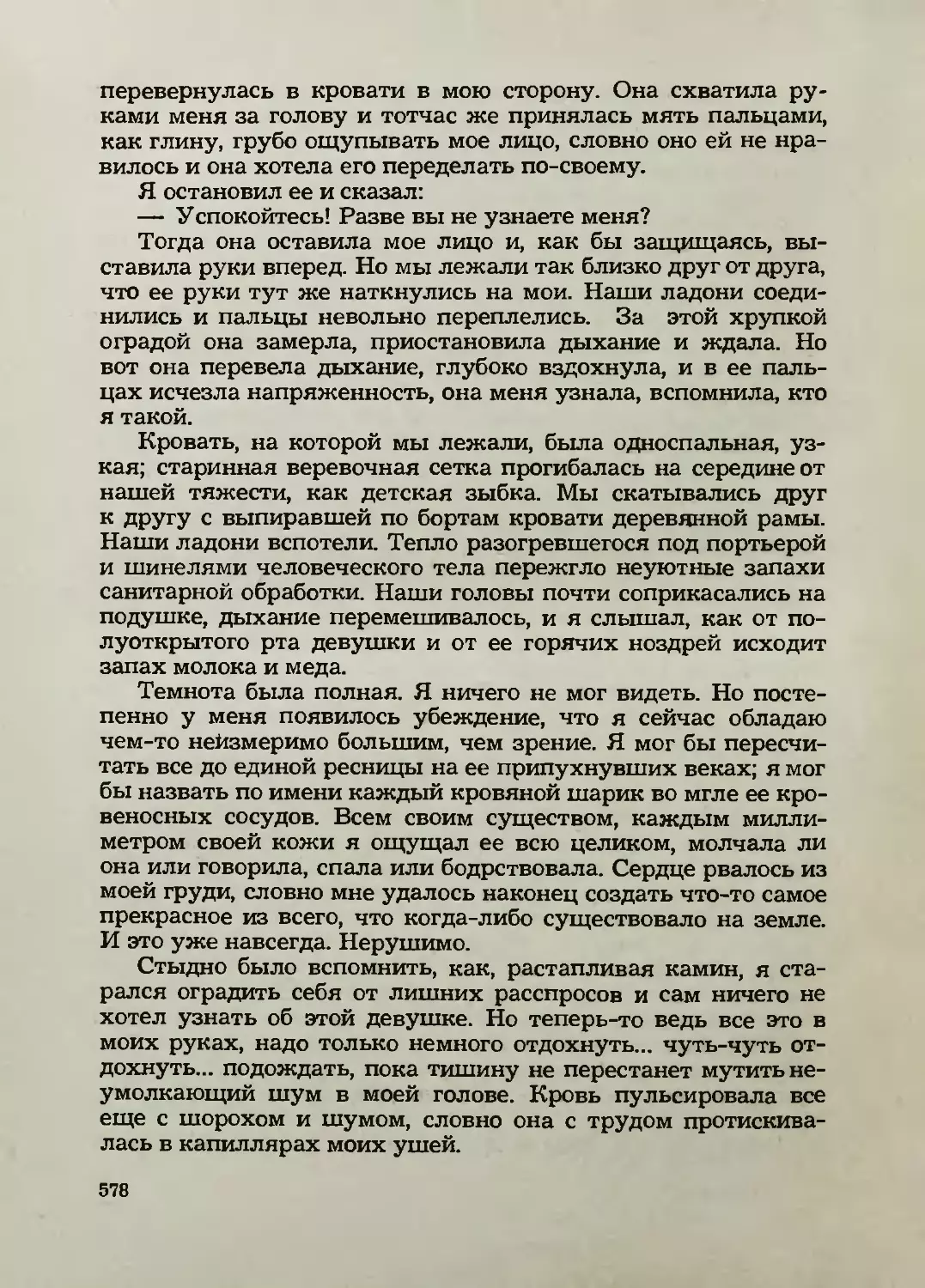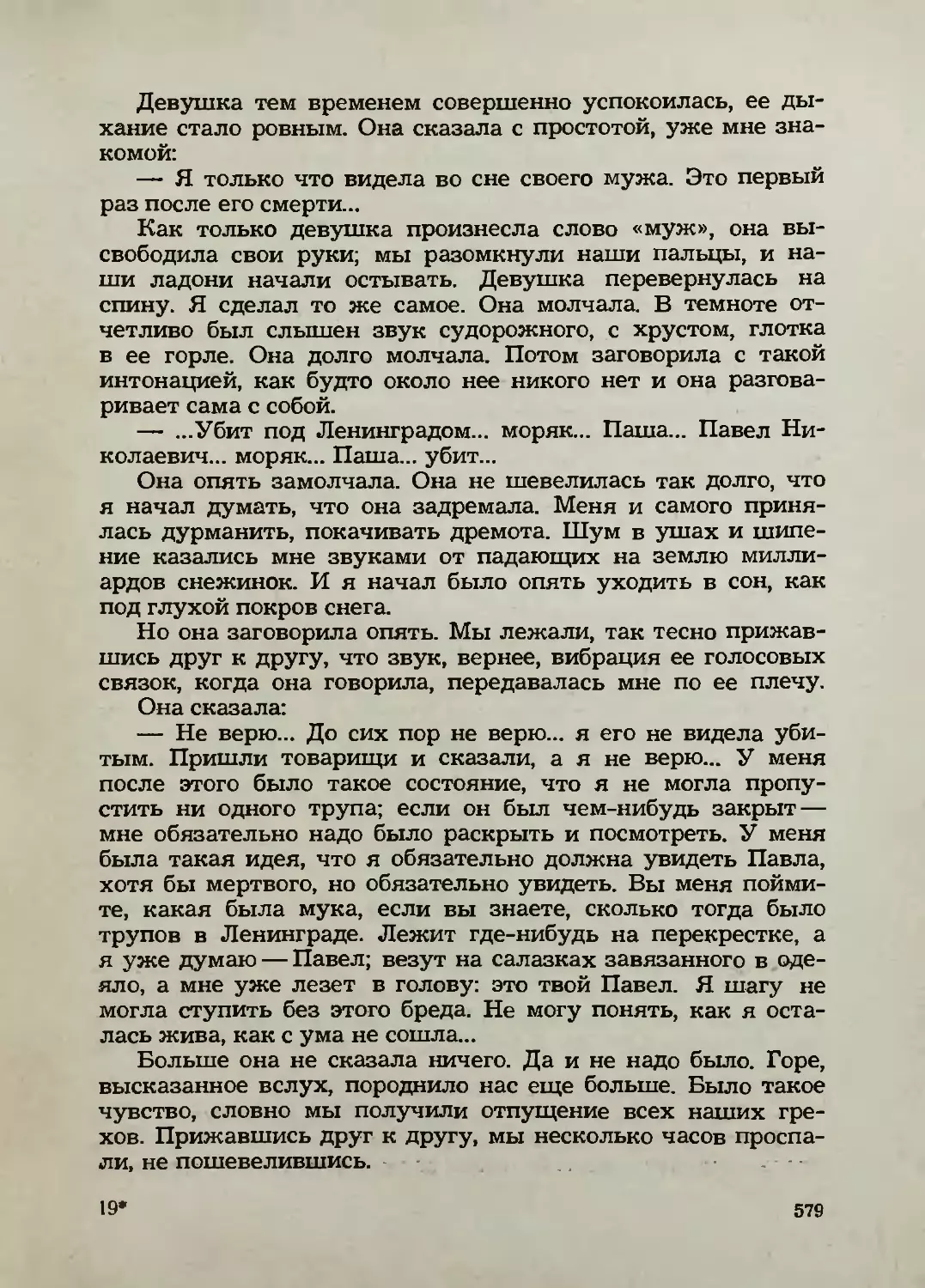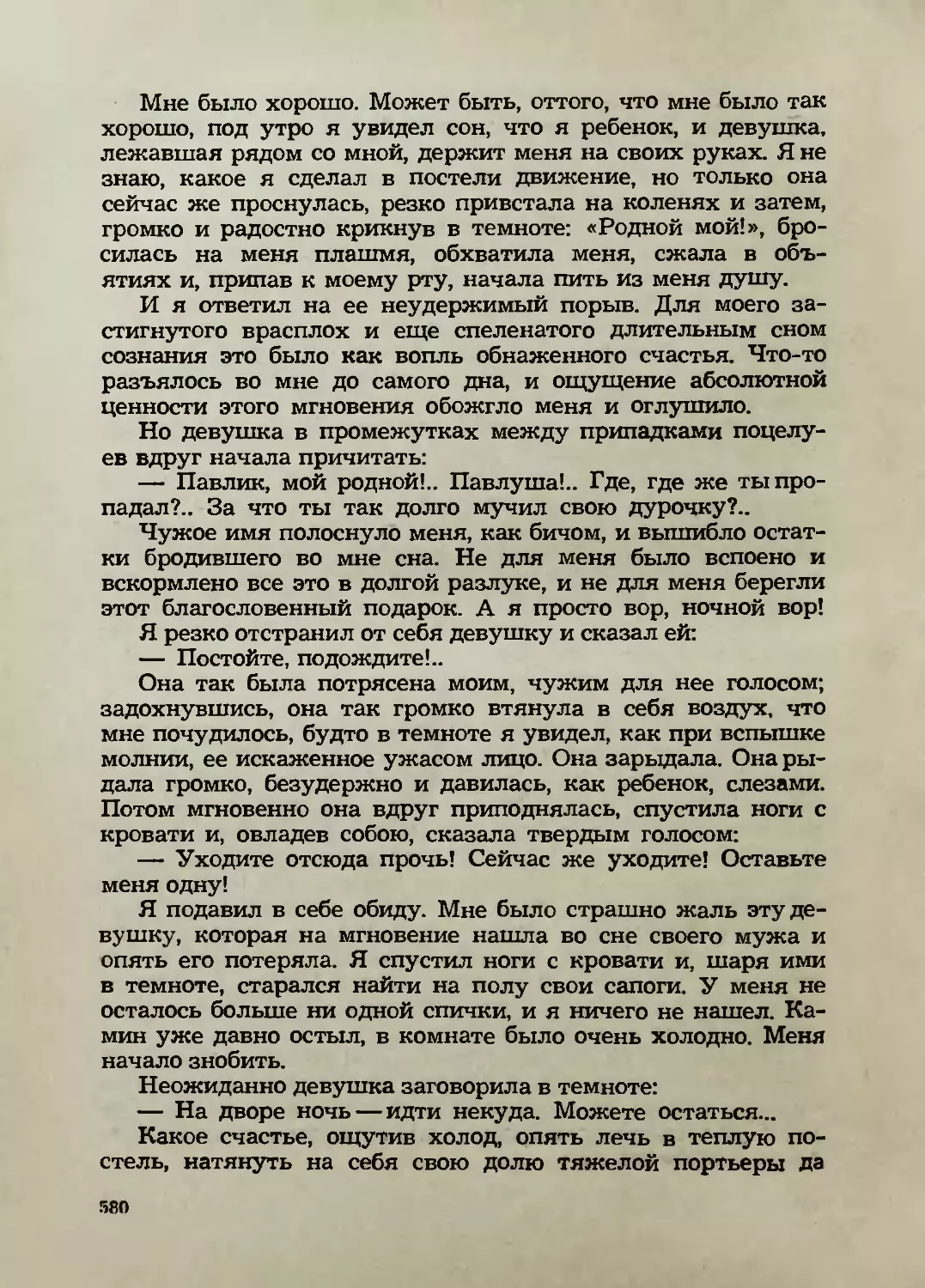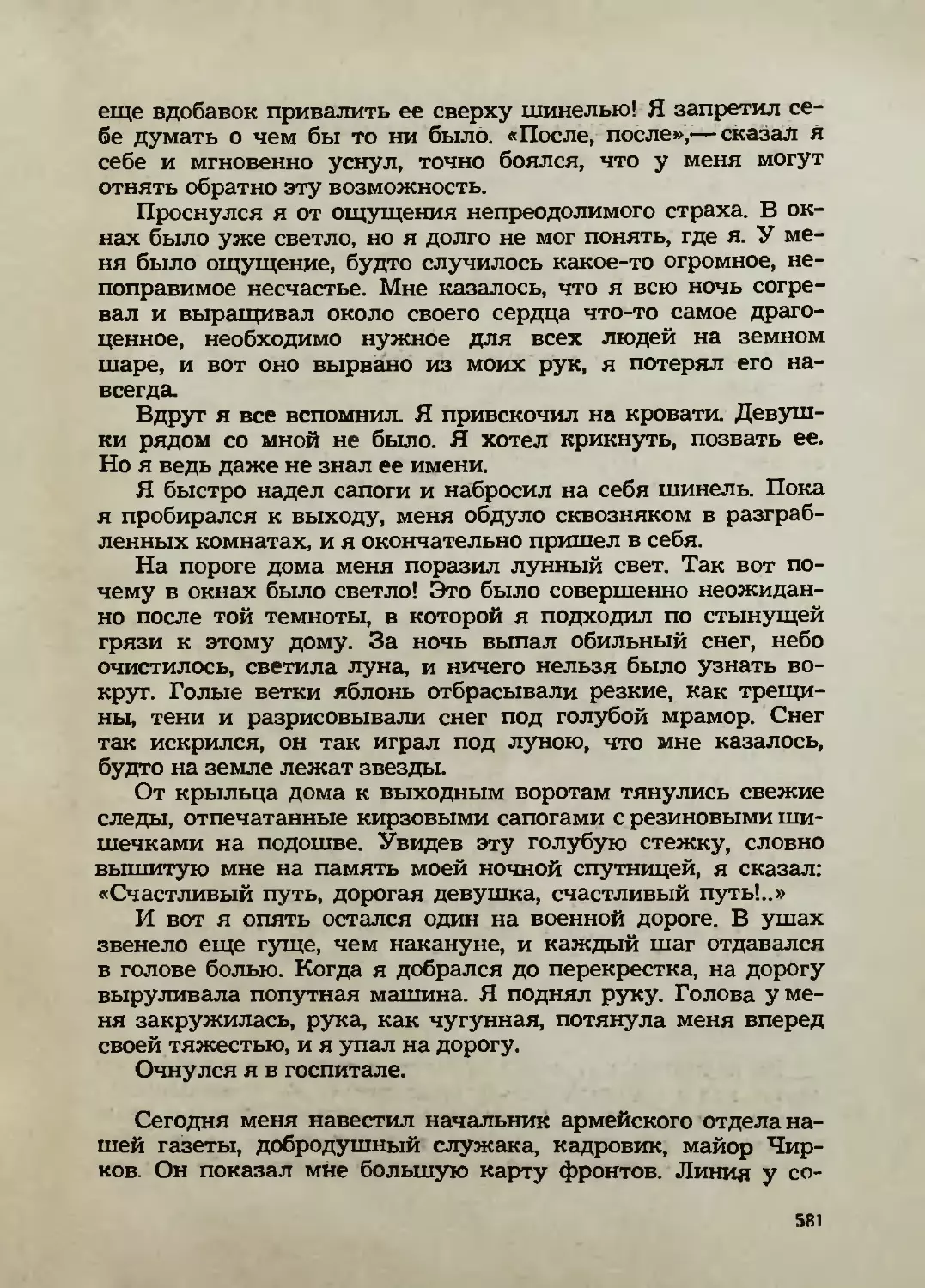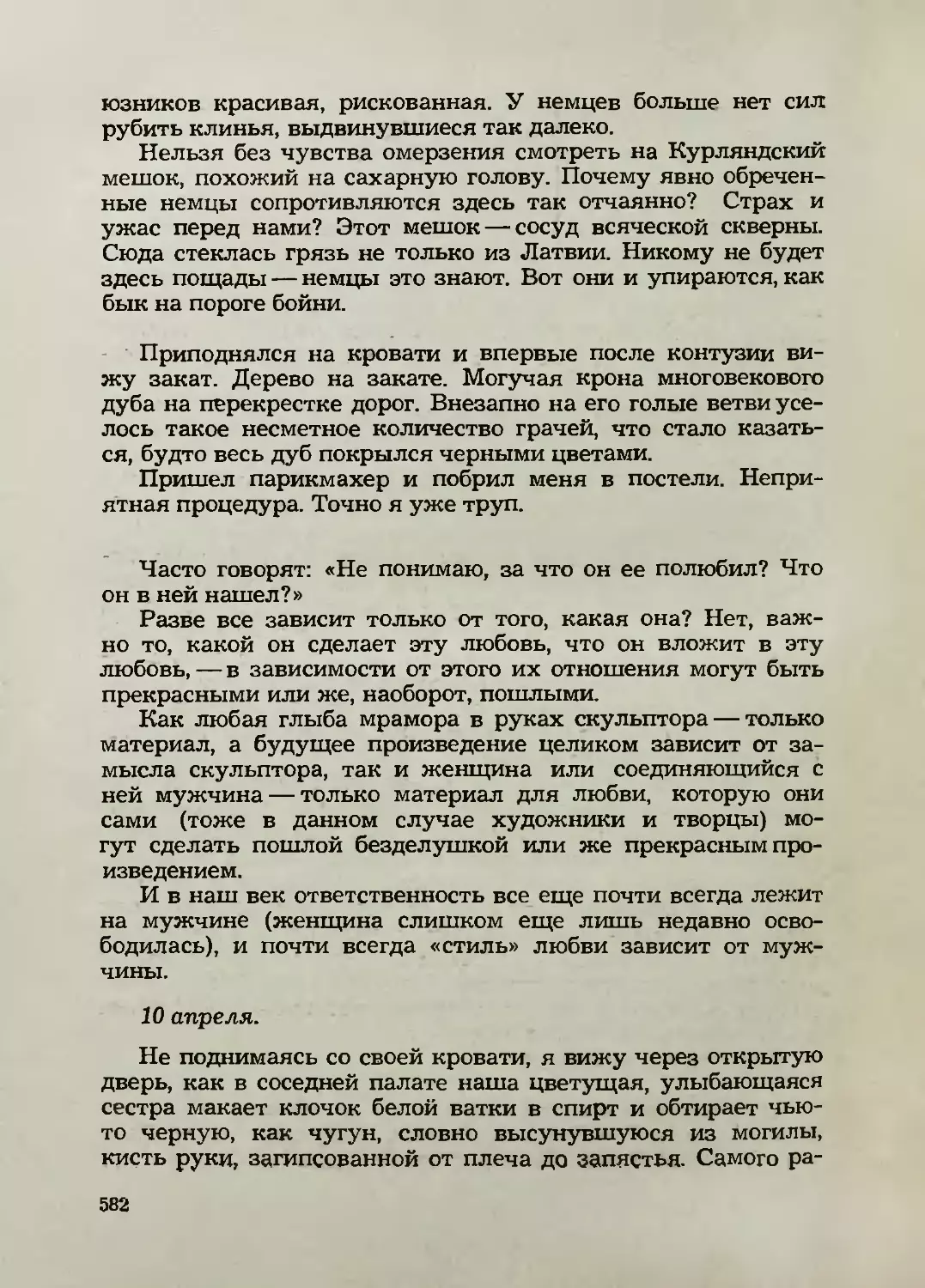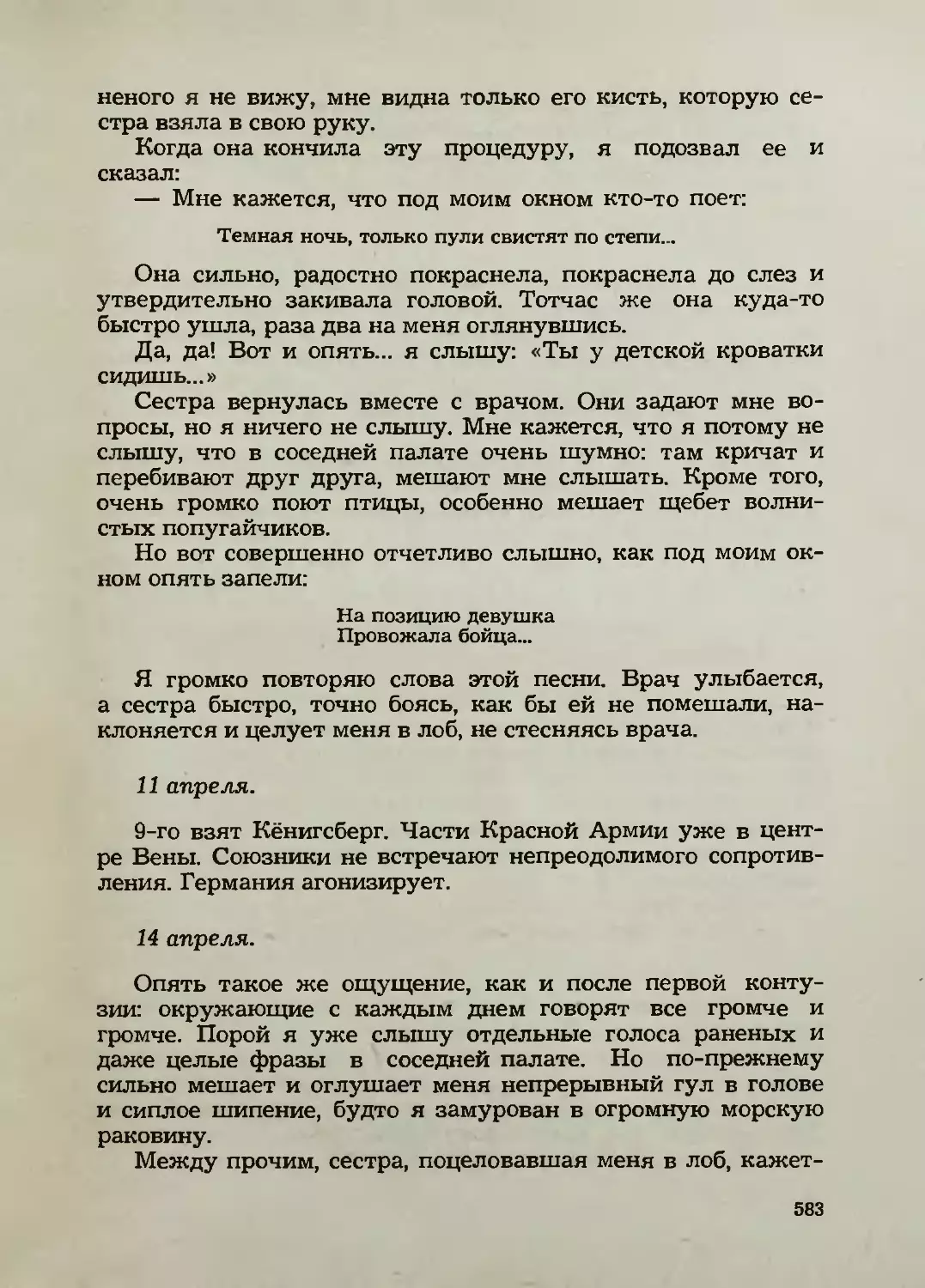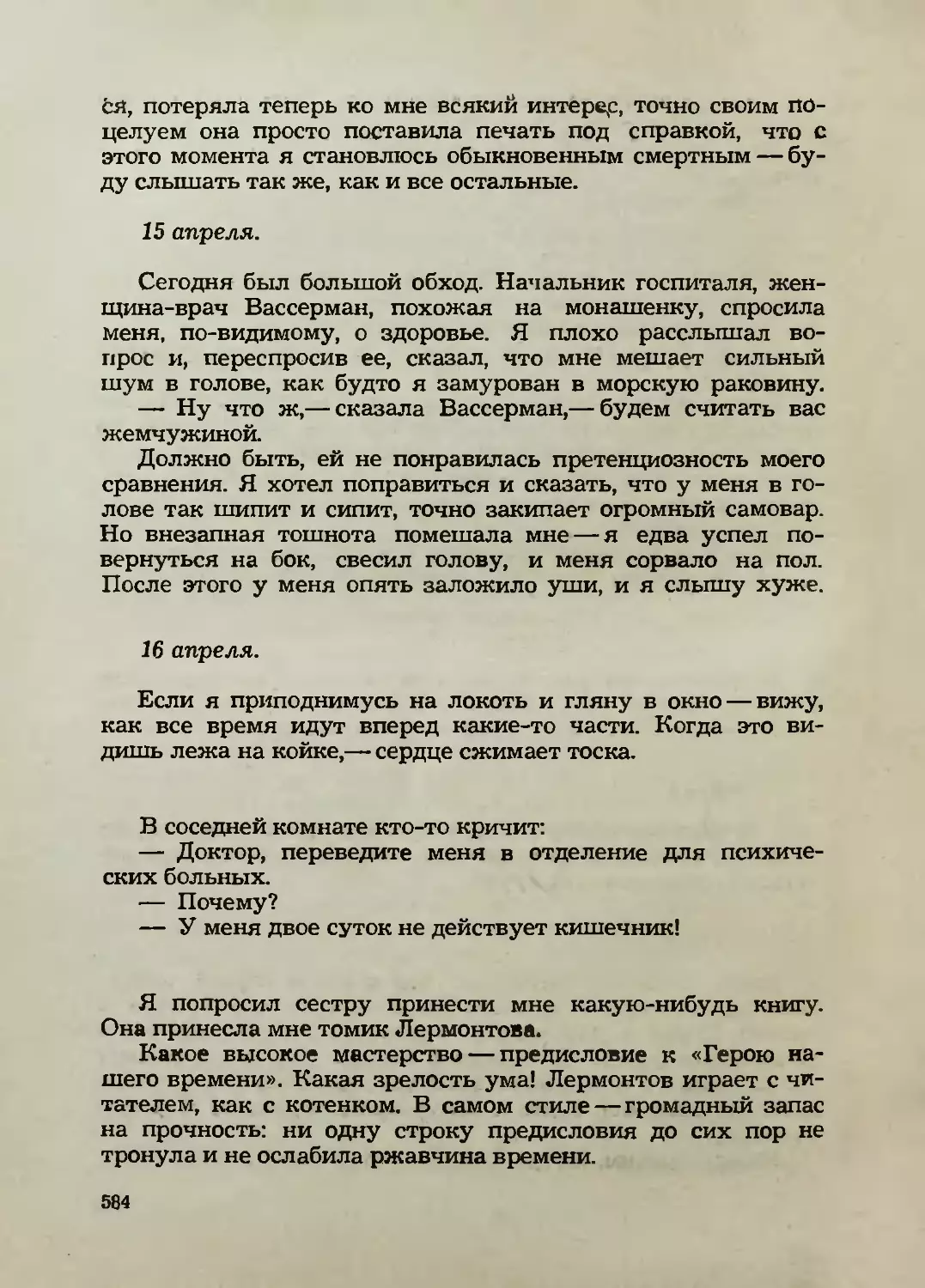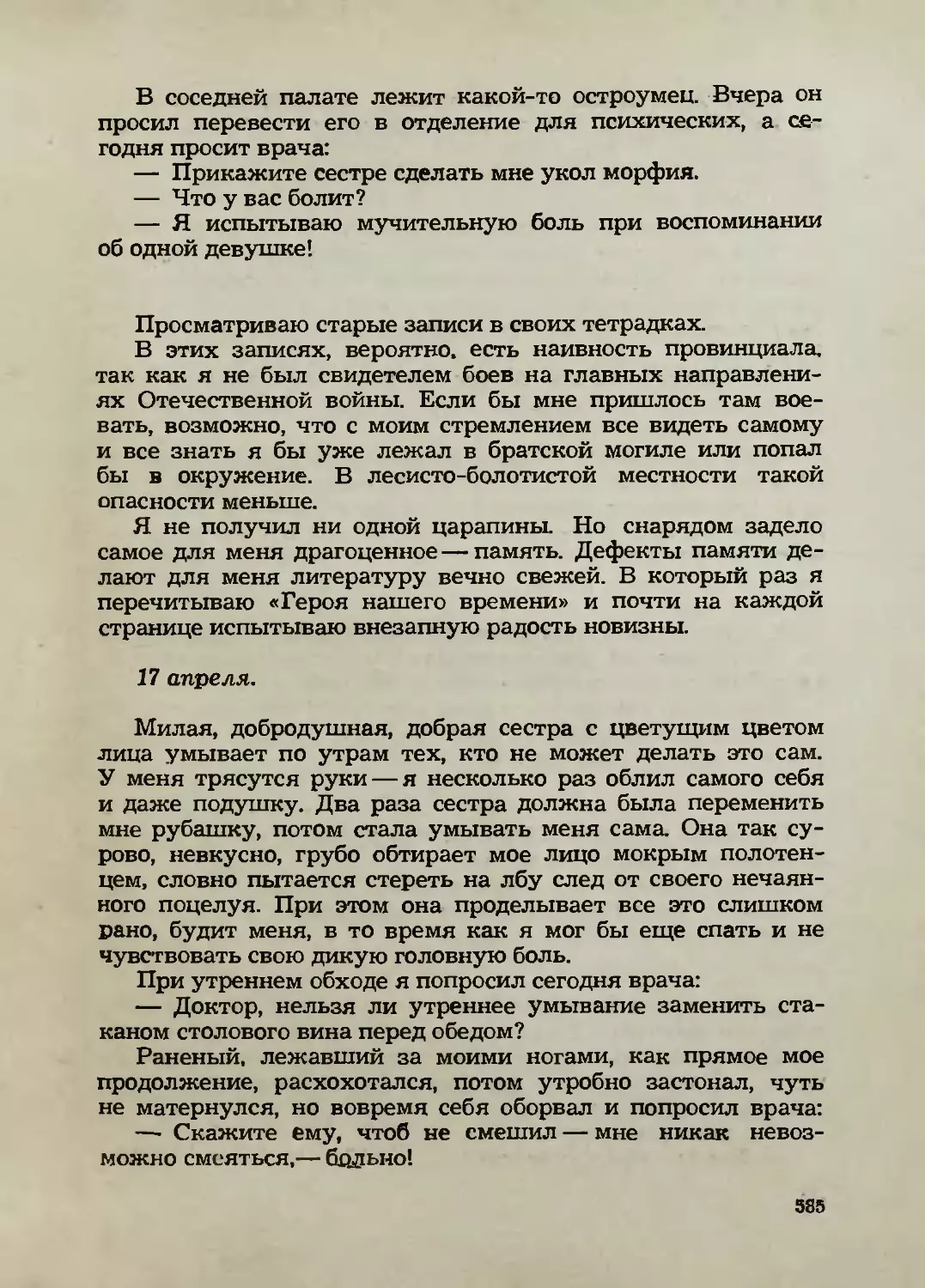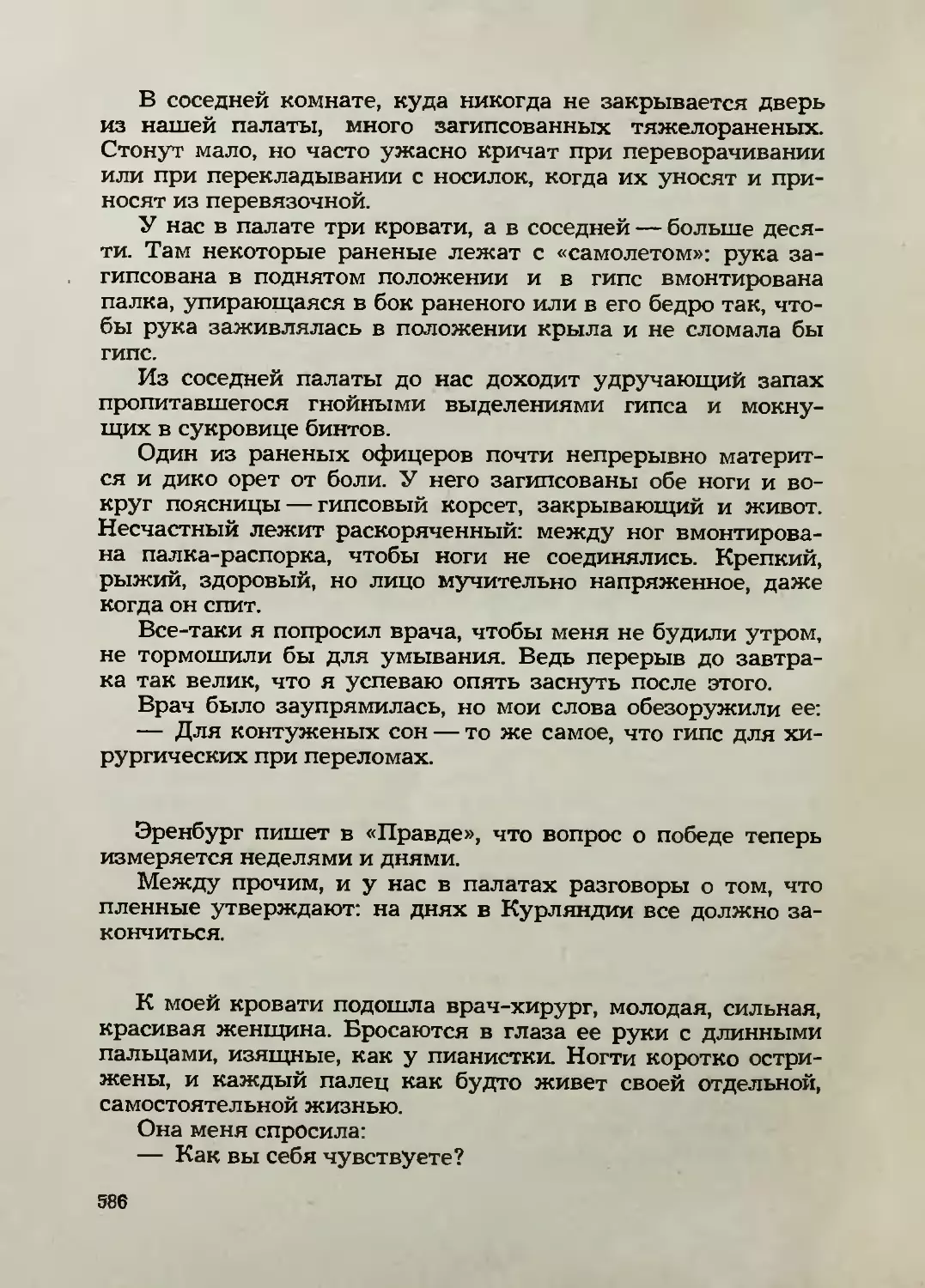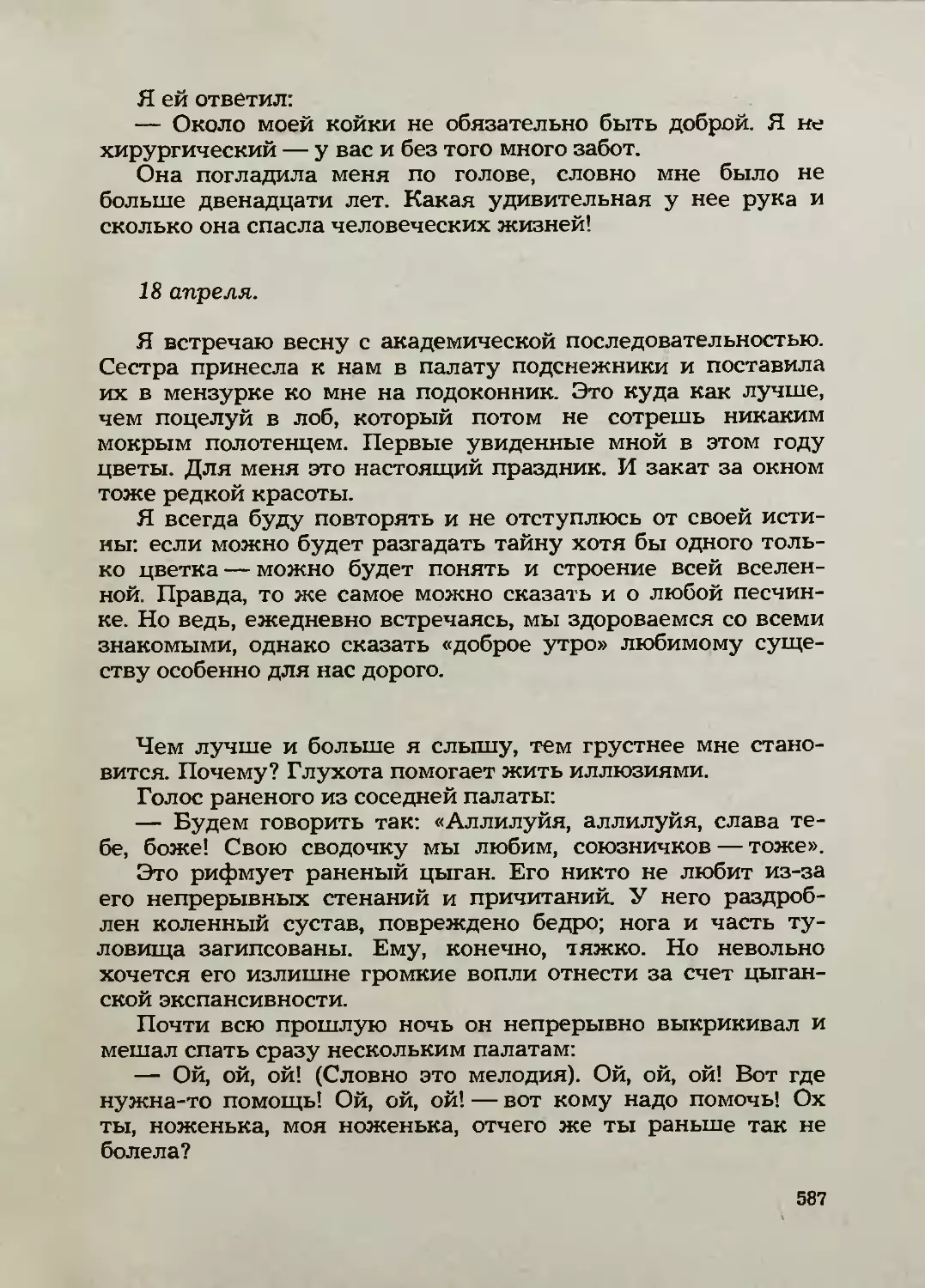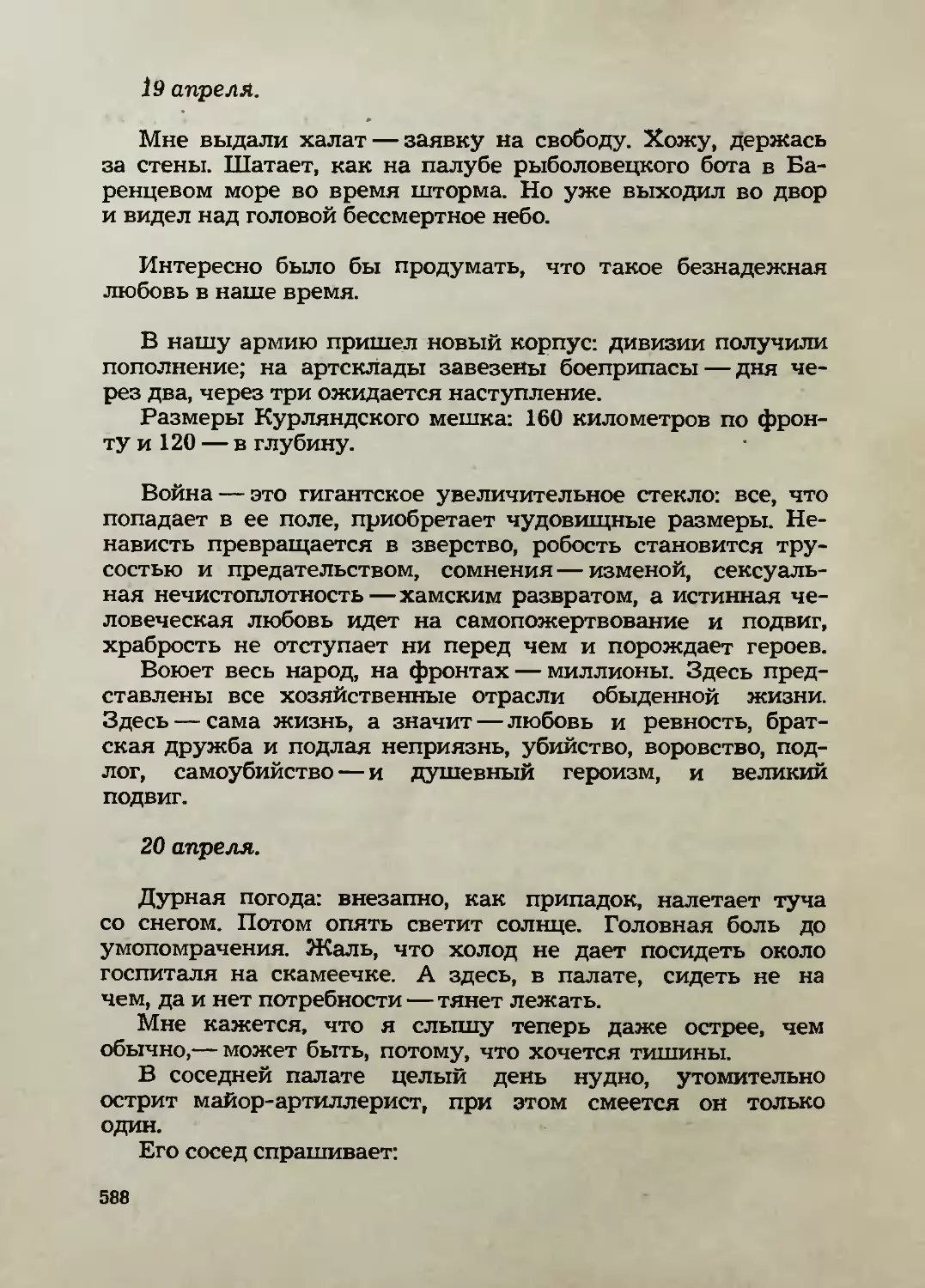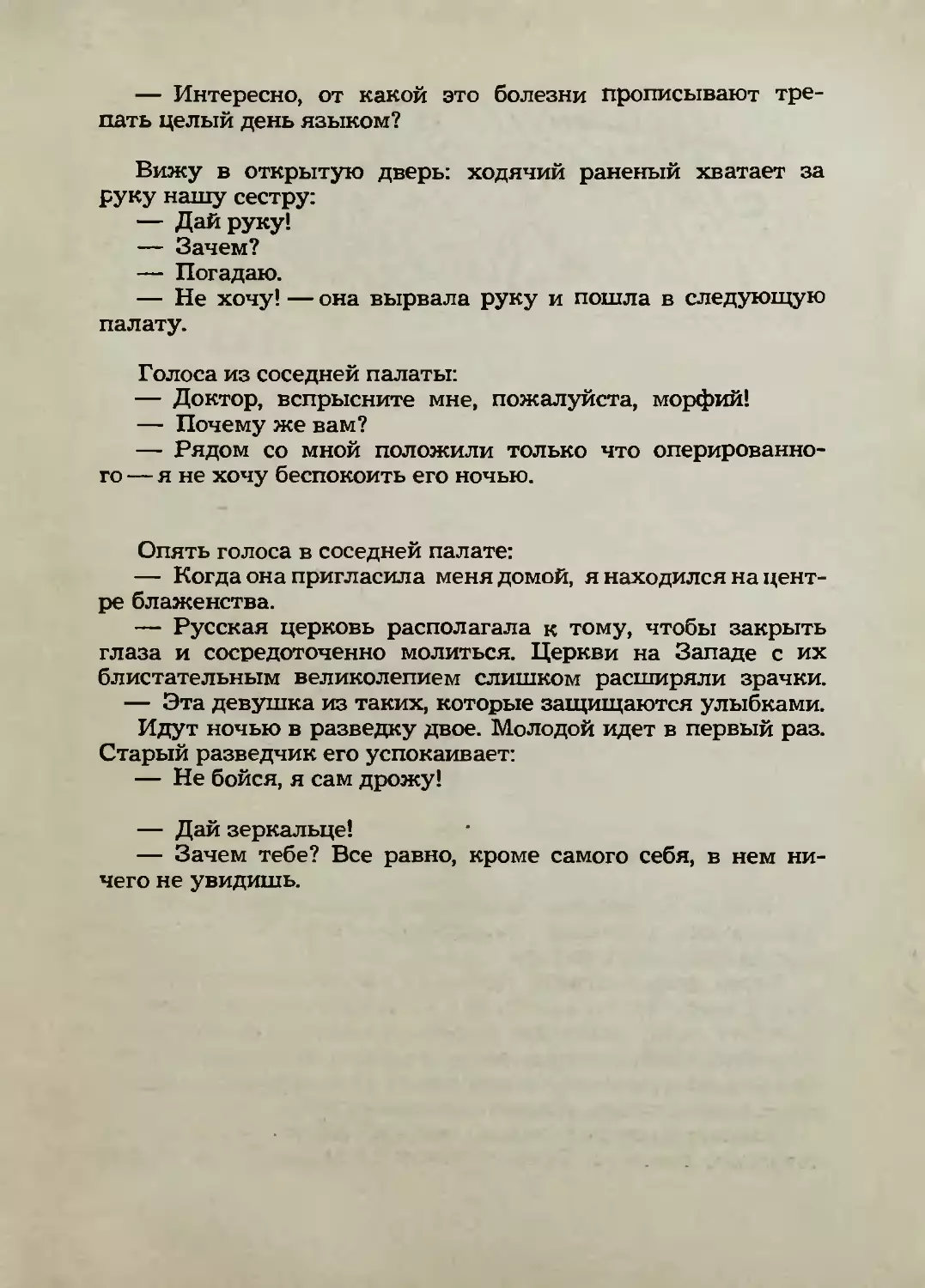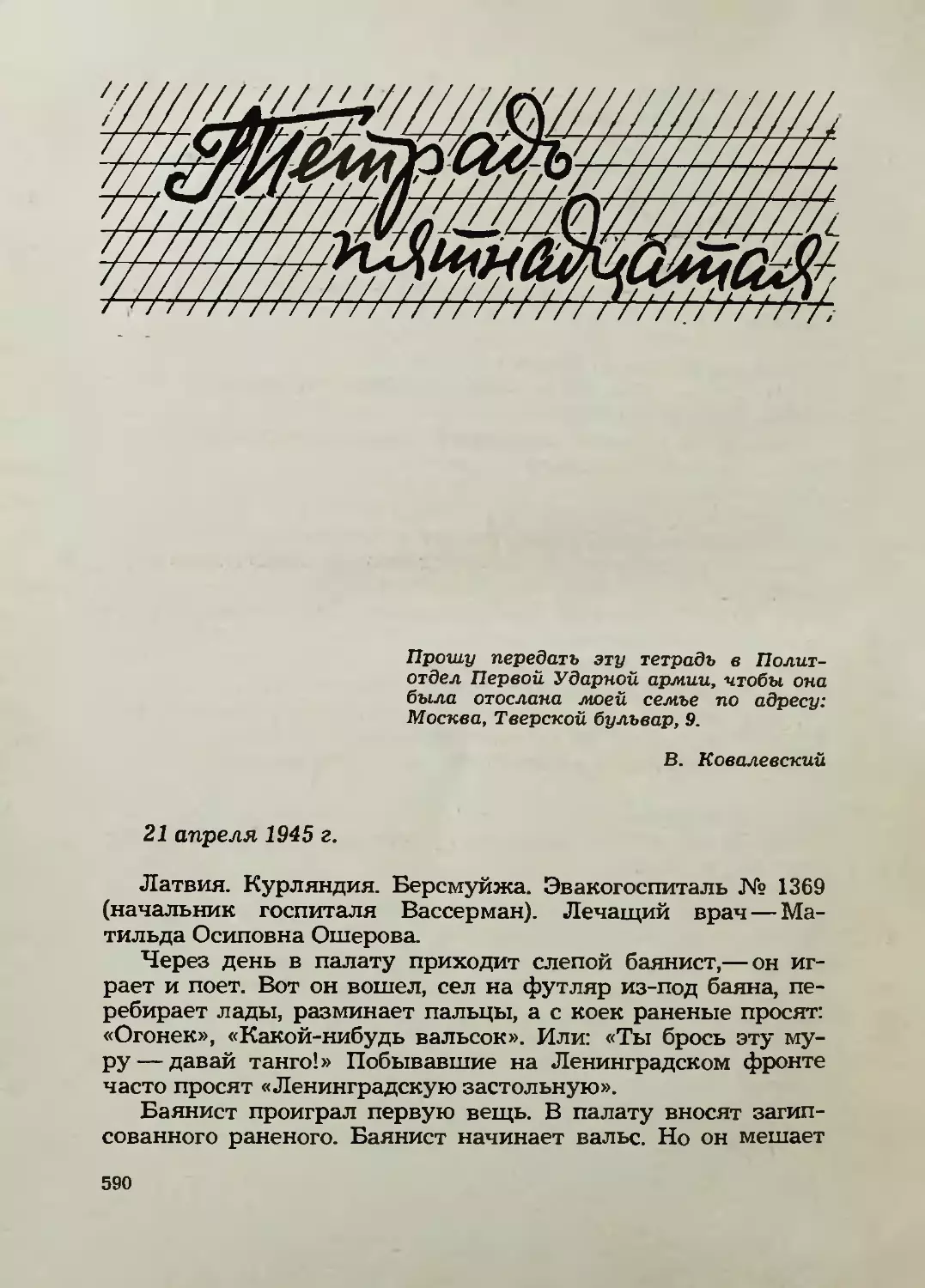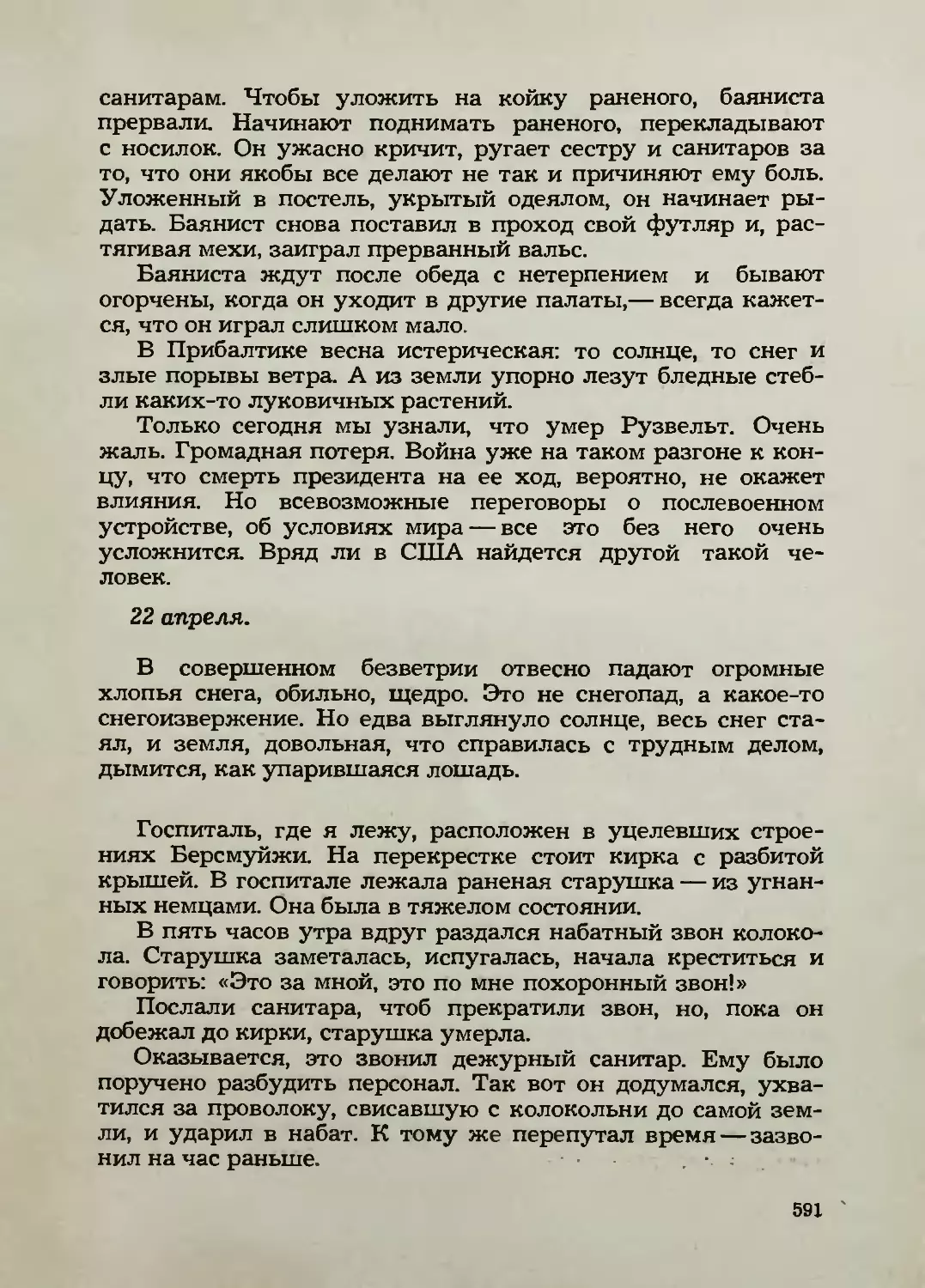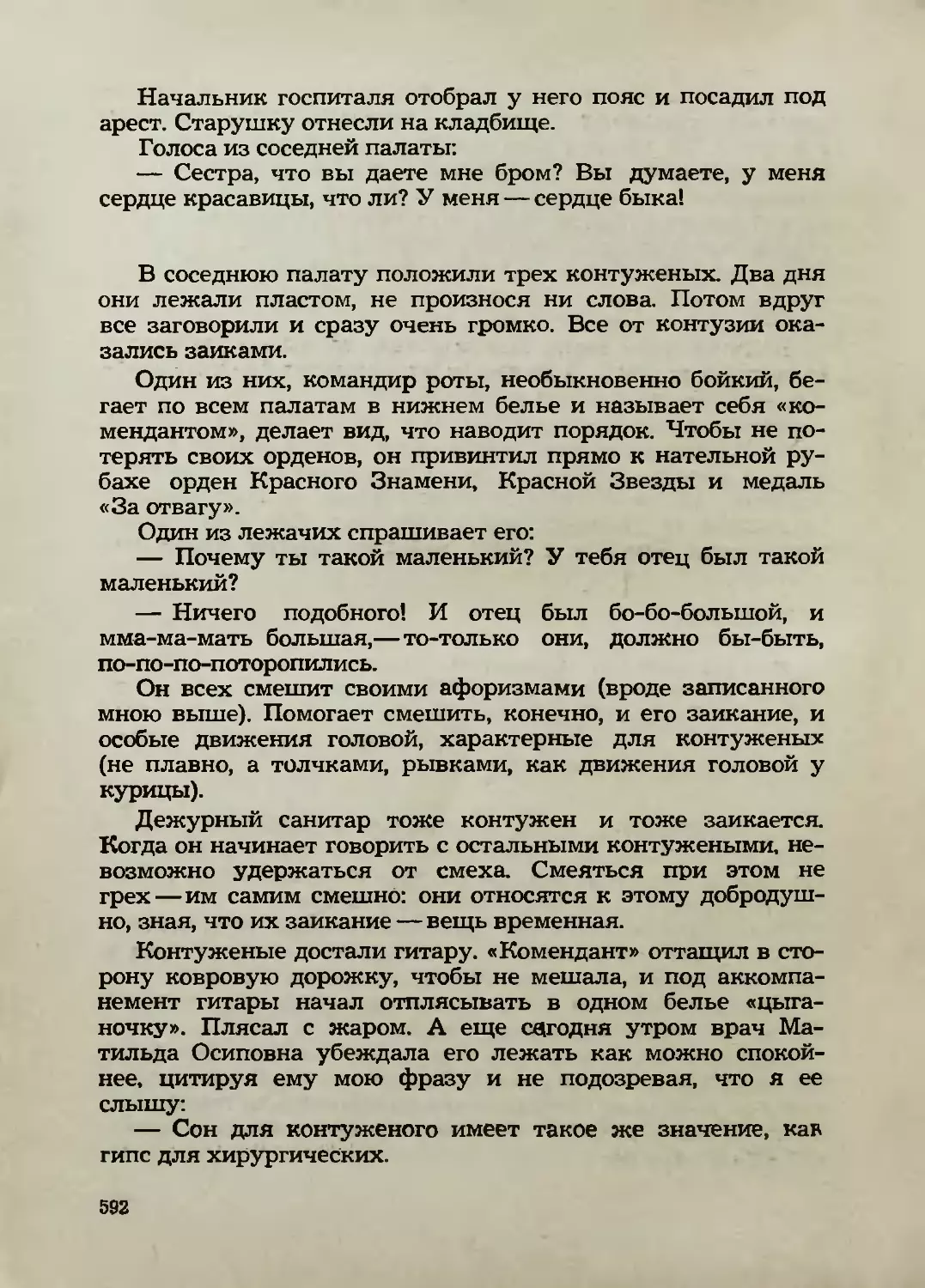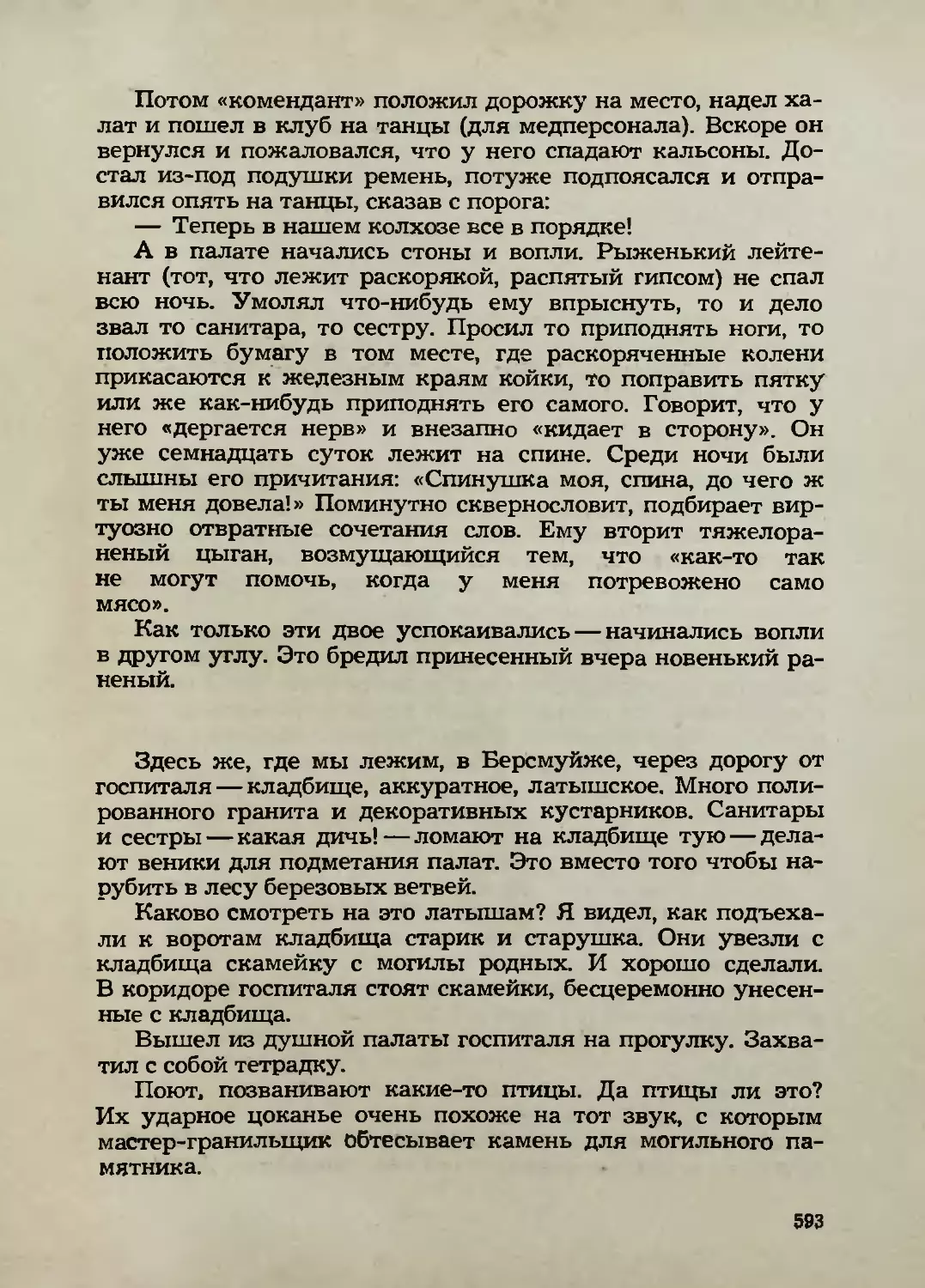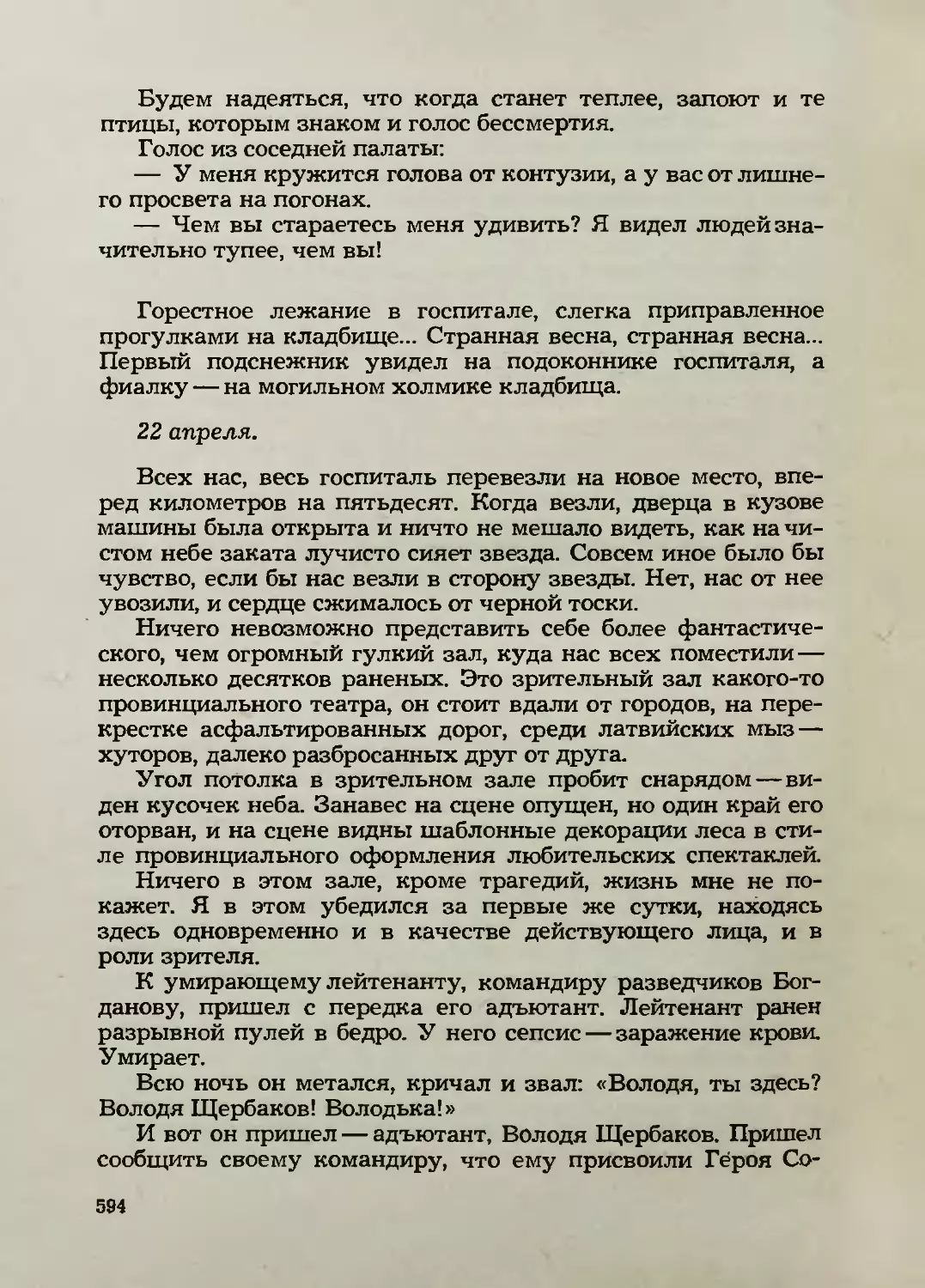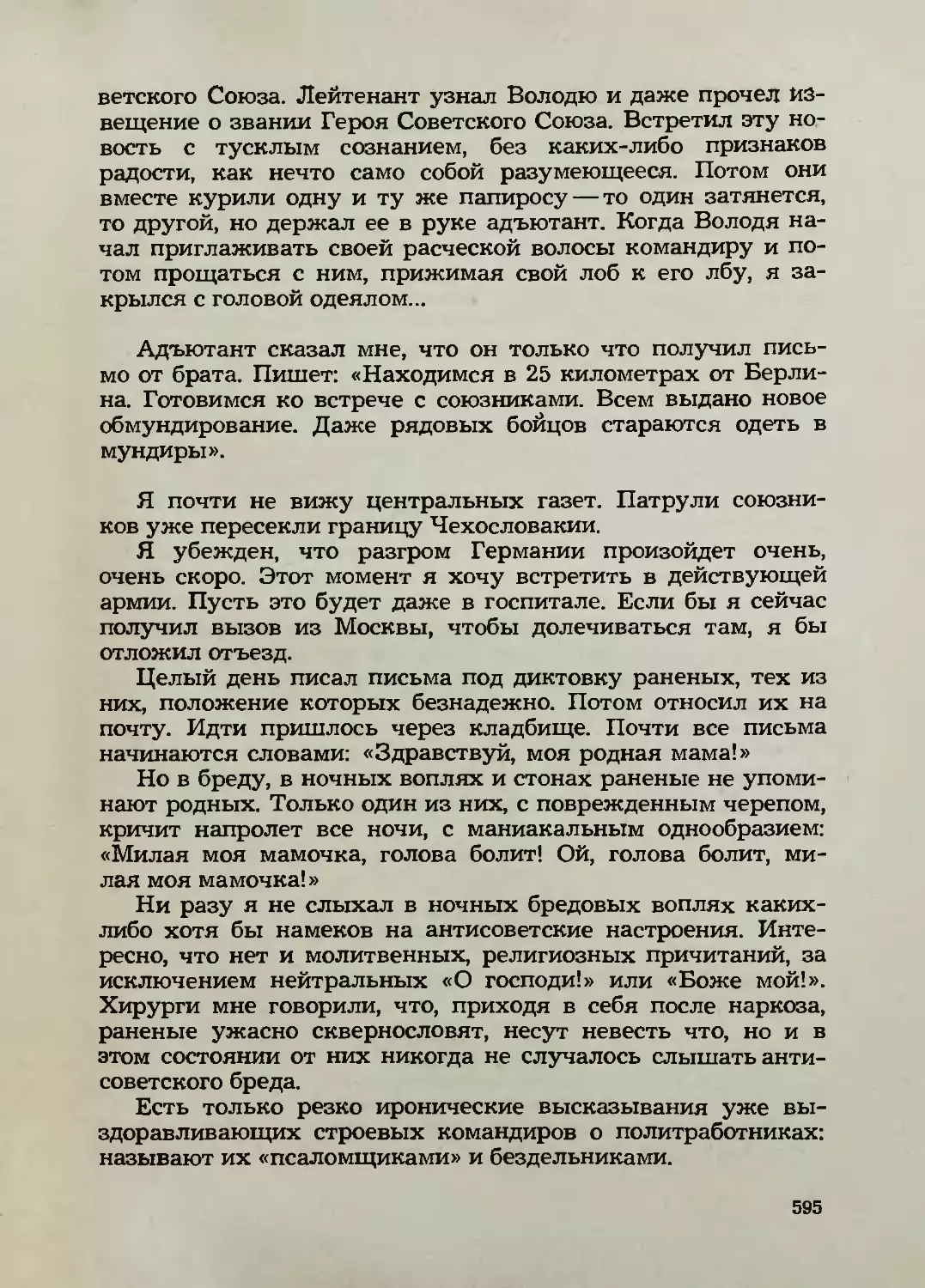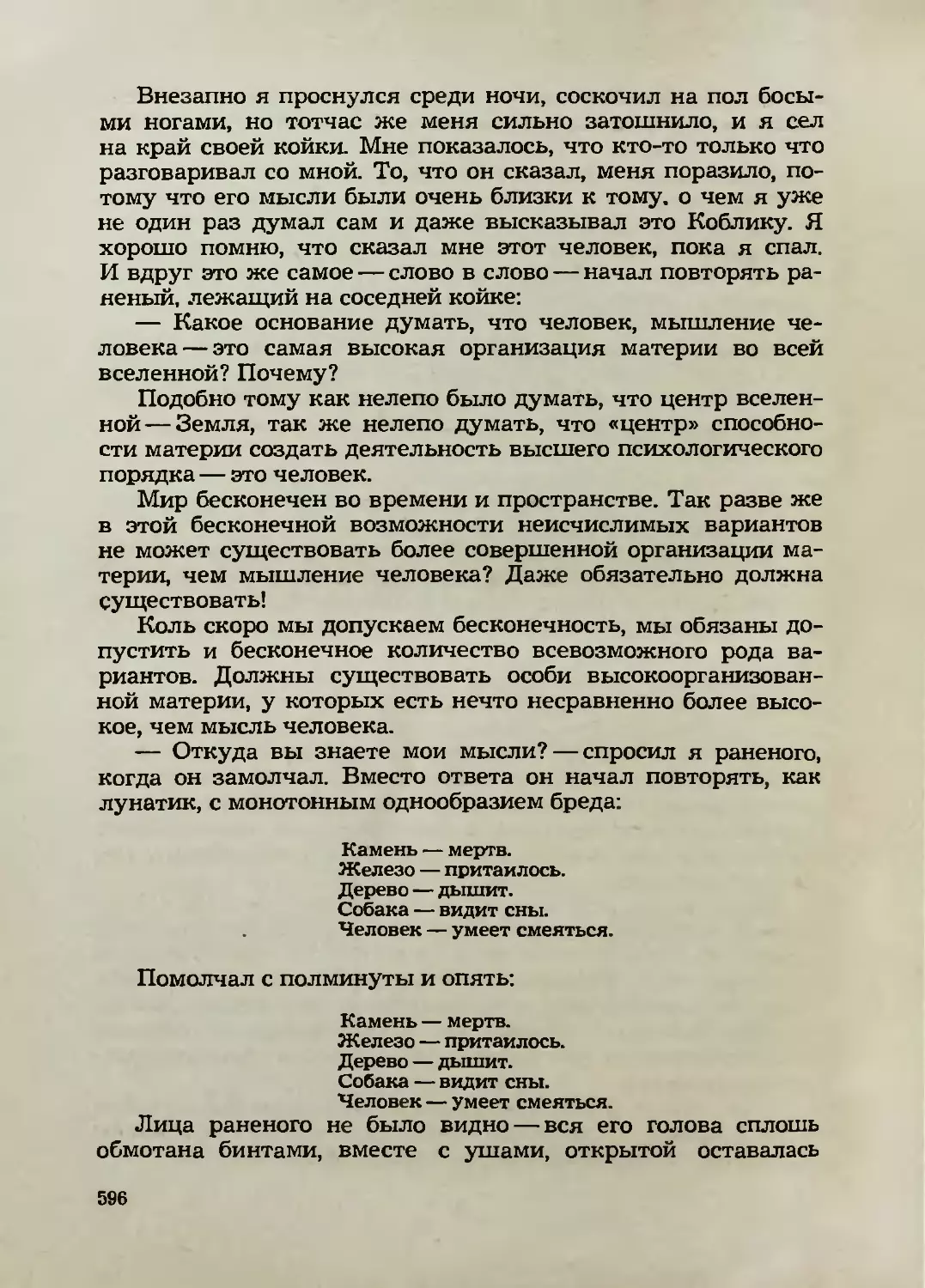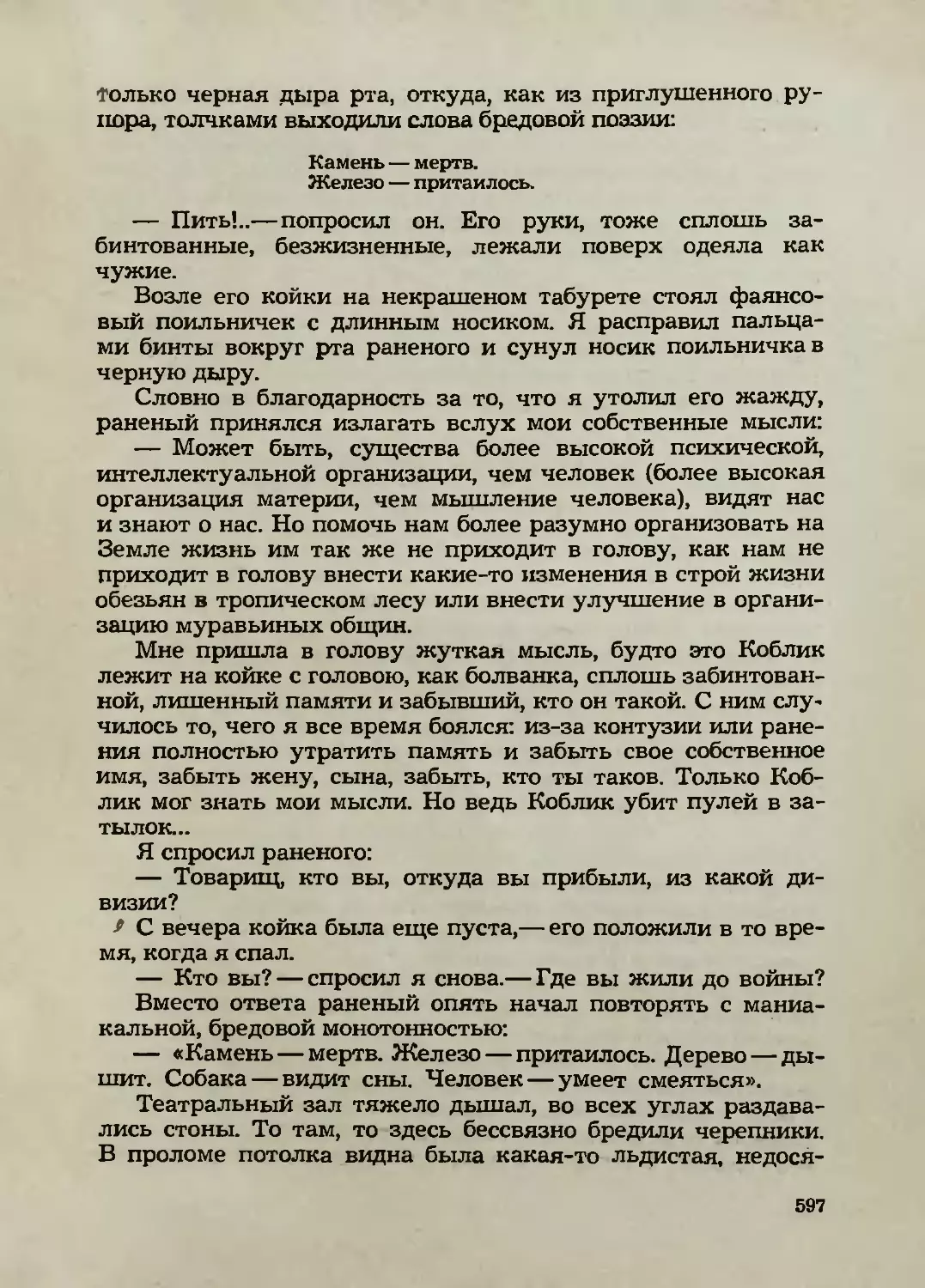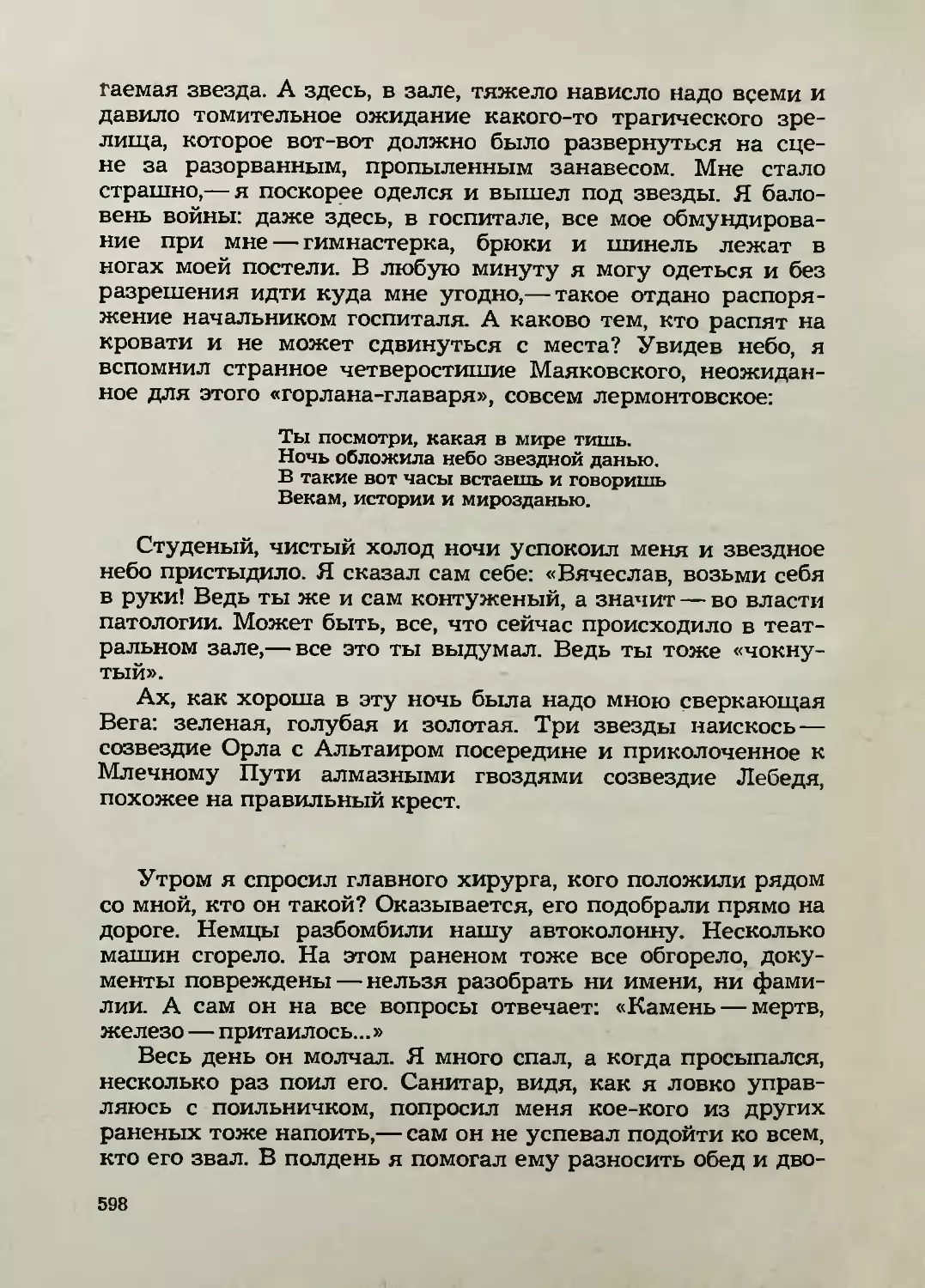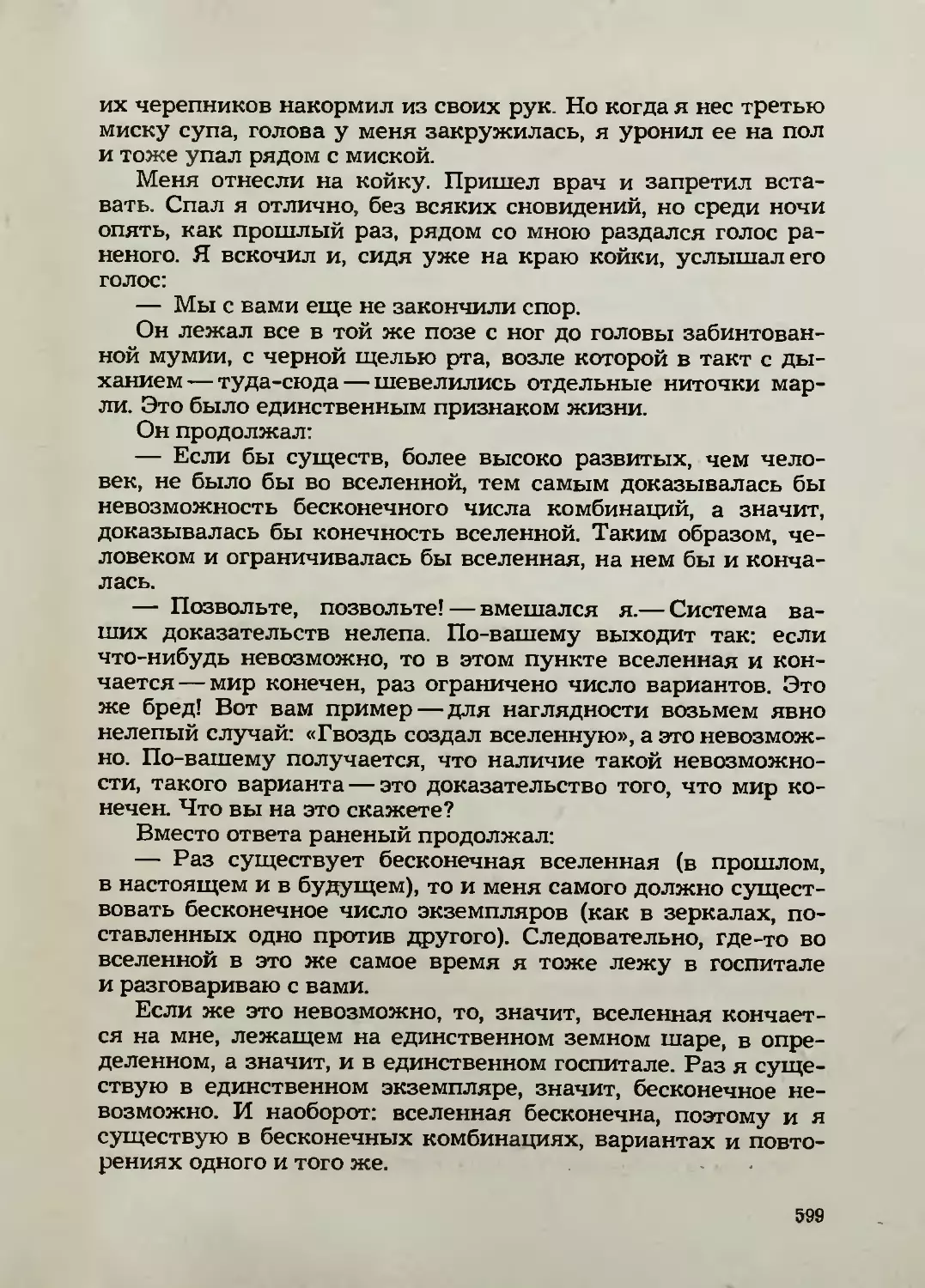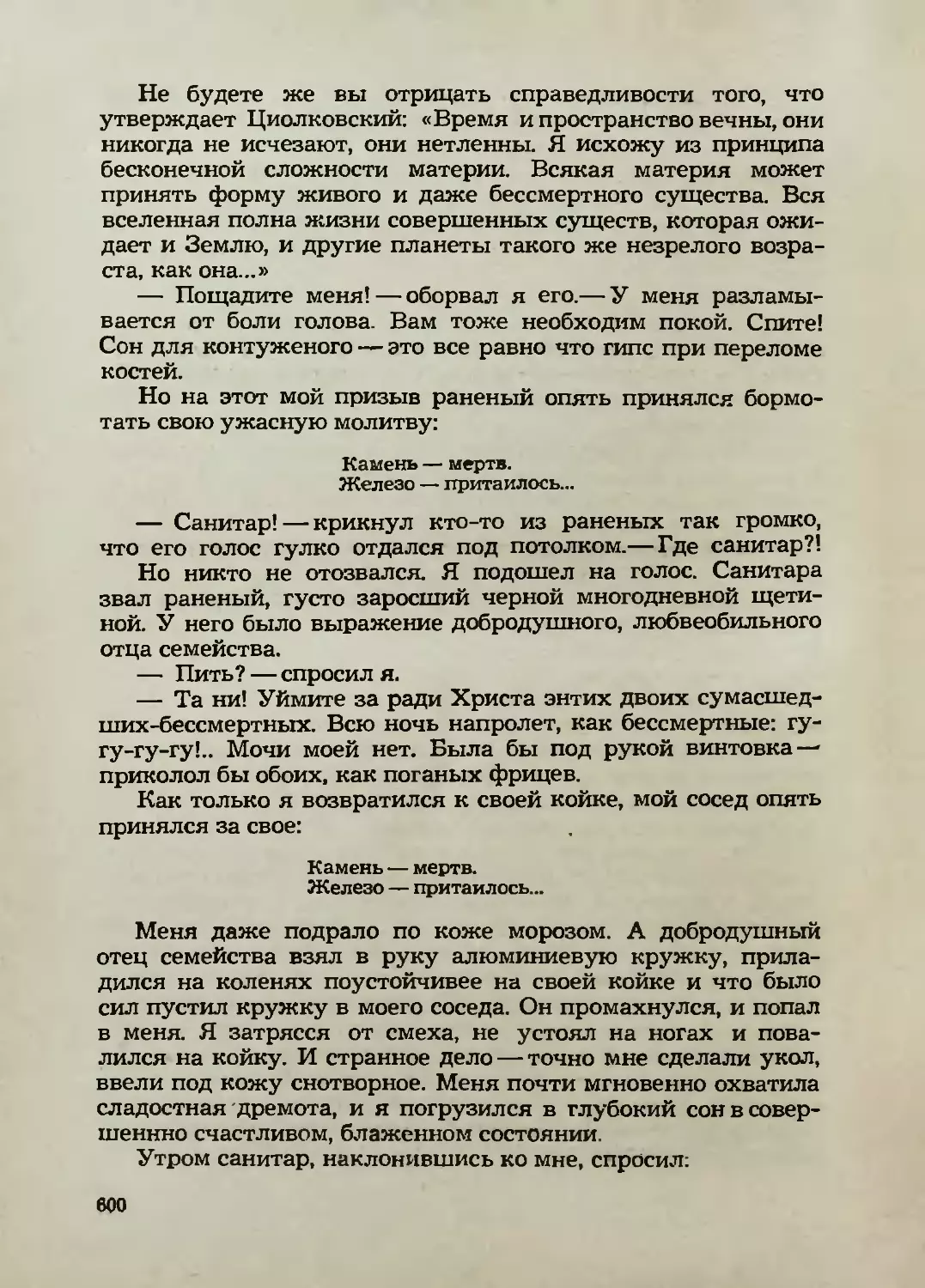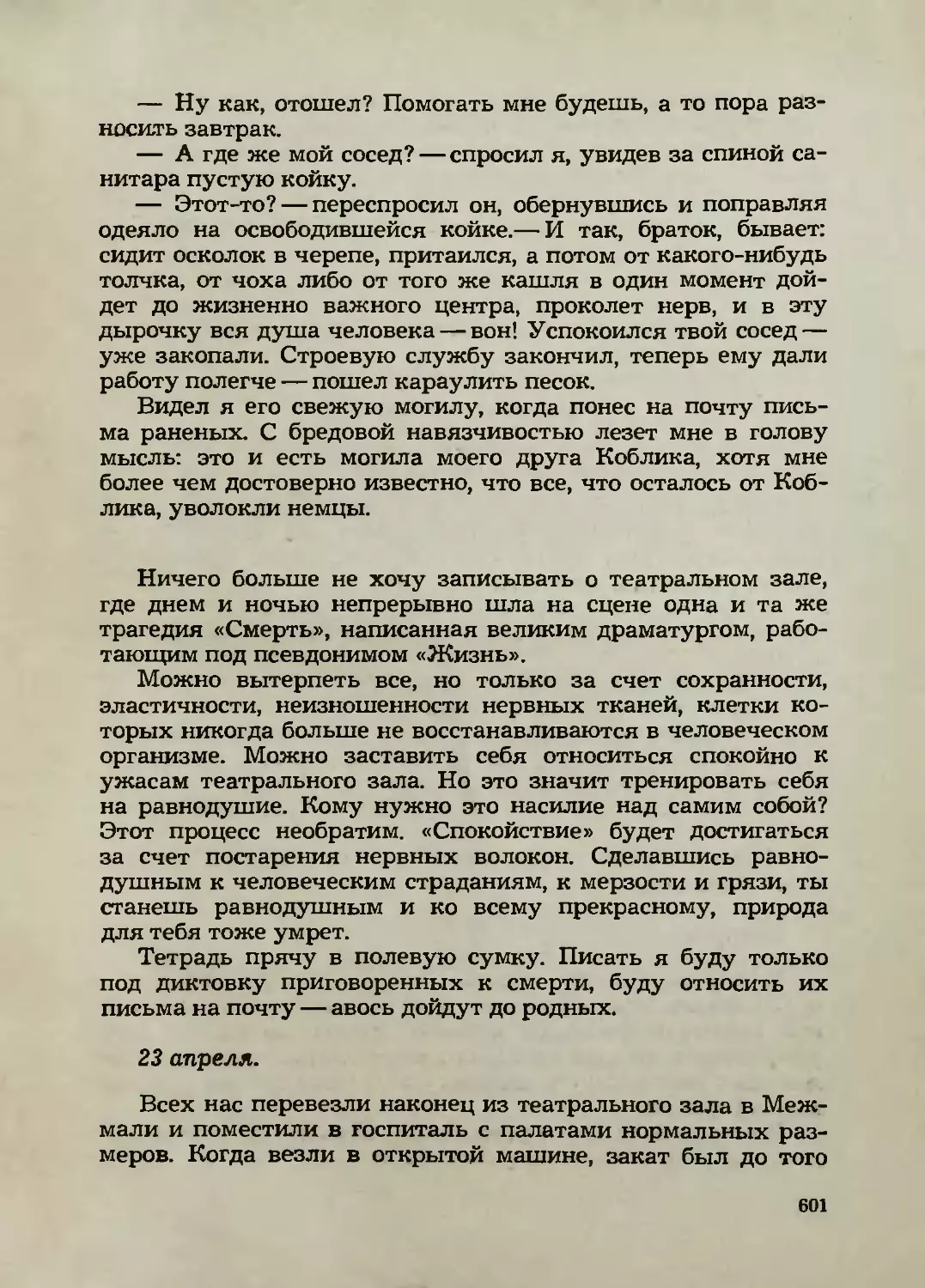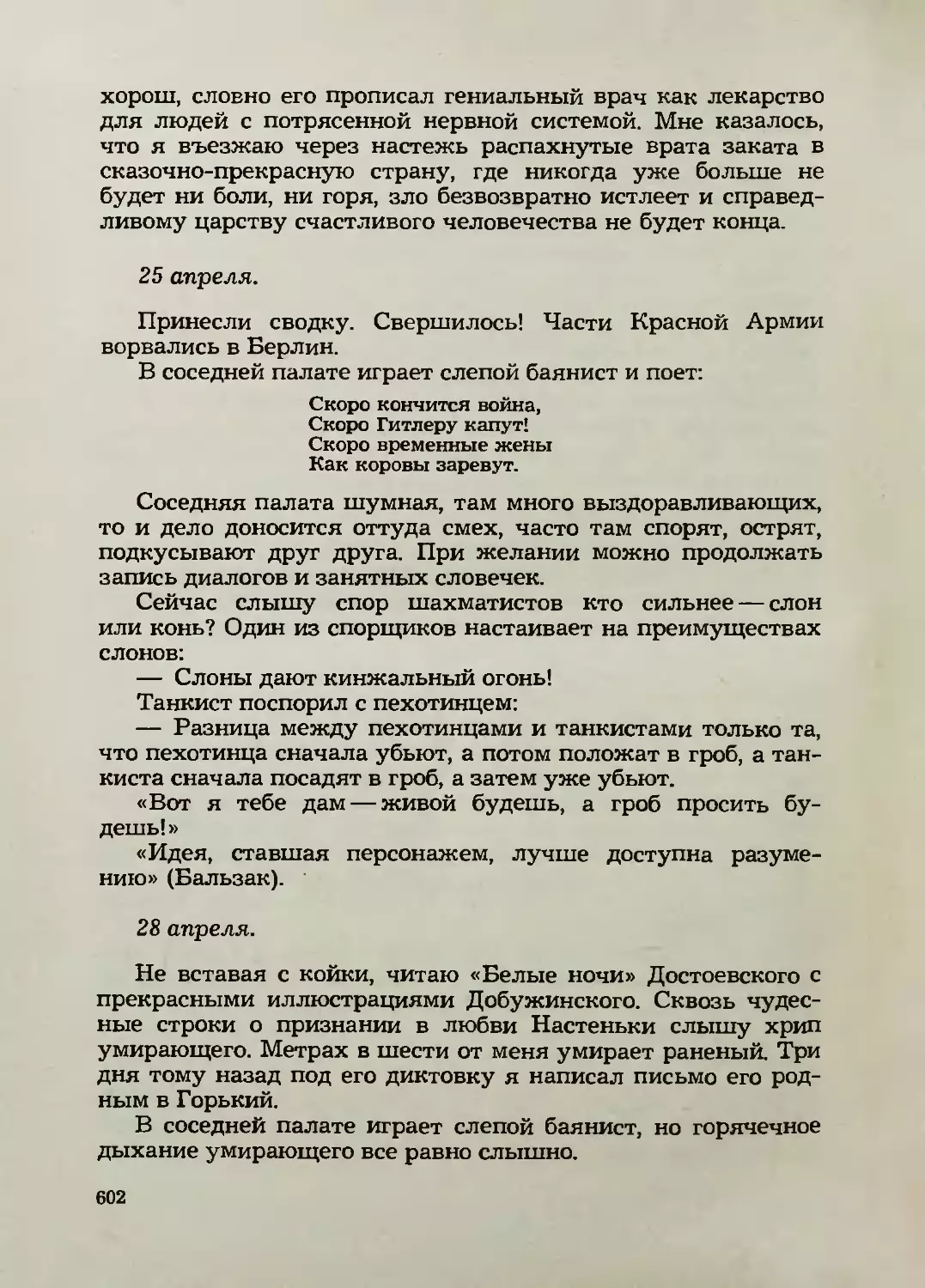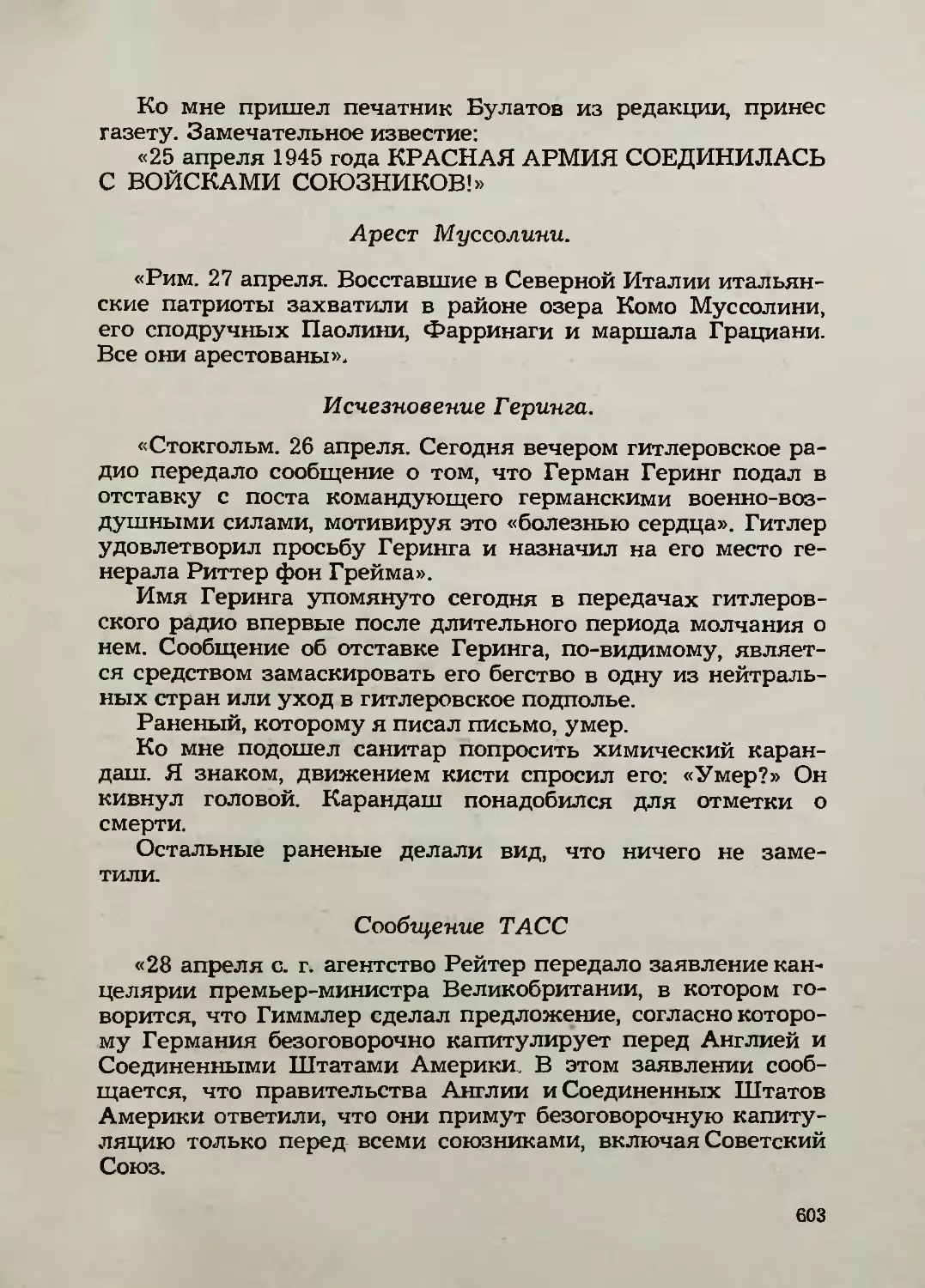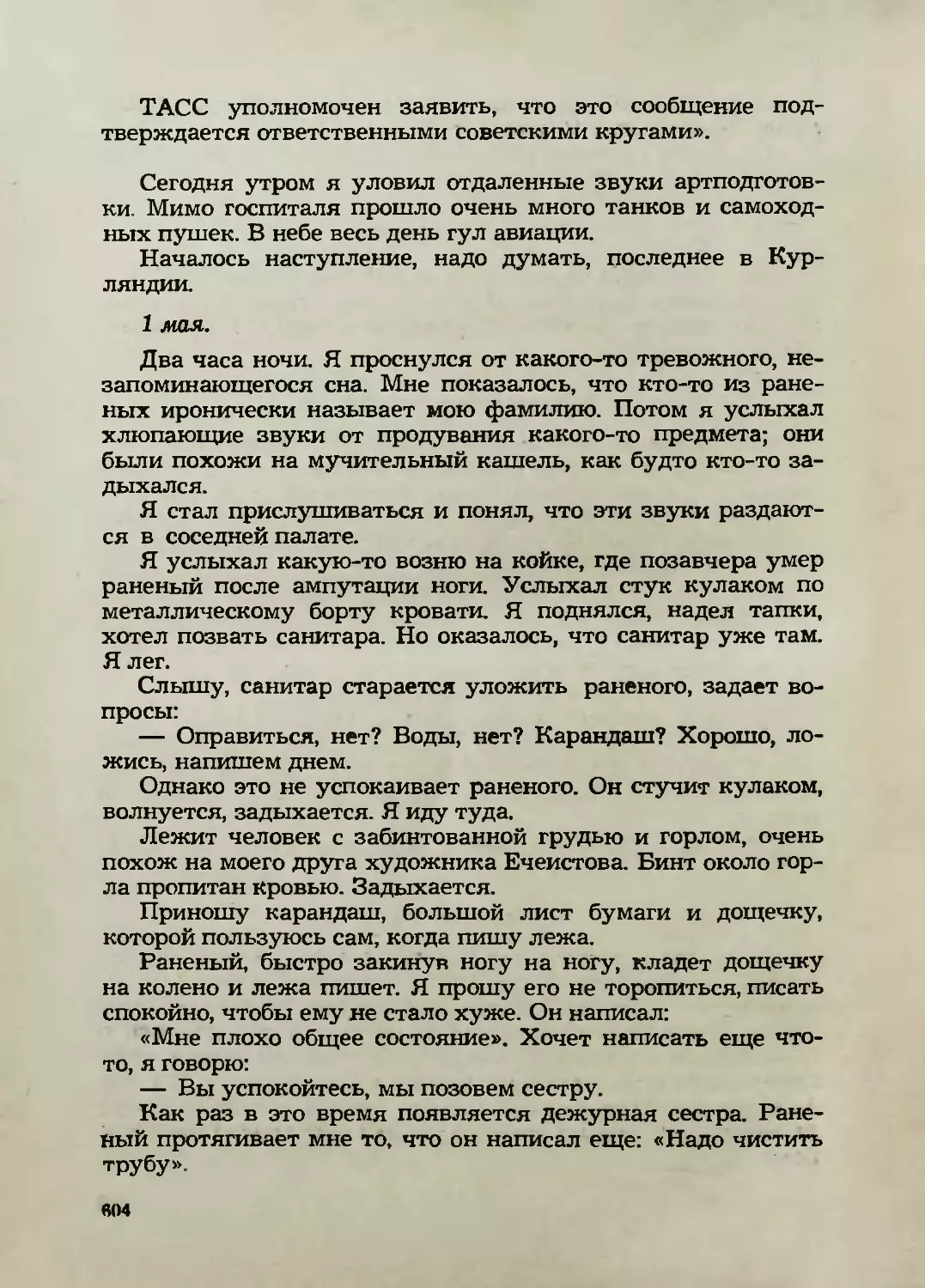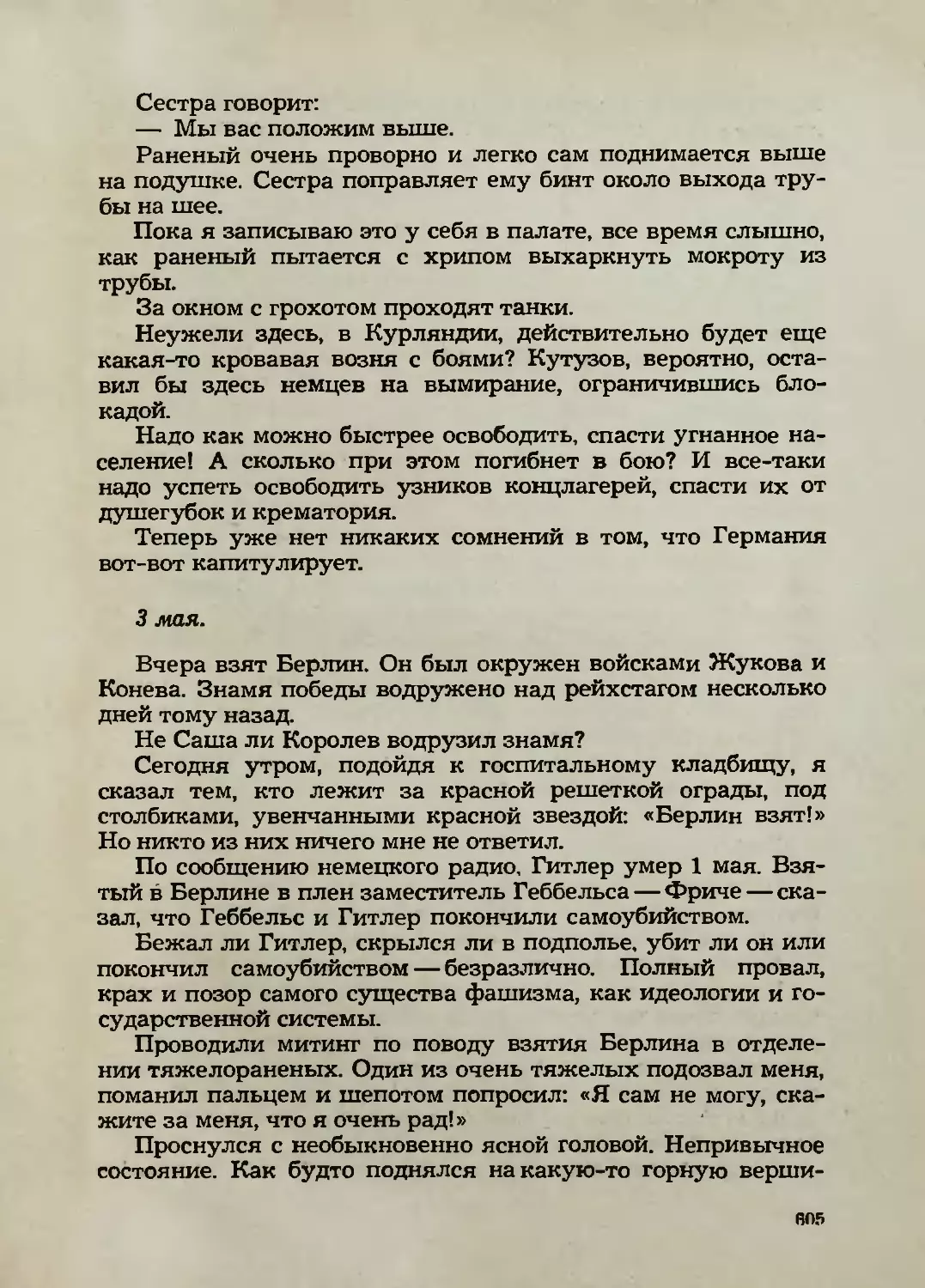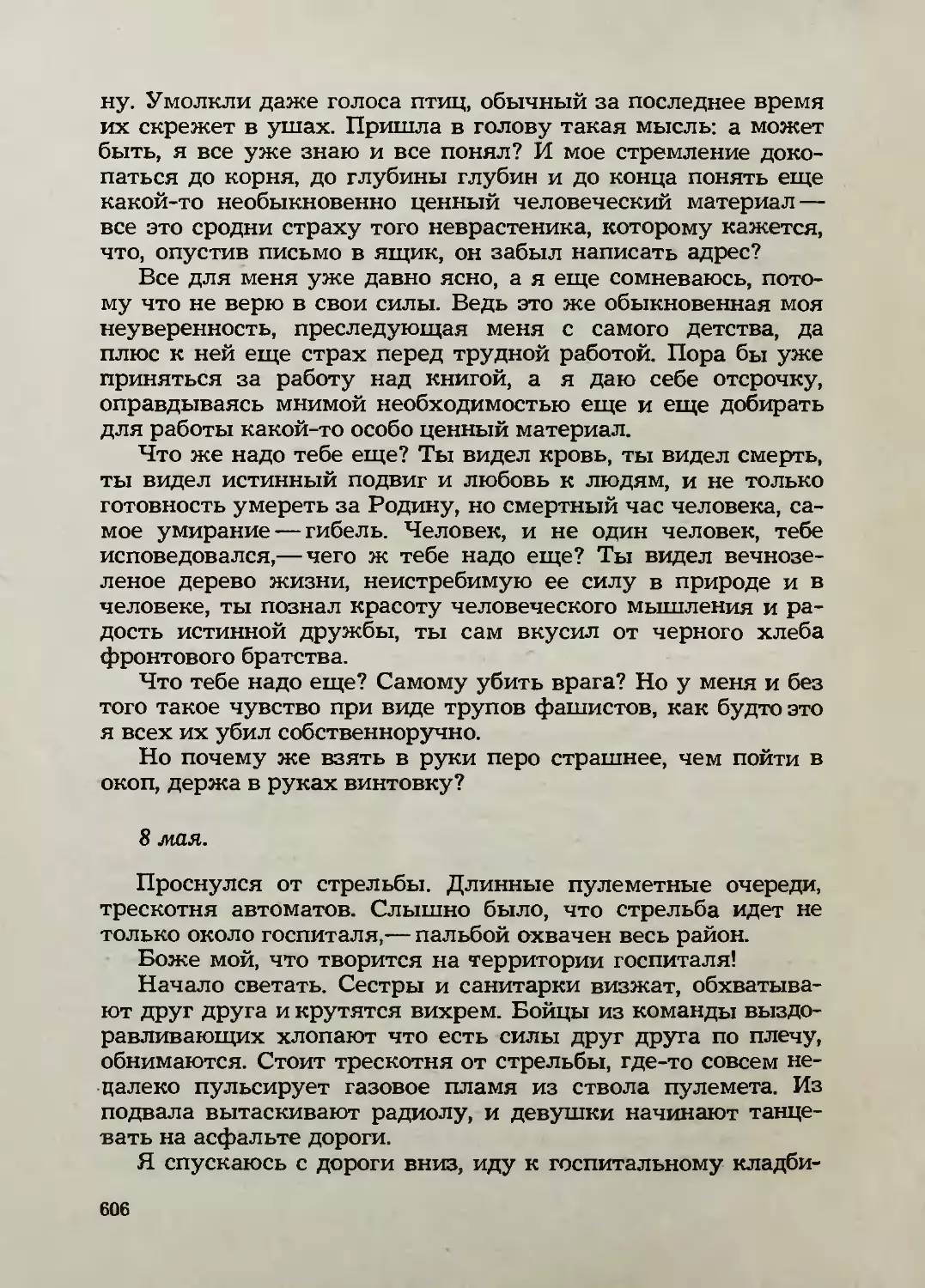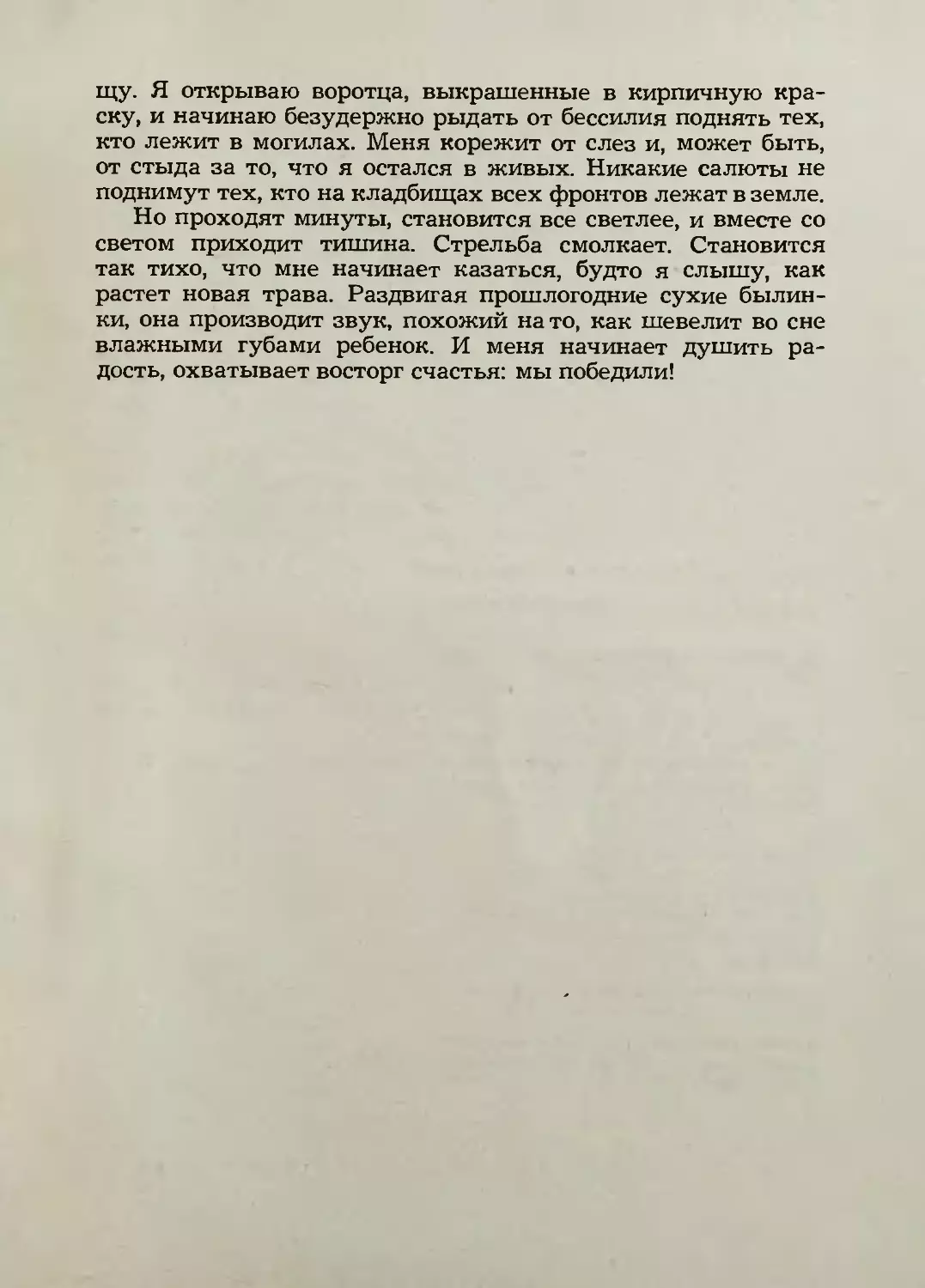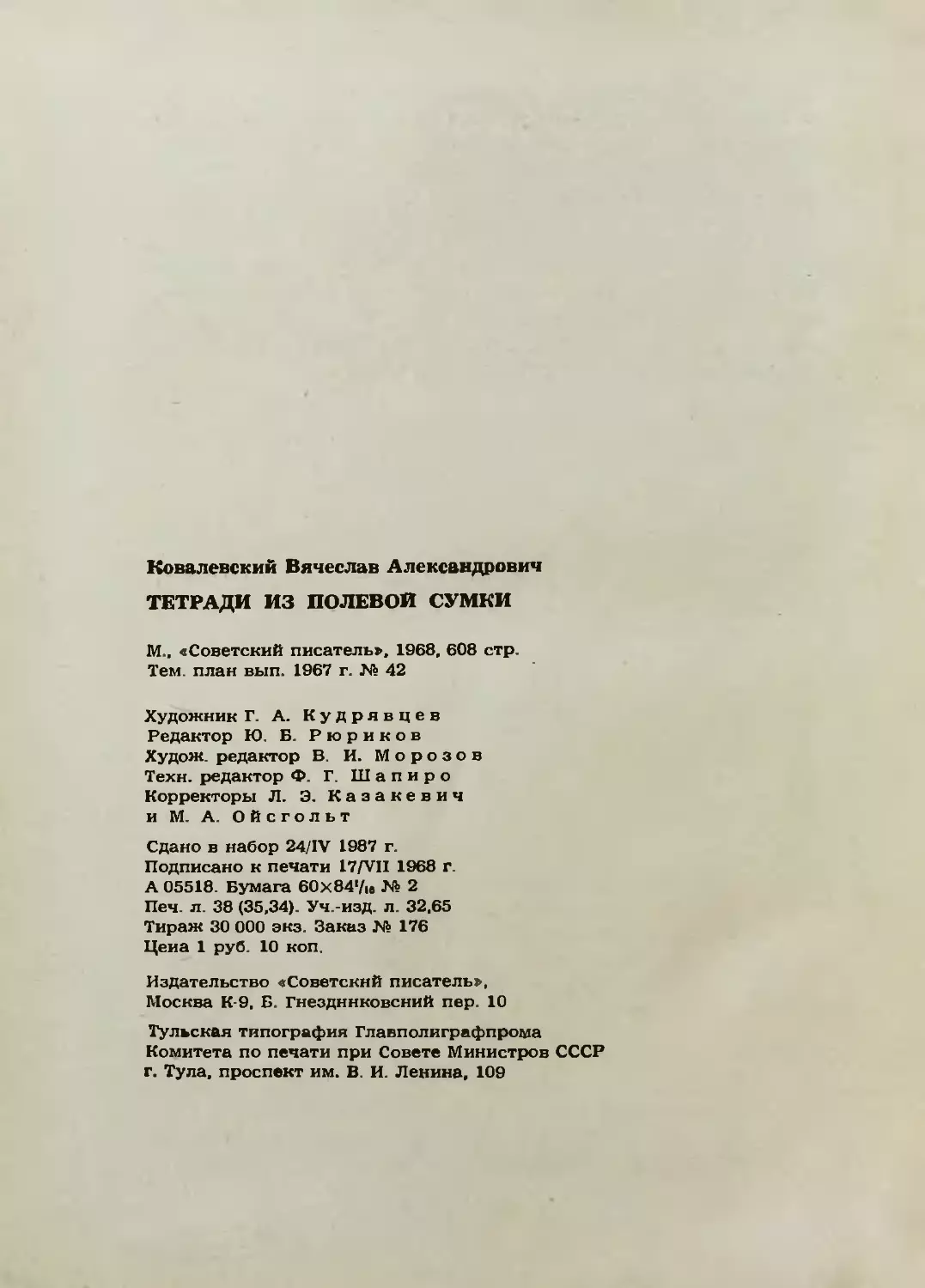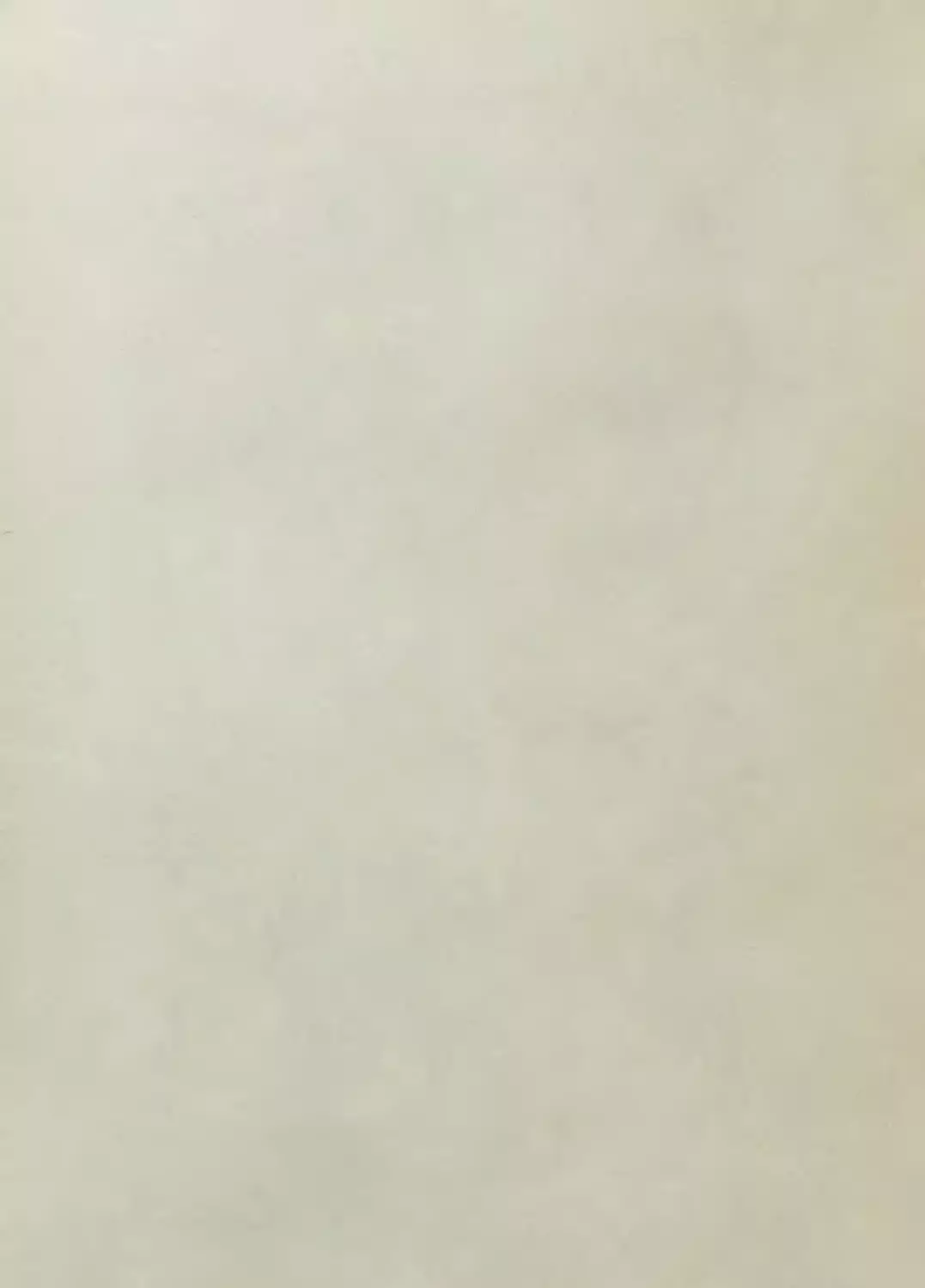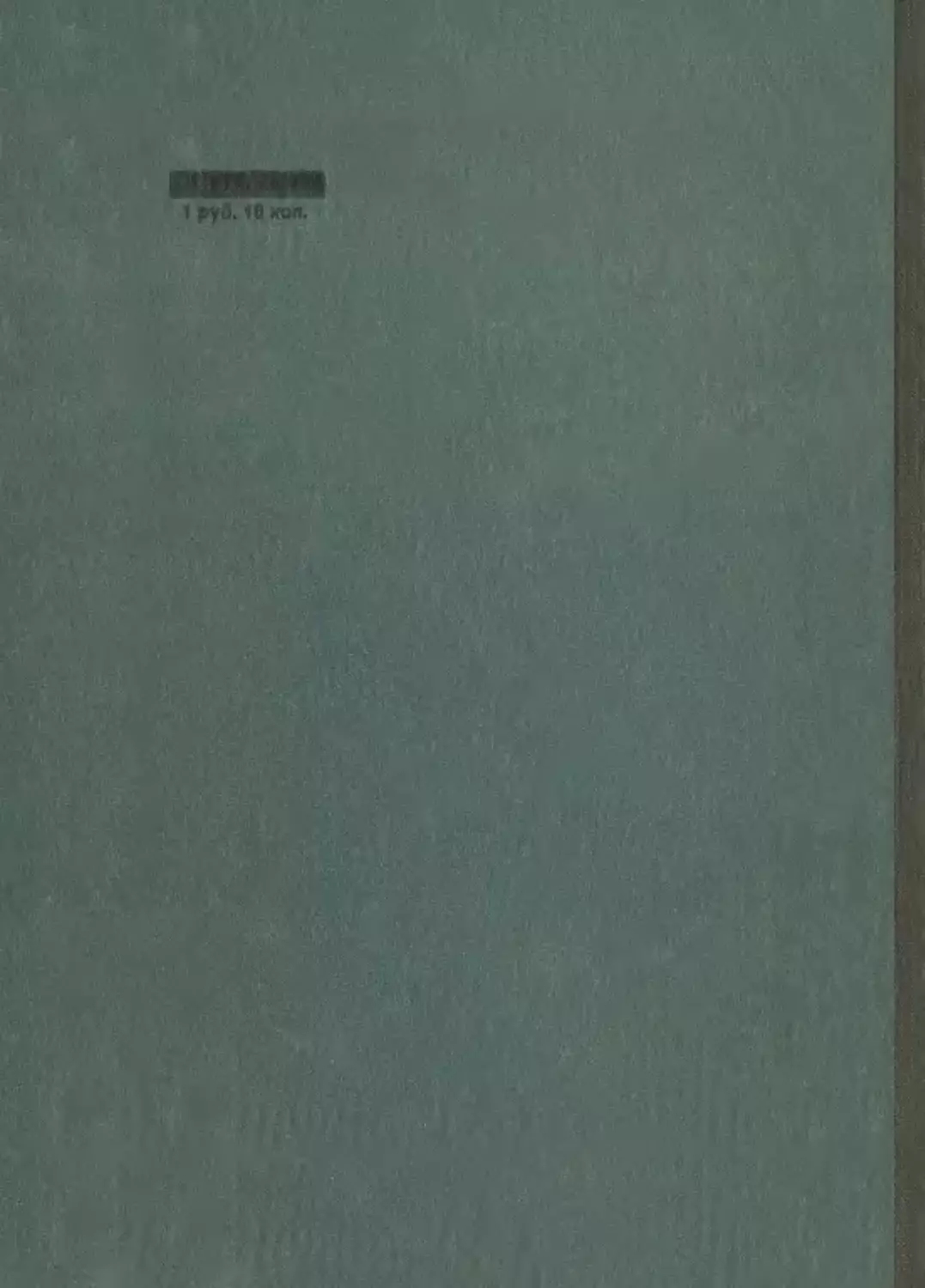Author: Ковалевский В.А.
Tags: художественная литература история военного искусства военная литература издательство советский писатель
Year: 1968
Text
w ковапевскИИ
W*** К°В
। «.,, лиц. Й fe ,v ft ft
Вячеслав Ковалевский
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1968
Р 2
К 56
«" с полевой сумкой, карандашом и бумагой ищу на
фронте Человека. Хочу понять механику поведения чело-
века на войне, механику всякого рода его побуждений,
которая помогла бы мне понять что-то более общее и
в то же время более глубокое». Под таким углом зрения
и написаны фронтовые тетради Вячеслава Ковалевского,
писателя, который начал свой литературный путь еще
в двадцатые годы. Его записки — это как бы дневник-эпо-
пея о народе на войне. Они вобрали в себя множество
людей и событий, массу наблюдений и размышлений.
Из записей, которые делались по горячим следам, во вре-
мя боев, встает картина вздыбленной России, воюющей,
движущейся, живущей в землянках и в окопах. Героика
и быт войны, ее кочевые тяготы, ее холод и голод, пси-
хология воюющих, отношения женщин и мужчин на
фронте — обо всем этом в записках В. Ковалевского рас-
сказано с мужественной правдивостью
7-3-2
42—87
ОТ АВТОРА
События и размышления, которые автор предлагает вни-
манию читателя, записаны по горячим следам. «Тетради
из полевой сумки»—это мой военный дневник. Так все оно
и было, как записано на страницах тетрадей. Теперь я только
обработал то, что записывал на фронте, многое сократил,
оставил только самое интересное и важное. При этом я ни
на йоту не посягнул на суровую правду незабываемых, тра-
гических дней Великой Отечественной войны. Многие фами-
лии действующих лиц, однако, пришлось заменить: я не
имел возможности спросить у них разрешения обнародовать
эпизоды с их участием.
в. к.
Эту тетрадь надо доставить в Полит-
отдел армии, чтобы она была передана
в Военную комиссию Союза писателей:
Москва, ул. Воровского, 52, а потом —
моей семье.
В. Ковалевский
Февраль, 1942 г. Давыдово.
Работаю над историей Ударной армии. Читаю папки опе-
ративных сводок и приказов.
Из Новой Удрицы добрались сюда с трудом, записывать
не было сил.
Бесконечная вереница машин и лошадиных упряжек.
Лыжники, горбатые от торчащих под маскхалатами автома-
тов, впряглись в лямки по двое и тянут волокуши. На воло-
кушах— лыжи, винтовки, разобранные минометы. А воло-
5
куши-лодочки предназначены для раненых. Лыжники очень
молоды. Устали. Идут шестые сутки. Некоторые вскакивают
на борт сзади. Их прогоняют.
Какой-то автоматчик ухитрился прицепить к нашей ма-
шине лямки сзади и сам лег в лодочку-волокушу, оставляя
за собой широченную колею в снегу. Он ныряет на ухабах,
как в волнах.
Навстречу все время попадаются раненые. Многие в
маскхалатах,— должно быть, разведчики. У кого голова в
бинтах, у кого рука на перевязи. Бинты в крови, маскхалаты
тоже в кровавых пятнах.
Ехали день и ночь, пока не иссяк бензин. Оставили свою
машину в лесу, пошли пешком. Не шли, а плелись. Редактор
то и дело призывал рассредоточиться, держать дистанцию.
Еще накануне над дорогою начали летать немецкие бомбар-
дировщики. По рассыпчатому, морозному снегу идти трудно,
как по песку.
Увидел первого убитого, потом еще двух, и пошло...
Меня поразило, что лица их не бескровные. Как был
человек румяным, так мороз и в смерти закрепил на лице
этот цвет. В лицах вместе с румянцем есть даже какая-то
смугловатость. Говорят, это влияют на цвет кожи дымные
костры: незадолго до смерти люди грелись у огня, измаза-
лись в саже и копоти.
Я смотрел на них только секунду. Внутри какая-то смут-
ная возня мыслей и толчея сомнений: надо смотреть, при-
выкать или нельзя это делать так буднично, мимоходом?
Я еще ни к чему не готов.
Валенок с оторванной ногой. Голая костяная чаша пу-
стого черепа. Еще трупы...
Навстречу—все время раненые. Где-то идет наступ-
ление. Под ногами на снегу то и дело попадаются пятна
крови. Особенно много ее вокруг прорубей на льду — ра-
неные сходятся туда пить. Отдыхая, они лежат прямо на
снегу.
Ничего более неуютного я не видел на свете, чем эта де-
ревня под Старою Руссой — Давыдово. Три избы, оставшиеся
после боев и бомбежек. По ту сторону реки Редьи пять изб.
Там штаб нашей Ударной.
Несколько часов провел в шалаше в сосновом лесу.
Впрочем, это даже не шалаш, а укрытие, что-то вроде ма-
скировки от «воздуха» — поставленные шалашиком сосно-
вые ветки,— от ветра и мороза они не защищают.
Коблик вообразил, будто здесь можно писать историю
армии. Это — армейский лектор. Он должен мне помогать.
Образованный товарищ, с широким кругом интересов, ста-
линский стипендиат — докторант Академии наук. Он кончил
аспирантуру ИФЛИ по кафедре философии, кандидат фило-
софских наук.
Яркое морозное солнце, безоблачное небо, пестрые тени
в шалаше от пронизывающих его насквозь лучей солнца.
Мерзнут руки, ничего не идет в голову. Неизвестна форма
истории армии. Одно только для меня ясно: мучительно
болит голова, и писать под открытым небом, на морозе
нельзя.
Чернила в пластмассовой баночке замерзли. Я развожу
костер внутри шалаша (ни Коблик, ни другой армейский
лектор, Фрейдинзон, не умеют этого делать).
На нас налетают «мессершмитты». Хлещут пулеметны-
ми очередями по веткам.
Еще несколько налетов. Часовые запрещают разводить
костры. Коблик и без часовых уже разбросал мой костер.
Вот так начинается наша работа по истории армии.
Хочется спать. Холодно. Хочется есть.
Скоро вечер, мороз крепнет. Где будем спать? Начальник
отделения агитации и пропаганды батальонный комиссар
Губер где-то ходит в полушубке по начальству.
Время идет, мороз усиливается. Налеты с воздуха все ре-
же и реже.
Я отпущен из редакции армейской газеты в отделение
агитации и пропаганды. Это приказ начальника Политотдела
нашей армии Куницына. Таким образом, Губер теперь и мой
начальник. Он заискивающе любезен со мною, уважает в
моей персоне писателя, но как начальник ничем себя не
проявляет. Я пока что чувствую себя как в гостях. Коблик
и Фрейдинзон ведут себя так, как будто бы нас должны на
ночь куда-то пригласить.
Уже сумерки. Сильнее морозит. Небо необыкновенно чи-
стое, оно настежь распахнулось для морозной ночи. Губер,
Коблик, Фрейдинзон уже давно получили полушубки, я
один в короткой шинели — в Москве, в ГлавПУРККА, по
росту мне не нашлось. Хорошо, что хоть в валенках.
Кто-то сказал, что надо самим искать землянки, они есть
кругом в лесу. И вот мы трое ищем их. Кое-где уже дымят
трубы среди деревьев. Куда ни сунемся — всюду занято
Наконец нашли. Без дверей. В углу большая железная боч-
7
ка из-под бензина Это печка. Но трубы нет. В потолке вме-
сто трубы — дыра, через нее видно небо.
Я наломал немного сухих веток, пока глаза еще что-то
различали в сумерках. Потом уже ничего нельзя было разо-
брать, ветки гнулись, но не ломались. В землянку принес
жалкую горстку. Хвоя и тонкие веточки быстро прогорели.
Большие ветки не лезут в узкую дверцу, прорезанную в боч-
ке. Изрубить нечем.
Коблик и Фрейдинзон сидят на земляных нарах и ждут,
что у меня получится. Но у меня, конечно, ничего не могло
получиться.
Всю ночь я безобразно мерз. Спать не мог. Мороз стал
неотвратимым, вездесущим... Он пахнул железом и могиль-
ной глиной. Тьма в землянке была совершенная. Пол-
ная неизвестность, что будет завтра. С редкою ясностью
стояли перед глазами картины погасшего дня: слепящее
снежное солнце, трупы по берегам Редьи, кровь около про-
рубей.
В темноте слышен неумолкающий шум движения: тан-
ки, кони, голоса. Все движется к передовой. Оттуда изредка
доносится пулеметная стрельба.
А утром куда же? Опять в шалаш. Кроме сухарей, есть
нечего.
18 февраля.
Живем в одной из трех изб, уцелевших в Давыдове.
Трудно сказать, сколько в нее набилось людей. Полным-
полна коробочка... Днем еще туда-сюда — многие уходят от
налетов в землянки, а на ночь все жмутся под теплую кров-
лю, собирается несколько десятков человек.
Днем на столе даже можно разложить материалы. Пы-
таюсь их изучать.
Из любопытства со второй половины дня начал подсчи-
тывать, сколько раз часовой из комендантской команды про-
бьет воздушную тревогу железкой по подвешенному к де-
реву пустому стакану от снаряда: за полдня—шестнадцать.
На другой день с утра насчитал опять шестнадцать, потом
сбился со счета и бросил—надоело.
Я гораздо спокойнее относился к тревоге, чем другие.
По неопытности. Но потом увидел, что наши летчики во
время тревоги убегают в лесок или ложатся в снег возле
своих У-2.
8
На третий день наконец я испытал на себе бомбежку.
Не знаю, от чего, от слабости ли (всю неделю я болею)
или от отвращения к таким переживаниям — не могу все
записывать...
Свист падающей бомбы прижал нас всех к доскам пола
в избе. Изба зашевелилась от взрыва. Информатор армей-
ской газеты Белкин, лежа возле порога, то высовывался за
дверь, то вползал в избу обратно.
Для памяти отмечу смешливость, которая напала на меня
в тот момент, когда только что начали рваться бомбы и я
увидел, как все, кто был в избе, а с ними и я, кинулись на
пол. В антракте между разрывами бомб, между спазмами
ошеломленности мы с Белкиным не могли без смеха смот-
реть друг на друга.
Вторым взрывом вдавило в горницу рамы и дунуло так,
что поднявшийся было с пола Белкин повалился опять, а
с ним и я. После этого мы ринулись на улицу.
Страшно ли мне было? Конечно, страшно.
Я перебежал дорогу (уже один), нашел удобную яму.
Лежа в снегу, уже на самом берегу Редьи, вдруг увидел,
что на дороге посередине реки стоит лошадь—у нее три но-
ги. Сделает корпусом движение вперед, но как бы спо-
ткнется на отсутствующую ногу и все-таки устоит, удержит-
ся на трех ногах и опять выпрямится. Внешне лошадь совер-
шенно спокойна. Вместо ноги — тонюсенький ремешок, кон-
чается он лежащим на дороге копытом. Когда лошадь пы-
тается шагнуть — она как бы спотыкается, а ремешок сильно
прогибается, потом лошадь выпрямляется, и ремешок натя-
гивается опять. А от костей ноги не осталось и следа.
Когда я бежал на берег, слышал стоны. Всего пострадало
семнадцать человек, трое из них убито. Тяжело ранен за-
меститель командарма, генерал Галицкий.
Нас бомбили три пикировщика.
Как выяснилось потом, бежал я уже после того, как ра-
зорвалась последняя бомба, и как раз туда бежал, где боль-
ше всего их упало.
Ночью я забрался на широкую печку и впервые за много
дней снял шинель и валенки.
Было темно, когда вокруг избы начали рваться снаряды.
Нас обстреливала немецкая артиллерия.
Все ушли в лес. Я ушел последний, так как был единст-
9
венным, кто спал раздетый и без обуви. Долго искал в тем-
ноте папку с документами, которую взял под расписку из
оперативного отдела штаба армии.
Потом уже, когда мы перебрались в Малые Горбы, ло-
жась спать, я подкладывал папки себе под голову вместо
подушки. Для мягкости папки накрывал ватником.
14 марта.
Во время воздушной тревоги обычно никуда не ухожу.
Надеваю только шапку-ушанку, чтобы смягчить удар, если
свалится какая-нибудь доска, полка или что-нибудь в этом
роде. А от пули истребителя где же тут уберечься? Конечно,
идеально сидеть в щели. Но при частых тревогах, при
постоянном звоне в небольшой колокол, подвешенный на
крыльце комендантской команды, пришлось бы весь день
сидеть в щели.
Хозяин нашей избы, старик в очках с металлической
оправой,— умелый мастер на все руки и очень приятный че-
ловек. Он умеет делать буквально все, что требуется в кол-
хозном хозяйстве: пахарь, слесарь, столяр, сапожник, бон-
дарь, каменщик, печник, охотник, шорник...
В своей деревне он желанный гость в каждой избе По-
всюду у него должники. Когда он идет по деревне, уж обя-
зательно кто-нибудь заманит его в свою избу, угостит вод-
кой, чтобы хоть так его отблагодарить, расквитаться с ним.
За это его журит старуха жена.
Хочется называть его не стариком, а старичком: очень
скромного роста, по росту же не слишком большая и не
маленькая седая борода, аккуратный, опрятный черный пид-
жачок, ладные сапожки, небольшие, неторопливые, но всюду
поспевающие руки, никакой суеты, на всех и на все смотрит
внимательными, тоже небольшими, но, кажется, ничего не
пропускающими, доброжелательными глазами.
И как охотник он тоже вдумчивый. Даже на своей усадь-
бе, в самой деревне он успешно промышлял — ставил на кро-
тов и хорьков до пятидесяти капканчиков. В день попада-
лось от пяти до двадцати штук. Относил в Старую Руссу,
там в «Охотсоюзе» платили за шкурку крота — 1 рубль, за
хоря—15 рублей.
Интересен говор старика, характерный для здешних мест:
«Езда была безутешная» (часто запрягали, ездили, лошади
не стояли — постоянно в работе. Быстро изнашивались хо-
муты, которые шил старик). «Эта игра гораздо медленная»
10
(наблюдая, как мы играем в Шахматы с Губером). «Подними
ложку с назёми» (с пола).
У него две внучки. Младшая (лет девяти) — белобрысень-
кая, с бледным вытянутым личиком, с которого почти ни-
когда не сходит выражение смертельного испуга, в голубых,
запавших уже глазах ее постоянный страх, напряженное
ожидание налета. Она и ходит пригнувшись и даже сидеть
боится прямо — жмется, никнет к земле, к полу. Говорит
только об одном — о самолетах и бомбежках.
Инструктор по работе среди войск противника капитан
Вагнер допрашивает немцев в комнатенке военфельдшера.
Он всегда ведет допрос безукоризненно тактично, культурно.
Иногда сидит с нами и другой инструктор седьмого отде-
ления, Острой, сам немного похожий на немца.
На столике горит быстро оплывающая свеча. Порою от
нее остается один лишь фитиль, он плавает в стеариновой
лужице и продолжает гореть.
Острою девятнадцать лет. В манере вести допрос у него
еще много мальчишеского, петушиного.
Надо сказать, что подавляющее большинство пленных
без всякого давления сразу же начинают говорить. Упорст-
вуют—да и то только сначала — одни летчики, которых
Гитлер поставил в привилегированное положение.
Вагнер допрашивал бортмеханика с того самого самолета,
на котором летал унтер-офицер. Подбитый самолет был
охвачен пламенем, но командир сумел посадить его в распо-
ложении наших частей. На земле экипаж отстреливался,
когда наши пехотинцы брали его в плен. Вот в этот момент
бортмеханик и был ранен в челюсть.
На допрос его привели с забинтованной головой. Весь низ
повязки, вокруг подбородка, набряк, пропитался кровью.
Когда Вагнер задает вопросы, немец, пытаясь ответить,
производит какой-то напряженный гортанный булькающий
звук. Видно, что он не может разговаривать.
Тогда Вагнер составляет на бумаге вопросник для фа-
шиста. Двенадцать вопросов. Все было гладко, пока речь
шла о возрасте, профессии, образовании, но когда дело до-
шло до военных вопросов, бортмеханик написал: «Как сол-
дат, я давал клятву сохранять военную тайну».
Вагнер спокойно сказал ему, что его расстреляют, если он
не будет отвечать на вопросы. Тогда бортмеханик написал,
что он ответит на все вопросы, но сейчас ему трудно сосредо-
11
точиться. Пусть его посмотрит и перевяжет врач, тогда
он ответит. Он просит сохранить ему челюсть, для него
это очень важно, так как он педагог и хочет остаться педа-
гогом.
Здесь же, при нас, военфельдшер вытащил у него щип-
цами из неба несколько осколков зубов, а потом его повели
к врачу.
Иногда у меня возникает острое желание жить, ясное
представление о том, что надо будет сделать после войны,
что написать. Но чаще всего — будто я под огромной толщей
воды: воспринимаю окружающее тупо, и нет у меня такого
ощущения и надежды, что мои записки когда-нибудь при-
годятся.
Дело не в том, что иногда возникают естественные мысли
о смерти, нет, не в этом суть: кажется, что пережитое на
войне износит все твои ткани, ты обветшаешь для больших
желаний.
Я оглушен новизною и огромностью того, что предстало
мне на фронте. Кажется, что я потерял самого себя. Надо
восстановить свой внутренний мир, способность мыслить,
невзирая ни на какие обстоятельства, быть все время зря-
чим.
Чтобы по-настоящему работать над историей армии, мне
нужны все штабные документы — только так я смогу со-
здать широкую картину событий. До сих пор работали мы с
Кобликом вслепую, и наша слепота начинает тяготить меня
все больше и больше.
22 марта.
Забрался наконец и я в щель — уж очень густо падают
бомбы: пикировщики только что снесли две избы рядом
с нами. Они все время крутятся над Малыми Горбами, и
колокол звонит почти не переставая.
В щели я стоя дремал. Труднее всего мне стоять — болят
ноги, а сесть не на что. Сначала я жалел свою новенькую
шинель, но, устав, присел на корточки и привалился к сте-
не. Наверно, я задремал, потому что через некоторое время
оказался с пустыми руками. Вот эту самую тетрадь я нашел
ощупью в темноте у своих ног, а ведь она все время была
у меня в руках.
До сих пор у меня нет полевой сумки. Дело кончится тем,
что я опять потеряю свои записки, как потерял уже самую
первую фронтовую тетрадь.
12
Сотрудник отдела кадров Шолбин (вроде делопроизводи-
теля) стоит на коленях на верхних ступеньках лесенки, ко-
торая ведет в щель. Он слегка высовывается, вертит голо-
вой и торопливо говорит: «Заходят три!», «Пикируют на Бо-
лавино!», «Разворачивается над нами!», «Сбросил две!». Этим
он нервирует всех сидящих в темной щели.
С передовой доносятся звуки боя — длинные, заливистые
пулеметные очереди и короткие «быр... быр... быр...». Гул и
рев самолетов. Утробное вздрагивание земли от груза сбро-
шенных бомб. На зубах похрустывает песок, осыпающийся
с потолочного наката нашего укрытия.
Шолбин кричит:
— Заходят! Два, нет, три. Пересекают деревню, пики-
руют!
Все сидящие в щели инстинктивно жмутся в дальний ее
угол, подальше от Шолбина, от входного отверстия, как буд-
то это может иметь какое-либо значение. А Шолбин все то-
ропливее комментирует:
— Пикирует на зенитку. Вот уже бросил, другую бро-
сил!
Теперь и он вобрал голову в плечи, просунулся вниз по
ступенькам. Мы съежились внизу. Слышен нарастающий
свист падающей бомбы. Взрыв! Снова свист и разрыв вто-
рой бомбы. Звук очень похож на щелканье гигантского па-
стушеского кнута.
— Зажег! — кричит Шолбин. — Нашу деревню зажег!
Политруки из резерва потушили пожар.
Озяб в укрытии. Вышел на волю и ослеп от мартовского
снега, освещенного солнцем. Без рези в глазах можно смо-
треть только себе под ноги, на тропинку, ведущую из укры-
тия в избу, желтую от притоптанной глины, которую выно-
сят на ногах из этой норы.
Любопытно, что тот, кто старается спастись от немец-
ких самолетов, когда они идут на бреющем полете, продол-
жает бежать за пролетевшим уже над ним самолетом — ре-
акция запаздывает.
Одинокий труп нашего бойца уже несколько дней лежит
на льду на речке. Идешь на станцию полевой почты, чтобы
опустить письмо, — он лежит, возвращаешься — он все так
же лежит одинокий.
13
Как хороша музыка «катюши», когда слушаешь ее изда-
ли: серия клокочущих взрывов — могучий вопль огня, ста-
ли и ненависти против рабства и свинства, какая-то радост-
ная оратория ликующих мстителей, охватившая полгори-
зонта.
Но как неуютно стало вдруг, когда одна из «катюш», за-
стигнутая на марше светом, остановилась на день в Малых
Горбах и прижалась прямо к нашей избе. Бойцы из ее рас-
чета набросали лопатами снега поверх брезентового чехла,
чтобы укрыть «катюшу» от дурного глаза. Но ведь немецкие
разведчики ходят в воздухе прямо над крышами; черные
бомбардировщики снова и снова появляются над нами. От
соседства милой «катюши», этого лакомого для немцев ку-
сочка, становится прямо-таки невтерпеж.
Мы находимся в узком коридоре между Старой Руссой
и 16-й немецкой армией, которая полностью окружена наши-
ми войсками в районе Демянска.
Вчера, 21 марта, немцы начали вырываться из Демян-
ского котла. На выручку окруженным дивизиям со стороны
Старой Руссы двинуты крупные силы. На переднем крае
сейчас все кипит. Танки фашистов стремятся поломать нашу
оборону. С воздуха наступление танков поддерживает авиа-
ционный корпус.
Немецкая авиация летает на любой высоте, как хочет и
где хочет. Оранжевые кончики крыльев у чернобрюхих
бомбардировщиков резко выделяются, словно они сквозят
против солнца (говорят, что это — итальянские).
Немцы рвутся из котла. Наша Ударная армия стоит как
раз на том пути, по которому немцы хотят пробиться на со-
единение со своими. Обстановка очень сложна, или, как ска-
зал инструктор по информации Астафьев, «получилось не-
красиво». К вечеру со стороны Старой Руссы немцам удалось
продвинуться на пять километров. Теперь от нас до перед-
него края осталось километра три-четыре.
Хозяйки опять начали закапывать на огородах свой до-
машний скарб, вытащенный было на свет божий, когда нем-
цев прогнала отсюда 34-я армия.
23 марта.
Среди ночи нас всех подняли. Началась погрузка на ма-
шины — Политотдел покидает Малые Горбы. Отходим
Тревожная ночь
t«
Коблик и Фрейдинзон (за весь день я не видал, чтобы кто-
нибудь из них хотя бы один раз поднялся из щели наверх)
сильно нервничают. Правду сказать, веселого-то вообще ма-
ло —обстановка усложняется.
На рассвете выехали в Борисовский лес.
Отъехали не больше километра — стоп! Где-то впереди
пробка. Становится светлее — вот-вот появятся самолеты.
Напряженно ждем, прислушиваемся к воздуху.
Мы с Кобликом соскочили с машины и пошли вперед, по-
дальше от скопления машин, которое немцы так любят бом-
бить. Уже так светло, что видно, как в боковой колее разъ-
езженной дороги в сухом снегу копошится мышь: она хочет
выбраться из колеи, но срывается и начинает карабкаться
снова.
Борисовский лес — густой, старый, — береза и ель, и весь
он забит машинами и обозами на санях; и все это жмется,
лезет туда, где лес погуще. Вот в зту гущину он и принялся
освобождаться от бомб. Прежде чем сбросить груз, бомбарди-
ровщики, пикируя, включают устрашающую сирену и хле-
щут лес пулеметными очередями. •
Коблик заметался: боком, боком, поминутно озираясь, он
пошел куда-то в сторону. Запрокидывая голову, он шарил по
небу своими темными, в густых ресницах, совершенно круг-
лыми от страха глазами. Огромные валенки мешали ему —
рыхлый снег был слишком глубок. Коблик напомнил мне
мышь, которая барахталась в глубокой колее. Он слепо на-
тыкался на деревья, падал, споткнувшись о сбитые осколка-
ми бомб ветки. В рукава его полушубка набился снег, он по-
терял варежку. Идя по его следу, я подобрал ее.
Бомбы ложатся все гуще и гуще, ближе, ближе... Вокруг
вой сирен, свист бомб, короткое утробное вздрагивание зем-
ли и длинный, раскатистый треск, хруст, судорожные толчки
от падающих деревьев.
Мы прямо с ходу бросаемся в снег — за дерево, которое
потолще и может защитить от осколков, хотя на поляне, на-
верно, безопаснее — ведь дерево может нас придавить.
Когда бомба легла совсем близко, Коблик приподнялся,
стал на колени и посмотрел на меня умоляющими глазами.
Несмотря на ушанку с красной звездой и военный полушу-
бок, все сейчас в нем беспомощно-детское: круглые глаза и
румяные на морозе и тоже круглые щеки. Плачущим голо-
сом он спрашивает:
— Ковалевский, ну что же делать, что?
I*
Я молчу. На нас обоих медленно оседает поднятая воз-
душной волной снежная пыль.
Я молчу. Все мои мысли, вся сила, внимание отданы про-
дирающему ознобом свисту бомб и вою сирен. Я жду еще
одной бомбы, теперь уж обязательно «нашей».
Оставаться здесь нельзя. Надо подальше убраться от
опушки, где сбились в кучу машины и обозы.
Фашисты налетают волнами, эскадрильями. В промежут-
ках мы с Кобликом короткими перебежками уходим в лес
все дальше и дальше. Коблик и в этой передряге остается
философом, но, конечно, на свой лад. В один из коротких
антрактов между спазмами страха он спрашивает меня:
— Вы читали книгу английского философа Юма «О бес-
смертии души»?
— Нет.
— Там есть одна мысль, которая прямо относится к на-
шему положению: «Смерть в конце концов неизбежна; одна-
ко род человеческий не мог бы сохраниться, если бы природа
не внушала нам к смерти отвращения».
24 марта.
Землянка Политотдела. Вечер. Бомбежка прекратилась.
Духота. Электрической лампочки, свисающей с потолка,
на всех не хватает. Кто-то приладил на своем клочке
землянки керосиновую лампу. С потолка капает — тает снег.
Чтобы стекло не лопнуло, над лампой растянута плащ-па-
латка.
Под нарами — вода. Она такая чистая, что ее тут же, кому
надо, черпают кружкой и пьют. Толстенные сосновые столбы
подпирают накат потолка, как колонны, и это придает блин-
дажу вид архитектурного сооружения.
Мы с Кобликом сидим на низких нарах, как на полу, и
ведем философские разговоры — о труде в будущем общест-
ве, о смертности человеческого рода, о том, что он может
исчезнуть, как всякий ограниченный биологическим сроком
животный вид...
И это — война?
Такие разговоры, оказывается, возможны? А раньше мне
казалось выдумкой, если что-нибудь похожее попадалось в
книгах
16
25 марта. Редцы. Река Ловатъ.
Первый в моей жизни отход.
Я в армии всего только два месяца с половиной. Много
еще будет у меня первых, раньше не пережитых вещей.
Дорога почернела. Падает, сеется мелкий снег, похожий
на дождь. Две дымящиеся, потные лошади с трудом тащат
розвальни. На них — двое раненых, спеленатые ватными оде-
ялами так, что не видно лиц. Третьему нет места в санях,
его привязали к ним сзади, тащат на волокуше-лодочке. Он
тоже спеленат.
Тает. Валенки мокрые, ноги тоже мокрые.
Наш блиндаж демаскирован оттепелью. Из-под снега об-
нажился ярко-рыжий квадрат кровли. Но здесь все-таки ти-
ше, чем было в Борисовском лесу. Ну и бомбил же он его!
Два дня подряд... Никто не мешал его хамской, изуверской
работе. Ни разу мы не наблюдали хоть бы какого-нибудь
подобия воздушного боя. Немецкие самолеты кружили над
нами и на выбор отыскивали себе самую лакомую цель, сни-
жались и шли на нее с глухой колотушкой автоматических
пушек и «быр, быр, быр...» — бормотанием пулеметных оче-
редей. Потом — неумолимо нарастающий свист бомб и раз-
рыв. Издали он не мгновенный по времени, как удар от
разрыва снаряда, а хрустящий, долгий, как будто спрессо-
вывают в комок гигантские жестко-металлические детали.
Новость для нас — пронзительно завывающие сирены, они
подражают вою падающих бомб. Придумано психологами:
поднявшихся в атаку бойцов условный рефлекс укладывает
обратно на землю; тот, кто пережил лишь одну бомбежку,
теперь будет ложиться на землю от одного только воя си-
рены.
(Мысль прервалась. Только что сообщили: в Малых Гор-
бах, у хозяина той избы, где мы жили, убита при пулемет-
ном обстреле младшая внучка — Нюра, та самая, что все
время была в ознобе от страха, чуть ли не билась в припадке
от одного только звука мотора где-то там пролетавшего са-
молета.)
Итак, 20 марта началось весеннее наступление, о кото-
ром немцы столько кричали.
Видны уже кое-какие перемены.
В начале войны бывало, что наши бойцы бежали от
17
небольших отрядов немцев. Теперь же, хотя бы в районе
Ожегове — Шапкино, небольшая группа наших бойцов вот
уже несколько дней не дает немцам идти вперед. И это не
единичный случай.
Губер подавлен. Он участвовал в организации обороны под
Шапкином. Он не раз хвалился, что может спать даже при
плохих делах. Теперь я понимаю причину: при плохих делах
и вгоняет его в сон депрессия. Сейчас он спит.
Ночью, когда большинство из нас уже улеглось (кто на
полу, кто на скамейках), в нашу избу, распахнув дверь, по-
рывисто вошли три автоматчика. Шапки сдвинуты с потных
лбов, вороты распахнуты, лица у всех возбужденные.
Спросили, нельзя ли переночевать.
Добряк Губер упрекнул их за неряшливую заправку.
Тогда один из них, самый высокий и широкоплечий сержант,
с тихою горечью проговорил:
— Если бы вы были там, где были мы!..
Губера это задело, он повысил голос:
— Вы думаете, только вы одни вояки?
Оглянувшись на своих двух спутников, сержант тихо
сказал:
— Это все, что осталось от четырнадцатой...
Больше никто из них ничего не сказал — опять раскры-
лась дверь, и они ушли в ночь. А у нас в избе теплым, ласко-
вым светом ощупывала бревенчатые стены керосиновая коп-
тилка и нестерпимо душно было от стыда...
Тает сильнее, с крыш течет. Старуха хозяйка раскопала
на огороде яму, достала из нее спрятанные от немцев вещи
и поволокла на печку сушить. Лицо у нее как на замке, не
раскрывает рта, за весь день не услышишь ни слова; гла-
за— точно она спит с открытыми глазами; шаги и все дви-
жения — словно ходит не по земле. И вдруг заговорила,
услышав, как мы проклинаем самолеты немцев:
— У каждого своя судьба: одного убьет, другого нет.
Мой сыночек лежал на печке. Упала бомба—дом сгорел,
и сынок сгорел Собрала одни только косточки,— цельный
18
ящик собрала и похоронила. И головочку собрала: так про-
меж кирпичиков лежит и шапчоночка, и волосики...
— А большой он у вас был?
— Он в армии был. Руку ушибло — дали ему отпуск.
Я-то по нем плакала, когда в армию брали. А пришел до-
мой— тут его и убило. И теперь плачу... Дочка звала его:
«Идем!» А он: «Ну тебя, никуда не пойду!» Она убежала,
а он сгорел. Значит, такая судьба!
10 часов.
Все-таки у немцев что-то не получается. «Блицкриг» не
удался и здесь. Самолетов против одной только нашей Удар-
ной армии брошено столько, сколько обычно обрушивается
на весь фронт. А продвинулись немцы за все эти дни только
километров на восемнадцать — двадцать.
От 16.30 до 18 часов с винтовкой «стоял на часах» (была
моя очередь дежурить). Во время дежурства началась бом-
бежка.
Я раскрыл дверь в избу и сказал с порога:
— Кто хочет, может спокойно идти в убежище.
Коблик и Фрейдинзон сразу побежали в блиндаж, выры-
тый посередине деревни, у самой дороги. Во время бомбежки
матери тащат туда детей. Дети повзрослее бегут туда сами.
В этот же блиндаж ушли все из нашей избы.
Чернобрюхие самолеты со свастикой и с желто-оранже-
выми полосами на крыльях долго кружили над Редцами,
стреляли из пулеметов. Два раза бросали бомбы, похожие
на черное семя.
Первый раз я смог так хорошо видеть весь путь бомбы.
Падая, устремляясь к земле, черные бомбы покачиваются в
воздухе из стороны в сторону. Постепенно они выравнивают-
ся, принимают вертикальное положение и уже летят по пря-
мой, как стрелы.
28 марта.
Мы с Кобликом едем в глубокий тыл — во второй эшелон
армии, километров семьдесят от переднего края. Он команди-
рован на краткосрочные курсы младших командиров —
должен читать курсантам лекции о международном положе-
1S
нии, а я — в госпиталь, расположенный в Мануйловском ле-
су, буду расспрашивать раненых, собирать материал для исто-
рии армии.
Дорога была нам как отдых. Ехали в автобусе-фургоне
армейской кинопередвижки. Хороший спутник Коблик. Очень
начитанный человек, интересный собеседник. Редкая память
у этого кандидата философских наук. Когда мы беседуем об
истории философии, создается такое ощущение, будто у меня
под рукой энциклопедический словарь.
В госпитале, в Щечкине, меня удивил своим сходством с
молодым Бетховеном латыш Сирмайс Янис. У него вдохно-
венное лицо, как бы озаренное тихой радостью. В мирное
время он работал якорщиком на сплаве леса.
Двое раненых спорили, чей автомат лучше — немецкий
или наш.
Один сказал:
— Простая арифметика говорит за нас: ППШ бьет на
пятьсот метров, а немецкий — на двести. У ППШ — семьде-
сят один патрон, а у немцев — тридцать два. Чего ты спо-
ришь?
Другой ответил:
— Я не спорю, только ихний не отказывает даже на мо-
розе.
В этот момент Сирмайс сказал:
— Вы лучше послушайте меня, а потом будете спорить.
Когда мы отходили из Ожегова, я остался последним. Нас
было трое: Петров Васька, Хохолков Геннадий и я. Нам бы-
ло приказано прикрывать отход. Их обоих убило осколками
мины, а я заскочил в какой-то сарайчик на огороде и запер
ворота на засов. Немцы навалились на ворота и давай их рас-
качивать. Кричат: «Рус, сдавайся!»
«Ну, — сказал я сам себе, — твоей бабушке пришла хана!
Сложишь ты здесь свои кости, Сирмайс». Потом посмотрел
я на свои руки, и жалко мне стало самого себя! Неплохие,
черт возьми, клешни. Сколько я заторов разбил у себя на ре-
ке этими руками. Ими я обнял свою мать, когда уходил на
фронт. В горле у меня пересохло от предсмертной тоски, гу-
бы запеклись. Облизал я свои губы и сказал: «Нет, не при-
шло еще твое время! Держись, Сирмайс!»
Зная, что перед ним писатель, Сирмайс немного рисо-
вался.
— При мне был простой карабин, лента с патронами, и
оба кармана набиты патронами. Приложился я к карабину —
20
ударил один раз, другой. Немцы завизжали. Я лег на землю,
высунул дуло под ворота и начал прижигать фрицам ноги
из карабина. Который упадет — тут же прикончу. Начал
вкладывать новую обойму, слышу сзади — немецкая речь.
Заглянул через овечье оконце — смотрю, на огороде, метрах
в десяти, стоит офицер с солдатом. Ударил я из карабина, и
нет офицера. Ударил еще — упал солдат. Я калитку открыл,
подошел к офицеру, хотел снять с него парабеллум. И вот
вам, товарищи, ответ, можете больше не спорить: убитый
офицер был с нашим автоматом. Они гоняются за нашим
ППШ, понимают, что с ним надежней. Спасибо этому немцу,
из-за автомата я остался живой. Взял наш ППШ, дал оче-
редь, осадил немцев, которые погнались за мной, и пробил-
ся к низинке, а там уже наши лежали, в кустарнике.
Янис Сирмайс рассказывал очень складно. Я без труда,
минут за сорок, написал о нем очерк для нашей армейской
газеты, редакция которой тоже находится здесь, во втором
эшелоне.
29 марта.
Зимний вечер.
В лесу около большой дороги немецкое кладбище. Над
строем аккуратных березовых крестиков возвышается ог-
ромный центральный крест. Он сделан из высоких черно-
белых березовых стволов с неободранной корой.
На перекладине — черная надпись масляной краской:
«Камрады! Наш последний призыв: «Вперед!»
Фашисты заставляют агитировать за дело Гитлера даже
мертвых.
Во всем выдержан строгий стиль. Кладбище воспринима-
ется как мрачное художественное произведение. Ограда тоже
сделана из аккуратных березовых жердей.
Но возле нее свалены как попало (это поработали уже на-
ши ребята) кучи промороженных трупов фашистских сол-
дат. Немцы сумели-таки заставить, чтобы мы их вознена-
видели.
30 марта.
Лес возле Мануйлова. Тут же, недалеко, деревня Щеч-
кино.
Подтвердилось, что штаб нашей армии переехал в Глу-
21
кую Горушку. Второй эшелон тоже снимается с места. Наше
командование вывело КП из коридора, из самого узкого ме-
ста немецких клещей, которые очень медленно, но неуклон-
но сжимаются, чтобы окончательно перекусить коридор
Уехала из Мануйловского леса редакция армейской га-
зеты. Снялся с места и отдел культснаба. Мы остались одни
в землянке: Коблик, шофер кинопередвижки, киномеха-
ник и я.
Легкомыслие. Мы в лесу совершенно одни среди пустых
землянок. До Политотдела тыла не менее полутора километ-
ров. Связи — никакой. Охраны тоже нет. Недалеко от нас
второй батальон, но никто там нас не знает и, конечно, в слу-
чае какой-либо тревоги не предупредит.
Еще одна лунная ночь в лесу. Бухают батареи около
развилки фанерного завода в Парфине. Если выйдешь на
порог землянки и поднимешь голову — в прогалинах между
верхушек деревьев чуть заметно в белесом от лунного
света небе вздрагивают мгновенные вспышки от орудий-
ных залпов.
У Коблика и у меня есть водка, она выдана нам из по-
дарков от трудящихся тЬша. Но, против своего обыкнове-
ния, Коблик не прикоснулся к ней. Верный признак страха.
А может быть, на него подействовал дневной разго-
вор. Я сказал ему, что никогда не стал бы пить ради же-
лания забыться «залить свое горе» или ради чего-либо по-
добного. Особенно нестерпима для меня мысль быть убитым,
когда сознание одурманено алкоголем. Точно так же считаю
обидным умереть во сне, — словно тебя кто-то обманул. Хо-
чу встретить смерть с ясным сознанием.
Шофер и киномеханик анекдотически, преступно бес-
печны. Машина одна-одинешенька стоит под открытым не-
бом, и в ней — беспризорная винтовка, одна на четверых. Я
заставил убрать ее в землянку, — так бы и ночевала в ма-
шине.
31 марта.
«Только дух слабого может сломиться от больших потря-
сений; человека сильного глубокие переживания могут лишь
возвысить, сделать благороднее и целеустремленнее».
Хотел бы я послушать сейчас симфонию Шостаковича.
Ойстрах напечатал о ней статью в «Известиях». Из нее я и
взял цитату: это — слова Ленина
22
Надо напрячь все свои силы, чтобы сохранить в себе ху-
дожника.
Ближайшая ниточка, за которую я хватаюсь, — родимый
мой сын. Отсюда я и начинаю приучать себя к выкармлива-
нию веры в будущее.
Были, конечно, и закаты зимнего солнца, чистые восходы,
звезды, лес, поле и снег, голубоватый, как рафинад на изло-
ме, но я проходил мимо всего этого глухой и слепой, потому
что все ткани моего тела, все чувствилища, все человече-
ское существо мое было занято войной «на постой», во мне
ни для чего уже не оставалось свободного места. На время
я даже как бы отменил в своей жизни пейзаж.
Пейзаж для меня сейчас как книга, написанная на языке,
которого я не понимаю. Я даже не пытаюсь ее читать. Только
к «нашим неподвижным братьям» — отдельно стоящим де-
ревьям — я не был равнодушен; рисунок их обнаженных вет-
вей, четко проступающих на фоне светлого неба, всегда меня
притягивал, волновал.
1 апреля. Заробъе.
Вчера покинули тихий лес — с трудом. Уже точно дого-
ворились об отъезде, вдруг Коблик сказал:
— Я плохо себя чувствую, ложусь спать.
Теряя самообладание, я сказал ему:
— Никогда больше не поеду без командирских прав. Я
бы вас всех просто по морде бил, вынул бы пистолет и заста-
вил делать что надо. Вас вместе с Фрейдинзоном надо вы-
гнать из армии!
— Вячеслав Александрович, вы даже не спросите, что у
меня.
— Ну что у вас? Медвежья болезнь? От мысли, что
надо ехать через Рамушево?
Немцы, стремясь через нашу армию прорваться к Де-
мянскому котлу, пытались захватить именно Рамушево.
Я не дал спать Коблику, заставил его собрать вещевой
мешок. Двинулись в путь ночью. Днем немцы бомбят.
И вот утро. Мы остановились на дневной отдых в дерев-
не Плотица.
Чудесная погода. Солнце. Идет свирепая бомбежка сосе-
дней деревни. В нашей избе плачет маленький ребенок на ру-
ках у отца, кричит:
— Папа, немцы пламбят, дём в окоп!
23
Я вышел на крыльцо. От слепящего света солнца и сине-
вы больно смотреть на небо. Там ноют пикировщики. Вот
вижу — пикируют. Сыплется черное семя бомб. Над дерев-
нею дым.
Возвращаюсь в избу. Минут через десять — всеобъемлю-
щий нарастающий гул: резонирует вся изба, кажется, что на
гул отвечает каждое бревно, бумага, которою застлан стол,
вибрируют, зудят стекла в рамах, вибрируют листья фикуса
и каждый волосок на головке ребенка, оставленного на полу.
Возвращается со двора отец, говорит, что насчитал семь-
десят немецких самолетов.
Я опять вышел на крыльцо и увидел воздушную «пси-
хическую атаку».
Пикировщики шли четким строем, как бы намеренно мед-
ленно, в полном убеждении, что им ничто не грозит. Устра-
шающая, какая-то злая осиная черно-оранжевая окраска.
Бросали листовки. В синей пустыне неба листовки возни-
кали как бы из ничего, вспыхивая вдруг ярко-белыми мо-
тыльковыми роями, наискось сносимые ветром.
Страшное зрелище!
На горизонте эскадрилья повернула обратно и опять про-
шла над территорией нашей армии.
На Коблика это зрелище так подействовало, что он чуть
не плакал. Каждый винтовочный выстрел в нашей деревне
(всегда найдется кто-нибудь на земле, кто захочет отвести
душу — хоть из винтовки «пукнуть» по нахальному немец-
кому самолету) — каждый такой выстрел Коблик восприни-
мал как что-то катастрофическое.
Мы обедали, когда появились пикировщики, и я вышел
из-за стола с ложкой в руке. Считая самолеты, я помогал
себе ложкой. Коблик крикнул:
— Бросьте размахивать своей ложкой!
Я опять грубо на него накричал: до чего страх может по-
мрачить рассудок человека...
Около пяти часов вечера стали бомбить и нас. Коблик на-
чал упрашивать меня пойти в укрытие, и я согласился.
Жалкая нора — щель на огороде. В это убежище заби-
лись, съежившись по углам, несколько колхозниц с малыми
ребятами. Снаружи тает снег, и с потолка все время капает.
В самом дальнем от меня углу прилажены в глиняной стен-
ке две деревянные иконки.
Самолеты опять пошли в разбойничий облет по деревням.
Женщины горячо, истово молятся. Они торопливо крестятся
24
и тихо умоляют: «Матерь божия, спаси и помилуй! Спаси
нас и помилуй!»
Мальчик лет четырех тоже принимается торопливо, бес-
прерывно креститься. Он подражает жестам матери и тоже
молится и просит: «Спаси и помилуй!»
Много дикой, своеобразной прелести видели мы во время
движения по лунной предвесенней дороге. Попадались длин-
ные участки, когда мы долго ехали в траншее, как бы про-
рубленной в голубом рафинаде: мраморные лунные кубики
были нарезаны лопатами из снега и сложены вдоль доро-
ги высокой стеной — выше борта машин. Это потруди-
лись саперы и местные жители. Кое-где эти стены порази-
тельно напоминали ограды в Крыму, сложенные из белого
камня.
Накатанное резиной полотно дороги зеркально блестит
против света. Если едешь прямо на луну, на нем сверкают,
играют переливчатыми искорками ледяные корочки. А по-
рою сверкнет зеркалом и вся поверхность поля, льдисто за-
лакированного ночным морозом, сковавшим то, что успело
расплавить за день мартовское солнце.
И все время неотступный запах бензина, необыкновенно
острый на свежем воздухе и до того студеный, будто он по-
рожден тем же самым морозом, от которого замерзли лужи
на дороге и все поле покрылось ледяным пластырем.
А в ушах непрерывный шум и звон от усталости и не-
преодолимое, навязчивое желание умыться горячей водой, и
обязательно с мылом, и выпить горячий чай, обязательно
сладкий.
Избу нашего Политотдела мы отыскали в Козлове. Стояла
глубокая ночь. Какой там чай, — зажигая одну спичку от
другой, мы с трудом нашли себе местечко на полу. Всюду
спали люди, где только можно было приткнуться,— большин-
ство на грязном полу, кое-как притрусив его соломой. Спя-
щими людьми были заняты все скамейки, все ящики с доку-
ментами, все столы. На печке угрелись две старушки: хо-
зяйка и ее сестра.
Воздух в избе, «давление атмосфер» вполне соответство-
вало известному выражению — «хоть вешай топор в возду-
хе». Но это не спасало от холода — сильно дуло из щелей
пола.
Удалось поспать всего лишь каких-нибудь часа два. К
25
утру под нами ходуном заходили половицы — народ начал
подниматься.
Дикая головная боль: то ли не выспался, то ли в избытке
нанюхался бензина за две ночи в дороге.
2 апреля. Козлова.
Восьмое отделение (по работе с партизанами и местным
населением) работает под одной с нами крышей. Мы узнали,
что в деревне Голузово, в десяти километрах от нас, стоит
группа партизан, побывавшая в немецком тылу. Вечером
идем туда — надо не упустить возможности, раз уж они по-
пали на нашу территорию.
5 апреля. Козлова.
Видел в Голузове чудесных людей. Все мои представле-
ния о партизанах были нищенски бедны. Я многого не знал
и о поведении немцев, об их политике среди местного на-
селения.
Вот пример их изуверской хитрости. Они хотят изобра-
зить Гитлера благодетелем: от его имени они раздают коров
и лошадей, дарят их тем жителям, у которых нет ничего.
По их расчетам, молва об этих добрых делах проникнет за
линию фронта и облегчит их движение в глубь страны. Фо-
кус заключается в том, что эти же самые коровы были ото-
браны у нашего же населения, только дальше от фронта, в
тылу у немцев.
Проводят политику террора и щедрых подачек. Провока-
торской агитацией (издается на русском языке фальшивая
«Правда» и газета «За Родину») они внушают представле-
ние о том, что Красная Армия разбита и что для Советов все
потеряно. За общение с партизанами — беспощадная распра-
ва. Все это привело к тому, что появились предатели, из ко-
торых сформирован отряд для борьбы с партизанами.
А где же записи моих бесед с партизанами, где харак-
теристики?
Где же запись о поразительном случае гибели четырна-
дцати партизан «от одной только галлюцинации», как ска-
зал мне заместитель командира отряда?
Они погибли от голода. Отставали, гибли один за другим,
постепенно. Большинству из них начинало мерещиться пе-
26
ред смертью изобилие еды и питья: один видел витрину ма-
газина, другой — накрытый стол в теплой избе, третий, лежа
на снегу, плакал, когда его пробовали поднять и заставить
идти дальше, просил не трогать, дать еще немного погреться
на теплой печи, на которой он лежит... А по пятам гнались
немцы на лыжах.
Хотелось пить. Ручьи и речушки замерзли. Один из пар-
тизан ударил в лед прикладом автомата, чтобы добраться до
воды, и тут же упал мертвым — автомат выстрелил.
Так и погиб весь отряд, кроме двух человек, один из кото-
рых рассказал мне этот случай. Но где же подробная запись?
Потерял?
б апреля.
Первый час ночи. Весь отдел агитации и пропаганды ле-
жит вповалку на полу.
Начальник, Губер, включил радиоприемник. Душещипа-
тельная музыка, что-то парижское. Чувствую, нет, просто
вижу, что никто не спит, но все молчат, каждый переживает
что-то свое, домашнее.
Хочется спать. Скудный свет грязной керосиновой лам-
почки утомляет глаза. В радиопередаче какие-то наглые
скрипки и вялые аплодисменты — вероятно, сытых людей—
в оккупированном фашистами Париже.
Опять нет сил (от усталости, от недосыпания) записать о
беседах в Голузове, о партизанах.
Все-таки запишу, чтобы не забыть, о сухарях. Расска-
зал наш агитатор Королев (это уже здесь, у нас в Козлове).
К перевязочному пункту на самой передовой подходит
боец. У него перебита рука: висит на сухожилиях. Боец от-
крывает дверь в землянку, где помещается пункт, и спраши-
вает:
— Здесь выдают сухари?
— Что ты, опомнись, какие сухари?! Ложись, сейчас пе-
ревяжем.
Раненый захлопывает дверь. Слышны его слова:
— Ничего! Получу сухари, тогда приду на перевязку.
Как раз сегодня я прочел в приказе нашего командарма
о смертных случаях в 369-й стрелковой дивизии на почве не-
доедания и истощения (за февраль).
Сегодня же видел Остроя. Исхудал, помрачнел. Его по-
седлали вместе с политработниками на проверку организа-
ции обороны. В чертах его лица появляется что-то жест-
кое— видно, сказываются-таки допросы пленных. Юноша
гибнет в нем на моих глазах.
10 апреля.
Только что вернулся из Вязок. Ходил в редакцию армей-
ской газеты за письмами. Нет писем! Что такое? Последний
раз мои родные писали мне почти два месяца назад.
Идти пришлось по извилистой Редье.
На Редье много луж поверх льда. Сильно тает и на усе-
лах. На огородах обнажился из-под снега домашний скарб:
самовар, швейная машинка, поднос, чугуны, круглые бере-
стяные короба, гребни для расчеса льна и даже ткацкий ста-
нок. Все это вызывает щемящее чувство жалости.
Темным вечером по весенней, раскисающей дороге ходил
в соседнюю деревню к бригадному комиссару Куницыну —
начальнику Политотдела армии.
Как всегда, вход в комнатушку Куницына завешен бай-
ковым одеялом.
По эту сторону одеяла, на кухоньке, хозяйничает его адъю-
тант Савинов, юный, но уже со стальным зубом из-под
улыбки. Савинов угощает чаем политруков, которые вы-
званы к Куницыну из частей и ждут своей очереди разгова-
ривать с ним. Маленький и тоже улыбающийся, начищен-
ный, как медное солнышко, самовар. Стол — бочка с водою.
Если кому-нибудь нужна холодная вода—самовар кверху,
крышку — в сторону, и черпают кружкой прямо из бочки.
Разговоры среди ожидающих — шепотом. Куницын ведет
разговоры за одеялом тоже очень тихо. Снизил голос и я,
попав по ту сторону одеяла. Показал ему план нового раз-
дела истории Ударной армии. Куницын заговорил о пись-
ме нашего командарма Дубнецова Сталину. Рекомендовал
прочесть: оно осветит всю обстановку на нашем фронте и
причины наших неудач.
Я задал вопрос о танках. Я имел в виду приказ по фрон-
ту, в котором есть такое место:
«Вредная тенденция быть везде с танками часто губит
дело. Так, 13.2.42 командующий Ударной армии генерал-лей-
тенант Дубнецов, не обеспечив сосредоточения 83-й танко-
вой бригады и снабжения ее горючим, раздробил бригаду на
группы по одной, две роты, придав их дивизиям и стрелко-
вым бригадам. Командиры последних, в свою очередь, рас-
21
пределили танки между стрелковыми полками и батальона-
ми, где, в силу этого, танки использовались мелкими груп-
пами и даже одиночными машинами. В результате такого
безграмотного подхода к использованию танковой бригады
она целиком оказалась небоеспособной, не проявив должного
эффекта своими действиями» (7 марта 1942 г., № 0153).
Куницын, подумав, сказал:
— Видите ли, в армии так: если старшее начальство при-
казывает, говорит о чем-то в приказе, значит, оно право.
Но... — Он не находил продолжения, и я помог ему:
— Я забегаю вперед. Все станет для меня ясным после
письма командарма?
— Да.
Это «да» было как гвоздь, забитый до самой шляпки. Мне
оставалось только встать.
— Товарищ бригадный комиссар, разрешите идти?
Куницын тоже встал.
— Еще один совет: вам обязательно надо побывать у По-
ростаева. Сейчас это самый ответственный участок на всем
нашем фронте. Именно здесь немцы бесятся больше всего.
Образована особая группа, чтобы не дать немцам соединить-
ся с Демянским котлом. Группой командует Поростаев.
Комиссаром у него политрук Ломоносов. Сейчас я позвоню
Ломоносову, а вы садитесь ближе к овету и прочтите этот
документ.
Куницын достал из папки, положил на стол и разгладил
ладонью отпечатанную на машинке страничку.
— Только вчера захватили у одного из пленных.
Я надел очки и прочел:
«Ударная группа Зейдлица. 20.3—42 г.
Солдатам ударной группы Зейдлица!
Велика и неповторима в истории нашей родины задача,
поставленная перед вами 21 марта.
Наши товарищи из 2-го армейского корпуса, с которыми
10-й армейский корпус с 21 июня плечом к плечу боролся и
побеждал, оказались в середине февраля от нас совершенно
отрезанными в результате временного превосходства сил
русских, обусловленного русской зимой.
Освобождение наших товарищей из 2-го армейского кор-
пуса фюрер определил так: «Товарищеский долг чести».
Поэтому необходимо приложить все наши силы для осу-
ществления этой великой цели. При этом я полагаюсь на
вашу готовность к жертвам.
29
Да благословит бог вас и вашу борьбу и да дарует нашим
знаменам победу.
Да здравствует наша родина и наш фюрер!
В России, 20 марта 42 г.
Зейдлиц.
Генерал-лейтенант и руководитель группы.
Этот приказ подлежит распространению до рот и батарей
включительно».
Прощаясь, Куницын сказал:
— Поростаев очень интересный человек — он вам совер-
шенно необходим для истории. Когда Ударная защищала
Москву на канале Москва — Волга, Поростаев был началь-
ником штаба армии. Немцы проскочили через мост на другую
сторону канала. Узнав об этом, Сталин вызвал к телефону
Дубнецова, а потом Поростаева, разговаривал и с ним. Вы
расспросите об этом Поростаева.
12 апреля.
И вот я в блиндаже у Поростаева.
Я вошел туда слепой после яркого солнечного дня в мо-
лодом сосновом лесу, где все мерцало, сверкало, струилось,
ползло и текло: весенние ручьи, жидкая грязь на дороге, лу-
жицы чистой воды между янтарных сосенок, синие тени на
лоскутах снега.
Постепенно, как на картине Рембрандта, стали из мрака в
блиндаже выступать лица и фигуры. Здесь я первый раз уви-
дел ставший уже классическим медный фронтовой светиль-
ник: это была гильза от снаряда, сплющенная сверху, вместо
боеголовки в щели зажат фитиль, сбоку в гильзе дырочка,
через которую наливают бензин, а в ней — деревянная проб-
ка-затычка.
Весь штаб Поростаева сидел за утренним завтраком возле
приколоченного к стене маленького столика шириною в три
узкие доски: здесь были помимо Поростаева и Ломоносова
начальник штаба полковник Гасилевский и начальник ар-
тиллерии полковник Кунак.
Сервировка — ложки, два ножа, две вилки на четверых,
ни одной тарелки; продукты разложены на обрывках газе-
99
гы: масло, сыр, вареный карп и копченый лещ, мясные кон-
сервы, к чаю — пряники и пирожки, сахар в бумажном куль-
ке. Водка — Поростаев к ней не прикасался. Возможно, что
часть продуктов тоже из подарков тыла к годовщине Крас-
ной Армии.
Во всем блиндаже — ни одной табуретки. Есть только тон-
кие чурбаки, и сидеть на них утомительно. Сам Поростаев
сидит у столика на краешке нар, сколоченных из тонких
сосновых жердей.
На голых нарах ни клочка соломы, ни еловых лап, ника-
ких признаков постели. Поростаев спокоен и вдумчив. Го-
лова острижена наголо, лицо простое и даже грубоватое,
солдатского образца. Когда я к нему обращаюсь, хочется ска-
зать не товарищ генерал-майор, а товарищ генерал-солдат.
Никого никогда не перебивает: внимательно выслушивая,
смотрит тебе прямо в глаза, потом потупится, подумает и от-
ветит. Очень располагает к себе.
До переднего края — километра три, но никто в блиндаже
не раздевается, и генерал, даже завтракая, сидит в полушуб-
ке. В блиндаже очень сыро, Поростаев жалуется, что сильно
ломит ноги. А начальника артиллерии выворачивает наиз-
нанку сухой непрерывный кашель. Полушубок у Поростаева
распахнут, ворот гимнастерки расстегнут, и он то и дело по-
чесывается, запуская руку далеко под белье. Но это не от
укусов — просто устала кожа и нудно всему телу, оттого что
человек давно не раздевался и не мылся.
Я пришел вовремя: через несколько часов должно начать-
ся наступление, цель которого — парализовать немцев, рву-
щихся на выручку своей 16-й армии. Направление их глав-
ного удара: Новое Рамушевю и Старое Рамушево. А Пороста-
ев должен взять Великое Село, деревню Онуфриево и вы-
сотку 45 — 46 — левее Старого и Нового Рамушева.
Начались непрерывные звонки по телефону. Я вытащил
из полевой сумки блокнот и принялся торопливо записывать
все, что слышу, пытаясь быть точным почти стенографиче-
ски. Писать приходилось стоя, поближе к светильнику, так
как, сядь я на краешек нар, здесь уже, в «рембрандтовской»
тени, ничего не видно.
На другой стороне блиндажа, у телефонов сидели в глу-
бокой тени три связиста. Последний, в дальнем углу, уж со-
вершенно не был виден. Но как раз он-то и был главным дей-
ствующим лицом. В то время как остальные телефонисты
клевали от усталости носом и начальнику штаба приходи-
3)
лось их то и дело будить и ругать, этот, судя по голосу казах
или узбек, не ожидая вопросов начальства, сам докладывал
о том, что слышит, ни на минуту не отнимая трубки от уха,
слушал все разговоры на проводе.
Больше других разговаривал с бригадами и дивизиями
начальник штаба полковник Гасилевский. Казах это заме-
тил и обращался главным образом к нему.
Вот он говорит:
— Товарищ полковник, обстановка изменилась: на юго-
западной опушке стреляют артиллерия и пулеметы, слы-
шен шум моторов. Это не мне доложили, я подслушал доне-
сение.
Начштаба Гасилевский утомлен до предела, лицо у него
одутловатое, обрюзгшее, точно оно отсырело в блиндаже.
Когда убрали со столика остатки завтрака, он улучил ми-
нутку и побрился. Стало еще заметнее, что у него грязные
уши и шея. Гасилевский — воспитанный, очень вежливый
человек, когда ему приходится возвышать голос и кричать
на кого-нибудь в телефон (иначе перебивают на проводе), у
него делается страдальческое лицо, точно его тошнит от сво-
ей же грубости.
Казах передал трубку Поростаеву. Поростаев вниматель-
но выслушал кого-то и сказал:
— Рубцов, я все понял, теперь ты слушай меня: в сем-
надцать-восемнадцать— ко мне, находится в районе пункта,
из которого я переехал, и три километра южнее. Испытыва-
ет затруднение в пробках. Хозяин двадцать семь. Он был у
меня, получил предварительную кляксу. Все!
Так же непонятно для меня говорил с кем-то и Гасилев-
ский, только короче.
За час до наступления все звонки прекратились. В подзе-
мелье блиндажа, под несколькими накатами, не слышно бы-
ло никаких звуков войны. Все стали вдруг молчаливыми,
как бы ушли в самих себя. Молчал и невидимый в своем
темном углу казах: он чутко улавливал общее настроение.
Я заметил, что все присутствующие — Поростаев, Гасилев-
ский, начальник артиллерии полковник Кунак, военком Ло-
моносов и даже телефонист, тот, которого я мог видеть,—
все смотрят на пламя медного светильника, словно это был
какой-то неведомый золотой цветок, только что впервые в
жизни увиденный.
Начальник артиллерии, внешне самый аккуратный че-
32
ловек в блиндаже, пощупав рукою безукоризненно прямой
пробор посередине головы, сказал полковнику Гасилев-
скому:
— Виктор Александрович, вы обратили внимание —
последние немецкие приказы носят описательный харак-
тер?
— Инструктивный.
— Да: «Если так, то вот так, если так, то вот это...»
— На все случаи жизни.
В это время что-то слабо дрогнуло у нас под ногами, и
сразу же стала слышна артиллерия.
Поростаев сказал:
— Пошли!
И мы все посмотрели каждый на свое запястье: ровно
18. 00. А минут через десять сразу заработали все три теле-
фона, и опять стало казаться, что главное действующее ли-
цо в блиндаже — невидимый в темном углу казах.
Поростаев все чаще брал трубку. Голос его окреп, исчез-
ло сонливое выражение лица, усталости как не бывало, гла-
за загорелись. После первого мата Поростаев оглянулся на
меня и сказал:
— Вот так и привыкаешь к матерной ругани. А после
войны приедешь в Москву, пойдешь в гости, хозяйка даст
тебе полную тарелку солянки, а ложку забудет,— ударишь
кулаком по столу так, что все вилки воткнутся в потолок,
и крикнешь: «Так вашу мать и так вашу мать, а где ж моя
ложка?!»
Начальник артиллерии задохнулся от смеха, молча за-
трясся, а потом захохотал во все горло, так что заметалось
пламя светильника. Начштаба Гасилевский быстро поднял
руки и и загородил ладонями огонек.
Шутка Поростаева прорвала какую-то плотину, которая
заставляла начальника артиллерии молчать, и он ни с того
ни с сего начал рассказывать анекдот.
— Однажды поп и раввин ехали в мягком вагоне...—
сказал он, но тут его вызвали к телефону.
Он торопливо начал кричать в трубку, и казалось, что
он злится, потому что ему не дают закончить анекдот:
— Сумасшедший — ты не туда смотришь... Зачем тебе
глаза? А, что? Я же накрою своих... Не психуй — это уста-
вом не предусмотрено!
Окончив разговор, начальник артиллерии опять сказал:
2 В. Ковалевский
33
— Однажды поп и раввин ехали в мягком вагоне...
И опять его вызвали к аппарату.
Минут через двадцать серия первых утробных толчков
дошла по земле до блиндажа. Начальник артиллерии выру-
гался черным словом и сказал:
— Начал бомбить, бродяга!
Поростаев посмотрел в темный угол и спокойно сказал,
словно он просил, а не приказывал:
— Ну-ка, позвони на передовую — бомбит, кажется.
Казах закричал:
— Алло! «Ласточка»! Слушай сюда! Как там в смысле
воздуха? Понятно, понятно. Повторяю. Двадцать четыре
«юнкерса» построились кругом и молотят нашу пехоту. По
очереди пикируют, отбомбятся, опять занимают свое место в
кругу, потом опускаются до бреющего и поливают из пушек
и пулеметов.
— Дайте мне Рубцова! — попросил Поростаев.
Гасилевский сам вызвал «Африку» и передал трубку По-
ростаеву.
— Рубцов? Поростаев говорит. Ну как дела? А где вой-
ска у вас? У самой деревни? Есть шанс, что ворвутся в де-
ревню? Алло! Оставьте там! Алло, Рубцов. Ну, когда будет
решающее? Стыдно тебе, Рубцов, ты не ребенок, что ты
просишь? У меня нет в кармане авиации. Фу! Не дают
разговаривать. Уйдите к чертовой матери с провода! Алло!
Рубцов? Если не поднимаются, иди сам вперед и поднимай
сам! У меня все!
Поростаев еще не закончил, а Гасилевский уже держал
наготове другую трубку:
— Балабуха хочет с вами говорить.
— Балабуха, ну как дела? — спросил Поростаев.— Вы-
сотку заняли? Ну, дальше, дальше... Что? Что? Голову не
дает поднять? А вы ползите, не поднимая головы... Пере-
станьте клянчить... Мы с вами старики... Нет у меня крыль-
ев!.. Хорошо! Сыграет вам «катюша», если не можете жить
без музыки. Возьмите высотку,— я не требую, чтобы вы
взяли Казбек с Араратом,— доползите до 45 — 46. Больше
от вас ничего не ждут. У меня все!
Поростаев обернулся к начальнику артиллерии и сказал:
— Полковник, сыграйте им на гитаре, успокойте им
душу!
Начальник артиллерии прижался ухом к трубке, лицо
34
его стало совершенно отсутствующим, и, когда он отдавал
команду, казалось, что он видит цель, по которой сейчас
ударит «катюша».
Тут же заговорил темный угол, по обыкновению не ожи-
дая вопросов:
— Справа заходят семнадцать... пикируют район высот-
ки... Слева еще шесть... Наша пехота лежит... Заходят на
второй круг, включили сирены... пикируют...
Минут пять длилось полное молчание. Ни одного звонка.
Никто ни разу не открыл рта. Потом опять голос казаха, в
нем оттенки восхищения:
— Наша одна «коробка» вошла в деревню. Немцы бегут
через реку за Великое Село.
Поростаев не сводит глаз с темного угла, оживился, об-
ращается к начарту:
— Товарищ Кунак, подготовьте залп. Взять овраг и юго-
восточную окраину Великого Села. Ждите. Только не за-
деньте своих.
Гасилевский, все время не выпускающий трубки из рук,
говорит Поростаеву:
— Разнобой в сведениях о танках. С артиллерийского на-
блюдательного пункта сообщают, что все танки ворвались
в деревню, а Петрученко говорит, что два подорвались, тре-
тий попал в ловушку.
— Уточните, Виктор Александрович. Я готовлю залп по
оврагу и по Великому Селу. Не хватить бы по своим.
Казах:
— Бомбит, опять бомбит! Двенадцать «юнкерсов»...
Военком Ломоносов жил в блиндаже какой-то своей, обо-
собленной жизнью. Для него был прибит к стене, ближе к
входу, отдельный столик, правда, крошечный, как пюпитр
дирижера, и на нем едва помещалась развернутая папка.
Пропорционально размерам столика источник света у него
был тоже крошечный: не стакан от снаряда, а патрон от
противотанкового ружья.
Вряд ли Ломоносову было больше двадцати пяти — два-
дцати шести лет. Удивляло выражение его совсем еще юно-
го лица: продолговатое, худощавое, большеглазое лицо, до
странности ясное, почти счастливое, точно он ничего не за-
мечал вокруг, точно на всем свете все обстоит превосходно.
Между прочим, он был единственный, кто работал в блин-
даже раздетый, в одной гимнастерке — ему почему-то не бы-
ло холодно. В полумраке блиндажа резко выделялся его бе-
2*
35
лый подворотничок. На лице Ломоносова — ни тени устало-
сти, он моложе всех нас.
Ломоносов принимал донесения от информаторов, не-
скольким бойцам вручил партийные билеты, раздавал рот-
ным агитаторам материал для политзанятий, тихо говорил
с ними. Только один раз возвысил он голос, так что Поро-
стаев глянул в его сторону. Ломоносов сказал какому-то
агитатору, который стоял спиною ко мне:
— Возьмите себя в руки и научитесь слушать!
Держался он очень уверенно и, как мне казалось, немно-
го любовался своей необычной ролью молодого военкома
большой воинской группы.
Когда около Ломоносова никого не было, я подошел к
его столику. Он обрадовался.
— Садитесь, товарищ Ковалевский,— сказал он.— Знае-
те, какая у меня радость? Сегодня утром я получил письмо
от брата. Он у меня командир подводной лодки. Представьте
себе, он вывез под водой мою мать из Севастополя. Можно
сказать, вырвал ее из рук немцев, из рук смерти. Я считал
ее погибшей. А ведь она у меня — единственная!..
Потом вдруг, быстро окинув взглядом блиндаж и как бы
застыдившись, что говорит о самом себе, Ломоносов спро-
сил:
— А вы разговаривали с генералом о боях под Москвой?
Знаете, как он кормил обедом английского министра Идена?
Я рассмеялся и, разводя руками, сказал:
— Что вы! Ведь я только что познакомился со всеми
вами.
Как раз в эту минуту Поростаев закричал в трубку:
— Балабуха! Говорит Поростаев... Надо огнем, нельзя
живою грудью. Раз не доползли, зачем выдвигать новые
эшелоны? Отведите в исходное положение. Распорядись по-
добрать оружие, ни одной винтовки не оставляй немцам. На
дорогу посади «картошку» *. Похороны — сегодня ночью. По-
полнение не должно видеть трупов.
Поростаев положил трубку. Ломоносов подошел к нему
и попросил таким тоном, словно он был не военком, а до-
машний врач генерала:
— Товарищ генерал-майор, прилягте-ка!
Поростаев не обратил никакого внимания на его слова.
Он сказал начальнику артиллерии:
1 Мины.
36
— Дайте отсечный огонь! Балабуха просит опять «катю-
шу», дайте два залпа. Людям надо опомниться
— Дмитрий Ефремович,— сказал начарт,— боюсь, что
сыграю им похоронный марш. Я же могу накрыть своих.
— Бросьте шутить, полковник! Берите трубку, уточняй-
те координаты и немедля давайте отсечный!
Поростаев дотронулся до чьего-то сапога, который торчал
кверху носком, на краю нар, сказал потеплевшим голосом:
— Виктор Александрович, посидите часа два.
Тут только я заметил, что на нарах каким-то образом
успел уже заснуть Гасилевский. Его лицо было прикрыто
ушанкой.
Стаскивая с себя полушубок, Поростаев начал объяснять
Гасилевскому, который моментально стряхнул с себя сон и
казался немного испуганным:
— Обстановка такова: наши части отошли на исходный
рубеж. Теперь так... Широкого наступления с рассветом
предпринимать нельзя,— нет снарядов. Теперь так... Узнать,
если Великое Село взято, действительно взято, тогда во что
бы то ни стало надо наступать. Если же они нюхаются и
лежат — попытаться одной только разведкой. Теперь так...
Фурсин ставит задачу: во что бы то ни стало поддержать
Морозова *. Просит нас подумать, дать свои соображения. Ут-
ром будет звонить.
Гасилевский поднялся и сел к телефону. Поростаев бро-
сил на его место свой полушубок и сказал, укладываясь:
— Будем считать, что это отдельное купе.
Натянув полу полушубка себе на голову, Поростаев про-
говорил так тихо, что, кроме меня, сидевшего на краю нар,
никто его не услышал:
— Однажды поп и раввин ехали в очень мягком вагоне...
Я потерял представление о времени — давно не смотрел
на часы — и, когда вышел наверх из блиндажа, стояла уже
кромешная тьма. Только с помощью часового я мог найти
тропинку и отойти от блиндажа немного в сторону. Когда
я спустился обратно, в блиндаже бодрствовал только Га-
силевский. Ломоносов тоже успел заснуть на нарах, началь-
ник артиллерии куда-то вышел.
— Присаживайтесь,— пригласил меня Гасилевский, по-
казав на чурбачок рядом с собой.
1 Командующий соседней с нами 11-й армией.
37
Я спросил:
— С кем же мы воюем, товарищ полковник? Могу вам
признаться: я до сих пор толком так и не знаю, что такое
Демянский котел.
Гасилевский недоверчиво взглянул мне в глаза, потом
сказал:
— Ну что ж, доставайте ваш блокнот — будем вместе ко-
ротать ночь. На сегодня спектакль закончен.
Он достал с полочки, приколоченной над столиком, дру-
гую карту — на двухверстке, которая весь день лежала пе-
ред ним и Поростаевым, котел на вмещался. Придавив один
край карты светильником, а другой—локтем, он принялся
терпеливо, как школьнику, объяснять мне:
— Вот этот круг, вычерченный синим карандашом,— это
и есть Демянский котел. Тут варится в собственном со-
ку около девяноста тысяч немецких солдат и офицеров, в
том числе эсэсовская дивизия «Мертвая голова». Теперь
понимаете, почему нам этот котел дорог? Грубо гово-
ря, котел имеет сто километров в длину и пятьдесят — в
ширину.
Командует попавшей в котел 16-й армией крупнейший
прусский помещик, генерал фон Буш. До войны он был на-
чальником русского отдела генерального штаба германской
армии. Эта бестия хорошо знает русский язык. В котел по-
пал и любимчик Гитлера граф фон Брондорф — он команду-
ет вторым корпусом. Вот вам ответ на вопрос, что такое Де-
мянский котел.
Гасилевский продолжал:
— Теперь кого же Гитлер бросил им на выручку, кто
должен освободить их из окружения? Это — «группа выруч-
ки», или «группа Зейдлица». Вы читали его приказ?
— Читал.
— Так вот. Зейдлиц имел тридцать четыре тысячи сол-
дат, когда двадцать первого марта ударил по нашей армии.
За месяц он порядочно потерял, прогрызая нашу оборону.
Но за последние дни ему подкинули свежие силы, на само-
летах из Франции. Он, конечно, любой ценой будет доби-
ваться своего. У Зейдлица сейчас тридцать шесть батарей
разных калибров, кроме того, сто восемьдесят одна противо-
танковая пушка; добавьте к этому пятьдесят минометных
батарей; у него тысяча четыреста пулеметов и около шести-
десяти танков. Вот он и жмет. Через нас он не перешагнет —
38
у нас крепкая оборона. Он бьет по стыку между нами и
одиннадцатой армией по дороге на Рамушево. Дорогу от нас
забрали и передали группе Миссана, из одиннадцатой армии.
Вот Зейдлиц и теснит сейчас Миссана. Мы во что бы то ни
стало должны помочь Миссану. Правда, мы здорово отвле-
каем на себя немцев, но этого мало. Мы обязаны взять Онуф-
риево, Великое Село и высотку 45 — 46, а мы не можем.
Нас режет его авиация. Мы ничего не можем ей противо-
поставить— его авиация что хочет, то и делает. Вот и се-
годня — авиация сорвала наше наступление.
Нас перебивает казах:
— Товарищ полковник, возьмите трубку.
По вопросам Гасилевского понимаю, что с танками не
все еще ясно. Но с меня на сегодня хватит — больше не мо-
гу... Полчетвертого—не могу больше.
Мне свело ноги на неудобных коротких нарах. Нет, я
проснулся от крика начальника артиллерии. Он дергал за
рукав телефониста:
— Ты спишь? Вот завтра увидишь, будешь дежурить на
передовой!
— Товарищ полковник, я не сплю.
— А кто сопит?
— У меня насморк.
— Раскис, распустился!.. Завтра будешь дежурить на
опушке рощи!
Поростаев, оказывается, тоже уже сидит у телефона. Че-
тыре часа. Значит, я спал ровно полчаса. Пробую причесать-
ся—волосы слиплись от смолы: я прислонился головой к
стенке — очень коротки нары, и мешает бревно в ногах, по-
лучается, что ноги выше головы.
Поростаев кричит, уже не заботясь о том, чтобы про-
тивник его не понимал:
— Уйдите прочь с провода! Дайте мне «Африку». Руб-
цов, где же «коробки»? Все танки в деревне, десант — в де-
ревне...
Я уже давно понял, что «коробки» — это танки, «картош-
ка»— мины, «огурцы» — снаряды, «карандаши» или «маль-
чики»— пехота. Вообще чем дальше от начала атаки, тем
конспирации все меньше и меньше. Само собой разумеется,
что немцы давно уже знают всю эту экзотику, все знают,
39
но по привычке вся эта игра в туманную терминологию
продолжается.
В блиндаж стремительно входит майор в черном кожа-
ном шлеме танкиста. Он взволнован и рапортует слишком
громко — так отдают команду только под открытым небом.
Поростаев даже морщится от его голоса.
— Товарищ генерал-майор, разрешите доложить: началь-
ник танковой группы майор Кленов явился!
— Я вас вызвал — хочу знать, что происходит с тан-
ками.
— Танки в деревне: два подорвались, один попал в ло-
вушку, два еще отстреливаются. Пехоты нет. Десант я за-
бросил— по восемь человек на танке. Товарищ генерал,
прошу вашей помощи.— Голос майора дрогнул, в глазах яр-
че заблестели огоньки от светильника — они повлажнели.—
Я не могу так бросить своих танкистов. Там замечательные
ребята! У меня есть предложение: выдвинуть всю пехоту.
Пехота не поддержала. Связи не имеет. Пехота идет по
дороге, как по Невскому проспекту. Я привез раненого ав-
томатчика, спросите его — он расскажет, как действовали
танки, не поддержала только пехота.
Поростаев — телефонисту:
— Дайте «Африку»—Семерникова. Слушай, Семерни-
ков! Все танки в деревне, десант — в деревне. Ваш первый
разбежался, и все они гибнут поодиночке. Я даю огонь по
Великому Селу — оттуда весь огонь. Сейчас же отправляй-
тесь навести порядок. А то, что было у Гладильщикова, раз-
бежалось. Комиссару выделить десять курсантов. Всех
останавливать, всех проверять. Пехота отошла. Значит, танки
тоже отвести за пехоту. Нужно оправиться. Дорогу замини-
ровать. Закрыть дорогу. Принять меры обороны. Это — толь-
ко после твоего доклада, что танки вышли. Погоди, где же
четыре? Что было? Фу! Как же ты можешь вое-
вать, если не знаешь, сколько у тебя было? Значит, твоему
докладу опять верить нельзя. Ступай и сам наведи порядок!
У меня все!
Майор-танкист, с трудом дождавшись, когда Поростаев
окончит, опять попросил:
— Товарищ генерал-майор, я вас прошу...
Но Поростаев оборвал его (он уже взял карандаш и спо-
койно рисует на бумаге каких-то уродцев):
40
— Майор, нажмите на свои нервы!
— Товарищ генерал-майор, мои нервы крепкие — все
выдержат!
— Раненых много?
— Много!
Гасилевский иронически говорит как бы самому себе:
— Одного раненого ведут двое, третий — несет его
винтовку. Все трое охают, и он идет как ни в чем не бы-
вало...
В это время закричал казах:
— Танк выходит из ловушки задним ходом!..
Майор встрепенулся. От радости он обращается к Поро-
стаеву без звания:
— Товарищ Поростаев, разрешите идти? Я вытащу этим
танком два подорвавшихся.
— Идите, действуйте, а я подготовлю вам огонь. Това-
рищ Кунак, вызывайте своих артиллеристов.
Начальник артиллерии дергает за рукав опять задремав-
шего телефониста.
— Слушай, друг, так дело дойдет до трибунала!
Вмешивается Поростаев:
— Товарищ Кунак, прошу вас, сядьте на его место.
Пускай боец выйдет на воздух — ему надо освежиться. Ми-
нут десять, не больше. А через час придет смена.
Я тоже больше не могу — заползаю на нары, полевую
сумку вместе с тетрадками записей — под голову, ушанку
тоже — под голову.
Хочу видеть Балабуху, хочу видеть Семерникова, видеть
высотку 45 — 46, деревню Онуфриево, хочу видеть людей,
которых Поростаев заставлял идти в бой, заставлял взять
высотку и Онуфриево.
Ломоносов позвонил Семерникову и Балабухе, преду-
предил о моем приходе.
О командире 121-й бригады Семерникове записать нече-
го— он утомил меня тем, что во что бы то ни стало хотел
напоить водкой. Не знаю, был ли он так же настойчив, когда
пытался взять Онуфриево? Со мной его тоже постигла не-
удача.
Начальник Политотдела бригады Торгашев увел меня
41
ночевать к себе в землянку, надеясь на долгий разговор.
Дело в том, что перед самой войной он прочитал мой роман
«Хозяин Трех Гор». Но разговора не получилось.
К Торгашеву должен был прийти военком минометной
батареи Мецнер. Этот энергичный белокурый двадцатиде-
вятилетний военком совершенно неожиданно для всех, кто
знал его, бросил в бою свою батарею. Его даже не ранило,
а просто слегка задело, обожгло кожу пулей. Мецнер само-
вольно уехал с передовой и девять дней таскался по госпи-
талям. Там он хотел заручиться справками, дающими ему
право «вследствие ранения» поехать в Москву на полтора
месяца.
Торгашев условился с уполномоченным Особого отдела
армии, что за ним придет связной, когда Мецнер появится в
землянке.
Мецнер вошел, приподняв край плащ-палатки, которая
заменяла дверь. В руке он держал какую-то папку.
Торгашев сказал:
— Садитесь, Мецнер. Как дошли?
Мецнер ответил подавленным голосом:
— Трудная дорога.
Он сел на ящик возле столика, на котором довольно ярко
горела керосиновая лампочка, и теперь стало заметно, что
Мецнер сильно удручен и пришиблен.
— Вы знаете решение партийной комиссии? — спросил
его Торгашев.
— Нет.
— Вы исключены из партии!
Мецнер побледнел и долго молчал. Потом он выдавил из
себя:
— Мне это тяжело, товарищ комиссар.
Торгашев протянул к нему руку:
— Отдайте ваш партийный билет.
Голос у Торгашева суровый, непреклонный.
Мецнер вынул из кармана гимнастерки билет, вложил
Торгашеву в руку, потом закрыл лицо руками и затрясся,
заплакал.
— Ну, Мецнер... вы же понимаете... после того, что вы
сделали...
— Я честно работал... Я никогда не имел никаких взыс-
каний от партии... Я надеялся искупить...
42
— Да, но то, что вы сделали... за это вы будете отвечать
по закону!
— Но ведь я был в таком тяжелом состоянии, я понял, я
пришел... Ведь я честно работал... Никогда не имел взыска-
ний... Я надеялся работой...
— Мецнер, вы же не ребенок!
— Товарищ комиссар, что же теперь будет, что я должен
делать?
— Вы ответите за свой поступок перед правосудием.
Снаружи послышались бултыхающие по воде шаги. По-
дошел уполномоченный, которого известил связной.
— Вот Мецнер! — говорит Торгашев.
Уполномоченный отобрал у Мецнера папку и полевую
сумку. Оставалось только увести его из землянки. Уполно-
моченный обнажил свой пистолет и, пропуская Мецнера
вперед, скомандовал:
— Идемте!
Мецнер обернулся с порога и с тоскою в голосе, с надеж-
дой спросил:
— Товарищ комиссар, так что же вы все-таки мне ска-
жете?
Так же сурово, непреклонно, без каких-либо признаков
волнения, бесстрастно, как голос рока, Торгашев сказал:
— Когда кругом пролито столько крови, кровь одного
труса ничего не значит.
На фронте я еще не видел двух землянок, которые были
бы похожи одна на другую — в каждой есть что-то свое, не-
повторимое. Избы, на мой взгляд, более однообразны, чем
блиндажи и землянки. Землянка Политотдела едва не стала
нашей могилой. Ничего более сырого, чем жилище Торга-
шева, я еще не встречал: с потолочного наката непрерывно
текло, глиняные стены оплывали и деформировались поч-
ти что на наших глазах. Ноги все время в воде. Даже печ-
ка долго не растапливалась — и не из-за сырых дров, а по-
тому, что было мокро в самой печке. Связной долго бился
над ней, пока в трубе не загудело.
Мучительно было спать в такой сырости. Счастье наше,
что мы проснулись вовремя. Задержись мы еще немного, и
вряд ли я смог бы когда-нибудь взять это перо в руки. Мы
еще не успели выйти из землянки, как под тяжестью наката
начали глыбами обваливаться ее стены, прямо на нары, где
43
мы только что лежали. К полудню на том месте, где мы но-
чевали и где был арестован Мецнер, осталась только яма с
рыжей водою, а на поверхности ее плавала грязная пена с
пузырями и мелкие полешки дров.
Утром я отправился к полковнику Балабухе. Он со сво-
им военкомом спасался от потопа: блиндаж заливало водой,
хотя он был обкопан глубокой канавой. Два бойца, обли-
ваясь потом, работали каской в четыре руки, старались вы-
черпать— бесполезно. Пришлось все бросить и ставить па-
латку.
Балабуха — в сплошной седине, но крепок и высок, с
сильным загаром, усатый и голубоглазый, у рта и у глаз —
много мелких морщинок. Старик чуть старомоден, в
нем угадывается служака времен первой империалисти-
ческой войны. Даже странно, что такие военные есть еще
в нашей армии. Старомодно вежлив, весь как будто из
старого мира, так хорошо, даже слишком хорошо мне зна-
комого.
Бойцы вытащили из безнадежного блиндажа печку и
принялись ставить между сосен палатку. Мы с Балабухой
разговорились не сразу. А вокруг нас — весенний лес, пест-
рый от ржавой хвои и зеленого мха, прошитого веточками
прошлогодней брусники, пестрый от лоскутов снега, от стру-
ящейся повсюду воды, в которой играют солнечные зайчи-
ки. Поют птицы.
Балабуха знает от Ломоносова, кто я такой. Он начал на-
ивный разговор, который якобы должен интересовать пи-
сателя.
— Так и запишите: все зовет к жизни, а над тобой ви-
тает смерть во всех видах: миномет, пулемет и сверху —
фрицы!
Он сказал, что видел уже кустик зеленой травы и как
раз возле кустика пела птица.
Мне стало не по себе, и я заговорил о том, что кой у ко-
го из тех, кто воюет с первых дней войны, ощущается яв-
ная усталость.
Балабуха решительно перебил меня, даже еще не дога-
давшись, что я имею в виду:
— Никакой усталости. Есть только чувство ответствен-
ности, и она заставляет забывать все остальное. В самом
деле, какой у меня выбор, если все бежит и остается только
44
тридцать пять человек. Тут только одна мысль: «Оставай-
ся с ними тридцать шестым!»
Я пытался объяснить, что имею в виду совсем другое, но
он говорил свое:
— Да, такие есть! Бежит один гражданин с вытаращен-
ными глазами и кричит: «Полковник, все пропало!» — «Что,—
спрашиваю,— пропало?» Достал пистолет. «Ничего, говорю,
не пропало». А он: «Застрелите меня, а то я не могу вытер-
петь! »— «Ни хрена я тебя не застрелю, а пойдешь обрат-
но!»— «Обратно? — почесал за ухом и сказал:—Ну что ж,
можно и обратно!»
Я спросил у Балабухи:
— А вам самому, товарищ полковник, бывало когда-ни-
будь страшно?
Балабуха стал пристально меня рассматривать, как ка-
кую-нибудь божью коровку. Под взглядом этого седого че-
ловека я вдруг почувствовал себя мальчиком.
— Вы, кажется, не такой уж молодой человек,— сказал
наконец Балабуха.— Вы, должно быть, слыхали о царском
генерале на белом коне?
— Как же, как же,— генерал Скобелев, освободитель бал-
канских славян от турецкого ига.
— Ну так вот, генерал Скобелев говорил: «Плюньте то-
му в глаза, кто будет вас уверять, что не знает страха». Раз-
ве можно, например, считать трусом Юлия Цезаря? А из-
вестно ли вам, что он, как ребенок, боялся грома? Известно
ли вам, что знаменитый полководец маршал Люксембург-
ский страдал поносом во время каждого сражения? Один из
лучших военачальников Наполеона, маршал Мюрат, мно-
жество раз обращал в бегство неприятельские полки, а во
время атак испытывал самый настоящий страх. Но никто
не считает их трусами. Храбрец не тот, кто не знает стра-
ха. Не испытывает страха только труп. Храбрый человек
тот, который способен силою воли и разума преодолеть
страх.
Если бы вы,— продолжал Балабуха,— обучались в юн-
керском училище, вы бы запомнили на всю жизнь: страх
побеждается высшей силой души человека, чувством долга,
любовью к «други своя». Враги страха: разум, чувство дол-
га, сила воли, любовь.
Старик говорил смачно, вкусно. По-моему, он даже похо-
рошел. Он был доволен, что я подбросил ему эту тему. Лю-
45
бопытно, а как он переживает то, что ему не удалось
отобрать у немцев высотку 45—46? Я спросил его об
этом.
— Так ведь это же пустой формализм! — сказал Балабу-
ха.— Не доползли триста метров? Так ведь я же все равно
держу под огнем все его дороги. Мы не рыбы, мы не можем
плавать на глазах у немцев. Половина моих жертв не уби-
тые, а тяжело раненные утопленники...
Я признался, что хотел бы взглянуть на высотку.
— Так ведь это же проще пареной репы! — сказал даже
как бы обрадовавшись, Балабуха.
Он сам повел меня на передок.
Балабуха менялся в лице, его глубоко огорчало, если он
видел брошенную на дороге какую-нибудь вещь из воинского
обихода. Ему было обидно, что так дешево ценят челове-
ческий труд. Он не мог оставаться равнодушным, и пока мы
шли к высотке, то поднимет гофрированную трубку от про-
тивогаза и повесит ее на ветку, то вытащит из грязи
и поставит на пень совершенно целый котелок, лишь
слегка помятый, подберет какую-то металлическую се-
точку неизвестного мне назначения и тоже повесит; воз-
мутился, найдя диск от ручного пулемета, набитый патро-
нами, и прислонил его к комлю березы так, чтобы диск
все проходящие могли видеть и подобрал бы тот, кому
он нужен.
Мы дошли до последней черты. Здесь наблюдательный
пункт полковой артиллерии. Молодая, редкая ольха. Сквозь
голые ветки видны немецкие блиндажи. Это и есть высотка
45 — 46 — маленькая, еле-еле возвышается над местностью.
До немецких блиндажей, пожалуй, метров восемьсот, не
меньше. Маскировка у них очень грубая: в глину воткнуты
сосенки, большинство уже засохло.
Светит яркое солнце, совершенно безветренно, а под но-
гами — вода, вода, вода... Снега почти совсем не осталось.
Но любопытно: если попадется клочок снега на солнце, над
ним на высоте — мне по пояс — стоит как бы собственное
облачко — туман: солнце выпаривает из снега влагу, и она
тут же — из-за безветрия — снова конденсируется над сту-
деным снегом.
Балабуха отыскал сухое местечко у пня, от которого по-
чему-то пахло копченой рыбой. Мы разулись, повесили на
веточках сушить свои портянки и легли на землю.
46
На дереве в десяти метрах от нас сидел наблюдатель-ар-
тиллерист. Он постеснялся сделать нам замечание, но слез
с дерева и молча разостлал наши портянки на земле. Ар-
тиллерист сказал мне (Балабуха уже задремал):
— На ветках они нас демаскируют, а на земле немец
подумает: это снег.
Потом наблюдатель снова забрался в свое гнездо на оль-
хе. Чтобы не выдать себя, он двигался в таком замедленном
темпе, что напоминал австралийского ленивца — самое мед-
лительное существо из всех четвероногих.
Наблюдатель кричит в телефонную трубку:
— Вижу три подводы! Тащатся в Козлово. Надо бы дать
огня!
Несколько снарядов прочерчивают в небе невидимые ду-
ги своим шелестящим свистом.
До меня еще не успели дойти звуки разрывов, а наблю-
датель уже хохочет на дереве и кричит:
— Точно!
А Балабуха спит как праведник,— до чего же, значит,
устал человек. Заснул и я.
Внезапно я проснулся. Голые ноги приятно греет солнце.
На мою полевую сумку опустилась лимонница, желтая, как
канарейка. Через секунду она вспорхнула, едва не задев за
мое ухо крылышком. Мне даже померещилось, что я слы-
шу мучнистый запах ее пыльцы. И мои глаза, прежде такие
утомленные и равнодушные, после минутного сна и визита
лимонницы вдруг начинают все видеть, как в стереоско-
пе. На разогретое солнцем голенище моего сапога вы-
бралась ящерица, как будто я уже труп. Она зажмурила
глаза от блаженства. Дурочка, ведь ты же всю зиму и так
спала!
Стороной, за кустами, проходят два бойца. Они громко
бултыхают ногами по воде. Один из них жалуется на кури-
ную слепоту:
— Чуть солнце зайдет, а я уже ничего не вижу. Наверно,
от голода — не хватает витаминов.
Другой ему с иронией:
— Вы что, дворянского происхождения?
Но первого это не зацепило:
— Я бы сейчас не отказался от гречневой каши, пускай
хоть без масла! Или, например, украинский борщ с чесно-
ком, со сметаной!
47
Другой засмеялся:
— То без масла, а то подавай сметану?! А кобылий хвост
с шоколадом не хочешь?
Поют птицы... По черному проводу, протянутому на-
искось к наблюдателю, со скоростью секундной стрелки пол-
зет волосатая гусеница. Поют птицы... Из черных дырочек
в трухлявом пне выползают муравьи. Они вытаскивают на
солнце личинок — «муравьиные яйца», похожие на зерна
каких-то злаков. Любители птиц кормят «муравьиными яй-
цами» соловьев.
Поют птицы...
Звонкие коленца горихвостки, самой распространенной
здесь и в Подмосковье птахи величиной со щегла, теньканье
и посвистывание синичек, тоненький, как царапина от игол-
ки, звук крошечной мухоловки. Эти песенки бесхитростны,
как ситчик. Но после многомесячного запрета зимы они как
первая улыбка ребенка, как голос самой жизни. И потом —
ведь здесь же передний край смерти!
Да, я знаю, что это уже много раз описано,— описано, что
рядом со смертью о себе все время напоминает жизнь и что
это избитый литературный прием.
Но у меня начинается озноб внезапного восторга в этом
голом весеннем лесу, где почти некуда ногу поставить, что-
бы не попасть в трясину или не наступить на труп.
Этот крошечный кусочек обогретой солнцем тверди, где
удалось нам просушить портянки и как драгоценное лекар-
ство принять минутный отдых, напомнил мне, как в довоен-
ном Крыму, около первого цветка, прободавшего сухую, ка-
менистую почву, я подумал: достаточно маленького клочка
земли, чтобы с молитвенной проникновенностью ощутить
животворящую силу бытия, торжественно и празднично —
как слушание самой прекрасной музыки — ощутить воз-
можность дышать и мыслить и через это с наивысшей
остротой встретиться с самим собой, со своим сознанием,
пусть микроскопической, но все-таки частицей бесконечной
вселенной.
Так что же, действительно ли все это так уж пошло и
избито?
А не хотите ли вы кобылий хвост с шоколадом?!
Когда мы с Балабухой возвращались обратно, поднялся
небольшой ветер, и сразу же — то там, то здесь — затреща-
48
ли стволы деревьев. В тишине они притворялись живыми,
но во время позавчерашнего боя они уже были насмерть по-
ражены осколками и держались только на волоске: едва
ветер дотронулся до них одним только пальцем — лес сразу
же зашевелился, захрустел, затрещал, начали валиться
сучья и ветки, и рушилось то одно, то другое огромное де-
рево.
Не помню, кто сказал о деревьях: «Это — наши непо-
движные братья». И вдруг в одно мгновение я начал ощу-
щать лес по-другому: только что это была надежная, как
стена, защита от врага и с земли и с воздуха, а теперь ты
лихорадочно оглядываешься по сторонам — как бы вырвать-
ся на опушку, как бы не вдавило тебя дерево в раскисшую
землю.
Я сделал для себя открытие: идти надо там, где грязь
пожиже,— там легче, а где кажется суше — грязь еще не-
отвязней, цепче хватает за ноги.
В лесу много воронок, вровень с краями они залиты ры-
жей водою. На краю одной из них вбит кол с фанерной
дощечкой, на ней химическим карандашом сделана
свежая надпись: «Здесь погребены погиб, кр. и к. особ. 121»
(погибшие красноармейцы и командиры особой 121-й
бригады).
В другой воронке видны полузасыпанные трупы. Кровь
на повязках у погибших становится от воды нестерпимо яр-
кой, словно человек умер, а его кровь еще продолжает жить
и зовет к отмщению.
Полой воды с каждым часом прибывает все больше и
больше. Только мы вернулись на КП — звонок из второго
батальона: батальон окружило водою, и он теперь на остро-
ве. Ширина разводья — двести метров, глубина — до двух
метров. В расположении батальона остались шалаши мест-
ных жителей из какой-то деревни. Все пухнут от голода, де-
ти мрут. Балабуха приказал притащить сюда, за десять ки-
лометров, с Ловати лодку, чтобы ночью вывезти с острова
всех жителей и поддерживать связь с батальоном. Он саМ
позвонил на полковую батарею, чтобы прислали коня та-
щить лодку. Но оказалось — там ЧП: рухнувшей сосной сло-
мало спины двум лошадям. Балабуха сказал военкому ба-
тареи:
— Смотри, только не погнои мяса, не жадничай: своих
людей накорми, а остальное отдай во второй батальон — он
поплыл. Позвони туда Рубцову, скажи, чтоб сейчас же с
49
ездовым пригнал вброд Балабухе лошадь. Скажи, что кол-
хозников накормим — пришлем в лодке мяса. Бойцам тоже
на шашлык хватит. Не было бы счастья, да несчастье по-
могло!
Пока мы ходили с Балабухой на передок, пришел приказ
из штаба армии — укомплектовать химвзводы и команды
истребителей танков. Балабуха вызвал своего заместителя
по строевой и сказал ему:
— Отобрать для химроты самых убогих: слепых и глу-
хих, а в истребители танков — самых лучших бойцов.
Ночевать я остался у Балабухи, и все, что вы сейчас чи-
таете, я у него в палатке и записал.
16 апреля.
Только что позвонил от Поростаева Гасилевский, сказал
Балабухе, чтобы не дремал,— немцы повели наступление со
стороны Онуфриево, лезут на Семерникова.
— У меня не пройдут,— ответил Балабуха,— у меня —
вода!
Мне захотелось к Поростаеву, в его душный сырой блин-
даж. Я видел уже, как он руководит наступательным боем,
а как он отражает атаки, каков он в обороне?
Но на минуту я заколебался: что же я лезу в нору и
прячусь под землей, а не пойти ли мне к артиллеристу-
наблюдателю, ведь оттуда Онуфриево видно как на ладони?
Балабуха меня грубо одернул, куда девалась его старо-
модная вежливость. Он сказал:
— Товарищ писатель, это вам не бой быков! Вам прика-
зано писать историю, ну и пишите себе. Я могу вам дать
бумагу, перо и чернила, а то, я вижу, вы царапаете каранда-
шиком. Для потомства карандашик — это не инструмент.
Если вы пойдете к наблюдателю, я прикажу вас вернуть
с полдороги — вы будете там только путаться под ногами,
мешать.
Я не обиделся на Балабуху,— черт с ним, в конце концов,
может быть, с его стороны это добрая отеческая забота в та-
кой изящной упаковке. Но завтракать с ним я отказался.
Поблагодарил за то, что вчера он подарил мне так много
своего времени, попрощался и ушел голодный.
Не успел я отойти от КП и километра, меня догнал ор-
динарец Балабухи и протянул какой-то сверток в газете.
— Полковник приказал передать вам!
50
Это был здоровенный ломоть хлеба и кусок сала толщи-
ной в три пальца. Я сглотнул слюну, и мне стало стыдно —
захотелось вернуться обратно и обнять старика.
Я достал перочинный нож и честно разделил подарок по-
полам с бойцом. Сразу прибавилось сил: на свежем воздухе
хлеб и сало были необыкновенно ароматны, как будто мы с
бойцом прожевывали не кусок свиньи, а вкушали эликсир
для продления жизни.
Покончив с этим делом, ординарец сказал, взглянув на
мою шпалу:
— Спасибо, товарищ старший политрук! Теперь не так
тяжело будет дожидаться второго фронта.
Вырвав из тетради страницу, я отправил с ординарцем
записку Балабухе:
«Ваша доброта войдет в историю Ударной армии, даже
несмотря на то, что я пишу карандашиком».
Прошу передать эту тетрадь в Полит-
отдел армии, а затем моей семье: Моск-
ва, Чистые пруды, д. 23, кв. 3.
В. Ковалевский
У порога в блиндаж Поростаева стоял начальник артил-
лерии полковник Кунак. Оказывается, он курит, а я-то
думал, что они все четверо подобрались некурящие: Поро-
стаев, Гасилевский, Ломоносов и Кунак. Стоит прислонив-
шись к косяку, греется на солнце и курит. Вышел без шап-
ки — на солнце блестит его безукоризненно прямой пробор
в черных, как вороново крыло, волосах.
Увидев меня, он спросил не очень любезно:
— Товарищ историк, почему вы ходите один?
Я ответил:
— Товарищ артиллерист, я неплохо ориентируюсь на ме-
стности. Если меня проведут один раз, то второй раз прово-
жатого не требуется.
— Не в этом дело. Сегодня ночью немцы сбросили здесь
диверсантов на парашютах. Восемь мы выловили, а девя-
52
тый, сукин сын, еще где-то шатается. Я не знаю, о чем вы
пишете, что у вас в полевой сумке, но если она попадет в
руки к немцам — вряд ли это нам поможет.
Чувствуя в словах полковника иронию по поводу моих
занятий, я не знал, как ему ответить, и на всякий случай
сказал:
— Однажды поп и раввин ехали в мягком вагоне...
Полковник рассмеялся, отступил от входа и пропустил
меня в блиндаж, как будто я сказал ему пароль.
Поростаев был в прекрасном настроении — атака немцев
отбита с громадными для них потерями, захвачены плен-
ные. Жаловался он только на сырость в блиндаже: болит
голова, болят ноги,— он все время с мокрыми ногами.
— Египетская работа! — он кивнул на двух саперов, ко-
торые собирали касками в ведро воду и выносили ее наверх.
Едва они останавливались передохнуть — сразу поверх жер-
девого настила натекала вода.— Какие у вас впечатления?—>
спросил у меня Поростаев.
Я рассказал генералу обо всем, что видел: как некоторые
бойцы не хотят ссориться с немцами, не всегда пользуются
случаем истребить близко подошедшего врага — боятся вы-
звать ответный огонь минометов; о неубранных трупах, ко-
торые не так уж трудно похоронить в готовых воронках; о
блуждающих без всякого дела бойцах с безразличным, по-
гасшим взглядом.
Поростаев перебил меня:
— Погаснет взор, если жрать нечего! Нас режут весен-
ние дороги — ни боеприпасов в достаточном количестве, ни
продовольствия. Вы знаете, сегодня я наградил медалью
«За боевые заслуги» бойца только за то, что он принес на
себе сухарей на весь свой взвод. Он прошел с ними тридцать
шесть километров, мокрый до нитки, и четыре раза пере-
ходил с этим грузом вброд, каждый раз по шейку. Вот как
мы воюем! Обязательно запишите и это в историю! Вот вам
настоящий героизм и боевая дружба — накормил весь
взвод!
От Ломоносова я узнал, что получен приказ из штаба
армии. Приказ требует организовать в дивизиях и бригадах
снабжение продуктами за счет населения. Он подчеркивает:
общее положение нашей армии трудное и может стать еще
более тяжелым.
Немцы прорвались через боевые порядки Миссана и
вышли к Ловати, на стыке 11-й армии и нашей Ударной.
53
Редцы и Михалино уже в руках немцев. Наши саперы
подрывают на реке лед — мешают немцам налаживать
переправу.
Зашевелилась и 16-я армия в Демянском котле — она
потеснила наш корпус. Перешеек, отделяющий 16-ю армию
от «группы выручки», сузился. Ломоносов думает, что у нас
мало надежды удержать немцев в котле.
Мало того, мы должны быть готовы и к худшему: на юге
у нас образовались слабые пункты — оттуда пришлось снять
часть сил на помощь группе Поростаева. Если немцы на-
щупают эти места, они сами смогут нас окружить. Сейчас
вся наша оборона держится на изможденном, недоедающем
бойце. Может быть, прыжок девяти немцев на парашютах
был разведкой?
Поздно вечером Поростаев неожиданно сказал:
— Товарищ Ковалевский, я перед вами в долгу. Без вас
тут звонил Куницын, напомнил мне об истории. Пойдемте
наверх — подышим воздухом. Сегодня немцы дали мне вы-
ходной.
Ночь была звездная. Ковш Большой Медведицы повис
над самой Ловатью, как будто кто-то хотел зачерпнуть воду,
но побрезговал, увидев, что к реке прорвались фашисты.
Тихо было даже у Миссана. Должно быть, немцы накапли-
ваются, готовятся к последнему удару, чтобы вырваться из
Демянского котла.
Сесть возле блиндажа было совершенно не на что — всю-
ду грязь и вода.
— С чего же начнем? — спросил Поростаев, глубоко во-
брав в себя свежий воздух.
— Я бы хотел знать, почему именно к вам прибыл анг-
лийский министр Иден?
— То есть, конечно, не ко мне, а в Ударную армию.
Командующему армией, нашему Дубнецову, надо было де-
лом заниматься, а не болтовней, и он поручил мне, чтобы
я показал наши достижения Идену. Вы ведь знаете, что в ту
пору я уже был, то есть с самого начала боев под Москвой,
был начальником штаба Ударной?
В это время сапер вынес очередное ведро с водой и, ни-
чего не видя со света, выплеснул ее прямо нам под ноги.
Я ниже Поростаева ростом, и мне пришлось достать из кар-
мана платок и обтереть лицо от брызг.
— Слушайте,— сказал Поростаев саперу,— не в службу,
а в дружбу — вынесите-ка кто-нибудь из вас нам с писа-
54
телем по чурбачку и поставьте в сторонке, чтобы мы вам
не мешали.
Сидя уже на чурбачке, Поростаев сказал:
— Тут, конечно, была не болтовня, это я пошутил. Обра-
ботали мы Идена в международном масштабе. Это была на-
стоящая боевая агитация и пропаганда: мы показали замор-
скому гостю такие трофеи, Иден увидел столько побитых
фашистов, столько сожженных танков, что буквально на
морозе рот разинул. А потом ведь мы отняли у немцев мас-
су неповрежденной техники — с боеприпасами и со всем, что
полагается. Ударная сделала под Москвой большие дела.
Когда мы стояли в Клину, пополнялись, чтобы отправиться
сюда в болото, к нам специально приезжал Михаил Ивано-
вич Калинин. На совещании актива нашей армии он сказал:
«Вы прошли доблестный путь, путь наступления. Этот путь
будет записан в историю вашей армии!» Ударная была по-
ставлена как раз в то место, куда немцы вгоняли клин.
Они хотели разъединить наши тридцатую и шестнадцатую
армии. Они уже заходили в тыл шестнадцатой армии. Удар-
ная спасла положение. Обязательно скажите в своей исто-
рии, что за тылами Ударной, на нашем участке, больше ни-
чего не было. Только брели в тыл паникерствующие одиноч-
ки и дезорганизованные группки. Ударная навела порядок
на своем отрезке фронта. Личный состав армии, когда сфор-
мировалась, был превосходный: сибиряки, уральцы, горь-
ковчане, бригады дальневосточных моряков. По дорогам к
Москве двигались разбитые, дезорганизованные части. Наши
курсанты и моряки одним своим видом вносили спокойствие
и уверенность. Да, Ударная немало сделала для спасения
Москвы. Армия, весь ее состав, получила благодарность от
Ставки, благодарность от товарища Сталина. Правда, у нас
был однажды тяжелый разговор со Сталиным.
Поростаев глубоко вздохнул и замолчал. Потом сказал:
— Давайте, товарищ Ковалевский, все-таки по порядку,
раз дело идет об истории. К концу ноября прошлого года,
пять месяцев тому назад, Гитлер обхватил Москву полу-
кольцом. Он стремился глубоко окружить Москву — взять
в клещи. Правая клешня дотянулась уже до Каширы, а ле-
вая— до Яхромы и Дмитрова, на канале Москва — Волга.
Вот перед Ударной и поставлена была задача: обрубить
левую клешню, не дать фашистам сомкнуть кольцо вокруг
Москвы.
Немцы наткнулись на нас двадцать седьмого ноября. Все
55
было хорошо — мы задержали немцев. Но командир одной
минометной батареи нам напортачил. Немцы захватили мост
через канал. Как это случилось? Предмостное укрепление
перед мостом в Яхроме, по-нашему — тет де пон, занимал
батальон из двадцать девятой дивизии, усиленный батареей.
Дурак командир батареи решил, что ночью не может быть
никакой опасности, самовольно отвел батарею за Перемило-
во. Немцам только этого и надо было. Они оттеснили наш
батальон, загнули его фланг и проскочили по мосту. Взо-
рвать его мы не успели. Проскочили двадцать четыре танка
и две роты автоматчиков. Ворвались в Перемилово и начали
накапливаться для удара по Москве с севера.
Вот тогда-то нам и позвонил Сталин. О чем он говорил
с Дубнецовым, вам лучше спросить самого Дубнецова. Я ду-
маю, он вам расскажет. А мне товарищ Сталин сказал так:
— Мы вас послали на канал не для того, чтобы отдавать
мосты неприятелю! Вы должны взять мост обратно. Когда
это будет сделано?
Я ответил, что в самое ближайшее время. А двадцать де-
вятого ноября мы уже выбили немцев из Перемилова и от-
бросили их с восточного берега канала на западный.
Этой победой мы и начали свой боевой путь. Двенадца-
того декабря мы были уже в Солнечногорске, а пятнадцато-
го — в Клину. Чтобы вам яснее представить, что увидел ми-
стер Иден, я перечислю вам наши трофеи. Такие цифры
будешь помнить до гробовой доски: одних трупов мы насчи-
тали до двадцати шести тысяч, а техники: двести семьдесят
семь танков, больше пяти тысяч автомашин, пятьсот пять-
десят четыре мотоцикла, больше трехсот орудий, двести
пятьдесят четыре пулемета. Как видите, было что показать
Идену.
Вы не можете себе представить, как мне трудно было
организовать встречу с Иденом. Ведь надо, чтобы все выгля-
дело прилично. Например, помыть руки перед обедом...
Нас перебил Ломоносов. Он поднялся из блиндажа и
сказал:
— Дмитрий Ефремович, вас вызывает Первый!
Первый — это командующий армией. Я тоже спустился
в блиндаж, но из разговора не понял ничего. Поростаев го-
ворил:
— Я у аппарата... Удовлетворительно... Ласточка вьет
свое гнездышко... Не крепче четырех процентов — иначе за-
кружится голова... О нем можно сказать только то, что он —
56
поэт... Баранчиков завьем и всем подпилим копытца... Це-
лый букет... Совершенно с вами согласен... У меня тоже
все... Взаимно!
Кончив разговор, Поростаев предложил мне:
— Давайте для разнообразия поговорим лежа,— я что-то
устал... Так вот, об Идене. Я уже был произведен в генера-
лы, а шинель мне и китель ну никак не могли организовать
к этой встрече, и шапка на мне была не серого каракуля, а
такая же, как на вас, ушаночка. Представьте себе, то ли
Иден сам разбирается в наших знаках различия и в обмун-
дировании, то ли подсказал кто-нибудь из его свиты. Он
мне задает вопрос через переводчика:
«Господин генерал, чем объяснить, что на вас
форма полковника Советской Армии? Меня предупредили,
что начальник штаба вашей армии состоит в чине гене-
рала».
Я не знаю,— сказал, лежа рядом со мною на нарах, По-
ростаев,— я не знаю, какой бог меня вдохновил, но я на-
шел ответ, который вполне удовлетворил Идена:
«Господин министр, немецким снайперам обмундирова-
ние генерала нравится больше, чем обмундирование полков-
ника,— оно ярче. Приходится маскироваться. На нашем
фронте немцы сажают своих снайперов на деревья, приме-
няют точно такую же тактику, как финны. Наши солдаты
таким снайперам дали прозвище «кукушка».
В более трудное положение я попал, когда Иден вдруг
дал понять, что ему надо в туалет. Это у нас никак не было
предусмотрено. Что делать? Не вести ж его во двор, в нуж-
ник?
Я сказал, что мне тоже нужно в туалет, и попросил сле-
довать за мною. Мы, как союзники, пристроились с ним ря-
дом к щелястому забору, и все обошлось превосходно. Пере-
водчик еще не успел закончить мою фразу: «На войне как
на войне!», а Иден, точно он понимает по-русски, сразу же
сказал: «О йес!»
Дальше пошло лучше не надо! Идена заинтересовал жен-
ский визг и хохот по ту сторону забора. Он припал к щелке
и увидел, как на морозе молодые наши бойцы балуются с
девушками к великому их удовольствию, гоняются за ними,
лапают, щекочут — греются. И у всех на морозе от хохота
пар изо рта, как из трубы паровоза.
Иден долго любовался этой картиной и, отходя от забо-
57
ра, где все, в чем мы с ним расписались, уже замерзло,
сказал:
«Поразительное зрелище! Нет, такой народ победить нель-
зя! Они совершенно не боятся мороза!»
Был еще один эпизод, который я на вашем месте, това-
рищ Ковалевский, тоже записал бы в историю. Иден вдруг
увидел, как наш боец, сидя в сугробе, сбросил валенок с од-
ной ноги и переобувается. А мороз стоял жуткий. От голой
ноги шел пар.
Иден остановился как вкопанный. Не сводя глаз с нашего
бойца, он спросил:
«Это психический больной? Почему же он на свободе?
Какой процент в вашей армии психических заболеваний?»
Я не знал, как мне удержаться от смеха. А надо вам ска-
зать, товарищ Ковалевский что Иден приехал к нам в ар-
мию в белой пушистой боярской шапке, в огромной дохе на
добром меху и в высоких ботфортах.
Пришлось объяснить мистеру Идену, что это обыкновен-
ный солдат — он переобувается, чтобы не натереть ноги,—
ведь ему предстоит дойти до самого Берлина. Таким спосо-
бом у нас в пути переобувается любой солдат, если почему-
нибудь жмет ногу и неудобно идти.
Иден проследил всю процедуру переобувания до самого
конца. Потом вынул блокнот и авторучкою в золотой оправе
что-то записал в него.
«Феноменально! — сказал он, спрятав блокнот.— Гитлер
проиграет войну. Я в этом больше чем убежден. Такой на-
род, как ваш, победить нельзя!»
17 апреля. Козлова.
Грязь, грязь, грязь, грязь, грязь... Особенно накошмарено
между Ходынями и Козловом, все двенадцать километров.
Несколько раз я вытягивал из пучины одну только голую
ногу, без сапога и без влипшей в него клейкой от грязи пор-
тянки. Потом уж я выручал свой сапог, цепляясь за
голенища обеими руками. Подметки оторвались уже в
начале пути,— я то и дело прикручивал их к ступне
подобранным на дороге проводом. От этой изнуряющей
возни и ноги, и шинель до пояса, и руки — все было в
грязи.
Иногда попадался в пути поток снеговой воды, которая
58
перекатывалась через дорогу, с одного поля на другое, и
это было для меня как счастье — по воде идти легче.
На пепелище деревень бойцы расшвыривают кирпичи,
разгребают угли, ворошат прах — ищут ямы с картошкой.
На передовой бойцы получают половину стандартного суха-
ря в день.
Грязь, грязь, грязь... По этой проклятой дороге бредут
раненые. Они измождены и еле-еле передвигают ноги.
В госпиталях сейчас все заботы о тяжелораненых, а эти
должны добираться до эвакогоспиталя сами.
Дикая картина: прыгает, опираясь на два костыля, ране-
ный. Вместо штанины на правой ноге — сплошной марлевый
бинт, от паха до самой стухши. Его, как видно, совсем еще
недавно перевязали — бинт прямо-таки режет глаза своею
ангельской белизной. А впереди — участок гиблой дороги,
грязь буквально по колено. Я предупредил раненого, но он
продолжает ковылять. Наверняка ушел из госпиталя само-
вольно. Почему? Кто его гонит? Ведь в госпитале все-таки
кормят. А может быть, и до него дошел слух, что положение
армии ухудшилось,— боится окружения.
Еще один раненый — тоже в ногу. Этот — верхом. Он ко-
лотит, шпорит лошаденку здоровой ногой, но та — ни с ме-
ста. Остановилась посреди дороги, рядом с черной немецкой
грузовой машиной, все ее ноги увязли в цепком глинистом
месиве.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Не идет — присохла!
Лошадей у нас каждый день десятками сшибает с копыт
бескормица. Эта сейчас тоже упадет и заплывет грязью.
Я не спрашиваю раненого, как он -угнал лошадь и куда
держит путь,— это бессмысленно. Помогаю ему с острого
хребта несчастной скотины перебраться на разбитую маши-
ну. Он просит сказать о его бедственном положении в
медсанбате, в деревне Веряски, через которую лежит мой
путь.
За сутки мне попалось навстречу только два артиллерий-
ских передка со снарядами. Каждый тащила шестерка
взмыленных, измученных коняг.
В лесу, около Балабухи, мне говорили артиллеристы, что
они снабжаются сами: то там, то здесь находят по кюветам
снаряды — немецкие или наши. Один боец нашел в лесу
неповрежденную пушку — ее тотчас же поставили на огне-
вую позицию.
59
Грязь, грязь, грязь... В кустах струится переполненный
снеговою водой поток и стоят вмерзшие в еще не размы-
тый потоком лед розвальни. На них как бы спит человек,
левую его ногу обмывает ручей, а он не шевелится, лежит
без движения. Честное мужицкое лицо со спокойным вы-
ражением хорошо поработавшего человека, который заслу-
живал отдых.
18 апреля. Козлова.
Я вернулся наконец к себе и сразу узнал о самом послед-
нем ЧП. Наш киномеханик Востряков, большой сердцеед и
совратитель девиц, решил принять утром солнечную ванну.
Он лег на солнцепеке под стену амбара и блаженствовал,
наигрывая «На позицию девушка провожала бойца». В это
время самолет У-2 сбрасывал для штаба армии продоволь-
ствие. Мешок с сухарями раздробил Вострякову ногу и сло-
мал баян.
Коблик обрадовался моему возвращению, он смутил меня
каким-то пристальным взглядом — напомнил мне этим ра-
неного на лошади. Мне стало как-то не по себе, словно я
должен был привезти ему ответ на какой-то очень важный,
мучивший его вопрос и забыл это сделать.
Может быть, для того, чтобы оттянуть время и догадать-
ся, что я ему должен, я спросил:
— Вы знаете анекдот: «Однажды поп и раввин ехали в
отдельном купе мягкого вагона»?
— Знаю,— ответил Коблик, неожиданно покраснев.— Но
ведь это совсем не смешной анекдот.
— Все-таки расскажите, в чем там соль?
— Раввин попросил проводника разбудить его, чтобы он
не прозевал свою станцию. Потом он разделся и лег спать.
То же сделал и священник. Он повесил свою одежду на
ту же вешалку, на которую повесил свою одежду раввин.
Проводник сдержал слово, разбудил. Но раввин второпях
надел на себя рясу священника и его шляпу. Потом взгля-
нул на себя в зеркало, испугался и закричал: «Мерзавец,
кого же он разбудил?»
Рассказав этот «совсем не смешной» анекдот, Коблик
вдруг громко расхохотался.
— Правда, глупо? — спросил он, успокоившись.— Но я
ждал от вас, Вячеслав Александрович, совсем не этого. Вы
знаете, что нам грозит окружение?
60
— Знаю.
— И что же вы думаете?
— Всюду, где я шел, непролазная грязь и вода, грязь
и вода. Немцы до сих пор не освободили свою окруженную
шестнадцатую армию. Как же они смогут окружить нас?
Я этому не верю.
Меньше всего я знаю главное действующее лицо нашей
трагедии — рядового бойца.
20 апреля. Козлова.
Мои новые сапоги сгорели в воде и в грязи. Пришлось
идти не в АХО, а на поклон к местному старичку сапожни-
ку. Он обещал надергать старых гвоздей из дранковой
крыши, пообкусать их до нужного размера и подковать
меня.
Кстати о быте. Самолеты, танки, радио — и тут же руч-
ная мельница, на которой перемалывают на муку ржаное
зерно. Если бы в театре нужно было создать иллюзию эска-
дрильи пикировщиков — лучшего механизма не надо: звук
каменных жерновов ручной мельницы не раз обманывал
меня, заставлял смотреть на небо.
К «сервировке» нашего стола относится топор, которым
два батальонных комиссара (Губер и Фрейдинзон) разбива-
ют на столе косточки от компота.
21 апреля. Козлова.
Ровно месяц, как немцы начали наступление, чтобы вы-
ручить свою 16-ю армию. Получив по воздуху боеприпасы,
она теперь и сама зашевелилась, рвется навстречу своим.
Миссан оставил Рамушево. Разделяет обе немецкие груп-
пировки почти одна только Ловать, и вот-вот они соеди-
нятся.
22 апреля. Козлова.
Уже несколько дней не читаем газет. Наши полуболот-
ные аэродромы раскисли,— самолеты влипают в них, как
61
мухи на листке клейкой бумаги. Колесный транспорт тоже
в параличе — водою унесло несколько мостов.
Отвратительно получилось с новыми аттестатами для се-
мейств политработников. Почта лежит на полевой станции
с 13-го числа, вместе с нею лежат без движения и денежные
аттестаты.
Если мы попадем в окружение, наши семьи будут бедст-
вовать без аттестатов. С 1 мая в тылу будут выдавать день-
ги только по новым аттестатам. Делается для того, что-
бы отсеять убитых и пропавших без вести. Семьи убитых
и пропавших без вести будут получать пенсию.
Сегодня в сумерках вышел посидеть на крыльце нашей
избы с художником-прикладником Рубельниковым. Он
учился в Москве в специальной мастерской, которая готови-
ла кадры для будущего Дворца Советов, а до этого окончил
в Ленинграде строительный институт. У нас Рубельни-
ков работает инструктором при походном Доме Красной
Армии.
За участие в войне с Финляндией Рубельников награж-
ден орденом Красной Звезды. В нашем отделении такого
ордена ни у кого еще нет. Он командовал диверсионным
отрядом из первокурсников ленинградских вузов. Ему едва
ли больше тридцати лет, но он немало испытал и умеет
превосходно рассказывать. Вот история, которую я от него
узнал.
В устье Вуоксы, там, где она впадает в озеро, есть не-
большой каменный островок. На нем — дот, один из тех
«миллионных» дотов, на которые финны затратили огром-
ные деньги, трехэтажный, со складами под землей...
Лед перед островом был покрыт многими трупами наших
лыжников. Все попытки овладеть островом были безрезуль-
татны. Пришлось их прекратить. Для атак было выбрано
новое направление, левее острова, и Рубельникову с его
отрядом было поручено держать оборону против острова,
сковывать финнов.
Рубельников направил разведку, приказав как мож-
но ближе подобраться к острову. Она дала результат: два
разведчика приволокли русского белогвардейца-полков-
ника.
Рубельников жил в захваченном у финнов комфортабель-
62
ном блиндаже: обои, мягкая мебель, ковер, на столе лампа
под зеленым абажуром.
Когда полковника ввели в блиндаж, он сразу же уселся
в 1фесло, не спрашивая разрешения. Рубельников был по-
ражен тем, какая птица попала в его руки (на полковнике
была шинель царского образца), но делал вид, что совершен-
но не замечает полковника. Потом вдруг взглянул на него
и сказал:
— Здравствуйте.
Полковник не сразу ответил, но все же пересилил себя:
— Здравствуйте.
— Как же это у вас сорвалось? — спросил Рубельников.
Полковник ответил:
— Вот я как раз сижу и думаю: как это так у меня со-
рвалось?
Помолчали.
Вдруг полковник начал кричать:
— Мальчишки! Желторотые! Воевать не умеете!
Рубильников оторопел, но тут же перебил полков-
ника:
— По-моему, не я попал к вам в плен, а вы у меня си-
дите. Так что воевать как будто мы умеем.
На минуту полковник замолчал, но взорвался опять:
— Мальчишки! Вы же годитесь мне в сыновья!
— Погодите, погодите, пока что таких отцов мне не тре-
буется.
Оба закурили. Полковник был удивлен, что его не при-
стрелили по дороге в блиндаж, и попросил о «солдатской
услуге» — не тянуть канитель и как можно скорей расстре-
лять его. Настроение у него изменилось, когда он узнал, что
Рубельников учился в том же самом строительном институ-
те, в котором учился и полковник. Больше всего его пора-
зило, что живы даже некоторые старики преподаватели,
которых он хорошо знал.
— Что же теперь вы намерены делать? — спросил пол-
ковник.— Остров вам не взять, вы уже обломали об него
зубы.
— И все-таки нам приказано взять остров,— сказал Ру-
бельников.
— Это вам не удастся!
— Не нам, так другим. Но мы будем атаковать. Приказ
63
для нас — закон. В моем отряде прекрасные ребята-студен-
ты, полные чудесных стремлений, беззаветно преданные
Родине. Русские люди, русские юноши, способные на любой
подвиг. Если вы истинно русский человек, вы предотвратите
их гибель. Ведь каждый из них годится вам в сыновья. Вот
для вас прекрасный случай сделать хорошее, благородное
дело! Помогите нам овладеть островом.
Полковник надолго замолчал. Он выкурил несколько па-
пирос, потом сказал:
— Хорошо, я могу вам помочь. Но ведь вы не согласи-
тесь сделать то, что нужно для этого.
— Почему же нет? — удивился Рубильников.
— Потому что...
Полковник замялся.
— Что вам надо?
— Надо, чтобы вы меня отпустили на свободу...
— Пожалуйста! — ответил Рубельников, как бы удив-
ляясь тому, что полковник так мало просит.— Что-что, а это
в моей власти.
Риск был ужасный. Но что-то в глазах у полковника бы-
ло такое, что позволило Рубельникову решиться.
В условленное с полковником время он пополз со
своими людьми к доту, оставив часть отряда для при-
крытия.
Полковник выполнил то, что обещал: гарнизон дота был
заперт в каземате, а все люки задраены. Отряд Рубельни-
кова захватил островок.
Потом Рубельников отвел полковника в штаб полка и
доложил о «чрезвычайном происшествии». Командир пол-
ка решил, что случай из ряда вон выходящий: захват остро-
ва так меняет обстановку, что об этом немедленно надо до-
ложить комдиву.
В штабе дивизии комдив усадил Рубельникова с полков-
ником в машину и сам отправился с ними в корпус. Даль-
ше, к командарму, Рубельников уже не захотел ехать,
взмолился, чтобы его отпустили в отряд, потому что от кор-
пуса до штаба армии — сорок километров.
Рубельникова представили ко второму ордену, но он до
сих пор его еще не получил.
Через день — опять вечером — Рубельников предложил
64
мне сыграть в шашки. Я согласился, хотя терпеть не могу
этой игры,— пропасть между ними и шахматами глубже,
чем между роялем и балалайкой.
Когда мы сыграли партию, я спросил:
— Какое у вас самое первое воспоминание? Что вы по-
мните самое-самое первое в своем младенчестве?
Он усмехнулся и сказал:
— Вам и это интересно как писателю?
— Да, я всегда, при любом случае об этом спрашиваю.
— Первое, что я помню,— мне еще не было четырех
лет,— помню прекрасную музыку и низкий поющий голос
священника. Ему аккомпанировала тетка. Священник заго-
ворил со мною, погладил по голове; наверно, за это я его
и запомнил. Это самое первое мое воспоминание, первый
порог моей жизни. А у вас?
Я сказал ему:
— Мне не верят, когда я об этом говорю. Я помню себя
в грудном возрасте. То есть как помню? Отдельные мгно-
вения, вернее, короткий миг своего душевного состояния.
Я помню, как я лежал рядом со своею сестрой в колыбели
(мы были близнецами). Зрительно я помню только плетеный
борт колыбели (нас клали в простую корзину вместо люль-
ки), а внутренне, по состоянию души, по «настроению», я
помню какое-то блаженное спокойствие оттого, что рядом
со мной что-то такое же родное, как я сам. Видите ли, все
это до того смутная предыстория моего бытия, что выразить
ее невозможно. Как только начинаешь это облекать в сло-
ва — тебе сразу же перестают верить, потому что когда ска-
жешь об этом словами, то получается подозрительно слож-
но. Дело в том, что я помню это не памятью своего ра-
зума, а как бы припоминаю то, что я ощущал всей своею
кожей...
Другая картина встает в моей памяти более ясно: мать
вынимает меня из корзины и подносит меня к своей груди,
прижимает, чтобы кормить. Этот переход от корзины к гру-
ди я воспринимал, как захватывающий душу полет снизу
вверх.
Я замолчал, и мы оба молчали, каждый уйдя в свое не-
передаваемое. Иногда под нами прогибались доски крыльца:
это кто-нибудь входил и выходил из нашей избы,— уже
стемнело, мы никого не узнавали, и нам никто не мешал.
3 В Ковалевский
65
Рубельников успел выкурить целую папиро у, прежде чем
я заговорил опять.
— Скажите,— спросил я,— у вас в отряде были люди,
конечно, самые разные? А бывало ли...
Рубельников перебил меня:
— Только не подумайте, что меньше всего приспособле-
ны к военной обстановке те, кто уже тронут культурой.
Нет! Скажу о себе. Я думал, что люди физического труда
будут более стойкими, что раз я слабее их, изнеженнее, то
они ценнее меня на войне.
На многое теперь я смотрю иначе. Нетронутые культу-
рой люди не могут планировать время, не умеют отдыхать,
не могут правильно распределить питание. Это я сплошь да
рядом видел в своем отряде. Представьте себе, даже пра-
вильно обуться, навернуть портянку для дальнего похода,
и то очень часто не могут. Культурному человеку, хоть это
может показаться смешно, помогает теоретическое знание
таких вещей. Конечно, кроме явной изнеженности и каби-
нетной неприспособленности.
— Скажите,— спросил я Рубельникова,— а какая сила
держит бойца на переднем крае, что гонит его в атаку, на-
встречу смерти? Конечно, он знает, что не все в атаке по-
гибнут и, значит, он может надеяться для себя на это ис-
ключение: отделаться раной, остаться невредимым. Но ведь
не в том же дело...
Я отлично понимал, что на этот вопрос Рубельников
сразу ответить не сможет.
Что касается меня, кое-что мне здесь ясно — я читал
«Войну и мир», «Севастопольские рассказы» Толстого и его
же рассказы о войне на Кавказе, что, можно сказать, со-
ставляет русскую энциклопедию храбрости, стойкости и
воинского самопожертвования. Но я жажду найти и понять
корень этих вещей в живом человеке, в человеке, которого
я знаю, которого можнов прощупать со всех сторон и кото-
рый может стать героем моей книги.
— Трудно на это ответить, товарищ капитан,— сказал
Рубельников.— Это как-то само собой получается. Об этом
никто на войне не задумывается.
Сказал — и замолчал, и все-таки задумался.
Я часто задаю людям этот вопрос, так же как и вопрос:
«Какое у вас первое воспоминание о вашей жизни?»
Рубельников как бы очнулся:
— Что вы меня-то спрашиваете? Наверно, умные люди
ев
уже не раз вам отвечали? Я, откровенно говоря, не люби-
тель душераздирающих вопросов, мне больше нравится,
когда «да» или «нет», и больше никаких гвоздей!
Я сказал:
— Конечно, отвечали мне и умные люди, но все как-
то у них уж очень официально-программно получается:
правильно, а чего-то главного, сокровенного не получа-
ется.
Полковник Балабуха не совсем понял мой вопрос, отве-
тил только за себя: «Какая сила держит меня на переднем
крае? Чувство долга, ответственности. А какой у меня вы-
бор? Допустим, все бегут, осталось тридцать пять бойцов.
Выход у меня один — остаться с ними тридцать шестым!»
Хорошо говорит и наш лектор Коблик: «Народ со времени
революции испытал колоссальное количество трудностей, бы-
ли годы тяжелых лишений. Появился наконец проблеск.
Жизнь стала лучше. Народ теперь остро ощущает ужас воз-
можных потерь, угрозу даже полного уничтожения от фа-
шистов,— вот он и дерется, стоит насмерть, не хочет отда-
вать того, что получил!» Таких ответов мне мало. Хочется
заглянуть в самую душу человека, докопаться до самого
дна, до истоков.
Я замолчал. Теперь заговорил Рубельников.
— В минуты смертельной опасности мне никогда не при-
ходило в голову, что меня могут расстрелять перед строем —•
за то, что не сумел заставить бойцов идти в атаку или
сам в чем-то оплошал. Не боязнь наказания делает меня
стойким, а я бы сказал — наоборот: возможная награ-
да, похвала за удачу — вот что приходит в такие минуты
в голову. Тебя все считают юнцом, а ты вот что сдела-
ешь, вот чего добьешься, и тогда все узнают, какой ты
молодец!
Перед боем появляется азарт охоты. В азарте хочется
перехитрить врага, какого там нибудь финского офицера,
который считает тебя лаптем. Огромную роль, конечно,
играет и мнение товарищей — не хочешь упасть в их
глазах.
Я, кажется, даже покраснел в темноте,— к лицу прихлы-
нула кровь, словно на меня дохнул теплый ветер,— так об-
радовало меня то, что сказал Рубельников. Вот он и назвал
три причины: не боязнь наказания, а жажда похвалы,
«азарт охоты» — оказаться сильнее врага, взять над ним
верх,— пусть знают, что я никого никогда не подведу.
3
61
24 апреля. Козлова.
Пробую писать рассказ, малюсенький рассказ для нашей
армейской газеты. Есть постановление ЦК — сократить раз-
мер всех армейских газет (из-за экономии бумаги). Наша
«На разгром врага» теперь выходит на двух полосах. Мучи-
тельно трудно писать кратко: дикое несоответствие между
размерами того, что переживаешь, и местом, отведенным
тебе на газетной полосе. Рассказ не получается.
25 апреля. Козлова.
До сих пор не могу понять наше отделение агитации и
пропаганды как единое целое. Мы никогда не бываем в
сборе все вместе. Основной смысл существования агитаторов
и пропагандистов — быть среди бойцов и командиров там,
впереди, а не здесь.
Больше всего времени я провожу с Кобликом и Губером,
они как бы олицетворяют для меня все наше отделение, а
ведь это неверно. Много часов провел я в беседах с Рубель-
никовым, но и это еще не все. Есть у нас инструктор по
распределению печати, политрук Торчаков. Неотъемлемая
принадлежность нашего отделения киномеханик с пере-
движкой — этот, конечно, вечно кочует.
Не засиживаются у нас и Королев с Артемьевым — два
очень своеобразных агитатора, оба волевые и оперативные,
но люди несхожие, хотя и тот и другой до войны были за-
няты одной и той же мирной профессией: оба преподавате-
ли. Артемьев — москвич, преподавал в старших классах
Конституцию СССР, Королев — сельский учитель. Его спе-
циальность — история России.
У Артемьева великолепная выправка, словно он всю
жизнь был военным человеком. Ему удалось быстро сбро-
сить внешность мирного педагога и сразу же приобрести
воинские навыки: аккуратен, подтянут. Роста небольшого,
но осанка солидная. Артемьев обладатель счастливого ха-
рактера — никаких загадок для этого человека не существу-
ет, все в жизни ему давно уже понятно.
Старший политрук Королев гораздо глубже Артемьева —
всегда задумчив. И по внешности это совершенно иного
склада человек—сразу бросается в глаза, что Королев до
68
войны никогда не был в рядах армии. Если в АХО выдадут
гимнастерку немного мешковатую — никогда не пойдет сле-
дом за Артемьевым в госпиталь, чтобы в команде выздорав-
ливающих гимнастерку пригнали бы ему по фигуре,— сой-
дет и так.
Вчера Губер сказал мне, что Королева очень часто
упоминают в политдонесениях из полков и дивизий:
хвалят его беседы и просят прислать к ним его еще раз.
Куда бы Королев ни пришел — он сразу же становится
своим человеком, желанным, раскрытым для душевной бе-
седы.
Губеру повезло — у него хорошие помощники: грамот-
ные, многоопытные — никто из них не подведет его. Один
Коблик чего стоит. Его академические знания и партийное,
безошибочное чутье — счастье для Губера. Не вполне ясен
пока мне один только старший политрук Урюпин, тоже наш
агитатор — нервный, какой-то дергающийся, неспокойный
человек. А в общем наше отделение, по-видимому, вполне
здоровый, весьма полезный в армии организм. Даже Губер,
расплывчатый добряк и слабо организованный человек, из-
за глубоко въевшейся в него штатской сущности, добросо-
вестно исполняет то, что ему поручено.
27 апреля. Козлова.
Вчера первый раз в жизни я выступал как пропагандист.
Сделал инструктивный доклад для младших политруков,—
их направляют встречать новое пополнение. Я говорил им о
традициях, об истории нашей Ударной, но увлекся и расска-
зал кое-что о международном положении.
Слышал, как Коблик, оставшись вдвоем с Губером, ска-
зал ему (меня от них в избе отделяла только дощатая пере-
городка, не доходящая до потолка):
— У нас в Политотделе десятки политработников и толь-
ко два человека беспартийные: машинистка и писатель.
Я когда-нибудь дам ему рекомендацию, дам с удовольстви-
ем.
— Тише,— прошептал Губер,— неудобно, ведь он может
услышать.
И верно, во всем Политотделе только я беспартийный.
Иногда у меня бывает такое чувство, словно я всех обманы-
ваю, потому что подавляющее большинство, а в частях аб-
солютно все просто не знают, что я беспартийный.
69
29 апреля. Козлова.
Членовредительство, самострел немцы называют «вы-
стрел на родину».
Сейчас отправляемся вдвоем со старшим политруком
Урюпиным, инструктором по пропаганде, «встречать попол-
нение», как сказано в моем командировочном удостовере-
нии. Ходить по фронтовым дорогам в одиночку запрещено.
Лесная сторона — раздолье диверсантам. Несколько раз кое-
кого из начсостава убивали из-за угла.
Получили на три дня паек: по 600 граммов сухарей, 600 —
мяса, 1800 — картошки, 60 — махорки и две коробки спичек;
соли и сахара в АХО нет — не дали. Курево я, конечно, от-
дал Урюпину.
Губер чем-то заболел — лежит в углу под иконами, и
его трясет, как в лихорадке. Но все же он пожелал меня
напутствовать.
— Дорогой мой, не буду говорить с вами как начальник
с подчиненным, не такие мы с вами люди. К нам идут резер-
вы, пополнение. Это приказ Ставки: непрерывно подводить
резервы, не давать немцам передышки. Не считайте, что
ваша задача сводится только к тому, чтобы рассказать
новичкам историю нашей армии, передать им наши бо-
евые традиции. Изучайте людей — вот о чем я вас прошу.
О чем они думают, что говорят. Каков состав пополне-
ния, возраст, что за люди. Вы же понимаете, что от этих
резервов будет зависеть результат боев. Прошу вас. изу-
чайте людей.
Для меня это — самое главное стремление.
6 мая. Козлова.
Поход очень удался.
Великолепны названия деревень, где мы побывали: Рыто,
Жирки, а дальше — по реке Робья: Гарь, Хмели...
Что сказать о резервах, о пополнении? Голодные люди,
измотанные долгими переходами по раскисшим весенним до-
рогам. Их сначала надо накормить, а потом разговаривать.
Почти во всех частях, куда попадает пополнение, очень тя-
жело с продовольствием.
Несмотря на заслоны, выставленные, чтобы люди не пи-
тались всякой дрянью и не заболевали бы от этого, бойцы
повсюду пробираются к ближайшим деревням и ковыряют,
копошатся на пепелищах, отыскивая старую картошку или
остатки конины.
Сколько раз я видел эти серые — под цвет оттаявшей по-
чвы— группы человек по пять-шесть, которые разбирают
закопченные кирпичи, разгребают золу, просеивают между
пальцев землю — не попадется ли картофелина! Еле шеве-
лятся, лица у все одноцветные, губы синеватые.
В какую деревню ни зайди, всюду — в избе, в землянке,
на подоконнике, на столе, на полке,— всюду валяются раз-
ноцветные гитлеровские листовки. Никогда я не видел рань-
ше такой массы листовок на полях и в лесу. Мы с Урюпиным
устали нагибаться, подбирать эту дрянь и рвать на клочки.
О эти весенние дороги под Старой Руссой!
Группе Поростаева и боепитание и продовольствие плы-
вет на малюсеньких плотиках по Ловати. Против течения
они не возвращаются,— на смену им сколачивают новые.
Кое-что сбрасывают над дивизиями самолеты.
Я получил наконец письмо от своих из Казани, из Москвы
тоже получил.
Первое мая мы отпраздновали в деревне Рыто, в третьем
батальоне 27-й стрелковой бригады. Ночевали у воен-
кома батальона Смолянова. Накануне нашего прихода он
сбил из снайперской винтовки немецкий воздушный раз-
ведчик «фокке-вульф», который наши бойцы прозвали
«костыль».
Нельзя без смеха смотреть на противовоздушную уста-
новку Смолянова и на то, как он прицеливается по летяще-
му врагу, стараясь сообразить, какое надо взять упреждение,
чтобы самолет напоролся на бронированную пулю.
Прямо против избы в землю вбит кол чуть потолще оглоб-
ли; на высоте человеческого роста на кол насажено колесо от
телеги — оно вращается на колу, как на оси; к колесу при-
вязана винтовка с оптическим прицелом. Все!
Второго самолета военкому Смолянову с такой техникой,
конечно, не сбить, но и за один если не орден, то уж медаль
он наверняка получит. Недаром среди бойцов ходит поговор-
ка: «Смотри, орден летит!» — намек на то, что если собьешь
фашиста — получишь награду.
7]
Много шуток и острот по поводу удачного выстрела: Смо-
лянова прозвали «Подколесин», хотя внешне он чем-то по-
хож на Наполеона. Говорят, что немцы теперь боятся ле-
тать над Рытом, делают обход, чтобы Смолянов их не
«колесовал».
В деревню Рыто мы добрались с Урюпиным только к
ночи. Надо было найти начальника гарнизона,— он должен
был, как полагается, указать нам место для ночлега. Когда
мы подошли к его избе, из окон, забитых фанерой, неслись
арии, сначала из «Кармен», потом из «Фауста». Кто-то,
дурачась, пел их душераздирающим тенором. Потом
грянул разухабистый хор. Концерт слушал под окном ча-
совой.
Заляпанные до колен грязью и смертельно уставшие, мы
попросили часового доложить о нас. Он исчез в сенях, и, как
только поднялся в горницу, так все мгновенно умолкло. Но
только на минуту. Едва Урюпин переступил порог, как сразу
же раздалось неудержимое:
— Ого-го-го-го-го!!!
Это орал сам военком Смолянов, протянув для объятий
свои смуглые маленькие руки. Оказывается, они вместе с
Урюпиным кончали в Ленинграде курсы комиссаров при
высшем политучилище имени Энгельса. Смолянов — он и
есть начальник гарнизона в Рыте, он же исполнитель арии
тореадора и прочего репертуара.
Фамилия у военкома удачная: это необыкновенно смуглый
черноволосый человек невысокого роста. Смуглость его стран-
ного рода: она захватила даже белки глаз, как бы слегка за-
коптив их, и наложила тусклый, матовый налет на все
остальное — волосы у него тоже сухие — без блеска; губы
почти черные, цвет ногтей тоже удивляет — кажется, что этот
человек поражен бронзовой болезнью. Между тем поступь
бодрая, выправка бравая, острый нос с горбинкой и большое
сходство с Наполеоном, которое забавно противоречит с по-
стоянной склонностью Смолянова к шутовству.
Вот он грубо кричит на подчиненного, «протирает с пе-
сочком», кроет его матом — и вдруг тут же отмочит остроум-
ную шутку и при этом не меняет грозного вида, отчего шут-
ка, по контрасту, становится нестерпимо смешной. Она золо-
тит пилюлю, и от этого «вселенская смазь» переваривается
подчиненным гораздо легче.
С подчиненными у Смолянова прекрасные отношения.
Он справедлив и любит советоваться с товарищами. Это ар-
72
тельный человек. Его уважают, несмотря на сумасбродные
чудачества, и даже любят. В боевой обстановке Смолянов
бесстрашен, бойцы за ним идут куда угодно.
Народ в лесу повеселел. Чуть-чуть увеличили паек бой-
цам к Первому мая, и уже на опушке кое-где слышны пе-
сни. Поздней ночью, выйдя из избы Смолянова, я увидел не-
большой костер за околицей, недалеко от братской могилы.
Пришел туда. Возле костра сидели казахи. Один из них вы-
бивал такт, ударяя ложкой, как в бубен, по солдатскому
котелку, начищенному до блеска. Все остальные казахи, не
сводя глаз с котелка, на котором играли яркие блики кост-
ра, тихо вытягивали задушевными голосами какую-то свою,
родную, радостную для них песню.
Подошел их старшина и молча, не торопясь раскидал но-
гами костер и под такт «бубна» принялся затаптывать угли.
Но это не нарушило пение казахов, и, пока я возвращался в
избу Смолянова, песня все еще журчала, как ручеек, и я не-
вольно подлаживал свой шаг под удар ложки по солдатско-
му котелку.
А в это время Смолянов исполнял в бешеном темпе лез-
гинку и кончил танец тем, что вытащил зубами перочинный
нож, воткнутый в пол, как кинжал. Потом мы выпили и дру-
жно пели хором. По-моему, получалось хорошо. Я вспомнил
римскую пословицу: «Пей — или убирайся!» — и тоже пил,
чтобы не быть трезвой обузой — бельмом для других. Водка
была почему-то удивительно вкусной. У некоторых сотрапез-
ников начинала кривиться физиономия при виде того, как
ее разливают, а мне хоть бы хны! Опытные люди говорят —
это оттого, что я редко пью.
Опять пели хором. Я тоже пел и старался принимать уча-
стие решительно во всем, быть всей душой со всеми, чтобы
не ощущать своей отдельности, и порою мне казалось, что
это вполне удается. Но потом я вдруг вспоминал о своей
семье, о полуголодной Казани, и мне становилось мучитель-
но стыдно. Чем я здесь занят? Что я здесь делаю? Нет, мне
совсем не было весело...
7 мая. Козлова.
Сегодня мое ночное дежурство. Подкармливаю мелкими
чурбачками печурку — она благодарит теплом. Вповалку —
один к одному — на всем полу спят агитаторы, отдел кадров
и восьмое отделение. Начальник этого отделения, туповатый,
73
сонный огромный мужик, до войны был начальником жен-
ской тюрьмы в Торжке. Однажды я спросил его: «Товарищ
батальонный комиссар, что вы считаете самым приятным в
жизни человека, самым лучшим?» Он не задумываясь от-
ветил: «Сон!»
Ночь проходит спокойно. Никто мне не мешает. Запишу
о матери убитого партизана. Я увидел ее в деревне Рыто,
ранним утром.
Как только я спустился с крыльца избы, сразу же броси-
лась в глаза ветка липы с прорезавшейся, наклюнувшейся
из почек листвой. На ветке — черный скворец, как-то не-
обыкновенно ладно, хорошо пригнанный к синеве неба. В бе-
лых крапинках по всей его перовой рубашке есть какое-то
сходство со старушечьим ситчиком. Но песня его — молодая,
чудесная, бессмертная песенка, и весь он обращен к солнцу,
со всеми своими перышками, слегка взъерошенными на шей-
ке, с чуть вздрагивающими от песенного напряжения кончи-
ками крыльев.
В моем теле еще бродят тени ночного сна. Песня птицы
постепенно пробивает во мне скорлупу многодневной уста-
лости, она как бы просачивается в меня, и вот уже что-то
поет в моей омоложенной крови.
На дорогу выходит женщина с заступом в руке. Тяже-
лый дубовый заступ, окованный железом. Она оглядывается
и что-то бормочет, разговаривает сама с собою:
— Тесу-то не дали... Родная моя, да неужто бы я не похо-
ронила бы? Теперь все нашлись — бранятся, что положили в
воду, а тогда некому было хоронить...
Увидев, что я пристально в нее всматриваюсь, женщина
подошла ко мне, опустила заступ и заговорила, ни на секун-
ду не умолкая, словно боясь, что я не дослушаю до конца.
— Сын мой в братской могиле похоронен. Хочу забрать
его на кладбище, в отдельную могилку. Посулили тесу, по-
том отступились, никто не помог. Мы его мерзлого из Жир-
ков притащили. Тетка плачет голосом, а я тащу, сопревши.
Притащили на огород, четыре дня лежал. У нас нет своей
баньки, никто не сказал: «Идите, мы твово Лешку оттаим».
А теперь бранятся: в воду положила. А кто знал, что место
там мокрое? Не то что мой — там для всех братскую могилу
вырыли. Ну и моего — туда же! Мужиков-то не было, по-
мочь некому — я и похоронила без гроба. Тесу посулили,
потом отступились. Думала, дождусь тепла — откопаю, поло-
жу в гроб, перенесу на кладбище. А вчерашний день при-
74
шла с заступом, а могила ихняя села, в яме вода и Кровавая
пена. Думаю, как же его брать, родного? Ведь он весь, поди,
распался—возьмешь, потом откажешься... А он у меня был
хороший, верьте моему слову — хороший. Вы бы посмотрели,
как он горевал, когда уходил в партизаны, жену оставлял
беременную...
Я сказал ей:
— Зачем же его уносить из братской могилы? Все они
вместе воевали, пускай и лежат вместе, ведь теперь они как
братья, поэтому и называется «братская могила». А вы не
слушайте, что говорят другие, мало ли что болтают. А здесь
лежат братья по оружию: вместе шли в бой, вместе и в моги-
ле лежат.
Мать партизана обрадовалась:
— Вот и я так говорю: пускай лежат вместе. Тут и от до-
ма недалеко,— придем с его дочкой на могилку вместе и по-
плачем, а я помру, и меня пущай здесь рядом где похоронят.
И, совсем посветлев, она добавила:
— Пойду Симку кричать, да вместе мы и приобделаем
эту могилку. Кабы знала я, куда ихним родным писать, я
всем бы записочки послала, что я буду здеся могилку высо-
кую сторожить. Небось ихние матки не знают, что они погиб-
ли. Пойду Симку крикну.
Женщина вскинула заступ на плечо и пошла по деревне.
Я двинулся за ней, посмотреть, где братская могила.
Посреди деревни в одной из ладных, высоких изб откры-
лось окно, высунулась, поправляя на голове платок, старуха
и крикнула сварливым голосом:
— Как поросят в яму свалили, в болото!
Мать партизана остановилась против окна, опустила на
землю заступ, и я опять услышал:
— Тесу посулили, а не дали. Никто не сказал: мы твово
Лешку оттаим...
На околице я увидел в земле большой квадрат, прорезан-
ный в дерне; могила была, как водоем, наполнена краснова-
той глинистой водою.
Подошла мать партизана и с ней пожилая женщина, тоже
с лопатой.
— Хорошее, видное место,— сказал я.— Вы земли сверху
добавите — вода и уйдет, сольется в сторону. А ведь вода чис-
тая, снеговая, разве это позор? Кому она может повредить?
— Да хоть бы и сухо было — разве теперь он встанет? —
сказала мать партизана.
75
Подойдя к самой воде, она вдруг заплакала и заговорила,
показывая рукой в угол:
— Вот здесь лежит мой Леша, а здесь Танька Лукьяно-
вых. Девчонку бомбой убило. Мужиков не было, здесь и она
лежит.
Ее спутница тоже заплакала и сквозь слезы сказала, кив-
нув на мать партизана:
— Вот она мне — никто, а я пришла, потому — может, и
мое дитятко где-то лежит...
У матери партизана глаза уже высохли. Бросая в воду
землю, которую она вырубала заступом в нескольких шагах
от могилы, она не переставала говорить:
— Мы вот их похоронили, а, может быть, нас некому и
похоронить будет. Березками обделаю... насажаю березняч-
ку, везде по сторонам ограду изделаю... Только что косточки
будут без гробу.
Я спросил, какие у них бывают цветы в лесу и на лугу.
Думал этим навести их на мысль посадить цветы на могиле.
— Всякие цветы,— ответила мать партизана.
— Как называются?
— А никак: беленькие, синие, желтенькие...
Могильный холм становился все выше — женщины друж-
но работали в две лопаты. Отжатая землею вода постепенно
отходила, стекала на лужайку.
Я ушел. Скворец все еще не кончил своего песнопения,
и, когда я вернулся к избе, он по-прежнему сидел на ветке
и славил своею песней тихий, ясный солнечный день.
В деревне Фомино мы с Урюпиным ночевали у старушки,
с которой живут два внука, четырех и тринадцати лет, эва-
куированные из Ленинграда. Бабушка постелила нам с Урю-
пиным на полу вместе со внуками. Я лег возле четырехлетне-
го, а Урюпин — с другого края, так что оба мальчика оказа-
лись как бы под нашей охраной — в середочке.
Вскоре Урюпин захрапел — я ему позавидовал. Несмотря
на усталость, я долго не мог заснуть. Я все время прислуши-
вался к дыханию малыша, и в темноте, в полудреме, на меня
находило наваждение: мне мерещилось, что рядом со мною
спит мой сын...
Мальчик спал неспокойно, то и дело бормотал что-то и
мычал, часто переворачивался с боку на бок, каждый раз
придвигаясь ко мне ближе, ближе, пока и вовсе не перекоче-
76
вал на мою подушку. Привалившись ко мне, он наконец
успокоился, словно именно этого ему и недоставало.
Его дыхание щекотало мне щеку и шевелило ресницы.
От него пахло молоком, детской кроваткой, пахло моим
собственным маленьким сыном... Среди ночи я проснулся —
мне понадобилось выйти во двор. Осторожно, тихо я снимал
горячую ручонку мальчика — он уже обнимал ею меня во
сне за шею. Но едва я приготовился подняться и встал на
одно колено — мальчишка закричал не своим голосом и, по-
виснув у меня на шее, принялся умолять: «Папонька, папу-
ся! Не уходи, ой-ёёй — не уходи... я больше не буду... ой, не
уходи... прости меня! Не надо, ой, не уходи!»
Остаток ночи мы провели с ним под одним одеялом, сши-
тым из разноцветных лоскутков, которое где-то сохранила,
сберегла бабушка, а теперь вытащила его для нас. Бабушка
больше не засыпала и проплакала до самого рассвета. А ут-
ром, сливая над лоханью воду из корца мне на руки, она ска-
зала, что ее сын — отец обоих мальчиков — погиб в Ленин-
граде, под развалинами дома, во время бомбежки.
Трудно было уходить из Фомина. У младшего внука все
время, пока мы пили пустой кипяток с сухарями, сохраня-
лось на лице напряженное и почему-то злое выражение.
Я положил возле его кружки кусочек сахара — он не взял.
В последнюю минуту, перед нашим уходом, малыш забил-
ся в дальний угол, за печку, и не захотел со мной попро-
щаться.
Дорогою, когда мы уже ушли, Урюпин сказал:
— Давно я так сладко не спал, как у этой старухи! Все
дела на сегодня покончены — никаких забот. Что еще надо
солдату? Правду я говорю, капитан?
Невероятно! Ночью он ни разу не проснулся, и малень-
кая трагедия на полу не имела ни одного постороннего зри-
теля.
8 мая. Козлова.
Выдался свободный час. Я попробовал заманить на
крыльцо нашего агитатора Королева — ничего не получилось:
из него не вытащишь ни слова.
Лицо у Королева простецкое, худощавое и слегка ску-
ластое, глаза небольшие, карие; смотрит он на всех очень
внимательно, даже на знакомых людей, как будто видит их
в первый раз и хочет понять: что за человек перед ним.
77
По-моему, это тип задушевного беседчика— друга бойца.
Внутренне он очень близок простым людям из деревни.
Безусловно, умница, но умный не через энциклопедиче-
ский словарь, а простым, практическим умом, умом народ-
ной совести и правды. Очень русский. Часто смотрит на нас
с Кобликом с нескрываемой иронией. Многие из наших со-
мнений ему кажутся детскими. Но он, безусловно, добрый.
Совершенно не честолюбив — ему безразлична похвала. Он
даже порой прибедняется, заранее согласен, чтобы его счи-
тали простаком. Не в этом, мол, суть — «идет война, и надо
отдать для победы все свои силы».
Мне очень бы хотелось процедить, пропустить через гла-
за и мозг Королева все, что я вижу вокруг себя, что слышу.
Но почему-то большого разговора у нас с ним не получается.
Пробовал расшевелить его воспоминаниями о детстве,— нет,
вдруг становится упрямым и тяжелым, как камень у поро-
га,— не сдвинешь с места, не дается он мне в руки.
13 мая. Великое Село.
Вчера не мог удержать слез. Не плакал, нет, но слезы
как бы сами по себе существовали.
Я отправился в 129-ю стрелковую дивизию — должен был
провести в ротах беседы, собрать новый материал для исто-
рии армии: хотелось встретиться с разведчиком Жмуровым
и сапером Ромашкиным — о них на днях писала наша га-
зета.
В дивизии я встретил делегацию из Молотовской области,
она привезла бойцам и командирам собранные в тылу по-
дарки.
Одна из делегаток, женщина лет сорока, крепкая, волевая,
с крупными, мужественными чертами лица, во что бы то ни
стало захотела передать лучшим бойцам портсигары с вы-
гравированными на них лозунгами и всяческими сердечными
пожеланиями, но передать из рук в руки и обязательно
«там» — на передке, на самом рубеже, где дальше одни толь-
ко враги.
Командир дивизии и начальник Политотдела перегляну-
лись. Вид у них был невеселый — они отвечали головой за
жизнь каждого делегата. А тут еще не кто-нибудь, а женщи-
на, и немолодая...
Решили провести ее в первую роту того полка, который
держал оборону против Великого Села
7Я
Крутой берег Редьи позволил скрытно подойти до по-
следних блиндажей, которые были вырыты в глинистой тол-
ще берегового обрыва. До немцев оставалось не более двух-
сот метров. Генерал попросил громко не разговаривать. Даль-
ше тянулись только хода сообщения к пулеметным гнездам,
вынесенным вперед, и траншея боевого охранения.
— Парад будет коротким,— тихо сказал генерал.— Я вы-
зову только четырех человек: разведчика, автоматчика, са-
пера и связиста. Мария Павловна, вы скажете им речь,—
только не обижайтесь: попрошу вас покороче, закругляй-
тесь быстро!
— А где же фашисты? — спросила Мария Павловна.—
Я хочу их видеть.
— Ну, с фашистами дело имеем мы, а вам это ни к чему.
— Товарищ генерал! — сказала Мария Павловна.— Они
убили моего сына...
Я стоял сзади нее и не видел ее глаз, но генерал потупил-
ся под взглядом этой женщины и долго не поднимал головы.
Помолчав, он сказал стоявшему рядом с ним начальнику
Политотдела дивизии:
— Ну что ж, веди, показывай, с кем ты воюешь! А я пой-
ду к проводу.
Марии Павловне дали посмотреть в стереотрубу, зама-
скированную над накатом блиндажа командира роты. Она
увидела то же самое, что увидел и я, когда поднялся после
нее по лесенке и прильнул к окулярам.
Это то самое Великое Село, которое безуспешно старался
отбить у немцев Поростаев, когда я сидел у него в блиндаже
под Онуфриевом. Прежде всего бросился в глаза огромный
крест из ствола столетней березы,— он стоял на кладбище,
которое немцы устроили на пепелище села. Вокруг централь-
ного креста весь бугор был утыкан маленькими крестиками
из строганых досок. Как полагается у немцев, они были рас-
положены по шнурку идеально правильными рядами.
Все это через стекла казалось пугающе близко — протя-
ни руку и зацепишь за перекладину креста.
На тропинку из-за бугра выскочили двое немецких сол-
дат — лицом к нам, согнувшись, пробежали несколько метров
и юркнули в какую-то норку. Хорошо было видно, как бол-
таются у них на поясе котелки. Наши от них лежат не боль-
ше чем в ста метрах,— поневоле согнешься.
Но почему же эти немцы остались живыми? Где же наши
снайперы? Ах да, я же сам слышал, как генерал, пока Мария
79
Павловна поднималась к стереотрубе, скомандовал из блин-
дажа по проводу:
— Авдеев? Говорит Первый! Замри на полчаса. Если да-
же он заговорит — молчи, не отвечай! Понятно? Я здесь не
один. Быстренько сообщи на все точки.
Мария Павловна передала каждому из четырех бойцов —
разведчику, автоматчику, саперу и связисту — портсигар, на-
битый папиросами, и каждому сказала что-то совсем нам не
слышное, и каждого обняла и поцеловала. Это и была ее
«речь», которой так боялся генерал — как бы она не затяну-
лась.
Я не мог скрыть выступивших на глазах слез.
Было что-то поразительное, хватающее за душу в том,
что «оттуда», из далекого тыла, где у каждого из нас были
свои родные, пришла вдруг сюда, на самый передок, без
винтовки и без автомата, обыкновенная женщина-мать, что-
бы поблагодарить и благословить разведчика, автоматчика,
сапера и связиста.
В соседних дивизиях — справа и слева — не было покоя:
гремело, лязгало зубами и звякало каленое железо войны.
А здесь, на нашем участке, время вдруг обронило, как про-
зрачную каплю, минуту необыкновенной тишины, такой же
невозмутимой, как зеркальная гладь Редьи, у кромки кото-
рой стояли четверо юношей — мальчики восемнадцати-де-
вятнадцати лет: разведчик, автоматчик, сапер и связист.
А вечером на берегу этой же речки Редьи, только отойдя
от рубежа уже километра на два, у меня был разговор с раз-
ведчиком Жмуровым.
Мы сели на самом берегу, а в береговом обрыве понарыто
много маленьких ниш — всегда есть где укрыться, если на-
чнут визжать осколки.
Жмуров рассказал мне, как он со своими разведчиками
ворвался в Великое Село. Он-то, Жмуров, и раздобыл тогда
приказ генерала Зейдлица о наступлении для выручки 16-й
армии.
Разведчики незаметно подобрались по мягкому снегу к
немецким блиндажам и по сигналу Жмурова одновременно
сбросили туда гранаты через трубы топок. Это была велико-
лепная новинка. Все немцы в блиндаже погибли, кроме тро-
их,— их взяли в плен.
Хотели оставить в живых, взять с собою и офицера, но
он укусил одного из разведчиков в руку. «Что, кусается? —
спросил Жмуров.— Тогда кончайте его!»
80
Выйти из Великого Села оказалось труднее, чем во-
рваться в него. На грохот взрывов к немцам подоспела под-
мога. Кончилось это дело, по словам Жмурова, так:
— Шли туда весело, с шутками, а назад — дал он нам
жизни! Ногу мне задело, правда, чуть, а контузило здорово.
Оттого ли, что в голове у меня получилась муть, только ро-
та не поняла моей команды: ребята с пленными — в одну сто-
рону, я—в другую. Я вернулся один, всех своих людей по-
терял. Оставался только один выход: идти в Особый отдел
дивизии. Не стал даже перевязываться — полон валенок кро-
ви, а я пришел в отдел и поднял панику: «Арестуйте меня!
Я потерял всех своих людей. Пришел один. Все погибли!»
Начальник Особого отдела спрашивает:
«Ты докладывал своему военкому?»
«Нет».
«Так вот, ступай сначала умойся, потом покажись ему».
Только я вышел из землянки, а моя рота вот она — топа-
ет уже по дороге...
Жмуров замолчал. Я чувствовал, что ему не хочется про-
должать.
Он мне нравился. В коротком ватнике, массивный, как
кубышка, как окованный железом чурбак для забивания
свай. Железная сила в мускулатуре и милая, добродушная
улыбка душевного человека-добряка. До войны он жил в
Москве, любил рисовать и мечтал поступить в архитектур-
ный институт.
Не очень далеко от нас разорвался снаряд. Мы встали,
ожидая второго. Вскоре он зашелестел на подходе к нам, и,
когда звук начал переходить в зуд, как бы нагнетая воздух,
мы оба кинулись вниз и нырнули каждый в свою нишу (для
двоих они были малы). Снаряд разорвался на другом берегу,
но мне успело-таки влепить в спину комом земли — заныла
лопатка — и волной вдавило меня в нишу с такой силой, что
я ткнулся головой в стенку — шапка смягчила удар. Потом
мы вышли из норок и отряхнулись.
Я сказал:
— Вы думаете, я забыл, на чем мы остановились? Вы
сказали: «Я вышел наверх из землянки, а моя рота топает
уже по дороге...» Теперь скажите, что было дальше?
Жмуров молчал.
— Ну, Жмуров, мне можно все сказать — я же не ваше
начальство, я писатель.
— От этого, товарищ капитан, мне не легче,— сказал
81
Жмуров.— Но я вам скажу. Только пускай будет тайна: я,
вы и начальник Особого отдела — больше никто! Договори-
лись?
— Договорились.
— Я не пошел к военкому,— сказал Жмуров,— не хотел,
чтобы кто-нибудь знал о моем позоре. Я пошел на медпункт,
перевязался, а потом прямо к начальнику разведки — поло-
жил ему на стол приказ Зейдлица. Он меня поблагодарил
за пленных и представил к ордену. Но самого-то себя не об-
манешь, товарищ начальник? И я теперь буду помнить на
всю жизнь: из Великого Села пришел один, как баран, поте-
рял свой отряд.
Жмуров помолчал и спросил:
— Что вы обо всем этом думаете, товарищ капитан?
— Я думаю, что редакция оторвет у меня с руками очерк,
как вы уничтожили немцев. Ведь это же великолепный мате-
риал! Гранатами — через трубы блиндажей! Пускай другие
поучатся, как это делать.
— И это все, что вы можете мне сказать? — Жмуров явно
искал примирения со своей совестью.
— А еще я думаю, что вас наградили справедливо,— при-
каз Зейдлица очень важный документ. Но я не понимаю, как
он попал к вам, если ваш отряд пошел с пленными в одну
сторону, а вы — в другую?
— Я вытащил его из кителя того самого кусаки, которого
мы пристрелили. Ведь это для разведчиков — закон: срезать
погоны, петлицы и вынуть все документы.
А на другое утро на этом же самом месте, над Редьей,
я говорил уже с другим разведчиком — сапером, рядовым
Ромашкиным.
Ромашкин совсем не такой, как литой, а потом кованный и
отчеканенный крепыш Жмуров: он истощенный, очень худой
и как бы весь отсыревший от постоянного ползания и лежа-
ния в грязи. Глядя на него, поневоле вспомнишь библейскую
легенду о том, что бог сотворил человека из глины.
Ромашкин работает в одиночку, как охотник-любитель.
Награжден медалью «За отвагу». У немцев в тылу прогули-
вался раз двенадцать. Осторожен, вдумчив, работает с серьез-
ной подготовкой. Ни разу еще не был ранен.
Разговаривать со мной ему было неинтересно. Работает он
не для славы и не любит хвалиться. С сотрудниками газет
R2
встречался не раз — надоело. Скучно и монотонно рассказал
он мне о подрыве моста на Редье — то, о чем я уже знал из
газеты,— рассказал так же бездарно, как изложил его под-
виг унылый сотрудник армейской газеты.
А дело было так. Ромашкин выполз ночью на передний
край, замаскировался в кустарнике и остался лежать днем,
на виду у немцев. Чтобы ничем себя не обнаружить, Ромаш-
кин не только ничего не брал в рот — опасно было опустить
руку в карман,— но даже «ходил под себя». И все-таки не-
мецкий снайпер сделал по нему два выстрела. Ромашкин
спасся только тем, что притворился убитым и не поднимал
головы. У снайпера был какой-то изъян в оптическом при-
целе— обе пули вырвали у Ромашкина вату из ушанки в
одном и том же месте. Возьми снайпер сантиметром пони-
же, и Ромашкин не вернулся бы из этой разведки.
Но до этих выстрелов Ромашкин успел разведать все, что
ему было надо: высоту моста и число пролетов. По его указа-
нию саперы сколотили плот, положили на него неразорвав-
шуюся немецкую авиабомбу и взрывчатку.
Ромашкин дождался темной дождливой ночи, сел верхом
на авиабомбу и поплыл. Несколько раз плот садился на мель,
Ромашкин спускался в воду и стаскивал его. Приходилось
сгибаться по грудь в студеную воду.
Метров за сто Ромашкин поджег шнур и тихо поплыл к
берегу. Взрыв произошел точно по его расчету, и мост вместе
с часовым взлетел на воздух. Все!
Я чувствовал, что у меня нет ключа к этому человеку.
Имей я этот ключ, может быть, я и добрался бы до сердцеви-
ны, и Ромашкин получил бы облегчение в беседе со мною.
Я всегда стремлюсь не паразитировать на нервах и психике
человека, не высасывать из него соки, а наоборот: беседа
должна давать ему больше, чем мне. Но на этот раз ничего
не получалось — я ничем не мог быть полезен Ромашкину.
Я сказал:
— Извините меня, товарищ Ромашкин. Если бы мне ска-
зали, что вы отдыхаете после разведки, я не стал бы вас вы-
зывать и будить. Получилось нескладно. Ну хоть закурите
на прощанье.
Он взял папиросу, но не поблагодарил.
Мне бы тут же и уйти, но не хотелось уносить с собою тя-
желый осадок. Мне показалось, что и ему как-то неловко, и я
сказал (авось клюнет)*
из
— Сейчас я оставлю вас в покое, уйду, и, может быть, мы
больше никогда не встретимся. Скажите на прощание: что
вы считаете самым тяжелым на войне или расскажите самый
трудный, самый тяжелый для вас случай.
— Самый тяжелый для меня случай,— сказал Ромашкин,
глядя себе под ноги в землю,— когда в роту приходит какой-
нибудь из газеты и начинает выматывать душу: куда под-
ложил мину, когда подложил, что да как... Вы же читаете га-
зеты, товарищ капитан, там все сто раз описано—что вам
еще нужно? А если хотите знать, как это бывает на факте,
никто за вас этого не сделает. Просите, чтобы вас зачислили
сапером в роту,— у нас людей не хватает, каждый день кого-
нибудь относят в санчасть. Вот это будет по-честному. А вы
мне говорите: «Пожалуйста, закурите на прощание». Можете
«на прощание» записать для газеты: старшина очень даже
аккуратно выдает нам табак.
Коновалова Березка.
Танцы! Да, самые настоящие танцы по случаю приезда
делегатов. Никто не организовывал и не предлагал — они воз-
никли стихийно.
Делегаток, конечно, не хватило. Откуда-то появились
местные жительницы — они сумели каким-то чудом опрятно
приодеться. Но и девушек хватить на всех не могло,— бойцы
танцевали в обнимку друг с другом.
Никто не подозревал, что метрах в двухстах за огорода-
ми притаилась «катюша»,— она была великолепно замаски-
рована. Вдруг она «заиграла», и среди женщин началась
паника.
Залп реактивного миномета — это не один звук, а долгие
перекаты рева и грохота от срывающихся одна за другой на
цель двенадцати ракет.
Всех нас оглушил яростный рев жаростойких глоток,
словно над деревней рушилось железное небо.
Не понимая, что происходит, делегатки заметались по
площадке.
А я вспомнил, как в Козлове упал с лавки спавший у нас
в избе начальник восьмого отделения, когда среди ночи за
сараями заиграла «катюша».
Кстати, о внезапном испуге. Говорят, в одном из обозов
пала от разрыва сердца лошадь, когда на дорогу, включив си-
рену, начал пикировать немецкий бомбардировщик.
84
Я не вздрогнул и не испугался только потому, что до рева
ракет увидел их огненный полет: нежно-розовые на вечернем
небе косо летящие восклицательные знаки (должно быть, от-
того, что у самого сопла ракеты пламя широкое, а дальше оно
постепенно сходит на нет).
Делегаток предупредили: сейчас начнется серия взрывов.
И тут же ярко осветилось Великое Село, земля там стала
жарко накаляться, как будто по всему пепелищу разлился
белый расплавленный металл, брызжа во все стороны искра-
ми. Один за другим вспыхивали очаги взрывов. Они не гасли
мгновенно, а долго светились, как будто на большом про-
странстве был разлит медленно остывающий металл. На фоне
сплошного свечения, как черные трещины, выделялись ство-
лы изуродованных деревьев.
Делегатов поскорее увезли на трехтонке,— с минуты на
минуту возможен был ответный удар.
Вечером я узнал, что немцы видели, как мы резвились в
Коноваловой Березке, и приготовились к огню, но наши на-
блюдатели тоже не дремали, и «катюша» сожгла их артилле-
ристов.
15 мая. Козлова.
Сегодня наконец выдали противогазы всем агитаторам.
Я тоже получил.
Разведка донесла, что на станции Дно немцы накапливают
отравляющие вещества. В Крыму, говорят, был уже один
случай — немцы применили мины с ядовитым газом.
Недавно выступил Черчилль. Он сказал, что Англия не-
медленно ответит химической войной, если Гитлер пустит в
ход газы против России.
Сегодня всех нас вызвали на газовую тренировку. Каж-
дый должен был посидеть в наглухо закрытой бане, напол-
ненной газом. Чтобы все поняли, как это опасно, химик-
инструктор на глазах у всех запер в бане кошку. Прильнув
к оконцу, мы увидели, что через минуту кошка уже валялась
на полу бездыханная.
Я не подвергся газовому испытанию — химик обнаружил
дефект в моем противогазе. К тому же № 3 велик для меня,
пропускает возле висков воздух. Надо надеяться, что если
Гитлер решил применить отравляющие вещества, то он все-
таки подождет, пока мне выдадут противогаз № 2, который
будет впору.
83
16 мая. Козлова.
Разведка донесла, что «группа Зейдлица» соединилась с
передовыми частями своей 16-й армии.
Что ж, и все-таки мы можем гордиться. Сколько понадо-
билось для этого немцам времени и во что это им обошлось!
На ничтожном по размерам участке враг бросил против нас
34 тысячи пехоты, 60 танков и, делая до тысячи самолето-вы-
летов в день, подвергал при этом бомбежке отрезок рубежа
всего в каких-нибудь пять-шесть километров. А чем могла
ответить наша авиация? Сорок восемь самолето-вылетов про-
тив тысячи! Так и надо сказать: почти при полном отсутст-
вии авиации с нашей стороны. К этому надо добавить грязь,
бездорожье и отсюда все остальное: недоедание, а подчас и
голод, нехватку боеприпасов, бензиновый голод. Я еще не
упомянул, что из числа окруженных в котле 90 тысяч солдат
тоже ведь несколько дивизий непрерывно участвовали в этом
побоище.
17 мая. Коломна.
Внезапно все отделения штаба, весь штаб погрузился на
колеса — и вот мы уже в Коломне.
Утро. Солнце по ту сторону Ловати — и стрежень реки
переливается жидким стеклом и серебром. А на этом берегу
тоже светят сотни крошечных солнышек: это пробилась по
глинистым откосам мать-и-мачеха, растопырив во все сторо-
ны золотые реснички своих лучей.
Тихая утренняя река. В зарослях цветущей лозы, покры-
той желтым цыплячьим пухом, влажно, сочно чмокают, щел-
кают, бьют трелями и дают «кукушкину дудку» соловьи.
Как голая стена, высоко поднимается обрыв противополож-
ного берега, охристо-красный, какого-то мексиканского, не-
правдоподобного цвета.
Изба, где мы поселились, просторная, чистая. В углах об-
ломки позолоченного, резного иконостаса: кисти винограда,
корона, стилизованные листья, тут же иконы, писанные на
холсте и, очевидно, содранные с «царских врат»; много фар-
форовых разборных частей от подсвечников... Все это стаще-
но из деревянной церквушки,— она стоит на берегу с разби-
тыми стеклами и сорванными дверями.
Рядом с остатками церковного благолепия в избе висят
Mt)
цветастые плакатики фашистов, бессмысленно засунутые
сразу по три, по четыре в одну и ту же рамку, под одно стек-
ло. С приторной, умилительной слащавостью плакатики про-
пагандируют «прекрасную» жизнь германского рабочего, то,
что «дал» ему фашизм: детский сад, мать и цветущее дитя,
спортивные игры на заводской площадке, озелененные цеха
заводов.
Один из таких плакатиков я вытащил из-под стекла. На
обороте — злобная агитация против советского строя, под-
тасовка фактов, ложь.
В домике — ветхий, щелястый пол. Доски шевелятся под
ногами, как клавиши, а в щелях зелеными фитильками про-
растают зерна ржи.
Все жители выселены из Коломны. Но наш хозяин-
рыбак не выдержал и пробрался к нам откуда-то из лесной
землянки. Он похож на апостола Луку, который убежал
со стены здешней церкви, но только апостола загулявшего,
краснолицего, спившегося. У него растрепанная* борода,
точно в лицо ему все время дует сильный ветер, остро
торчащие вперед, как бы обкусанные усы, неспокойный
взгляд темных глаз с красноватыми веками. Походка лег-
кая, держится очень прямо, по-молодому; брюки со шта-
нинами тонкою трубочкой сидят на нем, как на подрост-
ке. Босой, ноги белые, может быть оттого, что подолгу стоит
по колено в воде.
Его спросили, как вели себя фашисты, он не пошел на от-
кровенность, отделался фразой:
— Гораздо латышат — ничего не поймешь, о чем разгова-
ривают.
Чтобы расшевелить рыбака, я достал пластинку и завел
патефон. Занялся я этим первый раз в жизни,— никогда не
пробовал. От боязни что-нибудь повредить у меня даже руки
дрожали. Попалась песенка «Андрюша».
Хозяин глубоко вздохнул:
— Эх, Андрюша, Андрюша!
— Что вздыхаете? — спросил я.
— Сына вспомнил. Погиб под Ленинградом...
— Его звали Андрюша?
— Василий Андреев. Он последнее время работал кино-
механиком, по всему району нашему ездил.
— Хорошая работа?
R7
— Неужели нет? Без поллитровки никогда не возвра-
щался. Приедет и — отцу!
— А отец не откажется?
— Никогда! Я ее уважаю — истребляю на корню.
— А не вредно пить?
— Для меня — нет. Вино от бога. Когда было много вина,
жизнь была проще: становишься умнее, и жена не брюзжит.
— Почему?
— Боится! До Старой Руссы — рукой подать, а в Руссе
все было приспособлено для развития алкоголизма.
Он вдруг радостно озарился, прямо-таки просиял:
— Сегодня не жалуюсь — пожил! Дал бойцам большую
рыбину — они мне кружку преподнесли. Прокатился как
Христос на таратайке — сразу на душе захорошело!
Я дал ему пачку махорки. Он стал даже как бы грустным
от сосредоточенного удовлетворения, посерьезнел:
— Ну, теперь я обеспечен. Не будет жена ругаться. А то
я отнес за табак четыре яйца, так она мне всю голову про-
ела. Сейчас пойду на реку — неужели ж не сумею для вас
рыбы поймать?
Вечером мы получили приказ дежурить круглосуточно
в каждом отделении, так как район Коломны считается
бандитским — кое-где в лесах укрываются недобрые
люди.
18 мая. Коломна.
Еще одно безветренное утро, тихая Ловать. Двое бойцов
переправляются через реку в лодке, похожей на пирогу ин-
дейцев. Такую лодку можно видеть на картине Левитана
«Большая вода» в Третьяковской галерее,— ее долбят из
цельного ствола осины, потом греют над костром, раздают
вширь и в таком положении высушивают.
От реки по рыжей тропочке, которая вьется, как плохо на-
тянутая веревка, поднимается наш рыболов. Он что-то бояз-
ливо несет в обеих руках, боится уронить. Наверху он про-
тягивает мне две новые обоймы с патронами, они еще не
успели заржаветь.
— Подобрал в кустах,— говорит он сипловатым, как бы
отсыревшим у реки голосом.— Какое богатство пропадает
зря. Ведь это в умелых руках — верная смерть! Десять нем-
88
цев, если который стреляет с умом. Возьмите, пожалуйста, то-
варищ командир.
— Спасибо! — благодарю его, ни слова, конечно, не гово-
ря, сколько такого «богатства» валяется на передовой.
— Насчет рыбы — извиняйте, немцы распугали. Но вы не
сомневайтесь — я за табак отработаю.
— Забудьте про табак — я некурящий. Вы мне лучше
расскажите, что вы помните из вашей жизни самое раннее,
еще когда вы были младенцем.
— Это пожалуйста!—Рыболов ответил с резвой готов-
ностью, как будто обрадовался тому, что от меня можно так
дешево отделаться.— У нас учитель в школе был, тоже ужа-
сно обожал всякие сказки и вообще притчи. Ни одна старуха
в Коломне его рук не миновала — все записал в свою тет-
радку со знаками препинания.
— Так что же вы помните?
— Все, что хотите. Я ужасно памятлив.
— Мне всего не надо. Вы расскажите, что вы помните
самое раннее.
— Сон, конечно. Сон. Я все сны содержу в памяти. Могу
вам рассказать про архангела Гавриила. Приснилось мне,
будто я ему вставил в зад тонкую соломинку и начинаю раз-
дувать, как мыльный пузырь. Когда я дам ему воздуху на
полную мощность, он начинает трепыхать крылышками, как
жаворонок. Я вытащу обратно соломинку — он тут же увя-
нет. Я опять вставлю, понатужусь — он снова зачинает иг-
рать крылышками. Забавный такой ангелочек!
А то мне еще такое явление во сне было. Это уже когда
я вошел в полный разум, усы уже подкручивал. Приснилось
мне, что будто бы у нас царь Николай Второй Романов и что
мне дана полная власть над всяким зверем, и птицей, и ры-
бой. Беру я огромное ведро, вычерпываю воду из Ловати и —
вся рыба моя. Я ее несу в Старую Руссу на базар. Оттуда,
конечно, приношу четверть водки. Так верите ли вы мне —
проснулся я вдрызг пьяный. Жена ко мне подойти даже близ-
ко боится. Я сны ужасно обожаю — век бы не просыпал-
ся. Во сне я царь и бог и никто меня обуздать не имеет
права.
Трудно понять, придурковат ли наш хозяин или же на-
оборот — владеет тонкой иронией. Поживем — увидим.
Где-то далеко бомбят. Тупые, утробные толчки по толще
89
земли доходят до нашей избы — пол вздрагивает. Вообще-то
и без этого в нем каждая половица живет отдельно — когда
кто-нибудь идет по горнице, меня покачивает на скамейке.
Дня через три-четыре от проросшей в щелях ржи ничего не
останется.
22 мая.
Заболел наш начальник Губер — сочетание доброты, са-
мовлюбленности и легкомыслия. Когда он улыбается — по-
лон рот золотых зубов. Однажды я назвал его «Золотая улыб-
ка»— прозвище пристало к нему прочно. О нем надо писать
особо — тут несколькими фразами не отделаешься.
Какая у него болезнь — непонятно: пухнут ноги. Получил
отпуск для лечения в тылу.
24 мая.
Меня вызвал начальник Политотдела Куницын.
Хороший человек Куницын, вдумчивый, понимающий со-
беседника, терпеливо его выслушивающий, умный и тактич-
ный. Он долго беседовал со мною, старался глубже понять
мои писательские интересы. Мы составили что-то вроде про-
граммы для моей работы над историей армии:
1. Побывать на командном пункте вместе с командующим
армией и с первым членом Военного Совета бригадным ко-
миссаром Тележниковым (Куницын обеспечит мне это). Рас-
спросить их о встрече со Сталиным в Кремле.
2. Пожить в госпитале.
3. Познакомиться с работой Особого отдела.
4. Присутствовать при вручении на передовой партби-
летов.
5. Побывать у партизан в тылу у немцев.
Итак, писатель, действуй! План четкий и доступный, по-
мощь Куницына обеспечена.
25 мая. Коломна.
Вот тебе и «доступный план»! Отозван наш командарм
Дубнецов. Буду надеяться, что Тележников хоть в чем-то
возместит мне эту потерю.
ее
Вместо Дубнецова к нам прибыл генерал-лейтенант Бо-
рановский. Группа Поростаева ликвидирована. Поростаев на-
значен командующим 1-м гвардейским корпусом.
Вернулся из командировки Коблик. Он принес с передо-
вой немецкий автомат, но без единого патрона —
обе обоймы он «забыл»: потерял где-то в частях у Порос-
таева.
Мы не виделись с Кобликом двенадцать дней,— то он в
командировке, то я. Я рад: все-таки это единственный чело-
век, с которым я могу говорить почти обо всем, как бы ри-
скованна ни была тема.
Коблик подавлен всем, что он видел и слышал. Конечно,
надо делать поправку на то, что это до мозга костей сидя-
чий, кабинетный, беспомощный горожанин. Но он по-насто-
ящему мыслящий, совестливый человек, для его разума
невозможно изо дня в день существовать абы как, без
ясного понимания, что происходит не только вокруг тебя,
но и в тебе и во всем мире. В нем еще ничто не при-
тупилось все восприятия остры, как в первый день. Это
тоже ценнейшее свойство человека. А ведь он на войне
не как я — с января 1942 года,— а чуть ли не с самого
начала
26 мая. Коломна.
Война — народная трагедия и величайшее напряжение
всенародного сознания.
Писателю необходимо обнажить, раскрыть как можно ши-
ре все свои чувствилища и всею силой своего разума и чувств
войти в ощущение жизни и смерти.
У меня нет стремления писать много. Хотел бы на-
писать только одну книгу, одну-единственную, но большую
и окончательную — итоговую для моей жизни.
Моя тема трагическая с лирической прослойкой. Моя сти-
хия— это торжественное и приподнятое, но неразрывно свя-
занное с обыденным,— в самой земле, а не над нею. Пока-
зать в обыденном глубокую сущность явлений, разъять обы-
денное и обнажить в вечно изменяющемся всемирном бытии
то, что непродолжительно живущему человеку кажется не-
зыблемым и вечным: так он ощущает это всем своим оуше-
91
ством в лучшие мгновения своей жизни, поднимаясь до та-
кого состояния, как на горную вершину, с ее вечными, не-
тленными снегами.
Не забывай, что и «вечный снег» недолговечен. Ледники
ползут с гор, тают и уходят в землю, а снег непрерывно об-
новляется. И там, на вершине, непрерывная диалектика
жизни, исчезновение и возникновение.
А та горная точка, которую ты наметил как наивысший
подъем духа, мерило высшей морали и вдохновения,— это
не какая-то сверхъестественная сила, нет — она воздвигнута
тобою же самим под влиянием всего, что ты изучил и усво-
ил в движении вперед всего человечества. Это — сама же
природа (то есть материя), переработанная в твоем мозгу то-
бою же самим и подаваемая себе же самому под видом тво-
его убеждения и веры.
Но самое важное в том, что, стремясь к этой наивысшей
вершине (пусть созданной тобою же самим), ты становишь-
ся лучше, ценнее, благороднее, ты способен принести больше
пользы твоему народу. А раз ты существуешь и духовно и
материально за счет труда и сознания всего твоего народа,
то отдавать все свои силы народу это и есть твой наивысший
долг.
27 мая.
Кричит под сараем петух. Три часа ночи. Рубельников бу-
дит меня (я и так не спал) и сдает дежурство. Теперь моя оче-
редь.
Обуваюсь (спим мы в одежде), перекладываю из кобуры
в карман маленький бельгийский браунинг № 2 и выхожу на
крыльцо.
Моросит дождик, а жаворонки поют себе, поют в утрен-
них дымящихся сумерках, и соловьи поют, точно у них у
всех есть плащ-палатки. Еще темновато, но все-таки замет-
но, что деревья продолжали трудиться и ночью: в теплой но-
чной тишине на их ветвях еще больше распустились листья.
Повсюду влажный шепот дождя, тихое бормотание водяных
струек: капает с крыш, капает с каждого листика, стебли мо-
лодой травы тянут взасос, пьют влагу. Все разбухает, рас-
пускается в такой теплыни, поднимается, как на дрожжах,
пузырится, бродит, разрывает материнское зерно, прет из
земли, жаждет света. А жаворонки поют, славят жизнь
83
и соловьи стонут от наслаждения, захлебываются от
нестерпимого желания рассказать о своем великом
счастье.
Делаю несколько упражнений, открывается глубокое ды-
хание, и сердце начинает работать в одном ритме с окружаю-
щей меня природой. Надо что-то делать, нельзя, чтобы пере-
полняющая душу полнота рассосалась в бездумии, в ленивом
ожидании чего-то значительного, что должно произойти само
по себе.
Становится светло, уже отчетливее краснеет «мексикан-
ский» обрыв на другом берегу Ловати. Но в небе еще темно.
Все спят. Поджигаю фитиль в медной гильзе из-под снаряда
и принимаюсь за свои дела.
Вчера было много смеха. Коблик подшивал белый ворот-
ничок к летней гимнастерке. С первого захода он наглухо
зашил крючки, так что ворот нельзя было застегнуть. Рас-
порол. После второго захода обнаружилось, что с одного края
подворотничок торчит на два пальца больше, чем надо.
Пришлось пороть второй раз. Потом Коблик и вовсе
проткнул иглой палец и подкрасил своей кровью злополуч-
ный подворотничок. Хорошо, что у меня оказался запас-
ной. Я тоже не большой мастер в таком рукоделии, но,
конечно, сам справляюсь с этим делом, сумел пришить и
Коблику.
Смеяться было приятно, потому что Коблик хохотал вме-
сте с нами.
С приездом Коблика из командировки на столе, на под-
оконниках, на комоде, даже на полу валяются газеты и бро-
шюры. Этот рассеянный человек постоянно все забывает, но
первую страницу книги Спинозы «Этика» знает наизусть.
Лекции по международным вопросам с кучей цитат и цифр
он читает, не заглядывая в свою тетрадку.
Прошу эту тетрадь срочно передать в
Политотдел армии, с тем чтобы она бы-
ла отослана моей семье.
В. Ковалевский
28 мая.
Тяжелый наш фронт: конец мая, а дороги все еще не дают
наладить снабжение. На аэродромах тоже ни посадка невоз-
можна, ни взлет. Опять серьезные перебои с питанием. Пи-
сем не получаем. Самолеты сбрасывают только газеты и су-
хари.
Неожиданно я узнал, что снайпер Бурилин, который ист-
ребил несколько десятков фашистов, работал поваром у Але-
ксея Максимовича Горького. Тотчас же я взял командировку
от Политотдела армии и пошел на передний край.
Там я узнал, что накануне Бурилин был тяжело ранен.
Оставалась надежда догнать его в эвакогоспитале.
04
Я сверился с картой: до деревни Лобыни, где расположен
госпиталь, надо одолеть еще двадцать два километра. Все
бы ничего, если бы не ужасающие весенние дороги под Ста-
рой Руссой.
Неожиданно на пути попался глубокий овраг—заповед-
ник соловьев и черемухи, которую некому дарить, некому
ломать и некому ею любоваться. Соловьи одурели, опьяне-
ли от черемуховой горьковато-т рпкой духоты. Так давайте ж
хоть я выпью за всех до дна этот глубокий, как чаша, ов-
раг с черемуховым отваром и соловьиной приправой.
Пять часов утра. Пасмурно, но необыкновенно красиво.
Я сижу на седом валуне под сосною, ствол у которой при-
хотливо закручен — как рыжий канат. Хороши валуны: сво-
ими узорами из пятен лишайников — ржавых, белесо-зеле-
ных и черных — они напоминают картины Рериха с древне-
славянскими мотивами. В овраге глухо,— точно боится, как
бы его не услышали немцы, бормочет ручей.
Серое небо. Но склоны берегов ярко-зеленые. В овраге
зелень тоже еще не очерствела, не слилась в общий зеленый
покров.
Будь вы прокляты,— до чего же вы хороши, соловьи!
Встал, сделал несколько шагов и тут же споткнулся свои-
ми задрызганными сапожищами о гнезда фиалок.
Как я благодарен природе за эти минутные антракты на
войне! Не знаю, как для других, а для меня это — лекарство.
Так легче сохранить в себе художника, быть верным сво-
им заветам в ощущении природы и всего мироздания.
Удачная встреча: в лесной деревушке Кошели познако-
мился с главным хирургом нашей армии Дзюбарским. Он
обследует госпитали — тоже пешим порядком. Его «козлик»
застрял, заплыл грязью чуть ли не до самых фар.
Я рассказал, зачем иду в госпиталь, как важно для меня
во что бы то ни стало застать там снайпера. Ведь каждая чер-
точка из жизни великого Горького драгоценна. Может быть,
этот человек расскажет о Горьком что-нибудь никому еще
совершенно не известное.
Из Кошелей в Лобыни мы отправились с Дзюбарским вме-
сте. Нас сопровождает боец лет тридцати семи, очень измож-
денный и бледный,— наверно, из команды выздоравливаю-
щих.
Особенно бледным он кажется рядом с хирургом: лицо
05
у Дзюбарского густо-красное, словно раззуженное ветром;
нижняя челюсть одутловатая, а губы так сложены, что ка-
жется, будто Дзюбарский набрал в рот воды и сейчас на тебя
брызнет.
Попался нам ручеек, а над ним на ветке молодого дуба си-
дел соловей, видный нам, можно сказать, весь насквозь, и са-
мозабвенно пел.
Мы прыгаем по камням, переходим ручей. Соловей над
самой головой. Можно протянуть руку и взять его в горсть
со всеми его «кукушкиными дудками», «оттолчкой» и «рас-
катами». Глазки закрыты, мелко дрожат оттопыренные на
горлышке перышки, словно на них кто-то дует.
Может быть, солист не слышит наших шагов из-за бормо-
тания ручья? Впечатление такое, что он совершенно не боит-
ся нас.
Довольно долго мы шли мелколесьем, но вот взобрались
на высокий берег, и перед нами распахнулся широкий плес
Ловати. Я вспомнил, что именно здесь, мимо этих берегов, не-
когда проплывали «из варяг в греки» торговые суда наших
предков — славян.
— Какая все-таки тут прекрасная природа! — сказал я.
Дзюбарский промолчал, а связной сказал:
— Какая же здесь может быть природа? Грязь и вода.
Воды много, а жратвы не хватает,— какая же это природа?
Сухари и те получаем с воздуха, как манну небесную.
— Нет крови для переливания,— сказал Дзюбарский.—
В Валдае, на станции, пропадает донорская кровь, а доста-
вить нельзя. Мы могли бы спасти жизнь сотням раненых,
если бы эта кровь была под рукой!
С полкилометра прошли молча. Но дальше уже не мог
молчать хирург:
— Кровь, кровь... Всякая бывает кровь...
И Дзюбарский рассказал такую историю.
Во время боя в медсанбат сообщили: ранен в голову коман-
дир полка. Срочно нужна помощь. А как раз в этом медсан-
бате работала его жена. Она взяла с собой санинструктора,
двух санитаров с носилками и сама пошла вместе с ними
спасать мужа.
Немцы вели сильный огонь. Подползти к раненому было
невозможно. Но жена приказала вытащить его с поля боя
на плащ-палатке. Санинструктор пополз, но его тут же уби-
ло. Пополз за раненым санитар — тоже был убит. Второй са-
нитар отказался лезть в пекло.
96
Тогда поползла сама жена-врач. Она тащила с собой сани-
тарную сумку, чтобы помочь на месте. По кустарнику, мет-
ров тридцать, она проползла благополучно, но на открытом
месте и ее прошило пулями. Второму санитару стало стыдно,
и он спас ее — втащил обратно в кустарник. Отсюда уже не-
трудно было донести ее до санбата.
У нее обнаружили несколько ранений — все, к счастью,
не тяжелые. Грудная клетка оказалась как бы в коридоре
между полетом двух пуль: первая пуля попала в мякоть ле-
вой руки, пробила обе груди и правую руку; вторая пуля ав-
томатчика прошла опять через левую руку и через мускулы
спины, не задев костяк.
А муж ее, командир полка, как вскоре выяснилось, про-
должал руководить боем. Пуля пробила мочку его левого
уха. От шока он упал. В мочке уха множество мельчайших
сосудиков, и командиру мгновенно залило кровью все лицо.
Адъютант отправил связного сообщить о тяжелом ранении.
А командир полка скоро пришел в себя и, прижав носовой
платок к уху, продолжал командовать.
— Годится вам такой сюжет? — спросил Дзюбарский.
— Не знаю,— ответил я,— не могу сразу сообразить...
— А по-моему, это находка для писателя, не то что соло-
вей на ветке.
Я сказал:
— Сюжетов существует десятки и сотни. Можно приду-
мать сколько угодно сюжетов. Не в этом дело... Мне нужно
знать человека, его характер. Я не видел командира полка
и не знаю его жены. А может быть, убитый санитар, которого
жена командира заставила ползти, куда интереснее как че-
ловек, чем командир полка и его жена, вместе взятые. Я их
не знаю, не вижу. А без этого писатель слеп и глух, как со-
ловей на ветке.
Неожиданно связной попросил:
— Товарищ военврач, разрешите обратиться к капитану.
— Вольно! — с усмешкой сказал Дзюбарский.
— Если бы я был Лев Толстой или, допустим, Шолохов,—
сказал изменившимся, восторженным голосом связной,— я
бы написал такой роман! Главное, я и себя хорошо знаю и
того дурака — тоже как облупленного. Тоже мне дружок на-
зывается! Пришлось нам вместе идти в разведку. Разведали
мы, что от нас требовалось, убили двух фрицев — несем их
погоны и документы. А дружок этот и просит меня в лесу,—
до нашей разведки уже недалеко:
4 В« Ковалевский
97
«Стрельни мне, браток, в плечо! Если в руку, подумают —
самострел. А потом я, если хочешь, и тебе так сделаю».
«Как так,— спрашиваю,— зачем же я буду в тебя стре-
лять?»
«Я плохо себя чувствую, хочу получить отпуск».
Какая язва, думаю,— считает меня за подлеца. Начинает
меня бить лихорадка: зуб об зуб колотится и пот глаза зали-
вает. Неужели у меня на лбу написано, что я предатель? Кто
ему сказал, что я подлец?
«Хорошо, говорю, становись!» А сам рукавом утираю гла-
за от пота, чтоб не промахнуться.
Дело было, как я уже объяснял, в лесу. Он прислонился
к березе и раскорячил ноги, чтоб не упасть. Я ему ударил в
самое сердце! Он было закричал: «Постой, куда ж ты це-
лишься?!» Но я — жжах, и срезал!
Пока связной рассказывал, он жадными затяжками испе-
пелил две папиросы, прикурив одну от другой. Дзюбарский
молча протянул ему третью. Только докурив ее до самой ва-
ты, он растоптал окурок на глинистой тропке и кончил:
— Пришел я к себе в роту, положил перед командиром на
стол погоны обоих фрицев, а поверх — винтовку этого
дружка.
Командир потемнел в лице, спрашивает:
«Один, значит, вернулся?»
«Значит, один...»
«А где же Петухов?»
«Нет Петухова!»
«А где же он?»
«Я, говорю, дал ему вечный отпуск!»
Мы долго молчали и шли гуськом вдоль Ловати: связ-
ной — впереди, за ним — я, Дзюбарский последним.
— Да, это действительно вроде «Войны и мира»,— сказал
он уже без всякой иронии.— К какому же ордену вас за это
представили? — он неожиданно перешел на «вы».
— Представили к трибуналу. Прокурор начал мне при-
шивать: «Вы могли убить своего товарища по низким сообра-
жениям: ревность из-за какой-нибудь юбки, или зависть,
или еще хуже — он знает о вас какую-нибудь преступную
тайну, и вы хотели убрать с дороги опасного свидетеля, ина-
че вам грозила мертвая стенка. Отвечайте, говорит, чем вы
способны доказать трибуналу обратное?»
В общем, была бы мне там глухая стена и та же могила,
если бы не командир батальона и комиссар — дали характе-
оя
ристику. Трибунал присудил: за самосуд — штрафная рота.
А через два дня я уже лежал под Волоколамском весь пока-
леченный — попал под пулеметную струю. Там у немцев по
всему берегу Ламы танки были закопаны в землю — одни
только башни снаружи. Штрафная рота взяла берег с ходу,
а я остался на льду. Резали меня, резали и еще будут ре-
зать— не все пули вынули. У меня после этого получилось
короткое дыхание. Годен только для прогулок, а чтобы там
в атаку или долго ползти — ни-ни! Идет кровь горлом. Завт-
ра бросаю курить, между прочим!
Дзюбарский отвернул обшлаг рукава, взглянул на часы
и сразу же пошел быстрее. Я старался поспевать за его ши-
роким шагом. Но связной отставал. На повороте тропинки я
обернулся: наш связной побледнел еще больше, он хватал
воздух широко открытым ртом — его мучила одышка. Бро-
сить связного одного я не мог. Вскоре Дзюбарский скрылся в
кустах орешника, куда снова уводила нас от Ловати тропин-
ка. Но до госпиталя оставалось теперь совсем недалеко,—
не больше чем через полчаса мы вошли в сумрачную тень
столетнего бора, он хорошо укрывал от недоброго глаза с
воздуха серые брезентовые палатки госпитального хозяй-
ства.
Возле санпропускника навстречу нам шел опередивший
нас Дзюбарский.
— Опоздали! — громко сказал он еще издали.— Ваш
снайпер два часа назад отдал концы на операционном столе.
30 мая. Лобыни.
В госпитале меня накормили таким сытным обедом, что
стало совестно: вспомнил передний край, вспомнил Рыто,
вспомнил конские туши, вспомнил я и Казань: что там едят
сейчас моя жена и восьмилетний сын? После обеда удалось
поспать часа полтора в крошечной чистенькой комнатенке
медсестры, совершенно свободной, потому что сегодня сест-
ра дежурит.
Проснулся и увидел на подоконнике книгу. Вы прочтите
только название этой книги:
«Друг животных
Книга о внимании, сострадании и любви к животным.
Гуманитарно-зоологическая хрестоматия.
Пособие для пр подавания з школе и в семье
основных начал человеческого отношения к
животным и правильного обращения с ними».
Какая горькая ирония — найти и читать эту книгу на
войне!
1 июня. Коломна.
Уходил я из госпиталя безоблачным утром. Сверился с
картой и решил сократить дорогу — идти не вдоль берега,
а по прямой.
Теперь уж я шел один.
Все канавы, впадины и ложбинки были переполнены во-
дой; она была чистая, совершенно прозрачная, и сквозь ее
толщу виден был каждый стебелек. Порою из теплых, стоя-
чих и прозрачных, как стекло, травяных луж поднимались
желтые купальницы, их еще называют бубенчиками,— они
и в самом деле похожи на круглые бубенцы; называют их
кое-где и «коровий напор», потому что к тому времени, когда
они расцветают, у коров прибавляется молока.
Не доходя до Кошелей, я наткнулся на пепелище со-
жженных немцами выселков. От выселков ничего не оста-
лось, кроме маленькой баньки, сиротливо черневшей над
краем оврага.
В первую минуту, когда я переступил порог, мне показа-
лось, что в непроглядно черной от сажи бане нет никого.
Я хотел было уже податься назад, но вдруг услышал старче-
ский голос:
— Уважаемый, не откажи табачку!
Я оглянулся и увидел, что с закопченных полатей спу-
скает босые ноги дед. Вид его меня поразил: лицо, руки, впа-
лая грудь старика — все высохло, потеряло объем и стало не-
весомым. Но это была не изможденность, а та старческая
легкость, когда человек как бы оставляет на земле все лиш-
нее, уже не греющее ему душу, все, что может обременить
его в дальнем пути. Борода у старика тоже была хоть и длин-
ная, но необыкновенно редкая, как ветхая, много раз сти-
ранная, истончившаяся косынка.
Я протянул ему табак. Дрожащими тонкими пальцами
старик начал разминать его и сыпать на бумагу. Он был та-
кой ветхий и такой высохший, что. казалось, у него не хватит
слюны, чтобы заклеить папиросу.
Пока он скручивал, я смотрел на него, и меня удивило,
что по его синей рубашке были рассеяны какие-то аккурат-
ные дырочки, через которые на плечах и на груди сквозило
тело. Я насчитал одиннадцать дырочек.
100
— Считаешь? — спросил старик.— Считай, считай!
Он повернулся ко мне спиной. На спине у него тоже были
дырочки, но уже не такие аккуратные — рваные.
— Ношу как память,— сказал старик.— Кровь смыл, а
зашивать не стал. Так легче душе. Пускай ветром остужает,
а то сгоришь от тоски.
Старик глубоко затянулся табачным дымом и сказал:
— Если служба тебя не торопит, сядь, отдохни. Дай еще
на закурку, а я тебе разъясню, как оно было дело.
Я отдал старику всю пачку и сел на березовый чурбак
около теплой каменки.
— Прошлой зимою,— сказал старик,— партизаны убили
в трех верстах отсюдова немецкого генерала. На другой день
прилетел на ероплане другой генерал. Согнал весь народ в
нашей деревне в кучу и сказал: «Вы не простого генера-
ла убили, вы убили моего брата. Мой брат, говорит, был не-
прикосновенный. Семь войн воевал и не имел ни одной
раны. А вы его убили. Не брала его никакая пуля: ни анг-
лийская, ни французская, ни американская—никакая, а ва-
ша русская — взяла. За эту вашу смелость мы, говорит, с
Гитлером порешили наложить на вас великую казнь и тер-
зания».
Как стоял немец, так рукою и показал на все четыре сто-
роны: на север, значит, на полдень, на заход и восход, и ска-
зал, что все вокруг, в каждую сторону на пять верст, он
предаст огню. Так и сделал. Спалил все деревни, а жителей,
которые от шестнадцати лет до шестидесяти пяти, приказал
расстрелять, собака.
Старик замолчал, отвернулся от меня и поставил греть
босые ноги на крайний валун каменки. Забытый окурок погас
в его руке. Потом он как бы очнулся, вытащил не боящимися
ожога пальцами уголек из-под валуна, опять задымил само-
крутку и продолжал совсем тихо:
— Теперь спроси меня — зачем же я остался жить после
всего такого... Был у меня единственный внучек, тихий го-
лубь, родная кровиночка. Со страху, когда, значит, немецкие
солдаты начали убивать его отца, метнулся внучек по ого-
роду, оступился и упал в колодец.
Медленно оглядев черные бревенчатые стены бани, .ста-
рик сказал:
— Вот теперь я весь здесь, один, без остатка. Снял кро-
вавую рубашку с убитого сына, смыл в речке невинную его
кровь и ношу, как святую икону. -
101
Он помолчал немного, потом добавил:
— Вот я тебе и говорю: нет у меня права умирать, пока
враг на нашей земле. Не смотри, что я ветхий. Молитва моя
крепкая, и проклятие дойдет куда следует! А ты, если, как
говоришь, обучен грамоте и можешь писать, опиши наше
горе. Да не забудь приписать — сына моего звали Василий
Иванович Трубачев, председатель колхоза.
2 июня.
В Коломне ждала меня новость. Наш хозяин-рыболов вы-
ловил в лесу двух немцев-парашютистов. Одного из них он
зарубил топором, а другого привел живым. Все поражаются,
как он смог дойти с таким здоровенным немцем — в лесной
схватке один из немцев нанес ему в бок глубокую рану но-
жом ( поэтому рыболов и зарубил его). Милый наш богатырь
так много потерял крови, что даже не смог взойти на крыль-
цо избы, где помещается седьмое отделение, и упал у порога.
Сейчас он лежит в госпитале — ему делают переливание
крови.
3 июня.
Умер наш хозяин — не спасло переливание крови. Сего-
дня пришла его жена и спросила:
— Который здесь писатель?
Она принесла мне три удилища, леску и крючки.
— Очень убивался,— сказала мне она,— горевал, что
остался в долгу.
Увидев мое смущение (зачем мне все это?), жена хозяина
сказала:
— Берите, берите — все равно пропадет.
В обеденную пору Рубельников приволок с Ловати здо-
ровенную щуку, изловил ее на эту самую снасть. Но под-
жарить не сумел, только сжег щуку,—уж лучше бы
сварил.
4 июня.
Я, кажется, сдаю... Неужели не хватит сил пойти с парти-
занами в тыл врага? Болит сердце и желчный пузырь. Устал.
Никак не могу отоспаться — мешают комары. Вся изба полна
их, а мне достаточно и одного: если он прозудит над ухом,
юз
я проснусь, и тогда уже вступит в права моя многолетняя
бессонница, такая закоренелая, что хочется сказать: много-
вековая.
Моя бессонница — зто обычное среди нервных людей не-
умение выключить сознание: бессонница как продолжение
дневной работы, но уже ночью и в уме (без бумаги и пера) и
в лежачем положении.
Устал. Запускаю свои записи, отстаю, не успеваю. Не хва-
тает «физической силы ума».
Изнашивается нервная ткань, а ведь это, кажется, един-
ственное, что в человеке не восстанавливается: сра-
стаются кости, приживается новая (даже чужая) кожа,
можно пересадить радужную оболочку глаза, снова раз-
вить ослабевшую мускулатуру, но клетки нервной ткани,
если она изношена, потрепана, восстановить или омоло-
дить нельзя. Это первое, что начинает стареть в чело-
веке и умирать.
Когда здесь, на войне, люди думают о своих близких, они
вспоминают хорошо знакомую им обстановку и те взаимоот-
ношения с окружавшими их людьми и со своими родными,
которые сложились уже давно, и, вспоминая, они думают,
что вернутся после войны именно в тот мир, который они
оставили, уходя на войну, за своею спиною. Нет, никогда,
никогда этого не будет! Мы не вернемся такими, какими
ушли, и не найдем того, что мы оставили. Все будет по-дру-
гому!
Саша Королев становится со мной все откровеннее. Мы
уже на «ты». Сегодня он спросил меня:
— Ты любишь блины?
— Люблю.
— Ну, раз ты такой лакомка, сходи к лыжникам в со-
рок четвертую бригаду. В батальоне Славнова стряпухой ра-
ботает слесарь из Ленинграда. Любопытный паренек, знаме-
нит в батальоне: может спечь блины на саперной лопатке.
В какие бы переделки ни попадали лыжники, всюду найдет
и накормит. Маленький, как воробышек, всюду пролезет.
И между прочим, сбил из пулемета немецкий самолет. А раз
пробился через немцев к своим лыжникам с автоматом,—
принес на горбе термос. Отвинтили крышку — пар как из
паровоза,— всех накормил горячими щами. Нет, кроме шу-
ток, Вячеслав, побывай у лыжников. Они тоже просятся в
103
историю: сражались под Москвой. Этот мальчик проклинает
поварешку — просил меня замолвить слово перед комбатом,
помог бы попасть на передовую. А комбат — ни в какую: «Не
пущу! Такой повар дороже пулеметчика!»
6 июня.
Куницын вызвал всех политработников к себе и прочитал
приказ Военного Совета: выселить из прифронтовой полосы
поголовно всех жителей. Причины: 1) избежать напрасных
жертв, 2) легче будет бороться со шпионажем и предатель-
ством.
Допускаю, что на ташем участке ожид ются чрезвычай-
ные события.
Второй день у нас в Коломне над Ловатью идет смотр ар-
мейской художественной самодеятельности. Надо отобрать
самых достойных: лучшие из лучших поедут на смотр фрон-
товой самодеятельности. Коблика и меня включили в жюри.
Сначала у нас возникла мысль: а не стыдно ли заниматься
этим на войне? Ложное чувство,— вскоре оно испарилось без
следа, словно его сдунуло ветром.
В этих песнях и плясках, в остроумных издевках над фа-
шистами есть что-то неповторимо своеобразное, возможное
только здесь, около передовой, когда идет Отечественная
война!
Бойцы, медсестры поют, играют, пляшут, тоскуют о лю-
бимых, о тех, кто далеко, вспоминают убитых проклинают
врага, клянутся отомстить, верят в победу и опять тоскуют о
любимых и верят в радостную встречу.
Что-то щемит душу. Радостно, горько и больно. Некото-
рые песни трогают до слез. Два номера не состоялись, потому
что накануне были убиты их исполнители. Хор разведчиков
поет о своем погибшем товарище-баянисте. Баянист теперь
новый, но играет он на том самом баяне, на планках которого
погибший разведчик выцарапывал счет захваченных им язы-
ков.
Здорово нас взбудоражила цыганская пляска. Ее испол-
няли в ярких, пестрых костюмах молодюсенькие санитарки,
почти девчонки, и такие же парни — бойцы, а среди них —
104
их главный заводила командир взвода бронемашин младший
лейтенант Гулин. Все комично загримированы под цыган.
Конечно, здесь был и бубен, и гитара, и баян, и кастаньетное
щелканье деревянными ложками. Смехотворная, заразитель-
но веселая смесь бесшабашной, дикой удали с едким окари-
катуриванием, пародией.
Гулин — талантливый режиссер. Разыграл он, каналья,
и меня,— да еще как! Но об этом после.
Перед самой войной Гулин кончил танковое училище, но
на фронт он попал как командир противотанковой пушки: по
его словам, не хватило танков. Он все время тосковал по
могучей машине.
Однажды Гулин явился к военкому бригады и сказал,
что в лесу под Торопцом своими глазами видел подбитые
немецкие танки и бронемашины. Командир дивизии по-
слал на разведку воентехника. Тот доложил, что танки
годятся только на утиль, а две бронемашины отремонтиро-
вать можно. Так Гулин оказался командиром взвода бро-
немашин— на каждой машине у него восемь человек эки-
пажа.
Подбирал людей Гулин придирчиво — искал себе сорат-
ников с огоньком. Однажды он стал свидетелем спора:
два бойца ругались из-за дележки мяса. Проезжавший
мимо них ездовой-татарин горестно покачал головой и при-
стыдил:
— Ай-я-яй! Завтра тебя убьет, сегодня меня убьет, а ты,
умный, дересся за кусочка мяса? Ай-я-йяй, какой ты умный!
На, возьми мое мясо!
Гулину татарин сразу понравился. Он расспросил о нем
у начхоза. Оказалось, ездовой томится от безделья, все
время просится на передний край. Гулин предложил та-
тарину:
— Хочешь ко мне на бронемашину?
Татарин едва не заплакал от радости. Гулин спро-
сил его:
— А почему тебе так хочется? Жить надоело или хочешь
получить орден?
— Зачем надоело жить? Кому надоело жить? Разве мож-
но надоело жить? В тылу надоело. Война нету, ничего не-
ту — сидим с лошадим и кушаем травку!
Из татарина получился прекрасный подносчик снарядов,
скоро он сможет заменить и наводчика.
105
Однажды, узнав, что нужен язык, Гулин попросил пу-
стить его. Он захватил с собой дымовую шашку и вырвался
на бронемашине к переднему краю. До немецкого дзота оста-
валось метров сто, семьдесят. Его обстреляли немцы. Гулин
поджег шашку, сунув ее под мотор, и симулировал пожар
бронемашины. Приоткрыв люк, он начал хлопать ко-
жаной курткой по мотору, делая вид, что пытается погасить
пожар. Немцы поверили и прекратили обстрел. Гулин
приказал одному из членов экипажа убежать из броне-
машины. Тот повиновался: спрыгнул на землю, упал и
пополз.
Немцы подумали, что только этот человек и спасся —
остальные сгорели в машине. Они попробовали осторожно к
ней подползти. Гулин подпустил их вплотную. Когда они под-
нялись во весь рост, Гулин приказал стрелять по ногам.
Немцы разбежались, но один из них упал. По команде
Гулина дверца отворилась, выскочил татарин, сгреб ра-
неного немца и втащил его в бронемашину. Язык был
захвачен прежде, чем немцы опомнились и возобновили
обстрел.
Татарин, к сожалению, перестарался: он стоял в машине
на раненом, упираясь в него коленом. Когда немца принесли
на КП, он смог сказать всего несколько слов и умер.
Гулин так хорошо рассказывал о своем взводе броне-
машин, что мне захотелось обязательно побывать у
него.
Начпоарма Куницын охотно подписал командировку. Он
улыбался, довольный тем, что я так увлечен сбором мате-
риала.
— Только не забывайте о докладах,— сказал он.— Ведь
вы не были в сорок седьмой бригаде? Сделайте, пожалуйста,
два-три доклада, — как раз вчера в бригаду пришло попол-
нение.
На полпути, в Речицах, я заночевал.
Я спал на чердаке сарайчика, занятого караульной
командой. В сарае дежурные жгли костер, спасаясь
от комаров. Ночь стояла тихая, и весь дым, как над жерт-
венником, поднимался вверх. А жертвой был я: на мне
все прокоптилось, и я то и дело просыпался от удушливого
кашля.
После четырех утра я уже не смог сомкнуть глаз и отпра-
вился в путь.
юв
Не дорога, а неверная, обманчивая жижа — болото, боло-
то, болото! Моросил мелкий дождь, а комары все-таки не
унимались.
Тотчас же за Речицами, уже в двухстах метрах, я набрал
в оба сапога густого торфяного настоя, хлебнув через края го-
ленищ. И тут же начал терять уверенность, что иду по вер-
ной дороге. На всякий случай я поставил на боевой взвод тро-
фейный автомат,— я почти всегда беру его с собой, если иду
в командировку. Этот автомат подарили Коблику, но автомат
начал у него уже ржаветь, и он отдал его мне.
Карты у меня не было, точного представления о рубеже я
не имел, но был уверен, что если я собьюсь с дороги — обя-
зательно наткнусь на наши патрули.
Сосновка, куда я шел, расположена в восьмистах метрах
от Залучья, а Залучье— это уже Демянский котел, оно в
руках немцев. Рубеж проходит между Сосновкой и За-
лучьем.
До сих пор не могу понять — почему меня не уложили на
открытой поляне немцы, почему не задержал никто из на-
ших? Уже взошло солнце. Поднимавшийся над поляною
туман был прозрачен, как жиденькое молочко,— он не мог
меня скрывать.
Оказалось, что старенький деревенский проселок повора-
чивает к Сосновке около самого Залучья, на виду у немцев,
и приводит в Сосновку совсем не с той стороны, с какой я
думал.
Гулин удивился, что я пришел один, и спросил, какой до-
рогой я прошел. Я показал рукой. Он засмеялся.
— Как же вы прошли по этой поляне, если у них си-
дит наблюдатель? Даже отсюда видать — смотрите на чер-
дак.
В самом деле, сквозь ветки орешника, под которым мы
сейчас стояли, совершенно ясно была видна голова немца на
фоне черного слухового окна. Издали немец казался больше-
головым, на нем была каска, покрытая зеленой маскировоч-
ной сеткой.
Я не стал спорить с Гулиным. Зачем доказывать, что я
свалял дурака? Или немецкий наблюдатель спал, когда я
шел по поляне, или у них как раз менялись посты.
Даю клятву самому себе и моему сыну: ничего подобного
больше со мной не повторится!
Мы с Гулиным просидели в бронемашине больше часа,
я исписал немало страниц в своей тетрадочке.
107
Первое ощущение, когда я забрался под броню, была сле-
пота, а на ходу, при работе мотора на полную мощность, оче-
видно, была бы и глухота. Сидишь в бронемашине, как
замурованный,— очень плохо видно через смотровую
щель.
— Какие вы хотели бы внести изменения в конструкцию
машины? — спросил я Гулина, словно был представитель от
завода и мог что-то сделать.
— Лучше видимость! Ну и потолще броню, особенно с
боков.
Все у нас с Гулиным шло хорошо. Я узнал о технике вож-
дения бронемашин и о ведении огня. Но вот Гулину захоте-
лось блеснуть еще одной изящной новеллой, и он сразу же
все разрушил. Однажды, видите ли, ему нужна была фо-
токарточка для партбилета. Фотограф навел на него аппарат,
Гулин снял пилотку и начал поправлять прическу,— он
хотел, чтобы «карточка получилась красивая». В этот мо-
мент выстрелил немецкий снайпер. Пуля сдернула на го-
лове у Гулина только кожу и сделала замечательный
пробор.
После этого рассказа Гулина мне вдруг стало душно в
бронемашине и нестерпимо стыдно. Неужели у меня на лбу
написано, что я дурак и меня можно так легко водить за нос?
Ведь не расскажи мне Гулин, как он взял в плен немца с
помощью бронемашины, я даже и не пошел бы в эту
бригаду...
Начальник Политотдела Лукин расхохотался, когда
узнал, чем я так расстроен.
— Вы думаете, первый попались на эту удочку? —ска-
зал он.— Вы еще дешево отделались. Корреспондент «Изве-
стий» слушал его и записывал три дня подряд. А когда узнал,
с кем имеет дело, чуть не застрелил Гулина, а потом оба на-
пились и всю ночь напролет у них в землянке шла цыган-
ская пляска.
— Как же можно доверять такому командиру бронема-
шину? — спросил я.
— Это вы зря! — сказал Лукин.— Машины у него в об-
разцовом порядке. Гулин, между прочим, обожает дисцип-
лину: экипажи работают у него отлично. Вообще это боевой
и очень храбрый парень. Но странный человек: вот он на-
брешет вам сорок бочек арестантов, а ведь он на самом деле
совершал подвиги! Об этом молчит. Вы спросите его, за что
108
он представлен к ордену. Спросите, как он спас командира
бригады.
Нет, интерес к Гулину у меня не пропал. Я решил во что
бы то ни стало подобрать к нему ключи. Разве это неинтере-
сно— вникнуть в механизм его вранья и докопаться до са-
мого донышка.
Однако я уже нигде не мог найти Гулина. Он избегал меня.
Дело в том, что он попался на глаза Лукину прежде, чем я
пошел его искать. Не знаю, что внушал ему Лукин, но для
меня этот человек уже потерян.
10 июня. Деревня Шутовка.
Вовремя я вернулся к себе в отделение. Штаб меняет ди-
слокацию. Отходим.
Мы покинули Коломну на заре. В пути то и дело обгоняли
обозы и пешеходов с узлами. Тащат на поводу коров и коз;
кое-кто гонит поросят. Какая-то бабушка приладила себе за
спину, как рюкзак, самовар. В одной руке у нее посошок,
другой держит за лапку внучку.
Наши отходящие части дотла выжигают деревни. Раз уж
приходится отойти, то не оставим немцам ни одной соло-
минки.
Мы отходим на правый берег Ловати. Здесь и пройдет
оборона: уже роют блиндажи, дзоты.
Мы отходим, потому что надо сократить коммуникации
по тяжелым болотным дорогам, быть ближе к базам снаб-
жения. Нельзя, чтобы малейший дождь сказывался на снаб-
жении. Люди изголодались, боеприпасов тоже не хватает; на
орудие — три снаряда в день, и те приходится многие кило-
метры нести на руках. Дороги — наш бич. Саперы гатят тря-
сины, укладывают на дорогу бревна, но все это пляшет и рас-
ползается под тяжелыми машинами. Даже исправная дорога,
вымощенная бревнами, все-таки узка и сильно замед-
ляет движение, вынуждает делать разъезды и подолгу
стоять.
Отход явно улучшит положение Ударной армии: наладим
снабжение, связь с левым соседом станет прочнее, и мы на-
конец получим возможность глубокого эшелонирования с
выводом части сил в резерв.
Наша база — Осташков. Холм опять в руках немцев. Мы
отходим ближе к Осташкову. От Осташкова до Марева будет
проложена узкоколейка.
109
Армия переходит к обороне. Перед линией обороны, на
левом берегу Ловати, создается предполье, задача которого —
изматывать немцев. Мосты уничтожаются, настил на дорогах
саперы сносят в кучи и сжигают. Ставят минные поля, «сюр-
призы», оставляют ложные надписи: «Мины». Иногда,
чтобы спутать картину, под этими надписями ставят
мины.
Отход проходит успешно. Удалось сбить немцев с толку:
днем пополнение шло на виду у немцев к передовой, а ночью
основные силы переправлялись на правый берег.
Увидев пылающие деревни, немцы поняли, что их обма-
нули, но было уже поздно. Они кинулись за нами и на-
чали подрываться на минах и гибнуть под огнем загра-
дительных отрядов, которые засели в засадах. Теперь
они идут следом за нами еле-еле, а кое-где и вовсе остано-
вились.
Часть населения не хочет уходить. Трагедия. Куда идти?
Что можно захватить с собою по таким безнадежным доро-
гам? Как бросить огород, где в борозду заложена послед-
няя картошка? Куда девать домашний скарб? А на по-
лях—прекрасные всходы — озимые и яровые.
Кое-что из домашнего скарба зарыли в землю, а многое
бросили просто в избах — надеются, что скоро вернутся. Не-
которых выручает «беда» — повозка на двух колесах.
Тюленев, инструктор восьмого отделения (по работе с
местными жителями и партизанами), рассказал такой
случай.
Деревню вот-вот зажгут. Вдруг появляется мальчик лет
четырнадцати с двумя маленькими сестренками и с брати-
шкой:
— Дяденька, как бы мне уехать?
— Где же ты был раньше? Все уехали — теперь не
на чем.
— Я маму только что закопал, она болела — умерла. По-
могите нам уехать. Я не хочу к немцам!
— Как же ты с маленькими уедешь—лошадей нет.
— Лошади-то есть, лошадей много.
— Где?
— В болоте.
В лесу, в болоте оказалось несколько десятков коров, коз,
лошадей. Тюленев нашел повозку, запряг в нее лошадь, при-
ио
вязал сзади козу и все это отдал сироте с его сестрами и
братишкой. Мальчик стегнул по лошади и поехал прочь, изу-
веченный горем и ошеломленный удачей.
Тюленев со своими помощниками выгнал стадо из села и
сдал его в Коломне в АХО.
Двух увязших в болоте коров пристрелил, указал это
место одной из рот, и бойцы забрали мясо. Сам Тюленев за-
стрелил курицу, кем-то забытую во дворе, и зажарил ее в
пустой избе.
Во многих подразделениях появились коровы и козы —
бойцы пьют молоко. Это тоже скот из леса, спрятанный
оставшимися.
Рубельников тоже был в числе тех, кому приказано сле-
дить за тем, чтобы ничего не попало в руки немцев. Около
Редьи он услыхал мычание коровы из-под земли. Оказалось,
что целая семья вместе с коровою спряталась в старом блин-
даже, вырытом в откосе высокого берега. Соседи по их прось-
бе, перед тем как уйти, засыпали снаружи вход в блиндаж,
оставили только небольшую дыру для воздуха.
Рубельников приказал саперам откопать вход.
15 июня. Шутовка.
Я потерял несколько листков, где у меня были записа-
ны солдатские словечки, которых нигде больше не услы-
шишь. Жаль. Из этого закрома можно было бы брать,
когда надо, отдельные зернышки и для рассказов и для
повести.
Теперь буду умнее — все, что относится к языку, к живой
речи, буду записывать в эту же тетрадь — авось не пропа-
дет.
Язык:
«Пей горчее, ешь солонее—умрешь, не сгниешь!»
Двое получают в АХО обмундирование:
— Велика гимнастерка!
— Ничего — после первого дождя сядет.
— Попадешь под свинцовый дождь — и вовсе может
лечь!
Вернулись из немецкого тыла наши разведчики. Они при-
несли горькие вести: на пепелище сожженных деревень
немцы уже расстреляли несколько местных жителей, из тех.
in
что попрятались в лесах и болотах, чтобы остаться у
немцев.
Ходил в лыжный батальон 44-й бригады. Лежневка изма-
тывает, когда дело идет о двух-трех десятках километрах
пути. Бревна пружинят под ногами, и кажется, что тебя кто-
то торопит, грубо толкает снизу в пятки. Не совсем удачно
ходил: не смог пополнить материал о битве под Москвой.
Блинов тоже не ел — в батальоне вышла вся мука, хрустят
сухарями.
Попытался помочь повару, о котором мне рассказывал
Саша Королев. Тоже неудачно. Желая блеснуть своею осве-
домленностью перед инструктором Политотдела бригады по-
литруком Царевым, я заговорил о блинах и о лопатке. Потом
прямо спросил Царева: почему бы не отпустить Чистякова
вперед, а поварешку передать какому-нибудь старику? Ца-
рев ответил мне фразой комбата, ее я уже слышал от Саши
Королева: «Такой повар дороже пулеметчика».
Встретился я, конечно, и с самим поваром. Неужели он
убивал немцев? Похож на голубиного птенца — только что не
воркует: тихий, почти нежный; цвет лица вполне подходил
бы для девушки, но на лбу вьется штопором непокорный
чубчик и по-озорному торчат белокурые вихорчики на ви-
сках. Задорно вздернут небольшой нос. Про таких ребят
обычно говорят: курносый. В лыжбате все зовут его просто
Федей. Иногда для солидности он берет в рот папиросу, но
курить не умеет: попыхивает без затяжки, отгоняет комаров.
Со сверстниками он, должно быть, смешливый, юркий, озор-
ной.
— Где вы учились поварскому искусству? — спросил я
его.
Федя рассмеялся.
— У матери. У нас в Сестрорецке большая семья. Отец
все время на заводе — он оружейник. Мать — фрезеровщица
на том же заводе. Кроме меня еще пять ртов — пять сестре-
нок. Кому-то надо было готовить обед. Я с малых лет помогал
матери стряпать. Мне бы молчать об этом, да не хватило со-
вести: жаль стало товарищей. Под Москвой наш повар насту-
пил на мину,— весь батальон лег спать голодный. Утром я
не стерпел, стал к котлу. Я думал, день, от силы два пошу-
рую черпаком. А видите, что получилось? Понравилась моя
стряпня, а готовить чтобы тяп-ляп — совесть не позволяет.
Но теперь — амба! Лучше пойду в штрафную роту — там
сразу пошлют на передок.
112
Попросил он и меня замолвить перед комбатом словечко,
сказал:
— Я уже подготовил себе смену, обучил старичка.
Я его огорчил:
— Ничего, Федя, не выйдет.
— Выйдет, товарищ капитан! Вот соберу, кончу пулемет,
и у комбата не хватит совести держать меня в поварах. Пой-
ду на передок с персональным оружием.
В самом деле, Чистяков почти уже полностью собрал пу-
лемет. Ствол и тело пулемета он сам нашел на поле боя,
кое-что дали в оружейной мастерской, а кожух и остальные
детали раздобыли приятели.
«Максим» стоит под сосной. На нижних ее ветках, над
топчаном с тисками, Федя натянул рваную плащ-палатку,
здесь же, под рукой, держит в железном ящичке и все ин-
струменты.
Комбат Славнов отворачивается от этой сосны, если про-
ходит мимо,— делает вид, что ничего не замечает.
— У меня отец оружейник и мать оружейница,— сказал
Федя.— С малых лет я ползал по сестрорецкому полигону,
подбирал с ребятами стреляные гильзы. Пулеметная музыка
мне знакома еще по мирному времени. Дружки отца давали
пострелять по мишени. Отец у меня командовал партизан-
ским отрядом в гражданскую. Неужели же вы думаете, что
я понесу поварешку до самого Берлина?
От возбуждения Федя даже похорошел: тихий голубь на
моих глазах стал превращаться в орленка. Руки у него слегка
дрожали, когда он засовывал папиросу в рот.
Досадно, что я не застал комбата. Зачем, в самом деле,
держать этого парнишку на цепи возле походной кухни?
Ведь он тоже своего рода поэт.
16 июня.
Событие огромного исторического значения:
12 июня подписан «Договор между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Соединенным Королевством
Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Герма-
нии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаим-
ной помощи после войны».
А 13-го подписано соглашение с Америкой. В «Правде»
очень крупным шрифтом напечатано: «Подписание соглаше-
ния между Советским Союзом и Соединенными Штатами
ИЗ
Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в
ведении войны против агрессии».
Мы все взбудоражены. Ведь не было еще ни одной коман-
дировки, когда бы нам не задавали одного и того же вопро-
са: «Когда же наконец будет второй фронт?»
Теперь у нас есть телеграмма, которую Молотов, побы-
вавший в Лондоне и Вашингтоне, отправил президенту Руз-
вельту:
«Возвращаясь на родину, я позволю себе еще раз выра-
зить Вам, Господин Президент, свое большое удовлетворение
личной встречей с Вами и той полной договоренностью, кото-
рая была достигнута в отношении неотложных задач по со-
зданию второго фронта в Европе в 1942 году для ускорения
разгрома гитлеровской Германии...»
Надо, чтобы каждый боец и командир узнал об этом как
можно скорее. Завтра двенадцать человек из Политотдела
армии отправляются с докладами в дивизии и бригады.
По дороге в часть мне надо пробираться через страшное
болото «Десятинный мох». Вот где настоящая-то журавлиная
родина!
Я пошел этим путем один не ради экзотики. Если объез-
жать болото на машине, надо шестьдесят пять километров
подпрыгивать в кузове по бревенчатому настилу. Такой ба-
лет не для моего желчного пузыря. Приходится идти напря-
мик двадцать семь километров. А там уже до Марева пу-
стяк — девять километров попутной машиной.
Раньше я знал только по книгам, что существуют болота
со знаменитыми коварными «окнами». Идешь, идешь по та-
кому болоту, под тобой прогибается зыбкий травянисто-мо-
ховой покров, а под ним — бездна. Вдруг покров прорывает-
ся — конец! — провал в «окно», спасения нет!
Вот такою зыбью и начинается «Десятинный мох». По-
кров на нем изумительно яркого, сочного изумрудного цве-
та и похож на старательно подстриженный газон. Но это —
мох, густо прошитый и туго переплетенный травяными кор-
нями.
Едва я шагнул по этому мху, меня сразу же охватило от-
вратительное чувство страха. Все подо мной закачалось, и
почва начала уходить из-под ног. Я тотчас же побежал, боясь
остановиться хоть на мгновение. Вместе со мной по мху под
114
тяжестью моего тела шла зеленая волна. Все дышало, чмяка-
ло хлюпало под моими сапогами. Я уже хотел плюхнуться
на мокрый мох плашмя, но заметил телефонный провод, под-
вешенный к шестам. Это сразу меня успокоило: значит, все-
таки люди здесь проходили. Правда, связисты могли поль-
зоваться лыжами — это на нашем болотном фронте иногда
бывает даже летом. Но страх у меня исчез.
Метров через полтораста зыбь заканчивалась, и там стоял
небольшой помост, сколоченный из двух досок. Дальше шла
прямая, как бечева, водяная тропка, похожая на щель в мо-
ховом покрове. Казалось, что помост сделан тут для того,
чтобы человек мог постоять на нем и как следует подумать:
хватит ли у него смелости идти дальше. Потом думать будет
поздно.
От этого помоста начинается переход через основное бо-
лото шириною в километр с четвертью. Вглядевшись в тем-
ную, как хлебный квас, торфяную воду, я заметил на полу-
метровой глубине два бревнышка, сбитые вместе. Они лежат
рядом на поперечном упоре, уходящем глубоко в воду. Вот
по таким бревнышкам, которые затопила вода из-за дождли-
вого лета, и надо идти километр с четвертью. Бревна видны
только в спокойной воде. Но когда идешь, буровишь воду са-
погами— сам черт ничего не увидит: можно идти, только
щупая бревно скользкими подметками.
Я думал, что там, где кончится одна пара бревен, впритык
к ней начинается другая пара. Ничего подобного: между брев-
нами — разрыв, промежуток. На первом же таком разрыве я
сорвался и не достал дна. Хорошо, что я успел ухвати-
ться за бревна и повис на них. Моя полевая сумка вместе
с этой тетрадью всплыла над водой, как пузырь. Я до
самых плеч был облеплен длинными волокнами мха-плы-
вуна. Когда я разулся, то нашел мох даже в складках пор-
тянок.
И все-таки в этом путешествии была своя незабываемая
прелесть. Болото покрыто пухлыми, как плюшевые поду-
шечки, кочками. Их увивают стебли клюквы с изящными
миниатюрными листочками, которые симметрично насажены
на стебель, тонкий как нитка. Кое-где по болоту расставлены
чахлые сосенки высотою под потолок избы, называемые
«седухи». Они обросли белесыми космами мха и лишайни-
ками.
Пасмурно. В разных концах болота трубно, удивительно
119
мелодично перекликаются журавли. Ничего похожего в
своей жизни я еще не видел. Настоящая журавлиная ро-
дина.
За Грехневом, на сухой дороге, я встретил в лесу древнего
старика (потом я узнал, что ему 92 года); он быстро-быстро
перебирал лаптями тропу. Высоченный, худой, ноги тонкие,
до самых колен спеленаты белыми онучами, по икрам туго
обкручены ремешками — «оборами» от лаптей.
Старик торопился в Шутовку. Спросил, можно ли сухо
пройти по бревнам через «Десятинный мох», и приуныл, ког-
да я сказал, что там может пройти только Иисус Христос,
который ходил по морю, «как по суху».
Старик, по его словам, шел в Шутовку добывать себе
ружье. Когда здесь были немцы, успели отобрать охотничьи
ружья у местного населения.
— А без ружья,— сказал старик,— я не способен себя
оправдать. Без ружья — мне гроб с барабаном! А с ружьем
я могу прокормить всю деревню. Звери сами меня ищут:
лоси подходят аж к поскотине; адресат медведя мне тоже
известен. Энтот барин от меня не хоронится. Медведя я ни-
когда не едал — медведя я бью для ради собак: мясо посолю,
зарою в земь и потихоньку скармливаю. А лосину уважаю,—
стюдень от лося до того крепок — нож не берет. А главное, от
свинины быват отрыжка, от лося — никогда.
— Дети есть? — спросил я.
— Расторговался,— ответил старик,—которого женил, ко-
торую отдал замуж. Теперь я вольная птица. Старший сын
у меня — орел: под всеми парусами плавает в окияне. Млад-
ший тоже не промахнулся: приватный доцент по глазным бо-
лезням, даже может очки прописывать. Есть у меня дети, ко-
торые учителя. Дочь Мария способна изобразить ваш порт-
рет, как на фотографии. Ни одного пьяницы — все прилеж-
ные слуги государства, все умные работники. У дочерей тоже
все в полном порядке: народили ребят — дай бог каждому,
я уже качаю правнуков. Свой урок я сделал — будя! Могу
остатние дни догулять на вольном воздухе. Кабы мне возвер-
нуть ружье, я вполне себя оправдаю. А если опять придут
немцы — уйду к партизанам.
Старик задумался, пристально глядя в лесную густель
своими еще ярко-голубыми глазами, которые поблескивали
от старческой слезы, как стеклышки. Глаза резко выделя-
лись еще и оттого, что кожа лица от многолетия стала как
116
бы дубленой, похожей на пергаментный переплет от редкост-
ной книги. Чего бы я только не дал — позволь мне старик
прочитать эту книгу! Но он торопился.
— Плевать! — неожиданно сказал он.— На озере Жо-
тор у Ваньки Сметанина в кустах спрятанная душегубка.
А из Жотора есть переузочек в «Десятинный мох». Го-
воришь, шел по колено? Душегубка даже не чиркнет.
Обратно — таким же походом. Ружьем я раздобудусь — это
точно!
И старик засеменил лапотками по хорошо утоптанной
тропинке. Шел он не горбясь, а даже наоборот — не-
сколько откинувшись назад, словно боялся споткнуться и
упасть.
Закончив в Мареве свою работу, сделав в частях несколь-
ко докладов и ответов на кучу вопросов, я возвратился в Шу-
товку. Однако я не решился повторить «хождение по водам»
через «Десятинный мох». Пришлось-таки мне трястись на
попутных машинах по бревнам настила. Хорошо еще, что
ехали медленно,— на узкой дороге мешал встречный поток
машин и местных жителей, которых выселили из деревень.
Опять попалась мне та же самая старушка с самоваром за
спиной вместо вещевого мешка. За все эти дни она успела
дойти от Коломны только до Суханова. Но свою крошечную
внучку она сумела пристроить на чью-то «беду» — девочка
сидела в повозке поверх огромного узла. Что есть сил вце-
пившись ручонками в этот узел, она непрерывно мотала
светловолосой головенкой, как бы считала каждое бревно, на
котором подпрыгивали оба колеса «беды».
20 июня.
В седьмом отделении слушали по радио немецкие переда-
чи, больше всего музыку.
Старший инструктор Вагнер показал нам снимки, выну-
тые из кармана убитого ефрейтора. На одном засняты голы-
ми брошенные на землю замученные люди. Трупики детей.
На другом — старики — местечковые евреи — сидят на ска-
меечке; какой-то подлец — молодой еврей в кожаном паль-
то, чтобы угодить фотографировавшему стариков немцу, дер-
жит одного из них за пейсы. Еще снимок: наш летчик в фет-
117
ровых бурках с отворотами. Он сидит на кушетке, лицо за-
крыл обеими руками; он еще дышит, но это уже труп — вся
поза говорит о том, что этот человек уже погиб.
21 июня.
Дожди, непрерывные дожди. Болото, лес и дожди.
Ходил на Ловать к истребителю танков Харченко. Хочу
понять внутренние импульсы, психологическую основу ге-
роизма. Все хотят жить. Что удерживает бойца на переднем
крае в минуты смертельной опасности?
Коблик вчера сказал: «Если бы писателю удалось пока-
зать внутренние пружины героизма, раскрыть до конца его
психологию — это было бы равносильно величайшему науч-
ному открытию».
Деревянная прусская формула Фридриха Великого: «Сол-
дат должен палки капрала бояться больше, чем смерти» —
к нам не имеет никакого отношения.
Так вот Харченко.
Он мне сказал: «Товарищ старший политрук, мне всегда
удавалось то, к чему я стремился».
Я спросил: «А что бы вы хотели после войны?» Он заду-
мался. «Хотел бы увидеть Сталина, Молотова, Ворошилова,
наших маршалов. Поехать домой, отдохнуть и начать рабо-
тать. Хотел бы работать военкомом. Я знаю это дело, знаю у
себя военкомат». И добавил: «Признаюсь вам еще в одном
желании: хочу быть героем. Или погибну, или — героем!
Другого выхода, я считаю, мне нет».
В детстве он любил разводить цветы, за это дразнили де-
вушкой.
Со своим расчетом Харченко истребил пять танков из
ПТР. Его товарищи, увидев первое чудовище, которое шло
на них, хотели открыть огонь. Харченко удержал их, чтобы
подпустить танки ближе и ударить вернее. Вдруг видит, что
танк идет с красным флажком. Напарник Епанчинцев обра-
довался:
— Наш!
— Не шевелись! — крикнул на него Харченко.— Замри—
это провокация, это фашисты!
Танк шел в одиночку, снижая скорость. Харченко дал ему
пройти метров на пятьдесят в тыл к себе. Все замерли. Танк
ня
остановился, из люка вылез человек в белом халате с крас-
ной звездой на груди.
Епанчинцев опять сказал:
— Наш!
Харченко ответил:
— Провокация! Ульянов, ударь его прямо в звезду!
Ульянов выстрелил из винтовки. Фашист упал головой
под гусеницу. Епанчинцев пробил танк из ПТР и зажег его.
Так же близко подпустили еще четыре танка и подбили их.
Шестой долго поджидали, но еще издали он развернулся и
удрал.
Никакого страха в схватке с танками Харченко не испы-
тывал. Одна мысль владела им: «Никто за нас этого не сдела-
ет. Другого выхода нет. Мы должны лежать, ждать танки и
истребить их. Это спасет нас и пехоту».
Ждали подхода танков весело: грызли сухари, шутили.
И все это под бомбежкой с воздуха.
Харченко приказали отойти, чтобы не попасть в окруже-
ние. Из-за того, что расчет Харченко уничтожил танки, отой-
ти удалось в полном порядке. А расчет других ружей про-
пал без вести,— вероятно, забился в блиндаж и достался
немцам.
Уже потом стало страшно, когда Харченко восстановил в
памяти картину боя,— он ужаснулся, изумился: как это он
остался в живых.
Много он рассказывал мне о детстве. Отец бил, не пускал
в школу, прятал одежду, отбирал учебники. Харченко это не
сломило—школу он окончил. С таким же упорством до-
бивался своего—стал трактористом. Начал с того, что
тракторист позволил ему обтирать тряпкой мотор трак-
тора. Тракторист был большой бабник — по ночам ис-
чезал. Харченко этим пользовался и потихоньку изучал
трактор.
Дождь.
Возвращаясь с Ловати, я прошел двадцать километров.
Вымок насквозь. Шел без отдыха, иначе остыл бы, просту-
дился. Никогда в жизни не делал за один прием таких пере-
ходов. Когда я вернулся, в избе Тележников делал доклад.
11»
Я так промок и замерз, что начал переодеваться в уголке
при народе. Постепенно, частями раздевался догола и все
сменил. Сжал нижнюю рубашку в кулак — на пол потекла
вода...
Дождь, дождь, дождь...
Сегодня остались без завтрака. У меня сохранились два
сухаря и кусочек сахара,— мои дела не так уж плохи.
Говорят, что АХО организует в Шутовке столовую и бу-
дет кормить обедом и ужином.
Саша Королев рассказал мне такой случай.
Весь пулеметный расчет был перебит. Остался один пер-
вый номер. Никто не подозревал, что в таком бою он мог
остаться невредимым, и его не отозвали.
Бойцы были очень истощены еще до боя. Забытый пуле-
метчик лежал без всякой еды. День без еды, другой... А он
лежит у пулемета; раз нет приказа отходить — должен ле-
жать.
Когда наши части потеснили немцев, по линии обороны
прошел командир роты с комиссаром. Увидев пулеметчика —
одного среди трупов, командир роты спросил:
— Что ты здесь делаешь?
Обессилевший пулеметчик пробормотал что-то не-
внятное.
— Встать! С тобой разговаривает командир!
Пулеметчик поднялся на колени, но пошатнулся от сла-
бости и упал.
Комиссар понял, в чем дело, помог пулеметчику поднять-
ся и спросил его:
— Что же ты один мог здесь сделать?
Пулеметчик ответил:
— Как — что? У меня ведь еще семь лент осталось не-
тронутых.
22 июня.
Годовщина войны. Севастополь накануне падения. Тоб-
рук в Ливии пал.
Дожди, дожди, дожди... На дорогах всплыл бревенчатый
настил. Мы третий день сидим без крупицы соли и сахара.
Будет и того хуже.
120
В Шутовке я устроился неплохо. Мой письменный стол —
опрокинутая кверху дном бочка, кабинет — чердак, здесь же
и спальня на громадном ворохе мягкого трепаного льна-дол-
гунца. Чтобы не высасывали комары, я устроил себе ма-
ленький полог для головы — конус из марли, распяленный
на обруче и за хвост подвязанный к стропилу крыши. Разве
это приволье можно сравнить с душной избой, где целый
день толчея и от самокруток дым коромыслом? Мне здесь
хорошо! В открытую дверь вместе со сквозняком влетают и
вылетают ласточки.
Эту тетрадь надо доставить в Политот-
дел армии, чтобы она была доставлена
в Военную комиссию Союза писателей:
Москва, ул. Воровского, 52, а потом —
моей семье.
В. Ковалевский
25 июня.
Солнце! Зыбкие, прозрачные хлеба, еле-еле шевелятся си-
реневатые с пепельным налетом колосья. Тихая, безлюд-
ная дорога. Младенческие всходы овса. А рожь уже в мой
рост!
Дорога ведет к древнему кладбищу. Это островок во ржи,
возле самой Шутовки. Ветки огромных сосен переплелись,
прикрыли могилы сплошным куполом хвои. Она глухо поет
при малейшем прикосновении ветра. Стоят обомшелые рус-
ские кресты, и среди них старинные, с резьбою по дереву
такого высокого мастерства, что их стоило бы перенести в
музей.
Жаворонки в поле. Войны не слышно,— немцы, напоров-
122
шись на мины, не торопятся занимать оставленные нами пе-
пелища.
Вечером гуляли с Кобликом по дороге к кладбищу.
Был чудесный вечер, но Коблик ни разу не поднял голо-
вы, смотрел себе под ноги и ничего не видел — ни ржи, ни за-
ката, ни древней рощи кладбища с оградой вокруг него, сло-
женной из толстых бревен без единого гвоздя: концы бревен
переплелись друг с другом, как пальцы рук.
На днях Коблик поднялся после обеда ко мне на чердак.
Я расшевелил его, заставил рассказать о детстве.
Мать — акушерка. Принимала иногда на дому. Коблик в
ту пору уже многое узнал от ребят, с родами у него связыва-
лось представление о тайном, стыдном, запретном. Малень-
кому Коблику казалось, что мать не должна бы иметь к это-
му отношения.
Жил он в Одессе. Улица, порт, блатная компания, культ
моряков, преклонение перед ними. Ребята, товарищи — все
ниже по развитию. Любили Коблика. Им нравилось, что он
много знает, начитанный, но доступный, не показывает свое-
го превосходства.
Учился с трудом, но по русскому и по истории — отлично.
Кончил школу тринадцати лет; потом — профтехническая
школа. Бросил ее, потому что не любил технику. Два года
бездельничал. Поступил на завод, работал подручным у ли-
тейного мастера. Лепил стержни из глины для отжига форм.
Получалось плохо — мастер ругал.
Поступил в технологический институт. Сразу же увлекся
диаматом, прикрепился к кафедре диамата. Начал препода-
вать диамат в институтах. Добился приема в ИФЛИ в Моск-
ве. Стал кандидатом философских наук.
Он считает, что жизнь для него началась в семнадцать
лет (встреча с любимой девушкой). Все, что было в его жиз-
ни до этого события, он вспоминает как что-то смутное, «до-
алювиальное, доисторическое». Радостей в детстве не помнит.
Жизнь с семнадцати лет. (Все это я вытянул из него почти
насильно.) О самой девушке — ни звука.
25 июня.
В нашей Шутовке военторг организовал-таки столовую.
Все наладилось: обедаем с сухариками, чай пьем с вареньем.
Агитатор Саша Королев сказал: «Варенье или сахар — все
129
равно это не влияет на загробную жизнь». Вчера даже давали
красное вино, но мы с Кобликом наслаждались баней и про-
зевали: неопытная подавальщица просчиталась, и мы оста-
лись без вина.
Шайка в бане была только одна — я уступил ее Коблику,
а сам мылся из немецкой каски.
Ночью разбудил меня Коблик:
— Товарищ Ковалевский, товарищ Ковалевский, у меня
что-то прыгает в ухе! Я решил обратиться к вам. Понимаете,
что-то скачет в ухе!
Сообразив, что происходит, я говорю ему:
— Надо налить в ухо теплой воды или масла, лучше
масла.
— Прыгает, стучит там!
— Это блоха. У вас есть ложка?
— Нет.
Я приподнимаюсь. Рядом стоят мои сапоги, из левого до-
стаю свою алюминиевую ложку. Прошу Коблика:
— Принесите воды.
Он приносит из сеней, зачерпнув там кружкой из ведра.
Я наливаю в ложку и держу ее на ладони, чтобы хоть немно-
го согреть. Коблик ложится, я становлюсь около него на ко-
лени. Несколько капель попадает на раковину его уха, он
вскакивает.
— Что вы делаете, вы же меня облили!
Я молчу. Молчит и он, потом снова укладывается. Я вы-
ливаю воду теперь уже в самое ухо. Коблик опять приподни-
мается на койке и упрекает:
— Вы же меня оглушили!
Успокаиваю его:
— Ну конечно, вы минут пять будете хуже слышать, по-
ка не выльется из уха вода.
Коблик опять укладывается и до конца терпит всю про-
цедуру. Белая ночь. В избе так светло, что я даже вижу, как
в глубине уха всплывает пузырек воздуха; выливаю до кон-
ца все из ложки, и минут через десять Коблик уже посапы-
вает носом, как ребенок.
Вчера под вечер, когда я отдыхал на кипах льна на черда-
ке, Коблик поднялся по стремянке и позвал меня пройтись в
Озерки( его вызвал Куницын).
Когда шли в Озерки, неприятно звякала в такт нашим ша-
124
гам крышка полевой сумки Коблика — у нее оторвалась за-
стежка-ремешок. Я попросил его что-нибудь сделать, чтобы
избавиться от навязчивого звука.
Коблик решил заменить ремешок каким-нибудь
прутиком-затычкой. Он нагнулся к придорожной канаве
и схватил рукой крапиву. Тотчас отдернул руку и уди-
вился:
— Так ведь это же обжигает!
— Это крапива.
— Не может быть! — Он еще раз попробовал дотронуть-
ся до нее и опять обжегся.
Я срезал березовую веточку и сделал на его сумку
затычку.
Когда мы возвращались из Озерков, каждая лужа, каж-
дая впадина на дороге и каждая полянка в лесу дымились
испариной.
— Это, кажется, называется туман? — спросил
Коблик.
Вскоре, вдобавок к туману, среди деревьев редкого леса
задымили красноармейские костры.
— Почему же дым не идет вверх, а остается на земле? —-
спросил Коблик.
— А что такое дым?
— Это несгоревшие мельчайшие остатки вещества, ма-
терии.
— Ну так вот, они отсырели в тумане^ пропитались
влагой, стали тяжелее воздуха и не могут подниматься
вверх.
Коблик почему-то расхохотался, как счастливый ребенок,
глаза его засверкали.
— Пожалуй, вы совершенно правы!
Туман и дым стлались по мокрой от росы траве, их под-
свечивала долго не затухавшая заря. Воспаленное пламя
костров, босые, осклизающиеся в грязи бойцы с ботинками и
обмотками под мышкой и мы сами, бредущие по колено в
воде,— все казалось сквозь этот туман призрачным, мрею-
щим, нереальным, готовым исчезнуть при первом же дуно-
вении ветра.
В Шутовку мы вернулись зверски голодные. Ужинали
воблой и сухарем. Изголодавшись, все мы старались обсо-
сать каждую косточку. А Коблик выгрыз что-то внутри жал-
кой рыбешки, а самое ценное — нетронутую тушку — бросил
на стол.
125
Ужинавший рядом с нами киномеханик спросил его.
— Что же вы не едите рыбу?
— Я уже съел,— ответил Коблик.
Мы с киномехаником беззвучно засмеялись. Коблик ска-
зал:
— Я съел, не знаю, что можно еще в ней есть.
Киномеханик взял со стола его воблу и с наслаждением
съел. Коблик смотрел на него почти с ужасом, ему было
стыдно за киномеханика, словно тот вытащил что-то из по-
мойки и смакует.
Белая ночь. Мы опять гуляли с Кобликом во ржи, мимо
кладбища.
Вечером у нас в отделении завели патефон. Среди слуша-
телей была и родственница нашей молодой хозяйки, восем-
надцатилетняя Рипа (Агриппина), золотоволосое яркое су-
щество, похожая на осязаемо-земных, как зрелые плоды, де-
вушек Тициана. Прослушав две-три пластинки, Рипа взяла
на кухне, где она спит вместе с хозяйкой, свой полушалок
и ушла с Рубельниковым на улицу.
Вот это-то своеобразное, живое создание с прекрасной
плотью и было причиной резкой тоски Коблика; оно возбу-
дило глубоко загнанные им вовнутрь неукротимые токи,
одним только видом своим напомнило Коблику, что он
одинок.
Половина второго. Белая ночь. В воздухе так сыро, что
казалось — возьми его в горсть, сожми кулак, и начнет ка-
пать... Но видимость хорошая. Во всяком случае, видно, что
одного полушалка хватает на двоих.
Спящая рожь — ни один колосок не шевелит усиками, ни-
чего не шепчет.
Луна при такой светлой ночи не имеет никакого самостоя-
тельного значения; она висит около самого горизонта, как тя-
желая, золотая капля,— кажется, что видишь, каких огром-
ных усилий стоит ей не сорваться и не упасть.
Неожиданный для такого позднего часа гулкий крик ку-
кушки. Километра за два от Шутовки ей отозвалась другая.
А когда мы проходили мимо крестов кладбища, в гуще сосен
вдруг раздался тревожный, резкий голосок какой-то птицы,
напоминающий плач девочки.
Я сказал:
— Разве для пожилого деревенского жителя, который
120
когда-то молился в церкви, иди он здесь сейчас один,— раз-
ве это не вопль неприкаянной души покойника?
— Ну слушайте, вы! — упрекнул меня Коблик.— У меня
даже слезы появились на глазах от вашей неуместной эру-
диции.
Прогулка оправдала себя: пока мы болтались вдоль огра-
ды кладбища, Коблик постепенно начал освобождаться от
давившего его груза. Он уже несколько лет одинок, у него
нет близкого друга — женщины. Обещал когда-нибудь рас-
сказать об этом, а пока то и дело говорит:
— У меня ничего нет — пустота. За работой забываешь-
ся, а вот в такие свободные минуты ощущаешь пустоту.
Мне не удалось узнать, что у него было в семнадцать лет
(сейчас ему — тридцать).
На болоте перекликались два коростеля, по-украински —
дергачи. Я спросил Коблика:
— Какая это птица кричит? Как будто работает рашпи-
лем, дергает что-то.
— Не знаю.
Далеко над лесом немцы почти неподвижно подвесили на
парашюте осветительную ракету. Ее плавленый, металличе-
ский блеск словно бы напоминал нам: «Эй вы, бродячие фи-
лософы, не забывайте, что половина земного шара охвачена
войной!»
Перед самым порогом нашей избы Коблик неожиданно
сказал:
— Я не знаю, что бы я здесь делал без вас.
25 июня.
Севастополь все еще держится.
Недавно в армейскую газету прибыл поэт Михаил Свет-
лов.
29 июня.
Новости немецкой техники, корректировщик-наблюда-
тель «костыль» («хеншель») начал сбрасывать бомбы и ми-
ны; то же делает и двухфюзеляжный «фокке-вульф» — «во-
рота»; наконец и «мессершмитт» тоже начал бомбить. В Бору
«костыль», сбросив мину, оторвал крыльцо у церкви. Иногда,
для устрашения, они сбрасывают простой рельс—он зверски
воет.
127
У капитана Здюмаева самый наипростецкий вид из всех
нас. Наша хозяйка, увидев его в первый раз, сразу же позва-
ла:
— Иди сюда, подержи корову: сладу нет, не дается доить,
должно, сиськи потрескались.
У коровы болит вымя — она не стоит спокойно. А тут еще
новый человек — Здюмаев. Хозяйка, ни слова не говоря, сня-
ла с него пилотку и повязала ему голову своим платком.
Здюмаев покорно держал корову за рога. Чай мы пили с
молоком.
Здюмаев сказал мне, что в 364-й дивизии во время лекции
Коблика над головами слушателей начали пролетать немец-
кие мины и что Коблик продолжал как ни в чем не бывало
читать лекцию.
Я не стал разочаровывать Здюмаева, но убежден, что Коб-
лик, увлекшись своей лекцией, просто не понимал, что про-
исходит.
Мы часто говорим с Кобликом о том, что после войны не-
возможно будет читать книги о войне. Уже сейчас я не могу
читать в газетах про боевые эпизоды. Писатель окажется в
трагическом положении.
Коблик сказал:
— Человечество было бы бесконечно благодарно тому пи-
сателю, который после войны подарил бы миру веселую,
смешную книгу.
26 июня.
Вернулся Саша Королев из 44-й бригады. ’Рассказал
о Феде Чистякове. Когда Федя доложил комбату Славнову,
что он из утильсырья собрал пулемет, комбат очень обрадо-
вался:
— Молодец, Федя, вовремя испек пулемет. У нас не хва-
тает оружия. Завтра отправим пулемет в Астрилово. Там
весь гарнизон — двадцать один человек — при одном ручном
пулемете. Молодец, доложу командиру бригады.
— Товарищ комбат,— попросил Федя,— отпустите меня
на передовую. Пулемет в Астрилово, и я — в Астрилово. Вы
же знаете, у меня отец оружейник и мать оружейница. Мне
неприлично быть поваром.
— Хорошо,— сказал Славнов,— поваром больше не бу-
дешь. Говоришь, отец — оружейник и мать — оружейница.
Так тому и быть, станешь и ты оружейником. У нас плохо с
128
оружием. Пойдешь в оружейную мастерскую. Если из навоза
сумел родить пулемет — стыдно зарывать свой талант в
землю.
У Феди на глазах выступили слезы. Он попробовал воз-
высить голос:
— Это несправедливо, товарищ комбат. Куда пулемет,
туда и я. Мое место на передке!
— Слушай, друг,— сказал Славнов, сильно покраснев.—
Если ты еще хоть раз попросишься на передовую — зарабо-
таешь взыскание!
Саша Королев был при этой сцене. Когда Федя ушел, он
стал просить за него комбата. Славнов сказал:
— Как можно посылать вперед такую горячую голову?
Он в первый же день попадет под дурную пулю. Я уже не
одного такого мальчика похоронил. Почему-то все думают,
что Славнов слепой, будто я не знаю, какие у Феди золотые
руки. Нам не хватает оружия и слесарей не хватает. Порабо-
тает в мастерской недели две-три, а потом, чтоб не скучал,
я его возьму к себе в связные — вместе будем ползать по пе-
редовой. Если немец будет вести себя тихо — пошлем Федю на
краткосрочные курсы младших лейтенантов. У него голова
без мусора — сразу схватит эту науку. А под пулю так сразу,
ЗДУру я его не отдам, и не просите. Вы лучше скажите, почему
ваш писатель не приходит к нам в батальон? Есть о чем по-
говорить — расскажу о боях под Москвой.
Юнкера немецкой офицерской школы пошли в атаку про-
тив 1216-го полка 364-й дивизии. Бойцы уничтожили их
штыками.
Один из них погрузил во врага штык до отказа, стряхнул
немца. Бежит дальше. В этот момент из кармана выпал за-
вернутый в обрывок газеты хлеб. Боец подобрал хлеб с
земли и только после этого побежал со штыком наперевес.
Заколол еще одного немца.
1 июля.
Опять дождь! Дороги вышли из строя, в низинах на них
всплыли доски, бревна, хворост. Старики, как им и полага-
ется, конечно, «не запомнят» такого мочливого, многоводно-
го лета. Лет тридцать тому назад, говорят, было что-то по-
хожее. В соседней с Грехневкой деревне от избы к избе
5 В Ковалевским
129
ездят на лодке. В ста пятидесяти метрах от деревни в болото
провалилась и утонула женщина — ее до сих пор не
нашли.
Июль.
Опять начались свирепые бомбежки. У нас зудят в озно-
бе стекла: где-то недалеко сбрасывают крупные.
Отделение зашевелилось. Вырытые нами щели давно уже
доверху полны водой. Ничего неожиданного в этом нет: надо
было заглянуть в любой колодец — до воды можно достать
рукой, и тогда не пришлось бы заставлять саперов занимать-
ся бессмысленной работой.
Губер серьезно обеспокоен: где нам укрываться при бом-
бежках?
Вернулся из командировки Коблик. Просит извинить его —
потерял мою плащ-палатку. Свою, выданную ему в АХО, он
уже давно потерял.
У Коблика распухли обе руки. Показывая их мне, он
спросил:
— Товарищ Ковалевский, вы — кудесник, научите, что
мне делать с руками?
Выясняется, что они распухли от ожогов крапивы. Во
время вчерашних бомбежек Коблик прятался где-то в ка-
наве. Я убежден, что там и осталась лежать моя плащ-па-
латка.
•
3 июля.
Мне надо к Поростаеву. Необходим дополнительный ма-
териал для истории. Его штаб сейчас в Кузьмине — это три-
дцать пять километров от нас. Дороги размыты, и кроме как
пешком добраться до Кузьмина нельзя. В пути все те же кар-
тины: тягачи тянут на тросах грузовые машины,— перед ко-
лесами образуется волна глинистой, вязкой грязи. Телегу с
двумя ранеными рывками, с невероятным трудом выхваты-
вает из грязи тройка(!) дымящихся от пота лошадей. Так
рывками и пробиваются к госпиталю, останавливаясь через
каждые пять-шесть шагов. Когда же они там будут? Поисти-
не крестный путь для раненых бойцов!
130
4 июля. Кузьмино.
К Поростаеву пришел ночью. Он еще не спал — встретил
очень радушно. Давно не был я в такой обстановке: большой
дом типа подмосковных зимних дач; электричество от дви-
жка; на постелях — белье; большой диван; на столах вместо
скатерти чистые простыни и аккуратные стопки бумаг, кни-
ги, блокноты. Первый раз за полгода я спал на простыне.
Утром Поростаев завел патефон. Пришел комиссар кор-
пуса и под перезвон колоколов слащавенького вальса ска-
зал генералу: «Умер мой водитель». Это вчерашняя бом-
бежка.
Не дают нам беседовать с генералом — то и дело прихо-
дит кто-нибудь по вызову или же нас прерывает звонок те-
лефона.
— Поживите у меня подольше,— сказал Поростаев.—
Долго нам с вами разговаривать все равно никогда не да-
дут— будем ловить момент. Поживите у меня подольше.
Перед обедом я гулял по небольшому кряжику вдоль За-
робской Робьи. У самой воды сквозь густые кусты ивняка
прорастают, пробиваются к свету пахучие метелки таволги,
ее запах напоминает капли датского короля — лекарство, ко-
торое было в большом ходу до революции.
Чудесная погода. Она нравится и фрицам — летают. Здесь,
в Кузьмине, уже несколько раз сегодня «благовестили» в ко-
локол. Все наши дороги великолепно просматриваются с воз-
духа: во многих местах на них настланы березовые бревна,
бросающиеся в глаза своей белизной. Если вместо берез кла-
дут ели, все равно через несколько дней колеса и противо-
буксовочные цепи сдирают с них кору, и дорога становится
такой же заметной, как березовая.
Опять колокол — сигнал воздушной тревоги.
Что это — легкомыслие, притупленность восприятий или
смелость? Когда летят немецкие самолеты и даже когда идет
бомбежка, у меня возникает чувство, как будто это не имеет
ко мне никакого отношения, и не хочется прятаться, а наобо-
рот — я хочу все видеть и слышать, зрение и слух становят-
ся острее.
В крайнем случае я, конечно, принимаю простейшие ме-
ры самозащиты, но другие ведут себя «активнее», чем я. По-
мню, как в Малых Горбах какой-то майор разорался на меня за
5'
131
то, что я не прячусь и этим самым будто бы демаскирую
других.
Уверен, что если ты не сидишь в мощном железобетон-
ном убежище, то все остальное безразлично. По-моему, куда
лучше пролежать несколько минут под открытым небом, чем
целый день дурак дураком сидеть в щели, где тебя к тому
же может за валить землей, как в могиле. Конечно, если фриц
охотится за людьми с пулеметом, лезть на открытое место
глупо. Обязательным остается только одно: при любой опа-
сности держать себя с достоинством и среди солдат, и тем
более наедине с собой.
Генерал опять завел пластинку, по-видимому самую свою
любимую: вальс с колоколами. Зашел начальник артилле-
рии корпуса и под эту музыку сказал, что вчера комиссар
одного из батальонов подорвался на минах.
Севастополь все еще держится!
Генерал третий раз заводит один и тот же «Последний
вальс».
Обед Повар у генерала искусник — кормит как в рестора-
не. Сходство с рестораном усугубляется музыкой. Генерал
то и дело встает из-за стола и сам меняет пластинку. Адъю-
тант даже не пытается подходить к патефону. Заметив мое
удивление, Поростаев сказал:
— Это единственный физический труд, который мне здесь
доступен,— дрова колоть и носить воду не позволяет звание.
Свое пристрастие к «Последнему вальсу» ему пришлось
признать открыто. Нравятся генералу и простецкие, чуть
сердцещипательные песни, вроде «Раскинулось море широ-
ко». Да попробуй найти в армии человека, которому бы она
не нравилась! Один только блюститель нравов, наш золото-
улыбчивый Губер, для которого агитация и пропаганда шире,
чем понятие «жизнь», один только он считает, что эта груст-
ная песня вредна для армии.
В одном доме с Поростаевым живет и военком корпуса.
Об этом человеке мне кое-что рассказывал адъютант Пороста-
ева, благообразный молодой человек, старший лейтенант
132
Карманов. Во время боя военком равнодушен к убитым. Од-
нажды, когда на Ловати горел катер, прошитый зажигатель-
ными пулями с воздуха, военком своими руками перевора-
чивал трупы обгоревших бойцов, осматривал их. Но вид
мертвеца в обычной обстановке действует на него тяжело.
Военком не может присутствовать на похоронах и стоять
в почетном карауле,— все это поручает своему помощ-
нику.
Сейчас у военкома собрались военкомы бригад и началь-
ники политотделов. Они сидят за пятой бревенчатой стеной
дома, но все равно все слышно. Разговор обычный для наше-
го болотного фронта: ни хлеба, ни сухарей, ни муки завтра не
будет.
Почти из всех частей сообщают: у немцев — митинги. Од-
но из таких сборищ, за Ловатью в предполье, артиллеристы
из 121-й бригады разогнали огневым налетом.
Все стало понятным: пал Севастополь.
Вечная слава, вечная память погибшим героям!
5 июля.
Пять часов утра.
Проснулся от утробных толчков, передающихся по нож-
кам кровати.
Бомбят немцы.
Адъютант только что разбудил Поростаева, дал ему в по-
стель трубку телефона. Балабуха сообщает, что его бомбят
сорок немецких самолетов и по всему рубежу начался
шквальный пулеметный обстрел. Немецкой пехоты пока не
видно.
6 часов. Балабуха сообщает: «Немец перешел в наступле-
ние против моего третьего сына».
Три немецких самолета только что сбросили бомбы на на-
шу деревню. Бомбы погано свистели, но упали «до» деревни
и «после».
Вместе с Поростаевым ходили смотреть блиндаж — на
случай, если немец серьезно займется штабом корпуса с воз-
духа. Убогий блиндажик, со тщедушным накатом. Как раз
когда мы были там, немецкие бомбардировщики еще раз раз-
133
грузились над нашей деревней. В блиндаже с потолка посы-
пался мусор, поднялась пыль. Засунув за ворот кителя носо-
вой платок, вытирая шею, Поростаев сказал:
— Вы можете побыть здесь, пожалуйста, не стесняйтесь.
А мне надо работать — я пойду к аппаратам.
Мне пришлось ему сказать:
— Я пришел к вам не для того, чтобы прятаться от вас в
преждевременную могилу.
На его простецком солдатском лице вдруг появилась ка-
кая-то совсем домашняя, уютная улыбка.
Как только мы вернулись в избу, генерал запустил «По-
следний вальс», и тут же, на посту наблюдения за воздухом,
вразлад с мелодичными колоколами пластинки, дежурный
ударил в медный колокол, подвешенный к ветке ракиты.
Минут через десять снова раздался медный вопль коло-
кола.
Я рассказал Поростаеву об одном монастыре в Испании.
Каждые четверть часа в этом монастыре начинают вызвани-
вать на колокольне куранты. Дежурный монах подходит по
очереди к каждой келье, стучит в дверь молотком, словно за-
колачивает в гроб гвозди, и выкрикивает по-латыни: «Memen-
to mori!» (Помни о смерти!)
Мой рассказ произвел впечатление. Теперь, как только
заноет колокол тревоги, Поростаев улыбается во весь рот и
говорит:
— Memento mori!
И никогда почему-то после рассказа о монастыре он боль-
ше не ставил при мне пластинку «Последний вальс».
За обедом Поростаев предложил мне водку. Сам он за все
время, пока шел бой, не выпил ни капли. Я, конечно, тоже не
согрешил.
У Поростаева за обедом — и вообще весь день, даже ког-
да его никто не вызывал к телефону,— был такой вид, слов-
но он все время к чему-то прислушивается, ни на минуту не
забывает о том, что идет бой за Коровитчино. Но порою он
вдруг возьмет да и расскажет что-нибудь не имеющее ника-
кого отношения к событиям дня. Может быть, он это делает
сознательно — дает голове отдых.
В одну из минут затишья я узнал от него, как совсем не-
давно Куницын невольно добавил горя жене убитого комис-
сара одного полка.
Куницын очень ценил этого человека. Как только он
узнал, что комиссар убит, он распорядился, чтобы жене ко-
134
миссара были отправлены все его личные вещи, вместе с из-
вещением о гибели.
И вот в посылке среди дорогих для жены покойного вещей
она вдруг нашла белье женщины, с которой комиссар со-
шелся на фронте.
Оскорбленная жена прислала Куницыну письмо: она про-
кляла его за такую «заботу», за то, что он убил в ней то чув-
ство, которое она сохраняла к мужу.
7 июля.
В шесть часов утра немцы ворвались в Коровитчино. Че-
рез несколько часов бойцы Балабухи выбили их из деревни,
захватили две противотанковые пушки, несколько пулеме-
тов, пленных. Отбить Коровитчино обратно помогла наша
авиация — она метко бомбила боевые порядки немцев.
За обедом военком и начальник корпусной артиллерии
выпили по сто граммов. Поростаев и сегодня не прикоснул-
ся к стакану. Он рассказал нам о семилетием мальчике.
Этот малыш живет в блиндаже у командира 7-й гвардейской
дивизии генерала Бедина. Его бросила мать: она вско-
чила в машину, оттолкнула его от себя и убежала с нем-
цами.
Мальчик одет как игрушечный солдатик — куколка: ему
сшили по распоряжению Бедина крошечное красноармейское
обмундирование. Когда с ним кто-нибудь здоровается, он бе-
рет под козырек и рапортует: «Сержант Иванов!» Если же с
ним поздороваться, застав его врасплох (грязные руки или
перекошен пояс), он сначала вымоет руки, заправит как
следует гимнастерку и только тогда подойдет, щелкнет каб-
луками, возьмет под козырек и представится: «Сержант
Иванов!»
Однажды «сержант Иванов» во время сильного миномет-
ного обстрела лежал под крутым берегом Редьи. Бедин ле-
жал рядом и прижимал его к себе рукой. Мины рвались со-
всем близко, и осколки ехидно выли над головами. Одна мина
попала в реку, обдала их обоих водой и мокрым песком.
Мальчик мгновенно вскочил и крикнул:
— Командир, не бойся — смотри, сколько рыбы наглуши-
ли, идем ловить!
Но этот же «сержант Иванов» боится ходить вечером у не-
большого озерка возле КП дивизии; говорит, что его может
схватить и утащить в омут лягушка.
135
9 июля. Кузьмино.
Наконец мы остались с «генерал-солдатом» одни,— прав-
да, нас охраняет автоматчик, но он шагает следом за нами
метрах в двадцати.
Прогулка по берегу Робьи. Я живу у генерала уже седь-
мые сутки. Обстоятельства мешали нам как следует погово-
рить о битве под Москвой. Беседовали главным образом за
какой-нибудь трапезой: завтрак, обед, ужин — совсем не то,
что нам обоим нужно. Тем более что за столом, как правило,
нам вставлял палки в колеса военком — ему хочется гово-
рить только о самом себе. А сегодня во время прогулки По-
ростаев неожиданно вытащил из внутреннего кармана свой
лаконичный дневничок — записную книжку величиною в ла-
донь, прочел мне его почти весь. Теперь гораздо подробнее
он рассказал о приеме в Клину Идена, о разговоре со Стали-
ным и о приезде в нашу армию М. И. Калинина. Без этого
история Ударной была бы неполной.
Интересна психологическая подробность: даже по теле-
фону Поростаев не мог разговаривать с Главнокомандующим
сидя — он вытянулся в струнку.
Ради только одной такой прогулки стоило пройти по рязи
тридцать пять километров и неделю выжидать удобного слу-
чая Пользуясь записной книжкой, как памяткой, Поростаев
рассказал мне и о первых днях прорыва немцев, когда они
бросились на выручку из котла своей 16-й армии, о Борисов-
ском лесе и о том, как сам он, Поростаев, оставшись совер-
шенно один на дороге, принялся сколачивать свою собствен-
ную группу, останавливая порознь бредущих бойцов.
Моя задача выполнена. Теперь легче будет писать исто-
рию. Пора в обратный путь.
Повезло: дороги немного подсохли, к Поростаеву добрал-
ся комиссар штаба армии Перекалин. Мы возвращаемся вме-
сте с ним на виллисе.
Когда мы уже садились в машину, Поростаев, вместо
того чтобы «колоть дрова и носить воду», поставил,«Послед-
ний вальс». Окна были открыты, и мы отбыли под мелодич-
ный перезвон колоколов. Таким образом, новелла о моем
пребывании у командира 1-го гвардейского корпуса генерал-
майора Поростаева получила изящную концовку.
136
11 июля. Шутовка.
Куницын вызвал к себе Губера, Коблика и меня, спраши-
вал, как идут дела, как работа над историей. Для того только
и вызвал — очень интересуется историей. Обещал устроить
встречу с членами Военного Совета и дать записку к началь-
нику Особого отдела. Хочу, чтобы меня познакомили с мето-
дами вражеской контрразведки.
На чердаке за бочкой очень трудно работать. Продувает
насквозь ветер, рвет из-под пера бумагу. Однажды мне при-
шлось бежать на огород за двумя страницами — вытянуло
струей воздуха в слуховое окно. И вот я сижу в избе за од-
ним столом с Губером. Чердак остается как заповедник для
отдыха, для размышлений и бесед с Кобликом.
Губер мешает. Ему почти безразлично, отвечаю я на его
вопросы или молчу. Он душит меня монологами и чтением
вслух.
Шутя я сказал Куницыну:
— Хорошо, если бы Политотдел издал приказ, запрещаю-
щий разговаривать с Ковалевским.
Улыбнувшись, Куницын обещал:
— Издадим!
Он выразительно взглянул на Губера и распорядился,
чтобы мне обеспечили необходимые для работы условия.
Однако на Губера этот разговор не подействовал, он по-
прежнему болтает без умолку. Забавно: он убежден, будто
много сделал для меня, убежден, что «создал условия» одним
уже тем, что поселил меня с собой, а не с остальными аги-
таторами.
Он принадлежит к породе начальников, которые не уме-
ют выслушать другого человека и понять его, раскрыть его
основную сущность, подбросить ему горючее, мобилизовать
в нем все самое лучшее, вдохновить на дальнейший путь к
его вершине и в работе использовать его самые лучшие ка-
чества. Вместо этого деревянное, навязчивое внушение своих
требований. Губер вырос на узко политической литературе,
без широкого образования, когда приобщаешься к искусству,
к истории и к худож ственной литературе. Такие люди не
чувствуют, что жизнь — это все, а пропаганда только части-
ца жизни. У них нет чего-то глубоко своего.
137
Саша Королев рассказал мне о случае, про который он
узнал во время своей последней командировки в бригаду
Балабухи.
Когда немцы захватили Коровитчино, коммунист Мищен-
ко получил шесть пулевых ранений. Его взвод был смят
немцами на деревенском кладбище, и часть наших бойцов
попала в плен. Мищенко кое-как перевязал индивидуальны-
ми пакетами свои раны и притаился между холмиками
могил.
Он видел, как немцы заставили наших пленных бойцов
выносить с кладбища раненых немцев. Один из бойцов спо-
ткнулся, неся раненого, и уронил свой конец носилок. Немцы
тут же пристрелили его.
После того как раненые немцы были убраны с кладбища,
наших бойцов заставили раздевать убитых красноармейцев.
Мищенко успел к этому времени зарыть свой партбилет в
могильном холмике. Подошли раздевать и его,— это были
бойцы из его же взвода: Еропкин и Башмаков. Он им сказал
вполголоса: «Не смейте — я еще живой!» Но один из
немцев услышал голос «убитого». Мищенко принесли в штаб
и начали допрашивать. Он ничего не сказал. Тогда его удари-
ли по голове, и он потерял сознание. Его выбросили в сени.
В это время наша авиация начала бомбить Коровитчино.
От воздушной волны полетели стекла. Немцы начали вы-
скакивать из избы, побежали к щелям. Оставшись один, он
сполз по приступкам в огород и залег среди картофельных
гряд — в здешней сырой местности их делают очень высо-
кими.
На этом огороде наши санитары и нашли истекающего
кровью Мищенко, когда бойцы Балабухи отбили Коровитчи-
но у немцев. Подошел к нему и сам Балабуха. Мищенко был
очень слаб, но у него хватило сил показать, где он зарыл свой
партбилет. Стряхнув с обложки землю, Мищенко припал к
билету губами.
Я написал очерк об этом случае. Газета напечатала его.
Всем агитаторам он понравился; Губер буквально сиял, всем
показывая свой золотой зуб, как будто бы это он написал
очерк и писал его своим золотым зубом.
Куницын охладил наш пыл. Он позвонил мне и объяснил
очень мягко, как беспартийному, что член партии никогда не
должен расставаться со своим партийным билетом.
138
Надо полагать, что с Губером, отвечающим за правиль-
ную линию в газете, Куницын разговаривал в других тонах.
Во всяком случае, Губер долго после телефонного разговора
не показывал нам своего золотого зуба.
Другой эпизод под Коровитчином (тоже рассказал мне
Королев).
Немцы окружили четырех бойцов. Командир отделения
разведчиков Алексеев был тяжело ранен. Трое его товари-
щей решили пробиться к своим. Они хотели вытащить с со-
бою Алексеева на плащ-палатке. Он отказался. «Вы идите,—
сказал он,— а я помогу вам огнем».
Трое стали ползти и пробиваться. Алексеев стрелял по
немцам из автомата, отвлекая огонь на себя. Когда патроны
подходили к концу, он крикнул: «Товарищи, прощайте!» Они
видели, как он успел дать короткую очередь себе в грудь.
Язык:
«Грязно-рыжая, как будто заржавленная голова».
«На данном огрызке времени».
«У нас выколупливается, налаживается самодеятель-
ность».
«Меня отнесли на носилках под лучи — на лучах врач
сказала: «Вы недолговечны».
«Она очень хорошенькая на разговор».
«Красивая, как гадюка».
14 июля.
Наши освободили Великое Село.
Тем временем 11-я армия взяла Василевщину, перерезала
единственную пригодную для колес дорогу, по которой Ста-
рорусская группировка немцев общалась с 16-й армией в
Демянском котле. Куницын сказал: наша задача — опять на-
глухо замкнуть в мешке 16-ю армию.
Опасаясь окружения, немцы ушли из деревни Быстрый
Берег. Конечно, они заминировали все, что возможно. Раз-
гадать секреты вражеских минеров очень трудно. Одну из
ветхих избенок саперы решили просто взорвать, бросив в
нее пару противотанковых гранат. Но хозяйка-старушка
взмолилась, просила пощадить последнее ее убежище.
139
Начальник инженерной службы батальона пожалел ее. Са-
пер по его приказанию начал разминирование, а инженер
стоял на пороге метрах в двадцати. Первую мину натяжного
действия сапер заметил сразу: от ручки двери к ней была
протянута проволока. Обезвредив ее, сапер вошел в горницу;
ничего подозрительного он там не обнаружил. Когда он до-
шел до середины — все взлетело на воздух. Мина нажимного
действия была положена под половицу. Удивительно, что са-
пер остался жив,— его только оглушило; удар исходил от
центра и взрывной волной избу вместе с крышей разбросало
в разные стороны. А саперный инженер был убит на дороге
бревном.
16 июля.
Ко мне подошел Саша Королев, положил передо мной ар-
мейскую газету.
Я прочел на первой полосе:
«Военное искусство и воинская доблесть.
Сегодня мы помещаем материал о замечательном подви-
ге мл. сержанта Федора Чистякова. В одном шестичасовом
бою он уничтожил свыше 200 фашистов.
Об умелых и опытных воинах говорят, что они так знают
свое оружие, словно сделали его сами. К Федору Чистякову
эти слова применимы в буквальном смысле — он сам собрал
из найденных частей станковый пулемет, которым действо-
вал в этом бою».
Федя добился-таки своего — он войдет в историю Вели-
кой Отечественной войны.
Михаил Светлов уже написал стихи, на днях они тоже
появятся в газете. Там есть такие строфы:
Замолкли под вечер раскаты боев.
Темны коридоры траншей.
Возьми-ка гитару, Василий Славнов,
И спой и сыграй для друзей.
И питерский слесарь — наш друг Чистяков
Прилег за «максимом» своим.
А зарево новых победных боев
Уже полыхает над ним.
Завтра иду в лыжный батальон.
140
Необычайную картину застал я в лыжбате. На леса и
болота спустился нерукотворный, невообразимо красивый
вечер с густо-шафрановыми переливами красок в небе, кото-
рые истончались, нисходили до бледного аметиста. На перед-
нем крае стояла такая удивительная тишина, словно Федя
истребил не только «свыше 200», но и всех врагов вообще, и
к тому же убрал с неба всю хмурь, не оставив на нем ни еди-
ного пятнышка.
Под березками вокруг Феди сидело все батальонное на-
чальство и даже комиссар бригады. Все пели, порою чокаясь
алюминиевыми кружками с разбавленным спиртом, а ком-
бат Василий Славнов перебирал струны гитары.
Дали кружку и мне. Я тоже пел вместе со всеми и, обретя
удивительное чувство свободы, вновь и вновь остро ощутил,
что такое фронтовое братство, до радостного озноба в душе,
до состояния, близкого к ощущению пронзительного счастья.
Но для полного счастья не хватало все же слишком многого:
чтобы война уже закончилась, и чтобы все из могил под-
нялись, стряхнули бы с себя землю и вместе со всеми на-
шими родными и близкими сидели бы сейчас вместе с нами
и пели, и чтобы это длилось без конца, не обрывалось ни-
когда.
У Феди Чистякова забинтована левая рука, повязка осле-
пительно белая,— должно быть, перевязали совсем недавно.
Он тоже пил и пел, но почему-то оставался все время очень
грустным. Почему? Может быть, ему не хватало тех, кто ле-
жит в могиле? Он стал больше курить и глубже затягиваться,
но словно бы помолодел еще больше. Хотелось отобрать у
Феди кружку и сказать: «Детям пить нельзя!»
Перед сном я спросил Федю: почему он-такой невеселый?
Он дал мне прочитать письмо. Ночи стоят белые, ленинград-
ские, заря сходится с зарею,— читать можно, не напрягая
глаз.
Когда я кончил, тихий Федя был весь в слезах. В письме
говорилось, что отец Феди «погиб на боевом посту», а бабуш-
ка лежит в Ленинграде под развалинами дома, в который по-
пала немецкая бомба.
Письмо вручили Феде, когда бой уже начался: немцы по-
лезли на Астрилово. Не страшась больше никаких взыска-
ний, Федя в четвертый раз пошел к Славнову и снова по-
просился в бой. Про письмо он не сказал ни слова.
Случилось так, что как раз в эту минуту замолчал Фе-
дин пулемет. Славнов приказал Феде бежать в Астрилово,
141
устранить помехи в пулемете и тотчас же вернуться и доло-
жить, что там происходит. Он отдал Феде свою каску. Федя
взял автомат, два диска, две гранаты и побежал.
Помеху в пулемете — простой перекос ленты — пулемет-
чик мог бы устранить и без Феди, но он был уже тяжело
ранен.
Как только Федя наладил пулемет и, взглянув через ам-
бразуру блиндажа, увидел немцев, он уже больше за весь
этот день, за шесть часов боя, не вспомнил ни разу, что он
должен вернуться к Славнову и доложить обстановку.
Немцы, подумав, что пулемет уничтожен, поднялись и
шли на блиндаж во весь рост, по совершенно открытому ме-
сту, по астриловским огородам. Вот здесь Федя и уложил их
больше всего. От деревни не осталось даже фундаментов —
весь кирпич давно уже разобрали на печки-времянки. Когда
немцы залегли, Федя продолжал бить их на земле, на вы-
бор — укрыться им было уже негде.
В блиндаж вскочил комроты Высоцкий.
— Федя! — крикнул он.— Обходят по кустам!
Узкая щель амбразуры не позволяла вести круговой об-
стрел. Высоцкий помог Феде вытащить пулемет на потолоч-
ный накат блиндажа. Сверху хорошо было видно, и Федя
принялся стричь длинными очередями мелкий кустарник,
выбивать из-под веток фашистов. Пулею с головы Феди сби-
ло каску. Комроты Высоцкий надел ему пробитую пулей
каску снова. Несколько раз в кожухе закипала вода. Ране-
ные, те, кто не мог больше отстреливаться, носили из воронки
в пилотках воду.
Немцы вызвали авиацию. Бомбы начали перепахивать
астриловские огороды. Осколком Федю ранило в левую руку.
Пришлось уйти с крыши блиндажа. Внизу, под накатом, Вы-
соцкий перевязал Федю. Немцы опять подумали, что пуле-
мет уничтожен, и, когда авиация отбомбилась, повели подо-
шедшее пополнение снова во весь рост. В этот раз Федя тоже
уничтожил их немало.
Когда в газете читаешь голую информацию: «В одном ше-
стичасовом бою он уничтожил свыше 200 фашистов»,— это
вызывает недоверие. Как же так? Немцы сплошные дураки,
что ли? Их загипнотизировали и они как слепцы лезут под
пулеметную струю?
Все дело в том, что за шесть часов боя Чистяков множе-
ство раз менял свою позицию: то бил через амбразуру блин-
дажа, то вытаскивал пулемет и стрелял с потолочного нака-
142
та, то умно выбирал себе точку в исхлестанном пулями и
осколками кустарнике.
Весь день продолжалась эта кровавая игра в кошки-мыш-
ки. За шесть часов Федя расстрелял 3500 патронов — все лен-
ты. Конечно, пулемет, а вместе с ним и Федя были бы давно
уже уничтожены, если бы Федя оставался на одном месте.
Когда кончились ленты, Федя работал автоматом, а когда
иссякли все диски, бросал гранаты. Уже в сумерках он сде-
лал последний в этот день выстрел — убил немецкого офи-
цера, заходившего с тыла. Выстрелил Федя в офицера из
пистолета, который отдал ему Высоцкий, к тому времени уже
раненный.
Совсем стемнело. Раненых перенесли вброд через Камен-
ку и здесь, на другом берегу, принялись окапываться. Как
пишут в таких случаях: «Атака немцев захлебнулась», на
другой берег прорваться им не удалось,— их не пустил ма-
ленький повар, ленинградский слесарь Федя Чистяков.
20 июля.
Моя беда в том, что я всюду ношу с собою самого себя.
В лучшем случае я буду иметь записки своих переживаний
на войне, помимо примелькавшихся боевых эпизодов и анек-
дотических случаев из фронтового быта. Будут у меня от-
дельные эпизоды, сцены, но в живую душу тружеников вой-
ны проникать не удается. Вероятно, не умею. Нет психологи-
ческих находок. Я мало вхожу в понимание людей, может
быть, все из-за той же возни с самим собой.
Конечно, я лирик, созерцатель. С таким вооружением
трудно вести оперативную работу не только в армейской
газете.
Пленные немцы называют нашу «катюшу» «Полевая бу-
лочная», «Ураган».
Роман. Может быть, один из главных героев романа —
писатель? Ну то, что переживал я.
Показать, как ходит писатель по дорогам войны (мои уже
бесчисленные командировки), видит детали, сцены — отдель-
ные элементы фронтового бытия, знает множество боевых
эпизодов, но целое в его сознании никак не складывается,
и понимание главного героя всенародной трагедии — рядово-
го бойца — писателю все еще недоступно.
143
Уже второй номер «Красной звезды» появляется с по-
вестью Гроссмана «Народ бессмертен». Первый отрывок как
раз тем меня и обрадовал, что герой мыслит, и я с особой си-
лой затосковал о встрече с Василием Семеновичем. Во вто-
ром отрывке заметна торопливость. Он сам писал мне из
Чистополя: «Тесто еще не взошло, а я его — в печь». Слиш-
ком рано с такою подробностью говорится о людях, к кото-
рым у читателя еще не возник интерес. Подробно можно
описывать после того, когда читатель уже начал пристально
следить за героем, который заинтересовал его по самому хо-
ду действия.
Записываю это в тетрадь, потому что верю — Василий
Семенович жив, иначе его фамилия была бы дана в траур-
ной рамке.
Есть приказ Сталина, говорящий о потере Керчи, как о
крупнейшем поражении за все время войны.
Разгром под Керчью решил судьбу Севастополя и развя-
зал немцам руки для удара на Воронеж и юго-восток. Немцы
на два дня опередили наше генеральное наступление с вы-
ходом к Перекопскому перешейку.
Они теперь рвутся в обход Ростова, на Кубань, на Кас-
пий — к нефти. К нефти же рвется и Роммель в Африке, че-
рез Египет. Будем надеяться, что немцы нефть все-таки не
захватят.
Есть предположение, что смазочных масел Германии хва-
тит только до сентября. Не знаю, уже сколько раз специали-
сты ошибались в подсчетах. Ясно только одно: нефть Гитле-
ру нужна, и ему необходимо добиться решающих успехов
до открытия второго фронта.
Стратегическое положение Ударной так своеобразно, что
среди приезжающих к нам работников штаба фронта есть
выражение: «Отправиться к немцам в тыл».
21 июля.
Дождь. Дождь всю ночь. Ну и, конечно, газеты не при-
шли — посадочная площадка раскисла.
Последнее время нас очень хорошо кормили, теперь опять
все разладится. Только бы успели подвезти боеприпасы. Раз-
ведка сообщает, что немцы подбросили шесть дивизий.
11-я армия перерезала большую дорогу из Старой Руссы
144
на Демянск, у немцев остался только проселок. Перешеек
стал еще уже — он простреливается и нами, и 11-й армией,
стояшей против нас по ту сторону перешейка. Возможно, что
опять возьмем в кольцо 16-ю, но что толку? Надо бы уни-
чтожить всю Демянскую группировку. Впрочем, хорошо уж
и то, что мы оттягиваем на себя какие-то силы в дни, когда
на юге решается судьба войны, решается наша судьба.
25 июля.
По данным разведотдела (через партизан), немцы выво-
зят из Старой Руссы артиллерию и технику. На дороге такая
картина, как будто они эвакуируют город. В то же время они
дополнительно усиливают оборонные укрепления. Все насе-
ление. начиная от двенадцати лет, на окопных работах.
А там, на юге, бои идут уже под Ростовом.
Ростов сегодня уже не упоминается. Неужели оставлен?
Как скоро зарастают человеческие следы. Семь месяцев
назад хозяйка нашей избы сняла солому с крыши сарая,
чтобы она не вспыхнула от зажигательных пуль с немецких
самолетов, как случилось это во многих домах Шутовки.
А сейчас потолочный настил сарая уже густо зарос травой —
хоть коси: здесь и васильки, и ромашки, и куколь, и другие
цветы.
В разговоре с Кобликом я перешел на мрачную филосо-
фию. Допуская, что в романе возможен герой с такой фило-
софией, я начал думать за него и спорить с Кобликом, держа
сторону героя, чтобы доработать его философскую позицию.
Таким способом, неведомо для Коблика, я работал над буду-
щим романом.
Я говорил:
— Зачем материи самопознание, самосознание? Зачем
космосу, чтобы материя сознавала сама себя? Не паразитиру-
ет ли человечество на космосе? Не является ли сознание
болезнью материи, как пятно на загнивающем яблоке? Ведь
в природе, в космосе не существует «зачем», нет цели, есть
только «почему» и «отчего».
Коблик вспомнил «Движение миров» Джинса, его мысль,
что органическая жизнь — аномалия. Вспомнили мы и Якова
Беме: «Жизнь — это страдание материи».
145
Мы ходили с Кобликом во ржи и беседовали. Большое на-
слаждение! У Коблика прекрасная память: цитаты — без
конца. Жалею, что моя слабая память не дает мне возмож-
ности записать весь наш разговор.
Он говорил о наслаждении материи в преодолении самой
себя, в вечном движении (вспомнил Гегеля о цветке!). Что
всякое иное стремление, например к буддийскому покою,—
застой, отсутствие свободы духа.
26 июля.
Вечерний час. (Перевести на героя романа мое восприятие
вечера.) Мне трудно оставаться перед заходом солнца в за-
крытом помещении. Кажется, что теряешь что-то безвозврат-
но, если не выйдешь под открытое небо.
Щемящее душу ощущение безвозвратности уходящего
времени, ощущение умирания дня. Полдень — неподвижен,
день — незаметен; есть ощущение движения и во время вос-
хода, но в нем нет ощущения утраты — впереди целый
день.
В предзакатный час осязаема каждая минута. Я выхожу
под открытое небо, как на молитву, как возвращаются к род-
ной, любимой матери — с радостью и болью от сознания того,
что и ее когда-нибудь потеряешь.
Это час, когда ощущаешь свое родство со всей вселенной,
когда чувствуешь себя неотделимой от нее, но смертной ча-
стицей.
27 июля оставлены Ростов и Новочеркасск.
Эту тетрадь надо доставить в Политотдел
армии для передачи в Военную комис-
сию Союза писателей: Москва, улица Во-
ровского, 52, а затем моей семье.
В. Ковалевский
30 июля 1942 г. Деревня Шутовка, Залучского района, Ле-
нинградской области.
В Коровитчине подобрано у убитых немецких солдат бо-
лее 150 писем.
Сегодня я был в седьмом отделении. Вот что пишет своим
родным обер-солдат Бауэр — он так и не успел отправить
своего письма:
«Наша позиция расположена в воде, в болотах. Отделения
держат оборону на 400—500 метров шестью солдатами.
Здесь что-то происходит не так... Если бы фюрер знал, что
за безобразия здесь творятся! Подошвы на моих сапогах еле
147
держатся, обмундирование изношено до предела. Ни одного
дня не имеешь покоя и мечтаешь только об одном: как бы
выспаться. Вши снова мучат нас. По четыре-пять раз в день
просматриваешь свою одежду и всегда находишь несколько
штук.
Вся война — это сплошной разбой. Когда только будет ко-
нец этому?
Наша рота имела 120 человек, но я с ужасом наблюдаю,
как страшно она тает с каждым днем».
Если бы мы могли подбросить сюда резервы, мы бы, без-
условно, имели успех.
Но что будет на юге? Вопрос идет о жизни и смерти.
31 июля.
Пасмурно, холодно, но у ласточек на моем чердаке боль-
шое оживление. Ни одного птенца нет в гнезде — все пять
сидят на жердях под самой крышей и на балках. Когда птен-
цы были так малы, что из гнезда виднелись одни только бе-
лые горлышки и черные темечки, отец и мать клювом выта-
скивали из-под них засохший помет. Дней через пять птенцы
уже самостоятельно становились на самый край гнезда и,
повернувшись хвостиками наружу, оправлялись, не пачкая
своего жилища. После этого они обязательно растопыривали
перышки хвоста и, распуская то одно, то другое крыло, ко-
вырялись в нем клювом — чистились. При этом они, от сла-
бости лапок, теряли равновесие и, чтобы не вывалиться из
гнезда, помогали себе взмахами крыльев.
Через день, через два птенцы уже намеренно как бы вы-
валивались из гнезда и, не отпуская коготками край, трепы-
хали в таком положении несколько секунд крылышками. Это
было уже настоящее упражнение — тренировка. Заметно
выделялись два птенца — они первые из всего выводка осме-
ливались это делать. Остальные три были помельче — осо-
бенно один из них.
Еще через день самый крупный совсем вылез из гнезда и,
помогая себе держать равновесие взмахами крыльев, пошел
вдоль жерди, к которой приколочена дранка крыши и при-
148
леплено само гнездо. Одна из взрослых птичек (отец или
мать) порхала в воздухе, как бы звала его за собой.
Один раз мне показалось — она хотела столкнуть птенца,
чтобы заставить его полетать. Но он вернулся в гнездо,
склевывая попутно мошек, сидящих на исподней стороне
дранок.
На следующий день два птенца уже перепархивали из
гнезда на жердь, пролетая до нее расстояние около метра.
Видя, как взрослые продолжают кормить оставшихся в гнез-
де, «перволетатели» быстро вернулись в гнездо, опять — лё-
том. Интересно, что у всех птенцов уже так прочно
вошло в привычку широко раскрывать рот, как только
кто-нибудь подлетает к их гнезду, что на этот раз они
открыли свои рты, даже когда подлетели их маленькие
братья.
Еще прошло два дня, и все птенцы до одного выползли
из гнезда на жерди, но из-под крыши никто не решался вы-
лететь на волю.
Все эти суматошные дни учебы родители без устали ле-
тали за кормом. Я заметил, что рты раскрывают не все оди-
наково. Пищу получает тот, кто раскрывает рот шире и про-
сит убедительнее.
Язык:
«Живем богато: спичка на пятерых, а бутылка — на од-
ного».
« — Чья бумага лежит на столе?
— Не знаю.
— Ну, тогда скорее приласкай ее!» (Возьми себе.)
«Любовь — это разрывная пуля».
«Если бы нас так всегда кормили, мы бы приносили нем-
цев на штыках прямо в штаб».
«Я быстро протирал своим денежкам глазки».
«Максимальный режим огня».
«Провода и те плачут». (Мороз.)
«Надо засамоварить» (поставить самовар).
«А то я тебе дам — душа на полянку».
« — Болит живот!
— Такой же случай был у моей коровы».
«Люблю, когда вы пишете в газете, есть что покурить
солдатам!»
149
3 августа.
Замечательное выражение у командира танковой роты:
«Мои танки начали танцевать вальс».
Под деревней Болышево, чтобы выскочить из-под бом-
бежек авиации, командир со своими танками ворвался в рас-
положение немецкой пехоты. Немцы своих не стали бомбить.
Вот тут и начался «танковый вальс», то есть разворот на одной
гусенице. При этом растирается «в порошок» огневая точка
врага, раздавливается блиндаж.
Только что возвратился из 42-й бригады Коблик. При-
знался, что скучал без меня. Большая потребность у нас обо-
их многое обсудить, особенно после приказа № 227.
Губер мучит меня своей «золотой улыбкой».
Возвращаемся с Кобликом с прогулки. Через окно вижу
одну только спину Губера, но этого мне достаточно,— Губер
весь улыбается: об этом говорит — блестит — его лысинка
и потолстевшая от улыбки, так что ее видно даже сбоку,
щека.
Вчера разговор с Куницыным в сенях общего отдела. По
своей инициативе обещал отыскать помещение для моей ра-
боты. Губер при этом присутствовал и все слыхал о помехах
в моей работе. А вечером, в маленькой комнатке, где дейст-
вительно можно было бы поработать, сказал:
— Ну вот, товарищ Ковалевский, здесь мы с вами вполне
можем работать.
И... проговорил, промучил меня своею «золотой улыбкой»
весь вечер.
4 августа.
Ходил в Бор в Особый отдел армии, к капитану госбез-
опасности Дугину. Возвратился ночью. Туда и обратно — 24
километра. Но из-за грязи тропинка так виляет, что если ее
вытянуть в ниточку — получится много больше.
Манера говорить у Дугина медлительная, ультратихая.
Так говорит обычно человек, обладающий большой властью,
каждое слово которого ловят с полушепота. Я простоял ми-
150
нут десять, разговаривая с ним (а ведь обо мне ему звонил
Куницын), и он не предложил мне сесть. В конце концов я
спросил: «Разрешите сесть?»
Но тон беседы — совершенно доброжелательный — тоже,
конечно, результат звонка Куницына. Вызвал к себе началь-
ников двух отделов: общеармейского и отдела борьбы с вра-
жеской контрразведкой. Приказал подобрать мне документы,
оказывать полное содействие.
Веселый случай.
Разведка 49-й бригады провела в тыл к немцам девяно-
сто партизан. Выполнив эту основную задачу, разведка за-
хватила с собой, взяла в плен старосту из деревни и несколь-
ко девушек, местных жительниц.
Когда их привели в Бор, оказалось, что все они — наши
люди. Староста работает по заданию Особого отдела. Этим же
отделом были подосланы в деревню и девушки.
Староста, воспользовавшись пребыванием в Особом отде-
ле, дал ценные сведения и в этот же день был переброшен
обратно.
В отделении по борьбе с вражеской контрразведкой на сто-
ле вместо скатерти разостланы громадные листы из Библии.
Ожидая, пока закончит свои дела и будет со мною беседовать
начальник отделения, я сидел и читал: «А один человек слу-
чайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы
лат. И сказал он своему вознице: повороти назад и вывези
меня из войска, ибо я ранен.
Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на коле-
снице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны ли-
лась в колесницу.
И провозглашено было по всему стану при захождении
солнца: каждый иди в свой город, каждый в свою землю!»
«Ничему не удивляйся» (Гораций).
Язык:
«Если не будешь лежать смирно — будем ругаться до
хрипков» (говорит санитарка раненому).
«Будем поднимать культурный вид».
151
«Когда с едою некрасиво, а ходьба большая — уста-
ешь».
«Я тебе устрою бледную жизнь».
Основное, абсолютное мерило ценности человеческих по-
ступков: поступки не должны мешать прогрессивному раз-
витию общества.
6 августа.
Роман. Он признавал равноценность ощущений челове-
ческих существ, как бы ни была велика разница в эпохах, в
которую они жили. «Жизнь=жизни». Основное — ощуще-
ние того, что ты существуешь, дышишь, видишь небо,
землю, свои руки. А будет ли на земле костер и стреножен-
ный конь или же небоскреб и автомобиль — не это опре-
деляет ценность существования.
Человечество — растущее из глубоких недр космоса древо.
Из живого дерева мы не можем выпилить кусок, сказав, что
этот метр ствола «лишний» для жизни дерева. В стволе дере-
ва нет «лишних» участков. Весь ствол — от корней до кроны —
участвовал в создании дерева, все имело равноценное значе-
ние с точки зрения существования дерева.
У человечества тоже нельзя зачеркнуть или сбросить со
счета какой-нибудь кусок — эпоху. Каждая эпоха занимала
органическое место в стволе человечества: без предыдущей
не существовало бы следующей эпохи.
Думать иначе — значит высокомерно, пренебрежительно
смотреть на прошлое человечества и свою собственную эпоху
считать тоже неполноценною, на том основании, что челове-
честву предстоит более блестящее будущее.
Возражение: «По-твоему, эмбрион равен зрелому чело-
веку?»
В глубине души герой романа чувствовал уязвимость сво-
ей позиции.
Человек=человеку, как существо с равными потен-
циальными возможностями или, вернее, правами ощущать
жизнь.
В этом отношении человек, стоящий на низшей ступени
развития, равен высокоцивилизованному человеку.
152
Ну, а если углубиться дальше, вспять истории человече-
ства? Обезьяноподобные люди тоже равны человеку цивили-
зованному?
Тогда надо идти еще дальше назад. Ведь до обезьянопо-
добного предка человека было нечто уже совершенно не
похожее на человека, и так дойдешь до простейшего бел-
кового образования в прошлом на земном шаре. И все
это равноценно? Так можно дойти до космического
либерализма: «Все — благо!», «Да будет все благословен-
но! Всякая тварь земная—равноценна, ибо все — есть
жизнь!»
Когда герой доходит до этой мысли, он выводит для
удобства такой закон: счет начинается с того места, от той
исторической эпохи, когда человек отделил себя от всего
остального посредством самосознания и записал то ли знака-
ми, то ли рисунком, либо на камне, либо палочкой на земле:
«Я — человек!» Здесь и проходит грань, черта между живот-
ным и человеком. Когда мозговой аппарат человека так раз-
вился (мозговая зрелость человечества), что он осознал себя
и, помимо голых инстинктов, руководствовался умозаклю-
чением,— он отделил себя от животного, и с этого момента и
начинается история человечества. С этой эпохи человек=че-
ловеку (в вышеизложенном смысле), безотносительно к тому,
что один жил тысячу лет тому назад, другой — наш совре-
менник.
Думать иначе — это значило (для героя романа) признать
за будущим человеком право смотреть на тебя как на не-
полноценное существо. Герой романа боролся, полемизи-
ровал с будущим человеком за оценку своей эпохи и са-
мого себя. Ведь человек бесконечно отдаленного от нас
будущего будет отличаться от нас гораздо больше, чем мы
от первобытного человека. Будет, вероятно, даже иная
природа сознания у человека, а не только способы выра-
жения, проявления своей истинной сущности (а значит, и
принципиально иные жанры искусства и его внутренний
смысл).
В этом месте мысли героя перескакивали на другую те-
му. Нет человек достиг высшего предела в развитии моз-
гового аппарата; следовательно, психическая его сфера (как
структура) и объем самосознания выше не будут. Будет улуч-
шение быта, социальных форм, кривая прогресса поднимет-
ся выше. Но начнется старость человечества. Есть предел.
153
Смертен не только человек—смертно и человечество. Че-
ловек, человечество смертно как вид животного мира. Погиб-
ли гигантские животные,— их вид имел детство, юность и ста-
рость. Так и род людской — он угаснет, достигнув своего био-
логического предела.
(Еще неизвестно, почему погибли гиганты: биологически
исчерпали себя как вид или дело обстояло гораздо проще: из-
менились температурные условия на Земле — океане, начали
иссякать корма и т. д.?)
Тогда что же? До самосознания человечества — детство?
Затем до наших дней — зрелость? Затем — старость и гибель
рода человеческого, не способного больше бороться за суще-
ствование?
Или так.
Эволюция, прогресс так изменит социальную структуру
человечества, что и сознание человека будет неузнаваемо
иным, чем в наши дни, и человек превратится в существо,
так же мало похожее на нас, как мы на обезьяноподобное су-
щество?
Пусть хотя бы и так! Но и то существо не имеет права
смотреть на нас как на неполноценных и неравноправных.
Я равен тому существу прекрасного будущего в своем про-
тивостоянии мирозданию и в своей слитности с мироздани-
ем.
Вселенная — единая материя, единство материи — в бес-
конечном сочетании вариантов, но материя повсюду равно-
ценна.
«Дух» — особое состояние все той же единой материи.
Музыка — особое состояние материи, представляющее со-
бою единство производящего звукосочетания и воспринима-
ющего их. Музыка, зафиксированная в нотах,— это только
еще возможность, а не сама музыка. Если никто не воспроиз-
ведет, никто не проиграет вслух и никто не услышит этой
музыки — ее не существует.
Прогресс возникает не от сознательного стремления
к нему, а как результат необходимости прокормить большее
число людей, чем в предшествующую эпоху.
Было время, когда для того, чтобы прокормить какую-
нибудь племенную группу первобытных людей, достаточно
было рыболовного крючка, дубинки для охоты и собиратель-
ства на определенном участке земли диких плодов и мелких
154
ползающих съедобных тварей. С ростом числа людей уже не-
возможно было всех прокормить крючком, дубиной и соби-
рательством. Появилась более совершенная рыболовец-
кая снасть, лук и стрела, первые зачатки земледелия. Этот
прогресс шел от потребностей живота и был движим го-
лодом. И лишь постепенно, на более высокой стадии раз-
вития, начало вмешиваться в этот ход событий сознание
человека, тысячелетиями созревавшее в самом процессе
труда, затрачиваемого на устройство логова, охотницкой
снасти, собирания, а затем и возделывания плодов и зла-
ков.
Откуда это у героя романа? В детстве он жил бедно. У бо-
гатых людей были куклы, игры, развлечения — все блестя-
щее и дорогое. И что же, значит, этих людей надо признать
более полноценными? Ведь ощущение от нищей, тряпичной
куклы ребенка бедного, разве оно выполняет не ту же функ-
цию, что от роскошной куклы богатого? Разве кукла бедного
меньше дает радости и возможности для воображения, чем
кукла богатого? Разве «противостояние» мирозданию героя
романа в детстве, с его рекой, лодкой, лугами и рощами,—
неполноценное по сравнению с переживаниями богатых
детей?
Вот откуда все философские построения героя романа.
Если бы его обвинили: вы против прогресса и цивилиза-
ции, может быть и против машин, он бы ответил: «Нельзя
быть за цивилизацию, за прогресс или против него, как нель-
зя быть за существование земного шара или против него. Все
это — проявление жизни, естественный, неизбежный про-
цесс. Цивилизация — это вторичное явление, производное,
результат от стремления человечества прокормить все возра-
стающее количество людей. Постепенно в этот процесс пере-
строения человеческого муравейника включается все более
мощно духовная, интеллектуальная жизнь человека. Чем
больше будет населения земного шара, тем выше будет уро-
вень цивилизации.
Человек, человечество только должны направлять все
свои усилия на то, чтобы гармонически и наиболее пол-
но раскрыть все свои творческие возможности и как расте-
ние— расцвести во всей своей красоте и славе и принести
плод».
Все это я записал на кладбище. Ушел сюда сразу после
завтрака, чтобы никто не отвлек, не помешал. Многое из за-
155
писанного — отголосок нашей вчерашней прогулки с Кобли-
ком. Я опять вел спор с Кобликом от имени воображаемого
героя.
Жнут рожь! А где же лето?
В «Правде» передовая: «Подготовка к зиме в тылу». А где
же лето?
Со вторым фронтом происходит что-то не то... Это угне-
тающе действует на всех нас.
В Америке и в Англии прошла волна митингов — участ-
ники требуют скорейшего открытия второго фронта.
В США даже на заборах появляются такие надписи: «На-
носите удар на Западе!», «Не подводите русских!», «Прекра-
тите саботаж второго фронта!»
В Англии рабочие одного военного завода передали Чер-
чиллю заявление: «Рабочие завода хотят, чтобы второй
фронт в Европе был создан без промедления. Мы недовольны
тем, что правительство не предприняло наступления в 1942 г.
и допустило, чтобы Красная Армия несла всю тяжесть борь-
бы с врагом».
Все это говорит о том, что второй фронт дальше от нас,
чем мы надеялись.
Какой странный, не августовский, а прямо-таки зимний
закат. Мелкий дождик и мглистое-мглистое зимнее солнце
сквозь занавеску дождя.
Тяжело на душе. Тяжелые трагические для Родины дни.
Кому в самом деле нужна сейчас моя работа?!
7 августа. Бор.
В Особом отделе мне дали возможность побеседовать с
русским человеком, который будто бы убежал из немецкого
плена в Эстонии.
Трудно представить себе, что этот человек был команди-
ром Красной Армии, командовал батареей. Бледный, густо
заросший неопрятной бородой. Все ярко в его лице: яр-
кая, обморочная бледность, жгуче-черная борода, остро бле-
156
стящие, темные глаза. И все-таки чего-то не хватает, чтобы
можно было назвать его вполне человеком. Одиннадцать ме-
сяцев фашистского плена.
О плене рассказывает страшное.
В лагере ежедневно 90—100 смертных случаев от исто-
щения. Один из пленных, по приказу немцев руководивший
захоронением, вел нелегальную запись: за одиннадцать меся-
цев он схоронил более 20 тысяч советских пленных. Мрут от
голода.
Комендант лагеря — русский, зверь с резиновой дубин-
кой, из репрессированных кулаков. Когда он заболел, то побо-
ялся ложиться в госпиталь с русским персоналом, где рабо-
тали пленные врачи. Но немцы заставили его лечь. На другой
день он был уже мертвый.
Собеседник мой говорил очень тихо, робко, бесцветно, да-
же о таких вещах, как, по его словам, «радость при виде
красноармейцев», когда ему наконец удалось перейти линию
фронта.
Может ли он быть завербованным? Не знаю!
Внешний вид его вызывает естественное сочувствие (слов-
но полный тихих надежд душевнобольной, только что отпу-
щенный из психиатрической больницы), но, несмотря на это,
я не могу ему во всем верить. Мне нужно было бы еще долго
и много разговаривать с ним.
Взят он в плен немцами, когда спал. Рассказал об этом
очень правдоподобно, может быть, только слишком уже по-
дробно и последовательно.
8 августа. Шутовка.
Перешел в избу № 13. Ее заняли под ДК, но сейчас все
сотрудники в командировке. Наконец-то я один.
Разбираю материалы для работы и вижу в окно: по доро-
ге идет древний старик. Хозяйка говорит, что ему около ста
лет. Громадная палка в руке, как шест. Идет и качается, если
бы не шест — упал бы. Ватная распахнутая куртка, белые
холщовые портки. Голова ничем не покрыта: волосы седые с
чернью. Босой. Крупное мужественное лицо. Глаза закры-
ты — от дряхлости у него нет сил поднять веки. Время от
времени он пальцами приподнимает веко правого глаза, по-
том идет дальше. Ветер шевелит его легкие волосы.
157
Издали фигура кажется созданной для трагедии. Есть что-
то в нем от Короля Лира. Голова слепого пророка. А всего-на-
всего человеческая дряхлость и немочь.
Язык:
«Беседа из-под закурки».
«Вертит как цыган солнцем».
«В голосе начальника АХЧ слышен металл.— Вот имен-
но: это звон жести от консервной банки».
«Ломается, как свинья на веревке».
«Танки хоботом водят, посматривают».
9 августа.
Вышел на огород у нового жилища. Вечер. Свежеобтесан-
ные, ярко-оранжевые бревна моста через речку освещены
вечерним солнцем.
По ту сторону стоит мальчик. Издали он поразил меня
своим сходством с моим сыном. Все похоже: закатанные ру-
кава рубашонки, трусики, тюбетейка, оттопыренные ушонки
и привычка держать пальцы около рта. Вспомнил, как мы то
и дело останавливали его с М. М., чтобы он не теребил ниж-
нюю губу. Даже стоял этот мальчик в похожей позе: чуть
выставив вперед свой живот.
Я вышел на улицу, подошел ближе — иллюзия и очаро-
вание не исчезали. Я сел на бревне около моста и все время
смотрел на мальчика, не переставая думать о сыне.
Потом по берегу пробежала белая лошадь — мальчик по-
сторонился и стал плохо мне виден. Я ушел.
11 августа.
Стог сена, под ним Коблик и я, после обеда.
Луг, мох, серые камни, в тени сиреневые, голубовато-
фиолетовые. Солнце и облака. Тихо. Где-то — от нас кажет-
ся, что в тылу,— звуки боя.
Коблик. Мы слишком долго жили инстинктом и верой.
Нам не хватает самосознания. Тот, кто ответит, кто мы и что
мы, войдет навсегда в историю литературы. Пусть это бу-
дет на тридцати страницах или на ста — значения не имеет.
Он очень интересно говорил: провел линию от Эпикура
158
через Лейбница и Гегеля к марксизму, к вечному движению
вперед к свободе.
Эпикур близок Коблику интеллектуальной свободой. В Ев-
ропе человека интеллектуально освободил Лейбниц. Гнету-
щий, величественный, как средневековый монастырь, мир
Спинозы с его субстанцией — частицей — человеком вдруг
обернулся свободной самостоятельной монадой. Весь мир —
комплекс свободных, ощущающих, самостоятельных инди-
видуумов — монад.
Несмотря на все величие Спинозы, его философия гнетет
религиозной растворимостью, ничтожностью человека в
окружающем. (Для созерцательных характеров, мне ка-
жется, тут есть и прелесть: слияние с мирозданием, уничто-
жение одиночества (амортизация одиночества), молитвен-
ное сосуществование с вселенной, подобное слушанию му-
зыки.)
Как-то Гейне, прогуливаясь с Гегелем, сказал ему:
— Как это вы, диалектик, признающий великую роль си-
лы отрицания, могли прийти к такой формуле: «Все действи-
тельное — разумно»?
Гегель огляделся по сторонам и сказал:
— Но ведь есть и другая формула этого самого: «Все, что
разумно, действительно».
Энгельс по этому поводу сказал: «Был единственный че-
ловек в 30-х годах нашего века, кто за туманными и аб-
страктными формулами гегельяшцины смог раскрыть ее дей-
ствительно революционное содержание. Правда, это был
Г. Гейне».
— Где об этом можно прочесть? — спросил я у Коб-
лика.
— У Гейне есть работа: «К истории религии и философии
в Германии». Кажется, там. А у Энгельса могу сказать вам
совершенно точно: на второй странице его книги «Людвиг
Фейербах...».
Рассказав мне об этом, Коблик неожиданно прочитал сти-
хи Гейне:
Бей в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку под стук.
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайших наук.
Спросил Коблика:
— Кто из древних философов вам ближе?
Он долго думал и сказал:
159
— Мало что от них дошло. Но все вообще античное —
возьмите трагедии — уж очень чуждо нам чем-то языческим,
варварским. Над всем — Рок. Ближе других мне Сократ и
Эпикур. Сократ впервые занялся изучением самого процесса
мышления. Его можно считать отцом европейского интел-
лектуализма. Аристотель мне кажется скованным чело-
веком. Он раб идей, а не властелин их. Правда, он проде-
лал это с величием божества, но все-таки в нем не было
свободы.
Таков же и Гегель.
Сократ был человечнее их. Мне близки те философы,
мышление которых как-то связано с человеком, с вопросами
этики.
Аристотель и Гегель стоят над всем этим.
Вот почему мне близок Эпикур, марксизм.
Смерть философа Бергсона.
В Париже немцы объявили о регистрации евреев. Берг-
сон стал в конце длиннейшей очереди. Ветер, дождь...
Подошел к очереди немец, лейтенант, и сказал:
«Господин Бергсон, идите домой — вас это не касается».
Бергсон ответил:
«Я еврей!» — и продолжал стоять.
Он простудился, слег в постель и через несколько дней
умер.
Коблик. На наш мозг слишком многое давит. Мы скова-
ны. Человек грядущего будет свободен, его сознание будет
раскрепощено от условных понятий. Сколько у нас расплыв-
чатых формулировок! Фашизм паразитирует на расплывча-
тости философии и морали западноевропейских стран. Сколь-
ко работы социологам! Им надо бы заняться модернизацией
всего мира понятий для нашей эпохи.
Следовало бы написать книгу — историю познания, исто-
рию возникновения тех или иных понятий. Известно, напри-
мер, что в Милетской школе еще не существовало понятия
причинности.
Если бы удалось изучить историю самосознания, для нас
стала бы ясной сама структура нашего самосознания. Мы
освободились бы от очень многого, и сознание стало бы сво-
бодным. Мы сняли бы с нашего сознания условности, нас ско-
вывающие,— привески от старого мира.
160
Во времена страшных бомбежек, когда немецкая авиация
господствовала в воздухе количеством и качеством, наши
летчики дрались героически.
23 марта четыре наших самолета (один — ЯК-1 и три
ЛАГ-3) встретили сорок один немецкий бомбардировщик
Ю-88 под прикрытием двух «мессершмиттов-100». ЯК-1 бро-
сился на двух «мессеров», отвлек их на себя и позволил
остальным истребителям схватиться с немцами,— двух «юн-
керсов» они сбили.
Немцы называют У-2 «кофейная мельница» (звук работа-
ющего мотора). У нас у самих много прозвищ для этого мир-
ного, симпатичного, почти домашнего существа. Горькая,
дружелюбная ирония: «народный мститель». Просто ирония:
«огородник» (низко летает над огородами, избегая встреч с
врагом), «примус» (по звуку), «балалайка» (много на нем фа-
неры, из которой делаются балалайки).
Немцы называют его и «Зеленым Генрихом» (герой рома-
на Келлермана).
«Народный мститель» вполне оправдывает себя как ноч-
ной бомбардировщик. Он берет две бомбы по 100 килограм-
мов каждая. Взлетная площадка — близко от рубежа, и это
позволяет бомбить ему за одну ночь раз десять — пят-
надцать.
Он не дает спать немцам. Был случай, когда он так их
измотал, что они даже оставили деревню Белебеиху и закопа-
лись, замаскировались в лесу.
Прозвища для техники Костикова PC (реактивные снаря-
ды— особый минометный дивизион): «Мария Ивановна Ко-
стикова», «Катюша», «Раиса» (PC), «Сыграть на гитаре»
(залп PC).
Прозвища немцев для PC: «орган Сталина», «черная
смерть» (по виду выжженного места, где разорвались ракет-
ные снаряды), «ураган», «походная булочная» (по мирному
внешнему виду, когда установка закрыта брезентом).
12 августа.
В турецком журнале помещена карикатура: Черчилль
произносит речь с трибуны. Его слушают США и СССР. Он
говорит: «Что надо для победы? Деньги, солдаты и терпение.
6 в. Ковалевский
161
Деньги есть у США, солдаты — у СССР, а терпение — у
меня».
Вышли с Кобликом подышать свежим воздухом. К само-
му лицу подлетела летучая мышь.
Коблик удивился: слепая летучая мышь? Узнав, что она
зрячая, «поправился»: «Да, ведь это сова слепая!» Получив
и здесь отпор, удивился: «Но почему же сову называют
слепой? Кто же из птиц тогда слепой? Да, вспомнил —
крот!»
Конечно, он тут же и сам рассмеялся, сообразив, что
крот — не птица. В чем здесь дело? Может быть здесь боль-
ше рассеянности, чем невежества?
Все эти чудачества очень подходят для образа одного из
героев моего романа, который все яснее складывается в моем
воображении Основою, конечно, будет Коблик.
Когда мы с Кобликом размышляли о том, будет ли человек
далекого будущего не похож на нас, как мы на обезьяну,
Коблик начал говорить о свободе сознания будущего челове-
ка и сказал:
— Вы представляете себе иронию будущего человека по
нашему адресу?
Задетый, я ответил:
— Разве мы своим желанием понять будущего человека,
разве в этом мы не мудрее его, с его глупой иронией?!
Коблик расхохотался.
Вечером смотрели фильм «Ленинград в борьбе». Сделано
несравненно лучше, чем «Разгром под Москвой», но можно
было бы сократить — картина стала бы сильнее.
Для меня эта картина — какая-то перекличка с повестью
Гроссмана: больше правды, чем раньше нам показывали.
Симптоматично! Через какие муки надо было пройти народу,
чтобы зритель и читатель начали наконец получать — хоть
частично — свою долю.
Все мы имеем талоны на обед. Садясь за стол, мы каждый
раз отрываем талон. Карточка на которой напечатаны тало-
162
ны за весь месяц, становится все меньше и меньше. Вот я
уже оторвал с края талоны до 12, 13, 14... Съел вместе с обе-
дом эти дни. В этом есть что-то похожее на то, как гусеница
объедает лист на дереве.
Время отщипывает у нас день за днем... Жизнь прохо-
дит...
В древности науки не были дифференцированы и физика
сливалась с этикой.
В отличие от Демокрита, Эпикур признавал за атомом
способность отклоняться от прямой и делать вихревые дви-
жения. В этом пункте Эпикур восставал против рока и неот-
вратимости, против фатализма Демокрита. Его физика, пере-
ходя в этику, признавала у человека свободную волю.
У него такой вид, словно он только что проглотил гвоздь
и ждет со страхом — что же теперь будет?
Коблик сорвал василек и спросил меня: «Вы не можете
сказать, как называется этот цветок?» У него были широко
открытые глаза. Мы часто проходили с ним мимо васильков, но
вот только сегодня до него наконец дошло, как прекрасен
этот цветок.
Все время кажется, что кто-то хочет войти, просится в из-
бу. Это старик хозяин избы целый день курит и то и дело
выколачивает свою трубку то об стол, то о подоконник или
же о притолоку двери.
Действия «катюши»: в Спас-Помозкине от одного залпа
загорелось четырнадцать домов.
За два залпа батарея выпускает 378 ракет.
Здюмаев ходил по отбитой у немцев поляне, по которой
«играла» наша «катюша». По его словам, получился «хоро-
ший крематорий»: множество обгоревших «остей — каски и
кости.
Как мало взрослых людей, достигающих зрелости. Лы-
сина, седина, выпавшие зубы — а человек все еще не
6* 163
взрослый, ребенок по своим мыслям, обидам и надеждам.
Самый дефицитный возраст — юность, то есть острая
жажда всего живого, наблюдательность и творческая актив-
ность.
19 августа.
«Генерал-солдат» Поростаев ранен в обе ноги осколками
мин. Его увезли на самолете в Москву. Это — лучший гене-
рал в нашей Ударной.
Несколько дней идет бой за коридор, связывающий Ста-
рую Руссу с Демянским котлом. Мало успехов. Все еще
остается перегрызть пять километров. Подступы сильно за-
минированы.
20 августа.
У нас в отделении все переболели гриппом. Дошла оче-
редь и до меня.
Сижу на вечернем лугу под стогом сена и думаю: а не
случится ли так, что я с тоскою и с благодарностью буду
вспоминать это время? Я непрерывно наблюдаю природу, без
которой не могу жить. Пусть порою «контактировал» только
с каким-нибудь стеблем, только его ощущал или ветку с дву-
мя, тремя листочками,— остальное было мертво для меня,
захваченного не осмысленными еще переживаниями войны,
как потоком. И все-таки я постоянно бывал под открытым
небом, и это уже счастье.
Кроме того, я жил все эти месяцы напряженной интеллек-
туальной жизнью. Сколько событий, наблюдений, надежд и
сомнений! Тоска о семье — это тоже добавок к полноте пере-
живаний! (Что-то путается у меня в голове от гриппа.)
Прочел у Есенина:
Ягненочек кудрявый месяц
Гуляет в голубой траве.
И вспомнил страшную весеннюю дорогу в Онуфриево.
Изуродованный лес и неровный кусок луны, словно оторван-
ный.при бомбежке.
164
Англичане что-то делают в районе Дьеппа. У нас сре-
ди агитаторов сразу же поднялось возбуждение.
На войне писателю нужно быть таким же мужественным
и честным, как за письменным столом.
Язык: «Дайте стул, чтобы черт не сдул».
Из Шутовки выселили одну женщину. Уезжая, она зако-
лола свинью. Мясо раскупили военные и выменяли колхоз-
ники. Сейчас перед столом, за которым я работаю, идет взве-
шивание последних кусков. Чтобы удобнее было цеп-
лять их к безмену, мясо завернули в бюстгальтер хозяйской
дочки.
Кого ни спросишь из местных жителей: «Как называется
цветок?», в громадном большинстве не знают. И это всюду,
где бы я ни бывал: Кавказ, Крым, под Москвой, Север — всю-
ду большинство не знает, как называются самые распростра-
ненные полевые и луговые цветы. Остается удивляться —
откуда же в специальных справочниках появилось такое
громадное количество народных чудесных названий для
цветов?
27 августа.
Крупная победа на Калининском фронте! Сегодня утром
наша газета выпустила листовку:
«Ударом наших войск в первые же дни наступления обо-
рона противника была прорвана на фронте протяжением
115 километров».
Наборщики, работавшие всю ночь, сказали: «Мы готовы
каждую ночь набирать такие новости».
Как велика жажда победы! Какие тяжелые дни: бои уже
идут под Сталинградом.
Меня огорчило, что вся эта история началась под Ржевом
еще «дней пятнадцать тому назад», как сказано в сообщении
Совинформбюро. Значит, продвижение уже замерло и,
главное, оно не оказало решающего влияния на ход боев на
юге.
165
Теперь понятно, почему на нашем небе исчезла в послед-
ние дни немецкая авиация, лишь изредка появляются «ко-
стыль» и «рама».
У нас всегда говорили: «Если бы не было немецкой авиа-
ции, совсем другое было бы дело!» Сейчас ее нет, но ни-
чего не изменилось. Это происходит оттого, что мы бьемся
малыми силами, в лесисто-болотистой местности, над пе-
рекусыванием немецкого коридорчика, который хорошо
укреплен.
Командующий армией присвоил Федору Чистякову зва-
ние младшего лейтенанта. Он назначен командиром пулемет-
ного взвода. Член Военного Совета вручил Феде орден
Ленина.
На днях Федя едет в Москву, будет выступать на фабри-
ках и заводах. Я ни разу не слышал Федю как оратора. Саша
Королев говорит, что получается у него здорово: «Становится
на цыпочки, как петушок, а голос у него звенит, как коло-
кольчик».
Коблик болен — что-то серьезное. Сижу около него на
краю кровати. Вспоминаем, что дала человечеству Германия
в художественной прозе. Перебираем ее по косточкам. По-
стоянная мысль Коблика: Гитлер закономерен для развития
Германии. Шиллер с его исступленной романтикой — два ша-
га до студенческих пирушек и фашизма. Сентиментализм
и жестокость. Гёте — изумительное исключение. Гейне — не
немец. Кант — чудовищное уродство Титанический мы-
слитель. Уродство, доведенное до совершенства, тоже мо-
жет иметь внутреннюю красоту.
Я пощадил Коблика и не стал с ним спорить. Его знобило,
глаза лихорадочно блестели, и ярко пылали щеки.
28 августа.
Сегодня Коблик меня упрекнул:
— Никогда не вызывайте меня на серьезный разговор,
если у меня высокая температура. В злобе на фашизм вчера
я наговорил вам какой-то чепухи. Кант поднялся на величай-
шую вершину человеческого духа и интеллектуальной сво-
боды.
166
Что же будет дальше? Какая сила остановит немцев на
юге и спасет Баку?
Как снабжаются армии, отходящие к Грозному?
Баку — обреченный город, если не вмешается какая-то
новая сила. Что-то должно произойти на днях, не позже.
Удар должен быть нанесен со стороны Сталинграда (здесь
мы еще имеем возможность подтягивать собственные силы)
и со стороны Баку.
Если в Баку немцев ждет удача, тогда следующий удар —
отрезать нас от союзников с севера: Ленинград — Мурманск.
Будем верить, что все это бред, невозможно и что на юге
нам удастся все повернуть в нашу пользу.
Из писем, взятых у пленных или изъятых у убитых.
Крестьянка Анна Геллер пишет мужу: «Когда нужно бы-
ло убирать хлеб, русская повесилась. Это не народ, а какая-
то пакость. Я ей дала есть и дала даже передник. Сначала
она кричала, что не хочет жить в сарае с Карлом; потом она
стащила сухари тети Мины. Когда я ее наказала, она повеси-
лась в сарае. У меня и так нервы не в порядке, а здесь еще
такое зрелище. Можешь меня пожалеть...»
Это пишет не помещица, нет,— крестьянка!
А вот что говорит сегодняшняя передовая «Красной
звезды»:
«Главное сейчас состоит в том, чтобы заставить немцев
истечь кровью, вконец подточить их силы. Потери врага
огромны. Нужно сделать их еще большими.
Только истребление германских войск будет концом гит-
леровской Германии. Только физическое уничтожение не-
приятельских солдат и офицеров во все увеличивающемся
объеме даст нам возможность выиграть войну».
Великолепно пишет по этому поводу Бернард Шоу:
«Не думайте о варварстве. Всякая война есть вершина
варварства, и хныкать по этому поводу — ребячество. Да про-
стят нам лучше все то страшное, что мы вынуждены причи-
нить нашим немецким товарищам, прежде чем их страшный
фюрер будет развенчан в их глазах и уничтожен. Когда две
идеи сталкиваются я битве, миллионы жизней не идут в
счет. Гитлер бросил перчатку как поборник черной идеи,
и Россия поднимает эту перчатку как поборник другой,
167
несравненно более хорошей идеи... Помните, что наша ци-
вилизация стоит сейчас перед поворотным пунктом, кото-
рый ей никогда еще не удавалось преодолеть, и на этот
раз именно Россия должна повести всех нас вперед или
погибнуть».
Вступление к книге Яна «Чингис-хан» (подражание во-
сточным авторам домонгольского периода):
«...Человек же, испытавший потрясающие события и
умолчавший о них, похож на скупого, который, завер-
нув плащом драгоценности, закапывает их в пустынном
месте, когда холодная рука смерти уже касается его го-
ловы...»
4 сентября.
Посреди Шутовки стоит дуб, еще могучий, но уже уми-
рающий,— должно быть, корни давно уже добрались до тор-
фяной жижи и отгнивают. Вся его середина — вдоль ствола—
еще в силах родить свежие, густые пучки сочной листвы, но
вершина — голая: сухие ветки торчат в небо, как обглодан-
ные кости, засохли и все толстые боковые сучья. По утрам
на голые черные ветви этого патриарха слетаются ласточки
со всех крыш, чердаков и сараев Шутовки. Синее осеннее не-
бо, черные сучья и белые грудки ласточек. Старое дерево по-
ет и щебечет. Это у ласточек — вечевой дуб. Перед великим
походом в Египет здесь собираются все семьи, все роды, все
возрасты и та молодежь, что на моих глазах училась на чер-
даке вылетать из гнезда.
А в поле, между сложенных в скирды снопов овса, ходят
парами голуби и выклевывают в стерне осыпавшиеся при
косьбе зерна.
б сентября.
Наш участок фронта очень своеобразный. На левом флан-
ге нет прочной связи с соседом, остаются большие промежут-
ки, где нет ни немцев, ни наших. А на перешейке идет суро-
вая, землекопная, позиционная работа: 1212-й полк, продви-
нувшись на двадцать пять метров, считает это серьезным до-
стижением.
168
Немцы называют свой коридор «насосом»: по ночам они
продолжают перекачивать из Старой Руссы в Демянск бое-
припасы и продовольствие. Немцы закопались среди кустар-
ника и мелкого леса. Там, где мешает вода, сложили себе
гнезда из дерна на самой поверхности. Кое-где понастроили
блиндажей в шесть — восемь накатов. Все это не так-то легко
обнаружить. Мы несем здесь громадные потери.
Артиллеристы не видят целей, а бить по площадям — не
хватает снарядов. Комиссар батареи капитан Кунин жалует-
ся, что сама по себе верная тенденция больше стрелять пря-
мой наводкой на перешейке опошляется. На перешейке нель-
зя бить прямою, так как цель не видна. Приходится приме-
нять тактику, как в Финляндии. Блокировочные группы пол-
зут к блиндажам. Но это требует много времени и, главное,
стоит больших жертв.
Если немцы смогут освободить свою авиацию с других
участков, на маленькой площадке около «насоса» может про-
изойти трагедия. Для этого много самолетов не требуется.
Но пока что мы выполняем свою работу — отвлекаем на
себя силы. Немцы так и не смогли снять отсюда три дивизии,
которые они выделили для отправки на Западный фронт или
на юг.
Время уходит, словно из тебя вытекает кровь, и ты ничего
не успеваешь сделать.
7 сентября.
Сегодня дети из Шутовки первый раз идут в школу. В чем
же они несут свои книжки? В сумках от противогазов и в
сумках для ручных гранат.
Язык:
«Смеется тот, кто хихикает последний!» — сказал, уходя
со сцены и хлопнув дверью, подленький человек.
«Я бы тебе морду набил, да только Военный Совет ру-
гается».
«В тылу риск — эпизод, а на фронте — система жизни».
Из писем, найденных после боя у немцев.
Командир 1-й роты, 70-го полка, 5-й дивизии лейтенант
Вальде пишет:
169
«Дорогая Ванда!
Продолжаю вчерашнее письмо. Поблизости был сбит рус-
ский бомбардировщик. Исключительные переживания! Он
был подожжен первым выстрелом нашей зенитки, которая
стояла невдалеке от нашей палатки. Как большой светлый
факел, он летел по своему направлению на четырехкиломет-
ровой высоте, подобно комете. Потом от фюзеляжа отлома-
лось крыло. Обе части продолжали гореть, и фюзеляж, оку-
танный дымом, упал на землю. Он упал приблизительно в
700 метрах от нашего лагеря на свои собственные бомбы,
которые взорвались вследствие падения. Он буквально раз-
летелся на куски.
Нельзя описать того, что было в действительности. Крыло
летело дальше по ветру и медленно опускалось на поверх-
ность. Пока оно еще горело в воздухе, мы внезапно увидели
тройную светящуюся точку, которая нам снизу казалась
большой светлой звездой. Это был парашют, на котором ви-
сел один из пилотов. Мы предполагали, что он также горит,
и действительно, пламя делалось все больше, так что скоро
можно было все ясно видеть. Шелковые шнуры скоро перего-
рели, и горящий пилот с большой скоростью упал, умирая
дважды, а парашют догорел в воздухе.
Четверть часа продолжалось это замечательное зрелище.
Оно показало, что за жестокое животное человек. Из нас не
только никто не захотел оказать помощь жертве сбитого са-
молета, но всюду были слышны радостные восклицания и
аплодисменты».
9 сентября.
Хозяину домика, где я работаю, молодая красивая жен-
щина принесла большую пружину, на которой в деревне ча-
сто подвешивают детскую колыбель. Она сказала:
— Нате, возьмите — девочка ночью умерла!
Хозяин, беря из ее рук пружину, спросил:
— Так... так... Значит, откачалась, хватит?
Я никогда не отучусь удивляться деревенскому спокой-
ствию, с которым эти люди встречают смерть. На краси-
вом лице женщины было такое выражение, словно она
все еще думает и никак не может решить: надо ей горе-
вать или нет?
170
11 сентября.
Слышу голос хозяина:
— Он при мне сдох. Я не пошел — сдержал свое слово.
Когда он сломал мою гармонь, я сказал: «Теперь сроду к тебе
не приду. Будешь сдыхать — не приду прощаться!»
Здесь, на фронте, существует два рода смерти: граждан-
ская и боевая. Гражданская — от болезней и дряхлости — за-
нимает в сознании людей свое обычное место. На нее про-
должают смотреть довоенными глазами.
Не перестаю удивляться деревенской простоте взглядов
на исход человеческого существования. Эта простота всегда
мне кажется обидной, несправедливой по отношению к умер-
шему.
Хотя все, в сущности, кажется понятным. Если невысокий
уровень общего развития определяет уровень взглядов на
еду, на труд, на музыку, на искусство вообще, то «заподлицо»
с этим уровнем должно быть отношение и к любви и к
смерти.
Достойное отношение к смерти человека связано с куль-
турой уважения к человеку.
Хозяйка лежит на печке, хозяин — на деревянной семей-
ной кровати. Разговаривают. Присоединяется их двадцати-
летняя дородная, крупная, красивая дочь. Все трое возмуще-
ны одним и тем же: почему «не сдыхает» дед Семен? Они
боятся, что дед проживет так же долго, как жил его отец —
прадед, дотянувший до 105 лет.
Опять вспоминаю строку Эренбурга из его статьи, напе-
чатанной в «Красной звезде». Перечисляя все святое, что мы
защищаем от врага, Эренбург пишет: «Мы защищаем наши
могилы».
Здесь, около Шутовки, было чудесное, прямо-таки музей-
ное старообрядческое кладбище со сказочно красивыми «го-
лубцами» — часовенками на столбиках, похожими на голу-
бятни, и восьмиконечными деревянными крестами. Оно было
обнесено оградой из цельных бревен, без единого гвоздя, и их
концы соединялись, как переплетенные пальцы рук. Над этим
«вечным покоем» возвышались древние, выросшие на сво-
боде, могучие сосны, которые пустили в землю свои корни
еще до Петра Первого.
171
Вообще отношение к могилам, помимо любви и уважения
к навеки ушедшим от нас близким людям, отражает нашу
жалость к самим себе, которым тоже предстоит лечь рядом
с ними.
Но вот пришла сюда война, и рядом с кладбищем посели-
лись саперы. Большинство сосен срезано двуручной пилой,
кресты и «голубцы» сожжены, могильные холмики растоп-
таны.
Я понимаю жестокую необходимость, когда на кладбище
надо замаскировать танки (Красное — Ефремово), когда ли-
ния обороны проходит среди крестов и поневоле приходится
тревожить старые человеческие кости. Но зачем разрушать
кладбище в двадцати километрах от боевого рубежа, когда
лес рядом?
Вчера был на армейском слете разведчиков в Жглове.
Слет проводили член Военного Совета Тележников и началь-
ник Политотдела Куницын.
Разведчик Андреев (130-я дивизия) — готовый типаж для
сцены. В армию попал прямо из тюрьмы — сидел за кражу.
Во время его выступления почти не смолкал хохот. Жаль,
что я не владею стенографией.
Из лагеря он освобожден только два месяца назад и уже
получил медаль «За боевые заслуги». Когда его привезли на
фронт, ничего не умел: даже ни разу в жизни не выстрелил.
Азартно любит разведку.
Андреев остроумно издевался над «слепыми» и «глухими»
разведчиками, у которых нет способностей, нужных в раз-
ведке. Досталось и «кашлюнам». О кашле, как признаке тру-
сости, говорили и Тележников и Куницын. Обычно кашляют,
когда так тихо и страшно, что хочется предупредить о себе
издали, чтобы не наткнуться на врага внезапно. Труса начи-
нает душить непреодолимый кашель.
Чувствуя явный успех своего выступления, видавший ви-
ды Андреев повел дальше хитрую, тонкую игру, о которой
не сразу можно было догадаться.
Андреев как бы жалуется слету, что комиссар запретил
ему обыскивать ранцы убитых немцев. Этим он вызывает
смех у разведчиков. Смех усиливается, когда Андреев гово-
рит, что он все-таки обошел комиссара и снял с офицера сум-
ку, в которой оказались ценные документы. Он думал снять
172
с трупа и парабеллум, но вспомнил, что за скрытие трофеев
судят и что с него хватит — он уже сидел в лагере, и не взял
парабеллума.
Тележников в этом месте его прервал и попросил присут-
ствующих на слете разведчиков, чтобы они передали
своим политрукам, что член Военного Совета Тележни-
ков разрешает носить трофейное оружие тем разведчи-
кам, которые храбро сражаются и сами себе добыли оружие
в бою.
У Андреева заблестели глаза. Полуобернувшись к Тележ-
никову, он сказал:
— Я полагал, что так вы и поступите!
Снова раздался смех — так забавно сочетались в его об-
ращении к Тележникову сыновняя почтительность и лукавое
панибратство. Трудно сказать, какая здесь доля нагловатого
расчета, а что от того, что Андреев всего два месяца в армии
и не притерся к ее дисциплине.
Андреев рассказал, что обстановка заставила его командо-
вать взводом, несмотря на то что он не имеет никаких наши-
вок на петлицах.
Тележников громко спросил:
— Кто здесь присутствует из роты разведки сто тридца-
той дивизии?
Поднялось несколько человек.
— Передайте своему командованию, что я присваиваю
Андрееву звание сержанта.
— Сержант — это мало! — говорит Андреев.
Следует новый взрыв смеха.
Тележников, не смутившись, отвечает:
— Будешь хорошо сражаться — получишь больше.
Казалось, что Андреев начинает переигрывать и сейчас
сорвется: все висит на волоске, он ходит по лезвию ножа, вот-
вот создастся недопустимо неловкое положение, и он прова-
лится... Но нет, этот симпатичный пройдоха опять все сводил
к взрыву смеха.
В конце концов выяснилось, что у него есть и парабеллум,
только он побоялся, что на слете его отберут, и не надел.
И получилось, что этот «простак» добился всего, что хотел:
право носить трофейное оружие и нашивки в петлицы.
У нас три дня «клюквенных» — нет продуктов. Ходили
в болотистый лес, собирали на кочках клюкву.
173
Несколько коротеньких записей о том, что я услышал
на слете.
Тактика. Немец колол около блиндажа дрова. Разведчик
Кириллов подкрадывался к нему, как к птице: птица поет —
охотник движется вперед, птица умолкает — охотник зами-
рает на месте. Когда немец ударял по полену, Кириллов де-
лал шаг вперед. Так он и взял немца в плен.
Когда взлетела светящаяся ракета, трое разведчиков
мгновенно прижимались друг к другу — в кучку, чтобы по-
ходить на кочку. Погаснет ракета — ползут дальше, пока
не вспыхнет следующая.
Разведчики 121-й бригады залегли на краю деревни. Зада-
ние: захватить языка.
Дождались — идут немцы. Но в это время из крайней
избы вышла женщина и закричала немцам: «Там рус,
рус!»
Разведчики уничтожили несколько немцев, но задание
выполнено не было.
Начальник Политуправления фронта спросил:
— Что же вы сделали с этой женщиной?
Тележников со скрытой иронией сказал:
— Ведь они же добрые русские люди.
Разведчик, который рассказывал об этом случае, смущен-
но молчал.
— Ну так что же вы сделали? — опять спросил начальник
Политуправления.
Разведчик тихо сказал:
— У нее оказались маленькие дети.
Выступая в конце слета, Тележников клеймил такую доб-
роту.
— Настоящий патриот должен был ее застрелить! — ска-
зал он. Но у него, должно быть, что-то дрогнуло — он тут
же добавил:— Я не говорю, что вы должны были обязатель-
но ее убить. Вы могли хотя бы привести ее сюда. Она бы дала
ценные сведения.
Борьба за повышение производительности труда: «Дове-
сти переливание крови до 6 литров в сутки вместо одного
литра».
174
Язык:
Снайпер, довольный работой: «Убил — со смехом идешь
домой».
«Попал под хождение — убил двоих; хорошо — немцев
поменьшило».
Политрук заметил, что знаменитый снайпер Вознов, уни-
чтоживший 129 немцев, когда увидит свою очередную жерт-
ву— немца, сначала издали перекрестит его, а потом сам
перекрестится.
Атака. Два казаха подбадривают один другого:
— Смелее, смелее вперед! Ближе к аллаху!
Ветер такой сильный, что кажется — звезды мигают от
его порывов.
Язык:
«Жрать хочется до потери сознания».
«Она стремительна в наступлении и слаба в обороне»
(о медсестре).
Патриотизм складывается из личных страстей и привя-
занностей. Без этого он — абстрактная пустышка.
Командировка в 130-ю стрелковую дивизию
Из 130-й дивизии мне передали письмо.
«Товарищи! Прошу вас, сообщите мне, как погибла в бою
с фашистским зверьем моя единственная доченька, снайпер,
старший сержант Наташа Ковшова вместе со своей подругой
Машей Поливановой? Не думайте, что у меня не хватит му-
жества узнать правду. Если его хватило у матери Зои Кос-
модемьянской, то хватит и у меня.
Мой сокол! Мой любимый маленький друг! Мой солдате-
ночек драгоценный! Я хочу знать о последнем годе ее жизни
и борьбы так же подробно, как о всех остальных, которые
мы прожили с ней неразлучно. Мы были друзьями, любящи-
ми друг друга, и мы расстались. Ната моя пошла на фронт,
так же как я сама пошла в 1918 году, когда мне не было еще
и 16 лет. Я — бывший красногвардеец.
175
Напишите о ней все, что вы знаете. Напишите также обя-
зательно и о Машеньке Поливановой — вернейшем друге
моей Наты, девушке, сражавшейся рядом с Натой в течение
почти года и погибшей рядом с ней. В сердце своем я не раз-
деляю их.
Н. Араловец.
Гор. Бугуруслан Чкаловской области. Горпочтамт. До вос-
требования».
Я показал письмо Коблику. С глазами, полными слез, он
сказал:
— Идемте в сто тридцатую дивизию! Я уже слыхал о ней.
Там очень много девушек из московских вузов.
И вот мы уже шагаем по дороге...
Идти пришлось тридцать километров. Философ выбился
из сил и зверски растер ногу — он пошел в одних носках, без
портянок, и в огромных сапогах не своего размера. На полпу-
ти я посоветовал ему разорвать полотенце и превратить в
портянки. Полотенце Коблик всегда носит в полевой сумке,
но умывается очень редко, а в командировке — как вскоре
выяснилось — и вовсе не умывается, если я ему не на-
помню.
Коблик сел, разорвал полотенце, но обернул только рас-
тертую ногу, а вторую половину полотенца засунул в сумку
обратно.
Как раз в ту минуту пошел дождь. Коблик посмотрел на
небо и, поднимаясь с камня, сказал совершенно серьезно:
— Мы выбрали неудачное место. Давайте выйдем из-под
облака — оно небольшое.
Ночевали мы уже в 130-й дивизии. Утром спустились к
Робье — я умылся, а Коблик обмыл растертую ногу. Обе по-
ловинки полотенца оказались такими грязными, что Коблик
их перепутал и вытерся портянкой. Когда я указал ему на
это, он мне не поверил, но, увидев на портянке следы крови
от растертой ноги, он посмотрел на меня с выражением ми-
стического ужаса и еще раз умылся.
У самой кромки Робьи сидели две девушки в гимна-
стерках и пилотках. Одна из них читала вслух Джека
Лондона.
Удивительно!
Совсем близко от них то и дело ахает, бьет волною в уши,
а по земле отдает и в ноги батарея. До рубежа —• рукой по-
176
дать. Чуть подальше рвутся вражеские мины. Зеленый лу-
жок обезображен следами разрывов, закидан выброшенным
из воронок торфом. Кругом девушек не прекращающееся ни
на один день напряжение боевых будней — романтика, тра-
гедия, любовь и смерть, все. А вот их, девушек в пилотках,
тянет к искусству. Мир, бытие надо взять в кадр, тогда оно
становится понятным. Цветок растет на лугу и в поле, но
этого мало — надо его срезать и поставить на стол в стакан
с водой,— здесь он становится ближе и понятней.
Первую ночь мы провели в сооруженной саперами из то-
щих еловых жердей крошечной избушке команды духового
оркестра. Нас приютил Кнушевицкий. В Москве он дирижи-
ровал первым в СССР джаз-оркестром.
Спать было не на чем. Хозяева сняли для нас дверь с пе-
тель и утвердили ее на двух скамейках. Ради тепла дверной
проем завесили плащ-палаткой. Но дежурный музыкант так
усердно накаливал печурку, что мне пришлось поджимать
ноги — до того их жгло.
У Коблика сон куда более стойкий, чем у меня. Спать бы-
ло не холодно, но он все время старался привалиться ко мне
плотнее. Чтобы не упасть на землю, я вставал и, обойдя во-
круг двери, ложился с противоположной стороны. Но Коблик
тоже переворачивался и теперь теснил меня к другому
краю. Мне пришлось несколько раз за ночь переменить
место.
От жесткого спанья на голых досках утром ломило все
тело. Но стоило появиться около избушки жизнерадостному
старику, батальонному комиссару Анцеловичу, и от моей
усталости не осталось и следа.
Анцелович — это экспансивный, необыкновенно живой че-
ловек, старый революционер с большим тюремным и под-
польным стажем. Он был пучеглаз, краснолиц, вспыльчив и
отходчив. В дивизии он работал заместителем начальника
Политотдела.
Увидев духовые инструменты, поставленные раструбами
на голую землю, Анцелович набросился как лев на старшину
оркестра. Лицо его налилось кровью, и резче выступила се-
дина коротко остриженной круглой головы.
Старшина, стойко приняв на себя первый удар, остался
спокойным и спросил:
177
— Товарищ батальонный комиссар, разрешите обра-
титься?
— Говорите!
— По поводу труб на земле. Они никелированные, а ни-
кель не принимает коррозии. Что же касается внутри, то там
металл давно уже принял коррозию. Мы туда ежедневно
вдуваем до двух стаканов влаги.
Анцелович успел уже успокоиться, но сказал:
— Лицо тоже не принимает коррозии. Однако вы не ло-
житесь мордой на голую землю.
Инструменты сейчас же убрали.
Анцелович устроил смотр только что прибывшему в полк
пополнению. Было видно, как много среди них стариков.
Да, да, именно стариков: в строю стояли пятидесятилетние
бородачи! Многие выглядели довольно-таки дряхло: морщи-
ны, общая понурость — печать тяжелых работ и трудных
маршей. За согнутой спиной остался дом, семья. Достаточно
было взглянуть только раз на это пополнение, чтобы почув-
ствовать всю глубину всенародной трагедии.
Анцелович спросил:
— У кого потерты ноги?
Из строя вышло восемь человек. Одному из них Анцело-
вич приказал разуться. Поругал за то, что не умеет беречь
ноги. А командира упрекнул за то, что не выданы пополне-
нию чистые портянки. Но оказалось, что это не так: боец
чистые получил, но поверх, после бани, накрутил еще и
старые.
На вопрос Анцеловича: «Кто еще на что жалуется?» —
раздалось вразнобой несколько голосов. Анцелович дал слово
низкорослому, тщедушному мужичку, обросшему щетиной
какого-то глинистого, пыльного цвета. Сильно наклонив го-
лову набок, вытянувшись во фронт и весь подавшись к Ан-
целовичу, как к иконе, он жалостливо и молитвенно сложил
губы. Глаза и все его лицо говорили: «Смотрите, какой я не-
счастный, не гоните меня в бой!»
Весь смотр проходил под все усиливающуюся артилле-
рийскую музыку. Мужичок пожаловался Анцеловичу на ка-
шель и на удушье. Анцелович переспросил:
— Ну что у вас? Что? — все более раздражаясь оттого,
что тот не может объяснить связно.
178
Мужичок. Так что не знаю.
Анцелович. Ну что? Туберкулез или что?
Мужичок. Задышка! Так что товарищи даже брезгуют
мною. Не могу поспевать. Я всей моей душой. Я от братвы —
ни шагу: куда они, туда и я! Только вот поспеть не могу.
Примите во внимание — я слаб. Задышка у меня. Я всей ду-
шой! Задышка у меня!
Он был суетлив, как будто боялся потерять последнюю
в жизни возможность, перебивал Анцеловича, не слушал и
твердил одно и то же:
— Я слаб. Ну нет никакой возможности. Бежать никак не
могу — задышка!
Анцелович скомандовал:
— А ну три шага вперед!
Мужичок вышел из строя.
— Бегом — вперед!
Мужичок приподнял винтовку и побежал тяжело, с на-
тугой, задирая кверху голову. Когда он пробежал метров два-
дцать, Анцелович сказал:
— Молодец, старик! Не ожидал — спасибо! Бегать уме-
ешь. Становись в строй! Побольше бы нам таких героев. Кто
еще жалуется?
Поднял руку высокий, худощавый дяденька. Он тоже гу-
сто зарос дорожной бородой, словно его щеки вымазали са-
жей.
— А у вас что? Тоже задышка?
— Зуб! Болит зуб!
— Хорошо. Обещаю после первого же боя отправить вас
к зубному врачу. Даю честное слово! Верите?
— Как не верить, товарищ комиссар?!
— А теперь выйдите на пять шагов из строя и поверни-
тесь лицом к своим боевым товарищам.
Когда боец вышел, Анцелович приказал ему:
— Поднимите вашу винтовку вверх! Выше штык! Еще
выше!
Когда боец привстал даже на цыпочки, Анцелович крик-
нул:
— Молодец! Вот это и есть ваш зуб! Таких зубов немцы
страх как боятся!
Вечером был митинг для пополнения. Все время шел
дождь. Подразделения по очереди вводили под навес из ре-
179
денького хвороста с засохшими листьями и зачитывали им
приказ.
Остальные в это время мокли на полянах. Да и здесь с
навеса все время стекала на головы и на плечи вода. Чтобы
приказ не размок, над ним два бойца все время держали
плащ-палатку.
Анцелович не лез под навес, он мок под дождем в своем
сером плащ-пальто военного образца, которое, конечно, дав-
но уже не держало дождя.
Заиграл духовой оркестр, тот самый, что «не принимает
коррозии». Теперь уж Анцелович показал свою натуру на
полном накале. Он вызывал бойцов на пляску, рьяно откалы-
вал и гопака, и лезгинку, какую-то вольную безудержную
импровизацию.
Мокролицый, красный, сияющий всеми вставными зуба-
ми, он вызывал к себе явную симпатию у бойцов. Он органи-
зовал массовое пение. Дело пошло хорошо! Песни расшеве-
лили усталых, промокших людей.
Каким же великолепным, действительно пламенным
агитатором показал себя старый большевик, каторжанин
Анцелович! Трусов он клеймил весело, наглядно, убеди-
тельно:
— Они у себя в тылу — мужчины: восемь баб покроют,
а в бою у них, видите ли, «ревматизма»! «Я болен», «я слаб».
Давайте вместе уничтожать таких «ревматизмов»! Вот из та-
ких в тяжкий момент поднимается какой-нибудь ревматик
и кричит: «Нас окружили! Все пропало!» Когда среди вас по-
явится такой негодяй — вы его своими собственными руками
убейте, как вошь!
После митинга Анцелович увел нас с Кобликом ночевать
в землянку парткомиссии.
Погревшись горячим чаем, он начал вспоминать свою
юность, борьбу с царизмом. С юмором рассказал он о побои-
ще в тюрьме, спровоцированном, чтобы бежать из камеры,
где политические сидели вместе с уголовниками. Для этого
разбили керосиновую лампу и крикнули: «Товарищи, среди
нас есть сумасшедший!» Каждый в страхе подумал, что ря-
дом с ним сумасшедший, началась свалка, дверь вышибли,
и удалось бежать.
Другая новелла о Черном море. Юный, здоровый, влюб-
чивый Анцелович увлекся и уплыл далеко в море за незна-
комой дамой. А в это время набежавшей волной смыло и
утащило в море его брюки вместе с условными обозначения-
180
ми явочных квартир в Одессе. Анцелович, усиленно разыски-
ваемый царской полицией, остался голый, без паспорта, без
денег, без крова.
Мы так смертельно устали с Кобликом, что уснули и не
слыхали, чем все это кончилось. А утром, прежде чем мы
встали, Анцеловича и след простыл — он уже был где-то в
батальонах.
Анцелович оставил для меня записку: «В медсанбате
работает операционная сестра Жемчужникова. Она училась
в одной школе с Наташей Ковшовой».
Узнал о женщине-танкистке Романенко, разжалованной из
лейтенанта в сержанты за то, что она убила лейтенанта-тан-
киста. Он ревновал ее к капитану и что-то в моторе танка
сделал такое, отчего Романенко во время боевой тревоги не
смогла его завести. За это она получила взыскание. Произо-
шло объяснение, во время которого Романенко хватила лей-
тенанта ломиком по голове, да так, что он свалился на землю
и больше уже никогда с нее не поднялся.
Я видел эту «героиню»: мужиковатая, грубая, вульгар-
ная. Сквернословка такая виртуозная, что разведчики спе-
циально отучивали ее от матерщины. Командует она так, что
не уступит любому кадровику, и, опасаясь, как бы ее не за-
подозрили в женской слабости, щеголяет показной сурово-
стью. Неприятная особа.
20 сентября. 5 часов утра.
Дневальный старательно следит, чтобы не погасла желез-
ная печурка в землянке. Нас привели сюда на ночевку в два
часа ночи.
Вечером комиссар полка сказал нам: на этом участке нем-
цы накапливаются для контратаки. После этого с трудом уда-
лось уговорить Коблика остаться здесь ночевать.
Сейчас он спит и дышит спокойно, как ребенок. А я не
могу уснуть, только немного подремал.
Мины рвутся ближе. Коблик внезапно вскочил на ноги
и чуть не упал, запутавшись в плащ-палатке.
— Который час? — спросил он.— Почему такой огонь?
Началась контратака?
— Да!
— Что ж вы меня не разбудили?
181
— Зачем же вас беспокоить? Я один справился — отбил
контратаку. Ложитесь и спокойно спите, Семен Маркович.
— Спасибо! — сказал он совершенно серьезно. До него не
дошла моя шутка. Он действительно лег и тотчас же заснул.
Шумовая музыка сразу удвоилась, будто обе стороны
только этого и ждали. Особенно стало неприятно, когда нем-
цы попытались нащупать нашу батарею, стоявшую недалеко
от землянки. От разрывов их снарядов что-то сыпалось свер-
ху — у меня даже начал трещать песок на зубах. Два раза
вместе с разрывами так дунуло в трубу нашей печурки, что
пришлось раскрыть дверь и выпустить дым. Коблик чихнул
во сне, но не проснулся.
Землянка наша — плохонькое сооружение, углубленное
в землю всего на метр, крыша — из жердей, кое-как присы-
панных землей. Отвратительное ощущение от того, что аб-
солютно ничего не знаешь. В последний раз ночую в такой
дыре. Мышеловка какая-то. Подойдут люди, подумаешь —
свои, а они крикнут: «Хендэ хох!»
Минут через двадцать небо отделилось от земли и посвет-
лело. Было видно, что на высоте трех метров стоит туман.
Стрельба начала утихать, и тогда стало слышно, как с каж-
дого листа и с каждой иглы хвои срываются, падают на зем-
лю капли обильной росы.
Стало совсем светло, и тут выяснилось, что не было ника-
кой контратаки. Комиссар полка сказал прибывшему
сюда Анцеловичу: «Немцы ночью бесились». Анцелович от-
ветил:
— Ночью детям всегда страшно. А ночь была темная. Вот
каждый и старался для храбрости крикнуть как можно
громче.
21 сентября.
Дождь, дождь. Все раскисает и расползается под колесами
и под ногами. Умывались сегодня глинистой после дождей
водой из Робьи, цвета какао.
Короткая беседа со старшей медсестрой Итиной в палатке;
ей 48 лет, это любвеобильной, широкой души человек. Стро-
го бережет своих девушек — держит их в твердой руке. Ее
принцип: пусть все происходит у нее на глазах, пускай к де-
вушкам приходят знакомые, но ни в коем случае никаких
свиданий и одиночных прогулок в лесу.
182
Наш разговор был прерван — санитары принесли на но-
силках раненого. Его подобрали в канаве, заплывшей жидкой
глиной, и весь он сейчас как губка, пропитанная глиной. Ле-
жит на носилках на животе. Изо рта идет кровь.
Итина принялась мыть руки в тазике. Санитарка уже дер-
жала ее халат наготове. Я ушел, чтобы не мешать.
Короткая беседа на ногах с двадцатилетней Лизой Валяе-
вой, командиром минометной батареи. Она быстро мне пока-
зала все свое хозяйство: миномет, мины и дополнительные
заряды, похожие на резинки с горлышка бутылки. Потом ска-
зала:
— А теперь, товарищ старший политрук, вам надо ухо-
дить отсюда,— вчера здесь двоих сержантов ранило шальны-
ми пулями.
Но уходить я не хотел. Попросил рассказать, как это она
убила немца-ездового и на его лошади вытащила миномет,
избежала окружения. Но то ли она боялась за меня, то ли не
мастерица рассказывать,— рассказ у нее получился в стиле
скучной газетной информации.
В штаб дивизии меня проводил связной; один и здесь не
разгуляешься — ранят, никто не увидит и не перевяжет. По
дороге я спросил связного, не пристают ли к Лизе. Он усмех-
нулся и ответил:
— Она любого парня замнет — лучше к ней с носом и не
суйся! Бойцы уважают ее. Вы бы посмотрели на нее во вре-
мя боя.
А так на вид — Лиза худенькая, хрупкая девушка с бес-
цветным, «деревенским», простецким личиком, запятнанным
обильными грязноватыми веснушками.
В санитарной роте 664-го полка очень долго разговаривал
с санинструктором Мстиславской. Она сказала мне, что бой-
цы называют Лизу Валяеву «эрзац-девчонка» за ее мужест-
венность и недоступность. Одному из командиров, который
увлекся ею, она сказала:
— Давай мы с тобой условимся, что любим друг
друга просто как товарищи, а после войны, может быть, и
больше.
Мстиславская меня поразила и сама по себе: пришла на
фронт с двумя дочерьми, а шестилетнего сына оставила в
тылу у своей сестры; другой ее сын, пятнадцатилетний, уже
работает на оборонном заводе в Казани.
Быстро темнело. Мстиславская взялась довести меня до
183
штаба — никому не хотела передоверить. Я не согласился,—
тогда она прихватила с собой санитара.
Идти было тревожно — попали под артобстрел и поваля-
лись во мху. Немцы активничали. Трассирующие пули хле-
стали прямо по верхушкам берез. Где-то совсем недалеко
раздались раскатистые, как стон, крики: «Урра-а-а!» Мсти-
славская была трогательно заботлива и волновалась за меня,
как за ребенка. Мне было стыдно, что она идет из-за меня, я
хотел отправить ее назад, но она не согласилась. Когда раз--
далось «ура», она, чтобы я не сдрейфил, пыталась обмануть
меня: это-де, мол, учебная атака.
Идти по лужам, по ямам, по кочкам было отчаянно тяже-
ло. Шли мы быстро: я — чтобы не задерживать Мсти-
славскую, она — чтобы поскорее увести меня в безопасное
место.
Прощаясь около землянки парткомиссии, я спросил ее:
— Не могу понять только одного: как вы могли уйти на
фронт от шестилетнего сына?
— Это понять нетрудно,— сказала она.— У меня было
трое детей, и мы с мужем решили, что это — все. А у моей
старшей сестры не было ни одного ребенка. Она страдала
оттого, что не имела детей. Когда сестра узнала, что мы
с мужем больше не хотим иметь детей, она начала умо-
лять меня, чтобы я родила для нее ребенка и отдала ей на
воспитание. Я очень люблю свою сестру, и я для нее это
сделала.
21 сентября.
Мы еще не встали с коек, когда дневальный сообщил, что
эа Кобликом пришел связной из 664-го полка. Коблик должен
был сделать там утром доклад. Начали одеваться. Раздалось
завывание немецкого самолета,— так бывает, когда он де-
лает крутой вираж. По звуку я узнал корректировщик —
«раму».
Коблик быстро оделся и, по обыкновению не умывшись,
вышел из землянки. С порога он сказал:
— Позавтракаю в полку. Всего хорошего!
Через минуту он вскочил в землянку обратно бледный и
растерянный. Начался бешеный артобстрел. Чтобы легче бы-
ло забыть о себе, я принялся считать разрывы. Досчитал,
сбиваясь — когда удар получался сдвоенный и строенный,—
до пятидесяти и бросил. Тут же иссяк и артналет.
184
Коблик написал записку и отдал ее связному. Я посмотрел
на него вопросительно.
— Сегодня доклада не будет! — сказал он с подчеркнутой
твердостью, словно боялся, что я начну его уговаривать.
Мне стало нестерпимо противно. Я вышел под открытое
небо. На берегу Робьи горел длинный, как сарай, стог сена.
От дождей стог промок насквозь, а сырое сено, когда оно го-
рит, дает много дыма, но ветер дул от нас и дым относило
к немцам.
23 сентября.
Из-за нехватки спичек бойцы делают кустарное приспо-
собление из жестяной трубочки, ватного фитиля и осколка
кремня для высекания искры. Этот карманный инструмент
они называют тоже «катюшей». Что может быть чудесней та-
кой очаровательной иронии?
Язык:
«Холим пулемет».
«У Иванова мозги замедленного действия».
«Целовались так, что с погонов звездочки летели».
Младшая жена пишет саперу-татарину: «Чем я те-
бя обидела? Почему старшая жена видит тебя во сне, а я
нет?»
«Живы будем — не умрем, а если умрем — не воскреснем,
а если воскреснем — нам же лучше будет».
Вечером долгая прогулка с Аней Павличенко по высокому
берегу Робьи. Исповедь с поразительной откровенностью, до
дна. Аня после ранения работает в парткомиссии. Она расска-
зала мне о своей любви на фронте и дала прочесть несколько
писем. А в тылу — муж, и это ее терзает. Разговаривая
со мной, она плакала. Когда мы прощались, благодарила:
«Мне стало гораздо легче после того, как я вам все расска-
зала».
Об этой исповеди надо писать повесть. Я так и сделаю ког-
да-нибудь.
24 сентября. Медсанбат № 122.
Пришел поговорить с Жемчужниковой, но ничего не по-
лучилось: привезли раненых — несколько санитарных ма-
шин.
Ветки небольших сосен кажутся стеклянными — так бле-
185
стит на них под луною хвоя. Между ними палатки, палатки,
палатки. От одной к другой — настил по грязи, шириной в
три плоско затесанных бревна.
Начальник медсанбата обходит палатки и будит врачей.
Раненых в большую операционную палатку вносят санитары
и кладут их вместе с носилками на пол, устланный деревян-
ными яцитами, в щелях досок сквозит песок.
Санитар гигантского роста, с лицом древнего римлянина,
в белом халате и в докторском колпаке, берет раненого на
руки, как ребенка. Тот просит:
— Родненький, не надо — больно!
Санитар молча кладет его на самодельный, грубо ско-
лоченный и покрытый клеенкой операционный стол;
кладет прямо в том, в чем принесли: в облепленных грязью
ботинках, брезентовых, как на пожарнике, штанах и
куртке.
Врачи волнуются: нет электричества — никак не удает-
ся запустить движок. На всю палатку одиноко, как
свеча, светит ставшая классической для этой войны медная
гильза — стакан из-под артснаряда с узенькой полоской
огня.
Суетливый врач с мелкими чертами лица, недоступный
за черной широкой оправой очков, как за решеткой, вытаски-
вает из кармана халата карточки на прибывших раненых и
торопливо читает:
— Еще брюхо — здесь! Еще брюхо — здесь! Осколочное,
слепое — здесь! Опять брюхо — здесь!
Я беру у него из рук карточку:
«Ильин Петр Степанович. 371 с. п. рота связи. Диагноз:
ранение осколочное, слепое, множественное, рана не рва-
ная — костей, груди, живота, конечностей — правой, нижней».
(Переписываю то, что подчеркнуто чернилами среди длин-
ного перечня ранений, отпечатанного типографским спосо-
бом.)
Дали свет.
Женщина-врач щупает живот у раненого:
— Твердый. Нет мочеиспускания. Мочились после ране-
ния?
Раненый молчит
Врач:
— Дайте катетер!
Висящими на тонких шнурах простынями палатка разде-
186
лена на отделения для разных ранений: черепных, полост-
ных, конечностей, газовой гангрены и т. д. На железной пе-
чурке уже кипит вода в никелированном ящике-автоклаве,
загруженном хирургическими инструментами. Стоящий пе-
ред ней на коленях санитар подбрасывает в устье короткие
поленья.
Сестры разбинтовывают на трех столах раненых. Бинты
протягивают санитарам, и те скатывают их на колене.
Черные дырки ранений. Спину обтирают большими там-
понами ваты, обильно смоченными в спирте и йоде. Все сто-
нут — жидкость попадает на раны.
Наркоз. Врач вслух отсчитывает секунды, ждет, когда
раненый потеряет от наркоза сознание.
Слышу слова за соседней занавеской:
— Десятое ребро перебито.
— Господь с ним!
— Ира, помогите мне на пневматораксе.
Я не могу решить: присутствовать ли при операции или
пощадить себя?
Женщина-врач кромсает что-то на столе скальпелем.
Твердо решаю не освобождать себя ни от чего: «Я должен
знать все!»
Самое тяжелое зрелище — ампутация руки: обнажили
кость, отпилили руку и бросили в таз. Потом я увидел, как
делают глубокие разрезы по живому мясу, как запускают
туда пальцы в поисках пули. Увидел рыхлое, обильное там-
понирование скатышами марли между полосками раскром-
санной, кровоточащей ткани. Увидел рассечение грудной
клетки, обнажение ребер, вскрытие брюшной полости. Очка-
стый врач, растянув края разреза никелированными скобами,
запускал туда руку так глубоко, что скрывалась вся кисть,
и шарил там, искал следы осколка. Оказалось, что
врач ошиб я — не надо было вскрывать: осколок ушел так
глубоко, что его следовало вынимать со стороны спины.
Но кто мог это угадать без рентгена, здесь, в полевых усло-
виях?
(Когда перед началом операции врач натянул перчатки,
туго натянутая резина сделала его маленькие руки похожи-
ми на девичьи.)
Этот несчастный раненый долго не засыпал под нарко-
зом: когда врач попробовал сделать разрез на коже — он
дергал ногами. Для меня — новичка — тяжело было слушать,
как очкастый острил над распластанным человеком увидев
187
размеры его печени: о количестве выпитой водки и прочем
другом.
Меньше всего на меня действовала кровь. Сначала я боял-
ся увидеть глубокие разрезы, потом с содроганием думал об
обнаженных человеческих костях. Самым тяжелым зрели-
щем оказалась ампутация руки, раздутой и зловонной от
газовой гангрены.
Руку потерял покорный, рыженький, заросший щетинкою
мужичок. Спросили его, согласен ли он на ампутацию. Он
посмотрел в глаза каждому из тех, кто стоял около операци-
онного стола, как бы надеясь найти хоть одного, кто ска-
жет: «Ни за что не соглашайся!» Не найдя в наших гла-
зах того, что он хотел бы увидеть, он сказал одно только
слово:
— Заморозьте!
Когда было все кончено, наркоз испарился и настал срок
просыпаться, мужичок начал изобретательно, со вкусом ма-
териться. По мере того как сознание его прояснялось, он
становился все веселее и заносчивей, чем напомнил мне ге-
роя фильма «Златые горы», поющего: «Когда б имел я зла-
тые горы и реки, полные вина!..»
Падают листья. На рубеже идет жестокая канонада. Что
это, самовнушение или в самом деле листья падают чаще, ес-
ли снаряды рвутся гуще? Ведь от старой березы, под которой
мы сидим на опушке с медсестрой Жемчужниковой, до раз-
рывов метров восемьсот — девятьсот. В полном безветрии
листья падают все время: мелкие, желтые березовые листья
с черными дырочками, прогрызенными какими-то жучками.
Листьев уже много у меня на коленях, на голенищах сапог,
на полевой сумке, которая лежит рядом в поблекшей траве.
Один из листьев, как в паутине, застрял в пушистых, бело-
курых тонких волосах медсестры. Она сняла с головы узкую
марлевую косынку и, сама не замечая, растаскивает ее по
волокнам, выдергивает из косынки нитку за ниткой. А лис-
тья падают и падают, и при каждом разрыве снаряда
мысль: разорвался снаряд — упало несколько листьев,—
значит, там, на рубеже, оборвалось еще несколько жизней,
как будто, обрывая листья, кто-то ведет счет погибшим
бойцам
Выдергивая из косынки нитку за ниткой, Жемчужникова
рассказывает мне о Наташе Ковшовой и Маше Поливановой.
188
У нее спокойное крупное лицо, белое, мучнистое, без загара,
выцветшие брови и очень большие, немного выпуклые, голу-
бые глаза с влажным блеском.
А листья все падают, и все длинней становится легкая,
белая ниточка, потому что Жемчужникова все, что выдерги-
вает,— одну к другой — связывает вместе.
— О них можно рассказывать целый день,— говорит
Жемчужникова.— Обе подстрижены, как мальчишки. Ната-
ша — высокая, стройная, глаза жгучие,— похожа на итальян-
ского мальчика. У моей мамы висела на стене такая картинка
в золотой рамочке. А Машенька совсем в другом роде: лицо
широкое, в ней было что-то монгольское, хотя глаза холод-
новатые, серые, но девчонка тоже огневого характера. Вы не
можете себе представить, как они были дружны,— как одно
существо. Казалось, если Наташа пообедала, значит, Маша
может ничего не брать в рот — сыта только оттого, что сыта
Наташа. И так во всем. Снайперить они тоже всегда ходили
на пару.
Жемчужникова замолчала и, не замечая, что делает, при-
нялась скатывать в клубочек длиннющую нитку — все, что
осталось от марлевой косынки.
— Я вместе с Наташей училась, а вот хоть убейте меня,
кроме как анкеты, биографии, ничего не могу сказать. Вам
бы с Новиковым поговорить. Он был вместе с ними. Он ви-
дел, как они погибли. Новиков был тяжело ранен, немцы
подумали, что лежит труп, и не трогали его, а он все видел,
все. От него-то мы и узнали, как погибли наши девочки. До-
рого они обошлись фашистам: ведь у обеих — снайперские
винтовки. Когда все патроны вышли, они обнялись и зажали
между собой две гранаты. Немцы кричат: «Сдавайся!» Ната-
ша и Маша не шевелились. Тогда немцы подошли к ним,
столпились, а двое из них ухватились — один за Наташу,
другой — за Машеньку,— хотели растащить их в разные сто-
роны, разнять. В это время ахнули обе гранаты, сработали
запальники. Обе погибли, и немец тоже больше не поднялся
ни один. А Новиков спасся благодаря их подвигу — уполз в
лес, где погуще. Он бы вам все рассказал,— только его увез-
ли из эвакогоспиталя в тыл.
Вот все, товарищ писатель. Все! Больше никто ничего
вам о Наташе и Маше не расскажет. Все умерло вместе с
ними. Если бы я умела... ах, если бы я только умела — о них
надо писать поэму.
189
— То есть как все? — удивился я.— Ведь вы вместе вое-
вали, а с Наташей даже учились в одной школе. Почему же
вдруг «все»?
— Ну конечно! — сказала Жемчужникова.— Я имела в ви-
ду их гибель. А так о Наташе и Маше можно рассказывать
целый день.
У Наташи в семье — все герои: дедушка погиб за со-
ветскую власть; трое дядей — три брата ее матери — тоже
погибли за советскую власть. А мать Наташи — красногвар-
деец. Это у них в крови. Наташа родилась для подвига. У нее
на роду было написано: отдать жизнь за других, за счастье
Родины.
Товарищ капитан,— сказала Жемчужникова с новой ин-
тонацией, как бы удивляясь тому, как она могла об этом за-
быть,— у вас в газете обязательно должен быть поэт,— рас-
скажите ему про Наташу и Машу. Если у него есть совесть,
он обязательно должен сложить про них былину. Расскажите
ему, что на их счету было сто пятьдесят девять убитых фа-
шистов. Обе они были инструкторами по снайперскому делу.
Двадцать шесть учеников у них было, двадцать шесть снай-
перов. Вы подумайте! Ученики убили более трехсот немцев.
Вы подумайте! Вот какие это были девчонки!
Я не все еще сказала вам. Был такой случай. Это еще на
канале Москва — Волга. Немецкий наблюдатель вел коррек-
тировку с колокольни. Их орудия не давали нам подняться.
Наташа сняла немца с колокольни одним выстрелом. Это ут-
ром, а в полдень такой же случай с «кукушкой >. Сидел, под-
лец, на елке и выбивал из цепи кого хотел. Этого сбила Ма-
ша. А вообще они уже в первом же бою убили тринадцать
немцев.
Неожиданно Жемчужникова заплакала, нисколько не
стесняясь своих слез и не вытирая их,— она только слизы-
вала их, когда они скатывались на ее губы.
Жемчужникова обернулась в ту сторону, где была вреза-
на в косогор землянка полевого медпункта, поднялась и,
стряхнув с халата желтые листья, сказала:
— Мне пора — несут раненых.
Она подняла левую, свободную руку, чтобы поправить
косынку, и, не нащупав ее на голове, осмотрелась по сторо-
нам, думая, что обронила ее на траву.
— Ой, что ж это я! — чуть вскрикнула она и с горькой
190
усмешкой посмотрела на жалкий клубочек у себя на ладони
правой руки.
— Отдайте его мне на память,— попросил я.
Жемчужникова протянула мне клубочек и пошла быстро-
быстро, а через несколько шагов и вовсе побежала вниз по
скату, шурша кирзовыми сапогами о побуревшую, поникшую
траву.
27 сентября. Шутовка.
Итак, я опять в Шутовке. Пока я был в 130-й дивизии,
наступила глубокая осень.
Сегодня день моего рождения. Вечером, чтобы побыть на-
едине с собой, ушел в лес. Сошел с лежневки в сторону и
сел на поваленное ветром дерево. Прелый валежник, папо-
ротники, мхи. Среди старых елей и берез золотые маленькие
липки. Одна из них как-то особенно близко пришлась мне по
сердцу. Я призвал к себе моих дорогих умерших — отца и
моего близнеца — сестру Ирину и сам потянулся к ним на-
встречу. Нас было трое в осеннем темном лесу, а золотая лип-
ка — как бы непременное условие, при котором и могла толь-
ко произойти такая встреча.
Я сидел в лесу и вспоминал Петровское под Москвою, где
все мы так часто бродили в осеннем лесу.
В лесу стемнело. Погасла золотая липка. Я остался один.
28 сентября.
Мы живем привычной фронтовой жизнью. Мы как слеп-
цы — ничего не знаем о будущем. Может быть, все наши
мечты и старания — наивная суета с точки зрения того, что
предстоит нам еще испытать.
Появилась немецкая авиация. Стекла зудят, жалуются,
как будто у них не попадает зуб на зуб от страха.
Вчера вечером немцы опять захватили Великое Село.
Пленный показал: есть приказ — в двухдневный срок дойти
до Пинаевой горки. Конечно, они не дойдут. Но потеря Вели-
кого Села — прямая угроза для наших дивизий, засунутых
в самый дальний угол у перешейка, который нам так и не
удается перерезать.
Обидно, что мы нигде не можем вести наступательных
действий: Крым, Харьков и, наконец, наш миниатюрный эпи-
зод — Великое Село.
191
Я по-прежнему убежден, что на нашем участке нельзя
ожидать крупных событий. Основное, решающее будет про-
исходить далеко от нас.
Местные кровопролитные бои ведут к взаимному перема-
лыванию, но территориальных изменений они не принесут.
Язык: «Эта женщина из тех, которые много обещают,
но больше берут».
На пажити пасется черная лошадь — голова забинтована
белой марлей.
Оказывается, немцы захватили и Жуково. Таким образом,
они пытаются взять нас в клещи с двух сторон: от Старой
Руссы и от Демянского котла. Повторяется мартовская исто-
рия. Силы наши от перешейка они могут отвлечь, но про-
рваться им, конечно, не удастся.
Эту тетрадь надо передать в Политотдел
армии, чтобы она была переслана в
Военную комиссию Союза писателей
(Москва, улица Воровского, 52), а за-
тем — моей семье. Лучше всего из По-
литотдела — прямо семье: Москва, Чис-
тые пруды, 23, кв. 3.
В. Ковалевский
29 сентября.
Сколько разговоров о втором фронте! Никто не верит, бой-
цы тоже перестали верить. Мы с Кобликом не можем по-
нять, почему Сталин еще в ноябре прошлого года так катего-
рически сказал о близком открытии второго фронта? Конеч-
но, многое говорится с целью маскировки и пропаганды. Но
все-таки нет, не все нам понятно.
Какая бездна испытаний впереди!
«О, дети, если б знали вы холод и мрак грядущих дней...»
7 В, Ковалеве кв*
193
Начальник ДК Забудашкин (мы его называем «полит-
махер») сказал о Черчилле:
— Как была буржуазия, так и осталась буржуазия.
Тогда Коблик задал ему вопрос:
— Скажи, кто для нас лучше: немецкий рабочий, стреля-
ющий в нас и в наших женщин, или английский буржуй,
посылающий нам оружие и помогающий нам?
Я вмешался в разговор:
— Без английской буржуазии не было бы и гитлеровцев
на нашей земле.
Коблик уточнил:
— Я имею в виду не историю, а то, как это сложилось
исторически, сегодняшний день. Гитлер руками немец-
кого рабочего и крестьянина убивает советских людей,
а буржуй Черчилль, как бы он ни подличал, вынужден по-
могать нам.
Когда я был в 130-й дивизии, меня удивила откровенность
женщин даже в интимных вопросах. Аня Павличенко
дала мне прочесть целую пачку писем к ней, Мстиславс-
кая тоже вручила мне свои письма. Они рассказали мне о
самых интимных, самых сокровенных своих пережива-
ниях.
Вчера «Черная Аня», корректор из типографии армейской
газеты, прямо-таки горела желанием рассказать о себе все,
все...
Откуда эта жажда откровенности?
Все эти девушки знают, что каждая из них завтра может
погибнуть. Рассказать о себе самое сокровенное — значит
что-то сохранить от гибели. То, что рассказано, уцелеет. Это
подобно исповеди перед смертью.
Наверно, важно и то, что я писатель. Помогает, конечно,
и моя манера беседовать: людям дорого то, что они не безраз-
личны для меня. Выговариваясь, они начинают лучше пони-
мать самих себя, вытаскивают на солнечный свет то, что дре-
мало у них глубоко в подполье или затаилось и неосознанно
для них давило своею тяжестью.
Когда я рассказал обо всем этом Коблику, он сказал:
— Мой отец-старик пишет — и он, конечно, прав,— что
194
после войны люди будут бережнее относиться друг к другу,
мягче, будет тяга к какому-то новому гуманизму.
Не знаю... Конечно, такое душевное движение друг к дру-
гу будет, но не надо впадать в наивность и забывать, что нас
ожидает жизнь очень трудная. После войны мы еще очень
долго будем разгребать пожарища и залечивать раны.
Стоит изумительная осенняя погода. Солнечный свет стал
контрастнее, меньше светится сам воздух, весь свет идет как
бы из одной точки; в ярко-синем небе солнце теперь более
изолировано. Изменился пейзаж и оттого, что солнце не под-
нимается так высоко, как летом.
Трава на болотах заржавела, а лес стоит легкий, сквозной,
золотой и багряный. На кочках много твердой, розовой, как
яблочки, клюквы. При нашем скудном питании даже клюк-
ва, даже незрелая — лучшее лекарство.
Очень скучаю без семьи. Много-много раз за день вспо-
минаю сына, вспоминаю Марию Михайловну. Как мне хочет-
ся к ним! Мечтаю, сдав второй раздел истории, получить
командировку в Москву, для связи с Центральной комиссией
по истории Отечественной войны, а там хотя бы на три дня
попасть в Казань к своим!
30 сентября.
К нам прибыл новый агитатор, политрук Резниченко, мол-
чаливый, застенчивый белокурый человек лет тридцати се-
ми, на первый взгляд ничем не примечательный. Вот случай
пронаблюдать, шаг за шагом, работу агитатора с первого же
дня пребывания его в нашей армии,— ведь мы будем жить
с ним под одной кровлей. Хорошо бы пойти вместе с ним в
его первую командировку.
Политотдел получил от Минца (из Центральной комиссии
по истории Отечественной войны) письмо: «Слыхали, что у
вас ведется большая работа по истории армии. Просим сооб-
щить, что сделано».
Куницын поручил нам с Кобликом составить проект
письма. Приведу несколько строк из нашего ответа:
«Мы придаем этой работе чрезвычайно большое значение,
7*
195
учитывая, что наша армия сыграла важнейшую роль в деле
разгрома немцев под Москвой.
...Материалы нашей истории уже сейчас широко исполь-
зуются для политработы армейским коллективом агитаторов
и лекторов».
Коблик дал мне прочесть письмо его знакомой из Сарато-
ва. Это письмо позволяет понять, о чем он писал ей сам. Коб-
лик тоскует о том, что у него, несмотря на его 30 лет, нет
семьи и сына.
У немцев освободились силы после карательной экспеди-
ции в наш партизанский край, куда так и не состоялся мой
поход. Если верить нашей газете, немцы сровняли с землей
350 деревень, мстя за действия партизан. Теперь карательные
отряды освободились и двинуты против нашего участка
фронта.
Язык: «Коньяк зин-зин три косточки» (при этом скла-
дывают руки на груди крестом, изображая кости и Адамову
голову на этикетке денатурата, предупреждающей о яде).
Весь вечер просидела у нас в отделении Черная Аня —
корректор нашей газеты. Губер лежал у себя на топчане —
он болен: кашель и обычные жалобы на опухание ног, труд-
ное дыхание. Все думали, что он спит.
Черная Аня обнажала свою душу в обычной своей манере
кающейся Магдалины, рассказывала о своей первой влюб-
ленности. Скажет что-нибудь острое, потом спохватывается:
«Вам не противно, что я такая нахальная девчонка?» Тон
истерички, которая боится и в то же время жаждет сказать
что-то из ряда вон выходящее, роковое, обнаженное, исступ-
ленное. Все время бичует себя: «Я вам надоела — выгоните
меня! Вам скучно? Я дрянная девчонка!» Говорила о том, как
ее выгнала из дома мать, о том, как она боится, когда
ее зовут на свидание,— боится разочаровать человека,
боится, что из свидания ничего не получится — она ведь
скучная...
Опять я перед большой откровенностью.
iflfl
Какая общая черта у всех этих людей, жаждущих испо-
веди?
Война потрясла всю душу человека, все его существо.
Привычное бытие сломано. То, что лежит в прошлом, за спи-
ною молодого человека, кажется уже почти чужим. Он боль-
ше не относится к этому, как к чему-то неприкосновенно-
близкому, что нельзя обнажать. Таким образом, прошлое от-
колото, а что будет впереди — кто может угадать? Ежеднев-
но грозит гибель. Вот и тянется человек к исповеди, жаждет,
чтобы хоть что-нибудь от него сохранилось.
Аня какая-то вся насквозь черная: говорит сбивчиво, с
черновыми поправками, стихи читает скороговоркой, с глу-
хими тенями в голосе, мечет исподлобья черные искры глаз;
черные волосы, черное платье, руки, выпачканные типограф-
ской краской,— все черное. Она говорит: «Мои руки — все в
статьях!»
Она все время как бы извивается от боли, от сознания,
что она некрасивая, жаждет, чтобы ее кто-то по-настоящему
полюбил.
Живет она в избе с типографскими рабочими и шоферами.
Там каждый вечер — шепоты и звуки поцелуев по уг-
лам. Культурный уровень делает ее одинокой в этой обста-
новке.
1 октября.
Надо написать моему другу, художнику Ечеистову, что
все абсолютно переменится и мы не сможем возвратиться
в прежние стены своей души, что надо жить, не тратя вре-
мени на ожидание лучшего на ожидание привычной обста-
новки. Надо творить, работать, даже когда под рукой нет при-
вычных материалов, работать как бы наизусть. Сохранять
себя как единое целое. Пусть все будет материалом для внут-
реннего творчества— даже горе и слезы, даже само народное
бедствие,— все, что обнимает твое сознание.
Я собираю материал, изучаю его, и в то же время он обра-
батывает и меня самого — пашет, бороздит и бросает в меня
зерна.
Шолбин, делопроизводитель иэ отделения кадров, сказал.
107
что немцы будто бы захватили Кобылкино на Ловати и что
три наши дивизии отрезаны. Я этому не верю.
Жаль, что я занят — надо бы пойти в Озерки узнать в
оперотделе обстановку.
Горячий спор с Кобликом о чертах психопатии у Черной
Ани.
Как всегда, Коблик вначале запальчив, упрям, настой-
чиво утверждает свой предвзятый тезис, но постепенно
начинает меня понимать, и мы приходим к обоюдному со-
гласию.
Разговор о творчестве Коблика. Я пожелал ему, чтобы
на митингах он отходил от л кционного, гладкого стиля к
плебейски-агитационной яркой манере, а в письменных рабо-
тах— от статейного стиля к эпистолярно-афористическому.
Он хорошо сказал: о «косноязычии искренности без пригла-
женных фраз».
Лозунг из дивизионной газеты: «У храбрых есть только
бессмертие, смерти у храбрых нет. Не хочешь смерти — будь
храбрым!»
В Сталинграде идут жесточайшие бои, в самом городе.
Мне наконец надоело неведение. Два часа месил грязь —
в Озерки и обратно,— зато теперь для меня картина совер-
шенно ясна.
Утром, 27-го, немцы бросили в атаку 80 танков и, бомбя
с воздуха, прорвали нашу оборону. Они рванулись от Вели-
кого Села (Демянская группа) по двум дорогам: на Козлово
и на Кулаково.
Первый удар получил 26-й полк. Он не выдержал и побе-
жал. Началась паника. Но небольшая группа смельчаков
долго держалась, не уступая немцам дороги. Эти герои
помогли навести порядок и хоть немного притормозили
продвижение немцев. Все же немцам удалось пробить-
ся в двух направлениях (через болото «Андрюшин угол» и
«Ко овик»), и на сегодня (2/Х) они захватили деревни:
ies
Маклаково, Козлове, Лука, Заборье, Кулакове и Майлуко-
вы Горки.
Таким образом, три дивизии (130, 129 и 391-я) попали в
мешок. Сообщаться с ними можно только через тоненькое
устье в районе Черенчиц. Увижу ли я когда-нибудь еще де-
вушек из 130-й Московской: Аню Павличенко, Шуру Медве-
деву, «мамашу» Итину, Мстиславскую с дочерями, операци-
онную сестру Жемчужникову?
В мешке очень много техники: в этом районе три арт-
полка, «катюши» и реактивные минометы фугасного
действия.
130-я и 129-я очень хорошо держатся. Они не отходят. На-
оборот—туда, в мешок, командарм подбрасывает новые пол-
ки. Задача окруженным дивизиям: ни в коем случае не ухо-
дить из мешка и самим активно огрызаться, бить по слабым
местам немцев.
Получилось «неразбериберипоймешь»: 16-я немецкая ар-
мия сидит в Демянском полукотле; эта группа в свою оче-
редь посадила в маленький мешок три наши дивизии, но то-
ненькие клещи немцев, зажавших эти дивизии, в свою оче-
редь сидят в «мешочках» и в любую минуту могут быть пере-
кушены, если мы будем действовать умело.
Если немцам удастся слопать мешок или хотя бы наглухо
завязать его горловину, на основном нашем участке создаст-
ся тяжелое положение,— ведь в мешке наши лучшие ди-
визии. Таким образом, мы целиком зависим от подкреп-
лений.
Вернувшись из Озерков, я сел к столу и нарисовал схемы
мешка, в который попали наши дивизии, прижатые к Лова-
ти. Показал Губеру и Коблику.
Забавно, что Коблик всерьез стал упрекать меня за то,
что я слишком мрачно смотрю на положение вещей.
Так в древности начинали ненавидеть и даже уничтожали
человека, который первый приносил плохую весть.
3 октября.
Утром — звонок. Коблик и Губер еще спят. Беру трубку.
Незнакомый голос: «Передайте Губеру, что его телеграммы
«Глобусу» и «Зефиру» не отосланы,— у «Камы» нет связи с
«Глобусом» и «Зефиром».
199
Яснее говоря — у командующего нашей армией нет связи
с тройкою в мешке.
Стекла в нашей избе все время знобит — недалеко идет
отчаянная бомбежка.
В избу, где разместилось наше отделение агитации и про-
паганды, шумно ворвался с газетой в руках инструктор по
пропаганде Артемьев. Хлопнул дверью. Отдышавшись около
порога, Артемьев подошел к столу, за которым что-то писал
Королев, положил перед ним газету и, ударив по ней кула-
ком, закричал:
— Сашка, скажи, ты что—живешь в коллективе агитато-
ров или в берлоге? Ты что — монах-отшельник или полит-
работник? Почему мы узнаем об этом в последнюю оче-
редь? — Артемьев еще крепче ударил рукой по газете.—
У тебя есть товарищи или ты гордая одиночка, непонятая
личность? Почему не делишься своим опытом,— может быть,
мы тоже так сумели бы?
— Факт, сумели бы,— сказал Королев.— Мы — агитато-
ры, это же, братцы, для нас написано: самое убедительное
средство агитации — это личный пример стойкости, мужест-
ва, боевого упорства.
Артемьев пытался его перебить:
— Ты нам не цитируй передовицу «Правды» — сами гра-
мотные.
Но Сашу не собьешь,— в таких случаях он становится
еще упрямее. Как вдалбливающий избитые истины начетчик,
он продолжал цитировать:
— Командир управляет маневром и огнем своего подраз-
деления. Политрук управляет движением человеческих душ
и огнем человеческих сердец! Политрук должен быть всегда
готов к тому, чтобы стать командиром роты.
Артемьев стукнул кулаком по газете и крикнул:
— Сашка, замолчи! Не юродничай,— ты не политрук ро-
ты, ты — представитель Политического отдела армии.
А Королев продолжал в том же духе, словно его задачей
было довести Артемьева до белого каления:
— Командир и политработник — это нечто единое. Внут-
реннему взору командира должны быть всегда открыты все
чувства, все помыслы бойца. Командир — отец победы, охра-
няй командира в бою!
200
Артемьев сплюнул и добавил:
— Юродивый! Тебе надо ходить в лаптях и носить на пу-
зе власяницу.
Трудно было догадаться, шутит ли Артемьев или в самом
деле негодует. Я заглянул в газету и прочел на первой полосе:
«Подвиг агитатора А. Королева». В центре очерка — фо-
то с подписью: «Фашистские танки, сожженные А. Коро-
левым».
Саша Королев издали покосился на газетный лист и про-
бурчал, нахмурив брови, но с трудом удерживая улыбку:
— Возможно, однофамилец.
Мы все знали, что в дивизии действительно есть однофа-
милец Королева, зовут его тоже Александром и, главное, он
тоже агитатор. Однако на газетном листе напечатан был
портрет именно нашего Саши Королева.
Королев прочел очерк.
— Определенно не про меня,— сказал он.— Правиль-
но только название деревень: Ходыни и Селяха, осталь-
ное наполовину наврано. Писала какая-то каналья левой
ногой.
Саша Королев — один из лучших агитаторов в нашей ар-
мии. В политдонесениях из дивизий постоянно упоминается
его фамилия. Стоит ему побывать где-нибудь — почти навер-
няка попросят прислать его опять.
Однажды он попросил у меня иголку — нитки у него были
свои. Я подумал, Саша пришьет себе подворотничок. Нет,
оказывается, пулей распороло у него на бедре ватные штаны.
В другой раз он достал где-то йод и попросил меня смазать
ему спину — свежий рубец малинового цвета, как будто Са-
шу стеганули кнутом: пролетевшая касательно пуля обо-
жгла только кожу. Я всегда боюсь, что вижу его в последний
раз, когда Королев уходит в командировку на передний
край.
Перед сном я вытащил его подышать свежим воздухом,
и Саша Королев рассказал мне о случае, описанном в газет-
ном очерке.
В штабе армии были разноречивые сведения: 391-я диви-
зия сообщала о том, что Ходыни заняты ее силами, а из 47-й
бригады звонили, что Ходыни только что захвачены немца-
ми. Куницын приказал Королеву немедленно организовать
на месте разведку, обследовать оборону, которая охватыва-
ет полукругом Селяху и Ходыни.
eoi
— Я ужаснулся,— сказал мне Саша,— когда увидел эту
«линию Маннергейма». Я думал: раз существует предполье,
то сама оборона — вещь солидная. Оказалось, амбразуры до-
тов направлены совсем не туда, откуда ждем врага,— ведь
все изменилось, Вячеслав, после прорыва немцев двадцать
седьмого сентября.
Первое, что я сделал,— заставил копать новые огневые
точки. Спасибо, что люди у нас золотые. Цепочка лежит в
обороне реденькая-реденькая: лежат саперы, минеры и все,
что можно было собрать в хозчастях. Много бородачей. Это
хорошо, очень даже хорошо. Когда я увидел сивые бороды —
мне сразу полегчало.
Потом подошла молодежь — тоже оказалось не плохо: че-
ловек шестьдесят только что вышедших из окружения. Они
прогрызли себе дорогу к Ловати зубами. Притащили с собой
сорокапятку и три ПТР. Они думали: вот теперь отдохнем.
Оказывается, опять бери лопатку, зарывайся в землю, опять
надо отбивать атаки. Были, конечно, хлюпики и ворчуны,
но этих уняли свои же.
Мы живенько оборудовали гнездо для сорокапятки и от-
рыли огневые точки для трех противотанковых ружей. Зо-
лотой народ. Если бы я прочел в газете: горстка бойцов уни-
чтожила двенадцать танков, ей-богу, не поверил бы. Да что
там говорить,— если бы вместо Королева стояла бы фамилия
Кузнецова: «Старший политрук Кузнецов лично сжег
три танка» — я бы не поверил. Надо, братец ты мой, са-
мому это сработать, тогда поверишь и поймешь, как это де-
лается.
Под Ходынями — кустарник: лоза и много ольхи. Види-
мости, можно сказать, никакой. А танки идут — моторы ра-
ботают на всю катушку: ухо удваивает, утраивает звук, как
будто их идет не двадцать, а сто. Я покрепче прижал шапку
к голове, как бы она не поднялась дыбом вместе с волосами.
Смотрю, листва впереди вроде как бы закипела, начали мо-
таться из стороны в сторону ветки, трещат сучья. Тут уж
чего ж сомневаться. Я начал считать: один, другой, третий...
Стою во весь рост как зачарованный и считаю. Они ползут
тихо, тихо, словно бы для того, чтобы я успел сосчитать, не
сбился со счета. Я одернул себя: «Сашка, что же ты, сволочь,
стоишь как столб, ведь это он гипнотизирует тебя, как гре-
мучая змея. Действуй!» Не помню, что я кричал бойцам. Они
поначалу сгрудились вокруг меня, но я их разогнал. А глав-
ное, пошло весело, когда я зажег первый танк. Я бросил бу-
202
тылку прямо на вентиляционную решетку. Так же и тебе,
Вячеслав, советую, если когда приобщишься к этому делу.
Иди по кустам смело,— это, я тебе скажу, плевое дело. Ни-
чего даже не страшно. Даже вроде как бы весело от азарта.
Тут здорово поработали минеры, а главное, сорокапятка била
без промаха. Фашисты нам сами помогли: зачем они, дураки,
залезли в кустарник? Мы среди кустов орудовали, как у себя
на огороде. Двенадцать сожгли и покорежили, а четыре сами
уползли. Следом за ними и мы вошли в Ходыни, захватили
ее. Все произошло как-то моментально, вроде как бы и не
мы это сделали. Гляжу, а наши связисты уже цепляют нит-
ку за ветки — тянут связь через Ходыни. А через полчаса
я сам доложил Куницыну обстановку.
— Саша,— спросил я его,— а где ты взял бутылки?
— То есть как где? Я же тебе сказал — там в цепи лежали
саперы — мужики запасливые. Вот, собственно, и все по во-
просу об этом ЧП. А если в самом деле как следует разо-
браться, что мы там сотворили, то скажу тебе честно: я уже
и сам не могу себе представить, что это именно я,— Саша
ткнул себя в грудь пальцем,— именно я организовал обо-
рону и собственноручно сжег три танка. Бред какой-то.
Теперь мне представляется, что это действовал другой
человек. Мне кажется, что это мне не по силам. Мое
дело — политработа. Подвиг произошел словно бы нечаян-
но. Поэтому, братец, я и сказал, что в газете не про меня
писано.
Ты не смейся, дорогой Вячеслав. Ты думаешь, я кокетни-
чаю? Мне, например, известны случаи нечаянного подвига.
Вот взять хотя бы два таких.
И Королев действительно рассказал мне про два смеш-
ных, совершенно анекдотических случая.
Казах Джембалаев утопил фашиста в ручье, применив
в схватке с ним прием национальной, рукопашной борьбы
казахша курэс». Об этом случае писала наша армейская га-
зета. Но это произошло лишь потому, что Джембалаев был
неряха и никогда не чистил свою винтовку,— в смертельно
опасный момент она отказала. Джембалаев вынужден был
схватиться с фашистом вручную. Если бы он убил его пу-
лей— это был бы рядовой случай и очерка о его подвиге
никогда бы в газете не появилось.
Другой подвиг в таком же роде.
Командира роты раздражал вялый, сонливый, ко всему
203
безразличный боец Синявкин. Надеясь, что чувство острой
опасности встряхнет Синявкина, переменит его, командир ро-
ты назначил Синявкина в боевое охранение.
Но Синявкин умудрился заснуть и в окопчике боевого
охранения. На рассвете немцы рванулись в атаку. Товарищи
Синявкина были перебиты, а через него немцы перепрыгну-
ли, как через труп, думая, что он тоже убит, и устремились
к нашей траншее.
От ружейной трескотни и криков Синявкин проснулся.
Ничего не соображая спросонья, он подумал, что немцы убе-
гают от нас, и начал стрелять им в спины. Атака была со-
рвана.
— Саша,— сказал я,— и не стыдно тебе рассказывать мне
такие басни? Какое это имеет к тебе отношение?
— Дорогой Вячеслав, не обижайся. Для истории армии
может пригодиться каждая мелочь. А если что окажется
лишнее — потом вычеркнешь.
После обеда я ходил в Озерки, в оперотдел к полковнику
Крыловскому.
Мешка больше не существует; 391-я и 130-я дивизии пе-
ребрались на западный берег Ловати, обошли немецкий клин
и, опять выйдя на восточный берег, заняли оборону на нашем
основном участке.
Положение упростилось. Внутри захваченного немцами
пространства остались отдельные группы наших бойцов. Они
пробиваются и постепенно выходят тоже. Не известна судьба
одного из полков 129-й дивизии, которая тоже пробилась из
мешка, но не переправляясь на западный берег Ловати. От
нее остались кусочки.
Можно себе представить, что творилось на Ловати: узкое,
простреливаемое горло, моста нет,— переправлялись «под-
ручными средствами», главным образом на плотиках; много
техники бросили, изуродовав ее, сделав непригодной.
Что же дальше?
Немцы стараются развить успех, атакуют, но катастрофи-
ческого ничего нет. Вышедшие из мешка части уже стоят на
рубеже. Безобразничает немецкая авиация, мы не можем ее
усмирить — нечем. Действует примерно 40 немецких само-
летов на очень маленьком пространстве, так что от бомб по-
лучается густо.
404
Вспоминаю Поростаева — он все время думал о возмож-
ном ударе справа и говорил, что надо уйти из угла.
Совершена непростительная, преступная глупость. 16-я
немецкая армия получила для зимы хорошую дорогу Де-
мянск — Коровитчино — Старая Русса.
4 октября.
В три часа ночи звонил Куницын. Приказал составить ли-
стовку о подвиге Саши Королева. Губер поручил Коблику.
Ранним утром местная жительница, юная девушка Таня
Кузнецова, идет с ведром к колодцу. Холодно. Она босая. Чу-
десное лицо: с такой натуры Виктор Васнецов написал бы
сказку. Словно она создана раз и навсегда и ей предстоит
вечная жизнь. Она всегда неизменная, одинаковая: рубит ли
дрова, несет ли тяжелые ведра—лицо у нее Василисы Пре-
красной—всегда сказочно безмятежное, мудро-спокойное.
Словно на свете нет ни слез, ни горя, и в ее родной деревне
не была пролита кровь, не горели избы, и вообще о войне нико-
гда не было ни слуху ни духу. Как могло сохраниться такое
чудо?
Герои в нашем народе будут всегда. Заряжающий Моро-
зов остался один у противотанковой пушки. Ночью, когда с
таким трудом человек сохраняет мужество, Морозов один
подбил 7 немецких танков. Утром немецкая пехота, при под-
держке одиночных танков, пыталась прорваться. Морозов
прямою наводкой расстрелял несколько десятков немцев.
После обеда Коблик позвал меня на лугу к стогу сена.
Обычно я сплю около стога, а Коблик читает газету. Се-
годня заснули оба. Глупее этого придумать нельзя — так
можно проснуться от команды; «Хендэ хох!»
Когда я открыл глаза, был уже бронзовый вечер. Вместо
сплошной летней зелени — громадное разнообразие красок и
рисунков полуобнаженных деревьев. Лес стал одухотворен-
ным. Все многокрасочно и в то же время приведено к един-
ству вечерним, бронзовым светом. Сороки, которые перепар-
хивают в винно-красных лучах заходящего солнца, кажутся
тропическими цветами.
еоэ
Завернувшись в плащ-палатку, я лежал на траве, чуть
притрушенной сеном, а для тепла привалился спиною к стогу.
Коблик прочел статью Н. Тихонова о садизме немцев. Там
есть и о Гитлере: он плакал, когда в его пернатой коллекции
сдохла одна из 80 птиц. Гитлер приказал поставить ей па-
мятник.
Коблик очень сильно меня рассмешил. Он сказал, что в
юности пытался есть сырое мясо: ему сказали, что от него
сделаешься крепким и могучим.
Для него купили свежего мяса. Он отрезал кусочек, посо-
лил и съел. Больше одного кусочка он не мог проглотить. По-
том началась рвота — Коблик месяца два не мог есть даже
вареного мяса. Коблик вспомнил, как несколько раз в жизни
бил ребят. Он не мог выносить, если кто-нибудь издевался
над слабыми. Он требовал, чтобы задира немедленно пере-
стал издеваться. Если тот не слушался, Коблик подходил к
нему и бил кулаком по лицу. Один удар, но так, чтобы из
носа шла кровь.
Сейчас Коблик удивлялся, что ребята прощали ему это
и не помнили зла.
Портовая компания матерщинников, хулиганистых ре-
бят, как ни странно, привела Коблика к идеализму, к роман-
тике. В этой среде было много дерзких мечтаний, разговоров
о дальних плаваниях, много настоящих, жизнелюбивых
страстей.
В столовой, за ужином, инструктор седьмого отделения
Вагнер сказал нам, что Гитлер в своей речи высмеивал Анг-
лию. Он сказал, что совершенно не боится второго фронта,
потому что англичане—«пьяницы и глупцы» — на это не
способны.
По словам Гитлера, Черчилль просил Сталина умерить
агитацию Литвинова и Майского, так как на улицах Лондона
нет прохода от народных требований поспешить с открытием
второго фронта.
Очень сомневаюсь, чтобы Гитлер мог говорить подобное.
С утра немцы сваливают груз бомб чаще, чем вчера. Ищут,
наверно, склады. Может и на нас свалиться что-нибудь. Раз
206
есть изменники — перебежчики, местопребывание штаба не
может быть тайной. Правда, внимание немцев должно рассе-
иваться: КП — в Медведеве, часть управления штаба — в
Озерках, мы и ряд других отделений — в Шутовке.
Листовка о подвиге Королева готова.
Коблик в отчаянии. Наташа из Саратова прислала стран-
ное, путаное письмо. Можно допустить, что в ночь, когда она
писала, она покончила с собой.
Мне все же кажется, что трагедии не было. Есть что-то
истерическое в письме, очень тонкая маскировка, тончай-
шая— желание привлечь к себе еще крепче. Я успокаиваю
Коблика, советую ему написать, уверяю, что она ему
ответит.
Жестокое письмо. Или Наташа больна, или это просто
бессовестная игра. В письме нет спутанности, сумятицы —ни-
какого признака, что человек в сумеречном состоянии. Нао-
борот, в нем все четко и ясно.
Был на допросе пленных летчиков с трех сбитых «юнкер-
сов». Экипажи не полные — часть погибла. С одним из экипа-
жей такой случай: когда наши бойцы подбежали к сбитому
самолету, офицер-летчик застрелил своего бортмеханика и
сам покончил с собой. Радист-стрелок участвовал в 26 нале-
тах на Лондон. У нас его сбили на шестом полете.
Радист начал врать:
— Не один был случай, когда на меня нападало ваших
пять коммунистов: одного собьешь — остальные удирают.
Начальник седьмого отделения Пшибельский, презри-
тельно усмехнувшись, сказал ему:
— Имейте в виду, что я стопроцентный коммунист и
ложь угадываю на расстоянии десяти километров.
Пленный ответил:
— Вы стопроцентный коммунист, а я стопроцентный фа-
шист. От этих двухсот процентов мне не поздоровится! Если
бы при прыжке с парашютом у меня не выпал пистолет — вы
не имели бы со мной этого разговора. —
Этот стервятник остро находчив, изворотлив, глаза у него
очень умные и проницательные. Это один из тех зверенышей,
в которых Гитлер обещал превратить все молодое поколение
Германии. Остальные пленные вызывали одно только отвра-
ED7
щение. Самый молодой из них — совершенный дикарь с низ-
ким лбом, очень легко представить его в роли палача.
Любопытно, что на мой вопрос: «Какую книгу вы любите
больше всего?» — даже радист долго не мог ответить. Люби-
мых книг у него нет. Гёте он не читал, сказал, что «Фауст» —
очень трудная для чтения книга.
Все пленные абсолютно убеждены в победе Германии, во
второй фронт никто не верит. Радист сказал:
— Англия вас бросила на произвол. Мы разобьем вас од-
них, а потом заключим мир с Англией.
Держался он бодро, хотя был убежден, что мы его рас-
стреляем. Когда Пшибельский закурил — попросил у него:
— А не дадите ли вы стопроцентному фашисту сига-
ретку?
С наслаждением, жадно затянувшись пахучим дымом,
фашист впился глазами в Пшибельского и, как бы дразня
его, сказал:
— Англия бросила Россию, как бросают котенка в воду.
Пшибельский остался равнодушным к нахальному,
пристальному взгляду пленного. Тогда тот возвысил
голос:
— Вы еще можете сомневаться в победе Германии? Гит-
лер овладел даже вашим внутренним аппаратом: у нас всю-
ду свои люди, и Гитлер может убрать со своего пути, как пе-
шку, любого из ваших военачальников. Самое лучшее, что я
могу вам посоветовать: сложите оружие, станьте на колени
и просите пощады!
Пшибельский выхватил из кармана пистолет и трахнул
рукояткой по столу так, что на доске осталась глубокая
вмятина.
Я посмотрел на Коблика. Он сидел растерянный, с широ-
ко раскрытыми глазами. Почувствовав на себе мой взгляд,
Коблик поднялся со скамейки и потянул меня за рукав. Я
чуть было не упал — мой край скамейки покачнулся — и то-
же встал, чтобы устоять на ногах.
— Выйдемте отсюда! — потащил меня Коблик.
Пшибельский оглянулся на стук упавшей скамейки и кри-
кнул, не соображая от раздражения, что он обращается к нам,
как будто и мы с Кобликом пленные:
— Выйдите из помещения,— вы мешаете вести допрос!
Я хотел было осадить Пшибельского, но Коблик тянул ме-
ня за рукав:
208
— Я вас очень прошу — идемте! Вы мне очень нужны.
В сенях все еще был слышен голос фашиста:
— Сталин завидует нашему фюреру, так же как ваш
Александр Первый завидовал Наполеону.
Когда мы отошли от избы подальше, Коблик стал меня
просить:
— Дайте мне слово, что вы никому не будете рассказы-
вать о том, что мы здесь с вами слышали. Обещайте мне!
Я молчал. Мы долго шли, не проронив ни одного слова.
Дошли до конца деревни, повернули обратно. Наконец Коб-
лик не выдержал:
— Что же вы молчите? А что, если правда—фашисты
проникли даже и в наш аппарат?
— Знаете что, Семен Маркович,— сказал я.— С такими
мыслями невозможно победить. Ясно только одно: стопро-
центные фашисты, даже попав к нам в плен, стараются нас
разложить, обезоружить. Давайте дадим друг другу слово не
говорить об этом на войне. Баста! Вернемся к этому разговору
только после победы.
Неистребима доброта русского человека. Я вошел в полу-
разрушенную, кое-как заштопанную избу, где поместили
пленных. Один из них, без шапки и без сапог (обгорели при по-
жаре в упавшем самолете), курит самокрутку, такую же, как
у часового. Спрашиваю:
— Кто дал?
Часовой признается:
— Я дал. Все-таки жалость какая-то...
Этот летчик, зябко переступающий теперь с ноги на ногу
в шерстяных носках, бомбил нас ежедневно, взламывал лед
на «дороге жизни», на Ладожском озере, под Ленинградом,
топил там машины, которые везли умирающим от голода ле-
нинградцам продовольствие, бомбил не раз, наверно, и этого
совестливого часового.
6 октября.
Черная Аня принесла Коблику томик Блока. В книге ока-
залась пачка писем влюбленного в Аню человека, которому
на пятнадцать лет больше, чем ей. Ясно, что Ане хочется по-
казать письма нам.
еоб
Острые, но пошлые письма. В прошлую нашу встречу она
сказала нам, что уехала, не простившись с этим человеком,
так как не хочет сделать его жену несчастной.
Я устал от «изучения» людей,— меня не хватает. Лучше
изучить глубоко две книги, вместо того чтобы галопом
перелистывать всю библиотеку. В письме — цитата, взятая
не знаю откуда:
Не потому, что с ней светло,
Но потому, что с ней не надо света.
Коблик тоже не помнит, откуда она. Он попробовал меня
рассмешить, когда я пожаловался, что не в состоянии освоить
всех людей, которых наблюдаю. Он ответил мне:
— Освойте Аню! Ей будет приятно, а вам интересно.
Аня на редкость некрасивая: очень близко посажены гла-
за, а лицо вытянуто, сплюснуто с боков. Она существует как
бы только в профиль. Если быть злым, можно было бы ска-
зать о ней: у нее тонкий профиль — нечто среднее между
Марией-Антуанеттой и молодой крысой.
Лай собаки во фронтовой деревне, какою бы злой она ни
была, на войне звучит таким же милым напоминанием о
мирной жизни, как крик петуха.
Из окна нашей избы вижу Михаила Светлова. Трудно при-
думать что-нибудь несовместимее, чем воинская дисципли-
на и этот сгорбленный человек со впалою грудью, с грустны-
ми прищуренными глазами, у которых каждая добрая морщин-
ка говорит, как ему бесконечно жаль несчастное человечест-
во, захворавшее фашизмом.
Вот он идет по Шутовке своею старческой походкой, ед-
ва приподнимая над грязью ноги, и новое обмундирование
висит на нем, как тряпочка.
У меня с ним почему-то ничего не получается, хотя он
прекраснодушный, снисходительный, благородный человек.
Нам вместе обоим скучно и как-то неловко,— может быть,
оттого, что он «шибкого поведения по поводу вина», а я в
этом деле — круглый дурак. Вот только теперь, на фронте,
мало-мало приучаюсь на всякого рода слетах или где-нибудь
на передке, когда не хочется обижать гостеприимных хозя-
ев и нарушать фронтовое братство.
210
На днях Светлову надо было побывать в АХО, что-то там
дополучить из одежки. Ему дали высоченного костлявого
белого коня, чтобы он не утонул в грязи. Держась за луку
седла, Светлов все время подавался вперед и гнулся к шее,
как будто ему хотелось за: лянуть коню в глаза и попросить
у него прощения за то, что он заставляет его тащиться по
такой непролазной грязи.
«То, что расширяет горизонт философа, и то, что полезно
простому человеку,—две весьма различные вещи, потому
что разум философа проясняется чем-нибудь вредным и за-
темняется полезным» (Дидро). Написано как будто именно
по поводу Светлова.
Очень холодно в избе — рамы во всех окнах щелястые,
по углам сруба, меж прогнивших бревен, сквозит небо. Надо
бы законопатить хотя бы куделью льна с моего чердачного
ложа. У голландки нет пока что трубы, и мы еще не подтап-
ливаем ее.
Я вышел, чтобы согреться в ходьбе. Дойдя до болотисто-
го леса, решил поискать клюкву, о которой не раз говорила
хозяйка избы. Ее на болоте оказалось видимо-невидимо! Нет
ни одной моховой кочки, чтобы она, как ворсистая плюшевая
подушка, не была сплошь обшита, как пуговками, розоватою,
еще недозрелою клюквой. Длинный стебель ее, тонкий как
нитка, необыкновенно изящен: он усажен парными миниа-
тюрными листочками, каждый из которых куда меньше са-
мой ягоды.
После обеда мы опять пошли с Кобликом под стог, хотя
начал моросить мелкий дождик.
На какой-то его вопрос я ответил, что в моей жизни было
время, когда я больше нуждался в уединении, чем в людях.
Природа меня интересовала больше, чем люди.
Коблик вспомнил чудесные слова Сократа (Платон, «Пир»):
«Деревья и горы ничему меня не научили — пойду-ка я к
людям». И Сократ занялся вопросами этики.
Отход от поэзии к прозе привел меня к людям. Но и те-
перь, если я не могу в течение дня побыть немного наедине
с самим собой мне бывает тяжело.
211
А Коблика тяготит одиночество, он не может оставаться
один и полчаса.
Вечный предмет угнетения Коблика — наша ограниченная
осведомленность. Мы ничего не знаем о большой политике.
Сегодня впервые за восемнадцать месяцев войны — карика-
тура на нерешительность англичан («Правда»).
В армии я смог наконец правильно ориентироваться в
своем возрасте. Я слишком долго чувствовал себя молодым
человеком. Для личного самочувствия лучше и желать нече-
го, но когда ты в коллективе, правильный ориентир совер-
шенно необходим. Мне помогло здесь то, что я оказался са-
мым старшим не только в отделении пропаганды, но и во
всем Политотделе армии.
Спрашиваю Коблика:
— О чем вы думаете?
— Я думаю о величайшем даре доброты. В глубоком по-
нимании слова, доброта и мудрость — одно.
Обычно Саша Королев возвращается из командировки
улыбающийся и умиротворенный. А тут он вошел как ночь,
будто совершил какой-то тяжкий грех. Никто из нас не про-
изнес ни слова, мы только переглянулись между собой: Коб-
лик, Артемьев и я. Чувствовалось, что произошло что-то не-
поправимое. Все мы молчали. Первым, казалось, должен за-
говорить сам Саша, и он заговорил:
— Братцы, что же вы никто не скажете мне: Королев,
здравствуй?
Но все продолжали молчать. Тогда Королев сказал:
— Вчера я своими руками закопал нашего нового това-
рища, Резниченко.
И Саша Королев, обычно такой молчаливый, при-
нялся подробно рассказывать, как все это произошло.
Говорил тихим, ровным голосом, ни к кому не обра-
щаясь, словно в избе он был один и просто предавался воспо-
минаниям.
— Ну, задачу вы знаете: предстояла атака, надо было
взять две рощицы, помочь выйти тем, кто еще оставался в
мешке. Рощицы — по обе стороны мешка. На карте они вы-
глядывают наподобие каски и репы. Штабные так их и окре-
стили: «Каска» и «Репа». Резниченко поднимал боевой дух у
ПЭ
тех, кто пойдет на «Каску», а я помогал сколачивать народ
для «Репы». Люди не ели по три дня, истрепаны бомбежкой.
Бомбежек он не прекращает, треплет нервы и днем и ночью,—
ночью кидает мины или же тяжелые чемоданы. Но ребята
опять же золотые. С такими воевать можно. В общем-то это
остатки двадцать шестого полка седьмой гвардейской, то-
го самого, который принял на себя удар, когда дивизия игра-
ла свадьбу — справляла юбилей.
Было, конечно, два-три меланхолика. Они знали, что не-
которые части выведены из боя на отдых и ворчали: «А мы
что, хуже других?» Но этих уняли свои же. В общем, к мо-
менту атаки мы с Резниченко со своей работой управились
и сошлись в блиндаже КП полка. Сели на полу в угол и подо-
брали ноги, чтобы никому не мешать и маленько отдохнуть.
Я было начал дремать, а он мне говорит: «Королев, у меня к
тебе просьба: я не умею плавать. Я ничего не боюсь, вот толь-
ко не умею плавать».
Я его успокоил: «Во-первых, говорю, вода не такая уж
холодная. Это раз. Во-вторых, говорю, это не бассейн для
плавания,— здесь с тебя никто не спросит ни а-ля браса, ни
кроля. Видел, сколько половодье понакидало коряг промеж
кустов? Выбирай, которая ухватистей, и спускай на воду;
работай ногами по-собачьи, как ребята в деревне балуются,—
коряга тебя сама на другой берег вынесет. А главное, говорю,
«Каска» и «Репа» будут наши,— про Ловать забудь. Думай
только, как бы нам не поплыть в собственной крови. Делай
короткие перебежки, следи за дыханием, прячь голову, ког-
да надо,— вообще ты уже ученый, не в первый раз,— соблю-
дай технику безопасности».
Однако, братцы, разговор мне этот не понравился. Не
знаю, как вы, а я замечал, что товарищей с таким предсмерт-
ным настроением судьба не любит: вроде как бы они полу-
чаются в игре лишние. А работал Резниченко по политиче-
скому обеспечению боя отлично. Мне об этом говорил сам
командир полка.
Во время этой нашей беседы по водному спорту вдруг
входит в блиндаж наш командарм Борановский и сразу же с
порога упрек:
«Что-то слишком много здесь штабных командиров!»
Мы с Резниченко приняли это как директиву и перешли
в соседний блиндаж к заместителю по строевой. Здесь и нам
пришлось заняться философией. Бывают такие моменты.
У вас, я уверен, тоже не раз это было. В самом деле, работу
«19
свою перед боем мы выполнили; оружия у нас, кроме писто-
летов, нет. Опять же, никакой группой мы не руководим. Ни-
кто никаких указаний из штаба полка нам не дает. Но если
мы уйдем перед самой атакой, кто же не обвинит нас в тру-
сости?
Да и в самом деле, если говорить правду, вполне воз-
можно, что мы оба здесь понадобимся. Со мной это уже бы-
вало не раз.
Артемьев перебил Королева:
— Такая философия в жизни называется идеализмом.
А по-русски — вы сваляли дурака. Обычная игра самолюбий:
кто кого пересидит, кто храбрее: Резниченко или Королев?
Вот почему надо ходить в команд [ровку одному, без близ-
ких знакомых. Политработники гибнут — летят как семечки.
Выполнил работу — обязан уйти, не путайся под ногами,—
ты необходимо нужен в другом месте.
— А я, братцы, в таких случаях,— спокойно продол-
жал Королев,— советуюсь со своим сыном. Он у меня
парень уже большой—шесть годиков. Посоветовался я с
ним по беспроволочному телефону, и он мне сказал:
«Папа, иди в атаку — спасай нашу Родину и выручай това-
рищей из окружения,— мне ведь через год надо будет идти
в школу!»
Да и некуда было уходить, такая шла с воздуха обработ-
ка: минут сорок никто не мог выйти наверх из блиндажа, а
если кто лежал в обнимку с землей — не мог поднять го-
лову.
— Саша,— очень тихо спросил Королева Артемьев,— как
же все-таки погиб наш товарищ?
— Очень даже просто погиб наш товарищ. Когда разорва-
лась последняя серия бомб и немец ушел на заправку, на-
верху раздался крик командарма. Он орал как в трубу:
«Все — в атаку! Все, все — в атаку!»
То же кричали и командиры двадцать шестого полка. Мы
тоже стали кричать. Мы пошли со всеми — сначала ничем не
командовали, никем не руководили. Но работа нашлась сра-
зу. Он начал нас трепать минами. Винтовок можешь подби-
рать сколько хочешь — уже многие товарищи воткнулись в
землю на веки вечные. Между прочим, с винтовкой бежать
в атаку как-то веселее: в ней больше весу и сам становишься
тяжелей, крепче на ноги, и удар штыком выходит солиднее.
Тем более немцы в таких случаях, сближаясь, стреляют ав-
томатом с живота. Никакой прицельности — только трепотня.
214
Мы несли потери от мин, а не от автоматов. Несколько
командиров уже выбыли из строя. Смотрю, около моих пет-
лиц группируется партия бойцов, у Резниченко — другая:
обычная картина, когда твой командир погиб. Сначала мы
потеряли друг друга, потом опять сошлись вместе. Это когда
мы взяли «Репу» и получилось что-то вроде антракта. Резни-
ченко командует взводом, у меня похоже на роту. Он, уви-
дев меня, ужасно обрадовался, но тут же испугался: заметил
на моих руках кровь, говорит: «Королев, давай я тебя пе-
ревяжу».
Я его успокоил: это кровь фашистская, я двоих приколол
штыком к березе, а с третьим пришлось покататься по земле,
этот, собака, кусался, чуть меня не задушил.
— Сашка! — простонал Артемьев.— Не мучай, говори, как
погиб Резниченко.
— Очень даже просто. Ты разве никогда не видел, как
отдают богу душу? Мне важно не то. Я тяну, чтобы ты понял:
Резниченко дешево себя не отдал. Он тоже убивал, и «Репу»
мы все-таки взяли. Погиб он уже на поляне. Не в Ловати по-
плыл, а в собственной крови. Здесь густо рвалось. Одной ми-
ной меня кинуло вверх, потом об землю... Сколько лежал —
не знаю. Открыл глаза — около меня никого нет. Подполза-
ет лейтенант, такой молоденький. Спрашиваю:
«Со мной был товарищ, где он?»
«Кто-то, говорит, стонет в воронке».
Там его и нашел. Осколком в спину. Что-то шепчет, а по-
нять уже нельзя. Я его тут же перевязал индивидуальным па-
кетом. Мы с лейтенантом попробовали его тащить на КП
полка. А что толку? Умер у меня на руках. Что-то хотел ска-
зать. Я ухом к его губам. Он хрипит: «Плыви со мной ря-
дом!..» Потом вот так дернулся и затих. Когда сабантуй кон-
чился, я взял трех бойцов. Мы углубили воронку. Это и есть
могила нашего Резниченко. У деревни Лука, на самом бе-
регу Ловати.
7 октября.
Позвонил Куницын, приказал через Губера, чтобы Коб-
лик отправился в 391-ю дивизию. Сейчас это самое пекло.
Я, конечно, попросил Губера разрешить и мне туда от-
правиться. Я сказал:
— При свойственной философам рассеянности не получи-
лось бы с Кобликом какого-нибудь ЧП.
1Э
Это взорвало Губера:
— Знаете что, товарищ Ковалевский?.. Знаете, что я обя-
зан вам сказать?..
Он долго не мог перескочить через это «знаете что». На-
конец, взяв себя в руки, он сказал:
— Нельзя все время человека водить за руку, пускай
привыкает. А потом, знаете, что я вам должен сказать? Зна-
ете что?
Я подумал, что он опять не перескочит через «знаете что».
Но ведь Губер, в сущности, добрый человек. Он показал мне
свою «золотую улыбку» и закончил:
— Там хватает связных и без вас. И вы не можете дока-
зать мне, что в триста девяносто первой дивизии писать исто-
рию легче, чем сидя здесь со мной за столом.
Но я не сдался. Нельзя в 391-ю дивизию — пойду на
командный пункт армии. До Зуевых Горок нам с Кобликом
будет по пути, а там посмотрим...
Я уже давно досадовал, что мне не удается видеть работу
высшего командования армии.
Позвонил Куницыну:
— Товарищ комиссар, я прошу разрешить побыть у вас
дня два. Это нужно для работы.
Куницын ответил:
— Приезжайте.
— Можно завтра?
— Да.
Это моя крупная победа.
Но Коблик расстроен: от Зуевых Горок в дивизию он пой-
дет один. Приуныл не только потому, что плохо ориентирует-
ся,— на севере, куда мы отправляемся, все гремит от кано-
нады и бомбежных разрывов. Коблику надо идти к огню бли-
же, чем мне.
На днях зашел разговор, что было бы, если бы немцы
сбросили воздушный десант. Коблик сказал, что вел бы себя
нормально:
— Это ведь все-таки люди — здесь все понятно: надо уби-
вать. Здесь все понятно, а вот авиация... я должен откровен-
но признаться, что перед ней я испытываю страх.
Удивительный закат: как шафраново-розовый светильник
за матовым стеклом, нежно-нежно окрасил серые облака.
Скучаю без Марии Михайловны, без сына.
ей
9 октября. Зуевы Горки.
Когда подходили к командному пункту армии, увидели
неправдоподобную кошку.
Овраг порос мелким лесом. На дне — речушка, Заробская
Робья с торфяною водой цвета хлебного кваса. В кустах и под
деревьями — замаскированные грузовые машины; под обры-
вом— врезанные в толщу глины землянки. Ни одной избы
нигде нет и в помине — все сожжено. Мощные удары артил-
лерии вдали — звуки боя. А здесь, на дне оврага, молодая ко-
шечка играет с пойманной мышью: отскочит от нее, делает
вид, что совсем забыла о ней, мышь побежит, кошка наска-
кивает на нее, игра начинается снова.
По дороге к Зуевым Горкам Коблик спросил, охотился ли
я когда-нибудь и ловил ли рыбу. Я ответил, что умею об-
щаться с природой без ружья и получать от этого общения
все, что мне надо.
— А вы? — спросил я Коблика.
— Да! В детстве увлекался этим года два. Мы ловили в
лимане под Одессой золотых рыбок. Их было там много.
Мне было их жаль, а ребята их жарили.
Постепенно выяснилось, что Коблик «охотился» в питом-
нике, где разводили рыб для аквариума.
Высокий, для здешних мест даже очень высокий, обрыв
над Заробской Робьей. В красной глине по всему откосу сапе-
ры понарыли землянок и соорудили блиндажи. Разворочен-
ная лопатами глина прямо-таки пылает, до того она яркая,
почти что оранжевая. Чтобы хоть как-нибудь замаскировать
КП армии от недоброго глаза, отвалы глины и свеженатоп-
танные дорожки саперы запорошили сеном и забросали ело-
выми ветками. Но всего не закроешь.
Бригадный комиссар Куницын живет наверху в крошеч-
ной баньке, одиноко торчащей среди землянок. Он отвечает
за моральное состояние всех бойцов и за политработу в ар-
мии. Он ежеминутно должен знать состояние всего армейско-
го организма А командующий уже оперирует более абстракт-
ными, штабными категориями, больше заглядывая в карту
и в оперативные сводки, чем в душу человека. С человеком
он имеет дело, когда тот уже в ранге командира полка или
реже — командира батальона.
217
Куницын дал мне прочесть тезисы ЦК ВКП(б), разослан-
ные по армиям. Основной вывод из них — надо надеяться
только на себя. В Америке и особенно в Англии работают
сильные антисоветские группы, выступающие против второ-
го фронта. Турки стягивают к нашей границе войска, туда же
съезжаются разного рода белогвардейцы. В Японии нараста-
ет стремление вторгнуться в Индию, чтобы встретиться с
немецкими войсками у Персидского залива.
Трудно сохранять надежду на второй фронт.
Утром наконец я встретился с членом Военного Совета
Тележниковым.
Коренастый старик, еще бодрый, но тяжеловатый—пояс
ему требуется большого размера, лицо барственно-холе-
ное, розоватая кожа натянута туго; круглая голова коротко
острижена, но не догола—на ней искристо посверкивает
ровная седина; глаза маленькие — медвежьи, совершенно
черные. О нем у нас в армии говорят, как о человеке умном,
такое же впечатление произвел он и на меня.
Тележников сидел на венском стуле со стариковской, до-
машней уютностью; на его полном теле тугой серовато-си-
ний свитер, на ногах нитяные носки и ночные мягкие туфли.
Я вынул из сумки блокнот. Извинился и предупредил Те-
лежникова, что буду прерывать его — спрашивать. К его че-
сти надо сказать, что он охотно отвечал на все мои вопросы и
уточнял детали.
Тон беседы — простой, искренний. Тележников иронически
спросил, имея в виду первый раздел истории:
— Агитка?
Я признался:
— Как писатель я испытываю большое неудовлетворение
от первой части. Она очень условна.
Наши взгляды с Тележниковым здесь совпадают: писать
надо фундаментальнее, глубже и как можно правдивее.
Тележников посоветовал мне дней пять побыть на КП,
присмотреться к оперотделу, к работе начальника штаба и
командующего артиллерией армии.
Командующий армией Борановский (они живут с Тележ-
никовым в одном блиндаже) встретил меня такими, казалось
бы, зловещими словами:
— Ну, если пришел историк — я ложусь спать!
Он быстро снял китель и сапоги и лег на кровати поверх
218
одеяла в носках и брюках. Однако слушал он наш разговор
очень внимательно.
Во внешнем облике командарма, в резких чертах его ко-
стисто-худощавого лица с удлиненным подбородком сохра-
няется что-то плебейски-пролетарское, от времен граждан-
ской войны (он был шахтером); и в то же время на него уже
лег налет генеральского лоска: безукоризненно свежая, бе-
лоснежная сорочка с туго накрахмаленными манжетами,
прихваченными в кистях рук агатовыми запонками.
В их блиндаже очень светло от двух электроламп и от бе-
лых простынь, прибитых для опрятности к стене, у каждо-
го над кроватью; на двух небольших рабочих столиках — то-
же белым-бело: у Тележникова опять-таки простыня, а у
Борановского — деревенская скатерочка и даже с наивным
простеньким кружевцем. Чисто, тепло, уютно. На столе у
каждого — цветные карандаши в консервной банке из-под
американской тушенки.
Я рад, что принят Тележниковым. Начало неплохое —
вот я и приступил к изучению руководства армией,— но са-
мый разговор с Тележниковым меня немного разочаровал.
Я надеялся больше узнать от него о битве под Москвой. Член
Военного Совета ничего не прибавил к тому, что я уже знал
от Поростаева. Мало что дал мне и его рассказ о том, как он
был вызван вместе с командармом В. И. Кузнецовым в
Кремль к Сталину.
Решалась судьба Ударной. Армия перебрасывалась от
Москвы к Старой Руссе, перед ней ставилась новая страте-
гическая задача: принять участие в отсечении немцев от
Ленинграда. Однако Тележников в разговоре со мной придавал
главное значение не этому факту, а больше тому, где кто
сидел из членов Государственного Комитета Обороны. Те-
лежников даже нарисовал в моем блокноте план кабинета и
пометил крестом то место, где сидел Сталин.
Я решил повернуть ключ разговора по-другому, но в это
время молчавшие до сих пор четыре телефонных аппарата
заработали вдруг все сразу.
Взяв одну трубку, командарм сказал только два слова:
«Все понятно!»—и тотчас же ее повесил. Быстро—один за
другим — он стал натягивать сапоги на свои длинные, худо-
щавые ноги. Вошедший в блиндаж адъютант хотел было по-
мочь ему одеться, но командарм нетерпеливо вырвал ки-
тель из его рук и приказал:
— Соедини е с Макаровым!
219
Разговор с командующим артиллерией был у него тоже
короткий:
— Геннадий Петрович, дай Балабухе все, что у тебя есть.
Не скупись — порадуй старика! Да, зажег Селяху. Атакует.
Для первого раза хватит. Не хочу быть навязчивым. Про-
щаясь, Тележников сказал мне:
— Не ждите, когда вас вызовут, заходите.
А Борановский крикнул, когда я уже взялся за скобку
двери:
— Если бы это был газетчик — уж давно бы влез сюда,
а историк человек скромный. Вы действуйте смелее!
Когда я вышел из блиндажа, все небо над горизонтом было
охвачено зловещим багряным заревом. В полном безветрии
огромное пламя над Селяхой приняло форму острой пирами-
ды и своей вершиной, как факелом, лизало край четко про-
черченной, как бы обрубленной топором, тяжелой тучи... С не-
мецкой стороны, сквозь гул канонады, совершенно явственно
(радиорупор) доносились торжественные звуки органной му-
зыки Баха.
Окаянное, сатанинское великолепие траурной, сырой
осенней ночи в постановке фашистских изуверов.
Вчерашний пеший переход в тридцать пять километров
не прошел для меня даром — большая вялость, хочется лечь.
Среди дня забрался в оргинструкторскую землянку, лег под
нары, где на глиняный пол брошен клочок сена, и вздремнул
там немного.
В штабе я застал военкома штаба Перекалила, похожего
на стройного красавца гусара из царской армии. Любопытная
фигура в Советской Армии. Он чрезмерно бл< говоспитан мя-
гок и застенчив. Это ввело меня даже в заблуждение, когда я
видел его у Поростаева,— уж слишком много он там улыбал-
ся и держал себя старомодно — «по-светскому». Здесь, в Зуе-
вых Горках, он оказался умнее, чем я думал о нем.
Перекалин рассказал мне об отношениях между коман-
дармом Борановским, членом Военного Совета Тележнико-
вым и начальником Политотдела Куницыным. Намекнул на
щекотливость моего дела: разве может быть безразл ч о
Тележникову то, скажем, каким я покажу в истории армии
Поростаева, Куницына и тем более командарма?
Потом разговор зашел об отношении штабных работай
ков к женщинам. Он утверждает, что у 99 процентов коман-
220
диров нет какого бы то ни было интереса к половому вопро-
су— они поглощены войной. 1 процент имеет, как выража-
ются в штабе, «прикрепленных» женщин, с которыми живут:
связистки, работницы столовых, АХО, военторга, медсанбатов
и госпиталей, банно-прачечных отрядов. У этих нет никакой
любви — голая, взаимно устраивающая, «выручающая» фи-
зиология, нет ни трагедий, ни проблем — оба пола смотрят на
положение вещей обнаженно просто.
Сейчас уже ночь. Устал бесконечно. Побалую себя немно-
го — закончу этот день похвалой самому себе: кое-чего я уже
достиг в армии — для меня в Ударной открыто теперь все.
Остальное будет зависеть от моего разума и умения рабо-
тать — только от самого себя.
10 октября.
Внизу под обрывом, на излучине Заробской Робьи, стоит
небольшой стожок сена, недалеко от дощатых кладочек — пе-
реход через Робью. Я отправился на другой берег, чтобы по-
быть на лужке, отдохнуть наедине хотя бы с полчаса. Вдруг
из стога сена начинают доноситься патефонные звуки танго,
напоминающие мне фильм «Под крышами Парижа». Оказы-
вается, здесь, в сене, замаскирован патруль, охраняющий
подход к КП с той стороны речушки.
Язык:
«У счастья нет позывных».
«Как вспомнишь, так даже кирпич в горло не лезет».
«Чихает, ему желают здоровья, а он говорит: «Спасибо!
Теперь бы только в АХО получить новые валенки, и все бу-
дет в порядке!»
«Птица не родится в одно перо».
11 октября.
Тележников уехал в Озерки. Придется отложить про-
должение нашей беседы. Чтобы не терять времени, я
все-таки отправился в 391-ю дивизию, пользуясь тем,- что
здесь, в Зуевых Горках, я вышел из-под власти «золотой
улыбки».
Особой нужды, конечно, не было идти по такой дороге,
жуткой от еле вылазной грязи. Но Коблик пошел туда, и мне
не хотелось бы давать повод думать, что я избегаю таких
мест.
621
Я вышел из Зуевых Горок в нелетную погоду — моросил
дождик, а под вечер небо расчистилось. И что они только,
сволочи, не вытворяли: овраги, поляны — весь лес наполнил-
ся напряженною музыкой смерти; «мессершмитты», пики-
ровщики и «юнкерсы» стригли и брили лес, сверлили и рвали
в клочья ели, березы и сосны, и казалось, что они уничтожа-
ли вместе с тишиной и самый закат и оттого только и ночь
наступила, что бесчинствовала авиация.
Но самое удивительное, что никаких жертв от этого бесно-
вания в дивизии в этот вечер не было—все бомбы и пули сы-
пались мимо, изуродован только многострадальный лес.
Я попал на собрание, где зачитывали указ Верховного Со-
вета об упразднении института военных комиссаров.
В перерыве между чтением, когда немецкая авиация кру-
шила лес вдоль Черного ручья, Коблик успел мне шепнуть
с неожиданным спокойствием:
— Боюсь, что после всей этой музыки меня не удовле-
творит ни один концерт в Москве.
Сейчас интереснейший, исторический для Красной Армии
момент: политработники взбудоражены указом о введении
единоначалия, о переаттестации, о присвоении общих, еди-
ных воинских званий. В слове «комиссар» до сих пор еще
звучит романтика первых лет революции и гражданской вой-
ны. Не так-то легко с этим проститься. Тяжкий удар по
стольким самолюбиям. А тут еще переаттестация—докажи,
что ты способен стать строевым командиром,—для этого
многим предстоит дополнительная учеба и, возможно, даже
снижение зарплаты. У многих это отразится и на бюджете
всей семьи. И все это — в самый разгар кровавой войны, ког-
да враг дошел до Волги и рвется дальше.
После собрания Коблик сказал мне, что присутствовали
только члены партии. Мне стало стыдно, точно я кого-то об-
манул. Я упрекнул его:
— Что же вы никого не предупредили, что я беспартий-
ный?
Коблик расхохотался.
— Кому же могло прийти в голову, что вы беспартийный?
Сами виноваты — вы же не даете никакого повода считать
вас беспартийным.
— Но вы-то знали, что я беспартийный!
— Ничего, Вячеслав Александрович, это дело поправимое.
Теперь вам не остается другого выхода, как вступить в пар-
тию.
222
Никогда еще не ночевал в такой тесноте: с одной стороны
навалился Коблик, с другой — сдавливал ребра какой-то по-
литрук. Жара. Чтобы остыть, вышел под осенние звезды. Со-
звездие Лебедь как алмазный крест, подвешенный к черным
веткам деревьев.
Среди ночи немец начал швырять в нашу сторону ми-
ны. Я засек время — шестнадцать штук за одну минуту, и
так до самого рассвета. Ни одна не разорвалась ближе ста
метров.
Вернулся в землянку и сначала не мог сообразить, почему
вдруг на нарах стало свободно. Потом посветил фонариком
под нарами: оказывается, Коблик передислоцировался от мин
уже туда — такие у него глубокие познания о сопротивлении
материалов.
12 октября.
Какой-то политрук рассказывал, как он встретил в лесу
военкома батареи «катюш» и работника из Особого отдела.
Они спрашивали дорогу на Коровитчино. Оказывается, во вре-
мя отступления там брошены снаряды для «катюш» на во-
семнадцать залпов (!). Комиссар и особист шли взорвать эти
снаряды, чтобы те не попали в руки к немцам.
Политрук предупредил, что там немцы и что оттуда не
выйдешь. Комиссар ответил:
— Я и не собираюсь выходить оттуда живым!
«Война мышей и лягушек».
На берегу Заробской Робьи вырыта узкая щель. В нее сва-
лилось множество лягушек. Я пробовал сосчитать и после
ста шестидесяти сбился. Они пытаются выкарабкаться, цеп-
ляются за стенки, но срываются обратно, перекувыркивают-
ся, вываливаются в песке, как в муке. По углам щели они ле-
жат, напластовавшись в несколько слоев. У них обреченный
вид смертников.
В этой же щели промышляет семейство мышей: одна
взрослая мышь и трое мышат с блестящею, добротною шер-
сткой. Похоже на то, что они здесь процветают. Вид у них
жизнерадостный, деятельный, они усиленно потрошат лягу-
шек. Когда я наклонился к ним, послышался бисерный писк,
и мыши мгновенно исчезли. В углу у них уже оборудована
норка.
223
По дороге к Черному ручью на кустах справа и слева то
и дело попадаются веточки, перевязанные обрывками мар-
ли. Это страдальческий путь в медсанбат, чтобы легкора-
неные сами могли найти дорогу.
На лесной дороге мы с Кобликом увидели восемь мо-
гил погибших бойцов. Когда мы проходили мимо, я сказал
ему:
— Надо издать приказ по армии, чтобы все, кто проходит
мимо могилы, отдавали бы воинское приветствие. Ведь каж-
дый человек, как сказал Гейне, это целый мир, рождающийся
и умирающий вместе с ним. Под каждым надгробным кам-
нем —история целого мира.
Коблик мне ответил:
— Это слишком будет сосредоточивать внимание на мо-
гильных вопросах и не будет действовать так, как вы того
хотели бы.
Я не согласился:
— На войне так много поводов к могильным мыслям, что
то, что я предлагаю, будет действовать именно так, как я хо-
тел бы.
Помолчали. Прошли по грязи еще шагов десять. Я опять
возобновил разговор:
— Я ждал, что вы мне так возразите. Мы не можем до-
биться, чтобы приветствовали как следует живых, как же
нам удастся заставить приветствовать мертвых?
— Это верно.
— А боец мне ответил бы на вашем месте так: «Сколько
бы ты его ни приветствовал, это не заставит мертвого под-
няться из могилы».
— Это тоже верно.
Мы разговорились о союзниках. Коблик сказал, что если
Англия просто нас обманула, в ближайшие месяцы что-то
произойдет. У нас и у Германии силы примерно равны. В кон-
це концов обе стороны увидят, что дело идет о постепенном
истреблении друг друга к выгоде третьей стороны и, может
быть, придут к какому-то соглашению.
Эти рассуждения меня возмутили. Я спросил, стараясь
сдержать раздражение:
— Что с вами? Вы устали? Надо совершенно ничего не
понимать, чтобы думать о пр мирении с Германией. Вы ли
это, Семен Маркович?
224
— Вы правы,— сказал Коблик.— Со мной происходит
черт знает что. Откровенно говоря, от усталости у меня даже
темно в глазах и кружится голова.
14 октября.
Куницын попросил меня сделать несколько докладов о
традициях Ударной в 86-й бригаде —она только что вошла
в нашу армию и еще не сделала ни одного выстрела.
Коблик рад — ему приказано отправляться с лекциями в
эту же бригаду. Я тоже доволен — в Шутовку вернемся
вместе.
Когда мы как следует размялись и вошли в ритм нетороп-
ливой ходьбы, рассчитанной на многие километры, я сказал
Коблику:
— Можно было бы написать книгу под названием: «Два
слепца на военных дорогах». Слепцы, которые не знают сво-
его будущего.
На привале я развернул одну из своих фронтовых тетра-
дей и наткнулся на запись о единоначалии: политработник
обязан помогать строевому командиру, но ни в коем случае
не подменять его,— командир должен отвечать за все, в том
числе и за политработу. Как я был прав! Показал Коблику.
Он сказал:
— Вы пророк!
Я ему ответил:
— Это пророчество мухи, жужжащей в пустом стакане.
Какое исковерканное, дикое место—Речицы, где распо-
ложился штаб бригады. С тех пор как я переночевал здесь
однажды, деревню нельзя узнать — не осталось ни одного
бревна: срубы разобраны на блиндажи, кирпич фундаментов —
на печурки. Стоят одни только растопыренные, как рыбьи
скелеты, остовы обгорелых ракит и кое-где валяется битый,
раскрошенный, ни на что не пригодный кирпич.
В 86-й бригаде настроение у многих политработников по-
давленное: боятся занижения и ущемления тем, что теперь
они не равны в правах с командирами, а всего лишь их заме-
стители.
Бригадный военный инженер сказал мне, что комиссар
саперного подразделения ведет себя как больной. В такой же
8 В, Ковалевский
225
депрессии и комиссар санитарной части. Теперь, когда его
подпись больше не требуется, все обращаются прямо к на-
чальству, минуя его — бывшего комиссара.
Мне так нравится хорошая землянка, что иногда приходит
в голову: вместо дачи под Москвою, которую я не имею
средств построить, вырою где-нибудь на откосе, на склоне го-
ры землянку. Стены — бревенчатые, печурка, окно в двери
и, может быть, река под горой.
Коблика поражает моя жажда к людям, стремление все
видеть и наблюдать. Он говорит — такая жажда может быть
только у человека, который стремится во что бы то ни стало
наверстать упущенное. Он предполагает, что этой жажды
раньше у меня не было, что я придерживался флоберовско-
го принципа «башни из слоновой кости». Недаром, по его
мнению, на меня так подействовали слова Сократа: «Деревья
и горы ничему меня не научили, пойду-ка я к людям».
Он прав: в юности у меня было лирическое, импрессиони-
стическое восприятие действительности, и я мало обращал
внимания на людей. Во время гражданской войны я мог бы
сделать куда больше наблюдений и, может быть, даже запи-
сей, если бы уже тогда у меня был вкус к прозе. Но случи-
лось так, что как раз в ту пору я был целиком под влиянием
символистов.
У нас с Кобликом огромная разница в годах: ему — 33,
мне — 45. Надо удивляться не тому, что на многое мы смот-
рим по-разному и что у нас несхожие характеры, а тому, что
у нас так много общего.
Коблик — человек целиком нового «издания», а я несколь-
ко старомоден — отягощен и обогащен в то же время влия-
нием символистов и быта старой интеллигенции. Он тянется
к коллективу, не может оставаться в одиночестве более полу-
часа; я впадаю в депрессию, если мне не удается побыть в
течение дня одному. Коблик все время тянется к людям.
В дороге он ищет локтя. Мне нужно чувствовать воздух во-
круг себя. Я немного отстраняюсь, а он ищет прикоснуться
своим плечом к моему плечу. Идем по тропинке рядом — он
все время отжимает меня в грязь, на обочину, если же я
перехожу на другую сторону дороги, он — за мной. Я сту-
паю на бревно, положенное на топкое место он тотчас же
226
ступает на него, еще не дав мне перейти, и бревно тонет
под нами в грязи, тогда как одного человека оно выдержа-
ло бы.
Я с полевой сумкой, карандашом и бумагой ищу на фрон-
те Человека. Хочу понять механику поведения человека на
войне, механику всякого рода его побуждений, которая по-
могла бы мне понять что-то более общее и в то же время бо-
лее глубокое.
Рано утром я тороплюсь просушить портянки, пока связ-
ной топит печку, до появления первых вражеских самоле-
тов. Коблик присоединяется. Здорово пахнет портянками! На-
чинается обычный проблемный разговор.
Коблика преследует мысль, что что-то должно изменить-
ся, надо изменить — так продолжать нельзя. Но кто это сде-
лает? Ему кажется, что нужно было бы послать в редакцию
центральных газет какую-то необыкновенную статью или
серию статей, правдивых, искренних, очистительных, от ко-
торых сразу же стало бы легче и лучше.
Вместе с тем он сознается, что и сам еще не нашел, что
именно могло бы все изменить к лучшему, привести к ско-
рейшей победе и улучшению нашего общества.
Я ему сказал, что в том-то все и дело, что неизвестно, что
же предложить. Ведь не газетной статьей перестраивается
мир. Тот, кто знает, что предложить, нашел бы способ дове-
сти это до сведения ЦК партии.
Как долго я уже на войне. Алюминиевая тусклая ложка,
которую я засунул за голенище в начале войны, уже блестит,
как серебряная,— отшлифовалась в походах, все время трет-
ся на ходу о байковую портянку.
Язык:
«— Знаешь, раз уж нас двое, давай осилим такое дело!
— Какое?
— Умоемся».
«Поел — отдохни: пусть кусочки улягутся».
«Дух вон, лапки кверху».
«Все немец сжег. Не осталось аржаной соломинки в зу-
бах поковырять».
8*
227
«Ты долго будешь стучать мне в виски?» (машинистке).
«Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец!»
По дороге в Шутовку нас застала темнота. Это было в ле-
су, по моим соображениям, километрах в двух от Бора.
У комля огромной ели я расстелил на выпиравшие из земли
корни плащ-палатку и предложил Коблику посидеть.
Придя немного в себя, Коблик сказал:
— Жаль, что мы с вами не знаем адреса профессора Кор-
бовского. Мы могли бы у него отдохнуть.
— Какого такого профессора? — спросил я. У меня похо-
лодела кожа на темени, и показалось, что я ощущаю по от-
дельности каждый волосок у себя на голове. Неужели у Коб-
лика от усталости начинается что-то вроде того, что произо-
шло с четырнадцатью партизанами, которые «погибли от од-
ной только галлюцинации»?
— Это психолог, невропатолог. Он хорошо знает филосо-
фию девятнадцатого века.
— Ну и что же? Ведь вы еще лучше, чем он, знаете исто-
рию философии?
Коблик удивленно спросил:
— Разве я еще не говорил вам о нем? Это мой московский
знакомый. Мы хорошо знаем друг друга по ИФЛИ. Недавно
мне сказали, что он — в нашей армии. Он — начальник эва-
когоспиталя ЭП-68. Между прочим, говорят, что это где-то
около Бора. Фрейдинзон читал у него для раненых лекцию.
Корбовский просил его передать мне привет.
Я вскочил на ноги.
— Так что же вы молчали до сих пор? Вставайте, идемте
к нему.
— Что вы, Вячеслав Александрович,— госпиталь где-то в
лесу. Сейчас ничего не видно.
— Как ничего не видно? Мы только что прошли с вами
мимо фанерной стрелки — под ней нарисован красный крест.
Я каждый раз прохожу мимо этой указки, когда иду в ко-
мандировку.
— Все равно сейчас ничего в лесу не видно. Давайте поси-
дим здесь до утра.
— Хорошо, вы посидите,— я найду профессора и вернусь
за вами.
Коблик сейчас же встал и даже подхватил мою плащ-па-
латку с земли. Он боялся остаться один.
228
А дальше было как в книге «Тысяча и одна ночь». После
злой грязи на дороге и непроглядной темени столетнего бора
мы вдруг попали в ярко освещенную (от движка) чистую, теп-
лую палатку «Шахеразады» — медицинской сестры Тама-
ры— застенчивой приятельницы профессора, с матовой ко-
жей лица и глазами ничуть не хуже, чем у знаменитой вла-
делицы замка «в теснинах Дарьяла». С этой минуты, пока
все мы — хозяева и гости — не пожелали друг другу покой-
ной ночи, Коблик не сводил с нее глаз.
Нас с Кобликом вымыли в бане, остригли, побрили. Вза-
мен нашего более чем подозрительного бязевого белья нам
выдали по комплекту командирского белья, и все наше об-
мундирование прожарили в вошебойке — в железном шкафу
с перегретым, раскаленным воздухом. Жаль было совать об-
крученные чистыми, теплыми портянками ноги в совершен-
но мокрые, липкие изнутри от грязи сапоги.
Не обошлось без смешного. Начальнику эвакогоспиталя,
профессору Корбовскому, очень хотелось, чтобы мы убе-
дились, в каком образцовом порядке его хозяйство.
Он показал нам буквально все, и всюду, где бы мы ни
появлялись, все вытягивались перед Корбовским и ра-
портовали.
После такого парада банщик вообразил, что мы с Кобли-
ком— это по крайней мере комиссия от санитарного управ-
ления армии. Банщик-профессионал решил блеснуть своим
мастерством. Он мял нас по очереди — начав с Кобли-
ка,— массировал, выворачивал локти, трепал по шее, щеко-
тал и под конец, делая массаж моей физиономии, нечаянно
оцарапал мне нос до крови.
День закончился поразительным, прямо-таки сказочным
ужином. Лежа на койке с безукоризненно чистым, свежим
бельем, Коблик вспомнил, как он отговаривал меня от по-
исков госпиталя, и сказал:
— Вячеслав Александрович, вы — гений!
В поведении Корбовского нас обоих покоробила одна толь-
ко черточка. Когда мы ужинали, связной принес ему одному
отдельное блюдо: жареные мозги. Корбовский извинился,
объяснив нам, что он сидит на особой диете.
18 октября. Шутовка.
Сижу в седьмом отделении, читаю материалы.
Из протокола № 76 (допрос пленного Буха. Я присутст-
вовал при этом допросе).
Бух сказал:
«Это война прежде всего двух политических систем. Боль-
шевизм и национал-социализм одновременно существовать
не могут. Гитлер был вынужден начать войну так как через
некоторое время СССР обязательно и неизбежно напал бы на
Германию. Если бы большевики победили Германию, вся Ев-
ропа, включая Англию, стала бы советской, а немного погодя
эта участь постигла бы и Америку. В настоящее время в Анг-
лии развита, как никогда, опасность большевизма. Судьба
английского правительства во главе с Черчиллем решена.
Оно будет ликвидировано в обоих случаях: в том случае, ес-
ли победит Германия, но и в том случае, если победит Россия.
Черчилль рассчитывает ослабить Россию и реально по-
мочь ей лишь тогда, когда, по его расчетам, русские будут так
слабы, что не смогут самостоятельно вести наступательные
операции в пределах Западной Европы. Однако силы герман-
ского оружия опрокидывают все расчеты Черчилля. Россия
может быть побеждена Германией прежде, чем ее союзники
придут ей на помощь. В этом случае участь Англии решена».
На вопрос о том, как он расценивает то, что Гитлер часто
давал обещания немецкому народу, но не выполнял их, Бух
заявил:
«Каждый политический руководитель должен вводить
свой народ в заблуждение и лгать ему, иначе он не может
править массами. Это делают все вожди во всех странах, не
только Гитлер».
Очень неглуп старший инструктор седьмого отделения
Вагнер. Он ведет допрос умело. Во всяком случае, он не дает
немцам никакого повода чувствовать их превосходство, бы-
стро сбивает их наглый тан умелой иронией.
Прошу сдать эту тетрадь в Политотдел
армии для отсылки ее моей семье: Мо-
сква, Чистые пруды, 23, кв. 3...
В. Ковалевский
Еще одна тетрадь... В сумку больше ничего не лезет. И все
это я каждый раз ношу с собой в командировку и выходя
хотя бы на прогулку, а ночью кладу в головах, прижав ре-
мень подушкой. Надо будет договориться — оставить мои
записи на хранение в общем отделе. Страшновато это де-
лать — могут пропасть.
19 октября. Шутовка.
Среди ночи у Коблика пропали сапоги вместе с выданны-
ми ему в ЭП-68 портянками. В темноте заходил боец, якобы
раненый, просился ночевать. Ему отказали, направили к ко-
менданту. Он и украл,— света не зажигали, даже лица его
никто не видел.
231
Это легкомыслие — спать в избе, не наЯйдьп ая на дверь
даже крючка,— ведь около нашего жилища часового нет.
Кунин видел бойцов-казахов, севших в кружок. Перед ни-
ми на земле — узор из горошин.
— Что вы делаете?
Долго никто ничего не отвечает. Потом признаются: гада-
ют — когда кончится война.
— Горох обещает: «Скоро».
Я хуже стал видеть. Вероятно, надо переменить очки для
работы. Дневного света все меньше и меньше, а наши медные
светильники очень утомляют глаза.
Но больше всего беспокоит другая слепота — неосведом-
ленность. Приближается роковой, трагический момент. Ясно:
союзники хотят нашей крови. Нам «помогут», когда наши
мышцы станут вялыми.
20 октября.
Коблик опять заговорил о вступлении в партию. Я расска-
зал ему о своем происхождении. Он рассмеялся. Полушутя
я сказал:
— Но ведь я не читал даже «Капитал» Карла Маркса.
Он расхохотался до слез. Тогда мне пришлось при-
знаться:
— Но ведь и Ленина я почти совсем не читал!
Коблик вдруг посерьезнел:
— Литературу для вас я подберу — не беспокойтесь. А вы
сегодня пойдите с заявлением в партучет к майору Аронову.
Он даст вам анкету.
...И вот я сижу над анкетой. Мало того — надо написать
автобиографию. Хоть убейте меня, не могу написать просто:
«Родился в 1897 году в городе Рыльске, Курской области, в
семье священника». Во время гражданской войны и в первые
годы революции это значило: «сын попа». Помню, как трудно
мне было, когда в Москве началась первая кампания по пе-
ререгистрации паспортов. Мою мать переспросили: «Вы по-
падья?» Ей пришлось несколько раз приходить к одному и
232
тому же служащему, так как у него не было инструкции, как
поступать с женами попов. В 1921 году, уже после смерти
отца, всю нашу семью — «как не трудовую» — выселили без
предоставления жилплощади из четырехзтажного дома, в
котором мы несколько лет снимали квартиру. Весь дом был
отдан рабочим.
Нет, не могу я начать свою автобиографию со слов:
«Я сын священника». А ведь я до сих пор отношусь к своему
отцу с глубочайшим уважением и любовью.
«Детство мое и отрочество прошли на чистой и глубокой
реке Сейм в городе Рыльске. Здесь я и родился осенью 1897
года. Семья наша жила на Верхне-Сеймской улице, спускав-
шейся от городского собора вниз, к речушке Рыло, недалеко
от того места, где она впадает в Сейм.
В конце улицы, под пригорком, через заболоченную пой-
му Рыла, каждую весну после половодья настилались длин-
ные кладки — мостки из нескольких десятков досок, с бу-
дочкой посередине, стоявшей на курьих ножках над самой
водой. В будке сидел седобородый старик и не торопясь плел
сети для рыбаков из суровых льняных ниток, а если кому-
нибудь надо было перейти по кладкам из города в монастыр-
скую слободку или обратно, он брал с каждого человека по
две копейки.
У нас была своя лодка, стоявшая на приколе возле будки.
Лодка с самых малых лет была как бы живым, дружелюб-
ным существом, помогавшим мне познавать ту часть огром-
ной вселенной, которая начиналась около светлой реки с ее
густотравными, заливными лугами и лесочками-дубравами,
подходившими к самой воде.
Здесь все, что было поймано детским глазом первый раз
в жизни, полюбилось и уже вошло с той поры в мою память
на веки вечные: мир белых лилий и желтых кувшинок, со
сладковатою, клейкою кашкой, если раскусить зеленый, ту-
гой кувшинчик; мелодичное вечернее гуканье — перекличка
лягушек: «кум — кума» и влажное их кваканье днем; глухая
стена камышей, осота и ситника; пряный запах аира и пузы-
рящейся, преющей болотной тины; синие стрекозы на розо-
вых, шершавых шишечках водяного перца; вечерние крики
коростелей-дергачей; уханье, как в бочку, никогда не види-
мой выпи и жалобный плач чибиса, точно он потерял что-то
безвозвратно; белые гусиные стаи на лугах, которые вдруг
спохватывались все сразу и мчались в полуполете с резкими,
233
трубными криками, быстро-быстро, едва успевая перебирать
оранжевыми лапами зеленую мураву влажного берега, что-
бы со всего разгона плюхнуться на воду.
Я на всю жизнь полюбил полевые цветы: васильки во
ржи, кукол, повилику-вьюнок, «воловье око» — ромашку,
стройный, золотой царский скипетр и дикий лен, похожий
на львиный зев, мелкую темно-красную гвоздику, мыши-
ный горошек, склеивающую пальцы «липку» и белые цве-
точки звездочкой, с неизвестным названием, которые мож-
но надувать как пузырьки и давить на лбу друг у дру-
га, так чтобы они лопались с треском; дикую рябинку —
пижму.
Я родился в семье «крамольного» священника Александ-
ра Васильевича Ковалевского, которого в 1905 году черносо-
тенцы называли «красным попом» и которому в конце кон-
цов пришлось навсегда оставить Рыльск из-за преследования
церковных властей, особенно знаменитого курского мракобе-
са, епископа Питирима, убитого рабочими во время револю-
ции 1917 года.
Отцу моему не могли простить то, что он помогал полити-
ческим заключенным, посаженным в рыльскую тюрьму( сре-
ди них — поэт Леонид Семенов, убитый впоследствии кула-
ками): пользуясь правом легальной передачи продуктов, мой
отец помогал заключенным наладить конспиративную пе-
реписку с товарищами и родными.
Мало того, как учитель хорового пения в приходской шко-
ле и в женской гимназии, отец имел в своем распоряжении
гектограф для размножения нот. Ёот на этом самом гекто-
графе отец и предоставил возможность местной революцион-
но настроенной молодежи печатать прокламации и листовки,
призывающие свергнуть ненавистную власть царя и помещи-
ков.
Во время еврейских погромов и во время избиения черно-
сотенцами и полицией гимназистов в Курске мой отец обра-
тился в Никольской церкви к своим прихожанам с речью
и горячо убеждал их не принимать никакого участия в
погромах, разъясняя им, в каком диком противоречии с
евангельским учением находится все, что творят черносо-
тенцы.
Когда прошел слух о готовившемся еще одном погроме,
отец укрыл несколько семейств евреев в монастырской сло-
бодке, у своих прихожан, очень его любивших. А что-
бы черносотенцы не перешли через Рыло, он уговорил
старика кладочника снять на ночь, разобрать несколько
досок».
Дальше я писал, как во время наступившей после 1905 го-
да реакции отца водворили в Путивльский монастырь «на
покаяние». Начал писать о своей матери: она научила ме-
ня любить природу, музыку и литературу. Но дальше не
пошло — подумал: зачем все это я пишу? Зачем я это
делаю?
Меня подвела мнительность. До сих пор я считал, что
путь в партию для меня закрыт моим социальным про-
исхождением. Значит, для того чтобы снять барьер, надо рас-
сказать о поведении моего отца во время революции 1905
года и дать картину жизни нашей семьи в Рыльске. При
этом соблазняла меня и честолюбивая мысль: автобиогра-
фия не должна быть рядовой, серой — ее отдает в партучет
писатель.
Я не знал, что мне делать дальше. Подошел к Коблику и
положил перед ним то, что написал. Я сказал:
— Вот начало.
При этом я подумал: он рассказывал мне кое-что о сво-
ем детстве — теперь пусть узнает о моем.
Прочитав так мучительно давшиеся мне страницы, Коб-
лик долго сидел молча. Я сказал ему:
— Можете ничего мне не говорить. Я ошибся. Просто
увлекся воспоминаниями о своем детстве и раскис.
— Но я вам очень благодарен за вашу ошибку,— сказал
Коблик.— А в партучет действительно надо написать стра-
ницы три-четыре.
Так я и сделал — упомянул только узловые события: год
и место рождения, социальное положение родителе^ переезд
в Москву в двенадцатилетнем возрасте (гимназия, универси-
тет), первая работа при советской власти (секретарь уездного
отдела народного образования — опять в Рыльске). Упомянул
и о том, что мой первый рассказ был напечатан Максимом
Горьким в его альманахе «Год XVI» и что мой роман «Хозя-
ин Трех Гор» только потому и появился на свет, что Горь-
кий привлек меня к работе для издательства «История фаб-
рик и заводов».
Анкету и автобиографию я отнес Аронову сегодня же.
Воспоминания о Рыльске меня взволновали. Никогда не
забуду ночевок под открытым небом, когда мы на трех под-
водах, вместе со всеми учреждениями Рыльска, уходили от
235
белогвардейских банд Деникина: одноглазый мужик Ёгор
Пашков — заведующий отделом народного образования, учи-
тель математики Малышев и с ними я.
Мы расстилали на обочине дороги персидский ковер из
театрального реквизита, ложились на него все трое навзничь
и, глядя на осенние звезды, заводили беседу о самых высоких
материях. Под этими звездами я первый раз в жизни услы-
шал от Малышева об относительности пространства и време-
ни и о теории Эйнштейна.
Малышев был более чем влюблен в математику — это бы-
ла его религия. Он утверждал, что все античные вазы греков
и статуи из мрамора оттого так прекрасны, что они сотворе-
ны по законам высшей математики, формулы которой — бес-
смертны, ибо выражают истинную сущность вечной красоты.
Неважно, что греки не знали этого,— их величие в том, что
они бессознательно, благодаря своему гению, подчинялись
высшим законам меры и числа.
Мне было всего только двадцать два года, я не очень мно-
го понимал в высшей математике. Но я считал своим долгом
протестовать, не хотел отдавать живую душу искусства мерт-
вой логике математики. Однако все, что я говорил, разбива-
лось о ледяную скалу Малышева, как детский, косноязычный
лепет. И все-таки эти ночи, эти яркие звезды осени, перед ко-
торыми мы лежали как распятые на земле, и разговор о чем-
то, как казалось мне тогда, самом главном делали меня
счастливым.
21 октября.
У нас в отделении увлекаются стихами почти все. Вооб-
ще одно из отраднейших наблюдений на фронте — тяга к ли-
тературе, жажда художественной литературы.
Саша Королев переписывает в свою тетрадку с лекциями
и докладами стихи Есенина. Этот человек несколько дней то-
му назад был на волосок от гибели, выполнял задание Куни-
цына.
22 октября.
Вторых рам у нас нет, стекла битые, всюду щели и посви-
стывание ветерка.
Сегодня мы утепляемся. У Артемьева ничего не получа-
ется: заколачивал раму—разбил стекло; принялся затыкать
щели куделью, но только разлохматил ее и бросил.
236
Мы вдвоем с ним напилили дров, затопили печь, а я раз-
вел на кипятке клей. В работу включился и Губер: я утеп-
лил одно окно, он — другое. Он сказал:
— Чтоб вы не говорили, что клеили только вы.
Кропотливое рукоделие. Надо обклеить, окантовать поло-
ской газеты каждую дольку стекла, так как замазки нет, а
свищет отовсюду.
Губер в юности был сапожником,— физический труд для
него не в диковинку: захоти — он мог бы один обклеить всю
избу сверху донизу своими руками,— у него хорошо получа-
ется. Помню, как в Малых Горбах, увидя старика — хозяина
избы за починкою сапог, Губер взял суровые нитки, навощил
их, всунул в концы по конскому волоску и стал помогать ста-
рику. Хозяина удивило, что Губер так ловко сделал дратву,—
всучить волосок считается в этом ремесле одной из самых
трудных процедур: надо, чтобы оба конца дратвы выдержали
вместе с волоском продергивание через кожу несколько де-
сятков раз.
Пока мы утеплялись, соревнуясь с Губером в оклейке
окон, Коблик в чужих сапогах ходил в Озерки с актом о про-
паже сапог. В АХО ему выдали новые.
Передовая «Правды»: «Преступную гитлеровскую кли-
ку— к ответу» — позволяет догадываться, как велика опа-
сность нашей изоляции.
Ясно, что в Англии есть очень сильная партия, которая
стремится к сепаратному миру с Германией. Неважно, какую
роль играет Гесс — прямой ли он агент Гитлера или же пред-
почитает заменить Гитлера собственной персоной,— неважно.
Гесс спрыгнул на парашюте в Англию, и «Правда» пишет
об этом: «Надо наконец установить, кем является в настоя-
щее время Гесс — преступником ли, подлежащим суду и на-
казанию, или полномочным представителем гитлеровского
правительства в Англии, пользующимся неприкосновен-
ностью?»
Акцент не на суде и наказании, а на том, чтобы наконец
стало ясно: будет ли Англия верна союзу с нами или там про-
исходят сговоры с Гитлером?
Роковые недели. По тону передовой, по ответам Сталина
чувствуется, что он зол. Мы форсируем события, чтобы до-
биться ясности. Предстоит решить: будем ли мы воевать до
конца или же изберем вариант дипломатический?
237
О таких веЩах моЖйо говорить Только с Кобликом, и То
не сразу — несколько дней мы перебрасывались лишь отда-
ленными намеками.
В сумерках ходил на клюквенное болото. Серое небо. За-
ржавленный пейзаж. У редко растущих, карликовых болот-
ных сосен есть в рисунке ветвей и кроны какая-то своя урод-
ливая завершенность. Они напоминают испанских инфант с
картин Веласкеса: младенцы в одеждах королей и королев.
У нас резко ухудшилось питание. Напрягая в сумерках
глаза, я собрал горсть ягод и с наслаждением съел их, осве-
жился. Такое ощущение, как будто в душной комнате открыл
форточку.
23 сентября.
Черная Аня продолжает время от времени забегать к нам.
Изобретает предлоги: «Зуб болит — дайте папиросу», возвра-
щает какую-нибудь книгу. По-прежнему живет начерно, все
время перечеркивая то, что сказала, и стараясь исправить то
что только что натворила.
Ей ужасно хочется, чтобы кто-то ею увлекся — я или Коб-
лик, но из этого ничего не выходит.
Губер не может ее терпеть и называет ее скверными сло-
вами. Артемьев при всеобщем одобрении сказал, что в ней
есть что-то пугающее.
Когда черной краски было добавлено каждым уж сли-
шком много, мне стало жаль Аню, и я сказал: «От мужчины
зависит сделать женщину проституткой или хорошим чело-
веком. А Черная Аня не столько плоха, сколько несчастна».
Спор был груб, и я, для наглядности, тоже выражался
глыбообразными схемами.
Кунин считает, что в армии процветает распутство. Я вни-
мательно слежу за этим, говорю, с кем только возможно, рас-
спрашиваю.
Мои наблюдения таковы: есть круг людей, главным обра-
зом из начальства, начиная с командира батальона и выше
(комиссары — тоже), которые вступают во временную связь с
военфельдшерами, медсестрами, санитарками и пр. В этой
среде часто меняют «партнеров». Трагедий здесь мало, так
238
как обе стороны упрощенно, «трезво» смотрят на вещи: легко
сходятся и без особого труда расходятся.
Распутства, как массового явления, в армии нет. У
нас много сдерживающих рычагов: советский стиль отно-
шения к женщине, партийные и комсомольские организа-
ции. Даже в Московской, 130-й дивизии, где так много деву-
шек и женщин, половой вопрос не является сложной проб-
лемой.
Случаи уродства, когда это уже сказывается на боеспособ-
ности человека, бывают, но это — единицы, и о них особый
разговор. Расследовать один из таких «эпизодов» поручено
Рубельникову. Когда он возвратится из второго эшелона,
расспрошу.
Немцы чувствовали себя господами уже накануне войны.
В Москве в ресторан «Метрополь» зашло пять немцев — ин-
женеров, туристов. Они стали возмущаться, что за соседним
столиком сидит еврей и, подозвав официанта, потребовали,
чтобы еврей был удален.
После скандала они сами были удалены.
В Ленинграде, в гостинице «Астория», в ресторан зашел со
своей невестой советский инженер. Танцевали. Подходит
иностранец и, спросив разрешения у инженера, приглашает
его спутницу танцевать. Во время танца предлагает ей: «Ес-
ли вы согласитесь подняться ко мне наверх, в номер, я рас-
плачусь с вами долларами».
Девушка вырвалась из рук иностранца и вернулась к сво-
ему столику. Она долго не отвечала на расспросы инженера,
что случилось. Потом рассказала.
Инженер встал, подошел к иностранцу и попросил его
выйти в вестибюль. Иностранец, сообразив, что предстоит
объяснение, вышел. Но объяснения не последовало. Инженер
ударил иностранца по физиономии так, что тот свалился на
пол.
Оказалось, что это вице-консул из немецкого посольства.
Инженера тут же задержали и отправили в Наркомвнудел.
Он просидел под арестом две недели. Побитый дипломат был
отозван в Германию, а инженеру были созданы во время аре-
ста условия как в санатории: его великолепно кормили, наве-
щали сотрудники НКВД и откровенно ему сочувствовали. Он
даже прибавил в весе.
239
Геббельс выступил со статьей: «Пленники Кремля»:
«Если раньше была еще какая-то надежда, что в Англии
найдутся здравомыслящие элементы, которые понимают,
что означает победа большевизма в Европе, то сейчас эти на-
дежды потерпели фиаско. Черчилль, английские официаль-
ные круги, английское официальное мнение стали настоящи-
ми пленниками Кремля. Англия перестала быть самостоя-
тельной державой, ведущей самостоятельную политику».
24 октября.
Солнце. Розовое, хрустящее утро. В залитых водою впа-
динах— трава, как под стеклом, под первою ледяною ко-
рочкой.
В столовой на завтрак вместо сливочного масла выдали
первый раз американский жир.
Один из американских священников заявил в газете: «Мы
должны благодарить господа бога за то, что существует Со-
ветский Союз».
Под вечер Артемьев, Коблик и я пошли на болото за клю-
квой. Уже темнело. Далеко идти нельзя, а вблизи клюква
уже обобрана.
Я предложил:
— Пусть из болота нас выведет товарищ Коблик.
Он сказал решительно:
— Хорошо! — и повел... в противоположную сторону.
Я думал, что ему поможет ориентироваться закат. Когда
мы шли к болоту, я показал рукой: «Посмотрите, какой зимний
закат!» Нет, для Коблика это — ничто.
Дома я сказал ему;
— Теперь я понимаю, почему вы плохо ориентируетесь.
Сегодня я нашел ключ. Вы равнодушны к природе.
Это очень задело Коблика. Я никак не ожидал такой бур-
ной реакции. Он, этот добряк, ядовито ответил:
— Ну, знаете, при таком отсутствии чуткости и понима-
ния людей вам не удастся написать книгу, которую я от вас
жду. Нет, что бы вы ни говорили — это вам не удастся!
Я, конечно, жалею, что так обидел его. Я позволил себе
сказать о равнодушии, думая, что он понимает свои особен-
240
ности и удовлетворен своим креном в сторону людей. Он
обиделся не потому, что в самом деле любит природу; из ли-
тературы ему известно: тех, кто природу не любит, считают
обедненными людьми.
А Сталинград стоит и стоит!
Город атакуют двадцать две пехотные дивизии, четыре
танковые дивизии.
Сталинград держится ровно два месяца, отражая до пят-
надцати атак в день.
Здесь в деревнях очень много икон. Я нигде в русских де-
ревнях не видел такого обилия икон: две-три полки, застав-
ленные иконами, как киот. Очень много медных крестов и
трехстворчатых складней. Здесь много старообрядцев.
Но вот жителей выселяют,— они покидают свое гнездо.
Берут только самое необходимое — иконы оставляют. Пустые
избы со множеством икон.
Получили сегодняшнюю газету. Я сказал:
— Подумать только, вот этот самый лист сегодня был в
Москве!
И мы оба с Кобликом одновременно протянули руку и по-
гладили его.
Английский король подписал приказ о призыве мужчин
восемнадцатилетнего возраста. В Америке такой же призыв.
Нет, эти страны не собираются вкладывать меч в ножны!
Подобные факты более убедительны, чем заверения о готов-
ности продолжать войну.
Артемьев, Коблик и я возвращаемся из столовой. У само-
го крыльца нашей избы выясняется, что Коблик надел чу-
жую шинель с тремя шпалами. На его счастье, когда он вер-
нулся в столовую, там еще висела его собственная шинель, а
обладатель «трехшпальной» шинели не обнаружил пропажи.
Поздно вечером я затопил печку. Стоя около нее, мы вели
с Кобликом разговор о том, что надо написать учебник морали.
Уже очень давно, еще до войны, мне часто приходила
мысль о необходимости такой книги.
241
У ребенка, у подростка, у юноши должна быть путеводная
звезда. У нас есть общие идеи о воспитании, но это только па-
руса. Нет киля, руля, кливера и якоря. Взамен «закона бо-
жия», который все еще преподают по всему земному шару,
мы должны преподавать советскую, коммунистическую си-
стему поведения: «Закон человеческий».
У нашего юношества, у детей нет системы, нет руководст-
ва для отношений с людьми. Надо расставить маяки. Конеч-
но, на это должен быть направлен весь режим школьной жиз-
ни. Но необходима и книга. Книга должна быть точна, как
учебник, и занимательна, как роман. Она должна быть клю-
чом и дорогою, а не оковами. В нее должно быть вложено то,
что поможет и преодолеть ее, по мере того как она будет
стареть.
После войны интерес к этическим вопросам, к вопросам
ценности человеческой жизни неизбежно возрастет. Слишком
много потеряно жизней.
Такая книга неизбежно должна появиться. Вопрос
только в том: кто ее напишет? Чтобы избежать сухости,
помимо философа-психолога над нею должен работать пи-
сатель.
Иногда мы говорим об этом учебнике иронически. Оба
не убеждены, что его напишем, но часто возвращаемся
к этой мысли. Нас пленяет возможность думать об этом,
мечтать об этом на войне. Учебник морали, созданный на
войне!
Будет написана эта книга или нет, но поиски и уточнения
этой мысли — все это неизбежно войдет в мою личную книгу.
Какая это будет книга? Ничего не знаю! Хотелось бы избе-
жать традиционной формы романа. Что это будет? Скорее
всего — в личной форме или нечто необычное по форме. На-
род! Но не в общем, безликом потоке, а в индивидуальных
подробностях. Вскрытые механизмы мужества, «стояние на-
смерть». Воюющий человек, слитый с природой. Любовь и
смерть. (Я не хочу освобождать себя и от этой трудности.)
И все пронизано, как музыкальною темой, страстным поры-
вом к далекому, всечеловеческому счастью. Трагический ли-
ризм. Несмотря ни на что, оптимистическая, хотя и трагиче-
ская, книга.
Мечты, мечты! Мечты слепца на военных дорогах.
Коблик, вечно все забывающий, рассеянный и невнима-
тельный, все, что касается философии, знает наизусть. Так и
на этот раз он привел чудесные слова Канта:
94?
«Звездное небо надо мною и нравственный закон вйуфри
меня» (то есть «категорический императив»).
И еще: «Поступай так, чтобы принцип твоего поведения
мог стать основой для всеобщего законодательства».
Пока мы разговаривали с Кобликом, испеклась «в мунди-
ре» возле углей положенная мною с краешка единственная
картофелина. Я поделился с Кобликом. Она показалась нам
вкусной, «как конфетка». Тогда я еще несколько штук тща-
тельно вымыл и положил опять. Коблик уже разулся и за-
брался на русскую печь.
Ложимся спать. Ночующий у нас политрук из отделения
кадров тревожно спрашивает:
— Товарищи, что-то горит?
Я подхожу к печке. Дымятся, горят чьи-то портянки, по-
вешенные на дверцу. Чьи же это? Конечно, Коблика! Совер-
шенно новые — он только что получил их.
Дождь, дождь, дождь!.. Светло-желтая, точно выцветшая
на летнем солнце стерня. Черные от косого дождя, промок-
шие избы с дранковыми крышами.
Агитатору подарили немного махорки:
— Если бы мне подарили вечность, я не был бы так рад.
Зачем вечность без табака — лишние мучения!
26 октября.
Коблик, его характер и вся его сущность, напоминает мне
изображение человека способом барельефа: у него нет пол-
ного объема. Это как бы половина человека, вернее, одна сто-
рона человека. Коблик живет в профиль. Сильный интел-
лект, прекрасная память на избранное, облюбованное, боль-
шая любовь к человеку, доброта.
И в то же время бытовая беспомощность, невнимание к
миру природы, неумение ориентироваться. Доброта, любовь
к человеку и в то же время бесцеремонное равнодушие к то-
му, что он кому-то мешает, способность использовать чужую
вещь,— но ведь он и сам готов всем поделиться и делится.
Прекрасная память, но память избирательная, которая дей-
ствует только тогда, когда она совпадает со специальными
интересами Коблика. Все остальное Коблик быстро забыва-
243
feT. Забывает, что сам сказал Десять минут тому назад. Забы-
вает поручения. В карманах — детский хаос: письма, грязные
платки, бумажки, вырезки из газет, носки.
Королев, подобно мне, довольно часто «приминает подуш-
ку» после военкомовской столовой. Сегодня, как только он
улегся после обеда на койку, Артемьев принялся его проти-
рать с песочком:
— Сашка, а ведь ты — лодырь! Сколько тебе лет? Почему
ты спишь после обеда?
Королев, глядя в потолок, сам задал ему вопрос:
— А ты читал в летописи поучение Владимира Мономаха
своим детям? Вот послушай, чему он поучал: «Спать в пол-
день определено богом, в эту пору отдыхают и птицы, и
звери, и человек».
Артемьев не отстает:
— Нет, ты ответь нам: почему ты, атеист, после обеда ле-
зешь в берлогу?
— Не читал? Какой же ты после этого агитатор? Вот я ра-
порт напишу члену Военного Совета Тележникову: агитатор
Артемьев не читал даже поучения Владимира Мономаха.
А еще говоришь, что ты русский человек, к тому же историк.
Там, между прочим, есть прямые инструкции, как русский
человек должен вести себя на войне.
— Нет, ты не увиливай,— настаивал Артемьев,— зачем
ты спишь после обеда?
Королев спустил ноги с койки, потянулся и сказал:
— Вот вы все любите читать стихи: Есенина, Маяковского,
даже Пастернака. А желаете, я почитаю вам древнюю рус-
скую прозу,— нисколько не уступит этим стихам, еще погу-
ще будет. Поэзии в этой прозе прямо-таки невпроворот.
Королев достал из своей полевой сумки что-то напоминаю-
щее книгу, до того страницы ее были истрепаны и разлохма-
чены. Ни разу не споткнувшись, не сбившись с изумительно-
го ритма древней летописи, который зачаровал нас с первых
же слов, Саша прочел:
«Поучение Владимира Мономаха (вставлено в Лавренть-
евский список летописи под тысяча девяносто шестым го-
дом):
Вышедши на войну, не предавайтесь лени; не надейтесь
на воевод, не потворствуйте себе ни в напитках, ни в еде, ни в
сне; стражу расставляйте сами и ночью, везде поставив кара-
244
ул, сами Ложитесь вместе с воинами, а вставайте рано; да не
снимайте с себя оружие второпях, не подумавши; от такой
небрежности человек может внезапно погибнуть. Берегитесь
лжи и пьянства — это губит и тело, и душу. Когда пойдете
куда по своей земле, не позволяйте ни своим, ни чужим отро-
кам обижать жителей, ни в селениях, ни в полях, чтобы вас не
стали проклинать. А куда пойдете или где остановитесь в пу-
ти, везде напоите и накормите всякого просящего; особенно
чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел,— простой ли чело-
век, или именитый, или посол; если не можете подарить чем-
либо, то угостите пищей или питьем: эти люди, ходя по раз-
ным землям, расславят человека, как хорошего или как дур-
ного. Больных навещайте, мертвого пойдите проводить: ведь
все мы смертны; не пройдите мимо человека, не приветствуя
его».
Когда Саша Королев кончил читать, сидевший у окна
Коблик вскочил, и его табуретка, загремев, упала на пол. Он
порывисто подошел к Саше и сказал, не стыдясь своего во-
сторга:
— Саша! Как я тебе благодарен! Ты не можешь себе пред-
ставить, как я тебе благодарен!
Глаза Коблика стали круглыми, как у ребенка, и сверка-
ли от слез.
— Ведь это же действительно прекрасно! Это необычай-
но сильно. Ты прав — это настоящая поэзия. Нет, ты даже
не понимаешь, что ты сделал... Ах, как я тебе благодарен.
Ведь это же имеет прямое отношение к всенародному подви-
гу, к нашим мыслям о стойкости.
Саша Королев сказал Коблику с некоторым смущением:
— Александр Македонский тоже был великий человек, но
зачем же ломать табуретки? .
Вечером, уже перед сном, когда мы с Кобликом вышли
под звезды, он мне сказал:
— Я чувствую себя в долгу перед русским народом. После
войны я обязательно напишу книгу об истоках русской фи-
лософской мысли, обязательно. Это мой долг. Я вложу в эту
работу все, на что я только способен.
28 октября.
В Америке жестокая борьба. Сенат против второго фрон-
та. Думать так заставляет поправка, которую он внес к за-
конопроекту о призыве юношей 18 —19 лет. Смысл поправ-
245
ки: солдаты этих возрастов могут быть отправлены за преде-
лы США только после одногодичной подготовки.
Против поправки решительно выступает Рузвельт.
Черная Аня вызвала Коблика в сени.
— Я вам что-то хочу сказать.
Там, в темноте, она внезапно его обняла и поцеловала
в щеку. Со стороны Коблика она, конечно, никакого ответ-
ного движения не вызвала. Он поспешил возвратиться в
избу.
Эта двадцатилетняя девушка — анахронизм, слегка мо-
дернизированная «достоевщина». Отец ее часто менял жен.
Жили постоянно в нужде. Несчастная мать своих детей не
щадила — рано гнала их на заработки, была очень груба.
В семье была атмосфера ежедневной брани, злобных стычек,
серой нужды. Вдобавок все осложнялось интеллигентскими
претензиями и бытовою беспомощностью, неприспособлен-
ностью к житейским трудностям. Безнадзорность. Аня рано
стала интересоваться вопросами пола.
У Ани пришибленность запуганность. Боится замечаний
и окриков начальства, все время настороже — а не думают
ли о ней плохо, не собираются ли ее разыграть?
Ее угнетает то, что она некрасивая. Она все время говорит
об этом. Профиль у нее очень неплохой, тонкий. Трагический
разрез рта, как будто она все время жаждет чего-то. Фас
плохой, но портит его главным образом блудливо-забитое вы-
ражение глаз, слишком близко поставленных, и испуганный,
умоляющий почерк бровей.
Когда она на ходу попадается нам навстречу, между сто-
ловой и редакцией, у нее бывает такое выражение, словно
она хочет сказать:
— Пощадите меня. Я гадкая девчонка. Во мне все зу-
дит от тайных желаний. Но что же мне делать? Пощадите
меня!
Вся ее походка, вся фигура говорит о том, что она чего-то
стыдится. Ей неловко идти во весь рост, и она горбится, чтобы
стать ниже, и даже не до конца разгибает ноги в коленях.
Одно плечо держит ниже другого. Нашпигована множеством
стихов о неудовлетворенности страсти, о брошенности, об
обиде, щемящей сердце. В разговорах неизменно переходит
на сексуальные темы.
246
Она лживая и злая. Может впутать в какую-нибудь скан-
дальную историю. Интриганка. И в то же время она жалкая
и несчастная, подкупающая своей начитанностью, знанием
множества поэтов, которых без труда цитирует.
К нам прибыл маршал Тимошенко. Чего-то ждут. Но силы
наши невелики, с ними вряд ли можно ждать крупную опе-
рацию. Подошли две новые бригады,— одна из них лыж-
ная,— но и это слишком мало.
Сегодня всю ночь и вот сейчас слышна канонада. Стреля-
ют немцы. Этого давно уже не было.
Коблик рассказал мне еще немного о своем детстве.
— Понимаете, я был таким дикарем, что, когда белогвар-
дейцы пришли брать моего отца на расстрел, я расхохотался.
— Сколько вам было лет?
— Семь или восемь.
— Вы, вероятно, просто ничего не поняли?
— Вероятно. Что-то мне показалось смешным в крике лю-
дей, пришедших за отцом.
Отца увели, а Коблика с матерью заперли в сарай, требова-
ли золота. Когда они вернулись в дом — квартира оказалась
разграбленной.
Я спросил Коблика:
— Страшно было?
— Нет!
По-видимому, и в ребенке Коблике была какая-то ото-
рванность от обычных житейских представлений, что-то чу-
даковатое, но глубоко своеобразное.
Необходимо культивировать у детей любовь к природе.
Пускай они научатся, привыкнут замечать, что их окружа-
ет. Пусть у них разовьется внимание к деталям в природе.
Знать куст с листвой, рисунок ветвей голого дерева весною,
знать цветы, видеть, как вызревают капли росы, понимать
жизнь квадратного метра живительной почвы — великая
вещь. Все это расширяет объем любимого человеком мира,
увеличивает число привязывающих его к земле ниточек. Все
это спасет его в минуты отчаяния. Он поймет, что жизнь —
24?
больше горестного или трагического эпизода. Научится ощу-
щать ритм жизни. Как бы ни был тяжек удар, он и в беспа-
мятстве будет всем своим существом ожидать спасительной
смены событий, поворота к лучшему.
Артемьев показал мне карточку очень красивой моло-
денькой жены, гораздо моложе его.
На этой большой карточке он сам тщательно подкрасил
губы жене. Это надо понять и почувствовать. Война, фронт,
передовая, наша оторванность от семьи.
Артемьев — рекордсмен по получению писем. Шлют уче-
ницы, шлет жена. В конвертах она умудряется присылать
ему носки, бумагу, пакетики кофе.
Черная Аня принесла Коблику показать стихи. Я просмот-
рел кое-что в ее тетрадке. Стихи слабые. Хорошо только то,
что переписано из Блока, Цветаевой и «Жди меня» — Симо-
нова.
Говорить с Аней трудно, утомительно, она выворачивает
наизнанку, обнажает свои душевные язвы.
Все, что выписано у нее в тетрадке, касается любовных
мук, «роковых поцелуев», разлук и душевных ран. Но есть
и забавное, вроде:
Боже, для себя я ничего не прошу.
Дай только моей маме хорошего зятя.
Есть и такая цитата без указания автора: «Женщины со-
зданы красивыми и глупыми. Красивыми, чтобы нас любили
мужчины, глупыми — чтобы мы любили мужчин».
Когда Аня ушла, Коблик сказал о ней:
— Ее тактика напоминает немецкую: она бросается то в
одну сторону, то в другую, чтобы нащупать у кого-нибудь
слабое место. Сегодня держали оборону вы.
30 октября.
Последние цветы, которые я видел на поле, перед снегом,
уже поврежденные морозом: лютики на лужайках и мелкая,
лечебная ромашка, густо покрывавшая брошенные пашни,
забывшие, что такое плуг.
248
3 ноября.
После обеда Саша Королев подсел ко мне на койку (я при-
лег отдохнуть) и сказал:
— Привез тебе из седьмой гвардейской еще один случай
для твоей летописи. Пускай почитают молодые командиры —
пойдет на пользу. Вчера замполит третьего батальона Пуч-
ков на сон грядущий рассказал о себе. До того, как взяли его
на политработу, он командовал ротой. Немцы выбиты с вы-
сотки артналетом, отбежали к лесу. Пучкову надо поднять
своих бойцов и захватить высотку. Пучков поднимается во
весь рост и кричит: «Все за мной!» Оглядывается назад —
никто не поднимается. Второй раз командует, предваритель-
но предупредил, что будет расстреливать тех, кто лежит.
Опять никто не поднимается.
В это время немцы из станкового пулемета пустили оче-
редь в Пучкова, он стоял во весь рост. Войдя в азарт, Пучков
не реагирует. Тогда адъютант Пучкова вскочил и, толкнув
его кулаком в затылок, свалил его в окоп и тут же сам упал,
раненный в плечо.
Пучков сел на дно окопа и расплакался от своего бесси-
лия поднять бойцов в атаку. Потом выскочил опять наверх,
рванулся к высотке. Слышит, вся рота бежит вместе с ним,
некоторые бойцы уже обогнали его, стреляют на ходу. Вы-
сотка была захвачена.
Губер повез свою «золотую улыбку» в Москву. Он воз-
главляет делегацию от нашей Ударной на Октябрьском
празднике. Мы очень рады его отъезду. В избе вдруг стало
необыкновенно просторно. Нет безудержной болтовни и мед-
ленной пытки при помощи «золотой улыбки».
Однако недолго продолжалось наше благополучие. Явил-
ся Урюпин, тот самый, с которым мы в деревне Рыто так
бурно праздновали Первое мая у военкома Смолянова. Те-
перь он замещает у нас Губера. Утомленный, нервный, на-
пряженный, он принес с собой нервозную суету. Он сам пони-
мает, что не может справиться со всеми делами, торопится,
мечется и кричит. У него маниакально-навязчивая манера
во что бы то ни стало доказать, доконать, добиться, чтобы
его поняли, заставить кого-нибудь отказаться от ошибочных,
по его мнению, мыслей. Это очень навязчивый, утомитель-
ный агитатор. Он уязвлен тем, что не мог доучиться, и вот
выбивается наверх, тащит самого себя за волосы. В нем
очень много хорошего, но неуверенность в своих силах лиша-
249
ет его ровного, устойчивого настроения. Это два разных чело-
века в одном. Один — когда он равноправный с нами това-
рищ, другой — когда становится нашим начальником. Тогда
он перестает смеяться, крайне напряжен.
К сожалению, у него негибкий ум. Он многого просто не
в состоянии понять,— мыслит предвзято и прямолинейно.
К тому же он плохо видит в сумерках — это его раздражает.
Один глаз у него был оперирован — попала на заводе, ког-
да он был еще слесарем, стальная стружка. Зрачок после
операции не в центре — это вертикальная, как у кошки,
щель.
Позвонил Куницын — приказал Урюпину и Коблику на-
писать проект приказа к 25-й годовщине Октября. И вот
Урюпин не нашел ничего лучшего, как перепоручить это де-
ло мне.
Спасибо Коблику — написал приказ без меня. Мне ме-
шают внутренние тормоза, естественный протест против стан-
дартных слов официальных документов. Коблик в таких де-
лах незаменим. Он очень опытен как член партии, у него зре-
лый мыслительный аппарат, и он никогда не ошибается, ког-
да дело идет о политических формулировках.
Вечером мы сидели с Кобликом около светильника —
читали. Неожиданно вошел Куницын. Это его первый
приход к нам в Шутовку, хотя мы здесь уже несколько ме-
сяцев.
Расспрашивал, в каком состоянии история. Говорил, что-
бы за основу я взял его итоговый доклад. Итоговый доклад —
горькая правда. Из этого я делаю вывод, что от меня хотят
правдивой истории.
Я чувствую, что у начальства растет интерес к моей рабо-
те. Коблик предполагает, что они надеются найти в ней
оправдание: история, мол, поймет и не осудит.
6 ноября.
Первый мороз. Грязь скована.
Утром я ходил на свое любимое болото. Клюква вмерзла
в мох. Чтобы взять окаменевшую ягоду, надо сломать вокруг
нее оледеневший мох. На кочках остается глубокий след от
250
сапог — промерзший сверху мох проламывается и не подни-
мается больше.
Не могу читать в газетах и журналах очерки и рас-
сказы. Все мне кажется не то и не то. В чем дело? Моя ли
это усталость, мое ли настроение, или я прав: надо что-то
ломать и писать совершенно по-новому?
Коблик читает очень много, но со мною согласен.
Но как «по-новому»? Не знаю! Очень трудно будет найти
то, что нужно. Я уже предвижу все мои муки. Они начнутся,
как только на нашей земле станет тихо и я сяду к письмен-
ному столу.
К нам пришла новая, 23-я дивизия с Карельского фронта.
Довольно полнокровная — 9651 человек.
Меня заинтересовал возрастной состав — много ли людей
в моем возрасте:
1922/23— 865; 1902/6 —925;
1917/21 — 1952; 1897/1901 —144;
1912/16 — 2471; 1897/старш,— 7.
1907/11 — 2019;
Таким образом, из всей дивизии в моем возрасте человек
двадцать — тридцать.
Еще одна смерть... Погиб Федор Чистяков.
Говорят, будто бы смерть какая-то непонятная, неумная,
случайная.
Не могу дождаться Сашу Королева. Он как раз был в
лыжном батальоне — должен знать о Чистякове все. Пойду к
нему навстречу — не могу сидеть на одном месте, не могу.
С Королевым мы сошлись — лоб в лоб — возле Рябкова,—
я прошел до встречи с ним двенадцать километров. Он с пер-
вого взгляда догадался, зачем я иду, и сказал:
— Он погиб, спасая своего друга. Федя видел, что того
сейчас срежут немцы, прыгнул, повалил его, прижал к зем-
ле и тут как раз сам поспел под пулеметную очередь — нем-
цы били кинжальным огнем. Этот дружок из пулеметного
взвода самовольно вытащил «максим» на бруствер. Хотел по-
вторить фокус Феди — сбить самолет из пулемета. Он зави-
довал Феде, хотел доказать, что и он так может. Вот и дока-
зал. А того не сообразил, что, пока он. бу дет забавляться са-
молетом, немцы его обнаружат. Когда Феде, как командиру
взвода, сказали про эту затею, он побежал запретить, но не
поспел: друга спас, а сам сложил голову. Его в Самбатове
оперировали, но ничего нельзя было сделать.
251
— Почему же идут разговоры о нелепой смерти? — спро-
сил я.
— Потому что Федя все брал на себя, жалея дружка, хо-
тел заслонить его от взыскания. Перед операцией Федя про-
сил передать в батальон Славнову: дескать, он, Чистяков, сам
виноват, сам допустил оплошность. Вот в батальоне и пове-
рили, что он сам виноват. Потом уже разобрались.
Между прочим, и тот чудак вряд ли останется живой.
Когда его упрекнули: «Что ж ты сотворил? Наш Федя умер
на операционном столе»,— он заткнул себе за пояс несколько
гранат и побежал на тот пулемет, который срезал Федю. Он
забросал пулеметное гнездо гранатами и сам остался на зем-
ле — его всего изрешетили. Того он и добивался. Когда стем-
нело, товарищи вытащили его на плащ-палатке. Сейчас уми-
рает в медсанбате, должно быть, уже отдал концы.— Королев
посмотрел на часы:— Ну конечно! Я уже больше трех часов
шагаю от медсанбата.
10 ноября.
В четвертом часу звонок из редакции: «Вас вызывает
командующий».
Сегодня редакция армейской газеты устроила празднич-
ный обед, пригласила командующего Борановского. Редакция
меня не пригласила.
Дело в том, что с теперешним редактором Петушковым
у нас как-то не налаживаются отношения. Я числюсь в шта-
тах редакции, а прикомандирован к отделению агитации и
пропаганды. Власть Петушкова распространяется на меня
в одном: он может не печатать то, что я даю для газеты, и он
часто это делает.
Когда мне позвонили сейчас из редакции от имени Бора-
новского, я отправился туда и отрапортовал ему:
— Товарищ командующий, по вашему вызову явился
Ковалевский!
Он усадил меня рядом с собой:
— Почему тебя нигде не видно?
Проявил путающее меня внимание. Пугающее, потому что
мне кажется: 1) меня принимают в армии за кого-то другого,
от меня слишком много ждут, и вдруг окажется, что «король-
то голый»; 2) Военный Совет, командующий стали уж очень
интересоваться историей.
252
Командующий спросил меня, при себе ли я держу все ма-
териалы.
— У тебя есть убежище в Москве? Мы тебе поможем от-
править туда материалы.
Затем — неожиданно:
— Надо будет тебе съездить в Москву. Писателю нельзя
засиживаться. Надо освежаться для работы.
Итак, вопрос о моей поездке решен.
Разделаюсь со своими ближайшими работами и обязатель-
но займусь командующим. Фигура, безусловно, интерес-
ная. Эпизод под Лукою нельзя обойти. Там командующий
лично задерживал трусов, сам организовал под обстрелом
оборону.
Между прочим, фоторепортер начал, лебезя, говорить, за-
чем Борановский рискует. Борановский осадил его:
— Эти дела тебя не касаются.
Потом он сказал:
— Я — шкурник! Красная Армия мне всего дороже. Но в
армии больше всего я люблю Ударную. Я люблю людей. Но
себя я люблю больше всех. Своя шкура мне всего дороже.
Я не хочу пятнать свою шкуру. Я не хочу, чтобы сказали,
что в опасное время я отсиживался в блиндаже. Я бере-
гу свою шкуру, поэтому я иду на передний край, когда это
надо.
Он приказал фоторепортеру давать все материалы для ме-
ня, делать для меня все, что надо.
Потом рассказал о своей матери. Мать не поверила, когда
он написал ей о присвоении звания. Она ему ответила: «Из
мужиков генералы не бывают».
Он уговаривал ее жить вместе с ним. Она не согласилась:
«Сколько служил, стал начальником, а дома до сих пор не на-
жил. Скачешь по местам, как бродяга. Ни коровки у тебя нет,
ни курочек. Как я буду с тобой жить?» Уехала к сестре ге-
нерала в деревню и там в марте умерла.
Прощаясь, командующий сказал:
— Ну, значит, мы с тобою скомбинируем!
Он сильно меня напоил. Когда мы уже и без того сильно
выпили, он налил мне еще полный стакан водки и заставил
выпить (сам он, конечно, тоже пил столько же). Я выдержал
только потому, что вообще почти не пью и мой организм не
перенасыщен алкоголем. Удивляюсь даже, что, провожая его
к машине, я был совершенно тверд на ногах.
газ
12 ноября.
Язык:
«Он стихов не понимал. Вообще — квадратный корень из
двух».
«Нельзя быть на «ты» с техникой» (инженер о небрежном
ремонте авиамоторов).
16 ноября.
Какое утро! Какое сегодня было утро!
Мороз около 16 градусов. Солнце. Лес против солнца све-
тился молочным инеем. Я пошел на болотистый берег нашей
ручьеобразной Робьи. Нескошенная осока согнулась под тя-
жестью мохнатых хлопьев инея.
С чем сравнить этот праздничный блеск, сверкание
миллиардов льдистых пластинок инея? Конечно, это игра
алмазов. Иней придал каждому куску четкое очер-
тание, форму — они стояли пухленькие, чистенькие. На
фоне глубокой лесной тени стояли выхваченные солнцем
березки с подчеркнутым изяществом морозного рисунка.
(Грустно, что я должен торопиться и записываю так не-
ряшливо.)
Почему я пошел прямо на берег, совсем в сторону, прочь
от обычной прогулочной дороги?
Я с детства знаю, как прекрасен первый лед на реке, когда
еще не выпал снег. Я не ошибся! Сколько же лет я не видел
этого зрелища? Тридцать пять? Помню Рыльск, реку Сейм.
Мороз. Солнце. Я гуляю с мамой. Страшновато идти по тон-
кому льду, загадочно, сказочно прекрасно: под нашими нога-
ми зеленые и коричневатые водоросли. Это живой мир, но за-
вороженный и получивший иное бытие. Водоросли шевели-
лись, струились подо льдом и слегка вздрагивали, когда, от-
давшись течению, они потом пружинисто, скачком возвраща-
лись на прежнее место. Так мы ощущали течение реки, дви-
жение воды под нами.
Я пошел сегодня к замерзшей реке, влекомый именно
этими воспоминаниями. На Робье я нашел то, что искал.
Я стоял на чистом, только что сотворенном льду — подо мной
завороженный морозом, запаянный под стекло подводный
мир.
254
18 ноября.
Коблика хотят забрать во фронт. Получена телеграмма с
приказом: «Выехать немедленно». Куницын при встрече с
Кобликом ни словом не обмолвился о телеграмме. Надо ду-
мать — прилагает все силы, лишь бы не отпустить от себя
Коблика — он очень высокого мнения о его эрудиции.
Что я буду делать без Коблика? Он тоже сказал мне:
— Единственное, что меня удерживало в Ударной,—
это вы!
Мы нужны друг другу. Я облегчаю его существование од-
ним уже тем, что выслушиваю его. Мне он тоже помогает
во многом. Я буду здесь очень одинок без него.
На совещании комдивов и комбригов.
Язык:
Генерал Козырь: «В этом отношении мы плетем лап-
ти», «Слюнявое панибратство».
Тележников спрашивает Бедина:
— Есть сетки для сена?
Бе дин отвечает:
— Сто процентов — как на параде на Красной площади!
Язык:
«Подвоз и на гуже и по железной дороге».
Боец открывает консервы с американской колбасой: «Да-
вай откроем второй фронт!»
«На сердце — такая слепая кишка!»
«Я своего Ваню не променяю на твоих трех».
«Я человек жестокий: раз! — и отрезано навсегда!»
«Бомба попала в самый жизненный центр — разбила трех-
тонку с водкой».
19 ноября.
Вчера много часов говорил с Борановским. Он назначил
мне на двенадцать, но проспал до 13.30.
Кстати, в армии о начальстве не говорят «он спит», а —
«он отдыхает».
Ожидая, получил в АХО хороший меховой жилет. Теп-
лых, ватных штанов не дали. Говорят, мало получили.
Неожиданно узнал, что Куницына отзывают на курсы
членов Военного Совета. Для меня это — громадная пере-
мена.
Борановский сказал мне, что Куницын уходит с повыше-
нием: «Мы его аттестовали еще в августе».
255
Перекалив уверяет, что таким способом хотят просто из-
бавиться от Куницына. Тележников якобы его недолюбливал.
Уезжая из армии, Куницын так этого и не понял.
Фотографировались около Политотдела вместе с Военным
Советом и Куницыным.
Борановский увел меня к себе. Очень много мне расска-
зал.
Начали со встречи его со Сталиным.
5 апреля в десять часов утра он вылетел на «Дугласе» из
Архангельска, где командовал округом, а в четырнадцать ча-
сов был уже на Тушинском аэродроме. В Генеральном штабе
познакомился с делами нашей армии, узнал о ее личном со-
ставе, вооружении, обороне.
Вечером на приеме в Кремле Сталин спросил Борановско-
го, знает ли он Дубнецова.
— Дубнецов Василий Иванович? Знаю.
— Что-то у него не клеится, устал, что ли?
Сталин сказал, что Ударной грозит окружение, Дубнецов
был уже в двух окружениях — в третье его нельзя допускать.
Согласен ли Борановский принять командование армией, на-
ходящейся в таком положении? Борановский согласился.
Главком интересовался, как Борановский оценивает каче-
ства некоторых генералов, расспрашивал о Коневе, Курочки-
не, Ерофееве и других. У него, по-видимому, это как метод:
так он собирает материалы о людях, составляет о них свое
мнение.
О способностях Дубнецова сам Главком отзывался хоро-
шо. Сейчас Дубнецов командует армией где-то под Сталин-
градом.
Борановский говорил мне о своих стычках в армии с про-
куратурой и с Особым отделом. Требует, чтобы все это было
подчинено ему, не позволяет без его ведома арестовывать
старших командиров.
Рассказал эпизод под Рамушевом.
Борановский повел батальон в атаку через овраг, где рус-
ло ручья было забито мокрым снегом по пояс. Он перешел
с адъютантом, оглянулся, а за ним никто не идет. Он вернул-
ся, перетащил своих солдат за шиворот через ручей. (Бора-
новский огромного роста.) Тогда пошли и остальные. В этот
день отбили у немцев до трех километров земли.
Борановский сказал о переходе через ручей:
256
— Знаете (он перешел со мною на «вы», может быть, по-
тому, что я не подхватил в редакции его «ты»), знаете, как
овец перегоняют через воду? Стоит перетащить одну, и все
пойдут.
Я спросил его:
— Вам было когда-нибудь страшно?
Он задумался, потом сказал:
— Нет, страшно никогда не было. А было, что я просто
дурел.
В первую мировую войну он, солдат, был поставлен в
боевое охранение. Товарищи начали подтрунивать над ним.
Один говорил, что Борановского назначили в охранение за
трусость. «Если ты не трус, обойди кругом вон тот дом».
Другой говорил: «Нет, ему слабо обойти. Слабо!» И вот Бо-
рановский во весь свой рост, на глазах у немцев, обошел
вокруг дома.
Но товарищи и после этого не отстали: «Тебя не по уставу
назначили в караул. Пойди скажи фельдфебелю, что так не
полагается». Борановский вышел из окопа, оставив в нем
винтовку, и под немецкими пулями, не сгибаясь, дошел в
свое подразделение. Там он заявил фельдфебелю, что постав-
лен в караул не по уставу. Его спасло от полевого суда толь-
ко то, что в этой части раньше служил его брат и был знаком
с фельдфебелем.
Борановский — бывший шахтер. В гражданскую войну
был комиссаром бронепоезда. Заметили его способность убеж-
дать и перевели на политработу. Что-то шахтерское, разма-
шисто-плебейское, железокаменноугольное так и сохраняет-
ся в нем до сих пор — въелось в душу.
Было уже поздно, но Борановский рассказал еще один
эпизод.
Он сколотил под деревней Лука отряд из отступавших
бойцов и организовал наступление на Кулакове. Любой ценой
надо было помешать немцам выйти к Ловати. Ведь по берегу
Ловати отходили из мешка части 391-й и 130-й дивизий и
вытягивали, спасали технику.
Борановский расстрелял перед строем одного из трусов.
Потом подозвал к себе двух пожилых бронебойщиков с ПТР
и приказал им занять боевую позицию. Они плохо легли. Бо-
рановский сам показал им, где надо лечь, а справа и слева от
них поместил по пяти автоматчиков для прикрытия, чтобы
самочувствие у бронебойщиков было уверенней.
Минут через двадцать среди кустарника показались баш-
9 В. Кова\евский
257
ни немецких танков. Борановский насчитал восемь. Лежав-
шим бронебойщикам снизу они еще не были видны. Боранов-
ский предупредил их, откуда надо ждать немцев. Когда уже
можно было брать на прицел передовой танк — до него оста-
валось метров восемьсот,— он загорелся от первого же вы-
стрела. Старики бронебойщики повеселели. Из восьми тан-
ков ушло обратно только два — шесть танков они сожгли.
Кроме этих двух бронебойщиков с одним противотанко-
вым ружьем, в отряде не было никаких противотанковых
средств. Если бы не старики — танки смяли бы отряд, немцы
вышли бы к Ловати и техника была бы отрезана.
Этот эпизод рассказал он как пример того, как люди ведут
себя геройски, «спасая свою шкуру». Старики, увидев рас-
стрел труса, поняли, что грозит их шкуре; поняли они и то,
что если не уничтожить танков, то опять-таки несдобровать
их собственной шкуре — танки раздавят их вместе со всеми.
21 ноября.
Неожиданная новость: Борановского от нас забрали! На-
шей Ударной командует генерал-лейтенант Розов.
24 ноября.
Коблик тоскует, рвется к будущей работе. «Надо стать бо-
гом и называть вещи заново». Он боится, не лишены ли мы
способности понимать свою эпоху.
Я боюсь этого гораздо меньше, чем Коблик.
Что мне нужно? После войны не думать о хлебе насущ-
ном — иметь свободу. Довести себя до такого состояния, что-
бы остался единственный выход — писать.
Темою книги может быть боязнь, что ты не понимаешь
происходящего и не сможешь его изобразить.
Ходил в баню смотреть пленного. Мальчишка. Ранен в
пятку и в спину. Снайпер. Сказал, что убил 116 наших
бойцов.
Тележников разрешил мне командировку в Москву и Ка-
зань на целый месяц!
Наступление у Сталинграда стремительно развивается.
258
Вдруг почувствовал, что не могу уехать из армии, не сняв
гнета сомнений о действиях нашей Ударной под Старою
Руссой.
Я попросил генерала Костича, начальника штаба нашей
армии, поговорить со мной. Умница, понял меня, спасибо ему.
Начали разговор на закате дня и кончили уже в полной тем-
ноте — он не торопился зажигать свет. Мне было легко гово-
рить с ним — чувствовалось, что он тоже рад возможности
отдохнуть.
Внешность Костича парадоксальна: он похож на католи-
ческого священника. Тонкие губы с вежливой, вкрадчивой
улыбкой, темные, как ночь, глубоко запавшие, обведенные
тенью глаза. Поляк, но его вполне можно принять за италь-
янца— уж очень по-южному смугл цвет его лица и сквозь
прямо-таки изысканную светскую сдержанность неожиданно
прорываются горячие интонации и нетерпеливые, молниенос-
ные жесты. Говорит торопливо, но с большими паузами, ког-
да переходит к новой мысли, как бы из вежливости, желая
дать собеседнику время обдумать все его доводы и доказа-
тельства.
— Я догадываюсь,— сказал Костич,— вас тяготит сидячка
на одном месте. Мы ничего не поймем, если будем пережи-
вать наши болотные дела как некое замкнутое в себе целое.
Весь характер летних оборонительных боев на гигантских
фронтах нашей страны окрашен поражением в Крыму, тяж-
кими неудачами под Харьковом и во многих других местах.
А у нас с вами что же? Должны были прорвать фронт под
Старой Руссой и облегчить участь Ленинграда. Прорыва не
получилось. Знаете почему?
— Я читал доклад Дубнецова Наркому обороны.
— Значит, знаете. Нам приказали перекусить пуповину,
питающую Демянский котел. А мы и поныне все еще гры-
зем Рамушевский коридор. Мы не только воюем — мы учим-
ся, ошибаемся и учимся. И так — на всех фронтах. Идет ве-
ликая война, и одновременно происходит великая воинская
учеба Вы, вероятно, даже себе не представляете, что больше
половины воинских сил всей нашей страны находится во
всевозможных военных училищах, на бесчисленных кратко-
срочных курсах, во фронтовой обстановке, без отрыва, так
сказать, от войны. Даже многие генералы продолжают учить-
ся в военных академиях. Среди преподавателей — опытней-
шие, обстрелянные участники Отечественной войны. Эта уче-
ба громадных воинских кадров не может не дать великого
9*
259
результата. Мы начали войну, не имея никакого опыта по
ведению широких наступательных операций и опыта по
отражению внезапных нападений. Происходит пока невиди-
мый для глаза рост воинского мастерства. Мы еще будем
с вами свидетелями торжества советского воинского искус-
ства.
А пока что запишите в историю, что причинами неудач
под Старою Руссой и у Рамушевского коридора были прежде
всего, конечно, лес и болото, непроходимость дорог, потом
слабая материально-техническая обеспеченность войск: мало
танков, мало авиации, мало артиллерии, а то, что есть, опять
же вязнет в болоте, порою каждый снаряд надо многие кило-
метры нести на себе.
Но не только это. Большие грехи лежат на командовании
фронтом, не только на нас. Довоенная теория оперативного
искусства требовала: чтобы вести наступательные операции
в направлении главного удара, надо сосредоточить силы, в
два-три раза превосходящие врага. А мы пытались бить рас-
топыренными пальцами, а не кулаком. Наши силы почти
всегда были растянуты в ниточку, у нас не было вторых эше-
лонов. Вредно было и то, что, потерпев неудачу, мы опять
пытались бить на том же самом направлении. Это относится
ко всему Северо-Западному фронту, не только к нашей армии.
Фронт не один раз заставлял и нас повторять эту ошибку.
Противник легко угадывал наши планы и успевал подбрасы-
вать подкрепления. Наши удары слишком медлительны и
слабы. Артиллерия тоже допускает шаблон *.
В Ставке это поняли. Опыт изучается, и выводы делаются
правильные,— это отрадно. Известен ли вам приказ Ставки?
Я промолчал. Меня тяготила темнота. Уже давно за окном
погасли закатные огни, пора бы включать свет, но генерал
как бы забыл про лампу. А может быть, это была высшая
форма доверия — привкус интимности и приглашение тоже
1 «История Великой Отечественной войны», том II, стр. 474:
«С поставленной задачей советские войска не справились.
Не увенчались успехом и последующие попытки Северо-Западного
фронта ликвидировать Демянский плацдарм противника. Это объ-
яснялось прежде всего тем, что наступление организовывалось плохо.
Командование фронта действовало нерешительно, управление вой-
сками было слабым. Удары наносились не одновременно и на узких
участках фронта, весь же остальной фронт оставался пассивным.
Неоднократно повторявшиеся удары следовали из одного и того же
района, что значительно облегчало противнику борьбу против совет-
ских войск».
260
быть откровенным? Но на меня темнота производила обрат-
ное действие. В темноте у меня появился даже какой-то
упадок сил, я стал пассивен и так и не задал многих вопро-
сов, с которыми шел к генералу.
Приказ я читал, но промолчал об этом. Он осуждал при-
менение артиллерии только для артподготовки. Приказ тре-
бовал, чтобы артиллерия перешла на метод артиллерийско-
го наступления. Артиллерия обязана сопровождать пехоту
и танки огнем и колесами, поддерживать их до окончатель-
ного прорыва обороны противника.
Этот же приказ запрещал растягивать дивизии по всему
фронту и требовал создавать на главном направлении ком-
пактные ударные группы.
Генерал рассказал мне о приказе и добавил:
— Опытом войны продиктован и новый Боевой устав пе-
хоты— БУП-42. Речь идет о правильном эшелонировании
боевых порядков. Боевые порядки, слава богу, уже стоят в
два эшелона. Все это не может не дать своих результа-
тов.
Генерал задумался. Он все еще не включал света. Вообще
беседа происходила странно: ни разу еще никто нас не пре-
рвал, не было даже ни одного телефонного звонка.
Почему-то и у меня не было охоты нарушать заполнив-
шую всю избу плотную тишину. Вдруг генерал подал голос:
— Я хочу предложить вам коньяку. Подарок развед-
чиков — трофейный, французский.
— Благодарю вас, товарищ генерал,—отказался я.—
Коньяк действует на меня парадоксально — вызывает подав-
ленное. угнетенное состояние.
— Так надо удвоить дозу! — В тоне Костича слышалось
искреннее удивление моей наивности.
— Пробовал — не получается.
Мой ответ словно бы обидел хозяина:
— Извините, но шампанского у меня нет.
Я промолчал.
— Тогда адъютант принесет нам кофе. Бразильский. Си-
дим в яме. а трофеи получаем,— даже стыдно как-то. Но что
же поделаешь!
Кофе на меня почему-то тоже действует угнетающе. Я бы
с наслаждением выпил стакан сладкого чая, можно и конья-
ку две ложки в чай. Но я постеснялся говорить о своих вку-
сах. Правда, генерал уже забыл о кофе. Он вдруг сказал с
дружественной, товарищеской горячностью:
261
— Капитан, голубчик, не будем заниматься самобичева-
нием. Вам, вероятно, кажется, что пролитая здесь кровь и то-
нущие в болоте раненые — все это результат преступных
ошибок. Ничего подобного! Несмотря на ошибки и неудачи,
мы с вами делаем великое дело. Это наш фронт сорвал план
немцев окончательно окружить Ленинград. Это мы с вами
заставили немцев перебросить из Западной Европы шесть
дивизий на помощь группе «Север», а ведь эти дивизии до
зарезу нужны Гитлеру на юге. Как бы ни были слабы наши
удары по коридору, но они сковывают крупные силы немцев,
не говоря уже о том, сколько их мы перемололи. А то они
обрушились бы на наш юг. Мы с вами сорвали наступление
немцев на Осташков. Совесть наша чиста. Так что пейте, ка-
питан, кофе со спокойной совестью, можете даже добавить
коньяк,— в соединении с кофе он не должен угнетать. Сейчас
я прикажу адъютанту.
Но, сказав это, он по-прежнему не сдвинулся с места и
надолго замолчал. Я не мог больше вынести молчания в пол-
ной темноте и сказал о своей поездке. Узнав, что мой путь
лежит через Москву, генерал резко скребанул ножками стула
по полу и мгновенно встал.
— Вас не обременит передать моей дочери письмо?
Прежде чем я успел ответить, вспыхнула лампочка над
его рабочим столиком. Он, должно быть, уже и не слышал мо-
их слов. Начал он писать так стремительно быстро, словно
боялся опоздать. Но постепенно успокоился и даже забыл обо
мне. Во всяком случае, когда минут через двадцать я пошеве-
лился и под моим стулом скрипнула половица, он вздрогнул.
Глаза генерала были увлажнены, и выражение лица у него
было такое, что я согласился бы сидеть еще сколько угодно,
только бы доставить ему эту редкую радость: из рук в руки
передать дочери фронтовое письмо.
2 декабря.
Сначала в дороге лопнул карданный вал почтовой маши-
ны, на которой я ехал. До Осташкова не доехали пятьдесят
пять километров. Глубокая морозная ночь. О попутных маши-
нах и думать нечего. Ночевать на кожаных мешках в кузове, в
одной шинели и в кирзовых сапогах? Еще в детстве у меня
были подморожены пальцы на ногах и пятки. Единствен-
ное спасение — шагай, Вячеслав! До ближайшего контроль-
но-посадочного пункта на перекрестке километров десять,
не больше.
262
И вот я заскрипел, захрустел сапогами по мерзлой колее
дороги, под луной, стоящей почти в зените. За спиной у меня
огромный рюкзак и скатанное одеяло под локтем, а вокруг
сказочно-прекрасная ночь. Яркая луна не отнимала зимнего
блеска от огромных звезд. Русская сказка. Нет только серого
волка с Иваном-царевичем и Марьей-красой.
Но почему-то все время мерещились девичьи голоса. Ка-
залось, что они где-то совсем близко. Может быть, это игра
легкого ветра в тугой хвое сосен?
Я изнемогал под тяжестью мешка. Снимать его каждый
раз было мучительно, и я садился для отдыха под косогор,
мешок ложился на откос, и можно было облегчить плечи, не
снимая его. Несколько раз во время такого отдыха засыпал.
Меня будил мороз — было не меньше 15 градусов. Наконец
я добрался-таки до регулировщика, и он остановил для меня
на развилке дороги грузовик.
В пустом кузове, на голых досках, я едва не отморо-
зил ноги. Не помню, чтобы когда-нибудь мне было так
холодно. От трудного перехода я был мокрый, как мышь,
а тут, в открытой машине, несся под пронизывающим ве-
терком.
Низкорослый, спящий Осташков. Три часа сна у злой,
глупой хозяйки в нетопленном доме, который указали мне в
комендатуре. Ни за какие деньги она не согласилась мне со-
греть среди ночи кипятку. Не позволила лечь на пустовав-
шую у нее вторую кровать и ничего не постелила на пол. От
презрения к ней я не сделал то, что, вероятно, обязан был
сделать каждый военный человек — не лег против ее воли
на пустую кровать. Впрочем, может быть, я начал понимать,
как горька жизнь этой несчастной женщины, если она оказа-
ла мне такое гостеприимство.
На полу я не мог согреться даже под шерстяным одеялом.
Утром чуть-чуть нагрел по очереди носки в теплой струй-
ке воздуха над керосиновой лампочкой. Какое же великое
благо фронтовая землянка, где «бьется в тесной печурке
огонь»!..
Вокзал в Осташкове полностью разбомблен и разбрызган,
как лужа, во все стороны. Комендант станции живет и рабо-
тает в блиндаже. В Осташкове погибло больше двух тысяч
жителей. Многие умерли от голода. Сволочи немцы, все это
сотворившие, узнав, что в городской столовой нет ложек, для
издевки сбросили с самолета алюминиевые ложки.
Наконец я в вагоне, в теплушке. Но никакой уверенности,
263
что теперь-то все пойдет гладко. Все было бы ничего — не
виси у меня за спиной чудовищный мешок с драгоценным
пайком на дорогу, который во что бы то ни стало надо довез-
ти до семьи.
Бологое. На узловой станции никаких признаков бомбеж-
ки. Получил на вокзале первый обед в пути. У входа дети
просят хлеба, взрослые пытаются проскочить в самую столо-
вую, чтобы там выскрести то, что остается на дне тарелок.
На вокзале и в поезде — образцовый порядок.
И вот Москва — ночная, лунная, пустая Москва, с пустын-
ными перекрестками без светофоров...
Грустно. Мои родные на Чистых прудах — мама, старший
брат Саша и сестра Аня — постарели и осунулись. Весной
голодали, скудно с питанием и теперь. Никогда бы не мог
подумать, что Саша и Аня так постареют за десять месяцев.
В общем, больше всего пострадали старики.
Моя комната — тоже нерадостное впечатление: пусто,
голо, мертво. Нет ощущения возврата в родной дом: вынуто
сердце — здесь нет моей семьи.
Улицы в Москве в образцовом порядке. Работают снего-
уборочные машины. Девушки в военном обмундировании
сгребают снег, скалывают лед на площадях и на мостах через
Москву-реку. Однако улицы мертвы, потому что заколочены
и замазаны витрины пустых магазинов. Довольно-таки ожив-
ленное движение, но все это не то. Яркая в первые дни вой-
ны, вычурная маскировочная раскраска зданий теперь гряз-
нит стены домов, размыта дождями и облупилась.
На Арбатском рынке килограмм картошки и моркови —
пятьдесят рублей, мясо — двести пятьдесят рублей. Два пья-
ных инвалида с нашивками за ранение клянут кого-то в бо-
га и в мать за то, что продал им из-под полы воду вместо
водки.
В клубе писателей — старики, отцы и матери писателей,
ежащиеся от холода, с судками и со свертками. Писатели
толкутся у киоска с папиросами (по запискам), переливают в
буфете в пустые бутылки водку (по запискам).
И над всем этим — мое стремление в Казань, где сын, где
жена... Я жил эти два дня первичными, голыми, примитив-
ными ощущениями человека, который ожидает встречи с
семьей и почти суеверно боится, как бы она не сорвалась.
Всюду, где бы я ни был, меня преследовала мысль: про-
шлое невозвратимо — город, улицы, комната и люди, для ме-
ня близкие,— все будет иное, да и сейчас уже иное.
264
3 января 1943 г. Озерки.
Вот я и снова в армии. Штаб армии и Политотдел пере-
брались в лес под Бором, а наше отделение из Шутовки пе-
реехало в Озерки.
Товарищи боялись, что я не возвращусь. После того как
политработу обследовал инструктор фронта и узнал о моей
беспартийности, из фронта получена какая-то бумага обо мне.
Может быть, речь идет о том, что нельзя числиться лектором
ДКА, а заниматься совсем другим делом. (Петушков добился-
таки, чтобы меня отчислили из редакции. Он прав.)
Опять полные откровенности разговоры с Кобликом. Се-
годня изба холодная. Мы забрались на русскую печь, сохра-
нявшую еще остатки тепла. Щели потолка над нашими голо-
вами шевелились и шептались — полно тараканов. Коблик
жадно расспрашивал меня о Москве.
Я не скрыл от Коблика, как я был подавлен в Москве зре-
лищем бедствий, причиненных войной. Меня испугали изме-
нения на Чистых прудах.
Кремль меня поразил, как только я вышел на Красную
площадь. Василий Блаженный и стена к Москве-реке — са-
мое прекрасное место в Москве. Времени у меня было очень
мало, но я не утерпел и обошел вокруг Кремля, а чтобы вид-
нее было со стороны реки — шел даже по Софийской набе-
режной, по ту сторону Москвы-реки. Оба золотых купола
Ивана Великого и купола на всех соборах густо замазаны
серой краской, словно на них напялены суконные чехлы.
Маскировочная покраска всех кремлевских зданий — злове-
щие чернильные и коричневые пятна и треугольники, чер-
ные зигзагообразные трещины, бутафорская колоннада, лож-
ные проемы окон и крыши там, где их никогда не было,—
делает бесценные для нас сокровища кремлевского архитек-
турного ансамбля совершенно неузнаваемыми. Маскировка
превратила и стены Кремля в беспорядочную россыпь низко-
рослых провинциальных домишек.
И, несмотря на все это, сейчас Кремль больше, чем что-
либо, воплощал в себе для меня нашу священную Родину и
смертельную угрозу, нависшую над ней.
Коблик неожиданно перебил меня и спросил:
— Вячеслав Александрович, а встречали вы когда-нибудь
в своей жизни совершенно счастливого человека?
265
Мне было неприятно, что он так бесцеремонно оборвал
меня. Я было хотел отделаться злой иронией, но потом вспо-
мнил о сапожнике из Казани, простил Коблика и даже решил
рассказать ему о нем.
Встретил я этого человека недели две тому назад, во вре-
мя отпуска. Я приносил ему для починки валенки моего сы-
на. Много лет тому назад, во время голода в Поволжье, за про-
поведи против изъятия ценностей из церквей он был под су-
дом. Он рассказывал, что от него требовали, чтобы он своими
руками принес чашу для причастия и другие вещи из золота
и серебра. Он ответил, что не будет сопротивляться, но пусть
они сами возьмут. Своими руками передать им священный
сосуд он, священнослужитель, не имеет права, по его веро-
ванию это будет святотатство.
Суд в его действиях не нашел контрреволюции и постано-
вил поместить его на длительное лечение в психиатрическую
больницу, как «помешанного на религиозной почве».
Потом его взяла на поруки жена. С помощью своих взрос-
лых сыновей он выстроил крошечный домик на Сибирском
тракте, против психиатрической больницы. Работает как са-
пожник, с избытком обеспечивает всю семью.
Трое его сыновей на фронте. Вестей ни от одного из них
нет. Две дочери кончают курсы медсестер.
В суждениях о житейских, бытовых вопросах он очень
здрав и прост: логика безукоризненная, но фундамент узкий,
ограниченный фанатизмом.
По-народному верны и метки его суждения о быте, о лю-
дях, о повседневно-базарном. Он очень наблюдателен. Но в
своих религиозных формулах убог и фанатически слеп. Ве-
ликолепный знаток «Священного писания». Говорит на пер-
вый взгляд очень убедительно, и если добровольно приглу-
шить в себе разум — кажется даже ясновидцем. Но вдруг ка-
кая-нибудь слишком уж резкая небылица разрушит иллю-
зию — и передо мною сидит на липовой дуплянке сапожника
экзотический слепец, счастливый только потому, что он во
всем видит лишь то, что сам хочет видеть.
По его верованию, скоро наступит конец света. Уже были
все последние предупреждения людям от бога. Он посылал
людям даже пророков, но ничто не помогло и не могло по-
мочь.
Гитлер тоже — бич божий, посланный людям, как самое
последнее предупреждение. Мы обязательно победим. (Са-
пожник подтверждает это яркими цитатами из Библии.) Но
2Г>6
за победой последует неумеренная похвальба: «Мы сами по-
бедили! Победили без бога!» Затем — суд божий. И «царство
божие на земле». Воцарится Иисус Христос. Все упростится.
Фабрик и заводов не надо: каждому будет достаточно того,
что он сделает своими руками. Основным трудом станет хле-
бопашество. Школ тоже не будет Чему учить детей, если
Высший учитель будет среди нас? Никакая канцелярщина
тоже не нужна — «все такое будет выкинуто в помойную
яму». Жизнь будет проходить в труде и в довольстве и в
славословии господа бога.
Любопытно рассуждение сапожника о сроках войны. «Ни-
когда господь не даст испытания сверх сил», а силы нашего
народа очень перенапряжены, и долгою война быть не может.
Он ждет ее окончания осенью.
Самое замечательное в этом фанатике — внутренняя удов-
летворенность, беззлобие, душевное спокойствие, отзывчи-
вость и простота. Все идет так, как оно должно идти. Он ни
в чем не согрешил. Он выполняет свой нравственный долг.
Ему ничто не грозит, наоборот — его ожидает вечное блажен-
ство. К труду «в царствии божием» он уже готов.
Вот он и трудится в своей каморке, с внутренним весе-
лием души «наваривает дратву» и подшивает валенки, при-
водит в «христианский вид» всякого рода растрепанную и
разбитую обувку.
Странно, я думал, что мой рассказ о таком необычном чу-
даке приведет Коблика в восхищение или вызовет у него
внезапный детский хохот. Но он поразил меня: когда я кон-
чил, Коблик спал глубоким сном. В избе стояла мертвая ти-
шина. Шевелились и шептались только тараканы.
У нас новый начальник Политотдела, Спиридонов. На
днях ему присвоили звание полковника( был бригадным ко-
миссаром). Куницын, говорят, теперь тоже полковник.
Спиридонова видел всего один раз—представлялся ему
после возвращения из Казани. По-видимому, сложный че-
ловек, может быть, даже с достоевщиной — сразу не разбе-
решься в нем. По отзывам Перекалина, чрезвычайно само-
стоятельный человек, опытнее, чем Куницын, и умнее его.
Любит точное выполнение воинских уставов.
При знакомстве нашем произошел такой казус. Урюпин,
получив разрешение войти, стремительно, с радушной го-
267
товностью, с распахнутой душой перешагнул через порог и,
протягивая Спиридонову руку, сказал:
— Здравствуйте, товарищ полковник!
В то же время я остановился у самой двери и отрапорто-
вал стоя смирно:
— Писатель Ковалевский!
Спиридонов не принял руки Урюпина, оставил ее в воз-
духе и сказал ему:
— Я вас не знаю! — Обошел его стороной и поздоровался
со мной за руку. После этого он сказал: — Никогда младший
не должен первый здороваться со старшим — а вдруг тот не
захочет?
В разговоре со мной он был очень благожелателен. Ска-
зал, что меня опять зачислили в штат армейской газеты, что-
бы дать мне возможность заниматься только историей. Я-то
понимаю, что этот перевод связан с беспартийностью и с об-
следованием ДКА инструктором фронта.
Тут же Спиридонов сказал Урюпину, чтобы меня ничем
не загружали,—я буду занят только историей — такое же
распоряжение он даст редактору.
6 января. *
В Москве я сдал в Институт истории обе части истории
Ударной армии: I. «Как мы били немцев под Москвой» и
И. «Под Старой Руссой». Директор института Минц очень
обрадовался моему приходу. Мы познакомились с ним в ту
пору, когда я писал свой роман «Хозяин Трех Гор». Теперь
Минц начал уговаривать меня написать историю 7-й гвар-
дейской дивизии.
Я побывал в дивизии, это была моя первая командировка
после поездки в Москву. У генерала Бедина, командующего
дивизией, до сих пор живет тот самый «сержант Иванов» —
мальчик семи лет, одетый в кукольное военное обмундиро-
вание.
Когда я беседовал с Бединым, в блиндаж случайно зашла
женщина-врач из медсанбата. Узнав, чем я занимаюсь, она
вздумала продемонстрировать передо мной этого ребенка.
— Смотри, что я сейчас тебе сделаю,— сказал я маль-
чику и вырвал из своей тетради чистую страницу. Мальчик
жадно стал следить за каждым движением моих пальцев.
Страстное желание увидеть улыбку на лице этого ребенка
сотворило чудо: я вспомнил, как делают жар-птицу!
268
«Сержант Иванов» звонко расхохотался, когда увидел,
как птица машет крыльями, если ее дергать за хвост и за
грудку.
Этот случай заслонил от меня все подвиги дивизии. Я как-
то сразу почувствовал свое переутомление от огромного во-
роха драгоценных материалов и понял, что у меня просто не
хватит сил писать о делах 7-й гвардейской отдельно от исто-
рии Ударной.
На всех дорогах вблизи передовой то там, то здесь на сне-
гу — кровавые следы. Это оставили свои пометки легкоране-
ные, бредущие в медсанбаты.
10 января.
К нам прислали еще одного лектора: старшего политрука
Лисаветского. Весьма неглупый человек, но злой ли у него
ум или добрый — посмотрим. Очень сдержанный и даже ка-
кой-то затаенный. Он хорошо понимает, что его внешность не
может располагать к себе, и старается скрасить ее постоян-
ной улыбкой вежливости. Хочется сказать, что улыбка у него
на изготовке — в любую секунду может быть повернута в ту
или иную сторону: стать снисходительно-дружелюбной или
же едко-иронической.
Лисаветский осторожно выжидает, как сложатся у него
отношения на новом месте. Вид у него далеко не воинский.
Черты лица резкие, он некрасив, безусловно, знает об этом
и, вероятно, не может простить природе такой несправедли-
вости. Он готов предъявить любому из нас добавочный
счет за то, что мы получили бесплатно то, чего он лишен раз
и навсегда. Каждый день подолгу возится с бритвой и брезг-
ливо опрятен, но из-за невыгодного цвета лица всегда произ-
водит впечатление человека, плохо побрившегося. Нос — как
у Ивана Грозного, брови нахмурены, нижняя губа слегка
всползает на верхнюю. Господствующее выражение — скорб-
ное, как будто он все время грустит о том, что род челове-
ческий, в сущности, жалкое явление.
Сегодня утром этот человек, который знает меня всего не-
сколько дней, неожиданно стал в ряд со всеми жаждущи-
ми исповеди. Вот уж никак не ожидал. Помогло удачное сте-
чение обстоятельств: мы с ним остались в избе одни — все
товарищи в командировке.
Удивил он меня тем, что сразу же обнажился: «До войны
269
я работал в органах ГПУ». Зачем он это сделал? Чтобы я не
боялся провокации: смотрите—здесь, мол, все начистоту? Не
знаю. Но исповедь получилась своеобразная. О своей основ-
ной работе — ни слова. Самое главное Лисаветский оставил в
резерве — в глубоком тайнике. Похоже на то, что он больше
хотел узнать меня, чем найти облегчение в откровенной бесе-
де. Это глубокая разведка под видом исповеди. Сам он объ-
яснил свое поведение так:
— Я прочел ваш рассказ «Глеб»,— вот причина моей
откровенности. Тот, кто до такой глубины понимает ду-
шу ребенка, отыщет и во взрослом человеке — даже под
кучей мусора — замурованного в нем ребенка и поймет
его.
Мы проговорили с Лисаветским всю ночь. Но чтобы ре-
шить загадку этого человека, нужно, чтобы он рассказал о
себе все, начиная с младенчества. А на это он не пойдет, не-
смотря на видимую готовность раскрыться до конца. Нет, на
это он не пойдет,— может быть, после этого он должен был
бы протянуть руки и попросить: «Вяжите меня!»
Отец бил его в детстве. Когда он открывал отцу дверь, он
всегда боялся, что получит от него удар по лицу. До сих пор,
если он обращается к какому-нибудь новому человеку, ему
всегда кажется, что его ударят.
— До войны,— сказал Лисаветский,— я часто был под тя-
жестью такой депрессии, точно на меня давил могильный ка-
мень. Я сам себе напоминаю искривленное дерево, которое
росло в подземелье и тянулось к свету. А для моей жены мои
раздумья были точно пятна проказы. Она хотела принимать
гостей, бывать в театре на первых местах и так далее и тому
подобное...
Оказывается, он музыкант. Почти кончил консерваторию
по классу рояля. Он чувствовал себя рожденным для чего-
то великого, и в его представлении ему всегда мешал сред-
ний человек.
— Должен вам признаться,— сказал он,— я читаю все
меньше и меньше. Когда я читаю книгу — отношусь к авто-
рам свысока. Я всегда чувствую, что объем их жизни, их
опыт меньше моего. Только Лев Толстой не вызывает у меня
таких мыслей. Мне импонируют люди с трагической склад-
кой. Их трагедия происходит от столкновения со средними
людьми — мещанством. Трение — это не только препятствие,
оно и условие для движения вперед. Если бы колеса парово-
270
за были абсолютно гладкими, они буксовали бы и поезд не
двигался бы с места. Но бывает другое препятствие — рельс,
положенный под колеса. Средний человек — это рельс, поло-
женный поперек пути одаренного человека. Бетховен, Ремб-
рандт и Шекспир — люди с трагической складкой.
Доминанта Лисаветского — страх смерти. Он боится, что
не успеет совершить чего-то значительного, за что его благо-
дарило бы человечество. На меньшее он не согласен.
Хорошо, интересно говорил Лисаветский о «Блудном сы-
не» Рембрандта. Для него зто трагический образ гибели всех
стремлений человека, его мечтаний и надежд: как молодой
конь, сын вырвался на свободу, и вот он—во прахе. Слеп,
беспомощен и его отец,— он обнимает, прижимает к своей
груди засохший, опустошенный свой собственный плод —
жалкий призрак его надежд и мечтаний
Я не верю Лисаветскому. Его пессимизм на патологиче-
ской подкладке. Я не знаю, как он поступил бы, если бы кто-
нибудь из нас, агитаторов, тонул бы и, чтобы его спасти, до-
статочно было бы только протянуть руку. На переднем крае
от него можно ожидать опасных вариантов.
12 января. Озерки.
Вместо «золотой улыбки» прибыл новый начальник на-
шего отделения — Баршак. Высокий, седые волосы, еще
очень густые, зачесаны назад. Лицо плотно обтянуто бледною
кожей, без единой морщины, без стариковских вмятин и ме-
шочков. Ощущение избытка энергии и волевого, неуступчи-
вого характера. При яркой седине волос и матовой белизне
кожи резко выделяются коричневые, как каштаны, глаза.
Взгляд более чем пристальный—он давит, хочется от него
чем-нибудь заслониться. Тем не менее этот начальник по-
хож на детского врача, как это ни парадоксально.
Баршак носит четыре шпалы полкового комиссара. До нас
работал начальником седьмого отдела Политуправления
фронта, оттуда к нам и прибыл. Мы давно уже слышали о
нем, как о грозе и деспоте. В отделении Пшибельский, узнав
о том, что он назначен к нам, расхохотался. Пожалели нас и
в отделении кадров.
Баршак уже совещался с нами. Против ожидания, произ-
вел неплохое впечатление. Умеет выслушивать. Очень де-
ловой. Здравый, правильный взгляд на особенности работы
отделения. Но разве сразу узнаешь, что за человек?
271
Наше мнение такое: коллектив наш мощный, он не может
не повлиять на любого начальника. Как говорит Коблик:
«Главное, держаться с достоинством».
Сегодня я сколотил себе кровать из досок, смастерил
из консервной банки светильник с широким фитилем и обо-
рудовал кухню как кабинет. Все это позволяет мне
чувствовать себя самостоятельным и, когда надо, изолиро-
ваться.
13 января.
Политотдел получил для бойцов и командиров письма из
тыла — поздравление с Новым годом. Вот некоторые из них
(полностью сохраняю стиль и орфографию).
«Письмо с глубокого тыла Сельницкой Ан. Ив. на боевой
фронт совершенно незнающему бойцу или командиру — во-
ину нашей доблестной Красной Армии.
Я вас не знаю, но мне хочется передать вам чистосердеч-
ный, комсомольский привет.
Я желаю вас поздравить с Новым годом! И желаю всего
хорошего в вашей боевой жизни и хороших успехов на фрон-
те. Еще желаю вам успешно громить гитлеровцев, не давать
им никакой пощады.
И последнее, желаю со скорой победой вернуться домой
и тепло встретить своих родных и знакомых.
Сообщу пару слов о нашем глубоком тыле: мы так же ра-
ботаем по-боевому, как и вы, день и ночь трудимся, с мало-
го до великого, для смерти гитлеровских головорезов. В на-
стоящий момент мы производим сбор на танковую колонну.
Народ весь горит желанием помочь вам, фронтовикам, чем
нужно, а потребуется, так и мы сами пойдем к вам на по-
мощь.
А теперь разрешите вас спросить о вашей личной жизни.
Как вы живете во всех отношениях? Имеете связь с род-
ными?
Может, вас интересует о моей личной жизни? Так я могу
вам ответить с полным удовольствием.
Я с 1920 г. рождения, муж мой на фронте, письмов не
имею, а поэтому я с вами желаю иметь письменную перепи-
ску.
272
Моя цветущая жизнь проходит очень скучной, а почему
так, вы знаете.
Я живу в захолустной деревушке, где населения не мно-
го, а особенно в настоящий период, в период войны. Все об
этом.
А теперь я вас попрошу, если вам есть возможность, то
напишите мне боевых эпизодиков.
Ну пока на этом кончаю.
Извините меня за это письмо, написанное не складно и
карандашом.
Писала — торопилась, будучи на работе.
Еще привет от моей сестры Нади.
Она тоже вас поздравляет с Новым годом!»
«Действующая армия Северо-Западный фронт.
Новогоднее письмо в артиллерию самому скромному ко-
мандиру.
Здравствуйте мой далекий товарищ!
Пишет вам простая русская дивчина с серыми глазами и
открытым лицом.
Поздравляю вас с Новым годом 1943 — пусть этот новый,
нечетный год будет смертью гитлеровской бандыГ'а для нас,
советских людей, он будет радостью.
Война жестокая и кровопролитная; может быть, и у вас,
как у меня, есть много личного горя, давайте заключим союз,
переживать вместе будет легче, кончится война — разбе-
ремся. Я пишу вам от души и сердца. Желаю успехов и
счастья, будьте живы и неумолимы с врагом.
На вас я под Новый год задумала желание.
Потом, когда вы мне ответите, я напишу вам о нем; не по-
думайте, что я легкомысленна, суеверна. Нет, я мечтатель-
на, как Татьяна, хотелось бы знать, какие Вы, блондин,
русый, черный? Предпочту русых, а сама яркая блондинка
и какие у Вас глаза, глаза это все в лице человека, в них
можно читать любовь, правду, ложь, измену, мое желание
воздержусь выражать, пусть будет так, как пошлет мне
судьба!
Пишите, я буду очень рада отвечать Вам» (ответил Лиса-
ветский).
Напряженно присматриваемся к новому начальнику, Бар-
шаку.
273
14 января.
Урюпин и Артемьев разговаривали о том, что надо ДКА
расположить подальше от отделения агитации и пропаган-
ды,— артисты будут мешать. «Только начнешь работать, а
они запоют: «Синенький скромный платочек». И Урюпин о
Артемьевым запели эту песенку. Мы все подхватили ее.
Потом они зашли к зам. начпоарма Житкову, сказали, что
клуб надо расположить подальше.
— Почему? — спросил Житков.
— Только начнешь работать, а артисты запоют: «Синень-
кий скромный платочек»...
Едва Артемьев проговорил это — Житков тотчас же за-
пел: «Синенький скромный платочек».
Потом Урюпин с Артемьевым зашли в оргинструкторское
отделение, и только упомянули о синеньком платочке — все
отделение подхватило песенку. И так куда бы они ни захо-
дили — всюду начинали петь, стоило лишь упомянуть о пла-
точке.
Сегодня, когда Артемьев стал рассказывать об этом в сто-
ловой, все вокруг тоже сразу же запели. Сейчас это самая
распространенная во всей армии песенка.
Страстная жажда у людей прикоснуться к человеческому
теплу, жажда близости и откровенности. Это — в воздухе,
это охватило множество людей, как что-то стихийное, необ-
ходимое для продолжения рода, когда гибнет столько людей.
Коблик отвечает на письмо не известной ему девушки.
Лисаветский тоже ответил на одно из новогодних писем.
Между его интеллектом и разумом «сероглазой девушки» —
пропасть. Его письмо — зто письмо самому себе. Он дал мне
прочесть.
Можно написать рассказ из одних только писем на фронт
и ответов. Показать огромную жажду общения, тепла — и
трогательное несоответствие, разницу в интеллектах и ха-
рактерах.
Сегодня исполнился ровно год, как я прибыл в Ударную.
Ощущение такое, словно объем моей жизни удвоился.
Большого напряжения стоит вспомнить канун войны, как
будто прошло десять лет, а не один год.
274
Я многого достиг за год, но все еще стою в самом начале
своих попыток осмыслить все происходящее, найти самое
главное. Это потому, что я еще не начал писать как художник.
Ближайшие мои задачи — работать над прозою. Пора! По-
ра начинать.
Счастлив тот писатель будущего, который получит всю
совокупность материалов нашей эпохи. Начиная от Гене-
рального штаба и Кремля — обнаженный разрез через всю
игру дипломатов до переднего края — до сердца бойца.
А что мы можем сейчас? Раскусить горькое зернышко,
ощутить его горечь и запах? Что мы можем, бредущие по
поверхности? Что может сказать боец в залитой жидкой гли-
ной и кровью траншее о стратегии фронта? Но ведь мы — по-
мимо бессильных мыслителей—слепцов на военных доро-
гах,— мы живые свидетели. И пусть наши свидетельские по-
казания лягут в общий короб материалов этой чудовищной
войны, которая закончится славою и счастьем моего народа.
И поэтому записывай в свою тетрадку, что видишь, что
слышишь, и пусть тебя не пугает, если ты чего-то еще не
понимаешь.
Сегодня Коблик попросил что-нибудь прочесть из этой
тетрадки. Я отыскал для него в разбивку строк пятьдесят.
Он сказал:
— Это и есть настоящая история!
Часов в десять, после ужина, отправились с Кобликом в
Шутовку.
Звездная и лунная ночь; звонкая, скрипучая от мороза
дорога, пронизывающий встречный ветер.
Коблик говорил о том, как страшно, что мы ничего не зна-
ем. Он смотрел на небо. Оно казалось ему гладким, обстру-
ганным и отшлифованным. Низко над горизонтом беззвуч-
но—из-за дальности расстояния — брызги разрывов немец-
ких зенитных снарядов.
Мы не знаем, что за пределами космоса, мы не знаем, от-
куда мы и куда мы.
Обидно, что мы забываем о своем незнании, привыкаем.
Все это говорил Коблик. Он говорил о невозместимой оби-
де, что мы живем в эпоху метафизической мысли, что нам
недоступно время великих свершений мысли 1.
1 Полностью поглощенные тяжелыми переживаниями в годы на-
шествия фашистов, мы тогда и думать не могли, что после войны
кибернетика и блистательные взлеты других естественных наук со-
трясут основы многих наших представлений и окрылят нас.
275
Сколько еще ужаса и страданий впереди... Возможно, что
союзники постараются только подкармливать нас, но сдела-
ют все, чтобы в Европу не впустить нас могучими.
Дидро «Об объяснении природы»: «Накопленный воск
бесполезен, если не уметь делать соты».
Я должен сделать соты, чтобы в них отложить «мед сво-
их материалов — наблюдений».
Дидро: «Я, в настоящем своем виде, необходимо органи-
зованная часть вечной и необходимой материи...»
Мое оружие на войне: видеть, слышать и мыслить.
Сколько горбунов! Лисаветский — горбун. Его жаль. Чер-
ная Аня — тоже горбун.
Звонок из редакции. Трубку взял Артемьев.
Крупная победа! Прорваны немецкие укрепления южнее
Воронежа. Громадные трофеи. Уничтожение окруженной под
Сталинградом группировки тоже идет к концу.
17 января.
Перечитываю «Севастополь в декабре месяце» Толстого.
Не читал уже очень много лет.
Величие искренности и простоты.
В этом и только в этом дело!
Здесь же и секрет того, что голос Гроссмана вдруг за-
звучал мужественно.
Как верно у Толстого, как точно: «Со свистом и визгом
разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни и за-
брызгает вас грязью. При этих звуках вы испытываете стран-
ное чувство наслаждения и вместе страха».
«Вы находите какую-то особенную прелесть в опасности.
276
в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще
и поближе упало около вас ядро или бомба».
Мне все это знакомо.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...
(Пушкин)
По всей стране идет сбор средств на помощь Красной Ар-
мии. Есть удивительные случаи. В «Правде» напечатано:
«Москва, Кремль, Сталину.
В эти дни, когда весь советский народ, вдохновленный
единым порывом, вносит свои трудовые сбережения на строи-
тельство танковых колонн и боевых самолетов, а мужчины
моего возраста с оружием в руках, грудью защищая нашу
Родину, гонят прочь со священной советской земли враже-
ские полчища,— я, прикованный к постели тяжелым неду-
гом — параличом ног — и лишенный счастья быть воином
Красной Армии,— не могу остаться в стороне и вношу 1300
рублей, сбереженные на покупку движущегося кресла. Про-
шу разрешить мне открыть счет на строительство боевого
самолета имени Николая Островского.
Павел Гизо».
Совершенно новое у нас в стране — выступление в печати
служителей религиозных культов, их обращение к Сталину
и ответ им Сталина.
Надо было пережить Октябрьскую революцию, прожить
четверть века борьбы с религией и церковью, чтобы понять,
как это неожиданно: в «Правде» и в других газетах появились
имена митрополитов, священников.
Началось с того, что в Чрезвычайную комиссию по рас-
следованию зверств фашистов был введен митрополит Га-
лицкий Сергий. Потом газеты напечатали поздравления Ста-
лину по случаю 25-летия Октября. Потом в них появились
имена тех, кто давал деньги на строительство танков и са-
молетов.
В чем дело?
Это необходимо для железного единства всех наших лю-
дей, независимо от верований и национальности. Все силы
нашего народа — для спасения Родины!
277
Церковники идут на это по двум соображениям: во-пер-
вых, из чисто патриотических побуждений, во-вторых, на-
деясь своим усердием завоевать симпатии народа и получить
большую свободу религиозной деятельности.
18 января.
Отзывы о работе Лисаветского в частях удовлетворитель-
ные, но сдержанные. Он безупречно исполнителен, точен, но
академически суховат, как преподаватель, который привык
укладывать лекцию минута в минуту — от звонка до звонка.
Мне все-таки кажется, что Лисаветский кончит плохо.
Когда Баршак намечает, кому куда и с кем идти, Лисавет-
ский всегда старается пойти один.
Как-то Саше Королеву я сказал, что беспокоюсь за Ли-
саветского: человек он все-таки городской, сидячий, а здесь
у нас болотные тропы и с трудом проходимые чащобы. К мо-
ему удивлению, наш добрый, справедливый Саша сказал:
— За Лисаветского не беспокойся—эта змея не пропадет
ни в какой колее.
У нас в отделении он все время угрюмо молчит, а потом
на него вдруг находит припадок публичной откровенности,
и он у всех на глазах начинает выворачиваться наизнанку,
заводит душераздирающие философские разговоры с роко-
выми, нерешенными проблемами. Коблик в философских
спорах ищет истину, а Лисаветский занимается мозговой
гимнастикой — просто, чтобы почесать язык, занемевший от
долгого молчания.
Отмолчаться от него невозможно. Он искусно инсцениру-
ет спор, провоцирует его. Если соглашаешься с ним и не воз-
ражаешь, это его не устраивает. Он говорит:
— Вы бы могли возразить мне вот таким способом... Тог-
да бы мне пришлось отвечать вам...
Он смакует воображаемый спор. «Мне необходим дето-
натор,— говорит он,— иначе я не взрываюсь».
Фразы Лисаветского похожи на извивающиеся отрезки
рассеченной на куски змеи. Вот одно из его изречений:
«Жизнь похожа на детскую рубашку: она коротка и зама-
рана».
Наблюдая Лисаветского, поневоле вспоминаешь слова
М. Пришвина: «Нет ужаснее человека, оставленного творче-
ским духом».
Лисаветский по-своему талантлив, порою способен даже
278
на вдохновение, но изъеден червоточиной, скептик, циник,
убитый отсутствием больших желаний.
У него великолепная память. Он вынужден вести в ар-
мии сложную игру: он ни во что не верит, в том числе и в
пользу политработы, и вместе с тем он агитатор-лектор(!).
Политически эта фигура для меня все еще не ясна.
Я попросил Коблика и Лисаветского написать в эту тет-
радь на память несколько строк. Они это сделали.
Коблик: «Правда — как бы ни была она солона,
жизнь -w в чем бы она ни выражалась, —
вот моя закваска».
(Мусоргский)
Лисаветский: «Мысль изреченная есть ложь».
(Тютчев)
20 января.
«Севастопольские рассказы» Толстого.
Кажется, что в этой книге все основное уже названо и не-
чего добавить. Раскрыта природа вещей на войне и найден
метод. Показана анатомия эмоций человека на войне.
Кажется, что если и возможно еще что-то добавить — это
будет относиться только к технике и к количеству: танки,
самолеты, громадные человеческие массы.
Принципиально новое в нашей воине — иная природа
тыла. Война — тотальная, она захватывает все. Есть новое и
в ощущениях человека, находящегося на войне: страх за
семью, живущую в тылу (бомбежки, трудности эвакуации).
Можно ли считать новым страх за существование самой
страны и государства? Нет. Татарское нашествие, войны
древности — там тоже решалась судьба народа. У Толсто-
го, конечно, не было этого, но принципиальной новизны тут
нет.
Страх за семью, находящуюся в тылу, никем в печати еще
не показан. Во всем, что написано о войне (Гроссман в том
числе), не раскрыто еще ничего, что не было бы уже обна-
ружено Толстым.
Надо найти в нашей войне особенное и неповторимое.
В «Севастопольских рассказах» нет страха за семью, за Ро-
дину, за судьбу всего народа. У нас совершенно новое явле-
ние— роль женщины, ее доля участия в этой чудовищной
войне.
279
В избе жарко натоплено. Мягкий, теплый свет от двух
медных гильз и от моей консервной банки. Почти все в ко-
мандировках, остались только Коблик, Рубельников и я.
Коблик читает нам вслух Антокольского. Есть прекрасные
строки:
А самое горькое в том, что стирается горечь,
Стирается горькая память и мчатся года.
А вот то, что мне особенно дорого, ибо это моя — много-
летняя, постоянная мысль, мое credo:
Я жил, как ты, далекий правнук.
Я не был пращуром тебе.
Земля встречает нас, как равных
По ощущеньям и судьбе.
То есть в чем-то сокровенном, основном, внутреннем мы —
равны с предком, а следовательно, и с потомком. У нас нет
причин кичиться перед предками, а у потомков не будет при-
чин кичиться перед нами.
Когда я вслушиваюсь в себя: почему сегодня так хорошо
в нашей тихой избе? — не могу не признаться: оттого, что
нет Лисаветского. Он давно уже нагнал бы на нас медный
купорос своих разъедающих фраз и сам растравлял бы свои
раны.
Четыре часа ночи — зимой это еще не утро. Но ложиться
не хочется — так отрадны и целительны тишина и одино-
чество.
22 января. Озерки.
Разговоры о погонах начались месяца за полтора до того,
как появился приказ в газетах.
Нам, кто пережил Октябрь и видел погоны царской
армии, нельзя отнестись спокойно к погонам у коман-
диров Красной Армии. В свое время даже нашивка на рука-
ве дразнила и уязвляла чувство революционного демокра-
тизма.
Было грустно, но мы, конечно, все понимали, что это со-
вершенно необходимая мера: надо выше поднять автори-
тет командира.
Разговоров среди бойцов пока не знаю. Командный состав,
280
страдавший от недостаточной полноты власти, доволен вве-
дением погон, по крайней мере подавляющее большинство.
Я считаю, что с погонами неизбежно должны быть внесе-
ны изменения в правах и обязанностях.
Но такие слухи, как то, что старшему комсоставу не бу-
дет разрешено жениться на девушках, не имеющих среднего
образования, считаю сплошной ерундой.
Начальник Особого отдела Папилин вчера зачитывал пи-
сьмо какого-то командира, возмущенного введением погон.
Он пишет: «Теперь дело только за «ваше благородие» и «мор-
добоем». По его мнению, нельзя ссылаться на традиции и по-
гоны Суворова и Кутузова. Эти герои — будь в ту пору рево-
люция — были бы нашими врагами.
Я:
— Очень многое после революции необходимо было сло-
мать. Но инструмент для ломки по инерции продолжал дей-
ствовать слишком долго.
Рубельников:
— Интересно решить вопрос: в чем были допущены
ошибки?
Коблик:
— Как бы мы ни ошибались, даже в наших ошибках бы-
ло благородство. Умные люди никогда не смеются даже над
Дон-Кихотом. Мы пытались перескочить кой через что.
Жизнь учит тому, что это невозможно.
Прошу срочно доставить эту тетрадь в
Политотдел Ударной армии для переда-
чи ее моей семье по адресу: Москва,
Чистые пруды, 23, кв. 3.
В. Ковалевский
Озерки —1943 г. Ленинградская область. Северо-Запад-
ный фронт.
23 января.
Нарядная, праздничная лунная ночь. Свежевыпавший
снег так блестит, что кажется, звезды лежат на земле. _
24 января.
На юге великолепные успехи. Взят Армавир. Под Ста-
линградом свершилось нечто поистине величайшее! Ког-
282
да изучаешь все наши слабости здесь, на С.-З.Ф., неле-
пости в политработе и порою безграмотность командиров,
не понимаешь, как можно было разбить немцев на юге и
под Ленинградом. Что там, другие люди, другое пополне-
ние, другие резервы? А может быть, мы действительно
недооцениваем особых трудностей нашего фронта и напрасно
себя бичуем? Может быть...
Продолжаю читать «Севастопольские рассказы».
Читаю молитву у Толстого («Севастополь в августе»).
Вот еще (помимо страха за семью в тылу) разительное
отличие от наших переживаний: у нас нет бога!
Когда я читал в юности «Севастопольские рассказы» —
не видал еще войны. Описываемое Толстым мне казалось
глубокой древностью. И только теперь, вкусив от древа
познания добра и зла, я чувствую такую свежесть рас-
сказов Толстого, словно я современник обороны Севасто-
поля.
Нам дали хорошего связного, пожилого бойца-колхоз-
ника: Твердов из Ивановской области. Он напоминает мне
севастопольского солдата. Топит печку с таким усердием,
что сегодня у нас запел сверчок — отогрелся.
Подсел на розвальни к бойцу. Спросил его: какое его
заветное желание, что бы он хотел, когда кончится война?
Он мне ответил, что хотел бы того же самого, что было у
него до войны. Он жил в Восточном Казахстане, на Иртыше.
Колхоз богатый: у каждого колхозника в единоличном поль-
зовании было по две-три свиньи и до десяти овец. Хлеба вво-
лю. Был случай: все сараи, склады, амбары переполнены.
Хлеб, заработанный на трудодни, подвозили прямо к порогу
хаты и сваливали у порога — куда хочешь, туда и девай. Же-
на пишет: «Новый хлеб не трогали, доедаем еще твой», то
есть тот, что до войны заработал он сам.
26 января.
В избушке Политотдела нет никого, только мы двое с ор-
динарцем. Он точит напильником зубья пилы. Я спросил его:
что бы он хотел после войны, какое у него сокровенное же-
лание?
283
— Какое желание? Жить хорошо — вот какое желание!
Работать по специальности. Первое дело повидаться, конеч-
но, с родными. Домой поеду — не на Украину же. А потом по-
ищу, где лучше работа. (Он электромонтер.) Города разруше-
ны. Теперь все внимание будет обращено на строительство.
Поеду куда-нибудь на новостройку.
Сегодня у меня прекрасное настроение с самого утра. Так
подействовала на меня командировка. Это — прежде всего
свобода. Здесь я ни от кого не завишу. И опять новые люди,
новые материалы.
Коблик был против моей командировки. Он сказал:
— Командировка — это бегство от самого себя. Вместо то-
го чтобы сесть за стол и написать для нашей газеты или для
«Комсомолки» — уход в командировку.
Я возразил Коблику:
— Сократ говорил: «В какое бы далекое путешествие мы
ни отправлялись — мы всюду носим с собой самого себя».
Никуда от самого себя не убежишь.
Коблик:
— На Сократа можно валить что угодно,— от него не
осталось ни одного фрагмента.
27 января.
В одиннадцать утра беседовал с командующим артилле-
рией Макаровым. Отличный генерал, умница. Смуглый, под-
вижной, вяловатою кожей лица напоминает актера, привык-
шего к гриму и массажу.
Я расспрашивал об «Иване Грозном». Генерал не в востор-
ге от действий этого миномета. Конечно, разрушительная их
сила очень велика. Но они бьют по площадям, не по целям,
и с очень большим рассеиванием. Надо слишком много сна-
рядов, чтобы добиться подавления огня противника. Мы же
могли выпустить только по 10—12 на гектар. И результат,
несмотря на моральный эффект, был плохой — огневые точ-
ки продолжали жить.
Кроме того, перед самой атакой приходится отводить свою
пехоту назад метров на триста. Это сводит к нулю многие
усилия; когда после залпа пехота возвращается и идет в ата-
ку, потрачено уже столько времени, что немцы успевают
опомниться.
284
Еще один крупнейший недостаток. Рамы, с которых взле-
тают «Иваны Грозные», примитивны. Чтобы установить их
после залпа или повернуть на несколько градусов, надо за-
тратить около шести часов (!). Кроме того, «Иваны Гроз-
ные» действуют только с близких дистанций,— значит, всег-
да стоят в полосе усиленного обстрела вражеской артил-
лерии.
По мнению Макарова, обычная стволовая артиллерия сде-
лала бы куда больше, если бы она выбросила столько снаря-
дов, как М-ЭС.
Основная жалоба Макарова: мало снарядов. Разработав
план операции, подсчитав, сколько надо на гектар, он сделал
заявку. Ему прислали только десятую часть снарядов.
«Катюша» — вне всяких подозрений и упреков. Костикову
стоило бы поставить памятник при жизни. Почти все контр-
атаки немцев были отбиты с помощью «катюши».
«Катюша» М-13 — осколочного действия, М-2 — фугас-
ного.
Но и для «катюш» не хватило снарядов: два-три залпа, и
приходится ждать, пока подвезут еще.
Читаю свежие газеты.
Встреча Рузвельта и Черчилля в Северной Африке, в Ка-
сабланке. На пресс-конференции Рузвельт предложил, что-
бы встреча именовалась: «Конференция по вопросу о безого-
ворочной капитуляции Германии, Италии и Японии».
Обсужден единый план наступательных действий.
Союзники боятся наших успехов и, может быть, в самом
деле что-то предпримут в Европе.
Говорят, что Гитлер объявил тотальную мобилизацию
в Германии, вплоть до детей и стариков, ввиду того что
«империя находится в опасности». Это звучит весьма при-
ятно.
Из коммюнике министерства информации (Англия):
«Премьер Сталин получил сердечное приглашение встре-
титься с президентом и премьер-министром, причем в таком
случае встреча состоялась бы значительно дальше на Восто-
ке. Сталин, однако, не смог покинуть Россию в настоя-
щее время в связи с большим наступлением, которым он
лично руководит в качестве Верховного Главнокомандую-
щего».
285
Конечно, не надо никуда ехать. Тем более в Африку
(«В Африке — ужасный Бармалей»). Великолепный отказ.
Веско, солидно. И руки остаются свободными. Если бы он
присутствовал на этой встрече, то все дальнейшие действия
в Европе, всякие промедления и оттяжки связывались бы от-
части и с его именем. Нет, хорошо иметь свободные руки.
1 февраля.
Сегодня я спросил одного вестового, колхозника из Алтай-
ского края, что бы он хотел после войны. Он встрепенулся
от удивления:
— Как что хотел бы? Советскую власть хотел бы! Опять
строить советскую власть! (Очевидно, он думал не об Алтае,
а об оккупированных областях.)
Серый на вид человечек, с маленькими глазками, на ры-
жей с седоватою гривой лошадке, хочет «строить советскую
власть». Когда встречаешься с таким человеком или с таким,
как ординарец комполка Соловей, или с людьми из «веселой
роты» ра ведчиков (447-й полк), сознаешь те качества нашего
народа, которые спасли Родину от страшного нашествия фа-
шистов, и меня все реже и реже мучает мысль, что на войне
мне неизвестно что-то самое главное. Я понимаю все больше
и больше, почему мы терпели поражение, почему мы побеж-
даем и победим окончательно.
3 февраля. Озерки.
Сейчас мы все вместе кричали «ура».
Получен «В последний час» Совинформбюро. (На этом
развороте тетради я сохраню номер нашей армейской газеты.)
Вот две фразы из сообщения Совинформбюро:
«2 февраля 1943 г. историческое сражение под Сталингра-
дом закончилось полной победой наших войск.
Захвачено свыше 91 000 пленных, из них более 2500 офи-
церов и 24 генерала».
«Таков исход одного из самых крупнейших сражений в
истории войн».
К нам в армию прибыли два маршала: Жуков и Тимошен-
ко. По-видимому, предстоит решительный штурм Демян-
ской группировки. Пришла целая дивизия ствольной артил-
286
лерии. (Вспоминаю слова Макарова, что стволы сделали бы
гораздо больше, чем «Иваны Грозные».)
Когда я был у начальника химслужбы Безкаравайного,
он получил распоряжение расставить по переднему краю ды-
мовые шашки, чтобы вызвать на себя огонь, отвлечь, создать
ложную картину.
На стене в нашей избе — два трогательных ящика. На ле-
вом написано: «Получение», на другом: «Домой». Из правого
почтальон каждый день забирает наши письма в тыл.
Вечером — совещание политработников. Докладывали
те, кто ездил по батальонам и полкам проверять партра-
боту.
В 7-й гвардейской немцы разгуливали по рубежу доволь-
но-таки свободно — гвардейцы их не беспокоили, стреляли
мало. Кто-то из коммунистов заговорил об этом. Созвали
партсобрание, обсудили, заклеймили, постановили и прочее.
После этого немцы вынуждены были прятаться — гвардейцы
стали больше расходовать патронов.
Спрашивается: а где был командир? Неужели он сам не
мог навести порядок? Ведь это же преступление! Только за-
гнав немцев в норы и держа их все время в напряжении и
страхе, можно морально подавить их.
Надо беспощадно бороться против боязни своею актив-
ностью вызвать на себя ответный огонь немцев.
Совещания, уговоры порою в нашей армии подменяют
четкий, беспрекословный приказ. Политработа — великое де-
ло, но ее область должна быть обозначена более определенно.
Во время совещания прочли «В последний час». Немцев
гонят. В конце концов получится, что они воевали лишь за
то, чтобы быть похороненными на советской земле.
Мало снарядов. В одной из батарей артиллеристы заявили
о том, что они согласны до конца войны отказаться от зар-
платы, лишь бы прислали на эти деньги снаряды.
287
4 февраля.
Гвардии майор Артемьев сам выстирал себе носовые плат-
ки и, развешивая их на двери, сказал:
— Надо скорее все постирать, пока погоны не навесили!
Теперь у нас все время шутки и разговоры о погонах и
офицерской чести. Вчера Лисаветский читал всему коллек-
тиву тезисы, присланные из Политуправления фронта: «Честь
советского офицера». Меня, как старшего, постоянно расспра-
шивают об офицерстве царской армии.
Часто шутим в столовой, где людно. Смешно бывает, ког-
да в полной тишине, в ожидании, пока подадут первое, раз-
дается мерный хруст сухарей, поданных вместо хлеба. Мно-
го смешного и нелепого в жизни командира, если подходить
к нашему фронтовому быту лишь с точки зрения старой офи-
церской чести. Как сохранить погоны, если приходится та-
скать на плечах вещевой мешок? Как быть, когда приедешь
в Москву с чемоданами? Нет ни такси, ни извозчиков, как до-
ставить груз домой,— ведь тяжелую кладь офицеру с погона-
ми нести неприлично — теперь это запрещено.
Если бы я теперь приехал в Казань, я бы уже не смог по-
мочь своим и сам пойти на базар. Пришлось бы задуматься,
где колоть дрова.
Возница, в сани которого я прыгнул, сказал:
— Прошлая война скинула погоны, а эта надела. При
царе говорили: «Ваше благородие». А как же теперь будет
обращение?
В частях проводятся об этом специальные беседы. Моло-
дежь принимает погоны очень просто, естественно, а стари-
кам, которые помнят, «с чем кушали» погоны при царизме,
приходится растолковывать.
Командир 448-го полка Яковенко сказал:
— Если бы у меня были способности к литературе, я бы
написал книгу под названием: «Когда плачет мужчина».
Он плакал только один раз — когда узнал, что немцы уби-
ли его сестренку, которую он сам нянчил.
Потом он рассказал, как рыдали партизаны, когда опусти-
ли в могилу товарища. Перед этим они немного йыпили. Ког-
да убитого поднесли к могиле, Яковенко — он был тогда их
288
командиром,— увидев слезы на глазах у одного из партизан,
крикнул:
— Не сметь плакать! Партизаны не плачут!
Каждый бросил в могилу по горсти земли. Кто-то выкрик-
нул имя убитого, и тут уже не выдержали, заплакали все.
Яковенко разрешил салют: по диску из автомата и по пол-
диска из ручного пулемета.
Боевая дружба. В 86-й бригаде был убит старший лей-
тенант Кузнецов: пуля — в сердце.
Когда об этом узнал его друг, старший лейтенант Чуднов,
он ночью, под огнем немцев, нашел труп Кузнецова. Вместе
с бойцами он принес Кузнецова на КП батальона. На другой
день его похоронили с почестями, с салютом. Вечером этого
же дня Чуднов был сам убит.
Во мне осталось уже очень мало места — я переполнен
своими наблюдениями войны. Я ничего еще не сделал, ни-
чего не вынул из своего до отказа набитого закрома, и мне
некуда складывать.
Я могу найти новые детали человеческих характеров, но-
вые повороты в сюжетных ходах, но основное я уже видел
и слышал. Я нашел и подобрал множество зерен, теперь их
надо выращивать садоводу-художнику.
Нужен письменный стол и тишина.
Я хотел бы иметь право ответить тем, кто через много-
много лет спросит: «Что ты делал на войне?»:
— Я был твоим глазом и твоим ухом!
Письменный стол и тишина. Тишина — это и мир, то есть
окончательное решение судеб моего народа.
Самое слабое место в нашей армии — средний и младший
командир. Кадровые вышли из строя, выбиты, осталась из
них лишь тончайшая прослойка. Новые командиры — сплошь
да рядом из бойцов, прошедших краткосрочные курсы (2 —
3 месяца). Они не умеют принимать самостоятельные решения
в бою. Вот почему политработниками затыкают дыры.
б февраля.
Вот уже два вечера подряд у нас в отделении происходит
своеобразная игра. Мы засиживаемся до трех часов ночи. Как
только Баршак засыпает, обстановка становится непринужден-
Ю В. Ковалевский
289
ной. При свете коптилок мы сидим, сидим, давно уже хочется
спать, но всем не хватает чего-то, и мы продолжаем сидеть.
Позавчера, по предложению Коблика, мы решали, кем бы
каждый из нас был в Америке.
Решили, что Артемьев был бы губернатором какого-
нибудь штата, Разин — фермером, Лисаветский — негоци-
антом или коммивояжером. Кунин внес поправку, и она
вызвала такой восторг своею злой меткостью, что все заши-
пели:
— Тсс... Баршак спит!
Кунин сказал:
— Лисаветский был бы городским сумасшедшим!
Стоял такой смех, что я не верю, будто Баршак
спал. Может быть, он даже ждал, куда и его назначат в Аме-
рике.
Придумать должность для нас с Кобликом оказалось не
так-то легко.
Обо мне Коблик сказал, пожалуй, самое остроумное:
— Ковалевский был бы в Америке писателем.
Остальные приняли это без энтузиазма, но ничего другого
предложить не смогли. Все сошлись на том, что Саша Коро-
лев был бы в Америке безработным, а Кунин — рабочим на
конвейере у Форда.
Наконец я нашел работу и для Коблика:
— Проповедником из Армии спасения!
Коблик вкусно расхохотался, его веселье дружно подхва-
тили остальные.
И вот тут-то раздался трезвый голос Баршака. У спящего
человека такого голоса никогда не бывает:
— Товарищ Коблик, а вы готовы завтра к докладу у свя-
зистов?
Я не видел, как переживали это незабываемое мгновение
мои товарищи, потому что закрыл лицо ладонями и беззвуч-
но трясся от смеха; судя по тому, как ходила подо мной ска-
мейка, сидевшие на ней Королев и Разин тоже едва удержи-
вались от взрыва.
«Проповедник из Армии спасения» сделал самое умное: он
просто задул светильник. И со стороны начальника никаких
вопросов больше не последовало.
Язык: «Беседа из-под закурки».
Пришло письмо от отца несчастного Резниченко. Старик
пишет, что ничего не получает от сына уже пять месяцев.
290
«Жив ли он, здоров ли? Прошу незамедлительно отвечайте.
Желаю вам скорой победы над проклятым врагом Гитлером.
С почтением Р. А.
А если он есть находится в вашей части, дайте ему выго-
вор и привет от его отца».
Товарищи поручили мне ответить старику.
Разговор с Кобликом. Он считает, что после войны неиз-
бежно будет вытеснен предвоенный тип работника — безыни-
циативного исполнителя, слуги параграфов и пунктов.
Каждому этапу развития нашей страны соответствует
свой тип деятеля-работника. Перед войной уже созрела не-
обходимость в ином типе. Появился молодой человек, много
читавший и кое-чему научившийся.
Нужен ум более изобретательный и самостоятельный. Ход
жизни, по мнению Коблика, неизбежно приведет к тому, что
появится новый, самостоятельно мыслящий тип.
Я согласен с ним, но вношу сдерживающую его пыл по-
правку. Чтобы появился мыслящий, инициативный работник
(не бюрократ), мало психологических перемен, связанных с
войной,— сила бюрократической инерции велика. Нужны
серьезные структурные изменения.
Предстоит большая работа для мыслящих руководите-
лей. Надо осмыслить: что помогло нам победить? Что тормо-
зило, мешало победе? И очистить механизм, усовершенство-
вать его.
Девятибалльный ветер. Метель. Наш связной Твердое
(Саша Королев зовет его «Твердый-мягкий») стал топить печ-
ку— ветер гонит дым обратно. Пришлось залить дрова во-
дою. За ночь изба выстыла, охолодала. Я решил помочь де-
лу — забрался на чердак и снял с кирпичной трубы ее желез-
ную насадку (тоже трубу). Теперь труба стала короче, она
не высовывалась над крышей, и дым из нее выходил прямо
на чердак. Дыру в крыше я заложил дощечками. А чтобы ве-
тер не задувал в трубу через щели, я прикрыл ее стеклом,
поставив его наискосок. Это хорошая защита и от искр, если
они поднимутся по дымоходу на такую высоту. Стекло я вы-
нул из иконы Николая-угодника, которая попалась мне на
чердаке.
10*
291
Спустился в избу и для наглядности затопил сам. Никако-
го дыма. Твердова это так удивило, что он, забывшись, на-
звал меня на «ты»:
— Что ты там наколдовал?
Он полез на чердак, долго там оставался и, спустившись,
сказал с двусмысленной улыбкой:
— Это еще отцам и дедам нашим было известно, что
Николай-угодник имеет силу укрощать бурю на суше и на
море.
8 февраля.
Заболел наш лектор, майор Разин. Врач поставила диаг-
ноз № 4, то есть сыпной тиф.
Стыдные, противные переживания. Пришла женщина-
врач и заявила, что она сейчас проделает осмотр на вшивость.
И вышла на несколько минут.
Мы принялись острить по поводу чести офицера. Когда
она появилась вновь, я категорически отказался раздеться,
заявил, что насекомые есть наверняка и пусть она делает
баню, дезинфекцию и все, что полагается. Но, когда, найдя
вши у Коблика и у Лисаветского, врач доложила Баршаку,
что есть и у меня, я не выдержал, разделся и доказал, что
у меня нет вшей.
Но вообще это чистая случайность.
Как может не быть насекомых, если мы постоянно быва-
ем на передовой, ночуем в землянках и блиндажах, не обе-
спечены баней и сменой белья? И никто не стирает нам —
каждый устраивается, как умеет. Я лично перемену белья
подгоняю к бане у гостеприимного Корбовского в ЭП-68, но
это бывает не часто.
Коблик, Лисаветский и я пошли в баню. Летом, когда в
Озерках стоял штаб армии, здесь мылись члены Военного Со-
вета. Великолепная для фронтовых условий баня, хотя чер-
пать из котла пришлось консервной банкой и вместо шаек
полоскаться в ящиках, похожих на детские гробики. Пока
мылись, всю нашу одежду прожарили в специальной камере-
вошебойке.
292
В бане дружно пели:
Пусть ярость благородная вскипает, как волна!
Идет война народная, священная война!
Распаренный Лисаветский стал восхищаться жизнью:
— Она чертовски интересна! Но жить и работать надо
быстро. Лермонтов долго не мучил эпоху: пришел, написал и
погиб на дуэли. Не морочил людям голову. Жизнь после
сорока лет — это эрзац-жизнь.
И тут же, вне всякой связи, он вдруг сказал:
— И потом меня мучит беспартийность природы. Ловать!
Течет себе и течет, черт ее возьми! Хоть кол у нее на голове
теши. На одном конце — мы, на другом — немцы.
После бани я рано уснул. Проснулся среди ночи. У Кобли-
ка и Лисаветского в абсолютной темноте идет не совсем по-
нятный мне разговор о колоколах. Странный разговор, нео-
жиданный для меня. Сначала Лисаветский сказал, что в од-
ной из прелюдий Рахманинова ему мерещатся колокола. По-
том стал жалеть о том, что многое исчезло вместе со старым
миром. Он говорил, что слышит в себе голос предков-евреев
и в то же время он весь — в русской культуре. Жалеет, что
не слышит звона колоколов. Он сказал, что наша эпоха
уничтожила многое, что действовало на эмоции, на чувства,
и не дала этому никакой замены.
Я спросил, и никто из них не удивился, что я не сплю:
— Как вы думаете, можно ли допустить, что по музейным
соображениям в Кремле один раз в году будут звонить коло-
кола? Там замечательные колокола. Большой колокол Ива-
на Великого был слышен далеко от Москвы. Чтобы раскачи-
вать его язык, нужно четыре человека.
Коблик перебил меня:
— Они зазвонят.
Он стал говорить об участии колоколов в праздничных
процессиях, сказал, что колокола с их эмоциональным воз-
действием заменить ничем нельзя.
Я не очень верю, что можно воскресить на благо народа ко-
локола, но сказал:
— А нельзя ли объявить, что колокола были в плену у
церковников? Надо вернуть колокол народу, воскресить его
набатную, призывную мощь, напомнить, что колокол — про-
возвестник свободы. Ведь Герцен назвал свой журнал «Коло-
колом» не потому, что имел в виду церковь и «господи, по-
293
милуй». Вечевой колокол древнего Новгорода был со-
слан в Углич за то, что бил в набат, скликал сограждан для
борьбы за свою свободу. Колокол этот и сейчас в Угличе, в
музее.
Лисаветский начал нам возражать, в его голосе появилось
раздражение:
— Воскресить колокол — не зависит от Советского прави-
тельства. Это зависит от двадцатого века. Колокол навсегда
связан с религией. Он умер вместе с религиозными эмоциями
и чувствами. Теперь — радио и кино, колокол не возродится.
Ты, Семен, расчувствовался, поддался, резонируешь на чу-
жое чувство.— Он имел в виду мое влияние.
Коблика это задело, и они заспорили.
Коблик гораздо гармоничнее, зрелее, он более цельный.
Он додумывает до конца, сосредоточен на главном и все вре-
мя ищет. Он перешагивает через загромождения из камней и
смотрит вперед. А Лисаветский суетливо бегает вокруг каж-
дого камешка, обнюхивает их и возвращается все к тому же.
Он слишком остро реагирует на мелочи, на пустяки. Благо-
даря быстрой воспаленной реакции он пленник своих минут-
ных ощущений.
Человека он понимает мало, еще меньше чувствует
его, да и не интересует его человек. Он весь поглощен со-
зерцанием самого себя. Вот он, кажется, уже приблизился
к человеку на достаточное расстояние, чтобы понять его,
но вытаскивает зеркало и опять рассматривает самого
себя.
Когда я сказал Лисаветскому об этом, он ответил:
— Человек может понимать других только настолько, на-
сколько он видит в них самого себя. До революции я создал
бы религиозную секту любви к самому себе, поклонение в
себе величию мира, поклонение самому себе, как вместили-
щу великолепия, всего замечательного и превосходного в
жизни.
В это время, как гром с неба, раздался зычный голос Саши
Королева, приправленный убийственной иронией:
— Эй вы, сектанты, колокольные звонари! Дадите вы
спать агитаторам или нет? Нам с Артемьевым завтра идти в
командировку,— надо иметь совесть.
Интересно бы проследить и понять, как все-таки сформи-
ровался Лисаветский — такой одинокий, искривленный? От-
294
куда этот психологический и интеллектуальный нарциссизм,
столь широко бытовавший в кругах старой, дореволюцион-
ной интеллигенции?
Вспоминаю и такое изречение Лисаветского: «В искусстве
нет правды, как нет правды и в душе человека. В мире нет
правды, потому что он причинен (в нем есть закономерность),
но бесцелен».
Уму непостижимо, как такой человек может работать
агитатором. Однако отзывы о его работе отнюдь не плохие.
9 февраля.
Утром Коблик спросил меня:
— Вероятно, вчерашние мои разговоры с Лисаветским за-
ставили вас почувствовать, насколько вы взрослее?.. Одна из
особенностей общения с Лисаветским — возвращаешься в
детство.
— Да,— сказал я,— ваш диалог с Лисаветским поразил
меня. Дело не в колоколах. Меня поражает, как у людей
вашего поколения может быть чувство обкраденности, обед-
ненности, чувство неполноты жизни. Ведь революция
широко распахнула двери в совершенно новый, огромный
мир.
— Вы правы, конечно,— сказал Коблик,— это чувство, на-
верное, есть только у немногих людей из интеллиген-
ции. Важно знать основные желания миллионов людей.
Миллионы — вот кто решает. Надо знать, о чем они ду-
мают, о чем они мечтают, какие у них сокровенные же-
лания.
Коблик продолжал:
— Все хорошее не может быть враждебно нам. Надо при-
нять все богатство дореволюционной культуры. Беда наша в
том, что мы сужали даже Ленина. Его не читали, а «изуча-
ли». За него брались только по необходимости, для сдачи за-
чета по «Истории ВКП (б)». Догматики, начетчики требовали
от нас школярства, убивали живую душу в учении Маркса
и Ленина.
А в общем,— оборвал самого себя Коблик и замолчал,
запнулся, словно бы чем-то смущенный.
— Что в общем?
— Я хочу вас предостеречь. Напрасно вы так пристально
295
изучаете нас с Лисаветским,— ведь мы отклонение от нор-
мы, мы не типичны. Простите за совет: больше смотрите на
простых бойцов, на боевых командиров.
Немцы заметили, что мы что-то готовим. Опять появи-
лась авиация. Где-то далеко слышны колотушки зениток.
Утробные толчки от авиабомб доходят по мерзлой земле и до
нас. У Коблика стали круглые глаза. Ночью далекая канона-
да,— казалось, что кто-то ходит по потолку, высоко подни-
мая ноги.
Безукоризненно звездная ночь, слегка замутненная тихим
светом месяца. Над горизонтом подвешены на парашютах
пышные люстры немецких осветительных ракет. От земли
наискосок к ним устремляются розовые птицы трассиру-
ющих пуль. Как бы погибая в разреженной атмосфере от раз-
рыва сердца, эти недолговечные существа в последнее мгно-
вение ярко вспыхивают. Зенитные снаряды ставят в небе то
там, то здесь огненные кляксы разрывов, которые мгновенно
высыхают, испаряются.
В избе, как всегда, медные светильники из высоких сна-
рядных гильз. В них есть что-то торжественно-библейское.
Два еврея в их медовом свете — инфантильный мудрец Коб-
лик и еретик Лисаветский — томятся, сохнут, как в пустыне,
один (Коблик) — без женского тепла, другой — без ордера
на бессмертие.
10 февраля.
Коблик отправился в командировку по тылам организо-
вать агитколлектив в запасном полку, сделать несколько до-
кладов, один — в армейском доме отдыха. Да! Это не опи-
ска— дом отдыха. На таком неподвижном фронте, как наш,
возможны такие парадоксы: «дом отдыха» на войне! В нем
отдыхают командиры, выписанные из госпиталей.
Коблик уговорил меня проводить его хотя бы километра
два-три.
На ходу разговорились о моей воображаемой «Карманной
книге для друга». Коблик хотел бы, чтобы книга вскрыла
корни любви к жизни, утверждала бы самоценность челове-
ка. Пусть она будет молитвой жизни: пропеть молитву жизни!
Прощаясь, он сказал:
296
— Следует по утрам благодарить бога за то, что он не
сделал меня писателем.
Это его постоянная мысль. Основная трудность в работе
писателя — невозможность без всяких задержек вылить себя,
как в песне.
Баршак сказал, что у нас маршалы Жуков и Воронов.
К нам подходит большое пополнение. Когда Жукову напо-
мнили о Демянской группировке, он пренебрежительно ска-
зал, что это ерунда.
Предстоит, надо думать, что-то грандиозное. Пополнение
идет не только к нам, но и на Западный фронт, и к нашим со-
седям. Видимо, дело идет о выходе к Балтийскому морю и
об окружении ленинградской группы немцев.
На днях все наши агитаторы идут встречать пополнение.
Баршак спросил меня: не мог бы ли я сделать доклада два?
Я ответил, как пионер:
— Всегда готов!
11 февраля.
Коблик и Лисаветский весь день без отдыха пишут ли-
стовки: оба страдают, пишут с трудом.
Баршак уже забраковал у Лисаветского, приказал переде-
лать. Листовка Коблика, как всегда, оказалась одобренной.
Он зрелее политически, у него абсолютный слух на полити-
ческую литературу.
Мой полушубок — убогой прочности. Месяца не прошло,
как я его получил в АХО — уже отрывается рукав. У Кунина
взял цыганскую иглу, которой он вытаскивает фитиль из
светильника, у Артемьева — суровые нитки. Этот хозяйст-
венный человек захватил льняные нитки из Шутовки. Это
моя первая работа в таком жанре. Полушубки присланы в
армию из Монголии.
Язык:
«Надо выбить из него пыль!»
«Не занимай площадки». (Не перебивай в споре, дай гово-
рить.)
287
«Скрипучее дерево долго стоит».
«Не ербези заради бога, дай спокой».
«Я больше никогда не могу выспаться — стар стал».
«За пупок держится. Болен. Все нутро болтается».
«Внезапная хохотушка».
12 февраля.
Лисаветский отправился в командировку. Я пошел его
немного проводить. Спросил, жалеет ли он, что сейчас нет
около него рояля.
Он сказал, что рояль может заменить ему всех людей.
В мирное время у него было две комнаты и в каждой — по
инструменту.
— Я человек запойный. Иногда я могу месяц не прика-
саться к женщине, а потом шесть дней подряд сходить с
ума. Так и с музыкой. Когда я окончил институт, я полтора
года копил деньги и купил за пять тысяч пианино, в то вре-
мя как можно было достать за две тысячи.
Помолчав, он сказал вне всякой связи:
— Как человек некрасивый, я хочу верить, что мне
доступны красивые женщины, поэтому я избегаю некра-
сивых.
У этого человека есть на все быстрый и своеобразный от-
вет. Его несчастье в том, что он не имеет руководящего стерж-
ня, целенаправленности. Он скептик и циник, но по сущест-
ву ему бы следовало «петь молитву жизни». Что сломало его?
Он глушит чувство своей неполноценности, маскирует его
сквернословием и испусканием яда и смрада.
Он хорошо говорил о воспитании сына. Сказал, что вою-
ет за отца, которого стронули с места и не дали спокойно уме-
реть, и за сына, которого он сейчас не имеет возможности
воспитывать.
Признался, что у него не может быть счастливой семей-
ной жизни. А нормальное воспитание может быть только в
семье.
Не чувствует он себя хорошим воспитателем и потому,
что хорошо воспитать может только тот, кто отказался уже
от самого себя, для которого что-то свое уже недостижимо.
Таким образом, для каждого человека воспитание сына — это
одновременно и акт безнадежности и в то же время надежды.
— Я бы хотел научить сына любви к жизни. Научить его
слышать и видеть, воспринимать жизнь как можно шире и
298
глубже, всеми гранями. Я бы не стал ничего ему ни навязы-
вать, ни искривлять его роста. Пускай бы развивался таким,
как это ему свойственно. Я бы не ждал от него, чтобы он был
обязательно деятелем, ведущим за собой. Нет. Меня удов-
летворило бы, если бы он был спокойным, вдумчивым со-
зерцателем, который понимает и чувствует всю глубину жиз-
ни. В воспитании сына надо отдавать все свое горение, все
свои стремления, а это возможно только тогда, когда отка-
жешься от самого себя.
Не меньше километра мы прошли молча. Он убыстрил
шаги. По-видимому, теперь ему хотелось остаться одному.
Я взглянул на него. Меня поразила его бледность, словно он
лишился сил оттого, что был так откровенен. Черты лица его
обострились, он стал еще более некрасивым: на иссиня-блед-
ных щеках густо проступила неряшливая щетина — сегодня
он не побрился. Остановившись, он сунул мне руку, давая по-
нять, что нам пора расстаться. На прощанье он сказал:
— Человечество, три тысячи лет истекая слюною, потом
и кровью, куда-то стремилось. Вечная спешка и суета. Собст-
венно говоря, ему теперь больше ничего не надо. Лет пятьде-
сят просто спокойно пожить. Не надо развивать больше ни-
какой философии — уже все есть, имеется все на любые вку-
сы. Надо просто спокойно пожить лет пятьдесят.
13 февраля. Красная Нива.
Уже третий день хожу с Кобликом по военным дорогам,
на этот раз по ближним тылам.
Мы вышли из Озерков 14-го и пошли пешком. Коблик на-
чал разговор о преподавании истории, об опыте предшеству-
ющих поколений. Он сказал:
— Мы плохо изучаем историю. На всем земном шаре пло-
хо используют опыт предшествующего поколения.
Я ответил:
— Емкость человеческого сознания ограничена. От пред-
шествующего опыта, от истории мозг человека усваивает
лишь самое необходимое. Остальное отмирает в памяти, вы-
брасывается организмом. Главное ограничение в использова-
нии предшествующего опыта — сама природа человека.
В этом тайна жизни и ее прелесть. Опыт отцов усваивается
детьми в разумно ограниченной дозе. Спасительный закон
таков, что ребенок воспринимает все заново, с первозданной
свежестью, как будто до него вселенная не существовала.
299
Коблик ничего не ответил. Мы молча прошли под серым
пасмурным небом еще километра полтора. Березы и ели то
подходили к самой дороге, то отходили, открывая широкие
поляны, как паузы на нашем пути для глубокого вздоха.
Я продолжил, как будто не было никакого перерыва:
— Таков закон природы. Человек должен повторять не-
которые ошибки своих отцов, дедов и прадедов. Человек име-
ет право ошибаться. Он никому не хочет передоверять жи-
вое ощущение жизненного пути — от рождения до смерти.
Он не может отказаться от этого пути только потому, что этот
путь уже прошел его отец и многое на этом пути отцу не по-
нравилось. Нет, сын хочет тоже ощущать жизнь с начала и
до конца, со всеми ее ошибками и радостями.
Отец прошел по Военно-Сухумской дороге, он восторгался
этим маршрутом. Но разве он может сказать сыну: «Что ж,
ты не доверяешь мне, тому, что я рассказал тебе о моем опы-
те на этом пути? Не ходи по этой дороге, я уже все на ней ви-
дел, иди по новому пути»? Нет, сын хочет сам все увидеть.
Коблик словно не слушал меня. Он вдруг сказал:
— У человечества нет никакой конечной станции, конеч-
ной цели. Оно, как животный вид, придет только к своему
концу, к гибели, как, закончив свой жизненный цикл, вы-
мерли ихтиозавры и другие животные.
Я возразил ему:
— А может быть, они вымерли, не завершив цикл, а толь-
ко из-за изменившихся условий существования. Просто их-
тиозаврам с охлаждением климата перестало хватать корма,
их стали одолевать другие виды, которые легче приспособи-
лись к новым условиям. Если человечество овладеет закона-
ми природы — оно станет бессмертным, ибо всегда сможет
создать самые выгодные условия для своего существования.
На пути нам попалась срубленная береза. На снегу резко
выделялись, как оранжевые брызги, опилки и щепки. Ствол
уже был распилен на части. На одном из кругляков мы усе-
лись отдохнуть. Я спросил Коблика:
— Как вы думаете, достигнет ли когда-нибудь человек
личного бессмертия?
Коблик ответил:
— У Циолковского есть об этом очень интересные мысли.
— Это того Циолковского, который мечтал о космическом
полете на ракетах?
— Да, того. Между прочим, благодаря его идеям создана
и наша «катюша». Удивительно своеобразный, яркий мысли-
зоо
тель-фантаст. Он считал, что в околосолнечном пространст-
ве есть более зрелые миры, чем наш, и разумные существа
там уже достигли стадии личного бессмертия. Обязательно
прочтите его «Научную этику». Много спорного, но основные
мысли поразительно интересны.
Я сказал:
— Давайте пофантазируем о бессмертии еще. Если число
возможностей бесконечно, значит, человек бессмер-
тен. Иначе — мир конечен: он кончается на смертности че-
ловека, на отрицании такой возможности, как бессмертие че-
ловека.
Но ведь мир конечен и в том случае, если у него отнять
такую возможность, что человек смертен. Лиши мироздание
хоть одной возможности (варианта), и этим самым ты при-
знаешь его конечность.
А если ты признаешь бесконечность вселенной как ак-
сиому, как абсолютное положение, то должен признать воз-
можность любых явлений и не только в потенции, а то, что
в любой данный момент существует все, что угодно. Значит,
любое явление одновременно существует и в то же самое
время не существует. Следовательно, человек одновременно
смертен и бессмертен. А значит, и вселенная одновременно
бесконечна и конечна, вселенная познаваема нами и непоз-
наваема.
Все едино и одновременно бесконечно по разнообразию
явлений: свет можно превратить в звук, и, наоборот, звук
можно превратить в жидкость или в твердое тело, свет мож-
но превратить в мануфактуру, в хлеб, в самолет. Все во все-
ленной взаимообратимо. Ведь Земля и все, что существует на
ней, когда-то были частицей газообразной туманности и све-
том. В основе всех вещей, всего сущего лежит единое и в то
же время бесконечно разнообразное начало. Разница между
различными веществами (вещами, элементами) в количестве
и качестве, но все сделано из одного теста. Мир в одно и то
же время состоит из одного и того же и одновременно же из
бесконечно разнообразного.
Пошел необычайно густой снег. Он падал огромными
хлопьями. Лесное пространство замутилось. Идти станови-
лось все труднее. Казалось, что и мысли наши стали увязать
в этом необыкновенном обилии снега. Мы замолчали и
уже до самой Красной Нивы не произнесли больше ни
слова.
301
Едет грузовик, случайно зацепил и волочит за собой де-
ревце. Коблик очень удивился, когда я сказал, что это со-
сенка.
— Разве сосна бывает такая маленькая?
Оказывается, он думал, что сосна и ель — это одно и то
же: когда деревце маленькое — называется елкой, подра-
стет— становится уже сосной. Тут-то и выяснилось, что Коб-
лик, кроме березы, вообще не знает ни одного дерева.
Лес он впервые увидел на фронте. Он очень тяготится
незнанием природы и понимает, что это ограничивает чело-
века, обедняет его. Говорит, что многому научил его я. Он
сказал:
— До войны я был с природой на «вы».
Я ему ответил:
— Сознайтесь, что вы даже не знали ее адреса.
Коблик посмотрел вокруг себя широко раскрытыми глаза-
ми и сказал:
— Природа всегда торжественна, она как бы полна со-
знания важности каждого данного мгновения.
Я помогаю ему закончить мысль:
— Природа вечно творит, но будней она никогда не знает.
И мы говорим, что и человек должен стремиться к такому
же состоянию.
Мне кажется, что дело не только в том, что он горожанин.
Не было у него раскрытости к природе.
У меня к ней с детства молитвенное отношение. Я рано
начал чувствовать, что тайна одного какого-нибудь цветка —
это тайна всей вселенной. Если можно было бы разгадать
тайну одного цветка — стала бы понятна тайна и всей все-
ленной. Я — сорокапятилетний человек, до сих пор помню
мое детское восприятие природы: лучи вечерней звезды, ко-
торые делают ее похожей на летящую ласточку (помню даже
место в Рыльске, около ограды собора, где пришло мне в го-
лову это сравнение — мне было шесть-семь лет), водоросли
подо льдом, вороха опавших дубовых листьев, которые я на
бегу разбрасываю, взбиваю ногами, спутанных, стреножен-
ных коней на росных вечерних лугах и многое, многое дру-
гое...
В лесу мы сели отдохнуть. Попалось очень удобное дерев-
це, выгнутое у основания, как кресло. Коблик сел в кресло,
я — рядом на трухлявом пеньке.
Коблик горько сказал, что он чувствует, как он обеднен
догматичностью, нивелированием.
302
— Помните, мы говорили, что не изучаем свою историю,
не пользуемся опытом прошлого. Человек без прошлого об-
краден. И он в то же время виноват перед предшественника-
ми. У него нет своей истории.
Трухлявый пень, на котором я сидел, не выдержал моей
тяжести и неожиданно рухнул, подломился у самого корня.
Я свалился в снег. Нет ли в этом тайного, символического
смысла? Посмеялись. Это встряхнуло нас обоих, и мы пошли
дальше.
17 февраля.
Великолепные вести: освобожден Харьков! Рушатся ста-
рые рубежи немецкой обороны. Сколько тысяч несчастных
жителей вынуждены были копать для немцев противотанко-
вые рвы, возводить оборону против своих родных брать-
ев! В прошлом году мы не могли освободить Харьков,
попали в мешок и потерпели поражение. Теперь Харь-
ков — наш!
Хорошая речь Рузвельта.
Едем с Кобликом делать доклад о международном положе-
нии. Коблик говорит о стиле речей Черчилля, Рузвельта, Ста-
лина. Я ему помогаю:
— Черчилль — отчитывается, когда выступает на трибу-
не; Рузвельт — проповедует; Сталин — докладывает.
Долгий разговор с армейским гинекологом и подполков-
ником Дубенем из Политотдела тыла. Говорили об отноше-
ниях мужчин и женщин на войне.
Дубень еще раз рассказал историю Бунаевской, аптекар-
ши-фармацевта в госпитале. Начфин госпиталя из ревности
(причина — Бунаевская) выстрелил в начхоза. Тот ради спа-
сения упал как подкошенный, хотя не был даже задет пулей.
Начфин подумал, что убил его, и, выйдя в соседнюю комнату,
как сказал Дубень, «вывернул себе мозги»—покончил с
собой.
Дубень пытается дать свою классификацию отношений
между мужчинами и женщинами на фронте.
Первая категория. Молодежь, работающая в госпи-
талях и в медсанбатах. Впервые устраивают свои семейные
дела, вступают в брак официально. Ни у него, ни у нее в ты-
лу нет никого — семьи еще не было. В этом случае ничего
нельзя возразить.
зоз
Вторая категория. Работают вместе муж и жена, ко-
торые поженились еще до войны. Хорошо работают.
Третья категория. У него и у нее есть семья в тылу
и дети. Оба знают это и друг друга не обманывают.
Четвертая категория. Он — семейный, у него дети,
посылает в тыл алименты; девушка, с которой он сошелся,
все знает. Когда ее вызывают для душевного разговора, она
просит не вмешиваться в ее дела и говорит: «Война все спи-
шет, а потом разберемся».
Пятая. Прямое распутство (таких мало). Он и она ме-
няют без разбора партнеров. С такими идет борьба: их сме-
щают, понижают, разъединяют, удаляют из армии.
Официальной точки зрения по сексуально-бытовым делам
в армии не существует. В основном придерживаются прави-
ла: мешает работе или нет? Это естественное мерило.
Недавно удалили из армии некую девушку-фельдшерицу.
К ней привязался старик 60 лет, генерал-майор. Ее поведе-
ние компрометировало этого генерала, снижало авторитет,—
значит, мешало его работе и таким образом снижало боеспо-
собность дивизии.
Дубень перечислил только основные категории, есть тут и
другие оттенки.
Сожительство облегченного типа довольно распростране-
но в медучреждениях. Бывают фронтовые связи и у
штабных с медработниками. Но беспорядочных смен парт-
неров, распутства — мало, по сведениям Политотдела.
Я всегда хочу думать о женщине лучше, чем другие. Убе-
жден, что среди потока очень легких отношений много слу-
чаев настоящей, большой любви. Есть и большие, тяжелые
драмы, тоже настоящие, без всякой скидки на легкость.
Кстати, о формуле «война все спишет».
Некоторые оправдывают себя тем, что ежеминутно смот-
рят в глаза смерти.
Для меня, наоборот, угроза смерти требует от человека
еще большей чистоты, чем в обычной жизни. Умереть надо
с человеческим достоинством. Это — закон естественной ду-
шевной чистоты человека. Перед смертью надо быть собран-
ным. Готовность к небытию требует от человека внутренней
завершенности. Поэтому, пока я еще в твердой памяти и ра-
зум у меня здоров, я хочу знать все до конца,— знать и са-
мую смерть. Я считал бы себя обкраденным судьбой, обед-
ненным, путь мой был бы не завершен, если бы пришлось
умереть во сне или в пьяном виде
304
Сексуальная распущенность, ссылки на то, что каждую
минуту можешь умереть,— дикая философия, в ней явный
недостаток культуры. Интимные отношения перед смертью
тоже должны быть ясные, простые, чистые.
Вьюга. Метет. За окном — белый дым метели. В избе мир-
ные голоса хозяев, детей. Хорошо! Мы, в первом эшелоне,
уже отвыкли от этого: без местных жителей у нас по-казар-
менному пусто.
Весь вечер заходят военные и просят хозяев устроить бой-
цов на ночевку. Они входят заснеженные, багровые от мете-
ли и мороза.
Это идет пополнение. Идут с Калининского фронта, с Вол-
ховского. Идут, идут... Конечно, у нас будет что-то крупное.
Среди бойцов опять разговоры: «Когда же второй фронт?»
Да кто может не думать об этом? Если бы союзники ударили
сейчас, именно сейчас, разгром наступил бы очень быстро.
Союзники тянут. Они дождутся того, что Гитлер оправится от
наших ударов и сколотит резервы. Это его не спасет, но вой-
ну затянет.
19 февраля. Озерки.
Большая дорога, непрерывный поток пополнения. Идут
лучшие возрасты —18—26 лет. Есть люди из-под Сталин-
града, но большинство—из тылов, еще не бывшие в
боях. Несколько авиадесантных дивизий — отборные кре-
пыши.
Яркая, лунная ночь. Идут люди, идут. Уже несколько дней
идут на одних сухарях, но идут бодро. Совсем иная картина,
чем в прошлом году. Идет замечательное пополнение. Очень
много станковых пулеметов, минометов и небывалое для нас
количество автоматов.
Вечером в Политотделе — совещание. Выступал и наш
Спиридонов. Лейтмотив совещания: остались считанные дни
до решительного наступления. Говорили и о кладбищах.
Обязательно эвакуировать убитых и раненых по боковым
тропам, чтобы подходящее пополнение не видело жертв.
Казахи так любят чай, что был такой случай: они долго не
получали кипятку вволю; привели их в баню — они выпили
всю горячую воду, и мыться было нечем.
305
21 февраля.
Только что мы узнали: Демянск окружен!!! Окружила
34-я армия. То, что так долго не удавалось нашей армии. Ка-
кое бы это было событие, случись оно дней пятнадцать назад.
А теперь все наше внимание поглощено новым наступлени-
ем. Командарм, выступая в одной из новых дивизий, сказал,
что мы выйдем к Балтийскому морю.
Немцы выводят свои части из неокруженного отрезка
коридора к Старой Руссе. Возможно, они это делают, что-
бы использовать их как заслон, зная о нашем наступ-
лении.
Бор. Корреспондентский пункт. Только что узнал, что
34-я армия освободила Демянск. Все более становится яс-
ным, что немцы уходят из коридора, чтобы заслониться от
предстоящего удара.
«Жизнь не цель, а процесс».
23 февраля.
Иду по звонко-скрипучей лунной дороге. Попался спут-
ник— боец 1916 года рождения. Заветное желание после
войны:
— Пожить. Восстановить разрушенное. Разве плохо бы-
ло? Ведь что человеку надо? Поработать, покушать— и в
кино. Что больше?
Немцы густо сбрасывают листовки. Содержание примерно
такое: «Тимошенко задумал новое наступление. Вы знаете,
чем обычно заканчиваются все его наступления? Таким же
провалом закончится и это».
25 февраля.
Вернулся из командировки Артемьев. Захлебываясь, рас-
сказывает о могучей силе, которая движется к передовой.
Небывалое для нас количество техники. Народ бодрый, моло-
дой. Настроение боевое. Все леса, опушки, обочины дорог за-
полнены людьми и техникой, везде танки, «катюши». «На-
строение пасхальное, рождественское». Люди по три дня
почти ничего не ели и все-таки идут бодро. «Всех лошадей
съели,— нам ничего не оставили!» Все верят в успех. И все
это Артемьев говорит брызжущей скороговоркой. Получает-
ся, что и съедение лошадей — тоже признак бодрости.
• Эту тетрадь надо доставить в Полит-
отдел армии, чтобы, она была передана
в Военную комиссию Союза писателей,
а потом — моей семье.
В. Ковалевский
1943 г. Март. Северо-Западный фронт.
28-е — последний день февраля.
Сижу у адъютанта командующего армией, жду, когда
придет наш новый командарм гвардии генерал-лейтенант
Ноготков. Чтобы скоротать время, кое-что запишу.
Адъютант (капитан) на первый взгляд напоминает доре-
волюционного денщика. По-видимому, человек спокойный,
душевный. Читает «Приключения Робинзона Крузо».
Трудновато было сюда добраться. Машины идут, перегру-
женные боеприпасами,— большие пробки на дорогах.
Солнце парит спину. В колеях — ручьи. Нехорошо — от-
тепель может помешать подвозу и сорвать нашу операцию.
Лыжники несут свои лыжи на плечах. Если раскиснет еще
больше, техника, которой забиты все леса вдоль дороги, за-
стрянет.
307
Немцы здорово ослабели: никаких следов бомбежки на
всей дороге. Они экономят, бомбят только переправы на Ло-
вати и деревни у самого переднего края.
Видел несколько воздушных схваток. Два «мессера» от-
били нашего ястребка от эскадрильи и гнали его вдоль доро-
ги, над самыми верхушками елей, потом взмыли вверх,
должно быть ничего не добившись. Вообще много авиации.
Приходится все время вертеть головой, стараясь угадать:
чья? Под вечер больше летало немецких самолетов, но зе-
нитки держали их на большой высоте.
Что-то у нас получается не то, чего мы ожидали. Наступ-
ление идет медленно. Посмотрим, что будет дальше.
Командарм принял меня в лесном домике, поставленном
саперами, в комнатке, которая напоминает новую подмо-
сковную дачку: янтарные сосновые бревна стен, электролам-
почка под оранжевым абажуром, занавесочки.
У командарма — орден Ленина и две нашивки за тяжелое
ранение. Цвет лица желтый, нездоровый. Если бы на нем не
было генеральских погон, вполне можно было бы принять
за скромного врача или инженера. Сдержанный, но благоже-
лательный. Договорились о встрече завтра утром.
1 марта.
Трудный день. Опять оттепель.
Командарм сказал: «Мы отложили до 4-го». Встретимся
с ним 4-го утром. Он скромен и прост. Кажется, что коман-
дование армией свалилось на него как снег на голову. Гру-
стный, озабоченный неудачами. Сказал, что молодые артил-
леристы работали неточно. Мало снарядов — дороги не по-
зволяют обеспечить подвоз. Люди истощены длительными
переходами и плохим питанием (тоже из-за распутицы).
Потом он увлекся, рассказал, как оборонял Тулу, как всю-
ду, где он воевал, у него были удачи. Его дивизия за оборону
Тулы была награждена званием гвардейской. «А вот здесь
впервые у меня неудача!»
Он сказал, что начало отложено до завтра. Посоветовал
к моменту артподготовки быть в 250-й дивизии (в лесу под
Овчинниковой). «Там услышите всю канонаду».
308
5 марта.
Итак, я в самом решающем месте. На ранней заре проиг-
рали все виды нашей артиллерии — пятиминутный массиро-
ванный артналет. Наивные люди в шалаше, возле меня, раз-
говаривают о том, что у немцев после такого «сабантуя» ни-
кого не осталось в живых и мы пройдем теперь вперед кило-
метров на двадцать пять.
Началась методическая обработка заранее разведанных
точек. Потом будет ложный, провоцирующий ружейный
огонь, чтобы немцы подумали, что началась атака, и выдали
бы свои добавочные огневые точки, еще нам не известные.
После этого будут окончательно уничтожены все обнаружен-
ные точки и начнется уже не ложная, а настоящая, смерто-
убийственная атака.
Начальник Политотдела 250-й дивизии (черный полушу-
бок с красно-рыжим воротником) собрал вокруг себя полит-
работников. «Всем быть наготове,— одни заменяют выбыв-
ших, другие идут в роты за информацией».
Жду около костра, когда закипит суп из концентрата.
После завтрака отправляюсь на КП — вперед. Начальник
Политотдела пожаловался мне, что занимавшая это место
2-я гвардейская дивизия не убрала более двухсот трупов и
не подобрала оружия: валяются повсюду ПТР, винтовки и
даже пулеметы.
11 часов 45 минут. Наблюдательный пункт 250-й дивизии.
Лес. Снег повсюду утоптан, как на плацу. Беспрерывные
удары орудий. Яростный хрип раскаленного газа в трубках-
ракетах реактивных снарядов. Верхушки трех сосен притя-
нуты друг к другу и закреплены прибитыми к ним досками.
Там спрятана маленькая будочка, обитая тесом. Из нее тор-
чит стереотруба. Оттуда комдив руководит боем. Надо взять
деревню Вязки (до нее метров четыреста).
Я добрался сюда вместе с ротой автоматчиков.
Слегка морозит. Солнце. Метрах в тридцати от трех со-
сен— врытый в землю блиндаж начальника штаба. На его
бревенчатом накате пристроился парикмахер и кого-то бре-
ет на морозце.
По отрывистым, как реплики, крикам с вышки можно по-
нять, что танки вошли в Вязки, но пехота не поднялась и не
пошла следом за ними. Танки утюжат деревню, но они одни.
309
От недавнего боя на подступах к деревне остались наши под-
битые танки. Немцы используют их как огневые точки, и
нам приходится теперь уничтожать эти танки, которые еще
совсем недавно были нашими.
Говорят, что среди офицеров, столпившихся под сосной,
стоит и знаменитый танкист, генерал Катуков.
Комдив приказывает послать в атаку лыжников. Он кри-
чит с вышки: «Петров, возьми деревню!» — таким тоном,
будто говорит: «Петров, пойди на склад и получи обмунди-
рование».
Я вижу, как цепь лыжников без лыж вытягивается из ле-
са на опушку и начинает перебегать через поле, желтоватое
от сухого былья, оттаявшего из-под снега. Лыжники один за
другим проходят мимо меня, я вглядываюсь в их лица, но
долго смотреть не могу — совестно. Через несколько минут
многие из них будут уже трупами.
Привезли на волокушах молодого парня с обескровлен-
ным лицом, словно поголубевшим от сияющего сегодня не-
ба. Минометчик с трудом тащит на спине раненого товарища.
Устал, положил товарища прямо на снег, сел рядом и отдыха-
ет. Оба молчат. На снежной тропе то здесь, то там пятна кро-
ви. Смерзшаяся ярко-алыми комками, она на снегу кажется
чем-то посторонним для человека, словно это что-то лишнее,
поэтому ее выкинули.
На обочине лесной дороги сидят бойцы — ждут своей оче-
реди к смерти или к бессмертию. Еще подтягивают артил-
лерию,— бой будет идти весь день. Прошло несколько волн
наших штурмовиков и бомбардировщиков. Черный, нефтя-
ной цвет вспышек от немецких зенитных снарядов.
Бессмертный солнечный свет на лесном снегу, пестром от
резких синих теней. Хочется мира, детского смеха, беззабот-
ных, радостных детских игр.
Болотные сосны зимою сильно желтеют и принимают гор-
чичную окраску (не то что боровые).
Идут обратно наши бомбардировщики. Когда они летели
бомбить Вязки, я успел их сосчитать. Сейчас они идут ниже,
и поэтому кажется, что они проносятся стремительнее. Счи-
тать трудно (сколько из них не вернулось?), но я все-таки
пытаюсь. Нет, не смог — меня сбила со счета, отвлекла неиз-
вестно откуда появившаяся тетерка.
Рев моторов, свирепые залпы PC, одиночные, торопливые
винтовочные выстрелы и где-то рядом заливистые, длинные
пулеметные очереди, наконец, тут же метрах в двухстах, мо-
310
лодое пополнение учат бросаться в атаку, парни кричат:
«Урра-а!..» А тетерка продолжает здесь какую-то собствен-
ную, отдельную от мировых событий лесную жизнь.
До чего же странно было видеть, как она спустилась на
самую маковку высокой сосны. (Может быть, только там она
ощущала простор, а внизу было слишком людно?) Грузная,
неуклюже большая для верхушечки, где мы привыкли ви-
деть лишь малых птичек, тетерка посидела не больше пол-
минуты и полетела куда-то дальше.
6 марта. Утро.
Командарм показал мне карту, пеструю от свежих разно-
цветных пометок.
Я сказал ему о своем впечатлении: «Много техники, но
людей мало». Он подтвердил: «Сил маловато, но мы берем
техникой».
Однако Вязки так и не отняли еще у немцев.
Разговаривая со мною, он то и дело брался за трубку
(адъютант соединял его то с одной дивизией, то с другой). Ко-
мандарм приказывал: «Дать больше огня!», «Ты отвечаешь
за дивизию! Ты разбазарил дивизию — десять тысяч человек.
Ведь что это такое?!»
Адъютант соединил его с начальником артиллерии
Макаровым. «Почему нет огня?» — спросил он Макарова
и, выслушав ответ, снова спросил: «Почему же я не
слышу?»
Ушел я от него в час дня. Мне повезло: обычно приходит-
ся трястить в кузове, а тут машина, которую я остановил на
перекрестке, оказалась пустой, и приветливый водитель при-
гласил меня в кабину. Но ехал я с ним недолго. Через не-
сколько минут нам обоим пришлось «обнимать землю» — мы
даже не успели разговориться.
Впереди нас, едва мы отъехали от перекрестка, начали
рваться мины, ложась возле дороги. Сначала я подумал, что
саперы расширяют здесь дорогу и подрывают минные поля.
Но машины, ехавшие впереди нас, остановились, из них один
за другим начали выскакивать водители. Некоторые броси-
лись бежать к недалекой опушке леса, более благоразумные
приземлялись тут же, у машин. Остановил машину и мой.
Мы выскочили в разные стороны и залегли — он слева, я
справа от дороги.
Когда мотор заглох, отчетливо стал слышен вой нащу-
311
пывающих нас мин. Разрывы слышались через каждые три
секунды. Мины ложились ровно, как по линейке. Кажется,
после шестой или седьмой мины мой водитель привскочил,
сел на снегу и с удивлением посмотрел, как возле него после
взрыва все еще катятся по инерции комки мерзлой земли.
Потом он несколькими рывками снял туго сидевший на ноге
валенок. Снял, пощупал сквозь портянку ногу, потом утроб-
но, точно рот у него был забит кляпом, застонал, завыл и
ничком повалился на снег. Но лежал он только мгновение —
тотчас же подхватился и опять сел, весь сосредоточившись
на боли в ноге.
Я крикнул, чтобы он лежал. Он покорно повалился опять.
Как раз в это время стал нарастать и закипать все сильней
и неотвратимей звук подлетающей мины. Казалось, что
именно эта и есть наша роковая... Я что было сил стиснул зу-
бы и вжался в снег. Нет, мимо!
Это был последний разрыв. Пахло пороховым дымом. От
напряженного стремления понять, что происходит, весь пей-
заж, до этого будничный и простой, стал вдруг необыкновен-
но четким и многозначительным; даже ближайшая к глазу
сухая прошлогодняя былинка получила какое-то специаль-
ное назначение в этом мире,— казалось, она знает в тысячу
раз больше, чем мы с пораненным водителем.
Он попросил у меня перочинный нож, чтобы разрезать
штанину и осмотреть рану. Кровь лилась уже обильно.
Я посоветовал ему ничего самому не трогать, чтоб не загряз-
нить. Впереди закричал надрывно еще один раненый, кото-
рого пытались поднять со снега и положить в машину его
товарищи. К счастью, скоро подошла санитарная машина, и
по дороге бодро, деловито уже бежала в коротенькой ши-
нельке и кирзовых сапогах медсестра, расстегивая сумку с
красным крестом. Она занялась моим недолгим спутником, а
я вскарабкался в кузов впереди стоявшей машины. Из ее
выхлопной трубы уже постреливал синеватый газок — мы
тронулись дальше.
8 марта.
У нас здесь война, а в Ашхабаде — глубокий мир. 6 апре-
ля 1942 года там какой -то аспирант на ученом совете гумани-
тарных факультетов защищал диссертацию: «Тебтюнисский
папирус № 703 как исторический источник». А 16 февраля
там же был заслушан доклад одного профессора: «Историче-
312
ские судьбы левого берега Мургаба в свете новейших архео-
логических раскопок». Это я вычитал в газете. Надо пол аг
гать, что новые археологические открытия сделаны никак не
во время рытья окопов и блиндажей.
Настрогал крошку из химического карандаша, заквасил
на воде чернила и для пробы написал на клочке бумаги:
«Ночь проходит медленно. Луна с трудом преодолевает обла-
ка, похожие на льдины».
Сзади подошел Коблик и прочел через плечо эти строки.
Он смачно, вкусно расхохотался и спросил: «Чем это вы за-
нимаетесь?!»
Для него это упражнение звучит, вероятно, так же дико,
как для меня ашхабадская информация, хотя я отлично по-
нимаю, что жизнь продолжается и Тебтюнисский папирус,
безусловно, представляет большую ценность.
9 марта.
Убит командир 448-го полка Яковенко. Это он вывел
остатки полка из окружения под Цемином. Это он сказал
мне при первом знакомстве: «Если бы я умел писать, я бы
написал книгу под названием: «Когда плачет мужчина».
Помню его, красивого, розоволицего, в венгерке синего
сукна с серой барашковой оторочкой (самодеятельное обмун-
дирование, которое прощали некоторым военным, любимым
командирам, склонным иногда порисоваться своей лихостью).
Он стоял перед ротой разведчиков и, спрашивая каждого из
них, заносил данные в книжечку. В эти минуты он сильно
напоминал мне поэта К. Симонова.
Судьба.
Пришел в полк писатель. Яковенко рассказал ему свою
жизнь. Писатель тоже заносил данные в тетрадку. Через три
дня Яковенко был убит. Словно оба мы знали о сроках его
жизни и нам надо было при этой встрече торопиться, чтобы
успеть записать.
Нет, он собирался жить и ничего не предчувствовал!
В огненной проклятой горловине под Цемином не погиб,
а здесь, возле Речицы, шел, посвистывая, из штаба полка, и
его снял на тропинке снайпер.
Помню, я спросил Яковенко: «Вам бывало когда-нибудь
страшно?» Он ответил, что страшно никогда ему не было.
313
В минуты смертельной опасности у него появлялось или пол-
ное безразличие от усталости, или же становилось жаль са-
мого себя, жаль своей молодой жизни.
11 марта.
Сообщение Совинформбюро: «Контрнаступление немцев
в районе Донбасс — Харьков. Наши войска оставили города:
Красноармейск, Краматорская, Барвенково, Славянск, Ли-
сичанск».
Все у нас проклинают союзников. Они воюют не только
против немцев, но и против нас: это они дали возможность
фашистам, знающим, что со спины им ничто не угрожает,
бросить на нас еще 25 дивизий.
Когда воспитываешь ребенка, надо бояться, чтобы не со-
старить его. Пускай мир раскрывается для него заново. Не
забегай вперед, не подсказывай ему преждевременно уже
известное тебе содержание драмы.
Надо беречь как величайшую драгоценность непосредст-
венность чувств, первичное видение мира. Ни к чему не надо
привыкать — пусть все вокруг ребенка остается в первоздан-
ной свежести — и тяжелое, и радостное. Пусть даже будни он
воспринимает как слушание музыки.
Не отнимай у ребенка возможности видеть мир своими
собственными глазами. Пусть вселенная сначала будет для
него такою, как будто это он открыл ее и до него ничего на
свете не происходило. Сначала надо полюбить мир, как ребе-
нок любит сказку, а потом уже, в процессе новых открытий
и постепенного узнавания все новых и новых вещей и явле-
ний, привязаться к нему еще крепче.
12 марта.
Всюду лужи. На складе в АХО нет сапог, а мои развали-
лись во время последней командировки. Хожу в валенках,—
ноги, конечно, мокрые.
13 марта.
Все разъехались и разошлись в полки, батальоны и роты.
В избе пусто. Полы подмыты. Топятся печи. На улице солн-
це и ледок на подсушенных ночным морозом лужах.
314
Такое чувство, словно ты нагрешил перед этим и теперь
тебе отпущены все грехи.
В пустой, тихой и чистой избе сразу же захотелось рабо-
тать. Написал для армейской газеты маленький рассказ «Си-
няя рубашка».
Переписал рассказ начисто, вышел на дорогу к Лебедин-
цу. С острою внезапностью, почти с болью, услыхал пес-
ню первого жаворонка. Слишком еще много снега в лесу и в
поле,— не ожидал.
Я снял ушанку и слезами радости приветствовал поющую
птицу.
14 марта.
Ходил в Бор в пудовых от воды валенках. Туда и обрат-
но— километров шестнадцать. Получил наконец сапоги: го-
ленища— кирзовые, головки — яловые, подметки кожимито-
вые, каблуки-набойки хорошие — кожаные.
На дороге видел двух лошадей. Одна уже кем-то съедена:
осталась требуха, ноги и голова; другая еще дышит, и около
нее сидит боец с винтовкой за плечами, курит. Под голову
лошади он подложил клочки сухой травы, как будто еще не
верит, что лошадь больше никогда не встанет.
Перед закатом в нашу избу проникло ущербное солнце.
С детства я помню сотни, тысячи вечеров... И всегда в этот
час было чувство щемящей утраты и потерь! Кажется, что
я ощущаю все вечера далеко за пределами своей собствен-
ной жизни. Я вижу, я чувствую вечера предшествующих
веков.
На днях я прочел «Микеланджело» Ромена Роллана.
Когда я думаю о скорби и терзаниях Микеланджело, я
думаю о его вечерах.
В юности в этот час присоединялось еще острое ощуще-
ние огромности вселенной и ожидание, что обязательно дол-
жно что-то произойти. Но что? Что произойдет? Это томило,
держало под напряжением.
В окраске вечеров, как в зареве пожаров, есть что-то ге-
роическое, а значит, и трагическое.
Мне всегда было трудно в час заката оставаться в поме-
щении, обязательно надо было выйти под открытое небо. Вы-
шел я и сегодня. Под новыми сапогами хрустят на дороге ле-
дяные сухарики подтаявшего на солнце и застывшего к ве-
черу снега.
315
Вечер поразительной красоты.
Стекшая за день в низины вода остекленела между ку-
стов, образовала маленькие твердые озера с отшлифованной
до зеркального блеска зеленоватой поверхностью. А вокруг
них снег — сиреневый, с оранжевыми искрами под последни-
ми лучами солнца, и сине-лиловый в тени. Освещение не-
правдоподобно сложное, многоцветное.
Лужи и наливные, недолговечные весенние озера заледе-
нели, а подо льдом уходит вода: стукнешь по ледяной крыш-
ке ногой, и слышно, что там пустота. Одну крышку я проло-
мил сапогом и, подобрав прозрачную плиточку, с детским
удовольствием пустил ее по озерку. Она разбилась на стек-
лянные осколки, сказочно легко скользнувшие по льду, и
каждая стекляшка светилась против солнца аметистово-
топазовой прозрачностью.
Черная вереница изб со скелетами обнаженных стропил
на крышах настойчиво твердит о народной беде, о разорен-
ных человеческих гнездах, стыдит и не дает забыться.
«Самое главное — жить и делать свое дело, и смотреть,
и слушать, и учиться, и понимать, и писать, когда у тебя есть
о чем писать, но только не раньше и, черт возьми, не слиш-
ком много спустя... Главное — работать и научиться этому»
(Э. Хемингуэй. «Смерть после полудня»).
Коблик, когда встает утром с койки, шатается, как ребе-
нок, не в силах проснуться сразу.
Не забыть. Когда шел из Пересы в Слугино, меня поразил
глазированный, как эмалированная посуда, пейзаж, покры-
тый коркой гололедицы. Под вечер все перед глазами бле-
стело. Снежные холмики и бугорки точно слеплены и обо-
жжены в печах, как изделия датского фарфора. В поле —
большие сверкающие плоскости, берег реки, скаты оврага —
все скользкое, дающее отблеск как посуда, все покрыто как
бы окаченным водою и заледеневшим снегом.
18 марта.
Медленно продвигаемся на некоторых участках вперед.
ЭП-68 (Корбовский) «обрабатывает» несколько сот раненых
в день и направляет их дальше, в тыл.
316
А Харьков опять в руках немцев. Еще много будет огор-
чений. Ничего! Народ не может не победить! Никакая самая
тончайшая техника истребления не может поставить наш на-
род на колени.
Мироздание — замкнутое в себе целое, сфера, за предела-
ми которой нет ничего, в том числе нет и пустоты. В какую
бы сторону ни протянуть прямую линию — она возвратится
в ту самую точку, откуда ты начал вести зту линию, ибо ми-
роздание есть замкнутое в себе целое, хотя и бесконечно.
Так думал Эйнштейн, но представить себе все это зри-
тельно, образно я не в состоянии.
За пределами мироздания ничего не существует, потому
что оно бесконечно. Так же как в математике не существует
наибольшего числа, потому что к наибольшему числу всегда
можно прибавить еще единицу, и так до бесконечности...
В седьмом отделении я сделал выписки из протоколов до-
проса пленных. За эти дни взято много пленных. Двоих до-
прашивали даже у нас в избе.
Вот кусок из показаний Франка, взятого под Вяз-
ками 5 марта — в тот самый день, когда я там был на НП
(делаю выписку из протокола допроса, который вел инструк-
тор Вагнер):
«Утром 5 марта русские начали ожесточенную артилле-
рийскую и минометную подготовку. Такой канонады мы с
товарищами никогда еще не слыхали. Вся земля стонала от
разрывов. Через некоторое время наш передний край оборо-
ны полностью был разрушен.
Мы перебрались в другой блиндаж, расположенный поза-
ди первых позиций. Нас осталось всего четверо от взвода.
Неожиданно русские перенесли огонь и на этот участок. Сна-
ряды начали ложиться близко от блиндажа.
Видя опасность, лейтенант и фельдфебель выбрались из
блиндажа и скрылись в лесу. Мы последовали через некото-
рое время за ними. В лесу нас заметил русский солдат. Мы
сдались в плен».
В тот же день под Вязками сдался в плен и Петер.
Он сказал на допросе:
«Меня поражает иногда легкомыслие русских. Я помню
317
такой случай: группа солдат из нашей роты днем подползла
совершенно незамеченной к русским передовым позициям
и забросала их блиндажи гранатами.
У вас передовая плохо охраняется. Никогда нельзя забы-
вать, что передовая на фронте — это та же граница родины
и службу надо нести более бдительно. (Собака!)
Вечером у вас на передовой много костров, днем —
везде дым и свободное передвижение. Это сильно вредит
вам.
Судя по тому, что ваши танки двигались, не зная, что на
этом направлении находятся наши противотанковые ружья,
ваша разведка работала плохо».
А вот по поводу ухода немцев из котла.
Майер (взят 14 марта в деревне Веревкино):
«Никто из солдат не знал, что они будут отступать из Де-
мянского котла. Когда 1 февраля мы получили приказ об
отходе, все были уверены, что нас направят во Францию или
на переформирование в Германию. На другой день нам ста-
ло ясно, что мы никогда больше сюда не возвратимся, так
как мы заставляем следовать за нами все гражданское на-
селение.
По приказу командования при отходе мы сжигали дерев-
ни, взрывали мосты и склады с боеприпасами и продоволь-
ствием. Отход наших войск из котла был для нас совершен-
ной неожиданностью, так как в этом году нам было гораздо
легче держать оборону, чем в прошлом.
Перед отходом нам роздали столько продуктов, водки и
шоколаду, что мы не могли всего взять с собой и большую
часть разбрасывали на дороге.
Большие продовольственные склады мы взрывали. Наши
прикрывающие части принимали все меры к тому, чтобы
ничего не оставалось противнику. Я, находясь в обозе, в тече-
ние нескольких суток наблюдал большие пожары и взрывы.
Как я слышал от товарищей, во время нашего отхода рус-
ским удалось настигнуть 94-й полк, который был основатель-
но потрепан ими».
20 марта.
Опять тепло. Лужи на дорогах, и в лесу в низинах тоже
всюду вода. Жаворонки играют в воздухе, гоняются друг за
другом.
318
26 марта.
От нас забрали шесть соединений. Получен приказ перей-
ти к обороне.
Между тем на юге немцы продолжают рваться вперед.
Мы сдали Белгород. Атаки в районе Жиздры.
Коблика ударила лошадь во время командировки в Вал-
дай. Ушибла ногу. Если с кем-либо из наших агитаторов
должно было это произойти, то уж конечно лучшей кандида-
туры, чем Коблик, не придумаешь.
28 марта.
Все работники нашего отделения отправились в команди-
ровку.
Вчера в восемь часов вечера Баршак собрал нас, чтобы
проинструктировать о нашей задаче. Вот она.
1. «Сфотографировать» день в роте — все, что делают бой-
цы и командиры от побудки до отбоя. 2. На второй день —
разобрать недостатки, организовать образцовый распорядок
дня, наладить политработу. После этого мы с Кобликом дол-
жны были сделать еще по докладу для агитаторов всей диви-
зии: «Международное положение» (Коблик), «История Удар-
ной» (Ковалевский).
Беседа с Баршаком внезапно была прервана. Кто-то за-
кричал под окном: «Пожар! Выходите!»
Горела, как оказалось, крыша на соседней избе. Ветра не
было — острие пламени поднималось вверх ровно, как свеча,
но от него излучался жар такой силы, что минуты через две
уже пылала дранковая крыша на следующей избе, хо-
тя на нее не упало ни одной искры. А минут через де-
сять горели все пять изб до поворота улицы, где начинает-
ся пустырь.
Нашу избу спасло то, что мы окатывали ее водой. Она
дымилась от пара, как загнанная лошадь, быстро высыхала,
а мы окатывали ее снова.
Воду мы брали из придорожной лужи. Наш ординарец
Твердов орудовал с ведром на крыше, а мы подавали ему
воду и сами плескали из котелков на бревенчатую стену. По-
319
могла весенняя вода отстоять избы и на другой стороне ули-
цы. Там уже дымились и вспыхивали кое-где узорные налич-
ники на окнах и коньки на крышах, но пламя как бы
смывали малыми порциями воды, плеская ее из ведер и
котелков.
Коблик плескал на бревна нашей избы из кружки, а Ли-
саветский, то ли пародируя его, то ли серьезно,— из полов-
ника.
Солдат Твердое с крыши покрикивал на нас — офицеров:
— Шевелитесь живее, а то спать будет негде!
Свое теплое гнездо мы таки сберегли и спали под крышей.
31 марта.
Тяжелейшая командировка по ту сторону Ловати. Неми-
лосердно трясет на разбитом бревенчатом настиле — машина
пляшет на прогибающихся бревнах, как по клавишам. От та-
кой музыки ноет все нутро, болит печень. Пришлось ехать
стоя, ухватившись за крышу кабины и пружиня на ногах. От
тряски за одну только эту поездку потускнело, потерлось в
полевой сумке зеркальце для бритья.
Сейчас болит все тело. Седалище так отбило, что больно
сидеть на стуле. За последние сутки мы с Кобликом ничего
не брали в рот.
Когда мы шли по хозяйству Козыря, он неожиданно заго-
ворил о потребности слиться с природой. Вспомнил о Спино-
зе, стал цитировать наизусть его мысли о природе сотворен-
ной и природе творящей: «natura naturata» и «natura natu-
rans».
В это время за нашей спиною началась сильная стрельба
из автоматов, послышались крики. По-видимому, шли заня-
тия с молодым пополнением. Мимо нас прожужжало не-
сколько пуль.
Коблик вообразил, что просочились немецкие автоматчики,
и опустился на колени в грязь, готовясь лечь.
Я мягко пристыдил его:
— Семен Маркович, не надо — еще рано!
Он поднялся.
Еще раз я убедился, что он боится не одних только само-
летов.
Километра два мы прошли молча, избегая смотреть друг
320
другу в глаза. На душе у меня становилось все тягостнее.
Коблик спросил:
— Вячеслав Александрович, вы когда-нибудь пережива-
ли погром? Я имею в виду детство.
Вопрос Коблика парализовал меня. Я остановился.
— Самое страшное,— сказал Коблик,— это когда на кры-
ше гремит железо под сапогами. У нас во дворе был сарай-
чик. Погромщики не могли сломать запор на воротах,— они
ворвались к нам по крыше сарая.
Коблик помолчал, и мы стронулись с места, пошли даль-
ше. На ходу он заговорил опять:
— И потом... этот вечный крик новорожденного... Ленин
писал: в крике новорожденного уже заложен эпилог челове-
ка. Я всю жизнь слышу крик человечества, зов о помощи.
Все мое детство — ожидание какой-то неизбежной катастро-
фы. Я уже вам говорил: моя мать принимала рожениц у нас
на дому. До сих пор помню разметавшуюся на кровати уди-
вительно красивую и в то же время страшную от нестерпи-
мых страданий белокурую польку. Она умерла у нас в ком-
нате.
Ночевали в одной из двух уцелевших изб — все, что оста-
лось от красивой деревни Краснодубье,— да и то пришлось
спать на груде кирпичей от разбитой печки. Всю ночь
нас встряхивали разрывы тяжелых снарядов, — била
дальнобойная немецкая артиллерия. В полудремотном со-
стоянии, как в бреду, лезли в голову злые, безнадежные
мысли, как будто весь мир вымазан непролазною, цепкою
грязью.
Коблик молчал, но я чувствовал, что не спит и он,— уж
слишком нагло «гремело над головой железо» войны. Не
знаю, надолго ли я заснул, но проснулся, как мне показалось,
лишь оттого, что мне в голову пришла предельно ясная
мысль: «Я к Коблику несправедлив. К его боязливости нель-
зя подходить с обычной меркой».
Разве можно предъявлять к нему такие же требования,
как к кадровым солдатам и офицерам?! Это несправедливо.
Коблик вырос в «каменных джунглях» современного города.
Его не научили понимать природу, его не научили любить
природу. Под открытым небом это беспомощный человек,
его приемник настроен на другую волну, природа ничего не
11 В. Ковалевский
321
может ему подсказать, все ее неповторимые приметы для
него мертвы. Виноват ли в зтом Коблик? Нет! Это особен-
ность современной цивилизации: труд физический оторван
от кабинетного, требующего предельного напряжения мозга.
Неумение ориентироваться в пространстве, в природе,—
от того, что она ничего ему, как другу, не шепчет, не подска-
зывает,— приводит к тому, что Коблик не понимает, далеко
ли от него враг или близко, на опасном от него расстоя-
нии разрываются снаряды или на них можно плевать.
Он не может отличить особенности звуков: для него
одинаково страшно, рвутся ли снаряды фашистов или это
бьют стоящие недалеко наши батареи. На переднем рубеже
все для Коблика неожиданно и все непонятно: все пули
летят в его сторону, и стволы всех орудий направлены на
него.
Еще со времени пещерного человека все непонятное вы-
зывает у людей страх. А для Коблика на огневом рубеже
слишком много непонятного. По самой своей сущности Коб-
лик, как философ, постоянно углублен в свои размышле-
ния— здесь-то и лежит ключ к нему. На огневом ру-
беже каждый пустяк застает его врасплох. Единственное
противоядие от страха — разум, потому что у Кобли-
ка нет ни опыта, ни интуиции, ни чувства ориентиров-
ки. Но тут его разум от неожиданности не успевает сра-
батывать.
Коблику на войне гораздо тяжелее, чем мне. То относи-
тельное спокойствие, которое мне дается почти даром, Коб-
лику стоит огромной затраты внутренних сил или же и вовсе
недостижимо. Он, как ребенок, не понимает размера реаль-
ной опасности: пугается там, где нечего бояться, и не замечает
истинной опасности.
Любопытное совпадение,— у злого человека такое совпа-
дение могло бы породить немало острот по адресу Коблика:
мать Сократа тоже была акушеркой. Сам Сократ о себе го-
ворил: «Я тоже помогаю при родах. То, что моя мать делала
для рожениц, я делаю для людей, беременных мыслями,—
помогаю рождаться идеям».
По свидетельству древних, Сократ мог целые сутки про-
стоять, не сходя с одного места, если он чувствовал, что бе-
ременен очень важной для людей мыслью; и только когда он
додумывал ее до конца и находил истинное решение вопро-
са — он сходил с места.
Правда, несмотря на такую самоуглубленность, Сократ в
322
трех битвах проявил себя героем. В одной из них он стоял
со щитом над своим раненым товарищем, не допускал к нему
врагов и спас его. Да, это так, но ведь во времена Сократа не
было такой пропасти между городом и деревней, между тру-
дом умственным и физическим... Ох, что-то не то... моя мысль
начала туманиться от дремоты, путаться... и при чем здесь
Сократ?.. Он ходил зимой босиком, закалял себя, был солда-
том...
Я, кажется, заснул. Проснулся от слишком близкого раз-
рыва. Мне показалось, что подо мной зашевелились обломки
битого кирпича, на котором я лежал. Коблик не спал. Он
дремал сидя и покачивался. Его силуэт смутно вырисовывал-
ся на фоне пустого окна с вышибленной рамой. А может быть,
это мне только казалось?
О чем я только что думал?
Да, конечно, я несправедлив к Коблику. Почему так часто
он кажется трусом? Да потому, что другой на его месте это
бы скрыл, а он не считает нужным скрывать, если боится.
«Плюньте тому в глаза, кто говорит, что на войне не страш-
но!» Коблик — открытая душа, он слишком правдив, чтобы
скрывать свой страх. Ему безразлично, что о нем подумают.
Образно говоря, иной человек готов даже умереть, лишь бы
никто не заметил, что ему страшно. Коблику безразлично,
замечают его страх или нет. Гораздо важнее, что существу-
ют явления, вызывающие у человека страх, и нечего это
скрывать.
Кажется, я опять засыпал, и не один раз, потом просыпал-
ся, и мне мерещилось, что мы с Кобликом тяжело боль-
ны и никогда больше не поднимаемся с кучи битого кир-
пича.
Чуть только стало светать, мы были уже на ногах и снова
принялись месить грязь на дороге.
При свете дня мои ночные мысли о Коблике еще больше
окрепли, и я подумал: зачем ставить Коблика в такое поло-
жение, когда его поведение может казаться трусостью и вы-
зывает чувство брезгливости? Ради дела войны, ради по-
беды над врагом надо брать от Коблика не самое сла-
бое в нем, а самое сильное, то, что он умеет делать луч-
ше других.
Нужен ли он на войне? Да! Своей эрудицией, своим моз-
говым аппаратом он помогает десяткам, если не более, аги-
11*
323
таторов. Но его настоящее место в Политуправлении фрон-
та. Вероятно, это знает и начальник нашего Политотдела,
Спиридонов, но очень выгодно иметь в Политотделе такого
грамотного работника. Ведь Коблик не только читает лекции
и делает инструктивные доклады,— он совершенно самостоя-
тельно разрабатывает конспекты для агитаторов и пропа-
гандистов, пишет лучше нас всех листовки, редактирует от-
четы и доклады, которые идут не только в Военный Совет
армии, но и выше.
Я спросил Коблика:
— Хотите, я поговорю с членом Военного Совета Тележ-
никовым?
Коблик остановился и посмотрел на меня с недоумением.
— Простите, я совершенно забыл, о чем мы с вами гово-
рили перед этим.
— Ни о чем — мы шли молча. Тележников считается со
мной, как с писателем. Хотите, я докажу ему, что ваше на-
стоящее место — Политуправление фронта?
— Вы с ума сошли! Обещайте мне, что вы этого никогда
не сделаете! Я буду презирать себя, если вы это сделаете. На
войне я делаю все, что могу, и горжусь этим. Я переживаю
сейчас самое лучшее время своей жизни: я отдаю все, на что
я способен.
Ловать мы перешли каким-то чудом — мешала шедшая
поверх льда вода, глинистая, рыжая, и широкие разводья
между льдинами.
Когда мы были уже на другом берегу, я сорвал первый
в этом году цветок — мать-и-мачеху. Из голой, холодной еще
глины вылез на божий свет совершенно голый, без листвы,
стебель, и на нем уже сидит мохнатенький венчик цветка.
Точно луч солнца отложил в мертвую землю золотое яичко,
и вот — родилось маленькое солнышко.
Совершенно изнуренные, к ночи еле-еле дотащились до
ЭП-68.
Спать нас уложили среди раненых, в хорошо удерживаю-
щей тепло палатке. Между двух рядов коек — железная пе-
чурка. Добросовестный, душевный санитар (сам тоже с за-
бинтованной головой) время от времени подбрасывал в нее
короткие березовые чурки.
Всю ночь метался и бредил раненый Корниенко. Сани-
тар то и дело бросался к нему и удерживал, чтобы он не со-
скочил с койки. Странный у них получился разговор. Корни-
енко бредил, санитар отвечал ему:
324
— Маша, ты здесь?
— А где ж мне быть? Спи!
— Помираю, Машка, прости...
— Не мели, пустомеля,— врач обещал полную поправку.
— Где же взять соломы — крыша течет. Немец спалил всю
солому?
— Ты не об соломе убивайся.
— Маша, если когда обидел — прости, помираю.
— Я тебя во всем простила... об этим не сомлевайся.
Спи!
— Сейчас засну на вечные веки. Не убивайся, Мария,
цветов не носи, не надо. Поправь огорожу на могиле мате-
ри— вот тебе мое завещание. Обо мне не горюй — я спасал
Россию. Прости и забудь. Если встренешь хорошего му-
жика, выходи замуж, для-ради детей,— вот тебе мое за-
вещание.
Меня душили слезы от этого разговора, мучил стыд: я
чувствовал, что недостоин лежать рядом с теми, кто ранен
в бою...
2 апреля.
Отправил в «Пионерскую правду» очерк «Мост» и рассказ
в «Комсомольскую правду». Не ждать и ничего не отклады-
вать — помнить, что это и есть жизнь! Работать! Работать при
любых обстоятельствах.
На болоте уже кричат-плачут чибисы, мечутся из сторо-
ны в сторону на своих траурных крыльях. Слышно кря-
канье диких уток.
У шоферов поговорка: «Бог создал землю, а черт — юго-
восточную часть Ленинградской области». Где-то когда-то
что-нибудь подобное кто-то сказал, может быть, в Южной
Америке и совсем по другому поводу, и это бродит теперь по
всему свету.
3 апреля.
Вечер. Небо розовое и серое. Талая вода поверх снега,
тоже розовая. Рябь от ветерка делает ее мерцающей, и вся
эта жидкость похожа на медленно льющуюся розовую фрук-
325
товую воду. Можно даже представить себе ее вкус: она лишь
чуть-чуть подслащена. По мере того как темнеет, это ощу-
щение исчезает,— теперь эта вода уже похожа на жидкость
для полоскания рта. Присутствие льда и то, что сквозь воду
виден каждый сучок, каждая веточка, обнаженность кустов
и деревьев,— все это придает пейзажу ощущение санитар-
ной чистоты, стерильности.
7 апреля.
Сообщение о смерти великого пианиста и композитора Сер-
гея Рахманинова. В ушах, как торжественно-траурный гул
колоколов, все время звучат начальные фразы его прелюдии.
Коблик и Лисаветский.
Л.:
— Скажи мне, чью жизнь ты бы хотел прожить? Только
не говори, что хочешь быть самим собой.
Коблик молчит.
Л.:
— Откровенно говоря, я предпочел бы быть мертвым Ра-
хманиновым, а не живым Лисаветским. Все равно, сколько
бы я еще ни жил, я не смогу сделать то, что сделал он.
К.:
— Но ведь ты еще можешь очень многое увидеть, очень
интересное.
Л.:
— Ах, оставь... Важно то, что меня никто не увидит. Ты
понимаешь, что Герострат был несчастный человек?
8 апреля.
Написал и уже сдал редактору армейской газеты рассказ
о зверствах: «Плитка шоколада».
Спиридонов хвалил мой рассказ «Синяя рубашка».
Сенсационный доклад сделал начальник штаба генерал-
майор Костич. Его тема: «Линейная и маневренная тактика»
(в связи с новым «Боевым уставом пехоты»).
Поразил он нас всех тем, что сказал: «Никаких дзотов у
немцев нет и не было». Костич за время войны побывал в
326
четырех армиях и ни на одном из фронтов не видел у нем-
цев дзотов. Теперь уже детально изучена система обороны у
немцев в Демянском котле. Никаких следов дзотов там не
обнаружено.
Чтобы понять, как ошеломило нас это утверждение, надо
вспомнить, что мы воюем вот уже двадцать месяцев, и все
это время во всех газетах изо дня в день писали: «Разбито
столько-то дзотов, столько-то захвачено нами...» Армейские
и дивизионные газеты постоянно сообщали: «Уничтожено
столько-то дзотов». Само собой разумеется, что и в сводках
оперативного отдела это слово было одно из самых распро-
страненных.
Помимо того, что немецкие укрепления изучены на мест-
ности, захвачены приказы и инструкции. В них категориче-
ски запрещено строить дзоты, потому что они развивают пас-
сивность, «сидячку» (немецкое выражение). Там же говорит-
ся, что у русских дзотомания.
В самом деле. Часто кочку или холмик у нас принимали
за дзот и садили в них снаряды. Костич рассказал о том, как
при нем расстреливали холм из 203-миллиметровых орудий,
думая, что это дзот с двенадцатью амбразурами. А когда
пошли в атаку, у немцев ожил огонь совсем в других точках,
и атака была отбита.
Учитывая это, немцы делали ложные дзоты. Правда, иног-
да они пользовались дзотами, но это были дзоты, отбитые
у нас.
Почему же, когда мы разбивали дзоты, огонь у немцев
оживал и они отбивали наши атаки?
Дело в том, что мы били по дзотам, а оборона у немцев —
в стороне от «дзотов». Она состоит из разветвленной системы
крытых траншей и окопов. На болоте, где углубиться не поз-
воляет вода, они строят насыпные окопы или забор с амбра-
зурами, обсыпанный землею и замаскированный. В траншее
очень много запасных площадок для пулеметов. Пулеметчи-
ки все время меняют площадки, так что неподвижных огне-
вых точек тоже нет. Недалеко от траншей, где-нибудь на об-
ратном склоне холма или берега реки,— землянки, соединен-
ные с траншеей крытым ходом.
Когда мы открываем губительный огонь по траншее, не-
мецкая пехота прячется по землянкам. Но как только мы
п реносим артогонь в глубину, немцы из землянок бегут в
траншею и успевают это проделать, так как мы обычно начи-
327
наем атаку метров с шестисот, боясь разрывов своих же сна-
рядов.
Атаки не удавались, потому что мы, находя воображае-
мые дзоты, часто не знали истинного расположения передне-
го края немцев — где у них траншеи, землянки, а где насто-
ящие огневые точки.
Теперь категорически запрещено строить дзоты. Надо
рыть окопы и траншеи наподобие немецких.
Саша Королев опять откусывает нитку — что-то зашива-
ет. Нет, просто пришивает чистый подворотничок. А мне уже
опять почудилось, что пуля продырявила ему гимнастерку.
Перехватив мой пристальный, невеселый взгляд, он догадал-
ся о моих мыслях и погрозил мне пальцем.
Кто мало знает Королева, может подумать, будто Саша
ищет смерти. Чепуха! — он просто о ней не думает и бес-
страшно идет туда, где его присутствие необходимо. При чи-
стой совести и высоком понимании своего долга такое место
найти нетрудно.
Опять я несколько раз пытался пойти в командировку
вместе с ним. Но он всегда находил какой-нибудь предлог и
шел один. Я стал настойчиво приставать к нему, тогда он
откровенно сказал, что я буду связывать его, мешать. Он бы-
вает в таких местах, попадает в такие переделки... и подвер-
гать меня риску не намерен.
9 апреля.
Коблику письмо. Несчастье: у него умер отец.
Это — тоже жертва фашизма. Эвакуация из Одессы уда-
лась чудом — в самый последний момент. Средняя Азия. Мы-
тарства старика-инженера. Вдруг, казалось бы, счастье: пе-
реводят на работу по специальности в Березняки. Но в пу-
ти— голод, в Березняках — голод, и совершенно негде жить.
Ничего не подготовлено для специалистов, вызванных сюда
на работу.
Воспаление легких. Дизентерия. Повторное воспаление
легких. Конец.
Сейчас Коблик спит, как несчастный ребенок,— мгновен-
ное нервное истощение. Я не видел его слез. Он только
сказал:
328
— У меня несчастье,— и лег на кровать.
— Отец?
— Да-
Я сказал связному Твердову, чтобы он принес Коблику из
столовой обед. Коблик не стал есть.
Спит. Спит, как никогда еще днем не спал.
Пришел бодрый Кунин, хотел вручить Коблику команди-
ровочное предписание. Я сказал:
— Пусть спит!
Коблик спит вот уже четыре часа подряд.
Вдруг повалил обильными хлопьями снег.
Жаворонки подняли трезвон, они до того многоголосо сла-
вословили все существующее, точно всю свою жизнь мечта-
ли о таком снегопаде.
Они пели минут сорок. Потом все оборвалось разом. Ни
одного звука. Казалось, что вымерли все птицы, все до
одной. Где же они опустились, где сели, если вся земля по-
белела?
10 апреля.
Солнце. Тает. Жаворонки тоже оттаяли — поют. Коблик
ушел в командировку один. Беспокоюсь об этом ребенке —
пошел в новое место, дороги не знает.
«От всяких неудач и дурных настроений я придумал себе
верное средство — в предрассветный час выходить из фанзы
и, прислонясь к чему-нибудь твердому, сосредоточивать себя
на мысли, что мой корень жизни растет, что для этого нужен
срок, и оттого не надо никакой беде поддаваться, а всегда
встречать беду как неминучее и думать о сроке, что непремен-
но рано или поздно срок моих достижений придет» (Приш-
вин. «Корень жизни»),
11 апреля.
Я добился своего. Никто не имеет права сказать, что Ко-
валевский ничего не пишет для армейской газеты.
В редакции лежат два моих маленьких рассказа — «Пер-
вое испытание» и «Плитка шоколада». После напечатания
«Синей рубашки» прошло двенадцать дней. Так что задерж-
ка не за мной.
329
Вчера в ДКА мы смотрели картину «Ванька», кинохрони-
ку и журнал «Киноконцерт — фронту». А сегодня к нам в
отделение пришел боец из охраны штаба и сказал что
узнал на экране свою дочь Светлану, которую считал по-
терянной.
В кинохронике были показаны несколько женщин-патри-
оток, которые взяли на воспитание детей, потерявших роди-
телей. Немедленно мы устроили вторичный просмотр. Боец
убедился, что девочка—его Светлана. Начальник ДКА се-
годня же отправил письмо, чтобы узнать адрес той работни-
цы с фабрики «Красный богатырь», которая взяла к себе
Светлану.
Я не уверен, что боец прав. Может быть, ему просто ка-
жется, что на экране была его дочь. Есть китайская послови-
ца: «Когда слишком долго ждешь своего друга, то удары сво-
его собственного сердца принимаешь за топот его коня».
Великолепное пособие для политработников издало
ГлавПУРККА, в порядке служебного пользования. Брошю-
ра называется: «Откровения гитлеровских людоедов».
Как мог немецкий народ, породивший гениев человече-
ского разума — Гёте, Канта, Гегеля, породить и смердящую
г адину — Гитлера?
Вот его евангелие, то, что он исповедует и проповедует:
«Мы должны остерегаться мысли, сознания и должны
подчиняться только нашим инстинктам. Вернемся к детству,
станем снова наивными. Нас предадут анафеме, как врагов
мысли, ну что ж, мы ими и являемся; я благодарю судьбу за
то. что она лишила меня научного образования. Я себя чув-
ствую хорошо. Мы живем в конце эпохи разума. Суверени-
тет мысли является патологической деградацией нормаль-
ной жизни. Сознание — это еврейское изобретение, это то же
самое, что обрезание, калечащее человека.
Ни в области морали, ни в области науки правды не су-
ществует. Только в экзальтации чувств можно приблизиться
к тайне мира».
Первое, что начало весной тянуться, расти из земли,— это
какое-то лютиковое растение с резными листьями,— раньше,
чем тронулась в путь трава. Росло оно в придорожных кана-
330
вах, где всего мокрее. На бугорках еще ничто не пробудилось.
Впрочем, рост начался еще под снегом. Как только за день
оттаивал клочок из-под снега — на нем уже виднелись до-
вольно большие ростки, белые, лишенные света, как это бы-
вает, если летом перевернуть камень или доску, которая
долго лежала на одном месте.
В частях много пьют штабные. Водку выписывают по до-
кументам на полный состав части, но каждый день гибнут
люди, и всегда остается водка, не выпитая кем-то, кто навеки
сомкнул свои уста.
15 апреля. Молчанова. Госпиталь.
Потрясающий рассказ Парфенова о глухонемом мальчи-
ке, которого пытали немцы, чтобы заставить его говорить о
партизанах. Надо ли об этом писать? Или пощадить чита-
телей?
17 апреля. Озерки.
Язык:
«Он ему покозырил» (отдал честь).
«Я был способен брать с передовой, крал языков».
«Зимой, если текут сопли, лучше подлижи, а не сморкай-
ся» (в разведке).
18 апреля.
На болоте кричат-курлычут журавли.
20 апреля. Красная Нива.
Курсы заместителей командиров рот.
Пришли сюда с Кобликом ночью, сделали больше два-
дцати километров. Даже в темноте пели какие-то весенние
331
птицы. Из овражков тянет чудесным, тончайшим запахом —
это на ольхе размякли, раскрылись звенья сережек.
На курсах Коблик прочел лекции о дисциплине, о роли
Сталина в организации победы, о международном положе-
нии, я — о боевых традициях Ударной. Узнал, что мои рас-
сказы из армейской газеты агитаторы используют на по-
литзанятиях с курсантами. Это усиливает желание пи-
сать еще. Коблик советует начать для газеты серию:
«Беседы по душам». Первая беседа: «О семье», потом —
«О дружбе».
Вечером прогулка по холмам. Еще раз убедился, что ве-
сеннее пробуждение растений начинается под снегом. На са-
мой кромке, между снегом и оттаявшей землей, там, где
снег истончился, трава даже пробивает снег своими бледны-
ми росточками, как бы протаивает себе дырочки в снегу.
22 апреля.
Водил Коблика в овраг, здесь в солнечном затишье сего-
дня распустилось много цветов. Мне хотелось показать ему
волчье лыко. Цветы на голых прутьях этого кустика появ-
ляются на свет как бы прямо из коры. Их очень сильный
запах напоминает запах гиацинтов. И какое меткое назва-
ние! — попробуй сломать прутик — ну никак! — гнется, но не
ломается—именно как лыко.
Коблик нарвал цветов, составил смешной букетик и в се-
редину всунул еловую веточку. Это сразу омертвило букет.
Коблик спросил меня:
— Вы до конца верите, что бога нет?
— Да. Такого бога, которого можно было бы о чем-то про-
сить и он поможет, не существует.
Коблик сказал, что у любого философа «при выплески-
вании этого бокала остается некий осадок на дне». Если оста-
ток проанализировать, то всегда получается некая сила.
У некоторых это получается очень красиво. Очень открове-
нен Спиноза, прямо-таки великолепен: «deus sive natura» —
«бог или природа». «Природа не действует по цели; ибо то
вечное и бесконечное существо, которое мы называем богом
или природою, действует по той же необходимости, по ко-
торой существует... В природе бога не имеет место ни ум, ни
332
воля. Бог, понимаемый как бесконечная природа, действует
на основе внутренней необходимости» *.
Я сказал Коблику:
— Это же просто философия. «Бог или природа»,— в та-
кой формуле нет еще ничего рабского. Церковщина, стуканье
лбом в землю и спекуляция на этом сильных мира сего начи-
нается с того момента, когда уверяют, что бога можно про-
сить, стать на колени в позе раба, молиться богу и он волен
дать или не дать того, что просишь.
Коблик, увлеченный своими мыслями, сказал:
— Но насколько трагичней и мужественней Ромен Рол-
лан. Слушайте!
И он процитировал без единой запинки, пристально глядя
мне в глаза:
— Бог! Вечная жизнь! Прибежище для тех, кому не уда-
лась жизнь здесь! Вера, которая часто есть лишь отсутствие
веры в жизнь, отсутствие веры в будущее, отсутствие веры
в себя, недостаток храбрости и недостаток радости!
— А вы верите в бога? — спросил я Коблика.
Глаза у Коблика вдруг округлились, стали огромными.
Он стал немного похож на того Коблика, который в ужасе
метался под бомбежкой в Борисовском лесу. Он сказал с
грустью:
— Мы с вами съели не один пуд соли. Неужели вы еще
сомневаетесь во мне? Я — атеист, и притом — раз и навсегда.
Что же касается философии, то я не знаю другой философии,
которая так помогала бы понимать действительность и все-
ленную, как марксизм-ленинизм.
Я вспомнил свои мучительные детские переживания: я
боялся назвать бога дураком. Я не произносил этого слова, но
ведь в моем сознании оно уже было. Это терзало меня. Надо
понимать, что это означало для глубоко религиозного ребен-
ка, у которого отец был священником.
Я до сих пор помню то место в садике, возле нашего дома
в Рыльске, где «искушал меня дьявол», где к моему горлу
подступало слово «дурак», адресованное самому господу богу.
24 апреля. Озерки.
Вечер. Гудят темно-синие жуки. В болоте подают голос
лягушки. Но это еще не кваканье. Звук похож на то, как на-
1 «История философии», том II. Огиз, 1941, стр. 178.
333
чинает кипеть жидкая манная каша на слабом огне. И куда бы
ни пошел в этот теплый вечер — всюду «кипит каша», всю-
ду весеннее брожение, непреодолимое, неистребимое. Шеве-
ление пробуждающейся от зимнего оцепенения жизни.
Слышен голос Лисаветского под окном:
— Убить сто человек из пулемета, не видя их, легче, чем
застрелить кошку в упор.
25 апреля.
На машине редакции (Петушков, Баршак, Михаил Свет-
лов и я ) едем на слет снайперов в Молчанове.
Спиридонов поручил мне прочесть обращение ко всем
снайперам Ударной армии. В тот момент, когда я начал чи-
тать, разразилась сильнейшая гроза. Потемнело. Чтобы луч-
ше видеть текст, я стал у двери, на самом сквозняке. Я так
углубился, стараясь не ошибиться, что вдруг у всех на глазах
сильно вздрогнул, когда над самой головой у нас внезапно
раздался удар грома. Но я даже не запнулся. Стало как-то
весело на душе, даже забавным показалось, что в этот мо-
мент на меня смотрит более ста человек.
После слета — обед. Генеральский стол: Тележников, Ко-
стич, Спиридонов. Тележников не пьет — жалуется на пе-
чень. А за Спиридоновым угнаться невозможно. Не потому
ли у нас с ним что-то не клеится, что я избегаю пить?
Я спросил Спиридонова: видел ли он, как я вздрогнул.
Нет, он на меня не смотрел, но видел, как вздрогнули многие
снайперы.
В обратный путь мы шли со Светловым. Он шагал впе-
реди по узкой тропе. Мне показалось, что он о чем-то меня
спрашивает. Я переспросил, но он ничего не ответил и не
обернулся. Потом он опять что-то сказал, и в его бормота-
нии я уловил рифмы: «...Расею — распахал и засеял... из
ларца из фамильного... до размеров могильного...»
Немного погодя я спросил Светлова, почему он такой не-
веселый. Он ответил:
— Я скучаю без своей Дульцинеи.
Всходило солнце. Странный был в это утро пейзаж: чуть-
чуть морозило — на деревьях и на земле лежал зеленоватый
иней. Это было оттого, что иней осел на молодую траву и по-
лураспустившиеся листья. От этого и небо казалось необыч-
ного цвета, и вода, словно в цинковые белила добавили не-
много зеленой краски.
334
Я сказал об этом Светлову. Но он оставался ко всему
безучастный и не то что тоскливый, печальный,— нет,
просто даже как бы не существующий. Неожиданно он ска-
зал:
— Уже несколько лет я не могу написать ни одного сти-
хотворения, которое можно было бы поместить в книгу.
Снайпер Бойченко зимою бинтует себе марлей голову и
лицо, втыкает в бинты пучки сухой травы. Сделал из сухой
травы, тряпок и мха чучело, привязал к голове, к ноге, и к
руке веревочки. Стал втаскивать чучело на дерево, дергая то
за одну веревочку, то за другую. Немецкий снайпер выстре-
лил, Бойченко выпустил все веревочки, и чучело упало на
землю. Немец подумал, что убил — высунулся. Бойченко
только этого и ждал — убил немецкого снайпера.
То же пытались сделать и немцы, но Бойченко догадался
и поджег их чучело зажигательной пулей.
Другой снайпер приподнял перед амбразурой труп наше-
го бойца. Немец выстрелил по трупу, обнаружил себя и был
убит.
27 апреля.
Говорят, что мы порвали с польским эмигрантским прави-
тельством. Пикантно: в Лондоне, в столице наших союзни-
ков,— наши враги. Невозможно понять: какую игру затеяла
Англия, разрешая в Лондоне козни полякам?
Приходит в голову, что мы пошли на этот разрыв, чтобы
подействовать на Англию, которая боится нашего вторжения
в Европу: надо заставить ее саму поторопиться в Европу, на-
до создать ситуацию, при которой Англии самой выгодно по-
скорее открыть второй фронт.
Кунин делал доклад на совещании партсекретарей. Я его
спросил, о чем. Он ответил:
— Ганди уехал в Данди.
Это у него и у Лисаветского обозначает: доклад о между-
народном положении.
Главная проблема нашего фронта: «Время, Пространство
и Грязь».
335
Только что вернулся из командировки Баршак. Он был
в 7-й гвардейской, в 20-м полку. Сказал:
— Товарищ Ковалевский, я поинтересовался, что носит
в полевой сумке агитатор. Среди вырезок из газет ваш рас-
сказ «Плитка шоколада» о зверстве немцев — он читает его
бойцам.
5 мая.
День печати. Слет военкоров в Никитовке, на территории
госпиталя. Уютная, совсем не поврежденная деревушка на
берегу Робьи, извивающейся в глубоком овраге.
Изб для госпиталя не хватает,— в лесу разбиты палатки.
Лес мокрый, ходить можно только по дощатым мосткам. Что-
бы раненые могли отдыхать на свежем воздухе, в лесу обо-
рудованы площадки — настилы из досок, похожие на мини-
атюрные дачные железнодорожные платформы. По сторо-
нам— клумбы; они составлены как мозаика, из разноцвет-
ных мхов, а середина — пятиконечная звезда — выложена из
клюквы. Есть даже действующий фонтанчик из жести кон-
сервных банок.
6 мая.
Стоят те чудесные весенние дни, когда в болотах еще не
появились комары и можно как хочешь долго сидеть на ста-
ром свалившемся дереве.
Целебные, почти молитвенные минуты!
Берега ручьев, бочагов, луж и налитых водою воронок —
все покрыто безукоризненно белыми цветами ветреницы.
В канавах, в воде цветут калужницы. От цветущего лозня-
ка тянет радостным, расширяющим ноздри запахом, который
слегка напоминает цветущую яблоню.
Пейзаж по-весеннему просматривается во всех подроб-
ностях и необыкновенно, целомудренно чист. А птицы! Я спу-
гнул несколько пар диких уток. То и дело раздается плач
чибисов. Их лоскутно-вихлястый полет на траурных, широ-
ких, но коротких, как бы подрубленных крыльях напоминает
полет бабочек, подхваченных ветром.
Поют дрозды, и в глубине леса стонут горлинки. Не обо-
шлось, конечно, и без ящерицы — выползла из-под пня и гре-
лась на солнце возле моего голенища.
Думал о семье. Что бы делал сейчас мой сын, если бы он
мог вместе со мною сидеть здесь среди цветов, около воды?
336
7 мая.
Сегодня у нас первое занятие по военной учебе. Занимать-
ся будем пять дней в месяц по десять часов. Потом — пятна-
дцатидневные сборы и испытания.
Учеба началась по приказу зам. наркома Щербакова № 144
от 23 марта с. г. «Об установлении обязательного минимума
знаний для политических работников Красной Армии». За-
нятия будут идти по сокращенной программе курсов «Вы-
стрел» для командиров батальона. Тема сегодняшних заня-
тий: «Организация дивизии», «Топография» и «Тактика».
Нелегко высиживать по десять часов!
13 мая.
Сопротивление на мысе Бон прекращено. Фашисты изгна-
ны из Африки. Страница истории перевернута!
Две несхожих войны: мы — против немцев и англичане и
американцы — против немцев.
В Африке немцы сдаются в плен десятками тысяч; нас они
смертельно боятся — после всех своих зверств — и бьются до
последней возможности.
Язык:
«Финансир» — кассир.
«Противник путается в нитки» (устанавливает проволоч-
ные заграждения).
Артиллерист сказал мне: «Если я не вижу, где мои снаря-
ды ложатся, я чувствую себя как-то плохо. Люблю прямую
наводку».
Мелкий дождь, как из пульверизатора. Мокрый лес. Ви-
жу— даже не слезая с коня, — сколько здесь фиалок и бе-
лых зерен еще не распустившихся ландышей. А ветреницы
цветут уже целый месяц.
Дождь. Дождь. Под копытами — хлюпь и хлябь. Подо
мной серая, хорошо бегущая лошадь. На рыси ветер раскры-
вает плащ — хлещет дождем. В лесу полным-полно черему-
хи, кукушек и соловьев. Ландышей — заросли, вот-вот рас-
кроются их фарфоровые чашечки.
Я со связным отправился на передок расспросить развед-
чиков об их последней операции.
Накануне они забросали гранатами немецкий блиндаж.
337
Выскочил офицер в нижней белой рубашке. Разведчики на-
кинули ему на шею ремень, другие перехватили его под
мышками и потащили к себе. Когда поднялись на высотку,
немцы открыли огонь из гранатометов по белой рубашке.
Офицера смертельно ранило, троих наших убило, семерых
ранило осколками.
Раненые бойцы отказывались от перевязки, лишь бы ско-
рее перевязать офицера — дотащить к себе, не потерять та-
кого «языка». Но он все-таки умер, и никаких сведений от
него не получили.
Сколько крика у кукушек! А всего-то навсего семейная
пара снесет одно-единственное яйцо, да и то самка положит
его в чужое гнездо. Как это случилось первый раз?
Как выработалась такая привычка? Была ли когда-ни-
будь первая «гениальная кукушка», которая догадалась под-
кинуть свое яйцо чужой птичке? Конечно нет. Но как же все-
таки такое вошло в кукушкино бытие? Эта проблема похожа
на вопрос, что было раньше—яйцо или курица.
19 мая.
Много времени провел в роте дивизионной разведки. Это
лучшие люди в армии. Чудесные, мужественные ребята!
Характеры у всех разные.
Один сказал мне, что ни за что не хотел бы после
войны оставаться в армии. Хочет учиться по своему
станкостроительному делу — слесарь-лекальщик. Он ска-
зал:
— И подумать только! В мирное время убей человека —
будут мытарить на суде! А тут прямо приказывают: иди
украдь человека, иди убей!
Другой перебил его:
— Так ведь это ж война!
Я спросил:
— А бывает страшно?
— Все время страшно! — ответил слесарь тоном удивле-
ния — как это я не понимаю очевидных вещей? — Летчик вы-
летает— прощается с жизнью. Так и мы, когда идем на за-
дание.
338
Козырев. Трижды орденоносец и медаль. Молчаливый,
но веселый заика. Специальность — токарь. Перед войной си-
дел в «тюряге» — за воровство.
Когда он написал матери в Горький про ордена — не по-
верила. Послал деньги — прислала письмо, спрашивает:
«Где украл? Ворованного мне не надо!» Только коллективное
письмо товарищей убедило старуху, что ее сын действитель-
но герой. Он мастерски крадет немцев с переднего края.
По поручению Спиридонова Лисаветский написал о нем
листовку. Она хорошо оформлена: великолепен портрет Ко-
зырева (в маскхалате), с тяжелым, хмурым лицом, на кото-
ром вдруг появилась косая, вымученная улыбка.
Уверен, придет время, и я напишу о нем повесть ’.
Лисаветский писал несколько дней, мучился, изорвал
множество вариантов, но п лучилось хорошо:
«Трижды орденоносец, старшина Иван Козырев — сме-
лый, изобретательный, бесстрашный разведчик, гроза фри-
цев и гансов, неутомимый охотник за «языками».
Иван Козырев часто говорит своим товарищам, боевым
друзьям:
«Чего мне бояться немцев? Я у себя дома, на своей земле.
Пусть немцы меня боятся! Нет и не будет мне покоя, пока
немецко-фашистские мерзавцы хозяйничают на моей родной
земле».
Вот качества, которые разведчик Иван Козырев сумел раз-
вить в себе и которые всегда обеспечивают ему успех в раз-
ведке и поиске:
дерзость,
выносливость,
настойчивость,
находчивость,
смекалка.
На личном счету Ивана Козырева свыше ста истреблен-
ных фашистов.
На личном счету Ивана Козырева четырнадцать захва-
ченных «языков».
Своими действиями в тылу врага, дерзкой и умелой раз-
ведкой, ценными сведениями, доставленными командованию,
Козырев сорвал не одну атаку гитлеровцев, спас жизнь мно-
гим своим товарищам, обеспечил успех нескольких наших
операций.
1 Так оно и случилось: герой моей повести «Глубокий снег» — это
и есть Козырев. В повести я целиком использовал и листовку.
339
Вот за что любят и уважают его товарищи.
Вот за что ценит и отмечает его командование.
Вот за что щедро награждает его Родина.
Боец! Бери с него пример!
Становись и ты героем!»
21 мая. Озерки.
Язык: «Что такое: сверху — вода и снизу — вода? Ленин-
градская область».
Почему все так жаждут меня напоить и свалить с ног?
Оттого, что я признаюсь, что пью мало? Может быть.
Симпатичный Киселев — начподив — тоже проявил веро-
ломство. Я не знал свойств коньяка. Киселев заставил меня
выпить больше, чем надо. Когда ложились спать, я попросил
в головах поставить воду — знал, как мучает после таких
«подвигов» жажда.
Я долго не мог понять, почему такая темная вода в круж-
ке и почему у нее такой вкус? Торфяной цвет воды у нас не
редкость. Прежде чем я догадался, что меня разыграли, я
выпил не меньше двух кружек.
Оказалось, что Киселев приказал ординарцу поставить
у меня в головах графин с красным вином. Когда от «ерша»
мне стало плохо и я вышел наружу, слышу ехидный вопрос
Киселева:
— Ну как?
И радостный ответ ординарца:
— Смерть!
Оба едва сдерживают смех.
Коблик сказал:
— Единственно, в чем можно упрекнуть жизнь,— это в
том, что она слишком коротка. Все остальное можно ей про-
стить.
При мне к Киселеву привели немца-перебежчика. Он рас-
сказал, что у них в ходу такой анекдот: у нормального чело-
века температура — 36 градусов, а у Гитлера — 34 градуса.
Ему не хватает двух градусов («град»): Сталин град и
Ленин град.
340
Когда перебежчика выводили из землянки, уходя, он
протянул Киселеву руку, но тот показал ему фигу.
Язык:
«Воевать привык, как в карты играть».
«Мы провели вдвоем ночь. Она сохранила девственность,
а я — мудрость».
«После войны она тоже кандидат в «господи прости».
«Без меня вы ни шагу, без меня как без нужника».
«Вы русский? У меня мать полька, отец краковяк».
«Подробности необходимы, потому что они часто объяс-
няют те обстоятельства, из которых рождались события.
В силу простой необходимости мне приходится поэтому го-
ворить о самом себе» (Коленкур. «Поход Наполеона в Рос-
сию»).
22 мая.
Ликвидирован Коминтерн. Сегодня в «Правде» опубли-
кован документ от имени Президиума Исполкома Комин-
терна: «Коммунистический Интернационал, как руководя-
щий центр международного рабочего движения, распу-
стить».
Это самое важное после начала войны событие. У нас в
избе смятение.
Прочитав «Правду», Лисаветский с мрачным видом за-
дал вопрос:
— Как далеко зайдем мы в уступках капиталистам?
Коблик радостно воскликнул:
— Значит, второй фронт действительно будет! Англия
и США мечтают о том, чтобы мы переродились, а у нас за-
дача все та же: во что бы то ни стало спасти Советский Со-
юз, пускай даже ценой временных уступок.
Лисаветский неожиданно вспылил:
— Семен, черт бы тебя побрал! Когда ты станешь чело-
веком? Отбрось, пожалуйста, к чертовой матери пеленки,
думай самостоятельно. Ликвидация Коминтерна, разговоры
об офицерской чести, об офицерских собраниях, более либе-
ральное отношение к церковникам, отдельное обучение де-
вочек и мальчиков — все это звенья одной цепи.
341
Перелистывавший Салтыкова-Щедрина Саша Коро-
лев с преувеличенным спокойствием спросил Лисавет-
ского:
— Ты что же, предлагаешь ликвидировать и отделение
агитации и пропаганды? В таком разе забирай свои манатки
и сматывайся отсюда!
— Сашка! — попытался его остановить миролюбивый
Артемьев.— Зачем ты лезешь в бутыль? Ведь здесь же про-
исходит товарищеский обмен мнений. Дай человеку отвести
душу-
Но Королев продолжал:
— Уступки уступки, уступки!.. Когда же вы, братцы,
выпустите из рук подол маменькиной юбки? Ликвидация
Коминтерна — это не слабость наша, а сила. Это надо по-
нять. У Карла Маркса не дрогнула рука распустить Пер-
вый Интернационал, когда он изжил себя исторически. Ко-
минтерн тоже изжил себя. Он стал тормозом. Война создала
совершенно новую обстановку. Ведь сказано же в документе,
что перед рабочим классом отдельных стран стоят разные
задачи: одни должны добиваться победы, другие — пораже-
ния. При этом их обвиняют в том, что они действуют по
указке «врага», по указке из Москвы. Гитлер твердит: Мо-
сква, мол, через Коминтерн вмешивается во внутренние
дела всех стран, хочет всех болыпевизировать. Распустив
Коминтерн, легче объединить прогрессивные силы во всем
мире, легче уничтожить фашизм. Коминтерн для многих
был пугалом. Значит ли это, что единство марксистско-
ленинских партий сдается в архив? Наоборот! Компартии
разных стран окрепли, они больше не нуждаются в подсказ-
ке из единого центра. Тем более, разве можно издалека, из
центра видеть во всех национальных подробностях, что де-
лается на местах? Компартии окрепли. Бюрократическая
подсказка будет только связывать им руки. Правильно что
'Коминтерн распустили!
Артемьев захлопал в ладоши и сказал:
— Сашка, что же ты до сих пор прикидывался
дурачком-лапотником? Оказывается, ты из нас самый
умный.
Хочу верить в хорошее будущее. Наша разоренная стра-
на будет нуждаться в товарах Европы и Америки. Верю,
что отношения с капиталистами не помешают нам сохра-
нить то лучшее, что было в советской системе, не исказят
нашу сущность.
342
23 мая.
Сильно похолодало. Несколько раз наступали сумерки:
то и дело темнеет, меркнет свет и дождик принимается до-
ламывать дороги. С вечера в избе натопили больше, чем
надо. Ночью проснулся от нестерпимой духоты — сдавило
сердце. Открыл окно — не помогло. Тогда я вышел под от-
крытое небо.
Два часа ночи, а птицы поют, поют... Серая облачная
ночь. Птицы поют, почти как днем. Освежившись, быстро
заснул, точно принял пение птиц как хорошую дозу сно-
творного. Вдруг среди ночи слышу опять разговор между
Лисаветским и Кобликом.
Лисаветский:
— Вот увидишь, что со временем появятся колокола и
на церквах. На Семнадцатом съезде Сталин сказал, что при
капиталистическом окружении государство и при комму-
низме не отомрет, не сойдет на нет, а наоборот — роль его
возрастет.
Коблик:
— Мировая революция оказалась не тем, что мы о ней
думали, и пути к ней не те, и сроки другие. Но Саша Коро-
лев, конечно, прав.
Лисаветский:
— Ты, Семен, ребенок, у тебя лицо круглое, как у Алек-
сандра Первого, такой же лысый лоб и глаза круглые. Для
тебя весь мир круглый.
Коблик:
— Я уже сплю. Я уже тебя не слышу.
Месяца два тому назад Коблик и Артемьев отправи-
ли два письма в Московскую консерваторию с припис-
кой на конвертес «Лучшей активистке, в комитет комсо-
мола».
343
Ответ получил только Артемьев. Значительное по иск-
ренности письмо. Оно поразило Коблика, и он включился
в переписку. Теперь девушка отвечает только ему. По-ви-
димому — прекрасной души человек. Двадцать лет. Класс
рояля и орган.
Коблик сказал о себе по этому поводу: «Редкий случай
заочного влюбления». Как он нуждается в чьей-то близо-
сти! Ему некому отдать самого себя. Он сказал мне, что в
письмах к ней хотел бы создать философскую систему. На-
ивное самооправдание в поисках самого обыкновенного че-
ловеческого счастья.
Не успеваю сделать все, что наметил для себя,— живу
далеко от штаба и оперотдела. Надо бы опять говорить с
Костичем и с командующим. Не успеваю. Никак не займусь
разведотделом и прокуратурой. Не слишком ли много я на
себя взял? Армия, ведь целая армия! Чудовищный по раз-
мерам организм. Насколько «великая армия» Наполеона
была проще — по своей структуре, по числу родов войск.
Насколько проще были в ней вопросы боевой подготовки
и все, что связано с агитацией и пропагандой.
Редактор армейской газеты Петушков не хочет моего
«выдвижения», тормозит печатание. Вот уже больше меся-
ца лежат без движения мои очерки.
Угнетает сознание того, что не успеваю, не справляюсь
со своими делами. Началась бессонница — верный признак
тяжелых забот, тревоги и неудовлетворенности.
I
Вечером кричат на болоте журавли. Однажды я услыхал
какой-то незнакомый, ни на что не похожий крик. Подумал:
не лось ли? Оказалось — гудок узкоколейки. Ее тянут от
Осташкова и уже дошли почти до Бора.
Разговор с лейтенантом Васильевой, замом по политча-
сти начальника госпиталя. Хотела бы переменить работу,—
не может привыкнуть к тому, что на ее глазах в госпитале
гибнет так много людей.
Я спросил у нее об отношениях мужчин и женщин, и она
рассказала маленькую историю.
Морозной зимой Васильева и восемнадцатилетняя сани-
тарка в поисках ночлега зашли в избу. В ней были только
два шофера. Один предложил:
344
— Девушки лягут между нами, укроемся двумя полу-
шубками — так будет всем теплее.
Санитарка охотно согласилась. Васильева легла скрепя
сердце. Рядом с ней лег шофер. «Ну,— подумала она,— сей-
час он начнет «ухаживать», и я устрою грандиозный скан-
дал».
Прошла в тревожном ожидании минута, другая — и вдруг
раздался громкий храп шофера. Еще немного — захрапел и
второй. Уставшие люди крепко спали, не думая ни о какой
«глупости».
Так этих шоферов девушки больше и не увидели,— ребя-
та проснулись раньше них и уехали еще в темноте.
Еще один разговор с Васильевой об отношениях мужчин
и женщин на фронте. Она считает самым скверным то, что
некоторые командиры иногда живут с подавальщицами из
военторга. Девчонкам льстит, что «знатные люди» обратили
на них внимание, им это выгодно.
Васильева сказала, что некоторые начальники госпиталей
и их заместители живут с сестрами и санитарками. Между
тем почти у всех этих мужчин в тылу есть семьи и дети. По-
сле войны для множества фронтовых ППЖ (полевых поход-
ных жен) неминуема трагедия.
Васильева к таким фронтовым романам относится с от-
вращением. Но она же преклоняется перед любовью таких
девушек, как Безручко, которая полюбила равного себе чело-
века — старшину. (Сама она — бывшая судомойка в москов-
ской столовой.) Когда он был ранен, Безручко поползла к
нему с санитарной сумкой, хотела перевязать его, но была
убита.
27 мая. Бор.
Переехали в лес, где раньше был командный пункт ар-
мии — КП. Нашему отделению пропаганды достался домик
Тележникова саперной архитектуры — лучшая во всем лесу
постройка. Мы располагаемся в двух комнатах. Я — вместе
с Кобликом и Артемьевым. Лес сильно заболочен — ходить
можно только по кладочкам. Очень уютно, но сыро и гомери-
ческое количество комаров.
345
28 мая.
Есть директива Главпура за подписью Щербакова — лик-
видировать должности заместителя по политчасти в дивизи-
ях, в бригадах и в ротах.
Нужны строевые командиры, нужны люди, а упразднение
даст их много.
Как давно мы с Кобликом это предвидели и понимали!
Вероятно, многие это понимали кроме нас. Пока это понима-
ние снизу дошло вверх, прошло много времени, но вот нако-
нец отозвалось — дошло.
Тихая, безветренная ночь. Самолет. Перебои в моторе. Мо-
тор выключен. Я насторожился — перебои напоминали пуле-
метную очередь. Вдруг — музыка с неба. Это длилось минут
пять. Я раздетый вышел на крыльцо.
Мотор самолета снова начал работать. Самолет набрал
высоту, потерянную, пока с его установки передавали му-
зыку, и снова тишина, включили радиорупор. На этот раз
не музыка, а короткое агитвыступление на немецком
языке.
Перебежчики говорят, что этот «небесный голос» произво-
дит на солдат сильное впечатление.
Лес. Кричит сова. Мы стоим на ступеньках нашего
домика. Коблик говорит, что ему очень нравится жить в
лесу:
— Здесь что-то от «Синей птицы».
Снова и снова говорим о войне, о грядущем, о том, можно
ли было избежать в прошлом некоторых ошибок. Коблик
сказал:
— Фашизм спекулировал, паразитировал на действитель-
ной необходимости освежить мир. Человечество должно на-
чать с детски-ясного взгляда на мир. Слишком много было
заблуждений и ложных знаний. Очень велика жажда
упростить жизнь и в то же время сделать ее более глу-
бокой. Получит ли омытое кровью человечество эту воз-
можность?
Не надо преувеличивать.
Всегда будут распускаться весною листья, а осенью от-
346
мирать и падать на землю. «Род приходит и род уходит...»
(Библия).
«Забирайте же с собою в путь, выходите из мягких юно-
шеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирай-
те с собою все человеческие движения, не оставляйте их
на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна гряду-
щая впереди старость и ничего не отдаст назад и обратно!»
(Гоголь).
Да здравствует неизношенная нервная ткань!
28 мая.
Совещание работников Политотдела. Категорически за-
прещено использовать освобождающихся замполитов на хо-
зяйственные или иные должности — только на командир-
ские!
Вышел обдумать небольшой рассказ — о минометчице Ли-
зе Валяевой — и пошел заросшим травою проселком, вы-
брался из леса к деревне. На огороде, недалеко от редакцион-
ного движка, увидел одинокую, неподвижную фигуру Миха-
ила Светлова, чуть сгорбленную, с характерно для него опу-
щенными плечами. Он стоял среди высоких картофельных
грядок в своей измятой гимнастерке — пилотка чуть-чуть
великовата, чересчур просторны дряблые кирзовые голе-
нища сапог,— стоял и напряженно смотрел куда-то поверх
леса.
Он что-то бормотал, как будто сварливо на кого-то вор-
чал. Когда я подошел ближе, меня поразило выражение его
лица — я никогда Светлова таким не видел. У него были ши-
роко раскрытые глаза, глаза ребенка, впервые попавшего в
зоопарк. Казалось, он поражен тем, что увидел вокруг себя
и чего раньше не замечал: раздерганная, взлохмаченная со-
лома овинов, маленькие, как сундучки, срубики бань вдоль
Редьи, пырей под ногами, белесая лебеда, пушистые, как об-
лачко, метелочки подмаренника, а над лесом торжественные,
черные кресты елок на голубом сиянии неба. На чуть под-
жатых губах Светлова, созданных для тонких, дружелюбных
шуток, появилась чудесная улыбка совершенно счастливого
ребенка.
Подняв на меня слегка увлажненные глаза и ничуть не
удивившись тому, что я здесь, рядом с ним, без всякого пре-
дупреждения он вдруг стал читать:
347
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца.
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый..
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок покататься в гондоле!
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
На священной земле Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился.
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве среднего Дона излучина
Итальянским ученым изучена?
Нашу землю Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеродных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
348
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...
Кончив читать, он туго сжал свои тонкие, сухие губы, сло-
жившиеся в застенчивую добрую улыбку, повернулся ко мне
спиной и, чуть сгорбившись, побрел мимо движка к себе в ре-
дакционную избу. Я вспомнил, как мы шли с ним лесом и как
он бормотал: «Расею... засеял..., ларца фамильного — до раз-
меров могильного...»
Тут же я уселся на пустую канистру, вытащил из поле-
вой сумки тетрадь и попытался по свежему следу записать
это замечательное стихотворение. Но, конечно, я мог запо-
мнить далеко не все. Когда стихотворение появилось в нашей
армейской газете, я вырезал его целиком и вклеил на этой
странице тетради.
Если Михаил Светлов приехал на фронт только затем,
чтобы создать это стихотворение, и больше на войне ничего
не сделает, то и тогда — только за одно это — низкий ему по-
клон и наше братское фронтовое спасибо!
---
ееФееее^ШШиЙ-
I I I I I I I I I I I I I I I I I II I II
Прошу немедленно передать эту тетрадь
в Политотдел Ударной армии, чтобы она
была передана моей семье по адресу:
Москва, Чистые пруды, 23, кв. 3.
В. Ковалевский
29 мая 1943 г. Бор.
Наполеон в своих «Комментариях» говорит:
«Битва — драматическое действие, которое имеет свое на-
чало, свою середину и свой конец. Боевой порядок, который
принимают армии, первые движения для начала боя — эти
начальные сцены контрдвижения, которые совершает атако-
ванная армия, образуют завязку, что требует новых диспози-
ций и влечет за собой финальный кризис, из которого рож-
дается результат и развязка».
Битва при Наполеоне была обозрима, как трагедия на
350
сцене. Наша же тотальная война совершенно необозрима.
Только мощный мозг гения когда-нибудь сведет концы с кон-
цами и даст читателю возможность понять, что сейчас про-
исходит.
Намечен ряд мероприятий для укрепления рот. К этой ра-
боте привлечены и наши агитаторы, и пропагандисты. Вот с
каким списком вопросов они идут в командировку:
1. Пересмотреть всех командиров. Заменить не соответ-
ствующих.
2. Пересмотреть старшин. Старшина — хозяин. Найти че-
стного, умелого.
3. Выявить забытых, достойных награждения.
4. Лучшим красноармейцам присвоить звание ефрейторов
и младших сержантов.
5. Укомплектовать роту до 80—120 человек.
6. Налицо должны быть все в строю (как в списке). Нико-
го не откомандировывать по хозяйственным делам.
7. Командир должен представляться пополнению, чтобы
его все знали.
8. Иметь полный комплект вооружения. Каждому средне-
му командиру — бинокль и компас. Два-три перископа на ро-
ту. Каска как форма.
9. Похороны на дивизионных и полковых кладбищах.
10. Давать больше огня. Прижать немцев к земле.
11. Каждая рота должна знать противника. Всем сооб-
щать, что дали «языки», захваченные на участке роты.
12. Менять боевое охранение не реже десяти дней. (У нас
бывает, что больше месяца не сменяют.)
13. Пароль в каждом взводе (ввиду диверсантов из рот
«русских добровольцев»),
14. Должен быть сигнал для сборов по тревоге.
15. Иметь резерв обуви пять — семь пар для смены при
починке, чтоб не ожидали босые.
16. Зубные врачи с инструментами должны спускаться
до роты.
17. Принадлежности для писем. Связать тех, у кого нет
родных, с каким-либо колхозом или учреждением.
Прекрасная форма воинских почестей.
В 188-й с. д. объявлен приказ:
«1) Героя Советского Союза младшего лейтенанта Устю-
жанина Якова Марковича зачислить навечно в списки роты.
351
2) На всех поверках личного состава роты правофланго-
вый красноармеец при оглашении имени павшего героя отве-
чает:
— Герой Советского Союза Яков Маркович Устюжанин
пал смертью храбрых за честь и независимость нашей Ро-
дины».
Завод имени Кирова из Ленинграда был эвакуирован на
самолетах (10 тысяч самолето-вылетов) в Челябинск. Часть
завода продолжает работать в Ленинграде.
Эвакуированный Московский завод твердых сплавов уве-
личился в пять раз (считая и то, что он продолжает работать
в Москве).
Когда я шел по территории нового КП нашей армии (воз-
ле Рябкова), меня окликнул командарм, генерал-майор Но-
готков, проезжавший мимо на виллисе:
— Хочешь посмотреть пленных немцев?
Он повез меня в Бор. Удивил своею мягкостью в беседе с
пленными. Он их не допрашивал, а просто отечески инфор-
мировал, что война должна кончиться этим летом с помощью
одновременных ударов наших войск и войск союзников, по-
этому всякое сопротивление бессмысленно.
Комендантской команде командарм сказал: «Мы не варва-
ры» — и несколько раз повторил, что для пленных надо ва-
рить горячую пищу.
На обратной дороге командующий сказал мне:
— Вам (он со мною то на «ты», то на «вы») выпадает хо-
роший случай. Мы затеваем в двести восемьдесят второй ди-
визии одну операцию возле Семкиной Горушки. Можете про-
наблюдать ее от начала и до конца.
У меня уже лежала в кармане командировка в 381-ю ди-
визию,— хотел пожить там на передовой в роте. Теперь я,
конечно, изменил маршрут. На КП командарм представил
меня командиру 282-й дивизии Белобородову, начальнику его
штаба и начальнику артиллерии. С ними я и отправился на
закате солнца в их дивизию.
Комдив (47 лет) воевал с немцами еще в 1914 году. Тогда
ему было восемнадцать лет. Цвет лица кирпичный. Бородка
352
жесткая, седоватая и как бы распластана, туго прижата к ко-
же лица, сходящего книзу клином. Шея и лицо набрякли;
шея наплывает на засаленный, стоячий ворот кителя. Грубо-
ват.
Начартиллерии очень прост и симпатичен. Это крепкий,
большой физической силы человек, приветливый и радуш-
ный. В его землянке на столике выделяется подарок артпол-
ка — письменный прибор из меди. Чернильница в виде ору-
дия, по обе стороны бронзовые стаканчики для карандашей,
выточенные из колпачков от снаряда. Они вывинчиваются из
прибора, и в случае, если нет стаканов, из них можно пить
вино.
На стене землянки прибита цветная открытка. От нее
трудно оторвать глаза. На ней изображена худенькая девуш-
ка, необыкновенно влекущая к себе и чему-то загадочно улы-
бающаяся.
Начартиллерии подобрал себе такого же спокойного, как
он сам, ординарца, колхозника из Кировской области.
1 июня.
Сижу на опорном пункте 1-й роты 1-го батальона 1-го
полка. Сюда шли большой группой с командирами полков
дивизии. Побаивались, как бы немцы не обстреляли,— до них
всего 800 метров. Помогли небольшие лощинки — комбат вел
нас по ним.
Смотрю в сторону врага. Это и есть Семкина Горушка.
Никаких следов от деревни. Не горушка, а бугорок, едва при-
поднятый над местностью. Рыжие полосы наших траншей и
траншей немцев хорошо заметны — свежая глина, выбро-
шенная из них, образует валик вдоль каждой траншеи. Для
пулемета в толще глиняного валика прокопана маленькая
амбразура.
Ярко выделяются белые березовые колья проволочных
заграждений: ими немцы запутали подходы к Семкиной Го-
рушке. На нейтральной земле — наш подбитый танк. Кажет-
ся, что он целит по немецкой траншее мучительно долго и
почему-то никак не может выстрелить. Расстояние между
нами и немцами — 200 метров.
То и дело вдоль траншеи проходят наши бойцы. Они не
хотят пачкаться, спускаться в мокрую траншею — идут по-
верху и почти не пригибаются. Ждем, что немцы сейчас от-
кроют по ним огонь. Нет — молчат. Комбат говорит, что нем-
12 В. Ковалевский
353
цы боятся высовывать голову над траншеей — наши снайпе-
ры держат их на мушке.
Начальник артполка начинает пристрелку минометов. Пе-
ред атакой нашей пехоты они будут обрабатывать немецкие
траншеи.
Батарея минометов расположена всего в двухстах метрах
от нас, то есть от пулеметного гнезда. От нее протянут сюда
провод, и командир артполка смотрит через ту же амбразу-
ру, куда смотрю и я. Он дает минометчикам ориентиры: бус-
соль, заряд, прицел, дистанция. Командует: «Огонь!»
Пристально всматриваюсь в Семкину Горушку. Взрыв ми-
ны. По земле, перекатываясь, разбегаются тугие клубы дыма
цвета светлой глины. Ни души на немецкой стороне не вид-
но. Пристрелка продолжается. По команде командира арт-
полка доворачивают, меняют прицел. Наконец он доволен по-
паданием — приказывает записать: буссоль, прицел, дистан-
цию.
Удивительно, что жаворонки не обращают никакого вни-
мания на стрельбу. Словно глухие, они вьются между нами
и немцами в вышине и славят своими песнями чистое, ясное
солнце.
Внезапно немцы делают минометный налет на нашу толь-
ко что умолкнувшую батарею. Один красноармеец из расчета
ранен, один миномет (120-мм) подбит. У немцев хорошо рабо-
тает звуковая станция — наша батарея уже замечена, своей
пристрелкой она себя выдала.
А жаворонки поют опять!
Подсчитали на глаз кучность немецкого минометного зал-
па: на каждые десять квадратных метров упало по одной
мине.
Я разговаривал с одним из артразведчиков. Водолаз из
московского Освода, доброволец, сражался в партизанском
отряде. Скучает, томится в обороне, мечтает опять попасть к
партизанам.
У меня усталость и безразличие ко всему. Ощущение та-
кое, что все, что вижу сейчас, давно знакомо. И даже то, что
безусловно ново для меня, все равно воспринимаю тупо. Есть
какой-то предел для нервных клеток — дальше они уже не
ощущают. Может быть, здесь возможна аналогия с глазом:
он видит по отдельности спицы вращающегося колеса только
до какой-то скорости, а дальше спицы уже сливаются в
сплошной круг и неразличимы.
Через час-два буду наблюдать работу командарма на пе-
354
редовой. Неужели все это неинтересно? Устал! Яркий днев-
ной свет грубо режет глаза, хочется закрыть их и как можно
дольше не открывать.
В роту приходит связной. Командиров полков зовут на
КП батальона — метрах в восьмистах отсюда.
Опять идем с надеждой «авось немцы не заметят» — во
весь рост и лишь чуть пригибая голову. Идем по открытому
месту, где немцы, конечно, нас видят. Каждый отлично пони-
мает, что так делать недопустимо, но каждый боится, как бы
его не заподозрили в трусости. Кто-то сказал, что надо бы
рассредоточиться, и все-таки пошли кучно. Сошло и на этот
раз.
Вот и командарм под сосной. Около нее сколочен столик,
такой же, как на даче в саду. На верхушке сосны — наблюда-
тель с телефоном. У командарма франтовская, кокетливая
кобура маузера, такие были в ходу только во время граждан-
ской войны: по темно-коричневому дереву обильная инкру-
стация из полированного алюминия (две винтовки перекре-
щиваются на фоне мишени и две никелированные спирали
обвивают всю кобуру). На нем яркая нарядная фуражка, ко-
торая, не будь вокруг сосны кустарника, бросалась бы в глаза
за два километра.
Командарм сказал:
— Ставлю перед вами задачу: захватить Семкину Горуш-
ку и закрепиться на ней. Это нам необходимо для общего
улучшения позиций. Ответственность за решение задачи воз-
лагаю на комдива товарища Белобородова.
Голос у командарма простой, будничный, словно дело про-
исходит на занятиях, но говорит он немного тише, чем обыч-
но, и это придает голосу оттенок доверительности.
Белобородов деловито разворачивает на столике схему в
крупном масштабе, начерченную от руки. Не отрывая от нее
глаз, он говорит, обращаясь к командирам полков:
— Нам приказано взять Семкину Горушку! Я принял та-
кое решение: силами двух рот ворваться в Семкину Горушку
с северо-запада и силою штрафной роты ворваться с юга.
Ночью с пятого на шестое роты, начиная с двадцати трех
ноль-ноль, без единого выстрела ползут к проволочному за-
граждению. Под проволокой заранее будут заложены толовые
заряды. Когда пехота проползет до тридцати — пятидесяти
метров, саперы электровключателем издали взорвут заряды.
Через проходы пехота устремляется вперед, забрасывает
траншею ручными гранатами, врывается в нее и работает
12'
355
штыками. Вместе с пехотой действуют огнеметчики со сво-
ими ранцевыми огнеметами. За пехотой проходят танки с де-
сантом,— они помогают закрепиться в Семкиной Горушке и
будут отбивать вместе с пехотой немецкие контратаки. Дру-
гой вариант, если внезапность не удастся: артиллерия по сиг-
налу обрабатывает Семкину Горушку, а потом по другому
сигналу — атака-бросок.
После Белобородова говорит начартиллерии, потом опять
берет слово командарм:
— Задача вам ясна. Теперь я скажу, как надо действовать.
Он детально разбирает три периода: 1) подготовку к ата-
ке, 2) атаку, 3) отражение контратаки и действие на глу-
бину.
Работа артиллерии: 5 минут — налет, 10 минут — методи-
ческий огонь и опять 5 минут — сильный налет. Огонь окайм-
ляет Семкину Горушку, подавляет цели и отсекает резервы
немцев.
«Артиллерия — душа вон — обязана подавить точки». Ар-
тиллеристы должны составить точный план-график с нумера-
цией целей и с указанием: какой командир отвечает за их по-
давление и в какой срок.
Сегодня же начинать пристрелку. Составить график, что-
бы не спугнуть врага недопустимой одновременностью при-
стрелки. Он должен думать, что ведется обычная, ежедневная
стрельба.
Для раций составить разговорные таблицы с простейшими
условными словами, чтобы можно было разговаривать от-
крытым текстом. «Карандаш» — пехота подползла к про-
волоке, «гвоздь» — ворвалась в траншею и т. д.
Отметить марлевыми бинтами проходы; по сторонам —
фары, чтобы ослепить врага и отвлечь внимание.
Одновременно на территории 23-й гвардейской стрелковой
дивизии — демонстрация. За несколько дней до атаки здесь
организуется усиленное движение отрядов «по колесу». Один
и тот же отряд проходит на глазах у немцев поляну, скры-
вается в лесу, затем появляется с прежней стороны на поляне
в несколько видоизмененном построении. Враг подумает, что
здесь мы сосредоточиваемся.
Помимо демонстрации пехотой, по ночам запускать трак-
тора. Пускай немцы думают, что это танки. Посадить
бойцов в лес — пусть жгут костры, создают впечатление
насыщенности пехотой. Конечно, немцы откроют стрельбу.
Ничего!
350
Все ближайшие дни надо проводить усиленную учебу-ре-
петицию с атакующими ротами. Пехота узнает о задаче толь-
ко 5-го.
Репетиция будет в Слугине. Там созданы все условия, с
какими бойцы встретятся при атаке Семкиной Горушки: тран-
шея, чучела, изображающие немцев, колючая проволока, за-
бор.
Учение прошло хорошо. Трескотни было много, толовые
шашки дали взрыв большой силы,— проходы получились
широкие.
Не обошлось без жертв: у проволочного заграждения лег-
ко ранены два бойца, серьезно ранен связист, который обхо-
дил линию и не подозревал о репетиции.
После занятий — слишком длинная речь командарма пе-
ред строем. Он не учел, что бойцы до пояса мокрые,— они
вброд форсировали Редью.
Командарм обещал за взятие Семкиной Горушки снять
судимость со штрафников. Обещал всем перед боем по 150
граммов водки.
— Не напою вас, а для здоровья, чтоб не простудились.
Кому много — пусть поделится с товарищами.
Народ в пехоте отличнейший, командиры рот — молодые
крепыши.
Обратно на КП дивизии — верхом. Я становлюсь джиги-
том. Стыдно было отставать от командиров, и я тоже
пер шесть километров хорошей рысью в облаке пыли
(нас ехало человек двенадцать). Были мгновения, когда
вдруг начинало казаться, что я могу очутиться на зем-
ле под копытами всей кавалькады. Но я взял себя в ру-
ки, выдержал аллюр, и вот даже ноги не болят и все прочее
в порядке.
Но какая красота! Тесная кучка мчащихся всадников. Бе-
лая ночь. Сырой запах леса и травы на полянах, порою пе-
ребиваемый сухим запахом пыли, и — соловьи, соловьи, со-
ловьи! — голоса их не мог заглушить даже слитный топот
наших коней. А по рубежу — чистые, металлическ» е рспыш-
ки разноцветных сигнальных ракет.
357
2 июня
Солнце. Земляника до сих пор отцвела еще не вся, а уже
цветет брусника. Бойцы с азартом гоняют белку с дерева на
дерево.
Рукомойник привешен к стволу дерева, срезанного на вы-
соте полутора метров. Набрав в пригоршню воду, наклоня-
юсь, чтобы ополоснуть лицо, и вдруг из крошечного дупла
под рукомойником выпархивает птичка. По лбу у меня про-
бегает ветерок от ее крыльев; это пеночка или что-то похо-
жее.
В лесу пестро от пятен света и теней. Заливистая, мили-
ционерская трель дятла-кардинала с ярко-красной шапоч-
кой на макушке, переливчатая флейта иволги-самца и ко-
шачьи призывы самки. Этому страстному птичьему диалогу
ничуть не мешает пристрелка «катюши», которая время от
времени выпускает по цели один или два клокочущих яро-
стью снаряда.
3 июня. Опушка леса южнее Слугина.
Вчера вечером я пришел в танковую роту. Здесь же, на
танке, я и ночевал. Броня танка до утра сохраняла тепло от
вечерней работы мотора. Ночью душно, приходилось, спаса-
ясь от комаров, укрываться с головой бушлатом, который мне
дал командир роты старший лейтенант Инютин. Было тесно-
вато — рядом спал командир роты. На голом металле спать
жестко — подостланная под нами плащ-палатка ничего
не добавляет. Во время бессонницы не оставляли меня
мысли: что случится в бою с этим человеком, вот с этим
самым, с которым мы сейчас лежим на теплой броне
танка? Надо будет во что бы то ни стало найти этот
танк после боя. Инютин поведет в бой девять танков —
три взвода.
Вечером видел учебную стрельбу боевыми снарядами.
Инютин выстроил экипаж под самым орудием танка и
требовал, чтобы никто не вздрагивал при выстреле. Зачем
это нужно? Один паренек, очень похожий на моего пле-
мянника Диму, не мог преодолеть в себе этого короткого,
как судорога, вздрагивания в момент выстрела. Инютин
орал:
358
—- Товарищи, среди Нас есть идиоты! Я вас отучу вздра-
гивать!
Паренек отвечал:
— Товарищ командир,— это со мной бывает, даже когда
я работаю молотком.
После стрельб Инютин «с песочком протирал» отстающих:
«Отрастили животы, так вас и так!» А самому старшему из
этих отрастивших животы 24 года.
В роте встретили меня более чем радушно, я даже пожа-
лел, что сказал Инютину о своей профессии. Заботы обо мне
приняли обременительные размеры: во время ужина, серви-
рованного на футляре из-под баяна, развели костер, чтобы
меня не донимали комары, и, размахивая плащ-палат-
кой, гнали дым в мою сторону (вечер был совсем безвет-
ренный).
После ужина Инютин неплохо пел под баян. Он очень
жизнерадостный, властный, четкий в своих требованиях и
подкупающе веселый в нестроевой обстановке.
Когда мы улеглись на танке, подошел помощник Инютина
по техчасти и прочел нам письмо от какой-то девушки.
Горячее признание в любви и клятвенная просьба, что-
бы он вернулся с войны только к ней, пусть даже если бу-
дет в тяжелом от ранений состоянии: «Ты — моя первая
любовь!»
Сегодня несколько часов просидел в танке — и на месте
водителя-механика, и на месте командира танка, «работал»
по наводке и стрельбе и подробно записал, что делает в бою
радист.
Экипажи приводили в порядок танки. Каждый снаряд
вкладывали в казенную часть и вынимали, чтобы не попался
какой-нибудь снаряд, который станет помехой при беглом
огне.
С минуты на минуту танковая рота ждет приказа к вы-
ходу на выжидательные позиции.
Прекрасные люди. Очень хорош восемнадцатилетний ма-
лыш, радист Чевелев, помогавший ликвидировать мою
танковую малограмотность: белобровый, с озорным вздер-
гом маленького носика, живой, как ртутный шарик,
359
смекалистый, находчивый и не знающий, что такое
страх.
Пришел парторг, положил бумагу на футляр из-под бая-
на и стал заполнять анкету на Инютина. Отвечая на вопро-
сы, Инютин дурачился, отвечал заковыристо, вроде:
«Сын своих родителей, образца 1920 года, о чем и доклады-
ваю!» Но когда дошло до графы о наградах, посерьезнел и
сказал:
— Оставь местечко — хоть посмертно, а за Семкину Го-
рушку наградят.
Поймав мой пристальный взгляд, Инютин добавил:
— Бой — это картежная игра. Уверенность — одно, но все
бывает.
9 июня.
Завтра бой.
Вчера вечером гуляли между Слугином и Ольхами.
Инютин опять пел с чувством романсы. Пел о любви, а
к женщинам относится с презрением. «Женщина — провока-
тор твоего кармана. Женщина хороша, только когда в карма-
не у тебя есть деньги».
Да что там женщины — он не щадит и родного отца («Про-
ститутка, старовер») за то, что отец не дал ему образова-
ния, взял из школы после седьмого класса, хотя имел два до-
ма, три коровы. Инютин украл у него 25 рублей и убежал из
дома, когда ему было пятнадцать лет. Сначала работал чер-
норабочим в доме для глухонемых, потом арматурщиком на
постройке мостов. Отсюда попал в военную школу. Материт-
ся на каждом шагу, выбирая при этом виртуозные варианты.
И тут же жалеет, что не умеет «держать себя в обществе
культурно». Иногда он на полном серьезе говорит почти
лозунгами:
— Кто я такой был? Родина меня воспитала! Теперь что
мне остается делать? Командовать вот этими людьми и вести
их в бой!
Был у нас разговор о стоимости оружия.
Инютин:
— Патрон стоит двадцать две копейки, винтовка — во-
семьдесят рублей, снаряд — сто пять рублей (семидесяти-
шестимиллиметровый), танк «Т-34» — семьсот тысяч рублей.
360
Ч е в е л е в:
— Так это выходит, что немец дорого нам обходится?
Инютин:
— Ничего, если с каждого немца снимать стружку вы-
годно будет!
После этого Инютин запел:
Ах эта серая коза
Из вашего колхоза —
Дает пол-литра молока
И воз навоза.
Во время прогулки, как рефрен, то помпотех, то кто-ни-
будь из командиров танка скажет:
— Вот выйдем из боя живые... тогда...
И так много раз за вечер.
Спали мы с Инютиным опять на теплом танке, и опять
нас донимали комары. Разбудил мелкий, как мошкара, дож-
дик. Вот уж некстати,— и без того нелегко танкам мять
брюхом кочки, ползать по болотам.
10 июня. 13 часов. Берег Редъи.
Территория штрафной роты. Сейчас сюда подойдут две
стрелковые роты. Собирается вместе вся атакующая группа,
которая все это время готовилась к захвату Семкиной Го-
рушки.
Дождь перестал. Пасмурно и тепло. Вдоль берегов Редьи
в кустах ольшаника изо всех сил поют соловьи.
Я удачно пришел — ожидают командарма.
До поляны, где собирается группа, меня проводил блед-
ный, очень изможденный боец. Он несколько раз был ранен
и пять раз ходил в атаку. О себе говорит: «Весь истек
кровью».
Я спросил его:
— Это штрафная рота?
— Да. Только ее так не называют. Особая пятьдесят
третья стрелковая рота.
— Правильно.
— Со всяким это может быть.
— Конечно. Вы откуда?
— Я капитан речного транспорта. Работал в Архангель-
ске.
361
Пока командир не подъехал, я побрился, пристроив
свое зеркальце на ветке ольхи и зачерпнув воды из
Редьи. Совсем потерлось, потускнело мое зеркальце от пе-
шего хождения — все время трется среди тетрадок в поле-
вой сумке.
Потом пошел посмотреть, что там мастерят за кустарни-
ком саперы. Оказывается, они оборудуют дивизионное клад-
бище. Посыпают песком дорожки; жердями его уже огоро-
дили. На всем участке только три свежие могилки, а все
остальное приготовлено «авансом». Могилки аккуратно об-
ложены дерном и рамкою из сухого мха. К свежеотесанным
столбикам у изголовья прибиты звезды, вырезанные из бе-
лой жести консервных банок.
Таким образом, каждый может зайти сюда посмотреть,
где его похоронят, если он будет убит.
Зайду на это кладбище еще раз после боя...
Прибыл командарм.
Все роты атакующей группы выстроены для смотра «по-
коем». Командарм говорил очень живо, раза два сильно рас-
смешил бойцов, расшевелил их. Сказал, что получил приказ
вешать изменников и шпионов, а также немцев, уличенных
в зверствах. Опять говорил о снятии судимости, о наградах
и присвоении званий, предупреждал, чтоб не было бара-
хольства.
Не понравилось мне только, что по пятам за коман-
дармом ходил с автоматом его телохранитель, какой-то опе-
реточный в наших условиях: моряк в бушлате, в тельняш-
ке, в бескозырке и в клешах. Особенно нелепы черные
кожаные перчатки, такие же, как у «хозяина» — коман-
дарма.
18 часов. КП дивизии. Совещание командиров рот и взво-
дов. Комдив Белобородов подробно показывает по схеме, кто
что должен взять. Уточняются все условные сигналы. Долго
спорят о том, как избежать ротам столкновения друг с дру-
гом, когда станут выбивать немцев из траншей, подойдя к
Семкиной Горушке с разных сторон.
Решили выдать каждому бойцу белый флажок — он
воткнет его на бруствер, когда траншея будет взята. Кро-
ме того, каждый должен иметь повязку на рукаве из по-
лотенца или марли. Пароль: «Сталинград», отзыв: «Есть
Сталинград».
3fi2
После совещания я спросил у командира роты штрафни-
ков, лейтенанта, кто он по национал ности. Мы с ним сидели
на бугорке. Вдруг он встал, смутив меня этим, и отрапорто-
вал во все горло: «Татарин, товарищ капитан!»
Он из Севастополя. Узнав, что я бывал в Крыму, он заго-
релся воспоминаниями и с трогательной настойчивостью стал
уговаривать идти к нему ужинать. Я должен был поговорить
с начальником Политотдела дивизии, но обещал, что ужи-
нать приду.
Начподива я не застал, но зато поговорил с другими то-
варищами. Пока мы говорили, там, где располагалась
штрафная рота, стали рваться немецкие мины. Отчетли-
во было слышно, как с надсадным скрипом работает
«скрипун» — немецкий шестиствольный миномет залпового
действия.
Когда я пришел в штрафную роту, там все было перепаха-
но. Шалаш татарина снесло воздушной волной. Хворостом
на командире изорвало в клочья гимнастерку и сильно его
искровенило — поцарапало. Два бойца из его роты убиты и
четверо ранены.
Ужина тоже не получилось — миной разнесло в клочья
полевую кухню. Но не это огорчало татарина. Он боялся, что
его не пустят в бой.
— Если не займу Семкиной Горушки — сам заколюсь!—
сказал он.
Ночевал я во втором взводе третьей роты у взводного
Герасимова. Здесь произошла редкая встреча, которая не
могла меня не удивить.
Блиндаж, где сейчас мы встретились с Герасимовым, очень
большой: весь взвод помещается в нем. Отдельная землянка
только у Герасимова. Посреди блиндажа горел костер — боль-
ше для света, чем для тепла, и бойцы — в этом взводе мно-
го пожилых — готовились ко сну. Кто занимался починкой
обмундирования, кто пришивал на рукав повязку из полотен-
ца, кто писал письмо.
Когда я вошел к ним и назвал себя писателем из армей-
ской газеты, сидевший у костра Герасимов глубоко вздохнул
и сказал:
— Да, знал я одного писателя в Москве, Ковалевского.
Оказалось, что он читал мой роман «Хозяин Трех Гор»
363
и даже разговаривал со мной, когда в клубе Трехгорки была
моя встреча с читателями.
Я протянул ему удостоверение и подвинулся так, чтобы
костер освещал мое лицо. Герасимов оторопел.
Я даже не могу вспомнить, когда и кто был бы еще так об-
радован моим появлением. Объясняется это, конечно, тем,
что оба мы из Москвы, оба хорошо знаем Трехгорку, и тем,
что в следующую ночь надо идти в бой.
Он предложил пойти в его землянку, где можно будет хо-
рошо отдохнуть, поужинать и без помех поговорить.
— Поговорим о Москве, товарищ капитан, то есть това-
рищ Ковалевский,— поправился он.
Я не спешил уходить из общего блиндажа. Хотелось по-
нять, о чем призадумались старики Герасимова.
Но и здесь ни слова о возможной гибели. Только один ска-
зал, перекусив желтыми зубами нитку:
— Тихим ходом могу сделать что хотите, а вот если бе-
жать в атаку — сомневаюсь: перехватывает дыхание и да-
же я... ломить начинает.
Остальные задумчиво и серьезно перекидываются сообра-
жениями: «Вот если бы удалось перейти речку без звука»,
«Главное — допустил бы он нас до проволоки», «В тран-
шее — там просто: коли, топчи, души. Главное, дойти до
траншеи».
Все верят в «катюшу» и в силу нашей артиллерии.
Когда кое-кто уже улегся и в костер больше не под-
брасывали хворосту, мы с Герасимовым перешли в его
землянку.
Вот кто, должно быть, думает о смерти, хотя сказал об
этом всего только один раз:
— Я опасаюсь шальной какой-нибудь пули, шальная —
дура. Прицельной стрельбы в темноте быть не может, а вот
если разве только шальная...
Не о Москве мы говорили и не о Трехгорке. Всю ночь Ге-
расимов с предельной откровенностью рассказывал о себе, о
своей матери, о детстве.
Мать Герасимова ослепла от оспы, когда ей было три года.
Несмотря на слепоту и следы оспы, она выросла очень
красивой девушкой. К ней многие приставали. Когда ей ис-
полнилось двадцать восемь лет, одному односельчанину уда-
лось ее соблазнить. Она родила сына «без закона», без бра-
364
ка. В ту пору, до революции, это было стыдом и срамом, осо-
бенно для слепой, «убогой».
— Родители ее, товарищ Ковалевский, были еще в ту
пору живы. Можете себе представить, какую муку приняла
моя мать от этого «позора». Девяти лет от роду ее первенец —
мальчик — умер.
Через одиннадцать лет она родила второго сына, на этот
раз от пастуха. Этот второй и есть Герасимов.
— Опять «позор»,— сказал он.— Родители уже к той
поре померли. Тетка прогнала мою мать со двора, и пошла
она со мною по миру, стала побираться.
Мать жива до сих пор — ей семьдесят лет. Герасимов
очень ее любит за то, что она через все муки и унижения,
обиды и оскорбления выкормила его, воспитала и вывела
в люди.
Но это еще не все страдания матери. Опозоривший ее па-
стух женился на ее родной—зрячей — сестре.
— Откровенно говоря, товарищ Ковалевский, такое даже
стыдно рассказывать. Разве только как писателю, для чело-
веческого интереса. Надо проще сказать, что пастух собирал
мед из обоих ульев. Тут долго, конечно, рассказывать. Я могу
до хрипков говорить и спать вам не дам. Оставим без внима-
ния, где я был, кто чему меня учил, только оказался я нако-
нец на Трехгорке. Бывало, иду на побывку в деревню, как
только увижу крышу нашей избы — не было случая, чтоб
не заплакал. Жаль мне было мать: сына какого выра-
стила, а видеть его никогда не увидит, и это даже на веки
веков!
Она тоже страдала. Ужасно как разрыдается при встрече
и обязательно щупает лицо, ласково лапает и начинает со-
крушаться: «Чтой-то ты исхудал,— должно быть, бегал за
девками!»
Иногда я ее спрашивал: «Мама, хочешь ли видеть бе-
лый свет?» Она отвечала: «Я его не знаю. Кабы знала бы, мо-
жет, и хотела бы!» Но меня она хотела бы видеть и до
сих пор сохраняет привычку — чуть что, брать за лицо,
щупать, мять, точно она лепит меня из глины по своему
вкусу.
Утром Герасимов накормил меня вкусной пшенной ка-
шей, налил сладкого чая. Спали мы с ним не больше двух ча-
сов.
Расставаясь, я сказал ему:
— Ну, ни пуха ни пера! Завтра увидимся.
365
— Если буду жив,— сказал он, крепко сжимая мне руКу.
И опять вползла под мою черепную коробку противная
мысль: по закону развития сюжета Герасимов должен по-
гибнуть. Рассказал о своей жизни, чтобы не исчезнуть без
следа, и — погиб! Но какой там к черту закон построения сю-
жета, такого закона не существует, да и зачем же строить
сюжет шаблонно?..
Я видел последние приготовления бойцов Герасимова, ви-
дел, как они раскладывали по вещевым мешкам запасные
патроны, делали скатки, набивали патронами диски автома-
тов, прилаживали к поясу лопатки. Немцы начали обстрел.
До нас долетел зло визжащий осколок. В небе появился
первый «костыль».
Я пошел на КП дивизии — буду там ждать вечера, чтобы
с комдивом пойти на НН и следить, как он будет управлять
боем. Вот у меня есть уже два твердых ориентира: Белобо-
родов — вверху, Герасимов — внизу.
До боя осталось двенадцать часов. Ясный солнечный день.
Гул артиллерии где-то у правого соседа. А здесь, на НН, су-
етливое лопотанье плотных листьев осин и спокойное, глу-
бокое дыхание сосновой хвои, как бы впитывающей в себя,
поглощающей ветер.
19 часов. Сижу на скамейке у избушки комдива. Неожи-
данно мелькнула яркая фуражка командарма. Сказал мне,
что хочет присутствовать при операции, но только где-ни-
будь в стороне, чтобы не сковывать комдива. Они договори-
лись: комдив будет руководить с НН, а командарм останется
в избушке, и под его рукой будет телефон. Он сказал комди-
ву: «На тот случай, если что-нибудь понадобится и кто-
то будет вам препятствовать». Но ему не сидится,—
уехал в медсанбат дивизии проверить, готовы ли к приему
раненых.
За ужином Белобородов много пьет. Волнуется. Наливает
мне, начарту, но не ждет нас, «пропускает» без очереди.
Красный, набрякший, глаза мутноватые. Задумывается. Раз-
говор скачущий — с одной темы на другую. Опять сам себе
наливает в стакан, никого не угощая. В разговоре нет-нет
и проскочит сомнение: «А что, если у нас не выйдет?»
Тревожится о связи: «Лишь бы не потерять управление
боем!»
Смотрю на ручные часы — 21 час. Как-то там сейчас чув-
ствует себя Герасимов в траншее на исходном рубеже? Че-
рез два часа ему начинать ползти.
36В
Неожиданно Белобородов начинает рассказывать о сво-
ем брате, депутате Верховного Совета, как он первый в обла-
сти организовал «пятидворку»—зародыш колхоза. Но не за-
кончил рассказа, опять повторил с тревогой:
— Лишь бы связь была в порядке!
Совсем уже стемнело. Я забрался на сосну, на вышку к
наблюдателю. Даже в стереотрубу почти ничего не видно на
Семкиной Горушке. По всему фронту редкая ружейно-пуле-
метная стрельба. Много осветительных ракет. По полету
трассирующих пуль хорошо видно, как часто пуля дает ри-
кошет: взвивается от земли под углом к небесам. Никогда не
думал, что такой большой процент рикошета. Редкие про-
жектора голубыми мечами кромсают небо, струи трассирую-
щих пуль бьют по невидимым нашим бомбардировщикам.
Вспышки немецких зенитных снарядов — искровые кляксы
в небе. С вышки на сосне хорошо слышно, как внизу по все-
му лесу поют соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,—
Пусть солдаты немного поспят...
Роты начали ползти на два часа позже, чем было намече-
но планом. Смотрю с вышки на землю, на Семкину Горушку,
и не понимаю—почему немцы не видят ползущих. Спят?
Ведь уже сильно рассвело! А может быть, роты лежат, а не
ползут?
Неожиданно малиново-красные всплески пламени от зал-
па «катюши». Чего же медлят саперы, не подрывают прово-
лочных заграждений? Или еще не подползли? Ведь одним
только залпом «катюши» можно разбудить немцев. А взры-
вов под проволокой все нет, нет и нет... Слишком долго. Ну,
наконец-то охнуло! Два — почти одновременно. Но третий
взрыв на правом фланге, то есть как раз там, где ползет Ге-
расимов, запоздал.
Пехота на левом фланге поднялась. Мелкие, как искры,
вспышки гранатного боя. Две огненные струи и дымное пла-
мя ранцевых огнеметов.
Минут через двадцать пять взвились зеленые и красные
ракеты. Только красные что-то не очень высоко поднялись,
получилось не так уж убедительно. Но ведь было услов-
лено, что эти сигналы обозначают: «Семкина Горушка за-
хвачена!»
Артиллерия не заставила себя ждать — сейчас же вслед
за сигналами мощный огонь обрушился на немецкие батареи
367
и лег кольцом на обрамление, чтобы отсечь, не пускать нем-
цев обратно к Горушке.
Черт знает что такое — сквозь грохот канонады совер-
шенно отчетливо слышны внизу соловьи. Звук, извлекае-
мый их живыми, трепещущими голосовыми связками, совер-
шенно иной природы, чем бесноватый вопль рвущегося ме-
талла, и не смешивается с ним, как вода с маслом.
С вышки ничего не видно, кроме разрывов снарядов. Си-
деть неудобно, затекли ноги. Я спустился вниз. На столике
под сосной — рация. Тут же стоит, опершись о ствол сосны,
комдив, не сводит глаз с радиста.
Радист:
— Фрицы перешли в контратаку слева от Горушки.
Комдив, задрав голову кверху, кричит:
— Сосна, что видишь?
Наблюдатель кричит с сосны:
— Ничего не вижу. Вижу только гранатный бой. Наших
немец забрасывает гранатами.
Радист:
— Хобот-два просит дать огня, немцы лезут от Редьи.
Комдив:
— Дударев только что говорил с комроты: ничего нет.
Откуда же немцы? Уточните.
Радист:
— Хобот-два спрашивает, дадите огня или нет?
Комдив телефонисту:
— Свяжитесь с третьей ротой!
Телефонист:
— Нет связи с третьей ротой!
Комдив одному из офицеров:
— Скажите Петрову: кровь из носа — пусть восстановит
связь!
Радист:
— Хобот-два просит дать огня по реке! Говорит, дали
слишком вправо, дайте ближе, левее!
Комдив вытащил из кармана большую луковицу и, не
очистив ее, откусывает и нервно жует, потом матерится и
спрашивает радиста:
— От чего левее? Что за команда,— так их и так! От чего
левее, от меня это, может быть, правее?
Радист:
— От Векшино едут к Пескам тридцать немецких грузо-
вых машин с людьми.
368
Комдив:
— Вызовите третью роту, налажена связь с третьей ро-
той? (Это там, где мой Герасимов.)
Радист:
— Хобот-два просит огня, немцы поднялись в рост.
Не могу записывать — слишком переживаю и не успеваю
схватить всех реплик и диалогов. И не совсем это удобно —
возиться сейчас с тетрадкой: комдив то и дело косится на
мой карандаш — его это стесняет и отвлекает.
12 июня. Бор.
Я не имел никакой возможности записывать хронику со-
бытий под Семкиной Горушкой. Отбить у немцев Горушку не
удалось — она осталась в их руках.
Через сутки после неудачи я ездил верхом в медсанбат
(около Пересы). Говорил со многими, раненными в бою за
Семкину Горушку. Они-то и помогли мне понять, что там
произошло.
Бедный Герасимов. Герасимов погиб. Труп его остался у
немцев. В этом нет никакого сомнения. Несколько раненых
бойцов из его взвода видели, как он упал. Один сказал мне
о нем:
— Остался лежать в траншее. Лежит на правом боку.
Левая вот так прижата к груди, глаза закрыты, а в лице хоть
бы капля крови. Успокоился наш взводный, отвоевался.
После медсанбата я поехал верхом искать роту Инютина.
Долго рыскал. Сопровождавший меня связной не знал до-
роги.
Два раза подо мной падала лошадь. Первый раз провали-
лась на гати. Я спрыгнул, чтобы она не поломала себе ноги,
и увяз в торфяной жиже. Пришлось обмываться водою из
воронки.
Второй раз лошадь упала на открытой поляне. Я погнал
ее через поляну карьером, потому что местность прострели-
валась немцами. Когда она упала на всем скаку, я вылетел
из седла. Падая, я успел заметить, что лошадь как бы завали-
лась на голову. У меня была полная иллюзия, что лошадь
убита. Я мгновенно подхватился на ноги и что есть духу побе-
жал, чтобы скорее миновать простреливаемую немцами по-
ляну. Вдруг слышу за собой топот коня. Сердце мое наполни-
36»
лось нежностью к умному животному: значит, конь жив, и
вот он, сохраняя преданность человеку, догоняет меня. Но
это было еще одно заблуждение. Конь просто скакал, чтобы
догнать другого коня, на котором связной пересек опасную
поляну раньше меня.
Удивляюсь, что при падении у меня не пошла кровь но-
сом,— я здорово ударился об землю грудью и лицом. Спасло
меня от тяжелого ушиба только то, что в этом месте зыбкий
торф и высокая трава. Впрочем, не будь этого — не споткну-
лась бы и лошадь.
Нашел-таки я исходную, перед боем, позицию танков. Но
никого из танкистов здесь не оказалось. Какой-то лейтенант
сказал, что искать их надо где-нибудь под Коломной и, не
теряя ни минуты, сматываться отсюда.
— Товарищ капитан, здесь не останавливаются с ло-
шадью.
— А разве немцы видят?
— Не в том дело,— сюда он все время садит из мино-
метов.
В этот день я проехал верхом тридцать километров и на-
конец-то нашел Инютина — действительно под Коломной. Из
девяти танков роты, ворвавшихся в Семкину Горушку, толь-
ко танк Инютина да еще комвзвода Комара вернулись из
боя — остальные подбиты и сожжены.
Да, это тот самый танк, на броне которого два дня тому
назад мы спали вместе с Инютиным. Инютин в госпитале —
он дважды ранен,— в его танк попало два снаряда-болванки.
Они не пробили броню, но от удара внутри отскочили пупы-
рышки — неровности литья, и вот ими Инютин и был нашпи-
гован. Рана несерьезная, но кровоточит все: лицо, грудь, обе
руки.
Он приказал радисту передать в штаб по рации:
— Командир ранен, но остается в бою!
После второго ранения Инютин обессилел. Башнер Гал-
кин его перевязал. Видя, что оставаться в Горушке дальше
бессмысленно, водитель вывел танк в безопасное место, вер-
нулся в кустарник на исходное положение.
Итак, Семкина Горушка была нами освобождена. Но
удержаться в ней не удалось — немцы подбросили на маши-
нах подкрепление и захватили ее опять.
Почему же это произошло?
Пехота, ворвавшись в немецкие траншеи, не успела пе-
реоборудовать их так, чтобы можно было стрелять в обрат-
370
нуЮ сторону и отражать контратаки немцев. Наши боевые
порядки видны с Семкиной Горушки как на ладони. Но обер-
нись назад — земляная стена ничего не дает видеть; в стене
нет ни амбразур для винтовок и автоматов, ни площадок для
пулеметов. Отбиваться от контратак невозможно.
Как только наша пехота вскочила в траншею, надо было,
не теряя ни минуты, переоборудовать ее. Этого сделать не
успели. Какой бы мощной ни была поддержка артиллерии—
пехота ничего не могла сделать: в траншее она сидела как
слепая.
От Коломны немного проехал в танке Комара. Удивлен,
что в нем так покойно сидеть — хорошая амортизация.
Ночевал в Коломне в блиндаже регулировщиков. Ровно
год я не был в этой деревне. От нее почти ничего не осталось.
А какая это была красавица!
12 июня.
Как все изменилось. Помню, в мирное время один толь-
ко вид патрона на письменном столе вызывал насторожен-
ность, тревогу. А теперь трясешься на ухабах в машине, си-
дишь на снарядах, которые под тобою звенят и брякают,
едешь на оперенных авиабомбах, взлетая и грохая на выбо-
инах, топчешь ногами снаряды в танке. Патроны таскаешь
в кармане, не боясь, что, падая или стукнув обо что-нибудь
карманом, можешь разбить капсюль. Спишь, а в головах —
вещевой мешок, где вместе с бельем тоже понапихано пат-
ронов.
По-прежнему возникает неприятное чувство, когда в из-
бе товарищи начинают возиться с автоматами — чистят,
щелкают спуском. Но эта тревога оправдана: у нас в отделе-
нии несколько раз были нечаянные выстрелы.
Есть приказ по СЗФ о мерах осторожности: за два меся-
ца из-за небрежного обращения с оружием произошло 167 не-
счастных случаев.
Рузвельт сказал, выступая перед делегатами конферен-
ции объединенных наций по послевоенным продовольствен-
ным вопросам:
«Свобода от нужды и свобода от страха тесно связаны
друг с другом. Наши конечные цели могут быть сформули-
рованы просто: создать для себя и для всех людей мир, в ко-
37J
тором каждый человек будет иметь возможность жить в
мире, производительно трудиться, зарабатывая по крайней
мере достаточно для его действительных потребностей и по-
требностей его семьи, общаться с друзьями, выбранными им
по своему желанию, свободно мыслить и свободно исповедо-
вать религию и умирать спокойно, сознавая, что его дети и
их дети будут обладать такими же возможностями».
У нас слишком уж много гвардейских частей. Гвардейское
звание присуждают как награду и затем вливают в гвардей-
скую часть пополнение, совершенно не считаясь с его ка-
чеством.
14 июня.
Искал в Бору местного жителя-старика, хотел расспро-
сить его, какой здесь водился до войны зверь, узнать назва-
ния некоторых цветов, растений, трав. Не застал дома,— го-
ворят, уехал с бойцами показывать им лесные поляны для
покоса.
На болоте уже летит вата с пушицы. Ее так много, что
кое-где побелели даже ветки на соснах — вата цепляется за
хвою и застревает. В деревнях иногда этой ватой набивают
подушки. Если корова заберется в болото и наестся пуши-
цы — молоко у нее пропадает.
В поле сиреневый налет на колосящейся ржи. Вероника,
лютики, белый и розовый клевер, липкие лиловатые звездоч-
ки смолки. В травянистых местах на полянках—красновато-
ржавый налет от цветущего щавеля. Тончайшие запахи. И
все это, вместе взятое, приправлено несмолкающим пением
жаворонков.
А в том году спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощеренная вся.
(П. Антокольский. «Сын»)
15 июня. Ореховка.
Красивая деревня в кольце сплошного леса. Жили здесь
богато — избы громадные, пятистенные, окна большие.
372
Чернила я приготовил из химкарандаша, разведя его на
воде из речушки Щебенки. Редкое по красоте место.
17 июня.
Ходим по три раза в день в Худые Речицы в госпиталь:
завтрак, обед, ужин. Давно не питались так роскошно. Одна-
ко туда и обратно за весь день это составит двенадцать кило-
метров — вполне можно нагулять аппетит.
По пути упражняемся в стрельбе по цели. Я привез из-
под Семкиной Горушки около двухсот патронов — подобрал
с земли на том месте, откуда ушел на исходные позиции
взвод покойного Герасимова.
19 июня.
Благословенное, изумрудное от высоких трав, росное си-
нее утро. Мокрые от росы сапоги. Сквозящие против солнца
светло-зеленые папоротники, сочное разнотравье. Русские
полянки — все в цвету. На заброшенной пашне красно-ко-
ричневый щавель и лиловые пятна легких колокольчиков.
Поставил пистолет на боевой взвод и пошел в глубь леса.
Уничтожил много листовок, совершенно свежих, сброшен-
ных, вероятно, этой ночью. Листовки очень ядовитые, пога-
ные. Подпись: «Командование Русской освободительной ар-
мии». Содержание — белогвардейское. Написаны грамотно.
Опасный пункт: «Командование Русской освободительной
армии достигло соглашения с германским командованием о
военнослужащих Красной Армии, добровольно перешедших
на нашу сторону...
...Каждый военнослужащий Кр. Армии, оставивший свою
часть и перешедший на нашу сторону самостоятельно или в
составе группы, не считается военнопленным, его рассматри-
вают как противника советского режима, перешедшего на
сторону Русской освободительной армии.
Прием в РОА происходит исключительно на доброволь-
ных началах. Каждый может по своему свободному выбору
либо вступить в РОА, либо служить в тыловых частях, либо,
если он этого пожелает, заняться мирным трудом в освобож-
денных от большевизма областях.
Во всех случаях вам гарантируется вежливое обращение
и хорошее отношение, поэтому не верьте советским басням
о «зверствах»...
373
...Вы будете немедленно отделены от военнопленных и
отправлены из зоны боевых действий».
Радует одно обстоятельство: во всех немецких листовках
появился мотив о том, что надо скорее кончать войну, «заклю-
чить почетный мир». Значит, дела в Германии действительно
плохи.
Пошел в глубь леса по неизвестной мне, сильно заросшей
травою дороге. Перешагнул через очень оживленный муравь-
иный тракт. Он соединяет два огромных муравейника. Я не
мог понять отношений между ними. Границы на муравьином
большаке не заметно. Зачем нужна дорога от одного мура-
вейника к другому? Муравьи движутся одновременно в обе
стороны, навстречу друг другу. Многие из них тащат муравь-
иные личинки — «яйца», одни в одну сторону, другие — об-
ратно, и тоже с личинками. Что-то похожее на обмен, но что
именно? Расстояние между муравейниками—шестьдесят
метров.
Не у всех еще прочно вошло в сознание, что мундир, гим-
настерка неотделимы от погон. Многие еще ходят без них, не
дорожат ими.
Военный Совет решил на нескольких переправах через
Ловать и на перекрестках поставить тройки с нитками, игол-
ками и погонами. Они обязаны, невзирая на звание, приши-
вать погоны всем, кто ходит без них, и вписывать в книжку:
такому-то там-то пришиты погоны.
Столяр делает рамы для окон в нашей избе. Ушедшая пе-
ред нами воинская часть уволокла за собою и рамы со стек-
лами. Так делают, собственно говоря, все, чтобы было чем
остеклить на новом месте землянки.
Увидев на подоконнике «Войну и мир», столяр сразу же
уцепился за книгу. Разговорились. У него под Москвой сго-
рел шкаф, полный книг. Я его спросил, что он хотел бы про-
честь после войны. Столяр ответил:
— Настоящее уж очень приелось. Прошлое мы порядочно
знаем. Хотелось бы прочесть о будущем.
На вопрос, какое у него заветное желание, что он хотел бы
после войны, ответил:
— Месяца три ничего не делать — отдыхать, а потом
опять найти подходящую работу. Ведь жили неплохо!
374
Еще ни один человек не сказал мне, что до войны жили
плохо. Вот что значат ужасы войны. Они заставили многих
из нас забыть, что в нашем мирном быту не все еще было на-
лажено и в деревнях еще не всюду была изжита стародав-
няя, дореволюционная нищета. Да мало ли у нас было повсю-
ду нехваток. Но теперь, когда пролито столько крови, вспо-
миная мирную жизнь, мы хотим думать только о самом хо-
рошем.
Мистика чисел истерического Гитлера:
22 ноября 1937 г. Заключение «антикоминтерновского
пакта».
22 июня 1940 г. «Компьенское перемирие».
22 июня 1941 г. Начало войны против СССР.
21 июня.
Завтра годовщина нападения на нас Германии. Вторая го-
довщина. Завтра мистическое для убийцы число «22». Не-
ужели на этот раз — газы?
Тишина. Жужжат мухи и оводы. Листья не шевелятся.
Коблик дал мне еще одно «22».
22 августа 1939 года, ровно за девять дней до начала вой-
ны в Европе, Гитлер произнес речь перед офицерами:
«...Наша сила заключается в быстроте и жестокости. Чин-
гисхан с преднамеренно легким сердцем обрек миллионы
женщин и детей на гибель. Однако история видит в нем толь-
ко основателя государства. Мне совершенно безразлично, что
обо мне будет говорить западная цивилизация. Я издал при-
каз, и я казню всякого, кто хоть одним словом будет его кри-
тиковать,— о том, что нашей военной целью не является до-
стижение определенных линий, а физическое уничтожение
противника... Я познакомился с этими проклятыми червями
Деладье и Чемберленом в Мюнхене. Они слишком трусливы
для того, чтобы нападать. Они ограничатся блокадой... Поль-
ша будет опустошена, а потом заселена немцами. Наступит
заря германского господства над миром...
На Японию нам придется полагаться в течение целого го-
да... Мы будем продолжать вызывать беспорядки на Дальнем
Востоке и в Аравии... Сейчас для этого имеются такие воз-
можности, каких никогда раньше не было... Будьте жестоки
и не испытывайте никакого содрогания».
375
22 июня.
Война идет два года.
Помню Крым, Коктебель,— я с моим сыном около моря...
Счастливые дни! Благословенное время! Мы играли в волей-
бол на площадке. Вдруг приходит кто-то от имени директора
писательского дома творчества и зовет: «Все взрослые — в
столовую. Дети остаются здесь».
Директор сообщил нам о нападении Германии.
Так для меня началась война.
Утром в Бору я увидел на столбе во фронтовой газете
свой маленький рассказ «Старуха». Позавчера в этой же га-
зете был напечатан мой рассказ «Первое испытание». Таким
образом, кое-что из плана я выполняю. Надо теперь заста-
вить себя написать и для центральной печати.
То, что отклоняет ревнивый Петушков, берет у меня и
печатает фронтовая газета.
После обеда прогулка к двум муравейникам вместе с Коб-
ликом. Его, увидевшего настоящий лес лишь на войне, пора-
зила муравьиная дорога и этот непонятный обмен «муравьи-
ными яйцами».
Прогулка с Кобликом похожа на прогулку с ребенком.
Он называет меня: «Вы мой учитель природы». Этот чело-
век, наизусть цитирующий большие прозаические отрывки,
мысли того или иного философа, в первый раз в своей жизни
видит незабудку и не может запомнить, какой цветок назы-
вается васильком. Когда я показал Коблику вырванный с
корнями кустик земляники с недозревшими зелеными ягода-
ми, он смотрел на меня с недоумением, точно я его разыгры-
ваю. В прошлом году он много раз обжигался о крапиву, то
прячась в кювет от немецкого бомбардировщика, то просто
срывая на ходу, чтобы помять листок в пальцах. Сегодня я
показал ему крапиву и спросил его, что это, но он не мог
ответить.
И этот человек, когда мы сели на бережок возле пересы-
хающей Щебенки, процитировал мне наизусть Энгельсово
определение диалектики (из его предисловия к книге «Люд-
виг Фейербах и конец классической немецкой философии»).
В нашей печати это определение встречается редко, может
376
быть оттого, что оно обрекает и наше «сегодня» на неизбеж-
ное изменение:
«Для диалектической философии нет ничего раз навсегда
данного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она
печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед
ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уни-
чтожения, и сама она является лишь отражением этого про-
цесса в мыслящем человеческом мозгу».
Всех нас в отделении агитации и пропаганды удивила
мысль, которую мы вычитали в сообщении Информбюро
«Два года Отечественной войны Советского Союза».
Чтобы понятней было наше удивление, выпишу сначала
абзац из брошюры Ярославского «Советы агитаторам», кото-
рая была директивой для политработников в последние пол-
года:
«Но будет или не будет образован этот второй фронт
на континенте Европы, советский народ найдет в себе силы
для того, чтобы разгромить врага, который стремится по-
работить, уничтожить культуру народов Советского Союза,
истребить его население, разорить цветущие города и
села».
А сообщение Информбюро заканчивается так:
«Соотношение сил в ходе войны изменилось в нашу поль-
зу и в пользу наших союзников. Но это недостаточно для по-
беды. Теперь все зависит от того, как наши союзники исполь-
зуют благоприятную обстановку для создания второго фронта
на континенте Европы, ибо без второго фронта невозмож-
на победа над гитлеровской Германией... Упустить создав-
шиеся благоприятные условия для открытия второго фронта
в Европе в 1943 году, опоздать в этом деле — значит нанести
серьезный ущерб нашему общему делу. Откладывание вто-
рого фронта в Европе против фашистской Германии привело
бы к затягиванию войны, а значит — к колоссальному увели-
чению жертв. И наоборот, организация второго фронта в Ев-
ропе в текущем году привела бы к скорому окончанию вой-
ны,— следовательно, к колоссальному сокращению жертв на
стороне антигитлеровской коалиции».
Порою и я думал, что без второго фронта одним нам не
уничтожить гитлеризм. Конечно, мы устоим, но Германии
до конца не разобьем.
Поражает меня только огласка этой мысли и то, что еще
377
надо кого-то публично убеждать, что второй фронт необхо-
дим. Казалось, что обо всем уже есть договоренность. Ду-
малось, что и даты уже установлены. По-видимому, это
не так.
Для наших союзников выгодно тянуть. Они все равно уве-
рены в победе. Они хотят, чтобы мы истощились.
Как примет наш боец, идущий в бой, заявление о том, что
мы не можем разбить Германию без второго фронта? Конеч-
но, такое заявление снижает его боеспособность.
И, несмотря на это, заявление сделано. Значит, есть что-
то очень серьезное, если не считаются с отрицательным эф-
фектом такого заявления. Я уже не говорю о торжестве
Геббельса, для пропаганды которого брошен жирный
кусок.
В ближайшее время должно произойти что-то очень
важное.
26 июня.
Два дождливых дня. Холодно. Дождем смыло детский пу-
шок с лета, душистую пыльцу. Теперь оно начинает грубеть
и становиться зрелым. Ласковая его мягкость больше уже
не возвратится.
Цветы, растущие в сырых местах, долго сохраняются в
неволе, когда их сорвешь и поставишь в воду.
Из разговора с Кобликом.
Самоценность человеческого существования. Самоцен-
ность каждого данного момента времени. Ведь время необра-
тимо. Природа равновелика и равнонеисчерпаема, бесконеч-
на и в микрокосмосе и в макрокосмосе. Человек—часть ми-
роздания.
Религиозная идея, которая въелась в плоть и в кровь че-
ловечества: считать себя вечно в пути. Отсюда широко
распространенная недооценка настоящего, часто
подсознательное пренебрежение к нему.
Самостоятельность человеческого существования — глав-
ная идея. Природа говорит устами человека — от собствен-
ного имени.
Высшая мораль советского общества: все для блага
человека!
378
«Если бы я мог о себе рассказать, как эти простые цветы
в Зусухэ!» (Пришвин. «Корень жизни».)
Бродил по лесу напролом. Густой подлесок: орешник, бе-
ресклет, черемуха, крушина, много сушняку, паутина, а на
небольших просветах — заросли малины, крапива и иван-
чай выше человеческого роста. Вышел к Жглову. Коблик бо-
ится, что я наткнусь на дезертиров или на диверсантов.
Я хожу с пистолетом на взводе, засунутым за пояс. Кроме вы-
водков тетеревов, никого не встречал. На одной просеке
лежала еще живая дикая утка, повредившая себе крылья о
телефонный провод. Много листовок. Заброшенные землян-
ки. На обратном пути захватил цинковую коробку из-под
патронов. Теперь она у нас в отделении на подоконнике — с
цветами.
В избе снял с себя после этой прогулки несколько клещей.
Говорят, в Сибири они разносят таежный энцефалит.
В «Красной звезде» начали печатать «Жизнь» Гроссма-
на. Очень интересная вещь. Пока я ломаю голову и думаю о
деликатесах, Гроссман выпекает добротный и жизненно не-
обходимый черный хлеб.
29 июня.
Та же тишина. Ночью, правда, гремело на участке 23-й
гв. с. д. Союзники тоже сбрасывают бомбы над Германией,
но все это не то.
А лето не стоит на одном месте...
Цитирую передовую в «Красной звезде» от 26 июня:
«Красная армия стоит с глазу на глаз с огромной и еще
сильной немецкой армией. Борьба, какие бы формы она ни
приняла, предстоит упорная, ожесточенная...»
«...На фронте существенных изменений не произошло»,—
сообщают изо дня в день наши военные сводки. Но измене-
ния могут наступить в любой час!»
Перечитываю Пришвина. Большой, глубокий мыслитель,
когда дело идет о понимании природы «через самого себя».
Но дальше этого метода не идет и поэтому в понимании боль-
шой вселенной и человеческих проблем часто бывает
ограниченным.
378
Сегодня Коблик говорил мне о том, что полнота, исчер-
пывающая мудрость диалектической философии (он вспом-
нил определение ее Энгельсом в «Людвиге Фейербахе») как
бы говорит о заключении поисков истины человечеством, о
приходе к последней черте и, следовательно, к своему закату.
Диалектика — это «горькая находка», «горький осадок на дне
чаши» (Коблик). То есть свидетельство о том, что напиток на
исходе.
Но ведь еще в древности было сказано: «Все течет, все
изменяется». Древние были весьма близки к той же самой
истине что и мы — столь поздние диалектики. Вероятно, древ-
ним тоже казалось, что им остался лишь «горький напиток»,
и у них были мысли о конце человеческого рода («золотой
век» — позади), а рядом с этим такие же фантазии о бесчис-
ленности комбинаций и бесконечности вариантов любых воз-
можностей во вселенной.
Язык:
«Имеем шанс убить двух медведей и одного поросенка».
«Выражаю тебе общественное «фэ»!»
«Вертит, как цыган солнцем».
«— Невозможно!
— Невозможно только влезть на небо или снять штаны
через голову».
«Живи, пока тебе голову мышь не отъела».
7 июля.
Все уехали в Бор на военные занятия. Я совершенно один
в комнате. Работаю над рассказом «Глубокий снег». В избе,
за бревенчатой пятой стеной, остался один только лектор,
майор Разин. Сегодня он освобожден от занятий. У него го-
ре— убит сын, лейтенант, командир танка. Слышу, как Ра-
зин рыдает у себя в комнате.
Буря нарастает.
Из передовицы в «Правде»:
«...5 июля крупные силы пехоты и танков противника,
поддержанные большим количеством авиации, перешли в
наступление на Орловско-Курском и Белгородском направ-
лениях. 6 июля бои продолжались. Наши войска ведут упор-
ные бои, перемалывая огромные массы живой силы и техни-
ки врага. За два дня на Орловско-Курском и Белгородском
380
направлениях войсками подбито и уничтожено 1019 немец-
ких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии
5 и 6 июля сбито 314 фашистских самолетов».
Дождь. Поработав, отправился под плащом в лес. Собрал
много черники. Мучили комары,— они прячутся от дождя
под листьями черники и взлетают, когда рвешь ягоды.
В природе нет фальши, в ней всегда царит непринужден-
ность, торжественная приподнятость. Это может быть яро-
стный порыв или тихая грусть, но в ней никогда не бывает
скуки, пустоты, профанации. Природа не знает будней. Каж-
дый момент в ней самоценен, каждый — главный, каждый —
событие. И в человеческой жизни не должно быть будней.
Когда я выхожу в природу, я ни к чему не готовлюсь, ни-
чего не жду, я живу, существую и воспринимаю вселенную
как слушание музыки.
Остаться наедине со своею совестью, и слушать ее, и пи-
сать под эту диктовку, и ничего не добавлять к этому посто-
роннего, никакой лжи, ничего, чего бы не было в тебе.
Надо все время думать о самом главном в нашей войне, о
неповторимом, о том, что надо раскрыть и показать.
Если в книге давать Коблика — показать, каким он был
беспомощно-городским и как все-таки военизировался, под-
тянулся.
9 июля.
Совинформбюро напечатало: «Наступление немцев в рай-
оне Курска и жулики из ставки Гитлера».
Германское наступление здесь названо «генеральным на-
ступлением». Указывается, что часть танков и авиации пере-
брошена из Западной Европы. («Ау! Союзники!»)
«...Таким образом в наступлении уже участвуют 15 тан-
ковых дивизий, одна мотодивизия и 14 пехотных дивизий».
381
«...Новое немецкое наступление не застигло наши войска
врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесто-
ченные бои, в ходе которых наши войска уничтожили до
30 000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 1539 танков
и сбили 649 самолетов противника. Наши войска прочно удер-
живают занимаемые рубежи. Только на некоторых участках
Белгородского направления противнику ценой огромных по-
терь удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. По-
лучив по зубам, жулики из ставки Гитлера теперь поджали
хвосты и завопили о том, что якобы наступают не они, нем-
цы, а советские войска и что тем самым в первые три дня
крупных сражений провалилась не их попытка захватить
Курск, а попытка наших войск прорвать оборону немцев...
Таков новый трюк немецко-фашистских шулеров...
Было бы неправильно с нашей стороны недооценивать
силы немецких войск, ведущих крупное наступление на
Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Силы нем-
цев здесь велики. Рано еще сегодня делать окончательное
заключение об исходе боя. Одно несомненно и ясно — реши-
тельное наступление немцев, начатое ими 5 июля, в первые
три дня не получило успеха. Результатом этого неуспеха яв-
ляются нервозность и замешательство гитлеровского коман-
дования, которые оно пытается прикрыть жульническими
трюками».
Наступление продолжается, что же будут делать в эти дни
союзнички? Опять мы одни?
Передовая в «Правде» за 8 июля:
«Танки — фундамент германской армии, главное ее ору-
жие и главный козырь. Окончательно выбить этот козырь из
рук палача — авантюриста Гитлера, беспощадно и все в боль-
ших масштабах уничтожать немецкие бронированные маши-
ны— такова задача, таков долг наших воинов перед Роди-
ной.
Основная тяжесть борьбы с танками ложится на плечи на-
шей артиллерии. Орудия разных калибров, вкрапленные в
боевые порядки пехоты,— вот тот цемент, который придает
обороне одновременно и нужные ей гибкость и жесткость. Де-
ло лишь за тем, чтобы артиллеристы строго придерживались
выкристаллизовавшихся в ходе войны принципов противо-
танковой обороны. Первый из них — разбивать противника
перед передним краем обороны; второй — сохранять нерущи-
за?
мость боевых порядков артиллерии, если даже отдельным
группам танков удастся проскочить в расположение нашей
пехоты.
Поскольку немцы все чаще применяют глубокое эшело-
нирование танковых масс, соблюдение первого принципа
противотанковой обороны является решающим фактором в
бою».
Из информации 7 июля: «На Белгородском направле-
нии»... «Действия немцев носят ярко выраженный характер
авиационно-танкового наступления. Тактика немецких тан-
ков осталась прежней, но авиация теперь почти не отрыва-
ется от них. Она воздействует прежде всего и главным обра-
зом на передний край обороны. Там, где наземный бой, не-
мецкая авиация стремится проложить дорогу танкам. По-
этому главной задачей нашей авиации стала теперь борьба с
самолетами противника на переднем крае».
11 июля.
Нет, мы не одни! Вооруженные силы союзников под ко-
мандованием генерала Эйзенхауэра ранним утром 10 июля
начали операцию по высадке войск в Сицилии.
«Лондон, 10 июля. Агентство Рейтер передает официаль-
ное сообщение из Каира о том, что американские тяжелые
бомбардировщики полностью уничтожили главный штаб обо-
роны вооруженных сил стран оси на Сицилии».
Мой небольшой рассказ «Сизый голубь» все еще лежит в
редакции. Перечитал только что законченный «Глубокий
снег» — очень недоволен,— что-то совсем не получается. По-
жалуй, отложу в сторону и начну работать над другим.
Спускался к Щебенке. Стирал в деревянном корыте пор-
тянки и носовые платки. Благодать — воды сколько угодно:
полоскал в речке.
Ночной разговор с Кобликом. Светильник погашен. Оба в
постелях. Затянутые марлей окна — как экран. Четко выри-
совываются на этом фоне, светлом от светлой ночи за окном,
листья хмеля, которым я увил проем окна.
383
Коблик:
— Я убежден, что после войны наша страна даст гениаль-
ную фигуру скептика, который затмит в области скептициз-
ма все, что было до сих пор, начиная от древних греков.
13 июля.
Дорога Большое Рябково — Ореховка. Пешком по выда-
ющейся грязи. Только что прошел мгновенный, но необыкно-
венно обильный дождь ливневой силы, точно туча судорож-
но отряхнулась, как какое-то животное. И сейчас же ударило
во все лучи неудержимое солнце. Толстенный ствол недавно
рухнувшей березы — на нем отдыхаю и балуюсь карандаши-"
ком в этой тетрадке.
Мне вдруг пришло в голову, от промытого воздуха, что я
нашел жанр и внешнюю форму для своей книги о войне. Это
будет серия рассказов и повестей (рассказанных мне людь-
ми войны). В промежутках между ними — мой дневник, раз-
мышления, странствия по военным дорогам, диалоги с Коб-
ликом.
Я в прекрасном настроении. Легко мешу грязь, чавкаю-
щую под ногами. Только что победил нашего командарма —
положил на обе лопатки. Он все не хотел рассказывать о себе,
скромничал, а потом сдался: «Ну хорошо, согласен — записы-
вайте, что вам надо».
Разговор шел два часа, а успел он рассказать только о
своем детстве.
Дела союзников в Сицилии развиваются весьма успешно.
На Орловско-Курском и Белгородском направлениях у
немцев ничего не выходит—их активность, кажется, осла-
бевает.
Фраза агитатора Поротикова, звучащая как девиз: «Това-
рищи, пока мы свободны, сушите портянки!»
Командарм родился в 1898 году в городе Гаврилове Яро-
славской области. Мать и отец — ткачи. Отец, всеми уважа-
емый человек, был мастером у хозяина. После революции от-
384
ца прогнали с фабрики, потом пришли просить вернуться —
без него не ладилось с машинами.
Свой дом. Отец хозяйственный, религиозный. В таком ду-
хе воспитывал и сына. Командарм в отрочестве помогал кти-
тору, ходил среди молящихся по церкви, собирал на украше-
ние храма. Мальчиком в стихаре 1 прислуживал при архие-
рейских службах. Пел на клиросе. До сих пор помнит литур-
гию, все службы и молитвы.
Братья отца, дядья — офицеры. В детстве любил, сидя
у них на коленях, играть регалиями. Мечтал быть воен-
ным.
Сон в детстве: Николай-угодник явился ему в растворе
сияющего неба и сказал: «Все продай и раздай деньги бед-
ным!» Мальчик спросил: «Как же я продам — у меня ничего
нет, все отцовское?» Угодник исчез в вышине. По сторонам—
два ангела.
Мальчик рассказал свой сон отцу, а тот — протоиерею. Про-
тоиерей на этом построил свою воскресную проповедь. Маль-
чика после этого начали дразнить ребята: «Геннадий-святой».
Он плакал.
Командарм рассказал мне и о другом сне, который он уви-
дел, уже командуя 53-й армией: смерть — скелет. Он борол-
ся с ней, кричал: «Нет, не возьмешь меня!» Схватил ее за
горло, за позвоночник, и она превратилась в дым.
Две его тетки были монахинями в Ярославском монасты-
ре. Участвуя в подавлении белогвардейского мятежа, он ата-
ковал Казанский монастырь, хотел, по его словам, отбить у
белых тетку, монахиню-регентшу. С колокольни кто-то стре-
лял из пулемета. Он поднялся по лестнице. Видит со спины
монахиню, она стреляет из пулемета. Он заколол ее штыком,
посмотрел, оказывается — это его тетка.
Я спросил:
— А если бы не со спины, если бы вы знали, что это ва-
ша тетка?
— Все равно убил бы! Когда я увидел монахиню, убива-
ющую людей, во мне появилась ярость.
21 июля.
Жарко. Наконец-то! Почти месяц ежедневных дождей.
Многие цветы уже отошли. Травы доцветают. Луга погрубе-
ли. Свищут иволги.
1 Одежда церковнослужителя, похожая на фартук.
13 В. Ковалевским
385
Жюль Ренар (из его дневника):
«Мериме, пожалуй, дольше, чем кто-либо, останется в ли-
тературе. В самом деле, он меньше других пользуется обра-
зом— этим главным виновником увядания стиля. Будущее
принадлежит писателям сухим и скрытным».
Из докладов информаторов:
«После доведения до красноармейцев боевой задачи член
партии Смоляр провел беседу: «В бою равняйся по передне-
му, веди огонь на ходу».
«Коммунисты, проведя беседы, оказали помощь команди-
рам в проверке оружия, наличия гранат, малых саперных
лопат. Выпустили очередной номер боевого листка».
«Некоторые явления заставляют думать, что, по мере то-
го как человечество ограничит пролитие крови, оно заменит
его истреблением другой жидкости — той, которая служит
для размножения». (Мечников, «Этюды оптимизма»).
В роман. В молодости, общаясь с природой, он жаждал
слияния с ней до полного саморастворения, до потери своей
личности, как бы тяготясь своею отдельностью от остально-
го мира. А в старости, когда он почувствовал угасание своих
сил, у него появилась жажда как можно дольше сохранить
свою индивидуальность, свое неповторимое «я».
22 июля. КП армии. Большое Рябково.
Когда я вспоминаю весну, погожие дни, первые цветы и
все мои переживания около этих цветов, все мои выходы под
открытое небо, слушание природы как музыки, мне все эти
минуты пристального вчувствования в природу (в жизнь)
сейчас кажутся оглядыванием назад, вместо того чтобы ста-
раться понять и увидеть будущее. Я куда-то ухожу без воз-
врата и все время оглядываюсь, чтобы навсегда запомнить
то, что мне больше уже не будет дано, и чувствовать то, что
исчезнет навеки. А не сказывается ли в этом какой-то изъ-
ян в моем характере, недостаток творческой активности? Мо-
жет быть, это ставит преграду между мной и людьми, ослаб-
ляет мое внимание к их бедам и нуждам?
386
24 июля.
«От Советского информбюро
Оперативная сводка от 23 июля.
В течение 23 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направ-
лении, преодолевая сопротивление противника, продолжали
наступление, продвинувшись вперед от 4 до 6 километров.
На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска, преодо-
левая сопротивление и контратаки противника, продвину-
лись вперед от 6 до 8 километров.
На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-
ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска продолжали
вести бои местного значения и улучшили свои позиции.
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ КРАСНОДАРА наши войска в резуль-
тате атак местного значения улучшили свои позиции.
В течение 22 июля на ОРЛОВСКОМ направлении наши
войска подбили и уничтожили 92 немецких танка. В воздуш-
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 112 самолетов
противника».
Таким образом, картина ясна: небывалая, титаническая
битва на Курской дуге выиграна Красной Армией, перемоло-
ты и сожжены сотни фашистских танков, истреблены их луч-
шие ударные дивизии.
Немцы выдохлись.
Красная Армия не только устояла в этом побоище, но и
сама перешла в грандиозное наступление, которое, надо на-
деяться, станет переломным в нашей судьбе.
Операция союзников по захвату Сицилии приближается к
концу. Может быть, только в гористой местности Катания —
Этна произойдет у них задержка.
Союзники, станьте на колени перед нашим народом, со-
здавшим Красную Армию. Ведь это она заставила немцев пе-
ребросить по воздуху несколько эскадрилий из Италии, Фран-
ции и Голландии, снять оттуда же многие дивизии и все ки-
нуть сюда, спасаясь от разгрома.
Только зто дало вам возможность наступать в Италии. Ну
так быстрее двигайтесь дальше!
А от нас забирают и забирают части. Ушла 188-я с. д. Мои
друзья из 27-го танкового полка поплыли вниз по Ловати в
34-ю армию, которая начала атаки против Старой Руссы.
13* 387
У нас осталось всего три дивизии и одна бригада. Что это зна-
чит? Уж не думают ли отвести штаб Ударной в тыл для фор-
мирования? Вот было бы замечательно! Подальше от болот!
Ближе к местам решающих битв!
26 июля.
Вчера узнали: Муссолини ушел в отставку. Скоро Италия
выпадет из войны. Сложность в том, что на ее территории
еще топчутся немцы.
29 июля.
Ходил в лес, обдумывал новый рассказ. Заблудился, прав-
да ненадолго. Раньше слабая артиллерийская воркотня в од-
ном и том же месте, как верстовой столб, служила ориенти-
ром. А сегодня — тишина. К тому же сплошная облачность
выключила из игры солнце — нет ориентиров.
Бродил и ел пять сортов ягод, одни из них ранние, другие
уже осыпаются: малина, костяника, брусника, поздняя зем-
ляника и баснословное количество черники. Благодаря тому,
что я каждый день ем ягоды, у меня улучшилось зрение. Это
не фантазия,— очевидно, мне не хватало витаминов. Повесе-
лели и наши агитаторы: я собрал для них полную крынку
ягод.
В командировку идти не могу, пока не раздобуду новых
сапог — свои истрепал до конца. Говорят, через несколько
дней АХО получит новую партию. Раз нет сапог — самое ра-
зумное заняться философией. К счастью, в ДКА удалось до-
стать II том «Истории философии». С большим увлечением
читаю о Спинозе. Вот что пишет он о свободе:
«Свободою называется такая вещь, которая существует
по одной только необходимости своей собственной природы и
определяется к действию только сама собою». «Я полагаю
свободу не в свободном решении, но в свободной необходи-
мости» *.
Отсюда видно, что свободе Спиноза противопоставляет не
необходимость, а принуждение.
Необходимость, с точки зрения Спинозы, отнюдь не ис-
ключает свободы, но, наоборот, предполагает ее. Если бы в
природе господствовал хаос, если бы человек как часть при-
' «История философии», том II. Огиз, 1941, стр. 182.
388
роды не был в своих действиях подчинен необходимости, то
человек не мог бы познавать и природу, и свои собственные
поступки, страсти. Не познавая их, он не сумел бы господст-
вовать над ними, «подчинить их руководству разума» и пото-
му был бы рабом своих страстей, рабом своих поступков. Но
человек, согласно Спинозе, может быть свободным именно
потому, что все в природе подчинено строжайшей закономер-
ности. Познавая вещи, познавая себя, свои поступки и страс-
ти, человек в состоянии господствовать над ними, он стано-
вится свободным.
Отсюда один шаг до мысли Гегеля, что свобода — это «по-
знанная необходимость».
Прошел сильный ливень. Во время дождя Саша Королев
пристроился у подоконника и что-то писал. Когда шум низ-
вергавшихся небесных потоков стих и на улице засверкали
под солнцем лужи и мокрая трава, Саша распахнул окно и,
слегка вскрикнув: «Ах ты, каналья!», вышел из избы. Вер-
нулся он, неся на ладони мокрую пчелку. Он усадил ее на
подоконник, где припекало солнце и продувал сквознячок, а
сам продолжал писать.
Пчела обсохла, старательно перебрала лапками, выпра-
вила крылышки и улетела. Саша больше о ней не вспоми-
нал и не заметил ее отлета.
Человек — продукт природы, часть ее, вернее — она сама
в ее высшей форме, достигшая самосознания. Человек — это
орган природы, при помощи которого она сама себя сознает.
Пять человеческих чувств (и соответствующие им органы)
возникли в человеке под влиянием определенных явлений
в природе; не будь этих явлений, не было бы и органов
чувств. Не было бы света — не мог бы возникнуть глаз, не
было бы что обонять, не мог бы возникнуть нос и соответ-
ствующий участок в мозгу. Глаз — это отражение, ответ на
физические воздействия на нервную систему явлений света.
Но человек еще молод. Вероятно, в окружающей человека
природе существует множество тончайших явлений, которые
недоступны органам чувств человека. Еще надо множество
тясячелетий воздействия этих явлений на человеческий ор-
ганизм, чтобы у него постепенно развились добавочные ор-
ганы чувств, помимо существующих пяти. Пять органов
389
возникли под влиянием лишь самых мощных и грубых явле-
ний природы. Таким образом, ощущения человека, представ-
ления и его чувства, его способность познавать, лимитиро-
ванные аппаратурой лишь пяти органов чувств, еще весьма
неполны, ограниченны. Так я думаю.
Возможно, что человек в состоянии будет сломать барьер
своей биологической обреченности, и человечество (а не один
субъект) станет бессмертным. Но человеком он останется
только до тех пор, пока будет сохранять способность памяти
об истории человечества. В ином случае он настолько видо-
изменит свою природу, что станет, может быть, существом и
более высшим, но уже не человеком.
Прошу доставить эту тетрадь в Полит-
отдел армии, чтобы она была передана
в Военную комиссию Союза писателей,
а потом моей семье.
В. Ковалевский
1943 г. Август. Ореховка.
15 августа.
Запустил свои записи,— впрочем, ничего особенного за
это время не было в наших краях.
Иное дело в районе Курска и на Орловском плацдарме.
Летнее наступление закончилось более чем успешно. Харь-
ков уже не за горами...
Немцы считали, что причина их поражения под Моск-
вой— «генерал Мороз». Лето всегда благоприятствовало их
оружию, лето — это время их побед. На этот раз сорвалось,
надо полагать, раз и навсегда. Красная Армия разбила их под
Курском и Орлом именно летом.
Пленный унтер-офицер сказал у нас в седьмом отделе-
нии, что Гитлер хотел на Курской дуге взять реванш за по-
ражение под Сталинградом.
391
Не получилось1!
Похоже на то, что в основе гитлеровской стратегии лежит
наглость и авантюризм. Недооценка наших сил. То же было
под Москвой, то же под Сталинградом, а теперь на Курской
дуге и под Орлом. Не блестяще обстоит дело у фашистов с
разведкой — не знали о наших резервах.
Замечательно, что Красная Армия смогла нанести смер-
тоносный удар без какого-либо антракта после оборонитель-
ного сражения, то 'есть как раз тогда, когда немцы считали,
что мы истощены.
17 августа.
Командарм рассказал мне, как его спасло знание молитв,
когда он попал в плен к Махно: Махно заставил его читать
молитвы, чтобы отличить большевиков-безбожников от всех
прочих. Рассказал он также, как молитвы спасали его, когда
он попал в лапы к белогвардейцам, втерся у них в доверие и
организовал побег пленных.
Я спросил командарма: испытывал ли он когда-нибудь
чувство страха?
— Всегда! У меня в аттестате написано: «Бесстрашный
командир». А я говорю: «Неверно! Я — трус!» Когда бывает
какой-нибудь прорыв, наступление, меня бросает то в жар,
то в холод, мурашки какие-то бегают. Но дело в том, что я
умею брать себя в руки.
18 августа.
Разговор на берегу Ловати с Полиной, санитаркой из мед-
санбата (383-я дивизия). Совершенно типичный случай. Ее
можно целиком брать в повесть или в роман.
Десятиклассница. Пошла на войну в восемнадцать лет. Об-
щественница, пионервожатая в школе, отличница. Отец—по-
вар. Мать — из семьи рабочих. В семье — пять детей.
Очень много читала — «хотела все знать». Любила гео-
графию. Жила в Алма-Ате. Горы, ледники. Увлекалась Ан-
ной Карениной, ее смелостью.
Когда началась война, бегала по учреждениям, просилась
на фронт. Плакала, когда не пускали. Наконец взяли. Мать
плакала: «Я с первого дня знала, что ты уйдешь на фронт».
Казарма. Ребята, малыши из школы, каждый день прихо-
дили к воротам, просили: «Вызовите нашу Полю!» (Говорит,
392
что после войны пойдет на педагогический, хочет возиться с
ребятами.)
: До казармы уже работала с ребятами на войну: собирала
лом по всему городу, косточки от урюка (идут на уголь для
противогазов), шиповник в горах.
Фронт. Пеший марш. Нечего есть. Раненые — их нечем
кормить. Растерялась. Слезы. Первая бомбежка. Хотелось
убежать, но сразу же мысль как молния: а как же раненые?
Осталась с ними. Взяла два ведра, отправилась в соседнюю
часть, выпросила, добилась — дали раненым суп, накормила.
Мы говорили с Полиной два с половиной часа. Устали. На
разговор об интимных отношениях на войне она не пошла.
Пришлось отложить. Надо обязательно расспросить ее —
судьба Полины на войне типична.
По-прежнему у меня стремление объять необъятное. На-
до писать рассказ: «Мать ищет сына», продолжать выписки
для истории, беседовать с командармом, со Спиридоновым,
с командующим артиллерией, генералом Макаровым. Не ус-
певаю. Устал. Много раз ходил на КП в связи с составлени
ем фотоальбома по истории армии (мой текст).
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит, бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, пташка, пой!»
(Державин)
Наши войска продолжают наступление на широком фрон-
те (Харьковское, Орловское, Брянское направления).
В Канаде опять встречи Черчилля с Рузвельтом. Я все-
таки хочу думать, что наше наступление согласовано с ними
и что нужно ждать с их стороны каких-то крупных действий
против Германии. В Италии они что-то слишком долго мед-
лят. В их заявлении о борьбе с подлодками есть фраза: «Поэ-
тому необходимо подготовиться к длительной борьбе на море
и на судостроительных верфях и использовать наши суда с
максимальной экономией для того, чтобы усилить и уско-
рить генеральное наступление объединенных наций».
Значит, генеральное наступление предстоит?
Коблик думает, что мы решили форсировать окончание
войны, что наше наступление — желание добиться выгодных
условий при выходе из войны дипломатическим путем (сепа-
393
ратным), если союзники будут слишком очевидно играть на
нашем истощении.
Посмотрим. Не верю. Это бред сивой кобылы. Никогда мы
не пойдем на мир с фашизмом.
«Чтоб быть тем и другим (гением и талантом), надо иметь
такое мировоззрение, которое захватывало бы в себе весь
круг современных идей и подчиняло их одной господствую-
щей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм
идей, то есть та ярко определенная, ясная вера в свое творче-
ское дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истин-
ной жизни» (Стендаль).
20 августа.
На днях Артемьев и Коблик выпили граммов по сто. По-
казывая осушенную кружку, Коблик сказал;
— Того, кто это изобрел, я ставлю выше всех, выше Спи-
нозы, Лейбница, выше всех греков!
Сознание отстает от жизни. Мы не видим сегодняшнего
мира и еще не понимаем происшедших в нем от войны пере-
мен. Но будет ли нам после войны дано анализировать про-
исходящее, констатировать ошибки, фиксировать перемены,
формулировать сущее? Или опять мы будем в опасности и
ради интересов государства придется довольствоваться не-
полными истинами?
Мои фронтовые тетради можно было бы озаглавить: «Не-
ряшливые мысли» или «Приблизительные мысли» — все
время приходится торопиться, писать начерно.
Коблик говорит, что он совершенно ясно видит молодых
людей, которые отбросят нас, будут смеяться над нашим до-
гматизмом. И главное, они, нас оттесняющие, будут выра-
жать нашу же правду.
Беда в том, что многие наши политработники воспи-
таны на зубрежке «Краткого курса ВКП(б)» (вот именно
краткого), но не читали Ленина и глубоко его не изу-
чали.
394
Со временем молодые люди будут изучать Ленина по-
настоящему. Преимущество их в том, что предварительно
они ничем не будут напичканы, не испорчены начетчиками
и догматиками.
Поколение 20-х годов, получив свободу благодаря револю-
ции, тотчас же было зажато железной необходимостью за-
конов молодой республики, которая должна была отбивать-
ся в окружении. Мечтавшие о полной свободе должны были
обуздать себя и стать аскетами ради незыблемой прочности
республики, ее монолитности.
Мы это делали честно. Мы внушали себе, что надо по-
терпеть ради революции. Часто мы ошибались и терпели
даже там, где наши протесты помогли бы партии избавить-
ся от скверны.
Неужели и после войны международные сложности огра-
ничат наше право на полную откровенность?
Разговаривали с Кобликом о переменах, которые произо-
шли в нем за войну. Он говорит: «Я весь внутренне поседел.
Как подумаешь только, какие люди погибли... Сколько их...»
Он говорил, что в то же время без войны он никогда бы не
достиг такой степени прозрения и познания.
Воображаемый диалог.
Один:
— Природа все время творит.
Другой:
— Что там она творит? Она только воспроизводит то, что
было съедено тобой вчера или растоптано мной год тому на-
зад. Времена года — сезоны — из века в век повторяют одно
и то же: весной трава вырастает, осенью — засыхает. Люди
рождаются и умирают, и снова рождаются люди, а не сверх-
человеки. Так называемое «творчество природы» — это по-
вторное издание одной и той же трагедии, или, если тебе так
больше нравится, «Гимна Радости».
Написать рассказ «Я убиваю». Может быть, в форме
дневника снайпера. Как пришел он к жажде убивать
врага.
Написать о девушке на войне, в форме ее днев-
ника.
395
Желая добиться от нее интимной близости, он спекулиро-
вал на инстинкте материнства, говорил ей, что ее дело родить
ребенка и этим послужить бессмертию Родины.
Когда-нибудь в истории будет записано, какую тяжкую
борьбу в данный момент ведем мы не только с немцами, но и
с нашими союзниками. И величие нашей победы засверкает
еще ярче.
24 августа.
Утром звонок из Большого Рябкова. Меня вызвал секре-
тарь Военного Совета капитан Бобровников: «Дмитрий Ефи-
мович просит вас сегодня к себе».
Я немного растерялся. Что сей сон значит? Зачем я пона-
добился члену Военного Совета Тележникову?
— Алло! Алло! Вы слышите, товарищ Ковалевский?
Дмитрий Ефимович назначил в двадцать три ноль-ноль.
Час тоже непонятный.
— А к чему мне быть готовым? — спросил я Бобровнико-
ва. Но тут же понял неуместность такого вопроса по теле-
фону и сказал: — Я у вас буду ровно в двадцать три ноль-
ноль.
На этот раз Тележников принял меня одетый не по-до-
машнему (туфли и свитер), а при всех орденах и в новеньком,
безукоризненно сшитом кителе. Я еще ни разу не видел его
при генеральских погонах. Регалии очень к нему шли, и да-
же седина его коротко стриженной головы посверкивала
праздничными искрами. Похоже на то, что ему предстояла
встреча более важная, чем со мной.
Он попросил меня сесть, поздоровался приветливо, но
по-военному — руку не подал.
— Ковалевский,— сказал он,— я должен извиниться пе-
ред вами. В моем распоряжении только минут двадцать. Боб-
ровников хотел предупредить вас, но вы уже вышли из Оре-
ховки. Извините. Я готов был беседовать с вами всю ночь, но
обстоятельства изменились. Сейчас я могу вам только со-
общить, что я назначил совещание на послезавтра. Меня
просил об этом Баршак. Начальник Политотдела Спиридонов
тоже будет присутствовать. Их интересует история нашей
Ударной. Как у вас обстоит дело с вашей работой? Какие
планы?
Тележников отодвинул на запястье обшлаг и взглянул на
396
часы. Я сделал то же самое, засек время: двадцать три часа
четыре минуты.
Я не сразу собрался с мыслями. Меня неприятно поразило
то, что ни Баршак, ни Спиридонов не предупредили меня о
совещании, словно они хотели застать меня врасплох.
Тележников еще раз взглянул на часы. Я взял себя в руки
и рассказал все, что думал о своем пребывании в Ударной.
В основном это были мысли, уже изложенные в письме Ин-
ституту истории, Минцу.
Тележников слушал меня очень внимательно. Нам никто
не мешал. Только один раз вошел адъютант и попросил Те-
лежникова взять трубку телефона. Тележников шумно ду-
нул в нее и сказал:
— Знаю, все знаю! Буду готов через полчаса.
Он ни разу меня не остановил, и я сказал буквально все,
что хотел. Если бы я готовился к этой встрече, можно было
бы сказать больше.
— Вы ужинали? — спросил меня Тележников, когда я
замолчал.
— Благодарю вас, да,— сказал я, сглотнул набежавшую
слюну и тут же пожалел, что сказал неправду. Я был очень
голоден. Так тебе и надо, храбрец. А еще упрекаешь Коблика
в трусости!
Уходя от Тележникова, я взглянул на запястье: вместо
двадцати минут Тележников слушал меня сорок шесть.
В Ореховке все уже спали. Я переступил порог нашей
редакционной столовой и постучал во вторую дверь, веду-
щую на кухню. Сонная повариха попросила, чтобы я сам за-
жег свечу и отыскал себе что-нибудь на ужин.
Вот так и получилось, что я услышал разговор, крайне
для меня важный.
Дело в том, что наша столовая помещается в богатой избе,
в полуподвале на кирпичном фундаменте. А над самой голо-
вой, за щелястым потолком, находится комната Баршака.
Он еще не спал и вел разговор с Лисаветским — и не о ком-
нибудь, а обо мне. Я слышал каждое слово.
— Если Ковалевский что-нибудь знает, то только потому,
что Коблик сто раз на день это ему вдалбливает. Подумать
только, историю такой армии, как Ударная, доверили такому
человеку. Ведь это же политический кретин, бездарность!
Удивил меня и Лисаветский.
Я давно уже начал замечать неприязненное отношение ко
мне Баршака. Его, человека властолюбивого, видимо, раз-
397
дражало, что я от него независим, что со мной общаются
члены Военного Совета и я имею доступ к любым доку-
ментам.
Баршак — бог с ним! Но Лисаветский — вот уж полная не-
ожиданность! Сейчас, пока я сидел внизу в столовой, он под-
ливал масло в огонь, раздуваемый его начальником.
— Собственно говоря, Ковалевский занимается своеоб-
разным шантажом,— говорил Лисаветский.— Члены Военно-
го Совета хотят, чтобы он их изобразил в розовом свете — по-
этому они так и относятся к нему. Он сумел создать себе вы-
годное положение и ни от кого не зависит. Теперь это дол-
жно измениться. Раз у вас, товарищ начальник, сосредоточи-
вается вся работа по агитации, вы и это возьмете в свои руки.
Мне стало нестерпимо стыдно за них обоих. Я хотел крик-
нуть: «Я вас слышу!», но обуздал себя. Если так — не стоят
они этого.
Я не спал почти всю ночь.
В чем же моя ошибка, чем я так восстановил против себя
Лисаветского? Может быть, тем, что после его исповеди я
переключил внимание на других, а ему этого было мало? Он
понял, что он—лишь один из многих, кто мне исповедуется,
а он хотел бы быть исключением. Я еще раньше замечал, что
Лисаветского уязвляет моя бросающаяся в глаза близость с
Кобликом. Но разве я мог догадаться, что дело дойдет до
прямой неприязни ко мне?
27 августа.
Утром Баршак уведомил меня о завтрашнем совещании у
Тележникова. Жаль, что не сегодня. Впереди — целый день,
нудный день. Никакого желания работать. На душе отврати-
тельный осадок от подслушанного ночного разговора.
Пойду-ка я в дивизию к Куцепину. До Краснодубья —
если идти к Ловати напрямик лесом — километров двена-
дцать. Ну что ж! Мускульная работа поможет мне перело-
мить тягостное настроение. Вернусь в Ореховку к вечеру
и как следует отдохну за ночь перед совещанием.
28 августа.
Получилось не так, как я рассчитывал. Старинная посло-
вица говорит: «Лес — лесом, а бес — бесом». На обратном
пути я заблудился.
398
В дивизии мне дали на сутки коня, и я один, без вестового,
отправился напрямик через лес обратно в Ореховку. В диви-
зию я добрался нормально — от слепого блуждания по лесу
спасало солнце — и думал, что и назад доеду благополучно.
Но было уже шесть часов вечера, и солнца мне не хватило.
Ровно в восемь я был в том месте, где надо было круто свора-
чивать на запад. Почему-то никак не мог найти примету, ко-
торую запомнил днем. Становилось все темней и темней.
Конь подо мной был славный — рыженький, гладкий,— но
пугливый. В сырых местах он жался к деревьям, и ветки
хлестали меня, царапали, сбивали с головы пилотку. Много
раз я спешивался и в темноте шарил по мокрой от росы тра-
ве, искал пилотку. На седле были с обеих сторон притороче-
ны переметные кожаные сумки с овсом,— из-за них при по-
садке приходилось далеко заносить ногу. В конце концов я
изрядно устал. Потемнело еще сильнее. Стало совершенно
ясно, что дорогу ночью мне не найти. Неужели я не попаду
на совещание?
Ночь я провел в лесу один с конем. Днем я подарил
встречному бойцу спички. Теперь я не мог даже развести
костер. Очень озяб. Я выбрал место в лощине, около какой-
то речушки, и лег прямо на траву.
Абсолютная тишина, только конь громко откусывает, об-
рывает траву и громко хрупает, жует. Иногда и конь стано-
вился совершенно неслышным, засыпал, и только лишь ед-
ва-едва поскрипывала от его дыхания кожа седла, на кото-
ром я ослабил подпруги. Порой траурно кричала ночная пти-
ца. Было много звезд и мышей. Мыши все время пищали
около самой головы. Иногда я открывал глаза и, замечая,
как передвинулись на какую-то йоту звезды, понимал, что
я немного вздремнул. По-настоящему я спал за всю ночь,
наверно, не больше получаса. Боже мой, как я закоченел!
В лощину натек из леса такой туман, что получилось так,
как будто я лежал на дне миски с молоком.
К четырем часам, как красный уголек, прожег туман ос-
таток луны, доживавшей последнюю свою четверть. Потом
понемногу начало светать. Я поднялся в седло и стал искать
дорогу. В восемь часов я уже подъезжал к Ореховке. А в по-
ловине девятого Баршак созвал агитаторов на репетицию:
кто о чем должен говорить у Тележникова. Эта утренняя им-
провизация была проведена так, как будто меня уже не су-
ществовало.
Я не только не смог прилечь — у меня не оставалось вре-
399
мени даже поесть. Пора было всем нам садиться на полутор-
ку. К Тележникову я приехал голодный и усталый до преде-
ла, но заставил взять себя в руки.
Баршак на летучке распределил роли, а здесь все спута-
лось
Основной тон на совещании задал Коблик. Не считаясь с
тем, что было задумано на репетиции, он изложил все, что
думал об истории сам. А это все равно, как если бы говорил я.
Артемьев для приличия сказал всего лишь несколько фраз:
нам нужна такая история, которая уже сегодня помогала бы
побеждать, а историю для потомства напишем после.
Лисаветский не произнес ни единого слова. Баршак по-
пытался осуществить свою программу. Он сказал: ненор-
мально, что историю такой прославленной армии, во главе
которой стоят такие выдающиеся военачальники, пишет
один человек. Это не советский стиль работы. История Удар-
ной армии не под силу одиночке, для этой работы надо на-
значить комиссию.
Тележников пристально посмотрел на меня. Я взял
слово.
— Моя точка зрения: я не могу не написать истории — те-
перь это дело моей жизни. Невозможно не написать о том, что
я здесь пережил, что видел и слышал и что в меру своего
разума понял. Весь вопрос сводится к доверию: позволят ли
мне завершить мою работу до конца или нет. Но все равно,
если я останусь жив, где бы я ни был, не написать историю я
уже не могу — это дело моей жизни.
Не надо путать работу над историей с политработой на ма-
териале истории. Недостатки в использовании истории — это
недостатки самой политработы, а не недостатки в создании
истории. Нельзя ставить вопрос так: создавая основную
историю армии, мы этим самым мешаем текущей политра-
боте на материале истории.
Начальник Политотдела Спиридонов, все время мрачно
молчавший, задал вопрос, как будто он не слыхал ни одного
моего слова:
— Для кого вы пишете историю: для армии или для по-
томства?
Я ответил:
— Я не делаю различия между тем и другим.
После этого Спиридонов сказал:
— Надо, чтобы Ковалевский продолжал писать историю,
но необходимо создать комиссию.
400
Решил все дело Тележников:
— Никакая комиссия не может написать историю,— из
этого ничего не выйдет! Надо, чтобы в сознание Ковалевско-
го вошло, что его моральный долг—написать историю
Ударной. Пускай это будет не скоро, пускай не в оконча-
тельном варианте, а лишь как приведенный в какой-то по-
рядок материал, но Ковалевский должен это сделать. И я
надеюсь, когда мне будет лет девяносто пять, я прочту
историю Ударной.
На совещании было решено, что к годовщине нашей
армии я напишу краткий очерк по истории Ударной. Это бу-
дет брошюра, отпечатанная в типографии.
1 сентября.
Город, где я родился, освобожден! Прочел в га-
зете:
«Войска Центрального фронта, прорвав сильно укреп-
ленную полосу обороны противника в районе Севска,
стремительным наступлением 30 августа овладели го-
родами Глухов и Рыльск и вступили в Северную Укра-
ину».
Взята Ельня, еще раньше—Таганрог. Дела идут замеча-
тельно. Что же союзники?
3 сентября.
Секретарь Военного Совета Бобровников рассказал мне
об одном из наших выдающихся маршалов.
Когда маршал приехал к нам весной, для него в Бору
приготовили очень хороший блиндаж. Поставили патефон,
обеспечили лучшим радиоприемником. В особой нише, за-
дернутой занавесочкой, на полке припасли несколько сортов
вина, ликеры и водку.
Войдя в блиндаж, маршал осмотрелся и, увидев патефон
и радио, спросил:
— Это что такое? Я воевать сюда приехал или танце-
вать? Уберите!
Потом отдернул занавесочку:
— А это что за батарея? Уберите!
Когда все лишнее было убрано, маршал сел к столу и
сказал:
— Ну вот, теперь можно воевать!
401
Все наше старшее начальство боялось маршала.
Однажды к нему в блиндаж вошел для доклада третий
член Военного Совета генерал Паршин. Маршал обернулся
на голос Паршина, рапортовавшего о своем приходе, и
крикнул:
— У тебя же пьяная рожа! Не смей приходить ко мне
пьяный!
Паршин не спал двое суток во время наступления и, го-
товясь к докладу маршалу, он переутомился, но был совер-
шенно трезв.
Вечером Паршин сказал начальнику штаба:
— Когда я вернулся к себе от маршала, сразу же по-
смотрел на себя в зеркало — в самом деле пьяная рожа.
В 33-й стрелковой бригаде подорвался на мине лосенок,
а до этого подорвалось несколько зайцев.
Обстановка в бригаде очень своеобразная. Участок в пол-
тора километра длиною по фронту обороняют 67 человек.
Через ее территорию в разное время прошли во вражеский
тыл сотни партизан. Ходят и немцы, и власовцы из РОА,
крадут наших людей. Люди разбросаны по отдельным огне-
вым точкам, между которыми кое-где проложены из жер-
дей тропинки — кладочки. Ступишь мимо—и сразу болото
по пояс, по горло.
Язык:
«Пришло новое пополнение, такие все молодые, что хо-
чется взять сержанта на руки и покачать».
Саша Королев рассказал, что один боец 391-й дивизии тра-
вами растравлял себе рану, чтобы не заживала.
Для меня обнажилось происхождение слова «отрава». От-
равиться— значит наесться вредной травы. Травить — зна-
чит уничтожать при помощи травы. Отрава — настой из
травы.
7 сентября.
На фронтах происходят великие события: в Донбассе, на
Конотопском и Брянском направлениях мы продвинулись на
двадцать —двадцать пять километров. И так каждый день.
402
А союзники высадились на южном кончике Италии (почти
без выстрелов). Идут осторожно, как слепые, и, имея огром-
ные армии, пускают в дело только небольшие силы. Они хо-
тят нашего истощения.
Красная Армия наступает летом. Никто этого не ожидал.
Не сняли ли мы часть сил с Дальнего Востока после заклю-
чения с Японией договора о ненападении?
Красная Армия наступает успешно. Это будет иметь гро-
мадные последствия в мировых масштабах. Сложность. Вос-
прянут те на Западе, кто считал, что нам не надо помогать,
что мы справимся сами. Появится боязнь, что мы первые
войдем в Европу,— стимул к тому, чтобы поторопиться со
вторым фронтом.
8 сентября.
Продвижение на фронтах продолжается. Вспоминаю на-
ши прошлогодние разговоры с Кобликом. Нас удивляло, что
не выдвинулись новые, молодые полководцы.
Нет, жизнеспособный организм неизбежно порождает но-
вые силы. Появились Рокоссовский, Жуков, Конев, Воро-
нов и многие, многие другие. Великие битвы (под Москвой,
Сталинградом и Орлом) выиграли молодые советские гене-
ралы.
Опять на обнаженных ветках густо щебечут окрепшие,
натренировавшиеся в полетах семьи ласточек. Только осенью
можно видеть такое сборище — не в воздухе, а на дереве.
Скоро отлет. Египет или куда? Берега Каспийского моря?
За год я сильно поседел.
Месяца два тому назад в нашей Ударной гастролировал
фронтовой джаз Смитта. Он завез песенку из еще не выпу-
щенной в прокат кинокартины «Два бойца».
Она очень привилась в армии. Было время, все пели «Си-
ний платочек», много пели «В землянке» А. Суркова. Одно
время на «Землянку» был наложен запрет. Потом изменили
одну только строфу и опять распевали.
Вот эта строфа:
Ты теперь далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
403
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
По поводу таких песен начальник отдела агитпропа фрон-
та Кульбакин у нас на совещании сморозил: «К черту
лирику!»
Но потребность человеческой души вытащить из самой
себя на свет божий и выстонать все неясное, темное, щемя-
щее так велика, что, запрети одно, она будет выпевать себя
в другом.
Мужчину на три года отделили от женщины, от гнезда, от
ребят и хотят, чтоб он молчал лицом к лицу со смертью.
Конечно, не надо культивировать грусть, но запретить
ее — это все равно что «запретить видеть сны» (сказано было
когда-то Луначарским против тех, кто боялся давать детям
сказки).
Так вот, «Темную ночь» из кинофильма «Два бойца» те-
перь поют все поголовно.
Темная ночь. Только пули свистят по степи.
Только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами...
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь залегла между нами.
Верю в тебя, дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою.
Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни
случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи,
Вот и теперь надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
У Лисаветского в семье трагедия, непередаваемый ужас.
Что можно сделать для этого человека, как ему помочь?
Поднимаюсь на крыльцо нашей избы и вдруг слышу за
дверью его голос:
— Четыре еврея в одном только отделении агитации и
пропаганды. А не много ли это, товарищи?
И тут загремел металлический голос Баршака:
— Встать! Не забывайте, Лисаветский, что вы разговари-
ваете со старшим. Извольте выполнять то, что вам приказы-
вают. Возьмите свой рапорт обратно. Вы—лектор, и нечего
изображать из себя библейского Маккавея.
404
Смягчившись, Ёаршак добавил:
— Не делайте глупостей. Возьмите себя в руки.
Я хотел было сделать «налево кругом» — полный разво-
рот, но как раз, когда Баршак закончил, подо мной в сенях
громко скрипнула половица. Мне больше ничего не остава-
лось, как открыть дверь и переступить порог.
Баршак, Лисаветский, Коблик и Кунин были явно сму-
щены моим появлением и даже не попытались это скрыть.
В наступившей тишине Баршак разорвал какую-то бумагу.
После Коблик сказал мне, что Лисаветскому пришло пись-
мо: фашисты умертвили в душегубке его отца и мать, а сест-
ру изнасиловали и повесили. Лисаветский попросил напра-
вить его в какую-нибудь стрелковую роту простым бойцом,
но Баршак разорвал его рапорт.
Весь остаток дня я не решался не то что заговорить с Ли-
саветским — я боялся взглянуть ему в глаза. Он сам подо-
шел ко мне, когда я вышел за ворота размяться на свежем
воздухе. Он подошел ко мне и таким тоном, как будто мы
уже условились об этой встрече, сказал:
— Я сдохну от стыда, если сам, собственноручно не убью
хоть одного фашиста. Я не могу больше трепать языком. Не
могу. Мне надоело: «Ганди поехал в Данди». Мне стыдно за
тех евреев, которые покорным стадом идут живыми в печь
крематория. Я сгораю от стыда за тех евреев, которые покор-
но суют свою голову под топор. Хватит! Я буду сам убивать
фашистов. Клянусь вам честью моего отца и моей матери!
Сказав это, Лисаветский смертельно побледнел, как бы
сам испугавшись того, что он только что наговорил. Впи-
ваясь в меня своими сумасшедшими в эту минуту глазами,
он продолжал, уже не в силах остановиться:
— Не верите? Когда-нибудь вам будет стыдно за то, что
вы не поверили мне хотя бы на одну только секунду. Вот
увидите — вам будет очень стыдно! Вы еще запишете мое
имя в свою историю.
Мне было глубоко жаль его, но его тон не располагал к
сочувствию.
— Странно,— сказал я, отступив с дороги (он подходил ко
мне все ближе и ближе).— Если хотите знать мое мнение —
вот оно: если бы вы работали как агитатор на передке, ска-
жем, в полку или в батальоне, и работали с азартом, с каким
набросились на меня, вы принесли бы гораздо больше поль-
зы, чем с винтовкой, которую вы даже не умеете как следует
держать в руках.
405
— Йо поймите меня,— перебил Лисаветский,— когда я
выступаю перед бойцами, я в глазах каждого из них читаю
насмешку и упрек: Гитлер истребляет твой народ, а ты зво-
нишь трепаным языком. Становись рядом с нами — плечом к
плечу!
— Ну, знаете ли,— сказал я,— такие вопросы не решают-
ся методом истерии. Саша Королев колол и умертвлял фаши-
стов в бою, но делал он это без всяких деклараций, в силу
жестокой необходимости—в момент боя, по соображениям
высшей целесообразности. При этом он возглавил, повел впе-
ред бойцов. Без него они могли бы дрогнуть и погибнуть. Но
истерика и мужество несовместимы.
— Что вы этим хотите сказать?
Лисаветский подступил ко мне еще ближе, казалось —
еще мгновение, и он возьмет меня «за грудки». Но вдруг он
устало тряхнул сверху вниз обеими руками и проговорил:
«Ах, идите вы все к чертовой матери!» — и пошел от меня
прочь. Пройдя шагов десять, он обернулся и крикнул:
— Вот увидите, вам будет еще стыдно, нестерпимо
стыдно!
Утром он впервые отправился в командировку не один,
а с Артемьевым. Они пошли в 130-ю московскую дивизию.
В тылу, вероятно, не очень понимают, как изменились лю-
ди войны, фронтовики. Произведен целый ряд изменений в
армии: отмена института комиссаров, единоначалие, погоны...
Забыты времена паники, страха перед автоматчиками и пе-
ред танками. Наша армия вооружилась прекрасной техни-
кой, окрылилась победами.
Чем больше мы воюем, тем крепче становится армия.
9 сентября.
Вчера вечером мы слышали по радио залпы — салют из
Москвы,— освобожден Донбасс. А сегодня утром узнали: Ита-
лия капитулировала.
«Заявление Эйзенхауэра о капитуляции Италии.
Лондон, 8 сентября. Агентство Рейтер в радиомолнии из
Нью-Йорка сообщает, что союзники предоставили Италии
перемирие.
Ниже приводится текст заявления, опубликованного глав-
406
нокомандующим вооруженными силами союзников генера-
лом Эйзенхауэром: «Итальянское правительство безоговороч-
но капитулировало со своими вооруженными силами. Как
главнокомандующий вооруженными силами союзников я
предоставил военное перемирие на условиях, одобренных
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и Сою-
зом Советских Социалистических Республик. Таким обра-
зом, я действую в интересах объединенных наций. Итальян-
ское правительство обязалось подчиняться безоговорочно
этим условиям. Перемирие подписано моим представителем
и представителем маршала Бадольо, и оно входит в силу
с настоящего момента. Военные действия между вооружен-
ными силами объединенных наций и Италией прекращают-
ся немедленно. Все итальянцы, которые действуют, чтобы
помочь изгнанию германского агрессора с итальянской тер-
ритории, получат помощь и поддержку объединенных
наций».
Какое утро! В тени — следы изморози. Дымится пригре-
тая солнцем трава. Безоблачное небо. Резкая тень от стогов
сена. Там, где трава не скошена, все стебли опутаны паути-
ной. Идеально симметричные круглые сеточки паутины как
хрустальные люстры: все сооружение унизано мельчайши-
ми капельками росы, расположенными на совершенно одина-
ковом расстоянии одна от другой. Тишина.
На обнажившихся верхних ветках лип сидят скворцы и,
как весной, пощелкивают клювами, лопочут, поют.
Осень пока что сухая. Щебенка обмелела. Обнажившие-
ся на дне валуны как мозговые извилины. У валунов какой-
то многозначительный вид, точно они в самом деле что-то
знают и пролежали в земле тысячи лет не даром. На воде
тень. В том месте, где поверхность речки освещена солнцем,
вода начинает дымиться.
Вчера на какой-нибудь час выскочил в лес и насобирал
грибов: опята, масляки, сыроежки — получился отличный
ужин для всего нашего отделения.
11 сентября.
Коблик вчера днем уехал с товарищами на военные за-
нятия в Бор. Неожиданно звонит в 11 часов ночи, взволнован-
ным голосом просит выручить. Дело в том, что он забыл в
W7
Ореховке, у себя под подушкой, подписанные командармом
программы по военной учебе. Их надо было еще с вечера
передать преподавателю, чтобы он подготовился по ним к
утренним занятиям.
Узнай об этом начальство, мог бы получиться колоссаль-
ный скандал.
Надо было во что бы то ни стало выручать Коблика из
беды.
В 12 часов я вышел из Ореховки. Под деревьями в Ники-
тинском лесу пришлось помесить грязь. Ярко светила луна.
На дороге — ни души. Единственная машина меня перегнала
уже только за Громковом. На моей «голосующей» руке не
было написано, что Коблика надо спасать, а водителя вполне
устраивал приказ никого не сажать на дороге после захода
солнца. Пешком я дошел до самого Бора (14 километров),
до ЭП-68, где ночует группа офицеров, приехавших на
занятия.
Хорошо, что у нас лежневка гладкая как мост. Где-то
далеко за Бором все время, пока я шел, работал для авиации
маяк: по небу, как стрелка по циферблату, все время ходил
луч прожектора — крут за кругом, точно он шлифовал карту
звездного неба.
Понимает ли Коблик как следует, чего стоило мне поспеть
в Бор, пока преподаватель не ляжет спать?!
В Никитинском лесу я услыхал чавканье грязи под ко-
пытами лошадей. Это возвращался в Ореховку Баршак
со связным. Ради Коблика надо было прятаться. Под нога-
ми у меня хрустнула сухая ветка. Баршак придержал
лошадь. Я боялся, как бы он с испугу не выстрелил в
меня.
Все сошло благополучно. Утром я был уже в Ореховке.
Никто не заметил моего отсутствия.
«...Становится все более очевидным, что эта война в зна-
чительной мере является великой производственной битвой»
(Рузвельт в послании Конгрессу).
20 сентября.
Только что из командировки вернулся Артемьев. Он при-
шел один.
Лисаветский погиб.
408
Вот как это произошло.
Артемьев собрал в батальоне агитаторов для инструкти-
рования. В это время немцы начали обстрел из 150-милли-
метровых. Настроение в блиндаже сразу снизилось. Артемьев
стал успокаивать агитаторов: «Блиндаж, где мы сидим, име-
ет семь накатов». И как раз в это время прямым попаданием
был разбит и засыпан землей соседний блиндаж, построен-
ный тоже в семь накатов.
Лисаветский в этот день сделал три доклада, и у него раз-
болелась голова. Он лег отдохнуть в этом блиндаже, преду-
предив Артемьева. Артемьев немедленно организовал рас-
копки. Четверо в блиндаже были убиты наповал. Лисавет-
ского вытащили из-под обломков наката еще живого. Его
перенесли на плащ-палатке в блиндаж к агитаторам. Он
очнулся и стал кричать не переставая: «Надя, Надя,
Надя!»
Никаких наружных, видимых признаков повреждений
на Лисаветском нельзя было обнаружить. Казалось, что он
просто оглушен взрывом. Но он кричал все громче, звал все
с большим надрывом: «Надя, Надя, Надя!»
Артемьев принялся его успокаивать:
— Лисаветский, товарищ дорогой, успокойся. Смотри, ведь
ты же остался в живых, потерпи, возьми себя в руки. Сейчас
придет врач, он тебя осмотрит, придет и твоя Надя, успо-
койся!
На Лисаветского это подействовало,—он успокоился и за-
молчал. Через несколько минут Артемьев подошел к нему
снова и увидел, что он мертв.
Рассказав нам об этом, Артемьев добавил со смущением:
— Получилось как-то неудобно.
22 сентября.
Ездил в 23-ю гвардейскую с. д. и в 282-ю с. д., знакомил-
ся с их работой по истории.
Проснулся ночью в землянке над Ловатью. В абсолютной
темноте вдруг вижу у себя на груди слабый свет. Светлячок!
Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь у кого-нибудь еще зажег-
ся на груди среди ночи такой зеленый огонек.
Эта ночь вообще была похожа на страницу из детской
сказки.
409
В темноте у меня забурчало в животе. Я повернулся на
бок. Опять тот же звук. Я повернулся на другой бок — опять!
Наконец я догадался, что это воркует земляная лягушка за
бревнами землянки. Я прислушался внимательнее. Моей ля-
гушке отвечала в другом углу землянки вторая лягушка.
Светлячок у меня на груди погас.
Осень великолепная. Она разложила пейзажи на состав-
ные части, как на выставке, показывает отдельно каждую
породу деревьев.
27 сентября.
Никто, конечно, здесь не знает, что сегодня день моего
рождения.
Весь день томлюсь, тоскую, думаю о своей семье.
На закате солнца ходил в поле. Оно здесь как узкая по-
ляна в лесу. Осень. Отчаянная тоска и тяжесть одиночества
были только во мне. В осеннем же увядании — все просто
и естественно, как химический процесс.
Осенний праздник леса. Перед тем как отойти к зимне-
му сну, деревья облачились в свои лучшие солнечные
одежды.
1 октября.
Слышна канонада. Говорят, что немцы просто уси-
ленно расходуют боеприпасы. Так было перед тем, как
они оставили Демянский плацдарм. Неужели собираются
уходить?
Вчера прогулка в лес вдвоем с Кобликом. Сидели на пова-
ленном дереве. Размятый в пальцах лист ладонника — ко-
пытника. Осенний запах опавших листьев — запах броже-
ния, кваса.
Обреченность, предопределение, фатализм противоречат
бесконечному числу возможностей в мироздании. Наоборот,
случайность, свобода — законные дети бесконечного, беспре-
дельного мироздания с неограниченным числом вариантов
существования. Искусство отражает бесконечные модуля-
ции, варианты вселенной. Искусство приближает нас к пони-
410
манию и, главное, к ощущению вселенной, ее сущности, к
ощущению мира как бесконечного процесса.
То же самое делает наука, но только другими средствами.
4 октября.
Диктую машинистке очерк для брошюры. Машинистка
свободна только от 4 до 6. Досадно, что продвигаешься апте-
карскими дозами. Скорее бы закончить, пойти с текстом бро-
шюры к Тележникову и начать перепечатывать II часть
истории.
Сегодня Коблик сказал мне, захлопнув томик стихов Лер-
монтова: «Мировая поэзия создана юношами».
8 октября.
Первый раз в жизни вижу позднюю осеннюю радугу. Лес
со всеми осенними красками: ярко-рыжий, ржавый и золотой
и над ним резкая, ядовитая радуга. Перед этим прошел «сле-
пой» дождь (дождь при солнце).
Интересно, что в момент образования радуги солнца уже
не было видно — оно скрылось за лесом, и вся эта цветовая
игра была зажжена его закатными лучами. Таким образом,
радуга была как бы «посмертная», от невидимого нам, уже
погребенного за горизонтом солнца.
Друг мой, бойся вдохновения. Обычно больше всего при-
ходится вычеркивать строк и выбрасывать даже целые стра-
ницы, когда под влиянием «вдохновения» приходишь в
слишком приподнятое состояние, тебя «заносит», и ты те-
ряешь чувство реального, утрачиваешь контроль над самим
собой.
Самый лучший стиль тот, который не замечаешь, так же
как не видишь стекла, когда смотришь через закрытое окно
на далекий горизонт. Такова проза Пушкина и Лермонтова,
Льва Толстого и Чехова.
ПРИТЧА О ПЧЕЛАХ
Сегодня у нас в избе — из ряда вон выходящие пережи-
вания. Началось с самого раннего утра. Было еще темно, и
я не узнал вошедщего к нам Евстафьева, информатора из
411
оргинструкторского отделения. Он пришел и сказал: «Убит
Саша Королев!»
Долго из нас никто не мог произнести ни слова.
Королев проводил семинар полковых агитаторов, когда
немцы внезапно бросились на прорыв нашей обороны. Коро-
лев имел право уйти, но, как это и подобает настояшему по-
литработнику, он принял на себя командование ротой, когда
ее командир, а потом и его заместитель были убиты у него
на глазах. Здесь Королев в течение двух суток держал
вместе с бойцами оборону. В этом бою и сложил свою голо-
ву наш Саша Королев.
Когда информатор Евстафьев ушел, Баршак попросил
меня:
— Приготовьте, пожалуйста, письмо матери Королева,—
у вас это получится лучше. А мы подпишем его.
Евстафьев принес нам горькую весть около семи утра.
А через час,— буквально ну вот только что — я еще не закон-
чил письма,— раздался телефонный звонок. Взявший трубку
Артемьев, отведя трубку в сторону и крепко прижав ее
ладонью, сказал шепотом, боясь поверить тому, что он
узнал:
— Послушайте, Королев жив!
И сразу же крикнул срывающимся голосом:
— Сашка, в чем дело? Откуда ты звонишь?
Королев ответил:
— Мне мама не велела умирать!
— Нет, серьезно?
— А если серьезно — братцы-агитаторы, подмогните до-
браться до дома,— тут меня маленько подранили, бестии.
Жалко бросать полевую сумку: несу для нашего летописца
материалы, а тащить тяжело.
Королев позвонил из деревни Бор. Послать за ним маши-
ну нет никакой возможности. Нам машина не положена по
штату, а в отделении кадров кончился бензин. Но Баршак
все-таки договорился с кадрами—их шофер отправился
встречать Королева пешком.
Королев уже у нас в избе. Ранен в плечо навылет.
В дивизии ему сделали рассечение раны и тампониро-
вали с риванолом,— даже без морфия и без местной ане-
стезии.
Мы узнали, что после ранения он остался лежать в цепи с
412
бойцами и, положив винтовку на кочку, продолжал отстрели-
ваться. Почти все, кто остался с ним, были перебиты, но ру-
бежа немцам не отдали, и Королев не отходил до тех пор,
пока не сдал оборону новому командиру, подошедшему с по-
полнением.
Сейчас Королев лежит у нас на койке смертельно бледный
и не перестает улыбаться.
Артемьев пошел искать машину — надо отвезти Короле-
ва в госпиталь. У койки остались мы с Кобликом. Коблик
сказал:
— Саша, зачем ты в такую даль тащился к нам пеш-
ком, зачем рискуешь,— надо было сразу же идти в гос-
питаль.
Королев ответил:
— Страшновато попасть в чужую армию. Братцы, неуже-
ли вы не понимаете, что мне с вами, с двумя дурачками,
жить хорошо: вентилируются мозги и есть над чем по-
смеяться. Вы как дети — каждый день решаете мировую
проблему: быть или не быть? Гамлет ведь тоже один из
несчастных ребенков, из тех, которых хочется взять на
руки и немного покачать.
Коблик обернулся ко мне и долго не отводил взгляда, как
бы спрашивая: обидеться или не стоит?
Королев читал его мысли. Он сказал:
— Обижаться на меня, промежду прочим, не стоит.
Потом он повернулся ко мне.
— Тебе, наш дорогой Нестор-летописец, я тут кое-что
принес. Есть материал о героях, который требует золотых
букв. Пошуруй у меня в полевой сумке.
Да, материал Саша Королев принес превосходный: «бое-
вые листки» с именами героев и корявые, но очень вырази-
тельные описания их подвигов. Для меня это хлеб насущный.
Но, признаться, не это больше всего тронуло меня. Нет, я
человек грешный,— в полевой сумке агитатора я наткнулся
на свои собственные крошечные рассказы, аккуратно
вырезанные из армейской газеты. Оказывается, Королев чи-
тал их бойцам.
Мы устроили Королева в ЭП-68, по его настойчивой прось-
бе договорились с Корбовским: в тыл Сашу отправлять ни
в коем случае не будут. Это —• твердо.
413
Обидно только, что очень долго пришлось ждать машину.
Королева уже начало знобить, а ушедший на поиски машины
Артемьев все не возвращался. Я боялся, как бы у Королева
не было осложнений. На его бинтах проступили какие-то
пятна лилового и канареечного цвета. Коблик смотрел на эти
зловещие пятна со страдальческим выражением на лице,
словно ему было больней, чем самому Королеву. Он сказал
ему:
— Саша, вот и в тебя, в строителя коммунизма, выстре-
лил немецкий рабочий, живущий в стране передового проле-
тариата, на родине Маркса и Энгельса.
— А это, братец ты мой,— сказал Королев,— проще паре-
ной репы. Гитлер развратил свой народ легкой добычей.
Даже невинную пчелу можно научить, и она тоже бу-
дет грабить. Скрутите-ка мне цигарку потолще да
подлинней, а я расскажу вам притчу о пчелах из
времен моего детства,— ну детство не детство, а был я
тогда молодой.
Я начал мастерить для Королева изделие из газеты и ма-
хорки, а Коблик попросил его:
— Нет, Саша, не о пчелах, ты лучше расскажи нам, как
это случилось. Ты пошел проводить семинар. Ведь тебя
считали уже погибшим.
— Убит бедняга Королев, полковой агитатор, мой одно-
фамилец. А мне мама еще не велела умирать. Есть и
для меня на земном шаре работа — еще повоюем с Гит-
лером.
— Нет, серьезно, Саша,— настаивал Коблик.— Ты коман-
довал ротой? Расскажи!
— Да брось ты! — перебил его Королев, его даже покоре-
жило от досады.— Разве ты не читаешь газет, мало тебе бое-
вых эпизодов? Если командир роты убит, заместитель убит,
а ты живой,— ты сделал бы то же самое, и каждый из нас
сделал бы то же самое. Давайте, братцы, лучше я потихонь-
ку расскажу вам о пчелах, а ты, Коблик, больше не переби-
вай, прошу тебя.
Я люблю, братцы, пчелу,— начал Королев и тотчас же,
свалив голову набок, принялся обдувать себя густой струей
махорочного дыма, окуривая раненое плечо, словно он хотел
подсушить мокнувшую повязку и унять боль.— Ужасно я
люблю пчелу. Что-то в этом насекомом было для меня в
детстве волшебное. Помню, когда бабка зажгла пред иконой
414
божьей матери свечу и сказала, что свеча сработана пче-
лой, это меня пронзило прямо-таки в самую пуповину.
В разговоре с нами Королев слегка прибеднялся, упрощал
свою речь, притворялся немного наивным,— этого он никогда
не позволял себе перед бойцами. Таким невинным способом
Саша выражал одновременно и дружелюбие к нам, и в то
же время протест против нашей с Кобликом склонности к
философским разговорам, которые он называл «натиранием
на мозгах мозолей».
— А вы брали когда-нибудь мед на язык,— продолжал
Саша,— когда он только-только из улья, только что выломан
из рамки, прозрачный как роса? Брали?
В меде,— сказал он, опять окуривая плечо,— великая си-
ла. Он взят от разных цветов, а значит, от самого солнца. Раз-
ве нам известен лекарственный секрет всех растений? От си-
лы мы знаем химический состав у пяти или семи процентов
всех растений. А пчеле, может быть, известны два-три цветка,
скажем, как присадок к липе и гречихе, но они-то и составля-
ют главную суть. Даже яд пчелы полезен человеку. Давно
доказано: пасечники никогда не страдают ревматизмом и со-
храняют здоровое сердце до глубокой старости. Не вся еще
тайна пчелы разгадана. Это мучило, между прочим, и Нико-
лая Морозова, знаменитого революционера, шлиссельбург-
ского узника. Он был убежден, что в момент метаморфозы
пчелиного зародыша выделяется вещество с неимоверной
жизненной силой. Если вытянуть из него экстракт, можно
получить что-то вроде эликсира для продления жизни. Все
это, может быть, и мираж, н© пчел я уважал с детства и го-
тов был драться за них смертным боем.
Птицу сорокопута уничтожал без всякой жалости. Это,
братцы, такая ладная птичка, как литая из свинца, а на мор-
дочке черная маска на оба глаза, как у пирата. Прямо в воз-
духе, с ветра, на лету ловит пчел и тут же, каналья, накалы-
вает их на острые сучья — сушит впрок.
Я видел, что Сашу мучает рана, ему больно говорить. Но
останавливать его было нельзя — так ему легче было ожи-
дать отправки в госпиталь.
— Мой отец тоже, как я, был педагогом. Он создал образ-
цовую пасеку при школе. Я ужасно полюбил это дело,— до
восемнадцати лет никуда от отца не отходил и был у него
первым помощником по пчеле. Даже улей со стеклянными
стенками—для наглядности — и тот у меня был. Все эти
пчелиные танцы, когда пчела передает товарищам ориенти-
415
рЫ, как по азимуту найти цветок, богатый взятком, или
хотя бы работа пчел крыльями у летка в знойный день —
заместо вентилятора,— все эти мелочи пчелиного быта я
изучал с упоением.
Да и вообще-то, братцы, взять это дело с педагогической
точки зрения: это великая школа самоотверженного труда,
готовность пожертвовать собой за свое роевое отечество —
это ведь богатейшее наглядное пособие для ребят.
Кажется, что может быть невиннее и трудолюбивее это-
го существа? Однако, оказывается, и пчел можно развратить
и сделать из них фашистов, как Гитлер развратил немецких
рабочих и крестьян, развратил весь свой народ.
Дайте только водицы испить. Принесите из сеней, прямо
из ведра — хочу студеной, чтобы зубы заломило.
Утолив жажду, Королев больше уже не курил до самого
отъезда. Он стал бодрее и даже сел на койке, спустив ноги
на пол. Притче о пчелах пока что не видно было конца. Он
продолжал:
— Однажды, братцы, в одном улье я заметил драку.
Сказал отцу. Он определил сразу: «Сашка, появилась чужая
пчела. Делай, как я тебя научу. Возьми в щепоть муки —
только самую малость — и припудри мукой, припороши всю
драчку. А завтра, чуть свет, до вылета, загляни к старику
в его ульи. Только боже тебя сохрани — ошибиться: снача-
ла проверь, точно ли они дерутся. А если это факт, разго-
вор с соседом у нас будет короткий».
Я так и сделал. А надо вам сказать, что рядом со школь-
ным садом держал пчел довольно-таки препротивный стари-
кашка-единоличник, из таких богобоязненных, которых не
успели еще сдать в краеведческий музей. Этот праведник
тренировал своих пчел на разбой.
Чтобы заставить пчел воровать, надо их раздразнить да-
ровым медом. Весною, как только выставят ульи, а взятка
еще большого нет в природе, старик ставил у себя на пасеке
пустую бочку из-под меда, вроде бы просушить ее на солнце.
Пчелы, чуя у себя под боком мед, бросались на легкую добы-
чу, выбирали остатки меда со дна бочки. Когда в бочке ниче-
го больше не оставалось, пчелы не искали цветов (ведь их сок
требовал еще труда, переработки); развращенные легкой до-
бычей, они теперь искали готовый мед, летели на соседние
пасеки и нападали на слабые семьи, как фашисты.
Пиратскую стратегию старик применил и на сей раз. А я,
как мне велел отец, так и сделал: вечером обсыпал мукой, а
416
утречком, еще по холодной росе, пробрался с луговой сторо-
ны к старику в сад и в первом же улье увидел пчел в белых
крапинках от муки.
Отец пошел к старику. Старик начал оправдываться:
«Что ж я могу сделать! Ну, недосмотрел, выставил боч-
ку,— теперь уже поздно, я ничего не могу сделать».
На это отец сказал ему:
«Ну, смотри, тогда не обижайся. Мое дело предупредить,
а там пеняй на самого себя».
Отец поставил у себя пустой улей с одной только миской,
а в миске — мед. Вместо входа в улей он приладил узенькую
трубку с такой дырочкой, чтоб пчела могла только-только
пролезть. А вход в улей со слабыми семьями отец и вовсе за-
ткнул репьями — хода грабителям нет, а дышать улей через
репьи вполне может.
Вот пчелы старика кинулись с восходом солнца в школь-
ный сад. Слабые семьи закрыты, а сильные не пускают к се-
бе. Тогда фашисты полезли по трубочке в пустой улей к
миске с медом. Они густо перли и перли по трубочке, а обрат-
но выбраться не могут: найти трубочку с обратной стороны
трудно — перед ней нет посадочной площадки — летка, она
висит в воздухе. А если даже и найдешь дырочку — она за-
нята: по ней ползут и ползут пчелы в улей, а задние на них
напирают. Получилась ловушка.
Отец приказал мне пойманных грабителей закопать в зем-
лю. На другой день, чуть взошло солнце, опять устроили ло-
вушку.
Через два дня старик пришел к отцу и сказал:
«Ты у меня покрал пчел».
На это отец ему ответил:
«Я же тебя предупреждал — будешь пенять на самого
себя».
Мы сидели с Кобликом и слушали как зачарованные. Ни-
чего подобного из жизни пчел мы себе даже и вообразить не
могли. Коблик сидел с приоткрытым, как у малого ребенка,
ртом. Королев кончил, а мы оба молчим. Потом Коблик
задал детский вопрос:
— Саша, а тебя часто кусали пчелы?
— Пчела не собака — она не кусается, а жалит,— ска-
зал Королев.
В это время мелко задрожали, позванивая в окнах, стек-
ла— полуторка подруливала к избе. Видно было, как Ар-
темьев соскочил с подножки. Саша Королев сказал:
14 В. Ковалевским
417
— Какая умная лошадка! Вовремя подъехала, а то я так
и не успел бы досказать вам, почему немецкий пролетариат
стреляет в строителей коммунизма.
Довольный своей притчей, Королев затрясся было от сме-
ха, но тут же его скрючило на сторону, и он стиснул зубы,
чтобы не застонать от боли.
Мы с Кобликом вышли проводить Сашу, помогли под-
няться в машину и усадили его рядом с водителем. Как толь-
ко полуторка тронулась с места, ее начало мотать из стороны
в сторону на колдобинах изжеванной колесами дороги. Вид-
но было, как Саша изменился в лице от боли. Он повернулся
на сиденье спиной к водителю и, выставив ногу вперед, упер-
ся ногой в дверцу кабины, чтобы не удариться об нее про-
стреленным плечом.
Набирая скорость, машина скрылась за последней в де-
ревне избой, с которой вчера при бомбежке смахнуло взрыв-
ной волной крышу.
— Вячеслав Александрович,— сказал Коблик,— а все-та-
ки Саша сумел заговорить зубы нам обоим: так ничего и не
сказал о своем участии в бою.
16 октября.
Прощай, Ореховка! Больше никогда уже на войне не бу-
дет у нас такого жилья, как в избах Ореховки.
Весь Политотдел стянут в Бор. Предстоят какие-то пере-
мены. Вчера ходил в госпиталь № 222, хотел исследовать же-
лудочный сок. Не смог — госпиталь уже на колесах — пере-
езжает в другое место. ЭП-68 тоже перебрасывают.
Хорошо, что я успел закончить брошюру.
17 октября.
Сидим в глухом лесу, занимая блиндажи снявшегося от-
сюда КП армии. Питаемся сухарями. А уедем, говорят, со-
всем недалеко — будто бы в район Залучья. Досадно. Хоте-
лось бы совсем переменить фронт. Засиделись.
Наш участок под Руссой, Ленинград и Карелия — самые
застарелые места на всем гигантском фронте Отечественной
войны.
У меня большая перемена: я опять включен в штаты ре-
дакции как писатель.
Дело в том, что мне уже два месяца не платили денег — я
был снят со штатов. Упразднили какую-то штатную едини-
418
цу, за счет которой я существовал, и решение вопроса обо
мне все откладывалось и откладывалось.
Три дня тому назад показывал Тележникову законченный
текст брошюры. После того как он одобрил ее, я напомнил
о себе. Решили с ним, что я возвращаюсь в редакцию. Теперь
это будет моя основная работа, а история — дело моей со-
вести, если останется время.
Убежден, что такое решение устраивает Тележникова, по-
тому что ему понравилась брошюра по истории Ударной. Он
увидел, что агитаторам теперь есть что взять в руки, и вари-
ант большой истории перестал его беспокоить — с ним мож-
но, мол, не торопиться.
Не знаю только, как сложатся у меня отношения с Петуш-
ковым, который всегда ревниво относился к моему независи-
мому положению в армии.
20 октября.
Наши победы союзники называют чудом. Надо знать хотя
бы некоторые цифры, чтобы понять, что происходит. У нас
тыл чудесный—там люди трудятся героически.
Кировский завод (б. Путиловский) был переброшен из
Ленинграда на восток за десять тысяч самолето-вылетов
(транспортная авиация). Так на базе одного из уральских за-
водов возник крупнейший в Европе танкостроительный ком-
бинат. И то, что осталось в Ленинграде, тоже работает как со-
лидный завод.
Еще пример.
С потерей Днепрогэса мы лишились 500 тысяч киловатт-
часов энергии. Днепрогэс строился несколько лет. А теперь
за три месяца в Сибири построен гидроэлектрокомбинат,
который по мощности превосходит Днепрогэс.
Размеры переброски на Восток грандиозны: один нарко-
мат вывез 40 заводов, другой — 70. Оборудование вывезено
на 80 тысячах вагонах.
Темпы капитального строительства превысили темпы
пятилеток. До войны котел на Челябинской ТЭЦ монтиро-
вался семь месяцев, а теперь пять котлов — за 68 дней!
До войны алюминий вырабатывали три завода — Волхов-
ский, Запорожский, Уральский. Во время войны два первых
перестали работать, зато один только Уральский дает боль-
ше, чем вся страна до войны.
Поэтому мы постепенно отказываемся от кое-какой по-
14*
419
мощи союзников, за которую приходится платить зо-
лотом.
В 1942 году мы ввезли американских танков на 176 804 000
долларов. А в 1943 году (за шесть месяцев) — только на
6 000 000 долларов.
Не покупаем у них больше ни одного кило металла.
21 октября.
Наши войска перешли Днепр. Юго-восточнее Кременчуга
оборона немцев прорвана в глубину на двадцать пять кило-
метров. Это уже на правом берегу!
Если раньше еще можно было думать, что немцы отходят
только до Днепра, то теперь ясно — произошло великое собы-
тие: наши войска форсировали Днепр с боями, они бьют нем-
цев и гонят их дальше.
Если бы союзники захотели, война закончилась бы в крат-
чайший срок. Но нет, они хотят, чтобы мы истощились и
были бы слабыми к тому моменту, когда надо будет решать
судьбу Европы.
24 октября.
Баршак взбешен тем, что я отнес брошюру Тележникову,
минуя его. Всегда белый, меловой, он побледнел до синевы,
когда узнал об этом.
Не знаю, что ждет меня у Петушкова, но для Баршака я
буду недоступен, как только перешагну порог редакции.
Скверно, что в той тесноте, в какую сейчас втиснулось от-
деление агитпропа, у меня даже нет места, где можно было
бы подумать, поработать и написать хотя бы письмо домой.
Ночи кромешные, непроглядно темные. Дойти в столовую
триста метров — как в Мекку съездить. Бредем в темноте по
штабным кладочкам в три досточки и то и дело срываемся в
топь то одной ногой, то другой. Я обзавелся «березовым фо-
нарем» — палкой: иду и скребу ею по борту кладочек — стало
куда как легче. Иду почти всегда с закрытыми глазами—все
равно под деревьями ничего не видно и глаза утомляются от
бесцельного напряжения превозмочь темноту. К тому же с
закрытыми глазами меньше боязни наткнуться на ветку.
В сыром лесу много гнилушек, излучающих холодный го-
лубоватый свет. Кое-где светятся даже бревнышки кладок,
на которые положены доски. У койки, на которой я теперь
сплю, ночью светится вся средняя ножка.
430
У товарищей тоже трудное время — я освобожден от за-
нятий, а они как раз сдают зачеты по тактике. Все время про-
веряют друг друга — слышен то один вопрос, то другой: «Что
такое огневая группа батальона?», «Сколько по фронту за-
нимает взвод во время наступления?», «Из чего состоят бое-
вые порядки роты?»
Природа неисчерпаема в своих возможностях, и человек,
как бы неповторимо своеобразен он ни был, не предел этих
возможностей. Но если он смертен, как данный комплекс
свойств, если его смерть это абсолютный конец его мира, тог-
да это — предел и конец большого мира, потому что в этот
момент и в этом пункте пересечения вселенских координат
дойр обнаружил свою ограниченность, конечность, свой пре-
дел. И бесконечные метаморфозы безличной материи ничего
не изменят в этом, если мир этого человека разбит, если
это абсолютный конец для него.
Далее можно было бы сказать, что смерть первого мысля-
щего человека была мировой катастрофой, более грозной и
величественной, чем столкновение планет.
Но все это — слова. «Первого мыслящего человека» никог-
да не существовало, ибо извилины мозга формировались в
космическом летоисчислении невообразимо долго, постепен-
но и никогда никто не мог сказать: «Вчера еще не было мы-
слящего человека, а сегодня он появился».
26 октября.
Характерную описку сделал сегодня, она показывает, чем
забита моя голова. Я собрался отправить семье письмо в Ка-
зань и вместо психиатрической больницы, где работает вра-
чом моя жена, написал: «психиатрическая дивизия».
5 ноября.
Итак, я в редакции. Пропаганда уехала на новое место,
ближе к КП армии. Редакция переберется туда же 8-го.
Ситуация очень трудная — ведь теперь я в подчинении
Петушкова. Захоти он — он может навредить мне немало.
Основная беда в том, что у меня нет никакой склонности
к газетной работе, мне это неинтересно. А тут еще опять при-
нялись донимать меня мучительные головные боли.
Но я буду, буду работать для газеты, а значит, и для по-
беды!
421
Вчера перед отъездом отделения агитации и пропаганды
у меня с товарищами состоялось что-то вроде прощания. Пе-
ред тем как выпить свою порцию, Коблик поднял кружку и
со ртом, сложенным в брезгливую, страдальческую гримасу,
перед тем как выпить водку, сказал:
— Ну, товарищи, а все-таки и на войне хорошо!
Приложил кружку к губам, опять отнял:
— Ну, будьте, будьте! — и, осушив, добавил: — Хорошо!
Коблик! Как много мы помогли на войне друг другу!
Странное сочетание в этом сложном, очень милом человеке
глубоких философских поисков с наивной беспомощностью
в простых житейских ситуациях. Порывистое (с увлажнен-
ными от умиления глазами) стремление «стать лучше». Ко-
гда думает о людях, очень добр к ним. Но может их совер-
шенно не замечать и тогда объективно эгоистичен. Мне ка-
жется, что в семье, в браке он был бы очень труден. Ему
нужна жена-нянька, отрешенная от всего, полная самопо-
жертвования, думающая только о нем и не замечающая, что
о ней никто не заботится.
Так и не рассказал он мне о своей неудачной семейной
жизни, о ребенке. Сегодня при отъезде он был в своей ко-
ронной роли: нес на машину завернутое в одеяло свое иму-
щество — книги, лекции, папки, тюфяк, белье — и потерял из
этого узла фуражку. Позже ее нашел Гунин.
б ноября.
Ходил в артмастерскую, брал материал для статьи о руч-
ном пулемете.
Сегодня для нас праздник — взят Киев.
Морозно. Сухо. Черные изысканно четкие силуэты де-
ревьев на зеленоватой эмали заката. Луна со щербинкой
(пятно — «море» — совпало с краем луны).
8 ноября.
Берег Робьи. Здесь когда-то была деревня Заря — сожже-
на немцами.
Редакция только что переехала сюда. Землянки вырыты
в крутых склонах оврага. Красная глина. Я знал эти места.
(Сильно все изменилось: деревья вырублены, кустарник об-
433
щипан, раздерган. Типографские рабочие помогают ставить
печки, сколачивают из досок топчаны. Хорошо, что выбра-
лись из болотного леса, из Бора. Здесь живописнее, впади-
ну вдоль Робьи продувает ветер и есть хоть немного про-
стора.
Радость — письмо от родных. Мария Михайловна полу-
чила пропуск в Москву. Просит писать уже туда. Письмо
бодрое, хорошее. Мне сразу стало легче, спокойнее.
В редакции тяжко. После моих умных товарищей из про-
паганды — начитанных, думающих — редакционные литсо-
трудники очень провинциальны и убоги. Плоское зубоскаль-
ство с натугой, мальчишеское задирание друг друга и бес-
полезная, липкая матерщина.
Все это можно было бы не замечать, если бы я мог уве-
ренно работать, но ведь я не журналист. Здесь нужна опе-
ративная работа, а мое стремление заглянуть глубже толь-
ко тормозит меня в этом деле, где все строится на горячих
темпах.
10 ноября. Головенъки.
Должен собрать для газеты материал о дружбе народов.
На машине тридцать километров, дальше — пешком десять
километров.
Сижу в дивизионной редакции, жду редактора — он дол-
жен знать людей своей дивизии.
На подоконнике лежит «История дипломатии». Взял в
руки: войны, войны, войны... Бросил — вызывает отвраще-
ние: непрерывные войны, предательства, опять войны, пре-
дательства, войны!
12 ноября. КП 391-й дивизии.
Встреча с делегатами трудящихся Челябинска.
Этлин — старая чекистка, немного похожа на писатель-
ницу Шагинян. У нее было благоговение перед фронтом
Увидела не то, иллюзия рухнула. Говорит о том, как ее удив-
ляет развязность некоторых девушек и после аскетической
жизни тыла коробит обилие еды и выпивки при встречах
делегатов с военными.
Она ждала газетно-журнального, голого, аскетического
423
подвига и не понимает, что значит жизнь на передовой, ко-
гда война длится три года
Спутник Этлин—угрюмый стахановец, пожилой рабо-
чий с прижатыми большими ушами. Узкое бледное лицо с
неизгладимыми следами оспы. Смятый пиджачок, а под
ним классическая для русского рабочего черная косоворотка
с трогательными беленькими пуговками. Молчалив. Руки
все время держит на коленях. Выступая в ротах и баталь-
онах, всюду, как молитву, говорит одно и то же: «Я рабо-
таю на заводе. Даю продукцию сверх нормы триста — триста
пятьдесят процентов (ударение на первом «о»). Уезжая к
вам, я дал четыреста процентов. Эту выработку удержу до
конца войны. Да здравствует наш великий вождь товарищ
Сталин!»
Вот и все. Казалось бы, что можно сделать с этими
фразами на фронте? Однако уже сама его трогательная
косоворотка и такое дорогое своей простотой лицо ма-
стерового производят неотразимое впечатление. Слова он
говорит как будто газетные, но в его голосе нет и тени
чего-либо похожего на официальную торжественность.
Это — подлинник. Поэтому его слова западают глубоко в
душу.
Замполит Куцепин организовал в избушке Политотдела
ужин для делегатов, пригласил на встречу с ними врачей из
медсанбата. Немножечко выпили, чуть-чуть. Куцепин про-
сил не петь, считал неудобным это делать на официальной
встрече в Политотделе. Но заткнуть рот было невозможно,
и вскоре не только пели, но и танцевали на двух квадрат-
ных метрах.
Потом врач-капитан — цыганка — пела резким, высоким
голосом «хватающие за душу» романсы.
Этлин сначала корчилась от того, что видела и слышала,
но, когда мы хором запели «Прощай, любимый город», успо-
коилась. Постепенно с ее лица, до сих пор сохраняющего на-
ставнические черты политработника эпохи военного комму-
низма, сошла тень недоумения и упрека. Хоровое пение
успокоило ее. Она вытащила меня покурить из душной из-
бушки и здесь, в темноте, начала отводить душу.
— Мне кажется, вы здесь забываете о нас и не понимае-
те героизма тыла,— сказала Этлин.— Ведь мы потеряли же-
лезные рудники Кривого Рога, донецкий уголь. Поймите —
донецкий уголь! Потеряли металлургию Украины, лучшие
наши электростанции. А война — ведь это уголь, металл.
424
электроэнергия... Начался топливный голод... Это значит, под
угрозой производство танков, снарядов... Но в тылу совер-
шаются чудеса. Растет производство не только на старых
заводах, создаются новые гиганты. Вы только подумайте, в
этом году в угольную промышленность переброшено рабо-
чих в четыре раза больше, чем в прошлом году, в черную
металлургию двинуто в два раза больше рабочих, чем в
прошлом году. Рабочие Урала, Кузбасса, Караганды творят
чудеса. Под землей в забоях работает 70 процентов комму-
нистов всего Кузбасса. Вы подумайте! Пришли тысячи лю-
дей, которые никогда в жизни не были под землей: женщи-
ны, безусые парни,— ведь эти армии тоже надо обучать —
как вы думаете? Строятся новые шахты, выросла новая
«подземная Караганда». Неузнаваемо меняется технология.
У нас уже перешли на штамповку башен танка Т-34. Это
делает ее менее уязвимой и упрощает производство.
Рассказывая все это, Этлин взяла своею жесткой, горя-
чей рукой меня за запястье и сильно сжимала его, чтобы
все, что она говорила, вошло в меня глубже. Я все время
ждал, что она задаст мне вопрос: «А что ты делаешь для
победы, что?»
В самом деле, все ли я делаю, что могу, бродя по воен-
ным дорогам? Не убегаю ли я от самого себя и не отлыни-
ваю ли от чего-то самого главного? Мне стало душно на све-
жем воздухе. Я освободил свою руку и сказал Этлин:
— Все, что вы говорите, это необыкновенно важно. Но
это надо знать не только мне,— расскажите про это бойцам,
расскажите командирам.
— Здравствуйте вам! А зачем же я сюда приехала? —
сказала Этлин, добродушно усмехнувшись.— Мы уже дого-
ворились с товарищем Куцепиным — завтра я иду в ба-
тальоны и в роты.
Ночью жестокий минометный налет. Не знаю, где была
в это время Этлин скорбящая о нравах на фронте.
Язык:
«— Товарищ полковник, я совершил роковую ошибку.
— Я не понимаю, что такое роковая. Вы говорите со мной
проще!»
Из 4-й стрелковой роты для беседы со мной вызвали ко-
мандира отделения — татарина Вахирова. Ему сорок лет, он
пришел бледный, с шумной одышкой. Рассказал то, что мне
425
как раз и надо — об отношениях в его многонациональном
отделении: узбеки, казах, лезгинец, чеченец. Он знает узбек-
ский, казахский и киргизский языки (в них много общего с
татарским). Когда в библиотеке не хватало татарской ху-
дожественной литературы, он брал книги на этих языках
и постепенно начал понимать почти все. Сейчас он помога-
ет своим бойцам писать письма на родину, усваивать тех-
нику.
Совестливый, правдивый человек. Другой на его месте
был бы рад, что его из передней траншеи, где впереди одни
только немцы, вывели из-под огня,— старался бы растянуть
беседу. А этот все время стремился обратно, беспокоился,
что оставил отделение и что в случае чего молодежь без не-
го может не устоять,— ведь от траншеи до немцев всего
каких-нибудь сто метров. Мне стало стыдно, что для меня
его оторвали от дела, и я его поскорее отпустил.
15 ноября. Заря.
Тоскливый блиндаж партотдела редакции. Негде при-
ткнуться даже с этой тетрадкой для записей. Стынут ноги.
Едкий дым из железной печурки. Незаправленные, гасну-
щие и чадящие гильзы. Мелкий дождичек падает на голую,
уже промерзшую землю. Майор Петров, цензор, кашляет,
задыхается во сне от эмфиземы легких, скрежещет зубами.
На соседней со мною койке неряшливо храпит редакцион-
ный художник Савчук, старый, опустившийся человек, ко-
торого ничто не интересует.
Вдобавок ко всему приносит свою машинку машинист-
ка, и литсотрудник Автоманов диктует ей очередной ма-
териал.
Мой друг, не падай духом: твой дебют, твой первый очерк
«Летописец седьмой роты»—похвалили на редакционной
летучке.
Изречение цензора, готовящегося отойти ко сну и сидя-
щего на кровати в нижнем белье с ножницами в руках: «На
ногах ногти растут значительно медленнее, чем на руках».
Язык:
«Этот человек знает, где надо наступить на ногу, а где
лизнуть зад»,
«Капитан атрофируется: не пьёт вИна, не знакомится с
девушками».
«Я бы заставил его забыть, что такое высшая матема-
тика».
«Это делается для пользы службы, без всякой потусто-
ронней мысли».
18 ноября.
На меня словно наложено проклятие. Уста мои запечата-
ны, как у великого грешника. Я многое видел, многое знаю,
достаточно пережил, может быть, даже слишком достаточ-
но, очень многое записал в тетрадки, но ничего не могу ска-
зать вслух, ничего не могу написать и обнародовать. Но это
уж материал для психиатра.
Очень сыро в блиндаже. Сделанная из жести скоба —
ручка входной двери — всегда мокрая. Копни пол на лопа-
ту— и вода. Все сырое в блиндаже: стены, потолок, одеяло,
гимнастерка, портянки, полотенце. Погода тоже хороша:
идет дождь. Дрова и те сырые — дымят. Приходил комен-
дантский патруль, потребовал прекратить топку днем или
пользоваться только сухими дровами.
В щелях наката шмыгают мыши, и оттуда на постели,
на книги, на рукописи сыплется сухая глина, забивается в
волосы, трещит на зубах.
В отделение пропаганды пришел с мышеловками боец.
По его словам, он из команды, которая занимается «дерати-
зацией» с целью борьбы с распространяемой мышами бо-
лезнью «туляремией». Саша Королев пытался осмыслить
происхождение слова «дератизация» и решил: вероятнее
всего, «дратизация», то есть драть мышей. Я попытался свя-
зать это с французским словом «rat» — крыса, но мои по-
знания успеха не имели.
Дератизатор поставил вдоль стен двенадцать мышело-
вок. Агитаторы назвали это «линия мышино».
- с^к£)цсш^а^
Прошу передать эту тетрадь в Полит-
отдел Ударной армии, с тем чтобы она
была передана моей семье по адресу:
Москва, Чистые пруды, 23, кв. 3.
В. Ковалевский
28 ноября 1943 г. Заря.
Северо-Западный фронт больше не существует. Органи-
зованы новые фронты. Наша Ударная входит теперь во
2-й Прибалтийский фронт. Командует этим фронтом гене-
рал армии Попов, Мехлис— член Военного Совета фронта.
Нам отдан громадный участок, до самого озера Ильмень.
Ясно, что при такой ситуации нельзя ожидать активных дей-
ствий. Попросту у нас переходный момент.
Начальник штаба Костич сказал мне, что он не ожида-
ет оживления. Убежден, что немцы отойдут на линию Нар-
ва— Псков. Они все вывозят: фермы мостов, шпалы, рель-
428
сы, уничтожают даже телеграфные столбы. Население уго-
няют, деревни жгут.
Задание разведке: не прозевать отхода немцев, чтобы не
было такого позора: мы сидим, перестреливаемся с четырь-
мя солдатами, а основные силы ушли.
1 декабря.
Кислая погода. Что-то вроде дождя. Снег тает. Мокро.
Ноги стынут. От тепла ветки краснотала над Робьей стали
фиолетовыми. Стерня, торчащая из-под снега, кажется во
время оттепели желтее. На репейниках — чечетки и щеглы
и еще какая-то бойкая крылатая мелюзга, шумно налетаю-
щая на корм и пасущаяся стайками.
Очень скучно. Литсотрудники ничего не рассказывают.
Процветают одни только тупые анекдоты. Так ли было, ко-
гда с переднего края возвращались братья-агитаторы!
5 декабря.
Четыре дня был в командировке в 23-й дивизии. Соби-
рался взять материал от знаменитого охотника за «языка-
ми» — Козырева. Его отпустили за боевые дела в отпуск, в
Свердловск. Заодно обязали побывать на заводах Урала и
рассказать о боевых делах.
Козырев мечтал появиться в Свердловске, где он не раз
сидел в тюрьме за кражи и хулиганство, хотел показать все
свои ордена и медали, нашивки за ранения и гвардейский
значок.
Но Козыреву не удалось добраться до Свердловска. В до-
роге у него открылись раны. На станции Пола его положили
в госпиталь и оперировали, вынули три осколка. Теперь его
отправили куда-то в тыл долечиваться.
Так и не смог я с ним поговорить.
Но без работы в дивизии сидеть мне не пришлось.
Я узнал, что несколько часов назад в районе Большой Ве-
щанки произошла неожиданная схватка с немцами.
Мне дали коня и связного, и вскоре я был уже на КП
батальона. Дальше с конем не пускают, дальше — пешком
по ужасающей грязи. Это в декабре-то!
Обидно — к зиме удалось обуть всех бойцов в валенки, и
429
вот такая отвратительная размазня на болотах. Костров раз-
водить нельзя, сушиться негде. Все ходят с мокрыми нога-
ми, да к тому же еще и лежат на мокром. Закопаться нель-
зя: копнешь — и вода. Кое-как прикрылись по кустам бор-
тиками из дерна, позамаскировались веточками.
Сегодня комдив приказал: «Всех в тылу, у кого есть са-
поги, разуть и дать сухую обувь на самый передок!» А в ты-
лу — это здесь же, второй эшелон той же самой дивизии.
А на передке расчудесные люди. Никаких следов страха,
наоборот, азарт охоты, раззуженный удачей. Хоть прошло
уже несколько часов после схватки, а все еще возбуждены,
переживают вновь и вновь. Очень рады, что появился че-
ловек из газеты и что ему все можно рассказать.
Я дошел со связным до того самого опорного пункта ро-
ты, на который сегодня напали немцы. Здесь мелкий моло-
дой лесочек, и я смог даже высунуться на нейтральную зо-
ну и дойти до самого ничейного полуразрушенного блинда-
жа, в который они чуть было не заскочили.
Да, вот именно в этом месте семь человек ручным пуле-
метом и противотанковой пушкой отбили силовую атаку
немцев численностью до роты, незаметно накопившихся на
рассвете в лесочке. Мне предлагают заглянуть в забросан-
ную еловым лапником яму от тяжелого снаряда — там тру-
пы: немецкий лейтенант и солдаты. Странное чувство на
передке, здесь, на краю света. Современное, совершенное
оружие и что-то глубоко кустарное во всей обстановке: по-
лянка, мелколесье, траншея, залитая водой, гнездо для бой-
ца с ручным пулеметом, прикрывающего противотанковую
пушку в избушечке, сложенной из плиток дерна (словно
здесь играют в войну подростки). Впереди на шестьсот мет-
ров — никого. В нейтральной зоне лежит наше боевое
охранение, и в кустарнике ползают и «его», и наши развед-
чики.
Вот мы стоим в семидесяти метрах от первых кустов ле-
сочка, разговариваем, а сами все время посматриваем туда,
откуда выскочили немцы. А не появятся ли они сейчас
вновь?
Я вполз в избушечку из дерна высотой меньше собачьей
будки. Лежа плечом к плечу рядом с пулеметчиком, гляжу
в амбразуру на ничейный лесок и расспрашиваю, как было
дело. И так я расспросил всех семерых действующих лиц
этого происшествия, опрашивая каждого на той точке, отку-
да он отбивал атаку немцев.
430
Потом с командиром роты около противотанковой пушки
мы уточняем обстоятельства схватки. Между номерами рас-
чета разгорается спор — один поправляет другого. Увлека-
ются, говорят все громче. Немцы начинают стрелять на звук
голосов. Над головами зудят свинцовые пчелки, ищут кро-
вавого меда. Командир расчета дергает головой, «кланяется»
пуле. Это так же, как в море, — есть храбрые, бывалые
матросы, которые никогда не могут привыкнуть к сильной
качке.
Где-то не очень далеко на стороне у немцев слышен жен-
ский игривый смех, потом кокетливый визг. Лают стороже-
вые собаки.
Обратно в батальон мы возвращались со связным уже в
темноте. Ну и хлебнул же я! Полно торфяной жижи не
только в голенищах сапог, но и ватные штаны промокли на-
сквозь выше колен.
Сушился я и спал у замполита батальона Самойленко.
Утром мне сам дался материал в руки для хорошей инфор-
мации о том, как у нас на самой передовой заботятся о бой-
це. Мне показали батальонный «дом отдыха»—землянку на
пять человек, которых по очереди отбирают на передке из
мокрых траншей и дают отоспаться, подкормиться несколь-
ко дней в этом «доме отдыха». В землянке очень уютно: чи-
сто, тепло, на окне солнечного цвета занавесочка из марли,
окрашенная в риваноле, гитара, шахматы, книги, письмен-
ные принадлежности.
За ночь подморозило. По колдобинам пешком до Старо-
Курска, а дальше на попутной грузовой.
По мере того как я приближался к редакции, я все боль-
ше думал, что с Козыревым-то, с охотником за «языками»,
я не смог увидеться и, таким образом, задание хоть и не по
моей вине, но не выполнено...
Не знаю, как сложились бы события в редакции. Мне
противно было идти к редактору и говорить, что вот я был
на опорных пунктах роты, хоть это и не входило в мое за-
дание. Получалось что-то вроде хвастовства: смотрите, мол,
какой я храбрый. А без признания в том, что я сам разго-
варивал со всеми семью участниками схватки с немцами,
моя информация не имела никакой цены.
Когда я сообщил редактору Петушкову о неудаче с Ко-
зыревым, он спросил меня, заметно поскучнев:
— Ну, а хоть что-нибудь вы принесли из команди-
ровки?
43J
Я показал уже написанную мною в лесу на пеньке ин-
формацию о батальонном «доме отдыха».
— Для этого совсем не надо было находиться три дня в
командировке,— сдержанно упрекнул меня Петушков.
После этого мне уж тем более казалось невозможным
упоминать о том, что я был на рубеже.
Но своим сожителям по блиндажу—художнику Савчу-
ку, цензору и заносчивому Автоманову, который больше,
чем кто бы то ни было из литсотрудников мечтает написать
роман, я рассказал, как меня поразил у немцев счастливый
смех какой-то девушки.
Автоманова это тоже поразило, но совсем с другой сто-
роны. Он-то хорошо знал, как сотрудники нашей газеты со-
бирают материал. Обычно они его берут в медсанбатах, раз-
говаривая после боя с легкоранеными, или выуживая мате-
риал из донесений полковых и дивизионных информаторов,
или беседуя с сотрудниками дивизионных газет. Их не то-
мит и не преследует жажда писателя — все видеть и слы-
шать самому и все понять до конца.
Короче—через полчаса Петушков созвал летучку, и вся
первая полоса завтрашнего номера была посвящена тому,
как семь смельчаков отбили атаку немецкой роты. А на вто-
рой полосе хватило места и для информации о батальонном
«доме отдыха».
Все это было сделано анонимно: моей подписи под мате-
риалами не было.
Одного невозможно было уже отнять от меня: я убедил-
ся в том, что если обстоятельства потребуют, то и я могу
быть журналистом.
Язык.
«Не поймите, что я не хочу идти в сторону вас».
«Хороша машина: целый бы день гладил и спать бы с
ней лег».
«Поднять чувство и на этом чувстве поехать».
«— Идешь фотографироваться?
— Да.
— Ничего не получится.
— Почему?
— В его аппарате узенькая пленка — твоя рожа не вле-
зет».
«Эренбург пронзительно пишет».
432
...Наконец состоялась встреча Сталина с Рузвельтом и
Черчиллем.
ТАСС сообщает: «С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране
состоялась конференция руководителей трех союзных дер-
жав — Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
тов. И. В. Сталина, Президента Соединенных Штатов Аме-
рики г-на Ф. Д. Рузвельта, Премьер-министра Великобри-
тании г-на У. Черчилля».
Из передовой «Правды» от 7 декабря:
«На конференции СПТА, Великобритании и Советского
Союза согласованы планы уничтожения германских воору-
женных сил, определены главные линии удара по врагу, сро-
ки и масштабы операций. Никогда еще не ставился так кон-
кретно и четко вопрос о согласованных военных действиях
союзников, которые должны привести к уничтожению гер-
манских вооруженных сил. Руководители трех союзных дер-
жав достигли полного взаимопонимания и разработали со-
ответствующие планы разгрома врага общими усилиями...
...Утвержденные на конференции планы разгрома и унич-
тожения германских вооруженных сил наметили, таким об-
разом, одновременные сокрушительные удары по гитлеров-
ской армии с разных концов и направлений.
...Дело теперь идет к окончательной развязке.
...Впереди еще жестокие битвы и кровопролитные схват-
ки с врагом. Но суровый, карающий приговор врагу выне-
сен. И этот приговор будет приведен в исполнение. Залог
тому — историческое решение конференции руководителей
трех союзных держав в Тегеране».
9 декабря.
Избы разорены, сожжены, и кошки охотно идут в зем-
лянки, но по-прежнему не привязываются к человеку. Они
перебегают из одной землянки в другую, лишь бы пахло
съестным, и трутся о любые голенища, лишь бы кто-нибудь
протянул руку к их шерсти, погладил и накормил. Исчезла
традиционная привязанность к одному и тому же дому. Это
им можно простить — ведь все это молодые кошки, поколе-
ние войны.
Был такой случай. На переднем крае черная кошка по-
сещала одновременно и наши блиндажи и не брезговала не-
мецкими. Снайпер Савченко привязал к ней тонким шнуроч-
ком вырезку из речи Сталина, где он сравнивает Гитлера с
433
Наполеоном («Как лев похож на котенка»). После этого снай-
пер надрал уши нейтральной кошке, и она стремглав бро-
силась в немецкий блиндаж.
Больше она уже никогда не появлялась на нашей сто-
роне.
Щели потолочного наката в нашем блиндаже проконо-
пачены плохо обмолоченной ржаной соломой. Мыши выдер-
гивают из колосьев зерна, и от их возни на наши головы
сыплется песок. А между бревнами стен рожь проросла от
сырости. Бледные, едва окрашенные зеленью росточки.
12 декабря.
Первый батальон 349-го полка 26-й Сталинской стрелко-
вой дивизии. Оборона в болотном лесу против деревни Пенно.
Закат. Ближние стволы деревьев — рыжевато-фиолето-
вые, а дальше — все более голубые и все светлей и светлей.
На фоне заката ни с чем не сравнимый частокол обесчещен-
ного леса: не деревья стоят, а голые столбы стволов, и
так — по нескольку километров. Что-то вроде гигантского
поломанного органа.
Что поражает? То, что это сделано сотней тысяч оскол-
ков? Нет, это не сразу доходит до сознания. Поражает не-
лепость формы искалеченных деревьев, которые должны
быть живыми. Мертвое сухое дерево не удивляет. Но ведь
здесь целый «лес» изуродованных стволов.
С чем сравнить? Не знаю.
Хотелось бы все это зарисовать. И, черт возьми, почему
этот пейзаж кажется зловеще красивым? Почему? Потому
что наиболее лаконично, с предельной выразительностью
говорит о сущности того, что здесь произошло? Ведь изуро-
дованный труп никогда не может быть красивым.
Колорит, тона, форма в сочетании с закатным часом и
внутренний смысл, неотделимость всего этого от «содержа-
ния»— мрачная, трагическая красота!
До рубежа — триста метров. Болото. В землю зарывать-
ся не позволяет вода. Здесь повсюду понастроены, понаты-
каны наземные блиндажи из циклопических бревен загуб-
ленных вековых сосен. Накат — в шесть — восемь слоев из
таких бревен, а стены чаще всего двойные, с засыпкой про-
межутков землей. Кроме того, бревна привалены к блинда-
434
Жам снаружи и просто так, без всякой системы: один конец
лежит на земле, другой прислонился к крыше—лишь бы
сделать убежище непроницаемым для осколков и пуль.
Гигантский блиндаж командира полка высотой до четы-
рех метров вызывает мысли о древнем славянском языче-
ском капище.
Я уже без малого на войне два года. Видел землянки,
блиндажи и укрытия всевозможной «архитектуры», видал
немало леса, перемолотого бомбежкой и артналетами, но
здесь для меня совершенно новая, пронзительно зловещая,
экзотическая картина.
Сидим с Артемьевым в блиндаже замполита Карего. Бе-
зумно светлая, лунная ночь. Хотел выйти, но часовой ска-
зал, что пули пробивают «уборную».
Ночую у военфельдшера. В других блиндажах некуда
сунуть носа. В ногах железная печка. Тяжко от жары. На
таком расстоянии от немцев не принято раздеваться, но не-
чем дышать, и я снимаю сапоги и гимнастерку.
От замполита, где приютили майора Артемьева, до моей
ночевки метров сто пятьдесят. Свищут пули, среди них —
трассирующие. Провожавший меня на таком коротком рас-
стоянии связной несколько раз им кланялся. Я уже не раз
замечал, что даже хорошо обстрелянные, мужественные лю-
ди часто кланяются. Я этого не делаю; вероятно, просто от
усталости, от заторможенности механизма рефлексов.
Военфельдшера вызывали к комбату. Вернувшись, он
приказал санитарам вместе с собачьей упряжкой и волоку-
шами отправляться для санитарного обеспечения разведчи-
ков. Потом артмузыка, поддерживающая разведчиков, шум
от гранат и автоматов, близкие разрывы немецких тяжелых
снарядов и злое завывание осколков.
В блиндаж военфельдшера за перегородку начали вно-
сить раненых, один из них — тяжело: оторвало ногу, другую
ногу в двух местах перебило. Санитар, держа в руках кло-
чок бумажки и карандаш, спросил у него фамилию. Ране-
ный назвал свою фамилию и тотчас же разрыдался, потом
начал задыхаться и хрипеть. Произнесенная им вслух соб-
ственная фамилия помогла осознать самого себя, вырвала
ненадолго из мрака, уже надвигавшегося на него со всех сто-
рон, напомнила о родных, сделала гибель ощутимее. Минут
через десять он умер.
435
Его вынесли из блиндажа — освободили койку для дру-
гого раненого,— положили около кустика. Старший санитар
сказал своему товарищу:
— Собак привяжи подальш » а то как бы не того...
14 декабря.
Первый батальон. Болото.
Тает. Хожу с мокрыми ногами. Погода удручает всех.
Ходил в первую роту, поближе к немцам.
Деревянный пейзаж: под ногами — настил, впереди — не-
мецкий бревенчатый забор и над всем этим — торчащие об-
ломки, обрубки, культяпки древесных стволов. Как будто
кому-то было дано задание соорудить на огромном простран-
стве декорацию настоящего леса. И вот пока что поставили
одни только столбы и кое-где приколотили к ним голые ске-
леты веток. Макет будущего леса. Нет, не то, «будущее» —
ведь это живое, а это мертвый макет уже мертвого леса.
Заборы, завалы, блиндажи из циклопических бревен.
Я уже писал, что кое-где бревна просто прислонены к сте-
нам блиндажей, как дополнительная защита от осколков.
Мрачный пейзаж — произведение несчастного человечества,
позор германского народа!
Беседа с комбатом. Беседа с тремя разведчиками. Бесе-
да с погонщиком собачьей упряжки. Пальма — вожак, пе-
редовая, Гитлер — лохматая, черно-бурая.
Я спросил:
— А не обижается за такую кличку?
— Значит, заслужила!
Собаки прекрасно справляются с работой: тянут лодочку-
волокушу там, где никакая лошадь не пройдет по болоту.
Я сказал:
— Значит, недаром говорится, что собака — друг чело-
века?
Санитар:
— А человека заворачиваешь в конверт и кладешь в ло-
дочку.
Паек собаки’ 40(» граммов мяса, 400 граммов круп и 300
граммов хлеба. Взяты в московском питомнике. Северные
породы почти все уж перебиты и вышли из строя — заме-
нены простыми дворняжками, они прекрасно работают.
436
Фокус — помесь дворняжки с гончей, Пальма — сухая, твер-
дая, черноглазая — тоже помесь, отдаленное сходство с буль-
догом. Гитлер — черно-бурый, овчаристый, лохматый, гла-
за едва видны. Глаза у всех «сознательные»; от вольношата-
ющихся собак их отличает какая-то озабоченность: глаза
все время ждут команды. К обстрелу давно привыкли —
специально натренированы, обстреляны еще на пути к фрон-
ту. Некоторые начинают лаять, если артналет уж очень
сильный.
Вечером — КП полка. Беседа со снайпером Хандоги-
ным — он убил 178 немцев. Известен у нас в армии еще и
тем, что переписывается с Эренбургом. В действительности
он малограмотный, за него писал комиссар. Он дал мне про-
честь три письма Эренбурга. Одно из них я переписал для
газеты.
Хандогин показал мне прибор для бесшумной стрельбы.
Остроумнейшая вещь: надставка к стволу с двумя резино-
выми пробками. Когда пуля, пройдя через первую пробку,
пробивает вторую, отверстие в первой уже успевает затя-
нуться и не дает газу вырываться мгновенно, он выходит
постепенно, с тихим шипением. Чтобы ствол не разорвало,
его затыкает специальная втулка, когда газ проскочит в
дульную надставку. Патроны особые, с каким-то белым по-
рохом.
Хандогин интересен. Тайга — с детства охота. Малогра-
мотен, но умен, спокоен, зорок.
Хандогин рассказал, как ему «пришлось застрелить по-
литрука», поднявшего панику во время атаки.
После боя командир приказал роте построиться. Спросил:
— Хандогин здесь?
— Здесь.
— Шаг вперед!
Хандогин затрясся, он думал, что его сейчас расстреляют.
Когда он вышел перед ротой, командир сказал:
— Объявляю благодарность Хандогину за то, что он рас-
правился с трусом — предателем Родины.
Очень хотел побеседовать со мною снайпер Савченко —
командир всей полковой группы снайперов. Но у меня уже
не было сил. Человеческий материал наслаивается в моем
437
Kiosry один на другой, как наплывы в киноленте заслбняЮТ
друг друга. Невозможно все воспринять одинаково остро.
Тупеешь, устаешь.
15 декабря.
Какое счастье — подморозило. Под ногами тонкий, кол-
кий звон и хруст — мороз выпил лужицы, поставил ледяные
крышки, под которыми пусто.
Иду в шестую роту, на самый передок.
Опять деревянный пейзаж, созданный из-за того, что зем-
ля принимает только трупы, а живых людей не пускает: во-
да не позволяет окапываться.
Дымит чей-то блиндаж метрах в ста пятидесяти от ме-
ня. Думал, что это еще территория батальона,— нет, связной
мне объясняет, что это дымит уже немец.
Особое чувство: «он» — здесь, рядом...
Из шестой роты Старая Русса видна совершенно отчет-
ливо. Видна, а не возьмешь: восемнадцать рядов проволоки
и сплошные минные поля!
Вышел под звездное небо. После изуродованного леса пе-
реднего края темные силуэты нетронутых елей кажутся
благородными, драгоценными деталями ночи.
Почему такое множество крыс в батальонах и ротах? Го-
ворят, что их привлекают сюда трупы. Поэтому их укусы
смертельно опасны. Часовые боятся их и по ночам стреля-
ют. Около каждого блиндажа с утра валяются битые крысы.
Артемьев мне жаловался, что ночью приходится сбрасывать
с себя крыс.
Крысы растаскивают капсюли от гранат, если их не
спрятать — они жрут промасленную бумагу, в которую, что-
бы не ржавели, завернуты капсюли.
Я был свидетелем схватки между крысой и лаской. В ку-
стах— визг, писк, возня: маленькая, извивающаяся, как
стальная пружинка, ласка вскочила на огромную крысу, изо-
гнулась, как змейка, и впилась ей в горло. Когда она заду-
шила эту крысу, из норы выскочила вторая. Ласка таким
же приемом расправилась со второй.
438
16 декабря.
С утра комсомольское собрание разведчиков. Комроты
Лебедев говорил умно, дельно, с безукоризненным знанием
обстановки, в которой будет сегодня действовать группа.
Комроты попросил выступить и меня, выдав меня с го-
ловой: объявил, что я писатель.
Я говорил о традициях Ударной, о боях под Москвой, о
Лизе Валяевой и подвиге Маши Ковшовой и Наташи Поли-
вановой: «Если уж девушки смогли это сделать, то тем бо-
лее...» Рассмешил я разведчиков, рассказав им о приезде в
нашу Ударную английского министра Идена, о том, как по-
разил его один боец тем, что переобувался на морозе и от
его голой ноги шел пар.
После выступления у разведчиков я могу теперь сказать:
«И мы пахали!»
Что получится из этой «пахоты» — ждать уже недолго:
группы будут действовать сегодня ночью.
Обязательно пойду с группой разведчиков как можно
дальше, до тех пор, пока позволяет здравый смысл. Безрас-
судства и здесь не требуется. Конечно, для спецкора армей-
ской газеты все это совершенно не обязательно,— материал
можно было бы получить и завтра, находясь в безопасном
месте.
Командир роты тоже будет вместе с группой до послед-
ней возможности, до того места, откуда она поползет. И вот
мы уже все вместе идем. Это юноши, недавние школьники.
Я пристально за ними наблюдаю и как бы стараюсь пе-
ревоплотиться, влезть в их шинели и глубже... Настроение
у разведчиков великолепное, очень боевое. Шли быстро, и
этот темп сам по себе подбадривал, настраивал на немедлен-
ное действие.
С ними я дошел до НП роты. Вот здесь я и сижу сейчас
с карандашом в руке, ожидая результата. Сейчас они от ме-
ня в трехстах метрах. Туда с НП протянута связь. Там вме-
сте с ними лежит и командир роты Лебедев.
Только что по телефону Лебедев сообщил, что начали
действовать. Это значит, что саперы поползли к проволоке,
будут резать ее, делать проход.
Восемнадцать часов... Я думал, что начнут позже. Но уже
совершенно темно. Погода как раз такая, как надо: начинает
438
идти снег. В эти минуты решается успех всего дела: заме-
тят немцы или нет, что саперы работают кусачками, возятся
«с проволокой? На всю процедуру, считая возвращение, по-
надобится не более часа.
Жду в блиндаже командира первой роты. Начинает то-
мить жажда. Выпил стакан вкусной, холодной воды.
Надо как-то обмануть время, лучший способ — углубить-
ся в тетрадку.
Сегодня днем заметил на снегу черного паука, который
пытался переползти дорогу. Он едва-едва шевелил ногами.
Никогда в жизни не мог подумать, что среди зимы на голом
снегу можно увидеть живого паука.
За стенами блиндажа, на передке — тихо. Обычное для
темной поры ночное бормотание пулемета. Значит, немцы
еще ничего не подозревают, хотя время от времени и под-
брасывают вверх ракеты, смотрят в нашу сторону.
Позвонили, что вслед за саперами поползла группа за-
хвата. Началась автоматная стукотня. У меня защемило
сердце. Нет, опять тихо. Немцы еще не заметили.
Прошел как раз час.
Звонок Лебедева. Просит дать слегка «шум» из пулеме-
тов,— очевидно, для того, чтобы легче было под шум под-
ползти ближе.
Командир первой роты приказывает связисту передать
по линии, чтобы никто не отходил от телефонных трубок.
Приносят ужин,— комроты предлагает мне — отказыва-
юсь. Напряженно жду — не могу есть.
Прошло 2 часа 10 минут. Мы все еще ждем. Немцы пока
ничего не замечают. Но почему так долго ползут разведчи-
ки? По-видимому, саперы встретили мин больше, чем пред-
полагали,— их надо обезвредить.
Прошло 4 часа. Только сейчас сообщили: поймали немца,
но он поднял крик. Сразу же взвились ракеты, и немцы
пулеметным огнем отрезали нашу группу, не выпускают из
завала. Лебедев просит огня.
Здесь, у нас в блиндаже, все время крики в телефонную
трубку, просят минометного и орудийного огня. Но огня
обидно мало.
Прошло еще полчаса. Что-то не то... Немцы бросают тя-
желые снаряды, работают их шестиствольные минометы.
Группа все еще не может выйти из немецкого завала. Ко-
мандир взвода Однороленко, возглавляющий группу, ранен.
Оставляю блиндаж. Стою под открытым небом. Очень
440
светло от ракет. Неугасающий свёт, как будто одна ракета,
не успев погаснуть, дает прикурить другой. Бель е ракеты
на лету теряют расплавленные светящиеся капли. Светя-
щиеся ледышки красных и зеленых трассирующих пуль.
Поющая дуга приближающегося тяжелого снаряда. Полу-
чается так, как будто звук летящего снаряда имеет в про-
странстве свою форму. Скользкие, упругие после разрыва
снарядов, зло поют осколки, со зловещим ехидством пере-
ходя от пронзительного свиста на низкое улюлюканье.
Около стен блиндажа с чем-то возятся и перебегают ту-
да-сюда крысы.
Не выдерживаю напряжения. Возвращаюсь в блиндаж.
На час заснул, положив голову на столик командира первой
роты. Но едва услыхал снаружи голоса — сейчас же вышел.
Наткнулся на двух разведчиков, уже вышедших «оттуда».
На рубеже все стихло.
Узнаю всю правду.
Проходы в проволоке удалось проделать хорошие. Груп-
па подползла к немецкому завалу. Поднялись на завал. За-
глянули сверху в траншею. Стало видно, что в блиндажах,
двери которых выходили в траншею, много немцев. В блин-
дажах — свет.
Лейтенант Однороленко послал к Лебедеву связного
спросить — что делать? Лебедев ответил, что лейтенант сам
должен принять решение. Однороленко решил забросать
траншею гранатами, а затем ворваться. Без этого нельзя
было действовать — слишком много немцев.
Когда бросили гранаты, один из раненых немцев поднял
отчаянный крик. Очевидно, вот этот вопль и был Лебедевым
издали принят за голос пленного немца.
Таким образом захватгруппа была обнаружена немцами,
когда она еще находилась только на завале. Тотчас же по
ней начал бить из ближайшей точки пулемет. Затем немцы
ушли в укрытие и вызвали минометный огонь по завалу.
Лейтенант Однороленко упал. Когда к нему наклонился
разведчик, он сказал:
— Выноси меня я убит! — и тотчас же умер.
Раненный в грудь его заместитель Дмитриев, когда его
пытались поднять товарищи, сказал:
— Оставьте меня, я убит!
Погибла вся группа захвата, вышло только два человека.
Вот с ними-то я сейчас и разговаривал. Из всей группы раз-
ведчиков из пятнадцати человек убито семь, ранено четыре.
441
Остались на завале невынесенные пять человек — некому
было выносить.
С оставшимися в живых двумя разведчиками я и воз-
вратился ночью в роту. Спал на койке убитого Однороленко.
17 декабря.
Привезли на санях Однороленко.
Перед восходом солнца немцы устроили для нас показа-
тельную выставку: вывесили на завале пять окровавленных
маскхалатов.
Рот у Однороленко полуоткрыт, глаза тоже не закрыты.
Пуля пробила левую руку и прошла навылет через грудь.
Старшина озабоченно принялся выносить из блиндажа
топчаны, собирает доски для гроба.
Командир роты Лебедев сидит на грядке саней, обхватив
голову руками. Иногда поднимает голову, смотрит на меня
и говорит:
— Жаль ребят! Какие ребята! Я на них надеялся, как на
себя.
Тихо, без пафоса, убежденно говорит о мести:
— Если мне попадется какой-нибудь, задавлю руками
без выстрела.
Подошел старшина, спрашивает, где хоронить. Предло-
жил два места. Лебедев не согласился.
— Там болото. Хоронить будем на берегу речки.
Начинаю припоминать, что я говорил этим ребятам вче-
ра на комсомольском собрании. Говорил о героизме комсо-
мольцев во время гражданской войны. О том, как промежу-
точное поколение жалело, что им не довелось быть участни-
ками великих событий, не пришлось участвовать, в револю-
ции и в гражданской войне, не удалось проявить свой
героизм. Говорил о том, что вот теперь-то и пришло время
проявить все эти силы. «Через несколько часов любой из
вас уже сможет стать героем».
Когда мы с Однороленко подошли к КП первой роты и
ему надо было идти дальше, чтобы приготовиться ползти,
мы наскоро сказали друг другу обычные слова расставания.
Потом он сделал несколько шагов, но обернулся и, подойдя
ко мне, как бы с жадностью горячо еще раз пожал мне руку.
Я сказал ему обычные глупые слова и ласково тронул рукой
его спину:
— Скоро увидимся!
442
Помню, эту же фразу сказал я перед боем командиру ро-
ты Юдину и комвзвода Герасимову. Оба погибли в бою.
Вот и подходит к концу еще одна командировка. Со-
шлись вместе на КП дивизии — Коблик, Артемьев и пол-
ковник Гордеев, заместитель Спиридонова. Все делятся
впечатлениями. Но я не могу выдавить из себя ни одного
слова.
Раньше у меня был лозунг: все видеть, все слышать, все
знать, записать и запомнить. Теперь же я часто думаю: а
не лучше ли было бы многое забыть?
Хорошо бы организовать себя так, чтобы впредь в меня
входило только самое необходимое.
Язык:
«У них так разыгрались зрачки, что им то там, то здесь
что-то казалось».
«Скажи, что у тебя там накипело на комсомольском
сердце?»
Командир, лаская, поглаживая свой наган:
«Прошел госпитальную цензуру, не захотел остаться в
тылу, вернулся ко мне».
«Комроты познакомился с военфельдшером, и соверша-
лись у них чудеса, пока не забеременела».
«Кашель. Грудь харчит, как гармошка».
«Рота моя — плюй на меня! Отставить!»
У немцев появились какие-то ящики с надписью: «Вскры-
вать только по приказанию фюрера». Пленный, захвачен-
ный разведкой 312-го полка, предполагает, что в ящиках хи-
микалии.
23 декабря 1943 года.
И еще один переезд...
Район Старого Рамушева. Здесь проходила горловина, че-
рез которую немцы кормили 16-ю армию в Демянском кот-
ле. Зона пустыни. Деревень нет. Даже фундаменты и осто-
вы печей давно уже растасканы по блиндажам. Развалины
церкви тоже исчезли — кирпич уносят для печей. Остались
только на месте садиков уродцы и калеки — изгрызенные
осколками стволы деревьев.
443
Мы в болотистом лесу. Знаменитые Рамушевские ле-
са — медвежья охота.
Живем в домиках, построенных саперами. Стены ды-
шат— при сильном ветре на столе гаснет светильник. Сте-
ны сложены из двух рядов жердей, между которыми засы-
пана торфянистая земля здешних болотных мест. Землю
брали мерзлую, она плохо трамбовалась. Изнутри стены оби-
ты крупной щепой — дранкой; такой же потолок, поэтому
помещение напоминает коробку для пирожных.
Постепенно кое-как устраиваемся.
Какая-то мелкая неисправность в моторе машины. Води-
тель останавливается посреди лежневки, загораживает путь
остальным.
Подъезжает другая машина. Соскакивает с нее старший
лейтенант, требует, чтобы водитель убрал в сторону свою
машину. Тот не обращает никакого внимания, забирается
под машину и что-то там ковыряет, подтягивает ключом.
Подъезжает в хвост третья машина, переполненная ранены-
ми. Выскакивает из кабины девушка-медработник, тоже
требует, чтобы водитель освободил лежневку. Тот и ей не
подчиняется. Тогда девушка вынимает из кобуры пистолет,
передергивает затвор, и водитель моментально выбирается
из-под машины и садится за баранку.
Финал этой сцены видел подъехавший к хвосту коман-
дарм,— его даже никто не заметил сначала, так все были
увлечены разыгравшейся борьбой самолюбий. Командарм
подозвал к себе старшего лейтенанта и девушку. Он спро-
сил, обращаясь к старшему лейтенанту:
— Скажите, кто из вас баба и кто офицер?
Молчание. Тогда командарм указал на девушку:
— Вот кто офицер! А вы, старший лейтенант,— баба, не
смогли заставить солдата подчиниться.
Увидев меня, командарм поздоровался за руку и, уже
улыбаясь, сказал:
— Так и запишите в историю — какие девушки сража-
ются в рядах нашей армии!
Мрачный комизм. После ликвидации Демянского котла
тылы к нам приблизились и кое-где начали работу сельсове-
ты, появилась милиция.
Ш
Около так надоевших нам Озерков, у прифронтовой до-
роги, милиционер увидел в кустах труп. Милиционер в не-
доумении, он не знает, как соблюсти ему законность — при
трупе нет документов.
Проходящий по дороге боец дает милиционеру совет:
— Позови колхозника — он выроет могилу и похоронит.
— Как же так,— сказал милиционер,— а может быть, че-
ловека кто-то убил?!
Милиционер явно был тылового происхождения.
3 января 1944 г.
Был у Спиридонова. Он обещал отпустить меня в Моск-
ву, как только возвратится мой редактор Петушков.
Как всегда в таких случаях, не спешу верить. Боюсь, что
Петушков станет активно противодействовать.
1943 год для меня переломный. Лучше сказать: между
45 и 46 годами моей жизни я впервые начал ощущать свой
возраст.
Самое печальное в том, что возрастающую слабость па-
мяти я уже воспринимаю не как мелкое неудобство, а как
обеднение жизни.
7 января.
В отношениях с людьми я всегда даю им фору; при пер-
вом знакомстве присматриваюсь к ним,— пускай думают,
что они умнее меня.
Так и есть — Петушков протестует против моей немед-
ленной поездки в Москву. Поеду, когда будут готовы новые
фото и рисунки художника Шмита (работает у нас вместо
Савчука). Я должен буду отвезти их в Москву и заказать
клише.
Напросился на командировку в 53-ю гвардейскую диви-
зию,— уж очень тягостно ожидать в редакции, когда я смогу
тронуться в Москву и в Казань.
Пурга. Свирепый ветер. У контрольно-пропускного пунк-
та ветром повалило фанерные щиты с агитплакатами и со-
скребло, выдуло снег до голой земли. Снег струится по брев-
нам промороженной лежневки, как белый песок, и не может
ни за что зацепиться — ветер гонит его прочь.
445
В ожидании попутной машины я стал спиной к ветру и
зажмурился от снежной пыли. Вдруг кто-то кладет мне
на плечо руку. Оборачиваюсь — человек с ног до голо-
вы выбелен пургой, а лицо иссиня-багровое, словно обод-
рано теркой, глаза слезятся. Я не сразу его узнал. Да и
кому могло прийти в голову, что Саша Королев так
быстро поправится и опять будет готов идти в бой хоть
завтра.
Мы обнялись и расцеловались.
— Заросло, как на собаке! — сказал Саша, прикрывая от
ветра рот ладонью.—Теперь бы мне только раздобыть лож-
ку за голенище, и можно все начинать сначала.
Подошли две машины, идущие навстречу друг другу. Ре-
гулировщик их остановил. Я вскочил в одну, Саша — в дру-
гую, и мы поехали каждый в свою сторону: Саша в отделе-
ние агитации и пропаганды, а я в 53-ю гвардейскую. В ку-
зове — как только полуторка тронулась с места — меня
сразу же сбило ветром с ног и начало засыпать снегом.
И, только уже лежа, подпрыгивая на дощатом дне гру-
зовика, я вспомнил, что даже забыл сказать Саше Ко-
ролеву, что я не живу больше под одной кровлей с аги-
таторами.
13 января.
Эпикур по внешности похож на русского могучего му-
жика. Я помню слепого старика в Шутовке. Он, шатаясь,
шел по дороге. Ослепленный Эпикур.
У нас появилась книга Пастернака (избранное). Многое
по-прежнему прекрасно.
Его надо брать таким, каков он есть, в его собственном
объеме, не преувеличивать и не пытаться что-либо ему на-
вязывать и затем осуждать за то, что у него нет вот этого,
что бы хотелось вам ему навязать.
Он — обнаженная ошеломленность жизнью, ее мелочами
и всей вселенной. Он — не логика и не система. Он — мозаи-
ка косноязычных прозрений. Напряженное, без передышки
ощущение всею поверхностью кожи бытия мироздания, ше-
веления, кипения жизни, вещей и поступков. Стремление в
446
кратчайшую единицу времени одновременно, синхронно все
видеть, все слышать и все ощущать.
Я часто думаю и говорю о будущем поколении, о после-
военных людях: что надо сказать им о нашей войне?
Были книги пацифистов об ужасах войны («На Западе
без перемен» Ремарка), были «Севастопольские рассказы»
Толстого. Надо ли все сохранять для человечества? Многое
нигде никогда не отмечается и забывается навсегда. Может
быть, так и надо?!
Коблик говорит: «Не думайте, пожалуйста, вы о будущих
людях! Не бойтесь за них. Они будут обладать иммунитетом
против всех наших трагедий и безобразий, сумеют пройти
мимо того, что им не подходит. Я все чаще думаю о том,
что ошибка великих людей, организаторов, в том, что они
слишком много думают о будущих поколениях. Надо ду-
мать о нас, о настоящем!»
Коблик: «Человек — замкнутый в себе, гармонизиро-
ванный мир. Он не может вместить в себя огромного внеш-
него мира, где хаос и беспорядок, где нет ничего рациональ-
ного.
Отсюда — вечный разлад человека с миром. Минуты, ча-
сы, годы примирения и вечный разлад.
Человек, как мембрана, приемник,—настроен на идеаль-
ное. Он на своем микропространстве аккумулирует мирозда-
ние. Он может вместить только рациональное — иначе хао-
тичный, беспорядочный мир не вмещается в него, ему не-
понятен. Поэтому человек «причесывает» мир, навязывает
ему рациональное, идеализирует его».
Упорядочить мир, сделать его понятным человеку помо-
гает искусство. Так было во все времена и у всех народов.
Коблик часто возвращается к мысли: «Почему мы не схо-
дим с ума, находясь лицом к лицу с непонятным, хаотич-
ным? За тонкой пленкой познанного шевелится огромное
непонятное. Ужасно, что мы привыкаем к этому».
Разлад — основа движения («единство противоположно-
стей»). Остановка — смерть, небытие.
447
Я мечтаю о грандиозном разрезе, сделанном писателем-
анатомом,— от Кремля до переднего края.
После «Войны и мира» ни одна эпоха не подвергалась та-
кой операции. Первая мировая империалистическая война
(1914—1919) так и не была показана по методу разреза через
всю толщу народной жизни.
Писать надо для молодежи. А ей не нужны мои настрое-
ния на войне, картина моих состояний, нечто вроде «Про-
щай, оружие» Хемингуэя. Нашу войну и наш мир так по-
казывать нельзя.
Не забывай о молодежи. Не путай свои ощущения и по-
требности утомленного, многоопытного человека с запроса-
ми молодежи.
Для писателя «чувство нового» — это способность ощу-
щать, понимать, что ищет молодой человек, какую дверь в
мир хочет он открыть.
Высшая добродетель писателя: достигнуть такого пони-
мания времени, чтобы стать другом молодежи, учителем.
14 января.
Все еще жду разрешения на Москву. Томлюсь. Перестал
есть сливочное масло, чай пью без сахара—повезу в Мо-
скву.
В «Правде» от 13 января опубликовано послание Руз-
вельта Конгрессу. Вот конец этого послания:
«...Внешняя политика, которой мы придерживались,
политика, которой мы руководствовались в Москве,
Каире и Тегеране, основана на принципе здравого смыс-
ла, который лучше всего выражен Вениамином Франк-
лином 4 июля 1766 года: «Все мы должны держаться
вместе, в противном случае мы, несомненно, будем висеть
порознь».
Поездка в Москву.
Выехал 17 января. Вернулся 2 февраля.
Не видел семьи ровно 13 месяцев. Число дней, проведен-
ных в Москве, не считая дороги, получилось тоже 13.
Видимая простым глазом Москва — серая, тусклая, изно-
шенная, утомленная. Люди друг друга не интересуют. Так
448
по крайней мере кажется. Стиль жизни определяется про-
довольственной карточкой, пайком, столовой.
Все знают, что победа не за горами, но тяжесть неопре-
деленности будущего все-таки полностью не снята. Мы не
видим материка, к которому пробиваемся сквозь штормовые
волны, сквозь ураган войны.
О доме, о семье писать трудно. Суровое, тяжелое отро-
чество у Юры и у племянника Вадима. Мария Михаиловна
утомлена, напряжена до предела. Подробнее о семье, о Мо-
скве — после.
Сейчас я опять на фронте, на передовой. Записывать о
семье на ходу, бегло, не могу, не хочу. В свободную минуту
запишу подробнее.
7 февраля. Медведева (на шоссе Холм — Старая Русса).
Ночевал в батальоне у лыжников.
Я приехал как раз к «празднику»: армия своими ничтож-
ными силами прорвала немецкую оборону в районе Ляхно-
во — Сосновка. В прорыв вошел лыжный батальон и начал
забирать с боями населенные пункты.
Есть трофеи и пленные. Освобождено 18 населенных
пунктов. Из проклятой Семкиной Горушки немцы, боясь
окружения, убежали.
Наступали во время оттепели, к вечеру мороз. Са-
нитары пришли за тяжелоранеными, а те примерзли к
земле.
Хожу по Семкиной Горушке, вспоминаю бой летом, ищу
траншею, где был убит Герасимов, стараюсь понять, почему
было так трудно ее взять.
Сейчас это мертвая Горушка. Ни деревца, ни кустика,
ни единого строения. От всей деревни осталась только
глубокая шахта колодца — подземная его часть, а сруба
наверху нет.
Неубранные трупы наших бойцов. Самые разные позы.
Одни как бы спят, другие ползут, прикрываются валунами,
страдают, в муках зажав голову обеими руками. Один со-
вершенно обгоревший, обуглившийся,— вероятно, на нем за-
горелась одежда от зажигательной пули.
Спрыгнул в траншею, ставшую для нашей пехоты ло-
вушкой. Заглянул в один из блиндажей. На двух койках
остались от фрицев одеяла и подушки, на столике — фляж-
15 В. Ковалевский
449
ка. Все стены блиндажа обклеены цветными фотографиями
голых, зелено-кокаиновых проституток.
Подозреваю, что в истории войн роль воронья преувели-
чена. На Семкиной Горушке не убраны десятки трупов —
и наших бойцов, и немцев,— те только с традиционной акку-
ратностью сложили их в проходе между блиндажами. Но
птиц нету, а я видел, как около Кулакова слеталась масса
воронья на конский помет.
«...Вся цель науки — дойти сознательно до того, что мо-
лодости дается даром» (Тургенев — «Рудин»): продлить мо-
лодость, жизнь.
«...Я прежде всего желаю вам наиболее чистокровного
эгоизма, который заставил бы вас на время придавать сво-
ему собственному делу исключительное значение и забыть
обо всем остальном...»
«...Вы ведь не можете служить своим современникам бо-
лее полезным образом, нежели используя тот драгоценный
металл, который есть в вас самих» (Ибсен. Письмо Бранде-
су. 24 сентября 1871 г.).
Язык:
Угощает чаем: «Пейте слаще — воды не жаль».
«Ничего нет в ней сочного — один зуб в роте блестит».
«Пью рыбий жир для поддержания штанов».
«Как любить, так мяу-мяу, как родить, так корябается».
Высокий, глядя на малорослого: «Тебе там, внизу, не
скучно?»
«— Ты играешь на гармошке?
— Нет, я с детства боялся тележного скрипа».
24 февраля.
Вышел за порог нашего шумного и душного, во всех
смыслах, редакционного дома. По тени на снегу заметил ка-
кое-то прозрачное шевеление воздуха над трубой, хотя дым
из нее не шел. Это просто поднимается из трубы теплый
воздух и луна струится в нем так же, как кусок сахара в
стакане чая, когда он начинает таять. Вот по этому шевеле-
450
нию воздуха зимой над теплой трубой разведчик, не входя
в незнакомый дом, может догадаться, топили в нем печь
или, может быть, он давно уже брошен.
26 февраля. Фанерный завод под Старой Руссой. Сорти-
ровочный госпиталь № 1396.
Я здесь с 21 февраля, а с 10 по 21 лежал в эвакоприем-
нике № 118, около деревни Омычкино.
В палате — двенадцать человек. Я считаюсь контуже-
ным. Плохо помню, как это произошло, и совершенно не по-
мню, где это случилось и в какой части я был в команди-
ровке. Помню только снежный перекресток в открытом вет-
реном поле.
Метрах в тридцати от перекрестка трое ездовых сгружа-
ли пустые медные гильзы — стаканы из-под снарядов. Каж-
дый из них брал из саней себе на руки стакан, как ребенка,
и относил на обочину, где из стаканов были сложены уже
длинные штабеля, напоминавшие своими пустыми ячейка-
ми пчелиные соты. Где-то недалеко била наша батарея, су-
дя по резким звукам — совсем близко.
Впереди, там, куда я шел, начали рваться немецкие сна-
ряды. Ездовые тотчас же бросили стаканы, которые несли,
побежали к своим лошадям и погнали их вскачь. Когда по-
следняя лошадь поравнялась со мной, бородатый ездовой
чуть придержал ее и крикнул:
— Садись!
Я плюхнулся с размаху в сани, стараясь угодить между
двух стаканов, не выгруженных из саней, но, как мне пока-
залось, промахнулся и грубо, тяжело ударился об землю.
Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я
очнулся от забытья,— что же я теперь скажу Ванечке Чу-
рикову? Я задрызгал своей вонючей рвотой весь его полу-
шубок, который он дал мне, когда я отправлялся на пере-
док. Своего полушубка мне еще не выдали, а у Чурикова
был роскошный, прямо-таки генеральский, черный полушу-
бок (офицеры и рядовые носят белые).
Я приподнялся на руках и сел. Среди разбросанных во-
круг меня комьев мерзлой земли я набрал в горсть снега,
чтобы оттереть полушубок. Снег в моих руках сразу стал
розовым — мои руки были в крови. Но я нигде не чувство-
вал боли. Кровь, очевидно, шла из носа и теперь запеклась
и остановилась. На груди, на полушубке она даже успела за-
мерзнуть бурой коркой.
15*
451
Вся левая пола была оборвана до самого пояса и место
обрыва превращено в клочья.
Что же теперь я скажу Чурикову?
Я сильно остыл — долго лежал без сознания. А тут еще
оказалось, что ватные брюки на мне тоже истерзаны с ле-
вой стороны: выше колена во многих местах вырвана вата
и сквозь самую большую дыру видна на бедре пустяч-
ная, небольшая ранка с рваными краями. Крови из нее
вылилось, по-видимому, совсем мало, и она тоже уже
запеклась.
Я всегда ношу с собой запас английских булавок, прико-
лотых к поясу брюк. Я зашпилил, кое-как скрепил края про-
рех на ватных штанах, и мне пришла в голову мысль — а
нельзя так же приколоть, приладить на прежнее место и
оторванную полу Ванечкиного полушубка? Но полы нигде
вокруг меня не было видно. Тогда я встал на ноги, чтобы
лучше осмотреться.
Поднявшись во весь рост, я увидел трупы трех лоша-
дей,— у одной из них не было головы. В ближайших ко мне
санях, спиной ко мне, лежал ездовой. Полушубок на нем
был распорот и от его спины шел пар — все еще вытекала
из человека кровь.
У меня закружилась голова и опять началась рвота.
Очнулся я в госпитале.
Первую неделю я ничего не слышал. Почему-то меня это
совершенно не беспокоило. У меня чудовищно болела го-
лова и было такое ощущение, как будто бы в оба уха мне
вогнали кувалдами два огромных полена, потом окатили на
морозе водою, и я вмерз в глыбу льда, да так в ней и остал-
ся. У меня не было абсолютно никакого желания ни с кем
разговаривать, как будто я уже наговорился на всю свою
жизнь.
Я очень страдал от холода, хотя на мне было несколько
одеял.
Постепенно я начал оттаивать, согреваться. У меня
появился насморк, словно оттаял и нос. Я по привычке
потянулся рукой под подушку за носовым платком.
И вдруг я наткнулся рукой на свою полевую офицерскую
сумку. Меня пронзило острое ощущение счастья — под
подушкой лежала моя полевая сумка с фронтовыми тет-
радками!
Теперь мне кажется это чудовищным и невероятным:
заботясь об изуродованном полушубке, я ни разу за много
452
дней не вспоминал, что я писатель, и не хватился — а где
же мои записи?
Самое страшное — так мне всегда казалось на фронте —
это забыть от контузии или раны, кто ты таков, и забыть о
том, что у тебя есть жена и сын. В истории психиатрии из-
вестны такие потрясающие случаи, когда после какой-ни-
будь травмы у человека происходило полное выпадение па-
мяти. Такой человек начинал новую жизнь, совершенно вы-
черкнув из своей памяти все прошлое. К нему приходили
его родные, они рыдали, потрясенные тем, что он их не узна-
ет; он растерянно улыбался, но ничего не мог вспомнить.
Вытащив из сумки последнюю свою тетрадку, я со стра-
хом взял в руку карандаш: смогу ли я написать имя своей
жены и сына?
О, как я был счастлив — я помню все, и карандаш меня
слушается!
Постепенно слух у меня восстановился. Казалось, что мои
соседи в палате разговаривают с каждым днем все громче
и громче, как будто они до этого стеснялись и щадили мой
мозг, разрываемый когтями невидимой злой птицы.
И вот я снова царапаю карандашом — это и есть сейчас
для меня наивысшее счастье.
Я все слышу, слышу даже случайные фразы, оброненные
кем-то на ходу в коридоре. Санитарка прогоняет раненых:
— Не выходите в коридор в голом состоянии!
Кто-то из них громко говорит ей:
— Полюби меня!
Санитарка так засмеялась, что даже поперхнулась и за-
кашлялась.
— А что? — не отступается от своего раненый.
Санитарка смеется еще громче.
— Полюби! Меня можно полюбить.
— Это почему?
— Я человек прямой.
— Отстань!
— Ну, тогда давай так договоримся: если ты собираешь-
ся кого-нибудь любить, то полюби меня.
Кто-то перебил его:
— Да ты его не слухай,— он у нас евнух первой гиль-
дии — все осколком сровняло под самый корешок!
Санитарка обиженным голосом прикрикнула:
— Я кому сказала: не выходите в голом состоянии! Зав-
тра просите у врача халат.
453
Наконец как будто кто-то сломал на моих устах пе-
чать,— я спросил у своего соседа, лейтенанта, раненного в
грудь навылет:
— Который час?
Он словно ждал этого сигнала — сразу стал говорить о
себе. Лицо его было так обескровлено, что лишь едва-едва
выделялось на подушке. Он говорил о своем любимом деле,
о том, чего был давно лишен,— об охоте.
За год до войны рано ударил мороз. У них в Сибири на
болоте замерзли все протоки, не осталось ни единого откры-
того плеса с водой. Даже утки, летящие на юг, с размаху
падали на прозрачный лед и калечили крылья, стараясь
пробить лед. После долгого перелета, если нет воды, для
птиц зто гибель.
Лейтенант проломал лодкой среди льда пространство ве-
личиной с комнату, часть льда выбросил, часть утопил, за-
гнал веслом под кромку льда. На это чистое место утки на-
чали валить валом. Часа за два он набил 76 штук — больше
у него не было патронов. Потом он сказал мне:
— Это была не охота, а избиение!
Голос в коридоре: «Не имей два брата, а имей два блата».
Кто-то декламирует удивительно приятным, мягким го-
лосом:
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно.
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.
Потом минут десять — тишина. Мой сосед-охотник дрем-
лет после завтрака. И снова кто-то рассказывает в коридоре:
— Был развитой человек, развитой до основания. Днев-
ник писал, так у него получалось, как по хорошей лестни-
це,— ну, прямо как писатель. А связался с нехорошим де-
лом. Умная голова, а дана дураку. Документы подделал,
украл у продавщицы-хлеборезки деньги. Получил два меся-
ца штрафной роты. И десяти часов там не пробыл. Пуля — в
голову: вот в это место вошла, а в этом вышла.
— Это бывает,— сказал кто-то с удовлетворением и сей-
час же спросил: — А ты куда ранен?
— В ягодицу осколком.
Я отлично слышу каждое слово. Мне даже кажется, что
я слышу то, что происходит и под землей. Но общая ошелом-
454
ленность и оглушенность все еще остается, словно на мою
голову свалилось огромное бревно. Мало сказать, что у меня
звенит в ушах — у меня в голове стоит непрерывный гул,
щебет и скрежетание. Это находит какими-то волнами,—
одно сменяет другое, как прилив и отлив. И на этом изну-
ряющем хаосе звуков все время слышно непрекращающе-
еся щебетание весенних пташек в лесу. Казалось бы, чего
лучше — вечная весна? Однако это принудительное пере-
насыщение слуха нестройным многоголосьем звуков угне-
тает меня, жмет, давит к земле.
Никаких процедур (да их здесь и нет!), никаких ле-
карств — нужен просто отдых и покой. Мне не дают газет.
Но ведь в палате двенадцать человек, и я все уже знаю.
Пока я валялся, Старая Русса уже освобождена. После
взятия на Волховском фронте Шимска немцы сами поспе-
шили уйти оттуда. Взято Дно! По этому поводу был приказ
и салют.
Из Руссы немцы ушли сами,—поэтому ни приказа, ни
салюта. Такова уж участь Ударной, написать историю кото-
рой — мой «моральный долг», как сказал Тележников (а чи-
тать он ее собирается, когда ему будет 95 лет!).
2 марта.
Неожиданно меня перевели в отдельную палату. Здесь
пять коек, но сейчас, кроме меня, в ней нет ни души. Резко
улучшили питание. Что сей сон значит? После необычно
сытного и вкусного обеда ко мне зашел начальник госпита-
ля, и тайное стало явным — Тележников распорядился:
«Поднять Ковалевского на ноги!»
3 марта.
Наша Ударная движется по пятам отступающих немцев,
сбивает их оттуда, где они хотят ее притормозить, и я все
дальше остаюсь в глубоком тылу. Как жалко, что я не могу
двигаться вперед с авангардом. Но ничего — еще успею!
Мне уже разрешено в любое время выходить на прогул-
ку, и я опять сам себе хозяин.
Вечером вышел на прогулку. За госпиталем, на берегу
Ловати, большое кладбище—погребено несколько сот чело-
век. Какое неряшливое кладбище!
455
После революции умер крест. За двадцать шесть лет но-
вый кладбищенский быт еще не сложился, не устоялся.
Никто не знает, каким должен быть намогильный па-
мятник обыкновенному смертному. Ни в мирное время, ни
на войне ничего не было придумано убедительного и стой-
кого.
Делают просто столбы с фанерной дощечкой, конусы с
красной звездочкой на острие, тумбочки и т. п. Звездочки вы-
краивают из консервных банок, из железа, из фанеры. Моги-
лу любимого командира обнесут жердевой оградой, на стол-
бики по углам насадят бронзовые колпачки-предохранители
от снарядов. Но все это кустарно, приблизительно и непроч-
но. Дождь смывает фамилии и имена на братских могилах и
крупно написанные номера могил.
Вот и здесь, у фанерного завода, половину тумбочек над
братскими могилами совершенно обезличили, размыли дож-
ди. Кто тут погребен — неизвестно.
В будущем здесь, конечно, построят рабочий поселок
около завода. На берегу Ловати будет людное место, может
быть, парк и гулянье. Здесь обязательно соорудят памят-
ник погибшим героям. Но имен уже никто не сможет на-
звать.
4 марта.
Кончилось мое одиночество. Сегодня в палату внесли
двух раненых подполковников. Кладовщик немедленно при-
нялся разбирать обмундирование одного из них, связанное
в узел в ногах носилок.
Китель изрезан так, что нельзя понять, где рукав, где
что, брюки похожи на трусики — обрезаны. Все это сделано,
чтобы, раздевая, не причинить подполковнику боль.
Кладовщик спрашивает:
— Что с ними делать?
Подполковник предлагает:
— Сдать в музей.
В это время другой подполковник, ослепленный разры-
вом мины, спрашивает:
— Здесь светло?
— Да,— отвечает кладовщик.
— А где же окна?
Ему никто не отвечает. Через минуту он говорит:
— Все ничего — верните мне глаза!
456
Вечером я выходил под звездное небо. Непрерывный гул
наших самолетов — летят бомбить или Псков, или Финлян-
дию. После такого гула мы обычно читаем в сводке Совин-
формбюро: наши самолеты бомбили Хельсинки...
5марта.
Тренируюсь. Каждый день удлиняю путь для прогулки:
сегодня дошел до деревни Конюхово. Здесь — тоже кладби-
ще. Вот одна из надписей на фанерной дощечке, прибитой к
столбику:
«Ст. политрук Жеребор Я. Н.
Погиб 5—06—42 г.
Здесь похоронен в земле сырой
прекрасный воин,
комиссар-герой».
Другая дощечка:
«Здесь похоронен павший смертью храбрых 16. Ш. 43
майор Гаврилец Мих. Пал.
1910—1943.
Тебе, товарищ, светит луч победы,
Ты вольно ходишь по своей земле,
А тот, кто здесь лежит.
Погиб в бою кровавом,
Завоевав ее тебе».
На одной из могил вместо памятника поставлен кусок
шкафа, забитый с боков фанерой и украшенный точеными
планочками и колонками от шкафа.
6 марта.
Последняя прогулка по берегу Ловати. Завтра меня вы-
писывают. Давно пора!
Недалеко от госпиталя, у железнодорожной платформы
стоит «летучка» — санитарный поезд, поданный для эвакуа-
ции раненых. Последний вагон отведен для немцев. Вот их не-
сут сюда на носилках. Забинтованные ноги, головы... Где же
у меня человеческое сочувствие к ним, жалость? Ничего не
осталось. Враги — и больше ничего. Пришли, осквернили на-
шу землю, принесли смерть и терзание. Враги — и больше
ничего! Жалости нет — даже скорее удивление, что этих
пленных оставили в живых.
457
Проклятый фашизм! Он изуродовал человеческую душу
не в одной только Германии.
8 марта. Огуръево. Редакция.
Вот я и вернулся домой. Отдыхаю. Пока что в команди-
ровки меня не посылают, берегут. Я и в самом деле еще
не очень хорош. Такое ощущение, как будто ослабел по-
сле долгого лежания, хотя в госпитале я довольно много
гулял.
Чуриков пригласил к нам в избу двух девушек лет по
пятнадцати, уверенный, что мне интересно будет с ними по-
говорить. Они пришли в Огурьево из леса, где, по их словам,
живет «целая деревня». Это километров восемь отсюда. Их
деревню сожги немцы за связь с партизанами. Они вырыли
себе, как они говорят, «окопы» в лесу, перетащили туда про-
дукты и скрывались от немцев. Немцы ничего о них не зна-
ли,— снег завалил к ним все дороги, все пути.
Одеты девушки хорошо. Сами пряли шерсть, сами краси-
ли ее, вязали кофточки и яркие шапочки. Говорят, что нем-
цев удивляло мастерство русской женщины, которая легко
находит выход, если нет привозной мануфактуры.
В лесу и по деревням пели такие частушки:
Партизаны, партизаны,
Белые халатики.
Партизаны, люди наши,
Русские солдатики.
Я иду, а ветер клонит
Черную смородину.
Мой миленок в партизанах
Сражается за Родину.
Свою беленькую кофточку
Я сушу на вересу.
Провожу я свою молодость
В окопах да в лесу.
Давайте, девочки, напишем
Письмо Сталину в Москву:
«Пожалей ты нашу молодость
И кончай скорей войну».
Не судите, добры люди,
Что невесело пою.
Кругом война, горят деревни,
Мой миленочек в бою.
456
Поживу годик в Германии —
Все равно сбегу домой.
Не женися, свет мой Вася,
Опять гулять будем с тобой.
Водна маменька не знает,
Как живется плохо мне.
Как без отдыха работать
На германской стороне.
Полицаи, полицаи,
Будете натешены,
В Новоржеве на березах
Будете повешены.
Полицаи, полицаи,
Плохо вы воюете,
Все равно от партизана
Пули не минуете.
Все равно красны придут,
Расцветут смородины,
Полицаев расстреляют
За измену Родине.
Не люби, подруга, немца,
Немцы мне не нравятся.
Мой дроленок в партизанах,
За кустом скрывается.
Язык (пушкинские места):
«Я в быль говорю» (в самом деле).
«Зыбать» —качать зыбку — колыбель.
10 марта.
Приехала «Пушкинская комиссия»: профессора Благой и
Гудзий, художник Кокорин, кинооператор и директор Цент-
рального музея Красной Армии. Их задача: изучить разру-
шения, которые причинили фашисты пушкинским местам.
Но Пушкинские Горы и село Михайловское еще не осво-
бождены. Они как раз попали в полосу предполья, перед ре-
кой Великой. Наши части стоят в пятистах метрах от Пуш-
кинских Гор и в двух километрах от Михайловского. Отдано
распоряжение не вести артогня в этих местах. Поэтому нем-
цы обнаглели и около домика няни Пушкина, Арины Родио-
новны, ходят во весь рост. Туда выдвинуты снайперы, они
укоротят немцев.
459
Пушкин писал Д. М. Княжевичу из Михайловского в де-
кабре 1824 года:
«Уединение мое совершенно и праздность торжественна».
В деревню привезли убитого партизана. Он был убит не-
дели три тому назад далеко отсюда. Партизаны привезли его
на родину. От места боя партизана несли пять километров,
он был еще жив и говорил: «Если останусь вживе, всех напою
пьяными, только унесите меня подальше, чтоб не захватили
немцы».
Вот он лежит на соломе под навесом, где стоит телега и
старая веялка. Столпились бабы. Слышен женский крик,
плач и причитания. Метрах в тридцати верхом на доске си-
дят друг против друга старик и подросток и строгают эту
доску для гроба, ухватившись за один рубанок,— как бы
стараются отнять его друг у друга.
Партизан был похоронен далеко отсюда. За ним поехали
две его сестры. Он уже начал разлагаться. Его двоюродная
сестра рассказывает, как трудно было зятю обмывать его.
Я спросил: зачем же его откапывали?
— Чтоб легче было ходить на могилку. У него осталась
молодая жена и дочка.
25 марта. Яковлевское.
Теперь Политотдел и редакция разместились в этой боль-
шой деревне, которая полностью сохранилась.
Я болею — злой грипп с высокой температурой. Резкая,
затемняющая разум головная боль.
Вчера ко мне, больному прислали двух девушек-парти-
занок. Одной двадцать два года — работница из Ленинграда,
другой — девятнадцать, из Пушкинских Гор, дочь партий-
ного работника. Обе из партизанской бригады Героя Совет-
ского Союза Германа. (Погиб. Немец из Республики немцев
Поволжья.) Девушки с восхищением говорят о Германе.
Жили они почти исключительно в деревнях. В леса ухо-
дили только во время карательных экспедиций. Говорят, что
в 1943 году немцы для такой экспедиции будто бы сняли с
фронта 30 тысяч солдат.
Обе девушки — разведчицы. Работали по сбору сведений
о враге и выявлению предателей. Валя — та, что помоложе,
внешне тяжеловатая, крупнолицая, но не флегматичная, а,
460
наоборот, пылкая, темпераментная, умная, ироническая, го-
ворит находчиво, метко.
Она жила не в отряде, а в семье. Бывала в немецкой
комендатуре в Пушкинских Горах, ходила на танцы. Знала,
конечно, кто с каким немцем «живет».
Рая проще. Работала на кирпичном заводе. Доставляла
листовки, тол, мины — «малые Магнитки». Сидела в Ново-
ржевской тюрьме. Били резиной, требовали, чтобы созналась
в своей связи с партизанами. «Но мы давали клятву: если
погибать — то одному!» Ничего не сказала. Отпустили. Вме-
сте с мастерами накопила тол, взорвала завод и совсем ушла
к партизанам.
Расспрашиваю о нравах. Девушек, живших с немцами,
«гулявших» с полицаями, расстреливали. Рая сама замани-
ла одну такую девушку, которая жила в Пушкинских Горах
с немецким комендантом, и привела ее к партизанам. Пойман-
ная и уличенная, она клялась, что будет работать на парти-
зан. Но Рая сказала своим ребятам-партизанам: если девуш-
ку оставят на свободе, тогда нельзя будет ходить в Пушкин-
ские Горы на задание — она выдаст. Ее расстреляли.
Мои гостьи уверяли меня, что партизаны расстреливали
и своих девушек «за разврат».
— А что такое у вас считается развратом?
— Ну, если сегодня живет с одним, а завтра — с другим.
Вот одна из песен, которую пели они в лесу с партиза-
нами:
Молодые девушки немцам улыбаются,
Позабыли девушки о своих друзьях.
Наших гордых соколов скоро позабыли вы
И за пайку черствую немцам отдались.
Только одни матери горем убиваются,
Плачут они, бедные, о милых сыновьях.
Но вернутся соколы, прилетят любимые,
Как тогда вы будете соколов встречать?
Под немецких куколок вы прически сделали,
Красками покрасились, вертитесь порой,
Но не нужны соколам кудри, краски, локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.
Еще когда жили в Кириллине, мне захотелось посмотреть,
как живут в «окопах» люди из сожженных деревень. Дошел
до Корнышина. Деревня сожжена дотла. С холма, там, где
стояла деревня, смотрю на равнину. Белое пространство
пересекает женщина с узлом на согнутой в три погибели
спине. На гладкой пелене снега она похожа на одинокую
461
черную муху, которая выкарабкивается из сметаны, разма-
занной по тарелке. Громко вопит, причитает — сожжено ро-
дительское, вековое гнездо. Теперь она откопала какие-то
вещички и тащит их в «окоп», несет узел и плачет, горюет о
своем разорении. Русская женщина!
Иду дальше. Как раз здесь проходила деревенская улица.
Пожилой колхозник и колхозница раскапывают на пепели-
ще яму, разбирают кирпичи — им нужно добраться до кар-
тошки.
Они рассказывают мне, как сожгли немцы деревню, как
потом приходили опять, забросали гранатами и выжгли уже
до конца отстроенные было жителями хибарочки из обго-
ревших досок и жердей и понарытые землянки.
Женщина плачет, вспоминая свою сестру. Сестра не успе-
ла убежать в кустарник, и немцы куда-то ее увели. Она
боится, как бы ее не отравили: «Говорят, их поили каким-то
чаем отравленным».
Спрашиваю этих русских людей возле их сожженного
дома:
— Какой же вы дадите нам совет? Вот мы придем в Гер-
манию, что нам сделать с немцами за все то, что они натво-
рили у нас?
Оба смущенно молчат. Потом женщина говорит:
— Вам виднее.
Мужчина, словно что-то припоминая, с трудом произ-
носит:
— Люди говорят: бог велит за зло отвечать добром.
Женщина постукивает пальцами по своему лбу и, как бы
извиняясь за этого человека, говорит мне, не стесняясь его
присутствием:
— Он был болен, болен!..
Дошел я и до деревни Новожилове — от нее осталась
единственная глинобитная изба. В ней полным-полно: не-
сколько семейств погорельцев. Остальные ютятся в землян-
ках, вырытых по высокому бережку вдоль ручья. Под го-
рой — ключ, по-местному «текун». Зачерпнул пригоршню,
пью эту воду и говорю сам себе: «Русская вода».
Слышу детский смех. Дети катаются с горы на санках и
на лыжах. Как хорош этот неистребимый смех! У них сгоре-
ли избы, они зарылись в землю. Но вот светит солнце, сияет
снег, гора высокая, гладкая, сани бегут шибко, и дети смеют-
ся. И я говорю сам себе: «Это русские дети!»
Здесь, около глинобитной избы, ямы уже разрыты. На ку-
462
стах проветриваются, сушатся льняные ткани домашней ра-
боты и чудесной расцветки: светло-кремовое поле и на
нем — легкие розовые клетки разных размеров. Здесь же
ткани и погрубее, отсыревшая в земле, вся в зеленых пятнах
плесени обувь, смятые, слежавшиеся в сырости жакетки,
пальто.
Из единственной избы выходят женщина и старик — по-
апостольски благообразный.
Задаю и им тот же вопрос: что делать с немцами на их
земле? И вот женщина торопливо, как бы боясь запоздать
с ответом, просит (записываю дословно):
— Будьте добры, не трогайте ихних детей и женщин!
У меня навертываются слезы. В просьбе старика тоже
основная забота: как бы не пострадали в Германии невинные
люди.
Боже мой, что же это за народ, где же граница его долго-
терпению?
Женщина показала рукой на толпившихся около нее де-
тей и сказала:
— Ведь он, окаянный, вот таких бросал в огонь! Разве
они виноваты? Если бы была тогда шапка-невидимка, подо-
шла бы к нему сзади, оглушила бы колом и самого бы бро-
сила в огонь. Нет, будьте добры, детей ихних не трогайте!
Почему у этих разоренных, обездоленных людей, у кото-
рых погибло много близких, родных, на первом месте не
мысль о возмездии, а боязнь—как бы мы не совершили в
Германии несправедливости. Почему?
Она же, эта женщина, сказала мне, что «немцы бывают
разные».
Пришли немцы жечь деревню. Одна женщина повалилась
немцу в ноги, начала умолять его, чтоб он не жег ее избу.
Немец отошел в сторону и заплакал. Но потом все-таки под-
жег избу, сказал, что его расстреляет командир, если он не
выполнит приказ.
Немцы привезли в Выбор священника. «Стриженный под
польку». Очень не понравился крестьянам. Особенно оскор-
бил он их тем, что после службы предложил помолиться
«о скорой победе над супостатами». Тут же, в церкви, моля-
щиеся начали шептаться между собой: «Это кто же «супо-
статы»? Наши мужья, сыновья супостаты?» Никто после
этого в церковь не ходил.
463
Прошу доставить эту тетрадь в По-
литотдел армии, чтобы она была пере-
дана в Военную комиссию Союза писа-
телей, а потом — моей семье.
В. Ковалевский
1944 г. Деревня Яковлевское.
29 марта.
Кругом в деревнях уже знают, что здесь разместилась ре-
дакция, а значит, появилась и бумага. То один председатель
колхоза приходит, то другой: «Дайте бумаги».
Немцы только что прогнаны. Происходит восстановление
советской власти. В колхозах, в сельсоветах — повсюду идет
составление всевозможных списков, всякого рода учет,
инвентаризация, планы. Нужна бумага!
Я разговаривал с председателем одного из ближайших
колхозов.
Он рассказал мне, что в деревне Бараны жители, увидев
приближение немцев, все разбежались. Остались только два
семидесятипятилетних старика: один — глухой, другой — со-
вершенно слепой. Как разговаривали они с немцами, никто не
464
видел. Когда можно было уже вернуться в деревню — обоих
стариков нашли убитыми: у слепого руки были связаны сза-
ди проволокой и в живот воткнут нож, а на спине — следы
от пуль. Звали слепого Никитою.
Много было разговоров, что немцы около двух лет строи-
ли оборону на линии Нарва — Псков — Опочка. Три дня тому
назад 208-я стрелковая дивизия нашей армии небольшими
силами прорвала эту оборону, форсировала реку Великую и
на другом берегу захватила плацдарм.
Дальше у немцев нет никаких сколько-нибудь серьез-
ных укреплений. Если бы у нас было свежих корпуса два,
мы вышли бы к Риге. Но у нас нет сил — все брошено на
юг. И отлично! Там решаются важнейшие вопросы.
Пахнет развязкою. Надеюсь, что этой тетради мне хва-
тит до конца войны.
«В России каждый писатель был воистину и резко инди-
видуален, но всех объединяло одно упорное стремление — по-
нять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судь-
бе ее народа, об ее роли на земле» (Горький)*.
1 апреля.
Немцы называют линию обороны Нарва — Псков—Опоч-
ка «Пантерой». Пленные говорят, что есть приказ Гитлера:
во что бы то ни стало отбросить нас назад, за Великую.
Нам приказано во что бы то ни стало удержать плацдарм
(15 кв. км). Ставка придает этому куску земли большое зна-
чение. Немцы контратакуют, вводят в бой танки. Все атаки
отбиты нами.
При прорыве «Пантеры» были применены деревянные
лестницы, как при штурме Измаила, в суворовские времена.
Их прислоняли к крутому, обрывистому берегу Великой.
Длина лестниц 7—8 метров.
3 апреля.
Несколько дней назад Красная Армия вступила на терри-
торию Румынии. Опубликовано заявление Советского пра-
вительства:
1 Собрание сочинений, т. 24, стр 66.
465
«Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан
приказ советским наступающим частям преследовать врага
вплоть до его разгрома и капитуляции.
Вместе с тем Советское правительство не преследует це-
ли приобретения какой-либо части румынской территории
или изменения существующего общественного строя Румы-
нии, и вступление советских войск в пределы Румынии
диктуется исключительно военной необходимостью и про-
должающимся сопротивлением войск противника».
А на нашей «Пантере» без перемен. Немцы бросаются в
контратаки. Отбиты. Отлично воюют солдаты из нового по-
полнения, хотя они совсем еще не обстреляны. Это люди из
освобожденных районов, а ведь насчет их стойкости были
большие сомнения: не развращены ли они, мол, немцами?
Военный Совет объявил благодарность этим людям, удержи-
вающим плацдарм за Великой.
Сюда приказано стянуть все тыловые части, отобрать
здоровых людей, откуда только возможно, и завезти десяти-
дневный запас продовольствия, чтобы во время половодья
на плацдарме можно было вести самостоятельную жизнь.
По словам Королева, туда понапихали столько людей, что
каждый снаряд немцев причиняет ущерб, не может упасть
мимо.
Между тем и немцы не сидят сложа руки: перебросили
из Эстонии танки и подтянули значительные силы. Только
бы удержать нам этот плацдарм во время половодья.
А я все сижу (больше лежу) на положении больного. Нет
сил идти на передок — никак не оправлюсь от контузии.
Смотрел фильм «Суд идет». Эту картину о харьковском
процессе над фашистами показывали у нас для группы плен-
ных латышей. Все они изъявили желание пробраться в тыл
к немцам, в родную Латвию, и рассказать правду о Красной
Армии.
Странный вид у этих бедняг, одетых в немецкие шинели:
они похожи на певчих из церковного хора.
После просмотра фильма, в котором показаны ужасаю-
щие зверства фашистов, начальник седьмого отделения Пши-
бельский спросил у латышей об их впечатлении от картины.
— Мы подавлены! — сказал один из них довольно вяло.
В голосе его товарища были более искренние нотки:
— Мало! Повесили их и только. Этого мало!
466
— А что же, по-вашему, надо было с ними сделать? —
спросил Пшибельский.
Первый:
— Поджарить на сковороде!
Второй:
— И немного содрать кожи!
Третий:
— Сколько они загубили людей, а повесили только че-
тырех.
Вообще латышские части у немцев оказались нестойки-
ми. Немцы их обманули, сказали, что используют только для
защиты границ Латвии, а теперь бесцеремонно распоряжают-
ся ими как хотят.
Просматривал в седьмом отделении протоколы опроса
пленных немцев.
Пленный Ау сказал:
«В победу Германии никто из солдат не верит. Нам теперь
безразлично, как война закончится, лишь бы она поскорее
закончилась. Настроение солдат плохое. Мы видим, что наша
армия всюду отступает. На родине наши лучшие города пре-
вращаются в развалины. У многих солдат моей роты погибли
родители, братья и сестры. Для таких солдат теперь все без-
различно».
Пленный Мюллер сказал:
«Мой Гамбург разрушен. Внутри города нет ни од-
ного завода, ни одной фабрики, которые продолжали бы ра-
ботать.
Во время бомбардировки можно было видеть ужасные
картины: обезумевшие люди выскакивали из домов и увяза-
ли в расплавленном асфальте улиц. Я лично видел, как один
фельдфебель и ефрейтор вытащили обгоревшие трупы сво-
их родных и здесь же, на улице, застрелились».
В большом ходу выражение: «Или Наркомздрав, или Нар-
комзем!» Это значит: или ранен, или могила! Больше трех
боев человек не выдерживает.
6 апреля.
У нас новый командарм — Герой Советского Союза гене-
рал-полковник Чибисов.
Приехал маршал Тимошенко. Придано много новой тех-
467
ники и новый корпус (90-й). В затылок к нам подошла 10-я
гвардейская армия. Конники. Воздушная армия. На плац-
дарм за Великой всунуто все, что можно было от нас взять.
Похоже на то, что здесь направление главного удара для на-
шего фронта.
Лунная ночь. Блестят скаты холмов. Днем солнце разъ-
едает и рыхлит поверхность снега. Фактура снега напоми-
нает ту манеру мастеров Палеха, к которой они прибегали,
изображая горы и скалы: уступчато-пластинчатая. Эти ми-
ниатюрные площадочки-«скалы» солнце подтачивает, рушит
с легким шорохом; если пристально всмотреться, то заме-
тишь, что тающий снег шевелится. А к вечеру все это под-
мерзает и, как облатка, покрывается тонкой, хрустящей ко-
рочкой. Она-то и блестит под луной. Все холмы, там, где нет
леса, стеклянно блестят под луной.
Непрерывно гудят самолеты, наши и «его». У него есть
какая-то новая машина, со звуком мотора, похожим на не-
прерывное, напористое мяуканье злой кошки под лунными
облаками.
На нашем участке ничего не получается У немцев безот-
казно работает разведка: мы снимаем какую-нибудь часть,
перебрасываем на новое место, немцы тоже почти одновре-
менно снимают противостоящую ей свою часть и перебрасы-
вают ее вслед за нашей. К нам подошло много новых диви-
зий, 12-й корпус, но и немцы перебросили сюда все части, ко-
торые стояли против этих же дивизий, и, главное, подтянули
очень много артиллерии.
Придерживаются новой тактики. Во время нашей артпод-
готовки они не молчат, как раньше,— тоже открывают огонь,
бьют по штабам, по артиллерии, по тылам. А когда мы пере-
носим огонь в глубину, давая дорогу нашей пехоте, немцы
сосредоточивают свой огонь, накрывают наши боевые по-
рядки.
Старая история: новые артиллерийские части подошли
лишь накануне наступления и еще не успели провести раз-
ведку, засечь цели, пристреляться.
В тылу стоят кавалеристы, они просят пробить им ворота
шириною километра в два, пропустить в прорыв, но пехота
не справляется с задачей, прорыва не получается.
468
Надо или подавить артиллерию врага, или броси ь вперед
такую массу пехоты, которой у нас здесь нет.
Со снарядами туго — раскисли дороги. Немцы любою це-
ной будут не пускать нас в Прибалтику, опасаясь за Восточ-
ную Пруссию.
16 апреля.
Первая командировка после возвращения из госпиталя.
Пешком до реки Великой и обратно — это километров шесть-
десят. О как я устал! Дороги совершенно отказали — недо-
ступны для колес. Сотни машин стоят впритык, одна к дру-
гой, и ни туда и ни сюда.
Весь наш Военный Совет целый день пребывает на глав-
ной дороге, пытается побороть природу, барахтается в этой
грязи, как муха, прилипшая к бумаге с клеем. Квадратный
толстяк Тележников и тот тычет пальцем то туда, то сюда,
указывает бойцу, который тащит на плече фашину, куда ее
уложить. Я имел честь откозырять члену Военного Совета
фронта Булганину. Он одиноко стоял на пустынном отрезке
дороги. Вид у него был такой, будто он совершенно не верил,
что дорога когда-нибудь подсохнет.
В стороне, вдоль кустов, где посуше, проскакала каваль-
када на великолепных конях — командующий фронтом По-
пов со своими штабами.
Выезжал на дорогу и маршал Тимошенко. Ходит легенда,
что к нам прибыл Ворошилов. Это сказал мне какой-то не-
знакомый боец. Мы вместе с ним видели возле Глушкова,
как генерал-кавалерист перебирался сюда в утлой резино-
вой лодочке из штаба, отрезанного половодьем. Боец сказал
мне:
— Минут двадцать как таким же манером Ворошилов
переправился. Старенький — с палочкой ходит. Сидит в лод-
ке и палочкой по воде пишет.
В штабе мне сказали, что это легенда. Просто бойцу хо-
телось, чтобы здесь был Ворошилов или Буденный.
Дорога так плоха, что приходит в голову: зачем лезть на
дорогу и тонуть в этой грязи, не лучше ли продираться це-
линой через кустарник?!
В медсанбатах не хватает медикаментов. Палаты пере-
полнены ранеными, которым необходима госпитализация.
Но эвакуировать нет никакой возможности — колеса не вер-
469
тятся. Запасы продовольствия тоже на исходе — армейские
склады опустошены.
С холма, где до войны была деревня Вече, а сейчас—пе-
пелище, дорога просматривается вниз на многие километры.
Непрерывная, шевелящаяся от движения цепочка бойцов:
несут серые мешки с продовольствием, несут ящики с патро-
нами, несут снаряды — ракеты для «катюш». На человека по
одной ракете, а если снаряды, то по два для 76-миллиметро-
вых пушек или по одному для 152-миллиметровых. Шагают
с надсадом, медленно, тяжело отрывая ноги от цепкого меси-
ва. Дорога профилированная, но грунтовая, совершенно не
рассчитанная для транспортного потока, питающего две ар-
мии (Ударную и 10-ю). Говорят, что в сутки здесь проходило
туда и обратно до 8 тысяч машин.
Дорогу сейчас строит, вернее сказать, штопает как раз
тот кавалерийский корпус, который должен кинуться в во-
рота прорыва и развить успех. Зрелого леса здесь нет, по
сторонам дороги стоит густой кустарник: ольха, лозняк, жи-
денькие березы. Бойцы рубят хворост, вяжут фашины и та-
щат на дорогу. Фашина свисает с плеча, пружинит, упруго
покачивается в такт с шагами. Какой-нибудь майор из
штабных, в пожарном порядке поднятый на это дело,
показывает бойцам самые разжеванные танками участки до-
роги, и бойцы сбрасывают в топь свои фашины. В особо без-
надежных местах саперы укладывают лежневку из бревен,
но она тут же уродуется; если по ней пройдет несколько ма-
шин — грунт раскис и не держит.
По обеим сторонам профилированной дороги ездовые сти-
хийно прокладывают по целине новые грязево-гужевые до-
роги. То там, то здесь падает лошадь, ее поднимают, выта-
скивают бойцы, но она падает на колени снова. Кнуты, ма-
терщина... В одном месте из черного теста земли торчит одно
только темя танковой башни и ствол орудия—засосало.
И всюду, всюду неистребимые, никем не заменимые тру-
женики войны — матушка-пехота, заляпанная по грудь не-
отвязной, как смола, грязью.
Пока я двигался к фронту, миновал несколько оркестров.
Тяжелое небо в свинцовых облаках, перемежающийся дож-
дичек и такие неожиданные в этой хмари высверки медных
труб, прозрачные, льдистые, бодрые мелодии маршей. Му-
зыка и присутствие генералов подчеркивает, прямо-таки кри-
чит, как срочно надо раскупорить, открыть для движения
дорогу.
470
Ночью пошел дождь без передыха, дорога окончательно
вышла из строя.
Но как ослабела Германия, как обессилели фашисты!
Ведь вот она, целый день перед глазами — великолепная не-
подвижная цель для бомбежек и пулеметных очередей с воз-
духа. Но ни одного вражеского самолета над закупоренной
дорогой с сотнями машин, груженных боеприпасами.
Немцы пытаются бомбить только переправу на реке Ве-
ликой. Я видел шесть налетов, от начала и до конца. Над
переправой поднимается невообразимая стукотня зениток,
немцы мечутся по небу, среди белых пузырьков разрывов,
виражируют, стараясь вырваться из-под обстрела, бомбы
сбрасывают куда попало.
Я шел к переправе без дороги — напрямик полем, меня
удивило количество рваных осколков, которыми повсюду
утыкана земля под ногами.
Немцы непрерывно обстреливают район переправы тяже-
лыми, дальнобойными орудиями. Вся местность просматри-
вается немцами с Пушкинских Гор, поэтому саперы непре-
рывно жгут дымовые шашки, заволакивают мглистой дым-
кой долину Великой.
Вон там, за рекой, могила нашего Пушкина!
Очень трудно было найти 208-ю с. д. Совершенно изму-
чился. Мне дали попутчика — офицера из дивизиона PC; он
спешил и совершенно не считался с моими силами. Мучила
жажда, на ходу я сосал снег, кое-где еще сохранившийся у
корневищ кустарника. Порой я задыхался и вынужден был
останавливаться. Никогда еще со мной не было на фронте,
чтобы я не мог сделать дальше ни одного шага!
Замполит полка, в штаб которого мы наконец дотащи-
лись, долго не решался зажечь в палатке крошечный фона-
рик— над нами то и дело вертелись немецкие «ночники» и
«самоварники». Минут за сорок до моего прихода прямым
попаданием уничтожена была рядом в овраге кухня — поби-
ло лошадей, несколько человек унесли на носилках в поле-
вой медпункт полка.
Спать я заполз в норку, вырытую на скате того самого
овражка, на мягкий еловый лапник. Но ноги в мокрых сапо-
гах все равно торчали наружу. Только заснешь — кто-нибудь
пройдет мимо и зацепит за ноги, и так много раз. Меня зно-
било, и я всю ночь «играл в трясучку».
471
22 апреля.
Я принят в члены ВКП (б).
Не могу сидеть на одном месте, не могу справиться со
своей радостью. Пошел в избу к агитаторам. Странно, что они
так спокойно сидят и усердно работают над материалами и
конспектами, готовясь к очередному заданию. И никто из них
не знает, никто не догадывается, что со мной происходит,—
ни Саша Королев, ни Коблик, ни Артемьев, ни Разин, ни
Гунин, никто и не подозревает, как все они близки мне сейчас
и дороги по нашему кровному, фронтовому братству — они,
те, кто открыл мне дверь в партию.
Никто не заметил моего прихода. Я никому ничего не ска-
зал— не хотел мешать и тихо вышел из избы на деревен-
скую улицу.
Меня всегда удивляло на войне, что никогда и ничем не
удивишь нашего бойца; он разбирается в международных де-
лах, почти никогда не скажет по этому поводу нелепости, и
уж подавно от него не услышишь идиотской формулы не-
мецкого солдата: «Политика — не мое дело».
Все это — влияние наших политработников, плоды их
самоотверженного труда в полках, в батальонах, в ротах.
Почему мы начинаем побеждать фашистов? У нас не бы-
ло превосходства в оружии и в умении вести войну, но всег-
да было превосходство в идеях, за которые мы боролись.
Постепенно, в ходе войны, неравенство в вооружении исче-
зает и растет наше воинское мастерство. Когда идея овладе-
вает массами и входит в сознание народа — она становится
вполне материальной силой. Носителями же идей, проводни-
ками идей нашей ленинской партии в народную гущу явля-
ются политработники. Меня всегда корежит, когда какой-
нибудь недоумок называет их дьячками и псаломщиками.
В сообщениях Информбюро давно забытая нами форму-
ла: «Ничего существенного не произошло». Вероятно, про-
исходит перегруппировка, подтягивание отставших тылов,
прием пополнения...
Ждем вторжения союзников в Европу. Англия запретила
выезд членам иностранных миссий и посольств — небывалый
случай.
Дождь, дождь...
По грядкам огорода прыгают скворцы, пасутся. От дождя
они похорошели: рисунок (белая крапинка) на их рубашках
стал более четким. Скворцы под дождем кажутся подтянув-
472
шимися, щеголеватыми. Когда их видишь вблизи они бле-
стят, точно смазаны каким-то маслом. У них богатый разго-
ворный язык. Просушивая на солнце, ероша перышки, они
непрерывно перекидываются «словечками». Ни у каких боль-
ше птиц я даже приблизительно не слышал такого разно-
образия интонаций, такого богатого словаря, когда они, сидя
на ветке, ведут беседу парами или небольшими группками,
но обязательно четными — по числу собеседников.
Что-то со мной происходит: головные боли усилились,
какая-то слабость во всем теле и интеллектуальная вялость.
Встану утром, позавтракаю, и опять тянет на койку. Ощу-
щение усыхания, угасания. Трудно сосредоточиться, трудно
даже читать. Работать могу только короткими урывками.
В мускулах ног и рук какое-то мление, холодание, точно
я иду без перерыва, нигде не останавливаясь уже несколько
суток, а между тем я почти все время лежу.
25 апреля.
Сильный дождь. Что же будет с дорогами? Из наступле-
ния ничего не получилось. Есть приказ: приступить к обору-
дованию жесткой обороны.
Сможет ли, успеет ли человечество перенести свою куль-
туру на другую планету и, омоложенное на той планете
какими-то новыми обстоятельствами, продлить свое сущест-
вование до бесконечности, или же его колыбель — Земля —
станет и его могилой?
Поэты фронтовой газеты «За Родину» сочинили сообща
такое произведение (нигде не напечатанное):
Я уж год на фронте. Всякое бывало.
Смерть меня обходит и пуля не берет.
Потому что пуля мимо пролетала
И давала мина пере-недолет.
Я уж год на фронте. Многое бывало.
Раз на поле боя встретил я козла.
Голову скотине напрочь оторвало.
Я свою попробовал — будто бы цела!
Я сижу в землянке, чайник закипает.
Вдруг раздалась очередь у дзота моего.
473
Я гляжу на чайник — чайник протекает.
Я себя попробовал — вроде ничего.
Мы пришли с победой, мы отвоевали.
Встретил я в деревне друга своего.
У него на сердце ордена, медали.
Я себя попробовал — вроде ничего.
2 мая.
С дорогой по-прежнему безобразие — вся расквашена.
Холодно. Порою вместо дождя облака вдруг подбросят снег.
Весна невеселая — запнулась от холода и стоит на одном
месте.
Над Выбором то и дело появляются У-2— подбрасыва-
ют нам продовольствие: под каждым крылом самолета сим-
метрично подвязано по мешку; из кабины тоже торчит
мешок.
Из нашего удара по «Пантере» ничего не получилось.
Командование фронта смещено. Теперь у нас — Еременко,
командовавший приморской армией в Крыму. Я думаю, что
Попов (командовавший фронтом) и Булганин (член Военно-
го Совета фронта) виноваты в том, что еще по снегу не за-
готовили и не подвезли материалов для строительства основ-
ной дороги.
Коблик болен. Нарушен обмен веществ: на пальцах на-
рывы, ухо как у золотушного ребенка. Устал, подавлен. Я во-
дил его в госпиталь, в Огородниково. Все дело в переутом-
лении.
На днях гуляли с Кобликом вдвоем. Поднялись на «Коро-
левку». Это гора, на которой когда-то стоял со своим вой-
ском король Стефан Баторий. Сидели на огромном валуне и
философствовали. Мысли о человечестве были у нас мрачно-
ватые. Здесь всюду вокруг, где только ни начнут копать
саперы или колхозники,— всюду натыкаются в земле на
древние кости: следы стародавних битв.
Человек — это война.
Придет время, когда войн не будет (впрочем, кто может
поручиться, что не возникнут роковые конфликты с жителя-
ми иных миров?), придет время, когда войн не будет, но у
человечества неизбежно будут возникать причины для стра-
даний, появятся бедствия другого, чем война, порядка.
Ибо «движение—это мука материи» (Яков Бёме). А там,
где нет страдания, там смерть. Судьба человечества — жить
474
в радостях и страданиях. Человек и человечество трагичны
по самому своему существу, органически трагичны.
На камне мы говорили о том, как мы устали. Да и в ча-
стях все чаще и чаще задают нам вопрос: «Когда война кон-
чится?»
Меня страшит моя неспособность сосредоточиться и
писать серьезные вещи. Усталость? Нет, что-то большее, чем
просто усталость.
Я спросил Коблика, что больше всего поразило его на вой-
не? Подумав немного, он ответил: «Моральная сила нашего
человека, выносливость и способность жертвовать собой».
Наблюдая за ходом весны, я и в этом году убедился, что
рост травы начинается еще под снегом. Несколько раз «брал
пробу»: вот остался в лесу небольшой островок снега — по-
дойди к самому его краю, отгреби сапогом снег, доберись до
земли и увидишь бледные, еще не видавшие солнца побеги.
В одном месте росточек травы даже проколол себе путь
через тонкую кромку снега, вернее, протаял себе в нем лун-
ку. В канавах, наполненных талой водой, раньше всего по-
явились побеги калужниц («куриная слепота»), лютиков и
конского щавеля.
4 мая.
В 1942 году у нас с Кобликом «точкой отсчета» был стог
сена в Шутовке, теперь этой точкой стал серый камень-ва-
лун на горе «Королевка». Сегодня камень теплый, хотя день
холодный, вихрастый от гонимых ветром изорванных обла-
ков. Камень жадно вобрал в себя за немногие минуты тепло
пробившихся сквозь облака солнечных лучей. Здесь, не от-
рывая глаз от манящих к себе Пушкинских Гор, мы опять
устало говорили о судьбах человечества, 6 человеке.
Коблик изложил свои мысли категорически четко; их
неприемлемость для меня предельно обнажилась:
— После войны человек возвратится сам в себя, опять
найдет самого себя, от публичности, от растворения в обще-
ственном вернется к индивидуализму. Национальное, родо-
вое, древнее оказалось гораздо значительнее, живучее, креп-
че, чем мы думали. По земле ходит древний человек. Оболоч-
ка нового на человеке гораздо тоньше, чем мы воображали.
475
— А как же быть,— спросил я,— с чертами человека со-
ветского периода? Ведь в нем много такого, что до революции
совершенно не существовало в нашей стране.
И мы бурно поспорили с Кобликом, поспорили горячо
и даже1 яростно. Потом вдруг оба затихли, и я спокойно ска-
зал Коблику, как я понимаю, в чем вижу основные черты
нового в советском человеке. Получилась такая примерно
схема.
Чувство собственного достоинства: не ломает шапку, не
гнет спину перед барином и хозяином. В поезде, в трамвае,
в театре сидит как равный, кто бы то ни был его сосед справа
и слева.
Ощущает себя хозяином не только своей конуры и сунду-
ка, а и чего-то неизмеримо большего.
Иное отношение к труду: не только как к заработку, а как
к своей доле участия в грандиозных делах страны.
Более открытый, на виду у всех образ жизни: собрания,
анкеты, «чистки», месткомы, завкомы и прочее и прочее.
Новое отношение к женщине и детям, равноправие жен-
щины (хотя во многом, может быть, и формальное), более
ответственное отношение к судьбе детей.
Возможность выбирать для себя жизненный путь, а не
косная, традиционная прикованность к профессии отца
и деда.
Изменения, связанные с отделением церкви от государст-
ва и с антирелигиозной пропагандой.
Когда я кончил, Коблик сказал:
— Яс вами совершенно согласен и даже мог бы кое-что
добавить. Но это только часть вопроса. После войны филосо-
фия все-таки обязательно должна вернуться к утверждению
ценности отдельного человека. В школьной социологии чело-
век заслонен всякого рода «прибавочными стоимостями», хо-
тя в глубине истинного марксизма заложено правильное по-
нимание ценности отдельного, неповторимого человека. Но
догматики убивают это в марксизме. Марксизм-ленинизм
превыше всего ценит человека.
— Да, это все верно,— сказал я.— а вот насчет индиви-
дуализма — нет, я с вами не согласен.
Вот так и сидим мы на камне, беседуем, пока до озноба не
застынем на ветру. Синяя-синяя даль... Внизу по холмам,
среди отдельных пятен леса, далекие дымки солдатских ко-
стров. Но воздух прозрачен.
Сегодня могила Пушкина кажется ближе-
476
5 мая.
Весна скупая: что-то цедит сквозь зубы, и не услышишь
от нее ни одного ласкового слова.
Я дошел до такого состояния, когда беседы с людьми, с
героями уже ничего не прибавляют. Усталость. Биографии,
биографии, биографии...
Вместо углубленной творческой работы над каким-нибудь
одним образом, над чьей-нибудь судьбой — мелькание эпи-
зодов, биографическая скороговорка, анкетная суетня.
У меня такое чувство, словно я уродую самого себя, про-
должая работать в армейской газете. Пора, давно пора начать
работу над чем-то большим. Но как это сделать? Я врос в
армейский организм, я втянут в шестеренку войны, и мне
до самого конца не вырваться из ее зубьев.
Язык:
«Вкусная черника,— витамины прямо трещат на зубах».
«Если мы работаем, то будьте уверены — раз, два, попо-
лам и — надвое!»
«Мир полон вопросительных знаков».
«Артиллерия капусту везет» (человек врет).
В Невельской дивизии много бывших уголовников. Коман-
дир роты разведчиков посылает группу на разведку. Развед-
чики начинают торговаться:
— А что дадите, если приведем языка?
— Получите водку, получите ордена.
Группа захватила десять немцев, но привела к себе в
штаб только двух. Остальных немцев до поры до времени
спрятали в погребе.
Когда эту группу разведчиков опять отправили за язы-
ком, они привели из погреба еще двух немцев. И так дейст-
вовали несколько раз, выдавая только по одной паре язы-
ков, и каждый раз что-нибудь, да получали за это.
Только в штабе фронта, когда все десять пленных были
сведены вместе, разобрались в этой механике. Наказание
последовало мгновенно: все пошли в штрафную роту.
Было и такое.
Группа идущих на разведку встречается с группой, уже
возвращающейся из ночного похода. Счастливцы ведут че-
477
тырех пленных. Быстро сговариваются друг с другом и за
водку делят четырех пленных поровну между двумя группа-
ми. Для приличия первая группа отсиживается в лесу и за-
тем является в штаб через правдоподобный промежуток
времени, приведя с собою двух языков. Случай, конечно,
редкий. Наказание последовало суровое.
13 мая.
Почему у некоторых видов насекомых самки после опло-
дотворения пожирают самцов? Нет ли в организме самцов
какого-либо вещества, совершенно необходимого для того,
чтобы самки принесли нормальное потомство?
Продолжается ли на Земле первозданный творческий акт
зарождения и развития из клетки более совершенного орга-
низма? Или навсегда отошли в прошлое температурные и
прочие условия, при которых этот акт лишь и возможен,
и Земля доживает свой срок, ничего не возрождая (в перво-
зданном, исходном смысле) и не восстанавливая в своем био-
логическом балансе и только лишь расходуя то, что когда-то
было ей «дано»?
Вероятно, дело обстоит так, что первичные микроорганиз-
мы, зарождаясь в давние, первозданные времена, не имели
врагов и все были в одинаково благоприятных условиях для
своего возникновения. Теперь же, когда развились тысячи
тысяч более совершенных существ, если даже и возникают,
возрождаются первичные, самые изначальные живые орга-
низмы, точно воспроизводящие первозданные, они мгновенно
пожираются более совершенными организмами.
Делаю эту запись на склоне огромного оврага, у подно-
жия «Королевки». Овраг густо зарос ольхой. Внизу напори-
стой, тутой струей шумит, размывает корневища ручей. Жар-
ко, стоят солнечные дни. Настежь распахнуты жаждущие
оплодотворения зевы медуниц. По ним ползают, зарываются
в глубину пчелы. Откуда пчелы? Ведь партизаны залили у
населения все ульи водой, чтобы ничего не осталось немцам.
До отказа раскрылись навстречу солнцу и ветреницы, чистые,
как евангельское «Благовещение». Вечером настойчиво пели
соловьи и на болоте раздавалось тихое мурлыканье, блеянье
бекасов, голубиный стон, хлюпанье, сопение — неукротимые
весенние, сокровенные звуки—«бред бытия» (Пастернак).
478
Переехали в Лужкове. Ходил в Политотдел в Рогаткино,
получил партийный билет № 6400661.
16 мая.
Откладывал запись. Двое суток провел у летчиков. Вы-
ровненное, выглаженное катками и присыпанное песком по-
ле. Оно еще как следует не просохло после стаявшего сне-
га. По голой его поверхности, лишенной травы, бегают, бы-
стро-быстро семенят пятипалыми лапами скворцы. Особенно
их много на стоянке истребителей, замаскированных на
краю поля. Они так и шныряют среди колес, выхватывая,
вытаскивая своими пинцетами дождевых червей из черных
дырочек, просверленных в земле. Вихревой гул самолетов,
берущих разгон на стартовой дорожке, их совершенно не
пугает.
Ночевал в общежитии летчиков (кирпичное двухэтажное
здание без крыши, с окнами, заколоченными фанерой).
Странное ощущение, словно я двое суток прожил среди
московских десятиклассников, хорошо знакомых мне по
моей работе в родительском комитете 125-й школы. Все лет-
чики очень юные. Они много, уже слишком много пережили,
загорели, возмужали, но не только не сбросили с себя чего-то
коллективно-школьного, а, наоборот, еще сильнее это закре-
пили фронтовым братством. Атмосфера клятвенной дружбы
и железной взаимной выручки. Весь стиль общения друг
с другом заметно культурнее, нежели в стрелковых ча-
стях.
Сначала замполит дал мне ясно понять, что я здесь лиш-
ний: в частях воздушной армии своя авиапресса, свои кор-
респонденты. И действительно, ни наша армейская газета,
ни вся Ударная не имеют к летчикам никакого отношения.
Мне помог билет члена Союза писателей.
Истребительным полком командует подполковник, грубо-
ватый и неприветливый. Полная противоположность ему—
очень приятный, культурный начштаба, полковник Шехо-
вецкий. Он уговаривал меня, настойчиво убеждал заняться
летчиком Симоновым, старшим лейтенантом. По его словам,
это — Корчагин в авиации.
Фашист сбил Симонова на высоте семь тысяч метров.
Перелом основания черепа, ноги смяты доской приборов
479
управления; ногу отняли, когда Симонов был еще в бессо-
знательном состоянии.
Когда действие наркоза прекратилось и Симонов до конца
осознал, что с ним стряслось, у него появилось такое чувст-
во, будто не ногу у него отняли, а обрезали крылья и на-
всегда отняли у него небо.
Жизнь потеряла всякий смысл, и он тут же, в госпитале,
начал морить себя голодом.
В конце концов Симонова все-таки подняли с койки, по-
ставили на одну ногу и на костыль. Но желание жить не
возродилось в нем, и, когда дня через два он упал от сла-
бости на тротуар, это его даже обрадовало, он сказал самому
себе: «Так и надо!»
Он пошел на Белорусский вокзал, чтобы броситься под
поезд и, как Анна Каренина, смотрел под колеса.
И вдруг он вспомнил о матери и об отце. Пропустил три
состава. Все-таки подло с ними не попрощаться.
В родную деревню он вошел ночью. Ведь его крылья бы-
ли гордостью не только отца и матери — им гордился весь
район. А теперь он — калека...
Но именно здесь, в родном гнезде, откуда однажды он
вылетел в большой мир, теперь в первую же ночь он понял,
что он еще не погиб, это еще не конец, нет — он будет еще
в небе! Он туда поднимется! Он опять станет в строй — кры-
лом к крылу — со своими товарищами и схватится с врагом
как равный с равными, а не как калека.
Мяса и молока в родном доме было вволю — мускулы
начали наливаться опять.
Гризодубова помогла Симонову достать хороший протез.
Долго, мучительно долго пришлось доказывать многочис-
ленным комиссиям, что он совсем не инвалид, что может
летать и уничтожать врага. Было унизительное чувство от-
того, что вынужден показываться на людях в плохом обмун-
дировании, выданном в госпитале: ворот гимнастерки не
сходился на могучей шее.
Наконец ему разрешили пробный полет. Прошло отлич-
но. Потом шесть «провозочных» полетов — на втором месте
рядом с тобой сидит инструктор и следит, как ты справ-
ляешься с управлением самолетом. Выдержал и это испы-
тание.
Он снова в родном полку,— его долго не пускают в боевое
задание, боятся ответственности. Симонов жалуется коман-
480
диру дивизии. Командир дает разрешение. И все-таки еще
проба: десять кругов над аэродромом и десять посадок.
После этого неожиданный удар — запрет пилотировать.
Тогда больше ничего не остается — он вырвался в небо, ни-
кому ничего не сказав, самовольно сел на истребитель, вы-
летел в бой и сбил немца. Так был открыт новый счет сби-
тых Симоновым самолетов.
Симонову летать трудно: коленный обжим его протеза
ограничивает ход ручки управления, когда надо делать фи-
гуры высшего пилотажа. Фигуры получаются в замедленном
темпе, но ему все равно удается сбивать врага. Теперь он —
командир звена.
Вот моя запись под диктовку Симонова:
«Выполняя задание по прикрытию своих войск, в составе
четырех истребителей, на высоте 3200 метров заметил двух
«фокке-вульфов-190». Они шли со стороны солнца. Сам я
находился в противоположной стороне на отдалении
7—8 воздушных километров.
Немцы, заметив наши самолеты, перешли в набор высо-
ты, что, не замедлив, сделал и я. Я шел ведущим. Группа
поднялась вместе со мною.
Таким образом, немцы и мы поднялись на 600 метров, это
заняло минуты две. После того как немцы заметили, что
мы повторяем их тактику, они решили немедленно атако-
вать нас с ходу.
После первой атаки бой продолжался на виражах. (Ви-
раж — замкнутая кривая без набора и потери высоты с уста-
новленной, постоянной скоростью.) После второго виража
захожу немцам в хвост ведомого самолета. Немец, опасаясь
быть сбитым, отвалил вправо, во внешнюю сторону. Продол-
жая виражить, захожу в хвост ведущему. Сблизившись на
дистанцию 100 —150 метров и взяв пушкой упреждение, я
дал продолжительную очередь. От фонаря немца посыпа-
лись искры. Самолет противника сорвался в штопор. Поте-
ряв высоты метров 800, он пытался выйти из штопора.
Я спикировал за ним и дал еще очередь. Немец врезался в
землю».
Я спросил Симонова: какая книга произвела на него са-
мое сильное впечатление в юности?
«Спартак»! После прочтения жажда стать сильным, что-
бы к тебе никто не смел прикоснуться пальцем и чтобы ты
всегда мог защитить от подлецов других. Гири, гантели,
штанги.
16 В. Ковалевский
481
Сделавшись силачом, никогда никого не бил. Только один
случай в ресторане — он «внушал» хулигану правила пове-
дения, тот ударил его по лицу, тогда Симонов полуударом
свалил его с ног.
Родился Симонов под Москвой. Окончил ФЗО-39 при мо-
сковских бойнях, стал там рабочим. В бригаде было шест-
надцать человек, и по норме ей полагалось разделать за ра-
бочий день 400 штук рогатого скота. Симонов «раскрывал
паха», потом перешел на «бабки».
Потом планерный кружок при бойнях, аэроклуб без от-
рыва от производства. Наконец, лётная школа, и вот Си-
монов —летчик-истребитель.
Симонов говорит, что отношения с товарищами-летчика-
ми у него изменились после того, как он стал «инвалидом»:
товарищи стали сдержаннее, чуть-чуть отчужденнее.
Я спросил его, а нет ли здесь излишней мнительности.
Он ответил: «Может быть...»
Симонов заметно отличается от своих товарищей, и это,
наверно, естественно. Сосредоточен на самом себе. Общите-
лен и даже шутлив, но не так непринужденно, как другие.
Он ровен одинаково со всеми, друзей у него нет. Говорит, что
попытки завязать дружбу были неудачны, приходилось рас-
каиваться после доверчивой откровенности.
Отталкивает его отношение к женщинам. Он убежденный
женоненавистник. Так и говорит: «Я смотрю на них, как на
цветок: понюхал и бросил».
С наивным цинизмом просит объяснить — не болезнь ли
это у него: дольше пяти дней не может «иметь дело» с одной
и той же женщиной.
Где причины такого уродства в сексуальных потемках
этого человека? Найти их трудно, надо начинать с младен-
чества и с юности, а времени у нас с ним нет, несмотря на
всю его готовность обнажиться до дна. Работа по разделке
туш на бойне, «раскрывание паха» тоже не прошла для него,
по-видимому, бесследно.
До войны у него все-таки был длительный роман (года
полтора). Она ради Симонова бросила мужа, хотя сам он
предостерегал ее, что вся эта любовь ерунда и что не надо
бросать мужа. Но в конце концов он сам предложил ей
оформить брак. На этот раз отказалась она: «Я старше тебя
на семь лет. Я не хочу тебя связывать. Тебе еще надо охо-
титься за такими дурочками, как я. Но я всегда буду тебя
любить — ты моя страсть, моя настоящая любовь».
482
Вскоре он сошелся с какой-то казачкой. Выдал ее за свою
сестру и стал обманывать свою прежнюю привязанность. Но
она догадалась, произошел разрыв.
Симонов не может понять, хотя отчасти и соглашается,
что от нас самих зависит лживость некоторых женщин, их
неверность. На этот счет у Симонова полнейшая путаница
в голове. Моральный облик мужчины придает любовным
отношениям тот или иной стиль, характер. Симонов сам
ищет не очень стойких женщин.
Он тяготится своей малокультурностью, недостатком
образования. Жаждет иного общества. Несколько раз возвра-
щался к этой теме. Его тяготит скука (это на войне-то!), как
он говорит: однообразие лётной жизни. «В общежитии нет
книг и пойти некуда».
18 мая
Аэродром. Землянка летсостава. Нары в два этажа. В уг-
лу бак с питьевой водой. Солома на нарах, солома на зем-
ляном полу. Несколько летчиков отдыхают, спят на нарах,
прямо на соломе, не снимая комбинезонов. Среди них — Си-
монов.
Тревога! Два выстрела из ракетницы: белый и зеленый
сигнал. Летчики вскакивают, прыгают с нар и все до одного
выскакивают наружу. Я — за ними. Самолеты тут же, мет-
рах в двадцати. Механики и летчики мгновенно отбрасывают
сосенки, маскирующие машины, и вот они уже как бы при-
паяны к истребителям — все на своих местах.
Кто-то кричит: «Фоккеры над аэродромом!»
Буквально минуты через две — отбой. Летчики снова
спускаются в землянку и засыпают на той же самой соломе.
Но Симонов больше не ложится, говорит, что днем почти ни-
когда не может уснуть. Сегодня он уже успел сделать два
боевых вылета (подъем был в 3.30 утра). По его словам,
больше всего утомляет сидячка в кабине самолета в первой
боевой готовности: жарко — сидеть приходится в теплом
комбинезоне и в шлеме.
У Симонова синяки на шее и марлевая наклейка на ску-
ле. Два дня назад при вынужденной посадке (отказал мотор)
его чуть было не задушила рукоятка управления. При ударе
о землю доски пола проломились, в кабину набилась земля.
Когда к Симонову подошли, он был еще без сознания. Из
ближайшего госпиталя прибежала медсестра, хотела было
16'
483
перевязать его. Но, придя в себя и увидев ее на крыле, он
крикнул: «Эй, мелочь, уйдите отсюда, не царапайте плоско-
стей! »
На другой день он опять уже летал.
Сейчас полковник Шеховецкий вызывает ведущего зве-
на Симонова и его заместителя Зайцева и передает им зада-
ние из штаба воздушной армии: «Тройке прикрывать район
«Новый путь» и два километра севернее. Туда сейчас выхо-
дят ИЛы на штурмовку».
И вот уже рыжая пыль замглила аэродром, от стартовой
дорожки оторвалась тройка Симонова.
Почти в ту же самую минуту вижу, как стороною, низко,
точно стараясь сбрить верхушки деревьев, пронеслись на
штурмовку ИЛы. Над ними висят, не отстают наши истреби-
тели, поднявшиеся с другого аэродрома, чтобы тоже охра-
нять их от вражеских «мессершмиттов».
Жарко, душно. Сидим под елочками. Разговор то и дело
возвращается к гибели летчика Соловьева, сбитого вчера
фашистами.
Мучительная смерть. По какой-то причине (может быть,
обнаружив в воздухе непоправимое повреждение) он ото-
рвался от своих и вдруг бросился в лобовую атаку на трех
«фоккеров». А выше Соловьева шло еще восемь «фоккеров»,
они его моментально зажгли. Самолет Соловьева загорелся
над вражеской территорией. Видно было пламя внутри ка-
бины. Соловьев все-таки дотянул до наших боевых порядков
и здесь выбросился с парашютом. Но уже все на нем горело
(на руках потом были обнаружены ожоги до самых костей).
Парашют раскрылся, но пламя тотчас же перекинулось с
одежды на стропы парашюта. Соловьев видел, как и они
горят. Он видел свою гибель. Несколько строп оборвалось,
парашют вытянулся, как тряпка, и дальше, с высоты тысячи
метров, Соловьев падал уже как камень. Он видел свою
гибель.
Настроение у летчиков невеселое,— немцы получили
много новых истребителей. Они бросают их большими груп-
пами. Летчики утомлены, их то и дело вызывают по боевой
тревоге, мечтают о плохой, нелётной погоде.
Нарастающий гул — возвращаются наши ястребки (ЯК-9).
Полковник Шеховецкий бежит на старт сажать машины. Зо-
вет с собой меня.
На старте, а значит и на «финише», выложен белый ма-
терчатый знак «Т». Походная рация, тонкая игла антенны.
484
Боец садится на сиденье, похожее на седло велосипеда, и
двумя руками принимается вращать динамик. Полковник
берет в руку грушевидный передатчик и тоном заботливого,
энергичного доктора управляет посадкой истребителей,
один за другим подходящих к аэродрому. Вот язык нач-
штаба:
— Не разгоняй, не разгоняй! (Чтобы летчик «не прома-
зал» и не пролетел бы дальше нужной черты, — тогда ему не
хватит аэродрома и он врежется в лес.)
— Убирай газ полностью!
— Порядок! (В тот момент, когда ЯК-9 коснулся земли
обоими колесами.)
Подходит второй истребитель. Не решившись призем-
литься с первого раза, летчик повел его на второй круг над
аэродромом.
— Что вы ходите, черт вас возьми, с правым кругом!
— Хватит, хватит! Убирай газ!
— Сруливай быстрее! (То есть уходи по земле с дорожки,
дай сесть другому самолету.)
В это время появляются два истребителя. Конечно, они
помешают друг другу.
— Антонов, уходи на второй круг!
— Андреев, ты не можешь, как люди, — опять какой-
нибудь фокус. Смотри — боковик! (Боковой ветер.) Газок
плавно убирай. Дай левый крен, сносит ведь вправо!
И тут же начштаба, опустив руку с микрофоном, гово-
рит мне почти шепотом, как будто летчики все-таки могут
его услышать:
— Волнуются при посадке, — ведь подходят к земле с
большой скоростью.
Быстро вскидывает руку, кричит в микрофон:
— Потише рули, пыль поднимаешь! (Действительно, над
аэродромом уже висит мгла от пыли.)
— Спокойно, спокойно, Симонов, отлично, все идет хо-
рошо!
Адская пыль. Потный полковник стал рыжим от пыли,
точно его за эти десять — пятнадцать минут успели пере-
красить. Хорош, должно быть, и я! Даже веки уплотни-
лись— трудно моргать, кажется что они сейчас заскрипят.
В глазах режущая боль.
Ну, вот и Симонов. Идет к нам в синем комбинезоне шлем
снял; обнажена мускулистая шея атлета; слегка прихрамы-
485
вает; подбородок у него безукоризненный, как у мраморного
Антиноя. Увидев его, начштаба говорит мне:
— Всем хорош, только смертельно опасен для дев-
чонок! Это даже и не его вина — сами дуры летят
на огонь!
С аэродрома мы поехали обедать — всего километра
два на грузовике, увозившем всю смену, которая за-
кончила свое дежурство. Рядом со столовой, около кирпич-
ной стенки разбитого снарядом сарая, на каких-то ящиках
стоит гроб. Пока без почетного караула, без всякой охраны.
На гроб, как на крышку рояля, оперлась локтями девушка.
Голову она зажала в ладонях. Плачет. Это гроб с телом Со-
ловьева.
Через час, вернувшись в общежитие на отдых, мы увиде-
ли на столе красную подушечку с орденами Соловьева. Ка-
залось, что летчики вовсе и не думают о погибшем, каждый
занимается своим делом. Некоторые брились по очереди у
зеркальца, прилаженного тут же на столе рядом с красной
подушечкой и орденами. Обнажившись до пояса, выходили
на крыльцо и умывались там. И лишь ближе к часу похорон
мне стало ясно, как тяжело все они переживают гибель Со-
ловьева.
Симонов и Бородаевский отказались участвовать в по-
четном карауле. Бородаевский с дрожью в голосе просил:
«Я уже хоронил двух товарищей. Я этого не могу, понима-
ете, не могу!..»
Была на кладбище и та девушка, которую я видел у гро-
ба. Она не плакала при других, была как каменная, с распух-
шим от слез лицом. Кто-то сзади меня сказал соседу: «Мо-
лодец Наташа, держится!» Когда комья земли застучали о
крышку гроба, она вдруг очнулась и стала быстро-быстро
горстями сбрасывать в могилу землю, как бы боясь
опоздать и не успеть сделать так, чтобы кусочек земли,
побывавший в ее руках, лег как можно ближе к ее любимо-
му человеку.
Когда уже все мы ушли с кладбища, я оглянулся и уви-
дел, что Симонов остался один у могилы. Он прислонился
к березе, и плечи его вздрагивали от рыданий.
Казалось бы, все мы уже здесь на войне одичали, все у
нас притупилось, уж слишком мы много видели и пережи-
ли... Так вот нет! Это неверно! Мы еще живы, и справедли-
вость на земле восторжествует — этого добьются, это завою-
ют в бою наши люди!
486
20 мая.
Начальник разведотдела дивизии сказал: «Если немец не
пускает нас к себе, надо его заставить самого прийти к нам».
И вот он несколько дней посылал разведчика в кустарник
нейтральной полосы. Разведчик стремглав пробегал откры-
тое пространство. Он делал перебежки туда и обратно (от
окопа сторожевого охранения в кусты «нейтралки» и обрат-
но) через каждые четверть часа.
Немцы заподозрили, что в кустах что-то есть, и реши-
ли проверить. Они послали ночью свою разведку и наткну-
лись на нашу ночную засаду. Так был захвачен еще один
язык.
В одной из дивизий, в роте разведчиков, любят похулига-
нить. Особенно им нравится пугать женский персонал в мед-
санбате. Ставят ракетницы у входа в палатку, кто-нибудь
из медсестер споткнется о натянутую поперек входа прово-
локу — выстрел и всеобщий переполох.
Одна сестра открыто относилась к ним как к хулиганам
Решили проучить ее: попробовали «подбить под нее кли-
нок» (поухаживать) — ничего не получилось: девушка стро-
гая, твердая. Тогда был осуществлен «ночной поиск». Двое
подползли к ней, когда она стояла в карауле с винтовкой.
Прислонившись к изгороди, медсестра подремывала на по-
сту. Один накинул на нее плащ-палатку, другой зажал голо-
ву под мышкой, чтобы она не могла крикнуть. Принесли ее
к себе в блиндаж и не выпускали целые сутки. Можно себе
представить, что происходило в медсанбате, когда стало из-
вестно, что пропал часовой!
Когда об этом узнал командир полка, он выстроил роту
разведчиков по линейке и устроил «вселенскую смазку». А
начальник медсанбата своими силами начал огораживать
медсанбат колючей проволокой. За день успели загородить
метров тридцать, но эта загородка продержалась всего не-
сколько часов. Ночью разведчики искромсали кусачками
проволоку на мелкие обрезки и свалили их у входа в па-
латку начальника медсанбата.
Язык:
«Вы сейчас похожи на цветок «не тронь меня»!
487
Выстрел из миномета более гулкий, чем из орудия: из
орудия — короткий удар. Из миномета в лесу иногда получа-
ется так, словно стреляют в пустом, гулком помещении.
Спросил нашего редакционного радиста Зелика Моисе-
евича Зелеченко: что его поразило на войне больше всего?
(Лысый, сгорбленный еврей, страдающий плоскостопием.
Застенчив — будто боится, что его могут подозревать в ка-
ком-то скрытом пороке. Веки всегда сощурены, утолщены
скрытыми в них застарелыми, не прорвавшимися ячменями,
которые, по его словам, можно удалить только операционным
путем.)
Его поразило на войне безразличие людей к опасностям.
На передовой бойцам постоянно приходится напоминать,
чтобы они берегли себя, прятали бы в окопе голову.
24 мая.
Узнал новость: нашей армией командует генерал-лейте-
нант Поростаев. Тот самый!
Отделение агитации переехало к нам, в Лужкове. Коблик
здесь. Опять философские прогулки, теперь — прощальные:
врачи отсылают меня лечиться.
Если бы можно было записать его вопросы и мои ответы,
получилась бы совершенно законченная система моих взгля-
дов на жизнь, но я сейчас слаб — болит голова. Я ответил на
самые сокровенные вопросы, безбоязненно додумал все до
конца, но записать сейчас нет сил.
Стремление человечества к лучшему — зто рабочая гипо-
теза, придающая человечеству стойкость и силу в борьбе за
существование. Лучшее никогда не будет достигнуто, ибо то,
чего достигает одно поколение, — это является только фун-
даментом, только лишь началом для следующего поколения,
которое в свою очередь будет стремиться к «лучшему», и
так без конца, вернее, до конца существования человечества
как биологического вида.
«Лучше» — всегда или в прошедшем («Золотой век»), или
в будущем. «Лучшее» никогда не наступит — будет просто
иначе, по-другому, хоть и лучше.
Человек — это сложный комплекс, обведенный, как кру-
гом, определенной чертой его особенностей и возможностей.
И вот это нечто (этот психофизический комплекс) остается
самим собой в любую эпоху, в любое время, несколько лишь
488
варьируясь в зависимости от среды и от других, влияющих
на него условий, например от количества населения на зем-
ном шаре, от экономической структуры, нужной для того,
чтобы прокормить это количество. То есть стремление к
«лучшему» существовало и у первобытного человека, будет
существовать и у человека эпохи биологического заката че-
ловеческого рода.
Согласится ли человечество, чтобы человек благодаря хи-
рургическому вмешательству или другому ухищрению пре-
вратился бы в более высокое существо, но настолько при
этом биологически и интеллектуально изменившееся, что че-
ловек перестает быть человеком (выходит из круга, обве-
денного определенной чертой). Согласится ли, чтобы человек
перестал быть Адамом?
Возможно, что и согласится, если человечеству будет
угрожать полное угасание и гибель, если станет вопрос так:
или человек, как Адам, погибает, или, видоизменив свою
структуру и психику, он превратится в более высокое су-
щество и только так (перестав быть человеком) уцелеет?
Я думаю, что человечество может на это пойти, потому
что к этой проблеме судьба подведет его постепенно — мно-
гими годами, многими, многими столетиями оно будет ре-
шать этот вопрос. Утешением для человечества будет то, что,
обладая совершенной аппаратурой памяти (кибернетиче-
ской '), оно будет себя этически и морально сознавать наслед-
ником предшествовавшего человечества.
Существуют тысячи комбинаций взаимодействий, когда
зло, подобно маленькой дозе яда у гомеопатов, возбуждает
здоровую реакцию в организме человечества, стимулирует
бурное развитие «добра». И этот процесс темен для нас, не-
уследим, и мысли об этом для многих нечестных людей
опасны, так как открывают путь для оправдания их пре-
ступлений.
«Добро» — это здоровье человечества, «зло» — его бо-
лезнь. Циники, злые люди, преступники — это сухие листья
и наросты на цветущем древе человечества, следы его бо-
лезней. Но любой болезненный процесс возбуждает, вызыва-
ет к усиленной деятельности животворные, целительные си-
лы, если только он не смертелен.
Человечество продолжает существовать, потому что «зла»
в нем меньше, чем «добра». Если животворные силы станут
1 Этого термина еще не существовало во время войны. Я ввел
его, переписывая тетрадки уже теперь.
489
у него иссякать и «зла» станет больше, чем «добра», насту-
пит эпоха угасания человеческого рода, как определенного
биологического вида.
Перечитал то, что написал, и подумал: а не бред ли это
релятивиста? Фатализм не обязателен. Ведь овладев зако-
нами природы, человек сможет изменить природу и создаст
для своего существования оптимальные условия. Человече-
ство бессмертно.
28 мая.
Высшее благо на земле—это первозданная непосредст-
венность жизнеощущений, с чего каждый человек начина-
ет — каждый раз сначала и независимо от опыта отца и
матери. Это то, что не передается по наследству — радость
от первичных ощущений существования, начиная от ощуще-
ния соска с теплым материнским молоком. Это первичное
ощущение у каждого новорожденного — свое, неповторимое.
Когда дерево усыхает, то следующее дерево начинает расти
не от верхушки усохшего, а от нового зерна. В смысле се-
лекции оно может быть лучше предыдущего (учесть его
опыт), но его первичное «мироощущение», реакция от сопри-
косновения со светом, с теплом, с водой начинает все сна-
чала, независимо от «опыта» родительского дерева.
Правда, «опыт» родителей заложен уже в зерне, но опыт
«родовой», а не «индивидуальный».
Детей надо оберегать от преждевременных знаний того,
что им не надо знать. Высшее преступление на земле — убить
или состарить ребенка.
В юности — и еще раз при появлении у нас первого ребен-
ка — мы слушаем мир, как музыку. Мы наслаждаемся лю-
бовью и дружбой — всеми сторонами жизни. Наслаждение
человека при созерцании пейзажа, природы, общение с при-
родой— это тоже привязывает человека к земле, укрепляет
его в борьбе за существование, обеспечивает жажду к раз-
мышлению, продлению рода. То же дает и наслаждение от
близости к искусству.
В зрелом возрасте ощущение свежести, непосредствен-
ности восприятия постепенно слабеет от повторения пережи-
ваний, от изнашивания нервных тканей. Но появляется но-
вая стадия наслаждения от сознания зрелости своего ума,
оттого, что начал глубже понимать жизнь. Ты испытываешь
удовольствие, сознавая себя разумным, зрелым. Подобно
490
тому, как смотришь на ландшафт с высокой горы, так ты те-
перь обозреваешь жизнь свою и всего человечества с высоты
своего опыта; ты охватываешь обостренным сознанием со-
седние эпохи и века и продолжаешь вкушать земные плоды
со знанием дела. Но постепенно начинает примешиваться го-
речь от сознания того, что ничто земное не долговечно. Ощу-
щение непосредственности еще больше притупляется, факты
повторяются, во всем нарастают повторения. На окончании
нервных корешков как бы появляются «мозоли». Слизистые
оболочки грубеют, требуют все более острого раздражения,
чтобы получить что-то подобное прежнему наслаждению.
Дно глазного яблока тоже «изнашивается». Мир тускнеет.
Появляется смертельная тоска по утраченной яркости миро-
ощущения. Опять повторения. Мир становится слишком зна-
комым, не хочется его перечитывать. Смертельная усталость.
Жажда покоя. Все чаще хочется спать. Жажда смерти, как
вечного сна и покоя.
Можно ли в таком состоянии мечтать о бессмертии, о том,
чтобы прожить еще сто, тысячу лет, миллион, два миллиона
лет? Бессмыслица!
Даже девяностолетние старики уже начинают ощущать
бренность существования — их утомила повторяемость яв-
лений.
Мечтать можно только в духе фантастов — о вечной мо-
лодости, о неувядающей свежести мироощущения. Точнее
сказать, о неизнашиваемости нервных клеток. Это все равно
что остановить солнце. А там, где нет движения, нет борь-
бы — это и есть смерть.
Мудро писал М. Пришвин: «...вот как отлично это при-
думано — устроить нам жизнь каждому у нас так, чтобы не
очень долго жилось и нельзя никак успеть все захватить
самому, все без остатка, отчего каждому из нас и представ-
ляется мир бесконечным в своем разнообразии» («Первый
зазимок»).
Представить себе состояние человека, который родился
в первом веке и дожил в здравом рассудке до наших дней
(как придорожный камень, как ручей). Он все знает и ни-
чего не хочет.
У меня не было сил записать по-настоящему, с необхо-
димой строгостью и точностью все «вышеизложенное». Я
пропустил самое главное — все, что связано с работой, твор-
ческой работой человека. Без этого все рассуждения на пре-
дыдущих страницах — пустышка.
491
Там, где говорю о наслаждении, обязательно связать зто
с работой; то есть надо говорить о наслаждении как о резуль-
тате творческой работы. Наслаждение синхронно с работой
(так должно быть в идеале, когда работа — любимое дело)
и увенчивается ощущением полной свободы при завершении
работы. (Слабо, продумать на досуге.)
Человек и человечество не сходят с ума от всех ужасов
жизни, потому что в нас автоматически работают психофи-
зические предохранители, разного рода барьеры и фильтры.
Предохранительные «пробки» постепенно одна за другой
сгорают, организм изнашивается, человек стареет, но не схо-
дит с ума.
Воспитание детей у нас еще варварски кустарно. А сей-
час, на фронте, об этом просто стыдно говорить.
Немцы усиленно забрасывают нас листовками двух ва-
риантов. В первом — шулерство. Цитируют Ленина: «Долой
войну!», «Братайтесь!», притягивая к нашим дням то, что
Ленин сказал о войне 1914—1918 гг.
Во втором варианте — вас, мол, обманывают: говорили,
что достаточно освободить только свою территорию, а теперь
ведут на Румынию, призывают идти в Европу.
Чей путь мы собою теперь устилаем!
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут!
(Багрицкий)
Первобытный человек был меньше подвержен душевным
страданиям и более вынослив к физическим. Культура неиз-
меримо широко развернула скрытые в человеке возможно-
сти, однако вместе с этим она и увеличила страдания челове-
ка, сделала его более чувствительным к ним.
Сегодня опять разговор с Кобликом на «философском
камне», у излучины речушки Милья.
Он спросил меня, глядя на одуванчики, почему-то цвету-
щие так поздно, или, может быть, это уже второе цветение:
— А что это за цветы, вот эти желтые?
— Одуванчики. Им бы надо цвести в мае, а иногда даже
в апреле.
492
Коблик очень удивился:
— Но ведь нормальные одуванчики — это пух, это белые
шарики!
— Да, да, когда одуванчики отцветут —получатся се-
дые, белые шарики.
Он удивился еще больше:
— Значит, цветы тоже седеют?!
Саперы пилят бревна для лежневки. Звук пилы напоми-
нает хриплое дыхание загнанной лошади.
В ночь с 1-е на 2-е прощался с Тележниковым.
Тележникова я понимаю не до конца. Работая над рома-
ном, я еще много буду о нем думать, уточнять эту фигуру.
В армии у него нет человека, с которым бы он был близок.
Скрытен.
Утреннее серое лицо еще не умывшегося человека.
«Заигрывающие орудия», заманивающие танки противни-
ка под огонь артиллерийских засад.
б июня 1944 г.
Союзники высадились во Франции.
Свершилось! Вот это и есть то самое, чего мы все ждали
с 1942 года. Второй фронт открыт! Это тоже наша победа!
Своим подвигом мы вынудили их открыть второй фронт!
8 июня.
Верхом в отдел кадров, там мне вручили орден Красной
Звезды.
Поразительная по красоте дорога, мимо Копылова,
Ополья, через небольшой, крутой хребет, поросший лесом.
В лесу на фоне темных сосен хорошо выделяются лаки-
рованные светлые листья берез: они еще младенчески лип-
кие, покорные, как бы еще не совсем проснувшиеся. Весь
лес убран светлыми свечками молодых побегов, поставлен-
ных на каждой веточке каждой сосны.
493
Попрощался с командармом, «генерал-солдатом» Поро-
стаевым. Чудесный человек. По складу простецкого, русско-
го характера в нем есть что-то общее с Сашей Королевым.
После ранения он стал еще проще. Командует армией, а
генерала осталось в нем еще меньше — заметнее обнажился
солдат. Никогда никого не перебьет — внимательно выслу-
шает. По-прежнему стрижется наголо, но волос у него еще
крепкий и густо пробивается вместе с сединой — голова
словно посыпана солью с перцем.
Простота и доступность Поростаева давно уже всем из-
вестны,— я смог доехать верхом до самого порога его жи-
лища, ни один часовой не протестовал. Живет «генерал-сол-
дат» в маленькой, как в сказке, избушечке. Но саперы поста-
рались: сруб сложен из толстенных бревен столетних елей,
чисто ошкуренных, белых как кость. Здесь, у порога, я и
привязал свой четвероногий транспорт к оставленной для
маскировки елке.
Никто из командиров не был со мной так откровенен, как
Поростаев. Не прошло бесследно то, что я жил вместе с ним
в мокром блиндаже во время операции под Великим Селом
и несколько суток гостил у него в Кузьмине, когда шли бои
за Коровитчино.
Дружелюбно со мной поздоровавшись и ни о чем не
расспрашивая, словно мы с ним виделись только вчера, По-
ростаев подошел к большой — во всю стену — карте, на ко-
торую падал свет из окна. Глядя на нее, он спросил меня,
как если бы это была не карта, а перед ним стояли в строю
живые люди: •
— Вы замечаете, как изменились во время войны ко-
мандиры и политработники, как возросло в Красной Армии
воинское мастерство?
Я молчал. Он продолжал, стоя ко мне вполоборота и не
спуская глаз с карты:
— У нас с вами есть опасность, как бы вам это сказать...
Когда речь идет об истории...
Я понимал, что он не хочет меня чем-нибудь задеть, оби-
деть и подыскивает какое-нибудь нейтральное выражение.
Идя ему на помощь, я сказал:
— Мы слишком долго сидели в лесу, в болоте.
— Вот именно! У нас с вами есть опасность на все смо-
треть с точки зрения лягушачьей перспективы. Бытие опре-
деляет сознание, а наше бытие — болотная сидячка. Давайте
расправим крылья и поширяем над просторами нашей Ро-
494
дины. Пока мы здесь топчемся, немцы отброшены на За-
пад от Волги и Терека на сотни километров. Любопытные
сравнения получаются, если считать по летним кампаниям.
Очень любопытные. Летом сорок первого года немцы насту-
пали на всех фронтах и дошли до Москвы. А летом сорок вто-
рого года враг мог наступать только на одном южном стра-
тегическом направлении — в пять раз меньше, чем в сорок
первом, и продвинулся на восток вдвое меньше. Теперь возь-
мите нынешнее лето: немцы вклинились на Курской дуге
только на тридцать пять километров. Только! Чувствуете, ка-
кая железная закономерность!
И далее: в сорок первом году наступление Гитлера дли-
лось пять месяцев, в сорок втором году — три месяца, а в со-
рок третьем году — только десять дней. Пять месяцев, три
месяца, а этим летом — только десять дней. Вот эта железная
философия войны и приведет нас с вами к победе.
У фашистов в начале войны было во всем решающее
преимущество: больше, чем у нас, танков, больше артилле-
рии, больше самолетов. Но у нас была самая совершенная
идея — торжество справедливой жизни на земле. Вот за
что я люблю вас, политработники: ваше оружие — самая пе-
редовая идея в мире.
В этом месте, почувствовав, что перескочил через какую-
то мысль, Поростаев задумался на минуту, а потом, туго
проведя ладонью по темени, продолжал:
— Все дело в том, что неизмеримо выросло материально-
техническое оснащение Красной Армии. Неизмеримо! Вы
помните, что делалось в начале войны? Два автомата на
целую роту. А теперь у нас есть роты сплошь из автоматчи-
ков. Выросла подвижность войск на главных направлениях,
сильнее стала огневая мощь из-за массового насыщения пе-
хоты автоматами и артиллерией. Танков и авиации у нас те-
перь хватает, они поражают врага на большую глубину и в
большинстве случаев решают исход боя. Что ни возьмите —
во всем новинки: новая противотанковая граната, новый
станковый пулемет — лучше «максима», новая противотан-
ковая пушка пятидесятисемимиллиметровая, я уже не гово-
рю об авиации...
Битой оказалась и стратегия врага, — это метафизики, а
не стратеги. Они действуют по одному и тому же шаблону:
двусторонний оперативный охват. Их замысел нетрудно уга-
дать: даже в авантюрах они не идут дальше шаблона: вытя-
гиваются в нитку, скапливаются в одной точке, чтобы оше-
495
ломить ударом на главном направлении, а в решающий мо-
мент генерального сражения остаются без резервов. На-
ша военная наука переплюнула гитлеровских ученых ге-
нералов.
Поростаев задумался, не отводя взгляда от карты.
Я был глубоко благодарен ему. Ведь это же он специаль-
но для меня читает академическую лекцию. Убежден, что
он делает это сознательно. Он «воспитывает» меня как исто-
рика, боится, как бы я не оплошал и не исказил историю
Ударной. «Генерал-солдат» хочет, чтобы я мыслил шире,
объемнее.
— Сейчас,— продолжал он,— все решает огромная кон-
центрация материально-технических средств: действуют не
разрозненные группы танков, а целые танковые армии, само-
ходки, бронетранспортеры... не эпизодическая артиллерий-
ская подготовка, а огромные массы орудий, которые стя-
нуты в кулак и шаг за шагом неотступно сопровождают пе-
хоту, пробиваются вместе с ней. Одним словом, вся та тех-
ника, которую в наших лесах и болотах применить было не-
возможно. Но скоро, очень скоро и мы с вами вырвемся
вперед!
Поростаев ткнул пальцем в реку Великую. Один фла-
жок, отмечающий линию фронта, упал на пол вместе с бу-
лавкой. Поростаев быстро, обогнав меня, нагнулся, поднял
и воткнул его на прежнее место. Добродушно усмехнувшись,
он сказал, оборачиваясь ко мне:
— Извините, увлекся, вообразил, что делаю доклад. Да-
вайте-ка лучше поужинаем. Хотите помыть руки?
Меня часто мучило сознание своего бессилия, неумение
взять полной мерой — с выгодой для истории армии и для
моего писательского дела — все, что дает мне мое исключи-
тельное положение. Я подбираю лишь то, что подкидывает
мне случай и не организую материала, стесняюсь надоедать
вопросами командарму и Тележникову.
После беседы с Поростаевым чувство горечи от своей
беспомощности у меня немного смягчилось. С легким серд-
цем вставил я ногу в стремя и опустился в чуть скрипнувшее
подо мной седло. Конь сам, без всякого понукания, перешел
на крупную рысь.
Теперь мне легче будет уезжать в Москву, залечивать то,
что осталось от контузии.
496
Москва. Около двух месяцев провел в госпитале в
Марьиной роще (Трифоновская улица, 9/1), месяц — в Доме
творчества в Переделкине.
Навязчивое ощущение, что я все еще не вернулся в Мо-
скву, что это не я вернулся в Москву. Страшная усталость,
что-то безвозвратно во мне изменилось.
Трудно было в госпитале. Это, конечно, не отдых — ле-
жать в общей палате на четырнадцать человек, а не меньшая
нагрузка, чем на фронте. Там хоть можно было уйти в при-
роду и во время переходов от редакции к передовой
оставаться один на один с лесом, с полем, с небом и ти-
шиной.
В госпитале суматоха, шум, радио. «Пикирования» —
самовольные отлучки раненых. Чтобы замаскировать свое
отсутствие, они клали вместо себя на кровать бюсты Фрун-
зе и Ворошилова. Однажды дежурившая ночью пожилая
медсестра ужасно перепугалась: откинула одеяло на од-
ной из коек, а там —черная голова, бюст. Чтобы не воз-
вращать каптенармусу выходное обмундирование и назав-
тра снова «спикировать», его прятали за портретами Ста-
лина и Молотова.
Вязкая, липкая, неумолкающая трескотня на сексуаль-
ные темы. Бессмысленное, варварское презрение к женщи-
не. Выздоравливающие легко находили на улице то, что
искали, делали из этого обобщающий вывод о всеобщей
развращенности женщин и девушек, об их доступности.
Скотская слепота. Конечно, война развратила многих. Но
обо всем этом надо говорить другими словами, прежде всего
подчеркивая тяжкий труд женщин, работающих на по-
беду.
Драка больных офицеров и всякого рода выходки. Я не
сразу догадался, что из-за контузии попал в отделение с
невропатологическим акцентом, где среди раненых попада-
ются бедняги, чье заболевание граничит с нарушением пси-
хики.
Отдыхать уходил на ликвидированное кладбище, на одну
треть оно засажено картошкой, но еще сохранилось много
старых могил.
Даже радостные салюты по вечерам (их было очень мно-
го в те месяцы) сопровождались тяжелыми переживаниями.
Зенитная батарея стояла на бывшем Лазаревском кладби-
ще, метрах в ста пятидесяти от госпиталя. Когда в утренних
газетах объявлялось о предстоящем салюте, многие контуже-
497
ные ожидали его со страхом. Некоторые прятали головы
под тюфяки, а с одним беднягою каждый раз начинался тя-
желый эпилептический припадок.
Особенно жутко было у нас в госпитале в день четырех
салютов: в восемь часов вечера — салют по случаю взятия
Белостока, в девять — Станиславова, в десять часов — Льво-
ва, наконец в одиннадцать тридцать — Шавли. Четыре са-
люта!
Так радость у этих больных мешалась с болью.
Вечер был пасмурный, но именно оттого, что над Москвой
так низко нависли облака, эффект получился необычай-
ный,— гораздо грандиознее, чем салют в чистое небо.
Я стоял на подоконнике — все было великолепно видно
в этот пасмурный вечер. Ракеты, уходящие за облака. Све-
чение облаков изнутри от вошедших в их толщу ракет. Свет
как через молочное матовое стекло. Красные и зеленые об-
лака. Еще и еще раз ракеты, уходящие в облака и, не успев
догореть, выпадающие обратно, и это самое замечательное,
то есть совершенно противоположное тому, что мы наблю-
даем во время обычного салюта. По сравнению с этой слож-
ной игрой света в многослойных облаках обычный салют
при ясном небе кажется воскресным фейерверком, чем-то
слишком общедоступным.
Только в Доме творчества в Переделкине я начал по-на-
стоящему отходить, отдыхать и, наконец, обрел самого се-
бя. Отдых в Переделкине — большая для меня удача.
1944 г., октябрь.
Пересчитать людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке!
(Я. Тихонов)
...И вот я опять в действующей армии.
Поездом, следующим по расписанию Бологое — Дно, даль-
ше — с попутными эшелонами до Пскова, перескакивая в пу-
ти на разных станциях с одного состава на другой, в зави-
симости от того, какой из них трогался с места раньше. Из
Пскова по тому же принципу — на грузовых машинах.
Догонял свою Ударную шесть суток.
Молчаливые, похожие на финнов, эстонцы. Много вело-
498
сипедов, едут женщины, мужчины, подростки, и все в одном
и том же деловом темпе — не быстрее и не тише, неторопли-
во, методично всей ногой жмут на педаль. У крестьян повсю-
ду грубошерстные костюмы городского пиджачного типа, брю-
ки широкие. Много шляп, хоть и стареньких, но все же фетро-
вых. Если кепи, то уж голова засунута в такой убор основа-
тельно, глубоко.
Повсюду в деревнях, местечках и на хуторах — превос-
ходные лошади, но упряжка у них, на наш русский взгляд,
некрасивая — дуга несоразмерно мала по сравнению с го-
ловой лошади.
Валъмиера. Латвия. Разрушенный центр городка.
Прах вещей. Сожженные, разваленные дома, судорожно
скрюченные листы железа, раскрошившийся кирпич, битые
стекла, вспоротая обивка мебели, сиротливые тряпки, одино-
кие уцелевшие чашки, книги под ногами, засыхающие на
подоконниках герани всевозможных расцветок, кактусы, ки-
тайские розы, деревянные семейные кровати с порванными
сетками из толстых веревок, скрипящие под подошвами
осколки зеркал... Прах вещей! Как хрупко, как непрочно все
созданное руками человека. Казалось бы—после такого зре-
лища больше будешь ценить домашний уют, мирную, дру-
желюбную тишину твоих собственных вещей. Нет! Теперь
все отравлено. Тишина не обманет лак красного дерева и
черное зеркало рояля не ослепит. Все смертно. Нельзя ве-
рить вещам. Ты видел прах вещей.
Большинство зданий города стандартного фасона, по-
строены они дешевым скоростным способом. Здесь часто
применяется толь, прибитый к стенам тонкими рейками.
Дома стоят отдельно, как коттеджики; около каждого из
них — обязательно огородик; участочки очень похожи один
на другой.
За городом пейзаж хуторского типа. Нет вольных рос-
сийских просторов: горизонт ограничен деревьями, аллеями
вдоль дорог, которых здесь много и поперек и вдоль, и все
они в хорошем состоянии. Магистральные дороги, конечно,
одеты асфальтом. В пейзаже нет величия, но он по-домаш-
нему уютен. Церкви-кирки делают его похожим на странич-
ку из школьного учебника немецкого языка. Вместо крестов
на колоколенках — золоченые петухи. Деревень не видно,
повсюду лишь хутора-фермы и маленькие города. Страна
похожа на пригород большого города, как предисловие к
чему-то еще не написанному.
499
Маленькая страна, не обремененная военным бюджетом.
Здесь всего было немного, но всего вдоволь. При Ульманисе
многие жили лишь сегодняшним днем, сытно, не ставя себе
больших проблем и не мечтая о многом.
Почему-то это раздражает. Может быть, потому, что мы
годами принуждены были слишком во многом себе отказы-
вать, все свои помыслы устремляя в будущее. Наша стра-
на— величественное здание всенародного подвига, трагедии
и славы.
Очень много кормов и скота. Немцы щадили население,
стараясь восстановить его против нас, и вели себя не так,
как в других местах. Конечно, много потерпел и этот народ,
но это не то, что произошло на истерзанных просторах Бело-
руссии, Польши, России, Украины.
Красивая осень. Красивые, истончившиеся, почти про-
зрачные листья дикого винограда. Как он хорош на чистой,
белой стене или в сочетании со старой черепицей крыш,
тоже красных и обомшелых.
5 октября. Ледурга.
В армейской газете появился мой очерк о разведчиках
11-й дивизии. Это первая моя работа после Москвы. Все во-
шло в обычную колею, словно я никуда не уезжал.
Никак не могу выкроить время, чтобы встретиться с Коб-
ликом. При частых переездах отделение агитации и пропа-
ганды каждый раз устраивается далеко от нас.
8 октября. Вите.
В редакционных машинах проделали на юг около ста ки-
лометров. Прекрасные дороги, осенние аллеи: дубы, клены,
липы. Навстречу — вереницы жителей, отсиживавшихся в
лесах.
Проехали через красивый городок Цесис. Где бы мы ни
проезжали — почти все сохранилось, лишь кое-где дымятся
развалины усадеб. Немцам удалось оторваться от наших
частей на несколько часов преследования. Трупов нигде не
видно. Лишь изредка попадаются раздутые туши лошадей.
Великолепная сводка о продвижении в Венгрии.
500
Холодное, сияющее, ясноглазое осеннее утро с немигаю-
щим солнцем, которое каждый предмет подает с предель-
ной четкостью.
Около дороги стоит коренастая, с широкой кроной, по-
язычески красивая сосна. Ствол у самого комля дымится.
Она горела всю ночь, занявшись от непогашенного костра.
Перекресток с этой сосной похож на место языческих
жертвоприношений. Мимо нее все время идут на передо-
вую группы солдат. Словно совершая какой-то обряд, то
один солдат подбегает к сосне, то другой и, склонившись к
земле, прикуривает от огня. Потом бредут дальше.
Саша Королев узнал по очерку в газете, что я опять в
армии, и отыскал меня.
— Ты мне нужен на пару слов, — сказал он, пристально
глядя мне в глаза. От его загадочного, тяжелого взгляда у
меня во рту почему-то стало горячо.
Мы вышли с ним во двор и сели рядышком на подножку
редакционной полуторки. Закуривая, Королев сказал:
— Вячеслав, я пришел сказать тебе о Коблике. Дорогой
мой, мы знаем, что вы были друзьями. Приготовься к са-
мому худшему...
Об этом у меня ничего в тетрадке не записано. Только
теперь, спустя двадцать лет после событий, готовя эту кни-
гу к печати, я пишу наконец о гибели Коблика. Слишком я
был потрясен тогда. Я ни в чем, решительно ни в чем не ви-
новат, но до сих пор у меня в душе такое чувство, будто я
бросил на произвол судьбы товарища, попавшего в беду.
Ему нельзя было ходить в командировку одному.
А Королев меня не щадил:
— Не обижайся, Вячеслав, за своего философа, но скажу
тебе по-простецки, по-народному: он погиб как дурак. Полу-
чил пулю в затылок. Тележников послал меня расследовать
это ЧП. Никто не смог мне объяснить, каким образом Коб-
лик оказался один, без связного.
— Где же его могила? — спросил я, хотя уже и сам, без
Королева, совершенно ясно представлял себе, что произо-
шло.
— Труп захватили немцы,—сказал Королев.— Коблика
пристрелил кто-то из боевого охранения, — он заблудился,
шел в сторону немцев. Не удалось дознаться, кто его
приземлил. Ребята молчат; может быть, трибунал разбе-
рется.
501
— Напрасно, — сказал я. — Надо ли искать виноватого?
Если хоть на минуту допустить, что Семен Маркович мог
живым попасть в лапы фашистов, то нашу пулю надо счи-
тать актом милосердия.
— Вот, возьми! — Королев передал мне блокнот Кобли-
ка с конспектами его лекций, сильно разбухший от листков
и от писем, вложенных между страниц.— Мы с товарища-
ми решили отдать тебе это как писателю. Может быть,
сгодится для истории армии. А нет — просто как память
Друга.
Когда Королев оставил меня одного, я ушел в лес и сжег,
не читая, все письма из блокнота Коблика: ведь при жизни
он не давал мне их прочесть. Все остальное почти сплошь
представляло собой конспекты лекций. Среди них лишь из-
редка попадались записи собственных мыслей Коблика. Он
их не один раз высказывал мне, только не в такой лаконич-
ной форме. Вот некоторые из них:
«Что было раньше, до появления человека? Змея, скор-
пион, гиена, стервятник, волк, жаба, гады ползучие и лету-
чие. Все это соединилось в человеке. Он — царь, он — раб,
он — червь, он — бог. Он из земли и воды и сам, как они, но
зрячий».
«Любить — это не только хотеть, но активно, чувст-
венно, практически относиться к предмету своей любви,
иметь его».
Следующая запись, мне кажется, связана с мыслями о
чертах характера Баршака:
«О нелюбви к людям, ясной, яростной и жестокой. Вся
подлость лица отлита в эту форму».
«Кто культивировал идею неполноценности человека,
говорил о том, что он не цель сам по себе? Христианство, во-
обще религия, Ницше. В «Заратустре» человек не цель, а
мост к сверхчеловеку».
«В человеке природа нашла себя, свое самосознание и го-
лос, свое «я». Он — главное в ней. Но он еще никогда не
сознавал себя до конца этим главным, хотя и догадывал-
ся об этом. На протяжении тысячелетий его убеждали в том,
что он лишь атрибут, а не субъект, средство, а не цель.
Христианская идея вошла в плоть и кровь человека —
всегда считать себя в пути, только в пути, и быть проявле-
нием чего-то более важного. Отсюда недооценка настояще-
го, подсознательное пренебрежение им. Человек привык все-
гда готовиться если не к загробной жизни, то к чему-то
502
другому, «постороннему», к большой жизни, «настоящей
жизни», к «делу», «достижению», к «успеху». И ему некогда
жить».
«Мой голос доносится глухо откуда-то. Там все засыпа-
но обломками и битым стеклом, землей и какой-то дрянью.
Хочу прорваться к источнику своего голоса, к себе. Это
трудно».
«Наедине с собою в одной комнате нет ни нравственности,
ни мудрости. Они появляются там, где двое. Вернее, нет во-
проса о нравственности, так как невозможно ни столкнове-
ние, ни содружество».
Когда я жег письма, полученные Кобликом, черные ло-
скутки пепла, взлетавшие над костром вместе с золотыми
искрами, были похожи на траурных бабочек, и мне навязчи-
во лезли в голову строчки Велемира Хлебникова:
Как мертвой бабочки крыло
На камне,
Слезою черной обвело
Глаза мне...
10 октября.
Коттеджик из белого кирпича, пробитый в нескольких ме-
стах снарядами. Белая известковая пыль и каша осыпавшей-
ся штукатурки, битые стекла, взвизгивающие под каблука-
ми, журналы на полу. У входа плети почти облетевшего
красного винограда, похожие на измятую занавеску. Под ок-
ном убитый немец. Немного поодаль, в поле, — другой. Бело-
бородый хозяин одновременно напоминает и Тургенева, и бла-
гообразного дореволюционного русского купца. Не падает
духом, несмотря на то что из двенадцати коров немцы ото-
брали восемь, забрали всех свиней и сожгли сарай с клевером
и сеном. Озабоченно помогает нам приводить в порядок дом,
в котором мы останемся на одну лишь ночь; при этом он по-
чему-то бодро посвистывает.
Я спросил его, сколько он имел земли.
Он ответил:
— Тридцать шесть га. — И добавил: — Одна семья может
жить, только надо много работать.
Хороша у него овсяная солома,— я набил ею свой матрас-
ный чехол, который таскаю с собою (а по утрам вытряхиваю),
и хорошо выспался на полу.
До Риги остается тридцать пять километров. Прибыли
503
новые соединения, и сегодня наша армия вступает в бой за
Ригу. Над нею — огромное зарево.
11 октября.
Ночью опять большое зарево над Ригой. Днем сплошной
гул канонады. Идут бои за освобождение последних пядей
советской земли.
Язык:
«Больших не трогает, а маленьких боится сам».
«Чего ты боишься? Не бойся — сегодня не убьет, убьет
завтра».
«У меня память плохая: где позавтракал, туда иду обе-
дать, где пообедал — туда иду ужинать, а где поужинал —
там и спать. А что мне надо на обед? Зажарить курицу и
гуся сварить. Больше мне ничего не надо».
«Приходите — гостем будете. Вино есть — хозяином бу-
дете».
Встретил на дороге агитатора Артемьева: розовый, улыба-
ющийся, бодрый. Искренне обрадовался нашей встрече. А у
меня сердце сжалось, — я сразу вспомнил отделение агита-
ции и пропаганды, вспомнил траурных бабочек над сгораю-
щими бумагами Коблика.
Артемьев торопился — вдали на асфальте показалась ма-
шина, — он надеялся ее остановить.
— Сашка-то Королев, — сказал он торопливо на ходу, —
достукался наш лапотник — опять ранен. Не жилец он на
этом свете — сам, дурень, ищет смерти!
Почему-то эта весть меня не удивила, хотя Саша всего
лишь несколько дней назад сидел рядом со мной на поднож-
ке редакционной полуторки. Меня только больно резанул
розоватенький тон оптимиста Артемьева. Я сказал ему:
— А для меня Саша Королев — олицетворение бессмер-
тия русского солдата. По-моему, такой человек не может по-
гибнуть, — высшая справедливость требует, чтобы он был
вечным.
— Типун вам на язык! — перебил меня Артемьев. — На
этот раз он ранен тяжело.
14 октября. Рига.
Я вошел в нее вчера. Город взят штурмом, вернее, та
половина его, которая лежит на правом берегу Двины. Когда
504
мы подходили, на левом берегу у немцев слышны были тя-
желые взрывы. По-видимому, они уничтожали склады.
Я шел с комсоргом 37-го полка 12-й гвардейской диви-
зии. Дивизия — участница героического форсирования Днеп-
ра. В ней 57 Героев Советского Союза — за Днепр. И эти уча-
стники форсирования Днепра уверяют, что немецкий огонь
на Мыза-Югле был беспощаднее, чем на Днепре.
С первым батальоном этого полка я был 11 октября. Этот
батальон захватил плацдарм на левом берегу Мыза-Югла
и, таким образом, обеспечил прорыв немецкой обороны.
Дороги на подступах к Риге сухие. Песок похож на сухую
горчицу — сильно подкрашен глиной. По пути много краси-
вого соснового леса.
Взошло солнце. Все время, пока мы подходили к Риге, по
ту сторону Двины раздавались взрывы,— немцы подрывали
порт, уничтожали склады. Над городом поднимались траур-
ные перья дыма.
Вот мы подошли к первому дому Риги, к угловому пер-
вому дому, и сразу же после леса и поля начался мощеный
тротуар из цементных плиток, и как-то стало наглядно, что
вся Латвия с ее хуторами, фермами и коттеджиками — при-
город не к городу, который не существует (как я раньше за-
писывал), а пригород к Риге.
Боязливые взгляды из-под занавесок окон, припавшие
к стеклам лица. У ворот и калиток — по два, по три жителя.
Вежливо-выжидающее, неопределенное выражение лица.
Они еще не знают, как к ним отнесутся,— ведь немцы все
время внушали им, что большевики звери. Если же пома-
шешь кому-нибудь рукой — сразу начинают улыбаться и
быстро отвечают на приветствие.
Но и мы входили в город тоже сдержанные и выжидаю-
щие. Разве забыл кто-нибудь из нас сорок первый год?! Не-
которые жители Риги, ярые националисты, стреляли из окон
в спины наших отступающих людей.
Вот какая-то женщина опустила на тротуар огромный
узел. Тяжело дышит. Радостно здоровается с нами, торопит-
ся заговорить. Она возвращается из ближнего леса в свою
квартиру,— это не первая ее ноша: она уже успела несколь-
ко раз сходить туда и обратно. Вытирая с лица пот, она гово-
рит о своей радости, а между тем выражение лица тоже на-
стороженное и глаза неспокойные. Говорит о муже, о том,
что он работает в России. Предлагает указать квартиру, от-
505
куда только что убежал в лес молодой немец, бросив все
свои вещи.
Не останавливаясь, идем дальше. Навстречу — высокий,
тощий пьяный старик. Еле стоит на ногах. Крепко сжимает
обе свои ладони и трясет ими у себя над головой — приветст-
вует нас. Несколько красноармейцев подходят к нему. Руко-
пожатия. Старик что-то бормочет пьяно-восторженное.
Красноармейцы обходят старика, торопятся дальше. А ста-
рик ковыляет за ними, пьяно вихляется из стороны в сторо-
ну, старается догнать. Длинный, тощий, как Дон-Кихот, он
размашисто жестикулирует костистыми руками и, убедив-
шись, что догнать нас не может, он благословляет нас из-
дали.
Постепенно робость у жителей проходит,— их все больше
и больше на улицах. То один, то другой раскрывает перед
нами портсигар, угощает бойцов, а те, конечно, жадно рас-
хватывают и тут же, на ходу, закуривают.
К вечеру и особенно на другой день приветливость стано-
вится уже совершенно очевидной, бесспорной. Когда солнце
поднялось выше, частные торговцы начали открывать свои
маленькие лавочки и магазинчики.
По Риге я проехал на пушечном лафете, на который
вскочил уже в городе. Тяга конная, ехали медленно — как
раз то, что надо, чтобы не торопясь наблюдать, что происхо-
дит на улицах.
На мостовой огромное количество листовок, среди
них преобладают антисемитские, все это перемешалось
с яркой опавшей осенней листвой. Улиц никто не под-
метает.
В некоторых местах батарея останавливалась около раз-
битых витрин. Артиллеристы прыгали внутрь магазина, но
возвращались ни с чем — все опустошено немцами. Грабеж
доканчивало само население. На железнодорожных путях,
пересекающих город, я видел, как жители бойко растаскива-
ли ведра, эмалированные бачки и посуду из вагона, который
уцелел после наших бомбежек.
Уличная толпа не давала пищи для ощущения невидан-
ной новизны. Наоборот, казалось, что предо мной возникает,
выплывает из далекого прошлого что-то однажды уже мной
пережитое. Тогдашняя Рига — это кусок европеизированной
царской России: дореволюционные «барыни» и пугливые
«господа» в добротных пальто и в великолепных шляпах, а
506
кое у кого из мужчин — вполне буржуазной пузатенькой на-
ружности — на голове котелок.
Когда проезжали мимо русского собора, из ограды вышел
священник с золотым крестом на груди. Он низко, в пояс
поклонился проходящей пехоте и широко перекрестился.
Затем он повернулся к собору лицом и тоже низко покло-
нился ему с крестным знаменьем. Потом пошел вдоль огра-
ды, непрерывно кланяясь бойцам и приветливо, радостно
улыбаясь. На боковой паперти собора сидели отдыхавшие
бойцы, некоторые из них переобувались.
Меня поразило одно обстоятельство: когда священник
подошел к паперти, бойцы все, как один, встали. Радостный
священник торопливыми, протестующими жестами попро-
сил, чтобы они продолжали сидеть. Как много у нас измени-
лось со времен гражданской войны. Бойцы на паперти —
народ молодой, они не были свидетелями острой борьбы с
церковщиной и не пели:
Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
Залезем мы на небо,
Прогоним всех богов!
Батальоны 37-го полка я нашел на бойне. Совершенно
измучился после ночи, проведенной на пешем марше на Ри-
гу. Тут же, на бойне, получил я и обед из походной кухни
батальона. Угощал командир этого батальона гвардии капи-
тан Фролов. От водки я отказался. Из одного с нами котелка
хлебали и заместители Фролова и его начштаба, черненький
молодой Королев.
Когда они все выпили понемногу, стали похожи на ребят,
играющих в войну. Часто, очень часто у меня возникает
такое впечатление, когда я наблюдаю молодых коман-
диров.
Они уже получили новое задание, может быть, самое
трудное за всю их жизнь: форсировать Двину (ведь немцы
еще удерживают в городе левый берег). Я сидел вместе с ни-
ми на дворе бойни, на разостланной поверх булыжника
плащ-палатке. Где-то в окрестных кварталах рвались тяже-
лые снаряды немцев, посылаемые их батареями из глубины.
Командиры, как дети, дарили друг другу или обменивались
подобранными в опустошенных магазинах вечными ручка-
ми, карандашами, расческами, никому не нужными кожа-
ными перчатками и прочими мелочами. Бедный Королев
507
(через несколько часов он был убит) восхищался пестро рас-
крашенными карандашиками для записной книжки и ста-
рательно засовывал их в гнезда своей полевой сумки. Вино,
водка тоже были, конечно, трофейные.
И над всем этим — сухая, золотая осень с ярким небом,
артиллерийский бой, гремящий над городом, длинные, как
одышка, залпы «катюши». Глубокая, непреодолимая уста-
лость, резь в глазах, головная боль и жажда во что бы то ни
стало уснуть.
Вечером я забрел на лютеранское кладбище, в другом
конце города. Долго отдыхал, сидел на кладбище. В Латвии
они все содержатся в образцовом порядке. Один из памятни-
ков — настоящее произведение искусства. Темная брон-
за на полированном черном граните: женщина держит
ворох роз; тонкие складки легкой одежды стекают с
ее прекрасного, сквозящего под ними тела, как вода.
В чертах ее скорбного лица еле уловимое, но все же
явное сходство с моей покойной сестрой, с моим близне-
цом — Ириной.
Спал на бойнях. Утром 14-го я отправился на набереж-
ную, к тому месту, где 3-й батальон должен был погрузить-
ся в лодки и форсировать Двину. Хотел взять самый живо-
трепещущий материал для газеты.
Связисты показали мне провод, по которому я мог бы
найти батальон,—для меня этого было достаточно. Я шел
один и не хотел отрывать людей от дела — отказался от
провожатого.
Провод повел меня вдоль железнодорожных путей, по
насыпи, в район складов, пакгаузов, нефтяных цистерн.
Я шел, глядя себе под ноги, не спуская глаз с черного про-
вода. Иногда к проводу, ведущему на КП батальона, присо-
единялись цветные провода, но это не сбивало меня. Но вот
к нему присоединился целый пучок таких же, как он, чер-
ных проводов. Тогда я взял своего «путеводителя» в руку и
так шел, а он скользил по моей ладони, оставляя на коже
маслянистый черный след от изоляции. По сторонам то и
дело рвались немецкие снаряды. Наши батареи отвечали.
Шумно выдыхала вихри огня «катюша».
Провод вывел меня к Двине, уже за пределы набережной.
Здесь в глубоком песке, среди прибрежных кустов лозняка,
вырыта нора. Это и есть КП 37-го полка. Стены блиндажика
кое-как подперты стволами молоденьких сосенок,—лишь
508
бы не сыпался песок. Но он течет от каждого залпа наших
минометных батарей. При каждом выстреле ствол миномета
звенит, как от удара тяжелой кувалды. Над головою с шеле-
стом и с воем пролетают ответные немецкие снаряды. Взрыв.
Песок в блиндаже сыплется между сосновых жердей еще
больше.
Комполка Колесников у телефона, радом с ним — на кор-
точках— начальник штаба. Он рассказал мне, когда я при-
сел радом с ним, как ночью батальон Фролова переправлял-
ся на левый берег в девяти наспех починенных лодках.
Сейчас от всего батальона осталось в живых только че-
тыре человека. Немцы, контратакуя, подходили к батальону
так близко, что начштаба Королев вызвал по рации огонь
«катюш» прямо на себя. Королев погиб.
Комполка Колесников, оторвавшись от трубки телефона,
сказал:
— Погибнут на том берегу и все остальные. Немцы нас
видят. Днем нет никакой возможности переправить под-
крепление. А от меня требуют. Сейчас послал последнее,
что мог.
Начал зуммерить телефон. Комполка схватил трубку, и
лицо его вдруг стало совершенно отсутствующим, точно он
был уже не с нами, а на другом конце провода. Оказывается,
ему сообщили, что на середине Двины тонет лодка. Это как
раз те люди, которых комполка послал вместе со станковым
пулеметом. Все они утонули — немцы разбили лодку из про-
тивотанковой пушки.
Я вспомнил наш вчерашний обед на бойне — Королева,
Фролова, трофейные карандашики и «вечные», увы, ручки.
И еще я вспомнил бойцов, обедавших рядом с нами. Они
после принесенного из полковой кухни обеда ели галеты, об-
мазывая их медом. Все это — из тех же форсированных на
ходу, через выбитые окна, магазинчиков и ларьков. Запо-
мнилось, как один из голубоглазых бойцов старательно соби-
рал последние капельки золотистого меда, вытирая мизин-
цем горлышко бутылки. Кто-то из командиров посоветовал
ему:
— Смирнов, да ты выверни бутылку наизнанку!
Но никто из бойцов не засмеялся,— они ели молча. Те-
перь почти все они погибли. И вот я думаю о магазинах, об
однообразии фронтовой пищи и о поисках чего-нибудь вкус-
ного за час до смерти.
509
Опять редакционная машина-полуторка. Едем дальше.
Рига — позади.
Почему-то вдруг вспомнилось наше болотное бытие под
Старой Руссой, солдатские стишки:
Рыть колодец неохота.
Да и что в нем за резон,
Когда есть кругом болото
И заварка чая в нем.
22 октября. Рижский залив.
Солнце здесь восходит прямо из воды. Серый песок, слов-
но он перемешан с пеплом. Водоросли цвета запекшейся
крови, выброшенные волнами далеко на берег. Пустые ве-
шала — колья для просушки сетей на ветру. Черные, смоле-
ные баркасы, вытащенные подальше от воды; на них све-
жие следы от топора — уходя, немцы проламывали в ры-
бацких посудинах днище.
Хорошо было утром умыться, стоя на досточке у самой
кромки смирной, без ветра воды. Спали в эту ночь на берегу
залива, на полу, на сене в дощатом домике, брошенном хо-
зяевами.
Уютный рыбачий поселок,— сосны подходят к самой во-
де. Здесь же растут рябины, лозняк, тополя, клены, дубы.
По ту сторону залива, километрах в пятнадцати, горит ка-
кое-то здание. Дым от пожара поднимается вверх траурным
пером, как над жертвенником. Совершенное безветрие,—
появляющиеся иногда волны, как длинные морщины на
стеклянной глади, приходят откуда-то издалека и, рассы-
павшись на отмелях с тихим, сонным бормотанием, накаты-
ваются вновь лишь после длительной паузы.
Вдоль побережья так мелко, что рыбацкие баркасы ни-
где не могут подойти к самому берегу, и рыбаки, возвра-
щаясь с тони, спрыгивают в воду метрах в двухстах от бе-
рега и потом уже волоком вытягивают посудину на сухой
песок.
Рыбаки живут заметно беднее крестьян-фермеров. На по-
бережье земля хуже, чем в глубине страны. Песок требует
постоянного удобрения. Одним из лучших удобрений счита-
ются богатые солями водоросли,— их разбрасывают и на
огородах, и на лугах. Жители побережья выходят к морю
с граблями после каждого шторма, сгребают урожай, тща-
тельно подбирая с песка каждую плеть водорослей.
510
Домики рыбаков дощатые и почти все крыты соломой.
Своеобразно здесь укладывают мелко нарубленные дрова:
поленья ложатся на землю конусом, торцом наружу; полу-
чается что-то похожее на копну сена, которую хорошо про-
дувает, просушивает после дождя ветром.
Интересна одна архитектурная деталь,— почти около
каждого дома рыбака имеется небольшой сарайчик с за-
остренной кверху, вытянутой крышей. Это не что иное, как
старый баркас, отслуживший свой век на воде. Он распилен
пополам, верхняя его половина поставлена стоймя кверху
носом, а оставшийся открытым проем зашит досками, и на
нем навешена дверь.
А я продолжаю и здесь отыскивать материалы для газе-
ты, встречаюсь и беседую с героями.
С утра беседовал с лейтенантом Карповым. Бывший бес-
призорник, отца и матери не знает, говорит: «Родина — моя
мать, Сталин — отец». Говорит без рисовки: «Людям я ни-
кому не нужен, я нужен только Родине,— она меня обучи-
ла, она меня воспитала, я ей обязан всем». До войны работал
железнодорожником, но теперь так сжился с армейским
организмом, что, если останется жив, не хочет демобилизо-
вываться, армия для него стала привычной стихией.
У него есть сестра и братья, один из них даже его близ-
нец, но связи с ними нет с 1929 года. Говорит: «Если оста-
нусь жив, тогда установлю связь, а убьют — зачем им
знать,— пусть думают, что исчез с 1929 года». Один из кате-
горических храбрецов, из которых состоит костяк наших
армий на всех фронтах. Работал по горло в воде, чтобы не
быть обнаруженным, и почти на виду у немцев вынул пять
фугасов, спас предназначенный немцами для взрыва мост.
Боже мой, как мы устали, как одичали и как у нас все
притупилось внутри. Внезапная радость, широко раскрытые
глаза, восторженный крик — все это уже не для нашего
возраста.
Юноши и девушки будущего века, привет вам! Вкусите
и ядите, живите во всю силу вашего сердца, вашего мозга!
Подумать только! Красная Армия уже ступила на немец-
кую землю!
Приказ Верховного Главнокомандующего генералу ар-
мии Черняховскому (23 октября 1944 года).
511
«Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступле-
ние, при поддержке массированных ударов артиллерии и
авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелонирован-
ную оборону немцев, прикрывающую границы Восточной
Пруссии, и вторглись в пределы Восточной Пруссии на
30 клм. и 140 клм. по фронту».
На нашем участке полное затишье. Я думаю, это объ-
ясняется тем, что у нас остались ничтожные силы. Все, что
можно было от нас взять, перебросили левее, к Мемелю или
в Пруссию.
Редакция помещается в хорошеньком коттеджике, из ко-
торого драпанули вместе с немцами хозяева. Под кроватью
я нашел два ящика с эмигрантской литературой. Я вытащил
книжек двадцать. Среди рекламных объявлений сборника
«Дамские анекдоты», на последних страницах есть такое
объявление о новой книжке: «Н. Роминский-Донец: Дичь,
на которую охотятся. Роман на половые проблемы. 160 стр.
Цена: 1 лат».
Далее следует аннотация: «Талантливый автор с исклю-
чительным реализмом касается острой темы совращения
юных девушек соблазнителями профессиональными и слу-
чайными. Каждая девушка должна прочесть эту захваты-
вающую повесть!!!»
Поменьше о самом себе. Смотри, слушай, наблюдай, за-
писывай!
Ночевал в роскошной гостинице в Кемери. Здесь Чуриков
занял несколько номеров для ДКА. Была горячая вода,
электричество, паровое отопление.
Молочный свет в ванной комнате, горячая вода,— боже
мой, но ведь это «тысяча и одна ночь»! Намылился, вымыл-
ся, спустил воду и еще раз наполнил ванну, чтобы поне-
житься, но нечаянно нажал не на ту кнопку и вдруг остался
на фаянсовой мели — вода моментально исчезла с мокрым
сопением. И тотчас же погас свет и выключили воду. Комен-
дант латыш сказал, что нет угля. Ну что ж, спасибо и
за это!
512
Мы с Чуриковым зажгли свечи и, лежа в постели, приня-
лись читать на сон грядущий. Мне достался Шаляпин: «Ду-
ша и маска».
И над всем — осень с уже облетевшей листвой. В могу-
чих кронах вековых дубов и буков вместо листьев шевелят-
ся холодные звезды. И странная, не оставляющая тело
усталость. Что это, последствие контузии? Частый пот и
чувствительность даже к самому незначительному хо-
лоду.
Вот я принял ванну, ночую в роскошной гостинице, ле-
жу на неправдоподобно шикарной постели, и все это чистая
случайность: не попадись мне у ворот Чуриков — спал бы я
сейчас на передовой в землянке. И то и другое я воспри-
нимаю сейчас притупленно. Друг мой, поменьше о самом
себе!
Среди ночи начали рваться снаряды, где-то недалеко за-
звенели стекла. Чуриков не проснулся. Я задул свечу. Еще
где-то разорвалось, и посыпались стекла. Как в детстве, за-
хотелось спрятать голову под подушку. Но я подошел к
окну. Далеко в море — вспышка, а у нас через несколько
долгих секунд разрыв в парке. Уж лучше бы солдатская
землянка, а не этот роскошный отель с разноцветными кноп-
ками в комфортабельной ванной.
Потом все прекратилось, и больше никто не пытался нас
разбудить. Утром, когда мы узнали, что ночью подходил с
моря немецкий эсминец, Чуриков сказал:
— Собака, как же он догадался, что мы с тобой ночуем
в гостинице?
27 октября.
Из Кемери мы переехали на берег залива, около городка
Слока. Продолжается ли на свете война? Полная тишина.
Чуриков сказал:
— Давно надо было уйти из гостиницы. Чуешь — ни од-
ного выстрела! Все знает Гитлер, собака!
Серый день. Холодный песок. Сосны.
На берегу серый покой отлива. Выпуклое стекло мертво-
го штиля. Пепельные отмели, как зализы, далеко протяну-
тые в море. У самой кромки сырой песок, твердый и как бы
гофрированный — это оставили на нем такой рельеф мелкие
волны. Кроваво-коричневая лента выброшенных на берег
17 В. Ковалевский
513
водорослей, бесконечная, уходящая вдаль, пока хвата-
ет глаз.
Сажусь писать для газеты о комсомольце Болдыреве.
Из Кемери пришлось переехать, потому что немцы про-
должали обстреливать городок тяжелыми снарядами. Ка-
кой-то подлец, сидя в самом городе, корректировал стрель-
бу. Снаряды легли в пятидесяти метрах от здания, где про-
кручивали фильм для офицеров запаса. Один снаряд попал
в дом командарма Поростаева. Убит шофер командующего,
самого Поростаева в этот момент не было.
Язык:
«Интендантская служба тоже опасная. Выгружали
хлеб — буханкой ногу перебило, остался человек инвали-
дом».
- «Молодой парень — тертый колокольчик».
«И рассыпался, как миндальный пряник».
«Погибшие русские спасли Европу».
28 октября.
Все время разговоры о том, когда же кончится война.
Многие за самые оптимистические сроки, верят, что осталось
совсем немного. Я тоже допускаю, что Германия может
взорваться изнутри, но допускаю и затяжной вариант.
Командующий нашим фронтом опубликовал статью в
«Суворовце», пишет, что к празднику должны изгнать нем-
цев из Прибалтики.
Опять у нас съехались маршалы. Идут разговоры, что
вот-вот что-то начнется большое и здесь.
Вчера на перекрестке дорог, при въезде в Слоку, повеси-
ли на телеграфном столбе немца, солдата Курта Лей. Его
привезли к нам из Москвы, так как свои основные преступ-
ления он совершил здесь. Он был осужден на открытом су-
дебном процессе, который проходил в Слоке в местном кино-
театре, на глазах у жителей.
Трудно себе представить что-либо гнуснее этого немца.
На суде он сказал:
514
«Я и Каальфельд сами проявляли инициативу и просили
поручать нам расстреливать пленных. Так, в деревне Моча-
личи, около Минска, я расстрелял 60 человек. В районе Шай-
ковского аэродрома по моей просьбе майор Хильт разрешил
мне расстрелять 115 военнопленных.
Повторяю, прямого отношения к лагерям военнопленных
я не имел. Моя основная работа была в фотолаборатории.
Однако иногда я просил разрешить конвоировать пленных
на работу. Поручали же мне расстрелы потому, что я хоро-
шо выполнял порученное мне дело. Я занимался этим в ча-
сы, свободные от работы в фотолаборатории. Кроме расстре-
лов, я принимал участие в поджогах деревень, в которых
сжигали мирное население. Я лично сжег 28 домов, в кото-
рых находилось 64 человека русских, в своем большинстве
старики, женщины и дети».
Это подлинные его слова, записанные стенографически.
Это тоже человек, и у него тоже были отец и мать.
Его повесили на перекрестке около Слоки. Последние
слова немца на суде вызвали смех присутствующих:
— Я хотел бы работать, много работать!
Ноябрь 1944. Слока.
Утренний берег. Взморье. На ровной голубизне неба то
и дело вспыхивают бело-розовым пером чайки, когда они на
крутых виражах вдруг подставят под луч солнца белоснеж-
ную подкладку своих крыльев. На шестах сушатся вдоль
берега сети. Воздух перенасыщен влагой. После вчерашнего
дождя на узелке каждой ячейки еще осталась стеклянная
капля, и поэтому вся огромная сеть, если смотреть против
солнца, переливается золотым блеском, словно она вывяза-
на из бисера. А изморщиненный песок под ногами, обна-
жившийся после утихшего прибоя, похож на дактилоскопи-
ческий оттиск от пальца какого-то гиганта. Берег залива вда-
ли сливается с пепельно-голубой и перламутрово-розова-
той дымкой. И только лодки с пробитыми днищами ле-
жат на песке все такими же черными просмоленными
тушами.
Подошел ко мне совершенно не знакомый мне красно-
армеец и вдруг сказал очень верно:
— Чайки похожи на листовки!
17’
515
В самом деле, стаю чаек ничем не отличишь от пачки
сброшенных с самолета листовок, каждую из которых ветер
поворачивает и так и этак, прежде чем она долетит до земли.
5 ноября.
161-й стрелковый полк 53-й дивизии. Ночевал в яме, при-
крытой сверху длинными, провисающими досками, без вся-
кого наката. Спал на сосновом лапнике, лучше сказать, пы-
тался уснуть вместе с агитатором и парторгом полка. В яме
было тесно, как в братской могиле. Почти всю ночь я не
спал,— с левой стороны на меня наваливался и храпел аги-
татор, а с правого бока так нажимал парторг, что у меня
то и дело затекала и немела рука.
И все-таки это была одна из самых плодотворных, самых
интересных моих командировок: встречи с разведчиком Тер-
новым, с сапером Лазаревым и с санинструктором Констан-
тиновым дали прекрасный материал.
Сколько я уже по косточкам перещупал разведчиков,
сколько было уже сходных биографий и случаев, а вот этот,
Терновой, ни на кого из них не похож. Хотя и он тоже тип
победителя, с обнаженной структурой побуждений, толка-
ющих его на подвиги,— таких наша земля, наш народ поро-
дили во множестве.
В детстве беспризорничал. Сколько я уже встречал ге-
роев с беспризорным детством! Яковенко, Карпов — сапер-
разведчик, Козырев...
Терновой мне сказал, что он ушел беспризорничать «про-
сто для интереса видеть мир. Отец один раз ударил, и я
ушел».
Участвовал в десанте с эсминца, за Полярным кругом,
в районе Петсамо. После нудного сидения в обороне он ехал
в эту разведку, по его словам, «с лучшим азартом, чем на
пляж,— стремился, где бы было потяжелее».
Со шлюпки спрыгнули в воду по грудь. Ворвались в
блиндаж. Работали при свете факела только ножами. «Чело-
века безразлично куда ткнуть ножом — он все равно па-
дает».
На мой вопрос: «Что в вашей работе самое трудное?» —
Терновой ответил так же, как отвечают очень многие на вой-
не: «Ничего нет трудного!» Потом добавил: «Я считаю, что
это самое простое дело. Когда берешь «языка», тут нетрудно,
516
делаешь без труда, как глупый человек. Нет, ничего нет
трудного. Вообще я замечаю, что мне все удается: что захо-
чу, то и достигну. Я сам берегу для себя только один ужас-
ный случай».
Но мне так и не удалось узнать, какой же это такой
«ужасный случай». На всякие лады я пробовал незаметно и,
как мне казалось, деликатно подобраться к этому «случаю»,
заставить Тернового раскрыть свою душу. Я узнал, что он
беспризорник, что он не совершил ничего уголовного, что
у него есть дочка, что ему изменила жена.
— Что ж тут такого? — сказал он об измене жены.—
Я пришел домой и сказал ее матери: «Собери мне узел — я
ухожу от вас». Я человек прямой.
Но он так и не открыл мне «ужасного случая». В конце
концов он сказал:
— Ведь для вас это пустяк, два слова, а для меня, как
вы, должно быть, догадываетесь, это что-нибудь да значит.
Я задал обычный мой вопрос о его заветном желании
(кроме скорой победы). Он ответил:
— Наткнуться на дурную пулю, чтоб сшибла голову!
Эта часть разговора прошла туго: он мялся, отвечал
иносказательно. Приходилось вытягивать из него слово за
словом, а он как бы удивлялся моей недогадливости, тому,
что я не понимаю самого простого.
— Почему же нужна дурная пуля? — не отставал я от
него.
— Тут коротко и ясно! Все как-то вверх ногами идет.
Родным надоело писать. Раз сорок писал — никто не отве-
чает, точно они там сгорели все. (Местность была оккупи-
рована.)
Опять начал мяться, не отвечает на прямые вопросы.
Задал я ему и такой вопрос:
— Изменяется ли, по-вашему, человек на войне?
— Да, можно сказать, на войне от человека остается по-
ловина. Все гражданское война выпускает. Становишься
нервным. Как разнервничаешься—по тебе стреляют, а ты
хоть бы нагнулся. Идешь как черт. Вообще, перемена в са-
мом себе большая получилась. С людьми спокойно говорить
не могу. Я даже сам себе удивляюсь: сидишь иной раз, и
никакой в тебе мечты нет. В жизни перестал интересоваться
почти всем.
Задал я ему обычный свой вопрос: «Если бы на свете
была книга, в которой был бы ответ на любой вопрос, на ка-
517
кой вопрос хотели бы вы получить ответ? Или если бы в ней
была отдельная ваша страница, что бы вы на ней хотели
прочесть?»
Он ответил:
— Такой книги нет. А потом, меня ничто не интере-
сует. Я даже сам удивляюсь. Ничто не интересует. Нет
связи с мирным миром. Переменилось в жизни все. Раньше
я около пуль ползал, а теперь хожу в рост и никогда не ду-
маю ложиться. Одно у меня желание, и я знаю, что оно сбу-
дется.
Здесь он процитировал слова Чапаева из кинокартины по
поводу того, что есть пули дурные, а есть — умные. И вот,
по словам Тернового, надо догадываться, что на свою голову
он ждет умную пулю.
В конце концов из его глаз полились слезы, скупые, но
самые настоящие. Надо знать, что об этом человеке, о его
подвигах множество раз писали и в дивизионной газете, и в
армейской, и во фронтовой. Мало того, фронтом издана от-
дельная листовка с его портретом.
В разное время он захватил двенадцать языков, из них
два обер-лейтенанта; десятки раз ходил по вражеским ты-
лам, взрывал мосты и склады, добывал для разведотдела
ценнейшие сведения, обеспечивал связь с партизанами.
О чем же он плакал?
Он сидел в самом темном углу ямы и, возможно, был
уверен, что я не вижу его слез.
Он сказал: «У меня нет земляков». Он как бы отрекается
от них. В его деревне были случаи измены и отсиживания
от трудностей войны. Если он узнает, что его мать и сестрен-
ка убиты немцами или кем-либо по доносу, он там совершит
такой самосуд, что его самого не помилуют. Поэтому-то он
и хочет, чтобы пуля сорвала с него голову,—лучше уж по-
гибнуть здесь, на войне.
Тернового мучит мысль об изменах в начале войны и
мысли о том, что мать и сестра могли погибнуть. Его остав-
ляли в тылу «по броне», но он ушел на войну добровольцем.
О нем я написал в армейскую газету маленький очерк:
«Мне стыдно, товарищи!» Терновой рассказывает там, как он
встретил в лесах, в тылу у немцев, русских людей, умоляв-
ших его освободить их от немецкого рабства. «Одна женщи-
на упала передо мной на колени, умоляет спасти дочь —
немцы угоняют в Германию. Ужасная картина: на колени
упала, за ноги меня хватает».
518
Терновой спас их обеих — и мать, и ее восемнадцатилет-
нюю дочь,— он перевел их к нам через огневой рубеж.
Терновой — все из той же породы победителей, несгибае-
мых, несмотря ни на что. Теперь я хорошо знаю этих лю-
дей. Вчера пополнил свою галерею — ходил в госпиталь, где
ночевали участники слета орденоносцев. «Взял материал» у
двух пулеметчиков: Попова и Васильева. Первый — груз-
чик Ленинградского порта, второй — москвич, позолотчик
из типографии. Так же, как командир пулеметной роты,
старший лейтенант Казаков, и они могут сказать о себе:
«Я знаю, что там, где я нахожусь, пока я жив, если в меня
не будет прямого попадания в лоб,— пусть я даже ранен —
враг там не пройдет!»
У меня наконец появилось такое чувство, точно я осязаю,
вижу до дна душу человека, который победил в этой войне,
победил там, на огневом рубеже. Точно я его пристально
анатомировал. Я знаю, я видел множество людей, я их по-
нял— тех, кто умрет, но не отступит. Простые люди, врос-
шие всем своим телом, всем своим духом в победу, пришед-
шие к ней через огонь переднего края. Обычно это очень
простые, ясные люди, добрые и беспощадные — это и есть
наш советский народ, поэтому мы и освободим человечество
от фашизма.
Долго, очень долго я не понимал этих людей, не осязал
источника стойкости. Я встречался с людьми, мне говорили
об их подвиге, я видел ордена на их груди, но у меня было
такое чувство, словно я не знаю об этих людях чего-то са-
мого главного. Все хотелось проникнуть глубже и глубже:
почему же, ну почему они идут на смерть?
Моя наивность штатского, мирного происхождения за-
ключалась в том, что я искал универсальную формулу,
вскрывающую пружины, которые помогают преодолевать
страх. Я был похож на алхимика, ищущего «философский
камень». Такой формулы не существует.
Понимание пришло не от знания воинского устава и фор-
мулы, а оттого, что я принял в свою душу и процедил через
нее множество судеб живых и мертвых людей войны. Я стре-
мился сопереживать то, что испытали они, и перевоплощал-
ся в них до щемящего чувства полной слитности с ними.
Истину надо искать для каждого отдельного случая, а не
в чем-то общем для них всех. Это относится и к героям, и к
нищим духом, к людям робким. Ведь у каждого из них тоже
есть нечто похожее на железо, которое гремело под чьими-то
519
сапогами. Человек давно уЖе о нем позабыл, но заноза глу-
боко сидит в его подсознании. В минуту смертельной опас-
ности «железо» вдруг звякнет у него над головой. Он дрог-
нет, струсит, погубит себя и других.
Помню, Балабуха сказал: «Враги страха: разум, чувство
долга, сила воли, любовь». Его слова мне показались акаде-
мической цитатой из воинского учебника. Но с какой же си-
лой расцвела эта «любовь», когда хирург Дзюбарский расска-
зал мне о жене полковника Ильина! Она поползла спасать
своего раненого мужа. Смерть не была для нее абстракцией:
на ее глазах был убит санитар, тоже пытавшийся вытащить
из-под огня полковника.
Любовь помогла преодолеть страх смерти и судомойке из
московской столовой — санитарке Безручко. Вот это и есть
«любовь сильнее смерти». Она полюбила старшину и под
огнем поползла, чтобы его спасти. Она погибла.
А что такое «разум — враг страха»?
Опытному бойцу разум подсказывает: надо не трусить
и прижиматься как можно ближе к врагу,— около его окопов
безопасней. Немцы не бомбят свой передний край и не бро-
сают туда снарядов. Они боятся, как бы не задеть своих.
Значит, проскакивай нейтральную зону как можно быстрей,
не бойся! Вот чему учит разум и опыт.
А что такое «высшая сила души»? Она-то больше всего
помогает гасить страх смерти. Ведь смерть, умирание — это
не что-то потустороннее для твоей жизни. Это часть твоей
жизни. Небытие начинается только лишь после смерти, а
сама смерть — это еще часть твоей жизни. Поэтому не без-
различно, как умереть.
Человеку, обладающему высшими силами души, умереть
легче, нежели остаться живому и жить с вечным сознанием,
что ты подлец, опозоривший свою мать, жену — всю свою
семью, предавший Родину. Это подобно тому, как отец, что-
бы спасти своего ребенка, бросается в дом, охваченный по-
жаром. Ему легче умереть, чем оставить родимое существо
в огне, а самому продолжать жить подлецом.
Подвиг совершает не тот, кто постоянно об этом думает,
а тот, кто добросовестно работает на войне, трудится «в поте
лица своего», так же, как он пахал и сеял, выкладывал из
кирпича печи, замешивал бетон и строил фабрики и заводы,
возводил тело величайших в мире плотин.
Труд, работа... Тот же Балабуха мне сказал: «Кто трусит,
тому надо давать работу и держать ближе к себе. Ответст-
520
венность спасает от трусости». Большинству командиров не-
когда испытывать страх и думать о смерти: они заняты ра-
ботой по подготовке боя, работают и в самом бою — руково-
дят боем.
О том, как работа спасает от ужаса ожидания смерти, мне
рассказал летчик Абанин, заместитель командира одного из
гвардейских авиационных полков.
Абанин падал со своим самолетом с высоты семидесяти
метров. Его сбил на маневрах свой же товарищ — ведомый:
задел крылом. Выправить самолет на такой высоте невоз-
можно. Пока самолет падал, Абанин ни на секунду не пере-
ставал работать: надо было отключить подачу горючего, не
забыть об электрозажигании — сделать все, чтобы при уда-
ре о землю не произошло пожара. Не было времени испы-
тывать страх. А бортмеханик, падавший вместе с Абаниным,
в продолжение всех семидесяти метров падения был охвачен
непрерывным ужасом от ожидания неминуемой смерти.
Напряжение было столь велико, что у бортмеханика
перегорели в его нервной системе «предохранительные
пробки».
Очнувшись от забытья, уже на земле, Абанин услыхал
зловещее шипение: на раскаленные части мотора вытекал
бензин. Мог произойти пожар.
— Выскакивай — сгоришь! — крикнул Абанин механику.
Но тот не двигался с места. Он смотрел в одну точку и
хохотал как безумный.
— Спасайся — сгоришь! — крикнул еще раз Абанин.
А тот хохочет.
Абанин вышел из госпиталя работоспособный. На войне
он уже сбил несколько вражеских самолетов, летает еще и
сейчас, а бортмеханик, который не был свободен от ужаса
ожидания смерти, попал в психиатрическую больницу и
больше никогда не летал.
А что такое Родина, которую долг повелевает тебе защи-
щать до последней капли крови? Родина — это не торжест-
венная, парадная эмблема, не символ, не агитационный пла-
кат, — это железное кольцо на калитке в палисаднике отче-
го дома, кольцо, к которому тянулась твоя ручонка, когда те-
бе было три года и ты пытался приоткрыть дверь, чтобы
прямо с порога приступить к открытию неведомого тебе
мира; это скрипучий колодец на огороде твоего дедушки; это
ломоть хлеба, — его отрезала для тебя мать и густо посолила,
перетирая в натруженных пальцах крупицы соли. Родина —
521
это любимая учительница в школе, это пионерский поход за
сбором душистых лекарственных трав; это первый поцелуй
за углом переулка, летняя практика на строительстве дне-
провской плотины и первый полет на планере в авиационном
кружке. Родина — это поле ржи и пшеницы, по которому хо-
дят тугие волны от свежего ветра, и никак не могут разгла-
дить их тяжелые тени от облаков. Родина — это могила мо-
его отца. Я до сих пор прихожу сюда в самую тяжелую ми-
нуту, казалось бы, безысходной тоски и стараюсь отгадать:
как поступил бы отец на моем месте и — сам уже тоже
седой — прошу у него совета. Родина — это неисчислимое
множество великих и малых, кровно-родимых, не отторжи-
мых ни от меня, ни от тебя, неповторимых примет.
А для малодушных, робких, у кого «высшие силы души»
засохли еще на корню, задавлены разными бедами в самом
зародыше,— для них-то и существуют более сильные сред-
ства. Ну, а для явных трусов и предателей — высшая мера
наказания.
И вот теперь я чувствую этих людей — и героев и сла-
беньких, понимаю, знаю, добрался до самого корня. Осталось
самое трудное — дело художника: изобразить, сделать и для
читателя этих людей осязаемыми, правдоподобными. Са-
мое трудное, потому что героизм, стойкость — это результат,
а до этого — длинная-длинная цепь всякого рода причин.
И при этом — тысячи вариантов.
Из лексикона Тернового:
«Когда идешь из разведки, не поспишь трое суток — на
все смотришь тупо, не понимаешь, что там делается — сон
это или чего-нибудь... А когда только отдохну — обратным
порядком начинаешь размышлять своей головой».
«Что папиросу выкурить, что найти противника. И во-
обще, в моей жизни я не встречал ничего сложного».
Про то, как тащил языка:
«Дал ему маленькую пилюлю по голове, — он без чувств.
Я взвалил его себе на спину. Торф, болото, а я не заморился.
Принес, только тогда почувствовал, что на войне, а то каза-
лось — где-нибудь из сада тащу яблоки».
Говорили о переменах на войне:
«Автомат я видел в тысяча девятьсот сорок первом году
только у подполковников и полковников. Смотрел с азартом:
что за машина?»
522
«Забурчали наши самоходные пушки. Здесь мы наблюда-
ли, как немцы отступали. Смешно. Любовались!»
Расстался я с Терновым все-таки с тяжелым чувством.
Что-то у меня с ним не получилось. Я не смог ему помочь.
Вряд ли наша беседа его облегчила. Не вырабатывается ли у
меня шаблон, стандарт? Не становлюсь ли я черствым? Надо,
чтобы разговор с человеком давал ему отдых, удовлетворе-
ние, чтобы ему становилось легче жить и воевать.
Вчера, когда я говорил с пулеметчиком Поповым, вме-
шался один из разведчиков. Попов только что сказал: «Я те-
перь знаю, что делать с немцами, когда придем на их зем-
лю». (Он был на суде в Слоке.) Вот тогда-то разведчик ска-
зал:
— Мы, русские, отходчивы, как мать. По горячке на-
бьешь пленному морду, а потом отойдешь в сторону, дашь
ему закурить, жалко станет, дашь поесть.
С Поповым, Васильевым и старшим лейтенантом Казако-
вым я разговаривал в госпитале. Вокруг то и дело рвались
немецкие тяжелые. А наши штурмовики буквально весь день
висят над немцами и расковыривают их боевые порядки.
Вечером, когда уже чуть начало смеркаться, хорошо было
видно, как штурмовики, войдя в пикирование, мерцали всем
корпусом — открывали огонь из всех пушек и пулеметов.
Торжественное заседание в Слоке, в кинотеатре. Слушали
доклад Сталина по случаю 27-й годовщины Октябрьской
революции.
О нашем участке фронта Сталин сказал:
«Восьмой удар был нанесен в сентябре — октябре этого
года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила войска про-
тивника под Таллином и Ригой и погнала их из Прибалтики.
В результате этого удара: а) была освобождена Эстонская
Советская республика, б) была освобождена большая часть
Латвийской Советской республики; в) была выведена из строя
союзница Германии — Финляндия, которая объявила войну
Германии; г) более 30 немецких дивизий оказались отрезан-
ными от Пруссии и зажаты в клещи между Тукумсом и Ли-
бавой, где они теперь доколачиваются нашими войсками».
К этим 30 дивизиям можно добавить еще 6 танковых (по
данным нашего оперотдела). В клещах сейчас 300 000 —
350 000 немецких солдат.
Неужели мы и здесь засидимся?
523
Когда мы переезжали из Риги в Кемери (дней десять тому
назад), наша машина остановилась на развилке шоссе. Как
раз в этом месте, метрах в шести справа, лежал труп стар-
шего лейтенанта.
Накануне лейтенант шел на передовую и присел у развил-
ки передохнуть. Развел костерчик и варил картошку. А раз-
вилка, оказывается, была густо заминирована немцами. От
пламени костра капсюль расплавился, мина сработала, и
старший лейтенант был убит.
Саперы, присланные разминировать развилку и
убрать труп старшего лейтенанта, снимали с него орде-
на. И вдруг их офицер сам наступил на оставшуюся в
земле мину.
На меня дохнуло горячей волной сквозь вышибленное
стекло машины и как солью обсыпало мельчайшими
его осколками. Никого из нас не задело, но лицо у во-
дителя сразу окрасилось от порезов, __ словно он умылся
кровью.
Мы вышли из машины и насчитали 14 пробоин в кузове.
Один сапер убит, несколько человек ранено.
11 ноября.
Язык:
«Думать не думай — серебро не деньги».
«Юлил пулемет».
«Характер трепкий».
«В первоначатке» (сначала).
12 ноября.
Черчилль сделал первое заявление о немецких ракетах
дальнего действия. Ракета поднимается за пределы стра-
тосферы до 100 километров и летит быстрее звука.
Хорошая погонялка для Англии! Пускай союзнички вою-
ют энергичнее. Смешно сказать, до сих пор они отвлекали на
себя меньше немецких дивизий, чем отвлекал от России За-
падный фронт в первую мировую войну.
У нас новый начальник Политотдела, полковник Дубов,
прибыл из-под Сталинграда.
524
В начале войны, да и в середине ее, мы боялись, что
союзники своей волынкой со вторым фронтом доведут
нас до изнеможения, обессилят нас своею медлитель-
ностью.
Ничего подобного! Мы приходим к победе не истощенны-
ми, а во много раз увеличившими свою мощь.
«В 1944 г. вводится в строй столько предприятий, сколько
было пущено за всю первую пятилетку. За два последних го-
да производительность труда возросла в промышленности
на 40%.
...На заводе имени Сталина производство артиллерийского
вооружения возросло в 18 раз. Завод дал сверх плана воору-
жения для 2300 арт. полков и 26 танковых бригад».
(Из материалов армейской газеты.)
О том, что люди устали, я не забываю.
В начале войны в роте было два автомата: у командира
роты и у его связного. Теперь в каждой роте 32 автомата.
А ведь кроме этого существуют специальные подразделения,
где все бойцы поголовно вооружены автоматами.
14 ноября.
Солнце. Сияющее, зеркальное взморье. Подмороженный
песок тверд под ногой, как асфальт. Штиль. Нет даже малей-
шего лепета волн. Лишь изредка подойдет шелковая, длин-
ная складка воды и замрет у кромки песка, едва всхлипнув,
как младенец во сне. Темная, сырая каемка песка — это
контур, которым прочерчен берег залива, черта, отде-
ляющая почти белый песок от воды, которая уж совсем
неотличима от такого же неба, цвета голубовато-белесой
пустоты.
Лодка с тремя рыбаками отходит от берега на ловлю. Двое
гребут, а третий ритмично нагибается внутри лодки, захва-
тывает со дна несколько метров сети и выбрасывает их за
борт, вновь нагибается и опять выбрасывает следующую пор-
цию сети. Лодка медленно уходит к горизонту, прочерченно-
му ровно, как по линейке, как бы для того, чтобы рыбаки не
спутали, где небо, а где море. Штиль. В прозрачной воде чуть
колышется на песчаном дне деревянная рукоятка неразо-
рвавшейся немецкой ручной гранаты. Возле нее видна каска,
до половины засосанная песком.
525
Чаек нигде сегодня не видно.
Мне 47 лет.
Он сказал себе: «Я больше уже никогда не смогу выспать-
ся — это старость».
Когда едешь в открытом кузове машины, спиной к дви-
жению, к свету фар, освещающих дорогу, то кажется, что та-
щишь за собой ночь на буксире.
Чуть-чуть припорошило первым снегом, но еще слишком
мало его: от этого на проселочных дорогах неуютная
пестрота, оскаленная стылость затвердевших ледышек
грязи. Поскорее бы лег сплошной, успокаивающий глаза
покров.
Хорошо на взморье. Мороз как бы выжал из песка вла-
гу, высушил его, сделал белесым. Вдоль кромки уходит
вдаль белая кайма замерзшей пены, как взбитый белок.
Штиль. Шелковое море и бегущие волны — это только па-
мять о вчерашнем ветре, раскачавшем воду залива. Цвет
воды неопределенного зеленовато-кофейного колера, словно
это не вода, а жидкое стекло, приготовленное для выдувания
бутылок.
Язык:
«Почему кашляет эта девушка? Ей надо мурлыкать, а не
кашлять».
«Я наблюдаю в выражении его лица малозаметные пре-
пятствия».
«Не знать компромисса в жизни и умереть, не дрягавши
ногами».
«Первый год мира будет всеобщей женитьбой».
«Любовь без результата все равно что пустоцвет на огур-
цах».
Шведская газета «Афтонбладет» (Стокгольм, 13 ноября)
пишет:
«Осведомленные круги сообщают, что Гитлера постиг
удар, ограничивший способность речи и парализовавший
правую сторону его тела. Германское министерство ино-
странных дел приказало немецким миссиям за границей в
526
случае запросов отвечать, что здоровье Гитлера вполне нор-
мальное».
Это, конечно, слухи, но симптоматичные. А вместе с та-
кими слухами публикуются сведения о том, что гитлеров-
ские главари переводят крупные денежные суммы в арген-
тинские банки.
Большинство наших солдат верит в близкий конец вой-
ны. Затишье на фронтах, они считают,— канун послед-
него удара. Думают, что мы подтягиваем силы для та-
кого удара.
Гунин с товарищами встретил в Слоке старика. На во-
прос о сроках он ответил, что война кончится 22 декабря,
так как в Библии сказано, что война будет продолжаться
42 месяца.
21 ноября.
Лондон, 19 ноября. Специальный корреспондент англий-
ской газеты «Обсервер» в статье, озаглавленной «Тайна Гит-
лера», пишет: «Еще большее реальное политическое значе-
ние, чем молчание Гитлера, имеет исчезновение Геринга. Ге-
ринг в политическом отношении высказывался за союз меж-
ду нацистской партией и правящими кругами германской
промышленности, конец которому наступил 20 июля
(т. е. после покушения на Гитлера). Он был соперником
и личным врагом Гиммлера. Не будет удивительно, если
мы скоро узнаем, что с Герингом приключилось нечто
роковое».
Сегодня в газетах сообщают, что из Финляндии прибыло
95 вагонов — электрооборудование, лебедки, подъемные кра-
ны, вагонетки, музейные ценности, — все это финны на-
грабили у нас во время войны.
Артиллерист Пенюшин, уверенный в близком конце вой-
ны, сказал: «Теперь каждому бойцу интересно остаться в
живых».
У всех артиллеристов я подслушал эту щемящую надеж-
ду остаться в живых. Большинство их воюют с первого дня,
люди пожилые — устали. Но все говорят одно и то же: «Ни-
кто вместо нас защищать Родину не будет. Надо добивать
немцев. Скорее бы в наступление!»
527
Везде видны признаки близкой победы.
Девушка пишет бойцу на фронт из Барнаула: «Теперь
мы работаем 8 часов. Имеем выходные дни. Жить стало
легче».
Уралец-рабочий пишет, что их завод выпустил полутор-
ную программу мин Весь запас сдан на склад, а завод пе-
реключился на ремонт трамваев. Значит, мины скоро не
нужны будут.
В Харькове танковый завод частично уже перешел на
мирную продукцию.
Коблик сказал как-то:
— В России никогда не было типа чисто кабинетного
мыслителя. Интерес к человеку всегда первенствовал над
голой игрой интеллекта, над гносеологическими проблемами:
всегда — на первом месте этика и мораль. Не было, как у
других народов, острого интереса к космогонии.
Потом он добавил:
— Философия в прежнем понимании давно умерла — не
существует. У нас философия делания. Интересно, что еще
Жуковский, полемизируя с изречением Декарта, дал форму-
лу: «Я делаю — значит я существую».
Русский тип — мыслитель-воин.
При одном разговоре о прахе вещей Коблик сказал:
— После войны человек будет стремиться свести весь
мир к каким-нибудь семи чудесам. Ограничить его предель-
но необходимым, и это основное славословить, воздать ему
песнопение.
Я сказал, что хотел бы найти символическое выражение
для этих семи чудес и поставить себе на письменный стол.
Коблик:
— Боюсь, что для многих ваших знакомых стол стал бы
выглядеть неприлично.
22 ноября.
Скоро зашевелится и наш участок. В сводке сообщают
о прорыве немецкой обороны на южной оконечности острова
Эзель.
Вместо Чурикова, который теперь работает начальником
ДКА, начальником нашего армейского издательства стал
майор Левитас.
528
Он рассказал, что в Москве, в редакции газеты «Мо-
сковский большевик», отделом писем ведала сестра Зем-
лячки. Старушка очень мерзла, так как редакционная ком-
ната не отапливалась.
Левитас вызвал заведующего хозчастью и сказал ему,
чтобы он сделал так, чтобы старушка не мерзла. Завхоз от-
ветил, что технически это невозможно. Профиль труб отоп-
ления в этой части дома таков, что ни нарастить батарею, ни
вообще что-либо предпринять невозможно.
— Хорошо, — сказал Левитас, — в таком случае я вам
приказываю: с завтрашнего дня в эту холодную комнату
переходите вы со своим отделом, а старушка пускай рабо-
тает в вашей теплой комнате.
Хозяйственный отдел переехал, и через два-три дня хо-
лодная комната была превращена в теплую.
Применяя эту тактику, Левитас последовательно утеп-
лил все холодные комнаты редакции. Если завхоз уверял
Левитаса, что какую-то комнату утеплить невозможно, Ле-
витас немедленно переселял в нее хозчасть, и через несколь-
ко дней комната делалась теплой.
Левитас сказал, что это же лекарство он с успехом приме-
нял и на фронте.
Он работал в батальоне замполитом командира баталь-
она. Солдаты и офицеры все время жаловались на старшину:
не обеспечивает ремонт обуви.
Однажды мимо Левитаса идет боец в рваных сапогах.
Левитас вызывает старшину:
— Почему у солдата рваные сапоги?
— Нет кожи, товарищ майор, подвезут — починим!
Левитас приказал старшине отдать свои сапоги солдату,
а самому надеть рваные.
К вечеру сапоги старшины были починены. И так каждый
раз Левитас разувал старшину и приказывал ему надевать
рваные сапоги, если видел их на ногах какого-нибудь сол-
дата. Как правило, на другой день сапоги старшины бывали
уже починены.
Однажды рваные сапоги, снятые с бойца, оказались так
малы, что не налезли на ноги старшины. Все равно Левитас
заставил старшину отдать свои крепкие разутому солдату.
И старшина побежал босиком в хозчасть к сапожнику, унося
в руках рваные сапоги.
С тех пор обувь в батальоне у Левитаса была в образцо-
вом порядке.
629
И еще такой случай.
Через несколько часов бой. Батальон вышел на исходную
позицию. Левитас приказал начхозу-лейтенанту выехать сле-
дом за батальоном вместе с кухней и обеспечить обед для
батальона.
Кухня отправилась. Немцы повели обстрел. Как только
около дороги разорвались первые две мины, начхоз прика-
зал поворачивать обратно.
Это страшно возмутило Левитаса. Был жестокий мороз.
Люди в ожидании боя мерзли на рубеже, были голодны. Для
тех, кому в этом бою суждено было погибнуть, это была
последняя в их жизни возможность пообедать горячей пи-
щей.
Левитас приказал начхозу немедленно надеть на себя
термос и доставить пищу солдатам, если надо — ползти, но
во что бы то ни стало накормить людей.
Этот же начхоз воровал у раненых водку. Ему было при-
казано выйти с водкой на дорогу и давать положенные бой-
цу сто граммов на день тем раненым, которые в состоянии с
места боя самостоятельно дойти до медсанбата.
Левитас отправился на дорогу сам, — решил проверить,
как начхоз выполянет его распоряжение. Оказалось, что этот
жулик прячется за деревом от раненых, чтобы его не увиде-
ли и не узнали. Он рассуждал так: раненый попадет в гос-
питаль, затем в резерв, а в свою часть больше не вернется и
никогда уж не упрекнет в том, что ему в этот день недодали
положенные ему сто граммов водки.
И в этот день был мороз. Измученные раненые шли с со-
чащимися, окровавленными повязками, сделанными наспех
на поле боя. Для многих из них водка была бы целительным
лекарством на таком морозе.
Левитаса возмутила проделка начхоза, и он тут же при-
казал ему взять у раненого автомат и немедленно отправ-
ляться на огневой рубеж.
Бойцы на рубеже торжествовали, когда увидели всем из-
вестного жулика рядом с собою в окопе. Через два часа нач-
хоз был убит немецкой пулей.
25 ноября.
Остров Эзель очищен от немцев, проход в Рижский залив
свободен. Ждем событий у нас.
Говорил с полковником Чертухиным, начальником Смер-
530
Ша («Смерть шпионам»). Он сказал, что, пока мы двигались
по Латвии, не было ни одного диверсионного акта со стороны
населения. Наоборот, оно помогает нам находить айсоргов1
и прочих врагов.
Немцы в районе Тимужи оставили в лесу диверсионную
группу из латышей. Жители заметили, что в окрестностях
появляются какие-то неизвестные люди в штатском, но с
оружием. Сообщили в нашу воинскую часть, и вся группа
была захвачена.
Работа Смерша идет по двум каналам:
Вылавливаются айсорги и все те, кто в 1941 году нападал
на отряды отступавшей Красной Армии, стрелял в спину.
Выявляется, кто из пленных красноармейцев продался
и вел работу в пользу немцев.
Среди арестованных есть майор, которого немцы назна-
чили комендантом концлагеря для русских военнопленных.
Он бил пленных.
Тем, кто легкомысленно относился к срокам войны, надо
вдуматься в передовицу «Красной звезды» за 22 ноября
1944 года:
«Красной Армии предстоит еще преодолеть самые мощ-
ные укрепления из всех тех, какие были созданы немцами
за время войны».
Начали рваться снаряды. Кто-то из бойцов кричит: «Осто-
рожно, здесь некурящие!»
Татарская пословица: «Зачем мне золотой таз, если я бу-
ду в него харкать кровью».
2 декабря.
В Греции пущена в ход подлость: Англия творит черное
дело.
Партизаны-греки помогли освободить свою землю, про-
гнали прочь гитлеровскую сволочь, но их предало свое же,
греческое правительство. Оно потребовало от партизан: «Сда-
вайте оружие и расходитесь по домам». Шесть министров
ушли в отставку, отказались подписывать позорный декрет
о роспуске отрядов народных мстителей. В Афинах на ули-
1 Стрелки из воинских частей, служивших у немцев.
531
цы вышел народ, благодарный партизанам. Тогда полиция
организовала бойню; с крыш домов, с чердаков, с колоколен
принялась расстреливать безоружных людей. Партизанам
ничего больше не оставалось, как тоже пустить в ход свои
автоматы и винтовки.
В Афинах, в Пирее, в Салониках идет кровавая борьба.
Объявлена общая забастовка. Но к услугам реакционного
правительства вот она — Англия: она высаживает десанты.
Против партизан, против рабочих брошены танки и авиа-
ция, на побережье открыли огонь эсминцы. И все это — Анг-
лия: она хочет опять посадить на шею грекам короля. Ан-
глийские войска под командованием генерала Скоби захва-
тывают квартал за кварталом в Афинах.
Как это ужасно! И мы ничем, ничем не можем помочь
греческим патриотам-мученикам в их справедливой борьбе
за истинную свободу. Тот, кто остался в живых в схватках
с гитлеровцами, сейчас, вот в эту самую минуту, гибнет от
пуль наших союзничков англичан.
Досадно, что мы застряли в Прибалтике. Зима, дождь,
грязь, голая земля. Технику двинуть с места нельзя. А сами
немцы отсюда не уйдут. Наоборот, они подбрасывают ре-
зервы: за ноябрь добавили около 30 тысяч солдат, а 1 декаб-
ря на семнадцати пароходах к ним прибыло еще пополнение:
танки, артиллерия, пехота. Нет, они не уйдут сами.
23 декабря.
Слева от нас уже третий день наступают две армии. Про-
двинулись с боем на пятнадцать километров. Вот-вот перей-
дем в наступление и мы. Нам подкинули одну дивизию, но все
равно людей у нас мало. Будем комбинировать артиллери-
ей и авиацией. Ставка поставила перед нами задачу: доко-
лотить немцев в Курляндии.
Завтра, в 5 утра, выезжаю на передовую, в 376-ю стрел-
ковую дивизию.
26 декабря.
376-я стрелковая дивизия.
Это была одна из самых трудных, тяжелых командиро-
вок.
532
После прогрызания перешейка в районе Демянского кот-
ла сейчас идут самые жестокие бои в истории нашей Удар-
ной армии.
Немцы не хотят уходить из Курляндского мешка. Я ви-
дел пленных юнцов (18 —19 лет), свеженьких, крепеньких
мальчиков — все члены гитлеровского союза молодежи.
Вероятно, этих мальчиков подбадривают сообщения с За-
падного фронта Германии, где немцам удалось осуществить
большой прорыв на участке американцев.
У нас немцы упорно сопротивляются. Вот уже прошло
десять дней, а нашим дивизиям (53-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, 376-й с. д. и 98-й с. д.) удалось вклиниться в их
оборону всего лишь на семь-восемь километров.
Почти перед каждым хутором по две-три траншеи, а за
ними противотанковый ров. Рвы очень глубокие и широкие.
Их глубину я измерил сам, прыгая туда время от времени,
чтобы укрыться от артналета.
У нас очень много артиллерии. В минуты артподготовки
все гремит. Тогда не слышишь полета вражеских снарядов и
не имеешь возможности приготовиться, чтобы вовремя лечь.
Это очень нервирует, — вдруг совершенно неожиданно, за-
глушенные грохотом нашей артиллерии, совсем близко
начинают рваться немецкие ответные снаряды. Да
и для уха и нервов физически трудно переносить звуковые
удары.
Ночью немцы пошли в контратаку с танками. Все наши
огневые средства были пущены в ход, чтобы их отбить. А не-
мецкие тяжелые рвались вокруг КП дивизии, где я был, и
рвались. Визжали осколки. Я соображал, что гораздо ра-
зумнее выйти из избушки и лечь на землю, чем лежать на
верхних нарах. Но слишком велика была усталость, чтобы
сквозь дремоту заставить себя принять какое-либо разумное
решение. Вообще ночь была «уютной».
Я давно уже убедился, что ничем не выделяюсь своим
поведением от поведения кадровых военных: и они так же
порою вздрагивают и пригибают голову (хотя это бессмыс-
ленно, ибо снаряд уже пролетел), они тоже вдруг прыгают
и ложатся в канавы и очень часто ведут себя нервозно. Нет,
я боюсь ничуть не больше, чем другие.
Повсюду валяются трупы. Я до сих пор не привык к ним
и не хочу привыкать! Я до сих пор не могу пройти спокойно
мимо трупа и не хочу быть равнодушным. Я боюсь уродст-
ва, обезображенности, память о которой преследовала бы ме-
533
ня всю мою остальную жизнь. Я стараюсь не смотреть. Но
ведь это как моментальная фотография — миг, и все гото-
во,— уже навсегда врезался в память неожиданно светлый
цвет мозга и кровавое месиво, в которое превращено разры-
вом снаряда поруганное человеческое существо. До сих
пор помню один из первых трупов около Робьи под Старой
Руссой: как костяная чаша пустой череп погибшего
бойца.
Труп врага вызывает у меня неприязнь. Здесь гуманизм
и у меня прочно подорван зверствами немцев и долгим сро-
ком войны.
А наши бойцы? Каждый труп вызывает чувство, очень
близкое к суеверной жути. Жалость, страх и что-то давящее
на сознание от невозможности додумать все это до конца,
дойти до основного зерна и все понять.
Нет, в самом деле, невозможно к этому привыкнуть. А
ведь я увидел первый труп еще в начале 1942 года!
В дни командировок стоит потрясающая погода. Вечером,
пока луна проходит еще нижние слои атмосферы, ее окраска
осложнена пороховым дымом, как бы подправлена на кар-
тине пастелью, а ночью, когда она выйдет на небесный про-
стор, становится безукоризненно яркой.
Из обеих командировок я возвращался ночью, один при
луне. Несколько раз обходил торчавшие из мерзлой земли
хвостовые оперения неразорвавшихся 82-миллиметровых
мин.
Во втором батальоне 98-й с. д. опять было у меня острое
ощущение, что я понимаю до конца и воочию вижу поколе-
ние победителей. Комполка спросил: «Кто пойдет на захват
«языка»?» — и вся группа разведчика Малышко ответила, как
один человек: «Я!» И тогда Малышко сказал за всех: «Вся
группа пойдет!» О нем я сегодня буду писать в газету.
Очень интересный разговор был в 376-й с. д. с помощни-
ком начальника Политотдела майором Пуховым. Он мне
сказал:
— Сорок второй год — год удивления: почему нас еще
бьет немец? Сорок третий год — стремление добить немцев
окончательно. Сорок четвертый год — год желания, чтобы
война скорее кончилась.
534
Есть только одна категория людей, которые жаждут, что-
бы война продолжалась как можно дольше: это некоторые
интенданты. Мне известно несколько человек, имеющих на
фронте по нескольку жен и отправляющих тыловой жене
на машинах всяческое добро.
Майор считает, что лучше всех из молодых воюет тот, кто
родился в 1925—1926 годах. Это юноши чистой советской
формации. Обработанные ненавистью к врагу во время Оте-
чественной войны, пережившие эвакуацию, потерю близких,
бомбежку городов, они в то же время не имеют еще своей
семьи, детей, часто даже возлюбленной. На войне они совер-
шенно свободны от дополнительных, отягчающих пережива-
ний, связанных с мыслями о семье.
Очень хорошо воюют и старики, поскольку позволяют им
физические силы. Неплохо воюют те, кто был юношей во
времена гражданской войны и разрухи.
Отрицательно майор относится к возрастам 1915—1920 го-
дов, называет их «маменькиными сынками»: не выдержива-
ют длительного напряжения, не инициативны и малоспособ-
ны принимать самостоятельные, ответственные решения.
Я бы на месте майора Пухова воздержался бы так, скопом,
осуждать этот возраст.
Я сам видел превосходных воинов из числа восемнадца-
тилетних юношей. Вчера в госпитале № 222 один из таких
сказал мне, что в бою чувствует себя как дома. Может быть,
он немного рисовался.
Язык:
« — Сыграй что-нибудь.
— Что?
— Что-нибудь божественное посмешней.
— Что-нибудь революционное, вроде «Потеряла я колеч-
ко».
— Сыграй, что не умеешь».
«Облябызал ее».
«Когда кончим войну, опять будем вить гнезда и петь
песни».
«По фрицам ходили, как по соломе» (столько было в
траншее убитых немцев).
Начальник отдела партийной работы редакции Кормщи-
ков вернулся из бани. Спрашиваю:
— Жарко было?
— Да. Только веник какой-то кипарисовый, никуда не
годится—нет березы.
535
Баня при госпитале. Веники заготавливают санитары: ло-
мают кусты туи на старинном кладбище.
Язык:
«Я работаю над докладом до тех пор, пока он не уме-
стится на спичечной коробке».
«Всякое бывает. Случается, что и пьяный качается».
О густом, хриплом басе: «У него горло работает на зим-
ней смазке».
Если начальник накричал на кого-нибудь, пробрал, го-
ворят: «Устроил ему зимнюю смазку!»
«Потребность курить у меня была алчная: я завертывал
как можно толще».
«Парторги и комсорги летят как семечки» (выбывают в
бою из строя).
3 января 1945 г.
Межмали (в переводе «Лесной край»).
Наступление застопорилось, продвинулись не более се-
ми— десяти километров. Строим оборону, закрепляемся на
новом рубеже.
Не было случая, чтобы во время атаки не поднялось бы
по сигналу хоть одно подразделение. Люди вели себя пре-
восходно. Беда в том, что, несмотря на чудовищный огонь
нашей артиллерии, батареи немцев не были подавлены.
Новый год встретили на мызе у своих хозяев, где нас по-
селили.
Две милые девочки хозяев — Аида и Ливия (10 и
13 лет) — зажгли в гостиной свечи на елке. И вот вся семья
латышей запела псалмы: Аида держала перед собой книгу,
отец и мать иногда тоже заглядывали в нее.
Когда свечи на елке догорели, хозяин рассказал нам, как
он прятал от немцев советского летчика. Летчик отбомбился
над Кёнигсбергом и на обратном пути вынужден был из-за
неисправности в моторе выброситься на парашюте.
Хозяин сказал:
— Я теперь у этого летчика оторвал бы голову, если бы
где-нибудь его бы встретил.
В чем же дело? Хозяин спас ему жизнь, подобрал его в
лесу, несколько месяцев кормил его и прятал от немцев.
Но парень был совсем молодой и заскучал. Понемногу он
536
начал выходить из подвала и делать в окрестностях развед-
ку, Познакомился с русскими девушками, которых угнали
немцы. Девушки работали на соседних мызах. Повадился
ходить к ним по ночам. Кто-то из них, якобы из ревности,
донес. Летчик исчез бесследно, а хозяина, после безрезуль-
татного обыска, вызвали в Митаву на допрос. В тюрьме он
просидел две недели. Ему сломали два ребра, но он не со-
знался в том, что укрывал летчика.
Не может наш хозяин простить летчика: зачем ходил к
девушкам!
Головные боли с каждым днем усиливаются. Упадок сил
такой, что встанешь с постели, наденешь один сапог — и уже
опять хочется лечь и отдохнуть.
Продиктовал на машинку рассказ для газеты: «Колы-
бельная песня».
Язык:
«Как говорит пословица: один раз в год и грабли стре-
ляют».
«Имеет попытку пожить с ней».
«Изобретение собственных родителей образца 1925 года,
о чем и докладываю».
«Ишь как капитан крепко рисует» (то есть выражается).
«Николаев его не переваривает, а Петров — его. У обоих
желудки неважные».
Бросается в глаза масса нашей артиллерии. Она стоит
прямо в поле, под открытым небом. Авиации у немцев здесь
нет. Стоят наготове и наши танки.
Пленные говорят, что против нас действуют две танко-
вые дивизии (4-я и 12-я) и гренадерские части. Задание: вос-
становить положение, вернуть то, что они утратили после
нашего наступления.
В Латвии на освобожденных местах быстро восстанавли-
вается советская власть. Представители населения помо-
гают официальным учреждениям. Организованы нечто вро-
де наших комитетов бедноты периода после гражданской
войны. Вот представители из такого комитета и пришли опи-
сывать имущество наших хозяев.
537
В доме началась беготня. Аида и Ливия разревелись. Яд-1
зяйка принялась накрывать стол с пышным угощением.
А пока что бойкий старичок из «комитета бедноты» принял
из рук ее компаньонки авансом стаканчик прозрачной жид-
кости. После этого он стал добродушно всех хлопать по пле-
чу, а с нами лез целоваться. Тем временем можно было
через окно увидеть, как суетившийся во дворе хозяин что-
то тащит в мешках и прячет. Потом он погнал в лес двух
коров.
Когда хозяин наконец присел к столу, старичок был уже
«хорош». Он налил себе и хозяину по стакану, чокнулся и
запел:
Я — дурак, ты — дурак,
Дураки мы оба.
Выпьем этак, выпьем так —
Мы друзья до гроба!
В пиршество были втянуты и некоторые сотрудники га-
зеты. «Львиную долю» в разговорах (по прекрасному выра-
жению Жюля Ренара) взял себе Левитас—бурный, чувст-
венный, со вздернутым носиком и сверкающими, как у са-
тира, глазками.
Я писал на подоконнике очерк для газеты. Старичок по-
дошел ко мне и, безуспешно пытаясь меня обслюнявить,
сказал:
— Капитан, вы нас обижаете, вы должны выпить со
мной за советскую власть. Неужели вы против советской
власти?! Ведь я же отложил опись имущества этого кулака
(жест в сторону хозяина, который поспел наполнить для
него стакан), почему же вы не можете отложить свою
опись? — Протягивая мне стакан, он запел:
Я — дурак, ты — дурак,
Дураки мы оба...
Левитас насилу оттащил его от меня.
От вчерашней, первой в Прибалтике метели остались
только пухлые сугробы. Сегодня ослепительное солнце. «Ве-
чор, ты помнишь, вьюга злилась...»
Потянуло в лес по не примятой еще никем снежной це-
лине. Почти у самой опушки увидел след дикой козы и шаг
538
за шагом побрел по следу козы в лесную чащу, стараясь
разгадать, зачем она сюда приходила. Вот здесь она пере-
прыгнула через межевую канаву, остановилась у пова-
ленной березы и сощипывала с веток сухие листья. Пошла
дальше. Прыжок. Опять пошла спокойно. Обошла сторо-
ной густую заросль лесных младенцев — шестилетних ело-
чек, плотно заваленных снегом. За елочками открылась
красивая просека, и я пошел, оставив в стороне козий
след.
Вдруг прямо перед собой я увидел козочку — она совер-
шенно спокойно переходила просеку. Меня не видит. Я по-
шел за ней следом. То затаиваясь за каким-нибудь стволом,
то снова приближаясь к козочке, я следил за нею минут де-
сять. Но вот она подняла голову и посмотрела мне прямо
в глаза. Я замер, старался дышать незаметно, но все-таки
что-то хрустнуло у меня под ногой. Коза сделала огромный
прыжок и ускакала, показав мне «салфетку» — белое пятно
под хвостом и на обеих ляжках.
Я хотел пройти дальше по ее следу, но вскоре наткнулся
на свежий след человека, словно он прошел здесь несколь-
ко секунд назад. У незнакомца валенки почти в два раза
больше, чем мои. В лесу сразу стало как-то неуютно. Кру-
гом много заброшенных старых землянок. В них может от-
сиживаться и скрываться кто угодно. Я вынул пистолет из
кобуры, сунул в карман шинели, но из руки не выпускал.
Через несколько минут совсем недалеко раздался винтовоч-
ный выстрел. Я решил, что кто-то убил козу. Может быть,
даже хозяин таких огромных валенок. В самом деле, вскоре
я увидел, как на небольшой полянке кто-то в черном пальто
возится над окровавленной козой. Больше всего меня уди-
вило, что от козы шел такой сильный пар на морозе. Человек
делал быстрые, резкие движения, он торопливо кромсал но-
жом что-то у козы. У него было очень бледное, с прозеленью
лицо, как будто он несколько недель просидел в темном под-
вале.
Что это за человек, я так и не понял. Увидев в моей ру-
ке пистолет, он отпрянул от козы и опрометью бросился в
лес, проламывая себе путь через кустарник. Однако заднюю
ногу козы, которую он успел уже отрезать вместе с окоро-
ком, он не бросил, унес с собой.
Около козы я подобрал брошенную этим человеком не-
мецкую винтовку. В ее магазинной коробке оставалось еще
четыре патрона.
538
17 января.
А в редакции уже принят по радио очередной приказ
Верховного Главнокомандующего:
«Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стреми-
тельный обходный маневр...— сегодня, 17 января, путем
комбинированного удара с севера, запада и юга овла-
дели столицей союзной с нами Польши, городом Вар-
шава— важнейшим стратегическим узлом немцев на реке
Висла».
Мы пожинаем плоды величайшего наступления. Оно на-
чато 12—14 января силами пяти фронтов: 1, 2 и 3-го Бело-
русских и 1, 4-го Украинских.
Язык:
«— Зачем вы с ним поссорились?
— Я не ссорился, я просто сказал ему: «Ты—дурак!»
Он с этим не согласился, и мы разошлись. А ссориться — не
ссорились».
«У нас Постников читает ощупью» (малограмотный).
«Иду к санитаркам слизывать губную помаду».
«У вас изящная психика».
«У него волосатое сердце, до него ничего не доходит».
«Вся жизнь наша — ломка игрушек, чтоб узнать, как
они сделаны, а играть некогда».
«Целую тебя прямой наводкой» (заканчивает письмо ар-
тиллерист).
«Прибегает — глаза навылупе» (от страха).
22 января.
Вырваться от нас из Курляндии немцы больше не могут.
Черняховский прорвался в Восточную Пруссию. Пропасть,
отделяющая Курляндскую группу от основной массы фа-
шистских войск, с каждым днем становится все шире. Те-
перь для них одно только спасение — уйти морем. Но ведь
для этого надо огромное количество кораблей.
В лесу, по окрестностям, бродит какая-то банда. Нам за-
претили выходить меньше, чем по два человека, за пределы
мызы, где расположилась редакция.
540
27 января.
РЕЛЬСЫ
По невысокой насыпи, по лугу,
В невысказанной муке и тоске,
Такие недоступные друг другу,
Они идут, теряясь вдалеке.
Им тосковать, казалось бы, не надо,
Идти б им беззаботно и легко.
Посмотришь — ведь одна с другою рядом,
А вдумаешься — страшно далеко.
Идут всю жизнь в неведомые дали,
Жестоко разделенные судьбой.
Сойдутся ли когда-нибудь? Едва ли.
Мне кажется, что это мы с тобой.
(Старший лейтенант Вл. Алатырцев)
Это стихотворение я записал на мызе Яушмуйжа, на со-
вещании писателей армейских газет. Оно явно выделялось
на сером фоне стихотворных попыток других любителей
поэзии.
Всю ночь окна в общежитии были голубые от луны и от
намерзшего на стекла инея. Стоят сильные морозы. Про-
мерзшие телефонные и телеграфные провода на открытом
шоссе прямо-таки ревут от малейшего ветра — напряглись
от мороза.
— Провода и те плачут! — сказал мой спутник, лейте-
нант Довгалев.
Язык:
«Я видел, как читал стихи московский поэт. Вот чи-
тал! Чуть не разорвался. Все мышцы у него ходили».
28 января.
Ежедневные приказы и салюты продолжаются. До Бер-
лина осталось около двухсот километров. Познань окруже-
на, Торн — тоже. Восточная Пруссия отрезана от остальной
Германии. Части Красной Армии в семи километрах от Кё-
нигсберга. Баграмян (1-й Прибалтийский фронт) взял Ме-
мель. Таким образом, вся Литва освобождена. После этого,
надо надеяться, Баграмян тоже будет жать на Курляндию.
Командующий нашим 2-м Прибалтийским фронтом из-
541
дал приказ: не выпустить живым ни одного солдата из Кур-
ляндского мешка. Мы должны их здесь связывать и унич-
тожать, чтобы они не были переброшены туда, где сейчас
Красная Армия рвется к Берлину.
30 января.
Немцы передают по радио, что танки Жукова дошли до
Одера (90—100 километров от Берлина) и будто бы «непо-
нятно почему» круто повернули на север, к Штеттину, до ко-
торого — 80 километров.
В Берлине паника, эвакуация министерств, архивов.
Жаль, что мы засиделись в Курляндии. Хочется ступить
своей ногой на землю Германии.
31 января.
Зашел в ЭП-68 к Корбовскому. Пока он мылся в бане,
взял в руки книгу, которая лежала у него на окне.
Слипаются глаза, устал, но уж очень великолепна, не-
обычайно значительна мысль Гегеля — основа основ:
«Почка пропадает при распускании цветка, и можно
сказать, что она вытесняется этим последним; точно так же
через появление плода цветок оказывается ложным бытием
растения и вместо него плод выступает как истина растения.
Эти формы не только различаются, но вытесняются, как не-
примиримые друг с другом. Но их преходящая природа де-
лает их вместе с тем моментами органического единства, в
котором они не только противостоят друг другу, но один
столь же необходим, как и другой; и эта равная для всех необ-
ходимость образует жизнь целого» (Гегель. «Феноменология
духа», стр. 1—2).
6 февраля.
Около трех часов ночи. Только что передали, что войска
маршала Конева форсировали Одер южнее Бреслау.
Я уже совсем было улегся спать, но Левитас своими рас-
сказами разогнал сон. Комизм положений, речевая интона-
ция Левитаса непередаваемы.
Жаль, что я не могу воспроизвести его язык дословно.
Левитас говорит:
— Я прослыл героем по неведению. Я еще ничего не
знал. Пули тыркаются под ногами, а я даже не понимаю, что
это такое. Снаряды: виу-виу, джиу-джиу. Мне говорят: это
542
рикошет. Я спрашиваю: «А рикошет убивает?» Мне отве-
чают: «Нет!» Ну, нет так нет—идем дальше.
Я попал прямо в бой. В полку мне говорят: «Очень хо-
рошо! Вы пришли как раз вовремя. В вашем батальоне де-
рутся как львы. Осталось одиннадцать человек!» Я посмот-
рел, сколько трупов лежит и сколько отсюда выносят...
и подсчитал сразу, что живым мне отсюда не уйти. Самое
лучшее, если мне оторвет руку или ногу. Ну, раз так, я ре-
шил: коммунист всегда должен оставаться коммунистом в
любом положении. Если приходится сдыхать, то надо сдох-
нуть, как порядочный человек.
Иду, а мне говорят: «Товарищ майор, пригнитесь».
А я иду во весь рост и говорю им: «К чертовой матери приги-
баться!» Иду во весь рост, а сам ничего не понимаю. А они
думают: смотрите, какой герой.
Они жили в землянках, в траншеях, в грязи. Я им гово-
рю: «Какого черта вы здесь мокнете, ведь вон же два до-
мика стоят». Они на меня смотрят и думают: «Вот это дей-
ствительно храбрый человек». На другой день прямым по-
паданием: бба-а-ах!..— и нет одного домика. Тут я начал кое-
что понимать.
А в батальоне сразу решили, что я храбрый человек —
и комбат, и все: всюду хожу, суюсь и не пригибаюсь.
Комбат говорит мне о храбрости, а я тут же им анекдот
рассказал: «На Москве-реке с парохода упала девочка. Все
кричат, суетятся, а прыгнуть никто не решается. Вдруг ка-
кой-то старикашка — бац в воду! Девочка ухватилась за его
бороду, он выплыл и спас ее. Когда он поднялся на пароход,
все жмут ему руку, поздравляют, восхищаются. А он гово-
рит: «Все это хорошо, но какой сукин сын меня в воду столк-
нул?! »
Вот так и я вас спрашиваю: «Храбрый-то храбрый, но ка-
кой сукин сын меня сюда столкнул!»
Все смеялись. Этот анекдот весь батальон обошел. Я все-
гда в тяжелые минуты им анекдоты рассказывал.
Сначала я ничего не понимал, потому и ничего не боялся,
а когда понял, то тут уж надо было марку героя выдержи-
вать до конца. Потому что, если бы я, майор, пригибал-
ся, тогда они все и вовсе раком ползали бы. Я всегда им го-
ворил, что если приходится погибать, то надо умирать, как
человек.
Первая моя война была с санитарами. Я следил, чтобы
раненых вовремя выносили. Я иду, вижу около копны воло-
543
куши. Я говорю связному: «Эй, здесь где-нибудь в копне са-
нитары». Начинаю звать: «Санитары! Санитары!» Никто не
отзывается. Тогда я говорю связному: «Надо прострочить
копну из автомата. Неизвестно, кто в ней сидит,— может
быть, какой-нибудь сукин сын, может быть, враг». А сам
связному на верхушку копны показываю. Связной выпустил
очередь по верхушке. Сейчас же из-под копны санитар вы-
скочил. Я со всего размаха дал ему по уху. Так дал, что не
он, а я закачался. У меня два дня после этого рука болела.
«Что,— спрашиваю,— по-честному воевать будем?» — «Бу-
дем, товарищ майор».— «Ну, смотри! Теперь давай помирим-
ся». Я пожал ему руку. «Смотри, говорю, никому не скажу,
что сидел под копной, только теперь давай воевать по-чест-
ному! »
Левитас высмеивает и клеймит всякого рода «митинги
накоротке» перед боем и бесконечные собрания, когда иной
боец думает, что вот через пять минут он, может быть, по-
гибнет, а к нему «лезут с агитацией».
Один литсотрудник спросил Левитаса:
— Но ведь вы какие-нибудь лозунги выкрикивали?
— Какой там черт лозунги! Мне парторг предложил:
«Давай крикнем: «За Родину, за Сталина — ур-ра!» Я его
послал к чертовой матери: «Ведь нас же перебьют как цып-
лят! Ведь нас же двадцать два человека, ведь немцы по кри-
ку поймут, что нас мало».
— Как же вы в атаку шли?
— Как шли? А так шел, что я сам не мог понять, как я
в немецкой траншее очутился. Я бежал как сумасшедший.
Никогда в жизни я так не бегал. Навстречу снег мокрый.
Бегу, а сам эти очки протираю. Сам не мог понять, как
я в траншее очутился. Вскочил, а сам думаю: «Мама,
выними меня отсюда!» Мы моментально захватили
траншею.
Литсотрудник снова начал приставать к Левитасу:
— Ну неужели вы ничего не говорили, никакой полит-
работы, какое-нибудь большевистское слово?
— Конечно, говорил. Я им так сказал: «Ни inaiy назад!
Конечно, кто-нибудь из нас погибнет, но погибнут не все.
У нас только один выход: погибнуть, как честные люди.
Так давайте же ни шагу назад!»
Все эти разговоры о храбрости — все это ерунда. Я иду,
а у меня в груди скребет. Но вида не подаю, иду вот так,—
Левитас выпячивает грудь.— Иду, посвистываю, а у меня
544
вот тут свистит,— показывает на сердце.— А в голове — же-
на, дочь. Ну, думаю, прощай, Полина Борисовна! За какую-
нибудь секунду вся твоя сорокалетняя жизнь промелькнет.
Не изобрели еще такого кино, чтобы так быстро все перед
тобою прошло.
В другой раз мы четверо весь участок держали. Да если
бы немцы знали, сколько нас, они бы из нас компот сделали.
Я предложил товарищам: давайте после себя память оста-
вим, напишем протокол партийного собрания. И написали!
Написали, что такого-то и такого-то, находясь там-то, поста-
новили стоять насмерть!
Вот вы, товарищи, спрашивали о политработе. Я вам рас-
скажу о немой политработе. Звонит ко мне командир роты
среди ночи: «Левитас, зайди ко мне!» — «А что у тебя там
такое?» — «Да ничего, все в порядке, зайди!»
Ну, думаю, этот напрасно звать не будет. А вы
должны понять, что это значит «зайди ко мне». Ведь он же
в траншее — впереди него дальше, кроме немцев, никого
нету.
Холодно. Грязь. Ничего не видно. Немец строчит в нашу
сторону трассирующими из пулеметов. Ползу, добираюсь к
нему в траншею. «Ну, что у тебя?» — «Да ничего, вот сижу».
И я его понимаю... Сидит один среди своих бойцов. В по-
стоянном напряжении: мрак, холодно, мокро и каждую ми-
нуту могут немцы в траншею ворваться.
Я сажусь рядом с ним в траншее. Я все понимаю. Я не
удивляюсь. Делаю вид, что так и надо. Не спрашиваю: «За-
чем меня звал?» Я сижу, прижавшись к нему, час или пол-
тора. Он что-нибудь спросит, я отвечу. Или ничего не спро-
сит. Я посидел с ним, и ему легче. Вот это я называю «немой
политработой».
Я плохо вижу, я слепой, но старался это скрывать от на-
чальства. Меня всюду водил ординарец. Замечательный па-
рень. Я звал его «Галилей». Его фамилия была Макавеев, но
я почему-то долго не мог ее запомнить и звал Галилеем.
Я совершенно не ориентируюсь,— если бы не Галилей, я
давно бы к немцам попал. Он меня буквально за руку водил.
Замечательный парень. Подойдет и скажет: «Товарищ
майор, садитесь!» Я сяду на снег, а он из кармана сухие пор-
тянки достает. Где он только ухитрялся их сушить? Всегда
у него были про запас сухие портянки.
Галилей все просил меня, чтобы отпустил его снайперить.
Достал я ему снайперскую винтовку. Он вылез вперед охо-
18 В. Ковалевский
545
титься на немцев. Самойлов пошел посмотреть, где он, под-
полз к нему и говорит: «Что же ты, сукин сын, на самом
видном месте стреляешь? Ведь убьют тебя!» В это самое
время мина трах! И прямым попаданием Самойлову голову
оторвало, а Галилея ранило в обе ноги. Я положил его на
волокушу и сам потащил. В это время — артналет. Как я
только дотащил его — кругом воронки? Когда я притащил
его в санчасть, то меня надо было лечить, а не его — так я
был хорош. У меня оба валенка были полны крови; когда
их сняли и опрокинули, то из них кровь зажурчала, как
вода.
Рассказывал еще нам Левитас и о том, как он чуть было
не попал к немцам вместе с двумя пушками из-за неумения
ориентироваться. Спасло только то, что немцы пустили осве-
тительную ракету, и Левитас понял, что ведет людей в об-
ратную сторону. Немцы открыли пулеметный огонь, но по
счастливой случайности никого не ранили.
— Ты, наверно, вскочил на лафет? — спросил его лит-
сотрудник.
— Какой там лафет—я бежал быстрее лошадей!
Однажды перед боем к Левитасу в землянку зашел ар-
тиллерист, представился, объяснил, что прислан поддержи-
вать, и спросил: где можно поставить в землянке рацию? Вел
себя безупречно, даже торжественно, так сказать, по уставу.
Но вот начался бой. После слабого огня артиллерист рапор-
тует, что «огурцов» больше у него нет.
Левитас сказал ему:
— Слушайте, вы, артиллерист, который прибыл сюда
поддерживать нас огнем артиллерии, слушайте, я расскажу
вам анекдот. В газете появилось объявление: «Требуется ма-
шинистка, знающая русский, немецкий и французский язы-
ки». По объявлению явился еврей в шляпе и с зонтиком под
мышкой. Он поклонился и сказал:
«Я прочел объявление, что вам нужна машинистка».
«Да! А разве вы знаете немецкий язык?»
«Нет».
«Ну так, может быть, вы знаете французский язык?»
«Не знаю!»
«А на машинке вы умеете печатать?»
«Не умею!»
«Так зачем же вы к нам пришли?»
«Я пришел сказать, чтоб вы на меня не рассчитывали!»
То же получается и с вами,— сказал Левитас артилле-
546
ристу.— Вы пришли к нам, сняли шляпу и сказали: «У нас
ничего нет, мы не можем вас поддержать». Идите отсюда
к чертовой матери! Вы полдня пролежали в тесноте у меня
на ногах, из-за вашей рации здесь негде повернуться. А те-
перь, оказывается, у вас ничего нет.— Левитас ткнул артил-
лериста и еще раз крикнул: — К чертовой матери!
Земля так промерзла, что ее рвали ручными гранатами,
чтобы легче было копать землянку.
18'
Прошу передать эту тетрадь в Полит-
отдел Первой Ударной армии, с тем что-
бы она была отослана моей семье по
адресу: Москва, Тверской бульвар, 9,
кв. 16.
В. Ковалевский
8 февраля.
Передовым частям маршала Жукова осталось пройти до
Берлина всего только километров семьдесят.
9 февраля.
Оттепель. Гуси мочат свою шею в лужицах талой воды и
обтираются ею, как губкой, настойчиво и долго. Они щиплют,
треплют перья на своих крыльях и на хвосте, перебирают
548
их, отделяя одно от другого и, протаскивая через клюв, сди-
рают сухую зимнюю грязь. Низко приседая к земле, они
ерошутся и колотят крыльями об заледеневший снег, выко-
лачивают грязь, стряхивают с себя мусор.
А голуби уже собирают во дворе длинные соломинки и
таскают их под крышу, вьют гнезда.
Неужели все быстро раскиснет и мы на всю весну за-
стрянем в Курляндии?
Левитас тоже говорит — на своем опыте в стрелковом
батальоне,— что молодежь 1924—1926 годов прекрасно
воюет. Хорошо дерутся также те, кто побывал под немцами,
пережил оккупацию. Правда, среди оккупированных встре-
чаются люди двух родов: 1) развращенные привилегиями,
которыми немцы, по тем или иным соображениям, их бало-
вали, развращенные непротивлением немцам; 2) те, у кого
убиты или замучены или же угнаны в рабство родители и
родственники; те, кто сам натерпелся от немцев. Это — за-
каленные ненавистью, получившие к тому же физическую
закалку на рытье траншей, танковых рвов и других прину-
дительных работах у немцев. Таких намного больше.
Наша тыловая молодежь тоже закалена работой. Те, кто
созрел для боя уже во время самой войны, это не юнцы
1941—1942 годов, для которых война казалась чем-то не-
правдоподобным.
Левитас утверждает, что большинство новичков прекрас-
но держит себя в первом бою по неведению. В повторных
боях, когда они уже видели смерть рядом с собой и пере-
жили «страсти», им куда труднее, пока не появится настоя-
щее понимание обстановки, спокойствие в бою. Можно было
бы о многих сказать так: они лучше всего держали себя в
самом первом и в самом последнем бою.
Кстати, о неведении. Для одних оно делает страшным
любой звук, и они шарахаются от наших орудийных выст-
релов, для других в общем хаосе боевой музыки все звуки
значат одно и то же, и они еще ничего не боятся.
Во время напряженного ожидания сигналов воздушной
тревоги осенью 1941 года в Москве, я уловил, что составные
элементы звуков имеют сходство, или тождество, как бы ни
были разнообразны и даже совершенно не схожи причины,
их порождающие. Начальная стадия голоса сирены («трево-
га») имеет сходство со звуками, издаваемыми мотором трол-
549
лейбуса, плачем ребенка, с идущим полным ходом трамваем,
со скрипом дверей и со многими, многими другими. В напря-
женные дни московских бомбежек казалось, что начинается
воздушная тревога именно из-за того, что элементы звука
сирены похожи на множество бытовых звуков.
Бывает так, что командир посылает какого-нибудь бой-
ца: «Пойди вперед, посмотри, что там такое...» Боец пони-
мает, в чем дело. В обычное время он никогда не протянет
руки командиру первый. Теперь же он жмет командиру ру-
ку и говорит: «До свидания!» Он идет специально, чтобы его
обстреляли немцы и обнаружили бы, где у них замаскирован
пулемет, мешающий продвигаться нашей пехоте. Поэтому
он не ползет, он идет во весь рост.
Увидев мою тетрадь для записей, Левитас сказал:
— Я вижу, что здесь все ведут «записки сумасшедшего».
Надо и мне завести тетрадь.
Командир-украинец кричит в телефонную трубку:
— По противнику огонечек! А колы ниточка порвется
(оборвется связь), так — по три штучки!
Начальник упрекает его:
— Не по уставу подаете команду!
— Товарищ командир,— говорит украинец,— а мы вот
так-то повоюем — глядишь, это и в устав внесут. Ведь уста-
вы, так они и пишутся!
Племянник Левитаса на войну пошел солдатом. Ему бы-
ло восемнадцать лет. Оторвало ногу. Все думали, что он до
сих пор солдат. Но вот он вернулся домой в Москву. Оказа-
лось— он уже лейтенант. Мало того, он награжден орденом
Отечественной войны. Он ни разу не писал о том, что на-
гражден. Отец нечаянно узнал, что сын получил награду.
Укладываясь спать, раздеваясь, сын что-то уронил — на по-
лу звякнуло. Так как с одной ногой ему трудно было на-
клониться, отец помог ему, поднял с пола,— оказалось, ор-
ден.
И вот Левитас уже несколько вечеров подряд пробует на-
писать этому племяннику письмо: начинает, мучается, потом
рвет и бросает. И так каждый вечер.
550
Сегодня он тоже присел к столу. Сразу же посадил на
лист «блямбу» — кляксу. Написал несколько фраз, потом
снова скомкал, бросил в печку и сказал:
— Ну что я могу ему написать?! К черту! Не буду! Я —
дурак, а он умный. Что я могу ему написать? Ведь он стал
мудрым за войну. Буду искать себе дурака для переписки.
Левитас часто засыпает на заседаниях или над книгой.
Постоянно клюет носом, дремлет. Проснется, и снова голова
опускается. Перед сном он сидит часа два около стола —ли -
бо читает книгу, либо просто сидит, задумавшись,— и в том
и в другом случае он то и дело засыпает, вздрагивает, пялит
в книгу глаза и снова дремлет.
В такой позе он очень похож на Сократа перед смертью,
уже выпившего чашу с ядовитой цикутой: курносый, боль-
шеголовый, с округлым животом — такой, каким Сократа
изваял в мраморе Антокольский.
Сейчас я сказал об этом товарищам, сказал совсем тихо.
Но Левитас тотчас же очнулся. Это его свойство: он и ночью
сейчас же проснется, если о нем заговорят. Услышав мое
сравнение с умирающим Сократом, он сказал:
— Чудаки! Как вы не можете понять. Я очень люблю
жизнь, я наслаждаюсь жизнью. Вместе со сном жизнь для
меня исчезает — я выключаюсь из жизни. А так я дремлю
и просыпаюсь, дремлю и просыпаюсь — опять и опять на-
слаждаюсь жизнью! Не хочу засыпать!
И так он сидит, уперев локти в столешницу, и дремлет,
а мы уже давно все улеглись на свои кровати. Но вот ложит-
ся и наш мудрец. Очки он не снимает.
— Левитас, а почему же ты спишь в очках?
— Чтобы лучше рассмотреть сон!
Левитас неврастеник и говорит, что всегда хотел бы жить
в одной со мной комнате, потому что моя манера говорить —
тихо и спокойно — очень хорошо на него действует.
Во время гражданской войны, после разгрома в Крыму
белогвардейцев, Левитас был в Феодосии членом особой
тройки, которая, по его словам, за две недели расстреляла
немало белогвардейцев...
Около Судака, в Новом Свете, Левитас с товарищами
арестовал тридцать двух контрреволюционеров. Кругом
551
шныряли белогвардейские банды. Каждый день происходи-
ли убийства партийных и советских работников. Перевести
в Феодосию арестованных было невозможно — банды отби-
вали их по дороге. Расстрелять на месте — тоже рискован-
но: можно вызвать мятеж. Решили пока что замуровать их
в старом подвале для вина, выдолбленном в скале, и вызвать
из Феодосии усиленный конвой.
Так и сделали: вход завалили камнями. Но обстановка
осложнялась, и вызвать помощь не было никакой возмож-
ности.
Левитас замолчал и задумался.
— Ну, а дальше что? — спросил кто-то из нас.
Левитас махнул рукой.
— Вот уже двадцать три года, как они там сидят!
Нельзя в присутствии Левитаса ничего рассказать без
того, чтобы он тотчас же чего-нибудь не вспомнил по ассо-
циации и тут же не рассказал несколько новых историй.
Парадоксальный и едко остроумный, но очень добрый.
10 февраля.
Был слет женщин — военнослужащих нашей армии. Вот
одно из писем, зачитанных полковником Вашурой, когда он
делал на слете доклад:
«Пишу к вам в редакцию, в силу сложившихся неблаго-
приятных условий.
Я, младший сержант Баранова Алек. Ив., в армию пошла
добровольно. Находилась все время в действующей армии.
Имею три контузии и одно ранение. Находясь в подразделе-
нии Кутейника, вышла замуж за сержанта Влинда К. Т.
Просили, чтоб зарегистрировать брак,— отказали и сразу же
после этого меня откомандировали в подразделение Пумпу-
ра. Почему? Разве я не могу любить кого угодно, разве я
могу что-то сделать с собой? Почему я не имею права офор-
мить свой брак? Ведь советский закон требует только уза-
коненных взаимоотношений. Никогда нормальные отноше-
ния не могут повлиять на боевую работу, а, наоборот, помо-
гают, воодушевляют. А теперь нам создали такие условия.
Вы сами должны понять, что мне быть среди мужчин очень
тяжело. Он единственный человек, который у меня есть сей-
час. Мать у меня погибла от тяжелого ранения в блокаду
552
Ленинграда, отец умер от голода, брат убит в Смоленске.
У меня и так слишком много горя. Я очень прошу, чтобы
дали возможность быть вместе и зарегистрировать брак.
Мой адрес: 087780 «А».
Содержание письма слышал на слете командарм Поро-
стаев. Можно не сомневаться, что кое-кому после этого не
поздоровится.
11 февраля.
Бои происходят уже в сорока пяти километрах от Бер-
лина.
А в нашем тылу тоже победы: Сталинградский трактор-
ный завод восстановлен. С его конвейера сошли первые
500 гусеничных тракторов и танковых дизелей.
Что же будет здесь, в Курляндии? 1-й Прибалтийский
фронт слит с нашим 2-м. Командует Говоров, Попов — заме-
ститель.
У нас новый командарм генерал-лейтенант Разуваев.
Жаль, что ушел Поростаев. Тележникова тоже вызвали в
Москву. Неужели отзовут и его? Тележников и Поростаев —
хранители традиций Ударной со времен разгрома немцев под
Москвой. С их отъездом все обрывается.
После возвращения из Москвы я с ними не общался (не
считая короткой встречи с Поростаевым на слете девушек),
но у меня всегда было такое чувство, что, случись что-либо
со мной, у Тележникова или Поростаева можно всегда до-
биться правды.
С уходом Тележникова я окончательно вливаюсь в общий
армейский поток. От прежнего ощущения, что я в какой-то,
хотя бы ничтожной доле могу влиять на ход моей судьбы,
не остается и следа.
Левитас не может долго молчать. Видит, что я работаю,
крепится, чтобы не мешать, молчит. Но это его мучает, и он
начинает метаться по комнате из угла в угол. Даже по его
глазам видно, что он страдает без собеседника.
Вообще ему трудно, когда он один. Он все должен делать
только в компании. Он избегает даже долго лежать на одной
и той же кровати: прежде чем лечь на свою, полежит па кро-
вати то одного товарища, то другого. Потом сядет к столу,
положит перед собой книгу и тут же начинает дремать. Не-
553
вольно приходит в голову: уж не мучает ли его воспомина-
ние о контрреволюционерах, замурованных под Судаком?
Но нет, что за вздор — не таковский это человек.
Стула и своего постоянного места у стола Левитас тоже
не имеет,— нет у него и своей ручки и своего мыла. А ведь
это начальник армейского издательства! Это, наверно, от-
того, что в батальоне его обслуживал какой-нибудь Галилей,
а в «гражданке» всегда были у него под рукой разного рода
секретари.
13 февраля.
Немцы отводят свои дивизии. Вместо них они подбросили
3000 латышей, доставленных, по-видимому, из Германии.
В Либаве и Виндаве полным ходом идет погрузка на транс-
порты. Немцы вывозят технику и людей.
На нашем фронте в ближайшие дни готовится наступле-
ние. Ставка приказала Говорову покончить с Курляндским
мешком за две недели.
14 февраля.
Сижу в редакции дивизионной газеты, перелистываю
«Войну и мир», лежащую на столе. А вот это хочется пере-
писать в свою тетрадь:
«Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь
личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее ин-
тересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно
исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно
живет для себя, но служит бессознательным орудием для
достижения исторических, общечеловеческих целей. Совер-
шенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во
времени с миллионами действий других людей, получает
историческое значение.
Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем
с большими людьми он связан, чем больше власти он имеет
на других людей, тем очевиднее предопределенность и не-
избежность каждого его поступка.
«Сердце царево — в руке божией».
Царь — есть раб истории.
История, т. е. бессознательная, общая, роевая жизнь че-
ловечества, всякой минутой жизни царей пользуется для се-
бя, как орудием для своих целей».
554
Завтра отправляюсь в 37-ю или 201-ю с. д., которые се-
годня продвинулись на семь километров. Бой идет уже на
окраине Джукстэ.
Немцы знали о готовящемся наступлении и все-таки по-
пались на удочку. Они привыкли к тому, что мы всегда на-
чинаем наступление с артподготовки. А на этот раз произо-
шло по-другому. Мы начали методический обстрел огневых
точек. Немцы попрятались при первых выстрелах, ожидая
большого огня артподготовки. В этот самый момент и пошла
наша пехота в атаку, без всякой артподготовки. Она почти
без потерь ворвалась в немецкую траншею, потому что нем-
цы ее не ожидали. Захвачено около 100 пленных.
Эта тактика была подсказана командующим фронтом Го-
воровым.
15 февраля.
Вдохновенно играют жаростойкие глотки «катюш». По-
литотдельцы из 37-й с. д. пытаются заклеить оконную дыру
землянки большим листом бумаги. Но у них ничего не по-
лучается. Совсем близко стоит тяжелый дивизион — воздуш-
ная волна от залпов выпихивает бумагу, вдавливает ее в
землянку. Вместе с каждым залпом землянка как бы ды-
шит, шевеля бумагой, как рыба жабрами.
Иногда поднимаюсь наверх из землянки. По огненным
следам от снарядов «катюши», прожигающим себе трас-
су в небе, вижу, что с каждым залпом она берет при-
цел все выше и выше. Значит, впереди есть успех, пе-
хота продвигается, и артиллерийский огонь переносится
дальше.
Низко идут на штурмовку ИЛы, сзади, как бы заметая
следы, виражируют из стороны в сторону прикрывающие
их ЯКи. Вокруг из каждой рощицы и просто с открытого по-
ля бьют наши тяжелые батареи. Из жерла каждого орудия
выскакивают на мгновение, после каждого выстрела, «как
из пушки», легкие лоскуты желто-зеленого газового пламе-
ни. Орудие .как бы облизывается огненным языком.
Вчера в Добелэ девушка-повар рассказывала мне об ужа-
сах в блокированном Ленинграде, откуда ее эвакуировали.
Когда оборонный завод, на котором она работала, оста-
новился (не было тока), рабочих мобилизовали рыть на
555
острове Голодай траншеи, чтобы хоронить умерших от го-
лода. Трупы на остров подвозили на автомашинах по льду,
и теперь их здесь накопилось очень много.
Для каждого рабочего была указана норма: сколь-
ко он должен подтащить от штабелей до траншеи тру-
пов. Она не помнит точно, какая норма —15 или 20. До-
мой разрешали уходить только после того, как выполнишь
норму.
Некоторые умершие привезены были в гробах. Стояли
большие морозы. Рабочие ломали гробы и разводили костры.
Помню, как однажды после долгого перерыва мы встре-
тились с Кобликом. Я зашел в отделение агитации и про-
паганды.
Коблик не понимал моей тоски, моего ощущения слепо-
ты оттого, что я не имею возможности все знать, знать не-
измеримо больше, чем в объеме Ударной. Он считал, что
если из «Войны и мира» вынуть Наполеона, Александра, Ку-
тузова, то «Война и мир» останется, ибо основное в ней: На-
таша, Болконский, Пьер. Он хотел, чтобы все поиски были
направлены на раскрытие замаскированных тайников чело-
веческой души, на расшифровку всего непонятного в ней.
Он не понимал, что толстовская структура романа позволит
показать жизнь всего народа и его славу.
Присутствие в романе Наполеона и всей высокопостав-
ленной галереи типов не отняло возможности у Толстого по-
казать то, что он дает читателю через Наташу, Андрея,
княжну Марью, Пьера. Зато картина получилась всеобъем-
лющая.
Язык:
«— У вас есть газета?
— Вам за какое число?
— За тонкое—хочу покурить».
О медсестре: «Ее тактика напоминает немецкую: она бро-
сается то на одного, то на другого, чтобы нащупать слабое
место».
«От батальона осталась догоревшая свечка».
«Убеждение достигается доводами, а не гипнозом и кри-
ками».
556
«Я ей послал моральное письмо. Соседка писала мне,
что от него жена целый день лежала без сознания. На этом
я и закруглил».
Латышская поговорка:
«В стакане тонет людей больше, чем в море».
Левитас был исключен из партии — из-за клеветы, и это
его потрясло так, что ни о какой работе речи не могло быть.
Он не спал ночами и все думал только о том, как найти вы-
ход из положения. А тут все время перед глазами, в
какое метро ни попытаешься войти, торчит надпись: «Нет
выхода!»
Эта надпись доводила Левитаса до бешенства, он сжи-
мал кулаки до хруста пальцев и твердил про себя: «Нет,
врешь, врешь, есть выход! Найду выход!»
Тяжелая тоска — я, как множество теперь людей на зем-
ном шаре, не вижу жены и сына. Вероятно, они сейчас тоже
стоят и смотрят на луну. Мысленно строю треугольник, где
в вершине острого угла — луна. Нахожу третью воображае-
мую точку, где жена стоит вместе с сыном, и мне, дураку,
становится легче от решения такой геометрической задачи.
29 февраля.
Слышал, как командарм, разговаривая с кем-то по теле-
фону, кричал:
— До каких пор мы будем здесь сидеть? Без нас разо-
бьют Германию, а мы все будем сидеть?!
Все чаще идут разговоры, что мы будем воевать с Япо-
нией. Товарищи из агитпропа думают, что этого добились от
нас союзники. С другой стороны, и наши интересы на Даль-
нем Востоке (Сахалин, КВЖД, промыслы) тоже требуют это-
го. Мы не можем оставаться в стороне и сложа руки наблю-
дать, как США захватывают там ключевые позиции.
Разрубить этот узел было бы легче после разгрома Гер-
мании.
Конференция в Сан-Франциско приурочивается как раз
557
к тому времени, когда истекает срок нашего договора с Япо-
нией.
Бойцы задают агитаторам вопрос: «Правда ли, что Воро-
шилов формирует армии на Дальнем Востоке?» Во всяком
случае, мы знаем совершенно достоверно: входившие в со-
став нашей армии дивизии — 98-я и 282-я — в данное время
находятся за Иркутском. Генералы Штыков и Мерецков —
тоже на Дальнем Востоке.
Левитас бродит необычно молчаливый, заторможенный,
с налившимся кровью лицом, точно он отлежал его на жест-
кой подушке. Оказывается, он стесняется своего горя. Вот он
подошел ко мне и спросил:
— Капитан, слыхал, какие у меня достижения в тылу?
— ?
— Сестра родила ребенка и умерла.
Конечно, не мы немцев, а они нас здесь сковывают. Во
время боев против наших одиннадцати дивизий они держали
только пять. Так сказал командарм на совещании начпо-
дивов.
Поразителен конец в «Мертвых душах», особенно в на-
ши дни, когда окончательная победа уже на пороге:
«...Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа.
Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и стано-
вится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все,
что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают ей
дорогу другие народы и государства».
После победы начнется изумительное время для юноши,
для молодого человека.
Или все еще будет давить государственная необходимость
долг, дисциплина? Государство наше будет крепнуть и вме-
сте с тем все больше подчинять нас себе, на служение обще-
народным нуждам. Вероятно, вопрос о большей свободе
индивидуума не сможет быть поставлен в масштабах нашей
страны, пока не будут восстановлены причиненные войной
разрушения.
558
Из этой войны Америка выйдет с чудовищно выросшим
военным потенциалом. Мы вынуждены будем тянуться,
вкладывать хлеб и силы народа в производство оружия. Во-
просы о большей непринужденности существования опять
будет неуместно ставить?
Вред, ущерб, причиненный нашему народу фашизмом,
значительно больше, чем многие думают, это не только то,
что сожжено, разрушено, убито и покалечено. Задета пси-
хика людей, которых даже не тронула ни одна пуля. То, что
мы знаем о существовании душегубок, печей Майданека, то,
что мы понасмотрелись на одни только снимки зверств в
газетах и кино, ни для кого не пройдет бесследно. Я уже не
говорю о тех, кто сам убивал. Идеи фашизма, их чумовой
символ веры в какой-то мере ущерблял и тех, кто был их
непримиримым противником. Одно уж знание того, что та-
кое уродство существует на свете, причиняло душе человека
ущерб.
Это не пройдет для народа бесследно. Травмированы не
только те, кто был на переднем крае, задеты травмой войны
и те, кто оставался в тылу.
Можно ожидать карьеризма в среде молодых людей, бес-
церемонного расталкивания локтями. Хамства по отноше-
нию к женщине тоже будет достаточно.
Идет психологическая подготовка к войне с Японией. Вы-
пущена марка в память Лазо, с указанием, что он сожжен
в топке паровоза японскими интервентами. Роман Степанова
«Порт-Артур» — явление того же порядка. Говорят, автора
вызывал для беседы Сталин.
4 марта.
Сегодня был в оперативном у молоденького майора Лей-
мовича. На днях опять будем наступать. Немцы кричат че-
рез звуковку, что будут держаться в Курляндии, даже если
Жуков возьмет Берлин. Дураки!
Тележников к нам не вернется. Он оставлен работать в
Москве в 1-м Доме НКО членом Военного Совета Главного
управления формирования Красной Армии. А Поростаев на-
550
значен командующим 4-й гвардейской армии (3-й Украин-
ский фронт, Венгрия). Это были основные хранители тра-
диций 1-й УА. С их уходом все обрывается.
б марта.
Сегодня утром был у члена Военного Совета Гаршина.
Гаршин подтверждает, что молодежь рождения 1925 —
1926 годов воюет лучше, чем средние возрасты, и неизмери-
мо лучше, чем молодежь в первые месяцы войны. Статисти-
ка наградного отдела совершенно точно говорит о том, что
большинство награжденных — именно молодежь этих воз-
растов.
Если бы у меня были средства, если бы я с семьей был
обеспечен — не думал бы о том, можно или нет напечатать
мою книгу о войне и народе,— я работал бы в полную силу,
преследуя только одну цель: достигнуть в мастерстве писа-
теля совершенства, показать истинную жизнь такой, какой
я ее видел и как я ее понимаю. Это и было бы мое служение
народу. А там — пускай бы мою книгу печатали хотя бы уже
и после моей смерти.
Великолепные дела у Жукова: он вырвался к Балтийско-
му морю. Немцы сели еще в один мешок (Курляндия, Кёнигс-
берг и те!перь — Данциг).
Курляндских фрицев подкармливают надеждой: подо-
ждите, мол, скоро будет пущено в серийное производство но-
вое секретное оружие. Имелся в виду, по-видимому, снаряд
со сжатым воздухом, дающий колоссальную взрывную вол-
ну. Курляндию продолжают рассматривать как плацдарм
для будущего контрнаступления.
7 марта.
Леймович, заместитель начальника оперативного отдела,
рассказал мне, как он во время недавнего наступления летал
в разведку на У-2 по приказанию командарма. Надо было
уточнить обстановку в районе Джукстэ. Наши части втисну-
лись, вошли длинным клином в оборону немцев. Ждать
обычных донесений, когда можно будет точно нанести на
карту линию соприкосновения с немцами, не было времени.
Наземная связь постоянно рвалась. Леймович должен был
560
пролететь по контуру предполагаемой фигуры клина и
все увидеть собственными глазами. Причем в острой
части клина не хватало места для обычного разворота
У-2 (800 метров) — пришлось делать боевой разворот (200
метров).
Полет проходил на высоте 150—200 метров. В одном ме-
сте граница рубежа совершенно не соответствовала сведе-
ниям оперотдела. Из-за этого Леймович с летчиком оказа-
лись над участком, который еще оставался в руках
немцев. Они были обстреляны всеми видами огня. К это-
му надо добавить, что здесь повсюду густо стояли не-
мецкие батареи и сюда же били наши артиллеристы.
Леймович говорит, что от порохового дыма у него стало со-
лоно во рту.
Когда самолет попал в зону интенсивного обстрела, лет-
чик от неожиданности слишком резко рванул рычаг управ-
ления и дал излишнее количество газа (так думает Леймо-
вич). В этот момент самолет находился над немцами на вы-
соте 200 метров. Мотор сделал «пах-пах-пах» и заглох. Стало
непривычно тихо. Летчик крикнул: «Падаю на лес!» Леймо-
вич сказал ему, чтобы он постарался сесть поаккуратнее, —
может быть, удастся выбрать кустарник. Летчик сумел-таки
вытянуть самолет до участка, занятого нашими ротами. Лей-
мович ухватился руками за борта — привязан он не был, —
приготовился выпрыгнуть из кабины при падении самоле-
та. Вот уже верхушки деревьев, сейчас лыжи зацепятся за
ветки... Леймович сказал летчику: «Попробуй, включи!», лет-
чик включил, мотор снова сделал «пах-пах-пах» — громче,
громче и... заработал снова. Самолет набрал высоту и про-
шел над Джукстэ, так, чтобы немцы не заподозрили, что сей-
час же за этим местечком находится посадочная площадка.
В глубине нашей территории самолет развернулся, и летчик
довел его обратно к Джукстэ на высоте 20 метров —
бреющим.
Самолет был продырявлен осколками и пулями, лыжная
установка оказалась разбитой — сели на брюхо, но благо-
получно.
Леймович пересел на другой самолет и повторил раз-
ведку, уже не пересекая рубежа и не летая над немцами.
Но обзор позволял ему уточнить даже огневые точки.
Так за все дни нашего наступления Леймович летал де-
вять раз. Командарм наградил его орденом Красного Зна-
мени.
561
Я спросил Леймовича, как он определял, до какой черты
продвинулись наши подразделения.
Прежде всего он увидел, что немецкая траншея пуста.
За нею наши бойцы шли в полный рост. Из трубы одинокого
домика шел дым, и около него наши бойцы опять-таки хо-
дили свободно. Затем он увидел нашу батарею 76-миллиме-
тровую (полковую), — значит, до рубежа километра два-
три; затем увидел короткоствольную на прямой наводке.
Бойцы здесь уже лежали. Наконец Леймович увидел нем-
цев, перебегающих группами. Он выстрелил в них звездною
ракетой и туда же стрельнул желтой. По этому сигналу наши
артиллеристы рассеяли скопление немцев.
Леймович охотно отвечает на вопросы, но сильно
смущается, иногда из-за этого тянет и даже заикается,
боится произвести впечатление человека, расхваливаю-
щего самого себя. Приходится все время тормошить его
вопросами.
Но вот он совершенно неожиданно, по собственной иници-
ативе, заговорил о самом тайном, о самом интимном — о сво-
ем романе с любовницей одного из генералов при штабе ар-
мии, с Марией. Он даже дал мне прочесть ее жгуче-любов-
ное письмо к нему. Опять-таки по собственному своему по-
буждению, я ничего подобного не просил.
Почему он это сделал? Да все то же — почему мне испо-
ведовались Аня Позина, Шура Медведева, Мстиславская, Ли-
саветский, Павличенко и многие, многие другие...
Леймовича мучит его любовная история. Может быть, в
армии, под боком у всемогущего члена Военного Совета, не
с кем быть откровенным, а потребность в этом, при данных
обстоятельствах, просто невероятная. А тут представилась
возможность высказаться под удобным предлогом — дать
писателю психологический материал.
Но говорил Леймович об этом романе опять-таки в своем
стиле недоговаривания, запинок.
Вот эта история.
Леймович получил орден и хотел угостить товарищей. Но
у работников штаба — Крыловского, Сурьмина (бывшего мо-
ряка, который, когда в столовой начинали есть первое, да-
вал команду: «Весла на воду!») — не было водки. Кто-то ска-
зал, что водку можно попросить у Марии — она достанет из
запасов Военного Совета.
Стали решать: кому идти? Крыловский сказал: «Я ста-
рик — мне неудобно». Никто не хотел. Решили бросить жре-
562
бий. Положили билетики в фуражку. Леймовичу досталось —
идти.
Он пошел к помещению, где жила Мария. Она спросила:
— Вы зачем?
— Мне нужна водка.
У Леймовича манера говорить усмехаясь, высоко подни-
мая брови и плечи, словно он вот-вот сейчас прыснет, так
трудно ему удержаться от смеха. Мария подумала, что он
шутит.
— Нет, в самом деле, зачем вы меня вызвали?
— Я получил орден, хотел угостить товарищей, а водки
достать негде.
— Что же вы меня не приглашаете?
Мария пришла в оперативный отдел и принесла водку.
Сурьмин — прирожденный остряк, своеобразный, бурный
человек. Леймович тоже девять десятых общения с людьми
проводит в смехе. Вечер «удался».
Когда пришло время расходиться, Сурьмин, Крыловский
и еще кто-то из гостей, уйдя в кухню, бросили жребий, кому
провожать Марию. Счастливцем оказался Сурьмин. Но ко-
гда он отошел с Марией от домика, она сказала: «Подожди-
те, я забыла... мне надо на минуту вернуться». Сурьмин
стал ее ожидать, прислонившись к дереву. Так он и про-
стоял пьяный, в полудремоте, около часа. Мария к нему не
вернулась: возвратившись в домик, она попросила Леймо-
вича: «Я боюсь идти, проводи меня!»
Так начался этот роман. Леймович не предъявлял ника-
ких претензий и не был активным. Ищущей в этом романе
была Мария. Она стала часто приходить в оперотдел, тихо
садилась в углу и никому, как говорит Леймович, не мешала.
Когда они оставались вдвоем, она рассказывала о своей жиз-
ни. Она воспитывалась у брата. Больше родных у нее нет.
Брат убит на войне. Теперь осталась в Москве только жена
брата. Она давала ясно понять, что у старика генерала ей
тяжело. Леймович жалел ее, как он говорил, «по-челове-
чески». Она ему все больше нравилась: «Нежная, красивая...»
Когда попали в условия Прибалтики и у Леймовича появи-
лась отдельная комнатка, они сблизились.
Начались сцены у генерала. Приходя к Леймовичу, она
жаловалась, глаза у нее были заплаканные. Леймовичу было
очень жаль ее, хотелось чем-нибудь помочь. Она ему нра-
вилась все больше и больше, он ее полюбил.
Мария просила генерала, чтобы он разрешил ей работать
563
машинисткой в оперотделе и поселиться там. Она ничего
не скрывала и признавалась, что любит Леймовича. Но ге-
нерал не разрешил ей перейти в оперотдел.
Леймович по долгу службы часто приходил к генералу
с бумагами на подпись. Не глядя на Леймовича, тот молча
прочитывал и подписывал их. Положение для Марии стано-
вилось невыносимым. Леймович уговорил ее уехать в Мо-
скву.
Он предлагал ей свою пустовавшую в Москве комнату,
но она поселилась у жены погибшего брата. Леймович пе-
реслал на имя Марии 10 тысяч рублей и, кроме того,
ежемесячно ей «помогал». Когда прошло полгода, она
начала умолять его приехать в Москву. Тосковала без него,
ждала.
И вдруг недавно официантка столовой Военного Совета
передала Леймовичу записку. Леймович смял ее и небрежно
сунул в карман. Официантка сказала:
— Что же вы не прочтете?
— А разве срочно?
— Срочно!
Он развернул и остолбенел. Записка от Марии: «Я здесь.
Я приехала».
Леймович с трудом дождался ее прихода в оперативный
отдел. Встреча была бурная, радостная.
Она сказала:
— Не могла больше переносить разлуку. Отпросилась с
работы на пять дней, — вот и приехала.
И все-таки она не осталась вечером у Леймовича. Ушла,
по ее словам, чтобы у адъютанта генерала выправить на об-
ратный проезд документы. Сказала, что придет на другой
день. Воспаленный ее близостью после долгой разлуки, Лей-
мович ждал ее лихорадочно. Ждал день... ждал два дня...
три...
Мария пришла на четвертый день. Наткнувшись на его
ледяную неприступность, она принялась плакать, уверяла,
что была в Риге, делала там какие-то глупые бабьи покупки.
Он чувствовал, что происходит что-то не то, и ничему боль-
ше не верил. Так она и уехала, не сумев склеить из черепков
то, что разбила сама.
Скоро Леймовича вызовут в Москву для доклада в Ген-
штаб (он послал проект упрощения управления войсками).
Но к Марии он не зайдет больше никогда. «Ведь я ей ве-
рил! » — говорит он с болью.
564
Я записываю это в мезонине, а внизу опять тревожные
крики: «Приказ! Приказ!» Это значит — Красная Армия го-
нит немцев дальше, глубже вламывается в «логово зверя», и
редакционные сотрудники в очередной панике, боятся про-
зевать и не успеть записать приказ о победе.
Союзники уже неплохо впряглись в колымагу победы:
Кёльн взят, «Линия Зигфрида» разваливается.
Геббельс, выступая, говорит о военном кризисе Германии.
Он признает, что она очутилась «на острие ножа» и что нем-
цы дерутся «из последних сил». Дважды в одном выступле-
нии он обещает им — немцам, что в случае поражения он
сам и его коллеги из правящей шайки покончат самоубий-
ством.
В «Известиях» от 4 марта карикатура Б. Ефимова: Гит-
лер, Геринг, Гиммлер и Геббельс изучают самоучитель ха-
ракири.
14 марта.
Джукстэ. Кладбище.
Влажное прибалтийское солнце. Под ногами — «скользь
и хруст». Кладбище. Стройная шеренга крестиков на моги-
лах фрицев, нашедших себе яму на нашей земле.
В противоположном конце кладбища — наши могилы.
Как всегда, на них печать нашего неумения и незнания —
какую же форму должны иметь погребения? Ничего не про-
думано, просто так само по себе постепенно сложилось. Кре-
ста не надо, а что надо? Звезду? Правильно! Но не так ку-
старно и самодеятельно. Печать застенчивости. Мы стесня-
емся своей скорби. Мы как бы стараемся делать вид, что ни-
чего не случилось оттого, что человек умер.
Очень сильные головные боли. Я даже просыпаюсь по
ночам от головной боли.
С Левитасом давно уже не жили в одной комнате. Со-
скучившись, сегодня он поднялся к нам наверх, прислонился
к теплой печке и расфилософствовался «о колоссальном зна-
чении зада в жизни человека». Он говорил:
565
— Зад имеет громадное значение. Он нужен для того,
чтобы лучше работала голова: бьют по заду, а голова умне-
ет. Нет, зад — великая вещь.
Как-то незаметно во мне произошел на войне перелом.
Что-то утеряно невозвратимо. Не думаю, что это случилось
только со мною.
Вначале на войне ничего не удивляло. Было убеждение,
что ты все это предполагал заранее и что ты неизменно
остаешься все таким же, каким ты и был. Только разум под-
сказывал, что нет, ты больше никогда не возвратишься в
прежние стены своей души. Но ты долгое время ничего не
замечал.
А потом вдруг сразу стало ясно, что ты изменился. Этот
скачок к новому качеству произошел совершенно незаметно.
Но что-то уже не то, что-то потеряно безвозвратно.
Внешне у меня это совпало с резкими признаками увяда-
ния: я быстро седею, изменилось лицо, кожа стала более вя-
лой, множество новых морщин.
Проще все это назвать усталостью. Но степень ее та-
кова, что кажется — уже никогда не отдохнешь, не отой-
дешь.
Старость — это усталость, которая уже не поддается ле-
чению отдыхом. Старость — это такого рода усталость, кото-
рую отдых не снимает.
21 марта.
Прочитал вчерашнюю свою запись и ужаснулся. Вяче-
слав, что с тобой? Перестань валять дурака! Ну ладно, ты был
серьезно контужен и невропатолог советовал тебе избегать
резких звуков, беречься. Но ведь ты жив, тебя-то не убили.
Ободрись, мой друг,— победа, черт возьми, не за горами, не
распускай нюни!
Получил письмо от Саши Королева. Лучше было бы спря-
тать его от самого себя и не читать до утра. Не спал всю
ночь. Королев верит, что дойдет до Берлина живым. Загото-
вил красное полотнище и носит в сапоге, обкрутив им не-
сколько раз ногу. Он пишет:
«Можешь себе представить — армией, с которой я рвусь
к Берлину, командует наш Поростаев. Услыхал его фамилию
и не поверил в такое счастье. Оказалось, и он меня знает,—
ведь вот что делает ваша пишущая братия. Тут опять кое-
566
что написали обо мне грешном, обнародовали на первой
странице физиономию. Адъютант Поростаева после мне рас-
сказывал: генерал показал ему газету и сказал: «Так ведь это
же из нашей Ударной Королев-Ходынский-Селяхский. По-
дать его сюда!»
Мы с генералом на сон грядущий часа два вспоми-
нали Ударную. Ушел я от него — у меня усы в таба-
ке и прочие удовольствия... У меня теперь, братец ты
мой, такое самочувствие, будто я опять в Ударной и
вместе с Поростаевым, а значит и с Ударной, пробиваюсь
к Берлину.
Знаешь ли ты, что за бои в районе озера Балатон он полу-
чил Золотую Звезду Героя Советского Союза?
Вячеслав, дорогой — айда-ти к нам сюда! Серьезно, без
шуток. Твое место здесь и более нигде. Генерал два раза за-
водил пластинку «Последний вальс» — помнишь, задушев-
ная такая штучка с колоколами? Завел и говорит: «Эту пла-
стинку любил слушать писатель Ковалевский». Рассказал
про твое «мементо мори». Между прочим, генерал сказал:
«Я хочу вытащить писателя из болота. Какой же это лето-
писец, который не вылезает из болота. Сидел под Старой
Руссой, теперь в Прибалтийских болотах. У такого исто-
рика получится лягушачья перспектива: он не заметит
роста нашего воинского мастерства и не поймет, поче-
му мы победили». Хочет, чтобы ты был в его армии и
вместе бы вошли в Берлин. Ей-богу! Ты описал битву
Ударной под Москвой, теперь изобразишь баталию под Бер-
лином.
Пишу тебе по прямому приказанию Поростаева. Он про-
сил написать, что не все еще успел тебе рассказать про битву
под Москвой, имеет сообщить нечто для истории важное до
чрезвычайности. Учти это. Вячеслав, дорогой, черкни два сло-
ва, и он через Москву заберет тебя в два счета. Раз Пороста-
ев здесь — считай, что Ударная тоже здесь. Подумай
только — вместе дойдем до Берлина и водрузим красное
знамя!»
Я промучился всю ночь. Не изменю ли я Ударной, если
уеду отсюда? Ну, а если разобраться глубже — где же наша
Ударная, где Тележников, где Куницын, где Коблик, где Са-
ша Королев и где генерал Поростаев?
Утром отнес письмо на почту, и в нем одно только слово:
«Согласен!»
567
22 марта.
Веселый моряк, наш штабист Сурьмин, тот, что командо-
вал за борщом «Весла на воду!», схвачен немцами и сожжен
живым.
Меня вызвал начальник Политотдела армии Дубов. Перед
ним лежало на столе уже отпечатанное и подписанное коман-
дировочное предписание для меня. Он сказал мне о гибели
Сурьмина: будто бы командир батареи видел, как немцы при-
вязали Сурьмина к бревну и сожгли на штабеле дров во дво-
ре мызы Петермуйжа. Мне предстояло расследовать случай,
как Сурьмин мог попасть в руки врага.
Я сказал Дубову:
— По-моему, надо вместе со мной послать кого-нибудь
из прокуратуры.
Дубов ответил скороговоркой:
— Само собой разумеется! Следователь уже сидит в вил-
лисе и ждет вас.
Дубов почему-то протянул мне на прощанье руку (в на-
шем военном быту это не принято).
Работник прокуратуры мне не понравился. Он был пря-
мо-таки вызывающе красив, как оперный тенор, и загадочно
молчал всю дорогу, напуская на себя таинственность, и почти
все мои вопросы оставлял без ответа.
Сейчас мы сидим с ним в землянке полковой батареи и
ждем, когда вернется с наблюдательного пункта коман-
дир батареи лейтенант Кравец. Он видел, как сожгли
Сурьмина.
Работник прокуратуры сделался еще более молчаливым.
Возле землянки разорвалось несколько снарядов. Вообще в
районе батареи артиллерийская музыка как бы дуб-
лирована: резко бьют полковые орудия, и тут же не
очень далеко с рыхлым звуком рвутся немецкие мины.
По-моему, это работает их «скрипун» — шестиствольный
миномет.
Связной говорит, что Сурьмин был схвачен на артилле-
рийском наблюдательном пункте, выдвинутом далеко впе-
ред. Туда внезапно прорвался взвод немцев. Артиллерист
был сразу убит ими, а Сурьмин успел расстрелять все, что у
него было в обойме пистолета, и уложил нескольких немцев.
Должно быть, это их и взъярило. Лейтенант Кравец видел,
как они привязали Сурьмина к бревну и сожгли. Слышно
568
было, как Сурьмин орал что-то по-немецки и матерился. Но
лейтенант Кравец не знает немецкого языка. Из всего, что
кричал Сурьмин, Кравец понял только два слова: «Гитлер
капут!»
Но как попал Сурьмин на артиллерийский наблюдатель-
ный пункт — связной не знает. Скоро должен прийти Кра-
вец — он-то знает все.
Только что позвонили с наблюдательного пункта: коман-
дир батареи Кравец тяжело ранен. Просят позвонить в мед-
пункт, вызвать носилки. Мы со следователем отправляемся
тоже в медпункт. Может быть, командир батареи все-таки
успеет нам что-нибудь рассказать до отправки в госпиталь.
Нас поведет рыженький связной.
30 марта.
Госпиталь № 1369. Берсмуйжа.
У лежащего впереди меня на кровати раненого я вижу од-
ну только ногу, запаянную в гипс. Она поднята высоко, за-
драна кверху, к ее стопе привязана веревка и перекинута
через колесико блока; к концу веревки привязаны для гру-
за два кирпича — треснувшие кости таза должны срастаться
у невидимого мне раненого под вытяжением. На другой кро-
вати— через проход — я вижу руку, от кончиков пальцев и
до самой шеи тоже зажатую в сплошной панцирь гипса.
А еще через одну кровать — тоже раненый весь в гипсе, как
в корсете, до самого паха. Он лежит приподнятый на воздух
при помощи какого-то особого помоста, сколоченного из не-
крашеных сосновых реек.
Обилие гипса в палате и этот помост делают ее похожей
на мастерскую скульптора, где заготовлены детали для ка-
кой-то неведомой статуи. И я сам несколько дней и ночей
ощущал себя в этой палате всего только лишь как размятую
пальцами скульптора, заквашенную глину, из которой еще
не сотворен человек — слеплена пока только голова, и в нее,
в эту голову, вместо мысли вложена острая боль.
Но вот я снова царапаю карандашом. Значит, я жив и па-
мять у меня отшибло не всю.
Помню, рыженького связного убило осколком наповал, а
работник прокуратуры был еще в сознании. Он даже и смер-
569
тельно бледный был необыкновенно красив. Он умолял ме-
ня, и голос его становился все тише и тише:
— Спасите меня, капитан! Спасите! Ну что вам стоит —
спасите!
Я сделал все, что был в состоянии сделать. У него был пе-
ребит на голени сосуд, и кровь выплескивалась из раны толч-
ками, в том ритме, как работало у него сердце. Я связал два
носовых платка вместе — мой платок и его платок, перекру-
тил их, наложил ему на ногу некое подобие жгута. Кровь не-
много угомонилась. Тогда я разорвал свой индивидуальный
пакет и забинтовал, как сумел, рану. В первую минуту меня
поразил цвет бинтов из пакета — какой-то конфетно-парфю-
мерно-розовый. Но обильно изливающаяся кровь почти мгно-
венно перекрасила бинты в свой цвет.
На мне не было ни одной царапины. Но когда я сделал
попытку потуже завязать жгут на ноге работника прокура-
туры, от усилия меня вдруг сорвало — я упал и потерял со-
знание.
Очнулся я на носилках. Два санитара пытались задвинуть
носилки вместе со мною в санитарную машину. Я припод-
нялся, сел на носилках, спустил ноги и сказал, что я сам мо-
гу залезть в машину.
Не знаю, по какому признаку, но скоро я стал подозревать,
что меня везут вместе с остальными ранеными в другую ар-
мию. Я знал, что Петермуйжа находится почти на стыке на-
шей армии и соседней. Меня охватила страшная тоска. О ре-
дакции я даже и не вспомнил, прежде всего я подумал об от-
делении агитации и пропаганды. Неужели я больше никогда
не увижу своих товарищей и меня увезут из Ударной армии
в какой-то неведомый госпиталь?
Разве я не имею права лежать, допустим, в ЭП-68 у Кор-
бовского? Помнится, говорили, что он разбил свои палатки
где-то около городка Добилэ. А может быть, мне и не пона-
добится лежать? Ведь меня же нигде не царапнуло, а дурь
в голове — это еще от первой контузии. Недаром невропа-
толог говорил мне в Москве, что теперь я должен избегать
резких звуков.
Когда нас привезли в какой-то медсанбат, я даже не стал
спрашивать, где мы. Вместо того чтобы идти в сортировоч
570
ную, я вышел за ворота и сел в пустую санитарную машину,
направлявшуюся обратно, опять к передовой. На каком-то
перекрестке я постучал в стенку кабины водителя, спустил-
ся на землю и пошел, уверенный, что я иду в сторону
Добилэ.
Начало смеркаться. В пути меня обогнало несколько ма-
шин, но почему-то я не успевал вовремя поднять руку, и
водители проносились мимо меня. Идти мне становилось
трудней и трудней — я все время оступался ногой в правый
кювет и несколько раз падал. Дело в том, что контузивший
меня снаряд разорвался с левой стороны от меня, и теперь
мне казалось, что с левой стороны на меня наваливается
глухая стена, и я незаметно отклонялся вправо. У меня зало-
жило левое ухо, а голова гудела, как телеграфный столб на
ветру.
В Добилэ я добрался глухой ночью. Сиротливо пахло
гарью пожарища. Меня остановил патруль. Это помогло мне
быстро найти коменданта. Он посоветовал устроиться для
ночлега в доме, который стоит за оврагом, в большом яблоне-
вом саду. Это была самая тяжелая часть моего пути: несколь-
ко раз я падал в овраге и, обессилевший, садился отдыхать
на глинистом обрыве.
В саду, среди обнаженных яблонь, я в самом деле нашел
дом. Это был одноэтажный дом, сложенный из серого кирпи-
ча. В окнах дома было совершенно темно, многие стекла по-
выбиты, и за стенами дома не слышно было ни единого
звука.
У порога я встретил девушку в военной шинели. Комен-
дант и ей тоже указал этот дом, но она боялась в него войти
одна.
То, что со мною произошло этой ночью, можно писать как
совершенно законченную новеллу. Когда-нибудь я так и сде-
лаю.
2 апреля.
Врач попыталась отнять у меня эту тетрадку и завладела
моим карандашом. Я дал такую реакцию, что она мне все воз-
вратила, подняла над головой руки, словно сдавалась в
плен.
После этого меня почти тотчас же подняли и отвели в ма-
ленькую комнатенку, где мужчина-невропатолог начал
571
играть со мной, как с ребенком,— показывал игрушки: дал
мне в руки зачем-то два деревянных кубика, тряс недалеко
от моих ушей медным колокольчиком и бил деревянным мо-
лоточком по камертону. Но для меня все это было как немое
кино — я не слышал ни звона, ни того, о чем пел камертон.
Все заглушает сумасшедшая боль в голове, в которой стоит
сипение и гул, как будто это самовар, готовый вот-вот за-
кипеть. Странно, почему же ночью я слышал каждое слово
девушки? Что же со мной происходит? Или все это присни-
лось мне, прибредилось?
Невропатолог написал на полях «Правды»: «У вас бара-
банные перепонки не повреждены — очень скоро вы опять
будете слышать».
Пока он писал, я успел схватить на глаз главную суть из
сообщения в газете о действиях союзников. Дела у них идут
весьма хорошо. Я подумал: агонизируя, немцы сделают так,
чтобы союзники как можно больше оккупировали их тер-
риторию,— лишь бы не Красная Армия,— прихода ее в Гер-
манию они страшатся больше всего.
Уходя из комнатушки врачей, я взглянул на себя в зерка-
ло, висящее на стене. Лучше, если бы его здесь не было! Ме-
ня поразило мое лицо. Нет, это не я! Ватное и до того отеч-
ное лицо, что, кажется, уколи булавкой, и все оно вытечет
на пол. Вокруг обоих глаз — зловещие «очки» — два багро-
во-синих кровоподтека с прозеленью от бровей и до середи-
ны щек.
4 апреля.
Не могу забыть ночь в Добилэ.
Девушка назвала себя сержантом Бровкиной. С дружелю-
бием человека, тоже ищущего ночлег в чужом городе, она
объяснила мне, что после ранения идет из госпиталя на пе-
редовую и теперь разыскивает свою часть. Пожаловалась на
коменданта:
— Указал дом для ночлега, а в него даже зайти страшно.
Я постарался ее ободрить.
— Идемте вместе. Вдвоем у нас что-нибудь получится.
Переступив порог, я споткнулся о какое-то тряпье, бро-
шенное на ходу мародерами-фашистами. Девушка подхвати-
ла меня под локоть, и я устоял на ногах. Зажег спичку. Весь
572
коридор был захламлен после погрома, некуда было поста-
вить ногу. В полутьме девушка больше не отпускала моего
локтя, и, продвигаясь вперед среди этого крошева, мы топта-
ли сапогами обрывки старых журналов и книг, изорванные
фотокарточки, битое стекло, листы из альбома марок, бу-
тылочки и пакетики из домашней аптечки... Нам пришлось
перебираться через нагромождение из опрокинутых стульев,
столов, ящиков из комода.
Как только спичка догорала, я зажигал новую, и мы шли
дальше. Двери комнат были распахнуты, мы продвигались
вперед, и слабый свет спички показывал нам то справа, то
слева выпотрошенные комнаты.
Мы шли молча. За четыре года войны оба мы насмотре-
лись до тошноты на фашистское звериное хамство. В моем
коробке оказалась последняя спичка. Я подобрал с пола об-
рывок газеты, поджег его и поднял над головою как факел.
Не дожидаясь, пока газета прогорит, девушка подала мне
с пола новый клочок бумаги, потом еще и еще, и так, за-
жигая от одной бумажки другую, мы и продолжали осмотр
дома.
В одной из комнат пламя нашего бумажного факела за-
ставило тускло блеснуть медную решетку камина. Здесь то-
же все было разграблено, но я решил, что лучшего нам все
равно не удастся найти: крыша над нами есть, огонь будет —
остальное приложится.
Девушка подобрала в углу комнаты какое-то тряпье, лов-
ко вскочила на подоконник и там, где в окне не хватало сте-
кол, позатыкала дыры. Мне показалось, что в комнате сра-
зу стало теплее.
Хорошо, что девушка была неразговорчивая,— это мне
очень понравилось. Я так устал, что не хотел ни хлеба, ни
воды, боялся навязчивых расспросов и сам больше не хотел
знать ничьих биографий, никаких героических эпизодов.
Спать! Только спать, чтобы не слышать наконец металличе-
ского звона и скрежета в ушах.
Я сунул за решетку камина пылающую газету, и мы при-
нялись в четыре руки подбрасывать в камин бумагу, которая
валялась повсюду. Потом на растопку пошли лакированные
рамки семейных фотопортретов, тоже валявшиеся на полу.
Они хорошо горели. От них, как от лучин, занялись ножки
поломанных кресел и выбитые днища ящиков из комодов.
Огонь сначала был вялым, а потом вдруг разом рванулся в
573
трубу и запел нам многоголосую благодарственную песню за
то, что мы освободили его из небытия и даровали ему жар-
кую волю.
Я как стоял, растапливая камин, на коленях, так теперь
и протянул навстречу огню свои руки. Тепло дошло до ме-
ня. На какую-то долю секунды я закрыл свои глаза, и этого
оказалось достаточно... Несвоевременный сон, как капелька
яда, введенная под кожу, начал мутить мое сознание. Мгно-
венно я вздрогнул всем телом и быстро встал на ноги, ози-
раясь по сторонам, точно я совершил тяжелое преступле-
ние.
В это время девушка нашла среди хлама куклу с фарфо-
ровой головой. Кукла была такая большая, что девушка взя-
ла ее на руки боязливо, как молодая мать берет ребенка. По-
качивая куклу, она следила, как закрываются и открываются
ее глаза.
Я сказал тоном добродушной шутки:
— Куда бы дети ни попадали, они прежде всего хватают-
ся за игрушки.
Девушка нахмурилась и положила находку на мрамор-
ную доску камина. Я пожалел о своей шутке.
Вдруг девушка сказала с оживлением:
— Товарищ капитан, не будем отчаиваться, смотрите,
ведь здесь же есть кровать!
В дальнем углу комнаты, куда она показывала рукой,
стояла загроможденная обломками ширмы кровать. Мне лю-
бое расстояние казалось мучительным, но я заставил себя
пойти в угол, и мы вместе с девушкой перетащили кровать
ближе к огню.
— Да ведь это же царское ложе! — воскликнул я, увидев,
как при ярком свете камина красное дерево заиграло поли-
рованным лаком и темной позолотой. В этой роскоши среди
мусора да еще в нашем с девушкой положении было что-то
смешное. Моя молчаливая спутница не удержалась и тоже
усмехнулась.
Старинный мастер обильно украсил кровать резными де-
талями в пышном стиле рококо: морскими раковинами, так
называемыми «гребешками Афродиты», гирляндами роз и
четырьмя вызолоченными фигурками амуров на угловых
столбиках. На кровати сохранился чистый полосатый матра-
сик и вместо подушки лежал турецкий валик, набитый
пухом.
Пока я все это рассматривал, девушка подошла к двери
574
и сорвала еще уцелевшую в этой комнате половину портье-
ры. Это была тяжелая плюшевая ткань вишневого цвета,
подбитая сиреневым репсом. В нашем хозяйстве прибавилось
одеяло.
7 апреля.
К нам в палату принесли армейскую газету. Я вижу, что
среди раненых появилось какое-то возбуждение. Попала га-
зета и ко мне.
5 апреля Молотов вызвал японского посла и передал ему,
что мы денонсируем договор, заключенный 13 апреля
1941 года (за год до истечения пятилетнего срока).
5-го же вышел в отставку и кабинет министров в Япо-
нии. Скудная информация не дает возможности понять, что
чему предшествовало.
Возбуждение среди раненых продолжается. Двое ходя-
чих подходили ко мне и пробовали задавать мне вопросы.
Они не знают, что я ничего не слышу. Я подозвал медсестру
и спросил ее, о чем разговаривает госпитальный народ. Она
оторвала клочок газеты и написала: «Есть такой разговор,
что нашу армию перебросят на Дальний Восток». Я спро-
сил ее:
— А как же Курляндский мешок? Повезем его вместе с
собой?
Она засмеялась и приписала:
«Капитан шутит, значит, скоро будет ходить. Кто шу-
тит, того лечить легче».
8 апреля.
Опять вспомнил ночь в Добилэ.
Я помог девушке перенести кровать поближе к теплу, к
камину.
Для себя я решил устроить гнездо около самого камина.
Наклоняться мне было трудно. Когда я это делал, гул в ушах
усиливался и начинала кружиться голова. Я сгреб ногами
остатки распоротых подушек, сброшенных со столов скатер-
тей и вместе с каким-то маленьким ковриком начал все это
толкать в угол к камину.
— Товарищ капитан, — спросила меня насмешливо де-
вушка, — что вы делаете? До войны вы, должно быть, игра-
ли в футбольной команде?
Я ей ответил:
575
— Устраивайтесь на кровати, а я постелю себе на полу.
Разговаривая с девушкой, я и раньше избегал на нее смо-
треть, желая с первых же шагов поставить между нами пре-
граду и опасаясь, как бы приготовление к совместной ночев-
ке не вызвало у нее каких-либо подозрений.
Я был пристыжен. Девушка сказала с естественной про-
стотой фронтового товарища:
— Зачем же вы будете мерзнуть на полу? Мы ляжем
вместе. Связисткам постоянно приходится спать рядом с
бойцами. В землянке, правда, там проще — нары это не кро-
вать, но я постараюсь не мешать вам.
В самом деле, зачем мне было мерзнуть всю ночь на по-
лу? Я перестал возиться с тряпьем и, чтобы дать девушке
возможность устроиться на кровати, отошел к камину и взял
на руки фарфоровую куклу. Она была большая и тяжелая,
как ребенок, и, когда она закрыла свои огромные глаза и как
бы уснула у меня на руках, я положил ее обратно на доску
камина. Она была чересчур похожа на ребенка, а я очень
ослабел в этот вечер, и все бередящее душу и напоминающее
дом было мне не под силу.
Я слышал, как девушка сняла с себя шинель. Потом она
сбросила сапоги. Я тоже снял шинель и разулся. Укрылись
мы оба одной и той же плюшевой портьерой, поверх которой
положили наши шинели. Лег я сзади девушки, у нее за спи-
ною — так, чтобы она была ближе к огню камина.
Я так и не рассмотрел в этот вечер моей спутницы. От
двух-трех беглых взглядов осталось ощущение чего-то ро-
зового, золотистого и голубого. Вот она лежала сейчас рядом
со мною. На ее плече, там, где неплотно прилегала портьера,
обнажилась за расстегнутым воротом мужская, выданная в
госпитале сорочка с тесемками-завязками, сшитая из грубой
бязи с волосатыми пупырышками ткани. От нее шел едва
уловимый, но отчуждающий запах мыла и каких-то дезин-
фекционных средств, сохранившийся после недавней саноб-
работки.
Мы оба лежали в кровати, как в гробу, оглушенные сви-
репой усталостью. Девушка уже спала. А мне даже сон да-
вался с большим трудом. Я не мог закрыть свои глаза, — их
распирало что-то изнутри, как бы силясь сдвинуть с места
и выдавить из глазниц.
Я одновременно видел и затылок девушки с завитками
волос около уха и через ее плечо — пламя в камине, стран-
но искаженное в пропорциях — из-за того, что мой глаз был
576
в каких-нибудь двадцати сан иметрах от уха девушки. Когда
я сощуривался, казалось, что пламя вырывается из камина
и начинает пылать ухо девушки и ее волосы. Но они не сго-
рали. Наоборот — это, оказывается, были самые лучшие
условия для их существования: ухо начинало сквозить и све-
титься изнутри, как розовый цветок, а каждая пушинка по
контуру уха и каждый волосок накалялись и пропускали
сквозь себя сверкающую струйку жидкого янтаря.
Голова девушки лежала на валике, служившем нам по-
душкой, так близко от моей, что контур ее щеки не был в
фокусе моего глаза и щека расслаивалась на два плана, на-
плывая на разные предметы в комнате и в то же время не
заслоняя их.
Дремота наконец прикоснулась и ко мне. Сквозь два про-
зрачных слоя щеки девушки поплыли слева направо сначала
золотой амур на столбике кровати, потом освещенные снизу
ноги куклы, лежащей на каминной доске, затем огромное,
как пылающий город, пламя камина и шерстистые пупы-
рышки на бязевой рубашке у девушки. Оттого, что я слиш-
ком близко скашивал глаза, у меня начинало ломить в глу-
бине глазных яблок. Я возвращал взгляд к первоначальной
точке, и опять через прозрачный контур щеки девушки плыл
амур на столбике кровати, ноги куклы, пламя и шевелящие-
ся от сильной тяги уголья камина. Когда в поле зрения попа-
дали янтарные лучики от сквозящих против огня волос де-
вушки, скошенные глаза начинало нестерпимо ломить, и
я их закрывал.
Сколько я спал — не знаю. Когда я проснулся, в камине
уже все про орело и было абсолютно темно в комнате.
Девушка плакала. От этого я и проснулся. Девушка пла-
кала во сне. По-прежнему она лежала ко мне спиной и те-
перь тихо всхлипывала, еле слышно перебирая губами. Мы
лежали, касаясь друг друга, и я чувствовал вздрагивание и
судорожные толчки ее тела.
Сначала я подумал, что девушка успокоится, не просы-
паясь, и я старался не шевелиться. На минуту она в самом
деле затихла, но потом вдруг резко вскрикнула и начала
бормотать громко и невнятно, как глухонемая. Можно было
уловить лишь отдельные слова: «Не уходи, останься...» Ры-
дая, она кого-то старалась удержать. Я решил избавить де-
вушку от кошмара и осторожно дотронулся рукой до ее
плеча.
Она сразу замолкла и прислушалась, потом вдруг круто
19 В Ковалевский
577
перевернулась в кровати в мою сторону. Она схватила ру-
ками меня за голову и тотчас же принялась мять пальцами,
как глину, грубо ощупывать мое лицо, словно оно ей не нра-
вилось и она хотела его переделать по-своему.
Я остановил ее и сказал:
— Успокойтесь! Разве вы не узнаете меня?
Тогда она оставила мое лицо и, как бы защищаясь, вы-
ставила руки вперед. Но мы лежали так близко друг от друга,
что ее руки тут же наткнулись на мои. Наши ладони соеди-
нились и пальцы невольно переплелись. За этой хрупкой
оградой она замерла, приостановила дыхание и ждала. Но
вот она перевела дыхание, глубоко вздохнула, и в ее паль-
цах исчезла напряженность, она меня узнала, вспомнила, кто
я такой.
Кровать, на которой мы лежали, была односпальная, уз-
кая; старинная веревочная сетка прогибалась на середине от
нашей тяжести, как детская зыбка. Мы скатывались друг
к другу с выпиравшей по бортам кровати деревянной рамы.
Наши ладони вспотели. Тепло разогревшегося под портьерой
и шинелями человеческого тела пережгло неуютные запахи
санитарной обработки. Наши головы почти соприкасались на
подушке, дыхание перемешивалось, и я слышал, как от по-
луоткрытого рта девушки и от ее горячих ноздрей исходит
запах молока и меда.
Темнота была полная. Я ничего не мог видеть. Но посте-
пенно у меня появилось убеждение, что я сейчас обладаю
чем-то нейзмеримо большим, чем зрение. Я мог бы пересчи-
тать все до единой ресницы на ее припухнувших веках; я мог
бы назвать по имени каждый кровяной шарик во мгле ее кро-
веносных сосудов. Всем своим существом, каждым милли-
метром своей кожи я ощущал ее всю целиком, молчала ли
она или говорила, спала или бодрствовала. Сердце рвалось из
моей груди, словно мне удалось наконец создать что-то самое
прекрасное из всего, что когда-либо существовало на земле.
И это уже навсегда. Нерушимо.
Стыдно было вспомнить, как, растапливая камин, я ста-
рался оградить себя от лишних расспросов и сам ничего не
хотел узнать об этой девушке. Но теперь-то ведь все это в
моих руках, надо только немного отдохнуть... чуть-чуть от-
дохнуть... подождать, пока тишину не перестанет мутить не-
умолкающий шум в моей голове. Кровь пульсировала все
еще с шорохом и шумом, словно она с трудом протискива-
лась в капиллярах моих ушей.
578
Девушка тем временем совершенно успокоилась, ее ды-
хание стало ровным. Она сказала с простотой, уже мне зна-
комой:
— Я только что видела во сне своего мужа. Это первый
раз после его смерти...
Как только девушка произнесла слово «муж», она вы-
свободила свои руки; мы разомкнули наши пальцы, и на-
ши ладони начали остывать. Девушка перевернулась на
спину. Я сделал то же самое. Она молчала. В темноте от-
четливо был слышен звук судорожного, с хрустом, глотка
в ее горле. Она долго молчала. Потом заговорила с такой
интонацией, как будто около нее никого нет и она разгова-
ривает сама с собой.
— ...Убит под Ленинградом... моряк... Паша... Павел Ни-
колаевич... моряк... Паша... убит...
Она опять замолчала. Она не шевелилась так долго, что
я начал думать, что она задремала. Меня и самого приня-
лась дурманить, покачивать дремота. Шум в ушах и шипе-
ние казались мне звуками от падающих на землю милли-
ардов снежинок. И я начал было опять уходить в сон, как
под глухой покров снега.
Но она заговорила опять. Мы лежали, так тесно прижав-
шись друг к другу, что звук, вернее, вибрация ее голосовых
связок, когда она говорила, передавалась мне по ее плечу.
Она сказала:
— Не верю... До сих пор не верю... я его не видела уби-
тым. Пришли товарищи и сказали, а я не верю... У меня
после этого было такое состояние, что я не могла пропу-
стить ни одного трупа; если он был чем-нибудь закрыт —
мне обязательно надо было раскрыть и посмотреть. У меня
была такая идея, что я обязательно должна увидеть Павла,
хотя бы мертвого, но обязательно увидеть. Вы меня пойми-
те, какая была мука, если вы знаете, сколько тогда было
трупов в Ленинграде. Лежит где-нибудь на перекрестке, а
я уже думаю — Павел; везут на салазках завязанного в оде-
яло, а мне уже лезет в голову: это твой Павел. Я шагу не
могла ступить без этого бреда. Не могу понять, как я оста-
лась жива, как с ума не сошла...
Больше она не сказала ничего. Да и не надо было. Горе,
высказанное вслух, породнило нас еще больше. Было такое
чувство, словно мы получили отпущение всех наших гре-
хов. Прижавшись друг к другу, мы несколько часов проспа-
ли, не пошевелившись.
19*
579
Мне было хорошо. Может быть, оттого, что мне было так
хорошо, под утро я увидел сон, что я ребенок, и девушка,
лежавшая рядом со мной, держит меня на своих руках. Я не
знаю, какое я сделал в постели движение, но только она
сейчас же проснулась, резко привстала на коленях и затем,
громко и радостно крикнув в темноте: «Родной мой!», бро-
силась на меня плашмя, обхватила меня, сжала в объ-
ятиях и, припав к моему рту, начала пить из меня душу.
И я ответил на ее неудержимый порыв. Для моего за-
стигнутого врасплох и еще спеленатого длительным сном
сознания это было как вопль обнаженного счастья. Что-то
разъялось во мне до самого дна, и ощущение абсолютной
ценности этого мгновения обожгло меня и оглушило.
Но девушка в промежутках между припадками поцелу-
ев вдруг начала причитать:
— Павлик, мой родной!.. Павлуша!.. Где, где же ты про-
падал?.. За что ты так долго мучил свою дурочку?..
Чужое имя полоснуло меня, как бичом, и вышибло остат-
ки бродившего во мне сна. Не для меня было вспоено и
вскормлено все это в долгой разлуке, и не для меня берегли
этот благословенный подарок. А я просто вор, ночной вор!
Я резко отстранил от себя девушку и сказал ей:
— Постойте, подожди е1
Она так была потрясена моим, чужим для нее голосом;
задохнувшись, она так громко втянула в себя воздух, что
мне почудилось, будто в темноте я увидел, как при вспышке
молнии, ее искаженное ужасом лицо. Она зарыдала. Она ры-
дала громко, безудержно и давилась, как ребенок, слезами.
Потом мгновенно она вдруг приподнялась, спустила ноги с
кровати и, овладев собою, сказала твердым голосом:
— Уходите отсюда прочь! Сейчас же уходите! Оставьте
меня одну!
Я подавил в себе обиду. Мне было страшно жаль эту де-
вушку, которая на мгновение нашла во сне своего мужа и
опять его потеряла. Я спустил ноги с кровати и, шаря ими
в темноте, старался найти на полу свои сапоги. У меня не
осталось больше ни одной спички, и я ничего не нашел. Ка-
мин уже давно остыл, в комнате было очень холодно. Меня
начало знобить.
Неожиданно девушка заговорила в темноте:
— На дворе ночь — идти некуда. Можете остаться...
Какое счастье, ощутив холод, опять лечь в теплую по-
стель, натянуть на себя свою долю тяжелой портьеры да
580
еще вдобавок привалить ее сверху шинелью! Я запретил се-
бе думать о чем бы то ни было. «После, после»,— сказал я
себе и мгновенно уснул, точно боялся, что у меня могут
отнять обратно эту возможность.
Проснулся я от ощущения непреодолимого страха. В ок-
нах было уже светло, но я долго не мог понять, где я. У ме-
ня было ощущение, будто случилось какое-то огромное, не-
поправимое несчастье. Мне казалось, что я всю ночь согре-
вал и выращивал около своего сердца что-то самое драго-
ценное, необходимо нужное для всех людей на земном
шаре, и вот оно вырвано из моих рук, я потерял его на-
всегда.
Вдруг я все вспомнил. Я привскочил на кровати. Девуш-
ки рядом со мной не было. Я хотел крикнуть, позвать ее.
Но я ведь даже не знал ее имени.
Я быстро надел сапоги и набросил на себя шинель. Пока
я пробирался к выходу, меня обдуло сквозняком в раз раб-
ленных комнатах, и я окончательно пришел в себя.
На пороге дома меня поразил лунный свет. Так вот по-
чему в окнах было светло! Это было совершенно неожидан-
но после той темноты, в которой я подходил по стынущей
грязи к этому дому. За ночь выпал обильный снег, небо
очистилось, светила луна, и ничего нельзя было узнать во-
круг. Голые ветки яблонь отбрасывали резкие, как трещи-
ны, тени и разрисовывали снег под голубой мрамор. Снег
так искрился, он так играл под луною, что мне казалось,
будто на земле лежат звезды.
От крыльца дома к выходным воротам тянулись свежие
следы, отпечатанные кирзовыми сапогами с резиновыми ши-
шечками на подошве. Увидев эту голубую стежку, словно
вышитую мне на память моей ночной спутницей, я сказал:
«Счастливый путь, дорогая девушка, счастливый путь!..»
И вот я опять остался один на военной дороге. В ушах
звенело еще гуще, чем накануне, и каждый шаг отдавался
в голове болью. Когда я добрался до перекрестка, на дорогу
выруливала попутная машина. Я поднял руку. Голова у ме-
ня закружилась, рука, как чугунная, потянула меня вперед
своей тяжестью, и я упал на дорогу.
Очнулся я в госпитале.
Сегодня меня навестил начальник армейского отдела на-
шей газеты, добродушный служака, кадровик, майор Чир-
ков. Он показал мне б льшую карту фронтов. Линия у со-
581
юзников красивая, рискованная. У немцев больше нет сил
рубить клинья, выдвинувшиеся так далеко.
Нельзя без чувства омерзения смотреть на Курляндский
мешок, похожий на сахарную голову. Почему явно обречен-
ные немцы сопротивляются здесь так отчаянно? Страх и
ужас перед нами? Этот мешок — сосуд всяческой скверны.
Сюда стеклась грязь не только из Латвии. Никому не будет
здесь пощады — немцы это знают. Вот они и упираются, как
бык на пороге бойни.
Приподнялся на кровати и впервые после контузии ви-
жу закат. Дерево на закате. Могучая крона многовекового
дуба на перекрестке дорог. Внезапно на его голые ветви усе-
лось такое несметное количество грачей, что стало казать-
ся, будто весь дуб покрылся черными цветами.
Пришел парикмахер и побрил меня в постели. Непри-
ятная процедура. Точно я уже труп.
Часто говорят: «Не понимаю, за что он ее полюбил? Что
он в ней нашел?»
Разве все зависит только от того, какая она? Нет, важ-
но то, какой он сделает эту любовь, что он вложит в эту
любовь, — в зависимости от этого их отношения могут быть
прекрасными или же, наоборот, пошлыми.
Как любая глыба мрамора в руках скульптора — только
материал, а будущее произведение целиком зависит от за-
мысла скульптора, так и женщина или соединяющийся с
ней мужчина — только материал для любви, которую они
сами (тоже в данном случае художники и творцы) мо-
гут сделать пошлой безделушкой или же прекрасным про-
изведением.
И в наш век ответственность все еще почти всегда лежит
на мужчине (женщина слишком еще лишь недавно осво-
бодилась), и почти всегда «стиль» любви зависит от муж-
чины.
10 апреля.
Не поднимаясь со своей кровати, я вижу через открытую
дверь, как в соседней палате наша цветущая, улыбающаяся
сестра макает клочок белой ватки в спирт и обтирает чью-
то черную, как чугун, словно высунувшуюся из могилы,
кисть руки, загипсованной от плеча до запястья. Самого ра-
582
неного я не вижу, мне видна только его кисть, которую се-
стра взяла в свою руку.
Когда она кончила эту процедуру, я подозвал ее и
сказал:
— Мне кажется, что под моим окном кто-то поет:
Темная ночь, только пули свистят по степи...
Она сильно, радостно покраснела, покраснела до слез и
утвердительно закивала головой. Тотчас же она куда-то
быстро ушла, раза два на меня оглянувшись.
Да, да! Вот и опять... я слышу: «Ты у детской кроватки
сидишь...»
Сестра вернулась вместе с врачом. Они задают мне во-
просы, но я ничего не слышу. Мне кажется, что я потому не
слышу, что в соседней палате очень шумно: там кричат и
перебивают друг друга, мешают мне слышать. Кроме того,
очень громко поют птицы, особенно мешает щебет волни-
стых попугайчиков.
Но вот совершенно отчетливо слышно, как под моим ок-
ном опять запели:
На позицию девушка
Провожала бойца...
Я громко повторяю слова этой песни. Врач улыбается,
а сестра быстро, точно боясь, как бы ей не помешали, на-
клоняется и целует меня в лоб, не стесняясь врача.
11 апреля.
9-го взят Кёнигсберг. Части Красной Армии уже в цент-
ре Вены. Союзники не встречают непреодолимого сопротив-
ления. Германия агонизирует.
14 апреля.
Опять такое же ощущение, как и после первой конту-
зии: окружающие с каждым днем говорят все громче и
громче. Порой я уже слышу отдельные голоса раненых и
даже целые фразы в соседней палате. Но по-прежнему
сильно мешает и оглушает меня непрерывный гул в голове
и сиплое шипение, будто я замурован в огромную морскую
раковину.
Между прочим, сестра, поцеловавшая меня в лоб, кажет-
583
ся, потеряла теперь ко мне всякий интерес точно своим по-
целуем она просто поставила печать под справкой, что с
этого момента я становлюсь обыкновенным смертным — бу-
ду слышать так же, как и все остальные.
15 апреля.
Сегодня был большой обход. Нат альник госпиталя, жен-
щина-врач Вассерман, похожая на монашенку, спросила
меня, по-видимому, о здоровье. Я плохо расслышал во-
прос и, переспросив ее, сказал, что мне мешает сильный
шум в голове, как будто я замурован в морскую раковину.
— Ну что ж,— сказала Вассерман,— будем считать вас
жемчужиной.
Должно быть, ей не понравилась претенциозность моего
сравнения. Я хотел поправиться и сказать, что у меня в го-
лове так шипит и сипит, точно закипает огромный самовар.
Но внезапная тошнота помешала мне — я едва успел по-
вернуться на бок, свесил голову, и меня сорвало на пол.
После этого у меня опять заложило уши и я слышу хуже.
16 апреля.
Если я приподнимусь на локоть и гляну в окно — вижу,
как все время идут вперед какие-то части. Когда это ви-
дишь лежа на койке,— сердце сжимает тоска.
В соседней комнате кто-то кричит:
— Доктор, переведите меня в отделение для психиче-
ских больных.
— Почему?
— У меня двое суток не действует кишечник!
Я попросил сестру принести мне какую-нибудь книгу.
Она принесла мне томик Лермонтова.
Какое высокое мастерство — предисловие к «Герою на-
шего времени». Какая зрелость ума! Лермонтов играет с чи-
тателем, как с котенком. В самом стиле — громадный запас
на прочность: ни одну строку предисловия до сих пор не
тронула и не ослабила ржавчина времени.
584
В соседней палате лежит какой-то остроумец. Вчера он
просил перевести его в отделение для психических, а се-
годня просит врача:
— Прикажите сестре сделать мне укол морфия.
— Что у вас болит?
— Я испытываю мучительную боль при воспоминании
об одной девушке!
Просматриваю старые записи в своих тетрадках.
В этих записях, вероятно, есть наивность провинциала,
так как я не был свидетелем боев на главных направлени-
ях Отечественной войны. Если бы мне пришлось там вое-
вать, возможно, что с моим стремлением все видеть самому
и все знать я бы уже лежал в братской могиле или попал
бы в окружение. В лесисто-болотистой местности такой
опасности меньше.
Я не получил ни одной царапины. Но снарядом задело
самое для меня драгоценное — память. Дефекты памяти де-
лают для меня литературу вечно свежей. В который раз я
перечитываю «Героя нашего времени» и почти на каждой
странице испытываю внезапную радость новизны.
17 апреля.
Милая, добродушная, добрая сестра с цветущим цветом
лица умывает по утрам тех, кто не может делать это сам.
У меня трясутся руки — я несколько раз облил самого себя
и даже подушку. Два раза сестра должна была переменить
мне рубашку, потом стала умывать меня сама. Она так су-
рово, невкусно, грубо обтирает мое лицо мокрым полотен-
цем, словно пытается стереть на лбу след от своего нечаян-
ного поцелуя. При этом она проделывает все это слишком
рано, будит меня, в то время как я мог бы еще спать и не
чувствовать свою дикую головную боль.
При утреннем обходе я попросил сегодня врача:
— Доктор, нельзя ли утреннее умывание заменить ста-
каном столового вина перед обедом?
Раненый, лежавший за моими ногами, как прямое мое
продолжение, расхохотался, потом утробно застонал, чуть
не матернулся, но вовремя себя оборвал и попросил врача:
— Скажите ему, чтоб не смешил — мне никак невоз-
можно смеяться,— больно!
585
В соседней комнате, куда никогда не закрывается дверь
из нашей палаты, много загипсованных тяжелораненых.
Стонут мало, но часто ужасно кричат при переворачивании
или при перекладывании с носилок, когда их уносят и при-
носят из перевязочной.
У нас в палате три кровати, а в соседней — больше деся-
ти. Там некоторые раненые лежат с «самолетом»: рука за-
гипсована в поднятом положении и в гипс вмонтирована
палка, упирающаяся в бок раненого или в его бедро так, что-
бы рука заживлялась в положении крыла и не сломала бы
гипс.
Из соседней палаты до нас доходит удручающий запах
пропитавшегося гнойными выделениями гипса и мокну-
щих в сукровице бинтов.
Один из раненых офицеров почти непрерывно материт-
ся и дико орет от боли. У него загипсованы обе ноги и во-
круг поясницы — гипсовый корсет, закрывающий и живот.
Несчастный лежит раскоряченный: между ног вмонтирова-
на палка-распорка, чтобы ноги не соединялись. Крепкий,
рыжий, здоровый, но лицо мучительно напряженное, даже
когда он спит.
Все-таки я попросил врача, чтобы меня не будили утром,
не тормошили бы для умывания. Ведь перерыв до завтра-
ка так велик, что я успеваю опять заснуть после этого.
Врач было заупрямилась, но мои слова обезоружили ее:
— Для контуженых сон — то же самое, что гипс для хи-
рургических при переломах.
Эренбург пишет в «Правде», что вопрос о победе теперь
измеряется неделями и днями.
Между прочим, и у нас в палатах разговоры о том, что
пленные утверждают: на днях в Курляндии все должно за-
кончиться.
К моей кровати подошла врач-хирург, молодая, сильная,
красивая женщина. Бросаются в глаза ее руки с длинными
пальцами, изящные, как у пианистки. Ногти коротко остри-
жены, и каждый палец как будто живет своей отдельной,
самостоятельной жизнью.
Она меня спросила:
— Как вы себя чувствуете?
586
Я ей ответил:
— Около моей койки не обязательно быть доброй. Я не
хирургический — у вас и без того много забот.
Она погладила меня по голове, словно мне было не
больше двенадцати лет. Какая удивительная у нее рука и
сколько она спасла человеческих жизней!
18 апреля.
Я встречаю весну с академической последовательностью.
Сестра принесла к нам в палату подснежники и поставила
их в мензурке ко мне на подоконник. Это куда как лучше,
чем поцелуй в лоб, который потом не сотрешь никаким
мокрым полотенцем. Первые увиденные мной в этом году
цветы. Для меня это настоящий праздник. И закат за окном
тоже редкой красоты.
Я всегда буду повторять и не отступлюсь от своей исти-
ны: если можно будет разгадать тайну хотя бы одного толь-
ко цветка — можно будет понять и строение всей вселен-
ной. Правда, то же самое можно сказать и о любой песчин-
ке. Но ведь, ежедневно встречаясь, мы здороваемся со всеми
знакомыми, однако сказать «доброе утро» любимому суще-
ству особенно для нас дорого.
Чем лучше и больше я слышу, тем грустнее мне стано-
вится. Почему? Глухота помогает жить иллюзиями.
Голос раненого из соседней палаты:
— Будем говорить так: «Аллилуйя, аллилуйя, слава те-
бе, боже! Свою сводочку мы любим, союзничков — тоже».
Это рифмует раненый цыган. Его никто не любит из-за
его непрерывных стенаний и причитаний. У него раздроб-
лен коленный сустав, повреждено бедро; нога и часть ту-
ловища загипсованы. Ему, конечно, тяжко. Но невольно
хочется его излишне громкие вопли отнести за счет цыган-
ской экспансивности.
Почти всю прошлую ночь он непрерывно выкрикивал и
мешал спать сразу нескольким палатам:
— Ой, ой, ой! (Словно это мелодия). Ой, ой, ой! Вот где
нужна-то помощь! Ой, ой, ой! — вот кому надо помочь! Ох
ты, ноженька, моя ноженька, отчего же ты раньше так не
болела?
587
19 апреля.
Мне выдали халат — заявку на свободу. Хожу, держась
за стены. Шатает, как на палубе рыболовецкого бота в Ба-
ренцевом море во время шторма. Но уже выходил во двор
и видел над головой бессмертное небо.
Интересно было бы продумать, что такое безнадежная
любовь в наше время.
В нашу армию пришел новый корпус: дивизии получили
пополнение; на артсклады завезены боеприпасы — дня че-
рез два, через три ожидается наступление.
Размеры Курляндского мешка: 160 километров по фрон-
ту и 120 — в глубину.
Война — это гигантское увеличительное стекло: все, что
попадает в ее поле, приобретает чудовищные размеры. Не-
нависть превращается в зверство, робость становится тру-
состью и предательством, сомнения — изменой, сексуаль-
ная нечистоплотность—хамским развратом, а истинная че-
ловеческая любовь идет на самопожертвование и подвиг,
храбрость не отступает ни перед чем и порождает героев.
Воюет весь народ, на фронтах — миллионы. Здесь пред-
ставлены все хозяйств иные отрасли обыденной жизни.
Здесь — сама жизнь, а значит — любовь и ревность, брат-
ская дружба и подлая неприязнь, убийство, воровство, под-
лог, самоубийство — и душевный героизм, и великий
подвиг.
20 апреля.
Дурная погода: внезапно, как припадок, налетает туча
со снегом. Потом опять светит солнце. Головная боль до
умопомрачения. Жаль, что холод не дает посидеть около
госпиталя на скамеечке. А здесь, в палате, сидеть не на
чем, да и нет потребности — тянет лежать.
Мне кажется, что я слышу теперь даже острее, чем
обычно,— может быть, потому, что хочется тишины.
В соседней палате целый день нудно, утомительно
острит майор-артиллерист, при этом смеется он только
один.
Его сосед спрашивает:
588
— Интересно, от какой это болезни прописывают тре-
пать целый день языком?
Вижу в открытую дверь: ходячий раненый хватает за
руку нашу сестру:
— Дай руку!
— Зачем?
— Погадаю.
— Не хочу! — она вырвала руку и пошла в следующую
палату.
Голоса из соседней палаты:
— Доктор, вспрысните мне, пожалуйста, морфий!
— Почему же вам?
— Рядом со мной положили только что оперированно-
го — я не хочу беспокоить его ночью.
Опять голоса в соседней палате:
— Когда она пригласила меня домой, я находился на цент-
ре блаженства.
— Русская церковь располагала к тому, чтобы закрыть
глаза и сосредоточенно молиться. Церкви на Западе с их
блистательным великолепием слишком расширяли зрачки.
— Эта девушка из таких, которые защищаются улыбками.
Идут ночью в разведку двое. Молодой идет в первый раз.
Старый разведчик его успокаивает:
— Не бойся, я сам дрожу!
— Дай зеркальце!
— Зачем тебе? Все равно, кроме самого себя, в нем ни-
чего не увидишь.
Прошу передать эту тетрадь в Полит-
отдел Первой Ударной армии, чтобы она
была отослана моей семье по адресу:
Москва, Тверской бульвар, 9.
В. Ковалевский
21 апреля 1945 г.
Латвия. Курляндия. Берсмуйжа. Эвакогоспиталь № 1369
(начальник госпиталя Вассерман). Лечащий врач — Ма-
тильда Осиповна Ошерова.
Через день в палату приходит слепой баянист,— он иг-
рает и поет. Вот он вошел, сел на футляр из-под баяна, пе-
ребирает лады, разминает пальцы, а с коек раненые просят:
«Огонек», «Какой-нибудь вальсок». Или: «Ты брось эту му-
РУ — давай танго!» Побывавшие на Ленинградском фронте
часто просят «Ленинградскую застольную».
Баянист проиграл первую вещь. В палату вносят загип-
сованного раненого. Баянист начинает вальс. Но он мешает
590
санитарам. Чтобы уложить на койку раненого, баяниста
прервали. Начинают поднимать раненого, перекладывают
с носилок. Он ужасно кричит, ругает сестру и санитаров за
то, что они якобы все делают не так и причиняют ему боль.
Уложенный в постель, укрытый одеялом, он начинает ры-
дать. Баянист снова поставил в проход свой футляр и, рас-
тягивая мехи, заиграл прерванный вальс.
Баяниста ждут после обеда с нетерпением и бывают
огорчены, когда он уходит в другие палаты,— всегда кажет-
ся, что он играл слишком мало.
В Прибалтике весна истерическая: то солнце, то снег и
злые порывы ветра. А из земли упорно лезут бледные стеб-
ли каких-то луковичных растений.
Только сегодня мы узнали, что умер Рузвельт. Очень
жаль. Громадная потеря. Война уже на таком разгоне к кон-
цу, что смерть президента на ее ход, вероятно, не окажет
влияния. Но всевозможные переговоры о послевоенном
устройстве, об условиях мира — все это без него очень
усложнится. Вряд ли в США найдется другой такой че-
ловек.
22 апреля.
В совершенном безветрии отвесно падают огромные
хлопья снега, обильно, щедро. Это не снегопад, а какое-то
снегоизвержение. Но едва выглянуло солнце, весь снег ста-
ял, и земля, довольная, что справилась с трудным делом,
дымится, как упарившаяся лошадь.
Госпиталь, где я лежу, расположен в уцелевших строе-
ниях Берсмуйжи. На перекрестке стоит кирка с разбитой
крышей. В госпитале лежала раненая старушка — из угнан-
ных немцами. Она была в тяжелом состоянии.
В пять часов утра вдруг раздался набатный звон колоко-
ла. Старушка заметалась, испугалась, начала креститься и
говорить: «Это за мной, это по мне похоронный звон!»
Послали санитара, чтоб прекратили звон, но, пока он
добежал до кирки, старушка умерла.
Оказывается, это звонил дежурный санитар. Ему было
поручено разбудить персонал. Так вот он додумался, ухва-
тился за проволоку, свисавшую с колокольни до самой зем-
ли, и ударил в набат. К тому же перепутал время — зазво-
нил на час раньше.
591 '
Начальник госпиталя отобрал у него пояс и посадил под
арест. Старушку отнесли на кладбище.
Голоса из соседней палаты:
— Сестра, что вы даете мне бром? Вы думаете, у меня
сердце красавицы, что ли? У меня — сердце быка!
В соседнюю палату положили трех контуженых. Два дня
они лежали пластом, не произнося ни слова. Потом вдруг
все заговорили и сразу очень громко. Все от контузии ока-
зались заиками.
Один из них, командир роты, необыкновенно бойкий, бе-
гает по всем палатам в нижнем белье и называет себя «ко-
мендантом», делает вид, что наводит порядок. Чтобы не по-
терять своих орденов, он привинтил прямо к нательной ру-
бахе орден Красного Знамени, Красной Звезды и медаль
«За отвагу».
Один из лежачих спрашивает его:
— Почему ты такой маленький? У тебя отец был такой
маленький?
— Ничего подобного! И отец был бо-бо-большой, и
мма-ма-мать большая,—то-только они, должно бы-быть,
по-по-по-поторопились.
Он всех смешит своими афоризмами (вроде записанного
мною выше). Помогает смешить, конечно, и его заикание, и
особые движения головой, характерные для контуженых
(не плавно, а толчками, рывками, как движения головой у
курицы).
Дежурный санитар тоже контужен и тоже заикается.
Когда он начинает говорить с остальными контужеными, не-
возможно удержаться от смеха. Смеяться при этом не
грех—им самим смешно: они относятся к этому добродуш-
но, зная, что их заикание — вещь временная.
Контуженые достали гитару. «Комендант» оттащил в сто-
рону ковровую дорожку, чтобы не мешала, и под аккомпа-
немент гитары начал отплясывать в одном белье «цыга-
ночку». Плясал с жаром. А еще сегодня утром врач Ма-
тильда Осиповна убеждала его лежать как можно спокой-
нее, цитируя ему мою фразу и не подозревая, что я ее
слышу:
— Сон для контуженого имеет такое же значение, как
гипс для хирургических.
592
Потом «комендант» положил дорожку на место, надел ха-
лат и пошел в клуб на танцы (для медперсонала). Вскоре он
вернулся и пожаловался, что у него спадают кальсоны. До-
стал из-под подушки ремень, потуже подпоясался и отпра-
вился опять на танцы, сказав с порога:
— Теперь в нашем колхозе все в порядке!
А в палате начались стоны и вопли. Рыженький лейте-
нант (тот, что лежит раскорякой, распятый гипсом) не спал
всю ночь. Умолял что-нибудь ему впрыснуть, то и дело
звал то санитара, то сестру. Просил то приподнять ноги, то
положить бумагу в том месте, где раскоряченные колени
прикасаются к железным краям койки, то поправить пятку
или же как-нибудь приподнять его самого. Говорит, что у
него «дергается нерв» и внезапно «кидает в сторону». Он
уже семнадцать суток лежит на спине. Среди ночи были
слышны его причитания: «Спинушка моя, спина, до чего ж
ты меня довела!» Поминутно сквернословит, подбирает вир-
туозно отвратные сочетания слов. Ему вторит тяжелора-
неный цыган, возмущающийся тем, что «как-то так
не могут помочь, когда у меня потревожено само
мясо».
Как только эти двое успокаивались — начинались вопли
в другом углу. Это бредил принесенный вчера новенький ра-
неный.
Здесь же, где мы лежим, в Берсмуйже, через дорогу от
госпиталя — кладбище, аккуратное, латышское. Много поли-
рованного гранита и декоративных кустарников. Санитары
и сестры — какая дичь! — ломают на кладбище тую — дела-
ют веники для подметания палат. Это вместо того чтобы на-
рубить в лесу березовых ветвей.
Каково смотреть на это латышам? Я видел, как подъеха-
ли к воротам кладбища старик и старушка. Они увезли с
кладбища скамейку с могилы родных. И хорошо сделали.
В коридоре госпиталя стоят скамейки, бесцеремонно унесен-
ные с кладбища.
Вышел из душной палаты госпиталя на прогулку. Захва-
тил с собой тетрадку.
Поют, позванивают какие-то птицы. Да птицы ли это?
Их ударное цоканье очень похоже на тот звук, с которым
мастер-гранилыцик обтесывает камень для могильного па-
мятника
593
Будем надеяться, что когда станет теплее, запоют и те
птицы, которым знаком и голос бессмертия.
Голос из соседней палаты:
— У меня кружится голова от контузии, а у вас от лишне-
го просвета на погонах.
— Чем вы стараетесь меня удивить? Я видел людей зна-
чительно тупее, чем вы!
Горестное лежание в госпитале, слегка приправленное
прогулками на кладбище... Странная весна, странная весна...
Первый подснежник увидел на подоконнике госпиталя, а
фиалку — на могильном холмике кладбища.
22 апреля.
Всех нас, весь госпиталь перевезли на новое место, впе-
ред километров на пятьдесят. Когда везли, дверца в кузове
машины была открыта и ничто не мешало видеть, как на чи-
стом небе заката лучисто сияет звезда. Совсем иное было бы
чувство, если бы нас везли в сторону звезды. Нет, нас от нее
увозили, и сердце сжималось от черной тоски.
Ничего невозможно представить себе более фантастиче-
ского, чем огромный гулкий зал, куда нас всех поместили —
несколько десятков раненых. Это зрительный зал какого-то
провинциального театра, он стоит вдали от городов, на пере-
крестке асфальтированных дорог, среди латвийских мыз —
хуторов, далеко разбросанных друг от друга.
Угол потолка в зрительном зале пробит снарядом—ви-
ден кусочек неба. Занавес на сцене опущен, но один край его
оторван, и на сцене видны шаблонные декорации леса в сти-
ле провинциального оформления любительских спектаклей.
Ничего в этом зале, кроме трагедий, жизнь мне не по-
кажет. Я в этом убедился за первые же сутки, находясь
здесь одновременно и в качестве действующего лица, и в
роли зрителя.
К умирающему лейтенанту, командиру разведчиков Бог-
данову, пришел с передка его адъютант. Лейтенант ранен
разрывной пулей в бедро. У него сепсис — заражение крови.
Умирает.
Всю ночь он метался, кричал и звал: «Володя, ты здесь?
Володя Щербаков! Володька!»
И вот он пришел — адъютант, Володя Щербаков. Пришел
сообщить своему командиру, что ему присвоили Героя Со-
594
ветского Союза. Лейтенант узнал Володю и даже прочел из-
вещение о звании Героя Советского Союза. Встретил эту но-
вость с тусклым сознанием, без каких-либо признаков
радости, как нечто само собой разумеющееся. Потом они
вместе курили одну и ту же папиросу — то один затянется,
то другой, но держал ее в руке адъютант. Когда Володя на-
чал приглаживать своей расческой волосы командиру и по-
том прощаться с ним, прижимая свой лоб к его лбу, я за-
крылся с головой одеялом...
Адъютант сказал мне, что он только что получил пись-
мо от брата. Пишет: «Находимся в 25 километрах от Берли-
на. Готовимся ко встрече с союзниками. Всем выдано новое
обмундирование. Даже рядовых бойцов стараются одеть в
мундиры».
Я почти не вижу центральных газет. Патрули союзни-
ков уже пересекли границу Чехословакии.
Я убежден, что разгром Германии произойдет очень,
очень скоро. Этот момент я хочу встретить в действующей
армии. Пусть это будет даже в госпитале. Если бы я сейчас
получил вызов из Москвы, чтобы долечиваться там, я бы
отложил отъезд.
Целый день писал письма под диктовку раненых, тех из
них, положение которых безнадежно. Потом относил их на
почту. Идти пришлось через кладбище. Почти все письма
начинаются словами: «Здравствуй, моя родная мама!»
Но в бреду, в ночных воплях и стонах раненые не упоми-
нают родных. Только один из них, с поврежденным черепом,
кричит напролет все ночи, с маниакальным однообразием:
«Милая моя мамочка, голова болит! Ой, голова болит, ми-
лая моя мамочка!»
Ни разу я не слыхал в ночных бредовых воплях каких-
либо хотя бы намеков на антисоветские настроения. Инте-
ресно, что нет и молитвенных, религиозных причитаний, за
исключением нейтральных «О господи!» или «Боже мой!».
Хирурги мне говорили, что, приходя в себя после наркоза,
раненые ужасно сквернословят, несут невесть что, но и в
этом состоянии от них никогда не случалось слышать анти-
советского бреда.
Есть только резко иронические высказывания уже вы-
здоравливающих строевых командиров о политработниках:
называют их «псаломщиками» и бездельниками.
595
Внезапно я проснулся среди ночи, соскочил на пол босы-
ми ногами, но тотчас же меня сильно затошнило, и я сел
на край своей койки. Мне показалось, что кто-то только что
разговаривал со мной. То, что он сказал, меня поразило, по-
тому что его мысли были очень близки к тому, о чем я уже
не один раз думал сам и даже высказывал это Коблику. Я
хорошо помню, что сказал мне этот человек, пока я спал.
И вдруг это же самое — слово в слово — начал повторять ра-
неный, лежащий на соседней койке:
— Какое основание думать, что человек, мышление че-
ловека— это самая высокая организация материи во всей
вселенной? Почему?
Подобно тому как нелепо было думать, что центр вселен-
ной— Земля, так же нелепо думать, что «центр» способно-
сти материи создать деятельность высшего психологического
порядка — это человек.
Мир бесконечен во времени и пространстве. Так разве же
в этой бесконечной возможности неисчислимых вариантов
не может существовать более совершенной организации ма-
терии, чем мышление человека? Даже обязательно должна
существовать!
Коль скоро мы допускаем бесконечность, мы обязаны до-
пустить и бесконечное количество всевозможного рода ва-
риантов. Должны существовать особи высокоорганизован-
ной материи, у которых есть нечто несравненно более высо-
кое, чем мысль человека.
— Откуда вы знаете мои мысли? — спросил я раненого,
когда он замолчал. Вместо ответа он начал повторять, как
лунатик, с монотонным однообразием бреда:
Камень — мертв.
Железо — притаилось.
Дерево — дышит.
Собака — видит сны.
Человек — умеет смеяться.
Помолчал с полминуты и опять:
Камень — мертв.
Железо — притаилось.
Дерево — дышит.
Собака — видит сны.
Человек — умеет смеяться.
Лица раненого не было видно — вся его голова сплошь
обмотана бинтами, вместе с ушами, открытой оставалась
596
Только черная дыра рта, откуда, как из приглушенного ру-
пора, толчками выходили слова бредовой поэзии:
Камень — мертв.
Железо — притаилось.
— Пить!..—попросил он. Его руки, тоже сплошь за-
бинтованные, безжизненные лежали поверх одеяла как
чужие.
Возле его койки на некрашеном табурете стоял фаянсо-
вый поильничек с длинным носиком. Я расправил пальца-
ми бинты вокруг рта раненого и сунул носик поильничкав
черную дыру.
Словно в благодарность за то, что я утолил его жажду,
раненый принялся излагать вслух мои собственные мысли:
— Может быть, существа более высокой психической,
интеллектуальной организации, чем человек (более высокая
организация материи, чем мышление человека), видят нас
и знают о нас. Но помочь нам более разумно организовать на
Земле жизнь им так же не приходит в голову, как нам не
приходит в голову внести какие-то изменения в строй жизни
обезьян в тропическом лесу или внести улучшение в органи-
зацию муравьиных общин.
Мне пришла в голову жуткая мысль, будто это Коблик
лежит на койке с головою, как болванка, сплошь забинтован-
ной, лишенный памяти и забывший, кто он такой. С ним слу-
чилось то, чего я все время боялся: из-за контузии или ране-
ния полностью утратить память и забыть свое собственное
имя, забыть жену, сына, забыть, кто ты таков. Только Коб-
лик мог знать мои мысли. Но ведь Коблик убит пулей в за-
тылок...
Я спросил раненого:
— Товарищ, кто вы, откуда вы прибыли, из какой ди-
визии?
f С вечера койка была еще пуста,— его положили в то вре-
мя, когда я спал.
— Кто вы? — спросил я снова.— Где вы жили до войны?
Вместо ответа раненый опять начал повторять с маниа-
кальной, бредовой монотонностью:
— «Камень — мертв. Железо — притаилось. Дерево — ды-
шит. Собака — видит сны. Человек — умеет смеяться».
Театральный зал тяжело дышал, во всех углах раздава-
лись стоны. То там, то здесь бессвязно бредили черепники.
В проломе потолка видна была какая-то льдистая, недося-
597
гаемая звезда. А здесь, в зале, тяжело нависло надо всеми и
давило томительное ожидание какого-то трагического зре-
лища, которое вот-вот должно было развернуться на сце-
не за разорванным, пропыленным занавесом. Мне стало
страшно,— я поскорее оделся и вышел под звезды. Я бало-
вень войны: даже здесь, в госпитале, все мое обмундирова-
ние при мне — гимнастерка, брюки и шинель лежат в
ногах моей постели. В любую минуту я могу одеться и без
разрешения идти куда мне угодно,— такое отдано распоря-
жение начальником госпиталя. А каково тем, кто распят на
кровати и не может сдвинуться с места? Увидев небо, я
вспомнил странное четверостишие Маяковского, неожидан-
ное для этого «горлана-главаря», совсем лермонтовское:
Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
Векам, истории и мирозданью.
Студеный, чистый холод ночи успокоил меня и звездное
небо пристыдило. Я сказал сам себе: «Вячеслав, возьми себя
в руки! Ведь ты же и сам контуженый, а значит — во власти
патологии. Может быть, все, что сейчас происходило в теат-
ральном зале,— все это ты выдумал. Ведь ты тоже «чокну-
тый».
Ах, как хороша в эту ночь была надо мною сверкающая
Вега: зеленая, голубая и золотая. Три звезды наискось —
созвездие Орла с Альтаиром посередине и приколоченное к
Млечному Пути алмазными гвоздями созвездие Лебедя,
похожее на правильный крест.
Утром я спросил главного хирурга, кого положили рядом
со мной, кто он такой? Оказывается, его подобрали прямо на
дороге. Немцы разбомбили нашу автоколонну. Несколько
машин сгорело. На этом раненом тоже все обгорело, доку-
менты повреждены — нельзя разобрать ни имени, ни фами-
лии. А сам он на все вопросы отвечает: «Камень — мертв,
железо — притаилось...»
Весь день он молчал. Я много спал, а когда просыпался,
несколько раз поил его. Санитар, видя, как я ловко управ-
ляюсь с поильничком, попросил меня кое-кого из других
раненых тоже напоить,— сам он не успевал подойти ко всем,
кто его звал. В полдень я помогал ему разносить обед и дво-
598
их черепников накормил из своих рук. Но когда я нес третью
миску супа, голова у меня закружилась, я уронил ее на пол
и тоже упал рядом с миской.
Меня отнесли на койку. Пришел врач и запретил вста-
вать. Спал я отлично, без всяких сновидений, но среди ночи
опять, как прошлый раз, рядом со мною раздался голос ра-
неного. Я вскочил и, сидя уже на краю койки, услышал его
голос:
— Мы с вами еще не закончили спор.
Он лежал все в той же позе с ног до головы забинтован-
ной мумии, с черной щелью рта, возле которой в такт с ды-
ханием— туда-сюда — шевелились отдельные ниточки мар-
ли. Это было единственным признаком жизни.
Он продолжал:
— Если бы существ, более высоко развитых, чем чело-
век, не было бы во вселенной, тем самым доказывалась бы
невозможность бесконечного числа комбинаций, а значит,
доказывалась бы конечность вселенной. Таким образом, че-
ловеком и ограничивалась бы вселенная, на нем бы и конча-
лась.
— Позвольте, позвольте! — вмешался я.— Система ва-
ших доказательств нелепа. По-вашему выходит так: если
что-нибудь невозможно, то в этом пункте вселенная и кон-
чается— мир конечен, раз ограничено число вариантов. Это
же бред! Вот вам пример—для наглядности возьмем явно
нелепый случай: «Гвоздь создал вселенную», а это невозмож-
но. По-вашему получается, что наличие такой невозможно-
сти, такого варианта — это доказательство того, что мир ко-
нечен. Что вы на это скажете?
Вместо ответа раненый продолжал:
— Раз существует бесконечная вселенная (в прошлом,
в настоящем и в будущем), то и меня самого должно сущест-
вовать бесконечное число экземпляров (как в зеркалах, по-
ставленных одно против другого). Следовательно, где-то во
вселенной в это же самое время я тоже лежу в госпитале
и разговариваю с вами.
Если же это невозможно, то, значит, вселенная кончает-
ся на мне, лежащем на единственном земном шаре, в опре-
деленном, а значит, и в единственном госпитале. Раз я суще-
ствую в единственном экземпляре, значит, бесконечное не-
возможно. И наоборот: вселенная бесконечна, поэтому и я
существую в бесконечных комбинациях, вариантах и повто-
рениях одного и того же.
599
Не будете же вы отрицать справедливости того, что
утверждает Циолковский: «Время и пространство вечны, они
никогда не исчезают, они нетленны. Я исхожу из принципа
бесконечной сложности материи. Всякая материя может
принять форму живого и даже бессмертного существа. Вся
вселенная полна жизни совершенных существ, которая ожи-
дает и Землю, и другие планеты такого же незрелого возра-
ста, как она...»
— Пощадите меня! — оборвал я его.— У меня разламы-
вается от боли голова. Вам тоже необходим покой. Спите!
Сон для контуженого — это все равно что гипс при переломе
костей.
Но на этот мой призыв раненый опять принялся бормо-
тать свою ужасную молитву:
Камень — мертв.
Железо — притаилось...
— Санитар! — крикнул кто-то из раненых так громко,
что его голос гулко отдался под потолком.— Где санитар?!
Но никто не отозвался. Я подошел на голос. Санитара
звал раненый, густо заросший черной многодневной щети-
ной. У него было выражение добродушного, любвеобильного
отца семейства.
— Пить? — спросил я.
— Та ни! Уймите за ради Христа энтих двоих сумасшед-
ших-бессмертных. Всю ночь напролет, как бессмертные: гу-
гу-гу-гу!.. Мочи моей нет. Была бы под рукой винтовка—
приколол бы обоих, как поганых фрицев.
Как только я возвратился к своей койке, мой сосед опять
принялся за свое:
Камень — мертв.
Железо — притаилось...
Меня даже подрало по коже морозом. А добродушный
отец семейства взял в руку алюминиевую кружку, прила-
дился на коленях поустойчивее на своей койке и что было
сил пустил кружку в моего соседа. Он промахнулся, и попал
в меня. Я затрясся от смеха, не устоял на ногах и пова-
лился на койку. И странное дело — точно мне сделали укол,
ввели под кожу снотворное. Меня почти мгновенно охватила
сладостная дремота, и я погрузился в глубокий сонвсовер-
шеннно счастливом, блаженном состоянии.
Утром санитар, наклонившись ко мне, спросил:
600
— Ну как, отошел? Помогать мне будешь, а то пора раз-
носить завтрак.
— А где же мой сосед? — спросил я, увидев за спиной са-
нитара пустую койку.
— Этот-то? — переспросил он, обернувшись и поправляя
одеяло на освободившейся койке.— И так, браток, бывает:
сидит осколок в черепе, притаился, а потом от какого-нибудь
толчка, от чоха либо от того же кашля в один момент дой-
дет до жизненно важного центра, проколет нерв, и в эту
дырочку вся душа человека — вон! Успокоился твой сосед —
уже закопали. Строевую службу закончил, теперь ему дали
работу полегче — пошел караулить песок.
Видел я его свежую могилу, когда понес на почту пись-
ма раненых. С бредовой навязчивостью лезет мне в голову
мысль: это и есть могила моего друга Коблика, хотя мне
более чем достоверно известно, что все, что осталось от Коб-
лика, уволокли немцы.
Ничего больше не хочу записывать о театральном зале,
где днем и ночью непрерывно шла на сцене одна и та же
трагедия «Смерть», написанная великим драматургом, рабо-
тающим под псевдонимом «Жизнь».
Можно вытерпеть все, но только за счет сохранности,
эластичности, неизношенности нервных тканей, клетки ко-
торых никогда больше не восстанавливаются в человеческом
организме. Можно заставить себя относиться спокойно к
ужасам театрального зала. Но это значит тренировать себя
на равнодушие. Кому нужно это насилие над самим собой?
Этот процесс необратим. «Спокойствие» будет достигаться
за счет постарения нервных волокон. Сделавшись равно-
душным к человеческим страданиям, к мерзости и грязи, ты
станешь равнодушным и ко всему прекрасному, природа
для тебя тоже умрет.
Тетрадь прячу в полевую сумку. Писать я буду только
под диктовку приговоренных к смерти, буду относить их
письма на почту — авось дойдут до родных.
23 апреля.
Всех нас перевезли наконец из театрального зала в Меж-
мали и поместили в госпиталь с палатами нормальных раз-
меров. Когда везли в открытой машине закат был до того
601
хорош, слоено его прописал гениальный врач как лекарство
для людей с потрясенной нервной системой. Мне казалось,
что я въезжаю через настежь распахнутые врата заката в
сказочно-прекрасную страну, где никогда уже больше не
будет ни боли, ни горя, зло безвозвратно истлеет и справед-
ливому царству счастливого человечества не будет конца.
25 апреля.
Принесли сводку. Свершилось! Части Красной Армии
ворвались в Берлин.
В соседней палате играет слепой баянист и поет:
Скоро кончится война,
Скоро Гитлеру капут!
Скоро временные жены
Как коровы заревут.
Соседняя палата шумная, там много выздоравливающих,
то и дело доносится оттуда смех, часто там спорят, острят,
подкусывают друг друга. При желании можно продолжать
запись диалогов и занятных словечек.
Сейчас слышу спор шахматистов кто сильнее — слон
или конь? Один из спорщиков настаивает на преимуществах
слонов:
— Слоны дают кинжальный огонь!
Танкист поспорил с пехотинцем:
— Разница между пехотинцами и танкистами только та,
что пехотинца сначала убьют, а потом положат в гроб, а тан-
киста сначала посадят в гроб, а затем уже убьют.
«Вот я тебе дам — живой будешь, а гроб просить бу-
дешь!»
«Идея, ставшая персонажем, лучше доступна разуме-
нию» (Бальзак).
28 апреля.
Не вставая с койки, читаю «Белые ночи» Достоевского с
прекрасными иллюстрациями Добужинского. Сквозь чудес-
ные строки о признании в любви Настеньки слышу хрип
умирающего. Метрах в шести от меня умирает раненый. Три
дня тому назад под его диктовку я написал письмо его род-
ным в Горький.
В соседней палате играет слепой баянист, но горячечное
дыхание умирающего все равно слышно.
602
Ко мне пришел печатник Булатов из редакции, принес
газету. Замечательное известие:
«25 апреля 1945 года КРАСНАЯ АРМИЯ СОЕДИНИЛАСЬ
С ВОЙСКАМИ СОЮЗНИКОВ!»
Арест Муссолини.
«Рим. 27 апреля. Восставшие в Северной Италии итальян-
ские патриоты захватили в районе озера Комо Муссолини,
его сподручных Паолини Фарринаги и маршала Грациани.
Все они арестованы».
Исчезновение Геринга.
«Стокгольм. 26 апреля. Сегодня вечером гитлеровское ра-
дио передало сообщение о том, что Герман Геринг подал в
отставку с поста командующего германскими военно-воз-
душными силами, мотивируя это «болезнью сердца». Гитлер
удовлетворил просьбу Геринга и назначил на его место ге-
нерала Риттер фон Грейма».
Имя Геринга упомянуто сегодня в передачах гитлеров-
ского радио впервые после длительного периода молчания о
нем. Сообщение об отставке Геринга, по-видимому, являет-
ся средством замаскировать его бегство в одну из нейтраль-
ных стран или уход в гитлеровское подполье.
Раненый, которому я писал письмо, умер.
Ко мне подошел санитар попросить химический каран-
даш. Я знаком, движением кисти спросил его: «Умер?» Он
кивнул головой. Карандаш понадобился для отметки о
смерти.
Остальные раненые делали вид, что ничего не заме-
тили.
Сообщение ТАСС
«28 апреля с. г. агентство Рейтер передало заявление кан-
целярии премьер-министра Великобритании, в котором го-
ворится, что Гиммлер сделал предложение, согласно которо-
му Германия безоговорочно капитулирует перед Англией и
Соединенными Штатами Америки. В этом заявлении сооб-
щается, что правительства Англии и Соединенных Штатов
Америки ответили, что они примут безоговорочную капиту-
ляцию только перед всеми союзниками, включая Советский
Союз.
603
ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение под-
тверждается ответственными советскими кругами».
Сегодня утром я уловил отдаленные звуки артподготов-
ки. Мимо госпиталя прошло очень много танков и самоход-
ных пушек. В небе весь день гул авиации.
Началось наступление, надо думать, последнее в Кур-
ляндии.
1 мая.
Два часа ночи. Я проснулся от какого-то тревожного, не-
запоминающегося сна. Мне показалось, что кто-то из ране-
ных иронически называет мою фамилию. Потом я услыхал
хлюпающие звуки от продувания какого-то предмета; они
были похожи на мучительный кашель, как будто кто-то за-
дыхался.
Я стал прислушиваться и понял, что эти звуки раздают-
ся в соседней палате.
Я услыхал какую-то возню на койке, где позавчера умер
раненый после ампутации ноги. Услыхал стук кулаком по
металлическому борту кровати. Я поднялся, надел тапки,
хотел позвать санитара. Но оказалось, что санитар уже там.
Я лег.
Слышу, санитар старается уложить раненого, задает во-
просы:
— Оправиться, нет? Воды, нет? Карандаш? Хорошо, ло-
жись, напишем днем.
Однако это не успокаивает раненого. Он стучит кулаком,
волнуется, задыхается. Я иду туда.
Лежит человек с забинтованной грудью и горлом, очень
похож на моего друга художника Ечеистова. Бинт около гор-
ла пропитан кровью. Задыхается.
Приношу карандаш, большой лист бумаги и дощечку,
которой пользуюсь сам когда пишу лежа.
Раненый, быстро закинув ногу на ногу, кладет дощечку
на колено и лежа пишет. Я прошу его не торопиться, писать
спокойно, чтобы ему не стало хуже. Он написал:
«Мне плохо общее состояние». Хочет написать еще что-
то, я говорю:
— Вы успокойтесь, мы позовем сестру.
Как раз в это время появляется дежурная сестра. Ране-
ный протягивает мне то, что он написал еще: «Надо чистить
трубу».
604
Сестра говорит:
— Мы вас положим выше.
Раненый очень проворно и легко сам поднимается выше
на подушке. Сестра поправляет ему бинт около выхода тру-
бы на шее.
Пока я записываю это у себя в палате, все время слышно,
как раненый пытается с хрипом выхаркнуть мокроту из
трубы.
За окном с грохотом проходят танки.
Неужели здесь, в Курляндии, действительно будет еще
какая-то кровавая возня с боями? Кутузов, вероятно, оста-
вил бы здесь немцев на вымирание, ограничившись бло-
кадой.
Надо как можно быстрее освободить, спасти угнанное на-
селение! А сколько при этом погибнет в бою? И все-таки
надо успеть освободить узников концлагерей, спасти их от
душегубок и крематория.
Теперь уже нет никаких сомнений в том, что Германия
вот-вот капитулирует.
3 мая.
Вчера взят Берлин. Он был окружен войсками Жукова и
Конева. Знамя победы водружено над рейхстагом несколько
дней тому назад.
Не Саша ли Королев водрузил знамя?
Сегодня утром, подойдя к госпитальному кладбищу, я
сказал тем, кто лежит за красной решеткой ограды, под
столбиками, увенчанными красной звездой: «Берлин взят!»
Но никто из них ничего мне не ответил.
По сообщению немецкого радио, Гитлер умер 1 мая. Взя-
тый в Берлине в плен заместитель Геббельса — Фриче — ска-
зал, что Геббельс и Гитлер покончили самоубийством.
Бежал ли Гитлер, скрылся ли в подполье, убит ли он или
покончил самоубийством — безразлично. Полный провал,
крах и позор самого существа фашизма, как идеологии и го-
сударственной системы.
Проводили митинг по поводу взятия Берлина в отделе-
нии тяжелораненых. Один из очень тяжелых подозвал меня,
поманил пальцем и шепотом попросил: «Я сам не могу, ска-
жите за меня, что я очень рад!»
Проснулся с необыкновенно ясной головой. Непривычное
состояние. Как будто поднялся на какую-то горную верши-
ВП5
ну. Умолкли даже голоса птиц, обычный за последнее время
их скрежет в ушах. Пришла в голову такая мысль: а может
быть, я все уже знаю и все понял? И мое стремление доко-
паться до корня, до глубины глубин и до конца понять еще
какой-то необыкновенно ценный человеческий материал —
все это сродни страху того неврастеника, которому кажется,
что, опустив письмо в ящик, он забыл написать адрес?
Все для меня уже давно ясно, а я еще сомневаюсь, пото-
му что не верю в свои силы. Ведь это же обыкновенная моя
неуверенность, преследующая меня с самого детства, да
плюс к ней еще страх перед трудной работой. Пора бы уже
приняться за работу над книгой, а я даю себе отсрочку,
оправдываясь мнимой необходимостью еще и еще добирать
для работы какой-то особо ценный материал.
Что же надо тебе еще? Ты видел кровь, ты видел смерть,
ты видел истинный подвиг и любовь к людям, и не только
готовность умереть за Родину, но смертный час человека, са-
мое умирание — гибель. Человек, и не один человек, тебе
исповедовался,— чего ж тебе надо еще? Ты видел вечнозе-
леное дерево жизни, неистребимую ее силу в природе и в
человеке, ты познал красоту человеческого мышления и ра-
дость истинной дружбы, ты сам вкусил от черного хлеба
фронтового братства.
Что тебе надо еще? Самому убить врага? Но у меня и без
того такое чувство при виде трупов фашистов, как будто это
я всех их убил собственноручно.
Но почему же взять в руки перо страшнее, чем пойти в
окоп, держа в руках винтовку?
8 мая.
Проснулся от стрельбы. Длинные пулеметные очереди,
трескотня автоматов. Слышно было, что стрельба идет не
только около госпиталя,— пальбой охвачен весь район.
Боже мой, что творится на территории госпиталя!
Начало светать. Сестры и санитарки визжат, обхватыва-
ют друг друга и крутятся вихрем. Бойцы из команды выздо-
равливающих хлопают что есть силы друг друга по плечу,
обнимаются. Стоит трескотня от стрельбы, где-то совсем не-
далеко пульсирует газовое пламя из ствола пулемета. Из
подвала вытаскивают радиолу, и девушки начинают танце-
вать на асфальте дороги.
Я спускаюсь с дороги вниз, иду к госпитальному кладби-
606
щу. Я открываю воротца, выкрашенные в кирпичную кра-
ску, и начинаю безудержно рыдать от бессилия поднять тех,
кто лежит в могилах. Меня корежит от слез и, может быть,
от стыда за то, что я остался в живых. Никакие салюты не
поднимут тех, кто на кладбищах всех фронтов лежат в земле.
Но проходят минуты, становится все светлее, и вместе со
светом приходит тишина. Стрельба смолкает. Становится
так тихо, что мне начинает казаться, будто я слышу, как
растет новая трава. Раздвигая прошлогодние сухие былин-
ки, она производит звук, похожий на то, как шевелит во сне
влажными губами ребенок. И меня начинает душить ра-
дость, охватывает восторг счастья: мы победили!
Ковалевский Вячеслав Александрович
ТЕТРАДИ ИЗ ПОЛЕВОЙ СУМКИ
М., «Советский писатель», 1968, 608 стр
Тем. план вып 1967 г. № 42
Художник Г. А. Кудрявцев
Редактор Ю. Б. Рюриков
Худож. редактор В. И. Морозов
Техн, редактор Ф. Г. Шапиро
Корректоры Л. Э. Казакевич
и М. А. Ойсгольт
Сдано в набор 24/IV 1987 г.
Подписано к печати 17/VII 1968 г.
А 05518 Бумага 6ОХ84'/1в № 2
Печ. л. 38 (35,34). Уч.-изд. л. 32,65
Тираж 30 000 экз. Заказ № 176
Цеиа 1 руб. 10 коп.
Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездннковсний пер. 10
Тульская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109
WjM «мы,
। |м>4 «.,, лиц. Й fe ,v ft ft