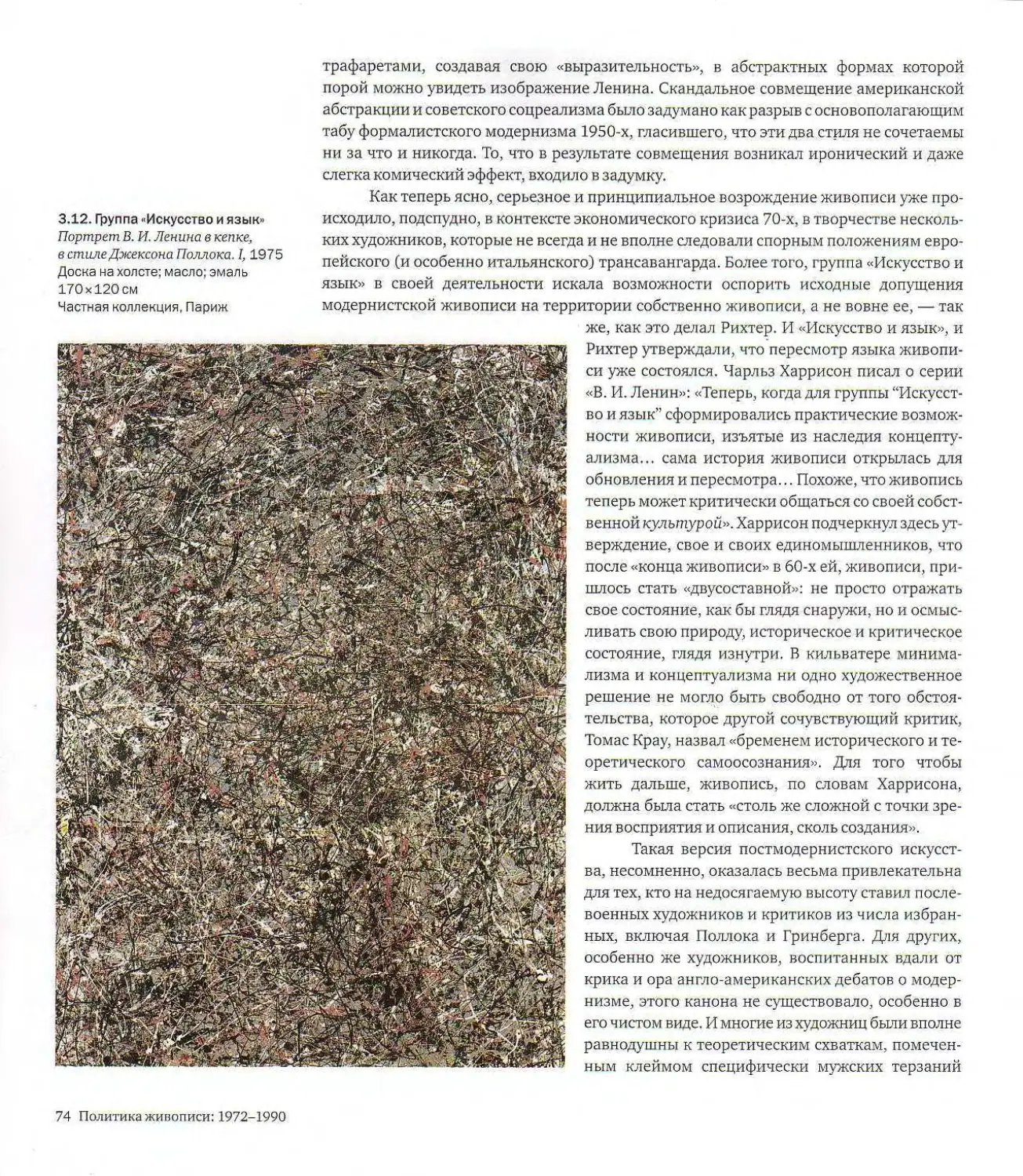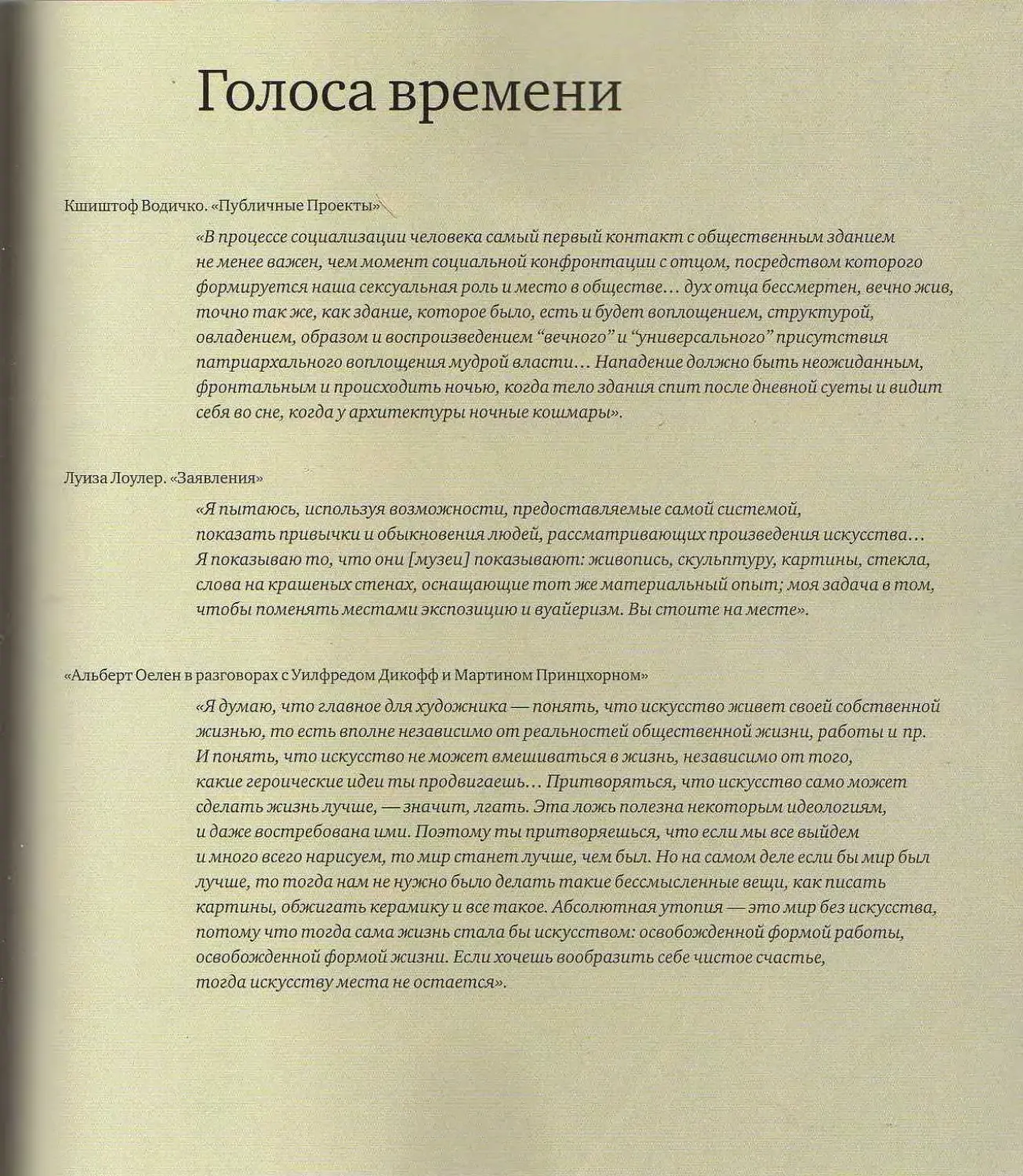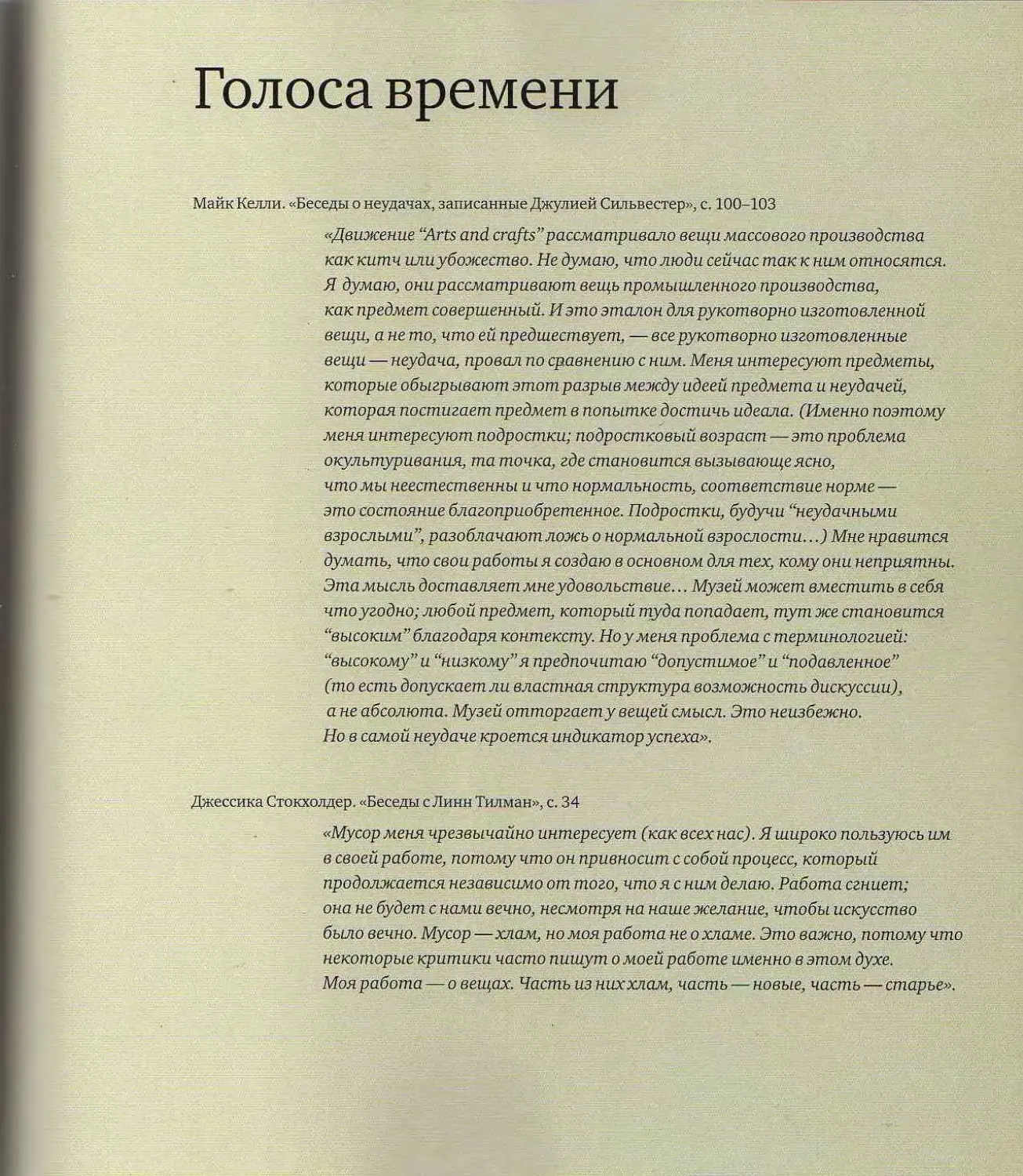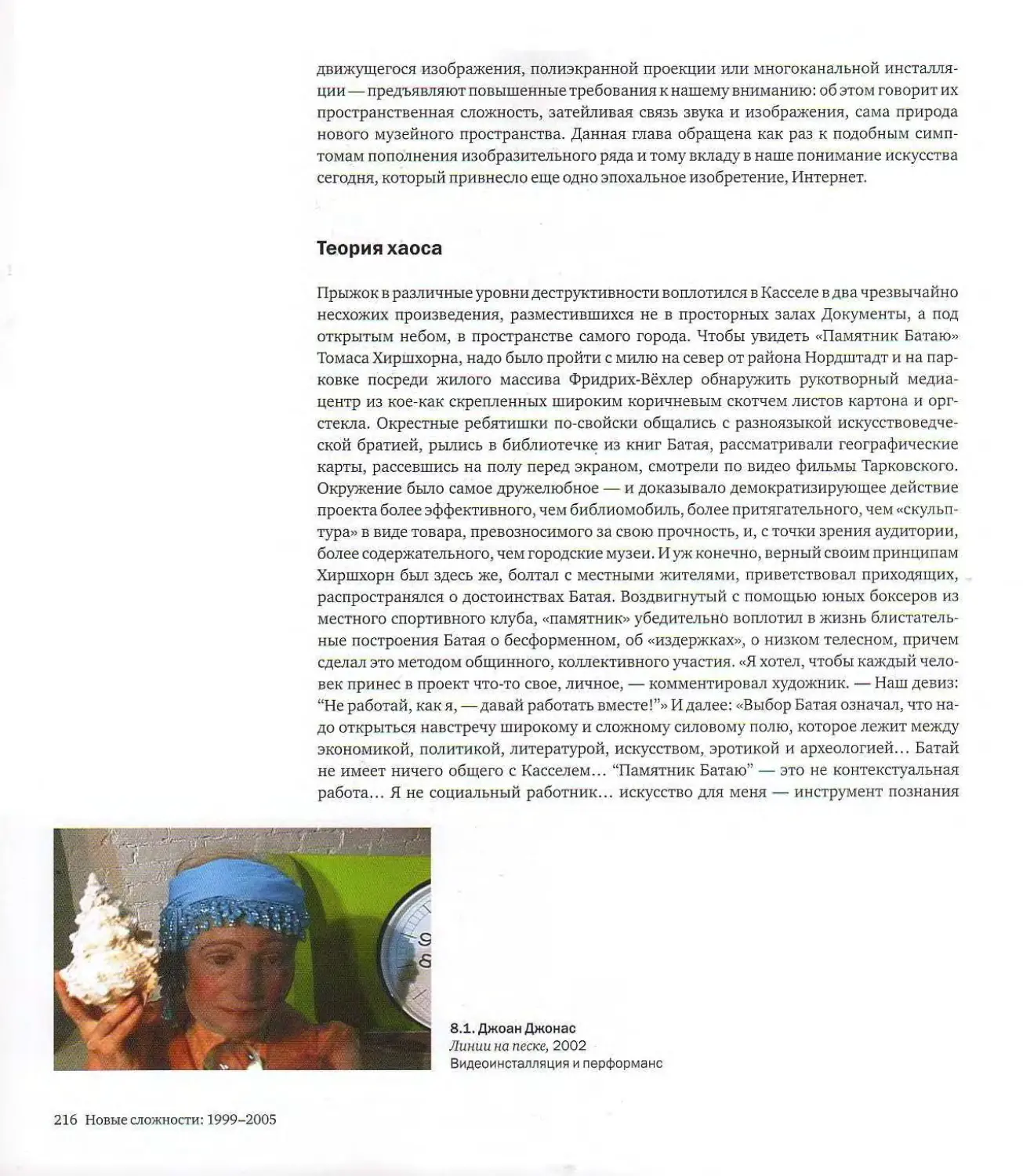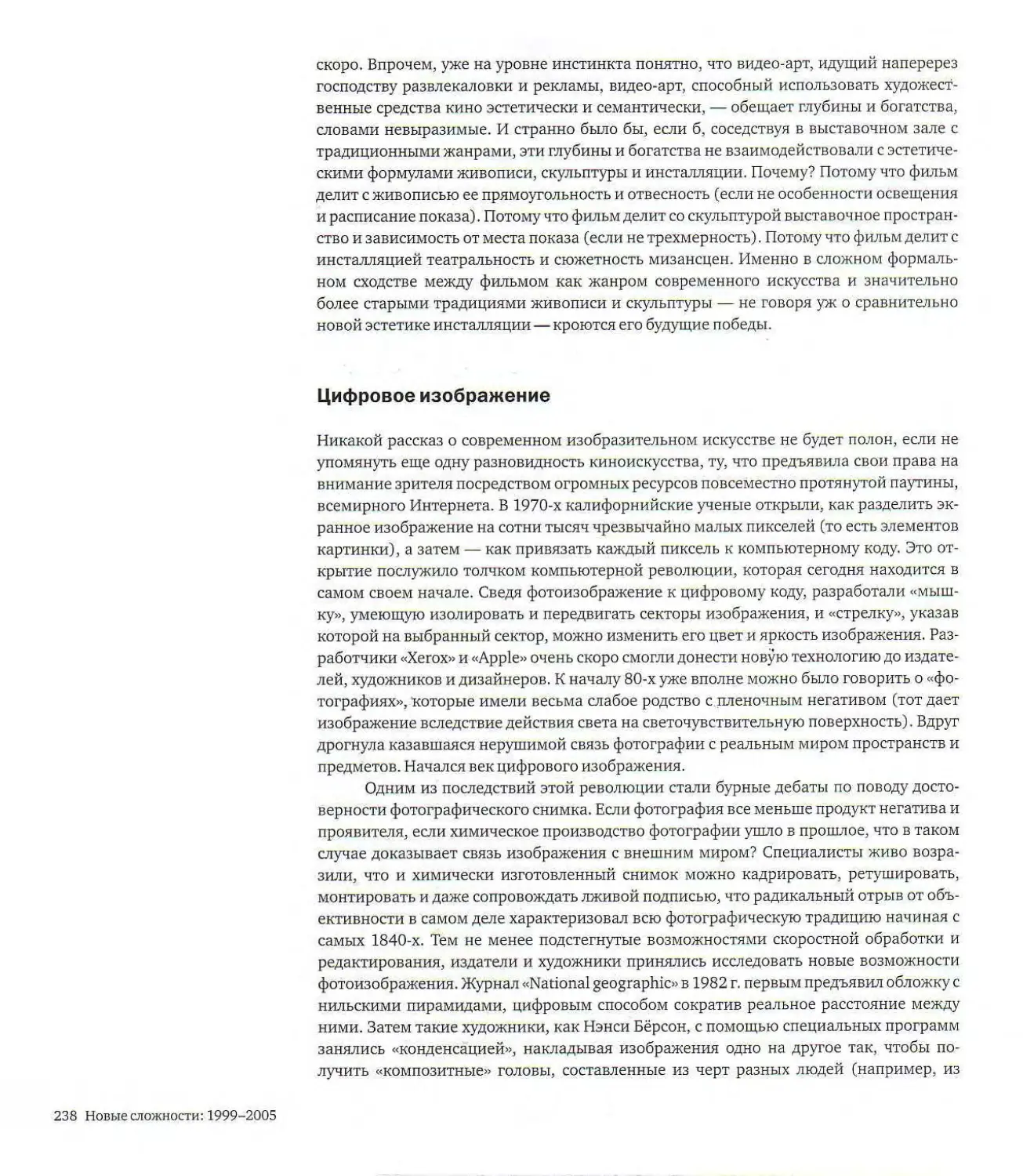Author: Тейлор Б.
Tags: искусство развлечения зрелища спорт искусствоведение
ISBN: 5-85050-884-8
Year: 2006
Text
Брэндон Тейлор
Слово/Slovo
УДК 7.0 «XX»
ББК85
Т30
Перевод Эвелины Меленевской
Научный редактор Татьяна Саливон
Редактор Ирина Опимах
Верстка Людмилы Комаровой
Корректор Татьяна Калинина
На обложке:
Мзтью Барни. Кремастер-3. 2001.
@ 2001 Matthew Barney. Courtesy Barbara Gladstone Gallery
Фото Криса Уингера
На фронтисписе:
Аниш Капур.Марсаяс. Инсталляция. 2003.
@ Tate, London 2003
Тейлор Б.
ТЗО ART TODAY. Актуальное искусство 1970-2005 / Брэндон Тейлор; пер. с
англ. Э. Д. Меленевской; — М.: C7IOBO/SLOVO, 2006.256 с.: ил., 22,6x25 см.:
Библиогр.: с. 248-251. — Именной указ.: с. 252-255. Перевод изд.: Laurence
King Publishing Ltd., London. ISBN 5-85050-884-8 (в nep.)
Книга известного английского искусствоведа Брэндона Тейлора посвящена искус-
ству последних трех десятилетий. В этот период мир переживал огромные изменения.
Высокие технологии, Интернет, обострение социальных противоречий, межконфессио-
нальные конфликты — все это породило новые тенденции в живописи и скульптуре, в ки-
но и фотографии. Автор рассказывает о том, что уже успело стать классикой и о том, что
только начинает признаваться искусством. Текст сопровождается обширным иллюстра-
тивным материалом.
УДК 7.0 «XX»
ББК85
Издательство СЛОВО/SLOVO
109147, Москва, Воронцовская. 41
Тел. (495) 911-05-52, 911-22-50, тел./факс 912-00-86,
e-mail: slovo@slovo-pub.ru
Отпечатано в Китае
ISBN 5-85050-884-8
Copyright © 2004 Laurence King Publishing Lid., London
© СЛОВО/SLOVO, издание на русском языке, 2006
Содержание
Предисловие 6
1 Альтернативы модернизму 9
2 Победа и поражение: семидесятые 27
Требования феминизма 28
Перформанс 37
Фильмы и видео 44
Распространение радикального искусства 51
3 Политика живописи: 1972-1990 59
Как выжили живопись и скульптура 59
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 63
Нечто по имени постмодернизм 76
Живопись и женственное 84
4 Образы и предметы: восьмидесятые 91
Фотография как искусство 92
Предмет и рынок 105
Живопись и присвоение 114
5 В музее и вне музея: 1984-1998 123
Искусство как предмет искусства 124
Инсталляция как упадок 131
Роль куратора 138
Некоторые из контрмоггументов 141
б Знаки идентичности: 1985-2000 151
Повествуя о теле 151
Постмодернизм в Калифорнии 161
«Слэкеры» и другие 167
Настроения на грани тысячелетий 175
7 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002 185
Подъем Африки и Азии 186
Восточноевропейский ренессанс 197
Документа-11 204
8 Новые сложности: 1999-2005 215
Теория хаоса 216
Художественный музей: склад или святилище? 226
Пространства фильма 232
Цифровое изображение 238
Хронология 246
Библиография 248
Указатель 252
Предисловие
Мало кто из людей заинтересованных станет отрицать, что изобразительное искусство
в последние годы хвалу и хулу вызывает приблизительно в равной мере. Критики со-
временного искусства часто жалуются, что ныне почти не разглядеть наследия вели-
ких художественных традиций в беспокойной, наперегонки, порой озадачивающей
деятельности, с которой ассоциируются молодые художники. На это, впрочем, можно
бы возразить, что современное искусство, каким мы его понимаем сегодня, появилось
век с лишним тому назад; так же, как тогда, оно ставит себе задачи смелые и невидан-
ные и решает их с пылом, до того в культуре нечастым, раздувая споры, разжигая стра-
сти по обе стороны баррикад. Принципиальные противники современного искусства
не хотят видеть, что его экспериментальная программа прорастает корнями в искон-
ную философскую миссию искусства, которая и состоит в том, чтобы провоцировать
острые вопросы, требовать не менее острых ответов, затрагивать самые насущные
проблемы морали. В последнюю четверть двадцатого и первые годы двадцать первого
века самое трудное для восприятия искусство критически высказывалось по таким во-
просам, как роль художественного музея, легальность художественного рынка, свое-
образие и смысл произведения искусства, место и функция художника в нашем техни-
чески развитом и, в самом широком смысле, демократическом обществе потребления.
Начиная с 1960-х и вплоть до двадцать первого века современное актуальное ис-
кусство доказало свою отдельность от окружающей культуры кино, рекламы и ком-
мерческой графики, с которой по касательной, но все-таки соприкасается. Хотя поток
ученых статей часто пытается подвести его под более масштабную общность — под тот
«поворот» к изобразительности, который, по мнению многих, выражает собой наш
постмодернистский мир, — актуальное изобразительное искусство требует более
пристального внимания, побуждает к созданию более вдумчивых критических работ,
взыскует более высокого уровня осведомленности, чем тот, на который могут надеять-
ся рекламщики, телемагнаты и графики. С точки зрения критика, поле международно-
го изобразительного искусства теперь слишком многолюдно и энергозатратно, чтобы
иметь возможность основательно рассмотреть каждого значимого художника, каж-
дую группировку, каждую выставку. Взамен я попытался рассказать о самых симпто-
матичных примерах, географических регионах и критических школах: идея состояла в
расширении и детальном пересмотре моей книги 1995 года. Отбор, в свою очередь,
диктовался уроками, усвоенными в двух сферах моей деятельности как историка
искусства: музеологии и истории искусства Центральной и Восточной Европы. От пер-
вой идет широкий принцип, согласно которому когнитивные приобретения нового
искусства достигают своего пика только в свете пристального изучения обстоятельств,
благодаря которым произведение попадает в поле зрения куратора и, далее, в вы-
ставочный зал — в пространства показа, открытые для нас сегодня в эффектных новых
6 Предисловие
художественных музеях. От второго же идет убеждение, что геополитика амери-
канского и западноевропейского искусства стремительно меняется, с тех пор как пал
коммунизм и закончилась «холодная война», напористо развиваются электронные
средства информации и рушатся национальные, языковые и культурные барьеры. Рас-
пространение прежде ограниченной североатлантической культуры в явление, обеща-
ющее Сили угрожающее) стать унифицированной глобальной сетью, — это, пожалуй,
лишь последний из парадоксов и вызовов, которые стоят перед изобразительным
искусством сегодняшнего и завтрашнего дня.
Я в неоплатном долгу перед многими и многими художниками, критиками и
кураторами, игра воображения которых стала предметом обсуждения в этой книге. Не
могу не поблагодарить за сотрудничество Мэрион Буш из Музея Бойманс-Ван Бенин-
ген в Роттердаме, Ричарда Фрэнсиса из Музея современного искусства в Чикаго, Вик-
торию Хенри из Канадского музея цивилизации в Оттаве, Вольфрама Кипе из Берлин-
ской картинной галереи, Софии Григ и Хани Луард из галереи «Белый куб» в Лондоне,
Портланда Маккормика из Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. Мэтью
Слотовера из журнала «Frieze», Лондон, Карин Штенгель из Архива Документы в Кассе-
ле, Андреаса Хапгемайера из Музейона в Бользано, Яна Крижа из Чешского музея
изящных искусств в Праге, Александра Боровского из Государственного Русского му-
зея в Санкт-Петербурге, галерею Рональда Фельдмана в Нью-Йорке, галерею .Андреа
Розен в Нью-Йорке, галерею Сидни Джениса в Нью-Йорке, галерею Жеральда Пильт-
цера в Париже, галерею Стис в Кронберге, Новую галерею в Гарце, Мартин-Гропиус-
Бау в Берлине и бесконечно терпеливых сотрудников исследовательского центра
Хаймэна Крейтмана при галерее Тейт в Лондоне. Некоторые художники любезно со-
гласились вступить в переписку и ответить на мои вопросы, среди них Лори Парсонс,
Сьюзан Смит, ТечингХси, Малькольм Ле Грайс, Синтия Карлсон и Олег Кулик. Я обязан
фотографу Майку Халлиуэллу из Саутгемптонского университета, критику Люси Кот-
тер и моим ассистентам Лиз Эткинсон и Фрэнсис Тейлор за их практическую поддерж-
ку. Мои редакторы в издательстве Laurence King Publishing, Роберт Шор и Эмма Браун,
тоже ни разу не отказали в помощи. Марко Дэниел консультировал меня в части совре-
менного китайского и тайваньского искусства и даже прочел соответствующие главы.
Наконец, моя глубокая признательность американским рецензентам этой работы, сде-
лавшим ценные замечания: Эрике Досс из Колорадского университета, Елене Стояно-
вич из колледжа Итаки. Джой Сперлинг из Университета Денисона, Блейку Стимсону
из Калифорнийского университета в Дэвисе, Ховарду Ризатти из Вирджинского уни-
верситета, Биллу Антесу из Мемфисского университета, Полу Айвею из Аризонского
университета и Карлу Фугельсо из Университета Таусона. Все оценки и упущения —
исключительно мои.
Предисловие 7
Альтернативы
модернизму
Уже лет тридцать как произведения искусства, создаваемые в западных странах, утра-
тили всякое сходство с произведениями искусства прошлых времен и вызывают у
обычного зрителя, ищущего способа пощекотать воображение, замешательство, раз-
дражение и даже разочарование. Картины, представляющие собой чистый холст или
изображающие хаос; скульптуры, которые валяются на полу или беспорядочно загро-
мождают пространство; перформансы, будто провоцирующие насилие над телом или
церемонно воплощающие передачу информации, очевидно бессмысленной; фильмы
художественные и документальные, в которых действие повторяется, ритуализиро-
вано либо зациклено на какой-то тайной навязчивой идее автора, — вот как можно
описать работы, представленные нам как «современные» теми, кто курирует музеи
или художественные галереи, а также самими художниками. Формальное убожество
новоявленных артефактов особо проявляется на фоне великолепия выставочных пло-
щадей, сооруженных в последнее время как раз для того, чтобы их демонстрировать.
Музеи и галереи современного искусства появились меж тем повсюду — и ни один ма-
ло-мальски заметный городок не вправе претендовать на соответствие требованиям
времени и общественным ожиданиям, если в нем отсутствует сверкающий образчик
новомодной архитектуры, предназначенный для изучения культуры тех, кто отвергает
культуру.
Именно сочетание предумышленной непонятности артефактов вкупе с экспан-
сией выставочной инфраструктуры можно расценить как определяющее противо-
речие, которое во многом является питательной средой, формирующей современное
искусство. Приятно польщенный новым музеем с его ресторанами и книжными ма-
газинами, посетитель в каждом выставочном зале сталкивается с экспонатами, выра-
жающими насилие и невнятицу; похоже, он ищет как раз таких видов интеллектуаль-
ного риска, которые не имеют предсказуемого результата. И все-таки тот же зритель,
возможно, понимает, что нынешняя популярность современного искусства берет на-
чало на границе 60-70-х годов прошлого века, когда оно, собственно, возникло, когда
новое поколение «авангардных» художников искало новые способы самовыражения,
новые формы — что, с одной стороны, усиливало ощущение хаоса в культуре вообще,
С. 9:
Дональд Джадд
Без названия (деталь), 1970
См. рис. 1.6
а с другой — придавало внешние очертания массовому протест}’ против войны., капи-
тализма, полового и расового неравенства. История художественного эксперимента,
таким образом, рассматривается как нечто вроде фиксации стремительно меняюще-
гося общества. Данная книга как раз и посвящена важнейшим событиям, которые
произошли в изобразительном искусстве в промежуток, длящийся с тех пор и до на-
ших дней.
В конце 50-х те художники, что в Европе и США называли себя авангардистами,
впервые бросили вызов абстрактно-экспрессионистской живописи, а также критиче-
ской концепции модернизма, в рамках которой эта живопись трактовалась. Концеп-
цию эту можно выразить двумя-тремя постулатами. Еще в 1939 г. американский кри-
тик Климент Гринберг с тревогой заметил, что «одна и та же цивилизация производит
1.1. Роберт Раушенберг
Талисман, 1958
Масло, бумага, стекло, металл
одновременно такие столь разные-явления, как
стихотворение Т. С. Элиота и песенка “Tin Pan
Alley’, картина Брака и обложка “Saturday Evening
Post”». С тех пор рынок хорошо поработал на попу-
ляризацию массовой культуры и постоянно ставит
под угрозу выживание того, что во времена Грин-
берга важно именовалось культурой «высокой».
«В такой стране, как наша, — писал он, — мало
иметь некую склонность к истине; нужно испыты-
вать к ней подлинную страсть, — только она даст
силы сопротивляться подделкам, которые окру-
жают человека и впихиваются в него, едва он (об-
ратите внимание на род местоимения, которое
Гринберг употребляет!) дорос до того, чтобы взять
в руки книжку с картинками». Это заклятье против
махровым цветом цветущей массовой культуры —
постулат первый. Постулат второй: подлинное, жи-
вое искусство двадцатого века, начавшись с кубиз-
ма, раннего абстрактного искусства и сюрреализ-
ма, развивалось, следуя внутренней исторической
логике, которая не оставляла места ни для общест-
венной жизни, ни для злободневных политических
процессов. Заключенная сама в себе и сама на себя
ориентированная, «модернистская» живопись со
времен импрессионизма, писал в 1961 г. Гринберг,
выучилась отстранять от себя «любые иные сред-
ства выражения, каковые предположительно мож-
но заимствовать у всех прочих видов искусства».
Третий же постулат модернизма состоял в том, что
зритель должен рассматривать произведение ис-
кусства в благоговейном молчании, поместив его
на фоне нейтрально белой галерейной стены и пол-
ностью отрешившись от социального окружения и
даже от своего тела и половой принадлежности, —
и все это для того, чтобы усилить воздействие про-
изведения, выявить его эстетическую ценность.
10 Альтернативы модернизму
Согласно Гринбергу, потребовалась деятельность целого поколения нью-йоркских
живописцев-абстракционистов (среди них Джексон Поллок, поздние Моррис Льюис
и Кеннет Ноланд), а также скульптора Дэвида Смита, дабы наилучшим образом дока-
зать, что новейшие формы модернизма — прямое наследие мастеров-кубистов.
И все-таки к середине 50-х эта мощная традиция с центром в Нью-Йорке уже
сталкивалась с сопротивлением, и сразу на нескольких фронтах. В Америке Роберт
Раушенберг, Джаспер Джонс и Ларри Риверс провокационно вводили в свои работы
элементы знаков и пиктограмм массовой культуры, жаргонных словечек и лозунгов,
пародируя тем самым «героические» вольности абстрактного экспрессионизма. «Ком-
бинированные» картины Раушенберга, первая из которых была создана в 1954 г., пред-
ставляли собой смешение материалов, включая фабричные маркировки, размещен-
ные на плоскости так, чтобы порвать всякую связь с приемами чистой живописи
(Илл. 1.1). Их британские соратники, такие, как Питер Блейк и Ричард Хэмилтон, со-
ставляли картинки, подобные коллажам из образов mass-media и таким образом от-
крыто признавали право на жизнь популярных рисованных героев (Блейк) и обычной
фотографии (Хэмилтон), того, что составляло окружающий визуальный мир и худож-
ника, и зрителя. В то же самое время, в конце 50-х, переход американских художников
Алана Капроу, Джима Дайна и Клэса Олденбурга к перформансу, хэппенингу и ин-
сталляциям вдохновил европейское движение «Флуксус» (Fluxus — «поток жизни»).
Его наиболее заметный представитель немец Йозеф Бойс фактически объявил морато-
рий на живопись, сделав своей специальностью инсталляции и перформансы, в ходе
которых он манипулировал предметами и совершал некие действия, напоминая при
этом скорее примитивного шамана, а не современного арт-деятеля. Так, во время одно-
го из перформансов художник сначала играл на пианино, потом встал, чтобы привя-
зать к школьной доске дохлого зайца, а затем протянул бечевку, соединив зайчика и
две кучки сухой глины, насыпанных на закрытую крышку пианино. Предполагалось,
что малочисленная, но избранная аудитория Бойса распознает в происходящем сим-
волы солнца и звезд, сакральный смысл жертвоприношения, а также намек на то, что
восточный мистицизм таким образом бросает вызов рациональному и крайне тех-
низированному Западу. Между тем в Центральной и Восточной Европе художники,
существовавшие под гнетом коммунизма, по мере того как узнавали все больше о
«Флуксусе» и ему подобных движениях на Западе, совершали художественные акты,
долженствующие означать их полное отчуждение от официоза в искусстве, а также
решительную готовность предложить образцы новых форм общественного взаимо-
действия. «Церемонии» и «демонстрации» чешского художника Милана Книжака, со-
вершавшиеся в Праге начиная с 1962 г., доказывали скрытую устремленность целого
поколения к переменам. В общем, будь то Йоко Оно с ее нежными инструкциями (на-
ставлениями) в Нью-Йорке в начале 60-х, швейцарец Бен Вотье, неделю просидевший
в витрине одной из лондонских галерей, кровавые перформансы венских акционистов
(Vienna Actionists) либо Ежи Верес с его политическими провокациями в Польше,
проходившими в те же годы, — все это были множащиеся приметы того, что постулаты
модернистской теории, рожденные и так долго культивируемые в Нью-Йорке, под-
вергаются радикальному пересмотру, а бурлящие процессы и битвы, привходящие в
культуру извне, кипят, вопят и требуют быть услышанными.
И на Востоке, в странах, переживших ужасы Второй мировой войны, худож-
ники, остро осознавая необходимость перемен, также взялись оспаривать безуслов-
ное преобладание живописи, как ведущего вида искусства. Группа «Гутаи» (Gutai),
Альтернативы модернизму 11
1.2. Прорываясь сквозь бумагу.
Перфоманс, 1955
Фотография
1.3. Пьеро Манцони
Линюч длиной 11,60 м. 1959
Чернила на бумаге в цилиндрическом
картонном контейнере 20х60 см
основанная в Токио в 1954 г., восстала против «обмана», согласно которому краски,
металл, глина и мрамор оказались «нагружены фальшивым значением, и вместо того
чтобы просто представлять свою собственную материальность, они принимают со-
вершенно чуждое им обличье». Это цитата из манифеста Йиро Йошихары, изданного в
1956 г., в котором далее говорится: «Искусство “Гутаи” («гутаи» означает «конкрет-
ное», «реальное») не фальсифицирует материал: оно вдыхает в него жизнь... Если оста-
вить материал как он есть, представляя его просто как материал, тогда он начинает
говорить с нами, и голос его могуч». Именно тогда молодой живописец Кацо Ширага
принялся вторить смелым и энергичным исканиям нью-йоркских абстракционистов,
рисуя ногой или делая надписи на своем животе, лежа в луже грязи; Сабуро Мураками
собственным телом рывком пропарывал бумажные экраны (Илл. 1.2); Шоцо Шимамо-
то разбивал над полотном бутыли с краской, чтобы образно выявить энергию. Выстав-
ки «Гутаи» в самом деле вызывали к жизни то, что в манифесте названо «оглушитель-
ным воплем самой материи». Хотя творчество «Гутаи», как правило, ставилось в один
ряд с французским движением пятидесятых годов, art informel (неформальным искус-
ством), и нью-йоркской манерой, Йошихара убежденно настаивал, что это всего лишь
внешнее сходство и что другим очевидно близким художественным течениям, к при-
меру европейскому дадаизму, также недостает оригинальности новейших японских
исканий в области динамики и энергетики материала.
Такого же рода бунты заполыхали по всей Европе. В Италии вождь инакомыс-
лящих Пьеро Манцони по-своему протестовал против доминирования живописи в
современном искусстве — он изготавливал так называемые «Ахромы» (achromes) —
«бесцветные» объекты, по преимуществу белые (использование другого цвета исклю-
чалось), так что обескураженный зритель оставался один на один с голой формой. Это
было в 1957-м. На следующий год Манцони продолжил разрушение модернистских
постулатов. Он выставил работы, представлявшие собой крашеные или рисованные
полосы, свернутые в рулон и спрятанные в тубус, так что их не было видно (Илл. 1.3). На
боку тубуса оставалась лишь стандартная печатная наклейка со словами: «Содержит
полосу в ... метров длиной ... изготовлено Пьеро Манцони ...», пробелы заполнял сам
художник, указывая, сколько метров в полоске, а также дату ее изготовления. К совре-
менной живописи Манцони высказывал следующие претензии: «Поверхность, обла-
дающая бесчисленным множеством возможностей, превращена в какой-то склад, где
недостоверные цвета и неестественные формы воюют друг с другом. Почему бы не опу-
стошить склад, не освободить поверхность?.. Зачем беспокоиться положением линии в
пространстве? Зачем распоряжаться этим пространством? Зачем его ограничивать?..
Линию можно вести долго, до бесконечности; невзирая на любые правила композиции
или ограничения формата. В мировом пространстве нет границ».
Позднее, после генуэзской выставки 1967 г. возникло движение arte povera, «бед-
ное искусство», представленное в основном итальянцами, художниками Яннисом Ку-
неллисом, Марио Мерцем, Микеланджело Пистолетто, Джованни Ансельмо, Алигьеро
Боэтти, Эмилио Прини и Джильберто Дзорио. Возглавил его молодой амбициозный
критик Джермано Челант, он же придумал и обосновал название Arte povera, объеди-
нившее художников, отдававших предпочтение естественным формам и биологиче-
ским, органическим материалам, а не промышленно или анонимно сработанной вещи
западноевропейского поп-арта. «Художник-алхимик преобразует живые и раститель-
ные формы в явления магии, — писал Челант в экспликации к миланской экспозиции
1969 г. — Его задача — увидеть суть вещей, увидеть их будто внове и вознести им хвалу.
12 Альтернативы модернизму
Задача художника — используя наипростейшие
материалы и природные элементы (медь, цинк,
почву, воду, реки, землю, снег, огонь, траву, воздух,
камень, электричество, уран, небо, вес, гравита-
цию, высоту, рост и пр.), описать и представить
природу. Его интересует открытие, изображение
чуда, волшебство претворения природных элемен-
тов». Художники, объединенные движением arte
povera, пришли туда из широкого международного
сообщества, объединившись в поиске случай-
ностей, становления и распада как повседневной,
так и политической жизни. Этот импульс шел от
«стремления к раскультуриванию, движению
вспять, к примитиву и вытеснению в подсознание,
к уровню «до логики», «до иконографии», к стихий-
ным, непосредственным отношениям, к базовым
элементам в природе... жизни и поведении».
К примеру, в интерпретации Марио Мерца опре-
деление povera выразилось в том, чтобы заново от-
крыть ряд чисел математика XII века Леонардо Фи-
боначчи, применив его к росту’ растений, морских
раковин, структуре кожи рептилий (1, 1, 2, 3, 5, 8,
13...), азатем и к процессам развития современно-
го капитализма. Коньком Мерца были квазитехно-
логически е иглу — эскимосские хижины — из ста-
ли, ячеистой сети или стекла, символизировавшие
выживание кочевников в условиях резких культур-
ных перемен (Илл. 1.4). Для Джованни Ансельмо
более характерным стало использование свежих
поначалу овощей, которые, по мере гниения, претерпевали изменения формы и струк-
туры. А Яинис Кунеллис вводил в свои композиции живых животных и птиц — и
инсталляции этого художника всегда впечатляли своей мощной материальностью и
размахом. Очевидно, «бедность», провозглашенная Челантом, была иногда скорее тео-
ретически желаемой, чем реальной.
Можно привести еще множество примеров того, как демонстративно освобож-
1.4. Марио Мерц
Иглу, 1972
Металлические трубки, неон, зажимы
Диаметр 2 м
дались от пут модернистского догматизма молодые художники, вышедшие на миро-
вую арену в начгтле шестидесятых прошлого века. Не слишком далеко отойдя от оформ-
ляющейся неофициальной молодежной контркультуры гедонизма и несогласия, кото-
рая решительно заявила себя новейшей поп-музыкой или, на уровне улицы, модой,
галлюциногенами и акциями политического протеста, экспериментаторство в изобра-
зительных искусствах привело к следствиям, которые и по сегодняшний день не по-
теряли своего значения — как с точки зрения соблюдения правила, так и исключений
из него. Политическая жизнь в те годы была весьма беспокойна. После убийства Кенне-
ди в 1963 г. по американской столице прошли марши движения за гражданские права,
в Лос-Анджелесе разгорелись расовые волнения, началась гибельная военная кампа-
ния США во Вьетнаме. Ближний Восток был на грани войны. В Китае под строгим при-
смотром Мао Цзэдуна шла «культурная революция». А в странах, которые мы именуем
Альтернативы модернизму 13
1.5. Роберт Моррис
Без названия, 1965-1966
Фибергласс и флюоресцентные лампы
0,6 х 2.8 м
Музей изобразительных искусств Даллас
«Много работы за пределами студии, —
писал Моррис в 1966 г. — Обращаешься
в специализированные мастерские,
используешь готовые формы — ведь
скульптура всегда прибегала к специа-
листам-мастеровым и технологическим
процессам...Такого рода произведение,
которое и по виду, и по ощущению обла-
дает открытостью, протяженностью,
доступностью, публичностью, повторя-
емостью, спокойствием, прямотой,
непосредственностью; произведение,
сложившееся скорее по решению ясного
ума, чем по ремесленному наитию, будет
иметь совсем немного социальных под-
текстов и ни одного негативного. Такое
произведение, несомненно, покажется
скучным тем, кто жаждет привилегиро-
ванного доступа к искусству “не для всех”,
опыт общения с которым помогает им
утвердиться в сознании своей изыскан-
ной проницательности»
«западными», наиболее значительные художники-экспериментаторы, как правило,
напряженно размышляли о том, что происходит в мире.
По мере того как укоренялась в Америке неофициальная контркультура, в изо-
бразительном искусстве сформировались два направления, представляющие интерес
сточки зрения концепции этой книги. В начале 60-ххудожники, вскоре ставшие изве-
стны как минималисты, нашли еще один способ уйти от предписаний ортодоксального
модернизма и сделали это посредством конструирования простых геометрических
объектов. Их характеристиками стали формальная симметрия, отсутствие традицион-
ной композиции и монохромная окраска. Опосредованно вдохновленный поисками
конца 50-х: полосатыми полотнами Фрэнка Стелла и экспериментами с деревянными
блоками Карла Андре, — 39-летний тогда Роберт Моррис в 1963 г. выставил в нью-
йоркской Грин гэллери серию объемов из фанеры, выкрашенных в серый цвет, они сто-
яли, прислоненные к стенам, лежали на полу или свисали с потолка. Похожие на теат-
ральные декорации для авангардных балетов (Моррис уже работал ранее для театра),
эти объекты не обладали ни композиционной сложностью, ни цветом, не проводили
четкой демаркационной линии между пространством галереи и пространством собст-
венно зрителя. И это было только начало. Вскоре Моррис полностью сосредоточился
на расстановке симметрично расположенных на полу предметов (floor-based), а также
на изготовлении промышленно сформованных объектов из фибергласса (Илл. 1.5). Од-
новременно он работал над теоретическими статьями о состоянии скульптуры для
«Артфорума», в то время самого популярного среди авангардистов журнала. В первых
разделах своих знаменитых ныне «Заметок о скульптуре», публиковавшихся частями с
февраля 1966 г. по апрель 1969 г., Моррис утверждал, что скульптура занимает совсем
иную творческую территорию, чем модернистская живопись. Скульптура никогда не
занималась иллюзиями, обманом чувств, писал он, ее «основные свойства — про-
странство, свет и материал — всегда были конкретны и буквальны. Ее аллюзии, на-
меки и отсылки никогда не были соразмерны намеренной иллюзорности живописи...
Необходимо провести более четкие различия между тактильной, в основном осяза-
тельной чувствительностью скульптуры и оптической чувствительностью живописи».
Сосредоточив свое внимание на самых простых целостных формах, чистом «гешталь-
те», Моррис утверждал, что усиление простейших форм и отказ от всех существенно
незначимых свойств скульптуры, таких, как моделирование и взаимосвязи, «устанав-
ливает и новые границы, и новую свободу скульп-
туры». Из этих высказываний, однако, следует, что
Моррис настаивал на таком описании мини-
малистских скульптур, которое подразумевает и
эффект, производимый ими на зрителя.
Между тем другая группа молодых скульпто-
ров также выставила элементарные скульптурные
объемы в галерейном пространстве. Карл Андре
использовал стандартные промышленного произ-
водства кирпичи, на пространстве пола прямоли-
нейно уложив их в штабеля: знаменитый «Эквива-
лент VIII» 1966 г., к примеру, вполне можно было
принять за постамент, на который устанавливают
обычную скульптуру. Теперь, в своей элемен-
тарной обнаженности, постамент сам сделался
14 Альтернативы модернизму
арт-объектом, и. когда галерея Тейт приобрела его в 1973 г., это вызвало у консервато-
ров бурю протеста. Другой скульптор, Дональд Джадд, опубликовал в 1965 г. свою не
менее важную статью «Специфические объекты». К этому времени он и сам выставлял
уже подобного рода ящикообразные структуры, промышленно изготовленные и вызы-
вающе отвергающие как модернистскую догму, так и все целиком эстетические цен-
ности европейской традиции изобразительного искусства (Илл. 1.6). «Лучшие работы
последних лет наполовину и даже больше, чем наполовину, — не картины и не скульп-
туры, а некие трехмерные композиции, — писал Джадд. —.. .Вещь сделана в соответст-
вии с комплексными задачами, и эти задачи не разобщены, а сосредоточены в одной
форме. Художественному произведению не нужно иметь множество аспектов, кото-
рые зритель не рассматривал бы, сравнивал, анализировал один за другим, размыш-
лял. Вещь как целое, ее качество как целостности — вот что интересно».
Первые выставки Джадда и Морриса, в совокупности с их красноречивыми текс-
тами, обратили на них внимание как союзников, так и противников, что важно в свете
дальнейшего развития событий. То, что роднило их работы с картинами Фрэнка Стелла
и Кеннета Ноланда, написанными в 60-х и противопоставлявшими себя композицион-
ной и релятивистской эстетике того, что они понимали под европейским искусством,
примерно к 1967 г. распространилось на других нью-йоркских художников, отметив их
творчество нешуточной самоуверенностью, которую европейцы восприняли как спе-
цифически заокеанскую — и агрессивно мужскую. С другой стороны, наиболее значи-
мый из враждебных откликов принадлежал американскому критику Майклу Фриду —
в начале 60-хон был близок Клименту Гринбергу, а теперь, летом 1967 г., нанес Джадду
и Моррису удар. Он заявил, что их минимализм — известный так же как «азбучное
искусство» или «первичные структуры» (так называлась экспозиция в 1966 г. в Еврей-
ском музее) — страдает от «объективизма» или, по словам Фрида, «буквальности»,
которая так же материализует присутствие произведения перед зрителем, как и при-
сутствие зрителя перед произведением. По мнению Фрида, буквальность прямо проти-
воречит критическим стандартам модернизма, потому что само требование о наличии
зрителя напоминает театральное или сценическое действо. «Соучастие буквальности*
и объективизма, — писал он. — означает не более как мольбу о появлени и нового теат-
рального жанра; а театр — это отрицание искусства». Посвятив финал своего эссе за-
щите скульптур Дэвида Смита и Энтони Каро, Фрид пишет: «...впечатление такое, что
исчерпать [работы Каро] невозможно... Впечатление такое, что это непрерывное и
полновесное присутствие, приводящее, по сути дела, к постоянному воспроизводству
самого себя, такому, какое испытываешь как мгновенность. — как будто если бы толь-
ко время стало бесконечно более чувственным, острым, один-единственный краткий
миг стал бы достаточно долог, чтобы увидеть все целиком, ощутить произведение во
всей его полноте и глубине, быть навеки им убежденным» (Илл. 1.7). Минималистское
искусство требует только внимания, считал Фрид, модернистским живописи и скульп-
туре необходимаубедительностъ.
Однако время менялось на глазах. Пока Фрид в 1967-м защищал модернистское
искусство, набирала ход авантюра США во Вьетнаме, студенческие волнения зрели и в
США. и в Европе, а свобода от авторитаризма культурных идеологем декларировалась
левыми политическими группами от Сан-Франциско до Праги. Рок-музыка по всему
Западу подпитывала настроение кайфовой, блаженной непокорности. Словно в резо-
нанс, художники более молодого поколения в 1968 г. выказывали тягу к все большему
развеществлению, дематериализации художественного объекта, стремясь сделать
1.6. Дональд Джадд
Без названия
Гальванизированное железо.
Семь модулей размером
23x101.6x76,2 см каждый
с интервалом 23 см
Музей современности. Стокгольм
Альтернативы модернизму 15
1.7. Антонио Каро
Красная конструкция
Окрашенная сталь 115х 175х 140 см
произведение таким, чтобы его больше нельзя было ни продать, ни приобрести на
рынке, чтобы оно перестало быть вещью, которую можно выставить в обычной гале-
рее, сущностью, доступной описанию в привычных терминах. На практике созданные
ими артефакты олицетворяли сильнодействующую смесь негативных эмоций, жестов
отрицания и бессобытийности. Помещенные в непривычную материальную среду, со-
зданную из чего угодно, включая случайные, найденные хоть бы и на городской свалке
предметы, они преподносились безо всякого пиетета, с вызывающим нигилизмом
представителей культурного меньшинства, остро недовольного жизнью.
Любопытно, что именно постаревший Роберт Моррис, еще недавно подробно ис-
следующий чувственную феноменологию скульптурного объекта, предложил теперь
еще сильнее ужать «первичную структуру»—до того, чтобы формы уже совсем никакой
не было. В 1968 г., когда было опубликовано еще одно знаковое его эссе, «Антиформа»,
Моррис высказался в пользу отсутствия определенной формы, отсутствия протяжен-
ности и, более того, отсутствия очертаний и силуэта: теперь пристальному вниманию
зрителей были предложены обрезки фетра, войлочные кучи, комнаты, заполненные
бесформенными комками хлопковых ниток, и даже столбы пара, колеблющиеся на
ветру. А к 1969 г. Моррис уже устраивал некие представления, в ходе которых собствен-
норучно разбрасывал различные материалы и производил с ними всякие манипуля-
ции, нимало не заботясь при этом об опрятности, логике происходящего или сколько-
нибудь предсказуемом результате. Теперь предметом его творчества, похоже, стал не
материал, на который требуется смотреть, а чисто физическая погруженность в него.
Подобный же сдвиг от объекта к процессу стал очевиден в массе прочих художе-
ственных проектов, которые возникли на самом пике революционных порывов моло-
дежной контркультуры.
16 Альтернативы модернизму
Деятельность Энтони Каро в качестве преподавателя Лондонской школы ис-
кусств Сен-Мартин обеспечивала ему не только учеников, но и яростных противников.
Когда Каро поинтересовался у студента по имени Ричард Лонг, что за веточки он разло-
жил на полу студии, тот ответил, что это л ишь половина его творения: вторая находится
на вершине горы в Шотландии, в четырехстах милях на север. В этой шутке, разумеется,
была доля правды: выросло поколение, на дух не выносившее сварочных работ со сталью,
теперь художники устраивали перформансы с пением, изображая статуи самих себя
(Джилберт и Джордж), кучками насыпали песок (Барри Фланаган) или отправлялись
за город — насобирать веток, которые потом можно было разложить по галерее (Лонг).
Свою первую международную выставку (в Дюссельдорфе, совместно с Конрадом Фи-
шером) Лонг получил возможность устроить, еще учась в Сен-Мартине, — молодое по-
коление музейных кураторов весьма поощряло экспериментальное искусство. Самая
лаконичная из его ранних работ, также сделанная в годы студенчества, заключалась
даже не в собирании веток, а просто вхождении взад-вперед по пригородной лужайке,
пока в траве не протопталась прямая тропа, которую, предвкушая грядущую выставку,
можно было сфотографировать. Эта работа 1967 г., «Протоптанная линия» (Илл. 1.8),
во-первых, утвердила и Лонга, и его учителей в соблазнительной идее отказаться от ис-
конно традиционного для изящных искусств рисунка на бумаге и приняться взамен ис-
кать линии где угодно, даже в траве — когда художник собственной персоной ходил по
ней. Во-вторых, остроумная мысль задокументировать процесс ходьбы привела к тому,
что на фотографическом снимке, сделанном при движении, с высоты человеческого рос-
та, зафиксировалась пересекающая его вертикальная отметина, линия, которую мож-
но трактовать как отголосок и одинокой черты на геометрических полотнах Барнетта
Ньюмана, и полосы, лежащей внутри одного из тубусов Манцони (творчество обоих
этих художников, надо полагать, Лонгу было знакомо). А в-третьих,
по крайней мере в глазах американской публики, прогулки Лонга
стали сигналом к возобновлению романтической английской тради-
ции совершать вылазки за город и наслаждаться природой.
Возможно, в более фундаментальном смысле эта и подобные
ей выходы на природу (такие прогулки любили американцы Майкл
Хейцер и Деннис Оппенхейм) способствовали резкому разрыву меж-
ду неким событием на свежем воздухе, часто происходящем за много
миль от какой-либо арт-галереи, и последующей экспозицией доку-
ментальных свидетельств об этом событии, предъявленной посети-
телям выставки. К примеру, для создания своего монументального
«Двойного негатива» (1969) Майкл Хейцер поручил инженерам-
горнопроходчикам пробить проход сквозь гору в отдаленном углу пу-
стыни Невада, в результате чего в природе возникло весьма впечат-
ляющее, хоть и ведущее в никуда ущелье (Илл.1.9). Как рассказывал
сам художник, сотни людей приезжали взглянуть на это ущелье, но
для большинства возможность оценить такого рода произведение
обычно пред оста вляется все-таки либо в форме фотографий, выстав-
ленных в расположенной далеко от него галерее, либо в виде описа-
ния, в книге. Отсюда можно сделать выводы: во-первых, художник
наконец освободился от системы коммерческих выставочных пло-
щадок. а во-вторых, само произведение от этой системы все-таки бо-
лезненно зависит.
1.8. Ричард Лонг
Протоптанная линия, 1967
Фотография
Альтернативы модернизму 17
1.9. Майкл Хейцер
Двойной негатив, 1969
457x15,2x9,1 м
Невада
<Я работаю на природе, потому что
только здесь можно перемещать
массы, — сказал Хейцер в интервью. —
Мне нравится масштаб: между работой
в мастерской и работой на воздухе
действительно есть разница. Но сорев-
новаться в масштабах с природными
стихиями я не пытаюсь: это технически
невозможно»
Мы находимся всего лишь в шаге от той области экспериментаторства, в кото-
рой плана какой-то акции, или отчета о ней, или некой формы письменного размышле-
ния о событии, возможном в будущем, — одного этого будет достаточно для удостове-
рения в том, что артефакт состоялся. Концептуальное искусство, нарушившее равно-
весие творческого акта — от материала к идее, от события к концепции — было, разу-
меется, не вполне свободно от материала, но место этого материала в системе «выбор,
покупка, продажа и хранение артефакта» некоторое время, примерно с 1966 по 1972 г.,
было не в ладах с господствующим в обществе представлением о «встрече с прекрас-
ным». Сол Ле Витт в своей статье для журнала «Артфорум» 1967 г. привел такое опреде-
ление концептуального искусства: «Когда художник прибегает к концептуальной фор-
ме искусства, это означает, что все планирование производится заранее, все решения
принимаются заранее, и исполнение происходит
формально, поверхностно, неглубоко... цель ху-
дожника, занимающегося концептуальным искус-
ством, — сделать свою работу интеллектуально
интересной для зрителя, и при этом не затрагиваю-
щей его душу». Решительно настроенный не де-
монстрировать ни личного отношения, ни процес-
са принятия решений, сам Ле Витт делал вещи, ха-
рактеризующиеся повторами и перестановками.
В 1967 г. он приступил к разработке настенных рос-
писей из тесно расположенных стандартных пря-
мых линий, которые по его указаниям должна бы-
ла выполнять команда маляров. Однако Ле Витт
подчеркивает также, что хотя «то, как выглядит ра-
бота, не так уж и важно (должна же она выглядеть
как-то, раз обладает физической формой)», опре-
делить масштаб, размер и расположение конечно-
го продукта все-таки следует. Что на самом деле
важно, так это донести идею: «Концептуальное ис-
кусство хорошо только тогда, когда хороша идея».
Большинство работ, заявленных как концеп-
туальные, отличает острая смесь провокации и
легкого абсурда. Сам Сол Ле Витт присочинил еще
один термин — «экономия»: «Идею, которая лучше
выражается в двух измерениях, не следует выра-
жать в трех. Идеи могут выражаться числами, фо-
тографиями, словами или еще как-нибудь — так,
как вздумается художнику, поскольку форма не
имеет значения». («Я не люблю термина “произве-
дение искусства”, — насмешливо прибавил он, —
поскольку не слишком склонен производить, а тер-
мин звучит весьма претенциозно».)
Вот и художник Роберт Барри, профессио-
нальный живописец, отказался от живописи, обна-
ружив, что при разном освещении его работы вы-
глядят по-разному; он стал делать инсталляции с
18 Альтернативы модернизму
тонкой проволокой, но отказался и от этого, когда
убедился, что они невидимы. С тех пор на своих
шоу Барри представлял радиоволны, сверхзвуко-
вые частоты, микроволны и радиацию, объявлял
об их небесном существовании, и ничего более.
Иначе говоря, произведения Барри можно рас-
сматривать как попытку уничтожить грань между
искусством материальным и окружающей средой.
Его серия «Инертный газ» выглядела следующим
образом: он выпускал два кубических фута гелия
в небо над пустошью Мохаве и фотографировал
невидимый результат (Илл. 1.10), что могло слу-
жить метафорой растворения конечного искусства
в бесконечной жизни, как и свидетельством услов-
ной достоверности фотографии. В то необыкно-
венное время философская провокация публики
сделалась привычной тактикой Барри... Когда
готовилась важная лондонская выставка 1969 г. — первая в английской столице, кото-
рая вывела концептуальное искусство из частных галерей на арену государственного
финансирования, — Барри прислал ее организатору Чарльзу Хэррисону указание
напечатать спецификацию к некоему артефакту, не более видимому, чем инертный
газ, и фраза эта на самом деле достойна того, чтобы остаться в веках: «ЗДЕСЬ НАХОДИТ-
СЯ НЕЧТО, ОЧЕНЬ БЛИЗКОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ, НО ПОКА ЧТО МНЕ НЕ-
ИЗВЕСТНОЕ». Читатель этого текста, включенного впоследствии в провокационную
экспозицию выставки «Жизнь в твоей голове», проведенной в Институте современ-
ного искусства, не мог не отметить интерес Барри к том}", что он сам определил как
«вещи неосязаемые и неизмеряемые, физические, но по своему действию все-таки
метафизические».
Интуитивное понимание того, что искусство и жизнь связаны между собой не-
разрывно — и порой могут сливаться, — послужило стимулом Вито Аккончи, итальян-
цу по рождению, начинавшему как поэт. .Аккончи до предела довел концепцию Ле Вит-
та, согласно которой предварительное планирование и повторы являются основными
детерминантами творчества. Прежде всего Аккончи придумывал себе такую, напри-
мер, руководящую установку: «Выбирать какого-то человека наобум, на улице, где
угодно, и делать это ежедневно 23 дня подряд. Следовать за ним, куда бы он ни пошел,
независимо от дальности и долготы его маршрута. Акция заканчивается, когда он вхо-
дит в какое-то частное место: дом, офис и т. д.». Именно такой формат был применен в
«Слежке» (1969), задокументированной в истинно концептуалистском духе фотогра-
фом, который шел за .Аккончи и черновыми (непостановочными) снимками фиксиро-
вал почти бессмысленные действия и художника, и его жертвы. В этой и подобных ей
работах Аккончи сам был своим действенным материалом; и именно незначитель-
ность этих действий в итоге трансформировала их структуру в содержание произведе-
ния искусства. Таким же образом была построена его работа «Шаг» 1970 г. Установив в
своей квартире табуретку высотой 18 дюймов (46 см), он использовал ее как ступень-
ку: «Каждое утро в течение назначенных месяцев я ступаю на табуретку и схожу с нее
вверх-вниз, примерно 30 шагов в минуту... действие длится, пока я в состоянии делать
это безостановочно, — и количество шагов затем записывается» (Илл. 1.11).
1.10. Роберт Барри
Серия «Инертный газ»
Из ограниченного объема
к бесконечному расширению.
В некий час утром 5марта 1969 г.
два кубических фута гелия
были выпущены в атмосферу
-Инертный газ — вещество, которое
не взаимодействует ни с каким другим
элементом. Если его выпустить,
он выходит из ограниченного объема,
бесконечно расширяясь, как сказано
на моем постере... И далее продолжает
расширяться до бесконечности,
постоянно меняясь, и делает все это так.
что никто не может этого увидеть»
(Роберт Барри)
Альтернативы модернизму 19
В Англии, по контрасту, предпочли другой
подход, позволявший включиться в умозритель-
ные построения о происхождении и природе
искусства. Начиная с 1969 г. группа «Искусство-
Язык» стала публиковать в журнале под этим же
названием (не только не снабжая его картинками,
но даже не обещая их помещать) ряд текстов и
документов, имитирующих сухой язык, каким
пишутся труды по лингвистике, и посвященных
концептуальным проблемам искусства: когда, как
и почему вообще рождается творение художника.
«Студия (studio) снова становится кабине-
том (study), тем местом, где занимаются штудия-
ми», — писали Люси Липпард и Джон Чэндлер в
статье, озаглавленной «Дематериализация искус-
ства» и напечатанной в журнале «Art International»
в феврале 1968 г., — всего за несколько дней до то-
го, как студенческие волнения и демонстрации
профсоюзов всколыхнули Европу и США. Для Лип-
пард и Чэндлера связь между дематериализацией
художественного объекта и бьющей ключом моло-
дежной культурой была более или менее ясна. «За-
думанное скорее раскрыться наружу, чем сжаться,
уйти в самое себя, — отмечали они, — новое про-
1.11. Вито Аккончи
Шаги, 1970
Перформанс
Четыре месяца в одно и то же время
каждый день
изведение предлагает любопытный вариант уто-
пизма, который нс следует путать с нигилизмом, если не обращать внимания на то,
что. подобно всем утопиям, оно опосредованно является некой “tabula rasa” ’1; и, подоб-
но большинству утопий, не имеет конкретного выражения». Заметив далее, что комич-
ное (humor), присутствующее в концептуальном искусстве, на самом деле является ос-
троумием (wit), они указывают, что «wit» первоначально означало «разум» (mind) или
способность к рассуждению и умозаключению. «Одним из значений этого слова явля-
ется “мыслительные способности в их нормальном здравом состоянии”... со временем
оно стало обозначать “способность находить умные, иронические или сатирические
выражения, как правило, заметив нечто несообразное и выразив это в неожиданной
или эпиграмматической манере”». Припомнив творчество французского дадаиста
Марселя Дюшана, до своей смерти в 1968 г. жившего в Нью-Йорке и вдохновлявшего
некоторых молодых концептуалистов, Липпард и Чэндлер подчеркивают, что, говоря
об утопизме и юморе, следует поднять вопрос и о той публике, которая способна вос-
принимать наиболее провокационные концептуалистские опусы. Стратегию можно
описать как смену одной аудитории любителей искусства на другую, лучшую (или, по
крайней мере, просто другую). Когда Ричард Барри оповестил, что вернисаж, намечен-
ный на декабрь 1969 г. в Амстердаме, будет состоять в том, что служащие, закрыв дверь
галереи, повесят на нее табличку «На выставку вход закрыт», он, несомненно, наме-
ревался разделить публику на тех, кто будет попросту возмущен тем, что выставка
«закрыта», и на тех, кто, проявив проницательность, сообразит, что текст таблички
1 Чистая доска; нечто чистое, нетронутое, не испорченное посторонним влиянием.
20 Ап ьтернативы модернизму
означает: выставка и закрытая галерея суть одно и то же. А Вито Аккончи сообщил в
тексте, сопровождавшем экспозицию первой серии своих «Шагов», что вторая версия
будет открыта «для публики, которая может присутствовать при реализации проекта,
в моей квар тире, в течение выделенного для перформанса месяца», в восемь утра еже-
дневно, — он не сомневался: среди читателей этого текста найдется несколько знаю-
щих, где он живет, и готовых встать ни свет ни заря, чтобы посмотреть, как он, Аккон-
чи, ступает и сходит со своей, самой обычной, табуретки.
Концептуальные художники «заставили критика и зрителя думать о том, что они
видят, а не просто оценивать формальное или эмоциональное воздействие», зорко от-
метили Липпард и Чэндлер в своей статье. Оказалось — как будет сказано в следующей
главе, — что скромный переворот в сознании, зафиксированный этим высказывани-
ем, будет иметь множество последствий. Сама Липпард вскоре пересмотрит свои виды
на будущее, выразив откровенную симпатию в пользу группы, до того существовавшей
на обочине минималистского и концептуального искусства, где властвовали мужчи-
ны. Мало-помалу феминизм приобрел все больше поддержки в обществе, причем наи-
более заметна эта поддержка была как раз в мире искусства. Художница Кароли Шнее-
ман, ознакомившись с написанной в 1949 г. книгой Симоны де Бовуар «Второй пол» и
с теориями Вильгельма Райха касательно соотношения между сексуальностью и сво-
бодой, уже к 1963 г. выносила идею фотографических репрезентаций своего тела, в
которых на поверхность проступал гораздо более древний образ богини — буквально,
поскольку носителем напечатанного изображения была собственно кожа художницы.
Но это была лишь прелюдия. Самоедостопримечательное из произведений Шнееман,
«Мясная радость» (Илл.1.12), впервые представленное вместе с Жаном-Жаком Лебе-
дем в Париже на Фестивале свободного самовыражения в мае 1964 г., а затем и в Мемо-
риальной церкви Джадсона в Нью-Йорке, выглядело как сознательно эротичная акция,
в которой партнеры раздевали друг друга, ощипывали цыпленка и в экстазе катались
по полу, воздавая таким образом хвалу плоти, крови и краске. Наряд}' с возрожденной
1.12. Кароли Шнееман
Мясная радость, 1964
Сырая рыба, цыпленок, сосиски,
непросохшая краска, пластик,
веревка, бумага, мусор.
Фотография перформанса
Альтернативы модернизму 21
в Европе традицией перформанса (в которой уча-
ствовали Вольф Фостелл, Ив Кляйн, Пьеро Манцо-
ни и другие), «Мясная радость» давала понять, что
искусству нет более нужды выражать себя в долго-
вечном предмете потребления, почтительно созер-
цаемом в загроможденном пространстве какого-
нибудь антикварного салона. Случай, произволь-
ность, неповторимость и тщательно отмеренное
непочтение к щепетильностям вкуса — вот новые
парадигмы наиболее экспериментального из всех
видов современного искусства.
Вторым важным следствием дематериали-
зации искусства явилось то, что изменилась поли-
тика музейной администрации. В то время как
некоторые антрепренеры уже начали приглашать
новое искусство в частные галереи (при все более
активном соучастии художников), музейные уч-
реждения более крупного ранга, финансируемые
из общественного кошелька, столкнулись с обви-
нениями в политическом консерватизме, подко-
верных коммерческих связях, а также активном
неприятии этнических меньшинств, представите-
лей рабочего класса и женщин. В начале 1969 г.
целевая группа, назвавшаяся «Коалицией работ-
ников искусства» (КРИ) — вошли в нее Роберт
Моррис, Карл Андре и Люси Липпард, — предста-
вила попечителям Музея современного искусства
список из «13 требований». В числе этих требований
значились: удлинение часов работы музея, расши-
рение круга участников выставок — включая
негров и пуэрториканцев, участие музеев в вопро-
сах социального обеспечения художников, призна-
1.13. Даниель Бюрен
Внутри (Музей Гуггенхейма), 1974
Ткани, акрил. 20x9,1 м
Было экспонировано в музее
Соломона Гуггенхейма
на международной выставке 1971 года.
Установлено за день до открытия.
Собрание автора
ние экологического ущерба, наносимого природе, а также прав художника на обладание
своим произведением искусства и на контроль над его судьбой, изменениями, вносимы-
ми в него, и его экспонированием. Конфликт другого рода произошел в начале 1971 г.,
в нью-йоркском Музее Гуггенхейма, когда французский художник Даниель Бюрен
вступил в спор с администрацией музея по поводу воздействия его работы на престиж-
ное выставочное пространство. За два года до этого Бюрен опубликовал декларацию, в
которой отрекся от создания «сочиненных» картин, и, демонстрируя полную свободу
от традиций, принялся рисовать полосы равной ширины, систематично перемежая па-
ры цветов (красный и белый, синий и белый). Теперь же, отвечая на приглашение при-
нять участие в большой международной экспозиции обзорного характера в Гуггенхей-
ме, Бюрен придумал план развески двух полосатых полотен, одно из которых, большое,
примерно 20 метров на 9, будет висеть в обширной центральной чаше холла, спроек-
тированного Фрэнком Ллойдом Райтом, а второе, поменьше, снаружи, растяжкой над
88-й улицей (Илл. 1.13). Идея состояла в том, что, спускаясь по спирали пандуса Гугген-
хейма, зритель увидит висящее внутри полотно с множества сторон — что, по сути,
22 Альтернативы модернизму
преобразует его в трехмерную конструкцию и при этом невольно изменяет и функцию
самого пандуса. «Одна из задач, которую мы при этом решаем., — сказал Бюрен, — со-
стоит в том, чтобы показать емкость, в которой предмет находится». Прочие участники
выставки немедленно стали жаловаться, что затея Бюрена ставит под угрозу обзор их
собственных творений, и, хотя Бюрен ответил на это, что «работа, помещенная в центр
музея, безвозвратно разоблачает тайную функцию здания подчинять все влюбленной
в себя архитектуре», руководство музея решило все же большое полотно снять. Музей,
сказал на это Бюрен — ион мог сказать это о всяком музее, — «обнаруживает абсолют-
ную власть, которая непоправимо порабощает все, что в него попадает (или что в нем
выставляется)».
Всего несколько недель спустя директор музея Томас Мессер отказал немцу по
рождению Хансу Хааке, которому в Гуггенхейме была обещана персональная выстав-
ка, в экспозиции нескольких его работ на основании их предположительно «неподо-
бающего» содержания. Хааке тогда как раз начал заниматься точками пересечения
социальной и институционной «систем», и особенно процессами власти. Его работа,
«Шапольски и другие. Холдинг Манхэттенская недвижимость, социальная система в
режиме реального времени на 1 мая 1971 года», включала в себя 142 бесстрастных
снимка фасадов зданий, снятых с уровня асфальта и сопровождаемых машинописным
текстом, в котором излагались тщательно установленные данные касательно имуще-
ства магната Гарри Шапольски: закладных, арендных договорах и налоговых соглаше-
ниях на каждое из его владений в Гарлеме и Нижнем Ист-Сайде за двадцатилетний
срок (Илл. 1.14). Все потенциально инкриминирующие, разоблачительные сведения,
касающиеся Шапольски, о завышении ренты, внутренних сделках и судебных приго-
ворах были скрупулезно изъяты. Теоретически Хааке подходил к своим творениям как
к обладающим свойствами «системы», для которой «размах внешних факторов, оказы-
вающих на нее влияние, а также ее собственный радиус действия, выходит за пределы
пространства, которое она материально занимает». Он вполне рассчитывал, что по-
добные приемы поставят зрителя в новые отношения к артефакту — «не позволяя ему,
как обычно, по-хозяйски распоряжаться смыслом произведения; зритель теперь ста-
новится, скорее, свидетелем». «Система эта не воображаемая, — писал Хааке, — она
реальна». И все-таки музей, недолго думая, определил «Шапольски и др.» как затею
скандальную, кляузную, которая компрометирует заявленное в уставе Гуггенхейма
обязательство «следовать эстетическим и образовательным побуждениям, самодовле-
ющим и не имеющим скрытых мотивов»; работа Хааке — «чуждое явление, проникшее
в организм музея» и подлежит изгнанию. Очень скоро после обнародования этого ре-
шения в музее собрались более ста художников, которые подписали зарок «не выстав-
ляться в Гуггенхейме до тех пор, пока музей не откажется от своей политики художест-
вен ной цензуры и ее приспешников». А когда за защиту опуса Хааке уволили куратора
выставки Эдварда Фрая, вспыхнула широкая дискуссия; обсуждалось, вправе ли худо-
жественные музеи экспонировать произведения, входящие в противоречие с теми
ценностями, которые сами музеи исповедуют.
Позже Хааке вступит в полемику, заявив, что художественные музеи крайне
компрометируют себя методами организации работы, управления, отношений с об-
щественностью и корпоративными вложениями, превратившись в «индустрию созна-
ния», по существу лишь прикрытую заботами о самовыражении личности, просвеще-
нии и «духовной» жизни. Еще позже искусствовед Кэрол Дункан совместно с Аланом
Уоллахом проведет анализ родовых особенностей современного художественного
Альтернативы модернизму 23
228 К 3 St.
Block 383 Lot 19
24 л 105* 5 story walk-up old law tenement
Owned by Harpmel Realty Inc. 60S E 11 St. KTC
Contracts signed by Barry J. Shapolsky. President('5?)
Martin Shapoisky, President('6’0
Acquired from John The Baptist Foundation
C/ The Bank of New York, 48 Wall St. HYC
for S237 COO.- (also 5 ether properties) , 8-21-1965
S1’3O COG.- mortsaee (also on 5 other properties) at 6^
interest as of 8-19-1965 due 8-19-1968
held by The Ministers end Missionaries Benefit Board of
The American, Baptist Convention, '475 Riverside Dr. KYC
Assessed land value S3 COO.- potal 328 COO.-(1971)
музея, его «ритуальной архитектуры», структурированной посред-
ством текстов, проложенных для посетителей маршрутов, информа-
ционных щитов — все это, с тем чтобы последовательно рассказать
об искусстве от начала времен до позднейшего апофеоза (так, соглас-
но своему «сценарию», нью-йоркский Музей современного искус-
ства мало-помалу восходил до абстрактного экспрессионизма как
«триумфа» духа над материей). Подвергая сомнению герметическую
замкнутость музеев, их отстраненность от внешних социальных и
политических проблем, Хааке, Дункан и иже с ними поддерживали
эту, зародившуюся в контркультурной среде, дискуссию, тема ко-
торой стала одной из знаковых в искусствоведческих дебатах, ки-
певших в интеллигентской среде в течение нескольких десятилетий
подряд.
Сейчас, почти сорок лет спустя, мы видим, что конец 1960-х
оказался точкой абсолютного противодействия между притязания-
ми традиционных институтов власти, имевших законное право
выносить искусству приговоры, судить и миловать, и контрпредло-
жениями поколения художников, лишившихся иллюзий благодаря
лучшей информированности о корпоративных преступлениях, соци-
альной несправедливости и войне. Взрыв художественного экспери-
ментаторства был неотъемлемой частью этой атмосферы инакомыс-
лия. И участники демонстраций, стоявшие на парижских баррика-
дах в мае 1968 г., и протестующие студенты, в 1971 г. расстрелянные
военной полицией в университете графства Кент, вошли в историю
как символ своей эпохи. Искусство функционирует как противовес
власти в течение всего периода, охваченного этой книгой.
1.14. Ханс Хааке,
Шапольски и другие
Холдинг
Манхэттенская недвижимость,
социальная система
в режиме реального времени
на 1 мая 1971 года (деталь), 1971
Фотография и страница
с маш и нон исным текстом
Отказ Музея Гуггенхайма выставить эту
работу не только прозвучал как вызов
радикальным воззрениям, согласно
которым «искусством может быть что
угодно», но и обнаружил способность
изображений, представленных Хааке
и с тех пор развернутых в самых различ-
ных контекстах, разоблачать связи
между культурой и властью
24 Альтернативы модернизму
Голоса времени
Роберт Барри, интервью Урсуле Мейер (1969),
в книге: У. Мейер. «Концептуальное искусство». Нью-Йорк...
«Самое прекрасное в современном искусстве — то, что оно встроило в свой потенциал
способность самое себя уничтожить. Только искусство способно к такому самообновлению.
Фундаментальные убеждения в искусстве постоянно подвергаются сомнению,
и в результате оно постоянно меняется; так что искусство и антиискусство
в действительности — одно и то же».
Люси Липпард, интервью Урсуле Мейер (1969),
в книге: Л. Липпард, Дж. Чэндлер. «Шесть лет: Дематериализация художественного объекта». Нью-Йорк...
«Становится ясно, что сегодня все, даже искусство, существует в политической ситуации.
Яне то имею в виду, что само искусство надо рассматривать в политических терминах
или что оно должно выглядеть политизированным: я говорю о том, как художники
работают над произведением, где они его создают, как они намерены выпустить его в свет,
кому показать какие у них шансы, — все это часть жизненного стиля и политической
ситуации, вопрос мощи художника, вопрос достижения художниками той степени
солидарности, которая позволит им не зависеть от милости общества,
вообще не понимающего, что они делают».
Неизвестный источник
«Если ты в силах вспомнить шестидесятые, значит, тебя там, друг, не было».
’ <4^
•\‘ ,Xjv. у'
8й-,;.
Победа и поражение
семидесятые
В начале семидесятых перспективы, открывшиеся перед авангардом, выглядели
вполне радужно. Творческой молодежи, зараженной в минувшее десятилетие острым
неприятием традиционной культуры, казалось, что победы, одержанные над сторон-
никами ортодоксального прочтения современной живописи и скульптуры, решат мно-
жество практических и теоретических проблем. Весьма показательной явилась первая
полномасштабная международная выставка в поддержку художественных ценностей
контркультуры, легендарная Документа-5 1972 г., проведенная в Касселе. Ее кура-
тором был молодой Харольд Зееман (Harald Szeemann). Документа проводилась раз
в четыре-пять лет начиная с 1955 г., когда ее впервые организовал Арнольд Боде (Bode)
с целью, во-первых, продемонстрировать жизнеспособность послевоенного западно-
европейского модернизма, а во-вторых, доказать его самостоятельность от диктата
Нью-Йорка. Отбор экспонатов, проведенный Зееманом, был в высшей степени «аль-
тернативным». Хотя полный отчет о выставке перечислил бы залы, посвященные
китчу, религиозной скульптуре, детским играм, иллюстрациям к научной фантасти-
ке, рекламе и прочим маргинальным видам эстетических проявлений — и надо не
забывать, что «фотореализм» был в моде как раз примерно в 1972-м, — все же глав-
ной приманкой Документы-5 стали новейшие достижения экспериментаторства в
искусстве фотографическом, концептуальном и разворачивающемся во времени
(time-based). Представители arte povera, бедного искусства (Боэтти, Ансельмо, Мерц),
близко соседствовали с акционистами (Брус, Нитш, Шварцкоглер), рядом с ними
экспонировались художники, отчасти или полностью работавшие с кинопленкой
(Джонас, Серра) или фотографией (Болтански, Райнер, Руша, Фултон), инсталляция-
ми (Киенхольц, Тек, Оно, Оппенгейм) и перформансом (Аккончи, Бойс, Джилберт и
Джордж, Хорн, Грэхэм, Хессе) — это если назвать лишь несколько наиболее представи-
тельных имен.
Однако к концу 70-х настроение разительно изменилось. Художественный ради-
кализм контркультуры зримо поблек, новый набор приоритетов вышел на авансцену,
да так, что радикализм стал выглядеть устало, неуместно, в лучшем случае — утопич-
но. Впрочем, пространство художественного эксперимента как раз и располагалось
С. 26:
КрисУэлсби
Семь дней (деталь).. 1974
См. рис. 2.19
между опытом надежды и ощущением усталости. Эта глава посвящена попыткам рас-
пространить и умножить дух экспериментаторства, совершенным в десятилетие, ког-
да общее движение культуры зачастую шло в прямо противоположном направлении.
Требования феминизма
Изо всех преобразований, которые изобразительное искусстве претерпело за послед-
ние тридцать или около того лет, самое, возможно, значительное произошло вследст-
вие основательного пересмотра проблем пола. В начале семидесятых кризис доверия к
культуре модернизма, в которой доминировали мужчины, наиболее полно выразился
в среде художниц, исповедовавших феминизм или его тогдашние разновидности. Взяв
за образец деятельность в 60-х художниц Западного побережья — таких, как Мириам
Шапиро и Джуди Чикаго, — женские группы активно проявили себя в Нью-Йорке, где
Коалиция работников искусства среди своих «13 требований», выдвинутых перед
музеями в 1970 г., назвала и необходимость «преодолеть несправедливость, веками
проявляемую по отношению к женщине-художнице, установив при организации вы-
ставок, приобретении новых экспонатов и формировании отборочных комитетов,
равную представительную квоту для художников обоих полов». В феврале этого года
чернокожая художница Фэйт Рингголд, по ее словам, и до того задумывавшаяся о мес-
те «черных» художников и отличительных особенностях «черного» искусства, стала
феминисткой. «Это случилось в тот день, когда я решила выразить свой протест против
выставки, организованной в Школе изобразительных искусств в Нью-Йорке, а также
против политики США: войны, репрессий, расизма и сексизма. Дело в том, что участ-
ники этой выставки все сплошь были мужчины. Я объявила, что, если организаторы не
включат в состав пятьдесят процентов женщин, начнется “война”. Тогда Роберт Мор-
рис, организатор, согласился допустить на выставку женщин». Вскоре к Рингголд при-
соединилась критик Люси Липпард, и возникла «группа влияния» под названием
«Женщины-художницы бунтуют» (Women Artists in Revolution, сокращенно WAR — то
есть «война»), протестующая против дискриминации женщин на ежегодных экспози-
циях в Музее Уитни (Whitney Annual exhibition). Члены группы ратовали за то, чтобы
процент женщин-участниц был повышен с 7 до почти 50 процентов, — но нельзя ска-
зать, чтобы с полным успехом. В дальнейшем они предприняли шаги по организации
собственных выставок и галерей.
В этой атмосфере протеста и горячих дебатов касательно женского творчества
было сформулировано несколько ключевых идей, самые заметные из которых были
заявлены в развернутом эссе Линды Нохлин «Почему нет великих художников-
женщин?», в 1971 г. опубликованном в «Арт ньюз», и в каталоге, составленном Люси
Липпард к выставке «25 современных художниц» того же года (она была куратором
этой выставки, проведенной в Музее Олдрича в Коннектикуте). Предметом рассмотре-
ния Нохлин стал широко обсуждаемый вопрос, есть ли в женском творчестве особая
восприимчивость, чувствительность, какая-то сугубо женская суть. Нет, не имеется,
настойчиво доказывала она, и не может иметься. Соглашаясь, что великих художников
ранга Микеланджело или Мане среди женщин действительно нет, она утверждала, что
причины тому кроются в системе общественных институтов, включая образование,
где доминируют мужчины и испокон веку принижается значение женщины. «Когда
наконец будут правильно поставлены вопросы об условиях творчества, из которых
28 Победа и поражение: семидесятые
вопрос о создании великих произведений —лишь подвопрос, дело второстепенное, —
писала Нохлин,— несомненно, возникнет дискуссия об обстоятельствах, проявляющих
ум и талант в целом, а не только о художественном даровании... искусство не является
свободной, независимой деятельностью какого-то суперодаренного индивидуума...
скорее, общая ситуация художественного творчества... является промежуточной и
определяется специализированными, вполне конкретными социальными институ-
тами — будь то художественные академии, системы патронажа, мифы о божественном
творце, художнике как настоящем мужчине или изгое общества». Ударный довод
Нохлин состоял в том, что, поскольку концепции «гения», «мастерства» и «таланта»
разработаны мужчинами применительно к мужчинам, следует поражаться тому, что
женщины вообще чего-то добились.
Подход Липпард к этому вопросу оказался принципиально иным. «У меня нет
ясного представления о том, в чем именно состоит сущность “женского” творчества, —
писала она, — хотя я убеждена, что некоторая скрытая особенность в образной систе-
ме все-таки есть... Бытуют предположения, что это приземленность, “органика обра-
зов”, “округлость линий” либо более других близкая к истине “центральная фокусиров-
ка”». Ссылаясь на Джорджию О’Киф, уже пытавшуюся ранее разъяснить специфику
женской самоидентификации, Липпард пишет: «Многие художницы соотносят себя
с центральным отверстием [внутренних органов], формальная структура которого
часто используется как метафора женского тела». К 1973 г. Липпард выделила более
широкий круг особенностей женского творчества: «Объединяющая все плотность,
однородная текстура, часто осязаемая чувственно и повторяемая до одержимости;
преобладание округлых форм и центральная фокусировка Спорой в противоречии с
первоначальным смыслом); повсеместно линеарные, выпуклые или
параболические, самодовлеющие формы; слои или напластования;
2.1. Линда Бенглис
Посвящается Карлу Андре
Пигментированная полиуретановая
пена
«Большинство моих работ вызывает
ощущение физического движения, слов-
но это тело или что-то. побуждающее
физиологический отклик... [к примеру],
полиуретановые скульптуры наводят
на мысль о каких-то волновых образова-
ниях или животных внутренностях, они
вызывают чувства, некоторым образом
знакомые зрителю,, природные чувства...
иначе говоря, доисторические. Хотя
формы не являются специфически
узнаваемыми, чувства — являются»
неуловимая неопределенность исполнения; склонность к розовым,
пастельным, а также зыбко-облачным тонам, которые раньше были
табу». Критик Лоренс Аллоуэй, опровергая ту мысль, что женское
творчество можно определить, прибегнув к древним символам и ри-
туалам. слегка покровительственно заметил, что «избыток мягкой
скульптуры, фетишей и псевдопещер — это атрибут скорее поколе-
ния, чем половой принадлежности. Такого рода опусы производят
в основном молодые художники, полные оптимистической веры в
нехитрые приемы и примитивистский идеал, согласно которому
можно жить, опираясь лишь на собственные ресурсы».
Это свое высказывание Аллоуэй, надо полагать, адресовал и
живущей в Калифорнии художнице Линде Бенглис, чьи ярко окра-
шенные напольные скульптуры изготавливались в 60-е и 70-е годы с
явным намерением разбавить ими минимализм, где властвовали
мужчины, со всем присущим ему обилием математических и техно-
логических аллюзий. Сначала появилась серия разлитых латексных,
прилипших к плоскости пола образований, затем Бенглис стала экс-
периментировать с новой техникой смешивания пигмента и смолы,
прежде чем добавить туда катализатор, который, дополненный водой,
образовывал пенящийся полиуретан, выливаемый затем на выстро-
енные заранее каркасы различной формы — они-то и были единст-
венным заданным заранее элементом (Илл. 2.1). Эти пенистые, как
Требования феминизма 29
2.2. Линда Бенглис
Артфорум. Ноябрь. 1974
«Эта работа была своего рода смехом
над обоими полами. Меня сподвигнул
на ее создание критик Пинхус Уиттен
и художник Роберт Моррис. Они вроде
как дали мне разрешение. Я заплатила
"Артформу'’ 3000 долларов за предо-
ставление места»
бы природно-органические объемы приходилось изготавливать сразу, а не часть за
частью: художница порой приглашала зрителей понаблюдать за этим сложным про-
цессом. «Занимаясь такой скульптурой, я обнаружила, — говорила Бенглис, — что
очень важно знать, как рассчитать время изменения материала, образования потеков.
Я чувствовала, что хочу понять для себя этот органический феномен; то, что заложено
в самой природе... Хотелось быть провокационной, но не слишком однозначной; под-
черкнуто иконографичной, но также и очень открытой...»
Тем не менее Бенглис продолжала считать, что стишком мало представлена в
современной художественной, управляемой мужчинами, системе (один из критиков
выразил недовольство, что латексные скульптуры «театральны»). И тогда она сделала
пресловутый демонстративный жест, в 1974 г. бросив вызов всему мужскому сообщест-
ву. Она выполнила цикл рекламных акций, представляющих собственную работу, где,
позируя как рекламная модель, пародировала типично мужской взгляд на женщин, а в
заключительной фотографии цикла и вовсе снялась, имея на себе одни только темные
очки, с огромным латексным фаллоимитатором в руке (Илл. 2.2). Эта последняя, поме-
щенная в «Артфоруме» за ноябрь 1974 г. фотография, по существу, привела к ее сотруд-
ничеству со скульптором Робертом Моррисом, с которым Бенглис познакомилась, ког-
да работала в области видео. Бенглис считала., что должна сатирически переосмыслить
тот вид паблисити, который обслуживает голливудских кинозвезд и который с изобра-
зительной точки зрения очень напоминает приемы, используемые порноиндустрией.
Позже Бенглис вспоминала, как это сотрудничество осуществилось: «Моррис пришел
ко мне, чтобы купить фаллоимитатор, и принялся резвиться со мной, стал снимать се-
бя поляроидом в различных позах, и мы оба дурачились с фаллоимитатором, так что
возник вопрос, не сделать ли такую большую фотографию с мужчиной и женщиной».
В итоге Бенглис нашла ответ на свой вопрос: для нее фаллоимитатор был «вещью двой-
ного значения; это была идеальна вещь для использования по назначению, одновре-
менно мужская и женская, так что мне, по существу, не требовался мужчина, и это бы-
ла декларация, которую я на самом деле хотела сделать абсолютно самостоятельно».
30 Победа и поражение: семидесятые
Моррис между тем воспользовался рекламой в
«Артфоруме» для собственной выставки в Кастел-
ли-Зоннабенд, где выставился наряженным ис-
ключительно в темные очки, шлем и собачий
ошейник с шипами, наводящий на мысль о садома-
зохистских забавах.
В то же самое время Джуди Чикаго, также в
Калифорнии, писала провокационные картины,
анализируя те символические значения, которые
можно отыскать в рамках вагины, отцентрован-
ной, часто круглой или лучистой формы: преслову-
тый термин «центральная фокусировка» — как раз
плод ее ума. Еще в 60-х Чикаго затеяла первый
женский курс художественного обучения в Кали-
форнийском государственном университете, про-
должив эту инициативу такими проектами, как
«Арт-галерея женского пространства» (Woman-
Space Art Gallery, 1972) и «Женское здание»
(Woman’s Building, 1974) в Лос-Анджелесе. Именно
в 1974 г. Чикаго приступила к крупнейшему и само-
му знаменитому из своих проектов под названием
«Званый ужин». Для реализации проекта потребовалось активное участие керамистов
и вышивальщиц, которые помогли Чикаго оформить установленный на «наследствен-
ном постаменте» (Heritage Floor) большой обеденный стол, символизирующий собой
истории 999 выдающихся женщин. В течение нескольких лет Чикаго осваивала технику
росписи по фарфору — она быстро осознала высокую степень достигнутого женщина-
ми художественного мастерства, которое они передавали из поколения в поколение,
не будучи в должной мере вознаграждены, ни в статусе, ни деньгами. «Званый ужин»,
завершенный только в 1979 г., отдал должное как достижениям, так и тяготам женско-
го труда. «Столовые приборы на одну персону размещены на трех длинных столах,
поставленных в форме равнобедренного треугольника, — поясняла Чикаго, — и засте-
ленных льняными скатертями. Каждая тарелка стоит на вышитой дорожке, по оформ-
лению соответствующей той женщине или богине, которую она обозначает. Тарелка
увеличена в размере и входит в комплект с бокалом, приборами и салфеткой. Вышитая
дорожка выполнена в манере того времени, в которое женщина жила, и представляет
еще один уровень ее наследия. По углам стола лежат вышитые алтарные покровы, не-
сущие на себе треугольный символ богини. Столы покоятся на фарфоровом основа-
нии, состоящем из более чем 2300 изразцов ручной работы, на которых начертаны
имена 999 женщин» (Илл.2.3). (Цитата: «В 1990 году Конгресс лишил дотаций музей
Университета округа Колумбия, выставившего работу художницы Джуди Чикаго “Зва-
ный обед”, на которой были изображены разнообразные варианты влагалищ».) Чика-
го прояснила также логику и форму всего ансамбля: «В соответствии с их достижения-
ми, их жизненными ситуациями, месту их происхождения, их опыту — имена женщин
на постаменте сгруппированы вокруг имени женщины на столе».
Одновременно с появлением коллективного, эпического (и эпохального) творения
Чикаго многие прочие дамы обратили свои взоры к телу и бросающимся в глаза разли-
чиям между мужским и женским обличьем. Исследующие гендер и индивидуальность
2.3. Джуди Чикаго
Званый ужин, 1979
Смешанная техника
14,6x12,8x0,91
Бруклинский музей
«Что касается "Званого ужина", то моя
задача состояла в том. чтобы найти новый
вид искусства, выражающий женский
опыт, и способ сделать это искусство
доступным широкой публике... поскольку
мир по большей части своей невежест-
венен в том. что касается истории
женщин и их вклада в культуру. Мне
казалось подобающим соотнести
нашу историю посредством искусства,
особенно посредством тех видов
рукоделия, которые традиционно
считаются женскими»
(Джуди Чикаго)
Требования феминизма 31
фотопроизведения таких художниц, как Марта
Уилсон, Рита Майерс и Китти Ла Рокка, по форме и
материалу резко контрастировали с жестким тех-
нологизмом Дональда Джадда или Карла Андре.
Вариации на тему новейших теоретических уста-
новок напольной «антиформальной» скульптуры,
производимой мужчинами, а также пародии на эти
установки стали стратегическим выбором феми-
нисток — и у выбора этого было то достоинство,
что и те и другие говорили на общем формальном
языке и различия между собой устанавливали в не-
двусмысленно зримых формах.
Сопоставимую стратегию можно проследить
и в работах европейских художниц, коль скоро они
ставили под вопрос стремление мужчин-минимали-
стов включать зрителя в некую систему отражен-
ных взаимоотношений с артефактом. Отказавшись
от трактовки произведения искусства как пригла-
шения к философскому размышлению и переосмыс-
лив его как призыв к физическому и человеческому
сочувствию, бельгийская художница Мари-Джо
Лафонтен, которая впоследствии стала работать с
видео, живописью и инсталляциями, выкрасила в
черный цвет хлопковую нить, из которой ткут холст.
2.4. Джеки Уинсор
Пятьдесят на пятьдесят
(? — не пропечатано)
Дерево, гвозди
102x102x102 см
Частная коллекция, Нью-Йорк
Изготовленные путем трудоемкого
прибивания деревянных планок одна
к другой, короба Уинсор содержат намек
на биографические обстоятельства
автора, на тот факт, что ее отец когда-то
строил деревянный дом. Столь «чело-
веческие» отсылки были абсолютно
немыслимы для минималистов-мужчин,
чью привязанность к геометрии
и повторяемости эта работа тем не менее
разделяет
Затем, соткав из нее холст, она натянула его на под-
рамники, и серия монохромных полотен стала красноречивой данью мастерству жен-
щины, ее монотонному и тяжкому труду (в данном случае — труду художницы), но,
кроме того, это был еще и демонстративный отказ украсить уже существующую, «пер-
вичную» поверхность какими-то присочиненными, навязанными ей добавлениями.
В Америке Джеки Уинсор создавала свои работы, упорно и многократно пере-
плетая, связывая, прибивая гвоздями, пользуясь шпагатом, веревкой и деревянными
планками, — и все это для того, чтобы создать образ детства, проведенного ею на суро-
вых берегах Ньюфаундленда. Искусно сделанные короба Уинсор середины 70-х демон-
стрировали ее любовь к детали и выступали как элегантный пример женской вариа-
ции на эстетическую парадигму мужчин — и вызова этой парадигме (Илл. 2.4).
Скульптор Ева Хессе, немка по рождению, которая училась в Йейле и была знако-
ма с большинством американских минималистов, во многом проложила путь той но-
вой свободе обращения с материалом, которую исследовали теперь феминистки. Хессе
трагически погибла молодой, в 1970 г.; однако именно она первой в своем поколении
стала пользоваться прозрачными, просвечивающими или пластичными материалами,
такими, как кардная лента, бечевки, веревки и воск, — и тем самым, возможно, сде-
лала больше других для того, чтобы подорвать геометрическую правильность мужско-
го минимализма. Вдохновившись «Вторым полом» Симоны де Бовуар, Хессе вступила
в борьбу с собственными сомнениями, из которых в итоге дистиллировала эстетику
того, что предпочитала называть честностью, цельностью, процессом и отсутствием
правил, — пользуясь наименее претенциозными из средств при всех наличных ресур-
сах (Илл. 2.5). Емкости и сосуды Хессе, сгруппированные в галерейном пространстве,
32 Победа и поражение: семидесятые
выглядели шаткими, ненадежными, кособокими, воздавая должное
тем неровностям и случайностям, сучкам и задоринкам, к которым,
как мы знаем, тяготеет природа. Более того, в немногих письменных
свидетельствах и интервью, которые остались после Хессе, обнару-
живается ее склонность даже и помимо собственной, воли сократить
форму до полного ее отсутствия. Некоторые из ее последних творе-
ний описаны ею словно бы неохотно, но вполне разоблачительно:
они компактные и формальные, но очень воздушные, чувстви-
тельные. хрупкие.
в основном просвечивающие насквозь
это не живопись, не скульптура, и все-таки оно здесь.
помню, что хотела прийти к не-искусству, не-коннотациям,
не-антропоморфному, не-геометрическому, не, ничему,
всему, но другого вида, рода.
совершенно с другой точки отсчета, это возможно?
Нечто вроде приношения новым правилам игры, а также оглядку на Еву Хессе
можно увидеть в эпоксидно-фиберглассово-стальной скульптуре-инсталляции Роз-
мари Касторо «Симфония», сделанной в 1974 г. (Илл.2.6). Она также наводит на мысль
о физическом движении и живом теле. Вообще, скульптуры Касторо раз за разом от-
сылают зрителя к образам танца: она изучала хореографию и сотрудничала с экспери-
2.5. Ева Хессе
Выставка инсталляций Евы Хессе
«Цепь: полимеры»
в галерее Фишбаха в Нью-Йорке,
1968.
На первом плане:
Прибавление /7/(1968).
На втором плане:
Приращение (1968)
ментатором в области танца и кинорежиссером Ивонной Райнер. Такие работы демон-
стрировали собой не только витальность, кроющуюся в неортодоксальных материалах
и их сочетаниях, но и активный отказ следовать запретам эстетики (мужской и амери-
канской) на тело и все, что с ним связано, — по крайней мере так, как эти запреты ин-
терпретировались феминистками.
Творчество американских феминисток начал а 70-х представляет интерес сразу по
нескольким поводам. Впервые была заявлена их принципиальная заинтересованность
в поиске способов формально выразить теоретические проблемы, болевые точки и от-
крытия феминизма. Во-вторых, был поднят вопрос
2.6. Розмари Касторо
Симфония, 1974
Пигментированная эпоксидная смола
и фибергласс
по пенопласту и стальному каркасу
1,93 х 3.2 х 8,4 м
о том, как художницы могут использовать тело и
его изображения для раскрытия женской сущнос-
ти, не подвергаясь при этом нападкам того рода,
что они, дескать, подыгрывают тем же вуайерист-
ским наклонностям, любви к подсматриванию, ко-
торые искони обслуживала ориентированная на
мужчин культура. Со временем совместная творче-
ская деятельность и публичные дискуссии, кото-
рые проводились художницами, привели к их внед-
рению в различные организационные структуры:
образовательную, выставочную, искусствоведче-
скую. Проекты, подобные «Женскому дому» Джуди
Чикаго в Калифорнийском художественном ин-
ституте в 1971 и 1972 гг. (это была пространствен-
ная, вписанная в среду скульптура, сделанная жен-
щинами и для женщин), или выставка в 1973 г.
в Нью-Йоркском культурном центре «Женщины
Требования феминизма 33
выбирают женщин»), или же выход в Нью-Йорке
журнала «Ереси», намеченный на 1975-й, но осуще-
ствившийся только в 1977 г., — все это как бы наво-
дило на мысль, что искусство прекрасно может
обойтись и без мужчин. В работах по истории ис-
кусства, таких, как эссе Кэрол Дункан «Мужской
диктат в авангардистской живописи начала XX ве-
ка», опубликованном в «Артфоруме» в начале
1974 г., прозвучали нотки скептицизма относи-
тельно качества обзоров современного искусства
(посвященных мужчинам и написанных ими же),
большинство которых по-прежнему выводило на
первый гы ан устарелое представление о мужчине-
творце-«гении», который овладевает своим мате-
риалом, как женщиной, то есть откровенно сексуа-
лизированным образом.
Ряд художниц обратили свои взоры к земле.
Элис Эйкок внедряла минималистские формы в
земле и под землей, строя пещеры и подземные со-
2.7. Мэри Мисс
Без названия, 1973
1,8 х 3,6 м секции
на расстоянии 17,5 м
«Дыры в “Без названия” раскрываются
в... внутреннее пространство,
как зеркальный зал или колонна,
врастающая в землю... вас втягивает
в самую фокусную точку, ваша перспек-
тива волшебно продолжается...»
(Люси Липпард)
оружения, что трактовалось как метафоры поиска, внутреннего, атавистического
стремления спрятаться, зарыться вглубь. Чтобы посмотреть главный труд Мэри Мисс,
«Без названия», зрителю пришлось совершить утомительное путешествие на пустую-
щую мусорную свалку вдоль реки Гудзон в Нью-Йорке. Люси Липпард это мероприятие
казалось пустой и «какой-то унылой» тратой времени — до того момента, когда выре-
занные в дощатых плоскостях круги, по мере удаления от зрителя зарытые в землю все
глубже и глубже, не оказались выстроены по оси в ряд, и внутри них не обнаружился
обширный, уходящий вдаль объем, куда более огромный, чем могла бы вместить лю-
бая физическая конструкция (Илл. 2.7). Это построение резонировало с окружающим
простором и другими своими свойствами. К примеру, щели между досками были зама-
заны черным варом, и получившиеся линии вторили структуре пустынного ландшаф-
та. Но в других отношениях доски служили лишь декоративным фасадом. «Если какие-
то части и имеют геометрическую форму, — пояснила художница, открещиваясь от
всякого сходства с минимализмом, — это никак не связано с интересом именно к этой
форме. Хотя скульптура имеет вполне вещную физическую основу, создание объекта
отнюдь не входило в мою задачу».
Учитывая, что большая часть продукции американского арт-феминизма 70-х го-
дов шла вразрез с конфликтом между модернизмом и антимодернистским запалом ми-
нимализма — причем оба художественных течения разработаны и критически освое-
ны мужчинами, — перед феминистками стояла задача уклониться от споров и обсуж-
дений художественных приемов, стоя на той же теоретической платформе: для многих
самым привлекательным решением было эти приемы передразнивать, пародировать.
В то же время есть множество примеров тому, что художницы вполне разделяли с
художниками обеспокоенность такими вопросами, как репрезентативный язык,
контроль над выставочными организациями (галереями и музеями), место работника
искусства в классовой системе капиталистического общества. И возможно, именно в
этой точке мы сталкиваемся с самым значительным и обескураживающим вызовом,
поставленным перед феминизмом. Дело в том, что из художниц лишь очень немногие
34 Победа и поражение: семидесятые
радикалистам всерьез упражнялись с теоретическим марксизмом, традиционно де-
лающим акцент на отношениях между средствами производства и формированием
социальных классов и не слишком озабоченным женскими тяготами. И все-таки, по
словам британской феминистки Гризельды Поллок, «общества, в которых производи-
лось искусство, по природе своей были не только... феодальные или капиталистиче-
ские, но еще и патриархальные, женофобские, сексистские». Что теперь требовалось,
так это связать воедино феминизм и переформулированные идеи марксизма. Отно-
сительную трудность для феминизма представляло пристрастное отношение к «аван-
гарду7». Мало того что утопическая или революционная мысль зачастую пренебре-
жительно отмахивалась от вклада женщин, но и «авангард» выглядел как еще одна
«аутсайдерская» высотка, заняв которую, легко совершать наскоки на традиционные
властные и классовые основы. И хотя эта позиция еще со времен романтизма была
прочно занята мужчинами, феминистки могли указать на тот факт, что женщины так и
так всегда были аутсайдерами, чужаками. Как бы то ни было, им требовалось занять
сильную позицию внутри господствующего течения в искусстве, внутри «мейн-
стрима». Однако проблема состояла в том, что «мейнстрим» был (да и сейчас остается)
такой штукой, рамки которого почти невозможно определить, поскольку для этого на-
до решить, кто, собственно, узаконивает выбор и почему. В то же время, жалуясь на
«мейнстрим», феминистки своим вкладом в него, умножающим его и разнообразя-
щим, так или иначе работали на его разбавление. Сегодня термин «мейнстрим» почти
не употребляется; по существу дела и в большой степени благодаря феминизму 70-е го-
ды можно назвать десятилетием его неуклонного упадка.
Рассказ об этом периоде будет неполным, если не упомянуть двух художниц, в
70-е занявших в художественном процессе заметное место и с тех пор только упрочив-
ших свою репутацию. В ряду ранних, использующих фотографию работ Марты Рослер
была серия коллажей, на которых изображения вьетнамской войны сочетались со
сценками мирной домашней жизни современной Америки. Под названием «Война с
доставкой на дом: Дом, милый дом» (1967-1972) эти коллажи в начале 70-х были напе-
чатаны в альтернативных художественных журналах: так Рослер хотела выразить свое
отношение к той дистанции «огромного размера», которую журнал «Лайф» и иже с ним
установили между реальностью войны и личной ответственностью за нее оставшихся
2.8. Марта Рослер
«Бауэри: В двух неадекватных
системах описания» (деталь),.
1974-1975
45 черно-белых фотографий
По словам художницы, «эти фотогра-
фии — радикальная метонимия, контекст
которой намекает на собстзенно состоя-
ние (опьянения)... если предмет здесь —
обнищание, то это скорее обнищание
ветшающих стратегий репрезентации,
чем нищета как способ существования»
comatose unconscious
passed out knocked out
laid out
out of the picture
out like a light
Требования феминизма 35
дома граждан. Затем вышла ее фотографическая серия, по имени за-
брошенной, олицетворяющей «дно» нью-йоркской улицы озаглав-
ленная «Бауэри: В двух неадекватных системах описания» (1974-
1975). Здесь в визуальную форму облекался ряд ключевых проблем,
затрагивающих не социальные или политические вопросы, а инст-
рументарий и технику репрезентации, которыми структурируется
наша речь, письмо и формирование имиджа в любой, какой угодно,
среде. В «Бауэри» безлюдные фотографии витрин бесхозных лавок
сопровождались набором вербальных идиом, описывающих пьяных
и состояние опьянения, причем выражения варьировались от вуль-
гарных до невразумительных, тогда как собственно изображение на-
водило на мысль об условности фотографии как жанра: смысл был
тот, что и вербальная, и визуальная условность — «неадекватны», и,
возможно, с этим уже ничего не поделаешь (Илл.2.8). На другом
уровне «Бауэри» можно рассматривать как отзыв на структуралист-
ские идеи французского антрополога Клода Леви-Стросса, широко
обсуждавшиеся как раз в то время. По методу структуралистского
анализа, применяемого в других областях, Рослер пыталась перемес-
тить внимание зрителя с изображения на изображающие (репрезен-
тирующие) системы. Сталкивая свою работу с тем, что она считала
«виктимной, жертвенной фотографией» стандартного документаль-
ного журнализма, который «настаивает на вещественной реальности
бедности “вообще” и отчаяния», «жертвы» камеры которого, однако,
часто податливы и покорны, Рослер переносит проблему социальной
обездоленности в рамки политики собственно изображения. По ее
2.9. Мэри Келли
Послеродовое свидетельство, 1974
Состоит из 28 частей,
каждая размером 35,6x28 см
Картинная галерея Онтарио, Канада
признанию, «слова начинаются за пределами мира притонов и соскальзывают в него,
как люди соскальзывают в алкоголизм, мало-помалу падая на самое дно... Этот про-
ект — акт отказа. Он продиктован отнюдь не бесчеловечностью. Он задумывался как
критика: текст, который вы сейчас читаете, бежит по рельсам, параллельным другой
системе описания. Тут нет снятых украдкой пьяниц... что от них можно узнать такого,
чего вы уже не знаете?»
То же внимание к форме и содержанию репрезентативных систем можно заме-
тить и в работах живущей в Великобритании американки Мэри Келли. 165 панелей, из
которых состоит «Послеродовое свидетельство» (Илл. 2.9), посвящены взрослению и со-
циализации мальчика (сына художницы) — но не путем привычного всем изображения
ребенка или его родителей, а посредством воспроизведения отпечатков тела мальчи-
ка, которые он, по мере своего роста, оставляет на различных материалах, от пеленок
до писчей бумаги. Под этими отпечатками приводится отчет о тех тревогах, которые
мать испытывала по поводу сына, и выдержка из ее дневника, где в параллель роли
Келли-матери зафиксирована работа Келли-художницы. Несколько видов дискурса,
посвященного росту ребенка, представлены особыми шрифтами, продуманно распо-
ложенными как для удобства чтения, так и для визуального эффекта; это пример того,
что Келли называла «скрипто-визуальным» эффектом. Черпая, при составлении своего
теоретического комментария, материал из источников по литературоведению, фе-
минизму, психоанализу и антропологии, Келли прибегла к скрипто-визиуализму, что-
бы расставить по значимости такие вопросы, как «формирование пола», «ребенок
как фетиш» и «распределение труда в капиталистическом обществе». Философская
36 11обеда и поражение: семидесятые
значимость «Послеродового свидетельства» в большой степени состояла в попытке
скомбинировать, сплавить воедино два типа восприятия женской субъективности,
один описан Фрейдом в его работах о нарцисизме, второй — в труде Жака Лакана, по-
священном Фрейду. Кроме того, эта работа задумывалась еще и как комментарий, во-
первых, к стадиям формирования материнской «женственности» в рамках отношений
«мать — ребенок», а во-вторых, к процессу, в ходе которого, вовлекаясь в символиче-
скую ордерную систему, каковой является язык, и, наконец, осваивая ее, мало-помалу
складывается личность ребенка. В итоге не только самое тема «Послеродового свиде-
тельства» оказалась прорывной, но и по форме своей и по глубине теоретического
обоснования это произведение обошло все прежние достижения европейского феми-
низма в сфере специфически женских проблем.
Два вышеописанных проекта выводят нас на следующее пробное обобщение: в
то время как творчество художниц-американок, работающих в концептуалистской
манере, в 1970-е гг. стремилось к эмпирике, позитивизму и описательности, их евро-
пейские коллеги демонстрировали тенденцию к психоаналитическому обоснованию,
проблемам частного и субъективного. И Рослер, и Келли при этом выказали глубокую
заинтересованность в мощном теоретическом обеспечении тех альтернативных тех-
нических приемов, которые в общественном сознании прочно связаны с авангардом.
Предлагая модели или способы репрезентации, оспаривающие привычные, комфорт-
ные нормы патриархата, обе художницы сумели выковать нечто цельное из гендерной
политики и изобразительного искусства — и это во времена, когда сама возможность
такого союза еще мало кем осознавалась.
Перформанс
Перформанс как искусство — в исполнении как мужском, так и женском — по самой
природе своей обеспечил в 70-е дальнейшие примеры того, как феминистки и прочие
радикальные элементы могут воплощать себя в альтернативных художественных
формах. Отпочковавшись, на некоторой дистанции, от дадаистов и хэппенинга 60-х,
2.10. Кароли Шнееман
Внутренний свиток, 1975
Перформанс
«Внутренний свиток» впервые был
представлен в 1975 г. перед аудиторией
женщин-художниц на Лонг-Айленде.
«Чтение происходило на крышке стола,
одновременно совершая серию поз а-ля
'живая модель” и балансируя книгой
в одной руке, — поясняла Шнееман. —
В заключение я уронила книгу и встала
на столе во весь рост. Свиток медленно
извлекался, в то время как я читала его,
дюйм за дюймом»
искусство перформанса не позволяло третировать
себя как предмет потребления (его ведь ни купить,
ни продать), заменив обычные художественные
материалы на нечто лишь чуть большее, чем дейст-
вия собственного тела художника. В течение двух
десятилетий, в 60-е и 70-е годы, искусство перфор-
манса привлекало к себе небольшую, но влиятель-
ную художественную аудиторию, однако сейчас
оно живо звучит, резонируя в памяти, фотодоку-
ментах, письменных свидетельствах очевидцев.
Оглядываясь назад, понимаешь, что некоторые
проекты — значимые также и с точки зрения срав-
нения между Америкой и Европой — выступают
как показательные.
Сразу же стало очевидно — Люси Липпард, к
примеру, — что европейский перформанс по харак-
теристикам своим отличается от американского.
Перформанс 37
На ее взгляд, европейская практика выглядела более резкой, колкой, физически вызы-
вающей, опасно ориентированной на боль, раны, насилие и болезни, чем относительно
более мирная ее североамериканская разновидность. При сравнении высвечиваются
различия в общественной и философской традициях, присущих двум континентам, а
также специфика переживаемого в те годы каждым из них кризиса.
В Соединенных Штатах продолжала раскручивать свои затеи, начатые ею в
1963 г., Кароли Шнееман. Тогда, в 60-х, Шнееман ратовала за преимущества перфор-
манса перед статическими коллажем, ассамбляжем и живописью, указывая на то, как
по-разному рассматриваются они зрителем. «Мощь перформанса более агрессивна
и непосредственна по своему воздействию — она проективна», — писала Шнееман,
отмечая утешительное по преимуществу воздействие живописной картины, представ-
ляющей собой помещенную в поле зрения устойчивую сущность, которую зритель со
временем может познать и, следственно, овладеть ею. «Статичное изучение и неодно-
кратное рассматривание полотен, — писала она, — кардинально преображается в
ситуации перформанса, где зритель ошеломлен сменой впечатлений, эмоционально
захвачен, ввергнут в поток воспоминаний и удерживается на месте заданной времен-
ной последовательностью, определяющей длительность перформанса». Вот уж что за-
хвачен, то захвачен. В своем «Внутреннем свитке» 1975 г. (Илл. 2.10) Шнееман восполь-
зовалась собственным телом как «раздетым донага неприкрашенным человеческим
объектом». Она рассказывала об этом так: «Я приблизилась к столу одетая, с двумя про-
стынями в руках. Я разделась, завернулась в одну простыню, второй накрыла стол и
объявила аудитории, что прочту отрывок из “Сезанн, она была великим живописцем"
[этот текст художница написала в 1974 г.], затем я уронила на пол покрывающую меня
простыню и, стоя, большими мазками краски очертила контуры моего тела и лица».
Кульминацией действа стало чтение свитка, который был спрятан в вагине Шнееман и
который она медленно извлекла оттуда на глазах изумленных и переполошившихся
зрительниц. Метафора была предельно ясна: концепция внутреннего знания, считала
Шнееман, «имеет дело со способностью и одержимостью к присваиванию имен—дви-
жение от внутренней мысли к внешнему обозначению и отсылка к распускающей свои
кольца змее, к актуальной информации (подобно липкой наклейке, свитку Торы в хра-
нилище, потиру, клиросу, свинцовой гирьке-отвесу, колокольне, пупку и языку)». Тело,
таким образом, становится источником самопознания и истины. «Я полагаю, — говорит
Шнееман, — что палеолитические и мегалитические резные фигурки и высеченные из
камня женские скульптуры были именно женских рук дело... что жизненный опыт и
сложность устройства собственного тела стали для женщины источником познания и
взаимодействия с материалом, источником представлений о мире и создания картин
мира». Между этими метафорами располагаются дальнейшие соображения Шнееман
о разнице в зрительском восприятии, выраженные здесь более обобщенно. «Во время
театрального спектакля зрители могут вести себя более активно физически, чем когда
они рассматривают картину или коллаж... их можно заставить что-то делать: они мо-
гут помочь чем-нибудь, отойти, чтобы не мешать, уклониться от летящего предмета
или поймать его; зрители, таким образом, расширяют поле своего эстетического учас-
тия, их внимания требует к себе сразу множество действий, которые порой могут даже
представлять угрозу их местоположению в пространстве». Между прочим, ко времени
создания «Внутреннего свитка» Шнееман пришла к крайне оптимистичным выводам
относительно будущего женщин и их художественного образования. «К 2000 году. —
писала она тогда, — ни одной молодой художнице не придется столкнуться с таким
38 Победа и поражение: семидесятые
жестким сопротивлением и постоянным отпором, какой студенткой
пришлось вынести мне... Она не войдет в “мир искусства”, украсив
или позоря собой племенной клуб художников, историков, учите-
лей. директоров музеев, редакторов журналов, галеристов, где все —
мужчины или ярые приверженцы мужских заказников. К 2000 году
феминистки: археологи, этимологи, египтологи, биологи, социоло-
ги — вне всяких сомнений утвердят отстаиваемую мной точку зре-
ния, что это женщина определила формы священного и функцио-
нального — божественные свойства материала, его религиозное и
практическое наполнение; что это она развила гончарное дело,
скульптуру, фреску, архитектуру, астрономию и сельскохозяйствен-
ные законы — ибо все это имплицитно, неявным образом входит в
женские владения преобразований и производства».
В Америке калифорниец Крис Бёрден особняком стоит среди
тех мужчин-художников, в искусстве которых ранимое, уязвимое тело играло первую,
а порой даже главную роль. Опусы Вердена, безусловно, отличались шальной беспеч-
ностью типа «оторви-голова». В своей так называемой «Стрельбе» (1971) Бёрден обра-
тил жестокость культуры на себя самого и свою аудиторию: он попросил своего друга с
определенной дистанции выстрелить в себя так, чтобы слегка задеть руку, — ив атмо-
сфере сгущенного драматизма проверить тем самым связь между успехом и поражени-
ем. Тот факт, что Вердена серьезно ранило путей (то бишь поражение приняло самую
болезненную форму), послужил лишь тому, чтобы подчеркнуть дилемму, в решение
которой аудитория так и так, что называется, влипла: дилемму между «дистанцией»,
необходимой для традиционной драмы, и обязательством разделять ответственность
за события, которые перед тобой происходят. Большая часть ранних перформансов
Вёрдена состояла именно в том, что его обнаженное тело подвергалось физическому
риску. Порой эти действия, особенно если не удавалось привлечь к ним внимания пуб-
лики, снимались на 16-миллиметровую пленку. Другие сохранились только благодаря
скупым записям Вёрдена, похожим на что-то вроде рецепта, руководства или формулы.
Вот, например, рецепт перформанса «Тихо сквозь ночь»: «Мэйн-стрит, Лос-Анджелес,
12 сентября 1973 г. Держа руки за спиной, я медленно, с трудом продвигаюсь по битому
стеклу. Зрителей совсем мало, большинство просто прохожие». Пули, керосин, битое
стекло, электрический провод под напряжением — вот что в ранние годы своего твор-
чества Бёрден избирал инструментом причинения вреда себе самому, хотя он, подобно
прочим концептуалистам, отлично знал, что события увековечиваются не в людской
памяти, а в фотографиях и документах. К примеру, в отчете о перформансе Бёрдена
«Kunst Kick» (Илл. 2.11) во время Базельской ярмарки искусств 1974 г. читаем: «На пуб-
личном открытии [ярмарки]... в двенадцать дня я улегся наверху двухпролетной лест-
ницы в Мустермессе. Чарльз Хилл пинал мое тело, и я скатывался на две-три ступеньки
кряду7». Отсюда видно, что художник свел себя к объекту, подвергающемуся давлению
или насилию, снова и снова провоцируя в своей небольшой, но все-таки порочно вуай-
еристской аудитории напряженность между виной и высвобождением от условностей.
Кроме того, бесстрастный стог Бёрдена наводит на мысль толи об иронии, толи о псев-
донаучности, и этой бесстрастностью достигается пародийный эффект, намекающий,
что высокотехнологичное общество умаляет личность.
Даже мужского пола европейский писатель в состоянии оценить справед-
ливость приговора, который Шнееман вынесла американским феминисткам своего
2.11. Крис Бёрден
«Kuns.t Kick», 29 июня 1974 г.
Перформанс на Базельской ярмарке
искусств. Швейцария
Перформанс 39
2.12. Марина Абрамович
Энергия покоя, 1980
(совместно с Улей)
Перформанс, фестиваль ROSC
в Дублине
2.13. Вэли Экспорт
Делая круг, 1976
Черно-белая фотография, чернила
поколения: они, дескать, «ущербны и обособленны» вследствие ску-
дости поддержки; «вера и преданность женской истории искусств
(Шнееман нарочно пишет “istory” а не “history”) были замыслены те-
ми, кто мог учить этому, и считалась ересью и ложью теми, кто дол-
жен был этому учить; наши глубинные усилия взращивались в тайне,
с предысторией, которую мы скрывали». Также писатель может
подтвердить, что в Европе, как и в Америке, такие художницы-феми-
нистки, какУрс Люти (Вена) и Катерина Сивердинг (Дюссельдорф),
Аннетте Мессаже (Париж) и Рената Be (Германия), объединенные на
тот момент революционными идеями и политическими декларация-
ми, вставали в позу и делали лицо перед камерами, намеренно выра-
жая этим переосмысление своего тела и его адаптацию к культурным
кодам искусства, управляемого мужчинами. Кино- и видеофильмы,
снятые Ульрикой Розенбах (Германия) и Мариной Абрамович
(Югославия), распространили границы жанра на движущиеся изо-
бражения, причем последняя играла с огнем, снимая себя и свою
аудиторию, наблюдавшую за тем, как она глотает таблетки, предпо-
ложительно от шизофрении. Абрамович писала о своих перформан-
сах, многие из которых были осуществлены совместно с немецкой
художницей Уве Лейсипен (известной также под именем Улей), с ко-
торой она познакомилась в 1975 г. в Амстердаме, что они испытыва-
ли физические возможности тела, экспериментируя то с балансом
мужских и женских энергий, то с природой и границами невербаль-
ной коммуникации (Илл.2.12).
40 Победа и поражение: семидесятые
В фильмах Ребекки Хорн середины 70-х, та-
ких, как «Подводные мечты» (1975), демонстриро-
вались надетые на тело пыточного вида приспо-
собления — удлиненные пальцы, шлемы, клетки и
упряжь, — которые одновременно казались и злове-
ще-садистскими, и хрупкими. Эти примеры свиде-
тельствуют о том, что в напряженной политической
атмосфере Европы начала и середины 70-х, когда
утопические надежды 1968 г. защищались все более
отчаянно, перформанс (который сейчас восприни-
мается как безобидный, одомашненный) был той
точкой, в которой подвергалась ярко выраженная
жестокость и враждебность культурной среды.
Среди европейских двойников Вёрдена со
времен венских акционистов предыдущего десяти-
летия в группу «телесных ритуалистов» в составе
Хермана Нитша, Гюнтера Бруса, Отто Мюля и Ру-
дольфа Шварцкоглера входили и представители младшего поколения, Арнульф Райнер
и Вали Экспорт. В то время как Нитш и компания, опираясь на Ницше, Фрейда, экзис-
тенциалистов и мистицизм, со страстным упорством тщились освободиться от либидо,
поколение, вошедшее в силу в 70-х, начало с эффектного подражания своим предшест-
2.14. Джина Пейн
Душа, 24 января 1974 года
Перформанс в галерее Штадлера.
Париж
венникам. Вэли Экспорт (родившаяся в провинциальном Линце под именем Вальтрауд
Холлингер, а потом сменившая его в Вене) вошла в кружок венских акционистов, со-
вместно с кинорежиссером Петером Вейбелем, написав декларацию этого движения.
Это произошло в 1972 г., незадолго до того, как она позаимствовала имя у сигарет мар-
ки «Экспорт», которые тогда вовсю рекламировались на улицах. В манифесте она писа-
ла, что «мужчины спроецировали свое представление о женщинах в общественную
жизнь и средства коммуникации, то есть в науку и искусство, слово и изображение, мо-
ду и архитектуру... и (таким образом) придали женщине облик». В полном соответст-
вии с этим тезисом Экспорт и составила «Автопортрет» (1968-1972), сделав коллаж из
фотографий и объявлений, рекламирующих сигареты. Так она застолбила свой фир-
менный стиль радикального отражения того раздвоения личности, которое навязано
женщине коммерциализированным обществом. «Если реальность — это социальная
конструкция, а мужчины — ее конструкторы, — продолжала Экспорт в своем “Жен-
ском искусстве: Манифест”, —тогда мы имеем дело с мужской реальностью: женщины
еще не пришли к себе, потому что у них нет возможности высказаться, нет доступа к
средствам коммуникации». Подвести итог чрезвычайно разнообразной деятельности
Экспорт в области перформанса, кино и фотографии за 70-е лучше всего словами крити-
ка Кайи Сильверман, которая писала недавно, что «для Экспорт не существует матери-
альной реальности, которая не наполнена изображением, и телесного изображения,
которое не производит натурального физического эффекта». Художница сознательно
подгоняет свое тело под детали городской среды: утлы, бордюры, тротуары — паро-
дируя модернистский дизайн, который не только изгоняет декоративность (согласно
типично мужскому запрету Адольфа Лооса на орнамент, провозглашенному в его клас-
сическом эссе 1908 г. «Орнамент есть преступление»), но и заставляет женское тело
подчиняться своим пространственным и материальным законам (Илл. 2.13). Форми-
рование женской идентичности в архитектуре, психоанализе и философском высказы-
Перформанс 41
2.15. Йозеф Бойс
Мне нравится Америка
и Америке нравлюсь я, 1974
Перформанс в галерее Рене Блока,
Нью-Йорк
Присутствие койота указывает на долгую
истерию преследования и унижения
коренных американцев, индейцев,
а также на отношение между Америкой
и Европой. «Мне хотелось сконцентри-
роваться на койоте, изолироваться
от всех, не видеть ничего американского,
кроме этого койота, и поменяться с ним
ролями», — говорил Бойс
вании с тех пор стало центральным в творчестве Экспорт. В частности, это выразилось
в том, что, подобно американцу Дэну Грэхэму, Экспорт одной из первых в своем поко-
лении стала исследовать значение «стадии зеркала» в теории Жака Лакана о формиро-
вании личности, которая побудила ее, опять же подобно Грэхэму, работать с настоящи-
ми зеркалами и, используя обратную связь в режиме реального времени, — с видео и
инсталляциями, реконструируя «Взгляд» и манипулируя с ним.
Наиболее крайний случай экстремизма среди европейских художниц, выставля-
ющих свое тело, представила Джина Пейн в Париже. Начиная с 1968 г., почти целое
десятилетие она пользовалась своим телом как художественным объектом, кромсая
его и всячески мучая перед камерой и на глазах у зрителей (Илл. 2.14). Как она сама в то
время писала, «жить в своем теле означает обнаруживать слабость, трагическую и без-
жалостную зависимость от ограниченности его возможностей, его изнашиваемости и
ненадежности; означает обнаруживать его фантомы, которые суть не что иное, как от-
ражение мифов, созданных обществом, — обществом, которое не может бесстрастно
принять язык тела, поскольку.язык этот не вписывается в автоматизм, необходимый
для функционирования системы». «Язык», о котором говорит Пейн, это, собственно го-
воря, надрезы, нанесенные одной части тела другой его частью (рукой с лезвием), —
отчасти чтобы встряхнуть аудиторию и вывести ее из гипноза, отчасти же для того,
чтобы уточнить для себя пределы собственного самообладания. «Рана — это напо-
минание о теле, — писала она позже, —для меня невозможно реконструировать образ
тела в отсутствие плоти или когда оно не присутствует прямо перед тобой, без по-
кровов и посредников». Тем не менее читателю следует иметь в виду, что лицом к лицу7
зрители с увечащей себя Пейн никогда не сталкивались. Присутствие между испол-
нителем и аудиторией фотографа Франсуаз Масон (заранее снабженной диаграммами
и графиками, чтобы успеть поймать момент наивысшего напряжения) в известной
степени делало событие формальным и эстетизированным, словно художницу в пер-
вую очередь волновали такие аспекты, как цвет, фон и освещение снимков, которые в
итоге обеспечат ее произведению долговечность.
Пейн пользовалась фотографией как свидетельст-
вом и «логической поддержкой» для тела в испыта-
ниях, причиненных им себе самому.
К середине 70-х отсутствие у художествен-
ного сообщества Запада единой программы ради-
кального протеста истончило нити, связывающие
европейское и американское искусство. Симпто-
матичным признаком желания преодолеть эту от-
чужденность стало возвращение в нью-йоркскую
художественную среду харизматичного немца
Йозефа Бойса, случившееся в 1974 г. Бойс был хо-
рошо известен как участник движения «Фл уксус» и
даже в США имел репутацию гуфу и творца экста-
тических перформансов а-ля шаманизм. В январе
этого года на лекции в одной из нью-йоркских га-
лерей он заявил, что всем человеческим существам
присуща потребность в сознательном творчестве и
необходимо преступать переделы общественных
условностей. Во время своего второго визита в
42 Победа и поражение: семидесятые
Нью-Йорк, в мае, Бойс устроил в галерее Рене Блока в Сохо трехднев-
ный перформанс под названием «Мне нравится Америка и Америке
нравлюсь я» (Илл. 2.15), для которого ему понадобились кучка сена,
две длины войлока, пара перчаток, музыкальный треугольник, пять-
десят экземпляров «Уолл-стрит джорнл» (ежедневно обновляемого)
и посох с ручкой крючком, которым он подавал знаки койоту, поза-
имствованному на ферме в Нью-Джерси. В галерею Бойс попадал
прямиком с самолета, завернутый во что-то вроде того одеяния, в ко-
тором, как он утверждал, его спасай после того, как самолет, кото-
рый он пилотировал во время войны, рухнул в Крыму. Ежедневно в
течение трех дней Бойс ударял по треугольнику, подавая сигнал
включить магнитофон с записью громкого шума мотора, и прини-
мался дразнить койота, бросаясь в него перчатками. Затем он снова
заворачивался в войлок, «под которым скрывался весь, за исключе-
нием шляпной тульи, напоминая собой завернутую скульптуру чело-
века. Его посох с крюком, подобный пастушьему, перископом торчал
вверху, как бы следя за настроениями койота. Бойс наклонялся и по-
ворачивался соответственно движениям койота, который... дергал и
покусывал края войлока. Бойс проделывал серию продуманных дви-
жений, по-восточному кланяясь животному, как в замедленной съемке; наконец, скло-
нившись до полу, он ложился, по-прежнему полностью укрытый». Эти свидетельские
показания помогают передать живую манеру, в которой европейский художник сумел
сообщить представление о дикой и «настоящей» природе — той, что промышленная
капиталистическая Америка, похоже, твердо намеревалась истребить.
Концептуально такие произведения также выстраивались на предпосылках
радикализма. Подобно прочим творцам перформансов на обоих континентах, Бойс
намеревался превратить художественный продукт из предмета рыночного обмена в
некий набор акций, целиком и полностью состоящих из труда художника. Не будучи
ни театральным спектаклем, ни скульптурой, ни подлинным ритуалом, такие акции
инсценировали значимый новооткрытый парадокс современного изобразительного
искусства: парадокс художника, атакующего основополагающие институты культуры
на территории самой культуры и с ее квалифицированного одобрения. Парадокс
вымученной, деланной, но взаимной зависимости между художником-ниспровергате-
лем и системой коммерческого искусства на протяжении 70-х продолжал быть предме-
том горячих дебатов среди тех, кто видел себя носителем политически и эстетически
радикальной традиции.
Такова была тогда атмосфера политизированного экспериментаторства в новых
средствах художестве иного выражения. Нападки на укоренившуюся инфраструктуру
искусства, которые совершали художники по всей Европе и в США, были множествен-
ны, системны и часто неотразимы. Даже в традиционно сдержанном Лондоне и то ис-
кусство перформанса повысило свой статус до газетных заголовков: стало очевидно,
что национальные границы больше не могут препятствовать распространению ради-
кальных идей. Стюарт Брисли, к примеру, совершал протяженные во времени ритуалы
с телом, ставя перед собой такие вопросы, как «власть или автономия», «контроль или
свобода», «потребление или самоотречение». В конце 50-х Брисли учился в Лондонском
королевском колледже искусства по классу живописи, а впоследствии жил в Германии
и США, где столкнулся с расовой сегрегацией и такой нищетой, что политизировался
2.16. Стюарт Брисли
Выживание в чужом мире, 1977
Вместе с Кристофером Герике
Перформанс на Документе-6, Кассель
Брисли,. всегда очень чуткий к странным
созданиям современных художников,
организовал свой перформанс
под влиянием проекта американского
концептуалиста Уолтера де Мариа
вдали от центра Касселя. Он вырыл яму
на Фридрихплатц. Проект спонсировал
американский меценат (он предоставил
сум му 300 000 долларов).
На фотографии — Брисли вместе
с Герике
Перформанс 43
до той крайне прямолинейной формы самовыражения, какой является перформанс.
Для работы, названной «Десять дней» (впервые показанной в Берлине в 1972 г., а по-
том в Лондоне в 1978 г.), Брисли в Рождество втечение десяти дней отказывался от пи-
щи, все это время наблюдая, как медленно портятся блюда, которые ему церемонно
сервировали. В «Выживании в чужом мире» (Илл. 2.16), представленном во время До-
кументы-6 в Касселе в 1977 г., Брисли где-то в поле выкопал яму глубиной в два метра
и, копая, обнаружил булыжники, кости жертв войны и подземные воды. На дне этой
ямы он выстроил деревянное сооружение, где в одиночестве прожил в течение двух
недель. В самом деле, большая часть лучших перформансов Брисли резонировала с
размыванием и хаосом, которые неискушенный ум охотно связывал с абстрактным
экспрессионизмом или «action painting» (разбрызгиванием краски по холсту); послед-
ний термин в этом контексте особенно эффектен. Во время другого своего перфор-
манса начала 1972 г., известного как «ZL656395C», Брисли преобразил галерею в
кошмарную то ли тюремную камеру, то ли палату психушки, стены и пол покрыты раз-
водами грязи и фекалиями (по крайней мере, чем-то похожим), мебель поломана.
В этом пространстве Брисли сидел, покачиваясь, или ползал на четвереньках, с выра-
жением уныния на лице, ровно две недели, в то время как зрители наблюдали за ним в
замочную скважину, — и такой способ доступа к произведению работал как мощная
метафора их собственной подавленности и воистину беккетовской отчужденности
друг от друга в обществе потребления.
Теоретики марксизма называют это состояние овеществлением (реификацией),
подразумевая под ним форму социальных отношений, свойственную развивающемуся
капиталистическому обществу, при которой отношения между людьми принимают
видимость отношений между вещами. В 70-х большая часть радикально-эксперимен-
тального искусства выводила себя из той или иной марксистской интерпретации этого
термина. Значительная часть проектов связывались с разными формами феминизма,
меньшая — с психоанализом, но и те и другие представляли собой классические формы
раннего и зрелого Фрейда, а также позднюю его ревизию Лаканом или популярными
писателями-психиатрами вроде Р. Д. Лэйна. Изобретательная зыбкость как теории, так
и практики была характерна для тех лет — параллельно, надо сказать, тому, что
обеспечивалась сохранность самых заметных достижений в живописи и скульптуре.
Разрыв, однако, проходил точно между сознательной культивацией теории в рамках
разнообразной радикальной практики и сохранением традиционных художествен-
ных форм.
Фильмы и видео
Стремительный взлет коммерческого кинематографа и телевидения в Америке в сово-
купности со стремлением молодых художников исследовать пространство за пределами
традиционных границ живописи и скульптуры возродил значительный новый жанр,
дремлющий в забвении со времен Дюшана, Ман Рэя, Ганса Рихтера и Фернана Леже во
Франции и Германии 20-х годов. Полновесный пересмотр «живописи» как различного
рода настенной документальной деятельности, а «скульптуры» — как рассредоточения
материала по полу, по ландшафту или в виде перформанса, отозвался таким образом,
что художники, убежденные в необходимости дематериализовать искусство, обрати-
лись к движущемуся черно-белому изображению как к пародии на кинематический
44 Победа и поражение: семидесятые
опыт «мейнстрима». В самом деле, просторная кате-
гория концептуального искусства впустила в себя
кино столь же естественно, как слились концепту-
альное искусство и фотография или фотография и
перформанс: всех их объединило вокруг себя фото-
графическое изображение. Поворотная Докумен-
та-5 в Касселе в 1972 г., если говорить о примерах
значительных, включила в свою экспозицию целый
раздел, посвященный кинофильмам на 16-милли-
метровой пленке и видео, где демонстрировались,
в частности, такие ранние экспериментальные
вещи, как «Руки ловят свинец (пулю)» и «Руки
связаны» Ричарда Серра (обе 1969), «Отдаленный
контроль» Вито Аккончи (1971), «Filz-TV» («Вой-
лочное ТВ», нем.) Йозефа Бойса (1970), «Один шаг»
Стенли Брауна (1971) и «Муха» Йоко Оно (1970).
Основная стратегия создателей большинст-
ва арт-фильмов того времени состояла в том, чтобы заставить фильм или видео обра-
тить взгляд на себя: внедрить в движущееся изображение саморефлексию, самоото-
бражение, которое привлекло бы внимание зрителя к тому, как фильм сделан, из каких
материалов, с помощью каких машин или съемочных приспособлений. Считалось, что
только таким образом можно как-то оценить мощь самого прозрачного из всех вымыш-
ленных средств выражения (и, возможно, наиболее близкого ко сну). Подобные мате-
риальные заботы сформировали множество радикальных программ искусства 70-х.
Что кажется при мечательным сейчас, так это то, сколь многие из тех, кто получил тради-
ционную художественную подготовку, выражали желание инсценировать нечто, пере-
осмысливающее телевидение или кинематограф, — и часто путем компромисса как раз
с тем средством художественного изображения, которым они в ученичестве овладели.
В случае канадского художника Майкла Сноу этот компромисс случился между
движущимся изображением и скульптурой. Его опус «De La», впервые показанный в От-
таве в 1971 г. (Илл. 2.17), состоял из гидравлической стальной структуры, снабженной
вращающейся ручкой, на конце которой была установлена телекамера, которая могла
снимать в любом направлении без перерыва, меняя угол съемки и скорость движения
и даже предпринимая попытки снять себя самое. Картинка транслировалась на четыре
монитора, симметрично, как безмолвные наблюдатели, поставленные вокруг цент-
ральной машины. Откровенно развивая такие ранние работы Сноу, как «Авторизация»
(1969), в которой он фотографировал себя, фотографирующего зеркало, или «Жалюзи»
(1970), где он снова показывал, как его фотографируют, «De La», по сути дела, касалась
структуры телевизионного производства. Сноу сам объяснял, что эта работа «связана с
видением того, как машина изготавливает то, что вы видите; телеизображение — это
магия, пусть даже и в режиме реального времени. В то же самое время это призрак реаль-
ных событий, в которых, как в данном случае, участвует сам зритель. Устройство, фик-
сирующее эти события, в них самих никогда не видно». Как явствует из этого описания,
произведение Сноу являлось физической инсталляцией (хотя в то время этот термин
был еще не в ходу) в реальной комнате, по которой передвигался и зритель; кроме того,
и машина, и телемониторы предполагали некое соответствие между собой, масшта-
бом человека и его положением — а именно этим во все века занималась скульптура.
2.17. Майкл Сноу
«De La», 1969-1972
Механическая скульптура из стали
и алюминия с телевизионной каме-
рой, электрическими регуляторами
и четырьмя мониторами
Национальная галерея Канады,
Оттава
«Вы можете следить за движениями,
которые делает источник изображения
(центральная машина), а также
за результатом этих движений,
отражаемых четырьмя экранами...
Это что-то вроде диалога об ощущениях»
(Майкл Сноу)
Фильмы и видео 45
Как и многие его собратья по цеху, Сноу раз-
делял ту идею, что его сооружения, по производи-
мому ими эффекту, являются не чем иным, как
скульптурой. «De La» — «это скульптура, и действи-
тельно очень важно, что вы видите, как машина
движется и как она прекрасна», утверждал он.
Стрекот снимающей камеры также являлся эле-
ментом ее физического, реального, сиюминутного
существования: «Звук — это важная составная
конкретности машины».
Точно так же и в ранней работе британского
2.18. Малкольм Ле Грис
Берлинская лошадь, 1970
Съемка: Малкольм Ле Грис,
звук: Брайан Эно.
16-мм пленка и двойная проекция
авангардиста, режиссера Малкольма Ле Гриса сама материальность съемочного обо-
рудования с его катушками, моторчиками и огоньками была элементом экспозиции,
обладающим с точки зрения восприятия теми же правами, что и мнимое, фиктивное
киноизображение. Ле Грис, по профессии живописец и большой поклонник джаза, в
конце 60-х обратил свою склонность к импровизации на конструирование кинокопи-
ровальной машины, которая обеспечила художнику новаторскую степень участия в
создании эпизода (последовательного ряда кинокадров), т. е. возможность манипули-
ровать светом, фоном, монтажом и качеством изображения: «Как современный худож-
ник заставляет материальность холста, цвета и пигмента сопротивляться иллюзии,
так и создатель фильма может использовать материальность киносредств, показывая
и используя целлулоид, царапины, грязь и перфорацию, а также видоизменяя изобра-
жение при печати». В результате аудитория получала возможность воспринимать изо-
бражение совсем иначе, чем это бывает в кинотеатре или при просмотре телевизора
дома. В кинотеатре зритель принужден, как в камере, сидеть в затемненном помеще-
нии на протяжении всего фильма; его вовлекают в иллюзорное повествование, где
внятно и последовательно рассказанная сюжетная линия имеет начало, развитие, раз-
вязку и завершение, — и все это процесс, над которым режиссер фильма и его прокат-
чик сохраняют полную власть. Материальный авангардный фильм — совсем другое
дело. Например, фильмы Ле Гриса, снятые в середине 70-х, представляли собой эф-
фектные представления, «в которых действие оказывалось напрямую экраном, движу-
щимися проекторами, снопами света и тенями, отбрасываемыми исполнителем». Его
«Матрица» 1976 г., в которой участвовало шесть проекторов, по словам автора, должна
была «отобразить временную протяженность и пространство съемки как первичные
реальности кинематографа». Фильм 1970 г., озаглавленный «Берлинская лошадь», по-
требовал двух наисовременнейших на тот момент 16-миллиметровых кинопроекто-
ров, которые с двух петель (зацикленных кусков) кинопленки посылали изображение
горящего здания на вертикальную поверхность обширной галерейной стены. Оба про-
ектора включались одновременно, и к лязгу и жужжанию оборудования добавлялось
звуковое сопровождение, сочиненное пионером электронной музыки Брайаном
Эно, — с тем эффектом, что все помещение буквально заливало звуковым подобием
стрекота пулеметов, стреляющих в близкую цель, в то время как зрители расхаживали
по всей галерее и вокруг нее и могли, таким образом, внедряться во временную протя-
женность и материальное пространство события (Илл. 2.18).
Другие молодые британские кинорежиссеры, например Крис Уэлсби, оставив
контекст просмотра сравнительно не тронутым, подчеркивали сам процесс фильма,
обратив внимание на элементы кинопроизводства, выражающие упорядоченную
46 Победа и поражение: семидесятые
последовательность или структуру. «Структура»
это слово проникло в художественную практику
благодаря «структурализму» Клода Леви-Стросса)
уже была ключевым термином в произведениях
фотографии. В них отражались отношения между
временем выдержки и качеством печати либо же
между временем проявления и качеством печати,
и принципом их выставочного показа зачастую
были последовательность кадров либо зернис-
тость отпечатка: это видно по таким актуальным
тогда работам, как «Камера фиксирует свое собст-
венное состояние» (1971) или «Шестьдесят секунд
света» (1972) Джона Хилларда. Структуралистская
фотография, в том смысле, в каком ее свойства за-
висели от обработки и времени, тут же приспосо-
билась к «материальной» кинопрактике, так что в
«Семи днях» Уэлсби (1974) мы видим, как реальная
протяженность времени транслируется на время и
пространство фильма. Само название отражает и
2.19. Крис Уэлсби
Семь дней (фрагмент), 1974
Пленка
содержание работы, и время, за которое фильм снят: художник отправился в горы
Уэльса и в течение недели от рассвета до заката снимал по кадру каждые десять секунд
(Илл. 2.19). Еще одним ключевым моментом получившегося изображения стал круго-
оборот земли на фоне Солнечной системы, а также ориентация специально спроекти-
рованной камеры в рамках этого процесса. «Камеру установили на экваториальную
стойку. — объяснял Уэлсби, — такую же. какая входит в оборудование астронавтов для
ориентации по звездам. Чтобы оставаться стационарной по отношению к звездному
небу, стойка сориентирована по земной оси и приблизительно раз в двадцать четыре
часа делает оборот вокруг собственной оси. Вращаясь с той же скоростью, что и земля,
объектив камеры всегда направлен то на солнце, то на свою тень на земле. Выбор, что
это будет, земля или небо, определяется облачностью. Если солнце спрятано, камеру
обращают к собственной тени. Если солнце вышло, камера смотрит на него». Про-
смотр этих фотокадров в движении, как кинопленки, создавал темпоральную структу-
ру, о происхождении которой зритель постепенно догадывается. Без
2.20. Ричард Серра
Ант Фары, 1972
Фильм, перформанс
комментария фильм Уэлсби кажется удивительно абстрактным.
С комментарием становятся ясны его материальные, структуралист-
ские и даже космические подтексты.
Между тем параллельно всему этому экспериментаторству со
структурой возникла и потребовала к себе внимания еще одна нова-
ция. В продаже появилась ручная, доступная по цене видеокамера,
выпущенная в 1973-1974 гг. корпорацией «Сони», чем обеспечился и
повод, и инструмент для самых яростных нападок на коммерческое
телевидение США., в то время (да и впоследствии) откровенно экс-
плуатирующее низменные чувства, да и вообще, пожалуй, самое не-
доброкачественное телевидение в мире. В самом деле, модная камера
пошла в дело в таком темпе, что к 1975 или 1976 г. — это был момент
водораздела в развитии авангардного кино — ведущие музеи совре-
менного искусства по всему Западу' уже экспонировали образчики
I
You are the product
of t.v.
You are delivered to
the advertiser who is
the customer.
Фильмы и видео 47
видео-арта, а искусствоведческие издательства из самых рисковых выпустили свежие
критические обзоры, где новые опусы оценивались и расставлялись по местам. Впе-
чатляющее число серьезных художников по обе стороны Атлантики принялись сни-
мать короткие видеофильмы, в которых высмеивались и пародировались приемы ком-
мерческого ТВ — и, рикошетом, доминантная культура в целом. В «Коллаже» Линды
Бенглис (1973) и «Обмене» Роберта Морриса (1973) художники прибегли к второсорт-
ным клише, чтобы осудить голливудскую манеру беззастенчиво (как и по сию пору)
использовать кинославу таких звезд, как Элизабет Тейлор и Ричард Бартон: вместо них
в работе Морриса показаны две псевдознаменитости, занятые пустейшей беседой.
В шестиминутном фильме Ричарда Серра «Телевидение поставляет людей» (Илл. 2.20),
также снятом в 1973 г., на телемониторе появлялись сугубо вербальные сообщения, не-
сущие парадоксальный политический посыл: «Проект телевидения — это аудитория»,
«Телевидение поставляет людей рекламодателю», «Средства массовой коммуникации
означают, что средство способно поставить массы людей», «Корпорации, владеющие
сетями, контролируют их», «Корпорации не несут ответственности перед своими
акционерами». Это примеры того, как последовательно, шаг за шагом, подходил к делу
Серра. В интервью, опубликованном вскоре, он повторил то, что уже было заявлено в
выставочном каталоге: «Технология есть способ изготовления инструментов, которые
являются продолжением нашего тела... Ее не интересуют подтексты, то, что не под-
дается толкованию. Ее интересует она сама. Технология — это то, что мы делаем с
“черными пантерами” или вьетнамцами под соусом материалистической теологии».
И далее: «На мой взгляд, коммерческое телевидение — это в основном шоу-бизнес,
который используется для того, чтобы отражать корпоративные интересы Америки.
Вещательные компании выпускают программы, которые внушают зрителю мысль, что
дома, в городе, в стране все прекрасно, что Америка лучшее место на свете... Я знаю,
что концепция ТВ была разработана в шестидесятых. И все-таки сейчас, в 1974-м, люди
2 21 по-прежнему принимают за чистую монету то, что видят на своих экранах». При-
Муравъиная ферма. Медиа-бум, 1972 помнив, как во время президентских выборов 1972 г. «Никсон велел собрать молодых
Пленка / перформанс республиканцев, которые аплодировали ему по сигналу, когда он обменивался рукопо-
жатием с Сэмми Дэвисом», Серра постулировал
прямую и несомненную связь между распростра-
нением ТВ по всей Америке и наличием более или
менее завуалированного правительственного
контроля.
Пока Серра демонстрировал свою осведом-
ленность о связи кинопроизводства со своим лич-
ным опытом скульптора, снимая этот и после-
дующие политические видеофильмы, например
«Дилемма заключенного» (1974), другие худож-
ники того времени выбрали для своей видеокри-
тики ТВ формы более игровые и выразительные.
Четверка дипломированных художников и архи-
текторов (Чип Лорд, Хадсон Маркес, Дуг Майклз и
Кертис Шреер), объединившаяся в группу «Му-
равьиная ферма», затеяли публичные хепенинги
по поводу коммерческого ТВ. Это произошло в
1971 г., когда родилась концепция, поначалу не
48 Победа и поражение: семидесятые
получившая общественной поддержки. «Идея явилась из подсознания, — писали “му-
равьи” позже, — сложить на автостоянке штабель из телевизоров, а затем вонзиться в
него старой машиной с ветровым стеклом, заделанным металлическим щитом». На-
глухо закрыв ветровое стекло, установив видеокамеру на высокий плавник в хвосте
машины и соответственно ориентируясь при управлении на имеющийся внутри теле-
монитор, 4 июля 1972 г. «Муравьиная ферма» остановила «кадиллак» 1959 г. изготовле-
ния перед полутысячей гостей, собравшихся на парковке. Актер, изображающий Джо-
на Ф. Кеннеди, имитируя торжественное обращение по поводу Дня независимости,
произнес шутливый спич, посвященный пагубной привязанности американского на-
рода к телевидению; прозвучал национальный гимн; и «кадиллак», символ процвета-
ния Америки 50-х, торжественно врезался в курган из сорока двух облитых керосином
телевизоров, в то время как камеры радостно запечатлели это столкновение, завер-
шившееся пожаром (Илл. 2.21).
Где-то посередке между структуральным и открыто политическим фильмом рас-
полагались ранние видеопроизведения американца Дэна Грэхэма. Впервые внимание
художественной общественности Грэхэм привлек к себе в декабре—январе 1966-
1967 гг. публикацией в «Артс мэгэзин» статьи «Дома для Америки», где он бесстрастно
и на полном серьезе изложил историю массового жилищного строительства в после-
военной Америке в контексте тех экономических ограничений, которыми в итоге оп-
ределялся набор домов, предлагаемых покупателю. На этапе продажи эти проекты no-
навались под кокетливыми названиями, намекающими на элегантный архитектурный
стиль: «Беллиплейн», «Бруклоун», «Колонна», — в то время как на фотографиях, иллюс-
трирующих статью, видно, что домики на одну семью представляли собой всего лишь
геометрически скучные, примитивные по форме блоки. «Они строились отнюдь не для
того, чтобы удовлетворять индивидуальным потребностям или вкусу, — писал Грэ-
хэм, — владелец как личность не оказывал на конечный продукт никакого влияния...
его дом даже нельзя назвать владением в привычном смысле слова; он не задумывался,
чтобы простоять века, и за пределами непосредственного контекста “здесь и сейчас”
он бесполезен, предназначен на выброс. И архитектура, и отделка дома как ценности
подчинены потребностям упрощенного массового производства и стандартизирован-
ным модульным планам». Подавая себя как нечто среднее между журналистикой и ис-
кусствоведческой критикой — в особенности же критикой минимализма, — статья
Грэхэма нашла эквивалентные выражения для политической и социальной структур в
структурах и функциях самого языка. Томас Крау так определил посыл этой статьи:
Перелицевав стандартное журналистское описание подобно тому, как Флавин реор-
ганизовал осветительные приборы, а Андре — кирпичи, Грэхэм применил самый ради-
кальный из постулатов минимализма: произведение искусства можно создать из чего
угодно и расположить его где угодно в рамках.узнаваемого художественного контекс-
та. и журнальные страницы годятся для этого не меньше, чем галерея».
Вскоре Грэхэм сумел транспонировать свое представление о взаимоотношениях
между языком, фотографией и общественным поведением в новые сферы перфор-
манса и кино: специфическая способность видео передавать изображения в реальном
режиме времени или встраивать в них, с помощью реле времени, пяти-шестисекунд-
ные паузы обогатила возможностями и без того горячую увлеченность Грэхэма такими
проблемами, как обратная связь и социальный контроль. В его проекте «Двухком-
натная пауза» (1974) в смежных зеркальных комнатах были установлены видеотеле-
мониторы, которые передавали изображения находящихся в них людей на мониторы,
Фильмы и видео 49
установленные в другой комнате, при этом временная пауза для
расхаживающих по комнатам зрителей действовала как некий раз-
делитель, закладка между их прошлым опытом и опытом настоя-
щим. «В каждой из комнат, — писал Грэхэм, — наблюдатель видит
свои сиюминутные действия отраженными в зеркалах; в то же время
он видит свои прошлые действия, из другой комнаты переданные
на монитор так, как они отразились в противоположном зеркале».
Затеи такого рода обладали даром предвидения, ибо обращали
внимание на социальные последствия видеозаписи: для целей поли-
цейского наблюдения, корпоративной коммуникации, медицин-
ской диагностики и прочих разновидностей информационной связи.
Впоследствии связь между работой Грэхэма как художника и его
гражданскими тревогами снова проявила себя в архитектуре. «Ар-
хитектурный код отражает код социального поведения и помогает
2.22. Дэн Грэхэм
Видеокадр из «Витрин в пассаже»,
1976
Два монитора, две камеры,
реле времени, встроенные в две
параллельные, одна напротив другой
магазинные витрины в современном
торговом пассаже
усилить его», — писал Грэхэм в статье 1974 г. «По мере того как видео накладывается
на традиционные элементы или функции архитектуры (и заменяет их), оно начинает
влиять на архитектурный код... жизнь далеких физически или культурно индивидуу-
мов или семей может постоянно соединяться посредством видеосвязи».
В эти прогнозы уже встроена озабоченность судьбой того структурного элемен-
та, который является базовым для жизни в западных городах. Речь о зеркале с его не-
обыкновенно могущественной функцией — его проявлении как «Взгляда» (и, след-
ственно, его, зеркала, субъективности) в архитектуре и шоппинге, а также о вечно
проблематичном водоразделе между местом общественным и местом приватным.
Еще в начале 70-х Грэхэм много писал по теории кино, рассматривая подтексты «фазы
зеркала», переживаемой личностью в детстве и столь живо описанной психоаналити-
ком Жаком Лаканом. Теперь, в середине и конце 70-х, Грэхэм обнаружил множество
возможностей применения своим стремительно развивающимся теориям. Проект
«Витрины в пассаже» (1976) обращается к использованию зеркал в торговом пассаже,
где магазины расположены по обе стороны прохода. Для этого проекта Грэхэм расста-
вил видеомониторы внутри каждой из двух параллельных витрин — «для того чтобы
обеспечить просмотр витрины напротив и того, что делается за ней (а также того, что
происходит внутри той витрины, за которой находится наблюдатель, — посредством
изображения, отраженного зеркалом противоположной витрины)», таким образом
получая «внутренний вид интерьера с передней и задней перспективы, фронтальный
вид и вид сзади покупателей, рассматривающих обе витрины, а также тех покупателей,
которые находятся в «реальном мире», в пространстве пассажа» (Илл. 2.22). В обыкно-
венной витрине, указывает Грэхэм, «позади выставленных в ней товаров часто имеются
зеркала или фрагменты зеркал, которые заманчиво отражают различные фрагменты
тела наблюдателя. Зеркало усиливает нарциссическую склонность человека к само-
любованию и подчеркивает отчужденность зрелища от изображения тела и товаров...
наблюдатель чувствует раздражение, если другие люди пытаются вытеснить его с зани-
маемой им позиции, или же его внимание отвлекается на другие витрины и реакцию
людей на их оформление». Однако благодаря множественному возврату изображения,
заложенному в этой работе, зритель внезапно осознает, как он выглядит в формиро-
вании процесса «вожделение — потребление». Точно также «несходство мнения рабо-
тодателя относительно рабочего места работника с мнением работника относитель-
но рабочего места работодателя стало бы еще одним примером соответствия того
50 Победа и поражение: семидесятые
“Взгляда”, о котором говорят теоретики кино, соблюдению общественного порядка».
Когда такие ситуации наново освещаются видео-артом, говорит Грэхэм, «неравенство
возможностей выражается более чем очевидно».
Распространение радикального искусства
Все револ юционные моменты в культуре стал ки ва ются с одной и той же дилеммой: как
поддержать боевой задор и не расслабиться в нежащих объятиях власти. Мы уже упо-
минали тот факт, что для феминисток центральным вопросом стала сравнительная
незаметность женщин-художниц в экспозициях крупнейших музеев, а также низкий
статус женщин-художниц в образовательной и выставочной системах, из чего и следо-
вали попытки создать альтернативные формальные языки. С точки зрения мужчин,
ситуация выглядела иначе: в самом деле, большинство форм мужского радикализма,
базирующегося на наследии искусства концептуального, вскоре подверглись опасности
ввиду того, что музеи и коммерческое искусство быстро переметнулись на их сторону.
Недолговечный, но значимый малотиражный журнал «Лис» (The Fox), в середине 70-х
издававшийся в Нью-Йорке ответвлением английской группы «Искусство и язык»,
впряг в одну упряжь риторический стиль неуверенного в себе концептуализма и все
более беспомощный, отчаявшийся что-то понять марксистский искусствоведческий
анализ. «Лис» колко и напористо размышлял: а не подчиняется ли в конечном счете ка-
питалистическому присвоению и сопутствующим ему инструментам общественного
давления даже самый отъявленный радикализм, и в полном согласии с этим тезисом
некоторые адепты журнала вскоре покинули художественную стезю и переместились
трудиться в сферу образования или низовую политику. Другие же вернулись в Велико-
британию, чтобы заняться критическим разбором — как ни странно, живописи, причем
методами, о которых речь пойдёт в следующей главе.
Другим художникам, вышедшим на арену в конце 60-х, также пришлось столк-
нуться с тем неприятным фактом, что появление все более экстремальных форм
2.23. Гордон Матта-Кларк
Расщепление (в Инглвуде), 1974
Фотопленка «Сибохром» (Cibachrome)
Частная коллекция
Посетившая этот дом художница Элис
Айкок вспоминала, что «у основания
лестницы трещина была совсем малень-
кая. Вы шли наверх... по мере подъема
она все расширялась и наверху была
уже в два фута шириной... и вы ощущали
эту бездну перед собой и кинэстетически,
и психологически»
альтернативного искусства вызывает в обществе
раздражение, что социуму не до новых идей, он за-
хвачен экономическим кризисом, который затро-
нул всех, включая художников. Именно к экстре-
мистам относится Гордон Матта-Кларк, который в
1969-1972 гг. втайне увечил заброшенные здания
на береговой линии Нью-Йорка, нарушая их устой-
чивость тем, что вырезал, панели или даже целые
стены. Таким образом он деятельно выражал свое
видение города и, помимо того, свойственную ему
по самой природе недолговечность архитектурной
(и соответственно социальной) упаковки. Вплоть до
своей безвременной смерти в 1978 г., поддержива-
емый верой в алхимические превращения материи,
молодой Матта-Кларк преодолевал свое нездо-
ровье, дабы осуществить серию значительных про-
ектов, в которых продолжал по-крупному, широко-
масштабно «портить» здания, что ретроспективно
Распространение радикального искусства 51
2.24. Майкл Эшер
Проект в галерее Клер Копли,
Лос-Анджелес. 1974
в равной мере напоминало и сюрреализм его отца, художника-
коммуниста Роберто Матта, и антиформальные движения его непо-
средственных предшественников, художников 60-х. В остроумном
проекте «Расщепление» (1974) (Илл. 2.23) Матта-Кларк разрезал по-
полам дом в Нью-Джерси, из которого жителей выселили для прове-
дения запланированной, но так и не случившейся реконструкции.
В середине 70-х жилищное строительство стало любимой темой
художников на обоих континентах — как следствие кризиса цен на
недвижимость, проблем с городским планированием и растущей
безработицы. Художественная территория, которую предпочел за-
нимать Матта-Кларк, располагаясь между городским вандализмом,
мистической архитектурой и субтрактивной (методом отсечения)
скульптурой, ограничивала правовые и логистические амбиции
радикальных художников 70-х. Уже сама долговечность его работ,
сохранившихся исключительно в документах, надо полагать, доста-
точно красноречиво говорит об их истинном значении.
Проект калифорнийского художника Майкла Эшера ставил
целью уточнить понимание «ситуационной эстетики», согласно ко-
торой местоположение, в котором оказывается артефакт, является
важнейшей, может быть, даже уникальной компонентой произведения. Эшер использо-
вал пространство музея или галереи как физический ресурс, вклиниваясь в его осязае-
мый, материальный характер для того, чтобы предложить новое чтение привычных про-
цессов, посредством которых создаются, выставляются и потребляются произведения
искусства. Для проекта, осуществленного в Художественном институте Отиса в Лос-
Анджелесе в 1975 г., Эшер договорился, чтобы галерею закрыли на время проведения
«шоу», а в холле вывесил объявление: «На этой выставке произведение искусства — это
я» и, стало быть, перемешал местами идентичности художника и зрителя, нс говоря уж
о том, что оскорбил зрителя в его ожиданиях обрести в пространстве галереи утешение,
очищение и утонченность. Годом ранее, также в Лос-Анджелесе, Эшер снял частную га-
лерею, сломал перегородку между выставочным пространством и служебным помеще-
нием и, полностью уничтожив различия в ковровом покрытии и декоре, добился того,
что все помещение, теперь лишенное картин, за исключением тех, что были, как обыч-
но, уложены в конце офиса, таинственным образом оказалось удивительно цельным
(Илл. 2.24). Читатель может догадываться, что в результате вскрылось противоречие
между эстетическим опытом и коммерцией. По словам Эшера, «зрители столкнулись с
тем способом, каким их обычно вовлекают в разглядывание произведений искусства,
и одновременно с тем, как развертывается галерейная структура и механизм ее дейст-
вия.. . Если вопрос так не ставить, произведение искусства остается замкнутым в своем
абстрактном эстетическом контексте, и тогда зритель волен окружать таинственностью
его (произведения) актуальный и исторический смысл». Отсюда следует, что сговорчи-
вый куратор может стать составной частью выставленной им художественной работы.
Проекты Эшера нельзя ни купить, ни продать, и сохраняются они лишь в непроч-
ных документальных свидетельствах да статьях критиков. Любопытно и характерно,
что эта особенность концептуального искусства отозвалась тем, что в 70-х, по слухам,
несколько американских галерей и музеев сумели обернуть его эфемерную природу
себе на благо. Признав и даже оценив сопутствующие концептуализму тексты, заметки,
диаграммы, инструкции и фотографии, музейщики сделали эти во всех отношениях
52 Победа и поражение: семидесятые
2.25. Патрик Ирландец
Куча. Брикеты торфа
Галерея Дэвида Хендрикса. Дублин
малозатратные форматы предметом стремительных коммерческих сделок и недорогих
экспозиций. Необременительное с точки зрения хранения, транспортировки., показа,
описания и страховки концептуальное искусство рисковало стать готовым ответом на
сокровенные чаяния арт-дилеров, поскольку радикалистские инновации с присущей
им материальной простотой обрели теперь свою коммерческую стоимость.
Пожалуй, этого нельзя сказать о концептуализме в широком международном
контексте, где честолюбивые замыслы альтернативного искусства тоже пустили
корни. К примеру, несколько художников, бегло освоивших язык минимализма и кон-
цептуализма, предприняли попытки согласовать с новыми формами локальные по-
литические проблемы. Брайан О’Догерти (родившийся в Баллагадеррине, графство
Роскоммон) отправился из Ирландии в Нью-Йорк в 1957-м, чтобы начать там карьеру
влиятельного критика и музейного администратора. С 1972 г., избрав себе, согласно
своим политическим убеждениям, националистский псевдоним Патрик Айрленд (Ир-
ландец), он работает еще и как художник — «до тех пор, когда британское военное при-
сутствие не покинет Северную Ирландию и все граждане не получат гражданских
прав». Для своей ранней земляной инсталляции под названием «Груда» (1975) Айрленд
с помощью мастерового-каменщика выстроил внутри дублинского дома XVIII века, ис-
пользуемого так же как галерея, традиционную ирландскую хижину из торфа
(Илл. 2.25). Весьма живо передав впечатление о крестьянских сооружениях сельской
Ирландии и архитектуре раннеирландских каменных церквей, «Груда» сообщала зри-
телю непреодолимое напряжение между крестьянской бедностью и элегантно оштука-
туренным интерьером георгианского особняка. Это был один из первых примеров про-
изведения, созданного как раз для того, чтобы поднять вопрос о классовом обществе и
колониальном прошлом. Надо заметить, что ранее в том же году О’Догерти/ Айрленд
прочел в Лос-Анджелеском окружном музее искусств лекцию на тему «Внутри белого
куба: 1855-1974», которой началась серия опубликованных в «Артфоруме» (1976)
статей по феноменологии и истории музеев современного искусства, — статей,
Распространение радикального искусства 53
установивших новые критические стандарты для требований и за-
претов, расхожих в этом заметном и (к настоящему времени) весьма
типичном пространстве.
На другом полюсе западного арт-мира также наблюдались
события разнородного, но в чем-то и схожего свойства. В Польше, Че-
хословакии и России — если взять три представительных примера —
в 70-80-х появлялись актуальные работы, с некоторыми отличиями
от их аналогов в Западной Европе и Америке, однако система обеспе-
чения искусства и художественная аудитория в странах коммунисти-
ческого блока вряд ли были сопоставимы с западными. В этих странах
рынок, столь важный и противоречивый с точки зрения западных
художников, не существовал вовсе. И все-таки фундаментальные ка-
тегории альтернативного искусства оказались быстро восприняты
теми'Художниками, у которых имелся выход на Запад. Молодой Зде-
нек Беран из Праги (пример важный, но не типичный) исходил из
собственного опыта общения с враждебным политическим окруже-
нием, создавая свой эпический труд «Реабилитационный центр док-
тора Д.» — попытку передать муки художника, лишенного общения
со своей публикой, и дань уважения чешскому психиатру Станисла-
ву Дрвоте, автору монографии «Индивидуальность и творчество».
Беран торжественно сжег в поле все содержимое своей скромной
студии. При этом присутствовало всего несколько доброжелателей
2.26. Зденек Беран
Реабилитационный центр
доктора Д., 1970-2000
Национальная галерея. Прага
(среди них, по крайней мере, один фотограф), которые вполне сознавали, что даже изу-
веченное временем произведение искусства переживет давление и интеллектуальный
террор (Илл. 2.26). Для Берана это был акт противодействия обществу, где царила по-
литическая цензура, и власти, категорически не приемлющей современное искусство.
В СССР вплоть до конца 1960-х обычной диетой все еще были официально одоб-
ренные версии соцреализма в виде картин радостного шествия к победе коммунизма,
счастливой покорности гражданина государству и т. д. Государственный аппарат,
которым регулировалось производство и показ «произведений искусства», начиная по
меньшей мере с 1945 г., набросил удушающее одеяло на все искусство Восточной Евро-
пы. Атмосферу в Москве в начале 70-х характеризует то, что редкие случаи выхода оп-
позиционного искусства на поверхность вызывали яростный отпор властей. Лучший
тому пример — «Бульдозерная выставка» 1974 г., когда по приказу КГБ бульдозерами
была разрушена авангардная выставка на пустыре в Беляеве. И все-таки оглушитель-
ный общественный резонанс этого события парадоксальным образом послужил как
устрашению, так и раскрепощению молодых: две недели спустя выставка вновь откры-
лась и пользовалась гораздо большей, чем в первый раз, популярностью. К этому вре-
мени московские художники ввели термин «соц-арт», обозначающий терпкую стили-
зацию официального советского реализма. В соцартовских работах Виталия Комара и
Александра Меламида, художников, которые теперь живут в США и продолжают рабо-
тать вместе, использован спектр приемов а-ля Дюшан, минимализм и поп-арт, почерп-
нутых из западных художественных журналов, а крометого, они приправлены доморо-
щенным цинизмом, оглядывающимся на русских литераторов-абсурдистов 20-х годов,
обэриутов. Одно из полотен Комара и Меламида, созданное в 1972 г., иллюстрирует со-
бой подвид восточноевропейского концептуализма. Художники взяли некий коммуни-
стический лозунг и каждую его букву свели к монохромному прямоугольнику, отчего
54 Победа и поражение: семидесятые
содержание лозунга стало абстрактным и неузнаваемым (Илл. 2.27). Здесь бессодер-
жательность минималистского разлива работает на характеристику сообщения, како-
во бы оно ни было. Официальная действительность становится предметом пародии,
выполненной в рамках известного кода, а пародия сама по себе, играя в игры с языком
и смыслом, гарантирует художников от повышенного внимания цензоров — как пра-
вило, чувством юмора не отягощенных.
Для некоторых советских художников, не имеющих возможности выехать на За-
пад, но время от времени урывающих из Нью-Йорка и прочих мест крохи информации
о тамошнем положении дел, работы некоторых западных концептуалистов, пред-
ставителей ленд-арта (земляных работ) и музыкантов приобрели почти мистическое
2.27. Виталий Комар
и Александр Меламид
Цитата, 1972
Холст, масло
120x80см
Частная коллекция
значение. К примеру, московская группа «Коллек-
тивные действия», собравшаяся вокруг Андрея Мо-
настырского, в середине 70-х принялась развивать
идеи радикального американского композитора
Джона Кейджа о роли случайности и произвольно-
сти в музыкальном произведении, а также широко
копируемую в мире манеру Кейджа позволять зву-
ковому окружению внедряться в произведение и
даже диктовать ему его феноменологическую фор-
му. Русские отнеслись к делу очень серьезно. Зри-
телей приглашали приехать куда-то за город, где
«Коллективные действия» производили ритуаль-
ные действия загадочного характера, никому на-
перед ничего не объясняя. Так, в «Появлении»
(1976) два исполнителя выходили из леса и подава-
ли одному из зрителей записку, уведомляющую о
его или ее участии в событии (типичный пример
склонности русских смешивать визуальное с язы-
ком). В перформансе «Либлих», представленном в
том же году, под снегом звучал электрический зво-
нок, когда к нему приближался зритель: концеп-
ция «звучащего молчания» также была вдохновлена
Кейджем. В «Третьем варианте» (Илл. 2.28) персо-
нажи, лежа в канаве, производили пассы руками,
как бы очищая себя, — этот мотив можно обна-
ружить в «Путешествии в Икстлан» Карлоса Каста-
неды и в романе Сэмуэла Беккета «Моллой» — а
зрители, предоставленные сами себе, понемногу
расходились. Такие акции выходили за пределы
даже привычного противопоставления себя офи-
циальному искусству. Сама поездка для участия в
этих игровых и полуприватных экзерсисах приоб-
ретала значение события, некий обрядовый смысл
и надолго задерживалась в культурной памяти.
Присущая русским ирония над несусветным
западным искусством проявилась также в работе
группы московских перформансистов в составе
Распространение радикального искусства 55
2.28. Андрей Монастырский
и «Коллективные действия»
Третий вариант. 1978
Перформанс
Персонаж, одетый в лиловое, выходил
из леса и. пройдя через поле, ложился
в канаву. Голова второго персонажа,
в форме воздушного шара, надувалась
перед тем, как он тоже укладывался
в канаву. Оба персонажа продолжали
лежать там, пока не расходились все
зрители
Михаила Рошаля, Виктора Скерсиса и Геннадия Донского. К примеру, они сочинили
документ, в котором выразили намерение за 100 рублей приобрести душу Энди Уорхола.
Другая акция этого трио, остроумно названная «Подземное искусство» (Underground
art) (1979), состоялась в том же парке, где за пять лет до того прошла «Бульдозерная вы-
ставка». Художники, отчасти зарытые в землю, рассказывали в микрофон о своей твор-
ческой жизни в СССР, одновременно малюя грязью на холстах, укрепленных у них над
головой. Видеозапись этого события — новаторское средство документации для Рос-
сии 1979 г. — показывает, как художники выбираются из ям, вопрошая: «И где этот
Крис Верден, когда он нам нужен?» Такие насмешливые арт-жесты, многие из которых
состоялись без публики и даже никак не зафиксированы, наводят на мысль, что все-
проникающая ирония западноевропейского и американского авангарда обладала спо-
собностью адаптироваться к самым отдаленным условиям и функционировать повсюду
в качестве нового языка, пиджин-инглиш диссидентствующего искусства.
И все-таки на Западе скоро заподозрили, что необходима некая форма «возвра-
та» к плотскому, чувственному, дабы преодолеть тот упадок духа, который к этому вре-
мени овладел миром. Вслед за завершением американской войны во Вьетнаме в 1973 г.
и уотергейтским скандалом, которым окончилось президентство Никсона, быстро по-
следовала серия срывов в международной экономике, вызванных ценами на нефть и,
как следствие этого, углубляющийся жилищный кризис; женщины боролись за свои
права, этнические и сексуальные меньшинства —за свои; разгорался кризис в отноше-
ниях между капиталистическими и развивающимися странами. Массовому разочаро-
ванию в традиционной патриархальной культуре сопутствовало понимание, что ради-
кальные социальные и художественные альтернативы контркультуры 1960-х имеют
свои пределы. Настроение творческой интеллигенции на Западе к концу 70-х можно
описать как смущение, смятение, замешательство. Одна нью-йоркская критикесса, ре-
зюмируя состояние искусства к концу десятилетия, заканчивает перечисление ключе-
вых слов периода: минимализм,
формализм, постминимализм,
искусство процесса, разрушение
(scatter works), ленд-арт, кон-
цептуализм, боди-арт, фотореа-
лизм — отчаянным вскриком,
что «после начала 70-х слова
подводят нас; словарь развали-
вается... больше нет терминов,
которые действительно что-то
значат». Помянув «шизофре-
нию», «разобщение» и «путаницу
понятий», она передает ощуще-
ния художников, которые видят,
что все перепробованные ими
альтернативы ортодоксальному
модернизму пусты, исчерпаны,
истощены — но не знают, куда ж
им еще пойти.
56 Победа и поражение: семидесятые
Голоса времени
Из книги: Джуди Чикаго. «Званый ужин: Символ нашего наследия». Нью-Йорк... с. 54
«Званыйужин» на самом деле неадекватно отражает историю женщин.
Для адекватного отражения нам понадобился бы совершенно новый взгляд на мир, такой,
в котором отражена история и власть имущих, и неимущих. Когда я работала над этим
проектом, нудный голосок внутри меня все время твердил, что женщины, тарелки которых
я расписываю, салфетки которыхмы вышиваем, имена которых пишем на фарфоровом полу,
преимущественно принадлежали к правящему классу. История написана с точки зрения
тех, кто находится}' власти. Подлинная история позволила бы нам увидеть объединенные
усилия людей всех цветов кожи, всех полов, всех стран и рас, то, как многообразно они видели
Вселенную. Мы не знаем истории человечества».
Вито Аккончи. «Биография деятельности: 1969-1981»
Из книги: «Документа-7». Кассель, 1982, с. 74-75
«Произведение предназначено для того, чтобы окунуть агента (личность) в окружающую
среду; агент потерян, «вещи» нет; произведение функционирует как частная
деятельность — такая частная деятельность, однако, существует только для того,
чтобы позднее, подобно новости, стать публичной, переданной в репортаже или в слухах».
Малкольм Ле Грис. «Заявление».
«Английское искусство сегодня, 1960-1976: Разработка альтернатив». Милан, 1976, с. 454-455
«Я считаю, что признание материальности пленки, процессов ее обработки и показа —
это именно то, что отличает подготовку к съемке авангардного фильма от подготовки
к фильму, который относится к иллюзионистскому кинематографу «мейнстрима»...
Это отличие фундаментально не только с точкизрения идеи и формы фильма; намой
взгляд, признание его как предпосылки развития культуры авангардного фильма делает
кинопроизведение, выпущенное в таком контексте, более «современным» и радикальным
в эстетическом, философском аполитическом смыслах, чем любая киноработа,
выпущенная в контексте« мейнстрима». Новая работа... сохраняет время и пространство
показа, вводя иллюзию не какуловку или прием, а как проблему, с которой зритель,
применив рефлексивно-умозрительные доводы, разбирается по ходу действия фильма».
Политика живописи:
1972-1990
Изменчивость, ирония, абсурдизм и постоянные декларации о бесплодности и ни к
чему непричастности — такова была разменная монета нового искусства, когда оно
оторвалось от устоявшихся художественных форм, от модернизма в частности. В пол-
ный ступор из-за нашествия контркультуры живопись не впала, но в 70-е, когда худож-
ники переметнулись от нее к видео, перформансам, инсталляциям и концептуализму,
претерпела период упадка. Впрочем, упадок этот оказался недолгим, поскольку вскоре
одни художники вернулись и к живописи, и к скульптуре, принеся туда наработанные
эстетические принципы, а другие, пересидев невнимание критики, настроили на со-
временный лад присущий им прежде подход к этим видам искусства. Вся затрудни-
тельность такого «разворота назад» была более чем очевидна, но сам процесс оказался
поразительно плодотворен для тех, кто искал возможности вернуться к традиционным
жанрам. С одной стороны, выход из летаргического сна, окутавшего лагерь концепту-
алистов, выглядел все более насущным по мере того, как уходили 70-е. С другой сто-
роны, ценители тяжко доставшихся побед концептуализма по-прежнему бурно ра-
довались развалу модернистских критических установок и скептически отмахивались
от разговоров о том, что живопись, по существу, останется неизменной.
Как выжили живопись и скульптура
Скульптура в середине 70-х — я это хорошо помню — находилась на обочине столбо-
вой дороги искусства, в каком-то даже обесчещенном состоянии. Критики, обсуждав-
шие еще работающего Энтони Каро, к примеру, пытались втолковать, что на модер-
нистский скульптурный проект нужно взирать как на нечто политически пассивное по
сравнению с тем, что реализуют современные медиа. Каро защищался, указывая, что
«вертикальность, горизонтальность, сила тяготения — все эти факторы свойственны
как внешнему физическому миру, так и тому факту, что у нас есть тело... глубина
человеческого содержания — вот что доводит искусство до его глубочайшего уровня,
С. 58:
СайТвомбли
Картина Нина (деталь), 1971
См. рис. 3.3
и присущее человеку содержание находит себе
выражение в языке искусства... язык, которым мы
пользуемся в скульптуре, — это язык скульптуры,
тот, что имеет дело с материалом, формой, раз-
мерами и так далее. Я скульптор, — продолжал на-
стаивать Каро, — я стараюсь формировать смыслы
из кусков стали». Когда же его спрашивали, в чем
именно социальный смысл подчеркнутой гори-
зонтальности (или открытости, или внутренней
пустоты) его стальных скульптур (Илл. 3.1),—
Каро наотрез отказывался от сколь-нибудь явной
связи с социумом текущего времени, не говоря уж
об исторических детерминантах своей личности
как художника. «Моя работа — как можно лучше
делать скульптуру, — не раз повторял он. — Об-
суждение общественных проблем в мою задачу не
входит». Модернистская живопись, напротив, впи-
тала в себя уроки контркультуры гораздо охотней.
3.1. Энтони Каро
ЭммаДиппер, 1977
Окрашенная сталь
Даже такой далеко отстоящий пример, как мос-
ковский перформанс под названием «Неофициальное искусство (андеграунд)», и то
был отчасти нигилистской живописью.
Особо плодотворным оказалось взятое некоторыми западными художниками
направление на дальнейшее ужимание абстрактной живописи до минимума ее прояв-
лений — вида, цвета и формы, способа подачи и обзора. Довольно сильная уже тради-
ция монохромной живописи, представленная Эдом Рейнхардтом и Агнес Мартин,
плюс некоторые работы Элсворта Келли шестидесятых годов, сосредоточили опыт всех
элементов искусства в одном-единственном цвете, помещенном на фоне практически
белого интерьера, — предоставить который могли только музеи модернистского ис-
кусства. Показ монохромных полотен, таким образом, превращался в род перформан-
са — в отличие от показа фигуративных или сюжетных произведений, для которых
контекст значил гораздо меньше. Концептуальная задача захватить внимание зрителя
оказалась весьма долгосрочной, продержавшись все семидесятые и распространяясь
по мере того, как художники принимали эстафету. Ранние работы швейцарского ху-
дожника Реми Зауга, к примеру, были непростые, требовательные, отображающие и
определяющие сами себя, почти монохромные полотна — с небольшими различиями,
понятными, увы, только самому ближайшему окружению. Знаток истории и теории
искусства, а также перцепции, семиотики и феноменологии, Зауг как минималист
работал в живописи и скульптуре, ставя себе задачу отразить как условия создания, так
и способ показа своих произведений. Вопреки кастовым заповедям модернизма, на-
стаивавшим, чтобы каждая работа была автономна и устойчива, являясь стабильной в
восприятии данностью, которая всегда и везде выглядит одинаково и сохраняет свое
собственное «значение», Зауг очень рано понял, что процесс и становление суть мощ-
ные детерминанты эстетического акта. «Завершение и конечность, — говорил он, —
это базис закрытия и раздельности. Как печать, они скрепляют собой изоляцию. Вопи-
ют о самолюбовании и солипсизме». По словам Зауга, его ранние работы «стремятся к
взаимодействию с окружающим миром и требуют быть предметом практического ис-
пользования наряду с другими предметами практического использования: моя картина
60 Политика живописи: 1972-1990
отрекается от рамы как символа, который включает ментальные и поведенческие про-
граммы разъединения». Его «Hellblaues, abgeschliffennes, gefundens Bild» («Голубая, до
земли, найденная картина») (1972-1973) обращает к зрителю свой бледно-голубой
лик и все-таки явно напрашивается на то, чтобы на нее взглянули сбоку, туда, где вид-
неются следы записанной картины (возможно, экспрессивной или абстрактной, кто
знает?), словно осадок чуждого искусства, и заметны шляпки гвоздей, которыми по-
лотно прибито к подрамнику (Илл. 3.2). «Идеализирующая стратегия обрамления пре-
тит моей работе», — писал Зауг. «Маскируя собой грубые, несущественные боковые
грани полотна, закрывая его физические и технические, внутренние и вспомогатель-
ные свойства, рама стирает именно то, что позволяет отнести картину к предметам
практическим; она уничтожает то, что связывает картину с бытом. Гвозди, которыми
держится на подрамнике натянутый холст, принадлежат тому же миру что и болты,
присоединяющие четыре металлические ножки к столешнице моего стола в студии...
боковины этой картины получили от ее автора не больше и не меньше внимания, чем
задняя сторона батареи отопления под окном от меня налево, от домового маляра». Ра-
туя за полностью одомашненный статус картины, Зауг хочет, чтобы произведение бы-
ло насколько возможно незавершенным, тогда его расположение и внешний вид будут
отражать участие тех людей, которые его вешали, освещали и фотографировали. «Кар-
тина может быть скромной, держаться в тени, может стать маленькой, чтобы добиться
своих целей: позволить субъекту перцепции (зрителю) нести ответственность за свое
окружение и осознать свою важность». «Картина знает, как сделаться ничем, — уточ-
няет Зауг, — так чтобы субъект стал всем... картина выявляет человека, и это ее един-
ственное явное притязание». Можно сказать, что Зауг соединил минималистскую эсте-
тику с концепцией утилитарного дизайна: отсюда
всего шажок до определенного рода модернист-
3.2. Реми Зауг
Hellblaues, abgeschliffennes,
gefundens Bild (Голубая, до земли,
найденная картина), 1972-1973
Холст, акриловые краски
55x65x2см
ской архитектуры.
А другие художники в середине 70-х дохо-
дили до крайних пределов теории и практики.
В Германии это были Зигмар Польке и Герхард Рих-
тер, в Америке — Роберт Риман и Сай Твомбли, чьи
бледные, расплывчатые абстракции словно олице-
творяли собой всякого рода сомнение и неопреде-
ленность, с которыми нужно справиться, дабы сно-
ва определить лицо современной живописи. Твом-
бли в 1957 г. уехал из Нью-Йорка в Рим, где начал
заполнять свои полотна рядами абстрактных зна-
ков, вызывавших крайне необычные, порой даже
сомнительного свойства аллюзии. Каракули, за-
витки вермишели, цифры, кое-как набросанные
части тела, какие-то вроде бы рисунки на стенах,
царапины — из всего этого складывался примеча-
тельный ассортимент вразброс и наугад раскидан-
ных почеркушек. Средиземноморское окружение с
его классическими ассоциациями навеяло худож-
нику идею картин, как бы зависших между совре-
менностью и архаикой (Илл. 3.3). «Похоже на то,
что здесь живопись борется с культурой, сбросив с
Как выжили живопись и скул ьптура 61
себя ее высокопарный дискурс и удержав красоту», — писал фран-
цузский теоретик искусства Ролан Барт о картинах Твомбли. Отнеся
манеру художника к антииндивидуалистическому стилю Востока,
Барт писал: «Она ни за что не цепляется; она сама по себе, плывет и,
несомая ветром, дрейфует между желанием, которое незаметным
образом управляет рукой, и вежливостью, тайным отказом от любой
формы притягательного честолюбия». Этику Твомбли, писал Барт,
следует искать «вне живописи, вне Запада, вне истории, на самой
границе смысла».
В общих чертах сходное прочтение Твомбли содержится в при-
мечательном эссе, которое написал в конце 1970-х американский
критик Крейг Оуэнс. В своей работе «Аллегорический импульс: К те-
ории постмодернизма» Оуэнс заявил, что модернизм всегда игнори-
ровал аллегорию как принцип, — более того, почти на два столетия
она была объявлена вне закона, прежде чем с барабанным боем
вернуться, сопровождая постмодернизм. По мнению Оуэнса, алле-
3.3. Сай Твомбли
Картина FIuhu, 1971
Масляная краска для малярных работ,
восковой мел. свинцовый карандаш
по холсту
2.61x3 м
Осенью 1975 г. Твомбли написал пять
больших полотен, отозвавшись ими
на смерть Нини Пиранделло: парадок-
сальным образом они получились удиви-
тельно безмятежными и, по словам его
биографа Хейнера Бастьена, вызывают
воспоминания о серовато-голубом тоне
далекого моря в тот момент между ночью
и днем, когда они сближаются медленно,
как времена года... достигается редкое
ощущение временного провала,
передышки и согласия, несвойственных
верному противостоянию жизни
и искусства»
гория — это удвоение одного текста в рамках другого (или поверх не-
го). Аллегорист не придумывает образы, он конфискует их, вытесняя исходный смысл,
замещая его своим. Аллегорию привлекает то, что уже фрагментировано, несовер-
шенно, неполно — «например, руины, о которых Вальтер Беньямин сказал, что это
типичнейшая аллегорическая эмблема». Аллегория одновременно суть метафора и
метонимия; она «пронизывает и стягивает собой все стилистические категории».
Столь вопиющее безразличие к категориям эстетическим — прямая противополож-
ность модернистской идее чистоты средств, подлинности материалов, — «нигде так не
очевидна, как во взаимодействии, которое аллегория налаживает между визуальным
и вербальным: со словами обращаются как с чисто визуальным феноменом, тогда как
визуальные изображения рассматриваются как сообщение, которое требует дешиф-
ровки». Именно аллегорический импульс, по мнению Оуэнса, надо опознать в руини-
рованных фрагментах «Ребуса» Раушенберга (1955), в его «Аллегории» (1960) или в
разрозненных графических заготовках и цитатах, отличающих творчество Твомбли.
Однако картина времени будет неполной, если не упомянуть художественный
метод, весьма отличный от того, который разрабатывала минималистская живопись,
направлявшаяся к упрощенному, бледному, лишенному модуляций монохрому. Речь
об откровенно позитивной практике использования чувственных эффектов цвета,
рисунка и композиции — как будто ничего не изменилось в современной живописи
со времен Ханса Хоффмана в 1950-х, или даже будто бы время остановилось на Ма-
тиссе. Пышные цветные абстракции Джулиса Олитски (Jules Olitski) в Америке или
Джона Хойланда в Британии относятся именно к этому типу. И все-таки в 70-е сто-
ронники таких работ могли говорить о них, лишь прибегая к дискредитированным
эпитетам типа «празднество», «ликование», «радость жизни», —дискредитированным
потому, что ни один метод не мог больше рассчитывать на доверие, игнорируя все-
проникающий кризис культуры в целом. Как раз к жизнеутверждающей живописи
удивительно точно подходили слова Теодора Адорно: «Писать стихи после Освен-
цима — варварство».
На этом фоне тем более удивительно, что в середине 70-х принялся усложнять
свои живописные работы с какой-то демонстративной, почти эксгибиционистской
пышностью такого ранга художник, как американец Фрэнк Стелла. Вослед своим
т_ Политика живописи: 1972-1990
минималистским, в черно-алюминиевую полосу
картинам 1958-1960 гг., вослед своим живопис-
ным настенным рельефам в духе кубизма начала
70-х, Стелла теперь выпустил серию «Экзотиче-
ские птицы» (Илл. 3.4) с ее произвольными кри-
выми, экспрессивным мазком и напористо-интен-
сивным цветом. В те годы репутация Стелла как
одного из самых интеллектуальных художников
его поколения служила гарантией того, что проис-
ходит целенаправленное и даже стратегически
осознанное перевоплощение модернизма. Но как
именно оно происходит? С точки зрения твердоло-
бых концептуалистов, все еще свято верящих, что
искусству должно сгореть в политическом пла-
вильном котле — то есть ограничить себя докумен-
тами или жестами непричастности, — новая живо-
пись Стеллы выглядела экзотической, избыточной,
даже барочной. С точки зрения его сторонников,
3.4. Фрэнк Стелла
Бермудский буревестник, 1976
Лак и масло по металлу
1,5x2,1x35,5 см
Для самых крупных полотен серии
«Экзотические птицы» потребовались
алюминиевые листы заводского
термин «барочная» ассоциировал новые работы с
аллегорическим импульсом, с усложненными способами видения. Геометрические
шаблоны Стеллы, к примеру, можно рассматривать как аллегорию кубистской геомет-
рии, которая сама по себебыла уже иносказанием символистских, а также и натурали-
стических форм.
Дискуссия о фигуративное™ и «экспрессии»
Примерно в это же время некоторым образом обиняком прозвучал призыв восстано-
вить в правах фигуративную живопись. В каталоге Девятой парижской биеннале
1975 г., подготовленном Люси Липпард, эта когда-то воинствующая поборница кон-
цептуализма заметила, что творчество женщин могло бы «указать путь к более базис-
ным контактам между искусством и реальной жизнью... Вернувшись к сталкиванию
различных способов видения, мы смогли бы скорее прийти к согласию с тем вулкани-
ческим слоем подавленной образности, достоинства которой так редко признаются се-
годня». Сделанное в защиту феминизма, это замечание тем не менее во многом было
прозорливо. Не только несколько реинтерпретаторов, новых толкователей живописи,
объединились в середине 1970-х вокруг старомодной техники масляной или акрило-
вой живописи по натянутому холсту, приближенной порой к абстрактному экспресси-
онизму, но, что куда более удивительно, на их картинах появилось изображение чело-
веческой фигуры, часто нагруженное аллегорическим или нарративным смыслом.
Тут-то и была заковыка. Ибо оказалось, что в заботах о грядущем возрождении живо-
писи из поля зрения ушла политическая программа 60-х — начала 70-х. Неужто худо-
жественное сообщество притомилось от политики? От отчужденности? Дело осложня-
лось еще и тем, что сторонниками нового фигуративизма в большинстве своем оказа-
лись мужчины.
Вопрос вполне оформился в 1976 г. в Лондоне, когда бывший сторонник поп-
арта Р. Б. Китай организовал выставку живописи и рисунка, озаглавленную «Человече-
изготовления. по за казу художника
обработанные матовым стеклом и лаком.
«Я мог выстраивать композицию таких
картин, просто передвигая шаблон
по поверхности (рисунка)», —
вспоминал Стелла
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 63
ская глина» (ссылка на У. X. Одена, писавшего: «Для меня предмет искусства — это
человеческая глина»). Китай включил в экспозицию и свои собственные работы —
наряду с работами Леона Коссоффа, Фрэнка Ауэрбаха, Майкла Эндрюса, Люциана
Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и других художников-мужчин, которые отныне объеди-
нились в «Лондонскую школу». Выступив против того, что он определил как «про-
винциальный и ортодоксальный авангардизм», а именно против постдюшановского
искусства, альтернативных средств выражения, культуры Нью-Йорка и много чего
еще, Китай ратовал за фигуративизм в обескураживающе традиционных выражениях.
«Это высший кайф — рисовать человека», — отважно заявил он, имея в виду великих
художников прошлого. Желая не воскресить, а преобразовать изображение человека,
исходя из этих образцов, Китай восторженно превозносил то мастерство, с каким пред-
ставлен человек «в великих композициях, загадках, признаниях, пророчествах, та-
инствах, фрагментах, вопросах, которые были и будут особой заботой искусства
живописи». «Разрыва так и не произошло», — писал Китай о пресловутой традиции
изображать человеческое тело. «Но это и не инстинкт, который существовал в природе
человека еще до того, как его выразил Джотто». Разумеется, такие декларации в 1 976 г.
вызывали не меньше скепсиса, чем последующее заявление Китая о том, что возврат
к фигуративности — это путь к «объединению с трудящимся людом». На поверку
«Человеческая глина» осталась тогда традиционалистскими экзерсисами мужчин, ри-
сующих женщин (мужчин тоже, но реже). Примером такого подхода может служить
творчество Люциана Фрейда. Люциан Фрейд, который начал выставляться в начале
1940-х, был признан художником сильного дарования, и репутация его с тех пор только
крепла. В 70-х он вызвал восторги почитателей как хранитель живописной традиции,
в которой фигура человека преподносится непредвзято, внеклассово и с животной
плотскостью, и откровения эти сообщались зрителю посредством «мастерского» вла-
дения кистью. В своих ранних статьях Фрейд постарался объяснить ту особую страст-
ность, которой отличалось его отношение к позирующей натуре. «Одержимость
художника его предметом — вот все, что необходимо, чтобы начать работать», — пи-
сал он. «Предмет должен находиться под пристальным и заинтересованным наблю-
дением; если это так, днем и ночью, то предмет — он, она или оно — со временем рас-
кроется... через все или какие-то грани его жизни или безжизненности, через движе-
ния и отношения, через все изменения, миг за мигом». Опубликованная в 1954 г., эта
декларация отражает тот вид экзистенциального контакта между художником и мо-
делью, который был тогда в интеллектуальной моде и с тех пор питал энергией твор-
чество Фрейда. В крайних ее проявлениях художник стал жертвой собственной одер-
жимости, исключающей всякое значение социума, и концентрировался на фигуре
натурщика столь надолго, что тот мог упасть и заснуть или так утомиться, что уста-
лость и напряжение отражались на его лице. «Вкус художника, — заявлял тогда
Фрейд, — вырастает из того, что завладевает им в жизни, и он никогда не спрашивает
себя, что пригодно для него в искусстве, что нет» (Илл. 3.5). Противники Фрейда меж
тем считали его фабрикатором женских фигур, покорно принявших странные позы,
распростертых и часто сонных, написанных в неприятных коричнево-оранжевых то-
нах, — и повсюду чувствуется властное присутствие художника, с верхней точки озира-
ющего их плотоядно.
Но по существу дела, к середине 70-х такого рода творения, с точки зрения
прогрессивных критиков, были для экспериментального искусства в общем неин-
тересны, и так называемая «Лондонская школа» отсекалась ими как историческое
64 Политика живописи: 1972-1990
болото. Тем не менее общественный и частный ин-
терес к живописи подогревался проведением му-
зейных выставок высокого ранга. В 1977-1978 гг.
музейные кураторы Европы и Северной Америки
деятельно занялись будоражащим умы «возвраще-
нием» возможностей, которыми ранее пренебре-
гали. Вниманию публики предлагались различные
школы живописи, как бы оживляющие тради-
цию., — в особенности же те, которые имитирова-
ли осведомленность, способность к пародирова-
нию и причастность к историческим стилям. Так,
художник Георг Базелиц из Берлина больше десяти
лет выяснял напряженные отношения между абст-
рактной и фигуративной живописью. Поначалу он
распределял по холсту фрагменты изображений,
потом, после 1969 г., брал фотографию, перевора-
чивал ее и рисовал так, будто изображение «естест-
венным образом» располагается вверх ногами. Да-
же когда материалом для таких картин служили
фотографии его жены, Элке Кретшмар, они не счи-
тались портретами; напротив, пометки на закон-
ченном холсте говорили о том, что картина явно написана «не с того конца». Благодаря
такой тактике озадаченный зритель волей-неволей принимался размышлять о диалек-
тике поведения правильного и неправильного, о праве художника на провокацию, ес-
ли он сталкивается с агрессивной обыденностью, и, наконец, о ловушке саморефлек-
сии, в которую попадаешь при контакте с произведением абстрактного искусства. Дру-
гой берлинский художник, Маркус Люперц, автор «Дифирамбического манифеста»
1966 г., теперь дерзко играл на чувстве национальной вины, вводя в свои работы изоб-
ражения касок, снарядов, эпизоды Второй мировой войны. Уроженец Дрездена
А. Р. Пенк (подлинное имя Ральф Винклер), изолированный в Восточной Германии все
60-е годы, лишь позднее вернулся в западноевропейское искусство благодаря своим
контактам с Базелицем и галереей Майкла Вернера в Кёльне.
То, как разительно изменилась атмосфера, видно при сравнении списка работ,
выбра иных Харольдом Зееманом для кассельской Документы-5 1972 г. (в ретроспекти-
ве он выглядит как конспект концептуализма), и списка, который для Документы-6 в
1977 г. подготовил Манфред Шнекенбергер. Последний вернул нескольких художни-
ков, которых Зееман в свое время вычеркнул: Бэкон, Базелиц, Люперц и Пенк теперь
помещались бок о бок с Нэнси Грейвз, Энди Уорхолом, Джаспером Джонсом, Фрэнком
Стелла, Роем Лихтенштейном и Виллемом де Кунингом. В то же время работы ряда ита-
льянских художников, известных у себя в стране под именем «трансавангард» (термин
принадлежит критику Акилле Бенито Олива): Энцо Куччи, Франческо Клементе, Мим-
мо Паладино и Сандро Киа, а также Никола де Мариа, Луиджи Онтани и Эрнесто Тата-
фиори — сначала выставились дома, затем в Швейцарии и Германии, далее везде.
У Клементе и Киа совместная экспозиция состоялась в 1979 г. у Спероне Вестуотер Фи-
шер в Нью-Йорке и снова у Спероне в 1980 г. в компании с Энцо Куччи. Нью-йоркские
критики и арт-дилеры, уставшие от суровости концептуализма, обе выставки приняли
с энтузиазмом, бурно радуясь фигуративным и даже порнографическим отсылкам в
3.5. Люциан Фрейд
Маленький портрет обнаженной,
1973-1974
Масло по холсту
22x27 см
«Художник должен дать полную волю
любому чувству или ощущению, которое
у него возникает, и не отторгать ничего,
к чему его естественным образом
влечет. — писал Фрейд в 1954 г. —
Это такая тренировка, посредством
которой он отсекает то, что для него
не важно, и так кристаллизуется
его вкус»
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 65
3.6. Сандро Киа
Мужчина в желтой перчатке, 1980
Холст, масло
150x150см
Собрание Бруно Бишофбергера,
Цюрих
Называя свою мастерскую в Италии
«брюхом акулы», Киа описывает свои
картины и скульптуры как «непере-
варенные остатки прошлого...
Я как укротитель львов среди диких
зверей и поднимаюсь до уровня героев
моего детства, до Микеланджело,
Тициана и Тинторетто»
живописи Клементе. К Венецианской биеннале 1980 г. стало очевидно, что новая
живопись завоевала сердца музейщиков, даже несмотря на скептицизм тех, для кого
возврат «нарративности» и «экспрессии» означал лишь временное отступление в бата-
лии вокруг политики изображения.
Разногласия в критической среде хорошо иллюстрирует реакция на две «про-
граммные» групповые выставки, прошедшие в Лондоне в 1981 г. и в Берлине 1982 г.
Лондонскую организовала группа кураторов во главе с Норманом Розенталем, секре-
тарем по выставочной работе Королевской академии, берлинскую — искусствовед
Кристос Йоахимидис. Выставка в Лондоне, высокопарно названная «Новый дух в жи-
вописи», представила таких разноплановых художников, как Базелиц, Карл Хёдике,
Рейнер Феттинг, Люперц, Польке и Рихтер из Германии, Кальцолари, Миммо Пала-
дино и Киа (Илл. 3.6) из Италии, Брайс Марден, Джулиан Шнабель и Стелла из США, Хо-
вард Ходжкин и А. Р. Китай из Великобритании. Полотна признанных мэтров XX века:
Пикассо, де Кунинга и Роберто Матта — придали веса работам представителей более
молодого поколения. В экспозицию вошли картины Базелица (Илл. 3.7), плотная, гус-
тая, сексуально-неистовая живопись Феттинга, эклектичные перформансы Стелла,
«Лолиты» Бальтуса и монохромные панно Чарлтона, Готтхарда Гаубнера и Роберта Ри-
мана. Пройдя колонной, в которой маршировало «несколько самых ярких и знамени-
тых из живущих ныне художников», «Новый дух в
живописи» нес на своих знаменах три идеи. Пер-
вая: в живописи 50-х преобладал Нью-Йорк, это
отодвинуло европейский вклад на обочину. Вто-
рая: притязания контркультуры 60-х нуждаются в
пересмотре; как об этом сказал Йоахимидис,
«чрезмерный упор на идею автономии в искусст-
ве, которая вызвала к жизни минимализм и его
экстремальное крыло, концептуализм, привел к
провалу: вскоре авангард 70-х с его узколобым пу-
ританством, лишенный всякой чувственной радо-
сти, утратил творческий импульс и стал загни-
вать». Третья: несмотря на несомненную актуаль-
ность абстрактного искусства, необходимо вновь
обратиться к живописной изобразительности.
«Не может быть и речи о том, — писали кураторы
лондонской выставки, — чтобы навеки запретить
живописи передавать человеческий опыт, то есть,
иначе говоря, людей и их эмоции, пейзажи и на-
тюрморты». Возродив, по их формулировке, «тра-
диции северного экспрессионизма», под которым
подразумевался в основном немецкий экспресси-
онизм началгг XX века в лице Эрнста Кирхнера,
Карла Шмидт-Ротлуффа и Эмиля Нольде, худож-
ники смогут поручиться за то, что такие темы
«вернутся, наконец, в центр внимания живопи-
си». Подспудным стремлением Йоахимидиса было
«представить ту ситуацию в искусстве, когда созна-
тельно сохраняются традиционные ценности —
66 Политика живописи: 1972-1990
такие, как индивидуальное творчество, ответ-
ственность, качество». У него даже достало духу
назвать выставку «Новый дух» — с ее-то кассовым
успехом — «актом сопротивления», выздоровле-
нием наперекор всему, «прогрессивным в под-
линном смысле слова».
Однако критиков уже поджидали пробле-
мы. В начале 80-х «Новый дух в живописи» в выс-
шей степени неосторожно восстановил значение
живописи как деятельности, присущей исклю-
чительно сильному полу- (все тридцать восемь
участников этой выставки были мужчины).
Структурировалась эта деятельность вокруг та-
ких понятий, как энергия, честолюбие, чувствен-
ная радость и возвращение к рукотворным ме-
тодам достославной традиции; в свете амбициоз-
ного феминистского вторжения в искусство это
положение выглядело просто провальным. Во-
вторых, организаторы выставки продвигали
идею так называемой национальной традиции.
Немцы, согласно разработанной квалификации,
были «движимы тревогой» и одержимы духом
«северного экспрессионизма», американцы вы-
ступали как уверенные в себе плюралисты, бри-
танцы — как северные романтики, озабоченные
изображением человека, а итальянцы приветст-
вовались как благополучно пережившие печаль-
ный эпизод arte povera для того, чтобы вернуться
к более древним национальным корням. Короче
говоря, насаждались национальные стереотипы
в рамках традиции: вот они, художники мужско-
го пола, граждане стран —членов НАТО, объеди-
ненные культурным проектом «возвращения» к европейским ценностям посредством,
образно говоря, художественно выразительной живописной поверхности. Между тем
рейгономика в США и тэтчеризм в Великобритании, объединили усилия, чтобы пин-
ком дать новый старт международному арт-рынку, заглохшему было после нефтяного
кризиса и перестановок в национальных правительствах середины 70-х. В программу
тогдашнего политического распорядка входило и приобретение больших, энергичных
полотен — это считалось наиболее актуальным культурным вложением.
Сразу после лондонской выставки новая европейская живопись пошла нарас-
хват у влиятельных арт-дилеров по обе стороны Атлантики. Летом и осенью 1981 г.
немцы последовали за итальянцами в Нью-Йорк; персональные выставки Георга Базе-
лица, Ансельма Кифера, Маркуса Люперца, Райнера Феттинга и Бернда Зиммера были
встречены аплодисментами, так же как малопристойная Саломе, которая наряду с
группой «Randy Animals» участвовала в презентации, — и вослед им явились Йорг Им-
мендорф, А. Р. Пенк, Франц Хитцлер, Троэльс Вёрсель и прочие. Влиятельные выста-
вочные залы Европы: галерея Майкла Вернера в Кёльне, музей Фольксванг в Эссене,
3.7. Георг Базелиц
Эльке, 1976
Масло, холст
2.5 x1,9 м
Музей современного искусства,
Форт-Уорт, Техас
Восп итанный в традициях угасающего
реализма Восточной Германии, Базелиц
в начале 60-х работал в стиле фигура-
тивного сюрреализма. а в 1969 г.,
желая-избавиться от всякого балласта,
избавиться от традиций», начал писать
свои «опрокинутые» картины. Теперь он
видел в себе немца в широком смысле,
связанного с выразительностью., идущей
от готики «проездом» через романтизм
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 67
Кюнстхалле в Гамбурге, галереи Джиан Энцо Спероне в Риме и Конрада Фишера в Дюс-
сельдорфе — все организовали показ работ представителей «нового духа» под акком-
панемент как критических восторгов, так и критического ворчания.
А между тем в 1982 г. в Берлине произошло событие, с намеком на всемирно-
исторические силы названное «Zeitgeist», «Дух времени», в котором наряду с сорока
четырьмя участниками-мужчинами, немцами и американцами, оказалась и одна жен-
щина, американская художница Сьюзан Ротенберг. Разместившись в выставочном
зале Мартин-Гропиус-Бау, они знаменовали собой противовес минималистскому и
концептуалистскому искусству недавнего прошлого, которое Йоахимидис назвал
«академически вялым». «Субъективно говоря, фантазия, миф, страдание и грация —
все восстановлены в правах», — восторгался Йоахимидис. «Чувствуется радость осво-
бождения, — заметил историк Роберт Розенблюм, описывая новый эстетический пакт
между Германией и США, — словно яркий мир мифов и воспоминаний, в котором пла-
вятся формы и спекаются цвета, выбрался из-под спуда ограничений, сковывающих
самое мощное искусство десятилетия».
По обе стороны Атлантики разгорелись жаркие и пристрастные споры о ценнос-
тях и приоритетах новой европейской живописи. С точки зрения ее сторонников,
именно немецкая живопись обеспечивала успешный выход из художественного и эс-
тетического тупика, в котором модернистская теория и практика пребывали послед-
нее время. С одной стороны, она выказывала видимую готовность к «удовольствию»,
получаемому от живописного процесса, с другой — отвечала запросам рядового евро-
пейца, еще терзаемого недоброй памяти прошлым. Базой Брок в Германии и Дональд
Каспит в Америке высказывались за то, что новая живопись укладывается в рамки
авангарда, который «вынуждает нас взглянуть на, казалось бы, привычное и традици-
онное совершенно иными глазами» (Брок), и это зрелище, многосоставное, сложное и
как бы натужно ребячливое, на самом деле представляет собой «политический жест,
говорящий о беспомощности индивидуума перед лицом общественных сил, не подда-
ющихся никакому контролю» (Каспит). В работах Пенка и Йорга Иммендорфа Каспит
узрел семена «искусства всемирно-исторического, на вид всеобъемлющего, господст-
вующего по стилю, сметающего все и вся... обезглавившего и отправившего на свалку
истории искусство 60-х и 70-х, которое правило до сих пор».
Ирония тут в том, что, будучи критиком американским, Каспит хорошо знал, что
его энтузиазм по поводу экспрессивной живописи уже подвергся мощному обстрелу-на
страницах теоретического журнала «October», выходившем в Нью-Йорке начиная с
весны 1976 г. под началом Розалинд Краусс, Анетт Михельсон и Джереми Гилберт-
Рольфа. «October» претендовал на междисциплинарный охват (живопись, скульптура,
но также и кино, фотография, перформанс) и, стоя на материалистической, интеллек-
туально независимой платформе, был не в ладах как с узкоспециальными изданиями
вроде «Artforum» и «Film culture» с их профессиональной одноплановостью, так и с ака-
демическими журналами вроде «Partisan Review» и «Salmagundi», которые «поддержи-
вали разрыв между критическим дискурсом и ведущей художественной практикой».
«Искусство начинается и кончается с признания собственных условностей», — заявил
«October» в передовой первого номера, перекликаясь здесь с русской до- и постреволю-
ционной культурой. То, что в других изданиях проходило как «искусствоведческая жур-
налистика», здесь стало «критическими и теоретическими текстами», оказывавшими
прямое влияние на самые разные стороны современного искусства. Некоторый намек
на противостояние живописи присутствовал уже в опубликованных в ранних номерах
68 Политика живописи: 1972-1990
«October» статьях Дугласа Кримпа и Крейга Оуэнса по проблемам фотографии. Теперь
же, весной 1981 г., серьезная и красноречивая критика Кримпа и Бенджамина Бухло
била точно в цель. «Только чудо может спасти [живопись] от конца», — между делом за-
метил Кримп, противопоставляя концептуализм Даниеля Бюрена заявлениям Каспита
и других в пользу красочных полотен Фрэнка Стеллы. Бухло, со своей стороны, рас-
толковывал то, что имплицитно содержалось в теории концептуализма, а именно что
«экспрессивная» живопись реакционна по сути своей и стоит за элиту и антидемокра-
тические силы как в искусстве, так и в широком политическом контексте. «Если пере-
осмыслить условности восприятия миметической, подражательной репрезентации,
если вновь подтвердить достоверность иконографической референции, если иерархия
отношений «образ — фон» на плоскости картины снова будет представлена как «онто-
логическое» условие, — писал Бухло о другом «возврате» к живописи, случившемся в
начале 1920-х, — к какой организующей системе за пределами эстетического дискурса
следовало тогда обратиться для того, чтобы насытить новые изобразительные формы
исторической достоверностью?» Смысл вопроса состоял в том, что возврат к изобрази-
тельности начала 1980-х точно так же говорит об атаке на трудоемкий авангардный
эксперимент, который «обладает огромным потенциалом для критического демонта-
жа господствующей идеологии». Для убежденного левого критика 1980-х новая немец-
кая живопись в лучшем случае аполитична и недиалектична, в худшем же — молча
одобряет и подводит фундамент под политическую и культурную реакцию. «С душераз-
дирающей настойчивостью применяя свои приемы повтора-насилия (repetition-
compulsion), — продолжал Бухло, — современный европейский псевдоавангард
научился извлекать выгоду из невежества и самоуверенности культурных парвеню, ко-
торые считают своей миссией еще раз подтвердить политику жесткого консерватизма,
внедрив отбор в соответствии с законами, правилами и принципами культуры».
«October» порой был неумолимо безжалостен. В любом случае там крайне строго отби-
рались художники, достойные поддержки или хотя бы упоминания. Подразумевалось,
что картина сама по себе считаться авангардом больше не может.
Лишь немногим исключениям позволялось подтвердить это правило. Одним
был Герхард Рихтер, который вырос в Дрездене, в бывшей ГДР, учился на художника в
традициях социалистического реализма, и в 1961 г., за два месяца до возведения Бер-
линской стены, успел перебраться в Дюссельдорф. Рихтеру хватило .ума и проница-
тельности, чтобы оценить полотна Джексона Поллока и Лючио Фонтана, которые он
видел на Документе-2 в 1959 г., так что, обосновавшись в Западной Германии, он стал
работать с Зигмаром Польке и Конрадом Фишер-Лойгом над манипуляциями с гото-
выми рекламными объявлениями и дорожными знаками, результат которых они изде-
вательски назвали «капиталистический реализм». Выставка состоялась в мебельном
магазине Бергеса в Дюссельдорфе и продолжалась две недели.
Следующие пятнадцать лет Рихтер работал на самых границах репрезентатив-
ного, между живописью и фотографией, причем возникало ощущение, что самому ему
не хочется быть ни там. ни здесь. Сначала он сделал серию полотен с обычных фотогра-
фий, от которых прямо-таки веяло духом западного поп-арта, — но сам Рихтер интер-
претировал это совершенно иначе. Напротив, он «хотел сделать что-то, что не имело
ничего общего с искусством, композицией, цветом, творчеством и т. д.». Его высказы-
вания о собственной работе полны всяческих опровержений. «Я не следую никакой
особой цели, системе или направлению, — говорил он на том этапе, — у меня нет
программы., стиля, курса следования... Мне нравятся вещи неопределимые и беспре-
Дискуссия о фигуративное™ и «экспрессии» 69
дельные, нравится устойчивая неопределен-
ность». Тогда, в 1972 и 1973 гг., Рихтер написал се-
рию картин, озаглавленных попросту «Серое»:
плоские и откровенно монохромные поверхнос-
ти, не вполне идентичные одна другой, и в этом
есть что-то парадоксальное (Илл. 3.8). «Ни одно
(серое) полотно не задумано как более красивое,
чем любое другое, или даже отличное от любого
другого», — пояснял Рихтер. «Также оно не заду-
мано и похожим на любое другое... Я хотел, чтобы
они выглядели одинаково, но не точно так же, и
хотел, чтобы это было заметно». В то же время
сама эта бесцветность действовала некоторым
образом просвещающе. «Со временем я заметил
качественные различия между серыми поверхно-
стями... картины начали поучать меня... бед-
ность сделалась конструктивным высказывани-
ем, стала отражением, коррелятом совершенства
и красоты, иначе говоря, стала живописью».
Затем, примерно в 1978 или 1979-м Рихтер пере-
двинул эту свою безысходную, отчаянную, но все-
таки новаторскую практику на новые рубежи,
продолжая оспаривать культуру peinture, как он
предпочитал выражаться, упрекая ее в связях с тра-
диционной эстетикой («peinture», писал Рихтер,
стоит на пути выразительности, сколько-нибудь
отвечающей нашему времени»), и при этом про-
должал писать абстрактные полотна, порой цвет-
ные, порой по-прежнему только серые, на сей раз
используя массовую печатную продукцию, люби-
тельскую и профессиональную фотографию.
3.8. Герхард Рихтер
Серое (348-3), 1973
Холст, масло
2,5x2м
Абстрактные полотна в те годы Рихтер изготавливал необычным образом, боль-
шими шпателями или скребками с резиновой насадкой нашлепывая и размазывая по
холсту относительно простые цвета так, чтобы получились непредсказуемого тона рас-
плывшиеся пятна и полосы наложенной внахлест краски. Результат выглядел прямой
издевкой над теорией распределения цвета, а случайная и механистическая манера
наложения красок оспаривала принципы художественной композиции (Илл. 3.9).
В другой серии картин, вдохновленных фотографией, Рихтер занял столь же не соот-
ветствующую обычным нормам авторскую позицию, как бы давая понять, что наме-
рен воспроизвести фотографию, однако сделает это неправильными способами. Это
была примечательная серия конца 1980-х, пятнадцать серых полотен под названием
«18 октября 1977», возникшая в ответ на журналистские фотографии, зафиксировав-
шие заключение и смерть в Стаммгеймской тюрьме Андреаса Баадера, Гудруна Эс-
слина и Жан-Карла Распэ, членов группы Баадера—Мейнхофа из радикального левац-
кого движения «Фракция Красной Армии». По словам Рихтера, он не увлекался поли-
тикой и не собирался увековечить экстремистов; скорее, его поразили «общественные
устремления этих людей, неэгоистическая, безличная идеологическая мотивация их
70 Политика живописи: 1972-1990
поступков... огромная, устрашающая мощь идеи, за которую не жалко и умереть». Точ-
но копируя фотографии вплоть до размытости изображения и отсутствия глубины,
Рихтер преподносил результат (в натуральную величину) как сочувственные размыш-
ления о смерти (возможно, самоубийстве) захваченных террористов (Илл. 3.10). Они
были «жертвы — не какой-то особой идеологии, правой или левой, а идеологизирован-
ного поведения как такового».
Что касается отношения критиков к раннему Рихтеру, то поражает некая
заданность их суждений, догматичность. Бухло в «October» рассматривал стратегии
Рихтера как ироническую попытку разобраться с политической историей в лучших
традициях авангарда, то бишь переведя существенное содержание (контент) в нюансы
живописной техники. Но Рихтер все-таки настаивал на том, что как политическое дви-
жение «Фракция Красной Армии» ему далека. «Ме-
ня интересует raison d'etre разумное основание
идеологии, которая столь многое приводит в дви-
жение, — говорил он. — Политика вообще не для
меня, потому что у искусства совсем другие функ-
ции.. . Причина, по которой я не веду’дискуссию “в
социологических терминах”, состоит в том, что
мне нужно не сочинить идеологию, а написать
картину. Именно фактографичность делает карти-
ну хорошей... если хотите, считайте это консерва-
тизмом». И все-таки Рихтер признавал, что на
практике его живопись радикальна относительно
тех условностей, которые регулируют и содержа-
ние документа, и мастерство. Всю его долгую и ус-
пешную творческую жизнь его главным образом
интересовала идея репрезентации в эпоху доми-
нирования новостной фотографии, и то, как ввес-
ти фотографию в границы живописной традиции,
все более подчиняющейся (и возможно, так тому и
следуют быть) требованиям собственных ресур-
сов. Необходимо снова увидеть содержание в фор-
ме, а не форму как нечто, вмещающее содержание.
3.9. Герхард Рихтер
Абстрактная живопись (576-3), 1985
Холст, масло. 1,8 х 1.2 м
«Здесь, — говорил Рихтер, — я старался
со ч етать ко н структи в н ые эл е менты
картины с зонами, в которых содержатся
деструктивные элементы. — хотел найти
баланс между композицией и анти-
композицией». О сходной картине более
раннего периода он сказал, что «здесь
есть что-то деконструктивистское
и странным образом разбалансиро-
ванное — и есть элементы очень
тщательной композиции-
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 71
«У содержания нет формы (как у платья, которое вы можете сме-
нить), — говорил Рихтер. — Оно само — форма (которую сменить
невозможно)».
Истинное представление о кризисе, постигшем живопись в
конце 60-х, имели лишь самые здравомыслящие из художников-
практиков, те, кто умел с толком воспользоваться навязанной им
возможностью обратить искусство живописи в искусство критики.
Изобретательный французский художник Жерар Фроманже, раз-
деляя с Рихтером острый интерес к фотографии, разрабатывал
фотографическое изображение совсем в друтой манере, чем его
немецкий коллега. Фроманже активно участвовал в работе париж-
ского Atelier des Beaux-Arts, выпускавшего революционные плакаты
во время волнений в мае 1968 г.; в 1974 г., вскоре после того как
Франция признала КНР, с кинорежиссером Жорисом Ивенсом он
3.10. Герхард Рихтер
Застреленный номер два, 1988
Из серии «18 октября 1977»
Холст, масло
100x140см
съездил в Китай и внимательно ознакомился с недолговечным американским дви-
жением фотореализма в живописи середины 70-х (в особенности с работами Ричарда
Эстеса и Роберта Колтингэма). Важно также отметить, что Фроманже заслужил восхи-
щение своих современников, французских интеллектуалов масштаба Жака Превера,
Мишеля Фуко, Жиля Делёза и Феликса Гуаттари, и все с большим энтузиазмом писали
о его работах.
Фроманже, как правило, писал сериями, словно считал, что яркие особенности
художника лучше передаются в различиях между' серийными работами, чем в единич-
ных высказываниях. Однако его живописная техника изначально определялась ост-
рым интересом к современным средствам художественного выражения. Как писал
Фуко в эссе, помещенном в каталог выставки Фроманже 1975 г., «знаменателен его ме-
тод работы. Прежде всего, он берет не ту фотографию, которая “сделает” картину, а
“любую старую” фотографию. Фроманже долго пользовался газетными снимками, но
сейчас перешел к фотографиям, сделанным на улицах, почти что вслепую, наугад. Они
не сосредоточены ни на чем особом, у них нет главного или чем-то выделенного ге-
роя... они ухватывают, как кино, случайный ход вещей... Азатем он закрывается у себя
в студии, где на экран спроецирован диапозитив, и смотрит, созерцает. Что он там
ищет? Не то, что могло случаться в момент, когда фотографию сделали, а то, что случи-
лось и продолжается, бесконечно длится в запечатленном образе». Не прибегая к ри-
сунку и нанося краски непосредственно на экран-холст, Фроманже чередовал холод-
ные и теплые тона, гризайлевые и цветные зоны, быстрое и медленное, узорчатое и
гладкое — и смотрел, что получилось, когда проектор выключался и картина откры-
валась взору. Сюжеты Фроманже — обычные уличные сценки парижской жизни, лю-
бительские снимки из Китая, и портреты (Илл. 3.11) — проступали тогда в студийном
полумраке как удивительные свидетельства современной жизни, лишенные всякого
личного намерения «выразить» или «заявить» что-либо помимо явного, ощутимого
удовольствия от чистой изобразительной живописности. Жиль Делёз задавался во-
просом: «Что же такого революционного в этой картине? Возможно, это радикальное
отсутствие горечи, трагизма, тревоги, всей этой чепухи, которая валится на тебя с кар-
тин якобы великих художников, величаемых свидетелями своего времени... Фро-
манже знает, как из уродливого, ненавистного и ненавидящего извлечь то горячее и
холодное, что завтра станет жизнью». Не бывает политически или эстетически рево-
люционной живописи «без восторга», замечает Делёз.
72 Политика живописи: 1972-1990
Схожую заинтересованность в концептуальных и технических ресурсах живо-
писи можно обнаружить у британской группы «Искусство и язык», члены которой в
конце 60-х и начале 70-х, сосредоточив свои усилия на теоретических битвах, создали
не так уж много заметных произведений искусства. Кроме того, они писали искусство-
ведческие статьи, по поводу которых двое из этой же компании иронически отозва-
лись следующим образом: это было «нечто вроде постфранкфуртского и постлогиче-
ского атомизма... с логической детализацией преобразованное в культурно-критиче-
ские лозунги». К 1978-1979 гг. численность группы сократилась всего до трех человек,
остались художники Майкл Болдуин и Мел Рамсден и историк искусства Чарльз Харри-
сон, начавший дискуссию о том, каким образом вообще картинам придается значе-
ние,— и этот вопрос вел за собой следующий: каккартина (любая картина) формирует
свои самые разные отношения с тем, о чем она написана. Один из ответов, заимство-
ванных из современной философской практики анализа имен, они сформулировали
согласно теме. «Ни один из ответов на вопрос, о чем картина, не представляется адек-
3.11. Жерар Фроманже
Жан-Полъ Сартр, 1976
Масло
130x97 см
ватным... до тех пор, пока он требует сокрытия,
утаивания информации об этой картине или во-
проса о ее генезисе», писали они. Из этого вроде бы
следовало, что отношения генезиса (включая
практические ресурсы, а также мастерство и тео-
ретическую подкованность художника и зрителя)
будут противостоять и конфликтовать с индекси-
кализацией (indexicality—термин введен Пирсом)
изображения, то есть его прямым сходством с ми-
ром, в том случае, если эта индексикализация яв-
ляется открытой и признаваемой.
Возможность проверить плюсы и минусы
подобных концептуальных и практических кол-
лизий представилась группе «Искусство и язык»,
когда в 1980 г. пришло приглашение выставиться
в Нидерландах. Для этой выставки ее члены при-
ступили к серии картин (что само по себе было и
примирением с модными тенденциями, и продол-
жением изысканий группы в области самых основ
искусства), под единым названием «Портрет
В. И. Ленина в кепке в стиле Джексона Поллока»
(Илл. 3.12), которая любопытнейшим образом со-
четала в себе икону социалистического реализма с
абстрактной дробностью выполненных в технике
дриппинга работ Поллока конца сороковых. Опи-
санная в автобиографии группы как «стилистиче-
ская нелепица, ослабляющая напряжение между
двумя предположительно антагонистическими и
взаимно усиливающими составными», серия
«В. И. Ленин» стремилась показать, что «экспресси-
онистские» картины можно создавать и другими,
помимо экспрессионистской техники, способами.
«Искусство и язык» пользовалась рисунками и
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 73
3.12. Группа «Искусство и язык»
Портрет В. И. Ленина в кепке,
в стиле Джексона Поллока. I,1975
Доска на холсте; масло; эмаль
170x120см
Частная коллекция, Париж
трафаретами, создавая свою «выразительность», в абстрактных формах которой
порой можно увидеть изображение Ленина. Скандальное совмещение американской
абстракции и советского соцреализма было задумано как разрыв с основополагающим
табу формалистского модернизма 1950-х, гласившего, что эти два стиля не сочетаемы
ни за что и никогда. То, что в результате совмещения возникал иронический и даже
слегка комический эффект, входило в задумку.
Как теперь ясно, серьезное и принципиальное возрождение живописи уже про-
исходило, подспудно, в контексте экономического кризиса 70-х, в творчестве несколь-
ких художников, которые не всегда и не вполне следовали спорным положениям евро-
пейского (и особенно итальянского) трансавангарда. Более того, группа «Искусство и
язык» в своей деятельности искала возможности оспорить исходные допущения
модернистской живописи на территории собственно живописи, а не вовне ее, — так
же, как это делал Рихтер. И «Искусство и язык», и
Рихтер утверждали, что пересмотр языка живопи-
си уже состоялся. Чарльз Харрисон писал о серии
«В. И. Ленин»: «Теперь, когда для группы “Искусст-
во и язык” сформировались практические возмож-
ности живописи, изъятые из наследия концепту-
ализма... сама история живописи открылась для
обновления и пересмотра... Похоже, что живопись
теперь может критически общаться со своей собст-
венной культурой.». Харрисон подчеркнул здесь ут-
верждение, свое и своих единомышленников, что
после «конца живописи» в 60-х ей, живописи, при-
шлось стать «двусоставной»: не просто отражать
свое состояние, как бы глядя снаружи, но и осмыс-
ливать свою природу, историческое и критическое
состояние, глядя изнутри. В кильватере минима-
лизма и концептуализма ни одно художественное
решение не могло быть свободно от того обстоя-
тельства, которое другой сочувствующий критик,
Томас Крау, назвал «бременем исторического и те-
оретического самоосознания». Для того чтобы
жить дальше, живопись, по словам Харрисона,
должна была стать «столь же сложной с точки зре-
ния восприятия и описания, сколь создания».
Такая версия постмодернистского искусст-
ва, несомненно, оказалась весьма привлекательна
для тех, кто на недосягаемую высоту ставил после-
военных художников и критиков из числа избран-
ных, включая Поллока и Гринберга. Для других,
особенно же художников, воспитанных вдали от
крика и ора англо-американских дебатов о модер-
низме, этого канона не существовало, особенно в
его чистом виде. И многие из художниц были вполне
равнодушны к теоретическим схваткам, помечен-
ным клеймом специфически мужских терзаний
74 Политика живописи: 1972-1990
относительно искусства, созданного другими мужчинами. Да и академически сухой
тон модернистских дебатов не был рассчитан на то, чтобы завладеть вниманием лю-
дей, не натасканных на философские споры. Дтя таких художников и их круга нюансы
выздоровления более или менее продвинутого модернизма были в лучшем случае
неинтересны.
Что же тогда случилось с испокон веков бытовавшей связью между живописью
и политикой? Художественная критика конца 60-х добилась того, что фигуративное
искусство вышло из моды: одно упоминание о нем припахивало тоской по прошлому.
Пуще того, культурно-дипломатическая отчужденность между Советским Союзом и
США послужила тому, чтобы серьезные контакты с фигуративным реализмом на За-
паде выглядели совершенно невероятными. Кроме того, из тезисов контркультуры
следовало, что большинство картин —это объекты физически избыточные, попросту
говоря, ненужные; отсюда вытекало подозрение, что все фигуративные стили уже бы-
ли, и, следовательно, оживление живописной изобразительности есть в лучшем случае
повторение пройденного. Разве такие пионеры модернизма, как Пикассо и Дюшан, не
исследовали способы самоанализа языковой репрезентации, не обнажили собствен-
ные приемы? И, несмотря на эти достижения, разве сам актживописи нестал неизбеж-
но и непоправимо ассоциироваться с политическими институтами, в которых правят
мужчины, с обладанием политической и личной властью —даже в социалистической
традиции «народного» реализма и на Востоке, и на Западе? И все-таки реинвестирова-
ние энергии и доверия в новую живопись заметны в работе американца Леона Голуба,
главной задачей которог‘0 стало политическое фигуративное искусство.
Пожалуй, преданный сторонник политического реализма мог появиться только
из художников, принадлежащих к старшему поколению. Родившийся в 1922 г., Голуб в
середине тридцатых учился в арт-классе школы Управления общественных работ, тра-
диционно ориентированном на фигуративизм, а в сороковые и пятидесятые выстав-
лялся по всему' миру. В конце шестидесятых он участвовал в акциях протеста против
вьетнамской войны, а в 1968 г. в числе других художников настаивал на том, чтобы
Пикассо изъял свою «Гернику» из Музея современного искусства в Нью-Йорке в знак
протеста против бомбардировок Вьетнама. В следующее десятилетие Голуб воздержи-
вался от абстракции, разрабатывая тему политической борьбы: его «Убийц» (1972) и
«Наемников» (1976) можно считать обращением к социальному и политическому на-
силию, взятому генерально: это в равной мере отсылка как на спонсируемый ЦРУ тер-
роризм в Чили периода правления Пиночета, так и на геноцид в Пакистане (Илл. 3.13).
Туг против Голуба, разумеется, работало то неприятное обстоятельство, что после того
как война во Вьетнаме была подробно задокументирована телевидением и фотогра-
фией. нарративно и политически живописать жестокости войны стало предприятием
хоть и смелым, но безнадежным, и подозрение это подкреплялось тем соображением,
что такая картина — в лучшем случае иллюстрация, а не эстетическая конструкция. Ес-
ли же к обширным полотнам Голуба приглядеться повнимательней, то наружу выходят
куда более тонкие нюансы его замысла. Он не уточняет, к примеру, кто именно эти его
наемники: кубинцы, южноафриканцы, советские и пр., — нет, скорее, он показывает
сцену насилия, где в ходу очень точные психологические манипуляции, по его соб-
ственному определению, «воздействующие на нас посредством особенностей наме-
рения, подтекстов жестокости, угрозы и беззакония». Более того, изобразительные
свойства картин Голуба указывают на тот в высшей степени осознанный выбор средств
выражения, который, вне всяких сомнений, изымает их из мира иллюстрации. Лица и
Дискуссия о фигуративности и «экспрессии» 75
жесты его наемников имеют в себе что-то и от
древнегреческого, и от древнеримского искусства,
еще больше — от современной журнальной фо-
тографии, но больше всего — от порнографии.
«Застылость фотографических жестов, замершее
действие, то, как повернута рука, как улыбка в мо-
мент устанавливается или расцветает. — красно-
речиво объяснял Голуб, — важно ухватить что-то
такое». Затем, расставив свои, выполненные боль-
ше чем в человеческий рост фигуры, часто (как
здесь) без ступней, чтобы в нашем поле зрения они
заняли положение попрочнее, Голуб делает полот-
но шероховатым, выскабливая его или обраба-
тывая растворителем, чтобы придать ему напря-
женности и непосредственности. «Вид необра-
ботанной поверхности нужен мне для того, чтобы
3.13. Леон Голуб
Наемники-111, 1980
Холст, масло
3x4 м
Фонд Эли Брод Фэмили. Лос-Анджелес
По словам Голуба, его наемники «вклю-
чены в наше пространство, а мы — в их.
Это похоже на попытку сломать барьеры
между изображением и жизнью. Тут
есть некий рессентимент (новое пере-
живание прежнего чувства, благодаря
которому прежнее чувство усиливается),
агрессивное подталкивание изображен-
ных назад, в общество, которое терпит
такое положение дел»
событие не казалось сочиненным искусственно: полотна приобретают ноздреватую,
пористую фактуру, что важно с точки зрения их содержания. Теперь остается душа по-
лотна. .. то, как оно дышит». Результат студийных методов Голуба — это «реализм» не в
смысле внешнего изображения жестокой силы, а ее демонстрации в более тонком
смысле, со всей совокупностью стихийно вызываемых ею чувств. 14 хотя ничто не
указывает на то, что картины имеют отношение к военным операциям американцев,
Голуб все-таки утверждает: поза и внешний вид его наемников «представляет значи-
мость, которая корреспондирует с американским глобальным присутствием», что, по
его выражению, является «неправомерным использованием власти».
Нечто по имени постмодернизм
Еще один вид живописи, пытавшийся выйти за пределы ортодоксального абстрактно-
го модернизма, склонялся к плюрализму восприятия и гетерогенности, разнообразию
средств выражения. Климент Гринберг придавал особое значение прямоте высказыва-
ния и жесткому отбору при конструировании модернистской картины, при «использо-
вании отличительных методов самой дисциплины — не для того, чтобы низвергнуть
ее, а чтобы надежней утвердить в зоне ее собственной компетенции». Также в качестве
предварительного условия модернизм требовал относительно единообразного, ано-
нимного автора/художника, некоей направляющей субъективности, центральной для
смысла работы. Явление же, мало-помалу распространившееся как «постмодернизм»,
теперь постулировало эксцентризм, стилистическое разнообразие, историческую сти-
лизацию и отказ от высокоумной серьезности. В восьмидесятые годы безудержным ис-
пользованием смешанных и выведенных из масс-медиа изобразительных средств про-
славились два художника — немец Зигмар Польке и американец Джулиан Шнабель.
Польке в 1963 г. уже выставлялся в Дюссельдорфе совместно с Рихтером, входя
тогда в группу «капиталистических реалистов». В конце шестидесятых на его полотнах
появлялись перевернутые изображения картинок массово-потребительского ряда, в
пику склонности многих немецких художников запечатлевать разновидности сюрреа-
листской абстракции или art informel, неформального искусства, что Польке отвергал
76 Политика живописи: 1972-1990
как «парижские штучки». Движимый толи инстинктом, толи темпераментом, толи со-
знательным выбором, Польке приступил к критической переработке самого широкого
крута возможных культурных феноменов, выбирая для этого изобразительный мате-
риал из газетно-журнальной периодики, кино и антиквариата, а затем снижая уровень
материала небрежным с ним обращением, иронией, насмешкой, ядовитой двусмыс-
ленностью. К 1970 г. Польке использовал те же типы живописных поверхностей, ко-
торые позже принесли скандальную славу Джулиану Шнабелю, — черный бархат,
леопардовую шкуру и тому подобное, словно в насмешку над поверхностями модер-
нистской живописи, пресловутую оптическую чистоту которых он то ли недолюбли-
вал, то ли вообще в нее не верил. О своей работе Польке всегда говорил неохотно, но
под личиной цинизма и безысходности прочитывалась вера в наслаивающееся изобра-
жение, в перемены, в течение времени. «Сначала надо посмотреть... понаблюдать [за
картинами], взять их с собой в кровать, не выпускать их из рук. Ласкать их, целовать и
молиться, делать с ними все. что угодно, пинать, колотить, выбить из них душу. Всякая
картина хочет какого-то с собой обращения, не важно, какого именно, лишь бы было».
И все-таки кто может сказать, какие истории считывались с многослойных картин
Польке с их цитатами из живописи XVII века, религиозными символами, каракулями и
подчистками (Илл. 3.14)? Более того, стратегия «расчетливой порчи», разработанная
3.14. Зигмар Польке
Измерение камней в животе волка
и последующее измельчание их
в культурный мусор, 1980-1981
Смешанная техника
1.8x1,2 м
Галерея Искусств. Онтарио. Торонто
Смешанная техника на ткани (шту-
катурка и/или акриловая ваяльная
паста, акриловая краска, живопись
на клею, непрозрачная искусственная
пленка на велюре и синтетическом
мехе)
Польке, разрушала все эти условности живописи, которые были при-
думаны как раз для того, чтобы оградить от заразы внешнюю, широ-
кого плана культуру. Хотя в конце восьмидесятых Польке вроде бы
занесло в мистицизм, в начале десятилетия он уже сделал достаточ-
но, чтобы обеспечить за*’собой архетипический образ художника-
нонконформиста, стойкого, загадочного, возможно, наиболее ти-
пичного из шалунов-постмодернистов.
Его антипод — Джулиан Шнабель, в восьмидесятые годы уже
обремененный громкой международной славой, несмотря на свой
низкий или, по крайней мере, двусмысленный статус в глазах арт-
критиков. Первая персональная выставка Шнабеля состоялась в на-
чале 1979 г. в галерее Мэри Буи в Нью-Йорке. В том же году он пока-
зал несколько своих «тарелочных» картин с вмонтированными в них
осколками фарфора, примеры которых были включены в экспози-
ции выставок «Новый дух в живописи» и «Zeitgeist» («Дух времени»).
Картины Шнабеля 1980-х годов, в основном очень большие, отлича-
лись сделанностью наспех, грубым, но эффектным изобилием мате-
риалов и стилей и, подобно «тарелочным», в известной мере шли от
техасского «фанка» — стиля, который Шнабель усвоил, еще учась в
Хьюстоне. На первый взгляд выглядели они кое-как и сбивали с тол-
ку. Помимо битых тарелок, там фигурировали щепки и прочая бута-
фория, налепленная на такие «холсты», как бархат, линолеум, ковер
или звериная шкура. Исходная плоскость дробилась всякими высту-
пающими штучками, в приведенном здесь случае — рогами оленя
(Илл. 3.15). «Если мы верим в свободу действия, — сказал Шнабель
одному интервьюеру в 1983 г., — то тогда мы не ограничены созда-
нием поверхностей, всегда выглядящих одинаково (что обычно
называется стилем), и не обязаны вечно работать в стиле, который
навязывает нам наше собственное прошлое». В его работах цитаты
из старых мастеров соседствуют с кусками непроработанными.
Нечто по имени постмодернизм 77
недозаконченными, не связанными в единое целое. Похожие на коллажи, банально-
неоригинальные, порой ребячливые на вид творения Шнабеля явились как отклоне-
ние с пути, многообещающая аберрация, некое «помрачение ума», а мир искусства к
началу восьмидесятых как раз созрел для нового, ходкого на рынке стиля.
С одной стороны, в самых несуразных картинах Шнабеля сфокусировалась уже
беспокоящая арт-мир проблема авторского замысла. Какой именно из многих стилей
Шнабеля на самом деле его стиль? Сам факт такого вопроса, похоже, подразумевал, что
унифицированный автор в искусстве умер, и с ним — и идея «аутентичной» творче-
ской манеры. Те, кто оценивал значение Шнабеля в таких именно терминах, называли
его представителем тенденции, ведущей к эклектизму и бродячей, изменчивой исто-
ричности, которую можно назвать постмодернизмом. Друтие помещали его в рамки
неоэкспрессионизма, запоздалого (а может, и своевременного) возрождения ранне-
модернистского стиля. Сам Шнабель восхищался мозаиками испанского архитектора
Антонио Гауди (1852-1925) в парке Гюэль в Барселоне, и «тоже хотел сделать мозаику,
но только недекоративную». «Мне нравилась волнообразная поверхность, — заметил
он в интервью 1987 г., — она как-то отвечает моему вкусу... Эти картины на самом деле
не об агрессивных поверхностях, а об изобретательно сфокусированной невразуми-
тельности, которая проявляет саму себя в волнении». Шнабель упомянул и свое «беспо-
койство... ощущение, что не все в порядке». «Я хочу привнести в мир нечто, что может
сказать об этом концентрированным, как стенография, способом, который в конце
концов становится взрывным». Тем не менее нашлись критики, упрекавшие Шнабеля
в том, что он пожертвовал своим искусством ради чрезмерных личных амбиций; что
он пользуется эффектами, принятыми в массовой культуре, и постмодернистскими
3.15. Джулиан Шнабель
Предыстория: Слава; Честь;
Привилегия; Нужда, 1981
Масляная краска, оленьи рога
на шкуре пони
3,2x4,5 м
смещениями, не достигая того уровня критического осмысления, тех приоритетов,
ради которых эти приемы только и стоит применять. Но в общем на известный период
Шнабель стал в нью-йоркском арт-мире тем enfant terrible (ужасное дитя), которого
никто никак не мог припечатать.
Дискуссия о роли живописи в эпоху масс-медиа была бурной и скоротечной. По-
ка Дуглас Кримп и критики журнала «October» торопили и подгоняли конец фигуратив-
ной живописи, пока крепли критические атаки на
Шнабеля и его работу, слышались голоса, пытав-
шиеся определить место живописи в несколько
друтом отношении к массовой культуре, особенно
же в отношении к миру фотографии. Молодой
художник и критик Томас Лоусон в своей статье
«Последний выход: живопись», опубликованной в
«Артфоруме» в 1981 г., утверждал, что «работа
псевдоэкспрессионистов (отчасти он метил в Шна-
беля) определенно играет на чувстве противоре-
чия, постоянно сочетая несочетаемые элементы и
отношения, но далее дело не идет... запоздавший
миметизм представлен здесь с экспрессионист-
ской непосредственностью».
Резюме Лоусона в пользу фотографии —
лишь часть аргумента более широкого плана:
предпочитая отказаться от всей живописи оптом
ради фотостратегий, выраженных способами, от
78 Политика живописи: 1972-1990
которых легко отмахнуться, сочтя их очередной авангардной улов-
кой, художник может сделать квадрат крутом, позволив самой живо-
писи — средству, от которого меньше всего ожидали альянса с фото-
графией, — работать с фотографическим изображением и на основе
него. «Это отличный камуфляж», — писал Лоусон, персонажи картин
которого в то время не мигая смотрели на зрителя как герои фото-
репортажей «New York Post» (Илл. 3.16). «Нам известен внешний вид
всего на свете, но с большого расстояния... Фотография мало того
что преподносит нам реальность, которая на самом деле очень от нас
далека, она еще и делает эту реальность непосредственной, происхо-
дящей здесь и сейчас, поскольку позволяет нам уловить мгновенье.
В настоящий момент думающие художники более всего озабочены
значением именно этого парадокса». Итак, все было готово для пере-
оценки живописи ровно внутри контекста соответствующего фото-
графического мотива.
Критические интересы Лоусона простирались как минимум
до нью-йоркского художника Дэвида Салле, первая персональная
выставка которого состоялась в 1980 г., а вторая (так случилось, что
совместно с Джулианом Шнабелем) — в галерее Мэри Бун в 1981 г.
На взгляд Лоусона, картины Салле состояли из картинок, в кажущемся беспорядке,
наобум помещенных рядом или внахлест (Илл. 3.17). Они выглядят стильно, замечал
Лоусон, даже когда сбиваются на игру в разнообразие ради самой игры. «И все-таки
образы, которые Салле подает таким образом, будоражат вас, эмоционально и ин-
теллектуально. Часто его тема — обнаженные женщины, представленные как объект.
Порой это мужчины. В лучшем случае эти представители человечества даны бегло, по-
верхностно, экспромтом; в худшем — они брутальны, искажены... смысл где-то брез-
3.16. Томас Лоусон
Ожог. ожог, ожог, 1982
Холст, масло
120x120см
жит, но мучительно утаивается... это мертвое, инертное выражение невозможности
страсти в культуре, где самовыражение регулируется законом».
Это принципиальное положение стало признаком водораздела между теми, кто
творчески работал с масс-медиа. С одной стороны, заимствование из этого источника
приветствовалось как потенциально пародийное и, следственно, подрывающее мифо-
логию модернизма. С другой, те, кто не расстался еще с подозрениями насчет темной
лошадки по имени «постмодернизм», желали бы приостановиться, не дойти до ирони-
ческого восхваления коммерческого мира, не впасть в безвкусицу и банальность. Для
этих последних живопись попутчиков концептуализма была предпочтительно труд-
ной, а не развлекающей, туманной для толкования, а не снисходительной к зрителю,
ей следовало соответствовать уже сформулированным категориям: по словам Чарльза
Харрисона, живопись должна стать «столь же сложной с точки зрения восприятия и
описания, сколь создания». Отсюда следствие — весьма болезненное для критической
репутации и Салле, и Шнабеля: искусство, которое немедля добивается признания как
музеев, так и рынка, вряд ли обладает достаточной содержательной глубиной. Живо-
пись может позволить себе ироническую манеру — быть живописью плюс чем-то еще,
однако следует иметь в виду, что ирония имеет свойство вырождаться в сарказм или
даже прямой кэмпизм — вульгарный, вычурный, претенциозный стиль, причем не
обязательно как следствие плохого вкуса, а как осознанный метод.
Отличие оказалось жизненно важным. В 70-х кэмпизм был особенностью чи-
кагской школы «плохой» живописи, возглавляемой Эдом Пашке и Джимом Наттом.
Нечто по имени постмодернизм 79
Теперь, между 1982 и 1985-м, в Нью-Йорке вырос-
ло племя людей, упивающихся всяческой неорто-
доксальностью, дурновкусием и всеми видами
уличных развлечений. В Ист-Виллидже (район юж-
нее 10-й улицы между Бродвеем и Томпкинс-сквер)
художники селились и раньше. Но тут местные эт-
нические рестораны, клубы, маленькие галереи и
экзотические лавочки стали привечать художест-
венную молодежь, не принятую в «центровых»,
престижных галереях и журналах, — и произошел
взрыв творческой активности, итогом которого
стали работы кричаще яркие, нарушающие все
предписания, много сделавшие для постмодерна и
обострившие дискуссию о том, что же это нынче
такое, «авангард».
Своим обаянием так называемое «искусство
Ист-Виллиджа» впрямую было обязано «уникаль-
3.17. Дэвид Салле
Дилемма Лэмпуика, 1989
Холст, масло, акриловые краски
2,4x3,4 см
«Дилемма» из названия Салле, похоже,
относится к классической сказке К. Кол-
лоди. в которой Лэмпуик, странствующий
соученик Пиноккио, предлагает совер-
шить путешествие в Странуудовольствий.
где нет ни школ, ни учебников и можно
играть весь день напролет. Однако там
они обнаруживают, что те. кто только
и делает, что играет, превращаются
в осликов. На картине видна «игра»
образов, включая африканскую статуэт-
ку. персонажа в одежде восемнадцатого
века, порнографические изображения
и фрагмент картины Люциана Фрейда
ному сочетанию нищеты, панк-рока, наркотиков,
поджогов, “Hell’s Angels”, пьянства, проституции и ветхого жилья», по словам самого
красноречивого из его сторонников, Уолтера Робинсона, и все поименованное было
социально-экономическим наследием позабытого властями криминогенного город-
ского района. Обыгрывая стихийное разнообразие и беспорядочность подлинной го-
родской среды, художники Ист-Виллиджа, поддерживаемые дешевыми (с точки зре-
ния их содержания) галереями с экзотическими и забавными именами: Fun («Кайф»),
Civilian Warfare («Гражданская война»), Nature Morte («Мертвая натура»), New Math
(«Новая математика»), Piezo Electric («Пьезо Электрик») и Virtual Garrison («Виртуаль-
ный гарнизон»), — бросили всякую осторожность и пустились в разгул всяческих изли-
шеств. Излюбленными их приемами стали копирование и стилизация-пастиш, с по-
мощью которых они сообщали зрителю о расширении круга доступных источников
наслаждения и о своей привязанности к таким модным художественным стилям, как
психоделика и оп-арт. Работы Георга Кондо и Питера Шуйфа, выставленные в галерее
Пэт Херн, обращались к сюрреалистским мотивам, взятым у Сальвадора Дали, Рене
Магритта и Ива Танги. Галерея «Кайф» Пэтти Астор с самого своего основания в конце
1981 г. славилась тем, что открытие выставок там сопровождалось «мини-фестиваля-
ми искусства трущоб» с рэп-музыкой, брейк-дансом и работами Жана-Мишеля Баски
(когда-то соратника Энди Уорхола), Фэба Файва Фредди, Кенни Шарфа, Кейта Херинга
(Илл. 3.18) и прочих. В «Мертвой натуре» и «Гражданской войне» выставляли основан-
ные на фотографии работы Гретхен Бендер и Ричарда Мелани, а также так называемую
«экспрессионистскую» живопись Хака Снайдера и Джуди Глантцман. В галерее Грэйси
Мэншн сосредоточилось все самое характерное: очень популярны (среди обитателей
Ист-Вилл идж) были ансамбли Ронды Цвилл ингер и Родни Алана Гринблатта, сами себя
пародирующие, дешевые, намеренно китчевые. Таких местечек было тогда в избытке.
Теперь, оглядываясь назад, мы вправе сказать, что нападки Майка Бидло на
концепции и условности «авторства» привели к по-настоящему неожиданным ре-
зультатам. На первый взгляд его композиции, похожие на сделанные в масштабе пло-
хие копии с Бранкузи, Пикассо (Илл. 3.19), Моранди, Кандинского, Леже, Шнабеля и
«Фабрики» Уорхола, казались не более чем низкопробным поп-артом, во всей красе
80 Политика живописи: 1972-1990
обнажающим свою эксцентричность и смехотворность, — пока
вдруг не поймешь, что сама идея копирования поднимает вполне
уместные вопросы об ауре гения, о взаимоотношениях копии и ори-
гинала, о вкусах и склонностях зрителя, и, далее, о модернистской
идее оригинальности и о том, как она соотносится с эстетическим
вкусом и потреблением культурного продукта. Однако критики
пригвоздили работу Бидло как простое копирование очень дорогих
картин, имея в виду их высокую прибыльность.
Тогда, в середине восьмидесятых, ненадолго казалось, что
искусство Ист-Виллиджа сулит полное поражение истовой модер-
нистской серьезности с ее акцентом на мужской составляющей и
патологическим страхом перед шутливостью или китчем. Конечно,
создание новых выставочно-галерейных сетей за пределами оси,
связывающей центральные музеи с авторитетными арт-дилерами,
вроде бы обещало молодым художникам возможность хотя бы с черно-
го хода начать карьеру. Однако расцвет Ист-Виллидж-арт длился не-
долго. Левые критики принялись ворчать, что уж слишком явно метит
оно довести все приметы убогой городской жизни (граффити, деше-
вый китч, приметы бедности или жизненной дезориентации) до той
степени стилизации, за которой следует восхваление или безразличие. Для многих од-
на только свойственная Ист-Виллиджу озабоченность средствами выражения (Кенни
Шарфа, к примеру) уже являлась продуктом чуждого сознания, отказавшегося от вся-
ких стараний критически проанализировать тот мир, который этот продукт создал.
Третий же довод состоял в том, что авангард с маркой «Ист-Виллидж» является скорее
составной частью, чем противоядием от общей нивелировки сексуальных, региональ-
ных и культурных различий, которая стремительно становилась приметой загнивания
системы. На Ист-Виллидж-арт так и осталось обвинение в подмене существенно важ-
ных отличительных свойств какими-то искусственными, массового разлива общими
символами «различия вообще», мешаниной дурного разнообразия и инфантилизма.
3.18. КейтХеринг
Без названия, 1982
Виниловая краска
по виниловому брезенту
4.22x4,27 м
3.19. Майк Бидло
Женщины Пикассо, 1988
Выставка в галерее Кастелли.
Нью-Йорк
Для этой выставки Бидло проработал
большинство картин Пикассо, изобра-
жающих женщин, от «голубого периода»
до Мужена. Поскольку Бидло писал
с очень плохих репродукций, то на его
полотнах искажены подпись, цвет
и текстура оригиналов (даже когда они
сделаны в том же размере), и их следует
считать не копиями и не подделками,
а чем-то вроде имитирования, симуляций
Нечто по имени постмодернизм 81
3.20. Жерар Гаруст
Orion le Classique, Orion I’lndien,
(Орион классический, Орион
индийский), 1981-1982
Масло, холст
2.5x3 м
Национальный музей
современного искусства, Париж
«Меня интересует банальное, — говорил
Гаруст. — Это вопрос игры с так называе-
мой классической живописью, как будто
это язык живописи. И. начав с этого
языка, я пишу роман... Я вижу себя
как часть поколения, которое обрезало
всю игру модернизма»
Последнее соображение, приведенное в журнале «October» критиком Крейгом
Оуэнсом, очень важно, если подумать о существовании более амбициозной и теорети-
чески энергичной концепции авангарда, до которой художники Ист-Виллиджа и им
подобные в прочих местах просто не смогли дотянуться. Рассуждение Оуэнса сво-
дилось к тому, что классический европейский авангард начала века занимал важное
место в общественном сознании, помещаясь между образованным средним классом,
дезертирами из которого были многие авангардисты, и различными субкультурами на
окраинах городской жизни, с которыми они (авангардисты) не соединились. Для
Домье, Дега и Мане в Париже XIX века это были старьевщики, проститутки, уличные
артисты. Для Пикассо и некоторых кубистов — цирк или кафе для рабочего люда. На-
против, ист-виллиджские искатели приключений усвоили себе какую-то модную позу,
которая была не только саморекламой и коммерчески успешной («копия в миниатюре
современного арт-рынка» — такова была наименее лестная из характеристик Оуэнса),
но оказалась совершенно не способна пробудить этническую или сексуальную диффе-
ренциацию как культурно стойкую форму. Теперь подлинным авангардистам выпало
не воспроизводить, а вытеснять статусно утвердившегося, коммерчески поддерживае-
мого захватчика.
Как бы то ни было, дискуссия о пародийной живописи в начале восьмидесятых
стала отнюдь не только нью-йоркским, а международным феноменом. Во Франции,
где президент Франсуа Миттеран, избранный в 1981 г., занялся культурным инвести-
рованием в государственном масштабе, новая живопись была прекрасно представле-
на молодым Жераром Гарустом, который репродуцировал маньеризм в духе Пикассо,
де Кирико и Тинторетто (Илл. 3.20). Гаруст всегда подчеркивал, что после концепту-
ализма живопись всегда на первый взгляд выглядит немножко странно. «После Бю-
рена, — говорил он, — оригинальности больше не существует... Мы вынуждены вер-
нуться к системе нашей латинской культуры, посмотреть, из чего состоит система
живописи и наполнить все архетипы новым значе-
нием». Легко войдя в стремительно набирающий
силу’ международный мейнстрим, имея за собой
поддержку немецких галерей, Гаруст черпал вдох-
новение в классической нарративной живописи
(ересь сточки зрения модернизма), — но делал это
не напрямую. «Когда я работаю над мифом об
Орионе, — говорил Гаруст, значим не тот факт, что
я беру Ориона из греческой мифологии, а тот, что
рисую его через мифологию, которая идет из недр
нашей культуры». Дистанция между «примитив-
ным» и неаутентичным у Гаруста сокращается
донельзя.
Или возьмем Восточную Германию, где чех
по рождению Милан Кунк писал картины, под-
черкнутая банальность которых говорила о невоз-
можности, абсурдности взаимодействия западно-
европейского авангарда с культурным коллапсом
стран коммунистического блока (Илл. 3.21). Свой-
ственные Кунку карикатурный стиль и ниги-
лизм — на одном уровне с чикагской школой 70-х
82 Политика живописи: 1972-1990
или с работами его современника, голландского
художника Роба Шольте, — должны были не вы-
зывать восхищение, а считываться как симптом
экзистенциальной ситуации: его Венера располо-
жилась отдохнуть на лужайке среди цветочков и
старых автомобильных покрышек. Говоря, что «со-
временное искусство безвозвратно погибло еще в
тридцатых», что «с тех пор все искусство — это
постмодерн», Кун к хотел указать на неизбежную
деградацию всех художественных стилей в резуль-
тате бесконечного их повторения, злоупотребле-
ния ими, да и коррумпированности искусства в
существующей политической и социальной реаль-
ности. И все-таки, играя в откровенный китч, Кунк
считал, что неаутентичность, неподлинность —
вот истинная мера переживания в мире, где гос-
подствует рынок.
Представляя другую крайность, шотландец Кен Карри обратился к недву-
смысленно нарративной живописи, да к тому же в стиле советского социалистическо-
го реализма, давно утратившего доверие, а некоторыми даже и презираемого. Самый
интересный в группе художников из Глазго, усиленно продвигаемой в начале восьми-
десятых, Карри живописал сцены про героизм рабочего класса и солидарность профсо-
3.21. Милан Кунк
Венера, 1981-1982
Холст, масло
1,6 х 2,6 м
юзов, украшенные такими старомодными штампами, как плакаты, марширующие
пролетарии или полные мрачной решимости портретные головы. Что касается кри-
тиков, то они приветствовали Сили бранили) Карри как «реалиста», пытающегося
указать на достоинства традиционной, хоть и угасающей политической культуры.
Впрочем, подробный анализ его манеры приводит к мысли, что и он участвует во все
той же исторической пародии. В то время как одни видели в его полотнах иллюзорный
реализм того типа, сторонником которого был венгерский критик-марксист Георг Лу-
кач, другие считали серию панно «Народный дворец» Карри продуктом брехтовской
традиции противоречивости и сложности (на масштабных картинах представлены
женщины в мужском политическом контексте, простые рабочие на международной
политической сцене). Это правда, что суровые, кричащие цвета, удушливая атмосфе-
ра, угрюмые лица рабочих повторяют лишь некоторые особенности пролетарского ре-
ализма тридцатых годов. Карри на это сказал, что хотел, чтобы его картины «говорили
на демократическом языке», хотел создавать произведения «о рабочих и для рабочих»,
«демистифицированное, популярное и социализированное, дающее художнику шанс
сделать что-то полезное для общества». Такой язык мигом отвратил от Карри тех, кто
хотел, чтобы социалистическое искусство было вольнодумным и интеллектуальным, а
не поучающе миссионерским. Этот спор по сию пору' важен для левацкого политиче-
ского союза с искусством. До какой степени несомненная прямота творческого метода
Карри исчерпывает содержание его живописи? Что это было, критика абстрактного
модернизма изнутри фигуративной и популярной традиций, упрямое повторение ран-
него «реалистического» стиля или хорошо выверенная, рассчитанная (и, может быть,
ироническая) модернизация утраченной исторической манеры? Ответить на этот
вопрос сможет только аналитически настроенный зритель, который внимательно
рассмотрит сами картины.
Нечто по имени постмодернизм 83
Живопись и женственное
Более стойкую и долговременную реакцию на
мужской модернизм представило творчество фе-
министок. Ри Мортон пришла в искусство поздно и
в 1977 г. погибла в автомобильной катастрофе, но
оставила о себе легенды. Она, как и другие ее
современницы, устремилась к расчленению и па-
родированию канонических абстрактных про-
изведений, исполненных мужчинами и продвига-
емых мужчинами-критиками. Ее ранняя серия
«Глупые Стеллы» задумывалась как трехмерные
живописные полотна, одновременно являвшиеся
напольной скульптурой, которую разрешалось
трогать. Шагая наперекор господствующему эсте-
3.22. Кен Карри
Исторические полотна
для Народного дворца.
Панно 6: Борись или голодай...
Блуждая по тридцатым, 1986
Холст, масло.
2,2 х 3,8 м
Народный дворец, Музей Глазго.
Шотландия
тическому вкусу, Мортон торопливо осваивала весь каталог скульптурных стилей и
материалов, включая палки, ветки, кирпичи, землю и ткани, смонтированные в духе
Евы Хессе у стены либо через весь пол. Не ранее 1974 г. она обнаружила вещество, кото-
рое решительно изменило ее подход к делу: целастик, литьевой материал, поддающий-
ся обработке при контакте с мокрой тканью и после сушки отвердевающий. Последние
три года жизни Мортон преподавала в школе искусств, пользуясь большим автори-
тетом, а как художник занималась тем, что сейчас называется инсталляцией, как бы
сводя в таблицу приливы и отливы американских клише. «Знаки любви» (1976) вы-
полнены после счастливого года преподавания в Университете штата Калифорния в
Сан-Диего. Это пышное празднество лесенок из целастика, ленточек, раскрашенных
панелек и пластиковых гирлянд; все собрано воедино с нескрываемой сентименталь-
ностью (Илл. 3.23). Разбросанные по стенам слова: «атмосфера», «жесты», «позы»,
«моменты» — говорят о приподнятости, ностальгии и театральности, но, на мой вкус,
несколько сладковато. Храмы, жилье, фантазии — все идет в ход во времена обеспоко-
енности американского женского движения политикой как в жизни, так и в искусстве.
Щедрость, избыточность Мортон и ее склонность к декоративному использованию
многоцветного языка массовой культуры пригодится следующему поколению кали-
форнийских художников.
И все-таки было тогда ощущение некоторого избытка той живописи, которая хо-
чет быть богатой и цветистой просто ради разнообразия. Это суждение (или подобное
ему) можно применить к виду женского творчества, который под названием Pattern
Painting вышел на международную сцену в конце семидесятых. Ему было посвящено
несколько экспозиций, к примеру выставка «Орнаментальная живопись», в ноябре —
декабре 1977 г. проведенная в нью-йоркской галерее «Р. S. 1», в которой участвовало
двадцать художниц. Стиль этот, нужно заметить, отвечал особой потребности в чувст-
венном, весьма проявившейся в конце пограничного десятилетия. Привлекательность
его заключалась в этнической декоративности (кельтской, американских индейцев,
исламской), которая преподносилась способами, напоминавшими о рукоделии, о
традиционных видах присутствия женщин в сфере искусств. Располагая яркие, повто-
ряющиеся детали по просторной, как правило, поверхности холста, сторонницы орна-
ментальной живописи во весь голос прославляли мастерство, декоративность и чувст-
венность, взятые сами по себе и как таковые. Критики их поддерживали и хвалили —
84 11олитика живописи: 1972-1990
ведь художницы таким путем отказывались от
скучных и бесплодных, как они полагали, упражне-
ний в концептуализме. «Нам необходимо искусст-
во, которое признает третий мир и те формы, что
традиционно считают именно женской рабо-
той, — писал критик «Артфорума» Джон Перро, —
искусство, которое оживляет стерильное окру-
жение... Голые поверхности заполняются... Ре-
шетчатые картины минималистского типа пре-
вращаются в кружева или тюль, обладающие чув-
ственностью и содержанием, которое выходит за
пределы обращения к себе самому».
Точно так же Мелисса Мейер, поначалу член
группы «Heresies» («Ереси»), в 1 976-1977 гг. сотрудничала с Мириам Шапиро, выясняя,
почему это так много женщин занимаются коллекционированием, утилизацией от-
ходов, накоплением денег, переделкой вещей и организацией праздников — то есть
имеют склонности, которые в бытовой культуре выражаются в лоскутной технике,
вышивании, ткачестве, альбомах для наклеивания вырезок и дневниках, что в самом
расхожем виде уже было использовано в «коллажах» таких модернистских художниц,
как Ханна Хёх и Анна Райан. Намереваясь вывести эти типы коллажа за пределы
мейнстрима, Мейер и Шапиро разработали основу для новой эстетики, опирающейся
на признание женских ценностей. «Женщины всегда собирали вещи, сберегали их и,
переделывая, использовали снова и снова, потому что старое в переделке обновляет-
ся, — писали они. — Декоративные функциональные предметы, изготовленные жен-
щинами, часто говорят на тайном языке, содержат скрытые образы и представления.
Считывая эти образы с шитья, с картин, с лоскутных одеял, ковров, мы слышим порой
крик о помощи, порой намек на тайное политическое соглашение, порой видим тро-
гательный символ, говорящий об отношениях между мужчиной и женщиной». Эту
эстетику типа «и выкинуть жалко, и держать ни к чему» они назвали «феммаж». Ин-
сталляции, подобные тем, что делала Синтия Карлсон, когда все пространство галереи
было подчинено порыву к эклектизму и изобилию, в той же мере служили моделью для
архитектуры, стремящейся обновить свой формальный язык, они претендовали на то,
чтобы являться вкладом в искусство (Илл. 3.24). Тем не менее достижением орнамен-
тальной живописи было заявленное желание художниц работать за пределами модер-
нистского критического протокола, пусть и в форматах, достаточно амбициозных для
того, чтобы завоевать одобрение мира искусства, как всегда охочего до перемен. Пере-
лопатив гору искусствоведческой литературы в поисках соответствующих доказа-
тельств, Джойс Козлофф и Валери Жодон убедительно показали, что декоративность
последовательно обесценивалась модернизмом, от Лооса до Малевича, от Рейнхардта
до Гринберга, и что такое же предубеждение против целесообразности и функцио-
нализма отодвинуло на обочину африканское, восточное, персидское и словацкое
искусство — заодно с такими радостями, как удовольствие, хаос, декаданс, эротизм,
мастерство и орнамент. Опубликованная в журнале «Heresies» («Ереси») в
1977-1978 гг., их статья, провокационно озаглавленная «Художественно-истериче-
ские заметки о прогрессе и культуре», сегодня звучит пророческим предвидением тех
путей, по которым продвинутое западное искусство будет последовательно и с го-
товностью идти. В своих собственных инсталляциях Козлофф взяла эти принципы на
3.23. Ри Мортон
Знаки любви. 1976
Дерево, целастик,
синтетические полимеры
Музей американского искусства.
Уитни. Нью-Йорк
Живопись и женственное 85
вооружение, таким образом выразив противодействие повсеместно
распространенному языку «западного белого мужчины» (Илл. 3.25).
Принимая во внимание связь станковой живописи с традици-
ей, с мужским (маскулинным) началом и с модернистской историей
искусства, не стоит удивляться, что в поисках способа добиться «рав-
нопредставленности», покончить со своим неучастием в этой исто-
рии, художницы принялись вырабатывать практические приемы,
выводя их из самой идеи женственности (фемининности). С первых
дней зарождения контркультуры этот поиск исходил из той пред-
посылки, что «женственное» существует. Было высказано мнение
(например, в работах Ширли Канеда), что абстрактная женская
живопись имеет мало общего (или вообще ничего) с изображением
вагины (у Ханны Вильке, Джуди Чикаго) или с разработкой и развити-
ем ремесел (у Фэйт Рингголд, Джойс Козлофф). Женской живописи с
3.24. Синтия Карлсон
Инсталляция с обоями, 1976
Акриловая краска по латексной
краске, 139 см
этой точки зрения следует попытаться четко сформулировать забытые, униженные и
даже опороченные свойства женственного, причем безо всякого чувства вины. Ей сле-
дует объять собой зыбкое и неустоявшееся (женское), а не суммированное и сбаланси-
рованное (мужское). Следует приветствовать такие черты, как интуиция или пассив-
ность, а не страдать от них. Следует связывать способ изготовления работы с телом
(женское), а не только с одним умом (мужское). Следует настаивать на тех критериях
оценки, которые соответствуют каждой картине в отдельности, а не скопом. Стремить-
ся к прибавлению, а не вычитанию. К возвышенному идти через чувственное (жен-
ское), а не через снижение, геометрию или отрицание (все мужское). Лишь изредка
запрещать или завершать, оставляя незавершенным. И наконец, женская живопись
должна настаивать на том, что написание картины есть производное не пола художни-
ка, а ценностей, выраженных самой работой.
Следуя той же логике, можно отнести к женским и сравнительно недавние кар-
тины Филипа Таафе: они бросают вызов упрощенным вкусам «мужского» искусства,
настаивая на том, что своеволие и декоративность — это ценности, в мужской эстети-
ке не имеющие, так сказать, устойчивой цены (Илл. 3.26). Изысканные решетки Агнес
3.25. Джойс Козлофф
Обои Тута, 1979
Три шелковых экрана на шелке,
2.7 х 1,1 м; две керамических
пилястры, 2,3x0,2 м: жидкий раствор,
клееная фанера
«Метрополитен», Нью-Йорк
••Нам необходимо искусство, которое
предлагает прямое значение, не при-
несенное в жертву изобразительной
изощренности, искусство, которому есть
что выразить помимо непричастности,
скептицизма или солипсизма», —
писал критик Джон Перро. Этот свой
метод Козлофф применила недавно
к оформлению стен, тротуаров
и площадей
86 Политика живописи: 1972-1990
Мартин также женственны, поскольку преобразуют решетки, назойливо присутствую-
щие в мужской модернистской архитектуре, смягчают их, делают отзывчивыми к спо-
койствию и поэтике. Таким же образом работы Валери Жодон внешне напоминают
структуры Сола Ле Витта, но выполнены так, словно она не избегает, а ищет возможно-
сти выразить свою индивидуальность и вкус (Илл. 2.37). (Любопытно, что в недавних
оценках творчества Ле Витта критики мужского пола, находя его чрезмерно упрощен-
ным и затеоретизированным, разошлись с критикессами, которые видят в его работах
последовательный отказ от контроля, — поскольку он пребывает в поисках разнообра-
зия, беспорядка и даже цвета.)
В соответствии с той посылкой, что экспрессивность — прерогатива мужчин,
возможности, открывающиеся для осознающего себя женского творчества, могут по-
началу показаться несколько суженными. Действительно, мужская экспрессивность
часто идентифицируется с амбициями, с философским проникновением в «приро-
ду» — это качества, которыми могут обладать только мужчины. И все-таки, работая в
стиле, называемом «ecriture feminine» (женское письмо), работы Терезы Оултон или
Джойс Пенсато сумели открыть такие возможности видения, поддержки и показа, ко-
торые ценят женственное, и не как еще один художественный прием, а на его условиях
и ради него самого. Высокие художественные притязания, отраженные их роскошны-
ми, утонченными полотнами, приводят к тому эффекту; что отличительные гендерные
3.26. Филип Таафе
Нефта, 1990
Холст, смешанная техника
150x120см
Частная коллекция
Таафе разработал открытое, но осо-
знанное отношение к декоративности,
табуированной модернистским форма-
лизмом. Он описывает свое отношение
как "Плюралистическое, совершенно
неавторитарное, не слишком превозно-
сящее героическое или мужественное».
Также Таафе сказал, что «на самом деле,
живописцы — лучшие философы среди
представителей массовой культуры...
Роль их — скорее критическая, чем
развлекательная-
2.37. Валери Жодон
Русские балеты, 1993
Холст, масло
2.3x2.7 м
Жодон. сторонница орнаментальной
живописи с конца 70-х. исследовала ее
возможности в серии иероглифических
полотен, в которых стремилась уловить
ритм внутри разнообразия, рассмат-
ривая эту парадигму как социальную
конструкцию и феминистскую стратегию
одновременно. -Мир разваливается
так стремительно, и это мир, созданный
мужчинами... это рушатся их мосты»
Живопись и женственное 87
3.28. Джойс Пенсато
Без названия, 1990
Холст, масло
2,3x1,8м
Собственность автора
особенности в картинах и самих картин проявляют себя в характер-
ных знаках, в характерной осведомленности о теле, в характерном
шаге и ритме восприятия (Илл. 3.28). Конечно, эти высокие притяза-
ния часто сталкиваются с тем, что широкие социальные слои пока
по-прежнему воспринимают культуру как явление преимуществен-
но мужское, и это шаблонное мнение изменяется очень неспешно.
И оно останется дискуссионным, пока ценности женской живописи
(под тем или иным наименованием) не сумеют практически выра-
зить себя в глазах мира, зачумленного мужским пристрастием к вой-
не, экологической агрессии и бездумной растрате ресурсов. В отли-
чие от эстетических, практические требования «ecriture feminine»
порой могут выходить за пределы собственно искусства, и все-таки
гендерный диалог, проходящий на завоеванной мужчинами терри-
тории, остается его (искусства) жизненно важной задачей.
Затруднительность же, равно для женщин и мужчин, состоит в
том, что даже в начале двадцать первого века «краска по холсту», по-
хоже, по-прежнему остается ценностью и источником эстетического
честолюбия. Если правда, что живопись имеет преимущества перед
другими видами искусства с точки зрения долговечности, транспор-
табельности и, как выразился Вальтер Беньямин, «ауры», то, значит,
альтернативные ей средства выражения будут иметь это в виду и ува-
жать особые эстетические качества живописной традиции. Это одна
из причин, почему вызвавшее столько споров «возвращение» живо-
писи после концептуализма оказалось наиболее убедительным в тех
случаях, когда она осознает себя самое. Иными словами, лучшие жи-
вописные работы последних лет располагались где-то на перепутье
между ее родовой сущностью и требованиями критиков-теоретиков.
88 Политика живописи: 1972-1990
Голоса времени
Герхард Рихтер, запись за 28 марта 1986 г.
Из книги: Герхард Рихтер. «Заметки за 1966-1990 годы». Лондон: галерея Тейт, 1991, с. 118
«Искусство... это особый способ наших повседневных отношений с видимостью,
в которой мы узнаем себя и все, что нас окружает. Следовательно, искусство —
это желание создать видимости, сравнимые с настоящими, потому они более или менее
им подобны. Следовательно, искусство—это возможность думать обо всем по-разному,
признавать видимость фундаментально неадекватной... благодаря этому искусство
имеет образовательную и терапевтическую, утешающую и просвещающую,
объясняющую и умозрительную функции, и, следовательно, это не просто
экзистенциальное удовольствие, это утопия».
Валери Жодон и Джойс Козлофф. «Художественно-истерические заметки о прогрессе и культуре»
Журнал «Heresies», т. 1, № 4, зима 1977-1988, с. 38
«Как феминистки и художницы, разрабатывающие декоративное в собственной живописи,
мы хотели разобраться с уничижительным использованием слова «декоративное»
в современном искусствоведении. Перечитав основные труды по современному искусству,
мы пришли к выводу, что предубеждение против декоративного имеет долгую историю
и основано на иерархичности: изящное искусство выше декоративного, западное выше
не-западного, мужское выше женского. Вникнув в эти иерархии, мы обнаружили
странную систему верований, основанную на моральном преимуществе искусства
западной цивилизации».
Образы и предметы:
восьмидесятые
Рассуждая недавно о состоянии скульптуры на заре двадцать первого века, один из са-
мых влиятельных в Америке критиков признался, что «было трудно предвидеть, какой
она будет... а уж делать ее — почти невозможно». И хотя некоторые из причин ее паде-
ния— или, скажем, банкротства — были очевидны, продолжал он, другие оставались в
тени. «Очевидно, что непрерывное перепроизводство предметов потребления, их по-
стоянное навязывание и все более скорое устаревание вызывали бытовую жестокость
в тех сферах повседневной жизни, которые регулируют весь пространственно-времен-
ной порядок и девальвируют всякое отношение к предмету». Этот критик, Бенджамин
Бухло, оплакивает утрату кипящих жизнью открытых общественных пространств,
считая ее следствием все более проявляемой в современной культуре тенденции к по-
треблению, быстро и еще быстрее, чем это допустимо для выживания общества. Там,
где над социальными формами и системами господствует зрелище, полагает он, искус-
ство изо всех сил старается не отставать, не говоря уж о том, чтобы найти насущно
необходимую точку приложения сил и укрепить свою власть.
Этого автора отличает резкость суждений. И все-таки его доводы нуждаются в
объяснении. Подлинный смысл высвобождения от чар «формальных» ценностей, от
искусства оценки, наслаждения, от пластических и пространственных отношений
прослеживается вглубь до яркой и все еще обсуждаемой деятельности Марселя Дю-
шана в начале двадцатого столетия (временным контекстом которой был кубизм, со
всеми его привходящими). В 1913 г. Дюшан взял обыкновенное велосипедное колесо
и водрузил его на обычный стул. В 1914 г. он приобрел и выставил стойку для сушки
бутылок — так родилась идея «реди-мейда» (readymade, готовое изделие). Как он сам
позднее сформулировал в одном из интервью, реди-мейд позволил ему «свести идею
эстетического выбора к разуму, а не к оценке способности или мастерства, прибегая к
которой я осуждал многие картины моих современников». В 1919 г. он взял дешевую
фоторепродукцию Леонардовой Моны Лизы, пририсовал ей усы, козлиную бородку,
приписал рядом сомнительный каламбур — так получился «комбинационный» реди-
мейд, контекстом которого на сей раз стал парижский дадаизм. Все эти предметы,
включая и писсуар, представленный на нью-йоркской выставке 1917 г., Дюшан объявил
С. 90:
Джеф Уолл
Молоко (деталь). 1984
См. рис. 4.11
произведениями искусства. В 1942 г. он наряду с другими европейскими дадаистами и
сюрреалистами навсегда перебрался в Соединенные Штаты, где занял заметное место
в эмигрантском сообществе и сделался весьма влиятелен, и чем дальше, тем больше, в
среде молодых художников на Западном и Восточном побережьях. В 1959 г. была опуб-
ликована монография Робера Лебеля, посвященная Дюшану, а в 1963 г. ему устроили
большую ретроспективную выставку в Художественном музее Пасадены в Калифор-
нии, куратором которой стал предприимчивый молодой Уолтер Хоппе. Эти два со-
бытия послужили толчком к тому, чтобы влияние Дюшана на художников 60-х и 70-х
распространилось по всему миру. Творческая молодежь охотно переняла дадаистский
подход к реди-мейдам как к «искусству», возвышая идею-структуру искусства исклю-
чительно за счет визуальности. На таком фоне концептуальное искусство середины и
конца шестидесятых ввело практику реди-мейда по крайней мере в три сферы — фо-
тографию, скульптуру и живопись, и эта практика просуществовала с середины 70-х
примерно до 1990 г. Ведь фотокамера по самой природе своей воспринимается как
реди-мейд те области мира, на которые распахивает свой объектив. Реди-мейд в
скульптуре исходит из той предпосылки, что существующий предмет, представленный
по-новому, может выразить себя эстетически более мощно — с некоторыми добавками
касательно авторства, оригинальности и «присутствия», — чем художественный ново-
дел. И наконец, самые хваткие из живописцев 70-х и 80-х заимствовали образы низкой
культуры или масс-медиа, чтобы передислоцировать их, переделать или иронически
переосмыслить ради более значимого общего впечатления. Итак, представители всех
видов искусства вовсю черпали из наличных художественных стилей, обращались с
заимствованием как с материалом и радовались поводу устроить дискуссию вокруг
поднявшегося скандала.
Фотография как искусство
Концептуалисты широко использовали черно-белую фотографию как документальное
свидетельство события, происходившего за пределами выставочной галереи. Часто
такие фотографии были намеренно любительского качества, часто подчеркнуто обыг-
рывали свои отличия от добротно проработанной плоскости живописных картин.
В конце семидесятых требовалось лишь слегка изменить отношение к снимку, чтобы
из вызывающе-провокативного символа «не-живописи» превратить его в произведе-
ние, представляющее интерес и значимое само по себе.
Как и следовало ожидать, уникальные оптические свойства «окна в реальность»
оказались весьма пригодны для экспериментирования с фотографией. В Нидерландах
в этом отношении интересна деятельность Стэнли Брауна, Яна Диббета и Гера ван Эль-
ка. Ван Элы< в конце шестидесятых обыгрывал двойственности: передний и задний
план, правое и левое, присутствие и отсутствие вплетались в работы удивительные и
парадоксальные. В фотографиях его серии «Пропавшие без вести» (1976) отсутствова-
ла ключевая фигура, что наводило на мысль о податливости фотографического изобра-
жения к манипуляции и фальсификации — то есть к полной противоположности тому,
что изначально закладывалось в функцию его механического контакта с реальностью
(Илл. 4.1). Эксперименты ван Элька расцениваются как вполне пророческие — несмот-
ря на то что впервые фотография как объективное свидетельство скомпрометировала
себя в газетно-журнальной периодике, когда там научились бессовестно пользоваться
92 Образы и предметы: восьмидесятые
4.1. Гер ван Эльк
Обед-П
(Из серии «Пропавшие без вести»)
Ретушированная цветная фотография
80x100 см
Галерея Тейт. Лондон
ретушью с помощью аэрографа. Не говоря уж о том, что именно в семидесятых в
Пентагоне экспериментировали с оцифровкой фотоизображения в военных целях, для
разведки и наблюдения. Таким образом, скромный вклад ван Элька можно считать
отражением патологических процессов, происходящих в обществе, в то время как фор-
мально перед ним стояла совсем другая задача — снять глянец, дегламуризировать
постановочную цветную фотографию как альтернативу впечатляющим своей мощью
ручной работы произведениям модернистской живописи и скульптуры.
Соратник ван Элька из Великобритании, новозеландец по рождению, Бойд Уэбб
предпочитал делать глянцевую цветную фотографии размером с дорогую картину, вы-
страивая на ней сюрреалистические сцены, одновременно невероятные и невероятно
реальные. Может показаться, что это был сигнал об отходе от декларированного ран-
ним концептуал измом стремления все анализировать и перечислять, — но также тако-
го рода работы можно рассматривать как дорожку как раз в ту же сторону, к сюжету и
повествовательности. Фотосцены Уэбба —результат длительной подготовки с приме-
нением подъемников, блоков, подвесных декораций, подсветки, всячески переделан-
ных и замаскированных предметов — требовали настоящих режиссерских усилий, а
во времена раннего концептуализма этот подход, ввиду связанных с ним коммерче-
ских коннотаций, был политически очень непопулярен. Реальность присутствует здесь
в монтаже, о котором большинство тех, кто смотрит на законченную фотографию, даже
не догадывается (Илл. 4.2). Цвет кричит; обстановка слащавая, даже сюрреальная. Идя
этим путем, и Уэбб, и голландские художники предваряли более широкую тенденцию
конца семидесятых, когда фотография стала философски мощной и рефлективной: что
Фотография как искусство 93
4.2. Бойд Уэбб
Кормление
Уникальная цветная фотография
150x120см
Галерея Искусства, Саутгемптон,
Англия
В таких работах, как эта, эффект созда-
ется контрастом между причудливой
эксцентричностью обстановки и изо-
бразительными средствами цветной
фотографии размером с модернистское
полотно маслом. Чем дальше, тем
больше Уэбб интересовался темой
выживания человека. На приведенной
здесь фотографии одетый человек лежит
«под водой», присосавшись к соску кита.
«Шкура» кита — это в натуральную
величину старая прорезиненная ткань,
а сосок — индийский овощ
94 Образы и предметы: восьмидесятые
в любительских снимках и кадрах из фильмов, что в журнальных вырезках, так назы-
ваемых «подручных» фотографиях (found photos) или фотографиях на документы. Дви-
гаясь в русле концептуализма, художники могли соотносить свои творческие усилия
с разнообразием аналитических подходов. Фотография снова требовала себе статуса
искусства.
Одной из значительных манифестаций новой фотографии стала выставка
под незатейливым названием «Pictures» («Картины»), проведенная в 1977 г. в нью-
йоркской галерее /Artists’ Space и организованная критиком журнала «Oktober» Дугла-
сом Кримпом. Эта выставка предоставила участвовавшим в ней художникам (Трою
Браунтачу; Джеку Голдштейну, Шерри Ливайн, Роберту Лонго и Филипу Смиту) воз-
можность теоретически формализоваться, то есть утвердить дистанцию, которая отде-
ляла их от идеалистического модернизма, и войти в контекст определенного набора
дискурсов постмодернизма. Недавняя доктрина модернизма, писал по этому поводу
Кримп, яростно поносила театральность минималистского (ну и концептуалистского
тоже) искусства на тех основаниях, что, во-первых, оно зависимо от длительно про-
текающего времени физически присутствующего очевидца, а во-вторых, противо-
естественно и неправомочно располагается где-то посредине между картиной и
скульптурой. Но именно эти качества, театральность (или постановочность) и «проме-
жуточность», на нынешний взгляд Кримпа, делали такой интересной работу группы
«Pictures».
Синди Шерман в группе не состояла, но считалась примкнувшей к ней. В конце
70-х она выставила фотографии, которые хоть и выглядели кадрами из неореалисти-
ческих фильмов недавнего времени, но на самом деле были ее же постановочными
портретами в различных, не слишком замаскированных обличьях (Илл. 4.3). Стоит
заметить, что по размеру фотографии Шерман точно соответствуют размеру кадра, а
декорации, одежда и освещение тщательно продуманы и режиссированы. Между тем
титульное слово, «Без названия», привлекает внимание к полному отсутствию содер-
жания, высушенной, обескровленной, неживой сущности этих фотографий. Экспери-
ментируя в молодости с переодеваниями, Шерман отмечала реакцию друзей на изме-
нения в своем облике. Переезд в Нью-Йорк способствовал ее профессиональным заня-
тиям фотографией. Однако критические отклики на выставку оказались неоднознач-
ными. Феминистки с энтузиазмом приветствовали те способы, которыми женщина на
фотографиях Шерман открывалась как элемент культуры, пешка художественной изо-
бретательности; и сегодня Шерман считается первопроходцем-исследователем жен-
ского маскарада. Но сама художница такой интерпретации упорно сопротивлялась.
«Фотография должна выйти за пределы самой себя, чтобы проявить свое присутст-
вие, — говорила она. — Это картины персонифицированных эмоций, полностью про-
явивших свое присутствие — не мое. Вопрос о личности модели не более интересен,
чем гипотетический символизм любой другой детали». И для Кримпа тоже вопрос за-
ключался в фотографическом кадре. Какой тип темпоральности присущ этому «очень
особому типу картины»: природный континуум подлинных событий или сконструиро-
ванный контекст сочиненного кадра? Кримп полагал, что это свойства моментального
снимка, положение которого в реальности разрушено тем, что мы знаем о его проис-
хождении. «Нарративность в такой работе. — писал Кримп, — ощущается как одновре-
менно присутствие и отсутствие; нарративная среда заявлена, но не воплощена». В том
же духе Трой Браунтач, еще один участник группы «Pictures», выстраивал свои поста-
новочные исторические фотофрагменты (в одном случае это был, например. Гитлер,
4.3. Синди Шерман
Кадр из неизвестного фильма, 1978
Черно-белая фотография
25.4x20,Зсм
Фотография как искусство 95
снятый со спины в своем «мерседесе») таким образом, чтобы пробу-
дить и желание, и отчаяние: желание познать, полностью овладеть
значением того, что предстало на изображении, и отчаяние, которое
приходит с пониманием того, что фотофрагменты исторического
прошлого воспринимаются все больше как фетиши и экспонаты, все
меньше как.окно в прошлое. «Эта дистанция, — говорил Кримп о раз-
рыве между изображенным на фотографии и тем отрезком истори-
ческого времени, который ее породил, — в сущности, и есть все, что
эти картины собой обозначают». А про ранние работы Шерри
Ливайн, на которых изображения семейных групп были обрамлены
силуэтами выдающихся государственных деятелей, Кримп сказал,
что это полное и законченное воровство, а также постмодернистская
обструкция вопроса о средствах выражения. В обоих случаях фраг-
менты вырваны из посторонних источников: монет в одном случае,
журналов в другом, и композиционно выстроены в кадре 35-мм
слайда, фотоотпечатка или собственной репродукции, при этом вся-
кий раз природа средств выражения остается неясной.
Шерри Ливайн в начале 80-х наново переснимала работы
таких известных фотографов-мужчин, как Эдвард Уэстон, Эллиот
Портер, Александр Родченко и Уолкер Эванс (Илл. 4.4.), копировала
акварели Эля Лисицкого, Хуана Миро, Пита Мондриана и Стюарта
Дэвиса, рисовала по мотивам Казимира Малевича. «Мир полон так,
что не продохнуть», — писала Ливайн в то время (по существу, подра-
4.4. Шерри Ливайн
По мотивам Уолкера Эванса: 7,1981
Черно-белая фотография
25,4x20,3 см
жая статьям Ролана Барта о феноменологии фотографии). «Мы можем только сымити-
ровать жест, который всегда ниже по качеству, всегда неоригинален. Следуя по стопам
художника, плагиатор свободен от страстей, юмора, чувств, впечатлений, но зато у
него в голове целая энциклопедия, из которой он и заимствует». И как трактовать это
высказывание в терминах гендерного дискурса — как казус женского авторства, пря-
чущийся внутри классического прототипа-мужчины? Как полное затихание женского
голоса? Или его полновесное возвращение в пределы рекомендаций маскулинного ис-
кусства? Словечко «вослед» в заголовках фотографий Ливайн («По мотивам Уолкера
Эванса» (Илл. 4.4)) заставляло предполагать как дистанцию (во времени), так отсутст-
вие (в пространстве), и все-таки эти предположения опровергались, при рассматрива-
нии работ, тем, что вот они, эти работы, присутствуют здесь и сейчас. Кримп по этому
поводу удачно заметил, что благодаря важности, какую постмодернисты придают по-
становочной практике, художественная фотография, в особенности симуляционная,
категорически отвергает фоторепродуцирование самой себя. Она требует, чтобы уви-
дели ее самое.
И все-таки требование актуальной визуальности никогда не выдвигалось как
противовес феноменам «атмосферы» или «присутствия», приписываемым некоторым
живописным полотнам, так же как оная визуальность не могла рассчитывать на то, что
станет духовным свидетельством неповторимости художника и его творческого мас-
терства. Напротив, молодые художники, а также те, кто дезертировал из живописи в
начале 80-х, пришли к фотографии именно из желания препарировать (и, препариро-
вав, похоронить) останки преобладающе мужской живописной традиции: не только
модернистскую абстракцию, но и пришедший ей на смену многохвалимый неоэкс-
прессионизм.
96 Образы и предметы: восьмидесятые
Другими словами, в начале 80-х демаскулинизация искусства путем его мигра-
ции в фотографию была инициирована недавней ситуацией в культуре и изобрази-
тельном искусстве. Но кроме того, этот процесс совпал по времени еще и с важными
достижениями в теории фотографии. Такие работы, как «О фотографии» Сьюзен Зон-
таг (1977) и «Camera Lucida» Ролана Барта (1981, опубликована по-французски как «La
Chambre Claire» в 1980 г.), вкупе с периодическими журналами типа «Screen» и
«October», с конца 70-х всячески способствовали анализу фотографии и репрезен-
тативного процесса в целом, включая «вклад» и так называемую цельность «худож-
ника». Такого рода дебаты, плюс обращение заново к классическим психоаналитиче-
ским текстам вроде эссе Фрейда о нарциссизме, фантазии, скопофилии и фетишизме,
стали практическим пособием почти для всех видов искусства, но особенно фото-
графии. Также весьма влиятельна при этом стечении обстоятельств оказалась книга
Мишеля Фуко «Дисциплина и наказание: Рождение тюрьмы» (1977), особенно ее
знаменитая седьмая глава, «Паноптицизм», в которой предлагался к обсуждению тезис
об отношениях между визуальным и (всевидящей) властью. По Фуко, современные
институты власти, особенно государственные, подвергают своих граждан методам
наблюдения, которые на практике не всегда есть наблюдение в прямом смысле, сло-
ва, — нет, людям внушается мысль, что за ними присматривают, тем самым прививая
им привычку к пассивному самонаблюдению за своим собственным поведением, об-
щественным положением и местом в установленном культурном порядке. Пожалуй, не
будет преувеличением сказать, что в начале 80-х искусство в тех странах, где эти книги
активно обсуждались, набрало новые обороты, двинувшись в направлении не на раз-
рыв теории и практики, концептуализации и творчества, но на соединение их почти
воедино.
В этом отношении весьма продуктивной оказалась также деятельность Виктора
Берджина. Берджин, занявший видное место в европейском концептуальном искусст-
ве в период с 1968 по 1973 г., а в конце 70-х прибегнувший к фотографии в своих паро-
дийных визуально-вербальных «постерах», теперь предложил радикальную переоцен-
ой модернистской теории фотографии — незавершенной потом}-, что в своем желании
4.5. Виктор Берджин
Офис ночью, 1985
Смешанная техника
3 панели. Каждая 1,8x2.4 м
Техническая сотрудница конторы
с картины Эдварда Хоппера 1940 г.
переносится здесь в новую систему
отношений, возникающих как следствие
самого изображения, включая вуайе-
ристскую роль собственно зрителя,
воображаемую реакцию женщины
на его взгляд и притягательность,
по самой природе присущую
фотоповерхности
держаться подальше от массовой культуры модер-
нистская теория так и не приблизилась к истин-
ной природе фотографического изображения.
«Триумфы и монументы фотографии историчны,
анекдотичны и репортажны, — писал в 1964 г.
Климент Гринберг. — Фотографии приходится
рассказывать историю, если она хочет быть искус-
ством, и в процессе выбора и разработки своей ис-
тории, или темы, фотограф принимает решения,
невероятно важные для его искусства». Впрочем,
тут Гринберг разошелся с магистральной модер-
нистской доктриной самокритичной рефлексив-
ности, необходимой при работе с изобразитель-
ным материалом, и удивительным образом мино-
вал работы таких фотографов-модернистов, как
Альфред Стиглиц, Ман Рэй и Родченко, каждый из
которых в своей собственной манере и в местных
условиях пытался вывести фотографическую
Фотография как искусство 97
4.6. Софи Калле
Отель, комната 47,2марта 1983 г.,
1983
3 панели. Каждая панель
102.2x142.2 см
Отпечаток с текстом и подцветкой
серебряным желатином, коллаж
практику за пределы параметров и институций станковой живописи. Джон Жарков-
ский, директор отдела фотографии Музея современного искусства в Нью-Йорке, со
своей стороны, впервые выделил «собственно предмет», «деталь», «раму», «время» и
«точку зрения» как аспекты формалистического понимания фотографии. Для него, как
и для Гринберга, значение фотографии выводилось в основном из свойств фотографи-
руемого предмета. Бёрджин, со своей стороны, вернулся к дебатам о социальной фото-
графии, которые велись в 20-х в СССР, в то же время налегая на теорию психоанализа и
семиотику. Он усложнил базовый фрейдистский анализ «взгляда», введя активную
(скопофилическую) и пассивную (эксгибиционистскую) компоненты и прибавив к
этому положения Жака Лакана касательно нарциссической фазы зеркала (первомо-
мента самоидентификации себя с отражением в зеркале) и объектификации (опред-
мечивания), в которой «взгляд» становится характеристически гендерным (мужским)
и социальным (вопрос власти). Позиция Берджина, обнародованная им в его труде
«Думающая фотография» (1982), состояла в следующем: поскольку фотография запе-
чатлевает активный момент видения (сточки зрения фотографа) и пассивный момент
подверженности рассматриванию (с точки зрения фотографируемой модели), она ста-
новится не только репрезентирующей поверхностью, но и местоположением разно-
образных отношений: передачи полномочий, подчинения, идентификации, гендера и
контроля. В серии «Офис ночью», выполненной в середине 70-х (Илл. 4.5), Бёрджин ис-
пользовал вуайеристские функции фотографии и в то же время привлек внимание к ее
особому отличию от других репрезентативных систем. Впослед-
ствии он пришел к выводу, что другие знаковые системы, как бы ба-
нальны они ни были, могут функционировать наряду с фотографией
таким образом, чтобы направлять, оправдывать или артикулиро-
вать этот фетишистский аспект.
Идея использования фотографии для разъятия, а затем вос-
создания (реструктуризации) отношений индивида и власти, была
плодотворно применена в раннем творчестве французской худож-
ницы Софи Калле. Окончив школу без всякой склонности к опреде-
ленному роду занятий, она много путешествовала, азатем примени-
ла свое ощущение глубокого одиночества в деятельности, которую
можно рассматривать как искусство. «Я чувствовала себя потеряв-
шейся в своем собственном городе, — рассказывала она. —Я никого
не знала, мне некуда было идти, поэтому я решила просто следовать
за людьми, за кем угодно, наугад, просто ради удовольствия идти за
ними, а совсем не потому, что они меня так уж интересовали. Я раз-
решала им определять мой путь». Результат таких странствий, почти
сюжетные фотоистории, наводит на мысль об идентичности фото-
графа и того, кого он фотографирует. По словам Калле, фотография
немедля проявляет себя «инструментом наблюдения» и еще — ин-
струментом идентичности; одновременно становится разно-
видностью вуайеризма, надзора, даже разновидностью кражи.
Именно такой стиль мышления отражен в работе Калле, известной
под названием «Отель» (1983): она устроилась гостиничной горнич-
ной, но вместо того чтобы убираться в номерах, воспользовалась
случаем пофотографировать интимные вещи постояльцев, — и,
делая это, сумела убрать различия между общим и частным, даже
98 Образы и предметы: восьмидесятые
умудрилась отнять у постояльцев их собственный образ, который.,
как им, наверно, казалось, они сумели создать (Илл. 4.6). Абсолютное
ощущение подглядывания, возникающее у всякого, кто смотрит на
эти фотографии, внезапно выливается в неприятный вопрос: а как
бы я себя чувствовал, если бы беспорядок в моей спальне был у всех
на виду? Калле и в будущем выстраивала сюжеты для фотографий,
которые исследовали опасную демаркационную линию между’ ми-
ром частным и миром публичным. Так, для серии «Спящие», состоя-
щей из 2000 фотографий, она просила двадцать семь незнакомцев
спать с ней рядом в постели, а впоследствии фотографически и пись-
менно фиксировала их впечатления.
Однако отнюдь не всякое воплощение идеи фотографического
«момента» в начале и середине 80-х было столь концептуально про-
явлено, как у Берджина, или столь провокационно, как у Калле. Если
европейская фотография в целом стремилась к рефлективности, ал-
люзиям и отзывчивости на теоретические тонкости, то в Америке
стремительно изменяющийся медийный ландшафт склонял худож-
ника к открытому и напористому анализу феномена власти.
В поле зрения критики Барбара Крюгер попала в 1981 г. (до
этого она сделала карьеру как график и дослужилась до должности
арт-директора туристического журнала «Conde Nast») как художник,
поднимающий вопросы большого общественного звучания: об отно-
шении между женщиной и системой патриархата, об обществе
потребления, отчуждающем людей соблазнами консюмеризма.
Причем задавала она их так, что от зрителя требовалось не только
идентифицировать себя как вуайериста (признаться себе, что под-
глядываешь), но и обдумать проблемы власти и гендера. Крюгер открыто признава-
ла значимость фактов своей биографии: «Мой (тяжкий) труд дизайнера стал, с при-
внесением небольших изменений, моей работой художника». Таким образом, в ее
работе «Твой покой — это мое молчание» (Илл. 4.7) местоимения «твой» и «мое» рас-
ставляют гендерные опознавательные отличия, которые зрителю вполне осознанно
приходится расшифровывать. Основные варианты ответа здесь, конечно, состоят в
том, что либо тип в шляпе обращается к зрителю или зрительнице, либо зритель или
зрительница обращается к картинке, — хотя понятно, что между этими вариантами
имеется зазор для домыслов и фантазий. «Использование местоимения, — объясняла
Крюгер, — в определенном смысле сокращает путь. Это очень экономичное и прямое
приглашение зрителю войти в дискурсивное и изобразительное пространство объ-
екта». Что и говорить, структурная простота работы Крюгер сделала ее привлека-
тельной для издателей и падких на паблисити галерей; и все-таки она подразумевает,
что зритель должен что-то знать о политике и о гендере, чтобы понять, о чем вообще
идет речь. В итоге вышло так, что в 80-х работы Крюгер стали мерилом для фемини-
сток, которые искали как раз такого откровенного и всерьез политизированного ис-
кусства, законного наследника той монтажной традиции, которая в период до Второй
мировой войны была представлена немецкими художниками Джоном Хартфилдом и
Ханной Хёх.
Однако для воинственного западного искусства начала — середины 80-х — того
самого, что пользовалось необузданным рыночным механизмом, однако клеймя позором
4.7. Барбара Крюгер
Твой покой—это мое молчание
Фотография с добавлением текста
140 х 100 см
Частная коллекция
Фотография как искусство 99
методы и формы его работы, — главный вопрос состоял не только в том, кто творит
актуальное искусство, но и в том, как именно он его творит. Какова природа «присвое-
ния»: данность ли это, не требующая комментария (взял, и всё), либо предполагается
диалог? Хэл Фостер в сборнике «Антиэстетическое: Эссе по культуре постмодерна»
(1983) определил разделительную черт}-, и это определение широко разошлось по тог-
дашним дискуссиям о постмодернистском монтаже, смешении стилей и формальных
особенностях. «Можно поддерживать постмодернизм как популистский и осуждать
модернизм как аристократически высокомерный, — писал он, — или, наоборот, под-
держивать модернизм как элитарный и осуждать постмодернизм как китч... В се-
годняшней культурной политике разделение проходит между тем постмодернизмом,
который рвется деконструировать модернизм и нарушить status quo, и тем постмо-
дернизмом, который отрекается от старого во имя нового: между постмодернизмом
сопротивления и постмодернизмом реакции». Предложив отыскать и очертить гра-
ницы «постмодернизма сопротивления, который восстает не только против офици-
альной культуры модернизма, но и против “фальшивой нормальности” реакционного
модернизма», Фостер и другие авторы сборника «Антиэстетическое» искали возмож-
ности снова подключить эстетическое к области общей культуры: средствам массовой
информации, архитектуре, публике и музейному делу.
К примеру, Крейг Оуэнс в работе «Феминистки и постмодернизм» высказал одно
предположение, которое уже содержалось латентно в фотографических произведени-
ях некоторых художниц, да и прорастало, хоть и не впрямую, из концептуального ис-
кусства более раннего периода. Сведя воедино тезис, что постмодернизм ознаменовал
собой кризис традиционного культурного авторитета (культурной власти), с понима-
нием того, что традиционно изображаемый субъект, по общему мнению, это хладно-
кровный индивидуум мужского пола, Оуэнс пришел к выводу, что феминистская кри-
тика патриархата — это краеугольный камень постмодернизма сопротивления. Под
художественным мастерством модернистов подразумевался тяжкий труд художника и
требовались свидетельства затраченных усилий — взволнованный мазок или огром-
ные стальные скульптуры, говорит Оуэнс, и «фемининные» фотографические работы
есть квинтэссенция и наиболее типичная форма постмодернизма. Ранние работы
Шерман, Крюгер, Ливайн, Марты Рослер, Мэри Келли и Луизы Лоулер предполагали
постмодернистскую стратегию, которая, «исследуя, что именно репрезентация делает
с женщиной (к примеру, тот способ, которым неизменно подставляет ее под взгляд
мужчины)», отвечает и требованиям гендера, и потребности в ином культурном про-
странстве, отличающемся от традиционного фаллоцентрического. «Существование
феминизма, — писал Оуэнс, — с его настойчивым подчеркиванием инакости, застав-
ляет нас заняться самоанализом».
И пусть концептуальное искусство и феминизм, или их могучее сотрудничество,
сформировали главный ресурс для нового радикального искусства 80-х, были и поми-
мо них силы, мобилизованные на эту задачу. В общекультурных дебатах всегда начина-
ли плясать от Вальтера Беньямина, чье эссе «Произведение искусства в век механиче-
ской репродукции», опубликованное в 1936 г. и анализирующее влияние на культуру
методов фоторепродукции, было переиздано и широко обсуждалось. Теперь, однако,
проявилась новая, скорее умозрительная проблема, как следствие высокого темпа об-
новления изобразительных технологий и все более мощных доз глянца, впрыскивае-
мого в торговлю и развлечения. Ввиду такого наката никто бы не осудил художников
Запада, покинь они сцену. Однако тут с оценкой новой ситуации выступила фигура
100 Образы и предметы: восьмидесятые
влиятельная, пусть и противоречивая — французский социолог и культуролог Жан Бо-
дрийяр. Его ранние труды, «К критике политической экономии знака» (1972) и «Зерка-
ло продукции» (1973), оказали больше влияния не на искусство, а на теоретический
марксизм. Однако публикация книги «Симуляции и симулякры» в 1983 г. поместила
Бодрийяра в самый центр нью-йоркской художественной среды (в следующем году
он стал соредактором «Артфорума»). Там, в главе «Прецессия симулякра», он развил
любопытный тезис о «гиперреальном», которое не имеет за собой ничего «реально-
го» — как если бы фотоизображения были повсеместны, вездесущи, и за ними бы ни-
чего, решительно ничего не стояло. Из современного мира исчезла реальность — ос-
талась одна симуляция, и исчезли предметы — остались симулякры, копии без ориги-
налов. «Абстракция сегодня, — писал Бодрийяр, имея в виду мысль и язык, не только
искусство, — это больше не абстракция карты, копии, зеркала или концепции. Симуля-
ция больше не подобие территории, ссылки или субстанции. Это порождение, при по-
мощи моделей, реального без истока и реальности: гиперреального, которое впредь
будет спрятано от воображаемого и от любого рода различий между реальным и вооб-
ражаемым. оставляя пространство только для орбитального возвращения моделей и
симулированного воспроизведения различий». Идею «прецессии» симулякра — разъе-
дания преимуществ оригинала перед копией Бодрийяр разъяснил по аналогии: «Тер-
ритория больше не предваряет карту и не существует дольше нее. Следовательно, это
4.8. Жан Бодрийяр
Венеция, Калифорния, 1989
Цветная фотография
Размеры разные.
Тираж 15 экземпляров
Из коллекции автора
Выстраивая в линию края и цвета одних
объектов, накладывая внахлест и разъ -
единяя другие, фотографии Бодрийяра
80-х и начала 90-х годов представляли
видимый мир какдвухмерный континуум,
достигнутый в результате монтажа,
поданного как протест против его
реальной трехмерности
карта предваряет территорию».
Идея гиперреальности перетолковывалась так и сяк, до беско-
нечности. В своем упрощенном виде это был отголосок суждения
Иммануила Канта, утверждающего, что объект непознаваем вне сво-
ей репрезентации («вещь в себе»). В более же глубоком смысле здесь
интересно, свежо и сильно разрабатывалось положение о том, что на
определенном уровне развития цивилизации объект целиком «обва-
ливается» в свою репрезентацию и даже соединяется с нею. В приме-
нении к современному медийному контексту7 этот тезис означал, что
«реального», лежащего за телевизионным и рекламным изображе-
ниями, больше не существует. Бодрийяр словно ставил диагноз, в то
же время готовя почву, чтобы общество, поставленное в условия ком-
мерциализации и разрастания масс-медиа, покорно приняло экста-
тически сужающийся, убывающий опыт жизни.
В самом деле, ощущение взрывающейся реальности, зафикси-
рованное Бодрийяром, по времени совпало с критическим осознани-
ем того, что средства массовой информации разрослись непомерно
и полностью вышли из-под контроля. На эту тему нью-йоркский пи-
сатель Э. де Ак в 1984 г. высказывался в «Артфоруме» так: «Реаль-
ность давным-давно — жулик, жиголо, вспышка восхищения, фея,
желание, роскошная подкладка той «пустоты», о которой мы сейчас
толкуем. Давайте же притворимся, что живем с ней в ладу». С другой
стороны, теории Бодрийяра и его довольно любопытное творчество
в фотографии (Илл. 4.8) работали на образ Европы как «старого»
мира, где вещи еще анализируют, обдумывают, взвешивают, ощуща-
ют, — в отличие от Америки, особенно же Нью-Йорка и Лос-Андже-
леса, ставших центрами специфически культурных «аффектов», во-
площающих настоящий «экстаз коммуникации», где общественное
Фотография как искусство 101
и частное, объект и субъект, истина и фальшь — все рухнуло, по Бодрийяру, в «единицу
информации».
Но что в конечном счете характерно для симуляционистского искусства и его те-
ории — симуляция в буквальном смысле теми же средствами копирует вдохновившие
ее предмет или изображение, — так это то, как тесно они связаны друг с другом, по
крайней мере, на какое-то время. Симуляционистское искусство и фотография ладят
между собой, поскольку фотография симулирует реальность самим актом ее репрезен-
тации. Реди-мейды Дюшана подсказывали, как радикально фотография может функ-
ционировать в качестве искусства. Но при всем этом Бодрийярова версия «симуляции»
никак не способствовала разрешению дилеммы «постмодернизм сопротивления про-
тив постмодернизма реакции». В конце концов, она игнорировала проблему гендера и
казалась неумолимо враждебной любой, кроме пассивных, форме потребления в позд-
немодернистской городской среде. Некоторые даже увидели в «гиперреальности» Бод-
рийяра одну из сторон этой проблемы, а не ее решение.
Примерно тогда же представители молодого поколения фотографов совсем
с другой стороны подошли к вопросу о правдивости фотографии. Заменив «взгляд»,
«положение» и «атмосферу» традиционной крупноформатной живописи цветными
изображениями сравнимого размера и масштаба, фотохудожники Андреас Гурски в
Германии, Клегг, Гуттман, Майк и Дуг Старн в США (да и другие) быстро оккупировали
музейные и галерейные площади, не меняя их фундаментально, в отличие от концеп-
туалистов, когда-то имевших такие поползновения. Ибо новаторская фотопрактика
80-х годов, подробно рассмотренная в дальнейших главах этой книги, во-первых, была
теоретически важна для переоценки потенциальных возможностей средств выраже-
ния, а во-вторых, весьма радовала кураторский взгляд. С ее помощью расширился бое-
вой потенциал той критики базовых художественных приемов, которая зародилась в
концептуальном искусстве более раннего периода, но осталась незавершенной.
Томас Руфф, художник из Дюссельдорфа, умело эксплуатировал тот эффект зача-
рованное™, который возникает, когда художник работает с одной и постоянно раз-
рабатываемой идеей: в его случае это были большие цветные фотографии друзей и
знакомых (или архитектурных сооружений, или уголков ночного неба), совершенно
лишенные формальной риторики, драматической подсветки или особых нюансов ком-
позиции. Вкладывая энергию в утерянное искусство портретирования и принципи-
ально избегая гламурности, рекламы и паблисити, Руфф уверял, что «большинство
снимков, с которыми мы сталкиваемся сегодня, на самом деле не аутентичны — это
аутентичность подтасованной, выстроенной загодя реальности». О своих собственных
работах он говорит, что они «не имеют ничего общего с человеком... Мне не интересно
делать копию с моей интерпретации человека». Названные просто «Портреты», они
ничего не говорят о статусе портретируемых, их возрасте, профессии или характере
(мы знаем только, что это друзья или знакомые художника), и в то же время внешне
они как живые. Серия «Портреты» — все работы Руффа собраны в серии — иллюст-
рирует определенный парадокс: чем больше условностей портретирования отбрасы-
вается прочь, чтобы раскрыть всю правду о позирующем, тем меньше и меньше рас-
крывается эта правда. Суждение о том, что изображение человека требует соблюдения
правил и условностей, можно бы счесть доказанным, если бы Руфф работал в живопи-
си. То, что эта истина касается и фотографии также, явилось полным сюрпризом.
Дальнейшим шагом Руффа в его стремлении победить репрезентацию или хотя
бы внести смятение в ее ряды, стала экспозиция нескольких его «Портретов» бок о бок,
102 Образы и предметы: восьмидесятые
так что модели стали выглядеть как объекты для классификации. Отказавшись от
прямой репрезентации в пользу дзэн-буддистской случайности, Руфф следовал при-
меру своих учителей по Дюссельдорфской академии искусств, Бернда и Хиллы Бехер.
Впрочем, для его работ характерны более последовательная фетишизация и обсто-
ятельность. Бехеры, с их фотографиями старых индустриальных зданий, в отличие
от поздних работ Руффа, редко достигали тех стандартов технического совершен-
ства. которым отвечают снимки, рекламирующие товары потребления. Но и с Бехе-
рами, и с концептуалистами Руфф связан желанием на практике доказать, что фо-
тография — это, безусловно, конструирование, она никогда не дорастет до свойств
нейтрального знака.
Другим учеником Бернда Бехера был Томас Струг, начинавший еще под руковод-
ством Герхарда Рихтера. Он также, можно сказать, забавлялся с парадоксальной фото-
графической деталью. Ранние фотографии Струта с видами улиц и зданий показывали
картинки городской жизни, незаметные в условиях нормального, функционального
восприятия: ровные ряды припаркованных машин, открытые и закрытые окна, архи-
тектурные перспективы и уличные скамейки. Эти городские пейзажи, как правило,
безлюдны (Илл. 4.9): видишь на удивление пустынные улицы, сама обыкновенность
которых заставляет чуть ли не чувствовать себя виноватым, что тут оказался. В отли-
чие от фотопортретов Руффа, виды Струта насыщены мелкими, но, на городской глаз,
значительными приметами событий и происшествий, которые случаются только в го-
родах, и только камера в силах запечатлеть их.
Когда-то холодно-отстраненное и сдержанное, с 80-х фотоискусство стало не
только «горячим» и максимально изобретательным, но также преобразовало рево-
люционные жесты искусства 60-х в более выверенную, визуально яснее выраженную
критику. В процессе этих преобразований художественные музеи стали местом, где
зрители размышляли о реальности и возможности ее репрезентации в фотографии.
Тенденция вскоре распространилась. Французский художник Кристиан Болтански на-
чиная с 70-х исследовал эффект напоминания, но не посредством собственно вещи, а
посредством ее фотографии как небезупречного, подверженного ошибкам, инстру-
мента памяти. Еще со времен своего увлечения
концептуализмом завороженный образом архи-
ва — склада личных впечатлений, обычных пред-
метов, перечисленных, невзирая на всю их баналь-
ность, — Болтански в лучших работах использовал
формат инсталляции, складируя фотографии в ка-
таложные ящики на манер судебных лабораторий,
картотек детективных агентств или архивов по ро-
зыску без вести пропавших. Указывая на свою осо-
бую близость к проектам Тадеуша Кантора и Ан-
сельма Кифера, Болтански говорил, что опирается
на культурную память. «Я за сентиментальное ис-
кусство, — как-то признал он. — Задача состоит в
том, чтобы создать формальную работу, которую
зритель признает как сентиментально заряжен-
ный объект». Также каку Ан сельма Кифера, его те-
матика — это печальные моменты европейской ис-
тории: Холокост, собственное детство художника,
4.9. Томас Отрут
Дюсселыитрассе, Дюссельдорф, 1979
Черно-белая фотография
Фотография как искусство 103
несчастья Второй мировой войны, но пуще всего — чувство мимолетности, быстротеч-
ности времени, сообщаемое видом самого фотоархива (Илл. 4.10). Сюда подошли бы
слова Ролана Барта из его «Camera Lucida»: «Жизнь тех, чье существование предшест-
вовало нашему, в своей частности заключает само противоречие Истории, ее фрагмен-
тарность. История истерична: она существует, только если мы о ней думаем, только ес-
ли мы на нее смотрим — и чтобы взглянуть на нее, мы должны от нее отстраниться...
Я — сама противоположность Истории, я то, что искажает ее, истребляет — ради моей
4.10. Кристиан Болтански
Чейсская средняя школа:
Выпускной класс, 1931,1987
Фотографии; металлические коробки;
лампочки
Кастельгам. Вена
Для инсталляции,показанной в Вене
в 1987 г., деталь которой приведена
здесь. Болтански взял фотографии
евреев — учащихся одной венской
гимназии, сделанные в 1931 г., переснял
и увеличил детали и поставил их под
сильный свет лампы так, как это делается
в учреждениях по розыску пропавших
без вести, -я хотел заставить людей
заплакать, — сказал Болтански. идя
наперекор тенденциям современности. —
Это трудно произнести, но я за такое
искусство, которое сентиментально»
собственной истории». Но кроме того, как пытался показать и сам Барт, созерцание
фотографии может зримо пронзить пространство, вывести нас к данному фрагменту и
сразу сделать историю острой, пряной, полной жизни.
Похожие устремления испытывали молодые фотохудожники в Москве, которые
работали в мучительной изоляции от мира и на устарелом оборудовании. Во времена
разрушения восточного блока они разнообразно использовали подручные фотогра-
фии (found photos), визуальные шутки, технику монтажа и перформансы. Эти худож-
ники определенно заслуживают признания. Вдохновленный работой с «подручными»
любительскими снимками украинца Бориса Михайлова, русские Владимир Купреянов
и Алексей Шульгин собрали фотографический материал о днях старого коммунисти-
ческого государства (архивные, личные, официальные фотографии), измяли их, под-
рисовали, закрасили — короче, повели себя как шкодливые дети, забравшиеся в забы-
тый архив. Государство как источник «реального» в репрезентации оказалось под суро-
вым и все-таки шутливым, незлым взглядом.
Между тем выявилось, что ни одна техника, ни одна традиция репрезентации не
обладает иммунитетом от ревизии, осуществляемой изнутри самого фотосообщества.
Возможно, самыми острыми из недавних фотоконцептуалистов ока-
зались художники из Ванкувера, Иен Уоллес, Родни Грэхэм, Кен Лам
и Джеф Уолл. Из них последний добился международной известнос-
ти, детальнейшим образом создавая события, взятые не из жизни, а
выстроенные исключительно для камеры, хотя все они выглядят так,
словно камера зафиксировала их случайно: пустячные происшест-
вия на рабочем месте, уличные сценки, моменты общения предста-
вителей разных классов общества. В 80-х Уолл представил эти сцены
в виде больших прозрачных пленок, помещенных в подсвеченные
стеклянные витрины того типа, который используется в дорогой
уличной рекламе. Они преподносились как нечто вроде «живопис-
ных картин из современной жизни», концентрированный бульон
симптоматичных подробностей пестрого городского быта
(Илл. 4.11). Зрителю при этом следовало понимать, что это работа ни
в коем случае не документальная. Напротив и вопреки своей похоже-
сти на кадры из фильмов, ранние фотоработы Уолла были попыткой
воплотить идею Бодрийяра: ухватить мимолетное, случайное и эфе-
мерное — и сделать это в традициях высокого искусства, воплотить
радости и страхи капитализма, иронию, потери и катастрофы гло-
бального экономического порядка. «Я работаю внутри капитализма,
с диалектикой капитализма и антикапитализма, — сказал Уолл в
одном разговоре, — и то и другое обладает непрерывной историей
внутри современности, это и есть современность... Общественный
порядок, если посмотреть на него хорошенько, всегда будет под-
104 Образы и предметы: восьмидесятые
держивать создание образов принуждения и несвободы, и мы нужда-
емся в этих образах, хотя и не только в них. Поэтому я работал над
картинами, в которых говорится о сопротивлении, выживании, ком-
муникации и диалоге, над сценами, вызывающими сочувствие, над
репрезентацией сопереживания... тут нет резкого разграничения
между этими двумя направлениями, в которых я работаю». На самом
деле и более всего он занимался конструированием фотографиче-
ских сцен — точно так же, как художник выстраивает композицию.
«Именно всеохватывающая ценность изображения, не говоря уж о
чувственном опыте заключенной в нем красоты, обосновывает все
самое значимое в искусстве, все, что расходится с косными формами
вещей и их видимостью». Зайдя так далеко, что воплотил сочувствие,
свойственное художественной традиции домодернистских времен,
Уолл, можно сказать, возобновил изобразительную практику через
отрицание самого концептуального искусства.
4.11. Джеф Уолл
Молоко, 1984
Сибахромный транспарант в витрине
1,87 х 2,29 м
Предмет и рынок
Употребление таких терминов, как «присвоение» и «симуляция», можно прямо при-
менить к скульптуре. Переместимся на десятилетие назад. К середине 70-х стало ясно,
что произошел серьезный сдвиг в критериях, по которым изготовленный трехмерный
объект мог быть классифицирован как произведение искусства. Минималистское и
концептуальное искусство основывались на идее некоей договоренности относи-
тельно привилегированного способа экспонирования и методов обсуждения данного
произведения. Несмотря на меньшинство, которое продолжало считать, что дело
скульптуры — заниматься непосредственно физическими свойствами массы, кон-
туром, соотношением частей и объемом, — именно в этом и состояла точка зрения
модернизма, — концептуалисты утверждали, что ни один объект, пусть даже самый
случайный или никчемный — разбросанные по земле рваные веревки, пустые короб-
ки, каталожные шкафы, столы и стулья, даже действия и движения художника нельзя
автоматически отлупить от искусства или заставить перестать быть произведением
искусства.
Однако к концу 70-х стало очевидно, что разговоры идут по кругу и ни к чему не
приводят. И концептуализм, и ортодоксальный модернизм, на взгляд молодых скульп-
торов, выглядели теоретическим тупиком, препятствием на пути к новому. Дозирован-
ное обращение к массовой культуре представлялось очевидным выходом из этого
тупика. Решающий скачок от материала к реальным предметам произошел примерно
в 1977-1978 гг.: сначала в Европе, потом в Северной Америке, где процесс принял фор-
му детальной разработки отношений с новым рынком потребительских товаров.
Этот жизненно важный сдвиг можно назвать наполнением старых форм концеп-
туализма повествовательностью и социальным звучанием. Вот показательный при-
мер. В своих студенческих работах начала 70-х Тони Крэгг упорядоченно раскладывал
по полу случайные, попавшиеся под руку предметы. В 1977 г. переехав в Германию, в
Вупперталь, Крэгг сделал несколько напольных скульптур из различных бытовых пред-
метов: пластмассовых детских машинок, кусочков пластика, найденного на улице,
рассортированного по цвету и затем организованного как простые, всем понятные
Предмет и рынок 105
представления. Здесь уже угадывалось будущее
Крэгга-скульптора. Отказавшись приравнять
скульптурное творчество., по его выражению, к
«тяжеловесному драматизму» работ из стали, он
выбрал для себя в качестве материала пластик. Не-
которые из его настенных или напольных опусов
оказались откровенно идеологичны — особенно
настенные, в которых пластиковые фрагменты ук-
ладывались в здоровенного полицейского или
спецназовцев, дубинками разгоняющих демонст-
рацию. И содержание, и манеру такого возврата к
изобразительности можно соотнести с британской
панк-революцией 1977-1979 гг., которая превра-
тила никому не нужные материалы в моду, а раз-
нузданные крики протеста — в музыку. «Что. на
осознанном и, что, наверно, более важно, неосо-
знанном уровне, значит для нас жить среди этих и
многих прочих совершенно новых материа-
лов?» — спрашивал Крэгг в тексте, написанном в
1982 г. для Документы-7. «Мы специализируемся в
4.12. Тони Крэгг
Мозаика, 1984
Смешанные материалы
Инсталляция в галерее Тиччи Руссо
«Мне нравилась непретенциозность
минимализма... и интенсивность, кото-
рой требует рассматривание работы. —
писал Крэгг. — Однако здесь слишком
много геометрии, слишком много
зависимости от качества натурального
материала, или трудоемких природных
процессов, при отсутствии новых спо-
собов работы с ними. И поэтому вопрос
состоит в том, чтобы найти содержание...
Я хочу разместить [материалы] и дать им
значение»
производстве [пластика], но не в его потреблении». Затем, примерно в 1984 г., он вер-
нулся к этой теме, чтобы найти более древнюю символику внутри форм современного
хлама, и разложил отслужившие свое куски дерева в виде больших трехмерных струк-
тур, изображающих голову быка, лодку или рог (Илл. 4.12). «Очень важно, — писал
он, — иметь от предметов/изображений впечатления первого порядка — видеть,
трогать, улыбаться, слышать — и осознавать этот свой опыт». Как бы то ни было, кате-
гория «значения» внезапно вернулась как умно выстроенная иллюзия, а не как упраж-
нение на работу с материалом.
В 1981 г. состоялась новаторская выставка «Предметы и скульптура», проведен-
ная одновременно в Институте современного искусства в Лондоне и галерее Арноль-
фини в Бристоле, на которой использование «урбанистических материалов» было воз-
ведено в норму. Ее участниками стали Крэгг, Билл Вудро, Эдвард .Аплингтон, Ричард
Дикон, Энтони Гормли, Аниш Капур, Брайан Орган, Питер Рэнделл-Пейдж и Жан-Люк
Вильмут. Засим последовала экспозиция британского павильона на Венецианской
биеннале 1982 г., и далее — выставка за выставкой, в Берне, Люцерне, повсюду. Бази-
руясь поначалу в галерее Лиссон в Лондоне, «новая британская скульптура» провозгла-
сила ряд эстетических требований, подводивших базу под ее очевидную привлекатель-
ность для искусствоведов и музейных кураторов.
Другой член этой группы, Билл Вудро, также был студентом во времена расцвета
концептуализма в конце 60-х и начале 70-х, а теперь занимался ассамбляжами из
отслужившей домашней техники и прочих предметов, собранных согласно эстетике
монтажа, причем размещал свои скульптуры на галерейном полу в манере как модер-
нистов (Каро), так и антимодернистов (Моррис и Джадд). Двигаясь от таких работ, как
«Пять предметов» (1979), в которых обычные бытовые предметы были разобраны на
части, собраны как пришлось и разложены на полу, Вудро теперь выкраивал один пред-
мет из другого таким образом, чтобы снабдить все детали этого зрелища ссылками на
тот домашний мир, в котором они когда-то существовали (Илл. 4.13). Теперь, делая
106 Образы и предметы: восьмидесятые
что-то с помощью домашней техники, было трудно не вспомнить об (их и своем)
каждодневном износе.
Третьим членом группы галереи Лиссон был Ричард Дикон, также весьма живо
разрабатывавший модернистский синтаксис в сторону нарративности. В молодости
оригинальность его манеры заключалась в использовании таких когда-то немысли-
мых для скульптуры материалов, как линолеум, кожа, оцинкованное железо, слоистая
древесина (типа ДСП или «сделай сам»), и виртуозном их соединении с помощью клея,
клепки и вальцевания. Кроме того, Дикон создавал увеличенные копии маленьких ча-
стей тела, таких, как глаз или ухо, в манере «с точностью до наоборот» относительно
традиционной модернистской скульптуры, причем масштаб и образность этих
«копий», всегда чрезмерных и обращенных к публике, намеренно совпадали. Подобно
Вудро и Крэггу, Дикон без особых раздумий расширял круг своих и без того разнообраз-
ных материалов и технических приемов, с некоторым копрологическим юморком сме-
шивая образы и формы, игриво преобразуя «высокую» модернистскую серьезность.
Многие скульптуры Дикона отсылают к телу, человека или животного, избегая при
этом установки однозначных или неироничных отношений между формой скульптуры
и ее названием. К примеру, неустойчивые, но очень точно рассчитанные обручи, из
которых состоит «Рыба, вынутая из воды» (Илл. 4.14), исхитряются быть нарративно и
материально сложными и в то же время создают, в каком-то привычном смысле, впе-
чатление о безупречной скульптурной работе.
Другие представители этого поколения художников, Жан-Люк Вил ьмут, Ширази
Хушияри, Ричард Уэнтворт, или более молодые Эдвард Эллингтон, Элисон Уилдинг,
4.13. Билл Вудро
Стиральная машина с гитарой,
1981
76x89x66см
Галерея Тейт, Лондон
4.14. Ричард Дикон
Рыба, вынутая из воды, 1987
Ламинированная древесноволокнис-
тая доска на винтах
2,5x3,5x1,9см
Собрание Сатчи, Лондон
Предмет и рынок 107
4.15. Тони Крэгг
Акведук, 1986
Пластик и дерево
3,5х3г5х1,7 см
Инсталляция в галерее Хейярд.
Лондон
«Я не хочу ностальгии. — говорил
Крэгг. — Я не хочу делать вещи, которые
застревают, увязают, цепляются за при-
родный мир, связь с которым мы итак
давно потеряли. Но ровно так же я
не хочу делать искусство, от которого
веет каким-то пугающе футуристическим
духом». Результат напоминал поздние,
когда-то осмеянные картины де Кирико,
которые как раз в этот момент
подверглись критической переоценке
Джулиан Опи, может быть, и несправедливо, но причислялись к еп masse, к общей
массе, когда речь шла и о вкладе тэтчеровской эпохи в скульптуру, и о возрождении
шотландской живописи, происходившем в этот период на севере.
Но что же сказать о критической подоплеке новой скульптуры? Если говорить
вообще, то Дикон и Крэгг пытались пересмотреть отношение к изобразительному че-
рез использование уже существующих предметов и изображений, идя, таким образом,
по стопам поп-арта. Начиная с 1983 г., Крэгг сделал серию скульптур, в которых экс-
периментировал с текстурами и узорами из формайка (огнеупорного пластика),
пластмасс и поделочных материалов разряда «сделай сам». Он присоединял друг к
другу столы, книжные полки, буфеты и всяческие обрезки всевозможных материалов
и получившееся бредовое сооружение обивал самыми обычными и искусственными
тканями, что вызывало в памяти культуру китчевых ресторанных интерьеров, декор в
стиле ретро, вообще низкопробные, дешевые товары (Илл. 4.15). Крэгг в своем подходе
к делу резко не совпадал с творцом металлических скульптур британцем Энтони Каро,
в 60-х восславленным Климентом Гринбергом, который в 80-хстал верховным жрецом
модернистских устремлений. Для модернистов работы Каро и его последователей
прежде всего были именно скульптурой, а не чем-то еще: подразумевалось, что они
выражают свои ценности исключительно посредством материала и других доступных
приемов, в особенности же тем, что Майкл Фрид назвал «открытостью [материала]
и его скудостью lowness» — основой связей с жестом и человеческим телом. Первые
работы молодых бриттов откровенно передразнивали такую позднемодернистскую
героику. Они, эти бритты, были за то, чтобы все, оптом, высокое искусство, со всеми
его впечатлениями и ощущениями, снизошло к использованию бытовых материалов,
ранее запретных поверхностей и хлипких, непрочных конструкций — взывали о пе-
реходе от серьезного к несерьезному, от маскулинного к немаскулинному, от модер-
низма к постмодернизму. В ретроспективе можно заметить, что попытки придать эс-
тетическую релевантность оцинкованному железу или обыкновенной стиральной
машине вполне соответствовали социально-экономической политике 80-х, одержи-
мой стимулированием потребительского интере-
са буквально ко всякому товару, всякой услуге.
Процесс придания статуса старой фанерке или
формайку представлялся чем-то вроде озорной
игры, затеянной на непарадной территории, ко-
торую новая социальная политика игнорировала:
на облезлых стенах общественных зданий, на
свалках мусора, на заброшенных, неприбранных
улицах старого города. В 1986 г. Крэгг писал, что
мы должны научиться «жить в мире, который по-
давляющим образом стал искусственным, весь
сделан человеком... Я бы сам назвал себя предель-
ным материалистом... Искусство вынуждено от-
воевывать новую территорию, превращая мир,
лишенный искусства, в такой, где искусство есть».
Это заявление равносильно декларациям кубис-
тов о том, что решительно все предметы, как бы
низки они ни были, наполнены культурным зна-
чением.
108 Образы и предметы: восьмидесятые
Внимание к предметам с помойки при этом
обозначилось не только в Британии. На другой
стороне Атлантики группа молодых художников
также воплощала в жизнь концепцию Дюшана,
проявляя острый интерес к проблемам коммерци-
ализма, консюмеризма и стиля.
К примеру израильтянин по рождению Ха-
им Стейнбах в течение нескольких лет скупал в
лавках старьевщиков всякий хлам и приносил его в
галерею. Его инсталляция «Экспозиция №7» в нью-
йоркской галерее Artists’ Space в 1979 г. состояла из
предметов, поставленных на полки, тянувшиеся в
выставочный зал от самой стойки билетера с жур-
налами и брошюрами. А к середине 80-х Стейнбах
изобрел формулу, которая его в некотором роде
прославила: новехонькие, только что из магазина
артефакты по двое, по трое выставлялись на двой-
ных или тройных минималистских, треугольной
формы полках (Илл. 4.16).
Скорость преобразований, происходящих в нью-йоркском мире искусства, мож-
но проиллюстрировать именно различиями между художественными интересами
Стейнбаха и группы «Pictures», упомянутой выше. Группа «Pictures», в особенности же
Шерри Ливайн, Трой Браунтач и Ричард Принс, можно сказать, подрезали, подсекли
еще недавно стандартную стратегию считывания художественных образов; вопросы
производства арт-объекта и отклика на него были для них самыми насущными. Стейн-
бах, напротив, с точки зрения своих критиков, демонстрировал к коммерчески изго-
товленным объектам вполне радостное принятие — и это во времена, когда самый ста-
тус и значение потребительского товара составляли наиважнейшую общекультурную
проблему. И все-таки на практике так называемые «магазинные скульптуры» Стейнба-
ха середины 80-х толковали вовсе не о различиях между7 развитым вкусом и китчем,
между предметом хорошим и предметом плохим. Навязываемые той же потребитель-
ской культуре, из которой они выросли, поднявшиеся из недр международной выста-
вочной, свеженатасканной на критику предметного фетишизма системы, работы
Стейнбаха, по существу, символизировали самый коллапс этих пресловутых различий.
В почтенных традициях натюрморта он экспериментировал с тем, как упирается
взгляд зрителя-потребителя в полезный или бесполезный товар. «Налицо оживление
интереса к выявлению собственных желаний», — высказался Стейбах в дискуссии, в
1986 г. организованной журналом «Flash Art». «Налицо заметное стремление соучаст-
вовать в процессе производства желания, направленного на предметы прекрасные и
притягательные, а не позиционировать себя где-то вне этого процесса. В этом смысле
категория критического в искусстве... меняется».
Коллега Стейнбаха Эшли Бикертон также противостоял теоретической и по-
литической ориентации грушпы «Pictures». Свою работу он описывал (на языке канад-
ского социолога Маршалла Маклюэна) как «прохладный подход к горячему материа-
лу». «“Pictures” старалась деконструировать или приостановить искажение правды,
тогда как мы такое искажение преобразовали в стихотворную форму, трибуну юти пус-
ковую установку поэтического дискурса... Такая задача все-таки менее утопична, чем
4.16. Хаим Стейнбах
Ультраупрощенное№1, 1987
Конструкция
из смешанных материалов
140x198x52.7 см
По словам Стейнбаха, его •«интересует,
как мы воспринимаем предметы,
видя их гротесковыми или модными,
или же модными и гротесковыми,
как это бывает в панк-культуре:
как в объекто-формы и ритуалы вкла-
дываются свойства,, которые делают их
привлекательными, отвратительными,
принуждающими (себя купить).
Археологи откапывают исчезнувшие
культуры... Я хочу уловить картинку
истории настоящего»
Предмет и рынок 109
4.17. Эшли Бикертон
LeArt, 1987
Шелковый экран, акриловые краски,
лак по фанере и алюминию
87 х180x38 см
предыдущая». Отсюда специфическое бесстыдство работ Бикертона, усеянных торго-
выми марками компаний, в той или иной форме участвовавших в их, этих работ, суще-
ствовании, будь то хранение, перевозка, репродукция или показ. «В последние десяти-
летия [художественное произведение] сорвали со стены и принялись крутить-вертеть
его во всех мыслимых направлениях, — говорил тогда Бикертон, — и все-таки оно про-
сится назад на стену. Что ж, быть по сему, пусть висит на стене, но с видимым неудобст-
вом и явным к себе пренебрежением». Это определенно касается его опуса «Le Art»
(Илл. 4.17), представляющего собой коллекцию коммерческих логотипов, — он прямо-
таки напрашивается, чтобы его трактовали как заведомо политически некорректное
прославление власти капитала. Бикертон писал, что его настенные арт-объекты «ими-
тируют собственную продажность... предваряя вопрос о том, где именно заложен кон-
фликт в этой трясине идеалов, компромиссов и двоедушия».
На взгляд левых критиков, такой наперед заготовленный радикализм уж слиш-
ком низводил арт-объект до вспомогательного состояния аксессуара. Конечно, осозна-
ние того, что «магазинная скульптура» по всему Западу попала в фавор у музейных
кураторов и галеристов, явилось ударом для художников, еще питавших левацкие ил-
люзии в атмосфере консервативной культурной политики середины 80-х. И нельзя не
отметить, что тон высказываний Бикертона слишком резко отдавал пораженчеством.
«Мы все катим на взбесившемся поезде, с которого не соскочишь», — сказал он од-
нажды. Их со Стейнбахом попытки не деконструировать точку зрения потребителя, а
разделить ее, можно поставить в один ряд с типичным для того унылого времени умо-
настроением кредитного посредничества, слияния капиталов, разрегулирования,
стремительного, но ненадежного роста. Отдаленность этих реди-мейдов от утопиче-
ских обольщений 1967-1972 гг. достигла к этому7 времени крайних пределов. Хуже
того. За исключением журнала «October», никто и не предлагал какого-либо
контркультурного или политически радикального выхода из положения. Много гово-
рили о «конце истории» (Фрэнсис Фукуяма) и о том, что возможность выбора исчерпа-
лась, воплотившись в покупательский бум. «Политика вышла из моды, — в том же духе
выразился художник Питер Хэлли, — мы сейчас в постполитической ситуации».
Решающая граница проходила здесь между
теоретически подкованными критиками рынка
слева и соответственно неподкованной публикой,
зачарованной всеми подряд плодами и формами
рынка. Пожалуй, большее, что можно сказать о но-
вом «товарном искусстве», так это то, что оно, во-
первых, ознаменовало собой крах классических
моделей социализма — ив Восточной Европе, и на
Западе, а во-вторых, выразило готовность принять
потребительское общество как неизбежный и
даже приятный факт. Приветствуя полное погру-
жение в изобилие западного перепроизводства,
«товарное искусство» бродило, пенилось и объяв-
ляло мораторий на пуританское состояние неопре-
деленности, неизвестности, ожидания, а также на
обличения, приличествующие марксистской ле-
визне. На авансцену вышли теперь радости и разо-
чарования, и те и другие — на почве потребления.
110 Образы и предметы: восьмидесятые
Возможно, никто из художников не вызывал
на себя огонь как рафинированной, так и широкой
аудитории охотнее, чем ньюйоркец Джеф Кунс. От-
крыто нарушив сразу несколько прежних табу,
Кунс расширил диапазон дюшановских реди-мей-
дов, введя туда ряд упоительно китчевых изделий.
К примеру ранняя его работа «Надувной цветок и
заяц» (Илл. 4.18) безо всякого смущения и, уж ко-
нечно, без брехтовского остранения (критическо-
го дистанцирования) придала дешевым пластико-
вым игрушкам художественный вес. Безгласные,
но говорящие сами за себя, эти невинные, недолго-
вечные пустячки олицетворяли эпоху рынка во
всей ее жалкой, но гипнотической прелести.
В последующие годы Кунс пытался «про-
дать» себя в качестве толкача и коммивояжера,
публикуя объявления в журналах по искусству,
раздавая интервью и печатая воспоминания о
своем предпринимательском прошлом (одно вре-
мя он был брокером на Уолл-стрит). Было вполне
очевидно, что он сознательно подает себя как
конферансье или клоун. Комментируя свои ранние
вещи, включая серии «Пылесос» 1980—1981 гг. и
«Камера равновесия» (Илл. 4.19) 1985 г., Кунс ска-
зал: «Дня меня очень важно привлечь широкую
аудиторию и чтобы при этом искусство оставалось
на высоте. Я думаю, моя работа доступна каждо-
му... Я не ставлю никаких требований. Почти как
телевидение, я рассказываю историю, которая понятна всем и чем-то доставляет удо-
вольствие, не важно, чем именно: одним нравится немножко блеска, других заводит
то, что баскетбольный шар просто висит в воздухе, как в “Камере равновесия”... Я все-
гда специально стараюсь, чтобы у дверей было как можно больше народу... но если они
могут пойти дальше, если они хотят освоить язык искусства, надеюсь, что так и будет,
потому что ни в коей мере не исключаю высокую лексику искусства». Его также ин-
тересовали индивидуальные судьбы таких предметов, как баскетбольные мячи и
пластмассовые безделушки: «Некоторые из них прочнее нас и переживут нас. Если
подумать, это пугает». И еще Кунс пытался разработать свою персональную символи-
ку: «Баскетбольный мяч говорит о своей традиционной роли в жизни низших классов,
которые видят в нем как бы транспортное средство для продвижения вверх... За-
ключенный в камеру, он получил еще одно значение: стал клеткой, подобием матки,
подобием плода». Говоря о «разреженности и пустоте» этой работы, Кунс пристраивал-
ся к минимализму. И все-таки, несмотря на все его потуги продвинуться (а возможно,
как раз из-за них), творчество его неизменно вызывало презрение. Критики слева либо
клеймили его альянс с рынком как «отвратительный» (Розалинда Краусс), либо на-
ходили, что его некритично фетишистское отношение к предмету7 отдает попыткой
«скорее втереться в доверие, чем разрушить» (Хэл Фостер). Правые же полагали, что
его энтузиазм по отношению к рыночным ценностям — не более чем поверхностность
4.18. Джеф Кунс
Надувной цветок и заяц
(Высокий желто-розовый заяц).
1978
Пластик, зеркала, плексиглас
81x63x45 см
Собрание Ван де Вельде. Бельгия
Низкое искусство сохранило для Кунса
свою ценность еще с тех времен, когда
он делал такие вещи. «Банальное —
важный инструмент, — говорил он. —
Это великий соблазнитель, потому что
человек автоматически чувствует, что
он выше этого: именно так и работает
унижение... Я верю, что сейчас баналь-
ность для нас — спасение»
Предмет и рынок 111
4.19. Джеф Кунс
Камера с мячом в состоянии
полного равновесия (2-й вариант),
1985
Стекло, сталь, реагент хлористого
натрия, дистиллированная вода,
баскетбольный мяч
160x93x33.7 см
Собрание Дакис Иоанну, Греция
и легкомыслие. В общем, раздробить критическое сообщество Кунсу вполне удалось,
зато жадная до сенсаций широкая аудитория воспринимала его на ура и на диктуемых
им условиях.
То, что Кутте своих критиков переиграл, стало очевидно в 1986 г., когда он при-
нял участие в двух коллективных выставках, «Испорченные товары: Желание и эко-
номия объекта» в Новом музее современного искусства в Нью-Йорке и «Симуляция в
новейшей живописи и скульптуре» в Бостонском музее современного искусства, где
выделился, спрововоцировав несколько весьма острых вопросов. Теперь его работы
отличались не дюшановским подходом к реди-мейду, не интересом к китчу, а явной за-
чарованностыо теми стилями и темами, что отождествлялись с «низкой» провин-
циальной культурой, которую левые культурологи начиная с Теодора Адорно либо
игнорировали, либо осыпали бранью. Блескучая фарфоровая каминная скульптура,
кричаще яркие, слащавые картинки с домашними любимцами и кинозвездами, рели-
гиозные сувениры, нелепые игрушки подростков и все такое прочее — не говоря уж о
фотографиях с продуманно выстроенными эротическими сценами между Кунсом и его
тогдашней женой, итальянской порнозвездой Илоной Сталлер, — мигом стали ассоци-
ироваться с его именем. Включение работ Кунса «сбоку припека» к высокому искусству
в составе проведенной в нью-йоркском МОМА (Музее современного искусства) вы-
ставки «Высокое и низкое: Современное искусство и массовая культура» (1990), всего
лишь подтвердило важность проблем, поставленных его неэстетичной, но уж конечно
небезынтересной манерой. Внутри художественной системы, в которой слава — вер-
нейший и необходимый признак успеха, кто бы отрицал, что репутация Кунса есть
индикатор многих других проблем, и более всего тех, что касаются отношения рынка
буквально ко всем видам искусства.
В целом, главный вопрос состоял в том, до какой степени предметы, заимство-
ванные с магазинных полок, способны противостоять тому исключительно коммер-
ческому контексту; из которого их изъяли. Но и вопрос этот представлялся проблема-
тичным. В конце концов, утверждение о том, что переадресация предметов массового
потребления, их передислокация в выставочное пространство может способствовать
эффективной критике массовой культуры, на фоне рыночного бума 80-х выглядело по
меньшей мере утопично. Не говоря уж об эстетической стороне спора, слишком не-
равны были силы его участников с точки зрения финансовой и культурной весовых
категорий.
4.20. Тони Тассет
Скульптурная скамейка, 1986-1987
Крашеное дерево, кожаная подушка,
плексиглас
55,8x139x48см
В этой вариации на тему минималист-
ской эстетики Тассет имитирует
скамейку, на которой сидят посетители
музея. Выглядит она и похоже,
и не похоже на себя самое,
одновременно отталкивая и привлекая
задумчивый взгляд зрителя
112 Образы и предметы: восьмидесятые
На этом фоне с облегчением обнаруживаешь, что жанр «товарного искусства»
оказался способен и на более высокий уровень отвлеченности и формальной изощрен-
ности. Так, чикагский художник Тони Тассет преобразил в настенный рельеф стулья
для посетителей Чикагского музея современного искусства. Это была часть серии ра-
бот, в которых элементы осмотра музейной экспозиции — скамейки, стулья, витри-
ны — выставлялись как музейные экспонаты. Тут же возникли любопытные коннота-
ции. Например, «Скульптурная скамейка» (Илл. 4.20) иллюстрировала изобретенный
Тассетом парадокс: предмет словно взывает, чтобы им воспользовались по назначе-
нию, и в то же время требует внимания как произведение искусства. Это происходит
потому, что плексигласовая крышка осложняет скульптурную кодировку работы, ибо:
а) трансформирует ее в коробку а-ля минималистский художественный стиль, б) пока-
зывает, что она тут не для того, чтобы сидеть на ней, а чтобы на нее смотреть, и в) вы-
глядит как стандартная музейная витрина для защиты экспоната от повреждения. Как
же разрешить коллизию, представленную художником в рамках музейной системы,
которую он же и критикует?
Ощущение парадокса пронизывает и работы швейцарской художницы Сильви
Флери, которая придумала для себя образ, весьма отличный от позиции Бикертона,
Стейнбаха или Кунса, — а именно, богатой дамы, обожающей шоппинг, которая не уп-
равляет своими желаниями, а снедаема ими. Для серии выставок начала 1990-х гг.
(Илл. 4.21) Флери и впрямь пошла по магазинам, скупая дорогие женские штучки у ве-
дущих дизайнеров Парижа и Нью-Йорка. Зачастила в элегантные гостиничные лобби,
наблюдая там высший свет — что они носят, как держатся. Затем привезла свои при-
обретения в галерею и выставила их, в коробках и без коробок, стараясь передать то
умонастроение «купить и выбросить», которое, дескать, свойственно богатым и недо-
ступным. Нью-йоркский критик Элизабет Хесс удачно подытожила идею Флери: «С ее
точки зрения, большинство ходит по магазинам не затем, чтобы делать покупки; они
ходят фантазировать о том, как живут другие. Туфельки, разбросанные по галерее,
принадлежат Мадонне или Золушке. Если туфли считать метафорой невидимого тела,
того небезупречного тела, которое, как нам твердят, постоянно нуждается в совершен-
ствовании, то банкетка становится кушеткой психиатра, выводя нас на мысль о массо-
вом психозе. Это заговор против женщин, и управы на него нет».
4.21. Сильви Флери
Без названия, 1992
Ковер, банкетка, туфли
0,63 х 3,34 х 2.60 м
«Я думаю, шоппинг не шоппинг, если
не купить хотя бы одну пару туфель. —
сказала Флери, войдя в образ модницы-
покупательницы. — Я беру свой раз-
мер, — прибавила она, — на тот случай,
если эту скульптуру никто не купит»
Живопись и присвоение 113
Живопись и присвоение
И в Европе, и в Северной Америке живопись также вовсю прибегала к заимствовани-
ям, со всеми плюсами и минусами, присущими этой практике. Великим примером лег-
кого отношения к «присвоению» был Энди Уорхол, который сам пользовался торгово-
рекламными образами начала 60-х и проторил дорожку другим художникам. Среди
тех, кто у него учился, пусть и стоя на концептуалистской платформе, был член группы
«Pictures» Джек Голдштейн, который, работая акриловыми красками, в начале 80-х от-
ступил на подготовленные позиции, чтобы весьма изобретательно поработать со ста-
рой художественной традицией — изображением возвышенного. Фотоэксперименты
Голдштейна с очень отдаленным и очень маленьким заставили одного из критиков,
4.22. Джек Голдштейн
Без названия, 1983
Холст, акриловые краски
244x183см
Писатель Фульвио Сальватори писал:
«Открыв для себя картины Джека
Голдштейна, я по ассоциации вспомнил
упомянув эффект одномоментной причастности и отдаленности, свойственный масс-
медиа, отметить «уплощение истории, незамедлительное совпадение во времени, ко-
торое мы, глядя в телевизор, испытываем изо дня в день». Прообразом картин Голд-
штейна, как правило, была фотография: сначала технологически безупречные виды
воздушно-десантных истребителей в полете или спускающихся парашютистов, за-
тем — разряды молний, разрывы бомб, следы реактивных самолетов в небе (Илл. 4.22);
Гентский алтарь и мистического агнца
Яна ван Эйка: на первый взгляддве
совершенно разные вещи. Ван Эйк
изображает момент за секунду до того,
как разразится Апокалипсис, когда
время застыло и жизнь бесконечна*
еще позднее — явления микромира, которые он расписывал в большом масштабе пы-
лающими красками а-ля свежеоцифрованное изображение.
Тут важно отметить, что тенденция, проявленная Голдштейном, характерна,
поскольку общая атмосфера «стремления к прошлому» (pastness, «свойство-быть-
прошлым») в искусстве 80-х часто (парадоксально) мотивировалась недоверием к
недавно еще неведомому либо очень совсем новому. Разновидность
абстрактной живописи, в арт-прессе 80-х зачастую именуемая «нео-
гео», — еще один пример ретроспективной точки зрения. Движение
«неогео», по уверениям его сторонников, заново прочитывало ос-
новные темы геометрической абстракции — крут, решетку и полосу,
полностью очистив их от выношенных временем эстетических кон-
цепций типа «вдохновение», «естественность» и, более всего, «мета-
физика», то есть того, что привносилось в абстрактные полотна таки-
ми разноплановыми художниками, как Мондриан, Ньюман и Агнес
Мартин. Вместо интенсивной духовной выразительности модерниз-
ма адепты «неогео» предлагали обезличенные постмодерновые ал-
легории, встроенные в уже существующие формы. Таким образом,
работа нью-йоркского художника Питера Хэлли в период с начала до
середины 80-х произрастала из попыток внедрить в минимализм от-
кровенно выраженный интерес к общественной жизни.
Весьма впечатлившись книгой Фуко «Дисциплина и наказа-
ние: Рождение тюрьмы», Хэлли предложил считать геометрию не
формой упрощения, а метафорой принуждения и тюремного за-
ключения. В начале 80-х он завершил серию картин, навеянных
образами тюрьмы и аналогичными ей структурами, пользуясь при
этом конструктивистскими или минималистскими идиомами. «Это
изображения тюрем, камер и стен, — пояснил он тогда, — здесь иде-
алистический квадрат становится застенком. Геометрия раскры-
вается как ограничение... Эти картины — критика идеалистическо-
го модернизма. В “цветовом поле” помещается тюрьма. Неясное,
114 Образы и предметы: восьмидесятые
неопределенное “пространство Ротко” (имеется в виду Марк Ротко)
ограничено стенами. Клетка — напоминание о многоквартирном
доме, больничной кровати, школьной парте — изолированных ко-
нечных точках индустриальной структуры...» Подражая визуальным
пространствам видеоигр и компьютерной графики, Хэлли к тому же
пользовался ядовито-яркими цветами, добивался грубой шерохо-
ватой поверхности. «Текстура штукатурки — это напоминание о по-
толках в мотелях. Вырви глаз краска Day-Glo — признак дешевого
мистицизма».
Позиция Хэлли любопытна уже тем, что другие его картины,
законченные лишь немногим позже (но внешне точно такие же), бы-
ли восприняты разнонаправленно, дивергентно. Сам Хэлли расска-
зывал, что публикация «Симулякров» Бодрийяра в 1983 г. открыла
для него возможность применить тезис Фуко о власти совсем в дру-
гой области теории. Теперь Хэлли увидел свои полотна как струк-
туры, отражающие свойства городского сознания эпохи позднего
капитализма. «По трубам в камеры подаются различные ресурсы, —
трактовал он теперь. — Электричество, канализация, газ, коммуни-
кационные линии и порой даже воздух. Трубы почти всегда зарыты в
землю, их не видно. Огромные транспортные сети создают иллюзию масштабного дви-
жения и взаимодействия. Однако сети труб сокращают потребность человека поки-
дать камеру до минимума. Сегодня... мы записались на бодибилдинг, в клуб здоровья.
Больше нет нужды держать заключенного в камере. Мы вкладываем средства в кондо-
миниумы. Сумасшедший больше не бродит по коридорам дома скорби. Мы пользуемся
авиалиниями» (Илл. 4.23). В этой формулировке «разрыва с геометрией» «линеарное,
характеризующее современность сооружение» Хэлли представлено как пространст-
венный эквивалент Бодрийярова «гиперреализма». Сочетая пессимизм и бурную ра-
дость, ощущение конца и настроение превосходства, его картины подсказывали, каки-
ми способами городское сознание одновременно и освобождает, и закабаляет себя.
Двумя десятилетиями позже они по-прежнему служат напоминанием о том, как в .луч-
шие дни постмодернизма распад идеи единственного творца (Бога, истории или госу-
дарства) мучительно препятствовал поиску внятности или истины в каждой данной
доктрине. То, что называлось «теорией», расфасовали, сделали многозначным, много-
валентным, в худшем случае — импрессионистским (взгляд и нечто). «Теорию» можно
4.23. Питер Хэлли
Асинхронный терминал, 1989
Акриловые краски Day-Glo.
акриловые краски, холст, валик
2.4x1.9 м
Частное собрание., Нью-Йорк
Про абстрактных экспрессионистов,
которые делали картины того же масшта-
ба. что и он. Хэлли говорил: «Они были
уверены — то, что они делают, имеет
значение для мировой философской
или политической сцены... горячность их
работ, так же как и их пустота, связана
с общественной проблематикой»
было взять в руки, бросить на землю, перемешать, намазать слоями, избирательно иг-
норировать: это — беру, это — не беру. Бодрийяровы «гиперреализм» и «симуляцию»
можно было считать теорией, а можно и симптомом медиа-эффекта; так урбанистиче-
ские проблемы обернулись против самой теории. Справедливости ради стоит сказать,
что к лучшему это или к худшему, но ни Фуко, ни Бодрийяра не читают сегодня с таким
гипнотическим энтузиазмом, как тогда.
Более долговечная ипостась американской живописи того периода, о котором
речь, — причем вопреки тем целям, которые она себе ставила, — может раскрыться
как попытка войти в некие отношения с историей. Как явствует из сравнения картин
Хэлли с абстракционизмом и минимализмом, множество работ фазы «неогео» тре-
бовалось рассмотреть на фоне прежних стилистических направлений (дабы их вооб-
ще причислить к искусству). Сам Хэлли в журнале «Arts Magazine», в статье о творче-
стве своего друга Росса Блекнера указал на его сходство с оп-артом шестидесятых,
Живопись и присвоение 115
недолговечным и почти забытым экспериментом времен молодости художника. В ра-
ботах Блекнера, писал Хэлли, «оп-арт избран как многозначительный символ падения
позитивизма, случившегося в послевоенную эру в результате трансформации техно-
логического, формалистского императива, выдвинутого движением “Баухауз”, в
безжалостную современность, пропагандируемую и практикуемую послевоенной
американской корпорацией, трансформации эстетики Мисса ван дер Рое и Гропиуса в
хулахуп, вертикальный стабилизатор “кадиллака”, в оп-арт. Как это случилось?».
4.24. Росс Блекнер
Архитектура неба-Ш, 1988
Холст, масло
Но дело также и в том, что Блекнер усилил свою готовность учиться у плохого искусст-
ва (и у плохой культуры, его питающей), рискнув сделать ставку на духовную значи-
мость света: его картины того времени блестят и сияют радиально разбегающимися
лучами (Илл. 4.24). Достаточно сказать, как это сделал Хэлли, что Блекнер представил
«волнующий аспект иронии и трансцендентализма, сосуществующих в одной и той же
работе».
Вклад в «неогео» Шерри Ливайн, ее картины в полоску, клетку и со следами суч-
ков, впервые выставленные в Нью-Йорке в конце 1985 г., можно рассматривать как
лаконичное объявление о переходе от «присвоения» к «симуляции». После серии «фо-
тографий вослед», сделанной в начале десятилетия, Ливайн теперь создавала полотна,
похожие на копии с работ Лисицкого, Мондриана, Малевича и прочих мастеров модер-
низма. «Где бы я могла поместить себя как художника? — спрашивала она. — Я пыта-
лась прояснить, как залавливается эдипов комплекс, который художники испытывают
по отношению к художникам прошлого [т. е. хотят их убить], и как мне, женщине, раз-
решается репрезентировать только мужское желание». Однако тут возник новый ин-
терес к оптической живописи. В работе 1984 г. Ливайн повторила эпохальный труд
Малевича «Белое на белом» (1918), впрочем сделав его скорее желтым по белому, что
Собрание Рейнхарда Оннама. Берлин воспринималось, пожалуй, как поворот от идеализма и мистицизма в сторону транс-
крипции со знаком минус. Вскоре после этого Ливайн представила
на суд публики фанерные панели, вставив выкрашенные золотом
вставки в отверстия от выпавших сучков, — это своеобразное напо-
минание о старых, сияющих золотом досках, на которых писали мас-
тера XIII и XIV веков, в свое время служивших ориентиром общих
религиозных верований, а сейчас — не более чем дальним эхом мощ-
ной ауры прошлого. Чтобы добиться нужного зрительного впечат-
ления, Ливайн пользовалась казеином, а не маслом и заключила па-
нели в стекло на манер музейного экспоната (Илл. 4.25). При этом
намек на старое искусство только усугублял ощущение дистанции,
отделявшее Ливайн от прежних времен. Так же как на картинах Хэл-
ли, здесь мерцали зыбкие отсылки к прошлому и так же была выхоло-
щена вся формальная и эмоциональная притягательность, присущая
традиции раннего Возрождения. Это такая игра, что-то вроде энд-
шпиля в шахматах, когда основная часть фигур отсутствует и вырас-
тает роль пешки. Более поздние работы Ливайн этого рода, скульпту-
ры, представляющие шедевры Бранкузи или Дюшана — и даже Бран-
кузи дан в манере Дюшана, — поддерживают иллюзию повторения
модернизма в его мужском выражении, однако же в соответствии с
феминизированной постмодернистской логикой.
Идея позднемодернистской или постмодернистской практики
живописи, цитировавшей великие достижения старого искусства, в
116 Образы и предметы: восьмидесятые
международном масштабе приняла несколько форм. По крайней
мере, в Западной Европе «присвоение» редко адресовалось потреби-
телю в той манере, которая бытовала в Нью-Йорке. Югославский
художник Брако Димитриевич родился в 1948 г. и вырос в Сараеве
в дружной многонациональной среде, а потом учился в Загребе.
В 1972 г., в период международного бунта искусств, он перебрался в
Лондон, примкнут к «Флуксусу», и начал выставлять огромное коли-
чество фотоснимков случайных прохожих, сделанных на улицах Лон-
дона, Рима и прочих городов. В том же году Димитриевич выпустил
книгу, «Tractatus Past Historicus», где сурово оценил ситуацию в
искусстве, находящемся в своей «постисторической» или «пост-
формально-эволюционной» фазе. В последней формулировке сум-
мировано убеждение, разделяемое концептуалистами первого по-
коления: традиции времен Дюшана и Малевича соединились во
Флуксусе» и минимализме, после чего искусству следует начать с чи-
стого листа или, во всяком случае, как-нибудь восстановиться или
обновиться. Так появились «постисторические» триптихи Димитри-
евича, или «Tryptichos», как они обозначились (и обозначаются) в
музее. Состоят они из предметов трех видов: старый или модернист-
ский шедевр, обыкновенный предмет вроде стула, и овощ или фрукт
(Илл. 4.26). «Я хотел не добавлять что-нибудь к накопленному собра-
нию стилей и формальных новаций, — сказал Димитриевич, — а
воспользоваться музеем как студией». Или, как он еще говорил,
«Лувр — моя студия, улица — мой музей». Внимание зрителя было обеспечено.
«В структуре “Tryptichos” отсвет высокой живописи падает на тривиальные предметы
и извлекает их из безвестности. Теперь мы не смотрим на них с присущим нам безраз-
личием, нет, мы начинаем расшифровывать их значение, их историю, слой за слоем,
гадать, какая судьба постигла их создателей и владельцев». В лад популярному в 70-х
структуралистскому образу мышления, «Tryptichos» иллюстрировали тезис об относи-
тельности всяких оценок и то ощущение, что история подошла к своему концу, а чело-
век в век освоения космоса вступает в период плюрализма и параллелизма. «Если
взглянуть на Землю с Луны, — загадочно высказался Димитриевич, — не заметишь
никакой дистанции между Лувром и зоопарком».
Если произведение искусства не имеет особого статуса, а является просто пред-
метом в ряду7 прочих, тогда (по крайней мере, если следовать логике), исчезает и та-
инственная атмосфера живописи и скульптуры. Это та причина, по которой прием со-
знательного смешения категорий в случае Димитриевича можно поставить рядом с
другими, родом из Центральной и Восточной Европы, постживописными проектами
80-х. В начале этого десятилетия информация из Америки и стран Запада уже сравни-
тельно свободно поступала в Советский Союз: неоконцептуализм, Ист-Виллидж-арт и
симультационные стратегии были приняты к сведению и горячо обсуждались, пусть
даже художники не вполне понимали породивший их социально-экономический кон-
текст. В особенности же в России Ист-Виллидж-арт и его последствия — или, говоря
шире, возвращение к монтажной эстетике в американском постмодернизме — оказа-
ли влияние на концепцию так называемого апт-арта (апт — от apartment, квартира).
Апт-арт принял форму устройства выставочных показов в частных квартирах и начал-
ся в 1982 г. экспозицией группы «Мухоморы» в квартире Никиты Алексеева. Участники
4.25. Шерри Ливайн
Большой, золотой сучок: 2,1987
Металлическая краска по фанере
150x120см
Собрание Мартина Циммермана.
Чикаго
Называя эти работы «дистилляциями»'.
Ливайн полагает, что в отличие от модер-
нистских, они не «доставляют вам такого
же удовольствия своей замкнутостью,
балансом, гармонией. Там есть ощуще-
ние вещей, все сервировано, только
бери, это ты получаешь от классической,
формалистской живописи. Я хотела,
чтобы те картины, которые пишу я, были
тревожными. Они, некоторым образом,
про смерть: про тревожную смерть
модернизма»
Живопись и присвоение 117
ее не занимались чистой живописью. Они собирали городской хлам
и старые плакаты, создавали намеренно китчевые ассамбляжи,
пародирующие грубое нутро позднесоветской жизни, убогих пуб-
личных пространств и тесного, тусклого квартирного быта. Апт-арт
занимался чем-то вроде любительских самоделок по борьбе с за-
грязнением окружающей среды, мотивируя это «перенасыщением
наличных пространств» (Свен Гундлах) или «лавиной текстов, над-
писей и плакатов» (Анатолий Жигалев). Саркастические и красоч-
ные, эти битком набитые инсталляции парадоксальным образом
подрывали различие между искусством и жизнью. Поскольку искус-
ство выставили из музеев и галерей, в обычной домашней обстанов-
ке возник новый вид выставочного пространства: над мойкой, по
потолку, даже в холодильнике и вокруг него (Илл. 4.27).
Однако, в отличие от «Коллективных действий», апт-арт не
был ни камланием, ни шаманством; напротив, объектом его внима-
ния были скорее сферы общественного и политического. Подобно
Ист-Виллидж-арт, «Мухоморы» с веселым отчаянием утверждали,
что занимаются не простым плагиатом: «Экспроприация частной
собственности, — гаерски перефразировали они Маркса, — означа-
ет полную эмансипацию всех человеческих чувств и отличий». За
клоунадой скрывалось интуитивное понимание того, что предель-
ный и насильственный разрыв между частным и общественным в
СССР неизбежно приводит художника к той позиции, когда он без
всяких комментариев цитирует из окружающей массовой культуры,
не разрабатывая никаких стратегий взаимодействия с нею. В те вре-
мена такого отчаянного цитирования было, пожалуй, довольно. Вла-
сти объявили апт-арт «антисоветским» и «порнографическим», и его
участники переключились на мероприятия на свежем воздухе еще до
того, как движение себя исчерпало.
4.26. Брако Димитриевич
Tryptichos Past Historicus,
или Повтор секрета,
Часть 1: «Маленький крестьянин»
Амадео Модильяни, 1919:
Часть 2: Гардероб,
расписанный Сарой Мур:
Часть 3: Тыква, 1978-1985
Смешанные материалы
200x91,5x70 см
Галерея Тейт, Лондон
И все-таки импульс «цитировать по Дюшану» не угасал. Юрий Альберт, ак-
тивный участник апт-арта, продемонстрировал одну из версий советской эстетики
присвоения в своей картине «Я не Джаспер Джонс» (1981) (Илл. 4.28), где скопировал
манеру Джонса, однако название вписал кириллицей. Это было в прямом смысле дву-
личие: использование стиля Джонса для заявления, что автор не есть Джаспер Джонс,
требовало отстраненного взгляда на язык, чтобы всего лишь поиграть со зрителем,
поймет ли он, какой двойной узел затянут художником. На практике и в теории освоив
многие варианты западного концептуализма, Альберт заявил, что пишет картины «о
возможно «концептуальных» произведениях искусства в духе ранней деятельности
группы “Искусство и язык”». «Представьте себе, — говорил он, — члена группы “Искус-
ство и язык”, который вместо того, чтобы всерьез работать, ходит и всем рассказывает,
какие грандиозные у него замыслы, но никогда не доводит их до конца. Нет, он оста-
навливается на полпути, с шутками отделывается от работы, и в конечном счете так и
не понимает, какие именно задачи пытался решить... Как только встает проблема
серьезных изысканий, я — пас». Альберт полагал, что «вся наша деятельность — это не
что иное, как ритуальные жесты, метафоры, намеки и подмигивания вокруг искусст-
ва» и что «это можно рассматривать, если угодно, как эмансипацию искусства, осво-
бождение от причин и следствий, точно так же, как человек в секуляризованном мире
118 Образы и предметы: восьмидесятые
делает этический выбор, не ожидая за это ни кары, ни воздаяния». Указывая на свое
место в традиции русского формализма, Альберт сравнивает недавние, но уже канони-
ческие работы (того же Джаспера Джонса) с точками в трехмерном пространстве,
которые связаны между собой воображаемыми линиями традиций, аналогий и влия-
ний. «Такие связи даже более важны, чем сами работы. Я тут же пытаюсь провести эти
линии, нс тревожа другие точки. Мои последние картины — всего лишь позициониро-
вание себя в художественном пространстве; вне его они ценности не имеют».
Наряду с другими художниками международного спектра, работавшими в это и
более позднее время, — упомянем Бертрана Лавьера из Франции и Андреаса Сломин-
ски из Германии, — восточноевропейские художники доказали, что не все, что можно
назвать цитированием или присвоением, непременно падает в одну яму с теми формами
экономической организации, которые порабощают нас и навязывают нам желания.
4.27. Группа «Мухоморы»
Первая выставка апт-арта. 1982
Квартира Никиты Алексеева. Москва
В выставке приняли участие семнадцать
художников, входивших в четыре объ-
единения: «Мухоморы» (Свен Гундлах.
Алексей Каменский, Константин
Звездочетов. Сергей и Владимир
Мироненко), группа, известная как «S/Z»
(Вадим Захаров и Виктор Скерсис).
супружеская паоа Анатолий Жигалев
и Наталья Абалакова и группа -КД»
(Коллективные действия), включая
Андрея Монастырского. В1986 г.
выставку реконструировал в Новом
музее современного искусства
в Нью-Йорке Виктор Тупицын
4.28. Юрий Альберт
Я не Джаспер Джонс, 1981
Холст масло, коллаж
80x80 см
Частная коллекция. Филадельфия
Живопись и присвоение 119
В годы так называемой перестройки, после 1985 г. и путце того —
после развала советской империи в 1991 г. деятельность творческой
молодежи «совпала с утратой законного применения категории «со-
ветское» и возможностью избежать такой идентификации» (критик
Екатерина Дёготь). Присвоение и цитирование стали выражением
утраты, даже оплакивания. Когда же к 1990 г. художники осознали,
что их надежды равноправно войти во всемирную систему совре-
менного искусства потерпели крах, живописное и скульптурное
творчество в России сменилось «акциями», демонстративным отри-
цанием всяких притязаний на изобразительность, долговечность,
международную славу. Я сам помню те серии «акций», которые про-
водил художник Авдей Тер-Оганьян. В огромной степени они зижди-
лись именно на эстетике присвоения: в качестве экспонатов он при-
водил в галерею бродяг с Курского вокзала; напивался до бесчувст-
вия (ежедневно), преподнося это как акт искусства; восстанавливал
«Экспозицию 0.10» 1915 г. в виде фотографий; разбивал и кое-как
склеивал взятый с помойки дюшановский писсуар (Илл. 4.29), —
очередное, кстати говоря, свидетельство неиссякаемой живучести
идей Дюшана. И на Западе, и на Востоке обыгрывание и цитиро-
вание существующих произведений искусства оказалось глотком
воздуха в атмосфере надрывного поиска оригинальности, исклю-
4.29. Авдей Тер-Оганьян
Некоторые вопросы реставрации
современного искусства. 1993
Подобно прочим акциям русского
авангарда, конструкции Тер-Оганьяна
представляют собой язвительные
ремарки в сторону модернизма,
брошенные с очевидным безразличием
к переменчивости международной
славы. В этой эпитафии концеп-
туальному искусству был расколот,
а затем склеен аналог писсуара
Марселя Дюшана 1917 года
чительных прав на которую требовал себе несгибаемый модернизм. Заместив «вы-
разительность» изощренным кодированием в надежде вызвать отклик у зрителя,
одиночные или множественные ссылки на прочие коды репрезентации на время сдела-
лись источником жизненной силы для актуального искусства и искусствоведения.
И это еще один признак того, что переход к мета-языку стал необходимым условием
современного авангарда.
120 Образы и предметы: восьмидесятые
Голоса времени
Джеф Кунс. «From Full Fathom Five», Parkett 19 (1989), c. 45
«В настоящий момент буржуазия может чувствовать себя свободной
от груза вины и стыда, вызванного ее моральным кризисом и теми вещами,
на которые она реагирует. А реагирует она на вывихнутую изобрази-
тельность, и именно в том состоит вдохновляющая ее идея: не стыдно,
если ваша жизнь распахнута и пуста. Не нужно стремиться к какому-то
идеалу, достаточно сиюминутности: слейтесь с ней в объятии и — вперед.
Я пытаюсь оставить такой зазор, чтобы каждый мог создать себе
собственную реальность, собственную жизнь... В творчестве я буду
пользоваться всем, с чем можно войти в контакт. Я буду пользоваться
всеми уловками; я сделаю все, абсолютно все, чтобы войти в контакт
со зрителем и завоевать его. Мои работы не пугают далее самых
неискушенных людей; не пугают потому, что они не боятся, что это что-то
такое, чего они не поймут».
Жан Бодрийяр. Заявление 1976 г. Из книги «Жан Бодрийяр: Избранные труды»
подред. М. Постер. Кембридж: Polity Press, 1988, с. 144
«Секрет сюрреализма состоял в том, что самая банальная реальность
могла сделаться сюрреальной, но только в особые, привилегированные
моменты, извлекаемые все-таки из искусства и изобразительности.
Теперь же вся ежедневная политическая, общественная, экономическая
реальность инкорпорирована в симулятивное измерение гиперреализма;
мыуже проживаем «эстетические» галлюцинации реальности. Старая
поговорка «жизнь порой удивительнее вымысла», принадлежавшая
сюрреалистской фазе эстетизации жизни, уже устарела. Больше
не существует такой выдумки, с которой могла бы столкнуться жизнь,
хотя бы для того, чтобы превзойти ее; реальность стала игрой реальности,
радикально освободилась от всяких чар, перешла в «прохладную» киберне-
тическую фазу, вытесняющую «горячее» и иллюзорное».
^А'"*Гз
0 - IR I
i^urte
5
В музее и вне музея:
1984-1998
Два фактора особенно характерны для культурной динамики конца 1980-х, когда в
Европе и США вернулось доверие к свободному предпринимательству и цивилизован-
ному рынку. Первый — массовое развитие инфраструктуры искусства, выразился в
возвышении фигуры куратора-шоумена-импресарио, в расширении программ дея-
тельности и культурных связей и, что самое важное, в строительстве десятков новых,
архитектурно смелых музеев современного искусства. Привести даже выборочный их
список не хватит места. В 1984 г. был расширен Музей современного искусства в Нью-
Йорке. В Великобритании открылись новые залы в Уайтчепел и в галерее Саатчи (то и
другое в Лондоне и в 1985-м), и в Ливерпуле в галерее Тейт (1988). Новые музеи «всту-
пили в строй» в Лос-Анджелесе: «Temporary Contemporary» (1983) и Музей современно-
го искусства (1986), — а также в Токио (1987) и Мадриде (1990). Во Франции вслед за
Центром Помпиду в Париже (1977) открылись провинциальные центры в Бордо (1984,
расширен в 1990-м), Гренобле (1986) и Ниме (1993), плюс проведено несколько мас-
штабных проектов, grand projets, включая ремонт Лувра и превращение в выставочное
пространство вокзала д’Орсэ; всего же за годы президентства Франсуа Миттерана
(1981-1995) было построено или обновлено 400 музеев. К концу десятилетия частные
галереи ширились и процветали, а государственные музеи всячески поощрялись к экс-
понированию произведений современного искусства, а те, в свою очередь, пользова-
лись все большим спросом. Ведущие кураторы, командуя крупными выставочными
бюджетами, которые зачастую пополнялись и корпоративными спонсорами, выросли
в профессиональную элиту и пользовались влиянием и популярностью и у себя в стра-
не, и на международной арене. Вопрос состоял в том, выдержит ли контркультура аван-
гарда постшестидесятых эту волну структурализации.
Вторым же фактором были сохранившиеся в Европе концептуалистские и марк-
систские традиции; действуя с разных концов, они поддерживали авангардистские
умонастроения и упорно настаивали на том, что искусство продолжает свое соперни-
чество с расширяющейся сетью культурных институций, пусть и пользуясь ею, а также
позволяя использовать себя. Мы уже видели, как вопрос о том, способна ли живо-
пись усложнить восприятие искусства, отзывался, в частности, в творчестве Герхарда
С. 122:
Томас Хиршхорн
Алтарь Отто Фройндлиху
(деталь). 1998
См. рис. 5.26
Рихтера и Зигмара Польке. В скульптуре же ключевой вопрос состоял в том, возможно
ли в условиях процветающе рыночной культуры гедонизма идти по стопам Бойса, Ман-
цони или Дюшана. И если живопись рисковала впасть в слепое подражание неоэкс-
прессионизму, то трудности в скульптуре вырастали из ситуации неустойчивого бума
на арт-рынке, где царили коммерческая мораль и жизненный стиль, диктуемый ценно-
стями потребления, вовсю внедрявшимися в эпоху Тэтчер и Рейгана. К середине 80-х
ценители актуального искусства разделились как минимум на два лагеря. Арт-дилеры
и музейщики радостно приветствовали возврат установки «произведение как товар» и
«товар как произведение»; однако же критики слева усматривали в этом приспособ-
ленчество к объединенным силам зла, отчуждению и маммоне. Неизбежный кон-
фликт между «продвинутым» искусством и разрастающейся музейной инфраструкту-
рой наиболее полно и изощренно выразился в тех произведениях искусства, которым
именно присутствие в музее и придает значимость. Эту тему мы сейчас и рассмотрим.
Искусство как предмет искусства
Показательным примером возрождения марксистской эстетики конца 80-х явилась
положительная переоценка забытого было «Ситуацианистского интернационала» —
организации, в 1957 г. образованной во Франции, в 1958-1969 гг. издававшей журнал
«Internationale Situationiste» и в конце концов распущенной в 1972 г. Отцом-основате-
лем «СИ» был Ги Дебор, а в число его членов на разных этапах и различных основаниях
входили Асгер Йорн, Ральф Рамни и Т. Дж. Кларк. Согласно книге Дебора «Общество
зрелища» (1967, первое английское издание — 1970), «зрелище — это такой момент,
когда товар “тотально оккупирует” общественную жизнь... это автопортрет власти в
эпоху тоталитарного управления условиями существования». Ситуационизм вышел за
пределы анализа «товар как фетиш» и его художественного аналога, дюшановского ре-
ди-мейда, чтобы отказаться от концепций искусства и музея в любой форме, кроме,
может быть, самой непристойной и для них оскорбительной. Родом напрямую из дада-
изма и сюрреализма, ситуационизм, по сути, явился попыткой дестабилизировать и
отстранить существующую культуру, посредством граффити и комиксов разрушить то-
тальность и смысл общепринятых социальных знаков. Одним из главных положений
ситуационизма был detournement — то есть захват и переосмысление, доведение до
абсурда элементов эстетики. Другим — derive, «способ экспериментального поведения
в условиях урбанизированного общества, техника мигрирующего перехода через раз-
личные среды» (Дебор). Настроения ситуационизма сказались не только в таких его
ответвлениях, как «Флуксус», но и в анархистских движениях, подобных голландскому
«Dutch Provos», американских хиппи, панках, группе «Mail Art» и более позднем канад-
ском варианте, называемом «неоизм». «СИ — это совершенно особое движение, — пи-
сал Дебор, — его природа отлична от прежних движений художественного авангарда.
Внутри культуры его можно сравнить, к примеру, с исследовательской лабораторией
или с партией, в которой мы все ситуационисты, но то, что мы делаем, отношения к
ситуационизму не имеет. И это никакое не дезавуирование. Мы — партизаны некоей
будущей культуры, будущей жизни. Ситуационистская деятельность — это определен-
ного рода умение, которого мы покуда не применяем».
Возрождение ситуационизма как музейного феномена примерно в 1989 г. с
неизбежностью повлекло за собой упреки в том, что антиэстетизм этого движения
124 В музее и вне музея: 1984-1998
достиг своей предельной стадии., то есть носталь-
гии. И все-таки возрождение было своевремен-
ным: после двадцатилетнего перерыва оно разбу-
дило дремлющий дух протеста, способствовало
критическому осмыслению таких культурных ин-
ституций, как выставочный показ и собственно
музей. Склонностью к этому умонастроению от-
личались работы ряда художников, которые, фор-
мально ситуационистами не считаясь, были связа-
ны с ними природой своего творчества, среди
них — Даниель Бюрен, Марсель Брудтаерс, Марио
Мерц, группа «Искусство и язык».
Даниель Бюрен так и ограничил себя че-
редованием на бумаге все тех же полос шириной
в 7 см, попеременно белых и цветных, с которых
примерно в 1969 г. начал свою карьеру авангар-
диста: смысл своей деятельности он видел в не
навязывании, не построении, не решении того, как
организовать внутренний порядок произведения.
На этой позиции Бюрен пытался удержаться перед
лицом общей деполитизации искусства в течение
всех восьмидесятых годов прошлого века, когда
его работу часто обвиняли в том, что она становит-
ся всего лишь знаком, пустой манерой радикаль-
ного поведения. И все-таки проекты Даниеля
Бюрена, как бы отвлекающе декоративны они ни
были, по-прежнему требовали от проницатель-
ного зрителя размышлений о том, как зависит
произведение искусства от своего размещения в
пространстве. Рассуждая о конструкции, подготовленной им в 1984 г. для экспозиции в
Генте (Илл. 5.1), Бюрен предложил следующее логическое построение: «Хотя все
элементы этой работы, по сути, являются элементами традиционной живописи, невоз-
можно сказать, что то, о чем мы здесь говорим, —живопись. Далее, хотя все эти эле-
менты поставлены стационарно, мы все-таки не можем сказать, что то, о чем мы здесь
говорим, — скульптура. И хотя все сооружение можно рассматривать как декорацию,
которая открывается с двух сторон в зависимости от передвижений и положения зри-
телей, так что те становятся как бы актерами в пьесе без слов, все это тем не менее не
позволяет нам сказать, что то. о чем мы говорим, — театр... То, что показано, есть толь-
ко (именно) то, что показано».
Тавтологию финальной фразы Бюрена можно бы счесть симптоматичной жало-
бой на то, как трудно удержать радикализм от почти необоримого падения в стиль. Но
давайте сравним его с Найлом Торони, чьи элегантные и лаконичные полотна-инстал-
ляции в течение почти трех десятилетий состояли из ритмичных мазков, трактуемых
им как средство «сделать картину видимой», считываемой (Илл. 5.2). Постоянством
уподобляясь Бюрену, начиная с 1967 г. все свои инсталляции Торони изготавливал по
одной и тоже же формуле: «Я делаю кистью № 50 пятна краски, которые повторяются
регулярно, с интервалом в 30 см и занимают все пространство картины... Прочесть
5.1. Даниель Бюрен
Се Неи (Гои (Томесто, откуда).
стационарная конструкция (деталь),
в «Gewald», в Генте (Бельгия), 1984
Дерево.полосатая ткань
«Искусство, создаваемое сегодня,
по большей части реакционно и усугуб-
ляет реакцию в обществе», — сказал
Бюрен в интервью в 1987 г. И все-таки
художник считал, что его работы скорее
приспосабливаются к этой ситуации, чем
капитулируют перед ней. Доныне почти
недоступные общественным и частным
собраниям, они по-прежнему не подда-
ются ни описанию,ни классификации
Искусство как предмет искусства 125
стену. Почему нет? От вас зависит, смотреть или
не смотреть». В заявлении тех времен, совместном
с Бюреном, Оливье Моссетом и Мишелем Пар-
ментье, Торони подчеркивал, что «поскольку
живопись — это игра, поскольку живопись — это
применение (сознательно или как-то еще) правил
композиции, поскольку живопись — это репре-
зентация (или интерпретация, присвоение, обсуж-
дение, презентация) предмета, поскольку живо-
пись — это пружина воображения, поскольку
живопись — это духовная иллюстрация... посколь-
ку писать красками — значит сообщать эстетиче-
скую ценность цветам, женщинам, эротике, быту,
искусству, дадаизму, психоанализу и войне во
Вьетнаме... постольку мы не живописцы». Опять
же подобно Бюрену, концептуальное использова-
ние повторов понадобилось ему, чтобы избежать
общения с культурными структурами и институ-
5.2. Найл Торони
Экспозиция в галерее Бухман, Базель,
1990
Передний план: 3 висящих отрезка
обоев, голубой, зеленый и желтый
(3,1x0,37 см). Фон: 2 холста,
красная акриловая краска (3x2 м),
на стене, выкрашенной красной
акриловой краской, все выполнено
кистью № 50 с интервалом в 30 см
циями, которые он изначально нацеливался судить. В самом деле, прием для того и
создавался, чтобы служить критикой.
В этом ряду стоит упомянуть также британского художника Алана Чарлтона,
который также свыше тридцати лет, начиная с 1969 г., экспериментировал с серым
цветом. Как и другие художники его поколения, с которыми он выставлялся: Бюрен,
Роберт Риман, Брайс Марден и Агнес Мартин, — Чарлтон в самом начале своей карь-
еры решил создавать полотна исключительно личные, о которых «никто не сможет
сказать тебе, что следует делать... я решил, что хочу следовать только собственным
правилам. Я обнаружил, что могу написать картину, про которую никто не сможет
сказать, правильная она или неправильная... я всегда знал, чего именно не хочу на сво-
ей картине». В этот список «отринутого» вошли внутренняя композиция, цвет и, по
выражению Чарлтона, «лабиринты мастерства». Он создавал картины с прорезями,
квадратными дырами, желобами; делал их сериями, группами и частями; все одина-
ковые, прямоугольные, серые — так что каждая включает в себя все остальные и даже,
по сути, суммирует процесс собственного производства. Однажды найденной формуле
Чарлтон следует неукоснительно (Илл. 5.3). Применяя стандартной ширины доску,
он исходит из ее размеров и пропорций, выстраивая вокруг этих параметров кон-
текст экспозиции. «Многие из моих правил не просто уникальны с точки зрения твор-
чества, — говорил он, — они, в некотором смысле, были теми принципами, согласно
которым я собирался прожить свою жизнь, и картины в общем-то просто следовали
этим принципам... это равенство, а равенство порой выражается в том, как я думаю
о творчестве...От концепции картины — к ее выстраиванию, к ее написанию, к ее
упаковке, к организации ее перевозки, к разработке каталога выставки, к ежеднев-
ному присутствию в студии: все эти виды деятельности для меня абсолютно равно-
значны».
Существует некая близость между строгой идеей Чарлтона и сериями работ, вы-
полненных в ходе 80-х немецким художником Герхардом Мерцем, жанр которых, на
мой взгляд, лучше всего определить как пространственная композиция, «энвайрон-
мет». Монохромные полотна с широкими, привлекающими внимание рамами, ведут
126 В музее и вне музея: 1984-1998
себя так, словно они на века встроены в стены галереи или музея, а
не выставлены там на какое-то время (Илл. 5.4), Занимающий, как
правило, целые анфилады залов, «энвайронмет» Мерца формально и
стилистически родственен конструктивизму, супрематизму и мини-
мализму, но при этом как бы бросает на этих своих предшественни-
ков тень визуального сомнения, выражаемого сухим, бесстрастным
форматом своих пространств. Если в начале 80-х работы Мерца но-
сили характер инсталляций, вплетенных в текстуру классических ху-
дожественных музеев, то позднее за точку отсчета был взят архитек-
турный формат модернистской галереи (сам художник назвал свой
стиль «Archipittura» — «архитектура как картина». — Э. М.). Так, для
проекта «Где живет память», выполненного в 1986 г. для Мюнхенско-
го кунстферайна (Художественного музея), Мерц взял шелкографию
ренессансного изображения св. Себастьяна, скульптуру Отто
s.3. Алан Чарлтон
«Угловая» композиция, 1986
Парусина, акриловые краски
Фрейндлиха «Новый человек», которую в 1937 г. нацисты пригвоздили к позорному
столбу на своей мюнхенской выставке «Дегенеративное искусство», изображения че-
репов и костей — и разместил все это в расположенных двумя рядами мемориальных
нишах — угнетающе пустых, абсолютно симметричных и похожих на склепы. Первей-
шей задачей Мерца было передать помпезный архитектурный стиль авторитарной
культуры. Инсталляции, внедренные им в это пространство как помеха ему (простран-
ству) и критика навязываемого им (пространством) исторического знания, наводят на
мысль, что отношения между7 памятью (т. е. музеем) и властью следует держать под не-
усыпным контролем.
Прямая попытка адресоваться собственно музейной культуре была сделана
группой «Искусство и язык» в 1985-1988 гг., когда создавалась серия «Индекс: Про-
исшествия в музее», часть которой была впервые показана в Брюсселе в 3987 г. «Ис-
кусство и язык» по-прежнему пользовалась мощной поддержкой критика и искусст-
воведа Чарльза Харрисона — он буквально стал рупором двух других еще оставшихся в
5.4. Герхард Мерц
Где живет память (Комната 3),
1986
Инсталляция
Мюнхенский кунстферайн
Мерцзсегда вдохновлялся ностальги-
ческими, но вместе с тем критическими
творениями де Керико и Эзры Паунда.
Его постмодернистские инкунабулы
отражали в себе полные жестокости
и насилия страницы европейской
истории. Вего мюнхенском проекте,
изображающем номер отеля, каждая
комната говорит об образах смерти
от эпохи Возрождения до Холокоста.
Изображение святого Себастьяна
на обтянутом шелком экране здесь
выполняет функцию алтарного образа
Искусство как предмет искусства 127
группе художников, Майкла Болдуина и Мэла Рамсдена. Эта троица и ранее настойчиво
поднимала вопрос о таких аспектах «истории современного искусства», как управле-
ние и кураторство, но пространства архетипического модернистского художественно-
го музея до той поры в проблему не выделяла. В серии «Индекс» действие происходит в
суровых, почти лишенных декора и откровенно проявляющих свою модернистскую
сущность залах спроектированного Марселем Брёйером Музея Уитни в Нью-Йорке.
В картинах серии заключены парадоксы, визуальный и концептуальный, большей
частью неразрешимые. Цветовое решение «Происшествия-VIII», как ни странно, при-
надлежит аналитическому кубизму, а текст истории об убийстве взят из оперного либ-
ретто, написанного кем-то из группы, и посвящен Викторине Мёран, натурщице, с
которой Э. Мане в 1863 г. писал свою «Олимпию». Сила, исходящая от этого полотна, в
значительной степени генерирована дистанцией между тем зрителем, который пред-
положительно изображен на картине (а она как бы дает понять, что он там есть), и тем
зрителем, который картину рассматривает. Нестыковки масштаба, размера, окружа-
ющего пространства, перспективы и способов коммуникации озадачивают всякого
мало-мальски заинтересованного посетителя. И все-таки озадаченность — это только
начало. Как полагал Харрисон — «это еще вопрос, что... со знанием дела рассмотреть
“Происшествие-\П1Г значит суметь, в своем воображении, прочесть тот текст, что на
музейной стене, — а не только тот, что на поверхности картины... Нет, то, что считыва-
ется с полотна, угрожает разоблачением впечатлению, создаваемому картиной, тогда
как условности собственно рассматривания картины как картины направлены на де-
вальвацию открытий, находок воображаемого читателя». А далее он предположил, что
«для того, чтобы зритель проявил интерес, увлекся, требуется, чтобы наблюдаемый
дисбаланс на некотором уровне и в какой-то форме отражал еще и культуру современ-
ности. В той мере, в какой картине это удалось... условия потребления и распростране-
ния современной художественной культуры внедряются в нее и испускаются ею на
зрителя как формальный эффект... картина, как умеет, работает на зрителя».
О проектах, представленных пока что в этой главе, можно сказать, что все они
стремились разрушить ортодоксальные убеждения как создателя, так и, что куда более
важно, потребителя искусства. Творцам хотелось, чтобы на убеждения зрителя легла
Her Jelj ыцигсц
jilirr , An *n>u»-.ic»a, ’ .lirijte».'
hc.vr; V.locl:ipR>ofabi;i.w.b>u<
Hui 1 lUi. wS* tl'unlnt rfit.' S.-n--,
rtwdtwW# тьг UUr IwiUd il c<r. -:Ubil>fи Ml
- -d<d - j.-J Her rit>4liwiwi.foreign.i.Md.in
ipfeeftirnilii,.. naciurin fell untouched J ... '
У—а— •'' *fr
,1я| ijy.,. .ij-uaeji мй iintrr 1U. illpxr.-'A' Her >l>fiir'.tn »
5 ........-.n,! I
r*‘ ua-iec-4<»lt ',-e.-e’.,7< Pnculiyt «.*> I *4 егл^п
. h-r.«o iwuti-inlih'ly.-..-.rd ib< lodlvlja ih ;
.ucntbnilic^c bVr>xafc-joe.\-:- №rbi-'шimpUu-.Vxgyp <LiitaiedI:
it lb Mibrtrft-M.-d.i-Jj;. ’Ws-ai райе» i ftr'rfea --r.'.J Ilin .
- J-,. :r Then. .етВЛ
rio t:k'’ I пыт '<4 W«»il»m>t-ln 5>frw«iui:
•jjj' pwicfur.’’ iamedwonrr.'briton-" w.-.i.nriinr--bp
ст.-- PUm.'JJi.lXcn ib'w'j.-HSiv-r; iin,-ly - T
/Х4 *”* - —
HllioiT / -ffli'nib I »intfaifi dui «J
syihV жяёгЬ* •!.? -Ff<r»Sr ru-’J
Zihl
rvniM sniil-j-i W(>| iXf
гаштдо» «ад
-.-•I -
5.5. Группа «Искусство и язык»
Индекс: Происшествие в музее-Vl 11,
1986
Холст, масло
По словам Чарльза Харрисона, серия
«Происшествия» «в аллегорической фор-
ме представляет деятельность зрителя
так, словно он находится в воображае-
мом музее... Сдвиги масштаба и разме-
ра открывают возможность превратить
процесс считывания в диалог о цен-
ностях и компетентности... Читая текст,
п редста влен н ы й" П рои сшествием-VI 11"
(история об убийстве), человек, рассмат-
ривающий картину, вовлекается в собы-
тия. полные противоречивого смысла»
128 В музее и вне музея: 1984-1998
тень критики, тень сомнения. В этом смысле знакомство с деятельностью искусствоведа,
художника и дизайнера Терри Аткинсона позволяет несколько обобщить преоблада-
ющие в Европе взгляды на художественный материал в его отношении к «культурной
серьезности». Время от времени сближаясь с группой «Искусство и язык», творчество
Аткинсона меняло свое направление, становясь все менее теоретически корректным,
все более озорным, обезоруживающе уклончивым. Так, для передвижной выставки
«Безгласное», которая в 1988 г. почти незамеченной прокатилась маршрутом Копенга-
ген, Дерри (Северная Ирландия) и Лондон, Аткинсон сделал несколько работ на тему
некоей маслянистой субстанции, которая дала им общее название: «Жир». Это был
вклад художника в исследование концепции отказа и отрицания, которую искусство-
вед Т. Дж. Кларк предложил как необходимую для актуальной творческой практики.
«Под “практикой отрицания” [в изобразительном искусстве], — писал Кларк несколь-
кими годами раньше, — я разумею некоторые формы решительной инновация, будь то
метод, материал или изображение, при том что ранее установившийся набор навыков,
или же система отсчета — т. е. навыки и координаты, которые до сих пор считались
определяюще важными при создании произведений искусства, претендующих на
какую-либо серьезность, — этот набор навыков намеренно избегается или пароди-
руется, причем таким образом, чтобы дать понять, что только путем такой некомпе-
тентности или невежества и создается подлинно художественное изображение».
Кларк разработал также и типологию отрицания, которая базировалась на отрицании
ключевых моментов модернизма: «сознательная демонстрация художнической
неискушенности, неловкости либо же беспечности, невнимательности, халатности в
отделке картин, которые, по определению, не стоят усилий; использование низкого
качества, тривиальных или “нехудожественных” материалов; отказ от полного и осо-
знанного контроля над артефактом; машинальный или легкомысленный способ ис-
полнения работы; вкус к низким или маргинальным сторонам жизни; желание отдать
должное “незначительному” или дискредитированному; отказ от нарративной услов-
ности живописи; неправильное, неверное воспроизведение устоявшихся жанров жи-
вописи; пародирование когда-то уважаемых стилей». Именно в этом духе намеревался
творить Аткинсон: «с ошибками, промахами, провалами». Да, картины серии «Жир»
полны брезгливости по отношению к жиру, но при этом и к себе тоже. Среди саркас-
тических определений, собранных Аткинсоном, находим: «Использование жира: (1)
материал смазчиков-авангардистов, (2) жир — новый материал, (3) жир как хранили-
ще потенциальных противников, (4) жир как материал отрицания — высохнет ли он
наконец?»Указывая одновременно вниз, на мир автомеханика, и вверх, на «умаслива-
ние карьер, смазку искусства», жировая метафора Аткинсона из приличного абстракт-
ного изображения преобразует арт-объект, в едкую шутку насчет искусства, к тому же
едкую изнутри.
Похоже, в одной только Германии теоретические уроки концептуализма вдох-
новились зловещими историческими темами и срослись с ними. Ансельм Кифер, чья
профессиональная жизнь началась в конце 60-х, выстроил себе долгую и успешную ка-
рьеру на таких основах, как многослойная ассоциативность и эпические амбиции. Ки-
фера часто упоминают (и зря) в связи с возрождением немецкой живописи конца
70-х — начала 80-х, но скорей его следует рассматривать не как живописца, а как
создателя арт-объектов и пространственных композиций, «энвайронмет». Его репу-
тация «знахаря» историко-национальных травм, связанных с идеологиями романти-
ческого пангерманизма и нацизма сложилась еще с тех времен, когда в 1969 г. он
Искусство как предмет искусства 129
5.6. Ансельм Кифер
Жрица (Страна двух рек).
Начато в 1985 г.
Примерно 200 книг в двух шкафах
Стекло, медная проволока
4.2x9,6x1,1 м
Слишком тяжелые, чтобы их мог поднять
или повернуть обычный смертный, часть
библиотеки Кифера остается немой.
Но мы знаем, что тут и фотографические
образы облаков, пустынных пейзажей,
рек, пустынь, но и человеческих волос,
сухого гороха и просто черных листов.
И материалы работ, и аллюзии, которые
рождаются при их созерцании, могут
быть представлены как элементы совре-
менного алхеического эксперимента
выставил цикл фотографий «Оккупации», где запечатлен в различных архитектурно-
символичных уголках Франции., Италии и Швейцарии с насмешливо поднятой в на-
цистском приветствии рукой. В «Оккупациях» кроется ключ к ведущим темам Кифера:
это природа исторической памяти и больное европейское прошлое. Но сам художник
отрицает, что в истоках его творчества интерес к исторической живописи или ее воз-
рождению. По его словам, он начинал с увлечения концептуализмом и минимализ-
мом — эти два импульса, по его словам, «нуждались в наполнении содержанием», — а
также с увлечения историей, которую он рассматривает как «тлеющий уголь... матери-
ал, хранилище энергии». В отличие от работ большинства современных художников,
древняя история и символизм сливаются для Кифера в одно мгновение. «История для
меня синхронна, — говорит он, — будь то шумерийцы с их эпосом о Гильгамеше или
германская мифология». Для масштабного проекта середины 80-х Кифер изготовил це-
лую библиотеку, в которую вошло около двухсот сделанных из свинца книг с иллюстра-
циями по геологии, архитектуре, ландшафт}'’, звездной механике, современной про-
мышленности и многому другому. По форме конструкция минималистская (полки), но
сам материал перегружен древними смыслами (Илл. 5.6). «Свинец всегда был связан с
идеями, — пояснял Кифер. — В алхимии это был низший в иерархии тех металлов, из
которых пытались извлечь золото. С одной стороны, свинец плотный и связан с Сатур-
ном, с другой, в его состав входит серебро, что подразумевает духовность». Принципи-
альный противник мелькания на публике, Кифер человек кабинетный, его волнуют
проблемы мифа и гностицизма. «Свинцовая библиотека Верховной жрицы (Двуре-
чье)» — вторая часть названия, имея в виду древнюю Месопотамию между Тигром и
Евфратом, — выглядит как весьма прочный архив тайного и современного знания,
хранилище человеческих надежд и разочарований.
Высокоморальный тон весомых — в прямом и переносном смысле — творений
Кифера вышел далеко за пределы нормы, установленной для «серьеза» в авангардист-
ских работах более привычного ранга. К тому, что Кларк назвал «подлинно художест-
венным изображением», авангардисты куда чаще подходили, неуважительно резвясь
с заветами модернизма и сиюминутными впечат-
лениями дня сегодняшнего. В этой связи позвольте
мне рассказать еще о двух проектах, которые в
рамках современного музея обращались, скажем с
большой натяжкой, к археологии; оба они выпол-
нены женщинами.
Переосмысление непосредственного при-
сутствия в музейном пространстве постоянно за-
нимает американку Луизу Лоулер. В своих фотора-
ботах она скептически взирает на произведения
старых мастеров, изменяя угол зрения, стремится
лишить их пресловутой ауры величия и сфокусиро-
ваться не на «шедевре», а на том, как он проявляет
себя в сопутствующих обстоятельствах, в зависи-
мости от своего размещения, характера галерей-
ного окружения и так далее. Чтобы изменить зри-
тельскую установку видения (так называемый «ат-
титьюд»), в начале 80-х Лоулер сделала высокой чет-
кости фотографии краев картин, их рам, подписей
130 В музее и вне музея: 1984-1998
к картинам. «Я показываю то, что они [музеи] по-
казывают: живопись, скульптуру, картины, стекла,
слова на крашеных стенах, оснащающие тот же ма-
териальный опыт: моя задача в том, чтобы поме-
нять местами экспозицию и вуайеризм». На одной
из фотографий Лоулер картина Жоана Миро отра-
жается в полировке музейной скамьи для посе-
тителей; на другой подмечено сходство между
полотном Джексона Поллока и изысканной фран-
цузской супницей на буфете в гостиной влиятель-
ного коллекционера; на третьей картина Филипа
Гастона увидена через оргстекло витрины, в кото-
рую заключена «Монограмма» Роберта Раушен-
берга 1955-1959 гг.; на четвертой — то, как выгля-
дит картина Фрэнка Стелла из его серии «Угломер»,
если смотреть не на нее, а на навощенный паркет-
ный пол прямо под нею (Илл. 5.7). С точки зрения
того, что когда-то называлось «институционной
критикой», можно сказать, что на фотографиях
Лоулер незначительные особенности сознания
5.7. Луиза Лоулер
Как много картин, 1989
Цибахром
157 x122 см
зрителя трансформируются в пикантные, любопытные и вполне закономерные эффек-
ты присутствия в музее.
Подойдя же к полотнам нью-йоркской художницы Сьюзан Смит, мы заметим не
только отсылки к абстракции по-модернистски (Мондриан, Рейнхардт), но также и
присутствие обломков и обрезков стройматериалов (листового металла, камней, шту-
катурных плит, стальных балок и прочего), которые Смит собрала на окрестных строй-
ках и продуманно разместила, как это принято у минималистов; этим не удовольст-
вовавшись, она затеяла концептуалистскую игру в отношениях между материалами,
выстраивая сложный диалог между художественным полотном и нон-артом, в данном
случае — отходами (Илл. 5.8). Способен ли зритель, рассматривающий эту работу, сле-
довать эстетическим указаниям Пита Мондриана или Эда Рейнхардта, одновременно
проникая в ментальность «Самоделкина» а-ля Дюшан? Способен ли зритель прими-
рить присущее ему инстинктивное уважение к тщательно отделанной художественной
поверхности с некомфортным присутствием там обломка бетона, найденного на углу
улицы? Такого рода «археология» вносит материю современного, старящегося на гла-
зах города прямо в музей, роль которого, как бы напоминает нам Смит, слишком часто
заключается в том, чтобы взять и забыть.
Инсталляция как упадок
Думаю, из этих примеров можно вывести заключение, что в рамках более широкой
задачи выйти на контакт со зрителем, возбудить в нем отклик, авангардистское искус-
ство зачастую ищет неформального, нелепого, смешного и (как бы посмеиваясь над
собой) тщательно расчисленного дисбаланса. Актуальная европейская скульптура,
если взять все покрывающее определение, в конце 80-х тяготела к руинам, ложно-
патетическому (возвышенно-вульгарному), сниженному в цене; скульптура опреде-
5.8. Сьюзан Смит
Зеленый металл
с красным и оранжевым, 1987
Холст, масло, подручный металл
1.3x1.2м
Инсталляция как упадок 131
ленного рода словно упивалась своим падением. Конечно, и другие факторы поддер-
живали европейскую контркультуру, основанную на концепции упадка. Одним из
таких факторов была оставшаяся от arte povera практика освоения и, следовательно,
эстетизации выброшенных за ненадобностью материалов: дерева и металла, обыч-
ного и информационного мусора. Вторым была внедренная «Флуксусом» эстетика
скандального отрицания искусства. Третьим —дух европейского экзистенциализма,
сохранившийся с 40-х и 50-х: настроение цинизма и отчаяния, его конверсия в лихора-
дочный поиск революционности, способной реанимировать призраки прошлых
битв — а именно годы 1789,1848,1917 и 1968-й.
Срединную позицию между США и Европой занимал художник и скульптор
Джон Армледер, родившийся в Швейцарии, но работающий в Европе и Нью-Йорке.
Корни Армледера как художника идут к «Флуксусу», к работам Джона Кейджа, к пер-
формансам. Внимание критики начала 80-х привлекли его абстрактные полотна с кру-
гами и решетками, попавшими туда с раннемодернистских картин, но большего успе-
ха он добился позже, выступив с так называемой «мебелью-скульптурой»: предметы
обстановки «секонд-хэнд», принесенные с улицы, аранжировались в живописные
группы и расписывались в супрематистской стиле, а потом, после выставки, их снова
выносили на улицу (Илл. 5.9). «Там была большая софа, распиленная пополам ее быв-
шим хозяином, — рассказывал Армледер про один из таких проектов, — что позволило
нам втащить ее на второй этаж, потому что галерея в тот момент располагалась в квар-
тире, где жил ее владелец, Джон Гибсон. Он прямо посерел, когда понял, что придется
жить в компании с этой прогнившей мебелью, пока не кончится выставка». Формаль-
но говоря, скульптурные группы Армледера выглядели как перемещение живописи в
реальное жизненное пространство. Заповеди «Флуксуса» заставили художника при-
нять стратегию «игры в декоратора», в полном согласии с тем, что он назвал «циничной
девальвацией предприятия», то есть искусства.
Поставив себе задачу смести различия между искусством и хламом, Армледер
применил эстетический ход, уловку, усвоенную затем многими художниками этого на-
правления: эксплуатацию выброшенного и никчемного как повод для философских и
5.9. Джон Армледер
Мебель^кулъптура. 60, 1984
Три кресла, воск, акриловая краска
по холсту
180 х 180 х 90 см
Для своей первой выставки в Нью-Йорке
Армледер п рочесал ул ич н ые свал ки
плавки подержанных товаров, подбирая
там мебель «секонд-хэнд», ч_обы после
закрытия экспозиции снова вернуть
ее на улицу. Вторичная репрезентация
немодной мебели, украшенной
минималистской или супрематистской
живописью, в приведенном здесь
случае демонстрирует триптих
с «пятнами увеличивающегося диаметра,
нарисованными в центре каждого
кресла, как спереди, так и сзади»
132 В музее и вне музея: 1984-1998
эстетических размышлений. Исходная точка гам-
бита — «презентация» хлама как артефакта, его
финиш — вполне зрелое, как принято теперь гово-
рить, «искусство инсталляции». Последнее мы сей-
час и рассмотрим. Формально, такой сдвиг затро-
нул существо художественного материала, значи-
тельно его усложнив, переведя градус выражения
от минимального к максимальному. Еще один
сдвиг — переход к ориентации на зрителя, а не
на специалиста, при выстраивании отношений с
традиционными художественными средствами и
иерархиями искусства. Хотя первоначально слово
«инсталляция» обозначало внедрение в экспози-
цию материальных предметов и их в ней организа-
цию, эстетическое значение жанра! гораздо шире и
глубже. В каждом отдельном случае проект как бы
строго вопрошал, что именно такое культурное
пространство, как галерея или музей, понимает
под своим назначением хранилища искусства.
Эту позицию весьма точно иллюстрирует деятельность группы немецких худож-
ников «постфлуксусного» направления. Работали они в конце 80-х, именовались по-
разному: и «модельщики» model-maker, и «постановщики» scene-setters, и «художники-
презентаторы», — и занимались эстетикой постконструктивистских ассамбляжей.
Брали что придется (бытовые предметы и их фрагменты) и раскладывали как придется
в реальном, то есть случайном, никак не приспособленном специально, пустом про-
странстве музейного зала. Хьюберт Кикол и Клаус Юнг за основу брали архитектуру.
А Вольфганг Лай и Рейнхард Муха в Дюссельдорфе манипулировали с материалами под
стать выделенному для экспозиции пространству. Муха громоздил одна на другую пус-
тые музейные витрины, лестницы, офисную мебель, собранную с окрестных помоек.
Все это как-то соотносилось одно с другим и превращалось в некоторую рукотворную
структуру (Илл. 5.10), но в полноценный «гештальт», структурное целое, все-таки не
сливалось (сравните в этой связи работы Вудро и Крэгга). Сооружения Мухи, обыкно-
венные и при этом кошмарно замысловатые, были напрочь лишены иллюстративности,
они как бы не заглядывали глубже своих составляющих и их происхождения. Такие «ин-
сценировки сцены», как назвал их сам Муха, пожалуй, можно расценить как развитие по-
будительного импульса всей современной скульптуры со времен Бранкузи и далее, сдо-
бренное к тому же нигилизмом и ярко выраженным желанием как-нибудь нашкодить.
Не менее антихудожественна, если исходить из уроков Бойса, была того же вре-
мени деятельность группы, в которую вошло семеро художников — Гисберт Хюльсхе-
гер, Вольфганг Кёте, Ян Котик, Раймунд Куммер, Вольф Паузе, Герман Питц и Рудольф
Валента. Для своей выставки «Пространства», проведенной в 1979 г., они преобразова-
ли пространство заброшенного берлинского склада, не привлекая никаких ресурсов,
кроме самого здания и разнообразного мусора, который там отыскался. «Кто скажет,
где именно начинается искусство, — писал Питц о тех инсталляциях, на вид вполне не-
рукотворных, случайных. — Кто нацарапал на стене эту надпись? Художник? Кто вбил в
стену гвозди именно в таком порядке? Художник? Кто разбил то окно? Кто провел линию
по полу? А кто это там выглядывает из окна?» Выставка дала повод заявить о том, что
5.10. Рейнхард Муха
Color, 1986
Стационарная экспозиция
для выставки
в Центре Жоржа Помпиду в Париже
ИI{сталляция как упадок 133
5.11. Фриц Раманн
На Лютцовштпрассе
(Lutzowstrasse Situation), 13,1979
Масляная краска по стенам,
остатки «ситуаций 1-12», вода
5.12. Герман Питц
Из детства, 1989
Девять отливок из смолы, алюминий,
лампа, магазинная тележка
Питц берет бытовые предметы
и помещает их в неожиданный контекст.
Особенно гнетущее впечатление
производитто. что вся композиция
поставлена на колеса, чем опровергается
вековечное правило, согласно которому
скульптура должна быть стационарна
«предмет как объект искусства больше не важен. Предмет сам может свидетельствовать
о себе». Группа, которая в 1980 г. оформилась как «Бюро Берлин» под руководством
Куммера, Питца и Фрица Раманна (время от времени к ней примыкали Тони Крэгг и
другие), распространила это вполне брехтовское отношение на все виды городского
мусора, даже самого непрезентабельного. Так была доведена до другой крайности
мысль, что «качество произведения искусства кроется... в открыто лежащей на поверх-
ности структуре его осуществления», если процитировать эссе «dick, dunn» (толстый,
тонкий), обнародованное в 1986 г. группой «Бюро Берлин». Проект Фрица Раманна для
выставки «Lutzowstrasse Situation» 1979 г. остается классическим примером значитель-
ного (но все еще недооцененного) вклада «Бюро Берлин» в развитие современного ев-
ропейского искусства (Илл. 5.11). Он собрал материалы, оставшиеся от двенадцати
предыдущих проектов, и попросту раскидал их, как пришлось, как и положено валять-
ся тому, что свое отслужило. Перераспределяя непосредственно на месте события
материальные остатки предыдущих выставок и предлагая это как произведение искус-
ства, «Бюро Берлин» начала и середины 70-х категорически отделяло себя от пеие
wilder, «новых диких» экспрессионистов ряда Рейнера Феттинга, Хельмута Миддендор-
фа и Саломе. Анархисты, порой даже не признаваемые художниками, участники «Бю-
ро Берлин» в отличие от своих ходких на арт-рынке коллег уклонялись от всякого рода
рекламное™, и славою были обойдены. Официально группа распалась в 1986 г., но
большинство ее бывших участников продолжает интересно и самостоятельно действо-
вать в том же духе (Илл. 5.12).
Безрадостные формы, которые приняла работа этого поколения немцев, родив-
шихся к концу Второй мировой и сформировавшихся в атмосфере растущего матери-
ального благополучия, в очередной раз можно свести к замечанию Адорно, что писать
стихи после Освенцима — «варварство». Никак не примазываясь к мучительно тяжко-
му прошлому экспрессионистов, немцы послевоенного поколения лучшие свои рабо-
ты подавали как искусство, искусством отнюдь не являющееся, эстетическое только в
том смысле, что не имеет никакой эстетической функции, доставляющее удовольствие
только в том смысле, что внятно отказывается от удовольствия (сравните с этим неиз-
менно авторитетного Герхарда Рихтера).
134 В музее и вне музея: 1984-1998
5.13. Ими Кнебель
Гентскийзал, 1980
Лак по фанере, 459 деталей
различного размера, инсталляция
Представленная поначалу в Генте
в 1980 г., инсталляция была затем
перевезена в Кассель, Винтертур, Бонн,
Нью-Йорк и Маастрихт. Меняя органи-
зацию частей в зависимости от предо-
ставленного помещения, разложенные
и висящие панели резонировали
с основоположниками модернизма —
от Малевича до Мардена — под эгидой
обманчивой непринужденности,
полученной в наследство от Бойса
Таким путем ученик Йозефа Бойса дюссельдорфец Ими Кнёбель в конце 60-х от
дадаистских абстракций пришел к изготовлению инсталляций из дешевых деревянных
панелей, которые он красил (часто с обратной стороны), складывал в штабеля или
располагал по полу и стенам, в зависимости от предоставленного ему помещения. Не-
которые работы Кнебеля отражают его детские впечатления: в середине 80-х это была
серия треугольных фанерных плит, навеянная ему воспоминаниями об окне, через ко-
торое он пятилетним мальчиком смотрел, как пылает Дрезден. Инсталляция 1980 г.,
выполненная для Гентского музея и впоследствии установленная еще в нескольких
галереях, в такой степени сочетает в своей организации порядок, хаос, геометрию и
непринужденность, что почти умудряется создать впечатление полноты и завершен-
ности (Илл. 5.13). Хранение, собирательство, почтение к основоположникам модер-
низма и отказ от декларативности — вот что характеризует творчество Кнебеля. «Бойс
показал Кнёбелю. как освободить беспредметность от дизайна», — писал один из кри-
тиков в посвященном ему эссе 1987 г. «Выглядеть как искусство — это только полдела».
О Германии конца 80-х определенно можно сказать, что там имелось несколько
художественных центров, каждый со своими культурными традициями, своими меха-
низмами власти и влияния, своей собственной сетью галерей и музеев. Одним из таких
центров был Кёльн. В пятидесятые в этом городе зародилась та школа абстрактной жи-
вописи, что связана с именами Эрнста Вильгельма Нэя и Георга Майстерманна, пере-
живших национал-социалистские проскрипции касательно современного искусства.
Последовательно связанная с «Флуксусом», экспериментальной музыкой (Джона Кейд-
жа. Нам Джун Пайка, Карлхайнца Штокхаузена и Дэвида Тюдора) и эстетикой де-
коллажа Вольфа Фостеля, кёльнская художественная коммуна к концу 80-х кодифици-
ровала свои отличия от других региональных групп и добилась международного
признания. Речь о художниках первоначального состава «Mulheimer Freiheit». Конеч-
но, теперь Вальтер Дан характеризует свою тогдашнюю деятельность как «игры» с
экспрессионизмом, а не поиски духовных глубин, как во весь голос было в свое время
Инсталляция как упадок 135
провозглашено. Да и Георг Докупил под влиянием
по-детски непосредственного, интеллектуального
и возвышенного Зигмара Польке, который часто
выставлялся в Кёльне, стал расценивать неоэкс-
прессионизм начала 80-х как продукт определенно
недобросовестный, едва ли не розыгрыш.
Итак, ироничное, многослойное отношение
к неоэкспрессионизму распространилось как ви-
рус и к концу десятилетия поразило таких
кёльнских художников, как Мартин Киппенбергер,
Вернер Бюттнер, Маркус и Альберт Оелен. В это
время Альберт Оелен столкнулся с проблемой, ко-
торая тогда казалась основополагающей для вся-
кого авангарда: как «продолжать» с искусством,
которое многократно провозглашено мертвым;
как воссоздавать живопись, чтобы она была чем-то
большим, чем просто всеотрицающий или назой-
ливо повторяемый фетиш. «Главная причина, по-
чему я решился писать, — говорил Оелен, — состо-
5.14. Альберт Оелен
Fn 20,1990
Масло, холст
2,1x2,8м
ит в том, что живопись — это, по-моему, настоящее
ядро искусства. А формально следовать всяким новым направлениям, видео, перфор-
мансам, или что там еще, или же совсем ничего не делать, — значит, сузить себе воз-
можность самовыражения. Все это [т. е. новые направления] будет отброшено в тень
новизной последующих технических изобретений». То, что появилась в результате,
было, разумеется, Hebellepeinture, а грубая отметина, шрам, свидетельство поражения,
которое живопись как система образного мышления потерпела безнадежно и оконча-
тельно (Илл. 5.14).
С тем же отчаянием подходя к вопросам, касающимся социальной функции
живописи (и особенно едко осмеивая творчество Отто Дикса), Элен противопоставлял
себя еще и Хансу Хааке и Луизе Лоулер (если назвать только немногих), находя их инте-
рес к таким темам, как стоимость, рынок, собственность, слишком приземленным,
«сутяжническим». Искусство нельзя так политизировать, настаивал он: «Я, к примеру,
стараюсь внедрить в сознание зрителя такие образы, как “бардак”, “дерьмо”, “не в
фокусе” или “туфта”. Моя цель — увидеть, что в голове у зрителя торчит слово “бардак”,
и он ничего не может с этим поделать». Условные и безгласные, его работы говорят о
неуверенности, выраженной масштабно и притягательно. Именно неуверенность, от-
кровенно пронизывающая все живописное пространство полотна, делает его не про-
сто манифестацией нигилизма, но и художественным явлением. Между тем Мартин
Киппенбергер, коллега Элена из Гамбурга, делал скульптуры и инсталляции, писал ро-
ман, коллекционировал чужие картины, владел баром; он в некотором роде был фигу-
ра публичная, затейник, что заставляло его участвовать в выставках, преподавать,
проповедовать, давать интервью, и, даже нарушая условности авангардной культуры,
тем паче быть ее обязательной составной. «Я не такой художник, “как полагается”, и не
такой скульптор, “как полагается”, — говорил он. —Я просто смотрю на все это со сто-
роны и иногда вмешиваюсь, как умею, пытаюсь внести свой вклад».
Скульптора-конструктивиста Олафа Метцеля занимала энергетика чувства
хаотической агрессии. Для берлинской выставки «Скульптурный бульвар» 1987 г. он
136 В музее и вне музея: 1984-1998
взгромоздил одна на другую решетки, какими полицейские огора-
живают зону бедствия при уличных происшествиях. Это сооруже-
ние, размещенное на самом оживленном перекрестке Курфюрстен-
дам, у основания поддерживалось бетонными блоками, а на самом
верху у него качалась на весу тележка из супермаркета (Илл. 5.15).
Темой Метцеля стало изображение руин, поломанных машин и
приборов, жестокого и бессмысленного разрушения. Он вплотную
приблизился к тому, чтобы конвертировать рукотворный bricolage в
неприкрытый политический символизм.
Рост значимости немецкого искусства, пусть и выраженный в
индивидуальных достижениях, в широком смысле следует помес-
тить в контекст модернизации всей структуры искусства — которая,
в свою очередь, взрастала на почве германской экономической экс-
пансии того периода. Явления такого порядка обычно идут рука об
руку; и нет никакого противоречия в том, что интерес к руинам и му-
сору становится спутником экономического успеха. Соответственно
требованиям жизни немецкий арт-мир разработал собственный ме-
ханизм гласности в форме таких национальных журналов, как «Art»
и «Kunstforum International». Параллельно происходило массовое
строительство музейных зданий, предназначенных для демонстра-
ции современного искусства. Вслед за Kunsthalle Филипа Джонсона в
Биелефельде (1966) и Новой национальной галереей в Берлине,
спроектированной Мисом ван дер Рое (1968), последовали Музей
Вильгельма Хака в Людвигхафене (1979), Государственный музей Мёнхенгладбах
(1982), Городской музей искусств в Мангейме (1983), Музей Бохум и Государственная
галерея в Штутгарте (1984), здание Собрания земли Северный Рейн-Вестфалия в Дюс-
сельфорфс. Музей Людвига в Кёльне (1986) и Франкфуртский музей современного ис-
кусства (1991), если говорить только о проектах самых значительных (Илл. 5.16). По-
следнее, здание в форме клина, спроектированное Хансом Холляйном так, чтобы раз-
местить и превосходную постоянную экспозицию, и временные выставки, благодаря
элегантному решению обеспечивает множество малых и среднего размера внутренних
5.15. Олаф Метцель
13.4.1981, 1987
Сталь, хром, бетон
11x9x7 м
Инсталляция на углу Курфюрстендам
и Йоахимшталерштрассе, Берлин
5.16
Музей современного искусства.
Франкфурт-на-Майне.
завершен в 1991 г.
Главный вход, юго-западный фасад
И исталля ция как упадок 137
пространств, неназойливое оформление которых делает их объектом почти эстетиче-
ского порядка. Здесь, как и повсюду, современный музей становится некоей приман-
кой, вместилищем (или сценой) для художественных работ всевозможного, самого
широкого ряда. Не ограничиваясь более показом исключительно «живописи» или
«скульптуры», современный музей поощряет развитие новых способов творчества и
созерцания.
Роль куратора
5.17. Розмари Трокель
Без названия, 1991
Эмалированная сталь
и четыре нагревательных элемента
Наряду с новой музейной архитектурой на сцене появляется «новый» куратор: импре-
сарио, умеющий объединить концепции и группировки, которые более или менее убе-
дительно выделяются, в тему, тенденцию, поколение, изменение стиля. «Концептуаль-
ные» экспозиции, собирающие десятки художников, каждый из которых представлен
всего несколькими работами, превратили современный художественный музей в вит-
рину и спектакль, но, впрочем, такую витрину и такой спектакль, где индивидуальная
философия художника порой заслоняется и вытесняется более общей и с товарной точ-
ки зрения более ходкой программой.
Речь идет о «Метрополисе», огромной выставке, посвященной тенденциям вось-
мидесятых годов в немецкой и американской живописи, которую в 1991 г. организова-
ли в берлинском Мартин-Гропиус-Бау Кристос Йоахимидис и Норман Розенталь, оба
провозвестники и энтузиасты широко разрекламированного в 1981 г. «возвращения»
живописи. Но теперь живопись отступила на второй план: согласно «Метрополису»,
именно Уорхол, Бойс и Дюшан — вполне резонное сочетание американского, немецко-
го и французского прародителей — стали фигурами первого плана.
«Образ искусства нынешнего века — это воображаемый маятник,
раскачивающийся между Пикассо и Дюшаном», — писал Йоахими-
дис. «Если час Пикассо пробил в 1981 [умеронв1973.—Б. Г], то время
Дюшана пришло в 1991». Географической предпосылкой выставки
было то обстоятельство, «что в искусстве, представленном сегодня,
есть две очевидные точки кульминации, притягивающие к себе, как
магнит: Нью-Йорк и Кёльн с окрестностями». Однако и тут, как и в
прежних мегапроектах, кураторский взгляд все так же останавли-
вался на художниках-мужчинах с уже устоявшейся репутацией, тех,
кто будоражил международную арт-дилерскую сеть, не обременяя ее
ни местным колоритом, ни проблемами гендера, ни капризами вдох-
новения, ни нелояльностью, переменчивостью союзов. Властной
рукой куратора выведенный в выставочное пространство и на стра-
ницы искусствоведческих журналов, «Метрополис» продемонстри-
ровал критикам, зрителям и даже туристам бесшовный, весьма упро-
щенный международный континуум между Америкой и Европой
(включая даже Восточную).
В некоторой мере понятно, каким образом полотна и объекты
Розмари Трокель связаны с осью «Уорхол—Бойс—Дюшан». Трокель в
конце 70-х училась в кёльнской Werkkunstschule и имела возмож-
ность наблюдать иронические экзерсисы обитавшей там же группы
«Mulheimer Freiheit» — Вальтера Дана, Георга Докупила, Питера
138 В музее и вне музея: 1984-1998
5.18. Катарина Фритш
Красная комната с воющей трубой,
1991
Цвет, звукозапись
Инсталляция на выставке
«Метрополис». Марти н-Гропиус-Бау,
Берлин
Хотя ее ранние проекты внешне
напоминали реди-мейды Дюшана или
Бойса, Фритш настаивает что никогда их
не выставляла. Ей нравится освобождать
предметы от их привычного значения,
с пристрастием скульптора расчислять
их размеры и размещение. Когда же
ее спрашивают об исчезновении
содержания, она ответила: «Мои работы
не ледяные и не горячие, они просто
точные»
Боммельса и прочих, в творчестве которых отсылки к историческому и социальному
выражались обращением к эклектике и цитатам. Результатом такого обучения, в част-
ности, явился одобренный критикой и вполне ироничный проект Трокель: на экране
видеомонитора художница вязала бесконечно длинный чулок, комментируя социаль-
ные особенности и ограничения моды. Обработав на компьютере такие символы, как
серп и молот, свастика или зайчик Банни, она переводила их в технику вязания, нагру-
жая свитер или головной убор тревожным ощущением непривычно-привычного. Вос-
лед французской группе «Документы» 20-х годов (Жорж Батай, Мишель Леири и др.),
Трокель в конце 80-х обращается к разновидности этнографического сюрреализма,
когда объекты, имеющие социальные, сексуальные и магические коннотации, прово-
цирующе помещаются в витрины (формат, которому отдавал предпочтение Бойс). Для
«Метрополиса» Трокель сделала серию работ, в которых продолжила диалог с мини-
мализмом, обогатив элементарный геометрический формат блестящей поверхности
кухонной плиты, снабженной четырьмя нагревательными «блинами». Все вместе
поднято вертикально и напоминает забавную пародию на кубистский натюрморт
(Илл. 5.17). Шутка в духе реди-мейда Дюшана, игра с банальным заимствована у Уорхо-
ла, а увлеченность атавистическим — у Бойса; всему здесь есть место.
Напротив, Катарина Фритш четко дала понять, что ничего общего не имеет с
идеями Бойса или «Фабрикой» Уорхола. В 1987 г. она скандализировала добропорядоч-
ных граждан Мюнстера, выставив в центре пешеходной зоны желтую пластиковую Ма-
донну двухметрового роста. В том же году7 в городском музее Крефельда она водрузила
на большой овальный пьедестал зеленого слона в натуральную величину. «Я не гонюсь
за экспрессивностью. На мой взгляд, это концепция слишком зыбкая, слишком вялая...
Я не навязываю себя вещам, пусть они растут и сами проясняют для меня свою сущ-
ность». Как правило, Фритш делает свои скульптуры с отливок, так что в принципе они
Роль куратора 139
повторяемы. «Вы увидите, что мои работы всегда симметричны... Очень важна точ-
ность и аккуратность работы». Для «Метрополиса» Фритш подготовила «Красную ком-
нату с воющей трубой», одноцветное пространство, в котором слышен вой ветра, как в
каминной трубе (Илл. 5.18). Налегая скорее на симметрию и точность (поверхности,
цвета, масштаба), чем на изобразительность, ее инсталляции устраняют всякие эмо-
циональные резонансы и индивидуальные ассоциации, как будто значение инсталля-
ций исчерпывается их скульптурным достоинством, — именно это Фритш называет
«образцовой формой безо всякого идеологического наполнения».
В число участников выставки вошли Кнёбель, Оелен, Метцель, Армледер и Муха
и не вошли Раманн, Киппенбергер и Питц. Выполняя свою функцию витрины передо-
вых тенденций в искусстве начала 90-х и при этом упрощая их до банальности, «Метро-
полис» продемонстрировал несколько парадоксов бытования актуального изобрази-
тельного искусства международного уровня, которые все еще не разрешены и, возмож-
но, в полной мере не будут разрешены никогда. Субъективность и избирательность
особо влиятельных музейных кураторов, их склонность либо пропускать мимо внима-
ния, либо же настоятельно подчеркивать определенного вида произведения, следует
рассматривать в рамках более крупной проблемы, которая состоит в том, что нет и не
может быть финальной или истинной репрезентации культуры. Любой проект с пре-
тензией на полноту и окончательность не состоятелен, так как не показывает регио-
нальных особенностей и краткосрочных творческих союзов. Мы тут же натыкаемся на
парадокс, который, кроме того, еще и чистая правда: ни одна глобальная перспектива
не может надеяться на выживание в век изобилия перспектив. Период с 80-х и до конца
века вынудил даже самых деятельных кураторов признать, что часто универсальное
и локальное движутся в противоположных направлениях. К этой проблеме мы еще
вернемся позже.
И все-таки достоинства и загадки, которые по определению заключены в
актуальном изобразительном искусстве, продолжают требовать от своих зрителей вы-
сокой компетенции и изощренного видения, взывая к современному состоянию соци-
альной теории, эстетики и искусствознания, и все это в международном масштабе, —
таким способом универсальное и локальное взаимодействуют одно с другим. Многие
выставки современного искусства, проведенные в крупнейших музеях конца 80-х,
продемонстрировали столкновение с обеими сторонами этого сложного парадокса.
Мероприятия, подобные выставкам «Америка и Германия: Искусство конца 80-х», ког-
да в 1988-1989 гг. произошел обмен экспозициями между Дюссельдорфом и Бостоном,
или «Magiciens de la Terre» («Волшебники земли») в 1989 г. в Париже, не говоря уж о ре-
гулярной Документе в Касселе или Венецианских биеннале, — все декларировали
свою готовность к охвату процессов, происходящих в мировой культуре, но при этом
склонялись перед тенденциозно-критическим отбором, который вводил неизбежные
ограничения. И никакоежонглирование словами на предмет удовлетворения требова-
ний участников, представляющих экспериментальные жанры, культуру меньшинств,
географически удаленных групп, стран, недавно получивших независимость, никогда
не поможет встать на тот уровень, на котором репрезентируется искусство в мире
многонациональных коммерческих интересов, заботящихся о своем имидже спонсо-
ров и соревнующихся правительств. Способы проведения культурной политики столь
же неявны, сколь важны, и так будет всегда. На одной чаше весов всегда будут попытки
творить высокую изобразительную культуру, которая неподвластна коммерциализа-
ции и низким формам массовой развлекаловки. На другой — глубокое непонимание
140 В музее и вне музея: 1984-1998
публики. Участие Трокель и Фритш как раз и указывает не только на то, что по-прежне-
му процветало пренебрежение к женскому искусству— пропорция мужчин и женщин,
участников «Метрополиса», составляла 93 к 7, так что его быстро переименовали в
«Мачополис», — но и на то, что искусство столь радикального толка никогда широкой
публикой до конца понято не будет.
Уместно спросить, не стоит ли перед новым немецким авангардом опасность
кооптироваться с теми ценностями, ради сопротивления которым он в общем-то зате-
вался: с искусством как отдохновением, штамповкой и разукрашиванием псевдо-
национальной культуры, защитой патриархальных методов управления ею. Тут,
между делом, кроется далеко не новый подтекст: да, авангарду необходим куратор,
компетентный в искусствоведении и администрировании, но при этом ему, авангарду,
имманентно присуще сопротивляться всяким попыткам контроля. Однако в чьих
интересах действует куратор? В пользу какого пола, какого класса, какой этнической
принадлежности выступает менеджер от культуры? Проблема состоит в том, чтобы
изначально определить шаги, посредством которых каждая из сторон выстраивает от-
ношения с другой, в процессе ритуализированных, ухищренных переговоров уточняя
обоюдные позиции, идеалы и устремления.
Некоторые из контрмонументов
Развитием вышеописанного парадокса явилась тенденция размещать произведения
искусства (и это, что характерно, часто произведения критически-вызывающие) за
пределами выставочных помещений, по существу устанавливая новые отношения с
пространством. Манера работать «снаружи», на территории города, может напомнить
читателям те времена, когда деятели контркультуры выезжали в пустыни, в леса и на
поля, в общем, повсюду', где можно действовать, не считаясь с волей куратора. Контр-
монумент — явление как раз этого порядка. Те контрмонументы, которые ориентиро-
ваны на общественные здания или мемориальные пространства, заведомо привлека-
ют широкое внимание и заинтересованно, порой даже весьма и весьма жарко обсуж-
даются. Кшиштоф Водичко получил образование в Варшавской академии изящных
искусств в традициях конструктивизма и Баухауза, затем преподавал в Польше, а в
1977 г. переехал в Нью-Йорк. Его метод заключается в том, чтобы взять некий объект
общественного значения и спроецировать на него изображение, смещающее или
разрушающее его привычное содержательное наполнение, будь то мемориал павшим,
памятник культуры либо административный центр. Это может быть проецирование
руки Рональда Рейгана на фасад здания AT&T (1984), или свастики — в самый центр
классического фронтона посольства ЮАР в Лондоне (1985), или предложение вложить
костыль в руку памятника Линкольну, что на Юнион-сквер в Нью-Йорке (1986). Сам
художник про свои «Публичные Проекты» (настаивая на написании с прописных
букв), сказал, что «безжалостно динамичное пространство сегодняшнего города с его
недвижимостью и неоднородностью экономического развития в особенности затруд-
няет общение обитателей города и приезжих посредством городских символов... Не
разговаривать посредством городских памятников — значит отказаться от них и отка-
заться от себя, потерять и то и другое с точки зрения и истории, и современности...».
«“Публичные Проекты” ставят под вопрос и функцию этой собственности, и право вла-
дения ею, — писал Водичко, — защищая публику-общество от публики-индивидуала,
Некоторые из контрмонументов 141
проекция раскрывает политические противоречия культуры капитализма... Напа-
дение должно быть неожиданным, фронтальным и происходить ночью, когда тело
здания спит после дневной суеты и видит себя во сне, когда у архитектуры ночные кош-
мары». Разумеется, те весьма значительные сложности, которыми сопровождается
получение заказа и разрешения на проведение таких акций, содержательно (и наме-
ренно) отягощают их смысл. Также разумеется и то, что художественный музей, с его
функциями хранилища, опоры и фильтра между старым и современным искусством,
не мог не стать одной из мишеней Водичко (Илл. 5.19).
Лозунг «Вывести искусство на улицу», возможно, звучит романтично, даже уто-
пично. Но все-таки и опыт Водичко, и недавняя дискуссия о так называемом «паблик-
арт», искусстве в хорошем смысле площадном, когда художественный проект мифоло-
гизирует пространство, делает его идеологически привлекательным, показывают нам,
что нет такой категории искусства, которая не выводила бы на социально значимый
разговор: об общественных пространствах, о позиции и политике зрителя, о разного
рода противоречиях, которые авангардистское искусство призвано провоцировать по
самой своей сути. «Цель мемориальных проекций — не “привнести жизнь” или “ожи-
вить” мемориал, не поддержать счастливую, довольную, бюрократическую “социа-
лизацию” данного места, — говорил также Водичко, — а показать обществу, что мемо-
риал мертв. Стратегия мемориальных проекций — атаковать мемориал внезапно,
пользуясь слайдом как оружием, или же внедриться в официальные культурные про-
граммы, которые там, на месте, организуются». Желание архитекторов или городских
властей как-то принарядить вообще-то непривлекательные здания также категориче-
ски неприемлемо для сторонников самого радикального паблик-арта.
Самые интересные из недавних проектов такого рода были задуманы так, чтобы
бросить вызов рутинному поведению, заставить взглянуть по-новому на городскую
5.19. Кшиштоф Водичко
Проекция намузейХиршхорна,
Вашингтон, октябрь 1988 г.
Галерея Хэла Бромма, Нью-Йорк
Использование ксенонового проектора
в целях перекодировки публичных
пространств Водичко распространил
и на музеи. Изображение, спроециро-
ванное на музей Хиршхорна, — это трех-
частная коллизия: свеча, которая сияет
в темноте и, следовательно, просвещает,
револьвер, который угрожает,
и подставка с микрофонами, которая
говорит одновременно и о гласности,
и о власти
142 В музее и вне музея: 1984-1998
среду. Сейчас мы рассмотрим классический тому пример. Американский скульптор
Ричард Серра начиная с 60-х годов работал и в студии, и в галереях с многотонными
цельнометаллическими плитами, подпирая одной другую, складывая уст.ягами, ис-
пользуя их геометрически сложные формы и объемы. Эстетическая функция таких
произведений хотя и проистекает из минимализма, указывал Серра в своих интервью,
но, по существу, призвана отразить природу физических пространств, занимаемых
ими. «Меня интересует, как выявить структуру, содержание и характер пространства,
и я делаю это, определяя его физическую структуру посредством тех элементов, кото-
рые использую... это больше связано с энергией, которую генерирует местность, так
что пространство распознается скорее физически, чем оптически». «Скульптура, —
сказал Серра в 1980 г., — если у нее есть хоть какой-то потенциал, способна создать
свое собственное пространство-место и работать в противоречии с тем пространст-
вом-местом, на котором ее поставили... художник создает “антиокружение”, которое
занимает свое место и создает свою собственную ситуацию, распределяет простран-
ство вокруг себя и диктует пространству свои условия». Применительно к городской
среде это заявление как раз относится к «Накрененной арке», которая была заказана
Серра в 1979 г. и установлена в административном центре Нью-Йорка, перед феде-
ральным судом. Влиятельные судьи и другие лица, каждый день проходящие мимо на-
висшего массивного листа стали, потребовали убрать его с площади на том основании,
что он нарушает нормальное функционирование площади. Консерватор Эдвард Ри
возбудил общественную дискуссию, в результате которой на публичном слушании,
проведенном в 1985 г. под председательством Уильяма Дайамонда, представителя Уп-
равления общих служб федерального правительства, были выслушаны аргументы за и
против удаления «Накрененной арки». Широкая общественность высказывалась про-
тив (как писала «Нью-Йорк тайме», «это самая уродливая уличная скульптура в горо-
де»), однако общественность интеллектуальная организовала кампанию в поддержку
арки. Известный критик Розалинд Краусс отметила способность скульптуры облекать
пространство в конкретную форму: «Накрененная арка», писала она, «заставляет глаз
совершать некое метательное движение, которое... воплощая концепцию визуальной
перспективы, намечает тропку, по который зрителю предстоит пересечь площадь.
Этой амплитудой, которая одновременно и визуальна, и телесна, “Накрененная арка”
описывает отношение тела к движению вперед, ктому факту, что если мы движемся, то
это потому, что наши глаза уже достигли цели и связывают нас с тем местом, куда мы
направляемся». Бенджамин Бухло указал, что работа Серра исторически находится в
одном ряду с Пикассо, Бранкузи, Куртом Швиттерсом, Татлиным и Лисицким, которых
когда-то поносили нацисты, а теперь их работы выставлены в Музее современного ис-
кусства, что филистерское намерение уничтожить «Накрененную арку» — печальный
пример того, что «культурой управляет толпа». А по мнению Дугласа Кримпа, жалобы
судьи Ри на то, что скульптура мешает эффективной работе служб безопасности и
может сыграть на руку террористам, указывают на страх утратить контроль над соци-
альной жизнью площади. Тем не менее присяжные (четыре к одному) высказались за
перенос скульптуры, и вопреки шквалу судебных исков со стороны скульптора в ночь
на 15 марта 1989 г. ржавеющее сооружение было разобрано и без церемоний выселено
на административную парковку в Бруклин.
История возвышения и падения «Накрененной арки» с тех пор служит уроком для
молодых скульпторов. К примеру, концепция контрмонумента воодушевила британ-
ского скульптора Рейчел Уайтрид, которая принадлежит более молодому поколению.
5.20. Ричард Серра
Накрененная арка, 1981
Погодоустойчивая
конструкционная сталь
Федерал-плаза, Нью-Йорк
(перенесено в 1989 г.)
3.6 мх 36мх5,1 см
Некоторые из контрмонументов 143
5.21. Рейчел Уайтрид
Без названия (Дом), 1992
Металлическая арматура и бетон
Гроув-роуд. Восточный Лондон
(снесено в 1994 г.)
До последнего времени ее репутация основывалась на серии галерейных работ, пара-
доксально негативных объемов, воспроизводящих в воске или гипсе пространства
между предметами или за ними: объем за шкафом, за креслом или внутри ванны. Вы-
звавший горячие споры проект Уайтрид «Дом» (1992) был изготовлен путем заливки
жидкого бетона в подготовленный к сносу дом в Восточном Лондоне. После того как
«скорлупу» оригинала, а также все окрестные дома снесли, отливка осталась стоять на
пустыре как памятник когда-то кипевшей здесь жизни, как символ бездушного бюро-
кратического планирования (Илл. 5.21). «Дом» просуществовал несколько недель по-
сле сноса округи, а потом с помпой разрушили и его — во имя местных политических
интересов, под шум сопутствующей дискуссии.
Пройдет три года, и Уайтрид снова привлечет к себе внимание, представив
на конкурс проект мемориала жертвам Холокоста, который предполагалось устано-
вить в центре венской площади Юденплатц (Илл. 5.22). Отношение Австрии к своему
нацистскому прошлому до того вежливо замалчивалось, хотя местные жители, конеч-
но, знали, что Юденплатц была свидетелем десятков антисемитских акций, от погро-
ма, случившегося в 1421 г., вплоть до регулярных чисток банковских и коммерческих
структур австрийской столицы. Уайтрид прибегла к образу библиотеки — ведь евреи
всегда были «народом книги», а нацисты, как хорошо известно, книги сжигали. Другой
составляющей замысла в очередной раз стала идея пустоты как присутствия, уже эф-
фектно использованная и на берлинской Бебельплатц концептуалистом Мишей Уль-
маном, и Дэниелем Либекиндом в поразительном интерьере Еврейского музея (2000).
Уайтрид предложила поставить белый каменный куб, внешняя поверхность которого
имитирует пространство меж книгами, над и под полками. Победив в конкурсе, в ко-
тором участвовали, в частности, Илья Кабаков, Цви Хекер и Питер Айзенман, проект
Уайтрид вскоре вызвал протесты местных жителей, обеспокоенных проблемой пар-
5.22. Рейчел Уайтрид
Мемориал жертвам Холокоста
на Юденплатц. Вена. 1997
ковки, и владельцев магазинов, предвидящих ухудшение торговли.
Дело зашло в тупик, пока в 1998 г. венские власти не объявили, что
проект все-таки будет осуществлен, поскольку отвечает всем уста-
новленным требованиям и «на месте, перенасыщенном историей,
воплощает достоинство, немногословность и эстетический диалог
с прошлым» (еще на этом же месте обнаружились руины средне-
вековой синагоги, именно это было главным препятствием, а не тор-
говля.—Э. М.).
Так же как Водичко, Серра и позднее Уайтрид, немецкий ху-
дожник Йохен Герц рискнул своей репутацией, разработав ряд па-
мятных сооружений общественной значимости, которые, подобно
незадачливой «Накрененной арке», выносили идеи, зародившиеся в
студии, на суд критики и общественности. До того Герц проявил себя
как поэт и концептуалист, а в 70-х делал серии фотографий, сопро-
вождаемых текстами; в этом жанре он работает и сегодня. Однако в
1984 г. город Гамбург заказал ему и его жене-еврейке, Эстер Шалев-
Герц, «монумент против фашизма, войны и насилия, за мир и права
человека», проект которого был готов в 1986 г. С самого начала было
очевидно, что задача не может быть решена как просто «послание»
или пропагандистское изображение: нет, художники придумали
40-футовую (14,6 м) полую алюминиевую колонну, покрытую свин-
цом, на нижней секции которой прохожие могли сделать надпись
144 В музее и вне музея: 1984-1998
5.23. Йохен Герц
2146 камней — Мемориал жертвам
расизма, Саарбрюкен, 1990-1993
Фотография Эстер Шалев-Герц
Памятуя еврейскую традицию приносить
на кладбище камень. Герц по ночам
извлекал по нескольку камней, заменяя
их временными, пока на настоящих
выбивалось названия оскверненных
нацистами еврейских кладбищ. Веду-
щаяся в тайне, работа была официально
разрешена после дебатов в местном
правительстве, а площадь теперь назы-
вают Площадью невидимого монумента
стальным острием. Когда свободного места не оставалось, эта часть колонны опуска-
лась в землю, и надписи покрывали следующую секцию, пока к концу 1993 г. все соору-
жение не ушло в землю, за исключением самой верхней части. Вся колонна покрылась
граффити, содержание которых газета «Hamburger Rundschau» обобщила как «одобре-
ние, ненависть, злобу и глупость», заключив, что это «общегородской отпечаток паль-
ца». Следующий проект Герца был задуман как «стык между реальным и его репродук-
цией» и осуществлен с помощью студентов школы изящных искусств Саарбрюкена.
В этом городе Герц создал свой «Монумент против расизма». Идея состояла в перечне
разрушенных нацистами еврейских кладбищ, названия которых гравировались на
внутренней, обращенной к земле стороне брусчатки, которой выложена обычная до-
рога (Илл. 5.23). Но ведет эта дорога к замку Саарбрюкена, где когда-то размещалось
гестапо, а сейчас — местный музей. В обоих проектах, и в «Мемориале жертвам фашиз-
ма», и в «Мемориале жертвам расизма», Герц утаивает самое репрезентацию — или,
вернее, хоронит ее. Названия кладбищ он перечисляет, с тем чтобы сберечь «жестокую
прямоту наименования» как функцию памятника. Соблюдя в Саарбрюкене принципы
горизонтальности и «отсутствия присутствия» (и то и другое — фирменные клейма
концептуализма), контрмонументы Герца сначала вызвали ожесточенные дискуссии,
а теперь, хоть это в идею и не входило, привлекают к себе множество туристов.
Пристрастие к письменной речи и горизонтальности отличает и творчество
американской художницы Дженни Хольцер. К паблик-арт Хольцер пришла после не-
долгой работы в абстрактной живописи, хотя еще в студенчестве читала журнал «Лис»,
откуда и усвоила, что искусство отнюдь не обязательно должно быть героическим, эс-
тетским или предметным. Хольцер вспоминает, что, стажируясь в 1976-1977 гг. при
Музее Уитни, должна была проработать нереально огромный список учебной лите-
ратуры. Это подвигнуло ее на создание серии работ в виде коротеньких сентенций,
балансирующих между философской глубиной и народной мудростью, так что она на-
звала их «Трюизмами». «НЕМНОГО ЗНАНИЙ СГОДИТСЯ НАДОЛГО», «САМЫЕ ЖЕСТО-
КИЕ — ЭТО ДЕТИ», «В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАСТЬЮ НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО»
и так далее. Она выстроила их в алфавитном порядке и, не подписывая, расклеила
плакаты по Нью-Йорку. Сходная с рекламными текстами и объявлениями, по тону
непринужденно прагматичная и одновременно угнетающе официальная, эта серия
Некоторые из контрмонументов 145
положила начало множеству других, в которых
Хольцер, подобно другим концептуалистам, лепи-
ла образы главным образом из слов.
Наряду с другими художниками родом из
концептуализма, работающими в сфере паблик-
арт, Хольцер перемещалась из городского про-
странства в галерею и обратно, будто галерея —
лаборатория авангардизма, а площадь — прак-
тический полигон, на котором результаты испы-
тывались. В 1982 г. со светового рекламного щита,
установленного на Таймс-сквер, она адресовала
широкой, хоть и пробегающей мимо, аудитории
ряд житейских сентенций такого рода, как «ОТЦЫ
ЧАСТО ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ СИЛОЙ» или «ПЫТ-
КИ — ЭТО ВАРВАРСТВО». Для американского пави-
льона на Венецианской биеннале 1990 г. Хольцер
задумала анфиладу комнат, пышно отделанных
5.24. Дженни Хольцер
Венецианская инсталляция,
американский павильон
Венецианское биеннале, 1990
мрамором, где и фланкирующие скамейки, также из мрамора, и во всю длину стены не-
сли на себе светодиодные установки, которые многоязычными фразами создавали ат-
мосферу, приличествующую месту благочестивого отдохновения немногих избран-
ных (Илл. 5.24). Идея вызвала огромный интерес журналистов и одобрение более чем
разномастной аудитории, однако искусствоведы заговорили о степени освоения Холь-
цер традиций и возможностей эпиграфики. Критик Стивен Банн не в ее пользу срав-
нил Хольцер с калифорнийским художником Эдом Руша и шотландским скульптором
Йеном Хэмилтоном Финлеем и выразил сомнение в разумности тиражирования ее
эпиграмм в виде надписей на футболках, светодиодных вывесках и сувенирных шка-
тулках, считая, что таким образом она, по существу дела, банализирует, снижает уро-
вень той честолюбивой задачи оживить городское пространство, которую решали ее
прежние, более удачные работы. Тут, однако, надо сказать, что на самом деле синтак-
сис Хольцер гибок и разнообразен, от скупых, в одну строчку, философических фраз к
просторечному мусору, от авторитарных публичных заявлений к рекламным лозун-
гам, от газетных заголовков к сплетням. В целом проекты Хольцер хороши уж хотя бы
тем, что привлекли внимание к невероятной, до смешного неправдоподобной власти
языка в современной политической жизни.
Два очень различных контрмонумента из Европы заключат этот короткий
обзор. Работы немецкого скульптора Изы Генцкен я сначала увидел в 2000 г., на ее
выставке «Отпуск», устроенной во Франкфуртском кунстферайн, а потом еще на До-
кументе 2002 г. в Касселе. Для Франкфурта Генцкен сделала десять маленьких квад-
ратненьких скульптурок, которые назвала «Пляжными кабинками для переодевания».
Водруженный на пьедесталы высотой фута в четыре над полом и расставленные в ряд,
этот яркий парафраз недолговечных строений удивительно мило передавал атмо-
сферу веселости и удовольствия, свойственную каникулярному отдыху, и в то же время
индивидуальность владельца каждой кабинки, ее стоимость и размер, типичные цвета
и материалы. Ракушки и галечка в некоторых интерьерах добавляли нотку игривой
переменчивости. Однако не стоило труда понять, что в подоплеке всего этого очарова-
ния лежит проблема несколько более серьезная. Намек на это содержался в виде из
музейного окна, в котором, отвернувшись от пляжных кабинок, можно было увидеть
146 В музее и вне музея: 1984-1998
реальное воплощение языка современной архитектуры: грубый, режущий глаз набор
административных зданий. СкульптураГенцкен — именно отсюда. В 70-х учась в Ака-
демии искусств в Дюссельдорфе, она ознакомилась с фотографиями Бернда и Хиллы
Бехер, посвященными архитектурным сооружениям XIX века и сделанными с намере-
нием не только обратить архитектуру в фотографию — и, следовательно, отказаться от
необходимости создать что-то материальное, — но и указать на функциональность и
повторяемость элементов индустриальной и коммерческой архитектуры на заре со-
временного сознания. Генцкен быстро разработала метод слегка комплиментарного
окарикатуривания размаха и монументальности современного архитектурного язы-
ка, в особенности же тех монолитов из стекла и бетона, что заполонили наши города,
от неизвестно кем спроектированных и промышленным методом возведенных небо-
скребов до утопических шедевров таких знаменитых авторов, как Гропиус, Сааринен,
Мейер и Лоос. Серийное мышление и шутливая почтительность стали отличите.-'!ьной
особенностью скульптур Генцкен. Работа, приведенная здесь, «Коридор» (1986), высо-
той всего 83 см, стоит на цоколе, который достигает уровня груди зрителя и вызывает
множество мыслей о недружественной человеку городской застройке конца XX века: о
ее амбициях и претензиях, о брутальности материала, о социальном рационализме
(Илл. 5.25).
Хотя «алтари» и «памятники» ТомасаХиршхорна делались с целью обойти сторо-
ной систему (и как можно дальше), они тем не менее привлекли внимание тех самых
кураторов, редакторов и администраторов, которых Хиршхорн избегал (якобы): стра-
тегия непростая, но эффективная. Швейцарец по рождению, сейчас
Хиршхорн работает в Париже. Сначала он сделал серию «алтарей»
известным и почитаемым личностям, включая Мондриана, Инге-
борг Бахман и Отто Фройндлиха, и при этом демонстративно не брал
в расчет эффектность показа и удобство зрителей. На тротуарах, пе-
рекрестках дорог, на обочинах непарадных городских площадей
Хиршхорн раскладывал фотографии, книги, старые электропри-
боры, пестрые дешевые сувениры и копеечные знаки публичного
признания, располагая все вразброс, в стиле то ли «лоток уличного
торговца», то ли «приют бродяги», все вместе окаймлено от по-
вышенного внимания публики красно-белой лентой, какой огора-
живают ремонтируемый участок дороги или стройку. Так Хиршхорн
открыл способ изготовления скульптуры, который игнорирует не
только язык галерейного минимализма, но буквально все парадиг-
мы конструирования объектов, появившиеся в последние тридцать
или даже больше того лет. Нисколько не сопрягая эту эстетическую
стратегию с «популярным» искусством, Хиршхорн сжато описывает
ее с точки зрения энергии, аудитории и ценности. «Я хочу работать
без объема, хочу делать работы, которые не вписываются ни в какую
иерархию, хочу работать, никого не желая подавить. Скульптуры, ко-
торые люди делают, чтобы нести во время политических маршей, де-
монстраций профсоюзов, гей-парадов или карнавальных шествий,
не заряжены взрывной энергией. Они все сделаны по поводу, незави-
симо от эстетики. Эти скульптуры прекрасны. Они исходят из мас-
штаба человека, либо увеличены, либо уменьшены, для того чтобы
выразить идею проекта или мысль... Я не могу и не буду вписывать
5.25. Иза Генцкен
Коридор, 1986
Бетон
41x30x83 см
Некоторые из контрмонументов 147
5.26. Томас Хиршхорн
Алтарь Отто Фрейндлиху
Было показано в Базеле и Берлине
свою работу в какой-то особый контекст, и мне до лампочки, в какое место истории
скульптуры будет вписана моя работа... Я только хочу, чтобы зритель стоял с ней лицом
клицу... Энергия—да. Качество — нет». Так что в «Алтаре Отто Фройндлиху» (1998) —
это был немецкий скульптор, погибший в Майданеке, — мы увидели на берлинской
улице кое-как накарябанную надпись: «Спасибо, Отто!», цветы, свечи и фотографии
скульптур Фройндлиха, включая «Нового человека», на которого особенно озлились
нацисты, — так, словно Фройндих попал под машину на этом самом перекрестке, и
окрестные жители, которые знали его, не сговариваясь, стихийно отдали ему дань
памяти (Илл. 5.26). «Я работаю не для галерей и прочих учреждений, — пояснял Хирш-
хорн. — Я работаю в том объеме пространства, который у меня есть: я защищаю ав-
тономию искусства... Я хочу отражать, принимать, делить, хочу делать, по моему
ощущению, глубоко достойные вещи». И, в дальнейшем пренебрегая общепринятыми
условностями, Хиршхорн заботился о том, чтобы ничего материального не осталось от
его произведений, только воспоминания и фотографии. Как суммировал это Бенджа-
мин Бухло, зрительское соучастие в скульптурах Хиршхорна «не только требует ванда-
лизма, бартера по мелочи и покупок, но и вовлекает в мелкое воровство, заимствова-
ние, потихоньку или внесение мелких деталей (вроде свечек или всяких самоделок), и,
следовательно, подрывает тот тезис, что скульптура как дискурс на условиях объектив-
ного опыта... может все-таки быть конституирована в границах перечня автономных
предметов и пространств и освободиться от повсеместной назойливой банальности
частной собственности и ужаса контролируемых пространств (т. е. музеев. — Э. М.)».
Впоследствии, создавая свои «памятники» Спинозе, Делёзу, Батаю и Грамши, Хирш-
хорн конструировал (часто с помощью членов молодежных клубов и местных жите-
лей) временные инсталляции, столь же радикальные и вдохновенные относительно
привычных мемориальных сооружений.
Идея контрмонумента, поданная в таком освещении, определенно доказывает
ложность впечатления о том, что радикализм конца 60-х увял и стух. Самые фундамен-
тальные побуждения концептуализма — а именно держаться поодаль от корыстной
длани властей и не позволять себе впасть в «хороший» вкус индустрии культуры —
успешно оживляли если не собственно контркультуру, то уж во всяком случае про-
странства искусствоведческих дискуссий. А между тем начал происходить еще один
сдвиг, который поставил вопросы перед всеми видами искусства, претендующими на
законность существования в пределах западного авангарда. Этот сдвиг реализовался в
неожиданный поворот от контекста и «формы» к откровенному цитированию, образ-
ности и символизму. Начиная с середины 80-х до конца века и далее, художники напря-
мую обратились к проблемам, касающимся расы, этничности и тела, проблемам, ког-
да-то выведенным за пределы музейного пространства и художественной тематики.
Такое творчество — описать которое точнее всего, пожалуй, термином «нарратив» —
поместило радикальное наследие контркультуры под пресс совершенно нежданного
свойства.
148 В музее и вне музея: 1984-1998
Голоса времени
Кшиштоф Водичко. «Публичные Проекты»
«В процессе социализации человека самый первый контакт с общественным зданием
не менее важен, чем момент социальной конфронтации с отцом, посредством которого
формируется наша сексуальная роль и место в обществе... дух отца бессмертен, вечно жив,
точно также, как здание, которое было, есть и будет воплощением, структурой,
овладением, образом и воспроизведением “вечного”и “универсального” присутствия
патриархального воплощения мудрой власти... Нападение должно быть неожиданным,
фронтальным и происходить ночью, когда тело здания спит после дневной суеты и видит
себя во сне, когда у архитектуры ночные кошмары».
Луиза Лоулер. «Заявления»
«Я пытаюсь, используя возможности, предоставляемые самой системой,
показать привычки и обыкновения людей, рассматривающих произведения искусства...
Я показываю то, что они [музеи] показывают: живопись, скульптуру, картины, стекла,
слова на крашеных стенах, оснащающие тот же материальный опыт; моя задача в том,
чтобы поменять местами экспозицию и вуайеризм. Вы стоите на месте».
«Альберт Оелен в разговорах с Уилфредом Дикофф и Мартином Принцхорном»
«Я думаю, что главное для художника — понять, что искусство живет своей собственной
жизнью, то есть вполне независимо от реальностей общественной жизни, работы и пр.
И понять, что искусство не может вмешиваться в жизнь, независимо от того,
какие героические идеи ты продвигаешь... Притворяться, что искусство само может
сделать жизнь лучше, —значит, лгать. Эта ложь полезна некоторым идеологиям,
и даже востребована ими. Поэтому ты притворяешься, что если мы все выйдем
и много всего нарисуем, то мир станет лучше, чем был. Но на самом деле если бы мир был
лучше, то тогда нам не нужно было делать такие бессмысленные вещи, как писать
картины, обжигать керамику и все такое. Абсолютная утопия—это мир без искусства,
потому что тогда сама жизнь стала бы искусством: освобожденнойформойработы,
освобожденной формойжизни. Еслихочешь вообразить себе чистое счастье,
тогда искусству места не остается».
Знаки идентичности
1985-2000
Озадачивающая перемена, которая произошла в изобразительном искусстве в конце
80-х — начале 90-х годов XX века, состояла в том, что в готовые формы вернулся образ.
Возможно, это звучит странно. Раз все искусство вообще — это на определенном уров-
не образ, мышление образами, тогда в чем же смысл его возвращения? Перемену, о
которой идет речь, можно назвать поворотом к изобразительности, императивной
потребностью в переосмыслении образа при соизмеримом ужатии композиционной,
материальной доли в организации произведения — вплоть до того, что оно может вы-
глядеть как театральное представление, в котором участвует зритель. Нарративность
(повествовательная изобразительность), другое название этого явления, вывела
основные принципы современного искусства, в особенности же язык форм, на множе-
ство вопросов, так и оставшихся безответными. Ибо нарративность как прием перена-
сыщена активностью, напоминающей речевую: это повествование, указание, предпо-
ложение и даже объяснение. Очевидно, что такое искусство свое происхождение ведет
от массовой культуры, а затем берет целый дивизион подтекстов и ведет его на поля
индивидуального опыта, личной и расовой идентичности, к тем историям, вопросам и
проблемам, которые волнуют сегодняшнее общество. Анафема для модернистов, осо-
бенно модернистов формалистского толка, такое искусство опрокинуло все расчеты
критиков, да так, что последствия этого и предсказать невозможно.
Повествуя о теле
К примеру, напольная работа конца 80-х, созданная американским скульптором Ро-
бертом Гобером, хотя и имела минималистскую, близкую к кругу форму, приковывала
внимание зрителя изобилием смыслов и контрсмыслов, заставляла думать о знаках,
реди-мейде и реальности (Илл. 6.1). Это плетеная корзинка для собаки, собака, кото-
рой нет, и простынка, на которой помещены изображения спящего белого человека и
повешенного черного. Светленькая корзинка выглядит уютно, по-домашнему, она
С. 150:
Ванесса Бикрофт
VB35, (деталь). 1998
См. рис. 6.9
примерно метр в диаметре, что характеризует ее
обитательницу как собаку крупную и, возможно,
недружелюбную. Отнюдь не разжигая дискуссий
о сути искусства, роли музея или истории скульп-
туры, работа Гобера вбирает в себя поток ассоциа-
ций, говорящих о насилии, расовых проблемах,
Америке, семейной жизни, — и делает это, созна-
тельно отрекаясь от минималистских стратегий
упрощения и абстракции. Услышав применитель-
но к своей работе слова «уютный» и «рукоделие»
(причем употребленные намеренно в их уничи-
жительном, феминизированном значении), Гобер
ответил, что да, именно этого он и добивался.
Среди своих наставников он перечислил целое по-
коление американских женщин: Синди Шерман,
Дженни Хольцер, Барбару Крюгер, Шерри Ливайн:
«Их работы дают пищу уму, но доступны; приносят
удовольствие, но полны эрудиции». С точки зрения
поведения, самосознания и способа обращения
6.1. Роберт Гобер
Без названия, 1988
Ратан, фланель, эмаль и краски
по ткани
«Думаю, это такой удачный образ потому,
что он предлагает самые разные ответы
насчет того, что туг происходит, —
объяснял Гобер. — А кроме того, в этой
истории определенно чего-то недостает,
если рассматривать это как историю, —
и получается, что именно так вам и при-
ходится это рассматривать. Приходится
додумывать: что это было за преступле-
ние. что на самом деле случилось, какие
были отношения между этими двумя
мужчинами»
к зрителю — не говоря уж о содержании — художники-мужчины не представлялись
Гоберу достойными подражания.
Сознательно «феминизируя» искусство посредством внедрения в него изобрази-
тельных элементов, Гобер неминуемо указывает на тот факт, что в основе концепции
нарратива конца 80-х лежит восприимчивость, впечатлительность и самосознание, от-
личающие художников-геев. Сейчас как-то подзабылось, что так называемые пост-
модернистские традиции в Америке и повсюду — заложенные в конце 50-х Джонсом,
Раушенбергом и Уорхолом — основаны не просто на разнице в стилях жизни, а на де-
монстративном, подчеркнутом отказе от мужской, гетеросексуальной модернистской
эстетики и различных концепций «экспрессии», с ней ассоциируемых. Поп-арт первым
предложил камуфляж для феминизированного постмодернизма, и именно поп-арт,
весь, скопом, яростно заклеймили неколебимо гетеросексуальные критики-модер-
нисты. Климент Гринберг, к примеру, в 1967 г. предал анафеме то, что сам же назвал
«искусством новизны» (novelty art) (термин охватывал ассамбляжи, оп-арт, энвайро-
мент-арт и неореализм) на том основании, что это «слишком легковесно... ближе се-
реднячковому, чем высоколобому, истинному авангарду». Год спустя, когда по всему
западному миру заполыхали студенческие и профсоюзные бунты, Гринберг предполо-
жил, что «поп-арт рассасывается, как карамелька... это не плохое искусство, это искус-
ство низкого уровня, и на том же уровне забавное». «Прото-поп», под которым он
подразумевал Джонса и Раушенберга, представлял собой кульминацию абстрактного
экспрессионизма и одновременно «перечеркивание его видения» (собственные слова
Гринберга) в пользу обесцененных радостей массовой культуры и даже китча. Гринберг
не замечал (а если б заметил, то не одобрил бы) притягательности массовой культуры
с точки зрения гендера и даже секса. Уже в 1968 г. Лео Штейнберг сказал о «планшет-
ности» и универсальный плоскостности картин Раушенберга и Уорхола с их фото-
журналистским подходом и уклоном в нарратив, что они «снова сделали ход искусства
нелинеарным и непредсказуемым». Подразумевались «изменения в отношениях меж-
ду художником и изображением, изображением и зрителем», которые «встряхнут,
152 Знаки идентичности: 1985-2000
взбудоражат все дистиллированн ые категории», — он имел в виду7 отличительные при-
знаки модернизма, провозглашенные Гринбергом и Майклом Фридом.
Хотя эти тенденции просматривались в 1970-х и даже раньше, все-таки именно
начало 1980-х можно рассматривать как период расцвета феминизированного пост-
модернизма и дальнейшей проблематизации художественного сознания. Некоторые
критические положения такого рода эмансипации были зафиксированы в материалах
обсуждения выставки «Расширение восприятия», прошедшей в Нью-Йорке в конце
1982 г. В ходе этой дискуссии Берта Харрис, автор книг «Признания Керубино» и
«Любовник», обвинила «гетеросексуальную потребность полезности» в том, что та на-
сильственно навязывает обществу представления о «связи с историей, наследием,
предшественниками, друзьями, соседями, племенами и так далее, и тем самым дает
нам иллюзию, что будущее существует». Единственной привилегией специфически
гомосексуального восприятия, с точки зрения Харрис, была возможность «приоста-
новить действие». Харрис считала, что гомосексуалист, художник или писатель, он
или она. привязан к двум принципам: «первый, что действительность интересна толь-
ко когда искажена, а второй, что действительность неинтересна, потому что контроли-
руется концепцией пользы, которая имеет отношение исключительно к гетеросексу-
альному континууму. Позитивное решение, которое принимают наши воображаемые
герои, он или она, — это примкнуть к нецелесообразному и неблагоразумному». Эд-
мунд Уайт, автор книг «История одного мальчика, рассказанная им самим» и «Краси-
вая комната пуста», хотя и отрицал, что геи суть конструкт внеисторический или
транссоциальный, попытался найти определение гетеросексуальным вкусам в таких
понятиях, как принижение вкупе с контролем, нравоучение вкупе со стремлением
уравнять. Стиль благополучного белого гея, с точки зрения Уайта, складывается из
склонности к орнаментации, расточительному разбрасыванию, роскошному изоби-
лию детелей, окольному, непрямому углу зрения, фантазиям, театральности, а «что ка-
сается контента, то в интересе к собаке, побитой в драке, в идентификации себя с не-
удачником».
Ирония состояла в том, что эти амбициозные обобщения прозвучали как раз на
пороге трагических и необратимых перемен. Вспышка СПИДа в 1981 г. в Сан-Францис-
ко, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, официальное признание этого заболевания в 1982-м
и его стремительное с тех пор распространение привело к тому, что американской ху-
дожественной общественности пришлось срочно в новом свете пересмотреть отноше-
ния между искусством и его содержанием. Утверждение Харрис, что художники — геи
и лесбиянки — испытывают «равно человеческуло и эстетическую потребность в рис-
ке», приобрело специфический и совершенно нежелательный подтекст. Возросло и во-
зобладало настроение активности, стремление что-то сделать. Художественная общи-
на Нью-Йорка с красноречивым Дугласом Кримпом во главе призвала к созданию об-
разовательных программ, недискриминационной рекламы, агентств по оказанию ме-
дицинской и социальной поддержки, осознанию способов, которыми люди нетради-
ционной сексуальной ориентации выводятся за пределы художественной аудитории.
Изменились не только методы взаимодействия между политикой и искусством; в рам-
ках искусствоведополитической дискуссии быстро формировалось определение и
описание гендера как явления.
Следствие разгула СПИДа в Америке (европейское общество пострадало от не-
го несоизмеримо меньше) выразилось в стремлении, впрочем большей частью мол-
чаливом либо подразумеваемом, отставить в сторону такие предписания левых и
Повествуя о теле 153
концептуалистских теорий, как маскулинность, академизм, принад-
лежность к белой расе и гетеросексуальность. Опыт тела и связанные
с ним образы, а не материалы и приемы репрезентации стали в этих
обстоятельствах, пожалуй, основной заботой нового поколения
художников.
В спектр работ, соотносимых с «голубым» сообществом и его
жаждой выйти за рамки стереотипа, вошли как знаменитые гомо-
эротичные фотоработы Роберта Мэплторпа (Илл. 6.2), о которых Эд-
мунд Уайт сказал, что они «покончили с невидимостью чернокожих»,
так и более свежие опусы Роберта Гобера, который лепил из воска
различные части тела и в самых неожиданных позах раскладывал
их в галерее (Илл. 6.3). Последние, порой декорированные свечами,
порой пронзенные пластиковыми дренажными трубками, говорили
об уязвимости человеческого тела, о его попранном положении,
возможно, даже о том, что дело происходит в больнице. «Там был
обрубок с музыкой, обрубок с дренажем и обрубок со свечками, —
недавно сказал Гобер, — они словно представляли триаду возможно-
стей: наслаждение — крах — оживление». Ничего удивительного,
что критики нетерпимые, консервативные и гомофобы (порой все
это совмещалось в одном лице) квалифицировали творчество Гобера
и особенно Мэплторпа как симптом культурного спада и даже ката-
строфы. Не вслушиваясь в слова Мэплторпа: «Не думаю, что так уж
велика разница между фотографией кулака, засунутого в чью-то
6.2. Роберт Мэплторп
Мужчина в костюме из полиэстра,
1980
Фотография
6.3. Роберт Гобер
Без названия, 1991-1993
Дерево, воск, человеческий волос,
краска по ткани, туфли. 28x43x113 см
задницу, и фотографией гвоздик в вазочке», — эти критики сетовали на «омерзитель-
ность» и «выморочность» изображения, на эксплуатацию сексуальных фантазий,
роящихся вокруг черного тела, на коллапс «приличий» в американской жизни и
искусстве. Конгрессмен от республиканцев Джесси Хелмс возглавил кампанию за то,
чтобы Мэплторпу было предъявлено обвинение в изготовлении порнографии. При
этом, как правило, не принимались во внимание выраженные творчеством Мэплторпа
тонкие художественные отношения между фотографией и скульптурой, текстурой
фотоснимка и формой.
Вплоть до своей смерти от СПИДа в 1992 г. художник и пи-
сатель Дэвид Войнарович был символом борьбы с преобладающим
в обществе представлением о гомосексуалистах как о безнравст-
венных развратниках, символом деятельного протеста против без-
действия правительства перед лицом эпидемии. В своей работе «Без
названия» (1992) Войнарович впрямую сравнил простертые забин-
тованные руки нищего с руками увечного и потому выкинутого на
обочину жизни художника — зараженного СПИДом, нуждающегося
в уходе (Илл. 6.4). Сопроводительный текст к фотографии, взятый из
главы «Спираль» книги Войнаровича «Мемуары, которые пахнут
бензином», кончается так: «Я выкрикиваю свои невидимые слова.
Я так устал. Ужасно устал. Я машу вам отсюда. Я ползаю, ищу ту щель,
где пустота, полная и окончательная. Меня трясет, я один среди вас.
Я кричу, но мой крик как кубики чистого льда. Я сигналю, что все
это слишком. Я машу. Я машу руками. Я исчезаю. Исчезаю, но слиш-
ком медленно». Подобно Гоберу, Войнарович ничуть не гнушался
154 Знаки идентичности: 1985-2000
6.4. Дэвид Войнарович
Без названия, 1992
Шелкография по рисунку
серебряным карандашом
96,5x66 см
Текст, которым покрыта эта работа,
начинается так: «Иногда ненавижу
людей, потому что они не видят, где я.
Я стал пустым, совершенно пустым
и все, что они видят, — это видимость,
руки, ноги, лицо, какого я роста и тело-
сложения. и еще звуки, которые выходят
из моего горла. Но я, черт побери, пуст.
Того, кем я был еще год назад, больше
не существует; он летит, плавно кружась
в эфире, где-то там, позади»
Повествуя о теле 155
6.5. Феликс Гонсалес-Торрес
Без названия (Красавчик), 1990
Голубая бумага,
бессчетное число листов
6.6. Эйми Моргана
Серия «Экстаз», 1986-1987
Вид на инсталляцию в галерее
«Постмастера», Нью-Йорк
нарративом и образностью и с готовностью мобилизовал знаковую
систему, чтобы открыто высказаться на злобу дня.
Подход, избранный кубинцем Феликсом Гонсалес-Торресом,
был формально совершенно иным. В 1983 г. он посещал знаменитую
Независимую учебную программу при Музее Уитни, затем при-
соединился к членам группы «Материал» и выставлялся сними в кон-
це 80-х и начале 90-х. Верный духу теоретической ухищренности,
свойственной студентам Уитни, Гонсалес-Торрес создал несколько
вполне самостоятельных произведений, не потрудившись придать
им вид внятного целого. Там были текстовые куски, световые лучи в
духе Дэна Флавина, фотографии и стопки бумаги с типографски на-
печатанной фразой — все это выставлено в галерее безо всякой пре-
тензии на прочность и даже окончательность формы. Последнее —
стопку бумаги — Гонсалес-Торрес истолковывал как метафору хрупкости человече-
ской жизни: как раз в это время умирал от СПИДа его любовник. Зрителей просили
снять верхний лист бумаги, так что со временем стопка — поэтический образ — исче-
зала. «Я хотел сделать что-то, что исчезло бы безвозвратно, — сказал Гонсалес-Тор-
рес. — Тут еще есть мотив некоторой угрозы художественному рынку, и еще, в какой-то
степени, мотив щедрости... Фрейд говорил, что мы озвучиваем наши страхи, чтобы
справиться сними... так что это решение сделать не статичную, монолитную скульпту-
ру, а нечто исчезающее, изменчивое, непрочное и ломкое — это попытка выкрикнуть
мой страх, страх тех дней, когда день за днем я видел, как на глазах пропадает мой
Росс» (Илл. 6.5). Художник и сам понимал, что по приему эти пачки бумаги суть повтор
минимализма: в высшей степени формалистское искусство вернулось, обогащенное
новыми смыслами. До своей смерти от СПИДа в 1996 г. Гонсалес-Торрес оставался де-
ятельным представителем новой политической, расовой и гендерной оппозиции в ху-
дожественном мире, дотоле возглавляемом только безукоризненно каноническими
фигурами.
В период нью-йоркских гендерных войн минимализм с его теоретической
застылостью и формальной чистотой стал для некоторых заманчивой мишенью.
К примеру, в своей серии «Экстаз» (Илл. 6.6.) Эйми
Моргана (урожденная Рэнкин), как бы подражая
Джадду, представила ряды настенных ящиков со
смотровым отверстием в них, через которые мож-
но было наблюдать в высшей степени чувственно-
эротические сцены перверсии, обладания, печали,
секса, страха, удушения, привлекательности, бла-
женства и ярости. Протестуя против маскулинной
теории и в то же время пытаясь найти себе место
поблизости, позиционироваться относительно
нее, Моргана заметила, что, «похоже, система ло-
гики, которая моделирует наш мыслительный про-
цесс, износилась». «Порой дискурс здорово меня
возбуждает, и я не отказываю себе в этом удоволь-
ствии, — слегка похулиганить, — писала она. —
А порой я и сама не прочь его оттрахать. Дискурс —
это, знаете, нечто вроде фаллопротеза на ремнях».
156 Знаки идентичности: 1985-2000
Если чуть-чуть подправить метафору, то художница имела в виду, что
предпочитает «буйные оргии ментальной гимнастике, которые по-
ощряют обмен флюидами смыслов... приятное трение идеи об идею,
и посмотрите, какие летят искры».
Когда Моргана говорит о «революционной силе женского сме-
ха», начинаешь понимать, что заставляет ее и прочих обращаться
к маскулинному минималистскому кубу. Дэбби Дэвис делала кубы из
чего угодно: она лепила их даже из спрессованных в блоки останков
животных. Разрабатывая изначальный феминистский минимализм
Джеки Уинсор (см. илл. 2.4), Лиз Лэрнер применяла кубические и
прямоугольные формы в качестве, контейнеров для пробирок с ви-
русами или коробов из стали и свинца, покрытых коррозийно-
стойкими материалами как при производстве бомб. А искусствовед
Анна Чейв высказалась про мужской минимализм в том смысле, что он воплощает
собой риторику власти, которая в наиболее цельных своих манифестациях роднит его
с социальной психологией фашизма. Презирая осуждение и левацкой критики, и те-
оретиков модернизма, так выражался призыв к возвращению в систему воззрений
актуального современного искусства изобразительности, социального самоощуще-
ния и тела.
Столь же настоятельное движение «вперед к нарративизации» последовало, и
опять же в международном масштабе, на почве концепции «тело как низкое». Теорети-
чески осмысленное в книге Джулии Кристевой «Власть ужаса: Эссе об унижении»
(1982) и сборнике Жоржа Батая «Видения эксцесса: Избранное, 1927-1939» (1985),
термин этот относится ко всему, что, не являясь ни объектом, ни субъектом, инфици-
рует или оказывает сопротивление всему, что есть лишнее, избыточное, отпавшее или
низменное, всему, что вызывает психологическую травму или угрожает телу. Майк
Келли говорил о тотальном «сильнейшем страхе смерти и всего, что показывает тело
как машину, у которой есть отходы, которая изнашивается». Скульптуры Джона Мил-
лера, созданные в этот период (Илл. 6.7), задуманы так, чтобы вызвать разлад между
стерильной чистотой галереи и телесными «крайностями», редким зрелищем со вре-
мен саморазрушительных перформансов Германа Нитша, Стюарта Брисли или Джины
Пейн в 60-х и начале 70-х, или даже еще более ранних копрофильских инсталляций
Сэма Гудмана и Бориса Лури, участников группы «Нет!», существовавшей в США в
6.7. Джон Миллер
Без названия, 1988
Пенопласт, дерево, папье-маше,
ваяльная глина, акриловая краска
Скульптура изображает особняки,
многоквартирные дома и прочие здания,
запачканные коричневой субстанцией,
поставленные на вершину зловонной
кучи экскрементов. Она грубо ломает
язык модернистской скульптуры и кате-
горично указывает на пренебрежение
Миллера к «искусству» в его более
приемлемом выражении
1959-1964 гг.
Присутствие продуктов работы тела — кала, мочи, блевотины, молока, спермы и
крови — в работе нью-йоркской художницы Кики Смит посредством нарративного
или иконографического словаря привлекло внимание к тому пагубному представле-
нию об иерархии тела цивилизованного человека, когда рациональное и функцио-
нальное приподнято, а инстинктивное и эмоциональное подавляется. Смит считает,
что наши тела «похищены... это разрыв, когда мы говорим, что интеллект более важен,
чем физическая жизнь тела: прямо какая-то ненависть к физическому». Она говорит о
«возвращении физической формы, обеспечивающей наше здесь пребывание», об «ин-
теграции духа и души, физиологии и интеллекта в нечто излеченное и обласканное,
пусть даже это означает обращение к таким сторонам жизни тела, которые оно скрыва-
ет». Подчеркнув, что «женский опыт — он в основном телесный», Смит считывает этот
опыт как мощную социальную метафору. «Ты постоянно изменяешься, с текучестью,
которую следует не утерять. Ты творение гибкое, а не какое-то неподвижное».
Повествуя о теле 157
6.8. Сью Уильямс
Ваша вкрадчивая сущность, 1992
Акриловые и эмалевые краски
по холсту
150x170см
В сходном регистре художницы отказывались от чересчур головных, заумных,
как они говорили, предписаний концептуализма, ставя перед собой задачу выразить
свой гнев и отчаяние, и в особенности гнев и отчаяние жертв насилия, сексуальных
стереотипов и гомофобии. Произведения Сью Уильямс по стилю на первый взгляд по-
хожи на рисунки, кое-как нацарапанные на стенах общественных туалетов. Однако в
них нет ничего забавного и комического, это воплощенное отчаяние человека, страда-
ющего отболи.
Большую часть 90-х Уильямс размещала свои протестные картины в простран-
стве галерей, пользуясь этим пространством как рекламным щитом. Прием псевдона-
ивной графики понадобился ей как способ предать гласности целый букет женских
проблем: здесь и отношения мужчин к женщинам, которых те, как уверяют, вроде бы
любят, запутанность дебатов «порнография — не порнография», цензура сексуально
откровенного искусства, осуществляемая в США Национальным фондом развития
искусства (NEA), и прочие неудобные для обсуждения темы (Илл. 6.8). С точки зрения
живописи картины эти были громко объявлены уродством. Однако вопрос состоял
отнюдь не в том, является ли уродство картин поводом дисквалифицировать их как
произведение искусства, — ведь, что и говорить, именно привлекательность опре-
деленных видов уродства часто бывала первоимпульсом к творчеству. Вопрос состоял
в том, достанет ли этой атаке яда, чтобы удержать творчество Уильямс от сползания,
в добропорядочный стиль. Так случилось, что с тех пор художница перешла к декора-
158 Знаки идентичности: 1985-2000
тивно-абстрактной манере, обыгрывающей длинные трубчатые формы, которые
напоминают то змей, то фаллопротезы. Гнев ее был силен, но недолговечен. А может,
живописность в очередной раз победила «контент».
Совсем иное отношение к телу заметно в недавних проектах Ванессы Бикрофт,
которая так же, как до нее ориентированные на музей концептуалисты — Бюрен,
Чарлтон, Лоулер или Андреа Фрэзер с ее псевдотурами по музейным залам, — искала
способа задействовать динамику места, в котором работает. Выросшая в Италии среди
живописного роскошества обнаженной и полуобнаженной плоти, привычная к раз-
глядыванию тел, которого требовали старые традиции рисования с натуры, затем
выучившаяся на архитектора, живописца и сценографа, Бикрофт в конце 80-х сде-
лала крутой разворот и ушла от рисунка, поставив зрителя лицом к лицу с живыми
моделями. В отличие от автоперформансов 60-х и начала 70-х (Джилберт и Джордж,
Кароли Шнееман), когда художник сам участвовал в представлении, Бикрофт нани-
мала стайки молоденьких манекенщиц, чтобы, полураздетые, они в течение ого-
воренного времени стояли, сидели, изображали толпу или просто безучастно суще-
ствовали в пространстве галереи. В контексте европейской традиции изображения
женского тела в угоду мужчине-меценату, присутствие этих полуголых, демонстратив-
но бездельничающих женщин немедленно вызывало у злополучного зрителя (пусть
даже и критика) вполне предсказуемое смущение: ведь его пригласили рассматривать,
это рассматривание спровоцировано и разрешено, но в то же время вызывает жес-
токую неприязнь, отталкивание. А собственно, какая именно реакция ожидалась от
зрителя?
Своего апогея в этом жанре Бикрофт достигла в произведении под номером
VB35 (все ее творения пронумерованы), в Музее Гуггенхейма 23 апреля 1998 г.
(Илл. 6.9). На этот раз группа стройных манекенщиц, «одетых дизайнером Томом Фор-
дом от “Гуччи”» в дорогие купальники-бикини и босоножки на шпильках — а некото-
рые были и без бикини, — стояли, более или менее неподвижно, невыразительно глядя
прямо перед собой на тех, кто рассматривал их из фойе или с нижних уровней спираль-
ного пандуса Гуггенхейма. Ощущение, что происходит некое событие, сообщаемое
аурой музея, в сочетании с отчетливым привкусом скандальности и посвященности
(ведь гостями были немногие избранные), усиливало эффект и драматизировало
пресловутый конфликт отношений между вуайером и объектом его внимания. Было
запрещено разговаривать с манекенщицами, разгуливать меж ними, заходить на вы-
6.9. Ванесса Бикрофт
VB35,1998
Перформанс в Музее Гуггенхейма,
Нью-Йорк, 23 апреля 1998 г.
деленное для них пространство. В итоге всякий, кто имеет некое
представление о феноменологической установке минимализма, со-
гласно которой присутствие зрителя релевантно структуре предстоя-
щего ему опыта, быстро подмечал, что Бикрофт пользуется как раз
этим приемом, — но при этом еще и сексуально заряженным. Таким
образом, зрителю, особенно мужского пола, навязывалось само-
ощущение несколько нездоровое. Критик Дэйв Хики нашел слова
выразить то, что чувствовали многие из нас: «В этом столкновении с
элегантной наготой искусства мы все почувствовали себя неухожен-
ными и неряшливыми, такая у нас была роль. Слишком воспитан-
ные, чтобы пялиться, то есть навязывать дистанцированную логику
взгляда, и недостаточно невинные, чтобы принять мир в его об-
наженности и полупрозрачности, мы ходили-бродили там как непри-
каянные». Дополнительную глубину и ощущение вневременности
Повествуя о теле 159
этому действу придавал тот, на взгляд критика,
замечательный факт, что в это самое время в глу-
бинах Гуггенхейма были выставлены терракото-
вые солдаты армии древнекитайского императора
Шихуанди.
В том обстоятельстве, что, по крайней мере
до недавнего времени, все манекенщицы, работав-
шие с Бикрофт, были белыми, можно найти глубо-
кий культурологический смысл. Ведь, по существу,
любой рассказ о существовании женщин в амери-
канском искусстве будет неполным без обращения
к афро-американскому наследию и в особенности
к истории рабства.
Молодая чернокожая художница Кара
Уолкер, представлявшая США на биеннале в Сан-
Пауло в 2002 г., как дебютировала около десяти лет
назад, так постоянно и разжигает дискуссию о
расовых стереотипах. Тогда она выставила выре-
6.10. Кара Уолкер
Мятеж! (Наши члены еще
недоразвиты, номы наступаем),
2000
Аппликация из бумаги
и проекция настену
3,6 х 6,4 х 10x3.28 м
Инсталляция,коллекция
Музея Гуггенхейма. Нью-Йорк
занные из бумаги силуэты на темы сказок афро-американского происхождения,
страшных и непристойных, вызывающих острое неприятие у белой публики. Задача
была непростая.
Когда Уолкер впервые представила свои «стереотипы», чернокожая американ-
ская художница Бети Саар резко осудила их негативистскую, телесную жестокость —
то есть именно то, на чем Уолкер преуспела и расцвела. Почерпнув идею из книг, ко-
торыми она торговала, работая в книжном магазине в Атланте — любовных романов
издательства «Арлекин» и популярных изданий по колониальной истории, — Уолкер
ставит зрителя перед фигуративным изображением, вызывающим сильные и противо-
речивые эмоции. Виртуозно работая ножницами, она вырезает силуэты (восходящие
как к мрачной живописи Гойи, так и к кумирам художницы Уорхолу и Баски) и компо-
нует их в сценки, в которых зритель волен увидеть многое: эротический флирт, угне-
тенность отношениями, испражнения, рвоту, насилие и неистовое выражение детских
желаний. Трехчастную композицию под многословным названием «Почему мне нра-
вятся белые мальчики. Иллюстрированный роман. Автор Кара Уолкер, негритянка»
она впервые выставила в Женеве в 2002 г. Это аппликация, подсвеченная множеством
цветных огней, на которую эффектно падают тени самих зрителей. Композиция под
названием «Мятеж! (Наши члены еще неразвиты, но мы наступаем)», представленная
в этой книге, повествует о южной плантации, идиллическая жизнь которой нарушена:
вот девушка-рабыня «орально стимулирует половой член» своего хозяина, а вот и
месть: на фоне тройного готического окна кухонная челядь кромсает этого хозяина на
части (Илл. 6.10). По форме — это силуэтная открытка девятнадцатого века с бесфор-
менными пятнами, как в тестах Роршаха, в очертаниях которых каждый видит, кто во
что горазд. Но это еще и провокация. «Я искала способ сделать что-то, что вывело бы
зрителей из своего «я» в эту фантазию, — сказал Уолкер. — Соблазн, и смущение, и
юмор, все смешано в одной точке психики, в точке уязвимости». Границы самоощу-
щения современного чернокожего индивида исследовали и другие выдающиеся
негритянские художники (Адриан Пайпер, Гарри Мэи Уимс), однако вызвать бурный
общественный отклик удалось одной только Уолкер с ее буйной фантазией.
160 Знаки идентичности: 1985-2000
Постмодернизм в Калифорнии
Другую разновидность поиска самобытности в изобразительном искусстве можно
очертить, рассматривая целые географические регионы. Лос-Анджелес с окрестностя-
ми разработал вполне своеобычную культурную манеру — достаточно своеобычную
для получения международного статуса и достаточно амбициозную, чтобы добиться
полномочного признания даже в далеком Нью-Йорке. По крайней мере, с начала
1950-х — когда художники Лос-Анджелеса получали образование благодаря щедрым
стипендиям Билля о казенном имуществе от 1946 г. и когда такие, как Уоллес Берман,
Джордж Хермс и Уолли Хедрик, сделали решающий вклад в культуру битников, а Эд
Киенхольц и, позже, Брюс Коннер, Джон Бальдессари и Эд Руша создали вариант
концептуализма, присущий только этой среде, —Лос-Анджелес и его северный брат,
Сан-Франциско, закладывали основы того скептически-гедонистического восприятия
массовой культуры, аналога которому нет нигде в мире. Может быть, тут сопоставим
только международный реджионализм Чикаго.
6.11. Лари Питман
Это здравомыслие,
возлюбленное и презираемое,
продолжается несмотря ни на что,
1989-1990
Акриловые и эмалевые краски
по двум панелям красного дерева
3,25 х 2.44 м
Музей искусства, Лос-Анджелес
Мы начнем с художника, который четко вы-
ражает свои мысли и являет собой пример лучших
качеств южнокалифорнийского искусства. Лари
Питман в 1970-1973 гг. учился в Калифорнийском
университете (UCLA), а потом перевелся в Кали-
форнийский же институт искусств (CalArts), где
под влиянием таких мастеров, как Элизабет Мюр-
рей и Ри Мортон (см. илл. 3.23), разработал яркий
полиморфный стиль. На первый взгляд основанная
на декоративной орнаментальности, его манера
живописи богата, внутренне противоречива и пол-
ностью посвящена вопросам вкусовой и гендерной
идентичности, рассматриваемой осознанно и в
высококультурном контексте. Отказавшись от тра-
диционных масла и холста в пользу акриловых кра-
сок и деревянной основы, работая горизонтально,
на столе, а не на мольберте, Питман конструиро-
вал, по его собственному определению, «симуль-
танности», создаваемые стремительно и построен-
ные на резких контрастах: «страдание-излечение»,
«удовольствие-боль», «быстро-медленно», «пра-
вое-левое». Питая склонность к запретным в изящ-
ных искусствах знакам и символам, Питман без за-
зрения совести вводил их в свои картины: это из-
вержение семенной жидкости, кровь, сексуальное
стимулирование и соответствующие игрушки,
прямое обращение к зрителю, непотребные рисун-
ки, банальный орнамент — и все это «полиморф-
но», как он бы сам выразился, крутится-вертится
перед глазами изумленного зрителя (Илл. 6.11).
О своих картинах он говорил, что хочет, чтобы и
зритель тоже стал полиморфным, растерялся, не
Постмодернизм в Калифорнии 161
6.12. Нэнси Рубине
Дерево в Топанге и детали
самолета мистера Хаффмана,
1987-1989
Инсталляция в Топанге, Калифорния
знал, что думать, даже сочувствовал бы изображенной безвкусице. Он хочет «замусо-
рить мир побольше», переработать высокий моральный дискурс гетеросексуального
модернистского искусства на уровне глубоко заложенных в нем противоречий и экс-
цессов. В своей работе «Транссубстанциональное и бедствующее» (1991), начертав на
живописной плоскости «Пошел вон!», Питман дает понять, что признает сенсорную
перегруженность своего произведения и сознательно шокирует сторонников модер-
нистского канона, но ведь зритель может сбежать в любой момент, как только пожела-
ет. Что же касается этнической принадлежности, то Питман привлек внимание к кон-
цепции гибридности (аутентичности), которая, возможно, лежит в подоплеке всего
его творчества. Отпрыску англосаксонской матери-пресвитерианки и испано-итальяно-
южноамериканского отца-католика, Питману, подобно многим художникам, при-
шлось вникнуть в культурные особенности своего происхождения, и таким образом он
овладел крайностями: рациональным и эмоциональным, последовательным и симуль-
танным, композиционной структурой и анархическим, порой жестоким контрастом.
Проблема, которую художник такого рода представляет для критики, занима-
ющейся искусством Западного побережья Америки, должна быть графически ясна.
Питман непреклонно квалифицировал себя как
постмодерниста: под этим он подразумевал, что
перерос гетеросексуальную эстетику и стандарты
интеллектуальной серьезности белой «Лиги плю-
ща», группы самых престижных частных кол-
леджей и университетов на северо-востоке США.
Издали, вне пределов региона, могло казаться, что
художники Западного побережья (модернисты
района Сан-Франциско, например Ричард Дибен-
корн), отроду не понимая модернистской живо-
писи начиная с Мане, не могли постичь, как стиль
поведения и самореференция могут противо-
поставлять деятельность «означающего» «означае-
мому», то есть картине, материалу, предмету или
теме. Изнутри же региона дело выглядело так, что
презрение к «означающему» — это трансгрессия,
проступок, которого не потерпит никакое искус-
ство. Тем больше причин, значит, было курато-
рам Лос-Анджелеса снимать урожай с репутации
региона.
Как раз эту тенденцию проиллюстрировала
выставка «Кое-как (Helter-Skelter): Искусство Лос-
Анджелеса 1990-х гг.», устроенная, по формули-
ровке ее куратора Поля Шиммера, с целью пока-
зать «теневые стороны современной жизни», «от-
чуждение, одержимость, заблуждения и типичес-
кие для города пороки». Культура Лос-Анджелеса,
которую часто с энтузиазмом приравнивали к рас-
тленному концу века (fine de ciecle), была пред-
ставлена невольницей апокалиптических сцена-
риев, некрофильского секса, жестоких фантазий,
162 Знаки идентичности: 1985-2000
наркоманского забытья и простого элементарного
страха. Там были экстраогромные скульптуры —
если это слово подходит — Нэнси Рубине, которая
громоздила горы полусгнившего мусора вроде
старых матрасов (это была музейная инстал-
ляция), а меж деревьев, в парке, устроила свалку
изуверски разбитых грузовиков, деталей самоле-
та, автоприцепов, холодильников и тому подобно-
го (Илл. 6.12). В Европе такое произведение сочли
бы игрой одной скульптурной эстетики против
другой (скульптура против природы и т. д.) или же
фотодокументацией перформанса. Однако в кон-
тексте калифорнийских традиций она сошла за
«характеристику текущих событий, городской
жизни, выпуска ночных новостей, официальной
внешней и внутренней политики США». Выставоч-
ный каталог, дабы совсем уж сгустить атмосферу
ужаса и паранойи, щедро цитировал выдержки из
свежеизданных книг таких писателей, как Бенд-
жамин Вайсман, Деннис Купер и Эми Герстлер.
Картины художников вроде Роберта Уильямса
(Илл. 6.13), который в конце 60-х, до того, как прийти в искусство, готовил автомобили
к гонкам и рисовал эротические комиксы, отличаются от своих комиксовых прото-
типов назойливой визуально-нарративной перегруженностью, которая усугубляет то
настроение дезориентации и ухода в экзотику, которое художники Западного побе-
режья так любят в себе культивировать. Прочие разновидности лос-анджелесского
содома были представлены на выставке творчеством филиппинца Мануэля Окампо,
перформансами и видео-артом Пола Маккарти и циничными коллажами Лина Фолк-
са, посвященными запрограммированной жестокости корпораций, церкви и госу-
6.13. Роберт Уильямс
Математика отдыхает.
Схоластическая десигнация:
Физика относительного движения
направляет пулю в жертву,
поскольку отношение абстракции
всегда в пользу тех, кто считает
луну дыркой в небе.
Заголовок: Дочка Пита-Ночной-
дарства.
Давайте взглянем на работу Пола Маккарти, художника, тесно связанного с
Calarts и свойственным ему учительским пафосом. Маккарти начал делать перформан-
сы и фильмы в 1967 г., а в 70-х перебрался в Лос-Анджелес; и все-таки его творчеству
присуще нечто экзистенциальное, что роднит его с западной культурой значительно
более широкого охвата. Список его «Инструкций» по проведению легкомысленно пре-
ступных акций конца 60-х — начала 70-х включал в себя следующие пункты:
Горшок по тарабарской траектории
пачкает набедренную повязку апача,
1991
Холст масло
100x120см
Коллекция Роберта и Тамары Бейн.
Лос-Анджелес
Навали грязи на свой письменный стол (весна 1969)
Раскрась все ковры в доме серебром (осень 1969)
Стальным прутом пробей ряд дырок в стене (осень 1970)
Воспользуйся головой как кистью (осень 1972).
Понятное дело, эти действия открыто выражали ярость или отчаяние, но каким-
то побочным образом пробуждали еще и ощущение абсурдности мира (пьеса «В ожи-
дании Годо» Беккета послужила художнику отправной точкой). По его словам,
«внезапно мне стал невыносим опыт столкновения с собственным сутцествованием...
Я столкнулся с пустотой, почему здесь то, а здесь это?» Перформансы Маккарти уве-
ковечили этот воздух абсурдности, это стихийное недоверие ко всему сущему, эту его,
Постмодернизм в Калифорнии 163
6.14. Пол Маккарти
Гамбургер-командир, 1991
Перформанс-видеоинсталляция
наконец, карнавализацию. Издевательские, насмешливо-жестокие, они бесстыдно
передразнивают иконки, персонажей и повадки американского и, следовательно, гло-
бального масскульта. Порой, очумев от жратвы, секса, дефекации, сымитированных
нахально и без особых затей, зрители осторожно пытались узнать, не травмирована ли
психика художника, в какой обстановке он вырос и т. д. Какие личные смыслы вклады-
вает он в эти жидкости, отверстия, маски, в этот кроваво-красный кетчуп? К примеру, в
видеоперформансе под названием «Гамбургер-командир» (1991) художник нарядился
в халат и поварской колпак, изображая собой известную бестолковщину, персонажа
журнала «Mad» Альфреда Е. Ноймана (Илл. 6.14), который — огромные уши, отсутст-
вующий передний зуб и один глаз выше другого — уже несколько десятилетий гуляет
по Америке. Действо происходило в декорациях бара, оставшихся от приказавшего
долго жить телесериала «Дела семейные», его записали на видео и позже показывали в
лос-анджелесской галерее Розамунд Фельсен. В отличие от безжизненно веселеньких
телешоу, в своем экранном перформансе Маккарти под маской заведомого идиота
якобы проводил урок кулинарного мастерства перед живой аудиторией, брызгаясь
кетчупом и майонезом, спотыкаясь и бестолково тыркаясь, подвывая и лопоча, пока
его действия не приобрели механистичности, отталкивающего сходства с марионет-
кой. Эту пародию можно бы трактовать как безжалостный сдвиг «означаемого» — од-
нако все не так просто, если действо задумано как явление искусства. Заметьте в этой
связи, что Маккарти избегает вопросов о значении и посылах. Обратившись в про-
шлое, к ранним перформансам Шираги, Ива Кляйна и даже Поллока, мы обнаружим,
что и там грязь и неразбериха главенствовали на сцене, высвобождая подсознатель-
ный хаос из рамок воздержанности и приличий. Тут, пожалуй, особенности личной
психики художника не так уж и важны — он и сам это понимает, сам говорит, что его
перформансы «отдельны» от его личности, этого требует «творческий акт». Во-вторых,
хотя демонстрация видеозаписи сопровождалась выставкой подготовительных ма-
териалов, эскизов и декораций, Маккарти потрудился побеспокоиться о том, чтобы
перформанс «Гамбургер-командир» никто не видел «живьем». Все, что мы имеем, —
формально, это видеосвидетельство перформанса, вместе с остатками материального
оснащения того пространства, в котором перформанс происходил.
6.15. Ларри Джонсон
Негатив без названия (Н), 1991
Отпечаток с пленки «эктаколор»
1.5x2.1м
Подобно Уорхолу, но куда с большим
злорадством. Джонсон интересовался
не эмоциями, а «перцепциями, которые
сопутствуют эмоциям: признанию, само-
оправданию. высвобождению, доказа-
тельству — то есть тому, что обозначает
присутствие смысла» — а не тому что,
по идее, имеет смысл само по себе
164 Знаки идентичности: 1985-2000
Вечная игра между художественным материалом «означающего» и событиями
реального мира, в котором «означаемое» существует, сформировала важнейшую кри-
тическую проблему, затрагивающую все современное искусство: давление первого на
второе и второго на первое составляет внутренний механизм тех произведений, кото-
рые даже сегодня выглядят наиболее скандальными. На взгляд европейца, именно на-
рушению баланса между этими двумя элементами калифорнийское искусство обязано
своим «добрым» именем. Тошнотворно-подростковая скабрезность большинства
работ Маккарти (с их пластиковым сюрреализмом., неуклюжей жестокостью и похаб-
ством) стала лейтмотивом целого ряда произведений калифорнийского постмодер-
низма — и это еще одна особенность художественного своеобразия региона.
Рассмотрим сейчас работы Ларри Джонсона, Раймонда Петтибона. Джима Шоу
и некоторые аспекты творчества Майка Келли. При первом же взгляде на недавние
произведения Ларри Джонсона становится очевидно его взаимодействие, причем на
нескольких уровнях иронии, с языком голливудской анимации (особенно в ее диснеев-
ском варианте), во-первых, и вербальными текстами в их поверхностно обманчивой и
в то же время глубоко неподлинной сущности, во-вторых (Илл. 16.15). Незатейливо
рифмованный текст, графическая банальность и изобразительные решения, к кото-
рым прибегает Джонсон, — все указывает на подростковый мир с его привязанностью
к фантастическим путешествиям, сомнительным шуткам и бездумной поглощенности
рекламными слоганами. Джонсон в этом жанре работает сериями, каждый последу-
ющий опус алогичней предыдущего. Он сам признает, что предпочитает искусство,
которое можно «освоить» «так же быстро, как прочесть гороскоп или совет по уходу за
кожей».
Или возьмем Джима Шоу. который словно вернулся в мир «Saturday Evening
Post» шестидесятых: его нарратив «Мой мираж» производства 1987-1991 гг. использу-
ет «все эстетики этого периода, какие только можно впихнуть». Билли, главный герой
этого сериального произведения, воспитан в христианстве, претерпевает искус безбо-
жия, а затем ищет чистоты в психоделизме, сведения о котором почерпнул в журнале
Тайм» и передачах по телеканалу Си-би-эс. На этой странице мы видим, как Билли
фантазирует на темы параноидальных видений Сальвадора Дали (Илл. 6.16). Далее
Шоу показывает, как подростки обсуждают своих кумиров, которым посвящают весь
свой досуг: Донована, Фрэнка Залпа, Тимоти Лири. Демонстрируя их «заигрывание» с
наркотиками и прочими мелкими правонарушениями, Шоу знает (и знает, что мы зна-
ем), что его персонажи всего лишь проходят неизбежный и в общем безобидный риту-
ал сопротивления той социальной системе, к которой принадлежат. Разочаровавшись
в различных отклонениях, Билли, до смешного жаждущий невинности, возвращается
в лоно христианства; эта абсурдная история самым очевидным образом пародирует
популярное чтиво и сигнализирует о вторжении такого рода нарратива в изобрази-
тельное искусство.
Раймонд Петтибон, еще один участник этого трио, также далек от европейской
восприимчивости и еще раз (если угодно) свидетельствует о том, что выявление
«глобального» вектора развития современного искусства — дело пустое, даже если
признать, что такой вектор имеется. Наряду с прочими калифорнийцами Петтибон
питает пристрастие к соединению слова и изображения, свойственного поп-культуре,
с эффектами лженаивпости в обеих составляющих и с эстетическим потенциалом
шутки, не важно, если не оцененной. Давайте сначала рассмотрим его отношения с ли-
тературой. Метод Петтибона состоит в том, чтобы применить целый ряд графически-
6.16. Джим Шоу
Автопортрет Билли № 3.
Секция нарратива «Мой мираж»,
1987-1991
Холст, масло
43x35,5 см
Постмодернизм в Калифорнии 165
комиксовых приемов — слишком небрежные
одежды, кое-как сделанные лица, конечности, и
вообще анатомия побоку, — и окружить их цитата-
ми, обрывками диалогов и обыденными клише,
которые, поскольку взяты в разных регистрах,
сталкиваются одно с другим или пролетают мимо
(Илл. 6.17). Петтибон как-то сказал писателю Ден-
нису Куперу, чьи произведения он часто исполь-
зует, что коллизия текста и изображения успешна,
если «приходят ассоциации... Когда работа уда-
лась... ну, один из критериев — это если смотришь
на изображение и вдруг думаешь, что до такого ни-
кто на свете бы не додумался». Петтибон с похва-
лой отзывается о великой традиции карикатур
журнала «Нью-Йоркер», графическое остроумие
которых (на мой взгляд, тоже) превзойти редко
кому удавалось. Что касается цитат и изречений,
которыми кишат рисунки Петтибона, то они созда-
ют серый шум из напыщенной чепухи, случайно
6.17. Рэймонд Петтибон
Без названия (Он видел), 1998
Бумага, перо, чернила
40,5x56,5 см
Надписи в графических работах Петти-
бона можно читать в любом порядке,
а «слоеные» изображения не несут в себе
особенного значения. Скорее, они
сочетают кажущуюся случайность дада-
истского стихотворения с профетизмом
Уильяма Блейка и при этом усложняют
традиции — и ту и другую
услышанных разговоров и остроумных словечек Генри Джеймса (он особо в фаворе),
Готорна и Раскина. Смешайте все это с серфингом, бейсболом и Бэтманом, нарисован-
ным черными, синими или коричневыми чернилами, — и вот вам образчик той пусто-
ты, которая доныне в искусстве редко когда встречалась. В тридцатые годы сюрреалис-
тические тексты и изображения вступали в высекающий искру контакт и полыхали
смыслами порой даже устрашающей интенсивности — а разобщенные высказывания
Петтибона проплывают мимо, никак друг друга не задевая, однако же делают это, как
ни удивительно, с гордостью и достоинством. Это вывод, который говорит сам за себя.
Ибо Петтибон вышел за пределы измученного пресыщением мира, чтобы рисовать —
самозабвенно, как рисует подросток, когда остается один в своей комнате.
Что же означаетэтот общий перенос внимания на вечно недовольных подрост-
ков? Ответ на этот вопрос как темен, так и очевиден. Учитывая, что молодежная куль-
тура уже с пятидесятых является одной из наиболее мощных ветвей западной цивили-
зации, удивительно то, что ее реальные видовые особенности — в отличие от качеств
общепризнанных и разрекламированных, — не привлекли к себе внимания раньше.
Хотя поверхностное ее содержание — ребячливость (puerilism) и испорченность, эсте-
тические стратегии так называемых «плохих мальчиков» и «плохих девочек» на самом
деле совсем не инфантильны и не испорченны. Невозможно не согласиться с тем, что
творчество этого поколения повзрослевших калифорнийских подростков, на основе
их опыта, их собственной жизненной истории определенно выявило некую истину.
Это видно и в подростковых заморочках Билли, придуманного Джимом Шоу, в кэм-
пистской ностальгии Ларри Джонсона и других произведениях этого жанра, например
в фотоэссе Ларри Кларка «Подростковая страсть» (1975), где рассмотрен болезненный
опыт сексуального прозрения, или же в недавних работ Ричарда Принса, рассказываю-
щих о байкерах и завсегдатаях ночных клубов. И кэмпизм больше не аполитичен,
пусть Уорхол и утверждал когда-то, что это так. А потом, та новая ипостась инфан-
тилизма, которую Й. Хейзинга обозначил как «пуерилизм», убедительно показывает,
что уловки, трюки, маневры часто являются ключевым условием господствующих
166 Знаки идентичности: 1985-2000
проявлений всякой социальной и сексуальной идентичности. Более циничный и сует-
ный, чем большая часть поп-арта — его провозвестникам уже за тридцать и даже за со-
рок, — такой пуерилизм, надо отдать ему должное, вполне по-взрослому отдает себе
отчет в том, что такое ирония. Он открыл дотоле неисследованные территории прими-
тивизма, эротизма, литературной и графической перверсии. Его внимание к подрост-
ковому возрасту как фазе между детством и взрослостью, возможно, даже подготовило
почву для подобных же внедрений в жизненный стиль людей среднего возраста и глу-
боких стариков.
А что касается истории, то у калифорнийского постмодернизма свой собствен-
ный род красноречия — художники этого поколения выросли на фоне вьетнамской
войны, злодейств Мэнсона, истории Пэтти Херст, тяжелых наркотиков, разочарования
в панке. Как написал в своем эссе о Петтибоне критик Роберт Сторр, когда эти худож-
ники начинали свою карьеру, «Америка меняла направление к пророчащим Апокалип-
сис правым, в то время как левые распадал ись на атомы, либерализм слаб в коленках, а
то, что осталось от контркультуры, раскупалось киномагнатами». В сложном деле по-
нимания этого мира Петтибон — асе, признает Сторр, пусть даже ни один из голосов,
звучащих в его текстах, нельзя с уверенностью назвать его собственным. «Взбалтывая
черный юмор с леденящим кровь пессимизмом, а типичных персонажей 40-х и ме-
лодраму 50-х с энергичными деловыми людьми и бездельниками 60-х, газетными об-
зорами из первых рук 70-х и 80-х, Петтибон создал собственный миф об Америке для
внутреннего пользования, в этом мифе слышится истина, до мурашек по коже».
«Слэкеры» и другие
Озабоченность проблемами сдвинутой или ущербной идентичности, описанная в пре-
дыдущем разделе и в значительной степени выраженная в образе самой Америки, пси-
хологическое развитие которой явно задержалось, имела некоторые последствия, каса-
ющиеся искусства. Петтибон, опять к нему вернемся, часто выставляется где придется,
на любых годных для этого стенах, на которыхчасто, помимо его картин, повешены де-
сятки других разного размера работ. Понятно, что способ показа имеет большое значе-
ние, и ничего удивительного, если вы видите, что одно из произведений этих «плохих
девочек и мальчиков» соскользнуло со стены на пол и естественным образом воплощает
ту радикально эксплуатируемую концепцию инсталляции, в которой все пространство
зала оказывается художественно оживлено. Следует признать, что инсталляция как
формат часто доказывала свою пригодность для нарративного толкования отдельной,
неординарной или воображаемой идентичности, поскольку инсталляция легче, чем
одиночный предмет, создает вокруг себя художественное пространство.
Идея инсталляции исходит от дадаистов и сюрреалистов, возобновившись в
«Флуксусе», концептуализме и прочих радикальных движениях вроде немецкой
скульптуры 80-х. В ее особенности заложен перенос внимания с отдельного предмета
на комплекс предметов и на отношения, складывающиеся между ними в пределах
выставочного пространства, где пространство — физический контекст, а не гигиени-
чески чистый фон для показа нескольких работ, как принято у модернистов. А порой
темой произведения становится именно пространство со всеми его особенностями.
Проложенный Майклом Эшером и Крисом Вёрденом еще в конце 60-х, этот
вектор в новых условиях хорошо иллюстрируют парадоксы, проявленные молодой
«Слэкеры» и другие 167
6,18. Лори Парсонс
Мусор, 1980
Ветки, камни, мусор и т. д.
Не сохранилось
«Мусор» двусмысленно похож и на про-
ект, который остался незаконченным,
и на фотодокумент. По словам Парсонс,
«это всего лишь фотография разбросан-
ных по земле природных материалов.
Я в самом деле все это собрала,
но потом его нечаянно выбросили оттуда,
где я это хранила. Наверно, я и сама бы
выбросила, когда-нибудь уж наверняка»
американкой Лори Парсонс. Она обратила на себя внимание примерно в 1986 г.,
выставляя куски дерева родом из бесхозного дома, мусор или совершенно случайные
вещи, — японцы, умеющие ценить то, что несовершенно, мимолётно или незакончен-
но, назвали бы это «ваби-саби». Несвязные ансамбли Парсонс трехмерно воплощали те
свойственные подростковому возрасту тревоги, которые в двухмерном выражении
исследовали калифорнийские художники. Фотографируя наобум собранные кучки
мусора или же домашние интерьеры так, «словно это мысли, вторжения, что угодно»,
получившиеся слайды Парсонс отдавала на хранение своему агенту, искусством их в
общем-то не считая (Илл. 6.18).
Для нью-йоркской экспозиции 1988 г. она представила свой письменный стол, в
беспорядке заваленный бумагами, однако выставила его в служебном помещении, а не
в выставочном зале. На выставке в галерее Лоренса Монка в Нью-Йорке показала свою
спальню, со всем, что в ней было, включая лежащую на столе чековую книжку
(Илл. 6.19), а на второй выставке в той же галерее пространство оказалось совершенно
пустым.
5.19. Лори Парсонс Этот контраст автор комментирует так: «Мне пришла мысль представить вещи,
Спальня (деталь), 1990 присутствующие в моей жизни, которые есть часть меня. Поначалу я отнеслась к ней с
прохладцей, не на 100 процентов серьезно, потому что она не выгля-
дела ни профессиональным решением, ни выставочным. Но понем-
ногу я все больше вовлекалась в рассматривание этих ситуаций, это-
го взаимодействия с личным, поскольку по касательной все имеет
отношение к опыту жизни... Меня интересует креативность в широ-
ком смысле, на границе действия и намерения...» «Модус операнди у
меня построен на интуиции, — писала она в другом письме, — я не
против побездельничать и делаю только то, что по ощущению кажет-
ся правильным, то, что снисходит на меня само собой». Как заметил
критик Джек Банковски, это похоже на мир фильма «Slacker» («Чу-
вак» в русском переводе, 1991) режиссера Ричарда Линклейтера, ко-
торый ввел это понятие в словарь американского сленга (slacker —
лентяй, бездельник или уклоняющийся от военной службы; так
] 68 Знаки идентичности: 1985-2000
называли себя представители «поколения икс», от-
казывавшиеся и от социальной крысиной гонки, и
от осознанного бунта против системы), похоже на
мир «предучебной хандры заштатного американ-
ского университета». Эти перекати-поле, писал
Банковски, сбиваются в группки по каким-то своим
интересам и «камлают перед кое-как слепленными
алтарями, проповедуют, обращая в свою личную
веру». «Анархия у них достигает точки медленного
кипения, но никогда выше». Именно в таком духе
сделал инсталляцию «Одно мнение о лунном свете»
(] 991) Джек Пирсон, пригласивший зрителей в по-
добие богемного дома, в котором нет лифта, зато
есть комоды с ящиками, забитыми обычным хла-
мом: пустыми спичечными коробками, картонка-
ми-подстаканниками, севшими батарейками и т. д.
Но если Пирсон существовал внутри воображае-
мой системы бытования представителя богемы, никчемного пьяницы или студента, не
вписывающегося в систему, то Парсонс культивирует жизненный стиль псевдонаив-
ной честности, который ей угодно (хотя бы иногда) преподносить как искусство. Ут-
верждая, что хочет работать за стенами галереи, слиться с реальностью — и все это
черты авангарда 60-х, если не раньше, — Парсонс создает тревожно-привлекательные
работы, которые предлагают редкую возможность пересмотреть практику сосущест-
вования с выставочными институциями, которых она так очевидно сторонится.
Такую же склонность к незавершенности, свойственную подростковой психоло-
гии, можно обнаружить и в инсталляциях Карен Килимник. Слэк-арт в ее исполнении
принимает форму специфических повторов, природа которых сознательно оставле-
на неясной. Ты входишь в неубранное пространство, в котором, и это очевидно, то ли
что-то случилось, толи вскоре должно случиться. Толком ничего не понятно. Все пред-
меты и поверхности в самом неприглядном состоянии. Опус под названием «Мадонна
и “Обратная тяга” в Ницце» сочетает представление о мусоре, оставшемся от певицы
(которая только что была в Ницце), с фильмом о пожарных «Обратная тяга»; а посколь-
ку инсталляция была представлена на вилле «Арсон» (т. е. поджог), то ассоциации сами
напрашиваются (Илл. 6.20). С одной стороны, такие инсталляции можно считывать
как некоторым образом авторское признание. «Я такая неряха, — подтверждает Ки-
лимник, — все у меня почему-то вечно оказывается на полу, словно мне лень накло-
ниться и поднять». Но верней было бы считывать их как отклик художника на суперак-
тивный стиль жизни гламурных звезд, поданный с точки зрения человека, который
шоу как раз только что пропустил. Реальность и иллюзия причудливым образом соеди-
няются. Потому что объяснить таким образом инсталляции Килимник — значит пред-
ставить себя зрителем этого статичного театрального спектакля. Это значит принять
все предметы, представленные на «сцене» по их номинальной стоимости, в условиях
той истории, которую они рассказывают, или сценария из реальной жизни, которой
они подражают, но, кроме того, это значит еще и признать то, что театральность —
сущий кошмар для формалистов-модернистов 60-х — достигла той точки, когда нар-
ратив конструируется как иллюзия жизни, однако со всем иконографическим разно-
образием, доступным картинному изображению.
6.20. Карен Килимник
Мадонна и «Обратная тяга»
в Ницце, 1991
Машина для создания дымовой
завесы, черный бархат леска,
фонарик, каска пожарного,
две шляпы, целлофан, фотографии,
вентилятор, кассетная пленка
Инсталляция на вилле «Арсон>-, Ницца
«Слэкеры» и другие 169
6.21. Кэди Ноланд
Большой, сдвиг, 1989
Смешанные материалы, включая
багор, решетку, кольца, флаги, спрей
против насекомых, наручники
1,6x4,2x0,15 м
Собрание Джефри Дейча
В произведениях Ноланд вольное соче-
тание таких «агрессивных» предметов,
как наручники и флаги, расположенных
с обманчивой неформальностью,
напомнило критику «Нью-Йорк тайме»
о «боевитости и эмоциональной беспеч-
ности сердцевинных земель Америки,
особенно их южной половины»
Слэк-арт во всей своей совокупности работает против постоянства, долговечно-
сти, идеализации. Учитывая его пристрастие к незаконченному и вторичному, его
можно также интерпретировать как дополнительную обработку механизма зритель-
ских ожиданий. Ибо слэк-арт действует, исходя из двойной стратегии притягательнос-
ти и разочарования: притягательности разглядывания чьих-то брошенных начинаний
или хлама, о котором ты знаешь, кем он оставлен (и это хлам самый интимный), сопро-
вождаемой разочарованием, когда обнаруживается, что художественный спектакль
изначально задуман как нечто заведомо неполноценное: его даже не потрудились за-
кончить.
Слэк-арт можно рассматривать и как отказ от эстетики заимствований Кунса.
Бикертона и Стейнбаха, которые ввели в моду7 медитацию на коммерческое и с иго-
лочки новое. Неуютная и на вид угрожающая инсталляция другой американки, Кэди
Ноланд, хоть и состояла из новеньких предметов, вполне подтверждала этот вывод.
Когда Ноланд в определенном порядке организует реквизит спортивных состязаний,
полицейских расследований и национальные символы вроде американского флага,
она вызывает у зрителя целый шлейф ассоциаций с узаконенной жестокостью, с агрес-
сивностью куклуксклановцев или патриотов Среднего Запада и южных штатов.
Эффект воздействия тут кроется еще и в том, что она выбирает металлические крепле-
ния — алюминий, гальванизированную сталь, железо — и жестко вводит их в прост-
ранственный объем галереи (часто вопреки ему), причем с напористостью, которая
усиливается заведомой их непригодностью как объекта искусства (Илл. 6.21).
Рассматривая эти примеры, мы снова и снова сталкиваемся с уже упомянутым
чувством — чувством, которое еще со времен дадаизма, по существу, доминировало в
реакции зрителя на «продвинутое» изобразительное искусство. Это чувство — разоча-
рование. Ибо не только в произведении зачастую просто не на что особо смотреть в
смысле внятных формальных решений — то есть ритма, привлекательности, инверсий
и так далее, — но и используемый «художественный» материал часто банален, грязен,
разбит или носит столь личный характер (как у Лори Парсонс), что отвращает глаз
зрителя. Теоретическую разработку эстетики разочарования можно найти в статьях
170 Знаки идентичности: 1985-2000
Роберта Смитсона, опубликованных в «Артфору-
ме» 60-х годов. В эссе под названием «Энтропия и
новые монументы» Смитсон первым выразил свое
восхищение исследователя «разрушенными и за-
пыленными» городскими окраинами. «Вблизи
сверхскоростных шоссе, окружающих город, — пи-
сал Смитсон, — расположены дешевые торговые
центры и магазины распродаж с безликими фа-
садами... мрачная путаница их интерьеров при-
несла в искусство новое представление о скуке и
бессодержательности». Такое же впечатление вы-
звали у Смитсона тогдашние «монументально пас-
сивные» работы Роберта Морриса и Сола ЛеВитта,
а в 80-х эту эстафету подхватили американские
«сл экеры».
Глядя на инсталляции Майка Келли, порой
даже теряешься, так ли уж это «вялое и бессодержа-
тельное» интересно: кто знает, может, именно это
сомнение и питает интерес к ним. Потому что Келли принадлежит к тому поколению
художников среднего возраста, которые направили подростковую впечатлительность
на высмеивание ценностей среднего класса: набожности, семьи, официальной исто-
рии как симптомов здравого смысла и совершеннолетия. Выросший в унылом, охва-
ченном безработицей Детройте, Келли учился в Калифорнийском институте искусств
(CalArts), а в конце 70-х открыл для себя Раймонда Петтибона, Джима Шоу и Пола Мак-
карти и счел их эстетически близкими. Работа Келли «Плати за свои удовольствия»
(1988) — это серия грубо намалеванных плакатов с лицами сорока двух представите-
лей культуры ранга Бодлера, Гете, Дега, Сартра и Батая, сопровождаемых цитатами,
смысл которых сводился к тому, что эти гении — вне закона. Дабы подчеркнуть связь
между творчеством и преступлением. Келли выставил эти плакаты в длинном кори-
доре, который вел к завершающей работе, написанной каким-нибудь местным
преступником-художником-дилетантом: для чикагской выставки это был автопортрет
серийного убийцы детей Джона Уэйна Гейси, наряженного клоуном Пого; для Лос-Анд-
желеса — Уильям Бонин, убийца, орудовавший на автостраде; для выставки в бер-
линском «Метрополисе» — убийца Вольфганг Зоча. У двери стоял ящик для сбора
пожертвований пострадавшим (Илл. 6.22).
Даже в коротком изложении ясно, что «Плати за свои удовольствия» есть во-
площение принципа, который вскоре стал визитной карточкой Келли, принципа
инверсии ценностей, то есть пародирования иерархий, подмены высокого низким и
наоборот. Отчасти это мальчишеский вызов, а отчасти, в более философском смысле,
навеян работами Жоржа Батая, в которых отрицаются любые предустановленные нор-
мы человеческого поведения, утверждается суверенитет воли и «скандальные» формы
самоосуществления личности. В конце двадцатых Батай, отказавшись от той версии
сюрреализма, которую представлял Андре Бретон, создал собственную группировку
вокруг недолговечного теоретического журнала «Documents» и разработал свою «тео-
ретическую гетерологию», смысл которой состоял в том, чтобы собрать экскременты
человеческой мысли и поведения, придать им изобразительную основу, а затем полити-
6.22. Майк Келли
Плати за свои удовольствия, 1988
Инсталляция в клубе «Ренессанс»
при Чикагском университете, 1988
зировать связанные с этим процессы и привести их в соответствие с революционными
«Стакеры» и другие 171
идеями. Самой далекоидущей и обобщенной в философии Батая ста-
ла концепция informe, бесформенного.
В своем «Историческом и критическом словаре», вышедшем в
конце 20-х, Батай писал: «Бесформенное — это не только отвержен-
ное, имеющее истинно-реальное значение, но и термин, который
служит возвращению вещей в мир, подразумевая при этом, что
каждая вещь все-таки имеет свою форму. То, что оно означает, абсо-
лютно бесправно и повсюду раздавливается, как паук или червяк».
Бросая вызов рациональным структурам, которые маскируют под-
линную сущность реальности, Батай утверждает, что «Вселенная
есть бездна без различий и свойств», а мир как воплощение бесфор-
менного подобен «пауку или плевку». Распространение взглядов Ба-
тая позволило критикам подвести теоретическую базу под искусство
60-х: бесформенные скульптуры Роберта Морриса, брызги и потеки
6.23. Майк Келли
Схема информационных потоков
морфологии ремесла, 1991
Тринадцать столов. 113 мягких
игрушек, черно-белые фотографии
Инсталляция в Питтсбургском музее
Карнеги, 1991-1992
Сая Твомбли, Жана Фотрие и Джексона Поллока, «Ахромы» Пьеро Манцони и многое
другое. Такова была идея выставки «L’Informe: Mode d’Emploi», в 1996 г. устроенной Ро-
залинд Краусс и Ивом-Аланом Буа в Центре Помпиду в Париже, каталог которой в сво-
ей теоретической части установил новые стандарты анализа послевоенного искусства.
Майк Келли, наряду с Синди Шерман оказавшийся самым молодым из участников вы-
ставки, представил грязные мягкие игрушки. Пришитые к висящей на стене ткани,,
брошенные навалом, поодиночке разбросанные по столам — они воплощали идею то
ли насилия («совокупляющиеся игрушки» с тех пор — торговая марка Келли), то ли
преходящего (поиграли и забыли). «Я стараюсь представить изношенность прототипа.
не романтизируя его, потому что нет ничего, что я ненавидел бы так сильно, как роман-
тическое, ностальгирующее искусство... Моя работа всунута между ностальгическим
ассамбляжем, с одной стороны, и классическим искусством как предметом потреб-
ления, с другой. Никакой идеализации». Конечно, варианты интерпретации напра-
шиваются сами собой: игрушка — воспоминание о младенчестве, одеяло — о детской
кроватке. Творчество Келли можно понимать как аллегорию мысленных представле-
ний взрослых, воплощенную в производство и употребление игрушек. Он заостряет
тот момент, что кукла как идеальный образ ребенка, когда она грязная, — путает, от-
торгается и вытесняется из сознания. Грязная кукла говорит о жестоком обращении, о
небрежении, она даже демонизируется и изгоняется. В основе этого лежит миф о дет-
ской невинности: в современной культуре, говорит Келли, «кукла более всего прочего
изображает личность как предмет потребления. Именно поэтому она так мощно, боль-
ше всего прочего нагружена ассоциациями изнашивания».
На другом уровне трансгрессии Келли — это наскок на вкусы и заповеди самого
авангардизма: дюшановский реди-мейд на этот раз использован на редкость безжало-
стно. Значимо также и то, что Келли выступает против высоколобого классического
модернизма, неразрешимого противостояния между абстракцией (Мондриан) и экс-
прессивностью (Матисс), которое Келли в своем творчестве преступает, обратившись
к низменной карикатуре, гротеску и различным парадигмам феминного. Мини-
малистское искусство — одна из его главных мишеней — описывается им как «упро-
щенные, героизированные примитивные формы, охотно принимающие на себя роль
вождя. Следовательно, это только правильно, что нам хочется обрутать их». Мини-
мализм нуждается в том, чтобы «на него нассали» (выражение Келли). Наконец, в кон-
тексте концепции «бесформенного» рваные одеяла и побитые жизнью игрушки во
172 Знаки идентичности: 1985-2000
всей их душераздирающей жалкости поразительным образом становятся «привлека-
тельны, потому что отвратительны» (Краусс), возвышаются, потому что стали «ниже
низкого». Идея снижения, таким образом, никак не будучи «темой», относящейся к
субстанциям и процессам (в основном телесным), становится в творчестве Келли во-
просом классификации, проблемой искаженной системы мер. В «Схеме информаци-
онных потоков морфологии ремесла», которая здесь представлена (Илл. 6.23), Келли
отсортировал мягкие игрушки по размеру, материалу изготовления, рисунку и каким-
то еще второстепенным параметрам: каждый облезлый экземпляр сопровожден фо-
тографией с размерной линейкой, чем гротесково пародируется стремление к «норма-
лизации».
Как показали скульптуры Роберта Морриса середины 60-х («Обрывки ниток»)
или же энтропийные «льющиеся» работы Роберта Смитсона того же времени, груды
мусора, жидких отходов или различных гетерогенных, неоднородных материалов ес-
тественным образом стремятся вниз, оказываются на полу— и, следственно, отдаются
так называемой идее инсталляции. И все-таки, по моим ощущениям, инсталляция как
концепт глубоко не способна обозначить какой-либо эстетический процесс, кроме как
движение к неструктурированной, горизонтальной или же жидкой физической фор-
ме. Мог бы — запретил бы законом такие дела. Однако же, несмотря на свою полную
теоретическую бессодержательность, некоторые такого рода проекты добились пора-
зительных результатов.
Илья Кабаков в 70-х был ведущим концептуалистом Москвы. Тогда он составлял
ехидные «альбомы», в которых фиксировал жизненный путь различных выдуманных
им персонажей, личные качества которых находились в явном противоречии с при-
данной им социальной ролью. Кабаков был одним из основателей группы «Коллек-
тивные действия», с середины 70-х проводившей «на природе» минималистские или
«пустые» перформансы в знак протеста против культурного убожества жизни больших
городов.
В первый раз он выехал за пределы СССР в Чехословакию в 1981 г. Как раз тогда
он опубликовал свое знаменитое эссе «О пустоте» и начал серию «Десять персонажей»,
которая будет создаваться в течение всего десятилетия. Весной 1985 г. произошло эпо-
хальное событие, которому суждено было потрясти основы западного мироустрой-
ства. Умер Юрий Андропов, и должность Первого секретаря ЦК КПСС занял Михаил
Горбачев, объявивший «перестройку» советского общества в направлении либерали-
зации экономики, причем в теории эта политика должна была сопровождаться гласно-
стью, то есть открытостью. На практике же диссиденты по-прежнему попадали под
арест и в психиатрические больницы, а статуи и прочие монументы советскому про-
шлому воздвигались вплоть до 1991 г., когда СССР распался как государственное обра-
зование. В этот период амбициозные и обладающие связями художники ранга Кабакова
смогли эмигрировать через Израиль в Нью-Йорк — в случае Кабакова это произошло с
помощью галереи Рональда Фельдмана. Там было выставлено несколько инсталляций,
в том числе «Человек, который улетел в космос из своей квартиры» (1988), где Кабаков
показал, что остается от домашнего бытования человека, которой свой кризис иден-
тичности разрешает тем, что ракетой взмывает в небо, пробив крышу облезлой совет-
ской многоэтажки. С американским слэк-артом такие произведения роднило всегда
привлекающее впечатление присутствия: человек только что был здесь, и ушел, и оста-
вил за собой беспорядок и ауру утраты, мимолетности, преходящести. В многочастной
работе 1990 г. зритель входил в тесный лабиринт, где висели крупноформатные полотна,
«Слэкеры» и другие 173
6.24. Илья Кабаков
Спятил, разделся и убежал голым,
1990
Инсталляция
6.25. Джессика Стокхолдер
Цветущие пыльные банальности,
1992
3.96 х 19,6 х 6,40 м
Инсталляция в Американском
обществе изобразительных искусств,
Нью-Йорк
Напольная плитка, бумага, дерево.
подушки, газеты, папье-маше,
кровельная мастика
изображающие «счастливую» коммунистическую жизнь (стройки, пионерлагеря), на-
писанные, разумеется, самим Кабаковым. Размещены они, однако, были «как попало,
в два ряда», вспоминал сам Кабаков. «На некоторых кое-как висела одежда — белье, но-
ски, рубашки; сами картины были отчасти реалистические, отчасти схемы и графики».
Рядом на столе лежали листки с текстом, в котором рассказывалось, как обитатель
коммунальной квартиры «мучается оттого, что не может выполнять свои обязанности
вовремя, по расписанию. Он начинает сходить с ума, раздевается, вешает одежду на
эти правила и расписания, а потом голым убегает из своего “красного уголка”». Каба-
ков очень красноречиво расписывает возможности жанра инсталляции. «По своей
природе он может объединять — на равных условиях, безо всякого превосходства —
все, что угодно, и особо это касается тех феноменов и концепций, которые необыкно-
венно далеки друг от друга. Политику можно объединить с кухней, обыденные предме-
ты с научным оборудованием, мусор с сентиментальными излияниями» (Илл. 6.24).
Недавно Кабаков сказал, что техника инсталляции «состоит в том, чтобы зритель
никогда, ни на секунду не мог уловить, столкнулся он с изображением то ли с вещью...
в моем случае игра происходит таким образом, что зритель не может понять, в этногра-
фию он попал или в семиотическую систему... Инсталляция — это техника производ-
ства критики, постоянного, перманентного критицизма!»
Подробно рассмотрим еще одну плодовитую идею инсталляции. Канадка по
рождению, Джессика Стокхолдер воспроизводила структуры галерейных интерьеров,
характерные от 1980-х до наших дней, решая задачу, которую редко кто даже себе
ставил. Стокхолдер широко представила живописные, скульптурные и архитектурные
формы, которые вступали в резонанс друг с другом ярким, активным цветом, но также
создавали ощущение взаимной выстроенности и одновременно полного взаимоунич-
тожения. Десять лет после изучения живописи и скульптуры в Йейле, до 1995 г. Сток-
холдер собирала ассамбляжи из различных отходов: деревянных балок, проволоки,
одеял, бумаги, пластмассы и, прежде чем «освоить» выделенное ей галерейное про-
странство, изучала его физические и психологические параметры (в этом она следует
книге Гастона Башляра «Поэтика пространства»). Ее творчество выражает себя комби-
нациями одновременно метафорическими и метонимическими, при этом результат
лишен четкой, сформулированной или нарра-
тивной линии. Несмотря на очевидное присутст-
вие в ее инсталляциях процесса, она настаивает,
что «нарратив» применительно к ним — слово не-
верное: «Существует род построений или наслое-
ний смыслов, который является результатом ли-
тературного содержания тех объектов, которые я
использую, однако структура их не линеарна. Там
нет начала, середины или конца. Моя задача — за-
бросить невод как можно шире, даже если имеются
концентрированные зоны литературных значе-
ний, которые формируются здесь и там». В общем,
крупные инсталляции Стокхолдер, такие, как
«Цветущие пыльные банальности» (1992), подвер-
гают зрителя воздействию множества приемов,
как вызывающих отдаленные искусствоведческие
ассоциации, так и формирующих новые матери-
174 Знаки идентичности: 1985-2000
альные связи. Мы считываем здесь кивки и намеки на русский конструктивизм, на
цветную формалистскую живопись (и мужскую, и женскую), на поп-арт, даже на
минимализм, если говорить об экономии и объеме (Илл. 6.25). Подсветка оживляет
массы, массы сплющиваются, чтобы принять форму живописных плоскостей, ломкое
становится прочным, выпуклое — вогнутым, узорчатое — гладким. С определен-
ностью сказать, о чем именно это произведение, значит, выразиться «с точностью до
наоборот»: «Моя работа всегда вырастает из попытки обрести чувство контроля над
материальным миром, по крайней мере, хотя бы договориться с ним», — писала Сток-
холдер. Уводимый от буквальной семиотики или нарратива, зритель возвращается к
чисто абстрактному уровню концептуализации творчества и материала, которую
художница выразила так, как сочла нужным.
Настроения на грани тысячелетий
Несмотря на повышенное внимание, каким пользовались художественные инсталля-
ции любого рода, все-таки именно к живописи в ее более или менее традиционном
формате обращались мы в поисках примет времени — а точнее сказать, перемен в на-
строении — на пороге 2000 года. Начиная с первых своих картин, написанных в 70-х
(как правило, это были необычайно длинные горизонтальные панели, состоящие из
двух раздельных и тематически не связанных между собой частей), художник Дэвид
Рид хотел добиться сочетания несочетаемого: живописи абстрактной и геометриче-
ской, монохромной и цветной — в рамках единой формальной организации. Чутье
подсказало ему не выбирать между двумя противоположностями, а пользоваться обеи-
ми: глубиной перспективы и плоскостью, яростной импровизацией и продуманной
геометрией, эффектами света и тьмы, холодными и граничащими с самыми чувствен-
ными цветами и т. д. Подобная вариантность на поле богатого нюансировками абст-
рактного полотна приобрела особое значение в 80-е годы, когда Рид понял, что эти
крайности характеризуют не только искусство барокко, но и конец столетия с его по-
вышенной чувствительностью и восприимчивостью. Поездки в Италию, штудии Кара-
ваджо и Рубенса привели Рида к убеждению, что современная абстракция должна го-
ворить о разрыве между экспрессией и приемом, реальностью и театром, отчаянием и
контролем. Было еще одно обстоятельство, которое подкрепило интерес Рида к барок-
ко, — а именно курс лекций, прочитанных в Гарварде Фрэнком Стелла в 1983-1984 гг.
6.26. Дэвид Рид
№ 287,1989-1990
Холст, масло, акрил
66x259 см
Настроения на грани тысячелетий 175
Тогда Стелла, упрекнув модернистскую живопись в утомительной плоскостности, ука-
зал прямиком на Караваджо и привел в пример его «действенное пространство, кото-
рое воспринимается как реальное и ощутимо присутствующее», которое дышит, виб-
рирует, движется и покоится неподвижно. В таких работах 1989-1990 гг., как «№ 287»
(Илл. 6.26), Рид достигает эффекта разбегания фокуса, когда прямоугольная вставка в
панель резко смещает акцент, создает впечатление неопределенности масштаба и по-
ложения в пространстве, и вы, стоя перед горизонтально растянутым изображением,
замечаете, что смотрите то направо, то налево. «Нужные мне эмоции, — сказал Рид о
своем заигрывании с барокко, —лучше всего вызываются этим чрезвычайно двусмыс-
ленным пространством, где вы не можете определить, что где, не знаете, то ли видимое
материально, то ли иллюзия». Однако, на мой взгляд, намерения Рида отразить совре-
менность не попали бы в цель, не вызови его полотна еще и ассоциацию между про-
странственной сложностью барокко и киноизображением. Ибо Рид уловил то, что в
нарративном кинематографе, как и в живописи XVII века — особенно в культовых
классических фильмах вроде «Головокружения» Хичкока (1958), — «возвратно-посту-
пательное движение» эмоций передано как открытие и свертывание драматического
пространства искусства прежних эпох. По сути говоря, навеянные барокко картины
Рида пользуются тем же механизмом сновидений, что и нарративный, повествова-
тельно изобразительный кинематограф, — и, следовательно, для пущего эффекта
должны висеть в спальнях.
Такие откровения были возможны только на Восточном побережье Америки,
где Рид, несмотря на свое происхождение (он уроженец Сан-Диего), сделал себе
имя, — то есть в том самом месте, где позднемодернистская живопись раскручива-
лась наиболее авантюрным образом. И все-таки конец тысячелетия чувствовался
повсюду. Настроение сгущалось, когда мы пересекали Атлантику, чтобы взглянуть на
работы британского художника Глена Брауна, одного из самых молодых участников
Венецианской биеннале 2003 г., который сделался широко известным и многое может
рассказать о том, как в настоящий момент осознает себя искусство. Суть его метода
6.27. Глен Браун
Марк Е. Смит в виде папы
Иннокентиях, 1999
Дерево, масло
55,6x54
Собрание Ван Бреда-Прайс,
Санта-Моника
176 Знаки идентичности: 1985-2000
состоит в том, чтобы взять уже существующую картину, к примеру,
кого-то из старых мастеров и с цветной репродукции переписать ее
в манере, которую сам он описывает так: «Я работаю по подложен-
ному рисунку. вытягивая его, разворачивая то так, то эдак, меняю
масштаб, словно это скелет или арматура. Затем я накладываю
поверх него почти монохромный подмалевок в два или три цвета, с
которым потом и работаю, иногда полностью уничтожая исходный
рисунок. В последние месяц или два работы над картиной от ре-
продукции не остается и следа». В общем, это что-то вроде пародии
на Фрэнка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Дали, Рембрандта, Фрагона-
ра — но не только. Это не просто виртуозная демонстрация зоркости
и владения кистью, Браун кропотливо добивается еще и эффекта
усиления живописного приема — в случае Ауэрбаха это экспрессив-
ные завитки, завихрения краски. Однако внимательно рассматривая
серию, в которой он переработал полотно Ауэрбаха «Голова Дж. Ю. М.» (1973), по-
нимаешь, что Брата умудрился передать не только густоту и направленность мазка,
он придал сбитый фокус форме, создаваемой выпуклостями и углублениями краски,
и создал скульптурную версию Ауэрбаха (Илл. 6.27). Иначе говоря, он пишет не кар-
тину Ауэрбаха, а фотографию с картины, преобразованную в скульптуру. Что в свою
очередь приводит нас к мысли, что «обман зрения», trompe I’oeil — это еще одна тра-
диция, к которой Браун пытается присоединиться. Или, как точнее выразился сам
художн и к: «Модернистский принцип — показать внутреннюю структуру вещей. Я это-
го не делаю».
У бельгийца Люка Тюйманса настроение еще хуже. Это художник, обладающий
обманчивой простотой и тяжелым сарказмом. Он стал известен, когда Ян Хойт пригла-
сил его участвовать в Документе-7 1982 г. в Касселе, и с тех пор широко обсуждается.
Аура отстраненной индифферентности как бы витает над всеми его работами, будь
они посвящены Холокосту («Газовая камера», 1986) (Илл. 6.28), педофилии («Жестокое
обращение с ребенком», 1989), этническим чисткам или таким банальным предметам,
как бутылки с моющей жидкостью, абажуры и перчатки. Знаковым художником конца
тысячелетия Тюйманса сделало именно последовательное обращение к образу газо-
вой камеры и лампы на письменном столе — вроде бы вечная тема банальности зла.
Однако на более глубоком уровне анализа сложность репрезентативного кода его кар-
тин вынуждает признать определенного рода невозможность, историческую неумест-
ность самой практики живописи. Это впечатление подтверждается обычаем Тюйман-
са делать предварительный набросок на бумаге, акварелью или гуашью, а затем увели-
чивать его до размера опять-таки небольшого полотна, сохраняя при этом всю блек-
лость и небрежность маленького наброска. По сути дела, характерные для Тюйманса
ядовито-зеленые, лишенные глубины, бледно-голубые и розовые цвета на всех уров-
нях настаивают на своей неаутентичности: мы видим не самоценное изображение, а
его выбеленный, выгоревший симулякр, видим как бы с экрана плохого телевизора
или против света. Конечно, у Тюйманса имеются свои личные пристрастия — культ
фламандской национальной самобытности, европейский Холокост, сцены насилия.
В недавнем цикле, посвященном бесчеловечности бельгийской колонизации Конго,
Тюйманс пишет портрет Патриса Лумумбы, первого свободно избранного лидера не-
зависимой Республики Конго, убийство которого в 1961 г., инспирированное ЦРУ и
ООН, все еще вызывает споры (Илл. 6.29).
6.28. ЛюкТюйманс
Газовая камера, 1986
Холст, масло
50x70см
6.29. ЛюкТюйма
Лумумба, 2000
Холст, масло
52x46x2.2 см
Настроения па грани тысячелетий 177
Как раз когда он работал над этим портретом, в Лондоне про-
шла выставка, вполне в духе миллениума озаглавленная «Апокалип-
сис», на которой было показано еще несколько полотен Тюйманса.
Мертвая женщина в очках с оранжевыми стеклами, бородатый муж-
чина, майский шест, косметические изделия, рентгеновский снимок
позвоночника — не объединенные общей идеей, эти изображения
выступали как некое приближение к внутреннему масштабу и фак-
туре живописи, что перемещало их в регистр, требующий рассмот-
рения взглядом и бесстрастным, и бесстыдным. Эти выбеленные, не-
реальные картины бросают вызов нашему представлению о том, как
изображения творятся и как они выживают в том мире, где посред-
ником — кинематограф, словно бы говорят о том, что за множеством
фото- и киносвидетельств «подлинности» кроются страхи и злове-
щие тайны.
Упомянутый выше лондонский «Апокалипсис» с мрачным
подзаголовком «Красота и ужас в современном искусстве» прорабо-
тал почти до самой смены тысячелетия 1 января ^001 г., представив
тринадцать художников; именно они были выбраны организато-
рами для подведения итогов тысячелетия, выражения предощуще-
ний и перемен. Америку представили Майк Келли, Ричард Принс и
Джефф Кунс, а со стороны европейского апокалиптизма присутство-
вали (помимо бельгийца Люка Тюйманса и немца Вольфганга Тилл-
манса) итальянский художник Маурицио Каттелан и воистину
воплощение конца времен, британский дуэт в составе Диноса и
Джейка Чепменов.
Каждому участнику выставки кураторы выделили по музейно-
6.30. Маурицио Каттелан му залу — это отвечало потребностям остроумных инсталляций Каттелана, которые
Девятый час, 1999 нуждаются в определенном потворстве со стороны музейного начальства. Каттелан и
раньше экспериментировал с таксидермией в серии работ, огрызающихся на славу
итальянского Ренессанса и постренессансной культуры. Мальчиком в Падуе он
каждый день по дороге в школу проходил мимо конной статуи кондотьера Гаттамелаты
работы Донателло (1453); а взрослым художником сделал чучело из прекрасного До-
нателлова коня, назвал его «Новеченто» (1977) и за упряжь подвесил к потолку. Кроме
того, для инсталляции «Если дерево падает в лесу и никого нет рядом, слышен ли звук
падения?» (1988) он сделал чучело ослика, пристроив ему на спину новенький телеви-
зор, словно бедолага несет его вверх по горной тропке в какое-то дальнее сельцо — та-
ким образом показался мир, где разнообразие стерто, а каждая попытка действовать
или знать подчинена приручающему, отупляющему режиму новостей и развлекалов-
ки. На выставке «Апокалипсис» Каттелан поместил в выделенный ему зал самого папу
Иоанна Павла II в виде восковой статуи в полном облачении и в натуральную величи-
ну: тот упал на красный ковер, сбитый с ног метеоритом, который пробил музейную
стеклянную крышу — рядом рассыпаны осколки. Называлось это произведение «Де-
вятый час» (1999) (Илл. 6.30). Удивляет, что папа в трактовке Каттелана совершенно
бесчувственен к иронии происходящего, хотя мыслится, что он поражен скалой, рух-
нувшей, по Евангелию, в момент смерти Христовой. На лице у него полная невозмути-
мость и решимость продолжать свое дело независимо ни от чего, а рука твердо держит
пастырский посох.
178 Знаки идентичности: 1985-2000
Что и говорить, в переходный 2000 год царило настроение, мягко говоря, беспо-
койства. «Есть ли современная тема, которая станет новой мифологией нашего време-
ни?» — риторически вопрошал куратор Норман Розенталь, открывая «Апокалипсис».
«Какими новыми способами молодые художники осознают и описывают современную
реальность, которая подразумевает неизвестное и небезопасное будущее, испокон ве-
ков предстоявшее человечеству?» На последний вопрос без экивоков ответили Динос и
Джейк Чепмены, известные своей склонностью к провокациям. Родились они в 1962 и
1966 гг. соответственно, окончив Лондонский королевский колледж искусств, работа-
ли для художников Джилберта и Джорджа, а в 1993 г. обратились к «Ужасам войны»
Гойи, взяв их за образец для своих небольших, тщательно сделанных скульптурных
групп. Они плавили пластиковые статуэтки, придавали им нужную форму, раскраши-
вали, а затем, аккуратно сгруппировав свои создания в кружок, ставили на искусствен-
ную травку. Это придавало душераздирающим гравюрам Гойи какую-то буколическую
симпатичность, одновременно служа намеком на то, что всякое зверство, или акт жес-
токости, или приступ болезни может нейтрализоваться — и именно так и происхо-
дит— нечувствительностью к боли, свойственной нашей культуре. На следующий год
Чепмены сделали свой вариант той гравюры Гойи, что изображает трех привязанных к
дереву, изувеченных и кастрированных солдат, безжалостно назвав его «Деяния ради
мертвых». Эта работа вместе с другой, озаглавленной еще мудреней, «Зиготная акселе-
рация: биогенетическая десублимированная либидональная модель (Увеличено
1 х 1000)» (1995 г.), вызвала скандал, когда их выставили на печально известной вы-
ставке «Сенсация» в конце 1997 г. в Королевской академии искусств в Лондоне
(Илл. 6.31) (позже такой же скандал случился и в Нью-Йорке). «Зиготная акселерация»
выглядела как чудовищно сплавленное воедино кольцо из девочек-манекенов, все
6.31. Джейк и Динос Чепмены
Зиготная акселерация:
биогенетическая десублимированная
либидональная модель
(Увеличено 1 х 1000), 1995
Смешанные материалы
150x180x140 см
голенькие, только в одного размера кроссовках,
некоторые с вагинами вместо ртов и ушей или кри-
воватым пенисом вместо носа. Очень отдаленно
пародируя округлые минималистские работы се-
редины 60-х (см. Илл. 1.5), «Зиготная акселерация»
выразила радикально отстраненный взгляд на
конфликт между обыденным сексуальным любо-
пытством и отвращением к генетически изменен-
ному телу. Тут было и указание на завороженность
Чепменов телесными и психологическими крайно-
стями: с одной стороны, забавными, с другой —
омерзительными. Именно последнее обстоятель-
ство вернуло их к теме войны, которую в 2000 г.
они выбрали для участия в выставке «Апокалип-
сис». На подготовку своего «Ада» они потратили
два года, изготовив пять тысяч миниатюрных рас-
крашенных фигурок: это звероподобные нацист-
ские солдаты в жестокой схватке с обнаженными
мутантами. В девяти расставленных по залу в фор-
ме свастики прозрачных боксах игрушечные фи-
гурки разыгрывают кровавые сценки ужасов вой-
ны. Для тех, у кого хватает духу смотреть, заготов-
лен не один сюрприз: понемногу становится ясно,
Настроения на грани тысячелетий 179
что это мутанты безжалостно бьют солдат, хотя результат этой бит-
вы — оживающие скелеты, рыбы-мутанты и сцены каннибализма —
толком не ясен, а зритель, по-детски поглощенный сюжетом, стал-
кивается все с новыми и новыми попытками завладеть его изрядно
утомленным любопытством (Илл. 6.32). Сами Чепмены говорят, что
жестокость питается жестокостью, как в теории «вечного возвра-
щения» Ницше. В тот момент, на грани времен, их творчество вы-
нуждало думать о том, что кончается один жестокий век и наступает
новый.
Остается упомянуть еще одну фигуру, со времен своего появ-
ления на международной арт-сцене установившую новые стандарты
выставочной практики и изобразительности, — и найти в этой карь-
ере еще одну привязку к нарративу, которому посвящена данная гла-
ва. Дэмиан Хёрст стал известен в 1988 г., как молодой импресарио
трехчастной экспозиции под несколько загадочным заголовком
«Freeze» («замерзшее, затверделое» — в тот момент ненадолго уста-
6.32. Джейк и Динос Чепмены
Ад (деталь), 1999-2000
Фибергласс, пластмасса, смешанные
материалы. В девяти частях
8 частей 2,44 х 1,22 х 1,22 м
и 1 часть 1,22 х 1,22 х 1,22 м
новилась мода на названия в одно слово). Местом действия стало пустующее здание в
районе лондонского порта, неподалеку от Темзы, а финансирование осуществляла
строительная корпорация, осваивающая территорию доков, когда-то оживленный
торговый квартал, а теперь новый деловой центр к востоку от Тауэр-Бридж. Хёрст
совместно с соучениками из Голдсмит-колледж, учебного заведения новаторской
ориентации, объявил новый вектор развития западноевропейского искусства, коим
завершалось «возрождение живописи 80-х» и возрождался интерес к повседневным
банальностям, бесстыдным сексуальным инсинуациям, суровым реальностям жизни и
смерти. Еще одна особенность, солидная доза студенческого толка иронии и уличного
юмора, вызвала к поколению Ричарда Петерсона, Сары Лукас, Гэри Хьюма, Йена Да-
венпорта и, конечно, самого Хёрста усиленный интерес арт-дилеров и международной
художественной общественности. На следующий год такой же esprit преобладал в га-
лерее Лоренса Монка в Нью-Йорке, а в 1992 г. самопровозглашенное «Британское ис-
кусство» (ни много ни мало) было выставлено у Барбары Гладстон. Дальнейшие
«складские» шоу в Лондоне еще сильней разожгли популярность; проводились они при
поддержке нового журнала, получившего не менее двусмысленный титул «Frieze»
(фриз). К середине 90-х, когда магнат рекламного бизнеса и коллекционер Чарльз Са-
атчи прочно встал за спиной «уВа» (young British art, молодое британское искусство),
газетные карикатуристы и светские колумнисты тоже его полюбили, так что стало со-
вершенно ясно, что без денег и прессы новое начинание не останется.
Однако успех у журналистов ни в коей мере не равняется успеху у искусствове-
дов. Собственная работа Дэмиана Хёрста «Физическая невозможность смерти с точки
зрения живого человека» (1991) быстро обрела дурную славу поскольку представляла
собой простой и прочный резервуар, в котором плавала в формалине освежеванная
тигровая акула. Засим последовали расчлененные коровы, также в формалине, так что
можно было подробно разглядеть органы и скелет. Критики заговорили о том, что
Хёрст одержим идеями смерти, природы, насилия, — но их ничуть не коробило то, как
цинически-отстраненно обращается он с тушами животных. Защищая его, они апел-
лировали к старым традициям анимализма. Мало-помалу все более популярный и
вечно обвиняемый в неискренности, Хёрст сделался символом свободного поведения
и безрассудной экстравагантности: его основные «темы» доминируют в творчестве
180 Знаки идентичности: 1985-2000
художников его поколения и угрожают закоснеть в догму по мере того, как тысяче-
летие набирает ход.
По существу говоря, критики сами теперь в недоумении, как реагировать на то
приоритетное место, которое заняли в современном искусстве насилие, уродство и,
разумеется, секс. Хотя «запредельное» по-прежнему остается игрищем таблоидной
прессы (обычно крайне правого крыла), лучшие художники этого поколения искусно
играют с условностями инсценировки и восприятия, в полной мере осознавая тради-
ционный (и в основном пустой) конфликт между'«содержанием» и «формой». Речь сей-
час о работах братьев Чепменов, выдвинутых на соискание Премии Тернера 2003 г., —
ежегодного лондонского чествования молодых и скандально знаменитых. В одном за-
ле располагались «Секс», ярко забрызганный кровью ассортимент гниющих скелетов
а-ля Гойя, и «Смерть-1» (Илл. 6.33) — бронзовая имитация неповоротливых пластико-
вых кукол, некоторым образом спаренных на матрасе, который лежит на полу. Каза-
лось бы, Чепмены опять зашли на территорию таблоидного братства, а между тем они
предложили зрителю возможность выработать для себя позицию где-то между по-
хотью и любопытством, между желанием подойти поближе и рассмотреть получше и
цивилизованным самоограничением и, наконец, возможность добиться почти невоз-
можного равновесия, стимулируемого самой скульптурой, ее техническими приема-
ми и изобразительным решением. При этом посвященные могли вспомнить старый
скандал, вызванный куда более философским экспериментом Карла Андре, когда тот
разложил по полу огнеупорные кирпичи.
Критики разошлись во мнениях и по поводу качества продукции Хёрста. В точ-
ности как в случае с Джеффом Кунсом, висячие баскетбольные корзинки которого
Хёрст, несомненно, видел (в галерее Саатчи на выставке «Нью-йоркское искусство се-
годня» в 1987 г.), разошлись они как раз по линии политических убеждений, то есть по
вопросу о том, каким именно может или должен быть выживший авангард любого тол->
ка. Если сторонники указывали на «реализм» тематики Хёрста («жизнь и смерть»),
вплоть до дерзкого возвышения «контента» над требованиями материала и формы, то
критики журнала «New Left Review», например Джулиан Стеллабрасс и Китти Хаузер,
описывали ее как эстетически и художественно «легковесную» — и, с точки зрения Ха-
узер, как неспособную соперничать с живым удовольствием, получаемым от поп-му-
зыки, тон и способ адресации которой представители «уВа» декларативно уважали.
Пока шли споры, Хёрст в 2003 г. устроил свою первую персональную выставку, отчи-
тавшись почти за десятилетие. Организованная в Лондоне в галерее «Белый куб», где
под характерно развернутым названием «Роман в век сомнений: Иисус и его ученики:
6.33. Джейк и Динос Чепмены
Смерть-1, 2003
Крашеная бронза
73x219x95 см
Смерть, мученичество, самоубийство и вознесение», посетители
увидели ящики, заполненные старыми лабораторными колбами и
ретортами, молотками, топорами, свернутыми кольцом пластико-
выми трубками с засохшей кровью, каждый предмет говорит о муче-
ничестве определенного ученика. Между тем коровьи или бычьи го-
ловы, запаянные в формалин, стояли вместо апостолов, а тринадца-
тая витрина, пустая, с одним только формалином, обозначала Христа
(Илл. 6.34). Профессора теологии назвали эту затею «грубой, ос-
корбительной и шокирующей», а коллекционеры со всего мира, тол-
каясь локтями, ринулись покупать, и за две недели совокупно истра-
тили 11 млн. фунтов стерлингов. Мало кто, однако, заметил, что от-
ражающая глубокий кризис веры тематика «Романа» выражалась, по
Настроения на грани тысячелетий 181
6.34. Дэмиан Хёрст
Роман в век сомнений
Инсталляция в галерее «Белый куб»,
Лондон, 2003
существу, формальной организацией материала, которая сама по себе — и насмешка,
и символ. Ибо все шоу было «инсталлировано» как церковь, с приделами, ведущими к
высокому алтарю, а внимательный зритель не упустил бы здесь ссылку на расхожую
жалобу, что, дескать, модернистское выставочное пространство уж слишком напоми-
нает святилище. Между тем в зале наверху Хёрст представил десять черных холстов,
«засиженных» мириадами просмоленных дохлых мушек; комковатые, вонючие, они
были совершенно одинаковы за исключением небольших различий в рисунке налипа-
ния насекомых. Каждая под именем смертельной болезни вроде малярии, бубонной
чумы и лихорадки эбола, они усугубляли апокалиптическое настроение новой выстав-
ки Хёрста безо всякого намека на тот легкомысленный цинизм, который прежде хоть
как-то оживлял его опусы. Эту функцию легкомыслия как раз в тот день, когда я посе-
тил выставку, взяла на себя лондонская «Таймс»: «Ах, Дэмиан Хёрст и его провока-
ции! — писала она. — Как теперь жаждет душа чего-нибудь радикального вроде пейза-
жика или портретца!»
182 Знаки идентичности: 1985-2000
Голоса времени
Майк Келли. «Беседы о неудачах, записанные Джулией Сильвестер», с. 100-103
«Движение “Arts and crafts”рассматривало вещи массового производства
как китч или убожество. Не думаю, что люди сейчас так к ним относятся.
Я думаю, они рассматривают вещь промышленного производства,
как предмет совершенный. И это эталон длярукотворно изготовленной
вещи, а не то, что ей предшествует, — все рукотворно изготовленные
вещи—неудача, провал по сравнению с ним. Меня интересуют предметы,
которые обыгрывают этот разрыв между идеей предмета и неудачей,
которая постигает предмет в попытке достичь идеала. (Именно поэтому
меня интересуют подростки; подростковый возраст—это проблема
окультуривания, та точка, где становится вызывающе ясно,
что мы неестественны и что нормальность, соответствие норме —
это состояние благоприобретенное. Подростки, будучи “неудачными
взрослыми”, разоблачают ложь о нормальной взрослости...) Мне нравится
думать, что свои работы я создаю в основном для тех, кому они неприятны.
Эта мысль доставляет мне удовольствие... Музей может вместить в себя
что угодно; любой предмет, который туда попадает, тут же становится
“высоким” благодаря контексту. Но у меня проблема с терминологией:
“высокому”и “низкому”я предпочитаю “допустимое”и “подавленное”
(то есть допускает ли властная структура возможность дискуссии),
а не абсолюта. Музей отторгает у вещей смысл. Это неизбежно.
Но в самой неудаче кроется индикатор успеха».
Джессика Стокхолдер. «Беседы с Линн Тилман», с. 34
«Мусор меня чрезвычайно интересует (как всех нас). Я широко пользуюсь им
в своей работе, потому что он привносит с собой процесс, который
продолжается независимо от того, что я с ним делаю. Работа сгниет;
она не будет с нами вечно, несмотря на наше желание, чтобы искусство
было вечно. Мусор —хлам, но моя работа не о хламе. Это важно, потому что
некоторые критики часто пишут о моей работе именно в этом духе.
Моя работа — о вещах. Часть из них хлам, часть — новые, часть — старье».
Африка, Азия
и Восточная Европа:
1992-2002
Поступательное развитие капитализма на Западе начиная с семнадцатого века вплоть
до века двадцать первого привело к благотворному обмену населением и культурными
традициями. Это следствие, во-первых, торговой и политической экспансии, а во-
вторых, если говорить об искусстве, то доступа к новым техническим и когнитивным
моделям творчества. Очарованность Запада восточным искусством в девятнадцатом
веке и широко известный интерес авангарда к примитивной скульптуре в начале
двадцатого — примеры продуктивной склонности к «заимствованию». Великие ко-
лониальные завоевания европейских народов, французов в Африке, британцев в
Индии, Канаде и Австралии, путем побед и поражений формировали облик совре-
менной культуры. Погруженность в свои переживания, свойственная художникам Ев-
ропы и Америки в конце двадцатого века, — всего лишь грань общего сдвига критиче-
ских ценностей и художественных интересов. Опусы Чепменов с их обличением евро-
пейского геноцида можно понимать как едкую эпитафию всей, целиком, западной
культуре. Конголезские полотна Люка Тюйманса, показанные в бельгийском павиль-
оне в Венеции в 2001 г., — как вклад в развернутые критические дебаты по поводу
постколониализма, вспыхнувшие на закате апартеида, словно бы вторя «Сердцу
тьмы» Джозефа Конрада (1899): и то и другое ведет к разговору о европейской вклю-
ченности в другие культуры и о неизбежном искажении их и недопонимании. Конец
эры колониальных завоеваний создал предпосылки для такого сдвига в сознании,
последствия которого коснулись нас пока что лишь вскользь. А недавняя великая вол-
на обновления, начавшаяся распадом Советского Союза и Восточного блока в
1985-1991 гг. и демонтажем системы апартеида в Южной Африке в 1994 г., принесла
еще больше потерь самобытным национальным культурам под натиском экономи-
ческой мощи Запада. Другая исторического масштаба перемена, случившаяся в по-
следнее десятилетие двадцатого века, стремительное распространение электронных
информационных сетей и глобального капитала, — заставила систему западной куль-
туры еще раз пересмотреть модели своего жизнеобеспечения. Достойной реакцией на
это не будет ни особый оптимизм, ни особый пессимизм. Задача скорее в том, чтобы
разобраться в процессе.
С. 184:
Кенджи Янобе
Проект «Атомный костюм»:
Танки. Чернобыль, 1997
См. рис. 7.15
Подъем Африки и Азии
Любому «иностранному» художнику, работающему в США или Европе в 70-х и начале
80-х, очень быстро давали почувствовать его (или ее) национальную принадлежность.
Обращение американцев с согражданами африканского и карибского происхождения
или же европейцев с иммигрантами, к примеру из Индии или Африки, напоминало по-
ведение колонизаторов и ущемляло национальные меньшинства в сфере образования,
здравоохранения и социального обеспечения. Для художника, представляющего одну
из таких групп, попасть в элитарные галереи, в редакции журналов, добиться коммер-
ческого успеха всегда стоило нелегкой борьбы, однако теперь такое положение вещей
тревожило изломленное сознание западной демократии сильней, чем когда-либо
раньше. Пакистанец Рашид Араин, если взять пример очень известный, поучаствовав
в конце 60-х— начале 70-х в радикальной группе «Черные пантеры», занялся само-
образованием и, начитавшись антиимпериалистических работ Франца Фанона,
Амилькара Кабрала и Пауло Фриере, сам составил свой «Черный манифест» для за-
теянного в 1978 г. журнала «Черный феникс», который в свой черед привел в 1987 г. к
основанию влиятельного издания «Третий текст: Критические перспективы развития
современного искусства и культуры». Точка зрения Араина, выраженная в «Черном
манифесте», состояла в том, что «проблемы современного искусства сегодня — это
следствие колониализма и сегодняшнего отношения к нему на Западе... мы должны
выйти за рамки формальных и эстетических соображений и взглянуть на историче-
ские факторы, которые последние несколько столетий влияли на художественное раз-
витие или подавляли его... современные культуры «третьего мира» в целом, и изо-
бразительное искусство в особенности, по сравнению с Западом остаются застойным
болотом». Араин считает, что, подражая художественным стилям Запада, художники
«третьего мира» «лишают себя корней», что это «не только отрывает их от своей соб-
ственной культуры и истории, но и ведет к отчуждению, охлаждению, подчинению
чуждым ценностям, а следовательно, обрывает всякую возможность развивать свое
искусство и продолжить традицию». Ссылаясь на слова Фанона из «Проклятых Земли»:
«Европейская роскошь — это настоящий позор, поскольку она основана на рабстве,
напоена кровью рабов и растет напрямую из почвы и подпочвы этого слаборазвитого
мира», он приходит к выводу, что колонизация «подавила развитие искусства и культу-
ру порабощенных народов, остановив историческое развитие их производительных
сил». В собственном творчестве середины и конца 70-х Араин пытался воспрепятство-
вать универсализму западной культуры, обыгрывая минималистские диагонали,
совсем непохожие на прямолинейные формы Андре или Джадда. Эти диагонали, в
свою очередь, отсылали зрителя к динамике сексуальных энергий и декоративным
узорам ислама: их «отличия» от западного минимализма в то время остались практи-
чески не замечены.
В своих последующих работах Араин широко заимствовал приемы западного
абстракционизма, но лишь затем, чтобы бросить им вызов на их же языке. Напольная
скульптура «Арктический круг» (1986-1988), формально напоминая работы Ричарда
Лонга в жанре ленд-арта, была составлена из пустых бутылок, какими пользовались
канадские индейцы инуиты до того, как колонизаторы с Запада познакомили их с алко-
голем. В той же манере «Белая линия через Африку» (1982-1988) оказалась полосой
выбеленных костей животных и напоминала о кровавой истории этого континента, и
прошлой, и настоящей. В серии минималистского типа картин, написанных в 80-90-х,
186 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
7.1. Рашид Араин
Зеленая картина IV, 1992-1994
Пять цветных фотографий с текстами
на урду и акриловая краска
по четырем фанерным панелям
1,75x2,08 м
Араин сделал еще один шаг в своем стремлении озадачить зрителя. В «Зеленой карти-
не-1» четыре зеленых панели (цвета пакистанского флага) располагались вокруг фото-
графий кровавых луж, снятых во время мусульманского праздника Курбан-Байрам,
когда приносят в жертву животных, — понимать это следовало как перифраз организо-
ванного политического насилия. Каждое изображение было прикреплено к газетному
заголовку на языке урду, посвященному таким событиям, как домашний арест Беназир
Бхутто или визит в Пакистан Ричарда Никсона. Разрабатывая далее свою идею «зеле-
ных картин», Араин использовал изображения свадебных даров, полученных его сест-
рой, а-ля Уорхол множил фотографии теленка, приготовленного для ритуального
жертвоприношения, с гирляндами цветов на шее (Илл. 7.1), или в манере поллоковско-
го дриппинга каплями краски изображал фрагменты колючей проволоки, вторгавши-
еся на территорию зеленого пакистанского флага. Все эти произведения эксплуатиро-
вали привычную западному абстракционизму решетчатую композицию, в то же время
как бы намекая на содержание, лежащее за порогом понимания среднего европейско-
го зрителя. «Это не просто смешение западной и восточной изобразительности, — пи-
сал Араин. — Девять панелей — это результат работы ножницами. Сначала я беру пря-
моугольную минималистскую плоскость или же панно и закрашиваю его зеленым, что
подразумевает природу, незавершенность, молодость, незрелость. Потом это панно
разрезается по вертикали и горизонтали, так что получаются четыре панели, которые
я раздвигаю так, что между ними образуется крестообразное пространство. Этот крест
заполняется материалом, который не соответствует чистоте минимализма». Араин
вежливо указывает на лицемерное присвоение Западом стиля поведения «другого»,
так называемого «третьего мира», которому дозволено самовыражаться, лишь пока он
говорит о том, что делает его «другим». Господствующий дискурс, говорит он, до такой
степени одержим культурными различиями и идентичностью, что не способен пой-
мать в фокус само произведение искусства.
Подъем Африки и Азии 187
7.2. Джимми Вулулу
Magiciens de la Terre
(«Волшебники земли»)
Инсталляция в Центре Помпиду,
Париж, 1989
И Араин, и другие теоретики постколониализма не раз говорили, что проблема
коренится не в колонизуемых, а в колонизаторах. Писатели Эдвард Саид, Хоми Бхаба.
Гайатри Спивак, чьи труды породили на Западе целую академическую субкультуру,
внесли свой вклад в дискуссию о роли субъективизма и идентичности при репрезента-
ции «другого» властью колонизаторов, о преобразованиях, привнесенных насилием,
неравенством, вынужденной миграцией. Хотя Эдвард Саид в своей книге «Ориента-
лизм» (1978) и не обращается к проблемам современного искусства, выводы его впол-
не ясны. В той или иной форме ориентализм восходит в XVII веку, а в начале двадцатого
он мощно обратил на себя внимание в работах Гогена, Пикассо и экспрессионистов,
которые использовали экзотические и примитивистские формы, пытаясь найти путь к
более замкнутому западному сознанию — и итогом этого поиска, увы, стали лишь
дальнейшие стереотипы ухода белого человека в химеры ориентализма, наива и «при-
родности». Концепция мультикультурализма, настойчиво продвигаемая в 80-х и 90-х
годах в работах Бхабы, столкнулась, однако, с сопротивлением Араина. Для Араина
мультикультурализм — это орудие имперских амбиций, существующих и поныне, хотя
и не являющихся более универсальными и открытыми. Он напоминает, что художни-
ки всегда мигрировали между культурами, и не по принуждению, не из бедности, а для
того, чтобы реализоваться в экономически благополучных системах. Наименее
привлекательная версия мультикультурализма, говорит Араин, «это когда деятели
искусства из бывших колоний сотрудничают с художественными
учреждениями Запада в продвижении продукта, который можно
назвать постколониальной экзотикой».
Ну, столь негативно рассматривать усилия кураторов в пользу
ассимиляции было бы, пожалуй, несправедливо. Надо сделать не-
сколько оговорок. Первая: отнюдь не все художники, введенные
кураторами в западную выставочную систему, — из бывших евро-
пейских колоний. Вторая: физическое перемещение художника из
одной культуры в другую — больше не единственный повод при-
влечь внимание искусствоведов: персональные выставки или щедро
иллюстрированные журнальные статьи можно устроить независимо
от места проживания или работы художника. И третья: благодаря
возможности путешествовать, все больше художников на границе
столетий идентифицируют себя с несколькими нациями сразу. На-
циональность становится идеей зыбкой.
Эти обстоятельства можно проиллюстрировать одно за дру-
гим, по очереди. Панорамным и амбициозным предприятием вось-
мидесятых стала выставка-блокбастер «Magiciens de la Terre» («Вол-
шебники земли»), проведенная в Центре Помпиду в 1989 г. (Илл. 7.2).
Кураторы, Жан-Юбер Мартин и Марк Франсис, предприняли попыт-
ку представить широту культур, собрав современных художников со
всего мира по сугубо этническому принципу, как «рожденных в дан-
ной культуре». Поместив Ниче Кайи Байрахария из Непала, Доссу
Амиду из Бенина, Санди Джека Акпана из Нигерии, инуита Паулоси
Кунилюси и австралийца Джимми Вулулу рядом с такими устоявши-
мися европейскими именами, как Джон Балдессари, Ханс Хааке и
Нам Джун Пайк, кураторы вызвгши сомнения, не есть ли это квази-
колониальная политика в современном обличье. Бенджамин Бухло
188 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
в интервью с Мартином выразился в том смысле, что проект попахивает «культурным
и политическим империализмом... поскольку требует, чтобы эти культуры пред-
ставили свой культурный продукт для нашей инспекции и потребления»; что он пал
жертвой «культа пресловутой аутентичности, которая не прочь заставить другие
культурные практики остаться в пределах той территории, которую мы рассматрива-
ем как “примитивную” и “другую”». Выставка вызвала яркие впечатления и множество
откликов, но провозглашенная Мартином цель «показать художников со всего мира и
покинуть гетто современного западного искусства, где мы заперты столько десяти-
летий», в известной мере вызывала опасность очередной фальсификации представле-
ний о современном искусстве, которые Запад штампует, дабы приобщиться к инозем-
ной магии, которой, как водится, всегда не хватает дома. Тем не менее «Волшебники»
пользовались несомненным успехом и сохранились в памяти (отчасти благодаря рос-
кошному каталогу), не говоря уж о том, что свет узнал множество художников, дотоле
безвестных.
Компромисс между ростом известности и неизбежным искажением смысла, ко-
торый сопровождает ассимиляцию, непременно сопровождает представителей быв-
ших колоний при столкновении с Западом. Положение художников из народностей,
исторически потесненных белыми, например североамериканских индейцев, тоже
было несладким. Индейцы из племени чероки Эдгар Хип-оф-Бёрдз и Джимми Дарем с
трудом вписались в западную арт-систему, и то благодаря тому, что кураторы пустили в
оборот те символы идентичности, которыми этр! художники впервые себя проявили.
В случае Дарема это черепа, перья, кусочки дерева, палки и умеренная шутливость на
тему телесного. Дарем участвовал в политических движениях американских индейцев
60-70-хгодов, а затем дрейфовал;, пока не пристал к небольшой нью-йоркской выстав-
ке «По ту сторон\; эстетики», где в 1981 г. показал свои работы вместе с пуэрторикан-
цем Хуаном Санчесом. Сила Дарема кроется в его способности разоблачить бедолагу-
куратора, примеривающего концепцию «аутентичности» к культурам, которых не по-
нимает. «Аутентичность — это расистская концепция, которая функционирует, чтобы
держать нас взаперти «в нашем мире» ради удобства господствующего общества», —
говорит Дарем, разумея общество, закованное в представления о самообладании ин-
дивидуума, его самодостаточности и праве собственности. Все эти качества категори-
чески не соответствуют тому, как воспринимают себя аборигены Америки: «Значение,
которое европейская культура придает суверенности гражданина и его частной собст-
венности. чуждо сознанию американского индейца, осознающего себя неотъемлемой
частью сообщества, история и знания которого запечатлены в границах родной зем-
ли». Или вот еще: «Нам дали аутентичность — она навязана нам, — следовательно, ин-
дейцы хотят быть аутентичными, особенно в глазах тех, кто видит нас таковыми».
Представления художников-индейцев о способах художественной репрезентации
столь подчинены сознанию белой аудитории, что каждый из них своим путем сотруд-
ничает в создании «наива», который потребен мифологии белых, чтобы чувствовать
себя завершенной. И все-таки этот парадокс в сочетании с естественной склонностью
североамериканских индейцев к языковой игре, шуткам и иронии, обернулся на благо
как главная черта насмешничающих над собой скульптур и изображений Дарема. Они
вступают в противоречие с ожиданиями западной аудитории, даже в рамках энерге-
тичной эстетики подначек и «фиги в кармане». К примеру, его «Автопортрет, притворя-
ющийся Розой Леви» (1994) богат дюшановской иронией, выраженной с силой, кото-
рая выходит далеко за пределы привычного обращения к приемам Дюшана (Илл. 7.3).
Подъем Африки и Азии 189
7.3. Джимми Дарем
Автопортрет, притворяющийся
Розой Леви (деталь). 1994
Карандаш, акриловые краски,
цветная фотография
Пародийные и лаконичные работы
Дарема выражают не самоидентичность
племени чероки, а ту идентичность,
которую предлагает чероки белый посе-
ленец. «Одна из самых ужасных сторон
нашей жизни сегодня состоит в том,
что никто из нас не чувствует своей
аутентичности. Мы не чувствуем, что мы
настоящие индейцы... Мы чувствуем
в основном вину и стараемся соответст-
вовать ожиданиям белого человека»
Кто эта Роза Леви? По всей видимости, еврейское воплощение женского «Зльтер эго»
Дюшана, «Роз Селяви» (обыгрывание фразы «Eros, c’est la vie»). Однако фигура, изобра-
женная Даремом, определенно мужская и ничуть не напоминает Марселя Дюшана
в женском платье. «Чероки — потешный народ, — говорил Дарем, — мы вечно шутим.
Я думаю, так было всегда... Думаю, это защита от того, что происходило с нами в
последние три века». Дарем всегда называет себя современным художником, а не ин-
дейским. Это, надо полагать, сознательная попытка избежать того стереотипа, что
«индейскость» есть аспект географически и исторически удаленной культуры.
Эта игривая и все-таки саркастическая реакция на контексты идентичности,
предложенные столичным западным модернизмом, оказалась буквально определяю-
щей для постколониального искусства последнего времени: с точки зрения ведущих
кураторов и критиков Запада, она стала источником его силы и доходчивости. Физиче-
ское переселение художников в Нью-Йорк, Лондон или Берлин, разумеется, не обяза-
тельно — хотя помогает. В любом случае стратегия одна и та же. Например, попытка
использовать язык господствующих дискурсов воодушевила таких маргинализиро-
ванных канадских художников, как Джейн Эш Пойтрас из племени кри и Шелли Ниро
из племени могаук. Получается, к примеру, что работы Ниро параллельны Шерри Ли-
вайн и Синди Шерман, и не только стратегически, в использовании фотодокументов,
дабы отвергнуть визуальные ожидания маскулинной культуры, и не только формаль-
но, в использовании фотоязыка или отсылок на кинематограф, но и в ироническом
сдвиге представлений белого человека относительно групп людей, чьи традиции он
постепенно и небезболезненно подменяет своими. Для маленькой, раскрашенной от
руки фотоработы «Бунтарка» Ниро сфотографировала свою мать, которая, опершись
на локоть, вальяжно лежит на забрызганном грязью багажнике семейной машины
190 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
(Илл. 7.4). Пародируя стереотипные рекламные картинки типа «красавица и лимузин»,
она умело стирает лоск с представлений доминантной культуры о красоте, собствен-
ности и статусе. Такие жесты «аборигенов» успешно проникают с целью подрыва в
дискурсы западного искусства, поскольку перенимают их языки и коды — даже аван-
гардные. Здесь маргинальное использует свою маргинальность именно для того, что-
бы оккупировать, а оккупировав — переместить центр.
Постколониальная миграция современных художников, представителей угне-
тенных или отдаленных культур, в благополучные и культурно-эклектичные метро-
полии Америки и Европы войдет в историю как великое культурное переселение двух
последних десятилетий, причем масштабы и структура этого сдвига таковы, что и в од-
ной книге его не описать, и одной выставкой не охватить. Как показывают три послед-
них примера, процесс этот сложен, как сложна сама мировая политика. Разве способно
однородное, однолинейное представление о современном западном искусстве пере-
жить такую перемену'?
Точно так же, перемещаясь на Восток, западный глаз сталкивается с аспектами
собственной позднемодернистской культуры, корни которой мы благополучно поза-
были, недопоняли или не заметили. Когда японская художница Йоко Оно в 1964 г. сто-
яла на сцене Карнеги-холла, исполняя свой перформанс «Cut Piece», и присутствующих
просили раздеть ее, по куску отрезая от платья, мысль о самозабвенных буддистских
медитациях, возможно, обошла западного наблюдателя. С тех пор в японском искусст-
ве можно отметить два противоположных, но взаимодополняющих явления в той ху-
дожественной среде, которая успешно ассимилировалась на Западе. Первое, возрос-
шее на плодах высокотехнологичной революции в сфере потребления Японии 80-х,
внедряет в новые манерные медийные формы прием пустоты и повторяемости. В боль-
шой публичной инсталляции для выставки в Сеуле 2000 г. токиец Такехито Коганезава
создал дрожащий видеостоп-кадр, на котором два молодых человека с любезным выра-
жением на лицах взирали на суетящихся внизу посетителей. Эта работа многозначи-
тельно возвышалась между видеороликом, рекламирующим неизвестно что, и вполне
бессодержательным выпуском новостей. На другом конце технологического спектра
7.4. Шелли Ниро
Бунтарка, 1987
От руки подкрашенная
черно-белая фотография
располагались перформансы уроженки Осаки Ши-
хару Шиоты, в которых фетиш технологии наира-
дикальнейше отвергался для того, чтобы напря-
мую войти в контакт с самыми низкими, которые
только нашлись, формами физической материи.
Здесь любопытная перекличка с дадаистскими
хепинингами группы «Гутай», созданной в 1954 г. в
ответ на реакционный художественный контекст
эпохи. Тогда Ширага, Йошихара, Мураками и про-
чие в течейие заданного времени «случайным жес-
том» создавали картины, орудуя краской, глиной и
бумагой. Для Шиоты перформанс «Ванная комна-
та» (1999) характерен. Погрузившись в ванну с
грязью и тиной, она опрокидывала это себе на го-
лову, кувшин за кувшином, делая это медленно и
монотонно, чем не только выходила за пределы
свихнувшейся на чистоте культуры родного ей
среднего класса, но и проделывала циклическую
Под ъем Африки и Азии 191
7.5. Шихару Шиота
Ванная комната, 1999
Перформанс, видеокадр
церемонию надевания маски, ее снимания и обновления через самоотречение, подчи-
нение себя дискомфорту и физически низкому (Илл. 7.5).Такие перформансы, как «Во
сне» и «В молчании», оба 2000 г., утвердили в бурно развивающейся художественной
среде Берлина, где Шиота теперь живет, ее репутацию почти традиционного авангар-
диста японского типа.
Можно честно признать, что идиома перформанса, сформировавшего направле-
ние западного модернизма со времен его основателей Алана Капроу и Роберта Уоттса,
свои глубочайшие корни имела не в европейском дадаизме, а в ориентальных духов-
ных практиках, аскезе, трансцендентности и нелинеарных структурах, обнимающих
противоречия и перемены. Выражение древних буддистских, даосских или конфуци-
анских установок в современных технизированных обществах ни в коем случае не пря-
молинейно — и становится еще более сложным для понимания при наложении на них
колониальных или политических репрессий в государствах современной Азии. Возь-
мем Тайвань. После длительной японской колонизации (1895-1945) там при поддерж-
ке США правила националистическая партия гоминьдан, а в 70-е годы началось так на-
зываемое «нативистское движение», выступавшее за обретение утраченной самобыт-
ности, «рекитаизацию» тайваньской культуры и сопротивление вестернизации, под-
держиваемой военным режимом, действовавшим вплоть до 1987 г. Только потом
появились более либеральные идеи: приметой этого стала выставка «Международный
дадаизм», открытая в 1988 г. в новом Музее изобразительных искусств в Тайбэе. Крити-
ческое напряжение между навязываемой «национальной» идентичностью и притяга-
тельностью западного капитализма выразилось в авангардистских жестах, прибегаю-
щих к испытанию физической выносливости как форме политической экспрессии.
Так, в 1983 г. Ли Миныпень предпринял попытку за сорок дней на ногах преодолеть
1400 км (затея не удалась), а в 1984 г. он же в течение 113 дней носил на спине груз
в 3 кг, закрепленный там цепью с висячим замком. Ли уверял, что легче носить это
бремя, чем преодолеть социальное и политическое давление власти. В 1987 г. его пер-
форманс «Ни бегом, ни шагом» выразился в участии в национальном марафоне — он
192 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
двигался на четвереньках и прибыл к месту финиша перед президентским дворцом на
две недели позже остальных участников марафона — к явному неудовольствию по-
лиции. Его соотечественник Чен Чижен выражал свой политический протест с той же
долей личного риска. Во времена действия военного положения, когда политические
демонстрации были запрещены, он устраивал перформансы на людных улицах города.,
выглядели они как «обычные» и в то же время политически провокативные действия.
В последнее время Чен работает с цифровой фотографией, создавая смелые метафоры
политического насилия. Например, в его «Возрождении» (2000) больные сограждане с
какими-то ременными приспособлениями на гениталиях лежат и умирают в холодном
искусственном свете вестибюля метро или больничного коридора (Илл. 7.6). Экспрес-
сионистские по форме и содержанию., такие работы пользуются возможностями фо-
тографической манипуляции в той манере, которая категорически противостоит
обычному ее применению в рекламе и глянцевых журналах. Прогнозируя возможное
наступление эпидемии, Чен говорит о том, что люди с улицы отчуждены от достиже-
ний науки, которые должны были бы улучшить их жизнь.
Значительную долю философического в тайваньском искусстве — если не его
политический фокус — можно найти в творчестве Течинг Си. По образованию жи-
вописец, Си начал свою карьеру в жанре перформанса, когда в Тайбэе выпрыгнул из
«окна очень высокого второго этажа», сделав это с такой метафорической и физиче-
ской самоотдачей, что остался в культурной памяти соотечественников даже после
того, как в 1974 г. нелегально эмигрировал в Нью-Йорк, где продолжал устраивать
7.6. Чен Чижен
Возрождение, 2000
Цветная фотография
Подъем Аф рики и Ази и 193
7.7.ТечингСи
Годичный перформанс, 1981-1982
Документальная фотография
«представления на выживание», проходившие поч-
ти незамеченными, пока в 2001 г. не прошла его
ретроспективная выставка. Перформансы Си отли-
чаются дисциплинированным отношением ко вре-
мени и взаимодействием между временной мнитель-
ностью и проблемами выживания, повторяемости,
воздержания и отказа от обычных форм удовольст-
вия. Все условия заранее оговариваются в «контрак-
те» между художником и его аудиторией, который
действует в течение года. Именно на такой срок,
выполняя проект «Клетка» в 1978-1979 гг., Си зато-
чил себя на чердаке в зарешеченной каморке, с
обязательством не разговаривать, не читать, не
писать, не смотреть телевизор и не слушать радио;
одиночество прерывалось лишь ассистентом, ко-
торый ежедневно приносил еду и выносил ведро с
нечистотами, да еще, изредка, любопытствующими,
приходившими убедиться, что акция действительно происходит. В ходе перформанса
«Время» (1980-1981) Си нажимал на кнопку шахматных часов каждый час двадцать че-
тыре часа в сутки опять же в течение года, причем камера для покадровой киносъемки
в момент нажатия всякий раз делала стоп-кадр, так что теперь на DVD можно увидеть
весь год, спрессованный в шесть минут. Весь следующий год (проект назывался «Годич-
ный перформанс») Си провел под открытым небом, не заходя даже в магазин купить
еды (Илл. 7.7), единственным его нарушением был казус, когда его после уличной пота-
совки силой притащили на допрос в нью-йоркский полицейский участок. Его пока что
последний, шестой за тринадцать лет, с 1986 по 1999 г., годичный перформанс состоял
в том, чтобы «остаться в живых» вплоть до наступления нового тысячелетия 31 декаб-
ря, но в остальном не делать решительно ничего, что могло бы считаться «искусством».
Такие перформансы — теперь они в равной степени вошли в мифологию тай-
ваньского авангардизма и международной арт-сцены Нью-Йорка — подводят к самым
границам допустимой художественной выразительности (и за них) целый ряд вопро-
сов относительно концептуализма, документализма, личного и общественного пове-
дения, и на вопросы эти никогда не будет внятного ответа. В чем компромисс между
личным риском и дискомфортом и публичным выражением идей? Как много или как
мало документальных свидетельств требуется для того, чтобы восстановить авангар-
дистское произведение как темпоральную и экзистенциональную структуру, которая
во всех других отношениях выглядит как уход от формы, действия и композиции? Ка-
ковы лимиты и пределы привнесения искусства в жизнь или жизни в искусство и в ка-
ких обстоятельствах мы готовы допустить возможное исчезновение различий? При пе-
реезде Си из далекого Тайваня в беспокойный Нью-Йорк какая доля его действий (или
бездействия) нуждается в переводе и с какими приобретениями и утратами? И нако-
нец, теперь, когда Си отрекся даже от «времязатратного» искусства (как он сам это на-
зывает), благодаря которому сделал себе имя, склонны ли мы сказать, что он больше не
художник — или эта категория эластична до того, что выдержит и такое?
Похоже на то. Поскольку следует понимать, что чем незначительней физические
знаки авангардного искусства, тем политизированней его создатель. Взаимовлияния
знака и предмета, которыми отмечен западный авангардизм еще со времен группы
194 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
«Гутай» или абстрактного экспрессионизма, продемонстрировали, как необходимы
эти два термина друг другу, даже в рамках одной культуры. Перевод жестов с языка тела
на язык культуры в условиях миграции лишь усложняет те признаки тревоги и озабо-
ченности, которые мы исследуем в этой книге. Взглянуть на самое смелое экспрессив-
ное искусство континентального Китая со времен неудавшейся либерализации 80-х—
значит лоб в лоб столкнуться с подобными загадками перевода. «Политизированная
плоть» — вот термин, присвоенный одним из критиков самым экспериментальным
формам нового китайского авангарда, — но чья это политика, для кого? Исконные ки-
тайские традиции были нарушены вмешательством коммунистической идеологии
эгалитаризма и коллективизации при основании КНР в 1949 г.; в культурную револю-
цию конца 60-х— начала 70-х это разрушительное влияние достигло своего апогея. За-
тем, в 80-х, насильственный альянс между маоизмом и буддизмом столкнулся с соблаз-
нами рыночных ценностей Запада — и с тех пор участие Китая в международном сооб-
ществе воплотилось в множестве форм. Тот круг художественных средств и приемов,
что был представлен на замечательной выставке «Китайский авангард» в Националь-
ном дворце изящных искусств в Пекине в феврале 1989 г. — всего за четыре месяца до
кровавых событий на площади Тяньаньмынь, — свидетельствовал о возрождении
культуры. По существу, «Китайский авангард» оказался ретроспективным отчетом
180 художников, своим откровенным и дерзким творчеством получивших известность
в 80-х. Выставка стала выражением торжества независимости над механизмом офици-
ального контроля. Группа «Китайская да да» проложила по всему зданию веревку со
своим названием, прикрепленным с интервалом в метр. Венда Гу, уже с 1987 г. живущая
в Нью-Йорке, выставила свои фотографии. Целый зал был наполнен скульптурами, ин-
сталляциями и картинами группы «Culture Research Group South West» и живописными
работами Ванга Юшеня и Лю Сяодонга. Тогда картины студента Фанга Лиджуна впер-
вые привлекли внимание публики — и скоро Фанг добился сюрреалистического, за-
бавного и в высшей степени тревожащего эффекта. (Илл. 7.8). Редактор журнала
7.8. Фанг Лиджун
№2.1990-1991
Масло, холст
«Если выражения лиц выписаны очень
точно, а движения и позы переданы
невнятно, изображение становится
немного выморочным... однако самый
реалистический портрет ухватывает
эти неопределимые эмоции и потому
формирует пространство, двигаясь
от конкретного к неизмеримому... Чтобы
написать человеческоетело, я пользу-
юсь. не смешивая ее, краской, которую
производитель продает под названием
"цвет плоти". Если глаз воспринимает
это как абсурд, значит, можно считать
доказанным, что абсурдны многие идеи,
которые кажутся нам естественными»
Подъем Африки и Азии 195
«China’s Fine Arts» Гао Миньлу написал в каталоге, что «душа современного искусст-
ва — это осведомленность о современности, то есть самопознание и новое понимание
того, как существуют люди сегодня, каковы их отношения с миром и той вселенной, в
которой они живут». Изобразительным слоганом выставки стал плакат с дорожным
знаком «Разворота нет».
Выставка «Китайский авангард» обозначила новую веху и в жанре перформанса.
На ее открытии художник Сяо Лу выстрелила в произведение, которое сама же и сдела-
ла совместно Танг Сонгом. Выставку немедля закрыли, а стрелявшую арестовали. Со
времен Тяньаньмынь китайский перформанс ушел в подполье. В начале 90-х так на-
зываемая группа «Восточная деревня» в Пекине стала проводить перформансы где-то
подальше от полицейского глаза, только для приглашенных. И все-таки нашествие за-
падного рынка и вызванные этим конфликты в сознании потребителя направляли ху-
дожников к сексуально-провокативным действиям, диаметрально противоположным
«официальной» политике, ратующей за традиционное искусство и социалистический
реализм. Работы Ма Люминя, личности среди западных ценителей легендарной, ил-
люстрируют этот жанр. В 1993 г. он придумал андрогинный персонаж по имени Фен
Малюминь: художник, накрашенный, как женщина, в цветастом платье, алхимически
сочетая в себе оба пола, мастурбирует перед приглашенной аудиторией, а затем выпи-
вает сперму. В 1998 г. Ма проделал вариацию на ту же тему на скандальной выставке
«Наизнанку» в Нью-Йорке; обнаженный, он приглашал посетителей сесть рядом и
сфотографироваться. Таким образом художник, который держал руку на спуске и сам
7.9. ЗангХуан
Моя Америка
(Трудности акклиматизации), 1999
196 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
определял момент съемки, становился зрителем собственного перформанса, посвя-
щенного проблеме культурной миграции и, надо полагать, ошибкам перевода.
И снова — только тело мигрирует между континентами и культурами, или меж-
ду одним анклавом домашней культуры и другим:.; а в процессе перевода культур так
легко затуманить смысл исходного высказывания. Движущей основой китайских пер-
формансов часто бывало предельно сильное чувство гнева, вызванное и давлением со
стороны властей, и нашествием чужеродной материалистской культуры (особенно
американской). Достаточно назвать Шеня Ки из группы «21 век», который отрезал себе
мизинец в знак протеста против побоища на площади Тяньаньмынь, а в последние го-
ды делал инъекции китайских лекарств живым цыплятам, калечил их, мочился на их
помятые тельца — все это протестуя против механизированного производства пищи
для предприятий быстрого обслуживания в современном Китае. В перформансе «По-
хороны льда» (1992). проведенном во время летнего солнцестояния, художник Ки Ли
покрыл свое тело льдом, чтобы тепло, исходящее от тела, превратило лед в воду; таким
образом, перформанс должен был завершиться его смертью. Но на деле Ли успели
госпитализировать, выставку закрыли, а художник провел в заточении еще полгода, а
потом без свидетелей покончил с собой; впоследствии, в 1997 г., эта трагедия легла в
основу фильма Ванга Сяошуая «Замерзший» («Frosen»). Рассказывать о таких событи-
ях — значит, осознавать не только степень политической несвободы, которую прихо-
дится претерпевать молодым художникам Азии—Ли с его метафорой «таяния» вполне
внятно высказался за долгожданную культурную оттепель, — но и те ценности теле-
сного существования, которых западный человек, как правило, не разделяет и, скорей
всего, разделить не может. Занг Хуан, также член пекинской группы «Восточная дерев-
ня», сочиняет сценарии, для которых необходимы множество участников и физичес-
кая стойкость художника. Последняя была продемонстрирована в ходе перформанса
«65 кг» (1994), когда художник, связанный и с кляпом во рту, был подвешен к потолку, а
из нанесенных ему надрезов капала кровь. А в более поздней его работе «Моя Америка
(Трудности акклиматизации)», исполненной в Художественном музее Сиэтла в 1999 г.
(название напоминает работу Бойса 1974 г.), голый Занг сидел, опустив ноги в воду, а
голые мужчины и женщины европейской расы на трех уровнях бегали вокруг, время от
времени бросая ему хлеб. Начавшееся как некий буддистский молитвенный ритуал,
действо заканчивалось хлебной бомбардировкой. Все это вызвало мысли о западном
благоговении перед молчанием Востока, об экономической зависимости между за-
падным и восточным мирами и еще, возможно, о «виктимном» свойстве восточных
культур под угрозой обстрела западными ценностями (Илл. 7.9). Недавняя эмиграция
Занга в Нью-Йорк сделала возможной более масштабные и сложные представления, и
китайские проблемы «переводятся» на языки, допускающие возможность столь желан-
ного международного диалога.
Восточноевропейский ренессанс
Несомненно, рыночная экономика Запада сыграла заметную роль в последней волне
либерализации, последовавшей за смертью Дэн Сяопина в 1997 г. Влиятельные аукци-
онные дома ранга «Сотбис» и «Кристи» с начала 90-х проводят аукционы современного
китайского искусства, а по Европе и США прокатилось несколько передвижных экспо-
зиций, которые способствовали продвижению репутаций, если уж не самих художников.
Восточноевропейский ренессанс 197
По такой же примерно схеме развивался и прогресс современного искусства в пост-
советской России и странах бывшего Восточного блока — еще одном геополитическом
регионе, который после развала тоталитарного коммунизма обнаружил себя в квази-
колониальных отношениях с культурным влиянием и экономической мощью Запада.
Такое заявление требует объяснений. Современным художникам в России изве-
стно, что Кабаков, Комар и Меламид, Леонид Ламм, Леонид Соков и другие теперь жи-
вут и работают в Нью-Йорке. Кроме того, им известно, что крупные собрания послево-
енных художников-«нонконформистов» великолепно представлены в Художествен-
ном музее Циммерли при Университете Рутгерса в Нью-Джерси, где служат уникаль-
ным окном в исчезнувший мир. Известно им также и о западных искусствоведческих
журналах, которые проводят дискуссии и формируют репутации, о системе частных
выставочных галерей, которые рискуют показывать работы неизвестных талантов и
питают жадный на новизну художественный рынок. Молодые художники со всей Вос-
точной Европы ищут возможности показаться на биеннале и триеннале, которые мно-
жатся в городах Европы, Америки, Азии, даже Австралии. И удивительно: как бы ни
скромна была репутация художника в международных кругах, в этом «кочевом племе-
ни», по выражению одного русского критика, все-таки домашняя его репутация всегда
ниже, и в арт-журналах, и на радио, и на TV. Это болезненное обстоятельство. С одной
стороны, России по-прежнему не хватает художественной инфраструктуры: учебных
заведений, журналов, общественных и частных галерей, посвященных современному
искусству, — у нации такого масштаба и престижа то, другое и третье можно сосчитать
на пальцах одной руки. Система обмена информацией скудна и плохо обеспечена.
Большинство российских городов из-под руин СССР выбрались облезлыми и отсталы-
ми, что скрашивается лишь ностальгической патиной да фотогеничным, хотя и ужа-
сающе разрозненным материалом. С другой стороны, российские традиции советских
и досоветских времен предусматривают для художника множество ипостасей: он и
философ, и шаман, и политическая фигура, и волшебник, и оракул, — короче говоря,
воплощение огромной общественной и моральной мощи. Дистанция между этими
традициями и текущей реальностью — самая драматическая.
7.10. Олег Кулик
Я люблю Европу, а Европа не любит
меня., 1996
Перформанс. Берлин
В этой версии перфоманса Кулик
изображал собаку. Он был голым, бегал
на четвереньках, приставал к прохожим,
пока его не забрали в полицию
198 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
И все-таки, следуя какой-то иной логике, современное искус-
ство Москвы и Петербурга сумело извлечь из этой загадки созида-
тельную энергию. Критик Екатерина Дёготь указывает один из ее ис-
точников: это тот факт, что с 60-х годов все меньше людей в России
всерьез верило в коммунизм, а поскольку карьерных возможностей
было наперечет, художники направляли творческую энергию на
свои увлечения, тайные «проекты» и просто на то, чтобы выжить: так
накопилось мастерство, которое теперь выходит на свет разнообраз-
ными проявлениями, известными как «искусство». Во-вторых, напо-
минает нам Деготь, после развала СССР в 1991 г. страна сделала раз-
ворот к свойственной ей непредсказуемости и хаосу, и сделала это не
осознанно и не сама собой, а по праву — и таким образом в принципе
вывела себя за пределы понимания с точки зрения большинства за-
падных наблюдателей. Неудавшийся переворот 1991 г., ряд грубых
военных ошибок в Чечне, уличная преступность, внутренний тер-
роризм, политический сюрреализм в виде старых коммунистов, сме-
нивших цвета, чтобы приспособиться к псевдорыночным отноше-
ниям, — эти реальности быстро превратились, по словам Деготь, «в
тотальный эстетический проект посильнее того, какой мог бы
замыслить любой художник». Результат вылился в «акционизм» —
термин заимствован у венского движения 60-х годов, — провозгла-
сивший глубокое презрение по отношению к формальным радостям
искусства и величайшую неуверенность в новой, пробной россий-
ской идентичности как в своих собственных глазах, так и, визави, в
7.11. Александр Бренер
Первая перчатка, 1996
Перформанс, Москва
глазах Запада. К примеру, «посттравматические», по выражению Де-
готь, акции Александра Бренера и Олега Кулика выделяли все неустоявшееся, несисте-
матичное, хаотическое — и были с интересом восприняты на Западе. В акции 1994 г.,
изображая собаку, которая гавкает, испражняется, кусает прохожих, Кулик привлек к
себе внимание ведущих московских газет и местного телеканала, а затем и арт-прессы
Германии, Британии и США (Илл. 7.10). В другой своей акции, «В сердце России», Кулик
симулировал содомию с животными и засовывал голову в вагину коровы: это следова-
ло понимать как политический символ насильственной коллективизации.
Александр Бренер, с другой стороны, пытался восстановить некую форму персо-
нальной телесной идентичности, которая ритуально (по крайней мере, официально)
предписывалась при тоталитаризме, и доказывал, что такие попытки, как правило, не-
удачны. В середине 90-х он на городском тротуаре, в морозную погоду пробовал сово-
купиться с женой. Еще он пытался прорваться в Министерство обороны, чтобы надеть
министру домашние тапочки: а в разгар войны в Чечне прыгал по Красной площади в
боксерских перчатках, выкрикивая, что вызывает на бой Бориса Ельцина (Илл. 7.11).
Позже, в 1996-м, во время, акции в Музее Стеделийк в Амстердаме Бренер зеленой кра-
ской из баллончика изобразил знак доллара на шедевре Малевича «Белый квадрат на
белом фоне», за что был арестован и посажен в тюрьму. А Авдея Тер-Оганьяна, который
сейчас преподает «искусство провокации» в собственной маленькой художественной
школе, судили и приговорили к сроку заключения за то, что он публично разбил топо-
ром почитаемую икону”. Столь катастрофические взаимодействия с повседневной ру-
тиной или культурными знаками — это примета агонии, претерпеваемой известной
частью современного российского искусства, которое было замечено на Западе и
Восточноевропейский ренессанс 199
7.12. Владимир Дубоссарский
Праздник урожая, 1995
Холст, масло
2x4,5 м
даже, как и следовало ожидать, добилось известной доли непонимания: это акции по
определению не транспортабельные и неповторимые, их не поместить в музейные
собрания, они живут только в памяти. Резкий экономический спад в Германии и Япо-
нии в сочетании с обычной замкнутостью западных музеев означал, что современное
русское искусство, за очень небольшим исключением, останется непознанной терри-
торией. Тот же вывод в целом справедлив и относительно Центральной и Восточной
Европы.
С другой стороны, авантюрность и предприимчивость музейных кураторов, в
90-е годы организовавших несколько заметных передвижных выставок, открыла миру
такое ушедшее в прошлое художественное течение, как социалистический реализм.
Самая продуманная из них, «Агитация за счастье», проведенная в Государственном
Русском музее и на вспомогательных площадках Финляндии и Германии, впервые за
десятилетия представила идеологически тенденциозное искусство сталинских лет, мо-
нументальные полотна с жизнерадостными трактористами, кипящими энтузиазмом
гимнастами и суровыми аппаратчиками. Само по себе это было значимо для той части
аудитории, которая еще помнила 40-е и 50-е годы, но оказалось важно и для более мо-
лодых художников, которые родились слишком поздно, чтобы своими глазами видеть
многие из картин, и теперь убеждались в изобразительной мощи и технической
грамотности официально поддерживаемого и руководимого сверху искусства. Что и
говорить, в изобилии было и образцов для пародий. Так, живописец Владимир Дубос-
сарский взял прототипом знаменитый «Праздник урожая» Александра Герасимова
(1931) и осмеял его в собственном эпических размеров «Празднике», показав близ
вспаханного поля и слегка модернизированной фермы оргию обнаженных тел. На пер-
вом плане мы видим сытых уток и гусей и те самые спелые фрукты и овощи, что в ори-
гинале призваны были создать иллюзию сельскохозяйственного изобилия, а теперь
служат метафорой радостей свального греха (Илл. 7.12). Не менее пародийны фотогра-
фии Арсена Савалова из Украины, который три недели провел в одной из шахт Донбас-
са и уговорил покрытых угольной пылью шахтеров в конце смены надеть балетные
пачки как обозначение традиционной русской культуры. Результат, коллизия мужской
энергии и женской воздушности, словно пронзает током, глубоко задевает (Илл. 7.13).
200 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
Выставленные в провоцирующем рефлексию музейном пространстве (я видел серию фо-
тографий Савалова в Норвегии), эти контрасты «работа —удовольствие», «свет — тьма»,
«политика — культура», «мужское — женское» резонируют с политическими и соци-
альными смыслами, далеко превосходящими их очевидно юмористические свойства.
Немедля возникает вопрос, до какой степени возможно убедить международ-
ную общественность в значимости такого рода работ за пределами национальных гра-
ниц, — ведь атака на Нью-Йорк И сентября 2001 г. затмила собой шок от столкнове-
ния с советской идеологией. Культурная миграция происходит по модели в высшей
степени неустойчивой, факторы ее определяются более масштабными сдвигами поли-
тической и экономической власти. И как раз сейчас, когдгг новая глобальная програм-
ма сосредоточивается вокруг отношений между мусульманским и христианским ми-
ром, заметны признаки того, что основные заботы постсоветской России утрачивают
свою остроту по мере того, как нормализуется жизнь страны: я говорю о том, что неко-
торые называют «скучным» правлением президента Путина, который меж тем пред-
принимает усилия урегулировать налоговую систему, справиться с преступностью и
демократизировать политику (по крайней мере, на словах).
И здесь еще один парадокс нашего времени, потому что сейчас неясно, на самом
ли деле происходит эта нормализация, и в каком темпе. Пока что российские и украин-
ские художники даже после конца «официальной» культуры продолжают находить воз-
можности обоюдного интереса с политической властью, не в форме
предписанных правил, а в форме исторических стереотипов и куль-
турной инерции. В новой путинской атмосфере творцы различных
убеждений объединяются не по признаку интеллектуальной моды
или стилистического единства — нет, они объединяются в ориги-
нальный социокультурный феномен, проанализированный в эссе
московского критика Виктора Мизиано. Тусовка — так называется
этот феномен. Тусовка — это сетевая «форма самоорганизации худо-
жественной среды» в ситуации отсутствия государственной инфра-
структуры. Тусовка субстанциируется в серии встреч, в личном об-
щении; она не требует никаких «априорных достоинств или качеств,
профессионального или социального статуса... чтобы быть в тусов-
ке. надо просто быть... Тусовка есть синдром распада дисциплинар-
ной культуры и социальных иерархий». Ее лидеры: Осмоловский и
Кулик в Москве, Новиков и Бугаев в Петербурге, Савалов в Киеве и
Ройтбурд в Одессе — играют роль, которая состоит в том, чтобы «вос-
производить ожидания» тусовки. Такой лидер «не столько обустраи-
вает настоящее, сколько эротизирует сообщество надеждами на все
более радужные и невероятные перспективы», в то время как успех
рядового «участника достигается за счет индивидуальной гибкости
и открытости к иному». Вот почему, пишет Мизиано, «нет ничего бо-
лее архаичного и отжившего для тусовки, чем категория общественно-
го мнения. Тусовка — это наиболее очевидный симптом постидеоло-
гической культуры». Сообщество «предельно персонализированное»,
оно не может иметь «общего дела». Проекты тусовки осуществляют
конкретные фигуры. Язык этих проектов индивидуален и универ-
сален одновременно, но когнитивно нагруженные притязания не
терпят противоречий, вызывают паралич скандала и вожделения.
7.13. Арсен Савалов
Донбасский шоколад.
из серии «Очевидец», 1997
Фотография
Восточноевропейский ренессанс 2 ‘"
Возьмем видео-арт группы «АЕС» (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Свят-
ский), которые застолбили за собой разделительную линию между порнографией и
скукой. В их «Лесном царе» 2002 г., к примеру; в бальный зал Екатерининского дворца
собрали несколько десятков учащихся балетной школы города Пушкина. Не подозре-
вая о том, что их снимают на пленку, кто в чулках, кто в носках, дети бродили и бегали
по паркету, в то время как камера задерживалась на стройных фигурках и особенно
хорошеньких лицах девочек допубертатного возраста (Илл. 7.14). А в «Отелло. Асфик-
сиофилия» (1999) нагой мавр «душил» впавшую в экстаз красавицу ее же жемчужным
ожерельем (асфиксофилия—получение оргазма от удушения.—Э. М.). Зритель волен
интерпретировать как угодно. Итак, сеть, а не иерархия, тусовка имеет целью дистан-
цировать молодое поколение от московского концептуализма и его преемника, соц-
арта, и то и другое — производное западных оригиналов (даже копировало их стилис-
тически). Сетевой обмен энергиями — это касается и других центров активности в
бывшем Восточном блоке — подпитывается мощной смесью воодушевленного често-
любия и отчаяния, которое приходит, когда надежды не оправданы или не оценены.
Так и получается, подводит итог Мизиано, что, не произведя за девяностые ничего
ощутимого или долговечного, тусовка составила несколько человеческих судеб, дала
старт нескольким карьерам.
Тяготы коммунистической утопии уступали место тревогам, привнесенным
рыночной экономикой, и художники с новой безысходностью обратились к эпохе
7.14. АЕС
Лесной, царь, 2002
Видеокадр
202 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
7.15. Кенджи Янобе
Проект «Атомный костюм»:
Танки, Чернобыль, 1997
Фотография
«холодной войны». Обнищание и экологические проблемы — следствие безрассудной
некомпетентности бюрократических, военных и научных структур позднесоветского
периода — обеспечили не один повод, по которому теперь могли высказаться художни-
ки. Пожалуй, авария чернобыльского ядерного реактора в 1986 г. остается главным
символом краха советской утопии. Как напоминает нам словенский теоретик Славой
Жижек, Чернобыль не только вывел из обращения такие понятия, как «национальная
суверенность», но и повысил вероятность того, что, вопреки интуиции, «само наше фи-
зическое выживание зависит от нашей способности... жить с негативом». Так что был
смысл в авантюре, которую предпринял японский художник Кенджи Янобе, проник-
ший на территорию чернобыльской зоны в так называемой «ядерно-безопасной пере-
движной капсуле». Оттуда он привез фотографии: художник, как исследователь после
конца времен, бродит по зараженным развалинам — этот образ в скафандре зритель
сразу распознает как инверсию советских первопроходцев космоса (Илл. 7.15). Или
вспомним киевского художника Илью Чичкана, который выразил свое отношение к
этой самой страшной техногенной катастрофе тем, что сфотографировал в местном
мединституте зародышей-мутантов, затем украсил фотографии купленной на мест-
ном рынке дешевой бижутерией и еще раз переснял деформированные головы и
тельца, сотворив жуткую пародию на погребальный ритуал древних скифов, которые
населяли когда-то эту землю. Как написала критик Марта Кузман, этот мемориал, воз-
двигнутый Чичканом погибшим от ядерного фетиша, отчаянным образом контрас-
тирует с могильными каменными изваяниями древних времен.
Фотография — это и впрямь своего рода монумент: остановив мгновенье, оста-
вив свидетельство природной и общественной катастрофы, Чичкан сумел реализовать
документальную функцию фотографии, причем как раз в исторический момент, когда
она сдалась перед возможностями цифровой манипуляции. По сути дела, эту докумен-
тальную функцию правильней было бы назвать контрдокументальной. К примеру, ук-
раинский фотограф Борис Михайлов, старейший и самый известный из участников
харьковской «Группы быстрого реагирования» (в число ее членов входят также Сергей
Восточноевропейский ренессанс 203
7.16. Борис Михайлов
Из серии «История болезни»,
1997-1998
Фотографии
Братков, Сергей Соланский и Виктория Михайлова), с конца 60-х со-
бирает старые любительские снимки — пожелтелые, потрескавшие-
ся, потертые, и раскрашивает их акварелью, имитируя украинскую
традицию «луриков», поминальных фотографий. Конечно, это похо-
же на пародии поп-арта и особенно на Уорхола, но, кроме того, много
говорит и о той дистанции, которая разделяет Киев и Нью-Йорк.
«Очень важно, что у меня были плохие исходные фотографии, — по-
яснил Михайлов. — Это дало мне возможность описать мечту, невоз-
можность, неспособность сделать что-то хорошо, наш отрыв от куль-
турной традиции». Не так давно Михайлов достиг международной
известности — и это благодаря способности привнести свое видение
в феноменологию улицы, в жалкое существование городской бедно-
ты, в человечность анонимной толпы (Илл. 7.16).
Документа-11
Стало общим местом, что нет лучшего барометра общественного мнения в арт-мире,
чем многомиллионные биеннале, триеннале и квадриеннале, которыми полнится
международный художественный календарь (впрочем, регулярно читать искусство-
ведческие журналы — тоже неплохая альтернатива). Но в каком именно из арт-миров?
Надо помнить, что искусство делит с модой туже систему прогнозов, туже навязчивую
публичность, ту же шумиху и манеру пускать пыль в глаза. Все эти шоу можно, конеч-
но, считать показателем того, что нас ждет за углом, прогнозом модных тенденций,
однако с выводами торопиться не следует.
Возьмем немецкий Кассель в июне 2002 г., когда состоялась одиннадцатая
из проводимых раз в пять лет феерий, серия которых началась еще в 1955 г. Кассель —
ничем не примечательный городок на реке Везер, провинциальный центр, мало кому
интересный, когда в нем не происходит крупнейшая в мире выставка современного ис-
кусства. На самой знаменитой из предыдущих, Документе-5 1972 г., доминировали
концептуалисты — немцы, британцы и американцы, отобранные куратором Хароль-
дом Зееманом. К 2002 г. репрезентация изменилась, и очень значительно. Отбор участ-
ников проводился командой из семи кураторов во главе с нигерийцем Оквуи Энвезо-
ром, поставившим задачу представить «всемирную» картину художественной жизни,
рассмотреть проблемы постколониальных границ, столкновения политических сис-
тем, религий, культур и прочих сопутствующих глобализации противоречий. В целом
к участию были приглашены 112 художников (по стандартам Документы, не так уж и
много), проекты которых ни в коем случае не должны были слиться в единую тему или
точку зрения. Как заявил Энвезор, Документа-!! не стремится к окончательным выво-
дам, что прошлое мертво, или похвалам нескончаемой новизне. «Если целью интел-
лектуального и художественного поиска прошлых Документ было доказать, что такие
выводы возможны, то Документа-11 в своем поиске учитывает эпистемологические
трудности, которые отличают все попытки сформировать одну общую, универсальную
интерпретацию художественной реальности... выставка аккумулирует подходы, мгно-
вения, временные провалы, которые прорываются в пространство, сталкивающее
публику с бесконечным сцеплением миров, перспектив, моделей, контрмоделей и
мыслей, конституирующих художественную тему». Далее он уточнил, что выставка не
204 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
ставит своей задачей «герметизировать» интеллектуальные амбиции проекта: она ста-
нет одной из пяти «дискурсивных платформ», которые появятся в различных частях
мира. Первая платформа, лекции и дебаты под названием «Нереализованная демокра-
тия» пройдет в Вене. Вторая, конференция «Истина и примирение», — в Нью-Дели.
Третья, также конференция «Креолы и креолизация» (очень упрощая, смешение язы-
ков и культур колонизаторов и колонизуемых. — Э. М.), — на острове Санта-Лючия.
Четвертая платформа, философский форум «В осаде: четыре африканских города», бу-
дет организован в Лагосе (Нигерия). Предостерегая против процессов постколониаль-
ного раскрепощения и экспансии глобального капитала, Энвезор сказал, что «если
авангард прошлого (футуризм, дадаизм и, скажем, сюрреализм) предвидел порядок
изменений, то нынче непостоянство и размывание границ есть основа сегодняшней
неуверенности, нестабильности, отсутствия безопасности. В рамках этого порядка все
представления об автономии, на которой настаивает радикальное искусство, объявле-
ны недействительными, отменяются». После империи, утверждает он, приходит та си-
ла сопротивления, которую Майкл Хардт и Антонио Негри в своей книге «Империя»
называют «множеством», с его нетерпимостью, анархизмом, с его почти непознавае-
мым субъективизмом и свободой от старых, гибнущих форм застылого в своих жест-
ких границах западного национального государства. Против этих отживших форм за-
падной культуры выступают радикальные исламисты, и не исключено, что атака
11 сентября — это метафора антагонистической политики, как бы она ни проявлялась.
Ground Zero (точка, место взрыва после событий 11 сентября 2001 г. так стали назы-
вать разрушенные башнй Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. —Э. М.) — будь
то Нью-Йорк, Рамалла или Иерусалим — это, по словам Энвезора, «точка плавления
вследствие... массированного перемещения границ в центр».
На деле отбор для Документы-11, разумеется, имел свои особенности с точки
зрения культуры и географии, просмотр был организован более или менее удобно, чу-
деса современной технологии вызывали восторги. Возможно, колоссальные интеллек-
туальные амбиции кураторов не всегда встречали понимание зрителя — тому просто
не хватало времени, чтобы вникнуть в обширные тексты, увидеть хоть малую долю
вспомогательных фильмов и посетить множество дискуссий, дебатов и конференций.
Многие были разочарованы отсутствием художников из Скандинавии, стран Балтии,
большей части Восточной Европы, Австралии, да и малых стран, таких, как Швей-
цария, Уэльс, Греция или Вьетнам. Некоторые критики жаловались, и не без основа-
ний, на гнетущую атмосферу политической корректности — а также на нехватку
юмора и преобладающе нарративный, литературный тон. И все-таки Документа-11
останется в истории попыткой пробить брешь в ороговевших методах масштабного
выставочного показа, задаться, причем в самый насущный момент, вопросом о том,
что значит глобализация в контексте стремительных и далеко идущих социально-
политических перемен.
В центре внимания оказалась Африка — ее представляли 17 художников из Бе-
нина, Берега Слоновой Кости, Южной Африки, Демократической Республики Конго,
Нигерии, Камеруна и Египта, из которых мы упомянем лишь немногих. Из южноафри-
канцев белый художник Уильям Кентридж выделялся тем, что уже имеет имя в между-
народных кругах. Особость его личного опыта слагается из того, что, во-первых, он вы-
рос в Черной Африке и о расизме знает не понаслышке, а во-вторых, испытал на себе
очарование Парижа, где учился мимансу в школе легендарного Жака Лекока, прежде
чем вернуться в родной Йоханнесбург. О впечатлениях детства Кентридж вспоминал в
Документа-11 205
7.17. Уильям Кентридж
В шахте, 1997
Бумага, уголь
недавнем интервью: «До того я никогда не сталки-
вался со взрослой жестокостью... а тут увидел, как
человека, валяющегося в канаве, пинает ногами
белый...»Урок, преподанный ему в Париже, состо-
ял в умении распределять энергию во время пред-
ставления, накопить ее для точного движения и, не
расплескав, донести до следующего. «Там было
двадцать — тридцать упражнений, которые помо-
гали при актерской игре, но в той же мере годились
и для рисования». Потому что именно рисунок —
одинокое дело рисования, кадр за кадром анима-
ционного фильма — сделал Кентриджа столь зна-
чимой фигурой в современном изобразительном
искусстве. Решив с самого начала, что апартеид не
подлежит репрезентации в какой-либо привычной
манере и привычным инструментарием, Кент-
ридж изобрел особую, гибридную форму «рисунка-
фильма», который красноречивей, чем оба метода,
взятые поодиночке. Неподвижную «глыбу» апартеида, каким тот был до 1995 г. и после,
он описывает как «собственничество и неспособность работать по-настоящему. Я не
говорю, что апартеид или освобождение недостойны репрезентации, описания или
изучения. Я говорю, что масштаб и вес этой глыбы таковы, что работа неподъемна».
Анимационные фильмы Кентриджа, напротив, на формальном уровне действуют как
демонстрация внутренней текучести и изменчивости исторического процесса. Обыч-
но мы видим белых шахтовладельцев, в костюмах, которые руководят процессом. Ра-
бота перемежается моментами одиночества, когда они создают реорганизацию ланд-
шафта, словно господство их бесконечно. Или же мы видим шахтеров за работой
(Илл. 7.17). Розалинд Краусс пронизательно заметила, что процесс работы у Кентрид-
жа, когда художник в одиночестве часами горбится то над рисунком, то с камерой, —
буквальный, настоящий труд, отличающийся предельной экономией средств (Кен-
тридж использует лишь несколько листов бумаги для каждого фильма) и радикальным
возвратом к древним методам создания палимпсестов, когда в итоге одно изобра-
жение проглядывает из-под другого, а потом еще и еще. «Эта ходьба взад-вперед, — го-
ворит Краусс, — это постоянное курсирование между камерой у одной стены студии и
рисунком, прикнопленным к другой, составляет поле деятельности Кентриджа. Ри-
сунок, над которым он работает, в любой момент одновременно завершен и находится
в состоянии доработки; сняв его на пленку, он идет через студию сделать какую-то
маленькую поправку, а затем — снова к камере». В фильмах Кентриджа сцены не ме-
няются: кажется, что они бесконечно кровоточат в постоянном движении, когда ничто
не статично, и случайный штрих в одном кадре вырастает в чудище в другом, а потом
расплывается, утекает, и так снова и снова. Почти допотопным способом (рисоваль-
ным утлем и примитивной камерой) создав абсолютно новый вид изображения, Кент-
ридж материалом и откровенной нарративностью добивается эффекта, действующего
напролом и диалектически разрушительного.
Из черных художников Африки, пожалуй, показателен пример конголезца Боди-
са Исека Кингелеза. В составе «Волшебников земли» введенный на международную
сцену Жаном-Юбером Мартином в 1989 г., самоучка Кингелез из кусочков картона,
206 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
яркой бумаги. всяких оберток воплощает мечту об идеальных городах будущего. Эти
фантастически архитектурные макеты-инсталляции стоят на полу, достигая примерно
метра в высоту, так что зритель может одобрительно рассматривать их сверху. Глав-
ным проектом Кинегелеза в 90-х стало преображение его родной деревни, Кимембеле-
Ихунга в провинции Бандунду на территории бывшего Заира — он задумал превратить
ее в блистающий новый город XXI века, с бульварами, небоскребами и памятником му-
дрости его отца Малуба (Илл. 7.18). Он сам описывает город, которому дал новое имя
Кимбевилль, на языке экзотическом под стать его сооружениям: «Общая концепция
города ставит его среди супермультисистемных феноменов футуристической архитек-
туры самого высокого калибра». Мешая фантазии с реальностью, он утверждает, что
«эти реалистические здания, не затронутые диктатом моды, представляют беспреце-
дентно благочестивое зрелище... Эти бульвары, эти проспекты с незапятнанно чисты-
ми мостовыми вряд ли когда переполнятся людьми, помешают свободе движения; на-
против, они позволяют людям легко добраться в любую часть города». Аттракцион
включает и «множество услуг, отелей и ресторанов». Иногда он отдает Америкой, ино-
гда Японией, Китаем или Европой, не говоря уж об Африке. В городе есть все. от рассве-
тало заката, навсегда и на один день. Он так переполнен обещаниями, что непременно
появится на картах мира...
Хоть Кингелез и хвалится, как дитя, своей архитектурной «славой и междуна-
родной репутацией высокоталантливого художника», проекты его в рамки западной
эстетики вписываются с трудом. Мы отдаем должное искусной инверсии отношений
горожанина к несбывшейся утопии, которую художник представляет как улучшенное
издание современного города, причем в масштабе, какой в последние годы мало кому
из западных архитекторов — за исключением, может быть, Вентури для Лас-Вегаса
7.18. Бодис Исек Кингелез
Кимбембеле-Ихунга (Кимбевилль),
1994
Фанера, бумага, картон,
различные материалы
1.8x1,83x300 м
Мешая самоиронию с фантазиями.
Кингелез говорит: «Город Кимбевилль
действует как механизм развития, пото-
му что обладает мириадами достоинств,
касающихся какзданий, так и различных
элементов четко проработанного ланд-
шафта, которые вопиют о том, зачем он
создан. Его творец, художник Кингелез,
человек высоких моральных свойств,
выполнит свои обещания касательно
этого произведения искусства, которое
будет сопровождать его в XXI век.
Кимбевилль — реальный город,
дай только время, и он воплотится
в действительность; это не выдумка
модных архитекторов, обреченная
остаться макетом»
Документа-11 207
или Кулхааса для Нью-Йорка — привиделся хотя бы в мечтах. И все-таки нельзя не
признать, что Кингелез ориентируется на местный контекст и традиционную модель
темпоральное™, которая западным нормам прогресса и отставания, нового и старого,
реального и воображаемого пока неподвластна.
То, что такие эстетические пары попросту не интересны современному афри-
канскому (или азиатскому, или южноамериканскому) художнику, Документа-11 про-
демонстрировала в лице оригинального — апо западным меркам и эксцентричного —
художника Жоржа Адеагбо, в семидесятых изучавшего право и бизнес во Франции,
пока известие о смерти отца не заставило его вернуться в Бенин, в родную деревню Ко-
тону, и стать главой семьи. Отказавшись от этой роли, он принялся создавать инстал-
ляции у себя в спальне, потом во дворе и делал это в высшей степени герметичным и
загадочным способом: «Для меня единственный способ общения с семьей —это корот-
кие записочки, которые я кладу на землю рядом с предметами, найденными во время
прогулки. Каждое утро я хожу к лагуне...что-нибудь нахожу, приношу домой, затем пи-
шу записку о том, какие чувства этот предмет во мне пробуждает, кладу записку рядом
с предметом и смотрю, как люди реагируют... Только и нужно, что положить на землю
предмет — и идеи идут потоком. Так я работаю каждый день, даже когда жара. И каж-
дый вечер я прибираю все в одно место». «Я не художник, я не создаю искусство, — про-
тестует Адеагбо. — Я просто вестник». И тут же, видимо себе противореча: «Искусст-
во — это то, что ты говоришь людям, не раздражая их». Обычно инсталляции Адеагбо
начинаются с симметрической расстановки на полу и постепенно расползаются даль-
ше. Как-то их случайно увидел француз-искусствовед, и с тех пор они кочуют по между-
народным выставкам. Для Касселя Адеагбо сделал инсталляцию «Исследователь и
исследователи лицом клицу с историей исследования...! Театр мира» (Илл. 7.19), где,
отказавшись от строгой симметрии, демонстрирует небывалый подбор разнообразно
обретенных и сочиненных текстов и изображений согласно заглавию, и это ненар-
ративное, как бы научное представление предварительного материала, никак не укла-
дывается в «контент» или «тему», а каким-то поразительно сложным образом наплас-
товывает историю Африки и стран Запада. Чутко прислушиваясь к случайному, обры-
вочному и несвязному, к критике западных систем просвещения, Адеагбо благодаря
7.19. Жорж Адеагбо
Исследователь и исследователи
лицом клицу с историей
исследования...! Театр мира, 2002
Смешанные средства
Собрание музея Людвига. Колонь
Принимая на себя роль скорее вестника,
чем художника. Адеабго говорит,
что художник — «всякий, чеоез кого
приходит весть; это искусство создает
художника, а не художник искусство»
208 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
счастливому стечению обстоятельств ухитрился занять в западном искусстве свое осо-
бое место, и, игнорируя историческую конкретику, наслаждается своей избыточной
несхожестью с жанрами западной инсталляции.
Африка остается территорией воображения, писал Энвезор, противоречиво яв-
ляясь местом происхождения человека и крайней нужды, лесом чрезмерных и примет-
ных знаков, которые сбивают с толку культурную логику’ модернистского проекта. Мо-
лодые африканские художники измышляют «истории, в которых преобразуют свой
опыт в избыточности, множащиеся в размерах и спроецированные вовне через особые
линзы ожиданий Запада с его почти неутолимым вкусом к экзотике». В лучших работах
африканской молодежи «мы неприятно сталкиваемся с вопросами, которые танцуют
вокруг возможности автономного постколониального самоопределения». Эта форму-
лировка прекрасно подходит к широко представленному в Касселе творчеству тех аф-
риканцев, которые испытали культурный сдвиг на себе, будучи рождены за пределами
континента или хорошо попутешествовав меж противоречий неравномерно распреде-
ленной глобализации. Угандийка Фарина Бхимьи, которая живет в Лондоне, на Доку-
менту-! ! представила 28-минутный фильм о своем возвращении в Уганду, «Ниоткуда»
(«Out of Blue») (2002), где рассказывает о недавней трагедии своего народа. Застылый,
окостенелый, как минималистское произведение в движении, фильм сопоставим с
прочими медлительными киноэкспериментами, описанными в этой книге.
Нигериец Инка Шонибаре родился в Англии; школа в Лагосе и каникулы в Лон-
доне сделали его своим в обеих культурах, а обучение в Голдсмит-колледже привило
интерес к историческим ^коллизиям между двумя мирами. Говоря на языке йоруба в
Африке и на безупречном английском в Европе, Шонибаре подростком любил австра-
лийские и американские телекомиксы, а позже приобщился к творчеству таких знаме-
нитостей. как Синди Шерман и Розмари Трокель, теории феминизма и иронической
тактике раннего авангарда. «Я понял, — говорит Шонибаре, — что не обязан прини-
мать себя за какого-то проклятого «другого»: я могу с юмором выразить свое отноше-
ние к авторитетам, пародируя их, подражая им, передразнивая». И все-таки здесь не
только юмор — порой вполне черный, — но и любопытство к соблазну материального
благосостояния, не говоря уж о соблазне сексуальном, который так оживляет самые
масштабные его проекты. Ключевым элементом всех работ Шонибаре доныне явля-
ется яркий узорчатый ситец, так называемая «голландская набивка», которую как
отличительный знак носят миллионы африканцев. Ткань эта, оказывается, — батик,
появившийся в Индонезии в XIX веке и распространенный по миру английскими и гол-
ландскими колонизаторами. Потом такой ситец производили на ткацких фабриках
Манчестера и экспортировали в Западную Африку, где его имитировали искусные
местные мастера. Шонибаре подметил, что хотя на поверхностный взгляд эта ткань
«аутентична» для Африки, на самом деле ничего подобного. Это культурный гибрид
весьма запутанного происхождения: ведь африканцы, перенимая дизайн, скорее все-
го, не понимали того, что он уже перенят, позаимствован колониалистами и западным
капитализмом в его самом беспримесном виде. В своем творчестве Шонибаре пользу-
ется этим знаковым ситцем, пародируя и страсть Европы к экзотике, и африканские
взгляды на европейскую цивилизацию. А для Касселя он сделал инсталляцию под на-
званием «Галантность и непозволительная беседа» на тему любовных похождений
британского аристократа во время его итальянского путешествия в рамках «большого
тура» по Европе, который в восемнадцатом-девятнадцатом веках полагался для завер-
шения образования (Илл. 7.20). Занимая большой квадратный холл, инсталляция
Документа-11 209
7.20. Инка Шонибаре
Галантность
и непозволительная беседа, 2002
18 манекенов в натуральную
величину набивной ситец, кожа,
дерево, стальной пьедестал, карета
Инсталляция на Документе-11,
Кассель, Германия
представляет собой настоящую карету XVIII века., под которой — восемнадцать без-
головых фигур, задирающих свои одежды, дабы предаться любовным забавам меж
сундуками и прочим багажом, сопровождающим их в этом прерванном путешествии.
За короткое время, прошедшее после Документы-11, появились признаки того,
что глобальные выставочные программы вошли в моду среди кураторов, жаждущих
привлечь к себе кочевых критиков. Возьмем 50-ю Венецианскую биеннале 2003 г. Те-
перь и эта почтенная институция (первая биеннале состоялась в 1895 г., и их ритм, раз
в два года, нарушался лишь изредка) демонстрирует готовность расширить свои гра-
ницы. Опирающаяся поначалу на праздничные показы избранных национальных па-
вильонов— Италии, Франции, США, России, Германии, Великобритании и некоторых
других, — в последние четверть века представительность биеннале разрослась, более
или менее вследствие популярности туризма, разнообразных демократических преоб-
разований и настойчивого желания участвовать, проявленного такими странами, как
Египет, Румыния, Польша и, позднее, Корея, Тайвань, Китай, Чешская и Словацкая Ре-
спублики. Все они обладают богатыми и своеобычными художественными традиция-
ми, несущими заметный отпечаток так называемого евроцентрического модернизма.
В 2003 г. в Венеции появилась первая восточноафриканская страна, Кения. Не менее
значимо и то, что главный куратор, Франческо Бонами из Музея современного искус-
ства в Чикаго, передал ответственность за дополнительные показы актуального искус-
ства ни много ни мало одиннадцати независимым кураторам, которые были вольны
поступать с ними как знают. Отказавшись от роли гранд-куратора — или, скорей, най-
дя новый способ играть ее, — Бонами настаивает, что биеннале двадцать первого века
«обязаны дать возможность существовать многообразию, несхожести и противоре-
210 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
чиям в искусстве». Не имея больше возможности опираться на общий язык художе-
ственной формы (возможно, иллюзорный и в лучшие из времен), биеннале должна
стремиться к отражению «современного мира со всеми его противоречиями и множа-
щейся дробностью на все большее число наций и идентичностей».
Но какие реальности л ежат за новой риторикой о многообразии и противоречи-
ях, за модными объятиями с зыбким, переменчивым, за разрушенными границами?
С одной стороны, еще одно решение Бонами расположить экспозицию западной живо-
писи (строго говоря, пятьдесят художников Запада на одного японца) в самом сердце
международной биеннале было воспринято как провокация критиками, которые, по-
хоже, надеялись на более смелое авангардистское шоу. С одной стороны, это лишний
раз подтверждало центральное место западной живописи в современной эстетике или
в любом случае ставило вопрос о том, сохраняет ли инсталляция и прочие «альтерна-
тивные» жанры контакт с традициями статичного расписного прямоугольника. С дру-
гой стороны, заключение экспозиции «Живопись: От Раушенберга до Мураками:
1964-2003» в венецианском Museo Соггег, расположенном поодаль от Арсенала, где на-
ходились павильоны с экспериментами молодежи, несколько напоминало ловушку. Но
возможно еще и третье толкование, самое соблазнительное: что не существует больше
никакого особого напряжения в отношениях между живописью и ее мнимым отрица-
нием в виде видео, инсталляции и перформанса. Похоже, что для художника так же,
как и для зрителя все средства нынче хороши на территории равной достоверности, со
всего лишь легким шепотком о тех политических докуках, которые так воодушевляли
авангард 60-х и начала 70-х, а именно о том, что арт-рынок превращает произведение
искусства в предмет потребления и фетишизирует «износостойкую» авторскую рабо-
ту7. Более того, не существует автоматической или стабильной корреляции между не-
давними западными традициями и средствами живописи или же между незападными
традициями и «альтернативными» художественными средствами.
Таков, по меньшей мере, смысл прочих высказываний Бонами: темпоральность
в искусстве «никогда не линеарна», она «характеризуется повторами и синкопами,
движением и паузой. Порой настоящие революции, как политические, таки художест-
венные, остаются невидимыми, пока не произойдут». Кроме того, Бонами отметил «за-
медленную природу большинства художественных революций», словно намекая на то,
что живопись тоже — с ее нормами, правилами, и ограничениями — парадоксальным
образом останется точкой отсчета для всех видов работ, связанных с инсталляцией или
движущимся изображением. Подтвердилась ли мудрость Бонами в его последнем вене-
цианском творении, судить трудно. Мы видели независимых кураторов, обихаживаю-
щих новую глобальность: Гилан Тавадроса и его павильон «Линии сброса», посвящен-
ный современному африканскому искусству, Хоу Хэнроу7 и его «Опаснупо зону» про-
блем, вызванных стремительной модернизацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Кэтрин Дэвид с ее «Репрезентацией современных арабов», и просторный навес, под ко-
торым разместилась «Остановка “Утопия”», курируемая Молли Несбит, Хансом Ульб-
рихом Обристом и Риркритом Тиравания. Достаточно сказать, что «Остановка “Утопия”»
вместила энергетику7 более чем двухсот художников и архитекторов, чьи модели, рисун-
ки и плакаты затевались с целью «роиться в пространстве и над ним, осыпая город Вене-
цию». Между тем писатели, танцоры и актеры были приглашены «поделиться с Утопи-
ей своими идеями, новейшими проектами и звуками» под знаменем сентенции Адор-
но: «Что бы ни воображалось как утопия, это трансформация тотальности... люди ут-
ратили способность попросту вообразить тотальность как нечто совершенно другое».
Документа-11 211
Пожалуй, однако, именно авторы «Репрезентации современных арабов» с наи-
большим рвением отнеслись к исследованию нового интернационализма. Подобно
Документе-11 Энвезора и «Станции “Утопия”» Молли Несбит, это исследование приня-
ло форму даже не выставки, а проекта — не скованного рамками времени-места одной
экспозиции, продленного, раздвинутого на несколько лети выраженного в семинарах,
публикациях, перформансах, участии переменного числа людей и нескольких му-
зейных администраций. Задуманное с целью «поощрить производство, обращение и
обмен между различными центрами арабского мира и миром вообще», предприятие
намеревалось «взглянуть на комплексные аспекты эстетики в ее отношении к социаль-
но-политической ситуации, проанализировать и оценить те беспрецедентные дина-
мику, скорость и конфигурации, иначе говоря, феноменологическую сложность, эхо
которой отдается далеко за пределами арабского мира». Из одного только Ливана,
пережившего войну с Израилем и все еще оккупированного Сирией, вышли такие ху-
дожники, как Тони Чаркар и Валид Садех, создавшие ряд работ, отражающих после-
военную атмосферу; другие, вроде Элиаса эль-Кхури и Мохаммеда Суейда, полагают,
что война продолжается (Илл. 7.21); но есть и те, кто протестует против сирийской
оккупации. Ливанский критик Паола Якуб выражает желание «подорвать векторы ко-
лониализма» путем архитектурной реконструкции страны. Признание современных
художественных проектов Египта, Ирана и в особенности Ирака накануне вторжения
туда войск НАТО во главе с США в 2003 г., обещает стать не менее важным, когда арт-
кураторы обратят свое внимание на Ближний Восток.
7.21. Мохаммед Суейд
Программа фильмов
в рамках «Репрезентации
современных арабов»,
Роттердам, сентябрь 2002
212 Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
Голоса времени
ФангЛиджун, цитата из каталога к выставке «Китайский авангард», с. 113
«Почемумы потерянное поколение? Это чепуха, которую твердят те, кто
хочет, чтобы мы думали, жили и функционировали так, как им захотелось,
как куры на птицефабрике. Номы не станем. Мы не будем подчиняться
установленным ими правилам жизни, не будем получать жалованье, как чи-
новники. Но мы не умрем с голоду, у нас больше денег, чему них, мы спокойней
и счастливей, у нас больше женщин и времени для развлечений и путешест-
вий. Вот почему они называют нас потерянным поколением. Но глубоко
про себя они думают, что мы поколение, которое надо бы расстрелять».
Виктор Мизиано. «Русская реальность: Конец интеллигенции», с. 104
«Текущая катастрофа, влияющая на искусство [в России], имеет две сто-
роны: институциональную и эпистемологическую. Все надежды на новую
инфраструктуру рухнули: государственные учреждения советского времени
разрушены, художественного рынка не существует. Одновременно все
модели мышления, сформировавшиеся в контексте оппозиции советскому
режиму, и те, которыми мифологизировалась его альтернатива, оказались
полностью неадекватны постсоветской реальности: сознание не поспевает
за чудовищной скоростью перемен. В настоящее время искусству недостает
социальной и когнитивной оправданности».
Оквуи Энвезор: «Черный ящик», Документа-11, платформа 5,2002, с. 47
«Можно сказать — с тем чувством опасности, нестабильности и неуверен-
ности, которое оно вызывает, — что тот вид политического насилия,
котороемы испытываем сегодня, годится для определения понятия Ground
Zero. Помимо своего погребально-символического наполнения, оно очень напо-
минает мощный образ Фанона, когда он говорит о сметающей все на своем
пути некой tabula rasa как начале новой этики и политики, которая устано-
вит в глобальном обществе новый порядок, стоящий выше колониализма
с его непримиримыми противоречиями и выше западничества как силы, ко-
торая стоит за современной интеграцией... Некоторые называют И сентя-
бря крахом цивилизации, другие — осью зла или битвой между добром и злом,
между мирами цивилизованным и диким; третьи называют его джихадом,
интифадой, освобождением и т. д. Однако налюбом из языков шовинизма,
которым описывается это положение дел, культура и искусство способны
радикально уйти от системы гегемонии, питающей нынешнее сражение».
«та
Лч .' .7
'Ул* ? •
,н’ . .
....
W
ffig...
Новые сложности
1999-2005
Внедрение в западную систему нового искусства Китая, Тайваня, Южной Кореи, Афри-
ки, Ближнего Востока, бывших республик СССР и большей части Центральной и Вос-
точной Европы, случивщееся примерно в последнее десятилетие, — событие слишком
свежее, чтобы оценить его во всей полноте. С одной стороны, расширение возможнос-
тей международного диалога и доступа к финансовым ресурсам позволило проявить
талант художников, работающих вдали от исхоженных дорог западного авангардизма.
С другой — привнесенное новыми именами многообразие предъявляет новые тре-
бования к тому способу, каким мы здесь, на Западе, рассматриваем новое искусство,
осознаем его и пишем о нем.
Одно из таких требований — к уровню понимания, способности зрителя вос-
принять увиденное. Ведь внезапное расширение западного мира почти до глобальных
размеров — вопрос отнюдь не количества.‘Поскольку эстетические системы разраста-
ются, а критические мнения множатся, вынести собственное суждение становится все
трудней, даже при условии хорошо налаженного, оперативного оповещения о худо-
жественных новинках. Критическая оценка при этом непременно должна выходить за
пределы обычного возбуждения при виде зрелища эффектного или непривычного,
феноменологически нового. К примеру, для меня памятным на Документе-11 оказался
40-минутный фильм молдаванина Павла Брайлы «Обувь для Европы» (2002) про то,
как на границе Молдавии и Румынии у вагонов меняют колеса с советского на евро-
пейский стандарт (богатая политическая метафора). Запомнилась четырехэкранная
DVD-проекция турецкого художника Кутлуга Атамана «Четыре сезона Вероники Рид»
(2002) про женщину, поглощенную наблюдением за жизненными циклами луковицы
амариллиса. И еще не могу не упомянуть великолепную инсталляцию «Линии на пе-
ске» (2002), сделанную маститой американской художницей Джоан Джонас, посвя-
щенную истории троянской Елены (Илл. 8.1), — самое, можно сказать, формально от-
важное произведение на всем шоу: туг выражен и полный ассортимент возможностей
толкования, и виртуозное мастерство, с которым Джонас управилась с многоформат-
ным изображением. Суть даже такого короткого перечня предпочтений (и понятно,
что любой другой автор предложил бы свой список) в том, что новые технологии —
С. 214:
Мэтью Барни
Кремастер-1 (деталь), 2002
См. рис. 8.9
движущегося изображения, полиэкранной проекции или многоканальной инсталля-
ции — предъявляют повышенные требования к нашему вниманию: об этом говорит их
пространственная сложность, затейливая связь звука и изображения, сама природа
нового музейного пространства. Данная глава обращена как раз к подобным симп-
томам пополнения изобразительного ряда и тому вкладу в наше понимание искусства
сегодня, который привнесло еще одно эпохальное изобретение, Интернет.
Теория хаоса
Прыжок в различные уровни деструктивности воплотился в Касселе в два чрезвычайно
несхожих произведения, разместившихся не в просторных залах Документы, а под
открытым небом, в пространстве самого города. Чтобы увидеть «Памятник Батаю»
Томаса Хиршхорна, надо было пройти с милю на север от района Нордштадт и на пар-
ковке посреди жилого массива Фридрих-Вёхлер обнаружить рукотворный медиа-
центр из кое-как скрепленных широким коричневым скотчем листов картона и орг-
стекла. Окрестные ребятишки по-свойски общались с разноязыкой искусствоведче-
ской братией, рылись в библиотечке из книг Батая, рассматривали географические
карты, рассевшись на полу перед экраном, смотрели по видео фильмы Тарковского.
Окружение было самое дружелюбное — и доказывало демократизирующее действие
проекта более эффективного, чем библиомобиль, более притягательного, чем «скульп-
тура» в виде товара, превозносимого за свою прочность, и, с точки зрения аудитории,
более содержательного, чем городские музеи. И уж конечно, верный своим принципам
Хиршхорн был здесь же, болтал с местными жителями, приветствовал приходящих,
распространялся о достоинствах Батая. Воздвигнутый с помощью юных боксеров из
местного спортивного клуба, «памятник» убедительно воплотил в жизнь блистатель-
ные построения Батая о бесформенном, об «издержках», о низком телесном, причем
сделал это методом общинного, коллективного участия. «Я хотел, чтобы каждый чело-
век принес в проект что-то свое, личное, — комментировал художник. — Наш девиз:
“Не работай, какя, —давай работать вместе!”» И далее: «Выбор Батая означал, что на-
до открыться навстречу широкому и сложному силовому полю, которое лежит между
экономикой, политикой, литературой, искусством, эротикой и археологией... Батай
не имеет ничего общего с Касселем... “Памятник Батаю” — это не контекстуальная
работа... Я не социальный работник... искусство для меня — инструмент познания
8.1. Джоан Джонас
Линии на песке, 2002
Видеоинсталляция и перформанс
216 Новые сложности: 1999-2005
мира... оно состоит из неисключительной аудито-
рии». Как сказал о совокупности работ Хиршхорна
Бухло, «их структура, метод изготовления и мате-
риал выглядят ресурсно обедненными и инфан-
тильными по дизайну... Все они словно взяты со
свалки потребительской культуры, эти негатив-
ные реди-мейды из мусорных баков, коробки и
обертки из-под товаров, выброшенные за нена-
добностью приметы бесконечного производства
отбросов».
Этому определению вполне соответствовал
и странный мир немецкого перформансиста Джо-
на Бока, выстроенный в красивом кассельском
парке семнадцатого века в Карлсруэ. Бок едва ус-
пел окончить колледж, но уже признан заметной
фигурой на международной арт-сцене. Он учился
в Гамбургской академии искусств у Франца Эр-
харда Вальтера вместе с Джонатаном Меезе и Кристианом Янковски (оба работают с
перформансом), а в середине 90-х выступил с поражающе бессвязными «перформанс-
лекциями», которые зритель тут’ же связал с дадаизмом, театром абсурда, венскими
акционистами и пародиями на наукообразие и эстетизм. Скажем, в 1998 г. на лекции,
торжественно озаглавленной «LiquiditatsAuraAromaPortfolio», Бок разделил простран-
ство перформанса на два уровня. На верхнем, куда вела лестница, меж деревянных и
прозрачных перегородок кучками лежал мусор и всякая кухонная утварь — все это
намекало на какие-то скрытые от зрителя действия, которые происходили внизу. Для
выставки 2000 г. в нью-йоркском МОМА Бок подготовил четыре лекции: Quasi-May.be-
8.2. Джон Бок
FoetusGott in MMe, 2002
Перформанс на Документе-11,
Кассель. Германия, 2002
Ме-Ве Uptown («Показ мод с тринадцатью манекенщицами и двумя моделями-муж-
чинами, одетыми в костюмы, которые я сшил из спагетти, крема для бритья, мыльных
пузырей, свитеров с длинными рукавами и воображаемого костюма»), Intro-Inside-
Cashflow-Box («В садовой сторожке, где зритель может наблюдать за действием через
стекло»), MEECHfeverlump schrnears the artwelfareelasticity («Видеозапись актеров-лю-
бителей»), Gribohm Meets Mini-Max-Society («Я провел три часа в коробке на колесах,
делая фотограммы самого себя, лежащего на листах фотобумаги, и передавая их через
дыру моему ассистенту»). Эти описания, впрочем, не дают реального представления о
многослойном смысловом богатстве происходящего, о путанице философских кате-
горий, перевранных цитатах из немецкой литературы и научных текстов, курьезной
и беспардонной игре с материалом, обычным для «лекций» Бока. В Касселе он соору-
дил деревянный театральный помост, на котором и представлял свои причудливые
пьесы: «$1,000,000 Knodel Kisses», «Quasi Ме» и «Koppel Margherita», — помимо мно-
жества дополнительных действ, производимых как им самим, так и помощниками,
в продолжение всех стадией Документы (Илл. 8.2). Присутствующих буквально броса-
ло от порядка к хаосу, от дешевого фарса к Брехту, и далее — в цирк, к Полу Маккартни,
в нарративный поиск, к целому лексикону обрывистых жестов посреди безумно деко-
рированной сцены. С одной стороны, Бок вроде бы занимает территорию, подотчет-
ную дадаизму, и в этом смысле стратегически или как-то еще подтверждает въевшиеся
в плоть установления позднемодернистской изобразительности. С другой, возможно,
им движет отчуждение смысла в мире, воспринимаемом как скучный, запутанный
Теория хаоса 217
8.3. Джули Мерету
Retopistics: A Renegade Excavation,
2001
Холст, чернила, акриловые краски
2,59x5,49 м
и страшный, — отсюда его провокации по отношению к зрителю, намекающие на
прежние старания дадаизма совместить хаос с историческим и социальным ощуще-
нием мира.
Два явления научного характера стимулировали ряд искусствоведческих дис-
куссий другого содержания, к примеру о проблеме сложного в искусстве. Первое за-
ключалось в опубликованной в 1979 г. статье метеоролога Эдварда Лоренца «Предска-
зуемость: Вызовет ли взмах крыльев бабочки в Бразилии торнадо в Техасе?», в которой
утверждалось, что никакой перечень списка случайных переменных, сколь бы полон
он ни был, не позволяет ученым в полной мере предвидеть значительные природные
явления вроде торнадо, шторма или сезонных изменений температур. Из так называ-
емого «эффекта бабочки» Лоренца следует, что если есть ошибки в наблюдении на-
чального состояния системы (что неизбежно для любой естественной системы), пред-
сказание ее состояния в будущем невозможно. Теория хаоса, то есть учение о сложных
нелинейных динамических системах, используется для объяснения погоды, поведения
толпы, тенденций финансовых рынков, и демонстрирует, что любая самая очевидная
случайность и неуправляемость имеют глубокие и сложные основания. Второе явле-
ние, проявившееся в последнее десятилетие, — это проникновение в обыденную
жизнь таких парадоксальных концепций, как управляемый хаос, системный характер
сетей, сводящих микро- и макроуровни, и фундаментально биологический характер
всего на свете.
Если Климент Гринберг когда-то хвалил абстрактных экспрессионистов за то,
что те понимали, какого именно рода поздняя модернистская живопись отвечает «са-
мому современному, на тот момент, взгляду на мир», то в прошедшие несколько лет
осуществились проекты, о которых можно сказать то же самое. Возьмем новые работы
Джули Мерету. Родом из Эфиопии, она получила образование в Аддис-Абебе и Дакаре,
218 Новые сложности: 1999-2005
8.4. Мэтью Ритчи
Наскоро, 2000
Акриловые краски и маркер по стене,
эмалевые краски
по ковровому покрытию
Инсталляция в Музее современного
искусства в Майами
4,57 х 7.31x5,49 м
Эту инсталляцию Ритчи сопроводил
пояснительным текстом про простран-
ство-время одинокого астронавта,
путешествующего во времени Голема,
кота Шрёдингера. Текст Ритчи писал
и многосложно, явно не заботясь
о психическом здоровье читателя.
^Живопись — это нескончаемая батарея,
она нарушает законы термодинамики
и не страдает отэнтропии»
а потом переехала в США, где регулярно выставляется. Огромное полотно длиной в
пять с половиной метров «Retopistics: A Renegade Excavation» (2001) уже своими разме-
рами и способом выражения устанавливает гео- и биографические ориентиры, демон-
стрируя при этом впечатляющее пространственное воображение и высокий уровень
графики (Илл. 8.3). Многослойная усложненность, безусловно, здесь приманка пер-
вейшая: мы видим наброски тушью знакомых зданий, перекрытые блеклыми биологи-
ческими формами и извилистыми линиями, в свою очередь подложенными под щепки
и куски цельных и полупрозрачных обломков, стремительно влетающих в наше поле
зрения, и с каждым слоем цвет набирает силу. Словно созданное компьютерной про-
граммой, изображение просится на экран, и эти пространственные формы, архитек-
турные зарисовки и планы сражений, мосты и дороги, наложены (буквально) одна на
другую в горизонтальной проекции, которая примыкает к пространству заведомо вос-
хищенного зрителя. Язык этой абстракции, однако, весьма сложен. Отражая эхо
русского супрематизма восьмидесятилетней давности (одна из картин Мерету называ-
ется «Подъем нового супрематизма» [2001]), громко вторя столь же масштабным фре-
скам американских абстрактных экспрессионистов, такие полотна уже одной своей
наглядностью убедительно демонстрируют, что абстрактное искусство еще куда как
живо. Именно барочная путаница очень мелкого с очень крупным подчеркивает совре-
менность творчества Мерету: она доказывает нам, что не все компьютерные визуаль-
ные эффекты — кричащее обольщение усталого глаза, и что барокко, как эстетическая
система, приобретает новую значимость для жизни в переполненных городах, где оби-
тает большая часть населения мира.
На более высоком, космическом уровне американский художник Мэтью Ритчи
задался вопросом, как может выглядеть управляемая хаосом Вселенная; его живопись
обращена к философам, ученым и тем, кто следит за актуальной эстетикой. Ритчи ис-
пользует плоскости стены и пола (и физическую границу, которая их соединяет). С пер-
вого взгляда ясно, что он изучал научную иллюстрацию, а также химию, географию,
Теория хаоса 219
8.5. Сара Зе
Без названия (Сент-Джеймс), 1998
Смешанные материалы
Инсталляция в ICA, Лондон
картографию и физику и все это пустил в ход, чтобы добиться своих поразительных
изобразительных и графических эффектов. Сугубо формальную энергию обычного
живописного ресурса можно считать первичным эффектом творчества Ритчи. Однако
изощренные конструкции, подобные инсталляции «Наскоро» (Илл. 8.4), выполненной
акриловыми и эмалевыми красками с помощью маркера, каким мог бы во время лек-
ции писать на доске ученый, соотносятся с двумя измерениями одновременно: во-пер-
вых, с ментальной и социальной саморепрезентацией человека светского или карьер-
ного профессионала, чьи смыкающиеся кругозоры колеблются и непредсказуемо стал-
киваются, а во-вторых, с головоломными темпоральными сложностями от космически
необъятного до микроскопически малого. Некоторые критики, надо сказать, увидели
в мятежно летящих куда-то вкось картинах-инсталляциях Ритчи отражение психоде-
лических галлюцинаций или темный мир магии вуду. «Кинетический Фрагонар» — это
еще один термин, предложенный в попытке описать прихотливо-рококошное обаяние
этих кружащихся гирлянд и волнующихся цветастых кружев. Не менее соблазнитель-
но прочесть работы Ритчи как аллегорию творчества, воспевающую роль художника
как новатора, в воображении которого рождаются новые миры, поскольку при близ-
ком рассмотрении в его узорах заметны и протеин с плазмой, увиденные в электрон-
ный микроскоп, и гуманоиды, и галактические спирали, и силовые поля. Пойманные в
220 Новые сложности: 1999-2005
сети энергии, которую наука только еще осваивает, инсталляции
Ритчи вызывают в памяти когнитивные сложности азартной игры
(это еще один образ, на который художник часто ссылается) и гораз-
до более масштабную метафизическую смесь.
Кто бы подумал, что ручка-маркер и каракули станут ресурсом
современного искусства? Когда Сара Зе, которая живет в Бруклине, в
1997 г. украшает выступы старого склада в бременском Лихтхаусето-
варами из магазина «Все за десять центов», булавками, ведрами, спи-
чечными коробками, шариковыми ручками и т. д.; когда она громоз-
дит пластиковые тарелки, губки, куски мыла, книги, пачки печенья,
батарейки, настольные лампы и прочие домашние мелочи — и не на
полу, а на подоконниках и высоко под потолком галереи, как в лон-
донской инсталляции 1998 г. (Илл. 8.5), —то вполне уместно срав-
нить это со слэк-артом псевдотинэйджерского происхождения, на-
правлением, которое к этому моменту уже начало угасать. Но есть
что-то и помимо этого в инсталляциях Зе. Начав у подножия эволю-
ционной лестницы с разномастного повседневного, она подбирает
предметы, руководствуясь своими особыми критериями — специфи-
ческими на глаз, привычный к космическим открытиям и межзвезд-
ным перелетам. Именно в этом телеология, по меньшей мере, ее по-
следних работ, а ключ к ним — архитектура и хаотическая структура
современного города. Жившая в Нью-Йорке и Токио, Зе конструи-
рует свои опусы, следуя одной схеме: обходит окрестные хозяйст-
венные магазины и скупает прищепки, провода, всякие пластиковые
товары и прочие мелочи, а затем строит, начиная с пола, как во «Втором средстве выхо-
да из затмения», показанном на Берлинской биеннале 1998 г. (Илл. 8.6). Напоминая на
вид подъемный кран (зритель, разумеется, смотрит снизу), это замысловато-кропот-
ливое сочленение множества бытовых предметов все сверкает лампочками, жужжит
вентиляторами, тут же цветок в горшке, и газовый баллон, и множество лестниц, веду-
щих и вниз, и вверх. «Я приношу в выделенное мне место все, что скупила поблизости,
и размещаю эти самые обыденные вещи в пространстве так, чтобы в своем значении
они возвысились от просто знакомого к личному и собственному. Кусок мыла, который
лежит в витрине, — это общее. В контексте инсталляции он обретает свое особое мес-
то— где-то посередине между функциональностью и декоративностью». Критик Джон
Слайс предложил трактовать произведения Зе согласно концепции «грязного реализ-
ма» Фредрика Джеймсона, имея в виду то видение городского опыта, которое делает
его «одним огромным, неподдающимся репрезентации вместилищем, коллективным
пространством, где аннулировано противоречие между внешним и внутренним». Сле-
дующий скачок метафоры ассоциирует не поддающийся репрезентации город со столь
же невообразимым космосом. Пока ученые бьются с языком и графическими система-
ми, чтобы смоделировать свои все менее вразумительные соображения относительно
формы, происхождения и построения Вселенной, художник удовлетворяется система-
тизацией высокоинтеллектуальных попыток на уровне ощущений. Устанавливая тон-
кую связь между миниатюрным и непостижимо большим, Зе вызывает в памяти слова
Роберта Смитсона: «Размер определяет предмет, но масштаб определяет искусство.
В смысле масштаба, а не размера комнату можно подать так, что она примет в себя
необъятность Солнечной системы».
8.6. Сара Зе
Второе средство выхода
из затмения, 1998
Смешанные материалы
Инсталляция на Берлинской биеннале
«Перед тем как приступить к инсталля-
ции. я приезжаю в выделенное для нее
место, как приехала бы в новый дом, —
говорит художница. — Рассматриваю ка-
ждое помещение, что в нем было, какая
у него история, характер, особенности.
Изучаю освещение, дневной свет и ис-
кусственный. какой там воздух, темпера-
тура. где электрические розетки, водо-
провод. система пожарной безопасно-
сти, таблички «выход», всякие следы че-
ловеческой деятельности... Каковы мои
намерения? Это я начинаю понимать,
закончив работу и еще не начав новую»
Теория хаоса 221
Сила творчества Сары Зе кроется в его полной и примиренной включенности в
две обычно раздельные сферы опыта — приватную территорию домашней жизни., вро-
де полочки в ванной или комода в спальне, и перенаселенное пространство современ-
ного города. В фильмах последних лет, от «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта (1982) до
«Матрицы» (1999) и «Матрицы-1» (2003) братьев Вачовски, в каждом по-своему изо-
бражен город будущего (обычно это Токио), где архитектурные фантазии болезненно
смыкаются с неистребимым рабочим гетто с его замусоренностью и стихийной отста-
лостью. Точно также в инсталляциях Зе внешнее пространство рвется внутрь, а обита-
ющие внутри родные, привычные вещи и случайные мелочи стремятся наружу, чтобы
проявить себя как сфера общественного. Подобно дадаисту Курту Швиттерсу с его ганно-
верским «Мерцбау» (1936) и более поздними скульптурами из овсянки, Зе вдохнула душу
в пространство и материальную культуру современного интерьера и внешней среды.
Упомянув Швиттерса, обратимся к следующему радикальному жесту, прибег-
нуть к которому маститый дадаист, возможно, не нашел нужным. Его непостоянная,
но длительная приверженность конструктивистской теологии того времени — ска-
жем, архитектуре, — конструктивный и пластический подход к любым материальным
средствам, — помещает его в рамки эстетики искусства долговременного и прочного;
это тем поразительней, если учитывать, из какого хлама создавал он свои работы. По
контрасту, хрупкая материальность инсталляций Зе превращает их в передвижной
праздник: инсталляцию можно размонтировать, а потом воскресить или переделать
для следующей выставки. Из этого материального факта проистекают две философ-
ские идеи общего значения. Первая: пространства, оживленные инсталляциями Зе —
какие угодно, от престижной галереи до заброшенного склада, — подчиняются тем же
временным законам, что и филигранные структуры, которые их наполняют. Все про-
странство подчиняется времени, не так ли, говорит Зи. «Из-за того, что мои работы
сделаны тонко, эфемерность пространства становится многосоставной, сложной; я хо-
чу сказать, что исходное пространство хрупко, и новосозданное пространство ничуть
не укрепляет его».
Второе и совсем иное теоретическое следствие исходит из почти семейной бли-
зости между эфемерной инсталляцией и фотографией. Никакая фотография не вправе
претендовать на конечную передачу полноты всех смыслов столь многослойного
произведения искусства, как инсталляция. И все-таки нет иного способа запечатлеть
такую работу, кроме фотографии, особенно профессиональной, цветной, на высоко-
чувствительной пленке. Усиленный финансовым участием влиятельных арт-изда-
тельств, жанр инсталляции с самого своего зарождения нашел многочисленную ауди-
торию зрителей.
И этот факт, и недолговечность создания — исторически рожденные тактикой
минимализма, но позднее усилившиеся качества, — касаются проектов японки То-
моко Такахаши, которая в 1990 г. приехала в Лондон, чтобы учиться в Голдсмите-кол-
ледже, и быстро заняла свое место в международной выставочной сети. Уже ранние
работы Такахаши указывали, куда она пойдет в своем творчестве: в периоды между
выставками она приезжала к друзьям домой или на работу и перераспределяла их иму-
щество так, как ей хотелось, чтобы выразить свое к нему отношение. Кабинет библио-
текаря она превратила в море раскрытых книг; в студии художника выстроила кон-
струкции из холстов на подрамниках, утвари и личных вещей. Работая в выставочной
галерее, поступала так же. Сходясь в своем отношении к материалу с немецкой груп-
пой «Бюро Берлин» и более поздними проектами Джейсона Роудса и Карен Килимник,
222 Новые сложности: 1999-2005
в материальные особенности осваиваемого пространства Такахаши привносит вос-
точную чувственность. Она живет, спит и ест в галерее в продолжение всего времени,
пока делает «расстановку», и к задаче своей подходит как музыкант к ритму и долготе
звука. Под яванские мелодии, к которым она склонна, так что даже училась играть на
индийском ситаре, Такахаши раскладывает «ударные» экспонаты, следуя генеральной
идее, а расстояния между*ними с великим тщанием заполняет всякой ерундой, собран-
ной по окрестностям или в самой галерее. В 1988 г. лондонский арт-дилер и коллекци-
онер Чарльз Саатчи организовал выставку молодых дарований, не слишком удачно
названную «Невротический реализм», где Такахаши предоставили большое простран-
ство, соединяющее две другие галереи. Идея состояла в том, чтобы организовать бес-
порядок эпического масштаба. В «“Линейном выходе”, — рассказывает она, — есть три
слоя. Первый — это рисунок на полу под предметами , состоящий из точек и линий, сде-
ланных из черной и серебряной клейкой ленты, — так я знакомилась с этим новым для
меня местом. Когда я обвыклась с полом, то одновременно получила представление и о
пространстве в целом, а потом пришла очередь предметов» (Илл. 8.7). Эти «пред-
s.7. Томоко Такахаши
Линейный выход, 1998
Смешанные материалы
Часть инсталляции
Выставка «Невротический реализм»
в галерее Саатчи. Лондон, 1999
меты» — не вполне подходящее словцо для выставленного хлама — разномастные и
специфические, создавали верный образ уличной жизни Нью-Йорка, который их сам
создает и сам тут же выбрасывает. В точности как мусорщик сортирует свои находки по
собственным, порой весьма прихотливым критериям: размеру, пригодности, возрасту
или состоянию, и разбирает мусор сначала вокруг себя, а потом дотягивается подаль-
ше, Такахаши аккуратно расставляет старые проигрыватели, часы, кухонные комбай-
ны, компьютерное «железо» и прочее, так что получаются горки и впадинки, свое-
образный ландшафт старья, притаившегося, чтобы заманить вглубь неосторожного
визитера (заглавие «Линейный выход» намекает на электропроводку, проложенную на
заднем плане). И очень даже заманивает. Свист и визг плохо настроенного радио, заез-
женных пластинок, старая электрическая плитка, на которой что-то кипит, — все это
создавало впечатление временного пристанища бродяги, который куда-то вышел.
Посетитель волей-неволей вовлекался в происходящее: неосторожный шаг в сторону
заводил его в самые дебри. «Забавно было смотреть со стороны, как мои вещи подавля-
ют людей, и те теряются, не знают, что делать, — делилась Такахаши после открытия
выставки. — Мне самой-то было там по-настоящему страшно».
Теория хаоса 223
8.8. Томоко Такахаши
Теннисный корт в Глиссолд-парке,
2000
Смешанные материалы
Деталь инсталляции
Конечно, эфемерность значительной части современного искусства начиная с
60-х годов изменила спрос на долговечность произведений искусства с точки зрения
«купи-продай», равнявшей их с товарами потребления. И Такахаши, подобно прочим
творцам «эстетики хлама», разделяла пренебрежительное отношение к требованиям
рынка. Ее творчеству присущ этот перформативный момент, который придает ин-
сталляции ауру временности, непостоянства. Обычно, живя рядом с инсталляцией в
течение дней, недель и даже месяцев, до того, как шоу начнется, она пополняет и пере-
рабатывает свое собрание до самой даты открытия. «Если оно будет в 10.00 во вторник,
то я бегаю по залу вплоть до 9.59, чтобы сделать последний штрих». Так художница
словно подает сигнал зрителям, что теперь уже их очередь. Ее «Теннисный корт»
(Илл. 8.8) сгустил эту ауру временности до предела, и весьма показательно. В начале
2000 г. устроившись в палатке на теннисном корте муниципального Глиссолд-парка,
Такахаши по окрестным школам набрала спортинвентаря вроде ракеток для пинг-пон-
га, поломанных хоккейных клюшек, наколенников и гимнастических снарядов, раз-
местив это все по сохранившимся линиям разметки теннисного корта. Инсталляция
была открыта для посетителей с 9.30 вечера до восхода солнца четыре ночи подряд, а на
пятый день Такахаши все разобрала и вернула «экспонаты» на место. Почти непод-
властное фотографированию и, уж конечно, негодное для продажи, это произведение
тем не менее пережило свой срок в виде, пожалуй, более долговечном, чем все про-
чие, — в изображениях и текстах вроде того, что вы сейчас читаете.
Стремление ряда современных художников выйти со своим творчеством в об-
ширное пространство города, культуры и даже Вселенной, создать сложные аналогии
между миром единично-малого и множественно-огромного — это стремление имеет
своих предшественников в лице пейзажистов, создателей идеальных ландшафтов, от
певца катастроф Джона Мартина (1789-1854) до любителя рискованных приключе-
ний Эдвина Чёрча (1826-1900). Истинное же величие принадлежит только эпохе пер-
вых европейских и американских путешествий, и художникам того времени даже не
снились те вложения времени, денег и личного благополучия, которые привели поко-
ление начала XXI века в темный мир вещей, себя исчерпавших и по большей части ник-
чемных. И все-таки надо понимать, что этот спад имеет свою метафорику. Пресловутый
«новый глобальный порядок» на деле не более чем беспорядок: бесконечный и неиз-
менный беспорядок на всех уровнях от нации до детской, от континента до кладовки и
назад. Архитектор и теоретик дизайна Рем Кулхаас, автор книг «Нью-йоркский дели-
риум» (1978) и «Большой прыжок» (2002), недавно придумал концепцию junkspace,
«мусорного пространства», в которой безрадостно, но реалистично описывает это об-
щее состояние культуры. Термин «мусорное пространство» суммирует новый визуаль-
но-социальный порядок, основанный на потреблении, индивидуализации и банализа-
ции информации. «Мусорное пространство, — утверждает Кулхаас, — это политика:
оно зиждется на централизованном изъятии критики во имя комфорта и удовольст-
вия». Но, кроме того, «мусорное пространство» «бесстильно и подавляет: по мере того
как преобладает бесформенное, формальное чахнет, и с ним все правила, установ-
ления, вопли о помощи... “мусорное пространство” знает все ваши эмоции, все ваши
желания». Язык Кулхааса насквозь метафоричен: «То, что когда-то было прямым, сво-
рачивается во все более сложные конфигурации. Лишь извращенная модернистская
хореография могла бы объяснить эти извивы и повороты, подъемы и спуски, вне-
запные развороты, из которых складывается типичный путь от стойки регистрации
к терминалу современного аэропорта. Мы не ставим под вопрос навязанные нам
224 Новые сложности: 1999-2005
установки, мы покорно проделываем это абсурдное путешествие мимо парфюмерии,
беженцев, строительных площадок, белья, устриц, порнографии, мобильных телефо-
нов — невероятное приключение для мозга, глаза, носа, языка, матки, яичек».
Упомянув яички — и для комплекта, — мы подходим наконец, причем в совер-
шенно ином регистре, к эффектному и экстравагантному творчеству Мэтью Барни, ко-
торый своими видеоопусами «Кремастер» (с 1994 по 2002 г.) заворожил аудиторию и
разозлил ее, причем то и другое в равной мере. Мэтью Ритчи о Барни отозвался так:
«Крайне редко на самом деле появляется художник, который сразу так убедительно
заявляете себе как ведущий игрок, не говоря уж о личности, так идеально соответству-
ющей нашим желаниям. Барни очаровывает в полном смысле слова, включая букваль-
ный: это внешнее очарование создано сверхъестественной силой, и вещи кажутся не
такими, каковы они есть». Одно время он учился на медицинском, потом играл в фут-
бол, демонстрировал модную одежду, затем вроде бы занимался скульптурой, а в двад-
цать четыре года, в 1991 г., объявился на нью-йоркской сцене с видеоперформансом
«Порог в милю высотой: Полет с анально-садистским воином». Барни в купальной ша-
почке, в туфлях на высоких каблуках и с титановым ледобуром в анусе лез по потолку
галереи, в течение трех часов сопротивляясь силам тяготения и дискомфорта. Помимо
видео, галерея была оборудована различными гимнастическими приспособлениями,
протезами, наплывами воска, кучками муки из маниоки, синтетическим гормоном хо-
риотропином — все это потом стало стандартным набором символики Барни. Главные
темы таких мазохистских перформансов — необходимость самодисциплины и еже-
дневных занятий для поддержки боеготовности тела, превращение мужского в жен-
ское и женского в мужское, и еще мотив поиска, или преодоления трудностей, ритуа-
лизированных экстраординарным, порой невероятным способом, — короче говоря,
натуральное возрождение стоических перформансов семидесятых.
«Я вырос на футбольном поле; именно там я начал конструировать смыслы сво-
ей жизни». Пристрастие Барни к протезам и физической выносливости выросло из его
увлечения футболистом Джимом Отто из команды «Окленд Райдере», супергероем, ко-
торый играл, преодолевая боль после операций на коленной чашечке, и номер на его
футболке — «00» — Барни рассматривает как метафору и лаконичную эмблему имени
«Отто». А «Кремастер» — это название мышцы, поднимающей и опускающей яичко в
ответ на температурные изменения и порой страх. Пять эпических перформансов этой
серии стал и легендой и в Европе, и в США. Языком соблазна и тайны Барни разрабаты-
вают в них символику гендера и самоограничения. В самом раннем, «Кремастере-1»
(1994), дело происходило на острове Мэн. Барни, в белом костюме, с ярко-рыжими во-
лосами, в сопровождении мускулистых фей, стэпом прошелся по всему пирсу, упал в
море и выкарабкался обратно на землю через длинный туннель, наполненный вазели-
ном. Тем временем два мотоцикла с колясками мчал ись вокруг острова друг другу на-
встречу: команда «Восходящих», одетая в желтое, обозначала женские яичники,
команда «Нисходящих», в синем, — мужские яички. Описав круг, мотоциклы встрети-
лись у пирса под звуки труб и барабанов, и мы видим на снимке мошонку художника,
покрытую желтыми и синими нитями, которые тянутся к мотоциклистам, а те их натя-
гивают. «Кремастер-1» (1997) был поставлен в Венгерской государственной опере и
Термальных банях Будапешта. Идея основывалась на обстоятельствах жизни Эриха
Вайса (то бишь Гарри Гудини), карьера которого в качестве мага и каскадера очень
напоминает историю самого Барни. История Гудини развертывалась задним ходом, в
обратном порядке, и вокруг клубилась свита из Горбунов, Великанов и Примадонн,
Теория хаоса 225
8.9. Мэтью Барни
Кремастер-1, 2002
Видеокадр
валялись протезы, летали украшенные лентами хохлатые голуби. Под последний пер-
форманс в серии, «Кремастер-1» (2002), Барни занял символический центр нью-йорк-
ской художественной жизни, Музей Гуггенхейма, и устроил там, пожалуй, на сегодня
самую щедрую из своих мизансцен (Илл. 8.9). Зрители поднимались по знаменитому
спиральному пандусу меж скульптурами предыдущих четырех «Кремастеров» и видео-
экранами, на которых шли их же записи, а пятый видеофильм, «Порядок», демонстриро-
вался на пяти экранах массивного «джамботрона», который висел под потолком ротонды.
Кадры Барни, спускающегося (как испуганные яички) по пандусу Гуггенхейма, шли
вперебивку с отбивающими стэп статистками, с дерущимися хардрок-музыкантами, с
женщиной-леопардом и, наконец, со скульптором Ричардом Серра, который повторял
свои ранние скульптуры из жидкого свинца, только на этот раз из вазелина Барни. Ни-
какому описанию не передать роскошество и взаимосвязь барочных конструкций Бар-
ни, их воистину эпический размах. Лучшие из критиков в выверенных и аккуратных
выражениях хвалили его работу, но один из них, британский писатель Норман Брай-
сон, обратил внимание на его «тревожную» «волю к власти», его постоянно возлагае-
мое на себя напряжение на фоне экстравагантного и симметричного задника а-ля Бас-
би Беркли (знаменитый голливудский хореограф). «Мысль о том, что миссия человека
состоит в господстве над природой и постоянной ломке данных ею предписаний, свой-
ственна, по существу, Фаусту или Прометею, — заметил Брайсон, — и подразумевает
титаническое честолюбие и неизбежный крах». А канадский критик Брюс Хью Расселл,
с другой стороны, привлек внимание еще к одному обстоятельству. Та тщательность, с
какой Барни прячет свой фаллос, даже выступая почти обнаженным (или же маскиру-
ет его под протезными прикрытиями), намекает на присутствие «страха кастрации»
как движущей силы серии «Кремастер». По сути дела, нас подталкивают к тому, чтобы
мы порезвились с возможностью абсорбции телом яичек в качестве яичников. Творче-
ство Барни, пишет Рассел, «отражает кризис его поколения с точки зрения предполо-
жительно гетеросексуального художника мужского пола в эру, сдвинутую на проблеме
идентичности... его успех отражает наши собственные проблемы». Или, как в «New
York Times» заметила менее восторженная Роберта Смит, «теперь, когда Барни выта-
щил “Кремастер” из своего организма, может произойти все, что угодно».
Художественный музей: склад или святилище?
Теперь нужно сделать паузу, чтобы рассмотреть влияние этих многоканальных инстал-
ляций — новой сенсорики звука, изображения и материала — на архитектуру художе-
ственного музея, а также, в обратном порядке, влияние на них его особых пространств.
Уверен, что внимательный читатель уже подметил тонкую игру между физическим
окружением экспоната и опытом его восприятия; и речь не только о Мэтью Барни. Мы
не раз наблюдали, как современный куратор-импресарио предлагал аудитории все бо-
лее смелый подбор произведений искусства, все более эффектные темы, привлекаю-
щие, готовящие публику к новому. Сообщник куратора в этом деле — архитектор-
шоумен, умеющий преобразить городской центр, полузабытый пригород или универ-
ситетский студенческий городок, выстроив там мажорные (и фотогеничные) здания,
которые примут на себя роль символа в меняющемся самосознании общины, города,
нации. Не будет преувеличением сказать, что витальность города измеряется нынче на
Западе блеском и архитектурной предприимчивостью его художественных музеев.
226 Новые сложности: 1999-2005
Впервые в современной истории репутация архитектора определяется его достижени-
ями в области музейного строительства.
У таких проектов особые эстетические амбиции, и список недавних свершений
длинен и впечатляющ. Ренцо Пиано представил нам галерею Сая Твомбли в Хьюстоне
(1995), Студию Бранкузи в Париже (1997), Музей фонда Бейелера в Базеле (1997); Дэ-
ниель Либекинд — Еврейский музей в Берлине (1998), это его первый реализованный
проект, музей Феликса Нассбаума в Оснабрюке (1998) и планы относительно музея
Виктории и Альберта в Лондоне (пока они «на полке»). Ричард Мейер имел на своем
счету три музейных проекта, прежде чем подступиться к белым просторам Музея со-
временного искусства в Барселоне (МАСВА, закончен в 1995). Аналогично Центру
Помпиду, построенному Пиано и Роджерсом в 70-х, барселонский проект Мейера заду-
ман в центре плотной городской застройки, которую городским властям предстояло
расчистить. В обоих случаях исчезли целые районы, жители которых переместились в
новые районы города, куда редко забредают туристы. Барселонский опыт (и париж-
ский тоже) говорит о городе, система приоритетов которого все больше ориентируется
на международную представительность, на знаменитостей, ассоциируемых с новым
искусством, на ауру, окружающую необычный и эффектный дизайн (Илл. 8.10).
Белизна интерьеров и незаставленное, тонко продуманное пространство стало
основным мотивом современной музейной архитектуры с момента ее зарождения в
расцвет Современного движения 20-х и 30-х гг. прошлого века. Это сочетание оказа-
лось поразительно живучим: продержалось всю так называемую постмодернистскую
фазу и пережило ее. И все-таки идея дизайна, придуманного Мейером для МАСВА, —
внедрить свет и воздух в самое сердце старого, мрачного, запущенного квартала
Раваль, расположенного к западу от знаменитой Рамбли, — привело к созданию от-
крытого, но не имеющего четкой структуры пространства (обжитого теперь благо-
дарными скейтбордистами) перед блистающим белым зданием, не заявленным ни
архитектурно, ни социально и не вписанным в исторический контекст площади, где
сохранился еще монастырь XVI века и несколько жилых домов. Внушительный южный
фасад МАСВА впускает в музей много солнца, которое первым делом заливает пологий
пандус (ссылка на ротонду нью-йоркского МОМА Фрэнка Ллойда Райта), а затем распо-
ложенные за ним залы. Однако именно культурно-эстетические свойства шедевра
Мейера вызвали самую острую критику. Дело в том, что на момент своего открытия
МАСВА, неэффективно управляемый консорциумом правительственных чиновников
Барселоны и Каталонии и частным фондом, предоставлявшим средства на пополнение
8.10. Ричард Мейер и партнеры
Музей современного искусства
(МАСВА), 1995
Барселона, Испания
Художественный музей: склад или святилище? 227
коллекции, не имел не только значимой коллекции, но даже директора. С 1995 г. его
чрезмерно просторные и довольно безликие залы служат пристанищем для заезжих
выставок, а к искусству Барселоны, Каталонии и Испании отношения в общем-то не
имеют. Нужда в так называемом обновлении города и соответствии ожиданиям турис-
тов, судя по всему, перевесила императивы планирования и архитектурного единства.
Но, что ни говори, а благодаря своему впечатляющему МАСВА Барселона, несомненно,
застолбила себе место среди самых современных испанских городов.
Точно так же, когда канадский архитектор Фрэнк Гери выиграл конкурс на про-
ект нового здания художественного музея в старом центре испанского порта Бильбао,
его репутация служила залогом того, что город появится на туристической карте и со-
ответственно возрастут доходы казны. До того Гери доказал свое мастерство, выстроив
замечательный особняк художнику Рону Дэвису в Малибу (1972) и небольшой музей
дизайна для компании «Vitra» в немецком Вейле-на-Рейне (1989). Долгая дружба с ху-
дожниками и глубокое понимание кубистской скульптуры помогли Гери при работе
над зданием Художественного музея им. Фредерика Р. Вайсмана в Миннеаполисе
(1993), а после этого он приступил к самому значительному на сегодня проекту в своей
карьере, который к тому же призван служить важнейшим форпостом империи Гутген-
хейма за пределами США. .
Учитывая, что Бильбао — столица яростно независимой Страны басков, вполне
резонно было ожидать хотя бы некоторых отсылок к традициям этого региона и его но-
вейшей истории (взять, к примеру, небольшой городок Герника в 32 км на юг). Однако
Томас Крене, энергичный директор разрастающейся империи Гуггенхеймов, совсем
не это имел в виду, приглашая четырех известных архитекторов (Ханса Холляйна, Ара-
то Исодзаки, Коопа Химмельблау и Гери). Завершенное в 1997 г. на длинном и узком
участке берега реки Нервион, здание музея петлей уходит под автодорожный мост и,
вынырнув, делает резкий рывок вверх (Илл. 8.11). Видная отовсюду, эта серо-стальная
масса наводит на мысли сразу и о выбросившемся на берег ките, и о заброшенном про-
мышленном здании, и о знаменитых наклонных объемах русских архитекторов
8.11. Фрэнк Гери
[уггенхейм-Билъбао, 1991-1997
При создании проекта Гери использовал
компьютерную программу «САТ1А»,
разработанную для конструирования
самолетов «Мираж»
французской компании -Dassault-
228 Новые сложности: 1999-2005
1918-1921 гг.,.когда «архитектура» вынужденно была фантазиями, рождавшимися в
живом воображении художника и остававшимися на бумаге (башню Татлина, как из-
вестно. таки не построили). А войдя в атриум музея, мы попадаем в мир фильма Фрица
Ланга «Метрополис» (1920) или футуристических архитектурных видений Антонио
Сант-Элиа. Другая приметная особенность проекта Гери — асимметричные объемы
как бы рваного и мятого металла, начертанные компьютерной программой ломаные
линии и стыки — указывает не на революционное прошлое, а на революционное
будущее. Зритель захвачен увиденным, невиданными объемами и разрывами объ-
емов, волнующим мерцанием света и тьмы, всеми этими эффектами, которые каж-
дому, в меру его осведомленности в достижениях электроники, предвещает новый
музей, такой, который сам по себе творение, подобное тем артефактам, что будут в нем
выставлены.
А каковы же музейные залы? У нынешнего куратора, несомненно, захватывает
дух от возможностей, о которых раньше нечего было и мечтать: в длиннющем 137-мет-
ровом «шлюпочном» зале могла бы поместиться и огромная минималистская скульп-
тура художников вроде Роберта Морриса и Ричарда Серра, и такая обширная (и, на мой
взгляд, бессмысленная) затея, как двухкилометровой длины полотно стареющего мас-
тера коллажа Роберта Раушенберга. Вот тут-то и кроется парадокс. Гуггенхейм-Биль-
бао, бесспорно, катализировал экономическое возрождение города. (После создания
Европейского союза отрасли промышленности, на которых базировалась экономика
Бильбао, пришли в упадок, обострились социальные проблемы, вырос уровень без-
работицы, доходы городского бюджета были близки к нулю.) Музей стал окном в мир
послевоенной и современной культуры... ну, если оговориться, что культура эта —
заглушающий все другие голос западного модернизма и его последователей, и если
помнить, что миссией самого первого Музея Гуггенхейма было именно утверждение
духовных и интеллектуальных ценностей абстрактного искусства. Принимая во вни-
мание, что правительство басков заплатило нью-йоркскому Гуггенхейму больше
150 млн. долларов за строительство музея и обеспечение показа его коллекций, каза-
лось бы, можно всерьез поговорить о культурном империализме в самой неприкрытой
форме. Фактически точка зрения Гуггенхейма на современное искусство является
лишь одной из многих — это, согласно признанному американцами канону, поколение
сначала Ротко и Поллока, потом Морриса, Раушенберга, Крюгер, Серра, Олденбурга и
Андре. Имея форпосты в Венеции, Берлине, в Нижнем Манхэттене и ведя переговоры о
дальнейшем расширении, нью-йоркский Гуггенхейм определенно проводит экспан-
сию в глобальном масштабе.
Рем Кулхаас тут обобщил свои апокалиптические идеи относительно junkspace,
«мусорного пространства», применительно к художественному музею. Оно «может
быть либо абсолютно хаотичным, либо ужасающе стерильным — как бестселлер —
максимально определенным и неопределимым в одно и то же время...Музеи — это
ханжеское мусорное пространство; нет ничего непреклонней, чем святость. Чтобы уб-
лажить завлеченных ненароком неофитов, музеи превращают “плохое” пространство
в “хорошее”; чем больше натурального дуба, тем больше прибыль... Служители культа
мертвых, они дадут фору любому кладбищу по части перетасовки трупов ради финан-
совой целесообразности... Огромные устрашающие пауки предлагают дурман для
масс». Это, по сути говоря, камень, брошенный в Луиз Буржуа, чья скульптура «Паук»
все лето 2000 г. стояла на промышленного размаха антресолях лондонского музея
Тейт-Модерн (а осенью 2001 г. — у нас в Эрмитаже), самой эффектной из столичных
Художественный музей: склад или святилище? 229
8.12. Херцог и де Мерой
Тейт-Модерн, Бэнксайд. Лондон, 2000
музейных новостроек Британии. Спроектированная швейцарскими
архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мероном, она откры-
лась в том же году (Илл. 8.12). На самом деле британское собрание
послевоенного и современного искусства довольно скудно, в то
время как население страны в течение двадцатого века выработало
глубоко скептическое отношение к культурному демократизму и
модернистской культуре в целом. Все это время галерея Тейт с ее кол-
лекциями британского и современного искусства размещалась в
викторианском здании в Вестминстере, приобретала мало и не име-
ла особой охоты к нововведениям — пока директором не назначили
Николаса Серота (теперь он сэр). Столь запоздалое, на заре XXI сто-
летия, появление Тейт-Модерн, почти на семьдесят лет позже Музея
современного искусства в Нью-Йорке (1929) и на четверть века поз-
же Центра Помпиду в Париже (1976), говорит само за себя. Преоб-
ражение отслужившей свое электростанции, расположенной на
южном берегу Темзы, с тем чтобы расширить и оживить старый на-
циональный музей, которое поначалу вроде бы говорило о желании
сэкономить на современности, на деле обнаружило симптом, для
Британии еще непривычный: живейший интерес ко всем формам
изобразительного искусства.
Но все-таки Кулхаас прав, утверждая, что к энтузиазму этому
следует подходить с осторожностью. До того как приступить к Тейт-
Модерн, Херцог и де Мерой выполнили несколько небольших проек-
тов в Базеле и его окрестностях, да еще элегантно скромную галерею Гётца в пригороде
Мюнхена. Выиграв конкурс на строительство Тейт-Модерн у Тадао Андо, Дэвида Чип-
перфилда, Рафаэля Монео, Ренцо Пиано и самого Кулхааса, они предложили лишь
минимально изменить внешний вид старой электростанции, со значением сохранив
высокую фронтальную трубу и увеличив высоту здания на один стеклянный этаж. Это-
го оказалось достаточно, чтобы гарантировать, что Тейт-Модерн сможет соперничать
(в иных, конечно, масштабах) с куполом собора Святого Павла, который находится че-
рез реку. Впрочем, особые поношения вызвало не это, а интерьер Тейт-Модерн. Чтобы
попасть на различные уровни здания, посетителю приходится сначала спуститься по
нескладному пандусу на уровень книжного магазина и уже оттуда подниматься в
просторных лифтах, подобающих скорее универмагу. Выставочные залы в основном
маленькие, полы всюду подозрительным образом из натурального дуба, и никаких пе-
редвижных стен, чтобы модулировать внутреннее пространство: все зафиксировано,
логично, и в известной степени произрастает из эстетической системы франко-швей-
царского художника Реми Зауга (см. илл. 3.2), неукоснительно феноменологический
подход которого, говорят нам Херцог и де Мерой, «очень близок к тому, что мы пытаем-
ся выразить в архитектуре». Дезориентирует то, что все уровни музея точь-в-точь
повторяют один другой, вплоть до непомерно дорогого ресторана на крыше.
И современные художники, в массе своей, не жалуют Тейт-Модерн, однако ос-
новная его проблема, как выяснилась, кроется в просторном, во всю высоту здания,
холле, где раньше стояли турбины электростанции. Мрачный и гнетущий, несмотря на
свою необъятность, «турбинный зал» служит пристанищем для скульптурных проек-
тов, которые страдают от необходимости соответствовать масштабу интерьера. Поми-
мо Буржуа, в 2002 г. там осуществил свой коммерчески спонсированный проект Хуан
230 Новые сложности: 1999-2005
Муньос. А в 2003 г. нам предъявили самую на сегодня впечатляющую из всех выстав-
лявшихся в Тейт-Модерн скульптурных работ — «Марсия» Аниша Капура, опус столь
масштабный, что он заполнил собой весь зал, от стены до стены и от пола до потолка
(Илл. 8.13). Тонко играя с антитезой «материальное—нематериальное», «Марсий» поз-
воляет рассматривать себя снизу и заглядывать себе внутрь, в пространство, туго обтя-
нутое семью тысячами квадратных метров поливинилацетата, темно-красный цвет
которого напоминает об освежеванном герое античной мифологии, в то время как ог-
ромный зев трубы говорит о силе воплей несчастного. Если же рассматривать дело не
нарративно, а по существу, то Капур показал, на уровне глубинном и архитипическом,
как художественный музей, подобный Тейт-Модерн, может поладить с искусством
нашего времени. Преображенная электростанция представляет собой подвижный
гибрид детища недавнего индустриального прошлого и освященного традицией эсте-
тического пространства. В первую очередь прагматичное и функциональное, здание
проделало большой путь, чтобы ответить потребностям нового постмодерна и пост-
канонического туриста, который кочует по залам, в то время как «снаружи созданный
архитектором пешеходный мост раскачивается до точки разрыва от топота восторжен-
ных пешеходов» (это опять Кулхаас) (речь о «Мосте тысячелетия», спроектированном
Норманом Фостером, его открыли 10 июня 2000 г. и через два дня, в связи с неустойчи-
востью, закрыли; за это время по нему успело пройтись около 160 тыс. человек). Да,
достичь баланса между складом и святилищем никогда еще не было так трудно.
Между тем невиданные художественные музеи в процветающих или озабо-
ченных своим имиджем- городах, похоже, установили новые всемирные стандарты
эффектной музейной экспозиции, рассчитанной на тонко чувствую-
щего зрителя. Новое здание Художественного музея в Миллюки
(2001), придуманное испанцем Сантьяго Калатравой, украсило со-
бой оконечность Висконсин-авеню, упирающуюся в озеро Мичиган,
над которым оно раскинуло на солнечном ветру свои движущиеся
(в самом деле) птичьи крылья, с гармоничной симметрией способ-
ные изменить саму форму здания. Очевидна попытка достичь эко-
номического «эффекта Бильбао»: так и ждешь, что кто-нибудь из
местных сотрудников Калатравы скажет, что новое здание «стало
катализатором обновления жизни города, сообщило ему энергию
такого накала, которой мы давно здесь не видели». Руководитель
городского отдела планирования Милуоки с готовностью подтверж-
дает, что «здание Калатравы уже превзошло ожидания наших за-
казчиков, выявило наши стремления исследовать архитектурные
концепции,смелые и плодотворные» (Илл. 8.14).
14л и возьмем японского архитектора Тадао Андо, построив-
шего Музей современного искусства в техасском Форт-Уорте (2002).
Этот город и до того сочетал свой ковбойский характер с двумя худо-
жественными музеями, Музеем Амоса Картера, созданным в 1965 г.
Филипом Джонсоном, и Художественным музеем Кимбелла работы
Луиса Кана (1972). Слишком близко примыкая к еще одной город-
ской приманке для туристов, Cowgirl Hall of Fame (музею, посвя-
щенному женщинам, осваивавшим Дикий Запад), создание Андо
с его изысканным отражением полированного бетона в воде — на-
стоящий оазис культуры в довольно-таки обветшалой части города.
8.13. Аниш Капур
Марсий. Инсталляция в Тейт-Модерн,
2002
Художественный музей: склад или святилище? 231
8.14. Сантьяго Калатрава
и Калер Слейтер
Художественный музей Милуоки,
2001
Хорошо ли оно для искусства, это сотрудничество между архитек-
турным гением и отцами города? Или нам придется смириться со
стерильным, как в морге, сиянием некоторых выставочных про-
странств? Как тут не вспомнить, что истинно новаторское искусство
произрастает в местах куда менее презентабельных, тесных и про-
сторных, в подвалах и на чердаках, не для этого приспособленных,
далеких от городских центров. И хотя новые художественные музеи
изначально преисполнены символического значения, все-таки нет
сомнений, что именно анархия и, так сказать, низкобюджетная
самодельность остается фундаментальным условием творческого
процесса, — частенько именно из такой почвы прорастают значи-
мые имена.
Пространства фильма
Плоды перекрестного опыления между видео, скульптурой, перформансом и звуком
также широко пользуются податливым к изменениям пространством современного
художественного музея. Однако, помимо визуальной и физической усложненности,
самой поразительной новацией в современном искусстве стало использование движу-
щегося изображения, либо спроецированного, как фильм, либо мерцающего на малом
экране в пределах зала. Дело, возможно, в том, что движущиеся картинки изменили
сам способ, каким зритель созерцает статичные артефакты. Во-первых, рассмотрим
игру света. В привычном модернистском музее архитектура гарантирует, что тщательно
продуманные уровни естественного освещения будут оживлять произведение, поме-
щенное в белый куб интерьера. При показе современного фильма или видеопроекции,
напротив, естественное освещение отсутствует, действо происходит в темноте, и све-
тится только изображение. Во-вторых, то, что в выставочном зале нет стационарных
стульев (и это не ошибка куратора, а часть замысла), сообщает просмотру ощущения,
отличные от опыта пребывания в кинотеатре с его удобными креслами и комфортом,
окутывающим, как кокон. В зале музея зритель вынужден стоять или сидеть на полу в
позе, не только весьма отличной от той, которой требует изделие Голливуда, но и от той,
в которой мы обычно рассматриваем картины. Третьей особенностью многих кино- и
видеоинсталляций является то, что произведение навязывает себя зрителю при отсут-
ствии обычных киноаксессуаров — входных билетов, расписания показа и прочего.
Посетитель музея забредает в зал иногда в начале, но чаще в середине показа — и может
уйти, не дождавшись конца, или задержаться, в зависимости от того, насколько заин-
тересовался. Длительность показа бывает короткой, в две-три минуты, а бывает и
длинной, до часу. Вся эта нестабильность вызывает в зрителе беспокойство, справиться
с которым в полной мере не удается. Как заметил однажды Борис Гройс, «что бы ни ре-
шил человек, остаться или идти дальше, его выбор — неизменно жалкий паллиатив».
С 1970-х, с самого зарождения контркультуры, арт-кино и арт-видео отошли от
гипнотических условностей нарративного кинематографа именно с тем, чтобы под-
вергнуть критике этот самый пассивизирующий, самый оглупляющий из развле-
кательных жанров господствующей культуры. Отказ от синхронизации звука и изо-
бражения — важнейшего инструмента голливудской симуляции реальности — так-
же стал актуальным пунктом программы авангарда. Напоминание о физическом и
232 Новые сложности: 1999-200ь
когнитивном дискомфорте, присущем рассматриванию картин и скульптур, таким
образом, сохранилось здесь для того, чтобы сместить внимание на визуальные особен-
ности произведения (композиционную структура, текстуру, ритм и масштаб) и на его
концептуальные аспекты (язык, стиль подачи, представление о позиции зрителя). Со-
противляясь рекламной машине Голливуда, творцы арт-кино и арт-видео осознанно
вгоняют себя в рамки низкобюджетного производства, примитивной техники съемки
и монтажа, а также того самодельного, на авось, любительства, которое роднит их со
стилем фотографии, практиковавшимся концептуалистами, и мерцающими видео-
опусами авангарда 70-х.
Вот, например, чернокожий художник Стив Маккуин, уроженец Лондона, луч-
ший из молодых британских видеохудожников, в 2000 г. получивший приз Тернера.
В своем творчестве он забавно отражает природу фильма как экспериментального
изобразительного искусства. Другие в это время анатомировали, разбирали на части
иносказания, механизм, саму продолжительность фильма — к примеру, этим занимал-
ся Дуглас Гордон в своем знаменитом «24-Hour Psycho» (1993), который (откровенно
опираясь на более раннюю работу классика современного видео-арта Билла Вайолы)
замедлил шедевр Хичкока до 2 кадров в секунду; чем увеличил длительность показа до
24 часов, чтобы и поклонники фильма, и профессионалы в равной мере (если достанет
времени и сил не уснуть) посмаковали классику во всех ее микродеталях. Маккуин же
внимательно присматривается к тому, как работает нарратив, и вроде бы получает
кайф от абсурдности своих попыток ему следовать. В его ленте «Исход» (1992-1997)
продолжительностью одну минуту мы видим, как двое чернокожих несут по лондон-
ским улицам горшки с высокими комнатными растениями, лавируют в толпе и в конце
фильма садятся в автобус; нам кажется, что мы следим за ними незаметно, и вдруг в по-
следней сцене они поворачиваются к нам лицом и машуг в заднее стекло автобуса,
мгновенно меняя направление кинематического взгляда. Туг и кроется ключ к самым
поразительным фильмам Маккуина. Так, в «Five Easy Pieces» (1995) он сам снят снизу
писающим на камеру (изображение как бы размывается жидкостью, а потом снова
входит в фокус), а чернокожие мужчины крутят хулахуп, их ритмичные покачивания
сняты сверху, в стиле Родченко, пока один из них не сбивается и обруч не падает на
пол, — воплощение негроидной сексуальности, облаченное в материальность фильма.
Очень скоро понимаешь, что все, напластование и изменение порядка, устоявшийся
ритм и слом ритма, все отношения между камерой как глазом и черным телом, за-
стигнутым этим глазом во всей его опасной плотскости, —любая последовательность
кадров, от которой не оторваться, сугубо кинематографическим языком взывает к сте-
реотипам, касающимся проблем расы и тела. Ас другой стороны, в фильме «Прямо над
головой» («Just Above Му Head»; 1996) чувственность черного тела подана одновре-
менно как божественная и низкая. Камера берет в кадр пространство над головой иду-
щего художника и держит ее на нижней границе кадра, но порой голова уходит ниже, и
в результате экран большей частью пуст, голова лишь изредка видна сверху, как
скульптура, подпрыгивающая над линией, отделяющей экран от пола музейного поме-
щения, где происходит показ. Во «Флегме» («Deadpan»; 1997) Маккуин медленно и с
повторами переснимает знаменитый гэг Бастера Китона из «Пароходного Билла»
(1927), в котором фасад дома падает на случайного свидетеля, но не причиняет ему
вреда, потому что случайно тот оказывается как раз под незастекленным окном. В вер-
сии Маккуина художник безгласно и бесстрастно стоит, в то время как дом рушится и
рушится наземь (Илл. 8.15). Настойчиво, раз за разом обыгрывая гэг Китона, Маккуин
11ространства фильма 233
8.15. Стив Маккуин
«Флегма» (Deadpan), 1997
Черно-белый фильм на 16-мм пленке,
видео, записанное на лазерном диске,
молчание в течение 4 мин. 35 с
придает очередности напряжение-спад-напряжение сверхзаряд энергии, как бы иллю-
стрируя то, как переживает свои взлеты и освобождения фаллос.
Обратившись же к знаменитой финской художнице Эйя-Лиизе Ахтила, одной из
новых звезд международной выставочной жизни, мы увидим совсем иное толкование
движущегося изображения и выверенных технических приемов. .Ахтила свои фильмы
снимает на кинокамеру, а потом переводит в видео, чтобы сделать их доступными для
показа в кинотеатрах «не для всех», на CD и DVD, а также для музейных инсталляций —
при которых, между прочим, оговаривает наличие стульев или кресел. Причина такого
послабления лежит в сложности самих фильмов, они требуют глубокой концентрации
на множестве голосов, пересекающихся, накладывающихся один на другой сюжетов
и персонажей, которые населяют ее многоэкранные проекции. Широко известная
ранняя работа Ахтилы «Если б 6 было 9» (1995) снята по сценарию, напоминающему
документальный фильм-признание: шесть девочек-подростков сидят вокруг стола и
вспоминают свои первые сексуальные открытия и фантазии, и это происходит на трех
экранах параллельно (Илл. 8.16). Отличия от традиционного документального фильма
состоят в том, что монологи перемещаются с экрана на экран, а значит, от персонажа к
персонажу, производя абсурдно забавный и одновременно фантастический гибрид
субъективных мнений и голосов. Между тем разговор, происходящий по-фински,
сопровождается субтитрами, и это суровое испытание для любознательного зрителя,
который пытается при этом не потерять ощущение своей нормальности. По правде го-
воря, задача невыполнимая. Еще более сложный сюжетно фильм Ахтилы «Анне, Аки и
Бог» (1998) построен на сеансах терапии, которые проходит настоящий больной шизо-
френией по имени Аки. Его монологи, записанные на пленку, с бесстрастной серьезно-
стью проговаривают актеры, их голоса накладываются на изображения, которые вы-
зывают у Аки психологические затруднения, сбивают его с толку, меж тем как он втуне
ищет свою подружку в городе, населенном химерами собственного воображения. «Аки
уволился с работы в компании «Нокия Вирчуалс», где работал техническим сотрудни-
ком, заболел шизофренией и заперся в своей однокомнатной квартире. Его разум при-
нялся создавать вымышленную реальность, населенную изображениями и звуками.
Мало-помалу эти вымыслы обросли плотью и кровью, граница между реальностью и
234 Новые сложности: 1999-2005
воображением стерлась. ФантастическиеличностивышлиуАки из головы... они сооб-
щили, что его задача в будущем — взять под контроль Голливуд, поскольку именно Гол-
ливуд контролирует все эмоциональные фантазии человеческого рода». Трехэкранная
инсталляция Ахтилы «Дом» (2002) исследует столь же мрачную тему, показывая про-
цесс постепенного умственного расстройства женщины, которая перечисляет все «са-
мое обыденное», что есть в ее доме, в ее привычках, ее саду. Однако нельзя не понять,
что именно форма многоэкранных инсталляций-реконструкций Ахтилы играет глав-
ную структурную роль в показе искаженной субъективности, которую зритель так и не
в силах воспринять целиком. Пользуясь контрапунктом почти как в фуге, Ахтила
прибегает к одновременной проекции для того, чтобы восстановить власть экспе-
риментального кино в эпицентре культуры, не удовлетворяясь более положением на
обочине, где предпочитает видеть его индустрия развлечения.
Благодаря относительной дешевизне в сочетании с относительным же новатор-
ством, видео-артявился толчком для разнообразных новаций в рамках международно-
го художественного авангарда — некоторые из них мы уже рассмотрели в предыдущих
главах. Распространился он моментально. Польская художница Катаржина Козура сде-
лала несколько сильных работ, которые, располагаясь в русле национальной культуры,
заинтересовали публику и за пределами Польши. Ее явно занимают нормы и ограни-
чения западноевропейского нового времени, это видно по фото- и видео-«Олимпии»
(1996): художница лежит, вольготно раскинувшись на больничной койке, депилиро-
ванная (волосы удалены), и ей внутривенно вводят лекарство от болезни Ходжкина
(лимфогранулематоз), Д рядом стоит пожилая медсестра. Тот же прием — контраст
между обнаженным и прикрытым одеждой телом, понимаемый в рамках польско-
католической традиции, — на следующий год применен в «Бане» Козуры, где женщи-
ны сосредоточенно и самозабвенно заняты своими телами, отрешившись от общества,
отношений с мужчинами, от одежды. Снятый скрытой камерой, фильм запечатлел мо-
менты неожиданной нежности и сочувствия, в которых нет никакой сексуальности,
никакого соответствия узаконенным стандартам красоты. В 1999 г. последовала «Муж-
ская баня» (Илл. 8.17): Козура преобразилась в мужчину с бородой и съемным пенисом
и втихую протащила с собой камеру, которой, нагнувшись к полу либо сквозь щель в
двери, снимала себя и своих «сотоварищей» по помывке. Результат — с успехом по-
казанный на Венецианской биеннале 1999 г. — передает впечатление полной есте-
ственности поведения и нескладности, некрасивости мужчин, застигнутых в обсто-
ятельствах крайне интимных. Лишенные звукового сопровождения и сюжетной
8.16. Эйя-Л ииза Ахтила
Если б 6 было 9,1995
Кадр из фильма. 35-мм пленка.
DVD-инсталляция для трех проекторов
со звуком, кресла или диваны,
10 минут
Пространства фильма 235
8.17. Катаржина Козура
Мужская баня, 1999
Видеокадр
последовательности, работы Козуры тяготеют к социальной доку-
менталистике, но при этом открыто демонстрируют необычные
творческие приемы и секреты своего создания. Чуткого зрителя не
развлекают, а приглашают поразмыслить над такими вопросами,
как пространство частное и общественное, красота и старение, и
сверх того, может быть, над отношением этих произведений к клас-
сическим сценам в духе Рембрандтовой «Сусанны», «Турецкой бани»
Энгра, многочисленных купальщиков Сезанна.
В известном смысле Козура принадлежит к концептуалистам
и приверженцам жанра любительских съемок — грубый документ
есть грубый документ, что ни показывай, — но полезно также рас-
смотреть ее творчество в контексте так называемого «третьего ки-
но», то есть созданий художников и режиссеров политизированных,
которые стремятся еще более усложненным способом перешагнуть
через границу между документалистикой и искусством. «Третье ки-
но» постулирует себя альтернативой не только Голливуду («первому») и авторскому
(«второму» — Антониони, Годар), но и концептуалистскому кино и видео-арту, укла-
дывающемуся в рамки художественного авангарда. В последнее время заметного
положения на этой территории добилась Ширин Нешат. В 1974 г. покинув Иран, она
училась в Калифорнии, а потом обосновалась в Нью-Йорке, но неоднократно ездила на
родину снимать фильмы, в которых рассматривала судьбу женщины и ход социальной
политики в стране, мучительно преодолевающей прошлое. Фильмы Нешат, снятые в
Турции или Марокко, в которых заняты сотни статистов, движущихся толп мужчин и
женщин, заслужили единодушное восхищение. Удостоенный «Золотого льва» на Вене-
цианском кинофестивале 1999 г., фильм «Восторг» можно расценивать как индикатор
озабоченности, художественной и политической, той ситуацией в стране, которая сло-
жилась после победы на выборах 1997 г. президента-реформатора Мохаммеда Хатани.
В аллегорической форме рассматривается там судьба женщины в традиционном обще-
стве, претерпевающем осторожные, но поступательные реформы. На одну стену вы-
ставочного зала проецируется изображение одинаково одетых мужчин, они входят в
мощную круглую крепость из камня, во дворе которой выстраиваются в круг, оли-
цетворяя собой, очевидно, хранителей традиций, радеющих о будущем общества. А на
противоположной стене одновременно идет показ множества женщин в традици-
онных черных чадрах, которые бродят вокруг крепости, похоже, в поисках выхода к
океану. Придя на берег, они усаживают шесть своих товарок в полусгнившую лодку и
сталкивают ее в воду, отправляя в путь. В этот момент мужчины, забравшиеся на кре-
постную стену, стоят там с поднятыми руками, словно приветствуя мореплавательниц.
Этот вояж можно трактовать как остракизм, новую жизнь, либо попросту отъ-
езд, а жест мужчин — как прощание, пожелание удачи, победу над нижестоящими.
Подспудный смысл прекрасно сделанных фильмов Нешат лучше всего определяется,
как она сама утверждает, тем, как, кто и где их смотрит. Подобная гибкость позиции —
одно из важнейших достижений ее творчества. Однако хочется обратить внимание
еще и на восхитительную геометрию сцен, в которых симметрия и асимметрия орга-
низованы не хуже, чем в минималистских произведениях 1960-х. Мощные визуальные
противопоставления, точно найденный ритм — все работает как обобщение, опре-
деляющее масштаб и даже формат того, что видит зритель. Тем не менее критика не
устает вопрошать, в чем же наконец политический «контент» творчества Нешат.
236 Новые сложности: 1999-2005
«Шествие» (2001), снятое для выставки в галерее Барбары Глэдстон, показывает нам
девочку, наблюдающую за таинственной процессией мужчин, пересекающих откры-
тое пространство и на могильном холме, опоясанном треугольной линией огня, пе-
редающих тело группе женщин в чадрах (Илл. 8.18). «Это очень печально, — говорит
Нешат. (Музыка написана Филипом Глассом). — Это оплакивание; это трагическая
смерть, неестественная, скорее всего, молодого человека убили. Фильм сделан после
военных столкновений между Израилем и Палестиной... тут и судьба моей сестры, по-
терявшей юного сына, тут печальные события моей собственной жизни; это отклик».
Когда Нешат спрашивают о неизменно присутствующем в ее фильмах мотиве чадры,
символе подавления и примете национальной идентичности одновременно, она отве-
чает так: «В Иране существует невероятно мощное сопротивление чадре, но помимо
того, она стала еще и символом сопротивления Западу. Кроме того, многие женщины
считают ее символом протеста против того, чтобы на них смотрели как на объект вож-
деления. То есть имеется множество сложных и противоречивых причин, и нет спо-
соба, каким я могла бы трактовать этот символ однозначно, его просто нет, такого
прочтения, нет тут единодушия у иранских женщин... Что же касается идеи ориента-
лизации, воплощаемой женщинами под чадрой, я думаю, это проблема Запада, а не
Востока: конечно, женщина в чадре — экзотика, но это точка зрения не мусульманина,
а западного человека... Женщина без хиджаба в Иране просто не может: для меня это
культурная реальность, и я с ней работаю».
Такие примеры можно множить и множить. Описывать фильм — пустое дело,
если ограничиться пересказом содержания, куда интересней выявить формальные и
структурные особенности изображения внутри развивающихся языков того явления,
которое стало нынче обобщающей категорией современного изобразительного искус-
ства. Проблема, однако, в том, что поскольку кино- и видео-арт пока еще в состоянии
младенчества, эти языки —тоже лепет, и внятное обсуждение эстетической ценности
жанра — не говоря уж о практических вопросах: как определить ему место на арт-рын-
ке, кто эти работы будет распространять, курировать и хранить, — случится еще не
8.18. Ширин Нешат
Шествие, 2001
Видеокадр
Пространства фильма 237
скоро. Впрочем, уже на уровне инстинкта понятно, что видео-арт, идущий наперерез
господству развлекаловки и рекламы, видео-арт, способный использовать художест-
венные средства кино эстетически и семантически, — обещает глубины и богатства,
словами невыразимые. И странно было бы, если б, соседствуя в выставочном зале с
традиционными жанрами, эти глубины и богатства не взаимодействовали с эстетиче-
скими формулами живописи, скульптуры и инсталляции. Почему? Потому что фильм
делит с живописью ее прямоугольность и отвесность (если не особенности освещения
и расписание показа). Потому что фильм делит со скульптурой выставочное простран-
ство и зависимость от места показа (если не трехмерность). Потому что фильм делит с
инсталляцией театральность и сюжетность мизансцен. Именно в сложном формаль-
ном сходстве между фильмом как жанром современного искусства и значительно
более старыми традициями живописи и скульптуры — не говоря уж о сравнительно
новой эстетике инсталляции — кроются его будущие победы.
Цифровое изображение
Никакой рассказ о современном изобразительном искусстве не будет полон, если не
упомянуть еще одну разновидность киноискусства, ту, что предъявила свои права на
внимание зрителя посредством огромных ресурсов повсеместно протянутой паутины,
всемирного Интернета. В 1970-х калифорнийские ученые открыли, как разделить эк-
ранное изображение на сотни тысяч чрезвычайно малых пикселей (то есть элементов
картинки), а затем — как привязать каждый пиксель к компьютерному коду. Это от-
крытие послужило толчком компьютерной революции, которая сегодня находится в
самом своем начале. Сведя фотоизображение к цифровому коду, разработали «мыш-
ку», умеющую изолировать и передвигать секторы изображения, и «стрелку», указав
которой на выбранный сектор, можно изменить его цвет и яркость изображения. Раз-
работчики «Xerox» и «Apple» очень скоро смогли донести новую технологию до издате-
лей, художников и дизайнеров. К началу 80-х уже вполне можно было говорить о «фо-
тографиях», которые имели весьма слабое родство с пленочным негативом (тот дает
изображение вследствие действия света на светочувствительную поверхность). Вдруг
дрогнула казавшаяся нерушимой связь фотографии с реальным миром пространств и
предметов. Начался век цифрового изображения.
Одним из последствий этой революции стали бурные дебаты по поводу досто-
верности фотографического снимка. Если фотография все меньше продукт негатива и
проявителя, если химическое производство фотографии ушло в прошлое, что в таком
случае доказывает связь изображения с внешним миром? Специалисты живо возра-
зили, что и химически изготовленный снимок можно кадрировать, ретушировать,
монтировать и даже сопровождать лживой подписью, что радикальный отрыв от объ-
ективности в самом деле характеризовал всю фотографическую традицию начиная с
самых 1840-х. Тем не менее подстегнутые возможностями скоростной обработки и
редактирования, издатели и художники принялись исследовать новые возможности
фотоизображения. Журнал «National geographic» в 1982 г. первым предъявил обложку с
нильскими пирамидами, цифровым способом сократив реальное расстояние между
ними. Затем такие художники, как Нэнси Бёрсон, с помощью специальных программ
занялись «конденсацией», накладывая изображения одно на другое так, чтобы по-
лучить «композитные» головы, составленные из черт разных людей (например, из
238 Новые сложности: 1999-2005
Рональда Рейгана, Леонида Брежнева, Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина. — Э. М.).
Джефф Уолл, делая свои фотографии, и прежде по-режиссерски разводил мизансцены,
словно пытаясь ухватить нечто по сути своей вымышленное, а по виду совершенно ре-
альное (см. илл. 4.11), однако выход на иной уровень произошел с внедрением техники
оцифровывания. Теперь Уолл, отказавшись от режиссерской импровизации на месте
съемок, мог создавать свои работы в студии, деталь за деталью, персонаж за персона-
жем, участок за участком. Затем он формировал электронное изображение, аналога
которому в реальности никогда не было, подчеркнуто заботясь при этом, чтобы струк-
тура изображения композиционно отражала академическую живописную традицию
(Илл. 8.19). Эту методику зритель немедля воспринял как знак, что фотография верну-
лась к традициям исторической живописи, со всеми уловками и трюками, доступными
когда-либо мастерству живописца. В то же время зритель продолжал «видеть» в фото-
графическом изображении отчетливые притязания на внешнюю правдоподобность и
даже на истину. Аналоговая (т. е. химическая) и цифровая фотографии, похоже, вызы-
вали совершенно разные реакции и соответственно провоцировали разные способы
восприятия произведений искусства. Короче говоря, дигитализация сулит нам разно-
образные открытия, и чем дальше, тем стремительней, — на много лет вперед.
В том же, что касается движущегося изображения, на художника теперь дейст-
вуют два взаимоуравновешивающих фактора. Во-первых, это требование неустанно
выказывать свою техническую продвинутость с точки зрения последних достижений
в области компьютеризации изображения, которую разрабатывают большей частью
военные и которая медленно и по высокой цене просачивается в продажу. Во-вторых,
8.19. Джефф Уолл
Говорят мертвые воины
(Видение после засады патруля
Советской Армии в окрестностях
Могора, Афганистан, зима 1986)
1992
Цибахром в лайтбоксе
(световом коробе)
2,29x4.17 м
Цифровое изображение
необходимость достоверно и критически убедительно транслировать эту технологию
в быстро меняющееся пространство музеев и галерей. Само по себе первое требование
напоминает нам о еще одной «ступени изменений», отрыве от сравнительно простой
видеотехнологии, внедренной в начале 70-х. Теперь художники могут делать относи-
тельно дешевые цветные видеофильмы, пользуясь ухищренной технологией, о какой в
прежние времена не приходилось мечтать. Еще в 80-х многоэкранные инсталляции Гэ-
ри Хилла погружали зрителя в темные мистические пространства — ничего похожего
на залитые светом, белые, почти пустынные залы тогдашних музеев. Теперь, в эру оци-
фровывания, мы ждем виртуозного подхода к новым возможностям от Билла Вайолы:
именно он умеет мобилизовать новейшие технологии и выйти на новый уровень глу-
бины и даже духовности. Вайола постоянно ссылается на то, что великие теологиче-
ские традиции Европы и мистическая философия Востока соотносимы с темпом и
настроением его видеоработ, в которых изображение замедлено в лад восприятию
музейного посетителя. В своей ранней работе «Комната для Хуана де ла Крус» (1983)
Вайола представил видение испанского мистика и поэта, которого заточили в темни-
цу, лишив всяких чувственных впечатлений. Десятилетие спустя Вайола приступил к
более амбициозным форматам: в «Станции» (1994) и «Посыльном» (1996) он предста-
вил мощные христианские метафоры (страстей и крещения соответственно) на проек-
циях во всю стену с резонирующим звуком, разворачивающихся в медленном повторе
в границах затемненного зала, сравнимого по размеру с храмом. Такие работы воспри-
нимаются как обогащение старых традиций европейского религиозного искусства ин-
тонацией созерцательной вдумчивости, возрождения которой современный зритель и
критик (по крайней мере, если верить рецензиям) ждал давно. «Не будем забывать, —
напоминал Вайола, — что одним из великих достижений нашего века стало знакомст-
во Запада с древним восточным знанием, в частности, посредством таких выдающихся
людей, как японский знаток дзэн-буддизма Т. Д. Судзуки и шри-ланкийский историк
искусства А. К. Кумарасвами, что по значению вполне сравнимо с возвращением в
Европу древнегреческой философии, когда были переведены исламские тексты, хра-
нившиеся у испанских мавров... Недопустимо более судить о вещах исходя исключи-
тельно из перспектив нашей местной, региональной или пусть даже “западной” или
“восточной”точки зрения».
Недавние видеоинсталляции Вайолы получились особенно зрелищны благодаря
двум техническим новинкам: уплощению экрана проектора до 5-1,5 см, приближаю-
щейся к толщине традиционной алтарной живописи по дереву, и цифровому замедле-
нию скорости показа, при которой незаметен «перескок» с кадра на кадр, так что дви-
жения человека становятся необычайно, непостижимо плавными. Так стал возможен
потрясающий эффект «оживления» классической живописи, — к примеру, в своем
«Приветствии» художник воссоздал драматические события, запечатленные в картине
великого флорентийского маньериста Якопо Понтормо «Встреча Марии и Елизаветы»
(1529) (Илл. 8.20). Говоря более отвлеченно, можно сказать, что новейший видео-арт
доказал свою состоятельность, заняв промежуточное место между взрывчато-раз-
влекательным экраном Голливуда и традиционно статичными формами живописи и
скульптуры старого и нового времени. Что касается Вайолы, то для него визуальная
привлекательность первого почти сравнима с формальным изыском и изобразитель-
ными дивидендами второй.
Некоторые сочли, что на экспансию электронного изображения отвечать следу-
ет напрямую, здесь и сейчас. По словам художника Тони Урслера, «то, как мы делаем
240 Новые сложности: 1999-2005
видео, — единственная надежда выжить в этой культуре». Сказано это было в 1995 г.,
когда статистика телепросмотров указывала., что видео — самое массовое (и самое
пассивное) занятие на планете. «Это все равно что катиться к смерти: сидеть, смотреть
передачи, но не делать их». — говорил Урслер. Ну, он-то как раз делал и к этому време-
ни уже прославился своими «говорящими головами», спроецированными на самые не-
ожиданные поверхности. Искаженные, укороченные или распухшие физиономии бор-
мотали что-то несвязное, как на спиритическом сеансе, — но ухитрялись донести свои
чувства, свою напряженность, свою боль. Иногда у них были одни только губы или гла-
за, и, словно распирая изнутри какую-то вещь, мебель или резиновую игрушку, они
становились голосом, ожившей карикатурой, сказочным уродцем, куклой чревовеща-
теля. Если же взять шире, фрагментация и рефрейминг (рассмотрение явления в иной
«рамке»-контексте). изобретенные русским постреволюционным авангардом, обеспе-
чили Урслера приемами создания сексуальных подтекстов и популярных шуток, а так-
же широкого набора смещений семантических, акустических, визуальных и фонети-
ческих. Позже, прибегнув к иному формату, Урслер спроецировал голову говорящей
женщины на высокую стену из неровно положенных плексигласовых кирпичей. Его со-
ратница Констанс Деджонг читала при этом забавный сценарий, высоким изломан-
ным голосом интонируя: «Я есть, меня нет» — а изображение трепетало на кирпичах,
как привидение. Казалось, что «говорящие головы» Урслера попали в ловушку своих
призрачных тел из-за того, что их спроецировали откуда-то издалека, из воздушных
волн, эфира, да хоть бы из Интернета. Поскольку, как выяснилось недавно, эти призра-
ки напоминают собой говорливых фантомов, неумолчно болтающих в чатах Всемир-
ной паутины. Как догадался искусствовед Т. Дж. Кларк, они не в силах умолкнуть.
«Главная проблема лица — Интернет. Потому что лицо — это призрак, или душа, или
дух. жаждущий отдохновения после смерти... а отдых стал невозможен. По какой-то
причине Интернет внедрился в мир этих призраков, занял их волновой диапазон. Так
что у них нет выхода, кроме как выйти в бой с оцифрованным недругом». Инсталляция,
о которой он говорит. — это «Машина влияния» (2000), и представлена она была на
Хэллоуин в нью-йоркском Мэдисон-парке, где какофония призрачных текстов и раз-
бухших лиц проецировалась на деревья, облака пара и старые небоскребы, каждое в
отдельности напоминая послание, полученное то ли по спутнику, то ли по кабелю из
какого-то «нижнего» мира (Илл. 8.21). Лица разбухали, разрастались, развеивались по
ветру. Мерещились голоса мистиков девятнадцатого века, пытавшихся выйти на кон-
такт с миром призраков; как сбивчивая речь, звучали радиопомехи; затем началось
жуткое взаимодействие тех, что здесь, с теми, кто живет в промежутке между физи-
ческим и виртуальным (или замещающим его) опытом. Для меня, комментировал
Урслер, «тело постоянно то дематериализуется, то воплощается снова. Технология из-
меняет жизнь. Технология —это усилитель инстинкта. Так было, возможно, и миллион
лет назад, только теперь все стало чуть опасней».
Но если бестелесные говорящие головы, спроецированные ночью в городском
парке на облако пара, выражают собой новую технологию средствами (и в обстанов-
ке), по определению относящимися к искусству, то в работах других художников циф-
ровая технология как медиум искусства выглядит чисто технической утопией. Взлет
так называемого «цифрового искусства» или «искусства Интернета» простирается за
пределы мира формы и материи, формы, организованной как материя, оно, это искусст-
во, самоорганизуется и занимает пространство экрана. Экран ведь тоже материя, это
очевидно, но характеристики экранного опыта (восприятия с экрана) так отличимы от
8.20. Билл Вайола
Приветствие, 1995
Видеозвуковая инсталляция
Цифровое изображение 241
8.21. Тони Урслер
Механизм влияния. 2000
Видеозвуковая проекция.
Мэдисон-сквер-парк. Нью-Йорк
восприятия живописи, скульптуры, инсталляции или видеофильма (в лучшем случае
пародии на телевидение), и его действие так непривычно — хоть ломай язык, чтобы
описать и его, и критерии, необходимые для его оценки. У модернистов, влюбленных в
материю, пространство и цвет, многое из этого — а может, и все — ни за что не пройдет
«проверку формой», как выразился Т. Дж. Кларк.
Постмодернисты (если под ними понимать тех, кто верит, что чаша весов кач-
нулась, что нарушено равновесие между вербальным и визуальным), напротив, с энту-
зиазмом примут новые обстоятельства и новые языки, широко продвигаемые Интер-
нетом. Пространство экрана, скажут они, «обрушится на территорию, ждущую своего
картографа»: ибо особенностью нового изображения стало движение визуальных дан-
ных, они ложатся слоями, срастаются, самомодифицируются в неустанном потоке.
В цифровом произведении искусства, сказал недавно один эксперт, «отображенные,
размеченные пространства могут ранжироваться от компьютерных сетей и самого Ин-
тернета, как одна просторная коммуникационная территория, до специфической базы
данных и набора данных или же процесса сетевой коммуникации», что позволяет «ци-
фровому» художнику выходить за пределы традиционных средств, когда информация
по заданной конфигурации организована в корпоративные порталы, так что зритель
может открыть совершенно новые возможности Интернета. В этом, по крайней мере,
идея работы Марка Нэпьера «Бунт» (Илл. 8.22), где кросс-контентный веб-браузер,
закачав такие веб-сайты, как CNN, ВВС и Microsoft, а также обрушив домены и веб-
страницы, предлагает видение Интернета, сравнительно свободного от каких-либо
установленных границ или корпоративного контроля.
Конечно, читателю хотелось бы понять, изменит ли развитие Интернета инфра-
структуру современного изобразительного искусства — его организацию, экономи-
ку— в глобальном масштабе. Если информация о новом искусстве имеет возможность
распространяться повсеместно, не стесняясь национальными границами, если худож-
ники, кураторы и инвесторы могут без помех оседлать эфирные волны, какие послед-
ствия может все это иметь для совершенного мирового искусства? Однако сейчас абсо-
лютноясно, что «глобализация» искусства — это иллюзия, свойственная исключитель-
но Западу. Журнал «National Geographic» (а уж кому и знать, если не ему) просветил
242 Новые сложности: 1999-2005
нас, что всего .лишь 15 процентов населения Земли, большинство — жители самых бо-
гатых стран, имеет доступ к 96 процентам компьютеров с подключением к Интернету.
За пять лет, с 1997 до 2002 г., использование Интернета в Азии возросло в 16 раз, по
темпам это в два раза быстрее, чем во всем остальном мире; и все-таки в 2002 г. пик в
Азии составлял лишь одну шестисотую того, что творится в США. Информационный
суперхайвей проложен пока не везде. А если б и был проложен, стало бы актуальное ис-
кусство явлением глобальным? Стало бы повсеместно одним и тем же?
Это, по-моему, еще одна иллюзия, отличающая ситуацию на Западе, — и тому
есть несколько причин. Языковые барьеры разделяют нации и группы людей, обеспе-
чивая им национальное своеобразие, и оно им необходимо. Давайте к тому же не забы-
вать, что искусство все еще произрастает из местных общин, эстетических традиций,
которые мы часто не понимаем и, может быть, в полной мере никогда не поймем. Да-
лее, то, что мы называем модернизацией потребления — совсем не равномерный про-
цесс и происходит он в местных экономических, социальных и исторических условиях,
которые ни в коей мере не однородны. В любом случае, по мере того как старится насе-
ление, становится ясно, что потребление, существующее на Западе, есть приобретение
спорное и даже бесполезное: глобализация рынка подается как «благо» в основном
крупными корпорациями Европы и США.
Мы могли бы напомнить себе к тому же, что география культуры по-прежнему
сосредоточена на Западе: вся творческая, издательская и финансовая мощь распреде-
лена всего по нескольким центрам. Еще раз упомяну сильное притяжение Нью-Йорка,
который как был, так и огтался мощнейшим магнитом: именно там живет больше ху-
дожников, критиков, издателей журналов, галеристов и, главное, коллекционеров ис-
кусства, чем в любом другом городе на земле. Теперь, как и в пятидесятых, уникальная
смесь честолюбия, денег и влияния позволяет элите (тем, кто принимает решения) со-
здавать и крушить репутации с невиданной скоростью и апломбом. Нью-Йорк ныне —
в первом ряду взаимообмена между искусствами. Определение «художник» приобрело
новые коннотации, и мы видим живописцев, которые снимают фильмы, скульпторов,
выполняющих архитектурные заказы, модельеров, выставляющихся в художествен-
ных музеях, художников-цифровиков, оккупирующих галереи. Статистические данные
по искусству тоже впечатляют. В отличие от Документы-1 Зеемана, где доминировали
мужчины, в Документе-11 2002 г. участвовала 31 женщина: прирост убедительный.
8.22. Марк Нэпьер
Бунт, 2000
Кросс-контентный веб-браузер
а.
navigate-------------------0 1
interviews 02- revolution navigate
Цифровое изображение 243
И все-таки, несмотря на очевидную глобальность программы Энвезора и его команды,
выяснилось, что две трети художников обоих полов, представленных на Документе-! 1,
живут и работают в Нью-Йорке (больший ломоть) и других столицах стран — членов
НАТО, и пусть даже половина из них — мигранты из незападных стран, ищущие благо-
приятных возможностей и признания, — то другая половина родилась или получила
образование именно в этом городе. Так что и с этой точки зрения Нью-Йорк — центр
разросшейся сферы современного изобразительного искусства, простирающейся все
дальше и дальше. Наконец, похоже на то, что все средства выражения — музыка, видео,
перформанс, издательское дело и Интернет — начинают тянуться к архитектуре, моде
и изобразительному искусству, соединяясь в сетевую систему взаимного усиления,
разностороннего обогащения, которая находит отклик повсюду: в Брюсселе, Сан-
Паулу, Лондоне и Сиднее. «Легкие» журналы, печатающие «микс» под стандартными
рубриками «Интервью», «Архитектура», «Искусство», «Мода», «Развлечения и путеше-
ствия», оповещают своих читателей о том, что пишется в «тяжелых» критических и тео-
ретических журналах, полный спектр которых разительно отличается от того, что
было во времена моей молодости. Информационная революция, в которой цифровое
изображение —лишь самое примитивное начало, есть особенность нашего общества,
которую нужно не только использовать, но понимать, оспаривать, все в лучших тради-
циях авангарда. Искусству сегодня и завтра предстоит ответить на вызов новой техно-
логии.
244 Новые сложности: 1999-2005
Голоса времени
Томас Хиршхорн. «За пределами миссии невыполнимой:
Разговоры с Томасом Хиршхорном и Маркусом Стейнвегом, записанные Томасом Вульфеном», с. 28
«Утопия не интересует меня. Утопия имеет смысл только тогда, когда я пытаюсь
воплотить ее в дело, когда имею мужество принять возможность поражения, не убежать
прочь, столкнувшись со страхом неудачи. Я думаю, Утопию надо создать здесь и сейчас.
Меня не интересует Утопия будущего. И она не должна стать модой. Утопию нельзя
отдавать в руки политиканов и социологов. Какхудожник, я хочу отвечать за это
своей работой... Это не вопрос ответственности зауспех или поражение, это вопрос
ответственности за желание. Если я полон такого желания и осознаю это,
то вы не вправе говорить о неудаче, независимо от результата. Неудача в этом случае —
только недостаток желания».
Розалинда Краус, с. 56
«Одно из определений искусства в рамках режима ощущений (в постмодерне) состоит
в том, что оно вымывает эстетику в область общественной, обыденной жизни.
Внутри этой ситуации, однако, немного есть современных художников, решивших
не следовать сей практике, то есть не участвовать в международной моде на инсталляции
и интермедийные проекты, в которых искусство, по существу дела, проявляет себя
как соучастник глобализации изображения на благо капитала».
Хронология
Политика
Другие события
Изобразительное искусство
1972 Продолжаются бомбардировки Северного Вьетнама. Ричард Никсон избран президентом на второй срок (США). Террористическая акция арабских экстре- мистов против израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене (Германия). 11рилунился «Аполло-16». Изобретен карманный калькулятор. Документа-5 (Кассель).
1973 США прекращает военные действия во Вьетнаме. Война Судного дня между Израилем и арабскими государствами. Сальвадор Альенде свергну’!' в результате военного переворота (Чили). Выпущено в продажу первое цветное фотокопировальное устройство (Япония). Энергетический кризис: цепа на нефть поднялась на 70%. Умер Пабло Пикассо. Первая биеннале в Сиднее.
1974 Лейбористы пришли к власти после забастовки шахтеров (Великобритания). Ричард Никсон вышел в отставку в результате Уотергейта (США).
1975 Умер генерал Франко (Испания). Войска Северного Вьетнама взяли Сайгон. Первый совместный полет космонавтов США и СССР. Создан истребитель F-16 (США). Начал выходить журнал «Fox» (Нью-Йорк).
1976 Джимми Картер избран президентом (США). Джеймс Каллиган сменил Гарольда Вильсона на посту премьер-министра (Великобритания). Умер Мао Цзэдун (КНР). Олимпийские игры в Монреале (Канада). Космическая исследовательская ракета «Викинг» совершила посадку на Марс (США). Выставка «Человеческая глина» (Лондон). Основан журнал «October» (Нью-Йорк). Умер Макс Эрнст.
1977 Демократические выборы в Испании. Умер в тюрьме Стив Вико, основатель движения «Черноесамосознание» (ЮАР). Выпущен в продажу микрокомпьютер «Apple-П» (США). Документа-6 (Кассель). Вь!ставка «Pictures» (Нью-Йорк). Открылся Центр 11омпиду (Париж). Основан журнал «Heresies» (Нью-Йорк).
1978 В Ватикане на папский престол вступил Иоанн Павел II. Первый ребенок «из пробирки» (Великобритания). Умер Джорджо де Кирико. Умер Гарольд Розенберг.
1979 Аятолла Хомейни захватил власть в Иране. Захват заложников в посольстве США (Иран). Маргарет Тэтчер стала премьер-министром (Великобритания). Появилось радио-«уокмен». Создан компактный диск.
1980 Рональд Рейган избран президентом (США). Обсуждается проблема «озоновых дыр». Олимпийские игры в Москве. Выставка «Picasso’s Picassos» (11ью-Йорк). Успех Базелица и Кифера на Венецианской биеннале.
1981 Франсуа Миттеран избран президентом Франции. Аятолла Хомейни выпустил заложников (Иран). Широко используется телефакс. Выставка «Новый дух в жиboj i i<си» (Лондон). Опубликована (по-английски) «Camera Lucida» Ролана Барта. Выставка «Wesikunst» (Кёльн). Умер .Альфред Ьарр, первый директор МОМА.
1982 В Польше запрещен профсоюз «Солидарность». Умер Леонид Брежнев, во главе СССР встал Юрий Андропов. Гельмут Коль избран канцлером ФРГ. Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. Крылатые ракеты приняты на вооружение воздушными силами США. Выставка «Zeitgeist» (Берлин.). Документа-7 (Кассель).
1983 М. Тэтчер назначена премьер-министром на второй срок (Великобритания). Массовые выступления против ядерного вооружения в Великобритании. Франции, ФРГ. Первая американская женщина-космонавт. Обнаружен вирус СПИДа (Франция). Опубликована книга Бодрийяра «Симуляции и симулякры».
1984 Р. Рейган избран на второй срок (США). Умер Юрий Андропов, во главе СССР встал Константин Черненко. Гражданская война в Эфиопии. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В продажу поступил первый компьютер «Apple Мас». Расширена выставочная площадь МОМА. Выставка «Примитивизм в искусстве XX века» (Нью-Йорк).
1985 Михаил Горбачев встал во главе СССР. М. Горбачев и Р. Рейган договорились о сокращении вооружений. В Лондоне открылась галерея Саатчи. Выставки произведений Ренуара в Лондоне и Бостоне бьют рекорды посещаемости. Умер Марк Шагал.
1986 На Филиппинах свергнут Фердинанд Маркос. Взрыв космического корабля «Челленджер» (США). Авария на Чернобыльской атомной электростанции (СССР). Damaged Goods (New York) Выставка «Damaged goods» (Нью-Йорк). В Кёльне открылся Музей Людвига. В11арижс открылся Музей Д'Орсе.
1987 Слушания по скандалу «Ирангейт» в Конгрессе США. Консерваторы выигрывают третьи выборы подряд (Великобритания). Разработан компактный видеодиск. Опубликован Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. «Черный понедельник» на Нью-Йоркской бирже: обвальное падение, индекса Доу-Джонса. Документа-8 (Кассель). Умер Энди Уорхол. Основан журнал «Third Text».
1988 Джордж Буш избран президентом (США). Франсуа Миттеран переизбран президентом Франции. Олимпийские игры в Сеуле. Проложен трансатлантический оптоволоконный кабель. Выставка «Америка и Германия: искусство конца 80-х» (Дюссельдорф и Бостон). Выставка «Freeze» (Лондон).
246 Хронология
Политика
Другие события
Изобразительное искусство
1989 Разгон демонстрации на площади Тя ньа ньмынь (Китай). Умер Аятолла Хомейни (Ира11). Демократические выборы и СССР. Разрушена Берлинская стена. Землетрясение в Сан-Франциско. Во всем мире становится популярным радиотелефон. В мире работают десять млн. факсов. Первый полет бомбардировши ка • невиди м ки. Фундаменталисты атакуют Национал ьн ы й фонд развития искусств (США). Выставка «Китайский авангард» (11екин). Разобрана «Накрененная арка» Серра в Нью-Йорке. 150 лет фотографии.
1990 Освобожден из тюрьмы Нельсон Мандела (ЮАР). Война в Персидском заливе. Джон Мейджор стал премьер-министром Великобритании. Гельмут Коль избран канцлером объединенной Германии. Признана угроза глобального потепления. Выпущена программа Adobe Photoshop. Выставка «Меж весной и летом» (Ваш и и ггон). Возобновила работу галерея Тейт (Лондон).
1991 Наступательная операция в 1(ерсидском заливе против Ирака. Провал антигорбачсвского путча (СССР). Официально объявлено о роспуске СССР. Борис Ельцин избран президентом России. 1 1ачало гражданской войны в Югославии. Банкротство Между народного кредитного коммерческого банка (BCCI). Крылатая ракета «Томагавк» применена в Военных действиях в 1 (ерсидском заливе. В мире зарегистрировано 10 млн. случаев заражения ВИЧ. Выставка -«Мстрополис» (Берлин). Открыт Музей современного искусства во Франкфурте. Основан журнал «Frieze».
1992 Консерваторы четвертый срок у власти (Великобритания). Билл Клинтон избран президентом (США). Подписан Маастрихтский договор о создании Европейского союза. Олимпийские игры в Барселоне (Испания}. Запушен спутник-иселедова гель космического реликтового излучения (США). Получено первое оцифрованное видеоизображение. Уличные беспорядки в Лос-Анджелесе (США). Выставка «Нечто кое-как, или Искусство Лос- Анджелеса 1990-х гг.» в Лос-Анджелесе (США). Открыт филиал Музея Гуггенхейма в Сохо (Нью-Йорк). Документа-9 (Кассель). Умер Фрэнсис Бэкон.
1993 Достигнута договоренность о Палестинской автономии. Вацлав Гавел избран президентом Чешской Республики. За iie.pi п ил ось действие Генерального соглаше- ния по тарифам и торговле (GATT), заключен- ного в 1947 г. и предшествовавшего ВТО. Разработана концепция «информационного суперхайвея». У Интернета 5 млн. пользователей! Выставка «Объектное искусство» в Нью-Йорке (США). Ретроспективная выставка Марселя Дюшана в Венеции (Италия).
1994 Нельсон Мандела принес присягу как президент ЮАР. Геноцид в Руанде. Открыты пешеры Шове с росписями, возраст которых—более 30 тыс. лет (Франция). Выставка «Плохиедевчонки (Bad Girls)» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (США). Мэтью Барни положит начало серии «Кремастер». Умер художественный критик Климент Гринберг.
1995 Президент Израиля Ицхак Рабин убит в Иерусалиме. Теракт в Оклахома-Сити: здание федеральных служб разрушено бомбой, заложенной н грузовой автомобиль (США). Чарльз Саатчи усиленно продвигает художн 11 • ков группы «уВа» в Лондоне (Великобритания). Выставка «Brilliant!» вМшшеанолнее (США). Открыт Музеи современ кого искусства (архи гектор Мейер) в Барселоне (Испания).
1996 Талибан приходит к власти в Афганистане. Борис Ельцин избран президентом России на второй срок. Европейский союз вводитзапрет на ввоз британской говядины в связи с «коровьим бешенством». Александр Бренер арестован после акции в амстердамском Музее Стсдслийк (Голландия).
1997 Израильско-палестинское соглашение по Хеврону. Исламские экстремисты устраивают резню в Алжире. Тони Блэрстановится премьер-министром Великобритании. Кио тский протокол по изменению климата. В Шотландии клонирована овечка Долли. Экономический кризис в странах Азии. Документа-10 (Кассель). Открыт мемориал жертвам Холокоста на венской площади Юдёиплац. Выставка «Sensation» (Лондон). Открыт Музей Гуггенхейма (проект архитектора Гери) в Бильбао (Испания).
1998 Дебаты по импичменту- президенту Б. Клинтону (США). Ирак выдворяет инспекторов ООН неядерному вооружению. Электронная почта становится популярна, Интернет внедряется повсеместно. Первые испытания ядерной бомбы в Индии и Пакистане. Открыт Еврейский музей в Берлине (а рхитектор Л ибскинд).
1999 Чешская Республика.. Польша и Венгрия присоединяются к НАГО. 11ервос путешествие вокрут света на воздушном шаре. Выставка «Sensation» в Нью-Йорке (США) вызывает дебаты.
2000 Джордж Буш-младший избран президентом США. В Югославии свергнут Слободан Милошевич. Владимир Путин избран президентом России. Расшифрована последовательность человеческого генома. Резкий спад Интернет-бизнеса. В Лондоне построено здание Тейт-Модерн (архитекторы Херцог и де Мерой). Выставка «Апокалипсис» в Лондоне (Великобритания).
2001 Террористическая атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (США), предпринятая арабскими экстремистами. Талибы уничтожают статуи Будды (.Афганистан). Скандал в связи с банкротством энергетической корпорации «Enron». Новое здание Художественного музея в Милуоки (США; архитектор Калатрана).
2002 Совет Безопасности ОО11 посылает инспекторов по вооружению в Ирак. В Европе введена единая валюта — евро. «Бурое облако» продуктов сгорания вызвало Построен Музей современного искусства r Форт-Уорте (архитектор Андо).
гибель 500 тыс. человек к Южной Азии. Мэтью Барни завершает серию «Кремастер». Документа-11 (Кассель).
2003 ООН вводит вооруженные силы коалиции в Ирак. Атипичная пневмония из Азии распространяется по всему миру. Вышел 100-й номер журнала «October». 50-я Венецианская биеннале.
2004 Северная Корея выходит из договора по нераспространению ядерного оружия. Консерваторы побеждают на выборах в Иране. Десять стран присоединяются к Европейском;/ союзу. Террористический акт на в Мадриде (Испания) на железнодорожном вокзале.
Хронология 247
Библиография
Труды, представленные ниже, могут быть использованы при дальнейшем
изучении искусства конца XX — начала XXI века. Ссылки к главам
даны в последовательности, соотвстсвующей порядку цитирования.
Ге ссылки, которые можно найти в представленных антологиях,
отмечены заглавными буквами в квадратных скобках.
Антологии
Н. Foster (cd. and intr.), The Anti-Aesthetic: Essays in Postmodern Culture,
Washington: Bay Press, 1983 [H]
С. 1 larrison and P. Wood (eds.), Art in Theory 1900-2000: .An Anthology
ofChangingIdeas, Oxford: Blackwell, 2003 [HW]
L. Lippard, From the Center: Feminist Essays on Women’s Art>
New York: Dutton, 1976 [L]
U. Meyer, Conceptual Art, New York: E.P. Dutton and Co.. 1992 [M]
H. Robinson (cd.). Feminism—Art—Theory, Oxford:
Blackwells, 2001 [R]
J. Siegel (ed.), Arc Talk: The Early 1980s, New York: DaCapo
Press, 1988 [S]
K. Stiles and P. Selz (eds.). Theories and Documents of Contemporary Art:
A Sourcebook of Artists’ Writings, Berkeley, Cal., and London: University
of California Press, 1966 [SSJ
B. Wallis (ed.), Art After Modernism: Rethinking Representation,
New York: New Museum of Contemporary Art, 1984 [Wl]
B. Wallis (ed.). Blasted Allegories: An Anthology of Writings by Contemporary
Artists, New York and Cambridge: New Museum of Contemporary Art and MIT
Press, 1987 [W2]
1. Альтернативы модернизму
C. Greenberg. “Avant-Garde and Kitsch.” Partisan Review, 1939 [HW].
C. Greenberg. “Modernist Painting” (I960), in J. O’Brian, Clement Greenberg:
The Collected Essays and Criticism, Vol. 4, Chicago: Un iversity of Chicago
Press, 1993. W. Hopps and S. Davidson (eds.), Robert Rauschenberg:
A Retrospective, New York: Guggenheim Museum, 1997. J. Yoshihara.
"TheGutai Manifesto,”GenijutsuShincho, Dec. 1956 [SSJ. P. Manzoni, “Free
Dimension” (1960) [HW]. G. Celant, “Arte Povera,” in Arte Povera, Milan and
New York: 1969 [1IW1. M. Merz, “Untitled Statements: 1979.1982,1984,” in
G. Celant, The Knot: Arte Povera at PSI, New York: PSI, 198S [SSJ. R. Morris,
“Notes on Sculpture. Part I,” Artforum, Feb. 1966 [HW]. R. Morris, Continuous
Project Altered Daily: The Writings of Robert Morris, MIT Press, 1993. D. Judd,
“Specific Objects,” Arts Yearbooks. New York, 1965 [HW”]. M. Fried, “Art
and Objecthood,” Artforum, summer 1967 [HW]. R.H. Fuchs, Richard Long,
New York: Guggenheim Museum. 1986. M. Heizer. D. Oppenheim, and
R. Smithson,“Discussion,” Avalanche I, fall 1970 [SSJ. S. LeWitt,“Paragraphs
on Conceptual Arc.” Artforum, summer 1967 [I IWJ. R. Barry, “Interview with
Ursula Meyer, 12 October 1969” [М]. V. Acconci, “Step Piece" [М]. L. Lippard
and J. Chandler, “The Dematerialization of Art,” Art International, Feb. 1968.
C. Schncemann, “The Notebooks” (1962-65), in Schneemann, More Meat
Than Joy: Complete Performance Worksand Selected Writings, ed.
B. McPherson, New York, 1979. AWC, “Statement of Demands,” Studio
International, Nov. 1970 [HW]. B. Reise, “Which Is In Fact What Happened:
Thomas Messer in an Interview with Barbara Reise,” Suidio International,
July-Aug. 1971. B. Reise, “A Tale of Two Exhibitions: The Aborted Haacke
and Robert Morris Shows,” Studio International, July-Aug. 1971. D. Buren,
statement on Guggenheim, Studio International, July-Aug. 1971. D. Buren,
D. Waldman, T. Messer, and 11. Haacke, “Gurgles Around the Guggenheim,”
Studio International, June 1971. H. Haacke, “Untitled Statement" (1969)
[SSJ. H. Haacke. “Museums, Managers of Consciousness,” in R. Deutsche
etal.. Hans Haacke: Unfinished Business, New York: New Museum and MIT
Press, 1986. C. Duncan and A. Wallach, “The Museum of Modern .Arc as Late
Capitalist Ritual: An Iconographic Analysis,” Studio International 1,1978.
2. Победа и поражение: семидесятые
Н. Szeemann, Documenta 5, Kassel, 1972. F. Ringgold, “Interview with
Eleanor M u nro” (1971) [SS 1.1.. Nochlin, "Why Have There Been No Great
Women Artists?,” Art News 1971.1.. Alloway, “Women’s Art in the 1970s," Arc
in America, May-June 1976.1.. Benglis, "Statement.” in Susan Keane (ed.),
Lynda Benglis: Dual Natures, Atlanta: High Museum of Art, 1991. J. Chicago,
The Dinner Party: A Symbol of Our Heritage, New York, 1979 [SS]. L. Lippard,
“Jackie Winsor,” Artforum 12:6, Feb. 1974 [L]. E. Hesse, “Untitled Statement,"
(1969), reprinted in Lucy Lippard, Eva Hesse. New York: Da Capo Press, 1976
[SS]. L. Lippard, “Rosemary Castoro: Working Out,” Artforum 13: 10. summer
1975. C. Duncan, “Virility and Domination in Early 20th-Century Vanguard
Painting,” Artforum 12:4.1974. L. Lippard. “Mary Miss: An Extremely Clear
Situation,” Art in America 62:2, March-April 1974.
M. Rosler, “The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems,” in Three
Works, Halifax: Press of rhe Nova Scotia College of Art and Design. 1981.
M. Kelly. Post-Partum Document, London: Routledge & Kegan Paul, 1983.
C. Schneemann, “TheNotebooks” (1962-63), in Schncemann. More Meat Than
Joy: Complete Performance Works and Selected Writings, ed. B. McPherson,
New York, 1979. C. Schneemann, “Women in the Year 2000” (1975), in ibid.
C. Iles (ed.), Marina AbramoviE: Objects, Performance, Video, Sound. Oxford:
Museum of Modern Art, Oxford, 1995. H. Cotter, “Rebecca Horn: Delicacy and
Danger,” Art in America. Dec. 1993. C. Burden, “Untitled Statement,” Arts 49:
7, March 1975. J. Harris, “Valie Export: Frau Export.” Artext 70, Aug.-Oct.
2000. V. Export, Valie Export, Vienna: Museum Modernc Kunst Stifrung
Ludwig, 1997. K. Silverman, “SpeakBody," in Split Reality: Valie Export.
Vienna and New York: Springer Verlag/Museum Moderner Kunst, Vienna,
1997. L. Lippard, “The Pains and Pleasures of Rebirth: Women’s Body Art,” Art
in America, May-June 1976. Gina Pane, Southampton: John Hansard Gallery,
University of Southampton, 2002. B. Buchloh. “Beuys: The Twilight
of the Idol: Preliminary Notes fora Critique,” Artforum, Jan. 1980. E. DeAk
and W. Robinson, “J. Beuys: Art EncagO,” Art in America, Nov.-Dec. 1974.
J. Roberts, “Stuart Brisley,” in StuartBrisley, London: ICA, 1981. “Michael
Snow: De La 1969-1972.” in S. Delahanty, Video Art, Philadelphia: ICA,
University of Pennsylvania, 1975. M. I.e Grice. "Statement.” in Arte Inglese
Oggi, Milan: Electa Editrice, 1976. C. Welsby, “Statement.” in Arte Inglese
Oggi, Milan: Electa Editrice, 1976. R. Serra, "Prisoner’s Dilemma,” Avalanche
Newspaper, May 1974. “Ant Farm," in P. Gale (ed.). Video by Artists, Toronto:
Art Metropole, 1976. D. Graham, “Excerpts: Elements of Video/Elements
of Architecture,” in P. Gale (ed.). Video by Artists, Toronto: Art Metropole.
1976. D. Graham, "Homes for America,” Arts Magazine, Dec. 1966-Jan. 1967.
C. Gintz, “Beyond the Looking Glass” (Dan Graham), Art in America. May
1994. T. Crow. The Rise of the Sixt ies: American and European Art in the Era
of Dissent 1955-69, London: Weidenfeld, 1996. D. Graham. “Video Piece for
Showcase Windows in Shopping .Arcade” (1974), in A. Alberro (ed.), Two-Way
Mirror Piece: Selected Writings by Dan Graham on His Art. MIT Press and
Marian Goodman Gallery, New York, 1999. C. Diserens (ed.), Gordon Matta-
Clark, London: Phaidon, 2003. M. Asher, Writings 1973-1983 on Works
1969-1979, ed. B. Buchloh. Nova Scotia College ofArt and Design and the
Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 19S3. C. Gintz, “Michael .Asher
and the Transformation of‘Situational Aesthetics,’” October 66, fall 1993.
Shifting Ground: Selected Works of Irish Art 1950-2000 (Patrick Ireland).
Dublin: Irish Museum of Modern Art. 2000 . Marie Judlova (ed.), Ohniska
Znovuzrozeni: Ceskc umeni 1956-1963 (Reran and others), Prague 1994.
C. Ratcliff, Komar and Melamid. New York: Abbeville, 1988. M. Tupitsyn,
“Kollektivivnye Deistvia (К/D): Trips Beyond the City,” in D. Ross (cd.),
Between Spring and Summer: Soviet Conceptual Art in the Era of Late
Communism, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990.
3. Политика живописи: 1972-1990
A. Caro, "A Discussion with Peter Fuller,” Art Monthly, 1979 I SS]. F. Ingold.
"The Speaking Image: Pictorial Perception and Pictorial Constitution in the
Work of Remy Zaugg,” Parkett 19.1989. R. Zaugg, untitled text, in Voir Mort:
28 Tableaux, Lucerne: Mai 36 Galerie, 1989. R. Barthes, “The Wisdom ofArt,"
in H. Szeemann (ed.), CyTwombly: Paintings, Works on Paper, Sculpture,
Munich: Prestel Verlag, 1987. CylXvombly: A Retrospective, New York:
Museum of Modern Art, 1994. C. Owens, “The Allegorical Impulse: Towards
a Theory of Postmodernism.” October 12, spring 1980. T. Adorno, Aesthetic
Theory (1970), Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. P. Lcider,
“Stella Since 1970," .Art in?\merica, March-April 1978. F. Stella. Working
Space, Cambridge. Mass, and London: Harvard University Press, 1986.
L. Lippard, 9th Paris Biennale, Paris: MusOe d’Art Modernc de la Ville de Paris,
1975. R.B. Kitaj, "Pearldiving," in The Human Clay, London: ACGB, 1976.
L. Freud, "SomeThoughts on Painting,” Encounter 111: 1, July 1954 [SS].
D. Grcfcnkart (ed.), Georg Baselitz: Paintings 1962-2001, Milan: Serbclloni
Editore. F. Clements, “Interviewwith Robin White.” View 6, Nov. 1981. “Ten
248 Библиография
Unusual Questions for Sandro Chia: An Interview with Wolfgang Fischer,”
Sandro Chia, London ?Fischer Fine .Art» 1987. C. Joachimedes, N. Rosenthal,
and N. Scrota (eds.), A New Spirit in Painting, London: Royal Academy. 1981.
C. Joachimedes and N. Rosenthal (eds.), Zeitgeist: International Art
Exhibition. Berlin. 1982. R. Rosenblum, “Thoughts on the Origins
of‘Zeitgeist,’” in ibid. C. Joachimedes. ‘‘Achilles and Hector Before the Walls
ofTroy," in ibid. R. Pincus-Witten. “Entries: Rebuilding the Bridge; Hodicke.
Joachimedes and Berlin in the Early 80s,” Arts Magazine, March 1980.
B. Brock, “The End of the Avant-Garde? And So the End ofTradition. Notes on
the Present‘KulturkampP in West Germany,” Artforum, 19; 10, June 1981
[Wl). D. Kuspit. " The New(?) Expressionism: An as Damaged Goods,”
Artforum. Nov. 1981. R. Krauss and A. Michelson, “Editorial,” October 1,
spring 1976. D. Kuspit, “Flack from the‘Radicals’: The American Case Against
German Painting," in J. Cbusart (ed.), Expressions: New Ait from Germany,
St. Louis Art Museum. 1983 [Wl]. D. Crimp, “The End of Painting.” October
16. spring 1981. B. Buchloh, “Figures of Authority. Ciphers of Regression:
Notes on the Return of Representation in European Painting,” October 16,
spring 1981 [Wil. G. Richter. “Notes 1966-1990s,” in Gerhard Richter,
London: Tate Gallen-. 1991. J. Thorn Prikker, “Gerhard Richter, 'Ruminations
on the October 18,1977 Cycle,”' Parkett 19. March 1989. Gerhard Richter:
18 Oktober 1977, Krefeld: Museum Hans Esters, 1989. B. Buchloh, “interview
with Gerhard Richter,” in Gerhard Richter. Chicago: Chicago Museum of
Contemporary Art. 1987 fHWJ. M. Foucault. "Photogenic Painting” (1975),
in A. Rifkin (intr.). Gerard Fromanger, London: Black Dog Publishing, 1999.
G. Deleuze. “Coldand Heat" (1973), in A. Rifkin (intr.), Gerard Fromanger.
London: Black Dog Publishing, 1999. Art and Language, "Portrait ofV.I. Lenin
in the Style of Jackson Pollock." Artforum, Feb. 1980. C. Harrison, Essays on
Art and I anguage, Oxford: Blackwells, 1991. Art and Language, Paris: Galerie
Nationale du Jeu de Paume, 1993. 1. Crow, "Unwritten Histories of Conceptual
Ait: Against Visual Culture,"in Modern .Art in the Common Culture, New
Haven and London: Yale University Press, 1996. D. Kuspit, “Golub’s Assassins:
An Anatomy of Violence," Art in America, May-June 1975. L. Golub,
“The Mercenaries,” interview with Matthew Baigel. Arts 9, May 19811SS].
C. Greenberg. “Modernist Painting” (1961), in J. O’Brian (ed.). Clement
Greenberg: The Collected Essays and Criticism. Vol. 4, Chicago: University
of Chicago Press. 1993. B. Buchloh, "Parody and Appropriation in Francis
Picabia, Pop and Sigmar Polke,” Artforum. March 1982. "Poison Is Effective:
Painting Is Not: Bice Curriger in Conversation with Sigmar Polke,” Parkett,
1990. G. Politi, "Julian Schnabel,” Flash Art 130, Oct.-Nov. 1986. C. Christov-
Bakargiev, “Interview with Carlo Maria Mariani” (Schnabel), Flash Art 133,
April 1987. T. Lawson. “Last Exit: Painting/’ Artforum, 1981 [Wl]. David Salle,
bruit market Gallery, Edinburgh, 1987. W. Robinson, “Slouching Toward
Avenue D” (East Village .Art). Art in America, summer 1984. B. Blinderman,
"Keith 1 taring's Subterranean Signatures." in Ans Magazine. Sept. 1981 [S].
C. Owens, "Commentary: The Problem with Puerilism.” Art jh America,
summer 1984." rhe Other Face of Banality: Gerard Garouste Interviewed
by JOrome Sans,” Artifice, Dec. 1985-Jan. 1986. Milan Kune, Galeria di via
Eugippio, San Marino, 2001. Ken Currie, Third Eye Centre, Glasgow 1988.
G. Luk3cS, Realism in Our Time: Literature and Class Struggle, New York and
Evanston: Harper & Row, 1962. Rec Morton: Retrospective 1971-1977. New
Museum, New York 1980. J. Perrault. "Issues in Pattern Painting." Artforum,
Nov. 1977. Rooms (Richard Artschwager. Cynthia Carlson, Richard Haas),
Hayden Gallery; Cambridge, Mass.. 1981. M. Shapiro and M. Meyer, “Waste
Not Want Not: An Inquiry into What Women Saved ana Assembled—
Femmage," Heresies 4. winter 1977 78 [SS]. V. Jaudon and J. Kozloff, "Art
Hysterical Notions of Progress and Culture,” Heresies 4. winter 1977-78 [RJ.
Philip Taafe. TVAM Centre de Carmen. Valencia 2000. G. Hilly; “Snakes
and Daggers” (Philip Taaffe), Frieze 41. June-July 1998.
4. Образы и предметы: восьмидесятые
В. Buchloh, "Detritus and Decrepitude: The Sculpture of Thomas Hirschhorn,”
Oxford Ari Journal 24.2001. M. Duchamp. Dialogues with Marcel Duchamp,
London: Thames. & Hudson, 1971. R. Lebel. Marcel Duchamp, New York:
Grove Press, 1959. Ger Van Elk, Amsterdam: Stedelijk Museum, 1974. Boyd
Webb. London: Whitechapel Ait Gallery. 198/. D. Crimp, "Pictures," Octobers,
spring 1979 [Wl]. Pictures: An Exhibition of the Work ofTroy Brauntuch, Jack
Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, Philip Smith. Artists Space, New
York, 1977. C. Sherman, "Untitled Statement ” Documenta 7, Kassel, 1982
[SS].S. Levine.“FiveComments” (1980-85) [W2J. C.Greenberg,“Four
Photographers," New York Review of Books, 23 Jan. 1964. in J. O’Brian (ed.).
Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism, Vol. 4, Chicago:
University of Chicago Press. 1993. J. I’aoleul. “Victor Burgin’s Office at Night:
Between Image and Interpretation,” Arts Magazine, September 1986.
V. Burgin (ed.). Thinking Photography. London: Macmillan, 1982. R. L. Pincus,
“Sophie Calle: The Prying Eye," Art in America. Oct. 1989. G. Danto, “Sophie
the Spy.” .Art News, May 1993. J. Siegel, "Barbara Kruger: Pictures
and Words,"ArtsMagazine 61, June 1987 [SS]. C. Owens, “The Discourse of
Others: Feministsand Postmodernism” (1983] [II]. W. Benjamin,"The Work
of Art in the Age of Mechanical Reproduction” (1936) [HW]. J. Baudrillard,
“The Precession of Simulacra,” in Baudrillard, Simulations. Nev/ York:
Semiotexte, 1983. K. Linker, “From Imitation to the Copy to Just Effect:
Reading Jean Baudrillard,’’ Artscribc, April 1984. M. Winzen (ed.), Thomas
Ruff: 1979 to the Present, Cologne: DuMont, 2001. M. Hermes,
“DoppelgKnger” (1 homas Ruff). Artscribe International, March-April 1988.
A. Pohlen “Deep Surface" (Thomas Ruff)» Artforum; April 1991. M. Gisbourne,
“Struth," Art Monthly, May 1994. D. Dannetas, “Interview with Christian
Boltanski," Flash Ait 124. Oct.-Nov. 1985 [SSJ. R. Barthes. Camera Lucida:
Reflections on Photography. London: Cape, 1982. B. Jones, "False Documents:
A Conversation with Jeff Wall." Arts Magazine, May 1990. TJ. Clark,
S. Guilbaut, and A. Wagner, “Representation. Suspicions, and Critical
Transparency: An Interview with Jeff Wall,” Para:chute59, July-Sept. 1990.
T. Cragg, “Untitled Statement," Documenta 7. Kassel, 1982 [SSJ. Bill Woodrow:
Sculpture 1980-86, Fruitmarket Gallery, Edinburgh. 1986. R. Newman. "From
World to Earth: Richard Deacon and the End of Nature,” in S. Bann
and W. Allen (eds.), Interpreting Contemporary Art, London: Reaktion Books,
1991. M. Fried, “Art and Objecthood," Artforum, summer 1967 [HW].
H. Steinbach, J. Koons, S. Levine, P. Taaffe. P. Halley, and A. Bickerton, “From
Criticism to Complicity;" Flash .Art, summer 1986 [HW]. J, Koons. “Full
Fathom Five,” Parkett 19,1989 [HW). T. Kellein (ed.), Jeff Koons: Pictures
1980-2002, Cologne, 2002. Jeff Koons, San Francisco: San Francisco Museum
of Modern An, 1992.Toward the Future: Contemporary Art in Context
(Tassct), Chicago: Museum of Contemporary .Art, 1990. R. Wiehager (ed.),
Sylvie Fleury; Osifildern-Ruit: Cantz Verlag, 1999. E. Hayt, “Sylvie Fleury: The
Woman of Fashion,” Art and Text 49, Sept. 1994. Jack Goldstein, Grenoble:
Centre National d’Art Concemporain de Grenoble. 2002. P. Halley. “The Crisis
in Geometry,” Arts Magazine, summer 1984. P. 1 lalley, "Notes on the
Paintings,” in Collected Essays 198] -87, Bruno Bischofberger Gallery, Zurich,
and Sonnabend Gallery; New York, 1988. T. Crow, “Ross Bfeckner, or rhe
Conditions Ol'Painting’s Reincarnation” (1995), in Crow, Modern Art in the
Common Culture, New Haven and London: Yale University Press, 1996. L. Wei,
“Talking.Abstract: Ross Bleckner,”Art in America, July 1987. J. Siegel,
“After Sherrie Levine," Arts Magazine. June 1985 [S]. “Sherrie Levine Plays
with Paul Taylor,” Flash Art 135, summer 1987- B. Dimitrijevic, Tractatus
Posi -His.toricus, TRbingen: Edit ion Dacic. 1977. M. Tupitsyn, “U-Turn
of the U-Topian" (Mukhomory). in D. Ross (ed.). Between Spring and
Summer: Soviet Conceptual Art in the Era of Late Communism, Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1990. Modernism and Post-Modernism: Russian An
of the Ending Millennium (Yurii Albert and oi hers), Yager Museum, Hartwick
College. Oneonta. New York, 1998.
5. В музее и вне музея: 1984-1998
G. Debord, The Society of the Spectacle, 1967. English edition, Detroit, 1970.
E. Sussmann (ed.), On the Passage of a Few People Through a Rather Brief
Moment of Time: The Situationist International 1957-72, Institute of
Contemporary Arts, Boston, and MIT Press, Cambridge, Mass., and London,
1989. D. Buren, “Site Work,” Artforum, March 1988. D. Buren, O. Mosset,
M. Parmentier, and N. Toroni, “Statement” (1967), Studio International, Jan.
1969 [HW]. J. Siegel, "Real Painting: A Conversation withNieleToroni,” Arts
Magazine, Oct. 1989.1. Blazwick (foreword)., Alan Charlton, London: 1CA,
1991. “For Me It Has to Be Done Good: An Interview with Alan Charlton,” Arts
Magazine, May 1990. “A Quite Different Coldness: Gerhard Merz Interviewed
by Thomas Dreher,” Artscribe International, Nov.-Dec. 1988. C. Harrison,
Essays on Art and Language. Oxford: Blackwell, 1991. T. Atkinson,
“Disaffirmation and Negation." Mute, London: Ginipel Fils, 1983. T. J. Clark,
“Clement Greenberg’s Theory of Arr,” in F. Frascina, Pollock and After: The
Crit ical Debate, London: Harper and Row, 1985. D. Kuspit, “Interview with
Anselm Kiefer” (1987), in J. Siegel (ed.), An Talk: The Early 80s, New York:
Da Capo Press, 1988. R. Storr, “Louise Lawler: Unpacking die White Cube,”
Parkett 22.1989. Louise Lawler: An Arrangement of Pictures, New York:
Assouline, 2000. M. Buskirk, “Interviews with Sherrie Levine, Louise Lawler,
and Fred Wilson," October 70, fall 1994. Y.-A. Bois, “Susan Smith’s
Archaeologies,” in S. Bann and W. Mien (eds.). Interpreting Contemporary
Art, Izmdon: Reaktion Books, 1991. John.Armledcr, FrOjus: LeCapitou, 1994.
J. Saltz, “History’s Train” (Mucha), Art in America, Jan. 1994. P. Monk,
“Reinhard Mucha: The Silence of Presentation,” Parachute 51, June-Aug.
1988. S. Sonmidr-Wulffen. “Models,” Flash Art 121, March 1985.T. Wullfen,
“Berlin Art Now," Flash Arr, March-April 1990. G. Celant, “Stations on
a Journey” (Mucha), Artforum. Dec. 1985. P. Bommels, “Auto-Americanism”
(Biiro Berlin), Artscribe. April 1987. Biiro Berlin, “dick, dunn,” in Biiro Berlin:
Ein Produktionsbegriff, Berlin, 1986. Imi Knoebel, Eindhoven: Van
Библиография 249
Abbe muse urn. 1982. “Albert Oehlen im Gespriich mil Wilfred Dickoff und
Martin Prinzhorn,” Kunst Heute 7, Cologne, 1.991 [HW]. J. Koether, “Interview
with Martin Kippenberger,” in B: GesprKche mit Martin Kippenberger,
Ostfildern: Cantz, 1994 [IIW]. Freitreppc: OlafMetzel. Munich 1996. Olaf
Metzel, Nice: Villa Arson, 1999. C. Joachimedes and N. Rosenthal (eds.),
Metropolis. Stuttgart: Edition Cantz. 1991. K. Ottmann, “Rosemarie Trockel."
Flash .Art 134, May 1987. J. Koether, “Interview with Rosemarie Trockel,”
Flash An 134, May 1987. D. Drier, “Spiderwoman” (Rosemarie Trockel),
Artforum, Sept. 1991. C. Blase, “On Katharina Fritsch,” Artscribe
International, March-April 1988.T. Fairbrotheretal.. BiNational: American
and German Art of the Late 1980s, Boston: ICA, 1988. Magicicns de la Terre,
Centre Georges Pompidou. Paris, 1989. Krzysztof Wodiczko: Critical Vehicles:
Writings, Projects, Interviews, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. Richard
Serra: Writings and Interviews, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
C. Weyergraf-Serra and M. Buskirk (eds.), The Destruction of Tilted Arc:
Documents, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1.991. J. I.ingwood (ed.), House:
Rachel Whiteread, London: Phaidon, 1995. J. Young, The Texture of Memory:
Holocaust Memorials and Meaning, New Haven and London: Yale University
Press, 1993. Jochen Gerz: Res Publica 1968-1999, Ostfildern: Cantz, 1999.
M. Welish, “Who’s Afraid of Verbs, Nouns and Adjectives?” (Holzer), Arts
Magazine, April 1990. J. Siegel, “Jenny Holzer’s Language Games,” Arts
Magazine 60:3, Nov. 1985. S. Bann,“The Inscription in the Garden: Tan
Hamilton Finlay and the Epigraphic Convention,” Apollo n.s. 134, Aug. 1991.
D. Eichler, “The Last Resort” (Genzken). Frieze 55. Nov.-Dec. 2000. Isa
Genzken, Chicago: Renaissance Society at the University of Chicago, 1992.
“Thomas I lirschhorn: Energy-Yes, Quality No,” Flash Art, Jan.-Feb. 2001.
“Thomas Hirschhorn and Marcus Steinweg,” Janus 14,2003. B. Buchloh,
“Detritus and Decrepitude: The Sculpture of Thomas Hirschhorn,” Oxford Art
Journal 24,2001.
6. Знаки идентичности: 1985-2000
J. Saiz, “Strange Fruit: Robert Gober’s Untitled. 1988,” Arts Magazine. Sept.
1990. C. Greenberg. “Where Is the Avant-Garde?” Vogue, June 1967,
reprinted in J. O’Brian (ed.), Clement Greenberg: The Collected Essays
and Criticism, Vol. 4, Chicago: University of Chicago Press, 1993. L. Steinberg,
Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art, Oxford: Oxford
University Press, 1972. G. Osterman, “Mixed Gay Chorus” (B. Harris), Women
Artists News 16-17,1991-92. P. Hodges, "Robert Mapplethorpe, Photographer,”
Manhattan Gaze, Dec. 10,1979. S. Dubin, “The Trials of Robert Mapplethorpe,”
in Elizabeth C. Childs (cd.), Suspended License: Censorship and the Visual
Arts, University of Washington Press, 1997. D. Wojnarowicz, Memories That
Smell Like Gasoline, California: Art Space Books. May 1992. W. Banman
(ed.), Felix Gonzales-Torres, New York: An Press, 1993. “Art or The Caress:
A Project for Artforum” (Morgana), Artforum, Dec. 1990. A. Chave,
“Minimalism and the Rhetoric of Power,” Arts Magazine, Jan. 1990.
S. Tallman, “Kiki Smith: Anatomy Lessons,” Art in .America, April 1992.
К. B. Schlicfer, “Inside Out: An Interview with Kiki Smith,” Arts Magazine.
Bad Girls (Williams, Smith), London: ICA, 1993. J. Saiz, “Twisted Sister”
(Williams), /Arts Magazine, May 1990. D. Hickey, untitled, in Vanessa Beecroft
Performances: VB08-36, Ostfildern: Hatje Cantz, 2000. S. Koestenbaum.
“Bikini Brief’ (Beecroft), Artforum, summer 1998. G. Dubois Shaw, “Final
Cut" (Walker), Parkett 59,2000. E. Janus, “As American as Apple Pie”
(Walker), Parkett 59,2000. Lari Pinman: Paintings 1992-1998, Cornerhouse,
Manchester, 1998. Nancy Rubins, Museum of Modern Art, New York 1995.
1 leltcr Skelter: LA Art in the 1990s, Los /Angeles Museum of Contemporary Art,
1992. Paul McCarthy, London: Phaidon Press, 1996. T. Myers, “Hard Copy:
The Sincerely Fraudulent Photographs of Larry Johnson,” Arts Magazine,
summer 1991. D. Rimanelli, “Larry Johnson: Highlights of Concentrated
Camp,” Flash Art 1.55, Nov.-Dec. 1990. J. Saltz, “Lost in Translation: Jim
Shaw's Frontispieces,” Arts Magazine, summer 1990. R. Rugoff, “Jim Shaw:
Recycling the Subcultural Straightjacket,” Flash Art, March-April 1992. Just
Pathetic, curated by R. Rugoff, Los /Angeles: Rosamund Flesen Gallery, 1999.
R. Pettibon: The Pages Which Contain Truth Are Blank, Museion, Bolzano
2003. Larry Clark, Groningen Museu, Groningen 1999. “Laurie Parsons,"
Artforum, Oct. 1990. “Betriebsystem Kunst: Eine Retrospektive” (Laurie
Parsons), Kunstforurn International, 1991-92. J. Bankowsky, “Slackers,”
Art forum, Nov. 1991. N. Bourriaud, “Karen Kilimnik: Psycho-Splatter,” Flash
Art, March-April 1992. J. Deitch, Strange Abstraction (Cady Noland. Robert
Gober, Phillip Taaffc). R. Smithson, "Entropy and the New Monuments”
(1966), in J. Flam (ed.), Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley,
Cal., and London: University of California Press, 1996. L. Nesbit, “Not a Pretty
Sight: Mike Kelley Makes Us Pay For Our Pleasure,” Artscribe, Sept .-Oct. 1990.
T. Kellein, Mike Kelley, Kunsthalle Basel, 1992. G. Bataille, Visions of Excess:
Selected Writings 1927-39, University of Minnesota Press, 1985. R. Krauss
and Y.-A. Bois, Formless: A User’s Guide, New York: Zone Books, 1997.
1. Kabakov, “On Emptiness” (1981), in D. Ross (ed.), Between Spring and
Summer, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. A. Wallach, Ilya Kabakov: The
Man Who Never Threw Anything Away, New York: Harry N. Abrams, 1996.
B. Groys and I. Kabakov, “A Dialogue on Installations,” in N. von Velsen (cd.),
Ilya Kabakov: The Life of Flies, Ostfildern: Edition Cantj and Cologne Kunst-
verein, 1992. Jessica Stockholder. London: Phaidon, 1995. B. A. MacAdam,
“A Minimalist in Baroque Trappings" (Reed), /Art News, Dec. 1999. T. Bell,
“Baroque Expansions” (David Reed),.-Art in/America, Feb. 1987. Glen Brown,
Centre d’Art Contemporain, KcrguOhemec. 2000. L. Loptman, "LucTuymans,
Mirrorman,” Parkett 60.2000. LucTliymans, London: Phaidon, 1996.
N. Rosenthal (ed.), Apocalypse: Beauty and Horror in Contemporary Art,
Royal Academy, London, 2000. M. Maloney, "The Chapman Brothers: When
Will I Be Famous,” Flash Art, Jan.-Feb. 1996. Chapmanworld: Jake and Dinos
Chapman, ICA, London, 1996. S. Dubin. "How ‘Sensation’ Became a Scandal,”
Art in America, Jan. 2000. D. Hirst. Romance in the Age of Uncertainty: Jesus
and His Disciples: Death, Martydom, Suicide, and Ascension, White Cube
Gallery; London, 2003. F. Bonami, "Damien Hirst: The Exploded View
of the Artist,” Flash/Art, summer 1996.
7. Африка, Азия и Восточная Европа: 1992-2002
R. Araeen, “Black Manifesto," Studio International 988,1978 and Black
Phoenix 1, Jan. 1978. E. Said, Orientalism, London: Penguin, 1978.
I I. Bhabha, The Location of Culture, London: Routledge, 1991. Gayatri Spivak.
In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Methuen, 1987.
Magiciens de la Terre, Paris: Centre Georges Pompidou, 1989. “The Necessity
of Jimmie Durham’s Jokes,” Art Journal, fall 1992. “Jimmie Durham:
Attending to Words and Bones: An I nterview with Jean Fisher,” /Art and
Design, July-Aug. 1995. L. Wong, “Shelly Niro: Mohawks in Beehives ” Fuse,
summer 1992. N. Nurgesser, "Chiharu Shiota,” Kunstforurn International 156,
Aug.-Oct. 2001. M. Hsu, “Close to Open” (Chieh-Jen Chen), Flash Art 208,
Oct. 1999. J. Johnston, “Tehching Hsieh: Art’s Willing Captive,” .Art in
America, Sept. 2001. Translated Acts: Performance and Body Art from East
Asia 1990-2001, Berlin: Haus der Kulturen der Welt, 2001. FangLijun.
untitled statement, in China Avant-Garde, Berlin: Haus der Kulturen der Welt,
1993. H. van Dijk, “The Fine Arts After the Cultural Revolution” (Gao Minglu),
China Avant/Garde, 1993. Q. Zhijian, “Performing Bodies: Zhang Huan. Ma
Limning, and Performance Art in China.” Art Journal, summer 1999. E. Degot,
“Moscow Actionism: Self-Consciousness Without Consciousness" (Kulik,
Brener), inH.G. Oroschakoff (ed,), KrKftemessen: Eine Austellung Esdicher
Positionen InnerhalbDer Westlichen Welt. Ostfindern: Cantz Verlag, 1995.
V. Misiano, "Russian Reality: The End of Intelligentsia” (Brener), Flash Art
189, summer 1996. A. Osmolovsky. “Russian Inertia: Vladimir Dobusarsky
and Alexander Vinogradov,” Flash /Art 2)0. Jan.-Feb. 2000. V. Misiano.
“An .Analysis of "Ibsovka’: Post Soviet /Art of the 1990s" (Dubossarsky, Savalov),
in G. Maraniello (ed.), Art in Europe 1990-2000, Milan: Skira Editore, 2002.
Agitation for Happiness: Soviet .Art in the Stalin Era, St. Petersburg: State
Russian Museum, 1994-95. S. Zizek, Tarrying with the Negative: Kant, Hegel
and the Critique of Ideology, Durham: Duke University Press, 1993.
S. Milevska, “AES Does the Big Apple ” Flash Art, Jan.-Feb. 2000. M. Kuzma,
“Defining Mutable Moments and Perfect Worlds: Beyond the Yalta Club”
(Chichcan. Mikhailov), in G. Maraniello (ed.), Art in Europe 1990-2000,
Milan: SkiraEditore, 2002. A. Schwarzenblock(ed.), Boris Mikhailov: Case
History, Zurich: Scalo, 1999.0. Enwezor, "The Black Box," in Documenta 11.
Platform 5: Exhibition, Ostfildern: Cantz Verlag, 2002. R. Goldberg
and W. Kentridge, “Live Cinema and Life in South .-Africa,” Parkett 63,2001.
W. Kentridge, statement, in C. Christov-Bakargiev, William Kentridge,
Brussels: Palais des Beaux Arts, 1998. R. Krauss, “William Kentridge’s
Drawings for Projections,” October 92, spring 2000. F. Bonami, “Bodys Isek
Kingelez,” Journal of Contemporary African Art 10, spring-summer 1999.
Georges AdOagbo, in Big City: Artists from Africa, Serpentine Gallery-, London.
1995. P. Holmes, “The Emperor’s New Clothes" (Shonibare). Art News, Oct.
2002.0. Oguibe, “Finding;! Place: Nigerian Artists in the Contemporary/Art
World," Art Journal, summer 1999. F. Bonami. “Introduction,” in 50th Venice
Biennale, Dreams and Conflicts: The Dictatorship of the Viewer, Venice, 2003.
F. Bonami, “Pittura or Painting." in F. Bonami (ed.), 50th Venice Biennale,
Dreams and Conflicts: The Dictatorship of the Viewer, Venice: La Biennale
diVenezia, 2003. M. Nesbit, “Utopia Stat ion," in ibid.
8. Новые сложности: 1999-2005
Joan Jonas, “Lines in the Sand: Notes,” in Documenta 11. Platform 5:
Exhibition, Ostfildern: Cantz Verlag, 2002. Joan Jonas: Works 1968-1994,
Stcdclijk Museum, /Amsterdam 1994. B. Buchloh, “Detritus and Decrepitude:
The Sculpture of Thomas Hirschhorn," Oxford Art Journal 24, 2001.
Y. Dziewior, “John Bock: Receiver's Due,” Arrext 68, Feb.-April 2000.
A. Schlegel, “John Bock: Some Inside Output of the Quasi-Me/’FlashAn215,
Oct. 2000. E. Lorenz, “Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wing in
Brazil Sei Off a Tornado in Texas?” American Association for the Advancement
of Sciences (address), 1979. C. Berwick. “Excavating Ruins" (Julie Mehretu).
Arc News. March 2002,. P. Fl I is, “Matthew Ritchie: That Sweet Voodoo That
You Do." Flash Art 215, Nov.-Dec. 2001. J. Kastner. “The Weather of Chance:
Matthew Ritchie and the Butterfly Effect,.’’ Arc/Text 61,1998. J. Kastner,
“Sarah Sze: Tipping the Scaie;" Art/Text 65,1999. J. Slyce. Sarah Sze, London:
ICA, 1998. F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late
Capitalism, London: Verso, 1991. C. Bishop, “Tomoko Takahashi:
Accumulation ofMcniories." Flash Art 211, March-April 200]. Dick Price
(essay), The New-Neurotic Realism, London: Saatchi Gallery, 1998. R. Preece,
“Tomoko Takahashi: In the Eye of the Tornado," Sculpture, Nov. 1999.
R. Koolhaas, “Junkspace." October 100. 2003. Matthew Barney, Cremaster 4.
Artangel, London, 1995. N. Bryson. “Matthew Barney’s Gonadotrophic
Cavalcade," Parke.it 45,1995. B. High Russell, “Matthew Barney’s Testicular
Anxieties." Parachute 92, Oct.-Dec. 1998. R. Smith, “Matthew Barney:
The Cremaster Cycle," Artforum, May 2003. “Meier, Barcelona," Architeciural
Record 1154, April 1993. G. Mack, “The Museum as Sculpture: Interview
with Frank О. Gehry," in G. Mack, An Museums into the 21st Century. Basel:
BirkhKuser, 1999. R. Moore and R. Ryan, Building Tate Modern; Herzog
and De Meuron Transforming Giles Gilbert Scott, London: Tate, 2000. Anish
Kapoor: Marsyas,London: Tate. 2002. Santiago Calatrava: Wie ein Vogel /Like
a Bird, Kunsthistorisches Museum. Vienna 2003. M. Hardt and A. Negri,
Empire, Cambridge., Mass., 2000. B. Groys, “On the Aesthetics of Video
Installations," in Stan Douglas: Le DOtroit, Basel: Kunsthalle Basel, 2001.
Spellbound: .Art and Film (McQueen), London: Hayward Gallery; 1996.
M. Durden, “Steve McQueen." Parachute 98, April-June 2000. M. Stjemstedt,
“Eija-LiisaAhtila: The Way Things Are: The Way Things Might Be," Flash Art,
summer 2000. M. Vetrocq, “Eija-Liisa Is Not Going Crazy." Art in America, Oct.
2002. B. Ruf, “Hybrid Realities: Eija-Liisa’s Ahllla’s ‘Human Dramas,’" Parkett
55,1999. A. Szylak, “The New Art for the New Reality: Some Remarks
on Contemporary Art in Poland" (Kozyra). Art Journal, spring 2000. D. Elliott,
“Hole Truth” (Kozyra), Anforum, Sept. 1999. J. Krysa, “Poles Apart" (Kozyra),
Make 86, Dec. 1999-Feb. 2000. F. Solanas and O. Getino, “Towards a Third
Cinema" (1969), in M. Martin (ed.), New Latin .American Cinema, Vol. 1,
Detroit: Wayne State University Press. 1997. N. Leleu, “Shirrin Neshat:
La Quereile des Images." Parachute 100. Oct. -Dec. 2000. R. Jones, “Sovereign
Remedy" (Shirrin Neshat). Artforum,Oct. 1999. M.van Hoof, “Veils
in the Wind" (Shirrin Neshat), Art Press 279, May 2002. Bill Viola. New York:
Whitney Museum of American Art, 1997. Bill Viola, Writings 1973-1994,.
ed. Robert Violette, with an introduction by J-C. Amman, London, 1995.
M. Ritchie, “Tony Oursler: Technology- as Instinct Amplifier," Flash Art 186,
Jan.-Feb. 1996. Tony Oursler, Influence Machine, London: Artangel Trust,
2000. E. Hom. “Knowing rhe Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence"
(Tony Oursler), Grey Room 11, spring 2003. TJ. Clark, “Modernism,
Postmodernism, and Steam,” October 100,2002. C. Paul. Internet Art
(Napier), London: Thames & Hudson, 2003.
Адреса Web-сайтов
Журналы
Art Asia Pacific www.artasiapacific.clm
Artchronika www.bitchronika.ru
Artext www.artext.org
Art forum www.anforum.com
An in America www.artinamericamagazine.com
An India ww.artindiamag.com
An Journal www.collageart.org
.Art Monthly www.arnnonthly.co.uk
Art News www.artnewsonline.com
An Nexus www.arrnexus.com
Artpress www.artpress.com
Flash .An www.flashanonline.com
Frieze www.frieze.com
Fuse Magazine fusemagazine.org
Nu: The Nordic .Art Review w w w.nord ica rtreview.nu
October w-ww.mitpress.edu/ociober
Parachute www.parach u te .ca
Музеи современного искусства
Boston ICA www.icaboston.org/
Documenta, Kassel www.documenta.de
Georges Pompidou Center. Paris www.cnac-gp.fr
Guggenheim Museum, Bilbao www.guggenheim.org
Guggenheim Museum, New York www.guggenhcim.org
MACBA, Barcelona www.macba.es
Martin-Gropius-Bau, Berlin www.gropiusbau.de
Milwaukee An Museum, Milwaukee www.mam.org
Museum of Contemporary An, Los Angeles www.moca-la.org
Museum of Modern Art, Frankfurt www.mmk-frankfun.de
Museum of Modern Art, New York www.moma.org
State Russian Museum, St. Petersburg www.rusmuseum.ru
Tate Gallery; London www.tatc.org.uk
Venice Biennale, Venice www.labicnnale.org
Walker Art Center, Minneapolis www.walkerart.org
Whitney Museum of American Art, New York www.whicney.org
Библиография 251
Указатель
Абрамович, Марина (Abramovic,
Marina) 40
Адеагбо,Жорж (Adeagbo, Georges)
208
Адорно, Теодор (Adorno, Theodor)
62,112,134,211
Лйзенман, Питер (Elsenman,
Peter) 144
Айрленд, Патрик (Брайан
О’Догерти) (Ireland, Patrick
(Brian O'Doherty)) 53
Аккончи, Вито (Acconci, Vito) 19,
20,21,27,45,57
Акпан, Санди Джек (Akpan, Sanday
Jack) 188
Альберт, Юрий (Albert, Yurii)
118,119
Алексеев, Никита (Alekseev.
Nikita) 117,119
Аллингтон, Эдвард (Allington,
Edward) 106
Аллоуэй, Лоренс (Alloway,
Lawrence) 29
Амиду. Доссу (Amidou, Dossou)
188
Андо, Тада о (Ando, Tadao) 230.
231,247
Андре, Карл (Andre, Carl) 14,
22,29, 32,49,181,186,2
29
Ансельмо, Джованни (Anselmo,
Giovanni) 12,13. 27
Ант, Фарм (Ant, Farm) 47
Антониони, Микеланджело
(Antonioni, Michelangelo)
236
Араин, Рашид (Araeen, Rasheed)
186,187,188
Армледер, Джон (Armlcdcr, John)
132,140
Атаман, Кутлуг (Ataman. Kutlug)
215 ’
Аткинсон, Терри (Atkinson. Terry)
129
Ауэрбах. Фрэнк (Auerbach, Frank)
64,177
Ахтила, Эйя-Лииза (Ahtila, Eija-
Liisa) 234,235
Байрахария, Ниче Кайи
(Bajracharya, Nuche Kaji) 188
Базелиц, Георг (Baselitz, Georg)
65,66,67,246
Балдессари, Джон (Baldessari,
John) 161,188
Бальтус (Balthus) 66
Банковски, Жак (Bankowsky, Jack)
168,169
Банн, Стивен (Bann, Stephen) 146
Барни, Мэтью (Barney, Matthew)
215,225,226, 247
Барри. Роберт (Barry; Robert) 18,
19,20,25
Барг, Ролан (Barthes, Roland) 62,
96,97,103,246
Баски, Жан-Мишель (Basquiat,
Jean-Michel) 80,160
Батай,Жорж (Bataille, Georges)
139.148,157,171,172,
216
Башляр. Гастон (Bachelard,
Gaston) 174
Беккет, Сэмюэл (Beckett, Samuel)
55.163
Бенглис, Линда (Benglis. Linda)
29,30,48
Беньямин, Вальтер (Benjamin,
Walter) 62,88,100
Беран, Зденек (Beran, Zdenek) 54
Борее, Ежи (Beres. Jerzy) 11
Берман, Уоллис (Berman. Wallace)
161
Бехер, Бернд и Хилла (Becher,
Bernd and Hilla) 147
Вёрден, Крис (Burden, Chris) 39,
167
Берджин, Виктор (Burgin, Victor)
97,98.99’
Бёрсон. Нэнси (Burson (Nancv)
238
Бидло, Майк (Bidlo, Mike) 80,81
Бикертон, Эшли (Bickerton,
Ashley) 109,110,113,170
Бикрофт, Ванесса (Beekroft,
Vanessa) 151,159,160
Блейк, Питер (Blake, Peter) 11
Блекнер, Росс (Bleckner, Ross)
115,116
Бовуар, Симона де (Beauvoir,
Simone) 21,32
Боде, Арнольд (Bode, Arnold) 27
Бодрийяр, Жан (Baudrillard, Jean)
101,102,104.115,122,
246
Бойс, Йозеф (Beuys. Joseph) 11,
27,42,43.45,123,133,
135,138,139,197
Бок, Джон (Bock, John) 217
Болдуин, Майкл (Baldwin,
Michael) 73,128
Болтански. Кристиан (Boltanski,
Christian) 27.103,104
Бом мел ьс, Питер (Bommels, Pieter)
139
Бонами, Франческо (Bonami,
Francesco) 210.211
Боэтти, Алигьеро (Вост,
Alighiero) 12,27
Брайла, Павел (Braila, Pavel) 215
Брайсон, Норман (Bryson,
Norman) 226
Брак, Жорж (Braqes, Georges) 10
Бранкузи, Константин (Brancusi,
Constantin) 80,133,143,
227
Братков. Сергий (Bratkov. Serhiy)
203
Браун, Гленн (Brown, Glenn) 176,
177
Браун, Стенли (Brouwn, Stanley)
45,92
Браунтач, Трой (Brauntuch, Troy)
95,109
Бренер. Александр (Brener,
Aleksandr) 199,247
Брисли, Стюарт (Brisley, Stuart)
43,44,157
Брок. Базон (Brock, Bazon) 68
Брудтаерс, Марсель (Broodthaers,
Marcel) 125
Брус, Гюнтер (Bros,Gunter) 27,41
Буа. Ив-Алан (Bois. Yve-Alain)
172
Бутаев, Сергей (Bugaev, Sergei)
201
Буржуа. Луиза (Bourgeons, Louise)
229,230
Бухло, Бенджамин (Buchloh,
Benjamin) 69,71,91,143,
148,188,217
Бхимьи, Фарина (Bhimji, Farina)
209
Бюрен, Даниель (Buren, Daniel)
’ 22, 23, 69, 82.125.126,159
Бюттнер, Вернер (Buttner. Werner)
136
Бэкон, Фрэнсис (Bacon, Francis)
64,65,177.247
Вайола, Билл (Viola, Bill) 233. 240,
241
Вайсман, Бенджамин (Weissman,
Benjamin) 163
Валента, Рудольф (Valenta, Rudolf)
133
Ван Эльк. Гер (Van (Elk, Ger) 92,
93
Ванг Сяошуа (WangXiaoshuai)
197
Ванг Юшень (Wang Yousheng)
195
Вачовски, братья (Wachowski.
brothers) 222
Be, Рената (Weh. Renate) 40
Вейбель, Петер (Weibel, Peter) 41
Вёрсель, Тройэльс (Worse!. Troels)
67
Вильмут, Жан-Люк (Vilmouth, ..
Jean-Luc) 106,107
Витьке,Ханна (Wilke, Hannah) 86
Вотье, Бен (Vautier, Ben) 11
Водичко, Кшиштоф (Wodiczko.
Krzysztof) 141,142,144,
149
Войнарович, Дэвид (Woj narowicz,
David) 154
Вудро. Билл (Woodrow. Bill) 106,
107,133
Вулулу. Джимми (Wululu. Jimmv)
188
Гао Миньлу (Gao, Minglu) 196
Гаруст. Жерар (Garouste. Gerard)
82
Гастон. Филип (Guston, Philip)
131
Гауди, Антонио (Gaudi. Antoni)
78
Генцкен, Иза (Genzken, Isa) 146,
147
Гери, Фрэнк (Gehry, Frank) 228,
229,247
Герстлер, Эми (Gerstler, Amy) 163
Герц, Йохен (Gerz. Jochen) 144.
145
Гилберт-Рольф, Джереми (Gilbert-
Rolfe. Jeremy) 69
Гласс, Филип (Glass, Philip) 237
Гобер. Роберт (Gober, Robert)
151,152
Годар. Жан-Люк (Godard.
Jean-Luc) 236
Голуб, Леон (Golub, Leon) 75, 76
Голдштейн, Джек (Goldstein, Jack)
95,114
Гонсалес-Торрес, Феликс
(Gonzalez.-Torres, Felix) 155
Гордон, Дуглас (Gordon. Douglas)
233
Грейвз, Нэнси (Graves. Nancy’) 65
Гринберг, Климент (Greenberg,
Clement) 10,11,15,74,76,
85,97,98.108,152,153,
218.247
Гринблатт, Родни Аллан
(Greenblatt, Rodney Allan) 80
Гройс, Борис (Groys, Boris) 232
Гропиус, Вальтер (Gropius. Walter)
116.147
Грэхэм, Дэн (Graham, Dan) 42,
49.50
Грэхэм. Родни (Graham, Rodney)
27.104
Гу, Венда (Gu. Wcnda) 195
Гуаттари, Феликс (Guattari. Felix)
72
Гудман. Сэм (Goodman, Sam) 157
Гундлах. Свен (Gundlakh. Sven)
118,119
Г’урски, Андреас (Gursky, Andreas)
102
Давенпорт, Йен (Davenport, Ian)
180’
Дайн, Джим (Dine, Jim) 11
Дали. Сальвадор (Dali. Salvador)
80,165,177
Дан, Вальтер (Dahn. Waiter) 135,
138
Дарем. Джимми (Durham. Jimmie)
189,190
Де Ак. Эдит (De Ak, Edit) 101
Дебор, Ги (Debord. Guy) 124
Дёготь, Екатерина (Degot,
Ekaterina) 120.199
Деджонг. Констанс (DeJong,
Constance) 241
Делёз, Жиль (Deleuze, Gilles) 72.
148
Де Кири ко. Джорджо (De Ch i rico,
Giorgio) 82,108,127,246
Де Кунинг, Виллем (De Kooning.
Willem) 65,66
Ден Сяопин (Deng Xiaoping) 197
Джадд, Дональд (Judd, Donald) 9.
15, 32.106,156,186
Джеймсон, Фредрик (Jameson,
Fredric) 221
Джилберт и Джорж (Gilbert and
George) 17,27,159,179
Джонас, Джоан (Jonas, Joan) 27,
215,216
Джонс, Джаспер (Johns, Jasper)
11,65,118,119,152
ДЖОНСОН. Ларри (Jonson, Larry)
164,165,166
Джонсон, Филип (Johnson, Philip)
137,231
Джотто (Giotto) 64
Дзаппа, Фрэнк (Zappa. Frank) 165
252 Указатель
Дзорио, Джильберто (Zorio,
Gilberto) 12
Диббет, Ян (Dibbets. Jan) 92
Дибенкорн, Ричард (Diebenkom,
Richard) 162
Дикон. Ричард (Deacon, Richard)
106.107,108
Дикс, Отто (Dix, Otto.) 136
Димитриевич. Брако (Dimitrievic.
Braco) 117,118
Докупил. Йири Георг (Dokoupil,
Jiri Georg) 136,138
Донской, Геннадий (Donskoy.
Gennady) 56
Дубоссарский, Владимир
(Dubossarsky, Vladimir) 200
Дункан, Кэрол (Duncan, Carol)
23,24,34
Дэвид, Кэтрин (David, Catherine)
211
Дэвис, Дзбби (Davis. Debby) 157
Дюшан. Марсель (Duchamp,
Marcel) 20.44, 54, 75, 91,
92,102.109,116,117,118,
120,123,131,138,139,
189.190,242
Жарковски. Джон (Szarkowski,
’ John) 98
Жигалев, Анатолий (Zhigalev,
Anatoly) 118,119
Жодон. Валери (Jaudon, Valeric)
85,87,89
Занг Хуан (Zhahg Huan) 196,197
3avr. Реми (Zaugg, Remy) 60,61,
230
Зе. Capa (Sze, Sarah) 220. 221,
222
Зееман, Харольд (Szeemann,
Harald) 27,65.204.243
Зонтаг, Сьюзен (Sontag, Susan) 97
Иммендорф, Йорг (Immendorf.
Jorg) 67,68
Исодзаки, Арато (Isozake. Arato)
228
Йоахимидис. Кристос
(Joachimedes, Christos) 66,
68.138
Йорм, Астер (Jorn, Asgcr) 124
Йошихара, Йиро (Yoshihara. Jiro)
12,191
Кабаков. Илья (Kabakov, Ilva)
144,172,173
Кабрал, Амйлькар (Cabral,
Amilkar) 186
Кал атрава. Сантьяго (Calatrava,
Santiago) 231,232,247
Калле, Софи (Calle. Sophie) 98,
99
Кальцолари. Пьер 11аоло
(Galzolari, Pier Paolo) 66
Каи, Луис (Kahn, Louis) 231
Канеда. Ширли (Kaneda, Shirley)
86
Кант, Эммануил (Kant. Emmanuel)
101
Кантор, Тадеуш (Kantor,Tadeusz)
103
Капроу, Алан (Kaprow. Allan) 11,
192
Капур, Аниш (Kapoor. Anish) 106.
231
Караваджо (Caravaggio) 175
Карри. Кен (Currie, Ken) 83,84
Карлсон, Синтия (Carlson,
Cynthia) 85,86
Каро, Энтони (Caro, Anthony) 15,
16.17.59,60,104,108
Каспит. Дональд (Kuspit. Donald)
68,69
Кастанеда. Карлос (Castaneda,
Carlos) 55
Касторо, Розмари (Castoro,
Rosemary) 33
Каттелан, Маурицио (Cauelan,
Maurizio) 178
Кейдж, Джои (Cage. John) 55.
132,135
Келли, Майк (Kelley, Mike) 157,
165.171,172,173,178.
183
Келли, Мэри (Kelly, Mary) 36,37,
100
Келли, Элсворт (Kelly, Ellsworth)
60
Кснтридж, Уильям (Kentridge,
William) 205,206
Кете. Вольфганг (Koethe,
Wolfgang) 133
KnM(Qi,Li) 197
Киа, Сандро (Chia, Sandro) 65, 66
Киенхольц, Эд (Kienholz, Ed) 161
Кикол, Г уберт (Kiecol, Hubert)
133
Килимник, Карен (Kilimnik, Karen)
169,222
Кингелез, Бодис Исек (Kingelez,
Bodyslsek) 206,207,208
Киппенбергер, Мартин
(Kippenberger, Martin) 136,
140
Кирхнер. Эрнст Людвиг (Kirchner,
Ernst Ludwig) 66
Китай, P. Б. (Kitaj. R. В.) 63,64,
66
Китон, Бастео (Keaton, Buster)
233
Кифер. Ансельм (Kiefer Anselm)
67.103,129,130.246
Кларк, Ларри (Clark. Larry) 166
Кларк,T. Дж. (Clark,T. J.) 124,
129,130,241,242
Клегг и Гутман (Clegg and
Guttmann) 102
Клементе. Франческо (Clemente,
Francesco) 65,66
Кляйн. Ив (Klein, Yves) 22,164
Кнебель, Ими (Knoebel, Imi) 135,
140
Книжак. Милан (Knizak, Milan)
11
Коганезава. Такехито
(Koganezawa,Takehito) 191
Козлофф, Джойс (Kozloff. Jovce)
85,86,89
Козура, Катаржина (Kozyra,
Katarzyna) 235,236
Колтингэм, Роберт (Coltingham,
Robert) 72
Комар, Виталий и Александр
Меламид (Komar. Vitaly and
AleksandrMelamid) 54,55,
198
Кондо, Георг (Condo. George) 80
Коннер. Биюс (Conner. Bruce)
161 *
Кооп, Хмммельблау (Coop,
Himmelblau) *228
Коссофф, Леон (Kossoff, Leon) 64
Котик, Ян (Kotik, Jan) 133
Крау, Томас (Crow, Thomas) 49,
74
Краусс, Розалинда (Krauss,
’Rosalind) 68,111,143,172,
173, 206,245
Кристева, Джулия (Kristeva, Julia)
157
Кримп. Дуглас (Crimp, Douglas)
69, 78, 95, 96,143,153
Крэг, Тони (Cragg, Tony) 105,
106,107,108,133,134
Крюгер, Барбара (Kruger. Barbara)
99,100,152,229
Кузман, Марта (Kuzman. Marra)
203
Кулик, Олег (Kulik, Oleg) 108.
199,201
Кулхаас, Рем (Koolhaas. Rem)
208.224,229,230,231
Кумарасвами_;А. К.
(Coomaraswamy, А. К.) 240
Куммер, Раймунд (Kummer.
Raimund) 133,134
Кунеллис. Яннис (Kounellis,
Jannis) 12,13
Куиилюси, Паулоси (Kunitiusee,
Pauiosee) 188
Кунк, Милан (Kune, Milan) 82,83
Кунс, Джеф (Koons, Jeff) 111, 112,
113,121,170,178,181
Купер, Деннис (Cooper. Dennis)
165.166
Купреянов. Владимир (Kupreanov,
Vladimir) 104
Куччи, Энцо (Cucci, Enzo) 65
Ла Рокка, Китти (La Rocca, Kitcv)
32
Лавьер. Бертран (Lavier, Bertrand)
119
Лай. Вольфганг (Luv, Wolfgang)
133
Лакан, Жак (Lacan. Jaques) 37,
42,44,50,98
Лам, Кен (Lum, Ken) 104
Ламм, Леонид (Lamm, Leonid)
198
Ланг, Фриц (Lang, Fritz) 229
Лафонтен, Мари-Джо (Lafoniain,
Marie-Jo) 32
Ле Грис. Малкольм (Le Grice.
Malkoim) 46,57
Лебель, Жан-Жак (Lebel,
Jean-Jacques) 21
Лебель, Робер (Lebel, Robert) 92
Леви-Стросс, Клод (Levi-Strauss,
Claude) 36,47
Ле Витт, Соя (LeWitt, Sol) 18.19,
87,171
Леже, Фернан (Leger, Fernand)
44.80
Леири, Мишель (Leiris. Michel)
139
Лейсипен, Уве (Laysiepen, Uwe)
40
Ли Миныпень (Lee. Ming-Sheng)
192
Либекивд, Дэниель (Libekind.
Daniel) 144,227.247
Ливайн. Шерри (Levine, Sherrie)
95,96,100,109,116,117,
152,190
Линклейтер, Ричард (Linklater,
Richard) 168
Липп ард. Люси (Lippard, Lucy)
20.21,22.25,28,29,34,
37,163
Лисицкий, Эль (Lissitzky. El) 96.
116,143
Лихтенштейн, Рой (Lichtenstein.
Roy) 65
Лонг. Ричард (Long. Richard) 17.
186
Лонго, Роберт (Longo, Robert) 95
Лоос. Адольф (Loos, Adolf) 41.85.
147
Лоренц, Эдвард (Lorenz. Edward)
218
Лоулер, Луиза (Lawler. Louise)
100,130,131.136.149.
159
Лоусон, Томас (Lawson, Thomas)
78,79
Лукас, Сара [Lucas, Sarah) 180
Лукач. Георг (Lukacs, Georg) 83
Лури, Борис (Lurie, Boris) 157
Льюис, Моррис (Louis. Morris)
11
Лэйн. Р.Д. (Laing, R. D.) 44
Лэрнср. Лиз (Larner, Liz) 157
Лю Сяодонг (Liu, Xiaodong) 195
Люпёрц, Маркус (Lupertz, Markus)
65,66,67
Л юти, Урс (Luthi, Urs) 40
Ма Люминь (Ma, Liuming) 196
Майерс, Рита (Myers, Rita) 32
Майстерманн. Георг
(Meisrermann, Georg) 135
Маккарти, Пол (McCarthy, Paul)
163,164,165,171
Маклюэн, Маршалл (McLuhan,
Marshall) 109
Маккуин, Стин (McQueen, Steve)
233, 234
Малевич. Казимир (Malevich,
Kazimir) 85,96,116,117,
135
Мане, Эдуард (Manet. Edouard)
28,82,128,162
Ман Рэй (Man Ray) 44,97
Манцони, Пьеро (Manzoni, Piero)
12,17.22,123,172
Марден, Брайс (Marden, Brice)
66,126,135,
Мартин, Агнес (Martin, Agnes)
60,87,114,126
Мартин, Жан-Юбер (Martin,
Jean-Hubert) 188,189,206
Мартин, Джон (Martin, John) 224
Маркс, Карл (Marx, Karl) 118
Масон, Франсуаз (Masson,
Francois©) 42
Матисс, Анри (Matisse, Henri) 62,
172
Матта, Роберто (Matta, Roberto)
52,66
Матта-Кларк, Гордон (Matta-Clark,
Gordon) 51. 52
Меезе, Джонатан (Meese,
Jonathan) 217
Мейер. Ричард (Meier, Richard)
147,227.228,247
Мейер. Мелисса (Meyer, Melissa)
85
Меламйд, Александр и Виталий
Комар (Melamid, Aleksandr
and Vitaly Komar) 198
Мерету, Джули (Mehretu, Julie)
218, 219
Указатель 253
Мерц, Герхард (Merz, Gerhard)
27,126,127
Мерц, Марио (Merz, Mario) 12,
13,125
Мессаже, Аннет (Messager,
Annette) 40
Метцель, Олаф (Metzel, Olaf) 136,
137,140
Миддендорф, Хельмут
(Middendorf, Helmut) 134
Мизиано, Виктор (Misiano, Viktor)
201,202,213
Миллер, Джон (Miller, John) 157
Мисс, Мэри (Miss, Mary) 34
Михайлов, Борис (Mikhailov,
Boris) 104,203,204
Михайлова, Виктория (Mikhailova,
Victoria) 204
Михельсон. Аннет (Michelson,
Annette) 68
Монастырский, Андрей
(Monastyrsky, Andrei) 55,56,
119
Мондриан, Пит (Mondrian, Piet)
14,116,147,172
Монео. Рафаэль (Moneo, Raphael)
230
Моргана, Эйми (Morgana, Aimee)
156,157
Моррис, Роберт (Morris, Robert)
14,15,16,22,30,31,48,
106,171,172,173,229
Мортон, Ри (Morton, Ree) 84,85,
* 161
Моссет, Оливье (Mosset, Olivier)
126
Муньос, Хуан (Munoz, Juan) 231
Мураками, Сабуро (Murakami,
Saburo) 12,191,211
Муха, Рейнхард (Mucha, Reinhard)
133,140
Мюль, Отто (Muhl, Ot to) 41
Мюррей, Элизабет (Murray.
Elizabeth) 161
Мэплторп, Роберт (Mapplethorpe,
Robert) 154
Натт. Джим (Nutt, Jim) 79
Несбит. Молли (Nesbit, Molly)
211,212
Нешат, Ширин (Neshat. Shirrin)
236,237
Ниро, Шелли (Niro, Shelley) 190,
191
Нитш, Герман (Nitsch, Hermann)
27,41,157
Ницше, Фридрих (Nietzsche,
Friedrich) 41,180
Новиков, Тимур (Novicov, Timur)
201
Ноланд, Кеннет (Noland, Kenneth)
11,15
Ноланд, Кэди (Noland, Cady) 170
Нольде, Эмиль (Nolde, Emil) 66
Нохлин, Линда (Nochlin, Linda)
28,29
Нэй, Эрнст Вильгельм (Nay, Ernst
Wilhelm) 135
Нэпьер, Марк (Napier, Mark) 242,
243
Ныоман, Барнет (Newman,
Barnett) 17,114
Обрист, Ханс Ульбрих (Obrist.
Hans Ulbrich) 211
Оден, У. X. (Auden, W. Н.) 64
О’Догерти, Брайан; см. Айрленд
Патрик (O’Doherty, Brian
see Ireland Patrick) 53
Оелен, Альберт (Oehlen, Albert)
140,149
Оелен, Маркус (Oehlen, Markus)
136
Окампо, Мануель (Ocampo,
Manuel) 163
О’Киф, Джорджия (O’Keeffe,
Georgia) 29
Олива, Акилла Бонито (Oliva,
Achile (Bonito) 65
Олитски. Джулис (Olitski, Jules)
62
Олденбург, Клэе (Oldenburg,
Claes) 11,229
Оно, Йоко (Ono, Yoko) 11, 27,45,
191
Онтани, Луиджи (Ontani, Luigi)
65
Опи, Джулиан (Opie, Julian) 108
Оппенгейм, Деннис (Oppenheim,
Dennis) 17, 27
Осмоловский, Анатолий
(Osmolovsky, Anatoly) 201
Оултон, Тереза (Oulton, Terese)
87
Оуэнс, Крейг (Owens, Craig) 62,
69,82,100
Пайк, Нам Джун (Раik, Nam June)
135,188
Пайпер, Адриан (Piper, Adrian)
160
Паладино. Миммо (Paladino,
Mimmo) 65,66
Парментье, Мишель (Parmentier,
Michel) 126
Парсонс, Лори (Parsons, Lauric)
168,169,170
1Ташке, Эд (Paschke. Ed) 79
Паузе. Вольф (Pause, Wolf) 133
Паунд. Эзра (Pound, Ezra) 127
Пейн, Джина (Pane, Gina) 41,42,
157
Пенк, A. P. (Penck, A. R.) 65,67,
68
Пенсато, Джойс (Pcnsato, Joyce)
87,88
Перро. Джон (Perrault. John) 86
Петерсон, Ричард (Patterson.
Richard) 180
Петтибон, Раймонд (Pettibon.
Raymond) 165,166,167,
171
Пиано, Ренцо (Piano. Renzo) 227,
230
Пикассо, Пабло (Picasso, Pablo)
66,75,80,81,82,138,142,
188
Пирсон, Джек (Pierson, Jack) 73,
169
11истолстто, Микеланджело
(Pistoletto, Michelangelo) 12
Питман. Лари (Pittman. Lari) 160,
162
Питц, Герман (Pitz, Hermann)
133,134,140
Пойтрас, Джейн Эш (Poitras. Jane
.Ash) 190
Поллок, Гризельда (Pollock,
Griselda) 35,164,229
Поллок, Джексон (Pollock,
Jackson) 11,69, 73,74,131,
172
Польке, Зигмар (Polke, Sigmar)
61,66,69,76,77,123,136
Понтормо, Якопо (Pontormo,
Jacopo) 240
Превер. Жак (Prevert,Jacques) 72
Принс, Ричард (Prince. Richard)
109,166,178
Прини, Эмилио (Prini, Emilio) 12
Райн, Анна (Ryan, Anna) 85
Райнер. АрнульсЬ (Rainer, Arnulf)
27,41
Райнер, Ивонна (Rainer, Yvonne)
33
Райт. Фрэнк Ллойд (Wright. Frank
Lloyd) 22,227
Райх, Вильгельм (Reich. Wilhelm)
21
Раманн, Фриц (Rahmann, Fritz)
134,140
Рамни, Ральф (Rumney, Ralph)
124
Рамсдсн, Мэл (Ramsden, Mel) 128
Расселл. Брюс Хью (Russell, Bruce
High) 226
Раушенберг, Po6epi
(Rauschenberg, Robert) 10,
11,62,131,152,211,229
Рейнхардт, Эд (Reinhardt, Ad) 60,
85,131
Рембрандт (Rembrandt) 177
Риверс, Ларри (Rivers, Larry) 11
Рид. Дэвид (Reed. David) 175,
176
Риман, Роберт (Ryman, Robert)
61,66,126 ’
Рингголд, Фэйт (Ringgold, Faith)
28,86
Ритчи, Мэтью (Ritchie, Matthew)
219,220,221,225
Рихтер, Герхард (Richter, Gerhard)
61, 66. 69, 70, 71, 72. 74.
76,89,103,123,134
Рихтер. 1 анс (Richter, I Ians) 44,
Робинсон, Уолтер (Robinson,
Walter) 80
Роджерс, Ричард (Rogers, Richard)
227
Родченко, Александр (Rodchenko,
Aleksandr) 96,97,233
Розенбах, Ульрика (Rosenbach.
Ulricke) 40
Розснблюм, Роберт (Rosenblum.
Robert) 68
Розенталь, Норман (Rosenthal,
Norman) 66,138,179
Ройтбурд, -Александр (Roitburd,
Aleksandr) 201
Рослер Марта (Rosler, Marta) 35,
36,37,100
Ротенберг, Сьюзан (Rothenberg.
Susan) 68
Ротко, Марк (Rothko. Mark) 115,
229
Рошаль, Михаил (Roshal. Mikhail)
56
Роудс, Джейсон (Rhoades, Jason)
222
Рубине. Нэнси (Rubins, Nancy)
162,163
Руфф, Томас (Ruff, Thomas) 102.
103
Руша, Эд (Ruscha, Ed) 27,146.
161
Рэнделл-Пейдж, Питер (Randall-
Page, Peter) 106
Саар, Беги (Saar, Betye) 160
Саатчи, Чарльз (Saatchi, Charles)
180.181.222,247
Савалов, .Арсен (Savaloy. Arsen)
200, 201
Садех, Валид(Sadeh, Walid) 212
Салле, Дэвид (Salle, David) 79,80
Саломе (Salome) 67,134
Санчес, Хуан (Sanchez. Juan) 189
Сант-Элиа, Антонио (Sant’EIia,
Antonio) 229
Сезанн, Поль (Cezanne. Paul) 236
Серота. Николас (Serota, Nicholas)
230
Серра, Ричард (Serra, Richard) 27,
45,48,143,144,226,229.
246
Си Течинг (Hsieh, Tehching.) 193,
194
Сивердинг. Катерина (Sieverding,
Katherina) 40
Сильверман, Кайя (Silverman,
Kaja) 41
Скерсис, Виктор (Skersis, Viktor)
56
Скотт. Ридли (Scott, Ridley) 222
Слайс, Джон (Slyce, John) 221
Сломински, Андреас (Slominski,
Andreas) 119
Смит, Дэвид (Smith, David) 11,15
Смит, Кики (Smith, Kiki) 157
Смит, Роберта (Smith, Roberta)
226
Смит, Сьюзан (Smith. Susan) 131
Смит, Филип (Smith. Philip) 95
Смитсон, Роберт (Smithson,
Robert) 171,173,221
..Сноу, Майкл (Snow, Michael) 45.
46
Соков, Леонид (Sokov, Leonid)
198
Соланский, Сергей (Solanskiy,
Serhiy) 203
Старн, Майк и Дут (Starn. Mike and
Doug) 102
Стейнбах, Хаим (Steinbach, Xaim)
109,110.113,170
Стейнберг, Лео (Steinberg, Leo)
152
Стелла, Фрэнк (Stella, Frank) 14,
15.62,63.65,66.89,131,
175,176
Стеллабрасс, Джулиан (Stallabrass,
Julian) 181
Стиглиц. Ал ьфред (St i egl i 1 z,
Alfred) 97
Стокхолдер, Джессика
(Stockholder, Jessica) 174,
183
Сторр, Роберт (Storr, Robert) 166
Струг, Томас (Struth, Thomas)
103
Судзуки, Д. T. (Suzuki, D. T.) 240
Суейд, Мохаммед (Soueid,
Mohammed) 212
СяоЛу (Xiao Lu) 196
Таафе, Филип (Taaffe, Philip) 86,
87
Тавадрос, Гилан (Tawadros,
Gilane) 211
Такахаши, Томоко (Takahashi.
Tomoko) 222,223,224
Танг, Сонг (Tang, Song) 196
Тарковский, Андрей (Tarkovsky,
Andrei) 216
254 Указатель
Тассет. Тони (Tasset, Tony) 112,
113
Татафиори. Эрнесто (Tatafiori.
Ernesto) 65
Татлин. Владимир (Tatlin..
Vladimir) 143.229
Твомбли.Сай (Twomblv, Су) 59,
61,62,172,227
Тек, Пауль (Thek. Paul) 27
Гер-Оганьян. Авдей (Ter-Oganyan,
Avdey) 120,199
Тиллмане, Вольфганг (Tillmans,
Wolfgang) 178
Тиравания, Риркрит (Tiravaniya,
Rirkrit) 211
Торони, Найл (Toroni, Niele) 125,
126
Троксль, Розмари (Trockel.
Rosemarie) 138.139,141,
209
Тюдор. Дэвид (Tudor. David) 135
Тюй маис, Люк (Tuvmans, Luc)
177,178,185
Уайт, Эдмунд (White, Edmund)
153/154
Уайтрид, Рейчел (Whiteread,
Rachel) 143.144
Уилдинг, Элисон (Wilding, Alison)
107
Уилсон, Марта (Wilson, Martha) 32
Уильямс, Роберт (Williams, Robert)
163
Уильямс, Сью (Williams. Sue) 158
Уимс, ГарриМэЙ (Weems. Garrie
May) 160
Уинсор, Джеки (Winsor, Jackie)
32,157
Ульман. Миша (Ullman, Misha)
144
Уолл, Джеф (Wall. Jeff) 91,104,
105, 239
Уолтах, Алан (Wallach. Allan) 23
Уоллес, Йен (Wallace. Ian) 104
Уолкер, Кара (Walker, Kara) 160
Уорхол, Энди (Warhol, Andv). 56,
65,80,114,138,139,152.
160.164,166,187,204,
246
Урслер. Тони (Oursler, Топу)
240-242
Уэбб, Бойд (Webb, Boyd) 93,94
Уэлсби, Крис (Welsby, Chris) 27.
46.47
Уэнтворт, Ричард (Wentworth,
Richard) 107
ФангЛиджУН (FahgLijun) 195,
213
Фанон, Франц (Fanon, Frantz)
186,213
Феттинг, Рейнер (Petting, Rainer)
66,67,134
Финлей, Йен Хэмилтон (Finlay. Ian
Hamilton) 146
Фишер, Конрад (Fischer, Conrad)
17,69
Фишер-Лойг. Конрад (Fischer-
Lucg. Konrad) 69
Флавин. Дэн (Flavin, Dan) 49,156
Фланаган. Барри (Flanagan. Barry)
17
Флери, Сильви (Fleury, Svlvie)
113
Фолкс, Лин (Foulkcs, Llyn) 163
Фонтана. Лючио (Fontana. Lucio)
69
Фосгелл, Вол ьф (Vostell, Wolf) 2 2,
135
Фостер. Хэл (Foster, Hal) 100, 111
Фотрие.Жан (Fautrier, Jean) 172
Фрагонар,Жан-Оноре (Fragonard,
Jean-1 lonorc) 177
Фрейд, Зигмунд (Freud, Sigmund)
37,41.44,97,156
Фрейд, Люциан (Freud, Lucian)
64,65,80
Фрейндлих. Отто (Freundlich,
Otto) 127
Фрид, Майкл (Fried, Michael) 15.
108,152
Фритш, Катарина (Fritsch.
Katharina) 139,140,141
Фроманже, Жерар (Fromanger,
Gerard) 72.73
Фрэзер, Андреа (Fraser, Andrea)
159
Фуко. Мишель (Faucault. Michel)
72,97,114,115
Фукуяма, Фрэнсис (Fukuyama,
Francis) 110
Хааке, Ханс (Haacke, Hans) 136,
188
Харрис, Берта (Harris, Bertha)
153
Харрисон, Чарльз (Harrison.
Charles) 73,74,79,127,
128
Хартфилд, Джои (Heartfield, John)
99
Хаузер, Китти (Hauser, Kitty) 181
Хедрик. Уолли (Hedrick, Wally)
161
Хейцер. Майкл (Heizer, Michael)
17,18
Хекер, Цви (Hecker, Zvi) 144
Херинг, Кейт (Haring; Keith) 80,
81
Хермс, Джордж (1 leans, George)
161
Хесс, Элизабет (Hess. Elizabeth)
113
Хессе, Ева (Hesse, Eva) 27,32,33,
184
Ходике, Карл (Hodicke. Karl) 66
Херст, Дэмиан (Hirst, Damien)
180,181,182
Хёх,Ханна (Hoch, Hannah) 85,99
Хики, Дэйв (Hickey, Dave) 159
Хилл, Гэри (Hill, Gary) 240
Хиллиард, Джон (Hilliard, John)
46
Хип-оф-Бёрдз. Эдгар
(Heap-of-Birds, Edgar) 189
Хиршхорн, Томас (Hirschhorn,
' Thomas) 123.147,148,
216,217,245
Хитцлер, Ханс (Hitzler, Franz) 67
Хичкок, Альфред (Hitchcock.
Alfred) 176,233
Ходжкин. Ховард (I lodgkin.
Howard) 66
Хойланд, Джон (Hovland, John)
62
Хблляйн, Ханс (Hollein. Hans)
137,228
Хольцер, Дженни (Holzer. Jennv)
145,146,152
Хоппе, Уолтер (Hopps, Walter) 92
Хорн, Ребекка (Horn, Rebecca) 27,
41
Хоффман. Ханс (Hoffmann. Hans)
62
Хушияри. Шираз (Houshiary,
Shirazch) 107
Хэлли, Питер (1 lalley, Peter) 110,
114,115,116’
Хэмилтон, Ричард (Hamilton.
Richard) 11
Хэнроу, Xoy (Hanrou, Hou) 211
Хьюм. Гэри (Hume, Gary) 180
Хюльсхегер. Гисберт (Huelsheger,
Gisbert) 33
Цвиллингер, Ронда (Zwillingcr,
Rohnda) 80
I (иммер, Бернд (Zimmer, Bernd)
67
Чаркар, Тони (Charkar, Tony) 212
Чарлтон, Алан (Charlton, Alan)
’ 66,126,127,159
Чейв.Аина (Chave,Anna) 157
Челант, Джермано {Celant,
Germano) 12,13
Чен Чижен (Chen, Chieh-Jen) 193
Чепмен, Динос и Джейк
(Chapman, Dinos and .lake)
178,179,180,181,
Чёрч. Фредерик Эдвин (Church,
Frederic Edwin) 224
Чикаго, Джуди (Chicago, Judy)
28,31,33,57,86,161,
Чипперфилд, Дэвид (Chipperfield,
David) 230
Чичкан. Илья (Chichkan, Ilya) 203
Чэндлер, Джон (Chandler, John)
20, 21. 25
Шапиро. Мириам (Schapiro.
Miriam) 28,85
Шарф, Кенни (Scharf, Kennv) 80.
81
Шварцкоглер, Рудольф
(Schwarzkogler, Rudolf) 27,
41
Швиттерс, Курт (Schwitters, Kuril
143,222
ШеньКи (Sheng, Qi) 197
Шерман, Синди (Sherman,
Cindy) 95,100,152,172,
190,209
Шимамото, Шоцо (Shimamoto,
Shozo) 12
Шиота, Шихару (Shiota, Chiharu)
191
Ширага, Кацуо (Shiraga, Kazuo)
164
Шнабель, Джулиан (Schnabel,
Julian) 66,76,77,78.79,
80
Шнееман, Кароли (Schneemann,
Caroled) 21,27,38,39,40,
159
Шнекенбергер. Манфред
(Schneckenburger. Manfried)
65
Шольте, Роб (Scholte. Rob) 83
Шонибаре, Инка (Shonibare,
Yinka) 209,210
Шоу, Джим (Shaw. Jim) 165,166,
171
Штейнберг. Лео (Steinberg, Leo)
152
Штокхаузен, Карлхайнц
(Stockhausen, Karlheinz) 135
Шуйф, Питер (Schuyff. Peter) 80
Шульгин, Алексей (Shulgin,
Alexei) 104
Эйкок, Элис (Aycock, Alice) 34
Экспорт, Вэли (Export, Valie) 40.
41,42
Эль-Кхури, Элиас (El-Khoury, Elias)
212
Энгр, Жан Огюст Доминик (Ingres,
Jean Auguste Dominique) 236
Эндрюс Майкл (Andrews. Michael)
64
Энвезор, Оквуи (Enwezor, Okwui)
204, 205,209,212,244
Эстес, Ричард (Estes, Richard) 72
Эшер, Майкл (Asher, Michael) 52,
162
Юнг, Клаус (Jung, Klaus) 133
Якуб, Паола (Jacoub, Paola) 212
Янковски, Кристиан (Jankowski.
Christian) 217
Янобе, Кенджи (Yanobe. Kenji)
185,203
Указатель 255
Иллюстрации предоставлены
1.1 Courtesy the artist. © Robert Rauschenberg/VAGA, New York/DACS, London 2003.
1.2 Courtesy Jirrn Yoshihara. 1.3 Courtesy Galerie Marie-Puck Broodthaers, Brussels
© DACS 2003. 1.4 Courtesy Barbara Gladstone Gallery. 1.5 Dallas Museum of Art, general
Acquisitions Fund, and a matching grant from the National Endowment for the Arts. © ARS,
NY and DACS, London 2003. 1.6 and page 8 Courtesy Mod etna Museet, Stockholm
© Donald Judd Foundation A'AGA, NY/DACS, London 2003. 1.7 courtesy Barford
Sculptures and the artist. Photo: John Riddy. 1.8 Courtesy the artist and Haunch
ofVenison. 1.9 Courtesy the artist. © M. M. Heizer, 1969. 1.10 Courtesy the artist.
1.11 Courtesy the artist. 1.12 Courtesy the artist. Photo: Tony Ray-Jones © ARS, NY
and DACS, London 2003. 1.13 © The Solomon R. Guggenheim Foundation. New York;
photo: Robert E. Mates and Paul Katz. © ADAGP, Paris and DACS, London 2003.
1.14 Courtesy the artist © DACS 2003
2.1 Courtesy Cheim & Read © DACS, London and VAGA, New York 2003. 2.2 Courtesy
Chcim & Read © DACS, London and VAGA, New York 2003. 2.3 Gift of the Elizabeth
A. Sackler Foundation. Photo © Donald Woodman. Courtesy Through The Flower© ARS,
New York and DACS, London 2003. 2.4 Courtesy Paula Cooper Gallery, New York. Photo:
Efraim Lev-Er. 2.5 © Estate of Eva Hesse. Galerie Hauser & Wirth, Zurich. 2.6 Courtesy
the artist. 2.7 Courtesy the artist. 2.8 Courtesy the artist. 2.9 Courtesy the artist.
2.10 Courtesy the artist © ARS, NY and DACS, London 2003. 2.11 Courtesy the artist.
2.12 Courtesy Sean Kelly Gallery, New York © DACS 2003. 2.13 Courtesy Klemens Gasser
& Tanja Grunert Inc.. New York © DACS 2003. 2.14 Courtesy Galerie Stadler, Paris.
2.15 Courtesy Ronald Feldman Fine Arts, New York. Photo: Caroline Tisdall © DACS 2003.
2.16 Courtesy the artist. Photo: Janet Anderson. 2.17 photo© National Gallery of Canada.
2.18 Courtesy the artist. 2.19 and page 26 Courtesy the artist. 2.20 Courtesy the artist
©ARS, NY and DACS, London 2003. 2.21 Courtesy Electronic Arts Intermix.
2.22 Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York. 2.23 Courtesy the Holly
Solomon Gallery7 ©The Estate of Gordon Matta-Clark © ARS. NY and DACS. London 2003.
2.25 Courtesy-the artist. 2.26 Photograph © 2003 National Gallery, Prague.
2.27 Courtesy-Ronald Feldman Fine Arts, New York. 2.28 Victor and Margarita Tupitsyn
Archive, New York.
3.1 Courtesy Barford Sculptures and the artist. Photo: John Riddy. 3.2 Courtesy the artist.
3.3 and page 58 Courtesy Anthony D’Offay, London. 3.4 Courtesy Leo Castelli Gallery, New
York© ARS, NY and DACS, London 2003. 3.5 Bridgeman Art Library. 3.6 Courtesy Gallery
Bruno Bishofberger, Zurich © Sandro Chia/VAGA, New York/DACS. London 2003.
3.7 Collection of the Modern Art Museum, Fort Worth. Museum Purchase. The Friends
of the Art Endowment Fund. 3.8 Courtesy the artist. 3.9 Courtesy the artist. Private
Collection. 3.10 Courtesy the artist. 3.11 Courtesy the artist. 3.12 Courtesy Lisson
Gallery, London. 3.13 Courtesy the artist. Photo: David Reynolds, New York © DACS,
London/VAGA, New York 2003. 3.16 Courtesy Anthony Reynolds Gallery, London.
3.17 Courtesy Waddington Galleries, London© David Salle/VAGA, New York/DACS,
London 2003. 3.18 Keith I laring artwork © The Estate of Keith Haring. 3.19 Courtesy Leo
Castelli Gallery*, New York. 3.20 © ADAGP, Paris and DACS/London 2003. 3.21 Courtesy
the artist and Edward Totah Gallery, London © DACS 2003. 3.23 Whitney Museum
of American Art, New York. Gift of the Ree Morton Estate 90.2a-ii. Photo by Geoffrey-
Clements. 3.24 Courtesy the artist. 3.25 Courtesy DC Moore Gallery, New York.
3.26 Courtesy Gagosian Gallery, New York. 3.27 Courtesy Sidney Janis Gallery7, New York
© Valerie Jaudon/DACS, London/VAGA, New York 2003. 3.28 Courtesy Max Protetch
Gallery. Photo: Steven Sloman.
4.2 Courtesy Anthony D’Offay Gallery, London. 4.3 Courtesy Metro Pictures, New York.
4.4 Courtesy the artist. 4.5 Courtesy John Weber Gallery7, New York. 4.6 Courtesy of the
Paula Cooper Gallery, New York © ADAGP, Paris and DACS, London 2003. 4.7 Courtesy
Thomas Ammann, Zurich. 4.8 Courtesy the artist. 4.9 Courtesy the artist. 4.10 Courtesy7
Galerie Ghislaine Hussenot, Paris © ADAGP. Paris and DACS, London 2003. 4.11 and page
90 Courtesy the artist. 4.12 Courtesy the artist. 4.13 Courtesy Lisson Gallery, London.
4.15 Courtesy Lisson Gallery, London. 4.16 Courtesy Sonnabend Gallery, New York.
4.18 Courtesy the artist. 4.19 Courtesy the artist. 4.20 Courtesy the artist. 4.21 Courtesy
Postmasters Gallery7, New York. Photo: Tom Powel. 4.22 Photo Courtesy: ©Jack Goldstein
and 1301PE, Los Angeles. 4.23 Courtesy the artist. Photo: Steven Sloman. 4.24 Courtesy
Mary Boone Gallery, New York. 4.25 Courtesy the artist. 4.27 Victor and Margarita
Tupitsyn Archive, New York.
5.1 Courtesy the artist © D.B - ADAGP, Paris and DACS, London 2003. 5.2 Courtesy Galerie
Buchmann, Basel. 5.3 Courtesy the artist. 5.4 Courtesy Galerie Philomenc Magers,
Cologne © DACS 2003. 5.5 Courtesy Lisson Gallery, London. 5.6 Courtesy Anthony
d’Offay Gallery7, London. 5.7 Courtesy of rhe artist and Metro Pictures Gallery.
5.8 Courtesy the artist and Margarete Roeder Gallery, New York. 5.9 Courtesy the artist.
Photo: Tom Warren. 5.10 Photo Florian Kleinefenn, Paris. 5.11 Courtesy the artist.
5.12 Courtesy the artist © DACS 2003. 5.13 Courtesy D1A Center for the Arts. New York.
Photo: NicTenwiggenhom© DACS 2003. 5.14 Courtesy Galerie Maz Hetzler, Berlin.
5.15 Courtesy the artist. Photo: Ulrich Gorlich © DACS 2003. 5.16 Museum of Modern Art.
Frankfurt. Photo: Rudolf Nagel. 5.17 © Rosemarie Trockel. Courtesy Spruth/Magers
Gallery; Cologne © DACS 2003. 5.18 Courtesy7 the- artist © DACS 2003. 5.19 Courtesy Hal
Bromm Gallery, New York. Photo: Lee Stalsworth. 5.20 Courtesy Pace Gallery7, New York.
Photo: Kim Steele © ARS, New York and DACS, London 2003. 5.21 Work commissioned
by Artangel and Becks. Courtesy of Artangel, London. Photo: Sue Ormerod. 5.22 Courtesy
Luhring Augustine, New York. 5.23 Courtesy Galerie Crouscl, Paris © DACS 2003.
5.24 © Barbara Gladstone Gallery, New York. Photo: David Regen © ARS, NY and DACS.
London 2003. 5.25 Courtesy Galerie Daniel Buchholz. 5.26 and page 122 © Thomas
Hirshhorn, Courtesy Barbara Gladstone.
6.1 Courtesy Daniel Weinberg Gallery7, San Francisco. 6.2 © The Robert Mapplethorpe
Foundation. Used with permission, Courtesy7 A-t-CAnthology. 6.3 Courtesy Paula Copper
Gallery, New York. Photo: Andrew Moore. 6.4 Courtesy P.P.O.W., New York. Photo:
Adam Reich. 6.5 ©The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York. 6.6 Courtesy the artist. 6.7 Courtesy Metro Pictures, Nev. York.
6.8 Courtesy Regen Projects, New York. 6.9 and page 150 ©Vanessa Beecroft. Courtesy
Deitch Projects, New York. Photo by Mario Sorrenti. 6.10 Courtesy Brent Sikkcma, New
York. 6.11 Los .Angeles County Museum of Art. Purchased with funds provided by7 the
Ansley 1. Graham Trust. Photograph © 2004 Museum Associates/LACMA. 6.12 Courtesy
of Paul Kasmin Gallery and the artist. 6.13 Courtesy Robert Banc Editions. Los Angeles.
6.14 Courtesy Luhring Augustine, New York. 6.15 Courtesy 303 Gallery7, New York.
6.16 Courtesy Feature Inc., New7 York. 6.17 Courtesy Rcgen Projects, Los Angeles.
6.18 Courtesy7 the artist. 6.19 Courtesy rhe artist. 6.20 Courtesy 303 Gallery, New York.
6.21 Installation view7, Touko Museum, Japan. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.
6.22 Courtesy of Mike Kelley studio, © the artist. 6.23 © the anist/Mctro Pictures. New
York. Photo: Richard Stoner. 6.24 Courtesy Ronald Feldman Fine Arts. New7 York. Photo:
© 1990 D. James Dee. © DACS 2003. 6.25 Courtesy rhe artist and Gorney Bravin 4- Lee,
New York. 6.26 Courtesy Max Protetch Gallery. 6.27 Courtesy of the artist. Jerwood
Space, London and Patrick Painter Inc., Santa Monica. 6.28 Courtesy Zeno X Gallery,
Antwerp. Photo: Ronald Stoops. 6.29 Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.
Photo: Felix Tirry. 6.30 Courtesy rhe artist and Marian Goodman Gallery, New York.
6.31 © rhe artist. Courtesy Jay Jopling/White Cube (London). Photo: Diane Bertrand.
6.32 © the artist. Courtesy Jay Jopling/White Cube (London). Photo: Norbert Schoerner.
6.33 © the artist. Courtesy Jay Jopling/White Cube (London). Photo: Stephen White.
6.34 © Damien Hirst. Courtesy Jay Jopling/White Cube (London). Photo: Stephen
White;
7.1 Courtesy the artist. 7.2 Courtesy Centre Pompidou, Paris. 7.3 © Jimmie Durham,
Courtesy Nicole Klagsbrun Gallery, New York. 7.4 Courtesy the artist. 7.5 Courtesy the
artist. 7.6 Courtesy the artist. 7.7 Courtesy the artist. 7.8 Courtesy Max Protetch Gallery.
7.9 Courtesy Zhang Huan studio. 7.10 Courtesy XL Gallery. 7.11 Courtesy Flash Art.
7.12 Courtesy XL Gallery. 7.13 Courtesy the artist and Orel Art Prcsenta. 7.14 Courtesy
AES. ©ARS, NY and DACS, London 2003. 7.15 and page 184 Courtesy Rontgen Kunstraum
and Yamamoto Gallery. Photo: Russell Liebman. 7.16 Courtesy the artist. 7.17Courtcsy
the artist and Marian Goodman Gallery, New York. 7.18 © C.A.A.C. - The Pigozzi
Collection, Geneva. Photo: Claude Postel. 7.19 Courtesy Stephan Koehler.
www.jointadventures.org. ©ADAGP, Paris and DACS. London 2003. 7.20 Courtesy
Stephen Friedman Gallery, London. Photo: Werner Maschmann. 7.21 Witte de With,
Rotterdam. Photo © Bob Goedewaagen.
8.1 Courtesy Electronic .Arts Intermix. 8.2 Courtesy Klosterfeldc, Berlin. 8.3 Courtesy
The Project, New York. 8.4 © Matthew Ritchie, 2000. Courtesy Andrea Rosen Gallery, New
York. 8.5 Courtesy Marianne Boesky Gallery, New York. 8.6 Courtesy Marianne Boesky
Gallery, New York. 8.7 Courtesy of Hales Gallery and the artist. Photo: Peter White.
8.8 Courtesy of Hales Gallery and the artist. Photo: Peter White. 8.9 and page 214 © 2001
Matthew Barney, Courtesy Barbara Gladstone Gallery. Photo: Chris Winger. 8.10 Museu
d’ArcContemporani de Barcelona (МАСВА). Photo © Raimon Sola. 8.11 © FMGB
Guggenheim Bilbao Museoa, photo: Erika Barahona Ede. All rights reserved. 8.12 © Tate,
London 2003. 8.13 © Tate, London 2003. 8.14 Courtesy Milwaukee At Museum.
Photo: Timothy Hursley. 8.15 Courtesy the art ist and Marian Goodman Gallery, New York.
8.16 © Crystal Eye Ltd.. Helsinki. Courtesy Klemens Gasser & Tanja Grunert Inc.. New York.
8.17 Courtesy Zacheta Gallery, Warsaw. 8.18 © Shirin Neshat, Courtesy Barbara
Gladstone. 8.19 Courtesy the artist. 8.20 Whitney Museum of American At, New York.
Partial and promised gift of Marion Stroud in honor of David A. Ross 95.261. Photo: Kira
Perov. 8.21 Courtesy the artist and Metro Pictures Gallery. Photo Aaron Diskin, Courtesy
of Public Art Fund. Rauschenberg/VAGA, New York/DACS, London 2003.
ISBN 5-85050-884-8
9 785850 508845
Вы считаете себя современным человеком?
Тогда вам непременно нужно знать,
что представляет собой сегодняшнее
искусство, которое критики называют
актуальным. Какие движения и тенденции
существуют сейчас в живописи
и скульптуре, кино и видео?
Что можно назвать инсталляцией,
а что — перформансом?
Как художники видят наш сумасшедший
мир с его темпами, технологиями,
Интернетом и социальными конфликтами?
Обо всем этом — прекрасно
иллюстрированная книга известного
английского критика Брэндона Тейлора.