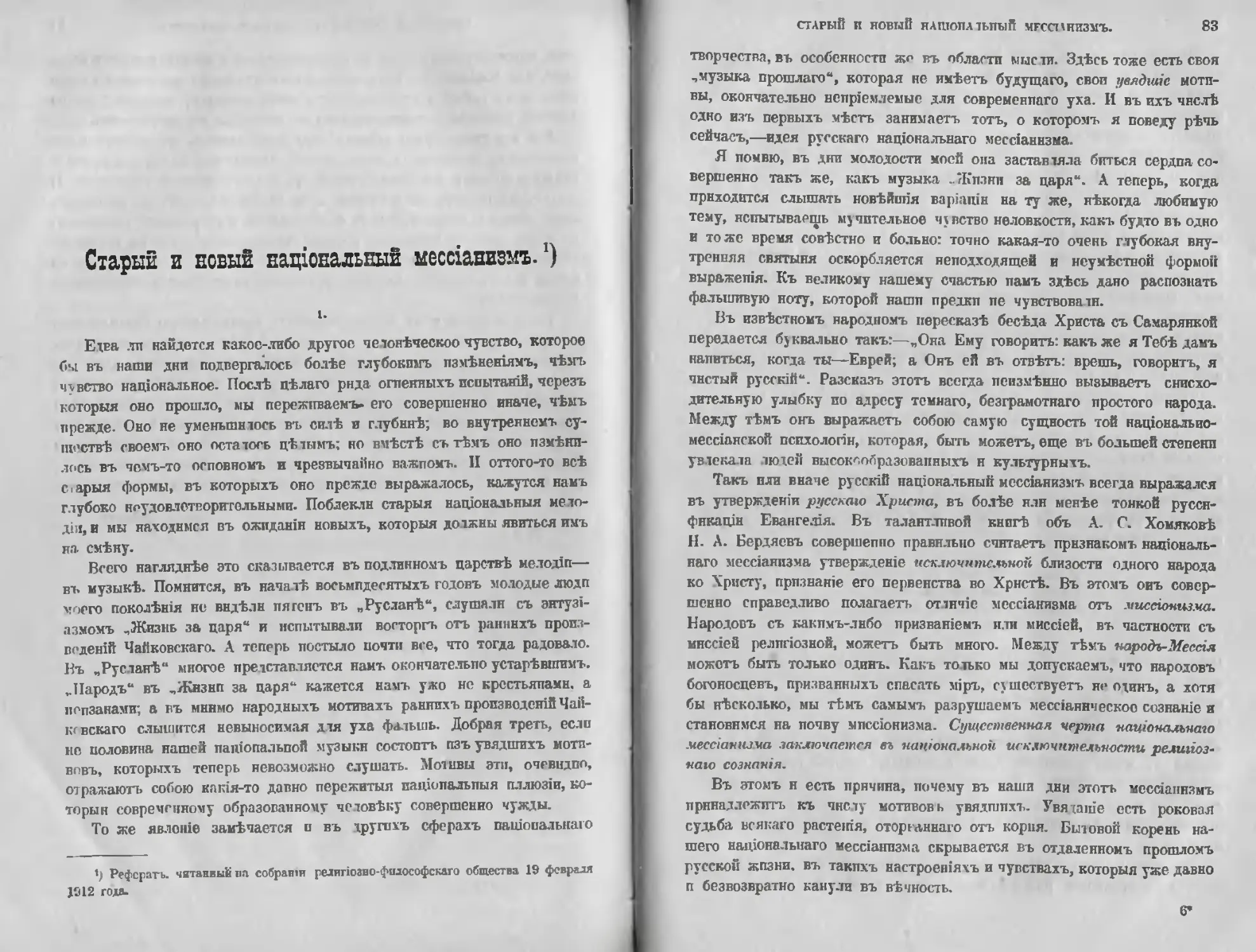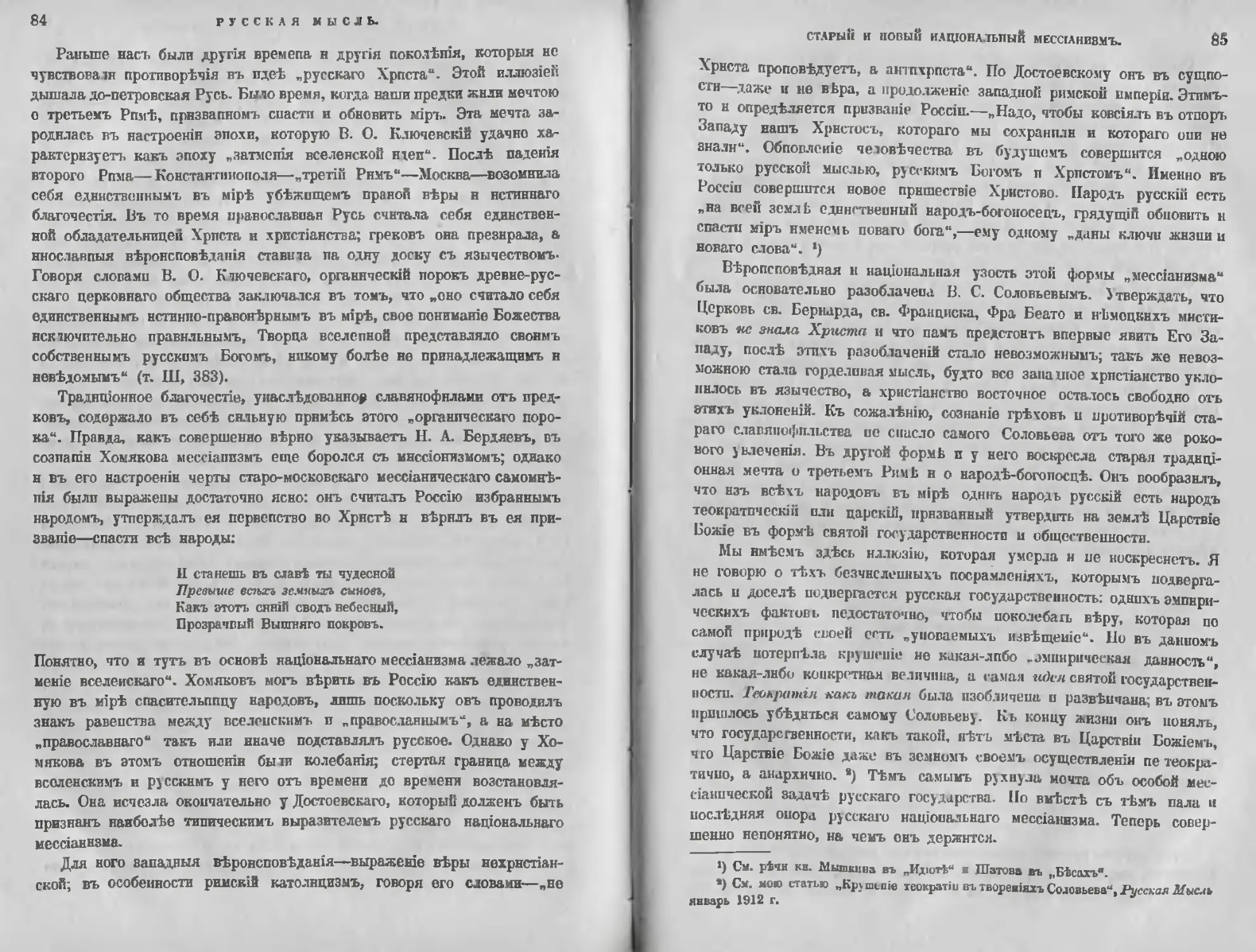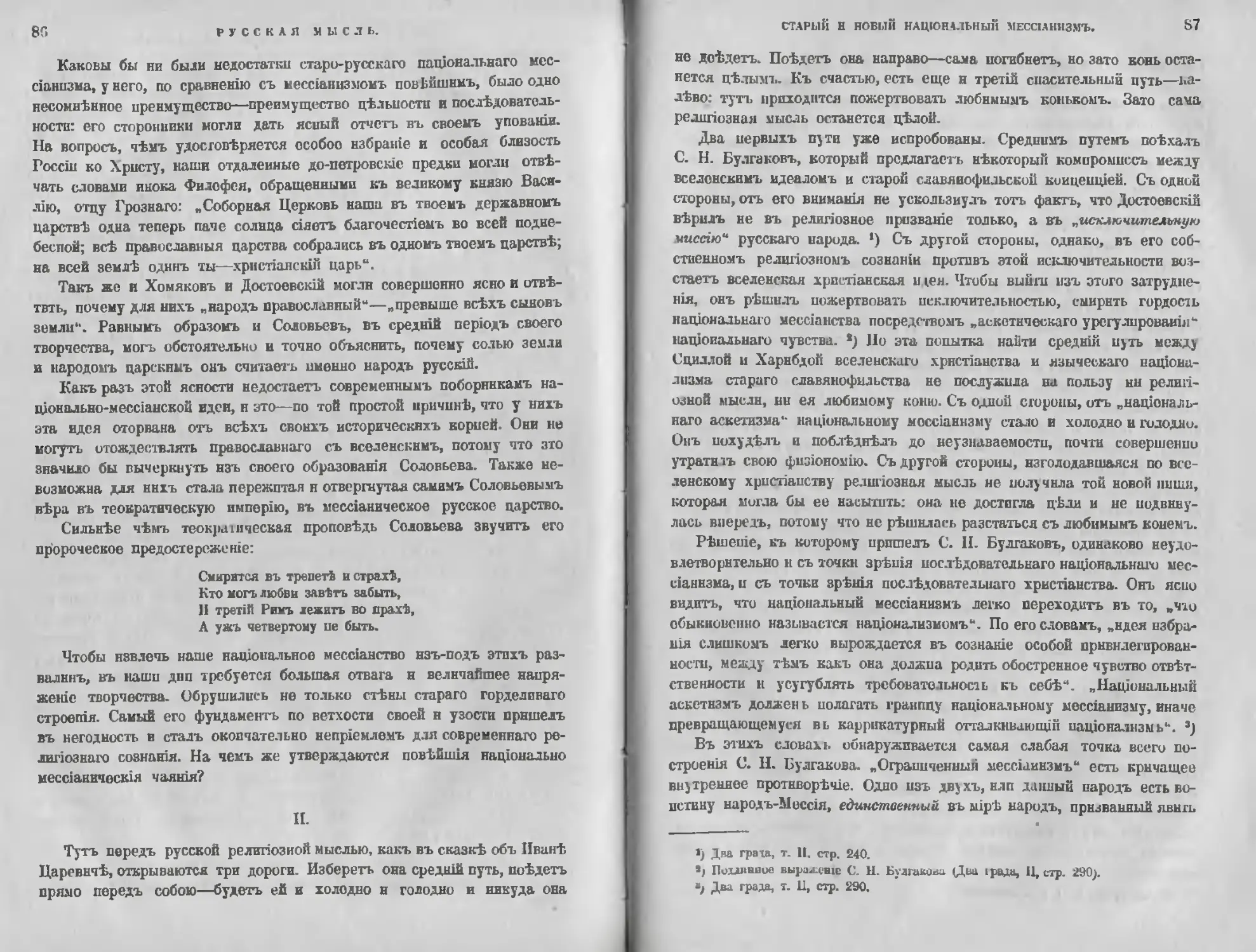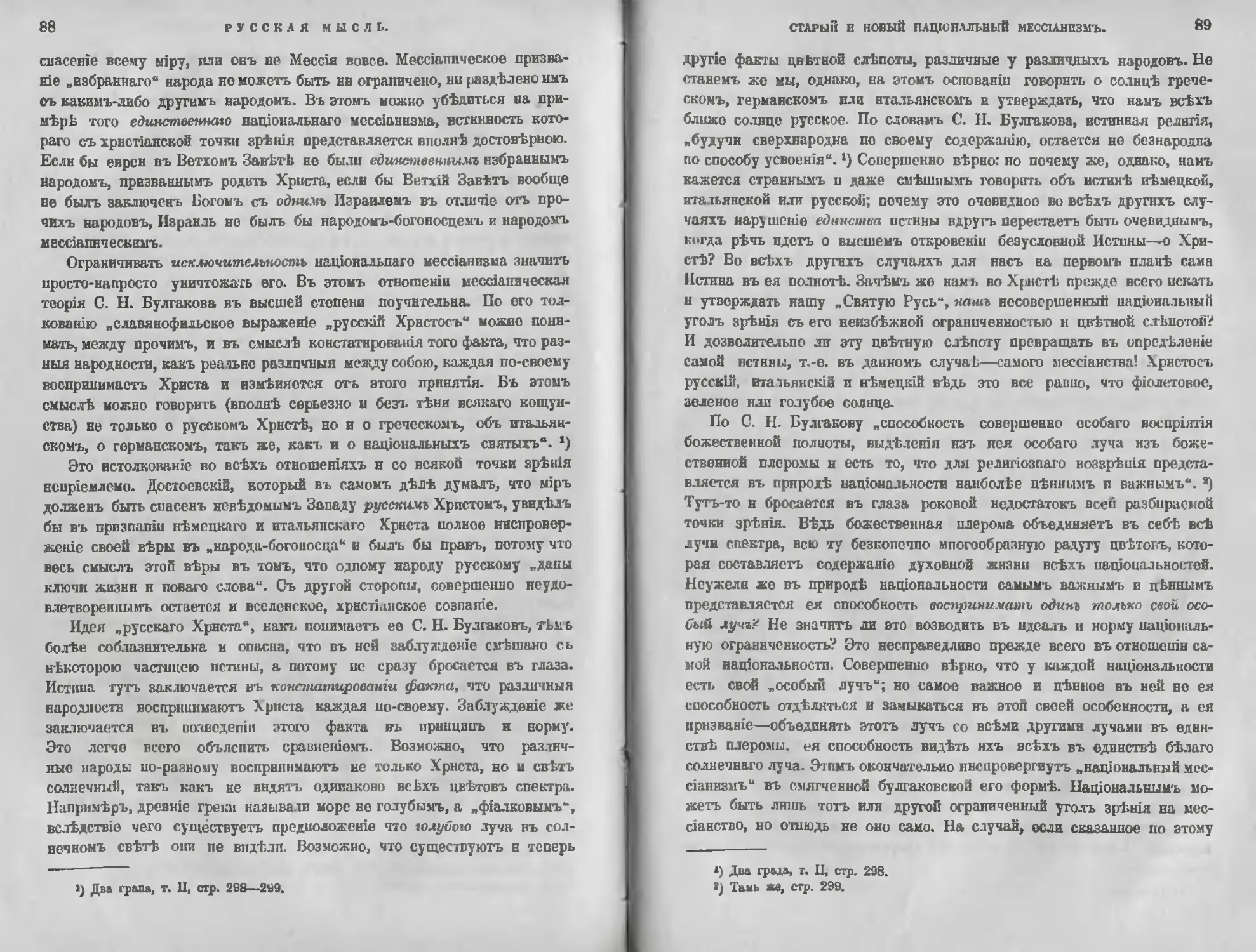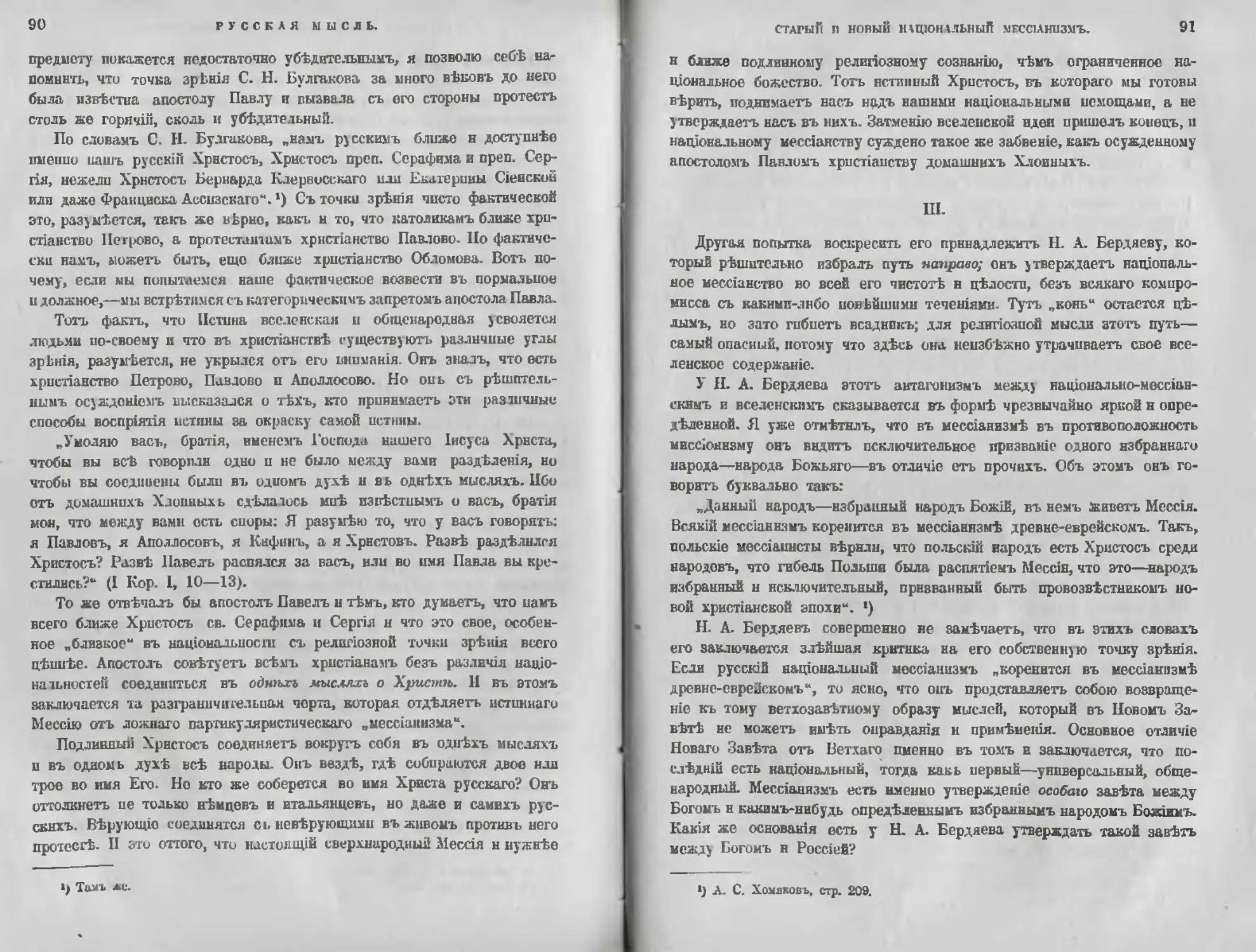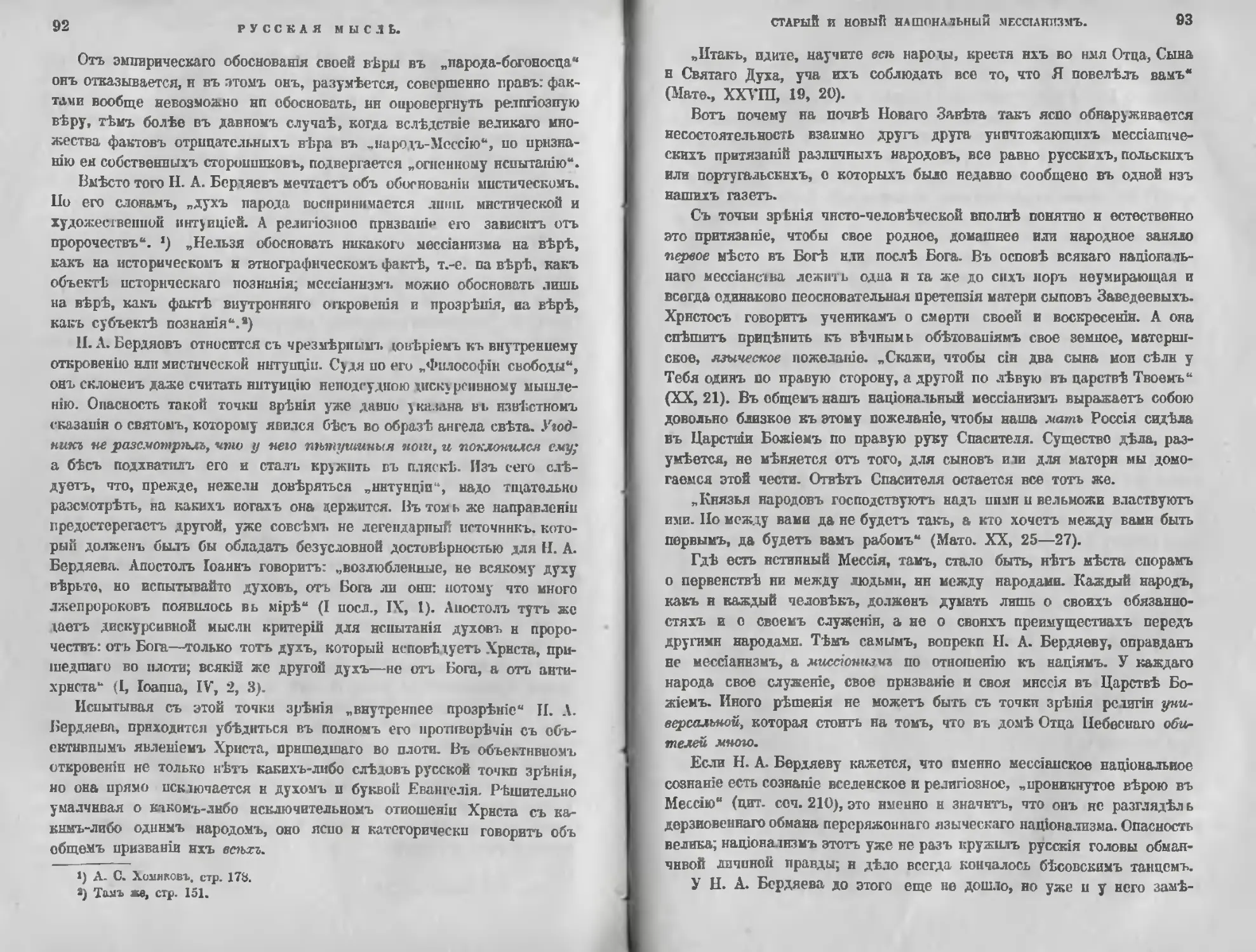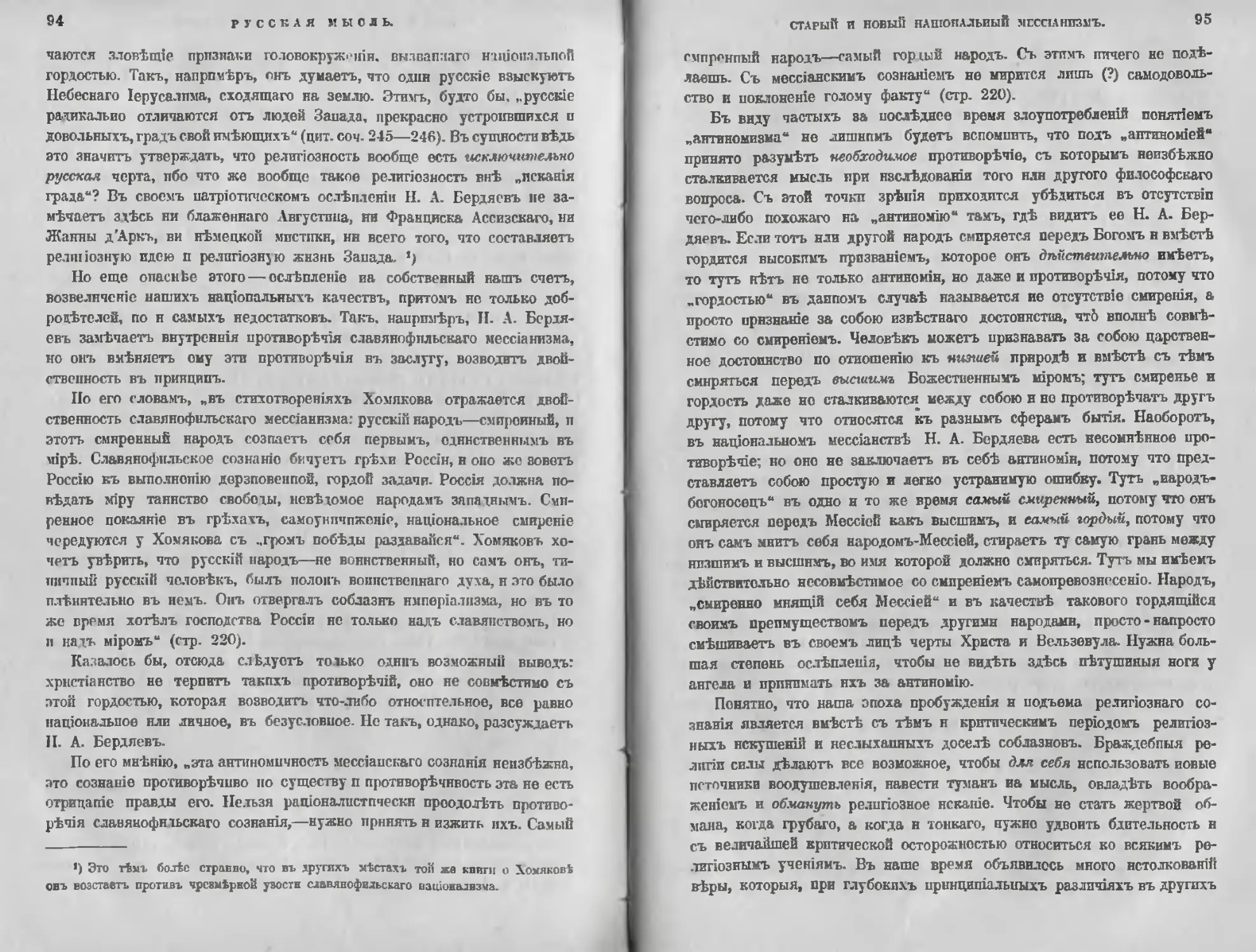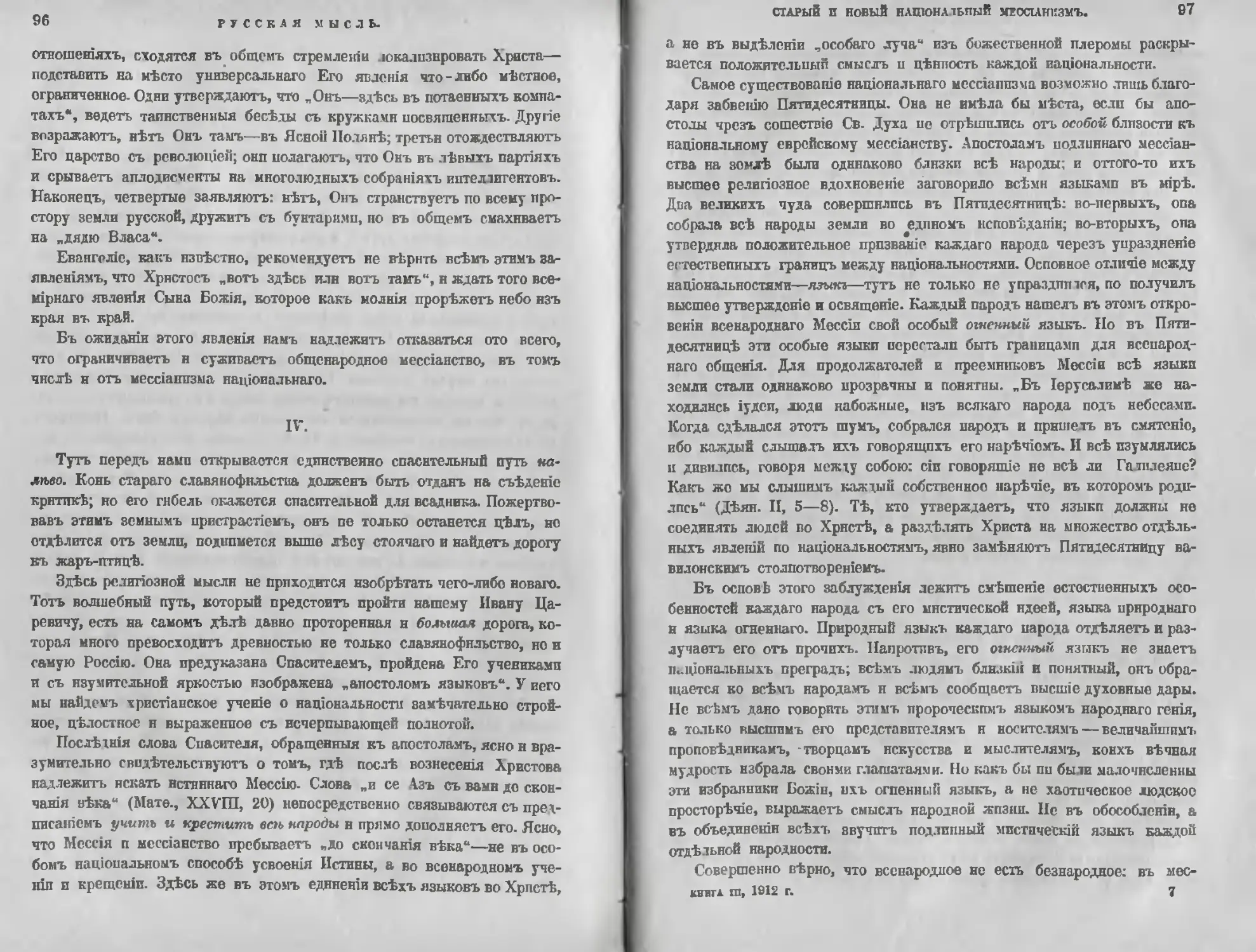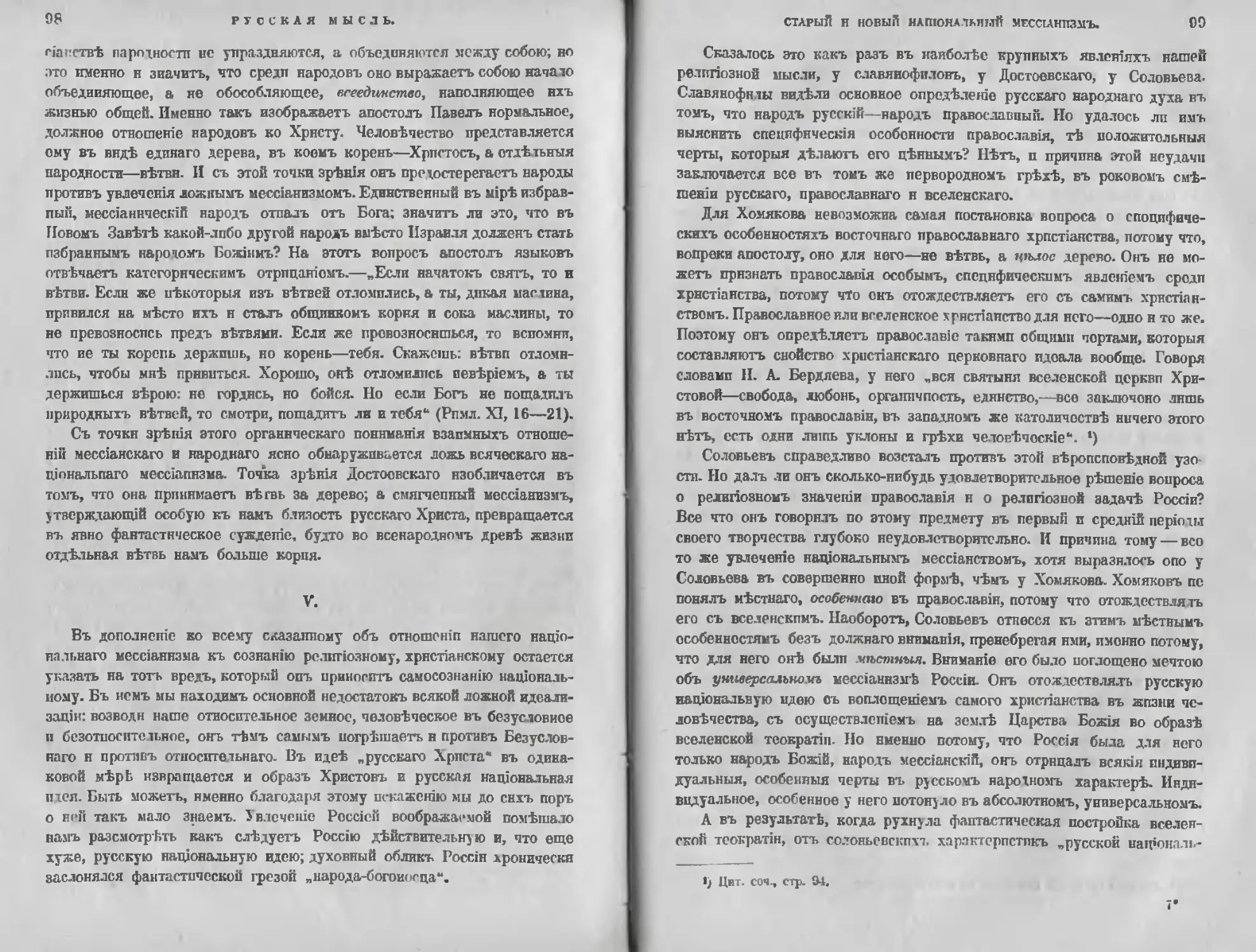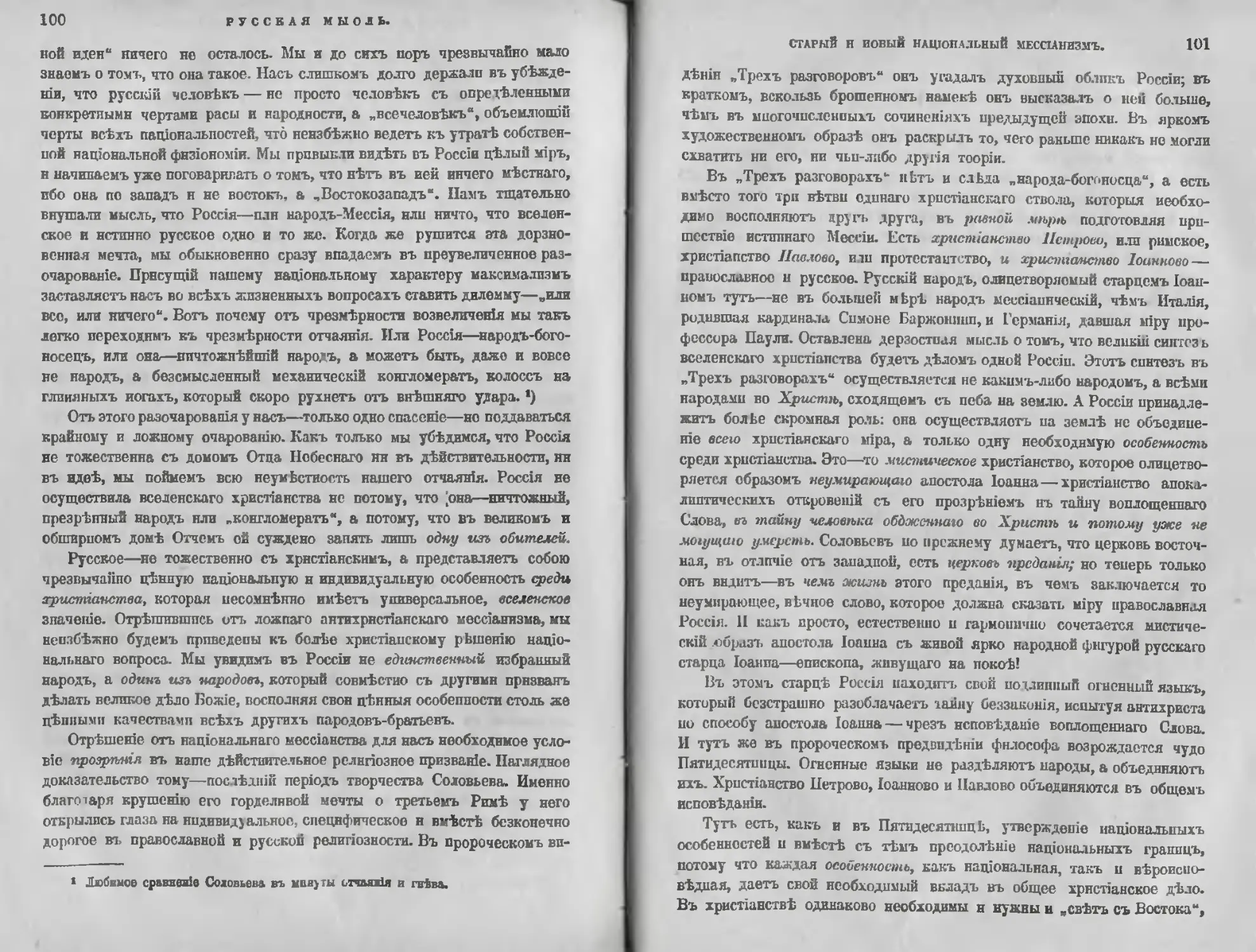Text
Старый и новый національный мессіанизмъ. ’)
I.
Едва ли найдется какос-.тибо другое чеюнѣческоо чувство, которое бы въ наши дни подвергалось болѣе глубокимъ измѣненіямъ, чѣмъ чувство національное. Послѣ цѣлаго рнда огненныхъ испытаній, черезъ которыя оно прошло, мы переживаемъ- его совершенно иначе, чѣмъ прежде. Оно не уменьши іось въ силѣ и глубинѣ; во внутреннемъ существѣ своемъ оно остаюсь цѣлымъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ оно измѣнилось въ чемъ-то основномъ и чрезвычайно важномъ. И отгого-то всѣ Сіарыя формы, въ которыхъ оно прежде выражалось, кажутся намъ глубоко неудовлетворительными. Поблекли старыя національныя мелодіи, и мы находимся въ ожиданія новыхъ, которыя должны явиться имъ на. смѣну.
Всего нагляднѣе это сказывается въ подлинномъ царствѣ мелодія— въ музыкѣ. Помнится, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ молодые люди моего поколѣнія не вндѣлн ня генъ въ „Русланѣ", слушали съ энтузіазмомъ „Жизнь за царя" и испытывали восторгъ отъ раннихъ произведеній Чайковскаго. А теперь постыло почти все, что тогда радовало. Въ „Русланѣ" многое преіставляется намъ окончательно устарѣвшимъ. _Пародъ" въ „Жнзнп за царя" кажется намъ ужо не крестьянами, а непзанамн; а въ мннмо народныхъ мотивахъ раннихъ произведеній Чай-ктвскаго слышится невыносимая дія ухв фальшь. Добрая треть, если не половина нашей національной музыки состоитъ пзъ увядшихъ мотивовъ, которыхъ теперь невозможно слушать. Мотивы эти, очевидно, отражаютъ собою какія-то давно пережитыя національныя пллюзіи, который современному образованному человѣку совершенно чужды.
То же явленіе замѣчается п въ другихъ сферахъ національнаго
Рефератъ, читанный иа собраніи религіозно-философскаго общества 19 февраля 3.1312 гола.
творчества, въ особенности же въ области ыыс.іи. Здѣсь тоже есть своя ,музыка прошлаго", которая не имѣетъ будущаго, свои увядшіе мотивы, окончательно непріемлемые для современнаго уха. И въ ихъ числѣ одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ тотъ, о которомъ я поведу рѣчь сейчасъ,—идея русскаго національнаго мессіанизма.
Я помвю, въ дни молодости моей она заставляла биться сердпа совершенно такъ же, какъ музыка «Жизни за царя". А теперь, когда приходится слышать новѣйшія варіаціи на ту же, нѣкогда любимую тему, испытываешь мучительное чувство неловкости, какъ будто въ одно и тоже время совѣстно и больно: точно какая-то очень глубокая внутренняя святыня оскорбляется неподходящей и неумѣстной формой выраженія. Къ великому нашему счастью панъ здѣсь дано распознать фальшивую ноту, которой нашп предки пе чувствовали.
Въ извѣстномъ народномъ пересказѣ бесѣда Христа съ Самарянкой передается буквально такъ:—„Она Ему говоритъ: какъ же я Тебѣ дамъ напиться, когда ты—Еврей; а Онъ ей въ отвѣтъ: врешь, говоритъ, я чистый русскій". Разсказъ этотъ всегда неизмѣнно вызываетъ снисходительную улыбку ио адресу томнаго, безграмотнаго простого народа. Между тѣмъ онъ выражаетъ собою самую сущность той національно-мессіанской психологіи, которая, быть можетъ, еще въ большей степени увлекала людей высокообразованныхъ н культурныхъ.
Такъ пли иначе русскій національный мессіанизмъ всегда выражался въ утвержденіи русскою Христа, въ болѣе нлн менѣе тонкой руссн-фнкацін Евангелія. Въ талантливой книгѣ объ А. С. Хомяковѣ И. А. Бердяевъ совершенно правильно считаетъ признакомъ національнаго мессіанизма утвержденіе исключительной близости одного народа ко Христу, признаніе его первенства во Христѣ. Въ этомъ онъ совершенно справедливо полагаетъ отличіе мессіанизма отъ миссіонизма. Народовъ съ какпмъ-лнбо призваніемъ или миссіей, въ частности съ миссіей религіозной, можетъ быть много. Между тѣмъ народъ-Меесія можетъ быть только одинъ. Какъ только мы допускаемъ, что народовъ богоносцевъ, призванныхъ спасать міръ, су шествуетъ не отинъ, а хотя бы нѣсколько, мы тѣмъ самымъ разрушаемъ мессіаннческоо сознаніе и становимся на почву мпссіонизма. Существенная черта національнаго мессіанизма заключается въ національной исключительности религіознаго сознанія.
Въ этомъ н есть причина, почему въ наши дни этотъ мессіанизмъ принадлежитъ къ чнсіу мотивовъ увядшпхъ. Увяіаше есть роковая судьба всякаго растенія, оторваннаго отъ корпя. Бызовой корень нашего національнаго мессіанизма скрывается въ отдаленномъ прошломъ русской жпзни. въ такпхъ настроеніяхъ и чувствахъ, которыя уже давно п безвозвратно канули въ вѣчность.
Раньше насъ были другія времена н другія поколѣнія, которыя не чувствовали противорѣчія въ идеѣ „русскаго Хрпста". Этой иллюзіей дышала до-петровская Русь. Было время, когда наши предки жили мечтою о третьемъ Рпмѣ, прнзвапномъ спасти и обновить міръ. Эта мечта зародилась въ настроеніи эпохи, которую В. О. Ключевскій удачно характеризуетъ какъ эпоху „затменія вселенской нхеи". Послѣ паденія второго Рпма— Константинополя—„третій Римъ"—Москва—возомнила себя единственнымъ въ мірѣ убѣжищемъ праной вѣры н истиннаго благочестія. Въ то время нравославоан Русь считала себя единственной обладательницей Христа и христіанства; грековъ она презирала, а ннославпыя вѣроисповѣданія ставила па одну доску съ язычествомъ-Говоря словами В. О. К чючевскаго, органическій порокъ древне-русскаго церковнаго общества заключался въ томъ, что „оно считало себя единственнымъ нстинпо-правонѣрнымъ въ мірѣ, свое пониманіе Божества исключительно правильнымъ, Творца вселепной представляло свонмъ собственнымъ русскимъ Богомъ, никому болѣе не принадлежащимъ и невѣдомымъ" (т. Ш, 383).
Традиціонное благочестіе, унаслѣдованное славянофилами отъ предковъ, содержало въ себѣ сильную примѣсь этого „органическаго порока". Правда, какъ совершенно вѣрно указываетъ Н. А. Бердяевъ, въ созпапін Хомякова мессіанизмъ еще боролся съ мнссіонизмомъ; однако н въ его настроеніи черты старо-московскаго мессіаническаго самомнѣнія были выражепы достаточно ясно: онъ считалъ Россію избраннымъ народомъ, утперждалъ ея первенство во Христѣ и вѣрилъ въ ея призваніе—спасти всѣ народы:
И станешь въ славѣ ты чудесной Превыше всѣхъ земныхъ сыновъ, Какъ этотъ синій сводъ небесный, Прозрачный Вышняго покровъ.
Понятно, что и тутъ въ основѣ національнаго мессіанизма лежало „затменіе вселенскаго". Хомяковъ могъ вѣрить въ Россію какъ единственную въ мірѣ спасительницу народовъ, лишь поскольку овъ проводилъ знакъ равенства между вселенскимъ п „правоеданнымъ", а на мѣсто „православнаго" такъ или иначе подставлялъ русское. Однако у Хомякова въ этомъ отношеніи быти колебанія; стертая граница между вселенскимъ и русскимъ у него отъ времени до времени возстановля-лась. Она исчезла окончательно у Достоевскаго, который долженъ быть признанъ наиболѣе типическимъ выразителемъ русскаго національнаго мессіанизма.
Для ного западныя вѣроисповѣданія—-выраженіе вѣры нехристіанской; въ особенности римскій католицизмъ, говоря его словами—„не
Христа проповѣдуетъ, а антпхрпста". По Достоевскому онъ въ сущности—даже и не вѣра, а продолженіе западной римской имперіи. Этпмъ-то н опредѣляется призваніе Россіи.—«Надо, чтобы ковсіялъ въ отпоръ Западу нашъ Христосъ, котораго мы сохранили н котораго опи не вналн". Обновленіе человѣчества въ будущемъ совершится „одною только русской мыслью, русскимъ Богомъ п Христомъ". Именно въ Россіи совершится новое пришествіе Христово. Пародъ русскій есть „на всей землѣ единственный народъ-богоносецъ, грядущій обновить и спасти міръ именемъ поваго бога",—ему одному „даны ключи жнзии и новаго слова". а)
Вѣроисповѣдная н національная узость этой формы „мессіанизма" была основательно разоблачена В. С. Соловьевымъ. Утверждать, что Церковь св. Бернарда, св. Франциска, Фра Беато и нѣмецкихъ мистиковъ не анала Христа и что панъ предстоитъ впервые явить Его Западу, послѣ этихъ разоблаченій стало невозможнымъ; такъ же невозможною стала горделивая мысль, будто всс запаіпое христіанство уклонилось въ язычество, а христіанство восточное осталось свободно отъ этихъ уклоненій. Къ сожалѣнію, сознаніе грѣховъ п противорѣчій стараго славянофильства ие спасло самого Соловьева отъ того же рокового і влеченія. Въ другой формѣ и у него воскресла старая традиціонная мечта о третьемъ Римѣ н о народѣ-богопосцѣ. Онъ вообразилъ, что изъ всѣхъ народовъ въ мірѣ одинъ народъ русскій есть народъ теократическій или царскій, призванный утвердить на землѣ Царствіе Божіе въ формѣ святой государственности и общественности.
Мы имѣемъ здѣсь иллюзію, которая умерла и ие воскреснетъ. Я не говорю о тѣхъ безчисленныхъ посрамленіяхъ, которымъ подвергалась в доселѣ подвергается русская государственность: однихъ эмпирическихъ фактовъ недостаточно, чтобы поколебать вѣру, которая по самой природѣ своей есть „уповаемыхъ извѣщеніе". По въ данномъ случаѣ потерпѣла крушеніе ие какая-лпбо „эмпирическая данность", не какая-либо конкретная величина, а самая идея святой государственности. Теократія какъ такая была изобличена и развѣнчана; въ этомъ пришлось убѣдиться самому Соловьеву. Къ концу жизни онъ понялъ, что государственности, какъ такой, нѣтъ мѣста въ Царствіи Божіемъ, что Царствіе Божіе даже въ земномъ своемъ осуществленіи пе теокра-тнчпо, а анархично. я) Тѣмъ самымъ рухнула мечта объ особой мес-сіанпческой задачѣ русскаго государства. По вмѣстѣ съ тѣмъ пала и послѣдняя опора русскаго національнаго мессіанизма. Теперь совершенно непонятно, на чемъ онъ держится.
і) Си. рѣчи кн. .Мышкина въ „Идіотѣ" в Шатова въ „Бѣсахъ".
•) См. мою статью „Крчшыііе теократіи въ твореніяхъ Соловьева", Русская Мысль январь 1912 г.
Каковы бы ни были недостатки старо-русскаго національнаго мессіанизма, у него, по сравненію съ мессіанизмомъ повЬйшнмъ, было одно несомнѣнное преимущество—преимущество цѣльности и послѣдовательности: его сторонники могли дать ясный отчетъ въ своемъ упованіи. На вопросъ, чѣмъ удосговѣряется особое избраніе и особая близость Россіи ко Христу, наши отдаленные до-петровскіе предки могли отвѣчать словами инока Филофея, обращенными къ великому князю Василію, отцу Грознаго: „Соборная Церковь наша въ твоемъ державномъ царствѣ одна теперь паче солнца сіяетъ благочестіемъ во всей поднебесной; всѣ православныя царства собрались въ одномъ твоемъ царствѣ; на всей землѣ одинъ ты—христіанскій царь“.
Такъ же и Хомяковъ и Достоевскій могли совершенно ясно и отвѣ-твть, почему для нихъ „народъ православный*4—„превыше всѣхъ сыновъ земли**. Равнымъ образомъ и Соловьевъ, въ средній періодъ своего творчества, могъ обстоятельно н точно объяснить, почему солью земли и народомъ царскимъ онъ считаетъ именно народъ русскій.
Какъ разъ этой ясности недостаетъ современнымъ поборникамъ національно-мессіанской идеи, н это—по той простой причинѣ, что у нихъ эта идея оторвана отъ всѣхъ свонхъ историческихъ корней- Они не могутъ отождествлять православнаго съ вселенскимъ, потому что зто значило бы вычеркнуть изъ своего образованія Соловьева. Также невозможна для ннхъ стала пережитая н отвергнутая санямъ Соловьевымъ вѣра въ теократическую имперію, въ мессіаническое русское царство.
Сильнѣе чѣмъ теократическая проповѣдь Соловьева звучитъ его пророческое предосте реже ніе:
Смирится въ трепетѣ и страхѣ. Кто могъ любви завѣтъ забыть, 11 третій Римъ лежитъ во прахѣ, А ужъ четвертому не бытъ.
Чтобы извлечь наше національное мессіанство изъ-подъ этихъ развалинъ, въ наііш дпп требуется большая отвага н величайшее напряженіе творчества. Обрушились не только стѣны стараго горделиваго строенія. Самый его фундаментъ по ветхости своей н узости пришелъ въ негодность в сталъ окончательно непріемлемъ для современнаго религіознаго сознанія. На чемъ же утверждаются новѣйшія національно мессіаничѳскія чаянія?
И.
Тутъ передъ русской религіозной мыслью, какъ въ сказкѣ объ Иванѣ Царевичѣ, открываются три дороги. Изберетъ она средній путь, поѣдетъ прямо передъ собою—будетъ ей и холодно н голодно и никуда она
не доѣдетъ. Поѣдетъ она направо—сама погибнетъ, но зато конь останется цѣлымъ. Къ счастью, есть еще н третій спасительный путь—налѣво: тутъ приходится пожертвовать любимымъ конькомъ. Зато сама религіозная мысль останется цѣлой.
Два первыхъ пути уже испробованы. Среднимъ путемъ поѣхалъ С. Н. Булгаковъ, который предлагаетъ нѣкоторый компромиссъ между вселенскимъ идеаломъ и старой славянофильской концепціей. Съ одной стороны, отъ его вниманія не ускользнулъ тотъ фактъ, что Достоевскій вѣрилъ не въ религіозное призваніе только, а въ „исключительную миссію1 ** русскаго народа. *) Съ другой стороны, однако, въ его собственномъ религіозномъ сознаніи противъ этой исключительности возстаетъ вселенская христіанская и іен. Чтобы выйти изъ этого затрудненія, онъ рѣшилъ пожертвовать исключительностью, смирить гордость національнаго мессіанства посредствомъ „аскетическаго урегулированія“ національнаго чувства. Но эта попытка наііти средній путъ между Сциллой и Харибдой вселенскаго христіанства и языческаго націонализма стараго славянофильства не послужила на пользу нн религіозной мысли, нн ея любимому коню. Съ одной стороны, отъ „національнаго аскетизма4* національному мессіанизму стало и холодно и голодно. Онъ похудѣлъ и поблѣднѣлъ до неузнаваемости, почти совершенно утратитъ свою физіономію. Съ другой стороны, изголодавшаяся по вселенскому христіанству религіозная мысль ие получила той новой лиши, которая могла бы ее насытить: она не достигла цѣли и не подвинулась впередъ, потому что не рѣшилась разстаться съ любимымъ конемъ.
Рѣшеніе, къ которому прпшелъ С. II. Булгаковъ, одинаково неудовлетворительно н съ точки зрѣнія послѣдовательнаго національнаго мессіанизма, п съ точки зрѣнія послѣдовательнаго христіанства. Онъ ясно видитъ, что національный мессіанизмъ легко переходить въ то, „что обыкновенно называется націонализмомъ". По его словамъ, „идея избранія слишкомъ легко вырождается въ сознаніе особой привилегированности, между тѣмъ какъ она должна родить обостренное чувство отвѣтственности н усугублять требовательность къ себѣ*4. „Національный аскетизмъ должен ь полагать границу національному мессіанизму, иначе превращающемуся вь каррнкатурный отталкивающій паціоналнзмь". 3)
Въ этихъ словами обнаруживается самая слабая точка всего построенія С. Н. Булгакова. „Ограниченныя мессіаинзмъ** есть кричащее внутреннее противорѣчіе. Одно пзъ двухъ, нлп данный пародъ есть воистину народъ-Мессія, единственный въ мірѣ народъ, призванный явнгь
1) Два грата, т. II, стр. 240.
Похаянное выраженіе С. Н. Булгакова (Два ірвда, Ц, стр. 290).
Два града, т. 11, стр. 290.
спасеніе всему міру, пли онъ не Мессія вовсе. Мессіапическое призваніе „избраннаго1* народа не можетъ быть нн ограничено, нп раздѣлено имъ съ какимъ-либо другимъ народомъ. Въ этомъ можно убѣдиться на примѣрѣ того единственнаго національнаго мессіанизма, истинность котораго съ христіанской точки зрѣнія представляется вполнѣ достовѣрною. Если бы евреи въ Ветхомъ Завѣтѣ не были единственнымъ избраннымъ народомъ, призваннымъ родить Христа, если бы Ветхій Завѣтъ вообще не былъ заключенъ Богомъ съ однимъ Израилемъ въ отличіе отъ прочихъ народовъ, Израиль не былъ бы народомъ-богоносцемъ и народомъ мѳссіапнческимъ.
Ограничивать исключительность національнаго мессіанизма значить просто-напросто уничтожать его. Въ этомъ отношеніи мессіаническая теорія С. Н. Булгакова въ высшей степени поучительна. По его толкованію „славянофильское выраженіе „русскій Христосъ** можио понимать, между прочимъ, и въ смыслѣ констатированія того факта, что разныя народности, какъ реально различныя между собою, каждая по-своему воспринимаетъ Христа и измѣняется отъ этого принятія. Бъ этомъ смыслѣ можно говорить (вполнѣ серьезно и безъ тѣни всякаго кощунства) не только о русскомъ Христѣ, но и о греческомъ, объ итальянскомъ, о германскомъ, такъ же, какъ и о національныхъ святыхъ*. х)
Это истолкованіе во всѣхъ отношеніяхъ и со всякой точки зрѣнія непріемлемо. Достоевскій, который въ самомъ дѣлѣ думалъ, что міръ долженъ быть спасенъ невѣдомымъ Западу русскимъ Христомъ, увидѣлъ бы въ призпапіи нѣмецкаго и итальянскаго Христа полное ниспроверженіе своей вѣры въ „народа-богоносца** и былъ бы правъ, потому что весь смыслъ этой вѣры въ томъ, что одпому народу русскому „даны ключи жизни н новаго слова". Съ другой сторопы, совершенно неудовлетвореннымъ остается и вселенское, христіанское сознаніе.
Идея „русскаго Христа", накъ понимаетъ ее С. Н. Булгаковъ, тѣм ь болѣе соблазнительна и опасна, что въ ней заблужденіе смѣшано сь нѣкоторою частннею истины, а потому пе сразу бросается въ глаза. Истина тутъ заключается въ констатированіи факта, что различныя народности воспринимаютъ Хрпста каждая по-своему. Заблужденіе же заключается въ возведепіи этого факта въ принципъ и норму. Это легче всего объяснить сравненіемъ. Возможно, что различные народы по-разному воспринимаютъ не только Христа, но и свѣтъ солнечный, такъ какъ не видятъ одинаково всѣхъ цвѣтовъ спектра. Напримѣръ, древніе греки называли море не голубымъ, а „фіалковымъ", вслѣдствіе чего существуетъ предположеніе что голубого луча въ солнечномъ свѣтѣ они пе впдѣлп. Возможно, что существуютъ н теперь
») Два града, т. II, стр. 298—299.
Другіе факты цвѣтной слѣпоты, различные у различныхъ народовъ. Не станемъ же мы, однако, на этомъ основаніи говорить о солнцѣ греческомъ, германскомъ или итальянскомъ и утверждать, что намъ всѣхъ ближе солнце русское. По словамъ С. Н. Булгакова, истинная религія, „будучи сверхнародна по своему содержанію, остается не безнародна по способу усвоенія". *) Совершенно вѣрно: но почему же, однако, намъ кажется страннымъ п даже смѣшнымъ говорить объ истинѣ нѣмецкой, итальянской или русской; почему это очевидное во всѣхъ другихъ случаяхъ нарушеніе единства истины вдругъ перестаетъ быть очевиднымъ, когда рѣчь идетъ о высшемъ откровеніи безусловной Истины—о Христѣ? Во всѣхъ другихъ случаяхъ для насъ на первомъ планѣ сама Истина въ ея полнотѣ. Зачѣмъ же намь во Христѣ прежде всего искать н утверждать нашу „Святую Русь", нашъ несовершенный національный уголъ зрѣнія съ его неизбѣжной ограниченностью н цвѣтной слѣпотой? И дозволительно ли эту цвѣтную слѣпоту превращать въ опредѣленіе самой истины, т.-е. въ данномъ случаѣ—самого мессіанства! Христосъ русскій, итаіьянскій в нѣмецкій вѣдь это все равно, что фіолетовое, зеленое нли голубое солнце.
По С. Н. Булгакову „способность совершенно особаго воспріятія божественной полноты, выдѣленія изъ нея особаго луча изъ божественной плеромы н есть то, что для религіознаго воззрѣнія представляется въ природѣ національности наиболѣе цѣннымъ я важнымъ". я) Тутъ-то н бросается въ глаза роковой недостатокъ всей разбираемой точки зрѣнія. Вѣдь божественная плерома объединяетъ въ себѣ всѣ лучи спектра, всю ту безконечно многообразную радугу цвѣтовъ, которая составляетъ содержаніе духовной жизни всѣхъ націоиальностей. Неужели же въ природѣ національности самымъ важнымъ и цѣннымъ представляется ея способность воспринимать одинъ только свой особый лучъ? Не значить ли это возводить въ идеалъ и норму національную ограниченность? Это несправедливо прежде всего въ отношеніи самой національности. Совершенно вѣрно, что у каждой національности есть свой „особый лучъ"; но самое важное и цѣнное въ ней не ея способность отдѣляться и замыкаться въ этой своей особенности, а ся призваніе—объединять этотъ лучъ со всѣми другими лучами въ единствѣ плеромы, ея способность видѣть нхъ всѣхъ въ единствѣ бѣлаго солнечнаго луча. Этпмъ окончательно ниспровергнутъ „національный мессіанизмъ" въ смягченной булгаковской его формѣ. Національнымъ можетъ быть лишь тогъ или другой ограниченный уголъ зрѣнія на мессіанство, но отнюдь не оно само. На случаи, если сказанпое по этому
А) Два града, т. П, стр. 208.
>) Тамь же, стр. 299.
предмету покажется недостаточно убѣдительнымъ, я позволю себѣ напомнить, что точка зрѣнія С. Н. Булгакова за много вѣковъ до него была извѣстна апостолу Павлу и вызвала съ его стороны протестъ столь же горячій, сколь и убѣдительный.
По словамъ С. Н. Булгакова, „намъ русскимъ ближе н доступнѣе именно нашъ русскій Христосъ, Христосъ преп. Серафима и прев. Сергія, нежели Христосъ Бернарда Клервосскаго или Екатерины Сіенской или даже Франциска Ассизскаго". *) Съ точки зрѣнія чисто фактической это, разумѣется, такъ же вѣрно, какъ н то, что католикамъ ближе христіанство Петрово, а протестаніимъ христіанство Павлово. По фактически намъ, можетъ быть, еще ближе христіанство Обломова. Вотъ почему, если мы попытаемся наше фактическое возвести въ пормальиое и должное,—мы встрѣтимся съ категорическимъ запретомъ апостола Павла.
Тогъ фактъ, что Истина вселенская и общенародная у сведется людьми ио-своему и что въ христіанствѣ существуютъ различные углы зрѣнія, разумѣется, не укрылся отъ его вниманія. Онъ зналъ, что есть христіанство Петрово, Павлово и Аполлосово. Но оиь съ рѣшительнымъ осужденіемъ высказался о тѣхъ, кто принимаетъ эти различные способы воспріятія истины за окраску самой истины.
„Умоляю васъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы вы всѣ говорили одно и не было между вами раздѣленія, но чтобы вы соединены были въ одномъ духѣ н вь однѣхъ мысляхъ. Ибо отъ домашнихъ Хлоішыхь сдѣлаюсь миѣ извѣстнымъ о васъ, братія мон, что между вами ость сиоры: Я разумѣю то, что у васъ говорятъ: я Павловъ, я Аполлосовъ, я Кифннъ, а я Христовъ. Развѣ раздѣлился Христосъ? Развѣ Павелъ распялся за васъ, или во имя Павла вы крестились?** (I Кор. I, 10—13).
То же отвѣчалъ бы апостолъ Павелъ н тѣмъ, кто думаетъ, что иамъ всего ближе Христосъ св. Серафима и Сергія н что это свое, особенное „близкое" въ національности съ религіозной точки зрѣнія всего цѣииѣе. Апостолъ совѣтуетъ всѣмъ христіанамъ безъ различія національностей соединиться въ однѣхъ мысляхъ о Христѣ. И въ этомъ заключается та разграшічигельиая чорта, которая отдѣляетъ истиннаго Мессію отъ ложнаго партикуляристическаго „мессіанизма".
Подлинный Христосъ соединяетъ вокругъ себя въ однѣхъ мысляхъ и въ одномъ духѣ всѣ народы. Онъ вездѣ, гдѣ собираются двое ндд трое во имя Его. Но кто же соберется во имя Христа русскаго? Онъ оттолкнетъ ие только нѣмцевъ и итальянцевъ, но даже и самихъ русскихъ. Вѣрующіе соединятся с ь невѣрующими въ живомъ противъ него протссгѣ. II это оттого, что настоящій сверхнародный Мессія н нужнѣе
Тамъ ле.
н ближе подлинному религіозному сознанію, чѣмъ ограниченное національное божество. Тогъ истинный Христосъ, въ котораго мы готовы вѣрить, поднимаетъ насъ надъ нашнми національными немощами, а не утверждаетъ насъ въ нихъ. Затменію вселенской идеи пришелъ конецъ, и національному мессіанству суждено такое же забвеніе, какъ осужденному апостоломъ Павломъ христіанству домашнихъ Хлоиныхъ.
III.
Другая попытка воскресить его принадлежитъ Н. А. Бердяеву, который рѣшительно избралъ путь направо; онъ утверждаетъ національное мессіанство во всей его чистотѣ н цѣлости, безъ всякаго компромисса съ какимв-лнбо новѣйшими теченіями. Тутъ „конь“ остается цѣлымъ, но зато гибнетъ всадникъ; для религіозной мысли этотъ путь— самый опасный, потому что здѣсь она неизбѣжно утрачиваетъ свое вселенское содержаніе.
У II. А. Бердяева этотъ антагонизмъ между національно-мессіанскимъ и вселенскимъ сказывается въ формѣ чрезвычайно яркой и опредѣленной. Я уже отмѣтилъ, что въ мессіанизмѣ въ противоположность мисеіоннзму онъ видитъ исключительное призваніе одного избраннаго народа—народа Божьяго—въ отличіе отъ прочихъ. Объ этомъ онъ говоритъ буквально такъ:
„Данный народъ—избранный народъ Божій, въ немъ Живетъ Мессія. Всякій мессіанизмъ коренится въ мессіанизмѣ древне-еврейскомъ. Такъ, польскіе мессіаинсты вѣрили, что польскій народъ есть Христосъ среди народовъ, что гибель Польши была распятіемъ Мессіи, что это—народъ избранный н исключительный, призванный быть провозвѣстникомъ новой христіанской эпохи *)
Н. А. Бердяевъ совершенно не замѣчаетъ, что въ этихъ словахъ его заключается злѣйшая критика на его собственную точку зрѣнія. Если русскій національный мессіанизмъ „коренится въ мессіанизмѣ древне-еврейскомъ то ясно, что онъ представляетъ собою возвращеніе къ тому ветхозавѣтному образу мыслей, который въ Новомъ Завѣтѣ не можетъ имѣть оправданія н примѣненія. Основное отличіе Новаго Завѣта отъ Ветхаго именно въ томъ и заключается, что послѣдній есть національный, тогда какъ первый—универсальный, общенародный. Мессіанизмъ есть именно утвержденіе особаго завѣта между Богомъ и какимъ-нибудь опредѣленнымъ избраннымъ народомъ Божіимъ. Какія же основанія есть у Н. А. Бердяева утверждать такой завѣтъ между Богомъ н Россіей?
*) А. С. Хомяковъ, стр. 209.
Отъ эмпирическаго обоснованія своей вѣры въ „парода-богоносца" онъ отказывается, н въ этомъ онъ, разумѣется, совершенно правъ: фактами вообще невозможно нп обосновать, нн опровергнуть религіозную вѣру, тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ, когда вслѣдствіе великаго множества фактовъ отрицательныхъ вѣра въ „народъ-Мсссію", по признанію ен собственныхъ сторонниковъ, подвергается „огненному испытанію".
Вмѣсто того Н. А. Бердяевъ мечтаетъ объ обоснованіи мистическомъ. По его слонамъ, „духъ парода воспринимается лишь мистической и художественной интуиціей. А религіозное призваніе его зависитъ отъ пророчествъ". *) „Нельзя обосновать никакого мессіанизма на вѣрѣ, какъ на историческомъ н этнографическомъ фактѣ, т.-е. па вѣрѣ, какъ объектѣ историческаго познанія; мессіанизмъ можно обосновать лишь на вѣрѣ, какъ фактѣ внутренняго огкровенія и прозрѣнія, на вѣрѣ, какъ субъектѣ познанія".®)
II. А. Бердяевъ относится съ чрезмѣрнымъ довѣріемъ къ внутреннему откровенію нлп мистической интуиціи. Судя по его „Философіи свободы", онъ склоненъ даже считать интуицію неподсудною диску реявному мышленію. Опасность такой точки врѣнія уже давно указана въ извѣстномъ сказаніи о святомъ, которому явился бѣсъ во образѣ ангела свѣта. Угодникъ не разсмотрѣлъ, что у нею пѣтушиныя нош, и поклонился ему; а бѣсъ подхватилъ его и сталъ кружить въ пляскѣ. Изъ сего слѣдуетъ, что, прежде, нежели довѣряться „интуиціи 4, надо тщательно разсмотрѣть, на какихъ йогахъ она держится. Въ том ь же направленіи предостерегаетъ другой, уже совсѣмъ не легендарный источникъ, который долженъ былъ бы обладать безусловной достовѣрностью для Н. А. Бердяева. Апостолъ Іоаннъ говоритъ: „возлюбленные, не всякому духу вѣрьте, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли они: потому что много лжепророковъ появилось вь мірѣ" (I посл., IX, 1). Апостолъ тутъ же хаетъ дискурсивной мысли критерій для испытанія духовъ н пророчествъ: отъ Бога—только тоть духъ, который нс-повѣ хуеть Христа, пришедшаго во плоти; всякій же другой духъ—не отъ Бога, а отъ антихриста" (I, Іоаппа, IV, 2, 3).
Испытывая съ этой точки зрѣнія „внутреннее прозрѣніе" II. А. Бердяева, приходится убѣдиться въ полномъ его противорѣчіи съ объективнымъ явленіемъ Христа, пришедшаго во плоти. Въ объективномъ откровеніи не только нѣтъ какихъ-либо слѣдовъ русской точкп зрѣнія, но она прямо пскіючается н духомъ и буквой Евангелія. Рѣшительно умалчивая о какомъ-либо исключительномъ отношеніи Христа съ какимъ-либо однимъ народомъ, оно ясно н категорически говоритъ объ общемъ призваніи ихъ всѣхъ.
1) А. С. Холя ковъ, стр. 178.
1) Тамъ же, стр. 151.
„Итакъ, идите, научите всѣ нароты, крестя нхъ во имя Отца, Сына н Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все то, что Я повелѣлъ вамъ* (Матѳ., ХХѴПІ, 19, 20).
Вотъ почему на почвѣ Новаго Завѣта такъ яспо обнаруживается несостоятельность взаимно другъ друга уничтожающихъ мессіапиче-скихъ притязаній различныхъ народовъ, все равно русскихъ, польскихъ или португальскихъ, о которыхъ было недавно сообщено въ одной изъ нашихъ газетъ.
Съ точки зрЬнія чнсто-человѣческой вполнѣ понятно н естественно это притязаніе, чтобы свое родное, домашнее или народное заняло первое мѣсто въ Богѣ н.ти послѣ Бога. Въ осповѣ всякаго національнаго мессіанства лежитъ одна н та же до сихъ норъ неумирающая и всегда одинаково неосновательная претензія матери сыповъ Заведеевыхъ. Христосъ говоритъ ученикамъ о смерти своей и воскресеніи. А она спѣшитъ прицѣпить къ вѣчнымъ обѣтованіямъ свое земное, материнское, языческое пожеланіе. „Скажи, чтобы сін два сына мои сѣли у Тебя одинъ по правую сторону, а другой по лѣвую въ царствѣ Твоемъ “ (XX, 21). Въ общемъ нашъ національный мессіанизмъ выражаетъ собою довольно близкое къ этому пожеланіе, чтобы наша мать Россія сидѣла въ Царствіи Божіемъ по правую руку Спасителя. Существо дѣла, разумѣется, не мѣняется отъ того, для сыновъ или для матери мы домогаемся этой чести. Отвѣтъ Спасителя остается все тотъ же.
„Князья народовъ господствуютъ надъ пимн и вельможи властвуютъ ими. Но между вами да не будетъ такъ, а кто хочетъ между вамн бытъ первымъ, да будетъ вамъ рабомъ* (Мате. XX, 25—27).
Гдѣ есть истинный Мессія, тамъ, стало быть, нѣтъ мѣста спорамъ о первенствѣ ни между людьми, нн между народами. Каждый народъ, какъ н каждый человѣкъ, долженъ думать лишь о своихъ обязанностяхъ и о своемъ служеніи, а не о свонхъ преимуществахъ передъ другими народами. Тѣмъ самымъ, вопреки И. А. Бердяеву, оправданъ не мессіанизмъ, а миссіонизмъ по отношенію къ націямъ. У каждаго народа свое служеніе, свое призваніе и своя миссія въ Царствѣ Божіемъ. Иного рѣшенія не можетъ быть съ точки зрѣнія религія универсальной, которая стоить на томъ, что въ домѣ Отца Небеснаго обителей много.
Если Н. А. Бердяеву кажется, что именно мессіанское національное сознаніе есть сознаніе вселенское и религіозное, „проникнутое вѣрою въ Мессію* (щгг. соч. 210), это именно н значить, что онъ не разглядѣлъ дерзновеннаго обмана переряженнаго языческаго націонализма. Опасность велика; націонализмъ этотъ уже не разъ кружилъ русскія головы обманчивой личиной правды; н дѣло всегда кончалось бѣсовскимъ танцемъ.
У Н. А. Бердяева до этого еще не дошло, но уже п у него замѣ
чаются зловѣщіе признаки головокруженія. вызваннаго нтціопэльпоП гордостью. Такъ, напрпмѣръ, онъ думаетъ, что одни русскіе взыскуютъ Небеснаго Іерусалима, сходящаго на землю. Этимъ, будто бы, „русскіе радикально отличаются отъ людей Запада, прекрасно устроившихся п довольныхъ, градъ свой имѣющихъ" (цит. соч- 245—246). Въ сущности вѣдь это значить утверждать, что религіозность вообще есть исключительно русская черта, ибо что же вообще такое религіозность внѣ „исканія града"? Въ своемъ патріопгческомъ ослѣпленіи Н. А. Бердяевъ не замѣчаетъ здѣсь ни блаженнаго Августина, ни Франциска Ассизскаго, ни Жанны д'Аркъ, ви нѣмецкой мистики, нн всего того, что составляетъ религіозную идею п религіозною жизнь Запада. ')
Но еще опаснѣе этого — ослѣпленіе иа собственный нашъ счетъ, возвеличеніе нашихъ національныхъ качествъ, притомъ но только добродѣтелей, по н самыхъ недостатковъ. Такъ, напримѣръ, II. А. Бердяевъ замѣчаетъ внутреннія противорѣчія славянофильскаго мессіанизма, но онъ вмѣняетъ ому эти противорѣчія въ заслугу, возводитъ двойственность въ принципъ.
По его словамъ, „въ стихотвореніяхъ Хомякова отражается двойственность славянофильскаго мессіанизма: русскій народъ—см проиный, п этотъ смиренный народъ созпаетъ себя первымъ, единственнымъ въ мірѣ. Славянофильское сознаніе бичуетъ грѣхи Россіи, н око жо вовотъ Россію къ выполнопію дерзновенной, гордой задачи. Россія должна повѣдать міру таинство свободы, невѣдомое народамъ западнымъ. Смиренное покаяніе въ грѣхахъ, самоуничиженіе, національное смиреніе чередуются у Хомякова съ ..громъ побѣды раздавайся". Хомяковъ хочетъ увѣрить, что русскій пародъ—не воинственный, но самъ онъ, типичный русскій человѣкъ, былъ полокъ воинственнаго духа, н это было плѣнительно въ немъ. Онъ отвергалъ соблазнъ имперіализма, но въ то же время хотѣлъ господства Россіи не только надъ славянствомъ, но и надъ міромъ" (стр. 220;.
Казалось бы, отсюда слѣдуетъ только одинъ возможный выводъ: христіанство не терпитъ такпхъ противорѣчій, оно не совмѣстимо съ этой гордостью, которая возводитъ что-либо относительное, все равно національное или личное, въ безусловное. Не такъ, однако, разсуждаетъ II. А. Бердяевъ.
По его мнѣнію, „эта антиномнчность мессіанскаго сознанія неизбѣжна, это сознаніе противорѣчиво по существу п противорѣчивость эта не есть отрицаніе правды его. Нельзя раціоналистически преодолѣть противорѣчія славянофильскаго сознанія,—нужно принять н изжить ихъ. Самый
’) Это тѣмъ болѣе стравпо, что въ другихъ мѣстахъ тоіі же книги о Хомяковѣ овъ возстаете» противъ чревмѣрной узости славянофильскаго ваціонаднзѵа.
смпрпнпыЙ народъ—самый горіый народъ. Съ этимъ ничего не подѣлаешь. Съ мессіанскимъ сознаніемъ не мирится лишь (?) самодовольство и поклоненіе голому факту" (стр. 220).
Бъ виду частыхъ за послѣднее время злоупотребленій понятіемъ „антиномизма" не лишнпмъ будетъ вспомнить, что полъ „антиноміей* принято разумѣть н€обходи.чое противорѣчіе, съ которымъ неизбѣжно сталкивается мысль яри изслѣдованія того нлн другого философскаго вопроса. Съ этой точки зрѣнія приходится убѣдиться въ отсутствіи чего-либо похожаго на „антиномію" тамъ, гдѣ видитъ ее Н. А. Бердяевъ. Если тотъ или другой народъ смиряется передъ Богомъ н вмѣстѣ гордится высокимъ призваніемъ, которое онъ дѣйствительно имѣетъ, то тутъ нѣтъ не только антиноміи, но даже и противорѣчія, потому что „гордостью" въ даяпомъ случаѣ называется не отсутствіе смиренія, а просто признаніе за собою извѣстнаго достоинства, чт& вполнѣ совмѣстимо со смиреніемъ. Человѣкъ можетъ признавать за собою царственное достоинство по отношенію къ низшей природѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ смиряться передъ высшимъ Божественнымъ міромъ; тутъ смиренье и гордость даже но сталкиваются между собою н но противорѣчатъ другъ другу, потому что относятся къ разнымъ сферамъ бытія. Наоборотъ, въ національномъ мессіанствѣ Н. А. Бердяева есть несомнѣнное противорѣчіе; но оно не заключаетъ въ себѣ антиноміи, потому что представляетъ собою простую и легко устранимую ошибку. Тутъ „народъ-богоносецъ" въ одно н то же время самый смиренный, потому что онъ смиряется передъ Мессіей какъ высшимъ, и самый гордый, потому что онъ самъ мнитъ себя народомъ-Мессіей, стираетъ ту самую грань между низшимъ и высшимъ, во имя которой должно смиряться. Тутъ мы имѣемъ дѣйствительно несовмѣстимое со смиреніемъ самопревознесеніо. Народъ, „смиренно мнящій себя Мессіей" и въ качествѣ такового гордящійся своимъ преимуществомъ передъ другими народами, просто-напросто смѣшиваетъ въ своемъ лицѣ черты Христа и Вельзевула. Нужна большая степень ослѣпленія, чтобы не видѣть здѣсь пѣтушиныя ноги у ангела и принимать нхъ за антиномію.
Понятно, что наша эпоха пробужденія и подъема религіознаго сознанія является вмѣстѣ съ тѣмъ н критическимъ періодомъ религіозныхъ искушеній и неслыханныхъ доселѣ соблазновъ. Враждебныя религіи силы дѣлаютъ все возможное, чтобы для себя использовать новые источники воодушевленія, навести туманъ иа мысль, овладѣть воображеніемъ и обманутъ религіозное исканіе. Чтобы не стать жертвой обмана, когда грубаго, а когда н тонкаго, нужно удвоить бдительность н съ величайшей критической осторожностью относиться ко всякимъ религіознымъ ученіямъ. Въ нвше время объявилось много истолкованій вѣры, которыя, при глубокихъ принципіальныхъ различіяхъ въ другихъ
отношеніяхъ, сходятся въ общемъ стремленіи локализировать Хряста— подставить на мѣсто универсальнаго Его явленія что-либо мѣстное, ограниченное. Одни утверждаютъ, что „Онъ—здѣсь въ потаенныхъ комнатахъ*, ведетъ таинственныя бесѣды съ кружками посвященныхъ. Другіе возражаютъ, нѣтъ Онъ тамъ—въ Ясной Полянѣ; третьи отождествляютъ Его царство съ революціей; онп полагаютъ, что Онъ въ лѣвыхъ партіяхъ и срываетъ аплодисменты на многолюдныхъ собраніяхъ интеллигентовъ. Наконецъ, четвертые заявляютъ: нѣтъ, Онъ странствуетъ по всему простору земли русской, дружитъ съ бунтарями, но въ общемъ смахиваетъ на „дядю Власа*.
Евангеліе, какъ извѣстно, рекомендуетъ не вѣритъ всѣмъ этимъ заявленіямъ, что Христосъ „вотъ здѣсь илн вотъ тамъ", н ждать того всемірнаго явленія Сына Божія, которое какъ молнія прорѣжетъ небо нзъ края въ край.
Бъ ожиданіи этого явленія намъ надлежитъ отказаться ото всего, что ограничиваетъ н суживаетъ общенародное мессіанство, въ томъ числѣ н отъ мессіанизма національнаго.
IV".
Тутъ передъ намп открывается единственно спасительный путь налѣво. Конь стараго славянофнльстиа долженъ быть отданъ на съѣденіе критикѣ; но его гибель окажется спасительной для всадника. Пожертвовавъ этимъ земнымъ пристрастіемъ, онъ пе только останется цѣлъ, но отдѣлится отъ земли, поднимется выше лѣсу стоячаго и найдетъ дорогу въ жаръ-птицѣ.
Здѣсь религіозной мысли не приходится изобрѣтать чего-либо новаго. Тотъ волшебный путь, который предстоитъ пройти нашему Ивану Царевичу, есть на самомъ дѣлѣ давно проторенная н большая дорога, которая много превосходить древностью не только славянофильство, но и самую Россію. Она предуказана Спасителемъ, пройдена Его учениками и съ изумительной яркостью изображена „апостоломъ языковъ*. У иего мы найдемъ христіанское ученіе о національности замѣчательно стройное, цѣлостное н выраженное съ исчерпывающей полнотой.
Послѣднія слова Спасителя, обращенныя къ апостоламъ, ясно н вразумительно свидѣтельствуютъ о томъ, гдѣ послѣ вознесенія Христова надлежитъ искать истиннаго Мессію. Слова „и се Азъ съ вамн до скончанія вѣка* (Матѳ., XX ѴШ, 20) непосредственно связываются съ предписаніемъ учитъ и креститъ всѣ народы н прямо дополняетъ его. Ясно что Мессія п мессіанство пребываетъ „до скончанія вѣка*—не въ особомъ національномъ способѣ усвоенія Истины, а во всенародномъ ученіи п крещеніи. Здѣсь же въ этомъ единеніи всѣхъ языковъ во Христѣ,
а не въ выдѣленіи „особаго луча“ изъ божественной плеромы раскрывается положительный смыслъ и цѣнность каждой національности.
Самое существованіе національнаго мессіанизма возможно .тишь благодаря забвенію Пятидесятницы. Она не имѣла бы мѣста, если бы апостолы чрезъ сошествіе Св. Духа не отрѣшились отъ особой близости къ національному еврейскому мессіанству. Апостоламъ подлиннаго мессіанства на землѣ были одинаково близки всѣ народы; и оттого-то ихъ высшее религіозное вдохновеніе заговорило всѣмн языками въ мірѣ. Два великихъ чуда совершились въ Пятидесятницѣ: во-первыхъ, опа собрала всѣ народы земли во единомъ исповѣданіи; во-вторыхъ, опа утвердила положительное призваніе каждаго народа черезъ упраздненіе естественныхъ границъ между національностями. Основное отличіе между національностями—языкъ—тутъ не только не упраздпплся, по получилъ высшее утвержденіе и освященіе. Каждый пародъ нашелъ въ этомъ откровеніи всенароднаго Мессіи свой особый огненный языкъ. По въ Пятидесятницѣ эти особые языки перестали быть границами для всенароднаго общенія. Для продолжателей и преемниковъ Мессіи всѣ языки земли стали одинаково прозрачны и понятны. „Бъ Іерусалимѣ же находились іудеи, люди набожные, изъ всякаго народа подъ небесами. Когда сдѣлался этотъ шумъ, собрался пародъ и пришелъ въ смятеніе, ибо каждый слышалъ ихъ говорящихъ его нарѣчіемъ. И всѣ изумлялись и дпвилпсь, говоря межіу собою: сіп говорящіе не всѣ ли Гатнлеяпе? Какъ же мы слышимъ каждый собственное нарѣчіе, въ которомъ родились “ (Дѣян. II, 5—8). Тѣ, кто утверждаетъ, что языкп должны не соединять людей во Христѣ, а раздѣлять Христа на множество отдѣльныхъ явленій по національностямъ, явно замѣняютъ Пятидесятницу вавилонскимъ столпотвореніемъ.
Бъ основѣ этого заблужденія лежитъ смѣшеніе ѳстостиенныхъ особенностей каждаго народа съ его мистической идеей, языка природнаго н языка огненнаго. Природный языкъ каждаго парода отдѣляетъ и разлучаетъ его отъ прочихъ. Напротивъ, его огненный языкъ не знаетъ національныхъ преградъ; всѣмъ людямъ близкій и понятный, онъ обращается ко всѣмъ народамъ н всѣмъ сообщаетъ высшіе духовные дары. Не всѣмъ дано говорить этимъ пророческимъ языкомъ народнаго генія, а только высшимъ его представителямъ н носителямъ — величайшимъ проповѣдникамъ, -творцамъ искусства и мыслителямъ, конхъ вѣчная мудрость избрала свонми глашатаями. Но какъ бы пи бы іи малочисленны эти избранники Божіи, ихъ огненный языкъ, а не хаотическое людское просторѣчіе, выражаетъ смыслъ народной жизни. Не въ обособленіи, а въ объединеніи всѣхъ звучитъ подлинный мистическій языкъ каждой отдѣльной народности.
Совершенно вѣрно, что всенародное не есть безнародное: въ мес-книга ш, 1912 г. 7
еіапствѣ парпіностп не упраздняются, а объединяются между собою; но это именно и значитъ, что среди народовъ оно выражаетъ собою начато объединяющее, а не обособляющее, всеединство, наполняющее нхъ жизнью общей. Именно такъ изображаетъ апостолъ Павелъ нормальное, должное отношеніе народовъ ко Христу. Человѣчество представляется ому въ видѣ единаго дерева, въ коемъ корень—Христосъ, а отдѣльныя народности—вѣтвн. И съ этой точки зрѣнія онъ предостерегаетъ народы противъ увлеченія ложнымъ мессіанизмомъ. Единственный въ мірѣ избравши», мессіаннческій народъ отпалъ отъ Бога; значить ли это, что въ Новомъ Завѣтѣ какой-лпбо другой народъ вмѣсто Израиля долженъ стать избраннымъ народомъ Божіимъ? На этотъ вопросъ апостолъ языковъ отвѣчаетъ категорическимъ отрицаніемъ.—„Если начатокъ святъ, то и вѣтви. Если же нѣкоторыя изъ вѣтвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на мѣсто ихъ н сталъ общникомъ корня и сока маслины, то не превозноспсь предъ вѣтвями. Если же превозносишься, то вспомни, что ие ты корень держпшь, но корень—тебя. Скажешь: вѣтвп отломились, чтобы мнѣ привиться. Хорошо, онѣ отломились невѣріемъ, а ты держишься вѣрою: не гордись, но бойся. Но если Богъ не пощадилъ природныхъ вѣтвей, то смотри, пощадить ли и тебя* (Рпмл. XI, 16—21).
Съ точки зрѣнія этого органическаго пониманія взаимныхъ отношеній мессіанскаго и народнаго ясно обнаруживается ложь всяческаго національнаго мессіапнзма. Точка зрѣнія Достоевскаго изобличается въ томъ, что она принимаетъ вѣгвь за дерево; а смягченный мессіанизмъ, утверждающій особую къ намъ близость русскаго Христа, превращается въ явно фантастическое сужденіе, будто во всенародномъ древѣ жизни отдѣльная вѣтвь намъ больше корпя.
V.
Въ дополненіе ко всему сказанному объ отношеніи нашего національнаго мессіанизма къ сознанію религіозному, христіанскому остается указать на тотъ вредъ, который опъ приноситъ самосознанію національному. Бъ иемъ мы находимъ основной недостатокъ всякой ложной идеализаціи: возводи наше относительное земное, человѣческое въ безусловное и безотпосите іьное, онъ тѣмъ самымъ погрѣшаетъ н противъ Безусловнаго н противъ относительнаго- Въ идеѣ „русскаго Христа* въ одинаковой мѣрЬ извращается и образъ Христовъ и русская національная идея. Быть можетъ, именно благодаря этому искаженію мы до енхъ поръ о ней такъ мало знаемъ. Увлеченіе Россіей воображаемой помѣшало намъ разсмотрѣть какъ слѣдуетъ Россію дѣйствительную и, что еще хуже, русскую національную цдею; духовный обликъ Россіи хронически заслонялся фантастической грезой „народа-богоиосца*.
Сказалось это какъ разъ въ наиболѣе крупныхъ явленіяхъ нашей религіозной мысли, у славянофиловъ, у Достоевскаго, у Соловьева. Славянофилы видѣли основное опредѣленіе русскаго народнаго духа въ томъ, что народъ русскій—народъ православный. Но удалось ли имъ выяснить специфическія особенности православія, тѣ положительныя черты, которыя дѣлаютъ его цѣннымъ? Нѣтъ, п причина этой неудачи заключается все въ томъ же первородномъ грѣхѣ, въ роковомъ смѣшеніи русскаго, православнаго н вселенскаго.
Для Хомякова невозможна самая постановка вопроса о специфическихъ особенностяхъ восточнаго православнаго христіанства, потому что, вопреки апостолу, оно для него—не вѣтвь, а цѣлое дерево. Онъ не можетъ признать православія особымъ, специфическимъ явленіемъ сродп христіанства, потому что онъ отождествляетъ его съ самимъ христіанствомъ. Православное или вселенское христіанство для него—одно н то же. Поэтому онъ опредѣляетъ православіе такнмп общими портами, которыя составляютъ снойство христіанскаго церковнаго идеала вообще. Говоря словами II. А. Бердяева, у него „вся святыня вселенской церкви Христовой—свобода, любонь, органичность, единство,—все заключено лишь въ восточномъ православіи, въ западномъ же католичествѣ ничего этого нѣть, есть одни лишь уклоны и грѣхи человѣческіе*. *)
Соловьевъ справедливо возсталъ противъ этой вѣроисповѣдной узо ста. Но далъ ли онъ сколько-нибудь удовлетворительное рѣшеніе вопроса о религіозномъ значеніи православія н о религіозной задачѣ Россіи? Все что онъ говорилъ по этому предмету въ первый и средній періоты своего творчества глубоко неудовлетворительно. И причина тому — всо то же увлечете національнымъ мессіанствомъ, хотя выразилось опо у Соловьева въ совершенно иной формѣ, чѣмъ у Хомякова. Хомяковъ пс понялъ мѣстнаго, особенною въ православіи, потому что отождествлялъ его съ вселенскимъ. Наоборотъ, Соловьевъ отнесся къ зтимъ мѣстнымъ особенностямъ безъ должнаго вниманія, пренебрегая нми, именно потому, что для него онѣ были мѣстныя. Вниманіе его было поглощено мечтою объ универсальномъ мессіанизмѣ Россіи. Онъ отождествлялъ русскую національную идею съ воплощеніемъ самого христіанства въ жпзни человѣчества, съ осуществленіемъ нв землѣ Царства Божія во образѣ вселенской теократіп. Но именно потому, что Россія была для него только народъ Божій, народъ мессіанскій, онъ отрицалъ всякія индивидуальныя, особенныя черты въ русскомъ народномъ характерѣ. Индивидуальное, особенное у него потонуло въ абсолютномъ, универсальномъ.
А въ результатѣ, когда рухнула фантастическая постройка вселенской теократіи, отъ солоньевскпхт. характеристикъ „русской національ-
I) Цит. соя., стр.
пой идеи* ничего не осталось. Мы и до сихъ поръ чрезвычайно мало знаомъ о томъ, что она такое. Насъ слишкомъ долго держали въ убѣжденіи, что русскій человѣкъ — не просто человѣкъ съ опредѣленными конкретны мн чертами расы и народности, а „всечеловѣкъ объемлющій черты всѣхъ національностей, что неизбѣжно ведетъ къ утратѣ собственной національной физіономіи. Мы привыкли видѣть въ Россіи цѣлый міръ, н начинаемъ уже поговаривать о томъ, что нѣтъ въ ией ничего мѣстнаго, ибо она по западъ н не востокъ, а „Востокозападъ-. Памъ тщательно внушали мысль, что Россія—плн народъ-Мессія, или ничто, что вселенское и истинно русское одно и то же. Когда же рушится эта дерзновенная мечта, мы обыкновенно сразу впадаемъ въ преувеличенное разочарованіе. Присущій пашему національному характеру максимализмъ заставляетъ насъ во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ ставить дилемму—„или все, или ничего Вотъ почему отъ чрезмѣрности возвеличенія мы такъ легко переходимъ къ чрезмѣрности отчаянія. Или Россія—народъ-богоносецъ, или она—ничтожнѣйшій народъ, а можетъ быть, даже и вовсе не народъ, а безсмысленный механическій конгломератъ, колоссъ на глиняныхъ йогахъ, который скоро рухнетъ отъ внѣшняго удара.я)
Отъ этого разочарованія у насъ—только одно спасете—но поддаваться крайнему и ложному очарованію. Какъ только мы убѣдимся, что Россія не тожественна съ домомъ Отца Небеснаго ни въ дѣйствительности, ни въ идеѣ, мы поймемъ всю неумѣстность нашего отчаянія. Россія не осуществила вселенскаго христіанства не потому, что ”она—ничтожный, презрѣнный народъ нли „конгломератъ*, а потому, что въ великомъ и обширномъ домѣ Отчемъ ой суждено запять лишь одну изъ обителей.
Русское—не тожественно съ христіанскимъ, а представляетъ собою чрезвычаііпо цѣнную національную н индивидуальную особенность среди христіанства, которая несомнѣнно имѣетъ универсальное, вселенское значеніе. Отрѣшившись отъ ложнаго антихристіанскаго мессіанизма, мы неизбѣжно будемъ приведены къ болѣе христіанскому рѣшенію національнаго вопроса. Мы увидимъ въ Россіи не единственный избранный народъ, а одинъ изъ народовъ, который совмѣстно съ другими призванъ дѣлать великое дѣло Божіе, восполняя свон цѣнныя особенности столь же цѣпными качествами всѣхъ другихъ пародовъ-братьевъ.
Отрѣшеніе отъ національнаго мессіанства для насъ необходимое условіе прозрѣнія въ наше дѣЙстиительное религіозное призваніе. Наглядное доказательство тому—послѣдній періодъ творчества Соловьева. Именно благотаря крушенію его горделивой мечты о третьемъ Римѣ у него открылись глаза на индивидуальное, специфическое и вмѣстѣ безконечно дорогое въ православной и русской религіозности. Въ пророческомъ вп-
Любвмое сравненіе Соловьева въ минуты отчаянія и гнѣва.
Дѣнін „Трехъ разговоровъ" онъ угадалъ духовный обликъ Россіи; въ краткомъ, вскользь брошенномъ намекѣ онъ высказалъ о ней больше, чѣмъ въ многочисленныхъ сочиненіяхъ предыдущей эпохи. Въ яркомъ художественномъ образѣ онъ раскрылъ то, чего раньше никакъ не могли схватить ни его, ни чьи-либо другія теоріи.
Въ „Трехъ разговорахъ" нѣтъ и слѣда „народа-богоносца", а есть вмѣсто того три вѣтви единаго христіанскаго ствола, которыя необходимо восполняютъ другъ друга, въ равной мѣрѣ подготовляя пришествіе истиннаго Мессіи. Есть христіанство Петрово, или римское, христіанство Павлово, или протеста итство, и христга/нство Іоанново — православное и русское. Русскій народъ, олицетворяемый старцемъ Іоанномъ тутъ—не въ большей мѣрѣ народъ ыессіаинческій, чѣмъ Италія, родившая кардинала Симоне Баржоншш, и Германія, давшая міру профессора Паули. Оставлена дерзостная мысль о томъ, что великій сиптез ь вселенскаго христіанства будетъ дѣломъ одной Россіи. Этотъ синтезъ въ „Трехъ разговорахъ" осуществляется не какимъ-либо народомъ, а всѣми народами во Христѣ, сходящемъ съ неба на землю. А Россіи принадлежитъ болѣе скромная роль: она осуществляетъ па землѣ не объединеніе всею христіанскаго міра, а только одну необходимую особенность среди христіанства. Это—то мистическое христіанство, которое олицетворяется образомъ неумирающаго апостола Іоанна—христіанство апокалиптическихъ откровеній съ его прозрѣніемъ нъ тайну воплощеннаго Слова, въ тайну человѣка обиженнаго во Христѣ и потому уже не могущаго умереть. Соловьевъ по прежнему думаетъ, что церковь восточная, въ отлпчіе отъ западной, есть церковь преданія; но теперь только онъ видитъ—въ чемъ жизнь этого преданія, въ чемъ заключается то неумирающее, вѣчное слово, которое должна сказать міру православная Россія. 11 какъ просто, естественно и гармонично сочетается мистическій .образъ апостола Іоанна съ живой ярко народной фигурой русскаго старца Іоанпа—епископа, живущаго на покоѣ!
Въ этомъ старцѣ Россія находитъ свой подлинный огненный языкъ, который безстрашно разоблачаетъ тайну беззаконія, исиытуя антихриста по способу апостола Іоанна — чрезъ исповѣданіе воплощеннаго Слова. И тутъ же въ пророческомъ предвидѣніи философа возрождается чудо Пятидесятницы. Огненные языки не раздѣляютъ народы, а объединяютъ ихъ. Христіанство Петрово, Іоанново и Павлово объединяются въ общемъ исповѣданіи.
Тутъ есть, какъ и въ Пятидесятницѣ, утвержденіе національныхъ особенностей и вмѣстѣ съ тѣмъ преодолѣніе національныхъ границъ, потому что каждая особенность, какъ національная, такъ и вѣроисповѣдная, даетъ свой необходимый вкладъ въ общее христіанское дѣло. Въ христіанствѣ одинаково необходимы н нужны и „свѣтъ съ Востока",
мисшческое прозрѣніе въ тайпы послѣдняго, запредѣльнаго откровенія, и волевая, человѣческая, римская энергія, и духъ свободнаго изслѣдованія протестантской Германіи.
Таково предсмертное откровеніе величайшаго представителя русской религіозной мысли. Онъ намѣтилъ топ» путь, которымъ нужно идти, чтобы проникнуть въ сущность русской религіозной пдеи. Первый шагъ въ этомъ направленіи долженъ заключаться въ отреченіи отъ русскаго національнаго мессіанизма. Тогда только живыя черты нашей національной физіономіи перестанутъ растворяться въ Абсолютномъ, н мы обрѣтемъ пашу подлинную народную душу. Одинъ н тоть же законъ дѣйствуетъ и въ жизни отдѣльныхъ людей, н въ жизни народовъ. Чтобы сохранить свою душу, народъ долженъ не возлюбить, а возненавидѣть ее въ мірѣ семъ.
Кн. Евгеній Трубецкой.