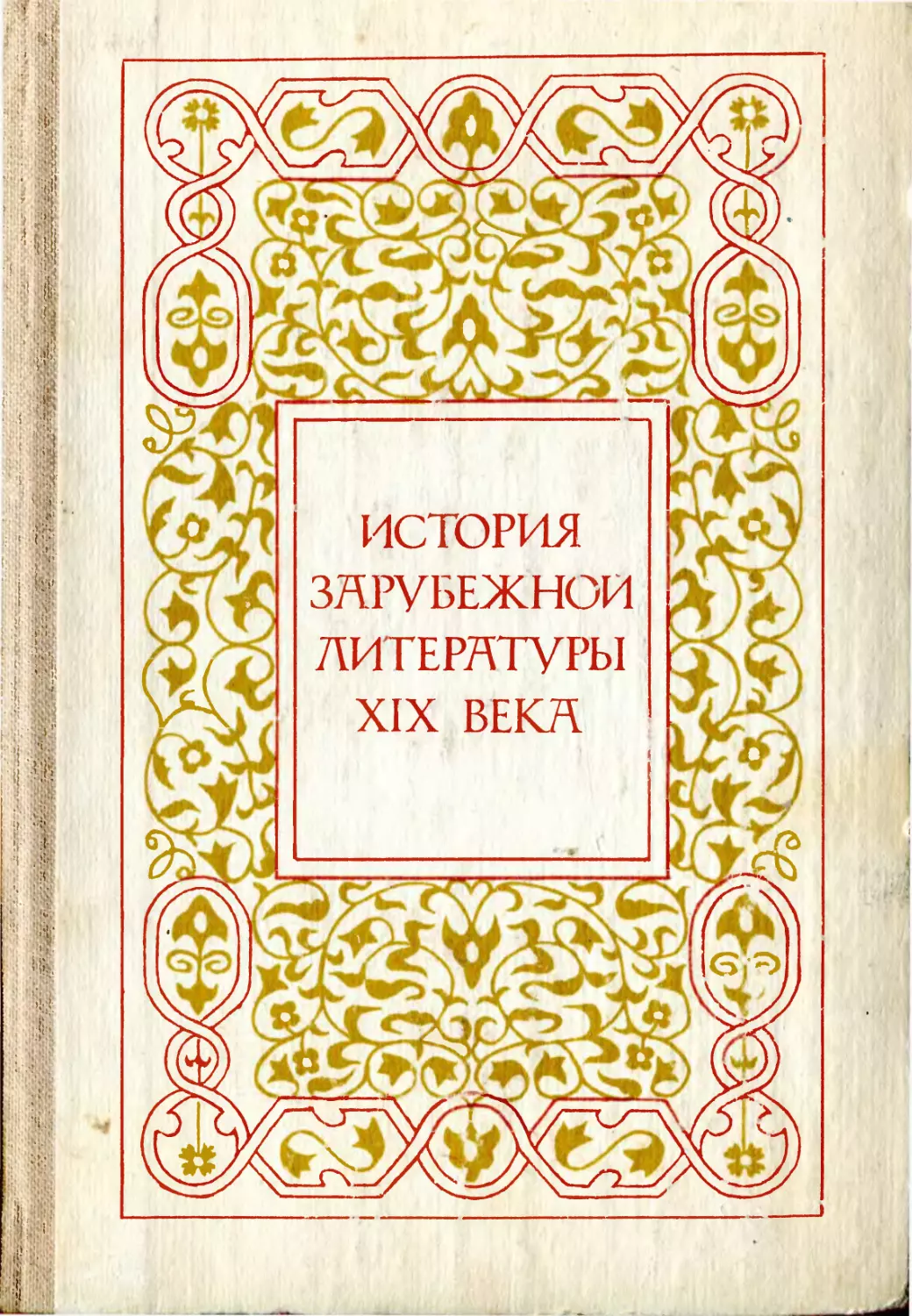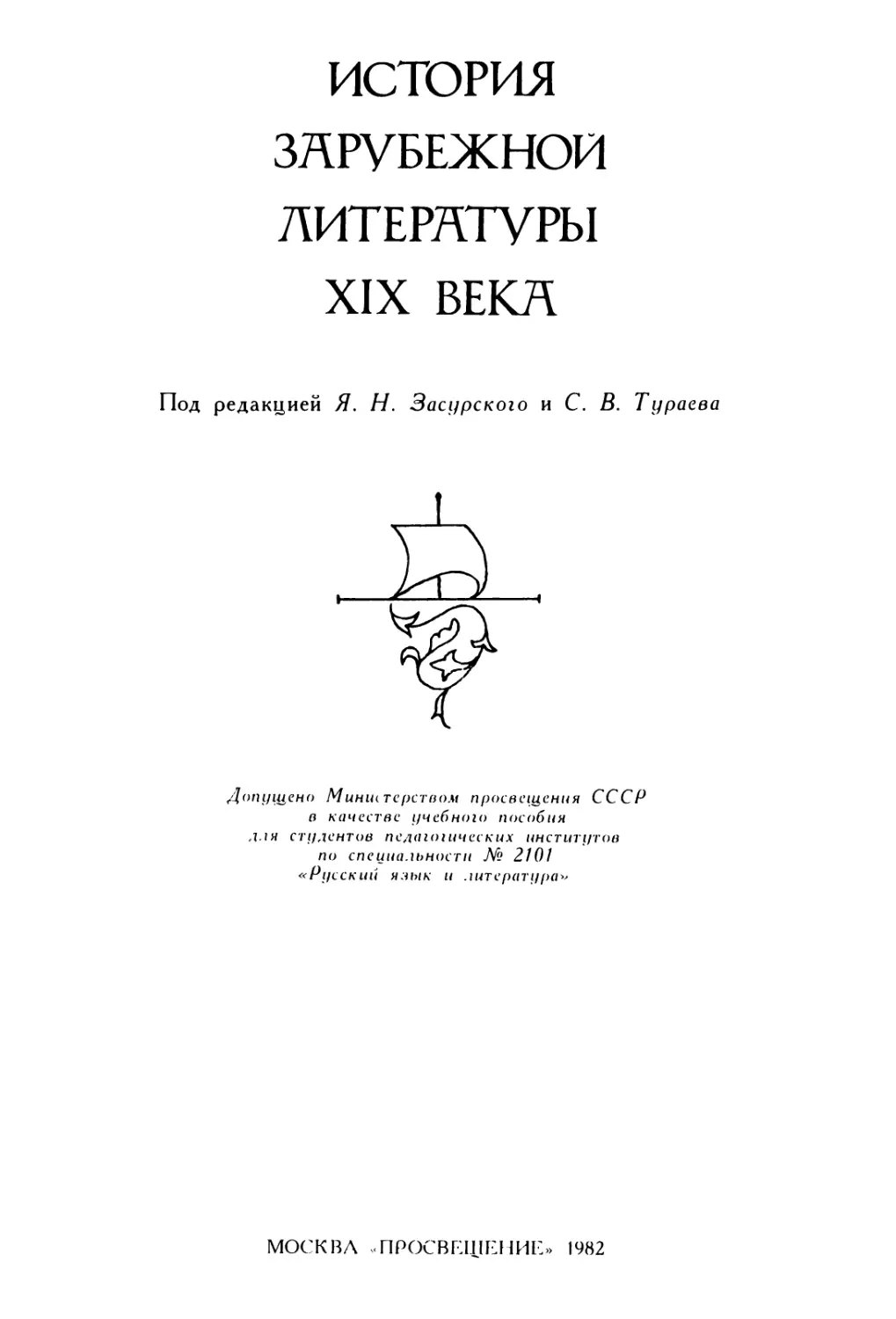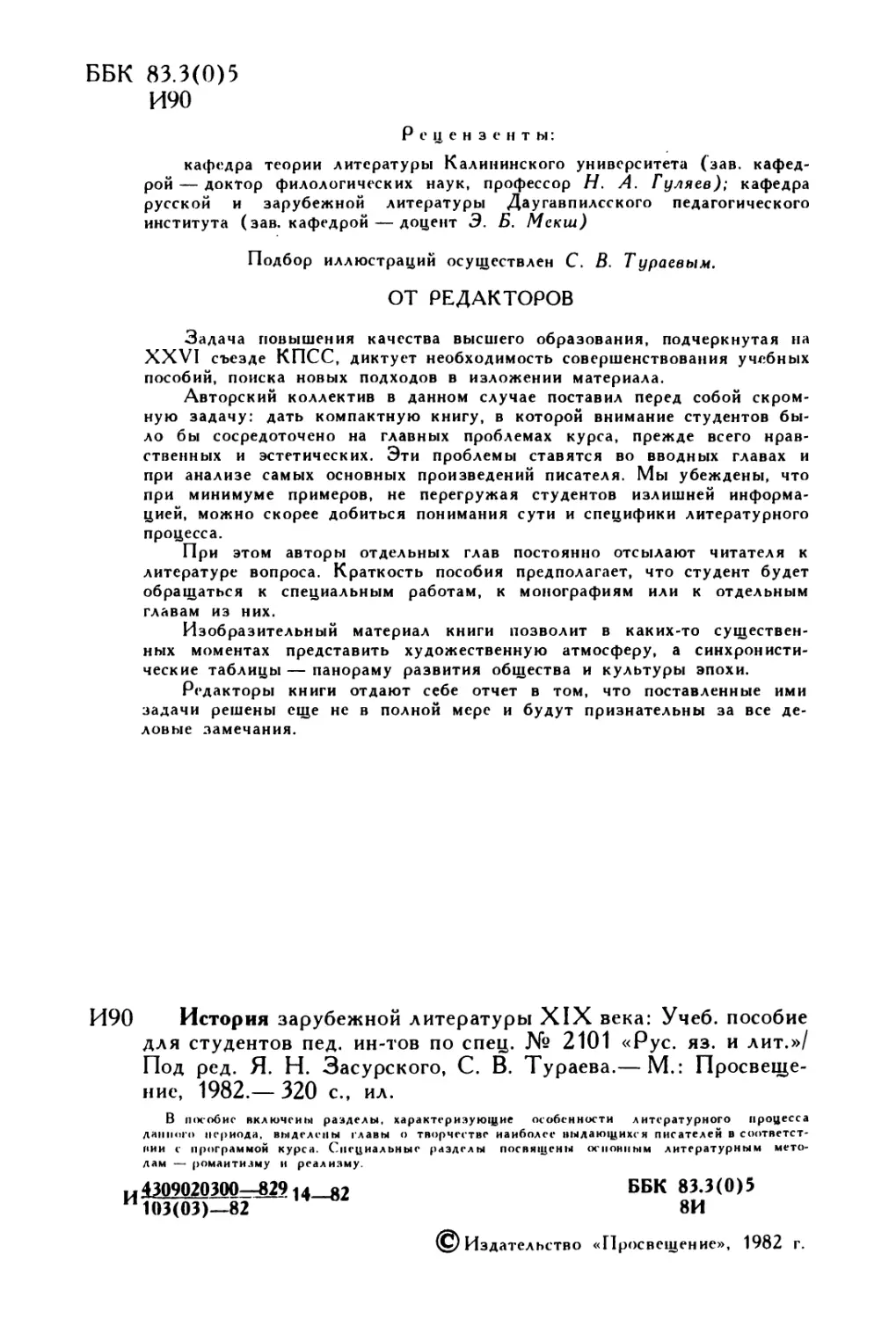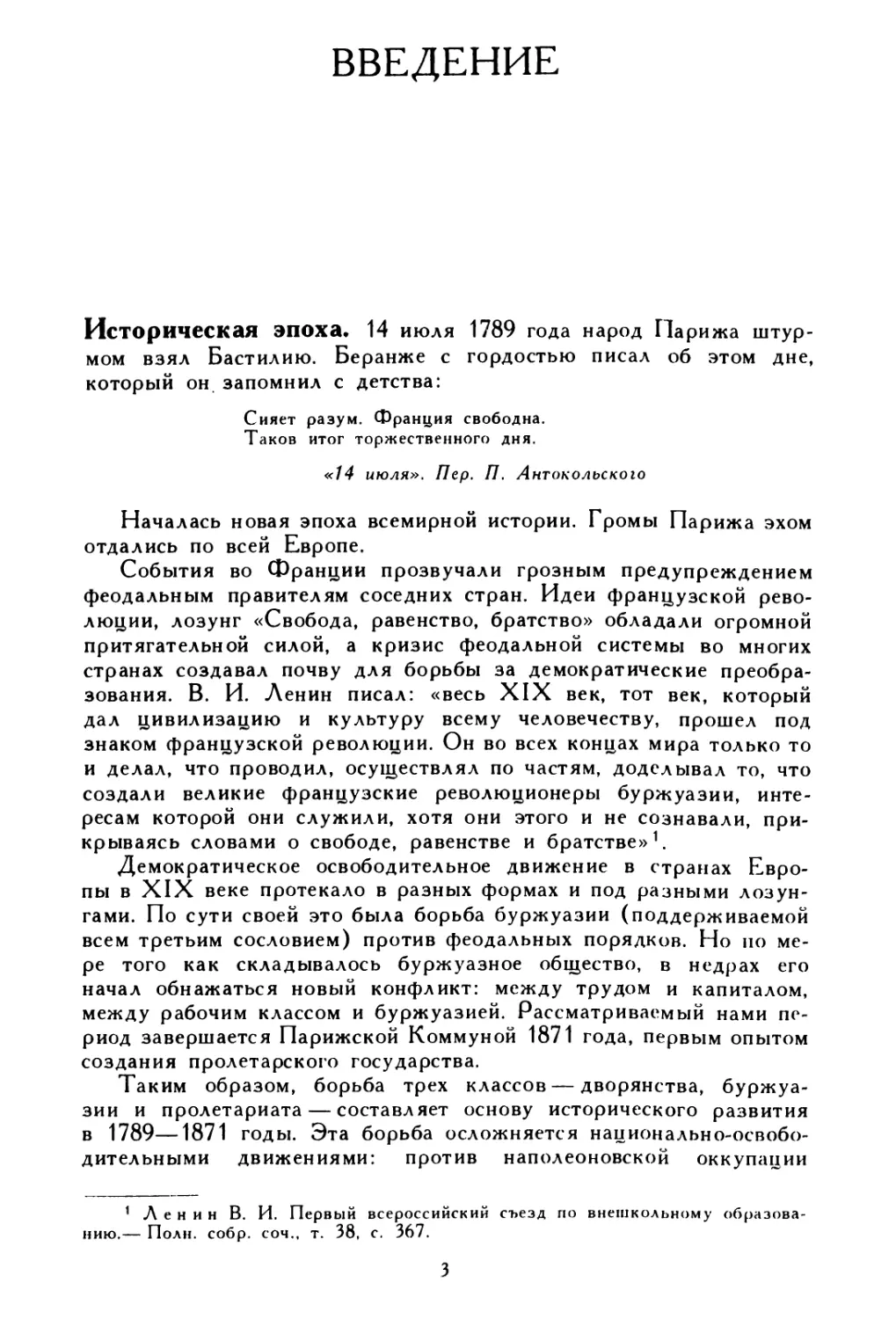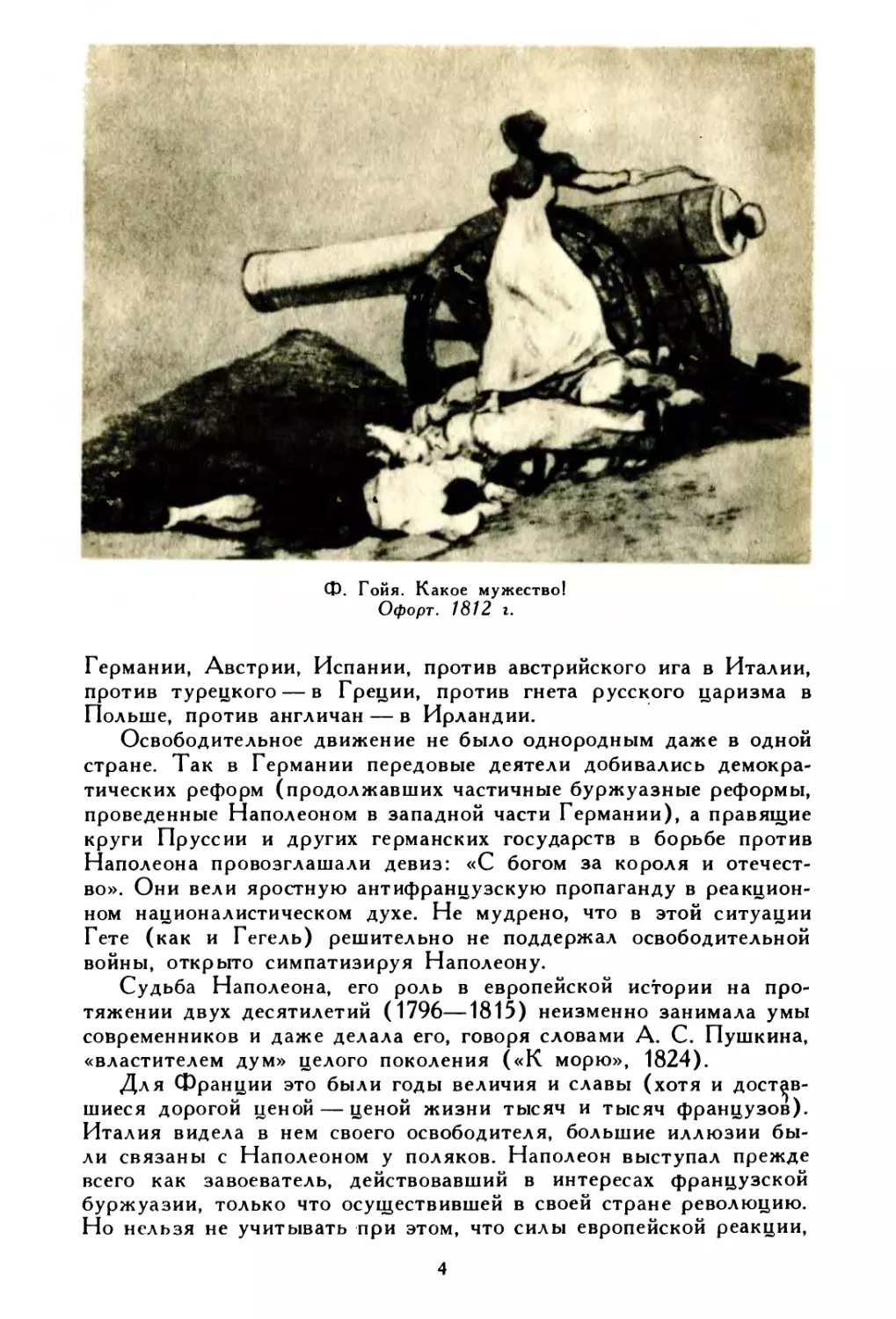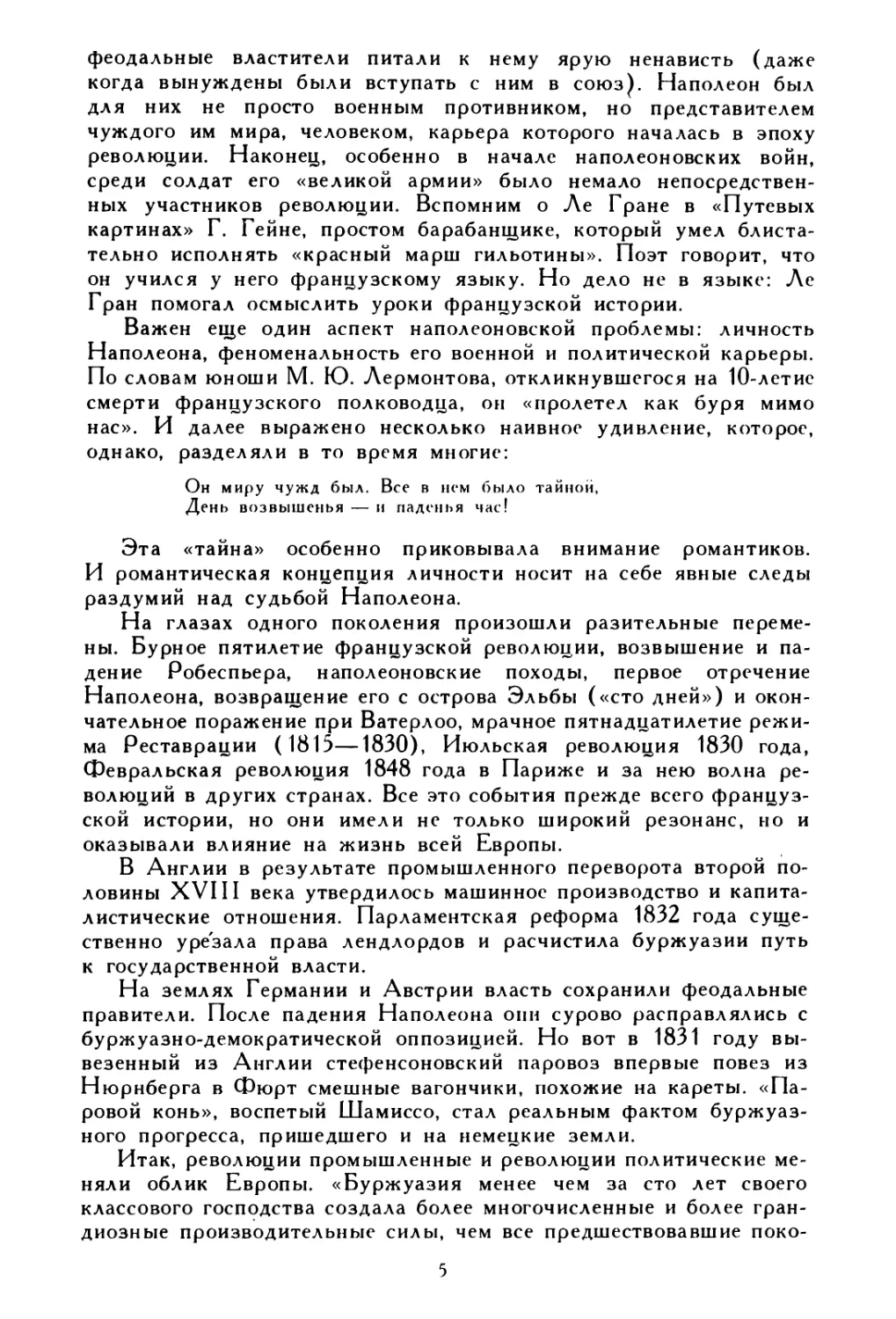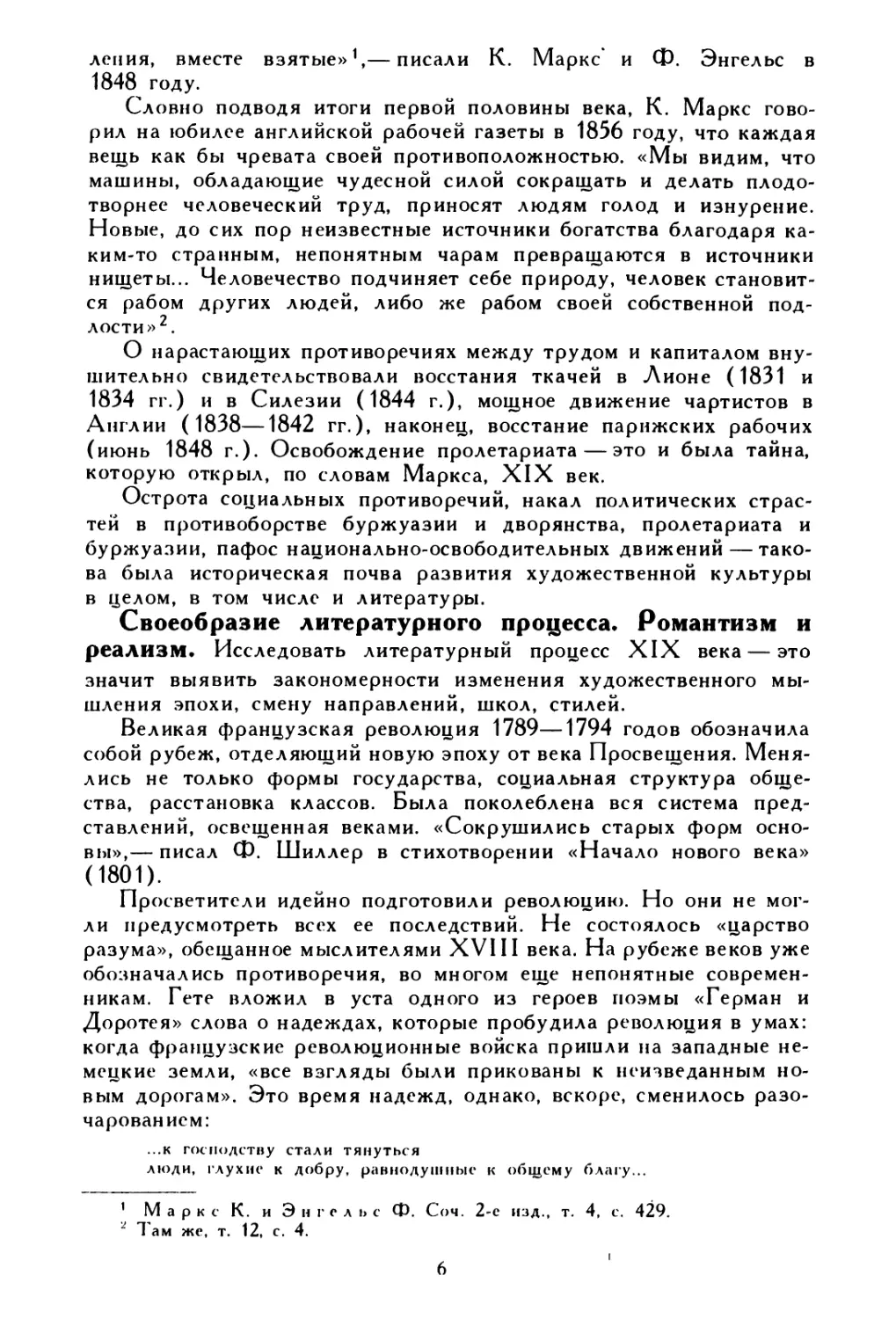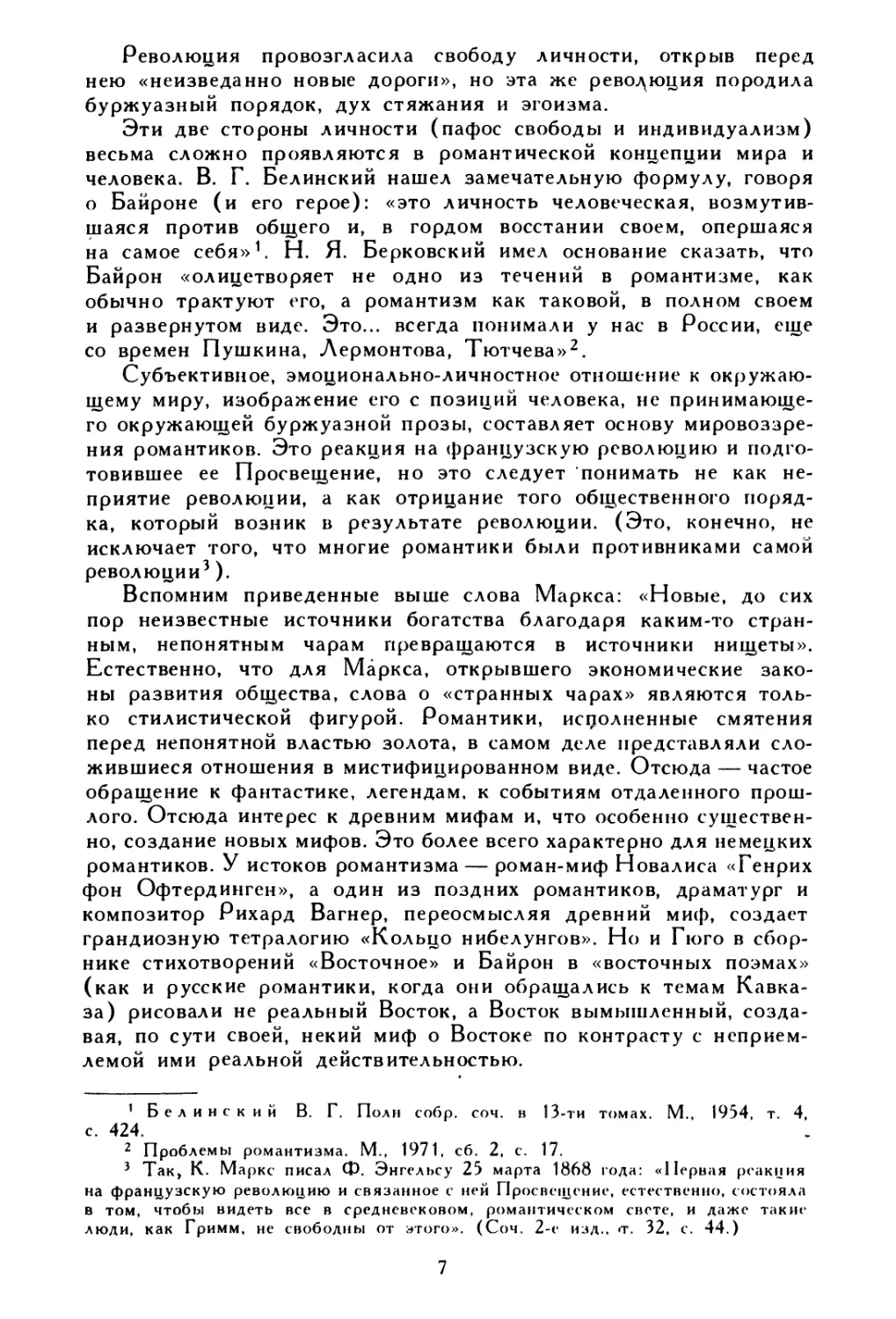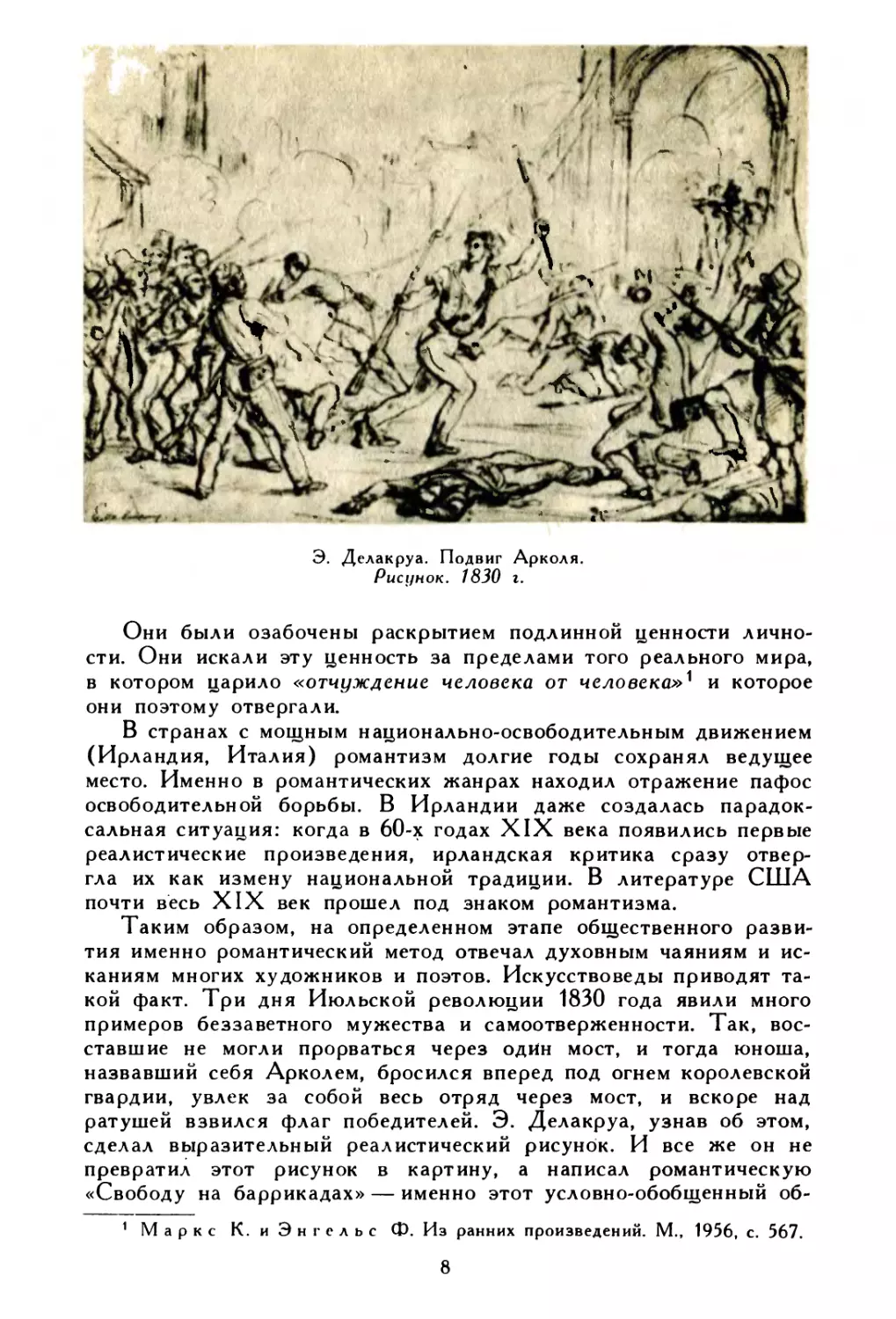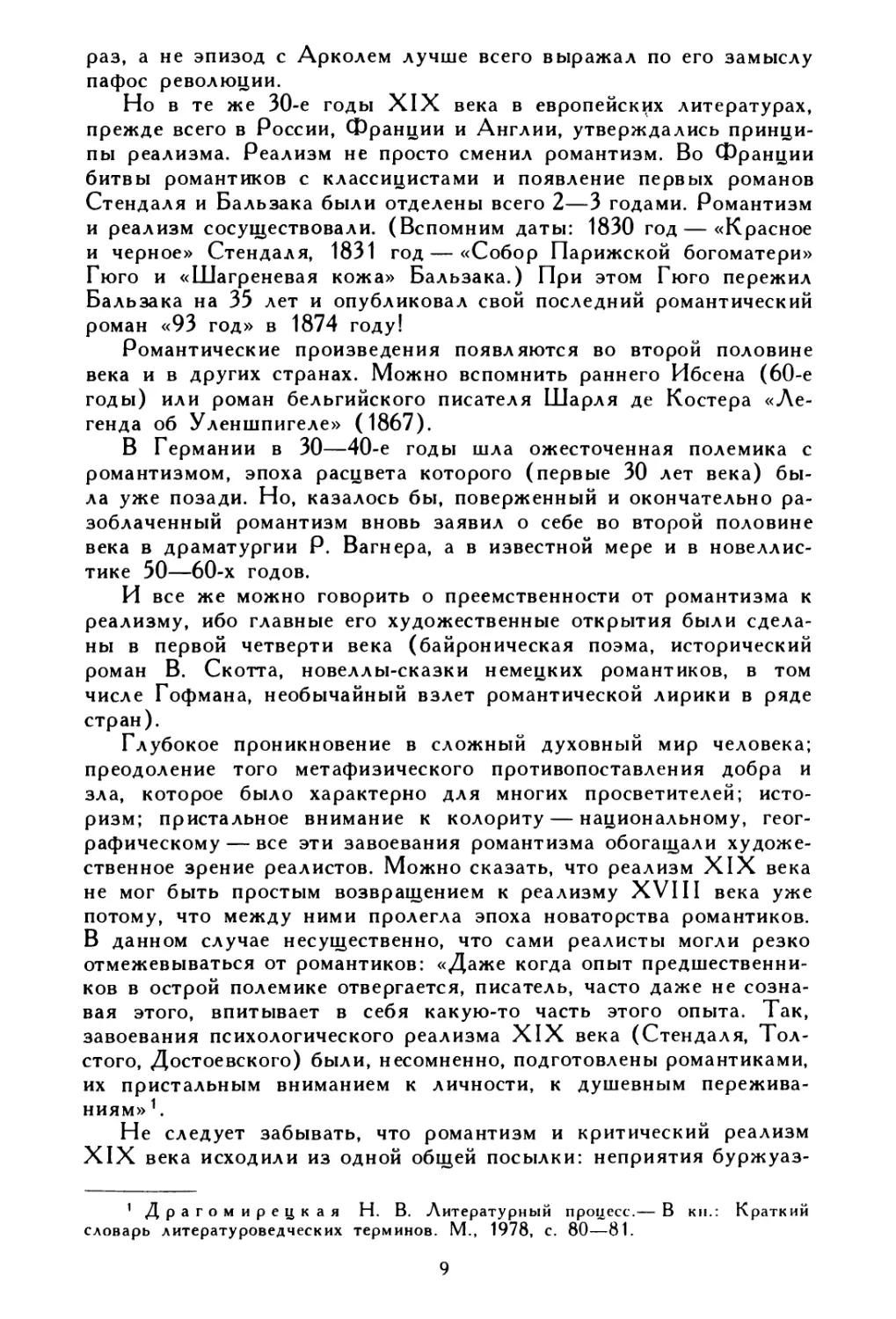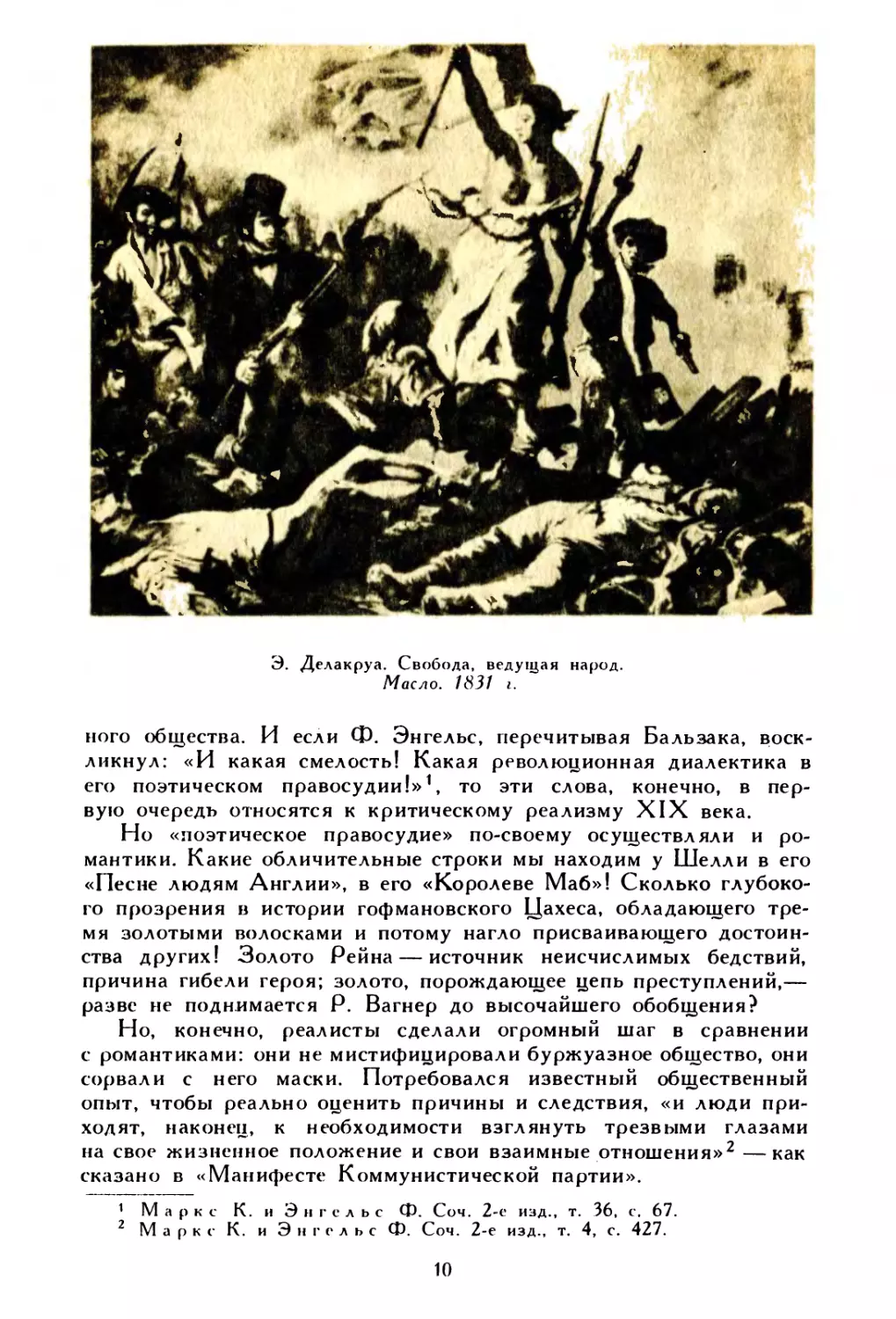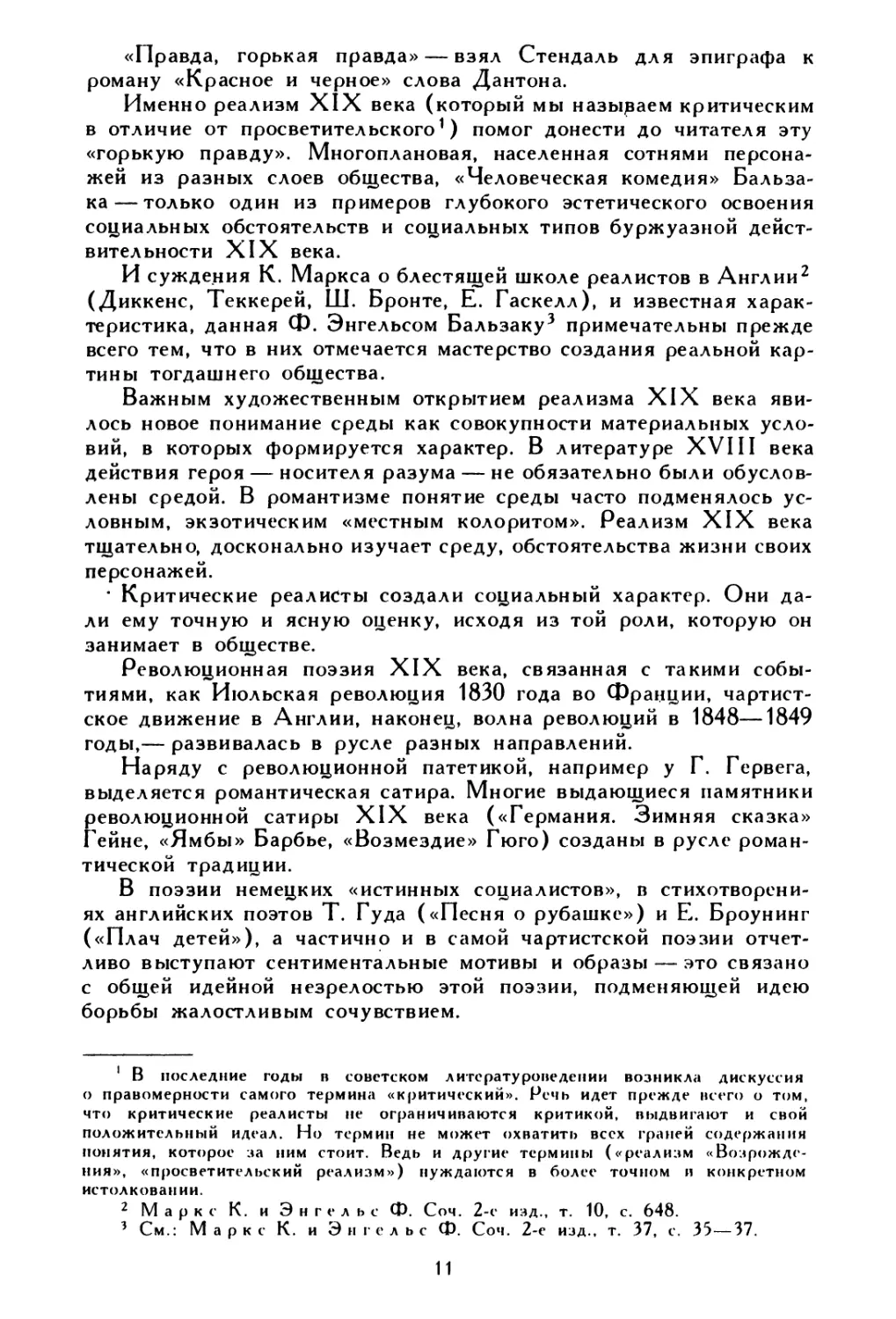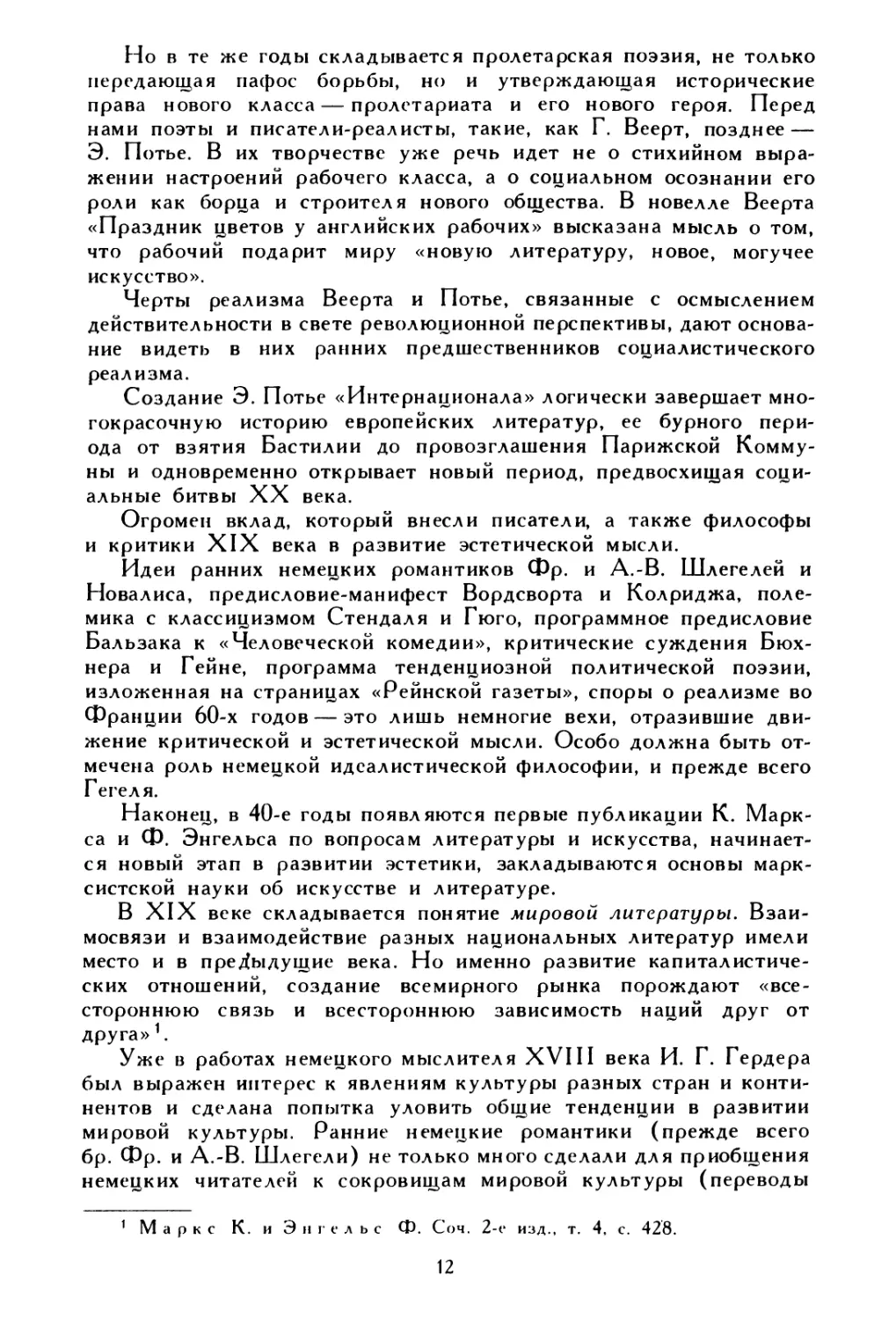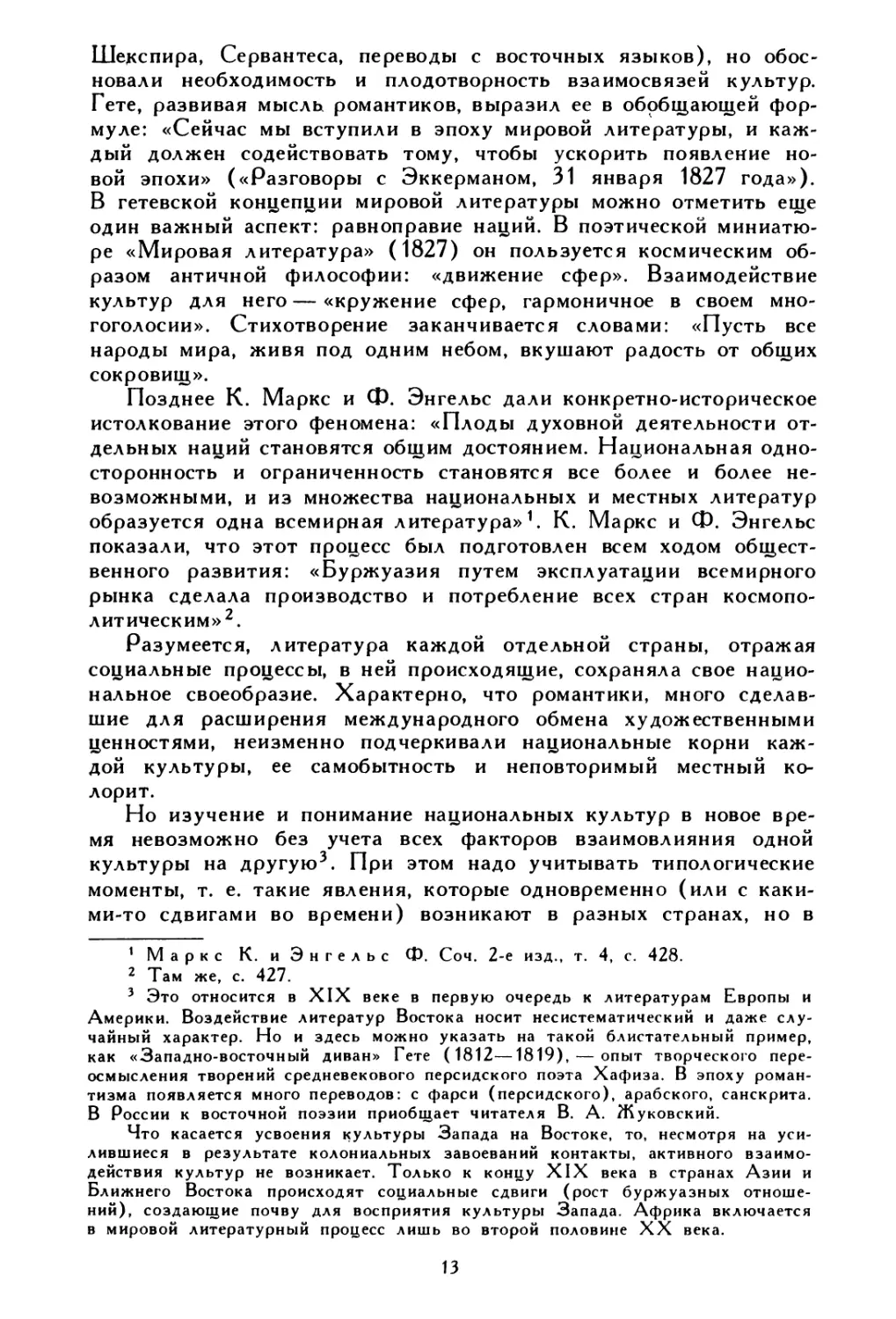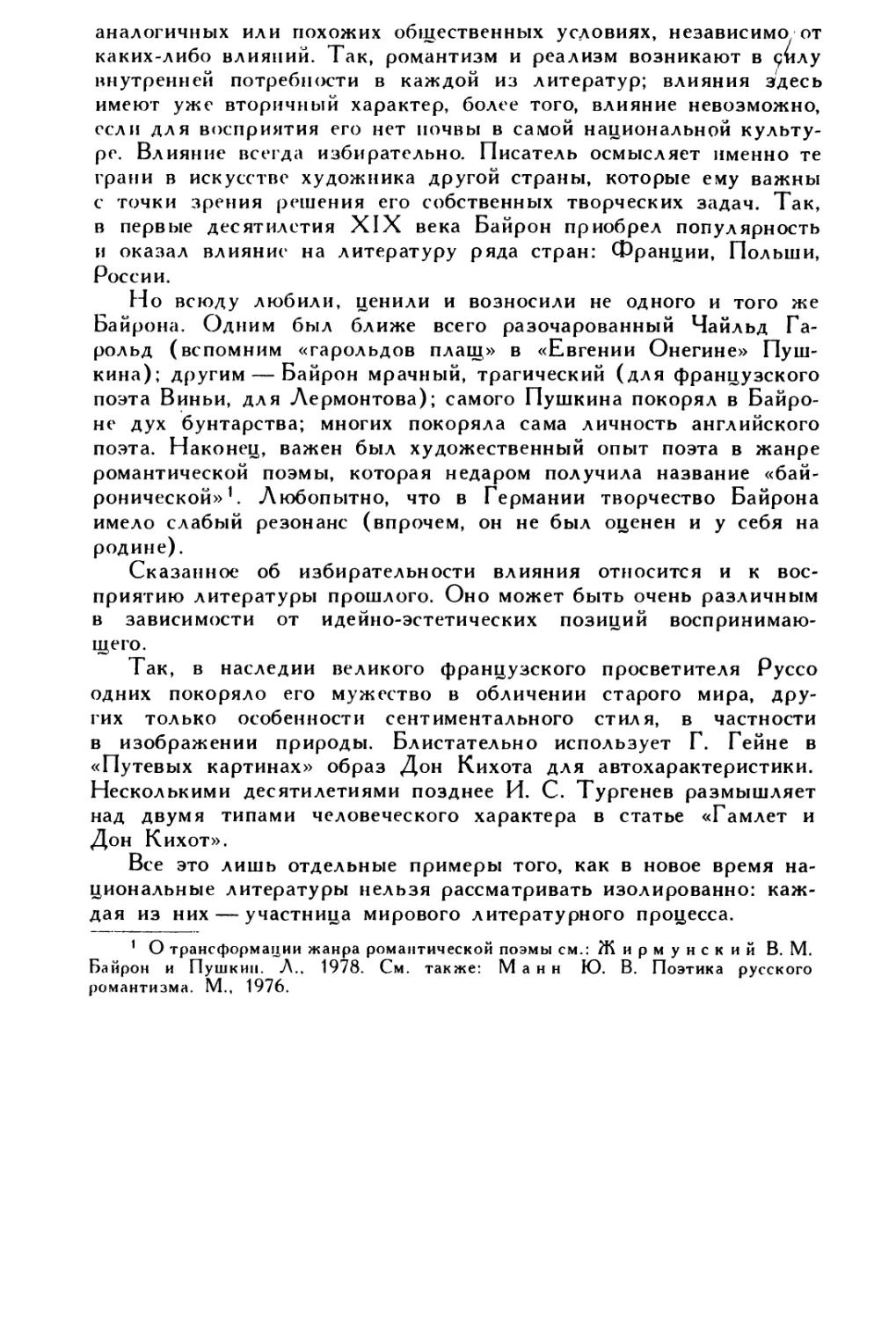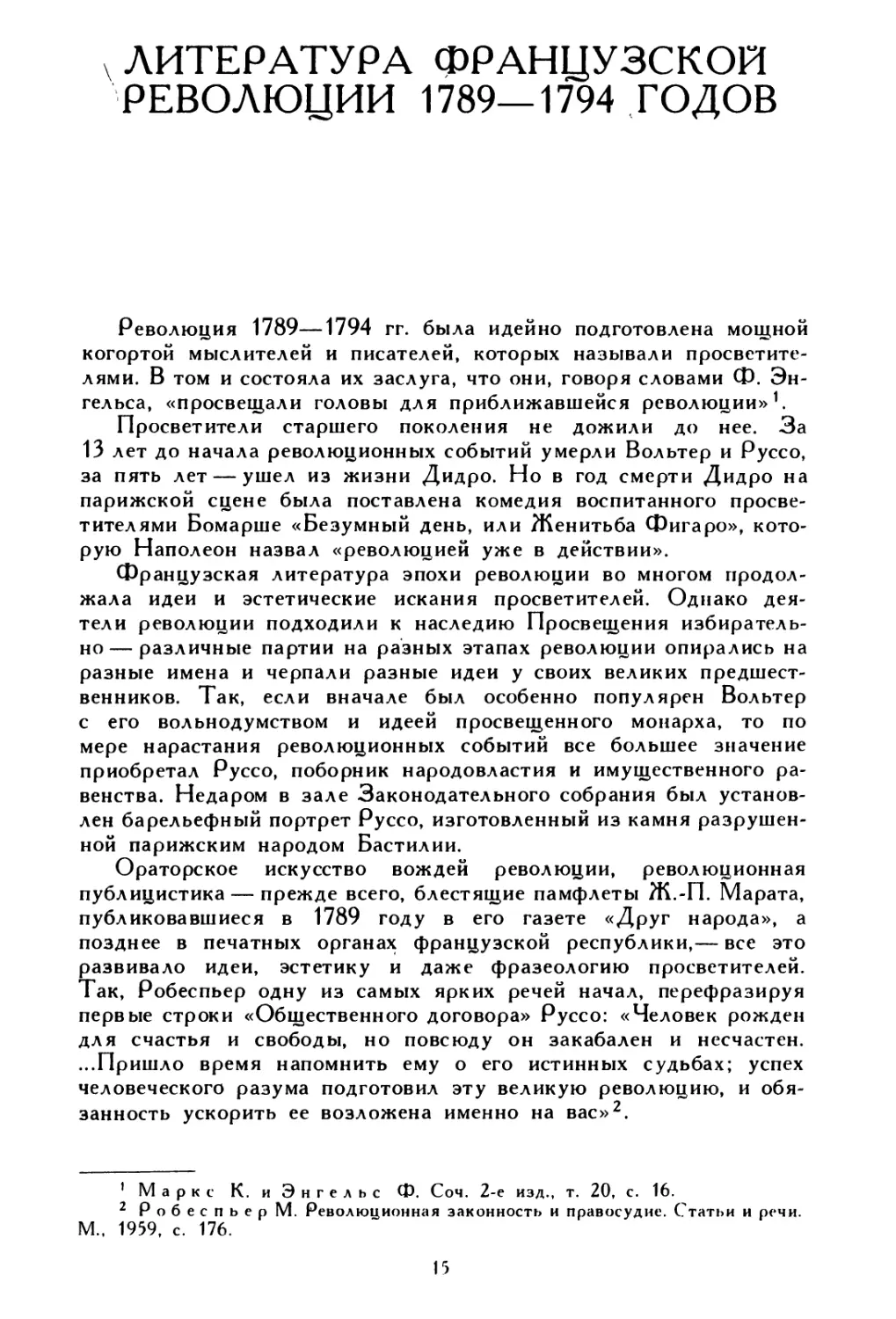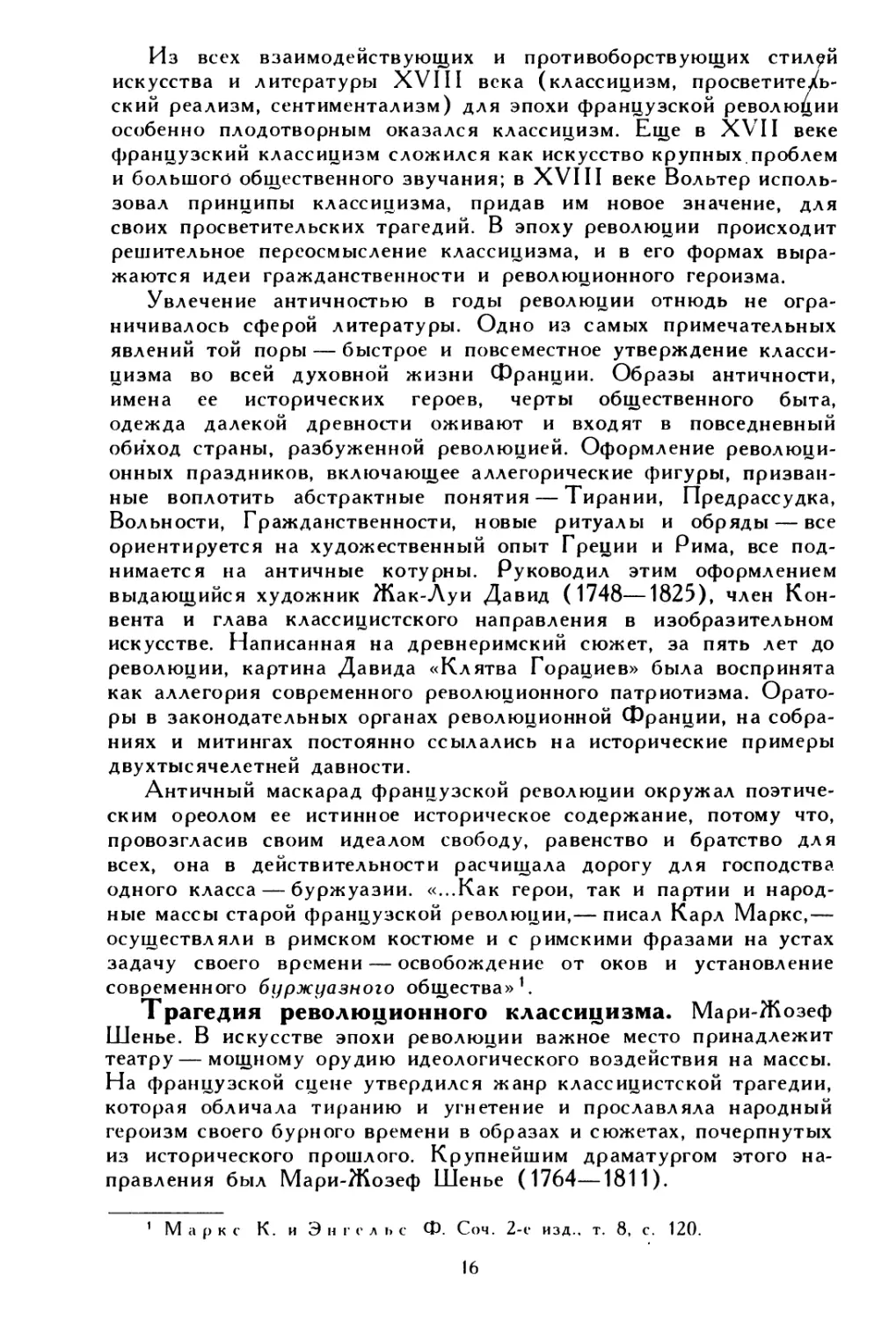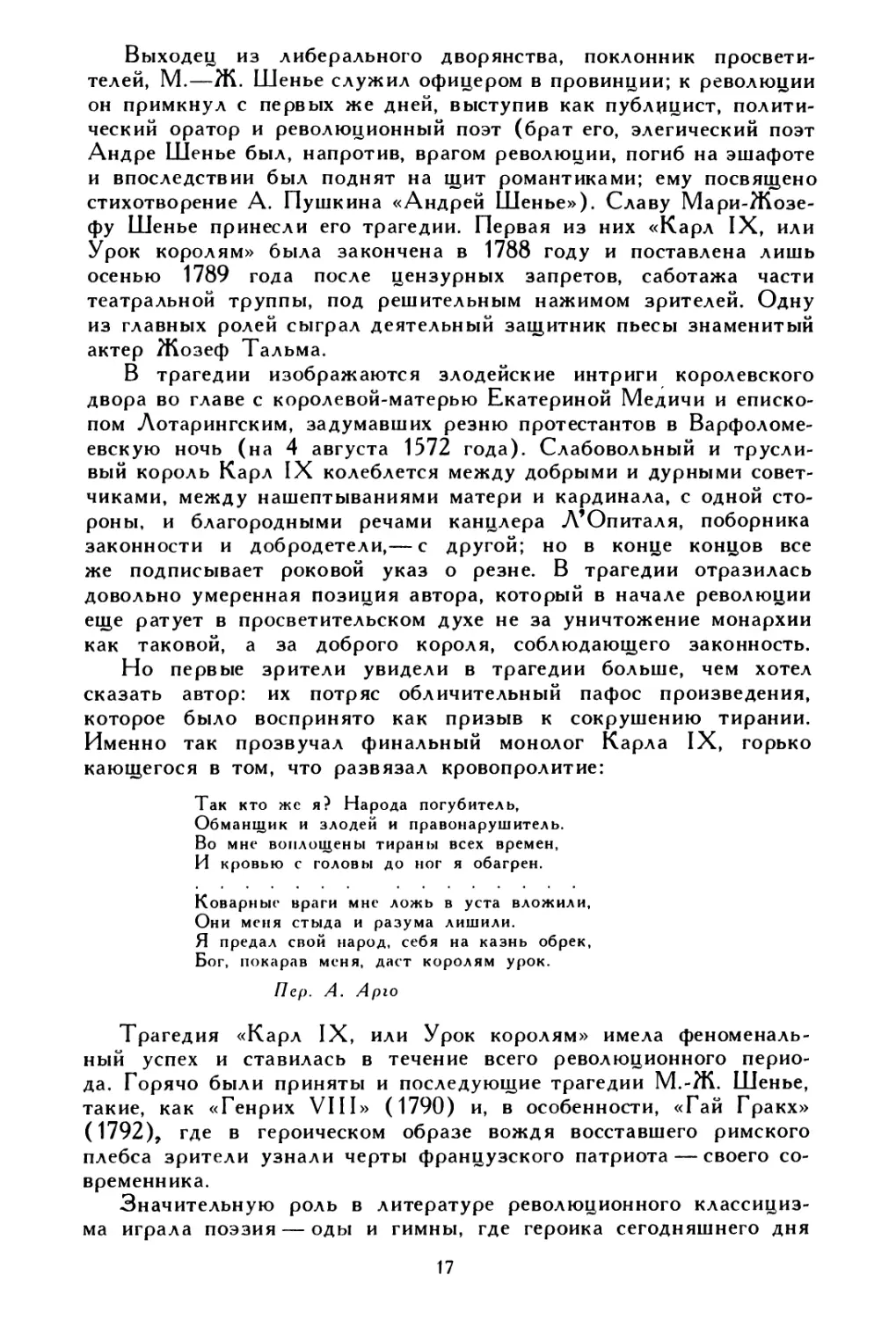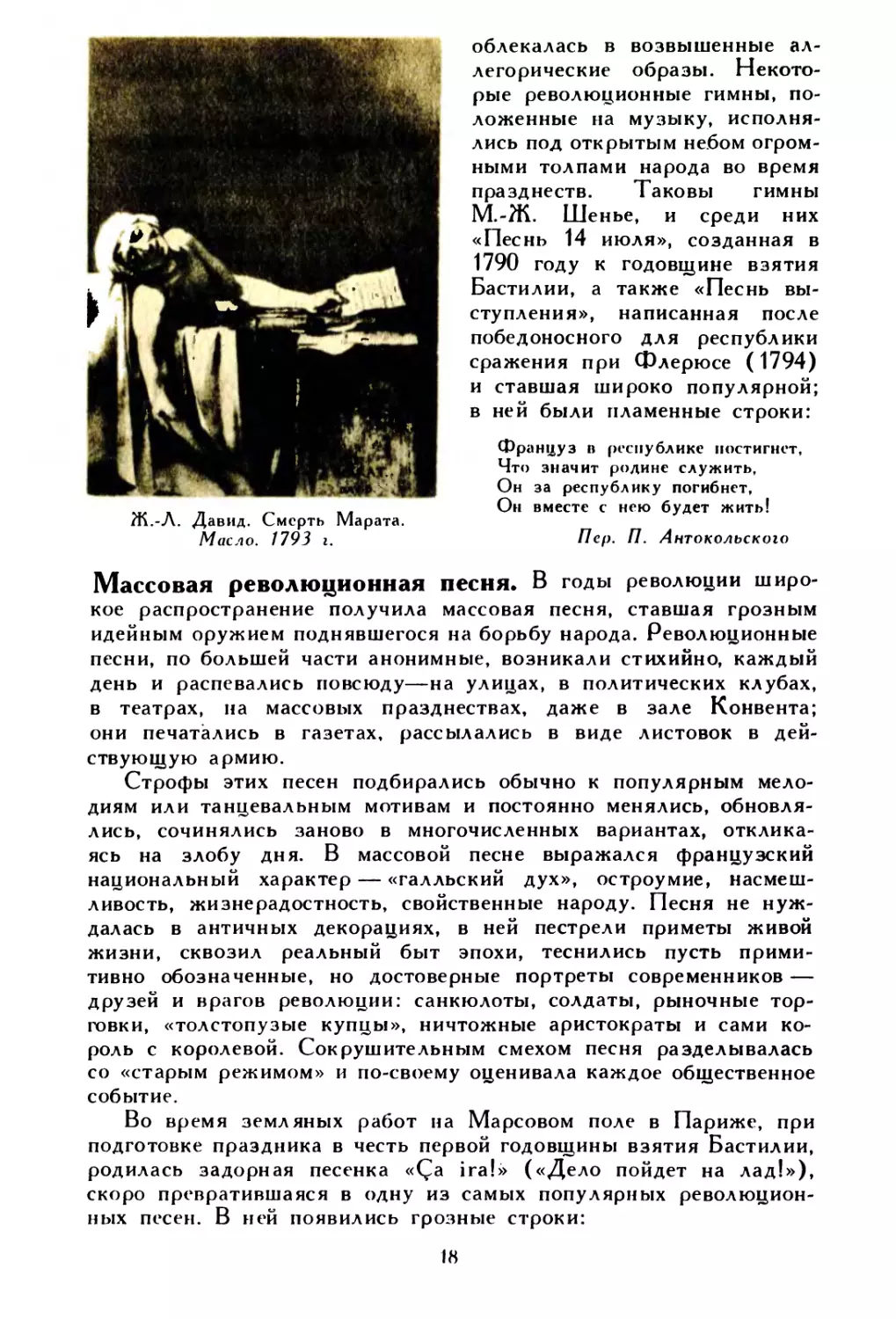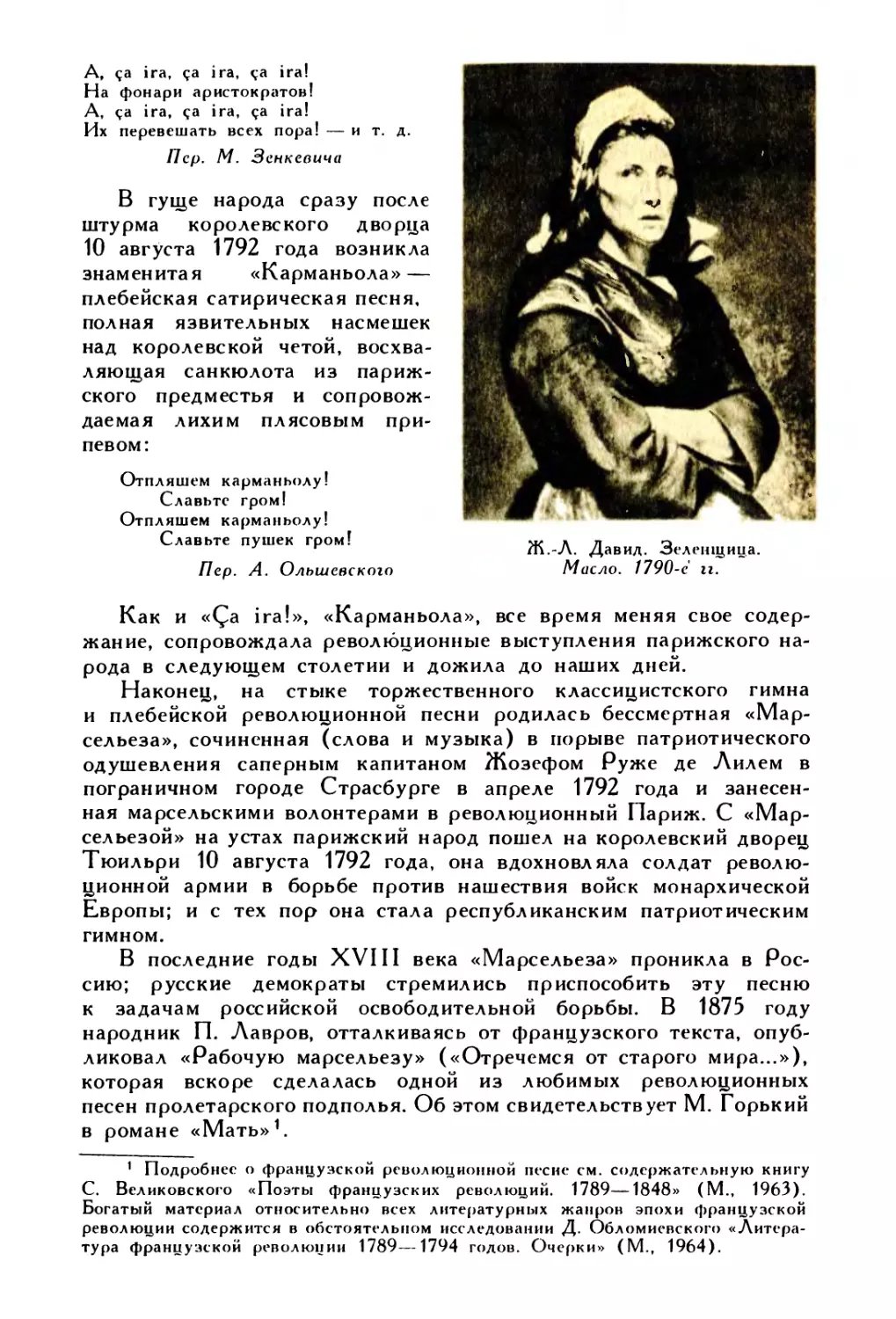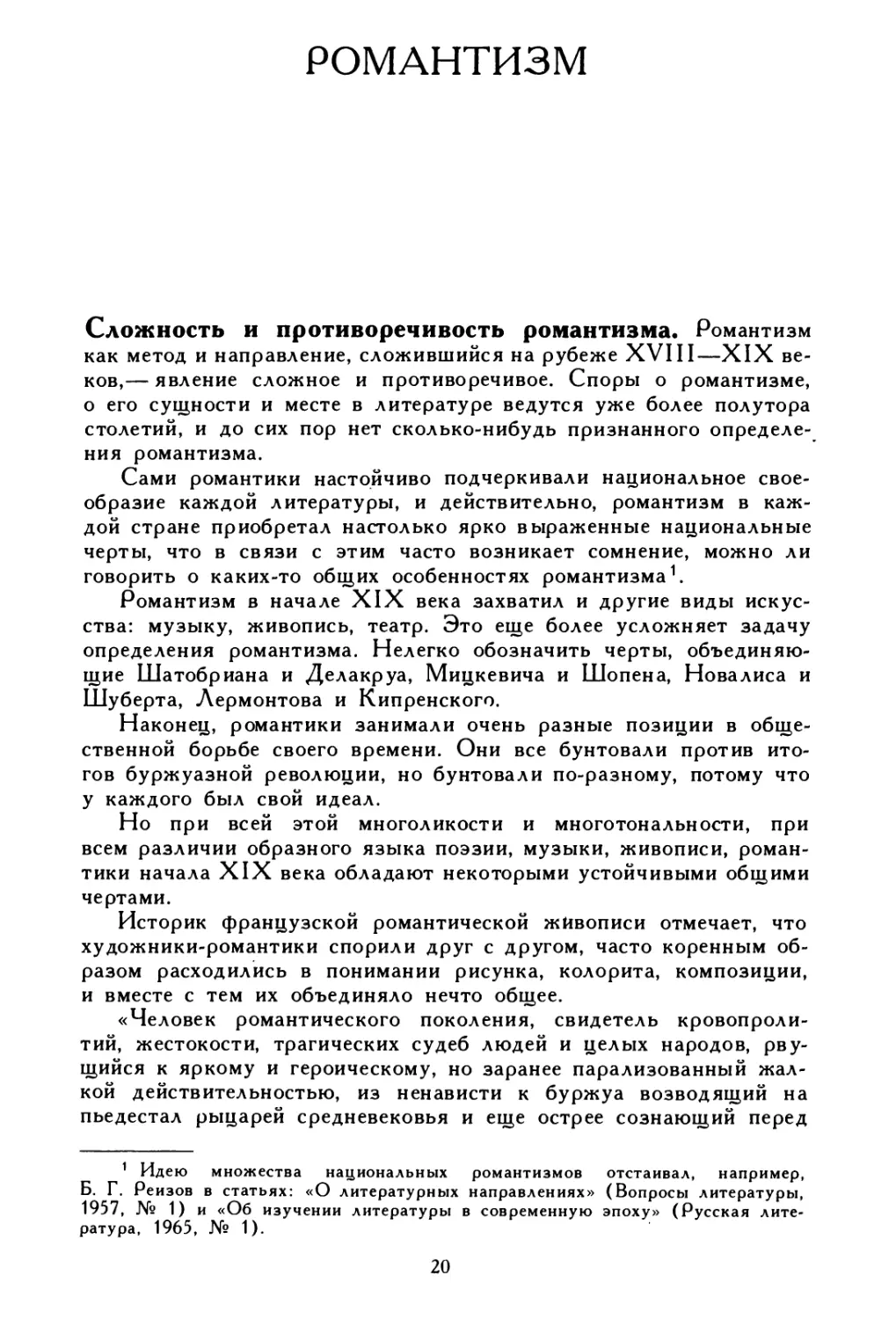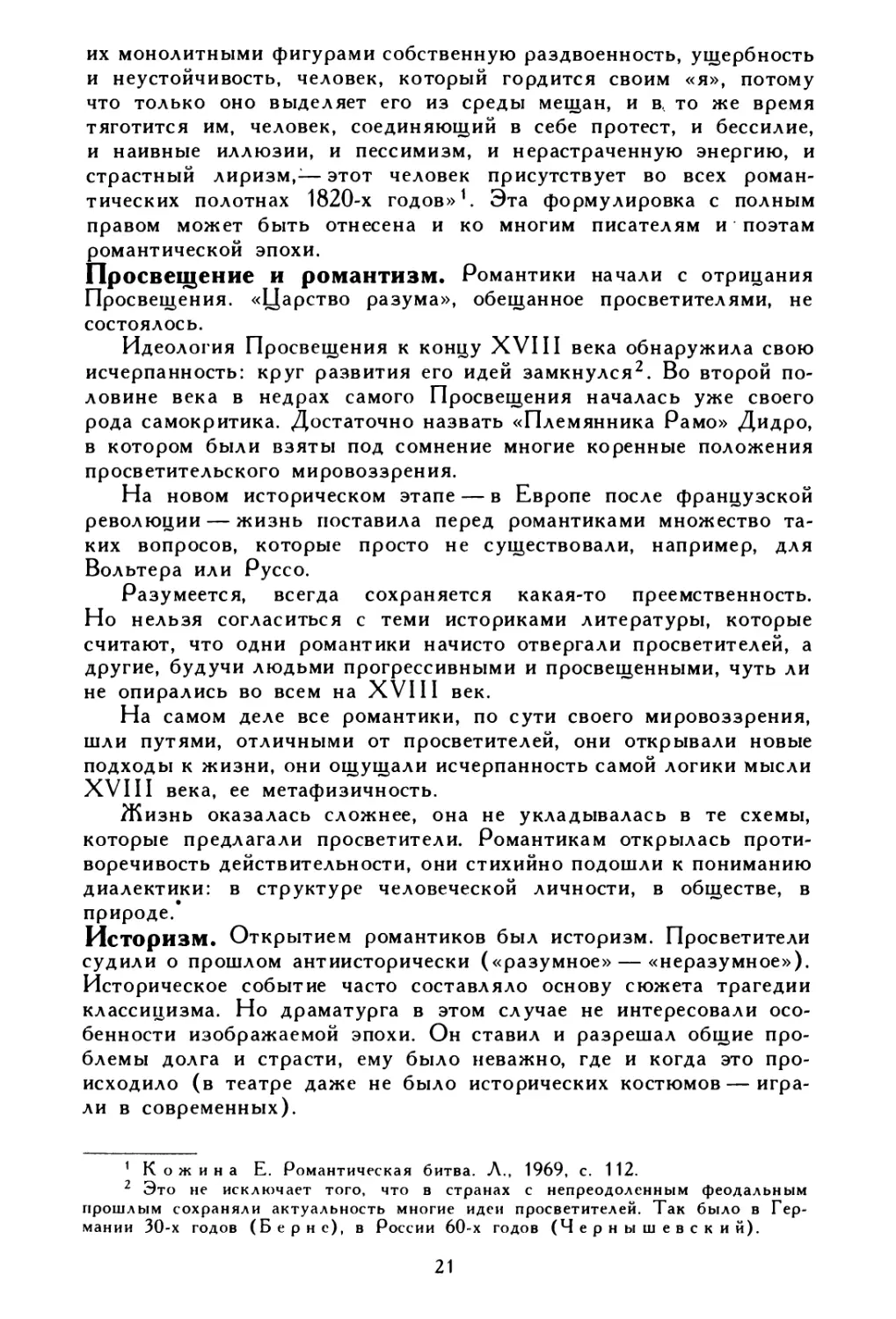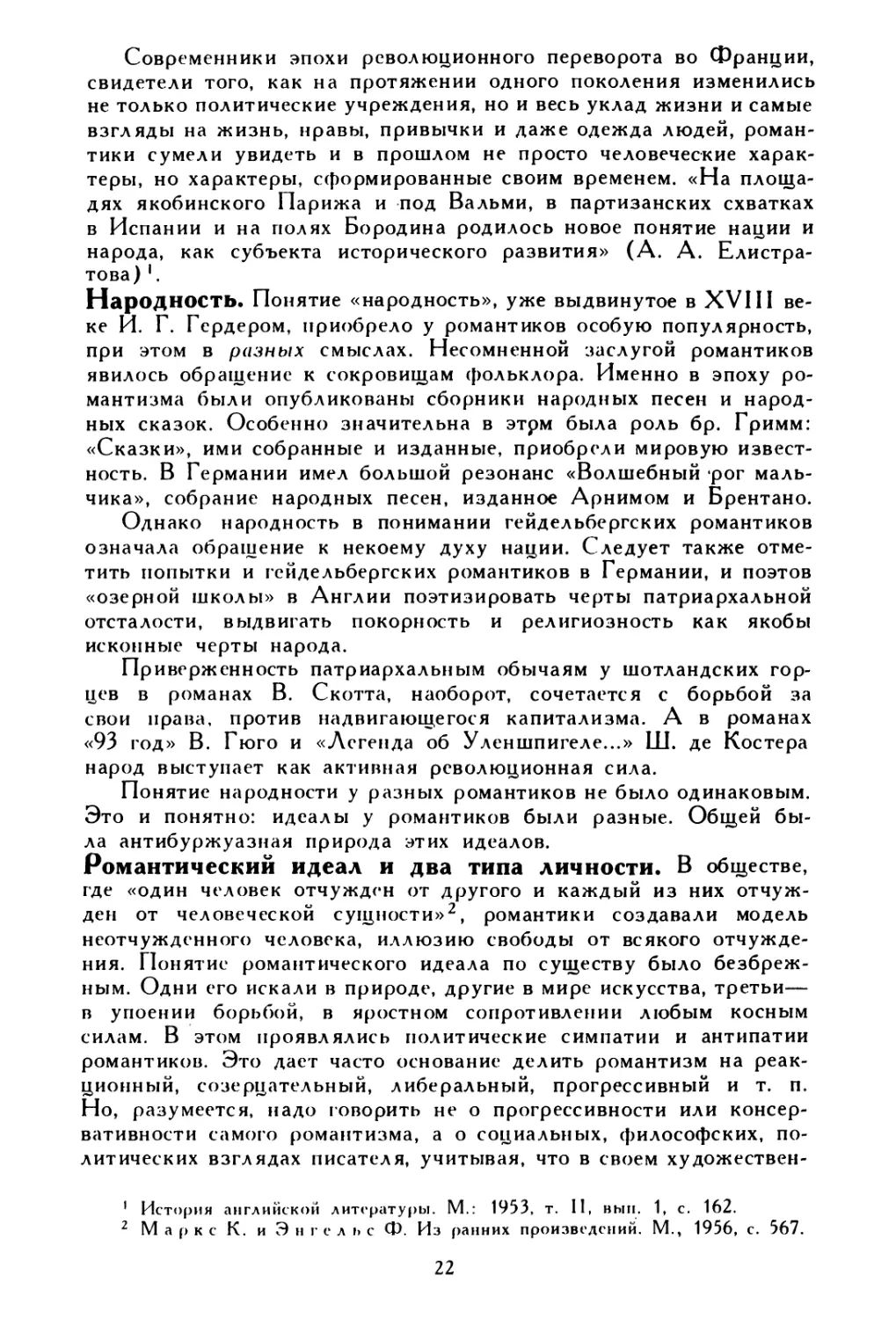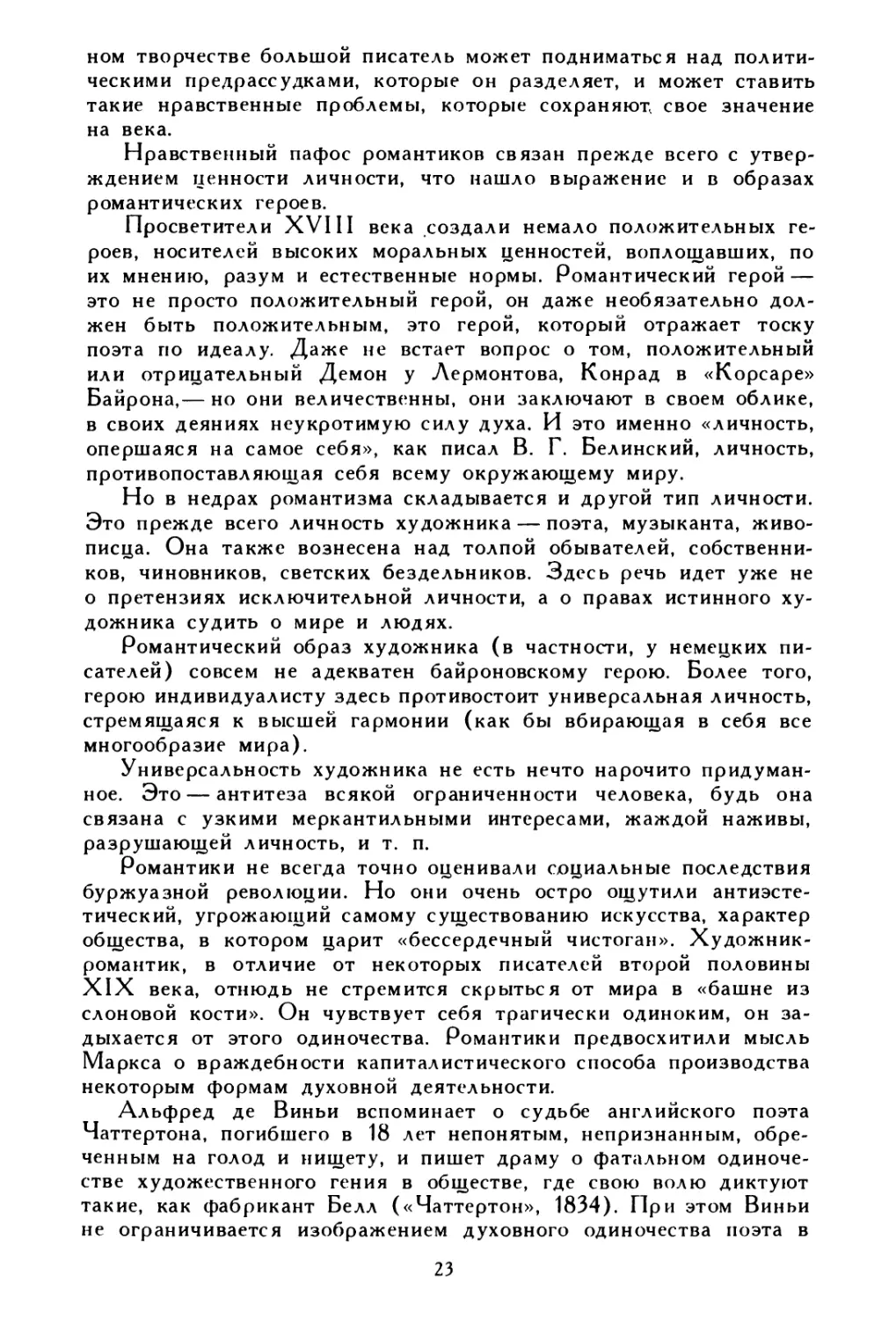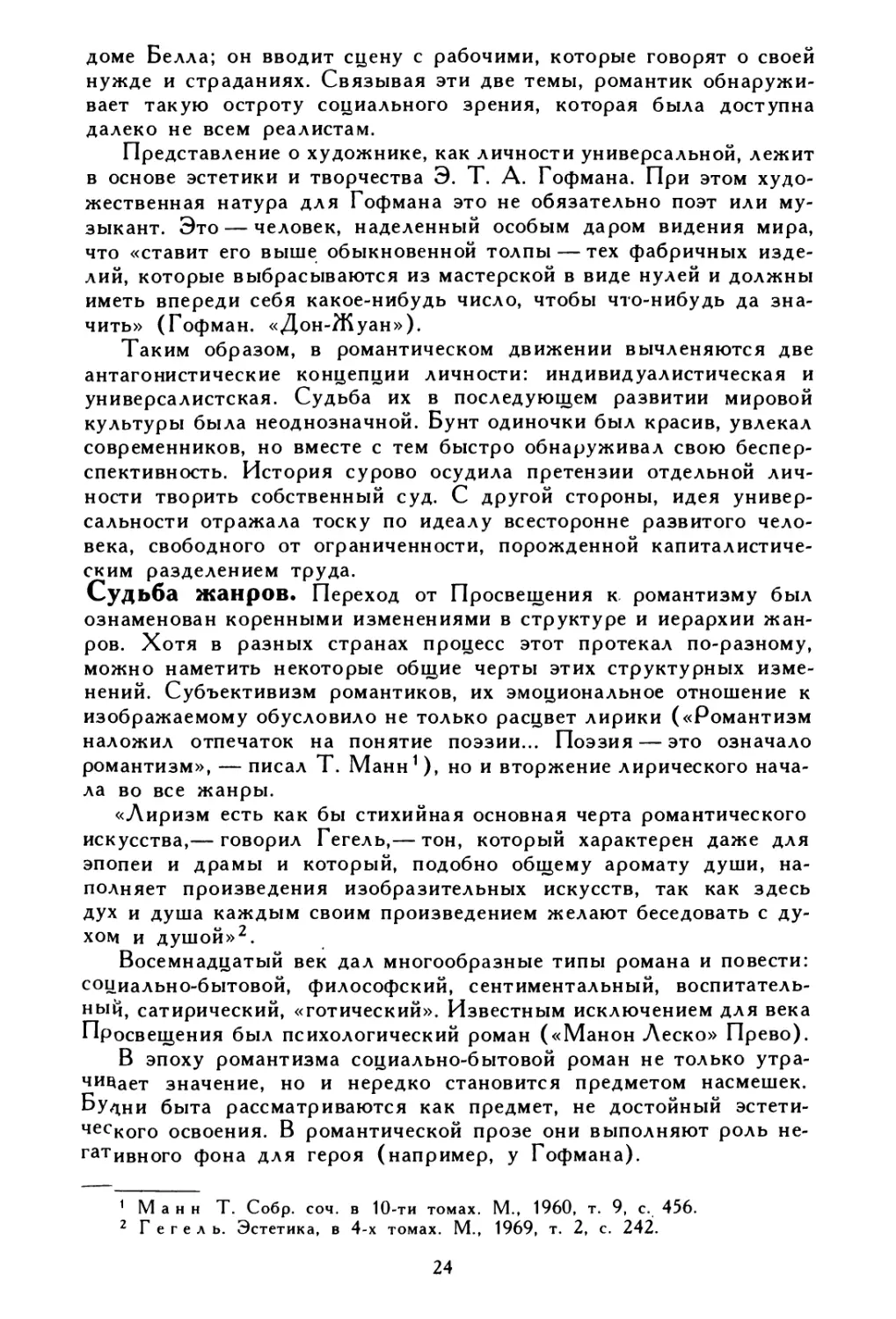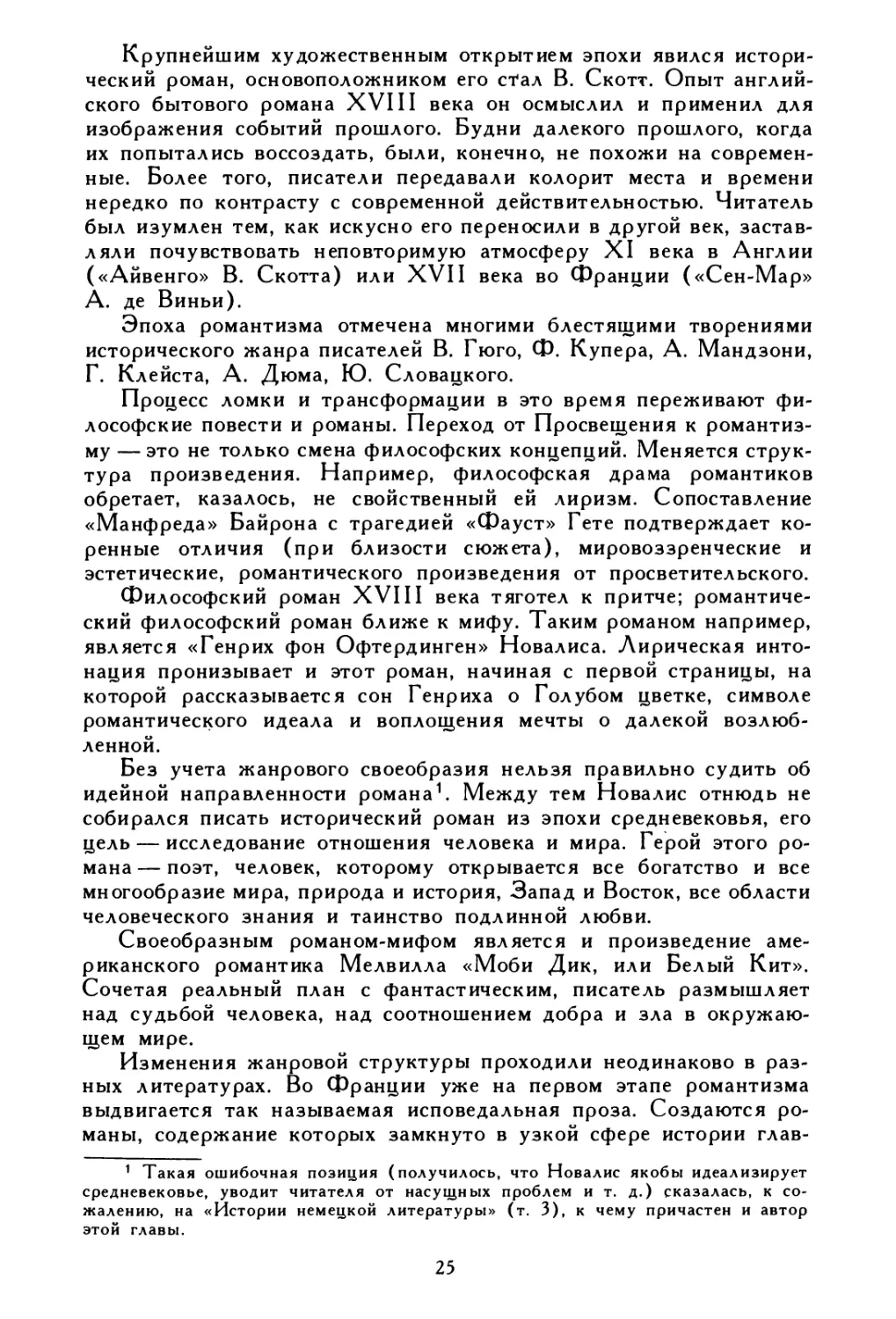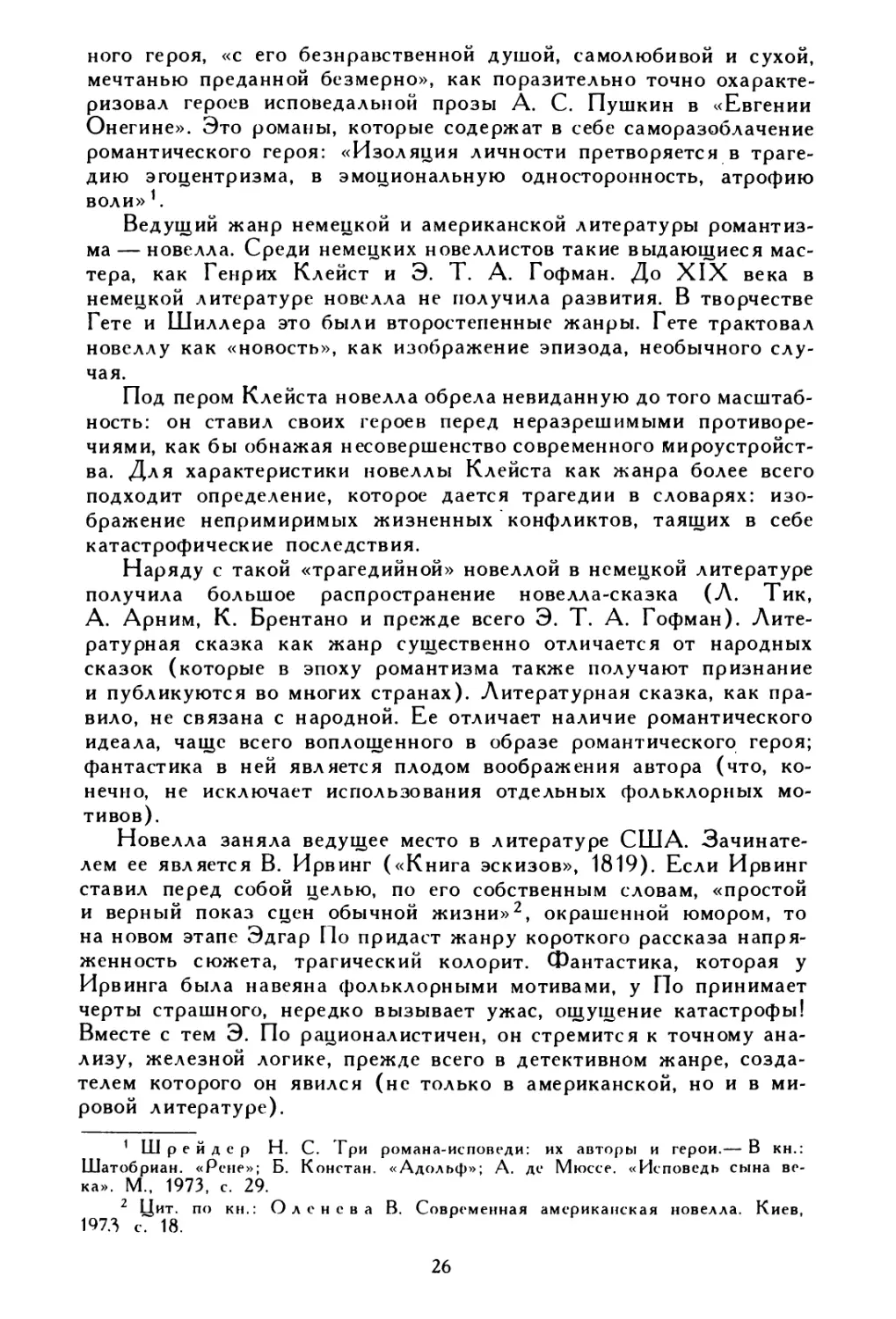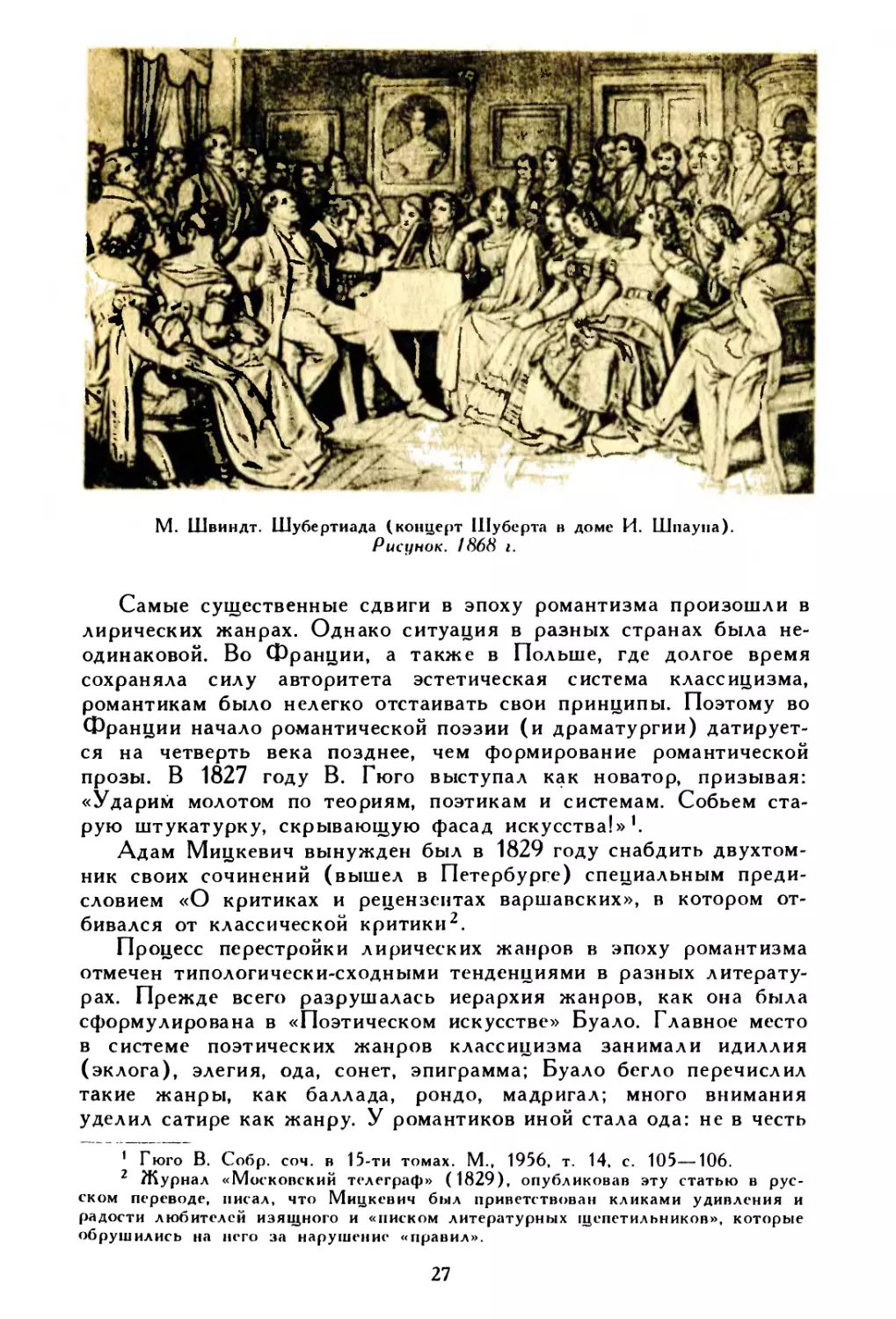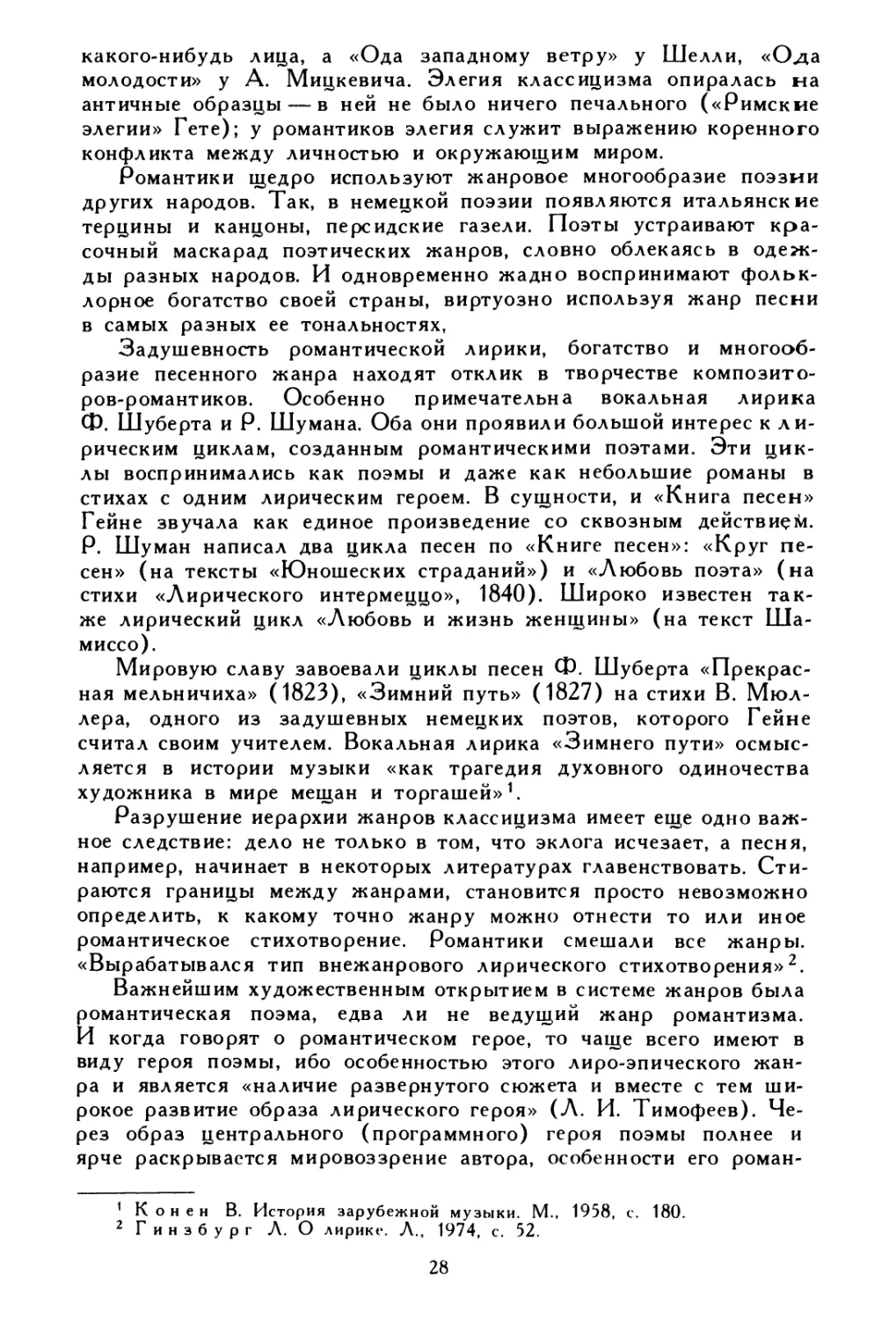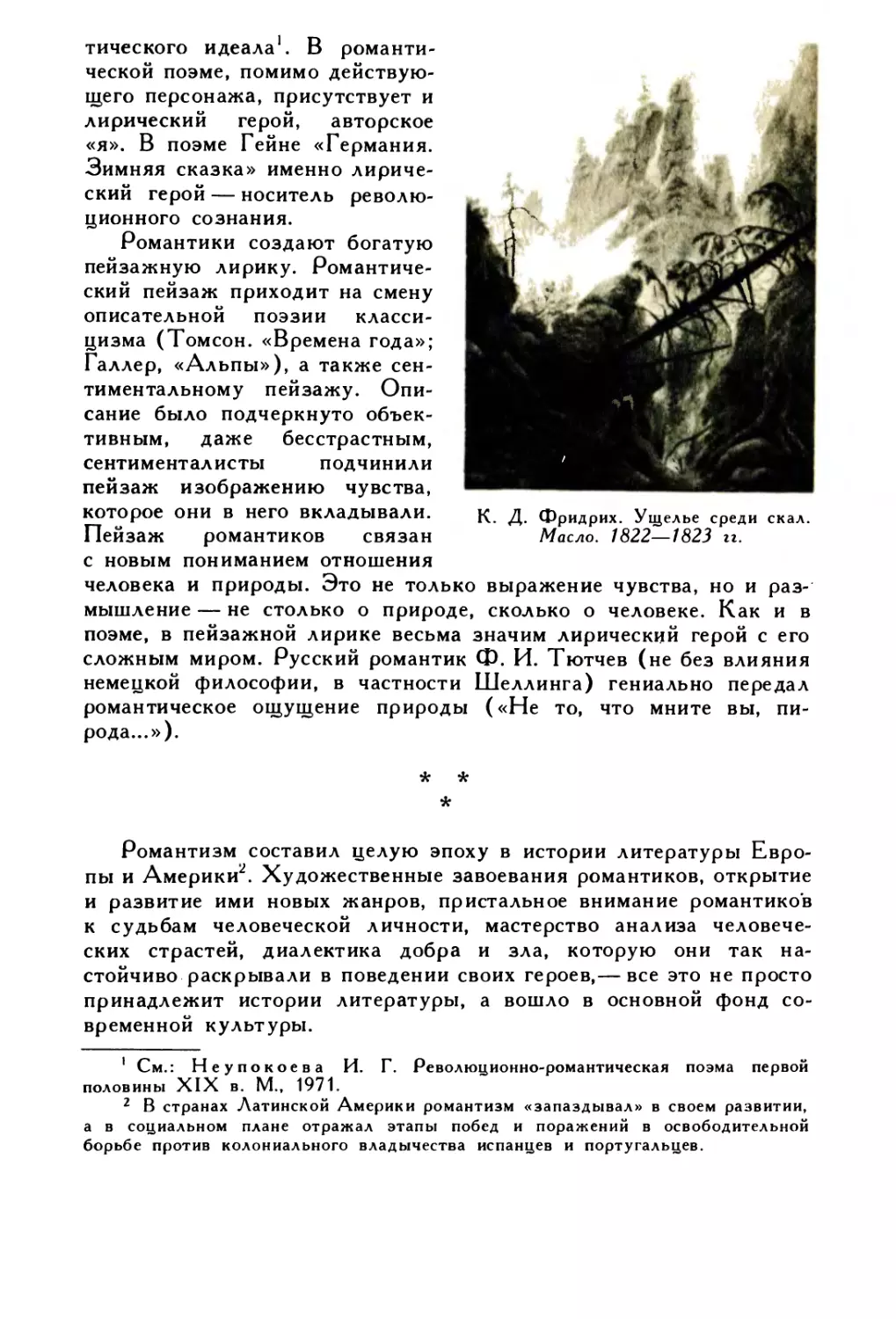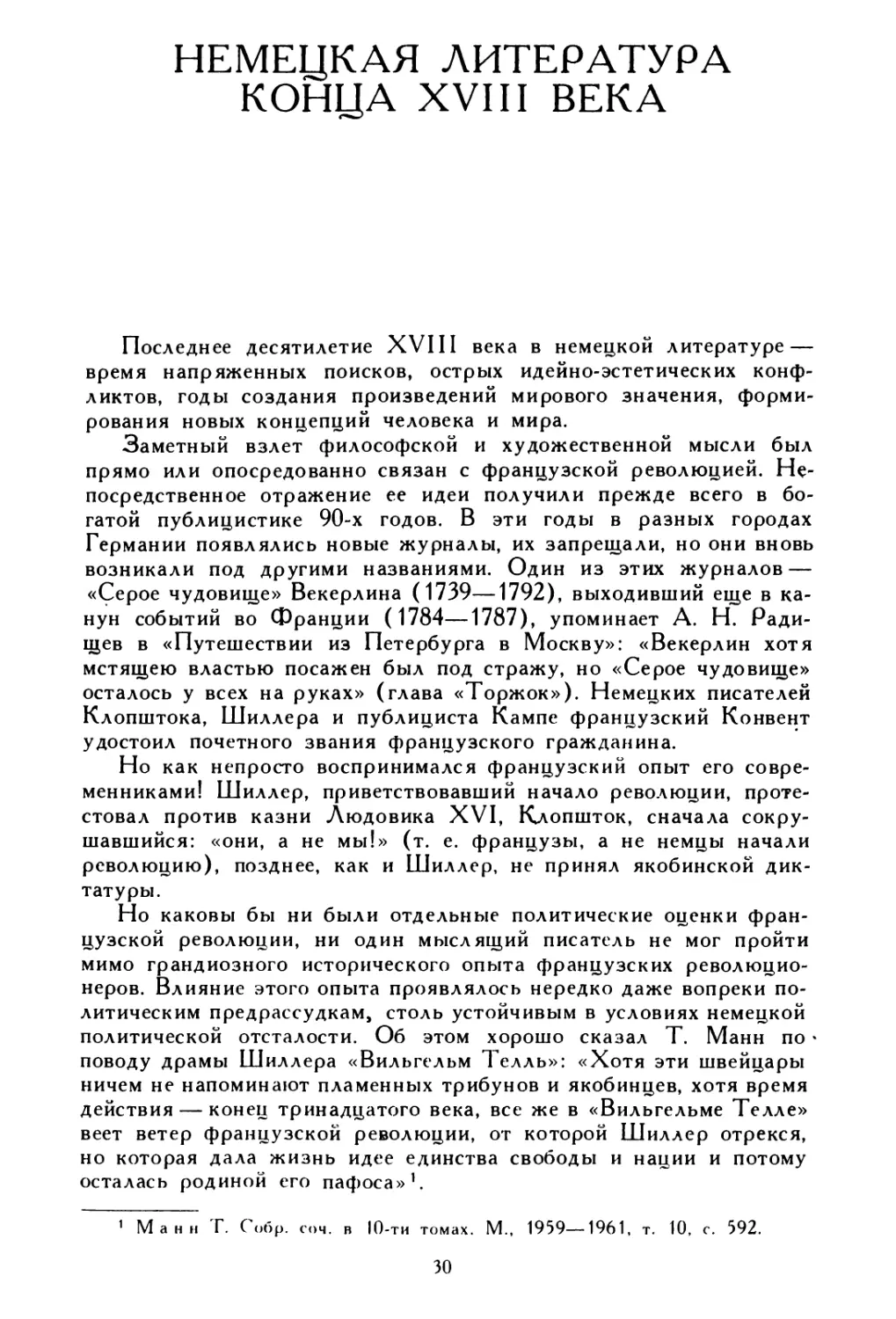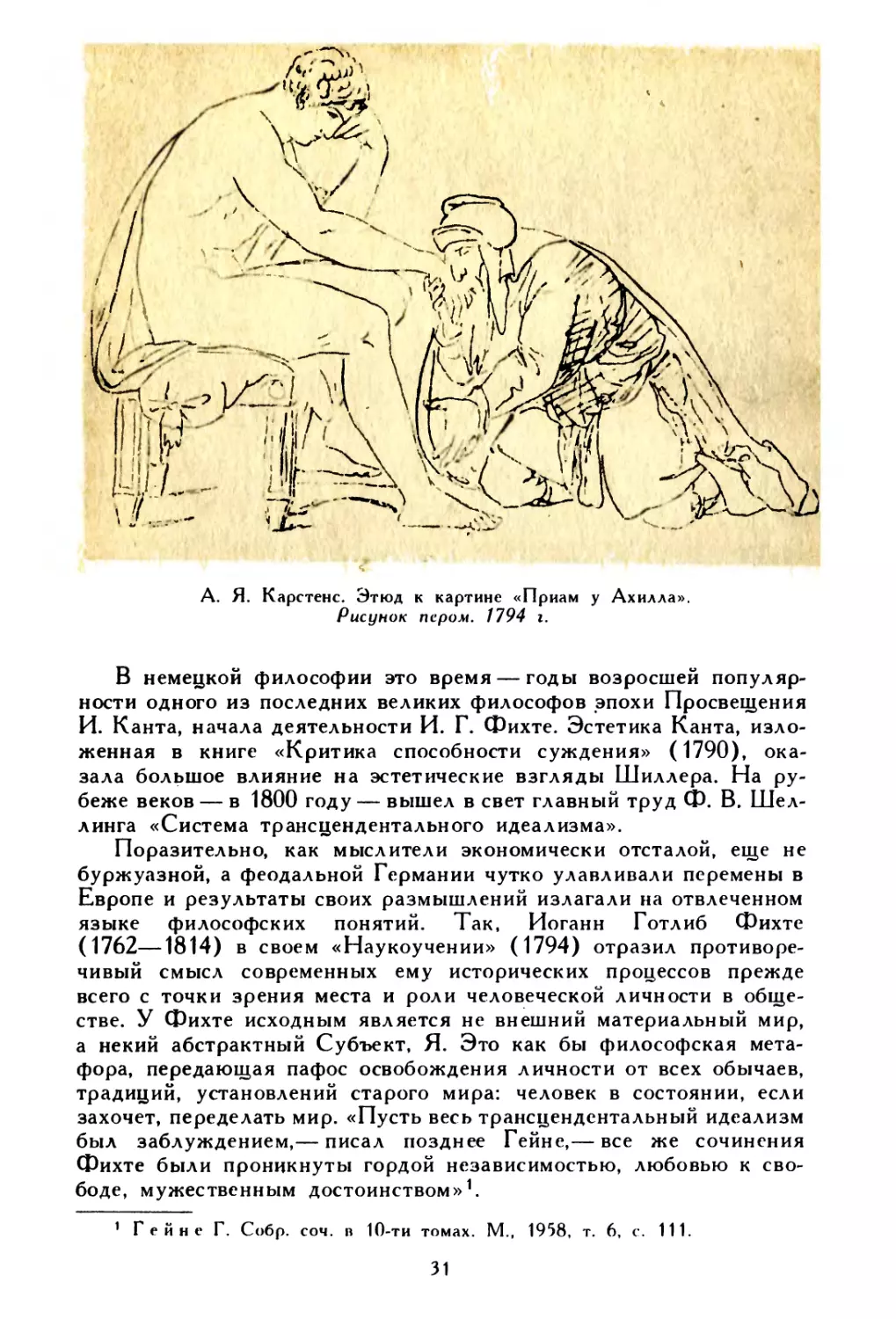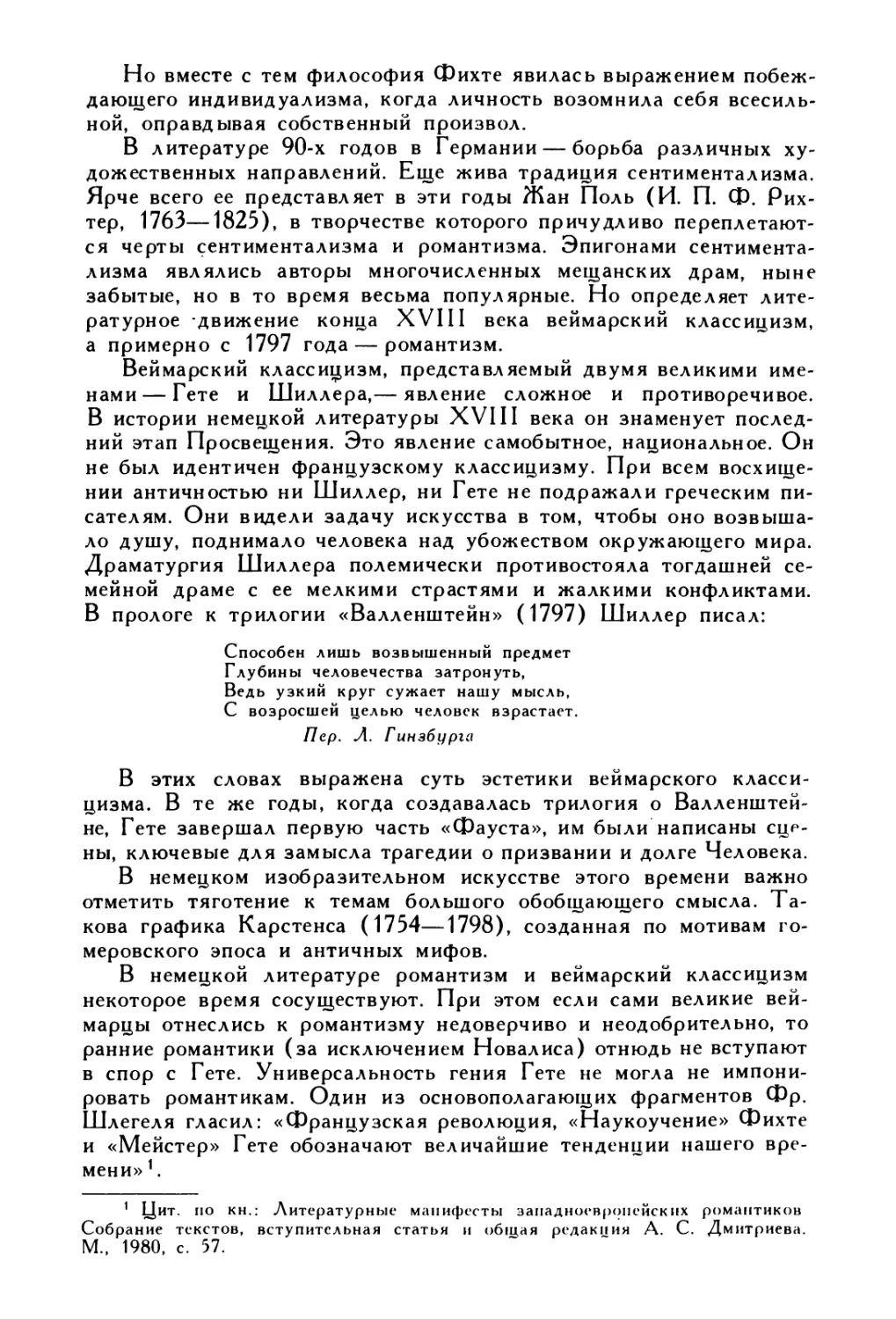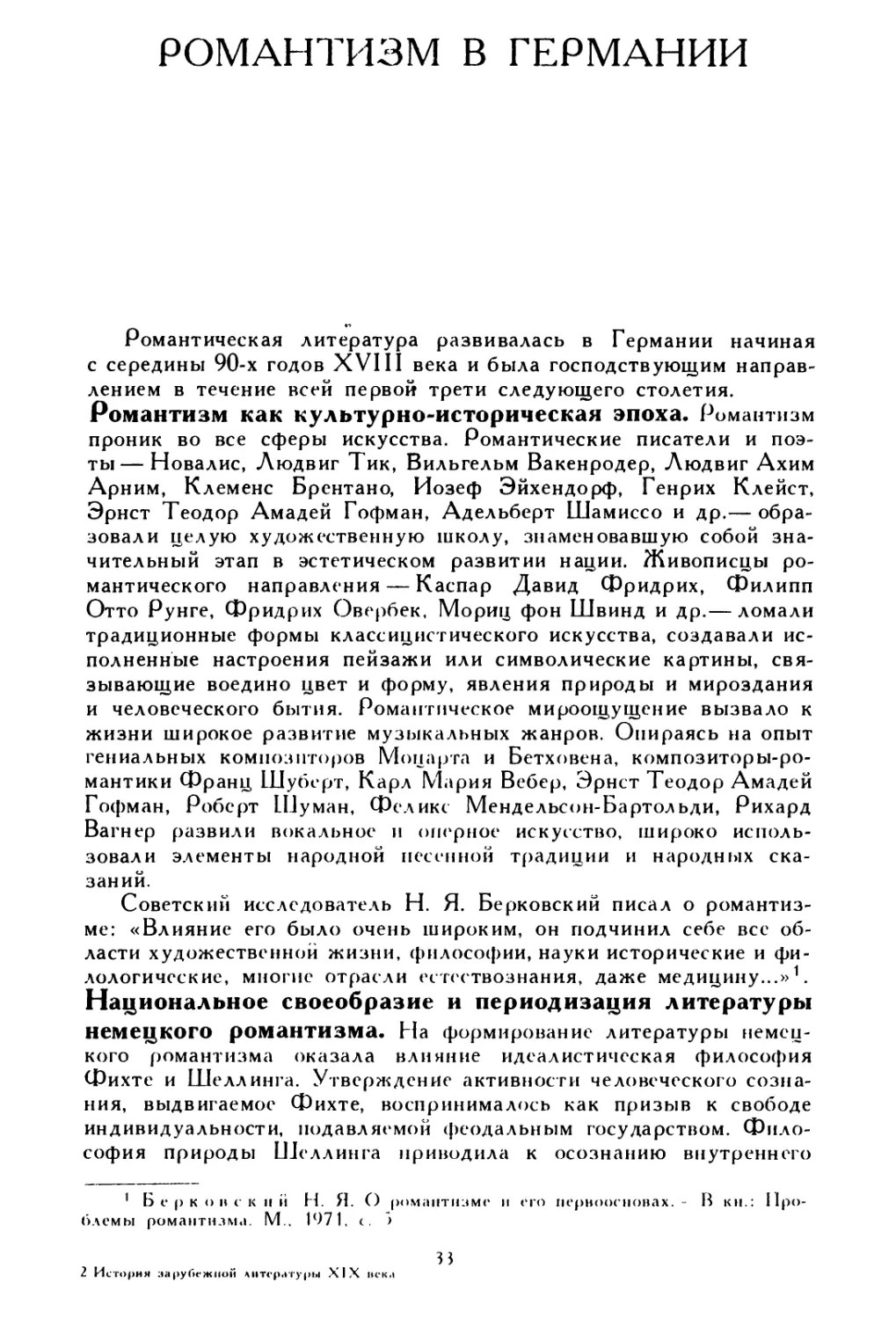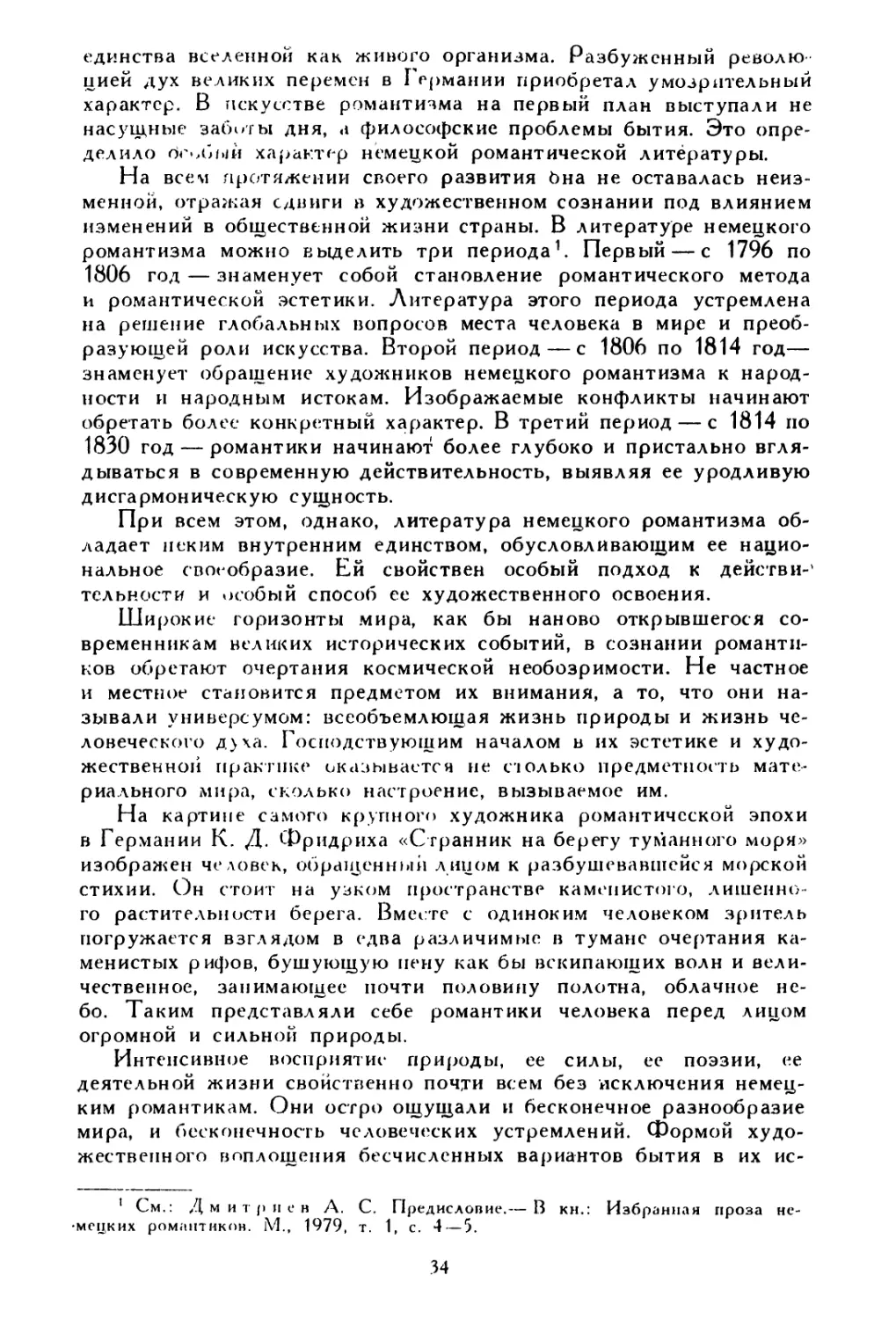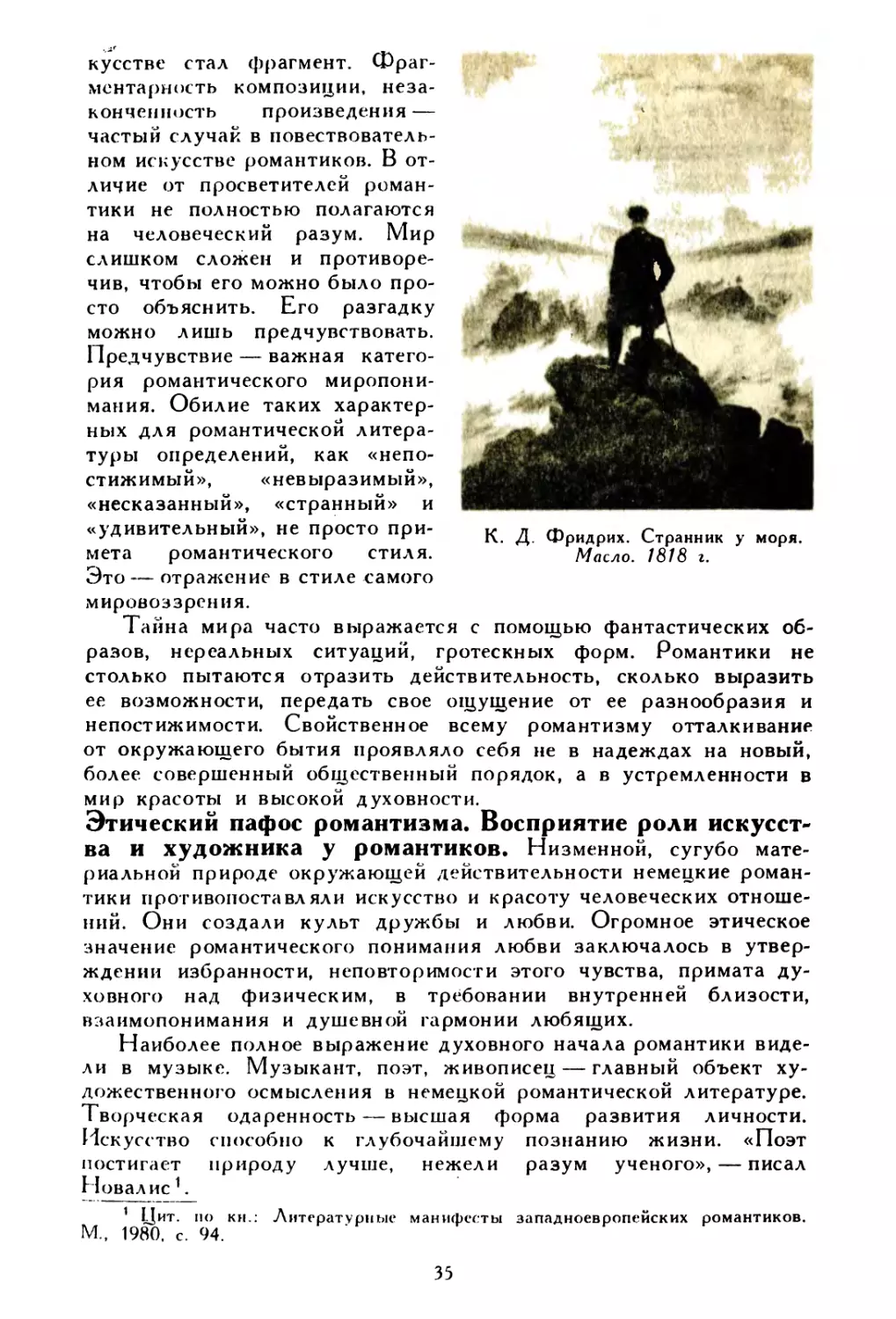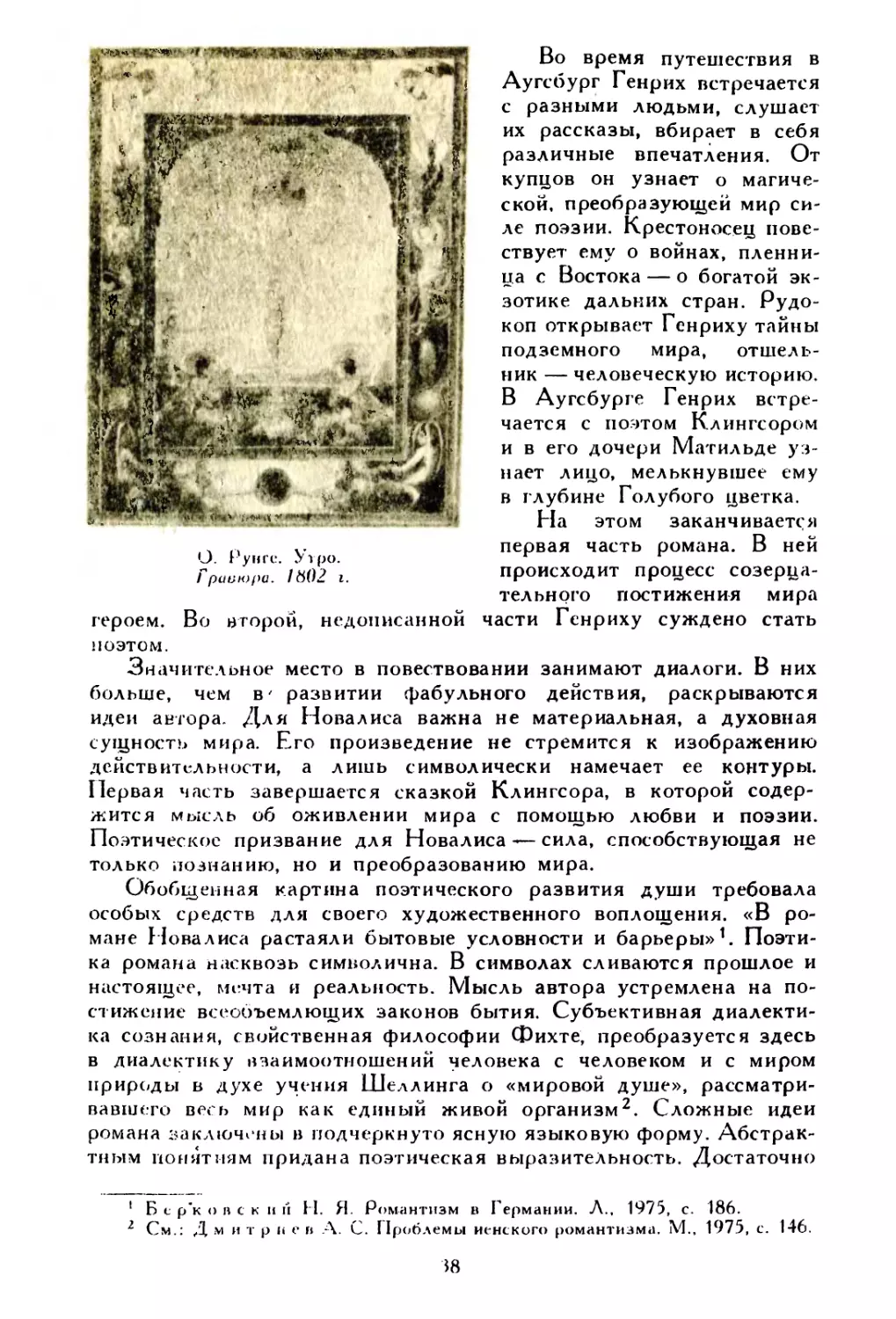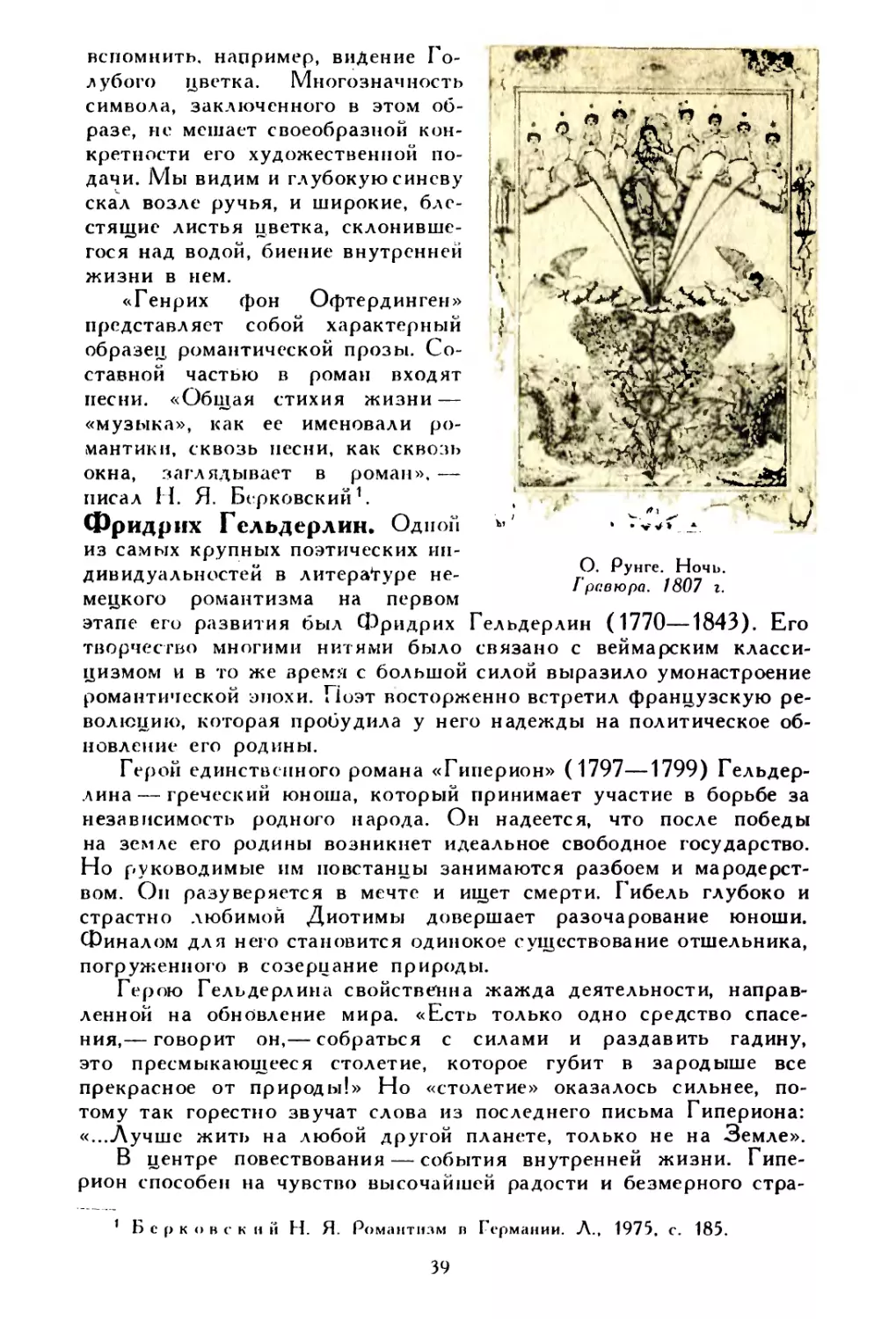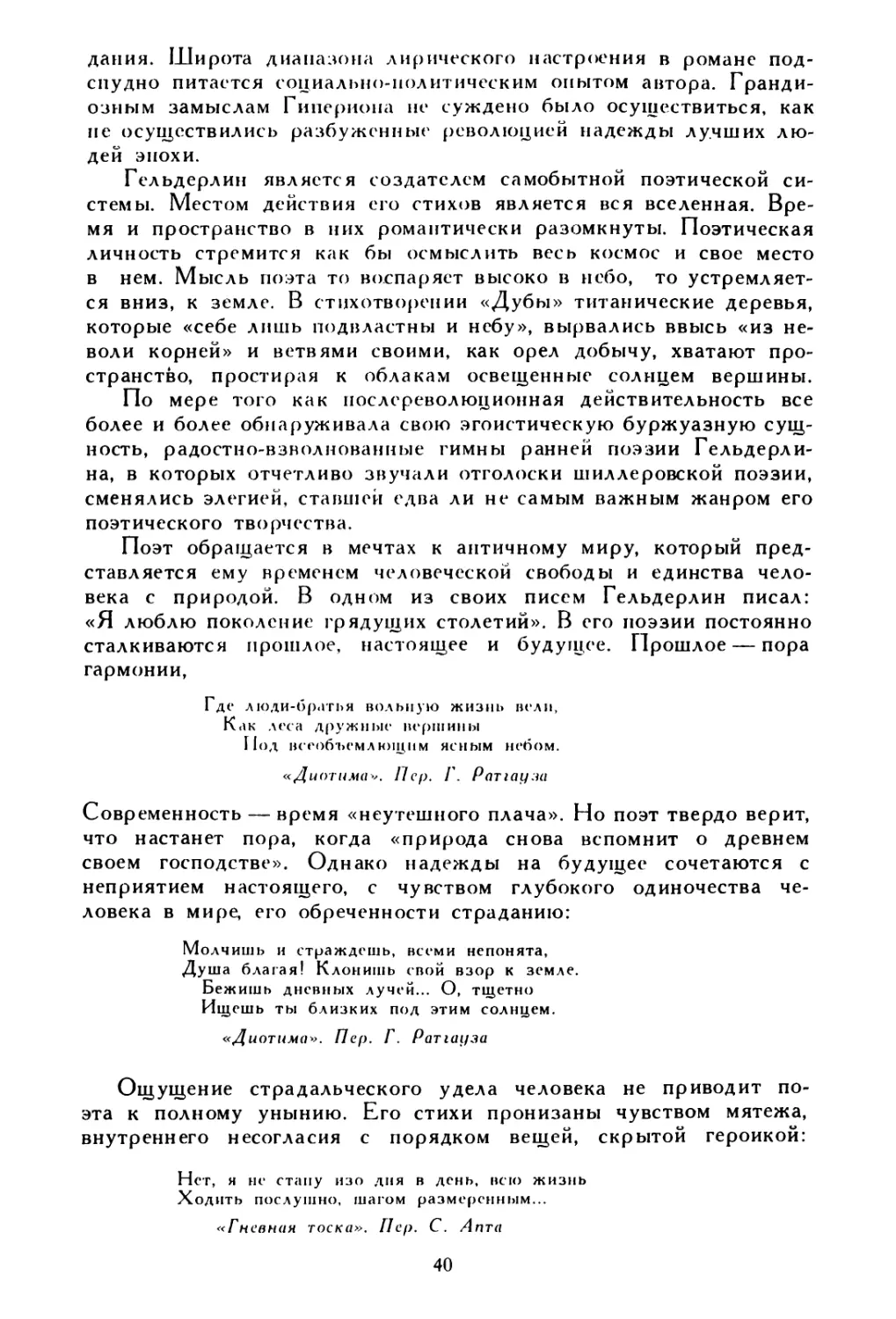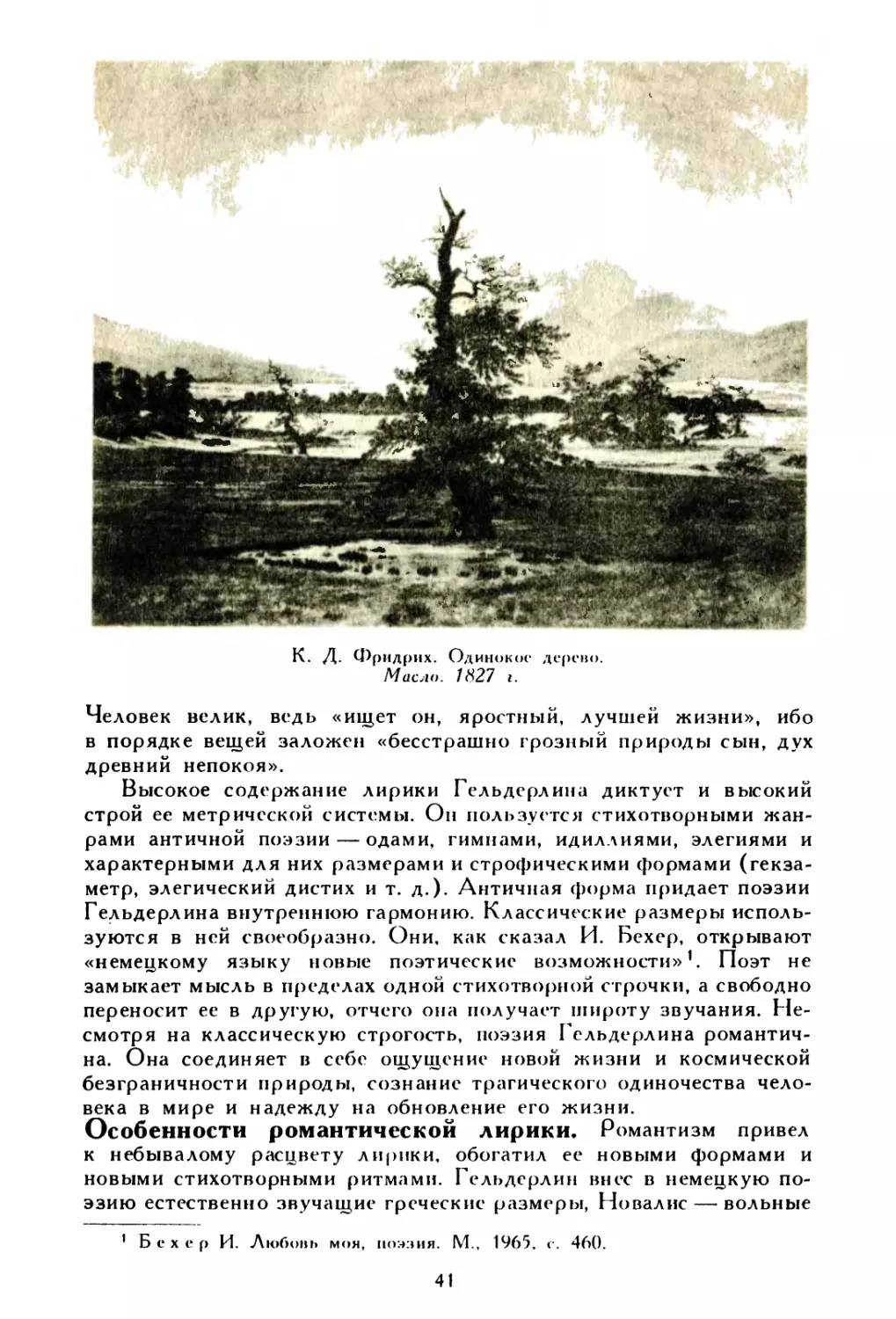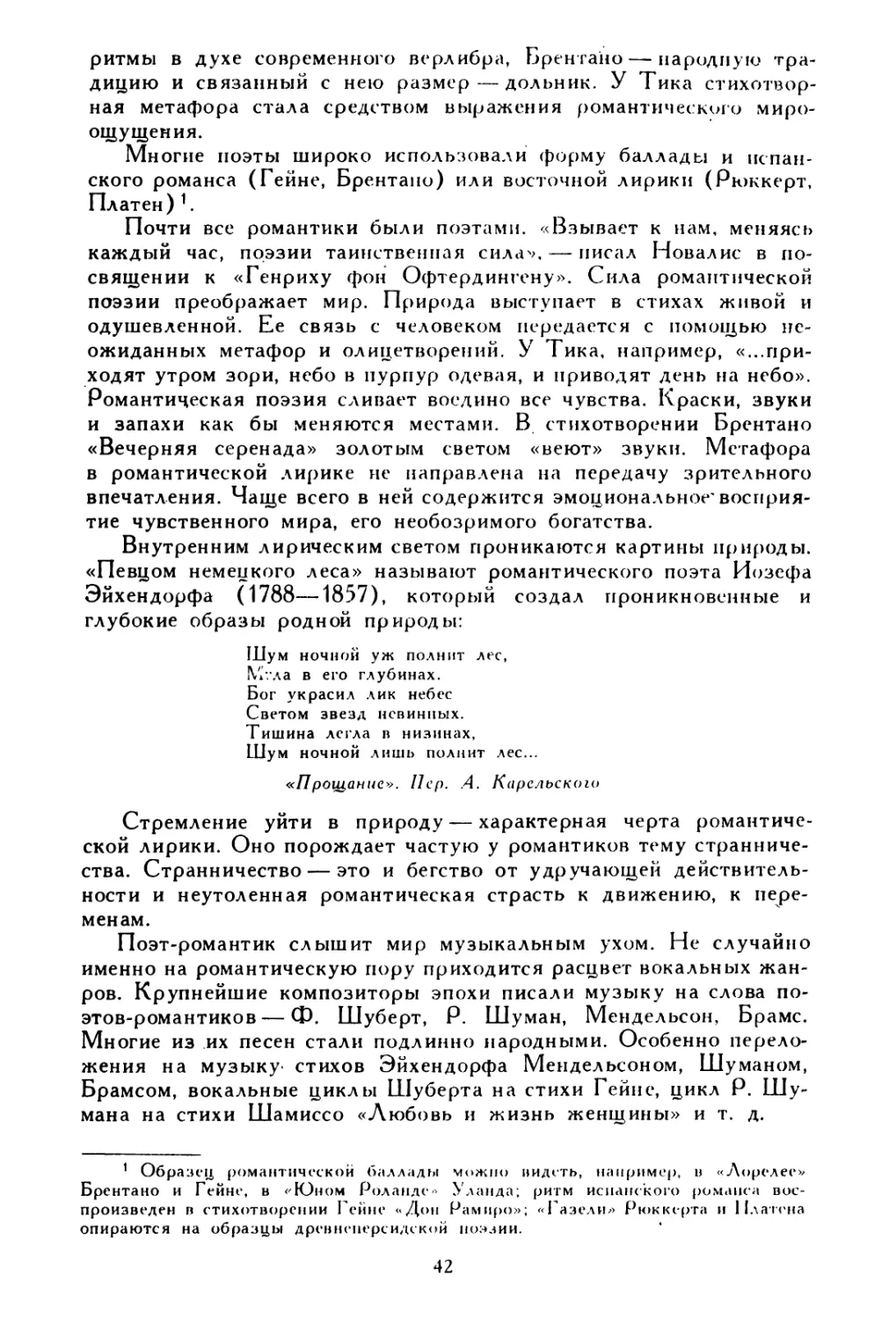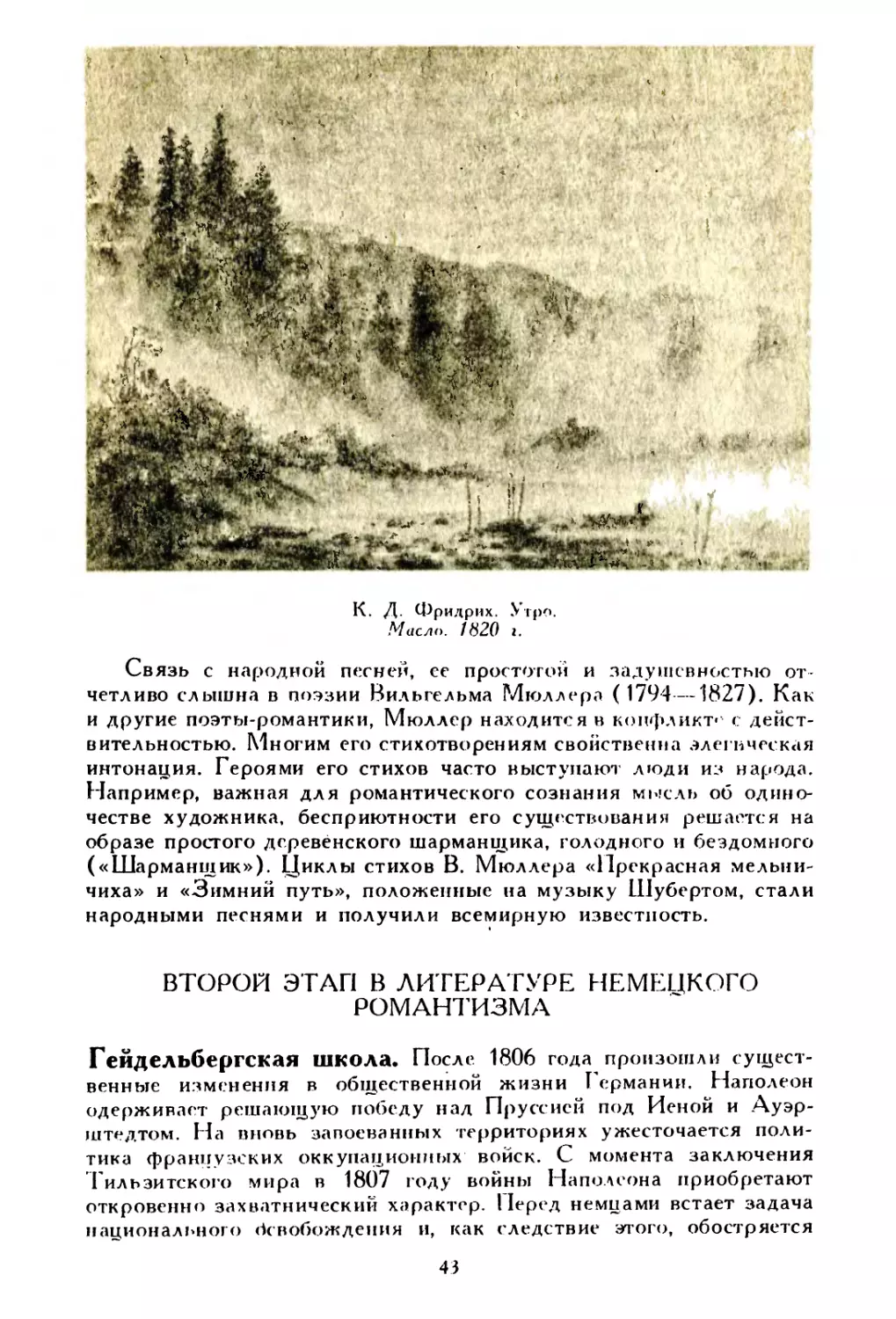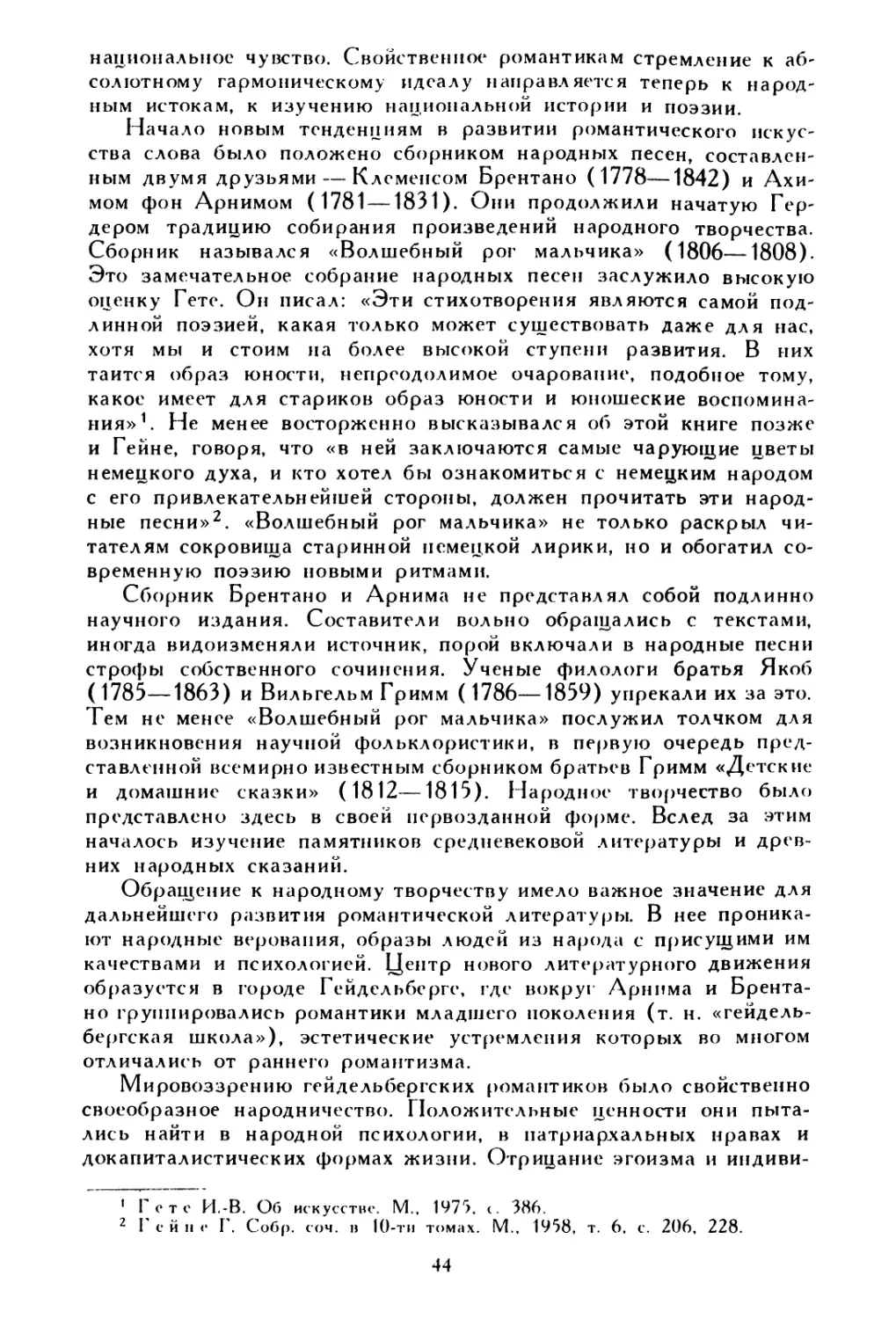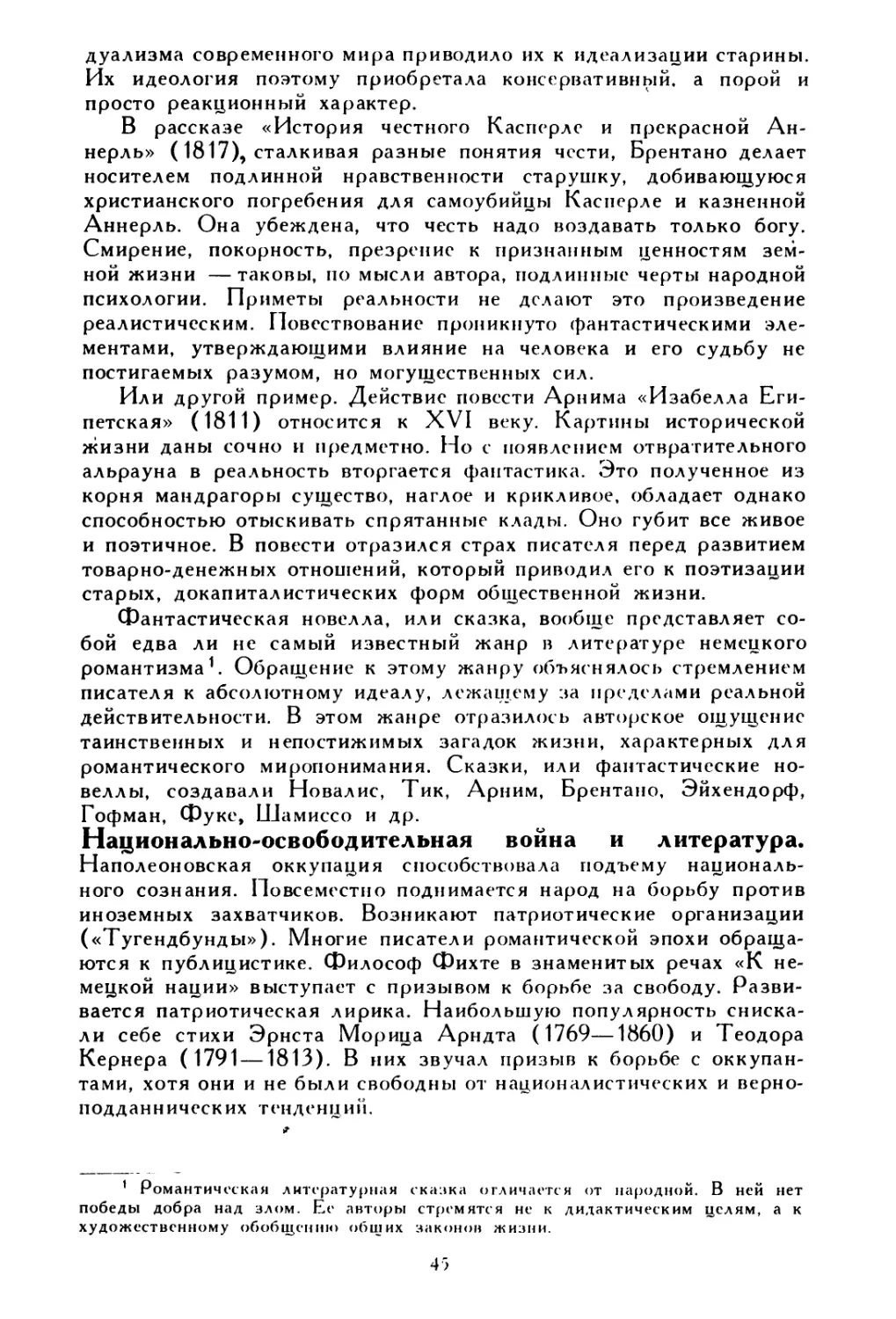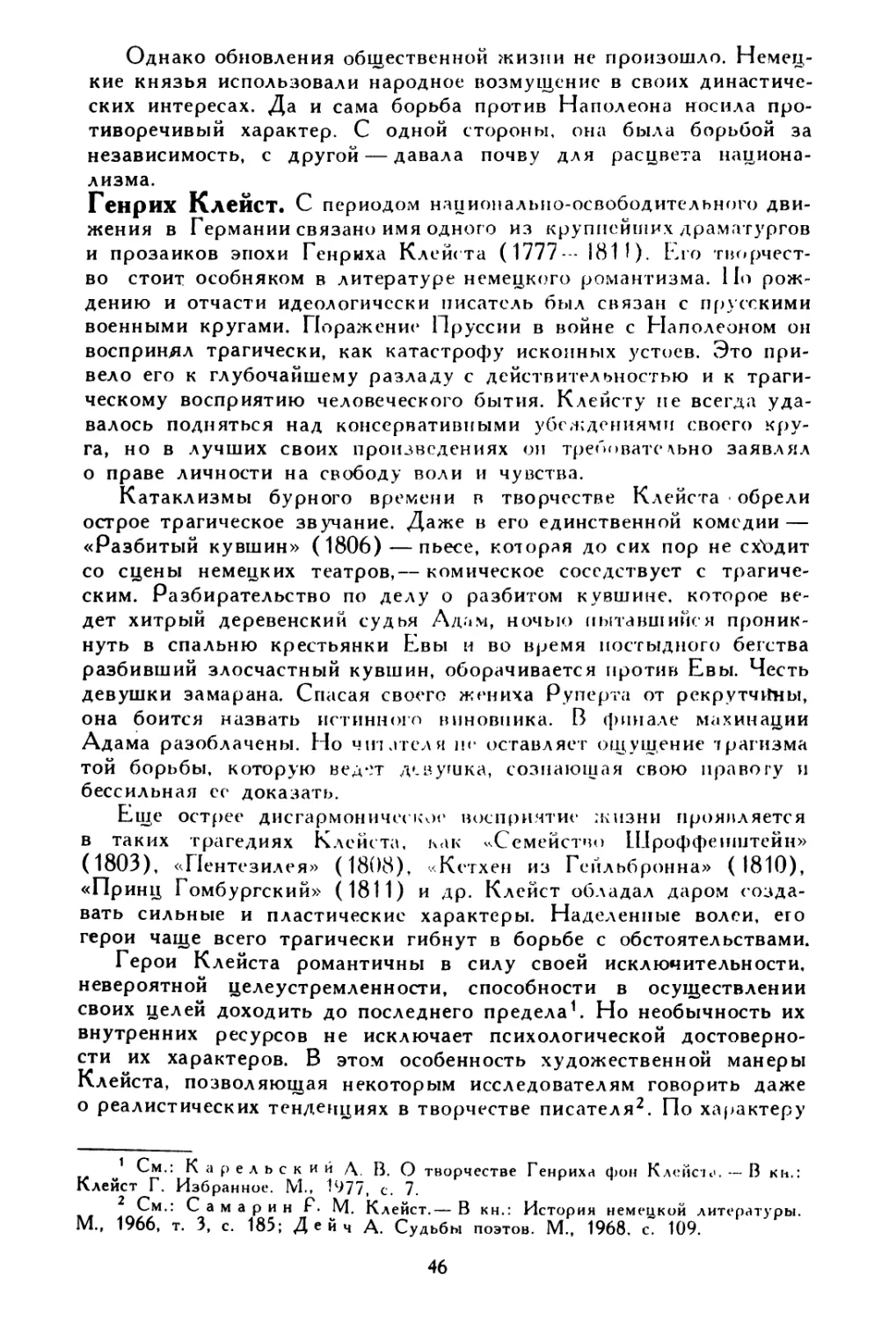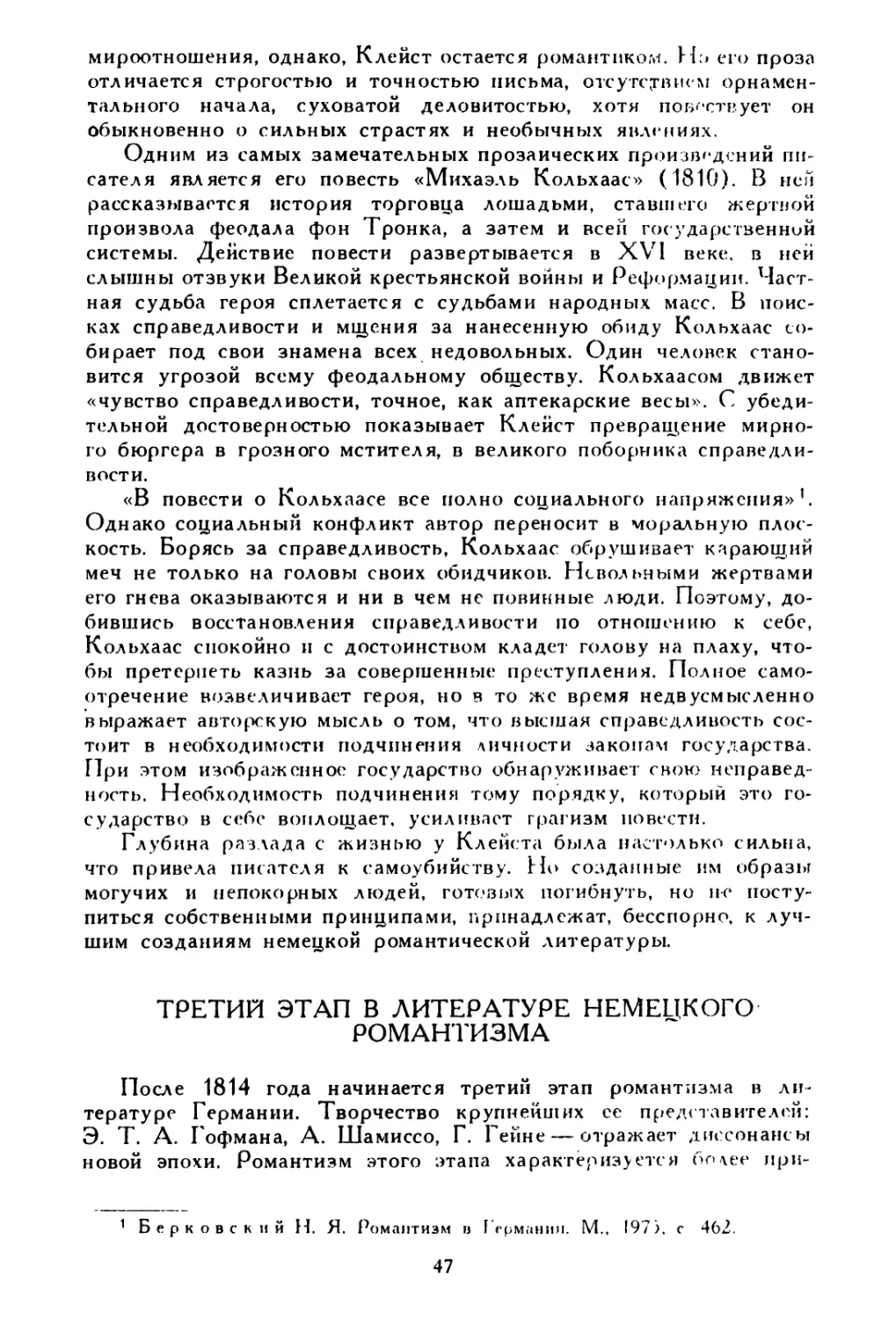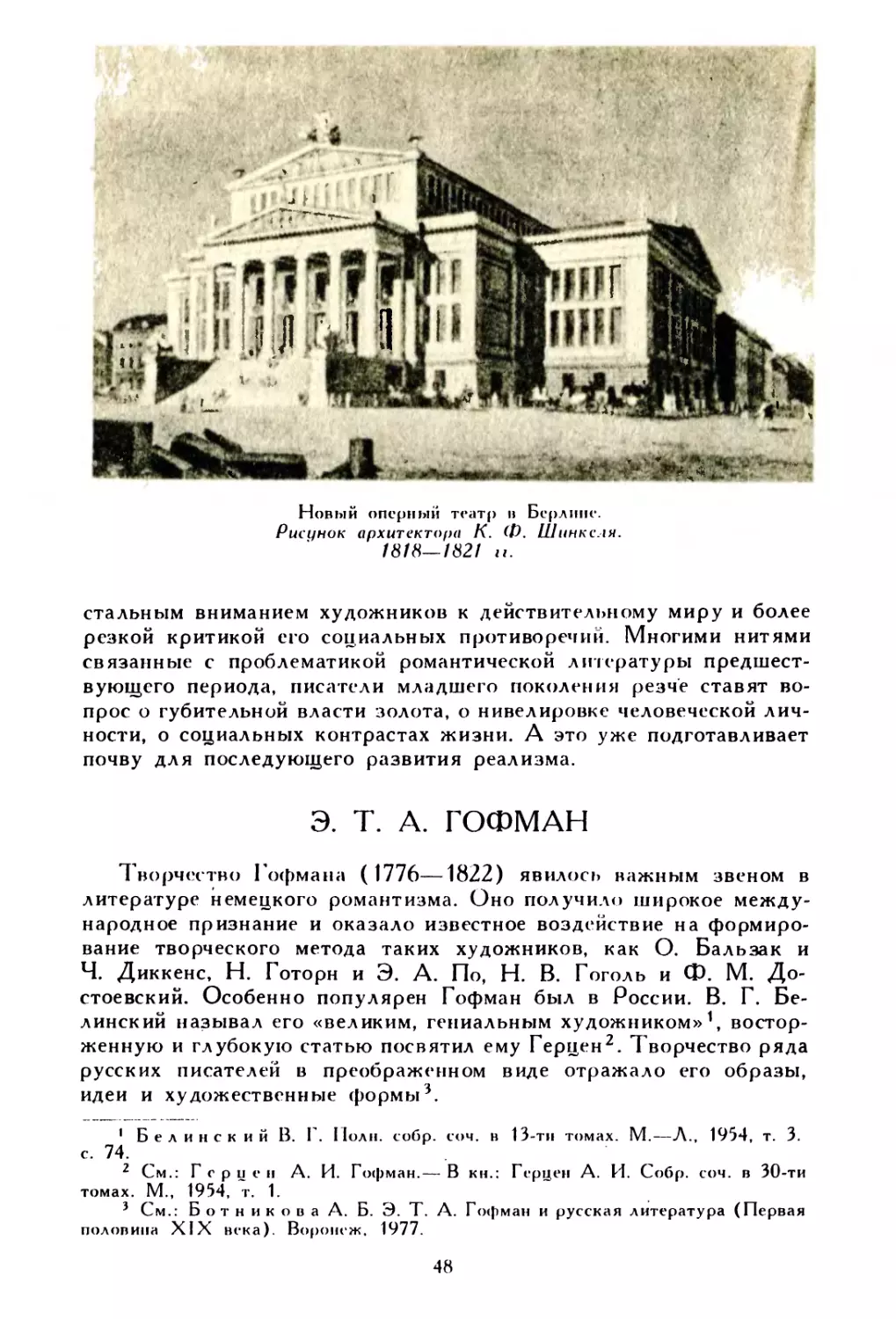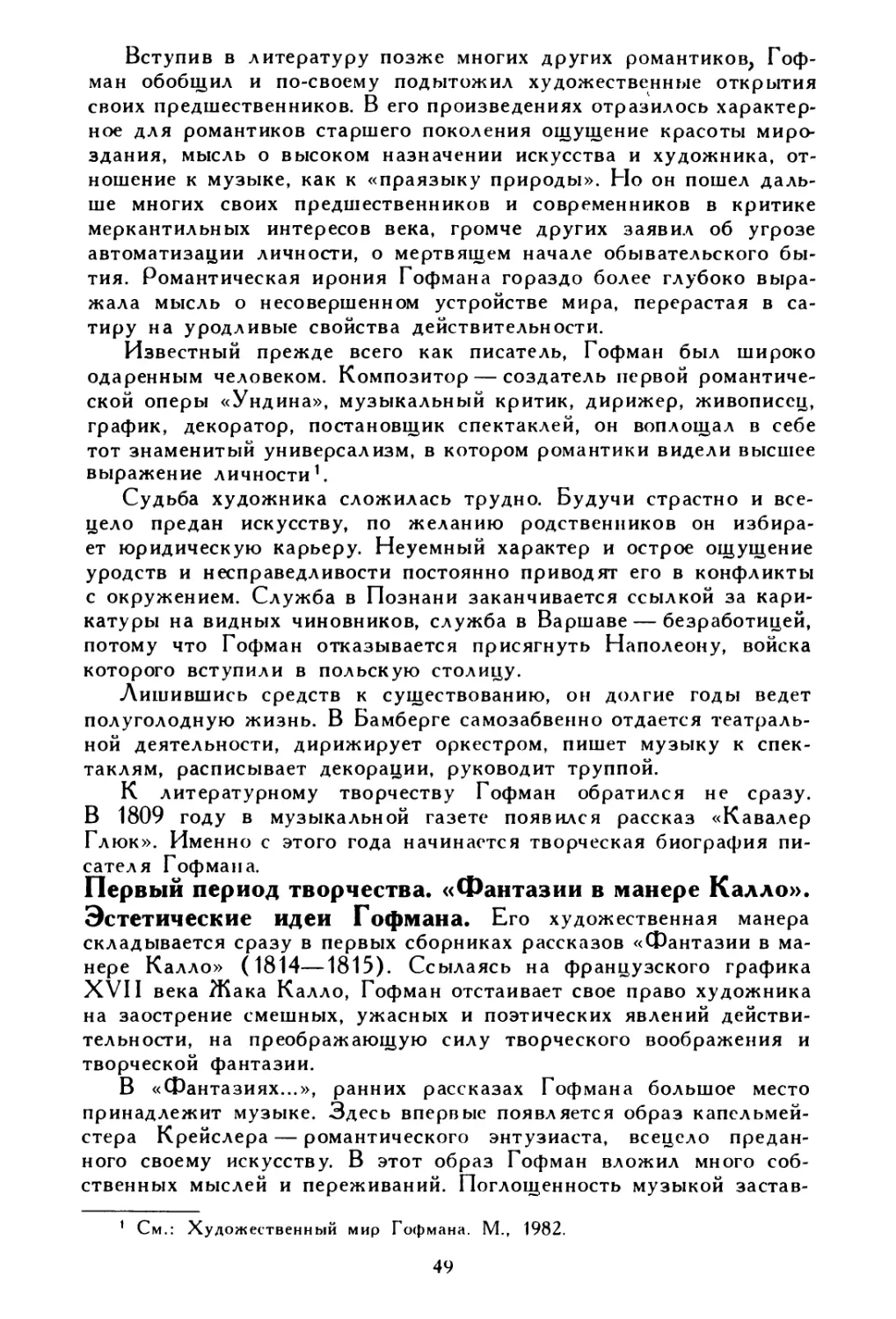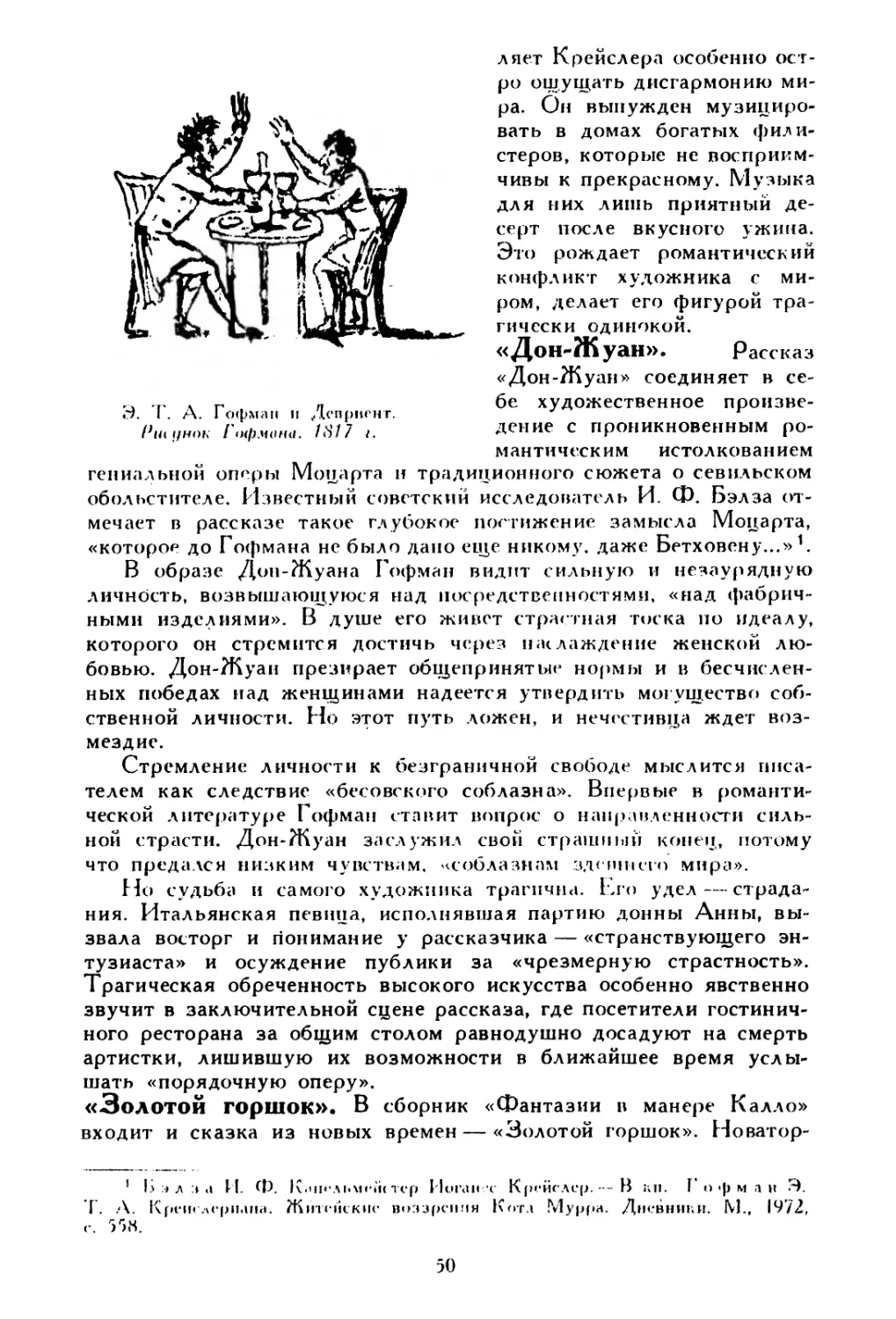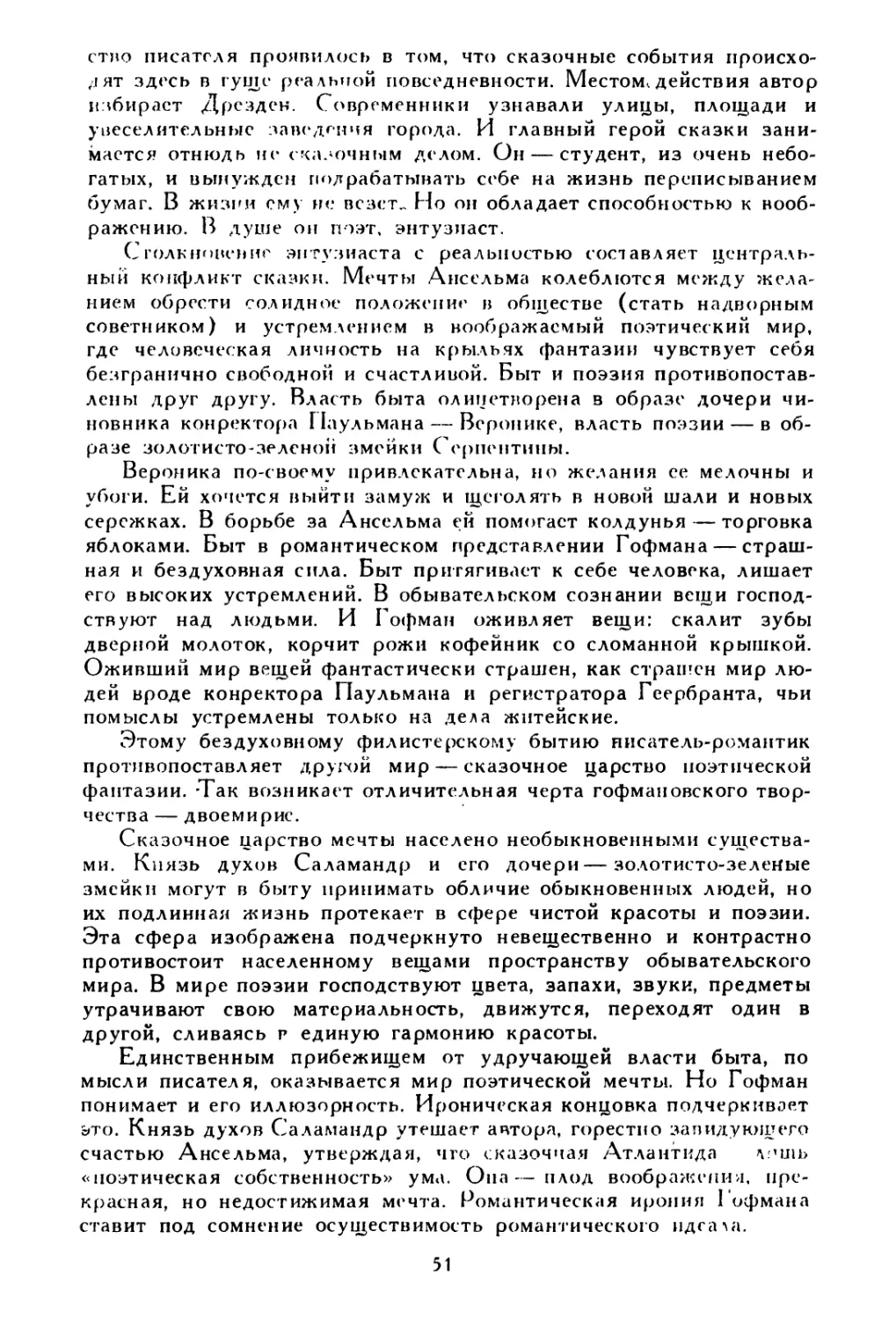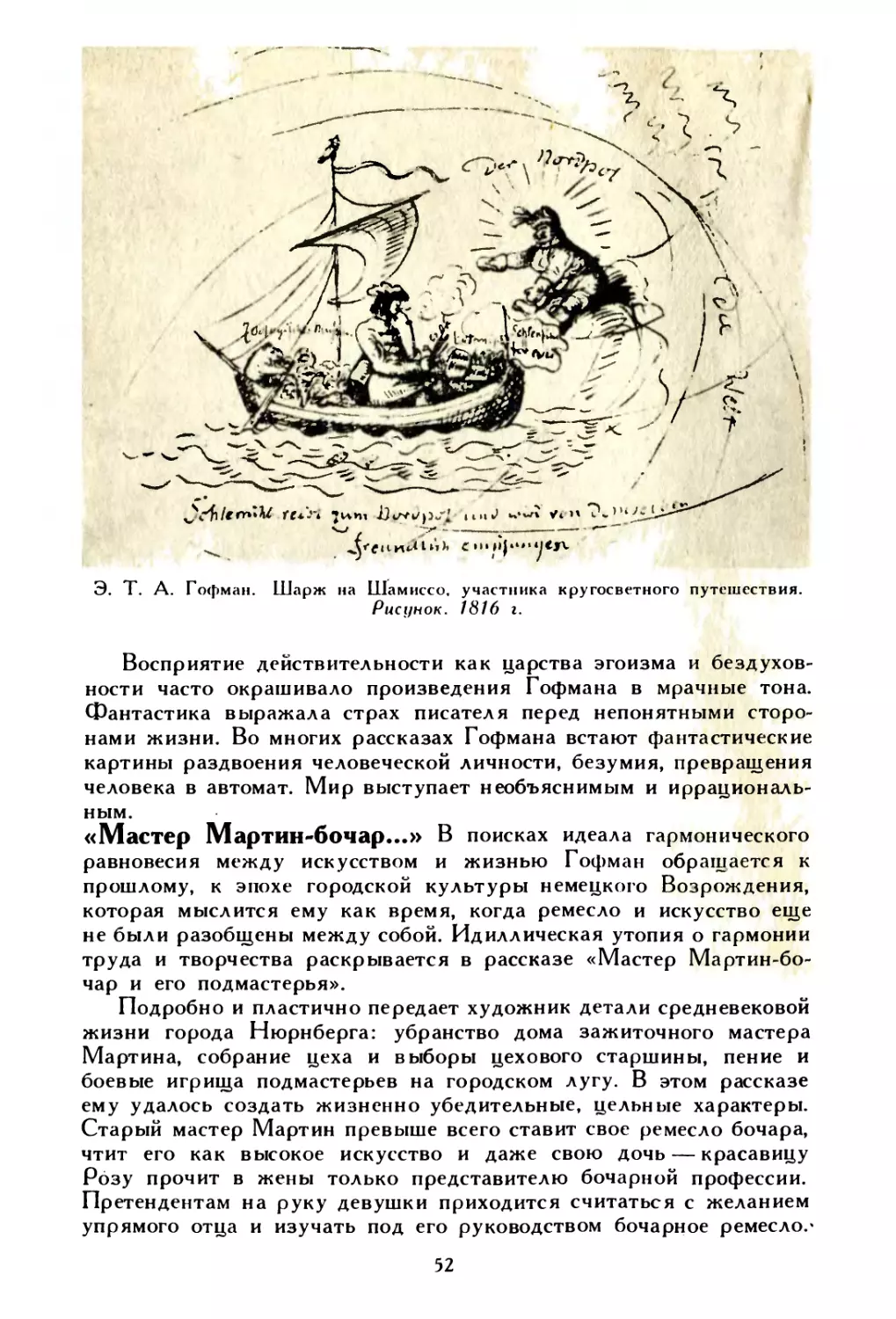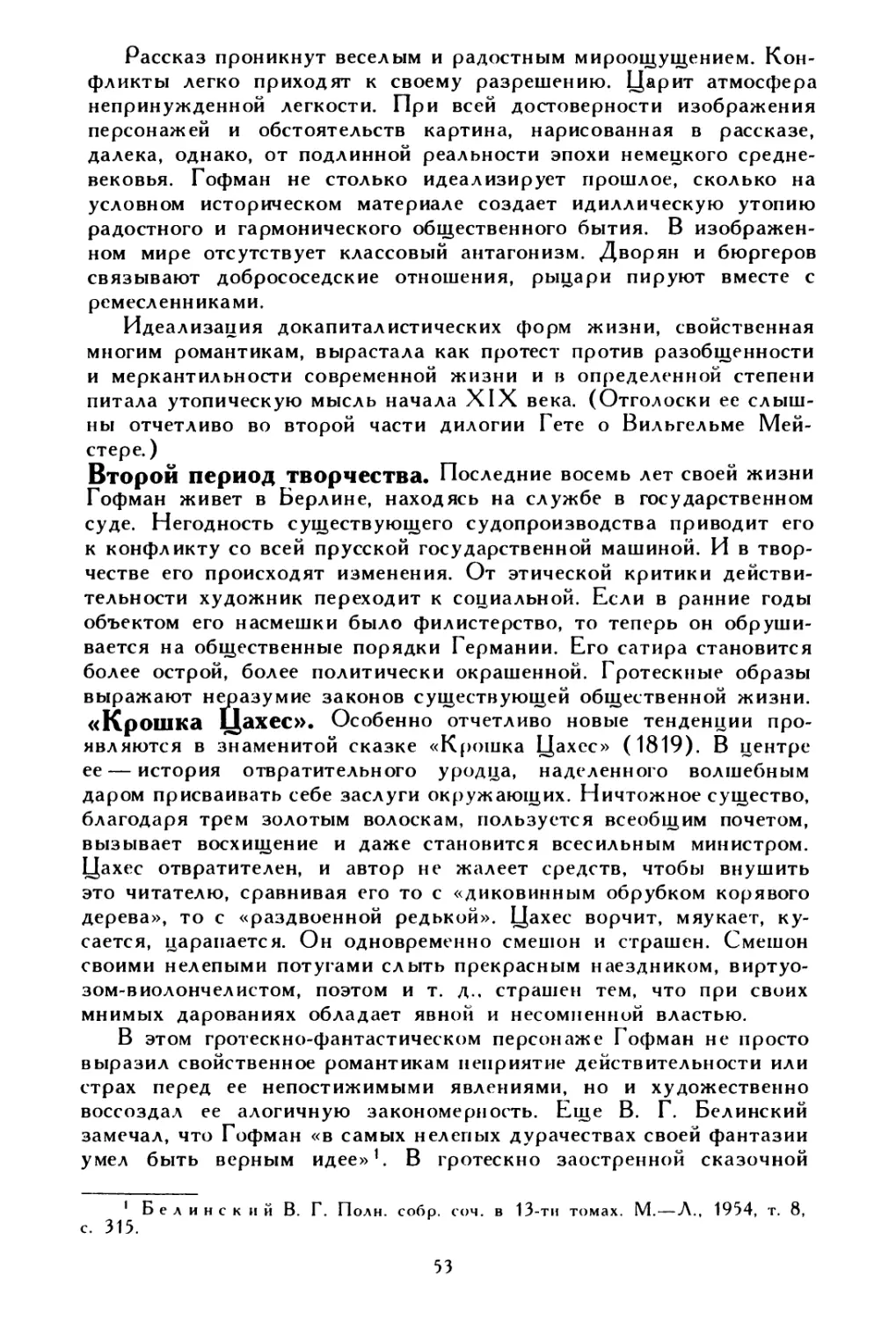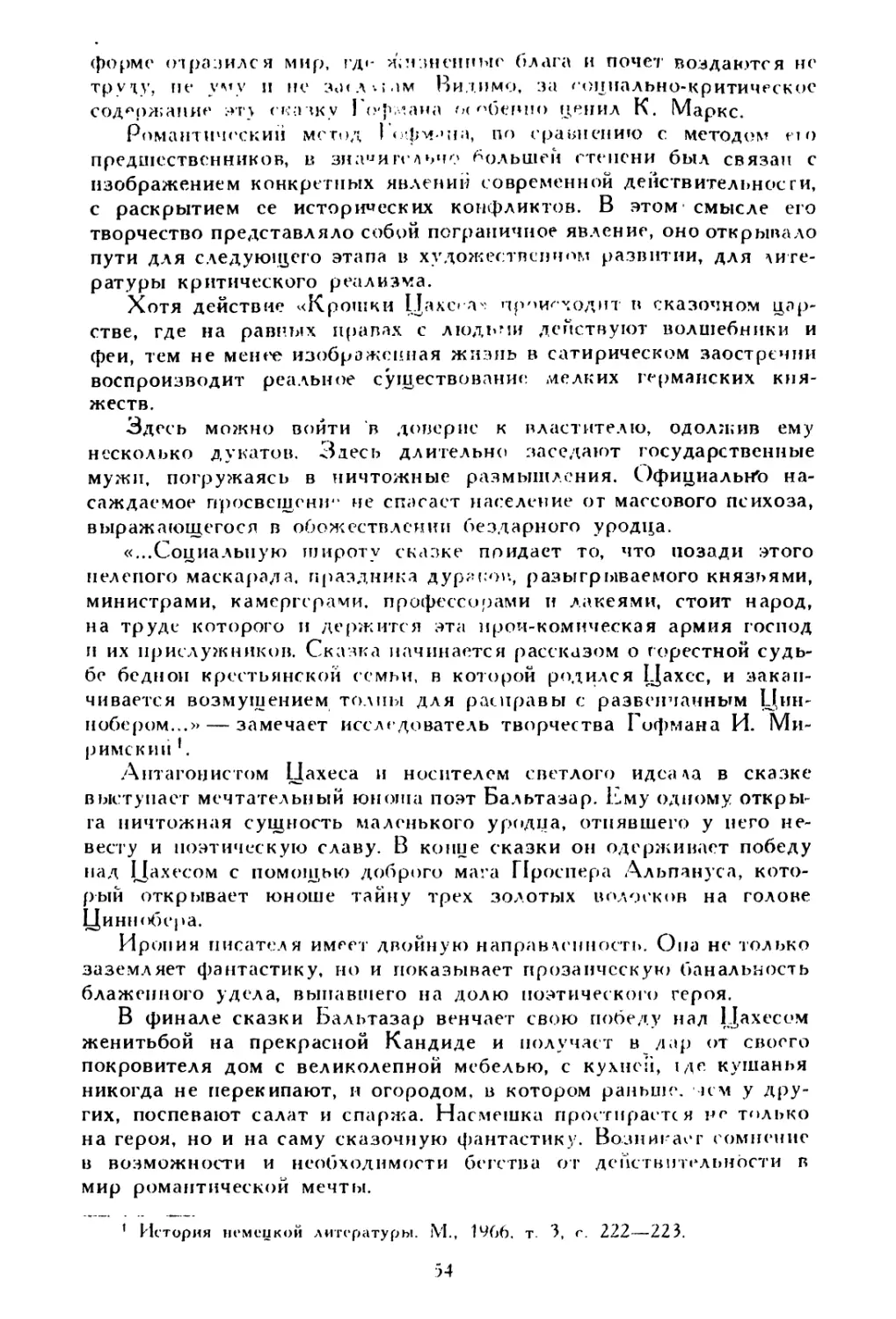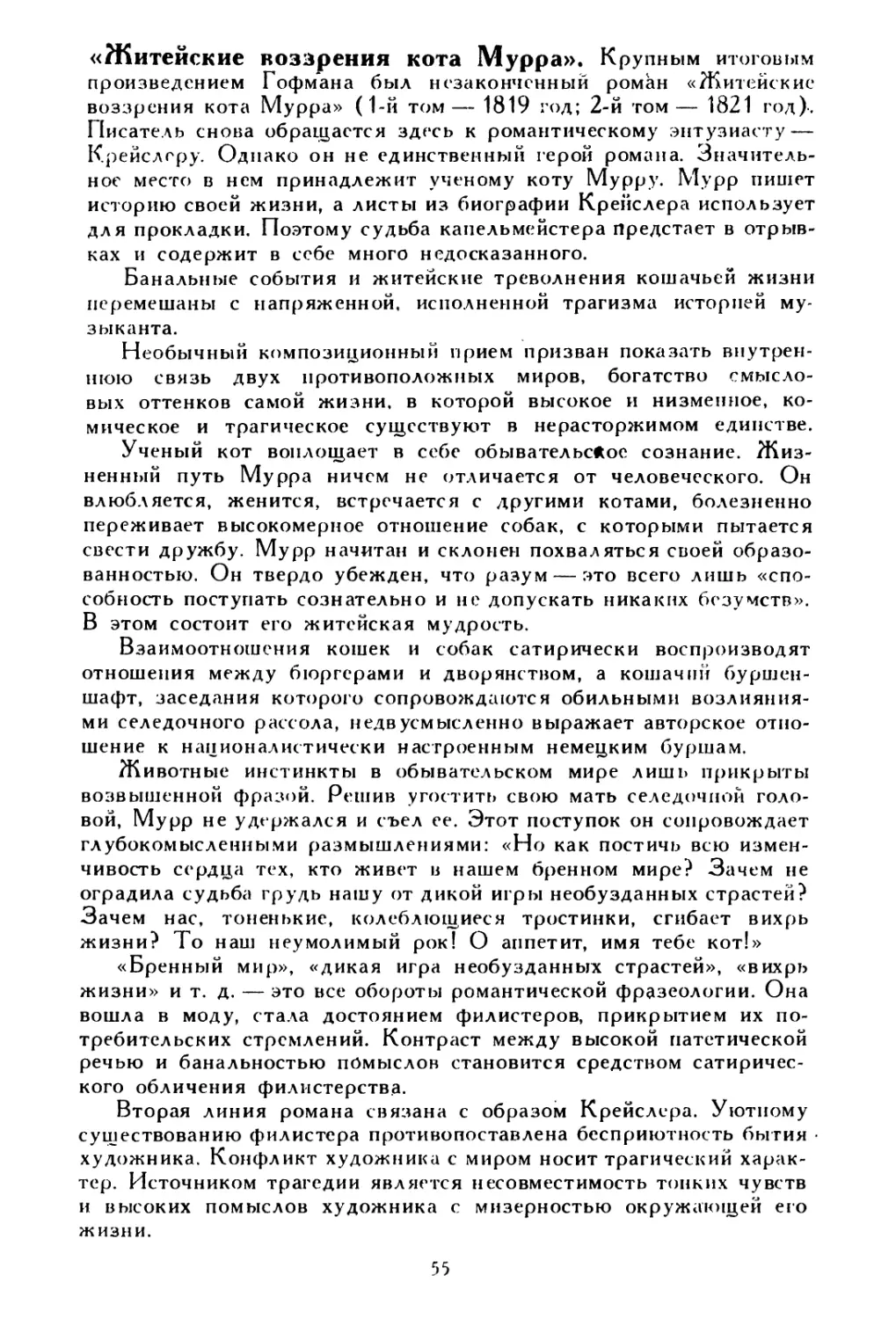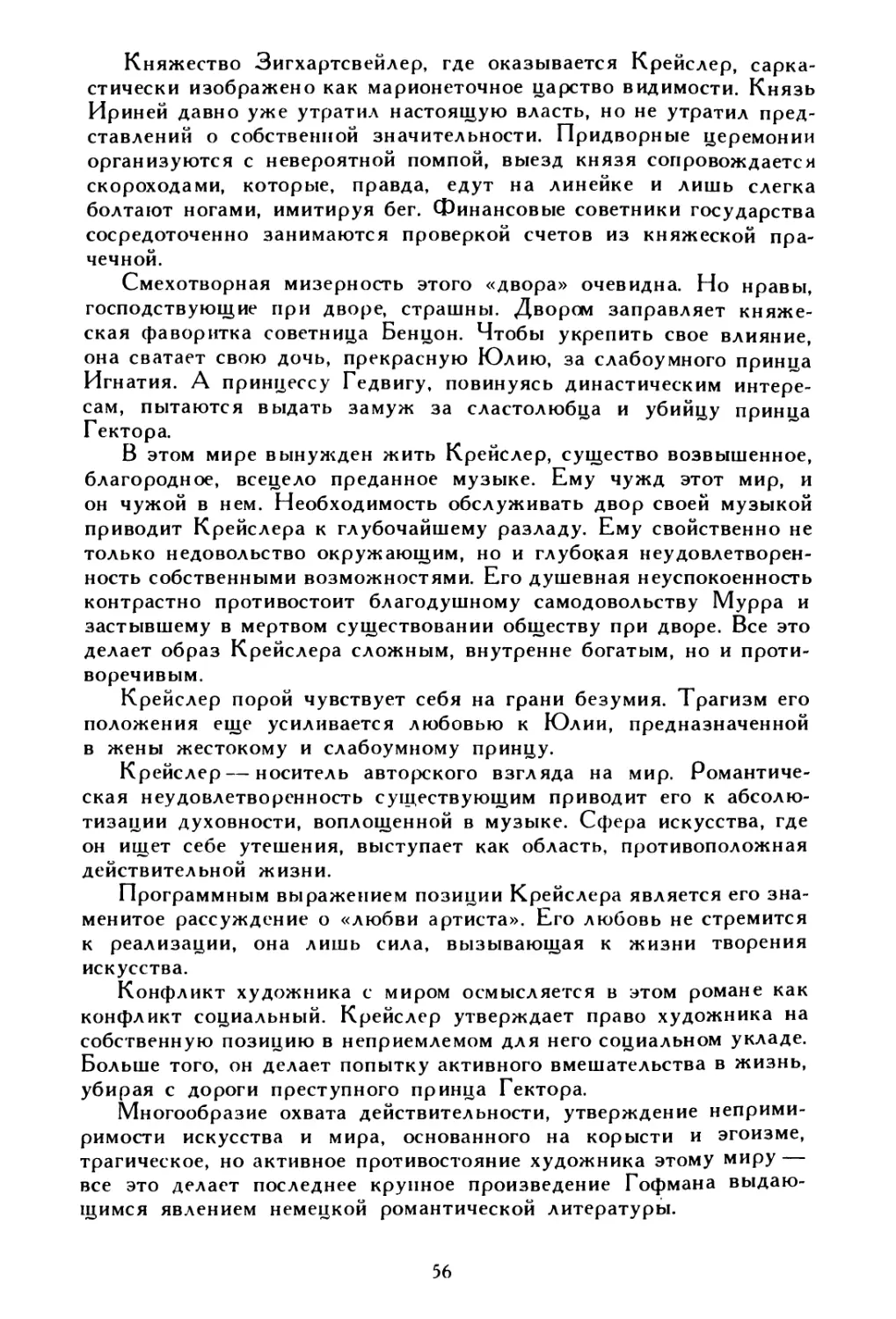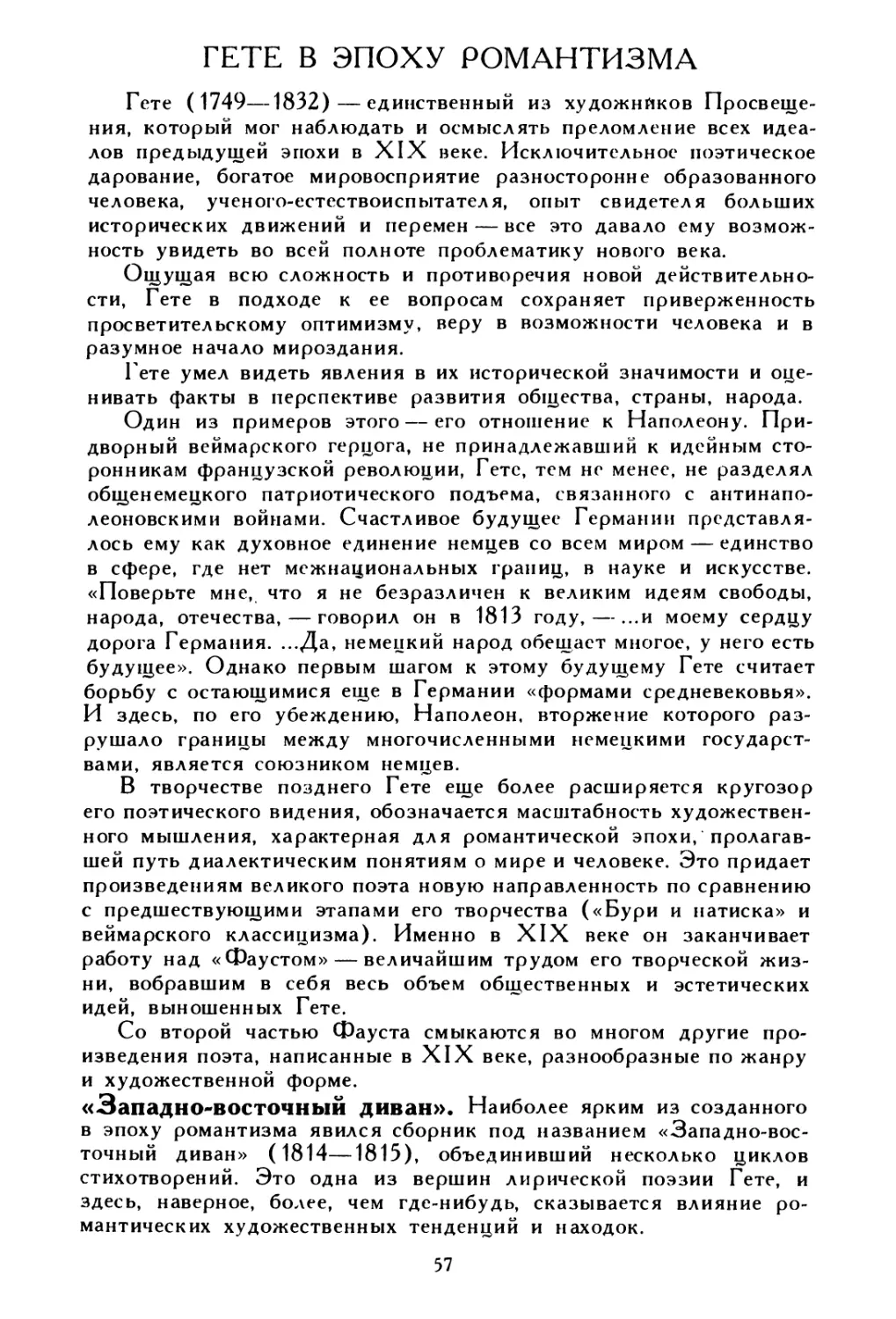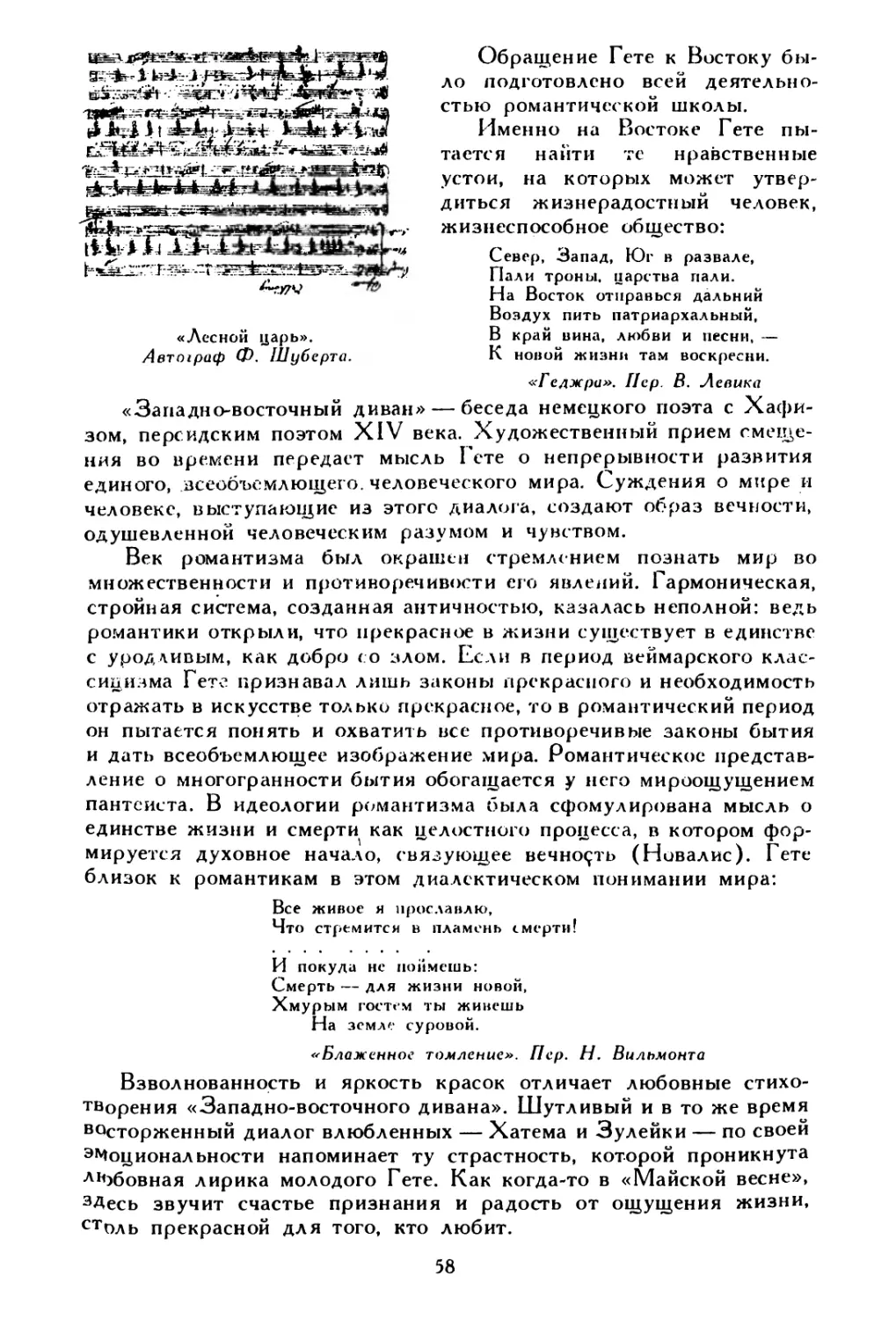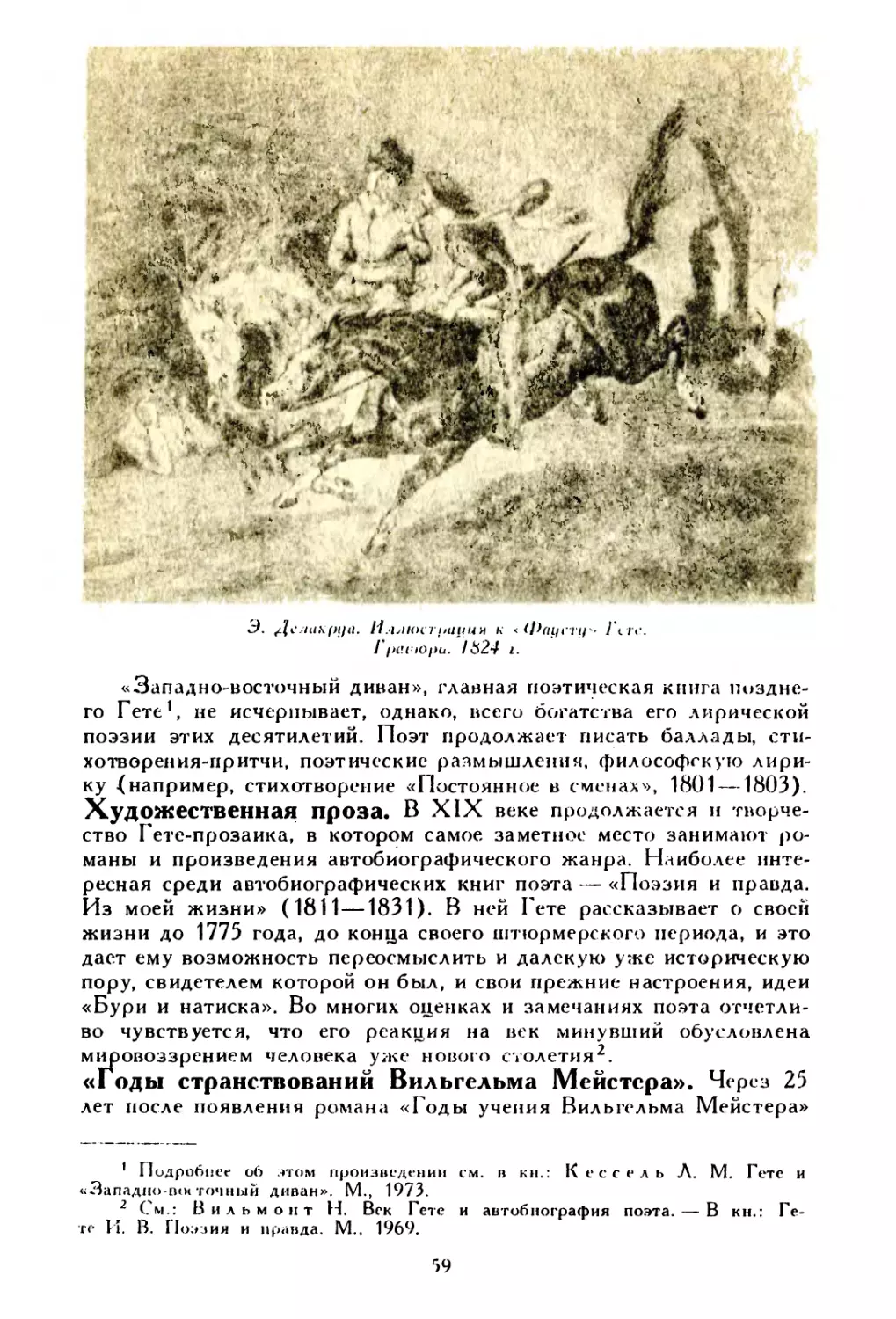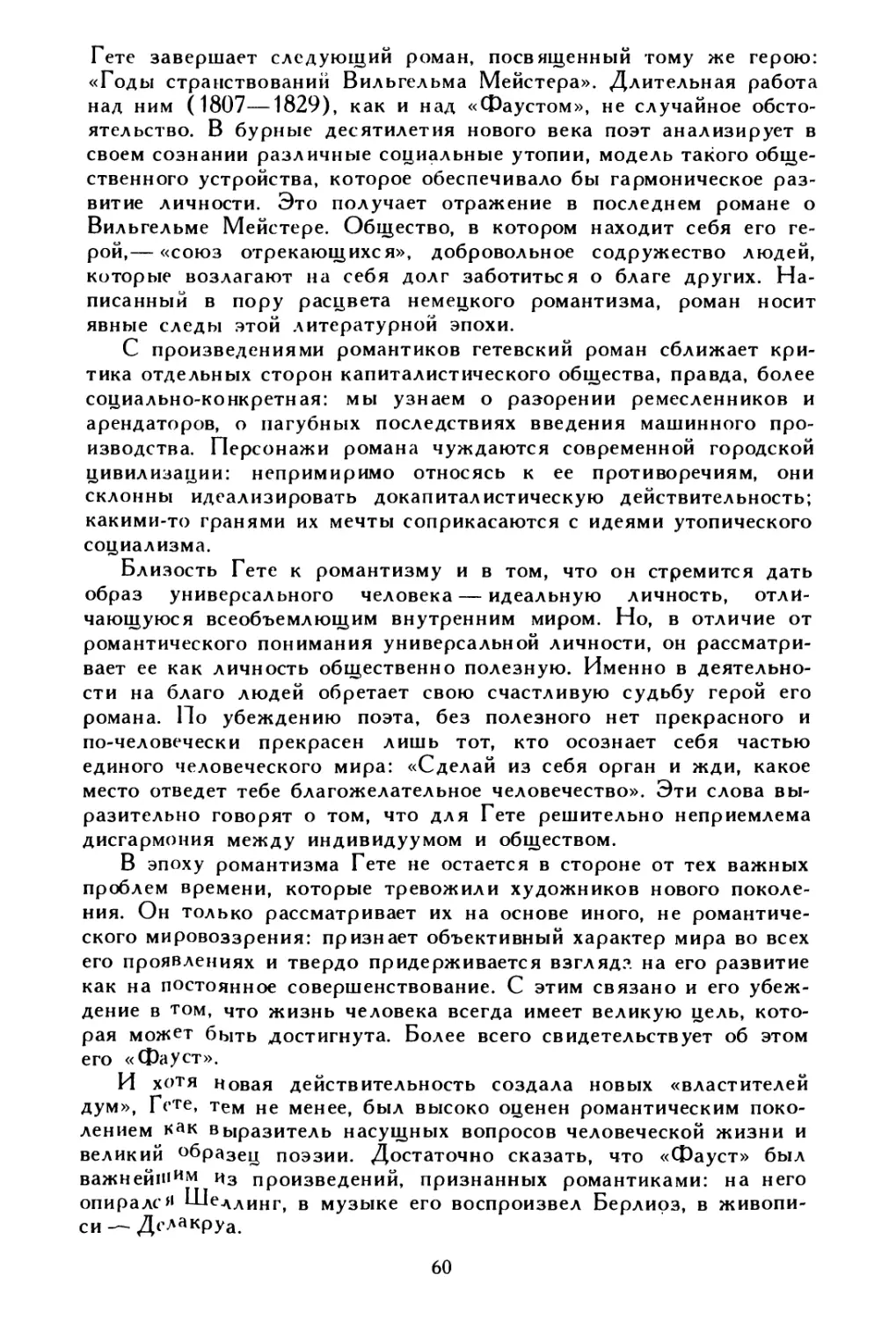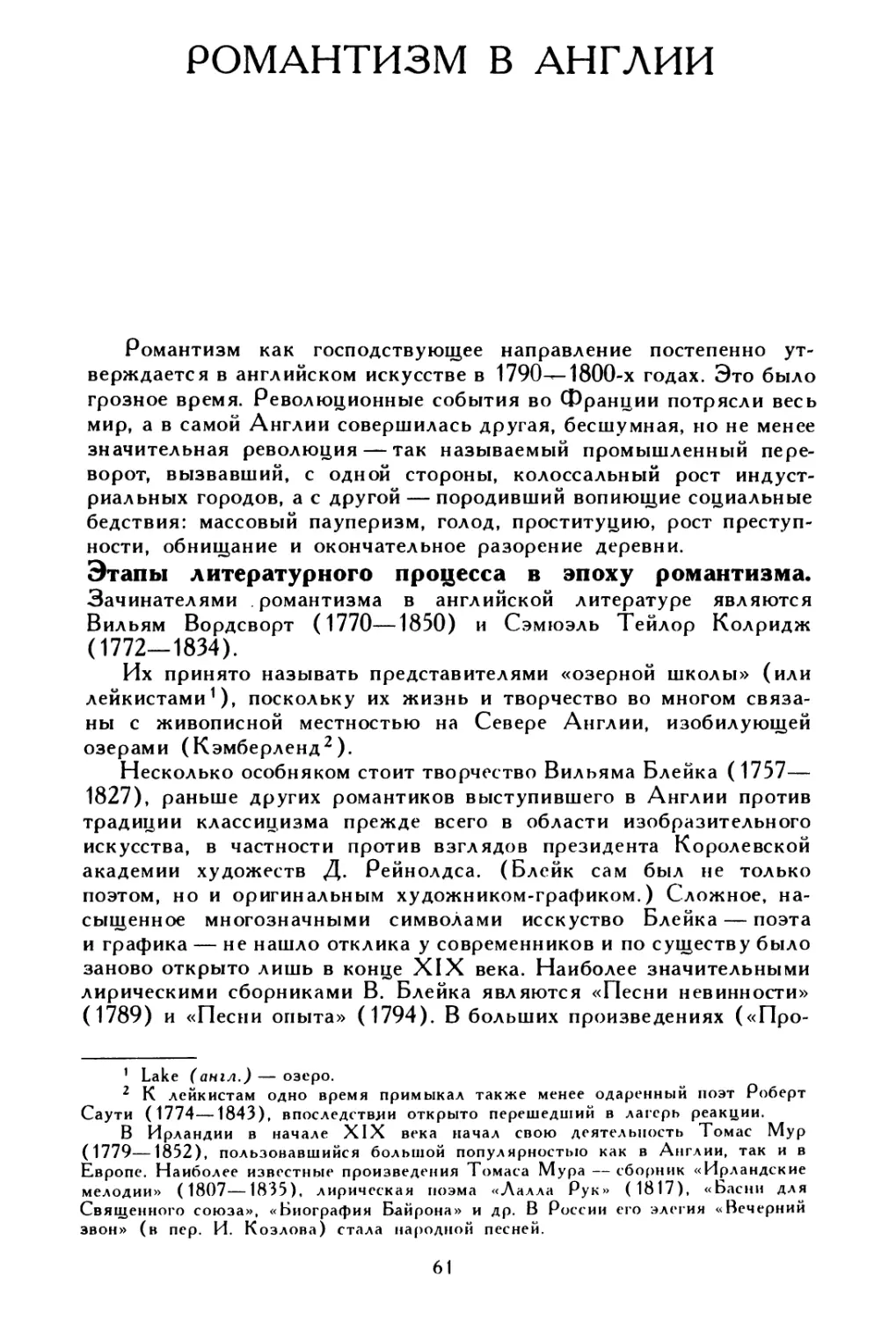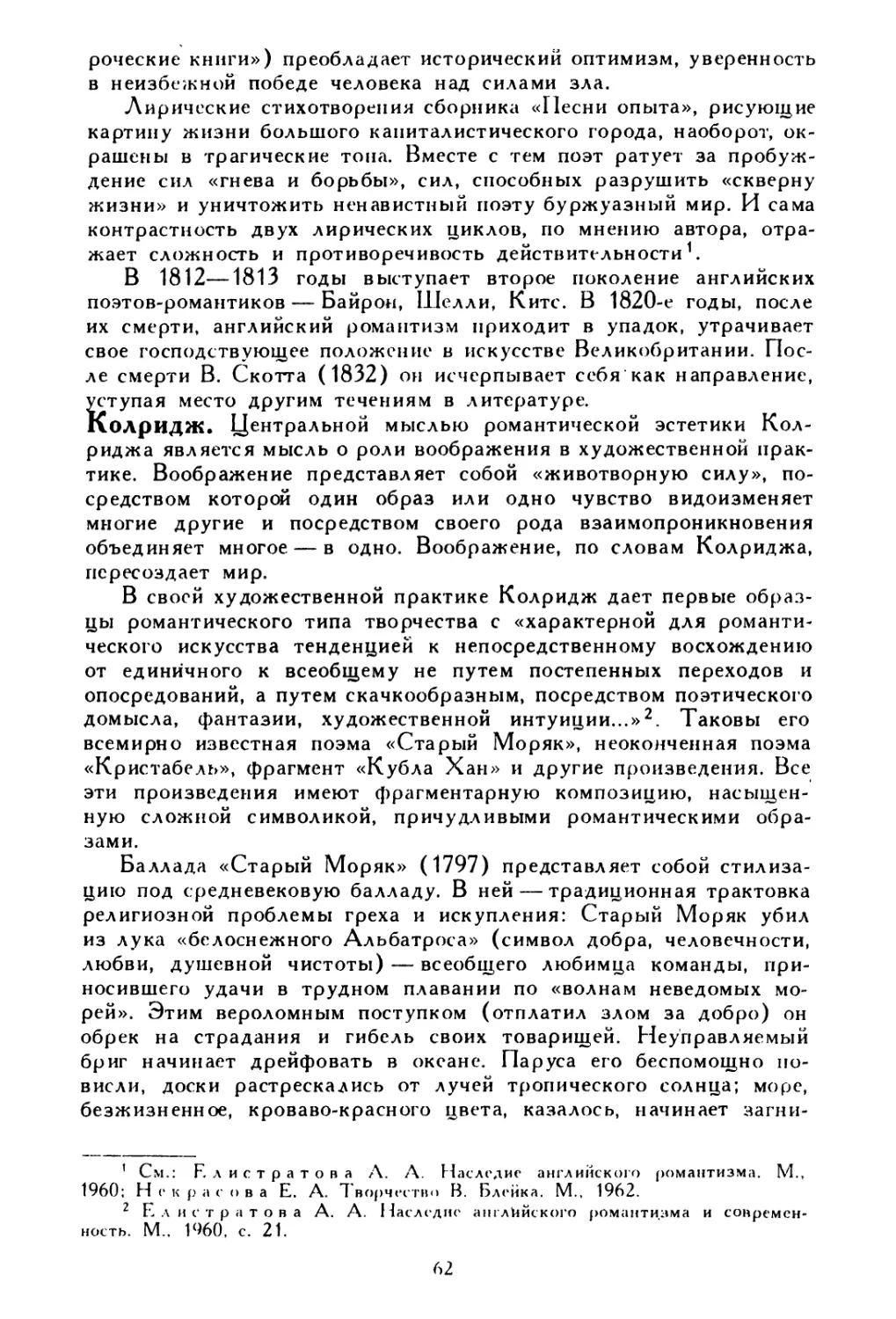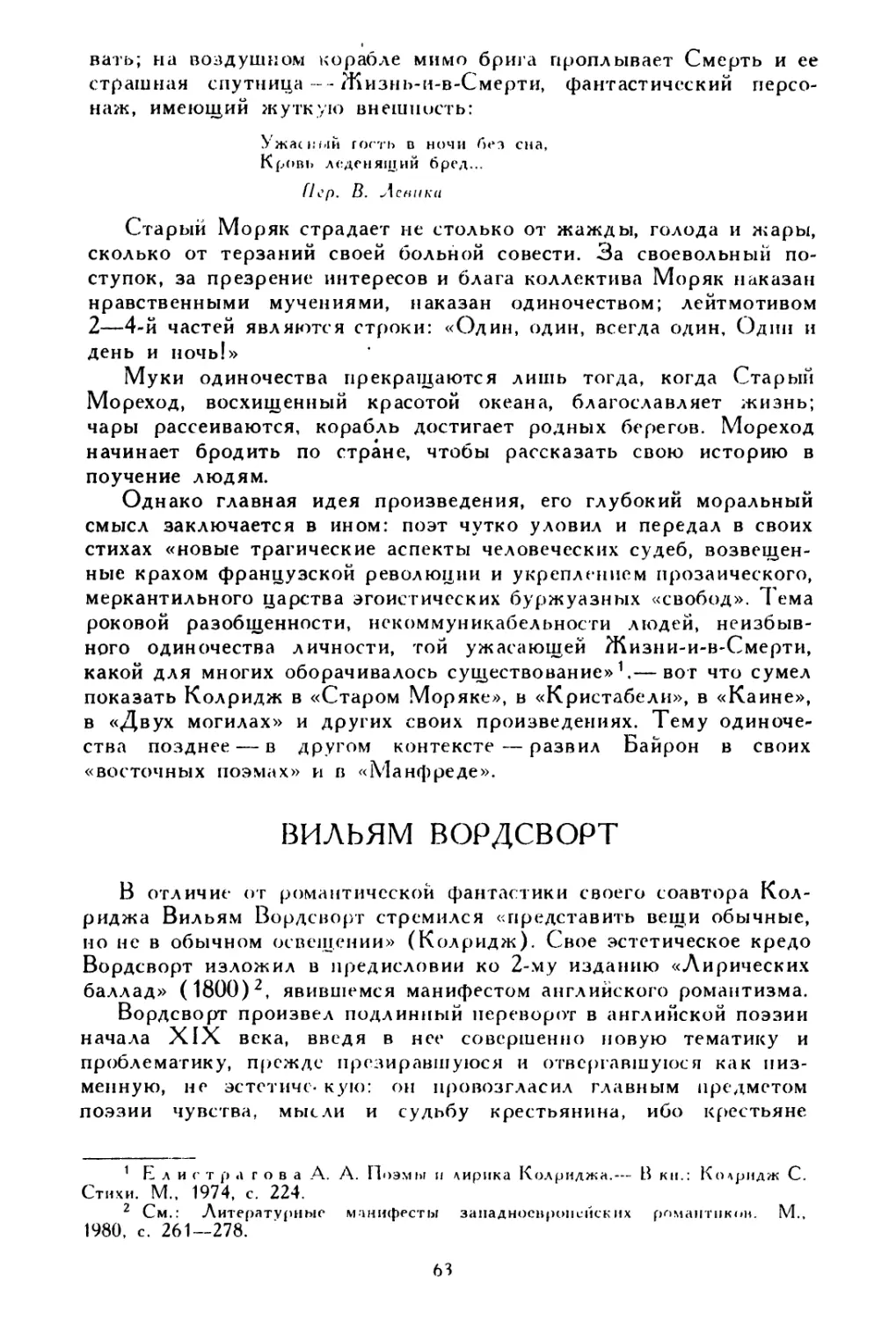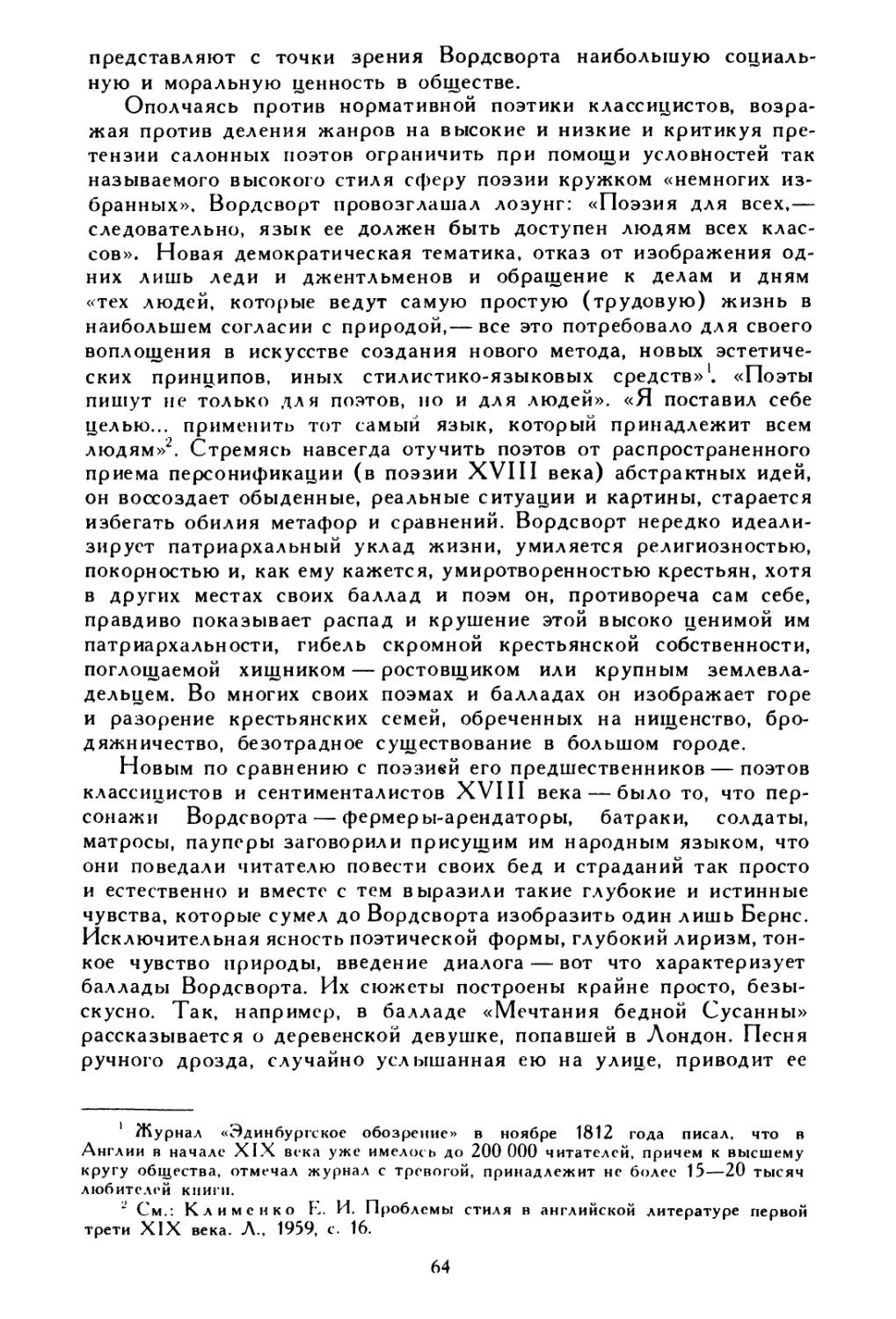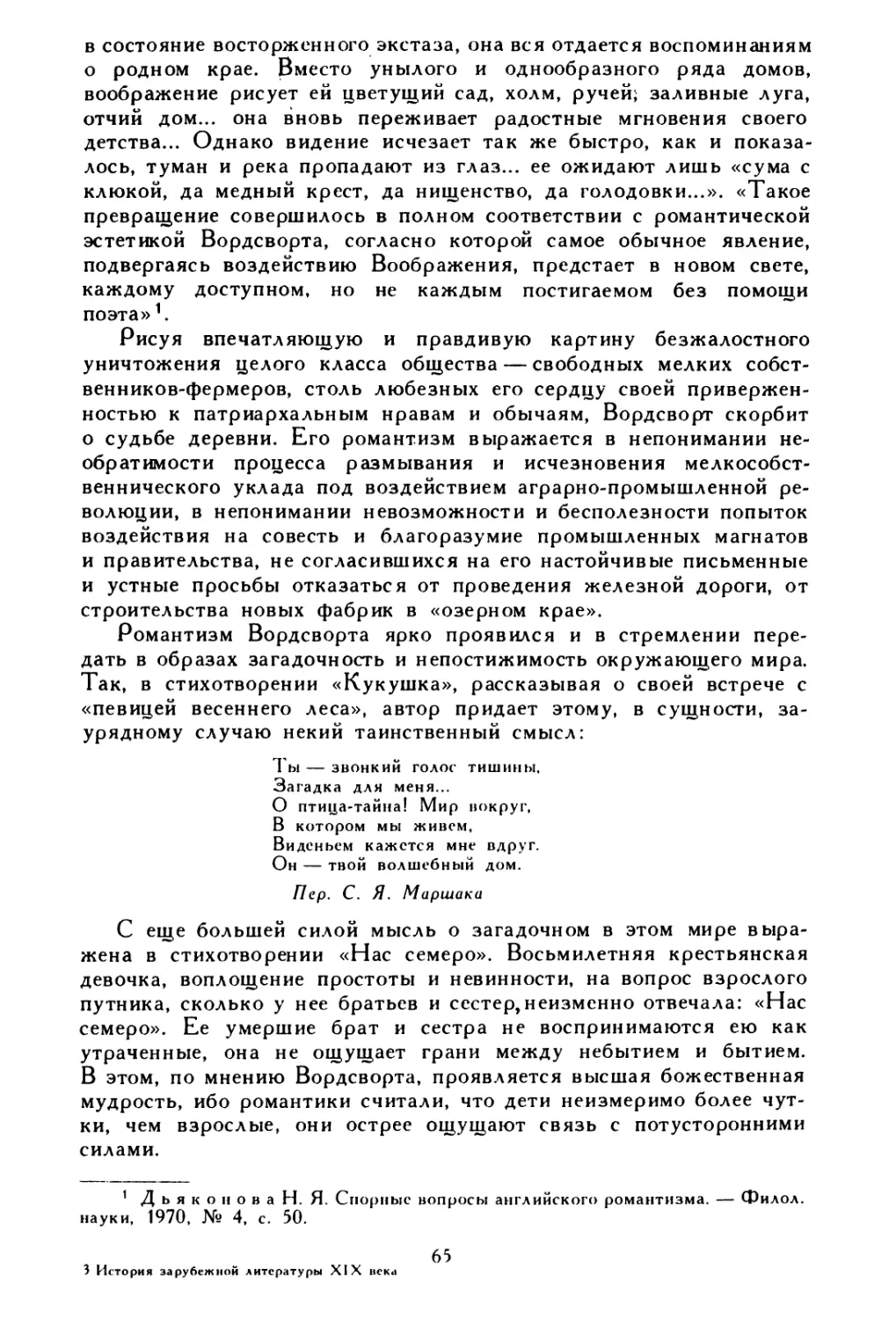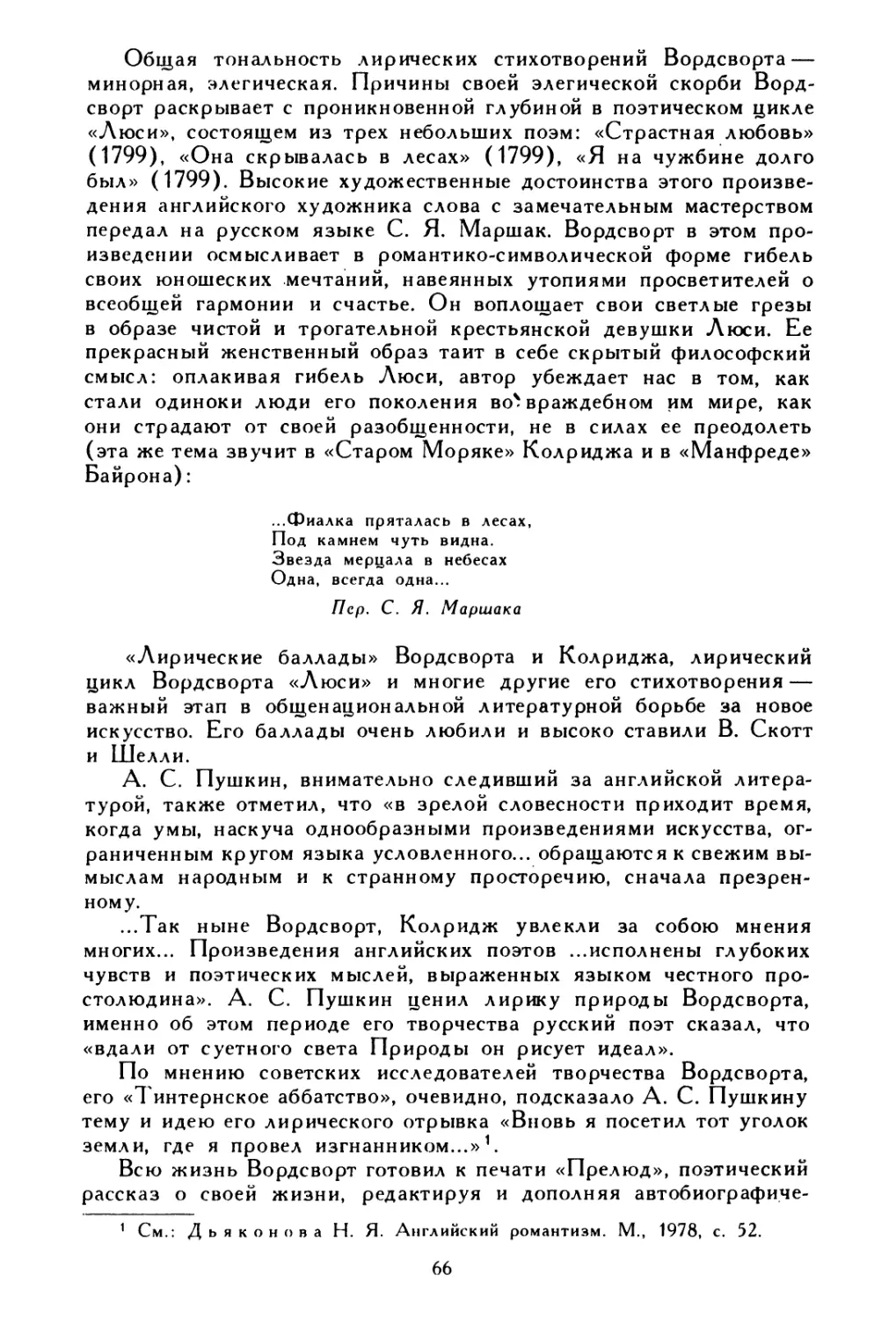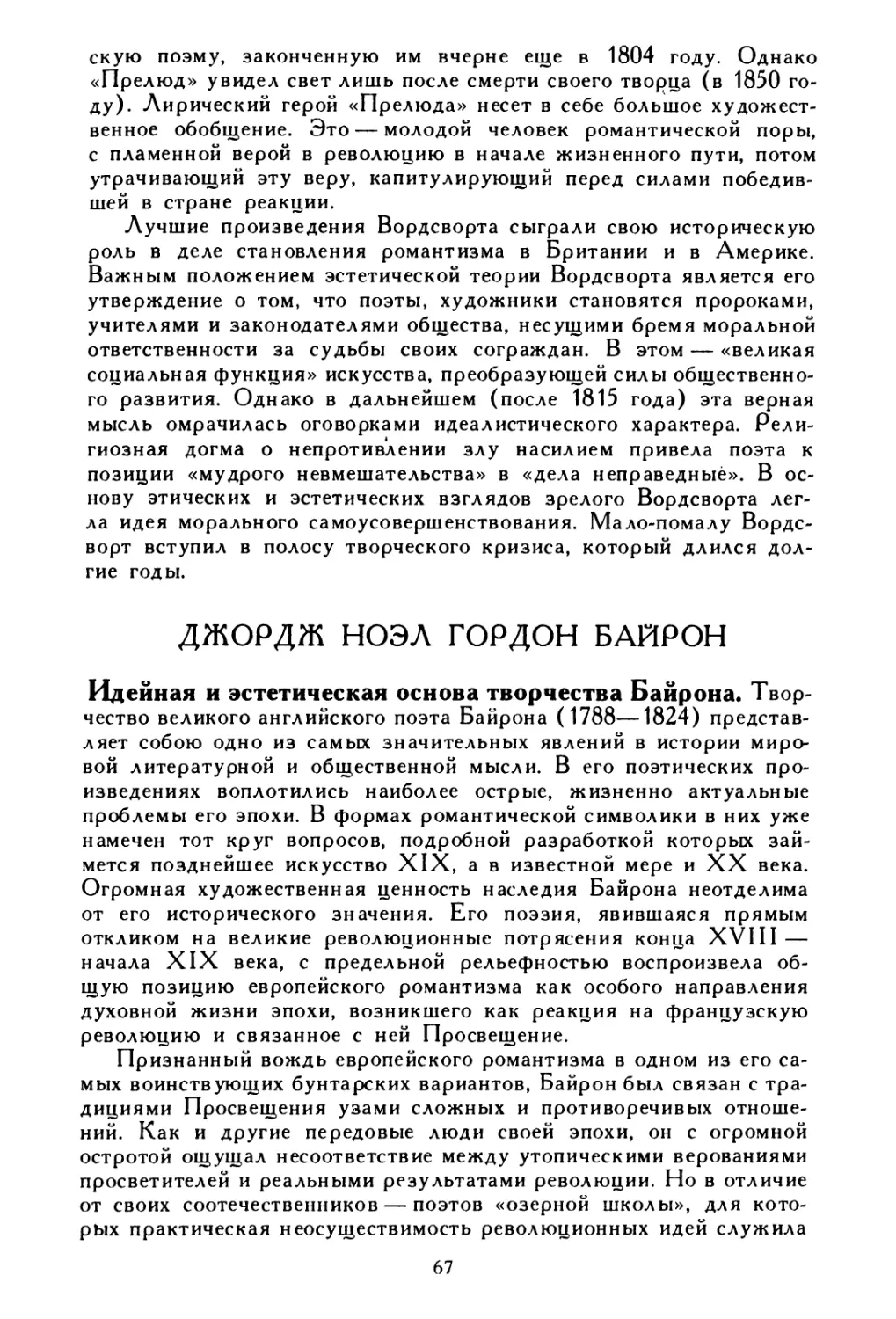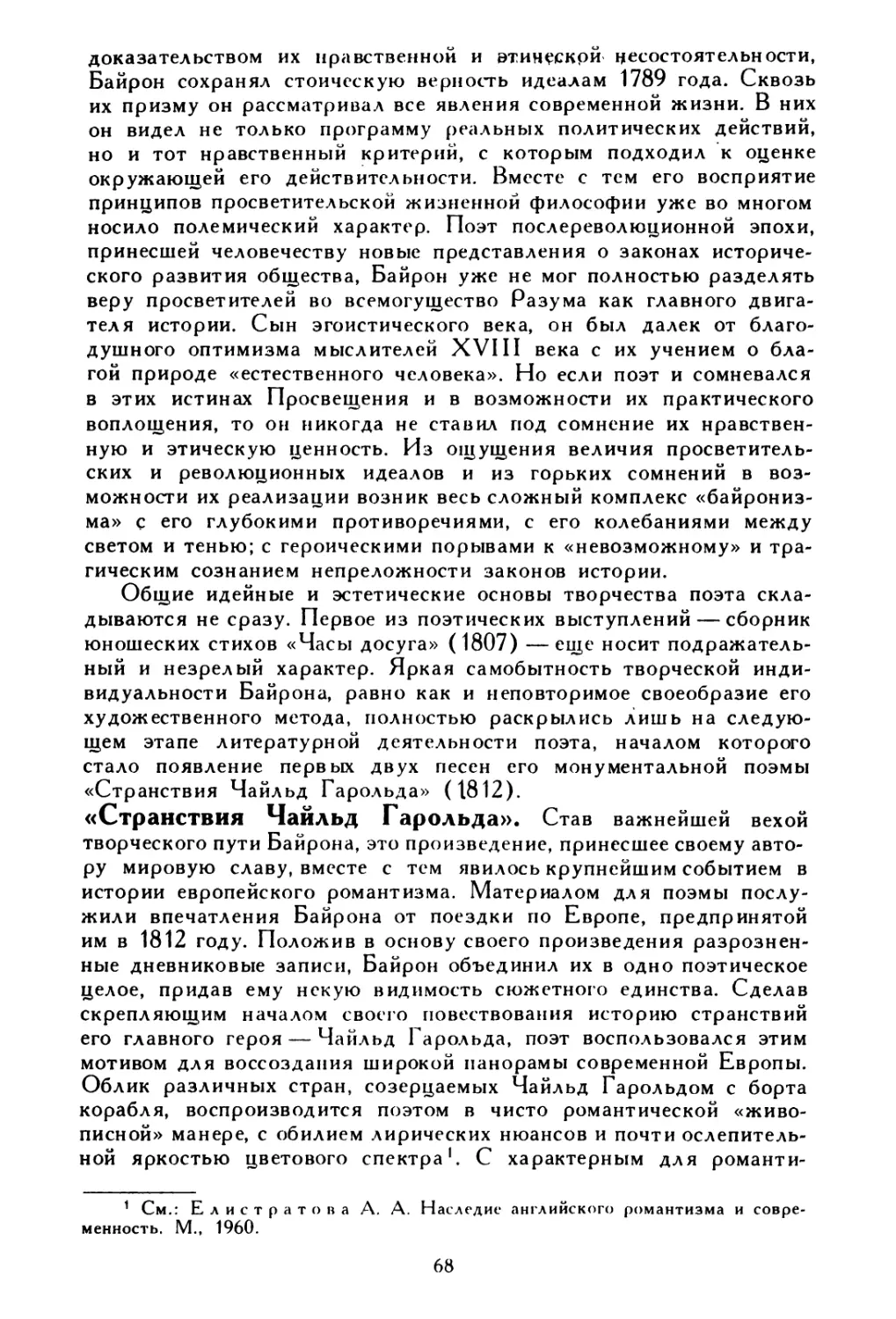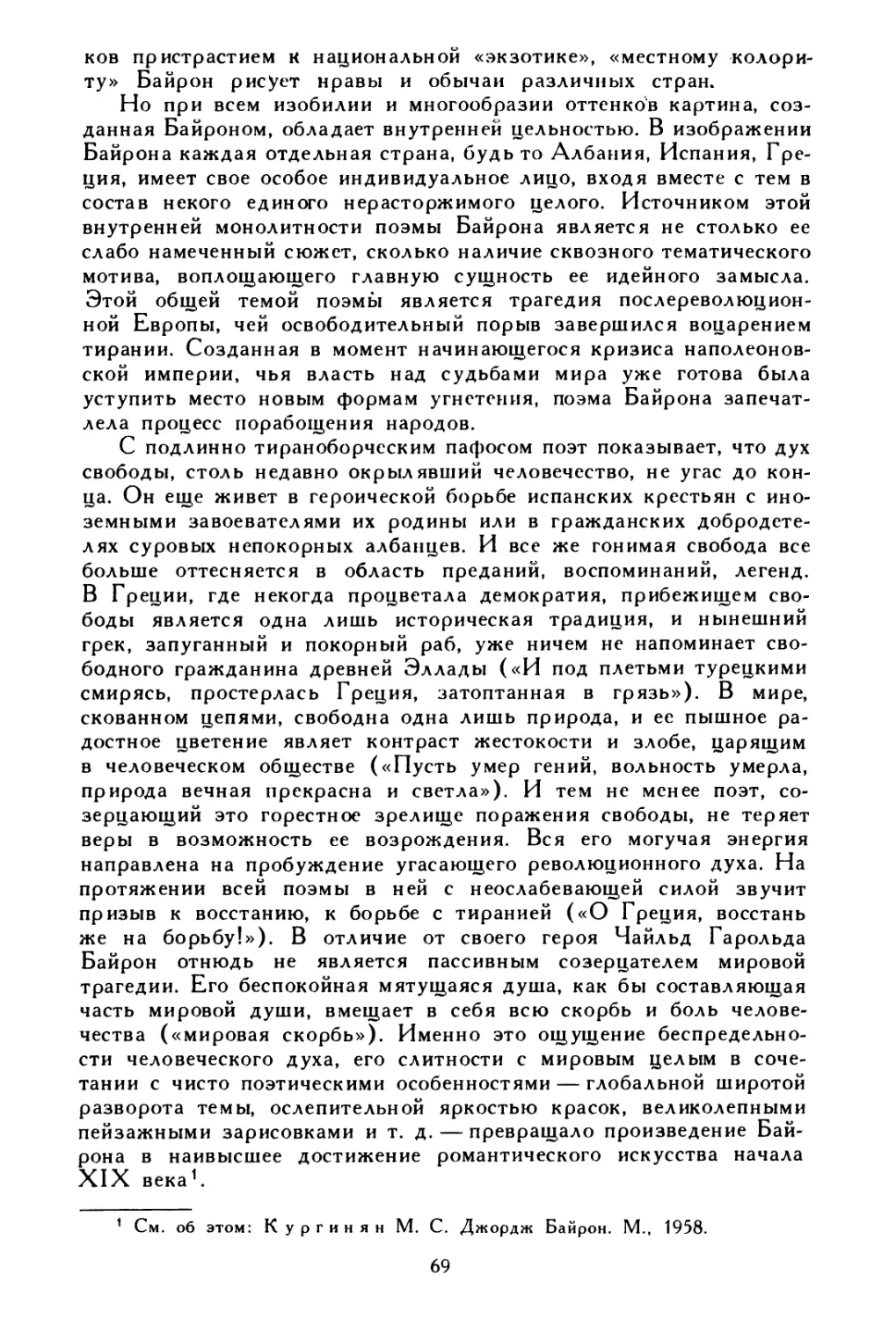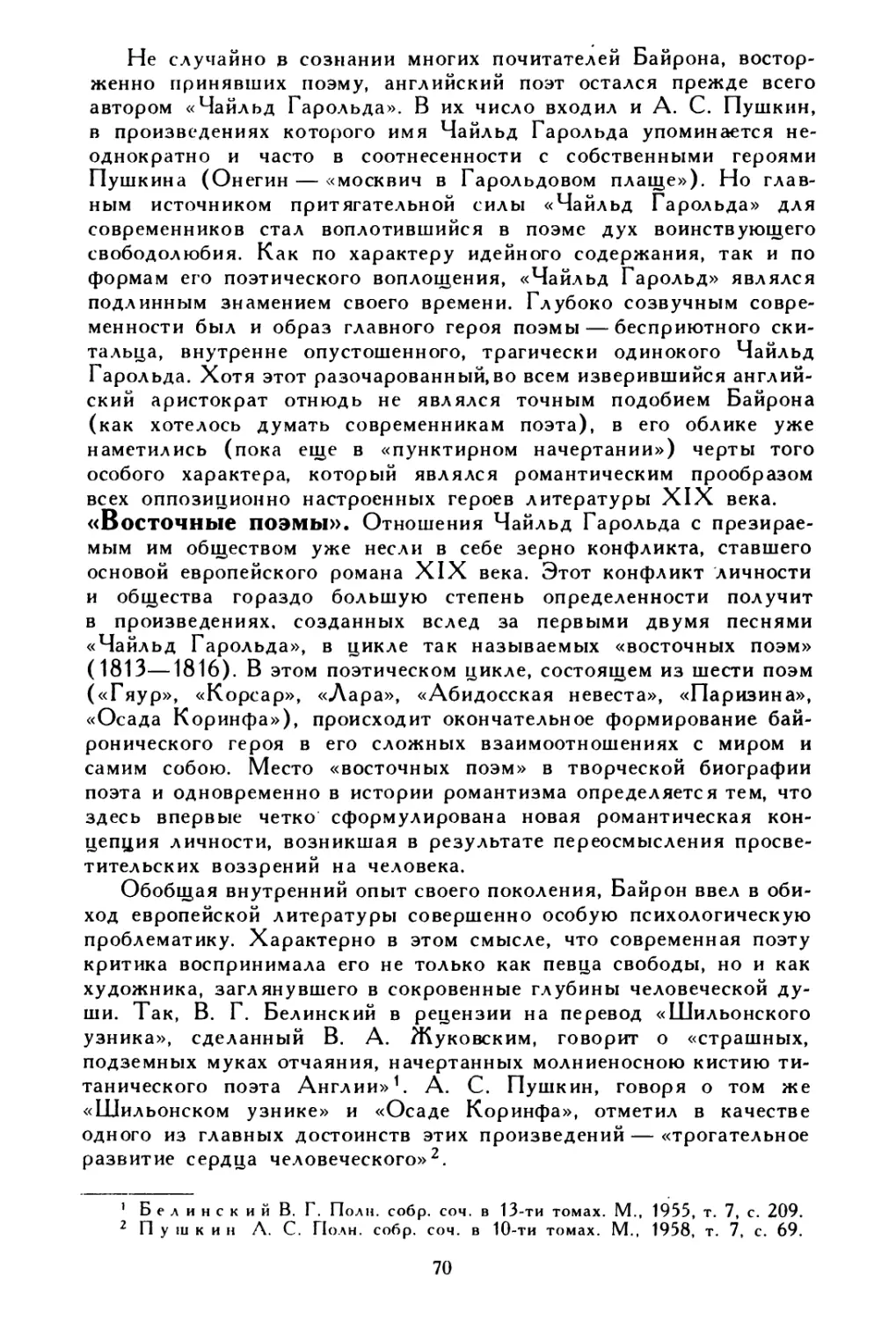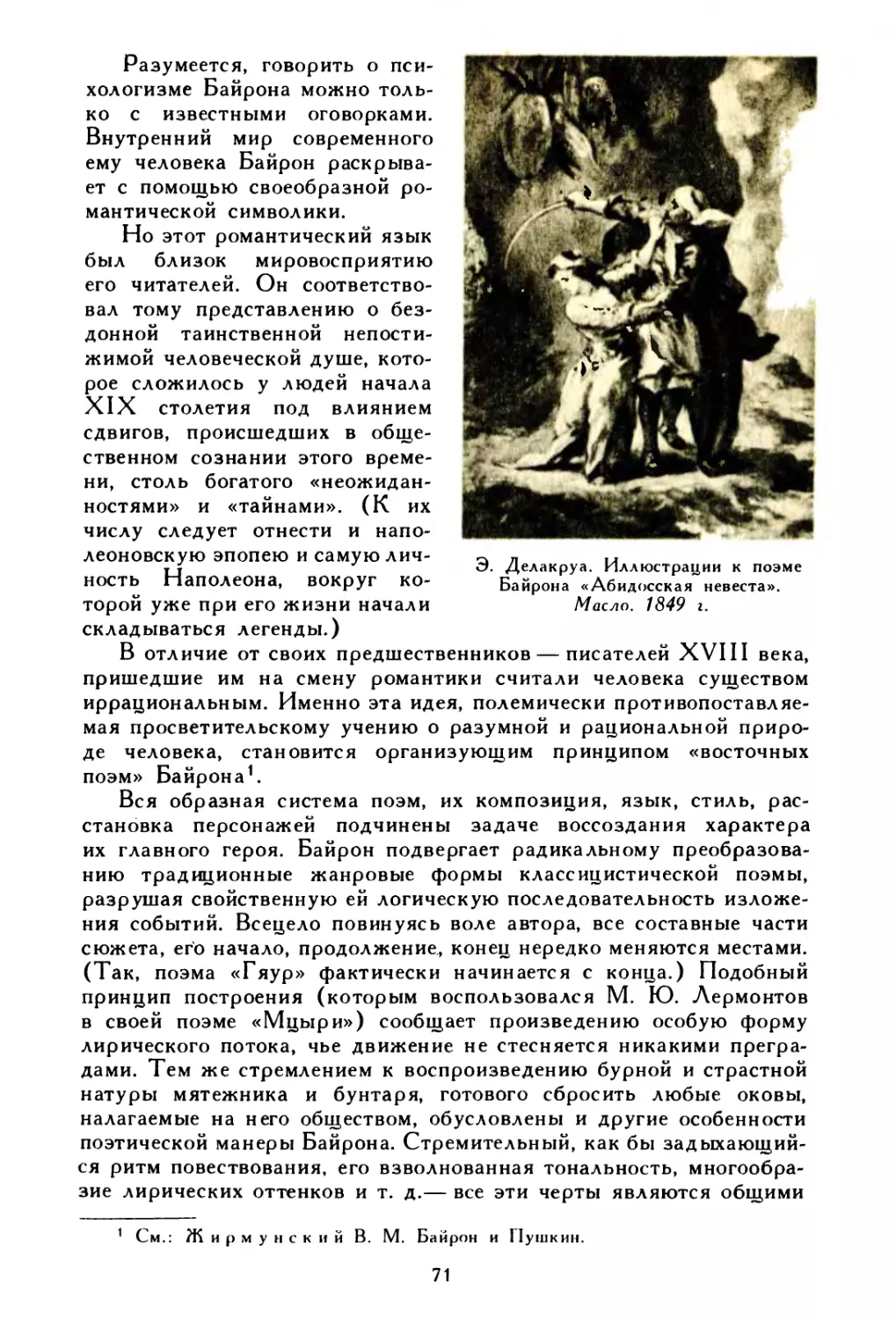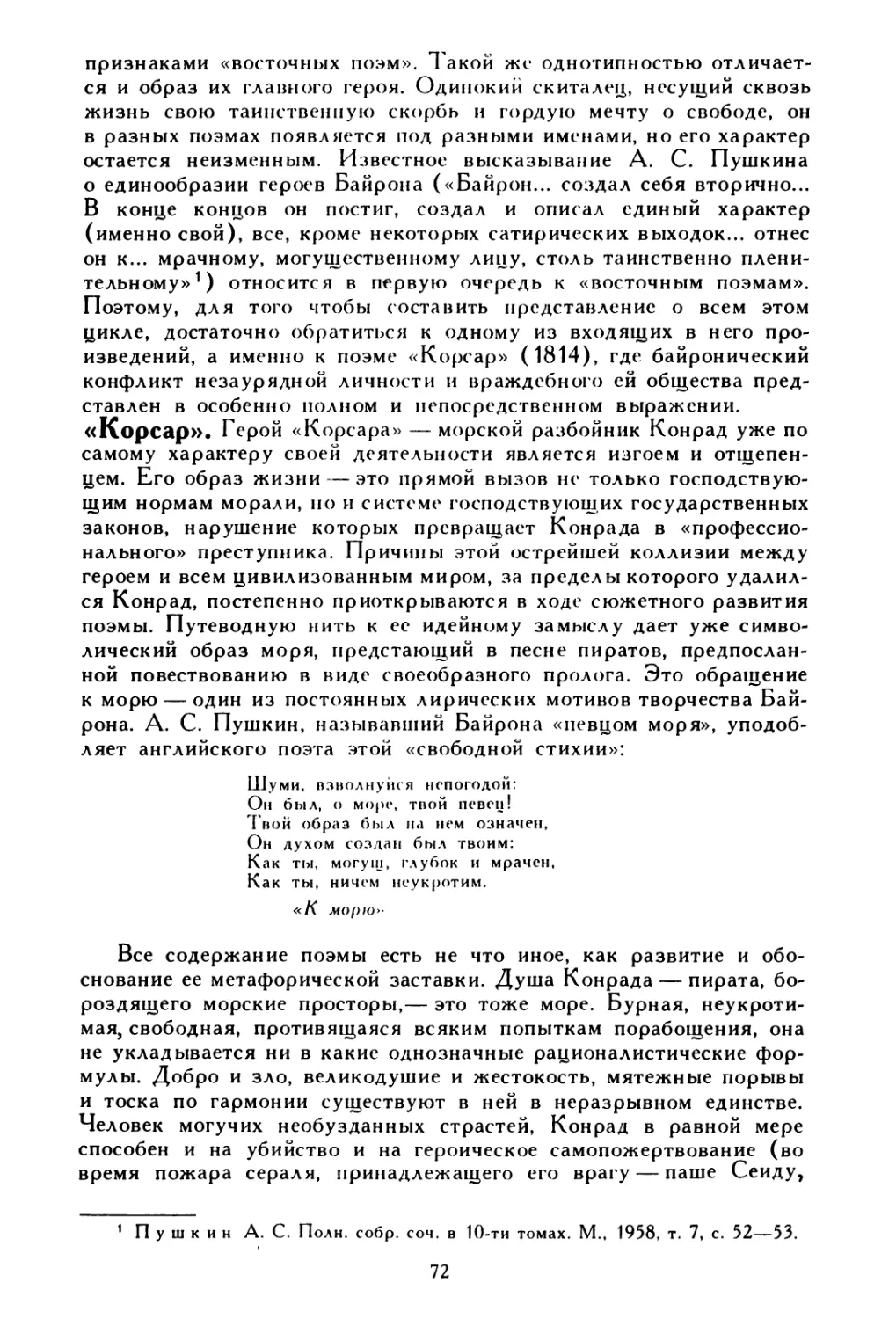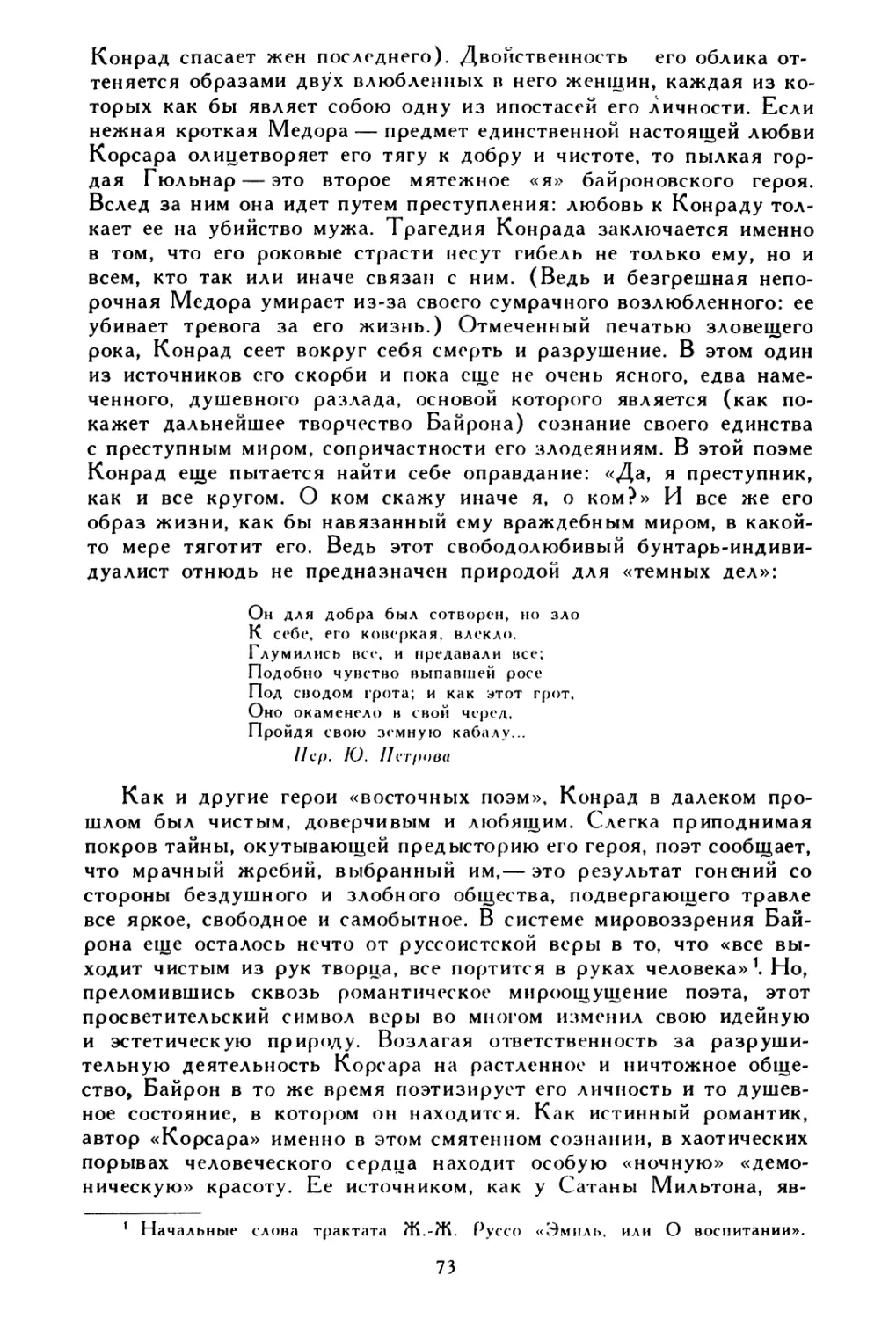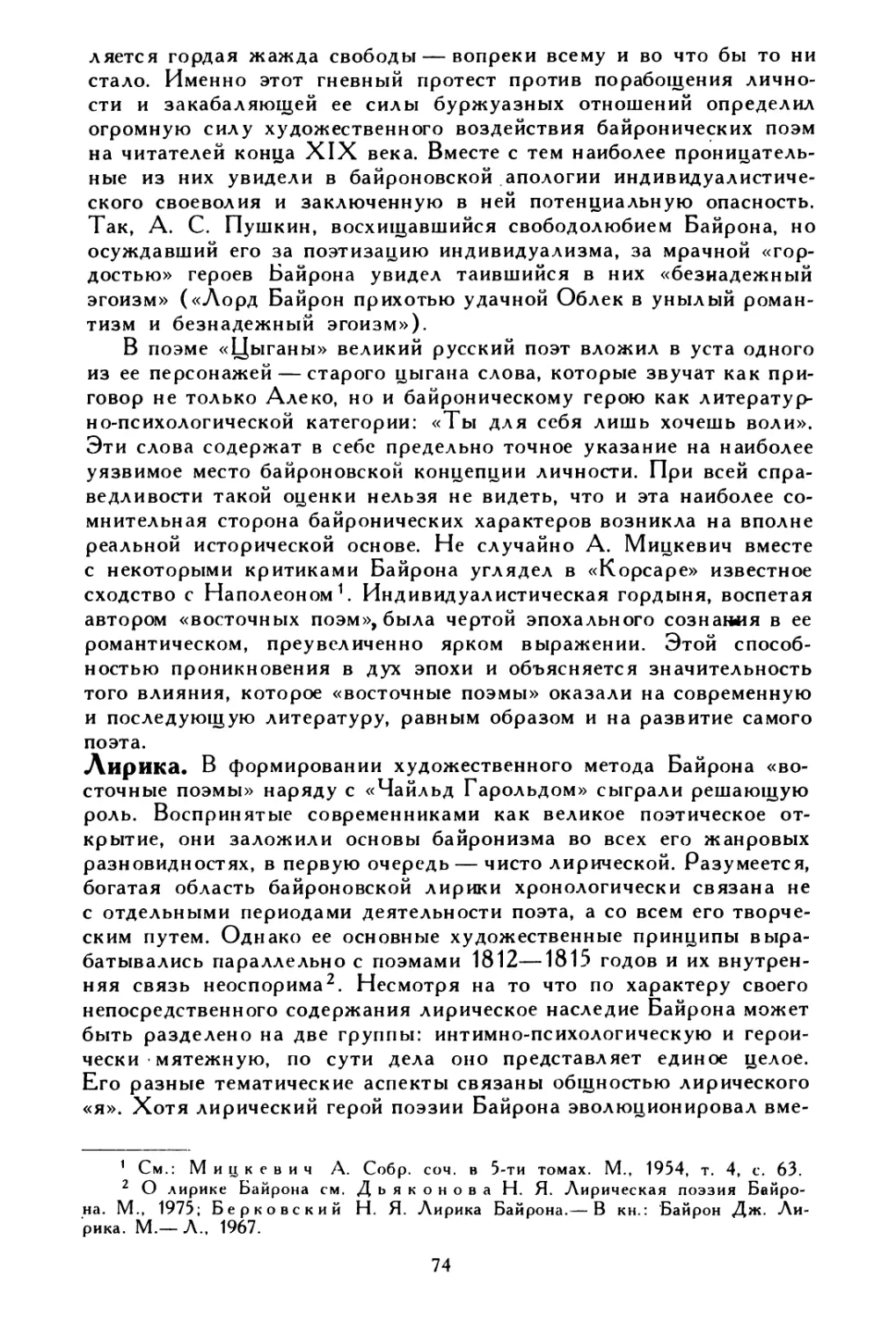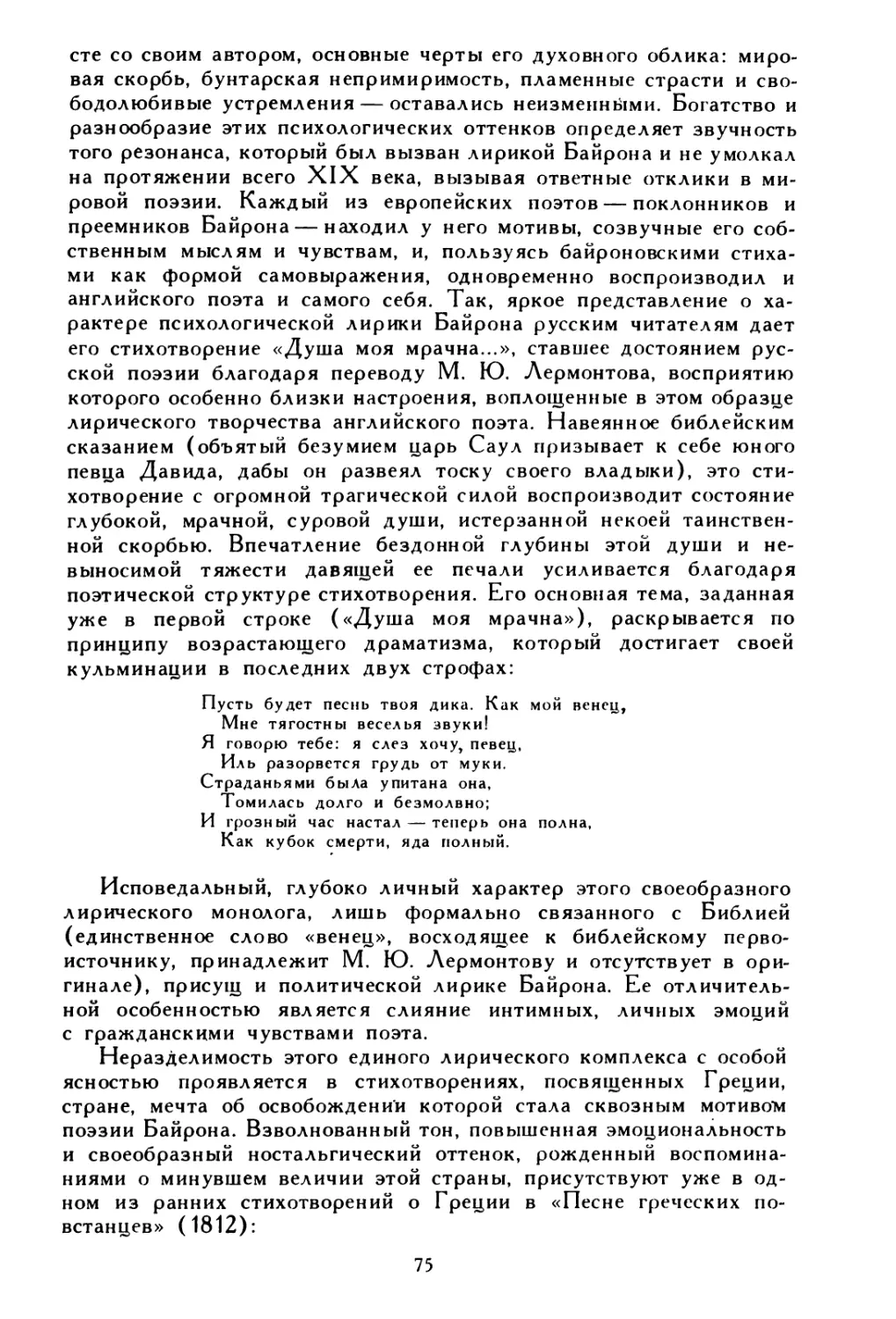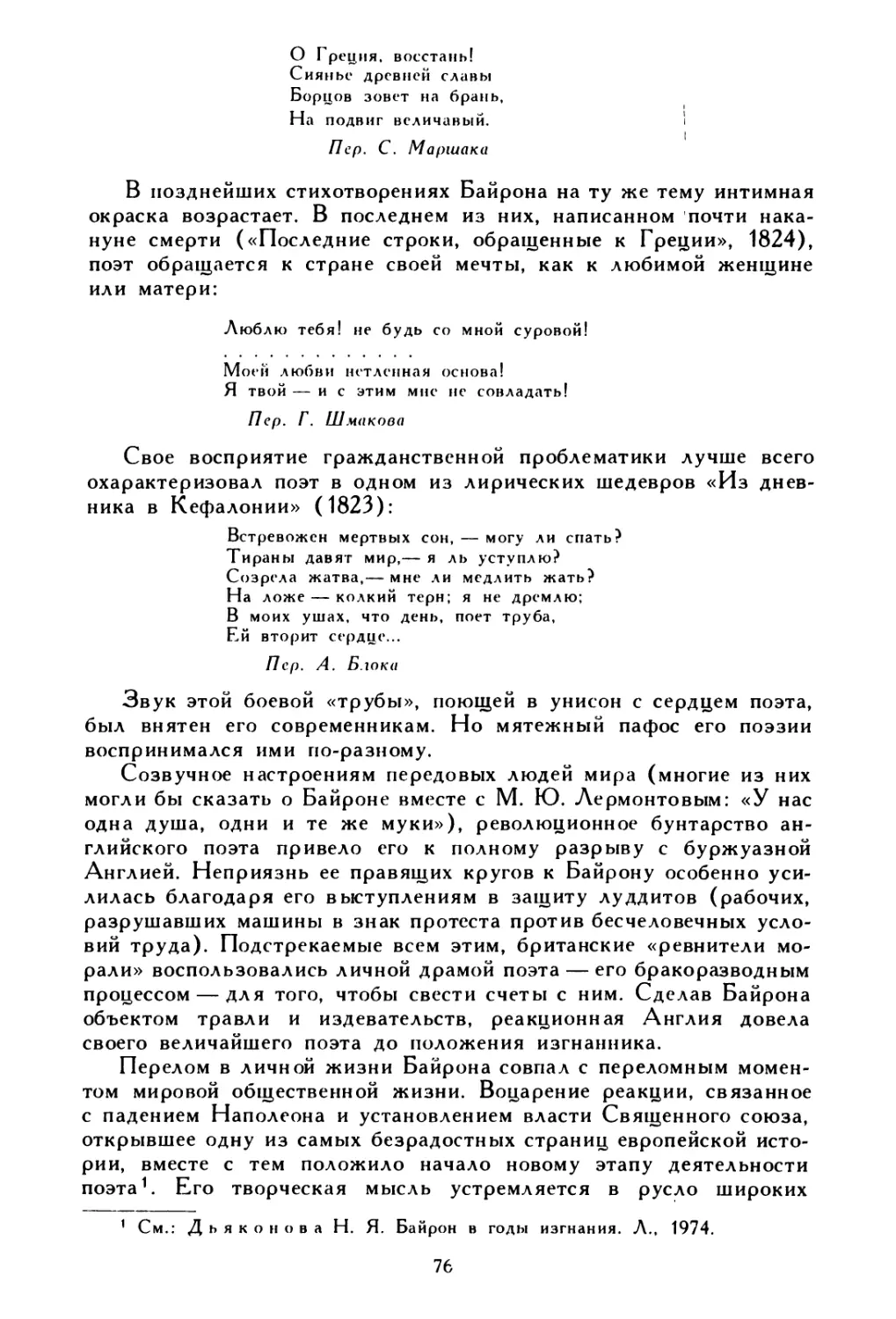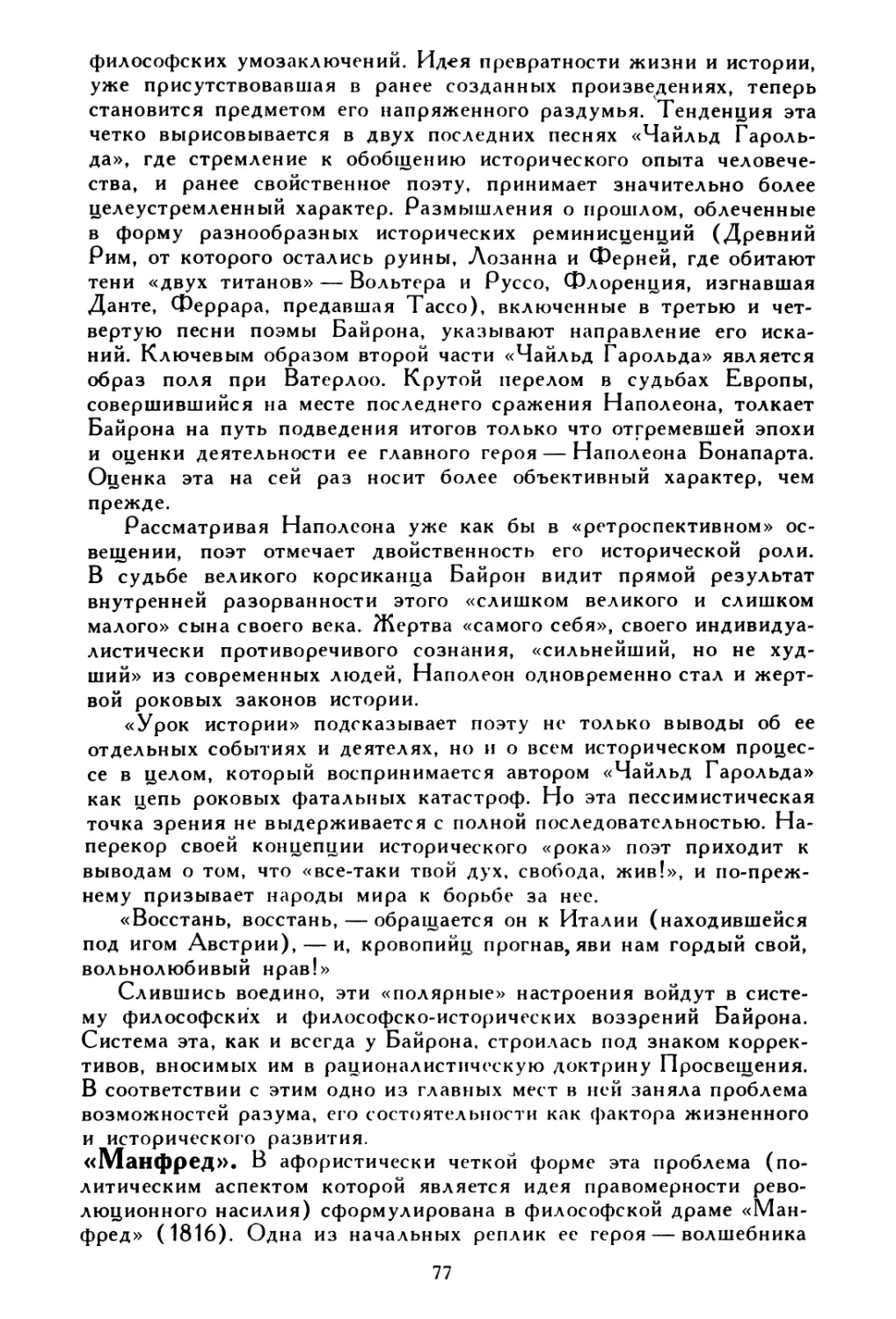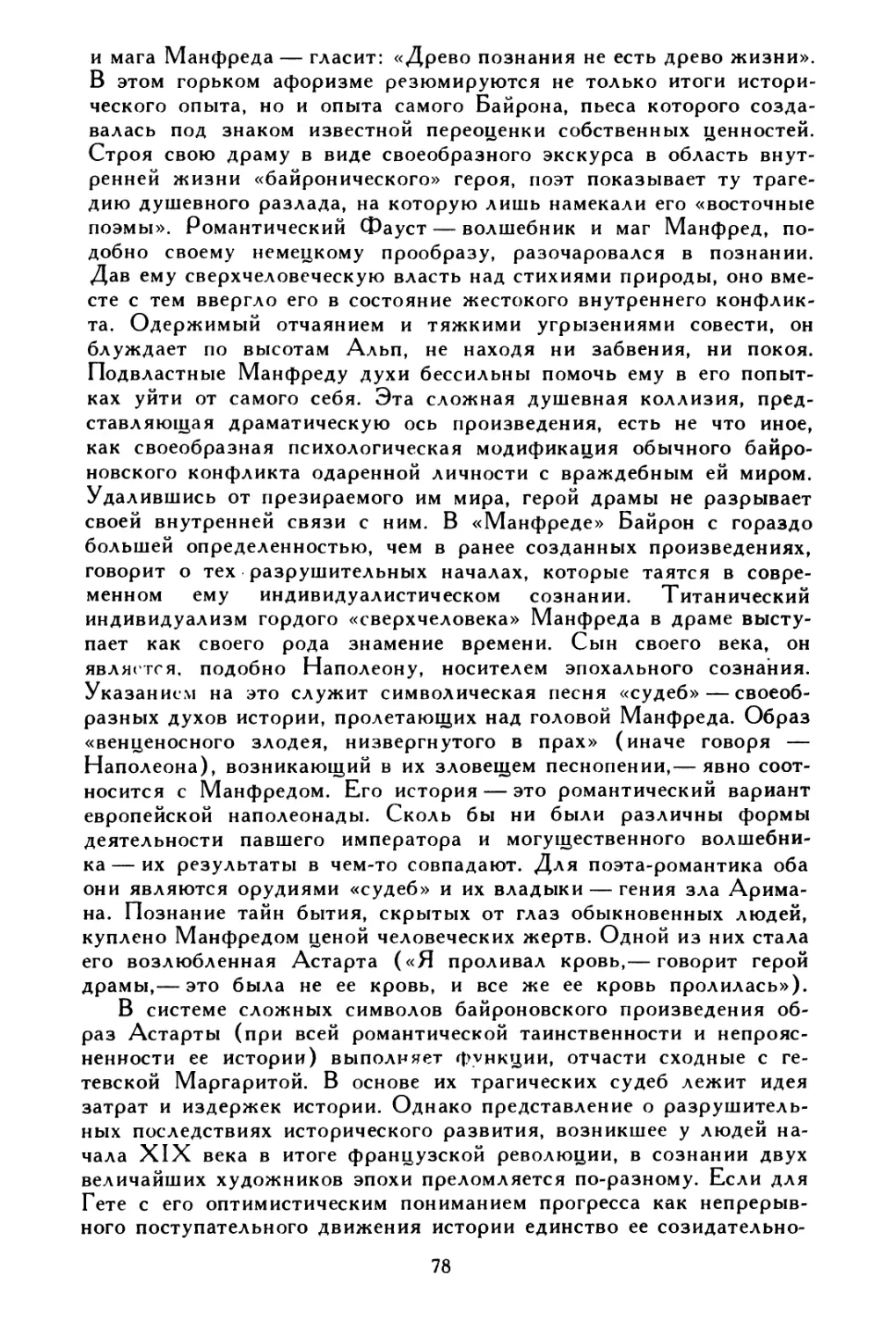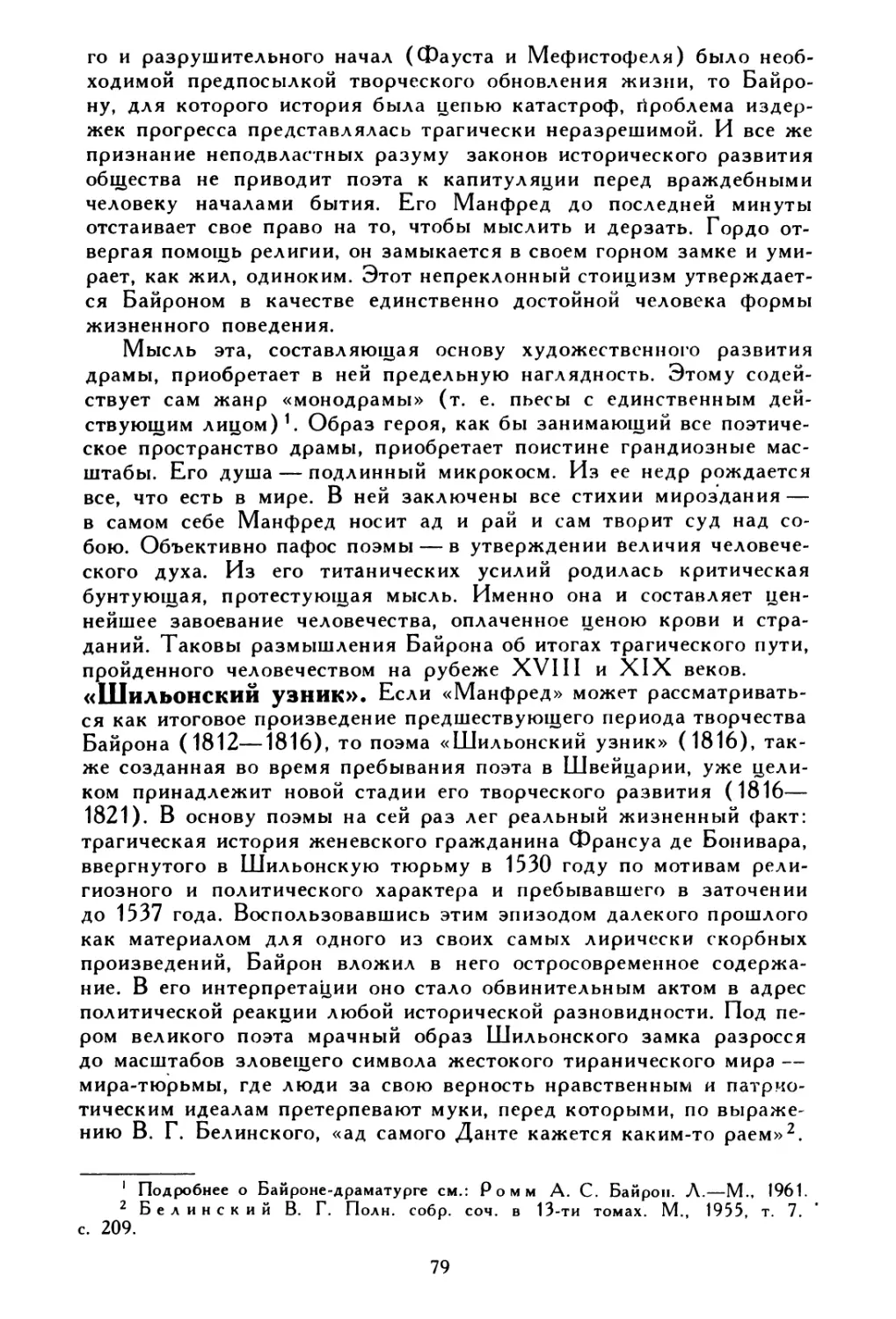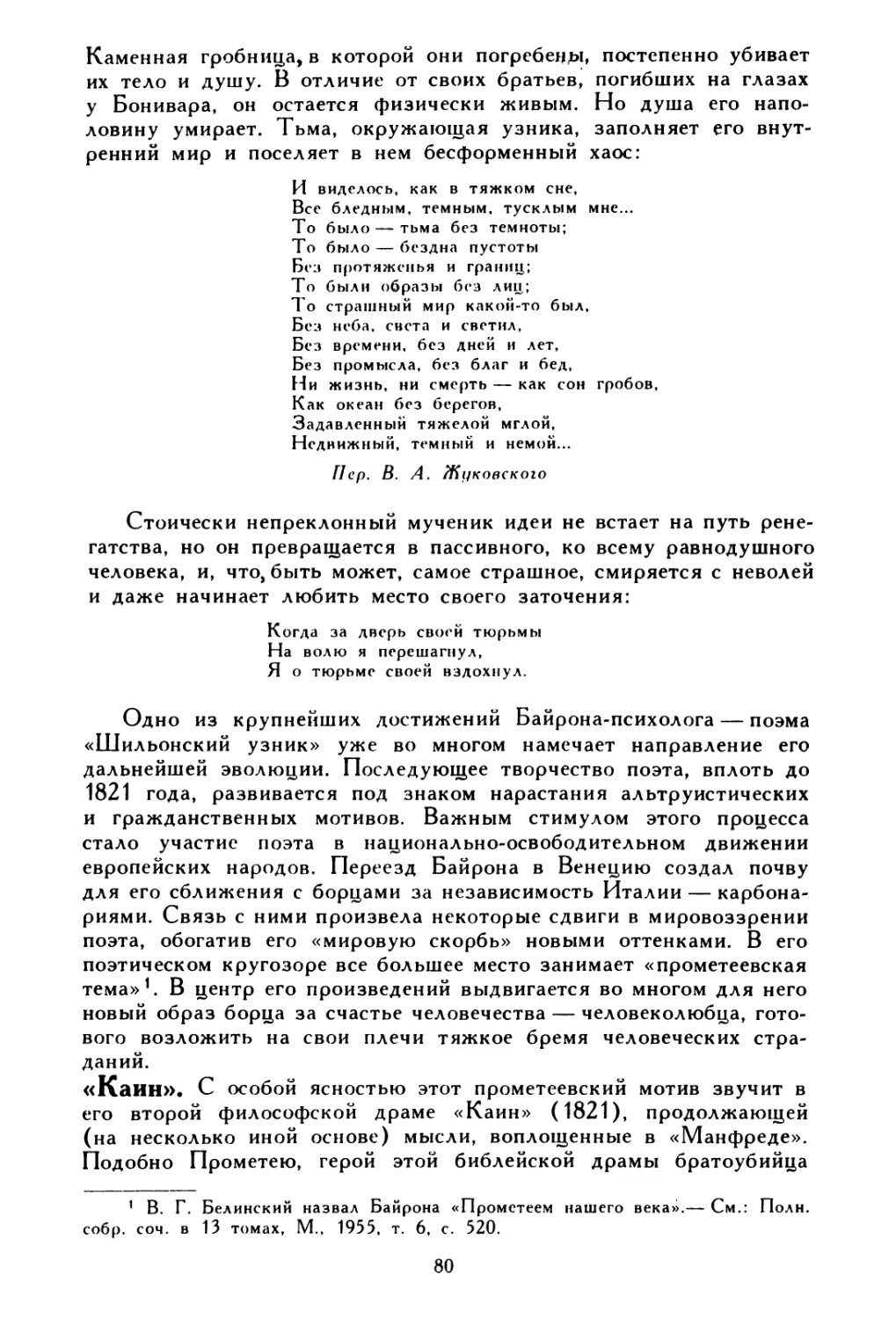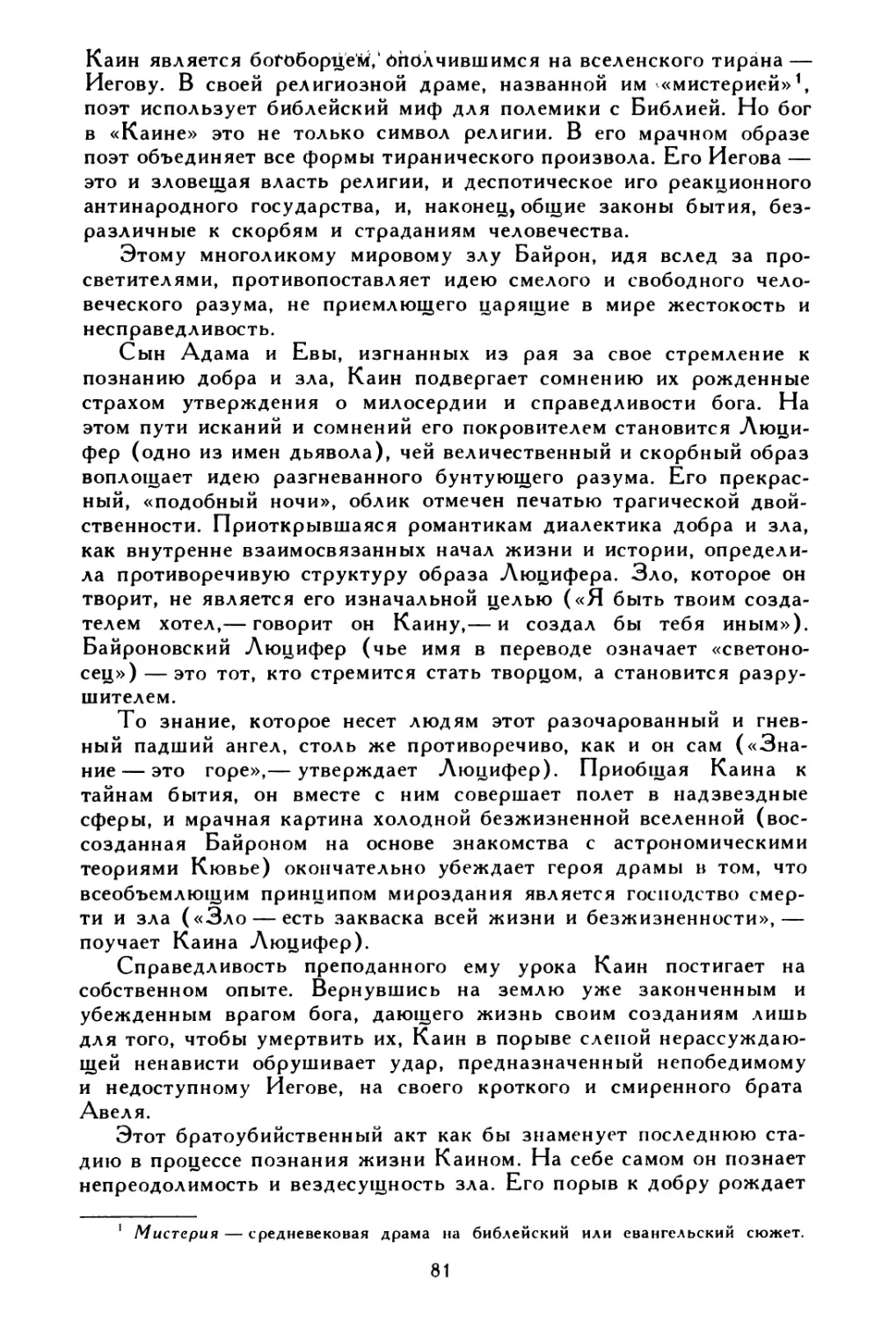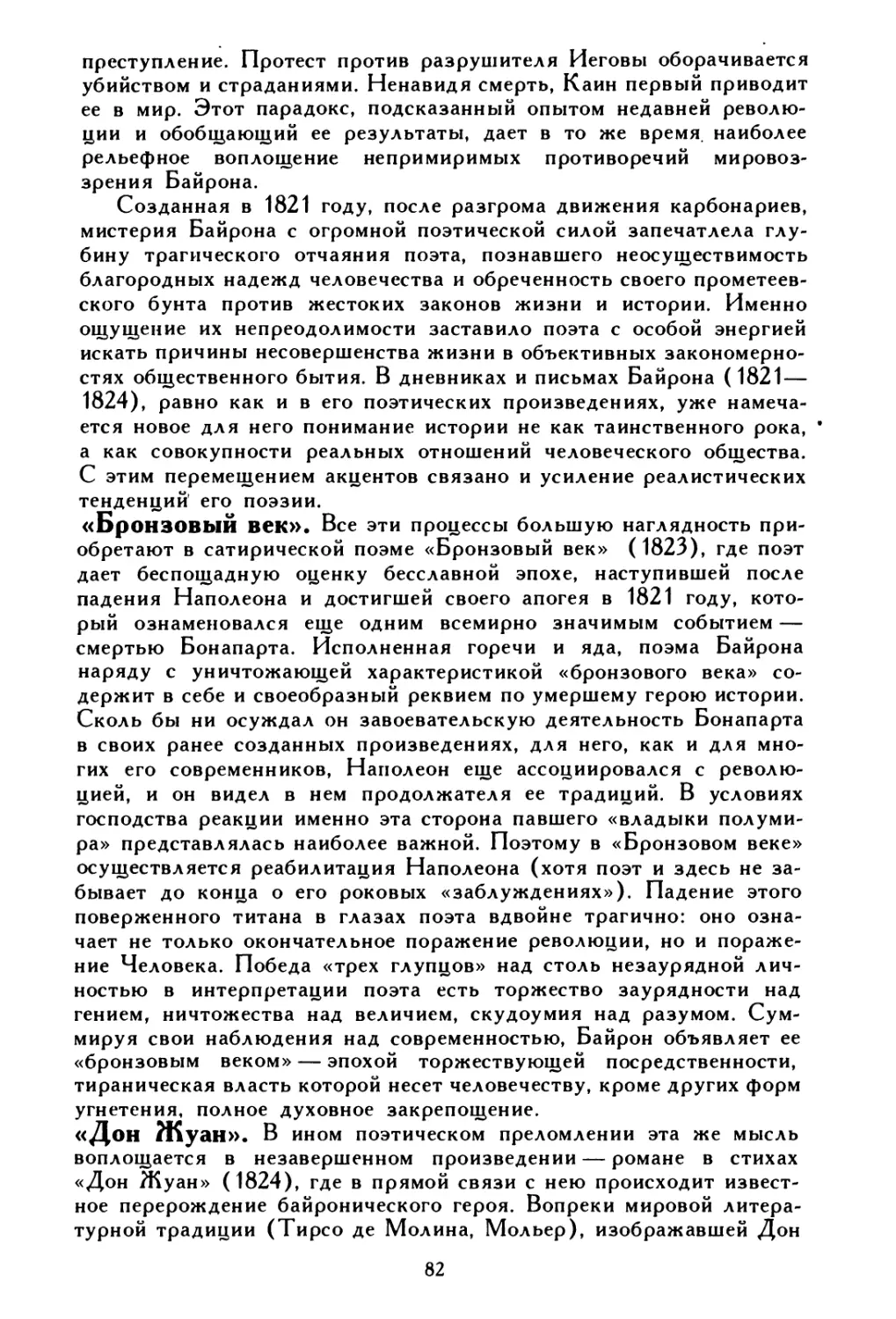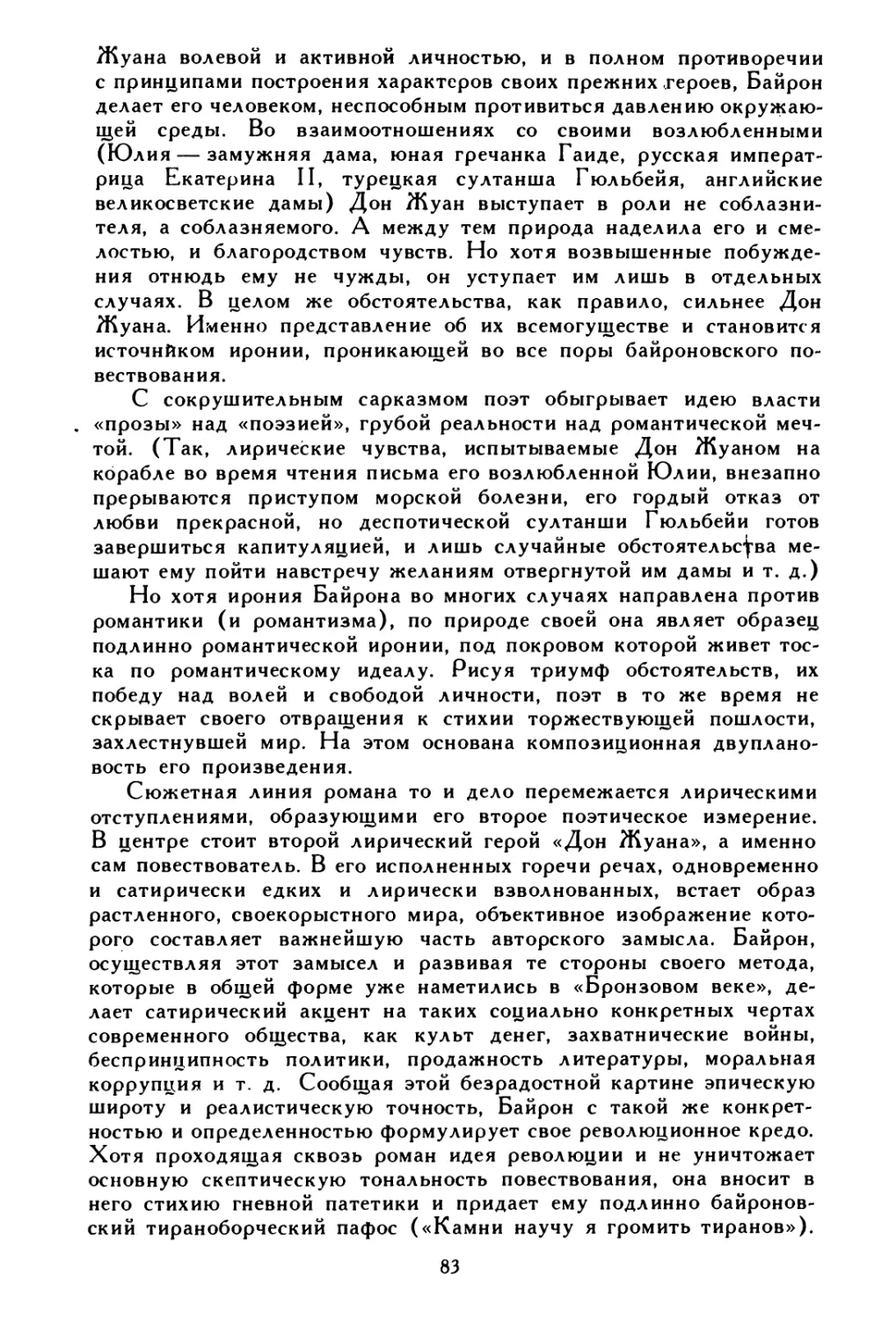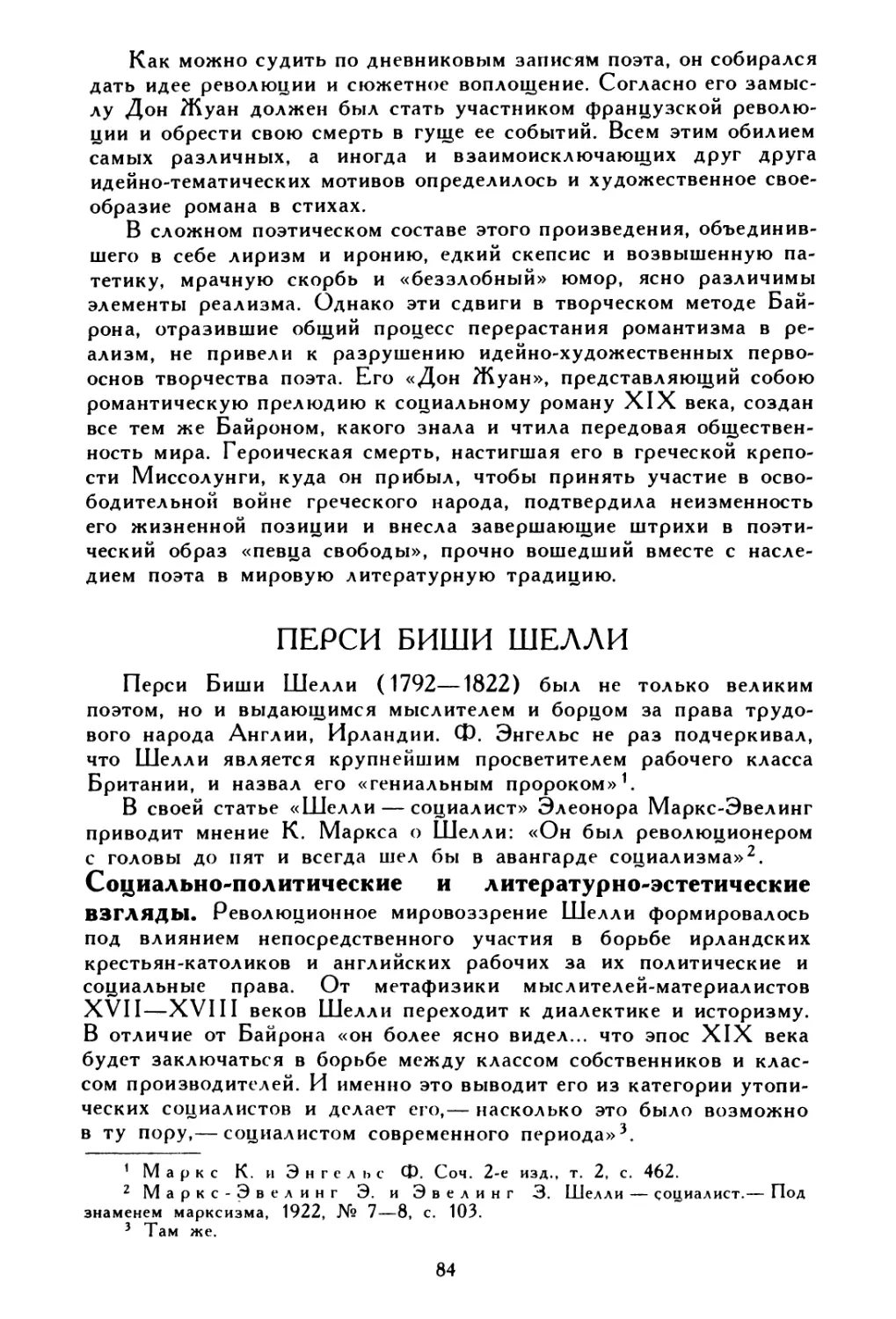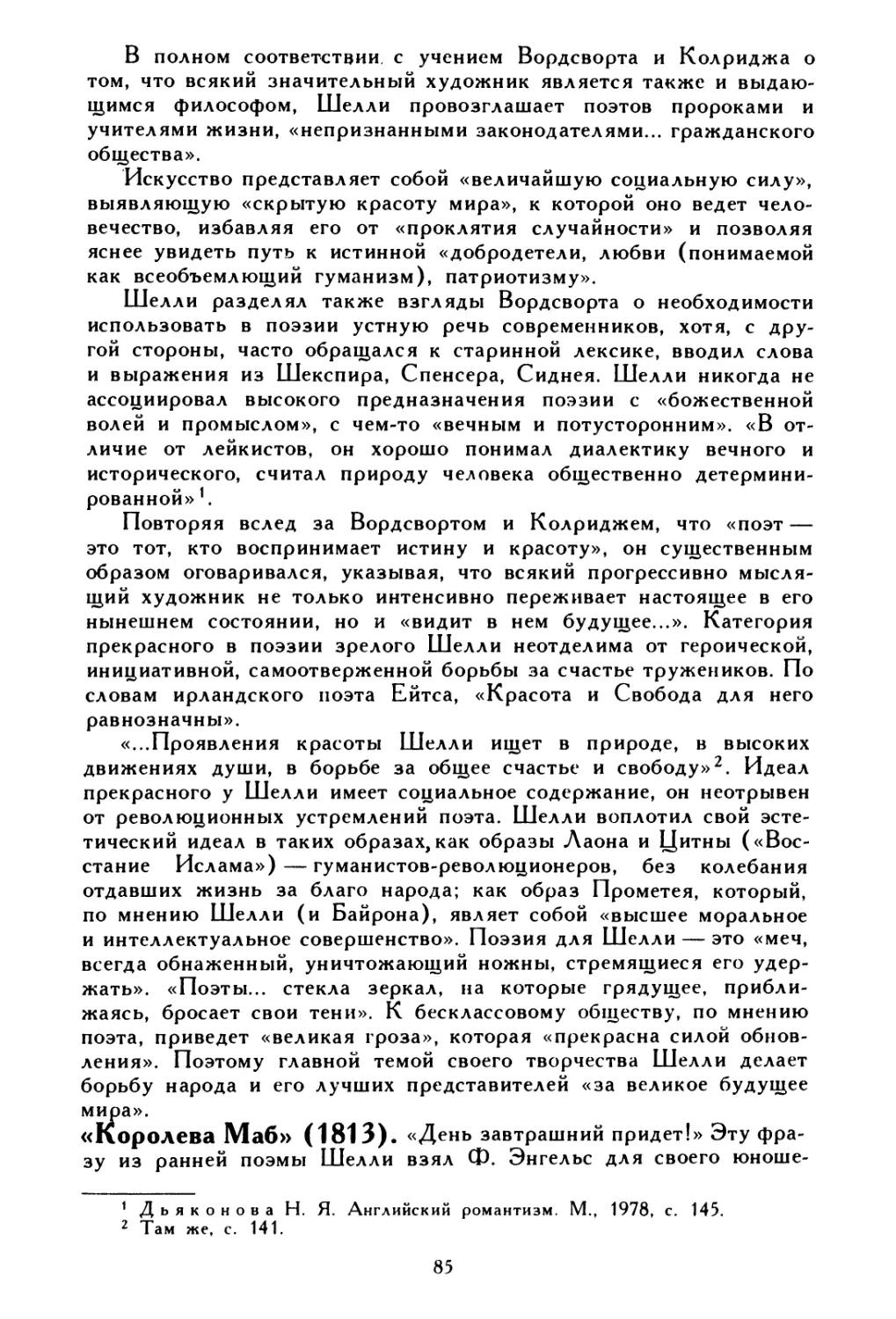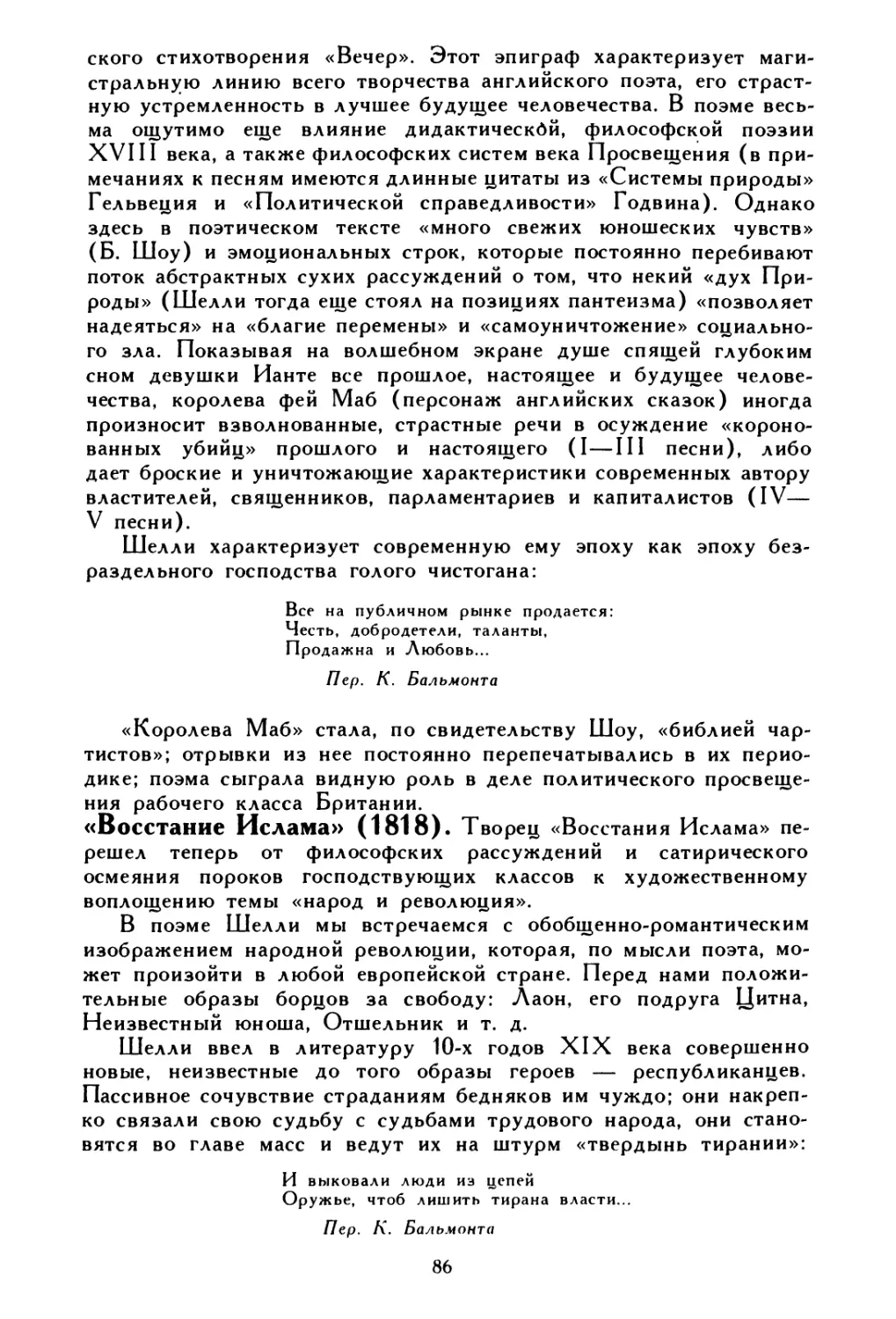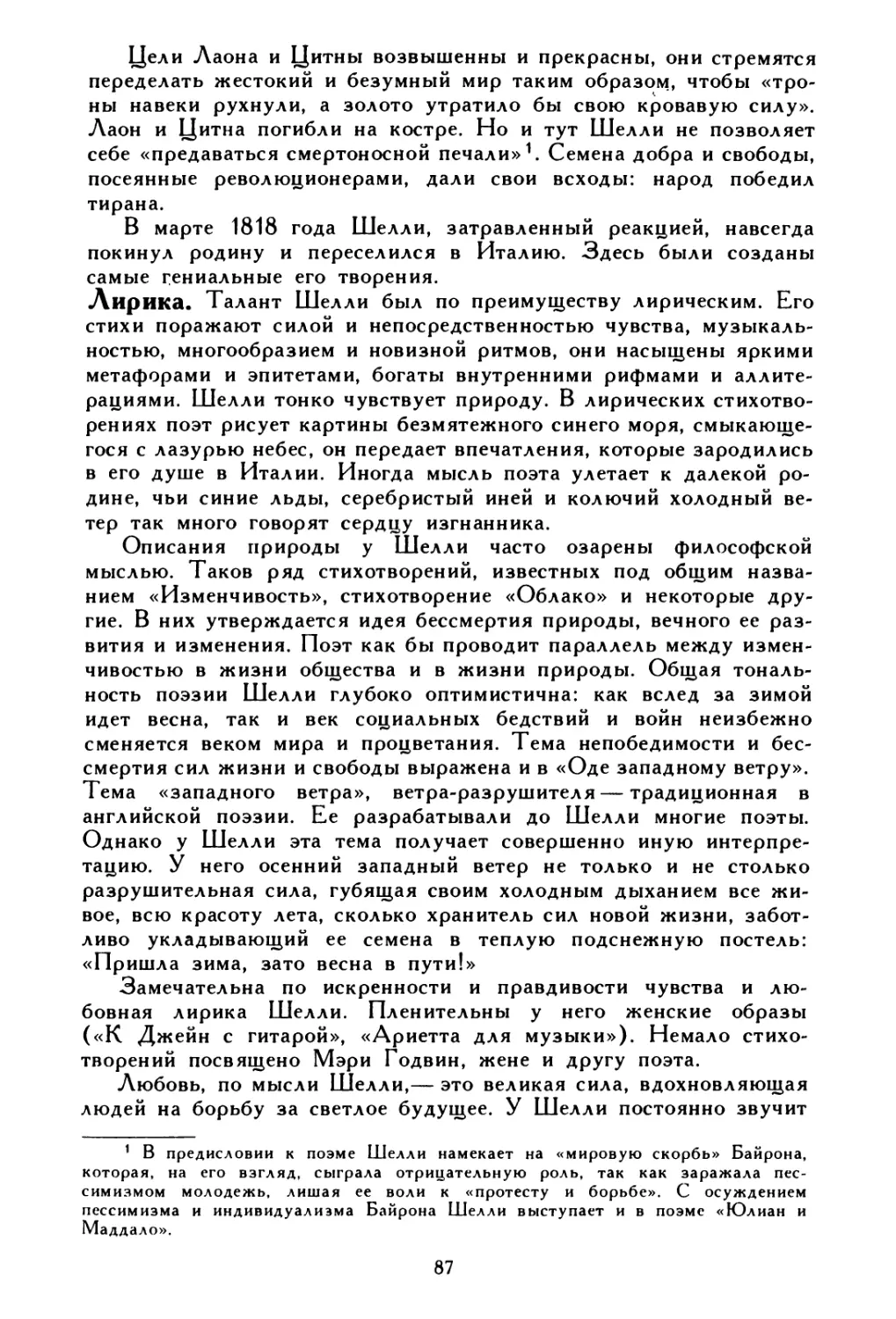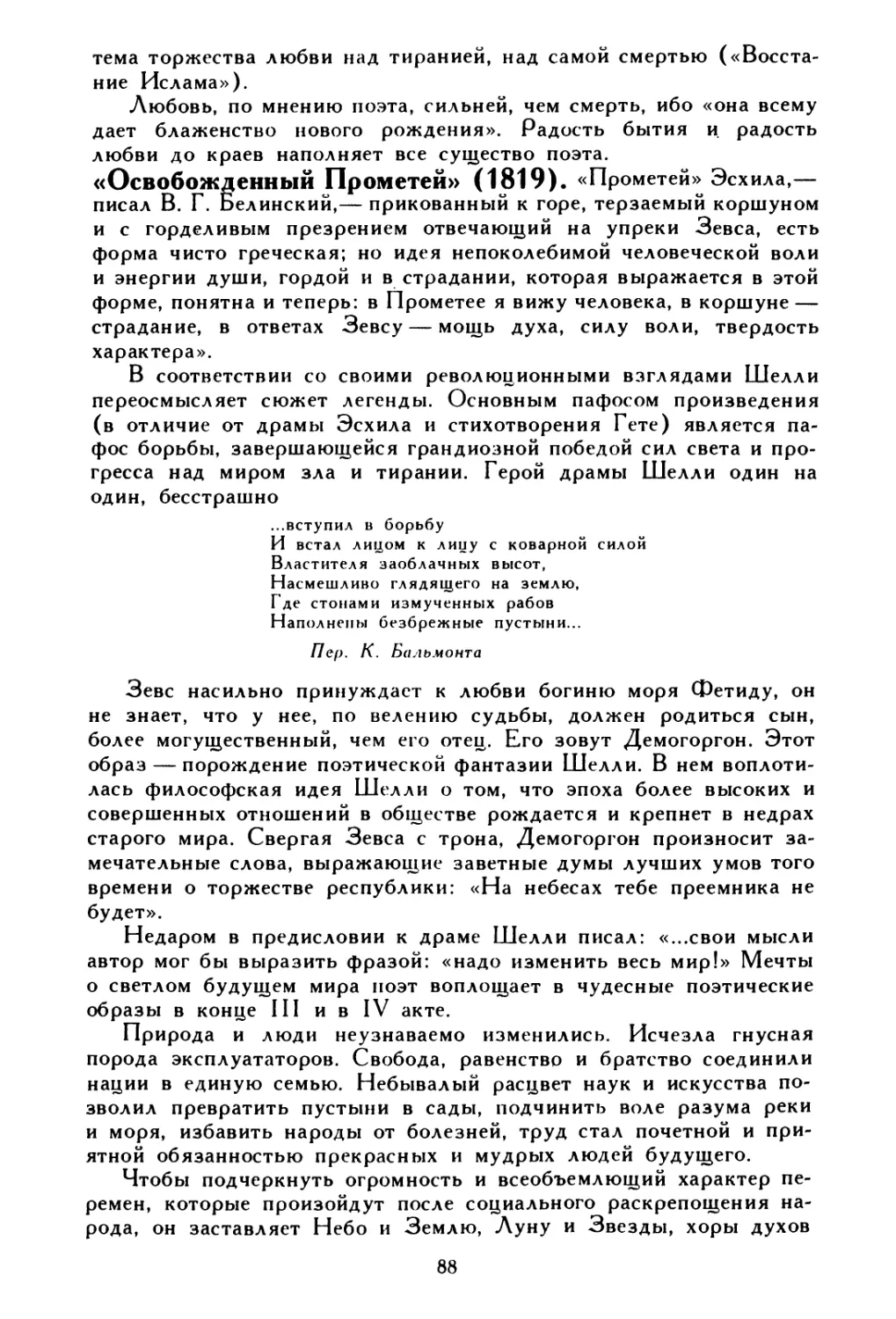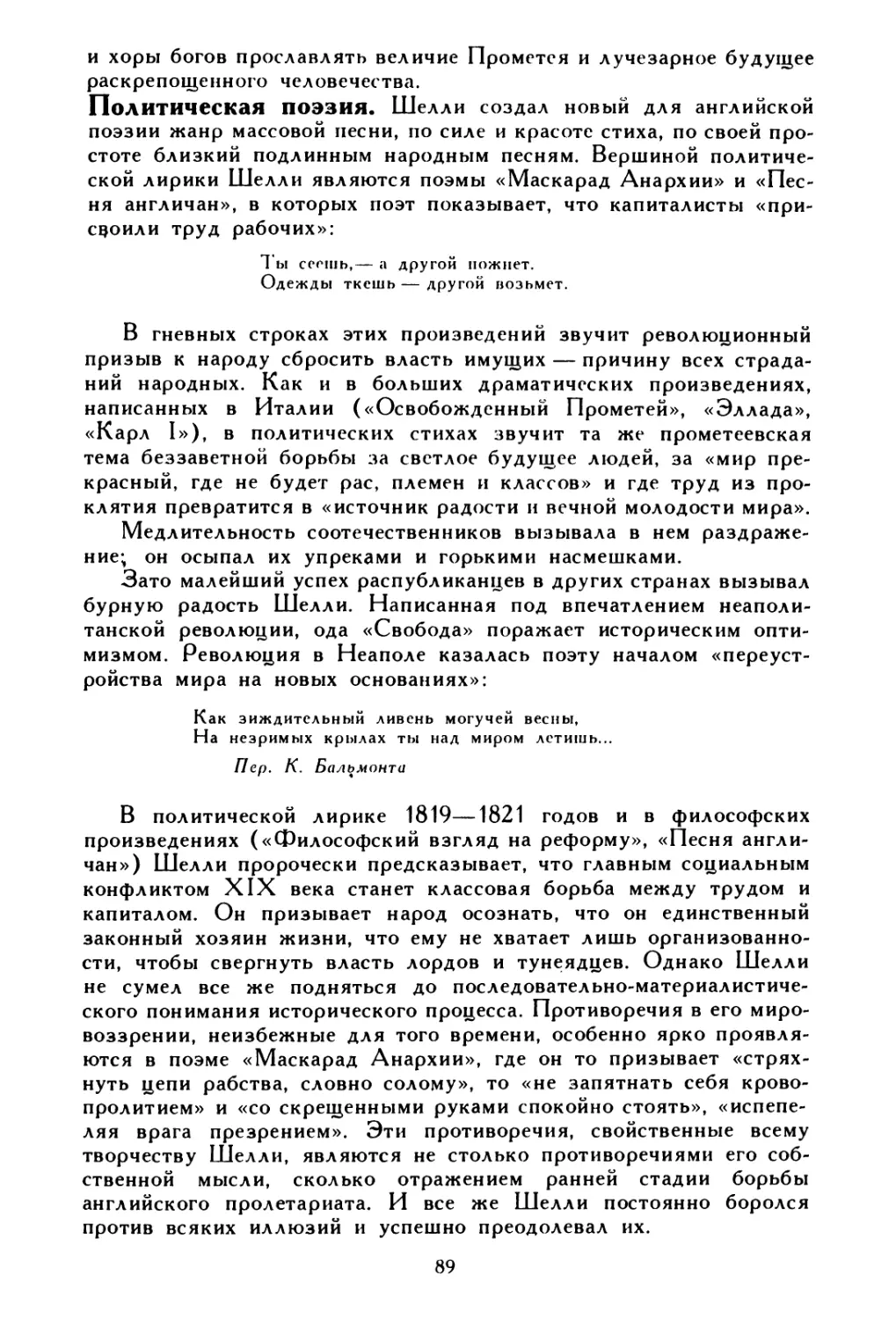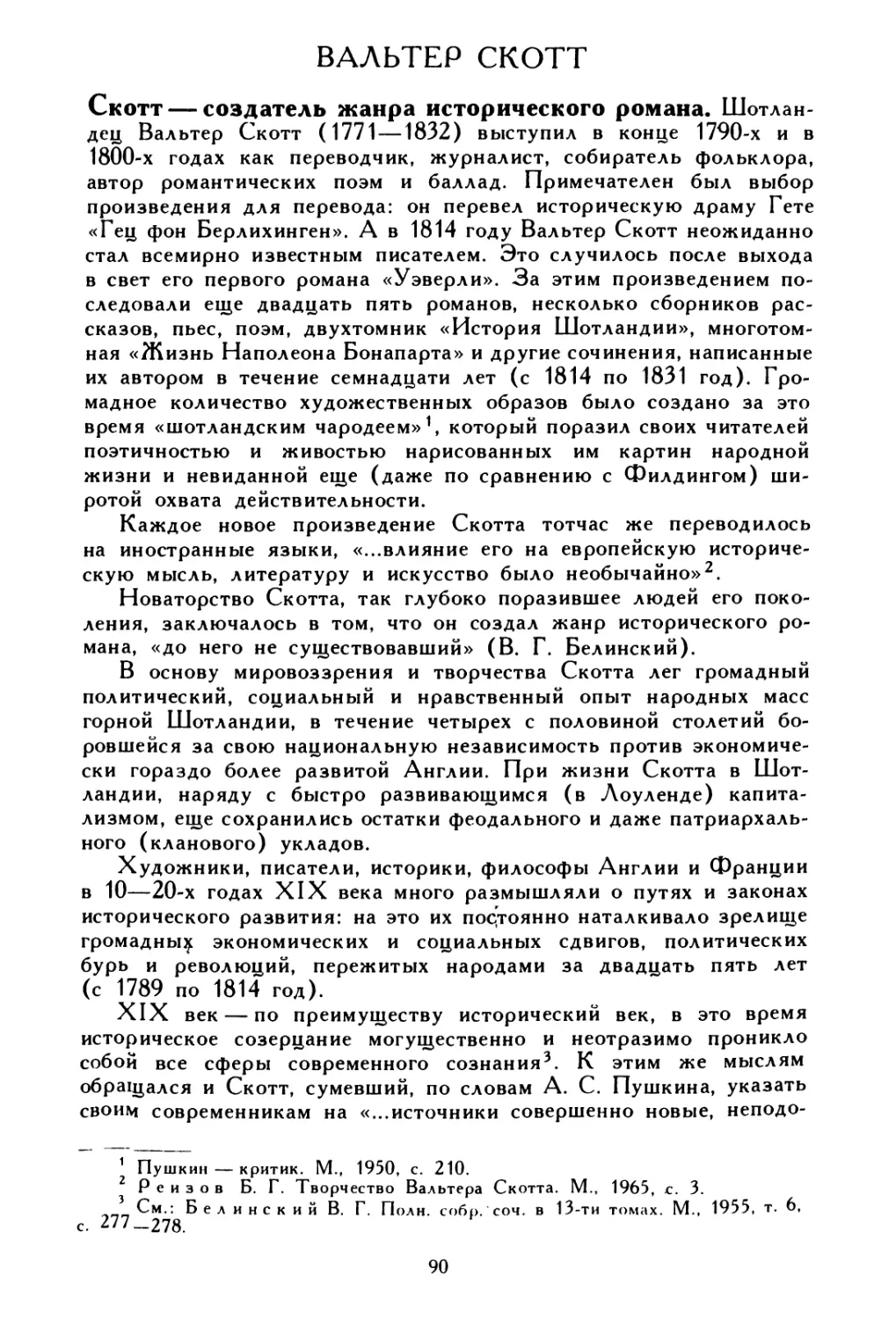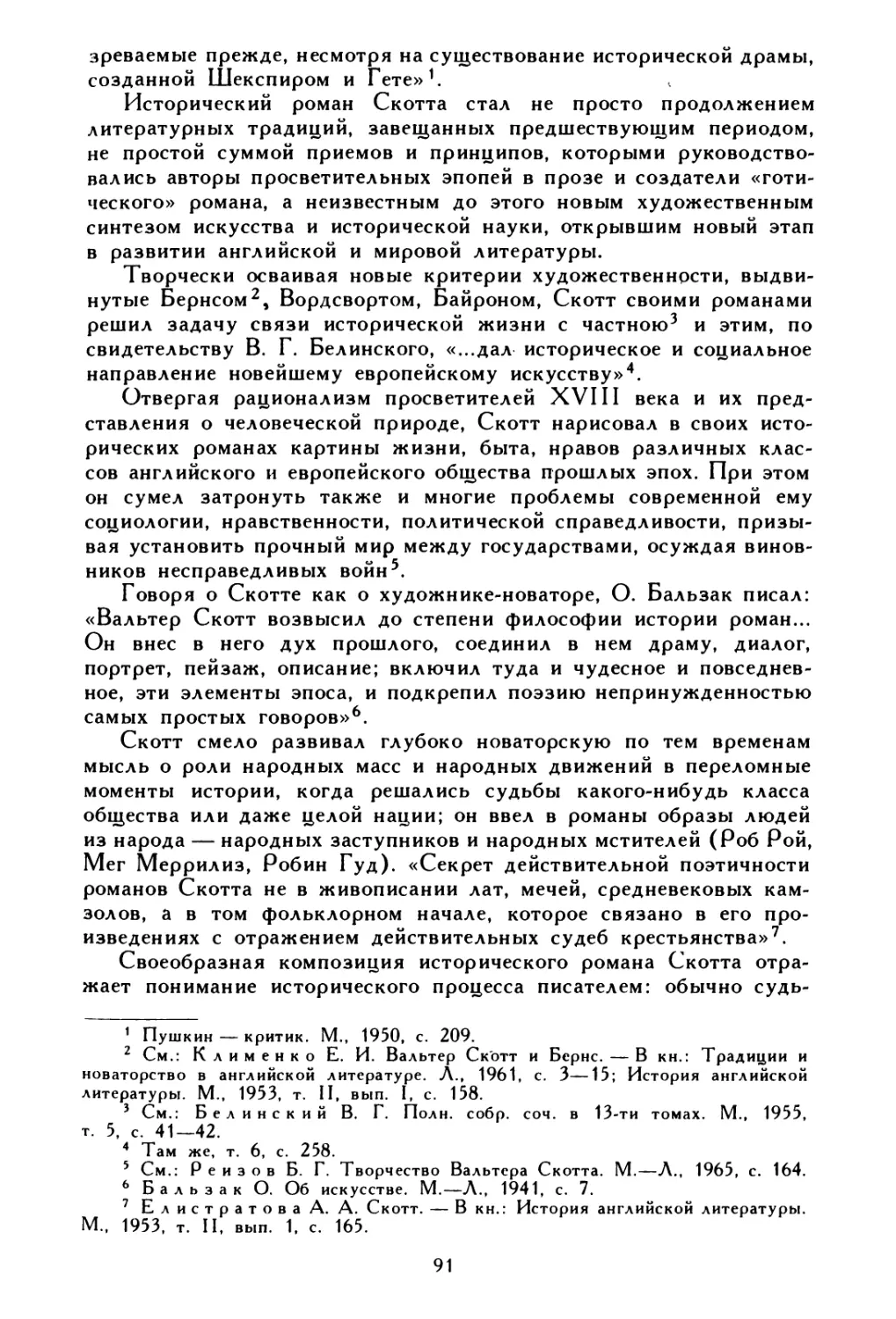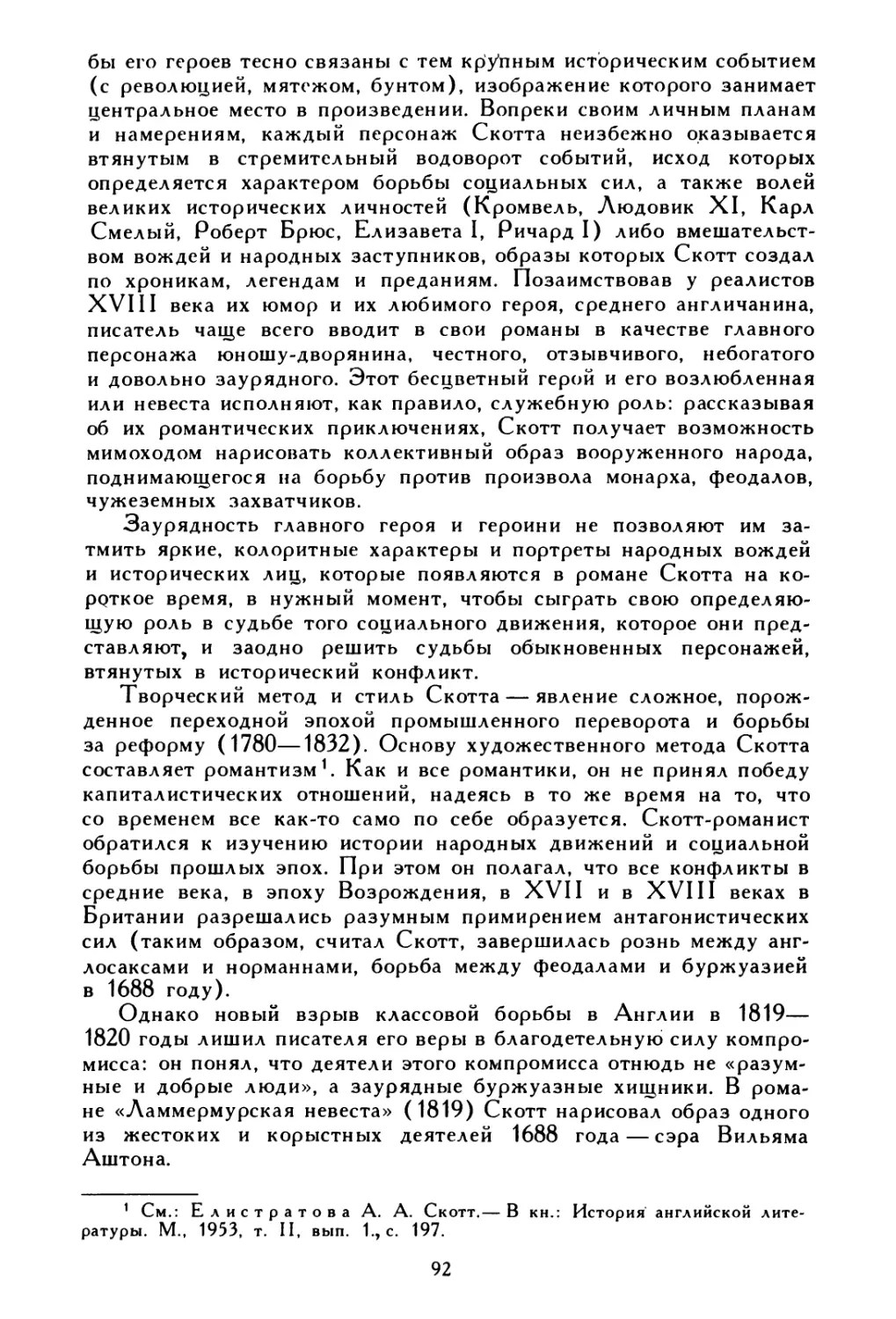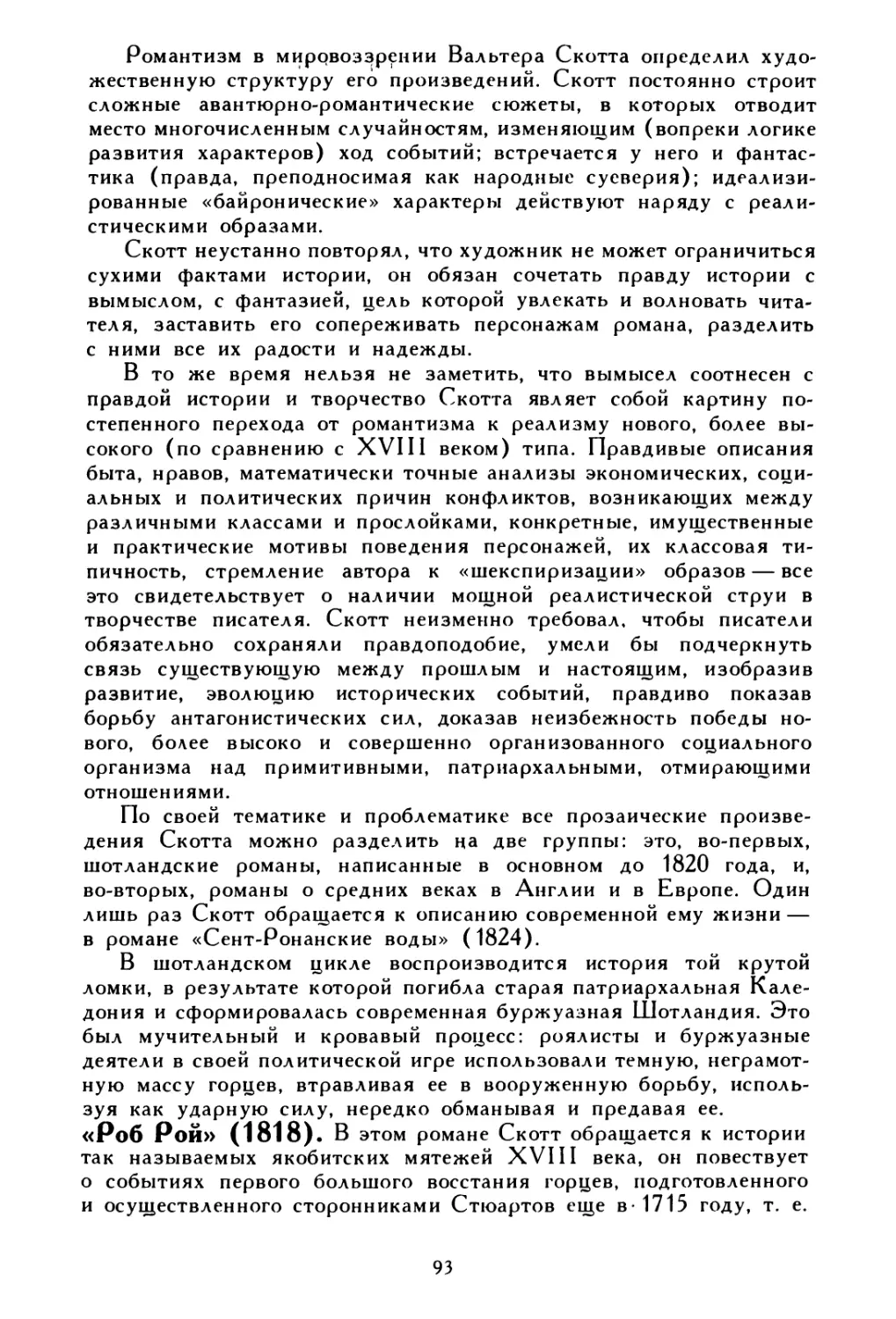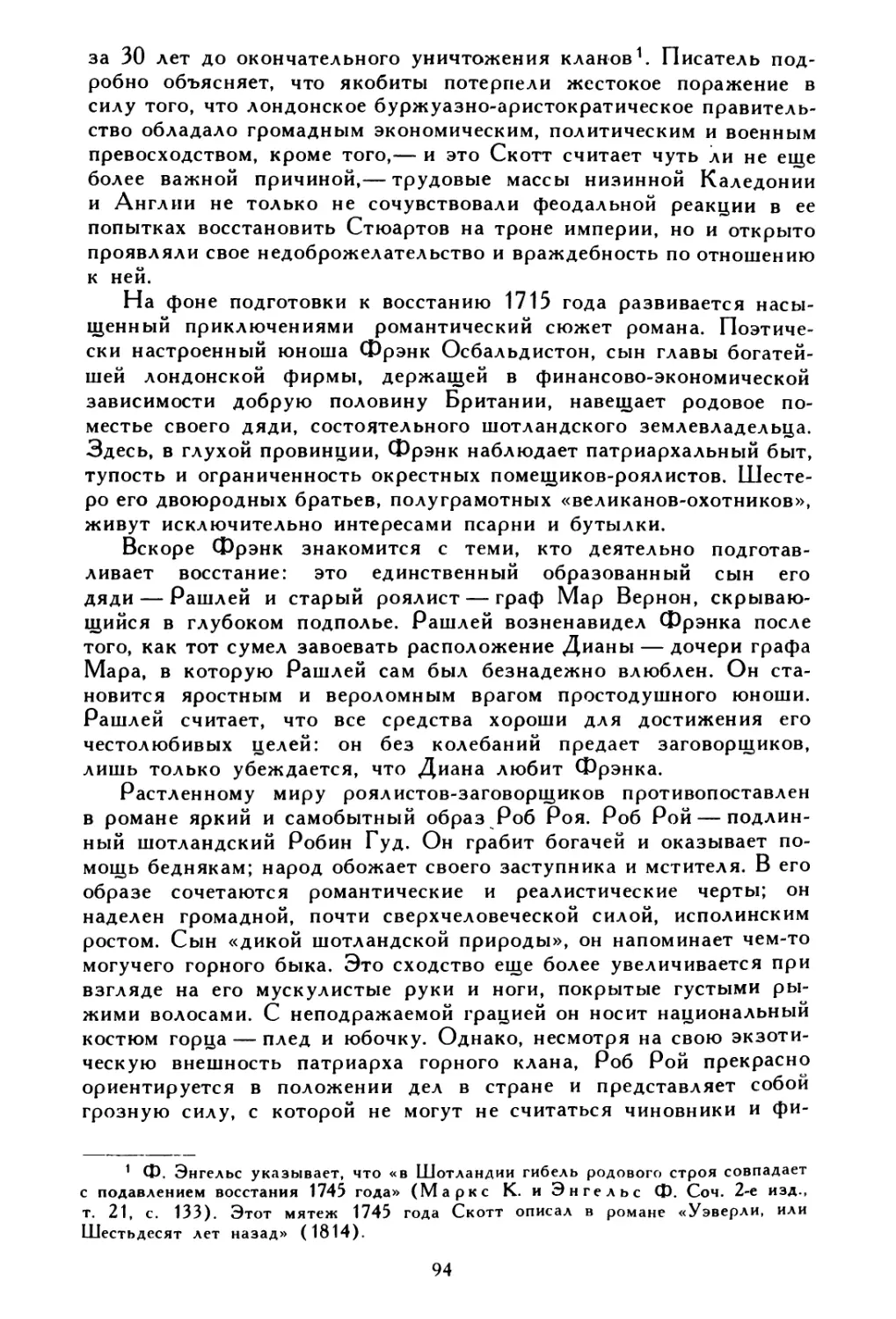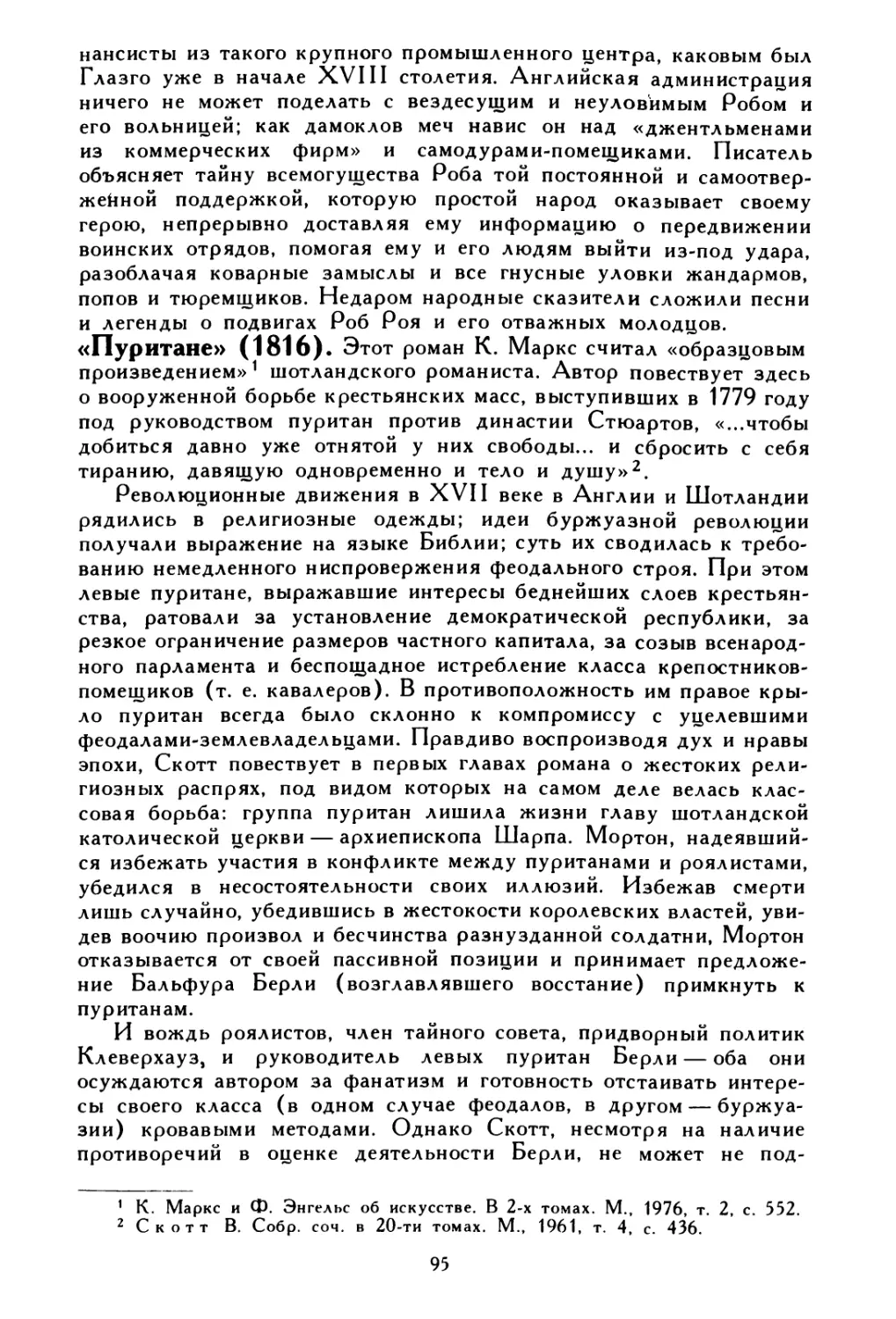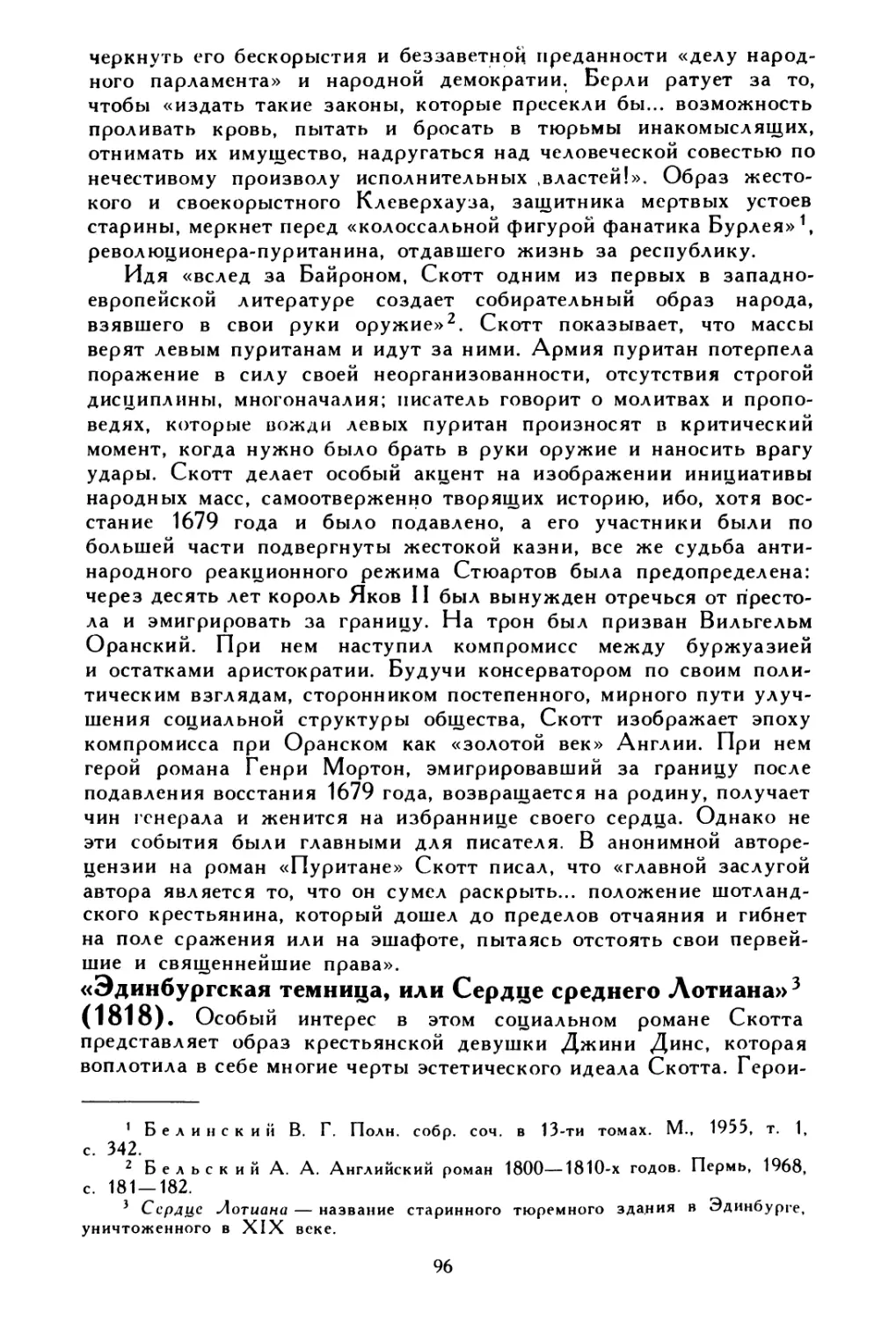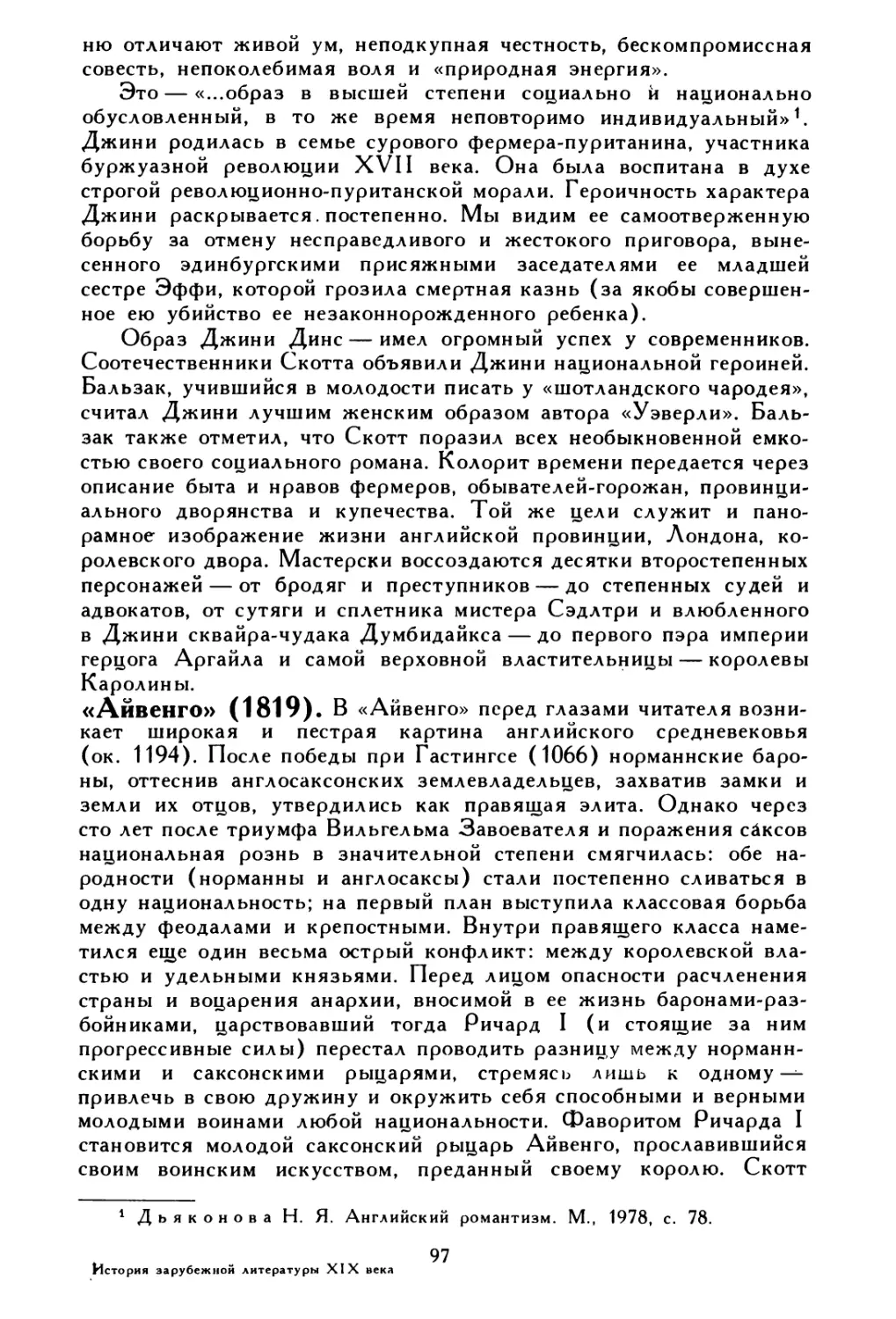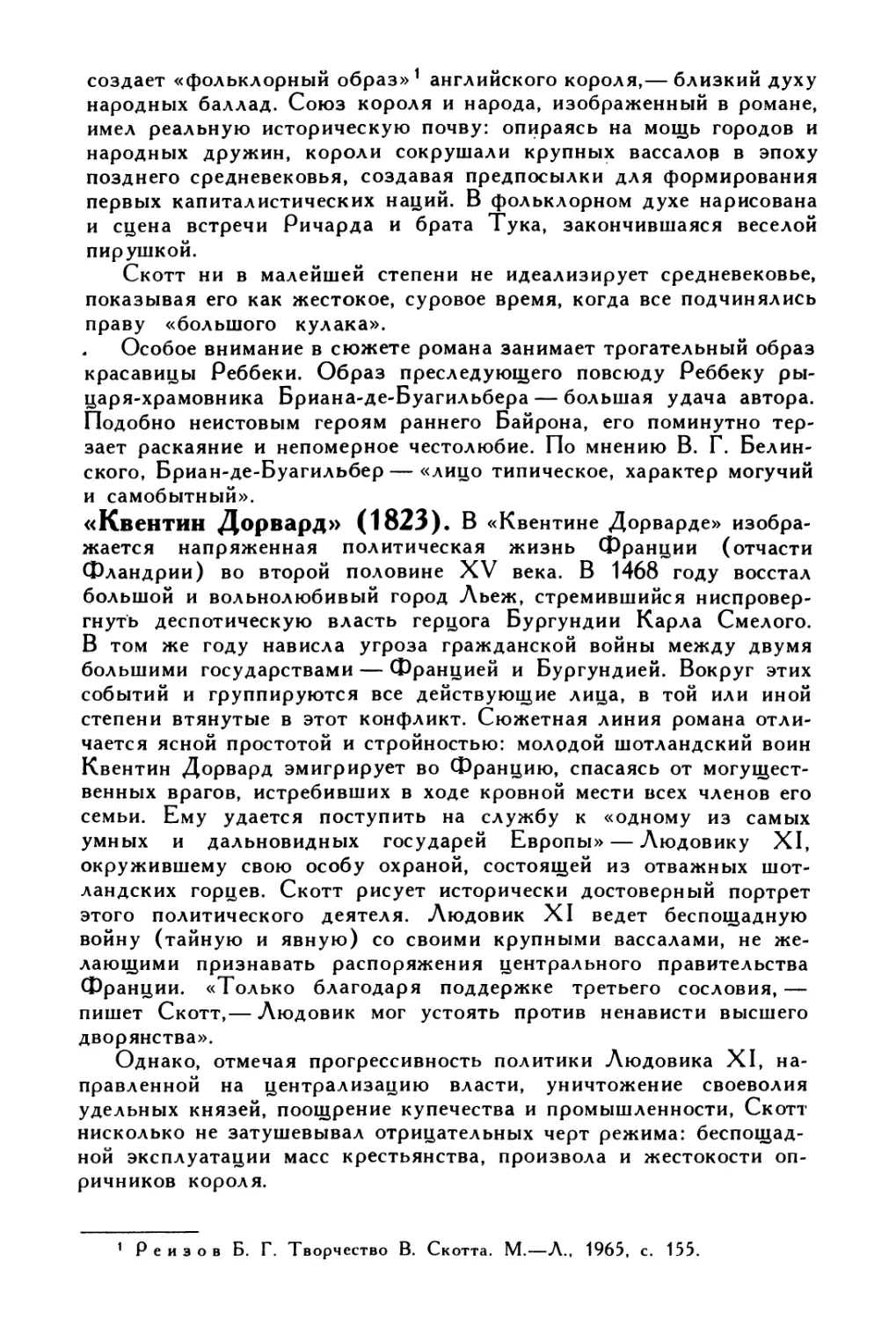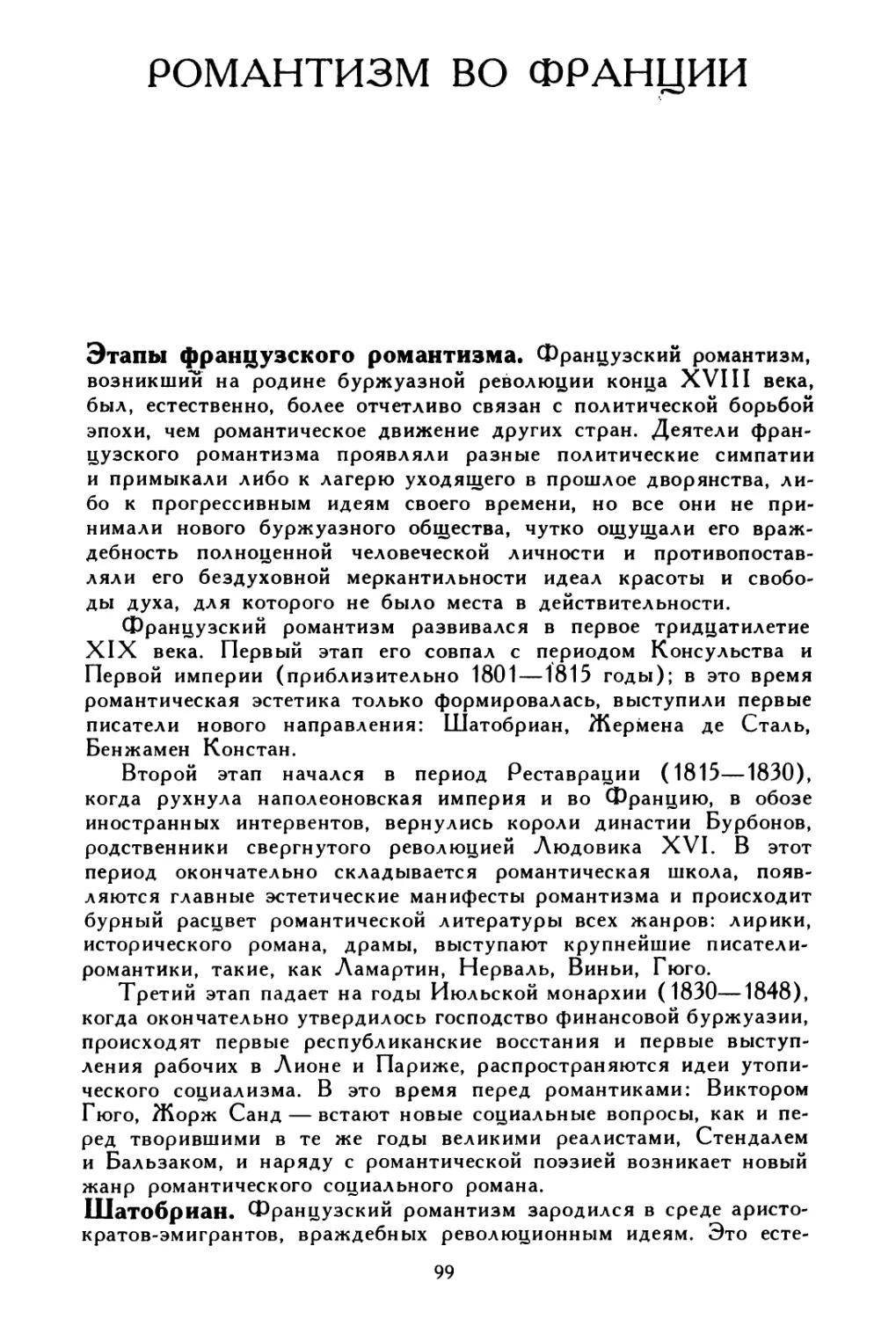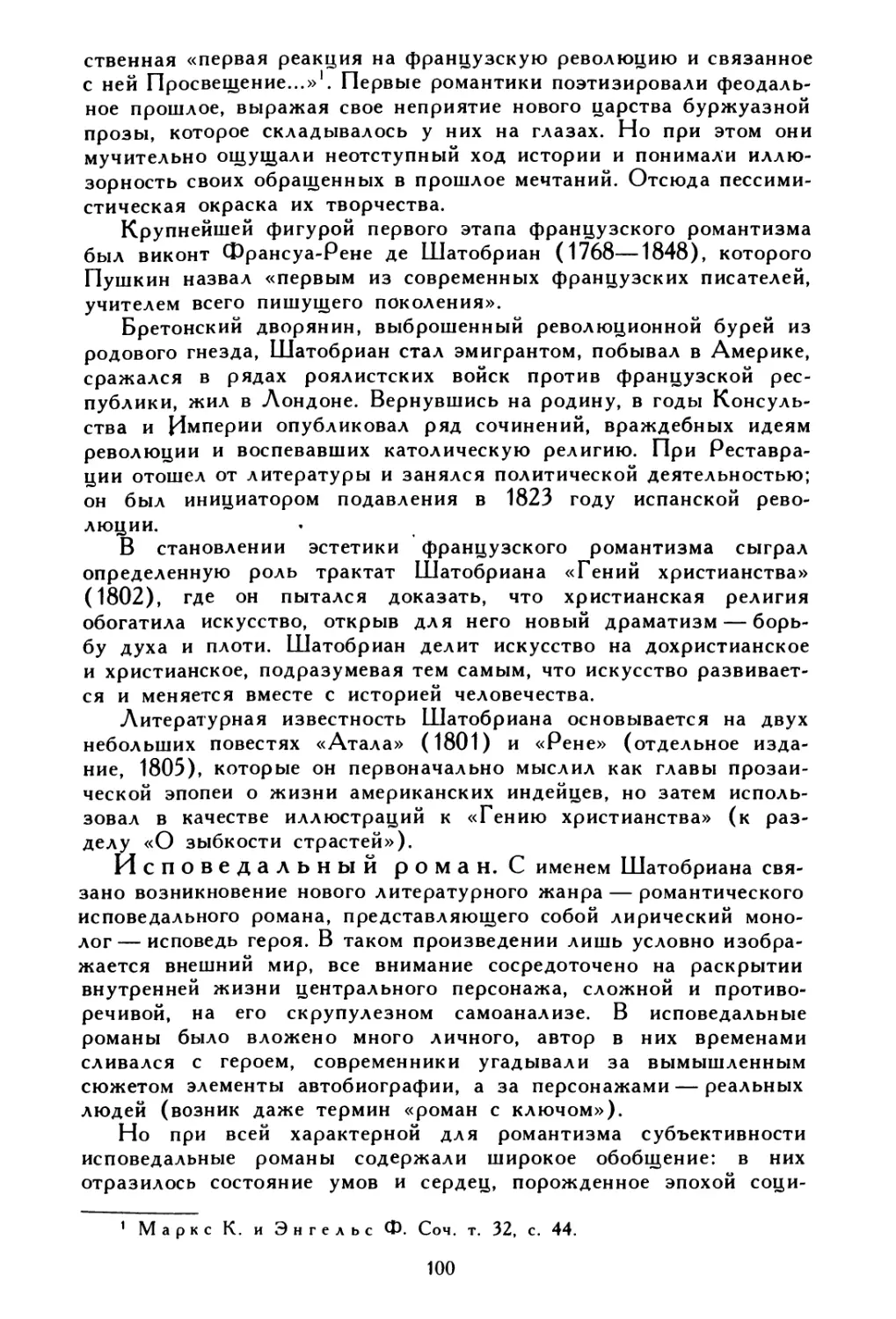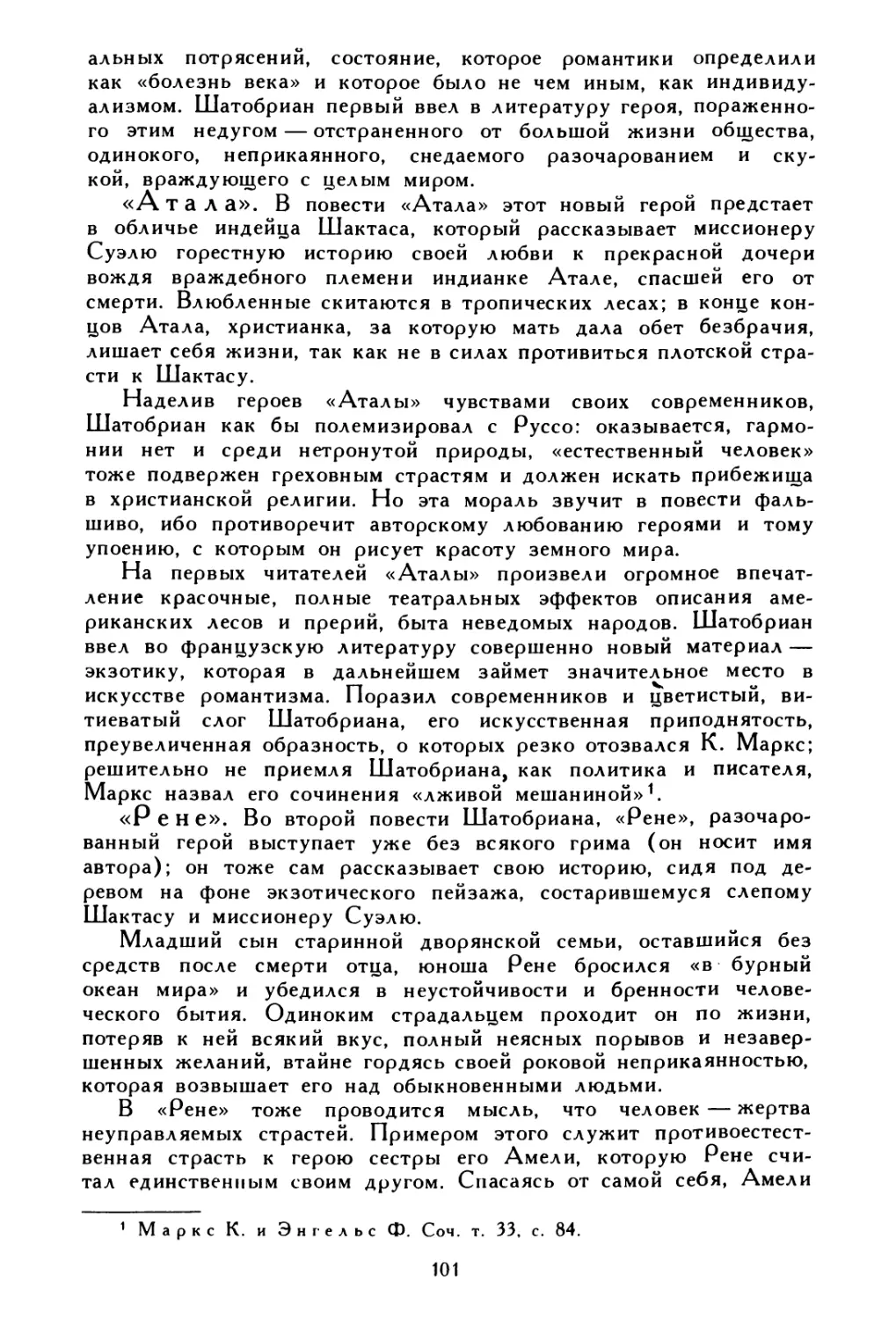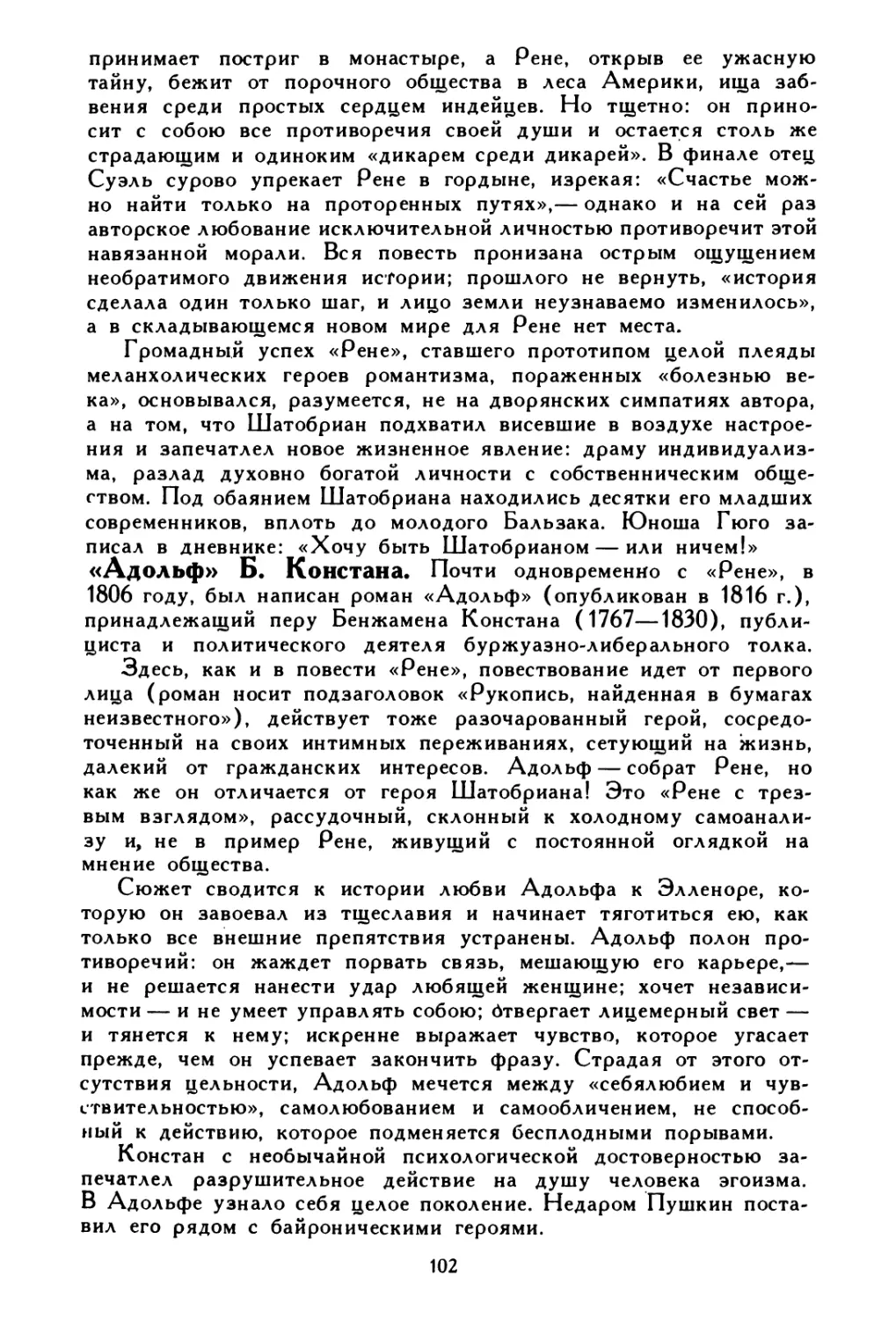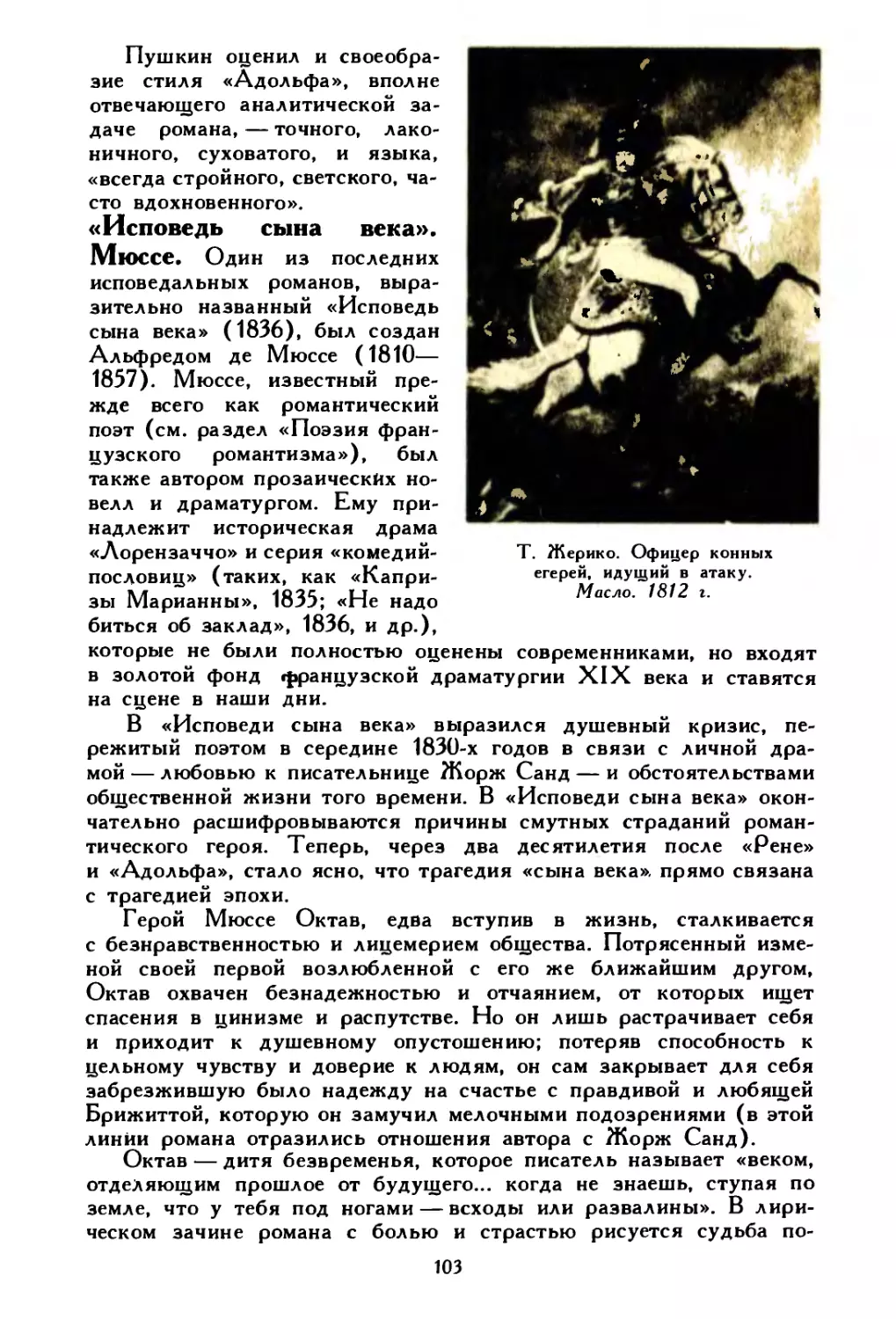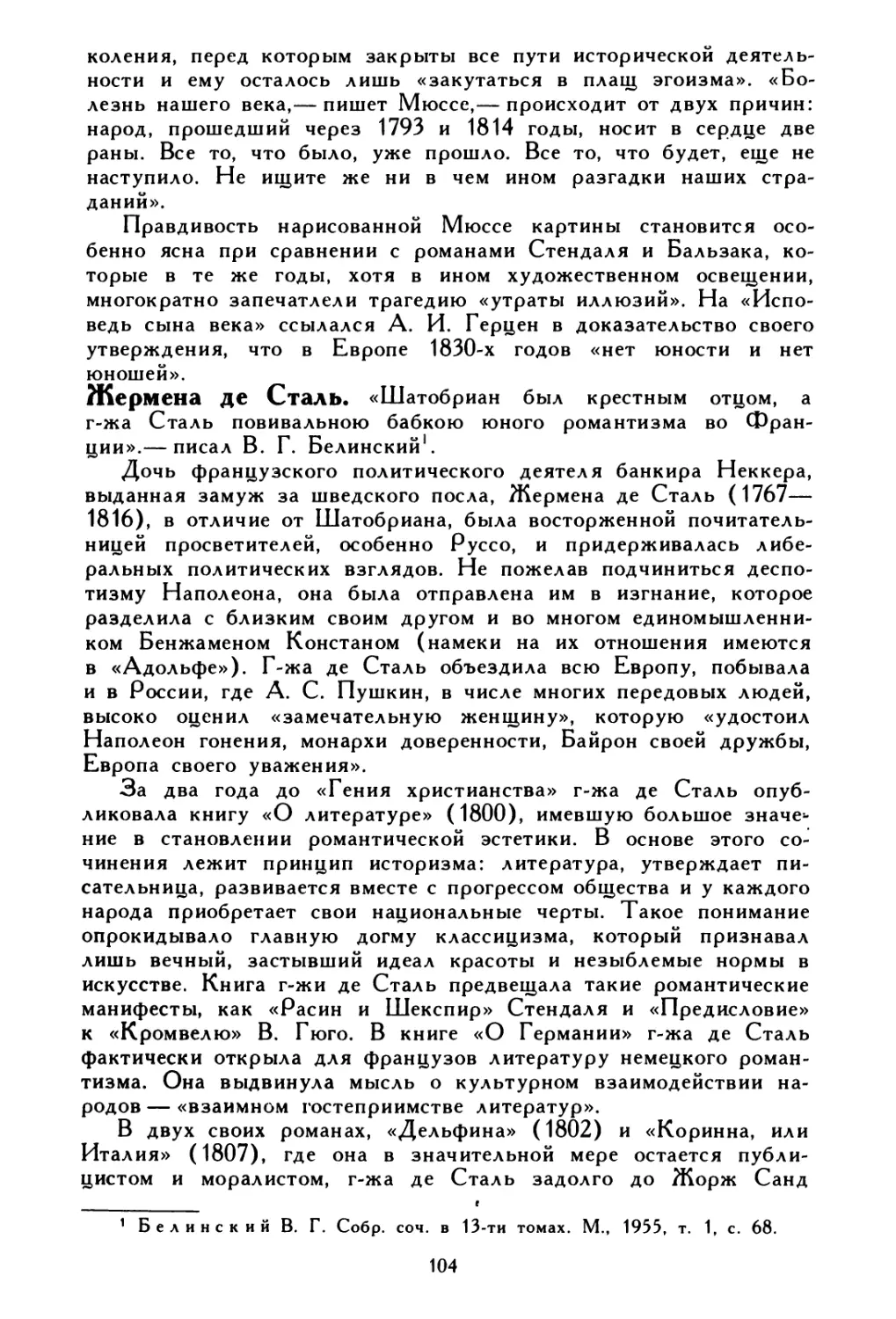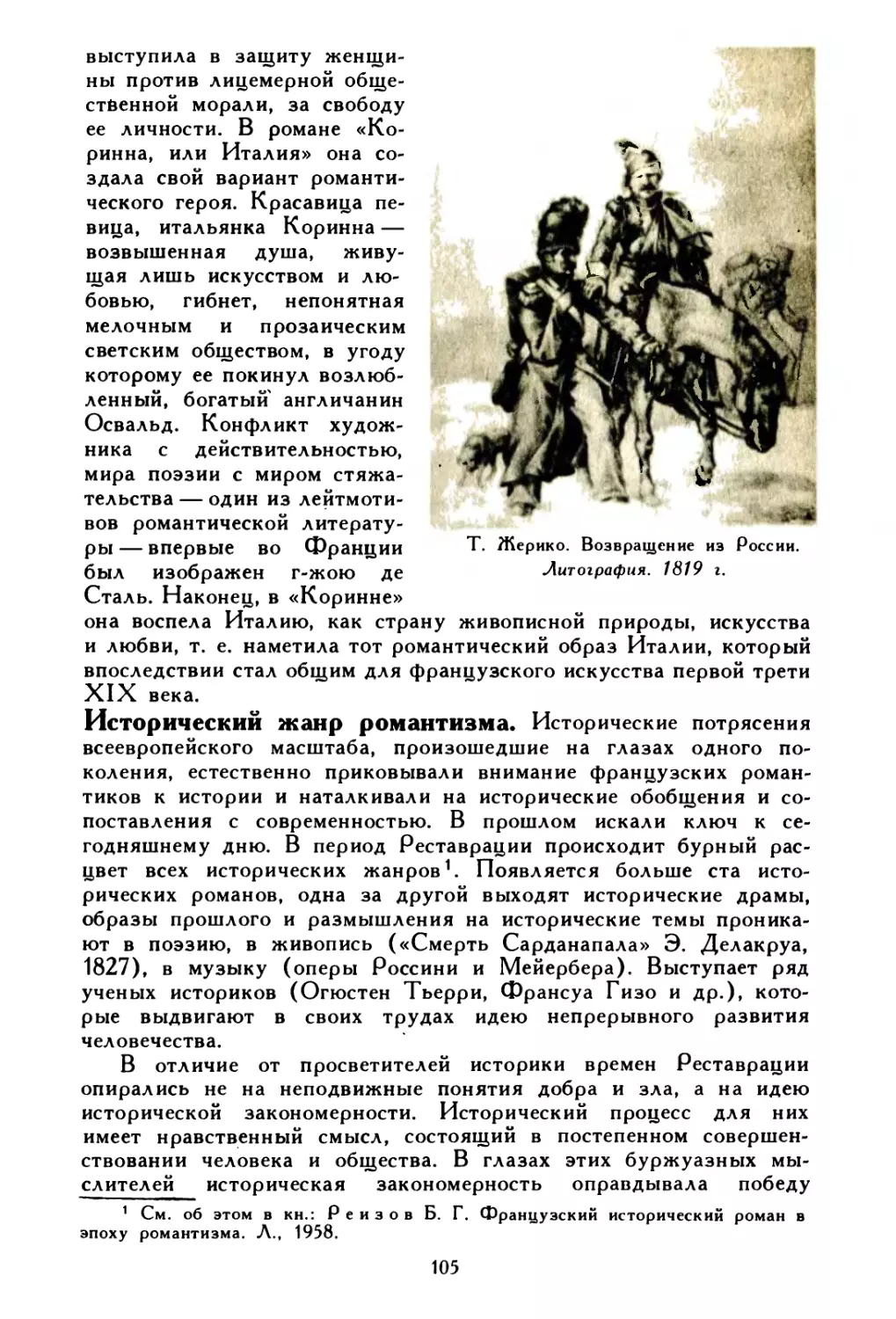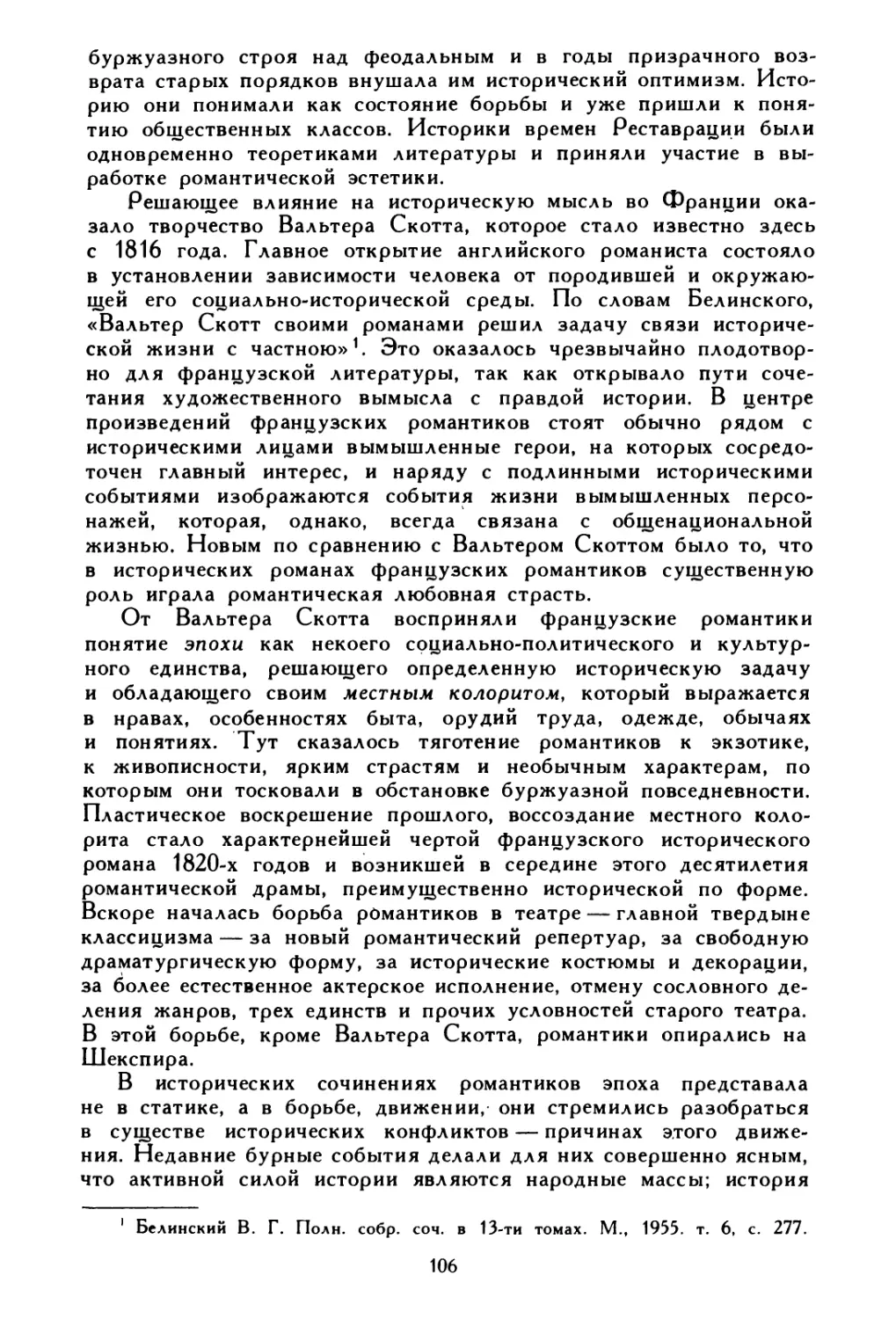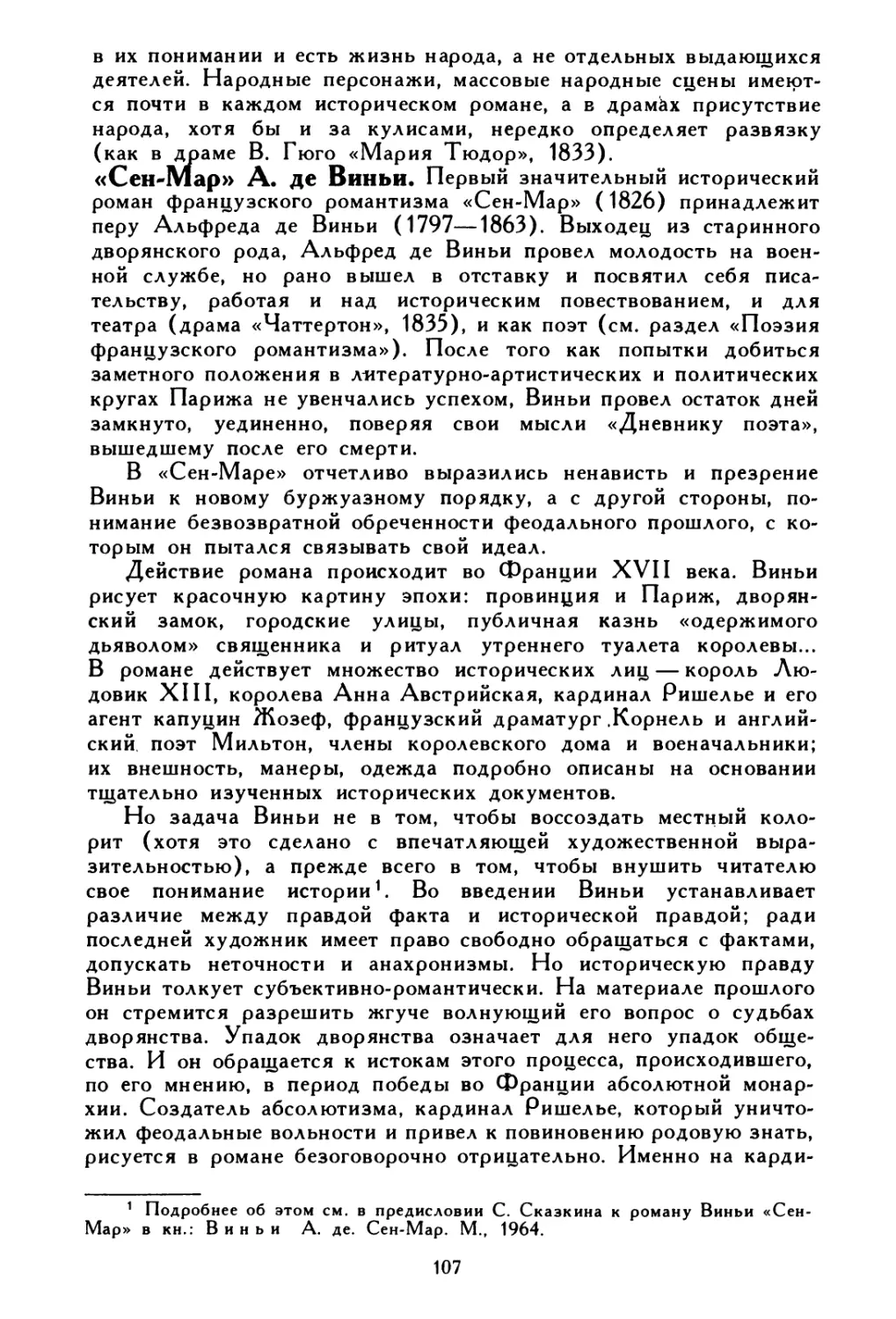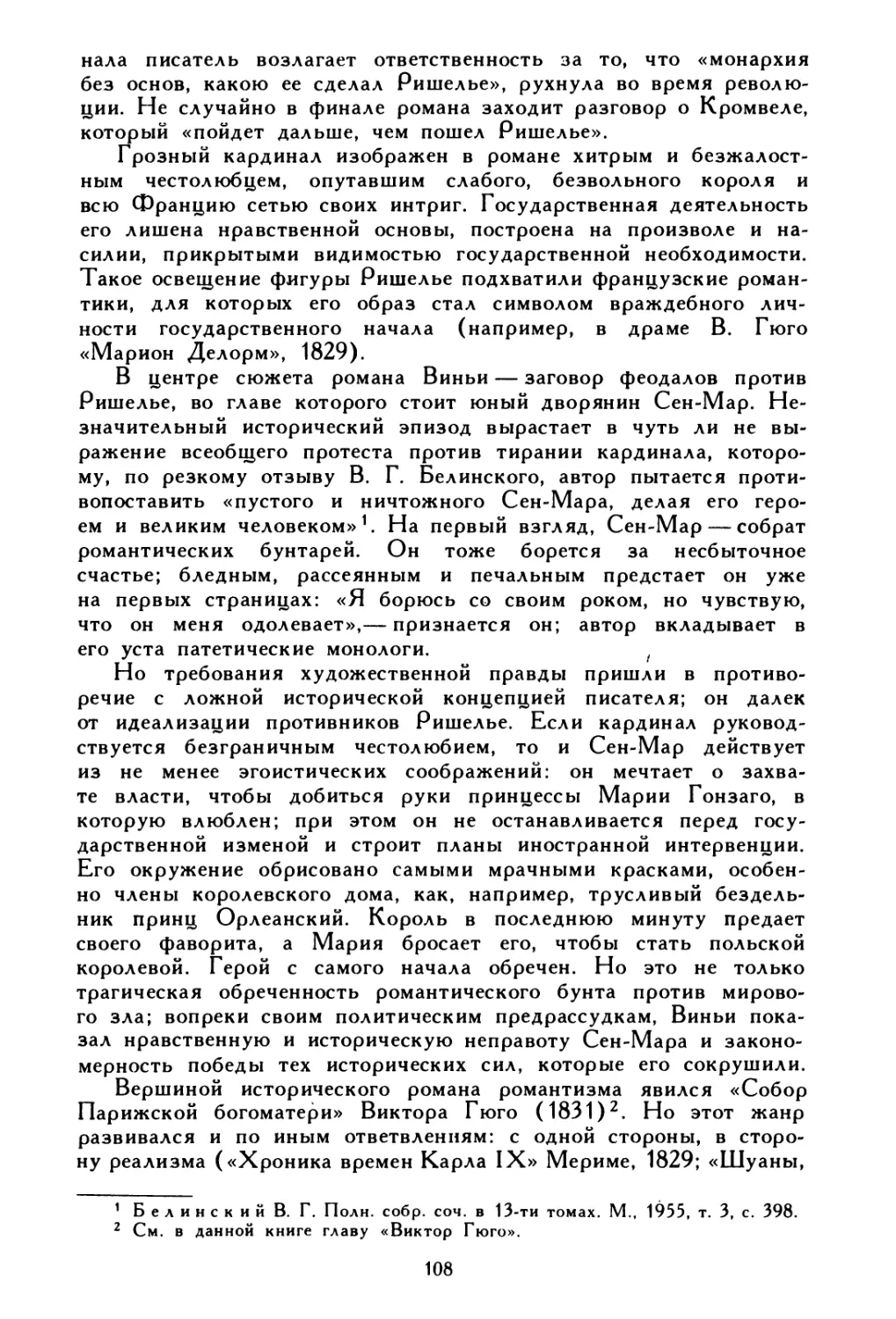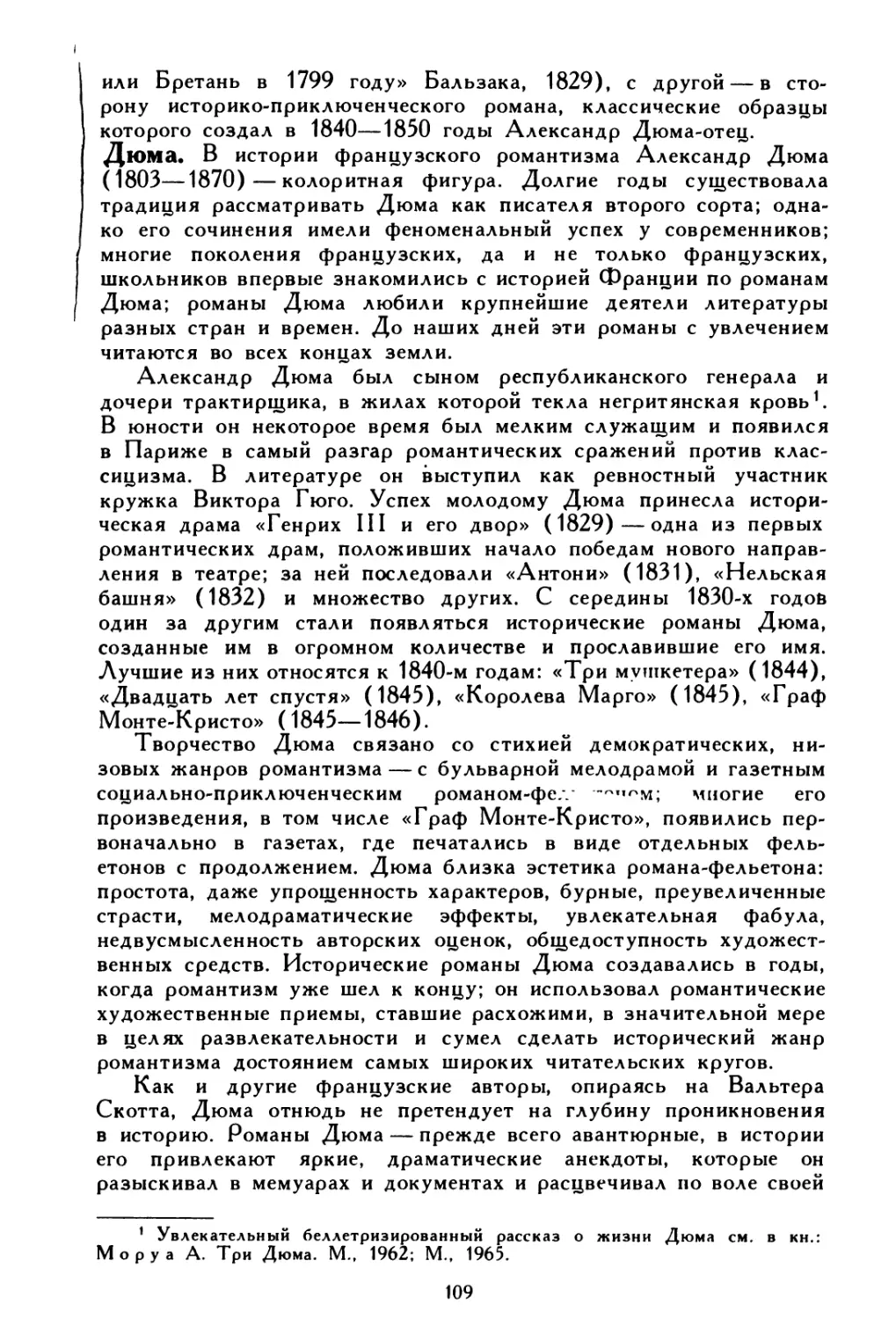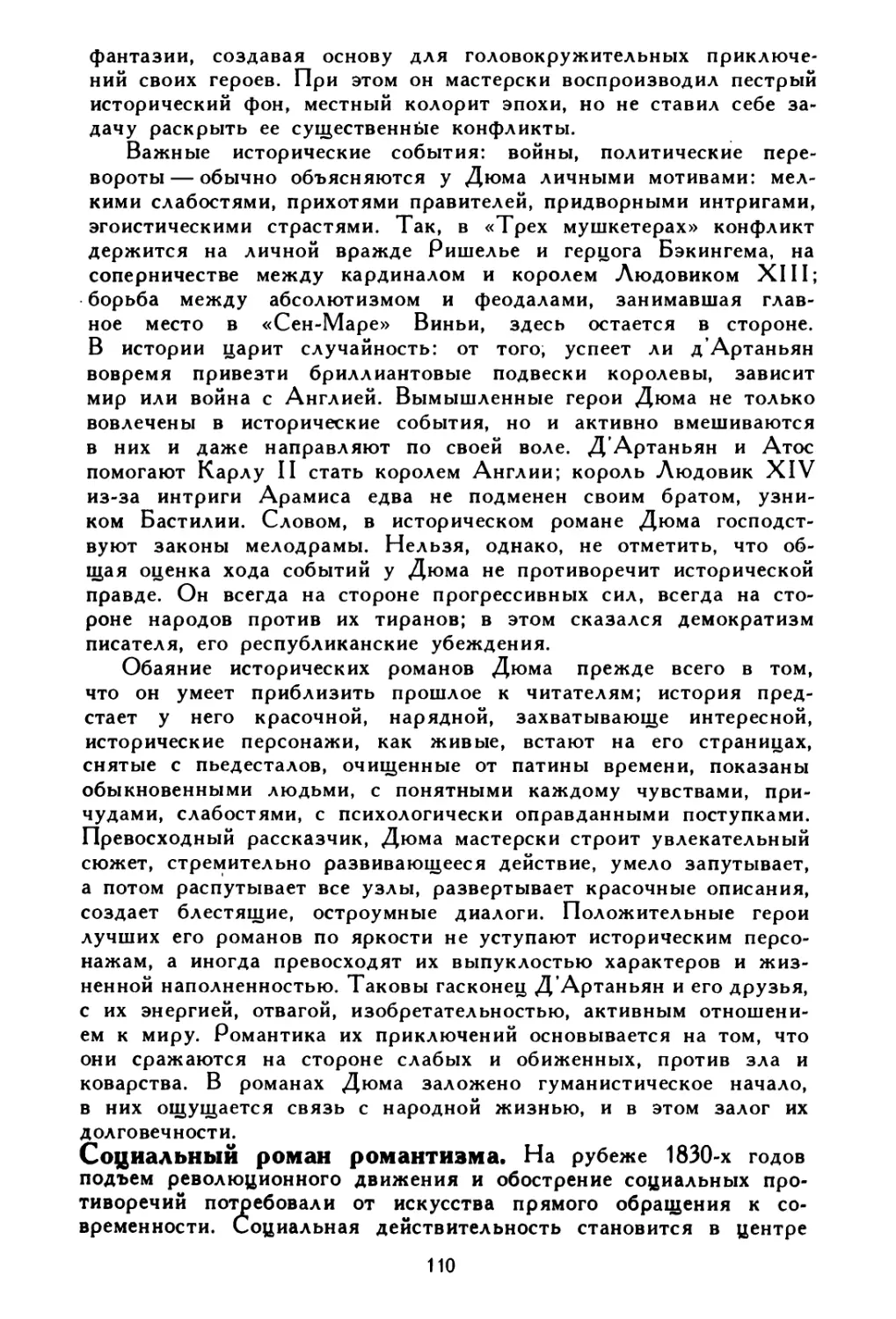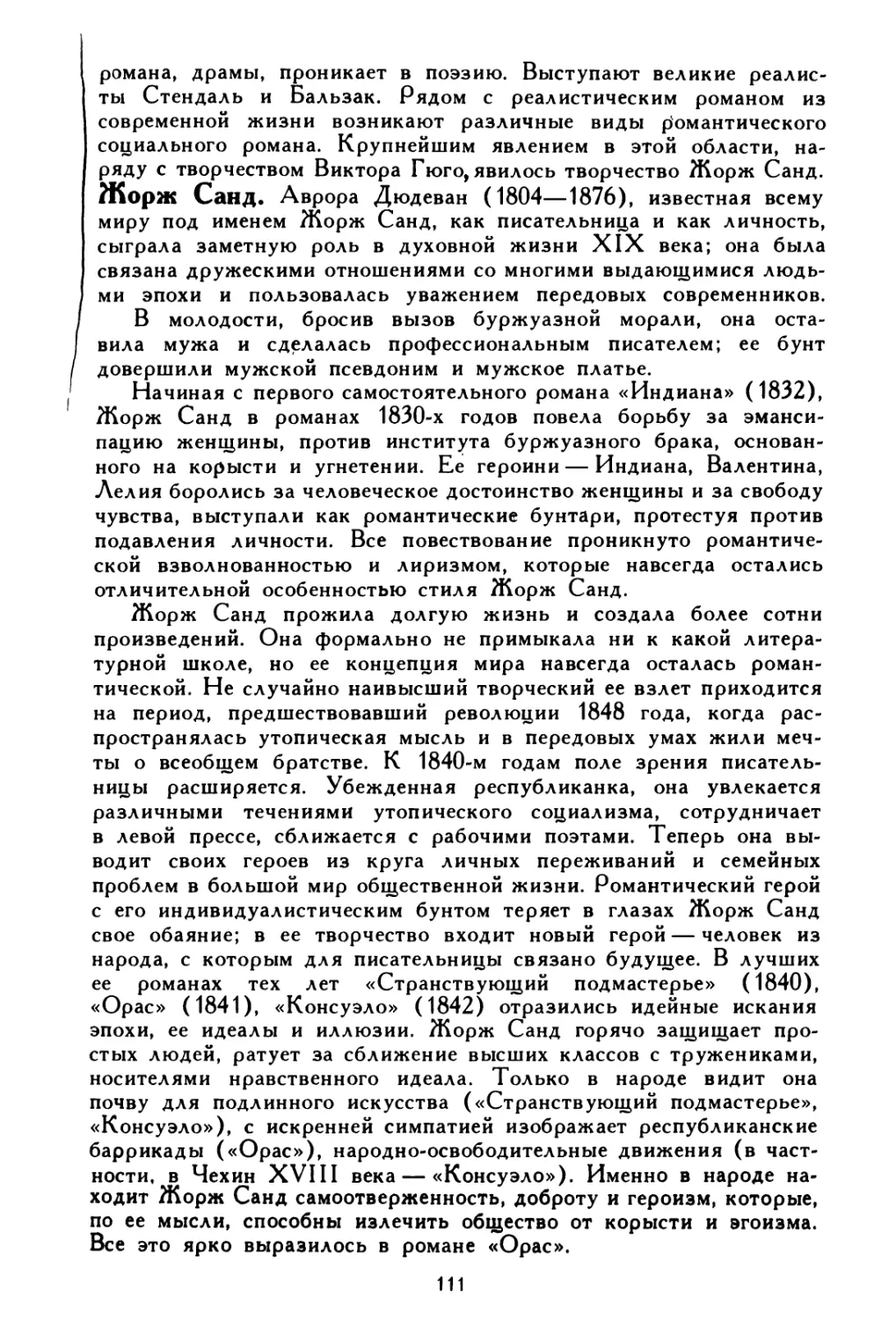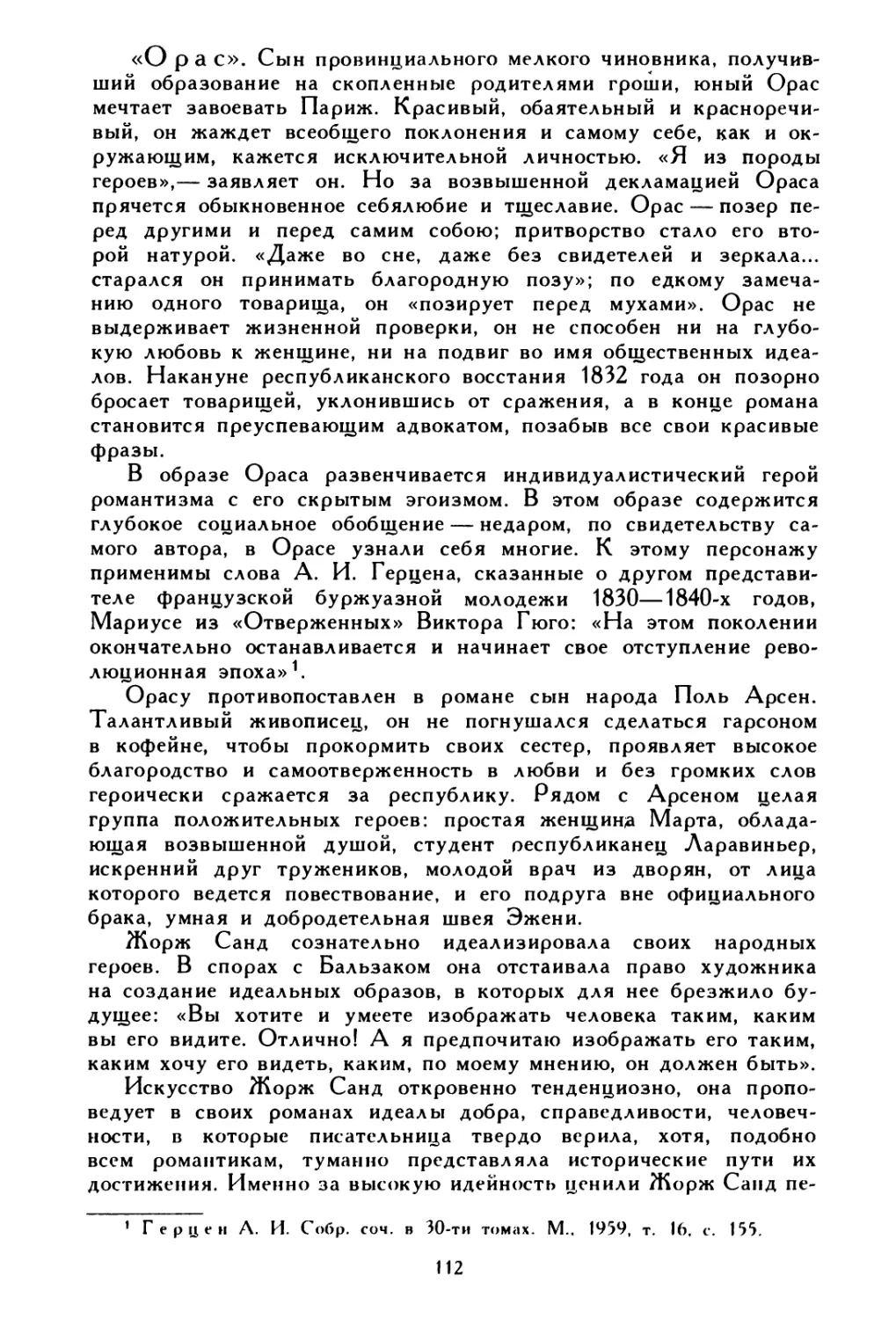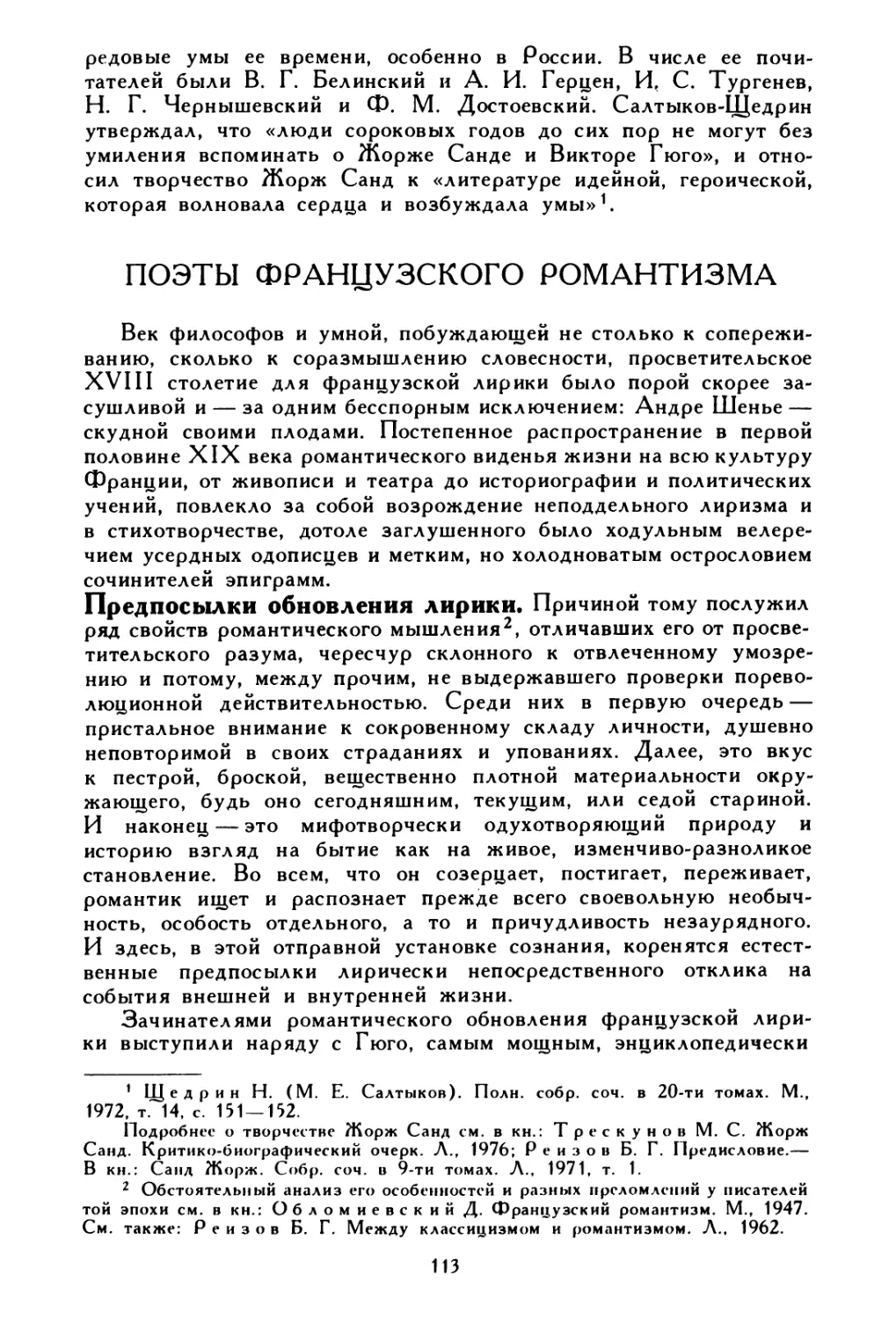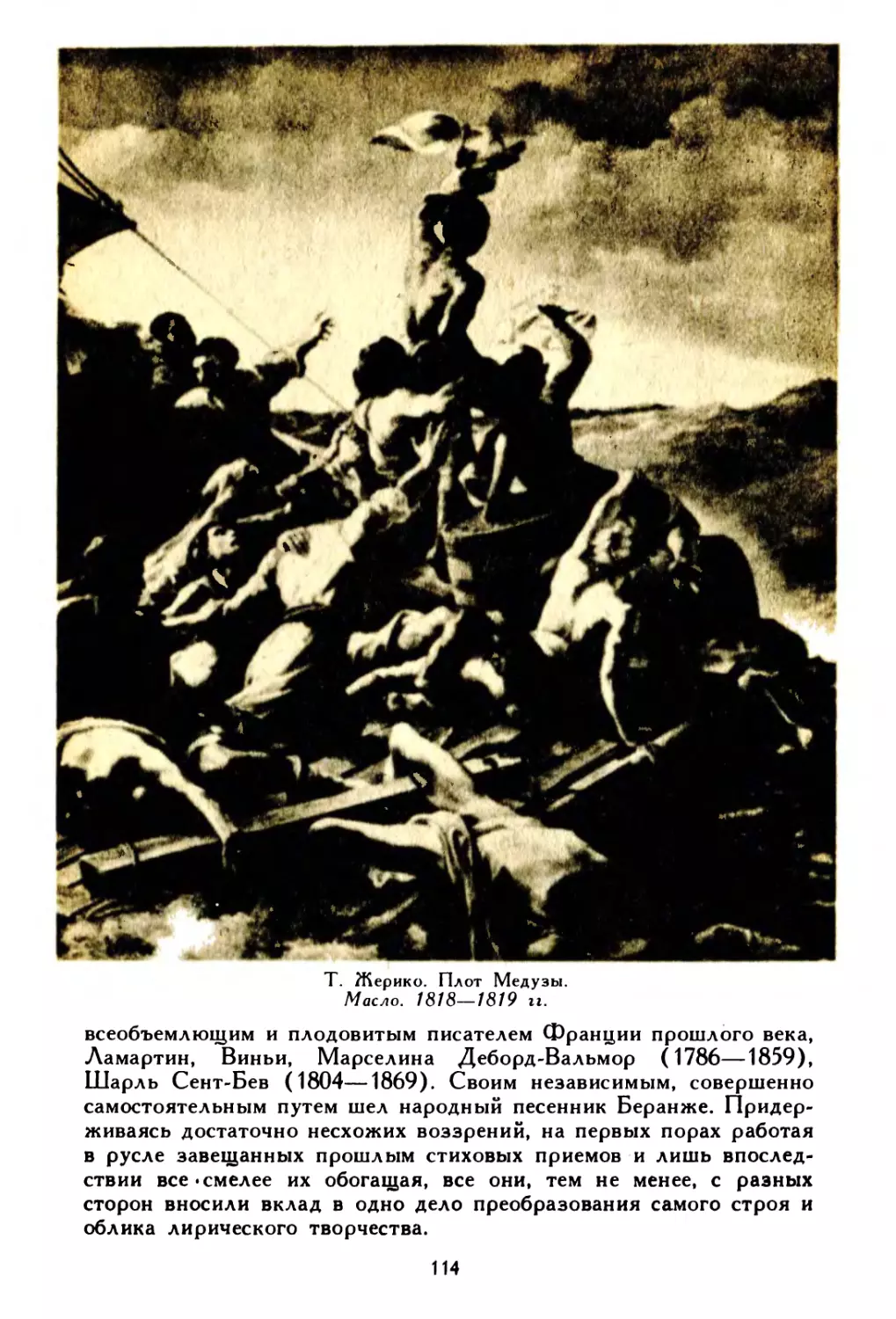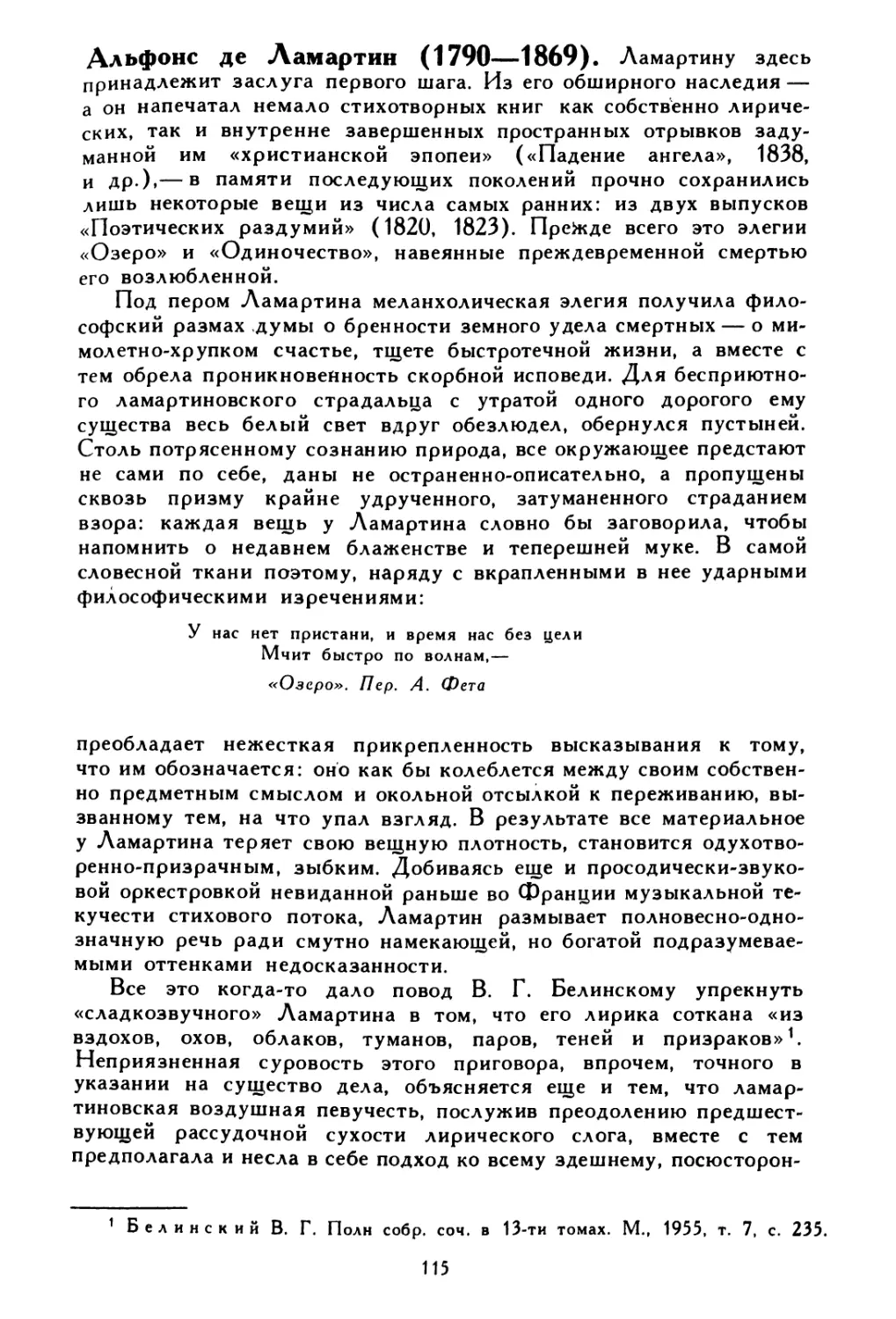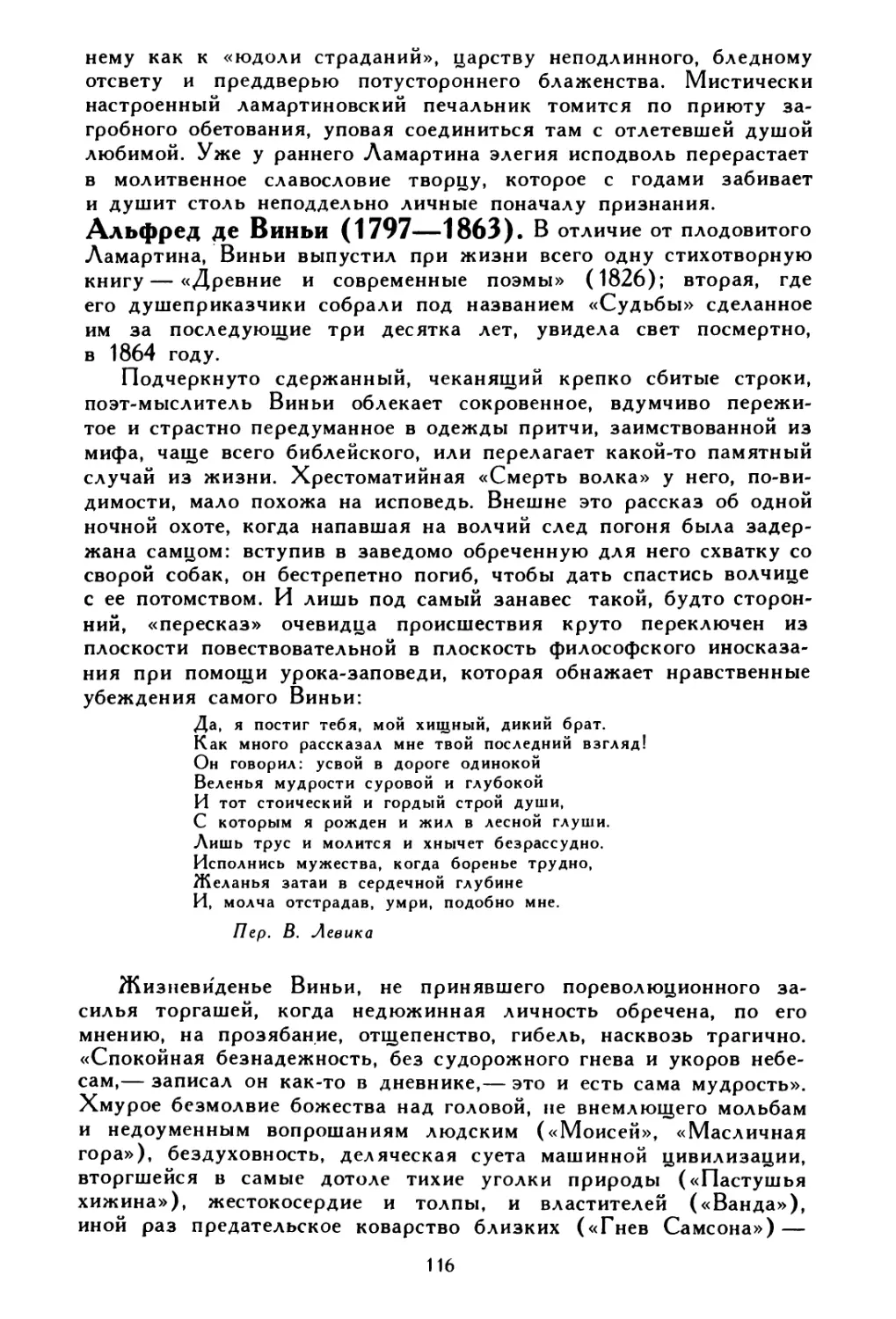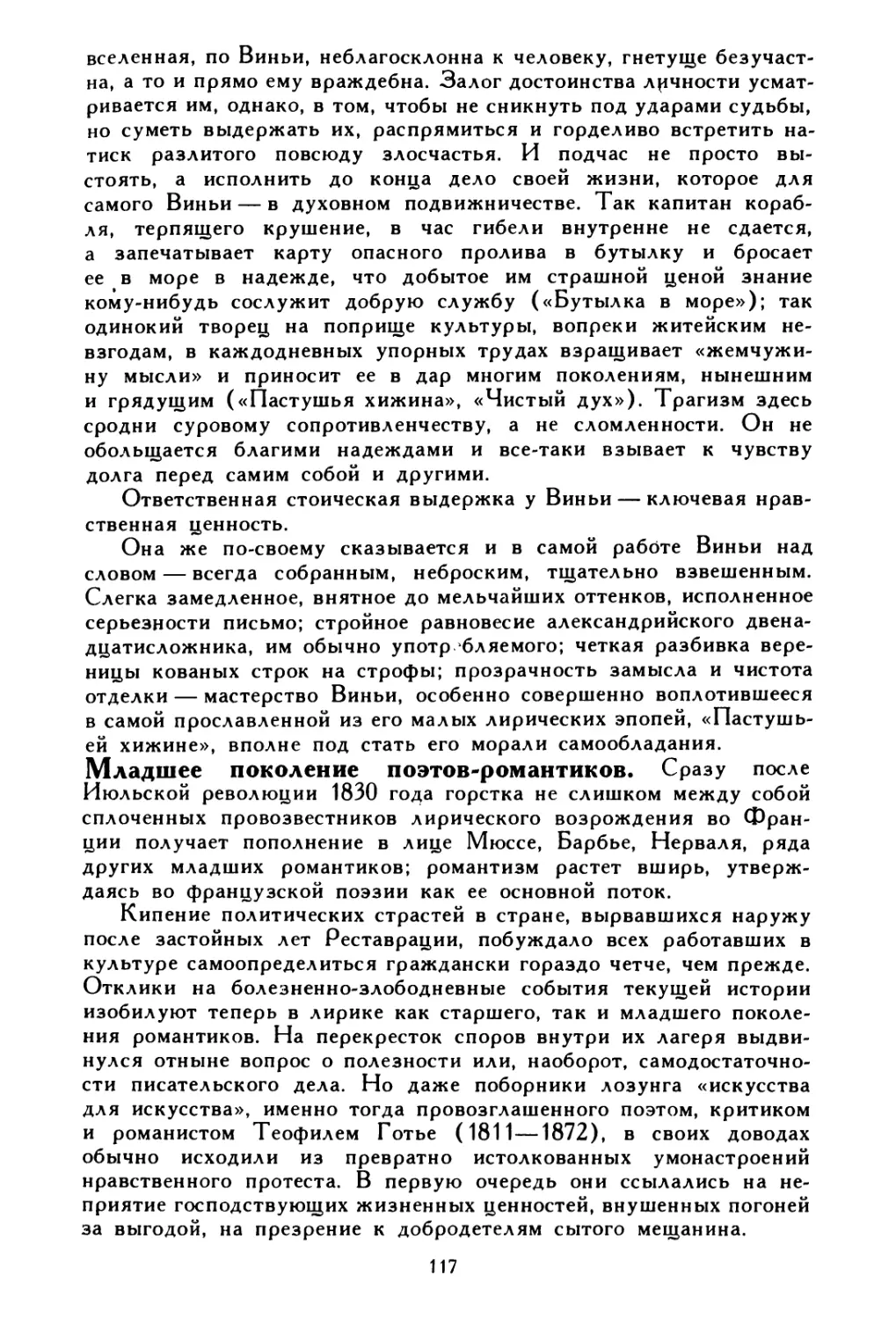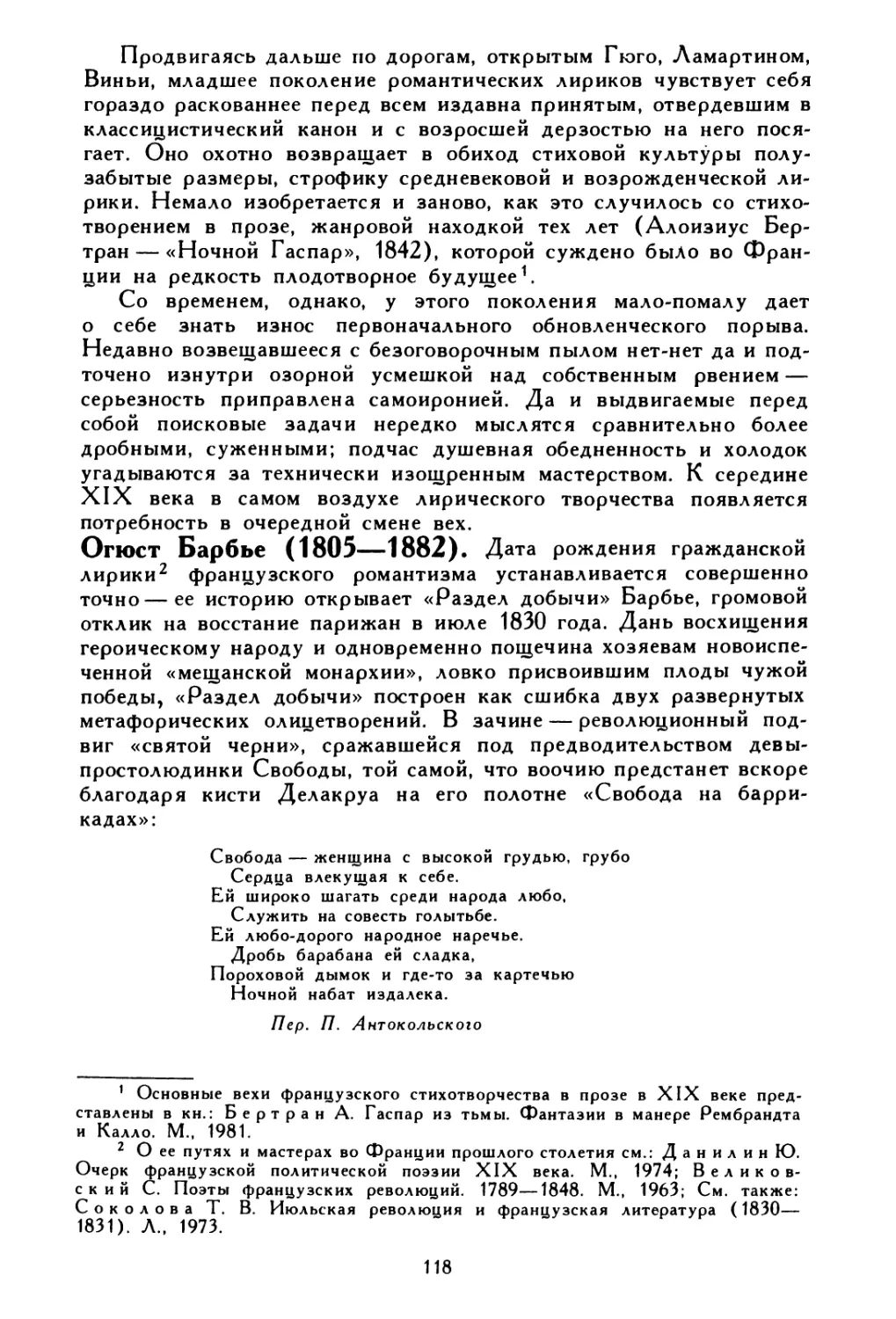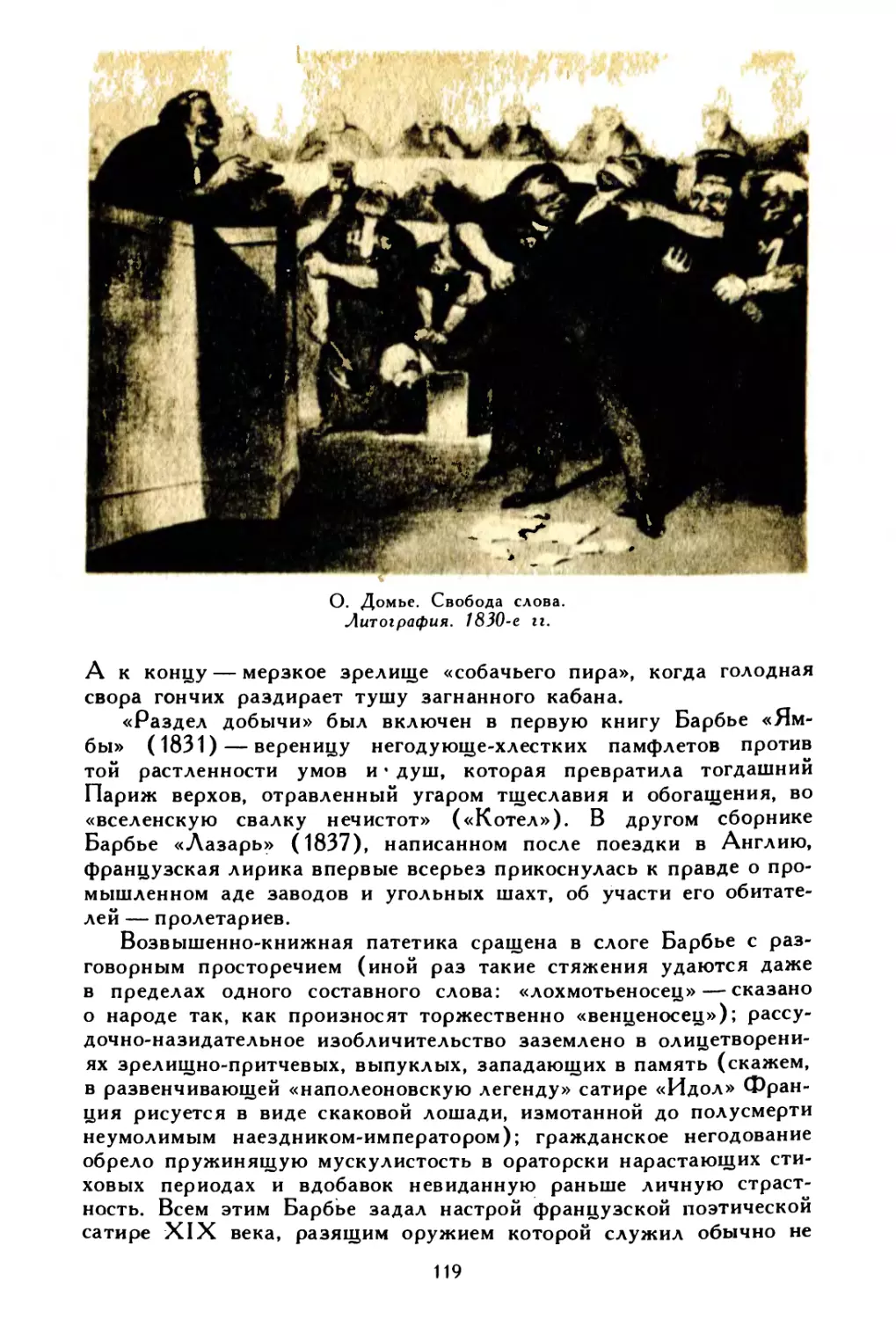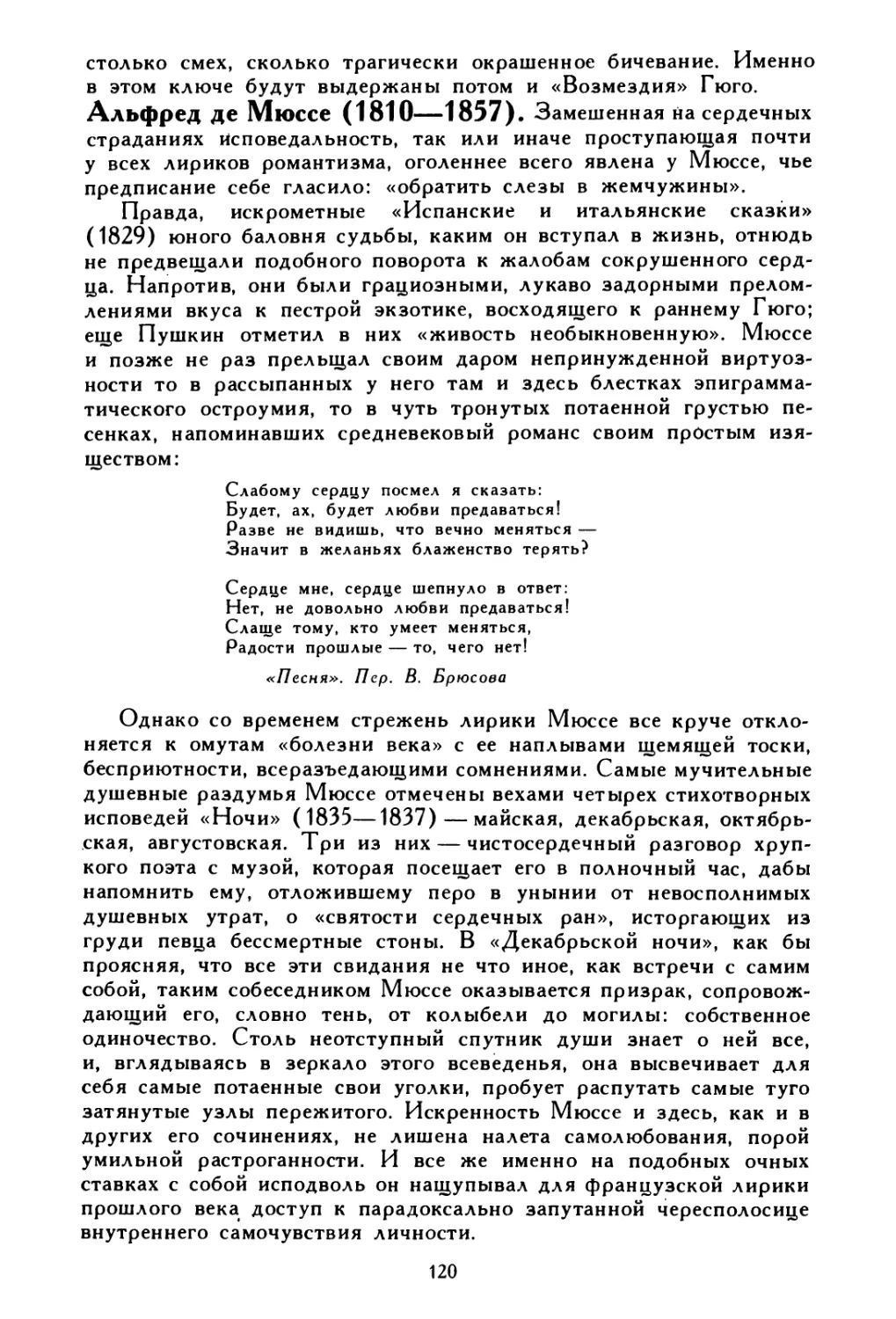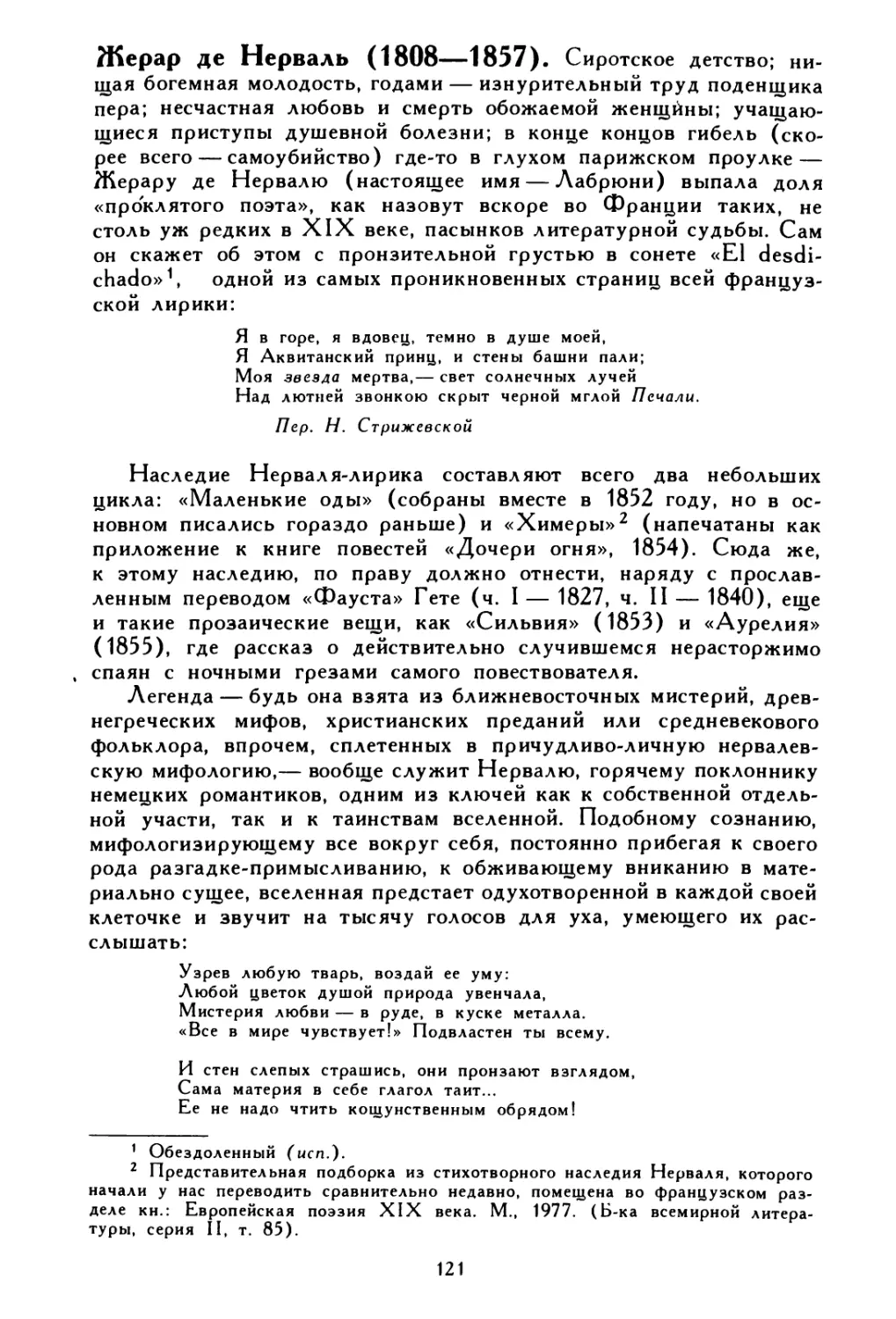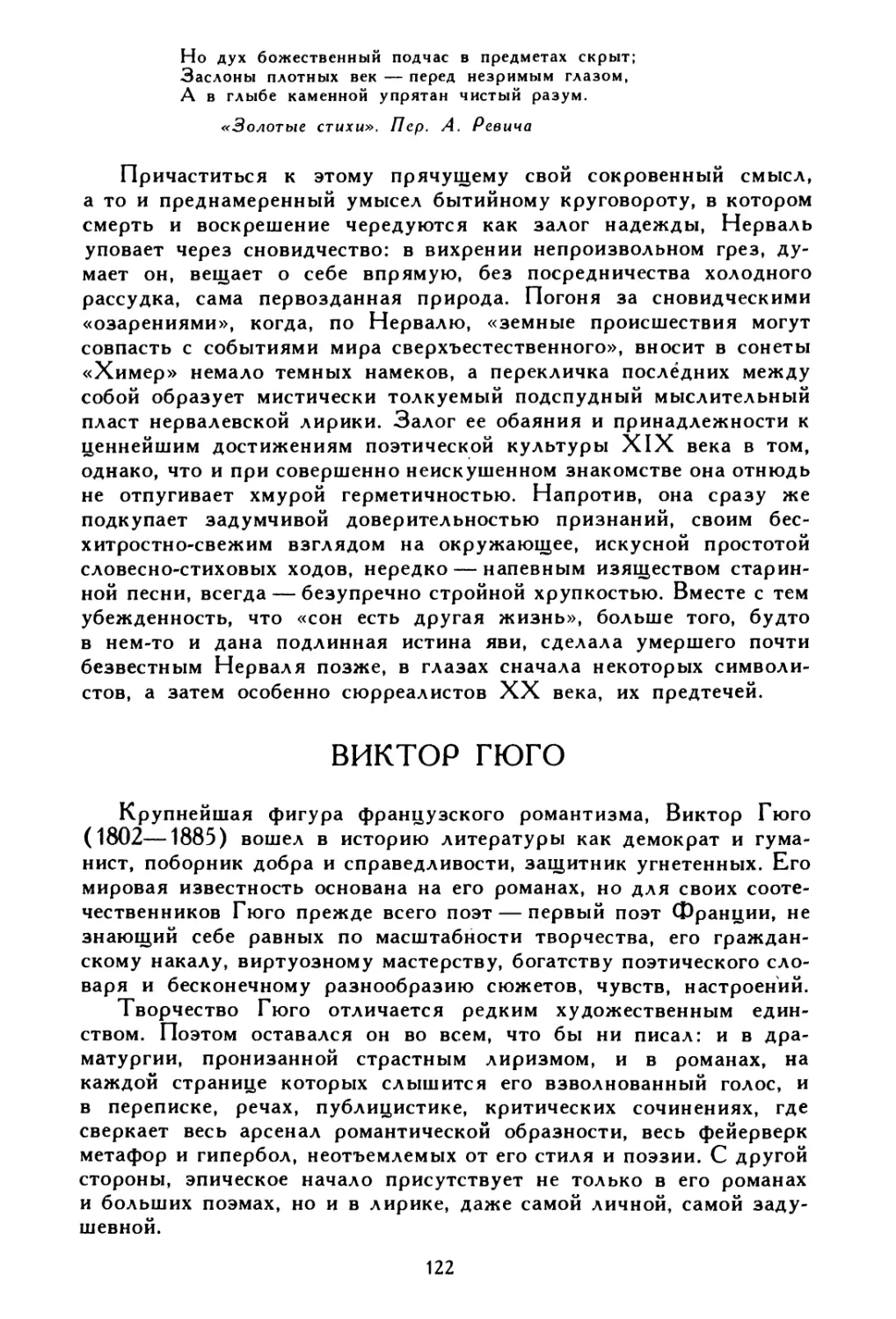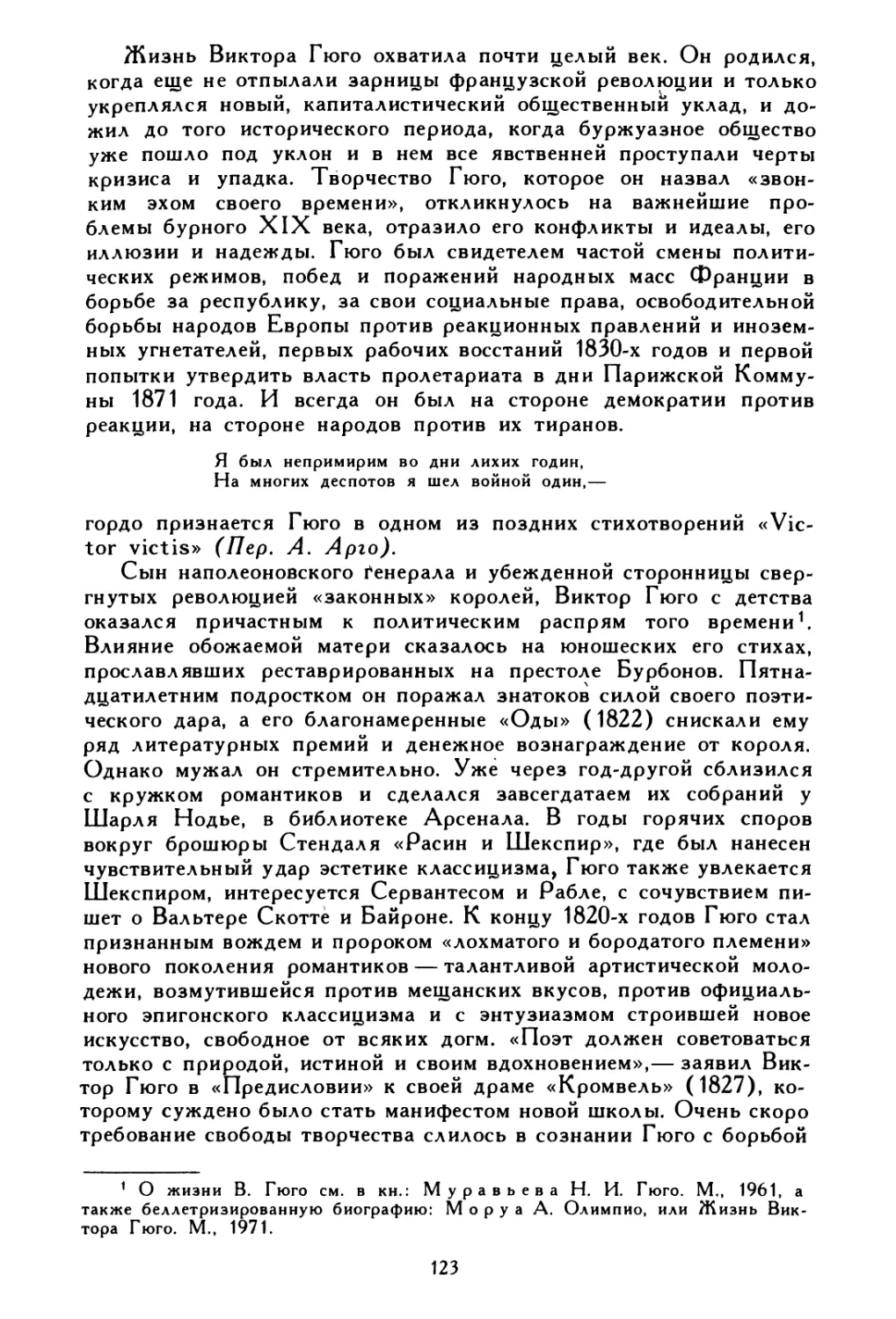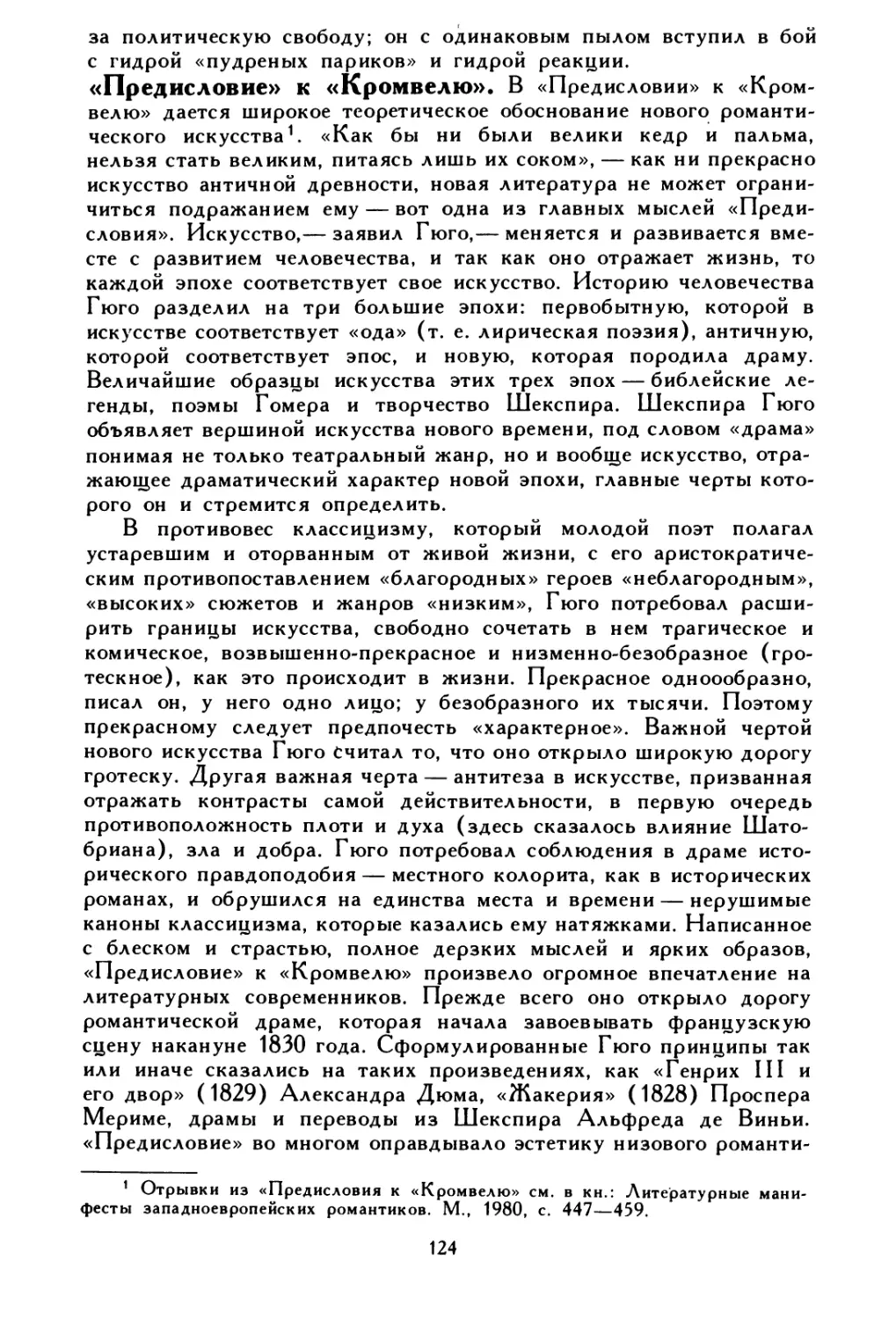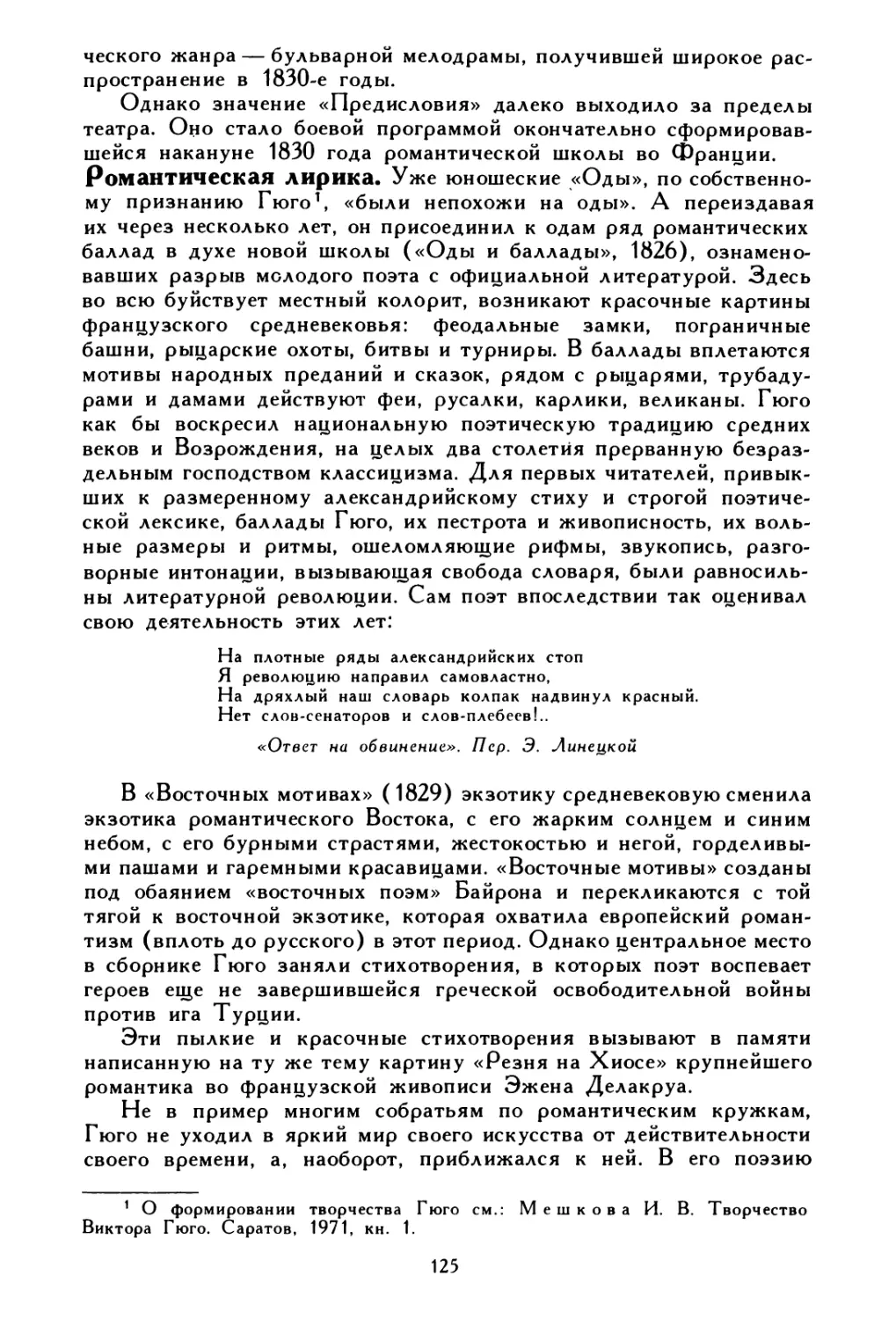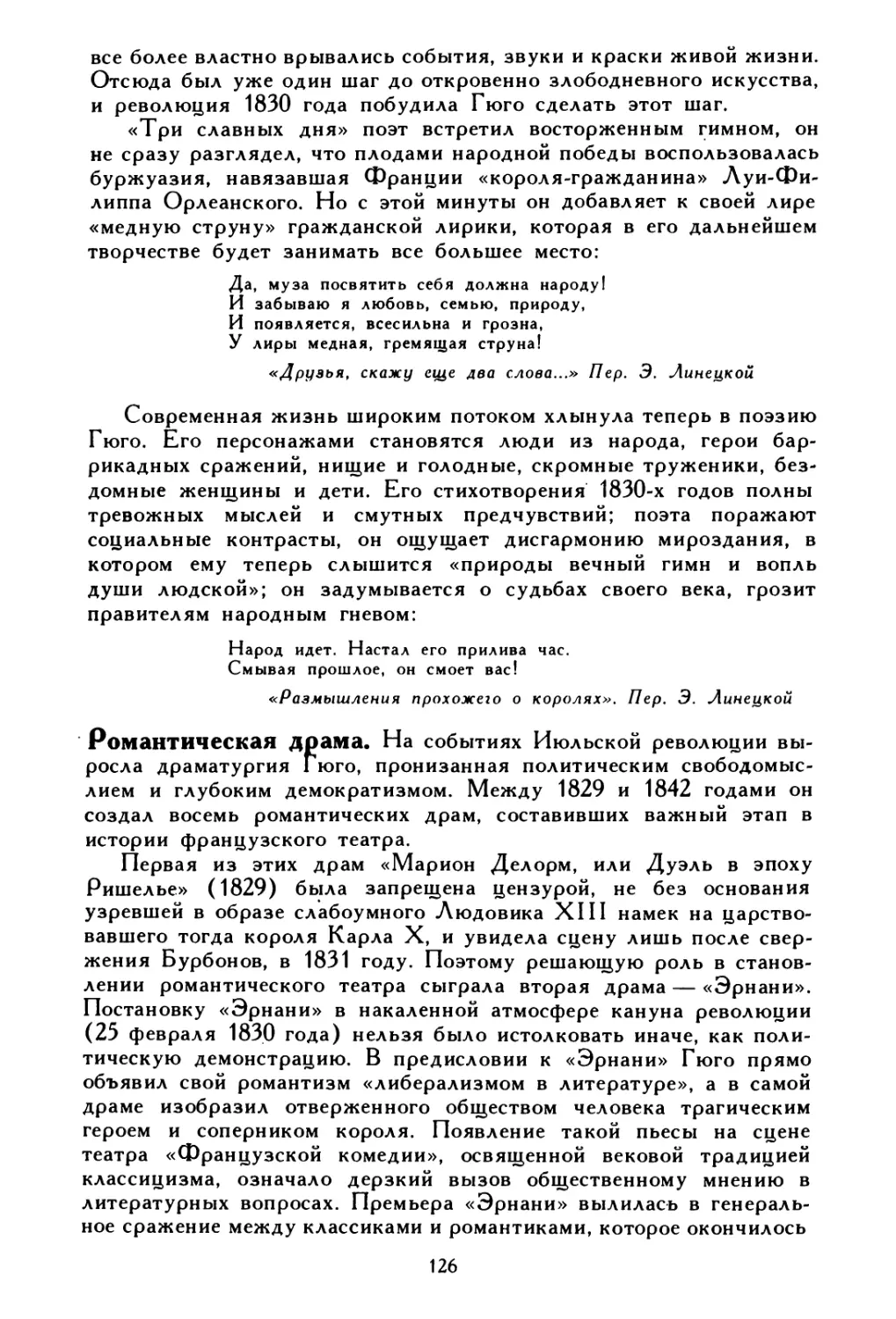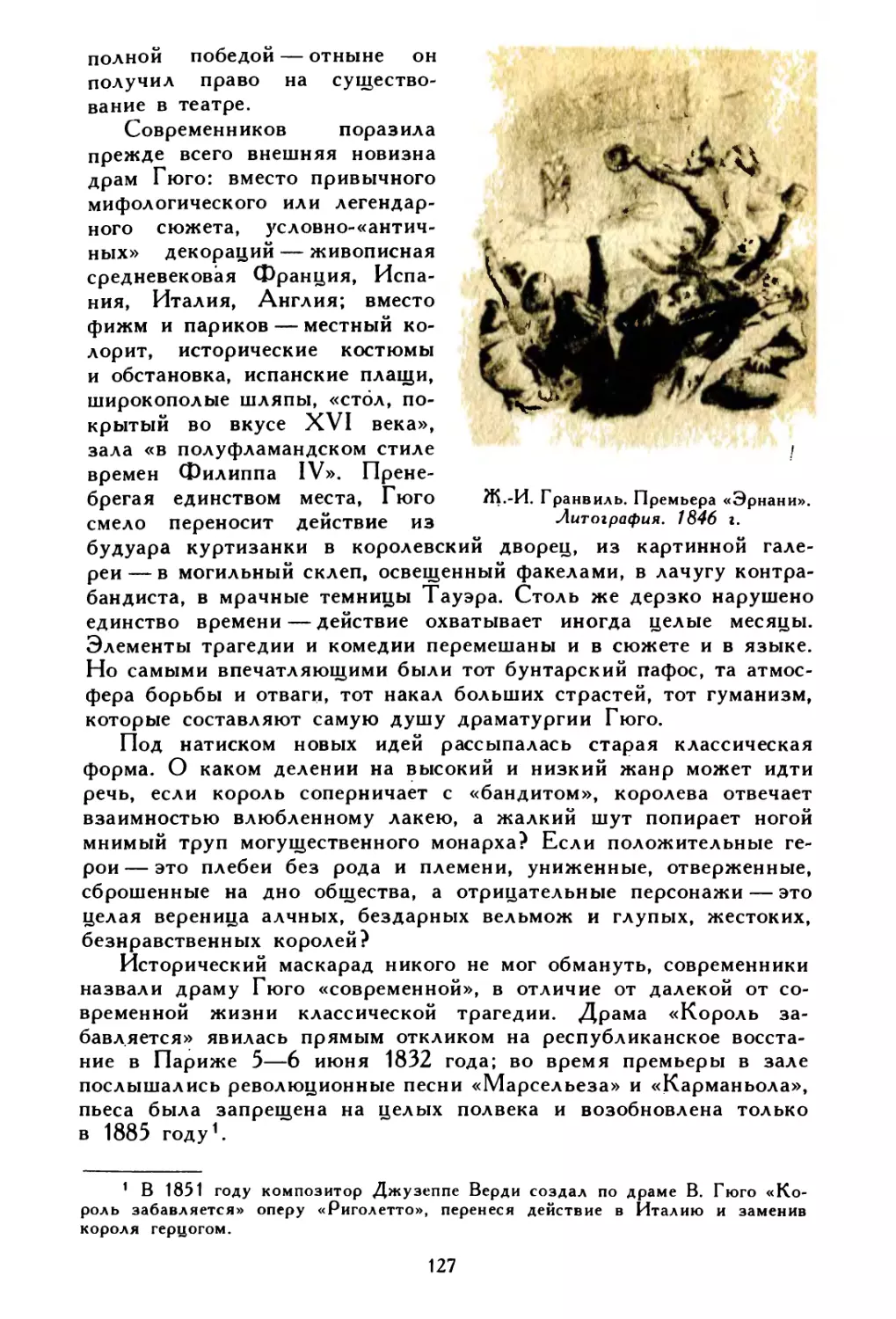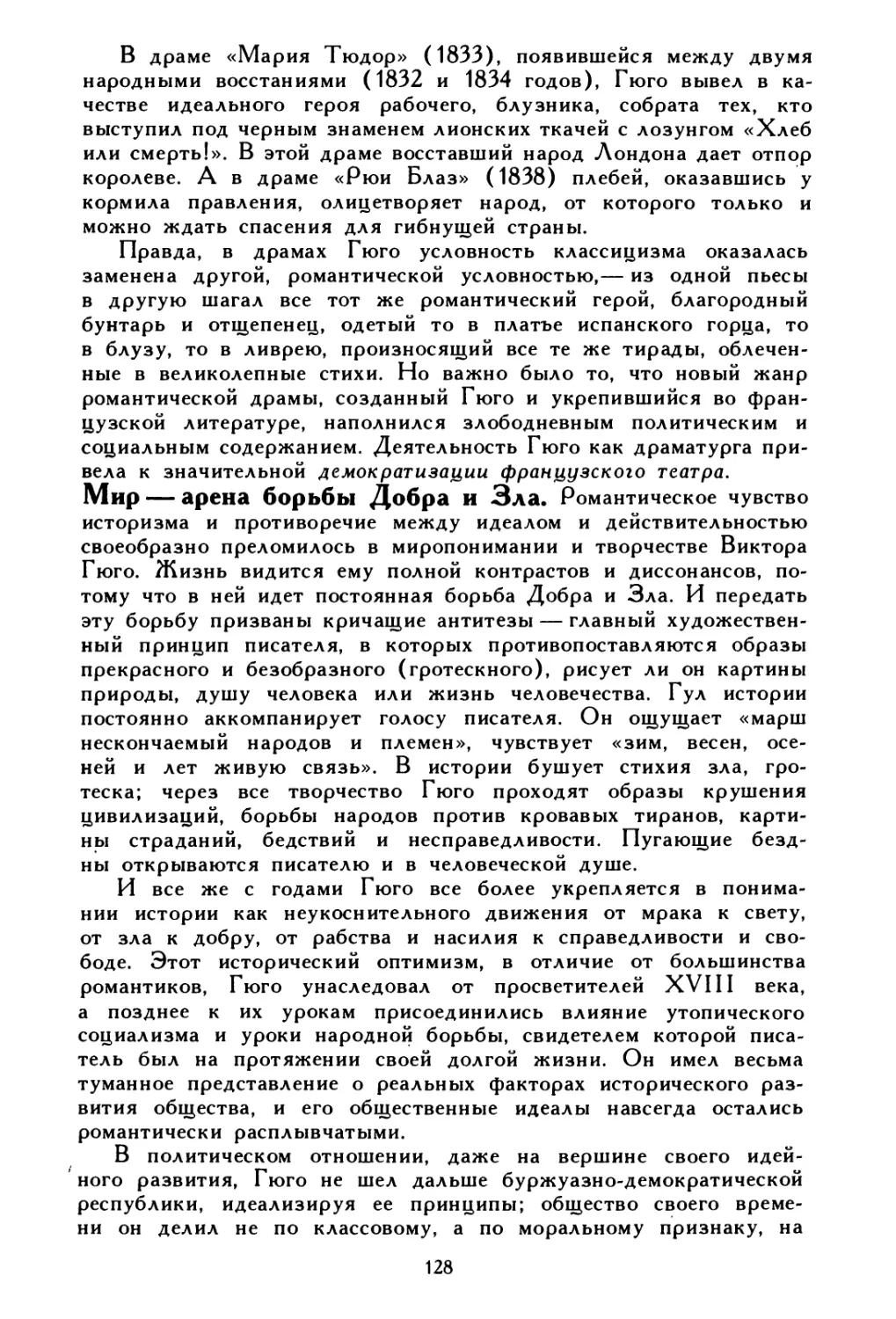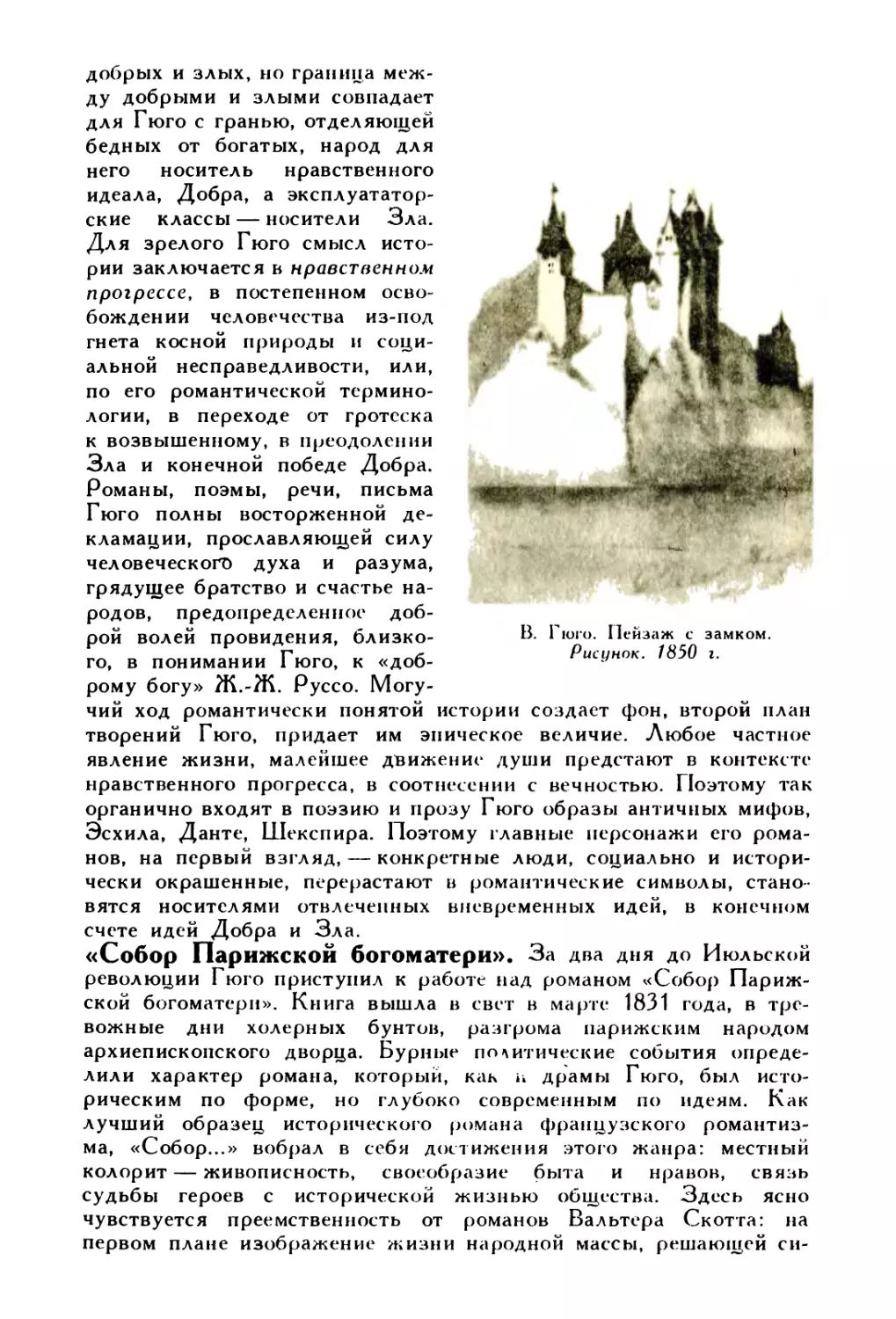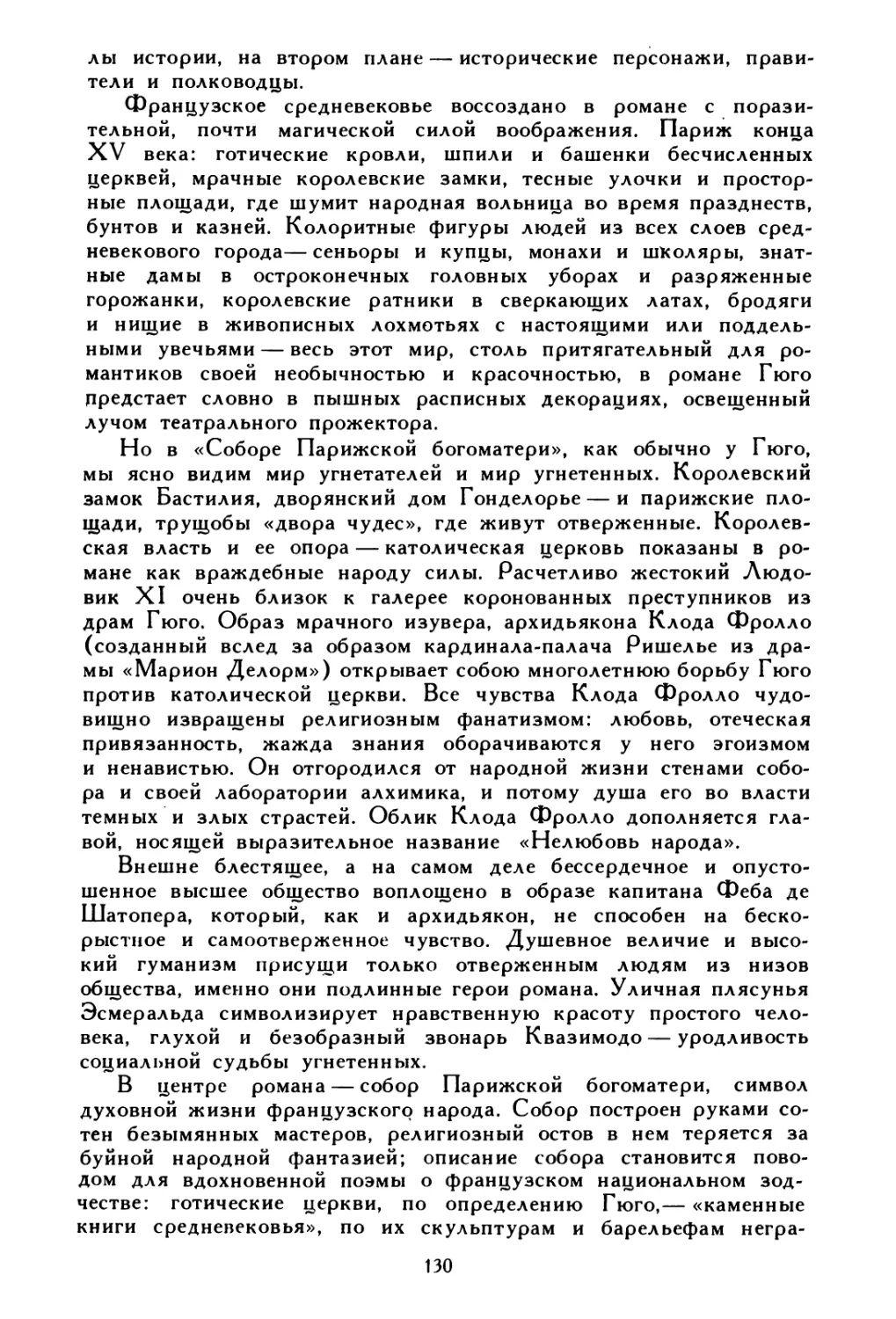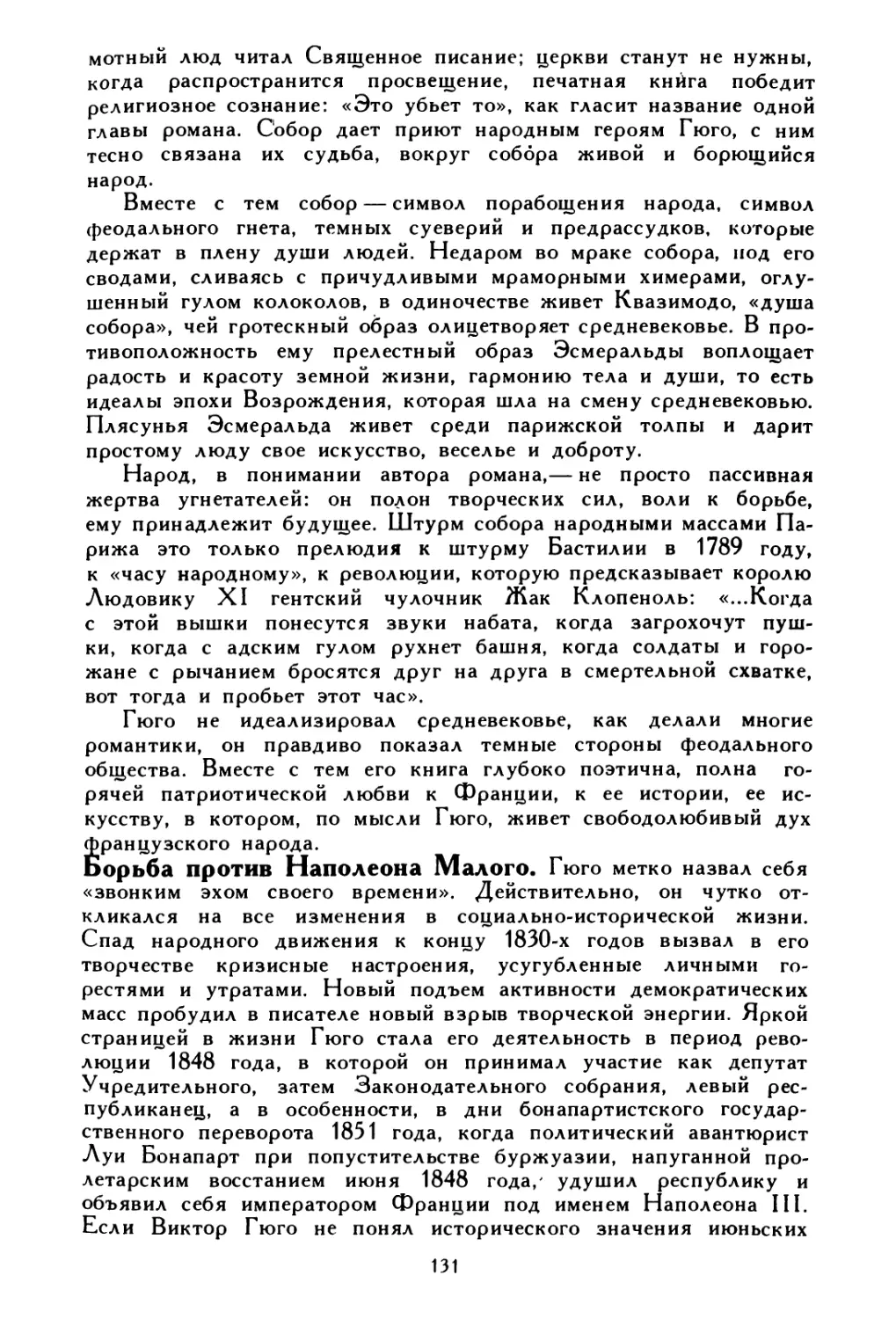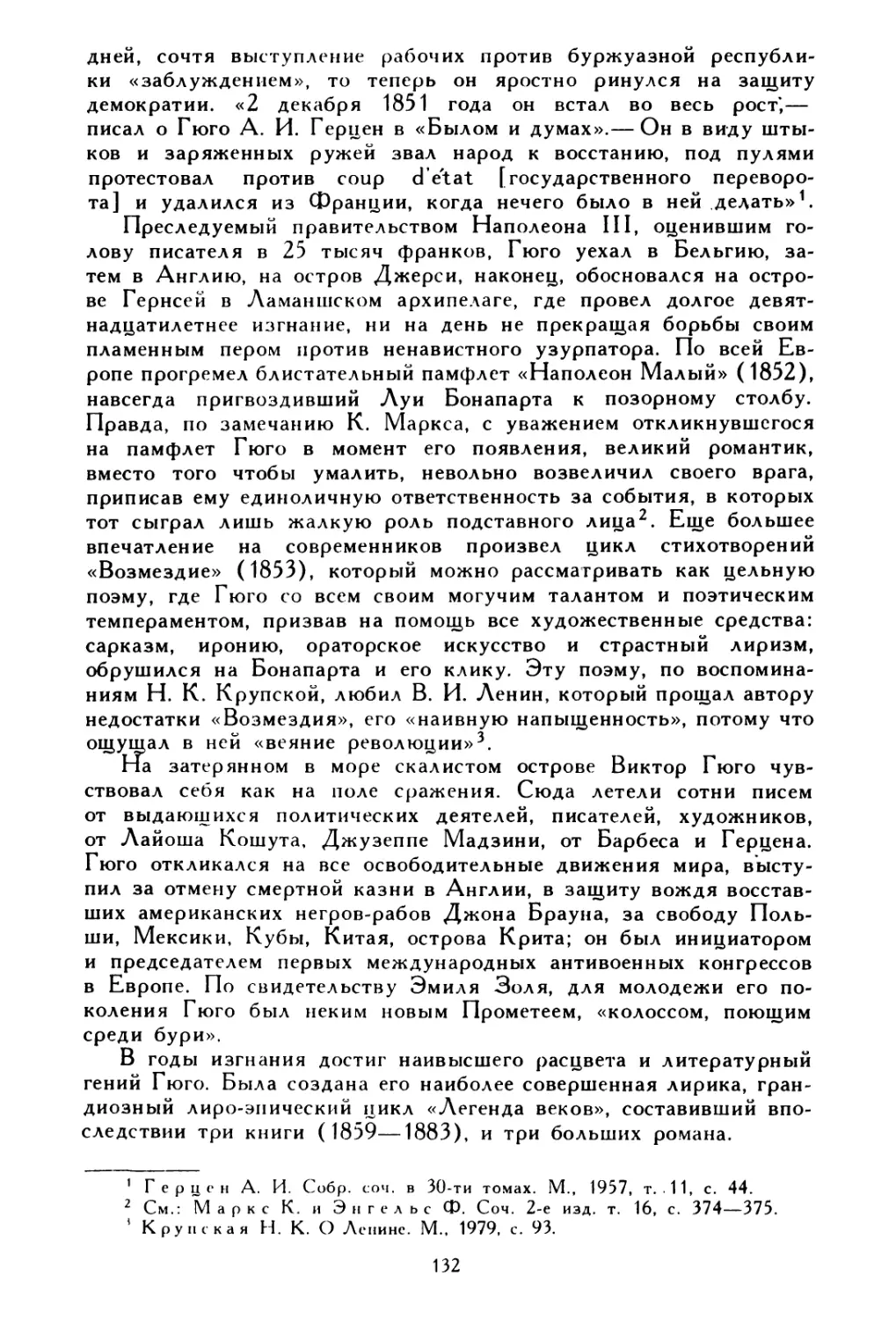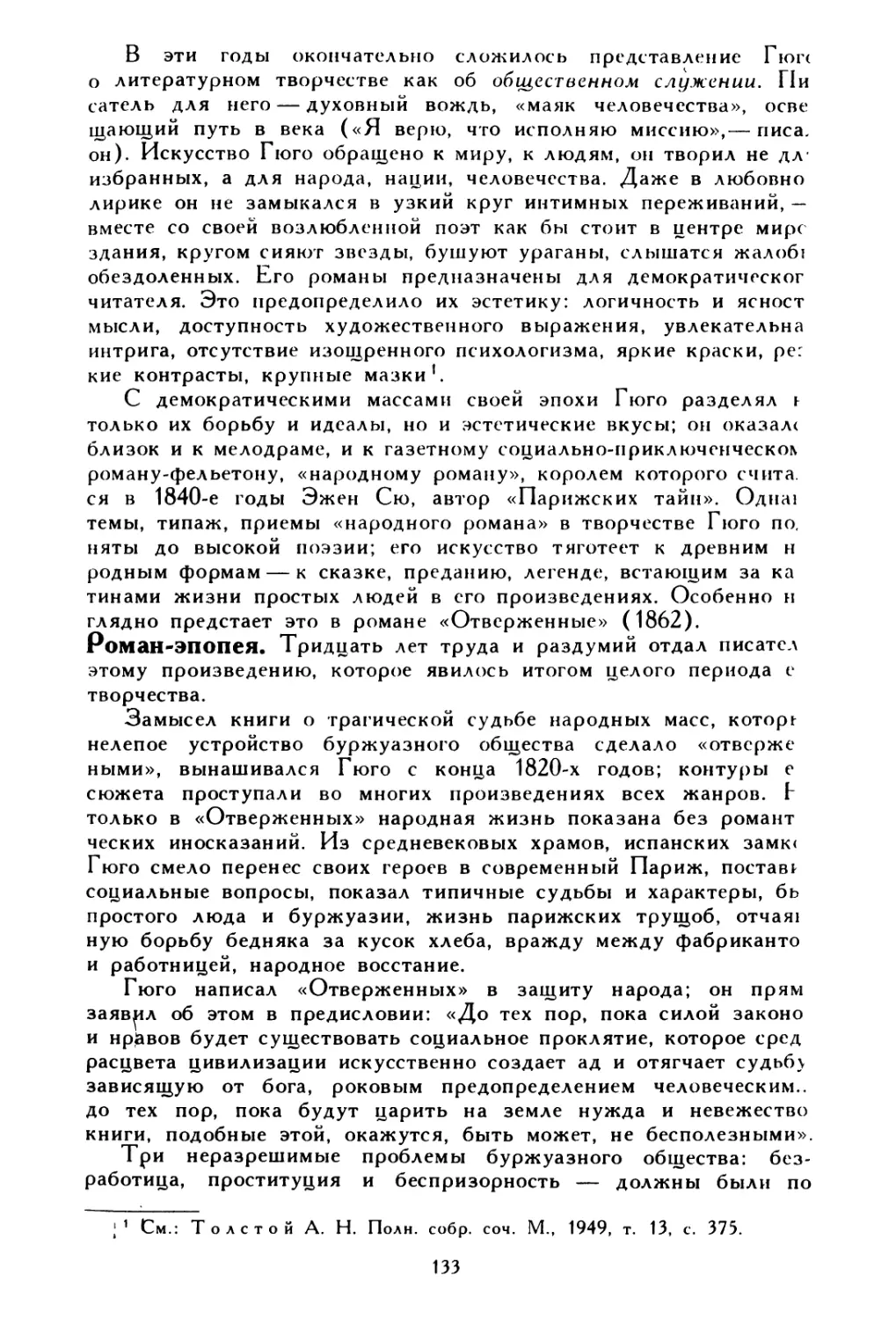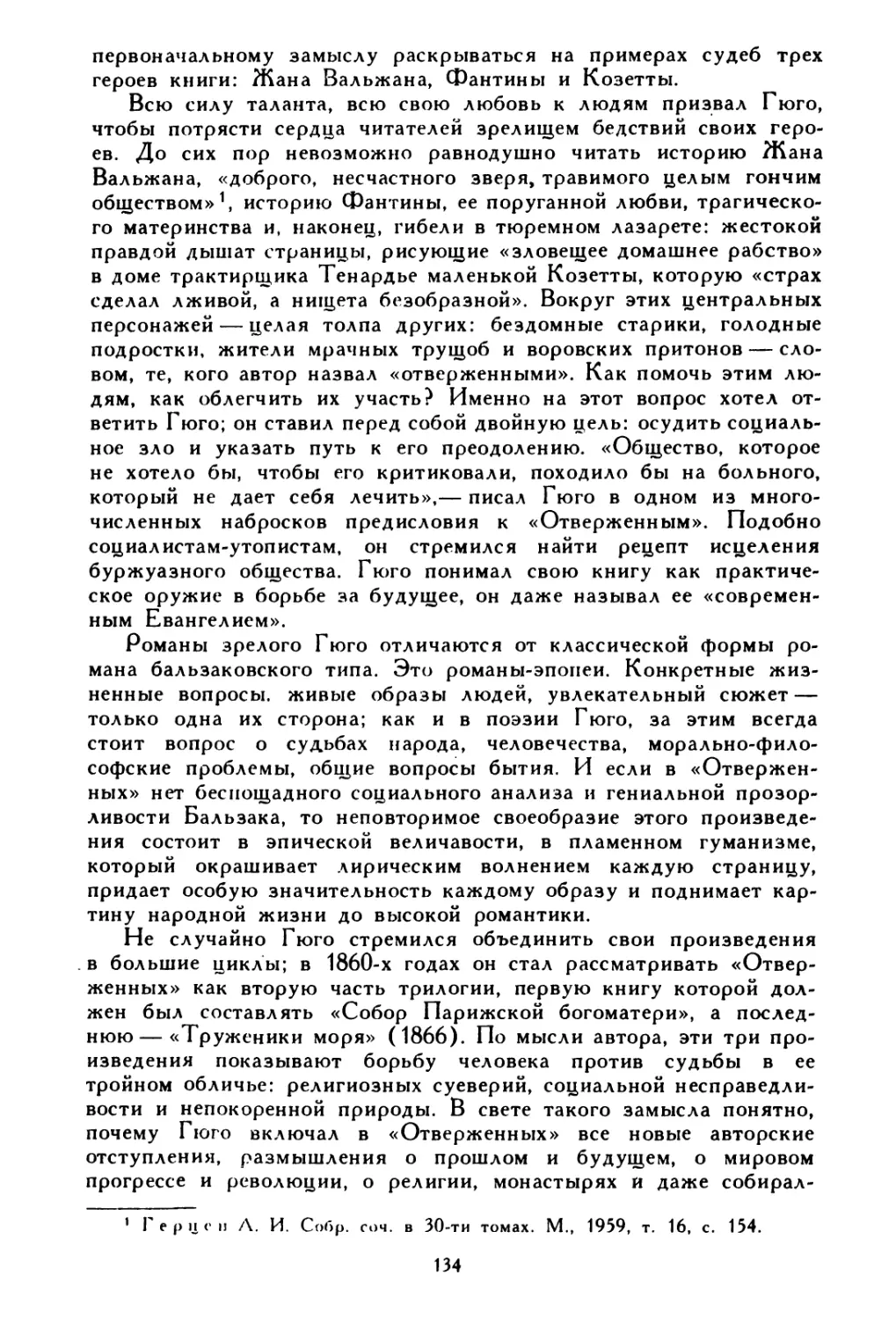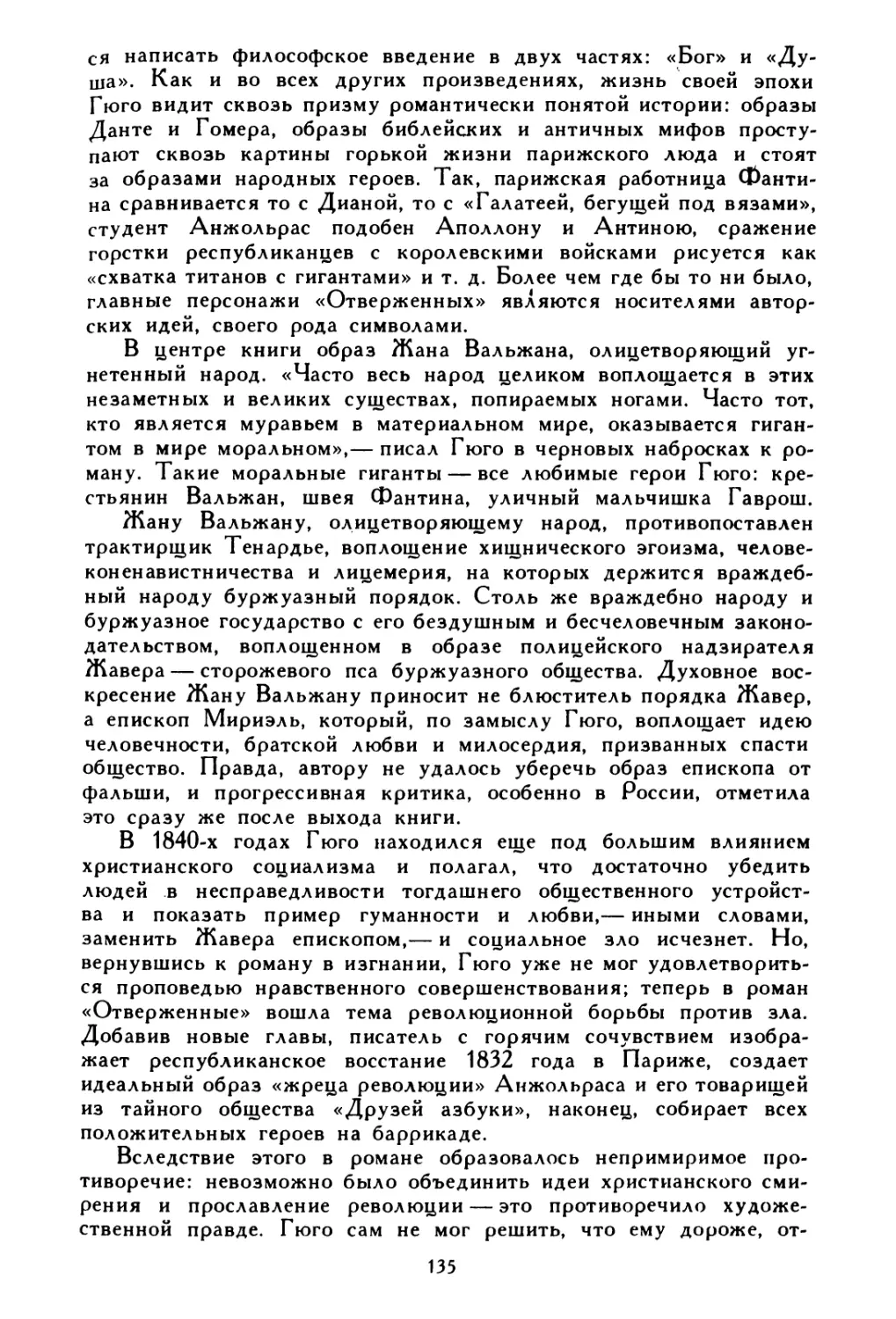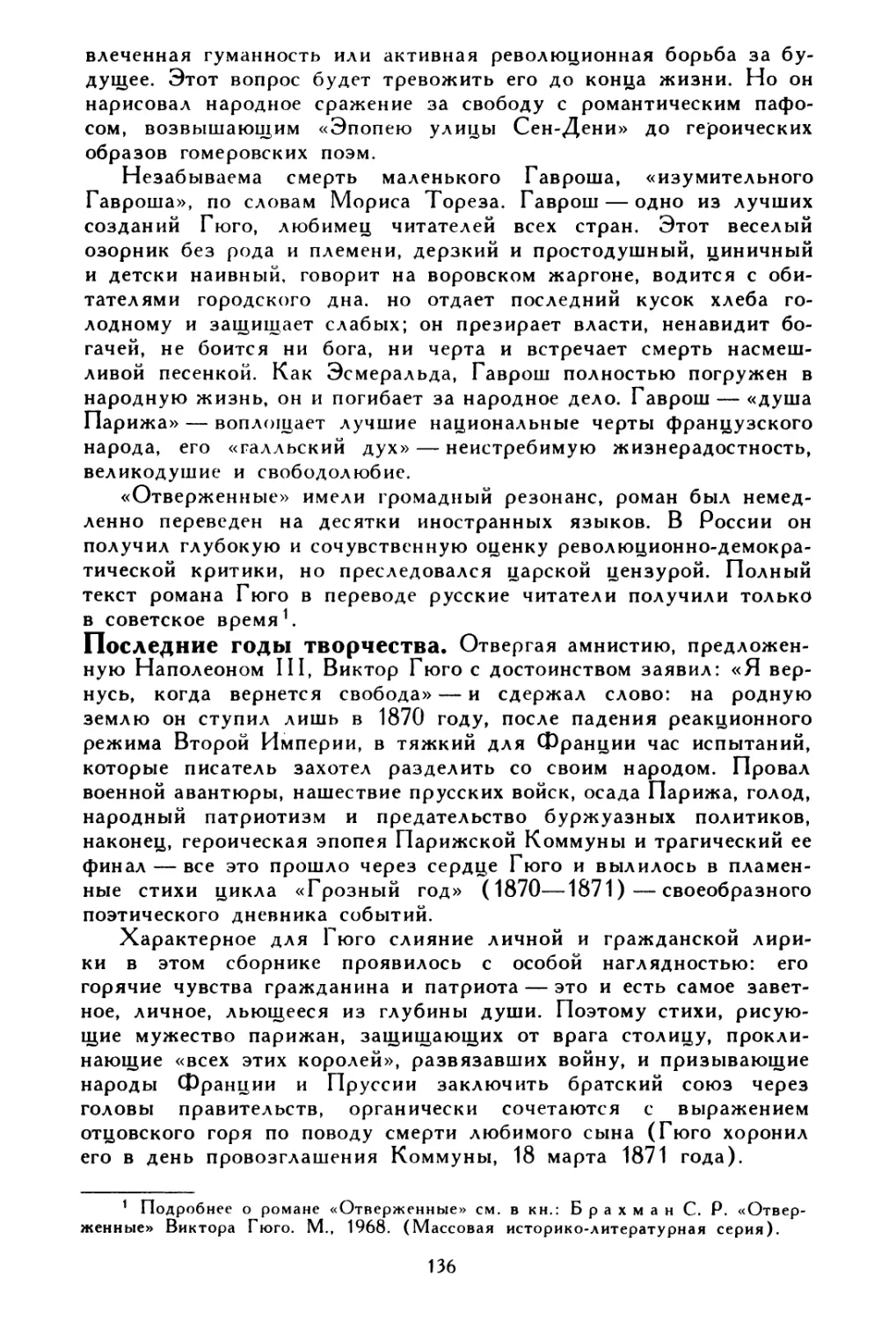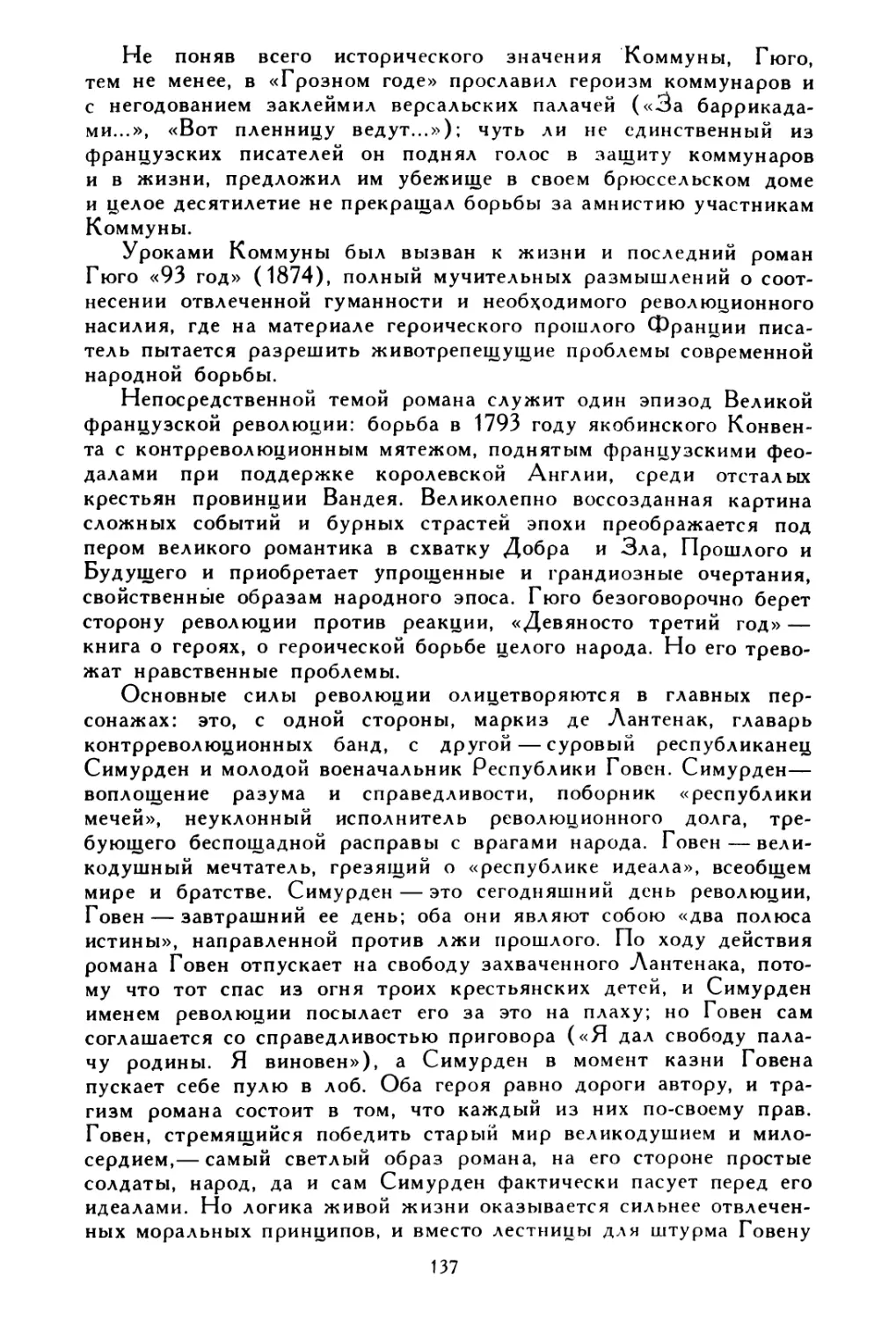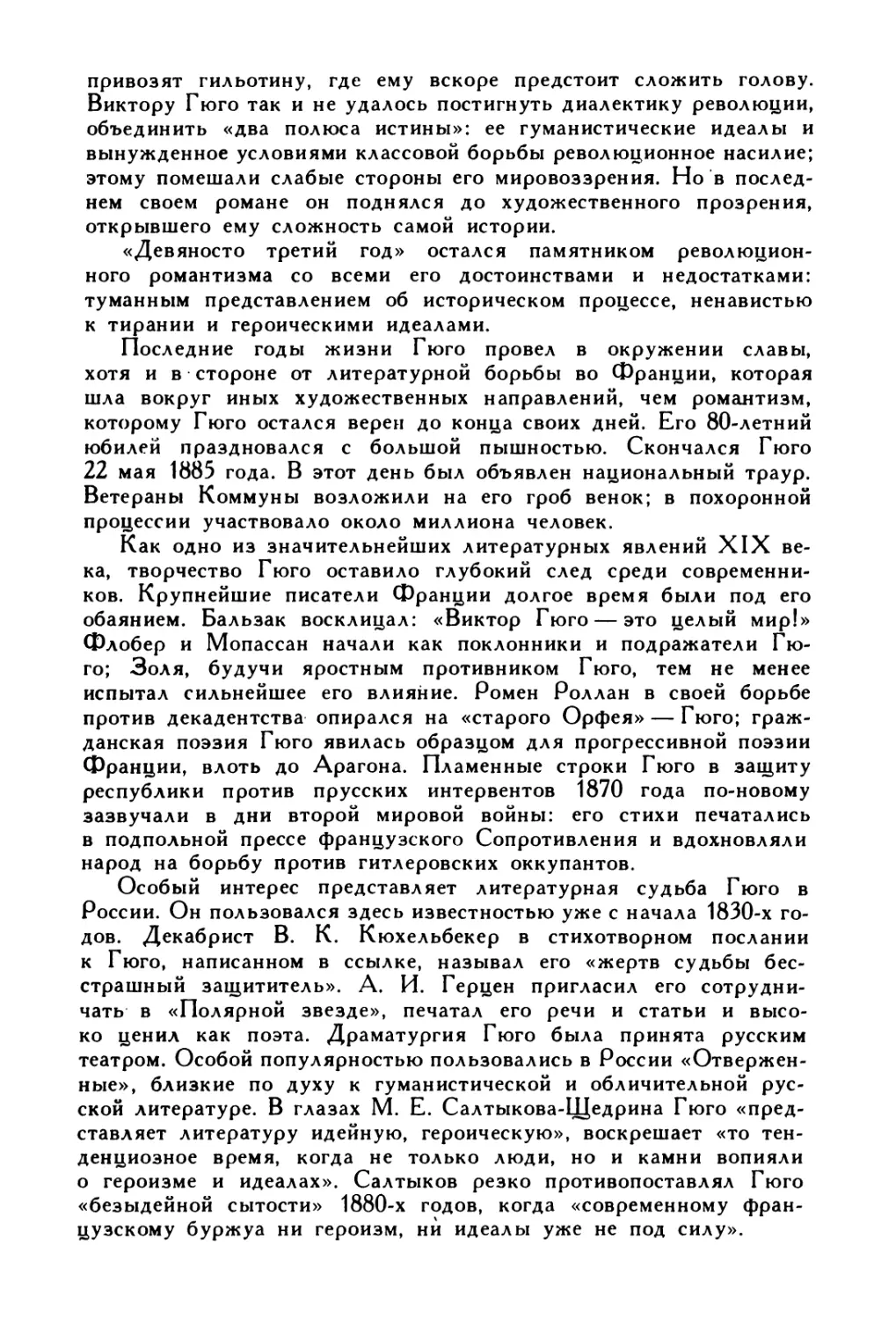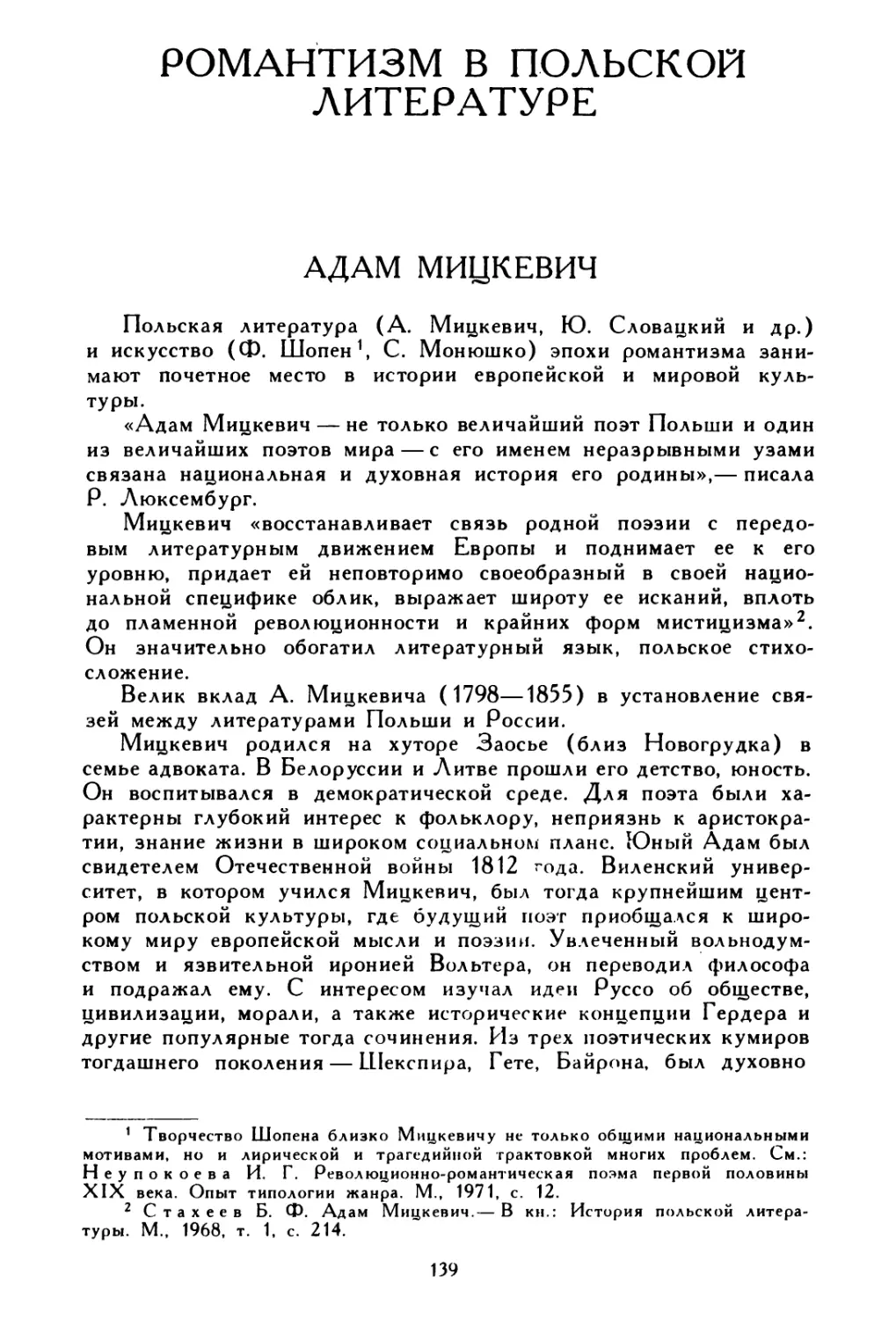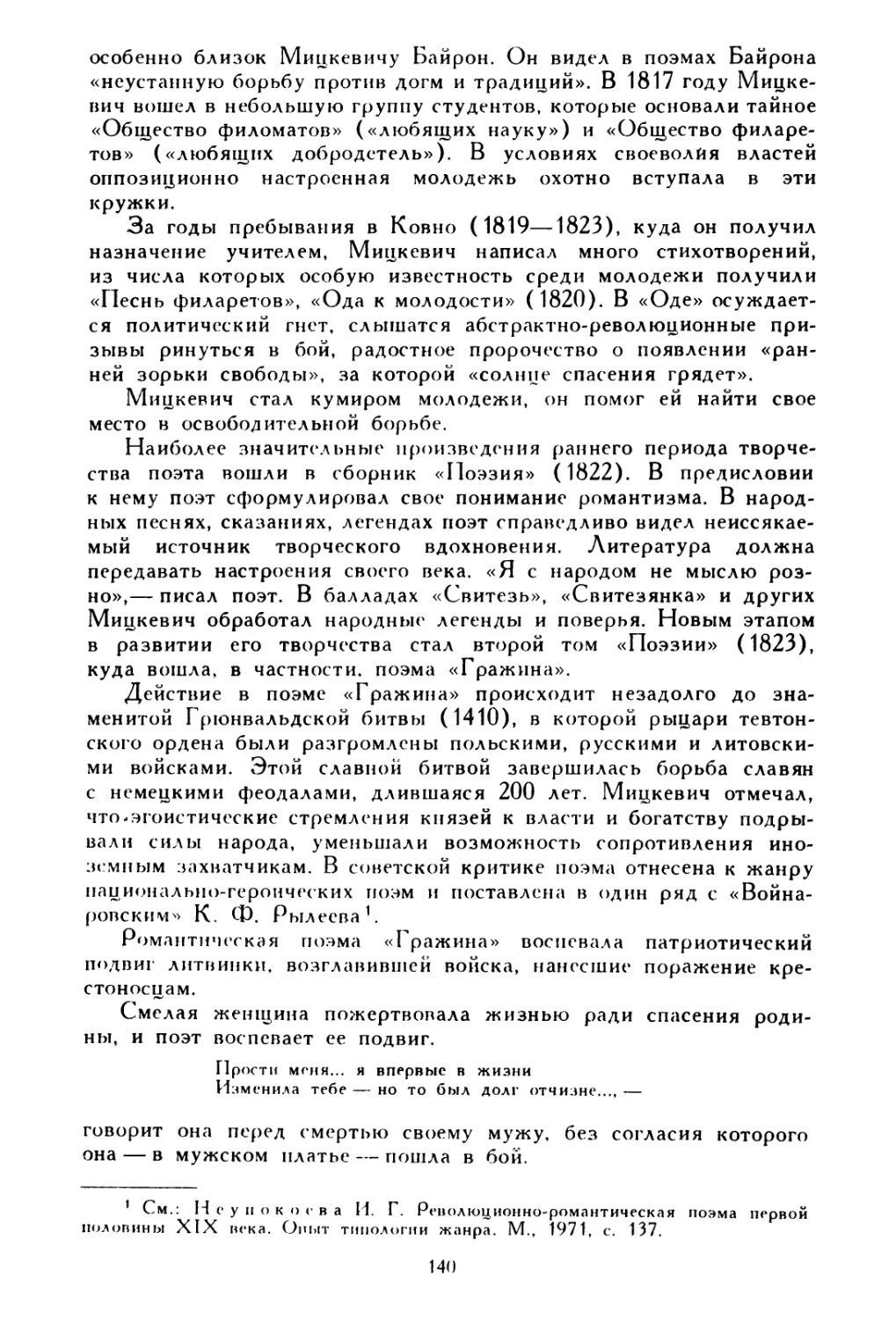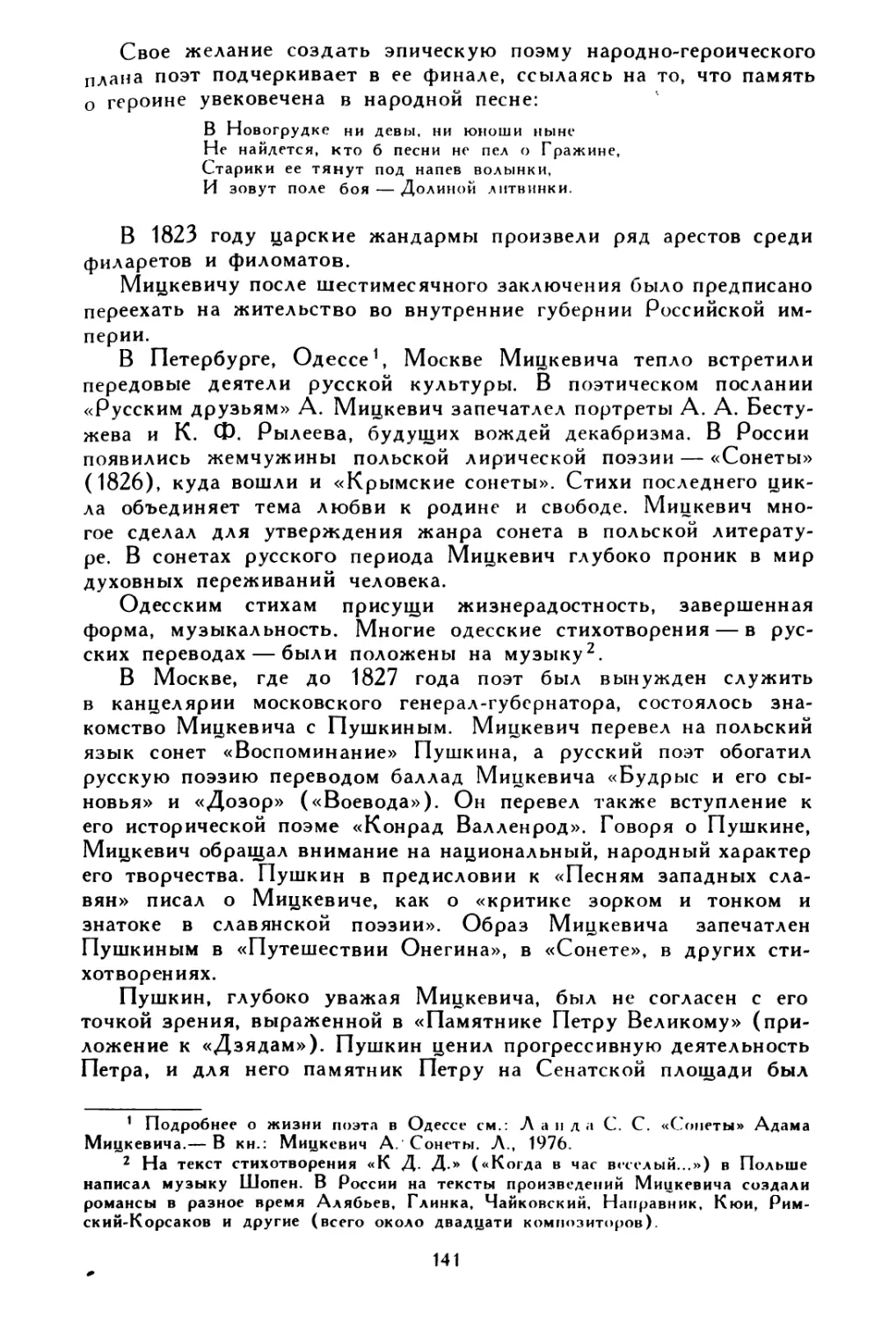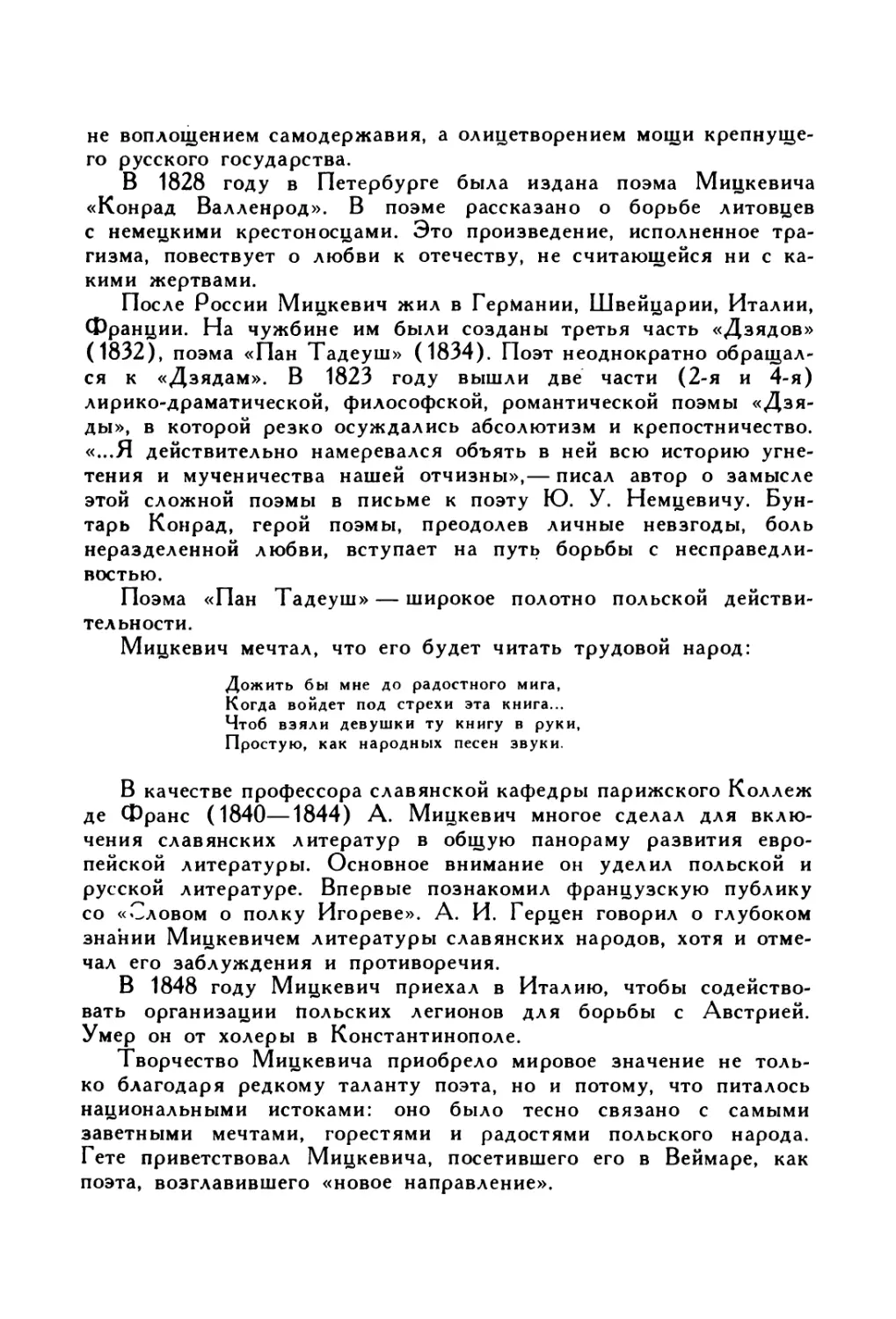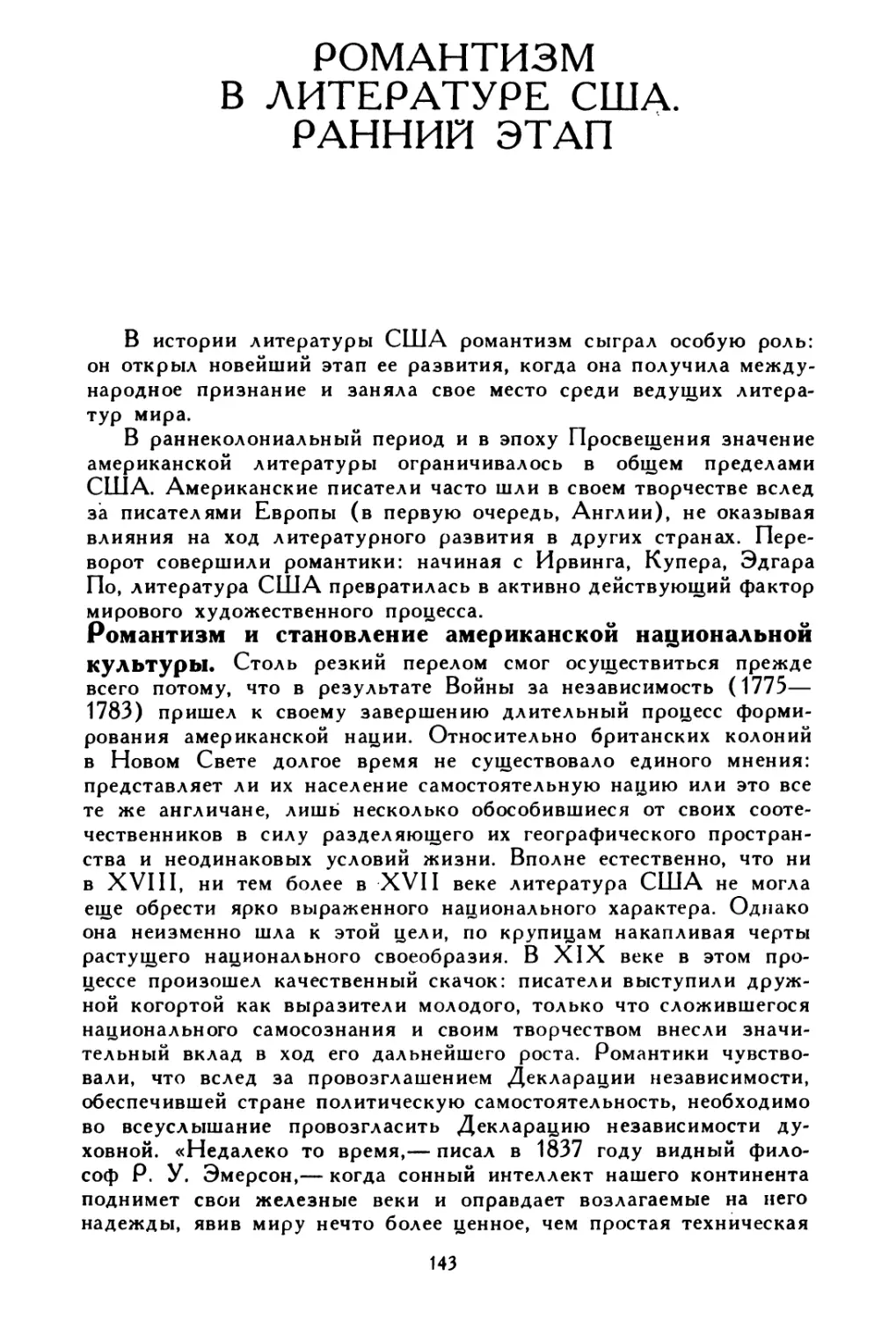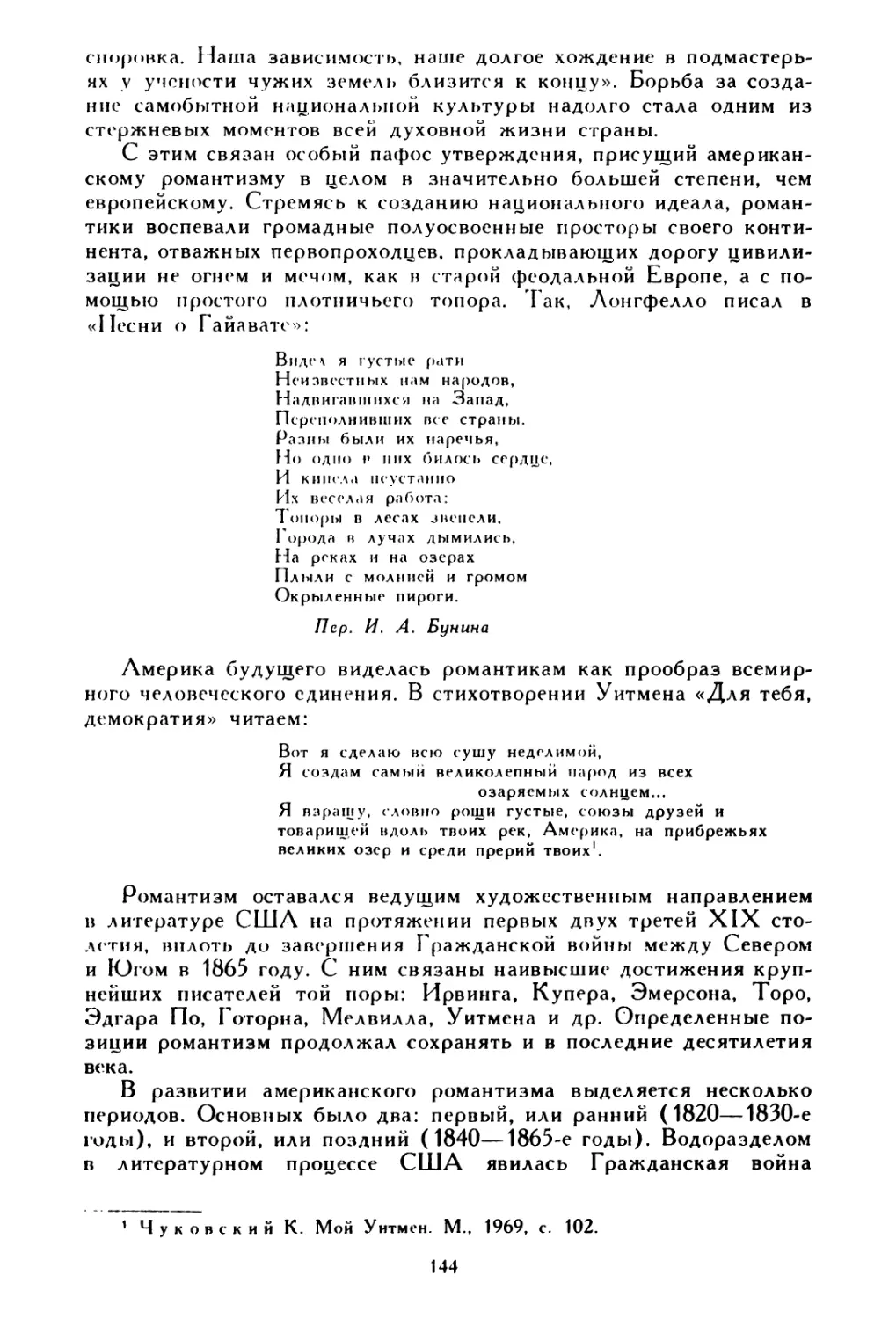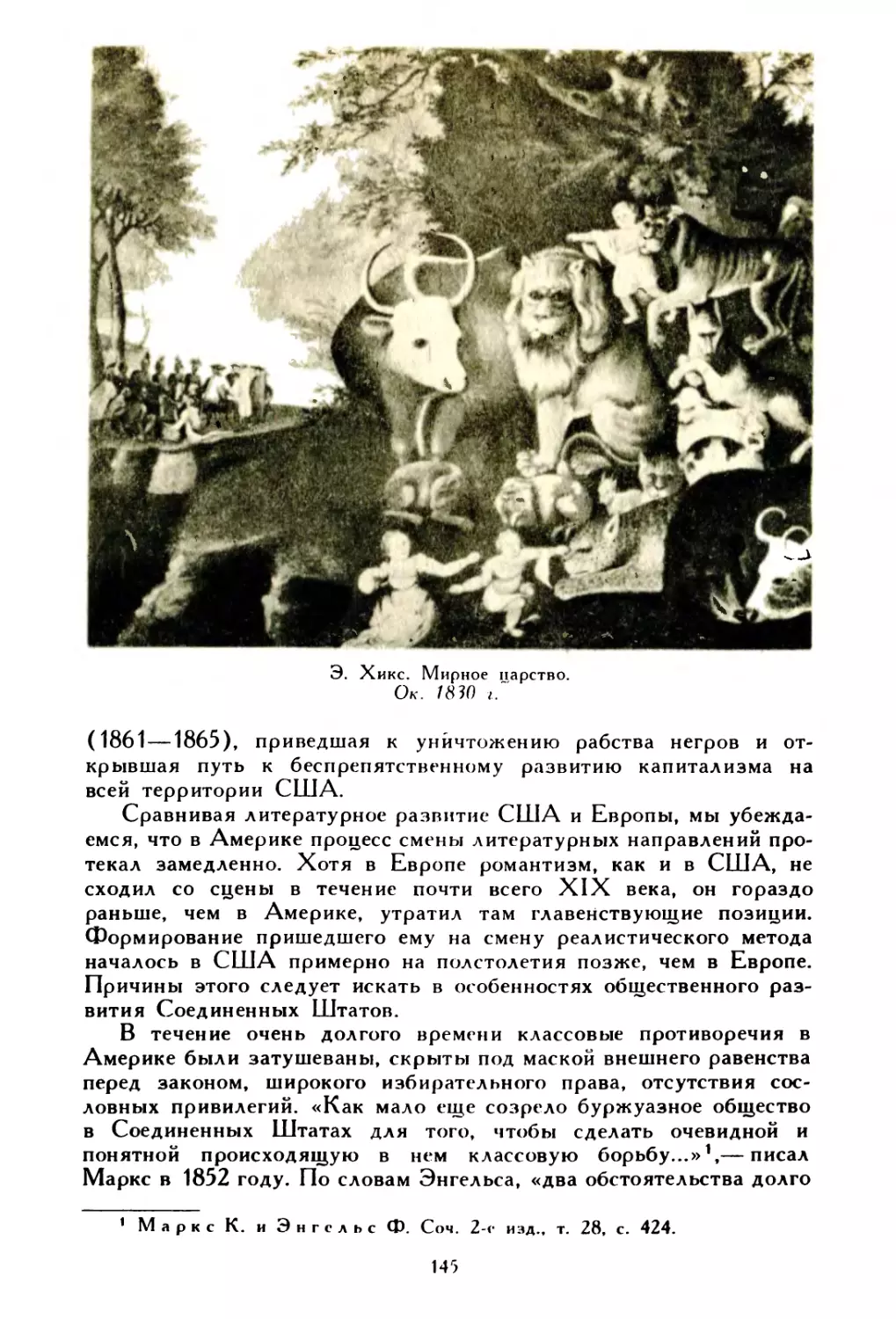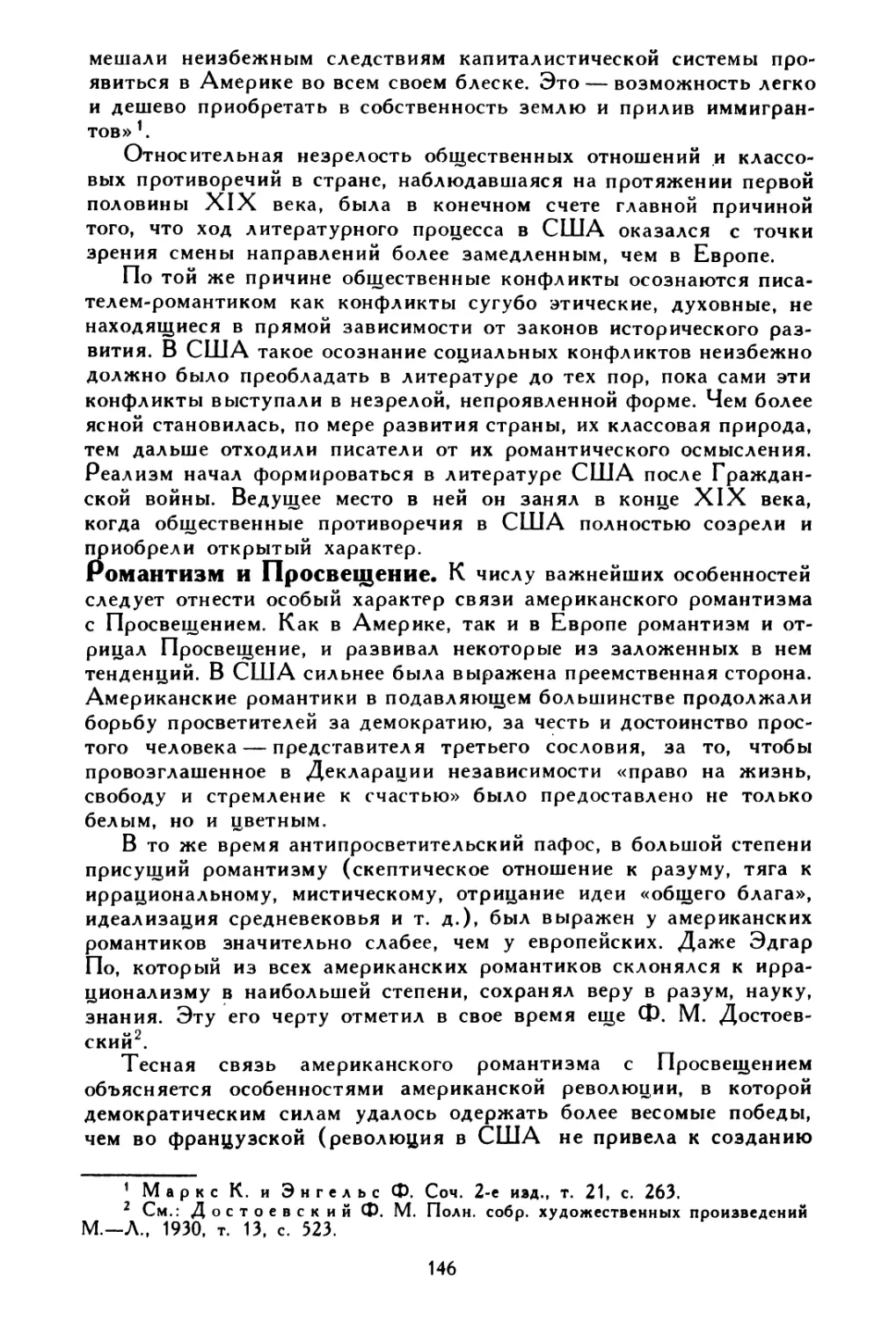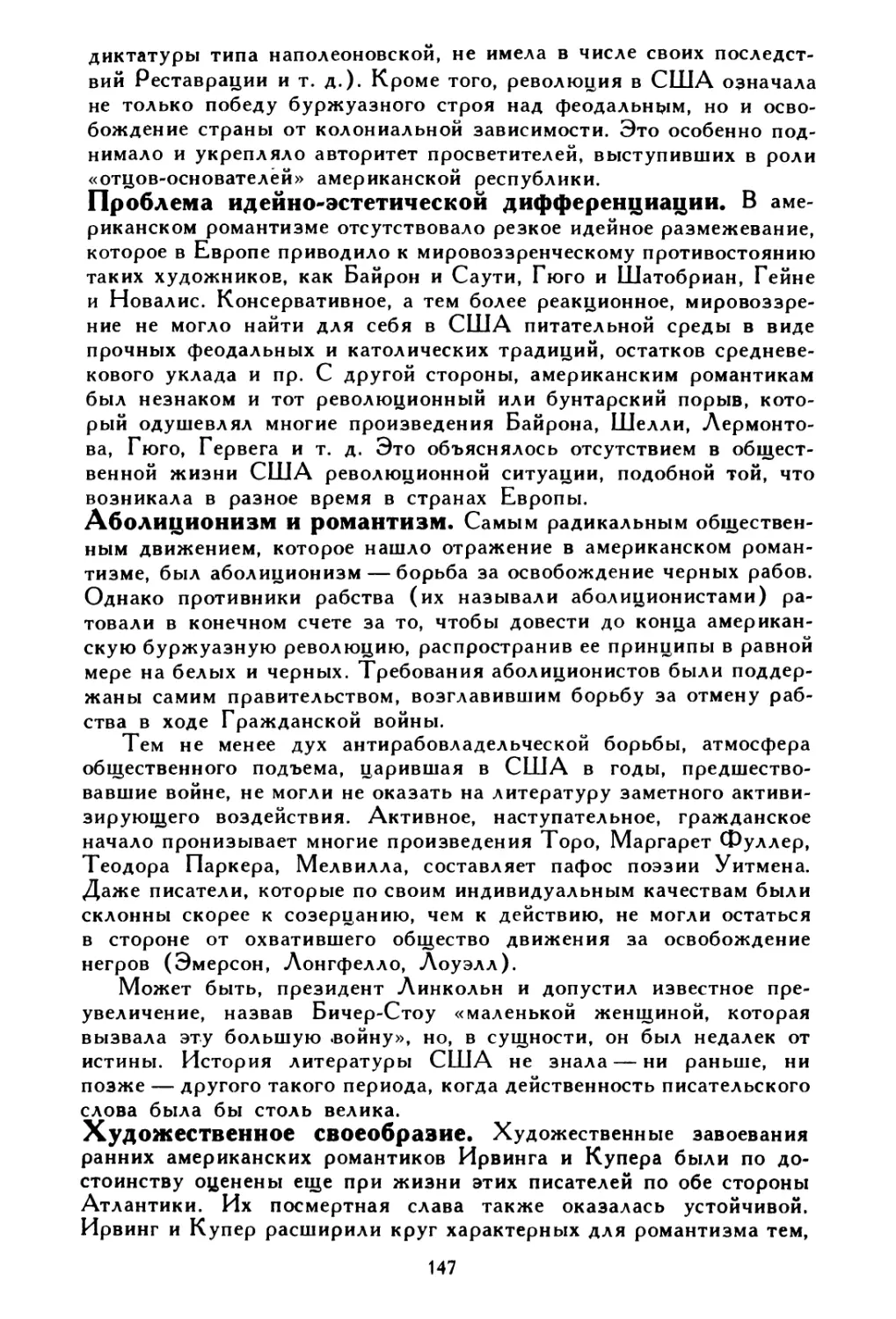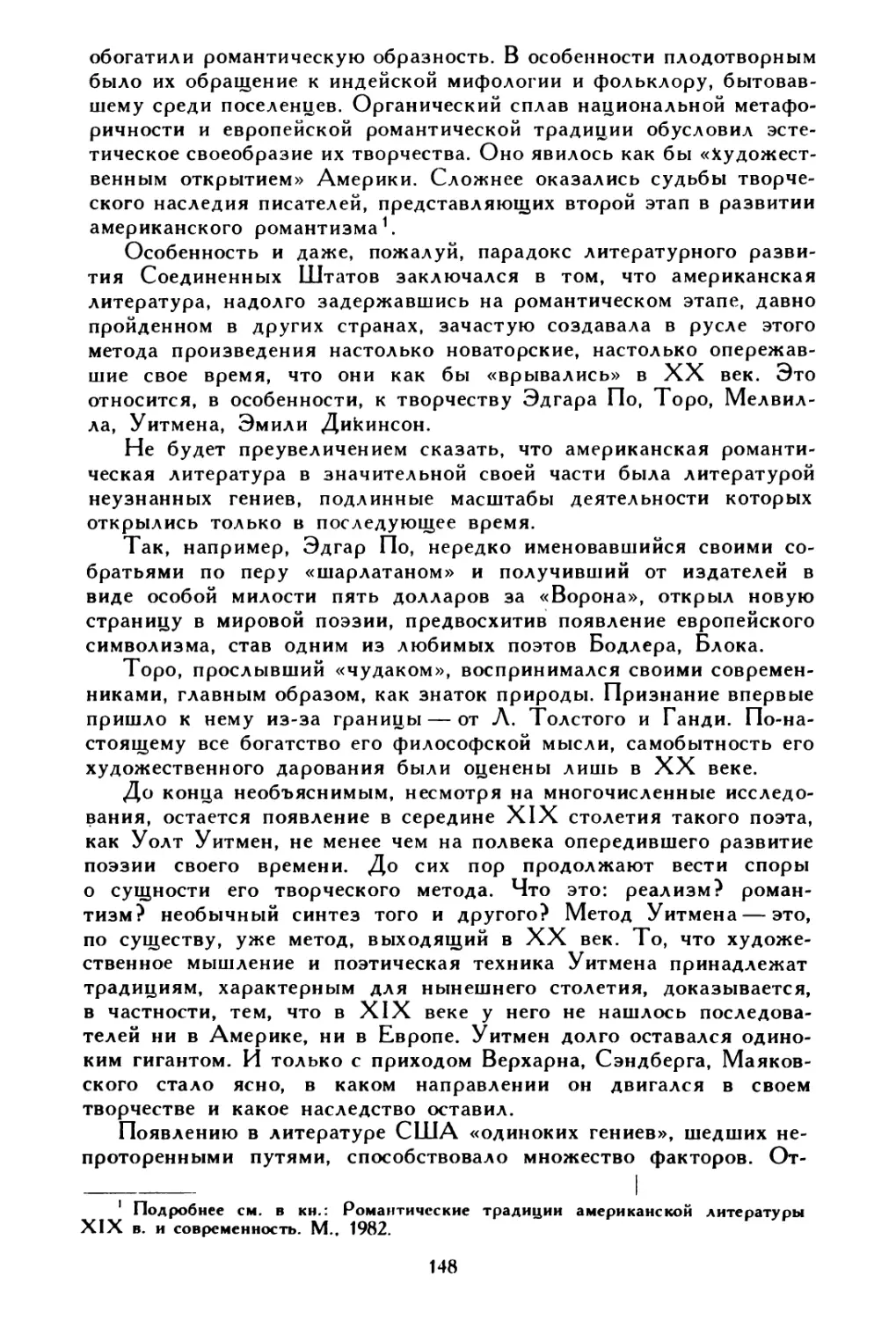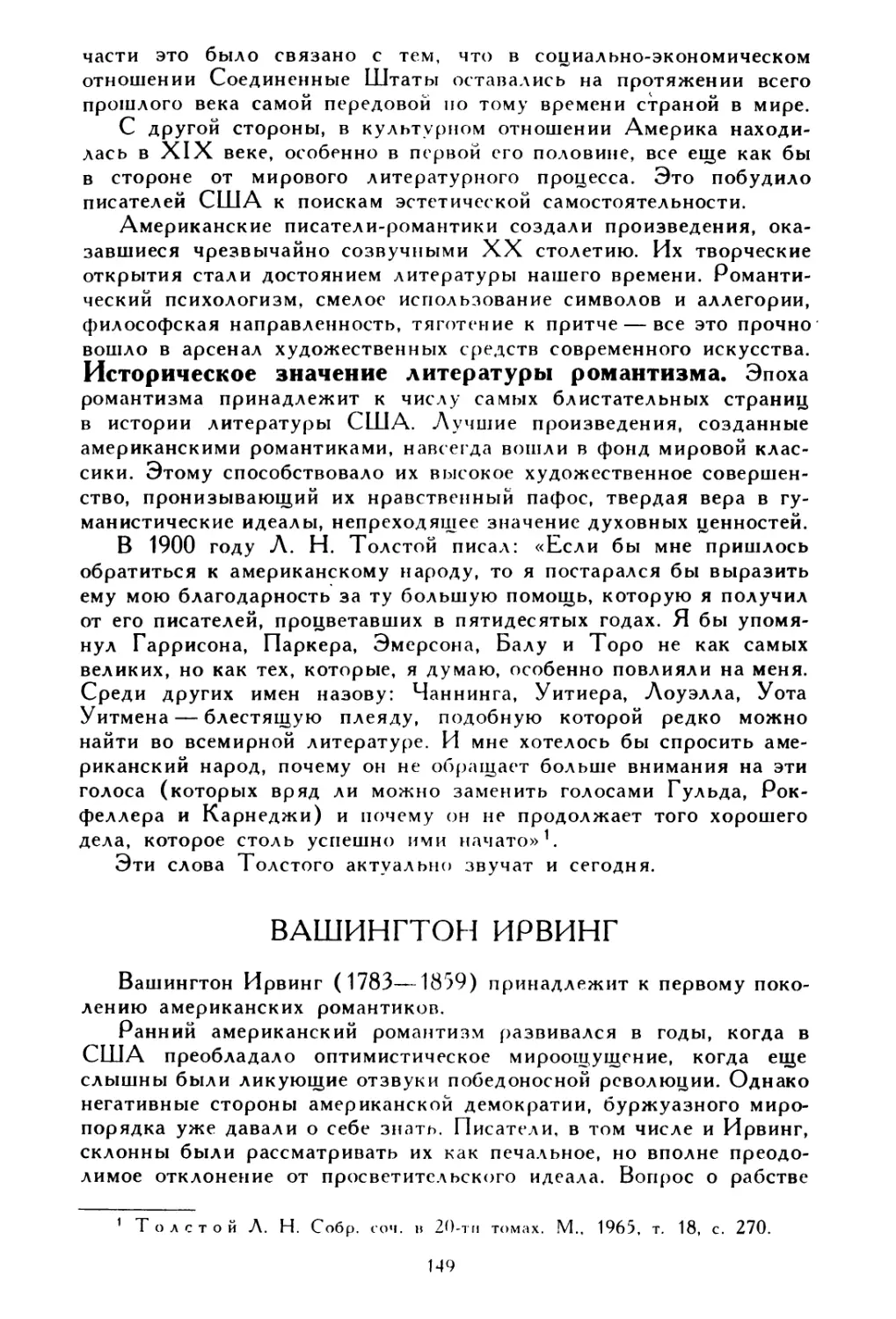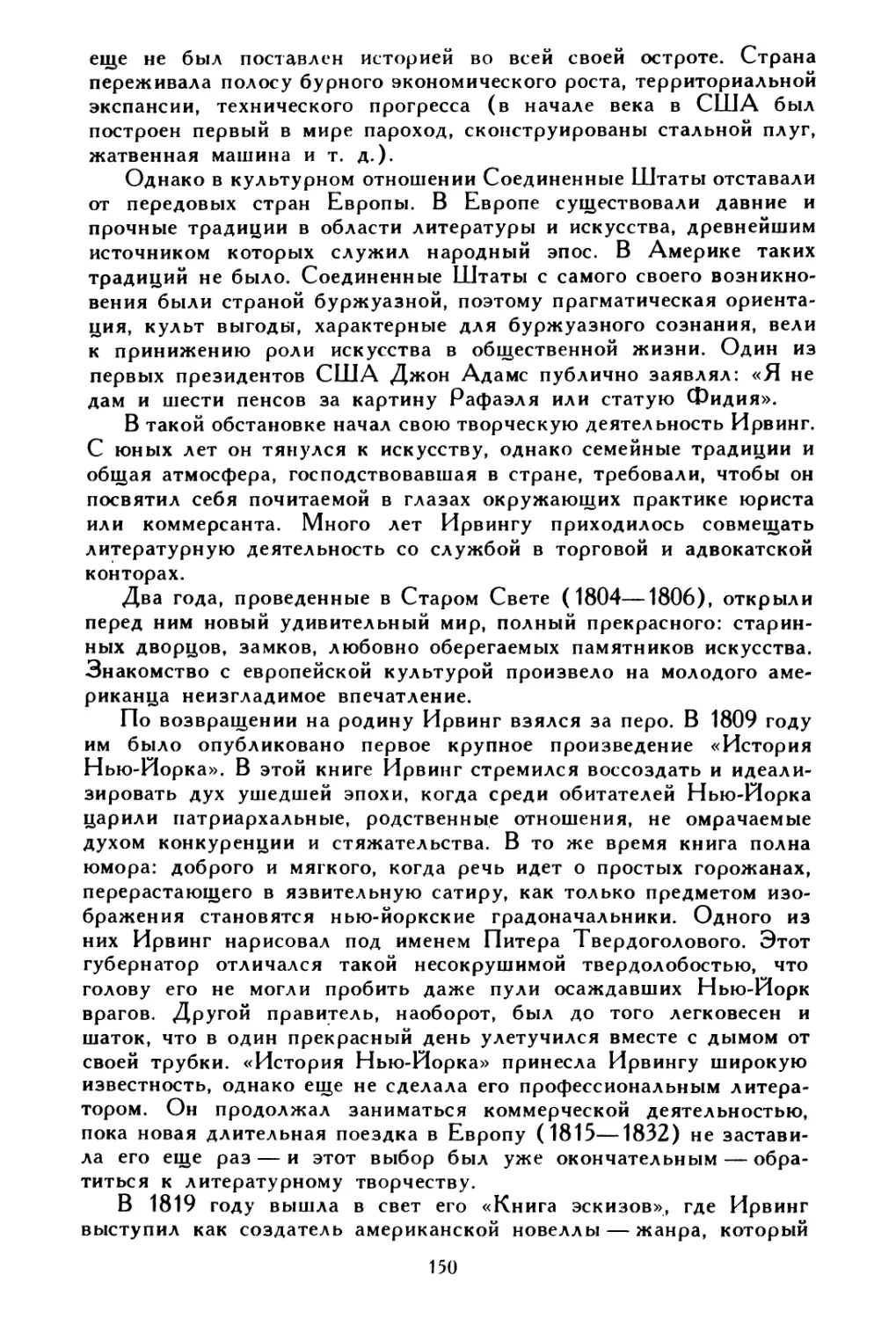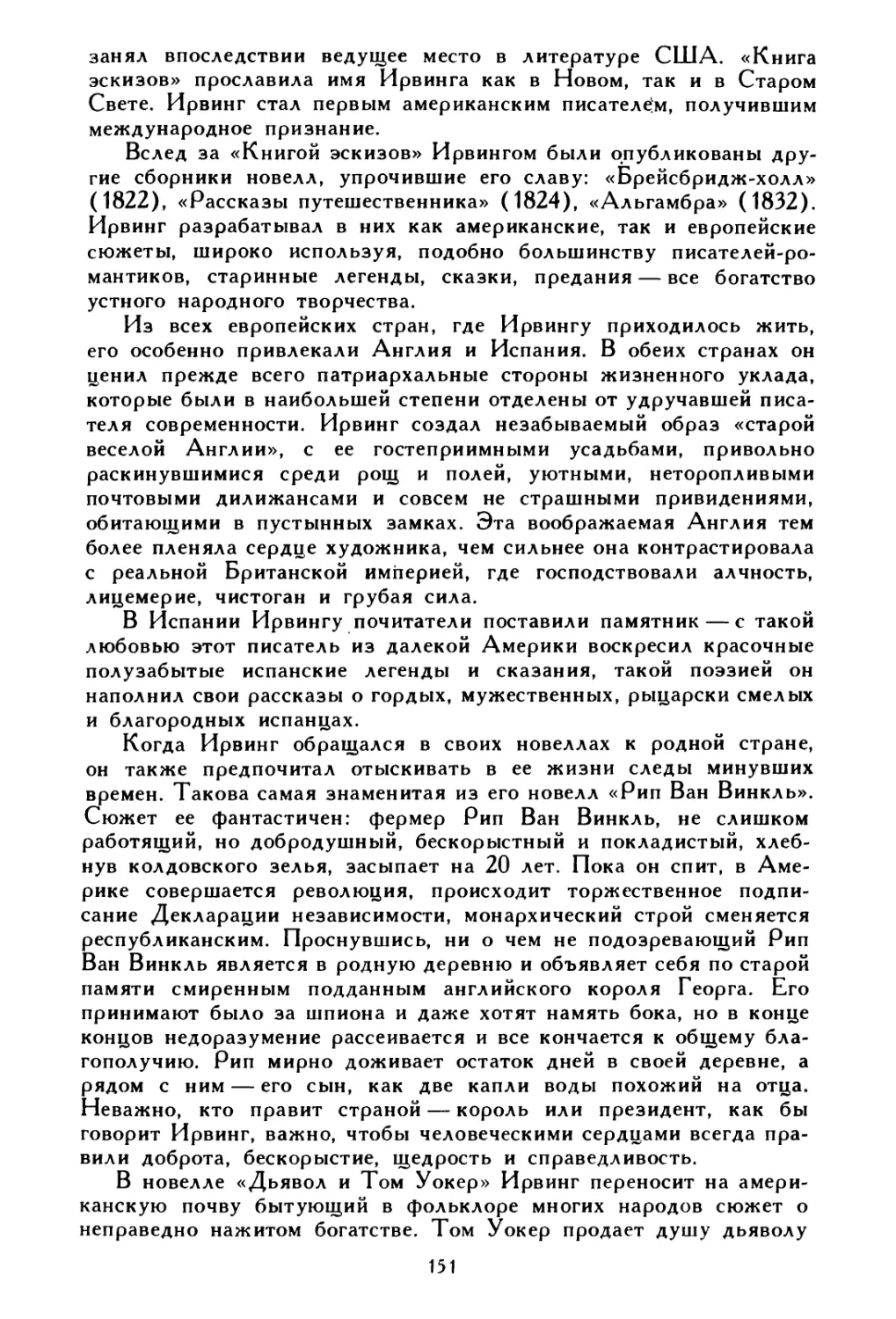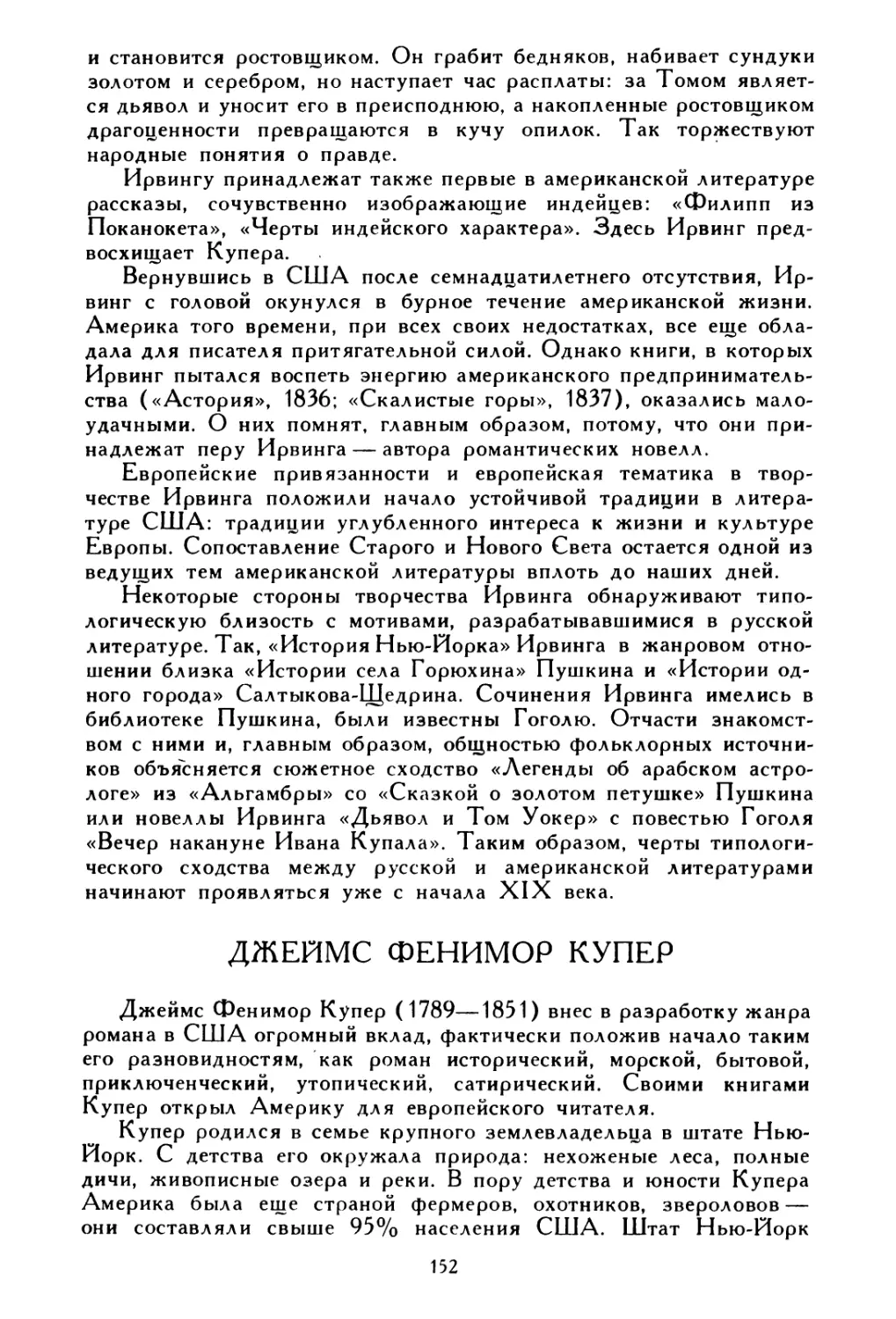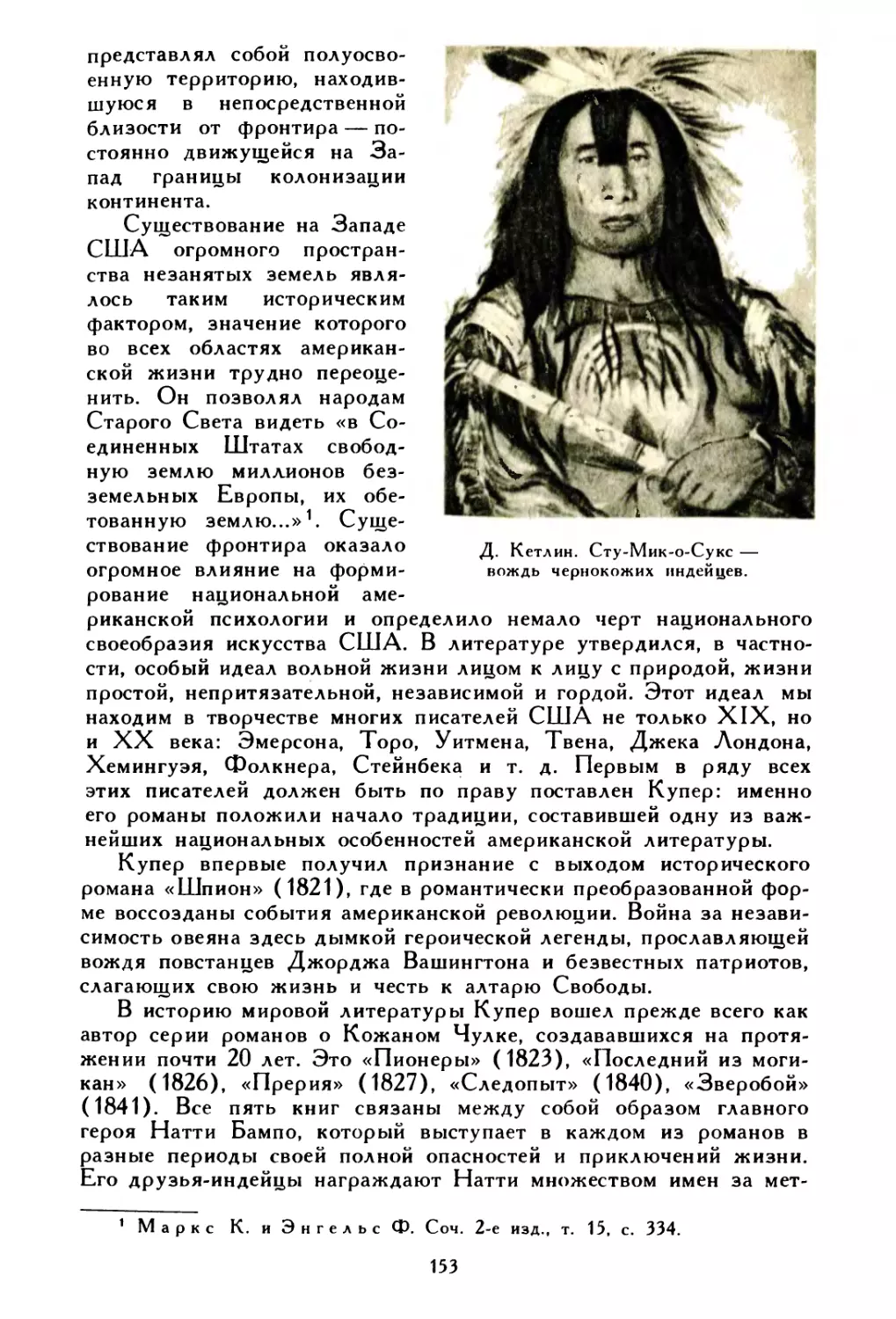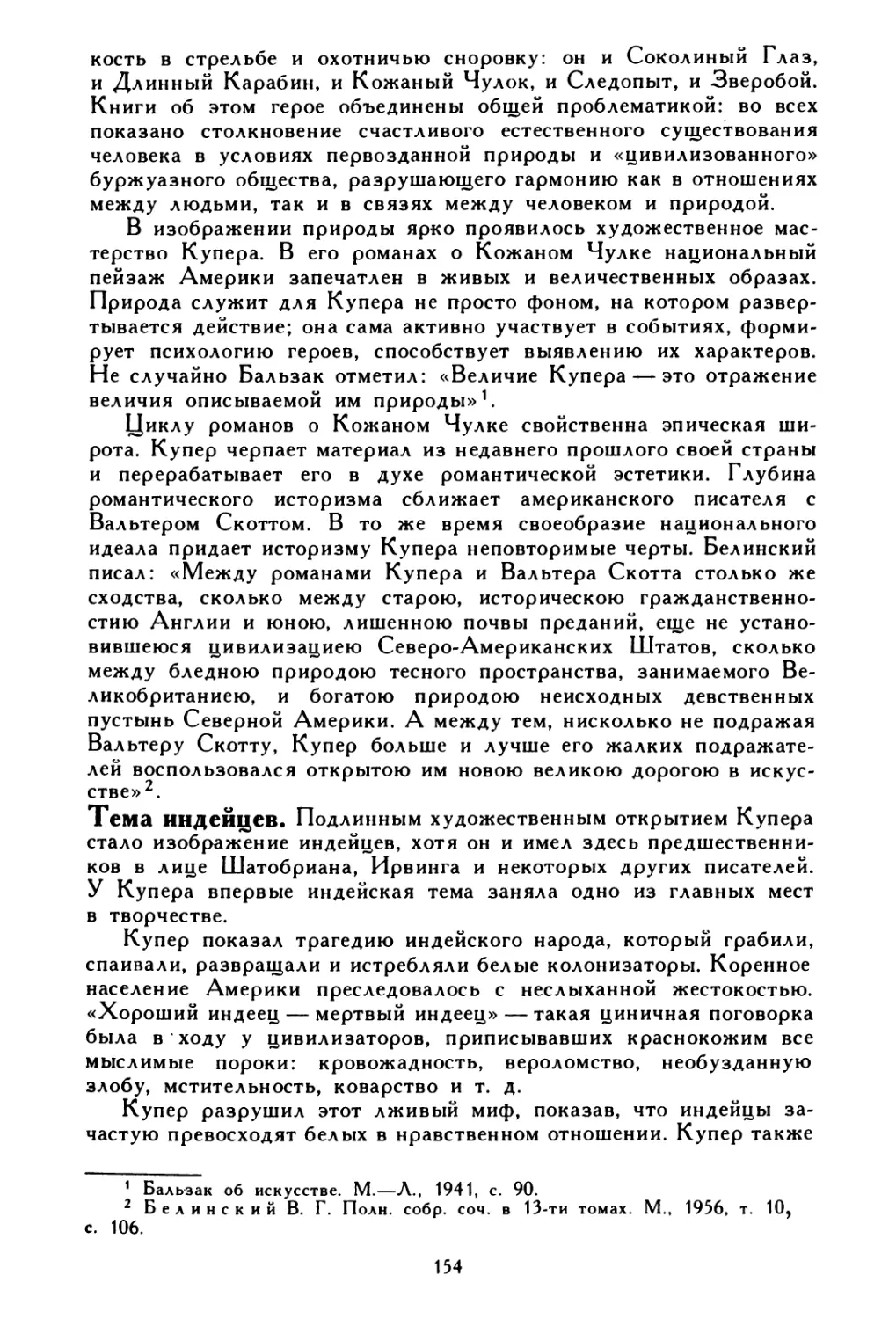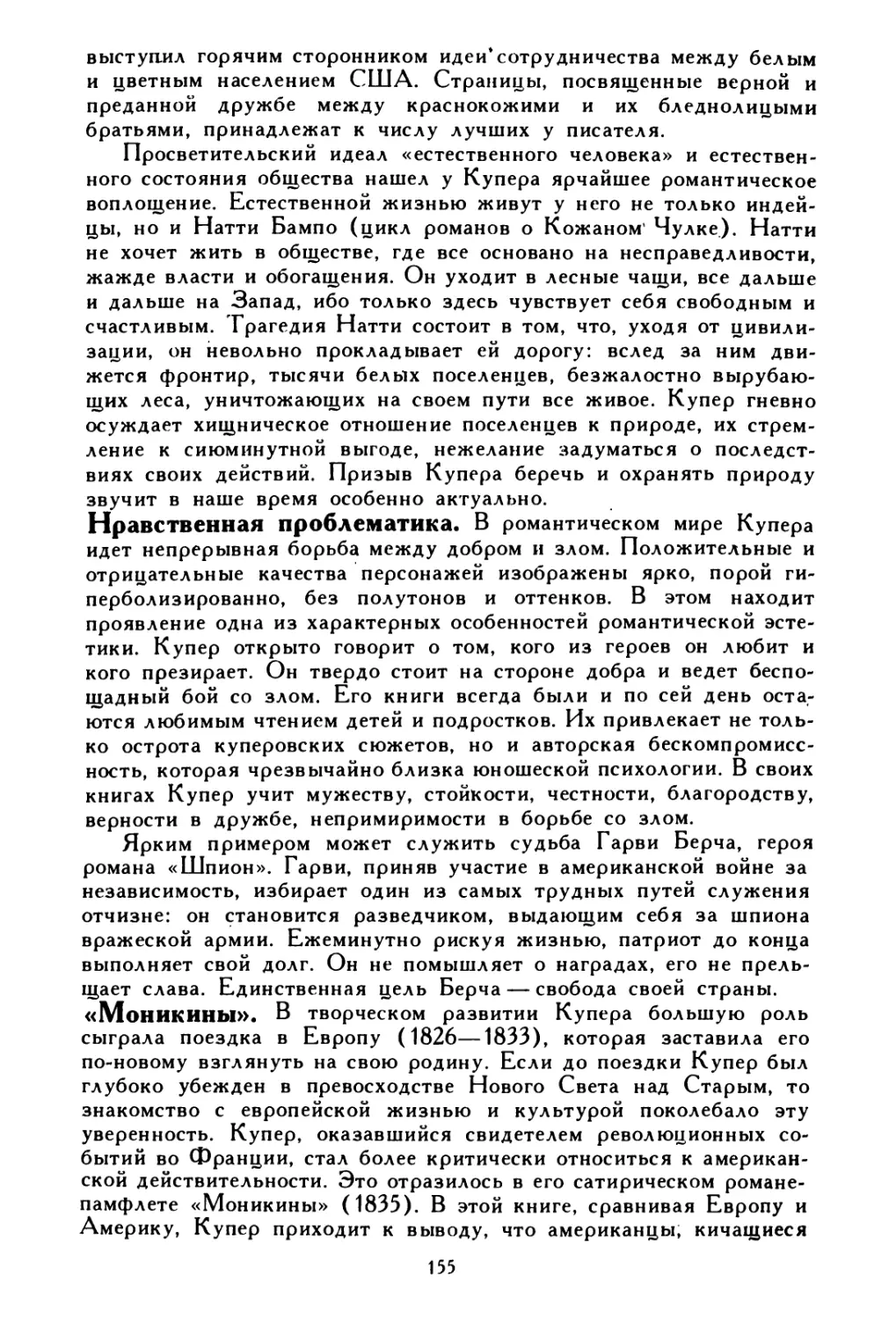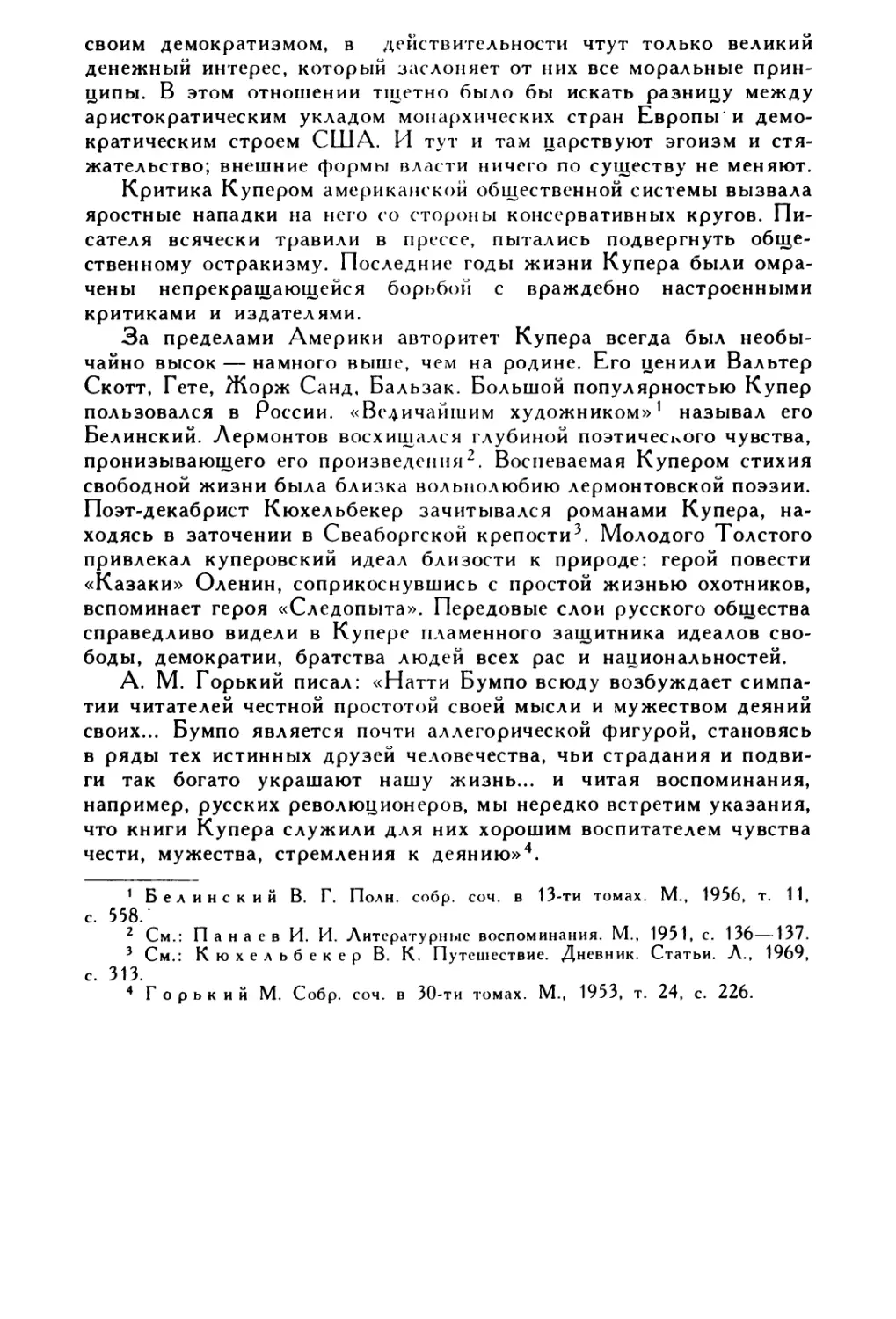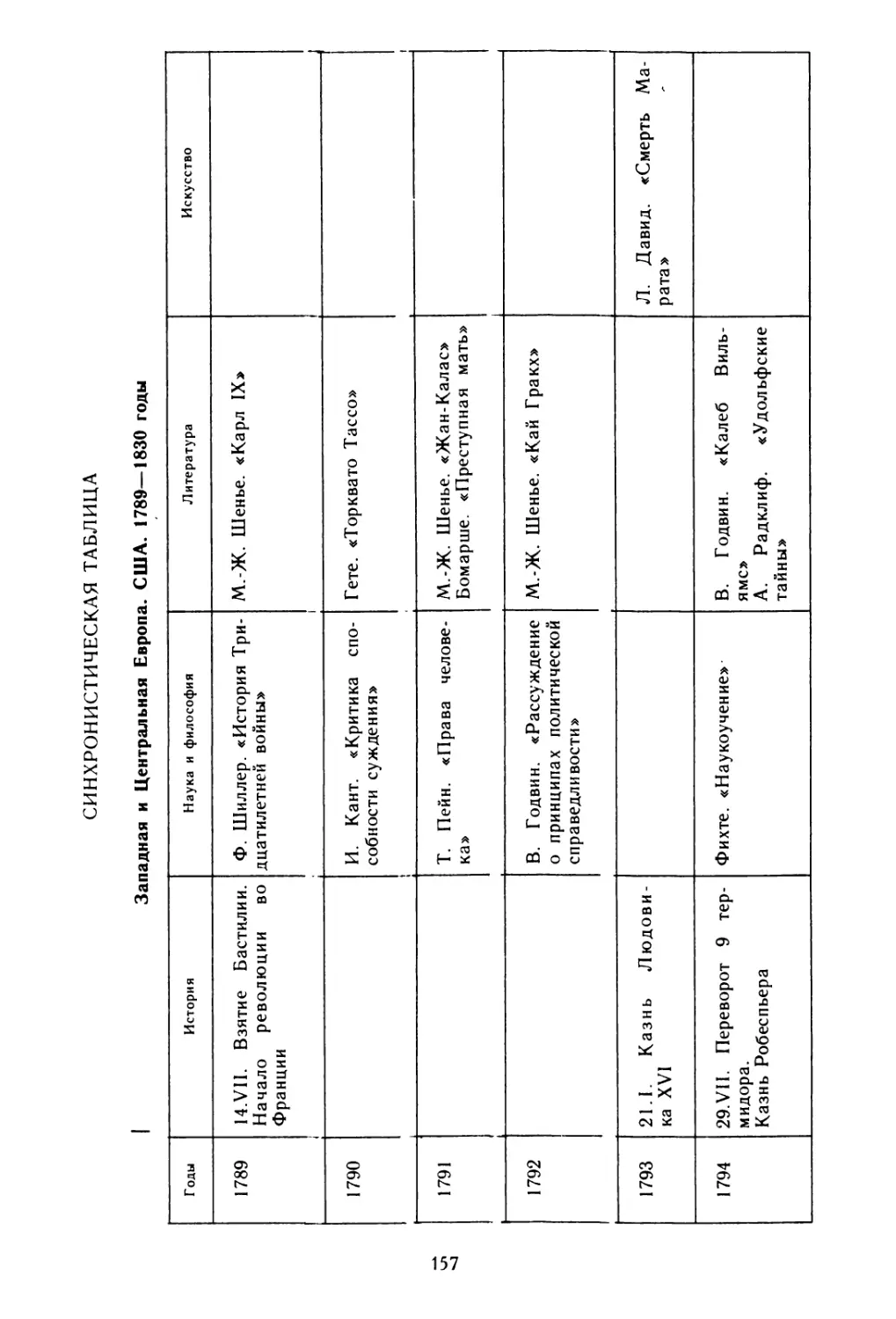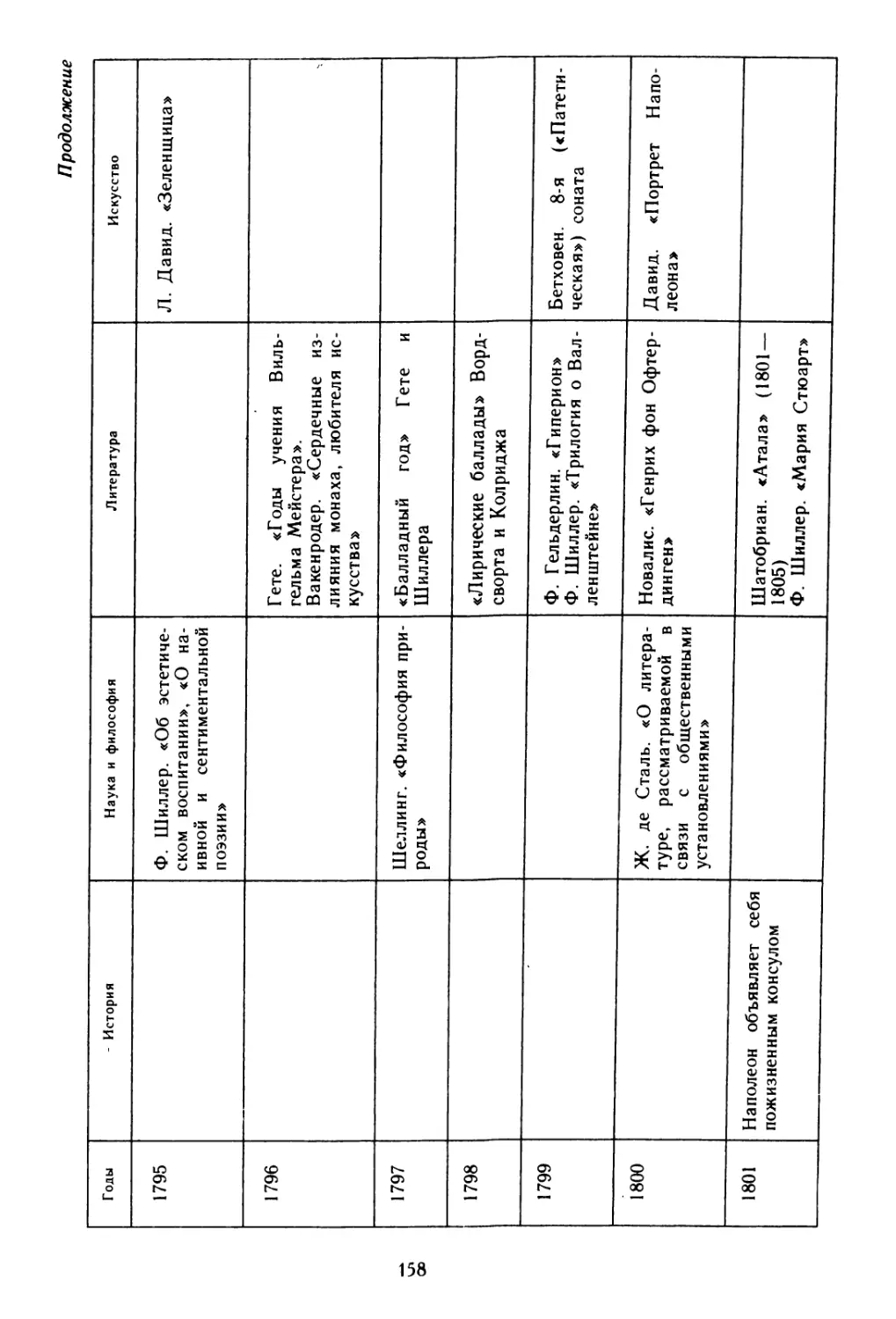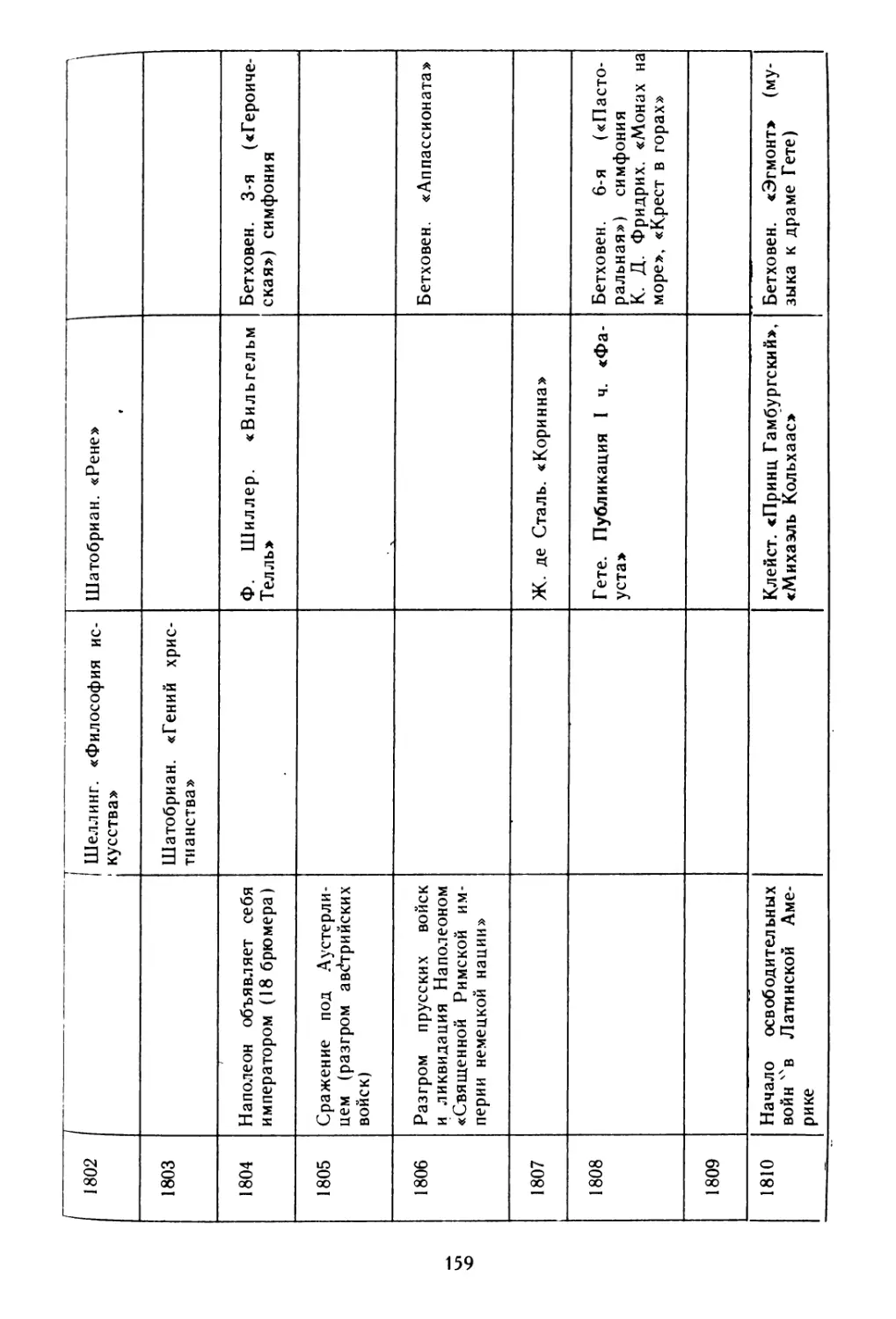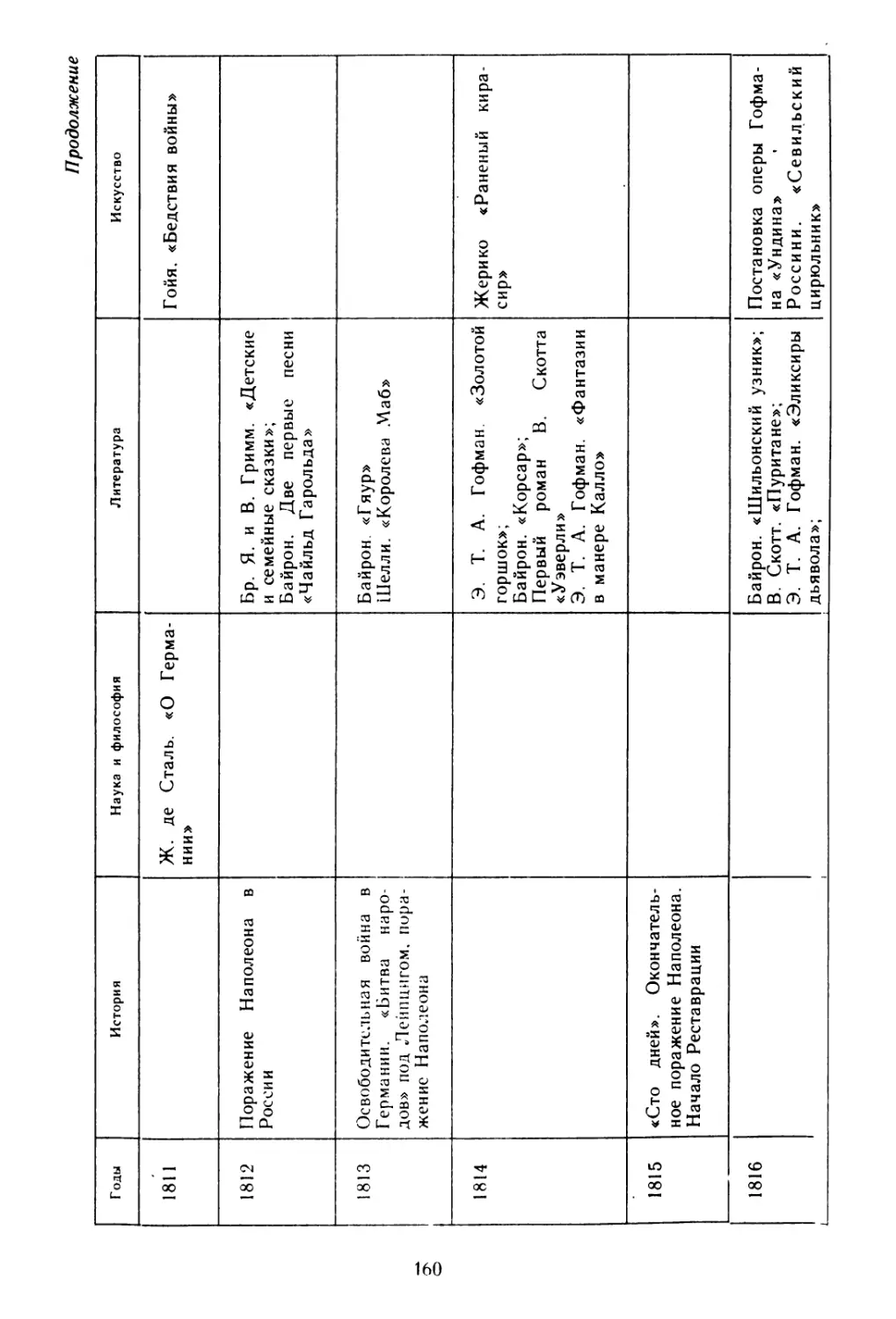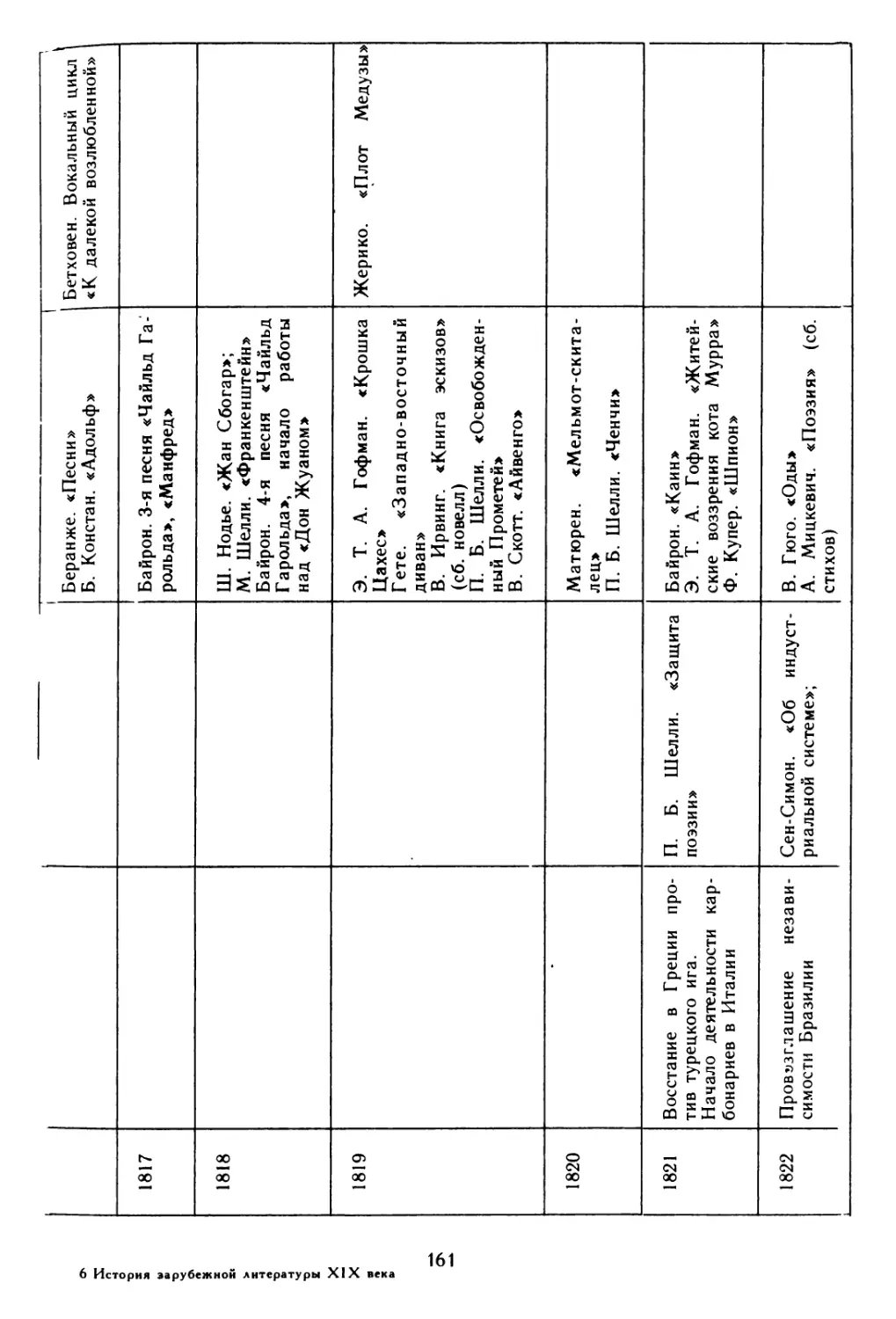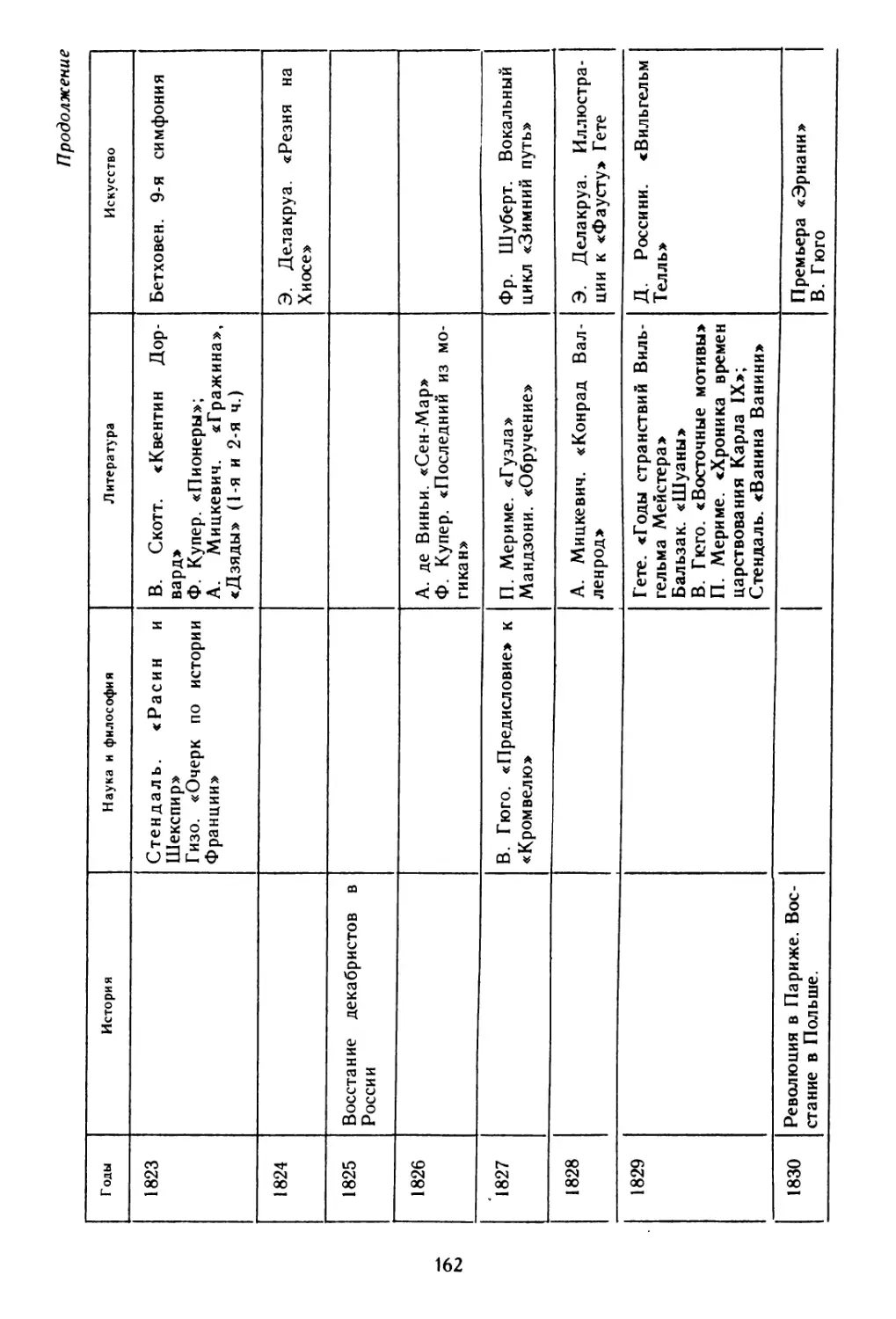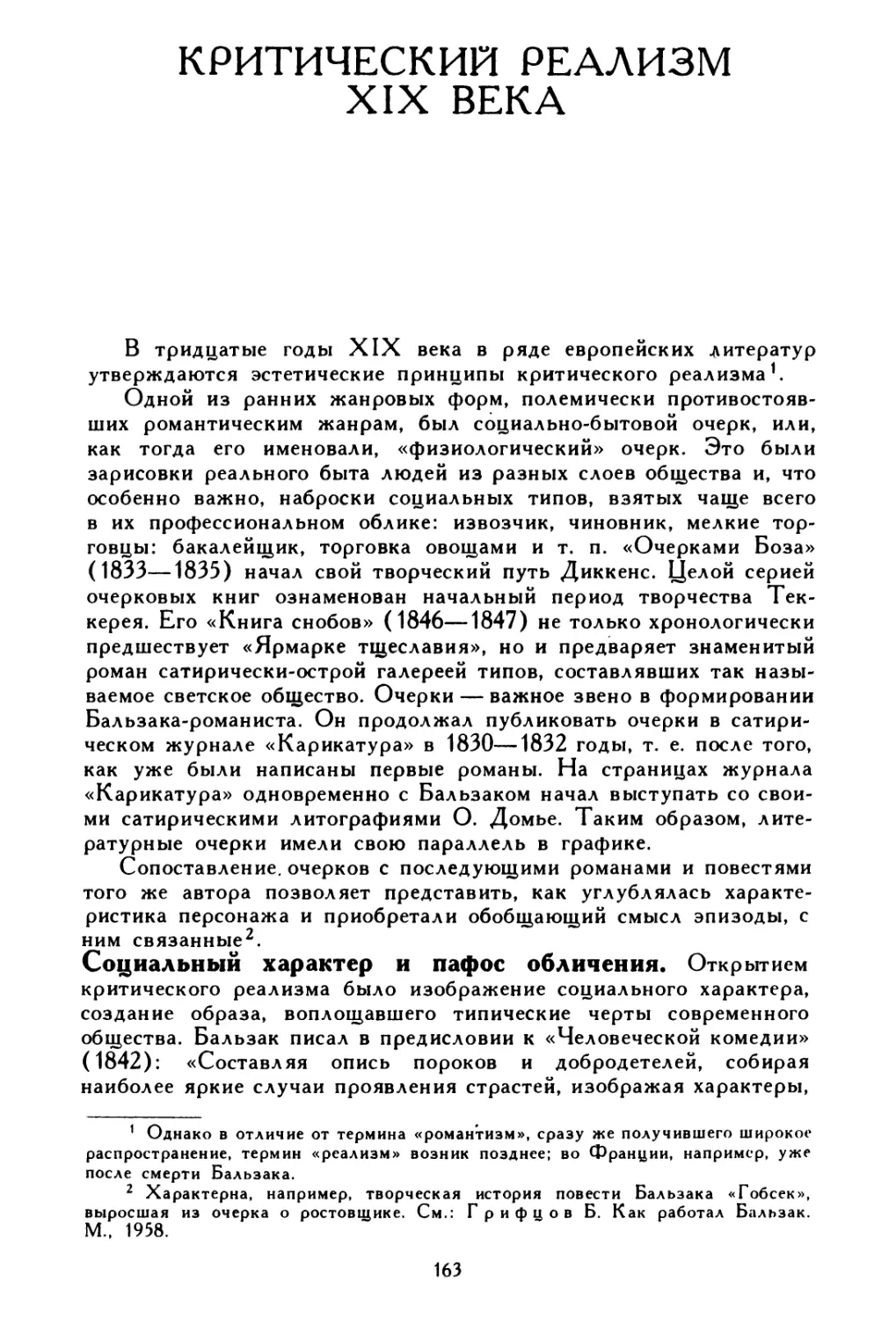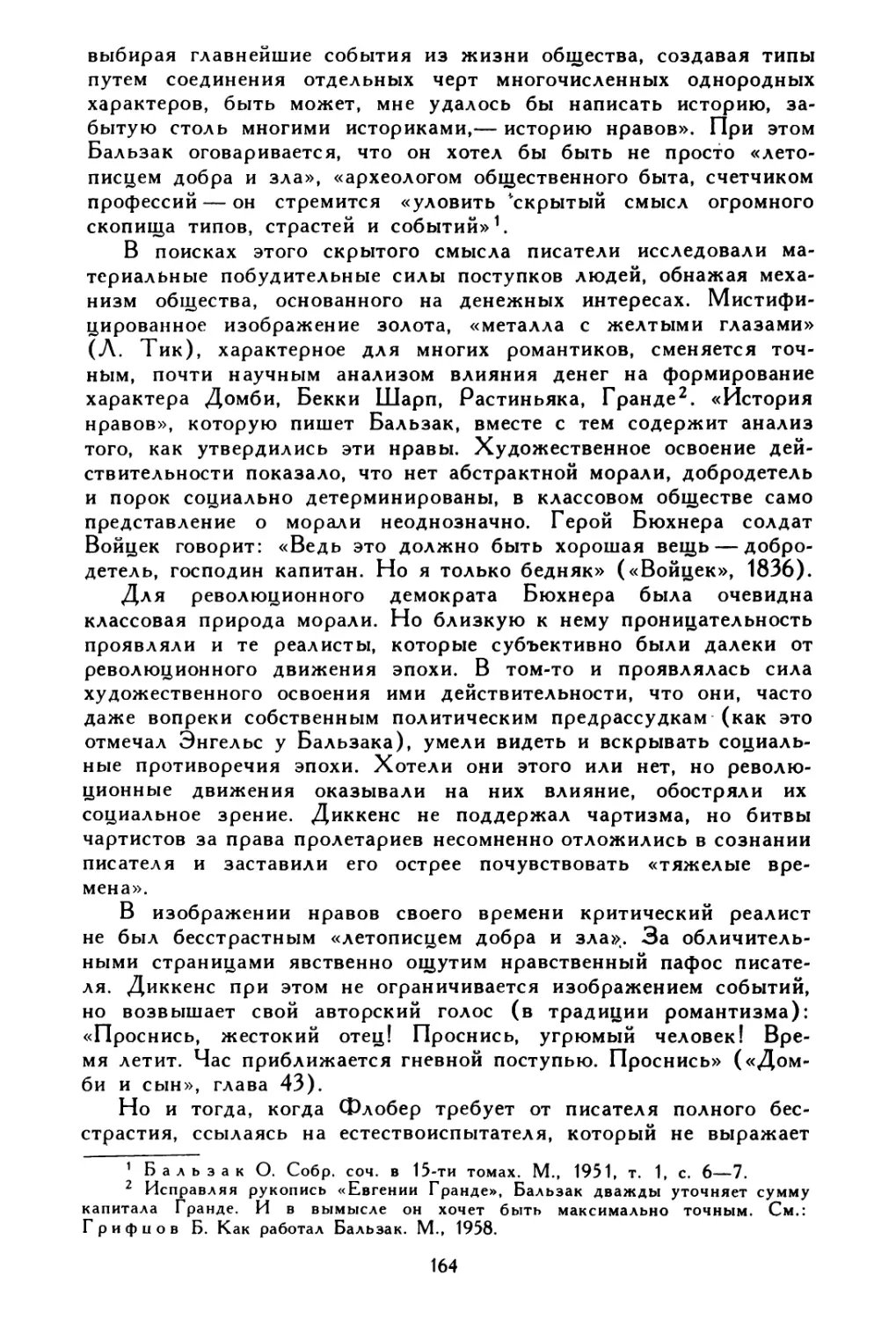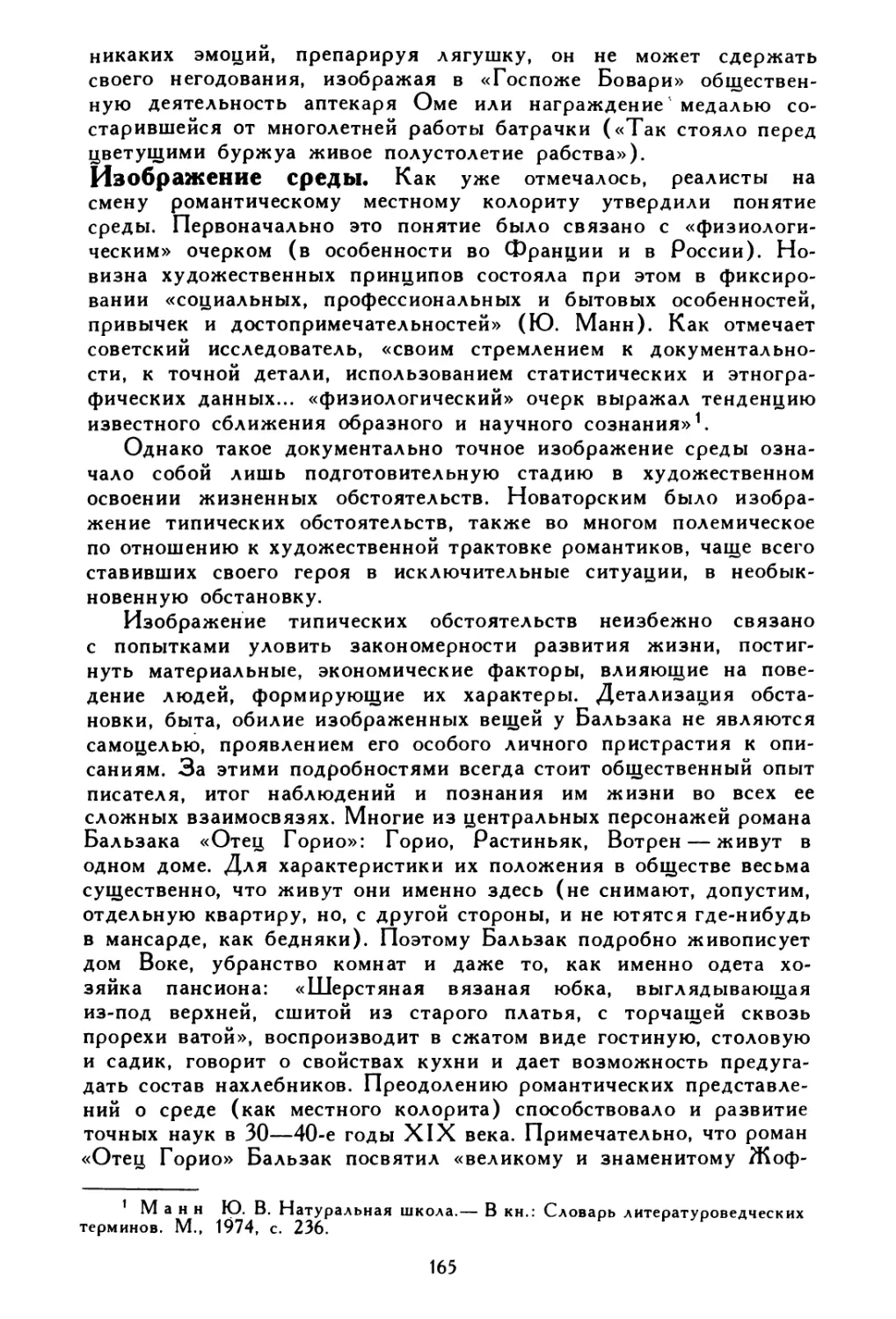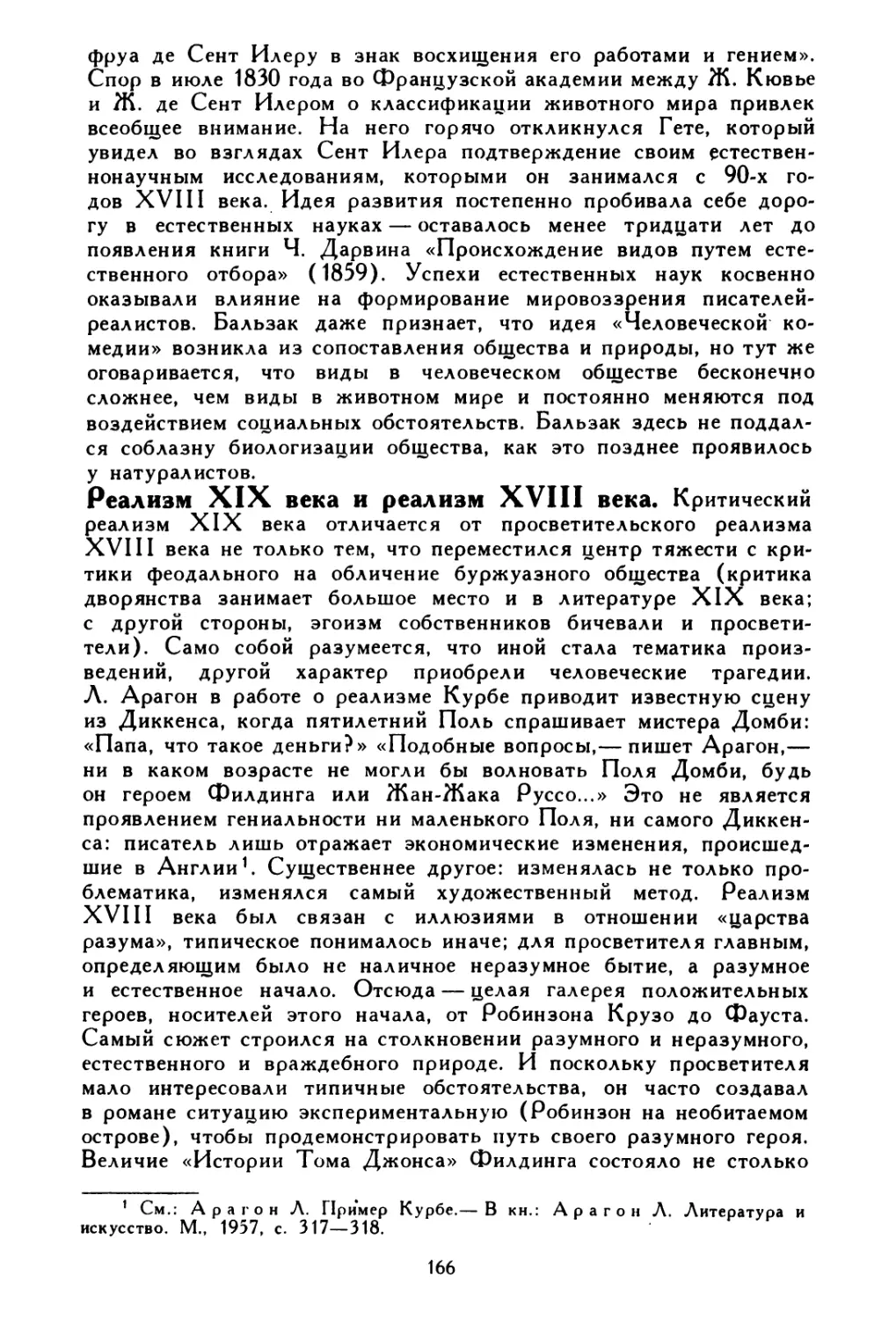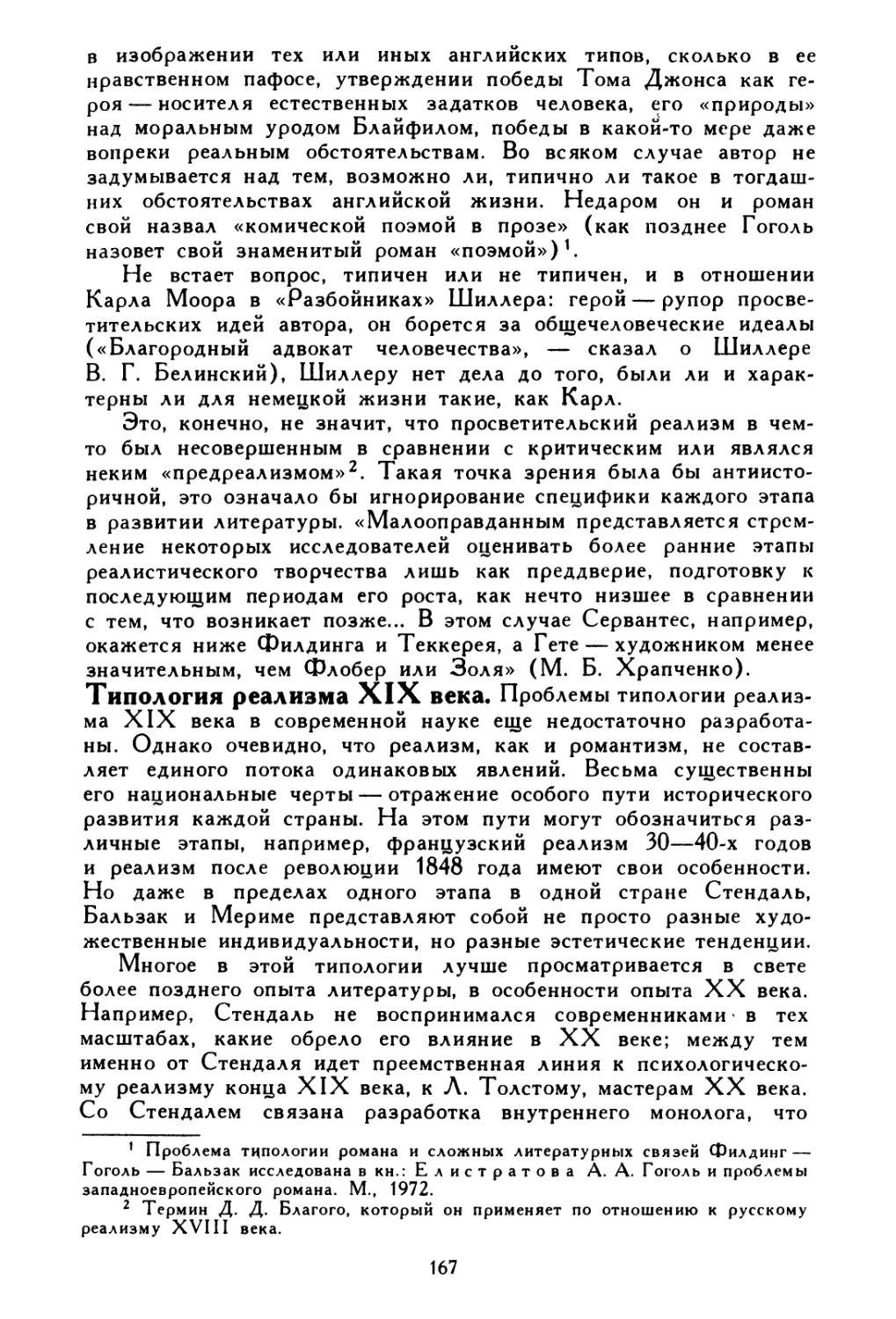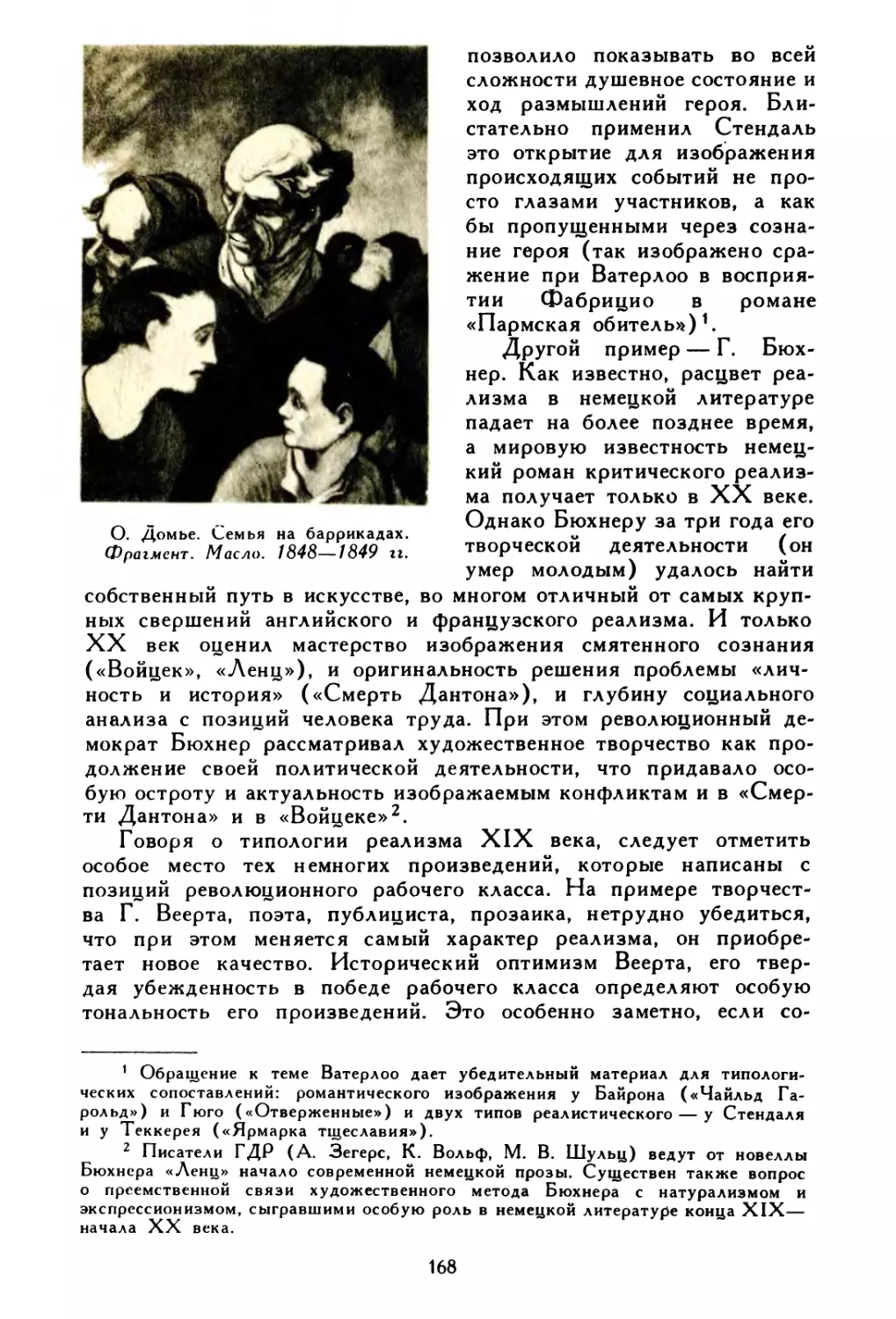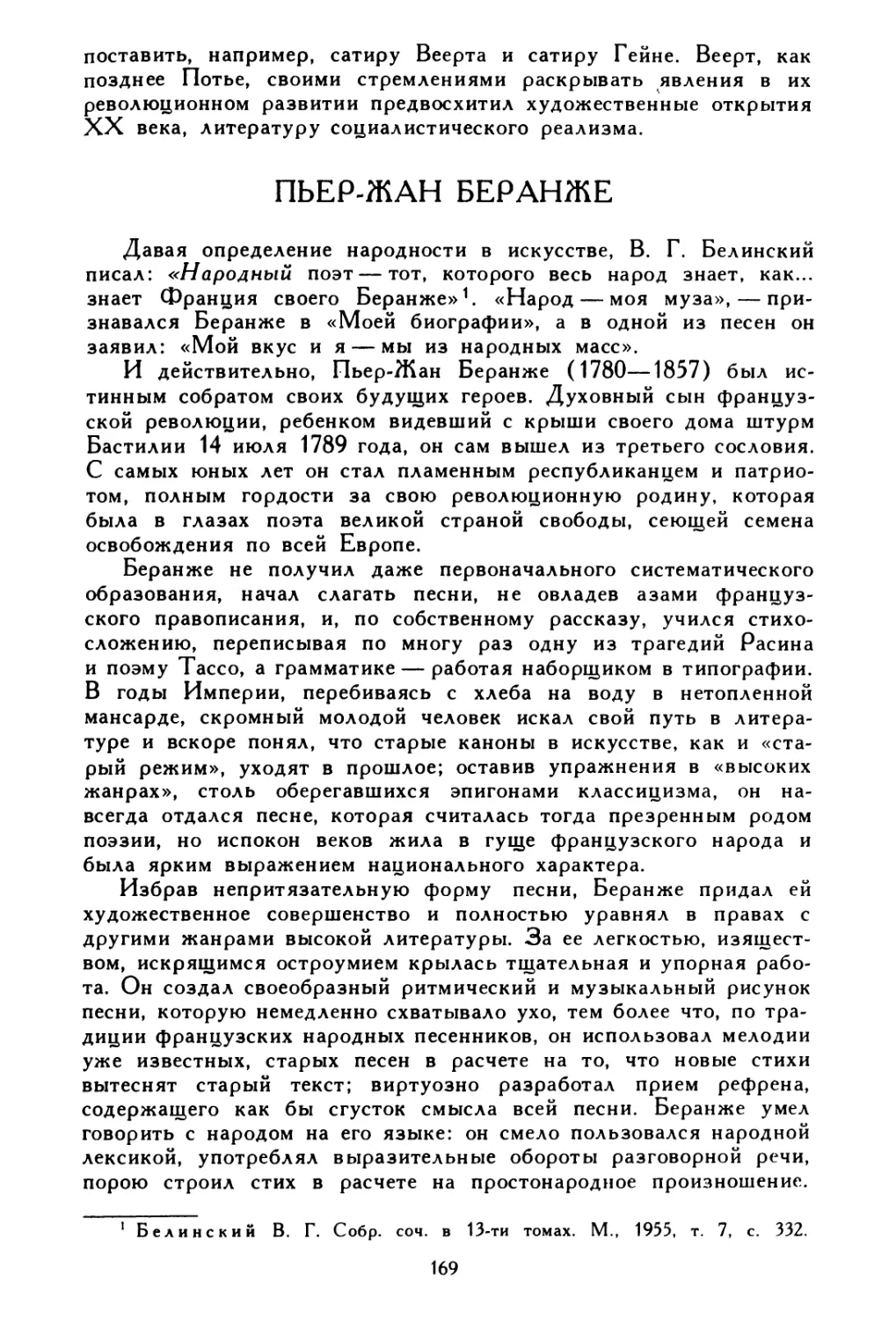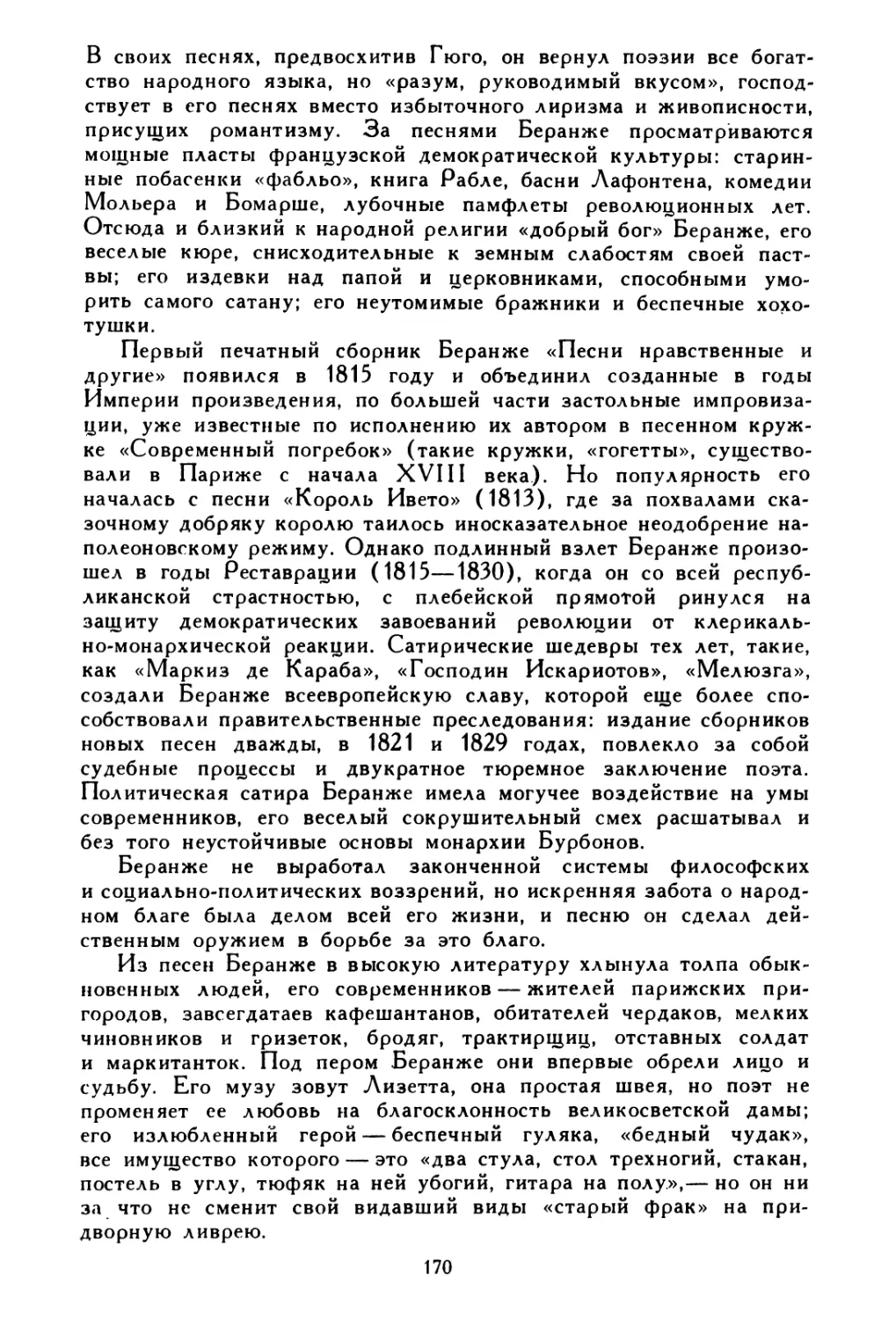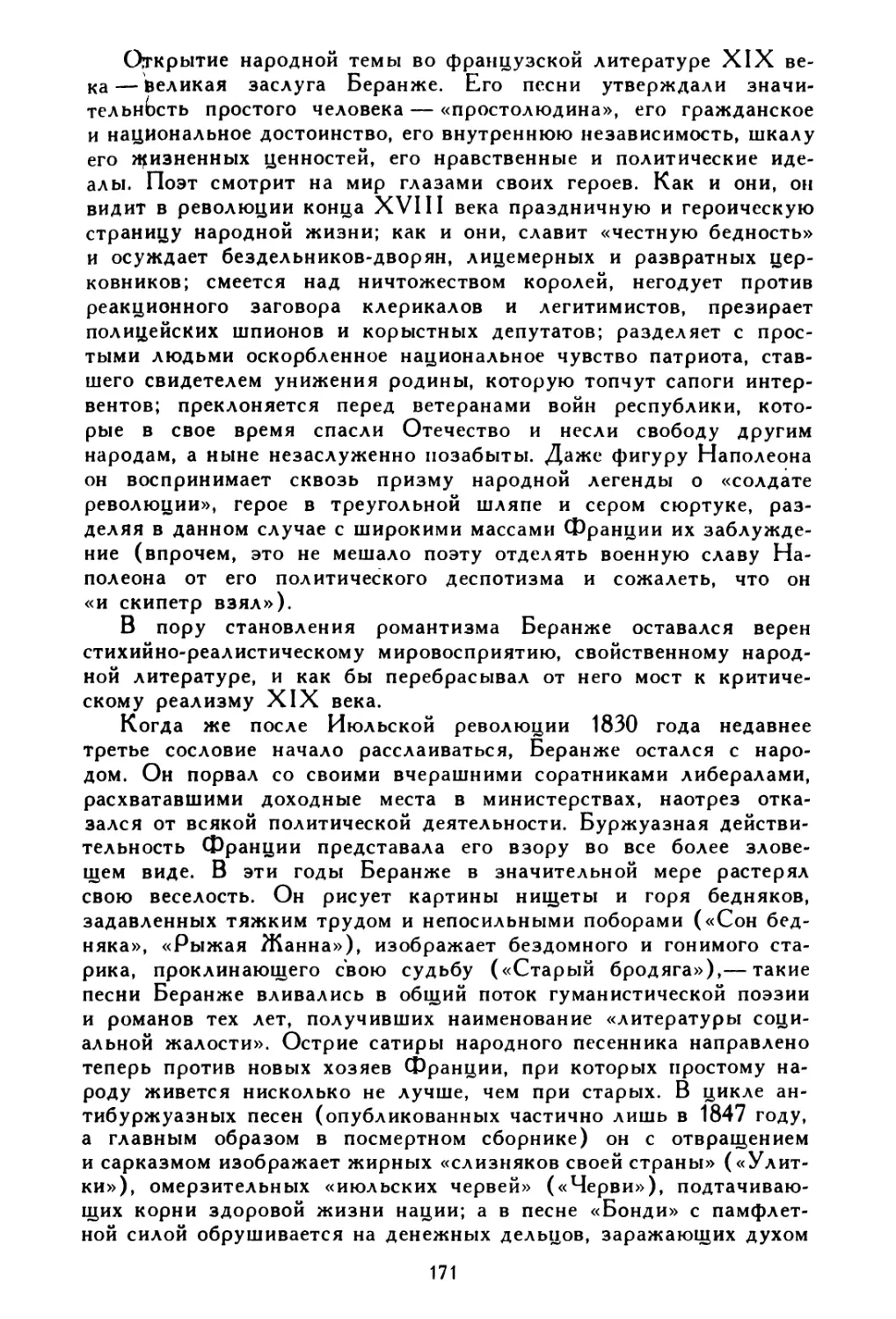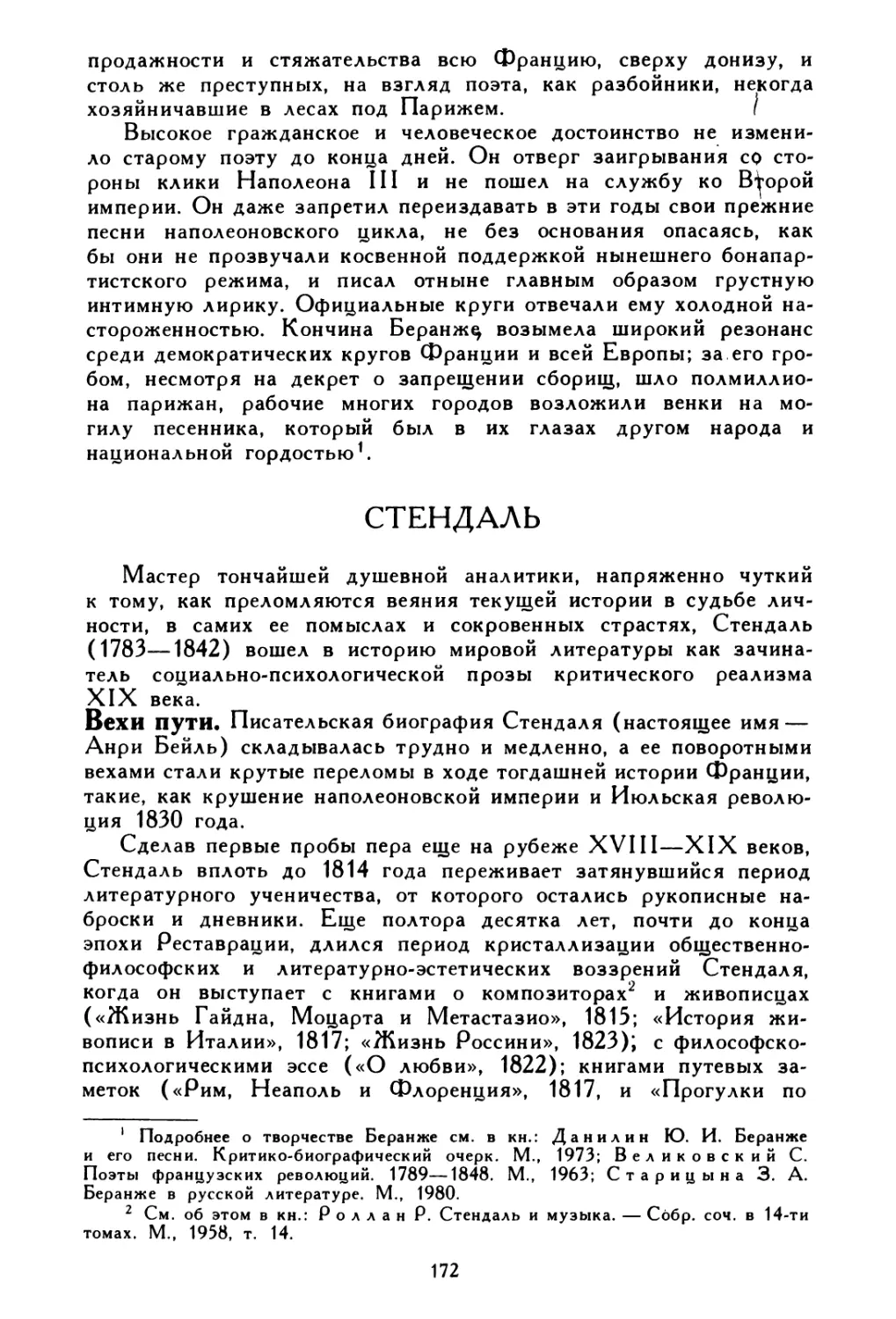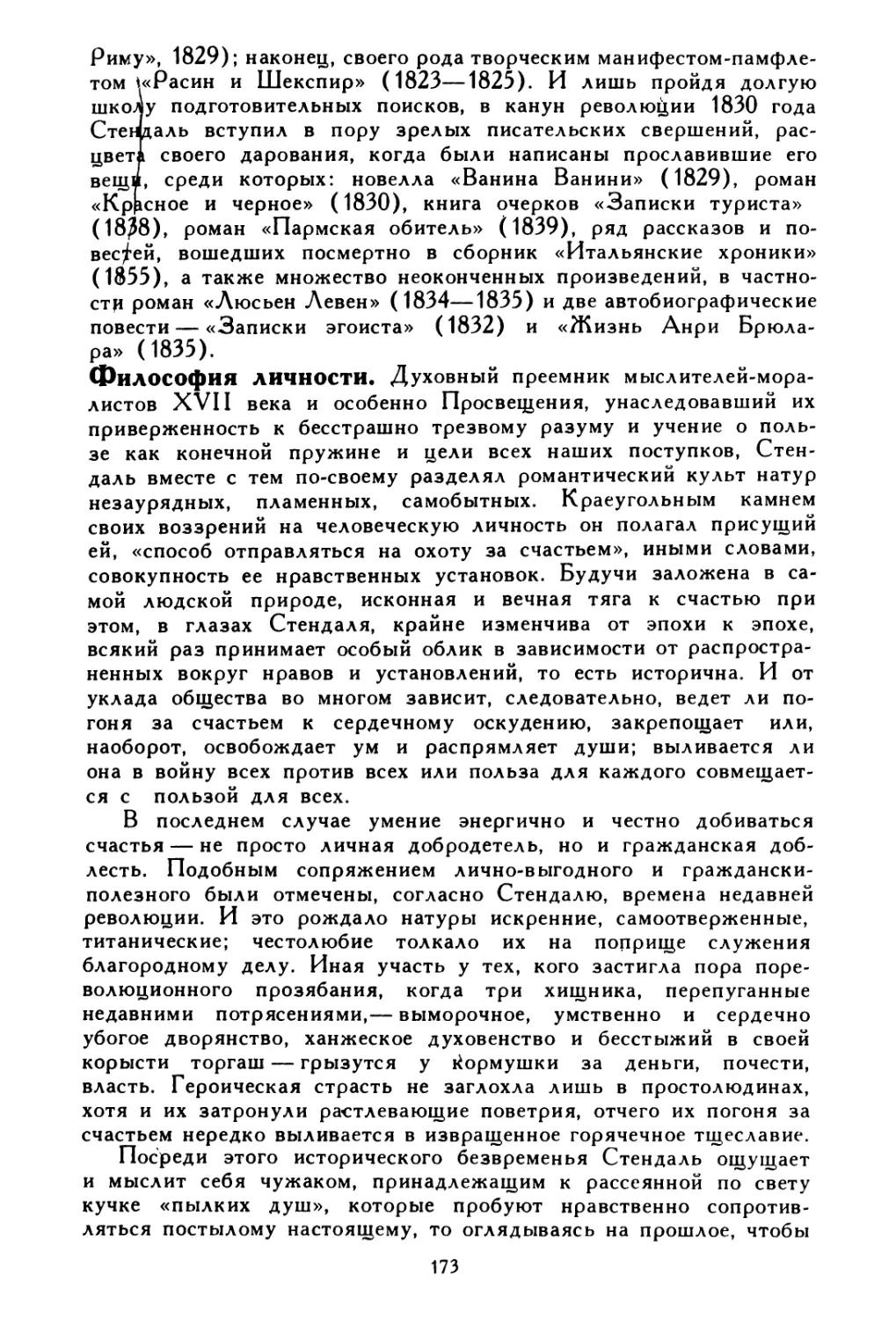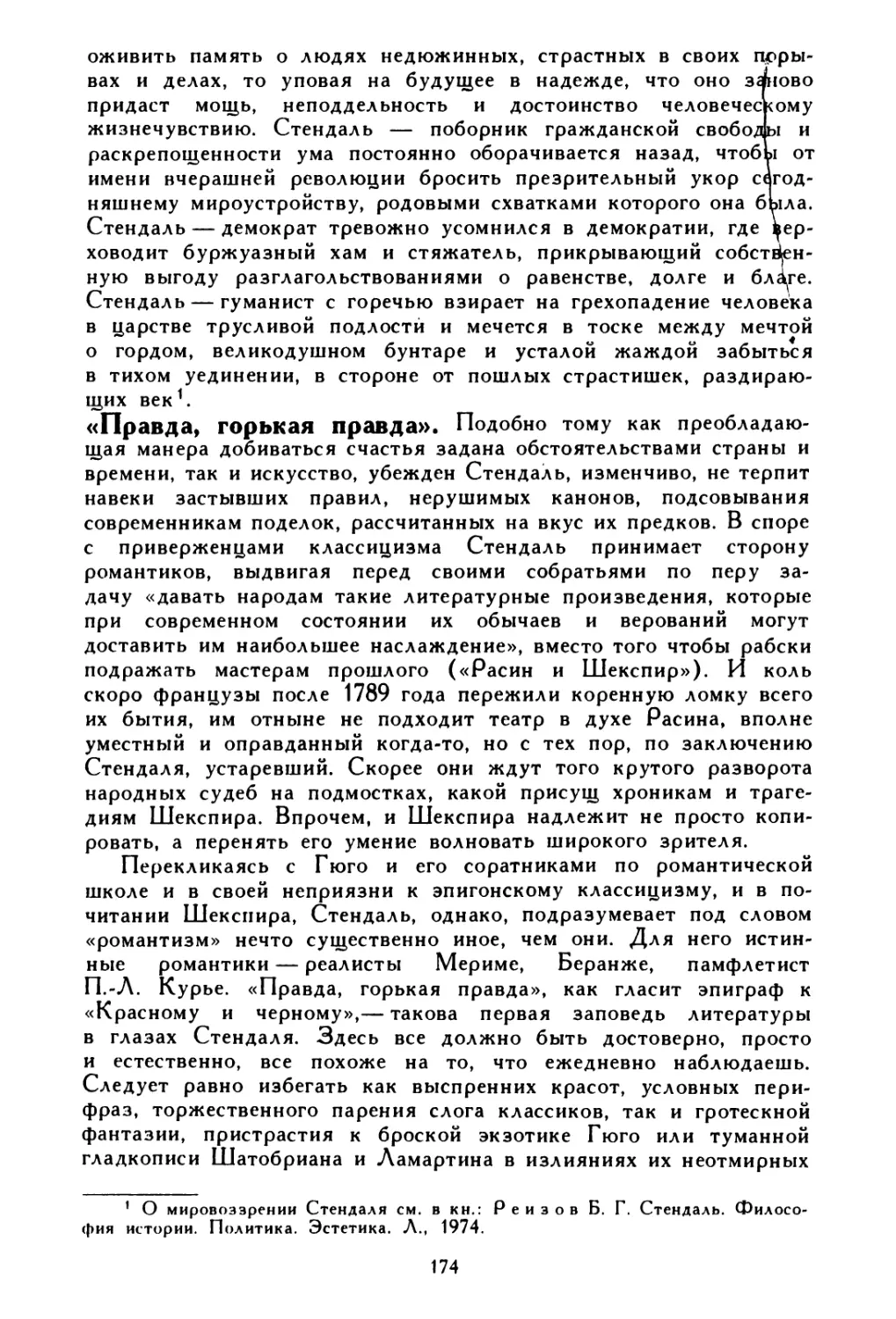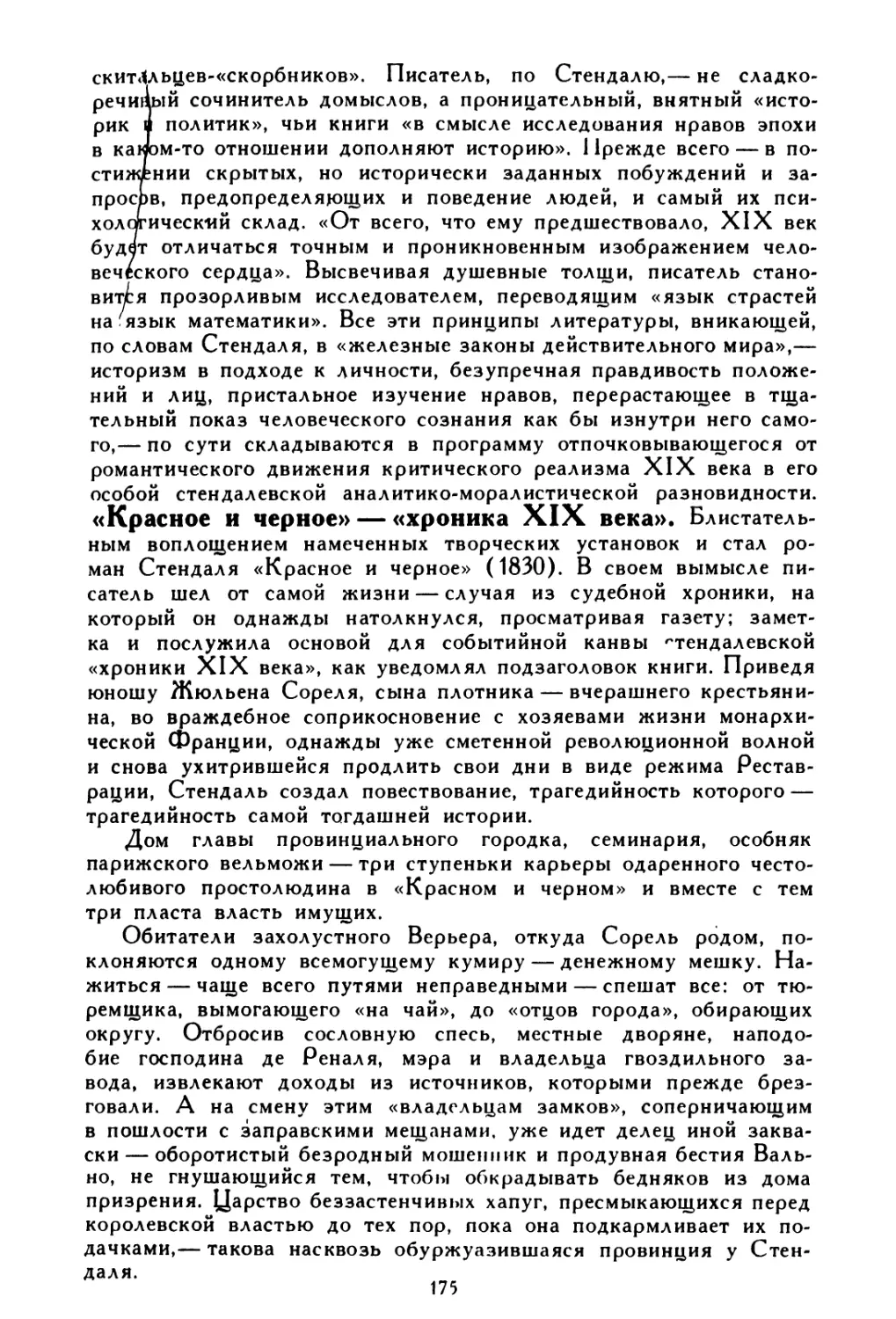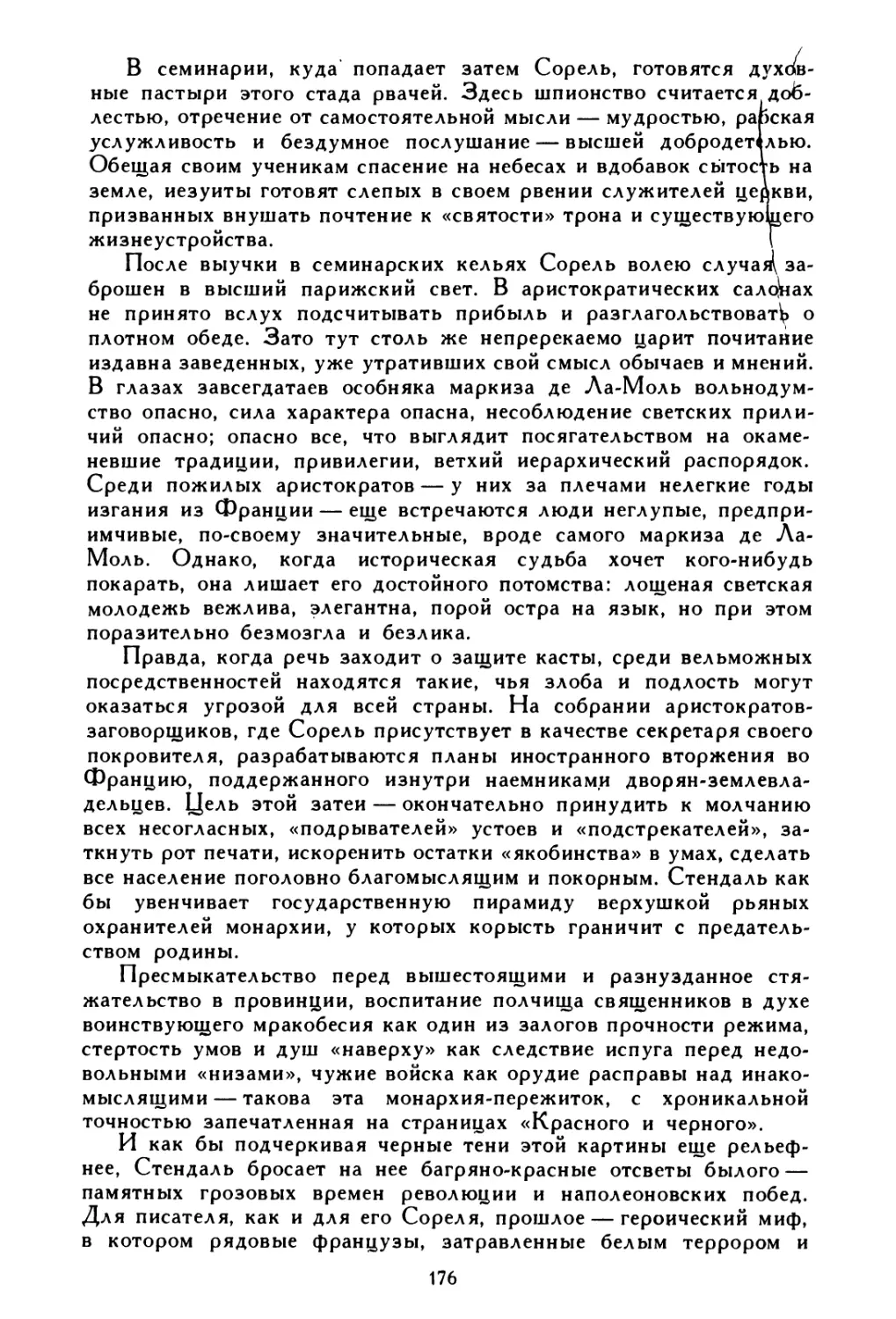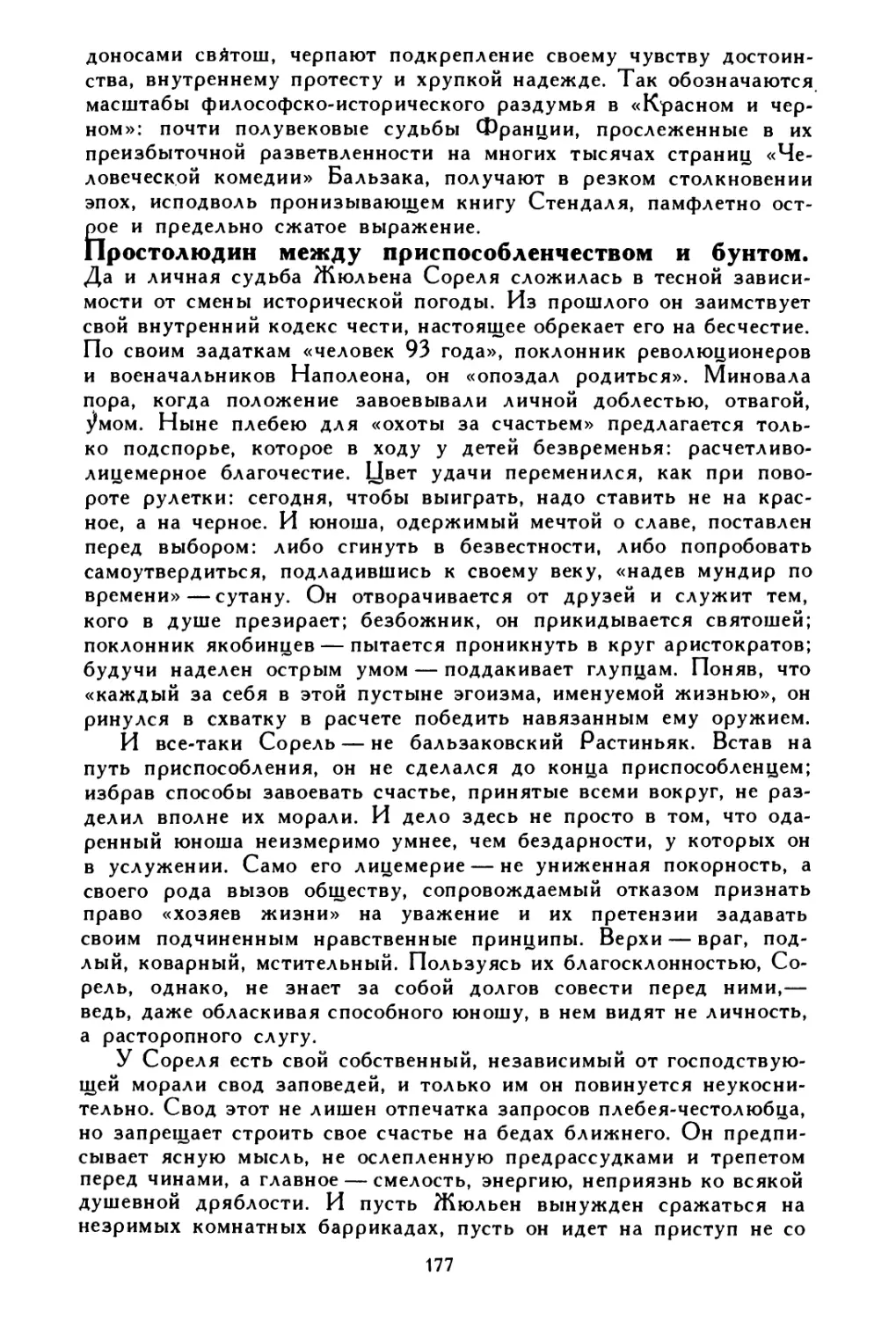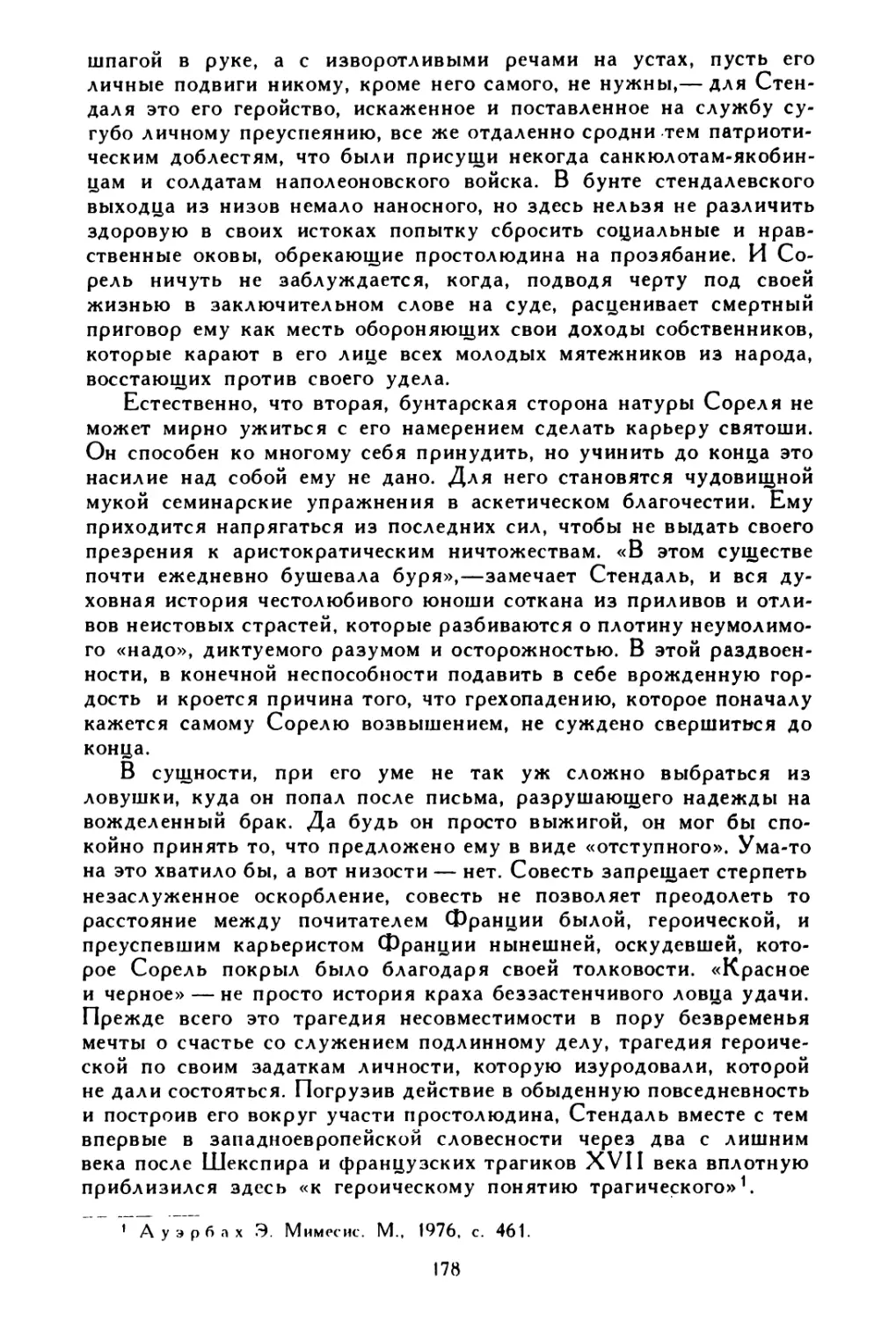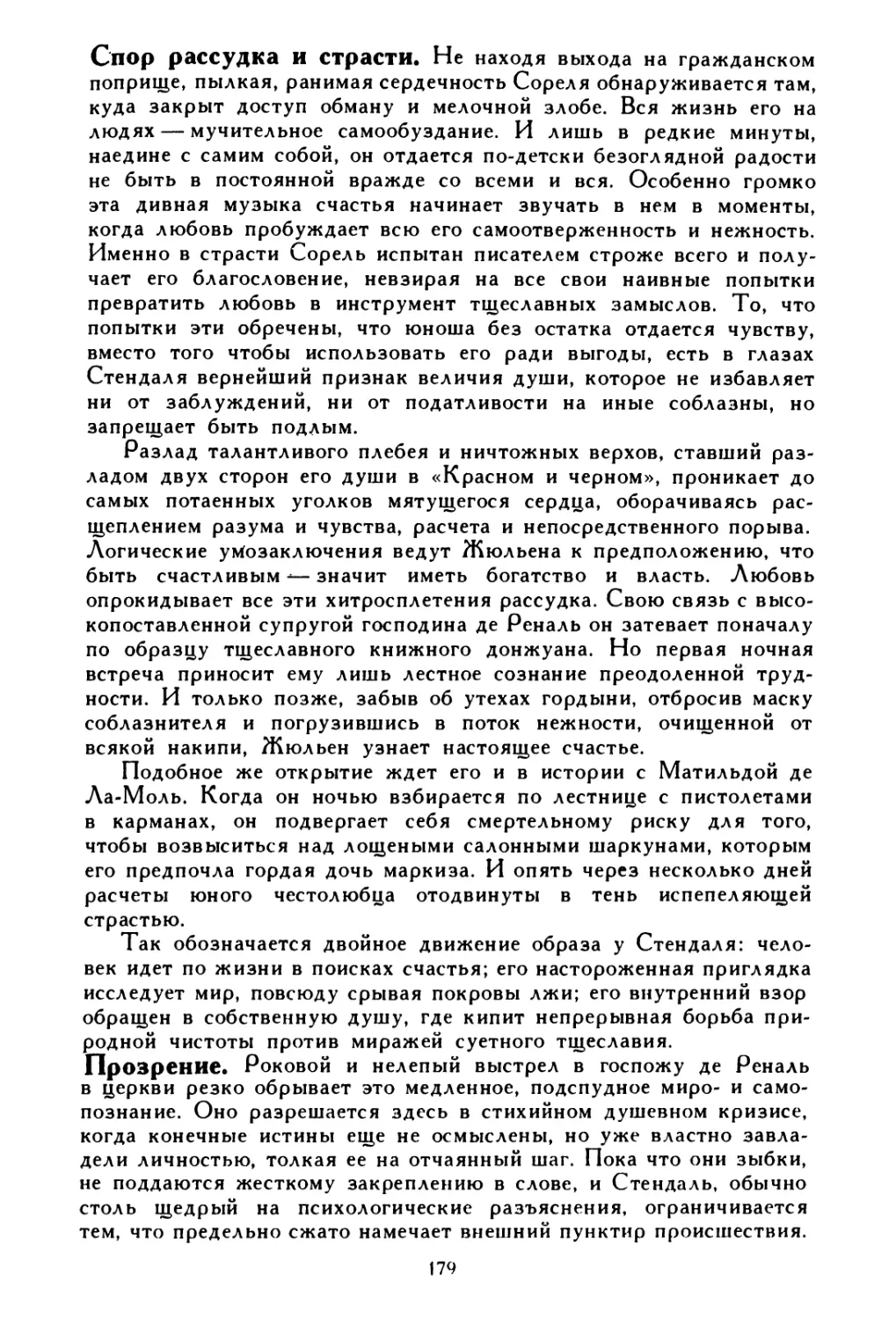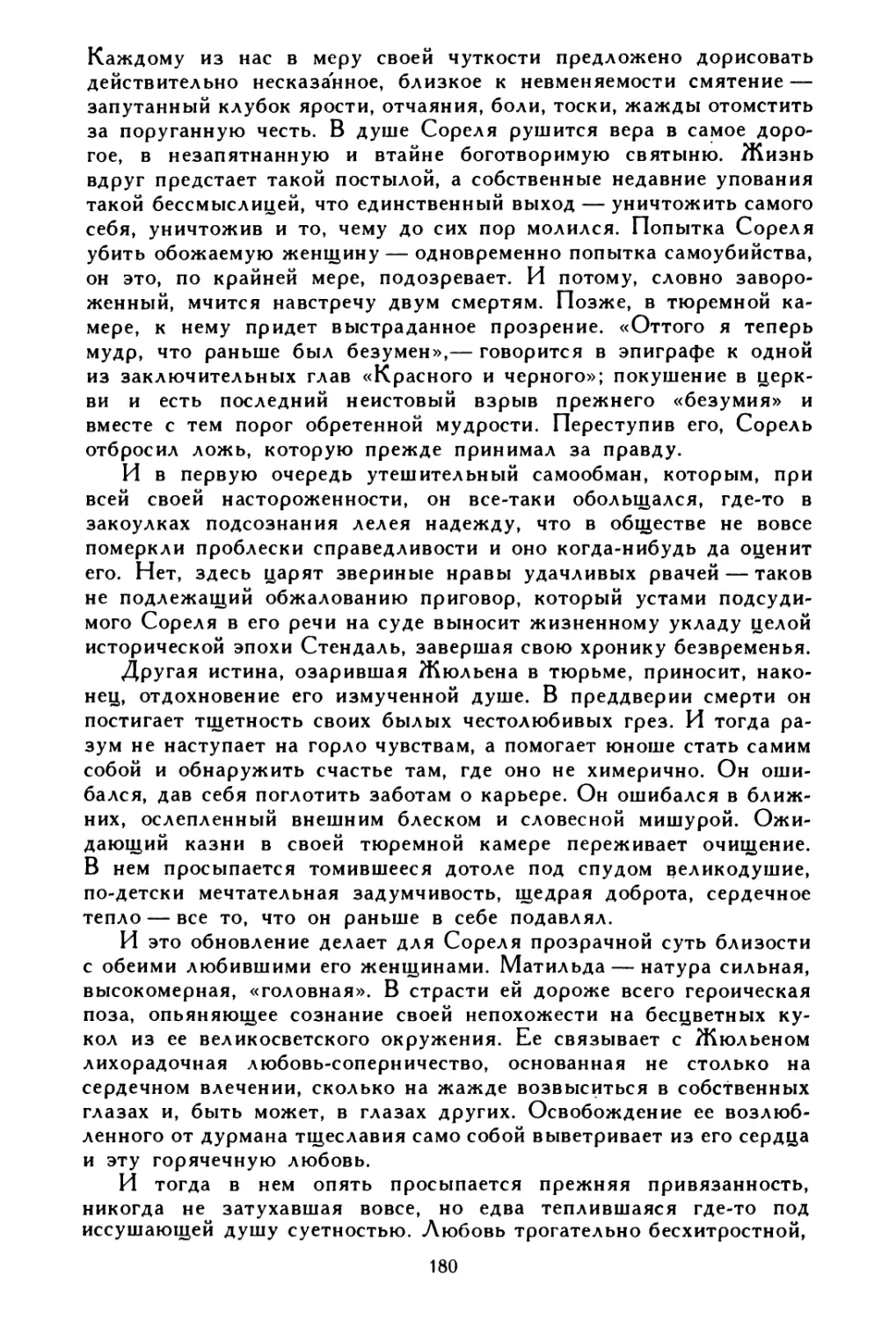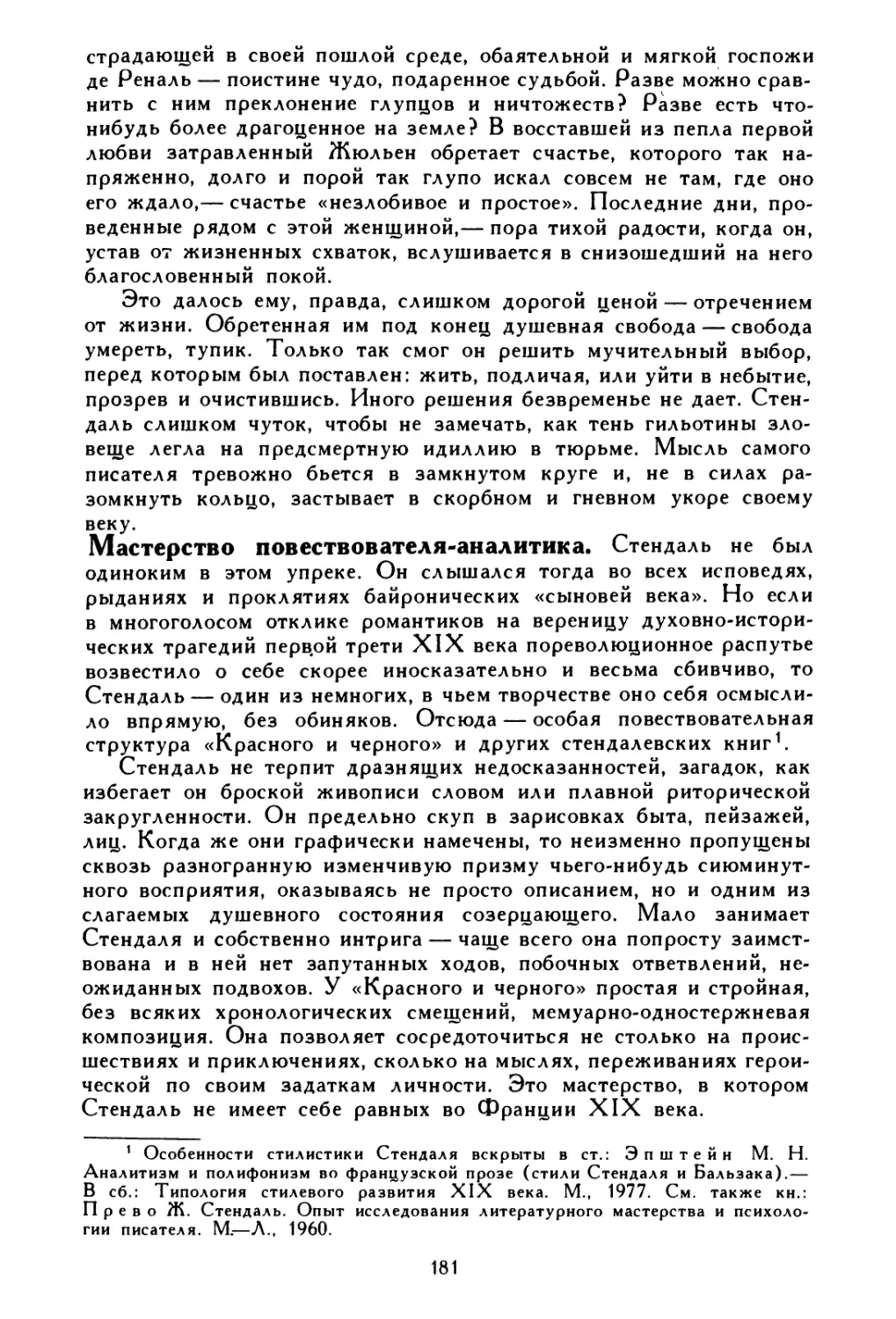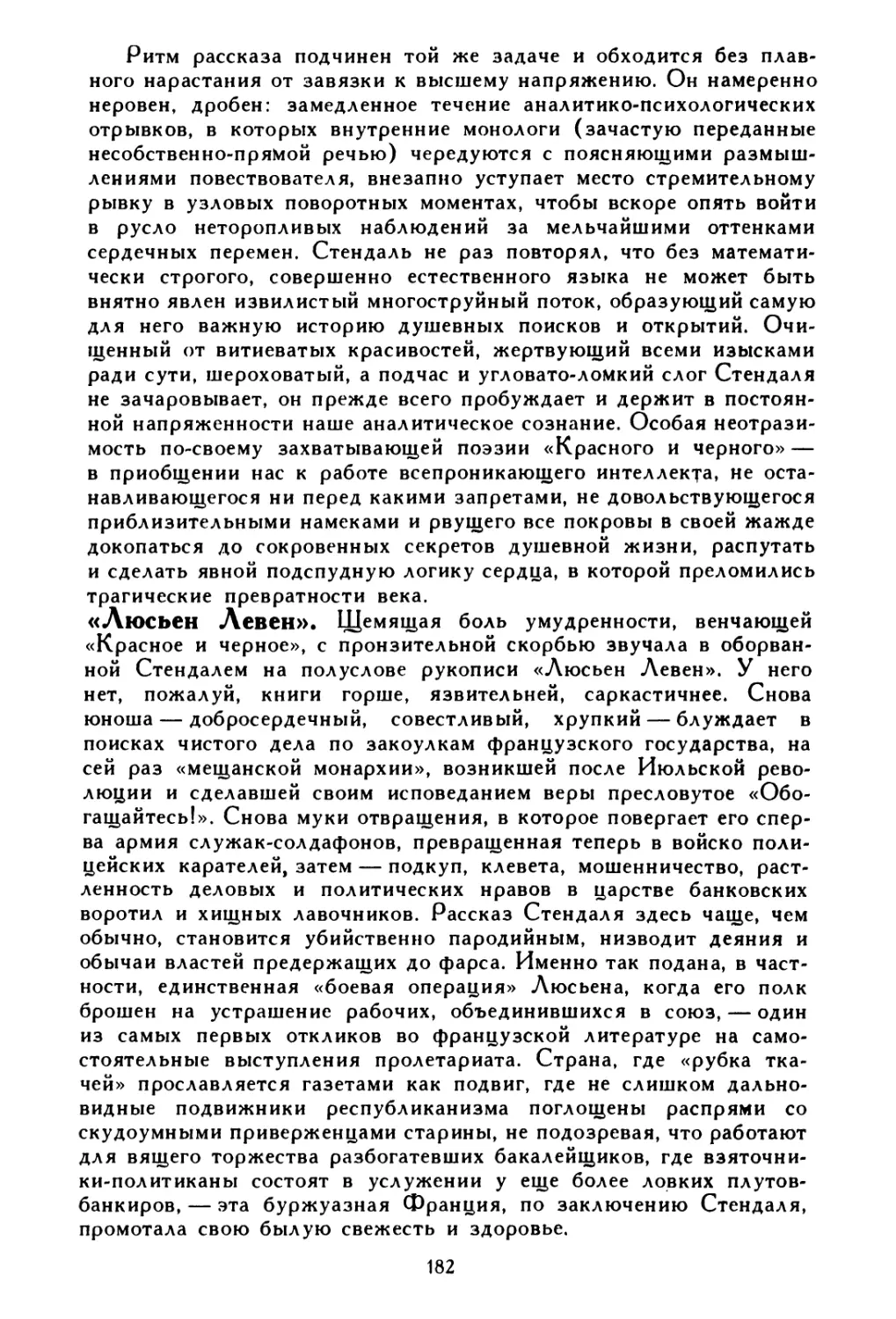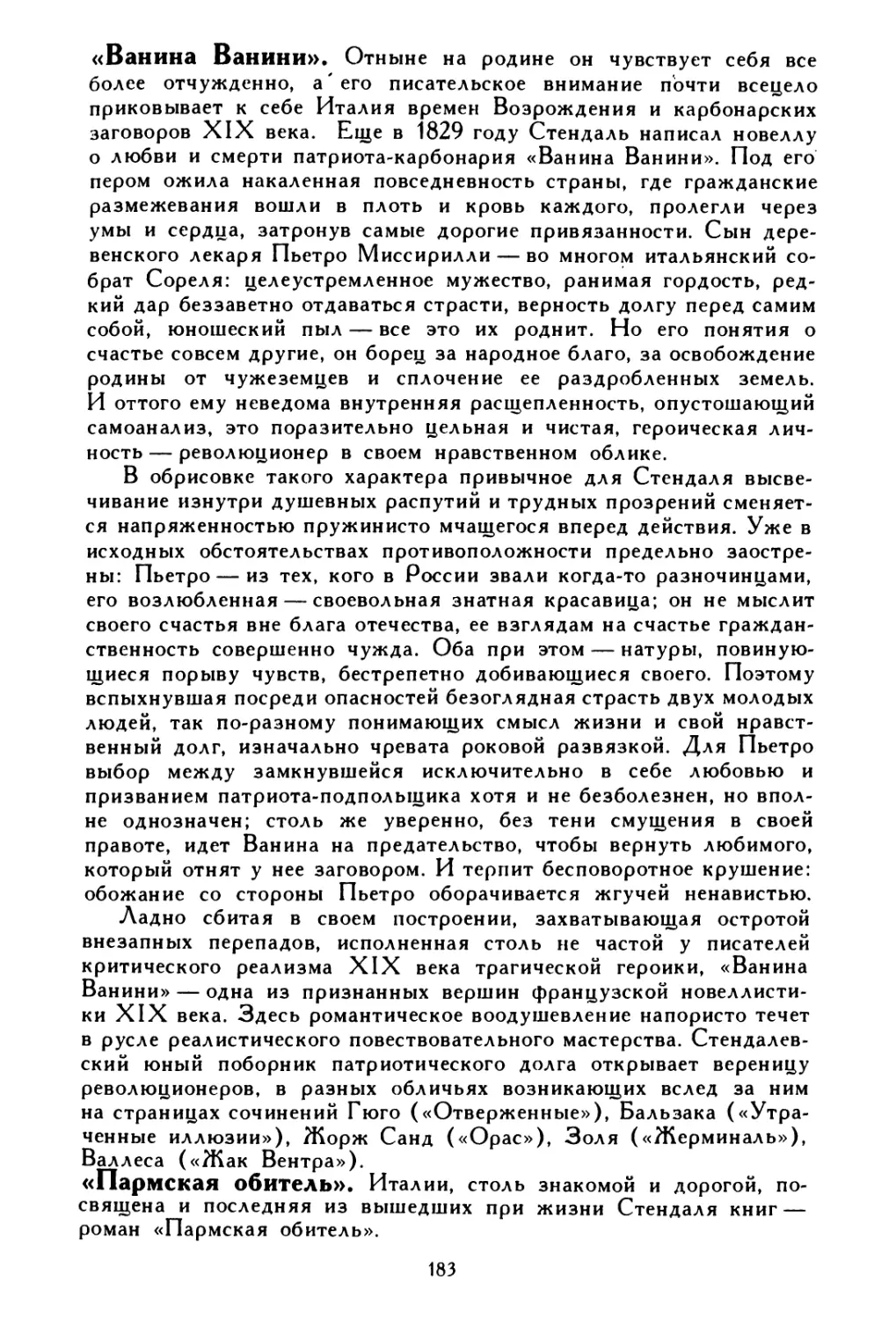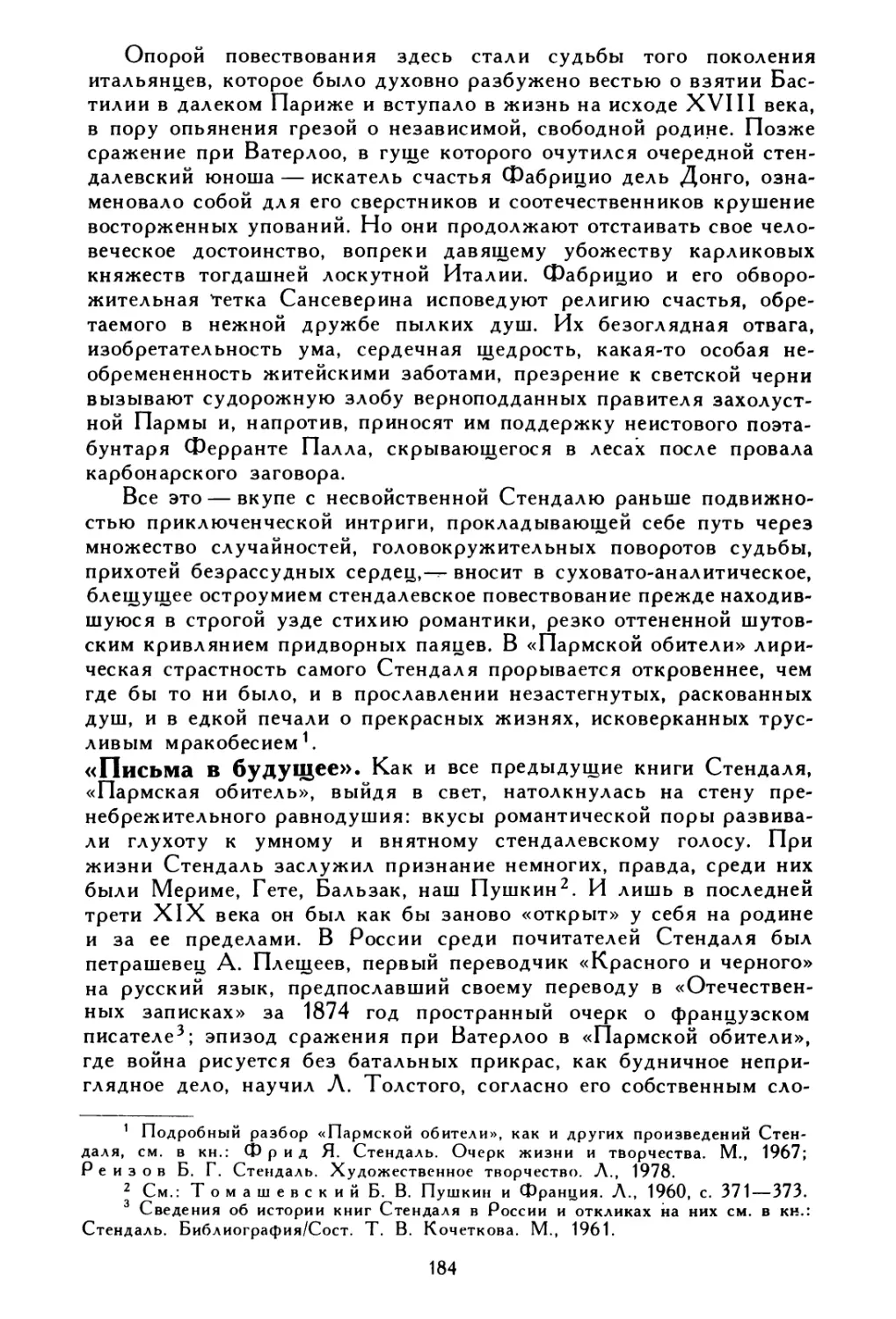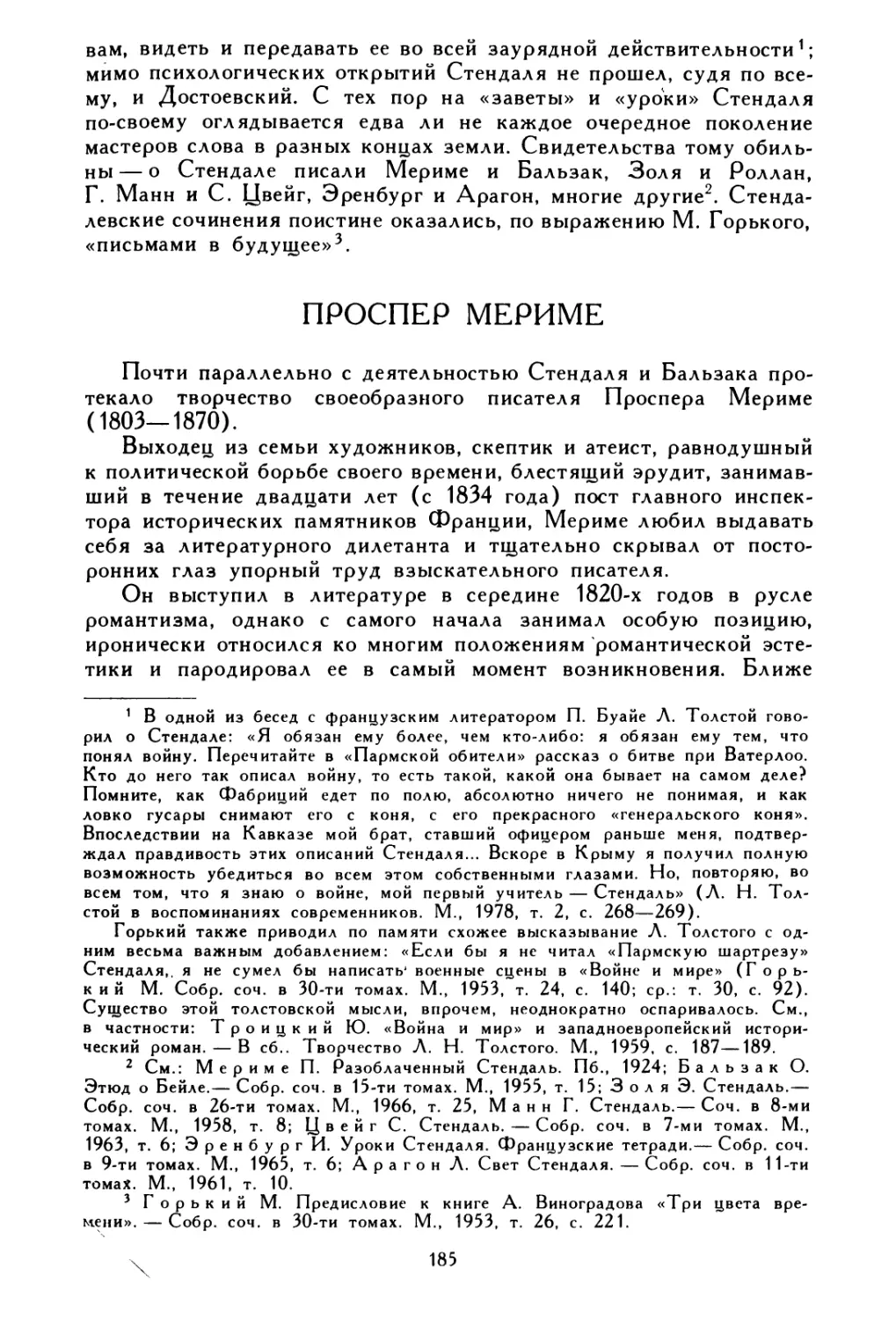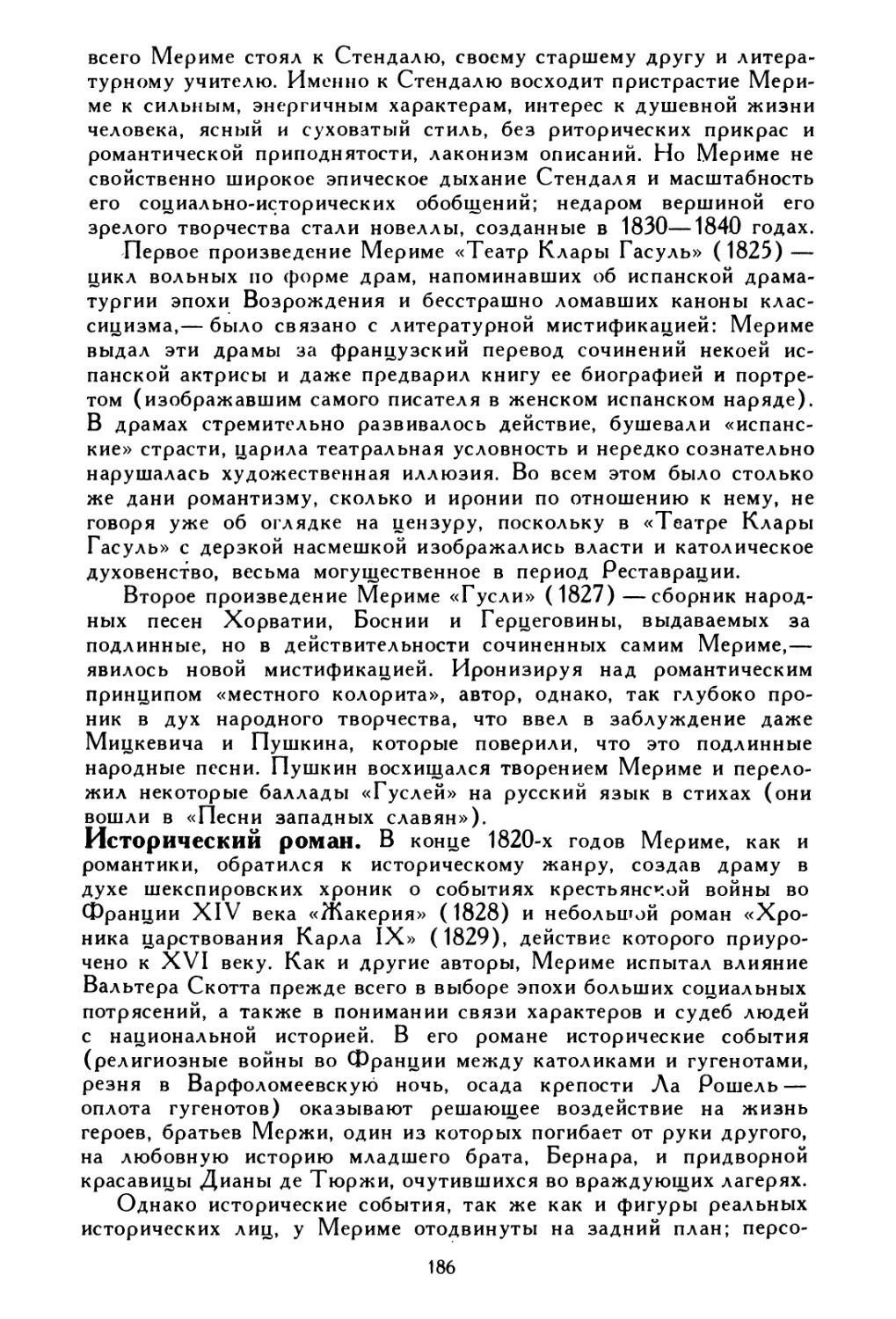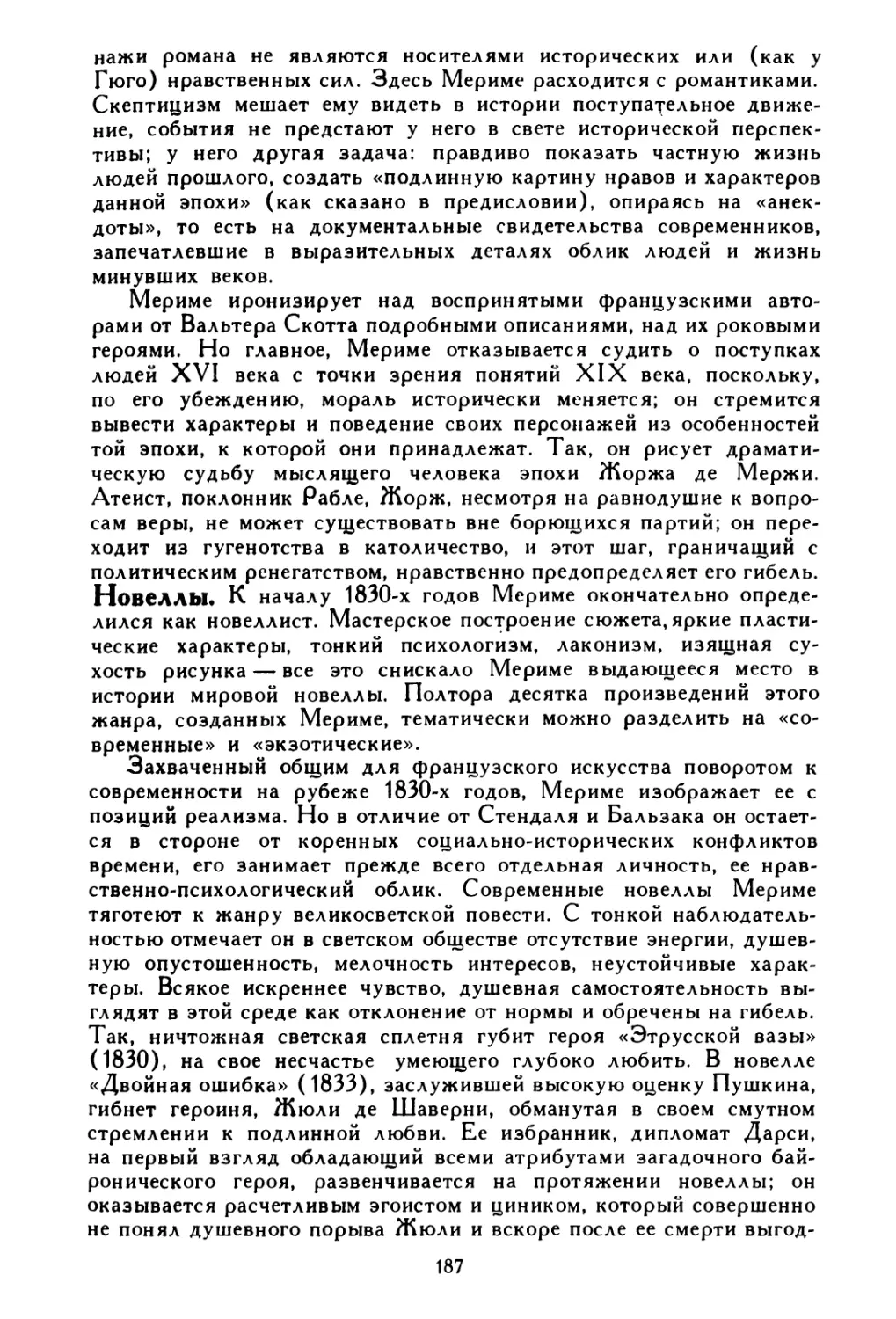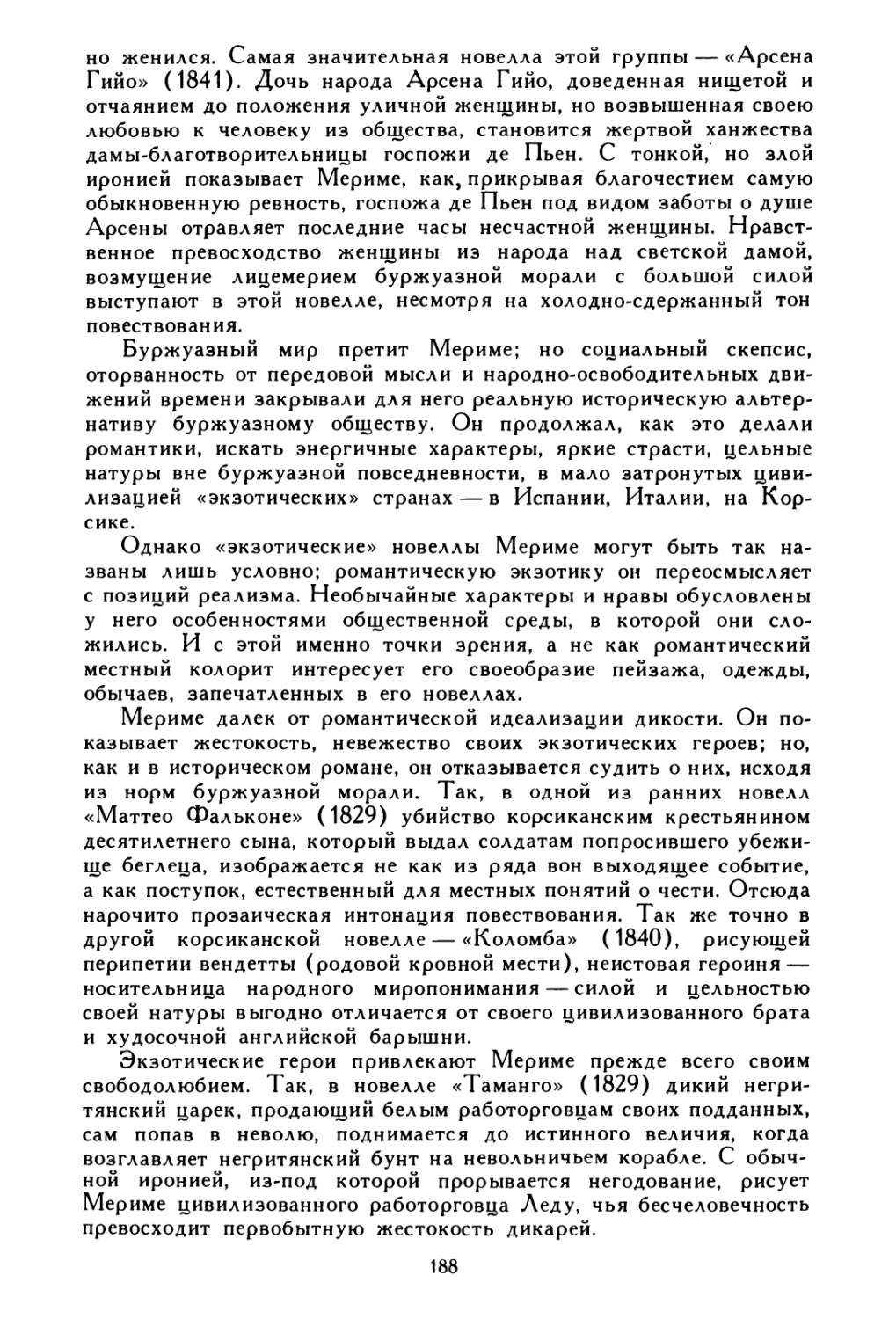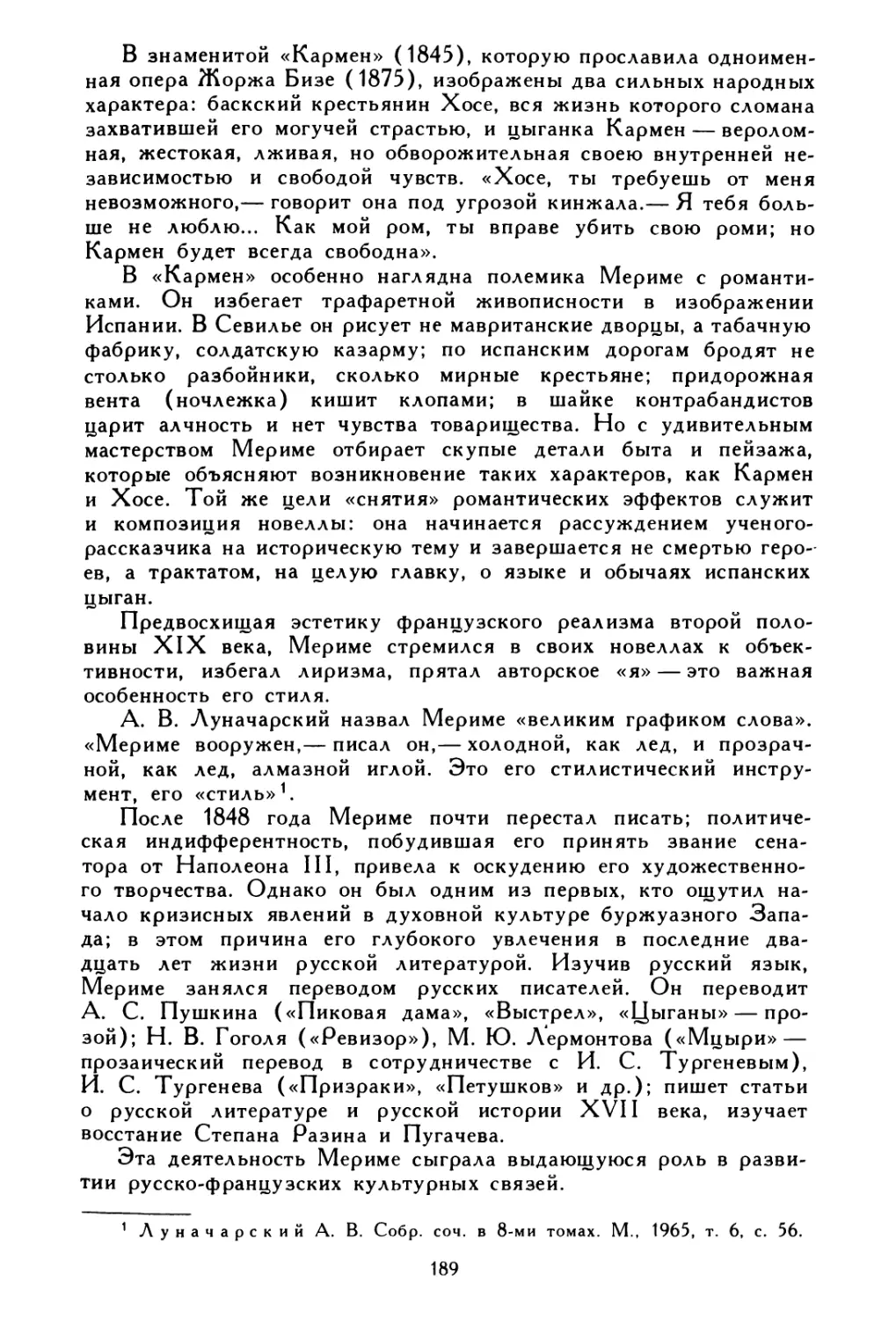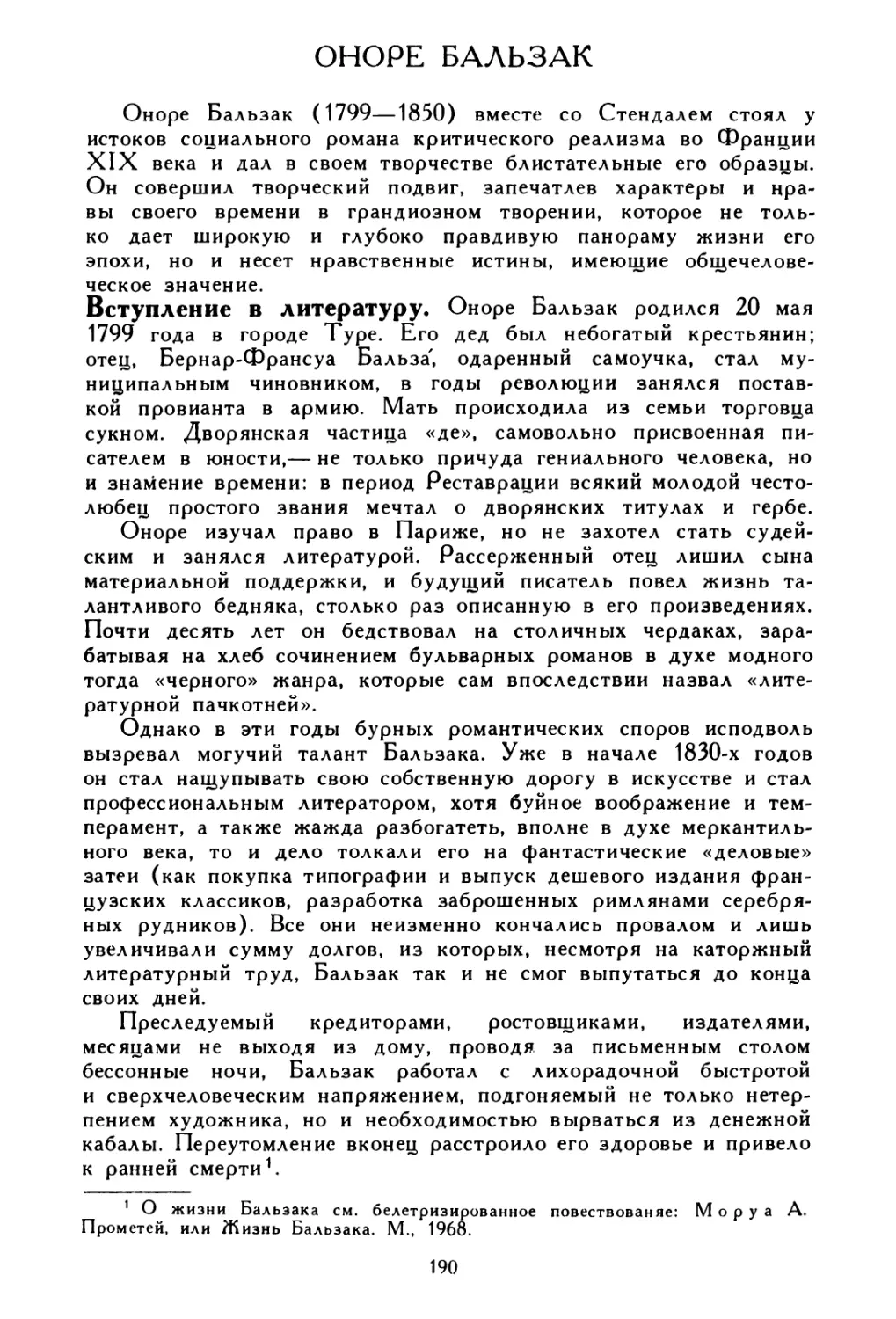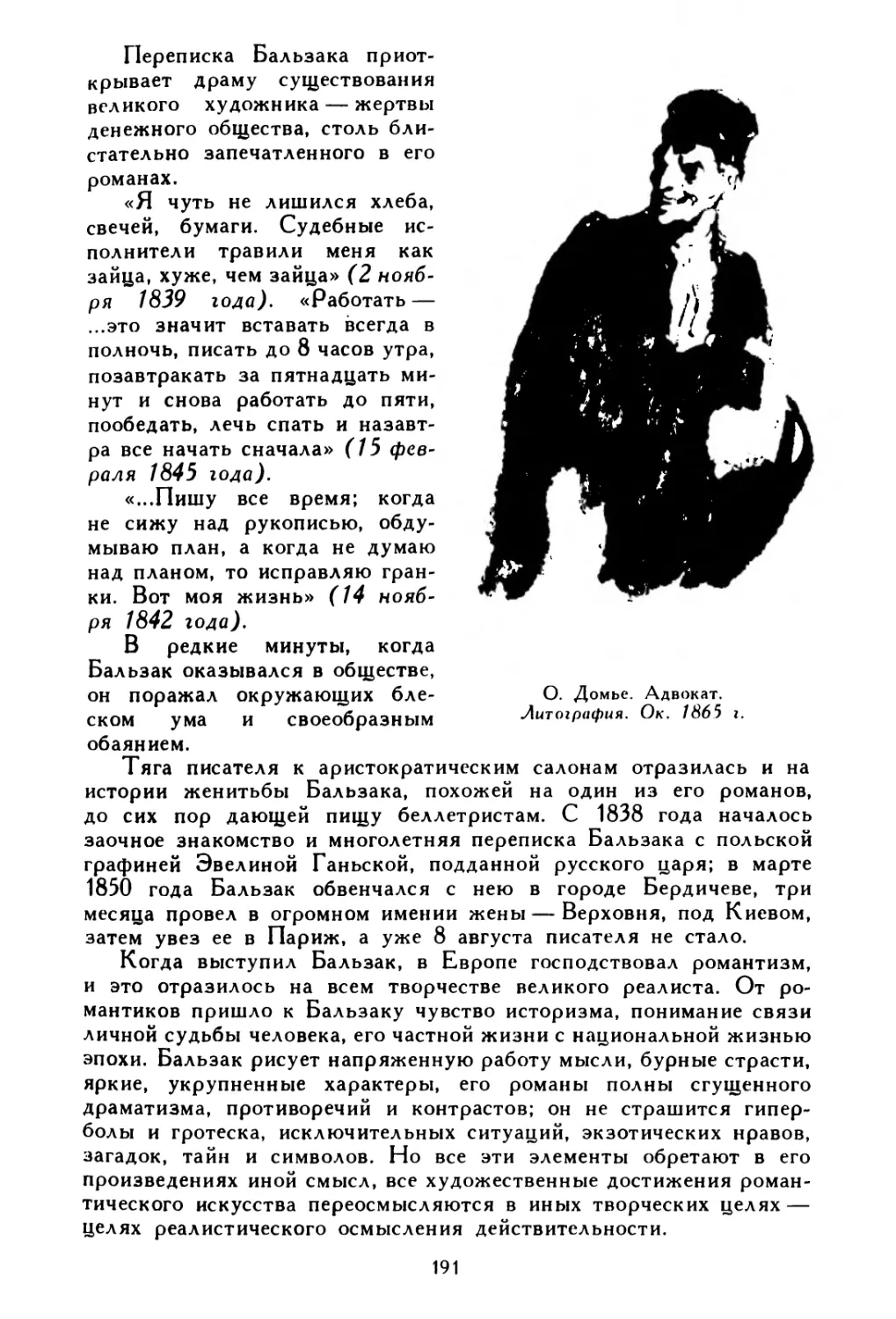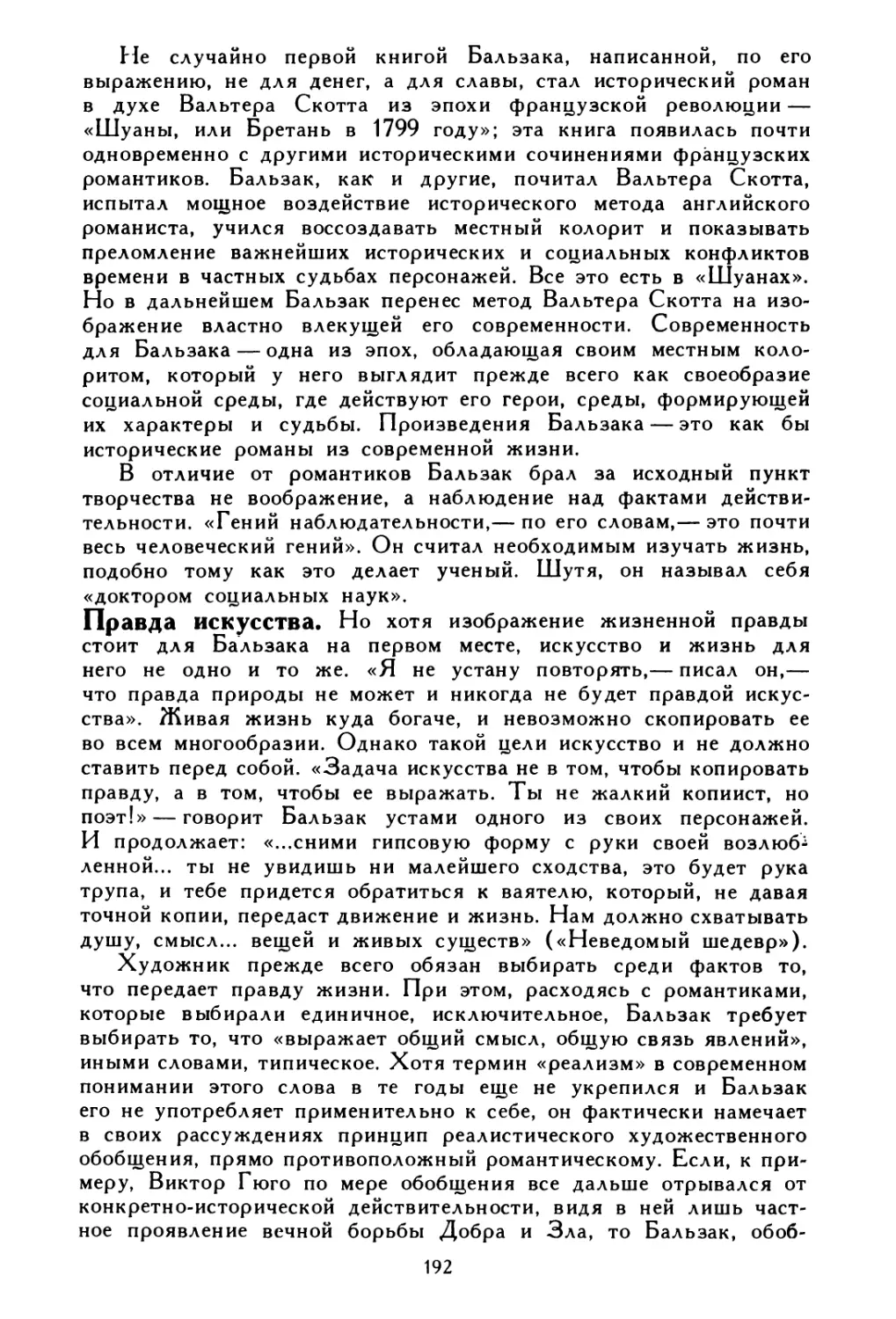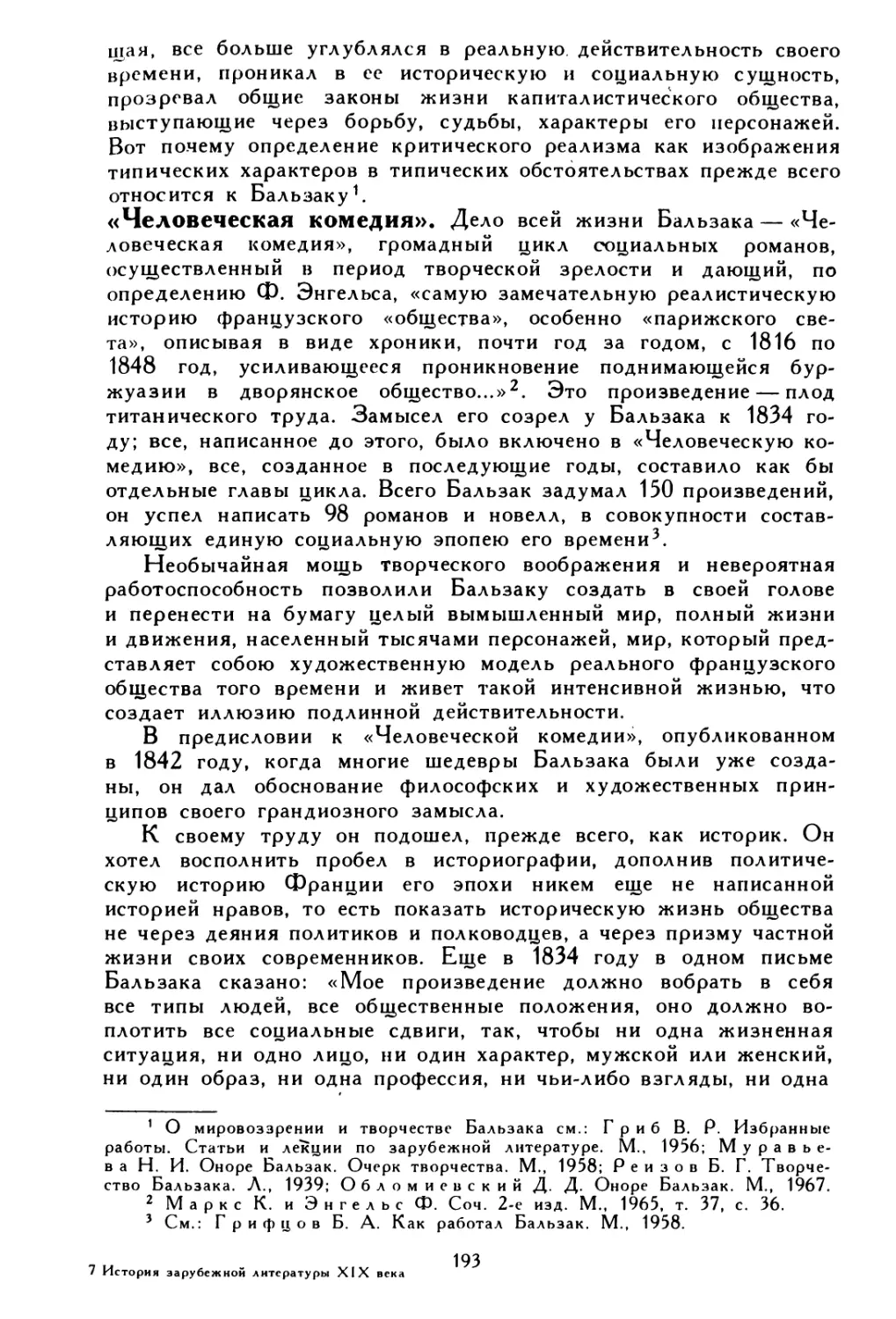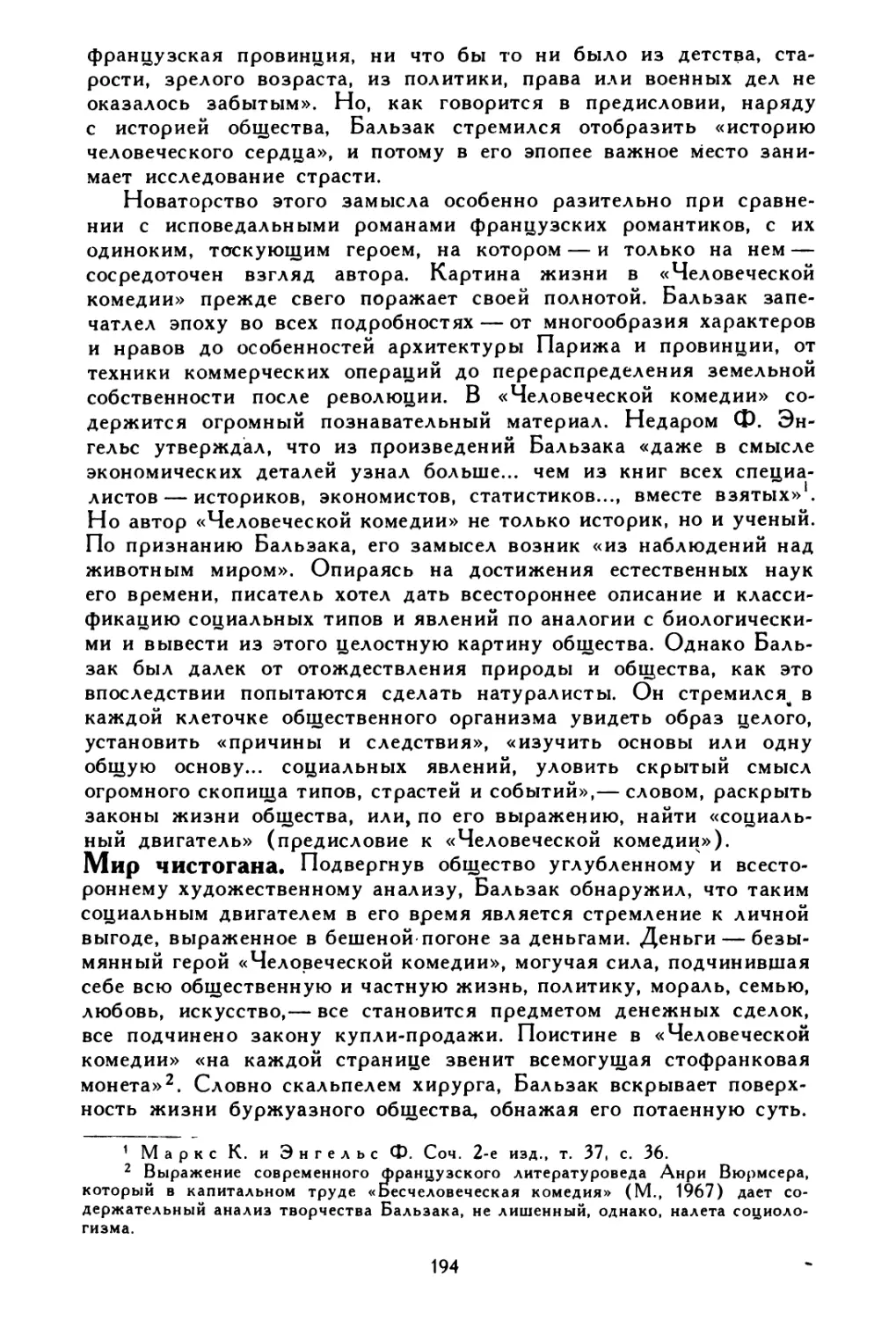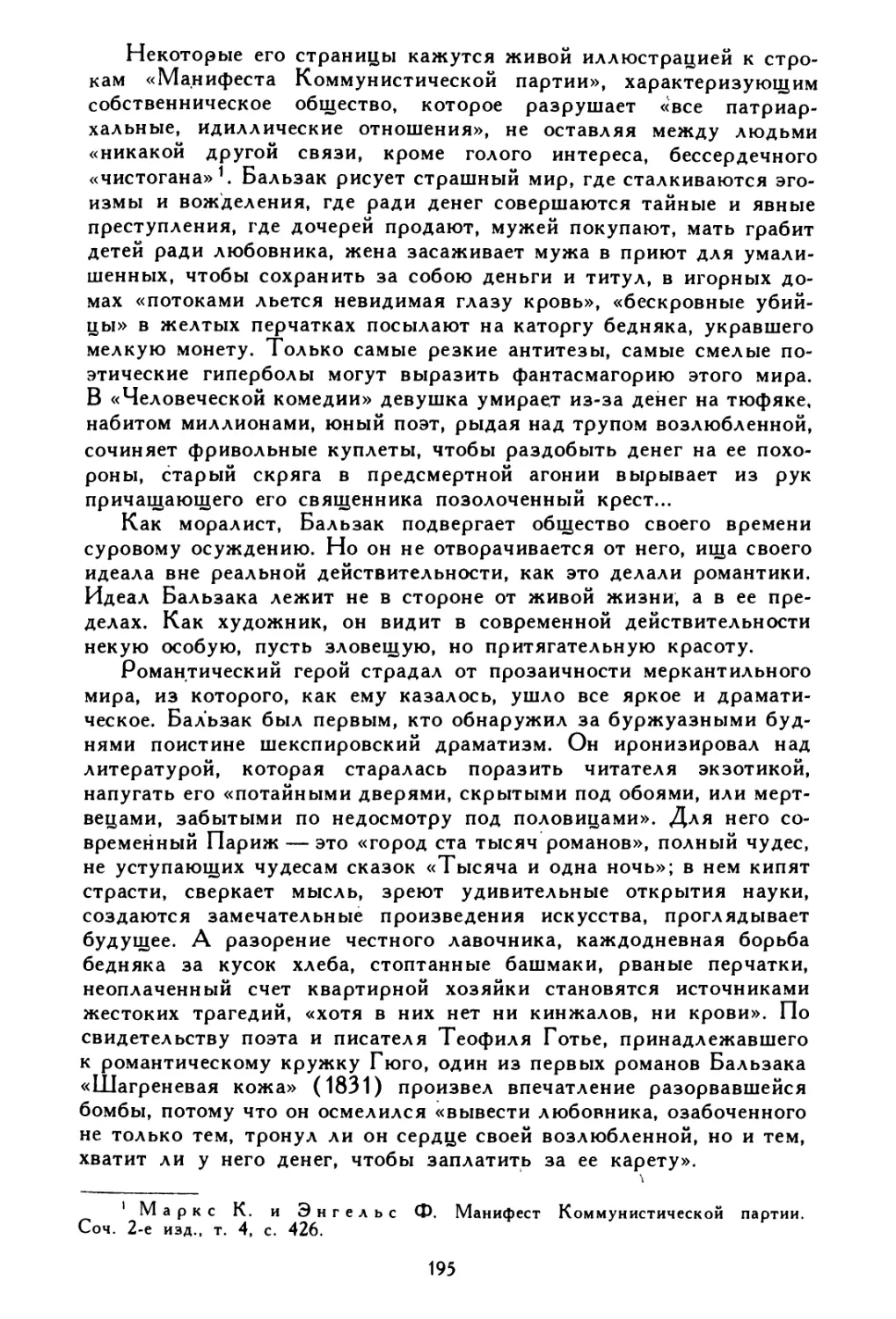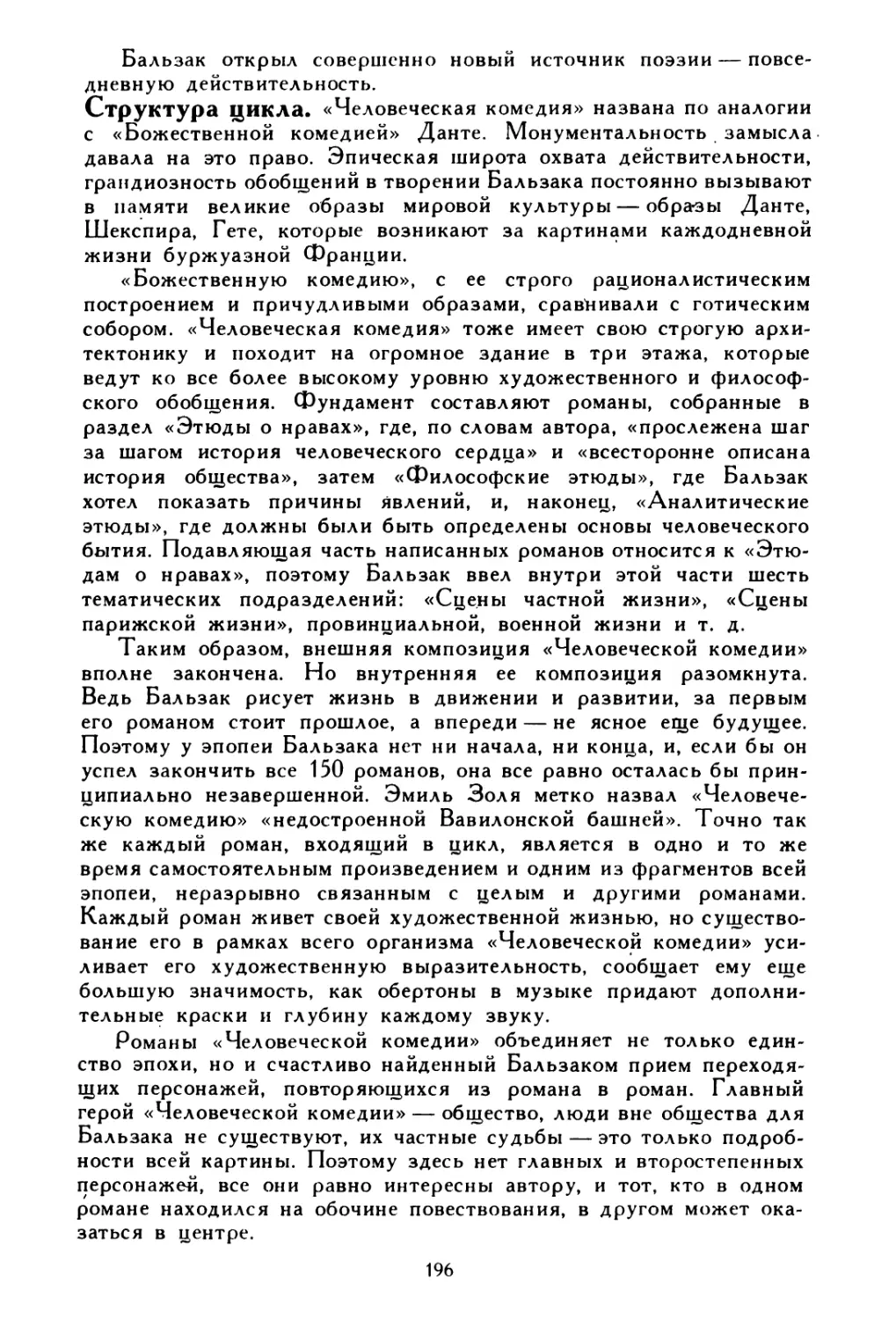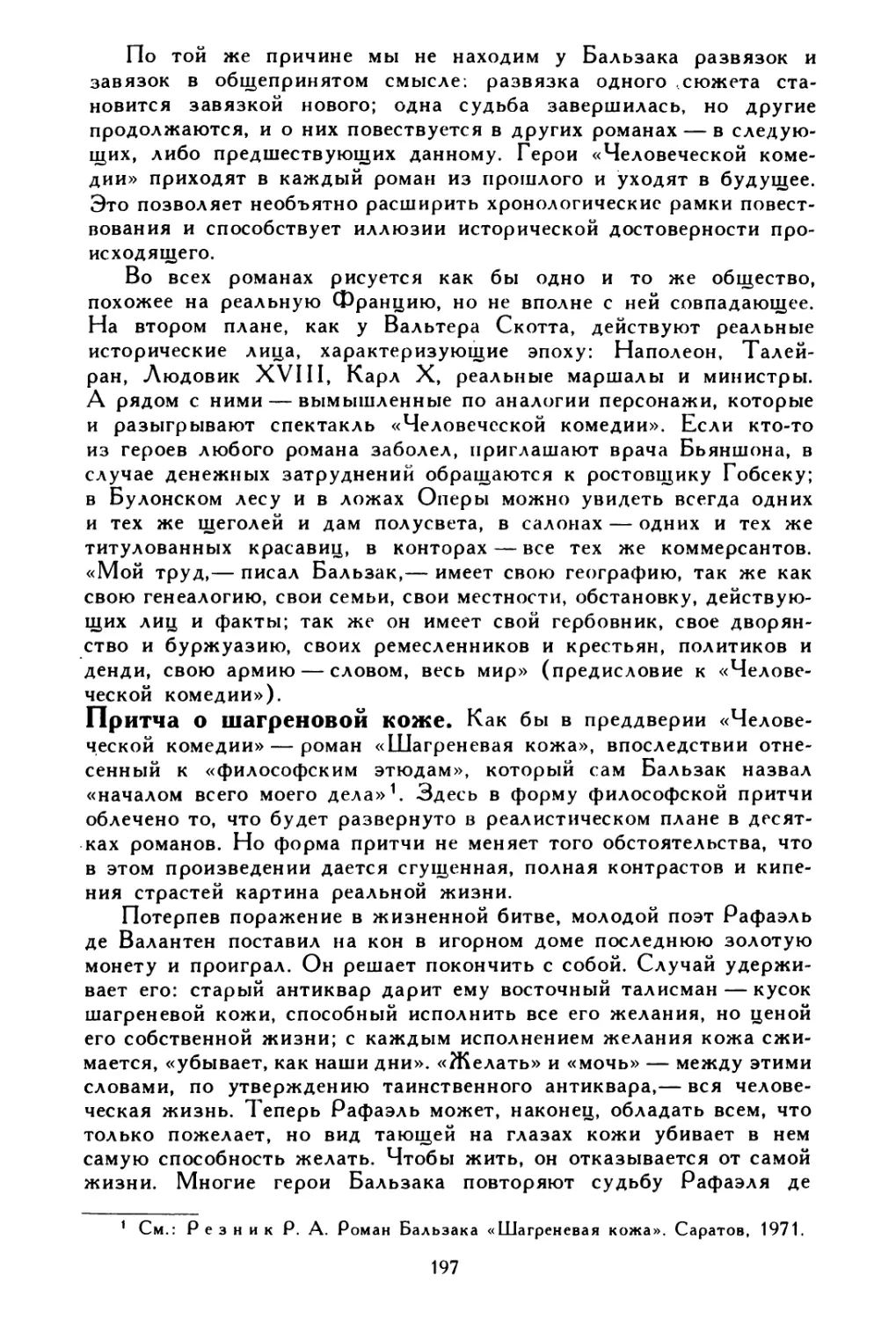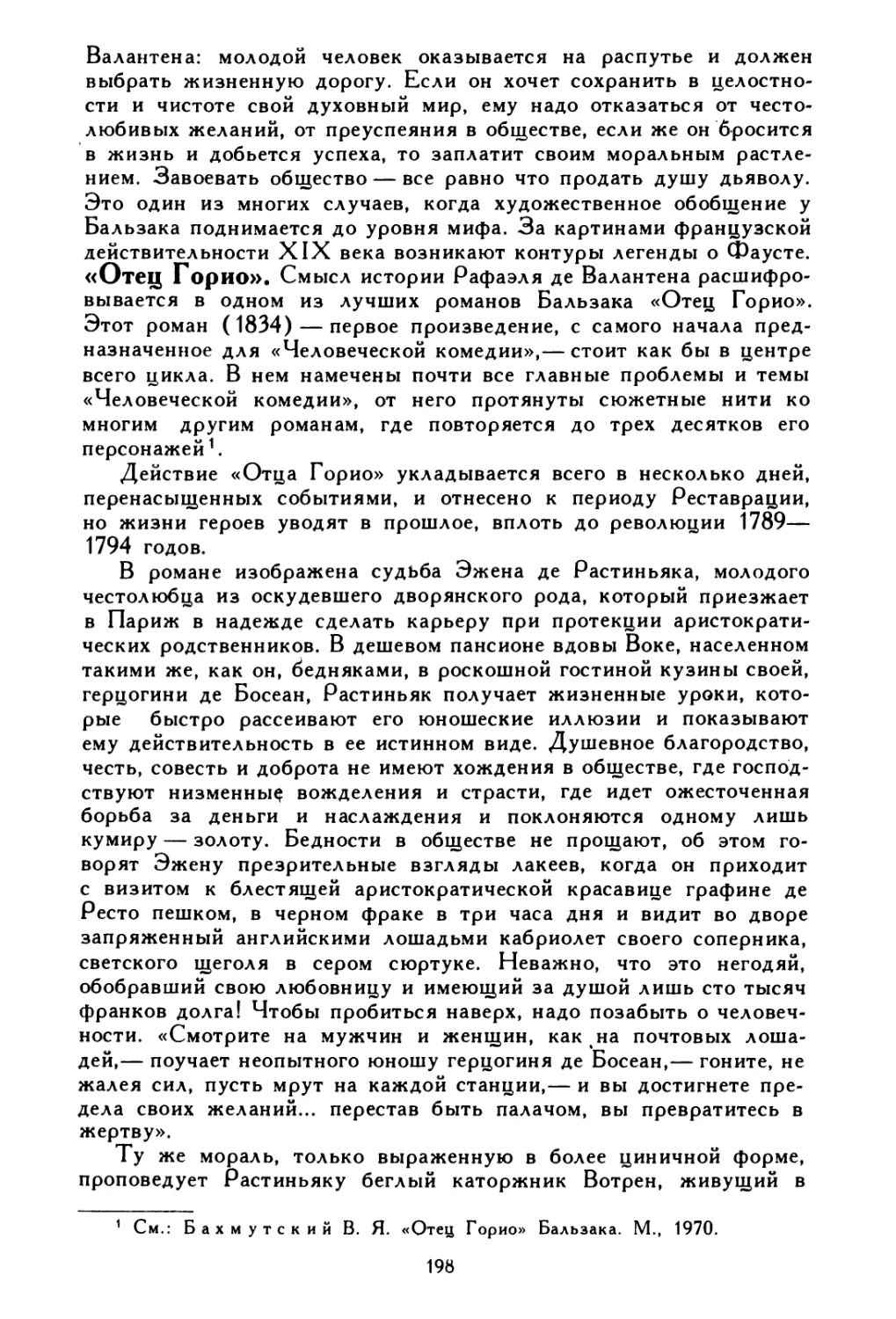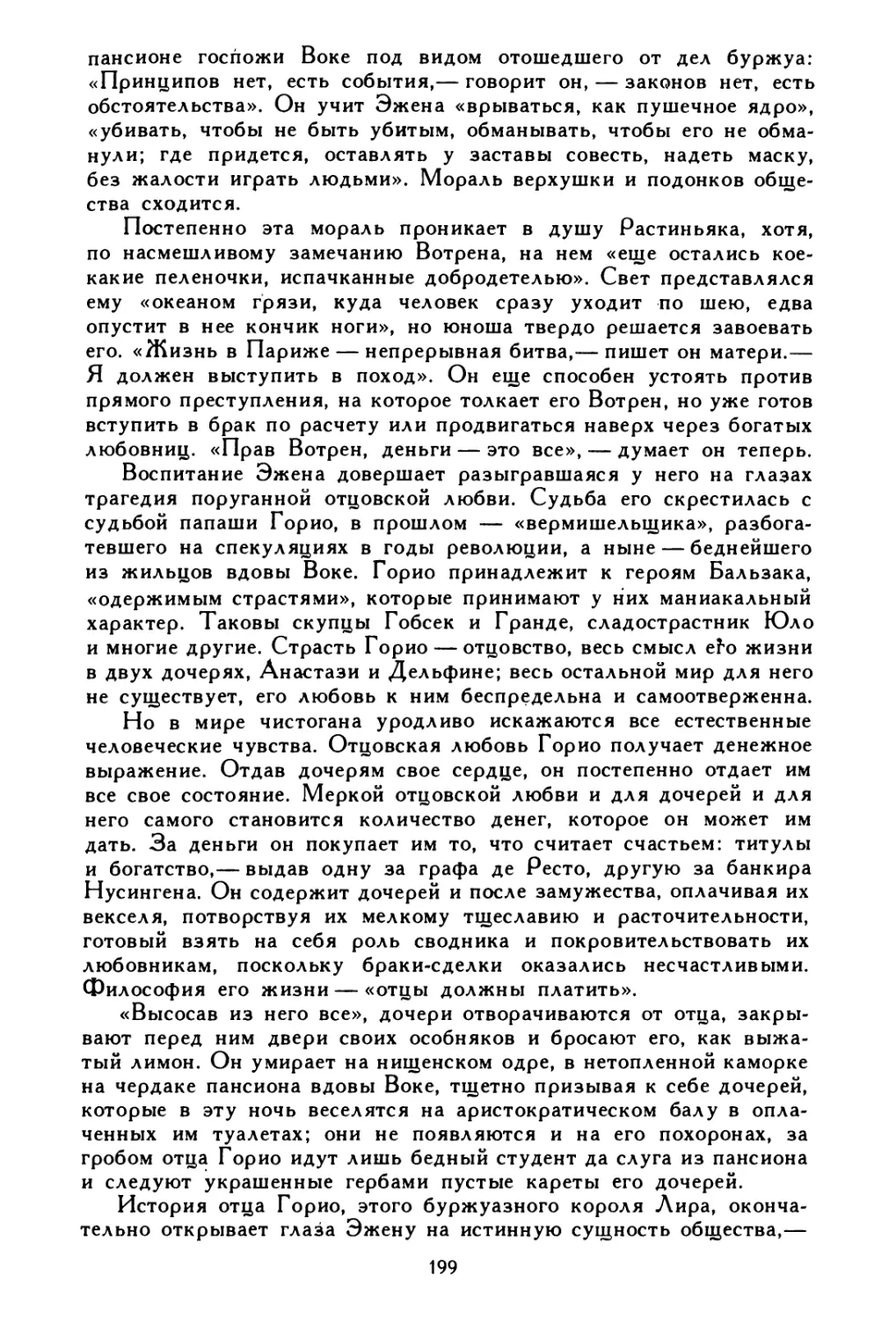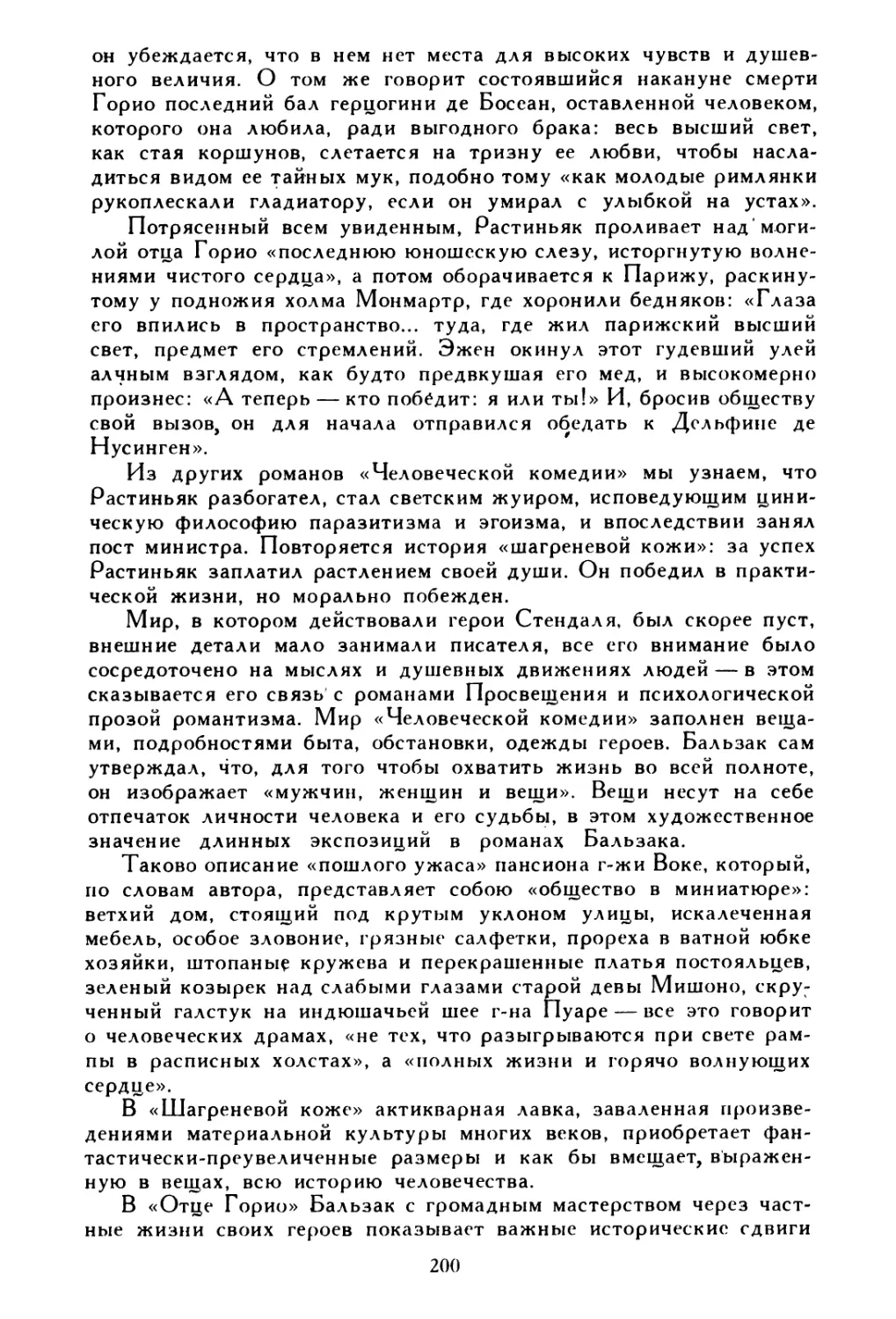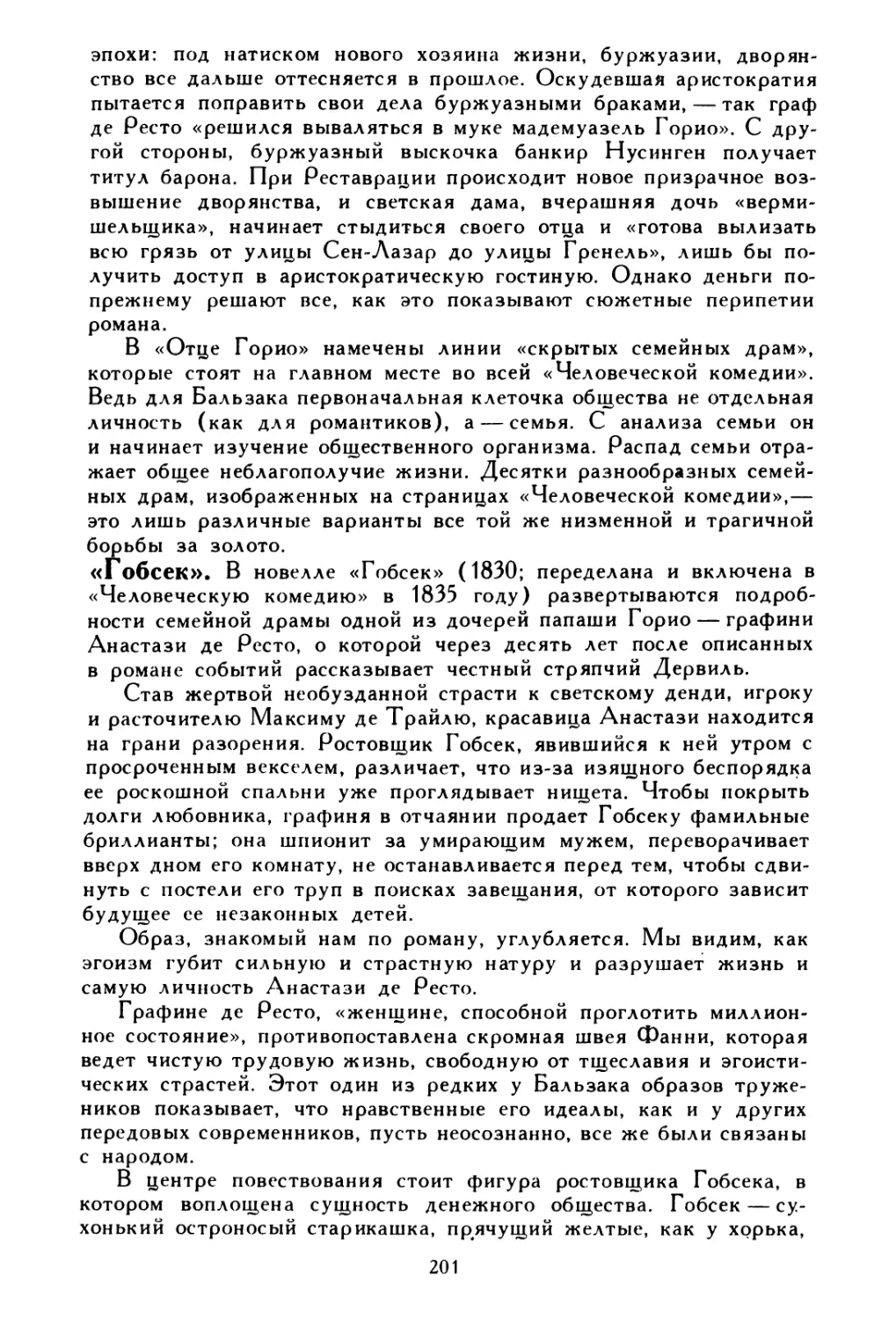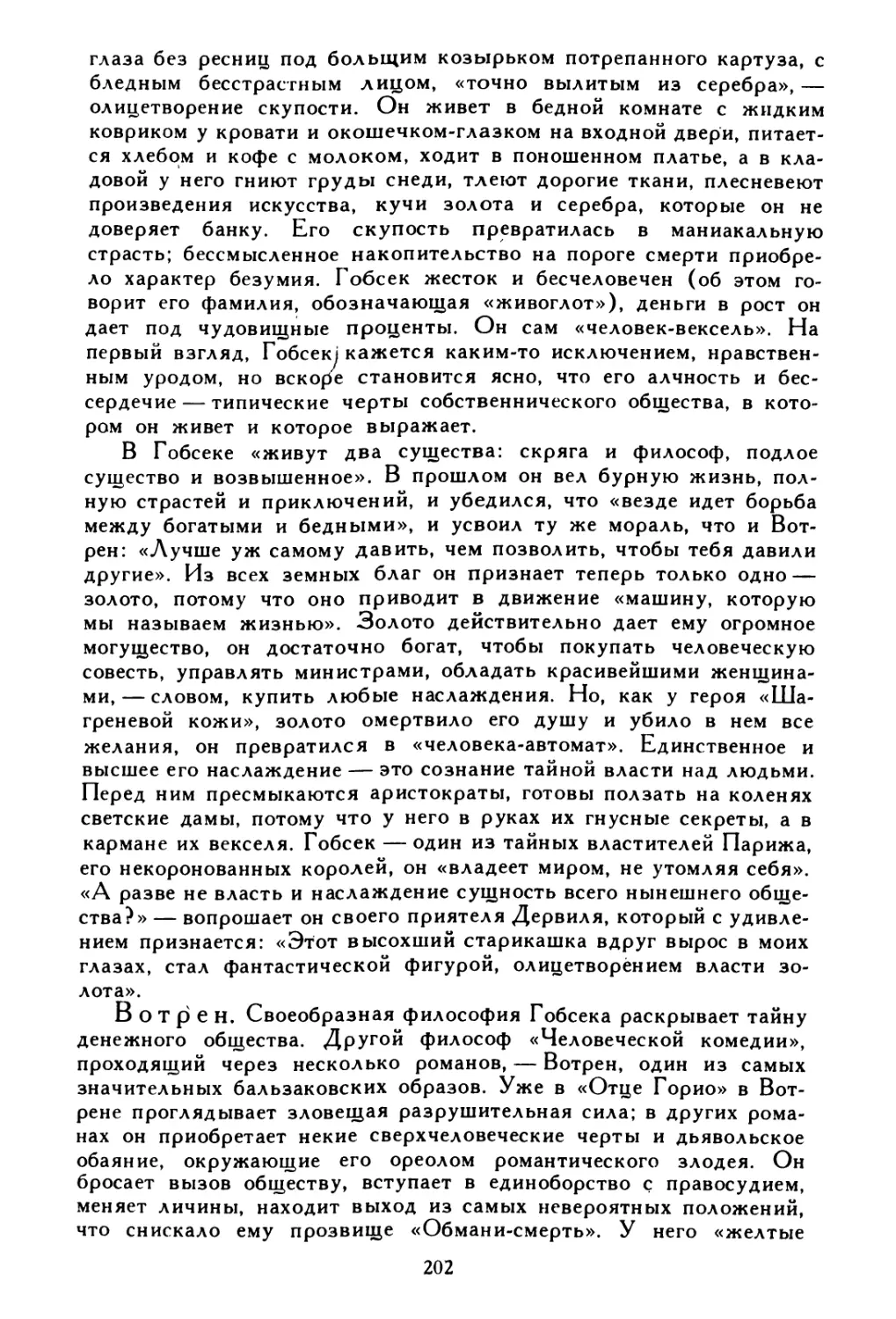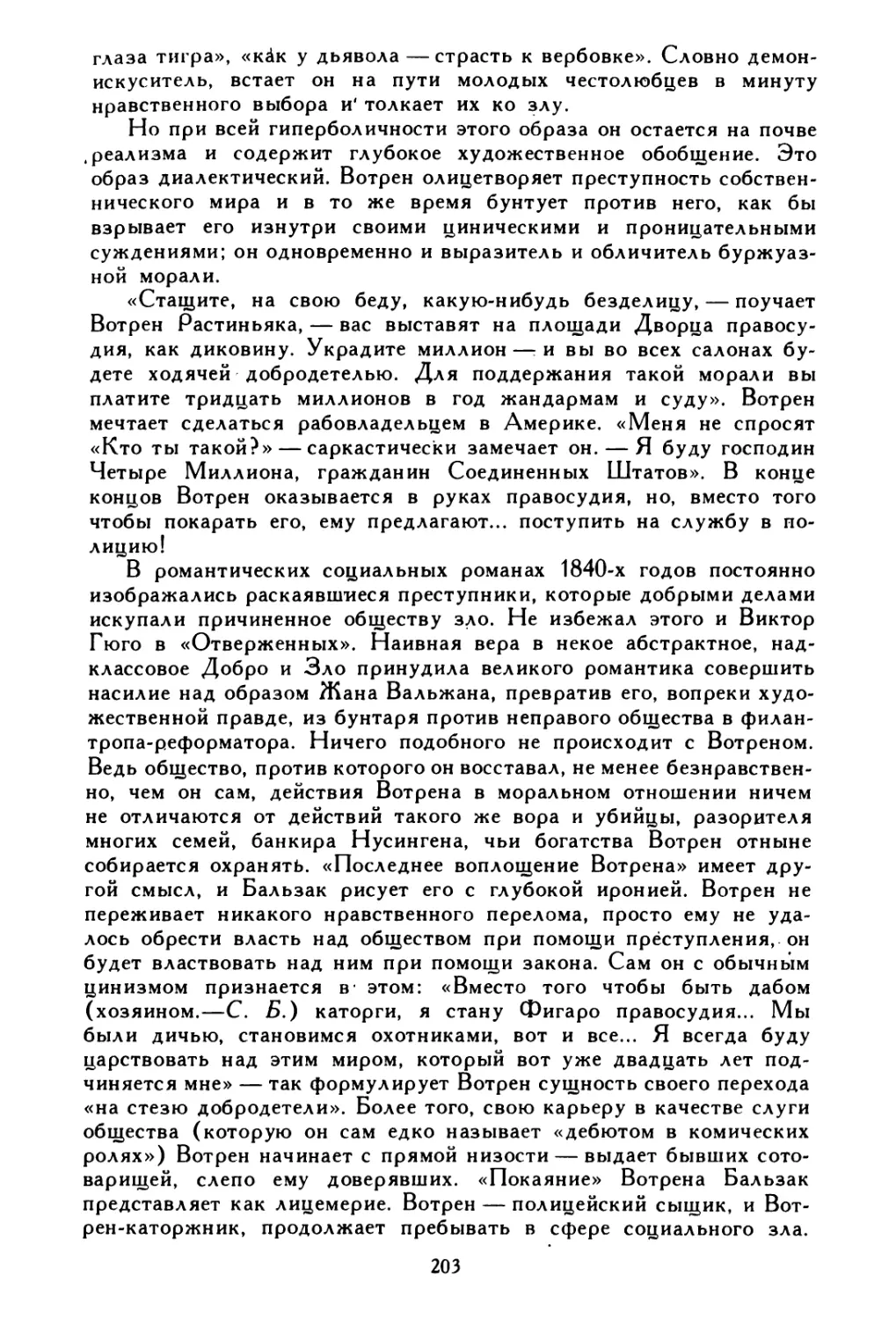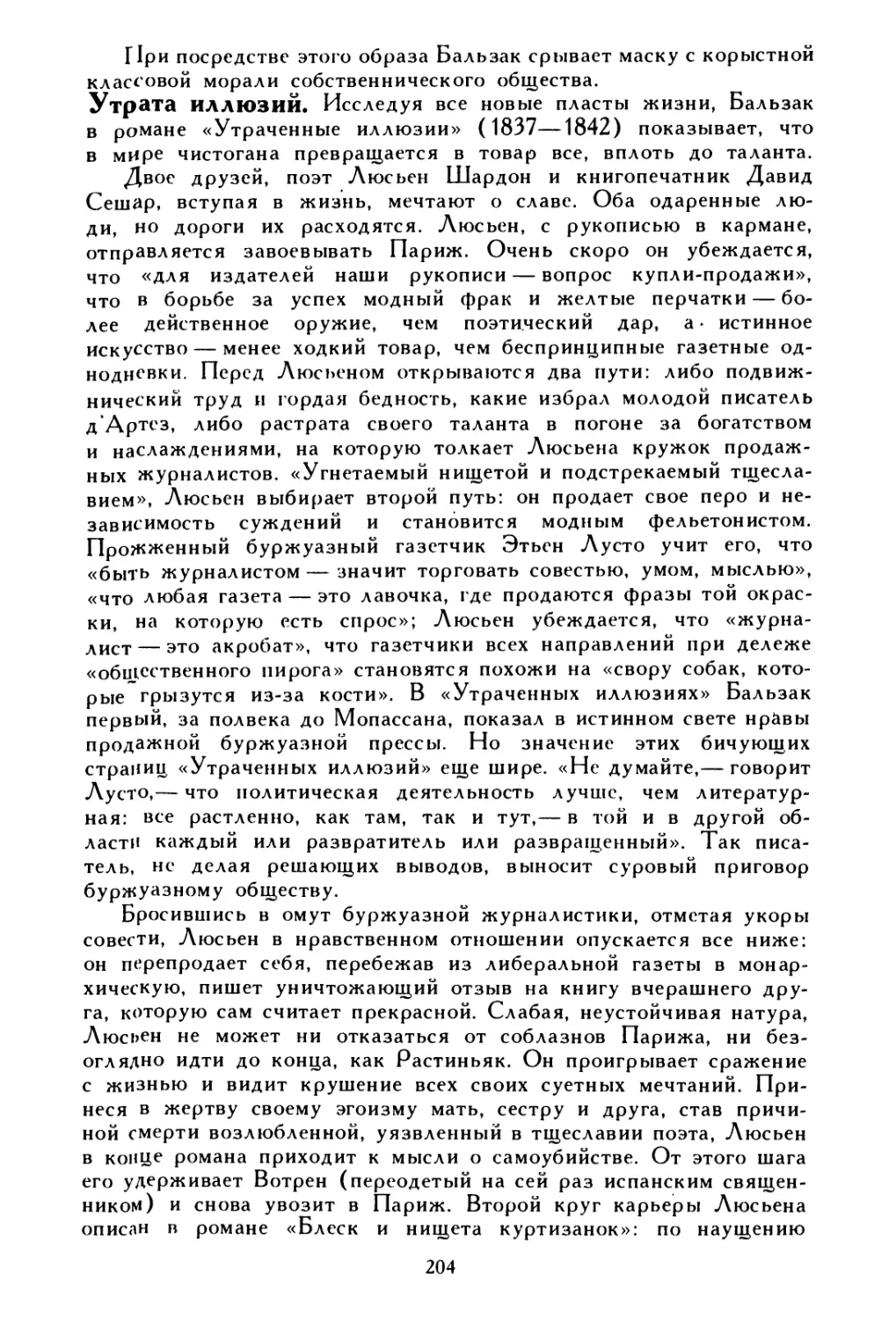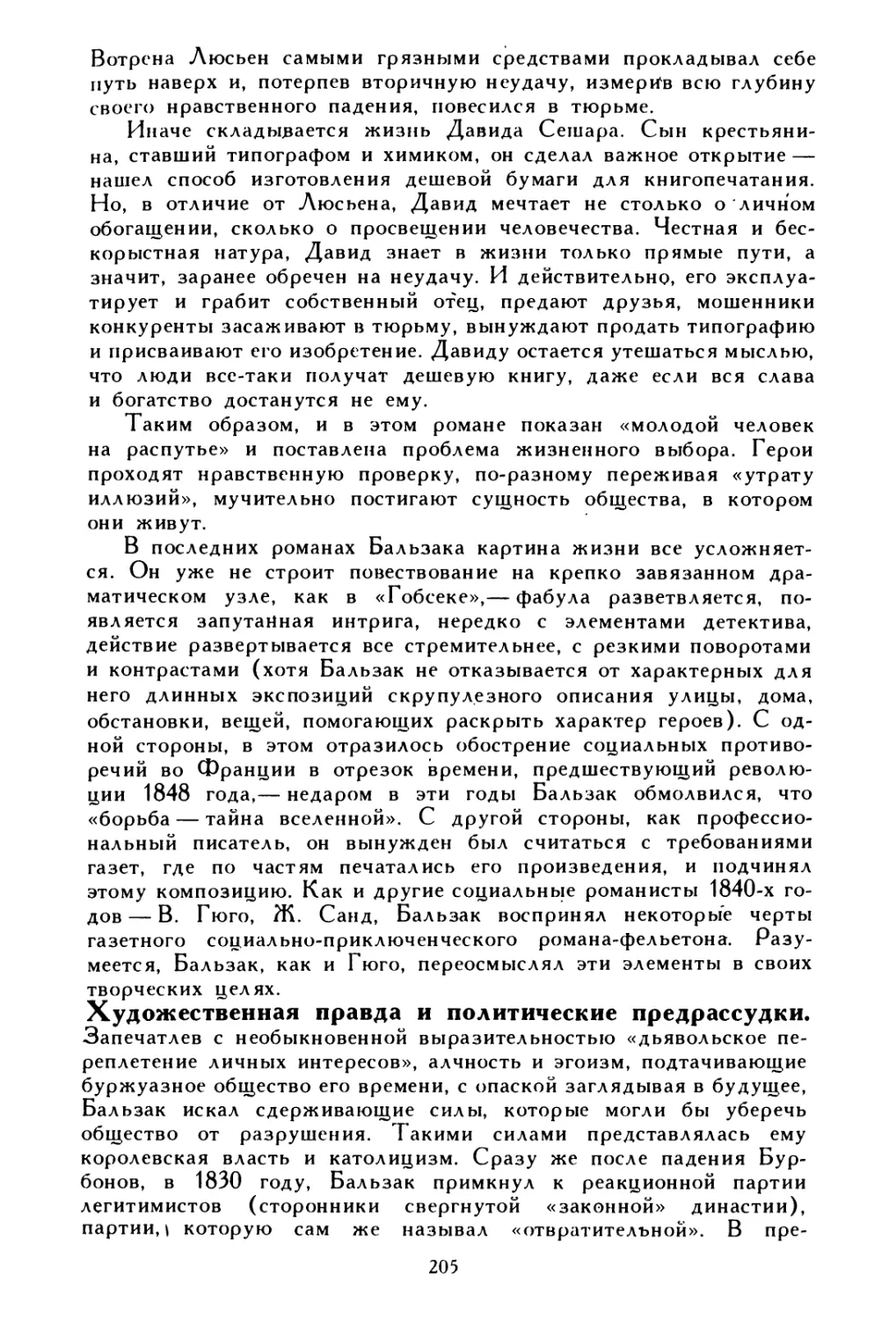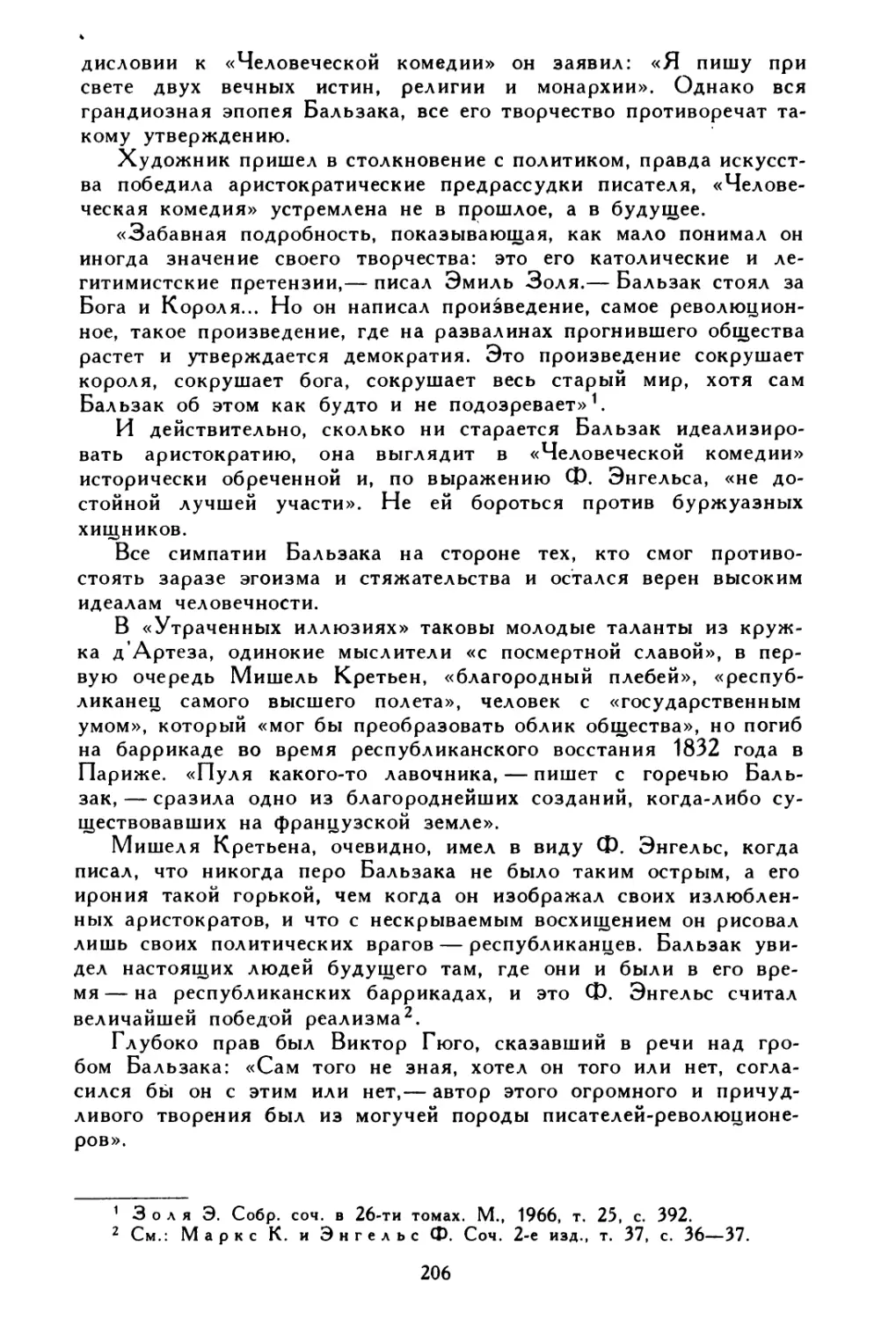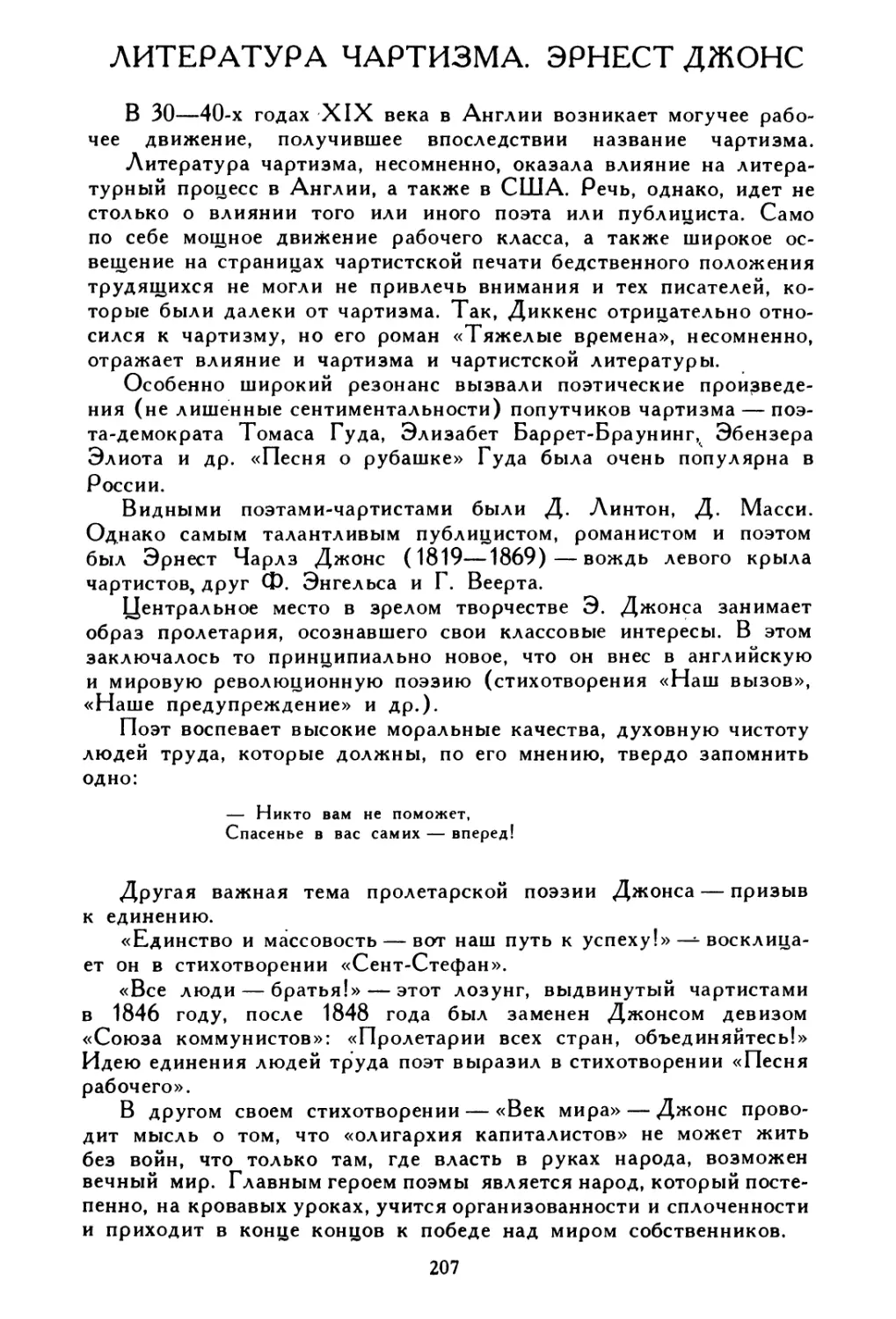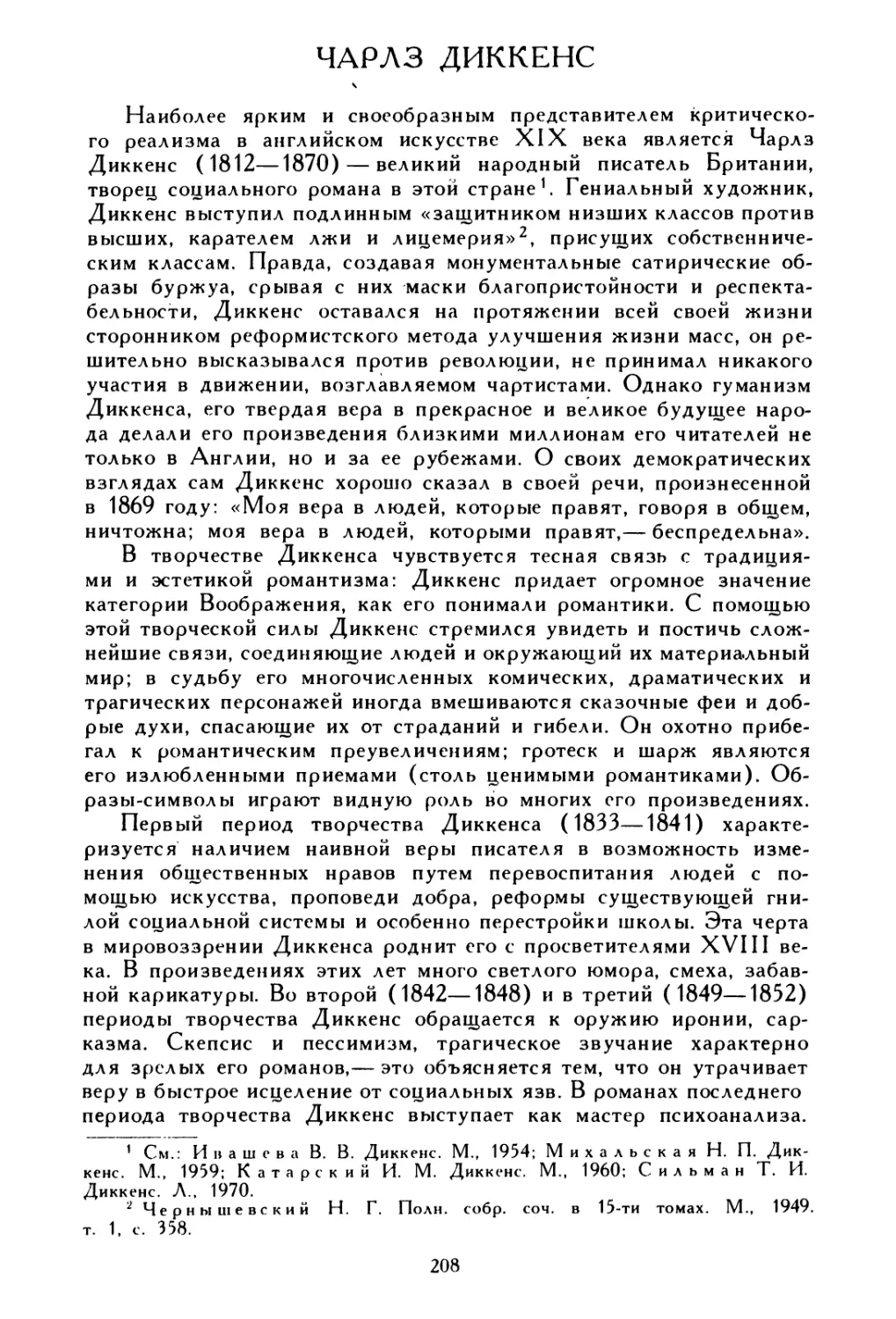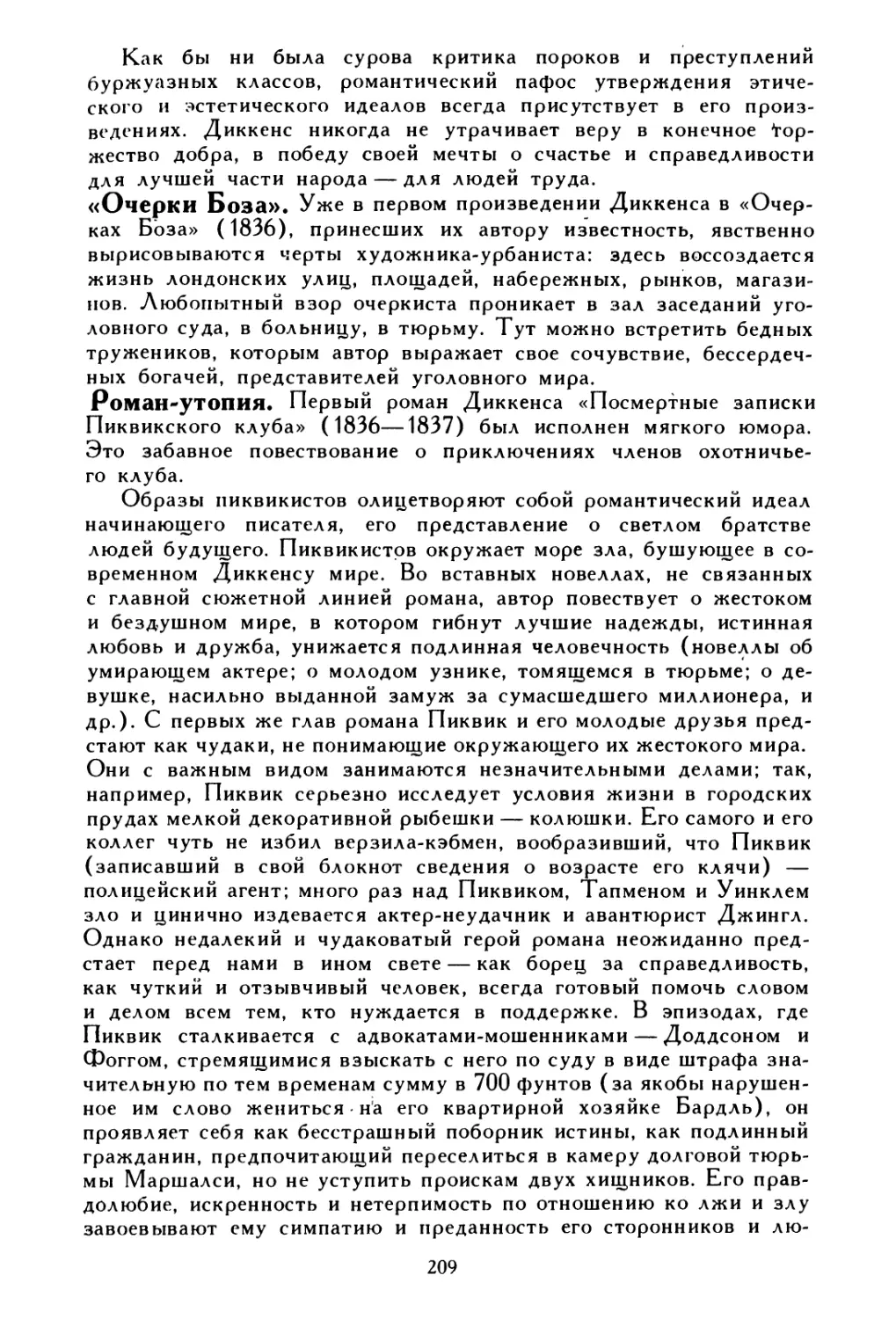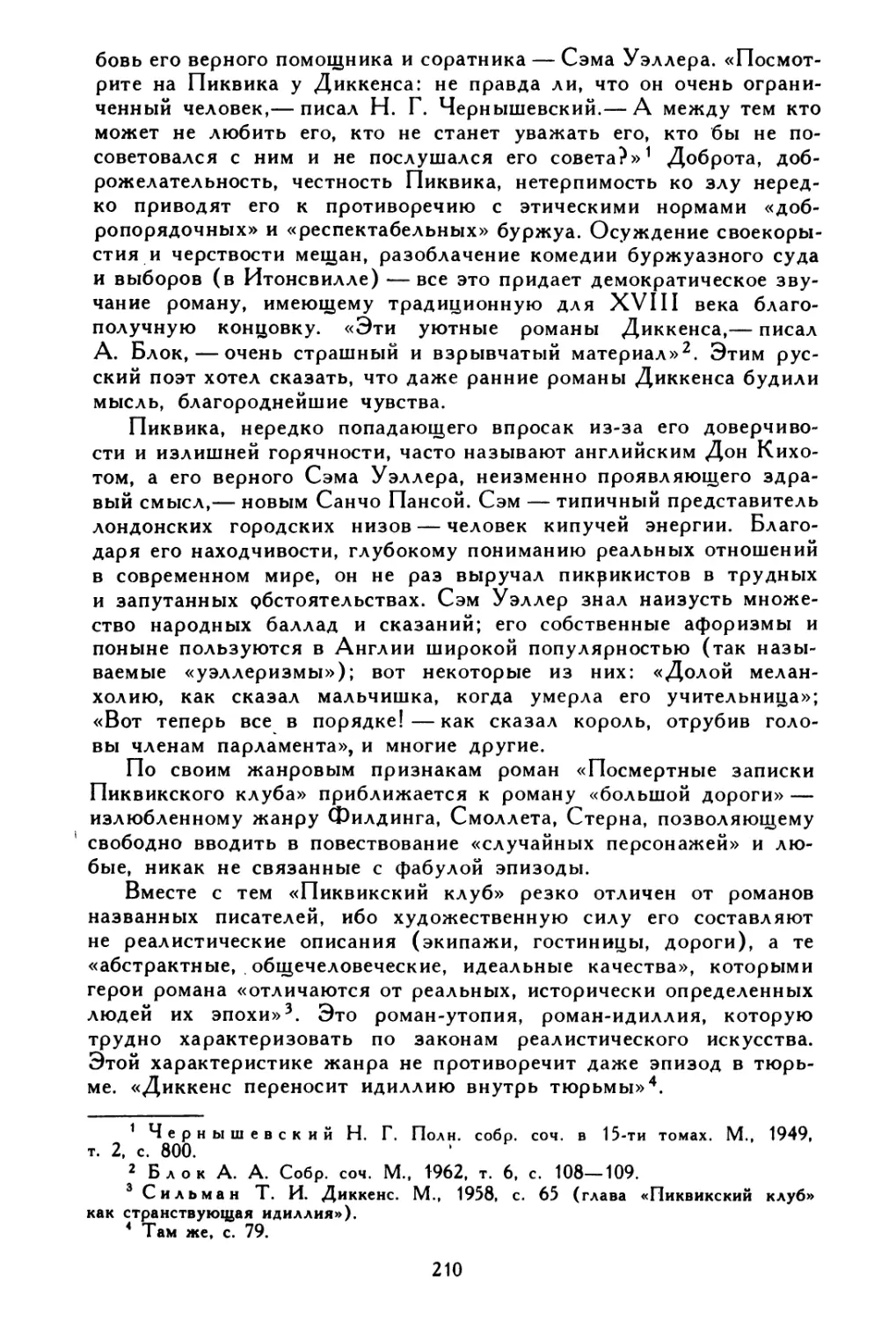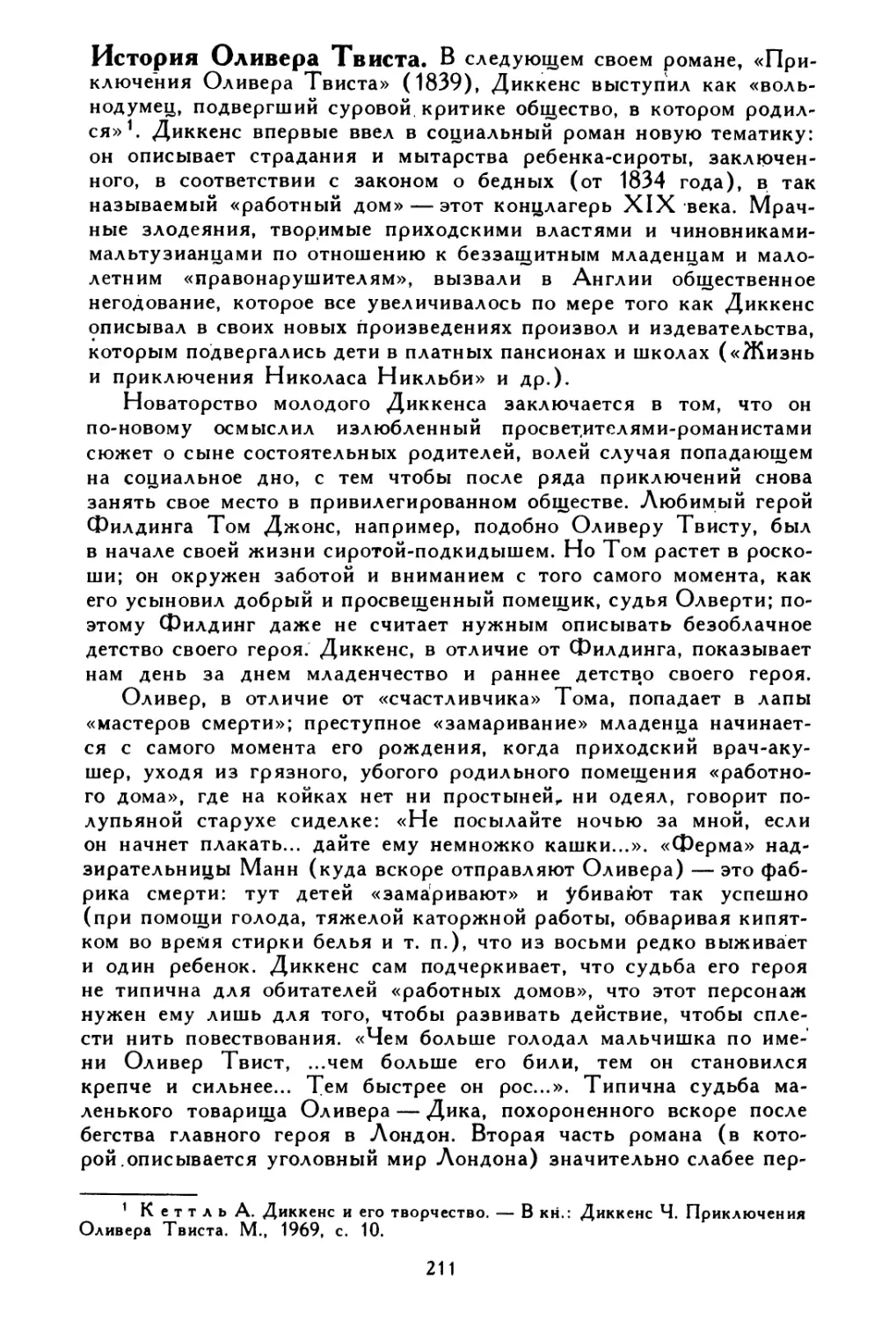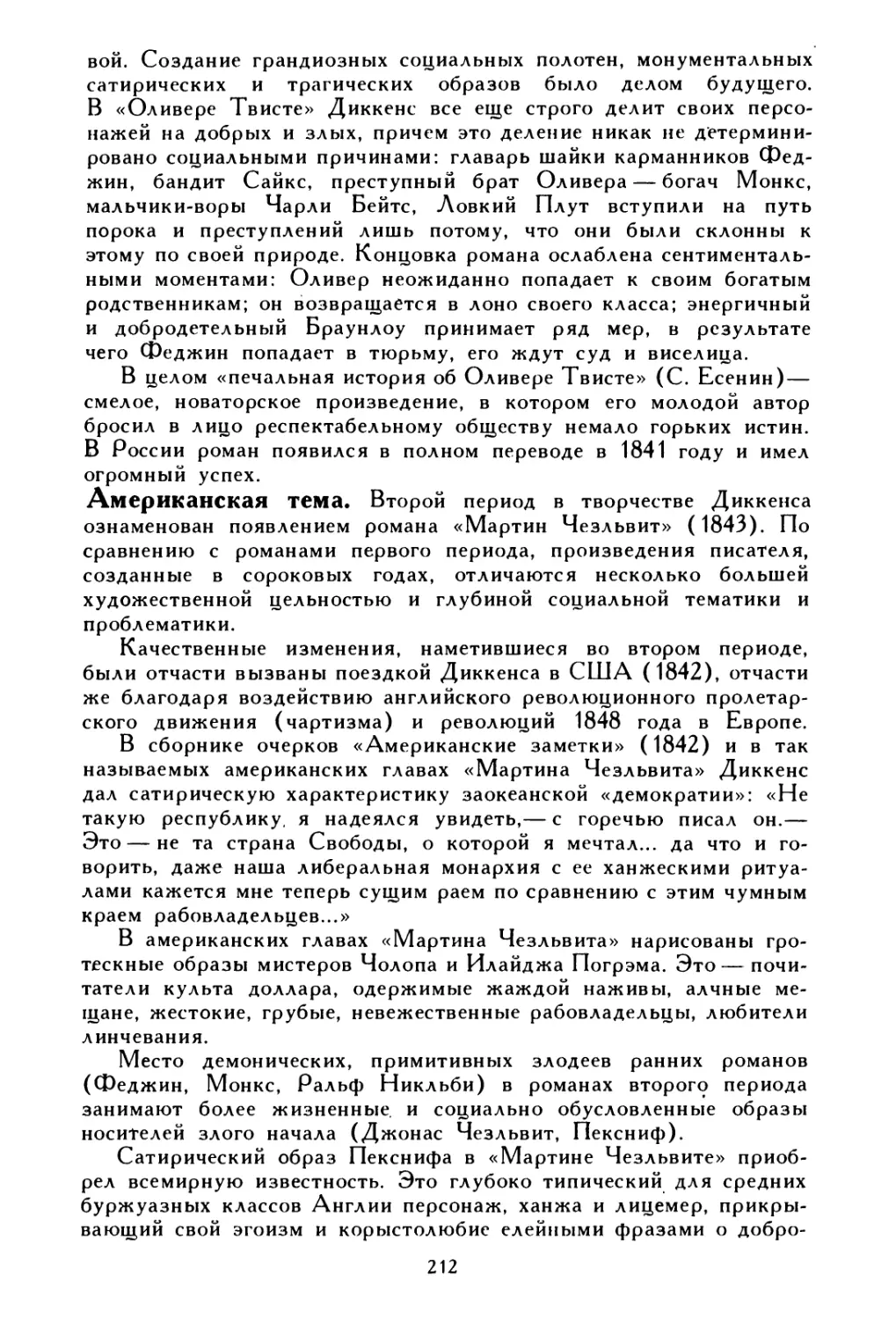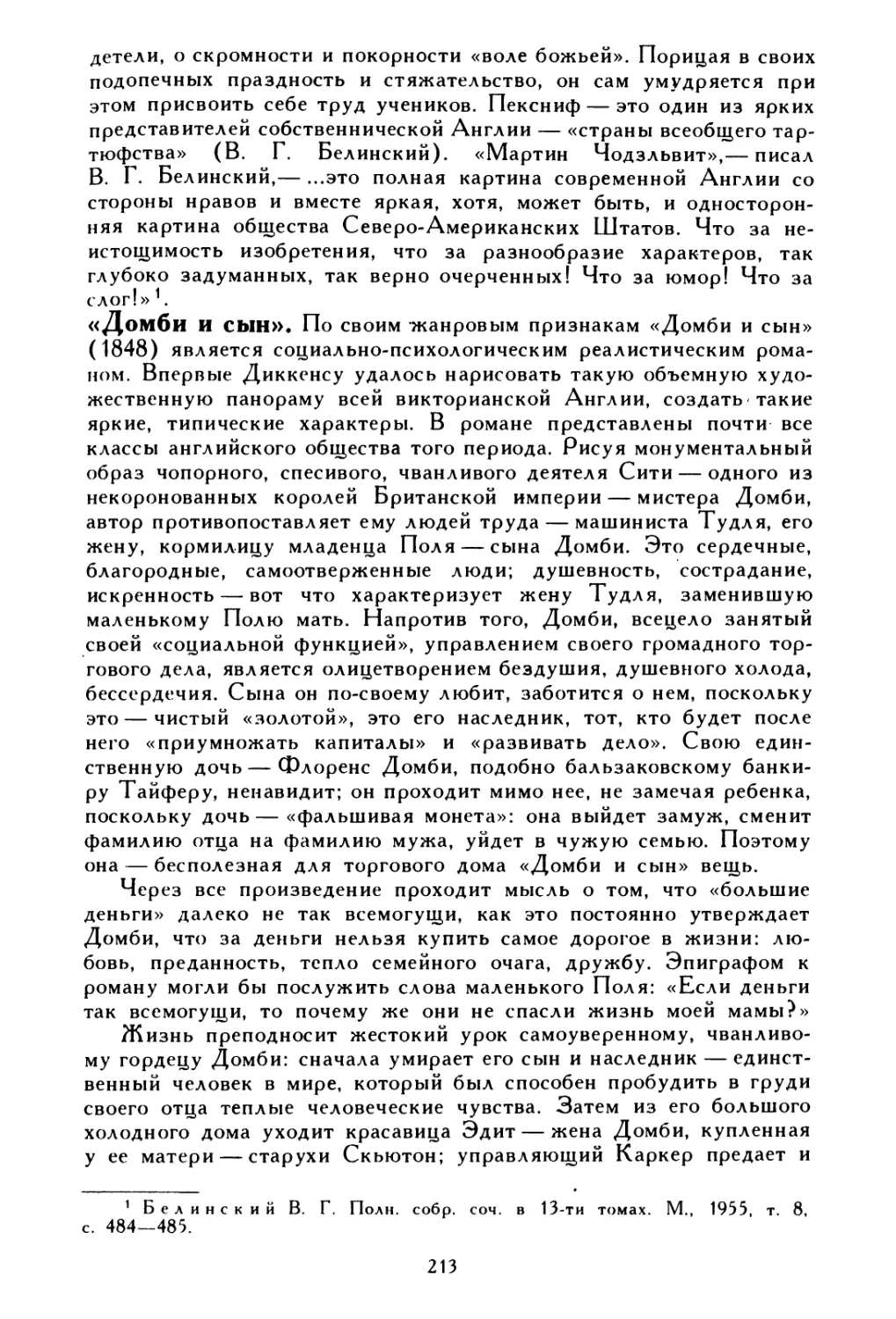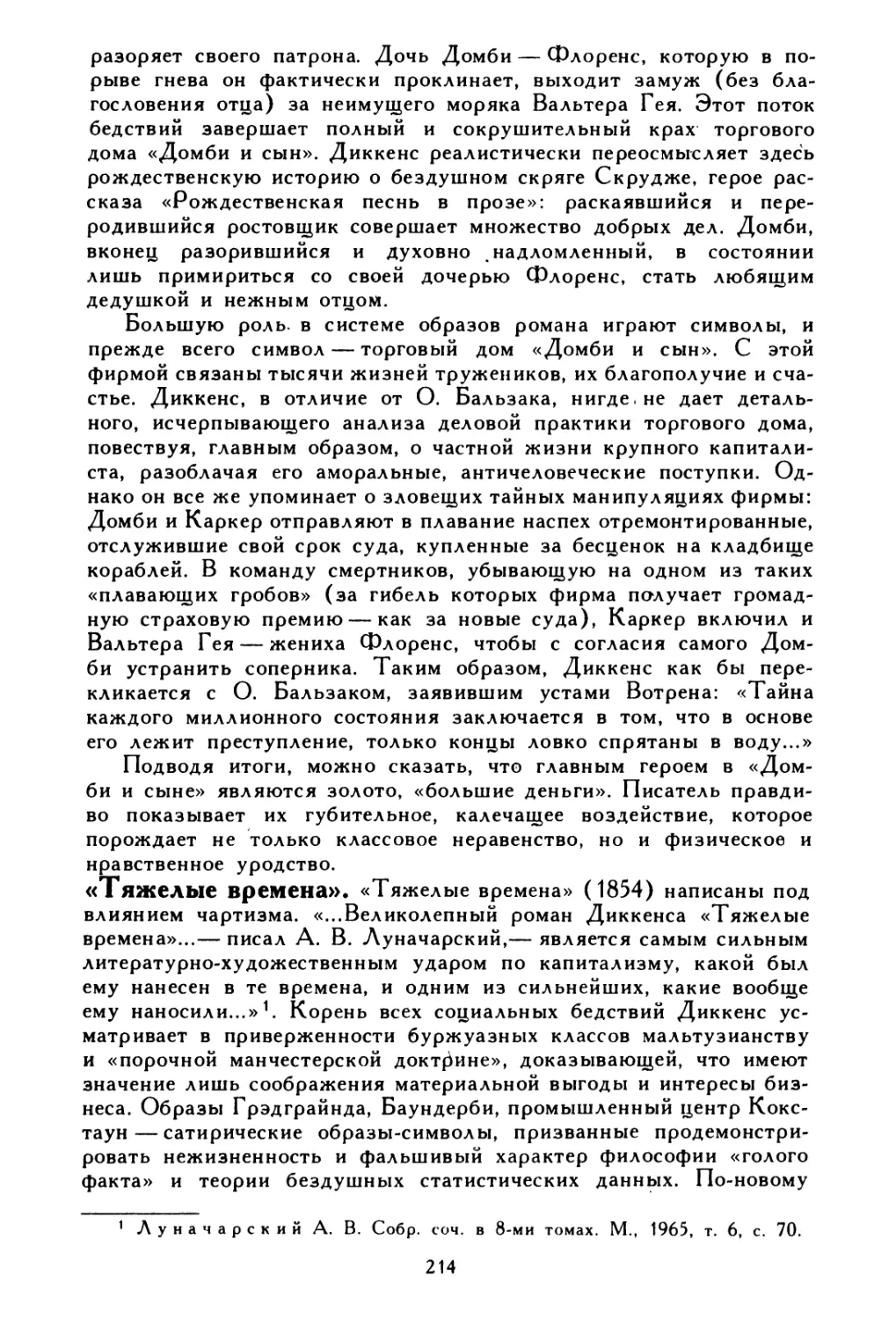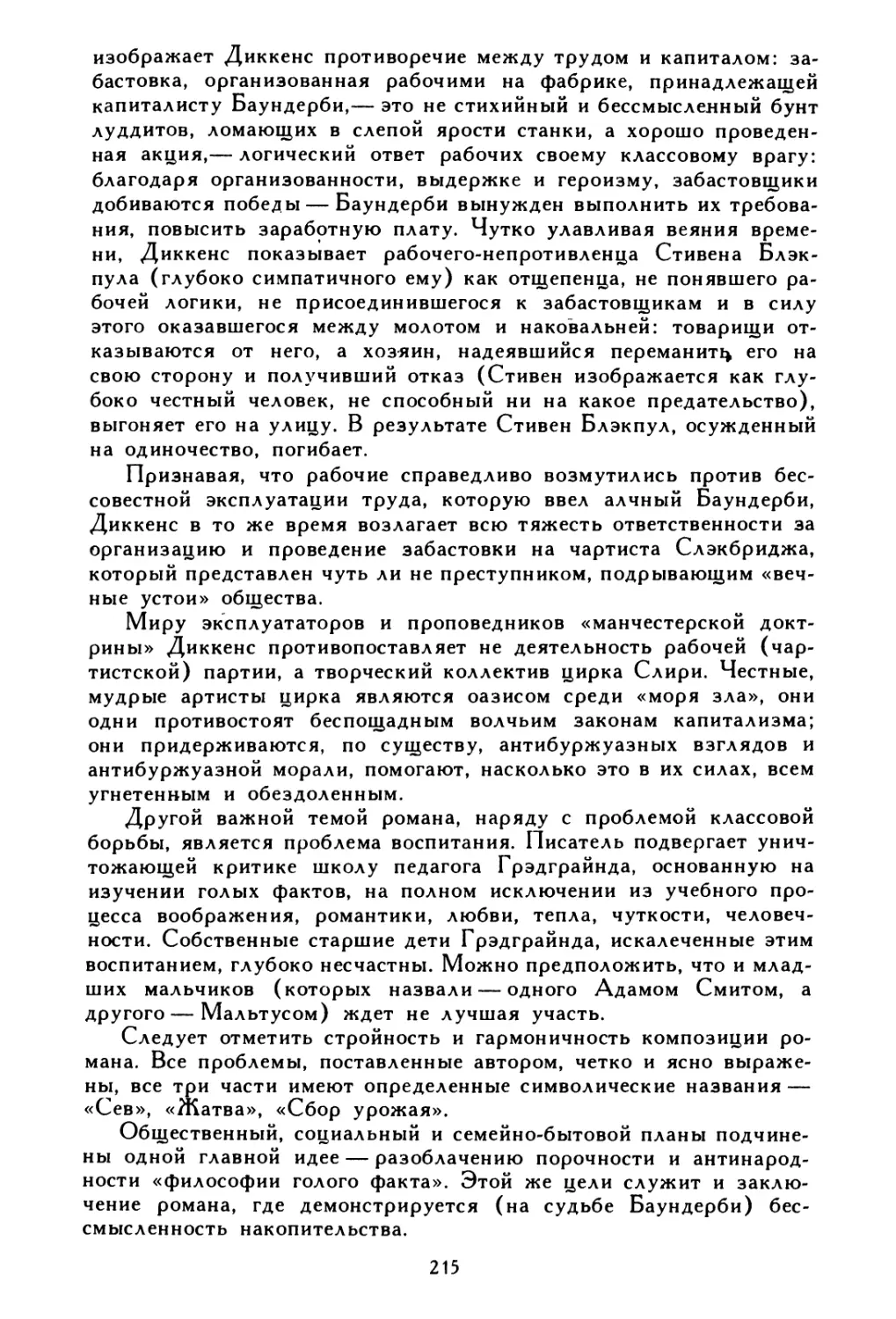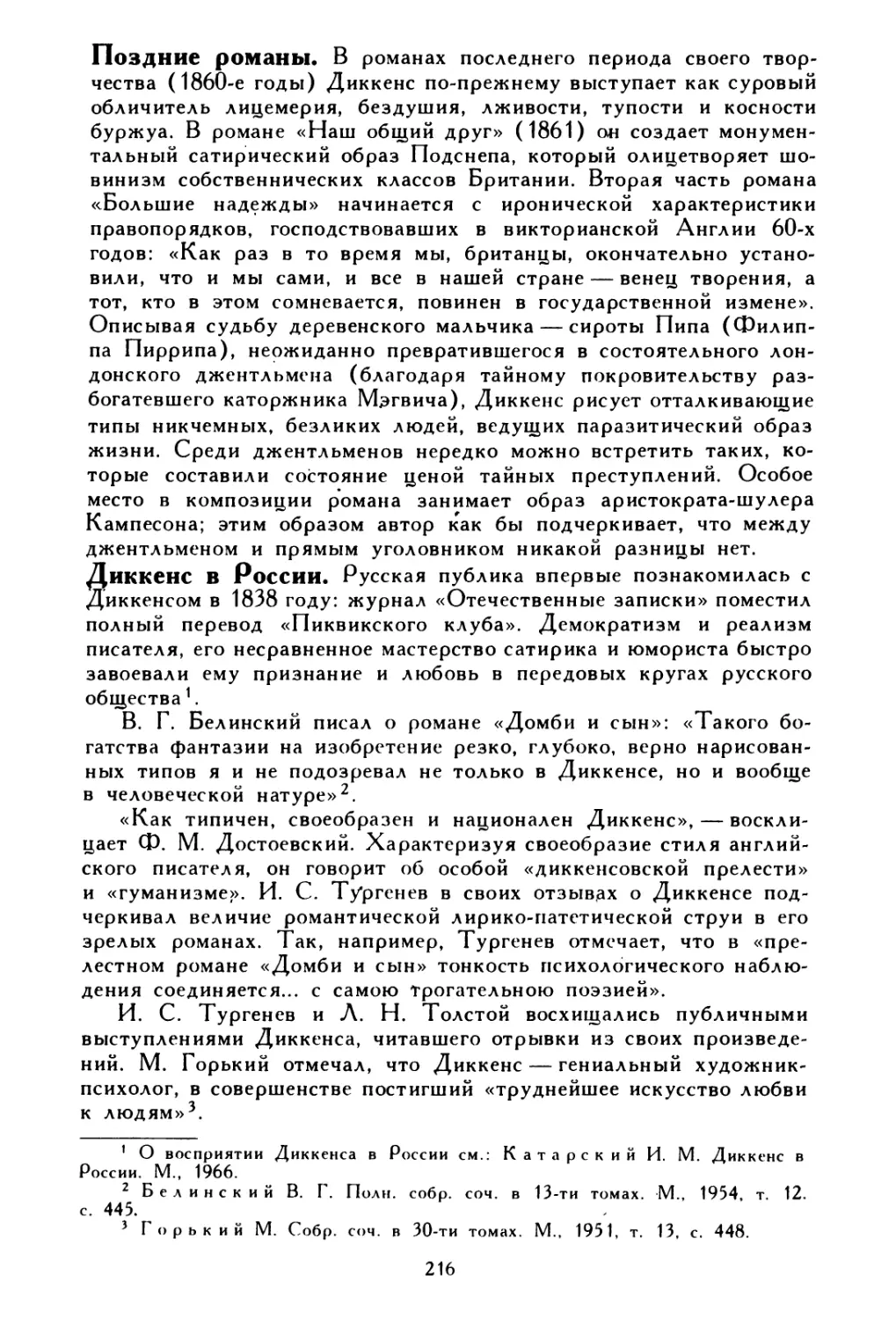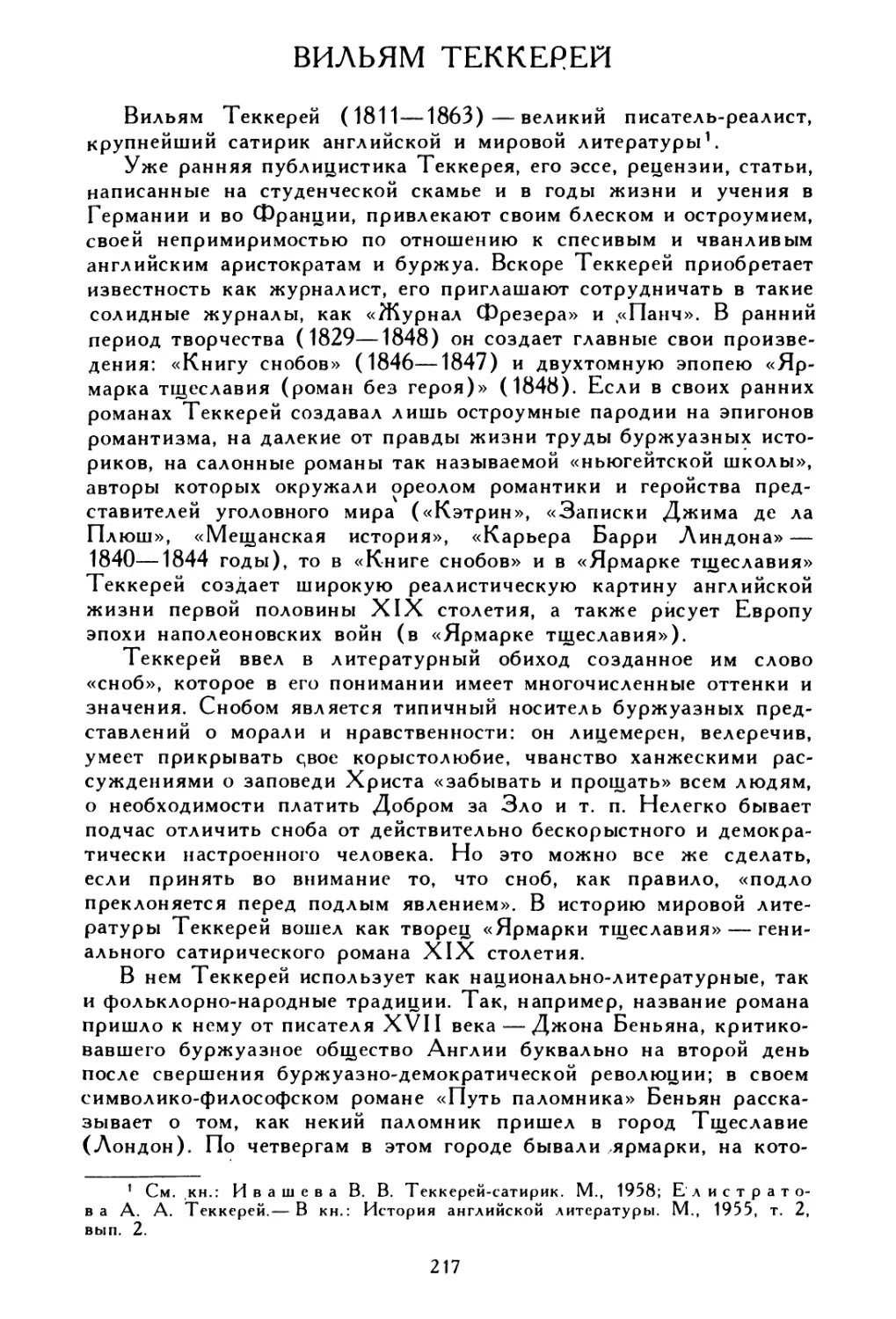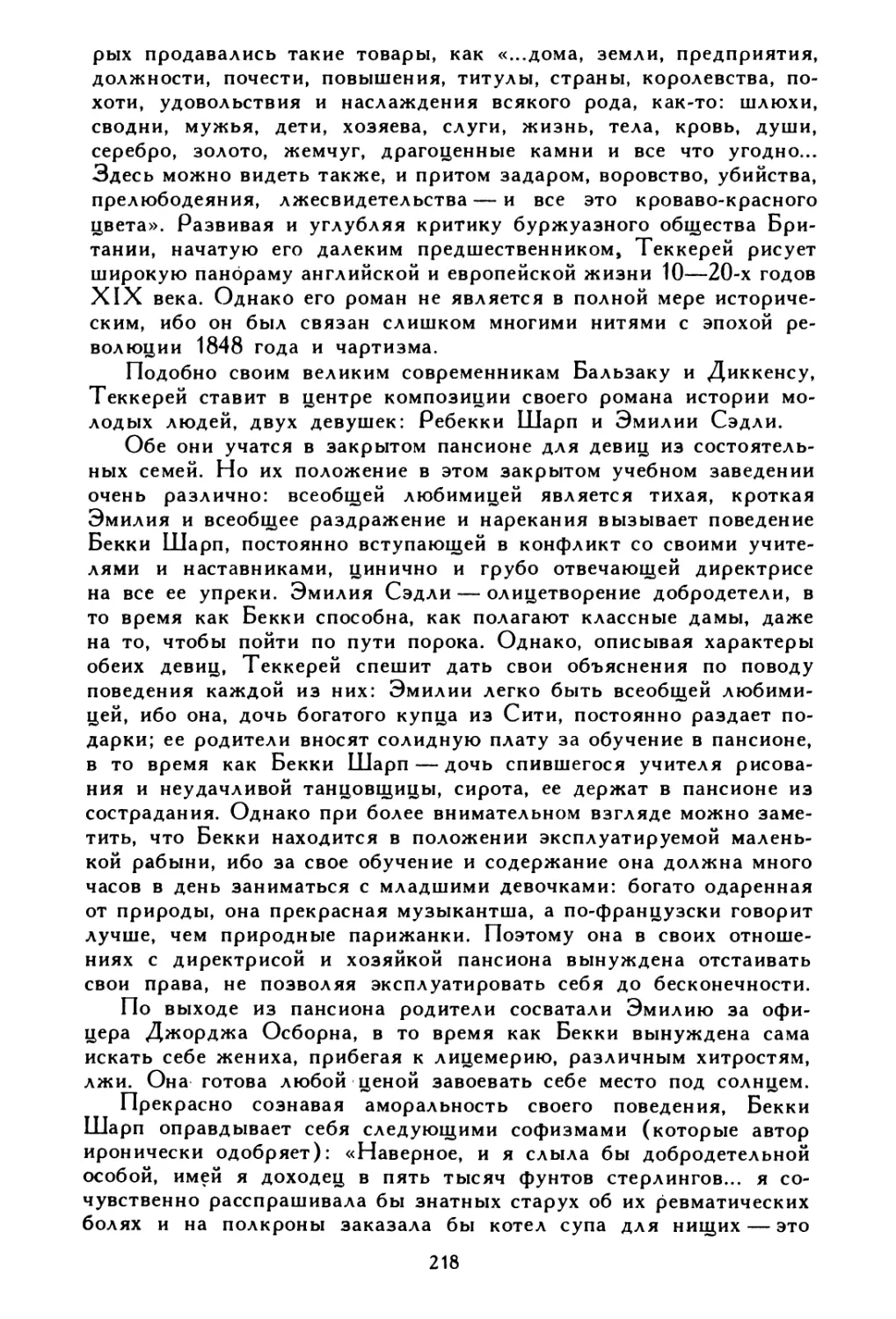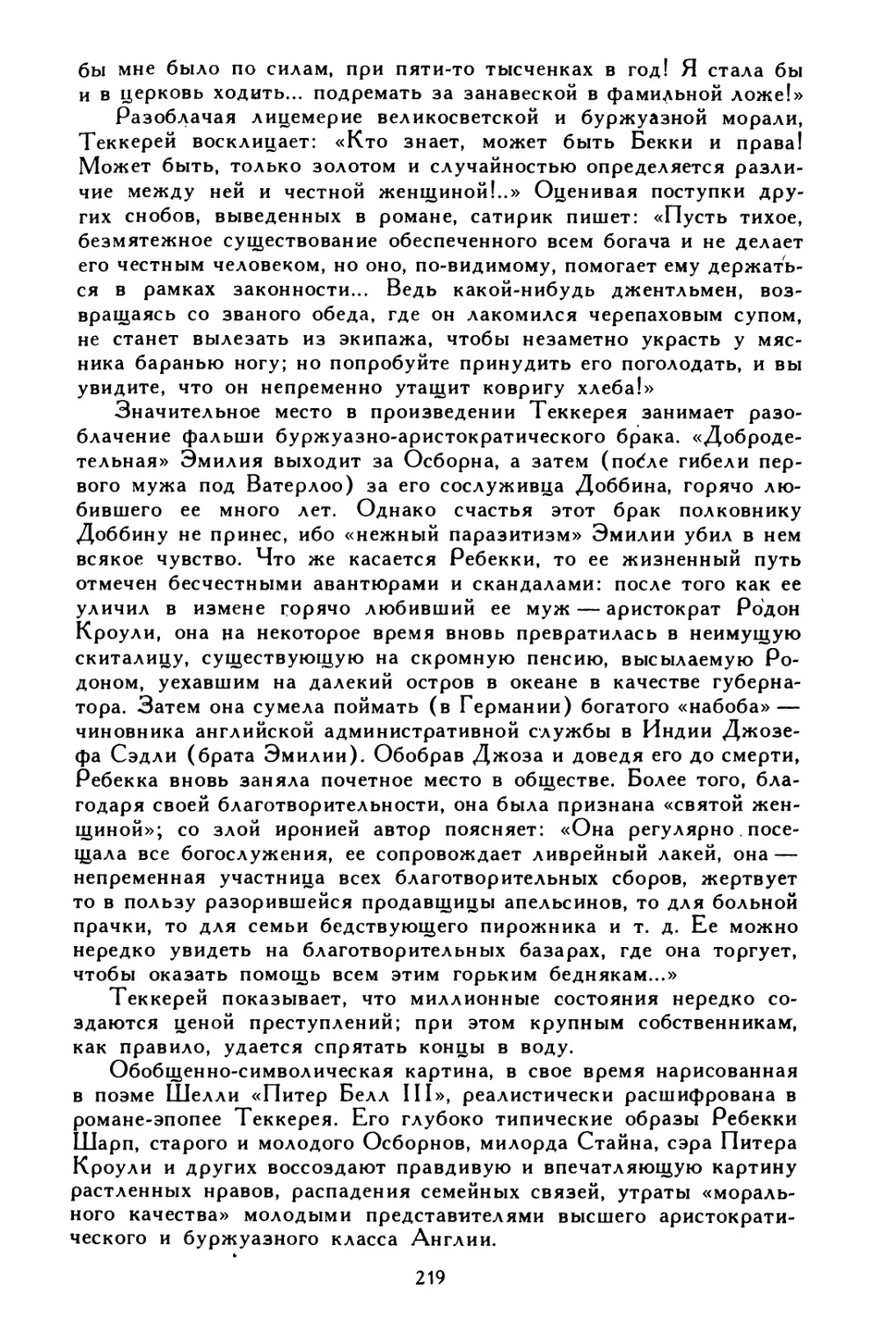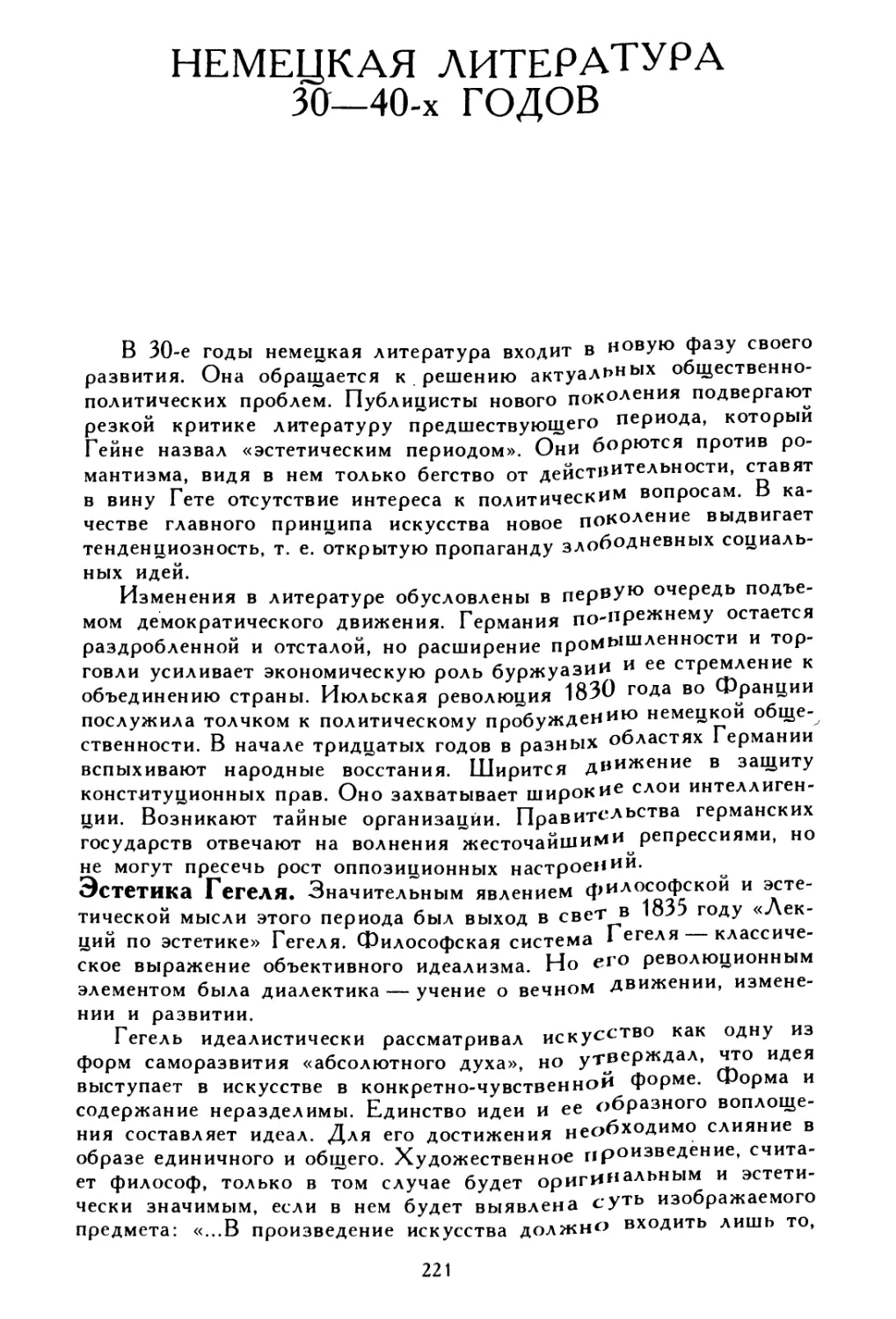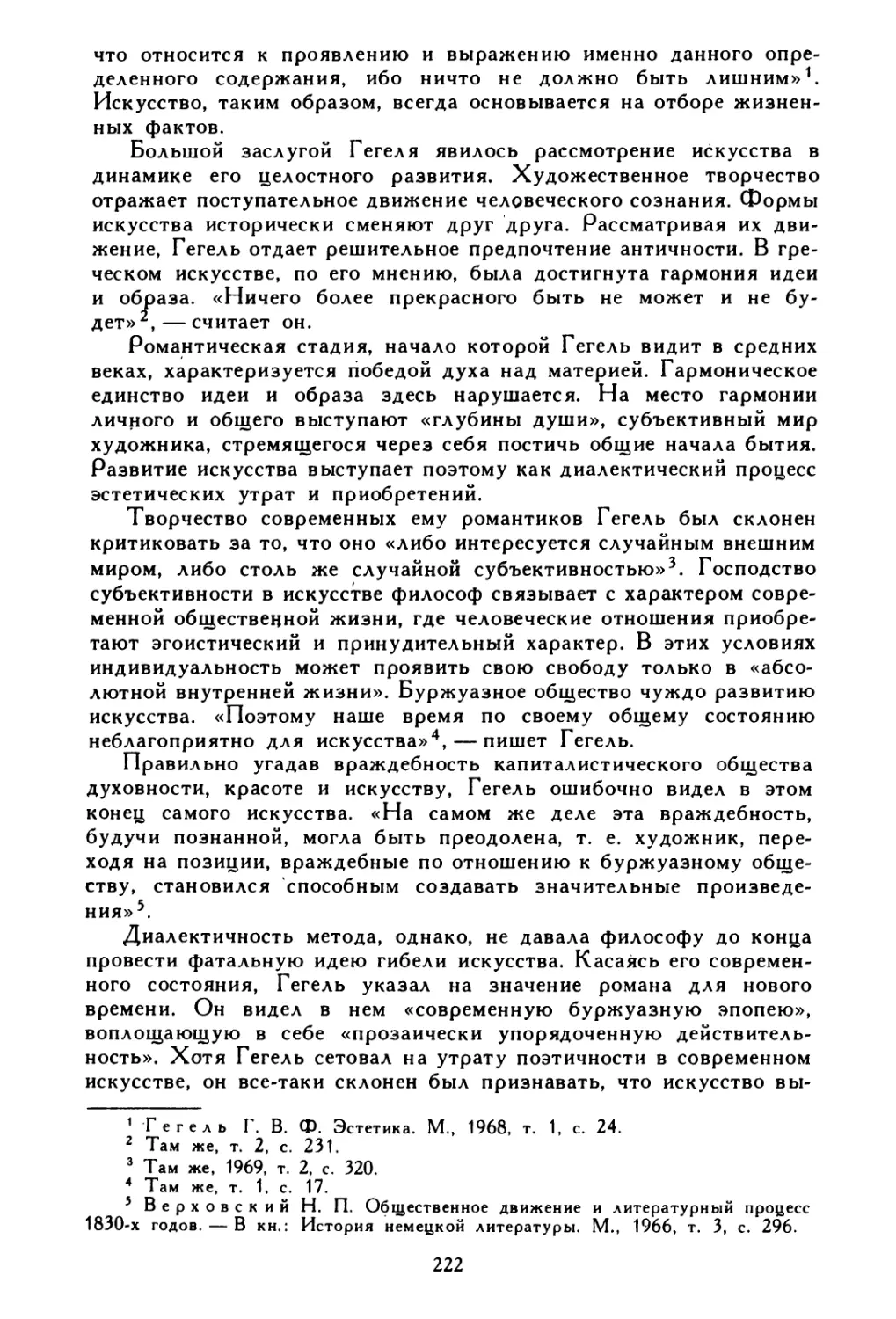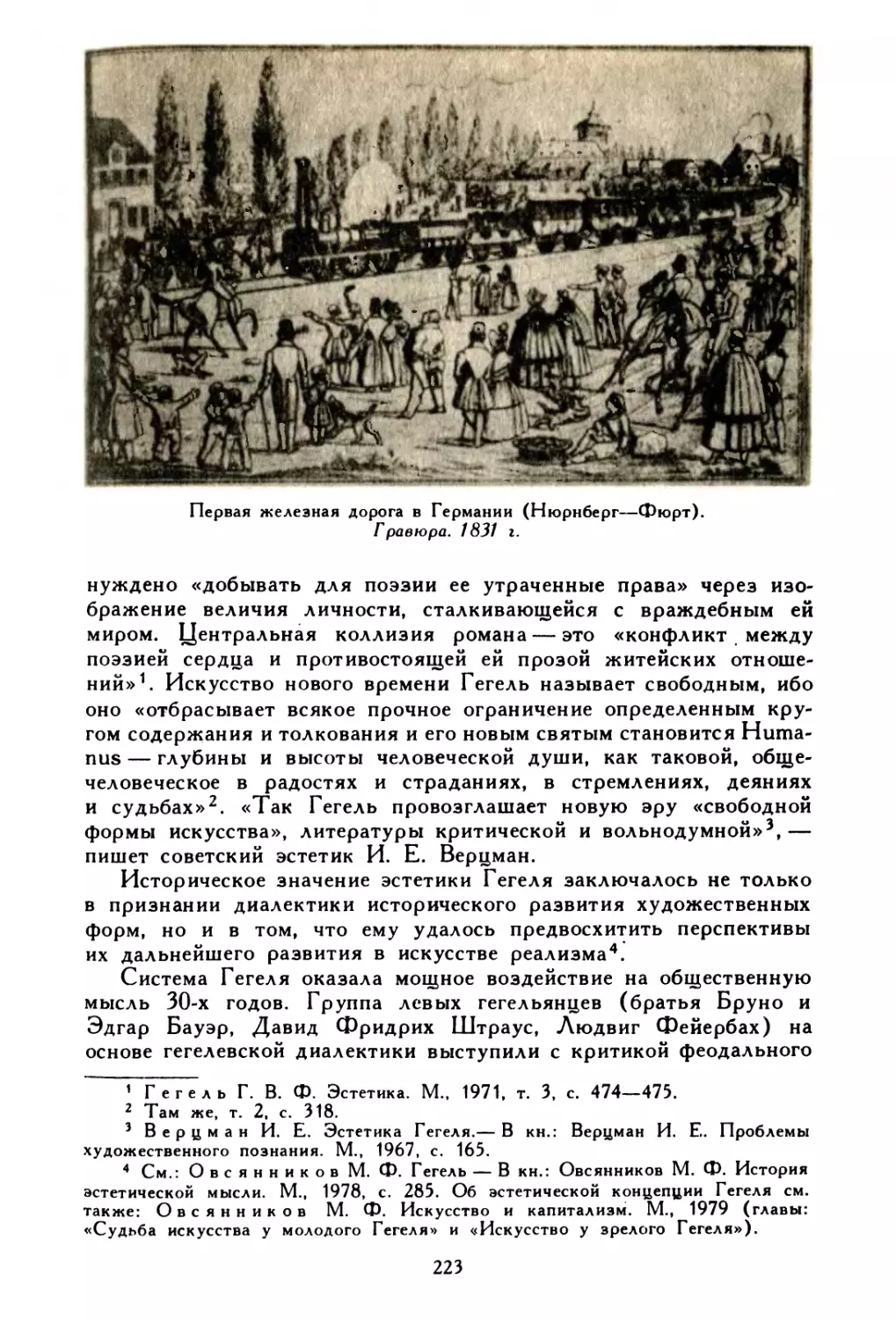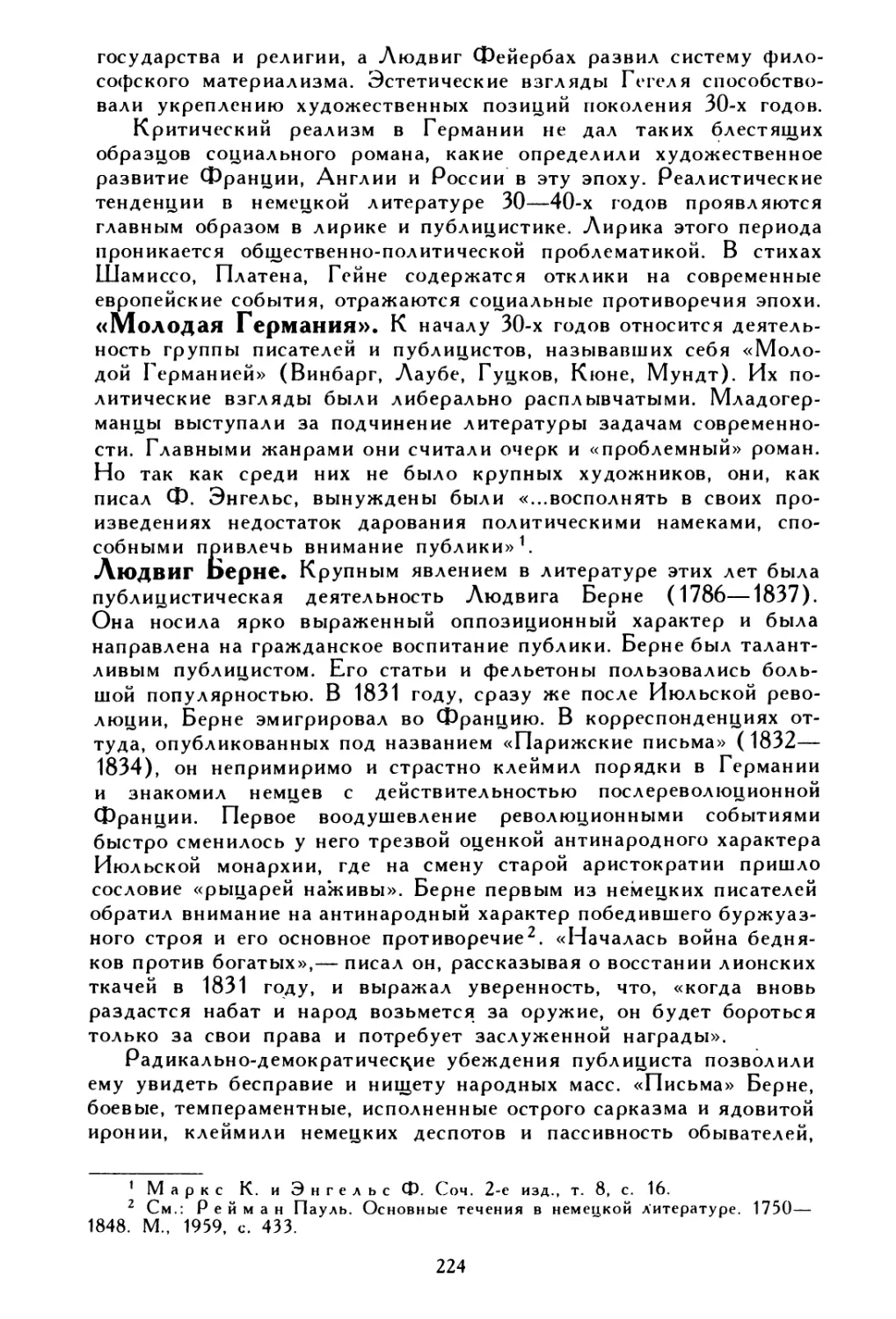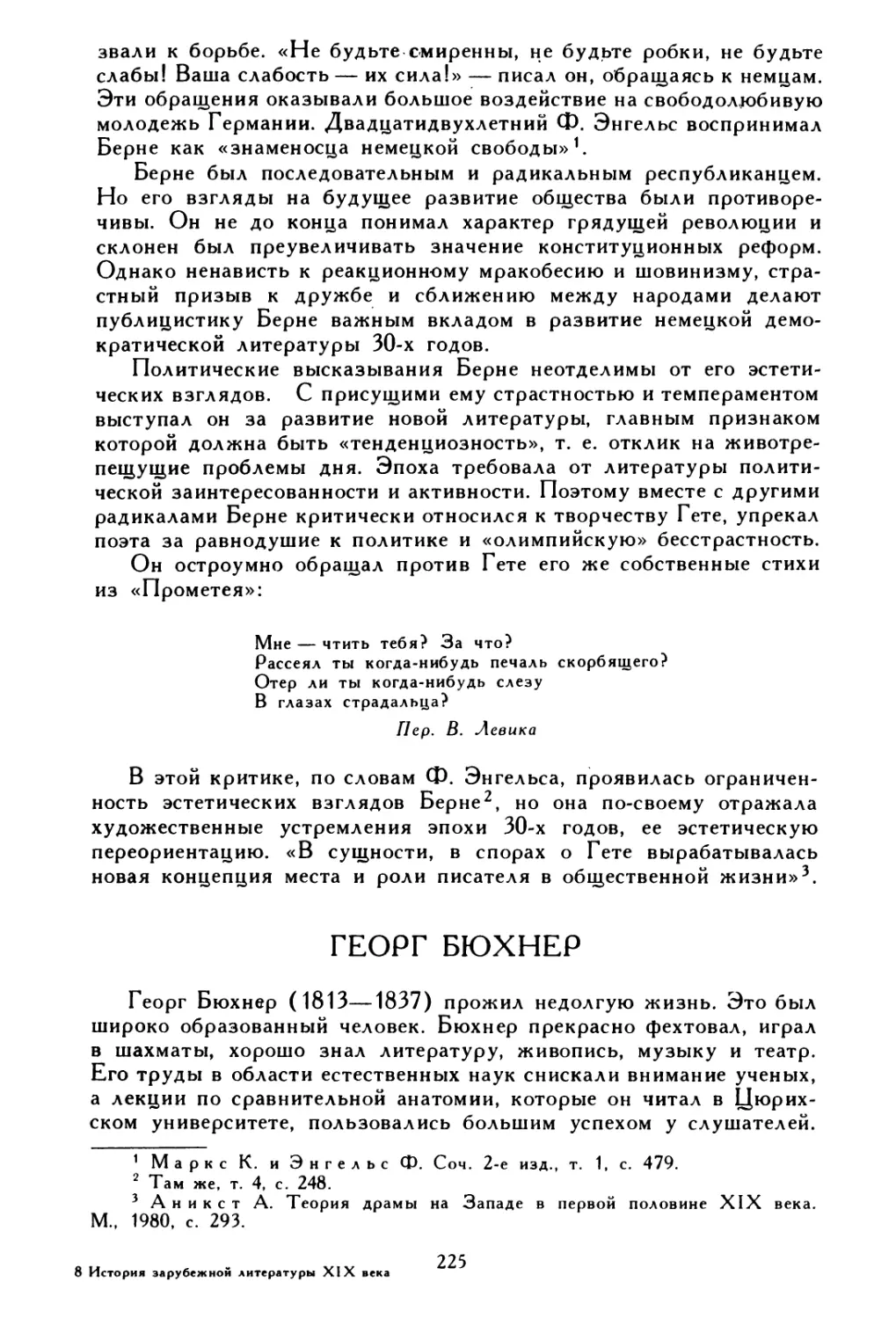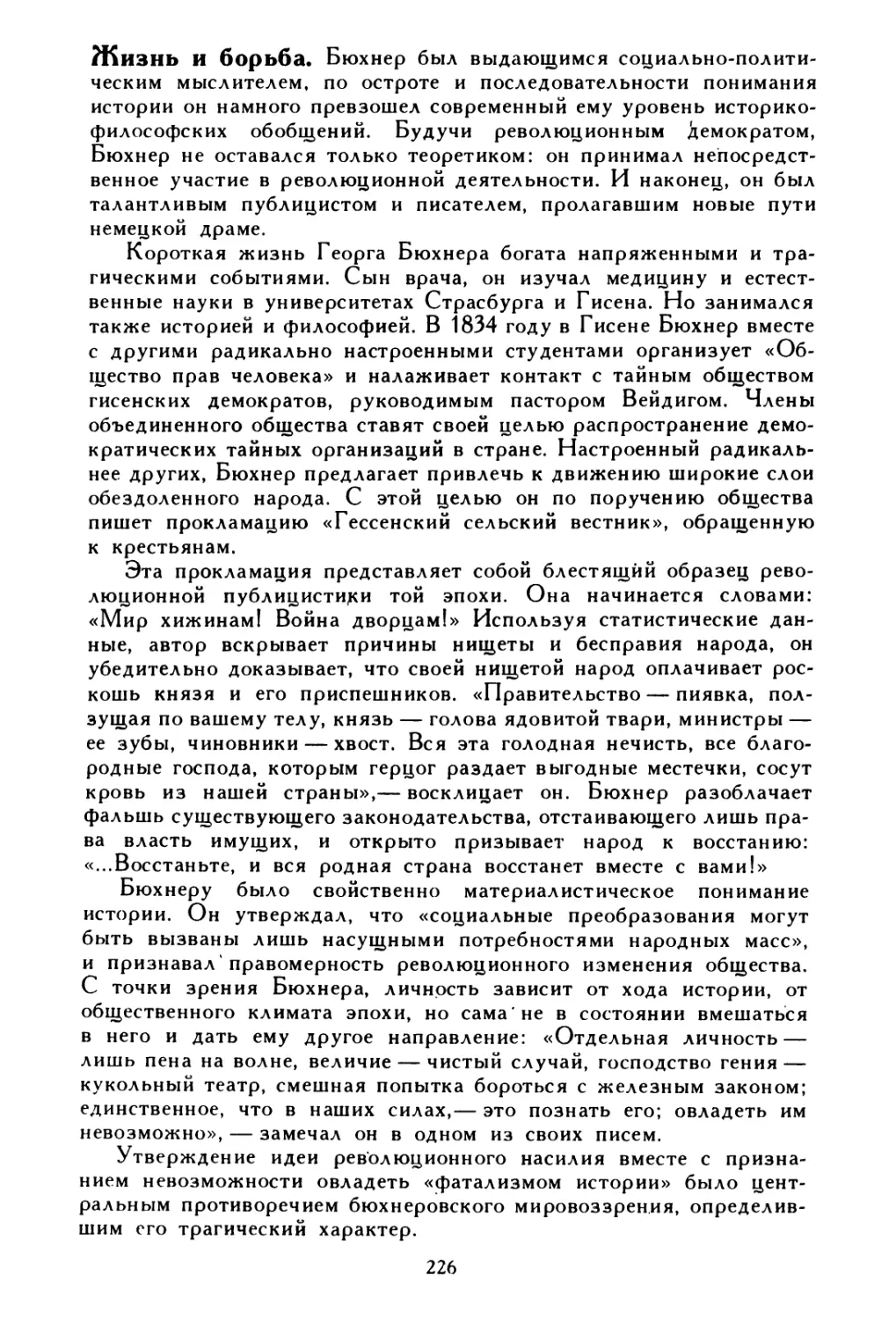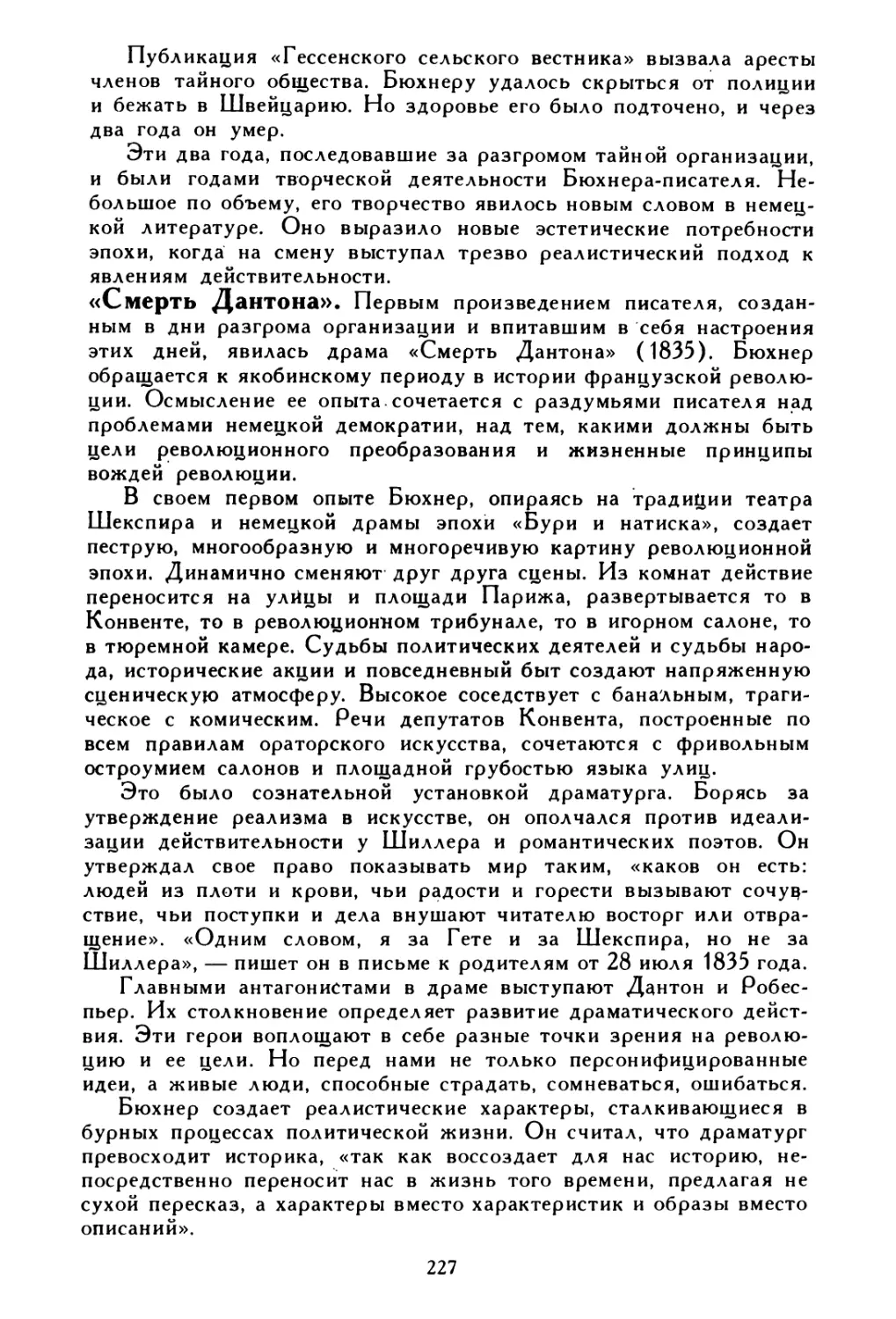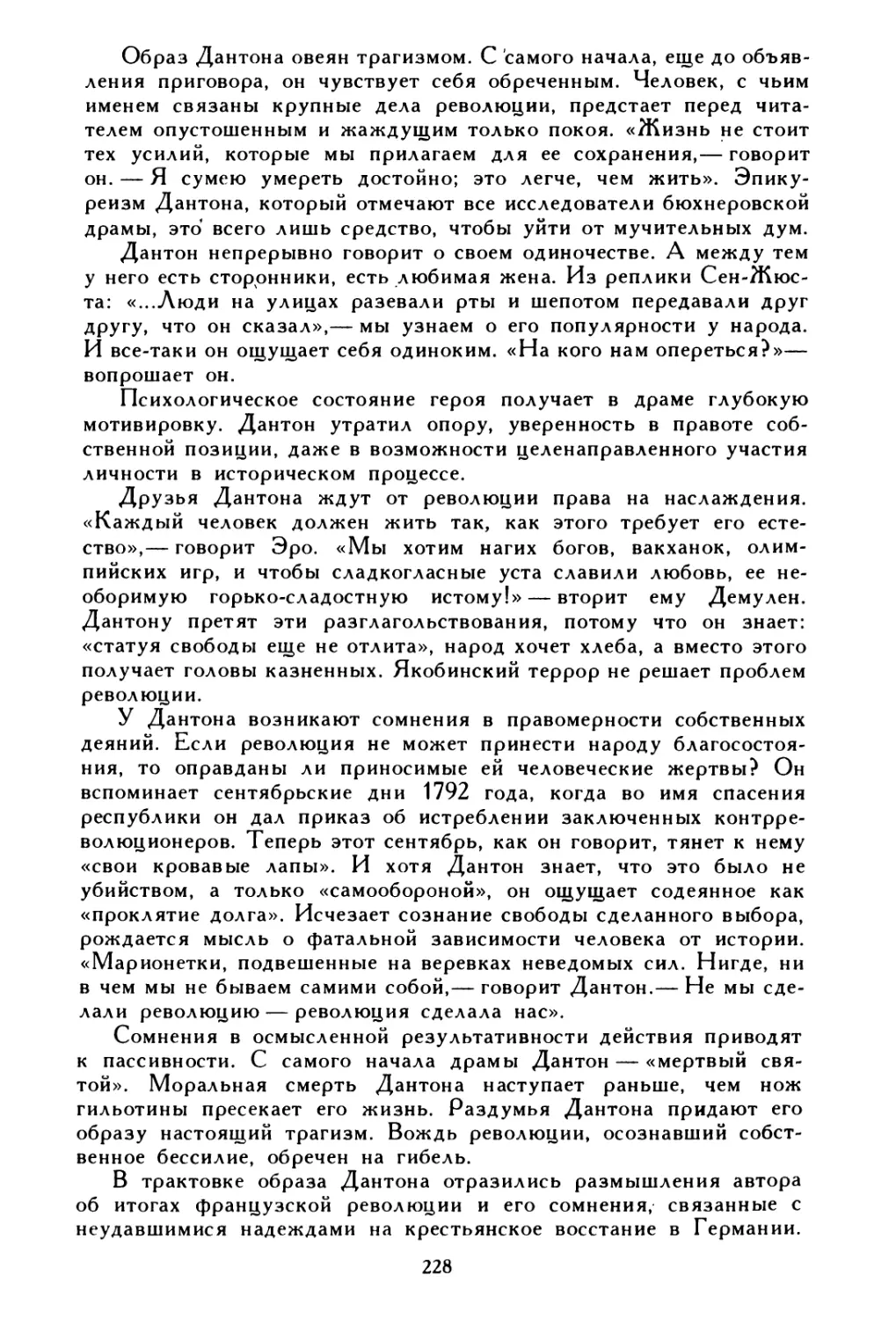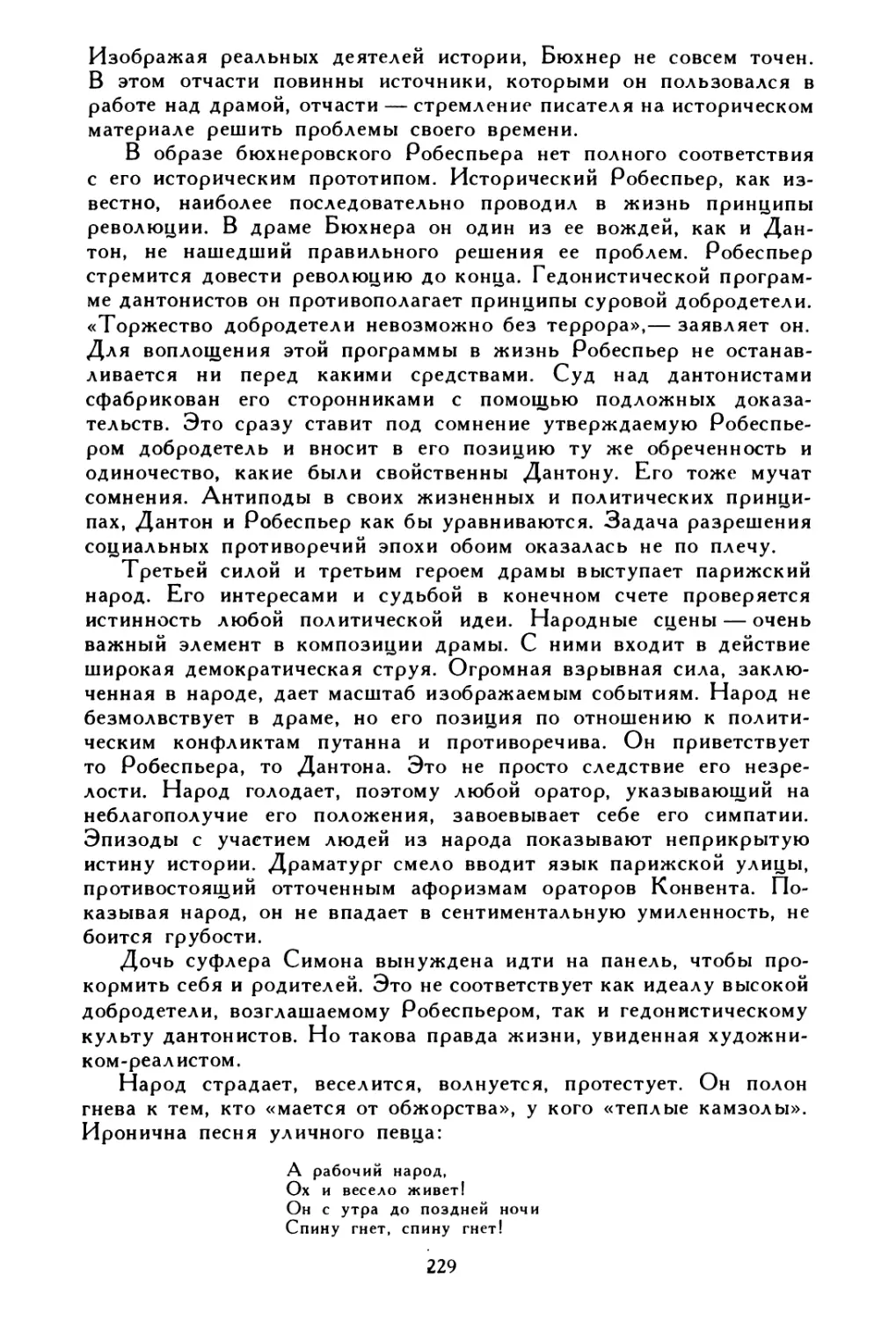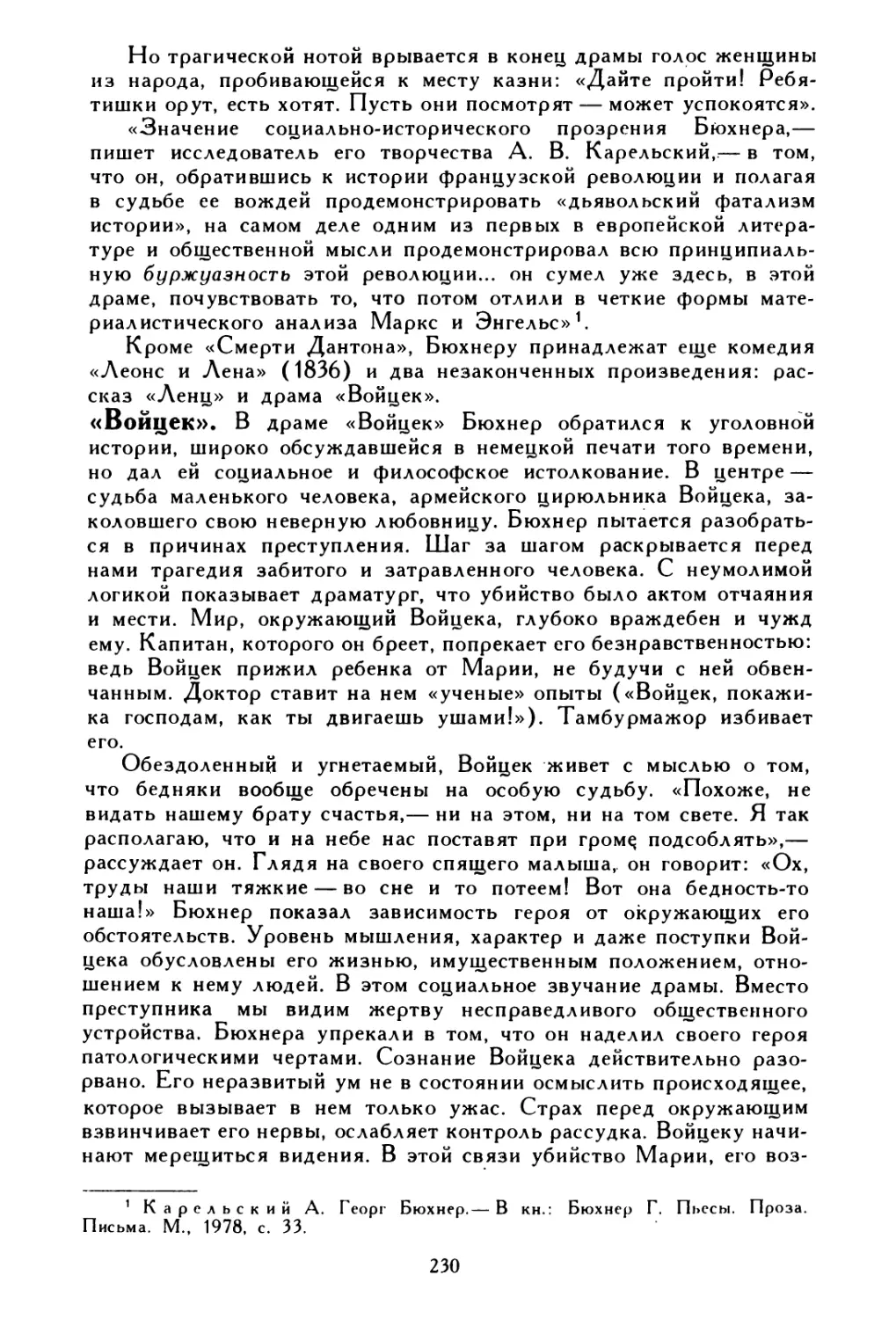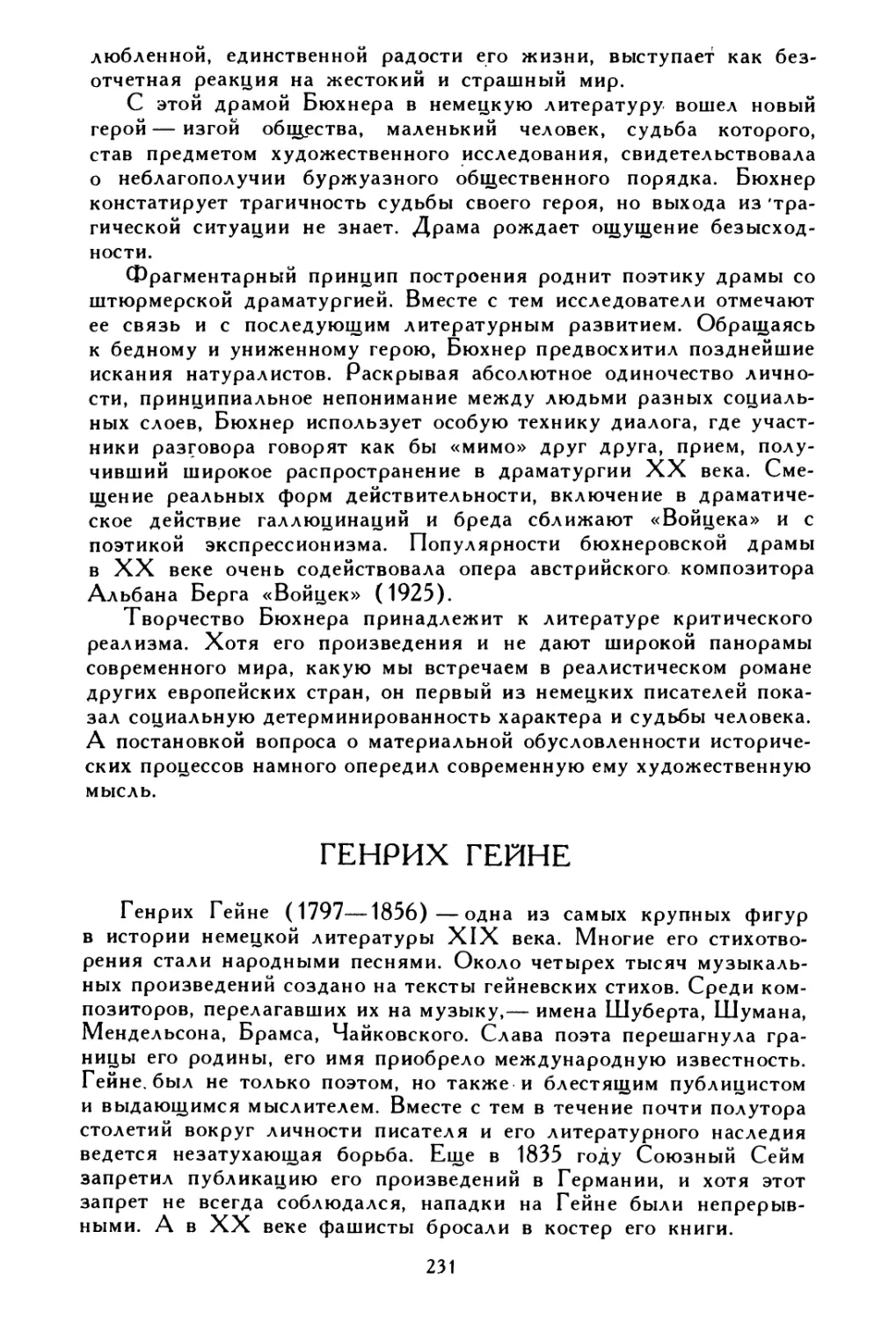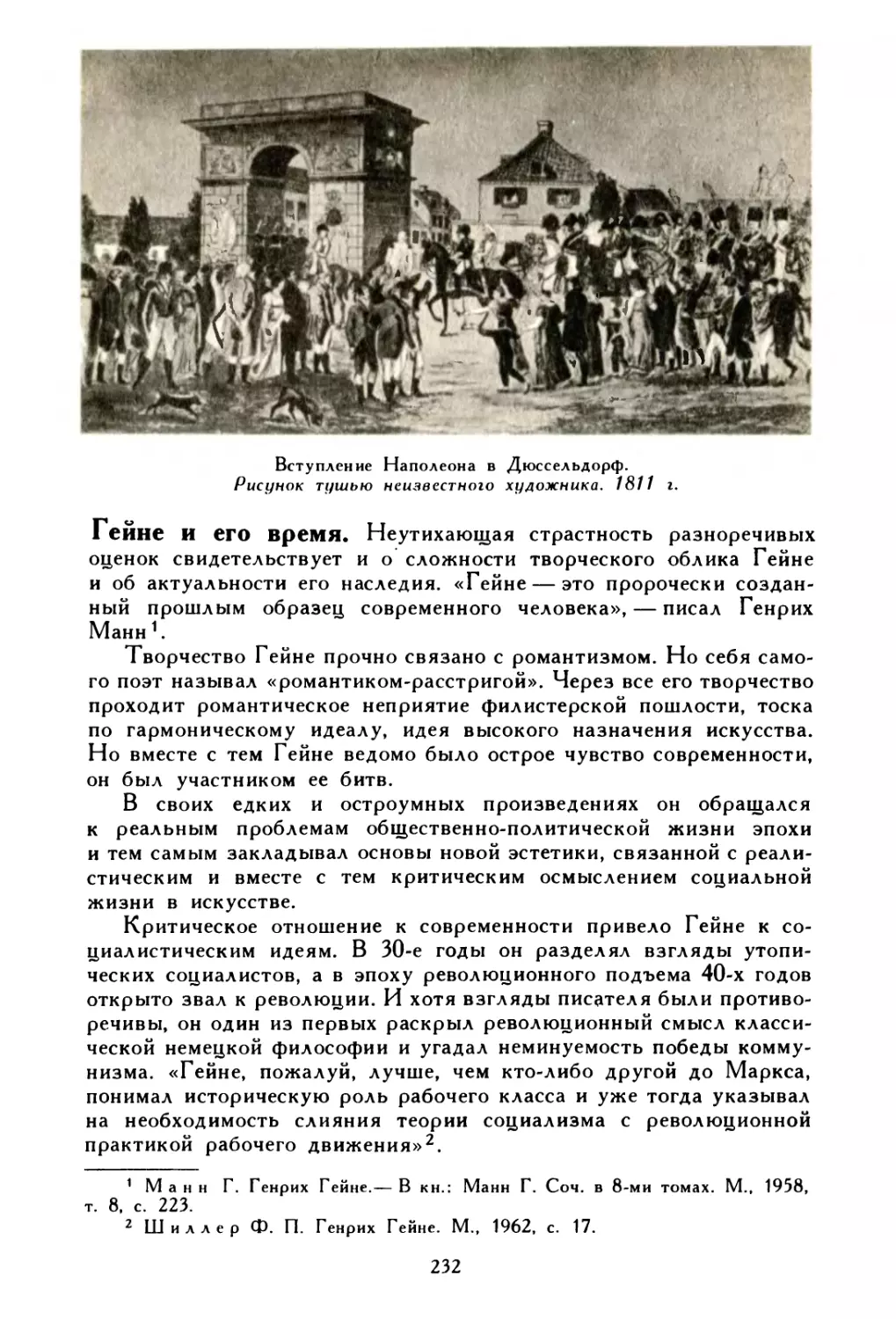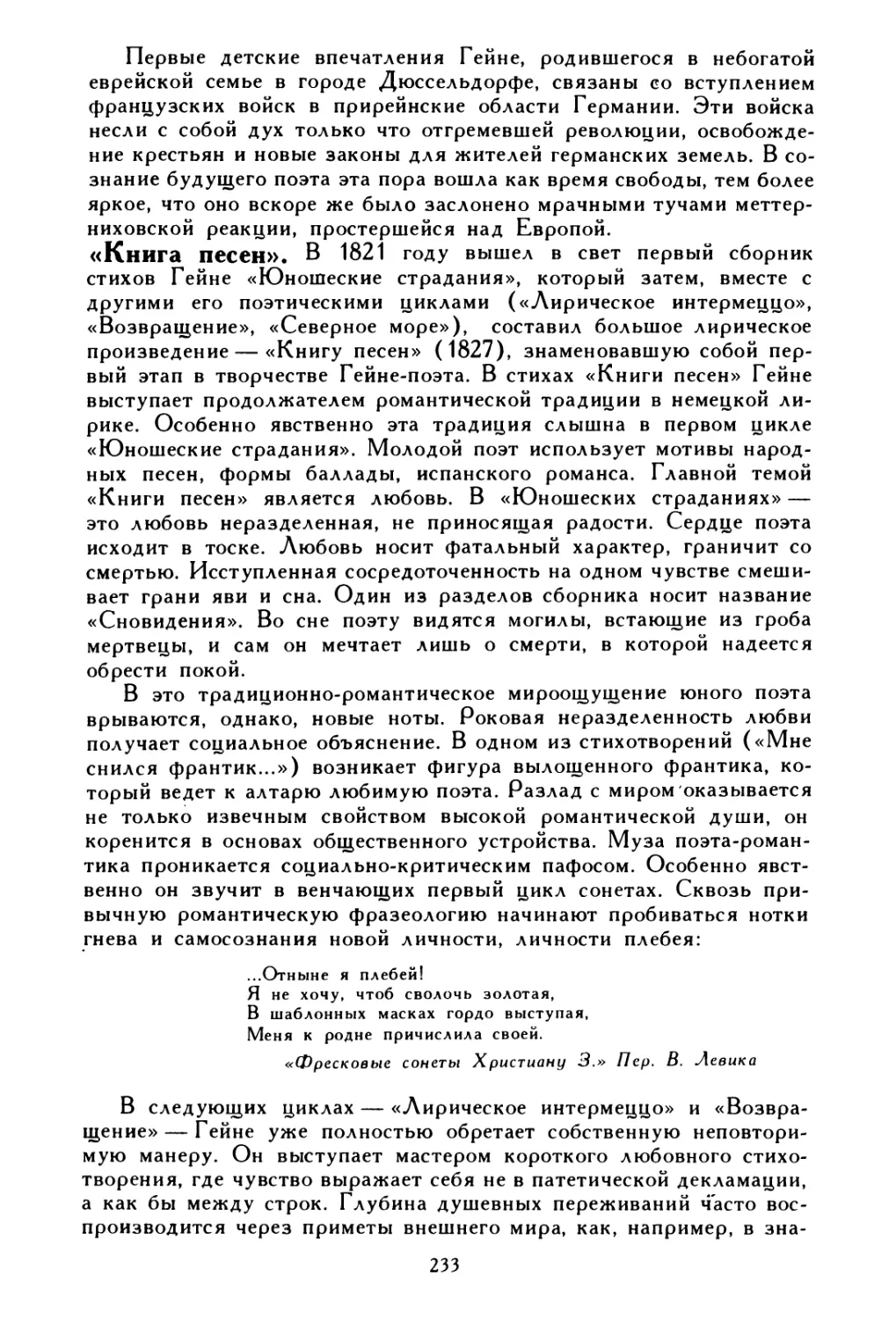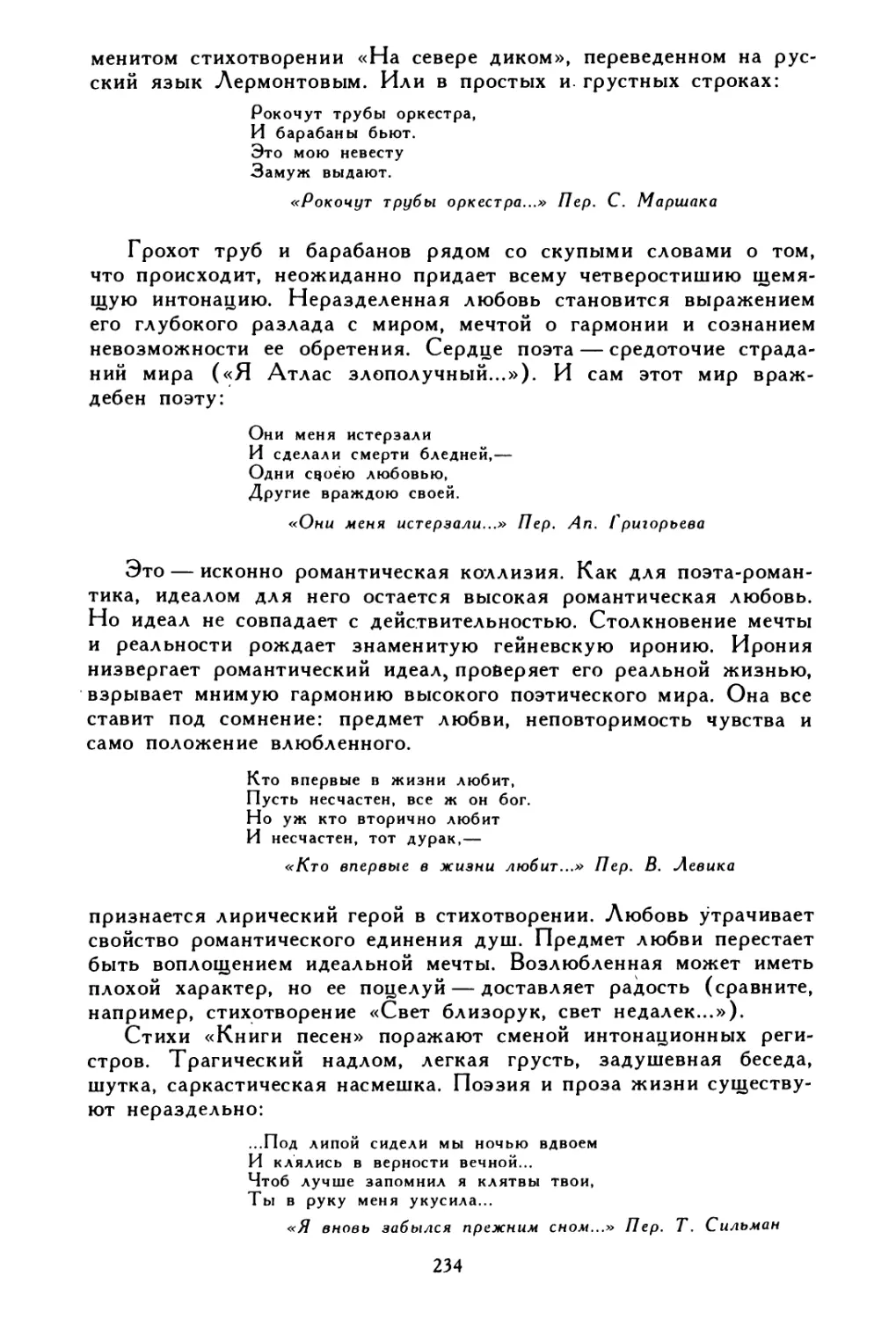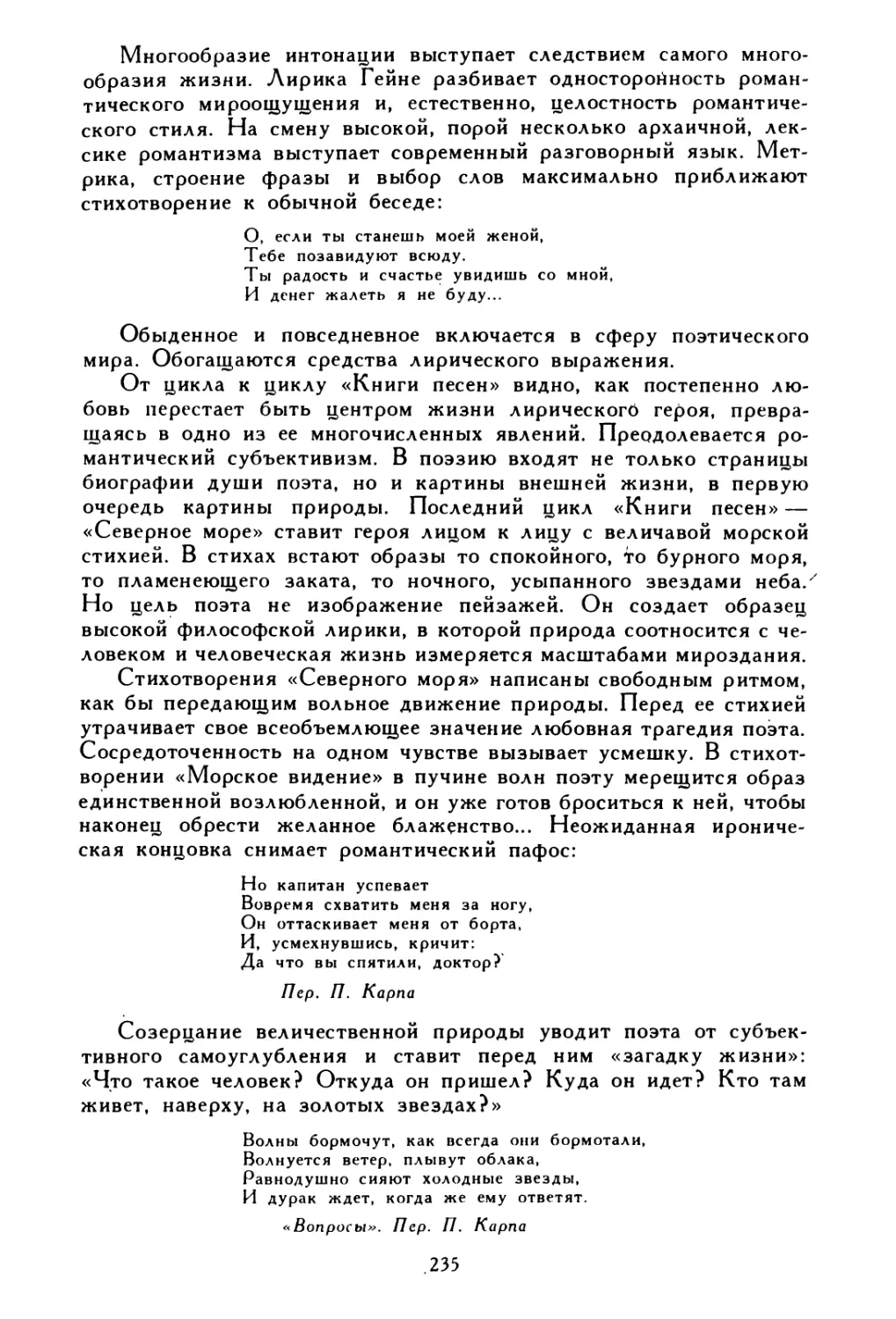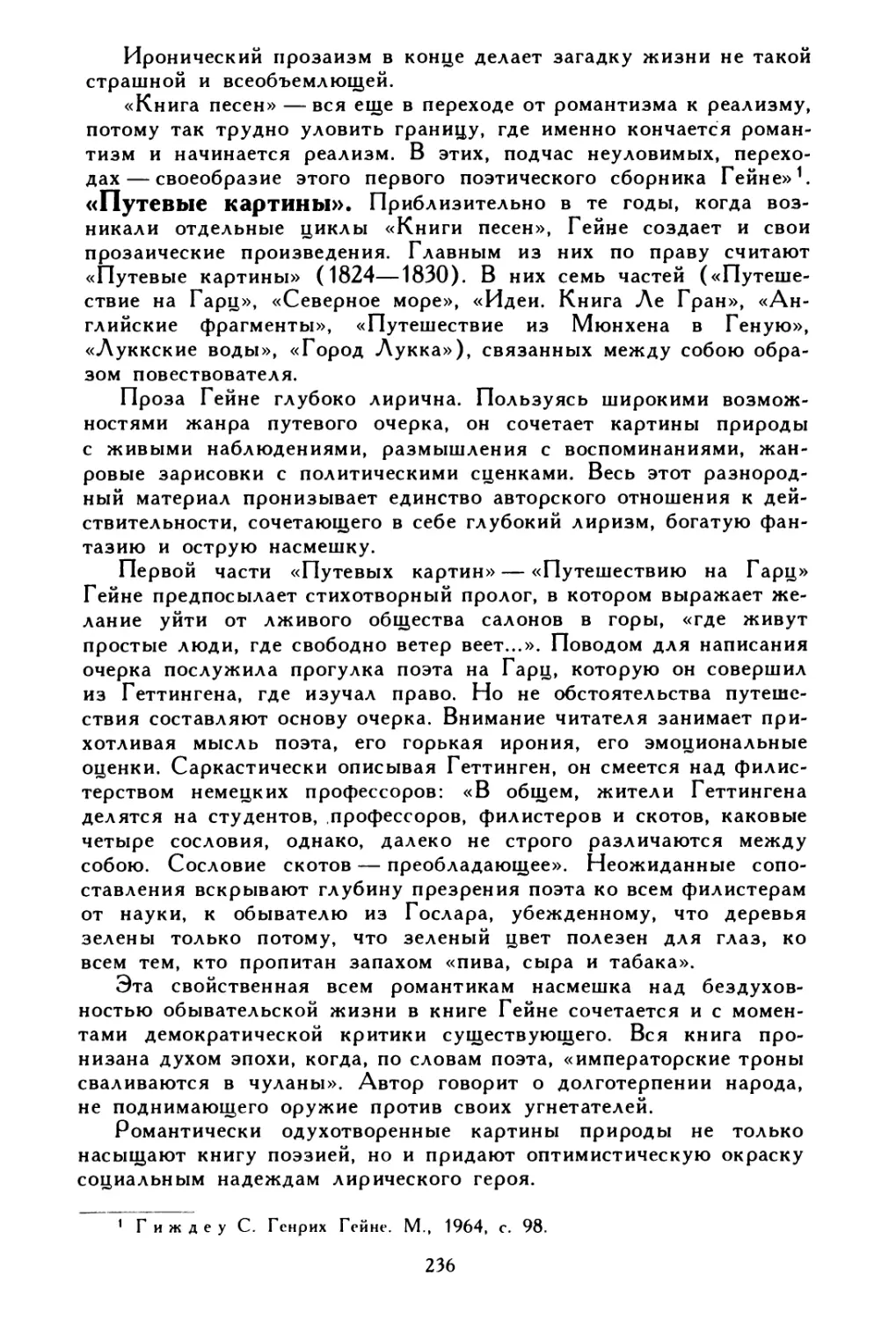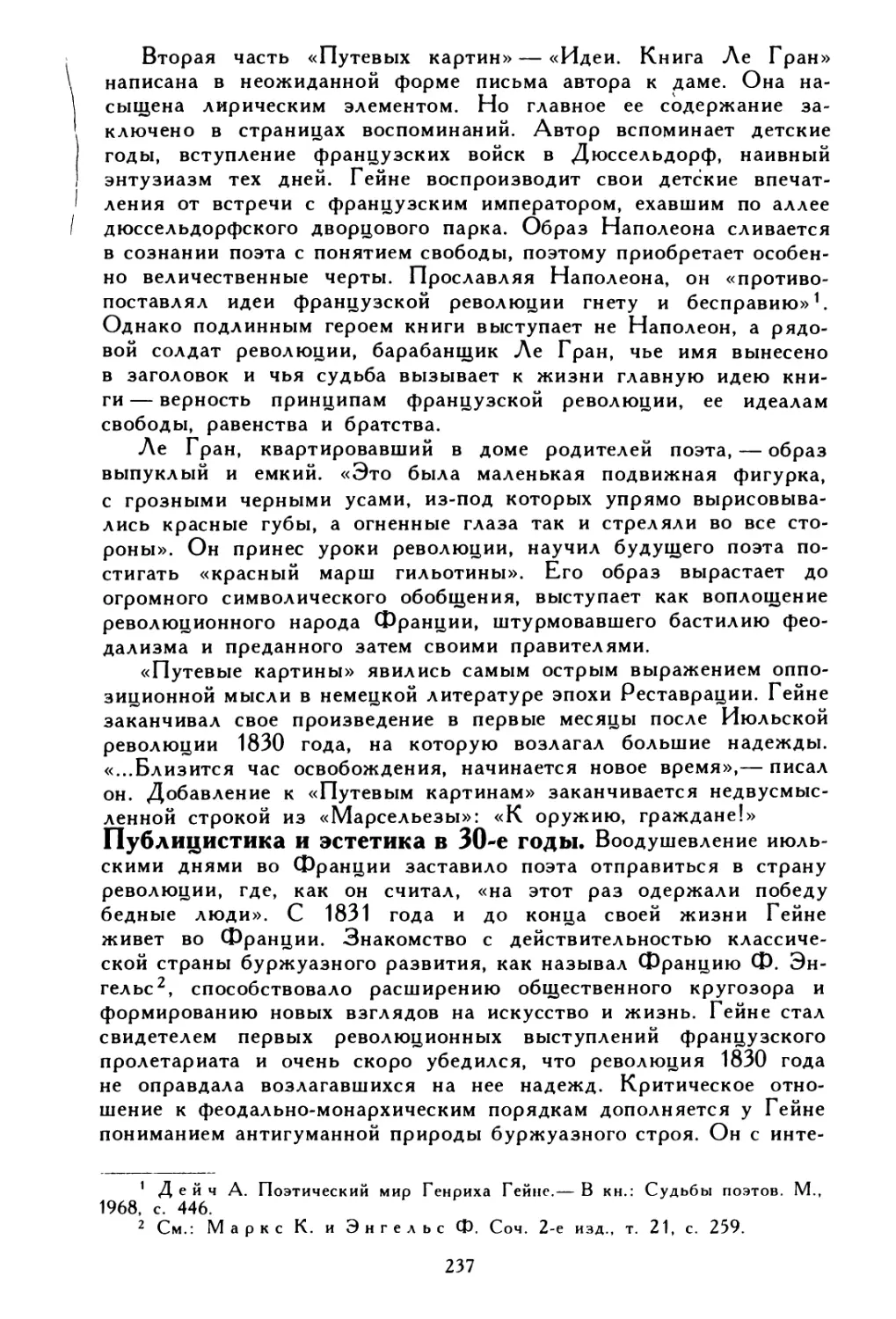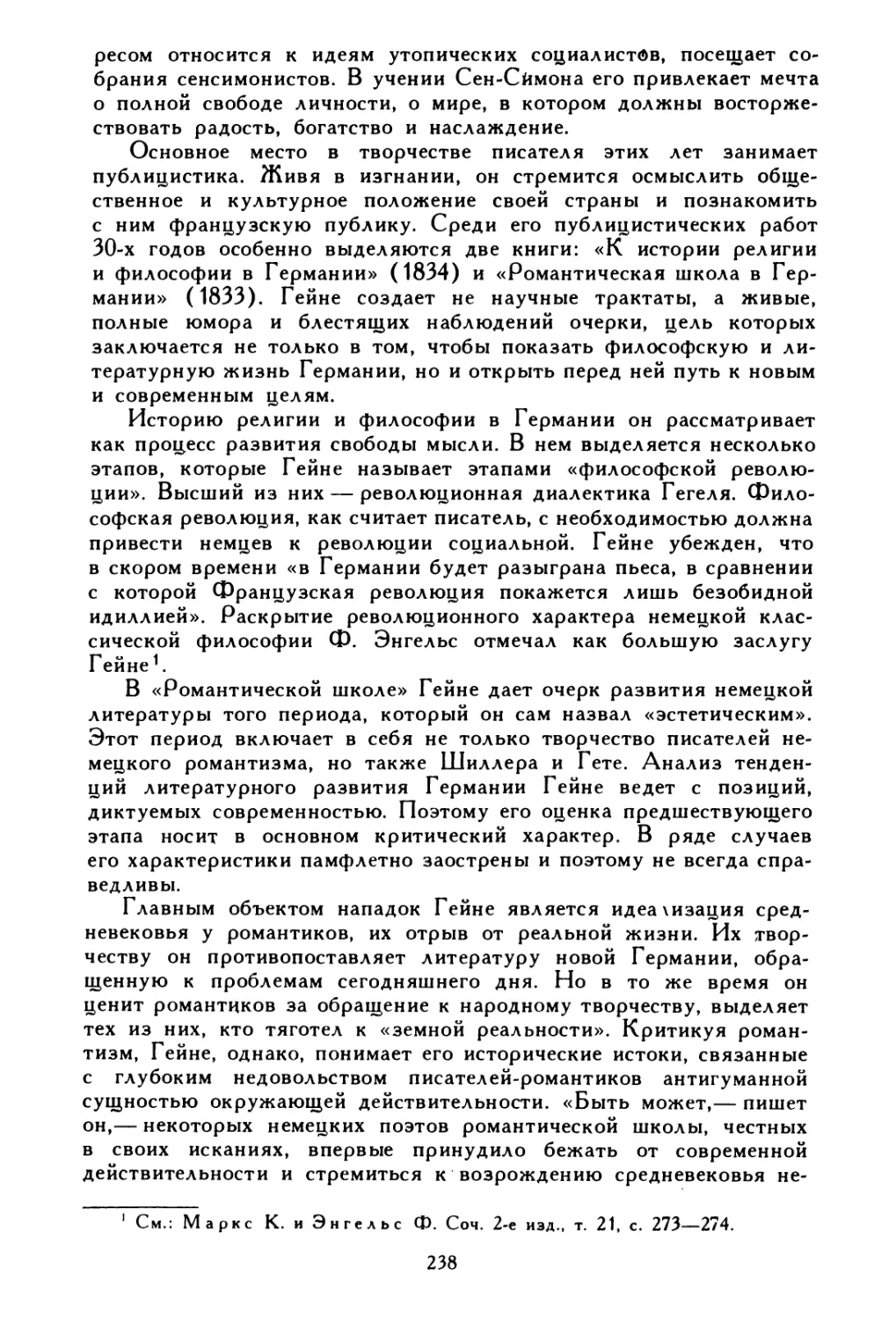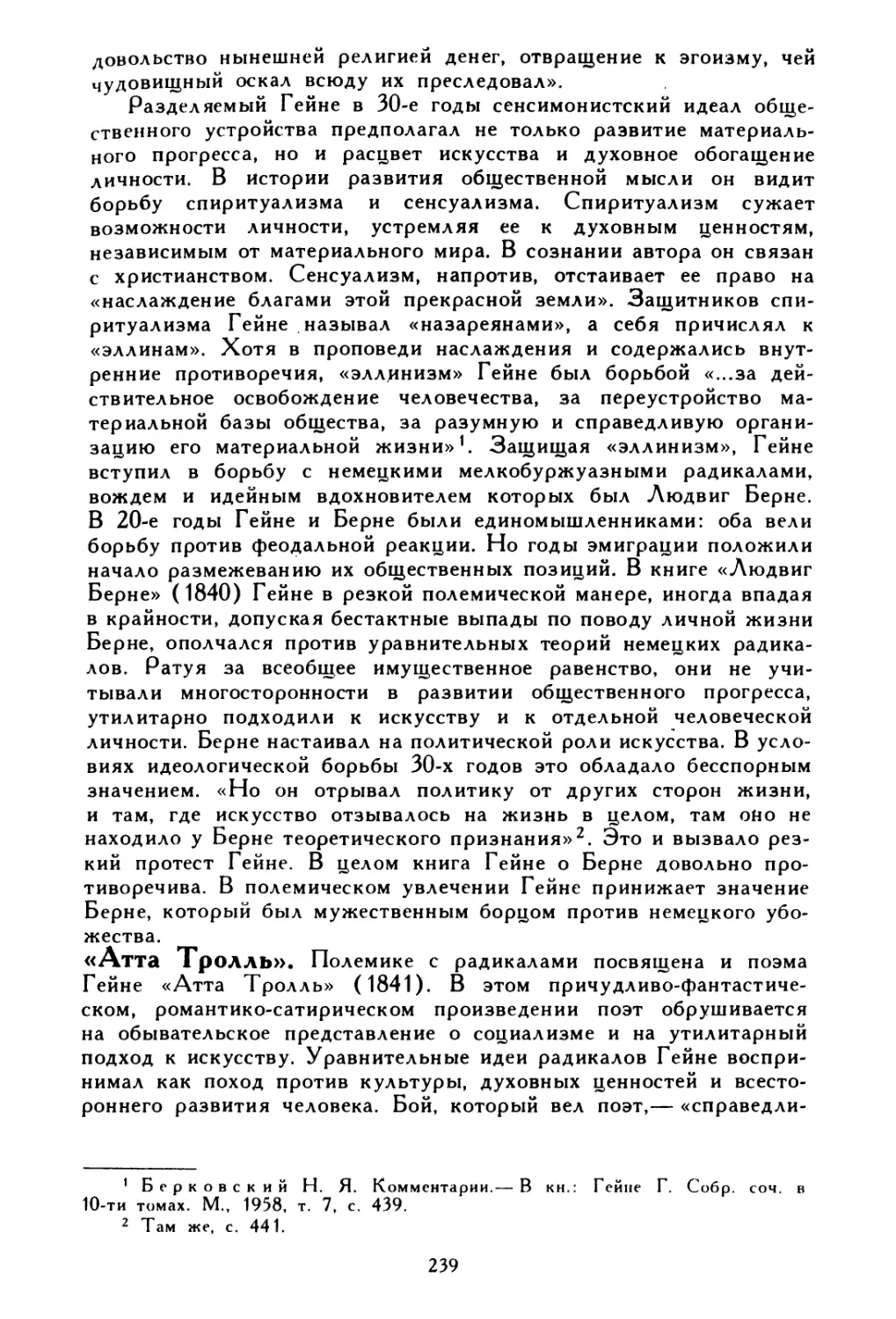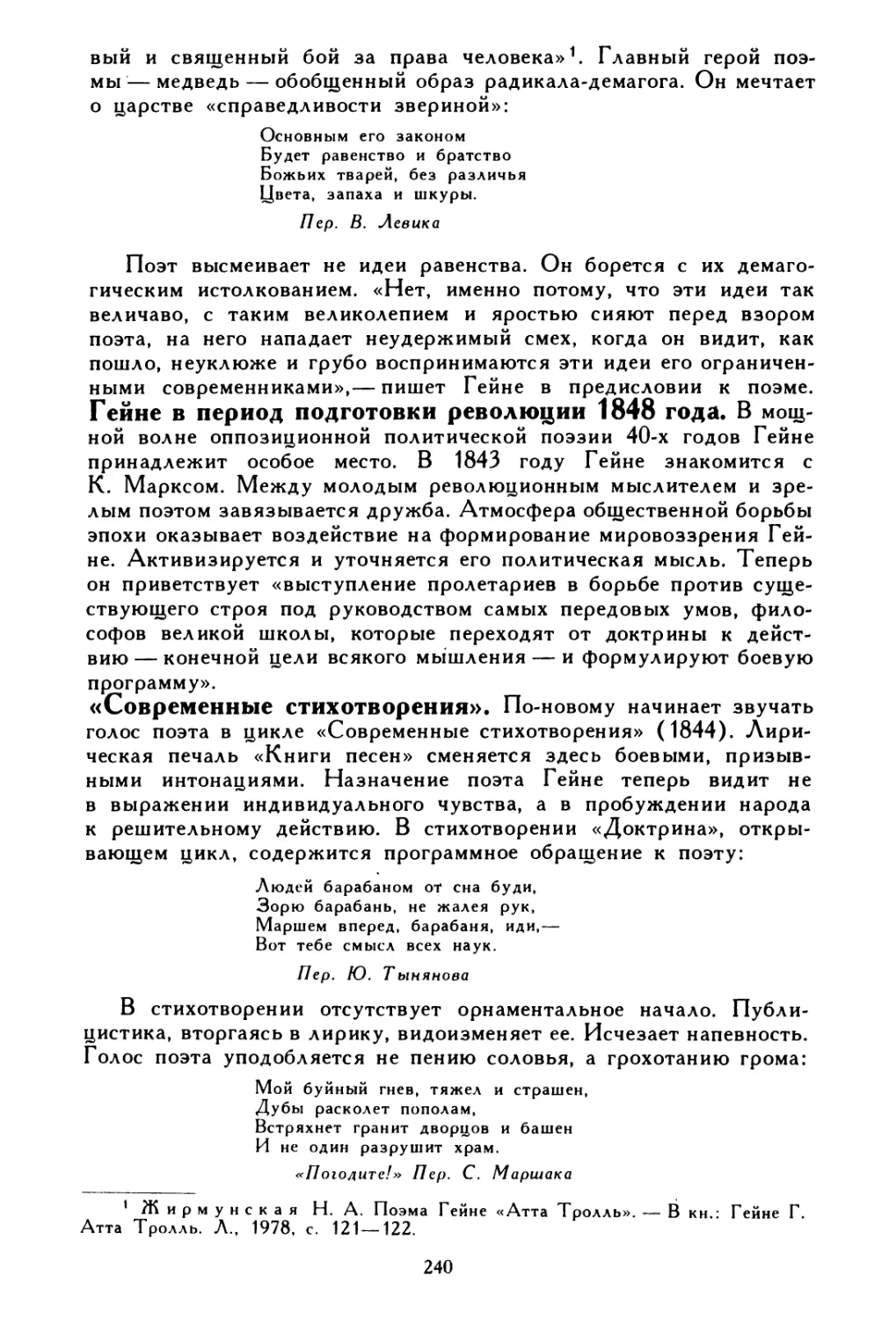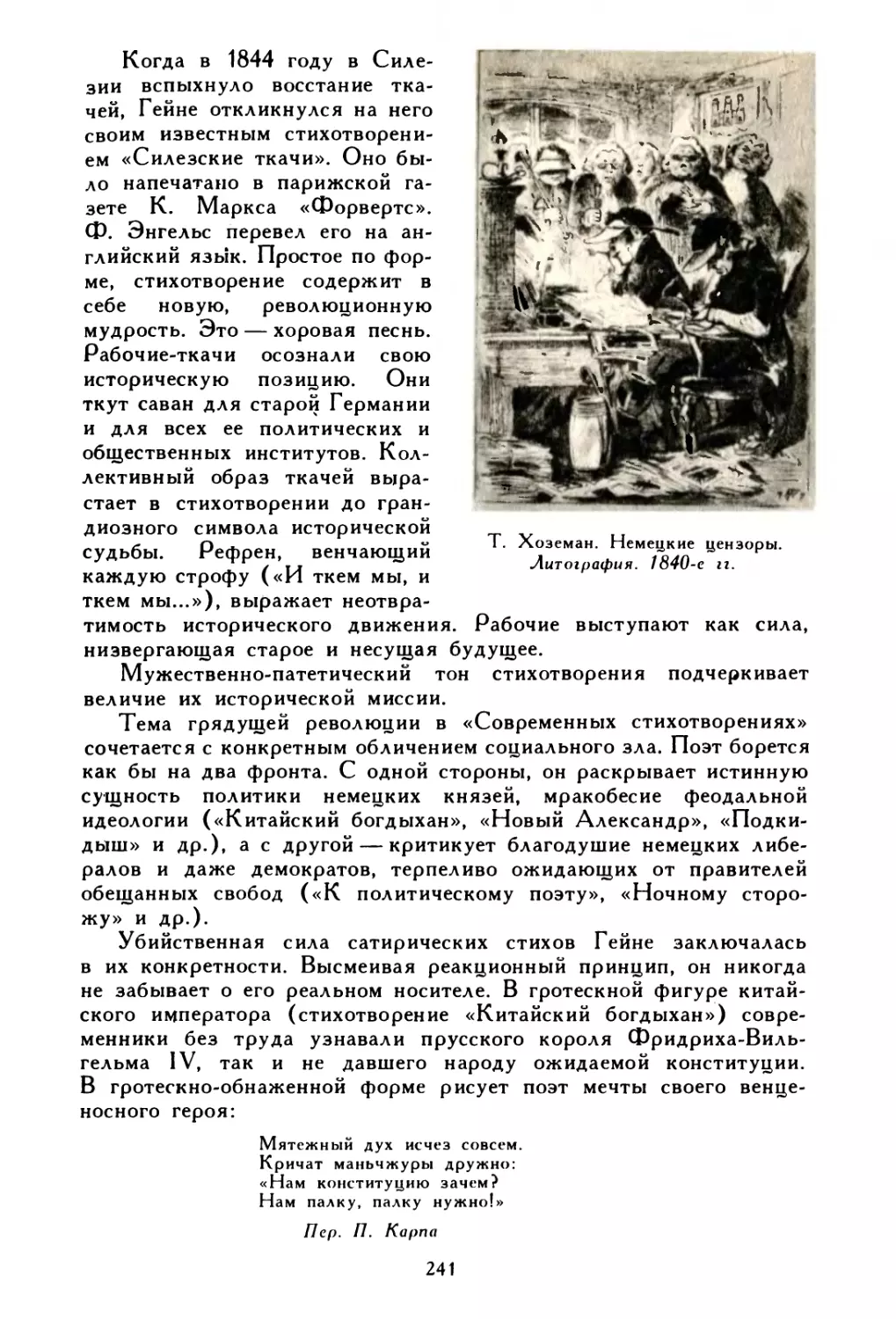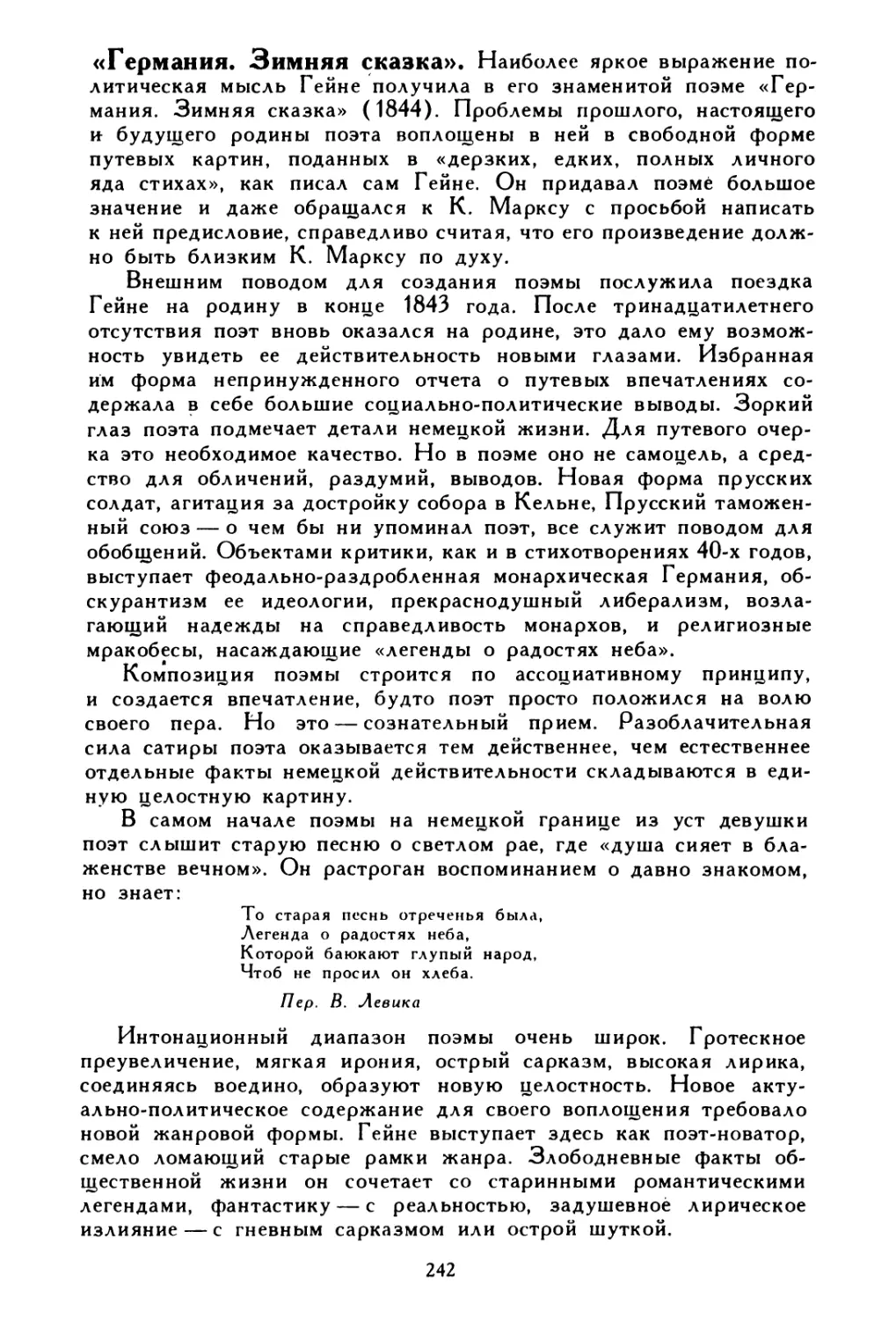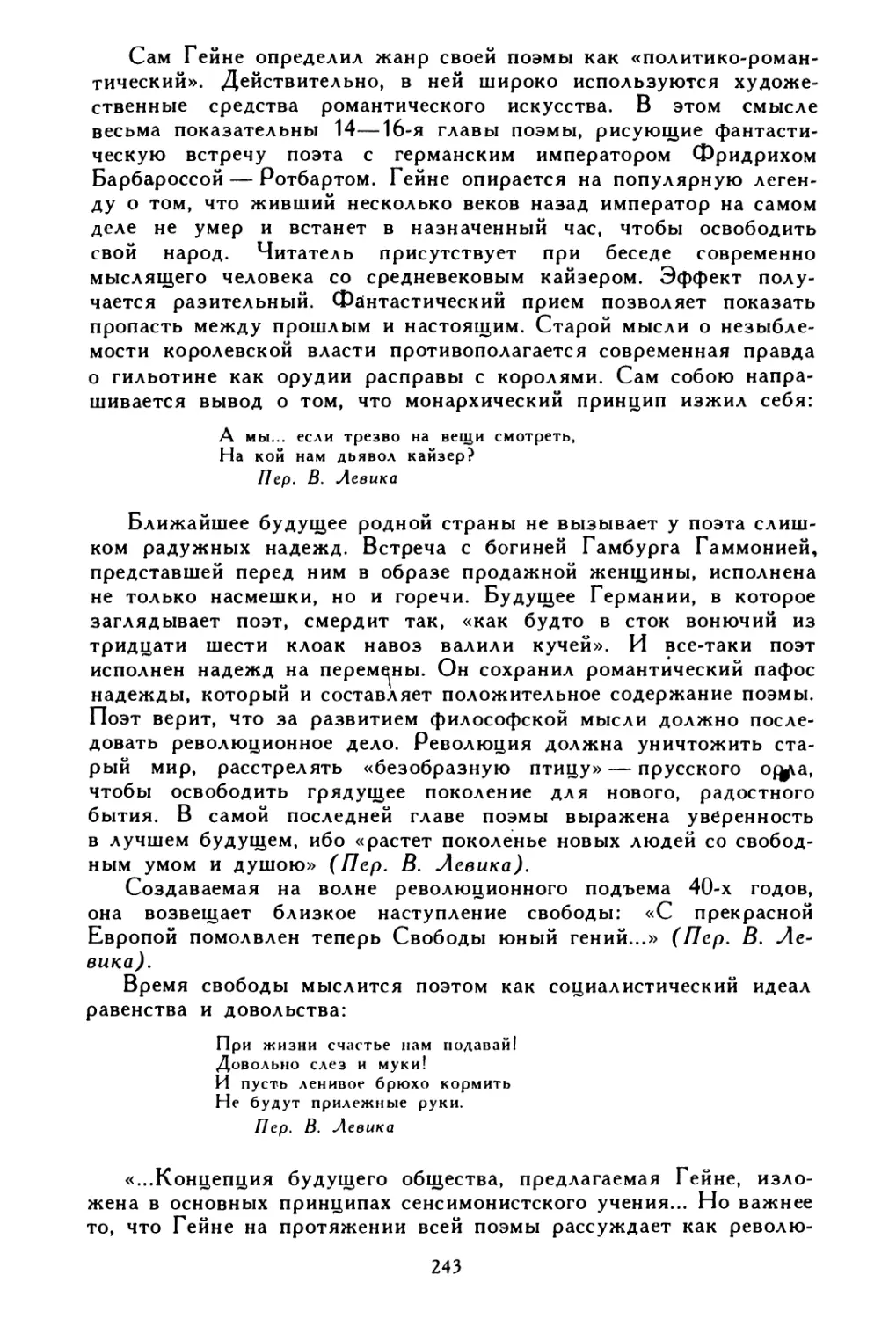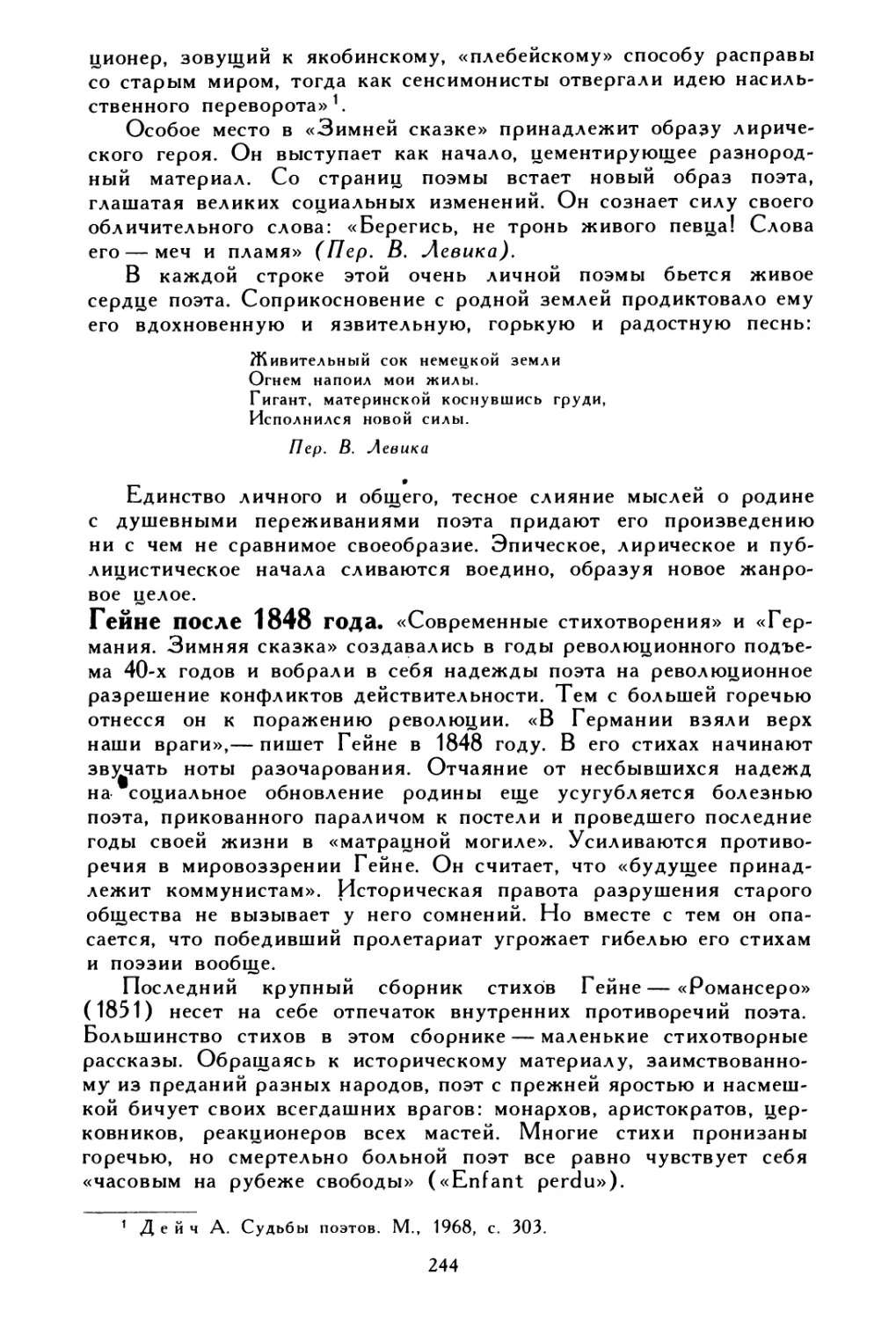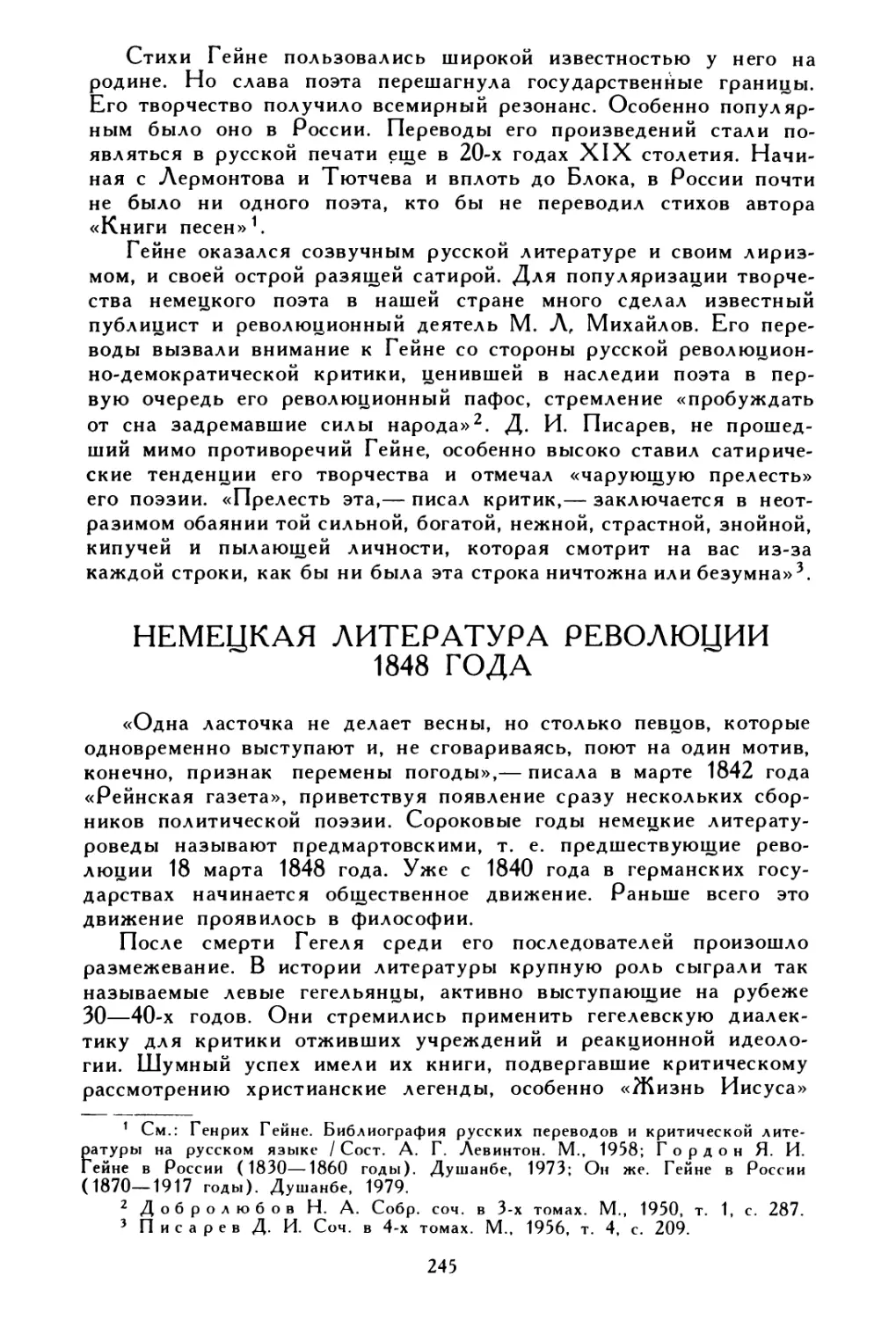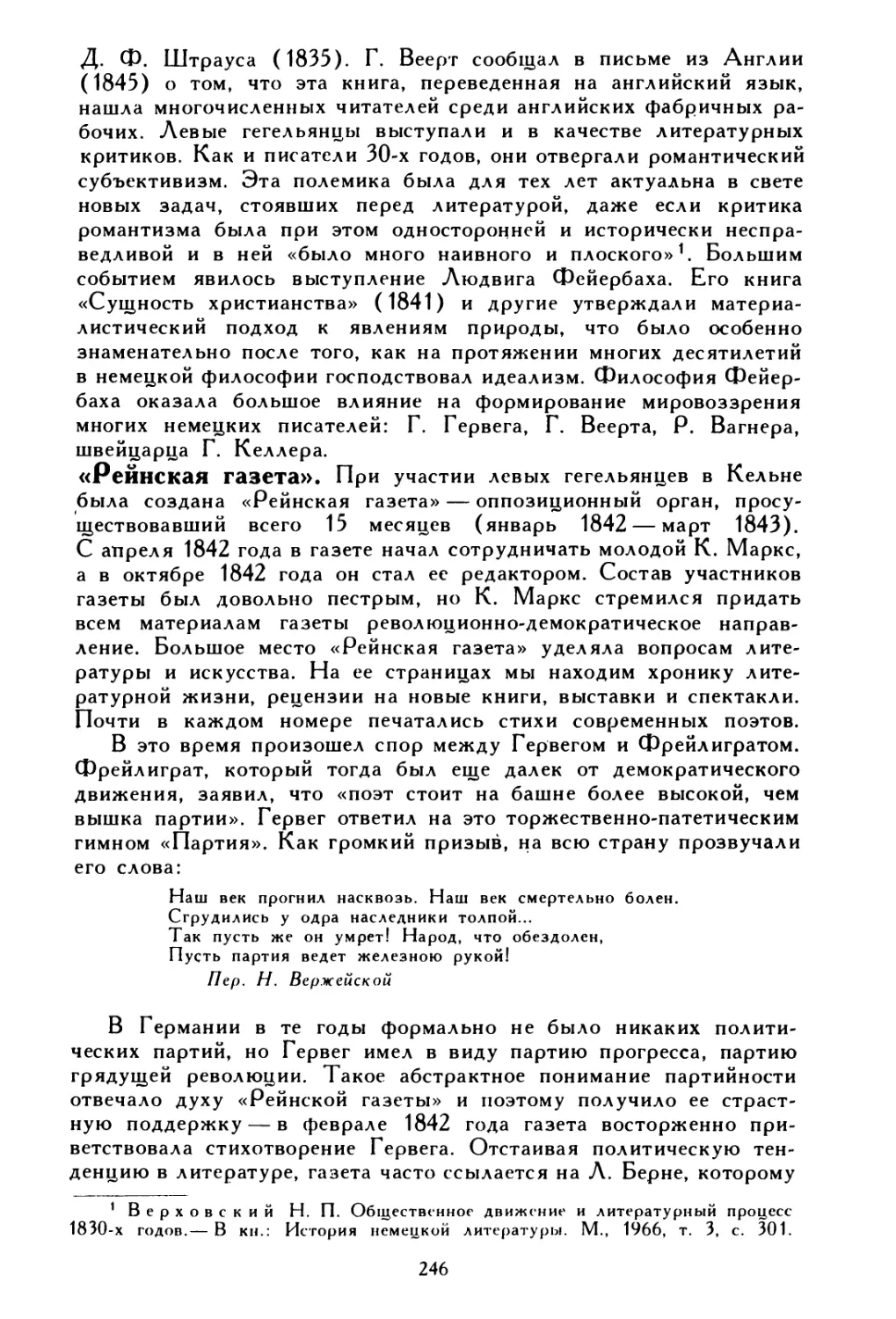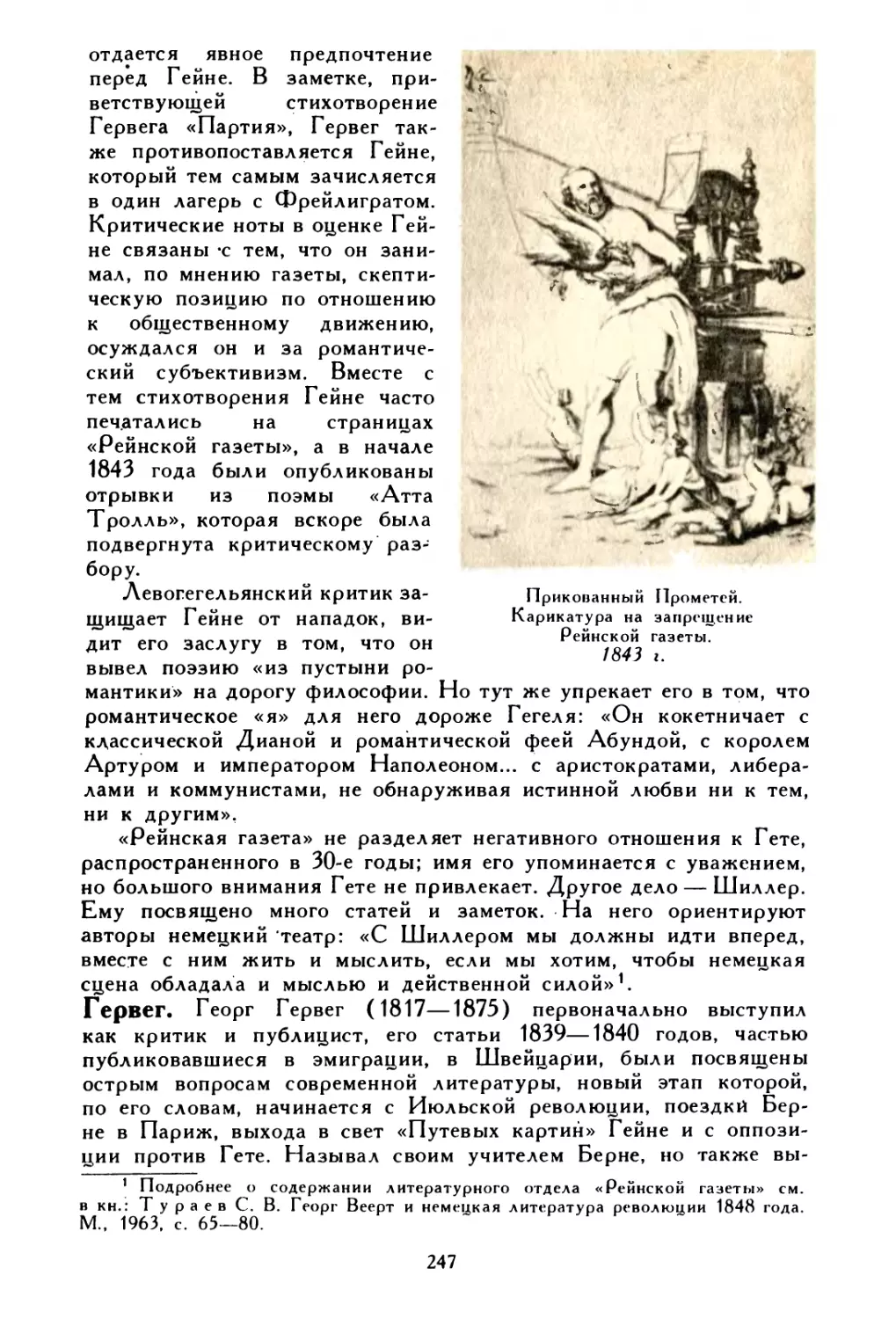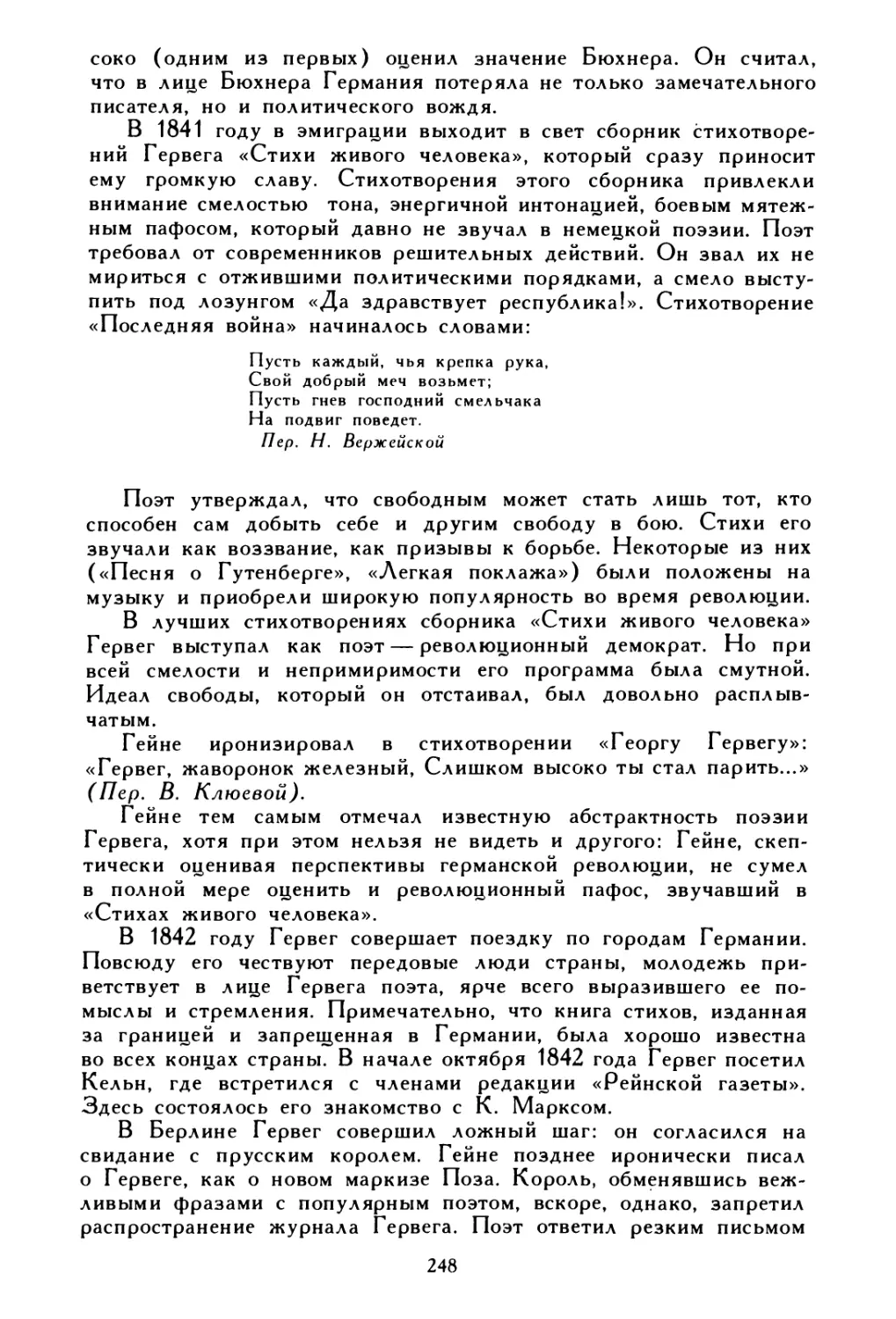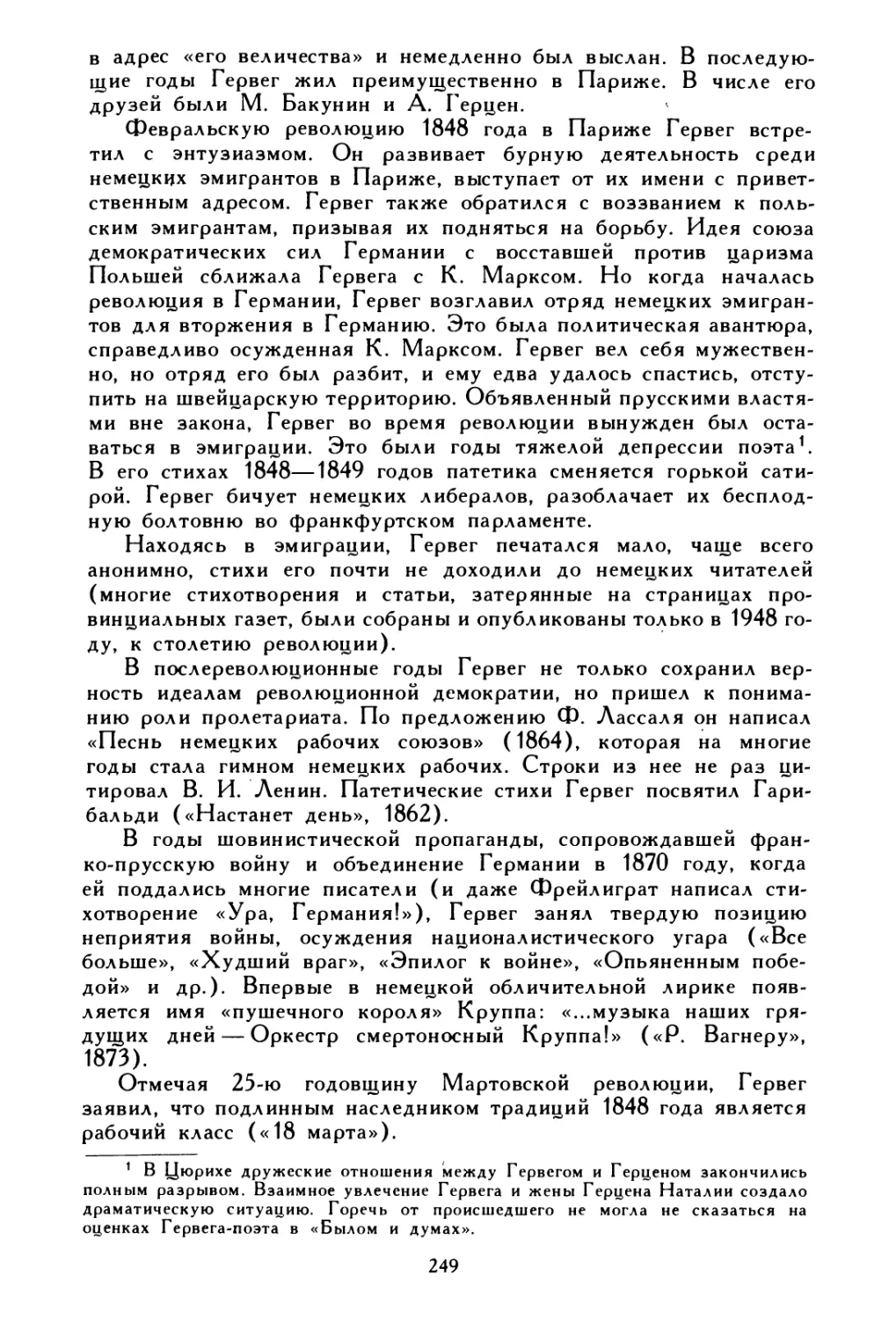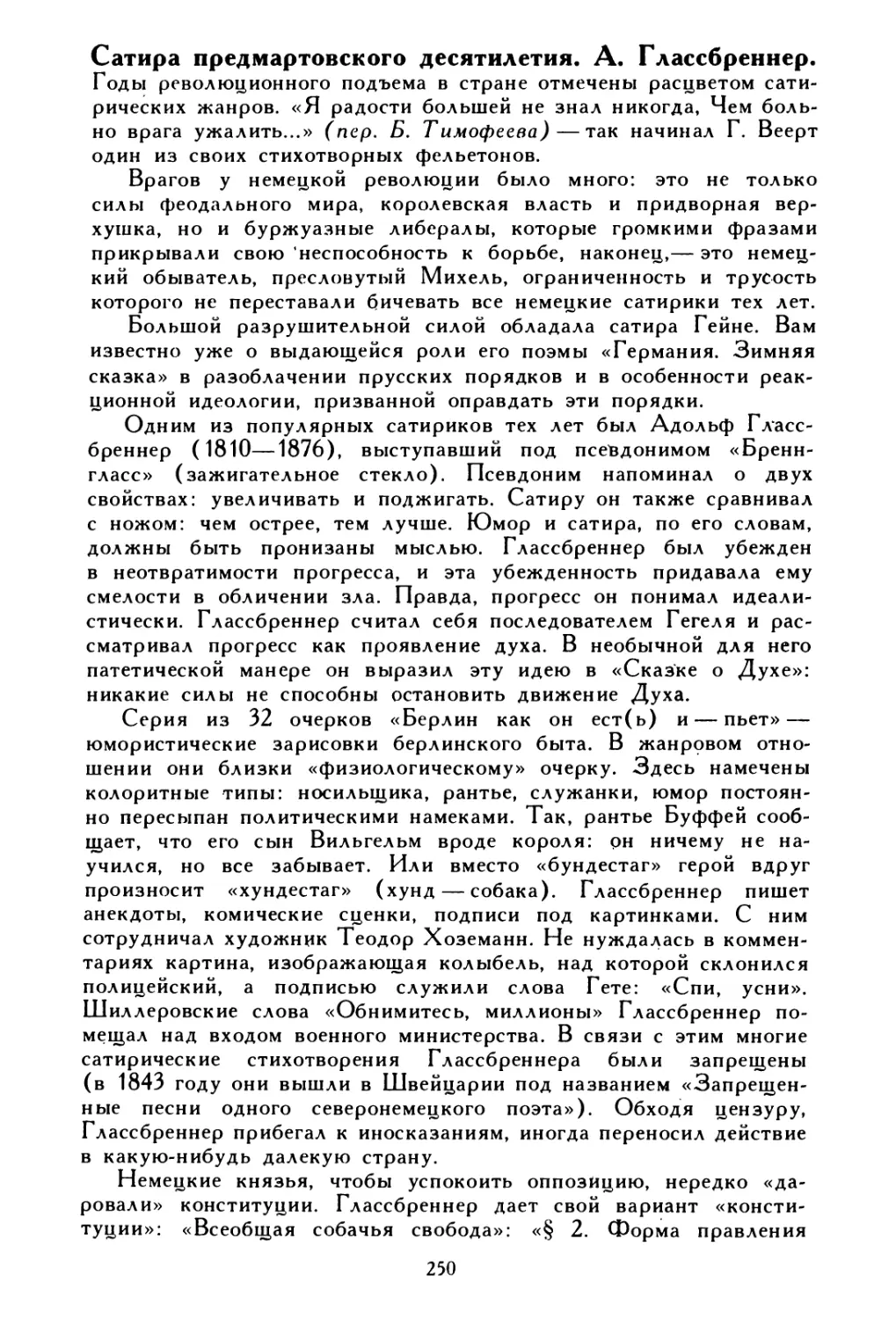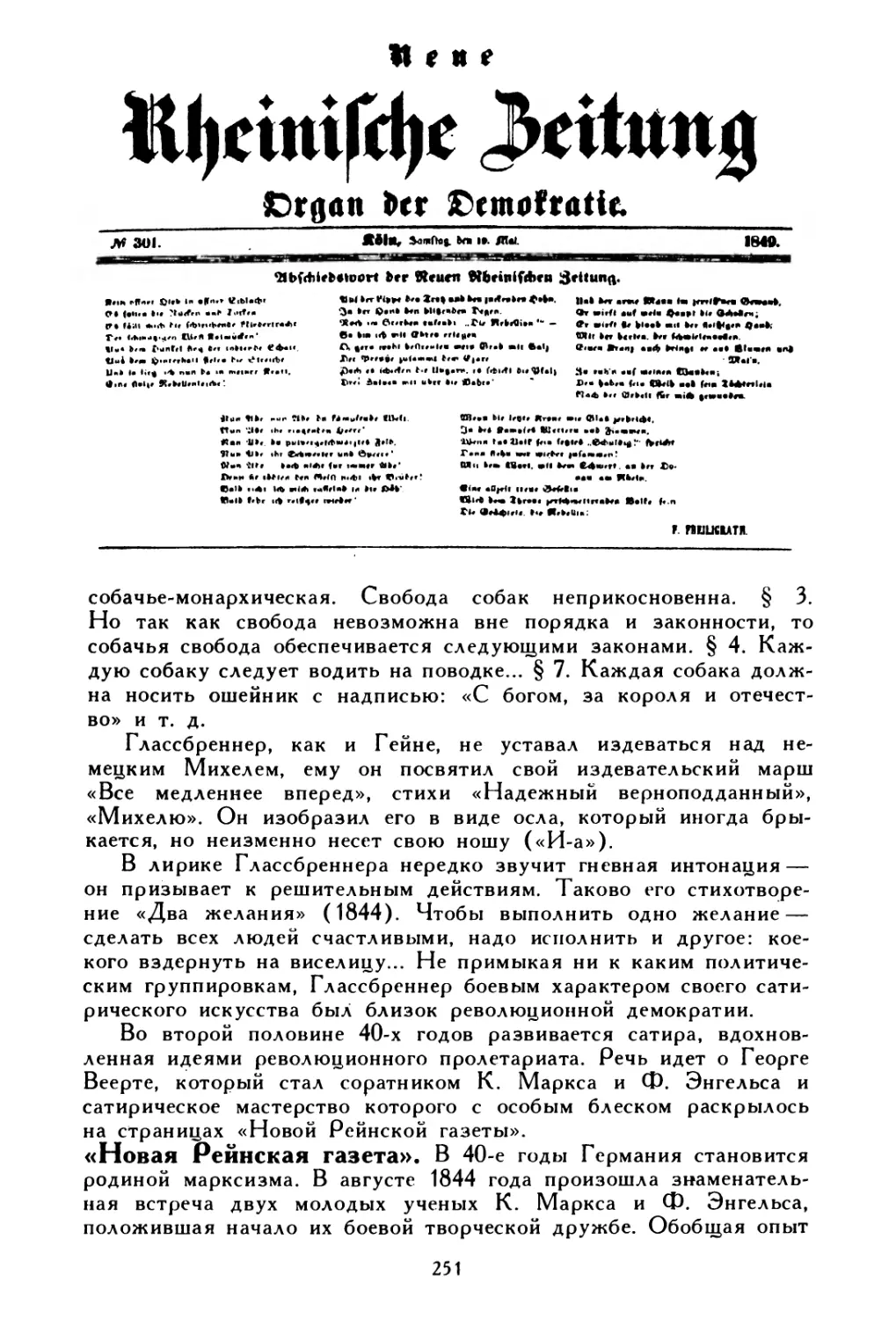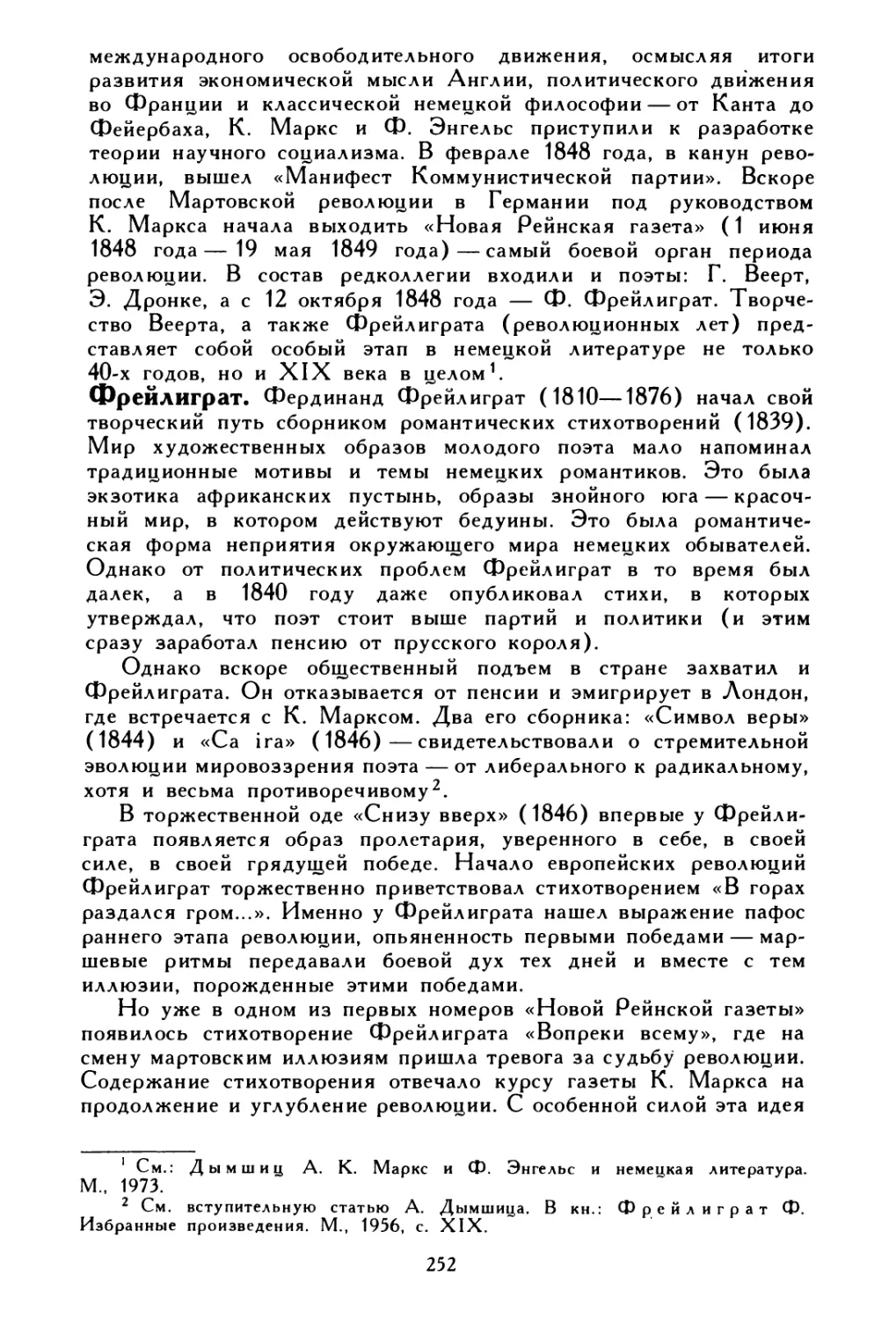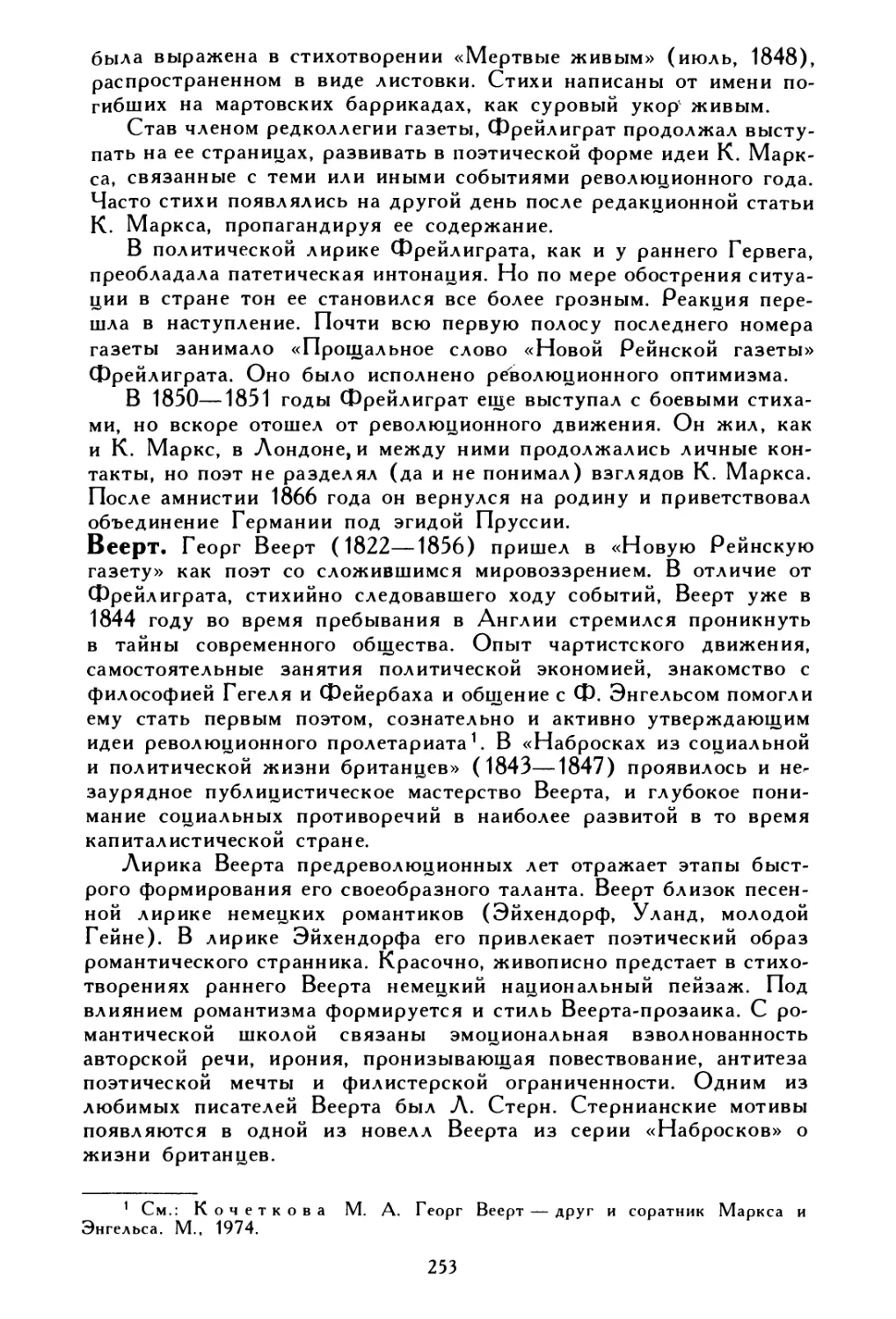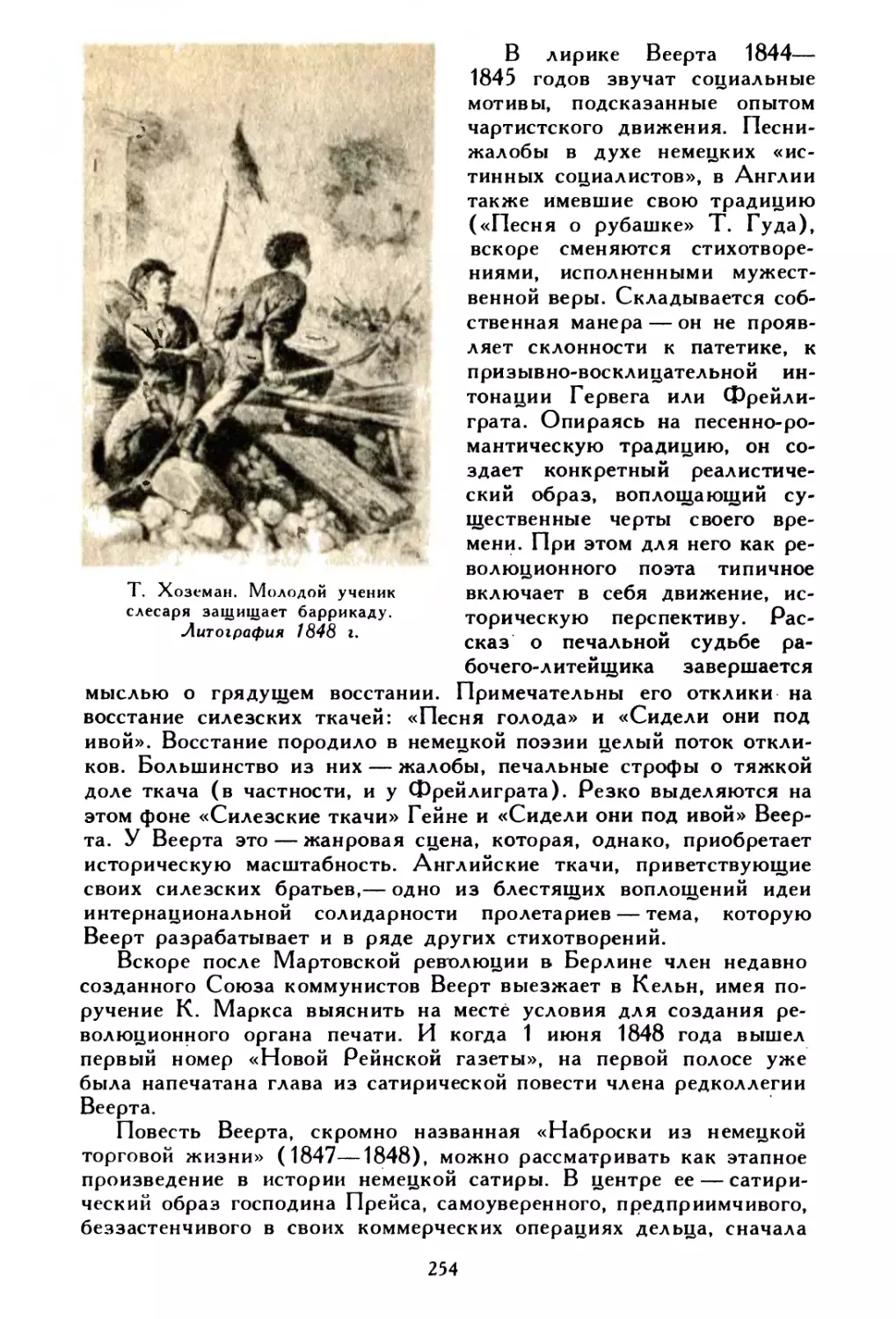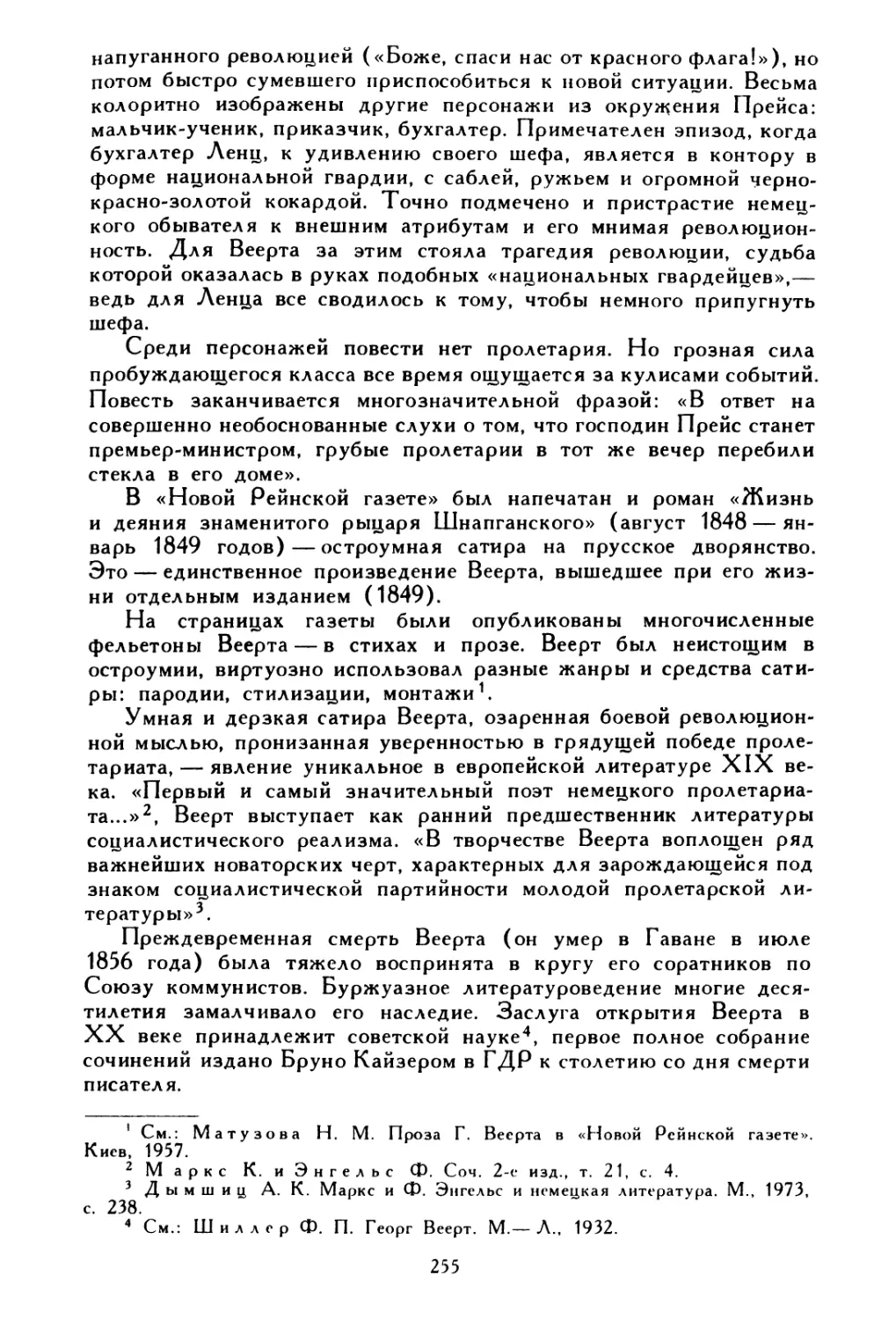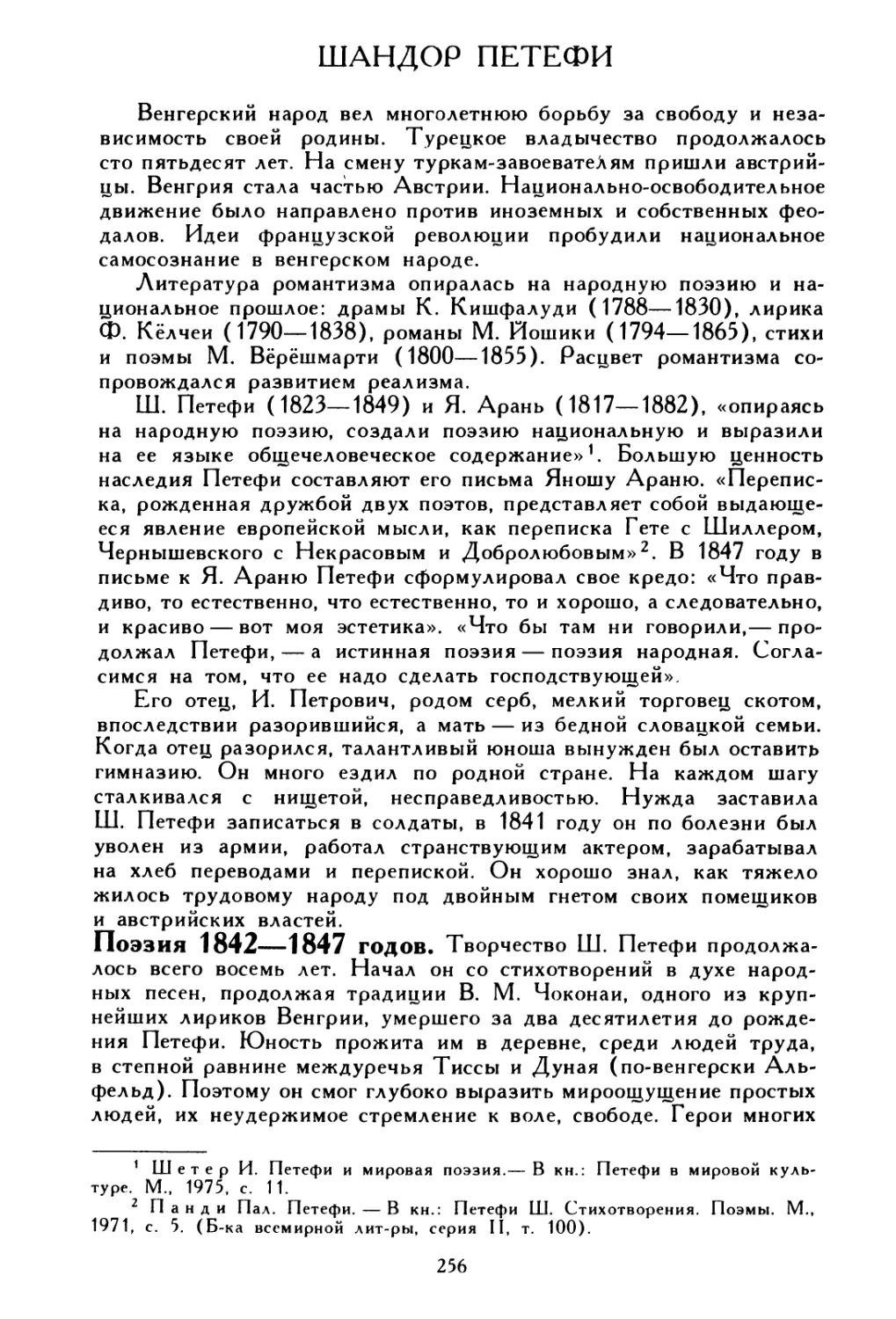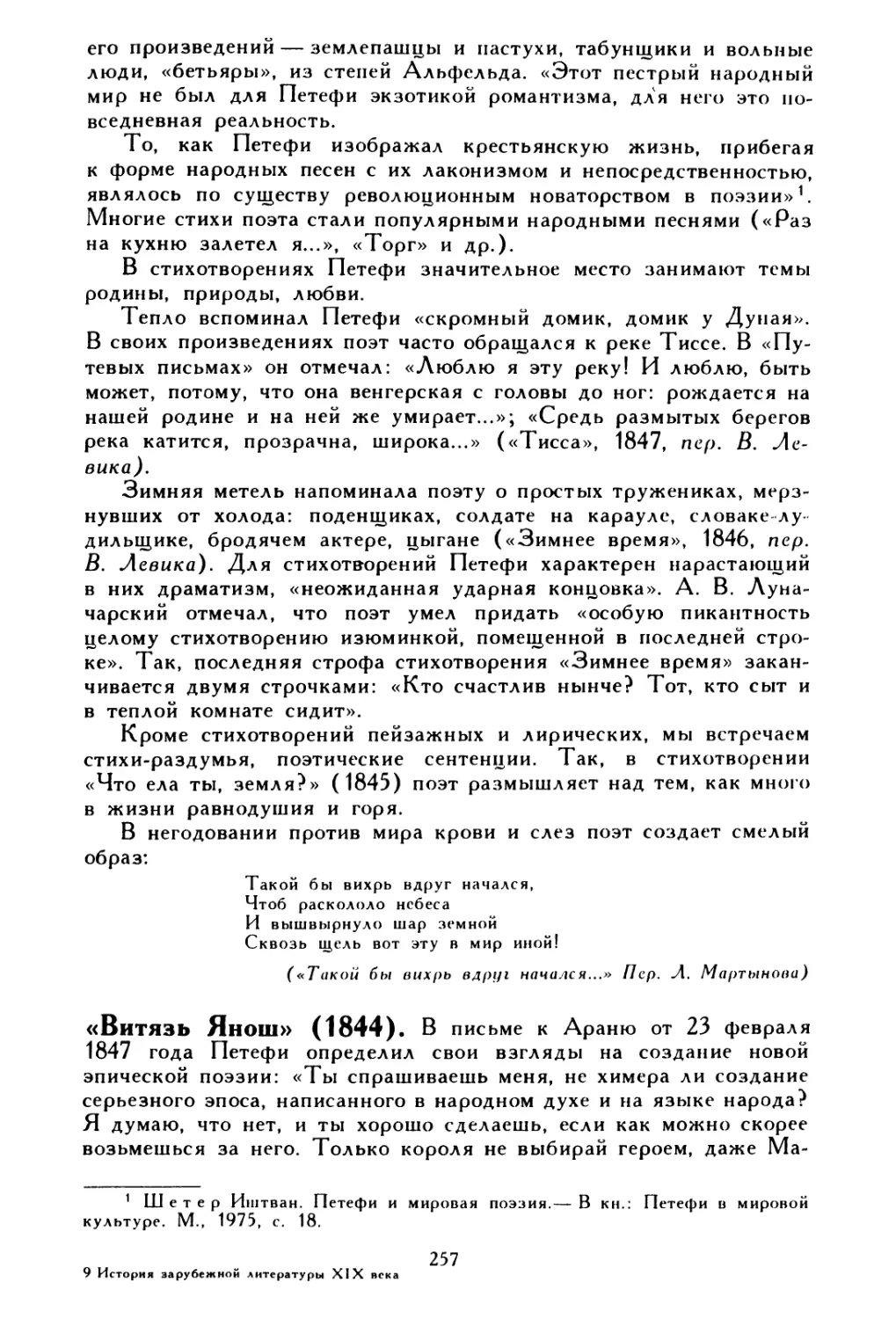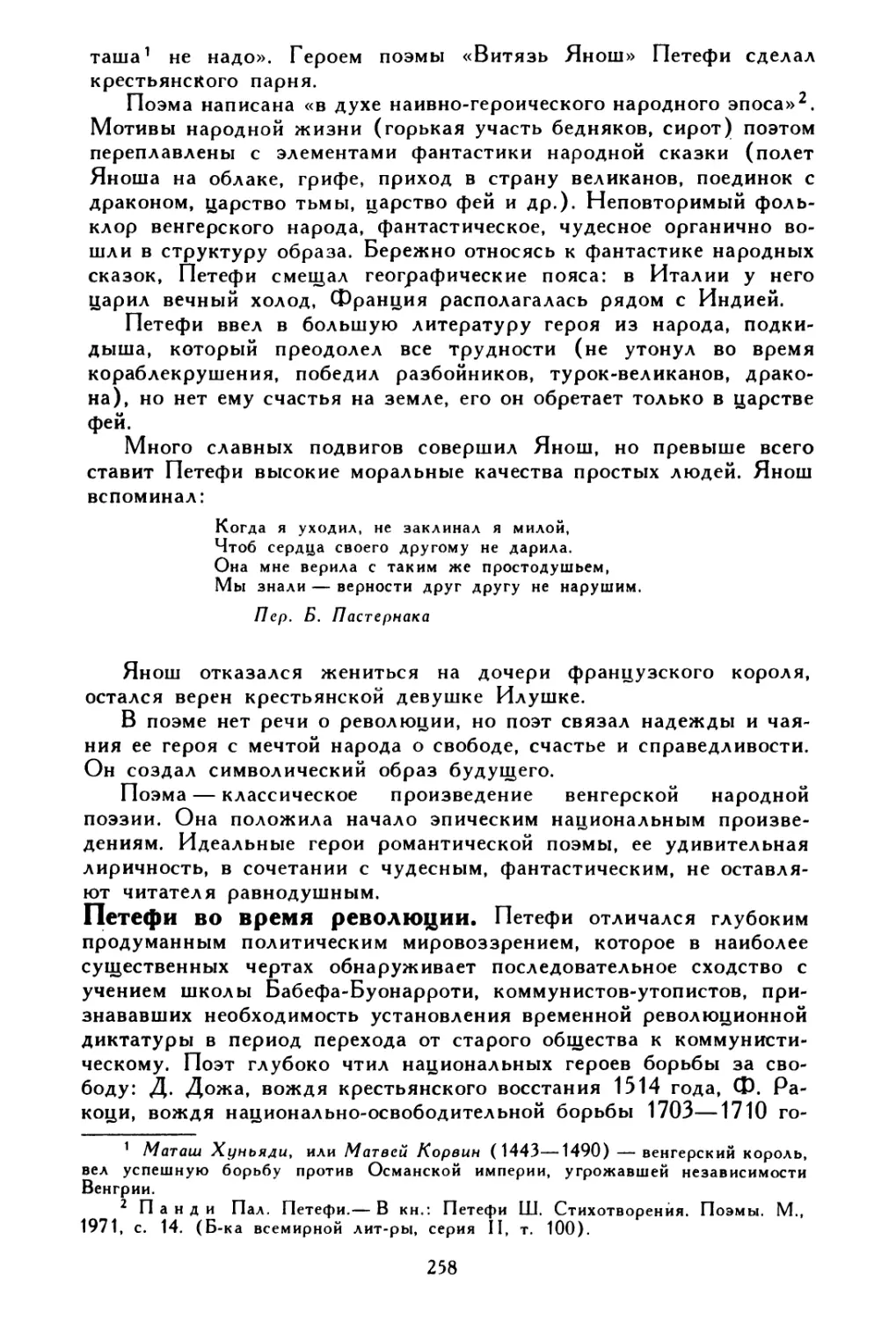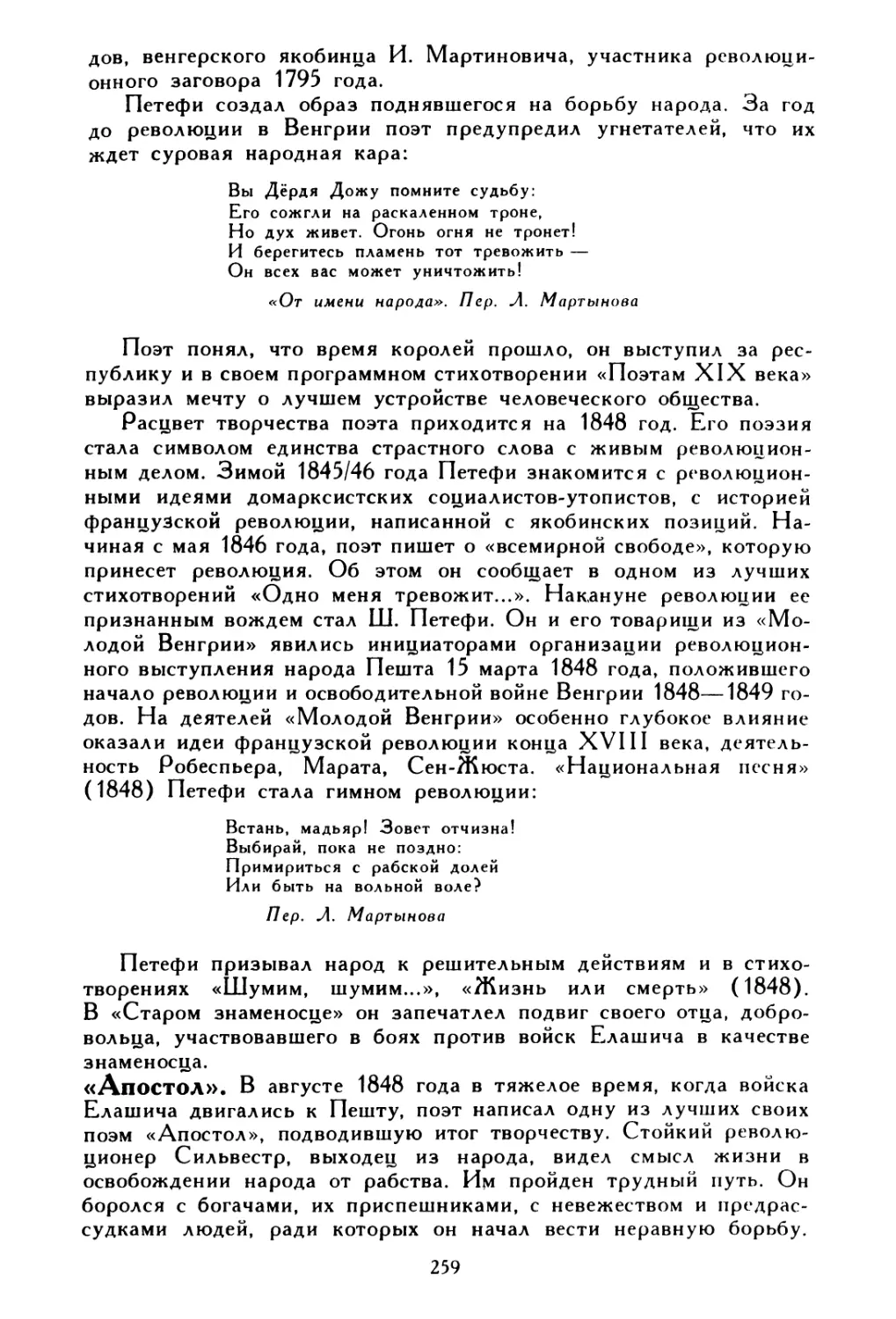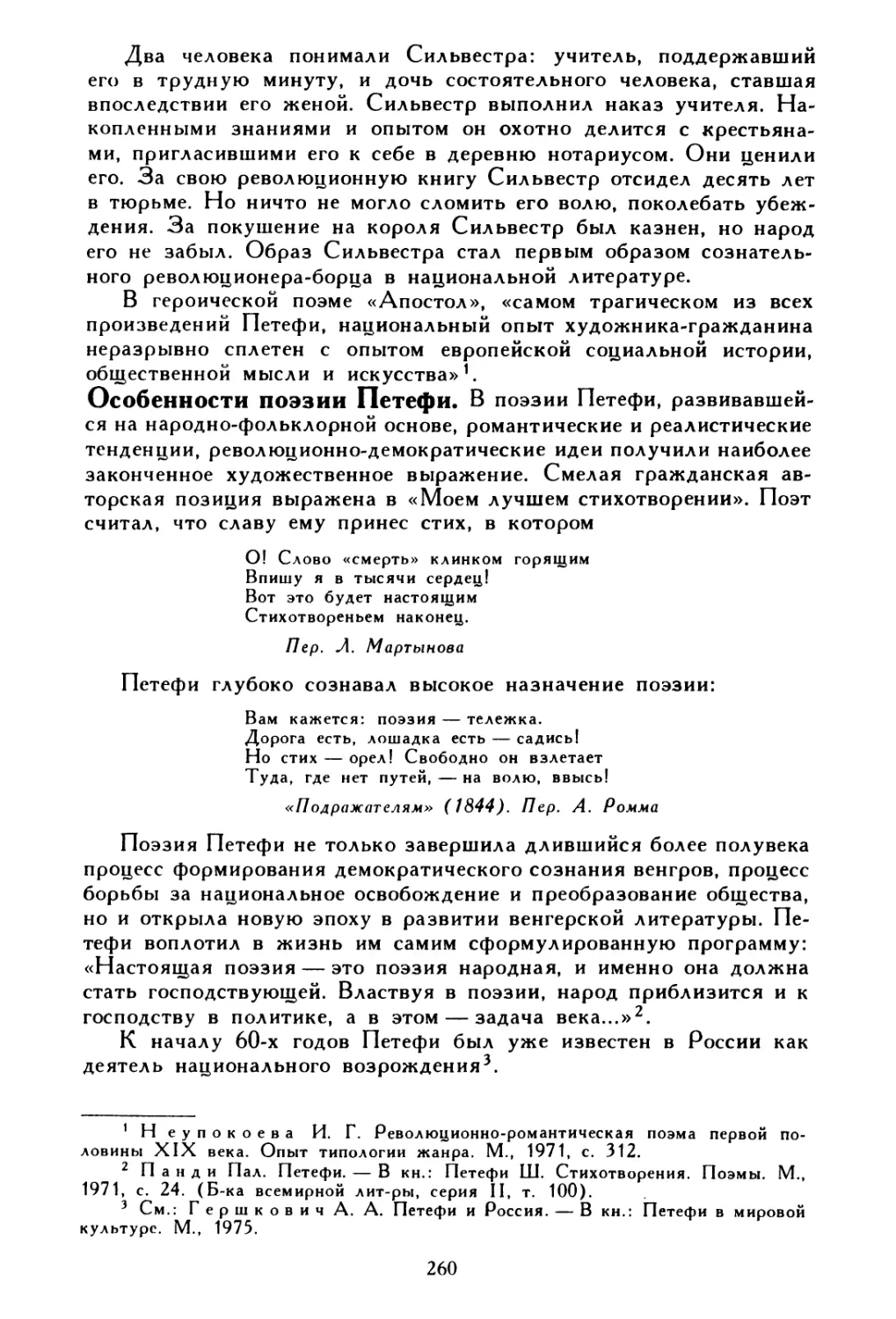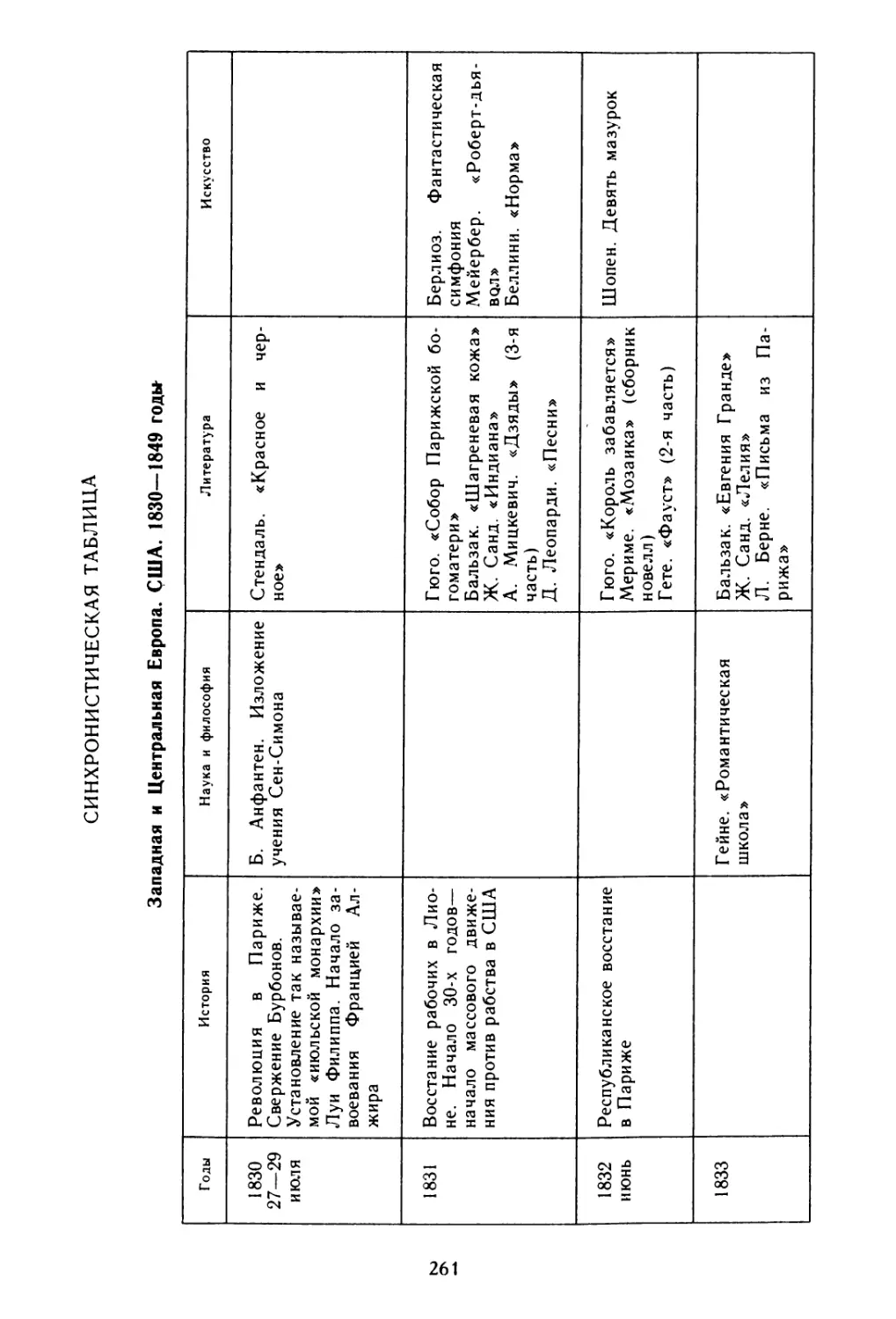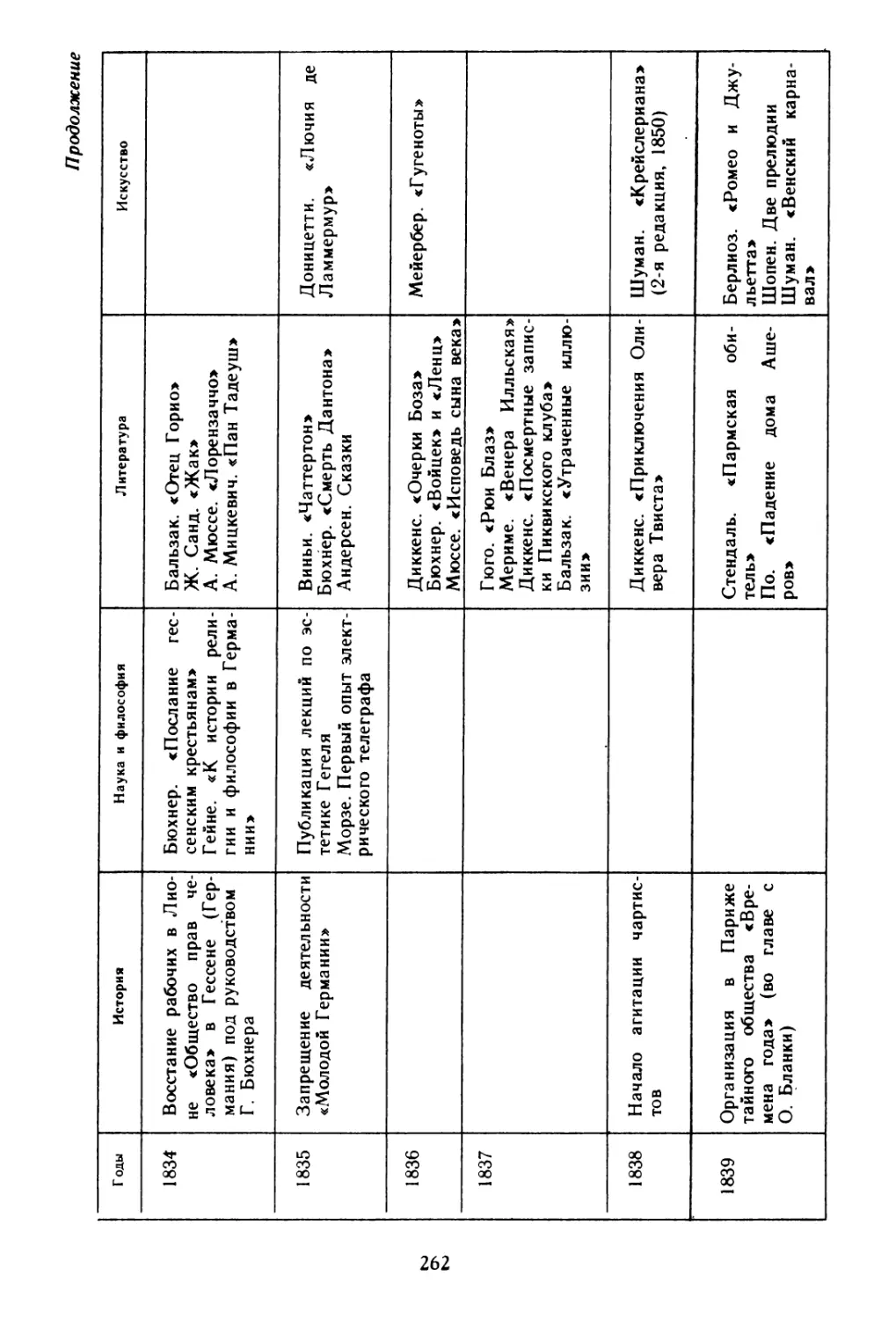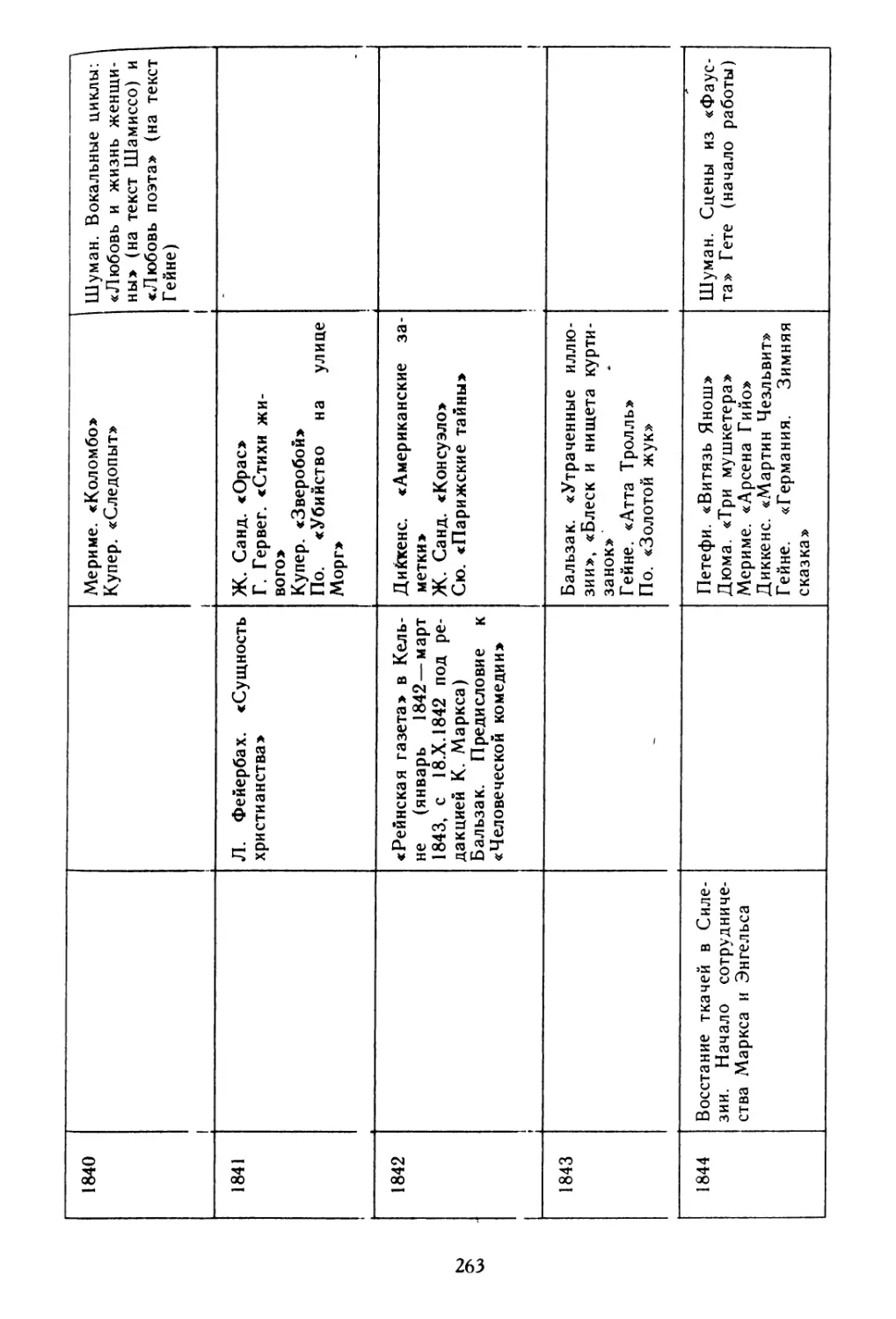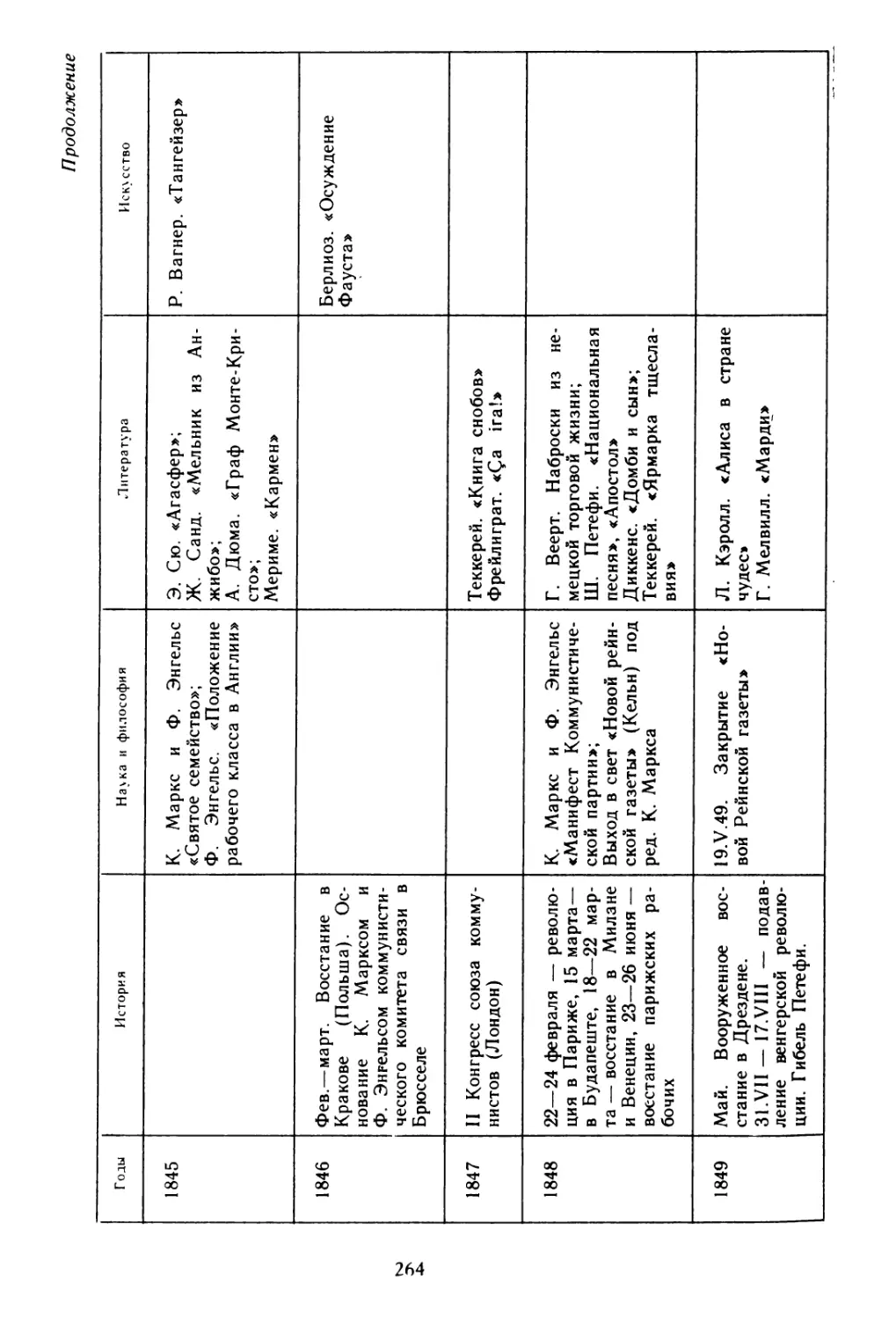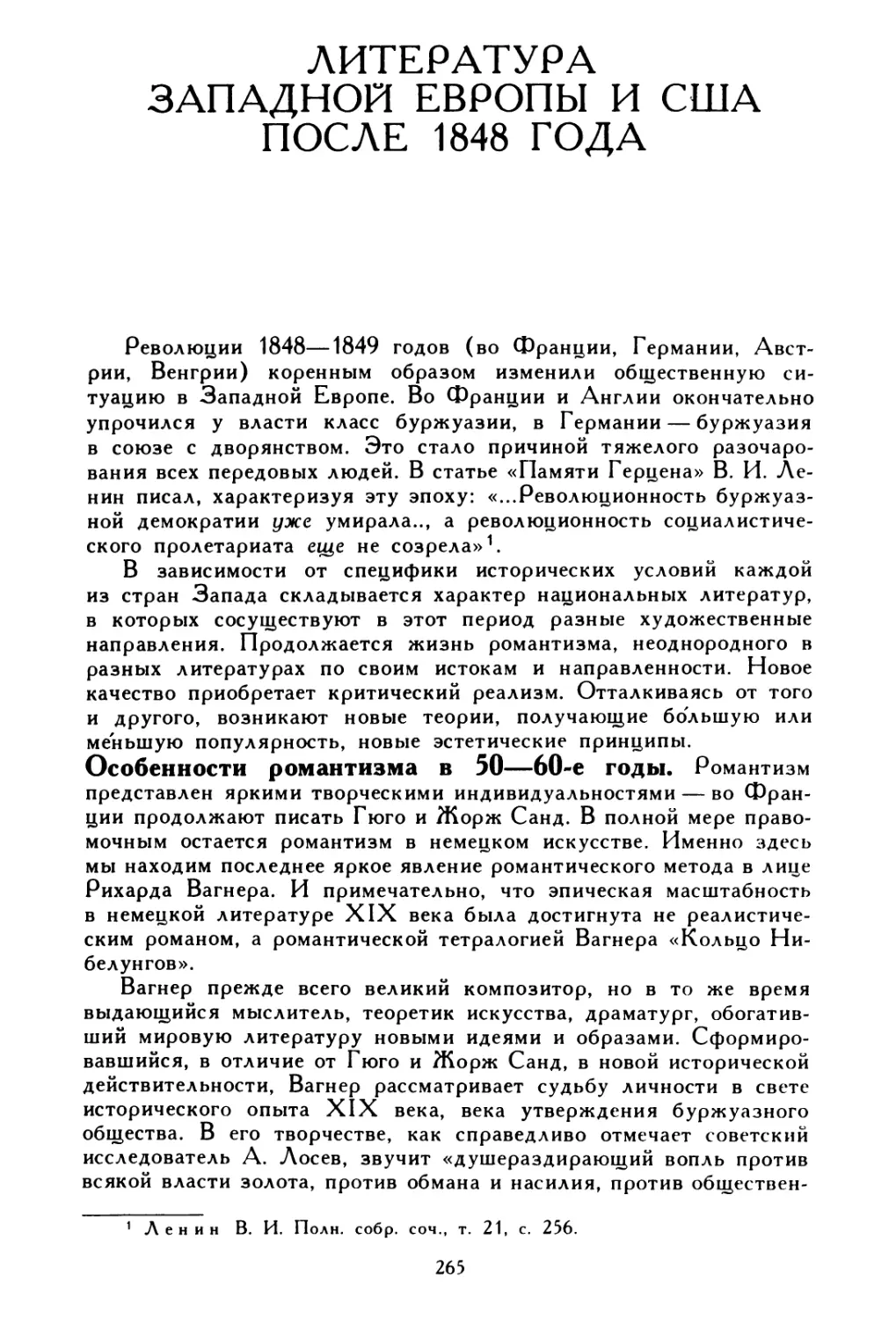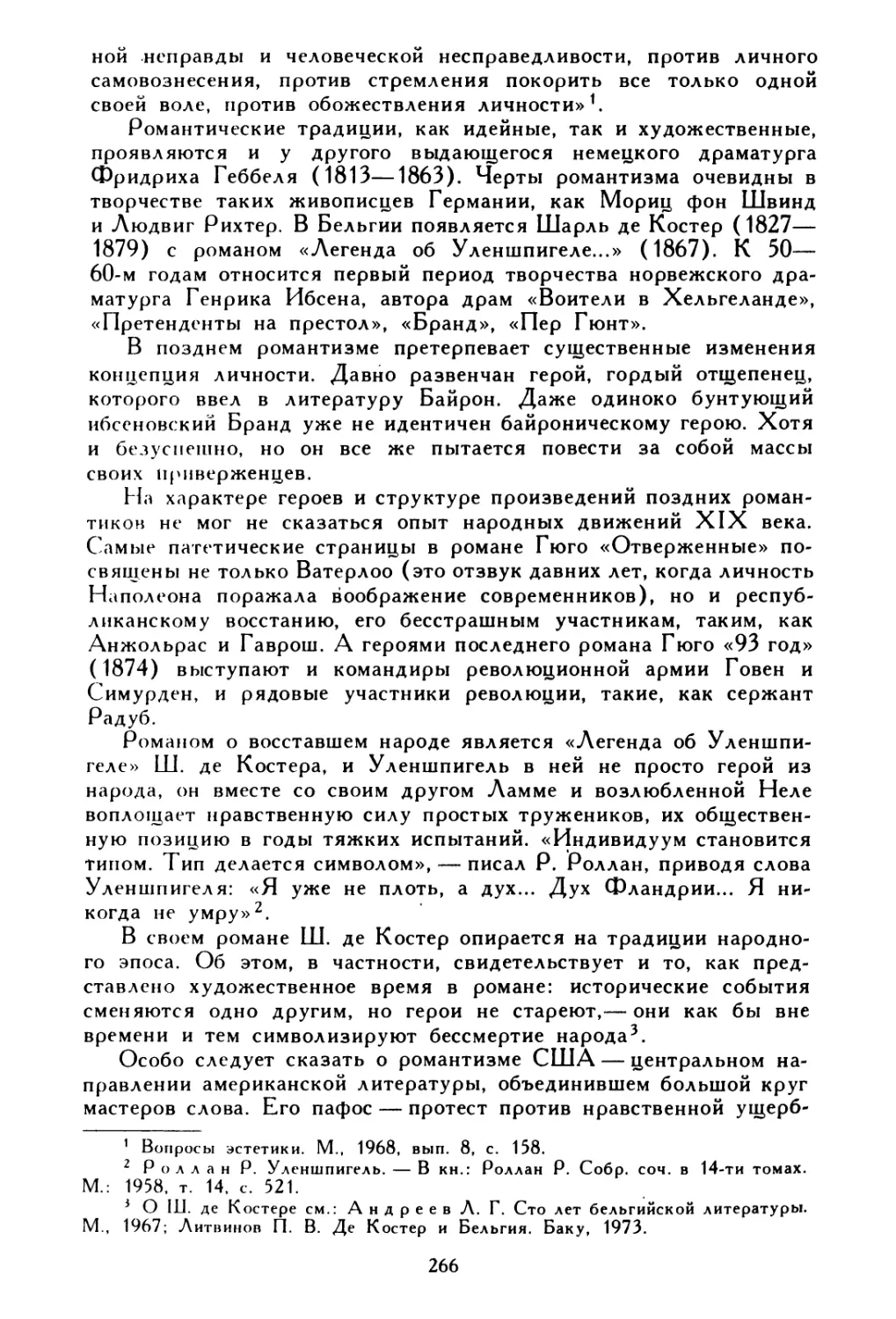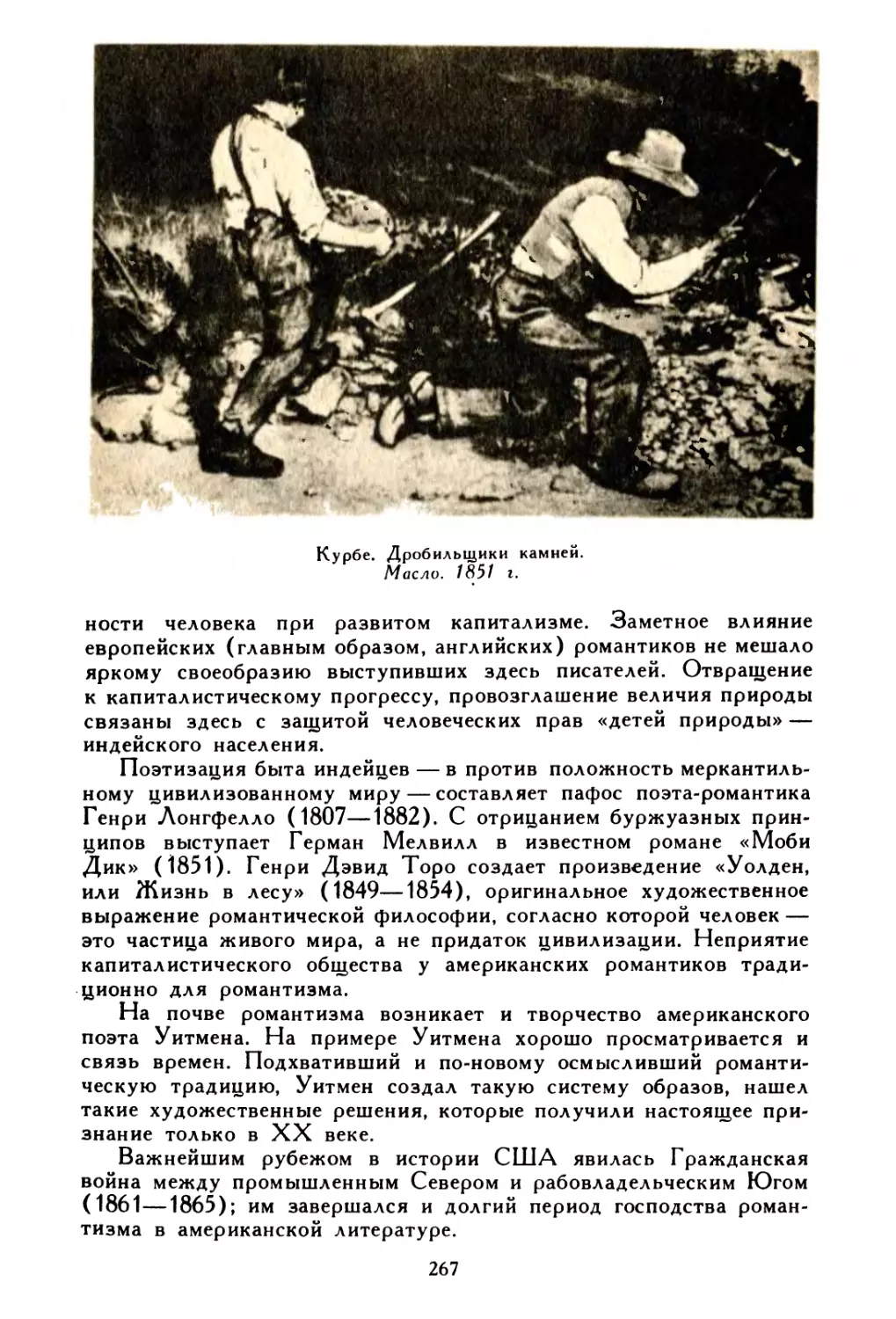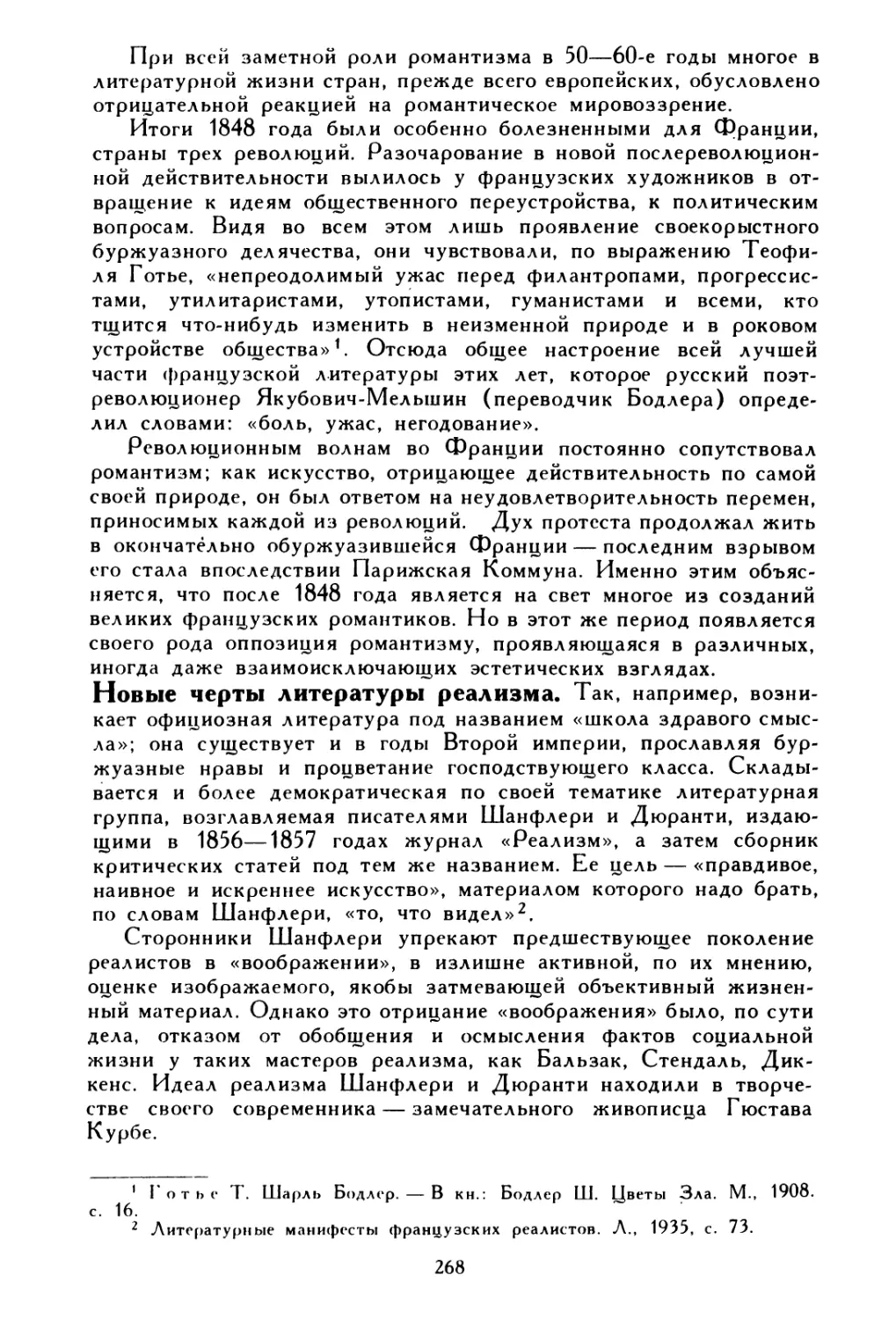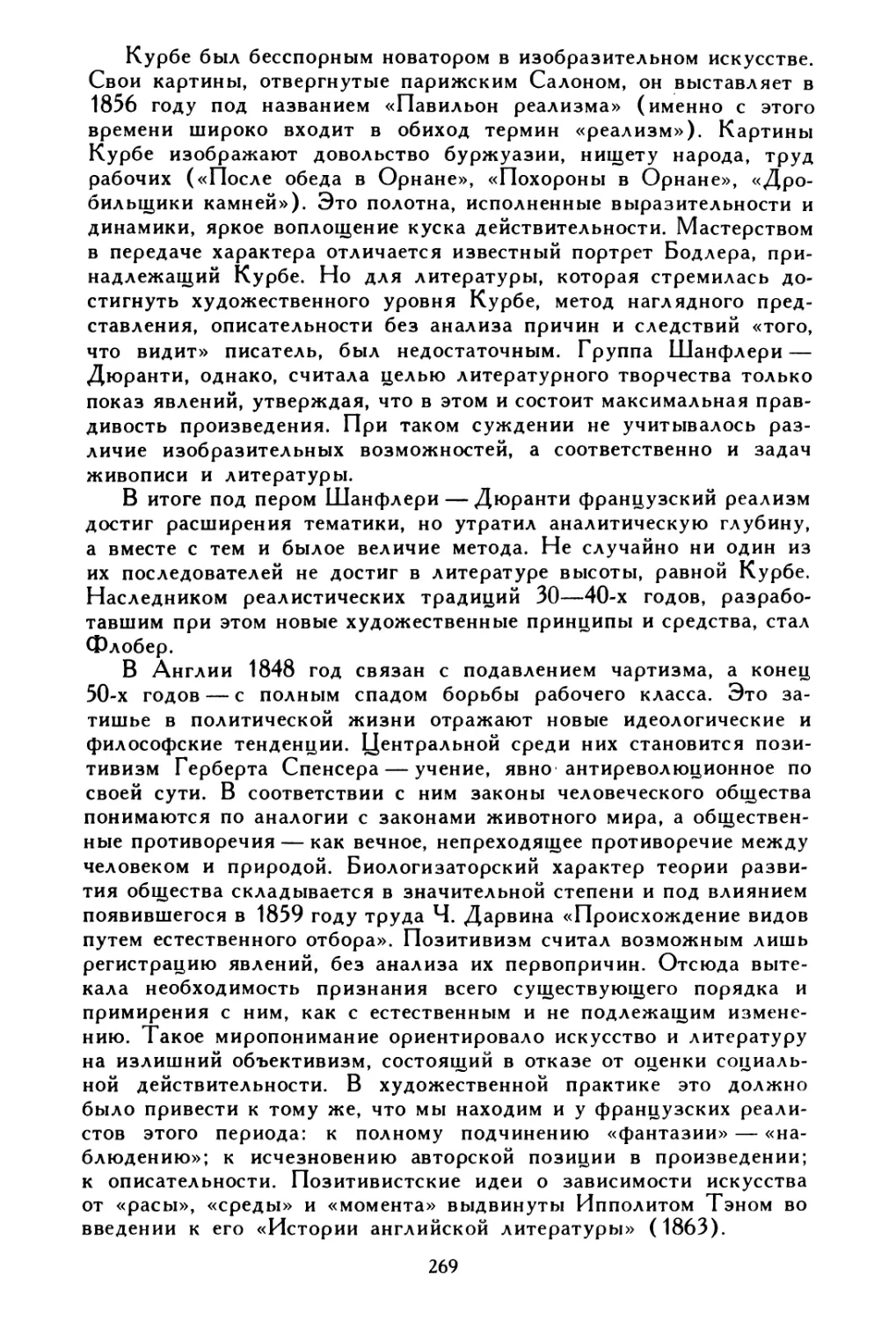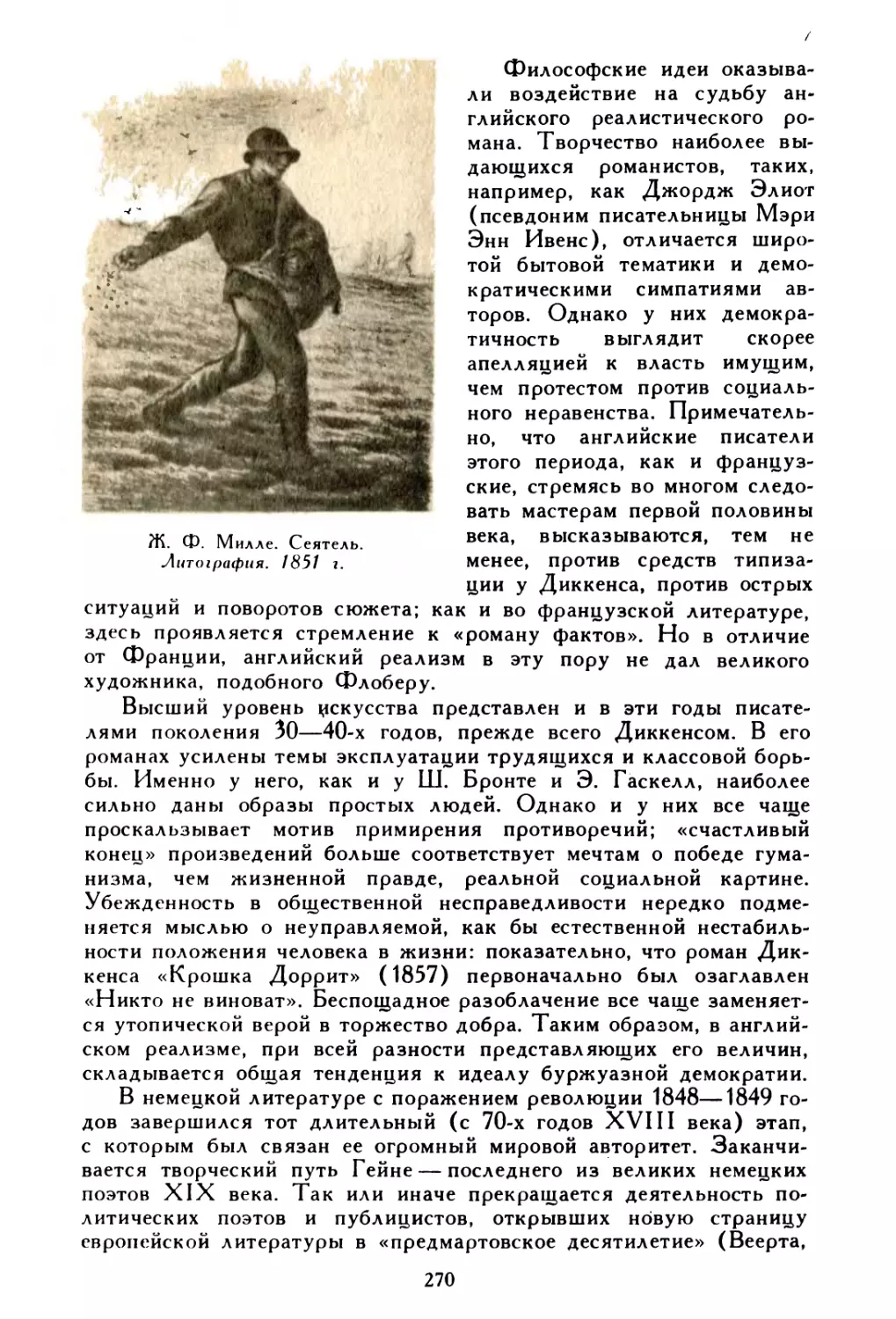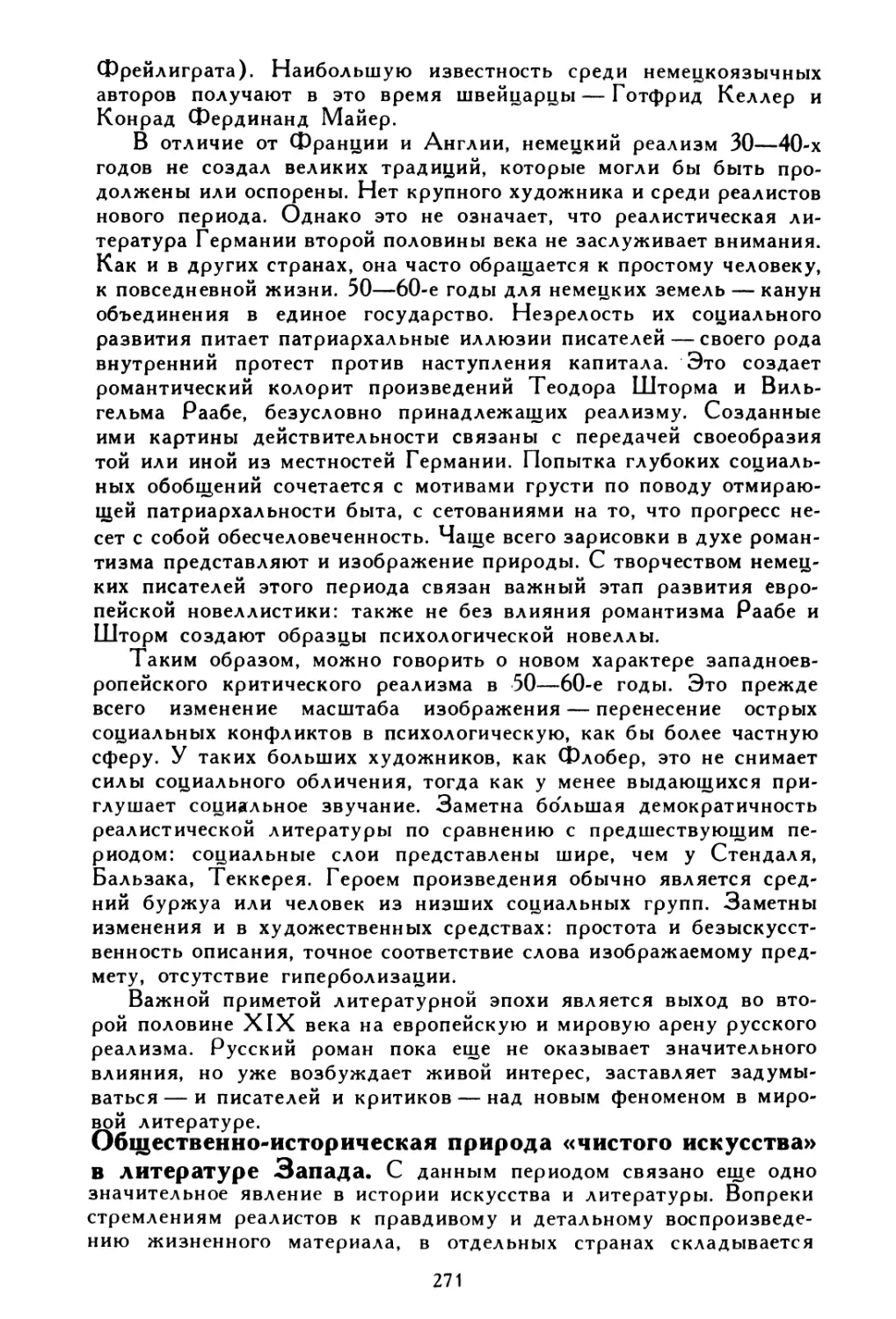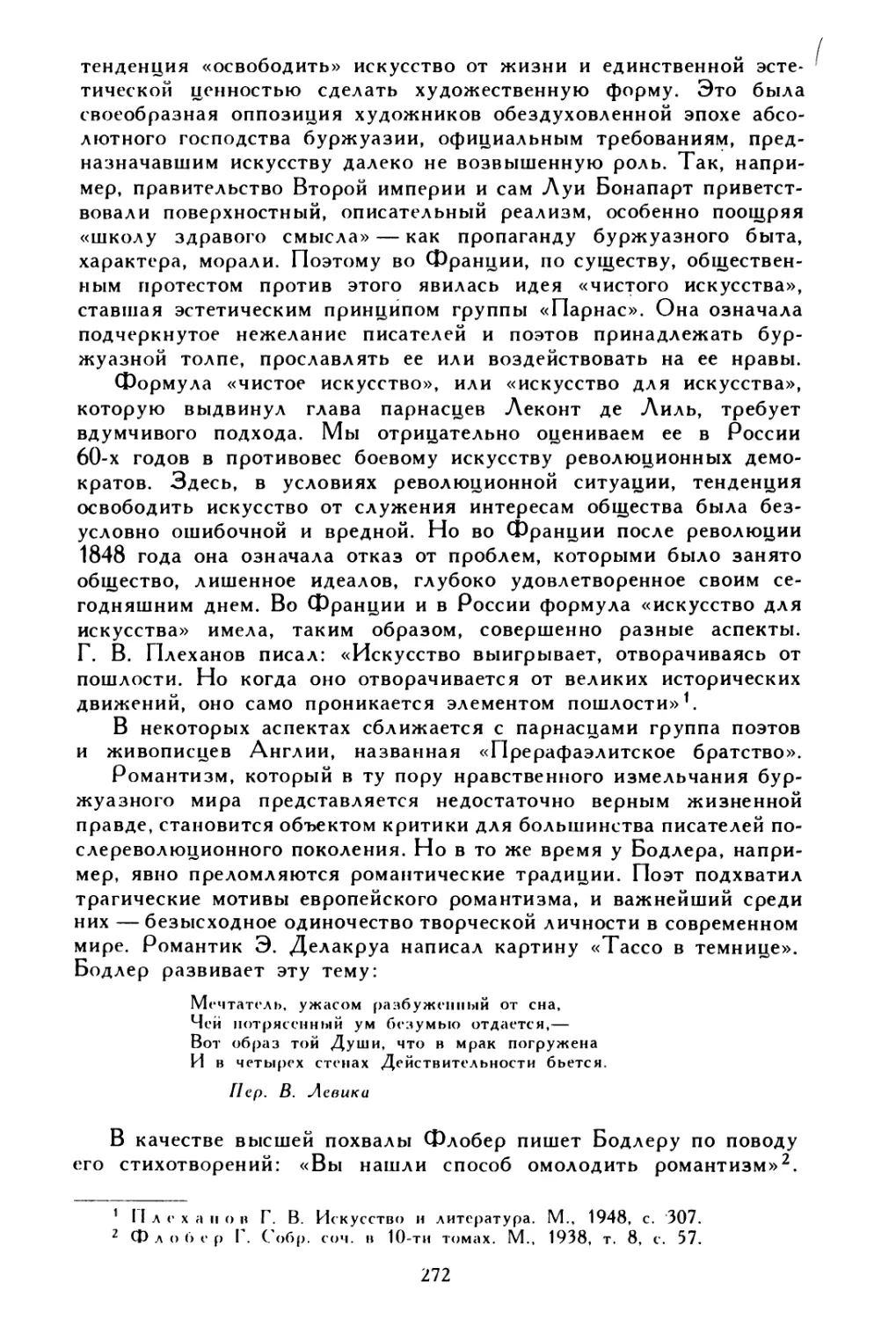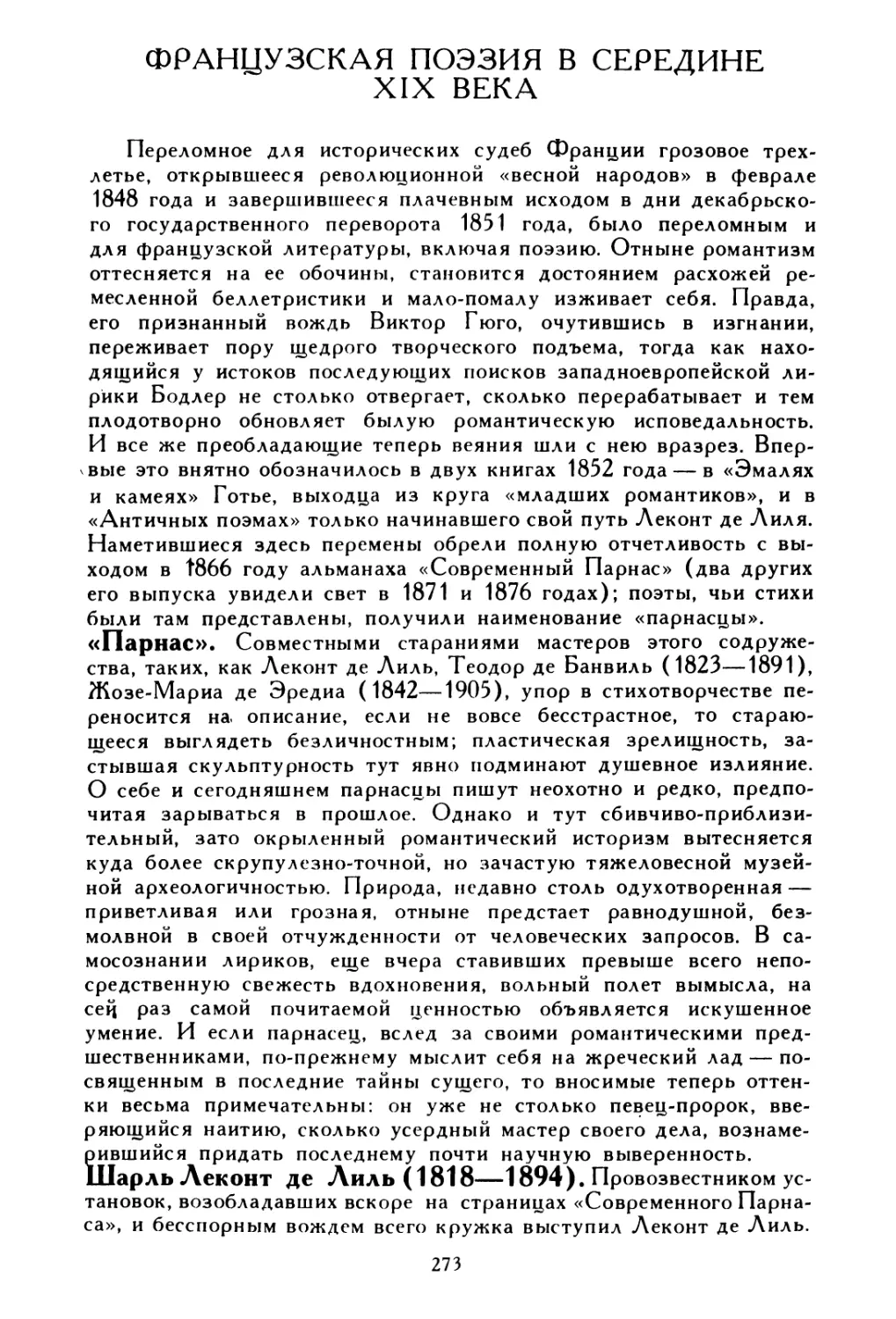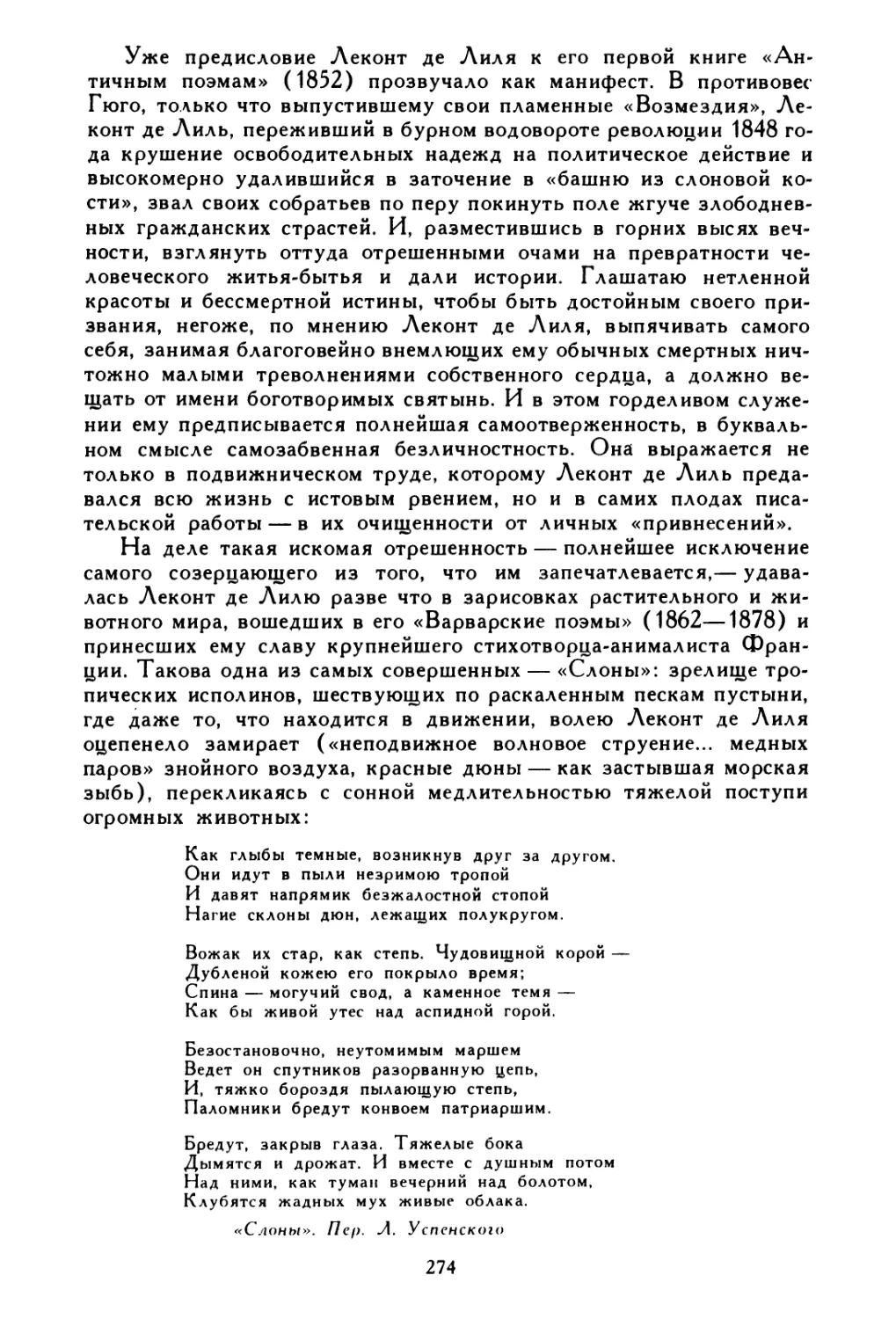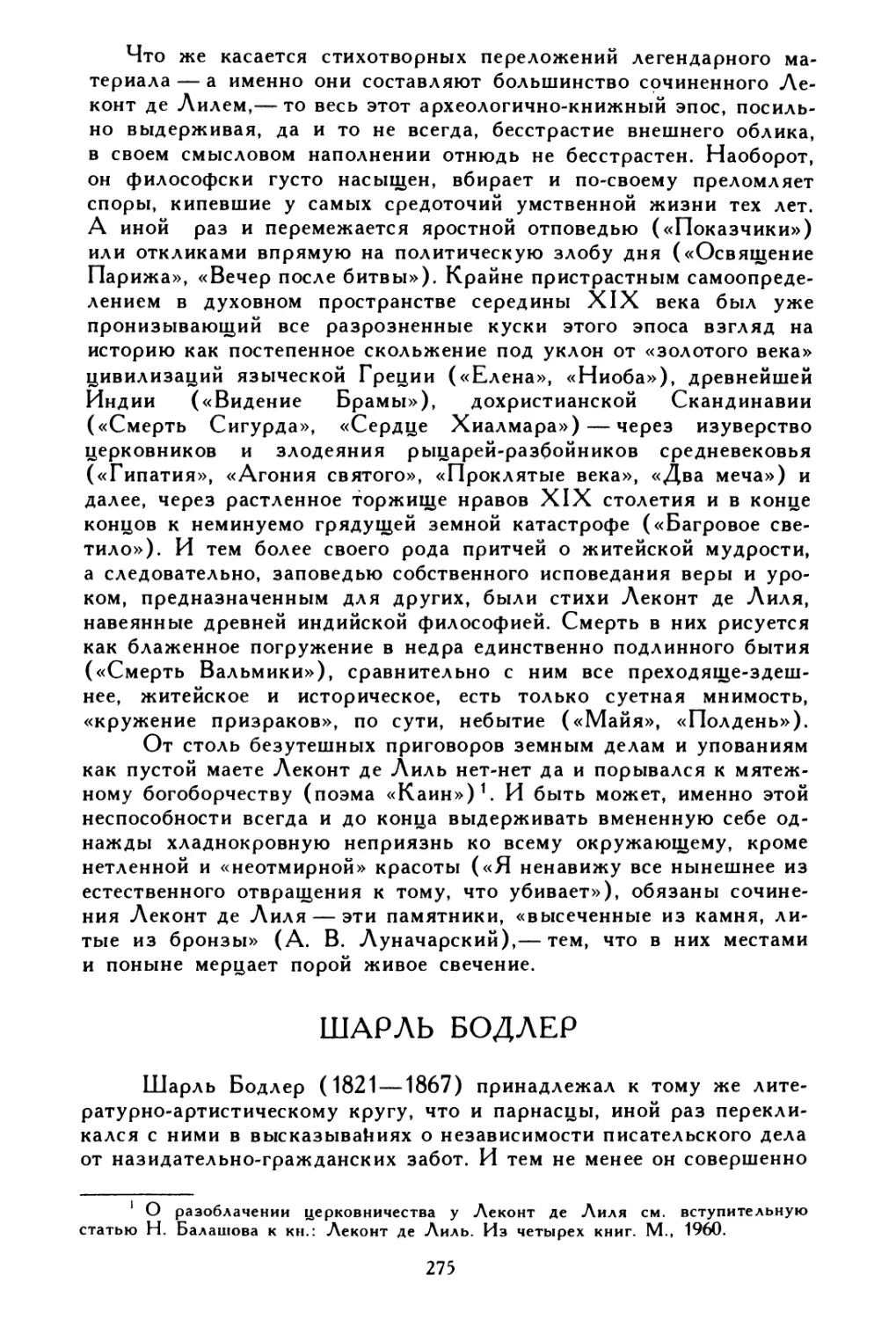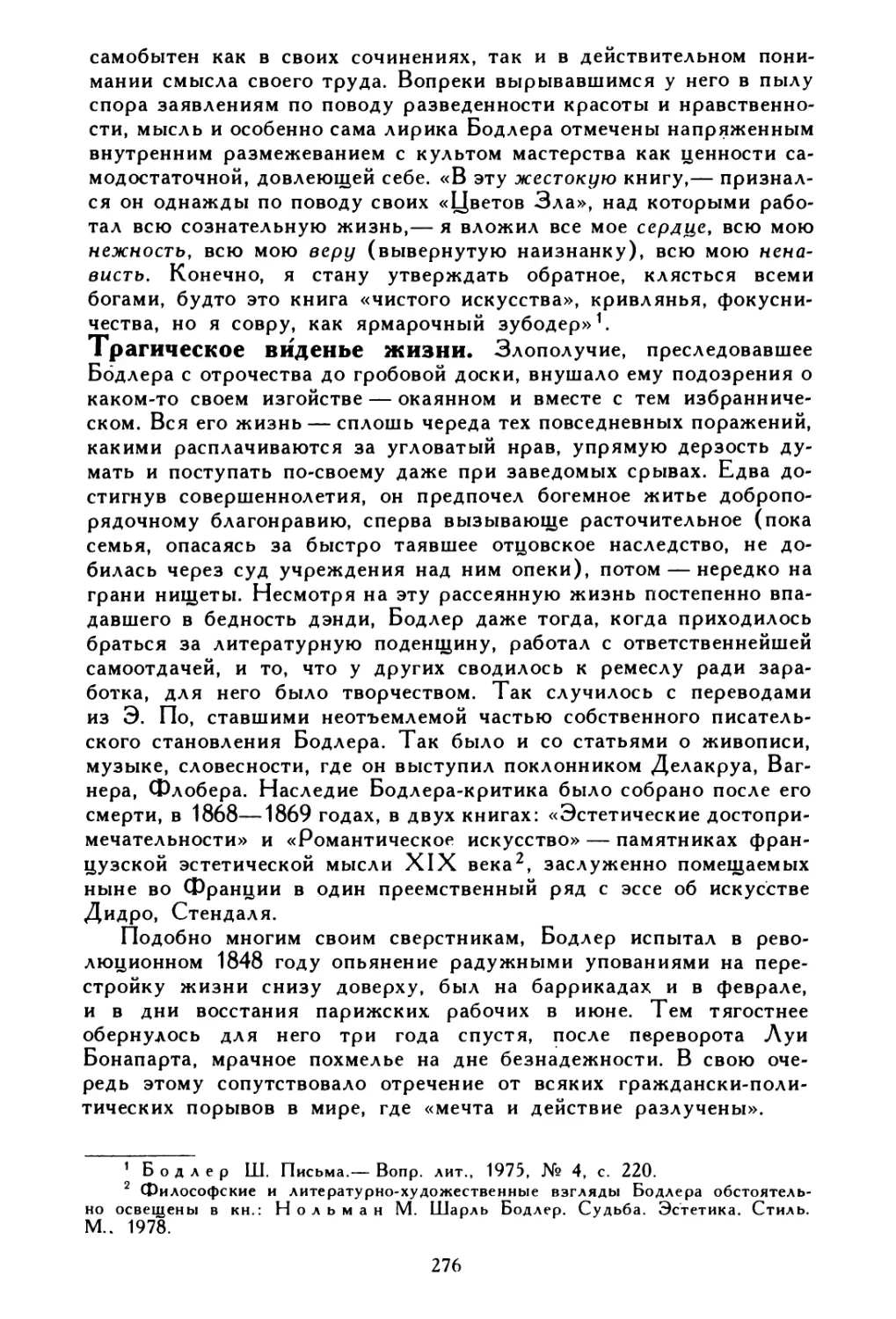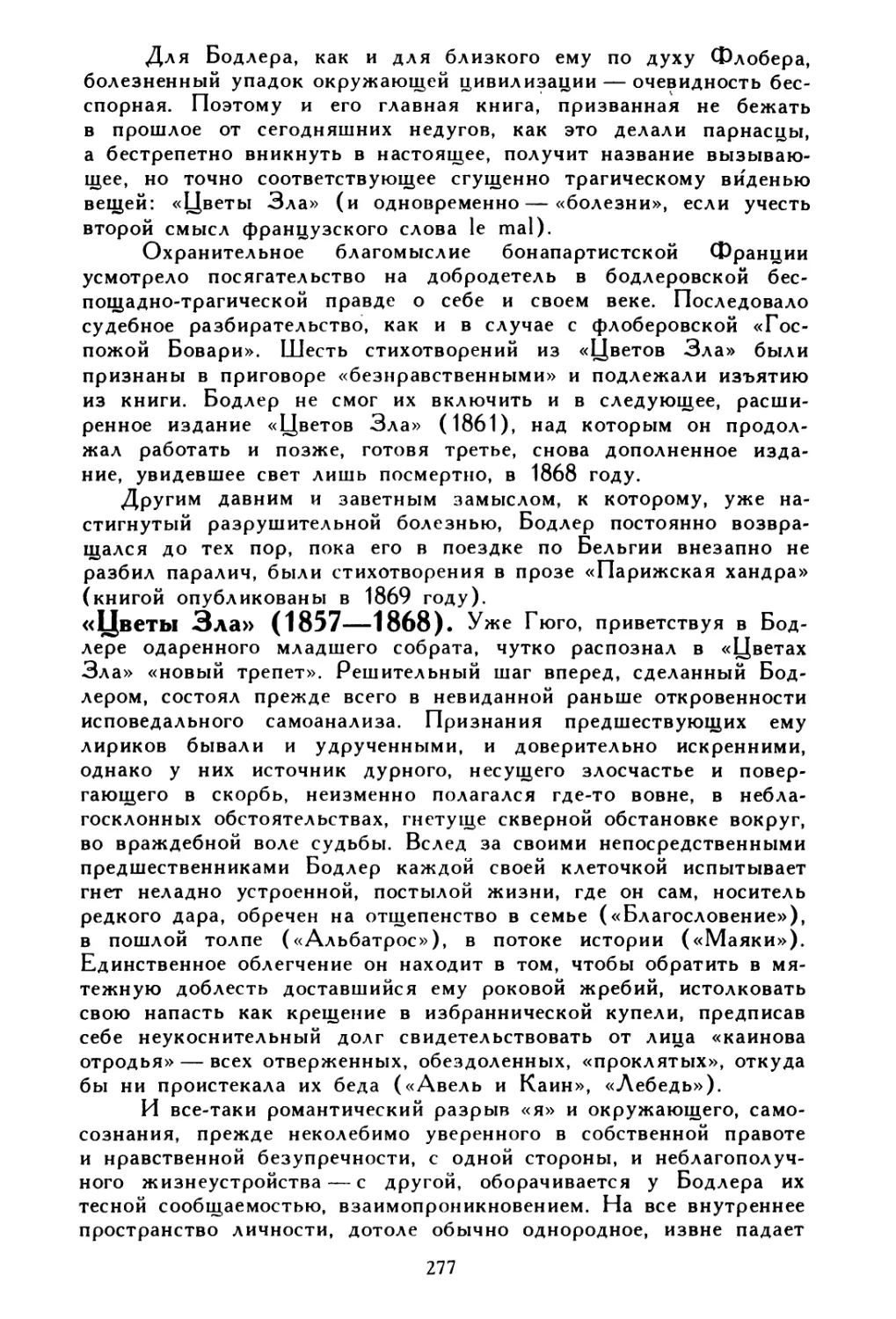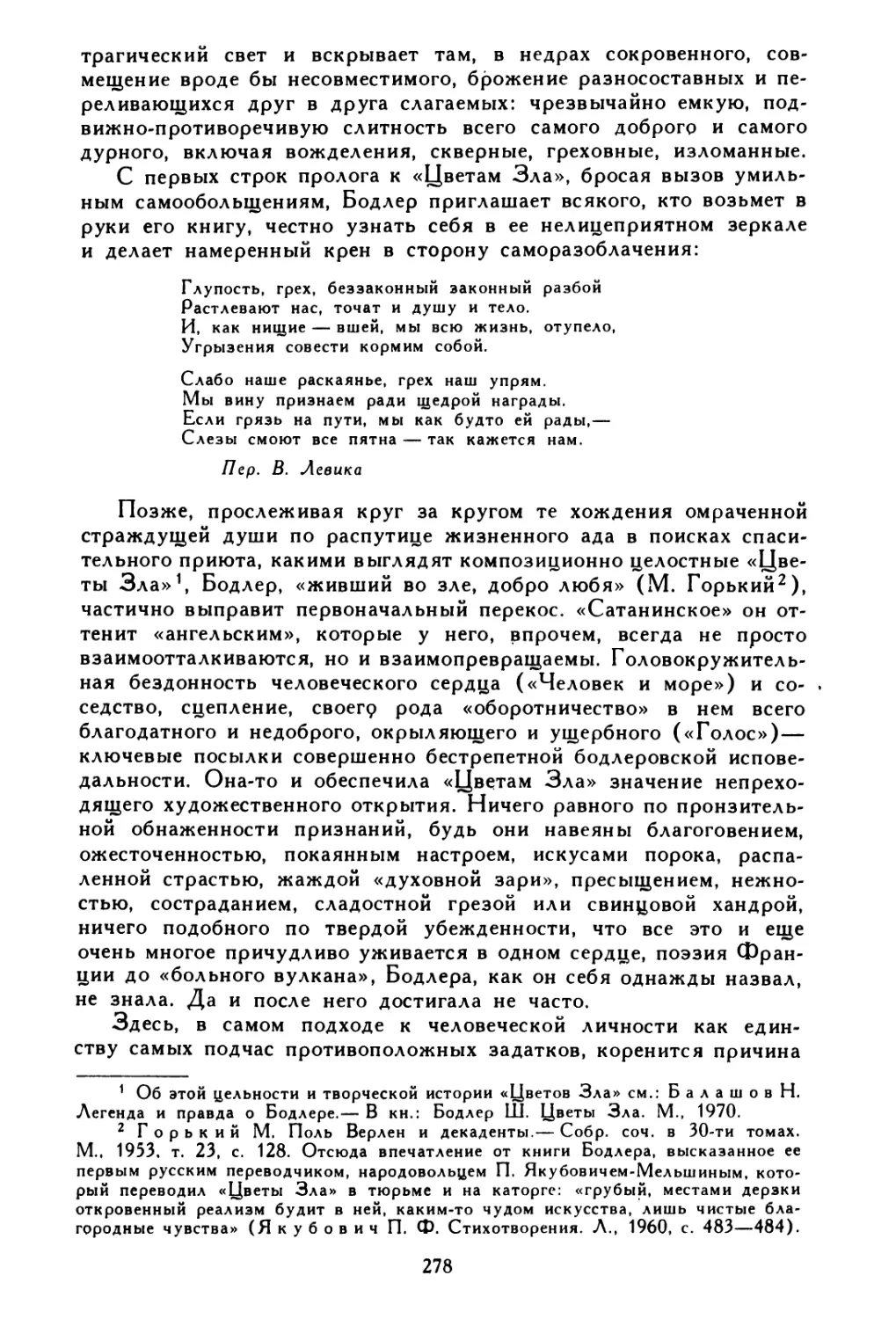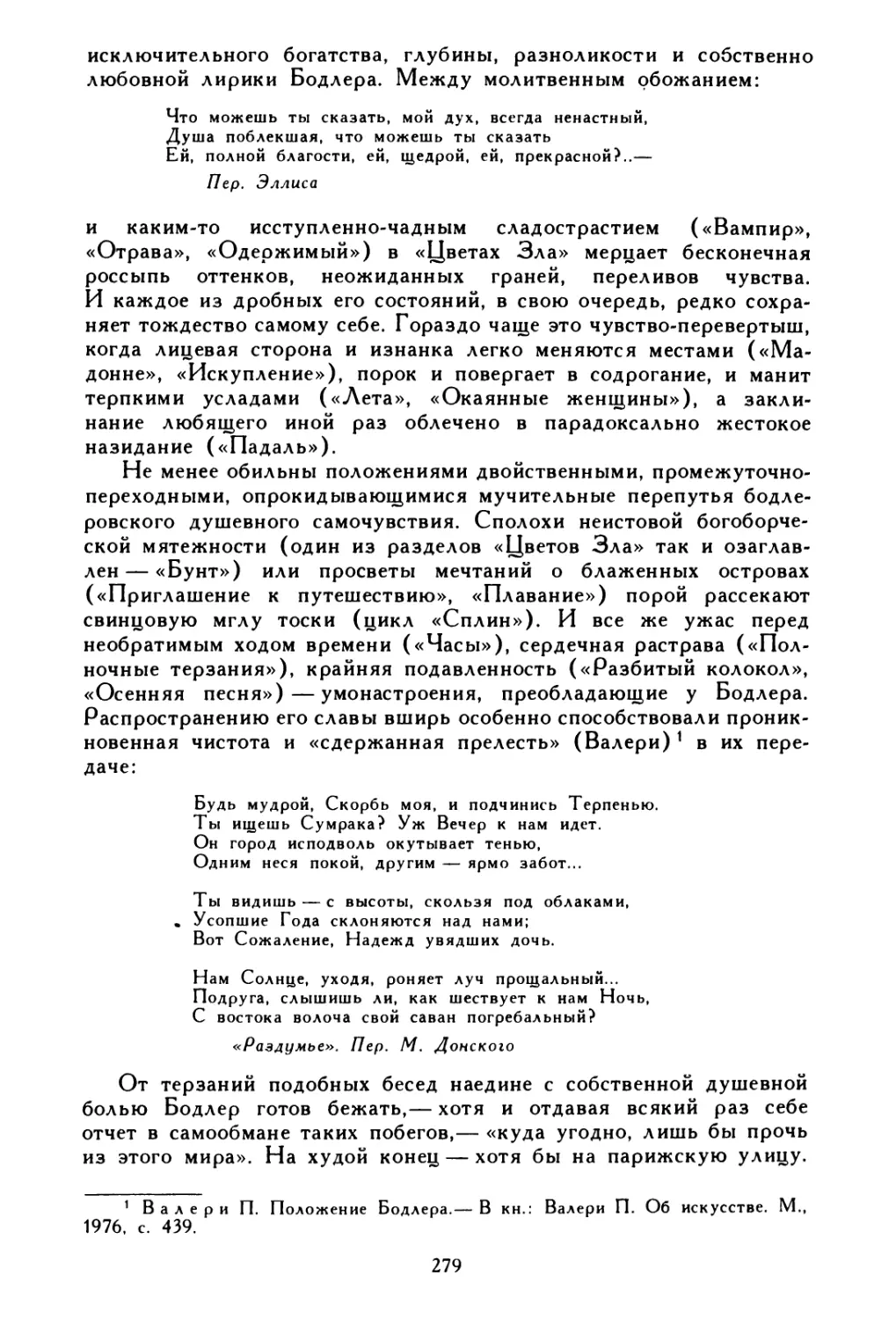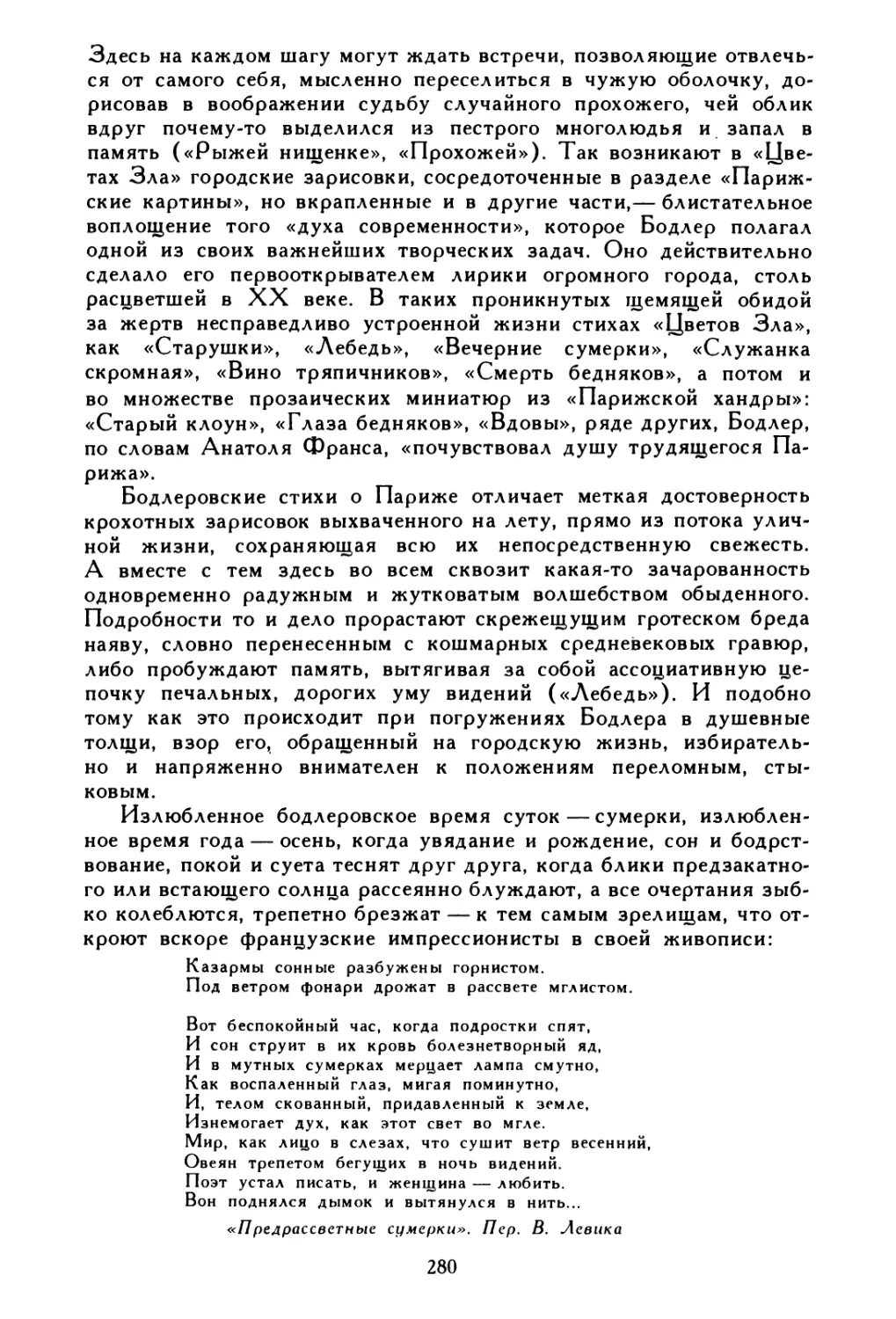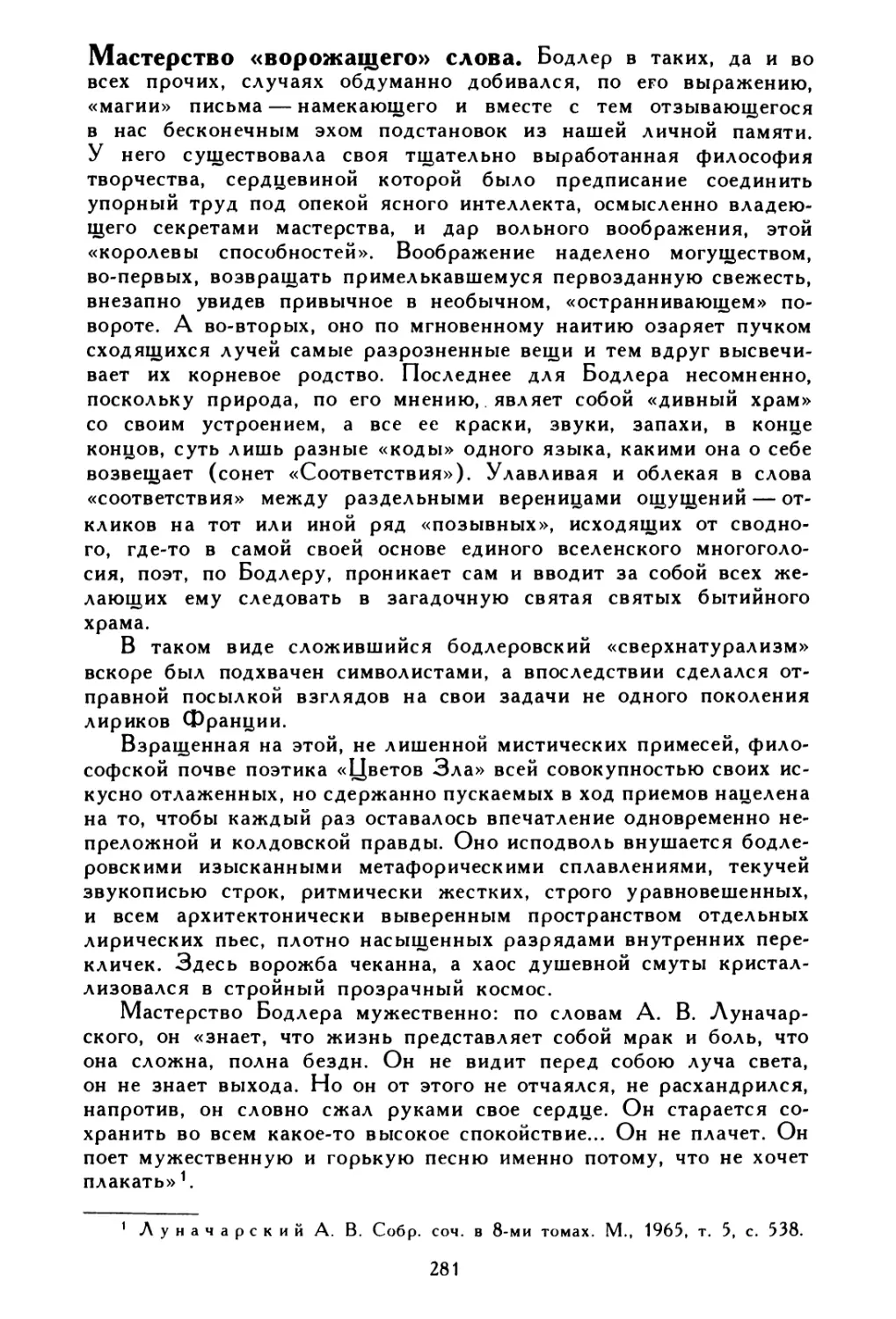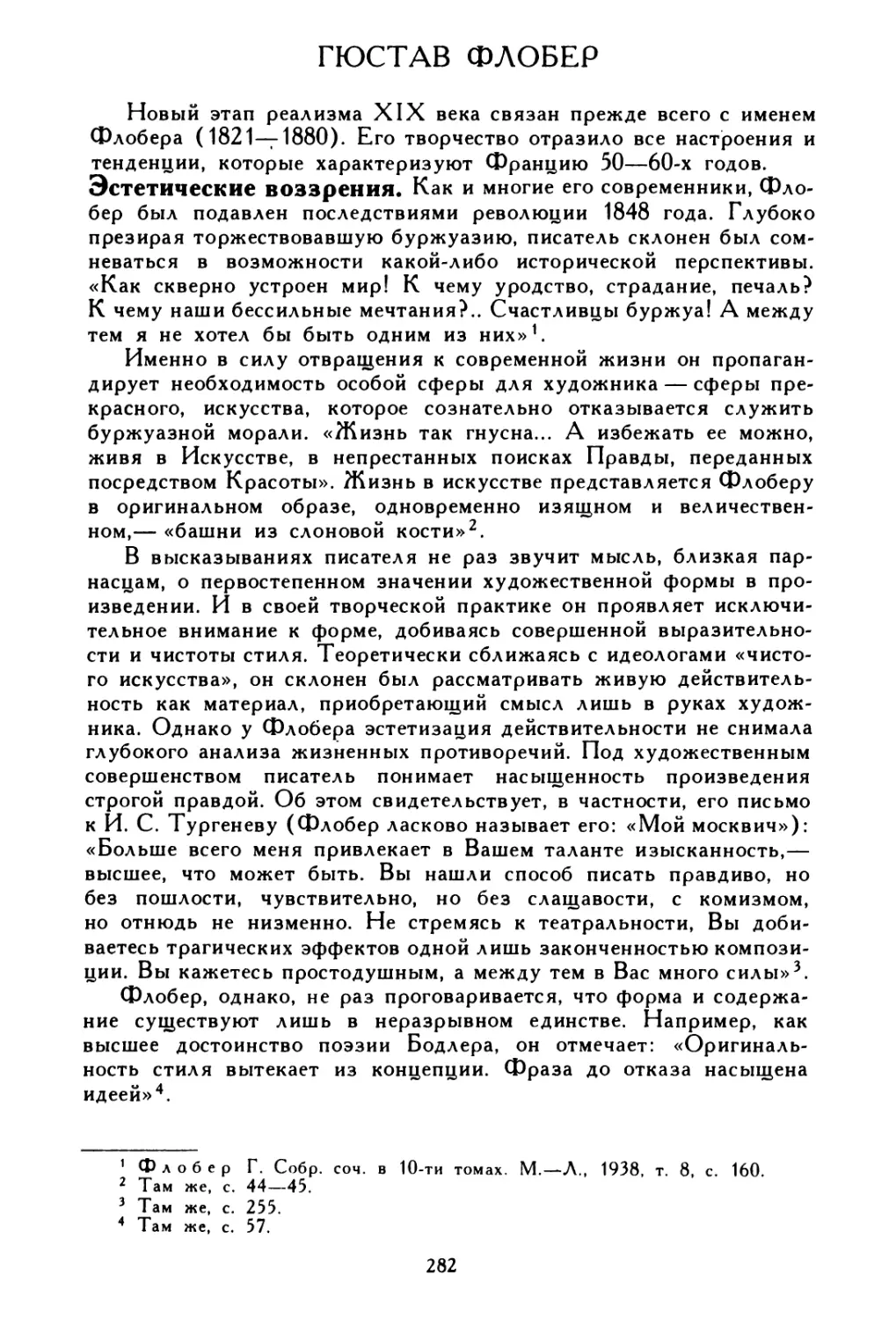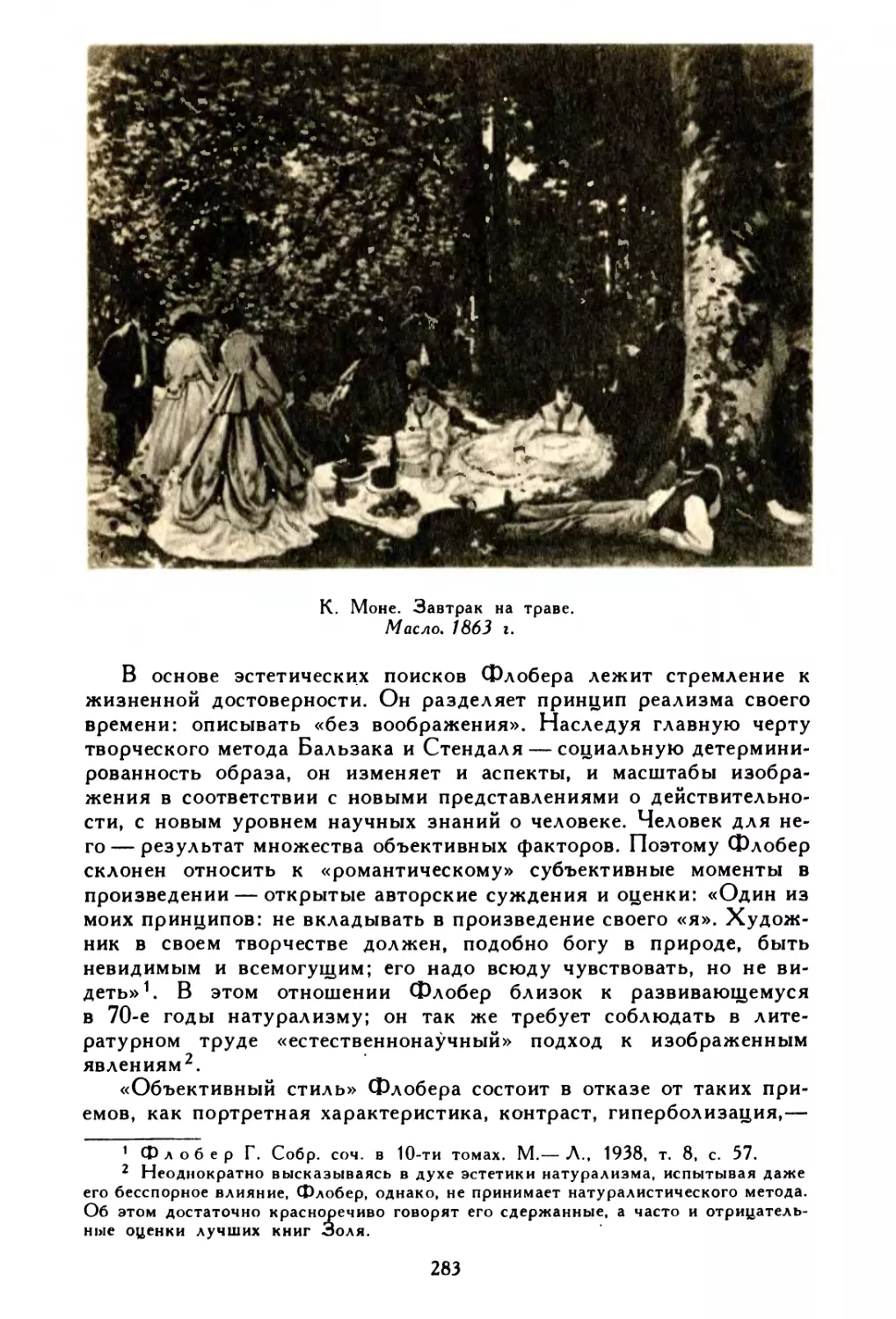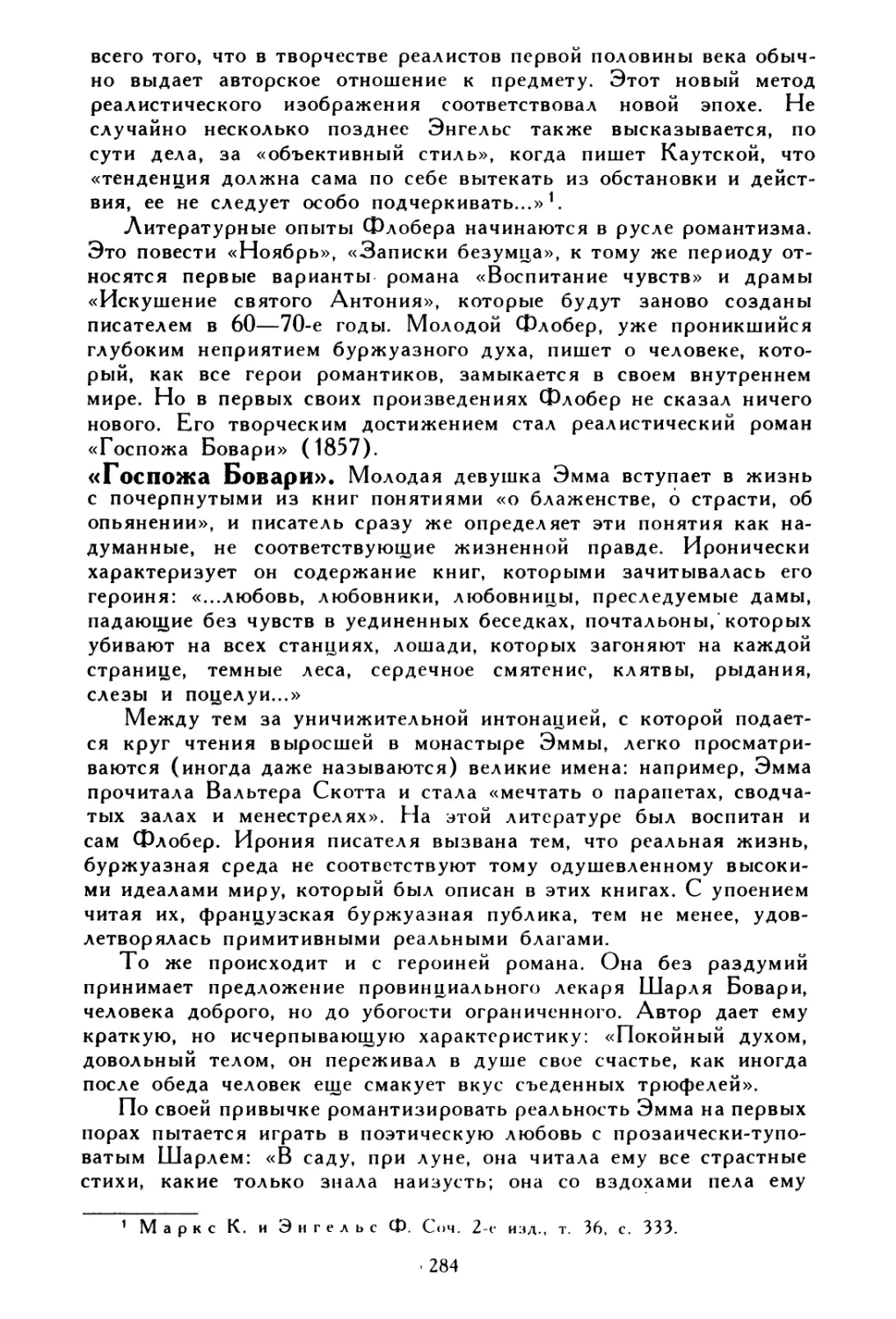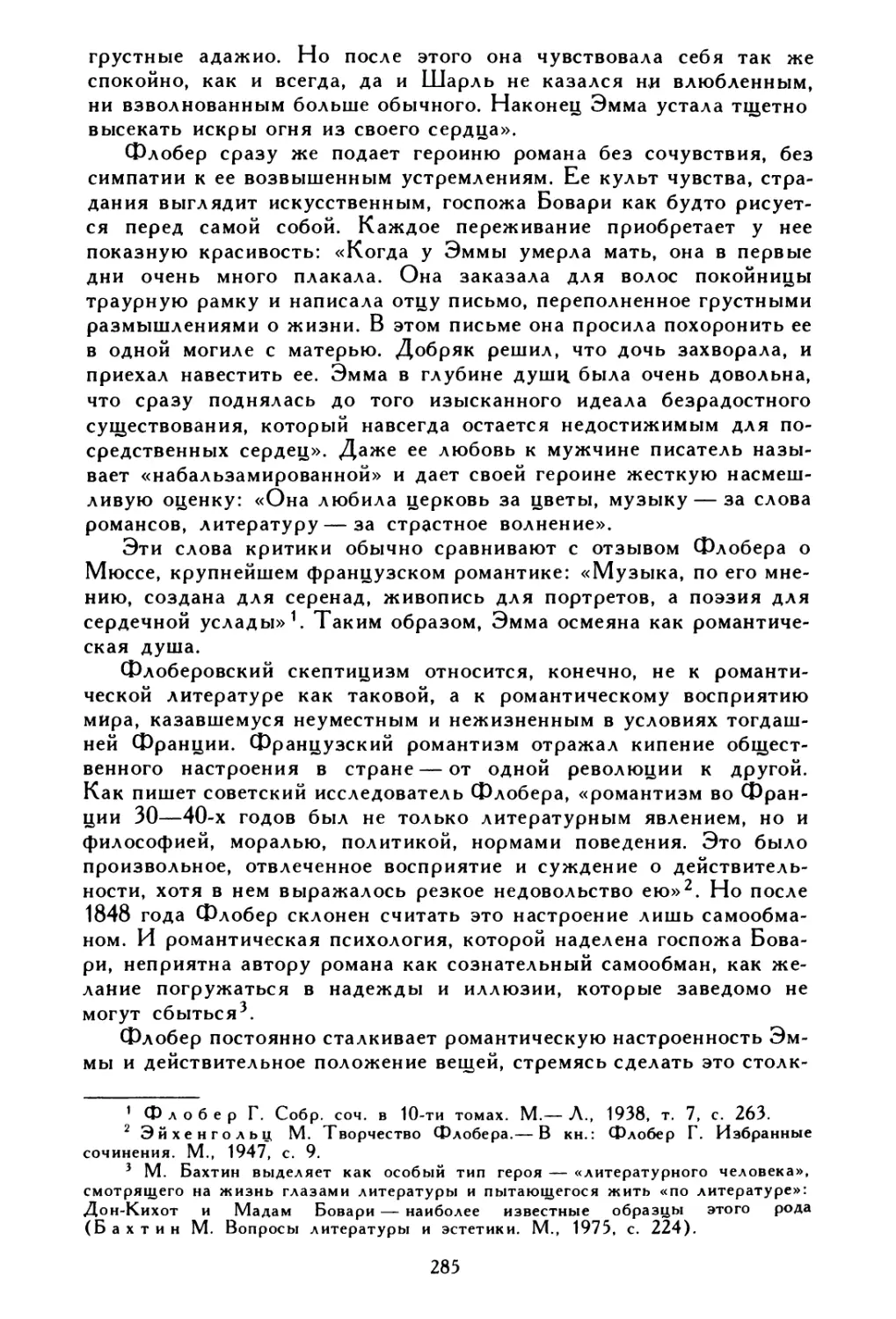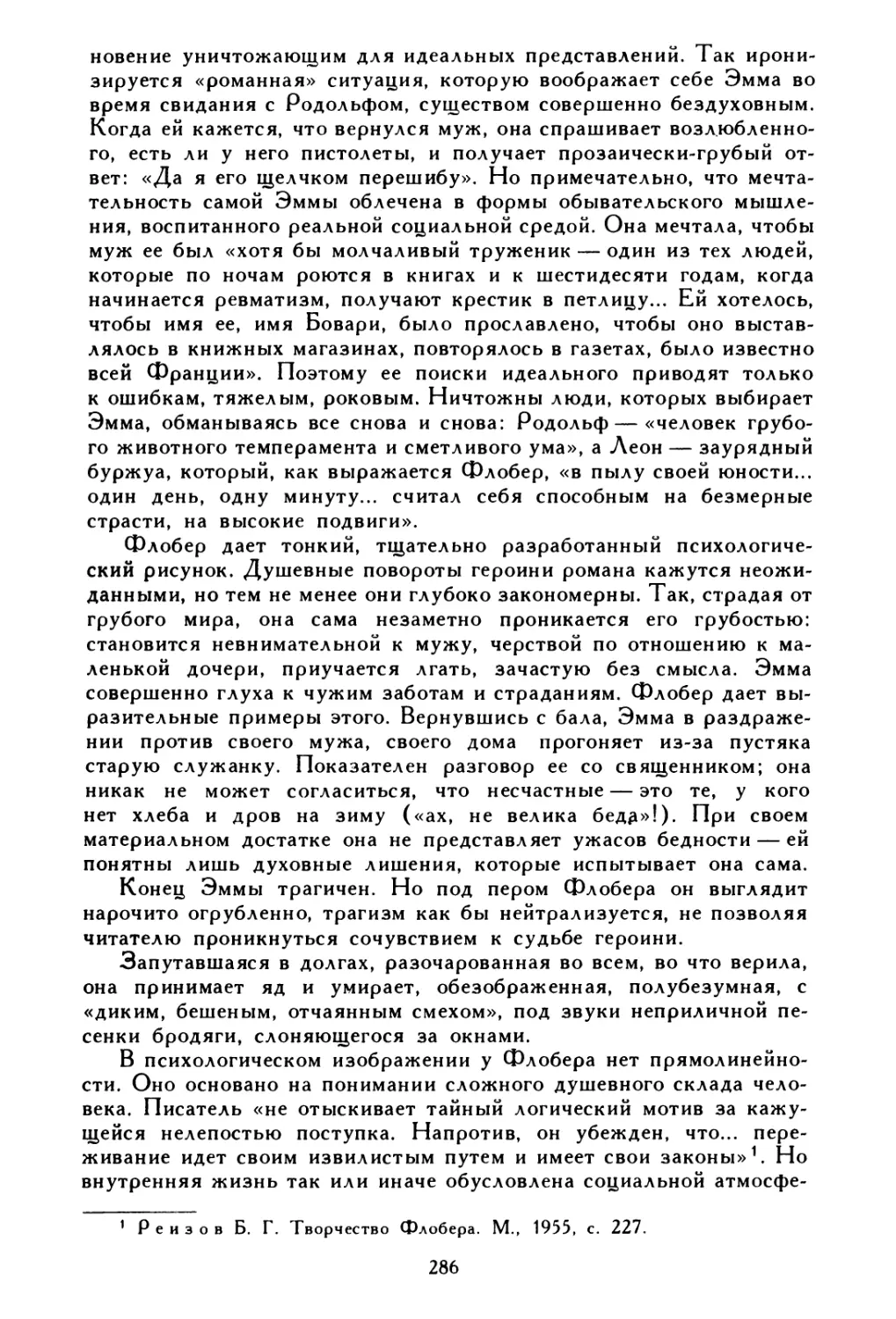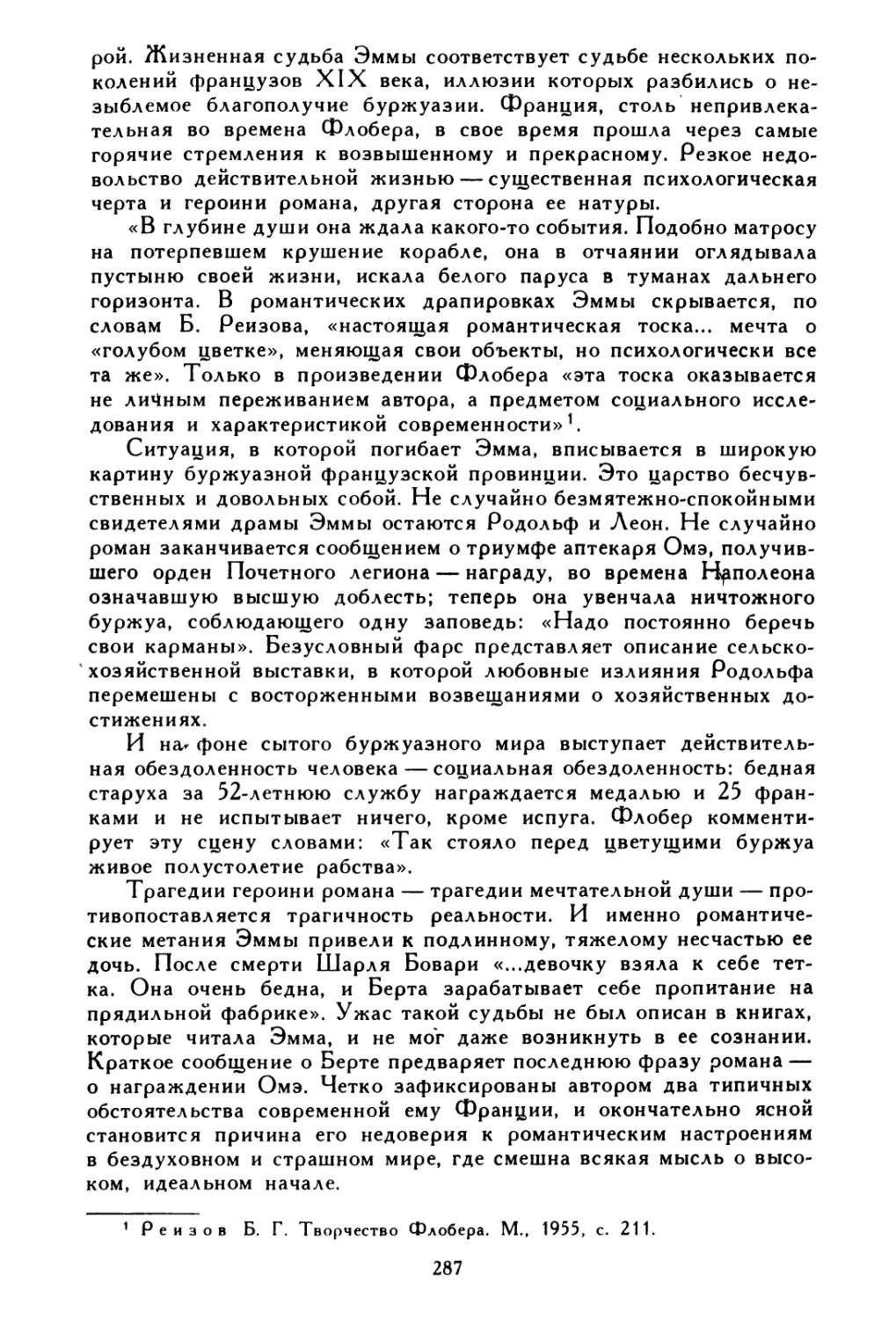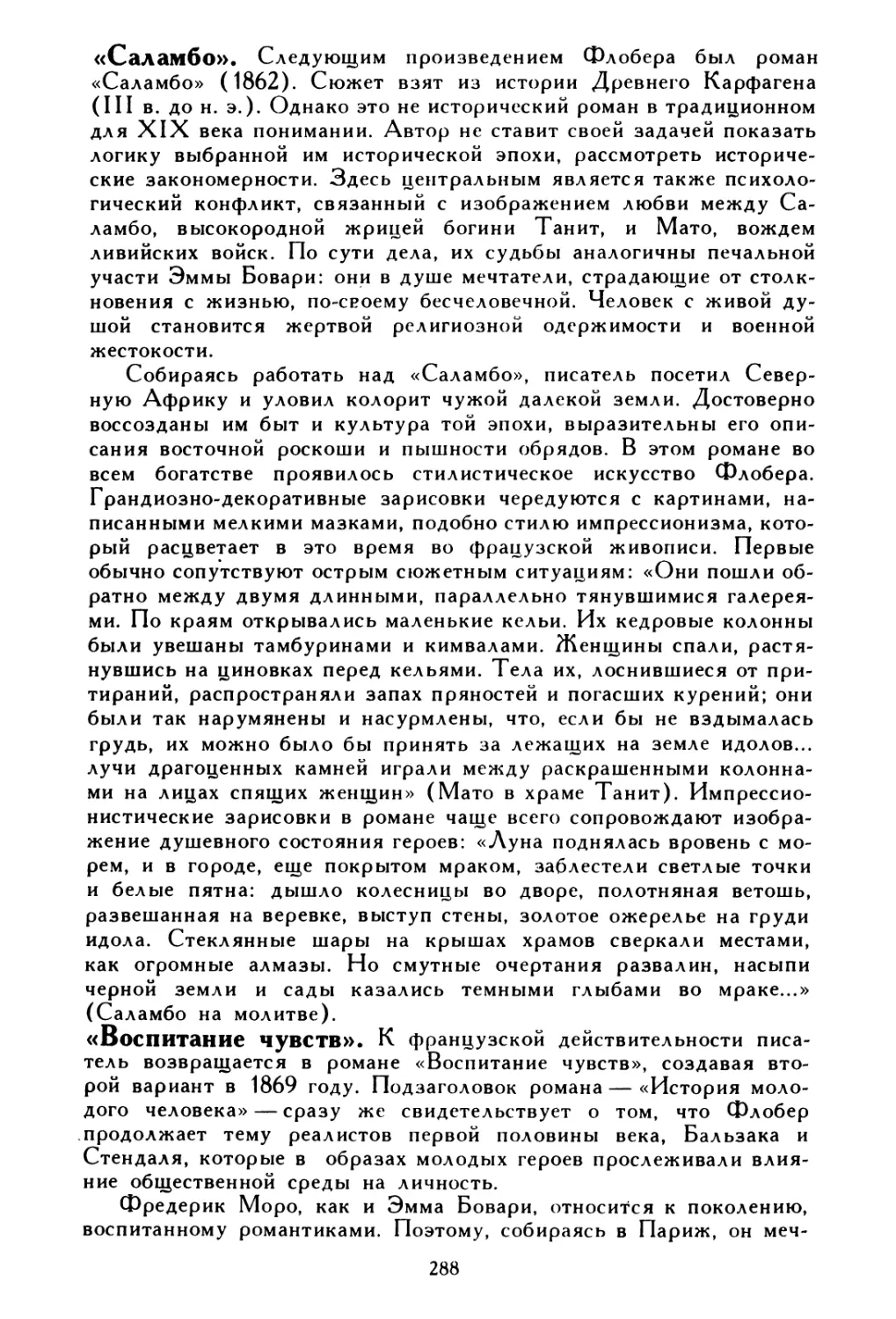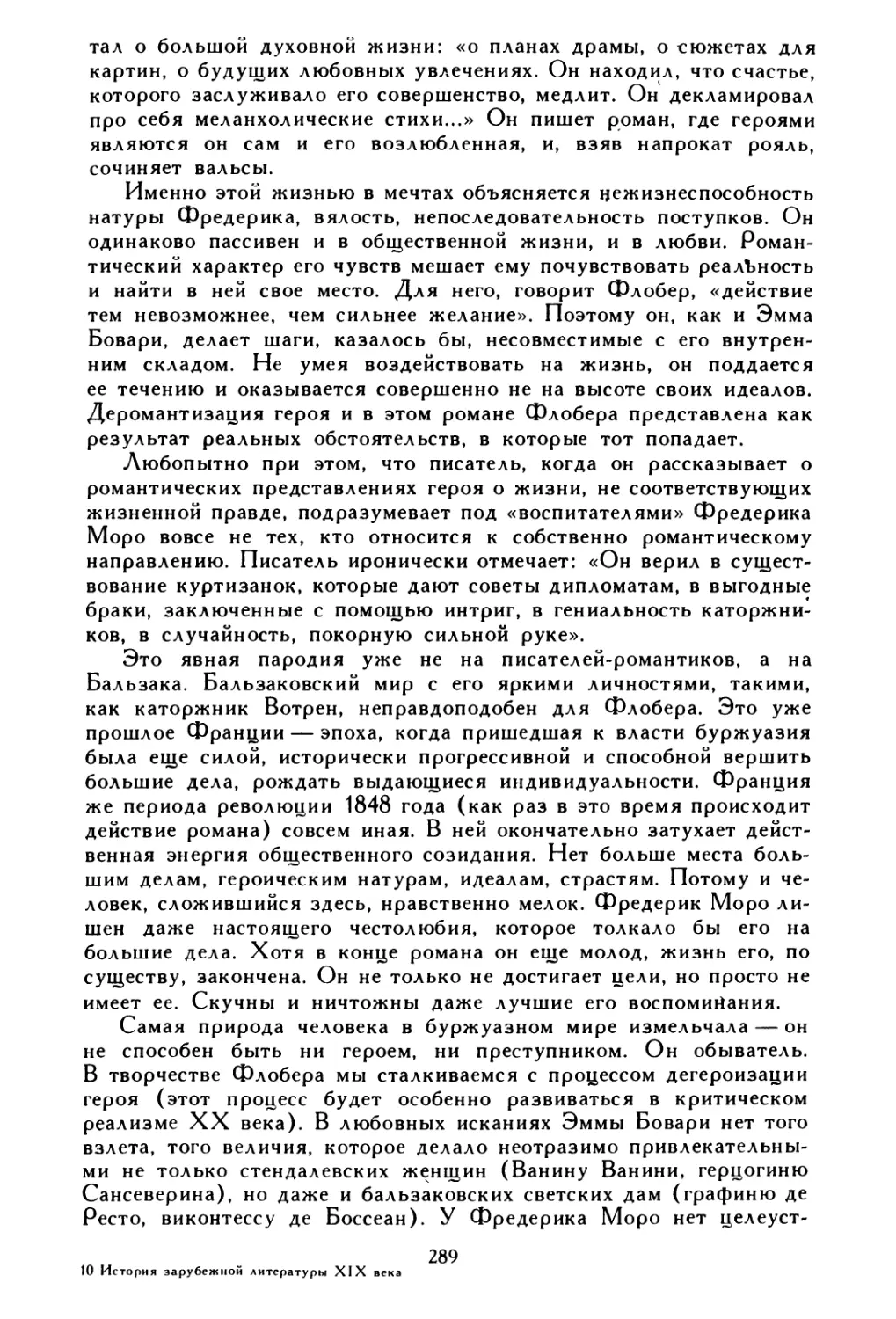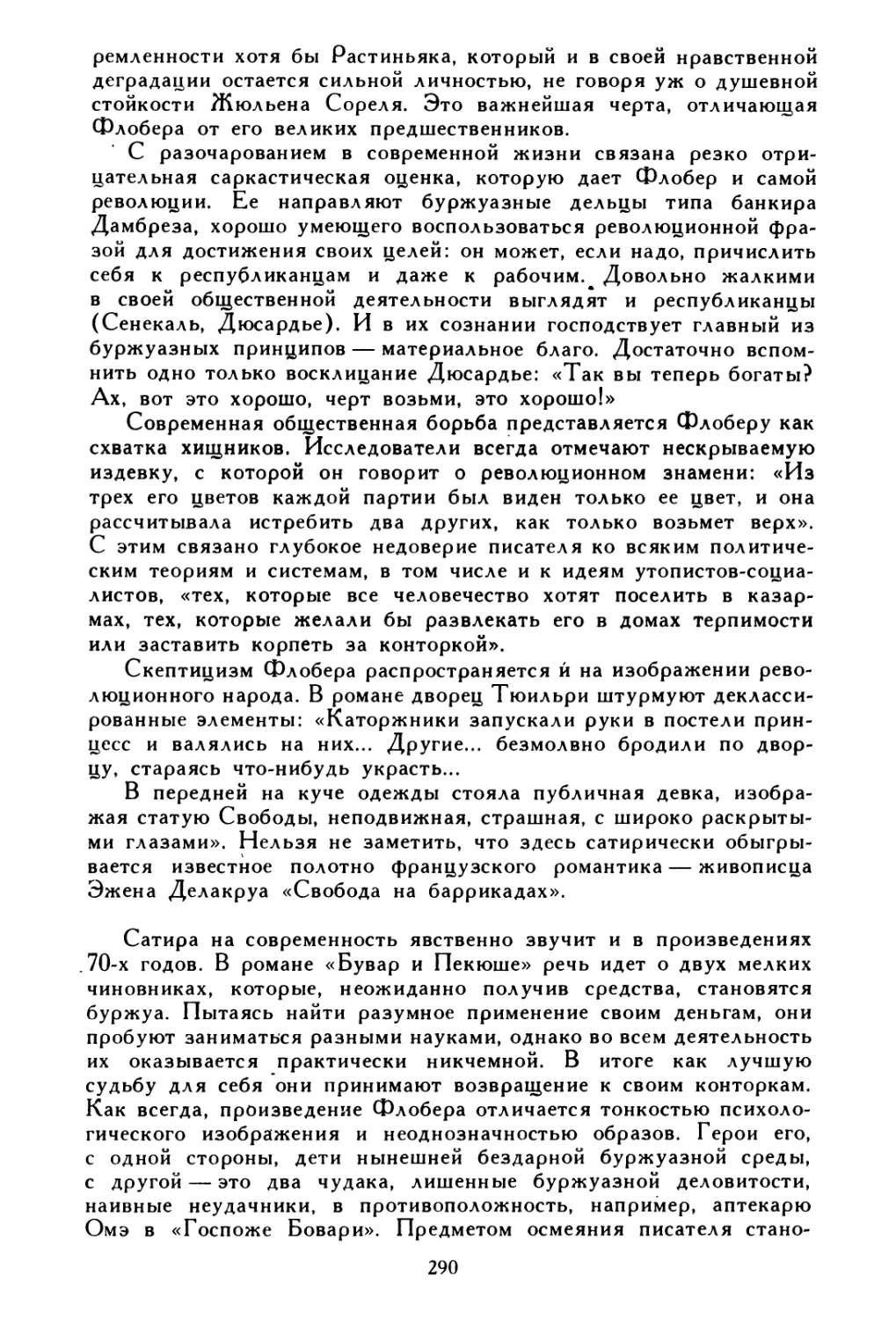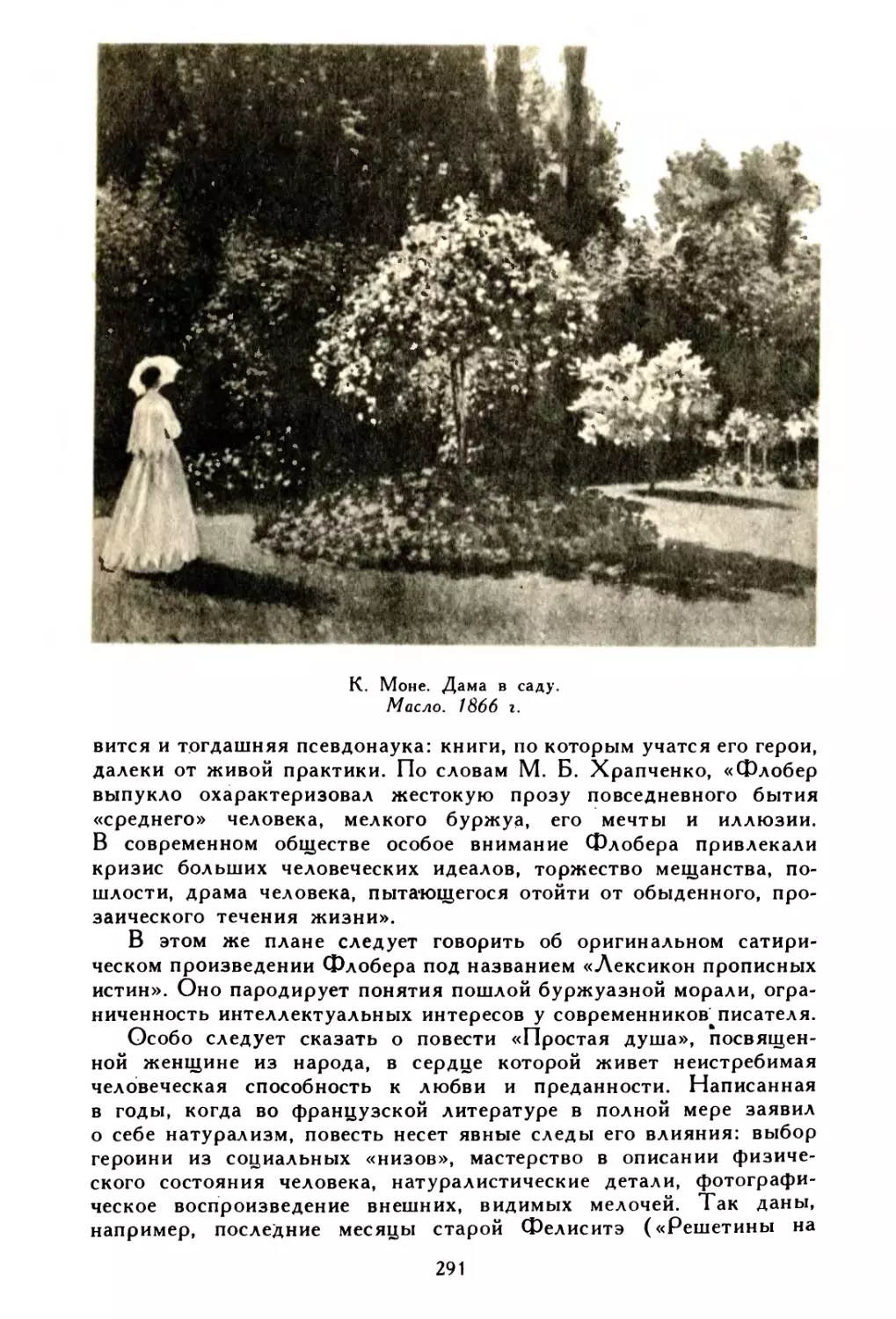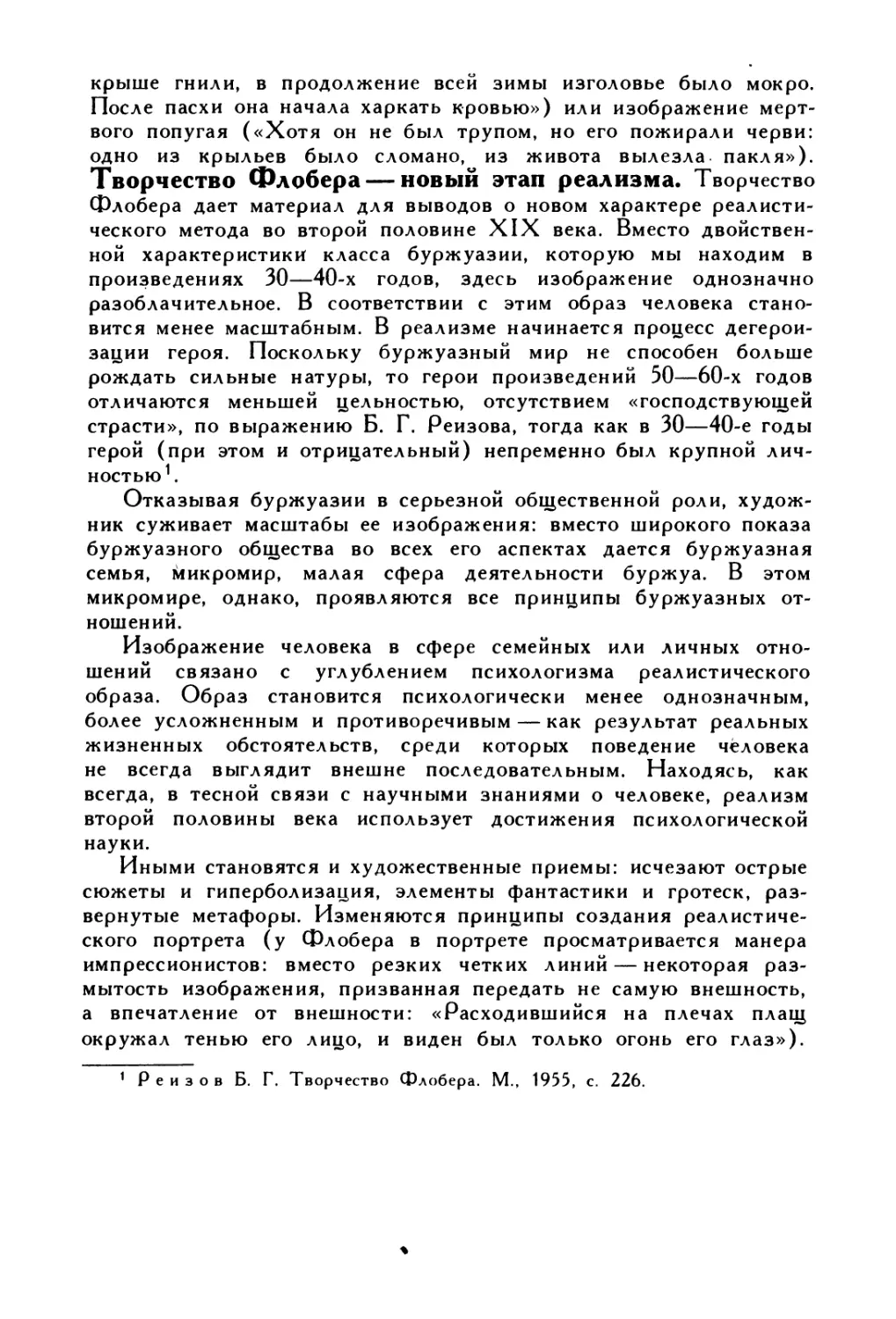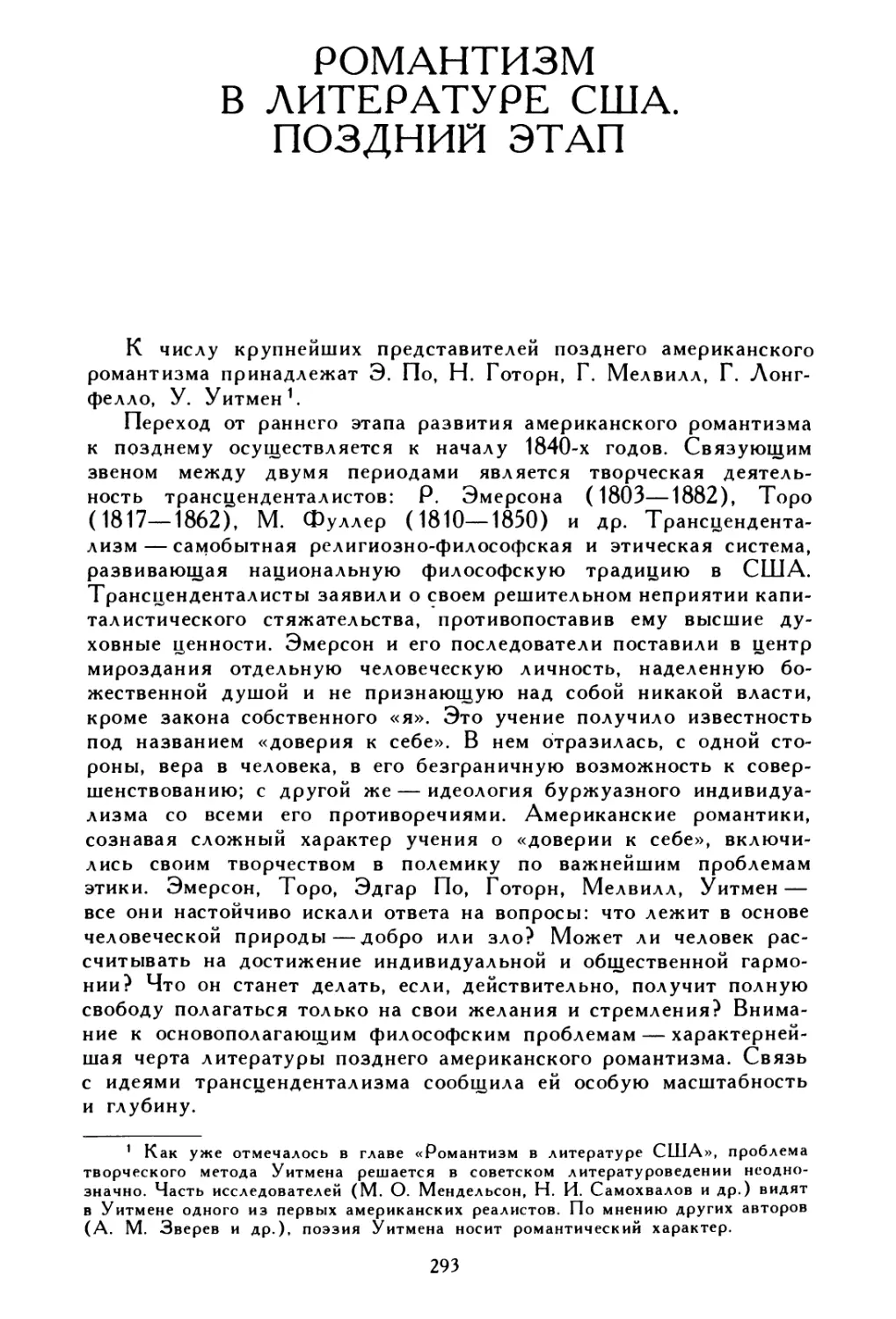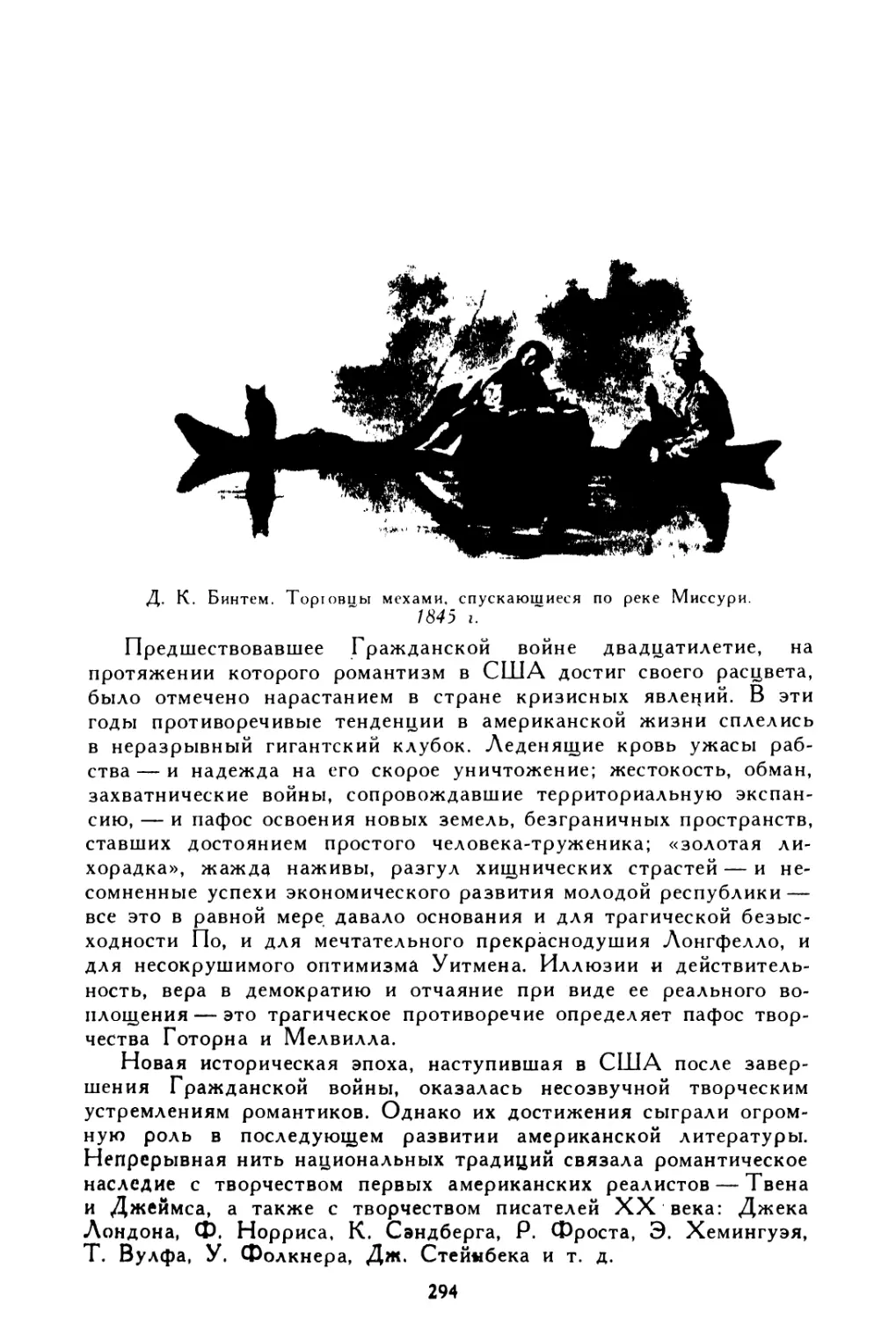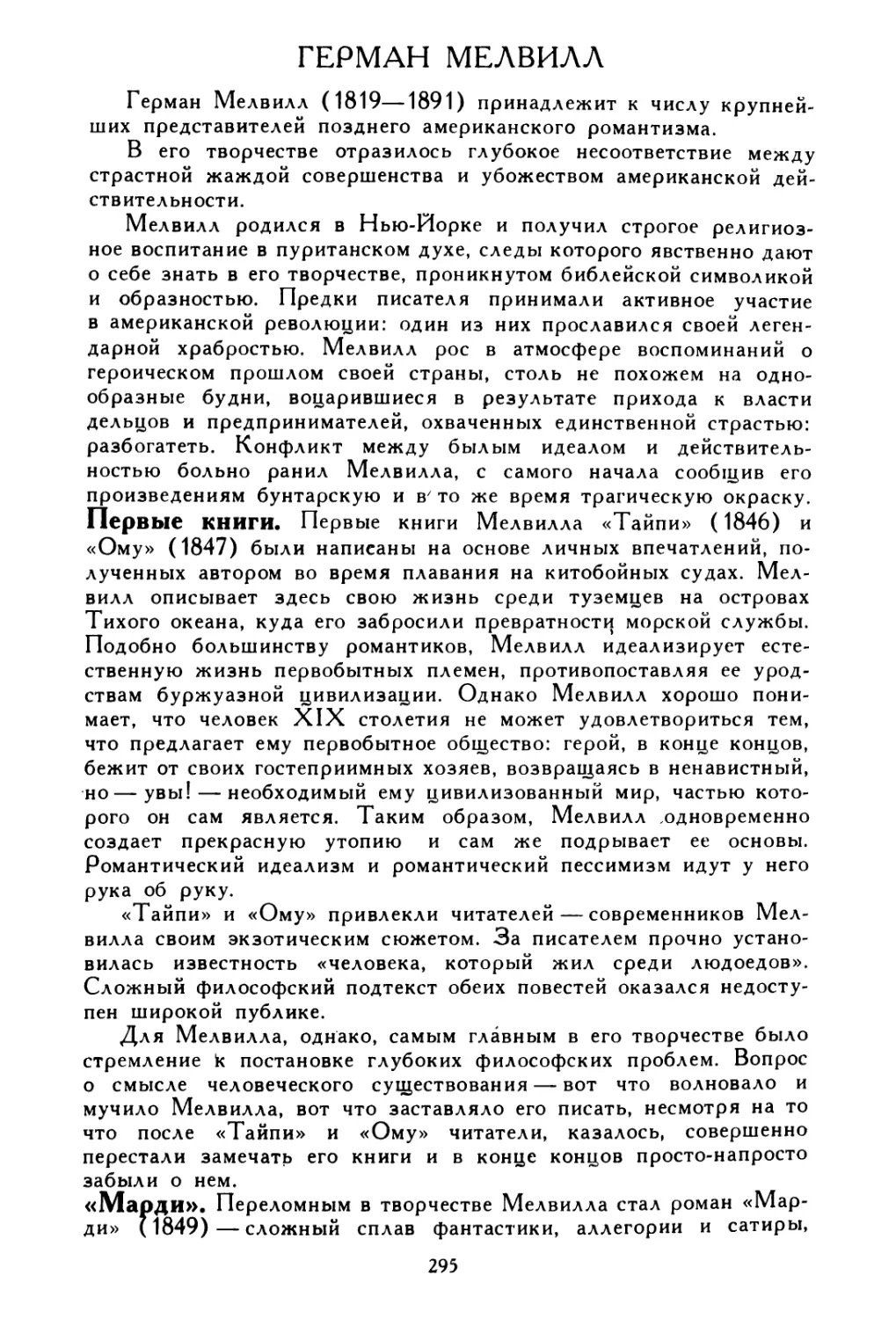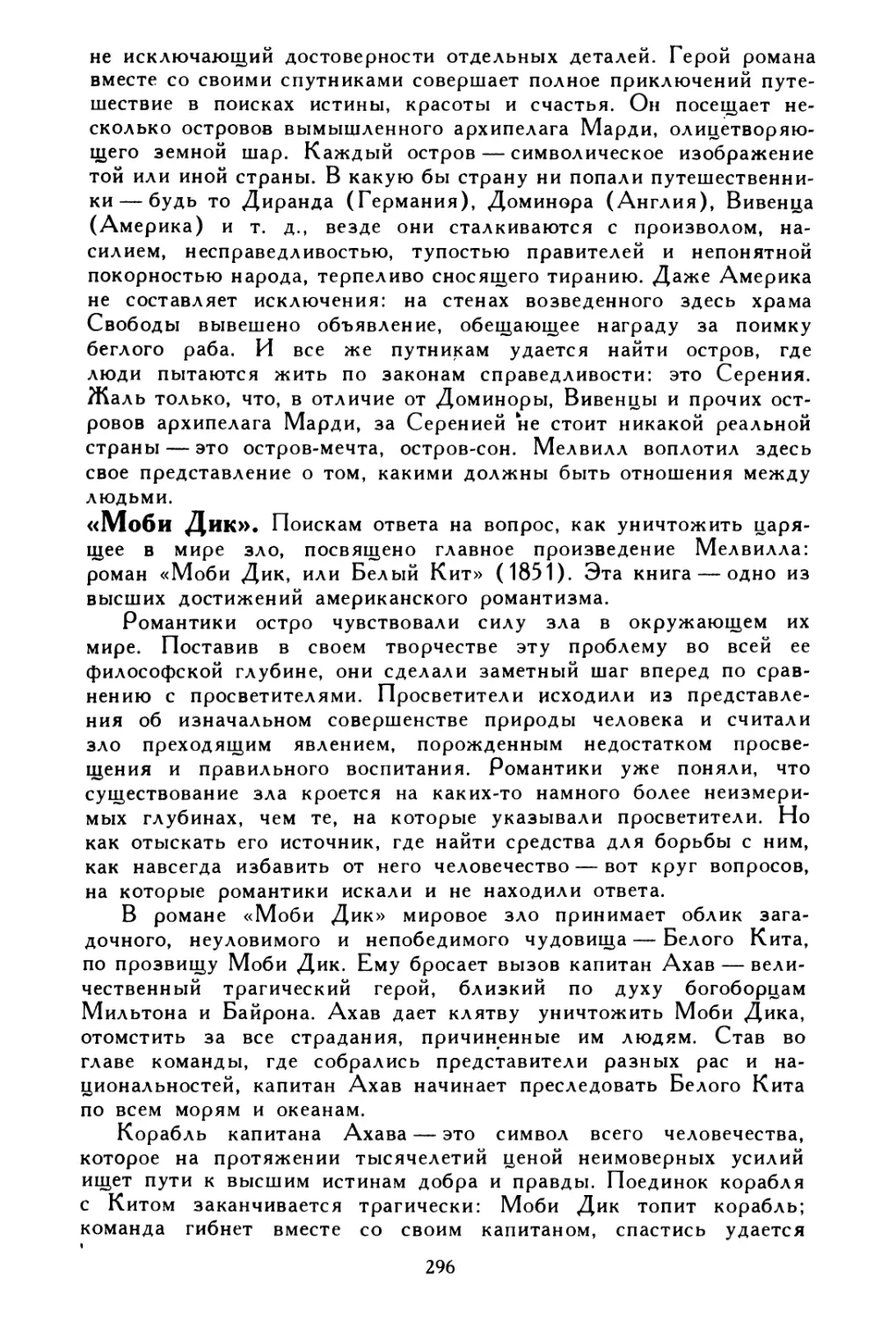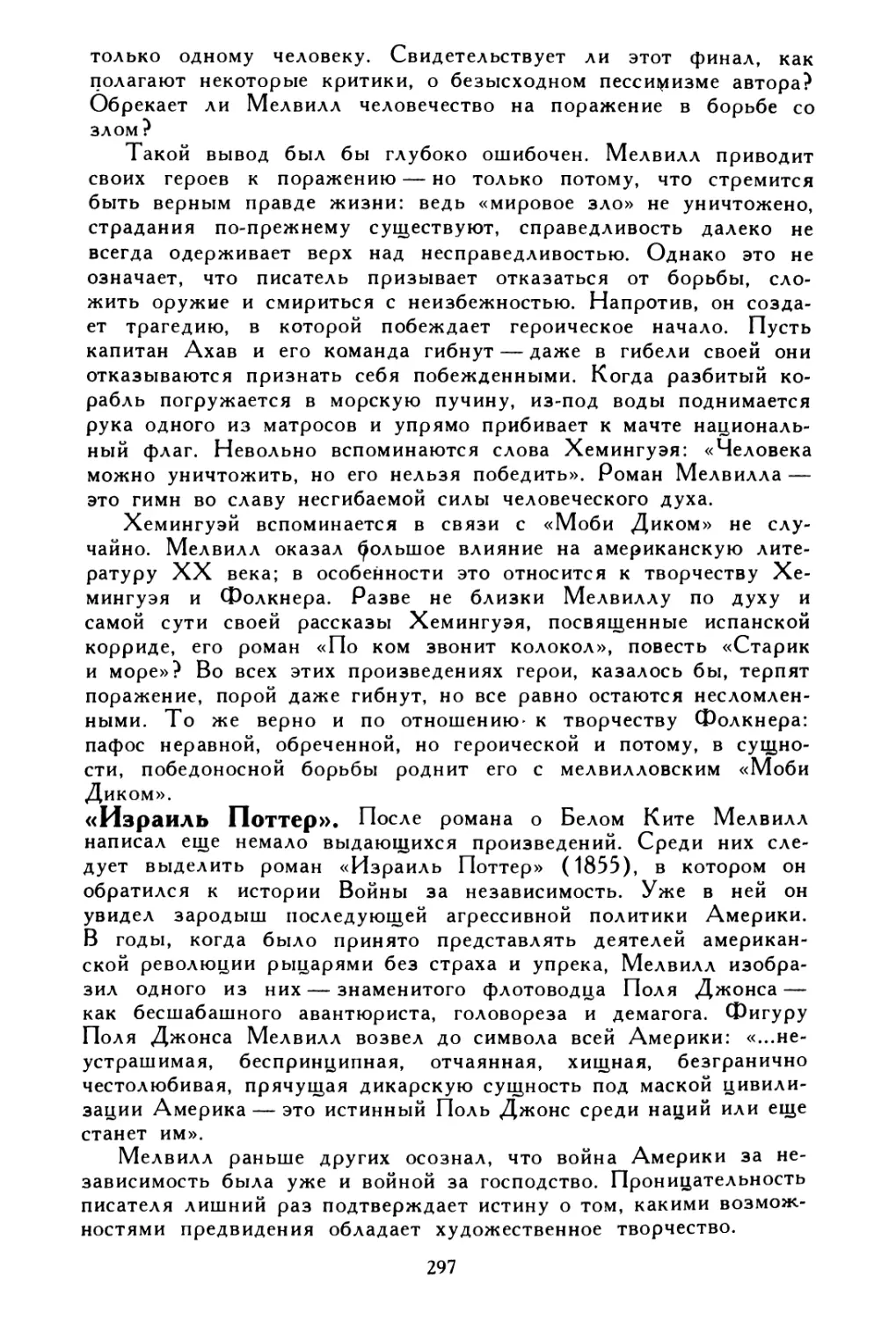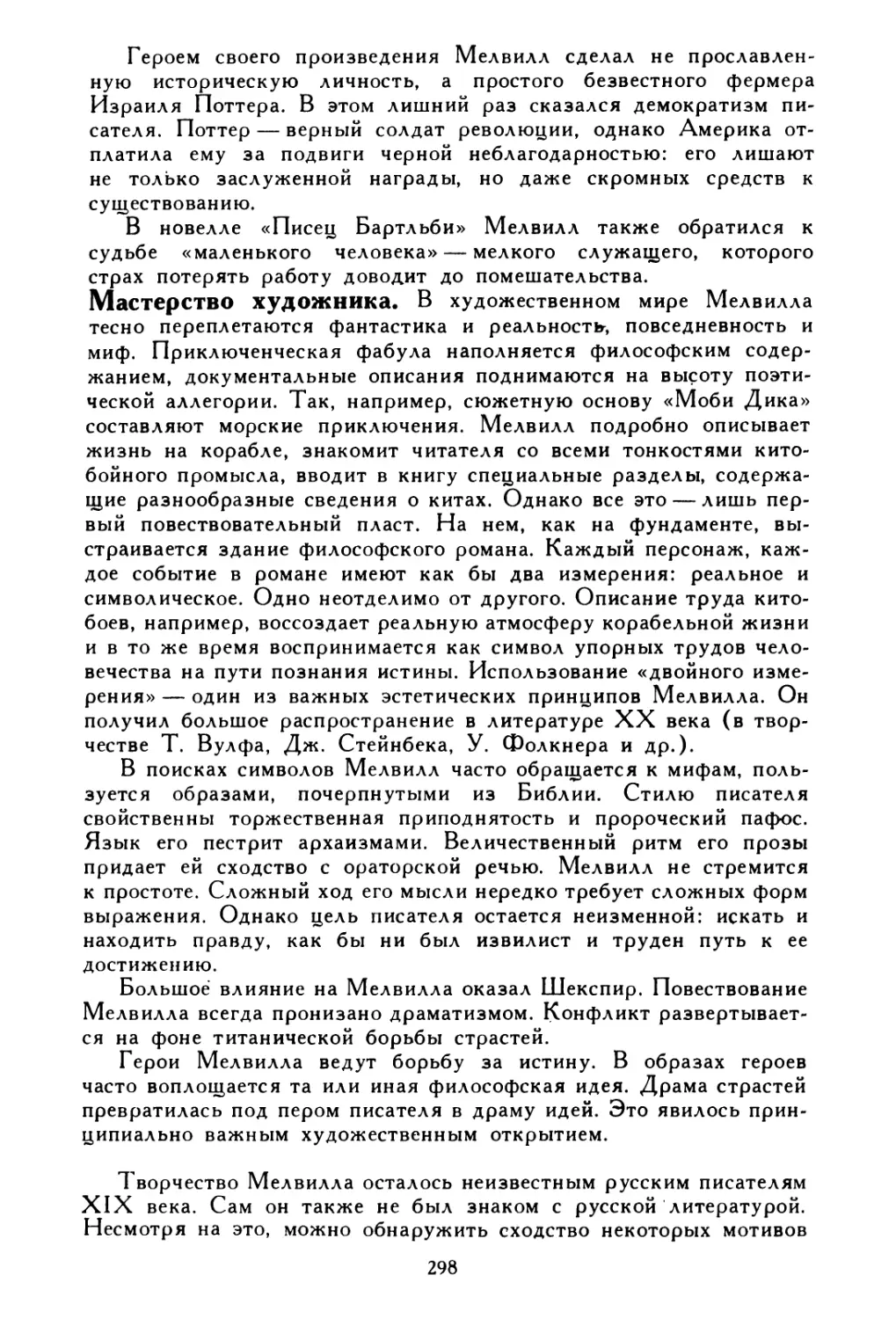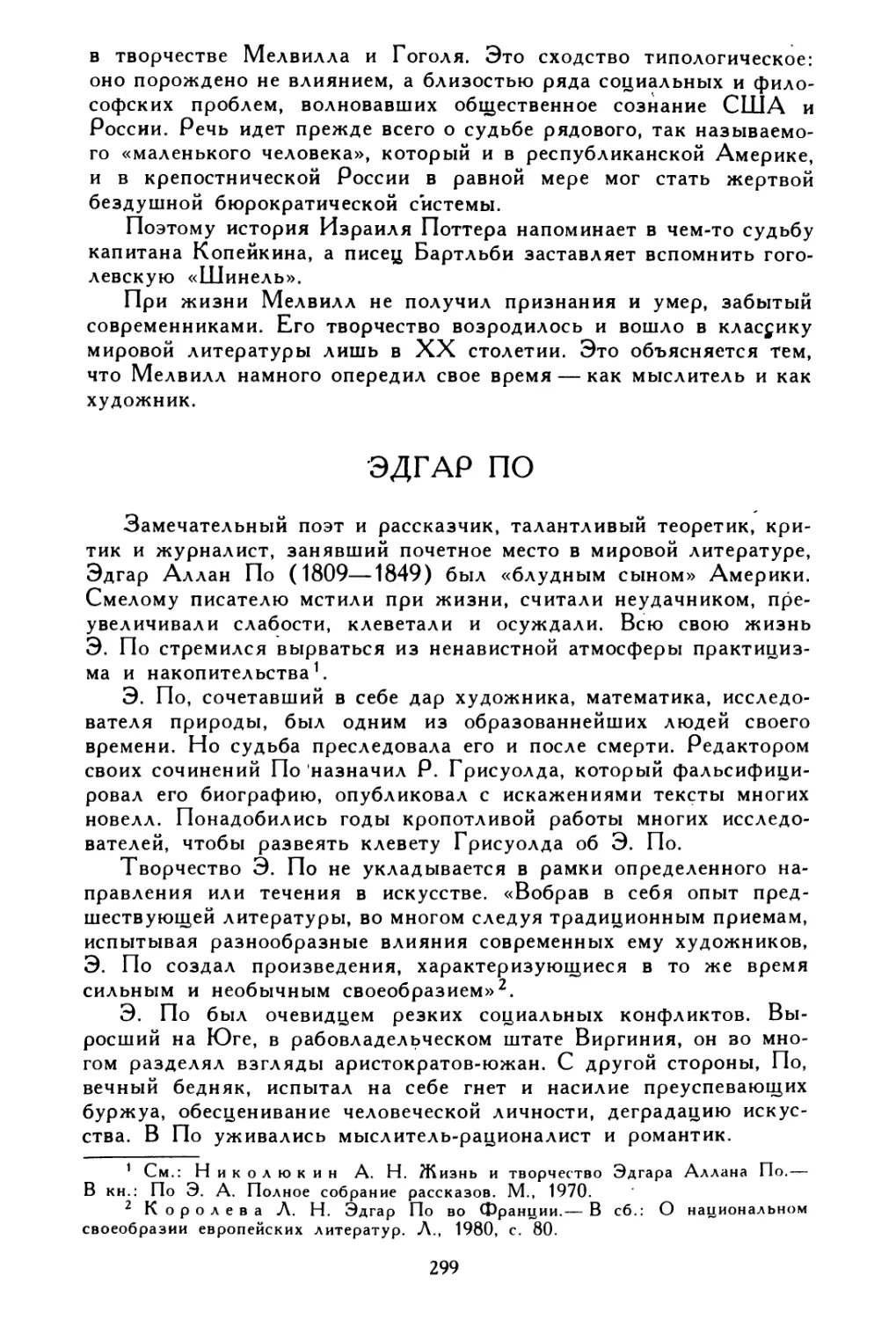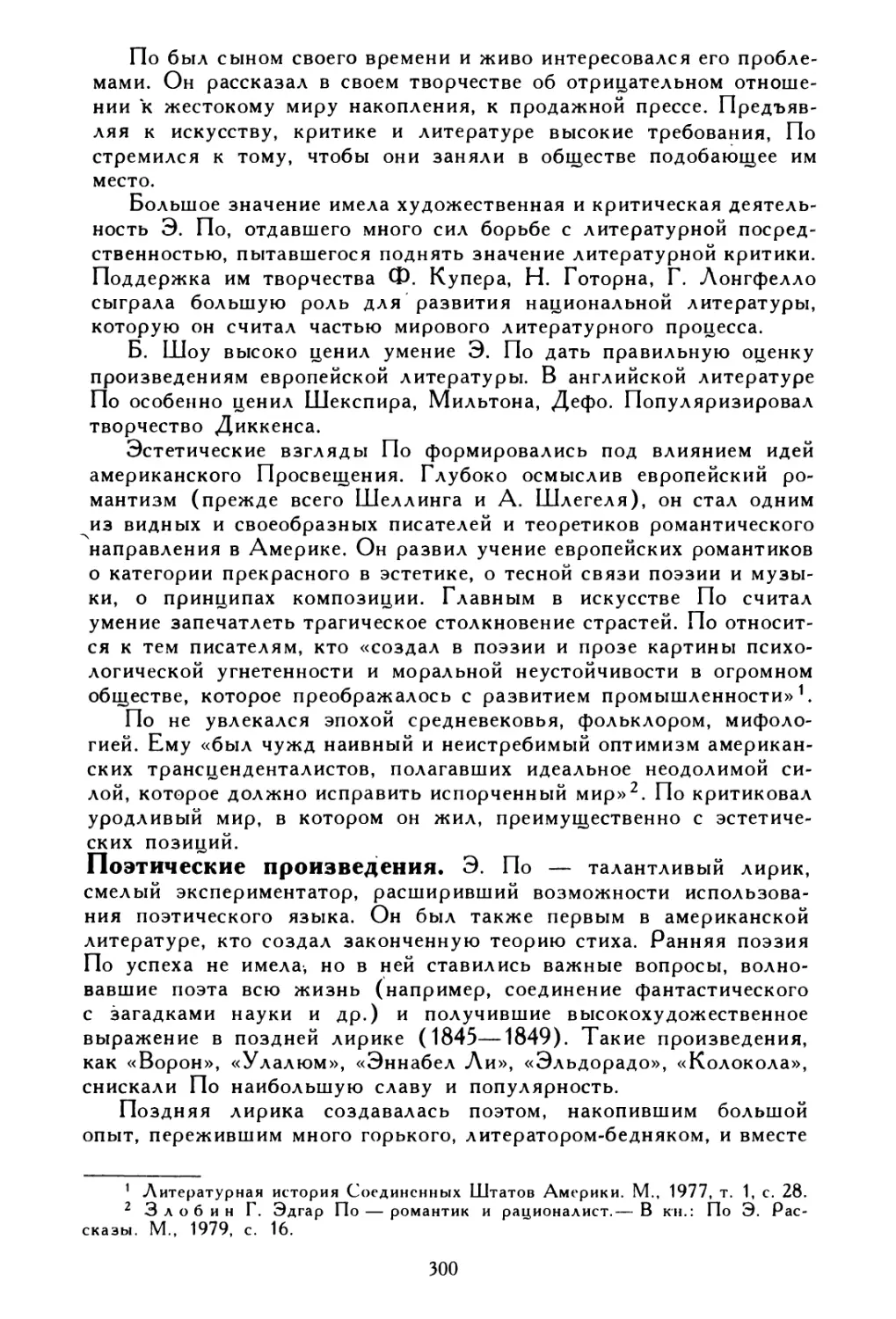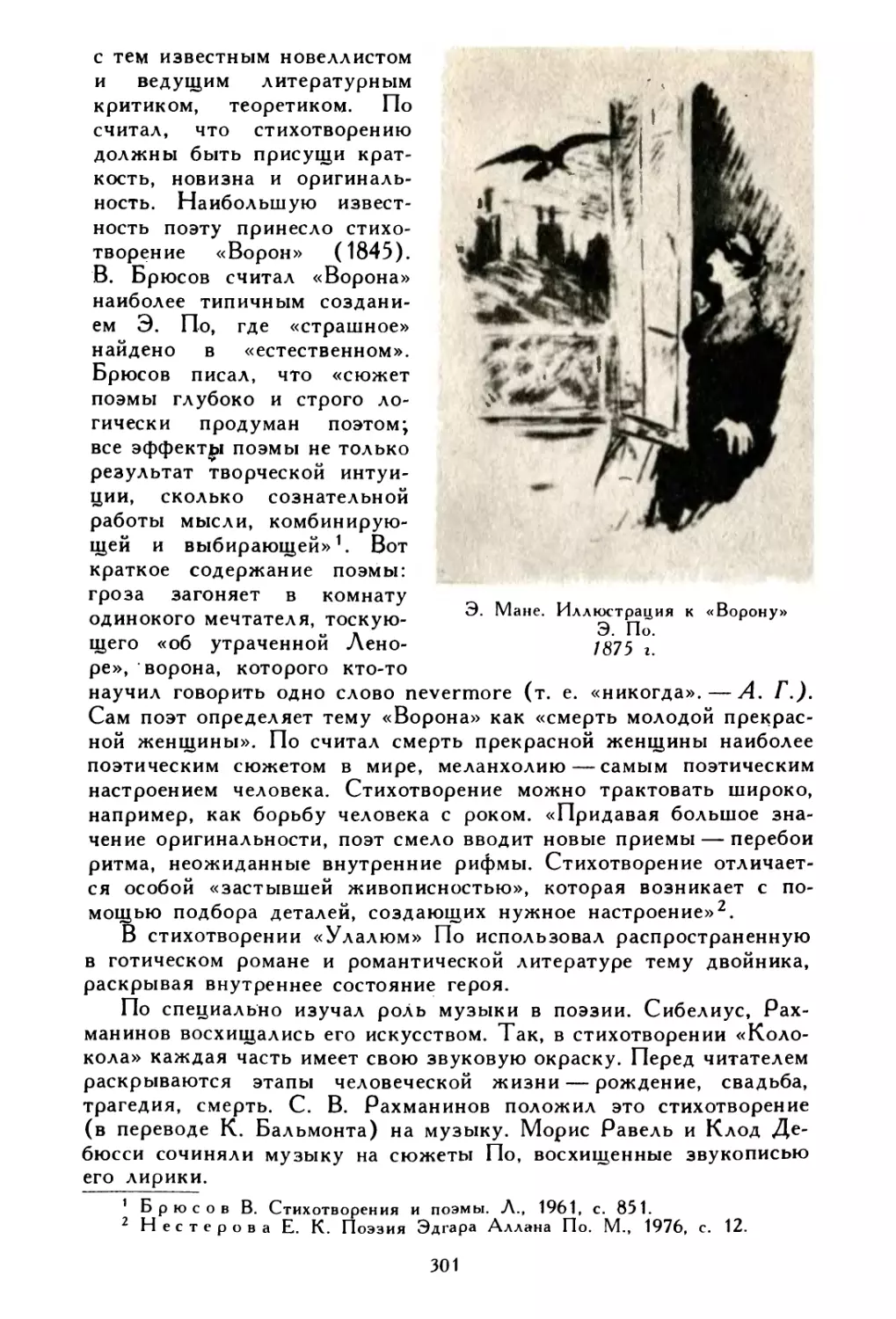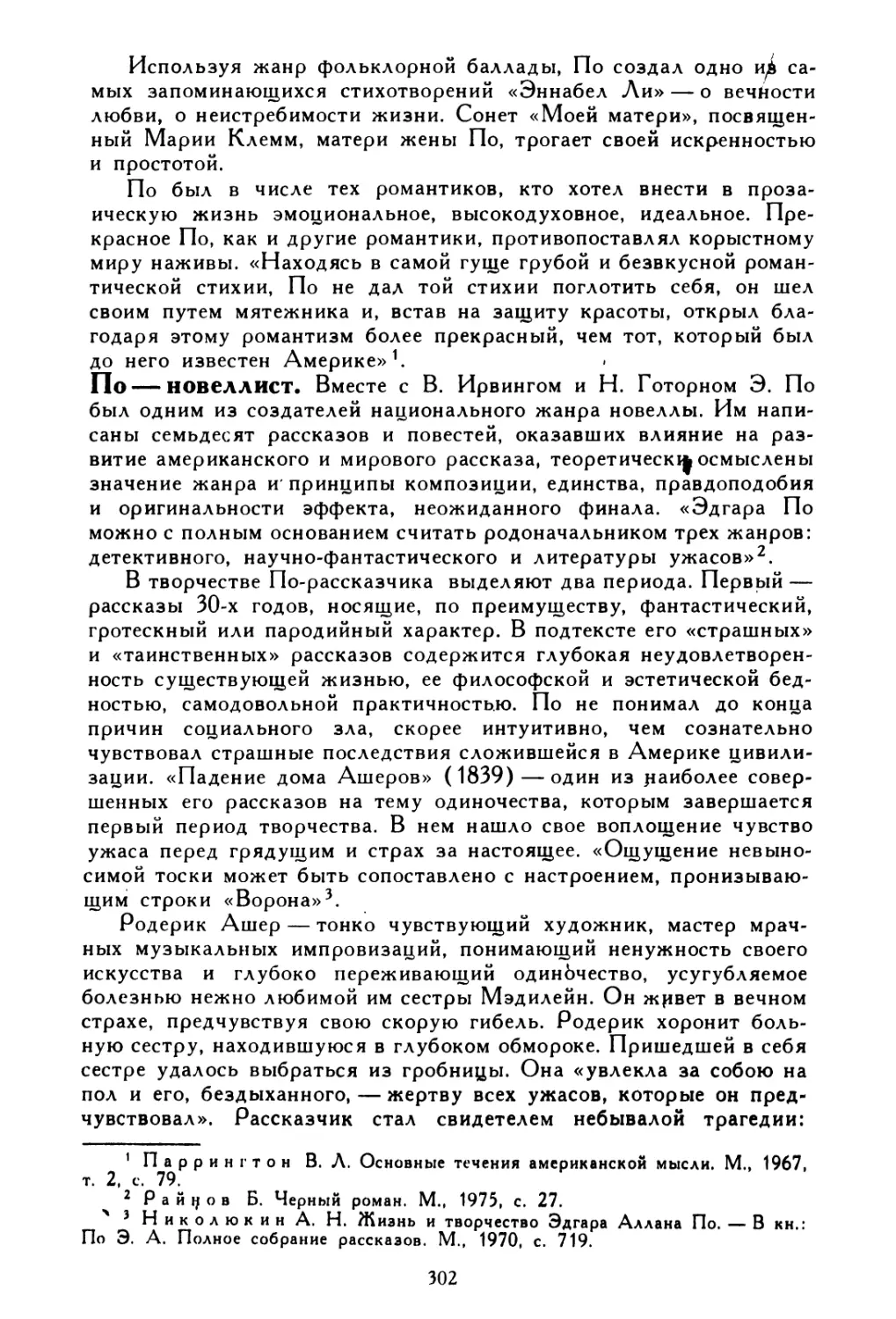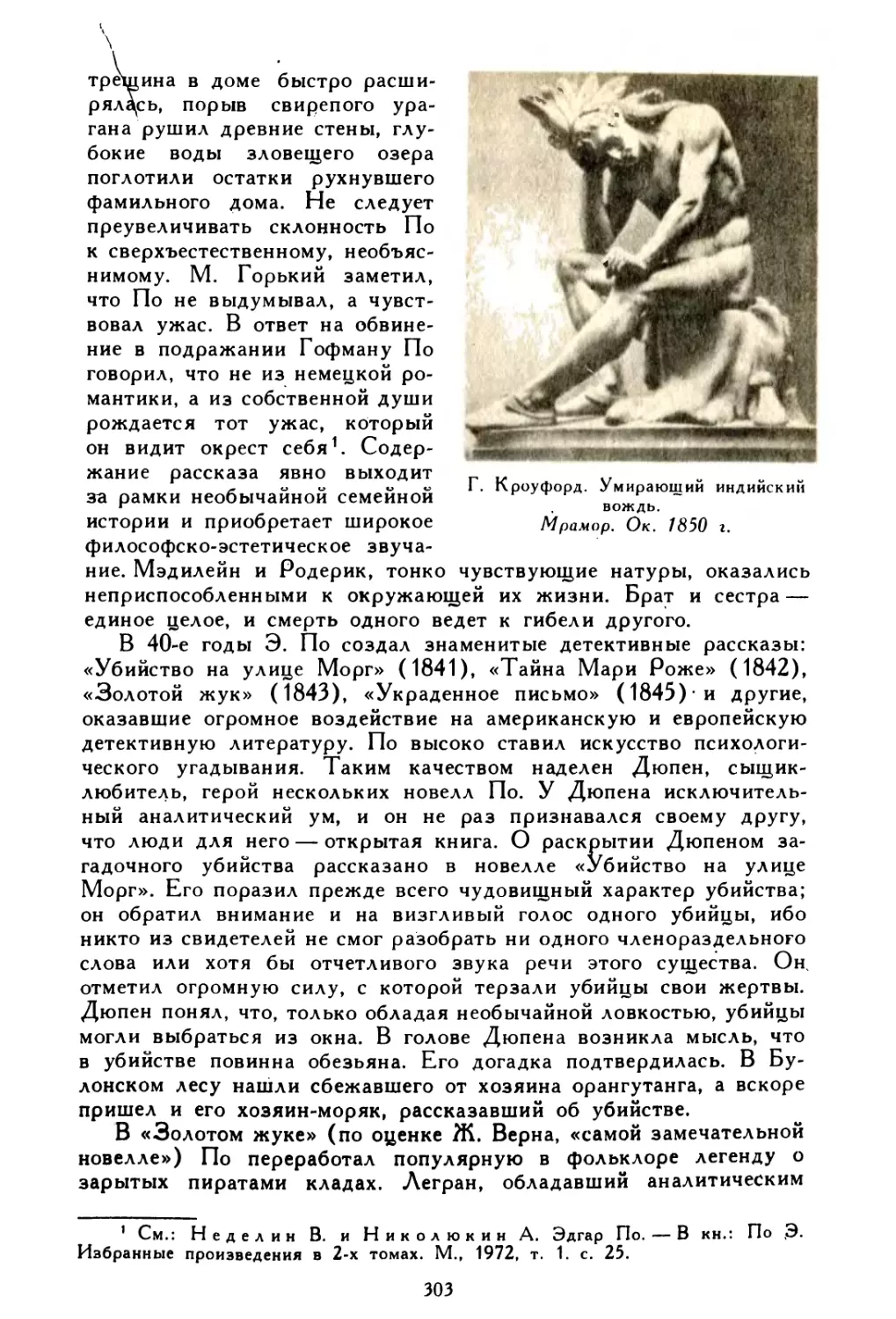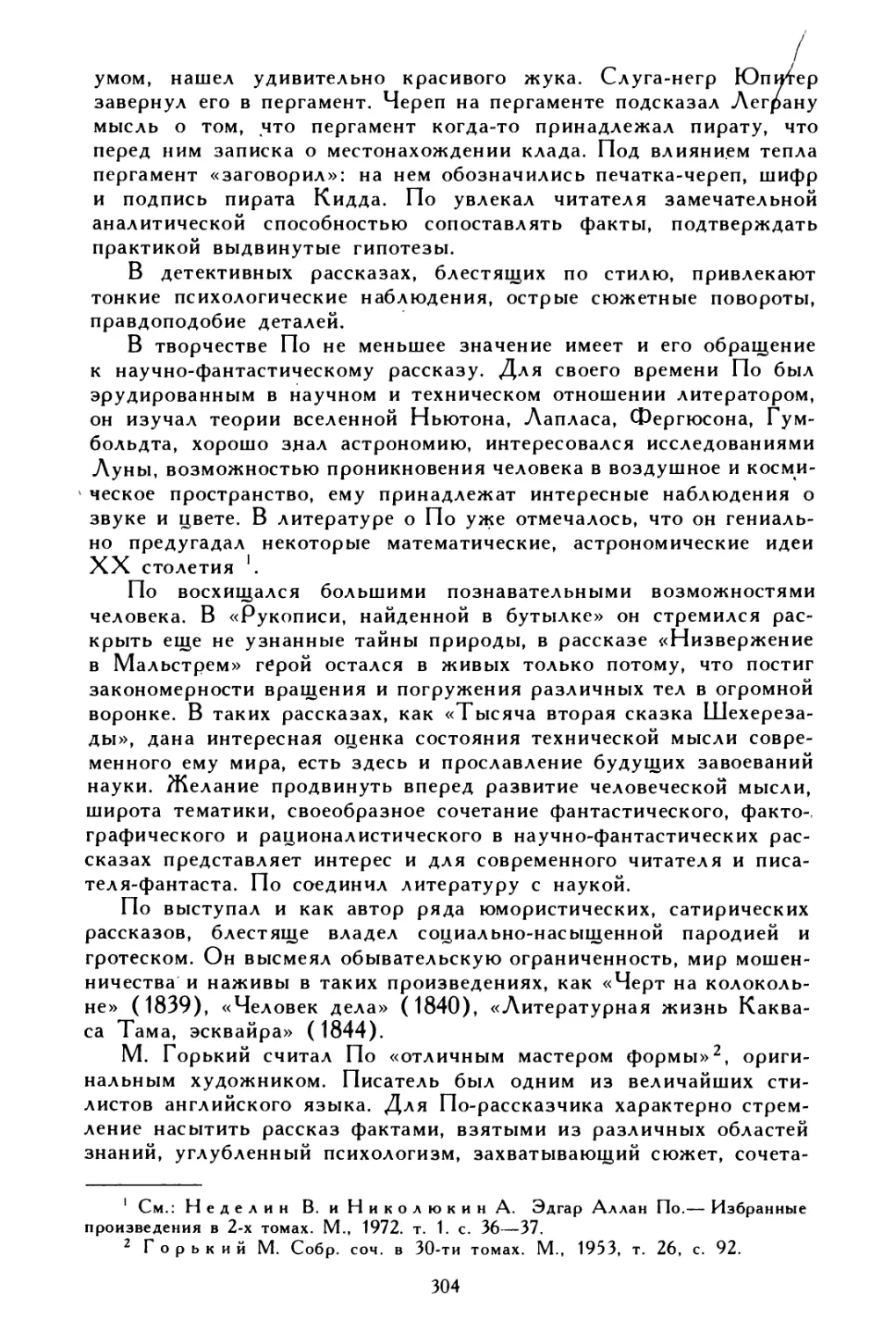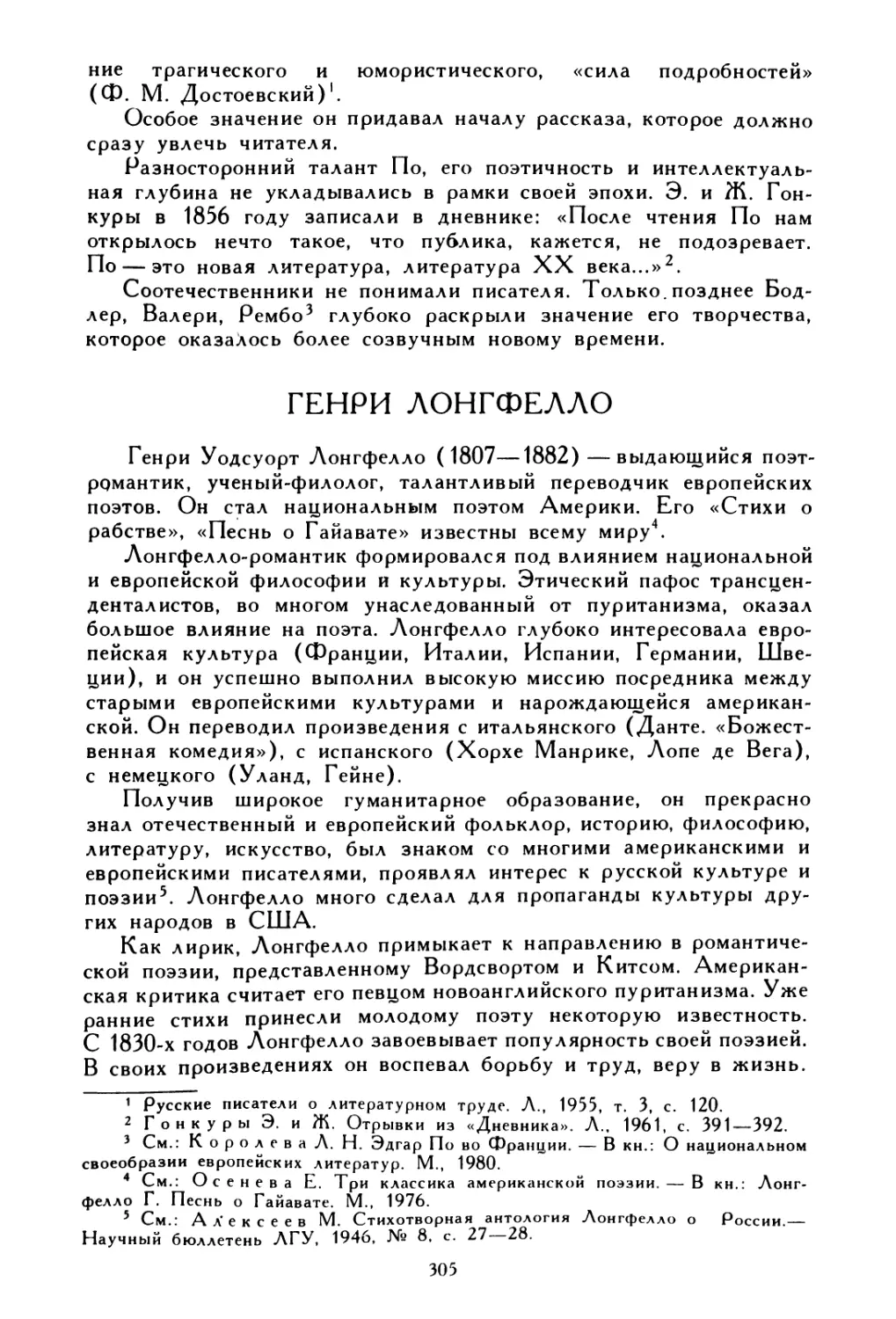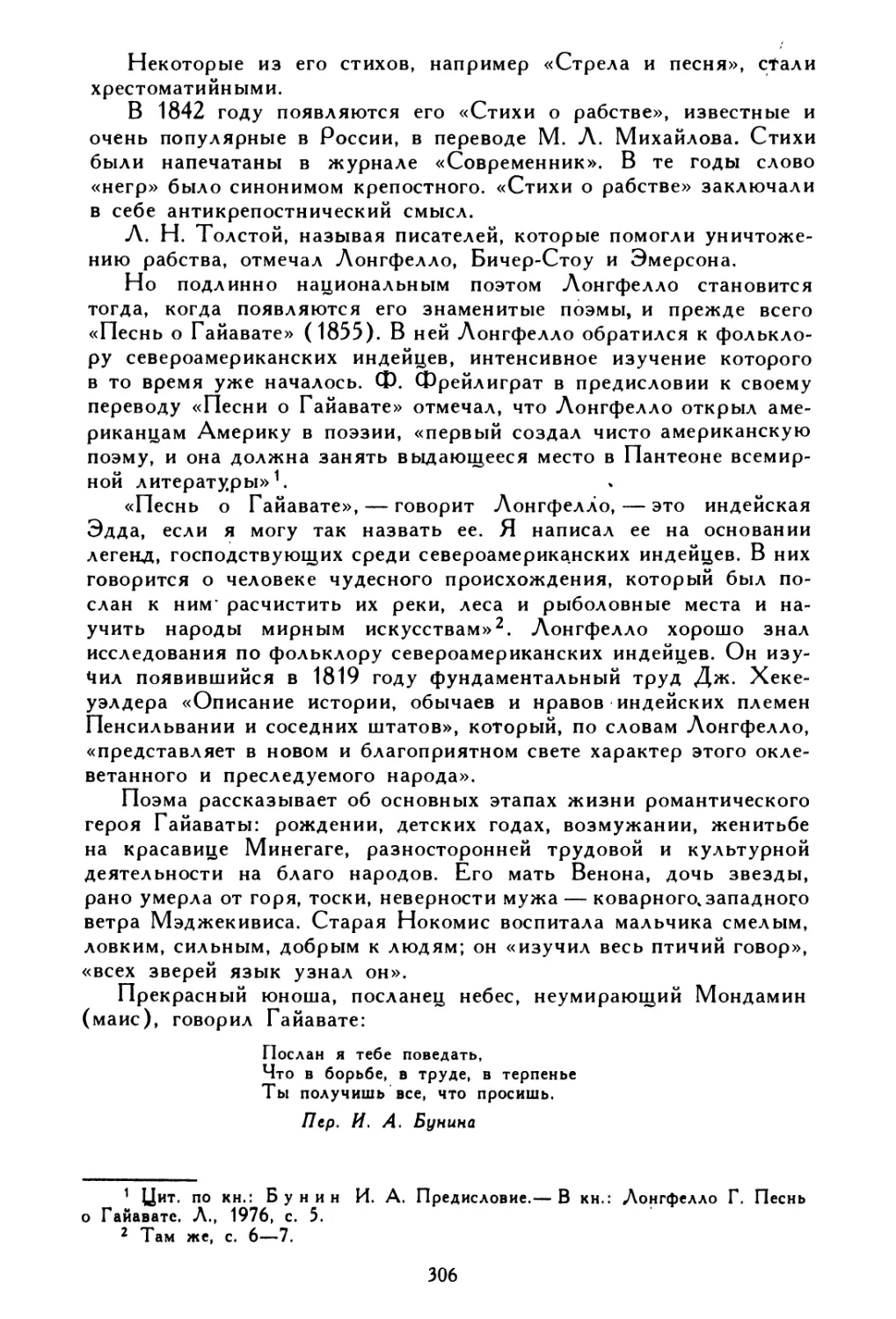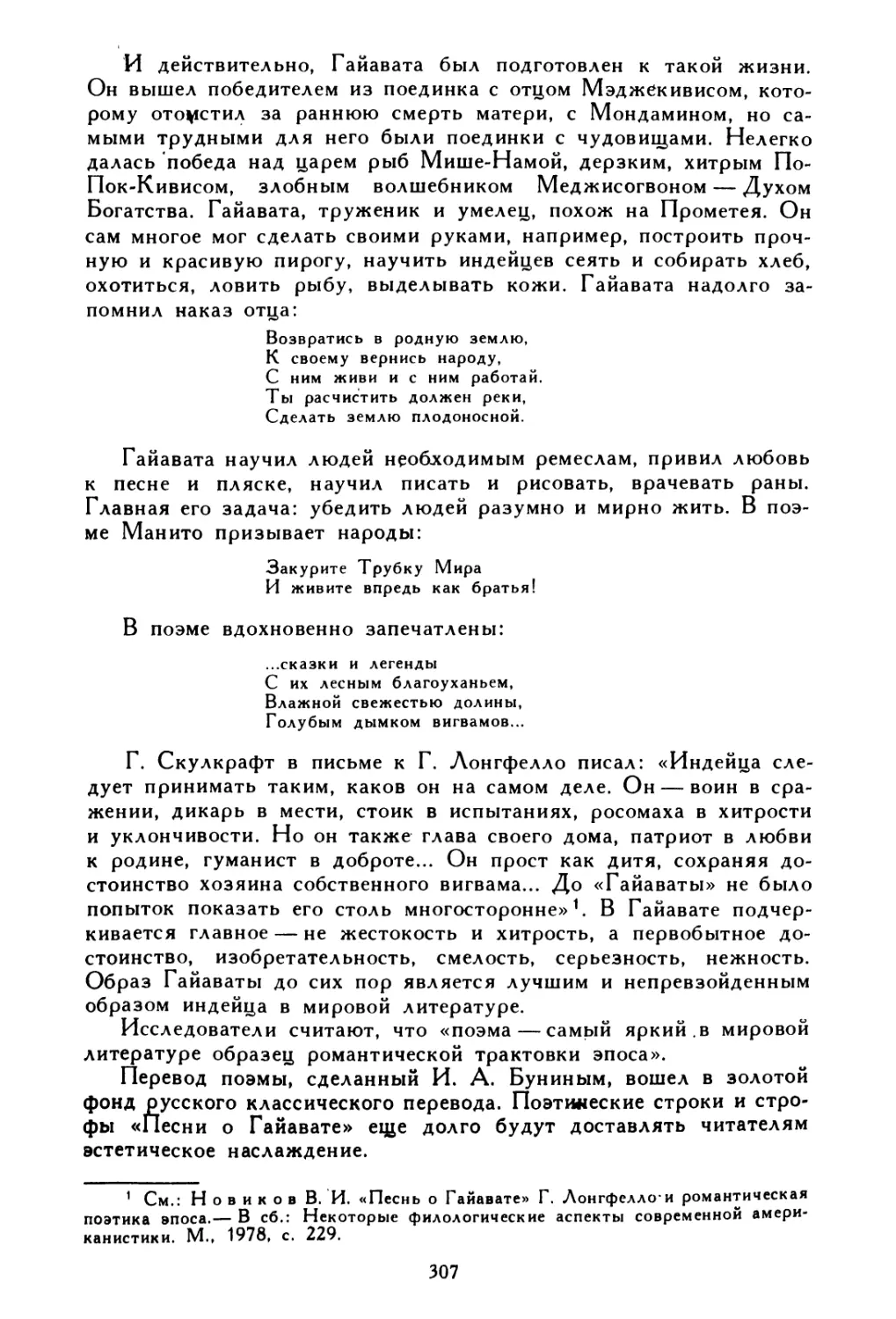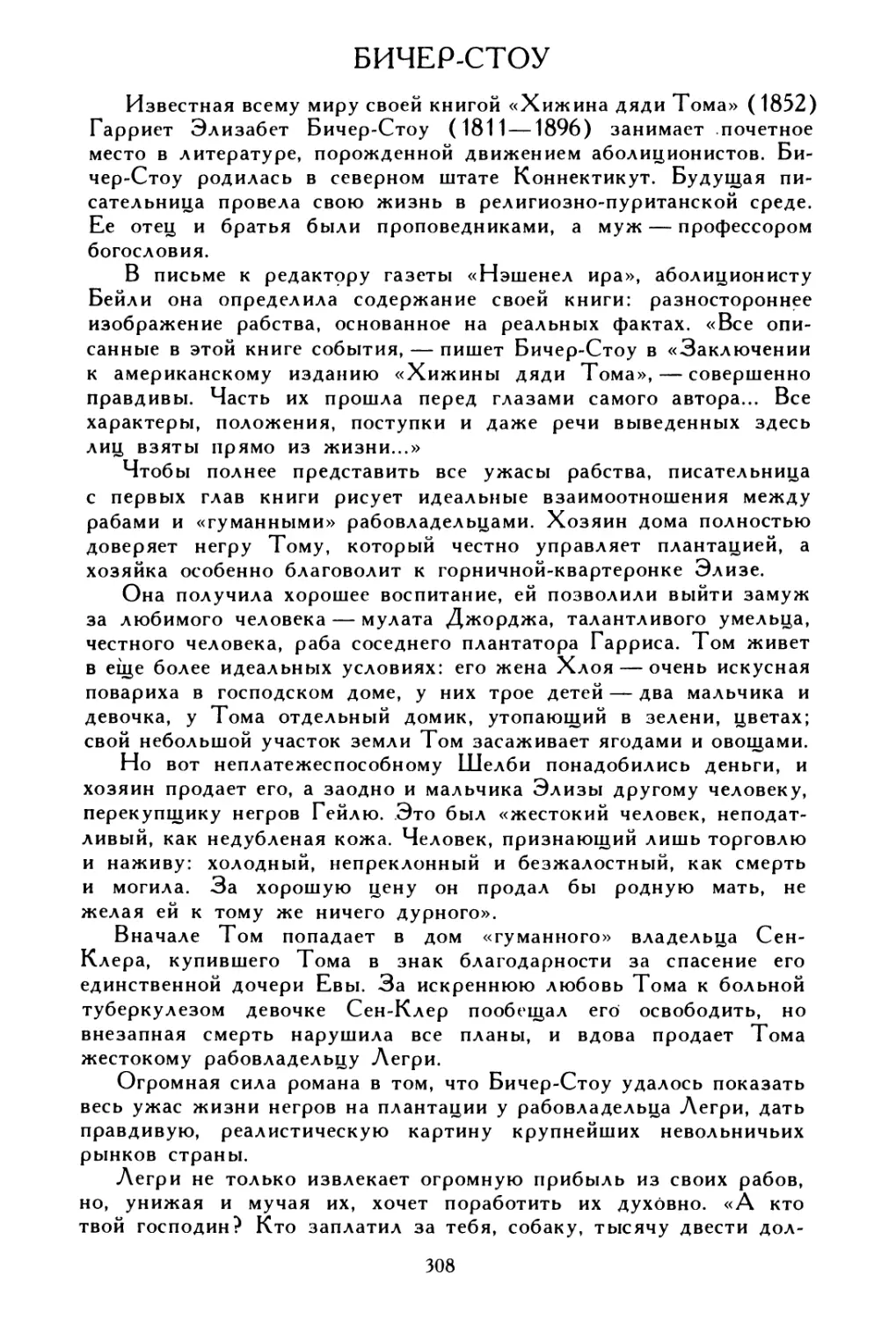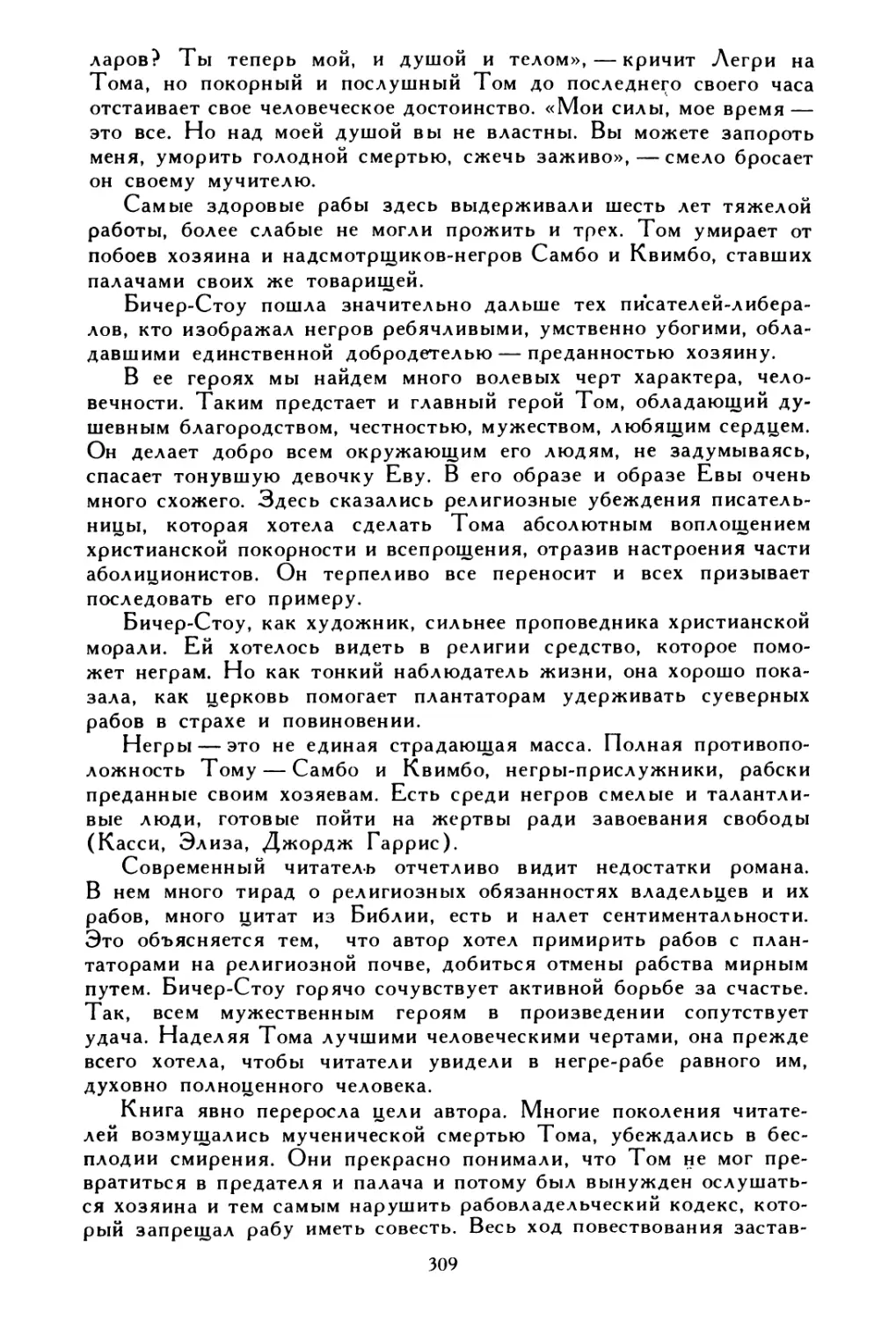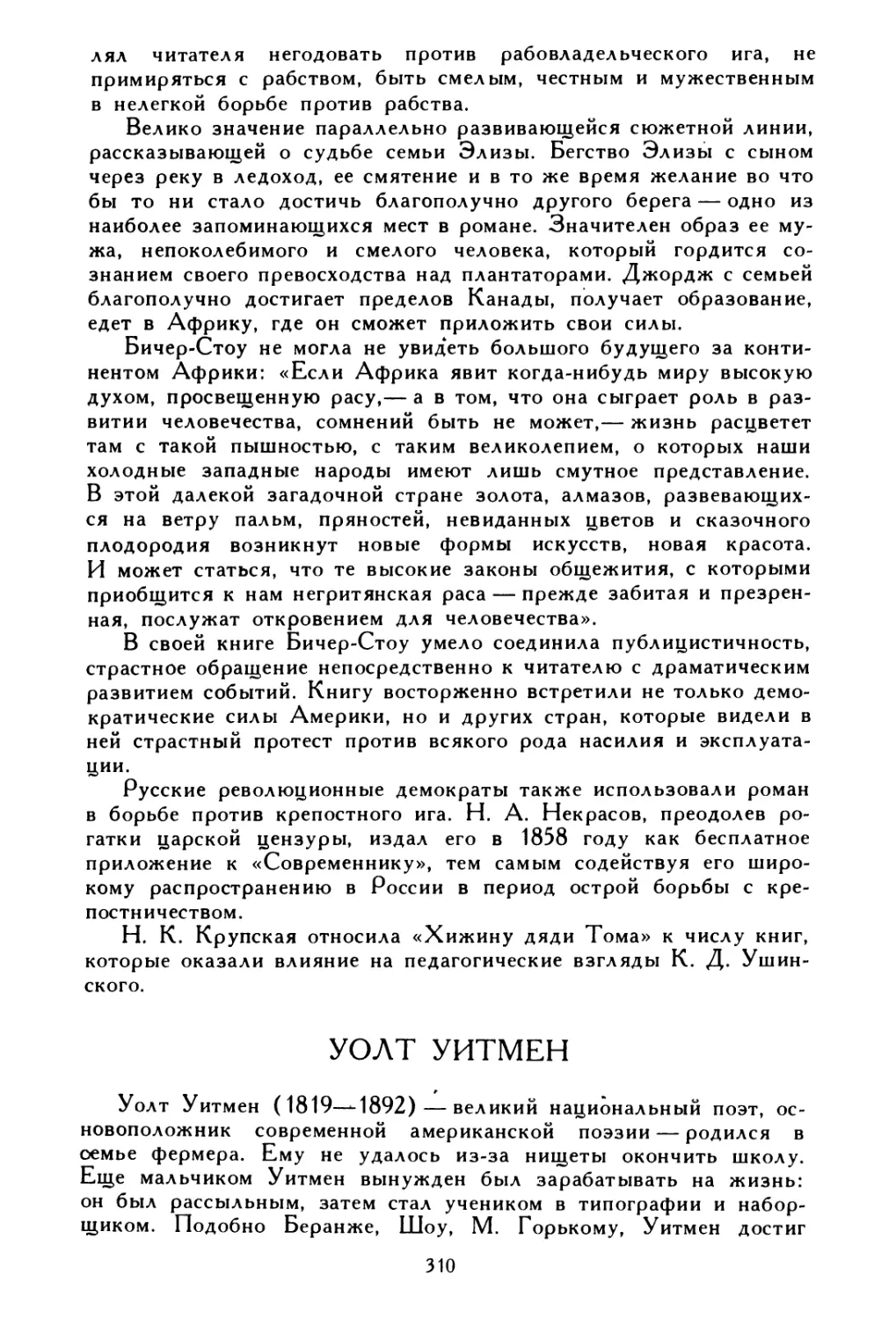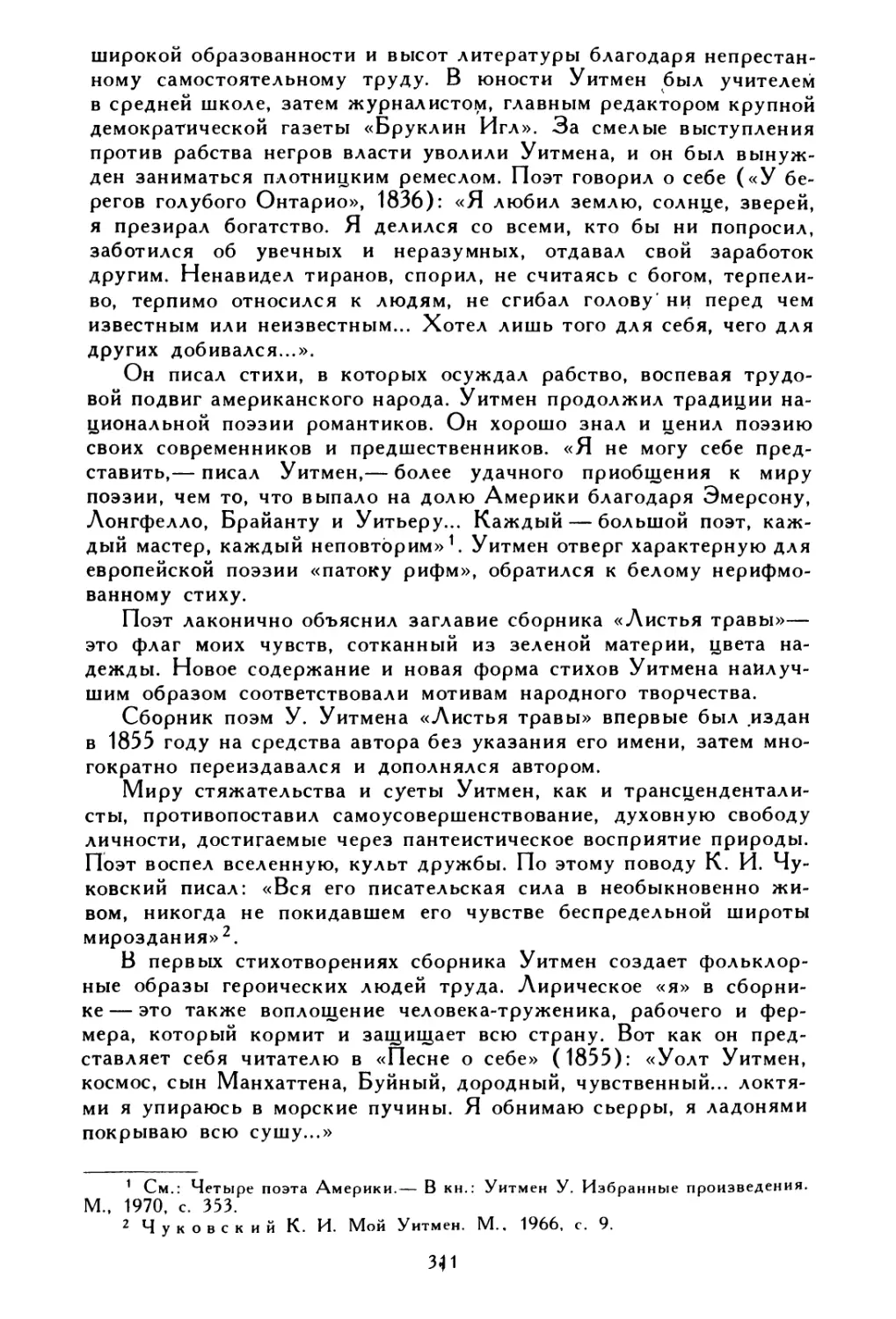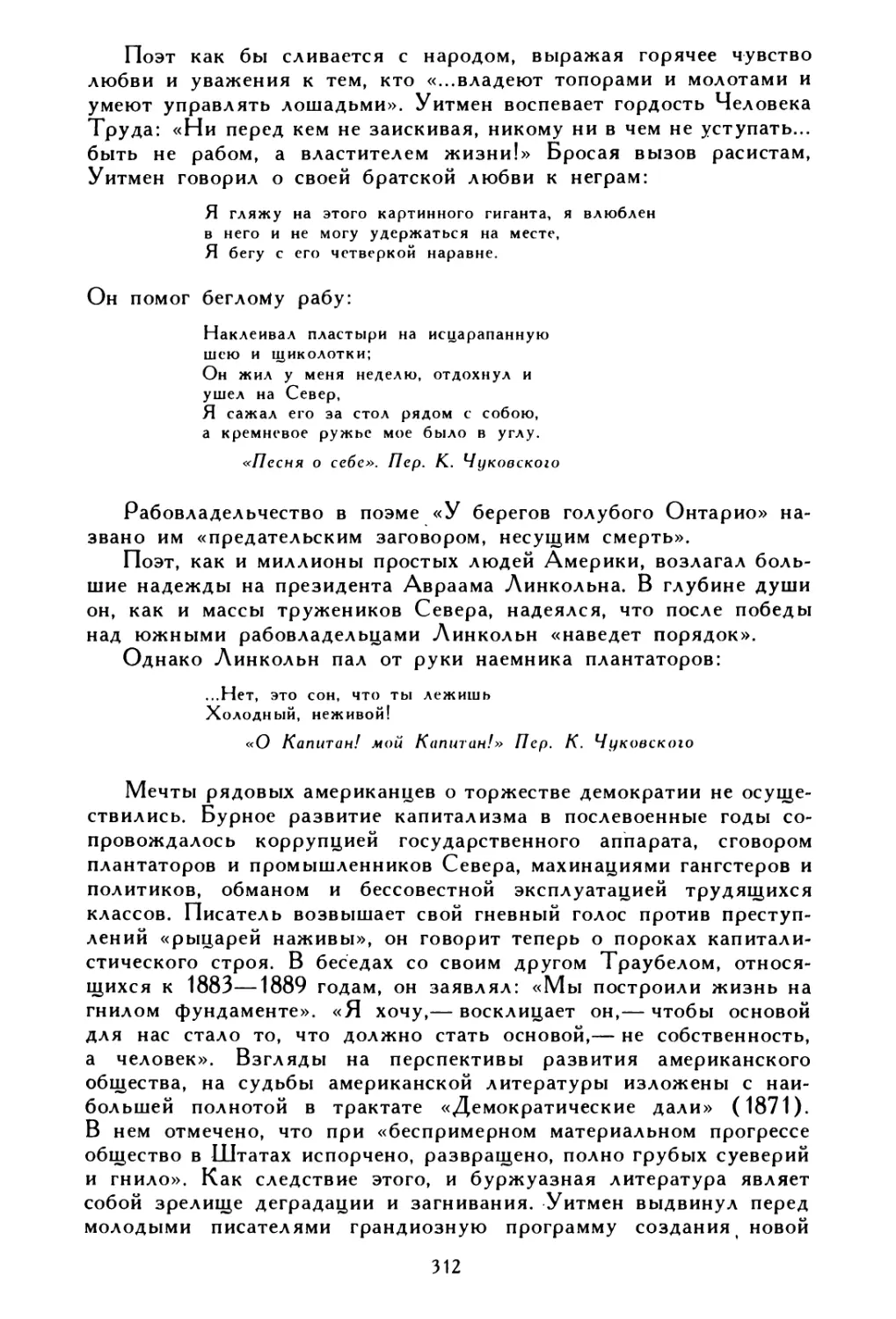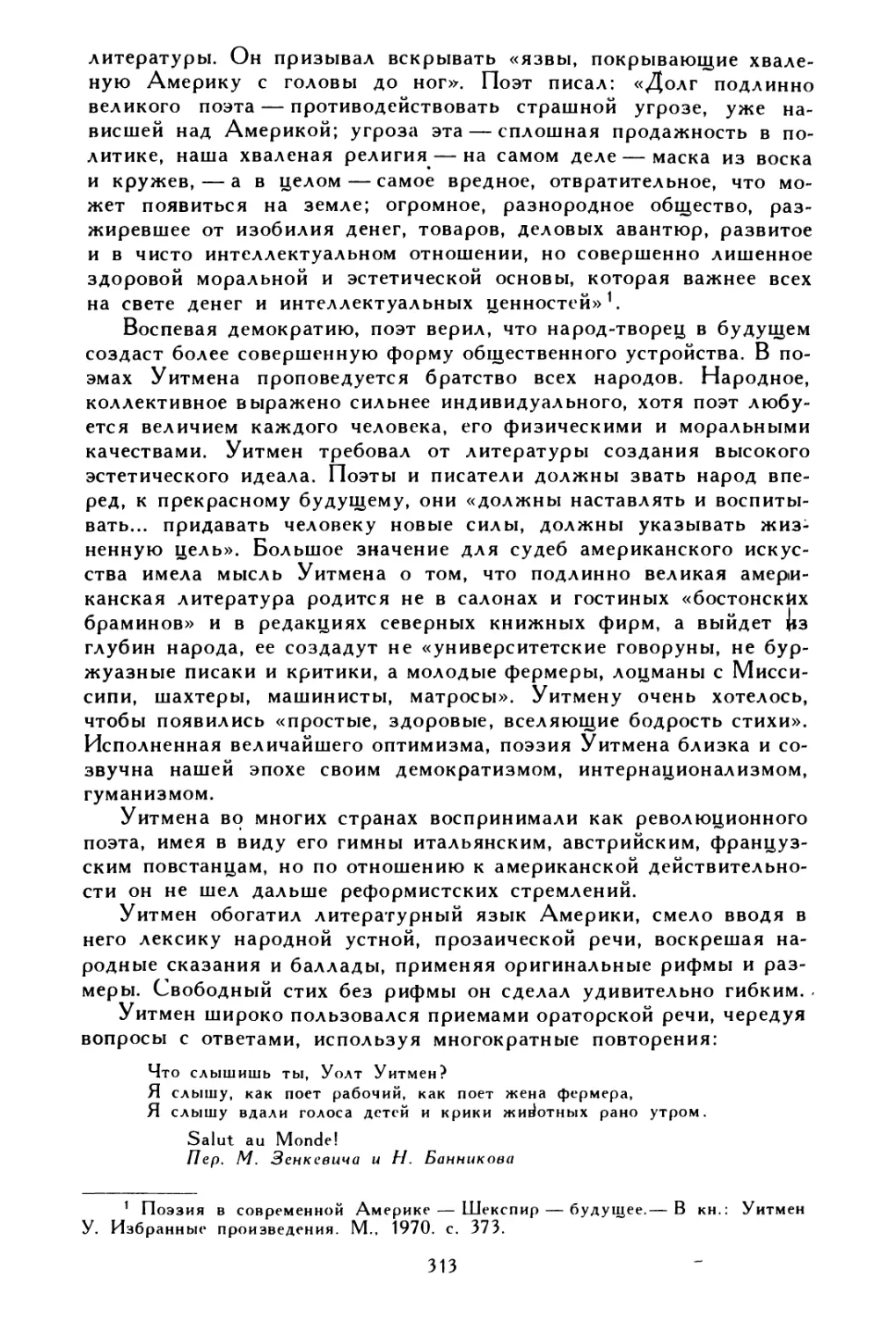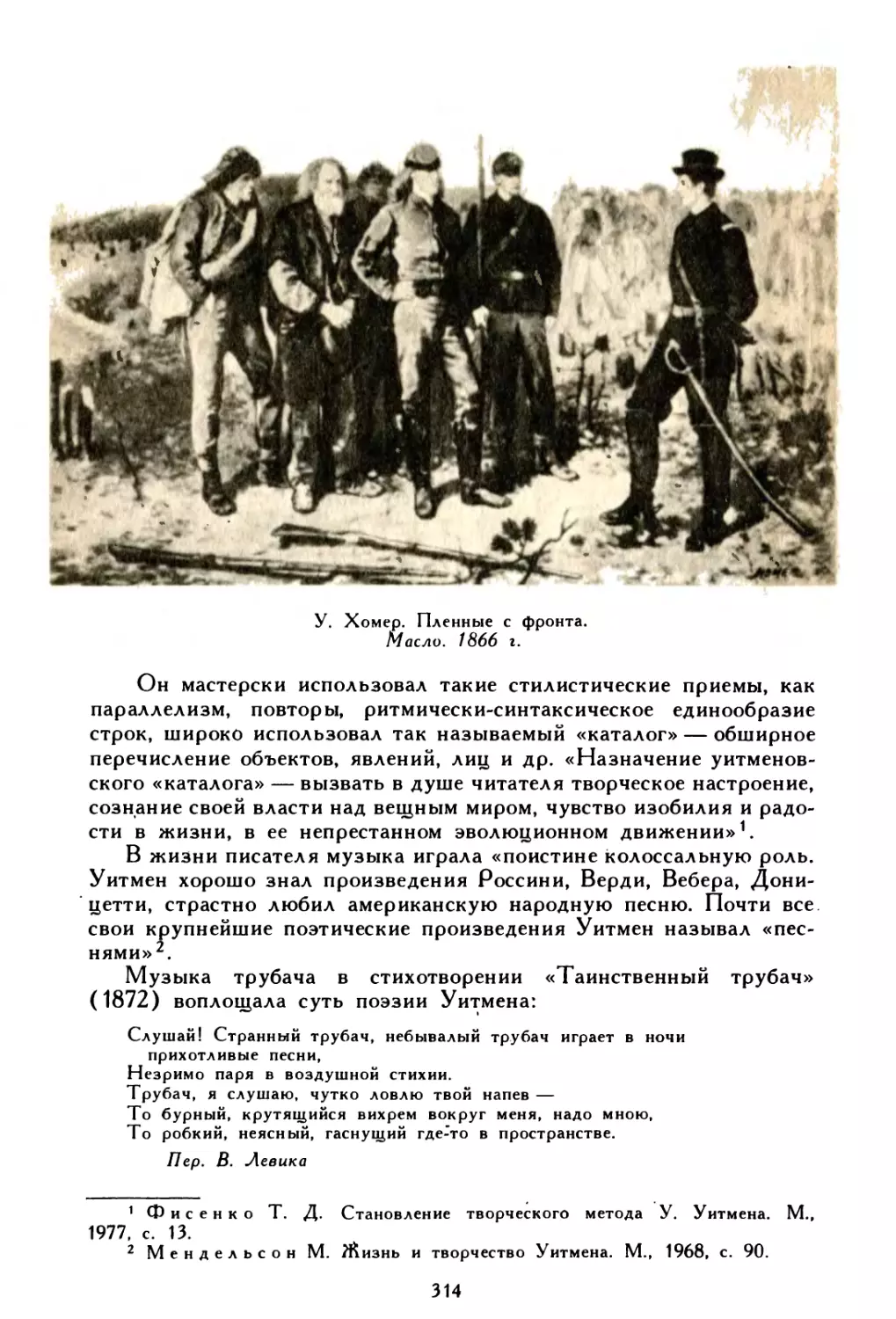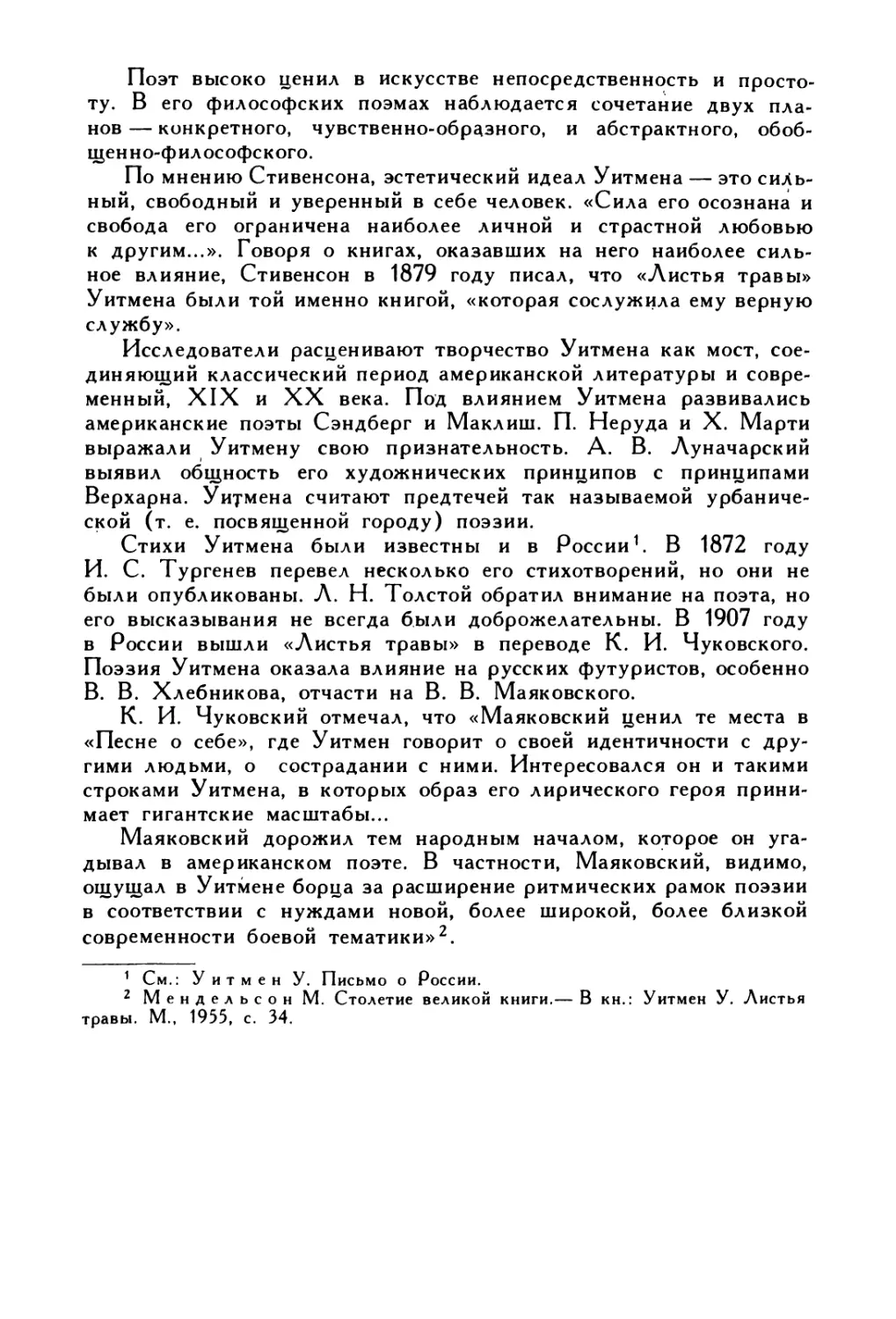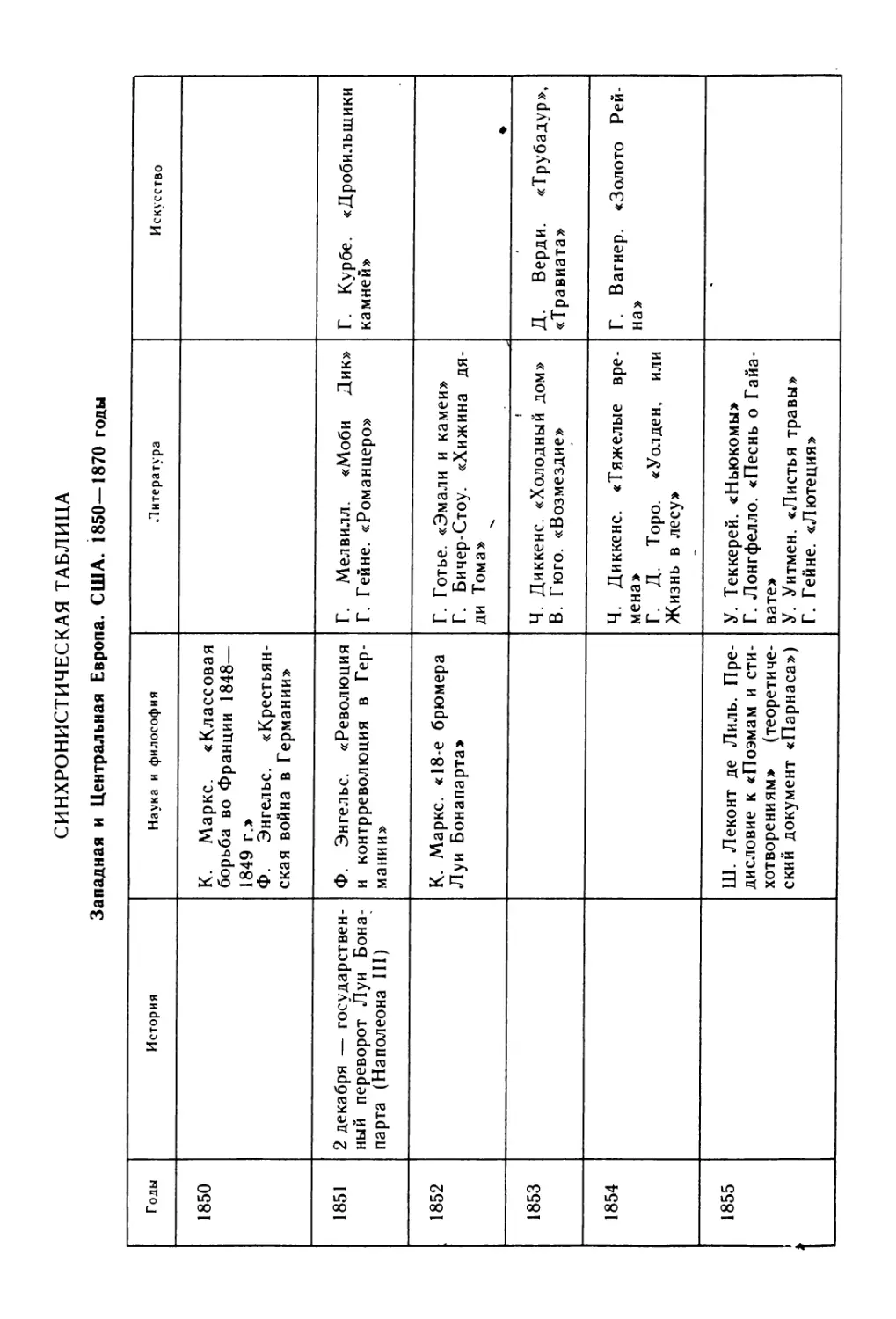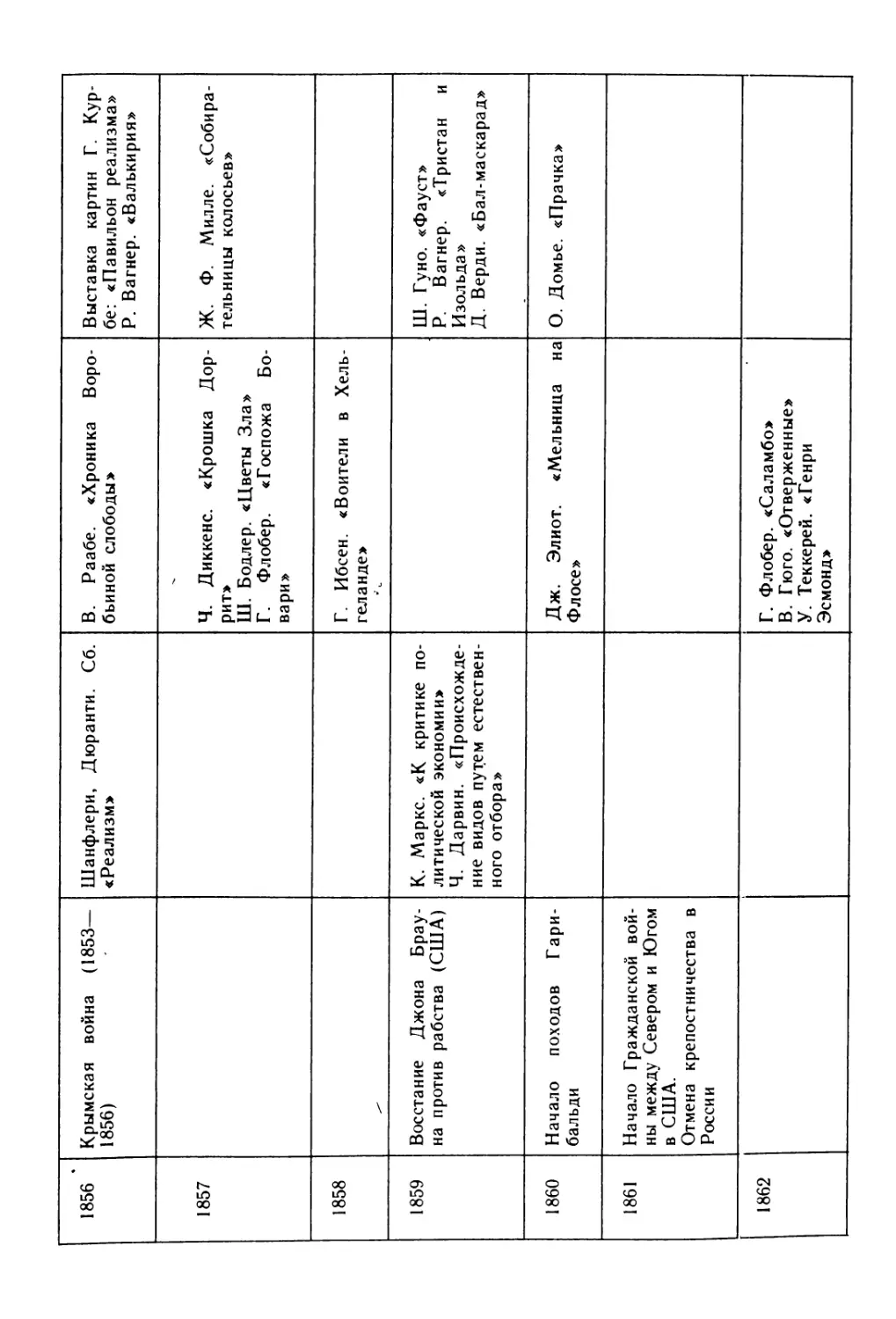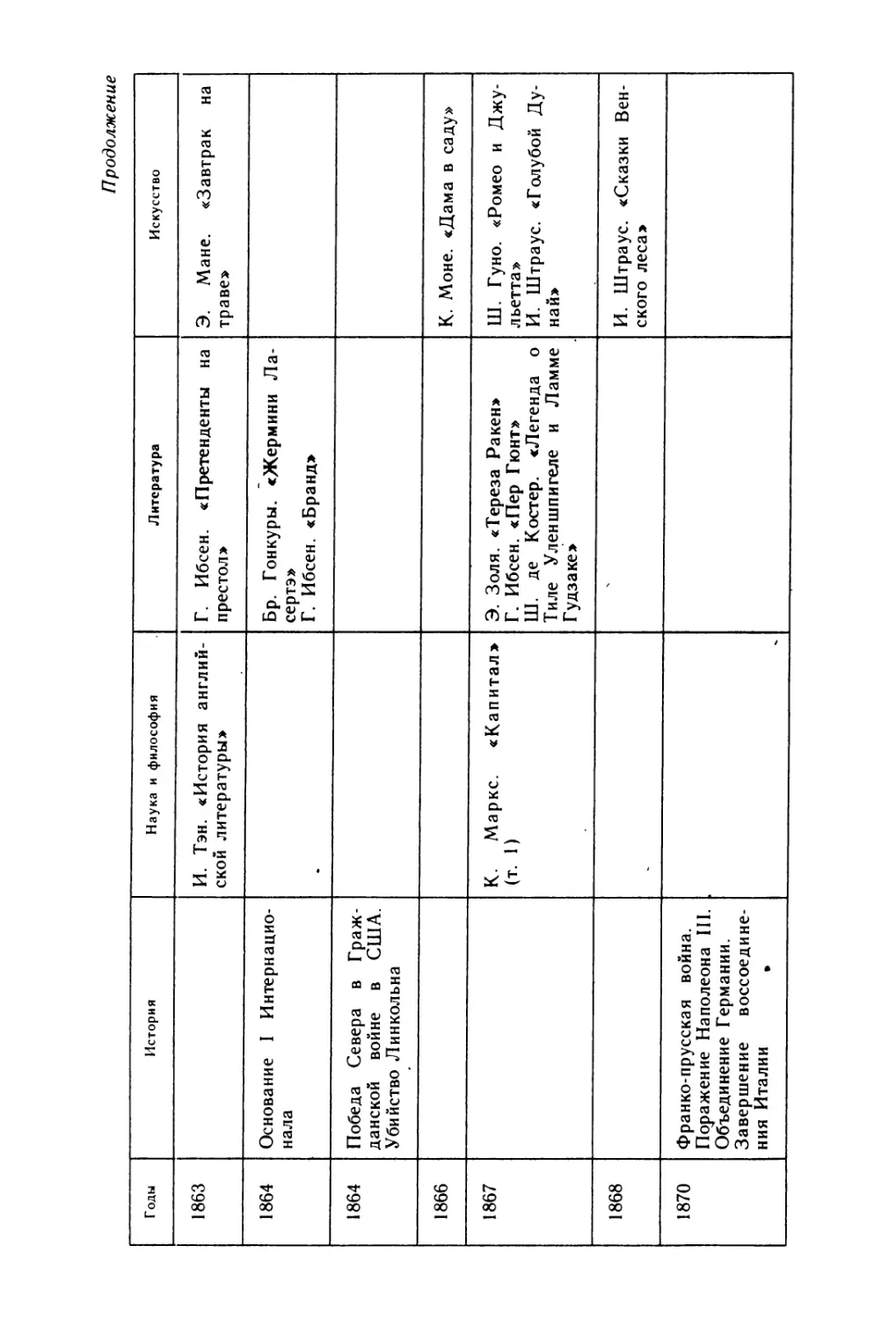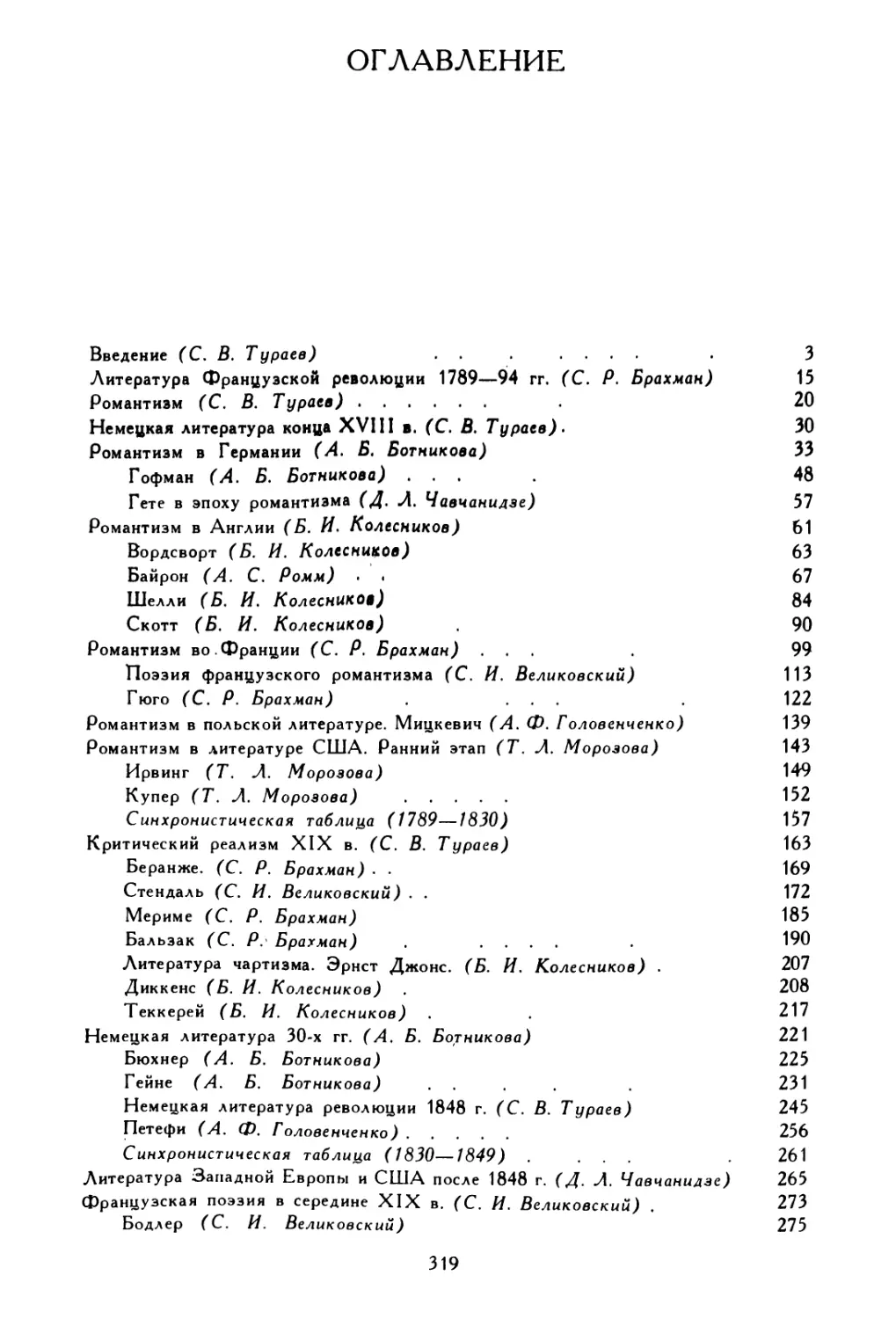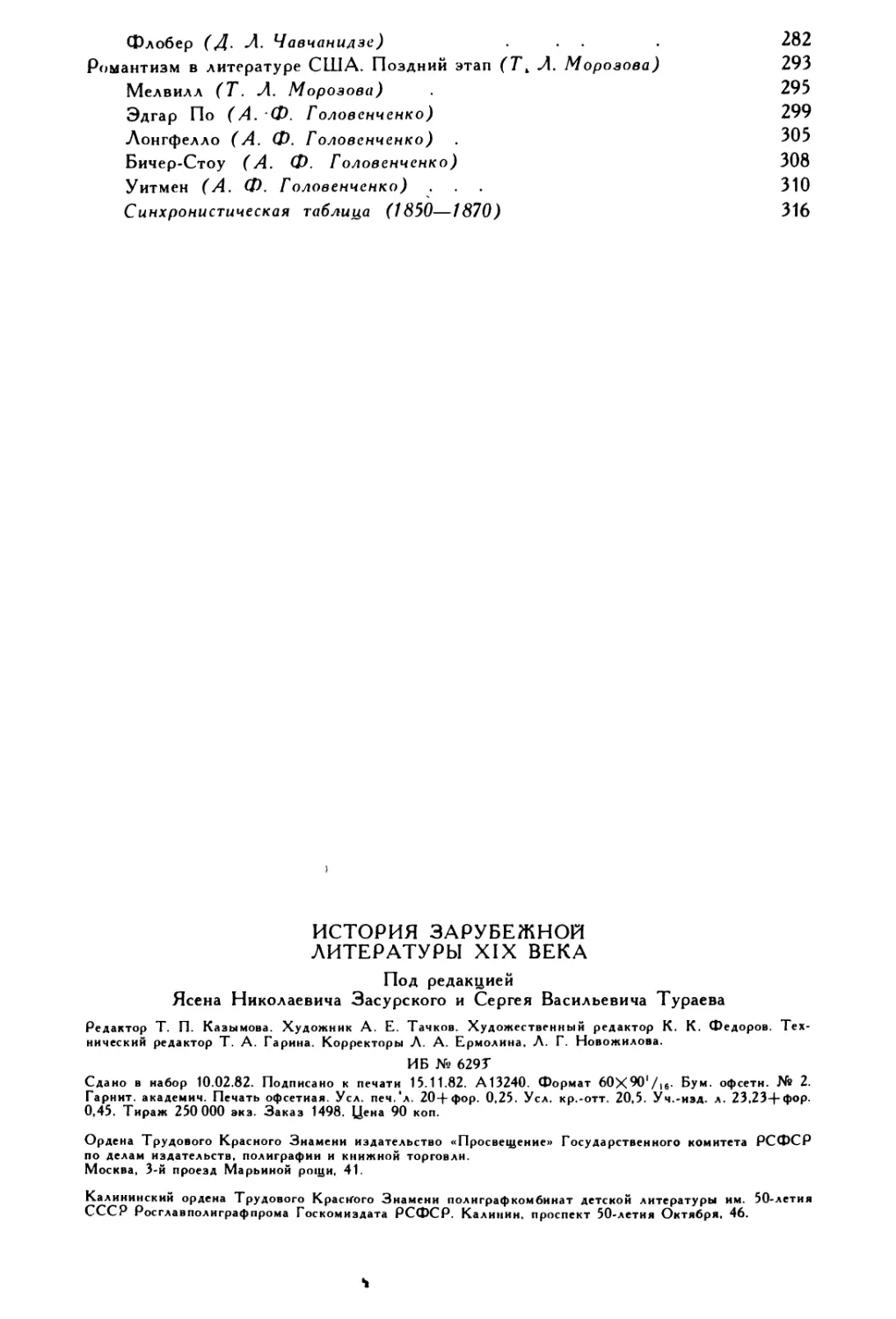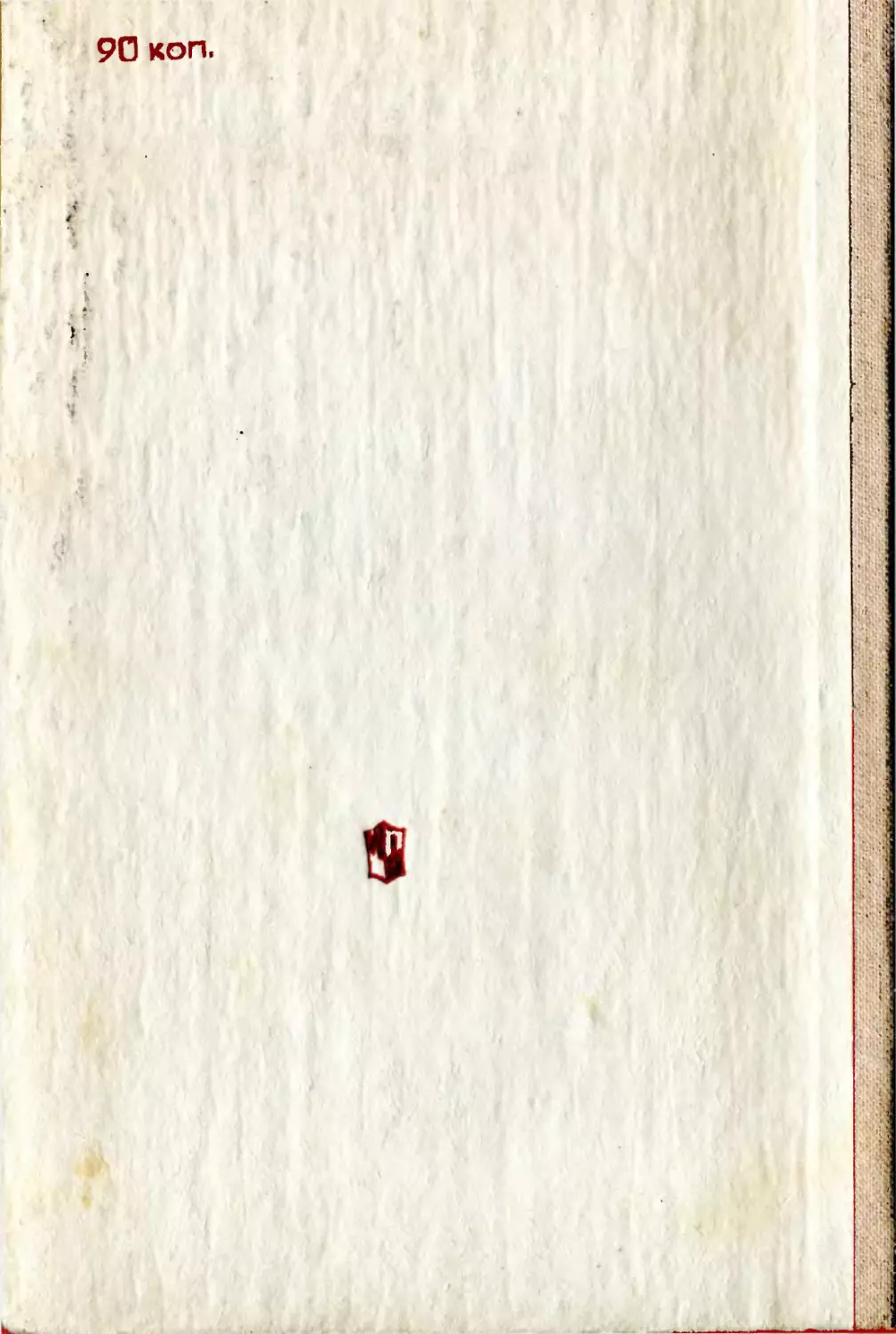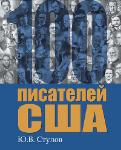Author: Засурский Я.Н. Тураев С.В.
Tags: литература хix в история литературы зарубежная литература литературоведение
Year: 1982
Text
Щ
В
1
ИСТОРИЯ
ЗЛРУБЕЖНОЙ
ДИТЕРЛТУРЫ
XIX ВЕКЯ
Под редакцией Я. Н. Засурского и С. В. Тураева
Допущено Министерством просвещения СССР
в качестве учебного пособия
для студентов педагогических институтов
по специальности № 2101
«Русский язык и литература»
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1982
ББК 83.3(0)5
И90
Р
сцензенты:
кафедра теории литературы Калининского университета (зав. кафед-
рой— доктор филологических наук, профессор Н. А. Гуляев); кафедра
русской и зарубежной литературы Даугавпилсского педагогического
института (зав. кафедрой — доцент Э. Б. Мскш)
Подбор иллюстраций осуществлен С. В. Тураевым.
ОТ РЕДАКТОРОВ
Задача повышения качества высшего образования, подчеркнутая на
XXVI съезде КПСС, диктует необходимость совершенствования учебных
пособий, поиска новых подходов в изложении материала.
Авторский коллектив в данном случае поставил перед собой скром-
ную задачу: дать компактную книгу, в которой внимание студентов бы-
ло бы сосредоточено на главных проблемах курса, прежде всего нрав-
ственных и эстетических. Эти проблемы ставятся во вводных главах и
при анализе самых основных произведений писателя. Мы убеждены, что
при минимуме примеров, не перегружая студентов излишней информа-
цией, можно скорее добиться понимания сути и специфики литературного
процесса.
При этом авторы отдельных глав постоянно отсылают читателя к
литературе вопроса. Краткость пособия предполагает, что студент будет
обращаться к специальным работам, к монографиям или к отдельным
главам из них.
Изобразительный материал книги позволит в каких-то существен-
ных моментах представить художественную атмосферу, а синхронисти-
ческие таблицы — панораму развития общества и культуры эпохи.
Редакторы книги отдают себе отчет в том, что поставленные ими
задачи решены еще не в полной мере и будут признательны за все де-
ловые замечания.
И90 История зарубежной литературы XIX века: Учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.»/
Под ред. Я. Н. Засурского, С. В. Тураева.— М.: Просвеще-
ние, 1982.—320 с, ил.
В пособие включены разделы, характеризующие особенности литературного процесса
данного периода, выделены главы о творчестве наиболее выдающихся писателей в соответст-
вии с программой курса. Специальные разделы посвящены основным литературным мето-
дам — романтизму и реализму.
и4309020300-Д2914 а? ББК 83-3<°)5
И 103(03)—82 8И
Издательство «Просвещение», 1982 г.
ВВЕДЕНИЕ
Историческая эпоха» 14 июля 1789 года народ Парижа штур-
мом взял Бастилию. Беранже с гордостью писал об этом дне,
который он запомнил с детства:
Сияет разум. Франция свободна.
Таков итог торжественного дня.
«14 июля». Пер. П. Антокольского
Началась новая эпоха всемирной истории. Громы Парижа эхом
отдались по всей Европе.
События во Франции прозвучали грозным предупреждением
феодальным правителям соседних стран. Идеи французской рево-
люции, лозунг «Свобода, равенство, братство» обладали огромной
притягательной силой, а кризис феодальной системы во многих
странах создавал почву для борьбы за демократические преобра-
зования. В. И. Ленин писал: «весь XIX век, тот век, который
дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под
знаком французской революции. Он во всех концах мира только то
и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что
создали великие французские революционеры буржуазии, инте-
ресам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, при-
крываясь словами о свободе, равенстве и братстве»1.
Демократическое освободительное движение в странах Евро-
пы в XIX веке протекало в разных формах и под разными лозун-
гами. По сути своей это была борьба буржуазии (поддерживаемой
всем третьим сословием) против феодальных порядков. Но по ме-
ре того как складывалось буржуазное общество, в недрах его
начал обнажаться новый конфликт: между трудом и капиталом,
между рабочим классом и буржуазией. Рассматриваемый нами пе-
риод завершается Парижской Коммуной 1871 года, первым опытом
создания пролетарского государства.
Таким образом, борьба трех классов — дворянства, буржуа-
зии и пролетариата — составляет основу исторического развития
в 1789—1871 годы. Эта борьба осложняется национально-освобо-
дительными движениями: против наполеоновской оккупации
1 Ленин В. И. Первый всероссийский съезд по внешкольному образова-
нию.— Полн. собр. соч., т. 38, с. 367.
3
Ф. Гойя. Какое мужество!
Офорт. 1812 г.
Германии, Австрии, Испании, против австрийского ига в Италии,
против турецкого — в Греции, против гнета русского царизма в
Польше, против англичан — в Ирландии.
Освободительное движение не было однородным даже в одной
стране. Так в Германии передовые деятели добивались демокра-
тических реформ (продолжавших частичные буржуазные реформы,
проведенные Наполеоном в западной части Германии), а правящие
круги Пруссии и других германских государств в борьбе против
Наполеона провозглашали девиз: «С богом за короля и отечест-
во». Они вели яростную антифранцузскую пропаганду в реакцион-
ном националистическом духе. Не мудрено, что в этой ситуации
Гете (как и Гегель) решительно не поддержал освободительной
войны, открыто симпатизируя Наполеону.
Судьба Наполеона, его роль в европейской истории на про-
тяжении двух десятилетий (1796—1815) неизменно занимала умы
современников и даже делала его, говоря словами А. С. Пушкина,
«властителем дум» целого поколения («К морю», 1824).
Для Франции это были годы величия и славы (хотя и достав-
шиеся дорогой ценой — ценой жизни тысяч и тысяч французов).
Италия видела в нем своего освободителя, большие иллюзии бы-
ли связаны с Наполеоном у поляков. Наполеон выступал прежде
всего как завоеватель, действовавший в интересах французской
буржуазии, только что осуществившей в своей стране революцию.
Но нельзя не учитывать при этом, что силы европейской реакции,
4
феодальные властители питали к нему ярую ненависть (даже
когда вынуждены были вступать с ним в союз). Наполеон был
для них не просто военным противником, но представителем
чуждого им мира, человеком, карьера которого началась в эпоху
революции. Наконец, особенно в начале наполеоновских войн,
среди солдат его «великой армии» было немало непосредствен-
ных участников революции. Вспомним о Ле Гране в «Путевых
картинах» Г. Гейне, простом барабанщике, который умел блиста-
тельно исполнять «красный марш гильотины». Поэт говорит, что
он учился у него французскому языку. Но дело не в языке: Ле
Гран помогал осмыслить уроки французской истории.
Важен еще один аспект наполеоновской проблемы: личность
Наполеона, феноменальность его военной и политической карьеры.
По словам юноши М. Ю. Лермонтова, откликнувшегося на 10-летие
смерти французского полководца, он «пролетел как буря мимо
нас». И далее выражено несколько наивное удивление, которое,
однако, разделяли в то время многие:
Он миру чужд был. Все в нем было тайной,
День возвышенья — и паденья час!
Эта «тайна» особенно приковывала внимание романтиков.
И романтическая концепция личности носит на себе явные следы
раздумий над судьбой Наполеона.
На глазах одного поколения произошли разительные переме-
ны. Бурное пятилетие французской революции, возвышение и па-
дение Робеспьера, наполеоновские походы, первое отречение
Наполеона, возвращение его с острова Эльбы («сто дней») и окон-
чательное поражение при Ватерлоо, мрачное пятнадцатилетие режи-
ма Реставрации (1815—1830), Июльская революция 1830 года,
Февральская революция 1848 года в Париже и за нею волна ре-
волюций в других странах. Все это события прежде всего француз-
ской истории, но они имели не только широкий резонанс, но и
оказывали влияние на жизнь всей Европы.
В Англии в результате промышленного переворота второй по-
ловины XVIII века утвердилось машинное производство и капита-
листические отношения. Парламентская реформа 1832 года суще-
ственно урезала права лендлордов и расчистила буржуазии путь
к государственной власти.
На землях Германии и Австрии власть сохранили феодальные
правители. После падения Наполеона они сурово расправлялись с
буржуазно-демократической оппозицией. Но вот в 1831 году вы-
везенный из Англии стефенсоновский паровоз впервые повез из
Нюрнберга в Фюрт смешные вагончики, похожие на кареты. «Па-
ровой конь», воспетый Шамиссо, стал реальным фактом буржуаз-
ного прогресса, пришедшего и на немецкие земли.
Итак, революции промышленные и революции политические ме-
няли облик Европы. «Буржуазия менее чем за сто лет своего
классового господства создала более многочисленные и более гран-
диозные производительные силы, чем все предшествовавшие поко-
5
ления, вместе взятые»1,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс в
1848 году.
Словно подводя итоги первой половины века, К. Маркс гово-
рил на юбилее английской рабочей газеты в 1856 году, что каждая
вещь как бы чревата своей противоположностью. «Мы видим, что
машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодо-
творнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение.
Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря ка-
ким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники
нищеты... Человечество подчиняет себе природу, человек становит-
ся рабом других людей, либо же рабом своей собственной под-
лости»2.
0 нарастающих противоречиях между трудом и капиталом вну-
шительно свидетельствовали восстания ткачей в Лионе (1831 и
1834 гг.) и в Силезии (1844 г.), мощное движение чартистов в
Англии (1838—1842 гг.), наконец, восстание парижских рабочих
(июнь 1848 г.). Освобождение пролетариата — это и была тайна,
которую открыл, по словам Маркса, XIX век.
Острота социальных противоречий, накал политических страс-
тей в противоборстве буржуазии и дворянства, пролетариата и
буржуазии, пафос национально-освободительных движений — тако-
ва была историческая почва развития художественной культуры
в целом, в том числе и литературы.
Своеобразие литературного процесса. Романтизм и
реализм. Исследовать литературный процесс XIX века — это
значит выявить закономерности изменения художественного мы-
шления эпохи, смену направлений, школ, стилей.
Великая французская революция 1789—1794 годов обозначила
собой рубеж, отделяющий новую эпоху от века Просвещения. Меня-
лись не только формы государства, социальная структура обще-
ства, расстановка классов. Была поколеблена вся система пред-
ставлений, освещенная веками. «Сокрушились старых форм осно-
вы»,— писал Ф. Шиллер в стихотворении «Начало нового века»
(1801).
Просветители идейно подготовили революцию. Но они не мог-
ли предусмотреть всех ее последствий. Не состоялось «царство
разума», обещанное мыслителями XVIII века. На рубеже веков уже
обозначались противоречия, во многом еще непонятные современ-
никам. Гете вложил в уста одного из героев поэмы «Герман и
Доротея» слова о надеждах, которые пробудила революция в умах:
когда французские революционные войска пришли на западные не-
мецкие земли, «все взгляды были прикованы к неизведанным но-
вым дорогам». Это время надежд, однако, вскоре, сменилось разо-
чарованием:
...к господству стали тянуться
люди, глухие к добру, равнодушные к общему благу...
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 429.
~ Там же, т. 12, с. 4.
6
Революция провозгласила свободу личности, открыв перед
нею «неизведанно новые дороги», но эта же реводюция породила
буржуазный порядок, дух стяжания и эгоизма.
Эти две стороны личности (пафос свободы и индивидуализм)
весьма сложно проявляются в романтической концепции мира и
человека. В. Г. Белинский нашел замечательную формулу, говоря
о Байроне (и его герое): «это личность человеческая, возмутив-
шаяся против общего и, в гордом восстании своем, опершаяся
на самое себя»1. Н. Я. Берковский имел основание сказать, что
Байрон «олицетворяет не одно из течений в романтизме, как
обычно трактуют его, а романтизм как таковой, в полном своем
и развернутом виде. Это... всегда понимали у нас в России, еще
со времен Пушкина, Лермонтова, Тютчева»2.
Субъективное, эмоционально-личностное отношение к окружаю-
щему миру, изображение его с позиций человека, не принимающе-
го окружающей буржуазной прозы, составляет основу мировоззре-
ния романтиков. Это реакция на французскую революцию и подго-
товившее ее Просвещение, но это следует понимать не как не-
приятие революции, а как отрицание того общественного поряд-
ка, который возник в результате революции. (Это, конечно, не
исключает того, что многие романтики были противниками самой
революции3).
Вспомним приведенные выше слова Маркса: «Новые, до сих
пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то стран-
ным, непонятным чарам превращаются в источники нищеты».
Естественно, что для Маркса, открывшего экономические зако-
ны развития общества, слова о «странных чарах» являются толь-
ко стилистической фигурой. Романтики, исполненные смятения
перед непонятной властью золота, в самом деле представляли сло-
жившиеся отношения в мистифицированном виде. Отсюда — частое
обращение к фантастике, легендам, к событиям отдаленного прош-
лого. Отсюда интерес к древним мифам и, что особенно существен-
но, создание новых мифов. Это более всего характерно для немецких
романтиков. У истоков романтизма — роман-миф Новалиса «Генрих
фон Офтердинген», а один из поздних романтиков, драматург и
композитор Рихард Вагнер, переосмысляя древний миф, создает
грандиозную тетралогию «Кольцо нибелунгов». Но и Гюго в сбор-
нике стихотворений «Восточное» и Байрон в «восточных поэмах»
(как и русские романтики, когда они обращались к темам Кавка-
за) рисовали не реальный Восток, а Восток вымышленный, созда-
вая, по сути своей, некий миф о Востоке по контрасту с неприем-
лемой ими реальной действительностью.
1 Белинский В. Г. Поли собр. соч. в 13-ти томах. М, 1954, т. 4,
с. 424.
2 Проблемы романтизма. М., 1971, сб. 2, с. 17.
3 Так, К. Маркс писал Ф. Энгельсу 25 марта 1868 года: «Первая реакция
на французскую революцию и связанное с ней Просвещение, естественно, состояла
в том, чтобы видеть все в средневековом, романтическом свете, и даже такие
люди, как Гримм, не свободны от этого». (Соч. 2-е изд., »т. 32, с. 44.)
7
Э. Делакруа. Подвиг Арколя.
Рисунок. 1830 г.
Они были озабочены раскрытием подлинной ценности лично-
сти. Они искали эту ценность за пределами того реального мира,
в котором царило «отчуждение человека от человека»* и которое
они поэтому отвергали.
В странах с мощным национально-освободительным движением
(Ирландия, Италия) романтизм долгие годы сохранял ведущее
место. Именно в романтических жанрах находил отражение пафос
освободительной борьбы. В Ирландии даже создалась парадок-
сальная ситуация: когда в 60-х годах XIX века появились первые
реалистические произведения, ирландская критика сразу отвер-
гла их как измену национальной традиции. В литературе США
почти весь XIX век прошел под знаком романтизма.
Таким образом, на определенном этапе общественного разви-
тия именно романтический метод отвечал духовным чаяниям и ис-
каниям многих художников и поэтов. Искусствоведы приводят та-
кой факт. Три дня Июльской революции 1830 года явили много
примеров беззаветного мужества и самоотверженности. Так, вос-
ставшие не могли прорваться через один мост, и тогда юноша,
назвавший себя Арколем, бросился вперед под огнем королевской
гвардии, увлек за собой весь отряд через мост, и вскоре над
ратушей взвился флаг победителей. Э. Делакруа, узнав об этом,
сделал выразительный реалистический рисунок. И все же он не
превратил этот рисунок в картину, а написал романтическую
«Свободу на баррикадах» — именно этот условно-обобщенный об-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 567.
8
раз, а не эпизод с Арколем лучше всего выражал по его замыслу
пафос революции.
Но в те же 30-е годы XIX века в европейских литературах,
прежде всего в России, Франции и Англии, утверждались принци-
пы реализма. Реализм не просто сменил романтизм. Во Франции
битвы романтиков с классицистами и появление первых романов
Стендаля и Бальзака были отделены всего 2—3 годами. Романтизм
и реализм сосуществовали. (Вспомним даты: 1830 год—«Красное
и черное» Стендаля, 1831 год — «Собор Парижской богоматери»
Гюго и «Шагреневая кожа» Бальзака.) При этом Гюго пережил
Бальзака на 35 лет и опубликовал свой последний романтический
роман «93 год» в 1874 году!
Романтические произведения появляются во второй половине
века и в других странах. Можно вспомнить раннего Ибсена (60-е
годы) или роман бельгийского писателя Шарля де Костера «Ле-
генда об Уленшпигеле» (1867).
В Германии в 30—40-е годы шла ожесточенная полемика с
романтизмом, эпоха расцвета которого (первые 30 лет века) бы-
ла уже позади. Но, казалось бы, поверженный и окончательно ра-
зоблаченный романтизм вновь заявил о себе во второй половине
века в драматургии Р. Вагнера, а в известной мере и в новеллис-
тике 50—60-х годов.
И все же можно говорить о преемственности от романтизма к
реализму, ибо главные его художественные открытия были сдела-
ны в первой четверти века (байроническая поэма, исторический
роман В. Скотта, новеллы-сказки немецких романтиков, в том
числе Гофмана, необычайный взлет романтической лирики в ряде
стран).
Глубокое проникновение в сложный духовный мир человека;
преодоление того метафизического противопоставления добра и
зла, которое было характерно для многих просветителей; исто-
ризм; пристальное внимание к колориту — национальному, геог-
рафическому— все эти завоевания романтизма обогащали художе-
ственное зрение реалистов. Можно сказать, что реализм XIX века
не мог быть простым возвращением к реализму XVIII века уже
потому, что между ними пролегла эпоха новаторства романтиков.
В данном случае несущественно, что сами реалисты могли резко
отмежевываться от романтиков: «Даже когда опыт предшественни-
ков в острой полемике отвергается, писатель, часто даже не созна-
вая этого, впитывает в себя какую-то часть этого опыта. Так,
завоевания психологического реализма XIX века (Стендаля, Тол-
стого, Достоевского) были, несомненно, подготовлены романтиками,
их пристальным вниманием к личности, к душевным пережива-
ниям»1.
Не следует забывать, что романтизм и критический реализм
XIX века исходили из одной общей посылки: неприятия буржуаз-
1 Драгом ирецкая Н. В. Литературный процесс.— В кн.: Краткий
словарь литературоведческих терминов. М., 1978, с. 80—81.
9
Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ.
Масло. 1831 г.
ного общества. И если Ф. Энгельс, перечитывая Бальзака, воск-
ликнул: «И какая смелость! Какая революционная диалектика в
его поэтическом правосудии!»1, то эти слова, конечно, в пер-
вую очередь относятся к критическому реализму XIX века.
Но «поэтическое правосудие» по-своему осуществляли и ро-
мантики. Какие обличительные строки мы находим у Шелли в его
«Песне людям Англии», в его «Королеве Маб»! Сколько глубоко-
го прозрения в истории гофмановского Цахеса, обладающего тре-
мя золотыми волосками и потому нагло присваивающего достоин-
ства других! Золото Рейна — источник неисчислимых бедствий,
причина гибели героя; золото, порождающее цепь преступлений,—
разве не поднимается Р. Вагнер до высочайшего обобщения?
Но, конечно, реалисты сделали огромный шаг в сравнении
с романтиками: они не мистифицировали буржуазное общество, они
сорвали с него маски. Потребовался известный общественный
опыт, чтобы реально оценить причины и следствия, «и люди при-
ходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами
на свое жизненное положение и свои взаимные отношения»2 —как
сказано в «Манифесте Коммунистической партии».
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 67.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 427.
10
«Правда, горькая правда» — взял Стендаль для эпиграфа к
роману «Красное и черное» слова Дантона.
Именно реализм XIX века (который мы называем критическим
в отличие от просветительского1) помог донести до читателя эту
«горькую правду». Многоплановая, населенная сотнями персона-
жей из разных слоев общества, «Человеческая комедия» Бальза-
ка— только один из примеров глубокого эстетического освоения
социальных обстоятельств и социальных типов буржуазной дейст-
вительности XIX века.
И суждения К. Маркса о блестящей школе реалистов в Англии2
(Диккенс, Теккерей, Ш. Бронте, Е. Гаскелл), и известная харак-
теристика, данная Ф. Энгельсом Бальзаку3 примечательны прежде
всего тем, что в них отмечается мастерство создания реальной кар-
тины тогдашнего общества.
Важным художественным открытием реализма XIX века яви-
лось новое понимание среды как совокупности материальных усло-
вий, в которых формируется характер. В литературе XVIII века
действия героя — носителя разума — не обязательно были обуслов-
лены средой. В романтизме понятие среды часто подменялось ус-
ловным, экзотическим «местным колоритом». Реализм XIX века
тщательно, досконально изучает среду, обстоятельства жизни своих
персонажей.
* Критические реалисты создали социальный характер. Они да-
ли ему точную и ясную оценку, исходя из той роли, которую он
занимает в обществе.
Революционная поэзия XIX века, связанная с такими собы-
тиями, как Июльская революция 1830 года во Франции, чартист-
ское движение в Англии, наконец, волна революций в 1848—1849
годы,— развивалась в русле разных направлений.
Наряду с революционной патетикой, например у Г. Гервега,
выделяется романтическая сатира. Многие выдающиеся памятники
революционной сатиры XIX века («Германия. Зимняя сказка»
Гейне, «Ямбы» Барбье, «Возмездие» Гюго) созданы в русле роман-
тической традиции.
В поэзии немецких «истинных социалистов», в стихотворени-
ях английских поэтов Т. Гуда («Песня о рубашке») и Е. Броунинг
(«Плач детей»), а частично и в самой чартистской поэзии отчет-
ливо выступают сентиментальные мотивы и образы — это связано
с общей идейной незрелостью этой поэзии, подменяющей идею
борьбы жалостливым сочувствием.
1 В последние годы в советском литературоведении возникла дискуссия
о правомерности самого термина «критический». Речь идет прежде всего о том,
что критические реалисты не ограничиваются критикой, выдвигают и свой
положительный идеал. Но термин не может охватить всех граней содержания
понятия, которое за ним стоит. Ведь и другие термины («реализм «Возрожде-
ния», «просветительский реализм») нуждаются в более точном и конкретном
истолковании.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 10, с. 648.
3 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 35 — 37.
11
Но в те же годы складывается пролетарская поэзия, не только
передающая пафос борьбы, но и утверждающая исторические
права нового класса — пролетариата и его нового героя. Перед
нами поэты и писатели-реалисты, такие, как Г. Веерт, позднее —
Э. Потье. В их творчестве уже речь идет не о стихийном выра-
жении настроений рабочего класса, а о социальном осознании его
роли как борца и строителя нового общества. В новелле Веерта
«Праздник цветов у английских рабочих» высказана мысль о том,
что рабочий подарит миру «новую литературу, новое, могучее
искусство».
Черты реализма Веерта и Потье, связанные с осмыслением
действительности в свете революционной перспективы, дают основа-
ние видеть в них ранних предшественников социалистического
реализма.
Создание Э. Потье «Интернационала» логически завершает мно-
гокрасочную историю европейских литератур, ее бурного пери-
ода от взятия Бастилии до провозглашения Парижской Комму-
ны и одновременно открывает новый период, предвосхищая соци-
альные битвы XX века.
Огромен вклад, который внесли писатели, а также философы
и критики XIX века в развитие эстетической мысли.
Идеи ранних немецких романтиков Фр. и А.-В. Шлегелей и
Новалиса, предисловие-манифест Вордсворта и Колриджа, поле-
мика с классицизмом Стендаля и Гюго, программное предисловие
Бальзака к «Человеческой комедии», критические суждения Бюх-
нера и Гейне, программа тенденциозной политической поэзии,
изложенная на страницах «Рейнской газеты», споры о реализме во
Франции 60-х годов — это лишь немногие вехи, отразившие дви-
жение критической и эстетической мысли. Особо должна быть от-
мечена роль немецкой идеалистической философии, и прежде всего
Гегеля.
Наконец, в 40-е годы появляются первые публикации К. Марк-
са и Ф. Энгельса по вопросам литературы и искусства, начинает-
ся новый этап в развитии эстетики, закладываются основы марк-
систской науки об искусстве и литературе.
В XIX веке складывается понятие мировой литературы. Взаи-
мосвязи и взаимодействие разных национальных литератур имели
место и в предыдущие века. Но именно развитие капиталистиче-
ских отношений, создание всемирного рынка порождают «все-
стороннюю связь и всестороннюю зависимость наций друг от
друга»1.
Уже в работах немецкого мыслителя XVIII века И. Г. Гердера
был выражен интерес к явлениям культуры разных стран и конти-
нентов и сделана попытка уловить общие тенденции в развитии
мировой культуры. Ранние немецкие романтики (прежде всего
6р. Фр. и А.-В. Шлегели) не только много сделали для приобщения
немецких читателей к сокровищам мировой культуры (переводы
1 М а р к с К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 428.
12
Шекспира, Сервантеса, переводы с восточных языков), но обос-
новали необходимость и плодотворность взаимосвязей культур.
Гете, развивая мысль романтиков, выразил ее в обобщающей фор-
муле: «Сейчас мы вступили в эпоху мировой литературы, и каж-
дый должен содействовать тому, чтобы ускорить появление но-
вой эпохи» («Разговоры с Эккерманом, 31 января 1827 года»).
В гетевской концепции мировой литературы можно отметить еще
один важный аспект: равноправие наций. В поэтической миниатю-
ре «Мировая литература» (1827) он пользуется космическим об-
разом античной философии: «движение сфер». Взаимодействие
культур для него — «кружение сфер, гармоничное в своем мно-
гоголосии». Стихотворение заканчивается словами: «Пусть все
народы мира, живя под одним небом, вкушают радость от общих
сокровищ».
Позднее К. Маркс и Ф. Энгельс дали конкретно-историческое
истолкование этого феномена: «Плоды духовной деятельности от-
дельных наций становятся общим достоянием. Национальная одно-
сторонность и ограниченность становятся все более и более не-
возможными, и из множества национальных и местных литератур
образуется одна всемирная литература»1. К. Маркс и Ф. Энгельс
показали, что этот процесс был подготовлен всем ходом общест-
венного развития: «Буржуазия путем эксплуатации всемирного
рынка сделала производство и потребление всех стран космопо-
литическим»2.
Разумеется, литература каждой отдельной страны, отражая
социальные процессы, в ней происходящие, сохраняла свое нацио-
нальное своеобразие. Характерно, что романтики, много сделав-
шие для расширения международного обмена художественными
ценностями, неизменно подчеркивали национальные корни каж-
дой культуры, ее самобытность и неповторимый местный ко-
лорит.
Но изучение и понимание национальных культур в новое вре-
мя невозможно без учета всех факторов взаимовлияния одной
культуры на другую3. При этом надо учитывать типологические
моменты, т. е. такие явления, которые одновременно (или с каки-
ми-то сдвигами во времени) возникают в разных странах, но в
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 428.
2 Там же, с. 427.
3 Это относится в XIX веке в первую очередь к литературам Европы и
Америки. Воздействие литератур Востока носит несистематический и даже слу-
чайный характер. Но и здесь можно указать на такой блистательный пример,
как «Западно-восточный диван» Гете (1812—1819), — опыт творческого пере-
осмысления творений средневекового персидского поэта Хафиза. В эпоху роман-
тизма появляется много переводов: с фарси (персидского), арабского, санскрита.
В России к восточной поэзии приобщает читателя В. А. Жуковский.
Что касается усвоения культуры Запада на Востоке, то, несмотря на уси-
лившиеся в результате колониальных завоеваний контакты, активного взаимо-
действия культур не возникает. Только к концу XIX века в странах Азии и
Ближнего Востока происходят социальные сдвиги (рост буржуазных отноше-
ний), создающие почву для восприятия культуры Запада. Африка включается
в мировой литературный процесс лишь во второй половине XX века.
13
аналогичных или похожих общественных условиях, независимо от
каких-либо влияний. Так, романтизм и реализм возникают в силу
внутренней потребности в каждой из литератур; влияния здесь
имеют уже вторичный характер, более того, влияние невозможно,
если для восприятия его нет почвы в самой национальной культу-
ре. Влияние всегда избирательно. Писатель осмысляет именно те
грани в искусстве художника другой страны, которые ему важны
с точки зрения решения его собственных творческих задач. Так,
в первые десятилетия XIX века Байрон приобрел популярность
и оказал влияние на литературу ряда стран: Франции, Польши,
России.
Но всюду любили, ценили и возносили не одного и того же
Байрона. Одним был ближе всего разочарованный Чайльд Га-
рольд (вспомним «гарольдов плащ» в «Евгении Онегине» Пуш-
кина); другим — Байрон мрачный, трагический (для французского
поэта Виньи, для Лермонтова); самого Пушкина покорял в Байро-
не дух бунтарства; многих покоряла сама личность английского
поэта. Наконец, важен был художественный опыт поэта в жанре
романтической поэмы, которая недаром получила название «бай-
ронической»1. Любопытно, что в Германии творчество Байрона
имело слабый резонанс (впрочем, он не был оценен и у себя на
родине).
Сказанное об избирательности влияния относится и к вос-
приятию литературы прошлого. Оно может быть очень различным
в зависимости от идейно-эстетических позиций воспринимаю-
щего.
Так, в наследии великого французского просветителя Руссо
одних покоряло его мужество в обличении старого мира, дру-
гих только особенности сентиментального стиля, в частности
в изображении природы. Блистательно использует Г. Гейне в
«Путевых картинах» образ Дон Кихота для автохарактеристики.
Несколькими десятилетиями позднее И. С. Тургенев размышляет
над двумя типами человеческого характера в статье «Гамлет и
Дон Кихот».
Все это лишь отдельные примеры того, как в новое время на-
циональные литературы нельзя рассматривать изолированно: каж-
дая из них — участница мирового литературного процесса.
1 О трансформации жанра романтической поэмы см.: Жирмунский В. М.
Байрон и Пушкин. Л., 1978. См. также: Манн Ю. В. Поэтика русского
романтизма. М., 1976.
ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1789—1794 ГОДОВ
Революция 1789—1794 гг. была идейно подготовлена мощной
когортой мыслителей и писателей, которых называли просветите-
лями. В том и состояла их заслуга, что они, говоря словами Ф. Эн-
гельса, «просвещали головы для приближавшейся революции»1.
Просветители старшего поколения не дожили до нее. За
13 лет до начала революционных событий умерли Вольтер и Руссо,
за пять лет — ушел из жизни Дидро. Но в год смерти Дидро на
парижской сцене была поставлена комедия воспитанного просве-
тителями Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», кото-
рую Наполеон назвал «революцией уже в действии».
Французская литература эпохи революции во многом продол-
жала идеи и эстетические искания просветителей. Однако дея-
тели революции подходили к наследию Просвещения избиратель-
но— различные партии на разных этапах революции опирались на
разные имена и черпали разные идеи у своих великих предшест-
венников. Так, если вначале был особенно популярен Вольтер
с его вольнодумством и идеей просвещенного монарха, то по
мере нарастания революционных событий все большее значение
приобретал Руссо, поборник народовластия и имущественного ра-
венства. Недаром в зале Законодательного собрания был установ-
лен барельефный портрет Руссо, изготовленный из камня разрушен-
ной парижским народом Бастилии.
Ораторское искусство вождей революции, революционная
публицистика — прежде всего, блестящие памфлеты Ж.-П. Марата,
публиковавшиеся в 1789 году в его газете «Друг народа», а
позднее в печатных органах французской республики,— все это
развивало идеи, эстетику и даже фразеологию просветителей.
Так, Робеспьер одну из самых ярких речей начал, перефразируя
первые строки «Общественного договора» Руссо: «Человек рожден
для счастья и свободы, но повсюду он закабален и несчастен.
...Пришло время напомнить ему о его истинных судьбах; успех
человеческого разума подготовил эту великую революцию, и обя-
занность ускорить ее возложена именно на вас»2.
'Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 16.
2 Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. Статьи и речи.
М., 1959, с. 176.
15
Из всех взаимодействующих и противоборствующих стилей
искусства и литературы XVIII века (классицизм, просветитель-
ский реализм, сентиментализм) для эпохи французской революции
особенно плодотворным оказался классицизм. Еще в XVII веке
французский классицизм сложился как искусство крупных проблем
и большого общественного звучания; в XVIII веке Вольтер исполь-
зовал принципы классицизма, придав им новое значение, для
своих просветительских трагедий. В эпоху революции происходит
решительное переосмысление классицизма, и в его формах выра-
жаются идеи гражданственности и революционного героизма.
Увлечение античностью в годы революции отнюдь не огра-
ничивалось сферой литературы. Одно из самых примечательных
явлений той поры — быстрое и повсеместное утверждение класси-
цизма во всей духовной жизни Франции. Образы античности,
имена ее исторических героев, черты общественного быта,
одежда далекой древности оживают и входят в повседневный
обиход страны, разбуженной революцией. Оформление революци-
онных праздников, включающее аллегорические фигуры, призван-
ные воплотить абстрактные понятия — Тирании, Предрассудка,
Вольности, Гражданственности, новые ритуалы и обряды — все
ориентируется на художественный опыт Греции и Рима, все под-
нимается на античные котурны. Руководил этим оформлением
выдающийся художник Жак-Луи Давид (1748—1825), член Кон-
вента и глава классицистского направления в изобразительном
искусстве. Написанная на древнеримский сюжет, за пять лет до
революции, картина Давида «Клятва Горациев» была воспринята
как аллегория современного революционного патриотизма. Орато-
ры в законодательных органах революционной Франции, на собра-
ниях и митингах постоянно ссылались на исторические примеры
двухтысячелетней давности.
Античный маскарад французской революции окружал поэтиче-
ским ореолом ее истинное историческое содержание, потому что,
провозгласив своим идеалом свободу, равенство и братство для
всех, она в действительности расчищала дорогу для господства
одного класса — буржуазии. «...Как герои, так и партии и народ-
ные массы старой французской революции,— писал Карл Маркс,—
осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах
задачу своего времени — освобождение от оков и установление
современного буржуазного общества»1.
Трагедия революционного классицизма. Мари-Жозеф
Шенье. В искусстве эпохи революции важное место принадлежит
театру — мощному орудию идеологического воздействия на массы.
На французской сцене утвердился жанр классицистской трагедии,
которая обличала тиранию и угнетение и прославляла народный
героизм своего бурного времени в образах и сюжетах, почерпнутых
из исторического прошлого. Крупнейшим драматургом этого на-
правления был Мари-Жозеф Шенье (1764—1811).
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 120.
16
Выходец из либерального дворянства, поклонник просвети-
телей, М.—Ж. Шенье служил офицером в провинции; к революции
он примкнул с первых же дней, выступив как публицист, полити-
ческий оратор и революционный поэт (брат его, элегический поэт
Андре Шенье был, напротив, врагом революции, погиб на эшафоте
и впоследствии был поднят на щит романтиками; ему посвящено
стихотворение А. Пушкина «Андрей Шенье»). Славу Мари-Жозе-
фу Шенье принесли его трагедии. Первая из них «Карл IX, или
Урок королям» была закончена в 1788 году и поставлена лишь
осенью 1789 года после цензурных запретов, саботажа части
театральной труппы, под решительным нажимом зрителей. Одну
из главных ролей сыграл деятельный защитник пьесы знаменитый
актер Жозеф Тальма.
В трагедии изображаются злодейские интриги королевского
двора во главе с королевой-матерью Екатериной Медичи и еписко-
пом Лотарингским, задумавших резню протестантов в Варфоломе-
евскую ночь (на 4 августа 1572 года). Слабовольный и трусли-
вый король Карл IX колеблется между добрыми и дурными совет-
чиками, между нашептываниями матери и кардинала, с одной сто-
роны, и благородными речами канцлера Л'Опиталя, поборника
законности и добродетели,— с другой; но в конце концов все
же подписывает роковой указ о резне. В трагедии отразилась
довольно умеренная позиция автора, который в начале революции
еще ратует в просветительском духе не за уничтожение монархии
как таковой, а за доброго короля, соблюдающего законность.
Но первые зрители увидели в трагедии больше, чем хотел
сказать автор: их потряс обличительный пафос произведения,
которое было воспринято как призыв к сокрушению тирании.
Именно так прозвучал финальный монолог Карла IX, горько
кающегося в том, что развязал кровопролитие:
Так кто же я? Народа погубитель,
Обманщик и злодей и правонарушитель.
Во мне воплощены тираны всех времен,
И кровью с головы до ног я обагрен.
Коварные враги мне ложь в уста вложили,
Они меня стыда и разума лишили.
Я предал свой народ, себя на казнь обрек,
Бог, покарав меня, даст королям урок.
Пер. А. Арго
Трагедия «Карл IX, или Урок королям» имела феноменаль-
ный успех и ставилась в течение всего революционного перио-
да. Горячо были приняты и последующие трагедии М.-Ж. Шенье,
такие, как «Генрих VIII» (1790) и, в особенности, «Гай Гракх»
(1792), где в героическом образе вождя восставшего римского
плебса зрители узнали черты французского патриота — своего со-
временника.
Значительную роль в литературе революционного классициз-
ма играла поэзия — оды и гимны, где героика сегодняшнего дня
17
облекалась в возвышенные ал-
легорические образы. Некото-
рые революционные гимны, по-
ложенные на музыку, исполня-
лись под открытым небом огром-
ными толпами народа во время
празднеств. Таковы гимны
М.-Ж. Шенье, и среди них
«Песнь 14 июля», созданная в
1790 году к годовщине взятия
Бастилии, а также «Песнь вы-
ступления», написанная после
победоносного для республики
сражения при Флерюсе (1794)
и ставшая широко популярной;
в ней были пламенные строки:
Француз п республике постигнет,
Что значит родине служить,
Он за республику погибнет,
Он вместе с нею будет жить!
Пер. П. Антокольского
Массовая революционная песня. В годы революции широ-
кое распространение получила массовая песня, ставшая грозным
идейным оружием поднявшегося на борьбу народа. Революционные
песни, по большей части анонимные, возникали стихийно, каждый
день и распевались повсюду—на улицах, в политических клубах,
в театрах, на массовых празднествах, даже в зале Конвента;
они печатались в газетах, рассылались в виде листовок в дей-
ствующую армию.
Строфы этих песен подбирались обычно к популярным мело-
диям или танцевальным мотивам и постоянно менялись, обновля-
лись, сочинялись заново в многочисленных вариантах, отклика-
ясь на злобу дня. В массовой песне выражался французский
национальный характер — «галльский дух», остроумие, насмеш-
ливость, жизнерадостность, свойственные народу. Песня не нуж-
далась в античных декорациях, в ней пестрели приметы живой
жизни, сквозил реальный быт эпохи, теснились пусть прими-
тивно обозначенные, но достоверные портреты современников —
друзей и врагов революции: санкюлоты, солдаты, рыночные тор-
говки, «толстопузые купцы», ничтожные аристократы и сами ко-
роль с королевой. Сокрушительным смехом песня разделывалась
со «старым режимом» и по-своему оценивала каждое общественное
событие.
Во время земляных работ на Марсовом поле в Париже, при
подготовке праздника в честь первой годовщины взятия Бастилии,
родилась задорная песенка «Qa ira!» («Дело пойдет на лад!»),
скоро превратившаяся в одну из самых популярных революцион-
ных песен. В ней появились грозные строки:
Ж.-Л. Давид. Смерть Марата.
Масло. 1793 I.
18
А, <;а ira, <;а ira, ca ira!
На фонари аристократов!
А, ca ira, ca ira, ca ira!
Их перевешать всех пора! — и т.
Пер. М. Зенкевича
В гуще народа сразу пс
штурма королевского дво
10 августа 1792 года возни
знаменитая «Карманьола)
плебейская сатирическая neci
полная язвительных насме]
над королевской четой, вое:
ляющая санкюлота из пар
ского предместья и сопров
даемая лихим плясовым г
певом:
Отпляшем карманьолу!
Славьте гром!
Отпляшем карманьолу!
Славьте пушек гром!
Пер. А. Ольшевского
Как и «Qa ira!», «Карманьола», все время меняя свое содер-
жание, сопровождала революционные выступления парижского на-
рода в следующем столетии и дожила до наших дней.
Наконец, на стыке торжественного классицистского гимна
и плебейской революционной песни родилась бессмертная «Мар-
сельеза», сочиненная (слова и музыка) в порыве патриотического
одушевления саперным капитаном Жозефом Руже де Лилем в
пограничном городе Страсбурге в апреле 1792 года и занесен-
ная марсельскими волонтерами в революционный Париж. С «Мар-
сельезой» на устах парижский народ пошел на королевский дворец
Тюильри 10 августа 1792 года, она вдохновляла солдат револю-
ционной армии в борьбе против нашествия войск монархической
Европы; и с тех пор она стала республиканским патриотическим
гимном.
В последние годы XVIII века «Марсельеза» проникла в Рос-
сию; русские демократы стремились приспособить эту песню
к задачам российской освободительной борьбы. В 1875 году
народник П. Лавров, отталкиваясь от французского текста, опуб-
ликовал «Рабочую марсельезу» («Отречемся от старого мира...»),
которая вскоре сделалась одной из любимых революционных
песен пролетарского подполья. Об этом свидетельствует М. Горький
в романе «Мать»1.
1 Подробнее о французской революционной песне см. содержательную книгу
С. Великовского «Поэты французских революций. 1789—1848» (М., 1963).
Богатый материал относительно всех литературных жанров эпохи французской
революции содержится в обстоятельном исследовании Д. Обломисвского «Литера-
тура французской революции 1789—1794 годов. Очерки» (М., 1964).
>сле
рЦа
кла
» —
1Я,
шек
ква-
иж-
ож-
фИ-
Ж.-Л. Давид. Зеленщица.
Масло. 1790-е гг.
РОМАНТИЗМ
Сложность и противоречивость романтизма. Романтизм
как метод и направление, сложившийся на рубеже XVIII—XIX ве-
ков,— явление сложное и противоречивое. Споры о романтизме,
о его сущности и месте в литературе ведутся уже более полутора
столетий, и до сих пор нет сколько-нибудь признанного определе-
ния романтизма.
Сами романтики настойчиво подчеркивали национальное свое-
образие каждой литературы, и действительно, романтизм в каж-
дой стране приобретал настолько ярко выраженные национальные
черты, что в связи с этим часто возникает сомнение, можно ли
говорить о каких-то общих особенностях романтизма1.
Романтизм в начале XIX века захватил и другие виды искус-
ства: музыку, живопись, театр. Это еще более усложняет задачу
определения романтизма. Нелегко обозначить черты, объединяю-
щие Шатобриана и Делакруа, Мицкевича и Шопена, Новалиса и
Шуберта, Лермонтова и Кипренского.
Наконец, романтики занимали очень разные позиции в обще-
ственной борьбе своего времени. Они все бунтовали против ито-
гов буржуазной революции, но бунтовали по-разному, потому что
у каждого был свой идеал.
Но при всей этой многоликости и многотональности, при
всем различии образного языка поэзии, музыки, живописи, роман-
тики начала XIX века обладают некоторыми устойчивыми общими
чертами.
Историк французской романтической живописи отмечает, что
художники-романтики спорили друг с другом, часто коренным об-
разом расходились в понимании рисунка, колорита, композиции,
и вместе с тем их объединяло нечто общее.
«Человек романтического поколения, свидетель кровопроли-
тий, жестокости, трагических судеб людей и целых народов, рву-
щийся к яркому и героическому, но заранее парализованный жал-
кой действительностью, из ненависти к буржуа возводящий на
пьедестал рыцарей средневековья и еще острее сознающий перед
1 Идею множества национальных романтизмов отстаивал, например,
Б. Г. Реизов в статьях: «О литературных направлениях» (Вопросы литературы,
1957, № 1) и «Об изучении литературы в современную эпоху» (Русская лите-
ратура, 1965, № 1).
20
их монолитными фигурами собственную раздвоенность, ущербность
и неустойчивость, человек, который гордится своим «я», потому
что только оно выделяет его из среды мещан, и в, то же время
тяготится им, человек, соединяющий в себе протест, и бессилие,
и наивные иллюзии, и пессимизм, и нерастраченную энергию, и
страстный лиризм,:— этот человек присутствует во всех роман-
тических полотнах 1820-х годов»1. Эта формулировка с полным
правом может быть отнесена и ко многим писателям и поэтам
романтической эпохи.
Просвещение и романтизм. Романтики начали с отрицания
Просвещения. «Царство разума», обещанное просветителями, не
состоялось.
Идеология Просвещения к концу XVIII века обнаружила свою
исчерпанность: круг развития его идей замкнулся2. Во второй по-
ловине века в недрах самого Просвещения началась уже своего
рода самокритика. Достаточно назвать «Племянника Рамо» Дидро,
в котором были взяты под сомнение многие коренные положения
просветительского мировоззрения.
На новом историческом этапе — в Европе после французской
революции — жизнь поставила перед романтиками множество та-
ких вопросов, которые просто не существовали, например, для
Вольтера или Руссо.
Разумеется, всегда сохраняется какая-то преемственность.
Но нельзя согласиться с теми историками литературы, которые
считают, что одни романтики начисто отвергали просветителей, а
другие, будучи людьми прогрессивными и просвещенными, чуть ли
не опирались во всем на XVIII век.
На самом деле все романтики, по сути своего мировоззрения,
шли путями, отличными от просветителей, они открывали новые
подходы к жизни, они ощущали исчерпанность самой логики мысли
XVIII века, ее метафизичность.
Жизнь оказалась сложнее, она не укладывалась в те схемы,
которые предлагали просветители. Романтикам открылась проти-
воречивость действительности, они стихийно подошли к пониманию
диалектики: в структуре человеческой личности, в обществе, в
природе.'
Историзм. Открытием романтиков был историзм. Просветители
судили о прошлом антиисторически («разумное» — «неразумное»).
Историческое событие часто составляло основу сюжета трагедии
классицизма. Но драматурга в этом случае не интересовали осо-
бенности изображаемой эпохи. Он ставил и разрешал общие про-
блемы долга и страсти, ему было неважно, где и когда это про-
исходило (в театре даже не было исторических костюмов — игра-
ли в современных).
1 Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969, с. 112.
2 Это не исключает того, что в странах с непреодоленным феодальным
прошлым сохраняли актуальность многие идеи просветителей. Так было в Гер-
мании 30-х годов (Берн с), в России 60-х годов (Ч ернышевски й).
21
Современники эпохи революционного переворота во Франции,
свидетели того, как на протяжении одного поколения изменились
не только политические учреждения, но и весь уклад жизни и самые
взгляды на жизнь, нравы, привычки и даже одежда людей, роман-
тики сумели увидеть и в прошлом не просто человеческие харак-
теры, но характеры, сформированные своим временем. «На площа-
дях якобинского Парижа и под Вальми, в партизанских схватках
в Испании и на полях Бородина родилось новое понятие нации и
народа, как субъекта исторического развития» (А. А. Елистра-
това) '.
Народность. Понятие «народность», уже выдвинутое в XVIII ве-
ке И. Г. Гердером, приобрело у романтиков особую популярность,
при этом в разных смыслах. Несомненной заслугой романтиков
явилось обращение к сокровищам фольклора. Именно в эпоху ро-
мантизма были опубликованы сборники народных песен и народ-
ных сказок. Особенно значительна в этрм была роль бр. Гримм:
«Сказки», ими собранные и изданные, приобрели мировую извест-
ность. В Германии имел большой резонанс «Волшебный рог маль-
чика», собрание народных песен, изданное Арнимом и Брентано.
Однако народность в понимании гейдельбергских романтиков
означала обращение к некоему духу нации. Следует также отме-
тить попытки и гейдельбергских романтиков в Германии, и поэтов
«озерной школы» в Англии поэтизировать черты патриархальной
отсталости, выдвигать покорность и религиозность как якобы
исконные черты народа.
Приверженность патриархальным обычаям у шотландских гор-
цев в романах В. Скотта, наоборот, сочетается с борьбой за
свои права, против надвигающегося капитализма. А в романах
«93 год» В. Гюго и «Легенда об Уленшпигеле...» Ш. де Костера
народ выступает как активная революционная сила.
Понятие народности у разных романтиков не было одинаковым.
Это и понятно: идеалы у романтиков были разные. Общей бы-
ла антибуржуазная природа этих идеалов.
Романтический идеал и два типа личности. В обществе,
где «один человек отчужден от другого и каждый из них отчуж-
ден от человеческой сущности»2, романтики создавали модель
неотчужденного человека, иллюзию свободы от всякого отчужде-
ния. Понятие романтического идеала по существу было безбреж-
ным. Одни его искали в природе, другие в мире искусства, третьи—
в упоении борьбой, в яростном сопротивлении любым косным
силам. В этом проявлялись политические симпатии и антипатии
романтиков. Это дает часто основание делить романтизм на реак-
ционный, созерцательный, либеральный, прогрессивный и т. п.
Но, разумеется, надо говорить не о прогрессивности или консер-
вативности самого романтизма, а о социальных, философских, по-
литических взглядах писателя, учитывая, что в своем художествен-
1 История английской литературы. М.: 1953, т. II, вып. 1, с. 162.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 567.
22
ном творчестве большой писатель может подниматься над полити-
ческими предрассудками, которые он разделяет, и может ставить
такие нравственные проблемы, которые сохраняют свое значение
на века.
Нравственный пафос романтиков связан прежде всего с утвер-
ждением ценности личности, что нашло выражение и в образах
романтических героев.
Просветители XVIII века создали немало положительных ге-
роев, носителей высоких моральных ценностей, воплощавших, по
их мнению, разум и естественные нормы. Романтический герой —
это не просто положительный герой, он даже необязательно дол-
жен быть положительным, это герой, который отражает тоску
поэта по идеалу. Даже не встает вопрос о том, положительный
или отрицательный Демон у Лермонтова, Конрад в «Корсаре»
Байрона,— но они величественны, они заключают в своем облике,
в своих деяниях неукротимую силу духа. И это именно «личность,
опершаяся на самое себя», как писал В. Г. Белинский, личность,
противопоставляющая себя всему окружающему миру.
Но в недрах романтизма складывается и другой тип личности.
Это прежде всего личность художника — поэта, музыканта, живо-
писца. Она также вознесена над толпой обывателей, собственни-
ков, чиновников, светских бездельников. Здесь речь идет уже не
о претензиях исключительной личности, а о правах истинного ху-
дожника судить о мире и людях.
Романтический образ художника (в частности, у немецких пи-
сателей) совсем не адекватен байроновскому герою. Более того,
герою индивидуалисту здесь противостоит универсальная личность,
стремящаяся к высшей гармонии (как бы вбирающая в себя все
многообразие мира).
Универсальность художника не есть нечто нарочито придуман-
ное. Это — антитеза всякой ограниченности человека, будь она
связана с узкими меркантильными интересами, жаждой наживы,
разрушающей личность, и т. п.
Романтики не всегда точно оценивали социальные последствия
буржуазной революции. Но они очень остро ощутили антиэсте-
тический, угрожающий самому существованию искусства, характер
общества, в котором царит «бессердечный чистоган». Художник-
романтик, в отличие от некоторых писателей второй половины
XIX века, отнюдь не стремится скрыться от мира в «башне из
слоновой кости». Он чувствует себя трагически одиноким, он за-
дыхается от этого одиночества. Романтики предвосхитили мысль
Маркса о враждебности капиталистического способа производства
некоторым формам духовной деятельности.
Альфред де Виньи вспоминает о судьбе английского поэта
Чаттертона, погибшего в 18 лет непонятым, непризнанным, обре-
ченным на голод и нищету, и пишет драму о фатальном одиноче-
стве художественного гения в обществе, где свою волю диктуют
такие, как фабрикант Белл («Чаттертон», 1834). При этом Виньи
не ограничивается изображением духовного одиночества поэта в
23
доме Белла; он вводит сцену с рабочими, которые говорят о своей
нужде и страданиях. Связывая эти две темы, романтик обнаружи-
вает такую остроту социального зрения, которая была доступна
далеко не всем реалистам.
Представление о художнике, как личности универсальной, лежит
в основе эстетики и творчества Э. Т. А. Гофмана. При этом худо-
жественная натура для Гофмана это не обязательно поэт или му-
зыкант. Это — человек, наделенный особым даром видения мира,
что «ставит его выше обыкновенной толпы — тех фабричных изде-
лий, которые выбрасываются из мастерской в виде нулей и должны
иметь впереди себя какое-нибудь число, чтобы что-нибудь да зна-
чить» (Гофман. «Дон-Жуан»).
Таким образом, в романтическом движении вычленяются две
антагонистические концепции личности: индивидуалистическая и
универсалистская. Судьба их в последующем развитии мировой
культуры была неоднозначной. Бунт одиночки был красив, увлекал
современников, но вместе с тем быстро обнаруживал свою беспер-
спективность. История сурово осудила претензии отдельной лич-
ности творить собственный суд. С другой стороны, идея универ-
сальности отражала тоску по идеалу всесторонне развитого чело-
века, свободного от ограниченности, порожденной капиталистиче-
ским разделением труда.
Судьба жанров. Переход от Просвещения к романтизму был
ознаменован коренными изменениями в структуре и иерархии жан-
ров. Хотя в разных странах процесс этот протекал по-разному,
можно наметить некоторые общие черты этих структурных изме-
нений. Субъективизм романтиков, их эмоциональное отношение к
изображаемому обусловило не только расцвет лирики («Романтизм
наложил отпечаток на понятие поэзии... Поэзия — это означало
романтизм», — писал Т. Манн1), но и вторжение лирического нача-
ла во все жанры.
«Лиризм есть как бы стихийная основная черта романтического
искусства,— говорил Гегель,— тон, который характерен даже для
эпопеи и драмы и который, подобно общему аромату души, на-
полняет произведения изобразительных искусств, так как здесь
дух и душа каждым своим произведением желают беседовать с ду-
хом и душой»2.
Восемнадцатый век дал многообразные типы романа и повести:
социально-бытовой, философский, сентиментальный, воспитатель-
ный, сатирический, «готический». Известным исключением для века
Просвещения был психологический роман («Манон Леско» Прево).
В эпоху романтизма социально-бытовой роман не только утра-
чивает значение, но и нередко становится предметом насмешек.
Бу^ни быта рассматриваются как предмет, не достойный эстети-
ческого освоения. В романтической прозе они выполняют роль не-
гативного фона для героя (например, у Гофмана).
1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1960, т. 9, с. 456.
2 Гегель. Эстетика, в 4-х томах. М., 1969, т. 2, с. 242.
24
Крупнейшим художественным открытием эпохи явился истори-
ческий роман, основоположником его с?ал В. Скотт. Опыт англий-
ского бытового романа XVIII века он осмыслил и применил для
изображения событий прошлого. Будни далекого прошлого, когда
их попытались воссоздать, были, конечно, не похожи на современ-
ные. Более того, писатели передавали колорит места и времени
нередко по контрасту с современной действительностью. Читатель
был изумлен тем, как искусно его переносили в другой век, застав-
ляли почувствовать неповторимую атмосферу XI века в Англии
(«Айвенго» В. Скотта) или XVII века во Франции («Сен-Мар»
А. де Виньи).
Эпоха романтизма отмечена многими блестящими творениями
исторического жанра писателей В. Гюго, Ф. Купера, А. Мандзони,
Г. Клейста, А. Дюма, Ю. Словацкого.
Процесс ломки и трансформации в это время переживают фи-
лософские повести и романы. Переход от Просвещения к романтиз-
му — это не только смена философских концепций. Меняется струк-
тура произведения. Например, философская драма романтиков
обретает, казалось, не свойственный ей лиризм. Сопоставление
«Манфреда» Байрона с трагедией «Фауст» Гете подтверждает ко-
ренные отличия (при близости сюжета), мировоззренческие и
эстетические, романтического произведения от просветительского.
Философский роман XVIII века тяготел к притче; романтиче-
ский философский роман ближе к мифу. Таким романом например,
является «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. Лирическая инто-
нация пронизывает и этот роман, начиная с первой страницы, на
которой рассказывается сон Генриха о Голубом цветке, символе
романтического идеала и воплощения мечты о далекой возлюб-
ленной.
Без учета жанрового своеобразия нельзя правильно судить об
идейной направленности романа1. Между тем Новалис отнюдь не
собирался писать исторический роман из эпохи средневековья, его
цель — исследование отношения человека и мира. Герой этого ро-
мана — поэт, человек, которому открывается все богатство и все
многообразие мира, природа и история, Запад и Восток, все области
человеческого знания и таинство подлинной любви.
Своеобразным романом-мифом является и произведение аме-
риканского романтика Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит».
Сочетая реальный план с фантастическим, писатель размышляет
над судьбой человека, над соотношением добра и зла в окружаю-
щем мире.
Изменения жанровой структуры проходили неодинаково в раз-
ных литературах. Во Франции уже на первом этапе романтизма
выдвигается так называемая исповедальная проза. Создаются ро-
маны, содержание которых замкнуто в узкой сфере истории глав-
1 Такая ошибочная позиция (получилось, что Новалис якобы идеализирует
средневековье, уводит читателя от насущных проблем и т. д.) сказалась, к со-
жалению, на «Истории немецкой литературы» (т. 3), к чему причастен и автор
этой главы.
25
ного героя, «с его безнравственной душой, самолюбивой и сухой,
мечтанью преданной безмерно», как поразительно точно охаракте-
ризовал героев исповедальной прозы А. С. Пушкин в «Евгении
Онегине». Это романы, которые содержат в себе саморазоблачение
романтического героя: «Изоляция личности претворяется в траге-
дию эгоцентризма, в эмоциональную односторонность, атрофию
воли» *.
Ведущий жанр немецкой и американской литературы романтиз-
ма— новелла. Среди немецких новеллистов такие выдающиеся мас-
тера, как Генрих Клейст и Э. Т. А. Гофман. До XIX века в
немецкой литературе новелла не получила развития. В творчестве
Гете и Шиллера это были второстепенные жанры. Гете трактовал
новеллу как «новость», как изображение эпизода, необычного слу-
чая.
Под пером Клейста новелла обрела невиданную до того масштаб-
ность: он ставил своих героев перед неразрешимыми противоре-
чиями, как бы обнажая несовершенство современного мироустройст-
ва. Для характеристики новеллы Клейста как жанра более всего
подходит определение, которое дается трагедии в словарях: изо-
бражение непримиримых жизненных конфликтов, таящих в себе
катастрофические последствия.
Наряду с такой «трагедийной» новеллой в немецкой литературе
получила большое распространение новелла-сказка (Л. Тик,
А. Арним, К. Брентано и прежде всего Э. Т. А. Гофман). Лите-
ратурная сказка как жанр существенно отличается от народных
сказок (которые в эпоху романтизма также получают признание
и публикуются во многих странах). Литературная сказка, как пра-
вило, не связана с народной. Ее отличает наличие романтического
идеала, чаще всего воплощенного в образе романтического героя;
фантастика в ней является плодом воображения автора (что, ко-
нечно, не исключает использования отдельных фольклорных мо-
тивов).
Новелла заняла ведущее место в литературе США. Зачинате-
лем ее является В. Ирвинг («Книга эскизов», 1819). Если Ирвинг
ставил перед собой целью, по его собственным словам, «простой
и верный показ сцен обычной жизни»2, окрашенной юмором, то
на новом этапе Эдгар По придаст жанру короткого рассказа напря-
женность сюжета, трагический колорит. Фантастика, которая у
Ирвинга была навеяна фольклорными мотивами, у По принимает
черты страшного, нередко вызывает ужас, ощущение катастрофы!
Вместе с тем Э. По рационалистичен, он стремится к точному ана-
лизу, железной логике, прежде всего в детективном жанре, созда-
телем которого он явился (не только в американской, но и в ми-
ровой литературе).
1 Ш рейдер Н. С. Три романа-исповеди: их авторы и герои.— В кн.:
Шатобриан. «Репе»; Б. Констан. «Адольф»; А. де Мюссе. «Исповедь сына ве-
ка». М, 1973, с. 29.
2 Цит. по кн.: Оленсва В. Современная американская новелла. Киев,
197.3 с. 18.
26
М. Швиндт. Шубертиада (концерт Шуберта в доме И. Шпаупа).
Рисунок. 1868 I.
Самые существенные сдвиги в эпоху романтизма произошли в
лирических жанрах. Однако ситуация в разных странах была не-
одинаковой. Во Франции, а также в Польше, где долгое время
сохраняла силу авторитета эстетическая система классицизма,
романтикам было нелегко отстаивать свои принципы. Поэтому во
Франции начало романтической поэзии (и драматургии) датирует-
ся на четверть века позднее, чем формирование романтической
прозы. В 1827 году В. Гюго выступал как новатор, призывая:
«Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем ста-
рую штукатурку, скрывающую фасад искусства!»1.
Адам Мицкевич вынужден был в 1829 году снабдить двухтом-
ник своих сочинений (вышел в Петербурге) специальным преди-
словием «О критиках и рецензентах варшавских», в котором от-
бивался от классической критики2.
Процесс перестройки лирических жанров в эпоху романтизма
отмечен типологически-сходными тенденциями в разных литерату-
рах. Прежде всего разрушалась иерархия жанров, как она была
сформулирована в «Поэтическом искусстве» Буало. Главное место
в системе поэтических жанров классицизма занимали идиллия
(эклога), элегия, ода, сонет, эпиграмма; Буало бегло перечислил
такие жанры, как баллада, рондо, мадригал; много внимания
уделил сатире как жанру. У романтиков иной стала ода: не в честь
1 Гюго В. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1956, т. 14, с. 105—106.
2 Журнал «Московский телеграф» (1829), опубликовав эту статью в рус-
ском переводе, писал, что Мицкевич был приветствован кликами удивления и
радости любителей изящного и «писком литературных щепетильников», которые
обрушились на него за нарушение «правил».
27
какого-нибудь лица, а «Ода западному ветру» у Шелли, «Ода
молодости» у А. Мицкевича. Элегия классицизма опиралась на
античные образцы — в ней не было ничего печального («Римские
элегии» Гете); у романтиков элегия служит выражению коренного
конфликта между личностью и окружающим миром.
Романтики щедро используют жанровое многообразие поэзии
других народов. Так, в немецкой поэзии появляются итальянские
терцины и канцоны, персидские газели. Поэты устраивают кра-
сочный маскарад поэтических жанров, словно облекаясь в одеж-
ды разных народов. И одновременно жадно воспринимают фольк-
лорное богатство своей страны, виртуозно используя жанр песни
в самых разных ее тональностях,
Задушевность романтической лирики, богатство и многооб-
разие песенного жанра находят отклик в творчестве композито-
ров-романтиков. Особенно примечательна вокальная лирика
Ф. Шуберта и Р. Шумана. Оба они проявили большой интерес к ли-
рическим циклам, созданным романтическими поэтами. Эти цик-
лы воспринимались как поэмы и даже как небольшие романы в
стихах с одним лирическим героем. В сущности, и «Книга песен»
Гейне звучала как единое произведение со сквозным действием.
Р. Шуман написал два цикла песен по «Книге песен»: «Круг пе-
сен» (на тексты «Юношеских страданий») и «Любовь поэта» (на
стихи «Лирического интермеццо», 1840). Широко известен так-
же лирический цикл «Любовь и жизнь женщины» (на текст Ша-
миссо).
Мировую славу завоевали циклы песен Ф. Шуберта «Прекрас-
ная мельничиха» (1823), «Зимний путь» (1827) на стихи В. Мюл-
лера, одного из задушевных немецких поэтов, которого Гейне
считал своим учителем. Вокальная лирика «Зимнего пути» осмыс-
ляется в истории музыки «как трагедия духовного одиночества
художника в мире мещан и торгашей»1.
Разрушение иерархии жанров классицизма имеет еще одно важ-
ное следствие: дело не только в том, что эклога исчезает, а песня,
например, начинает в некоторых литературах главенствовать. Сти-
раются границы между жанрами, становится просто невозможно
определить, к какому точно жанру можно отнести то или иное
романтическое стихотворение. Романтики смешали все жанры.
«Вырабатывался тип внежанрового лирического стихотворения»2.
Важнейшим художественным открытием в системе жанров была
романтическая поэма, едва ли не ведущий жанр романтизма.
И когда говорят о романтическом герое, то чаще всего имеют в
виду героя поэмы, ибо особенностью этого лиро-эпического жан-
ра и является «наличие развернутого сюжета и вместе с тем ши-
рокое развитие образа лирического героя» (Л. И. Тимофеев). Че-
рез образ центрального (программного) героя поэмы полнее и
ярче раскрывается мировоззрение автора, особенности его роман-
1 Конен В. История зарубежной музыки. М., 1958, с. 180.
2 Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974, с. 52.
28
тического идеала1. В романти-
ческой поэме, помимо действую-
щего персонажа, присутствует и
лирический герой, авторское
«я». В поэме Гейне «Германия.
Зимняя сказка» именно лириче-
ский герой — носитель револю-
ционного сознания.
Романтики создают богатую
пейзажную лирику. Романтиче-
ский пейзаж приходит на смену
описательной поэзии класси-
цизма (Томсон. «Времена года»;
Галлер, «Альпы»), а также сен-
тиментальному пейзажу. Опи-
сание было подчеркнуто объек-
тивным, даже бесстрастным,
сентименталисты подчинили
пейзаж изображению чувства,
которое они в него вкладывали.
Пейзаж романтиков связан
с новым пониманием отношения
человека и природы. Это не только выражение чувства, но и раз-
мышление — не столько о природе, сколько о человеке. Как и в
поэме, в пейзажной лирике весьма значим лирический герой с его
сложным миром. Русский романтик Ф. И. Тютчев (не без влияния
немецкой философии, в частности Шеллинга) гениально передал
романтическое ощущение природы («Не то, что мните вы, пи-
рода...»).
*
Романтизм составил целую эпоху в истории литературы Евро-
пы и Америки2. Художественные завоевания романтиков, открытие
и развитие ими новых жанров, пристальное внимание романтиков
к судьбам человеческой личности, мастерство анализа человече-
ских страстей, диалектика добра и зла, которую они так на-
стойчиво раскрывали в поведении своих героев,— все это не просто
принадлежит истории литературы, а вошло в основной фонд со-
временной культуры.
1 См.: Неупокоева И. Г. Революционно-романтическая поэма первой
половины XIX в. М., 1971.
2 В странах Латинской Америки романтизм «запаздывал» в своем развитии,
а в социальном плане отражал этапы побед и поражений в освободительной
борьбе против колониального владычества испанцев и португальцев.
К. Д. Фридрих. Ущелье среди скал.
Масло. 1822—1823 гг.
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КОНЦА XVIII ВЕКА
Последнее десятилетие XVIII века в немецкой литературе —
время напряженных поисков, острых идейно-эстетических конф-
ликтов, годы создания произведений мирового значения, форми-
рования новых концепций человека и мира.
Заметный взлет философской и художественной мысли был
прямо или опосредованно связан с французской революцией. Не-
посредственное отражение ее идеи получили прежде всего в бо-
гатой публицистике 90-х годов. В эти годы в разных городах
Германии появлялись новые журналы, их запрещали, но они вновь
возникали под другими названиями. Один из этих журналов —
«Серое чудовище» Векерлина (1739—1792), выходивший еще в ка-
нун событий во Франции (1784—1787), упоминает А. Н. Ради-
щев в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Векерлин хотя
мстящею властью посажен был под стражу, но «Серое чудовище»
осталось у всех на руках» (глава «Торжок»). Немецких писателей
Клопштока, Шиллера и публициста Кампе французский Конвент
удостоил почетного звания французского гражданина.
Но как непросто воспринимался французский опыт его совре-
менниками! Шиллер, приветствовавший начало революции, проте-
стовал против казни Людовика XVI, Клопшток, сначала сокру-
шавшийся: «они, а не мы!» (т. е. французы, а не немцы начали
революцию), позднее, как и Шиллер, не принял якобинской дик-
татуры.
Но каковы бы ни были отдельные политические оценки фран-
цузской революции, ни один мыслящий писатель не мог пройти
мимо грандиозного исторического опыта французских революцио-
неров. Влияние этого опыта проявлялось нередко даже вопреки по-
литическим предрассудкам, столь устойчивым в условиях немецкой
политической отсталости. Об этом хорошо сказал Т. Манн по »
поводу драмы Шиллера «Вильгельм Телль»: «Хотя эти швейцары
ничем не напоминают пламенных трибунов и якобинцев, хотя время
действия — конец тринадцатого века, все же в «Вильгельме Телле»
веет ветер французской революции, от которой Шиллер отрекся,
но которая дала жизнь идее единства свободы и нации и потому
осталась родиной его пафоса»1.
1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1959—1961, т. 10, с. 592.
30
А. Я. Карстенс. Этюд к картине «Приам у Ахилла».
Рисунок пером. 1794 г.
В немецкой философии это время — годы возросшей популяр-
ности одного из последних великих философов эпохи Просвещения
И. Канта, начала деятельности И. Г. Фихте. Эстетика Канта, изло-
женная в книге «Критика способности суждения» (1790), ока-
зала большое влияние на эстетические взгляды Шиллера. На ру-
беже веков — в 1800 году — вышел в свет главный труд Ф. В. Шел-
линга «Система трансцендентального идеализма».
Поразительно, как мыслители экономически отсталой, еще не
буржуазной, а феодальной Германии чутко улавливали перемены в
Европе и результаты своих размышлений излагали на отвлеченном
языке философских понятий. Так, Иоганн Готлиб Фихте
(1762—1814) в своем «Наукоучении» (1794) отразил противоре-
чивый смысл современных ему исторических процессов прежде
всего с точки зрения места и роли человеческой личности в обще-
стве. У Фихте исходным является не внешний материальный мир,
а некий абстрактный Субъект, Я. Это как бы философская мета-
фора, передающая пафос освобождения личности от всех обычаев,
традиций, установлений старого мира: человек в состоянии, если
захочет, переделать мир. «Пусть весь трансцендентальный идеализм
был заблуждением,— писал позднее Гейне,— все же сочинения
Фихте были проникнуты гордой независимостью, любовью к сво-
боде, мужественным достоинством»1.
1 Гейне Г. Собр. соч. п 10-ти томах. М., 1958, т. 6, с. 111.
31
Но вместе с тем философия Фихте явилась выражением побеж-
дающего индивидуализма, когда личность возомнила себя всесиль-
ной, оправдывая собственный произвол.
В литературе 90-х годов в Германии — борьба различных ху-
дожественных направлений. Еще жива традиция сентиментализма.
Ярче всего ее представляет в эти годы Жан Поль (И. П. Ф. Рих-
тер, 1763—1825), в творчестве которого причудливо переплетают-
ся черты сентиментализма и романтизма. Эпигонами сентимента-
лизма являлись авторы многочисленных мещанских драм, ныне
забытые, но в то время весьма популярные. Но определяет лите-
ратурное движение конца XVIII века веймарский классицизм,
а примерно с 1797 года — романтизм.
Веймарский классицизм, представляемый двумя великими име-
нами— Гете и Шиллера,— явление сложное и противоречивое.
В истории немецкой литературы XVIII века он знаменует послед-
ний этап Просвещения. Это явление самобытное, национальное. Он
не был идентичен французскому классицизму. При всем восхище-
нии античностью ни Шиллер, ни Гете не подражали греческим пи-
сателям. Они видели задачу искусства в том, чтобы оно возвыша-
ло душу, поднимало человека над убожеством окружающего мира.
Драматургия Шиллера полемически противостояла тогдашней се-
мейной драме с ее мелкими страстями и жалкими конфликтами.
В прологе к трилогии «Валленштейн» (1797) Шиллер писал:
Способен лишь возвышенный предмет
Глубины человечества затронуть,
Ведь узкий круг сужает нашу мысль,
С возросшей целью человек взрастает.
Пер. Л. Гинзбурга
В этих словах выражена суть эстетики веймарского класси-
цизма. В те же годы, когда создавалась трилогия о Валленштей-
не, Гете завершал первую часть «Фауста», им были написаны сце-
ны, ключевые для замысла трагедии о призвании и долге Человека.
В немецком изобразительном искусстве этого времени важно
отметить тяготение к темам большого обобщающего смысла. Та-
кова графика Карстенса (1754—1798), созданная по мотивам го-
меровского эпоса и античных мифов.
В немецкой литературе романтизм и веймарский классицизм
некоторое время сосуществуют. При этом если сами великие вей-
марцы отнеслись к романтизму недоверчиво и неодобрительно, то
ранние романтики (за исключением Новалиса) отнюдь не вступают
в спор с Гете. Универсальность гения Гете не могла не импони-
ровать романтикам. Один из основополагающих фрагментов Фр.
Шлегеля гласил: «Французская революция, «Наукоучение» Фихте
и «Мейстер» Гете обозначают величайшие тенденции нашего вре-
мени» *.
1 Цит. по кн.: Литературные манифесты западноевропейских романтиков
Собрание текстов, вступительная статья и общая редакция А. С. Дмитриева.
М., 1980, с. 57.
РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ
Романтическая литература развивалась в Германии начиная
с середины 90-х годов XVIII века и была господствующим направ-
лением в течение всей первой трети следующего столетия.
Романтизм как культурно-историческая эпоха. Романтизм
проник во все сферы искусства. Романтические писатели и поэ-
ты— Новалис, Людвиг Тик, Вильгельм Вакенродер, Людвиг Ахим
Арним, Клеменс Брентано, Иозеф Эйхендорф, Генрих Клейст,
Эрнст Теодор Амадей Гофман, Адельберт Шамиссо и др.— обра-
зовали целую художественную школу, знаменовавшую собой зна-
чительный этап в эстетическом развитии нации. Живописцы ро-
мантического направления — Каспар Давид Фридрих, Филипп
Отто Рунге, Фридрих Овербек, Мориц фон Швинд и др.— ломали
традиционные формы классицистического искусства, создавали ис-
полненные настроения пейзажи или символические картины, свя-
зывающие воедино цвет и форму, явления природы и мироздания
и человеческого бытия. Романтическое мироощущение вызвало к
жизни широкое развитие музыкальных жанров. Опираясь на опыт
гениальных композиторов Моцарта и Бетховена, композиторы-ро-
мантики Франц Шуберт, Карл Мария Вебер, Эрнст Теодор Амадей
Гофман, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон-Бартольди, Рихард
Вагнер развили вокальное и оперное искусство, широко исполь-
зовали элементы народной песенной традиции и народных ска-
заний.
Советский исследователь Н. Я. Берковский писал о романтиз-
ме: «Влияние его было очень широким, он подчинил себе все об-
ласти художественной жизни, философии, науки исторические и фи-
лологические, многие отрасли естествознания, даже медицину...»1.
Национальное своеобразие и периодизация литературы
немецкого романтизма. На формирование литературы немец-
кого романтизма оказала влияние идеалистическая философия
Фихте и Шеллинга. Утверждение активности человеческого созна-
ния, выдвигаемое Фихте, воспринималось как призыв к свободе
индивидуальности, подавляемой феодальным государством. Фило-
софия природы Шеллинга приводила к осознанию внутреннего
1 В с р к о II ( к и и Н. Я. О романтизме м его первоо< попах. - В кн.: Про-
блемы романтизма. М.. 1()71, с. >.
33
2 История пару (Х-ж ион литературы XIX иска
единства вселенной как живого организма. Разбуженный револю
цией дух великих перемен в Германии приобретал умозрительный
характер. В искусстве романтизма на первый план выступали не
насущные заботы дня, а философские проблемы бытия. Это опре-
делило особый характер немецкой романтической литературы.
На всем протяжении своего развития она не оставалась неиз-
менной, отражая сдвиги в художественном сознании под влиянием
изменений в общественной жизни страны. В литературе немецкого
романтизма можно выделить три периода1. Первый — с 1796 по
1806 год — знаменует собой становление романтического метода
и романтической эстетики. Литература этого периода устремлена
на решение глобальных вопросов места человека в мире и преоб-
разующей роли искусства. Второй период — с 1806 по 1814 год—
знаменует обращение художников немецкого романтизма к народ-
ности и народным истокам. Изображаемые конфликты начинают
обретать более конкретный характер. В третий период — с 1814 по
1830 год — романтики начинают более глубоко и пристально вгля-
дываться в современную действительность, выявляя ее уродливую
дисгармоническую сущность.
При всем этом, однако, литература немецкого романтизма об-
ладает неким внутренним единством, обусловливающим ее нацио-
нальное своеобразие. Ей свойствен особый подход к действие
тельности и особый способ ее художественного освоения.
Широкие горизонты мира, как бы наново открывшегося со-
временникам великих исторических событий, в сознании романти-
ков обретают очертания космической необозримости. Не частное
и местное становится предметом их внимания, а то, что они на-
зывали универсумом: всеобъемлющая жизнь природы и жизнь че-
ловеческого д>\а. Господствующим началом в их эстетике и худо-
жественной пракгике оказывается не столько предметность мате-
риального мира, сколько настроение, вызываемое им.
На картине самого крупного художника романтической эпохи
в Германии К. Д. Фридриха «Странник на берегу туманного моря»
изображен человек, обращенный лицом к разбушевавшейся морской
стихии. Он стоит на узком пространстве каменистого, лишенно-
го растительности берега. Вместе с одиноким человеком зритель
погружается взглядом в едва различимые в тумане очертания ка-
менистых рифов, бушующую мену как бы вскипающих волн и вели-
чественное, занимающее почти половину полотна, облачное не-
бо. Таким представляли себе романтики человека перед лицом
огромной и сильной природы.
Интенсивное восприятие природы, ее силы, ее поэзии, ее
деятельной жизни свойственно почти всем без исключения немец-
ким романтикам. Они остро ощущали и бесконечное разнообразие
мира, и бесконечность человеческих устремлений. Формой худо-
жественного воплощения бесчисленных вариантов бытия в их ис-
1 См.: Дмитриев Л. С. Предисловие.— В кн.: Избранная проза не-
мецких романтиков. М., 1979, т. 1, с. 4 — 5.
34
К. Д. Фридрих. Странник у моря.
Масло. 1818 г.
кусстве стал фрагмент. Фраг-
ментарность композиции, неза-
конченность произведения —
частый случай в повествователь-
ном искусстве романтиков. В от-
личие от просветителей роман-
тики не полностью полагаются
на человеческий разум. Мир
слишком сложен и противоре-
чив, чтобы его можно было про-
сто объяснить. Его разгадку
можно лишь предчувствовать.
Предчувствие — важная катего-
рия романтического миропони-
мания. Обилие таких характер-
ных для романтической литера-
туры определений, как «непо-
стижимый», «невыразимый»,
«несказанный», «странный» и
«удивительный», не просто при-
мета романтического стиля.
Это — отражение в стиле самого
мировоззрения.
Тайна мира часто выражается с помощью фантастических об-
разов, нереальных ситуаций, гротескных форм. Романтики не
столько пытаются отразить действительность, сколько выразить
ее возможности, передать свое ощущение от ее разнообразия и
непостижимости. Свойственное всему романтизму отталкивание
от окружающего бытия проявляло себя не в надеждах на новый,
более совершенный общественный порядок, а в устремленности в
мир красоты и высокой духовности.
Этический пафос романтизма. Восприятие роли искусст-
ва И художника у романтиков. Низменной, сугубо мате-
риальной природе окружающей действительности немецкие роман-
тики противопоставляли искусство и красоту человеческих отноше-
ний. Они создали культ дружбы и любви. Огромное этическое
значение романтического понимания любви заключалось в утвер-
ждении избранности, неповторимости этого чувства, примата ду-
ховного над физическим, в требовании внутренней близости,
взаимопонимания и душевной гармонии любящих.
Наиболее полное выражение духовного начала романтики виде-
ли в музыке. Музыкант, поэт, живописец — главный объект ху-
дожественного осмысления в немецкой романтической литературе.
Творческая одаренность — высшая форма развития личности.
Искусство способно к глубочайшему познанию жизни. «Поэт
постигает природу лучше, нежели разум ученого», — писал
Новалис 1.
1 Цит. по кн.
ML, 1980, с. 94.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков.
35
яттттттяяш
$ш&№ ъм$?ттщ$
Во время путешествия в
Аугсбург Генрих встречается
с разными людьми, слушает
их рассказы, вбирает в себя
различные впечатления. От
купцов он узнает о магиче-
ской, преобразующей мир си-
ле поэзии. Крестоносец пове-
ствует ему о войнах, пленни-
ца с Востока — о богатой эк-
зотике дальних стран. Рудо-
коп открывает Генриху тайны
подземного мира, отшель-
ник — человеческую историю.
В Аугсбурге Генрих встре-
чается с поэтом Клингсором
и в его дочери Матильде уз-
нает лицо, мелькнувшее ему
в глубине Голубого цветка.
На этом заканчивается
первая часть романа. В ней
происходит процесс созерца-
тельного постижения мира
Во второй, недописанной части Генриху суждено стать
■'■$&&<
.;*->***•-
О. Рунге. Утро.
Граи юра. 1602 г.
героем
поэтом.
Значительное место в повествовании занимают диалоги. В них
больше, чем в' развитии фабульного действия, раскрываются
идеи автора. Для Новалиса важна не материальная, а духовная
сущность мира. Его произведение не стремится к изображению
действительности, а лишь символически намечает ее контуры.
Первая часть завершается сказкой Клингсора, в которой содер-
жится мысль об оживлении мира с помощью любви и поэзии.
Поэтическое призвание для Новалиса — сила, способствующая не
только познанию, но и преобразованию мира.
Обобщенная картина поэтического развития души требовала
особых средств для своего художественного воплощения. «В ро-
мане Новалиса растаяли бытовые условности и барьеры»1. Поэти-
ка романа насквозь симьолична. В символах сливаются прошлое и
настоящее, мечта и реальность. Мысль автора устремлена на по-
стижение всеобъемлющих законов бытия. Субъективная диалекти-
ка сознания, свойственная философии Фихте, преобразуется здесь
в диалектику взаимоотношений человека с человеком и с миром
природы в духе учения Шеллинга о «мировой душе», рассматри-
вавшего весь мир как единый живой организм2. Сложные идеи
романа заключены в подчеркнуто ясную языковую форму. Абстрак-
тным понятиям придана поэтическая выразительность. Достаточно
1 Б с р'к о в с к и и Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1975, с. 186.
2 См.: Д м и т р и е п Л. С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975, с. 146.
38
mm.
О. Рунге. Ночь.
Гравюра. J 807 г.
вспомнить, например, видение Го-
лубого цветка. Многозначность
символа, заключенного в этом об-
разе, не мешает своеобразной кон-
кретности его художественной по-
дачи. Мы видим и глубокую синеву
скал возле ручья, и широкие, бле-
стящие листья цветка, склонивше-
гося над водой, биение внутренней
жизни в нем.
«Генрих фон Офтердинген»
представляет собой характерный
образец романтической прозы. Со-
ставной частью в роман входят
песни. «Общая стихия жизни —
«музыка», как ее именовали ро-
мантики, сквозь песни, как сквозь
окна, заглядывает в роман», —
писал Н. Я. Берковский1.
Фридрих Гельдерлин. Одной
из самых крупных поэтических ин-
дивидуальностей в литературе не-
мецкого романтизма на первом
этапе его развития был Фридрих Гельдерлин (1770—1843). Его
творчество многими нитями было связано с веймарским класси-
цизмом и в то же время с большой силой выразило умонастроение
романтической эпохи. Поэт восторженно встретил французскую ре-
волюцию, которая пробудила у него надежды на политическое об-
новление его родины.
Герой единственного романа «Гиперион» (1797—1799) Гельдер-
лина — греческий юноша, который принимает участие в борьбе за
независимость родного народа. Он надеется, что после победы
на земле его родины возникнет идеальное свободное государство.
Но руководимые им повстанцы занимаются разбоем и мародерст-
вом. Он разуверяется в мечте и ищет смерти. Гибель глубоко и
страстно любимой Диотимы довершает разочарование юноши.
Финалом для него становится одинокое существование отшельника,
погруженного в созерцание природы.
Герою Гельдерлин а свойственна жажда деятельности, направ-
ленной на обновление мира. «Есть только одно средство спасе-
ния,— говорит он,— собраться с силами и раздавить гадину,
это пресмыкающееся столетие, которое губит в зародыше все
прекрасное от природы!» Но «столетие» оказалось сильнее, по-
тому так горестно звучат слова из последнего письма Гипериона:
«...Лучше жить на любой другой планете, только не на Земле».
В центре повествования — события внутренней жизни. Гипе-
рион способен на чувство высочайшей радости и безмерного стра-
Б с р к о в с к и и Н. Я. Романтизм п Германии. Л., 1975, с. 185.
39
дания. Широта диапазона лирического настроения в романс под-
спудно питается социально-политическим опытом автора. Гранди-
озным замыслам Гипериона не суждено было осуществиться, как
не осуществились разбуженные революцией надежды лучших лю-
дей эпохи.
Гельдерлин является создателем самобытной поэтической си-
стемы. Местом действия его стихов является вся вселенная. Вре-
мя и пространство в них романтически разомкнуты. Поэтическая
личность стремится как бы осмыслить весь космос и свое место
в нем. Мысль поэта то воспаряет высоко в небо, то устремляет-
ся вниз, к земле. В стихотворении «Дубы» титанические деревья,
которые «себе лишь подвластны и небу», вырвались ввысь «из не-
воли корней» и ветвями своими, как орел добычу, хватают про-
странство, простирая к облакам освещенные солнцем вершины.
По мере того как послереволюционная действительность все
более и более обнаруживала свою эгоистическую буржуазную сущ-
ность, радостно-взволнованные гимны ранней поэзии Гельдерли-
на, в которых отчетливо звучали отголоски шиллеровской поэзии,
сменялись элегией, ставшей едва ли не самым важным жанром его
поэтического творчества.
Поэт обращается в мечтах к античному миру, который пред-
ставляется ему временем человеческой свободы и единства чело-
века с природой. В одном из своих писем Гельдерлин писал:
«Я люблю поколение грядущих столетий». В его поэзии постоянно
сталкиваются прошлое, настоящее и будущее. Прошлое — пора
гармонии,
Где люди-братья вольную жизнь шли,
Как леса дружные перш им ы
Под всеобъемлющим ясным небом.
«Диотима». Пер. Г. Ратгауза
Современность — время «неутешного плача». Но поэт твердо верит,
что настанет пора, когда «природа снова вспомнит о древнем
своем господстве». Однако надежды на будущее сочетаются с
неприятием настоящего, с чувством глубокого одиночества че-
ловека в мире, его обреченности страданию:
Молчишь и страждешь, всеми непонята,
Душа благая! Клонишь свой взор к земле.
Бежишь дневных лучей... О, тщетно
Ищешь ты близких под этим солнцем.
«Диотима». Пер. Г. Рапауза
Ощущение страдальческого удела человека не приводит по-
эта к полному унынию. Его стихи пронизаны чувством мятежа,
внутреннего несогласия с порядком вещей, скрытой героикой:
Нет, я не стану изо дня в день, всю жизнь
Ходить послушно, шагом размеренным...
«Гневная тоска». Пер. С. Апта
40
К. Д. Фридрих. Одинокое дерево.
Масло. 1827 г.
Человек велик, ведь «ищет он, яростный, лучшей жизни», ибо
в порядке вещей заложен «бесстрашно грозный природы сын, дух
древний непокоя».
Высокое содержание лирики Гельдерлина диктует и высокий
строй ее метрической системы. Он пользуется стихотворными жан-
рами античной поэзии — одами, гимнами, идиллиями, элегиями и
характерными для них размерами и строфическими формами (гекза-
метр, элегический дистих и т. д.). Античная форма придает поэзии
Гельдерлина внутреннюю гармонию. Классические размеры исполь-
зуются в ней своеобразно. Они, как сказал И. Бехер, открывают
«немецкому языку новые поэтические возможности»1. Поэт не
замыкает мысль в пределах одной стихотворной строчки, а свободно
переносит ее в другую, отчего она получает широту звучания. Не-
смотря на классическую строгость, поэзия Гельдерлина романтич-
на. Она соединяет в себе ощущение новой жизни и космической
безграничности природы, сознание трагического одиночества чело-
века в мире и надежду на обновление его жизни.
Особенности романтической лирики. Романтизм привел
к небывалому расцвету лирики, обогатил ее новыми формами и
новыми стихотворными ритмами. Гельдерлин внес в немецкую по-
эзию естественно звучащие греческие размеры, Новалис — вольные
1 Бехер И. Любовь моя, по:+:»ия. М, 1965. с. 460.
41
ритмы в духе современного верлибра, Брентано — народную тра-
дицию и связанный с нею размер — дольник. У Тика стихотвор-
ная метафора стала средством выражения романтического миро-
ощущения.
Многие поэты широко использовали форму баллады и испан-
ского романса (Гейне, Брентано) или восточной лирики (Рюккерт,
Платен) 1.
Почти все романтики были поэтами. «Взывает к нам, меняясь
каждый час, поэзии таинственная сила», — писал Новалис в по-
священии к «Генриху фон Офтердингену». Сила романтической
поэзии преображает мир. Природа выступает в стихах живой и
одушевленной. Ее связь с человеком передается с помощью не-
ожиданных метафор и олицетворений. У Тика, например, «...при-
ходят утром зори, небо в пурпур одевая, и приводят день на небо».
Романтическая поэзия сливает воедино все чувства. Краски, звуки
и запахи как бы меняются местами. В стихотворении Брентано
«Вечерняя серенада» золотым светом «веют» звуки. Метафора
в романтической лирике не направлена на передачу зрительного
впечатления. Чаще всего в ней содержится эмоциональное'восприя-
тие чувственного мира, его необозримого богатства.
Внутренним лирическим светом проникаются картины природы.
«Певцом немецкого леса» называют романтического поэта Иозефа
Эйхендорфа (1788—1857), который создал проникновенные и
глубокие образы родной природы:
Шум ночной уж полнит лес,
IVi/ла в его глубинах.
Бог украсил лик небес
Светом звезд невинных.
Тишина легла в низинах,
Шум ночной лишь полнит лес...
«Прощание». II с р. А. Карельского
Стремление уйти в природу — характерная черта романтиче-
ской лирики. Оно порождает частую у романтиков тему странниче-
ства. Странничество — это и бегство от удручающей действитель-
ности и неутоленная романтическая страсть к движению, к пере-
менам.
Поэт-романтик слышит мир музыкальным ухом. Не случайно
именно на романтическую пору приходится расцвет вокальных жан-
ров. Крупнейшие композиторы эпохи писали музыку на слова по-
этов-романтиков— Ф. Шуберт, Р. Шуман, Мендельсон, Брамс.
Многие из их песен стали подлинно народными. Особенно перело-
жения на музыку стихов Эйхендорфа Мендельсоном, Шуманом,
Брамсом, вокальные циклы Шуберта на стихи Гейне, цикл Р. Шу-
мана на стихи Шамиссо «Любовь и жизнь женщины» и т. д.
1 Образец романтической баллады можно видеть, например, в «Лорелее»
Брентано и Гейне, в «Юном Роланде» Уланда; ритм испанского романса вос-
произведен в стихотворении Гейне «Дон Рамиро»; «Газели» Рюккерта и Платена
опираются на образцы древнеперсидской поэзии.
42
К. Д. Фридрих. Утро.
Масло. /820 г.
Связь с народной песней, ее простотой и задушевностью от
четливо слышна в поэзии Вильгельма Мюллера (1794 — 1827). Как
и другие поэты-романтики, Мюллер находится в конфликт» с дейст-
вительностью. Многим его стихотворениям свойственна элегическая
интонация. Героями его стихов часто выступают люди из народа.
Например, важная для романтического сознания мысль об одино-
честве художника, бесприютности его существования решается на
образе простого деревенского шарманщика, голодного и бездомного
(«Шарманщик»). Циклы стихов В. Мюллера «Прекрасная мельни-
чиха» и «Зимний путь», положенные на музыку Шубертом, стали
народными песнями и получили всемирную известность.
ВТОРОЙ ЭТАП В ЛИТЕРАТУРЕ НЕМЕЦКОГО
РОМАНТИЗМА
Гейдельбергская школа* После 1806 года произошли сущест-
венные изменения в общественной жизни Германии. Наполеон
одерживает решающую победу над Пруссией под Иеной и Ауэр-
штедтом. На вновь завоеванных территориях ужесточается поли-
тика французских оккупационных войск. С момента заключения
Гильэитского мира в 1807 году войны Наполеона приобретают
откровенно захватнический характер. Перед немцами встает задача
национального освобождения и, как следствие этого, обостряется
43
С
национальное чувство. Свойственное романтикам стремление к аб-
солютному гармоническому идеалу направляется теперь к народ-
ным истокам, к изучению национальной истории и поэзии.
Начало новым тенденциям в развитии романтического искус-
ства слова было положено сборником народных песен, составлен-
ным двумя друзьями — Клеменсом Брентано (1778—1842) и Ахи-
мом фон Арнимом (1781 —1831). Они продолжили начатую Гер-
дером традицию собирания произведений народного творчества.
Сборник назывался «Волшебный рог мальчика» (1806—1808).
Это замечательное собрание народных песен заслужило высокую
оценку Гете. Он писал: «Эти стихотворения являются самой под-
линной поэзией, какая только может существовать даже для нас,
хотя мы и стоим на более высокой ступени развития. В них
таится образ юности, непреодолимое очарование, подобное тому,
какое имеет для стариков образ юности и юношеские воспомина-
ния»1. Не менее восторженно высказывался об этой книге позже
и Гейне, говоря, что «в ней заключаются самые чарующие цветы
немецкого духа, и кто хотел бы ознакомиться с немецким народом
с его привлекательнейшей стороны, должен прочитать эти народ-
ные песни»2. «Волшебный рог мальчика» не только раскрыл чи-
тателям сокровища старинной немецкой лирики, но и обогатил со-
временную поэзию новыми ритмами.
Сборник Брентано и Арнима не представлял собой подлинно
научного издания. Составители вольно обращались с текстами,
иногда видоизменяли источник, порой включали в народные песни
строфы собственного сочинения. Ученые филологи братья Якоб
(1785—1863) и Вильгельм Гримм (1786—1859) упрекали их за это.
Тем не менее «Волшебный рог мальчика» послужил толчком для
возникновения научной фольклористики, в первую очередь пред-
ставленной всемирно известным сборником братьев Гримм «Детские
и домашние сказки» (1812—1815). Народное творчество было
представлено здесь в своей первозданной форме. Вслед за этим
началось изучение памятников средневековой литературы и древ-
них народных сказаний.
Обращение к народному творчеству имело важное значение для
дальнейшего развития романтической литературы. В нее проника-
ют народные верования, образы людей из народа с присущими им
качествами и психологией. Центр нового литературного движения
образуется в городе Гейдельберге, где вокруг Арнпма и Брента-
но группировались романтики младшего поколения (т. н. «гейдель-
бергская школа»), эстетические устремления которых во многом
отличались от раннего романтизма.
Мировоззрению гейдельбергских романтиков было свойственно
своеобразное народничество. Положительные ценности они пыта-
лись найти в народной психологии, в натриарлальных нравах и
докапиталистических формах жизни. Отрицание эгоизма и индиви-
1 Гете И.-В. Об искусстве. М., 1973. с. 386.
2 Гейне Г. Собр. соч. и 10-тн томах. М., 1958, т. 6. с. 206, 228.
44
дуализма современного мира приводило их к идеализации старины.
Их идеология поэтому приобретала консервативный, а порой и
просто реакционный характер.
В рассказе «История честного Касперле и прекрасной Ан-
нерль» (1817), сталкивая разные понятия чести, Брентано делает
носителем подлинной нравственности старушку, добивающуюся
христианского погребения для самоубийцы Касперле и казненной
Аннерль. Она убеждена, что честь надо воздавать только богу.
Смирение, покорность, презрение к признанным ценностям зем-
ной жизни —таковы, по мысли автора, подлинные черты народной
психологии. Приметы реальности не делают это произведение
реалистическим. Повествование проникнуто фантастическими эле-
ментами, утверждающими влияние на человека и его судьбу не
постигаемых разумом, но могущественных сил.
Или другой пример. Действие повести Арнима «Изабелла Еги-
петская» (1811) относится к XVI веку. Картины исторической
жизни даны сочно и предметно. Но с появлением отвратительного
альрауна в реальность вторгается фантастика. Это полученное из
корня мандрагоры существо, наглое и крикливое, обладает однако
способностью отыскивать спрятанные клады. Оно губит все живое
и поэтичное. В повести отразился страх писателя перед развитием
товарно-денежных отношений, который приводил его к поэтизации
старых, докапиталистических форм общественной жизни.
Фантастическая новелла, или сказка, вообще представляет со-
бой едва ли не самый известный жанр в литературе немецкого
романтизма1. Обращение к этому жанру объяснялось стремлением
писателя к абсолютному идеалу, лежащему за пределами реальной
действительности. В этом жанре отразилось авторское ощущение
таинственных и непостижимых загадок жизни, характерных для
романтического миропонимания. Сказки, или фантастические но-
веллы, создавали Новалис, Тик, Арним, Брентано, Эйхендорф,
Гофман, Фуке, Шамиссо и др.
Национально-освободительная война и литература.
Наполеоновская оккупация способствовала подъему националь-
ного сознания. Повсеместно поднимается народ на борьбу против
иноземных захватчиков. Возникают патриотические организации
(«Тугендбунды»). Многие писатели романтической эпохи обраща-
ются к публицистике. Философ Фихте в знаменитых речах «К не-
мецкой нации» выступает с призывом к борьбе за свободу. Разви-
вается патриотическая лирика. Наибольшую популярность сниска-
ли себе стихи Эрнста Морица Арндта (1769—1860) и Теодора
Кернера (1791 —1813). В них звучал призыв к борьбе с оккупан-
тами, хотя они и не были свободны от националистических и верно-
подданнических тенденций.
1 Романтическая литературная сказка отличается от народной. В ней нет
победы добра над злом. Ее авторы стремятся не к дидактическим целям, а к
художественному обобщению общих законов жизни.
45
Однако обновления общественной жизни не произошло. Немец-
кие князья использовали народное возмущение в своих династиче-
ских интересах. Да и сама борьба против Наполеона носила про-
тиворечивый характер. С одной стороны, она была борьбой за
независимость, с другой — давала почву для расцвета национа-
лизма.
Генрих Клейст. С периодом национально-освободительного дви-
жения в Германии связано имя одного из крупнейших драматургов
и прозаиков эпохи Генриха Клейста (1777-1811). Lro творчест-
во стоит особняком в литературе немецкого романтизма. Но рож-
дению и отчасти идеологически писатель был связан с прусскими
военными кругами. Поражение Пруссии в войне с Наполеоном он
воспринял трагически, как катастрофу исконных устоев. Это при-
вело его к глубочайшему разладу с действительностью и к траги-
ческому восприятию человеческого бытия. Клейсту не всегда уда-
валось подняться над консервативными убеждениями своего кру-
га, но в лучших своих произведениях он требовательно заявлял
о праве личности на свободу воли и чувства.
Катаклизмы бурного времени в творчестве Клейста обрели
острое трагическое звучание. Даже в его единственной комедии —
«Разбитый кувшин» (1806) — пьесе, которая до сих пор не схЪдит
со сцены немецких театров,— комическое соседствует с трагиче-
ским. Разбирательство по делу о разбитом кувшине, которое ве-
дет хитрый деревенский судья Адам, ночью пытавшийся проник-
нуть в спальню крестьянки Евы и во время постыдного бегства
разбивший злосчастный кувшин, оборачивается против Евы. Честь
девушки замарана. Спасая своего жениха Руперта от рекрутчИГны,
она боится назвать истинного виновника. В финале махинации
Адама разоблачены. Но читателя не оставляет ощущение трагизма
той борьбы, которую ведет д».-в ушка, сознающая свою правоту и
бессильная ее доказать.
Еще острее дисгармоническое восприятие жизни проявляется
в таких трагедиях Клейста, как ^Семейстно Шроффенштейн»
(1803), «Пентезилея» (1808), Кетхен из Гейльбронна» (1810),
«Принц Гомбургский» (1811) и др. Клейст обладал даром созда-
вать сильные и пластические характеры. Наделенные волей, его
герои чаще всего трагически гибнут в борьбе с обстоятельствами.
Герои Клейста романтичны в силу своей исключительности,
невероятной целеустремленности, способности в осуществлении
своих целей доходить до последнего предела1. Но необычность их
внутренних ресурсов не исключает психологической достоверно-
сти их характеров. В этом особенность художественной манеры
Клейста, позволяющая некоторым исследователям говорить даже
о реалистических тенденциях в творчестве писателя2. По характеру
См.: Карельский Д. В. О творчестве Генриха фон Клейсту..-— В кн.:
Клейст Г. Избранное. М., 1977, с. 7.
См.: Самарин г. М. Клейст.— В кн.: История немецкой литературы.
М., 1966, т. 3, с. 185; Дейч А. Судьб ы поэтов. М., 1968, с. 109.
46
мироотношения, однако, Клейст остается романтиком. Но его проза
отличается строгостью и точностью письма, отсутствием орнамен-
тального начала, суховатой деловитостью, хотя повествует он
обыкновенно о сильных страстях и необычных явлениях.
Одним из самых замечательных прозаических произведений пи-
сателя является его повесть «Михаэль Кольхаас» (1810). В ней
рассказывается история торговца лошадьми, ставшего жертвой
произвола феодала фон Тронка, а затем и всей государственной
системы. Действие повести развертывается в XVI веке, в ней
слышны отзвуки Великой крестьянской войны и Реформации. Част-
ная судьба героя сплетается с судьбами народных масс. В поис-
ках справедливости и мщения за нанесенную обиду Кольхаас со-
бирает под свои знамена всех недовольных. Один человек стано-
вится угрозой всему феодальному обществу. Кольхаасом движет
«чувство справедливости, точное, как аптекарские весы». С убеди-
тельной достоверностью показывает Клейст превращение мирно-
го бюргера в грозного мстителя, в великого поборника справедли-
вости.
«В повести о Кольхаасе все полно социального напряжения»1.
Однако социальный конфликт автор переносит в моральную плос-
кость. Борясь за справедливость, Кольхаас обрушивает карающий
меч не только на головы своих обидчиков. Невольными жертвами
его гнева оказываются и ни в чем не повинные люди. Поэтому, до-
бившись восстановления справедливости по отношению к себе,
Кольхаас спокойно и с достоинством кладет голову на плаху, что-
бы претерпеть казнь за совершенные преступления. Полное само-
отречение возвеличивает героя, но в то же время недвусмысленно
выражает авторскую мысль о том, что высшая справедливость сос-
тоит в необходимости подчинения личности законам государства.
При этом изображенное государство обнаруживает свою неправед-
ность. Необходимость подчинения тому порядку, который это го-
сударство в себе воплощает, усиливает грагизм повести.
Глубина разлада с жизнью у Клейста была настолько сильна,
что привела писателя к самоубийству. Но созданные им образы
могучих и непокорных людей, готовых погибнуть, но не посту-
питься собственными принципами, принадлежат, бесспорно, к луч-
шим созданиям немецкой романтической литературы.
ТРЕТИЙ ЭТАП В ЛИТЕРАТУРЕ НЕМЕЦКОГО
РОМАНТИЗМА
После 1814 года начинается третий этап романтизма в ли-
тературе Германии. Творчество крупнейших ее представителей:
Э. Т. А. Гофмана, А. Шамиссо, Г. Гейне — отражает диссонансы
новой эпохи. Романтизм этого этапа характеризуется более при-
Берковскнй Н. Я. Романтизм и Германии. М., I97'). с 462.
47
Новый оперный театр и Берлине.
Рисунок архитектора К. Ф. Шннксля.
181&—1S21 и.
стальным вниманием художников к действительному миру и более
резкой критикой его социальных противоречий. Многими нитями
связанные с проблематикой романтической литературы предшест-
вующего периода, писатели младшего поколения резче ставят во-
прос о губительной власти золота, о нивелировке человеческой лич-
ности, о социальных контрастах жизни. А это уже подготавливает
почву для последующего развития реализма.
Э. Т. А. ГОФМАН
Творчество Гофмана (1776—1822) явилось важным звеном в
литературе немецкого романтизма. Оно получило широкое между-
народное признание и оказало известное воздействие на формиро-
вание творческого метода таких художников, как О. Бальзак и
Ч. Диккенс, Н. Готорн и Э. А. По, Н. В. Гоголь и Ф. М. До-
стоевский. Особенно популярен Гофман был в России. В. Г. Бе-
линский называл его «великим, гениальным художником»1, востор-
женную и глубокую статью посвятил ему Герцен2. Творчество ряда
русских писателей в преображенном виде отражало его образы,
идеи и художественные формы3.
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М.—Л., 1954, т. 3.
с. 74.
2 См.: Г с р и с и А. И. Гофман.— В кн.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти
томах. М., 1954, т. 1.
3 См.: Б от н и к о в а А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (Первая
половина XIX века). Воронеж. 1977.
48
Вступив в литературу позже многих других романтиков, Гоф-
ман обобщил и по-своему подытожил художественные открытия
своих предшественников. В его произведениях отразилось характер-
ное для романтиков старшего поколения ощущение красоты миро-
здания, мысль о высоком назначении искусства и художника, от-
ношение к музыке, как к «праязыку природы». Но он пошел даль-
ше многих своих предшественников и современников в критике
меркантильных интересов века, громче других заявил об угрозе
автоматизации личности, о мертвящем начале обывательского бы-
тия. Романтическая ирония Гофмана гораздо более глубоко выра-
жала мысль о несовершенном устройстве мира, перерастая в са-
тиру на уродливые свойства действительности.
Известный прежде всего как писатель, Гофман был широко
одаренным человеком. Композитор — создатель первой романтиче-
ской оперы «Ундина», музыкальный критик, дирижер, живописец,
график, декоратор, постановщик спектаклей, он воплощал в себе
тот знаменитый универсализм, в котором романтики видели высшее
выражение личности1.
Судьба художника сложилась трудно. Будучи страстно и все-
цело предан искусству, по желанию родственников он избира-
ет юридическую карьеру. Неуемный характер и острое ощущение
уродств и несправедливости постоянно приводят его в конфликты
с окружением. Служба в Познани заканчивается ссылкой за кари-
катуры на видных чиновников, служба в Варшаве — безработицей,
потому что Гофман отказывается присягнуть Наполеону, войска
которого вступили в польскую столицу.
Лишившись средств к существованию, он долгие годы ведет
полуголодную жизнь. В Бамберге самозабвенно отдается театраль-
ной деятельности, дирижирует оркестром, пишет музыку к спек-
таклям, расписывает декорации, руководит труппой.
К литературному творчеству Гофман обратился не сразу.
В 1809 году в музыкальной газете появился рассказ «Кавалер
Глюк». Именно с этого года начинается творческая биография пи-
сателя Гофмана.
Первый период творчества. «Фантазии в манере Калло».
Эстетические идеи Гофмана. Его художественная манера
складывается сразу в первых сборниках рассказов «Фантазии в ма-
нере Калло» (1814—1815). Ссылаясь на французского графика
XVII века Жака Калло, Гофман отстаивает свое право художника
на заострение смешных, ужасных и поэтических явлений действи-
тельности, на преображающую силу творческого воображения и
творческой фантазии.
В «Фантазиях...», ранних рассказах Гофмана большое место
принадлежит музыке. Здесь впервые появляется образ капельмей-
стера Крейслера — романтического энтузиаста, всецело предан-
ного своему искусству. В этот образ Гофман вложил много соб-
ственных мыслей и переживаний. Поглощенность музыкой застав-
1 См.: Художественный мир Гофмана. М.г 1982.
49
ляет Крейслера особенно ост-
ро ощущать дисгармонию ми-
ра. Он вынужден музициро-
вать в домах богатых фили-
стеров, которые не восприим-
чивы к прекрасному. Музыка
для них лишь приятный де-
серт после вкусного ужина.
Это рождает романтический
конфликт художника с ми-
ром, делает его фигурой тра-
гически одинокой.
«Дон-Жуан». Рассказ
«Дон-Жуан» соединяет в се-
0 р к г п бе художественное произве-
г). I . А. 1 офман к Депрнгнт. J г
Ртунпк Гофмана. Ш7 /. Деиие С ПрОНИКНОВеННЫМ ро-
мантическим истолкованием
гениальной оперы Моцарта и традиционного сюжета о севильском
обольстителе. Известный советский исследователь И. Ф. Бэлза от-
мечает в рассказе такое глубокое постижение замысла Моцарта,
«которое до Гофмана не было дано еще никому, даже Бетховену...»1.
В образе Дон-Жуана Гофман видит сильную и незаурядную
личность, возвышающуюся над посредственностями, «над фабрич-
ными изделиями». В душе его живет страстная тоска по идеалу,
которого он стремится достичь через наслаждение женской лю-
бовью. Дон-Жуан презирает общепринятые нормы и в бесчислен-
ных победах над женщинами надеется утвердить могущество соб-
ственной личности. Но этот путь ложен, и нечестивца ждет воз-
мездие.
Стремление личности к безграничной свободе мыслится писа-
телем как следствие «бесовского соблазна». Впервые в романти-
ческой литературе Гофман ставит вопрос о направленности силь-
ной страсти. Дон-Жуан заслужил свой страшный конец, потому
что предался низким чувствам, «соблазнам здешнего мира».
Но судьба и самого художника трагична. Lro удел — страда-
ния. Итальянская певица, исполнявшая партию донны Анны, вы-
звала восторг и понимание у рассказчика — «странствующего эн-
тузиаста» и осуждение публики за «чрезмерную страстность».
Трагическая обреченность высокого искусства особенно явственно
звучит в заключительной сцене рассказа, где посетители гостинич-
ного ресторана за общим столом равнодушно досадуют на смерть
артистки, лишившую их возможности в ближайшее время услы-
шать «порядочную оперу».
«Золотой горшок». В сборник «Фантазии в манере Калло»
входит и сказка из новых времен — «Золотой горшок». Новатор-
1 Ь :•> л л л И. Ф. K.MP'.Mixn-i'uTop Мигай ч Крайслер. -■- В кн. Гофман Э.
Т. A. Kfii'iir.'vcpn.iMfi. Житейские воззрении Котл Мурра. Дневники. М., 1972,
с. 3Г>Н.
50
стмо писателя проявилось в том, что сказочные события происхо-
дят здесь в гуще реальной повседневности. Местом^действия автор
избирает Дрезден. Современники узнавали улицы, площади и
увеселительные заведения города. И главный герой сказки зани-
мается отнюдь не сказочным делом. Он — студент, из очень небо-
гатых, и вынужден подрабатывать себе на жизнь переписыванием
бумаг. В жизни ему не везет.. Но он обладает способностью к вооб-
ражению. В душе он поэт, энтузиаст.
Столкновение энтузиаста с реальностью составляет централь-
ный конфликт сказки. Мечты Ансельма колеблются между жела-
нием обрести солидное положение в обществе (стать надворным
советником) и устремлением в воображаемый поэтический мир,
где человеческая личность на крыльях фантазии чувствует себя
безгранично свободной и счастливой. Быт и поэзия противопостав-
лены друг другу. Власть быта олицетворена з образе дочери чи-
новника конректора Паульмана— Веронике, власть поэзии — в об-
разе золотисто-зеленой змейки Серпентины.
Вероника по-своему привлекательна, но желания се мелочны и
убоги. Ей хочется выйти замуж и щеголять в новой шали и новых
сережках. В борьбе за Ансельма ей помогает колдунья — торговка
яблоками. Быт в романтическом представлении Гофмана — страш-
ная и бездуховная сила. Быт притягивает к себе человека, лишает
его высоких устремлений. В обывательском сознании вещи господ-
ствуют над людьми. И Гофман оживляет вещи: скалит зубы
дверной молоток, корчит рожи кофейник со сломанной крышкой.
Оживший мир вещей фантастически страшен, как страшен мир лю-
дей вроде конректора Паульмана и регистратора Геербранта, чьи
помыслы устремлены только на дела житейские.
Этому бездуховному филистерскому бытию писатель-романтик
противопоставляет другой мир — сказочное царство поэтической
фантазии. Так возникает отличительная черта гофмановского твор-
чества — двоемирис.
Сказочное царство мечты населено необыкновенными существа-
ми. Князь духов Саламандр и его дочери—золотисто-зеленые
змейки могут в быту принимать обличие обыкновенных людей, но
их подлинная жизнь протекает в сфере чистой красоты и поэзии.
Эта сфера изображена подчеркнуто невещественно и контрастно
противостоит населенному вещами пространству обывательского
мира. В мире поэзии господствуют цвета, запахи, звуки, предметы
утрачивают свою материальность, движутся, переходят один в
другой, сливаясь р единую гармонию красоты.
Единственным прибежищем от удручающей власти быта, по
мысли писателя, оказывается мир поэтической мечты. Но Гофман
понимает и его иллюзорность. Ироническая концовка подчеркивает
это. Князь духов Саламандр утешает автора, горестно зав иду ющ. его
счастью Ансельма, утверждая, что сказочная Атлантида мипь
«поэтическая собственность» ума. Она — плод воображения, пре-
красная, но недостижимая мечта. Романтическая ирония Гофмана
ставит под сомнение осуществимость романтического идеала.
51
/гииЛий), с "»Л**И«1**Ч
Э. Т. А. Гофман. Шарж на Шамиссо, участника кругосветного путешествия.
Рисунок. 1816 г.
Восприятие действительности как царства эгоизма и бездухов-
ности часто окрашивало произведения Гофмана в мрачные тона.
Фантастика выражала страх писателя перед непонятными сторо-
нами жизни. Во многих рассказах Гофмана встают фантастические
картины раздвоения человеческой личности, безумия, превращения
человека в автомат. Мир выступает необъяснимым и иррациональ-
ным.
«Мастер Мартин-бочар...» В поисках идеала гармонического
равновесия между искусством и жизнью Гофман обращается к
прошлому, к эпохе городской культуры немецкого Возрождения,
которая мыслится ему как время, когда ремесло и искусство еще
не были разобщены между собой. Идиллическая утопия о гармонии
труда и творчества раскрывается в рассказе «Мастер Мартин-бо-
чар и его подмастерья».
Подробно и пластично передает художник детали средневековой
жизни города Нюрнберга: убранство дома зажиточного мастера
Мартина, собрание цеха и выборы цехового старшины, пение и
боевые игрища подмастерьев на городском лугу. В этом рассказе
ему удалось создать жизненно убедительные, цельные характеры.
Старый мастер Мартин превыше всего ставит свое ремесло бочара,
чтит его как высокое искусство и даже свою дочь — красавицу
Розу прочит в жены только представителю бочарной профессии.
Претендентам на руку девушки приходится считаться с желанием
упрямого отца и изучать под его руководством бочарное ремесло.*
52
Рассказ проникнут веселым и радостным мироощущением. Кон-
фликты легко приходят к своему разрешению. Царит атмосфера
непринужденной легкости. При всей достоверности изображения
персонажей и обстоятельств картина, нарисованная в рассказе,
далека, однако, от подлинной реальности эпохи немецкого средне-
вековья. Гофман не столько идеализирует прошлое, сколько на
условном историческом материале создает идиллическую утопию
радостного и гармонического общественного бытия. В изображен-
ном мире отсутствует классовый антагонизм. Дворян и бюргеров
связывают добрососедские отношения, рыцари пируют вместе с
ремесленниками.
Идеализация докапиталистических форм жизни, свойственная
многим романтикам, вырастала как протест против разобщенности
и меркантильности современной жизни и в определенной степени
питала утопическую мысль начала XIX века. (Отголоски ее слыш-
ны отчетливо во второй части дилогии Гете о Вильгельме Мей-
стере.)
Второй период творчества* Последние восемь лет своей жизни
Гофман живет в Берлине, находясь на службе в государственном
суде. Негодность существующего судопроизводства приводит его
к конфликту со всей прусской государственной машиной. И в твор-
честве его происходят изменения. От этической критики действи-
тельности художник переходит к социальной. Если в ранние годы
объектом его насмешки было филистерство, то теперь он обруши-
вается на общественные порядки Германии. Его сатира становится
более острой, более политически окрашенной. Гротескные образы
выражают неразумие законов существующей общественной жизни.
«Крошка Цахес». Особенно отчетливо новые тенденции про-
являются в знаменитой сказке «Крошка Цахес» (1819). В центре
ее — история отвратительного уродца, наделенного волшебным
даром присваивать себе заслуги окружающих. Ничтожное существо,
благодаря трем золотым волоскам, пользуется всеобщим почетом,
вызывает восхищение и даже становится всесильным министром.
Цахес отвратителен, и автор не жалеет средств, чтобы внушить
это читателю, сравнивая его то с «диковинным обрубком корявого
дерева», то с «раздвоенной редькой». Цахес ворчит, мяукает, ку-
сается, царапается. Он одновременно смешон и страшен. Смешон
своими нелепыми потугами слыть прекрасным наездником, виртуо-
зом-виолончелистом, поэтом и т. д., страшен тем, что при своих
мнимых дарованиях обладает явной и несомненной властью.
В этом гротескно-фантастическом персонаже Гофман не просто
выразил свойственное романтикам неприятие действительности или
страх перед ее непостижимыми явлениями, но и художественно
воссоздал ее алогичную закономерность. Еще В. Г. Белинский
замечал, что Гофман «в самых нелепых дурачествах своей фантазии
умел быть верным идее»1. В гротескно заостренной сказочной
1 Б е л и н с к и й В. Г. Поли. собр. соч. в 13-тн томах. М.—Л., 1954, т. 8,
315.
53
форме отразился мир, где жч.шснные блага и почет создаются не
труду, не уму и не заслугам Видимо, за социально-критическое
содержание ;-vr\ сказку Гофмана ос обе г-ж о ценил К. Маркс.
Романтический метод 1 офмана, по сравнению с методом ето
предшественников, и значительно большей степени был связан с
изображением конкретных явлений современной действительности,
с раскрытием ее исторических конфликтов. В этом смысле его
творчество представляло собой пограничное явление, оно открывало
пути для следующего этапа в художественном развитии, для лите-
ратуры критического реализма.
Хотя действие «Крошки Цахееа^ происходит в сказочном цар-
стве, где на равных нравах с людьми действуют волшебники и
феи, тем не менее изображенная жизнь в сатирическом заострении
воспроизводит реальное существование мелких германских кня-
жеств.
Здесь можно войти в доверие к властителю, одолжив ему
несколько дукатов. Здесь длительно заседают государственные
мужи, погружаясь в ничтожные размышления. Официальна на-
саждаемое просвещение не спасает население от массового психоза,
выражающегося в обожествлении бездарного уродца.
«...Социальную широту сказке поидает то, что позади этого
нелепого маскарада, праздника дуракои, разыгрываемого князьями,
министрами, камергерами, профессорами и лакеями, стоит народ,
на труде которого и держится эта нрои-комкческая армия господ
и их прислужников. Сказка начинается рассказом о горестной судь-
бе бедной крестьянской семьи, в которой родился Цахсс, и закан-
чивается возмущением толпы для расправы с развенчанным Цин~
нобером...» — замечает исследователь творчества Гофмана И. Ми-
римский !.
Антагонистом Цахеса и носителем светлого идеала в сказке
выступает мечтательный юноша поэт Бальтазар. Ему одному открьь
та ничтожная сущность маленького уродца, отнявшего у него не-
весту и поэтическую славу. В конце сказки он одерживает победу
над Цахесом с помощью доброго мага Проспера Альпануса, кото-
рый открывает юноше тайну трех золотых волосков на голове
Циннобера.
Ирония писателя имеет двойную направленность. Она не только
заземляет фантастику, но и показывает прозаическую банальность
блаженного удела, выпавшего на долю поэтического героя.
В финале сказки Бальтазар венчает свою победу над Цахесом
женитьбой на прекрасной Кандиде и получает в дар от своего
покровителя дом с великолепной мебелью, с кухней, ь\е кушанья
никогда не перекипают, и огородом, в котором раньше, чем у дру-
гих, поспевают салат и спаржа. Насмешка простирается не только
на героя, но и на саму сказочную фантастику. Возникает сомнение
в возможности и необходимости бегства от действительности в
мир романтической мечты.
1 История немецкой литературы. М., 1966, т. 3, с. 222—223.
54
«Житейские воззрения кота Мурра». Крупным итоговым
произведением Гофмана был незаконченный роман «Житейские
воззрения кота Мурра» (1-й том— 1819 год; 2-й том— 1821 год).
Писатель снова обращается здесь к романтическому энтузиасту —
Крейслеру. Однако он не единственный герой романа. Значитель-
ное место в нем принадлежит ученому коту Мурр у. Мурр пишет
историю своей жизни, а листы из биографии Крейслера использует
для прокладки. Поэтому судьба капельмейстера предстает в отрыв-
ках и содержит в себе много недосказанного.
Банальные события и житейские треволнения кошачьей жизни
перемешаны с напряженной, исполненной трагизма историей му-
зыканта.
Необычный композиционный прием призван показать внутрен-
нюю связь двух противоположных миров, богатство смысло-
вых оттенков самой жизни, в которой высокое и низменное, ко-
мическое и трагическое существуют в нерасторжимом единстве.
Ученый кот воплощает в себе обывательское сознание. Жиз-
ненный путь Мурра ничем не отличается от человеческого. Он
влюбляется, женится, встречается с другими котами, болезненно
переживает высокомерное отношение собак, с которыми пытается
свести дружбу. Мурр начитан и склонен похваляться своей образо-
ванностью. Он твердо убежден, что разум —это всего лишь «спо-
собность поступать сознательно и не допускать никаких безумств».
В этом состоит его житейская мудрость.
Взаимоотношения кошек и собак сатирически воспроизводят
отношения между бюргерами и дворянством, а кошачий буршеи-
шафт, заседания которого сопровождаются обильными возлияния-
ми селедочного рассола, недвусмысленно выражает авторское отно-
шение к националистически настроенным немецким буршам.
Животные инстинкты в обывательском мире лишь прикрыты
возвышенной фразой. Решив угостить свою мать селедочной голо-
вой, Мурр не удержался и съел ее. Этот поступок он сопровождает
глубокомысленными размышлениями: «Но как постичь всю измен-
чивость сердца тех, кто живет в нашем бренном мире? Зачем не
оградила судьба грудь нашу от дикой игры необузданных страстей?
Зачем нас, тоненькие, колеблющиеся тростинки, сгибает вихрь
жизни? То наш неумолимый рок! О аппетит, имя тебе кот!»
«Бренный мир», «дикая игра необузданных страстей», «вихрь
жизни» и т. д. — это все обороты романтической фразеологии. Она
вошла в моду, стала достоянием филистеров, прикрытием их по-
требительских стремлений. Контраст между высокой патетической
речью и банальностью помыслов становится средством сатиричес-
кого обличения филистерства.
Вторая линия романа связана с образом Крейслера. Уютному
существованию филистера противопоставлена бесприютность бытия •
художника. Конфликт художника с миром носит трагический харак-
тер. Источником трагедии является несовместимость тонких чувств
и высоких помыслов художника с мизерностью окружающей его
жизни.
55
Княжество Зигхартсвейлер, где оказывается Крейслер, сарка-
стически изображено как марионеточное царство видимости. Князь
Ириней давно уже утратил настоящую власть, но не утратил пред-
ставлений о собственной значительности. Придворные церемонии
организуются с невероятной помпой, выезд князя сопровождается
скороходами, которые, правда, едут на линейке и лишь слегка
болтают ногами, имитируя бег. Финансовые советники государства
сосредоточенно занимаются проверкой счетов из княжеской пра-
чечной.
Смехотворная мизерность этого «двора» очевидна. Но нравы,
господствующие при дворе, страшны. Двором заправляет княже-
ская фаворитка советница Бенцон. Чтобы укрепить свое влияние,
она сватает свою дочь, прекрасную Юлию, за слабоумного принца
Игнатия. А принцессу Гедвигу, повинуясь династическим интере-
сам, пытаются выдать замуж за сластолюбца и убийцу принца
Гектора.
В этом мире вынужден жить Крейслер, существо возвышенное,
благородное, всецело преданное музыке. Ему чужд этот мир, и
он чужой в нем. Необходимость обслуживать двор своей музыкой
приводит Крейслера к глубочайшему разладу. Ему свойственно не
только недовольство окружающим, но и глубокая неудовлетворен-
ность собственными возможностями. Его душевная неуспокоенность
контрастно противостоит благодушному самодовольству Мурра и
застывшему в мертвом существовании обществу при дворе. Все это
делает образ Крейслера сложным, внутренне богатым, но и проти-
воречивым.
Крейслер порой чувствует себя на грани безумия. Трагизм его
положения еще усиливается любовью к Юлии, предназначенной
в жены жестокому и слабоумному принцу.
Крейслер — носитель авторского взгляда на мир. Романтиче-
ская неудовлетворенность существующим приводит его к абсолю-
тизации духовности, воплощенной в музыке. Сфера искусства, где
он ищет себе утешения, выступает как область, противоположная
действительной жизни.
Программным выражением позиции Крейслера является его зна-
менитое рассуждение о «любви артиста». Его любовь не стремится
к реализации, она лишь сила, вызывающая к жизни творения
искусства.
Конфликт художника с миром осмысляется в этом романе как
конфликт социальный. Крейслер утверждает право художника на
собственную позицию в неприемлемом для него социальном укладе.
Больше того, он делает попытку активного вмешательства в жизнь,
убирая с дороги преступного принца Гектора.
Многообразие охвата действительности, утверждение неприми-
римости искусства и мира, основанного на корысти и эгоизме,
трагическое, но активное противостояние художника этому миру —
все это делает последнее крупное произведение Гофмана выдаю-
щимся явлением немецкой романтической литературы.
56
ГЕТЕ В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА
Гете (1749—1832) — единственный из художников Просвеще-
ния, который мог наблюдать и осмыслять преломление всех идеа-
лов предыдущей эпохи в XIX веке. Исключительное поэтическое
дарование, богатое мировосприятие разносторонне образованного
человека, ученого-естествоиспытателя, опыт свидетеля больших
исторических движений и перемен — все это давало ему возмож-
ность увидеть во всей полноте проблематику нового века.
Ощущая всю сложность и противоречия новой действительно-
сти, Гете в подходе к ее вопросам сохраняет приверженность
просветительскому оптимизму, веру в возможности человека и в
разумное начало мироздания.
Гете умел видеть явления в их исторической значимости и оце-
нивать факты в перспективе развития общества, страны, народа.
Один из примеров этого — его отношение к Наполеону. При-
дворный веймарского герцога, не принадлежавший к идейным сто-
ронникам французской революции, Гете, тем не менее, не разделял
общенемецкого патриотического подъема, связанного с антинапо-
леоновскими войнами. Счастливое будущее Германии представля-
лось ему как духовное единение немцев со всем миром — единство
в сфере, где нет межнациональных границ, в науке и искусстве.
«Поверьте мне, что я не безразличен к великим идеям свободы,
народа, отечества, — говорил он в 1813 году, — ...и моему сердцу
дорога Германия. ...Да, немецкий народ обещает многое, у него есть
будущее». Однако первым шагом к этому будущему Гете считает
борьбу с остающимися еще в Германии «формами средневековья».
И здесь, по его убеждению, Наполеон, вторжение которого раз-
рушало границы между многочисленными немецкими государст-
вами, является союзником немцев.
В творчестве позднего Гете еще более расширяется кругозор
его поэтического видения, обозначается масштабность художествен-
ного мышления, характерная для романтической эпохи, пролагав-
шей путь диалектическим понятиям о мире и человеке. Это придает
произведениям великого поэта новую направленность по сравнению
с предшествующими этапами его творчества («Бури и натиска» и
веймарского классицизма). Именно в XIX веке он заканчивает
работу над «Фаустом» — величайшим трудом его творческой жиз-
ни, вобравшим в себя весь объем общественных и эстетических
идей, выношенных Гете.
Со второй частью Фауста смыкаются во многом другие про-
изведения поэта, написанные в XIX веке, разнообразные по жанру
и художественной форме.
«Западно-ВОСТОЧНЫЙ диван». Наиболее ярким из созданного
в эпоху романтизма явился сборник под названием «Западно-вос-
точный диван» (1814—1815), объединивший несколько циклов
стихотворений. Это одна из вершин лирической поэзии Гете, и
здесь, наверное, более, чем где-нибудь, сказывается влияние ро-
мантических художественных тенденций и находок.
57
«Лесной царь».
Автограф Ф. Шуберта.
«Западно-восточный диван»
Обращение Гете к Востоку бы-
ло подготовлено всей деятельно-
стью романтической школы.
Именно на Востоке Гете пы-
тается найти те нравственные
устои, на которых может утвер-
диться жизнерадостный человек,
жизнеспособное общество:
Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни, —
К новой жизни там воскресни.
«Геджра». Пер. В. Левина
— беседа немецкого поэта с Хафи-
зом, персидским поэтом XIV века. Художественный прием смеще-
ния во времени передает мысль Гете о непрерывности развития
единого, всеобъемлющего, человеческого мира. Суждения о мире и
человеке, выступающие из этого диалога, создают образ вечности,
одушевленной человеческим разумом и чувством.
Век романтизма был окрашен стремлением познать мир во
множественности и противоречивости его явле1жй. Гармоническая,
стройная система, созданная античностью, казалась неполной: ведь
романтики открыли, что прекрасное в жизни существует в единстве
с уродливым, как добро со злом. Если в период веймарского клас-
сицизма Гете признавал лишь законы прекрасного и необходимость
отражать в искусстве только прекрасное, то в романтический период
он пытается понять и охватить все противоречивые законы бытия
и дать всеобъемлющее изображение мира. Романтическое представ-
ление о многогранности бытия обогащается у него мироощущением
пантеиста. В идеологии романтизма была сфомулирована мысль о
единстве жизни и смерти как целостного процесса, в котором фор-
мируется духовное начало, связующее вечность (Новалис). Гете-
близок к романтикам в этом диалектическом понимании мира:
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти!
И покуда не поймешь:
Смерть — для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
«Блаженное томление». Пер. Н. Вильмонта
Взволнованность и яркость красок отличает любовные стихо-
творения «Западно-восточного дивана». Шутливый и в то же время
восторженный диалог влюбленных — Хатема и Зулейки — по своей
эмоциональности напоминает ту страстность, которой проникнута
лн)бовная лирика молодого Гете. Как когда-то в «Майской весне»,
3Десь звучит счастье признания и радость от ощущения жизни,
столь прекрасной для того, кто любит.
58
ту
Ш
■ 'ч%\
Ы><^^!*$№-
■
Э. Дс,тк()1Ц1. Иллюстиции и к < (Рпустц^ А п\
I fnuiopu. IS24 г.
«Западно-восточный диван», главная поэтическая книга поздне-
го Гете1, не исчерпывает, однако, всего богатства его лирической
поэзии этих десятилетий. Поэт продолжает писать баллады, сти-
хотворения-притчи, поэтические размышления, философскую лири-
ку -(например, стихотворение «Постоянное в сменах», 1801 —1803).
Художественная Проза. В XIX веке продолжается и творче-
ство Гете-прозаика, в котором самое заметное место занимают ро-
маны и произведения автобиографического жанра. Наиболее инте-
ресная среди автобиографических книг поэта — «Поэзия и правда.
Из моей жизни» (1811 —1831). В ней Гете рассказывает о своей
жизни до 1775 года, до конца своего штюрмерского периода, и это
дает ему возможность переосмыслить и далекую уже историческую
пору, свидетелем которой он был, и свои прежние настроения, идеи
«Бури и натиска». Во многих оценках и замечаниях поэта отчетли-
во чувствуется, что его реакция на век минувший обусловлена
мировоззрением человека уже нового столетия2.
«Годы странствований Вильгельма Мейстера». Через 25
лет после появления романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»
1 Подробнее об ;->том произведении см. в кн.: Кессель Л. М. Гете и
«Западно-во< точный диван». М., 1973.
2 См.: В ильм опт Н. Век Гете и автобиография поэта. — В кн.: Ге-
те И. В. Поэзия и правда. М., 1969.
г>9
Гете завершает следующий роман, посвященный тому же герою:
«Годы странствований Вильгельма Мейстера». Длительная работа
над ним (1807—1829), как и над «Фаустом», не случайное обсто-
ятельство. В бурные десятилетия нового века поэт анализирует в
своем сознании различные социальные утопии, модель такого обще-
ственного устройства, которое обеспечивало бы гармоническое раз-
витие личности. Это получает отражение в последнем романе о
Вильгельме Мейстере. Общество, в котором находит себя его ге-
рой,— «союз отрекающихся», добровольное содружество людей,
которые возлагают на себя долг заботиться о благе других. На-
писанный в пору расцвета немецкого романтизма, роман носит
явные следы этой литературной эпохи.
С произведениями романтиков гетевский роман сближает кри-
тика отдельных сторон капиталистического общества, правда, более
социально-конкретная: мы узнаем о разорении ремесленников и
арендаторов, о пагубных последствиях введения машинного про-
изводства. Персонажи романа чуждаются современной городской
цивилизации: непримиримо относясь к ее противоречиям, они
склонны идеализировать докапиталистическую действительность;
какими-то гранями их мечты соприкасаются с идеями утопического
социализма.
Близость Гете к романтизму и в том, что он стремится дать
образ универсального человека — идеальную личность, отли-
чающуюся всеобъемлющим внутренним миром. Но, в отличие от
романтического понимания универсальной личности, он рассматри-
вает ее как личность общественно полезную. Именно в деятельно-
сти на благо людей обретает свою счастливую судьбу герой его
романа. По убеждению поэта, без полезного нет прекрасного и
по-человечески прекрасен лишь тот, кто осознает себя частью
единого человеческого мира: «Сделай из себя орган и жди, какое
место отведет тебе благожелательное человечество». Эти слова вы-
разительно говорят о том, что для Гете решительно неприемлема
дисгармония между индивидуумом и обществом.
В эпоху романтизма Гете не остается в стороне от тех важных
проблем времени, которые тревожили художников нового поколе-
ния. Он только рассматривает их на основе иного, не романтиче-
ского мировоззрения: признает объективный характер мира во всех
его проявлениях и твердо придерживается взгляд?, на его развитие
как на постоянное совершенствование. С этим связано и его убеж-
дение в том, что жизнь человека всегда имеет великую цель, кото-
рая может быть достигнута. Более всего свидетельствует об этом
его «Фауст».
И хотя новая действительность создала новых «властителей
дум», Геге, тем не менее, был высоко оценен романтическим поко-
лением как выразитель насущных вопросов человеческой жизни и
великий °бразец поэзии. Достаточно сказать, что «Фауст» был
важнейшим Из произведений, признанных романтиками: на него
опирался Шеллинг, в музыке его воспроизвел Берлиоз, в живопи-
си — Дслакруа>
60
РОМАНТИЗМ В АНГЛИИ
Романтизм как господствующее направление постепенно ут-
верждается в английском искусстве в 1790^1800-х годах. Это было
грозное время. Революционные события во Франции потрясли весь
мир, а в самой Англии совершилась другая, бесшумная, но не менее
значительная революция — так называемый промышленный пере-
ворот, вызвавший, с одной стороны, колоссальный рост индуст-
риальных городов, а с другой — породивший вопиющие социальные
бедствия: массовый пауперизм, голод, проституцию, рост преступ-
ности, обнищание и окончательное разорение деревни.
Этапы литературного процесса в эпоху романтизма.
Зачинателями романтизма в английской литературе являются
Вильям Вордсворт (1770—1850) и Сэмюэль Тейлор Колридж
(1772—1834).
Их принято называть представителями «озерной школы» (или
лейкистами1), поскольку их жизнь и творчество во многом связа-
ны с живописной местностью на Севере Англии, изобилующей
озерами (Кэмберленд2 ).
Несколько особняком стоит творчество Вильяма Блейка (1757—
1827), раньше других романтиков выступившего в Англии против
традиции классицизма прежде всего в области изобразительного
искусства, в частности против взглядов президента Королевской
академии художеств Д. Рейнолдса. (Блейк сам был не только
поэтом, но и оригинальным художником-графиком.) Сложное, на-
сыщенное многозначными символами исскуство Блейка — поэта
и графика — не нашло отклика у современников и по существу было
заново открыто лишь в конце XIX века. Наиболее значительными
лирическими сборниками В. Блейка являются «Песни невинности»
(1789) и «Песни опыта» (1794). В больших произведениях («Про-
1 Lake (англ.) — озеро.
2 К лейкистам одно время примыкал также менее одаренный поэт Роберт
Саути (1774—1843), впоследствяи открыто перешедший в лагерь реакции.
В Ирландии в начале XIX века начал свою деятельность Томас Мур
(1779—1852), пользовавшийся большой популярностью как в Англии, так и в
Европе. Наиболее известные произведения Томаса Мура — сборник «Ирландские
мелодии» (1807—1835), лирическая поэма «Лалла Рук» (1817), «Басни для
Священного союза», «Биография Байрона» и др. В России его элегия «Вечерний
звон» (в пер. И. Козлова) стала народной песней.
61
роческие книги») преобладает исторический оптимизм, уверенность
в неизбежной победе человека над силами зла.
Лирические стихотворения сборника «Песни опыта», рисующие
картину жизни большого капиталистического города, наоборот, ок-
рашены в трагические тона. Вместе с тем поэт ратует за пробуж-
дение сил «гнева и борьбы», сил, способных разрушить «скверну
жизни» и уничтожить ненавистный поэту буржуазный мир. И сама
контрастность двух лирических циклов, по мнению автора, отра-
жает сложность и противоречивость действительности1.
В 1812—1813 годы выступает второе поколение английских
поэтов-романтиков — Байрон, Шелли, Ките. В 1820-е годы, после
их смерти, английский романтизм приходит в упадок, утрачивает
свое господствующее положение в искусстве Великобритании. Пос-
ле смерти В. Скотта (1832) он исчерпывает себя как направление,
уступая место другим течениям в литературе.
Колридж. Центральной мыслью романтической эстетики Кол-
риджа является мысль о роли воображения в художественной прак-
тике. Воображение представляет собой «животворную силу», по-
средством которой один образ или одно чувство видоизменяет
многие другие и посредством своего рода взаимопроникновения
объединяет многое — в одно. Воображение, по словам Колриджа,
пересоздает мир.
В своей художественной практике Колридж дает первые образ-
цы романтического типа творчества с «характерной для романти-
ческого искусства тенденцией к непосредственному восхождению
от единичного к всеобщему не путем постепенных переходов и
опосредовании, а путем скачкообразным, посредством поэтического
домысла, фантазии, художественной интуиции...»2. Таковы его
всемирно известная поэма «Старый Моряк», неоконченная поэма
«Кристабель», фрагмент «Кубла Хан» и другие произведения. Все
эти произведения имеют фрагментарную композицию, насыщен-
ную сложной символикой, причудливыми романтическими обра-
зами.
Баллада «Старый Моряк» (1797) представляет собой стилиза-
цию под средневековую балладу. В ней — традиционная трактовка
религиозной проблемы греха и искупления: Старый Моряк убил
из лука «белоснежного Альбатроса» (символ добра, человечности,
любви, душевной чистоты) — всеобщего любимца команды, при-
носившего удачи в трудном плавании по «волнам неведомых мо-
рей». Этим вероломным поступком (отплатил злом за добро) он
обрек на страдания и гибель своих товарищей. Неуправляемый
бриг начинает дрейфовать в океане. Паруса его беспомощно по-
висли, доски растрескались от лучей тропического солнца; море,
безжизненное, кроваво-красного цвета, казалось, начинает загни-
1 См.: Ел истратова Л. А. Наследие английского романтизма. М.,
1960; Н с к р а с о в а Е. А. Творчество В. Блейка. М., 1962.
2 Е л истратова А. А. Наследие английского романтизма и современ-
ность. М., 1960, с. 21.
62
вать; на воздушном корабле мимо брига проплывает Смерть и ее
страшная спутница —- Жизнь-и-в-Смерти, фантастический персо-
наж, имеющий жуткую внешность:
Ужасный гость в ночи без сна,
Кровь леденящий бред...
Пер. В. Ленина
Старый Моряк страдает не столько от жажды, голода и жары,
сколько от терзаний своей больной совести. За своевольный по-
ступок, за презрение интересов и блага коллектива Моряк наказан
нравственными мучениями, наказан одиночеством; лейтмотивом
2—4-й частей являются строки: «Один, один, всегда один, Один и
день и ночь!»
Муки одиночества прекращаются лишь тогда, когда Старый
Мореход, восхищенный красотой океана, благославляет жизнь;
чары рассеиваются, корабль достигает родных берегов. Мореход
начинает бродить по стране, чтобы рассказать свою историю в
поучение людям.
Однако главная идея произведения, его глубокий моральный
смысл заключается в ином: поэт чутко уловил и передал в своих
стихах «новые трагические аспекты человеческих судеб, возвещен-
ные крахом французской революции и укреплением прозаического,
меркантильного царства эгоистических буржуазных «свобод». Тема
роковой разобщенности, некоммуникабельности людей, неизбыв-
ного одиночества личности, той ужасающей Жиэни-и-в-Смерти,
какой для многих оборачивалось существование»1,— вот что сумел
показать Колридж в «Старом Моряке», в «Кристабели», в «Каине»,
в «Двух могилах» и других своих произведениях. Тему одиноче-
ства позднее — в другом контексте — развил Байрон в своих
«восточных поэмах» и в «Манфреде».
ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ
В отличие от романтической фантастики своего соавтора Кол-
риджа Вильям Вордсворт стремился «представить вещи обычные,
но не в обычном освещении» (Колридж). Свое эстетическое кредо
Вордсворт изложил в предисловии ко 2-му изданию «Лирических
баллад» (1800)2, явившемся манифестом английского романтизма.
Вордсворт произвел подлинный переворот в английской поэзии
начала XIX века, введя в нее совершенно новую тематику и
проблематику, прежде презиравшуюся и отвергавшуюся как низ-
менную, не эстетичс- кую: он провозгласил главным предметом
поэзии чувства, мысли и судьбу крестьянина, ибо крестьяне
1 Е л и с т р а г о в а А. Л. Поэмы н лирика Колриджа.— В кн.: Колридж С.
Стихи. М., 1974, с. 224.
2 См.: Литературные манифесты западноевропейских романтикой. М.,
1980, с 261—278.
63
представляют с точки зрения Вордсворта наибольшую социаль-
ную и моральную ценность в обществе.
Ополчаясь против нормативной поэтики классицистов, возра-
жая против деления жанров на высокие и низкие и критикуя пре-
тензии салонных поэтов ограничить при помощи условностей так
называемого высокого стиля сферу поэзии кружком «немногих из-
бранных», Вордсворт провозглашал лозунг: «Поэзия для всех,—
следовательно, язык ее должен быть доступен людям всех клас-
сов». Новая демократическая тематика, отказ от изображения од-
них лишь леди и джентльменов и обращение к делам и дням
«тех людей, которые ведут самую простую (трудовую) жизнь в
наибольшем согласии с природой,— все это потребовало для своего
воплощения в искусстве создания нового метода, новых эстетиче-
ских принципов, иных стилистико-языковых средств»1. «Поэты
пишут не только для поэтов, но и для людей». «Я поставил себе
целью... применить тот самый язык, который принадлежит всем
людям»2. Стремясь навсегда отучить поэтов от распространенного
приема персонификации (в поэзии XVIII века) абстрактных идей,
он воссоздает обыденные, реальные ситуации и картины, старается
избегать обилия метафор и сравнений. Вордсворт нередко идеали-
зирует патриархальный уклад жизни, умиляется религиозностью,
покорностью и, как ему кажется, умиротворенностью крестьян, хотя
в других местах своих баллад и поэм он, противореча сам себе,
правдиво показывает распад и крушение этой высоко ценимой им
патриархальности, гибель скромной крестьянской собственности,
поглощаемой хищником — ростовщиком или крупным землевла-
дельцем. Во многих своих поэмах и балладах он изображает горе
и разорение крестьянских семей, обреченных на нищенство, бро-
дяжничество, безотрадное существование в большом городе.
Новым по сравнению с поэзией его предшественников — поэтов
классицистов и сентименталистов XVIII века — было то, что пер-
сонажи Вордсворта — фермеры-арендаторы, батраки, солдаты,
матросы, пауперы заговорили присущим им народным языком, что
они поведали читателю повести своих бед и страданий так просто
и естественно и вместе с тем выразили такие глубокие и истинные
чувства, которые сумел до Вордсворта изобразить один лишь Берне.
Исключительная ясность поэтической формы, глубокий лиризм, тон-
кое чувство природы, введение диалога — вот что характеризует
баллады Вордсворта. Их сюжеты построены крайне просто, безы-
скусно. Так, например, в балладе «Мечтания бедной Сусанны»
рассказывается о деревенской девушке, попавшей в Лондон. Песня
ручного дрозда, случайно услышанная ею на улице, приводит ее
Журнал «Эдинбургское обозрение» в ноябре 1812 года писал, что в
Англии в начале XIX века уже имелось до 200 000 читателей, причем к высшему
кругу общества, отмечал журнал с тревогой, принадлежит не более 15—20 тысяч
любителей книги.
* См.: Клименко Е. И. Проблемы стиля в английской литературе первой
трети XIX века. Л., 1959, с. 16.
64
в состояние восторженного экстаза, она вся отдается воспоминаниям
о родном крае. Вместо унылого и однообразного ряда домов,
воображение рисует ей цветущий сад, холм, ручей; заливные луга,
отчий дом... она вновь переживает радостные мгновения своего
детства... Однако видение исчезает так же быстро, как и показа-
лось, туман и река пропадают из глаз... ее ожидают лишь «сума с
клюкой, да медный крест, да нищенство, да голодовки...». «Такое
превращение совершилось в полном соответствии с романтической
эстетикой Вордсворта, согласно которой самое обычное явление,
подвергаясь воздействию Воображения, предстает в новом свете,
каждому доступном, но не каждым постигаемом без помощи
поэта»1.
Рисуя впечатляющую и правдивую картину безжалостного
уничтожения целого класса общества — свободных мелких собст-
венников-фермеров, столь любезных его сердцу своей привержен-
ностью к патриархальным нравам и обычаям, Вордсворт скорбит
о судьбе деревни. Его романтизм выражается в непонимании не-
обратимости процесса размывания и исчезновения мелкособст-
веннического уклада под воздействием аграрно-промышленной ре-
волюции, в непонимании невозможности и бесполезности попыток
воздействия на совесть и благоразумие промышленных магнатов
и правительства, не согласившихся на его настойчивые письменные
и устные просьбы отказаться от проведения железной дороги, от
строительства новых фабрик в «озерном крае».
Романтизм Вордсворта ярко проявился и в стремлении пере-
дать в образах загадочность и непостижимость окружающего мира.
Так, в стихотворении «Кукушка», рассказывая о своей встрече с
«певицей весеннего леса», автор придает этому, в сущности, за-
урядному случаю некий таинственный смысл:
Ты — звонкий голос тишины,
Загадка для меня...
О птица-тайна! Мир вокруг,
В котором мы живем,
Виденьем кажется мне вдруг.
Он — твой волшебный дом.
Пер. С. Я. Маршака
С еще большей силой мысль о загадочном в этом мире выра-
жена в стихотворении «Нас семеро». Восьмилетняя крестьянская
девочка, воплощение простоты и невинности, на вопрос взрослого
путника, сколько у нее братьев и сестер,неизменно отвечала: «Нас
семеро». Ее умершие брат и сестра не воспринимаются ею как
утраченные, она не ощущает грани между небытием и бытием.
В этом, по мнению Вордсворта, проявляется высшая божественная
мудрость, ибо романтики считали, что дети неизмеримо более чут-
ки, чем взрослые, они острее ощущают связь с потусторонними
силами.
1 Д ь я к о н о в а Н. Я. Спорные вопросы английского романтизма. — Филол.
науки, 1970, № 4, с. 50.
65
3 История зарубежной литературы XIX пека
Общая тональность лирических стихотворений Вордсворта —
минорная, элегическая. Причины своей элегической скорби Ворд-
сворт раскрывает с проникновенной глубиной в поэтическом цикле
«Люси», состоящем из трех небольших поэм: «Страстная любовь»
(1799), «Она скрывалась в лесах» (1799), «Я на чужбине долго
был» (1799). Высокие художественные достоинства этого произве-
дения английского художника слова с замечательным мастерством
передал на русском языке С. Я. Маршак. Вордсворт в этом про-
изведении осмысливает в романтико-символической форме гибель
своих юношеских мечтаний, навеянных утопиями просветителей о
всеобщей гармонии и счастье. Он воплощает свои светлые грезы
в образе чистой и трогательной крестьянской девушки Люси. Ее
прекрасный женственный образ таит в себе скрытый философский
смысл: оплакивая гибель Люси, автор убеждает нас в том, как
стали одиноки люди его поколения во* враждебном им мире, как
они страдают от своей разобщенности, не в силах ее преодолеть
(эта же тема звучит в «Старом Моряке» Колриджа и в «Манфреде»
Байрона):
...Фиалка пряталась в лесах,
Под камнем чуть видна.
Звезда мерцала в небесах
Одна, всегда одна...
Пер. С. Я. Маршака
«Лирические баллады» Вордсворта и Колриджа, лирический
цикл Вордсворта «Люси» и многие другие его стихотворения —
важный этап в общенациональной литературной борьбе за новое
искусство. Его баллады очень любили и высоко ставили В. Скотт
и Шелли.
А. С. Пушкин, внимательно следивший за английской литера-
турой, также отметил, что «в зрелой словесности приходит время,
когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ог-
раниченным кругом языка условленного... обращаются к свежим вы-
мыслам народным и к странному просторечию, сначала презрен-
ному.
...Так ныне Вордсворт, Колридж увлекли за собою мнения
многих... Произведения английских поэтов ...исполнены глубоких
чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного про-
столюдина». А. С. Пушкин ценил лирику природы Вордсворта,
именно об этом периоде его творчества русский поэт сказал, что
«вдали от суетного света Природы он рисует идеал».
По мнению советских исследователей творчества Вордсворта,
его «Тинтернское аббатство», очевидно, подсказало А. С. Пушкину
тему и идею его лирического отрывка «Вновь я посетил тот уголок
земли, где я провел изгнанником...»1.
Всю жизнь Вордсворт готовил к печати «Прелюд», поэтический
рассказ о своей жизни, редактируя и дополняя автобиографиче-
1 См.: Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. М., 1978, с. 52.
66
скую поэму, законченную им вчерне еще в 1804 году. Однако
«Прелюд» увидел свет лишь после смерти своего творца (в 1850 го-
ду). Лирический герой «Прелюда» несет в себе большое художест-
венное обобщение. Это — молодой человек романтической поры,
с пламенной верой в революцию в начале жизненного пути, потом
утрачивающий эту веру, капитулирующий перед силами победив-
шей в стране реакции.
Лучшие произведения Вордсворта сыграли свою историческую
роль в деле становления романтизма в Британии и в Америке.
Важным положением эстетической теории Вордсворта является его
утверждение о том, что поэты, художники становятся пророками,
учителями и законодателями общества, несущими бремя моральной
ответственности за судьбы своих сограждан. В этом — «великая
социальная функция» искусства, преобразующей силы общественно-
го развития. Однако в дальнейшем (после 1815 года) эта верная
мысль омрачилась оговорками идеалистического характера. Рели-
гиозная догма о непротивлении злу насилием привела поэта к
позиции «мудрого невмешательства» в «дела неправедные». В ос-
нову этических и эстетических взглядов зрелого Вордсворта лег-
ла идея морального самоусовершенствования. Мало-помалу Вордс-
ворт вступил в полосу творческого кризиса, который длился дол-
гие годы.
ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН
Идейная и эстетическая основа творчества Байрона. Твор-
чество великого английского поэта Байрона (1788—1824) представ-
ляет собою одно из самых значительных явлений в истории миро-
вой литературной и общественной мысли. В его поэтических про-
изведениях воплотились наиболее острые, жизненно актуальные
проблемы его эпохи. В формах романтической символики в них уже
намечен тот круг вопросов, подробной разработкой которых зай-
мется позднейшее искусство XIX, а в известной мере и XX века.
Огромная художественная ценность наследия Байрона неотделима
от его исторического значения. Его поэзия, явившаяся прямым
откликом на великие революционные потрясения конца XVIII —
начала XIX века, с предельной рельефностью воспроизвела об-
щую позицию европейского романтизма как особого направления
духовной жизни эпохи, возникшего как реакция на французскую
революцию и связанное с ней Просвещение.
Признанный вождь европейского романтизма в одном из его са-
мых воинствующих бунтарских вариантов, Байрон был связан с тра-
дициями Просвещения узами сложных и противоречивых отноше-
ний. Как и другие передовые люди своей эпохи, он с огромной
остротой ощущал несоответствие между утопическими верованиями
просветителей и реальными результатами революции. Но в отличие
от своих соотечественников — поэтов «озерной школы», для кото-
рых практическая неосуществимость революционных идей служила
67
доказательством их нравственной и этической несостоятельности,
Байрон сохранял стоическую верность идеалам 1789 года. Сквозь
их призму он рассматривал все явления современной жизни. В них
он видел не только программу реальных политических действий,
но и тот нравственный критерий, с которым подходил к оценке
окружающей его действительности. Вместе с тем его восприятие
принципов просветительской жизненной философии уже во многом
носило полемический характер. Поэт послереволюционной эпохи,
принесшей человечеству новые представления о законах историче-
ского развития общества, Байрон уже не мог полностью разделять
веру просветителей во всемогущество Разума как главного двига-
теля истории. Сын эгоистического века, он был далек от благо-
душного оптимизма мыслителей XVIII века с их учением о бла-
гой природе «естественного человека». Но если поэт и сомневался
в этих истинах Просвещения и в возможности их практического
воплощения, то он никогда не ставил под сомнение их нравствен-
ную и этическую ценность. Из ощущения величия просветитель-
ских и революционных идеалов и из горьких сомнений в воз-
можности их реализации возник весь сложный комплекс «байрониз-
ма» с его глубокими противоречиями, с его колебаниями между
светом и тенью; с героическими порывами к «невозможному» и тра-
гическим сознанием непреложности законов истории.
Общие идейные и эстетические основы творчества поэта скла-
дываются не сразу. Первое из поэтических выступлений — сборник
юношеских стихов «Часы досуга» ( 1807) — еще носит подражатель-
ный и незрелый характер. Яркая самобытность творческой инди-
видуальности Байрона, равно как и неповторимое своеобразие его
художественного метода, полностью раскрылись лишь на следую-
щем этапе литературной деятельности поэта, началом которого
стало появление первых двух песен его монументальной поэмы
«Странствия Чайльд Гарольда» (1812).
«Странствия Чайльд Гарольда». Став важнейшей вехой
творческого пути Байрона, это произведение, принесшее своему авто-
ру мировую славу, вместе с тем явилось крупнейшим событием в
истории европейского романтизма. Материалом для поэмы послу-
жили впечатления Байрона от поездки по Европе, предпринятой
им в 1812 году. Положив в основу своего произведения разрознен-
ные дневниковые записи, Байрон объединил их в одно поэтическое
целое, придав ему некую видимость сюжетного единства. Сделав
скрепляющим началом своего повествования историю странствий
его главного героя — Чайльд Гарольда, поэт воспользовался этим
мотивом для воссоздания широкой панорамы современной Европы.
Облик различных стран, созерцаемых Чайльд Гарольдом с борта
корабля, воспроизводится поэтом в чисто романтической «живо-
писной» манере, с обилием лирических нюансов и почти ослепитель-
ной яркостью цветового спектра1. С характерным для романти-
1 См.: Е л и с т р а т о в а А. А. Наследие английского романтизма и совре-
менность. М., 1960.
68
ков пристрастием к национальной «экзотике», «местному колори-
ту» Байрон рисует нравы и обычаи различных стран.
Но при всем изобилии и многообразии оттенков картина, соз-
данная Байроном, обладает внутренней цельностью. В изображении
Байрона каждая отдельная страна, будь то Албания, Испания, Гре-
ция, имеет свое особое индивидуальное лицо, входя вместе с тем в
состав некого единого нерасторжимого целого. Источником этой
внутренней монолитности поэмы Байрона является не столько ее
слабо намеченный сюжет, сколько наличие сквозного тематического
мотива, воплощающего главную сущность ее идейного замысла.
Этой общей темой поэмы является трагедия послереволюцион-
ной Европы, чей освободительный порыв завершился воцарением
тирании. Созданная в момент начинающегося кризиса наполеонов-
ской империи, чья власть над судьбами мира уже готова была
уступить место новым формам угнетения, поэма Байрона запечат-
лела процесс порабощения народов.
С подлинно тираноборческим пафосом поэт показывает, что дух
свободы, столь недавно окрылявший человечество, не угас до кон-
ца. Он еще живет в героической борьбе испанских крестьян с ино-
земными завоевателями их родины или в гражданских добродете-
лях суровых непокорных албанцев. И все же гонимая свобода все
больше оттесняется в область преданий, воспоминаний, легенд.
В Греции, где некогда процветала демократия, прибежищем сво-
боды является одна лишь историческая традиция, и нынешний
грек, запуганный и покорный раб, уже ничем не напоминает сво-
бодного гражданина древней Эллады («И под плетьми турецкими
смирясь, простерлась Греция, затоптанная в грязь»). В мире,
скованном цепями, свободна одна лишь природа, и ее пышное ра-
достное цветение являет контраст жестокости и злобе, царящим
в человеческом обществе («Пусть умер гений, вольность умерла,
природа вечная прекрасна и светла»). И тем не менее поэт, со-
зерцающий это горестное зрелище поражения свободы, не теряет
веры в возможность ее возрождения. Вся его могучая энергия
направлена на пробуждение угасающего революционного духа. На
протяжении всей поэмы в ней с неослабевающей силой звучит
призыв к восстанию, к борьбе с тиранией («О Греция, восстань
же на борьбу!»). В отличие от своего героя Чайльд Гарольда
Байрон отнюдь не является пассивным созерцателем мировой
трагедии. Его беспокойная мятущаяся душа, как бы составляющая
часть мировой души, вмещает в себя всю скорбь и боль челове-
чества («мировая скорбь»). Именно это ощущение беспредельно-
сти человеческого духа, его слитности с мировым целым в соче-
тании с чисто поэтическими особенностями — глобальной широтой
разворота темы, ослепительной яркостью красок, великолепными
пейзажными зарисовками и т. д. — превращало произведение Бай-
рона в наивысшее достижение романтического искусства начала
XIX века1.
1 См. об этом: Кургинян М. С. Джордж Байрон. М., 1958.
69
Не случайно з сознании многих почитателей Байрона, востор-
женно принявших поэму, английский поэт остался прежде всего
автором «Чайльд Гарольда». В их число входил и А. С. Пушкин,
в произведениях которого имя Чайльд Гарольда упоминается не-
однократно и часто в соотнесенности с собственными героями
Пушкина (Онегин — «москвич в Гарольдовом плаще»). Но глав-
ным источником притягательной силы «Чайльд Гарольда» для
современников стал воплотившийся в поэме дух воинствующего
свободолюбия. Как по характеру идейного содержания, так и по
формам его поэтического воплощения, «Чайльд Гарольд» являлся
подлинным знамением своего времени. Глубоко созвучным совре-
менности был и образ главного героя поэмы — бесприютного ски-
тальца, внутренне опустошенного, трагически одинокого Чайльд
Гарольда. Хотя этот разочарованный,во всем изверившийся англий-
ский аристократ отнюдь не являлся точным подобием Байрона
(как хотелось думать современникам поэта), в его облике уже
наметились (пока еще в «пунктирном начертании») черты того
особого характера, который являлся романтическим прообразом
всех оппозиционно настроенных героев литературы XIX века.
«Восточные ПОЭМЫ». Отношения Чайльд Гарольда с презирае-
мым им обществом уже несли в себе зерно конфликта, ставшего
основой европейского романа XIX века. Этот конфликт личности
и общества гораздо большую степень определенности получит
в произведениях, созданных вслед за первыми двумя песнями
«Чайльд Гарольда», в цикле так называемых «восточных поэм»
(1813—1816). В этом поэтическом цикле, состоящем из шести поэм
(«Гяур», «Корсар», «Лара», «Абидосская невеста», «Паризина»,
«Осада Коринфа»), происходит окончательное формирование бай-
ронического героя в его сложных взаимоотношениях с миром и
самим собою. Место «восточных поэм» в творческой биографии
поэта и одновременно в истории романтизма определяется тем, что
здесь впервые четко сформулирована новая романтическая кон-
цепция личности, возникшая в результате переосмысления просве-
тительских воззрений на человека.
Обобщая внутренний опыт своего поколения, Байрон ввел в оби-
ход европейской литературы совершенно особую психологическую
проблематику. Характерно в этом смысле, что современная поэту
критика воспринимала его не только как певца свободы, но и как
художника, заглянувшего в сокровенные глубины человеческой ду-
ши. Так, В. Г. Белинский в рецензии на перевод «Шильонского
узника», сделанный В. А. Жуковским, говорит о «страшных,
подземных муках отчаяния, начертанных молниеносною кистию ти-
танического поэта Англии»1. А. С. Пушкин, говоря о том же
«Шильонском узнике» и «Осаде Коринфа», отметил в качестве
одного из главных достоинств этих произведений — «трогательное
развитие сердца человеческого»2.
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 7, с. 209.
2 Пушкин Л. С. Поли. собр. соч. в 10-ти томах. М., 1958, т. 7, с. 69.
70
Разумеется, говорить о пси-
хологизме Байрона можно толь-
ко с известными оговорками.
Внутренний мир современного
ему человека Байрон раскрыва-
ет с помощью своеобразной ро-
мантической символики.
Но этот романтический язык
был близок мировосприятию
его читателей. Он соответство-
вал тому представлению о без-
донной таинственной непости-
жимой человеческой душе, кото-
рое сложилось у людей начала
XIX столетия под влиянием
сдвигов, происшедших в обще-
ственном сознании этого време-
ни, столь богатого «неожидан-
ностями» и «тайнами». (К их
числу следует отнести и напо-
леоновскую эпопею и самую лич- ~ л .,
Li J а. Делакруа. Иллюстрации к поэме
НОСТЬ Наполеона, вокруг КО- Байрона «Абидосская невеста».
ТОроЙ уже при его ЖИЗНИ начали Масло. 1849 г.
складываться легенды.)
В отличие от своих предшественников — писателей XVIII века,
пришедшие им на смену романтики считали человека существом
иррациональным. Именно эта идея, полемически противопоставляе-
мая просветительскому учению о разумной и рациональной приро-
де человека, становится организующим принципом «восточных
поэм» Байрона1.
Вся образная система поэм, их композиция, язык, стиль, рас-
становка персонажей подчинены задаче воссоздания характера
их главного героя. Байрон подвергает радикальному преобразова-
нию традиционные жанровые формы классицистической поэмы,
разрушая свойственную ей логическую последовательность изложе-
ния событий. Всецело повинуясь воле автора, все составные части
сюжета, его начало, продолжение, конец нередко меняются местами.
(Так, поэма «Гяур» фактически начинается с конца.) Подобный
принцип построения (которым воспользовался М. Ю. Лермонтов
в своей поэме «Мцыри») сообщает произведению особую форму
лирического потока, чье движение не стесняется никакими прегра-
дами. Тем же стремлением к воспроизведению бурной и страстной
натуры мятежника и бунтаря, готового сбросить любые оковы,
налагаемые на него обществом, обусловлены и другие особенности
поэтической манеры Байрона. Стремительный, как бы задыхающий-
ся ритм повествования, его взволнованная тональность, многообра-
зие лирических оттенков и т. д.— все эти черты являются общими
1 См.: Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин.
71
признаками «восточных поэм». Такой же однотипностью отличает-
ся и образ их главного героя. Одинокий скиталец, несущий сквозь
жизнь свою таинственную скорбь и гордую мечту о свободе, он
в разных поэмах появляется под разными именами, но его характер
остается неизменным. Известное высказывание А. С. Пушкина
о единообразии героев Байрона («Байрон... создал себя вторично...
В конце концов он постиг, создал и описал единый характер
(именно свой), все, кроме некоторых сатирических выходок... отнес
он к... мрачному, могущественному лицу, столь таинственно плени-
тельному»1) относится в первую очередь к «восточным поэмам».
Поэтому, для того чтобы составить представление о всем этом
цикле, достаточно обратиться к одному из входящих в него про-
изведений, а именно к поэме «Корсар» (1814), где байронический
конфликт незаурядной личности и враждебного ей общества пред-
ставлен в особенно полном и непосредственном выражении.
«Корсар». Герой «Корсара» — морской разбойник Конрад уже по
самому характеру своей деятельности является изгоем и отщепен-
цем. Его образ жизни — это прямой вызов не только господствую-
щим нормам морали, по и системе господствующих государственных
законов, нарушение которых превращает Конрада в «профессио-
нального» преступника. Причины этой острейшей коллизии между
героем и всем цивилизованным миром, за пределы которого удалил-
ся Конрад, постепенно приоткрываются в ходе сюжетного развития
поэмы. Путеводную нить к ее идейному замыслу дает уже симво-
лический образ моря, предстающий в песне пиратов, предпослан-
ной повествованию в виде своеобразного пролога. Это обращение
к морю — один из постоянных лирических мотивов творчества Бай-
рона. А. С. Пушкин, называвший Байрона «певцом моря», уподоб-
ляет английского поэта этой «свободной стихии»:
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о морс, твой певец!
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
«К морю»
Все содержание поэмы есть не что иное, как развитие и обо-
снование ее метафорической заставки. Душа Конрада — пирата, бо-
роздящего морские просторы,— это тоже море. Бурная, неукроти-
мая, свободная, противящаяся всяким попыткам порабощения, она
не укладывается ни в какие однозначные рационалистические фор-
мулы. Добро и зло, великодушие и жестокость, мятежные порывы
и тоска по гармонии существуют в ней в неразрывном единстве.
Человек могучих необузданных страстей, Конрад в равной мере
способен и на убийство и на героическое самопожертвование (во
время пожара сераля, принадлежащего его врагу — паше Сеиду,
Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 10-ти томах. М., 1958, т. 7, с. 52—53.
72
Конрад спасает жен последнего). Двойственность его облика от-
теняется образами двух влюбленных в него женщин, каждая из ко-
торых как бы являет собою одну из ипостасей его личности. Если
нежная кроткая Медора — предмет единственной настоящей любви
Корсара олицетворяет его тягу к добру и чистоте, то пылкая гор-
дая Гюльнар — это второе мятежное «я» байроновского героя.
Вслед за ним она идет путем преступления: любовь к Конраду тол-
кает ее на убийство мужа. Трагедия Конрада заключается именно
в том, что его роковые страсти несут гибель не только ему, но и
всем, кто так или иначе связан с ним. (Ведь и безгрешная непо-
рочная Медора умирает из-за своего сумрачного возлюбленного: ее
убивает тревога за его жизнь.) Отмеченный печатью зловещего
рока, Конрад сеет вокруг себя смерть и разрушение. В этом один
из источников его скорби и пока еще не очень ясного, едва наме-
ченного, душевного разлада, основой которого является (как по-
кажет дальнейшее творчество Байрона) сознание своего единства
с преступным миром, сопричастности его злодеяниям. В этой поэме
Конрад еще пытается найти себе оправдание: «Да, я преступник,
как и все кругом. О ком скажу иначе я, о ком?» И все же его
образ жизни, как бы навязанный ему враждебным миром, в какой-
то мере тяготит его. Ведь этот свободолюбивый бунтарь-индиви-
дуалист отнюдь не предназначен природой для «темных дел»:
Он для добра был сотворен, но зло
К себе, его коверкая, влекло.
Глумились все, и предавали все;
Подобно чувство выпавшей росе
Под сводом грота; и как этот грот,
Оно окаменело в свои черед,
Пройдя свою земную кабалу...
Пер. 10. Петрова
Как и другие герои «восточных поэм», Конрад в далеком про-
шлом был чистым, доверчивым и любящим. Слегка приподнимая
покров тайны, окутывающей предысторию его героя, поэт сообщает,
что мрачный жребий, выбранный им,— это результат гонений со
стороны бездушного и злобного общества, подвергающего травле
все яркое, свободное и самобытное. В системе мировоззрения Бай-
рона еще осталось нечто от руссоистской веры в то, что «все вы-
ходит чистым из рук творца, все портится в руках человека»1. Но,
преломившись сквозь романтическое мироощущение поэта, этот
просветительский символ веры во многом изменил свою идейную
и эстетическую природу. Возлагая ответственность за разруши-
тельную деятельность Корсара на растленное и ничтожное обще-
ство, Байрон в то же время поэтизирует его личность и то душев-
ное состояние, в котором он находится. Как истинный романтик,
автор «Корсара» именно в этом смятенном сознании, в хаотических
порывах человеческого сердца находит особую «ночную» «демо-
ническую» красоту. Ее источником, как у Сатаны Мильтона, яв-
1 Начальные слова трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».
73
ляется гордая жажда свободы — вопреки всему и во что бы то ни
стало. Именно этот гневный протест против порабощения лично-
сти и закабаляющей ее силы буржуазных отношений определил
огромную силу художественного воздействия байронических поэм
на читателей конца XIX века. Вместе с тем наиболее проницатель-
ные из них увидели в байроновской апологии индивидуалистиче-
ского своеволия и заключенную в ней потенциальную опасность.
Так, А. С. Пушкин, восхищавшийся свободолюбием Байрона, но
осуждавший его за поэтизацию индивидуализма, за мрачной «гор-
достью» героев Байрона увидел таившийся в них «безнадежный
эгоизм» («Лорд Байрон прихотью удачной Облек в унылый роман-
тизм и безнадежный эгоизм»).
В поэме «Цыганы» великий русский поэт вложил в уста одного
из ее персонажей — старого цыгана слова, которые звучат как при-
говор не только Алеко, но и байроническому герою как литератур-
но-психологической категории: «Ты для себя лишь хочешь воли».
Эти слова содержат в себе предельно точное указание на наиболее
уязвимое место байроновской концепции личности. При всей спра-
ведливости такой оценки нельзя не видеть, что и эта наиболее со-
мнительная сторона байронических характеров возникла на вполне
реальной исторической основе. Не случайно А. Мицкевич вместе
с некоторыми критиками Байрона углядел в «Корсаре» известное
сходство с Наполеоном1. Индивидуалистическая гордыня, воспетая
автором «восточных поэм», была чертой эпохального сознания в ее
романтическом, преувеличенно ярком выражении. Этой способ-
ностью проникновения в дух эпохи и объясняется значительность
того влияния, которое «восточные поэмы» оказали на современную
и последующую литературу, равным образом и на развитие самого
поэта.
Лирика. В формировании художественного метода Байрона «во-
сточные поэмы» наряду с «Чайльд Гарольдом» сыграли решающую
роль. Воспринятые современниками как великое поэтическое от-
крытие, они заложили основы байронизма во всех его жанровых
разновидностях, в первую очередь — чисто лирической. Разумеется,
богатая область байроновской лирики хронологически связана не
с отдельными периодами деятельности поэта, а со всем его творче-
ским путем. Однако ее основные художественные принципы выра-
батывались параллельно с поэмами 1812—1815 годов и их внутрен-
няя связь неоспорима2. Несмотря на то что по характеру своего
непосредственного содержания лирическое наследие Байрона может
быть разделено на две группы: интимно-психологическую и герои-
чески мятежную, по сути дела оно представляет единое целое.
Его разные тематические аспекты связаны общностью лирического
«я». Хотя лирический герой поэзии Байрона эволюционировал вме-
1 См.: Мицкевич Л. Собр. соч. в 5-ти томах. М., 1954, т. 4, с. 63.
2 О лирике Байрона см. Дьяконова Н. Я. Лирическая поэзия Байро-
на. М., 1975; Берковский Н. Я. Лирика Байрона.— В кн.: Байрон Дж. Ли-
рика. М.—Л., 1967.
74
сте со своим автором, основные черты его духовного облика: миро-
вая скорбь, бунтарская непримиримость, пламенные страсти и сво-
бодолюбивые устремления — оставались неизменными. Богатство и
разнообразие этих психологических оттенков определяет звучность
того резонанса, который был вызван лирикой Байрона и не умолкал
на протяжении всего XIX века, вызывая ответные отклики в ми-
ровой поэзии. Каждый из европейских поэтов — поклонников и
преемников Байрона—находил у него мотивы, созвучные его соб-
ственным мыслям и чувствам, и, пользуясь байроновскими стиха-
ми как формой самовыражения, одновременно воспроизводил и
английского поэта и самого себя. Так, яркое представление о ха-
рактере психологической лирики Байрона русским читателям дает
его стихотворение «Душа моя мрачна...», ставшее достоянием рус-
ской поэзии благодаря переводу М. Ю. Лермонтова, восприятию
которого особенно близки настроения, воплощенные в этом образце
лирического творчества английского поэта. Навеянное библейским
сказанием (объятый безумием царь Саул призывает к себе юного
певца Давида, дабы он развеял тоску своего владыки), это сти-
хотворение с огромной трагической силой воспроизводит состояние
глубокой, мрачной, суровой души, истерзанной некоей таинствен-
ной скорбью. Впечатление бездонной глубины этой души и не-
выносимой тяжести давящей ее печали усиливается благодаря
поэтической структуре стихотворения. Его основная тема, заданная
уже в первой строке («Душа моя мрачна»), раскрывается по
принципу возрастающего драматизма, который достигает своей
кульминации в последних двух строфах:
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.
Исповедальный, глубоко личный характер этого своеобразного
лирического монолога, лишь формально связанного с Библией
(единственное слово «венец», восходящее к библейскому перво-
источнику, принадлежит М. Ю. Лермонтову и отсутствует в ори-
гинале), присущ и политической лирике Байрона. Ее отличитель-
ной особенностью является слияние интимных, личных эмоций
с гражданскими чувствами поэта.
Неразделимость этого единого лирического комплекса с особой
ясностью проявляется в стихотворениях, посвященных Греции,
стране, мечта об освобождении которой стала сквозным мотивом
поэзии Байрона. Взволнованный тон, повышенная эмоциональность
и своеобразный ностальгический оттенок, рожденный воспомина-
ниями о минувшем величии этой страны, присутствуют уже в од-
ном из ранних стихотворений о Греции в «Песне греческих по-
встанцев» (1812):
75
О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый. 1
Пер. С. Маршака
В позднейших стихотворениях Байрона на ту же тему интимная
окраска возрастает. В последнем из них, написанном почти нака-
нуне смерти («Последние строки, обращенные к Греции», 1824),
поэт обращается к стране своей мечты, как к любимой женщине
или матери:
Люблю тебя! не будь со мной суровой!
Моей любви нетленная основа!
Я твой — и с этим мне не совладать!
Пер. Г. Шмакова
Свое восприятие гражданственной проблематики лучше всего
охарактеризовал поэт в одном из лирических шедевров «Из днев-
ника в Кефалонии» (1823):
Встревожен мертвых сон, — могу ли спать?
Тираны давят мир,— я ль уступлю?
Созрела жатва,— мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...
Пер. А. Блока
Звук этой боевой «трубы», поющей в унисон с сердцем поэта,
был внятен его современникам. Но мятежный пафос его поэзии
воспринимался ими по-разному.
Созвучное настроениям передовых людей мира (многие из них
могли бы сказать о Байроне вместе с М. Ю. Лермонтовым: «У нас
одна душа, одни и те же муки»), революционное бунтарство ан-
глийского поэта привело его к полному разрыву с буржуазной
Англией. Неприязнь ее правящих кругов к Байрону особенно уси-
лилась благодаря его выступлениям в защиту луддитов (рабочих,
разрушавших машины в знак протеста против бесчеловечных усло-
вий труда). Подстрекаемые всем этим, британские «ревнители мо-
рали» воспользовались личной драмой поэта — его бракоразводным
процессом — для того, чтобы свести счеты с ним. Сделав Байрона
объектом травли и издевательств, реакционная Англия довела
своего величайшего поэта до положения изгнанника.
Перелом в личной жизни Байрона совпал с переломным момен-
том мировой общественной жизни. Воцарение реакции, связанное
с падением Наполеона и установлением власти Священного союза,
открывшее одну из самых безрадостных страниц европейской исто-
рии, вместе с тем положило начало новому этапу деятельности
поэта1. Его творческая мысль устремляется в русло широких
1 См.: Дьяконова Н. Я. Байрон в годы изгнания. Л., 1974.
76
философских умозаключений. Идея превратности жизни и истории,
уже присутствовавшая в ранее созданных произведениях, теперь
становится предметом его напряженного раздумья. Тенденция эта
четко вырисовывается в двух последних песнях «Чайльд Гароль-
да», где стремление к обобщению исторического опыта человече-
ства, и ранее свойственное поэту, принимает значительно более
целеустремленный характер. Размышления о прошлом, облеченные
в форму разнообразных исторических реминисценций (Древний
Рим, от которого остались руины, Лозанна и Ферней, где обитают
тени «двух титанов» — Вольтера и Руссо, Флоренция, изгнавшая
Данте, Феррара, предавшая Тассо), включенные в третью и чет-
вертую песни поэмы Байрона, указывают направление его иска-
ний. Ключевым образом второй части «Чайльд Гарольда» является
образ поля при Ватерлоо. Крутой перелом в судьбах Европы,
совершившийся на месте последнего сражения Наполеона, толкает
Байрона на путь подведения итогов только что отгремевшей эпохи
и оценки деятельности ее главного героя — Наполеона Бонапарта.
Оценка эта на сей раз носит более объективный характер, чем
прежде.
Рассматривая Наполеона уже как бы в «ретроспективном» ос-
вещении, поэт отмечает двойственность его исторической роли.
В судьбе великого корсиканца Байрон видит прямой результат
внутренней разорванности этого «слишком великого и слишком
малого» сына своего века. Жертва «самого себя», своего индивидуа-
листически противоречивого сознания, «сильнейший, но не худ-
ший» из современных людей, Наполеон одновременно стал и жерт-
вой роковых законов истории.
«Урок истории» подсказывает поэту не только выводы об ее
отдельных событиях и деятелях, но и о всем историческом процес-
се в целом, который воспринимается автором «Чайльд Гарольда»
как цепь роковых фатальных катастроф. Но эта пессимистическая
точка зрения не выдерживается с полной последовательностью. На-
перекор своей концепции исторического «рока» поэт приходит к
выводам о том, что «все-таки твой дух, свобода, жив!», и по-преж-
нему призывает народы мира к борьбе за нее.
«Восстань, восстань, — обращается он к Италии (находившейся
под игом Австрии), — и, кровопийц прогнав, яви нам гордый свой,
вольнолюбивый нрав!»
Слившись воедино, эти «полярные» настроения войдут в систе-
му философских и философско-исторических воззрений Байрона.
Система эта, как и всегда у Байрона, строилась под знаком коррек-
тивов, вносимых им в рационалистическую доктрину Просвещения.
В соответствии с этим одно из главных мест в ней заняла проблема
возможностей разума, его состоятельности как фактора жизненного
и исторического развития.
«Манфред». В афористически четкой форме эта проблема (по-
литическим аспектом которой является идея правомерности рево-
люционного насилия) сформулирована в философской драме «Ман-
фред» (1816). Одна из начальных реплик ее героя — волшебника
77
и мага Манфреда — гласит: «Древо познания не есть древо жизни».
В этом горьком афоризме резюмируются не только итоги истори-
ческого опыта, но и опыта самого Байрона, пьеса которого созда-
валась под знаком известной переоценки собственных ценностей.
Строя свою драму в виде своеобразного экскурса в область внут-
ренней жизни «байронического» героя, поэт показывает ту траге-
дию душевного разлада, на которую лишь намекали его «восточные
поэмы». Романтический Фауст — волшебник и маг Манфред, по-
добно своему немецкому прообразу, разочаровался в познании.
Дав ему сверхчеловеческую власть над стихиями природы, оно вме-
сте с тем ввергло его в состояние жестокого внутреннего конфлик-
та. Одержимый отчаянием и тяжкими угрызениями совести, он
блуждает по высотам Альп, не находя ни забвения, ни покоя.
Подвластные Манфреду духи бессильны помочь ему в его попыт-
ках уйти от самого себя. Эта сложная душевная коллизия, пред-
ставляющая драматическую ось произведения, есть не что иное,
как своеобразная психологическая модификация обычного байро-
новского конфликта одаренной личности с враждебным ей миром.
Удалившись от презираемого им мира, герой драмы не разрывает
своей внутренней связи с ним. В «Манфреде» Байрон с гораздо
большей определенностью, чем в ранее созданных произведениях,
говорит о тех разрушительных началах, которые таятся в совре-
менном ему индивидуалистическом сознании. Титанический
индивидуализм гордого «сверхчеловека» Манфреда в драме высту-
пает как своего рода знамение времени. Сын своего века, он
является, подобно Наполеону, носителем эпохального сознания.
Указанием на это служит символическая песня «судеб» — своеоб-
разных духов истории, пролетающих над головой Манфреда. Образ
«венценосного злодея, низвергнутого в прах» (иначе говоря —
Наполеона), возникающий в их зловещем песнопении,— явно соот-
носится с Манфредом. Его история — это романтический вариант
европейской наполеонады. Сколь бы ни были различны формы
деятельности павшего императора и могущественного волшебни-
ка — их результаты в чем-то совпадают. Для поэта-романтика оба
они являются орудиями «судеб» и их владыки — гения зла Арима-
на. Познание тайн бытия, скрытых от глаз обыкновенных людей,
куплено Манфредом ценой человеческих жертв. Одной из них стала
его возлюбленная Астарта («Я проливал кровь,— говорит герой
драмы,— это была не ее кровь, и все же ее кровь пролилась»).
В системе сложных символов байроновского произведения об-
раз Астарты (при всей романтической таинственности и непрояс-
ненности ее истории) выполняет функции, отчасти сходные с ге-
тевской Маргаритой. В основе их трагических судеб лежит идея
затрат и издержек истории. Однако представление о разрушитель-
ных последствиях исторического развития, возникшее у людей на-
чала XIX века в итоге французской революции, в сознании двух
величайших художников эпохи преломляется по-разному. Если для
Гете с его оптимистическим пониманием прогресса как непрерыв-
ного поступательного движения истории единство ее созидательно-
78
го и разрушительного начал (Фауста и Мефистофеля) было необ-
ходимой предпосылкой творческого обновления жизни, то Байро-
ну, для которого история была цепью катастроф, проблема издер-
жек прогресса представлялась трагически неразрешимой. И все же
признание неподвластных разуму законов исторического развития
общества не приводит поэта к капитуляции перед враждебными
человеку началами бытия. Его Манфред до последней минуты
отстаивает свое право на то, чтобы мыслить и дерзать. Гордо от-
вергая помощь религии, он замыкается в своем горном замке и уми-
рает, как жил, одиноким. Этот непреклонный стоицизм утверждает-
ся Байроном в качестве единственно достойной человека формы
жизненного поведения.
Мысль эта, составляющая основу художественного развития
драмы, приобретает в ней предельную наглядность. Этому содей-
ствует сам жанр «монодрамы» (т. е. пьесы с единственным дей-
ствующим лицом)1. Образ героя, как бы занимающий все поэтиче-
ское пространство драмы, приобретает поистине грандиозные мас-
штабы. Его душа — подлинный микрокосм. Из ее недр рождается
все, что есть в мире. В ней заключены все стихии мироздания —
в самом себе Манфред носит ад и рай и сам творит суд над со-
бою. Объективно пафос поэмы — в утверждении величия человече-
ского духа. Из его титанических усилий родилась критическая
бунтующая, протестующая мысль. Именно она и составляет цен-
нейшее завоевание человечества, оплаченное ценою крови и стра-
даний. Таковы размышления Байрона об итогах трагического пути,
пройденного человечеством на рубеже XVIII и XIX веков.
«ШИЛЬОНСКИЙ узник». Если «Манфред» может рассматривать-
ся как итоговое произведение предшествующего периода творчества
Байрона (1812—1816), то поэма «Шильонский узник» (1816), так-
же созданная во время пребывания поэта в Швейцарии, уже цели-
ком принадлежит новой стадии его творческого развития (1816—
1821). В основу поэмы на сей раз лег реальный жизненный факт:
трагическая история женевского гражданина Франсуа де Бонивара,
ввергнутого в Шильонскую тюрьму в 1530 году по мотивам рели-
гиозного и политического характера и пребывавшего в заточении
до 1537 года. Воспользовавшись этим эпизодом далекого прошлого
как материалом для одного из своих самых лирически скорбных
произведений, Байрон вложил в него остросовременное содержа-
ние. В его интерпретации оно стало обвинительным актом в адрес
политической реакции любой исторической разновидности. Под пе-
ром великого поэта мрачный образ Шильонского замка разросся
до масштабов зловещего символа жестокого тиранического мира —
мира-тюрьмы, где люди за свою верность нравственным и патрио-
тическим идеалам претерпевают муки, перед которыми, по выраже-
нию В. Г. Белинского, «ад самого Данте кажется каким-то раем»2.
1 Подробнее о Байроне-драматурге см.: Ромм А. С. Байрон. Л.—М., 1961.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 7.
с. 209.
79
Каменная гробница, в которой они погребенье постепенно убивает
их тело и душу. В отличие от своих братьев, погибших на глазах
у Бонивара, он остается физически живым. Но душа его напо-
ловину умирает. Тьма, окружающая узника, заполняет его внут-
ренний мир и поселяет в нем бесформенный хаос:
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне...
То было — тьма без темноты;
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лип;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой...
Пер. В. А. Жуковского
Стоически непреклонный мученик идеи не встает на путь рене-
гатства, но он превращается в пассивного, ко всему равнодушного
человека, и, что, быть может, самое страшное, смиряется с неволей
и даже начинает любить место своего заточения:
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул,
Я о тюрьме своей вздохнул.
Одно из крупнейших достижений Байрона-психолога — поэма
«Шильонский узник» уже во многом намечает направление его
дальнейшей эволюции. Последующее творчество поэта, вплоть до
1821 года, развивается под знаком нарастания альтруистических
и гражданственных мотивов. Важным стимулом этого процесса
стало участие поэта в национально-освободительном движении
европейских народов. Переезд Байрона в Венецию создал почву
для его сближения с борцами за независимость Италии — карбона-
риями. Связь с ними произвела некоторые сдвиги в мировоззрении
поэта, обогатив его «мировую скорбь» новыми оттенками. В его
поэтическом кругозоре все большее место занимает «прометеевская
тема»1. В центр его произведений выдвигается во многом для него
новый образ борца за счастье человечества — человеколюбца, гото-
вого возложить на свои плечи тяжкое бремя человеческих стра-
даний.
«Каин». С особой ясностью этот прометеевский мотив звучит в
его второй философской драме «Каин» (1821), продолжающей
(на несколько иной основе) мысли, воплощенные в «Манфреде».
Подобно Прометею, герой этой библейской драмы братоубийца
1 В. Г. Белинский назвал Байрона «Прометеем нашего века».— См.: Поли,
собр. соч. в 13 томах, М., 1955, т. 6, с. 520.
80
Каин является богоборцем,'опблчившимея на вселенского тирана —
Иегову. В своей религиозной драме, названной им «мистерией»1,
поэт использует библейский миф для полемики с Библией. Но бог
в «Каине» это не только символ религии. В его мрачном образе
поэт объединяет все формы тиранического произвола. Его Иегова —
это и зловещая власть религии, и деспотическое иго реакционного
антинародного государства, и, наконец, общие законы бытия, без-
различные к скорбям и страданиям человечества.
Этому многоликому мировому злу Байрон, идя вслед за про-
светителями, противопоставляет идею смелого и свободного чело-
веческого разума, не приемлющего царящие в мире жестокость и
несправедливость.
Сын Адама и Евы, изгнанных из рая за свое стремление к
познанию добра и зла, Каин подвергает сомнению их рожденные
страхом утверждения о милосердии и справедливости бога. На
этом пути исканий и сомнений его покровителем становится Люци-
фер (одно из имен дьявола), чей величественный и скорбный образ
воплощает идею разгневанного бунтующего разума. Его прекрас-
ный, «подобный ночи», облик отмечен печатью трагической двой-
ственности. Приоткрывшаяся романтикам диалектика добра и зла,
как внутренне взаимосвязанных начал жизни и истории, определи-
ла противоречивую структуру образа Люцифера. Зло, которое он
творит, не является его изначальной целью («Я быть твоим созда-
телем хотел,— говорит он Каину,— и создал бы тебя иным»).
Байроновский Люцифер (чье имя в переводе означает «светоно-
сец») — это тот, кто стремится стать творцом, а становится разру-
шителем.
То знание, которое несет людям этот разочарованный и гнев-
ный падший ангел, столь же противоречиво, как и он сам («Зна-
ние— это горе»,— утверждает Люцифер). Приобщая Каина к
тайнам бытия, он вместе с ним совершает полет в надзвездные
сферы, и мрачная картина холодной безжизненной вселенной (вос-
созданная Байроном на основе знакомства с астрономическими
теориями Кювье) окончательно убеждает героя драмы в том, что
всеобъемлющим принципом мироздания является господство смер-
ти и зла («Зло — есть закваска всей жизни и безжизненности»,—
поучает Каина Люцифер).
Справедливость преподанного ему урока Каин постигает на
собственном опыте. Вернувшись на землю уже законченным и
убежденным врагом бога, дающего жизнь своим созданиям лишь
для того, чтобы умертвить их, Каин в порыве слепой нерассуждаю-
щей ненависти обрушивает удар, предназначенный непобедимому
и недоступному Иегове, на своего кроткого и смиренного брата
Авеля.
Этот братоубийственный акт как бы знаменует последнюю ста-
дию в процессе познания жизни Каином. На себе самом он познает
непреодолимость и вездесущность зла. Его порыв к добру рождает
Мистерия — средневековая драма на библейский или евангельский сюжет.
81
преступление. Протест против разрушителя Иеговы оборачивается
убийством и страданиями. Ненавидя смерть, Каин первый приводит
ее в мир. Этот парадокс, подсказанный опытом недавней револю-
ции и обобщающий ее результаты, дает в то же время наиболее
рельефное воплощение непримиримых противоречий мировоз-
зрения Байрона.
Созданная в 1821 году, после разгрома движения карбонариев,
мистерия Байрона с огромной поэтической силой запечатлела глу-
бину трагического отчаяния поэта, познавшего неосуществимость
благородных надежд человечества и обреченность своего прометеев-
ского бунта против жестоких законов жизни и истории. Именно
ощущение их непреодолимости заставило поэта с особой энергией
искать причины несовершенства жизни в объективных закономерно-
стях общественного бытия. В дневниках и письмах Байрона (1821 —
1824), равно как и в его поэтических произведениях, уже намеча-
ется новое для него понимание истории не как таинственного рока, "
а как совокупности реальных отношений человеческого общества.
С этим перемещением акцентов связано и усиление реалистических
тенденций его поэзии.
«Бронзовый век». Все эти процессы большую наглядность при-
обретают в сатирической поэме «Бронзовый век» (1823), где поэт
дает беспощадную оценку бесславной эпохе, наступившей после
падения Наполеона и достигшей своего апогея в 1821 году, кото-
рый ознаменовался еще одним всемирно значимым событием —
смертью Бонапарта. Исполненная горечи и яда, поэма Байрона
наряду с уничтожающей характеристикой «бронзового века» со-
держит в себе и своеобразный реквием по умершему герою истории.
Сколь бы ни осуждал он завоевательскую деятельность Бонапарта
в своих ранее созданных произведениях, для него, как и для мно-
гих его современников, Наполеон еще ассоциировался с револю-
цией, и он видел в нем продолжателя ее традиций. В условиях
господства реакции именно эта сторона павшего «владыки полуми-
ра» представлялась наиболее важной. Поэтому в «Бронзовом веке»
осуществляется реабилитация Наполеона (хотя поэт и здесь не за-
бывает до конца о его роковых «заблуждениях»). Падение этого
поверженного титана в глазах поэта вдвойне трагично: оно озна-
чает не только окончательное поражение революции, но и пораже-
ние Человека. Победа «трех глупцов» над столь незаурядной лич-
ностью в интерпретации поэта есть торжество заурядности над
гением, ничтожества над величием, скудоумия над разумом. Сум-
мируя свои наблюдения над современностью, Байрон объявляет ее
«бронзовым веком» — эпохой торжествующей посредственности,
тираническая власть которой несет человечеству, кроме других форм
угнетения, полное духовное закрепощение.
«Дон Жуан». В ином поэтическом преломлении эта же мысль
воплощается в незавершенном произведении — романе в стихах
«Дон Жуан» (1824), где в прямой связи с нею происходит извест-
ное перерождение байронического героя. Вопреки мировой литера-
турной традиции (Тирсо де Молина, Мольер), изображавшей Дон
82
Жуана волевой и активной личностью, и в полном противоречии
с принципами построения характеров своих прежних хероев, Байрон
делает его человеком, неспособным противиться давлению окружаю-
щей среды. Во взаимоотношениях со своими возлюбленными
(Юлия — замужняя дама, юная гречанка Гаиде, русская императ-
рица Екатерина II, турецкая султанша Гюльбейя, английские
великосветские дамы) Дон Жуан выступает в роли не соблазни-
теля, а соблазняемого. А между тем природа наделила его и сме-
лостью, и благородством чувств. Но хотя возвышенные побужде-
ния отнюдь ему не чужды, он уступает им лишь в отдельных
случаях. В целом же обстоятельства, как правило, сильнее Дон
Жуана. Именно представление об их всемогуществе и становится
источником иронии, проникающей во все поры байроновского по-
вествования.
С сокрушительным сарказмом поэт обыгрывает идею власти
«прозы» над «поэзией», грубой реальности над романтической меч-
той. (Так, лирические чувства, испытываемые Дон Жуаном на
корабле во время чтения письма его возлюбленной Юлии, внезапно
прерываются приступом морской болезни, его гордый отказ от
любви прекрасной, но деспотической султанши Гюльбейи готов
завершиться капитуляцией, и лишь случайные обстоятельства ме-
шают ему пойти навстречу желаниям отвергнутой им дамы и т. д.)
Но хотя ирония Байрона во многих случаях направлена против
романтики (и романтизма), по природе своей она являет образец
подлинно романтической иронии, под покровом которой живет тос-
ка по романтическому идеалу. Рисуя триумф обстоятельств, их
победу над волей и свободой личности, поэт в то же время не
скрывает своего отвращения к стихии торжествующей пошлости,
захлестнувшей мир. На этом основана композиционная двуплано-
вость его произведения.
Сюжетная линия романа то и дело перемежается лирическими
отступлениями, образующими его второе поэтическое измерение.
В центре стоит второй лирический герой «Дон Жуана», а именно
сам повествователь. В его исполненных горечи речах, одновременно
и сатирически едких и лирически взволнованных, встает образ
растленного, своекорыстного мира, объективное изображение кото-
рого составляет важнейшую часть авторского замысла. Байрон,
осуществляя этот замысел и развивая те стороны своего метода,
которые в общей форме уже наметились в «Бронзовом веке», де-
лает сатирический акцент на таких социально конкретных чертах
современного общества, как культ денег, захватнические войны,
беспринципность политики, продажность литературы, моральная
коррупция и т. д. Сообщая этой безрадостной картине эпическую
широту и реалистическую точность, Байрон с такой же конкрет-
ностью и определенностью формулирует свое революционное кредо.
Хотя проходящая сквозь роман идея революции и не уничтожает
основную скептическую тональность повествования, она вносит в
него стихию гневной патетики и придает ему подлинно байронов-
ский тираноборческий пафос («Камни научу я громить тиранов»).
83
Как можно судить по дневниковым записям поэта, он собирался
дать идее революции и сюжетное воплощение. Согласно его замыс-
лу Дон Жуан должен был стать участником французской револю-
ции и обрести свою смерть в гуще ее событий. Всем этим обилием
самых различных, а иногда и взаимоисключающих друг друга
идейно-тематических мотивов определилось и художественное свое-
образие романа в стихах.
В сложном поэтическом составе этого произведения, объединив-
шего в себе лиризм и иронию, едкий скепсис и возвышенную па-
тетику, мрачную скорбь и «беззлобный» юмор, ясно различимы
элементы реализма. Однако эти сдвиги в творческом методе Бай-
рона, отразившие общий процесс перерастания романтизма в ре-
ализм, не привели к разрушению идейно-художественных перво-
основ творчества поэта. Его «Дон Жуан», представляющий собою
романтическую прелюдию к социальному роману XIX века, создан
все тем же Байроном, какого знала и чтила передовая обществен-
ность мира. Героическая смерть, настигшая его в греческой крепо-
сти Миссолунги, куда он прибыл, чтобы принять участие в осво-
бодительной войне греческого народа, подтвердила неизменность
его жизненной позиции и внесла завершающие штрихи в поэти-
ческий образ «певца свободы», прочно вошедший вместе с насле-
дием поэта в мировую литературную традицию.
ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ
Перси Биши Шелли (1792—1822) был не только великим
поэтом, но и выдающимся мыслителем и борцом за права трудо-
вого народа Англии, Ирландии. Ф. Энгельс не раз подчеркивал,
что Шелли является крупнейшим просветителем рабочего класса
Британии, и назвал его «гениальным пророком»1.
В своей статье «Шелли — социалист» Элеонора Маркс-Эвелинг
приводит мнение К. Маркса о Шелли: «Он был революционером
с головы до пят и всегда шел бы в авангарде социализма»2.
Социально-политические и литературно-эстетические
ВЗГЛЯДЫ* Революционное мировоззрение Шелли формировалось
под влиянием непосредственного участия в борьбе ирландских
крестьян-католиков и английских рабочих за их политические и
социальные права. От метафизики мыслителей-материалистов
XVII—XVIII веков Шелли переходит к диалектике и историзму.
В отличие от Байрона «он более ясно видел... что эпос XIX века
будет заключаться в борьбе между классом собственников и клас-
сом производителей. И именно это выводит его из категории утопи-
ческих социалистов и делает его,— насколько это было возможно
в ту пору,— социалистом современного периода»3.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 2, с. 462.
2 Маркс-Эвелинг Э. и Эвелинг 3. Шелли — социалист.— Под
знаменем марксизма, 1922, № 7—8, с. 103.
3 Там же.
84
В полном соответствии с учением Вордсворта и Колриджа о
том, что всякий значительный художник является также и выдаю-
щимся философом, Шелли провозглашает поэтов пророками и
учителями жизни, «непризнанными законодателями... гражданского
общества».
Искусство представляет собой «величайшую социальную силу»,
выявляющую «скрытую красоту мира», к которой оно ведет чело-
вечество, избавляя его от «проклятия случайности» и позволяя
яснее увидеть путь к истинной «добродетели, любви (понимаемой
как всеобъемлющий гуманизм), патриотизму».
Шелли разделял также взгляды Вордсворта о необходимости
использовать в поэзии устную речь современников, хотя, с дру-
гой стороны, часто обращался к старинной лексике, вводил слова
и выражения из Шекспира, Спенсера, Сиднея. Шелли никогда не
ассоциировал высокого предназначения поэзии с «божественной
волей и промыслом», с чем-то «вечным и потусторонним». «В от-
личие от лейкистов, он хорошо понимал диалектику вечного и
исторического, считал природу человека общественно детермини-
рованной»1.
Повторяя вслед за Вордсвортом и Колриджем, что «поэт —
это тот, кто воспринимает истину и красоту», он существенным
образом оговаривался, указывая, что всякий прогрессивно мысля-
щий художник не только интенсивно переживает настоящее в его
нынешнем состоянии, но и «видит в нем будущее...». Категория
прекрасного в поэзии зрелого Шелли неотделима от героической,
инициативной, самоотверженной борьбы за счастье тружеников. По
словам ирландского поэта Ейтса, «Красота и Свобода для него
равнозначны».
«...Проявления красоты Шелли ищет в природе, в высоких
движениях души, в борьбе за общее счастье и свободу»2. Идеал
прекрасного у Шелли имеет социальное содержание, он неотрывен
от революционных устремлений поэта. Шелли воплотил свой эсте-
тический идеал в таких образах,как образы Лаона и Цитны («Вос-
стание Ислама») — гуманистов-революционеров, без колебания
отдавших жизнь за благо народа; как образ Прометея, который,
по мнению Шелли (и Байрона), являет собой «высшее моральное
и интеллектуальное совершенство». Поэзия для Шелли — это «меч,
всегда обнаженный, уничтожающий ножны, стремящиеся его удер-
жать». «Поэты... стекла зеркал, на которые грядущее, прибли-
жаясь, бросает свои тени». К бесклассовому обществу, по мнению
поэта, приведет «великая гроза», которая «прекрасна силой обнов-
ления». Поэтому главной темой своего творчества Шелли делает
борьбу народа и его лучших представителей «за великое будущее
мира».
«Королева Маб» (1813). «День завтрашний придет!» Эту фра-
зу из ранней поэмы Шелли взял Ф. Энгельс для своего юноше-
1 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. М., 1978, с. 145.
2 Там же, с. 141.
85
ского стихотворения «Вечер». Этот эпиграф характеризует маги-
стральную линию всего творчества английского поэта, его страст-
ную устремленность в лучшее будущее человечества. В поэме весь-
ма ощутимо еще влияние дидактической, философской поэзии
XVIII века, а также философских систем века Просвещения (в при-
мечаниях к песням имеются длинные цитаты из «Системы природы»
Гельвеция и «Политической справедливости» Годвина). Однако
здесь в поэтическом тексте «много свежих юношеских чувств»
(Б. Шоу) и эмоциональных строк, которые постоянно перебивают
поток абстрактных сухих рассуждений о том, что некий «дух При-
роды» (Шелли тогда еще стоял на позициях пантеизма) «позволяет
надеяться» на «благие перемены» и «самоуничтожение» социально-
го зла. Показывая на волшебном экране душе спящей глубоким
сном девушки Ианте все прошлое, настоящее и будущее челове-
чества, королева фей Маб (персонаж английских сказок) иногда
произносит взволнованные, страстные речи в осуждение «короно-
ванных убийц» прошлого и настоящего (I—III песни), либо
дает броские и уничтожающие характеристики современных автору
властителей, священников, парламентариев и капиталистов (IV—
V песни).
Шелли характеризует современную ему эпоху как эпоху без-
раздельного господства голого чистогана:
Все на публичном рынке продается:
Честь, добродетели, таланты,
Продажна и Любовь...
Пер. К. Бальмонта
«Королева Маб» стала, по свидетельству Шоу, «библией чар-
тистов»; отрывки из нее постоянно перепечатывались в их перио-
дике; поэма сыграла видную роль в деле политического просвеще-
ния рабочего класса Британии.
«Восстание Ислама» (1818). Творец «Восстания Ислама» пе-
решел теперь от философских рассуждений и сатирического
осмеяния пороков господствующих классов к художественному
воплощению темы «народ и революция».
В поэме Шелли мы встречаемся с обобщенно-романтическим
изображением народной революции, которая, по мысли поэта, мо-
жет произойти в любой европейской стране. Перед нами положи-
тельные образы борцов за свободу: Лаон, его подруга Цитна,
Неизвестный юноша, Отшельник и т. д.
Шелли ввел в литературу 10-х годов XIX века совершенно
новые, неизвестные до того образы героев — республиканцев.
Пассивное сочувствие страданиям бедняков им чуждо; они накреп-
ко связали свою судьбу с судьбами трудового народа, они стано-
вятся во главе масс и ведут их на штурм «твердынь тирании»:
И выковали люди из цепей
Оружье, чтоб лишить тирана власти...
Пер. К. Бальмонта
86
Цели Лаона и Цитны возвышенны и прекрасны, они стремятся
переделать жестокий и безумный мир таким образом, чтобы «тро-
ны навеки рухнули, а золото утратило бы свою кровавую силу».
Лаон и Цитна погибли на костре. Но и тут Шелли не позволяет
себе «предаваться смертоносной печали»1. Семена добра и свободы,
посеянные революционерами, дали свои всходы: народ победил
тирана.
В марте 1818 года Шелли, затравленный реакцией, навсегда
покинул родину и переселился в Италию. Здесь были созданы
самые гениальные его творения.
Лирика. Талант Шелли был по преимуществу лирическим. Его
стихи поражают силой и непосредственностью чувства, музыкаль-
ностью, многообразием и новизной ритмов, они насыщены яркими
метафорами и эпитетами, богаты внутренними рифмами и аллите-
рациями. Шелли тонко чувствует природу. В лирических стихотво-
рениях поэт рисует картины безмятежного синего моря, смыкающе-
гося с лазурью небес, он передает впечатления, которые зародились
в его душе в Италии. Иногда мысль поэта улетает к далекой ро-
дине, чьи синие льды, серебристый иней и колючий холодный ве-
тер так много говорят сердцу изгнанника.
Описания природы у Шелли часто озарены философской
мыслью. Таков ряд стихотворений, известных под общим назва-
нием «Изменчивость», стихотворение «Облако» и некоторые дру-
гие. В них утверждается идея бессмертия природы, вечного ее раз-
вития и изменения. Поэт как бы проводит параллель между измен-
чивостью в жизни общества и в жизни природы. Общая тональ-
ность поэзии Шелли глубоко оптимистична: как вслед за зимой
идет весна, так и век социальных бедствий и войн неизбежно
сменяется веком мира и процветания. Тема непобедимости и бес-
смертия сил жизни и свободы выражена и в «Оде западному ветру».
Тема «западного ветра», ветра-разрушителя — традиционная в
английской поэзии. Ее разрабатывали до Шелли многие поэты.
Однако у Шелли эта тема получает совершенно иную интерпре-
тацию. У него осенний западный ветер не только и не столько
разрушительная сила, губящая своим холодным дыханием все жи-
вое, всю красоту лета, сколько хранитель сил новой жизни, забот-
ливо укладывающий ее семена в теплую подснежную постель:
«Пришла зима, зато весна в пути!»
Замечательна по искренности и правдивости чувства и лю-
бовная лирика Шелли. Пленительны у него женские образы
(«К Джейн с гитарой», «Ариетта для музыки»). Немало стихо-
творений посвящено Мэри Годвин, жене и другу поэта.
Любовь, по мысли Шелли,— это великая сила, вдохновляющая
людей на борьбу за светлое будущее. У Шелли постоянно звучит
1 В предисловии к поэме Шелли намекает на «мировую скорбь» Байрона,
которая, на его взгляд, сыграла отрицательную роль, так как заражала пес-
симизмом молодежь, лишая ее воли к «протесту и борьбе». С осуждением
пессимизма и индивидуализма Байрона Шелли выступает и в поэме «Юлиан и
Маддало».
87
тема торжества любви над тиранией, над самой смертью («Восста-
ние Ислама»).
Любовь, по мнению поэта, сильней, чем смерть, ибо «она всему
дает блаженство нового рождения». Радость бытия и радость
любви до краев наполняет все существо поэта.
«Освобожденный Прометей» (1819). «Прометей» Эсхила,—
писал В. Г. Белинский,— прикованный к горе, терзаемый коршуном
и с горделивым презрением отвечающий на упреки Зевса, есть
форма чисто греческая; но идея непоколебимой человеческой воли
и энергии души, гордой и в страдании, которая выражается в этой
форме, понятна и теперь: в Прометее я вижу человека, в коршуне —
страдание, в ответах Зевсу — мощь духа, силу воли, твердость
характера».
В соответствии со своими революционными взглядами Шелли
переосмысляет сюжет легенды. Основным пафосом произведения
(в отличие от драмы Эсхила и стихотворения Гете) является па-
фос борьбы, завершающейся грандиозной победой сил света и про-
гресса над миром зла и тирании. Герой драмы Шелли один на
один, бесстрашно
...вступил в борьбу
И встал лицом к лицу с коварной силой
Властителя заоблачных высот,
Насмешливо глядящего на землю,
Где стонами измученных рабов
Наполнены безбрежные пустыни...
Пер. К. Бальмонта
Зевс насильно принуждает к любви богиню моря Фетиду, он
не знает, что у нее, по велению судьбы, должен родиться сын,
более могущественный, чем его отец. Его зовут Демогоргон. Этот
образ — порождение поэтической фантазии Шелли. В нем воплоти-
лась философская идея Шелли о том, что эпоха более высоких и
совершенных отношений в обществе рождается и крепнет в недрах
старого мира. Свергая Зевса с трона, Демогоргон произносит за-
мечательные слова, выражающие заветные думы лучших умов того
времени о торжестве республики: «На небесах тебе преемника не
будет».
Недаром в предисловии к драме Шелли писал: «...свои мысли
автор мог бы выразить фразой: «надо изменить весь мир!» Мечты
о светлом будущем мира поэт воплощает в чудесные поэтические
образы в конце III ив IV акте.
Природа и люди неузнаваемо изменились. Исчезла гнусная
порода эксплуататоров. Свобода, равенство и братство соединили
нации в единую семью. Небывалый расцвет наук и искусства по-
зволил превратить пустыни в сады, подчинить воле разума реки
и моря, избавить народы от болезней, труд стал почетной и при-
ятной обязанностью прекрасных и мудрых людей будущего.
Чтобы подчеркнуть огромность и всеобъемлющий характер пе-
ремен, которые произойдут после социального раскрепощения на-
рода, он заставляет Небо и Землю, Луну и Звезды, хоры духов
88
и хоры богов прославлять величие Прометея и лучезарное будущее
раскрепощенного человечества.
Политическая ПОЭЗИЯ. Шелли создал новый для английской
поэзии жанр массовой песни, по силе и красоте стиха, по своей про-
стоте близкий подлинным народным песням. Вершиной политиче-
ской лирики Шелли являются поэмы «Маскарад Анархии» и «Пес-
ня англичан», в которых поэт показывает, что капиталисты «при-
своили труд рабочих»:
1 ы сеешь,— а другой пожнет.
Одежды ткешь — другой возьмет.
В гневных строках этих произведений звучит революционный
призыв к народу сбросить власть имущих — причину всех страда-
ний народных. Как и в больших драматических произведениях,
написанных в Италии («Освобожденный Прометей», «Эллада»,
«Карл I»), в политических стихах звучит та же прометеевская
тема беззаветной борьбы за светлое будущее людей, за «мир пре-
красный, где не будет рас, племен и классов» и где труд из про-
клятия превратится в «источник радости и вечной молодости мира».
Медлительность соотечественников вызывала в нем раздраже-
ние; он осыпал их упреками и горькими насмешками.
Зато малейший успех распубликанцев в других странах вызывал
бурную радость Шелли. Написанная под впечатлением неаполи-
танской революции, ода «Свобода» поражает историческим опти-
мизмом. Революция в Неаполе казалась поэту началом «переуст-
ройства мира на новых основаниях»:
Как зиждительный ливень могучей весны,
На незримых крылах ты над миром летишь...
Пер. К. Бальмонта
В политической лирике 1819—1821 годов и в философских
произведениях («Философский взгляд на реформу», «Песня англи-
чан») Шелли пророчески предсказывает, что главным социальным
конфликтом XIX века станет классовая борьба между трудом и
капиталом. Он призывает народ осознать, что он единственный
законный хозяин жизни, что ему не хватает лишь организованно-
сти, чтобы свергнуть власть лордов и тунеядцев. Однако Шелли
не сумел все же подняться до последовательно-материалистиче-
ского понимания исторического процесса. Противоречия в его миро-
воззрении, неизбежные для того времени, особенно ярко проявля-
ются в поэме «Маскарад Анархии», где он то призывает «стрях-
нуть цепи рабства, словно солому», то «не запятнать себя крово-
пролитием» и «со скрещенными руками спокойно стоять», «испепе-
ляя врага презрением». Эти противоречия, свойственные всему
творчеству Шелли, являются не столько противоречиями его соб-
ственной мысли, сколько отражением ранней стадии борьбы
английского пролетариата. И все же Шелли постоянно боролся
против всяких иллюзий и успешно преодолевал их.
89
ВАЛЬТЕР СКОТТ
Скотт — создатель жанра исторического романа. Шотлан-
дец Вальтер Скотт (1771 —1832) выступил в конце 1790-х и в
1800-х годах как переводчик, журналист, собиратель фольклора,
автор романтических поэм и баллад. Примечателен был выбор
произведения для перевода: он перевел историческую драму Гете
«Гец фон Берлихинген». А в 1814 году Вальтер Скотт неожиданно
стал всемирно известным писателем. Это случилось после выхода
в свет его первого романа «Уэверли». За этим произведением по-
следовали еще двадцать пять романов, несколько сборников рас-
сказов, пьес, поэм, двухтомник «История Шотландии», многотом-
ная «Жизнь Наполеона Бонапарта» и другие сочинения, написанные
их автором в течение семнадцати лет (с 1814 по 1831 год). Гро-
мадное количество художественных образов было создано за это
время «шотландским чародеем»1, который поразил своих читателей
поэтичностью и живостью нарисованных им картин народной
жизни и невиданной еще (даже по сравнению с Филдингом) ши-
ротой охвата действительности.
Каждое новое произведение Скотта тотчас же переводилось
на иностранные языки, «...влияние его на европейскую историче-
скую мысль, литературу и искусство было необычайно»2.
Новаторство Скотта, так глубоко поразившее людей его поко-
ления, заключалось в том, что он создал жанр исторического ро-
мана, «до него не существовавший» (В. Г. Белинский).
В основу мировоззрения и творчества Скотта лег громадный
политический, социальный и нравственный опыт народных масс
горной Шотландии, в течение четырех с половиной столетий бо-
ровшейся за свою национальную независимость против экономиче-
ски гораздо более развитой Англии. При жизни Скотта в Шот-
ландии, наряду с быстро развивающимся (в Лоуленде) капита-
лизмом, еще сохранились остатки феодального и даже патриархаль-
ного (кланового) укладов.
Художники, писатели, историки, философы Англии и Франции
в 10—20-х годах XIX века много размышляли о путях и законах
исторического развития: на это их постоянно наталкивало зрелище
громадных экономических и социальных сдвигов, политических
бурь и революций, пережитых народами за двадцать пять лет
(с 1789 по 1814 год).
XIX век — по преимуществу исторический век, в это время
историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло
собой все сферы современного сознания3. К этим же мыслям
обращался и Скотт, сумевший, по словам А. С. Пушкина, указать
своим современникам на «...источники совершенно новые, неподо-
1 Пушкин — критик. М., 1950, с. 210.
Р е и з о в Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М., 1965, с. 3.
„„„ См.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 6,
с. 277_278.
90
зреваемые прежде, несмотря на существование исторической драмы,
созданной Шекспиром и Гете»1.
Исторический роман Скотта стал не просто продолжением
литературных традиций, завещанных предшествующим периодом,
не простой суммой приемов и принципов, которыми руководство-
вались авторы просветительных эпопей в прозе и создатели «готи-
ческого» романа, а неизвестным до этого новым художественным
синтезом искусства и исторической науки, открывшим новый этап
в развитии английской и мировой литературы.
Творчески осваивая новые критерии художественности, выдви-
нутые Бернсом2, Вордсвортом, Байроном, Скотт своими романами
решил задачу связи исторической жизни с частною3 и этим, по
свидетельству В. Г. Белинского, «...дал историческое и социальное
направление новейшему европейскому искусству»4.
Отвергая рационализм просветителей XVIII века и их пред-
ставления о человеческой природе, Скотт нарисовал в своих исто-
рических романах картины жизни, быта, нравов различных клас-
сов английского и европейского общества прошлых эпох. При этом
он сумел затронуть также и многие проблемы современной ему
социологии, нравственности, политической справедливости, призы-
вая установить прочный мир между государствами, осуждая винов-
ников несправедливых войн5.
Говоря о Скотте как о художнике-новаторе, О. Бальзак писал:
«Вальтер Скотт возвысил до степени философии истории роман...
Он внес в него дух прошлого, соединил в нем драму, диалог,
портрет, пейзаж, описание; включил туда и чудесное и повседнев-
ное, эти элементы эпоса, и подкрепил поэзию непринужденностью
самых простых говоров»6.
Скотт смело развивал глубоко новаторскую по тем временам
мысль о роли народных масс и народных движений в переломные
моменты истории, когда решались судьбы какого-нибудь класса
общества или даже целой нации; он ввел в романы образы людей
из народа — народных заступников и народных мстителей (Роб Рой,
Мег Меррилиз, Робин Гуд). «Секрет действительной поэтичности
романов Скотта не в живописании лат, мечей, средневековых кам-
золов, а в том фольклорном начале, которое связано в его про-
изведениях с отражением действительных судеб крестьянства»7.
Своеобразная композиция исторического романа Скотта отра-
жает понимание исторического процесса писателем: обычно судь-
1 Пушкин — критик. М., 1950, с. 209.
2 См.: Клименко Е. И. Вальтер Скотт и Берне. — В кн.: Традиции и
новаторство в английской литературе. Л., 1961, с. 3—15; История английской
литературы. М, 1953, т. II, вып. I, с. 158.
3 См.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955,
т. 5, с. 41—42.
4 Там же, т. 6, с. 258.
5 См.: Р е и з о в Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М.—Л., 1965, с. 164.
6 Бальзак О. Об искусстве. М.—Л., 1941, с. 7.
7 ЕлистратоваА. А. Скотт. — В кн.: История английской литературы.
М., 1953, т. II, вып. 1. с. 165.
91
бы его героев тесно связаны с тем крупным историческим событием
(с революцией, мятежом, бунтом), изображение которого занимает
центральное место в произведении. Вопреки своим личным планам
и намерениям, каждый персонаж Скотта неизбежно оказывается
втянутым в стремительный водоворот событий, исход которых
определяется характером борьбы социальных сил, а также волей
великих исторических личностей (Кромвель, Людовик XI, Карл
Смелый, Роберт Брюс, Елизавета I, Ричард I) либо вмешательст-
вом вождей и народных заступников, образы которых Скотт создал
по хроникам, легендам и преданиям. Позаимствовав у реалистов
XVIII века их юмор и их любимого героя, среднего англичанина,
писатель чаще всего вводит в свои романы в качестве главного
персонажа юношу-дворянина, честного, отзывчивого, небогатого
и довольно заурядного. Этот бесцветный герой и его возлюбленная
или невеста исполняют, как правило, служебную роль: рассказывая
об их романтических приключениях, Скотт получает возможность
мимоходом нарисовать коллективный образ вооруженного народа,
поднимающегося на борьбу против произвола монарха, феодалов,
чужеземных захватчиков.
Заурядность главного героя и героини не позволяют им за-
тмить яркие, колоритные характеры и портреты народных вождей
и исторических лиц, которые появляются в романе Скотта на ко-
роткое время, в нужный момент, чтобы сыграть свою определяю-
щую роль в судьбе того социального движения, которое они пред-
ставляют, и заодно решить судьбы обыкновенных персонажей,
втянутых в исторический конфликт.
Творческий метод и стиль Скотта — явление сложное, порож-
денное переходной эпохой промышленного переворота и борьбы
за реформу (1780—1832). Основу художественного метода Скотта
составляет романтизм1. Как и все романтики, он не принял победу
капиталистических отношений, надеясь в то же время на то, что
со временем все как-то само по себе образуется. Скотт-романист
обратился к изучению истории народных движений и социальной
борьбы прошлых эпох. При этом он полагал, что все конфликты в
средние века, в эпоху Возрождения, в XVII и в XVIII веках в
Британии разрешались разумным примирением антагонистических
сил (таким образом, считал Скотт, завершилась рознь между анг-
лосаксами и норманнами, борьба между феодалами и буржуазией
в 1688 году).
Однако новый взрыв классовой борьбы в Англии в 1819—
1820 годы лишил писателя его веры в благодетельную силу компро-
мисса: он понял, что деятели этого компромисса отнюдь не «разум-
ные и добрые люди», а заурядные буржуазные хищники. В рома-
не «Ламмермурская невеста» (1819) Скотт нарисовал образ одного
из жестоких и корыстных деятелей 1688 года — сэра Вильяма
Аштона.
1 См.: Елистратова А. А. Скотт.— В кн.: История английской лите-
ратуры. М., 1953, т. II, вып. 1., с. 197.
92
Романтизм в мировоззрении Вальтера Скотта определил худо-
жественную структуру его произведений. Скотт постоянно строит
сложные авантюрно-романтические сюжеты, в которых отводит
место многочисленным случайностям, изменяющим (вопреки логике
развития характеров) ход событий; встречается у него и фантас-
тика (правда, преподносимая как народные суеверия); идеализи-
рованные «байронические» характеры действуют наряду с реали-
стическими образами.
Скотт неустанно повторял, что художник не может ограничиться
сухими фактами истории, он обязан сочетать правду истории с
вымыслом, с фантазией, цель которой увлекать и волновать чита-
теля, заставить его сопереживать персонажам романа, разделить
с ними все их радости и надежды.
В то же время нельзя не заметить, что вымысел соотнесен с
правдой истории и творчество Скотта являет собой картину по-
степенного перехода от романтизма к реализму нового, более вы-
сокого (по сравнению с XVIII веком) типа. Правдивые описания
быта, нравов, математически точные анализы экономических, соци-
альных и политических причин конфликтов, возникающих между
различными классами и прослойками, конкретные, имущественные
и практические мотивы поведения персонажей, их классовая ти-
пичность, стремление автора к «шекспиризации» образов — все
это свидетельствует о наличии мощной реалистической струи в
творчестве писателя. Скотт неизменно требовал, чтобы писатели
обязательно сохраняли правдоподобие, умели бы подчеркнуть
связь существующую между прошлым и настоящим, изобразив
развитие, эволюцию исторических событий, правдиво показав
борьбу антагонистических сил, доказав неизбежность победы но-
вого, более высоко и совершенно организованного социального
организма над примитивными, патриархальными, отмирающими
отношениями.
По своей тематике и проблематике все прозаические произве-
дения Скотта можно разделить на две группы: это, во-первых,
шотландские романы, написанные в основном до 1820 года, и,
во-вторых, романы о средних веках в Англии и в Европе. Один
лишь раз Скотт обращается к описанию современной ему жизни —
в романе «Сент-Ронанские воды» (1824).
В шотландском цикле воспроизводится история той крутой
ломки, в результате которой погибла старая патриархальная Кале-
дония и сформировалась современная буржуазная Шотландия. Это
был мучительный и кровавый процесс: роялисты и буржуазные
деятели в своей политической игре использовали темную, неграмот-
ную массу горцев, втравливая ее в вооруженную борьбу, исполь-
зуя как ударную силу, нередко обманывая и предавая ее.
«Роб Рой» (1818). В этом романе Скотт обращается к истории
так называемых якобитских мятежей XVIII века, он повествует
о событиях первого большого восстания горцев, подготовленного
и осуществленного сторонниками Стюартов еще в-1715 году, т. е.
93
за 30 лет до окончательного уничтожения кланов1. Писатель под-
робно объясняет, что якобиты потерпели жестокое поражение в
силу того, что лондонское буржуазно-аристократическое правитель-
ство обладало громадным экономическим, политическим и военным
превосходством, кроме того,— и это Скотт считает чуть ли не еще
более важной причиной,— трудовые массы низинной Каледонии
и Англии не только не сочувствовали феодальной реакции в ее
попытках восстановить Стюартов на троне империи, но и открыто
проявляли свое недоброжелательство и враждебность по отношению
к ней.
На фоне подготовки к восстанию 1715 года развивается насы-
щенный приключениями романтический сюжет романа. Поэтиче-
ски настроенный юноша Фрэнк Осбальдистон, сын главы богатей-
шей лондонской фирмы, держащей в финансово-экономической
зависимости добрую половину Британии, навещает родовое по-
местье своего дяди, состоятельного шотландского землевладельца.
Здесь, в глухой провинции, Фрэнк наблюдает патриархальный быт,
тупость и ограниченность окрестных помещиков-роялистов. Шесте-
ро его двоюродных братьев, полуграмотных «великанов-охотников»,
живут исключительно интересами псарни и бутылки.
Вскоре Фрэнк знакомится с теми, кто деятельно подготав-
ливает восстание: это единственный образованный сын его
дяди — Рашлей и старый роялист — граф Map Верной, скрываю-
щийся в глубоком подполье. Рашлей возненавидел Фрэнка после
того, как тот сумел завоевать расположение Дианы — дочери графа
Мара, в которую Рашлей сам был безнадежно влюблен. Он ста-
новится яростным и вероломным врагом простодушного юноши.
Рашлей считает, что все средства хороши для достижения его
честолюбивых целей: он без колебаний предает заговорщиков,
лишь только убеждается, что Диана любит Фрэнка.
Растленному миру роялистов-заговорщиков противопоставлен
в романе яркий и самобытный образ Роб Роя. Роб Рой — подлин-
ный шотландский Робин Гуд. Он грабит богачей и оказывает по-
мощь беднякам; народ обожает своего заступника и мстителя. В его
образе сочетаются романтические и реалистические черты; он
наделен громадной, почти сверхчеловеческой силой, исполинским
ростом. Сын «дикой шотландской природы», он напоминает чем-то
могучего горного быка. Это сходство еще более увеличивается при
взгляде на его мускулистые руки и ноги, покрытые густыми ры-
жими волосами. С неподражаемой грацией он носит национальный
костюм горца — плед и юбочку. Однако, несмотря на свою экзоти-
ческую внешность патриарха горного клана, Роб Рой прекрасно
ориентируется в положении дел в стране и представляет собой
грозную силу, с которой не могут не считаться чиновники и фи-
1 Ф. Энгельс указывает, что «в Шотландии гибель родового строя совпадает
с подавлением восстания 1745 года» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 21, с. 133). Этот мятеж 1745 года Скотт описал в романе «Уэверли, или
Шестьдесят лет назад» (1814).
94
нансисты из такого крупного промышленного центра, каковым был
Глазго уже в начале XVIII столетия. Английская администрация
ничего не может поделать с вездесущим и неуловимым Робом и
его вольницей; как дамоклов меч навис он над «джентльменами
из коммерческих фирм» и самодурами-помещиками. Писатель
объясняет тайну всемогущества Роба той постоянной и самоотвер-
женной поддержкой, которую простой народ оказывает своему
герою, непрерывно доставляя ему информацию о передвижении
воинских отрядов, помогая ему и его людям выйти из-под удара,
разоблачая коварные замыслы и все гнусные уловки жандармов,
попов и тюремщиков. Недаром народные сказители сложили песни
и легенды о подвигах Роб Роя и его отважных молодцов.
«Пуритане» (1816). Этот роман К. Маркс считал «образцовым
произведением»1 шотландского романиста. Автор повествует здесь
о вооруженной борьбе крестьянских масс, выступивших в 1779 году
под руководством пуритан против династии Стюартов, «...чтобы
добиться давно уже отнятой у них свободы... и сбросить с себя
тиранию, давящую одновременно и тело и душу»2.
Революционные движения в XVII веке в Англии и Шотландии
рядились в религиозные одежды; идеи буржуазной революции
получали выражение на языке Библии; суть их сводилась к требо-
ванию немедленного ниспровержения феодального строя. При этом
левые пуритане, выражавшие интересы беднейших слоев крестьян-
ства, ратовали за установление демократической республики, за
резкое ограничение размеров частного капитала, за созыв всенарод-
ного парламента и беспощадное истребление класса крепостников-
помещиков (т. е. кавалеров). В противоположность им правое кры-
ло пуритан всегда было склонно к компромиссу с уцелевшими
феодалами-землевладельцами. Правдиво воспроизводя дух и нравы
эпохи, Скотт повествует в первых главах романа о жестоких рели-
гиозных распрях, под видом которых на самом деле велась клас-
совая борьба: группа пуритан лишила жизни главу шотландской
католической церкви — архиепископа Шарпа. Мортон, надеявший-
ся избежать участия в конфликте между пуританами и роялистами,
убедился в несостоятельности своих иллюзий. Избежав смерти
лишь случайно, убедившись в жестокости королевских властей, уви-
дев воочию произвол и бесчинства разнузданной солдатни, Мортон
отказывается от своей пассивной позиции и принимает предложе-
ние Бальфура Берли (возглавлявшего восстание) примкнуть к
пуританам.
И вождь роялистов, член тайного совета, придворный политик
Клеверхауз, и руководитель левых пуритан Берли — оба они
осуждаются автором за фанатизм и готовность отстаивать интере-
сы своего класса (в одном случае феодалов, в другом — буржуа-
зии) кровавыми методами. Однако Скотт, несмотря на наличие
противоречий в оценке деятельности Берли, не может не под-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. В 2-х томах. М., 1976, т. 2, с. 552.
2 Скотт В. Собр. соч. в 20-ти томах. М., 1961, т. 4, с. 436.
95
черкнуть его бескорыстия и беззаветной преданности «делу народ-
ного парламента» и народной демократии. Берли ратует за то,
чтобы «издать такие законы, которые пресекли бы... возможность
проливать кровь, пытать и бросать в тюрьмы инакомыслящих,
отнимать их имущество, надругаться над человеческой совестью по
нечестивому произволу исполнительных .властей!». Образ жесто-
кого и своекорыстного Клеверхауза, защитника мертвых устоев
старины, меркнет перед «колоссальной фигурой фанатика Бурлея»1,
революционера-пуританина, отдавшего жизнь за республику.
Идя «вслед за Байроном, Скотт одним из первых в западно-
европейской литературе создает собирательный образ народа,
взявшего в свои руки оружие»2. Скотт показывает, что массы
верят левым пуританам и идут за ними. Армия пуритан потерпела
поражение в силу своей неорганизованности, отсутствия строгой
дисциплины, многоначалия; писатель говорит о молитвах и пропо-
ведях, которые вожди левых пуритан произносят в критический
момент, когда нужно было брать в руки оружие и наносить врагу
удары. Скотт делает особый акцент на изображении инициативы
народных масс, самоотверженно творящих историю, ибо, хотя вос-
стание 1679 года и было подавлено, а его участники были по
большей части подвергнуты жестокой казни, все же судьба анти-
народного реакционного режима Стюартов была предопределена:
через десять лет король Яков II был вынужден отречься от престо-
ла и эмигрировать за границу. На трон был призван Вильгельм
Оранский. При нем наступил компромисс между буржуазией
и остатками аристократии. Будучи консерватором по своим поли-
тическим взглядам, сторонником постепенного, мирного пути улуч-
шения социальной структуры общества, Скотт изображает эпоху
компромисса при Оранском как «золотой век» Англии. При нем
герой романа Генри Мортон, эмигрировавший за границу после
подавления восстания 1679 года, возвращается на родину, получает
чин генерала и женится на избраннице своего сердца. Однако не
эти события были главными для писателя. В анонимной авторе-
цензии на роман «Пуритане» Скотт писал, что «главной заслугой
автора является то, что он сумел раскрыть... положение шотланд-
ского крестьянина, который дошел до пределов отчаяния и гибнет
на поле сражения или на эшафоте, пытаясь отстоять свои первей-
шие и священнейшие права».
«Эдинбургская темница, или Сердце среднего Лотиана»3
(1818). Особый интерес в этом социальном романе Скотта
представляет образ крестьянской девушки Джини Дине, которая
воплотила в себе многие черты эстетического идеала Скотта. Герои-
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 1,
с. 342.
2 Вельский А. А. Английский роман 1800—1810-х годов. Пермь, 1968,
с. 181 — 182.
3 Сердце Лотиана — название старинного тюремного здания в Эдинбурге,
уничтоженного в XIX веке.
96
ню отличают живой ум, неподкупная честность, бескомпромиссная
совесть, непоколебимая воля и «природная энергия».
Это—«...образ в высшей степени социально и национально
обусловленный, в то же время неповторимо индивидуальный»1.
Джини родилась в семье сурового фермера-пуританина, участника
буржуазной революции XVII века. Она была воспитана в духе
строгой революционно-пуританской морали. Героичность характера
Джини раскрывается, постепенно. Мы видим ее самоотверженную
борьбу за отмену несправедливого и жестокого приговора, выне-
сенного эдинбургскими присяжными заседателями ее младшей
сестре Эффи, которой грозила смертная казнь (за якобы совершен-
ное ею убийство ее незаконнорожденного ребенка).
Образ Джини Дине — имел огромный успех у современников.
Соотечественники Скотта объявили Джини национальной героиней.
Бальзак, учившийся в молодости писать у «шотландского чародея»,
считал Джини лучшим женским образом автора «Уэверли». Баль-
зак также отметил, что Скотт поразил всех необыкновенной емко-
стью своего социального романа. Колорит времени передается через
описание быта и нравов фермеров, обывателей-горожан, провинци-
ального дворянства и купечества. Той же цели служит и пано-
рамное изображение жизни английской провинции, Лондона, ко-
ролевского двора. Мастерски воссоздаются десятки второстепенных
персонажей — от бродяг и преступников — до степенных судей и
адвокатов, от сутяги и сплетника мистера Сэдлтри и влюбленного
в Джини сквайра-чудака Думбидайкса — до первого пэра империи
герцога Аргайла и самой верховной властительницы — королевы
Каролины.
«Айвенго» (1819). В «Айвенго» перед глазами читателя возни-
кает широкая и пестрая картина английского средневековья
(ок. 1194). После победы при Гастингсе (1066) норманнские баро-
ны, оттеснив англосаксонских землевладельцев, захватив замки и
земли их отцов, утвердились как правящая элита. Однако через
сто лет после триумфа Вильгельма Завоевателя и поражения саксов
национальная рознь в значительной степени смягчилась: обе на-
родности (норманны и англосаксы) стали постепенно сливаться в
одну национальность; на первый план выступила классовая борьба
между феодалами и крепостными. Внутри правящего класса наме-
тился еще один весьма острый конфликт: между королевской вла-
стью и удельными князьями. Перед лицом опасности расчленения
страны и воцарения анархии, вносимой в ее жизнь баронами-раз-
бойниками, царствовавший тогда Ричард I (и стоящие за ним
прогрессивные силы) перестал проводить разницу между норманн-
скими и саксонскими рыцарями, стремясь лишь к одному —
привлечь в свою дружину и окружить себя способными и верными
молодыми воинами любой национальности. Фаворитом Ричарда I
становится молодой саксонский рыцарь Айвенго, прославившийся
своим воинским искусством, преданный своему королю. Скотт
1 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. М., 1978, с. 78.
История зарубежной литературы XIX века
создает «фольклорный образ»1 английского короля,— близкий духу
народных баллад. Союз короля и народа, изображенный в романе,
имел реальную историческую почву: опираясь на мощь городов и
народных дружин, короли сокрушали крупных вассалор в эпоху
позднего средневековья, создавая предпосылки для формирования
первых капиталистических наций. В фольклорном духе нарисована
и сцена встречи Ричарда и брата Тука, закончившаяся веселой
пирушкой.
Скотт ни в малейшей степени не идеализирует средневековье,
показывая его как жестокое, суровое время, когда все подчинялись
праву «большого кулака».
Особое внимание в сюжете романа занимает трогательный образ
красавицы Реббеки. Образ преследующего повсюду Реббеку ры-
царя-храмовника Бриана-де-Буагильбера — большая удача автора.
Подобно неистовым героям раннего Байрона, его поминутно тер-
зает раскаяние и непомерное честолюбие. По мнению В. Г. Белин-
ского, Бриан-де-Буагильбер — «лицо типическое, характер могучий
и самобытный».
«Квентин ДорварД» (1823). В «Квентине Дорварде» изобра-
жается напряженная политическая жизнь Франции (отчасти
Фландрии) во второй половине XV века. В 1468 году восстал
большой и вольнолюбивый город Льеж, стремившийся ниспровер-
гнуть деспотическую власть герцога Бургундии Карла Смелого.
В том же году нависла угроза гражданской войны между двумя
большими государствами — Францией и Бургундией. Вокруг этих
событий и группируются все действующие лица, в той или иной
степени втянутые в этот конфликт. Сюжетная линия романа отли-
чается ясной простотой и стройностью: молодой шотландский воин
Квентин Дорвард эмигрирует во Францию, спасаясь от могущест-
венных врагов, истребивших в ходе кровной мести всех членов его
семьи. Ему удается поступить на службу к «одному из самых
умных и дальновидных государей Европы» — Людовику XI,
окружившему свою особу охраной, состоящей из отважных шот-
ландских горцев. Скотт рисует исторически достоверный портрет
этого политического деятеля. Людовик XI ведет беспощадную
войну (тайную и явную) со своими крупными вассалами, не же-
лающими признавать распоряжения центрального правительства
Франции. «Только благодаря поддержке третьего сословия, —
пишет Скотт,— Людовик мог устоять против ненависти высшего
дворянства».
Однако, отмечая прогрессивность политики Людовика XI, на-
правленной на централизацию власти, уничтожение своеволия
удельных князей, поощрение купечества и промышленности, Скотт
нисколько не затушевывал отрицательных черт режима: беспощад-
ной эксплуатации масс крестьянства, произвола и жестокости оп-
ричников короля.
1 Реизов Б. Г. Творчество В. Скотта. М.—Л., 1965, с. 155.
РОМАНТИЗМ ВО ФРАНЦИИ
Этапы французского романтизма. Французский романтизм,
возникший на родине буржуазной революции конца XVIII века,
был, естественно, более отчетливо связан с политической борьбой
эпохи, чем романтическое движение других стран. Деятели фран-
цузского романтизма проявляли разные политические симпатии
и примыкали либо к лагерю уходящего в прошлое дворянства, ли-
бо к прогрессивным идеям своего времени, но все они не при-
нимали нового буржуазного общества, чутко ощущали его враж-
дебность полноценной человеческой личности и противопостав-
ляли его бездуховной меркантильности идеал красоты и свобо-
ды духа, для которого не было места в действительности.
Французский романтизм развивался в первое тридцатилетие
XIX века. Первый этап его совпал с периодом Консульства и
Первой империи (приблизительно 1801 —1815 годы); в это время
романтическая эстетика только формировалась, выступили первые
писатели нового направления: Шатобриан, Жермена де Сталь,
Бенжамен Констан.
Второй этап начался в период Реставрации (1815—1830),
когда рухнула наполеоновская империя и во Францию, в обозе
иностранных интервентов, вернулись короли династии Бурбонов,
родственники свергнутого революцией Людовика XVI. В этот
период окончательно складывается романтическая школа, появ-
ляются главные эстетические манифесты романтизма и происходит
бурный расцвет романтической литературы всех жанров: лирики,
исторического романа, драмы, выступают крупнейшие писатели-
романтики, такие, как Ламартин, Нерваль, Виньи, Гюго.
Третий этап падает на годы Июльской монархии (1830—1848),
когда окончательно утвердилось господство финансовой буржуазии,
происходят первые республиканские восстания и первые выступ-
ления рабочих в Лионе и Париже, распространяются идеи утопи-
ческого социализма. В это время перед романтиками: Виктором
Гюго, Жорж Санд — встают новые социальные вопросы, как и пе-
ред творившими в те же годы великими реалистами, Стендалем
и Бальзаком, и наряду с романтической поэзией возникает новый
жанр романтического социального романа.
Шатобриан* Французский романтизм зародился в среде аристо-
кратов-эмигрантов, враждебных революционным идеям. Это есте-
99
ственная «первая реакция на французскую революцию и связанное
с ней Просвещение...»1. Первые романтики поэтизировали феодаль-
ное прошлое, выражая свое неприятие нового царства буржуазной
прозы, которое складывалось у них на глазах. Но при этом они
мучительно ощущали неотступный ход истории и понимали иллю-
зорность своих обращенных в прошлое мечтаний. Отсюда пессими-
стическая окраска их творчества.
Крупнейшей фигурой первого этапа французского романтизма
был виконт Франсуа-Рене де Шатобриан (1768—1848), которого
Пушкин назвал «первым из современных французских писателей,
учителем всего пишущего поколения».
Бретонский дворянин, выброшенный революционной бурей из
родового гнезда, Шатобриан стал эмигрантом, побывал в Америке,
сражался в рядах роялистских войск против французской рес-
публики, жил в Лондоне. Вернувшись на родину, в годы Консуль-
ства и Империи опубликовал ряд сочинений, враждебных идеям
революции и воспевавших католическую религию. При Реставра-
ции отошел от литературы и занялся политической деятельностью;
он был инициатором подавления в 1823 году испанской рево-
люции.
В становлении эстетики французского романтизма сыграл
определенную роль трактат Шатобриана «Гений христианства»
(1802), где он пытался доказать, что христианская религия
обогатила искусство, открыв для него новый драматизм — борь-
бу духа и плоти. Шатобриан делит искусство на дохристианское
и христианское, подразумевая тем самым, что искусство развивает-
ся и меняется вместе с историей человечества.
Литературная известность Шатобриана основывается на двух
небольших повестях «Атала» (1801) и «Рене» (отдельное изда-
ние, 1805), которые он первоначально мыслил как главы прозаи-
ческой эпопеи о жизни американских индейцев, но затем исполь-
зовал в качестве иллюстраций к «Гению христианства» (к раз-
делу «О зыбкости страстей»).
Исповедальный роман. С именем Шатобриана свя-
зано возникновение нового литературного жанра — романтического
исповедального романа, представляющего собой лирический моно-
лог — исповедь героя. В таком произведении лишь условно изобра-
жается внешний мир, все внимание сосредоточено на раскрытии
внутренней жизни центрального персонажа, сложной и противо-
речивой, на его скрупулезном самоанализе. В исповедальные
романы было вложено много личного, автор в них временами
сливался с героем, современники угадывали за вымышленным
сюжетом элементы автобиографии, а за персонажами — реальных
людей (возник даже термин «роман с ключом»).
Но при всей характерной для романтизма субъективности
исповедальные романы содержали широкое обобщение: в них
отразилось состояние умов и сердец, порожденное эпохой соци-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 32, с. 44.
100
альных потрясений, состояние, которое романтики определили
как «болезнь века» и которое было не чем иным, как индивиду-
ализмом. Шатобриан первый ввел в литературу героя, пораженно-
го этим недугом — отстраненного от большой жизни общества,
одинокого, неприкаянного, снедаемого разочарованием и ску-
кой, враждующего с целым миром.
«Атала». В повести «Атала» этот новый герой предстает
в обличье индейца Шактаса, который рассказывает миссионеру
Суэлю горестную историю своей любви к прекрасной дочери
вождя враждебного племени индианке Атале, спасшей его от
смерти. Влюбленные скитаются в тропических лесах; в конце кон-
цов Атала, христианка, за которую мать дала обет безбрачия,
лишает себя жизни, так как не в силах противиться плотской стра-
сти к Шактасу.
Наделив героев «Аталы» чувствами своих современников,
Шатобриан как бы полемизировал с Руссо: оказывается, гармо-
нии нет и среди нетронутой природы, «естественный человек»
тоже подвержен греховным страстям и должен искать прибежища
в христианской религии. Но эта мораль звучит в повести фаль-
шиво, ибо противоречит авторскому любованию героями и тому
упоению, с которым он рисует красоту земного мира.
На первых читателей «Аталы» произвели огромное впечат-
ление красочные, полные театральных эффектов описания аме-
риканских лесов и прерий, быта неведомых народов. Шатобриан
ввел во французскую литературу совершенно новый материал —
экзотику, которая в дальнейшем займет значительное место в
искусстве романтизма. Поразил современников и цветистый, ви-
тиеватый слог Шатобриана, его искусственная приподнятость,
преувеличенная образность, о которых резко отозвался К. Маркс;
решительно не приемля Шатобриана, как политика и писателя,
Маркс назвал его сочинения «лживой мешаниной»1.
«Рене». Во второй повести Шатобриана, «Рене», разочаро-
ванный герой выступает уже без всякого грима (он носит имя
автора); он тоже сам рассказывает свою историю, сидя под де-
ревом на фоне экзотического пейзажа, состарившемуся слепому
Шактасу и миссионеру Суэлю.
Младший сын старинной дворянской семьи, оставшийся без
средств после смерти отца, юноша Рене бросился «в бурный
океан мира» и убедился в неустойчивости и бренности челове-
ческого бытия. Одиноким страдальцем проходит он по жизни,
потеряв к ней всякий вкус, полный неясных порывов и незавер-
шенных желаний, втайне гордясь своей роковой неприкаянностью,
которая возвышает его над обыкновенными людьми.
В «Рене» тоже проводится мысль, что человек — жертва
неуправляемых страстей. Примером этого служит противоестест-
венная страсть к герою сестры его Амели, которую Рене счи-
тал единственным своим другом. Спасаясь от самой себя, Амели
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 33, с. 84.
101
принимает постриг в монастыре, а Рене, открыв ее ужасную
тайну, бежит от порочного общества в леса Америки, ища заб-
вения среди простых сердцем индейцев. Но тщетно: он прино-
сит с собою все противоречия своей души и остается столь же
страдающим и одиноким «дикарем среди дикарей». В финале отец
Суэль сурово упрекает Рене в гордыне, изрекая: «Счастье мож-
но найти только на проторенных путях»,— однако и на сей раз
авторское любование исключительной личностью противоречит этой
навязанной морали. Вся повесть пронизана острым ощущением
необратимого движения истории; прошлого не вернуть, «история
сделала один только шаг, и лицо земли неузнаваемо изменилось»,
а в складывающемся новом мире для Рене нет места.
Громадный успех «Рене», ставшего прототипом целой плеяды
меланхолических героев романтизма, пораженных «болезнью ве-
ка», основывался, разумеется, не на дворянских симпатиях автора,
а на том, что Шатобриан подхватил висевшие в воздухе настрое-
ния и запечатлел новое жизненное явление: драму индивидуализ-
ма, разлад духовно богатой личности с собственническим обще-
ством. Под обаянием Шатобриана находились десятки его младших
современников, вплоть до молодого Бальзака. Юноша Гюго за-
писал в дневнике: «Хочу быть Шатобрианом — или ничем!»
«Адольф» Б. Констана. Почти одновременно с «Рене», в
1806 году, был написан роман «Адольф» (опубликован в 1816 г.),
принадлежащий перу Бенжамена Констана (1767—1830), публи-
циста и политического деятеля буржуазно-либерального толка.
Здесь, как и в повести «Рене», повествование идет от первого
лица (роман носит подзаголовок «Рукопись, найденная в бумагах
неизвестного»), действует тоже разочарованный герой, сосредо-
точенный на своих интимных переживаниях, сетующий на жизнь,
далекий от гражданских интересов. Адольф — собрат Рене, но
как же он отличается от героя Шатобриана! Это «Рене с трез-
вым взглядом», рассудочный, склонный к холодному самоанали-
зу и, не в пример Рене, живущий с постоянной оглядкой на
мнение общества.
Сюжет сводится к истории любви Адольфа к Элленоре, ко-
торую он завоевал из тщеславия и начинает тяготиться ею, как
только все внешние препятствия устранены. Адольф полон про-
тиворечий: он жаждет порвать связь, мешающую его карьере,—
и не решается нанести удар любящей женщине; хочет независи-
мости— и не умеет управлять собою; отвергает лицемерный свет —
и тянется к нему; искренне выражает чувство, которое угасает
прежде, чем он успевает закончить фразу. Страдая от этого от-
сутствия цельности, Адольф мечется между «себялюбием и чув-
ствительностью», самолюбованием и самообличением, не способ-
ный к действию, которое подменяется бесплодными порывами.
Констан с необычайной психологической достоверностью за-
печатлел разрушительное действие на душу человека эгоизма.
В Адольфе узнало себя целое поколение. Недаром Пушкин поста-
вил его рядом с байроническими героями.
102
Т. Жерико. Офицер конных
егерей, идущий в атаку.
Масло. 1812 г.
Пушкин оценил и своеобра-
зие стиля «Адольфа», вполне
отвечающего аналитической за-
даче романа, — точного, лако-
ничного, суховатого, и языка,
«всегда стройного, светского, ча-
сто вдохновенного».
«Исповедь сына века».
Мюссе. Один из последних
исповедальных романов, выра-
зительно названный «Исповедь
сына века» (1836), был создан
Альфредом де Мюссе (1810—
1857). Мюссе, известный пре-
жде всего как романтический
поэт (см. раздел «Поэзия фран-
цузского романтизма»), был
также автором прозаических но-
велл и драматургом. Ему при-
надлежит историческая драма
«Лорензаччо» и серия «комедий-
пословиц» (таких, как «Капри-
зы Марианны», 1835; «Не надо
биться об заклад», 1836, и др.),
которые не были полностью оценены современниками, но входят
в золотой фонд французской драматургии XIX века и ставятся
на сцене в наши дни.
В «Исповеди сына века» выразился душевный кризис, пе-
режитый поэтом в середине 1830-х годов в связи с личной дра-
мой— любовью к писательнице Жорж Санд — и обстоятельствами
общественной жизни того времени. В «Исповеди сына века» окон-
чательно расшифровываются причины смутных страданий роман-
тического героя. Теперь, через два десятилетия после «Рене»
и «Адольфа», стало ясно, что трагедия «сына века» прямо связана
с трагедией эпохи.
Герой Мюссе Октав, едва вступив в жизнь, сталкивается
с безнравственностью и лицемерием общества. Потрясенный изме-
ной своей первой возлюбленной с его же ближайшим другом,
Октав охвачен безнадежностью и отчаянием, от которых ищет
спасения в цинизме и распутстве. Но он лишь растрачивает себя
и приходит к душевному опустошению; потеряв способность к
цельному чувству и доверие к людям, он сам закрывает для себя
забрезжившую было надежду на счастье с правдивой и любящей
Брижиттой, которую он замучил мелочными подозрениями (в этой
линии романа отразились отношения автора с Жорж Санд).
Октав — дитя безвременья, которое писатель называет «веком,
отделяющим прошлое от будущего... когда не знаешь, ступая по
земле, что у тебя под ногами — всходы или развалины». В лири-
ческом зачине романа с болью и страстью рисуется судьба по-
103
коления, перед которым закрыты все пути исторической деятель-
ности и ему осталось лишь «закутаться в плащ эгоизма». «Бо-
лезнь нашего века,— пишет Мюссе,— происходит от двух причин:
народ, прошедший через 1793 и 1814 годы, носит в сердце две
раны. Все то, что было, уже прошло. Все то, что будет, еще не
наступило. Не ищите же ни в чем ином разгадки наших стра-
даний».
Правдивость нарисованной Мюссе картины становится осо-
бенно ясна при сравнении с романами Стендаля и Бальзака, ко-
торые в те же годы, хотя в ином художественном освещении,
многократно запечатлели трагедию «утраты иллюзий». На «Испо-
ведь сына века» ссылался А. И. Герцен в доказательство своего
утверждения, что в Европе 1830-х годов «нет юности и нет
юношей».
Жермена де Сталь. «Шатобриан был крестным отцом, а
г-жа Сталь повивальною бабкою юного романтизма во Фран-
ции».— писал В. Г. Белинский1.
Дочь французского политического деятеля банкира Неккера,
выданная замуж за шведского посла, Жермена де Сталь (1767—
1816), в отличие от Шатобриана, была восторженной почитатель-
ницей просветителей, особенно Руссо, и придерживалась либе-
ральных политических взглядов. Не пожелав подчиниться деспо-
тизму Наполеона, она была отправлена им в изгнание, которое
разделила с близким своим другом и во многом единомышленни-
ком Бенжаменом Констаном (намеки на их отношения имеются
в «Адольфе»). Г-жа де Сталь объездила всю Европу, побывала
и в России, где А. С. Пушкин, в числе многих передовых людей,
высоко оценил «замечательную женщину», которую «удостоил
Наполеон гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы,
Европа своего уважения».
За два года до «Гения христианства» г-жа де Сталь опуб-
ликовала книгу «О литературе» (1800), имевшую большое значе-
ние в становлении романтической эстетики. В основе этого со-
чинения лежит принцип историзма: литература, утверждает пи-
сательница, развивается вместе с прогрессом общества и у каждого
народа приобретает свои национальные черты. Такое понимание
опрокидывало главную догму классицизма, который признавал
лишь вечный, застывший идеал красоты и незыблемые нормы в
искусстве. Книга г-жи де Сталь предвещала такие романтические
манифесты, как «Расин и Шекспир» Стендаля и «Предисловие»
к «Кромвелю» В. Гюго. В книге «О Германии» г-жа де Сталь
фактически открыла для французов литературу немецкого роман-
тизма. Она выдвинула мысль о культурном взаимодействии на-
родов — «взаимном гостеприимстве литератур».
В двух своих романах, «Дельфина» (1802) и «Коринна, или
Италия» (1807), где она в значительной мере остается публи-
цистом и моралистом, г-жа де Сталь задолго до Жорж Санд
е
1 Белинский В. Г. Собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 1, с. 68.
104
Т. Жерико. Возвращение из России.
Литография. 1819 г.
выступила в защиту женщи-
ны против лицемерной обще-
ственной морали, за свободу
ее личности. В романе «Ко-
ринна, или Италия» она со-
здала свой вариант романти-
ческого героя. Красавица пе-
вица, итальянка Коринна —
возвышенная душа, живу-
щая лишь искусством и лю-
бовью, гибнет, непонятная
мелочным и прозаическим
светским обществом, в угоду
которому ее покинул возлюб-
ленный, богатый англичанин
Освальд. Конфликт худож-
ника с действительностью,
мира поэзии с миром стяжа-
тельства — один из лейтмоти-
вов романтической литерату-
ры — впервые во Франции
был изображен г-жою де
Сталь. Наконец, в «Коринне»
она воспела Италию, как страну живописной природы, искусства
и любви, т. е. наметила тот романтический образ Италии, который
впоследствии стал общим для французского искусства первой трети
XIX века.
Исторический жанр романтизма. Исторические потрясения
всеевропейского масштаба, произошедшие на глазах одного по-
коления, естественно приковывали внимание французских роман-
тиков к истории и наталкивали на исторические обобщения и со-
поставления с современностью. В прошлом искали ключ к се-
годняшнему дню. В период Реставрации происходит бурный рас-
цвет всех исторических жанров1. Появляется больше ста исто-
рических романов, одна за другой выходят исторические драмы,
образы прошлого и размышления на исторические темы проника-
ют в поэзию, в живопись («Смерть Сарданапала» Э. Делакруа,
1827), в музыку (оперы Россини и Мейербера). Выступает ряд
ученых историков (Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо и др.), кото-
рые выдвигают в своих трудах идею непрерывного развития
человечества.
В отличие от просветителей историки времен Реставрации
опирались не на неподвижные понятия добра и зла, а на идею
исторической закономерности. Исторический процесс для них
имеет нравственный смысл, состоящий в постепенном совершен-
ствовании человека и общества. В глазах этих буржуазных мы-
слителей историческая закономерность оправдывала победу
1 См. об этом в кн.: Реизов Б. Г. Французский исторический роман в
эпоху романтизма. Л., 1958.
105
буржуазного строя над феодальным и в годы призрачного воз-
врата старых порядков внушала им исторический оптимизм. Исто-
рию они понимали как состояние борьбы и уже пришли к поня-
тию общественных классов. Историки времен Реставрации были
одновременно теоретиками литературы и приняли участие в вы-
работке романтической эстетики.
Решающее влияние на историческую мысль во Франции ока-
зало творчество Вальтера Скотта, которое стало известно здесь
с 1816 года. Главное открытие английского романиста состояло
в установлении зависимости человека от породившей и окружаю-
щей его социально-исторической среды. По словам Белинского,
«Вальтер Скотт своими романами решил задачу связи историче-
ской жизни с частною»1. Это оказалось чрезвычайно плодотвор-
но для французской литературы, так как открывало пути соче-
тания художественного вымысла с правдой истории. В центре
произведений французских романтиков стоят обычно рядом с
историческими лицами вымышленные герои, на которых сосредо-
точен главный интерес, и наряду с подлинными историческими
событиями изображаются события жизни вымышленных персо-
нажей, которая, однако, всегда связана с общенациональной
жизнью. Новым по сравнению с Вальтером Скоттом было то, что
в исторических романах французских романтиков существенную
роль играла романтическая любовная страсть.
От Вальтера Скотта восприняли французские романтики
понятие эпохи как некоего социально-политического и культур-
ного единства, решающего определенную историческую задачу
и обладающего своим местным колоритом, который выражается
в нравах, особенностях быта, орудий труда, одежде, обычаях
и понятиях. Тут сказалось тяготение романтиков к экзотике,
к живописности, ярким страстям и необычным характерам, по
которым они тосковали в обстановке буржуазной повседневности.
Пластическое воскрешение прошлого, воссоздание местного коло-
рита стало характернейшей чертой французского исторического
романа 1820-х годов и возникшей в середине этого десятилетия
романтической драмы, преимущественно исторической по форме.
Вскоре началась борьба романтиков в театре — главной твердыне
классицизма — за новый романтический репертуар, за свободную
драматургическую форму, за исторические костюмы и декорации,
за более естественное актерское исполнение, отмену сословного де-
ления жанров, трех единств и прочих условностей старого театра.
В этой борьбе, кроме Вальтера Скотта, романтики опирались на
Шекспира.
В исторических сочинениях романтиков эпоха представала
не в статике, а в борьбе, движении, они стремились разобраться
в существе исторических конфликтов — причинах этого движе-
ния. Недавние бурные события делали для них совершенно ясным,
что активной силой истории являются народные массы; история
Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955. т. 6, с. 277.
106
в их понимании и есть жизнь народа, а не отдельных выдающихся
деятелей. Народные персонажи, массовые народные сцены имеют-
ся почти в каждом историческом романе, а в драмах присутствие
народа, хотя бы и за кулисами, нередко определяет развязку
(как в драме В. Гюго «Мария Тюдор», 1833).
«Сен^Мар» А. де Виньи. Первый значительный исторический
роман французского романтизма «Сен-Мар» (1826) принадлежит
перу Альфреда де Виньи (1797—1863). Выходец из старинного
дворянского рода, Альфред де Виньи провел молодость на воен-
ной службе, но рано вышел в отставку и посвятил себя писа-
тельству, работая и над историческим повествованием, и для
театра (драма «Чаттертон», 1835), и как поэт (см. раздел «Поэзия
французского романтизма»). После того как попытки добиться
заметного положения в литературно-артистических и политических
кругах Парижа не увенчались успехом, Виньи провел остаток дней
замкнуто, уединенно, поверяя свои мысли «Дневнику поэта»,
вышедшему после его смерти.
В «Сен-Маре» отчетливо выразились ненависть и презрение
Виньи к новому буржуазному порядку, а с другой стороны, по-
нимание безвозвратной обреченности феодального прошлого, с ко-
торым он пытался связывать свой идеал.
Действие романа происходит во Франции XVII века. Виньи
рисует красочную картину эпохи: провинция и Париж, дворян-
ский замок, городские улицы, публичная казнь «одержимого
дьяволом» священника и ритуал утреннего туалета королевы...
В романе действует множество исторических лиц — король Лю-
довик XIII, королева Анна Австрийская, кардинал Ришелье и его
агент капуцин Жозеф, французский драматург .Корнель и англий-
ский поэт Мильтон, члены королевского дома и военачальники;
их внешность, манеры, одежда подробно описаны на основании
тщательно изученных исторических документов.
Но задача Виньи не в том, чтобы воссоздать местный коло-
рит (хотя это сделано с впечатляющей художественной выра-
зительностью), а прежде всего в том, чтобы внушить читателю
свое понимание истории1. Во введении Виньи устанавливает
различие между правдой факта и исторической правдой; ради
последней художник имеет право свободно обращаться с фактами,
допускать неточности и анахронизмы. Но историческую правду
Виньи толкует субъективно-романтически. На материале прошлого
он стремится разрешить жгуче волнующий его вопрос о судьбах
дворянства. Упадок дворянства означает для него упадок обще-
ства. И он обращается к истокам этого процесса, происходившего,
по его мнению, в период победы во Франции абсолютной монар-
хии. Создатель абсолютизма, кардинал Ришелье, который уничто-
жил феодальные вольности и привел к повиновению родовую знать,
рисуется в романе безоговорочно отрицательно. Именно на карди-
1 Подробнее об этом см. в предисловии С. Скаэкина к роману Виньи «Сен-
Мар» в кн.: Виньи А. де. Сен-Мар. М., 1964.
107
нала писатель возлагает ответственность за то, что «монархия
без основ, какою ее сделал Ришелье», рухнула во время револю-
ции. Не случайно в финале романа заходит разговор о Кромвеле,
который «пойдет дальше, чем пошел Ришелье».
Грозный кардинал изображен в романе хитрым и безжалост-
ным честолюбцем, опутавшим слабого, безвольного короля и
всю Францию сетью своих интриг. Государственная деятельность
его лишена нравственной основы, построена на произволе и на-
силии, прикрытыми видимостью государственной необходимости.
Такое освещение фигуры Ришелье подхватили французские роман-
тики, для которых его образ стал символом враждебного лич-
ности государственного начала (например, в драме В. Гюго
«Марион Делорм», 1829).
В центре сюжета романа Виньи — заговор феодалов против
Ришелье, во главе которого стоит юный дворянин Сен-Map. Не-
значительный исторический эпизод вырастает в чуть ли не вы-
ражение всеобщего протеста против тирании кардинала, которо-
му, по резкому отзыву В. Г. Белинского, автор пытается проти-
вопоставить «пустого и ничтожного Сен-Мара, делая его геро-
ем и великим человеком»1. На первый взгляд, Сен-Map — собрат
романтических бунтарей. Он тоже борется за несбыточное
счастье; бледным, рассеянным и печальным предстает он уже
на первых страницах: «Я борюсь со своим роком, но чувствую,
что он меня одолевает»,— признается он; автор вкладывает в
его уста патетические монологи. (
Но требования художественной правды пришли в противо-
речие с ложной исторической концепцией писателя; он далек
от идеализации противников Ришелье. Если кардинал руковод-
ствуется безграничным честолюбием, то и Сен-Map действует
из не менее эгоистических соображений: он мечтает о захва-
те власти, чтобы добиться руки принцессы Марии Гонзаго, в
которую влюблен; при этом он не останавливается перед госу-
дарственной изменой и строит планы иностранной интервенции.
Его окружение обрисовано самыми мрачными красками, особен-
но члены королевского дома, как, например, трусливый бездель-
ник принц Орлеанский. Король в последнюю минуту предает
своего фаворита, а Мария бросает его, чтобы стать польской
королевой. Герой с самого начала обречен. Но это не только
трагическая обреченность романтического бунта против мирово-
го зла; вопреки своим политическим предрассудкам, Виньи пока-
зал нравственную и историческую неправоту Сен-Мара и законо-
мерность победы тех исторических сил, которые его сокрушили.
Вершиной исторического романа романтизма явился «Собор
Парижской богоматери» Виктора Гюго (1831)2. Но этот жанр
развивался и по иным ответвлениям: с одной стороны, в сторо-
ну реализма («Хроника времен Карла IX» Мериме, 1829; «Шуаны,
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 3, с. 398.
2 См. в данной книге главу «Виктор Гюго».
108
или Бретань в 1799 году» Бальзака, 1829), с другой — в сто-
рону историко-приключенческого романа, классические образцы
которого создал в 1840—1850 годы Александр Дюма-отец.
Дюма* В истории французского романтизма Александр Дюма
(1803—1870)—колоритная фигура. Долгие годы существовала
традиция рассматривать Дюма как писателя второго сорта; одна-
ко его сочинения имели феноменальный успех у современников;
многие поколения французских, да и не только французских,
школьников впервые знакомились с историей Франции по романам
Дюма; романы Дюма любили крупнейшие деятели литературы
разных стран и времен. До наших дней эти романы с увлечением
читаются во всех концах земли.
Александр Дюма был сыном республиканского генерала и
дочери трактирщика, в жилах которой текла негритянская кровь1.
В юности он некоторое время был мелким служащим и появился
в Париже в самый разгар романтических сражений против клас-
сицизма. В литературе он выступил как ревностный участник
кружка Виктора Гюго. Успех молодому Дюма принесла истори-
ческая драма «Генрих III и его двор» (1829)—одна из первых
романтических драм, положивших начало победам нового направ-
ления в театре; за ней последовали «Антони» (1831), «Нельская
башня» (1832) и множество других. С середины 1830-х годов
один за другим стали появляться исторические романы Дюма,
созданные им в огромном количестве и прославившие его имя.
Лучшие из них относятся к 1840-м годам: «Три мушкетера» (1844),
«Двадцать лет спустя» (1845), «Королева Марго» (1845), «Граф
Монте-Кристо» (1845—1846).
Творчество Дюма связано со стихией демократических, ни-
зовых жанров романтизма — с бульварной мелодрамой и газетным
социально-приключенческим романом-фел "^"ом; многие его
произведения, в том числе «Граф Монте-Кристо», появились пер-
воначально в газетах, где печатались в виде отдельных фель-
етонов с продолжением. Дюма близка эстетика романа-фельетона:
простота, даже упрощенность характеров, бурные, преувеличенные
страсти, мелодраматические эффекты, увлекательная фабула,
недвусмысленность авторских оценок, общедоступность художест-
венных средств. Исторические романы Дюма создавались в годы,
когда романтизм уже шел к концу; он использовал романтические
художественные приемы, ставшие расхожими, в значительной мере
в целях развлекательности и сумел сделать исторический жанр
романтизма достоянием самых широких читательских кругов.
Как и другие французские авторы, опираясь на Вальтера
Скотта, Дюма отнюдь не претендует на глубину проникновения
в историю. Романы Дюма — прежде всего авантюрные, в истории
его привлекают яркие, драматические анекдоты, которые он
разыскивал в мемуарах и документах и расцвечивал по воле своей
1 Увлекательный беллетриэированный рассказ о жизни Дюма см. в кн.:
М о р у а А. Три Дюма. М, 1962; М., 1965.
109
фантазии, создавая основу для головокружительных приключе-
ний своих героев. При этом он мастерски воспроизводил пестрый
исторический фон, местный колорит эпохи, но не ставил себе за-
дачу раскрыть ее существенные конфликты.
Важные исторические события: войны, политические пере-
вороты— обычно объясняются у Дюма личными мотивами: мел-
кими слабостями, прихотями правителей, придворными интригами,
эгоистическими страстями. Так, в «Трех мушкетерах» конфликт
держится на личной вражде Ришелье и герцога Бэкингема, на
соперничестве между кардиналом и королем Людовиком XIII;
борьба между абсолютизмом и феодалами, занимавшая глав-
ное место в «Сен-Маре» Виньи, здесь остается в стороне.
В истории царит случайность: от того, успеет ли д'Артаньян
вовремя привезти бриллиантовые подвески королевы, зависит
мир или война с Англией. Вымышленные герои Дюма не только
вовлечены в исторические события, но и активно вмешиваются
в них и даже направляют по своей воле. Д'Артаньян и Атос
помогают Карлу II стать королем Англии; король Людовик XIV
из-за интриги Арамиса едва не подменен своим братом, узни-
ком Бастилии. Словом, в историческом романе Дюма господст-
вуют законы мелодрамы. Нельзя, однако, не отметить, что об-
щая оценка хода событий у Дюма не противоречит исторической
правде. Он всегда на стороне прогрессивных сил, всегда на сто-
роне народов против их тиранов; в этом сказался демократизм
писателя, его республиканские убеждения.
Обаяние исторических романов Дюма прежде всего в том,
что он умеет приблизить прошлое к читателям; история пред-
стает у него красочной, нарядной, захватывающе интересной,
исторические персонажи, как живые, встают на его страницах,
снятые с пьедесталов, очищенные от патины времени, показаны
обыкновенными людьми, с понятными каждому чувствами, при-
чудами, слабостями, с психологически оправданными поступками.
Превосходный рассказчик, Дюма мастерски строит увлекательный
сюжет, стремительно развивающееся действие, умело запутывает,
а потом распутывает все узлы, развертывает красочные описания,
создает блестящие, остроумные диалоги. Положительные герои
лучших его романов по яркости не уступают историческим персо-
нажам, а иногда превосходят их выпуклостью характеров и жиз-
ненной наполненностью. Таковы гасконец Д'Артаньян и его друзья,
с их энергией, отвагой, изобретательностью, активным отношени-
ем к миру. Романтика их приключений основывается на том, что
они сражаются на стороне слабых и обиженных, против зла и
коварства. В романах Дюма заложено гуманистическое начало,
в них ощущается связь с народной жизнью, и в этом залог их
долговечности.
Социальный роман романтизма. На рубеже 1830-х годов
подъем революционного движения и обострение социальных про-
тиворечий потребовали от искусства прямого обращения к со-
временности. Социальная действительность становится в центре
110
романа, драмы, проникает в поэзию. Выступают великие реалис-
ты Стендаль и Бальзак. Рядом с реалистическим романом из
современной жизни возникают различные виды романтического
социального романа. Крупнейшим явлением в этой области, на-
ряду с творчеством Виктора Гюго, явилось творчество Жорж Санд.
Жорж Санд. Аврора Дюдеван (1804—1876), известная всему
миру под именем Жорж Санд, как писательница и как личность,
сыграла заметную роль в духовной жизни XIX века; она была
связана дружескими отношениями со многими выдающимися людь-
ми эпохи и пользовалась уважением передовых современников.
В молодости, бросив вызов буржуазной морали, она оста-
вила мужа и сделалась профессиональным писателем; ее бунт
довершили мужской псевдоним и мужское платье.
Начиная с первого самостоятельного романа «Индиана» (1832),
Жорж Санд в романах 1830-х годов повела борьбу за эманси-
пацию женщины, против института буржуазного брака, основан-
ного на корысти и угнетении. Ее героини — Индиана, Валентина,
Лелия боролись за человеческое достоинство женщины и за свободу
чувства, выступали как романтические бунтари, протестуя против
подавления личности. Все повествование проникнуто романтиче-
ской взволнованностью и лиризмом, которые навсегда остались
отличительной особенностью стиля Жорж Санд.
Жорж Санд прожила долгую жизнь и создала более сотни
произведений. Она формально не примыкала ни к какой литера-
турной школе, но ее концепция мира навсегда осталась роман-
тической. Не случайно наивысший творческий ее взлет приходится
на период, предшествовавший революции 1848 года, когда рас-
пространялась утопическая мысль и в передовых умах жили меч-
ты о всеобщем братстве. К 1840-м годам поле зрения писатель-
ницы расширяется. Убежденная республиканка, она увлекается
различными течениями утопического социализма, сотрудничает
в левой прессе, сближается с рабочими поэтами. Теперь она вы-
водит своих героев из круга личных переживаний и семейных
проблем в большой мир общественной жизни. Романтический герой
с его индивидуалистическим бунтом теряет в глазах Жорж Санд
свое обаяние; в ее творчество входит новый герой — человек из
народа, с которым для писательницы связано будущее. В лучших
ее романах тех лет «Странствующий подмастерье» (1840),
«Орас» (1841), «Консуэло» (1842) отразились идейные искания
эпохи, ее идеалы и иллюзии. Жорж Санд горячо защищает про-
стых людей, ратует за сближение высших классов с тружениками,
носителями нравственного идеала. Только в народе видит она
почву для подлинного искусства («Странствующий подмастерье»,
«Консуэло»), с искренней симпатией изображает республиканские
баррикады («Орас»), народно-освободительные движения (в част-
ности, в Чехии XVIII века — «Консуэло»). Именно в народе на-
ходит Жорж Санд самоотверженность, доброту и героизм, которые,
по ее мысли, способны излечить общество от корысти и эгоизма.
Все это ярко выразилось в романе «Орас».
111
«О pa С». Сын провинциального мелкого чиновника, получив-
ший образование на скопленные родителями гроши, юный Орас
мечтает завоевать Париж. Красивый, обаятельный и красноречи-
вый, он жаждет всеобщего поклонения и самому себе, как и ок-
ружающим, кажется исключительной личностью. «Я из породы
героев»,— заявляет он. Но за возвышенной декламацией Ораса
прячется обыкновенное себялюбие и тщеславие. Орас — позер пе-
ред другими и перед самим собою; притворство стало его вто-
рой натурой. «Даже во сне, даже без свидетелей и зеркала...
старался он принимать благородную позу»; по едкому замеча-
нию одного товарища, он «позирует перед мухами». Орас не
выдерживает жизненной проверки, он не способен ни на глубо-
кую любовь к женщине, ни на подвиг во имя общественных идеа-
лов. Накануне республиканского восстания 1832 года он позорно
бросает товарищей, уклонившись от сражения, а в конце романа
становится преуспевающим адвокатом, позабыв все свои красивые
фразы.
В образе Ораса развенчивается индивидуалистический герой
романтизма с его скрытым эгоизмом. В этом образе содержится
глубокое социальное обобщение — недаром, по свидетельству са-
мого автора, в Орасе узнали себя многие. К этому персонажу
применимы слова А. И. Герцена, сказанные о другом представи-
теле французской буржуазной молодежи 1830—1840-х годов,
Мариусе из «Отверженных» Виктора Гюго: «На этом поколении
окончательно останавливается и начинает свое отступление рево-
люционная эпоха»1.
Орасу противопоставлен в романе сын народа Поль Арсен.
Талантливый живописец, он не погнушался сделаться гарсоном
в кофейне, чтобы прокормить своих сестер, проявляет высокое
благородство и самоотверженность в любви и без громких слов
героически сражается за республику. Рядом с Арсеном целая
группа положительных героев: простая женщинд Марта, облада-
ющая возвышенной душой, студент оеспубликанец Ларавиньер,
искренний друг тружеников, молодой врач из дворян, от лица
которого ведется повествование, и его подруга вне официального
брака, умная и добродетельная швея Эжени.
Жорж Санд сознательно идеализировала своих народных
героев. В спорах с Бальзаком она отстаивала право художника
на создание идеальных образов, в которых для нее брезжило бу-
дущее: «Вы хотите и умеете изображать человека таким, каким
вы его видите. Отлично! А я предпочитаю изображать его таким,
каким хочу его видеть, каким, по моему мнению, он должен быть».
Искусство Жорж Санд откровенно тенденциозно, она пропо-
ведует в своих романах идеалы добра, справедливости, человеч-
ности, в которые писательница твердо верила, хотя, подобно
всем романтикам, туманно представляла исторические пути их
достижения. Именно за высокую идейность ценили Жорж Санд пе-
1 Герцен Л. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М.. 1959, т. 16. с. 155.
112
редовые умы ее времени, особенно в России. В числе ее почи-
тателей были В. Г. Белинский и А. И. Герцен, И, С. Тургенев,
Н. Г. Чернышевский и Ф. М. Достоевский. Салтыков-Щедрин
утверждал, что «люди сороковых годов до сих пор не могут без
умиления вспоминать о Жорже Санде и Викторе Гюго», и отно-
сил творчество Жорж Санд к «литературе идейной, героической,
которая волновала сердца и возбуждала умы»1.
ПОЭТЫ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНТИЗМА
Век философов и умной, побуждающей не столько к сопережи-
ванию, сколько к соразмышлению словесности, просветительское
XVIII столетие для французской лирики было порой скорее за-
сушливой и — за одним бесспорным исключением: Андре Шенье —
скудной своими плодами. Постепенное распространение в первой
половине XIX века романтического виденья жизни на всю культуру
Франции, от живописи и театра до историографии и политических
учений, повлекло за собой возрождение неподдельного лиризма и
в стихотворчестве, дотоле заглушённого было ходульным велере-
чием усердных одописцев и метким, но холодноватым острословием
сочинителей эпиграмм.
Предпосылки обновления лирики. Причиной тому послужил
ряд свойств романтического мышления2, отличавших его от просве-
тительского разума, чересчур склонного к отвлеченному умозре-
нию и потому, между прочим, не выдержавшего проверки порево-
люционной действительностью. Среди них в первую очередь —
пристальное внимание к сокровенному складу личности, душевно
неповторимой в своих страданиях и упованиях. Далее, это вкус
к пестрой, броской, вещественно плотной материальности окру-
жающего, будь оно сегодняшним, текущим, или седой стариной.
И наконец — это мифотворчески одухотворяющий природу и
историю взгляд на бытие как на живое, изменчиво-разноликое
становление. Во всем, что он созерцает, постигает, переживает,
романтик ищет и распознает прежде всего своевольную необыч-
ность, особость отдельного, а то и причудливость незаурядного.
И здесь, в этой отправной установке сознания, коренятся естест-
венные предпосылки лирически непосредственного отклика на
события внешней и внутренней жизни.
Зачинателями романтического обновления французской лири-
ки выступили наряду с Гюго, самым мощным, энциклопедически
1 Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч. в 20-ти томах. М.,
1972, т. 14, с. 151 — 152.
Подробнее о творчестве Жорж Санд см. в кн.: Трескунов М. С. Жорж
Санд. Критико-биографический очерк. Л., 1976; Р е и з о в Б. Г. Предисловие.—
В кн.: Санд Жорж. Собр. соч. в 9-ти томах. Л., 1971, т. 1.
2 Обстоятельный анализ его особенностей и разных преломлений у писателей
той эпохи см. в кн.: Обломиевский Д. Французский романтизм. М., 1947.
См. также: Р е и з о в Б. Г. Между классицизмом и романтизмом. Л., 1962.
113
^^ИР
Т. Жерико. Плот Медузы.
Масло. 1818—1819 гг.
■***>*»>
всеобъемлющим и плодовитым писателем Франции прошлого века,
Ламартин, Виньи, Марселина Деборд-Вальмор (1786—1859),
Шарль Сент-Бев (1804—1869). Своим независимым, совершенно
самостоятельным путем шел народный песенник Беранже. Придер-
живаясь достаточно несхожих воззрений, на первых порах работая
в русле завещанных прошлым стиховых приемов и лишь впослед-
ствии все «смелее их обогащая, все они, тем не менее, с разных
сторон вносили вклад в одно дело преобразования самого строя и
облика лирического творчества.
114
Альфонс де Ламартин (1790—1869). Ламартину здесь
принадлежит заслуга первого шага. Из его обширного наследия —
а он напечатал немало стихотворных книг как собственно лириче-
ских, так и внутренне завершенных пространных отрывков заду-
манной им «христианской эпопеи» («Падение ангела», 1838,
и др).— в памяти последующих поколений прочно сохранились
лишь некоторые вещи из числа самых ранних: из двух выпусков
«Поэтических раздумий» (1820, 1823). Прежде всего это элегии
«Озеро» и «Одиночество», навеянные преждевременной смертью
его возлюбленной.
Под пером Ламартина меланхолическая элегия получила фило-
софский размах думы о бренности земного удела смертных — о ми-
молетно-хрупком счастье, тщете быстротечной жизни, а вместе с
тем обрела проникновенность скорбной исповеди. Для бесприютно-
го ламартиновского страдальца с утратой одного дорогого ему
существа весь белый свет вдруг обезлюдел, обернулся пустыней.
Столь потрясенному сознанию природа, все окружающее предстают
не сами по себе, даны не остраненно-описательно, а пропущены
сквозь призму крайне удрученного, затуманенного страданием
взора: каждая вещь у Ламартина словно бы заговорила, чтобы
напомнить о недавнем блаженстве и теперешней муке. В самой
словесной ткани поэтому, наряду с вкрапленными в нее ударными
философическими изречениями:
У нас нет пристани, и время нас без цели
М чит быстро по волнам,—
«Озеро». Пер. А. Фета
преобладает нежесткая прикрепленность высказывания к тому,
что им обозначается: оно как бы колеблется между своим собствен-
но предметным смыслом и окольной отсылкой к переживанию, вы-
званному тем, на что упал взгляд. В результате все материальное
у Ламартина теряет свою вещную плотность, становится одухотво-
ренно-призрачным, зыбким. Добиваясь еще и просодически-звуко-
вой оркестровкой невиданной раньше во Франции музыкальной те-
кучести стихового потока, Ламартин размывает полновесно-одно-
значную речь ради смутно намекающей, но богатой подразумевае-
мыми оттенками недосказанности.
Все это когда-то дало повод В. Г. Белинскому упрекнуть
«сладкозвучного» Ламартина в том, что его лирика соткана «из
вздохов, охов, облаков, туманов, паров, теней и призраков»1.
Неприязненная суровость этого приговора, впрочем, точного в
указании на существо дела, объясняется еще и тем, что ламар-
тиновская воздушная певучесть, послужив преодолению предшест-
вующей рассудочной сухости лирического слога, вместе с тем
предполагала и несла в себе подход ко всему здешнему, посюсторон-
1 Белинский В. Г. Поли собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 7, с. 235.
115
нему как к «юдоли страданий», царству неподлинного, бледному
отсвету и преддверью потустороннего блаженства. Мистически
настроенный ламартиновский печальник томится по приюту за-
гробного обетования, уповая соединиться там с отлетевшей душой
любимой. Уже у раннего Ламартина элегия исподволь перерастает
в молитвенное славословие творцу, которое с годами забивает
и душит столь неподдельно личные поначалу признания.
Альфред де Виньи (1797—1863). В отличие от плодовитого
Ламартина, Виньи выпустил при жизни всего одну стихотворную
книгу — «Древние и современные поэмы» (1826); вторая, где
его душеприказчики собрали под названием «Судьбы» сделанное
им за последующие три десятка лет, увидела свет посмертно,
в 1864 году.
Подчеркнуто сдержанный, чеканящий крепко сбитые строки,
поэт-мыслитель Виньи облекает сокровенное, вдумчиво пережи-
тое и страстно передуманное в одежды притчи, заимствованной из
мифа, чаще всего библейского, или перелагает какой-то памятный
случай из жизни. Хрестоматийная «Смерть волка» у него, по-ви-
димости, мало похожа на исповедь. Внешне это рассказ об одной
ночной охоте, когда напавшая на волчий след погоня была задер-
жана самцом: вступив в заведомо обреченную для него схватку со
сворой собак, он бестрепетно погиб, чтобы дать спастись волчице
с ее потомством. И лишь под самый занавес такой, будто сторон-
ний, «пересказ» очевидца происшествия круто переключен из
плоскости повествовательной в плоскость философского иносказа-
ния при помощи урока-заповеди, которая обнажает нравственные
убеждения самого Виньи:
Да, я постиг тебя, мой хищный, дикий брат.
Как много рассказал мне твой последний взгляд!
Он говорил: усвой в дороге одинокой
Веленья мудрости суровой и глубокой
И тот стоический и гордый строй души,
С которым я рожден и жил в лесной глуши.
Лишь трус и молится и хнычет безрассудно.
Исполнись мужества, когда боренье трудно,
Желанья затаи в сердечной глубине
И, молча отстрадав, умри, подобно мне.
Пер. В. Левина
Жизневиденье Виньи, не принявшего пореволюционного за-
силья торгашей, когда недюжинная личность обречена, по его
мнению, на прозябание, отщепенство, гибель, насквозь трагично.
«Спокойная безнадежность, без судорожного гнева и укоров небе-
сам,— записал он как-то в дневнике,— это и есть сама мудрость».
Хмурое безмолвие божества над головой, не внемлющего мольбам
и недоуменным вопрошаниям людским («Моисей», «Масличная
гора»), бездуховность, деляческая суета машинной цивилизации,
вторгшейся в самые дотоле тихие уголки природы («Пастушья
хижина»), жестокосердие и толпы, и властителей («Ванда»),
иной раз предательское коварство близких («Гнев Самсона») —
116
вселенная, по Виньи, неблагосклонна к человеку, гнетуще безучаст-
на, а то и прямо ему враждебна. Залог достоинства личности усмат-
ривается им, однако, в том, чтобы не сникнуть под ударами судьбы,
но суметь выдержать их, распрямиться и горделиво встретить на-
тиск разлитого повсюду злосчастья. И подчас не просто вы-
стоять, а исполнить до конца дело своей жизни, которое для
самого Виньи — в духовном подвижничестве. Так капитан кораб-
ля, терпящего крушение, в час гибели внутренне не сдается,
а запечатывает карту опасного пролива в бутылку и бросает
ее в море в надежде, что добытое им страшной ценой знание
кому-нибудь сослужит добрую службу («Бутылка в море»); так
одинокий творец на поприще культуры, вопреки житейским не-
взгодам, в каждодневных упорных трудах взращивает «жемчужи-
ну мысли» и приносит ее в дар многим поколениям, нынешним
и грядущим («Пастушья хижина», «Чистый дух»). Трагизм здесь
сродни суровому сопротивленчеству, а не сломленности. Он не
обольщается благими надеждами и все-таки взывает к чувству
долга перед самим собой и другими.
Ответственная стоическая выдержка у Виньи — ключевая нрав-
ственная ценность.
Она же по-своему сказывается и в самой работе Виньи над
словом — всегда собранным, неброским, тщательно взвешенным.
Слегка замедленное, внятное до мельчайших оттенков, исполненное
серьезности письмо; стройное равновесие александрийского двена-
дцатисложника, им обычно употребляемого; четкая разбивка вере-
ницы кованых строк на строфы; прозрачность замысла и чистота
отделки — мастерство Виньи, особенно совершенно воплотившееся
в самой прославленной из его малых лирических эпопей, «Пастушь-
ей хижине», вполне под стать его морали самообладания.
Младшее поколение поэтов-романтиков. Сразу после
Июльской революции 1830 года горстка не слишком между собой
сплоченных провозвестников лирического возрождения во Фран-
ции получает пополнение в лице Мюссе, Барбье, Нерваля, ряда
других младших романтиков; романтизм растет вширь, утверж-
даясь во французской поэзии как ее основной поток.
Кипение политических страстей в стране, вырвавшихся наружу
после застойных лет Реставрации, побуждало всех работавших в
культуре самоопределиться граждански гораздо четче, чем прежде.
Отклики на болезненно-злободневные события текущей истории
изобилуют теперь в лирике как старшего, так и младшего поколе-
ния романтиков. На перекресток споров внутри их лагеря выдви-
нулся отныне вопрос о полезности или, наоборот, самодостаточно-
сти писательского дела. Но даже поборники лозунга «искусства
для искусства», именно тогда провозглашенного поэтом, критиком
и романистом Теофилем Готье (1811 —1872), в своих доводах
обычно исходили из превратно истолкованных умонастроений
нравственного протеста. В первую очередь они ссылались на не-
приятие господствующих жизненных ценностей, внушенных погоней
за выгодой, на презрение к добродетелям сытого мещанина.
117
Продвигаясь дальше по дорогам, открытым Гюго, Ламартином,
Виньи, младшее поколение романтических лириков чувствует себя
гораздо раскованнее перед всем издавна принятым, отвердевшим в
классицистический канон и с возросшей дерзостью на него пося-
гает. Оно охотно возвращает в обиход стиховой культуры полу-
забытые размеры, строфику средневековой и возрожденческой ли-
рики. Немало изобретается и заново, как это случилось со стихо-
творением в прозе, жанровой находкой тех лет (Алоизиус Бер-
тран— «Ночной Гаспар», 1842), которой суждено было во Фран-
ции на редкость плодотворное будущее1.
Со временем, однако, у этого поколения мало-помалу дает
о себе знать износ первоначального обновленческого порыва.
Недавно возвещавшееся с безоговорочным пылом нет-нет да и под-
точено изнутри озорной усмешкой над собственным рвением —
серьезность приправлена самоиронией. Да и выдвигаемые перед
собой поисковые задачи нередко мыслятся сравнительно более
дробными, суженными; подчас душевная обедненность и холодок
угадываются за технически изощренным мастерством. К середине
XIX века в самом воздухе лирического творчества появляется
потребность в очередной смене вех.
Огюст Барбье (1805—1882). Дата рождения гражданской
лирики2 французского романтизма устанавливается совершенно
точно—ее историю открывает «Раздел добычи» Барбье, громовой
отклик на восстание парижан в июле 1830 года. Дань восхищения
героическому народу и одновременно пощечина хозяевам новоиспе-
ченной «мещанской монархии», ловко присвоившим плоды чужой
победы, «Раздел добычи» построен как сшибка двух развернутых
метафорических олицетворений. В зачине — революционный под-
виг «святой черни», сражавшейся под предводительством девы-
простолюдинки Свободы, той самой, что воочию предстанет вскоре
благодаря кисти Делакруа на его полотне «Свобода на барри-
кадах»:
Свобода — женщина с высокой грудью, грубо
Сердца влекущая к себе.
Ей широко шагать среди народа любо,
Служить на совесть голытьбе.
Ей любо-дорого народное наречье.
Дробь барабана ей сладка,
Пороховой дымок и где-то за картечью
Ночной набат издалека.
Пер. П. Антокольского
1 Основные вехи французского стихотворчества в прозе в XIX веке пред-
ставлены в кн.: Бертран А. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта
и Калло. М., 1981.
2 О ее путях и мастерах во Франции прошлого столетия см.: Данилин Ю.
Очерк французской политической поэзии XIX века. М., 1974; Беликов-
ский С. Поэты французских революций. 1789—1848. М, 1963; См. также:
Соколова Т. В. Июльская революция и французская литература (1830—
1831). Л., 1973.
118
О. Домье. Свобода слова.
Литография. 1830-е гг.
А к концу — мерзкое зрелище «собачьего пира», когда голодная
свора гончих раздирает тушу загнанного кабана.
«Раздел добычи» был включен в первую книгу Барбье «Ям-
бы» (1831) — вереницу негодующе-хлестких памфлетов против
той растленности умов и • душ, которая превратила тогдашний
Париж верхов, отравленный угаром тщеславия и обогащения, во
«вселенскую свалку нечистот» («Котел»). В другом сборнике
Барбье «Лазарь» (1837), написанном после поездки в Англию,
французская лирика впервые всерьез прикоснулась к правде о про-
мышленном аде заводов и угольных шахт, об участи его обитате-
лей — пролетариев.
Возвышенно-книжная патетика сращена в слоге Барбье с раз-
говорным просторечием (иной раз такие стяжения удаются даже
в пределах одного составного слова: «лохмотьеносец» — сказано
о народе так, как произносят торжественно «венценосец»); рассу-
дочно-назидательное изобличительство заземлено в олицетворени-
ях зрелищно-притчевых, выпуклых, западающих в память (скажем,
в развенчивающей «наполеоновскую легенду» сатире «Идол» Фран-
ция рисуется в виде скаковой лошади, измотанной до полусмерти
неумолимым наездником-императором); гражданское негодование
обрело пружинящую мускулистость в ораторски нарастающих сти-
ховых периодах и вдобавок невиданную раньше личную страст-
ность. Всем этим Барбье задал настрой французской поэтической
сатире XIX века, разящим оружием которой служил обычно не
119
столько смех, сколько трагически окрашенное бичевание. Именно
в этом ключе будут выдержаны потом и «Возмездия» Гюго.
Альфред де Мюссе (1810—1857). -Замешенная на сердечных
страданиях йсповедальность, так или иначе проступающая почти
у всех лириков романтизма, оголеннее всего явлена у Мюссе, чье
предписание себе гласило: «обратить слезы в жемчужины».
Правда, искрометные «Испанские и итальянские сказки»
(1829) юного баловня судьбы, каким он вступал в жизнь, отнюдь
не предвещали подобного поворота к жалобам сокрушенного серд-
ца. Напротив, они были грациозными, лукаво задорными прелом-
лениями вкуса к пестрой экзотике, восходящего к раннему Гюго;
еще Пушкин отметил в них «живость необыкновенную». Мюссе
и позже не раз прельщал своим даром непринужденной виртуоз-
ности то в рассыпанных у него там и здесь блестках эпиграмма-
тического остроумия, то в чуть тронутых потаенной грустью пе-
сенках, напоминавших средневековый романс своим простым изя-
ществом:
Слабому сердцу посмел я сказать:
Будет, ах, будет любви предаваться!
Разве не видишь, что вечно меняться —
Значит в желаньях блаженство терять?
Сердце мне, сердце шепнуло в ответ:
Нет, не довольно любви предаваться!
Слаще тому, кто умеет меняться,
Радости прошлые — то, чего нет!
«Песня». Пер. В. Брюсова
Однако со временем стрежень лирики Мюссе все круче откло-
няется к омутам «болезни века» с ее наплывами щемящей тоски,
бесприютности, всеразъедающими сомнениями. Самые мучительные
душевные раздумья Мюссе отмечены вехами четырех стихотворных
исповедей «Ночи» (1835—1837) — майская, декабрьская, октябрь-
ская, августовская. Три из них — чистосердечный разговор хруп-
кого поэта с музой, которая посещает его в полночный час, дабы
напомнить ему, отложившему перо в унынии от невосполнимых
душевных утрат, о «святости сердечных ран», исторгающих из
груди певца бессмертные стоны. В «Декабрьской ночи», как бы
проясняя, что все эти свидания не что иное, как встречи с самим
собой, таким собеседником Мюссе оказывается призрак, сопровож-
дающий его, словно тень, от колыбели до могилы: собственное
одиночество. Столь неотступный спутник души знает о ней все,
и, вглядываясь в зеркало этого всеведенья, она высвечивает для
себя самые потаенные свои уголки, пробует распутать самые туго
затянутые узлы пережитого. Искренность Мюссе и здесь, как и в
других его сочинениях, не лишена налета самолюбования, порой
умильной растроганности. И все же именно на подобных очных
ставках с собой исподволь он нащупывал для французской лирики
прошлого века доступ к парадоксально запутанной чересполосице
внутреннего самочувствия личности.
120
Жерар де Нерваль (1808—1857). Сиротское детство; ни-
щая богемная молодость, годами — изнурительный труд поденщика
пера; несчастная любовь и смерть обожаемой женщины; учащаю-
щиеся приступы душевной болезни; в конце концов гибель (ско-
рее всего — самоубийство) где-то в глухом парижском проулке —
Жерару де Нервалю (настоящее имя — Лабрюни) выпала доля
«про'клятого поэта», как назовут вскоре во Франции таких, не
столь уж редких в XIX веке, пасынков литературной судьбы. Сам
он скажет об этом с пронзительной грустью в сонете «El desdi-
chado»1, одной из самых проникновенных страниц всей француз-
ской лирики:
Я в горе, я вдовец, темно в душе моей,
Я Аквитанский принц, и стены башни пали;
Моя звезда мертва,— свет солнечных лучей
Над лютней звонкою скрыт черной мглой Печали.
Пер. Н. Стрижевской
Наследие Нерваля-лирика составляют всего два небольших
цикла: «Маленькие оды» (собраны вместе в 1852 году, но в ос-
новном писались гораздо раньше) и «Химеры»2 (напечатаны как
приложение к книге повестей «Дочери огня», 1854). Сюда же,
к этому наследию, по праву должно отнести, наряду с прослав-
ленным переводом «Фауста» Гете (ч. I — 1827, ч. II — 1840), еще
и такие прозаические вещи, как «Сильвия» (1853) и «Аурелия»
(1855), где рассказ о действительно случившемся нерасторжимо
% спаян с ночными грезами самого повествователя.
Легенда — будь она взята из ближневосточных мистерий, древ-
негреческих мифов, христианских преданий или средневекового
фольклора, впрочем, сплетенных в причудливо-личную нервалев-
скую мифологию,— вообще служит Нервалю, горячему поклоннику
немецких романтиков, одним из ключей как к собственной отдель-
ной участи, так и к таинствам вселенной. Подобному сознанию,
мифологизирующему все вокруг себя, постоянно прибегая к своего
рода разгадке-примысливанию, к обживающему вниканию в мате-
риально сущее, вселенная предстает одухотворенной в каждой своей
клеточке и звучит на тысячу голосов для уха, умеющего их рас-
слышать:
Узрев любую тварь, воздай ее уму:
Любой цветок душой природа увенчала,
Мистерия любви — в руде, в куске металла.
«Все в мире чувствует!» Подвластен ты всему.
И стен слепых страшись, они пронзают взглядом,
Сама материя в себе глагол таит...
Ее не надо чтить кощунственным обрядом!
1 Обездоленный (исп.).
2 Представительная подборка из стихотворного наследия Нерваля, которого
начали у нас переводить сравнительно недавно, помещена во французском раз-
деле кн.: Европейская поэзия XIX века. М., 1977. (Б-ка всемирной литера-
туры, серия II, т. 85).
121
Но дух божественный подчас в предметах скрыт;
Заслоны плотных век — перед незримым глазом,
А в глыбе каменной упрятан чистый разум.
«Золотые стихи». Пер. А. Ревича
Причаститься к этому прячущему свой сокровенный смысл,
а то и преднамеренный умысел бытийному круговороту, в котором
смерть и воскрешение чередуются как залог надежды, Нерваль
уповает через сновидчество: в вихрении непроизвольном грез, ду-
мает он, вещает о себе впрямую, без посредничества холодного
рассудка, сама первозданная природа. Погоня за сновидческими
«озарениями», когда, по Нервалю, «земные происшествия могут
совпасть с событиями мира сверхъестественного», вносит в сонеты
«Химер» немало темных намеков, а перекличка последних между
собой образует мистически толкуемый подспудный мыслительный
пласт нервалевской лирики. Залог ее обаяния и принадлежности к
ценнейшим достижениям поэтической культуры XIX века в том,
однако, что и при совершенно неискушенном знакомстве она отнюдь
не отпугивает хмурой герметичностью. Напротив, она сразу же
подкупает задумчивой доверительностью признаний, своим бес-
хитростно-свежим взглядом на окружающее, искусной простотой
словесно-стиховых ходов, нередко — напевным изяществом старин-
ной песни, всегда — безупречно стройной хрупкостью. Вместе с тем
убежденность, что «сон есть другая жизнь», больше того, будто
в нем-то и дана подлинная истина яви, сделала умершего почти
безвестным Нерваля позже, в глазах сначала некоторых символи-
стов, а затем особенно сюрреалистов XX века, их предтечей.
ВИКТОР ГЮГО
Крупнейшая фигура французского романтизма, Виктор Гюго
(1802—1885) вошел в историю литературы как демократ и гума-
нист, поборник добра и справедливости, защитник угнетенных. Его
мировая известность основана на его романах, но для своих сооте-
чественников Гюго прежде всего поэт — первый поэт Франции, не
знающий себе равных по масштабности творчества, его граждан-
скому накалу, виртуозному мастерству, богатству поэтического сло-
варя и бесконечному разнообразию сюжетов, чувств, настроений.
Творчество Гюго отличается редким художественным един-
ством. Поэтом оставался он во всем, что бы ни писал: и в дра-
матургии, пронизанной страстным лиризмом, и в романах, на
каждой странице которых слышится его взволнованный голос, и
в переписке, речах, публицистике, критических сочинениях, где
сверкает весь арсенал романтической образности, весь фейерверк
метафор и гипербол, неотъемлемых от его стиля и поэзии. С другой
стороны, эпическое начало присутствует не только в его романах
и больших поэмах, но и в лирике, даже самой личной, самой заду-
шевной.
122
Жизнь Виктора Гюго охватила почти целый век. Он родился,
когда еще не отпылали зарницы французской революции и только
укреплялся новый, капиталистический общественный уклад, и до-
жил до того исторического периода, когда буржуазное общество
уже пошло под уклон и в нем все явственней проступали черты
кризиса и упадка. Творчество Гюго, которое он назвал «звон-
ким эхом своего времени», откликнулось на важнейшие про-
блемы бурного XIX века, отразило его конфликты и идеалы, его
иллюзии и надежды. Гюго был свидетелем частой смены полити-
ческих режимов, побед и поражений народных масс Франции в
борьбе за республику, за свои социальные права, освободительной
борьбы народов Европы против реакционных правлений и инозем-
ных угнетателей, первых рабочих восстаний 1830-х годов и первой
попытки утвердить власть пролетариата в дни Парижской Комму-
ны 1871 года. И всегда он был на стороне демократии против
реакции, на стороне народов против их тиранов.
Я был непримирим во дни лихих годин,
На многих деспотов я шел войной один,—
гордо признается Гюго в одном из поздних стихотворений «Vic-
tor victis» (Пер. А. Арго).
Сын наполеоновского Генерала и убежденной сторонницы свер-
гнутых революцией «законных» королей, Виктор Гюго с детства
оказался причастным к политическим распрям того времени1.
Влияние обожаемой матери сказалось на юношеских его стихах,
прославлявших реставрированных на престоле Бурбонов. Пятна-
дцатилетним подростком он поражал знатоков силой своего поэти-
ческого дара, а его благонамеренные «Оды» (1822) снискали ему
ряд литературных премий и денежное вознаграждение от короля.
Однако мужал он стремительно. Уже через год-другой сблизился
с кружком романтиков и сделался завсегдатаем их собраний у
Шарля Нодье, в библиотеке Арсенала. В годы горячих споров
вокруг брошюры Стендаля «Расин и Шекспир», где был нанесен
чувствительный удар эстетике классицизма, Гюго также увлекается
Шекспиром, интересуется Сервантесом и Рабле, с сочувствием пи-
шет о Вальтере Скотте и Байроне. К концу 1820-х годов Гюго стал
признанным вождем и пророком «лохматого и бородатого племени»
нового поколения романтиков — талантливой артистической моло-
дежи, возмутившейся против мещанских вкусов, против официаль-
ного эпигонского классицизма и с энтузиазмом строившей новое
искусство, свободное от всяких догм. «Поэт должен советоваться
только с природой, истиной и своим вдохновением»,— заявил Вик-
тор Гюго в «Предисловии» к своей драме «Кромвель» (1827), ко-
торому суждено было стать манифестом новой школы. Очень скоро
требование свободы творчества слилось в сознании Гюго с борьбой
1 О жизни В. Гюго см. в кн.: Муравьева Н. И. Гюго. М., 1961, а
также беллетризированную биографию: М о р у а А. Олимпио, или Жизнь Вик-
тора Гюго. М., 1971.
123
за политическую свободу; он с одинаковым пылом вступил в бой
с гидрой «пудреных париков» и гидрой реакции.
«Предисловие» К «Кромвелю». В «Предисловии» к «Кром-
велю» дается широкое теоретическое обоснование нового романти-
ческого искусства1. «Как бы ни были велики кедр и пальма,
нельзя стать великим, питаясь лишь их соком», — как ни прекрасно
искусство античной древности, новая литература не может ограни-
читься подражанием ему — вот одна из главных мыслей «Преди-
словия». Искусство,— заявил Гюго,— меняется и развивается вме-
сте с развитием человечества, и так как оно отражает жизнь, то
каждой эпохе соответствует свое искусство. Историю человечества
Гюго разделил на три большие эпохи: первобытную, которой в
искусстве соответствует «ода» (т. е. лирическая поэзия), античную,
которой соответствует эпос, и новую, которая породила драму.
Величайшие образцы искусства этих трех эпох — библейские ле-
генды, поэмы Гомера и творчество Шекспира. Шекспира Гюго
объявляет вершиной искусства нового времени, под словом «драма»
понимая не только театральный жанр, но и вообще искусство, отра-
жающее драматический характер новой эпохи, главные черты кото-
рого он и стремится определить.
В противовес классицизму, который молодой поэт полагал
устаревшим и оторванным от живой жизни, с его аристократиче-
ским противопоставлением «благородных» героев «неблагородным»,
«высоких» сюжетов и жанров «низким», Гюго потребовал расши-
рить границы искусства, свободно сочетать в нем трагическое и
комическое, возвышенно-прекрасное и низменно-безобразное (гро-
тескное), как это происходит в жизни. Прекрасное одноообразно,
писал он, у него одно лицо; у безобразного их тысячи. Поэтому
прекрасному следует предпочесть «характерное». Важной чертой
нового искусства Гюго Считал то, что оно открыло широкую дорогу
гротеску. Другая важная черта — антитеза в искусстве, призванная
отражать контрасты самой действительности, в первую очередь
противоположность плоти и духа (здесь сказалось влияние Шато-
бриана), зла и добра. Гюго потребовал соблюдения в драме исто-
рического правдоподобия — местного колорита, как в исторических
романах, и обрушился на единства места и времени — нерушимые
каноны классицизма, которые казались ему натяжками. Написанное
с блеском и страстью, полное дерзких мыслей и ярких образов,
«Предисловие» к «Кромвелю» произвело огромное впечатление на
литературных современников. Прежде всего оно открыло дорогу
романтической драме, которая начала завоевывать французскую
сцену накануне 1830 года. Сформулированные Гюго принципы так
или иначе сказались на таких произведениях, как «Генрих III и
его двор» (1829) Александра Дюма, «Жакерия» (1828) Проспера
Мериме, драмы и переводы из Шекспира Альфреда де Виньи.
«Предисловие» во многом оправдывало эстетику низового романти-
1 Отрывки из «Предисловия к «Кромвелю» см. в кн.: Литературные мани-
фесты западноевропейских романтиков. М., 1980, с. 447—459.
124
ческого жанра — бульварной мелодрамы, получившей широкое рас-
пространение в 1830-е годы.
Однако значение «Предисловия» далеко выходило за пределы
театра. Оно стало боевой программой окончательно сформировав-
шейся накануне 1830 года романтической школы во Франции.
Романтическая лирика. Уже юношеские «Оды», по собственно-
му признанию Гюго1, «были непохожи на оды». А переиздавая
их через несколько лет, он присоединил к одам ряд романтических
баллад в духе новой школы («Оды и баллады», 1826), ознамено-
вавших разрыв молодого поэта с официальной литературой. Здесь
во всю буйствует местный колорит, возникают красочные картины
французского средневековья: феодальные замки, пограничные
башни, рыцарские охоты, битвы и турниры. В баллады вплетаются
мотивы народных преданий и сказок, рядом с рыцарями, трубаду-
рами и дамами действуют феи, русалки, карлики, великаны. Гюго
как бы воскресил национальную поэтическую традицию средних
веков и Возрождения, на целых два столетия прерванную безраз-
дельным господством классицизма. Для первых читателей, привык-
ших к размеренному александрийскому стиху и строгой поэтиче-
ской лексике, баллады Гюго, их пестрота и живописность, их воль-
ные размеры и ритмы, ошеломляющие рифмы, звукопись, разго-
ворные интонации, вызывающая свобода словаря, были равносиль-
ны литературной революции. Сам поэт впоследствии так оценивал
свою деятельность этих лет:
На плотные ряды александрийских стоп
Я революцию направил самовластно,
На дряхлый наш словарь колпак надвинул красный.
Нет слов-сенаторов и слов-плебеев!..
«Ответ на обвинение». Пер. Э. Липецкой
В «Восточных мотивах» (1829) экзотику средневековую сменила
экзотика романтического Востока, с его жарким солнцем и синим
небом, с его бурными страстями, жестокостью и негой, горделивы-
ми пашами и гаремными красавицами. «Восточные мотивы» созданы
под обаянием «восточных поэм» Байрона и перекликаются с той
тягой к восточной экзотике, которая охватила европейский роман-
тизм (вплоть до русского) в этот период. Однако центральное место
в сборнике Гюго заняли стихотворения, в которых поэт воспевает
героев еще не завершившейся греческой освободительной войны
против ига Турции.
Эти пылкие и красочные стихотворения вызывают в памяти
написанную на ту же тему картину «Резня на Хиосе» крупнейшего
романтика во французской живописи Эжена Делакруа.
Не в пример многим собратьям по романтическим кружкам,
Гюго не уходил в яркий мир своего искусства от действительности
своего времени, а, наоборот, приближался к ней. В его поэзию
1 О формировании творчества Гюго см.: Мешкова И. В. Творчество
Виктора Гюго. Саратов, 1971, кн. 1.
125
все более властно врывались события, звуки и краски живой жизни.
Отсюда был уже один шаг до откровенно злободневного искусства,
и революция 1830 года побудила Гюго сделать этот шаг.
«Три славных дня» поэт встретил восторженным гимном, он
не сразу разглядел, что плодами народной победы воспользовалась
буржуазия, навязавшая Франции «короля-гражданина» Луи-Фи-
липпа Орлеанского. Но с этой минуты он добавляет к своей лире
«медную струну» гражданской лирики, которая в его дальнейшем
творчестве будет занимать все большее место:
Да, муза посвятить себя должна народу!
И забываю я любовь, семью, природу,
И появляется, всесильна и грозна,
У лиры медная, гремящая струна!
«Друзья, скажу еще два слова...» Пер. Э. Липецкой
Современная жизнь широким потоком хлынула теперь в поэзию
Гюго. Его персонажами становятся люди из народа, герои бар-
рикадных сражений, нищие и голодные, скромные труженики, без-
домные женщины и дети. Его стихотворения 1830-х годов полны
тревожных мыслей и смутных предчувствий; поэта поражают
социальные контрасты, он ощущает дисгармонию мироздания, в
котором ему теперь слышится «природы вечный гимн и вопль
души людской»; он задумывается о судьбах своего века, грозит
правителям народным гневом:
Народ идет. Настал его прилива час.
Смывая прошлое, он смоет вас!
«Размышления прохожего о королях». Пер. Э. Липецкой
Романтическая драма. На событиях Июльской революции вы-
росла драматургия Гюго, пронизанная политическим свободомыс-
лием и глубоким демократизмом. Между 1829 и 1842 годами он
создал восемь романтических драм, составивших важный этап в
истории французского театра.
Первая из этих драм «Марион Делорм, или Дуэль в эпоху
Ришелье» (1829) была запрещена цензурой, не без основания
узревшей в образе слабоумного Людовика XIII намек на царство-
вавшего тогда короля Карла X, и увидела сцену лишь после свер-
жения Бурбонов, в 1831 году. Поэтому решающую роль в станов-
лении романтического театра сыграла вторая драма — «Эрнани».
Постановку «Эрнани» в накаленной атмосфере кануна революции
(25 февраля 1830 года) нельзя было истолковать иначе, как поли-
тическую демонстрацию. В предисловии к «Эрнани» Гюго прямо
объявил свой романтизм «либерализмом в литературе», а в самой
драме изобразил отверженного обществом человека трагическим
героем и соперником короля. Появление такой пьесы на сцене
театра «Французской комедии», освященной вековой традицией
классицизма, означало дерзкий вызов общественному мнению в
литературных вопросах. Премьера «Эрнани» вылилась в генераль-
ное сражение между классиками и романтиками, которое окончилось
126
полной победой — отныне он
получил право на существо-
вание в театре.
Современников поразила
прежде всего внешняя новизна
драм Гюго: вместо привычного
мифологического или легендар-
ного сюжета, условно-«антич-
ных» декораций — живописная
средневековая Франция, Испа-
ния, Италия, Англия; вместо
фижм и париков — местный ко-
лорит, исторические костюмы
и обстановка, испанские плащи,
широкополые шляпы, «стол, по-
крытый во вкусе XVI века»,
зала «в полуфламандском стиле
времен Филиппа IV». Прене-
брегая единством места, Гюго
смело переносит действие из
будуара куртизанки в королевский дворец, из картинной гале-
реи — в могильный склеп, освещенный факелами, в лачугу контра-
бандиста, в мрачные темницы Тауэра. Столь же дерзко нарушено
единство времени — действие охватывает иногда целые месяцы.
Элементы трагедии и комедии перемешаны и в сюжете и в языке.
Но самыми впечатляющими были тот бунтарский пафос, та атмос-
фера борьбы и отваги, тот накал больших страстей, тот гуманизм,
которые составляют самую душу драматургии Гюго.
Под натиском новых идей рассыпалась старая классическая
форма. О каком делении на высокий и низкий жанр может идти
речь, если король соперничает с «бандитом», королева отвечает
взаимностью влюбленному лакею, а жалкий шут попирает ногой
Ж.-И. Гранвиль. Премьера «Эрнани».
Литография. 1846 г.
мнимый труп могущественного монарха
? Если положительные ге-
рои— это плебеи без рода и племени, униженные, отверженные,
сброшенные на дно общества, а отрицательные персонажи — это
целая вереница алчных, бездарных вельмож и глупых, жестоких,
безнравственных королей?
Исторический маскарад никого не мог обмануть, современники
назвали драму Гюго «современной», в отличие от далекой от со-
временной жизни классической трагедии. Драма «Король за-
бавляется» явилась прямым откликом на республиканское восста-
ние в Париже 5—6 июня 1832 года; во время премьеры в зале
послышались революционные песни «Марсельеза» и «Карманьола»,
пьеса была запрещена на целых полвека и возобновлена только
в 1885 году1.
1 В 1851 году композитор Джузеппе Верди создал по драме В. Гюго «Ко-
роль забавляется» оперу «Риголетто», перенеся действие в Италию и заменив
короля герцогом.
127
В драме «Мария Тюдор» (1833), появившейся между двумя
народными восстаниями (1832 и 1834 годов), Гюго вывел в ка-
честве идеального героя рабочего, блузника, собрата тех, кто
выступил под черным знаменем лионских ткачей с лозунгом «Хлеб
или смерть!». В этой драме восставший народ Лондона дает отпор
королеве. А в драме «Рюи Блаз» (1838) плебей, оказавшись у
кормила правления, олицетворяет народ, от которого только и
можно ждать спасения для гибнущей страны.
Правда, в драмах Гюго условность классицизма оказалась
заменена другой, романтической условностью,— из одной пьесы
в другую шагал все тот же романтический герой, благородный
бунтарь и отщепенец, одетый то в платье испанского горца, то
в блузу, то в ливрею, произносящий все те же тирады, облечен-
ные в великолепные стихи. Но важно было то, что новый жанр
романтической драмы, созданный Гюго и укрепившийся во фран-
цузской литературе, наполнился злободневным политическим и
социальным содержанием. Деятельность Гюго как драматурга при-
вела к значительной демократизации французского театра.
Мир — арена борьбы Добра И Зла. Романтическое чувство
историзма и противоречие между идеалом и действительностью
своеобразно преломилось в миропонимании и творчестве Виктора
Гюго. Жизнь видится ему полной контрастов и диссонансов, по-
тому что в ней идет постоянная борьба Добра и Зла. И передать
эту борьбу призваны кричащие антитезы — главный художествен-
ный принцип писателя, в которых противопоставляются образы
прекрасного и безобразного (гротескного), рисует ли он картины
природы, душу человека или жизнь человечества. Гул истории
постоянно аккомпанирует голосу писателя. Он ощущает «марш
нескончаемый народов и племен», чувствует «зим, весен, осе-
ней и лет живую связь». В истории бушует стихия зла, гро-
теска; через все творчество Гюго проходят образы крушения
цивилизаций, борьбы народов против кровавых тиранов, карти-
ны страданий, бедствий и несправедливости. Пугающие безд-
ны открываются писателю и в человеческой душе.
И все же с годами Гюго все более укрепляется в понима-
нии истории как неукоснительного движения от мрака к свету,
от зла к добру, от рабства и насилия к справедливости и сво-
боде. Этот исторический оптимизм, в отличие от большинства
романтиков, Гюго унаследовал от просветителей XVIII века,
а позднее к их урокам присоединились влияние утопического
социализма и уроки народной борьбы, свидетелем которой писа-
тель был на протяжении своей долгой жизни. Он имел весьма
туманное представление о реальных факторах исторического раз-
вития общества, и его общественные идеалы навсегда остались
романтически расплывчатыми.
В политическом отношении, даже на вершине своего идей-
ного развития, Гюго не шел дальше буржуазно-демократической
республики, идеализируя ее принципы; общество своего време-
ни он делил не по классовому, а по моральному признаку, на
128
'■ .*,--^tp*>
в.
добрых и злых, но граница меж-
ду добрыми и злыми совпадает
для Гюго с гранью, отделяющей
бедных от богатых, народ для
него носитель нравственного
идеала, Добра, а эксплуататор-
ские классы — носители Зла.
Для зрелого Гюго смысл исто-
рии заключается в нравственном
прогрессе, в постепенном осво-
бождении человечества из-под
гнета косной природы и соци-
альной несправедливости, или,
по его романтической термино-
логии, в переходе от гротеска
к возвышенному, в преодолении
Зла и конечной победе Добра.
Романы, поэмы, речи, письма
Гюго полны восторженной де-
кламации, прославляющей силу
человеческого духа и разума,
грядущее братство и счастье на-
родов, предопределенное доб-
рой волей провидения, близко-
го, в понимании Гюго, к «доб-
рому богу» Ж.-Ж. Руссо. Могу-
чий ход романтически понятой истории создает фон, второй план
творений Гюго, придает им эпическое величие. Любое частное
явление жизни, малейшее движение души предстают в контексте
нравственного прогресса, в соотнесении с вечностью. Поэтому так
органично входят в поэзию и прозу Гюго образы античных мифов,
Эсхила, Данте, Шекспира. Поэтому главные персонажи его рома-
нов, на первый взгляд, — конкретные люди, социально и истори-
чески окрашенные, перерастают в романтические символы, стано-
вятся носителями отвлеченных вневременных идей, в конечном
счете идей Добра и Зла.
«Собор Парижской богоматери». За два дня до Июльской
революции Гюго приступил к работе над романом «Собор Париж-
ской богоматери». Книга вышла в свет в марте 1831 года, в тре-
вожные дни холерных бунтов, разгрома парижским народом
архиепископского дворца. Бурные политические события опреде-
лили характер романа, который, как а драмы Гюго, был исто-
рическим по форме, но глубоко современным по идеям. Как
лучший образец исторического романа французского романтиз-
ма, «Собор...» вобрал в себя достижения этого жанра: местный
колорит — живописность, своеобразие быта и нравов, связь
судьбы героев с исторической жизнью общества. Здесь ясно
чувствуется преемственность от романов Вальтера Скотта: на
первом плане изображение жизни народной массы, решающей си-
"юго. Пейзаж с замком.
Рисунок. 1850 г.
лы истории, на втором плане — исторические персонажи, прави-
тели и полководцы.
Французское средневековье воссоздано в романе с порази-
тельной, почти магической силой воображения. Париж конца
XV века: готические кровли, шпили и башенки бесчисленных
церквей, мрачные королевские замки, тесные улочки и простор-
ные площади, где шумит народная вольница во время празднеств,
бунтов и казней. Колоритные фигуры людей из всех слоев сред-
невекового города— сеньоры и купцы, монахи и школяры, знат-
ные дамы в остроконечных головных уборах и разряженные
горожанки, королевские ратники в сверкающих латах, бродяги
и нищие в живописных лохмотьях с настоящими или поддель-
ными увечьями — весь этот мир, столь притягательный для ро-
мантиков своей необычностью и красочностью, в романе Гюго
Предстает словно в пышных расписных декорациях, освещенный
лучом театрального прожектора.
Но в «Соборе Парижской богоматери», как обычно у Гюго,
мы ясно видим мир угнетателей и мир угнетенных. Королевский
замок Бастилия, дворянский дом Гонделорье — и парижские пло-
щади, трущобы «двора чудес», где живут отверженные. Королев-
ская власть и ее опора — католическая церковь показаны в ро-
мане как враждебные народу силы. Расчетливо жестокий Людо-
вик XI очень близок к галерее коронованных преступников из
драм Гюго. Образ мрачного изувера, архидьякона Клода Фролло
(созданный вслед за образом кардинала-палача Ришелье из дра-
мы «Марион Делорм») открывает собою многолетнюю борьбу Гюго
против католической церкви. Все чувства Клода Фролло чудо-
вищно извращены религиозным фанатизмом: любовь, отеческая
привязанность, жажда знания оборачиваются у него эгоизмом
и ненавистью. Он отгородился от народной жизни стенами собо-
ра и своей лаборатории алхимика, и потому душа его во власти
темных и злых страстей. Облик Клода Фролло дополняется гла-
вой, носящей выразительное название «Нелюбовь народа».
Внешне блестящее, а на самом деле бессердечное и опусто-
шенное высшее общество воплощено в образе капитана Феба де
Шатопера, который, как и архидьякон, не способен на беско-
рыстное и самоотверженное чувство. Душевное величие и высо-
кий гуманизм присущи только отверженным людям из низов
общества, именно они подлинные герои романа. Уличная плясунья
Эсмеральда символизирует нравственную красоту простого чело-
века, глухой и безобразный звонарь Квазимодо — уродливость
социальной судьбы угнетенных.
В центре романа — собор Парижской богоматери, символ
духовной жизни французского народа. Собор построен руками со-
тен безымянных мастеров, религиозный остов в нем теряется за
буйной народной фантазией; описание собора становится пово-
дом для вдохновенной поэмы о французском национальном зод-
честве: готические церкви, по определению Гюго,— «каменные
книги средневековья», по их скульптурам и барельефам негра-
130
мотный люд читал Священное писание; церкви станут не нужны,
когда распространится просвещение, печатная книга победит
религиозное сознание: «Это убьет то», как гласит название одной
главы романа. Собор дает приют народным героям Гюго, с ним
тесно связана их судьба, вокруг собора живой и борющийся
народ.
Вместе с тем собор — символ порабощения народа, символ
феодального гнета, темных суеверий и предрассудков, которые
держат в плену души людей. Недаром во мраке собора, под его
сводами, сливаясь с причудливыми мраморными химерами, оглу-
шенный гулом колоколов, в одиночестве живет Квазимодо, «душа
собора», чей гротескный образ олицетворяет средневековье. В про-
тивоположность ему прелестный образ Эсмеральды воплощает
радость и красоту земной жизни, гармонию тела и души, то есть
идеалы эпохи Возрождения, которая шла на смену средневековью.
Плясунья Эсмеральда живет среди парижской толпы и дарит
простому люду свое искусство, веселье и доброту.
Народ, в понимании автора романа,— не просто пассивная
жертва угнетателей: он полон творческих сил, воли к борьбе,
ему принадлежит будущее. Штурм собора народными массами Па-
рижа это только прелюдия к штурму Бастилии в 1789 году,
к «часу народному», к революции, которую предсказывает королю
Людовику XI гентский чулочник Жак Клопеноль: «...Когда
с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пуш-
ки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горо-
жане с рычанием бросятся друг на друга в смертельной схватке,
вот тогда и пробьет этот час».
Гюго не идеализировал средневековье, как делали многие
романтики, он правдиво показал темные стороны феодального
общества. Вместе с тем его книга глубоко поэтична, полна го-
рячей патриотической любви к Франции, к ее истории, ее ис-
кусству, в котором, по мысли Гюго, живет свободолюбивый дух
ёранцузского народа.
орьба против Наполеона Малого. Гюго метко назвал себя
«звонким эхом своего времени». Действительно, он чутко от-
кликался на все изменения в социально-исторической жизни.
Спад народного движения к концу 1830-х годов вызвал в его
творчестве кризисные настроения, усугубленные личными го-
рестями и утратами. Новый подъем активности демократических
масс пробудил в писателе новый взрыв творческой энергии. Яркой
страницей в жизни Гюго стала его деятельность в период рево-
люции 1848 года, в которой он принимал участие как депутат
Учредительного, затем Законодательного собрания, левый рес-
публиканец, а в особенности, в дни бонапартистского государ-
ственного переворота 1851 года, когда политический авантюрист
Луи Бонапарт при попустительстве буржуазии, напуганной про-
летарским восстанием июня 1848 года,- удушил республику и
объявил себя императором Франции под именем Наполеона III.
Если Виктор Гюго не понял исторического значения июньских
131
дней, сочтя выступление рабочих против буржуазной республи-
ки «заблуждением», то теперь он яростно ринулся на защиту
демократии. «2 декабря 1851 года он встал во весь рост',—
писал о Гюго А. И. Герцен в «Былом и думах».— Он в виду шты-
ков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями
протестовал против coup d'e'tat [государственного переворо-
та] и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать»1.
Преследуемый правительством Наполеона III, оценившим го-
лову писателя в 25 тысяч франков, Гюго уехал в Бельгию, за-
тем в Англию, на остров Джерси, наконец, обосновался на остро-
ве Гернсей в Ламаншском архипелаге, где провел долгое девят-
надцатилетнее изгнание, ни на день не прекращая борьбы своим
пламенным пером против ненавистного узурпатора. По всей Ев-
ропе прогремел блистательный памфлет «Наполеон Малый» (1852),
навсегда пригвоздивший Луи Бонапарта к позорному столбу.
Правда, по замечанию К. Маркса, с уважением откликнувшегося
на памфлет Гюго в момент его появления, великий романтик,
вместо того чтобы умалить, невольно возвеличил своего врага,
приписав ему единоличную ответственность за события, в которых
тот сыграл лишь жалкую роль подставного лица2. Еще большее
впечатление на современников произвел цикл стихотворений
«Возмездие» (1853), который можно рассматривать как цельную
поэму, где Гюго со всем своим могучим талантом и поэтическим
темпераментом, призвав на помощь все художественные средства:
сарказм, иронию, ораторское искусство и страстный лиризм,
обрушился на Бонапарта и его клику. Эту поэму, по воспомина-
ниям Н. К. Крупской, любил В. И. Ленин, который прощал автору
недостатки «Возмездия», его «наивную напыщенность», потому что
ощущал в ней «веяние революции»3.
На затерянном в море скалистом острове Виктор Гюго чув-
ствовал себя как на поле сражения. Сюда летели сотни писем
от выдающихся политических деятелей, писателей, художников,
от Лайоша Кошута, Джузеппе Мадзини, от Барбеса и Герцена.
Гюго откликался на все освободительные движения мира, высту-
пил за отмену смертной казни в Англии, в защиту вождя восстав-
ших американских негров-рабов Джона Брауна, за свободу Поль-
ши, Мексики, Кубы, Китая, острова Крита; он был инициатором
и председателем первых международных антивоенных конгрессов
в Европе. По свидетельству Эмиля Золя, для молодежи его по-
коления Гюго был неким новым Прометеем, «колоссом, поющим
среди бури».
В годы изгнания достиг наивысшего расцвета и литературный
гений Гюго. Была создана его наиболее совершенная лирика, гран-
диозный лиро-эпический цикл «Легенда веков», составивший впо-
следствии три книги (1859—1883), и три больших романа.
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1957, т. .11, с. 44.
2 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 16, с. 374—375.
:* К рун ска я Н. К. О Ленине. М., 1979, с. 93.
132
В эти годы окончательно сложилось представление Гюгс
о литературном творчестве как об общественном служении. Пи
сатель для него — духовный вождь, «маяк человечества», осве
щающий путь в века («Я верю, что исполняю миссию»,— писа,
он). Искусство Гюго обращено к миру, к людям, он творил не дл:
избранных, а для народа, нации, человечества. Даже в любовно
лирике он не замыкался в узкий круг интимных переживаний, —
вместе со своей возлюбленной поэт как бы стоит в центре мире
здания, кругом сияют звезды, бушуют ураганы, слышатся жалоб!
обездоленных. Его романы предназначены для демократическог
читателя. Это предопределило их эстетику: логичность и ясност
мысли, доступность художественного выражения, увлекательна
интрига, отсутствие изощренного психологизма, яркие краски, ре:
кие контрасты, крупные мазки1.
С демократическими массами своей эпохи Гюго разделял \
только их борьбу и идеалы, но и эстетические вкусы; он оказал<
близок и к мелодраме, и к газетному социально-ириключенческо\
роману-фельетону, «народному роману», королем которого счита.
ся в 1840-е годы Эжен Сю, автор «Парижских тайн». Одна1
темы, типаж, приемы «народного романа» в творчестве Гюго по,
няты до высокой поэзии; его искусство тяготеет к древним н
родным формам — к сказке, преданию, легенде, встающим за ка
тинами жизни простых людей в его произведениях. Особенно н
глядно предстает это в романе «Отверженные» (1862).
Роман-ЭПОПея. Тридцать лет труда и раздумий отдал писател
этому произведению, которое явилось итогом целого периода е
творчества.
Замысел книги о трагической судьбе народных масс, которг
нелепое устройство буржуазного общества сделало «отверже
ными», вынашивался Гюго с конца 1820-х годов; контуры е
сюжета проступали во многих произведениях всех жанров. Ь
только в «Отверженных» народная жизнь показана без романт
ческих иносказаний. Из средневековых храмов, испанских замк<
Гюго смело перенес своих героев в современный Париж, пocтaв^
социальные вопросы, показал типичные судьбы и характеры, бь
простого люда и буржуазии, жизнь парижских трущоб, отчая1
ную борьбу бедняка за кусок хлеба, вражду между фабриканто
и работницей, народное восстание.
Гюго написал «Отверженных» в защиту народа; он прям
заявил об этом в предисловии: «До тех пор, пока силой законо
и нравов будет существовать социальное проклятие, которое сред
расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьб>
зависящую от бога, роковым предопределением человеческим.,
до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество
книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными».
Три неразрешимые проблемы буржуазного общества: без-
работица, проституция и беспризорность — должны были по
|1 См.: Толстой А. Н. Поли. собр. соч. М., 1949, т. 13, с. 375.
133
первоначальному замыслу раскрываться на примерах судеб трех
героев книги: Жана Вальжана, Фантины и Козетты.
Всю силу таланта, всю свою любовь к людям призвал Гюго,
чтобы потрясти сердца читателей зрелищем бедствий своих геро-
ев. До сих пор невозможно равнодушно читать историю Жана
Вальжана, «доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим
обществом»1, историю Фантины, ее поруганной любви, трагическо-
го материнства и, наконец, гибели в тюремном лазарете: жестокой
правдой дышат страницы, рисующие «зловещее домашнее рабство»
в доме трактирщика Тенардье маленькой Козетты, которую «страх
сделал лживой, а нищета безобразной». Вокруг этих центральных
персонажей — целая толпа других: бездомные старики, голодные
подростки, жители мрачных трущоб и воровских притонов — сло-
вом, те, кого автор назвал «отверженными». Как помочь этим лю-
дям, как облегчить их участь? Именно на этот вопрос хотел от-
ветить Гюго; он ставил перед собой двойную цель: осудить социаль-
ное зло и указать путь к его преодолению. «Общество, которое
не хотело бы, чтобы его критиковали, походило бы на больного,
который не дает себя лечить»,— писал Гюго в одном из много-
численных набросков предисловия к «Отверженным». Подобно
социалистам-утопистам, он стремился найти рецепт исцеления
буржуазного общества. Гюго понимал свою книгу как практиче-
ское оружие в борьбе за будущее, он даже называл ее «современ-
ным Евангелием».
Романы зрелого Гюго отличаются от классической формы ро-
мана бальзаковского типа. Это романы-эпопеи. Конкретные жиз-
ненные вопросы, живые образы людей, увлекательный сюжет —
только одна их сторона; как и в поэзии Гюго, за этим всегда
стоит вопрос о судьбах народа, человечества, морально-фило-
софские проблемы, общие вопросы бытия. И если в «Отвержен-
ных» нет беспощадного социального анализа и гениальной прозор-
ливости Бальзака, то неповторимое своеобразие этого произведе-
ния состоит в эпической величавости, в пламенном гуманизме,
который окрашивает лирическим волнением каждую страницу,
придает особую значительность каждому образу и поднимает кар-
тину народной жизни до высокой романтики.
Не случайно Гюго стремился объединить свои произведения
в большие циклы; в 1860-х годах он стал рассматривать «Отвер-
женных» как вторую часть трилогии, первую книгу которой дол-
жен был составлять «Собор Парижской богоматери», а послед-
нюю— «Труженики моря» (1866). По мысли автора, эти три про-
изведения показывают борьбу человека против судьбы в ее
тройном обличье: религиозных суеверий, социальной несправедли-
вости и непокоренной природы. В свете такого замысла понятно,
почему Гюго включал в «Отверженных» все новые авторские
отступления, размышления о прошлом и будущем, о мировом
прогрессе и революции, о религии, монастырях и даже собирал-
1 Герцен Л. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М, 1959, т. 16, с. 154.
134
ся написать философское введение в двух частях: «Бог» и «Ду-
ша». Как и во всех других произведениях, жизнь своей эпохи
Гюго видит сквозь призму романтически понятой истории: образы
Данте и Гомера, образы библейских и античных мифов просту-
пают сквозь картины горькой жизни парижского люда и стоят
за образами народных героев. Так, парижская работница Фанти-
на сравнивается то с Дианой, то с «Галатеей, бегущей под вязами»,
студент Анжольрас подобен Аполлону и Антиною, сражение
горстки республиканцев с королевскими войсками рисуется как
«схватка титанов с гигантами» и т. д. Более чем где бы то ни было,
главные персонажи «Отверженных» являются носителями автор-
ских идей, своего рода символами.
В центре книги образ Жана Вальжана, олицетворяющий уг-
нетенный народ. «Часто весь народ целиком воплощается в этих
незаметных и великих существах, попираемых ногами. Часто тот,
кто является муравьем в материальном мире, оказывается гиган-
том в мире моральном»,— писал Гюго в черновых набросках к ро-
ману. Такие моральные гиганты — все любимые герои Гюго: кре-
стьянин Вальжан, швея Фантина, уличный мальчишка Гаврош.
Жану Вальжану, олицетворяющему народ, противопоставлен
трактирщик Тенардье, воплощение хищнического эгоизма, челове-
коненавистничества и лицемерия, на которых держится враждеб-
ный народу буржуазный порядок. Столь же враждебно народу и
буржуазное государство с его бездушным и бесчеловечным законо-
дательством, воплощенном в образе полицейского надзирателя
Жавера — сторожевого пса буржуазного общества. Духовное вос-
кресение Жану Вальжану приносит не блюститель порядка Жавер,
а епископ Мириэль, который, по замыслу Гюго, воплощает идею
человечности, братской любви и милосердия, призванных спасти
общество. Правда, автору не удалось уберечь образ епископа от
фальши, и прогрессивная критика, особенно в России, отметила
это сразу же после выхода книги.
В 1840-х годах Гюго находился еще под большим влиянием
христианского социализма и полагал, что достаточно убедить
людей в несправедливости тогдашнего общественного устройст-
ва и показать пример гуманности и любви,— иными словами,
заменить Жавера епископом,— и социальное зло исчезнет. Но,
вернувшись к роману в изгнании, Гюго уже не мог удовлетворить-
ся проповедью нравственного совершенствования; теперь в роман
«Отверженные» вошла тема революционной борьбы против зла.
Добавив новые главы, писатель с горячим сочувствием изобра-
жает республиканское восстание 1832 года в Париже, создает
идеальный образ «жреца революции» Анжольраса и его товарищей
из тайного общества «Друзей азбуки», наконец, собирает всех
положительных героев на баррикаде.
Вследствие этого в романе образовалось непримиримое про-
тиворечие: невозможно было объединить идеи христианского сми-
рения и прославление революции — это противоречило художе-
ственной правде. Гюго сам не мог решить, что ему дороже, от-
135
влеченная гуманность или активная революционная борьба за бу-
дущее. Этот вопрос будет тревожить его до конца жизни. Но он
нарисовал народное сражение за свободу с романтическим пафо-
сом, возвышающим «Эпопею улицы Сен-Дени» до героических
образов гомеровских поэм.
Незабываема смерть маленького Гавроша, «изумительного
Гавроша», по словам Мориса Тореза. Гаврош — одно из лучших
созданий Гюго, любимец читателей всех стран. Этот веселый
озорник без рода и племени, дерзкий и простодушный, циничный
и детски наивный, говорит на воровском жаргоне, водится с оби-
тателями городского дна, но отдает последний кусок хлеба го-
лодному и защищает слабых; он презирает власти, ненавидит бо-
гачей, не боится ни бога, ни черта и встречает смерть насмеш-
ливой песенкой. Как Эсмеральда, Гаврош полностью погружен в
народную жизнь, он и погибает за народное дело. Гаврош — «душа
Парижа» — воплощает лучшие национальные черты французского
народа, его «галльский дух» — неистребимую жизнерадостность,
великодушие и свободолюбие.
«Отверженные» имели громадный резонанс, роман был немед-
ленно переведен на десятки иностранных языков. В России он
получил глубокую и сочувственную оценку революционно-демокра-
тической критики, но преследовался царской цензурой. Полный
текст романа Гюго в переводе русские читатели получили только
в советское время1.
Последние ГОДЫ творчества. Отвергая амнистию, предложен-
ную Наполеоном III, Виктор Гюго с достоинством заявил: «Я вер-
нусь, когда вернется свобода» — и сдержал слово: на родную
землю он ступил лишь в 1870 году, после падения реакционного
режима Второй Империи, в тяжкий для Франции час испытаний,
которые писатель захотел разделить со своим народом. Провал
военной авантюры, нашествие прусских войск, осада Парижа, голод,
народный патриотизм и предательство буржуазных политиков,
наконец, героическая эпопея Парижской Коммуны и трагический ее
финал — все это прошло через сердце Гюго и вылилось в пламен-
ные стихи цикла «Грозный год» (1870—1871)—своеобразного
поэтического дневника событий.
Характерное для Гюго слияние личной и гражданской лири-
ки в этом сборнике проявилось с особой наглядностью: его
горячие чувства гражданина и патриота — это и есть самое завет-
ное, личное, льющееся из глубины души. Поэтому стихи, рисую-
щие мужество парижан, защищающих от врага столицу, прокли-
нающие «всех этих королей», развязавших войну, и призывающие
народы Франции и Пруссии заключить братский союз через
головы правительств, органически сочетаются с выражением
отцовского горя по поводу смерти любимого сына (Гюго хоронил
его в день провозглашения Коммуны, 18 марта 1871 года).
1 Подробнее о романе «Отверженные» см. в кн.: Брахман С. Р. «Отвер-
женные» Виктора Гюго. М., 1968. (Массовая историко-литературная серия).
136
Не поняв всего исторического значения Коммуны, Гюго,
тем не менее, в «Грозном годе» прославил героизм коммунаров и
с негодованием заклеймил версальских палачей («За баррикада-
ми...», «Вот пленницу ведут...»); чуть ли не единственный из
французских писателей он поднял голос в защиту коммунаров
и в жизни, предложил им убежище в своем брюссельском доме
и целое десятилетие не прекращал борьбы за амнистию участникам
Коммуны.
Уроками Коммуны был вызван к жизни и последний роман
Гюго «93 год» (1874), полный мучительных размышлений о соот-
несении отвлеченной гуманности и необходимого революционного
насилия, где на материале героического прошлого Франции писа-
тель пытается разрешить животрепещущие проблемы современной
народной борьбы.
Непосредственной темой романа служит один эпизод Великой
французской революции: борьба в 1793 году якобинского Конвен-
та с контрреволюционным мятежом, поднятым французскими фео-
далами при поддержке королевской Англии, среди отсталых
крестьян провинции Вандея. Великолепно воссозданная картина
сложных событий и бурных страстей эпохи преображается под
пером великого романтика в схватку Добра и Зла, Прошлого и
Будущего и приобретает упрощенные и грандиозные очертания,
свойственные образам народного эпоса. Гюго безоговорочно берет
сторону революции против реакции, «Девяносто третий год» —
книга о героях, о героической борьбе целого народа. Но его трево-
жат нравственные проблемы.
Основные силы революции олицетворяются в главных пер-
сонажах: это, с одной стороны, маркиз де Лантенак, главарь
контрреволюционных банд, с другой — суровый республиканец
Симурден и молодой военачальник Республики Говен. Симурден—
воплощение разума и справедливости, поборник «республики
мечей», неуклонный исполнитель революционного долга, тре-
бующего беспощадной расправы с врагами народа. Говен — вели-
кодушный мечтатель, грезящий о «республике идеала», всеобщем
мире и братстве. Симурден — это сегодняшний день революции,
Говен — завтрашний ее день; оба они являют собою «два полюса
истины», направленной против лжи прошлого. По ходу действия
романа Говен отпускает на свободу захваченного Лантенака, пото-
му что тот спас из огня троих крестьянских детей, и Симурден
именем революции посылает его за это на плаху; но Говен сам
соглашается со справедливостью приговора («Я дал свободу пала-
чу родины. Я виновен»), а Симурден в момент казни Говена
пускает себе пулю в лоб. Оба героя равно дороги автору, и тра-
гизм романа состоит в том, что каждый из них по-своему прав.
Говен, стремящийся победить старый мир великодушием и мило-
сердием,— самый светлый образ романа, на его стороне простые
солдаты, народ, да и сам Симурден фактически пасует перед его
идеалами. Но логика живой жизни оказывается сильнее отвлечен-
ных моральных принципов, и вместо лестницы для штурма Говену
137
привозят гильотину, где ему вскоре предстоит сложить голову.
Виктору Гюго так и не удалось постигнуть диалектику революции,
объединить «два полюса истины»: ее гуманистические идеалы и
вынужденное условиями классовой борьбы революционное насилие;
этому помешали слабые стороны его мировоззрения. Но в послед-
нем своем романе он поднялся до художественного прозрения,
открывшего ему сложность самой истории.
«Девяносто третий год» остался памятником революцион-
ного романтизма со всеми его достоинствами и недостатками:
туманным представлением об историческом процессе, ненавистью
к тирании и героическими идеалами.
Последние годы жизни Гюго провел в окружении славы,
хотя и в стороне от литературной борьбы во Франции, которая
шла вокруг иных художественных направлений, чем романтизм,
которому Гюго остался верен до конца своих дней. Его 80-летний
юбилей праздновался с большой пышностью. Скончался Гюго
22 мая 1885 года. В этот день был объявлен национальный траур.
Ветераны Коммуны возложили на его гроб венок; в похоронной
процессии участвовало около миллиона человек.
Как одно из значительнейших литературных явлений XIX ве-
ка, творчество Гюго оставило глубокий след среди современни-
ков. Крупнейшие писатели Франции долгое время были под его
обаянием. Бальзак восклицал: «Виктор Гюго — это целый мир!»
Флобер и Мопассан начали как поклонники и подражатели Гю-
го; Золя, будучи яростным противником Гюго, тем не менее
испытал сильнейшее его влияние. Ромен Роллан в своей борьбе
против декадентства опирался на «старого Орфея» — Гюго; граж-
данская поэзия Гюго явилась образцом для прогрессивной поэзии
Франции, влоть до Арагона. Пламенные строки Гюго в защиту
республики против прусских интервентов 1870 года по-новому
зазвучали в дни второй мировой войны: его стихи печатались
в подпольной прессе французского Сопротивления и вдохновляли
народ на борьбу против гитлеровских оккупантов.
Особый интерес представляет литературная судьба Гюго в
России. Он пользовался здесь известностью уже с начала 1830-х го-
дов. Декабрист В. К. Кюхельбекер в стихотворном послании
к Гюго, написанном в ссылке, называл его «жертв судьбы бес-
страшный защититель». А. И. Герцен пригласил его сотрудни-
чать в «Полярной звезде», печатал его речи и статьи и высо-
ко ценил как поэта. Драматургия Гюго была принята русским
театром. Особой популярностью пользовались в России «Отвержен-
ные», близкие по духу к гуманистической и обличительной рус-
ской литературе. В глазах М. Е. Салтыкова-Щедрина Гюго «пред-
ставляет литературу идейную, героическую», воскрешает «то тен-
денциозное время, когда не только люди, но и камни вопияли
о героизме и идеалах». Салтыков резко противопоставлял Гюго
«безыдейной сытости» 1880-х годов, когда «современному фран-
цузскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу».
РОМАНТИЗМ В ПОЛЬСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
АДАМ МИЦКЕВИЧ
Польская литература (А. Мицкевич, Ю. Словацкий и др.)
и искусство (Ф. Шопен1, С. Монюшко) эпохи романтизма зани-
мают почетное место в истории европейской и мировой куль-
туры.
«Адам Мицкевич — не только величайший поэт Польши и один
из величайших поэтов мира — с его именем неразрывными узами
связана национальная и духовная история его родины»,— писала
Р. Люксембург.
Мицкевич «восстанавливает связь родной поэзии с передо-
вым литературным движением Европы и поднимает ее к его
уровню, придает ей неповторимо своеобразный в своей нацио-
нальной специфике облик, выражает широту ее исканий, вплоть
до пламенной революционности и крайних форм мистицизма»2.
Он значительно обогатил литературный язык, польское стихо-
сложение.
Велик вклад А. Мицкевича (1798—1855) в установление свя-
зей между литературами Польши и России.
Мицкевич родился на хуторе Заосье (близ Новогрудка) в
семье адвоката. В Белоруссии и Литве прошли его детство, юность.
Он воспитывался в демократической среде. Для поэта были ха-
рактерны глубокий интерес к фольклору, неприязнь к аристокра-
тии, знание жизни в широком социальном плане. Юный Адам был
свидетелем Отечественной войны 1812 года. Виленский универ-
ситет, в котором учился Мицкевич, был тогда крупнейшим цент-
ром польской культуры, где будущий поэт приобщался к широ-
кому миру европейской мысли и поэзии. Увлеченный вольнодум-
ством и язвительной иронией Вольтера, он переводил философа
и подражал ему. С интересом изучал идеи Руссо об обществе,
цивилизации, морали, а также исторические концепции Гердера и
другие популярные тогда сочинения. Из трех поэтических кумиров
тогдашнего поколения — Шекспира, Гете, Байрона, был духовно
1 Творчество Шопена близко Мицкевичу не только общими национальными
мотивами, но и лирической и трагедийной трактовкой многих проблем. См.:
Неупокоева И. Г. Революционно-романтическая поэма первой половины
XIX века. Опыт типологии жанра. М., 1971, с. 12.
2 Стахеев Б. Ф. Адам Мицкевич.— В кн.: История польской литера-
туры. М., 1968, т. 1, с. 214.
139
особенно близок Мицкевичу Байрон. Он видел в поэмах Байрона
«неустанную борьбу против догм и традиций». В 1817 году Мицке-
вич вошел в небольшую группу студентов, которые основали тайное
«Общество филоматов» («любящих науку») и «Общество филаре-
тов» («любящих добродетель»). В условиях своеволия властей
оппозиционно настроенная молодежь охотно вступала в эти
кружки.
За годы пребывания в Ковно (1819—1823), куда он получил
назначение учителем, Мицкевич написал много стихотворений,
из числа которых особую известность среди молодежи получили
«Песнь филаретов», «Ода к молодости» (1820). В «Оде» осуждает-
ся политический гнет, слышатся абстрактно-революционные при-
зывы ринуться в бой, радостное пророчество о появлении «ран-
ней зорьки свободы», за которой «солнце спасения грядет».
Мицкевич стал кумиром молодежи, он помог ей найти свое
место в освободительной борьбе.
Наиболее значительные произведения раннего периода творче-
ства поэта вошли в сборник «Поэзия» (1822). В предисловии
к нему поэт сформулировал свое понимание романтизма. В народ-
ных песнях, сказаниях, легендах поэт справедливо видел неиссякае-
мый источник творческого вдохновения. Литература должна
передавать настроения своего века. «Я с народом не мыслю роз-
но»,— писал поэт. В балладах «Свитезь», «Свитезянка» и других
Мицкевич обработал народные легенды и поверья. Новым этапом
в развитии его творчества стал второй том «Поэзии» (1823),
куда вошла, в частности, поэма «Гражина».
Действие в поэме «Гражина» происходит незадолго до зна-
менитой Грюнвальдской битвы (1410), в которой рыцари тевтон-
ского ордена были разгромлены польскими, русскими и литовски-
ми войсками. Этой славной битвой завершилась борьба славян
с немецкими феодалами, длившаяся 200 лет. Мицкевич отмечал,
что-эгоистические стремления князей к власти и богатству подры-
вали силы народа, уменьшали возможность сопротивления ино-
земным захватчикам. В советской критике поэма отнесена к жанру
национально-героических поэм и поставлена в один ряд с «Война-
ровским» К. Ф. Рылеева1.
Романтическая поэма «Гражина» воспевала патриотический
подвиг литпинкн, возглавившей войска, нанесшие поражение кре-
стоносцам.
Смелая женщина пожертвовала жизнью ради спасения роди-
ны, и поэт воспевает ее подвиг.
Прости мои я... я впервые в жизни
Изменила тебе — но то был долг отчизне..., —
говорит она перед смертью своему мужу, без согласия которого
она — в мужском платье — пошла в бой.
1 См.: Н с у и о к о с в а И. Г. Революционно-романтическая поэма первой
половины XIX века. Опыт типологии жанра. М, 1971, с. 137.
140
Свое желание создать эпическую поэму народно-героического
плана поэт подчеркивает в ее финале, ссылаясь на то, что память
о героине увековечена в народной песне:
В Новогрудке ни девы, ни юноши ныне
Не найдется, кто 6 песни не пел о Гражине,
Старики ее тянут под напев волынки,
И зовут поле боя — Долиной литвинки.
В 1823 году царские жандармы произвели ряд арестов среди
филаретов и филоматов.
Мицкевичу после шестимесячного заключения было предписано
переехать на жительство во внутренние губернии Российской им-
перии.
В Петербурге, Одессе1, Москве Мицкевича тепло встретили
передовые деятели русской культуры. В поэтическом послании
«Русским друзьям» А. Мицкевич запечатлел портреты А. А. Бесту-
жева и К. Ф. Рылеева, будущих вождей декабризма. В России
появились жемчужины польской лирической поэзии — «Сонеты»
(1826), куда вошли и «Крымские сонеты». Стихи последнего цик-
ла объединяет тема любви к родине и свободе. Мицкевич мно-
гое сделал для утверждения жанра сонета в польской литерату-
ре. В сонетах русского периода Мицкевич глубоко проник в мир
духовных переживаний человека.
Одесским стихам присущи жизнерадостность, завершенная
форма, музыкальность. Многие одесские стихотворения — в рус-
ских переводах — были положены на музыку2.
В Москве, где до 1827 года поэт был вынужден служить
в канцелярии московского генерал-губернатора, состоялось зна-
комство Мицкевича с Пушкиным. Мицкевич перевел на польский
язык сонет «Воспоминание» Пушкина, а русский поэт обогатил
русскую поэзию переводом баллад Мицкевича «Будрыс и его сы-
новья» и «Дозор» («Воевода»), Он перевел также вступление к
его исторической поэме «Конрад Валленрод». Говоря о Пушкине,
Мицкевич обращал внимание на национальный, народный характер
его творчества. Пушкин в предисловии к «Песням западных сла-
вян» писал о Мицкевиче, как о «критике зорком и тонком и
знатоке в славянской поэзии». Образ Мицкевича запечатлен
Пушкиным в «Путешествии Онегина», в «Сонете», в других сти-
хотворениях.
Пушкин, глубоко уважая Мицкевича, был не согласен с его
точкой зрения, выраженной в «Памятнике Петру Великому» (при-
ложение к «Дзядам»). Пушкин ценил прогрессивную деятельность
Петра, и для него памятник Петру на Сенатской площади был
1 Подробнее о жизни поэта в Одессе см.: Л а и д а С. С. «Сонеты» Адама
Мицкевича.— В кн.: Мицкевич А." Сонеты. Л., 1976.
2 На текст стихотворения «К Д. Д.» («Когда в час веселый...») в Польше
написал музыку Шопен. В России на тексты произведений Мицкевича создали
романсы в разное время Алябьев, Глинка, Чайковский, Направник, Кюи, Рим-
ский-Корсаков и другие (всего около двадцати композиторов).
141
не воплощением самодержавия, а олицетворением мощи крепнуще-
го русского государства.
В 1828 году в Петербурге была издана поэма Мицкевича
«Конрад Валленрод». В поэме рассказано о борьбе литовцев
с немецкими крестоносцами. Это произведение, исполненное тра-
гизма, повествует о любви к отечеству, не считающейся ни с ка-
кими жертвами.
После России Мицкевич жил в Германии, Швейцарии, Италии,
Франции. На чужбине им были созданы третья часть «Дзядов»
(1832), поэма «Пан Тадеуш» (1834). Поэт неоднократно обращал-
ся к «Дзядам». В 1823 году вышли две части (2-я и 4-я)
лирико-драматической, философской, романтической поэмы «Дзя-
ды», в которой резко осуждались абсолютизм и крепостничество.
«...Я действительно намеревался объять в ней всю историю угне-
тения и мученичества нашей отчизны»,— писал автор о замысле
этой сложной поэмы в письме к поэту Ю. У. Немцевичу. Бун-
тарь Конрад, герой поэмы, преодолев личные невзгоды, боль
неразделенной любви, вступает на путь борьбы с несправедли-
востью.
Поэма «Пан Тадеуш» — широкое полотно польской действи-
тельности.
Мицкевич мечтал, что его будет читать трудовой народ:
Дожить бы мне до радостного мига,
Когда войдет под стрехи эта книга...
Чтоб взяли девушки ту книгу в руки,
Простую, как народных песен звуки.
В качестве профессора славянской кафедры парижского Коллеж
де Франс (1840—1844) А. Мицкевич многое сделал для вклю-
чения славянских литератур в общую панораму развития евро-
пейской литературы. Основное внимание он уделил польской и
русской литературе. Впервые познакомил французскую публику
со «Словом о полку Игореве». А. И. Герцен говорил о глубоком
знании Мицкевичем литературы славянских народов, хотя и отме-
чал его заблуждения и противоречия.
В 1848 году Мицкевич приехал в Италию, чтобы содейство-
вать организации Польских легионов для борьбы с Австрией.
Умер он от холеры в Константинополе.
Творчество Мицкевича приобрело мировое значение не толь-
ко благодаря редкому таланту поэта, но и потому, что питалось
национальными истоками: оно было тесно связано с самыми
заветными мечтами, горестями и радостями польского народа.
Гете приветствовал Мицкевича, посетившего его в Веймаре, как
поэта, возглавившего «новое направление».
РОМАНТИЗМ
В ЛИТЕРАТУРЕ США.
РАННИЙ ЭТАП
В истории литературы США романтизм сыграл особую роль:
он открыл новейший этап ее развития, когда она получила между-
народное признание и заняла свое место среди ведущих литера-
тур мира.
В раннеколониальный период и в эпоху Просвещения значение
американской литературы ограничивалось в общем пределами
США. Американские писатели часто шли в своем творчестве вслед
за писателями Европы (в первую очередь, Англии), не оказывая
влияния на ход литературного развития в других странах. Пере-
ворот совершили романтики: начиная с Ирвинга, Купера, Эдгара
По, литература США превратилась в активно действующий фактор
мирового художественного процесса.
Романтизм и становление американской национальной
культуры. Столь резкий перелом смог осуществиться прежде
всего потому, что в результате Войны за независимость (1775—
1783) пришел к своему завершению длительный процесс форми-
рования американской нации. Относительно британских колоний
в Новом Свете долгое время не существовало единого мнения:
представляет ли их население самостоятельную нацию или это все
те же англичане, лишь несколько обособившиеся от своих сооте-
чественников в силу разделяющего их географического простран-
ства и неодинаковых условий жизни. Вполне естественно, что ни
в XVIII, ни тем более в XVII веке литература США не могла
еще обрести ярко выраженного национального характера. Однако
она неизменно шла к этой цели, по крупицам накапливая черты
растущего национального своеобразия. В XIX веке в этом про-
цессе произошел качественный скачок: писатели выступили друж-
ной когортой как выразители молодого, только что сложившегося
национального самосознания и своим творчеством внесли значи-
тельный вклад в ход его дальнейшего роста. Романтики чувство-
вали, что вслед за провозглашением Декларации независимости,
обеспечившей стране политическую самостоятельность, необходимо
во всеуслышание провозгласить Декларацию независимости ду-
ховной. «Недалеко то время,— писал в 1837 году видный фило-
соф Р. У. Эмерсон,— когда сонный интеллект нашего континента
поднимет свои железные веки и оправдает возлагаемые на него
надежды, явив миру нечто более ценное, чем простая техническая
143
сноровка. Наша зависимость, наше долгое хождение в подмастерь-
ях у учености чужих земель близится к концу». Борьба за созда-
ние самобытной национальной культуры надолго стала одним из
стержневых моментов всей духовной жизни страны.
С этим связан особый пафос утверждения, присущий американ-
скому романтизму в целом в значительно большей степени, чем
европейскому. Стремясь к созданию национального идеала, роман-
тики воспевали громадные полуосвоенные просторы своего конти-
нента, отважных первопроходцев, прокладывающих дорогу цивили-
зации не огнем и мечом, как в старой феодальной Европе, а с по-
мощью простого плотничьего топора. Так, Лонгфелло писал в
«Песни о Гай а вате»:
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших псе страны.
Рааны были их наречья,
Но одно v. них билось сердце,
И кипел.» неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города н лучах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.
Пер. И. Л. Бунина
Америка будущего виделась романтикам как прообраз всемир-
ного человеческого единения. В стихотворении Уитмена «Для тебя,
демократия» читаем:
Вот я сделаю bcfo сушу неделимой,
Я создам самый великолепный народ из всех
озаряемых солнцем...
Я варашу, словно рощи густые, союзы друзей и
товарищей вдоль твоих рек, Америка, на прибрежьях
великих озер и среди прерий твоих1.
Романтизм оставался ведущим художественным направлением
в литературе США на протяжении первых двух третей XIX сто-
летия, вплоть до завершения Гражданской войны между Севером
и Югом в 1865 году. С ним связаны наивысшие достижения круп-
нейших писателей той поры: Ирвинга, Купера, Эмерсона, Торо,
Эдгара По, Готорна, Мелвилла, Уитмена и др. Определенные по-
зиции романтизм продолжал сохранять и в последние десятилетия
века.
В развитии американского романтизма выделяется несколько
периодов. Основных было два: первый, или ранний (1820—1830-е
годы), и второй, или поздний (1840—1865-е годы). Водоразделом
в литературном процессе США явилась Гражданская война
1 Чуковский К. Мой Уитмен. М., 1969, с. 102.
144
Э. Хикс. Мирное царство.
Ок. 1830 г.
(1861 —1865), приведшая к уничтожению рабства негров и от-
крывшая путь к беспрепятственному развитию капитализма на
всей территории США.
Сравнивая литературное развитие США и Европы, мы убежда-
емся, что в Америке процесс смены литературных направлений про-
текал замедленно. Хотя в Европе романтизм, как и в США, не
сходил со сцены в течение почти всего XIX века, он гораздо
раньше, чем в Америке, утратил там главенствующие позиции.
Формирование пришедшего ему на смену реалистического метода
началось в США примерно на полстолетия позже, чем в Европе.
Причины этого следует искать в особенностях общественного раз-
вития Соединенных Штатов.
В течение очень долгого времени классовые противоречия в
Америке были затушеваны, скрыты под маской внешнего равенства
перед законом, широкого избирательного права, отсутствия сос-
ловных привилегий. «Как мало еще созрело буржуазное общество
в Соединенных Штатах для того, чтобы сделать очевидной и
понятной происходящую в нем классовую борьбу...»1,— писал
Маркс в 1852 году. По словам Энгельса, «два обстоятельства долго
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 28, с. 424.
143
мешали неизбежным следствиям капиталистической системы про-
явиться в Америке во всем своем блеске. Это — возможность легко
и дешево приобретать в собственность землю и прилив иммигран-
тов» \
Относительная незрелость общественных отношений и классо-
вых противоречий в стране, наблюдавшаяся на протяжении первой
половины XIX века, была в конечном счете главной причиной
того, что ход литературного процесса в США оказался с точки
зрения смены направлений более замедленным, чем в Европе.
По той же причине общественные конфликты осознаются писа-
телем-романтиком как конфликты сугубо этические, духовные, не
находящиеся в прямой зависимости от законов исторического раз-
вития. В США такое осознание социальных конфликтов неизбежно
должно было преобладать в литературе до тех пор, пока сами эти
конфликты выступали в незрелой, непроявленной форме. Чем более
ясной становилась, по мере развития страны, их классовая природа,
тем дальше отходили писатели от их романтического осмысления.
Реализм начал формироваться в литературе США после Граждан-
ской войны. Ведущее место в ней он занял в конце XIX века,
когда общественные противоречия в США полностью созрели и
приобрели открытый характер.
Романтизм и Просвещение* К числу важнейших особенностей
следует отнести особый характер связи американского романтизма
с Просвещением. Как в Америке, так и в Европе романтизм и от-
рицал Просвещение, и развивал некоторые из заложенных в нем
тенденций. В США сильнее была выражена преемственная сторона.
Американские романтики в подавляющем большинстве продолжали
борьбу просветителей за демократию, за честь и достоинство прос-
того человека — представителя третьего сословия, за то, чтобы
провозглашенное в Декларации независимости «право на жизнь,
свободу и стремление к счастью» было предоставлено не только
белым, но и цветным.
В то же время антипросветительский пафос, в большой степени
присущий романтизму (скептическое отношение к разуму, тяга к
иррациональному, мистическому, отрицание идеи «общего блага»,
идеализация средневековья и т. д.), был выражен у американских
романтиков значительно слабее, чем у европейских. Даже Эдгар
По, который из всех американских романтиков склонялся к ирра-
ционализму в наибольшей степени, сохранял веру в разум, науку,
знания. Эту его черту отметил в свое время еще Ф. М. Достоев-
ский2.
Тесная связь американского романтизма с Просвещением
объясняется особенностями американской революции, в которой
демократическим силам удалось одержать более весомые победы,
чем во французской (революция в США не привела к созданию
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 263.
2 См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. художественных произведений
М.—Л., 1930, т. 13, с. 523.
146
диктатуры типа наполеоновской, не имела в числе своих последст-
вий Реставрации и т. д.). Кроме того, революция в США означала
не только победу буржуазного строя над феодальным, но и осво-
бождение страны от колониальной зависимости. Это особенно под-
нимало и укрепляло авторитет просветителей, выступивших в роли
«отцов-основателёй» американской республики.
Проблема идейно-эстетической дифференциации. В аме-
риканском романтизме отсутствовало резкое идейное размежевание,
которое в Европе приводило к мировоззренческому противостоянию
таких художников, как Байрон и Саути, Гюго и Шатобриан, Гейне
и Новалис. Консервативное, а тем более реакционное, мировоззре-
ние не могло найти для себя в США питательной среды в виде
прочных феодальных и католических традиций, остатков средневе-
кового уклада и пр. С другой стороны, американским романтикам
был незнаком и тот революционный или бунтарский порыв, кото-
рый одушевлял многие произведения Байрона, Шелли, Лермонто-
ва, Гюго, Гервега и т. д. Это объяснялось отсутствием в общест-
венной жизни США революционной ситуации, подобной той, что
возникала в разное время в странах Европы.
Аболиционизм и романтизм. Самым радикальным обществен-
ным движением, которое нашло отражение в американском роман-
тизме, был аболиционизм — борьба за освобождение черных рабов.
Однако противники рабства (их называли аболиционистами) ра-
товали в конечном счете за то, чтобы довести до конца американ-
скую буржуазную революцию, распространив ее принципы в равной
мере на белых и черных. Требования аболиционистов были поддер-
жаны самим правительством, возглавившим борьбу за отмену раб-
ства в ходе Гражданской войны.
Тем не менее дух антирабовладельческой борьбы, атмосфера
общественного подъема, царившая в США в годы, предшество-
вавшие войне, не могли не оказать на литературу заметного активи-
зирующего воздействия. Активное, наступательное, гражданское
начало пронизывает многие произведения Торо, Маргарет Фуллер,
Теодора Паркера, Мелвилла, составляет пафос поэзии Уитмена.
Даже писатели, которые по своим индивидуальным качествам были
склонны скорее к созерцанию, чем к действию, не могли остаться
в стороне от охватившего общество движения за освобождение
негров (Эмерсон, Лонгфелло, Лоуэлл).
Может быть, президент Линкольн и допустил известное пре-
увеличение, назвав Бичер-Стоу «маленькой женщиной, которая
вызвала эту большую .войну», но, в сущности, он был недалек от
истины. История литературы США не знала — ни раньше, ни
позже — другого такого периода, когда действенность писательского
слова была бы столь велика.
Художественное своеобразие. Художественные завоевания
ранних американских романтиков Ирвинга и Купера были по до-
стоинству оценены еще при жизни этих писателей по обе стороны
Атлантики. Их посмертная слава также оказалась устойчивой.
Ирвинг и Купер расширили круг характерных для романтизма тем,
147
обогатили романтическую образность. В особенности плодотворным
было их обращение к индейской мифологии и фольклору, бытовав-
шему среди поселенцев. Органический сплав национальной метафо-
ричности и европейской романтической традиции обусловил эсте-
тическое своеобразие их творчества. Оно явилось как бы «Художест-
венным открытием» Америки. Сложнее оказались судьбы творче-
ского наследия писателей, представляющих второй этап в развитии
американского романтизма1.
Особенность и даже, пожалуй, парадокс литературного разви-
тия Соединенных Штатов заключался в том, что американская
литература, надолго задержавшись на романтическом этапе, давно
пройденном в других странах, зачастую создавала в русле этого
метода произведения настолько новаторские, настолько опережав-
шие свое время, что они как бы «врывались» в XX век. Это
относится, в особенности, к творчеству Эдгара По, Торо, Мелвил-
ла, Уитмена, Эмили Дикинсон.
Не будет преувеличением сказать, что американская романти-
ческая литература в значительной своей части была литературой
неузнанных гениев, подлинные масштабы деятельности которых
открылись только в последующее время.
Так, например, Эдгар По, нередко именовавшийся своими со-
братьями по перу «шарлатаном» и получивший от издателей в
виде особой милости пять долларов за «Ворона», открыл новую
страницу в мировой поэзии, предвосхитив появление европейского
символизма, став одним из любимых поэтов Бодлера, Блока.
Торо, прослывший «чудаком», воспринимался своими современ-
никами, главным образом, как знаток природы. Признание впервые
пришло к нему из-за границы — от Л. Толстого и Ганди. По-на-
стоящему все богатство его философской мысли, самобытность его
художественного дарования были оценены лишь в XX веке.
До конца необъяснимым, несмотря на многочисленные исследо-
вания, остается появление в середине XIX столетия такого поэта,
как Уолт Уитмен, не менее чем на полвека опередившего развитие
поэзии своего времени. До сих пор продолжают вести споры
о сущности его творческого метода. Что это: реализм? роман-
тизм? необычный синтез того и другого? Метод Уитмена — это,
по существу, уже метод, выходящий в XX век. То, что художе-
ственное мышление и поэтическая техника Уитмена принадлежат
традициям, характерным для нынешнего столетия, доказывается,
в частности, тем, что в XIX веке у него не нашлось последова-
телей ни в Америке, ни в Европе. Уитмен долго оставался одино-
ким гигантом. И только с приходом Верхарна, Сэндберга, Маяков-
ского стало ясно, в каком направлении он двигался в своем
творчестве и какое наследство оставил.
Появлению в литературе США «одиноких гениев», шедших не-
проторенными путями, способствовало множество факторов. От-
1 Подробнее см. в кн.: Романтические традиции американской литературы
XIX в. и современность. М., 1982.
148
части это было связано с тем, что в социально-экономическом
отношении Соединенные Штаты оставались на протяжении всего
прошлого века самой передовой по тому времени страной в мире.
С другой стороны, в культурном отношении Америка находи-
лась в XIX веке, особенно в первой его половине, все еще как бы
в стороне от мирового литературного процесса. Это побудило
писателей США к поискам эстетической самостоятельности.
Американские писатели-романтики создали произведения, ока-
завшиеся чрезвычайно созвучными XX столетию. Их творческие
открытия стали достоянием литературы нашего времени. Романти-
ческий психологизм, смелое использование символов и аллегории,
философская направленность, тяготение к притче — все это прочно
вошло в арсенал художественных средств современного искусства.
Историческое значение литературы романтизма. Эпоха
романтизма принадлежит к числу самых блистательных страниц
в истории литературы США. Лучшие произведения, созданные
американскими романтиками, навсегда вошли в фонд мировой клас-
сики. Этому способствовало их высокое художественное совершен-
ство, пронизывающий их нравственный пафос, твердая вера в гу-
манистические идеалы, непреходящее значение духовных ценностей.
В 1900 году Л. Н. Толстой писал: «Если бы мне пришлось
обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить
ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил
от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомя-
нул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо не как самых
великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня.
Среди других имен назову: Чаннинга, Уитиера, Лоуэлла, Уота
Уитмена — блестящую плеяду, подобную которой редко можно
найти во всемирной литературе. И мне хотелось бы спросить аме-
риканский народ, почему он не обращает больше внимания на эти
голоса (которых вряд ли можно заменить голосами Гульда, Рок-
феллера и Карнеджи) и почему он не продолжает того хорошего
дела, которое столь успешно ими начато»1.
Эти слова Толстого актуально звучат и сегодня.
ВАШИНГТОН ИРВИНГ
Вашингтон Ирвинг (1783—1859) принадлежит к первому поко-
лению американских романтиков.
Ранний американский романтизм развивался в годы, когда в
США преобладало оптимистическое мироощущение, когда еще
слышны были ликующие отзвуки победоносной революции. Однако
негативные стороны американской демократии, буржуазного миро-
порядка уже давали о себе знать. Писатели, в том числе и Ирвинг,
склонны были рассматривать их как печальное, но вполне преодо-
лимое отклонение от просветительского идеала. Вопрос о рабстве
Толстой Л. Н. Собр. соч. и 20-тм томах. М., 1965, т. 18, с. 270.
149
еще не был поставлен историей во всей своей остроте. Страна
переживала полосу бурного экономического роста, территориальной
экспансии, технического прогресса (в начале века в США был
построен первый в мире пароход, сконструированы стальной плуг,
жатвенная машина и т. д.).
Однако в культурном отношении Соединенные Штаты отставали
от передовых стран Европы. В Европе существовали давние и
прочные традиции в области литературы и искусства, древнейшим
источником которых служил народный эпос. В Америке таких
традиций не было. Соединенные Штаты с самого своего возникно-
вения были страной буржуазной, поэтому прагматическая ориента-
ция, культ выгоды, характерные для буржуазного сознания, вели
к принижению роли искусства в общественной жизни. Один из
первых президентов США Джон Адаме публично заявлял: «Я не
дам и шести пенсов за картину Рафаэля или статую Фидия».
В такой обстановке начал свою творческую деятельность Ирвинг.
С юных лет он тянулся к искусству, однако семейные традиции и
общая атмосфера, господствовавшая в стране, требовали, чтобы он
посвятил себя почитаемой в глазах окружающих практике юриста
или коммерсанта. Много лет Ирвингу приходилось совмещать
литературную деятельность со службой в торговой и адвокатской
конторах.
Два года, проведенные в Старом Свете (1804—1806), открыли
перед ним новый удивительный мир, полный прекрасного: старин-
ных дворцов, замков, любовно оберегаемых памятников искусства.
Знакомство с европейской культурой произвело на молодого аме-
риканца неизгладимое впечатление.
По возвращении на родину Ирвинг взялся за перо. В 1809 году
им было опубликовано первое крупное произведение «История
Нью-Йорка». В этой книге Ирвинг стремился воссоздать и идеали-
зировать дух ушедшей эпохи, когда среди обитателей Нью-Йорка
царили патриархальные, родственные отношения, не омрачаемые
духом конкуренции и стяжательства. В то же время книга полна
юмора: доброго и мягкого, когда речь идет о простых горожанах,
перерастающего в язвительную сатиру, как только предметом изо-
бражения становятся нью-йоркские градоначальники. Одного из
них Ирвинг нарисовал под именем Питера Твердоголового. Этот
губернатор отличался такой несокрушимой твердолобостью, что
голову его не могли пробить даже пули осаждавших Нью-Йорк
врагов. Другой правитель, наоборот, был до того легковесен и
шаток, что в один прекрасный день улетучился вместе с дымом от
своей трубки. «История Нью-Йорка» принесла Ирвингу широкую
известность, однако еще не сделала его профессиональным литера-
тором. Он продолжал заниматься коммерческой деятельностью,
пока новая длительная поездка в Европу (1815—1832) не застави-
ла его еще раз — и этот выбор был уже окончательным — обра-
титься к литературному творчеству.
В 1819 году вышла в свет его «Книга эскизов», где Ирвинг
выступил как создатель американской новеллы — жанра, который
150
занял впоследствии ведущее место в литературе США. «Книга
эскизов» прославила имя Ирвинга как в Новом, так и в Старом
Свете. Ирвинг стал первым американским писателем, получившим
международное признание.
Вслед за «Книгой эскизов» Ирвингом были опубликованы дру-
гие сборники новелл, упрочившие его славу: «Брейсбридж-холл»
(1822), «Рассказы путешественника» (1824), «Альгамбра» (1832).
Ирвинг разрабатывал в них как американские, так и европейские
сюжеты, широко используя, подобно большинству писателей-ро-
мантиков, старинные легенды, сказки, предания — все богатство
устного народного творчества.
Из всех европейских стран, где Ирвингу приходилось жить,
его особенно привлекали Англия и Испания. В обеих странах он
ценил прежде всего патриархальные стороны жизненного уклада,
которые были в наибольшей степени отделены от удручавшей писа-
теля современности. Ирвинг создал незабываемый образ «старой
веселой Англии», с ее гостеприимными усадьбами, привольно
раскинувшимися среди рощ и полей, уютными, неторопливыми
почтовыми дилижансами и совсем не страшными привидениями,
обитающими в пустынных замках. Эта воображаемая Англия тем
более пленяла сердце художника, чем сильнее она контрастировала
с реальной Британской империей, где господствовали алчность,
лицемерие, чистоган и грубая сила.
В Испании Ирвингу почитатели поставили памятник — с такой
любовью этот писатель из далекой Америки воскресил красочные
полузабытые испанские легенды и сказания, такой поэзией он
наполнил свои рассказы о гордых, мужественных, рыцарски смелых
и благородных испанцах.
Когда Ирвинг обращался в своих новеллах к родной стране,
он также предпочитал отыскивать в ее жизни следы минувших
времен. Такова самая знаменитая из его новелл «Рип Ван Винкль».
Сюжет ее фантастичен: фермер Рип Ван Винкль, не слишком
работящий, но добродушный, бескорыстный и покладистый, хлеб-
нув колдовского зелья, засыпает на 20 лет. Пока он спит, в Аме-
рике совершается революция, происходит торжественное подпи-
сание Декларации независимости, монархический строй сменяется
республиканским. Проснувшись, ни о чем не подозревающий Рип
Ван Винкль является в родную деревню и объявляет себя по старой
памяти смиренным подданным английского короля Георга. Его
принимают было за шпиона и даже хотят намять бока, но в конце
концов недоразумение рассеивается и все кончается к общему бла-
гополучию. Рип мирно доживает остаток дней в своей деревне, а
рядом с ним — его сын, как две капли воды похожий на отца.
Неважно, кто правит страной — король или президент, как бы
говорит Ирвинг, важно, чтобы человеческими сердцами всегда пра-
вили доброта, бескорыстие, щедрость и справедливость.
В новелле «Дьявол и Том Уокер» Ирвинг переносит на амери-
канскую почву бытующий в фольклоре многих народов сюжет о
неправедно нажитом богатстве. Том Уокер продает душу дьяволу
151
и становится ростовщиком. Он грабит бедняков, набивает сундуки
золотом и серебром, но наступает час расплаты: за Томом являет-
ся дьявол и уносит его в преисподнюю, а накопленные ростовщиком
драгоценности превращаются в кучу опилок. Так торжествуют
народные понятия о правде.
Ирвингу принадлежат также первые в американской литературе
рассказы, сочувственно изображающие индейцев: «Филипп из
Поканокета», «Черты индейского характера». Здесь Ирвинг пред-
восхищает Купера.
Вернувшись в США после семнадцатилетнего отсутствия, Ир-
винг с головой окунулся в бурное течение американской жизни.
Америка того времени, при всех своих недостатках, все еще обла-
дала для писателя притягательной силой. Однако книги, в которых
Ирвинг пытался воспеть энергию американского предприниматель-
ства («Астория», 1836; «Скалистые горы», 1837), оказались мало-
удачными. О них помнят, главным образом, потому, что они при-
надлежат перу Ирвинга — автора романтических новелл.
Европейские привязанности и европейская тематика в твор-
честве Ирвинга положили начало устойчивой традиции в литера-
туре США: традиции углубленного интереса к жизни и культуре
Европы. Сопоставление Старого и Нового Света остается одной из
ведущих тем американской литературы вплоть до наших дней.
Некоторые стороны творчества Ирвинга обнаруживают типо-
логическую близость с мотивами, разрабатывавшимися в русской
литературе. Так, «История Нью-Йорка» Ирвинга в жанровом отно-
шении близка «Истории села Горюхина» Пушкина и «Истории од-
ного города» Салтыкова-Щедрина. Сочинения Ирвинга имелись в
библиотеке Пушкина, были известны Гоголю. Отчасти знакомст-
вом с ними и, главным образом, общностью фольклорных источни-
ков объясняется сюжетное сходство «Легенды об арабском астро-
логе» из «Альгамбры» со «Сказкой о золотом петушке» Пушкина
или новеллы Ирвинга «Дьявол и Том Уокер» с повестью Гоголя
«Вечер накануне Ивана Купала». Таким образом, черты типологи-
ческого сходства между русской и американской литературами
начинают проявляться уже с начала XIX века.
ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР
Джеймс Фенимор Купер (1789—1851) внес в разработку жанра
романа в США огромный вклад, фактически положив начало таким
его разновидностям, как роман исторический, морской, бытовой,
приключенческий, утопический, сатирический. Своими книгами
Купер открыл Америку для европейского читателя.
Купер родился в семье крупного землевладельца в штате Нью-
Йорк. С детства его окружала природа: нехоженые леса, полные
дичи, живописные озера и реки. В пору детства и юности Купера
Америка была еще страной фермеров, охотников, звероловов —
они составляли свыше 95% населения США. Штат Нью-Йорк
152
Д. Кетлин. Сту-Мик-о-Сукс —
вождь чернокожих индейцев.
представлял собой полуосво-
енную территорию, находив-
шуюся в непосредственной
близости от фронтира — по-
стоянно движущейся на За-
пад границы колонизации
континента.
Существование на Западе
США огромного простран-
ства незанятых земель явля-
лось таким историческим
фактором, значение которого
во всех областях американ-
ской жизни трудно переоце-
нить. Он позволял народам
Старого Света видеть «в Со-
единенных Штатах свобод-
ную землю миллионов без-
земельных Европы, их обе-
тованную землю...»1. Суще-
ствование фронтира оказало
огромное влияние на форми-
рование национальной аме-
риканской психологии и определило немало черт национального
своеобразия искусства США. В литературе утвердился, в частно-
сти, особый идеал вольной жизни лицом к лицу с природой, жизни
простой, непритязательной, независимой и гордой. Этот идеал мы
находим в творчестве многих писателей США не только XIX, но
и XX века: Эмерсона, Торо, Уитмена, Твена, Джека Лондона,
Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека и т. д. Первым в ряду всех
этих писателей должен быть по праву поставлен Купер: именно
его романы положили начало традиции, составившей одну из важ-
нейших национальных особенностей американской литературы.
Купер впервые получил признание с выходом исторического
романа «Шпион» (1821), где в романтически преобразованной фор-
ме воссозданы события американской революции. Война за незави-
симость овеяна здесь дымкой героической легенды, прославляющей
вождя повстанцев Джорджа Вашингтона и безвестных патриотов,
слагающих свою жизнь и честь к алтарю Свободы.
В историю мировой литературы Купер вошел прежде всего как
автор серии романов о Кожаном Чулке, создававшихся на протя-
жении почти 20 лет. Это «Пионеры» (1823), «Последний из моги-
кан» (1826), «Прерия» (1827), «Следопыт» (1840), «Зверобой»
(1841). Все пять книг связаны между собой образом главного
героя Натти Бампо, который выступает в каждом из романов в
разные периоды своей полной опасностей и приключений жизни.
Его друзья-индейцы награждают Натти множеством имен за мет-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 15, с. 334.
153
кость в стрельбе и охотничью сноровку: он и Соколиный Глаз,
и Длинный Карабин, и Кожаный Чулок, и Следопыт, и Зверобой.
Книги об этом герое объединены общей проблематикой: во всех
показано столкновение счастливого естественного существования
человека в условиях первозданной природы и «цивилизованного»
буржуазного общества, разрушающего гармонию как в отношениях
между людьми, так и в связях между человеком и природой.
В изображении природы ярко проявилось художественное мас-
терство Купера. В его романах о Кожаном Чулке национальный
пейзаж Америки запечатлен в живых и величественных образах.
Природа служит для Купера не просто фоном, на котором развер-
тывается действие; она сама активно участвует в событиях, форми-
рует психологию героев, способствует выявлению их характеров.
Не случайно Бальзак отметил: «Величие Купера — это отражение
величия описываемой им природы»1.
Циклу романов о Кожаном Чулке свойственна эпическая ши-
рота. Купер черпает материал из недавнего прошлого своей страны
и перерабатывает его в духе романтической эстетики. Глубина
романтического историзма сближает американского писателя с
Вальтером Скоттом. В то же время своеобразие национального
идеала придает историзму Купера неповторимые черты. Белинский
писал: «Между романами Купера и Вальтера Скотта столько же
сходства, сколько между старою, историческою гражданственно-
стию Англии и юною, лишенною почвы преданий, еще не устано-
вившеюся цивилизациею Северо-Американских Штатов, сколько
между бледною природою тесного пространства, занимаемого Ве-
ликобританией), и богатою природою неисходных девственных
пустынь Северной Америки. А между тем, нисколько не подражая
Вальтеру Скотту, Купер больше и лучше его жалких подражате-
лей воспользовался открытою им новою великою дорогою в искус-
стве»2.
Хеша индейцев. Подлинным художественным открытием Купера
стало изображение индейцев, хотя он и имел здесь предшественни-
ков в лице Шатобриана, Ирвинга и некоторых других писателей.
У Купера впервые индейская тема заняла одно из главных мест
в творчестве.
Купер показал трагедию индейского народа, который грабили,
спаивали, развращали и истребляли белые колонизаторы. Коренное
население Америки преследовалось с неслыханной жестокостью.
«Хороший индеец — мертвый индеец» — такая циничная поговорка
была в ходу у цивилизаторов, приписывавших краснокожим все
мыслимые пороки: кровожадность, вероломство, необузданную
злобу, мстительность, коварство и т. д.
Купер разрушил этот лживый миф, показав, что индейцы за-
частую превосходят белых в нравственном отношении. Купер также
1 Бальзак об искусстве. М—Л., 1941, с. 90.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1956, т. 10,
с. 106.
154
выступил горячим сторонником идеи*сотрудничества между белым
и цветным населением США. Страницы, посвященные верной и
преданной дружбе между краснокожими и их бледнолицыми
братьями, принадлежат к числу лучших у писателя.
Просветительский идеал «естественного человека» и естествен-
ного состояния общества нашел у Купера ярчайшее романтическое
воплощение. Естественной жизнью живут у него не только индей-
цы, но и Натти Бампо (цикл романов о Кожаном1 Чулке). Натти
не хочет жить в обществе, где все основано на несправедливости,
жажде власти и обогащения. Он уходит в лесные чащи, все дальше
и дальше на Запад, ибо только здесь чувствует себя свободным и
счастливым. Трагедия Натти состоит в том, что, уходя от цивили-
зации, он невольно прокладывает ей дорогу: вслед за ним дви-
жется фронтир, тысячи белых поселенцев, безжалостно вырубаю-
щих леса, уничтожающих на своем пути все живое. Купер гневно
осуждает хищническое отношение поселенцев к природе, их стрем-
ление к сиюминутной выгоде, нежелание задуматься о последст-
виях своих действий. Призыв Купера беречь и охранять природу
звучит в наше время особенно актуально.
Нравственная проблематика. В романтическом мире Купера
идет непрерывная борьба между добром и злом. Положительные и
отрицательные качества персонажей изображены ярко, порой ги-
перболизированно, без полутонов и оттенков. В этом находит
проявление одна из характерных особенностей романтической эсте-
тики. Купер открыто говорит о том, кого из героев он любит и
кого презирает. Он твердо стоит на стороне добра и ведет беспо-
щадный бой со злом. Его книги всегда были и по сей день оста-
ются любимым чтением детей и подростков. Их привлекает не толь-
ко острота куперовских сюжетов, но и авторская бескомпромисс-
ность, которая чрезвычайно близка юношеской психологии. В своих
книгах Купер учит мужеству, стойкости, честности, благородству,
верности в дружбе, непримиримости в борьбе со злом.
Ярким примером может служить судьба Гарви Берча, героя
романа «Шпион». Гарви, приняв участие в американской войне за
независимость, избирает один из самых трудных путей служения
отчизне: он становится разведчиком, выдающим себя за шпиона
вражеской армии. Ежеминутно рискуя жизнью, патриот до конца
выполняет свой долг. Он не помышляет о наградах, его не прель-
щает слава. Единственная цель Берча — свобода своей страны.
«Моникины». В творческом развитии Купера большую роль
сыграла поездка в Европу (1826—1833), которая заставила его
по-новому взглянуть на свою родину. Если до поездки Купер был
глубоко убежден в превосходстве Нового Света над Старым, то
знакомство с европейской жизнью и культурой поколебало эту
уверенность. Купер, оказавшийся свидетелем революционных со-
бытий во Франции, стал более критически относиться к американ-
ской действительности. Это отразилось в его сатирическом романе-
памфлете «Моникины» (1835). В этой книге, сравнивая Европу и
Америку, Купер приходит к выводу, что американцы, кичащиеся
155
своим демократизмом, в действительности чтут только великий
денежный интерес, который заслоняет от них все моральные прин-
ципы. В этом отношении тщетно было бы искать разницу между
аристократическим укладом монархических стран Европы и демо-
кратическим строем США. И тут и там царствуют эгоизм и стя-
жательство; внешние формы власти ничего по существу не меняют.
Критика Купером американской общественной системы вызвала
яростные нападки на него со стороны консервативных кругов. Пи-
сателя всячески травили в прессе, пытались подвергнуть обще-
ственному остракизму. Последние годы жизни Купера были омра-
чены непрекращающейся борьбой с враждебно настроенными
критиками и издателями.
За пределами Америки авторитет Купера всегда был необы-
чайно высок — намного выше, чем на родине. Его ценили Вальтер
Скотт, Гете, Жорж Санд, Бальзак. Большой популярностью Купер
пользовался в России. «Величайшим художником»1 называл его
Белинский. Лермонтов восхищался глубиной поэтичес!хОГо чувства,
пронизывающего его произведения2. Воспеваемая Купером стихия
свободной жизни была близка вольнолюбию лермонтовской поэзии.
Поэт-декабрист Кюхельбекер зачитывался романами Купера, на-
ходясь в заточении в Свеаборгской крепости3. Молодого Толстого
привлекал куперовский идеал близости к природе: герой повести
«Казаки» Оленин, соприкоснувшись с простой жизнью охотников,
вспоминает героя «Следопыта». Передовые слои русского общества
справедливо видели в Купере пламенного защитника идеалов сво-
боды, демократии, братства людей всех рас и национальностей.
А. М. Горький писал: «Натти Бумпо всюду возбуждает симпа-
тии читателей честной простотой своей мысли и мужеством деяний
своих... Бумпо является почти аллегорической фигурой, становясь
в ряды тех истинных друзей человечества, чьи страдания и подви-
ги так богато украшают нашу жизнь... и читая воспоминания,
например, русских революционеров, мы нередко встретим указания,
что книги Купера служили для них хорошим воспитателем чувства
чести, мужества, стремления к деянию»4.
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1956, т. 11,
с. 558.
2 См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1951, с. 136—137.
3 См.: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1969,
с. 313.
4 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1953, т. 24, с. 226.
СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
I Западная и Центральная Европа. США. 1789—1830 годы
Годы
1789
1790
1791
1792
1793
1794
История
14.VII. Взятие Бастилии.
Начало революции во
Франции
21.1. Казнь Людови-
ка XVI
29.VII. Переворот 9 тер-
мидора.
Казнь Робеспьера
Наука и философия
Ф. Шиллер. «История Три-
дцатилетней воины»
И. Кант. «Критика спо-
собности суждения»
Т. Пейн. «Права челове-
ка»
В. Годвин. «Рассуждение
о принципах политической
справедливости»
Фихте. «Наукоучение»
Литература
М.-Ж. Шенье. «Карл IX»
Гете. «Торквато Тассо»
М.-Ж. Шенье. «Жан-Калас»
Бомарше. «Преступная мать»
М.-Ж. Шенье. «Кай Гракх»
В. Годвин. «Калеб Виль-
яме»
А. Радклиф. «Удольфские
тайны»
Искусство
1
Л. Давид. «Смерть Ма-
рата»
Продолжение
Годы
1795
1796
1797
1 1798
1799
1800
1801
- История
Наполеон объявляет себя
пожизненным консулом
Наука и философия
Ф. Шиллер. «Об эстетиче-
ском воспитании», «О на-
ивной и сентиментальной
поэзии»
Шеллинг. «Философия при-
роды»
Ж. де Сталь. «О литера-
туре, рассматриваемой в
связи с общественными
установлениями»
Литература
Гете. «Годы учения Виль-
гельма Мейстера».
Вакенродер. «Сердечные из-
лияния монаха, любителя ис-
кусства»
«Балладный год» Гете и
Шиллера
«Лирические баллады» Ворд-
| сворта и Колриджа
Ф. Гельдерлин. «Гиперион»
Ф. Шиллер. «Трилогия о Вал-
ленштейне»
Новалис. «Генрих фон Офтер-
динген»
Шатобриан. «Атала» (1801 —
1805)
Ф. Шиллер. «Мария Стюарт»
Искусство
Л. Давид. «Зеленщица»
Бетховен. 8-я («Патети-
ческая») соната
Давид. «Портрет Напо-
леона»
/
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1 1810
г ■
Наполеон объявляет себя
императором (18 брюмера)
Сражение под Аустерли-
цем (разгром австрийских
войск)
Разгром прусских войск
и ликвидация Наполеоном
«Священной Римской им-
перии немецкой нации»
Начало освободительных
войн >чв Латинской Аме-
рике
Шеллинг. «Философия ис-
кусства»
Шатобриан. «Гений хрис-
тианства»
Шатобриан. «Рене» 1
Ф. Шиллер. «Вильгельм
Телль»
Ж. де Сталь. «Коринна»
Гете. Публикация I ч. «Фа-
уста»
Клейст. «Принц Гамбургский»,
«Михаэль Кольхаас»
Бетховен. 3-я («Героиче-
ская») симфония
Бетховен. «Аппассионата»
Бетховен. 6-я («Пасто-
ральная») симфония
К. Д. Фридрих. «Монах на
море», «Крест в горах»
Бетховен. «Эгмонт» (му-
зыка к драме Гете)
Продолжение
Годы
1811
1812
1813
1814
1815
1816
i
История
Поражение Наполеона в
Рос с и и
Освободительная война в
Германии. «Битва наро-
дов» под Лейпцигом, пора-
жение Наполеона
«Сто дней». Окончатель-
ное поражение Наполеона.
Начало Реставрации
Наука и философия
Ж. де Сталь. «О Герма-
нии»
Литература
Бр. Я. и В. Гримм. «Детские
и семейные сказки»;
Байрон. Две первые песни
«Чайльд Гарольда»
Байрон. «Гяур»
Шелли. «Королева Маб»
Э. Т. А. Гофман. «Золотой
горшок»;
Байрон. «Корсар»;
Первый роман В. Скотта
«Уэверли»
Э. Т. А. Гофман. «Фантазии
в манере Калло»
Байрон. «Шильонский узник»;
В. Скотт. «Пуритане»;
Э. Т. А. Гофман. «Эликсиры
дьявола»;
Искусство
Гойя. «Бедствия войны»
Жерико «Раненый кира-
сир»
Постановка оперы Гофма-
на «Ундина»
Россини. «Севильский
цирюльник»
Бетховен. Вокальный цикл \
«К далекой возлюбленной» 1
Беранже. «Песни»
Б. Констан. «Адольф»
Байрон. 3-я песня «Чайльд Га-
рольда», «Манфред»
1817
Ш. Нодье. «Жан Сбогар»;
М. Шелли. «Франкенштейн»
Байрон. 4-я песня «Чайльд
Гарольда», начало работы
над «Дон Жуаном»
1818
Жерико. «Плот Медузы»
Э. Т. А. Гофман. «Крошка
Цахес»
Гете. «Западно-восточный
диван»
В. Ирвинг. «Книга эскизов»
(сб. новелл)
П. Б. Шелли. «Освобожден-
ный Прометей»
В. Скотт. «Айвенго»
1819
Матюрен. «Мельмот-скита-
лец»
П. Б. Шелли. «Ченчи»
1820
Байрон. «Каин»
Э. Т. А. Гофман. «Житей-
ские воззрения кота Мурра»
Ф. Купер. «Шпион»
П. Б. Шелли. «Защита
поэзии»
Восстание в Греции про-
тив турецкого ига.
Начало деятельности кар-
бонариев в Италии
1821
В. Гюго. «Оды»
А. Мицкевич. «Поэзия» (сб.
стихов)
Сен-Симон. «Об индуст-
риальной системе»;
Провозглашение незави-
симости Бразилии
СМ
сч
00
6 История зарубежной литературы XIX века
Продолжение
Годы
1823
1824
1825
1826
1827
1828
История
Восстание декабристов в
России
Наука и философия
Стендаль. «Расин и
Шекспир»
Гизо. «Очерк по истории
Франции»
В. Гюго. «Предисловие» к
«Кромвелю»
Литература
В. Скотт. «Квентин Дор-
вард»
Ф. Купер. «Пионеры»;
А. Мицкевич. «Гражина»,
«Дзяды» (1-я и 2-я ч.)
А. де Виньи. «Сен-Мар»
Ф. Купер. «Последний из мо-
гикан»
П. Мериме. «Гузла»
Мандзони. «Обручение»
А. Мицкевич. «Конрад Вал-
ленрод»
Искусство
Бетховен. 9-я симфония
Э. Делакруа. «Резня на
Хиосе»
Фр. Шуберт. Вокальный
цикл «Зимний путь»
Э. Делакруа. Иллюстра-
ции к «Фаусту» Гете
1829
1830
Революция в Париже. Вос-
стание в Польше.
Гете. «Годы странствий Виль-
гельма Мейстера»
Бальзак. «Шуаны»
В. Гюго. «Восточные мотивы»
П. Мериме. «Хроника времен
царствования Карла IX»;
Стендаль. «Ванина Ванини»
Д. Россини. «Вильгельм
Телль»
Премьера «Эрнани»
В. Гюго 1
КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
XIX ВЕКА
В тридцатые годы XIX века в ряде европейских литератур
утверждаются эстетические принципы критического реализма1.
Одной из ранних жанровых форм, полемически противостояв-
ших романтическим жанрам, был социально-бытовой очерк, или,
как тогда его именовали, «физиологический» очерк. Это были
зарисовки реального быта людей из разных слоев общества и, что
особенно важно, наброски социальных типов, взятых чаще всего
в их профессиональном облике: извозчик, чиновник, мелкие тор-
говцы: бакалейщик, торговка овощами и т. п. «Очерками Боза»
(1833—1835) начал свой творческий путь Диккенс. Целой серией
очерковых книг ознаменован начальный период творчества Тек-
керея. Его «Книга снобов» (1846—1847) не только хронологически
предшествует «Ярмарке тщеславия», но и предваряет знаменитый
роман сатирически-острой галереей типов, составлявших так назы-
ваемое светское общество. Очерки — важное звено в формировании
Бальзака-романиста. Он продолжал публиковать очерки в сатири-
ческом журнале «Карикатура» в 1830—1832 годы, т. е. после того,
как уже были написаны первые романы. На страницах журнала
«Карикатура» одновременно с Бальзаком начал выступать со свои-
ми сатирическими литографиями О. Домье. Таким образом, лите-
ратурные очерки имели свою параллель в графике.
Сопоставление, очерков с последующими романами и повестями
того же автора позволяет представить, как углублялась характе-
ристика персонажа и приобретали обобщающий смысл эпизоды, с
ним связанные2.
Социальный характер и пафос обличения. Открытием
критического реализма было изображение социального характера,
создание образа, воплощавшего типические черты современного
общества. Бальзак писал в предисловии к «Человеческой комедии»
(1842): «Составляя опись пороков и добродетелей, собирая
наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры,
1 Однако в отличие от термина «романтизм», сразу же получившего широкое
распространение, термин «реализм» возник позднее; во Франции, например, уже
после смерти Бальзака.
2 Характерна, например, творческая история повести Бальзака «Гобсек»,
выросшая из очерка о ростовщике. См.: Грифцов Б. Как работал Бальзак.
М., 1958.
163
выбирая главнейшие события из жизни общества, создавая типы
путем соединения отдельных черт многочисленных однородных
характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, за-
бытую столь многими историками,— историю нравов». При этом
Бальзак оговаривается, что он хотел бы быть не просто «лето-
писцем добра и зла», «археологом общественного быта, счетчиком
профессий — он стремится «уловить "скрытый смысл огромного
скопища типов, страстей и событий»1.
В поисках этого скрытого смысла писатели исследовали ма-
териальные побудительные силы поступков людей, обнажая меха-
низм общества, основанного на денежных интересах. Мистифи-
цированное изображение золота, «металла с желтыми глазами»
(Л. Тик), характерное для многих романтиков, сменяется точ-
ным, почти научным анализом влияния денег на формирование
характера Домби, Бекки Шарп, Растиньяка, Гранде2. «История
нравов», которую пишет Бальзак, вместе с тем содержит анализ
того, как утвердились эти нравы. Художественное освоение дей-
ствительности показало, что нет абстрактной морали, добродетель
и порок социально детерминированы, в классовом обществе само
представление о морали неоднозначно. Герой Бюхнера солдат
Войцек говорит: «Ведь это должно быть хорошая вещь — добро-
детель, господин капитан. Но я только бедняк» («Войцек», 1836).
Для революционного демократа Бюхнера была очевидна
классовая природа морали. Но близкую к нему проницательность
проявляли и те реалисты, которые субъективно были далеки от
революционного движения эпохи. В том-то и проявлялась сила
художественного освоения ими действительности, что они, часто
даже вопреки собственным политическим предрассудкам (как это
отмечал Энгельс у Бальзака), умели видеть и вскрывать социаль-
ные противоречия эпохи. Хотели они этого или нет, но револю-
ционные движения оказывали на них влияние, обостряли их
социальное зрение. Диккенс не поддержал чартизма, но битвы
чартистов за права пролетариев несомненно отложились в сознании
писателя и заставили его острее почувствовать «тяжелые вре-
мена».
В изображении нравов своего времени критический реалист
не был бесстрастным «летописцем добра и зла». За обличитель-
ными страницами явственно ощутим нравственный пафос писате-
ля. Диккенс при этом не ограничивается изображением событий,
но возвышает свой авторский голос (в традиции романтизма):
«Проснись, жестокий отец! Проснись, угрюмый человек! Вре-
мя летит. Час приближается гневной поступью. Проснись» («Дом-
би и сын», глава 43).
Но и тогда, когда Флобер требует от писателя полного бес-
страстия, ссылаясь на естествоиспытателя, который не выражает
1 Бальзак О. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1951, т. 1, с. 6—7.
2 Исправляя рукопись «Евгении Гранде», Бальзак дважды уточняет сумму
капитала Гранде. И в вымысле он хочет быть максимально точным. См.:
Грифиов Б. Как работал Бальзак. М., 1958.
164
никаких эмоций, препарируя лягушку, он не может сдержать
своего негодования, изображая в «Госпоже Бовари» обществен-
ную деятельность аптекаря Оме или награждение медалью со-
старившейся от многолетней работы батрачки («Так стояло перед
цветущими буржуа живое полустолетие рабства»).
Изображение среды. Как уже отмечалось, реалисты на
смену романтическому местному колориту утвердили понятие
среды. Первоначально это понятие было связано с «физиологи-
ческим» очерком (в особенности во Франции и в России). Но-
визна художественных принципов состояла при этом в фиксиро-
вании «социальных, профессиональных и бытовых особенностей,
привычек и достопримечательностей» (Ю. Манн). Как отмечает
советский исследователь, «своим стремлением к документально-
сти, к точной детали, использованием статистических и этногра-
фических данных... «физиологический» очерк выражал тенденцию
известного сближения образного и научного сознания»1.
Однако такое документально точное изображение среды озна-
чало собой лишь подготовительную стадию в художественном
освоении жизненных обстоятельств. Новаторским было изобра-
жение типических обстоятельств, также во многом полемическое
по отношению к художественной трактовке романтиков, чаще всего
ставивших своего героя в исключительные ситуации, в необык-
новенную обстановку.
Изображение типических обстоятельств неизбежно связано
с попытками уловить закономерности развития жизни, постиг-
нуть материальные, экономические факторы, влияющие на пове-
дение людей, формирующие их характеры. Детализация обста-
новки, быта, обилие изображенных вещей у Бальзака не являются
самоцелью, проявлением его особого личного пристрастия к опи-
саниям. За этими подробностями всегда стоит общественный опыт
писателя, итог наблюдений и познания им жизни во всех ее
сложных взаимосвязях. Многие из центральных персонажей романа
Бальзака «Отец Горио»: Горио, Растиньяк, Вотрен — живут в
одном доме. Для характеристики их положения в обществе весьма
существенно, что живут они именно здесь (не снимают, допустим,
отдельную квартиру, но, с другой стороны, и не ютятся где-нибудь
в мансарде, как бедняки). Поэтому Бальзак подробно живописует
дом Воке, убранство комнат и даже то, как именно одета хо-
зяйка пансиона: «Шерстяная вязаная юбка, выглядывающая
из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь
прорехи ватой», воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую
и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предуга-
дать состав нахлебников. Преодолению романтических представле-
ний о среде (как местного колорита) способствовало и развитие
точных наук в 30—40-е годы XIX века. Примечательно, что роман
«Отец Горио» Бальзак посвятил «великому и знаменитому Жоф-
1 М а н н Ю. В. Натуральная школа.— В кн.: Словарь литературоведческих
терминов. М., 1974, с. 236.
165
фруа де Сент Илеру в знак восхищения его работами и гением».
Спор в июле 1830 года во Французской академии между Ж. Кювье
и Ж. де Сент Илером о классификации животного мира привлек
всеобщее внимание. На него горячо откликнулся Гете, который
увидел во взглядах Сент Илера подтверждение своим естествен-
нонаучным исследованиям, которыми он занимался с 90-х го-
дов XVIII века. Идея развития постепенно пробивала себе доро-
гу в естественных науках — оставалось менее тридцати лет до
появления книги Ч. Дарвина «Происхождение видов путем есте-
ственного отбора» (1859). Успехи естественных наук косвенно
оказывали влияние на формирование мировоззрения писателей-
реалистов. Бальзак даже признает, что идея «Человеческой ко-
медии» возникла из сопоставления общества и природы, но тут же
оговаривается, что виды в человеческом обществе бесконечно
сложнее, чем виды в животном мире и постоянно меняются под
воздействием социальных обстоятельств. Бальзак здесь не поддал-
ся соблазну биологизации общества, как это позднее проявилось
у натуралистов.
Реализм XIX века и реализм XVIII века. Критический
реализм XIX века отличается от просветительского реализма
XVIII века не только тем, что переместился центр тяжести с кри-
тики феодального на обличение буржуазного общества (критика
дворянства занимает большое место и в литературе XIX века;
с другой стороны, эгоизм собственников бичевали и просвети-
тели). Само собой разумеется, что иной стала тематика произ-
ведений, другой характер приобрели человеческие трагедии.
Л. Арагон в работе о реализме Курбе приводит известную сцену
из Диккенса, когда пятилетний Поль спрашивает мистера Домби:
«Папа, что такое деньги?» «Подобные вопросы,— пишет Арагон,—
ни в каком возрасте не могли бы волновать Поля Домби, будь
он героем Филдинга или Жан-Жака Руссо...» Это не является
проявлением гениальности ни маленького Поля, ни самого Диккен-
са: писатель лишь отражает экономические изменения, происшед-
шие в Англии1. Существеннее другое: изменялась не только про-
блематика, изменялся самый художественный метод. Реализм
XVIII века был связан с иллюзиями в отношении «царства
разума», типическое понималось иначе; для просветителя главным,
определяющим было не наличное неразумное бытие, а разумное
и естественное начало. Отсюда — целая галерея положительных
героев, носителей этого начала, от Робинзона Крузо до Фауста.
Самый сюжет строился на столкновении разумного и неразумного,
естественного и враждебного природе. И поскольку просветителя
мало интересовали типичные обстоятельства, он часто создавал
в романе ситуацию экспериментальную (Робинзон на необитаемом
острове), чтобы продемонстрировать путь своего разумного героя.
Величие «Истории Тома Джонса» Филдинга состояло не столько
1 См.: Арагон Л. Пример Курбе.— В кн.: Арагон Л. Литература и
искусство. М., 1957, с. 317—318.
166
в изображений тех или иных английских типов, сколько в ее
нравственном пафосе, утверждении победы Тома Джонса как ге-
роя— носителя естественных задатков человека, его «природы»
над моральным уродом Блайфилом, победы в какой-то мере даже
вопреки реальным обстоятельствам. Во всяком случае автор не
задумывается над тем, возможно ли, типично ли такое в тогдаш-
них обстоятельствах английской жизни. Недаром он и роман
свой назвал «комической поэмой в прозе» (как позднее Гоголь
назовет свой знаменитый роман «поэмой»)1.
Не встает вопрос, типичен или не типичен, и в отношении
Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера: герой — рупор просве-
тительских идей автора, он борется за общечеловеческие идеалы
(«Благородный адвокат человечества», — сказал о Шиллере
В. Г. Белинский), Шиллеру нет дела до того, были ли и харак-
терны ли для немецкой жизни такие, как Карл.
Это, конечно, не значит, что просветительский реализм в чем-
то был несовершенным в сравнении с критическим или являлся
неким «предреализмом»2. Такая точка зрения была бы антиисто-
ричной, это означало бы игнорирование специфики каждого этапа
в развитии литературы. «Малооправданным представляется стрем-
ление некоторых исследователей оценивать более ранние этапы
реалистического творчества лишь как преддверие, подготовку к
последующим периодам его роста, как нечто низшее в сравнении
с тем, что возникает позже... В этом случае Сервантес, например,
окажется ниже Филдинга и Теккерея, а Гете — художником менее
значительным, чем Флобер или Золя» (М. Б. Храпченко).
Типология реализма XIX века. Проблемы типологии реализ-
ма XIX века в современной науке еще недостаточно разработа-
ны. Однако очевидно, что реализм, как и романтизм, не состав-
ляет единого потока одинаковых явлений. Весьма существенны
его национальные черты — отражение особого пути исторического
развития каждой страны. На этом пути могут обозначиться раз-
личные этапы, например, французский реализм 30—40-х годов
и реализм после революции 1848 года имеют свои особенности.
Но даже в пределах одного этапа в одной стране Стендаль,
Бальзак и Мериме представляют собой не просто разные худо-
жественные индивидуальности, но разные эстетические тенденции.
Многое в этой типологии лучше просматривается в свете
более позднего опыта литературы, в особенности опыта XX века.
Например, Стендаль не воспринимался современниками в тех
масштабах, какие обрело его влияние в XX веке; между тем
именно от Стендаля идет преемственная линия к психологическо-
му реализму конца XIX века, к Л. Толстому, мастерам XX века.
Со Стендалем связана разработка внутреннего монолога, что
1 Проблема типологии романа и сложных литературных связей Филдинг —
Гоголь — Бальзак исследована в кн.: Елистратова А. А. Гоголь и проблемы
западноевропейского романа. М., 1972.
2 Термин Д. Д. Благого, который он применяет по отношению к русскому
реализму XVIII века.
167
позволило показывать во всей
сложности душевное состояние и
ход размышлений героя. Бли-
стательно применил Стендаль
это открытие для изображения
происходящих событий не про-
сто глазами участников, а как
бы пропущенными через созна-
ние героя (так изображено сра-
жение при Ватерлоо в восприя-
тии Фабрицио в романе
«Пармская обитель»)1.
Другой пример — Г. Бюх-
нер. Как известно, расцвет реа-
лизма в немецкой литературе
падает на более позднее время,
а мировую известность немец-
кий роман критического реализ-
ма получает только в XX веке.
Однако Бюхнеру за три года его
творческой деятельности (он
умер молодым) удалось найти
собственный путь в искусстве, во многом отличный от самых круп-
ных свершений английского и французского реализма. И только
XX век оценил мастерство изображения смятенного сознания
(«Войцек», «Ленц»), и оригинальность решения проблемы «лич-
ность и история» («Смерть Дантона»), и глубину социального
анализа с позиций человека труда. При этом революционный де-
мократ Бюхнер рассматривал художественное творчество как про-
должение своей политической деятельности, что придавало осо-
бую остроту и актуальность изображаемым конфликтам и в «Смер-
ти Дантона» и в «Войцеке»2.
Говоря о типологии реализма XIX века, следует отметить
особое место тех немногих произведений, которые написаны с
позиций революционного рабочего класса. На примере творчест-
ва Г. Веерта, поэта, публициста, прозаика, нетрудно убедиться,
что при этом меняется самый характер реализма, он приобре-
тает новое качество. Исторический оптимизм Веерта, его твер-
дая убежденность в победе рабочего класса определяют особую
тональность его произведений. Это особенно заметно, если со-
О. Домье. Семья на баррикадах.
Фрагмент. Масло. 1848—1849 гг.
1 Обращение к теме Ватерлоо дает убедительный материал для типологи-
ческих сопоставлений: романтического изображения у Байрона («Чайльд Га-
рольд») и Гюго («Отверженные») и двух типов реалистического — у Стендаля
и у Теккерея («Ярмарка тщеславия»).
2 Писатели ГДР (А. Зегерс, К. Вольф, М. В. Шульц) ведут от новеллы
Бюхнера «Ленц» начало современной немецкой прозы. Существен также вопрос
о преемственной связи художественного метода Бюхнера с натурализмом и
экспрессионизмом, сыгравшими особую роль в немецкой литературе конца XIX—
начала XX века.
168
поставить, например, сатиру Веерта и сатиру Гейне. Веерт, как
позднее Потье, своими стремлениями раскрывать явления в их
революционном развитии предвосхитил художественные открытия
XX века, литературу социалистического реализма.
ПЬЕР-ЖАН БЕРАНЖЕ
Давая определение народности в искусстве, В. Г. Белинский
писал: «Народный поэт — тот, которого весь народ знает, как...
знает Франция своего Беранже»1. «Народ — моя муза», — при-
знавался Беранже в «Моей биографии», а в одной из песен он
заявил: «Мой вкус и я — мы из народных масс».
И действительно, Пьер-Жан Беранже (1780—1857) был ис-
тинным собратом своих будущих героев. Духовный сын француз-
ской революции, ребенком видевший с крыши своего дома штурм
Бастилии 14 июля 1789 года, он сам вышел из третьего сословия.
С самых юных лет он стал пламенным республиканцем и патрио-
том, полным гордости за свою революционную родину, которая
была в глазах поэта великой страной свободы, сеющей семена
освобождения по всей Европе.
Беранже не получил даже первоначального систематического
образования, начал слагать песни, не овладев азами француз-
ского правописания, и, по собственному рассказу, учился стихо-
сложению, переписывая по многу раз одну из трагедий Расина
и поэму Тассо, а грамматике — работая наборщиком в типографии.
В годы Империи, перебиваясь с хлеба на воду в нетопленной
мансарде, скромный молодой человек искал свой путь в литера-
туре и вскоре понял, что старые каноны в искусстве, как и «ста-
рый режим», уходят в прошлое; оставив упражнения в «высоких
жанрах», столь оберегавшихся эпигонами классицизма, он на-
всегда отдался песне, которая считалась тогда презренным родом
поэзии, но испокон веков жила в гуще французского народа и
была ярким выражением национального характера.
Избрав непритязательную форму песни, Беранже придал ей
художественное совершенство и полностью уравнял в правах с
другими жанрами высокой литературы. За ее легкостью, изящест-
вом, искрящимся остроумием крылась тщательная и упорная рабо-
та. Он создал своеобразный ритмический и музыкальный рисунок
песни, которую немедленно схватывало ухо, тем более что, по тра-
диции французских народных песенников, он использовал мелодии
уже известных, старых песен в расчете на то, что новые стихи
вытеснят старый текст; виртуозно разработал прием рефрена,
содержащего как бы сгусток смысла всей песни. Беранже умел
говорить с народом на его языке: он смело пользовался народной
лексикой, употреблял выразительные обороты разговорной речи,
порою строил стих в расчете на простонародное произношение.
1 Белинский В. Г. Собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 7, с. 332.
169
В своих песнях, предвосхитив Гюго, он вернул поэзии все богат-
ство народного языка, но «разум, руководимый вкусом», господ-
ствует в его песнях вместо избыточного лиризма и живописности,
присущих романтизму. За песнями Беранже просматриваются
мощные пласты французской демократической культуры: старин-
ные побасенки «фабльо», книга Рабле, басни Лафонтена, комедии
Мольера и Бомарше, лубочные памфлеты революционных лет.
Отсюда и близкий к народной религии «добрый бог» Беранже, его
веселые кюре, снисходительные к земным слабостям своей паст-
вы; его издевки над папой и церковниками, способными умо-
рить самого сатану; его неутомимые бражники и беспечные хохо-
тушки.
Первый печатный сборник Беранже «Песни нравственные и
другие» появился в 1815 году и объединил созданные в годы
Империи произведения, по большей части застольные импровиза-
ции, уже известные по исполнению их автором в песенном круж-
ке «Современный погребок» (такие кружки, «гогетты», существо-
вали в Париже с начала XVIII века). Но популярность его
началась с песни «Король Ивето» (1813), где за похвалами ска-
зочному добряку королю таилось иносказательное неодобрение на-
полеоновскому режиму. Однако подлинный взлет Беранже произо-
шел в годы Реставрации (1815—1830), когда он со всей респуб-
ликанской страстностью, с плебейской прямотой ринулся на
защиту демократических завоеваний революции от клерикаль-
но-монархической реакции. Сатирические шедевры тех лет, такие,
как «Маркиз де Караба», «Господин Искариотов», «Мелюзга»,
создали Беранже всеевропейскую славу, которой еще более спо-
собствовали правительственные преследования: издание сборников
новых песен дважды, в 1821 и 1829 годах, повлекло за собой
судебные процессы и двукратное тюремное заключение поэта.
Политическая сатира Беранже имела могучее воздействие на умы
современников, его веселый сокрушительный смех расшатывал и
без того неустойчивые основы монархии Бурбонов.
Беранже не выработал законченной системы философских
и социально-политических воззрений, но искренняя забота о народ-
ном благе была делом всей его жизни, и песню он сделал дей-
ственным оружием в борьбе за это благо.
Из песен Беранже в высокую литературу хлынула толпа обык-
новенных людей, его современников — жителей парижских при-
городов, завсегдатаев кафешантанов, обитателей чердаков, мелких
чиновников и гризеток, бродяг, трактирщиц, отставных солдат
и маркитанток. Под пером Беранже они впервые обрели лицо и
судьбу. Его музу зовут Лизетта, она простая швея, но поэт не
променяет ее любовь на благосклонность великосветской дамы;
его излюбленный герой — беспечный гуляка, «бедный чудак»,
все имущество которого — это «два стула, стол трехногий, стакан,
постель в углу, тюфяк на ней убогий, гитара на полу»,— но он ни
за что не сменит свой видавший виды «старый фрак» на при-
дворную ливрею.
170
Открытие народной темы во французской литературе XIX ве-
ка— Великая заслуга Беранже. Его песни утверждали значи-
тельность простого человека — «простолюдина», его гражданское
и национальное достоинство, его внутреннюю независимость, шкалу
его жизненных ценностей, его нравственные и политические иде-
алы. Поэт смотрит на мир глазами своих героев. Как и они, он
видит в революции конца XVIII века праздничную и героическую
страницу народной жизни; как и они, славит «честную бедность»
и осуждает бездельников-дворян, лицемерных и развратных цер-
ковников; смеется над ничтожеством королей, негодует против
реакционного заговора клерикалов и легитимистов, презирает
полицейских шпионов и корыстных депутатов; разделяет с прос-
тыми людьми оскорбленное национальное чувство патриота, став-
шего свидетелем унижения родины, которую топчут сапоги интер-
вентов; преклоняется перед ветеранами войн республики, кото-
рые в свое время спасли Отечество и несли свободу другим
народам, а ныне незаслуженно позабыты. Даже фигуру Наполеона
он воспринимает сквозь призму народной легенды о «солдате
революции», герое в треугольной шляпе и сером сюртуке, раз-
деляя в данном случае с широкими массами Франции их заблужде-
ние (впрочем, это не мешало поэту отделять военную славу На-
полеона от его политического деспотизма и сожалеть, что он
«и скипетр взял»).
В пору становления романтизма Беранже оставался верен
стихийно-реалистическому мировосприятию, свойственному народ-
ной литературе, и как бы перебрасывал от него мост к критиче-
скому реализму XIX века.
Когда же после Июльской революции 1830 года недавнее
третье сословие начало расслаиваться, Беранже остался с наро-
дом. Он порвал со своими вчерашними соратниками либералами,
расхватавшими доходные места в министерствах, наотрез отка-
зался от всякой политической деятельности. Буржуазная действи-
тельность Франции представала его взору во все более злове-
щем виде. В эти годы Беранже в значительной мере растерял
свою веселость. Он рисует картины нищеты и горя бедняков,
задавленных тяжким трудом и непосильными поборами («Сон бед-
няка», «Рыжая Жанна»), изображает бездомного и гонимого ста-
рика, проклинающего свою судьбу («Старый бродяга»),— такие
песни Беранже вливались в общий поток гуманистической поэзии
и романов тех лет, получивших наименование «литературы соци-
альной жалости». Острие сатиры народного песенника направлено
теперь против новых хозяев Франции, при которых простому на-
роду живется нисколько не лучше, чем при старых. В цикле ан-
тибуржуазных песен (опубликованных частично лишь в 1847 году,
а главным образом в посмертном сборнике) он с отвращением
и сарказмом изображает жирных «слизняков своей страны» («Улит-
ки»), омерзительных «июльских червей» («Черви»), подтачиваю-
щих корни здоровой жизни нации; а в песне «Бонди» с памфлет-
ной силой обрушивается на денежных дельцов, заражающих духом
171
продажности и стяжательства всю Францию, сверху донизу, и
столь же преступных, на взгляд поэта, как разбойники, некогда
хозяйничавшие в лесах под Парижем. /
Высокое гражданское и человеческое достоинство не измени-
ло старому поэту до конца дней. Он отверг заигрывания со сто-
роны клики Наполеона III и не пошел на службу ко Второй
империи. Он даже запретил переиздавать в эти годы свои прежние
песни наполеоновского цикла, не без основания опасаясь, как
бы они не прозвучали косвенной поддержкой нынешнего бонапар-
тистского режима, и писал отныне главным образом грустную
интимную лирику. Официальные круги отвечали ему холодной на-
стороженностью. Кончина Беранж^ возымела широкий резонанс
среди демократических кругов Франции и всей Европы; за его гро-
бом, несмотря на декрет о запрещении сборищ, шло полмиллио-
на парижан, рабочие многих городов возложили венки на мо-
гилу песенника, который был в их глазах другом народа и
национальной гордостью1.
СТЕНДАЛЬ
Мастер тончайшей душевной аналитики, напряженно чуткий
к тому, как преломляются веяния текущей истории в судьбе лич-
ности, в самих ее помыслах и сокровенных страстях, Стендаль
(1783—1842) вошел в историю мировой литературы как зачина-
тель социально-психологической прозы критического реализма
XIX века.
Вехи пути. Писательская биография Стендаля (настоящее имя —
Анри Бейль) складывалась трудно и медленно, а ее поворотными
вехами стали крутые переломы в ходе тогдашней истории Франции,
такие, как крушение наполеоновской империи и Июльская револю-
ция 1830 года.
Сделав первые пробы пера еще на рубеже XVIII—XIX веков,
Стендаль вплоть до 1814 года переживает затянувшийся период
литературного ученичества, от которого остались рукописные на-
броски и дневники. Еще полтора десятка лет, почти до конца
эпохи Реставрации, длился период кристаллизации общественно-
философских и литературно-эстетических воззрений Стендаля,
когда он выступает с книгами о композиторах2 и живописцах
(«Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио», 1815; «История жи-
вописи в Италии», 1817; «Жизнь Россини», 1823); с философско-
психологическими эссе («О любви», 1822); книгами путевых за-
меток («Рим, Неаполь и Флоренция», 1817, и «Прогулки по
1 Подробнее о творчестве Беранже см. в кн.: Данилин Ю. И. Беранже
и его песни. Критико-биографический очерк. М., 1973; Великовский С.
Поэты французских революций. 1789—1848. М., 1963; Стариц ына 3. А.
Беранже в русской литературе. М., 1980.
2 См. об этом в кн.: Р о л л а н Р. Стендаль и музыка. — Собр. соч. в 14-ти
томах. М, 1958, т. 14.
172
Риму», 1829); наконец, своего рода творческим манифестом-памфле-
том *«Расин и Шекспир» (1823—1825). И лишь пройдя долгую
школу подготовительных поисков, в канун революции 1830 года
Стендаль вступил в пору зрелых писательских свершений, рас-
цветА своего дарования, когда были написаны прославившие его
вещи, среди которых: новелла «Ванина Ванини» (1829), роман
«Красное и черное» (1830), книга очерков «Записки туриста»
(18^8), роман «Пармская обитель» (1839), ряд рассказов и по-
вестей, вошедших посмертно в сборник «Итальянские хроники»
(1855), а также множество неоконченных произведений, в частно-
сти роман «Люсьен Левен» (1834—1835) и две автобиографические
повести — «Записки эгоиста» (1832) и «Жизнь Анри Брюла-
ра» (1835).
Философия ЛИЧНОСТИ. Духовный преемник мыслителей-мора-
листов XVII века и особенно Просвещения, унаследовавший их
приверженность к бесстрашно трезвому разуму и учение о поль-
зе как конечной пружине и цели всех наших поступков, Стен-
даль вместе с тем по-своему разделял романтический культ натур
незаурядных, пламенных, самобытных. Краеугольным камнем
своих воззрений на человеческую личность он полагал присущий
ей, «способ отправляться на охоту за счастьем», иными словами,
совокупность ее нравственных установок. Будучи заложена в са-
мой людской природе, исконная и вечная тяга к счастью при
этом, в глазах Стендаля, крайне изменчива от эпохи к эпохе,
всякий раз принимает особый облик в зависимости от распростра-
ненных вокруг нравов и установлений, то есть исторична. И от
уклада общества во многом зависит, следовательно, ведет ли по-
гоня за счастьем к сердечному оскудению, закрепощает или,
наоборот, освобождает ум и распрямляет души; выливается ли
она в войну всех против всех или польза для каждого совмещает-
ся с пользой для всех.
В последнем случае умение энергично и честно добиваться
счастья — не просто личная добродетель, но и гражданская доб-
лесть. Подобным сопряжением лично-выгодного и граждански-
полезного были отмечены, согласно Стендалю, времена недавней
революции. И это рождало натуры искренние, самоотверженные,
титанические; честолюбие толкало их на поприще служения
благородному делу. Иная участь у тех, кого застигла пора поре-
волюционного прозябания, когда три хищника, перепуганные
недавними потрясениями,— выморочное, умственно и сердечно
убогое дворянство, ханжеское духовенство и бесстыжий в своей
корысти торгаш — грызутся у кормушки за деньги, почести,
власть. Героическая страсть не заглохла лишь в простолюдинах,
хотя и их затронули растлевающие поветрия, отчего их погоня за
счастьем нередко выливается в извращенное горячечное тщеславие.
Посреди этого исторического безвременья Стендаль ощущает
и мыслит себя чужаком, принадлежащим к рассеянной по свету
кучке «пылких душ», которые пробуют нравственно сопротив-
ляться постылому настоящему, то оглядываясь на прошлое, чтобы
173
оживить память о людях недюжинных, страстных в своих поры-
вах и делах, то уповая на будущее в надежде, что оно заново
придаст мощь, неподдельность и достоинство человеческому
жизнечувствию. Стендаль — поборник гражданской свобода и
раскрепощенности ума постоянно оборачивается назад, чтобы от
имени вчерашней революции бросить презрительный укор сегод-
няшнему мироустройству, родовыми схватками которого она была.
Стендаль — демократ тревожно усомнился в демократии, где вер-
ховодит буржуазный хам и стяжатель, прикрывающий собствен-
ную выгоду разглагольствованиями о равенстве, долге и благе.
Стендаль — гуманист с горечью взирает на грехопадение человека
в царстве трусливой подлости и мечется в тоске между мечтой
о гордом, великодушном бунтаре и усталой жаждой забыться
в тихом уединении, в стороне от пошлых страстишек, раздираю-
щих век1.
«Правда, горькая правда». Подобно тому как преобладаю-
щая манера добиваться счастья задана обстоятельствами страны и
времени, так и искусство, убежден Стендаль, изменчиво, не терпит
навеки застывших правил, нерушимых канонов, подсовывания
современникам поделок, рассчитанных на вкус их предков. В споре
с приверженцами классицизма Стендаль принимает сторону
романтиков, выдвигая перед своими собратьями по перу за-
дачу «давать народам такие литературные произведения, которые
при современном состоянии их обычаев и верований могут
доставить им наибольшее наслаждение», вместо того чтобы рабски
подражать мастерам прошлого («Расин и Шекспир»). И коль
скоро французы после 1789 года пережили коренную ломку всего
их бытия, им отныне не подходит театр в духе Расина, вполне
уместный и оправданный когда-то, но с тех пор, по заключению
Стендаля, устаревший. Скорее они ждут того крутого разворота
народных судеб на подмостках, какой присущ хроникам и траге-
диям Шекспира. Впрочем, и Шекспира надлежит не просто копи-
ровать, а перенять его умение волновать широкого зрителя.
Перекликаясь с Гюго и его соратниками по романтической
школе и в своей неприязни к эпигонскому классицизму, и в по-
читании Шекспира, Стендаль, однако, подразумевает под словом
«романтизм» нечто существенно иное, чем они. Для него истин-
ные романтики — реалисты Мериме, Беранже, памфлетист
П.-Л. Курье. «Правда, горькая правда», как гласит эпиграф к
«Красному и черному»,— такова первая заповедь литературы
в глазах Стендаля. Здесь все должно быть достоверно, просто
и естественно, все похоже на то, что ежедневно наблюдаешь.
Следует равно избегать как выспренних красот, условных пери-
фраз, торжественного парения слога классиков, так и гротескной
фантазии, пристрастия к броской экзотике Гюго или туманной
гладкописи Шатобриана и Ламартина в излияниях их неотмирных
1 О мировоззрении Стендаля см. в кн.: Ре и зов Б. Г. Стендаль. Филосо-
фия истории. Политика. Эстетика. Л., 1974.
174
скит4льцев-«скорбников». Писатель, по Стендалю,— не сладко-
речивый сочинитель домыслов, а проницательный, внятный «исто-
рик и политик», чьи книги «в смысле исследования нравов эпохи
в каном-то отношении дополняют историю». Прежде всего — в по-
стижении скрытых, но исторически заданных побуждений и за-
просов, предопределяющих и поведение людей, и самый их пси-
хологический склад. «От всего, что ему предшествовало, XIX век
будет отличаться точным и проникновенным изображением чело-
веческого сердца». Высвечивая душевные толщи, писатель стано-
вится прозорливым исследователем, переводящим «язык страстей
на 'язык математики». Все эти принципы литературы, вникающей,
по словам Стендаля, в «железные законы действительного мира»,—
историзм в подходе к личности, безупречная правдивость положе-
ний и лиц, пристальное изучение нравов, перерастающее в тща-
тельный показ человеческого сознания как бы изнутри него само-
го,— по сути складываются в программу отпочковывающегося от
романтического движения критического реализма XIX века в его
особой стендалевской аналитико-моралистической разновидности.
«Красное И черное» — «хроника XIX века». Блистатель-
ным воплощением намеченных творческих установок и стал ро-
ман Стендаля «Красное и черное» (1830). В своем вымысле пи-
сатель шел от самой жизни — случая из судебной хроники, на
который он однажды натолкнулся, просматривая газету; замет-
ка и послужила основой для событийной канвы ^тендалевской
«хроники XIX века», как уведомлял подзаголовок книги. Приведя
юношу Жюльена Сореля, сына плотника — вчерашнего крестьяни-
на, во враждебное соприкосновение с хозяевами жизни монархи-
ческой Франции, однажды уже сметенной революционной волной
и снова ухитрившейся продлить свои дни в виде режима Рестав-
рации, Стендаль создал повествование, трагедийность которого —
трагедийность самой тогдашней истории.
Дом главы провинциального городка, семинария, особняк
парижского вельможи — три ступеньки карьеры одаренного често-
любивого простолюдина в «Красном и черном» и вместе с тем
три пласта власть имущих.
Обитатели захолустного Верьера, откуда Сорель родом, по-
клоняются одному всемогущему кумиру — денежному мешку. На-
житься— чаще всего путями неправедными — спешат все: от тю-
ремщика, вымогающего «на чай», до «отцов города», обирающих
округу. Отбросив сословную спесь, местные дворяне, наподо-
бие господина де Реналя, мэра и владельца гвоздильного за-
вода, извлекают доходы из источников, которыми прежде брез-
говали. А на смену этим «владельцам замков», соперничающим
в пошлости с заправскими мещанами, уже идет делец иной заква-
ски— оборотистый безродный мошенник и продувная бестия Валь-
но, не гнушающийся тем, чтобы обкрадывать бедняков из дома
призрения. Царство беззастенчивых хапуг, пресмыкающихся перед
королевской властью до тех пор, пока она подкармливает их по-
дачками,— такова насквозь обуржуазившаяся провинция у Стен-
даля.
В семинарии, куда попадает затем Сорель, готовятся духов-
ные пастыри этого стада рвачей. Здесь шпионство считается доб-
лестью, отречение от самостоятельной мысли — мудростью, рарская
услужливость и бездумное послушание — высшей добродетелью.
Обещая своим ученикам спасение на небесах и вдобавок сытость на
земле, иезуиты готовят слепых в своем рвении служителей цеДкви,
призванных внушать почтение к «святости» трона и существующего
жизнеустройства. (
После выучки в семинарских кельях Сорель волею случая\ за-
брошен в высший парижский свет. В аристократических салонах
не принято вслух подсчитывать прибыль и разглагольствовать о
плотном обеде. Зато тут столь же непререкаемо царит почитание
издавна заведенных, уже утративших свой смысл обычаев и мнений.
В глазах завсегдатаев особняка маркиза де Ла-Моль вольнодум-
ство опасно, сила характера опасна, несоблюдение светских прили-
чий опасно; опасно все, что выглядит посягательством на окаме-
невшие традиции, привилегии, ветхий иерархический распорядок.
Среди пожилых аристократов — у них за плечами нелегкие годы
изгания из Франции — еще встречаются люди неглупые, предпри-
имчивые, по-своему значительные, вроде самого маркиза де Ла-
Моль. Однако, когда историческая судьба хочет кого-нибудь
покарать, она лишает его достойного потомства: лощеная светская
молодежь вежлива, элегантна, порой остра на язык, но при этом
поразительно безмозгла и безлика.
Правда, когда речь заходит о защите касты, среди вельможных
посредственностей находятся такие, чья злоба и подлость могут
оказаться угрозой для всей страны. На собрании аристократов-
заговорщиков, где Сорель присутствует в качестве секретаря своего
покровителя, разрабатываются планы иностранного вторжения во
Францию, поддержанного изнутри наемниками дворян-землевла-
дельцев. Цель этой затеи — окончательно принудить к молчанию
всех несогласных, «подрывателей» устоев и «подстрекателей», за-
ткнуть рот печати, искоренить остатки «якобинства» в умах, сделать
все население поголовно благомыслящим и покорным. Стендаль как
бы увенчивает государственную пирамиду верхушкой рьяных
охранителей монархии, у которых корысть граничит с предатель-
ством родины.
Пресмыкательство перед вышестоящими и разнузданное стя-
жательство в провинции, воспитание полчища священников в духе
воинствующего мракобесия как один из залогов прочности режима,
стертость умов и душ «наверху» как следствие испуга перед недо-
вольными «низами», чужие войска как орудие расправы над инако-
мыслящими— такова эта монархия-пережиток, с хроникальной
точностью запечатленная на страницах «Красного и черного».
И как бы подчеркивая черные тени этой картины еще рельеф-
нее, Стендаль бросает на нее багряно-красные отсветы былого —
памятных грозовых времен революции и наполеоновских побед.
Для писателя, как и для его Сореля, прошлое — героический миф,
в котором рядовые французы, затравленные белым террором и
176
доносами святош, черпают подкрепление своему чувству достоин-
ства, внутреннему протесту и хрупкой надежде. Так обозначаются
масштабы философско-исторического раздумья в «Красном и чер-
ном»: почти полувековые судьбы Франции, прослеженные в их
преизбыточной разветвленности на многих тысячах страниц «Че-
ловеческой комедии» Бальзака, получают в резком столкновении
эпох, исподволь пронизывающем книгу Стендаля, памфлетно ост-
foe и предельно сжатое выражение.
1ростолюдин между приспособленчеством и бунтом.
Да и личная судьба Жюльена Сореля сложилась в тесной зависи-
мости от смены исторической погоды. Из прошлого он заимствует
свой внутренний кодекс чести, настоящее обрекает его на бесчестие.
По своим задаткам «человек 93 года», поклонник революционеров
и военачальников Наполеона, он «опоздал родиться». Миновала
пора, когда положение завоевывали личной доблестью, отвагой,
З^мом. Ныне плебею для «охоты за счастьем» предлагается толь-
ко подспорье, которое в ходу у детей безвременья: расчетливо-
лицемерное благочестие. Цвет удачи переменился, как при пово-
роте рулетки: сегодня, чтобы выиграть, надо ставить не на крас-
ное, а на черное. И юноша, одержимый мечтой о славе, поставлен
перед выбором: либо сгинуть в безвестности, либо попробовать
самоутвердиться, подладившись к своему веку, «надев мундир по
времени»—сутану. Он отворачивается от друзей и служит тем,
кого в душе презирает; безбожник, он прикидывается святошей;
поклонник якобинцев — пытается проникнуть в круг аристократов;
будучи наделен острым умом — поддакивает глупцам. Поняв, что
«каждый за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью», он
ринулся в схватку в расчете победить навязанным ему оружием.
И все-таки Сорель — не бальзаковский Растиньяк. Встав на
путь приспособления, он не сделался до конца приспособленцем;
избрав способы завоевать счастье, принятые всеми вокруг, не раз-
делил вполне их морали. И дело здесь не просто в том, что ода-
ренный юноша неизмеримо умнее, чем бездарности, у которых он
в услужении. Само его лицемерие — не униженная покорность, а
своего рода вызов обществу, сопровождаемый отказом признать
право «хозяев жизни» на уважение и их претензии задавать
своим подчиненным нравственные принципы. Верхи — враг, под-
лый, коварный, мстительный. Пользуясь их благосклонностью, Со-
рель, однако, не знает за собой долгов совести перед ними,—
ведь, даже обласкивая способного юношу, в нем видят не личность,
а расторопного слугу.
У Сореля есть свой собственный, независимый от господствую-
щей морали свод заповедей, и только им он повинуется неукосни-
тельно. Свод этот не лишен отпечатка запросов плебея-честолюбца,
но запрещает строить свое счастье на бедах ближнего. Он предпи-
сывает ясную мысль, не ослепленную предрассудками и трепетом
перед чинами, а главное — смелость, энергию, неприязнь ко всякой
душевной дряблости. И пусть Жюльен вынужден сражаться на
незримых комнатных баррикадах, пусть он идет на приступ не со
177
шпагой в руке, а с изворотливыми речами на устах, пусть его
личные подвиги никому, кроме него самого, не нужны,— для Стен-
даля это его геройство, искаженное и поставленное на службу су-
губо личному преуспеянию, все же отдаленно сродни тем патриоти-
ческим доблестям, что были присущи некогда санкюлотам-якобин-
цам и солдатам наполеоновского войска. В бунте стендалевского
выходца из низов немало наносного, но здесь нельзя не различить
здоровую в своих истоках попытку сбросить социальные и нрав-
ственные оковы, обрекающие простолюдина на прозябание. И Со-
рель ничуть не заблуждается, когда, подводя черту под своей
жизнью в заключительном слове на суде, расценивает смертный
приговор ему как месть обороняющих свои доходы собственников,
которые карают в его лице всех молодых мятежников из народа,
восстающих против своего удела.
Естественно, что вторая, бунтарская сторона натуры Сореля не
может мирно ужиться с его намерением сделать карьеру святоши.
Он способен ко многому себя принудить, но учинить до конца это
насилие над собой ему не дано. Для него становятся чудовищной
мукой семинарские упражнения в аскетическом благочестии. Ему
приходится напрягаться из последних сил, чтобы не выдать своего
презрения к аристократическим ничтожествам. «В этом существе
почти ежедневно бушевала буря»,—замечает Стендаль, и вся ду-
ховная история честолюбивого юноши соткана из приливов и отли-
вов неистовых страстей, которые разбиваются о плотину неумолимо-
го «надо», диктуемого разумом и осторожностью. В этой раздвоен-
ности, в конечной неспособности подавить в себе врожденную гор-
дость и кроется причина того, что грехопадению, которое поначалу
кажется самому Сорелю возвышением, не суждено свершиться до
конца.
В сущности, при его уме не так уж сложно выбраться из
ловушки, куда он попал после письма, разрушающего надежды на
вожделенный брак. Да будь он просто выжигой, он мог бы спо-
койно принять то, что предложено ему в виде «отступного». Ума-то
на это хватило бы, а вот низости — нет. Совесть запрещает стерпеть
незаслуженное оскорбление, совесть не позволяет преодолеть то
расстояние между почитателем Франции былой, героической, и
преуспевшим карьеристом Франции нынешней, оскудевшей, кото-
рое Сорель покрыл было благодаря своей толковости. «Красное
и черное» — не просто история краха беззастенчивого ловца удачи.
Прежде всего это трагедия несовместимости в пору безвременья
мечты о счастье со служением подлинному делу, трагедия героиче-
ской по своим задаткам личности, которую изуродовали, которой
не дали состояться. Погрузив действие в обыденную повседневность
и построив его вокруг участи простолюдина, Стендаль вместе с тем
впервые в западноевропейской словесности через два с лишним
века после Шекспира и французских трагиков XVII века вплотную
приблизился здесь «к героическому понятию трагического»1.
1 Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976, с. 461.
178
Спор рассудка И страсти. Не находя выхода на гражданском
поприще, пылкая, ранимая сердечность Сореля обнаруживается там,
куда закрыт доступ обману и мелочной злобе. Вся жизнь его на
людях — мучительное самообуздание. И лишь в редкие минуты,
наедине с самим собой, он отдается по-детски безоглядной радости
не быть в постоянной вражде со всеми и вся. Особенно громко
эта дивная музыка счастья начинает звучать в нем в моменты,
когда любовь пробуждает всю его самоотверженность и нежность.
Именно в страсти Сорель испытан писателем строже всего и полу-
чает его благословение, невзирая на все свои наивные попытки
превратить любовь в инструмент тщеславных замыслов. То, что
попытки эти обречены, что юноша без остатка отдается чувству,
вместо того чтобы использовать его ради выгоды, есть в глазах
Стендаля вернейший признак величия души, которое не избавляет
ни от заблуждений, ни от податливости на иные соблазны, но
запрещает быть подлым.
Разлад талантливого плебея и ничтожных верхов, ставший раз-
ладом двух сторон его души в «Красном и черном», проникает до
самых потаенных уголков мятущегося сердца, оборачиваясь рас-
щеплением разума и чувства, расчета и непосредственного порыва.
Логические умозаключения ведут Жюльена к предположению, что
быть счастливым ^— значит иметь богатство и власть. Любовь
опрокидывает все эти хитросплетения рассудка. Свою связь с высо-
копоставленной супругой господина де Реналь он затевает поначалу
по образцу тщеславного книжного донжуана. Но первая ночная
встреча приносит ему лишь лестное сознание преодоленной труд-
ности. И только позже, забыв об утехах гордыни, отбросив маску
соблазнителя и погрузившись в поток нежности, очищенной от
всякой накипи, Жюльен узнает настоящее счастье.
Подобное же открытие ждет его и в истории с Матильдой де
Ла-Моль. Когда он ночью взбирается по лестнице с пистолетами
в карманах, он подвергает себя смертельному риску для того,
чтобы возвыситься над лощеными салонными шаркунами, которым
его предпочла гордая дочь маркиза. И опять через несколько дней
расчеты юного честолюбца отодвинуты в тень испепеляющей
страстью.
Так обозначается двойное движение образа у Стендаля: чело-
век идет по жизни в поисках счастья; его настороженная приглядка
исследует мир, повсюду срывая покровы лжи; его внутренний взор
обращен в собственную душу, где кипит непрерывная борьба при-
родной чистоты против миражей суетного тщеславия.
Прозрение* Роковой и нелепый выстрел в госпожу де Реналь
в церкви резко обрывает это медленное, подспудное миро- и само-
познание. Оно разрешается здесь в стихийном душевном кризисе,
когда конечные истины еще не осмыслены, но уже властно завла-
дели личностью, толкая ее на отчаянный шаг. Пока что они зыбки,
не поддаются жесткому закреплению в слове, и Стендаль, обычно
столь щедрый на психологические разъяснения, ограничивается
тем, что предельно сжато намечает внешний пунктир происшествия.
179
Каждому из нас в меру своей чуткости предложено дорисовать
действительно несказа'нное, близкое к невменяемости смятение —
запутанный клубок ярости, отчаяния, боли, тоски, жажды отомстить
за поруганную честь. В душе Сореля рушится вера в самое доро-
гое, в незапятнанную и втайне боготворимую святыню. Жизнь
вдруг предстает такой постылой, а собственные недавние упования
такой бессмыслицей, что единственный выход — уничтожить самого
себя, уничтожив и то, чему до сих пор молился. Попытка Сореля
убить обожаемую женщину — одновременно попытка самоубийства,
он это, по крайней мере, подозревает. И потому, словно заворо-
женный, мчится навстречу двум смертям. Позже, в тюремной ка-
мере, к нему придет выстраданное прозрение. «Оттого я теперь
мудр, что раньше был безумен»,— говорится в эпиграфе к одной
из заключительных глав «Красного и черного»; покушение в церк-
ви и есть последний неистовый взрыв прежнего «безумия» и
вместе с тем порог обретенной мудрости. Переступив его, Сорель
отбросил ложь, которую прежде принимал за правду.
И в первую очередь утешительный самообман, которым, при
всей своей настороженности, он все-таки обольщался, где-то в
закоулках подсознания лелея надежду, что в обществе не вовсе
померкли проблески справедливости и оно когда-нибудь да оценит
его. Нет, здесь царят звериные нравы удачливых рвачей — таков
не подлежащий обжалованию приговор, который устами подсуди-
мого Сореля в его речи на суде выносит жизненному укладу целой
исторической эпохи Стендаль, завершая свою хронику безвременья.
Другая истина, озарившая Жюльена в тюрьме, приносит, нако-
нец, отдохновение его измученной душе. В преддверии смерти он
постигает тщетность своих былых честолюбивых грез. И тогда ра-
зум не наступает на горло чувствам, а помогает юноше стать самим
собой и обнаружить счастье там, где оно не химерично. Он оши-
бался, дав себя поглотить заботам о карьере. Он ошибался в ближ-
них, ослепленный внешним блеском и словесной мишурой. Ожи-
дающий казни в своей тюремной камере переживает очищение.
В нем просыпается томившееся дотоле под спудом великодушие,
по-детски мечтательная задумчивость, щедрая доброта, сердечное
тепло — все то, что он раньше в себе подавлял.
И это обновление делает для Сореля прозрачной суть близости
с обеими любившими его женщинами. Матильда — натура сильная,
высокомерная, «головная». В страсти ей дороже всего героическая
поза, опьяняющее сознание своей непохожести на бесцветных ку-
кол из ее великосветского окружения. Ее связывает с Жюльеном
лихорадочная любовь-соперничество, основанная не столько на
сердечном влечении, сколько на жажде возвыситься в собственных
глазах и, быть может, в глазах других. Освобождение ее возлюб-
ленного от дурмана тщеславия само собой выветривает из его сердца
и эту горячечную любовь.
И тогда в нем опять просыпается прежняя привязанность,
никогда не затухавшая вовсе, но едва теплившаяся где-то под
иссушающей душу суетностью. Любовь трогательно бесхитростной,
180
страдающей в своей пошлой среде, обаятельной и мягкой госпожи
де Реналь — поистине чудо, подаренное судьбой. Разве можно срав-
нить с ним преклонение глупцов и ничтожеств? Разве есть что-
нибудь более драгоценное на земле? В восставшей из пепла первой
любви затравленный Жюльен обретает счастье, которого так на-
пряженно, долго и порой так глупо искал совсем не там, где оно
его ждало,— счастье «незлобивое и простое». Последние дни, про-
веденные рядом с этой женщиной,— пора тихой радости, когда он,
устав от жизненных схваток, вслушивается в снизошедший на него
благословенный покой.
Это далось ему, правда, слишком дорогой ценой — отречением
от жизни. Обретенная им под конец душевная свобода — свобода
умереть, тупик. Только так смог он решить мучительный выбор,
перед которым был поставлен: жить, подличая, или уйти в небытие,
прозрев и очистившись. Иного решения безвременье не дает. Стен-
даль слишком чуток, чтобы не замечать, как тень гильотины зло-
веще легла на предсмертную идиллию в тюрьме. Мысль самого
писателя тревожно бьется в замкнутом круге и, не в силах ра-
зомкнуть кольцо, застывает в скорбном и гневном укоре своему
веку.
Мастерство повествователя-аналитика. Стендаль не был
одиноким в этом упреке. Он слышался тогда во всех исповедях,
рыданиях и проклятиях байронических «сыновей века». Но если
в многоголосом отклике романтиков на вереницу духовно-истори-
ческих трагедий первой трети XIX века пореволюционное распутье
возвестило о себе скорее иносказательно и весьма сбивчиво, то
Стендаль — один из немногих, в чьем творчестве оно себя осмысли-
ло впрямую, без обиняков. Отсюда — особая повествовательная
структура «Красного и черного» и других стендалевских книг1.
Стендаль не терпит дразнящих недосказанностей, загадок, как
избегает он броской живописи словом или плавной риторической
закругленности. Он предельно скуп в зарисовках быта, пейзажей,
лиц. Когда же они графически намечены, то неизменно пропущены
сквозь разногранную изменчивую призму чьего-нибудь сиюминут-
ного восприятия, оказываясь не просто описанием, но и одним из
слагаемых душевного состояния созерцающего. Мало занимает
Стендаля и собственно интрига — чаще всего она попросту заимст-
вована и в ней нет запутанных ходов, побочных ответвлений, не-
ожиданных подвохов. У «Красного и черного» простая и стройная,
без всяких хронологических смещений, мемуарно-одностержневая
композиция. Она позволяет сосредоточиться не столько на проис-
шествиях и приключениях, сколько на мыслях, переживаниях герои-
ческой по своим задаткам личности. Это мастерство, в котором
Стендаль не имеет себе равных во Франции XIX века.
1 Особенности стилистики Стендаля вскрыты в ст.: Эпштейн М. Н.
Аналитизм и полифонизм во французской прозе (стили Стендаля и Бальзака).—
В сб.: Типология стилевого развития XIX века. М., 1977. См. также кн.:
П р е в о Ж. Стендаль. Опыт исследования литературного мастерства и психоло-
гии писателя. М.—Л., 1960.
181
Ритм рассказа подчинен той же задаче и обходится без плав-
ного нарастания от завязки к высшему напряжению. Он намеренно
неровен, дробен: замедленное течение аналитико-психологических
отрывков, в которых внутренние монологи (зачастую переданные
несобственно-прямой речью) чередуются с поясняющими размыш-
лениями повествователя, внезапно уступает место стремительному
рывку в узловых поворотных моментах, чтобы вскоре опять войти
в русло неторопливых наблюдений за мельчайшими оттенками
сердечных перемен. Стендаль не раз повторял, что без математи-
чески строгого, совершенно естественного языка не может быть
внятно явлен извилистый многоструйный поток, образующий самую
для него важную историю душевных поисков и открытий. Очи-
щенный от витиеватых красивостей, жертвующий всеми изысками
ради сути, шероховатый, а подчас и угловато-ломкий слог Стендаля
не зачаровывает, он прежде всего пробуждает и держит в постоян-
ной напряженности наше аналитическое сознание. Особая неотрази-
мость по-своему захватывающей поэзии «Красного и черного» —
в приобщении нас к работе всепроникающего интеллекта, не оста-
навливающегося ни перед какими запретами, не довольствующегося
приблизительными намеками и рвущего все покровы в своей жажде
докопаться до сокровенных секретов душевной жизни, распутать
и сделать явной подспудную логику сердца, в которой преломились
трагические превратности века.
«Люсьен Левен». Щемящая боль умудренности, венчающей
«Красное и черное», с пронзительной скорбью звучала в оборван-
ной Стендалем на полуслове рукописи «Люсьен Левен». У него
нет, пожалуй, книги горше, язвительней, саркастичнее. Снова
юноша — добросердечный, совестливый, хрупкий — блуждает в
поисках чистого дела по закоулкам французского государства, на
сей раз «мещанской монархии», возникшей после Июльской рево-
люции и сделавшей своим исповеданием веры пресловутое «Обо-
гащайтесь!». Снова муки отвращения, в которое повергает его спер-
ва армия служак-солдафонов, превращенная теперь в войско поли-
цейских карателей, затем — подкуп, клевета, мошенничество, раст-
ленность деловых и политических нравов в царстве банковских
воротил и хищных лавочников. Рассказ Стендаля здесь чаще, чем
обычно, становится убийственно пародийным, низводит деяния и
обычаи властей предержащих до фарса. Именно так подана, в част-
ности, единственная «боевая операция» Люсьена, когда его полк
брошен на устрашение рабочих, объединившихся в союз, — один
из самых первых откликов во французской литературе на само-
стоятельные выступления пролетариата. Страна, где «рубка тка-
чей» прославляется газетами как подвиг, где не слишком дально-
видные подвижники республиканизма поглощены распрями со
скудоумными приверженцами старины, не подозревая, что работают
для вящего торжества разбогатевших бакалейщиков, где взяточни-
ки-политиканы состоят в услужении у еще более ловких плутов-
банкиров, — эта буржуазная Франция, по заключению Стендаля,
промотала свою былую свежесть и здоровье.
182
«Ванина Ванини». Отныне на родине он чувствует себя все
более отчужденно, а' его писательское внимание почти всецело
приковывает к себе Италия времен Возрождения и карбонарских
заговоров XIX века. Еще в 1829 году Стендаль написал новеллу
о любви и смерти патриота-карбонария «Ванина Ванини». Под его
пером ожила накаленная повседневность страны, где гражданские
размежевания вошли в плоть и кровь каждого, пролегли через
умы и сердца, затронув самые дорогие привязанности. Сын дере-
венского лекаря Пьетро Миссирилли — во многом итальянский со-
брат Сореля: целеустремленное мужество, ранимая гордость, ред-
кий дар беззаветно отдаваться страсти, верность долгу перед самим
собой, юношеский пыл — все это их роднит. Но его понятия о
счастье совсем другие, он борец за народное благо, за освобождение
родины от чужеземцев и сплочение ее раздробленных земель.
И оттого ему неведома внутренняя расщепленность, опустошающий
самоанализ, это поразительно цельная и чистая, героическая лич-
ность— революционер в своем нравственном облике.
В обрисовке такого характера привычное для Стендаля высве-
чивание изнутри душевных распутий и трудных прозрений сменяет-
ся напряженностью пружинисто мчащегося вперед действия. Уже в
исходных обстоятельствах противоположности предельно заостре-
ны: Пьетро — из тех, кого в России звали когда-то разночинцами,
его возлюбленная — своевольная знатная красавица; он не мыслит
своего счастья вне блага отечества, ее взглядам на счастье граждан-
ственность совершенно чужда. Оба при этом — натуры, повиную-
щиеся порыву чувств, бестрепетно добивающиеся своего. Поэтому
вспыхнувшая посреди опасностей безоглядная страсть двух молодых
людей, так по-разному понимающих смысл жизни и свой нравст-
венный долг, изначально чревата роковой развязкой. Для Пьетро
выбор между замкнувшейся исключительно в себе любовью и
призванием патриота-подпольщика хотя и не безболезнен, но впол-
не однозначен; столь же уверенно, без тени смущения в своей
правоте, идет Ванина на предательство, чтобы вернуть любимого,
который отнят у нее заговором. И терпит бесповоротное крушение:
обожание со стороны Пьетро оборачивается жгучей ненавистью.
Ладно сбитая в своем построении, захватывающая остротой
внезапных перепадов, исполненная столь не частой у писателей
критического реализма XIX века трагической героики, «Ванина
Ванини» — одна из признанных вершин французской новеллисти-
ки XIX века. Здесь романтическое воодушевление напористо течет
в русле реалистического повествовательного мастерства. Стендалев-
ский юный поборник патриотического долга открывает вереницу
революционеров, в разных обличьях возникающих вслед за ним
на страницах сочинений Гюго («Отверженные»), Бальзака («Утра-
ченные иллюзии»), Жорж Санд («Орас»), Золя («Жерминаль»),
Валлеса («Жак Вентра»).
«ПарМСКая обитель». Италии, столь знакомой и дорогой, по-
священа и последняя из вышедших при жизни Стендаля книг —
роман «Пармская обитель».
183
Опорой повествования здесь стали судьбы того поколения
итальянцев, которое было духовно разбужено вестью о взятии Бас-
тилии в далеком Париже и вступало в жизнь на исходе XVIII века,
в пору опьянения грезой о независимой, свободной родине. Позже
сражение при Ватерлоо, в гуще которого очутился очередной стен-
далевский юноша — искатель счастья Фабрицио дель Донго, озна-
меновало собой для его сверстников и соотечественников крушение
восторженных упований. Но они продолжают отстаивать свое чело-
веческое достоинство, вопреки давящему убожеству карликовых
княжеств тогдашней лоскутной Италии. Фабрицио и его обворо-
жительная тетка Сансеверина исповедуют религию счастья, обре-
таемого в нежной дружбе пылких душ. Их безоглядная отвага,
изобретательность ума, сердечная щедрость, какая-то особая не-
обремененность житейскими заботами, презрение к светской черни
вызывают судорожную злобу верноподданных правителя захолуст-
ной Пармы и, напротив, приносят им поддержку неистового поэта-
бунтаря Ферранте Палла, скрывающегося в лесах после провала
карбонарского заговора.
Все это — вкупе с несвойственной Стендалю раньше подвижно-
стью приключенческой интриги, прокладывающей себе путь через
множество случайностей, головокружительных поворотов судьбы,
прихотей безрассудных сердец,-^- вносит в суховато-аналитическое,
блещущее остроумием стендалевское повествование прежде находив-
шуюся в строгой узде стихию романтики, резко оттененной шутов-
ским кривлянием придворных паяцев. В «Пармской обители» лири-
ческая страстность самого Стендаля прорывается откровеннее, чем
где бы то ни было, и в прославлении незастегнутых, раскованных
душ, и в едкой печали о прекрасных жизнях, исковерканных трус-
ливым мракобесием1.
«Письма В будущее». Как и все предыдущие книги Стендаля,
«Пармская обитель», выйдя в свет, натолкнулась на стену пре-
небрежительного равнодушия: вкусы романтической поры развива-
ли глухоту к умному и внятному стендалевскому голосу. При
жизни Стендаль заслужил признание немногих, правда, среди них
были Мериме, Гете, Бальзак, наш Пушкин2. И лишь в последней
трети XIX века он был как бы заново «открыт» у себя на родине
и за ее пределами. В России среди почитателей Стендаля был
петрашевец А. Плещеев, первый переводчик «Красного и черного»
на русский язык, предпославший своему переводу в «Отечествен-
ных записках» за 1874 год пространный очерк о французском
писателе3; эпизод сражения при Ватерлоо в «Пармской обители»,
где война рисуется без батальных прикрас, как будничное непри-
глядное дело, научил Л. Толстого, согласно его собственным сло-
1 Подробный разбор «Пармской обители», как и других произведений Стен-
даля, см. в кн.: Фрид Я. Стендаль. Очерк жизни и творчества. М., 1967;
Р е и з о в Б. Г. Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978.
2 См.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 371—373.
3 Сведения об истории книг Стендаля в России и откликах на них см. в кн.:
Стендаль. Библиография/Сост. Т. В. Кочеткова. М., 1961.
184
вам, видеть и передавать ее во всей заурядной действительности1;
мимо психологических открытий Стендаля не прошел, судя по все-
му, и Достоевский. С тех пор на «заветы» и «уроки» Стендаля
по-своему оглядывается едва ли не каждое очередное поколение
мастеров слова в разных концах земли. Свидетельства тому обиль-
ны— о Стендале писали Мериме и Бальзак, Золя и Роллан,
Г. Манн и С. Цвейг, Эренбург и Арагон, многие другие2. Стенда-
левские сочинения поистине оказались, по выражению М. Горького,
«письмами в будущее»3.
ПРОСПЕР МЕРИМЕ
Почти параллельно с деятельностью Стендаля и Бальзака про-
текало творчество своеобразного писателя Проспера Мериме
(1803—1870).
Выходец из семьи художников, скептик и атеист, равнодушный
к политической борьбе своего времени, блестящий эрудит, занимав-
ший в течение двадцати лет (с 1834 года) пост главного инспек-
тора исторических памятников Франции, Мериме любил выдавать
себя за литературного дилетанта и тщательно скрывал от посто-
ронних глаз упорный труд взыскательного писателя.
Он выступил в литературе в середине 1820-х годов в русле
романтизма, однако с самого начала занимал особую позицию,
иронически относился ко многим положениям романтической эсте-
тики и пародировал ее в самый момент возникновения. Ближе
1 В одной из бесед с французским литератором П. Буайе Л. Толстой гово-
рил о Стендале: «Я обязан ему более, чем кто-либо: я обязан ему тем, что
понял войну. Перечитайте в «Пармской обители» рассказ о битве при Ватерлоо.
Кто до него так описал войну, то есть такой, какой она бывает на самом деле?
Помните, как Фабриций едет по полю, абсолютно ничего не понимая, и как
ловко гусары снимают его с коня, с его прекрасного «генеральского коня».
Впоследствии на Кавказе мой брат, ставший офицером раньше меня, подтвер-
ждал правдивость этих описаний Стендаля... Вскоре в Крыму я получил полную
возможность убедиться во всем этом собственными глазами. Но, повторяю, во
всем том, что я знаю о войне, мой первый учитель — Стендаль» (Л. Н. Тол-
стой в воспоминаниях современников. М., 1978, т. 2, с. 268—269).
Горький также приводил по памяти схожее высказывание Л. Толстого с од-
ним весьма важным добавлением: «Если бы я не читал «Пармскую шартрезу»
Стендаля,, я не сумел бы написать1 военные сцены в «Войне и мире» (Горь-
кий М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1953, т. 24, с. 140; ср.: т. 30, с. 92).
Существо этой толстовской мысли, впрочем, неоднократно оспаривалось. См.,
в частности: Троицкий Ю. «Война и мир» и западноевропейский истори-
ческий роман. — В сб.. Творчество Л. Н. Толстого. М., 1959, с. 187—189.
2 См.: Мериме П. Разоблаченный Стендаль. Пб., 1924; Бальзак О.
Этюд о Бейле.— Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1955, т. 15; Золя Э. Стендаль.—
Собр. соч. в 26-ти томах. М., 1966, т. 25, Манн Г. Стендаль.— Соч. в 8-ми
томах. М., 1958, т. 8; Цвейг С. Стендаль. — Собр. соч. в 7-ми томах. М.,
1963, т. 6; Эренбург И. Уроки Стендаля. Французские тетради.— Собр. соч.
в 9-ти томах. М., 1965, т. 6; Арагон Л. Свет Стендаля. — Собр. соч. в 11-ти
томах. М., 1961, т. 10.
3 Горький М. Предисловие к книге А. Виноградова «Три цвета вре-
мени».— Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1953, т. 26, с. 221.
\
185
всего Мериме стоял к Стендалю, своему старшему другу и литера-
турному учителю. Именно к Стендалю восходит пристрастие Мери-
ме к сильным, энергичным характерам, интерес к душевной жизни
человека, ясный и суховатый стиль, без риторических прикрас и
романтической приподнятости, лаконизм описаний. Но Мериме не
свойственно широкое эпическое дыхание Стендаля и масштабность
его социально-исторических обобщений; недаром вершиной его
зрелого творчества стали новеллы, созданные в 1830—1840 годах.
Первое произведение Мериме «Театр Клары Гасуль» (1825) —
цикл вольных по форме драм, напоминавших об испанской драма-
тургии эпохи Возрождения и бесстрашно ломавших каноны клас-
сицизма,— было связано с литературной мистификацией: Мериме
выдал эти драмы за французский перевод сочинений некоей ис-
панской актрисы и даже предварил книгу ее биографией и портре-
том (изображавшим самого писателя в женском испанском наряде).
В драмах стремительно развивалось действие, бушевали «испанс-
кие» страсти, царила театральная условность и нередко сознательно
нарушалась художественная иллюзия. Во всем этом было столько
же дани романтизму, сколько и иронии по отношению к нему, не
говоря уже об оглядке на цензуру, поскольку в «Театре Клары
Гасуль» с дерзкой насмешкой изображались власти и католическое
духовенство, весьма могущественное в период Реставрации.
Второе произведение Мериме «Гусли» (1827) —сборник народ-
ных песен Хорватии, Боснии и Герцеговины, выдаваемых за
подлинные, но в действительности сочиненных самим Мериме,—
явилось новой мистификацией. Иронизируя над романтическим
принципом «местного колорита», автор, однако, так глубоко про-
ник в дух народного творчества, что ввел в заблуждение даже
Мицкевича и Пушкина, которые поверили, что это подлинные
народные песни. Пушкин восхищался творением Мериме и перело-
жил некоторые баллады «Гуслей» на русский язык в стихах (они
вошли в «Песни западных славян»).
Исторический роман. В конце 1820-х годов Мериме, как и
романтики, обратился к историческому жанру, создав драму в
духе шекспировских хроник о событиях крестьянской войны во
Франции XIV века «Жакерия» (1828) и небольшой роман «Хро-
ника царствования Карла IX» (1829), действие которого приуро-
чено к XVI веку. Как и другие авторы, Мериме испытал влияние
Вальтера Скотта прежде всего в выборе эпохи больших социальных
потрясений, а также в понимании связи характеров и судеб людей
с национальной историей. В его романе исторические события
(религиозные войны во Франции между католиками и гугенотами,
резня в Варфоломеевскую ночь, осада крепости Ла Рошель —
оплота гугенотов) оказывают решающее воздействие на жизнь
героев, братьев Мержи, один из которых погибает от руки другого,
на любовную историю младшего брата, Бернара, и придворной
красавицы Дианы де Тюржи, очутившихся во враждующих лагерях.
Однако исторические события, так же как и фигуры реальных
исторических лиц, у Мериме отодвинуты на задний план; персо-
186
нажи романа не являются носителями исторических или (как у
Гюго) нравственных сил. Здесь Мериме расходится с романтиками.
Скептицизм мешает ему видеть в истории поступательное движе-
ние, события не предстают у него в свете исторической перспек-
тивы; у него другая задача: правдиво показать частную жизнь
людей прошлого, создать «подлинную картину нравов и характеров
данной эпохи» (как сказано в предисловии), опираясь на «анек-
доты», то есть на документальные свидетельства современников,
запечатлевшие в выразительных деталях облик людей и жизнь
минувших веков.
Мериме иронизирует над воспринятыми французскими авто-
рами от Вальтера Скотта подробными описаниями, над их роковыми
героями. Но главное, Мериме отказывается судить о поступках
людей XVI века с точки зрения понятий XIX века, поскольку,
по его убеждению, мораль исторически меняется; он стремится
вывести характеры и поведение своих персонажей из особенностей
той эпохи, к которой они принадлежат. Так, он рисует драмати-
ческую судьбу мыслящего человека эпохи Жоржа де Мержи.
Атеист, поклонник Рабле, Жорж, несмотря на равнодушие к вопро-
сам веры, не может существовать вне борющихся партий; он пере-
ходит из гугенотства в католичество, и этот шаг, граничащий с
политическим ренегатством, нравственно предопределяет его гибель.
Новеллы, К началу 1830-х годов Мериме окончательно опреде-
лился как новеллист. Мастерское построение сюжета,яркие пласти-
ческие характеры, тонкий психологизм, лаконизм, изящная су-
хость рисунка — все это снискало Мериме выдающееся место в
истории мировой новеллы. Полтора десятка произведений этого
жанра, созданных Мериме, тематически можно разделить на «со-
временные» и «экзотические».
Захваченный общим для французского искусства поворотом к
современности на рубеже 1830-х годов, Мериме изображает ее с
позиций реализма. Но в отличие от Стендаля и Бальзака он остает-
ся в стороне от коренных социально-исторических конфликтов
времени, его занимает прежде всего отдельная личность, ее нрав-
ственно-психологический облик. Современные новеллы Мериме
тяготеют к жанру великосветской повести. С тонкой наблюдатель-
ностью отмечает он в светском обществе отсутствие энергии, душев-
ную опустошенность, мелочность интересов, неустойчивые харак-
теры. Всякое искреннее чувство, душевная самостоятельность вы-
глядят в этой среде как отклонение от нормы и обречены на гибель.
Так, ничтожная светская сплетня губит героя «Этрусской вазы»
(1830), на свое несчастье умеющего глубоко любить. В новелле
«Двойная ошибка» (1833), заслужившей высокую оценку Пушкина,
гибнет героиня, Жюли де Шаверни, обманутая в своем смутном
стремлении к подлинной любви. Ее избранник, дипломат Дарси,
на первый взгляд обладающий всеми атрибутами загадочного бай-
ронического героя, развенчивается на протяжении новеллы; он
оказывается расчетливым эгоистом и циником, который совершенно
не понял душевного порыва Жюли и вскоре после ее смерти выгод-
187
но женился. Самая значительная новелла этой группы — «Арсена
Гийо» (1841). Дочь народа Арсена Гийо, доведенная нищетой и
отчаянием до положения уличной женщины, но возвышенная своею
любовью к человеку из общества, становится жертвой ханжества
дамы-благотворительницы госпожи де Пьен. С тонкой, но злой
иронией показывает Мериме, как, прикрывая благочестием самую
обыкновенную ревность, госпожа де Пьен под видом заботы о душе
Арсены отравляет последние часы несчастной женщины. Нравст-
венное превосходство женщины из народа над светской дамой,
возмущение лицемерием буржуазной морали с большой силой
выступают в этой новелле, несмотря на холодно-сдержанный тон
повествования.
Буржуазный мир претит Мериме; но социальный скепсис,
оторванность от передовой мысли и народно-освободительных дви-
жений времени закрывали для него реальную историческую альтер-
нативу буржуазному обществу. Он продолжал, как это делали
романтики, искать энергичные характеры, яркие страсти, цельные
натуры вне буржуазной повседневности, в мало затронутых циви-
лизацией «экзотических» странах — в Испании, Италии, на Кор-
сике.
Однако «экзотические» новеллы Мериме могут быть так на-
званы лишь условно; романтическую экзотику он переосмысляет
с позиций реализма. Необычайные характеры и нравы обусловлены
у него особенностями общественной среды, в которой они сло-
жились. И с этой именно точки зрения, а не как романтический
местный колорит интересует его своеобразие пейзажа, одежды,
обычаев, запечатленных в его новеллах.
Мериме далек от романтической идеализации дикости. Он по-
казывает жестокость, невежество своих экзотических героев; но,
как и в историческом романе, он отказывается судить о них, исходя
из норм буржуазной морали. Так, в одной из ранних новелл
«Маттео Фальконе» (1829) убийство корсиканским крестьянином
десятилетнего сына, который выдал солдатам попросившего убежи-
ще беглеца, изображается не как из ряда вон выходящее событие,
а как поступок, естественный для местных понятий о чести. Отсюда
нарочито прозаическая интонация повествования. Так же точно в
другой корсиканской новелле — «Коломба» (1840), рисующей
перипетии вендетты (родовой кровной мести), неистовая героиня —
носительница народного миропонимания — силой и цельностью
своей натуры выгодно отличается от своего цивилизованного брата
и худосочной английской барышни.
Экзотические герои привлекают Мериме прежде всего своим
свободолюбием. Так, в новелле «Таманго» (1829) дикий негри-
тянский царек, продающий белым работорговцам своих подданных,
сам попав в неволю, поднимается до истинного величия, когда
возглавляет негритянский бунт на невольничьем корабле. С обыч-
ной иронией, из-под которой прорывается негодование, рисует
Мериме цивилизованного работорговца Леду, чья бесчеловечность
превосходит первобытную жестокость дикарей.
188
В знаменитой «Кармен» (1845), которую прославила одноимен-
ная опера Жоржа Бизе (1875), изображены два сильных народных
характера: баскский крестьянин Хосе, вся жизнь которого сломана
захватившей его могучей страстью, и цыганка Кармен — веролом-
ная, жестокая, лживая, но обворожительная своею внутренней не-
зависимостью и свободой чувств. «Хосе, ты требуешь от меня
невозможного,— говорит она под угрозой кинжала.— Я тебя боль-
ше не люблю... Как мой ром, ты вправе убить свою роми; но
Кармен будет всегда свободна».
В «Кармен» особенно наглядна полемика Мериме с романти-
ками. Он избегает трафаретной живописности в изображении
Испании. В Севилье он рисует не мавританские дворцы, а табачную
фабрику, солдатскую казарму; по испанским дорогам бродят не
столько разбойники, сколько мирные крестьяне; придорожная
вента (ночлежка) кишит клопами; в шайке контрабандистов
царит алчность и нет чувства товарищества. Но с удивительным
мастерством Мериме отбирает скупые детали быта и пейзажа,
которые объясняют возникновение таких характеров, как Кармен
и Хосе. Той же цели «снятия» романтических эффектов служит
и композиция новеллы: она начинается рассуждением ученого-
рассказчика на историческую тему и завершается не смертью геро-
ев, а трактатом, на целую главку, о языке и обычаях испанских
цыган.
Предвосхищая эстетику французского реализма второй поло-
вины XIX века, Мериме стремился в своих новеллах к объек-
тивности, избегал лиризма, прятал авторское «я» — это важная
особенность его стиля.
А. В. Луначарский назвал Мериме «великим графиком слова».
«Мериме вооружен,— писал он,— холодной, как лед, и прозрач-
ной, как лед, алмазной иглой. Это его стилистический инстру-
мент, его «стиль»1.
После 1848 года Мериме почти перестал писать; политиче-
ская индифферентность, побудившая его принять звание сена-
тора от Наполеона III, привела к оскудению его художественно-
го творчества. Однако он был одним из первых, кто ощутил на-
чало кризисных явлений в духовной культуре буржуазного Запа-
да; в этом причина его глубокого увлечения в последние два-
дцать лет жизни русской литературой. Изучив русский язык,
Мериме занялся переводом русских писателей. Он переводит
А. С. Пушкина («Пиковая дама», «Выстрел», «Цыганы» — про-
зой); Н. В. Гоголя («Ревизор»), М. Ю. Лермонтова («Мцыри» —
прозаический перевод в сотрудничестве с И. С. Тургеневым),
И. С. Тургенева («Призраки», «Петушков» и др.); пишет статьи
о русской литературе и русской истории XVII века, изучает
восстание Степана Разина и Пугачева.
Эта деятельность Мериме сыграла выдающуюся роль в разви-
тии русско-французских культурных связей.
1 Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1965, т. 6, с. 56.
189
ОНОРЕ БАЛЬЗАК
Оноре Бальзак (1799—1850) вместе со Стендалем стоял у
истоков социального романа критического реализма во Франции
XIX века и дал в своем творчестве блистательные его образцы.
Он совершил творческий подвиг, запечатлев характеры и нра-
вы своего времени в грандиозном творении, которое не толь-
ко дает широкую и глубоко правдивую панораму жизни его
эпохи, но и несет нравственные истины, имеющие общечелове-
ческое значение.
Вступление В литературу. Оноре Бальзак родился 20 мая
1799 года в городе Туре. Его дед был небогатый крестьянин;
отец, Бернар-Франсуа Бальза', одаренный самоучка, стал му-
ниципальным чиновником, в годы революции занялся постав-
кой провианта в армию. Мать происходила из семьи торговца
сукном. Дворянская частица «де», самовольно присвоенная пи-
сателем в юности,— не только причуда гениального человека, но
и знамение времени: в период Реставрации всякий молодой често-
любец простого звания мечтал о дворянских титулах и гербе.
Оноре изучал право в Париже, но не захотел стать судей-
ским и занялся литературой. Рассерженный отец лишил сына
материальной поддержки, и будущий писатель повел жизнь та-
лантливого бедняка, столько раз описанную в его произведениях.
Почти десять лет он бедствовал на столичных чердаках, зара-
батывая на хлеб сочинением бульварных романов в духе модного
тогда «черного» жанра, которые сам впоследствии назвал «лите-
ратурной пачкотней».
Однако в эти годы бурных романтических споров исподволь
вызревал могучий талант Бальзака. Уже в начале 1830-х годов
он стал нащупывать свою собственную дорогу в искусстве и стал
профессиональным литератором, хотя буйное воображение и тем-
перамент, а также жажда разбогатеть, вполне в духе меркантиль-
ного века, то и дело толкали его на фантастические «деловые»
затеи (как покупка типографии и выпуск дешевого издания фран-
цузских классиков, разработка заброшенных римлянами серебря-
ных рудников). Все они неизменно кончались провалом и лишь
увеличивали сумму долгов, из которых, несмотря на каторжный
литературный труд, Бальзак так и не смог выпутаться до конца
своих дней.
Преследуемый кредиторами, ростовщиками, издателями,
месяцами не выходя из дому, проводя за письменным столом
бессонные ночи, Бальзак работал с лихорадочной быстротой
и сверхчеловеческим напряжением, подгоняемый не только нетер-
пением художника, но и необходимостью вырваться из денежной
кабалы. Переутомление вконец расстроило его здоровье и привело
к ранней смерти1.
1 О жизни Бальзака см. белетризированное повествованяе: Мору а А.
Прометей, или Жизнь Бальзака. М., 1968.
190
Переписка Бальзака приот-
крывает драму существования
великого художника — жертвы
денежного общества, столь бли-
стательно запечатленного в его
романах.
«Я чуть не лишился хлеба,
свечей, бумаги. Судебные ис-
полнители травили меня как
зайца, хуже, чем зайца» (2 нояб-
ря 1839 года). «Работать —
...это значит вставать всегда в
полночь, писать до 8 часов утра,
позавтракать за пятнадцать ми-
нут и снова работать до пяти,
пообедать, лечь спать и назавт-
ра все начать сначала» (15 фев-
раля 1845 года).
«...Пишу все время; когда
не сижу над рукописью, обду-
мываю план, а когда не думаю
над планом, то исправляю гран-
ки. Вот моя жизнь» (14 нояб-
ря 1842 года).
В редкие минуты, когда
Бальзак оказывался в обществе,
ОН поражал окружающих бле- О. Домье. Адвокат.
СКОМ ума И своеобразным Литография. Ок. 1865 г.
обаянием.
Тяга писателя к аристократическим салонам отразилась и на
истории женитьбы Бальзака, похожей на один из его романов,
до сих пор дающей пищу беллетристам. С 1838 года началось
заочное знакомство и многолетняя переписка Бальзака с польской
графиней Эвелиной Ганьской, подданной русского царя; в марте
1850 года Бальзак обвенчался с нею в городе Бердичеве, три
месяца провел в огромном имении жены — Верховня, под Киевом,
затем увез ее в Париж, а уже 8 августа писателя не стало.
Когда выступил Бальзак, в Европе господствовал романтизм,
и это отразилось на всем творчестве великого реалиста. От ро-
мантиков пришло к Бальзаку чувство историзма, понимание связи
личной судьбы человека, его частной жизни с национальной жизнью
эпохи. Бальзак рисует напряженную работу мысли, бурные страсти,
яркие, укрупненные характеры, его романы полны сгущенного
драматизма, противоречий и контрастов; он не страшится гипер-
болы и гротеска, исключительных ситуаций, экзотических нравов,
загадок, тайн и символов. Но все эти элементы обретают в его
произведениях иной смысл, все художественные достижения роман-
тического искусства переосмысляются в иных творческих целях —
целях реалистического осмысления действительности.
191
Не случайно первой книгой Бальзака, написанной, по его
выражению, не для денег, а для славы, стал исторический роман
в духе Вальтера Скотта из эпохи французской революции —
«Шуаны, или Бретань в 1799 году»; эта книга появилась почти
одновременно с другими историческими сочинениями французских
романтиков. Бальзак, как и другие, почитал Вальтера Скотта,
испытал мощное воздействие исторического метода английского
романиста, учился воссоздавать местный колорит и показывать
преломление важнейших исторических и социальных конфликтов
времени в частных судьбах персонажей. Все это есть в «Шуанах».
Но в дальнейшем Бальзак перенес метод Вальтера Скотта на изо-
бражение властно влекущей его современности. Современность
для Бальзака — одна из эпох, обладающая своим местным коло-
ритом, который у него выглядит прежде всего как своеобразие
социальной среды, где действуют его герои, среды, формирующей
их характеры и судьбы. Произведения Бальзака — это как бы
исторические романы из современной жизни.
В отличие от романтиков Бальзак брал за исходный пункт
творчества не воображение, а наблюдение над фактами действи-
тельности. «Гений наблюдательности,— по его словам,— это почти
весь человеческий гений». Он считал необходимым изучать жизнь,
подобно тому как это делает ученый. Шутя, он называл себя
«доктором социальных наук».
Правда искусства. Но хотя изображение жизненной правды
стоит для Бальзака на первом месте, искусство и жизнь для
него не одно и то же. «Я не устану повторять,— писал он,—
что правда природы не может и никогда не будет правдой искус-
ства». Живая жизнь куда богаче, и невозможно скопировать ее
во всем многообразии. Однако такой цели искусство и не должно
ставить перед собой. «Задача искусства не в том, чтобы копировать
правду, а в том, чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но
поэт!» — говорит Бальзак устами одного из своих персонажей.
И продолжает: «...сними гипсовую форму с руки своей возлюби
ленной... ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука
трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая
точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать
душу, смысл... вещей и живых существ» («Неведомый шедевр»).
Художник прежде всего обязан выбирать среди фактов то,
что передает правду жизни. При этом, расходясь с романтиками,
которые выбирали единичное, исключительное, Бальзак требует
выбирать то, что «выражает общий смысл, общую связь явлений»,
иными словами, типическое. Хотя термин «реализм» в современном
понимании этого слова в те годы еще не укрепился и Бальзак
его не употребляет применительно к себе, он фактически намечает
в своих рассуждениях принцип реалистического художественного
обобщения, прямо противоположный романтическому. Если, к при-
меру, Виктор Гюго по мере обобщения все дальше отрывался от
конкретно-исторической действительности, видя в ней лишь част-
ное проявление вечной борьбы Добра и Зла, то Бальзак, обоб-
192
щая, все больше углублялся в реальную действительность своего
времени, проникал в ее историческую и социальную сущность,
прозревал общие законы жизни капиталистического общества,
выступающие через борьбу, судьбы, характеры его персонажей.
Вот почему определение критического реализма как изображения
типических характеров в типических обстоятельствах прежде всего
относится к Бальзаку1.
«Человеческая комедия». Дело всей жизни Бальзака — «Че-
ловеческая комедия», громадный цикл социальных романов,
осуществленный в период творческой зрелости и дающий, по
определению Ф. Энгельса, «самую замечательную реалистическую
историю французского «общества», особенно «парижского све-
та», описывая в виде хроники, почти год за годом, с 1816 по
1848 год, усиливающееся проникновение поднимающейся бур-
жуазии в дворянское общество...»2. Это произведение — плод
титанического труда. Замысел его созрел у Бальзака к 1834 го-
ду; все, написанное до этого, было включено в «Человеческую ко-
медию», все, созданное в последующие годы, составило как бы
отдельные главы цикла. Всего Бальзак задумал 150 произведений,
он успел написать 98 романов и новелл, в совокупности состав-
ляющих единую социальную эпопею его времени3.
Необычайная мощь творческого воображения и невероятная
работоспособность позволили Бальзаку создать в своей голове
и перенести на бумагу целый вымышленный мир, полный жизни
и движения, населенный тысячами персонажей, мир, который пред-
ставляет собою художественную модель реального французского
общества того времени и живет такой интенсивной жизнью, что
создает иллюзию подлинной действительности.
В предисловии к «Человеческой комедии», опубликованном
в 1842 году, когда многие шедевры Бальзака были уже созда-
ны, он дал обоснование философских и художественных прин-
ципов своего грандиозного замысла.
К своему труду он подошел, прежде всего, как историк. Он
хотел восполнить пробел в историографии, дополнив политиче-
скую историю Франции его эпохи никем еще не написанной
историей нравов, то есть показать историческую жизнь общества
не через деяния политиков и полководцев, а через призму частной
жизни своих современников. Еще в 1834 году в одном письме
Бальзака сказано: «Мое произведение должно вобрать в себя
все типы людей, все общественные положения, оно должно во-
плотить все социальные сдвиги, так, чтобы ни одна жизненная
ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский,
ни один образ, ни одна профессия, ни чьи-либо взгляды, ни одна
1 О мировоззрении и творчестве Бальзака см.: Гриб В. Р. Избранные
работы. Статьи и лекции по зарубежной литературе. М., 1956; Муравье-
в а Н. И. Оноре Бальзак. Очерк творчества. М., 1958; Р е и з о в Б. Г. Творче-
ство Бальзака. Л., 1939; Обломиевский Д. Д. Оноре Бальзак. М., 1967.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1965, т. 37, с. 36.
3 См.: Грифцов Б. А. Как работал Бальзак. М., 1958.
7 История зарубежной литературы XIX века
французская провинция, ни что бы то ни было из детства, ста-
рости, зрелого возраста, из политики, права или военных дел не
оказалось забытым». Но, как говорится в предисловии, наряду
с историей общества, Бальзак стремился отобразить «историю
человеческого сердца», и потому в его эпопее важное место зани-
мает исследование страсти.
Новаторство этого замысла особенно разительно при сравне-
нии с исповедальными романами французских романтиков, с их
одиноким, тоскующим героем, на котором — и только на нем —
сосредоточен взгляд автора. Картина жизни в «Человеческой
комедии» прежде свего поражает своей полнотой. Бальзак запе-
чатлел эпоху во всех подробностях — от многообразия характеров
и нравов до особенностей архитектуры Парижа и провинции, от
техники коммерческих операций до перераспределения земельной
собственности после революции. В «Человеческой комедии» со-
держится огромный познавательный материал. Недаром Ф. Эн-
гельс утверждал, что из произведений Бальзака «даже в смысле
экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специа-
листов— историков, экономистов, статистиков..., вместе взятых».
Но автор «Человеческой комедии» не только историк, но и ученый.
По признанию Бальзака, его замысел возник «из наблюдений над
животным миром». Опираясь на достижения естественных наук
его времени, писатель хотел дать всестороннее описание и класси-
фикацию социальных типов и явлений по аналогии с биологически-
ми и вывести из этого целостную картину общества. Однако Баль-
зак был далек от отождествления природы и общества, как это
впоследствии попытаются сделать натуралисты. Он стремился^ в
каждой клеточке общественного организма увидеть образ целого,
установить «причины и следствия», «изучить основы или одну
общую основу... социальных явлений, уловить скрытый смысл
огромного скопища типов, страстей и событий»,— словом, раскрыть
законы жизни общества, или, по его выражению, найти «социаль-
ный двигатель» (предисловие к «Человеческой комедии»).
Мир ЧИСТОГана. Подвергнув общество углубленному и всесто-
роннему художественному анализу, Бальзак обнаружил, что таким
социальным двигателем в его время является стремление к личной
выгоде, выраженное в бешеной погоне за деньгами. Деньги — безы-
мянный герой «Человеческой комедии», могучая сила, подчинившая
себе всю общественную и частную жизнь, политику, мораль, семью,
любовь, искусство,— все становится предметом денежных сделок,
все подчинено закону купли-продажи. Поистине в «Человеческой
комедии» «на каждой странице звенит всемогущая стофранковая
монета»2. Словно скальпелем хирурга, Бальзак вскрывает поверх-
ность жизни буржуазного общества, обнажая его потаенную суть.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 36.
2 Выражение современного французского литературоведа Анри Вюрмсера,
который в капитальном труде «Бесчеловеческая комедия» (М., 1967) дает со-
держательный анализ творчества Бальзака, не лишенный, однако, налета социоло-
гизма.
194
Некоторые его страницы кажутся живой иллюстрацией к стро-
кам «Манифеста Коммунистической партии», характеризующим
собственническое общество, которое разрушает «все патриар-
хальные, идиллические отношения», не оставляя между людьми
«никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного
«чистогана»1. Бальзак рисует страшный мир, где сталкиваются эго-
измы и вожделения, где ради денег совершаются тайные и явные
преступления, где дочерей продают, мужей покупают, мать грабит
детей ради любовника, жена засаживает мужа в приют для умали-
шенных, чтобы сохранить за собою деньги и титул, в игорных до-
мах «потоками льется невидимая глазу кровь», «бескровные убий-
цы» в желтых перчатках посылают на каторгу бедняка, укравшего
мелкую монету. Только самые резкие антитезы, самые смелые по-
этические гиперболы могут выразить фантасмагорию этого мира.
В «Человеческой комедии» девушка умирает из-за денег на тюфяке,
набитом миллионами, юный поэт, рыдая над трупом возлюбленной,
сочиняет фривольные куплеты, чтобы раздобыть денег на ее похо-
роны, старый скряга в предсмертной агонии вырывает из рук
причащающего его священника позолоченный крест...
Как моралист, Бальзак подвергает общество своего времени
суровому осуждению. Но он не отворачивается от него, ища своего
идеала вне реальной действительности, как это делали романтики.
Идеал Бальзака лежит не в стороне от живой жизни, а в ее пре-
делах. Как художник, он видит в современной действительности
некую особую, пусть зловещую, но притягательную красоту.
Романтический герой страдал от прозаичности меркантильного
мира, из которого, как ему казалось, ушло все яркое и драмати-
ческое. Бальзак был первым, кто обнаружил за буржуазными буд-
нями поистине шекспировский драматизм. Он иронизировал над
литературой, которая старалась поразить читателя экзотикой,
напугать его «потайными дверями, скрытыми под обоями, или мерт-
вецами, забытыми по недосмотру под половицами». Для него со-
временный Париж — это «город ста тысяч романов», полный чудес,
не уступающих чудесам сказок «Тысяча и одна ночь»; в нем кипят
страсти, сверкает мысль, зреют удивительные открытия науки,
создаются замечательные произведения искусства, проглядывает
будущее. А разорение честного лавочника, каждодневная борьба
бедняка за кусок хлеба, стоптанные башмаки, рваные перчатки,
неоплаченный счет квартирной хозяйки становятся источниками
жестоких трагедий, «хотя в них нет ни кинжалов, ни крови». По
свидетельству поэта и писателя Теофиля Готье, принадлежавшего
к романтическому кружку Гюго, один из первых романов Бальзака
«Шагреневая кожа» (1831) произвел впечатление разорвавшейся
бомбы, потому что он осмелился «вывести любовника, озабоченного
не только тем, тронул ли он сердце своей возлюбленной, но и тем,
хватит ли у него денег, чтобы заплатить за ее карету».
'Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.
Соч. 2-е изд., т. 4, с. 426.
195
Бальзак открыл совершенно новый источник поэзии — повсе-
дневную действительность.
Структура цикла. «Человеческая комедия» названа по аналогии
с «Божественной комедией» Данте. Монументальность замысла
давала на это право. Эпическая широта охвата действительности,
грандиозность обобщений в творении Бальзака постоянно вызывают
в памяти великие образы мировой культуры — обра-зы Данте,
Шекспира, Гете, которые возникают за картинами каждодневной
жизни буржуазной Франции.
«Божественную комедию», с ее строго рационалистическим
построением и причудливыми образами, сравнивали с готическим
собором. «Человеческая комедия» тоже имеет свою строгую архи-
тектонику и походит на огромное здание в три этажа, которые
ведут ко все более высокому уровню художественного и философ-
ского обобщения. Фундамент составляют романы, собранные в
раздел «Этюды о нравах», где, по словам автора, «прослежена шаг
за шагом история человеческого сердца» и «всесторонне описана
история общества», затем «Философские этюды», где Бальзак
хотел показать причины явлений, и, наконец, «Аналитические
этюды», где должны были быть определены основы человеческого
бытия. Подавляющая часть написанных романов относится к «Этю-
дам о нравах», поэтому Бальзак ввел внутри этой части шесть
тематических подразделений: «Сцены частной жизни», «Сцены
парижской жизни», провинциальной, военной жизни и т. д.
Таким образом, внешняя композиция «Человеческой комедии»
вполне закончена. Но внутренняя ее композиция разомкнута.
Ведь Бальзак рисует жизнь в движении и развитии, за первым
его романом стоит прошлое, а впереди — не ясное еще будущее.
Поэтому у эпопеи Бальзака нет ни начала, ни конца, и, если бы он
успел закончить все 150 романов, она все равно осталась бы прин-
ципиально незавершенной. Эмиль Золя метко назвал «Человече-
скую комедию» «недостроенной Вавилонской башней». Точно так
же каждый роман, входящий в цикл, является в одно и то же
время самостоятельным произведением и одним из фрагментов всей
эпопеи, неразрывно связанным с целым и другими романами.
Каждый роман живет своей художественной жизнью, но существо-
вание его в рамках всего организма «Человеческой комедии» уси-
ливает его художественную выразительность, сообщает ему еще
большую значимость, как обертоны в музыке придают дополни-
тельные краски и глубину каждому звуку.
Романы «Человеческой комедии» объединяет не только един-
ство эпохи, но и счастливо найденный Бальзаком прием переходя-
щих персонажей, повторяющихся из романа в роман. Главный
герой «Человеческой комедии» — общество, люди вне общества для
Бальзака не существуют, их частные судьбы — это только подроб-
ности всей картины. Поэтому здесь нет главных и второстепенных
персонажей, все они равно интересны автору, и тот, кто в одном
романе находился на обочине повествования, в другом может ока-
заться в центре.
196
По той же причине мы не находим у Бальзака развязок и
завязок в общепринятом смысле, развязка одного сюжета ста-
новится завязкой нового; одна судьба завершилась, но другие
продолжаются, и о них повествуется в других романах — в следую-
щих, либо предшествующих данному. Герои «Человеческой коме-
дии» приходят в каждый роман из прошлого и уходят в будущее.
Это позволяет необъятно расширить хронологические рамки повест-
вования и способствует иллюзии исторической достоверности про-
исходящего.
Во всех романах рисуется как бы одно и то же общество,
похожее на реальную Францию, но не вполне с ней совпадающее.
На втором плане, как у Вальтера Скотта, действуют реальные
исторические лица, характеризующие эпоху: Наполеон, Талей-
ран, Людовик XVIII, Карл X, реальные маршалы и министры.
А рядом с ними — вымышленные по аналогии персонажи, которые
и разыгрывают спектакль «Человеческой комедии». Если кто-то
из героев любого романа заболел, приглашают врача Бьяншона, в
случае денежных затруднений обращаются к ростовщику Гобсеку;
в Булонском лесу и в ложах Оперы можно увидеть всегда одних
и тех же щеголей и дам полусвета, в салонах — одних и тех же
титулованных красавиц, в конторах — все тех же коммерсантов.
«Мой труд,— писал Бальзак,— имеет свою географию, так же как
свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действую-
щих лиц и факты; так же он имеет свой гербовник, свое дворян-
ство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и
денди, свою армию — словом, весь мир» (предисловие к «Челове-
ческой комедии»).
Притча О шагреновой коже. Как бы в преддверии «Челове-
ческой комедии» — роман «Шагреневая кожа», впоследствии отне-
сенный к «философским этюдам», который сам Бальзак назвал
«началом всего моего дела»1. Здесь в форму философской притчи
облечено то, что будет развернуто в реалистическом плане в десят-
ках романов. Но форма притчи не меняет того обстоятельства, что
в этом произведении дается сгущенная, полная контрастов и кипе-
ния страстей картина реальной жизни.
Потерпев поражение в жизненной битве, молодой поэт Рафаэль
де Валантен поставил на кон в игорном доме последнюю золотую
монету и проиграл. Он решает покончить с собой. Случай удержи-
вает его: старый антиквар дарит ему восточный талисман — кусок
шагреневой кожи, способный исполнить все его желания, но ценой
его собственной жизни; с каждым исполнением желания кожа сжи-
мается, «убывает, как наши дни». «Желать» и «мочь» — между этими
словами, по утверждению таинственного антиквара,— вся челове-
ческая жизнь. Теперь Рафаэль может, наконец, обладать всем, что
только пожелает, но вид тающей на глазах кожи убивает в нем
самую способность желать. Чтобы жить, он отказывается от самой
жизни. Многие герои Бальзака повторяют судьбу Рафаэля де
1 См.: Резник Р. А. Роман Бальзака «Шагреневая кожа». Саратов, 1971.
197
Валантена: молодой человек оказывается на распутье и должен
выбрать жизненную дорогу. Если он хочет сохранить в целостно-
сти и чистоте свой духовный мир, ему надо отказаться от често-
любивых желаний, от преуспеяния в обществе, если же он бросится
в жизнь и добьется успеха, то заплатит своим моральным растле-
нием. Завоевать общество — все равно что продать душу дьяволу.
Это один из многих случаев, когда художественное обобщение у
Бальзака поднимается до уровня мифа. За картинами французской
действительности XIX века возникают контуры легенды о Фаусте.
«Отец ГорИО». Смысл истории Рафаэля де Валантена расшифро-
вывается в одном из лучших романов Бальзака «Отец Горио».
Этот роман (1834) — первое произведение, с самого начала пред-
назначенное для «Человеческой комедии»,— стоит как бы в центре
всего цикла. В нем намечены почти все главные проблемы и темы
«Человеческой комедии», от него протянуты сюжетные нити ко
многим другим романам, где повторяется до трех десятков его
персонажей1.
Действие «Отца Горио» укладывается всего в несколько дней,
перенасыщенных событиями, и отнесено к периоду Реставрации,
но жизни героев уводят в прошлое, вплоть до революции 1789—
1794 годов.
В романе изображена судьба Эжена де Растиньяка, молодого
честолюбца из оскудевшего дворянского рода, который приезжает
в Париж в надежде сделать карьеру при протекции аристократи-
ческих родственников. В дешевом пансионе вдовы Воке, населенном
такими же, как он, бедняками, в роскошной гостиной кузины своей,
герцогини де Босеан, Растиньяк получает жизненные уроки, кото-
рые быстро рассеивают его юношеские иллюзии и показывают
ему действительность в ее истинном виде. Душевное благородство,
честь, совесть и доброта не имеют хождения в обществе, где господ-
ствуют низменны^ вожделения и страсти, где идет ожесточенная
борьба за деньги и наслаждения и поклоняются одному лишь
кумиру — золоту. Бедности в обществе не прощают, об этом го-
ворят Эжену презрительные взгляды лакеев, когда он приходит
с визитом к блестящей аристократической красавице графине де
Ресто пешком, в черном фраке в три часа дня и видит во дворе
запряженный английскими лошадьми кабриолет своего соперника,
светского щеголя в сером сюртуке. Неважно, что это негодяй,
обобравший свою любовницу и имеющий за душой лишь сто тысяч
франков долга! Чтобы пробиться наверх, надо позабыть о человеч-
ности. «Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лоша-
дей,— поучает неопытного юношу герцогиня де Босеан,— гоните, не
жалея сил, пусть мрут на каждой станции,— и вы достигнете пре-
дела своих желаний... перестав быть палачом, вы превратитесь в
жертву».
Ту же мораль, только выраженную в более циничной форме,
проповедует Растиньяку беглый каторжник Вотрен, живущий в
1 См.: Бахмутский В. Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
198
пансионе госпожи Воке под видом отошедшего от дел буржуа:
«Принципов нет, есть события,— говорит он, — законов нет, есть
обстоятельства». Он учит Эжена «врываться, как пушечное ядро»,
«убивать, чтобы не быть убитым, обманывать, чтобы его не обма-
нули; где придется, оставлять у заставы совесть, надеть маску,
без жалости играть людьми». Мораль верхушки и подонков обще-
ства сходится.
Постепенно эта мораль проникает в душу Растиньяка, хотя,
по насмешливому замечанию Вотрена, на нем «еще остались кое-
какие пеленочки, испачканные добродетелью». Свет представлялся
ему «океаном грязи, куда человек сразу уходит по шею, едва
опустит в нее кончик ноги», но юноша твердо решается завоевать
его. «Жизнь в Париже — непрерывная битва,— пишет он матери.—
Я должен выступить в поход». Он еще способен устоять против
прямого преступления, на которое толкает его Вотрен, но уже готов
вступить в брак по расчету или продвигаться наверх через богатых
любовниц. «Прав Вотрен, деньги — это все», — думает он теперь.
Воспитание Эжена довершает разыгравшаяся у него на глазах
трагедия поруганной отцовской любви. Судьба его скрестилась с
судьбой папаши Горио, в прошлом — «вермишельщика», разбога-
тевшего на спекуляциях в годы революции, а ныне — беднейшего
из жильцов вдовы Воке. Горио принадлежит к героям Бальзака,
«одержимым страстями», которые принимают у них маниакальный
характер. Таковы скупцы Гобсек и Гранде, сладострастник Юло
и многие другие. Страсть Горио — отцовство, весь смысл его жизни
в двух дочерях, Анастази и Дельфине; весь остальной мир для него
не существует, его любовь к ним беспредельна и самоотверженна.
Но в мире чистогана уродливо искажаются все естественные
человеческие чувства. Отцовская любовь Горио получает денежное
выражение. Отдав дочерям свое сердце, он постепенно отдает им
все свое состояние. Меркой отцовской любви и для дочерей и для
него самого становится количество денег, которое он может им
дать. За деньги он покупает им то, что считает счастьем: титулы
и богатство,— выдав одну за графа де Ресто, другую за банкира
Нусингена. Он содержит дочерей и после замужества, оплачивая их
векселя, потворствуя их мелкому тщеславию и расточительности,
готовый взять на себя роль сводника и покровительствовать их
любовникам, поскольку браки-сделки оказались несчастливыми.
Философия его жизни — «отцы должны платить».
«Высосав из него все», дочери отворачиваются от отца, закры-
вают перед ним двери своих особняков и бросают его, как выжа-
тый лимон. Он умирает на нищенском одре, в нетопленной каморке
на чердаке пансиона вдовы Воке, тщетно призывая к себе дочерей,
которые в эту ночь веселятся на аристократическом балу в опла-
ченных им туалетах; они не появляются и на его похоронах, за
гробом отца Горио идут лишь бедный студент да слуга из пансиона
и следуют украшенные гербами пустые кареты его дочерей.
История отца Горио, этого буржуазного короля Лира, оконча-
тельно открывает глаза Эжену на истинную сущность общества,—
199
он убеждается, что в нем нет места для высоких чувств и душев-
ного величия. О том же говорит состоявшийся накануне смерти
Горио последний бал герцогини де Босеан, оставленной человеком,
которого она любила, ради выгодного брака: весь высший свет,
как стая коршунов, слетается на тризну ее любви, чтобы насла-
диться видом ее тайных мук, подобно тому «как молодые римлянки
рукоплескали гладиатору, если он умирал с улыбкой на устах».
Потрясенный всем увиденным, Растиньяк проливает над'моги-
лой отца Горио «последнюю юношескую слезу, исторгнутую волне-
ниями чистого сердца», а потом оборачивается к Парижу, раскину-
тому у подножия холма Монмартр, где хоронили бедняков: «Глаза
его впились в пространство... туда, где жил парижский высший
свет, предмет его стремлений. Эжен окинул этот гудевший улей
алчным взглядом, как будто предвкушая его мед, и высокомерно
произнес: «А теперь — кто победит: я или ты!» И, бросив обществу
свой вызов, он для начала отправился обедать к Дельфине де
Нусинген».
Из других романов «Человеческой комедии» мы узнаем, что
Растиньяк разбогател, стал светским жуиром, исповедующим цини-
ческую философию паразитизма и эгоизма, и впоследствии занял
пост министра. Повторяется история «шагреневой кожи»: за успех
Растиньяк заплатил растлением своей души. Он победил в практи-
ческой жизни, но морально побежден.
Мир, в котором действовали герои Стендаля, был скорее пуст,
внешние детали мало занимали писателя, все его внимание было
сосредоточено на мыслях и душевных движениях людей — в этом
сказывается его связь с романами Просвещения и психологической
прозой романтизма. Мир «Человеческой комедии» заполнен веща-
ми, подробностями быта, обстановки, одежды героев. Бальзак сам
утверждал, что, для того чтобы охватить жизнь во всей полноте,
он изображает «мужчин, женщин и вещи». Вещи несут на себе
отпечаток личности человека и его судьбы, в этом художественное
значение длинных экспозиций в романах Бальзака.
Таково описание «пошлого ужаса» пансиона г-жи Воке, который,
по словам автора, представляет собою «общество в миниатюре»:
ветхий дом, стоящий под крутым уклоном улицы, искалеченная
мебель, особое зловоние, грязные салфетки, прореха в ватной юбке
хозяйки, штопаные кружева и перекрашенные платья постояльцев,
зеленый козырек над слабыми глазами старой девы Мишоно, скруг
ченный галстук на индюшачьей шее г-на Пуаре — все это говорит
о человеческих драмах, «не тех, что разыгрываются при свете рам-
пы в расписных холстах», а «полных жизни и горячо волнующих
сердце».
В «Шагреневой коже» актикварная лавка, заваленная произве-
дениями материальной культуры многих веков, приобретает фан-
тастически-преувеличенные размеры и как бы вмещает, выражен-
ную в вещах, всю историю человечества.
В «Отце Горио» Бальзак с громадным мастерством через част-
ные жизни своих героев показывает важные исторические сдвиги
200
эпохи: под натиском нового хозяина жизни, буржуазии, дворян-
ство все дальше оттесняется в прошлое. Оскудевшая аристократия
пытается поправить свои дела буржуазными браками, — так граф
де Ресто «решился вываляться в муке мадемуазель Горио». С дру-
гой стороны, буржуазный выскочка банкир Нусинген получает
титул барона. При Реставрации происходит новое призрачное воз-
вышение дворянства, и светская дама, вчерашняя дочь «верми-
шельщика», начинает стыдиться своего отца и «готова вылизать
всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель», лишь бы по-
лучить доступ в аристократическую гостиную. Однако деньги по-
прежнему решают все, как это показывают сюжетные перипетии
романа.
В «Отце Горио» намечены линии «скрытых семейных драм»,
которые стоят на главном месте во всей «Человеческой комедии».
Ведь для Бальзака первоначальная клеточка общества не отдельная
личность (как для романтиков), а — семья. С анализа семьи он
и начинает изучение общественного организма. Распад семьи отра-
жает общее неблагополучие жизни. Десятки разнообразных семей-
ных драм, изображенных на страницах «Человеческой комедии»,—
это лишь различные варианты все той же низменной и трагичной
борьбы за золото.
«Гобсек». В новелле «Гобсек» (1830; переделана и включена в
«Человеческую комедию» в 1835 году) развертываются подроб-
ности семейной драмы одной из дочерей папаши Горио — графини
Анастази де Ресто, о которой через десять лет после описанных
в романе событий рассказывает честный стряпчий Дервиль.
Став жертвой необузданной страсти к светскому денди, игроку
и расточителю Максиму де Трайлю, красавица Анастази находится
на грани разорения. Ростовщик Гобсек, явившийся к ней утром с
просроченным векселем, различает, что из-за изящного беспорядка
ее роскошной спальни уже проглядывает нищета. Чтобы покрыть
долги любовника, графиня в отчаянии продает Гобсеку фамильные
бриллианты; она шпионит за умирающим мужем, переворачивает
вверх дном его комнату, не останавливается перед тем, чтобы сдви-
нуть с постели его труп в поисках завещания, от которого зависит
будущее ее незаконных детей.
Образ, знакомый нам по роману, углубляется. Мы видим, как
эгоизм губит сильную и страстную натуру и разрушает жизнь и
самую личность Анастази де Ресто.
Графине де Ресто, «женщине, способной проглотить миллион-
ное состояние», противопоставлена скромная швея Фанни, которая
ведет чистую трудовую жизнь, свободную от тщеславия и эгоисти-
ческих страстей. Этот один из редких у Бальзака образов труже-
ников показывает, что нравственные его идеалы, как и у других
передовых современников, пусть неосознанно, все же были связаны
с народом.
В центре повествования стоит фигура ростовщика Гобсека, в
котором воплощена сущность денежного общества. Гобсек — су-
хонький остроносый старикашка, прячущий желтые, как у хорька,
201
глаза без ресниц под болыцим козырьком потрепанного картуза, с
бледным бесстрастным лицом, «точно вылитым из серебра», —
олицетворение скупости. Он живет в бедной комнате с жидким
ковриком у кровати и окошечком-глазком на входной двери, питает-
ся хлебом и кофе с молоком, ходит в поношенном платье, а в кла-
довой у него гниют груды снеди, тлеют дорогие ткани, плесневеют
произведения искусства, кучи золота и серебра, которые он не
доверяет банку. Его скупость превратилась в маниакальную
страсть; бессмысленное накопительство на пороге смерти приобре-
ло характер безумия. Гобсек жесток и бесчеловечен (об этом го-
ворит его фамилия, обозначающая «живоглот»), деньги в рост он
дает под чудовищные проценты. Он сам «человек-вексель». На
первый взгляд, Гобсек! кажется каким-то исключением, нравствен-
ным уродом, но вскоре становится ясно, что его алчность и бес-
сердечие— типические черты собственнического общества, в кото-
ром он живет и которое выражает.
В Гобсеке «живут два существа: скряга и философ, подлое
существо и возвышенное». В прошлом он вел бурную жизнь, пол-
ную страстей и приключений, и убедился, что «везде идет борьба
между богатыми и бедными», и усвоил ту же мораль, что и Вот-
рен: «Лучше уж самому давить, чем позволить, чтобы тебя давили
другие». Из всех земных благ он признает теперь только одно —
золото, потому что оно приводит в движение «машину, которую
мы называем жизнью». Золото действительно дает ему огромное
могущество, он достаточно богат, чтобы покупать человеческую
совесть, управлять министрами, обладать красивейшими женщина-
ми,— словом, купить любые наслаждения. Но, как у героя «Ша-
греневой кожи», золото омертвило его душу и убило в нем все
желания, он превратился в «человека-автомат». Единственное и
высшее его наслаждение — это сознание тайной власти над людьми.
Перед ним пресмыкаются аристократы, готовы ползать на коленях
светские дамы, потому что у него в руках их гнусные секреты, а в
кармане их векселя. Гобсек — один из тайных властителей Парижа,
его некоронованных королей, он «владеет миром, не утомляя себя».
«А разве не власть и наслаждение сущность всего нынешнего обще-
ства?» — вопрошает он своего приятеля Дервиля, который с удивле-
нием признается: «Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих
глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти зо-
лота».
В о т р е н. Своеобразная философия Гобсека раскрывает тайну
денежного общества. Другой философ «Человеческой комедии»,
проходящий через несколько романов, — Вотрен, один из самых
значительных бальзаковских образов. Уже в «Отце Горио» в Вот-
рене проглядывает зловещая разрушительная сила; в других рома-
нах он приобретает некие сверхчеловеческие черты и дьявольское
обаяние, окружающие его ореолом романтического элодея. Он
бросает вызов обществу, вступает в единоборство с правосудием,
меняет личины, находит выход из самых невероятных положений,
что снискало ему прозвище «Обмани-смерть». У него «желтые
202
глаза тигра», «как у дьявола — страсть к вербовке». Словно демон-
искуситель, встает он на пути молодых честолюбцев в минуту
нравственного выбора и' толкает их ко злу.
Но при всей гиперболичности этого образа он остается на почве
.реализма и содержит глубокое художественное обобщение. Это
образ диалектический. Вотрен олицетворяет преступность собствен-
нического мира и в то же время бунтует против него, как бы
взрывает его изнутри своими циническими и проницательными
суждениями; он одновременно и выразитель и обличитель буржуаз-
ной морали.
«Стащите, на свою беду, какую-нибудь безделицу, — поучает
Вотрен Растиньяка, — вас выставят на площади Дворца правосу-
дия, как диковину. Украдите миллион —: и вы во всех салонах бу-
дете ходячей добродетелью. Для поддержания такой морали вы
платите тридцать миллионов в год жандармам и суду». Вотрен
мечтает сделаться рабовладельцем в Америке. «Меня не спросят
«Кто ты такой?» — саркастически замечает он. — Я буду господин
Четыре Миллиона, гражданин Соединенных Штатов». В конце
концов Вотрен оказывается в руках правосудия, но, вместо того
чтобы покарать его, ему предлагают... поступить на службу в по-
лицию!
В романтических социальных романах 1840-х годов постоянно
изображались раскаявшиеся преступники, которые добрыми делами
искупали причиненное обществу зло. Не избежал этого и Виктор
Гюго в «Отверженных». Наивная вера в некое абстрактное, над-
классовое Добро и Зло принудила великого романтика совершить
насилие над образом Жана Вальжана, превратив его, вопреки худо-
жественной правде, из бунтаря против неправого общества в филан-
тропа-реформатора. Ничего подобного не происходит с Вотреном.
Ведь общество, против которого он восставал, не менее безнравствен-
но, чем он сам, действия Вотрена в моральном отношении ничем
не отличаются от действий такого же вора и убийцы, разорителя
многих семей, банкира Нусингена, чьи богатства Вотрен отныне
собирается охранять. «Последнее воплощение Вотрена» имеет дру-
гой смысл, и Бальзак рисует его с глубокой иронией. Вотрен не
переживает никакого нравственного перелома, просто ему не уда-
лось обрести власть над обществом при помощи преступления, он
будет властвовать над ним при помощи закона. Сам он с обычным
цинизмом признается в* этом: «Вместо того чтобы быть дабом
(хозяином.—С. Б.) каторги, я стану Фигаро правосудия... Мы
были дичью, становимся охотниками, вот и все... Я всегда буду
царствовать над этим миром, который вот уже двадцать лет под-
чиняется мне» — так формулирует Вотрен сущность своего перехода
«на стезю добродетели». Более того, свою карьеру в качестве слуги
общества (которую он сам едко называет «дебютом в комических
ролях») Вотрен начинает с прямой низости — выдает бывших сото-
варищей, слепо ему доверявших. «Покаяние» Вотрена Бальзак
представляет как лицемерие. Вотрен — полицейский сыщик, и Вот-
рен-каторжник, продолжает пребывать в сфере социального зла.
203
При посредстве этого образа Бальзак срывает маску с корыстной
классовой морали собственнического общества.
Утрата ИЛЛЮЗИЙ. Исследуя все новые пласты жизни, Бальзак
в романе «Утраченные иллюзии» (1837—1842) показывает, что
в мире чистогана превращается в товар все, вплоть до таланта.
Двое друзей, поэт Люсьен Шардон и книгопечатник Давид
Сешар, вступая в жизнь, мечтают о славе. Оба одаренные лю-
ди, но дороги их расходятся. Люсьен, с рукописью в кармане,
отправляется завоевывать Париж. Очень скоро он убеждается,
что «для издателей наши рукописи — вопрос купли-продажи»,
что в борьбе за успех модный фрак и желтые перчатки — бо-
лее действенное оружие, чем поэтический дар, а • истинное
искусство — менее ходкий товар, чем беспринципные газетные од-
нодневки. Перед Люсьеном открываются два пути: либо подвиж-
нический труд it гордая бедность, какие избрал молодой писатель
д'Артез, либо растрата своего таланта в погоне за богатством
и наслаждениями, на которую толкает Люсьена кружок продаж-
ных журналистов. «Угнетаемый нищетой и подстрекаемый тщесла-
вием», Люсьен выбирает второй путь: он продает свое перо и не-
зависимость суждений и становится модным фельетонистом.
Прожженный буржуазный газетчик Этьен Лусто учит его, что
«быть журналистом — значит торговать совестью, умом, мыслью»,
«что любая газета — это лавочка, где продаются фразы той окрас-
ки, на которую есть спрос»; Люсьен убеждается, что «журна-
лист— это акробат», что газетчики всех направлений при дележе
«общественного пирога» становятся похожи на «свору собак, кото-
рые грызутся из-за кости». В «Утраченных иллюзиях» Бальзак
первый, за полвека до Мопассана, показал в истинном свете нравы
продажной буржуазной прессы. Но значение этих бичующих
страниц «Утраченных иллюзий» еще шире. «Не думайте,— говорит
Лусто,— что политическая деятельность лучше, чем литератур-
ная: все растленно, как там, так и тут,— в той и в другой об-
ласти каждый или развратитель или развращенный». Так писа-
тель, не делая решающих выводов, выносит суровый приговор
буржуазному обществу.
Бросившись в омут буржуазной журналистики, отметая укоры
совести, Люсьен в нравственном отношении опускается все ниже:
он перепродает себя, перебежав из либеральной газеты в монар-
хическую, пишет уничтожающий отзыв на книгу вчерашнего дру-
га, которую сам считает прекрасной. Слабая, неустойчивая натура,
Люсьен не может ни отказаться от соблазнов Парижа, ни без-
оглядно идти до конца, как Растиньяк. Он проигрывает сражение
с жизнью и видит крушение всех своих суетных мечтаний. При-
неся в жертву своему эгоизму мать, сестру и друга, став причи-
ной смерти возлюбленной, уязвленный в тщеславии поэта, Люсьен
в конце романа приходит к мысли о самоубийстве. От этого шага
его удерживает Вотрен (переодетый на сей раз испанским священ-
ником) и снова увозит в Париж. Второй круг карьеры Люсьена
описан в романе «Блеск и нищета куртизанок»: по наущению
204
Вотрена Люсьен самыми грязными средствами прокладывал себе
путь наверх и, потерпев вторичную неудачу, измерив всю глубину
своего нравственного падения, повесился в тюрьме.
Иначе складывается жизнь Давида Сешара. Сын крестьяни-
на, ставший типографом и химиком, он сделал важное открытие —
нашел способ изготовления дешевой бумаги для книгопечатания.
Но, в отличие от Люсьена, Давид мечтает не столько о личном
обогащении, сколько о просвещении человечества. Честная и бес-
корыстная натура, Давид знает в жизни только прямые пути, а
значит, заранее обречен на неудачу. И действительно, его эксплуа-
тирует и грабит собственный отец, предают друзья, мошенники
конкуренты засаживают в тюрьму, вынуждают продать типографию
и присваивают его изобретение. Давиду остается утешаться мыслью,
что люди все-таки получат дешевую книгу, даже если вся слава
и богатство достанутся не ему.
Таким образом, и в этом романе показан «молодой человек
на распутье» и поставлена проблема жизненного выбора. Герои
проходят нравственную проверку, по-разному переживая «утрату
иллюзий», мучительно постигают сущность общества, в котором
они живут.
В последних романах Бальзака картина жизни все усложняет-
ся. Он уже не строит повествование на крепко завязанном дра-
матическом узле, как в «Гобсеке»,— фабула разветвляется, по-
является запутанная интрига, нередко с элементами детектива,
действие развертывается все стремительнее, с резкими поворотами
и контрастами (хотя Бальзак не отказывается от характерных для
него длинных экспозиций скрупулезного описания улицы, дома,
обстановки, вещей, помогающих раскрыть характер героев). С од-
ной стороны, в этом отразилось обострение социальных противо-
речий во Франции в отрезок времени, предшествующий револю-
ции 1848 года,— недаром в эти годы Бальзак обмолвился, что
«борьба — тайна вселенной». С другой стороны, как профессио-
нальный писатель, он вынужден был считаться с требованиями
газет, где по частям печатались его произведения, и подчинял
этому композицию. Как и другие социальные романисты 1840-х го-
дов— В. Гюго, Ж. Санд, Бальзак воспринял некоторые черты
газетного социально-приключенческого романа-фельетона. Разу-
меется, Бальзак, как и Гюго, переосмыслял эти элементы в своих
творческих целях.
Художественная правда и политические предрассудки.
Запечатлев с необыкновенной выразительностью «дьявольское пе-
реплетение личных интересов», алчность и эгоизм, подтачивающие
буржуазное общество его времени, с опаской заглядывая в будущее,
Бальзак искал сдерживающие силы, которые могли бы уберечь
общество от разрушения. Такими силами представлялась ему
королевская власть и католицизм. Сразу же после падения Бур-
бонов, в 1830 году, Бальзак примкнул к реакционной партии
легитимистов (сторонники свергнутой «законной» династии),
партии, \ которую сам же называл «отвратительной». В пре-
205
дисловии к «Человеческой комедии» он заявил: «Я пишу при
свете двух вечных истин, религии и монархии». Однако вся
грандиозная эпопея Бальзака, все его творчество противоречат та-
кому утверждению.
Художник пришел в столкновение с политиком, правда искусст-
ва победила аристократические предрассудки писателя, «Челове-
ческая комедия» устремлена не в прошлое, а в будущее.
«Забавная подробность, показывающая, как мало понимал он
иногда значение своего творчества: это его католические и ле-
гитимистские претензии,— писал Эмиль Золя.— Бальзак стоял за
Бога и Короля... Но он написал произведение, самое революцион-
ное, такое произведение, где на развалинах прогнившего общества
растет и утверждается демократия. Это произведение сокрушает
короля, сокрушает бога, сокрушает весь старый мир, хотя сам
Бальзак об этом как будто и не подозревает»1.
И действительно, сколько ни старается Бальзак идеализиро-
вать аристократию, она выглядит в «Человеческой комедии»
исторически обреченной и, по выражению Ф. Энгельса, «не до-
стойной лучшей участи». Не ей бороться против буржуазных
хищников.
Все симпатии Бальзака на стороне тех, кто смог противо-
стоять заразе эгоизма и стяжательства и остался верен высоким
идеалам человечности.
В «Утраченных иллюзиях» таковы молодые таланты из круж-
ка д'Артеза, одинокие мыслители «с посмертной славой», в пер-
вую очередь Мишель Кретьен, «благородный плебей», «респуб-
ликанец самого высшего полета», человек с «государственным
умом», который «мог бы преобразовать облик общества», но погиб
на баррикаде во время республиканского восстания 1832 года в
Париже. «Пуля какого-то лавочника, — пишет с горечью Баль-
зак,— сразила одно из благороднейших созданий, когда-либо су-
ществовавших на французской земле».
Мишеля Кретьена, очевидно, имел в виду Ф. Энгельс, когда
писал, что никогда перо Бальзака не было таким острым, а его
ирония такой горькой, чем когда он изображал своих излюблен-
ных аристократов, и что с нескрываемым восхищением он рисовал
лишь своих политических врагов — республиканцев. Бальзак уви-
дел настоящих людей будущего там, где они и были в его вре-
мя — на республиканских баррикадах, и это Ф. Энгельс считал
величайшей победой реализма2.
Глубоко прав был Виктор Гюго, сказавший в речи над гро-
бом Бальзака: «Сам того не зная, хотел он того или нет, согла-
сился бы он с этим или нет,— автор этого огромного и причуд-
ливого творения был из могучей породы писателей-революционе-
ров».
1 3 о л я Э. Собр. соч. в 26-ти томах. М., 1966, т. 25, с. 392.
2 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 36—37.
206
ЛИТЕРАТУРА ЧАРТИЗМА. ЭРНЕСТ ДЖОНС
В 30—40-х годах XIX века в Англии возникает могучее рабо-
чее движение, получившее впоследствии название чартизма.
Литература чартизма, несомненно, оказала влияние на литера-
турный процесс в Англии, а также в США. Речь, однако, идет не
столько о влиянии того или иного поэта или публициста. Само
по себе мощное движение рабочего класса, а также широкое ос-
вещение на страницах чартистской печати бедственного положения
трудящихся не могли не привлечь внимания и тех писателей, ко-
торые были далеки от чартизма. Так, Диккенс отрицательно отно-
сился к чартизму, но его роман «Тяжелые времена», несомненно,
отражает влияние и чартизма и чартистской литературы.
Особенно широкий резонанс вызвали поэтические проиэведе-
ния (не лишенные сентиментальности) попутчиков чартизма — поэ-
та-демократа Томаса Гуда, Элизабет Баррет-Браунинг, Эбензера
Элиота и др. «Песня о рубашке» Гуда была очень популярна в
России.
Видными поэтами-чартистами были Д. Линтон, Д. Масси.
Однако самым талантливым публицистом, романистом и поэтом
был Эрнест Чарлз Джонс (1819—1869)—вождь левого крыла
чартистов, друг Ф. Энгельса и Г. Веерта.
Центральное место в зрелом творчестве Э. Джонса занимает
образ пролетария, осознавшего свои классовые интересы. В этом
заключалось то принципиально новое, что он внес в английскую
и мировую революционную поэзию (стихотворения «Наш вызов»,
«Наше предупреждение» и др.).
Поэт воспевает высокие моральные качества, духовную чистоту
людей труда, которые должны, по его мнению, твердо запомнить
одно:
— Никто вам не поможет,
Спасенье в вас самих — вперед!
Другая важная тема пролетарской поэзии Джонса — призыв
к единению.
«Единство и массовость — вот наш путь к успеху!» — восклица-
ет он в стихотворении «Сент-Стефан».
«Все люди — братья!» — этот лозунг, выдвинутый чартистами
в 1846 году, после 1848 года был заменен Джонсом девизом
«Союза коммунистов»: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»
Идею единения людей труда поэт выразил в стихотворении «Песня
рабочего».
В другом своем стихотворении — «Век мира» — Джонс прово-
дит мысль о том, что «олигархия капиталистов» не может жить
без войн, что только там, где власть в руках народа, возможен
вечный мир. Главным героем поэмы является народ, который посте-
пенно, на кровавых уроках, учится организованности и сплоченности
и приходит в конце концов к победе над миром собственников.
207
ЧАРЛЗ ДИККЕНС
Наиболее ярким и своеобразным представителем критическо-
го реализма в английском искусстве XIX века является Чарлз
Диккенс (1812—1870) — великий народный писатель Британии,
творец социального романа в этой стране1. Гениальный художник,
Диккенс выступил подлинным «защитником низших классов против
высших, карателем лжи и лицемерия»2, присущих собственниче-
ским классам. Правда, создавая монументальные сатирические об-
разы буржуа, срывая с них маски благопристойности и респекта-
бельности, Диккенс оставался на протяжении всей своей жизни
сторонником реформистского метода улучшения жизни масс, он ре-
шительно высказывался против революции, не принимал никакого
участия в движении, возглавляемом чартистами. Однако гуманизм
Диккенса, его твердая вера в прекрасное и великое будущее наро-
да делали его произведения близкими миллионам его читателей не
только в Англии, но и за ее рубежами. О своих демократических
взглядах сам Диккенс хорошо сказал в своей речи, произнесенной
в 1869 году: «Моя вера в людей, которые правят, говоря в общем,
ничтожна; моя вера в людей, которыми правят,— беспредельна».
В творчестве Диккенса чувствуется тесная связь с традиция-
ми и эстетикой романтизма: Диккенс придает огромное значение
категории Воображения, как его понимали романтики. С помощью
этой творческой силы Диккенс стремился увидеть и постичь слож-
нейшие связи, соединяющие людей и окружающий их материальный
мир; в судьбу его многочисленных комических, драматических и
трагических персонажей иногда вмешиваются сказочные феи и доб-
рые духи, спасающие их от страданий и гибели. Он охотно прибе-
гал к романтическим преувеличениям; гротеск и шарж являются
его излюбленными приемами (столь ценимыми романтиками). Об-
разы-символы играют видную роль во многих его произведениях.
Первый период творчества Диккенса (1833—1841) характе-
ризуется наличием наивной веры писателя в возможность изме-
нения общественных нравов путем перевоспитания людей с по-
мощью искусства, проповеди добра, реформы существующей гни-
лой социальной системы и особенно перестройки школы. Эта черта
в мировоззрении Диккенса роднит его с просветителями XVIII ве-
ка. В произведениях этих лет много светлого юмора, смеха, забав-
ной карикатуры. Во второй (1842—1848) и в третий (1849—1852)
периоды творчества Диккенс обращается к оружию иронии, сар-
казма. Скепсис и пессимизм, трагическое звучание характерно
для зрелых его романов,— это объясняется тем, что он утрачивает
веру в быстрое исцеление от социальных язв. В романах последнего
периода творчества Диккенс выступает как мастер психоанализа.
1 См.: Ивашева В. В. Диккенс. М.г 1954; Михальская Н. П. Дик-
кенс. М., 1959; Катарский И. М. Диккенс. М., 1960; Сильман Т. И.
Диккенс. Л., 1970.
2 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., 1949.
т. 1, с. 358.
208
Как бы ни была сурова критика пороков и преступлений
буржуазных классов, романтический пафос утверждения этиче-
ского и эстетического идеалов всегда присутствует в его произ-
ведениях. Диккенс никогда не утрачивает веру в конечное тор-
жество добра, в победу своей мечты о счастье и справедливости
для лучшей части народа — для людей труда.
«Очерки Боза». Уже в первом произведении Диккенса в «Очер-
ках Боза» (1836), принесших их автору известность, явственно
вырисовываются черты художника-урбаниста: здесь воссоздается
жизнь лондонских улиц, площадей, набережных, рынков, магази-
нов. Любопытный взор очеркиста проникает в зал заседаний уго-
ловного суда, в больницу, в тюрьму. Тут можно встретить бедных
тружеников, которым автор выражает свое сочувствие, бессердеч-
ных богачей, представителей уголовного мира.
Роман-утопия. Первый роман Диккенса «Посмертные записки
Пиквикского клуба» (1836—1837) был исполнен мягкого юмора.
Это забавное повествование о приключениях членов охотничье-
го клуба.
Образы пиквикистов олицетворяют собой романтический идеал
начинающего писателя, его представление о светлом братстве
людей будущего. Пиквикистов окружает море зла, бушующее в со-
временном Диккенсу мире. Во вставных новеллах, не связанных
с главной сюжетной линией романа, автор повествует о жестоком
и бездушном мире, в котором гибнут лучшие надежды, истинная
любовь и дружба, унижается подлинная человечность (новеллы об
умирающем актере; о молодом узнике, томящемся в тюрьме; о де-
вушке, насильно выданной замуж за сумасшедшего миллионера, и
др.). С первых же глав романа Пиквик и его молодые друзья пред-
стают как чудаки, не понимающие окружающего их жестокого мира.
Они с важным видом занимаются незначительными делами; так,
например, Пиквик серьезно исследует условия жизни в городских
прудах мелкой декоративной рыбешки — колюшки. Его самого и его
коллег чуть не избил верзила-кэбмен, вообразивший, что Пиквик
(записавший в свой блокнот сведения о возрасте его клячи) —
полицейский агент; много раз над Пиквиком, Тапменом и Уинклем
зло и цинично издевается актер-неудачник и авантюрист Джингл.
Однако недалекий и чудаковатый герой романа неожиданно пред-
стает перед нами в ином свете — как борец за справедливость,
как чуткий и отзывчивый человек, всегда готовый помочь словом
и делом всем тем, кто нуждается в поддержке. В эпизодах, где
Пиквик сталкивается с адвокатами-мошенниками — Доддсоном и
Фоггом, стремящимися взыскать с него по суду в виде штрафа зна-
чительную по тем временам сумму в 700 фунтов (за якобы нарушен-
ное им слово жениться на его квартирной хозяйке Бардль), он
проявляет себя как бесстрашный поборник истины, как подлинный
гражданин, предпочитающий переселиться в камеру долговой тюрь-
мы Маршалси, но не уступить проискам двух хищников. Его прав-
долюбие, искренность и нетерпимость по отношению ко лжи и злу
завоевывают ему симпатию и преданность его сторонников и лю-
209
бовь его верного помощника и соратника — Сэма Уэллера. «Посмот-
рите на Пиквика у Диккенса: не правда ли, что он очень ограни-
ченный человек,— писал Н. Г. Чернышевский.— А между тем кто
может не любить его, кто не станет уважать его, кто бы не по-
советовался с ним и не послушался его совета?»1 Доброта, доб-
рожелательность, честность Пиквика, нетерпимость ко злу неред-
ко приводят его к противоречию с этическими нормами «доб-
ропорядочных» и «респектабельных» буржуа. Осуждение своекоры-
стия и черствости мещан, разоблачение комедии буржуазного суда
и выборов (в Итонсвилле) — все это придает демократическое зву-
чание роману, имеющему традиционную для XVIII века благо-
получную концовку. «Эти уютные романы Диккенса,— писал
А. Блок, — очень страшный и взрывчатый материал»2. Этим рус-
ский поэт хотел сказать, что даже ранние романы Диккенса будили
мысль, благороднейшие чувства.
Пиквика, нередко попадающего впросак из-за его доверчиво-
сти и излишней горячности, часто называют английским Дон Кихо-
том, а его верного Сэма Уэллера, неизменно проявляющего здра-
вый смысл,— новым Санчо Пансой. Сэм — типичный представитель
лондонских городских низов — человек кипучей энергии. Благо-
даря его находчивости, глубокому пониманию реальных отношений
в современном мире, он не раз выручал пиквикистов в трудных
и запутанных обстоятельствах. Сэм Уэллер знал наизусть множе-
ство народных баллад и сказаний; его собственные афоризмы и
поныне пользуются в Англии широкой популярностью (так назы-
ваемые «уэллеризмы»); вот некоторые из них: «Долой мелан-
холию, как сказал мальчишка, когда умерла его учительница»;
«Вот теперь все в порядке!—как сказал король, отрубив голо-
вы членам парламента», и многие другие.
По своим жанровым признакам роман «Посмертные записки
Пиквикского клуба» приближается к роману «большой дороги» —
излюбленному жанру Филдинга, Смоллета, Стерна, позволяющему
свободно вводить в повествование «случайных персонажей» и лю-
бые, никак не связанные с фабулой эпизоды.
Вместе с тем «Пиквикский клуб» резко отличен от романов
названных писателей, ибо художественную силу его составляют
не реалистические описания (экипажи, гостиницы, дороги), а те
«абстрактные, общечеловеческие, идеальные качества», которыми
герои романа «отличаются от реальных, исторически определенных
людей их эпохи»3. Это роман-утопия, роман-идиллия, которую
трудно характеризовать по законам реалистического искусства.
Этой характеристике жанра не противоречит даже эпизод в тюрь-
ме. «Диккенс переносит идиллию внутрь тюрьмы»4.
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. в 15-ти томах. М., 1949,
т. 2, с. 800.
2 Блок А. А. Собр. соч. М., 1962, т. 6, с. 108—109.
3 Сильман Т. И. Диккенс. М., 1958, с. 65 (глава «Пиквикский клуб»
как странствующая идиллия»).
4 Там же, с. 79.
210
История Оливера Твиста. В следующем своем романе, «При-
ключения Оливера Твиста» (1839), Диккенс выступил как «воль-
нодумец, подвергший суровой критике общество, в котором родил-
ся»1. Диккенс впервые ввел в социальный роман новую тематику:
он описывает страдания и мытарства ребенка-сироты, заключен-
ного, в соответствии с законом о бедных (от 1834 года), в так
называемый «работный дом» — этот концлагерь XIX века. Мрач-
ные злодеяния, творимые приходскими властями и чиновниками-
мальтузианцами по отношению к беззащитным младенцам и мало-
летним «правонарушителям», вызвали в Англии общественное
негодование, которое все увеличивалось по мере того как Диккенс
описывал в своих новых произведениях произвол и издевательства,
которым подвергались дети в платных пансионах и школах («Жизнь
и приключения Николаса Никльби» и др.).
Новаторство молодого Диккенса заключается в том, что он
по-новому осмыслил излюбленный просвет.ителями-романистами
сюжет о сыне состоятельных родителей, волей случая попадающем
на социальное дно, с тем чтобы после ряда приключений снова
занять свое место в привилегированном обществе. Любимый герой
Филдинга Том Джонс, например, подобно Оливеру Твисту, был
в начале своей жизни сиротой-подкидышем. Но Том растет в роско-
ши; он окружен заботой и вниманием с того самого момента, как
его усыновил добрый и просвещенный помещик, судья Олверти; по-
этому Филдинг даже не считает нужным описывать безоблачное
детство своего героя. Диккенс, в отличие от Филдинга, показывает
нам день за днем младенчество и раннее детство своего героя.
Оливер, в отличие от «счастливчика» Тома, попадает в лапы
«мастеров смерти»; преступное «замаривание» младенца начинает-
ся с самого момента его рождения, когда приходский врач-аку-
шер, уходя из грязного, убогого родильного помещения «работно-
го дома», где на койках нет ни простыней,, ни одеял, говорит по-
лупьяной старухе сиделке: «Не посылайте ночью за мной, если
он начнет плакать... дайте ему немножко кашки...». «Ферма» над-
зирательницы Манн (куда вскоре отправляют Оливера) — это фаб-
рика смерти: тут детей «замаривают» и убивают так успешно
(при помощи голода, тяжелой каторжной работы, обваривая кипят-
ком во время стирки белья и т. п.), что из восьми редко выживает
и один ребенок. Диккенс сам подчеркивает, что судьба его героя
не типична для обитателей «работных домов», что этот персонаж
нужен ему лишь для того, чтобы развивать действие, чтобы спле-
сти нить повествования. «Чем больше голодал мальчишка по име-
ни Оливер Твист, ...чем больше его били, тем он становился
крепче и сильнее... Тем быстрее он рос...». Типична судьба ма-
ленького товарища Оливера — Дика, похороненного вскоре после
бегства главного героя в Лондон. Вторая часть романа (в кото-
рой.описывается уголовный мир Лондона) значительно слабее пер-
1 К е т т л ь А. Диккенс и его творчество. — В кн.: Диккенс Ч. Приключения
Оливера Твиста. М., 1969, с. 10.
211
вой. Создание грандиозных социальных полотен, монументальных
сатирических и трагических образов было делом будущего.
В «Оливере Твисте» Диккенс все еще строго делит своих персо-
нажей на добрых и злых, причем это деление никак не детермини-
ровано социальными причинами: главарь шайки карманников Фед-
жин, бандит Сайке, преступный брат Оливера — богач Монкс,
мальчики-воры Чарли Бейтс, Ловкий Плут вступили на путь
порока и преступлений лишь потому, что они были склонны к
этому по своей природе. Концовка романа ослаблена сентименталь-
ными моментами: Оливер неожиданно попадает к своим богатым
родственникам; он возвращается в лоно своего класса; энергичный
и добродетельный Браунлоу принимает ряд мер, в результате
чего Феджин попадает в тюрьму, его ждут суд и виселица.
В целом «печальная история об Оливере Твисте» (С. Есенин) —
смелое, новаторское произведение, в котором его молодой автор
бросил в лицо респектабельному обществу немало горьких истин.
В России роман появился в полном переводе в 1841 году и имел
огромный успех.
Американская тема. Второй период в творчестве Диккенса
ознаменован появлением романа «Мартин Чезльвит» (1843). По
сравнению с романами первого периода, произведения писателя,
созданные в сороковых годах, отличаются несколько большей
художественной цельностью и глубиной социальной тематики и
проблематики.
Качественные изменения, наметившиеся во втором периоде,
были отчасти вызваны поездкой Диккенса в США (1842), отчасти
же благодаря воздействию английского революционного пролетар-
ского движения (чартизма) и революций 1848 года в Европе.
В сборнике очерков «Американские заметки» (1842) и в так
называемых американских главах «Мартина Чезльвита» Диккенс
дал сатирическую характеристику заокеанской «демократии»: «Не
такую республику, я надеялся увидеть,— с горечью писал он.—
Это — не та страна Свободы, о которой я мечтал... да что и го-
ворить, даже наша либеральная монархия с ее ханжескими ритуа-
лами кажется мне теперь сущим раем по сравнению с этим чумным
краем рабовладельцев...»
В американских главах «Мартина Чезльвита» нарисованы гро-
тескные образы мистеров Чолопа и Илайджа Погрэма. Это — почи-
татели культа доллара, одержимые жаждой наживы, алчные ме-
щане, жестокие, грубые, невежественные рабовладельцы, любители
линчевания.
Место демонических, примитивных злодеев ранних романов
(Феджин, Монкс, Ральф Никльби) в романах второго периода
занимают более жизненные, и социально обусловленные образы
носителей злого начала (Джонас Чезльвит, Пексниф).
Сатирический образ Пекснифа в «Мартине Чезльвите» приоб-
рел всемирную известность. Это глубоко типический для средних
буржуазных классов Англии персонаж, ханжа и лицемер, прикры-
вающий свой эгоизм и корыстолюбие елейными фразами о добро-
212
детели, о скромности и покорности «воле божьей». Порицая в своих
подопечных праздность и стяжательство, он сам умудряется при
этом присвоить себе труд учеников. Пексниф — это один из ярких
представителей собственнической Англии — «страны всеобщего тар-
тюфства» (В. Г. Белинский). «Мартин Чодзльвит»,— писал
В. Г. Белинский,— ...это полная картина современной Англии со
стороны нравов и вместе яркая, хотя, может быть, и односторон-
няя картина общества Северо-Американских Штатов. Что за не-
истощимость изобретения, что за разнообразие характеров, так
глубоко задуманных, так верно очерченных! Что за юмор! Что за
слог!» 1.
«Домби и СЫН». По своим жанровым признакам «Домби и сын»
(1848) является социально-психологическим реалистическим рома-
ном. Впервые Диккенсу удалось нарисовать такую объемную худо-
жественную панораму всей викторианской Англии, создать такие
яркие, типические характеры. В романе представлены почти все
классы английского общества того периода. Рисуя монументальный
образ чопорного, спесивого, чванливого деятеля Сити — одного из
некоронованных королей Британской империи — мистера Домби,
автор противопоставляет ему людей труда — машиниста Тудля, его
жену, кормилицу младенца Поля — сына Домби. Это сердечные,
благородные, самоотверженные люди; душевность, сострадание,
искренность — вот что характеризует жену Тудля, заменившую
маленькому Полю мать. Напротив того, Домби, всецело занятый
своей «социальной функцией», управлением своего громадного тор-
гового дела, является олицетворением бездушия, душевного холода,
бессердечия. Сына он по-своему любит, заботится о нем, поскольку
это — чистый «золотой», это его наследник, тот, кто будет после
него «приумножать капиталы» и «развивать дело». Свою един-
ственную дочь — Флоренс Домби, подобно бальзаковскому банки-
ру Тайферу, ненавидит; он проходит мимо нее, не замечая ребенка,
поскольку дочь—«фальшивая монета»: она выйдет замуж, сменит
фамилию отца на фамилию мужа, уйдет в чужую семью. Поэтому
она — бесполезная для торгового дома «Домби и сын» вещь.
Через все произведение проходит мысль о том, что «большие
деньги» далеко не так всемогущи, как это постоянно утверждает
Домби, что за деньги нельзя купить самое дорогое в жизни: лю-
бовь, преданность, тепло семейного очага, дружбу. Эпиграфом к
роману могли бы послужить слова маленького Поля: «Если деньги
так всемогущи, то почему же они не спасли жизнь моей мамы?»
Жизнь преподносит жестокий урок самоуверенному, чванливо-
му гордецу Домби: сначала умирает его сын и наследник — единст-
венный человек в мире, который был способен пробудить в груди
своего отца теплые человеческие чувства. Затем из его большого
холодного дома уходит красавица Эдит — жена Домби, купленная
у ее матери — старухи Скьютон; управляющий Каркер предает и
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1955, т. 8,
с. 484—485.
213
разоряет своего патрона. Дочь Домби — Флоренс, которую в по-
рыве гнева он фактически проклинает, выходит замуж (без бла-
гословения отца) за неимущего моряка Вальтера Гея. Этот поток
бедствий завершает полный и сокрушительный крах торгового
дома «Домби и сын». Диккенс реалистически переосмысляет здесь
рождественскую историю о бездушном скряге Скрудже, герое рас-
сказа «Рождественская песнь в прозе»: раскаявшийся и пере-
родившийся ростовщик совершает множество добрых дел. Домби,
вконец разорившийся и духовно надломленный, в состоянии
лишь примириться со своей дочерью Флоренс, стать любящим
дедушкой и нежным отцом.
Большую роль, в системе образов романа играют символы, и
прежде всего символ — торговый дом «Домби и сын». С этой
фирмой связаны тысячи жизней тружеников, их благополучие и сча-
стье. Диккенс, в отличие от О. Бальзака, нигде, не дает деталь-
ного, исчерпывающего анализа деловой практики торгового дома,
повествуя, главным образом, о частной жизни крупного капитали-
ста, разоблачая его аморальные, античеловеческие поступки. Од-
нако он все же упоминает о зловещих тайных манипуляциях фирмы:
Домби и Каркер отправляют в плавание наспех отремонтированные,
отслужившие свой срок суда, купленные за бесценок на кладбище
кораблей. В команду смертников, убывающую на одном из таких
«плавающих гробов» (за гибель которых фирма получает громад-
ную страховую премию — как за новые суда), Каркер включил и
Вальтера Гея — жениха Флоренс, чтобы с согласия самого Дом-
би устранить соперника. Таким образом, Диккенс как бы пере-
кликается с О. Бальзаком, заявившим устами Вотрена: «Тайна
каждого миллионного состояния заключается в том, что в основе
его лежит преступление, только концы ловко спрятаны в воду...»
Подводя итоги, можно сказать, что главным героем в «Дом-
би и сыне» являются золото, «большие деньги». Писатель правди-
во показывает их губительное, калечащее воздействие, которое
порождает не только классовое неравенство, но и физическое и
нравственное уродство.
«Тяжелые времена». «Тяжелые времена» (1854) написаны под
влиянием чартизма. «...Великолепный роман Диккенса «Тяжелые
времена»...— писал А. В. Луначарский,— является самым сильным
литературно-художественным ударом по капитализму, какой был
ему нанесен в те времена, и одним из сильнейших, какие вообще
ему наносили...»1. Корень всех социальных бедствий Диккенс ус-
матривает в приверженности буржуазных классов мальтузианству
и «порочной манчестерской доктрине», доказывающей, что имеют
значение лишь соображения материальной выгоды и интересы биз-
неса. Образы Грэдграйнда, Баундерби, промышленный центр Кокс-
таун — сатирические образы-символы, призванные продемонстри-
ровать нежизненность и фальшивый характер философии «голого
факта» и теории бездушных статистических данных. По-новому
Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1965, т. 6, с. 70.
214
изображает Диккенс противоречие между трудом и капиталом: за-
бастовка, организованная рабочими на фабрике, принадлежащей
капиталисту Баундерби,— это не стихийный и бессмысленный бунт
луддитов, ломающих в слепой ярости станки, а хорошо проведен-
ная акция,— логический ответ рабочих своему классовому врагу:
благодаря организованности, выдержке и героизму, забастовщики
добиваются победы — Баундерби вынужден выполнить их требова-
ния, повысить заработную плату. Чутко улавливая веяния време-
ни, Диккенс показывает рабочего-непротивленца Стивена Блэк-
пула (глубоко симпатичного ему) как отщепенца, не понявшего ра-
бочей логики, не присоединившегося к забастовщикам и в силу
этого оказавшегося между молотом и наковальней: товарищи от-
казываются от него, а хозяин, надеявшийся переманить, его на
свою сторону и получивший отказ (Стивен изображается как глу-
боко честный человек, не способный ни на какое предательство),
выгоняет его на улицу. В результате Стивен Блэкпул, осужденный
на одиночество, погибает.
Признавая, что рабочие справедливо возмутились против бес-
совестной эксплуатации труда, которую ввел алчный Баундерби,
Диккенс в то же время возлагает всю тяжесть ответственности за
организацию и проведение забастовки на чартиста Слэкбриджа,
который представлен чуть ли не преступником, подрывающим «веч-
ные устои» общества.
Миру эксплуататоров и проповедников «манчестерской докт-
рины» Диккенс противопоставляет не деятельность рабочей (чар-
тистской) партии, а творческий коллектив цирка Слири. Честные,
мудрые артисты цирка являются оазисом среди «моря зла», они
одни противостоят беспощадным волчьим законам капитализма;
они придерживаются, по существу, антибуржуазных взглядов и
антибуржуазной морали, помогают, насколько это в их силах, всем
угнетенным и обездоленным.
Другой важной темой романа, наряду с проблемой классовой
борьбы, является проблема воспитания. Писатель подвергает унич-
тожающей критике школу педагога Грэдграйнда, основанную на
изучении голых фактов, на полном исключении из учебного про-
цесса воображения, романтики, любви, тепла, чуткости, человеч-
ности. Собственные старшие дети Грэдграйнда, искалеченные этим
воспитанием, глубоко несчастны. Можно предположить, что и млад-
ших мальчиков (которых назвали — одного Адамом Смитом, а
другого — Мальтусом) ждет не лучшая участь.
Следует отметить стройность и гармоничность композиции ро-
мана. Все проблемы, поставленные автором, четко и ясно выраже-
ны, все три части имеют определенные символические названия —
«Сев», «Жатва», «Сбор урожая».
Общественный, социальный и семейно-бытовой планы подчине-
ны одной главной идее — разоблачению порочности и антинарод-
ности «философии голого факта». Этой же цели служит и заклю-
чение романа, где демонстрируется (на судьбе Баундерби) бес-
смысленность накопительства.
215
Поздние романы. В романах последнего периода своего твор-
чества (1860-е годы) Диккенс по-прежнему выступает как суровый
обличитель лицемерия, бездушия, лживости, тупости и косности
буржуа. В романе «Наш общий друг» (1861) он создает монумен-
тальный сатирический образ Подснепа, который олицетворяет шо-
винизм собственнических классов Британии. Вторая часть романа
«Большие надежды» начинается с иронической характеристики
правопорядков, господствовавших в викторианской Англии 60-х
годов: «Как раз в то время мы, британцы, окончательно устано-
вили, что и мы сами, и все в нашей стране — венец творения, а
тот, кто в этом сомневается, повинен в государственной измене».
Описывая судьбу деревенского мальчика — сироты Пипа (Филип-
па Пиррипа), неожиданно превратившегося в состоятельного лон-
донского джентльмена (благодаря тайному покровительству раз-
богатевшего каторжника Мзгвича), Диккенс рисует отталкивающие
типы никчемных, безликих людей, ведущих паразитический образ
жизни. Среди джентльменов нередко можно встретить таких, ко-
торые составили состояние ценой тайных преступлений. Особое
место в композиции романа занимает образ аристократа-шулера
Кампесона; этим образом автор как бы подчеркивает, что между
джентльменом и прямым уголовником никакой разницы нет.
Диккенс В России. Русская публика впервые познакомилась с
Диккенсом в 1838 году: журнал «Отечественные записки» поместил
полный перевод «Пиквикского клуба». Демократизм и реализм
писателя, его несравненное мастерство сатирика и юмориста быстро
завоевали ему признание и любовь в передовых кругах русского
общества1.
В. Г. Белинский писал о романе «Домби и сын»: «Такого бо-
гатства фантазии на изобретение резко, глубоко, верно нарисован-
ных типов я и не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще
в человеческой натуре»2.
«Как типичен, своеобразен и национален Диккенс», — воскли-
цает Ф. М. Достоевский. Характеризуя своеобразие стиля англий-
ского писателя, он говорит об особой «диккенсовской прелести»
и «гуманизме». И. С. Тургенев в своих отзывах о Диккенсе под-
черкивал величие романтической лирико-патетической струи в его
зрелых романах. Так, например, Тургенев отмечает, что в «пре-
лестном романе «Домби и сын» тонкость психологического наблю-
дения соединяется... с самою Трогательною поэзией».
И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой восхищались публичными
выступлениями Диккенса, читавшего отрывки из своих произведе-
ний. М. Горький отмечал, что Диккенс — гениальный художник-
психолог, в совершенстве постигший «труднейшее искусство любви
к людям»3.
1 О восприятии Диккенса в России см.: Катарск ий И. М. Диккенс в
России. М, 1966.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти томах. М., 1954, т. 12.
с. 445.
3 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1951, т. 13, с. 448.
216
ВИЛЬЯМ ТЕККЕРЕЙ
Вильям Теккерей (1811 —1863)—великий писатель-реалист,
крупнейший сатирик английской и мировой литературы1.
Уже ранняя публицистика Теккерея, его эссе, рецензии, статьи,
написанные на студенческой скамье и в годы жизни и учения в
Германии и во Франции, привлекают своим блеском и остроумием,
своей непримиримостью по отношению к спесивым и чванливым
английским аристократам и буржуа. Вскоре Теккерей приобретает
известность как журналист, его приглашают сотрудничать в такие
солидные журналы, как «Журнал Фрезера» и «Панч». В ранний
период творчества (1829—1848) он создает главные свои произве-
дения: «Книгу снобов» (1846—1847) и двухтомную эпопею «Яр-
марка тщеславия (роман без героя)» (1848). Если в своих ранних
романах Теккерей создавал лишь остроумные пародии на эпигонов
романтизма, на далекие от правды жизни труды буржуазных исто-
риков, на салонные романы так называемой «ньюгейтской школы»,
авторы которых окружали ореолом романтики и геройства пред-
ставителей уголовного мира («Кэтрин», «Записки Джима де ла
Плюш», «Мещанская история», «Карьера Барри Линдона» —
1840—1844 годы), то в «Книге снобов» и в «Ярмарке тщеславия»
Теккерей создает широкую реалистическую картину английской
жизни первой половины XIX столетия, а также рисует Европу
эпохи наполеоновских войн (в «Ярмарке тщеславия»).
Теккерей ввел в литературный обиход созданное им слово
«сноб», которое в его понимании имеет многочисленные оттенки и
значения. Снобом является типичный носитель буржуазных пред-
ставлений о морали и нравственности: он лицемерен, велеречив,
умеет прикрывать с,вое корыстолюбие, чванство ханжескими рас-
суждениями о заповеди Христа «забывать и прощать» всем людям,
о необходимости платить Добром за Зло и т. п. Нелегко бывает
подчас отличить сноба от действительно бескорыстного и демокра-
тически настроенного человека. Но это можно все же сделать,
если принять во внимание то, что сноб, как правило, «подло
преклоняется перед подлым явлением». В историю мировой лите-
ратуры Теккерей вошел как творец «Ярмарки тщеславия» — гени-
ального сатирического романа XIX столетия.
В нем Теккерей использует как национально-литературные, так
и фольклорно-народные традиции. Так, например, название романа
пришло к нему от писателя XVII века — Джона Беньяна, критико-
вавшего буржуазное общество Англии буквально на второй день
после свершения буржуазно-демократической революции; в своем
символико-философском романе «Путь паломника» Беньян расска-
зывает о том, как некий паломник пришел в город Тщеславие
(Лондон). По четвергам в этом городе бывали ярмарки, на кото-
1 См. кн.: Ивашева В. В. Теккерей-сатирик. М., 1958; Ел Истрато-
ва А. А. Теккерей.— В кн.: История английской литературы. М., 1955, т. 2,
вып. 2.
217
рых продавались такие товары, как «...дома, земли, предприятия,
должности, почести, повышения, титулы, страны, королевства, по-
хоти, удовольствия и наслаждения всякого рода, как-то: шлюхи,
сводни, мужья, дети, хозяева, слуги, жизнь, тела, кровь, души,
серебро, золото, жемчуг, драгоценные камни и все что угодно...
Здесь можно видеть также, и притом задаром, воровство, убийства,
прелюбодеяния, лжесвидетельства — и все это кроваво-красного
цвета». Развивая и углубляя критику буржуазного общества Бри-
тании, начатую его далеким предшественником, Теккерей рисует
широкую панораму английской и европейской жизни 10—20-х годов
XIX века. Однако его роман не является в полной мере историче-
ским, ибо он был связан слишком многими нитями с эпохой ре-
волюции 1848 года и чартизма.
Подобно своим великим современникам Бальзаку и Диккенсу,
Теккерей ставит в центре композиции своего романа истории мо-
лодых людей, двух девушек: Ребекки Шарп и Эмилии Сэдли.
Обе они учатся в закрытом пансионе для девиц из состоятель-
ных семей. Но их положение в этом закрытом учебном заведении
очень различно: всеобщей любимицей является тихая, кроткая
Эмилия и всеобщее раздражение и нарекания вызывает поведение
Бекки Шарп, постоянно вступающей в конфликт со своими учите-
лями и наставниками, цинично и грубо отвечающей директрисе
на все ее упреки. Эмилия Сэдли — олицетворение добродетели, в
то время как Бекки способна, как полагают классные дамы, даже
на то, чтобы пойти по пути порока. Однако, описывая характеры
обеих девиц, Теккерей спешит дать свои объяснения по поводу
поведения каждой из них: Эмилии легко быть всеобщей любими-
цей, ибо она, дочь богатого купца из Сити, постоянно раздает по-
дарки; ее родители вносят солидную плату за обучение в пансионе,
в то время как Бекки Шарп — дочь спившегося учителя рисова-
ния и неудачливой танцовщицы, сирота, ее держат в пансионе из
сострадания. Однако при более внимательном взгляде можно заме-
тить, что Бекки находится в положении эксплуатируемой малень-
кой рабыни, ибо за свое обучение и содержание она должна много
часов в день заниматься с младшими девочками: богато одаренная
от природы, она прекрасная музыкантша, а по-французски говорит
лучше, чем природные парижанки. Поэтому она в своих отноше-
ниях с директрисой и хозяйкой пансиона вынуждена отстаивать
свои права, не позволяя эксплуатировать себя до бесконечности.
По выходе из пансиона родители сосватали Эмилию за офи-
цера Джорджа Осборна, в то время как Бекки вынуждена сама
искать себе жениха, прибегая к лицемерию, различным хитростям,
лжи. Она готова любой ценой завоевать себе место под солнцем.
Прекрасно сознавая аморальность своего поведения, Бекки
Шарп оправдывает себя следующими софизмами (которые автор
иронически одобряет): «Наверное, и я слыла бы добродетельной
особой, имей я доходец в пять тысяч фунтов стерлингов... я со-
чувственно расспрашивала бы знатных старух об их ревматических
болях и на полкроны заказала бы котел супа для нищих — это
218
бы мне было по силам, при пяти-то тысченках в год! Я стала бы
и в церковь ходить... подремать за занавеской в фамильной ложе!»
Разоблачая лицемерие великосветской и буржуазной морали,
Теккерей восклицает: «Кто знает, может быть Бекки и права!
Может быть, только золотом и случайностью определяется разли-
чие между ней и честной женщиной!..» Оценивая поступки дру-
гих снобов, выведенных в романе, сатирик пишет: «Пусть тихое,
безмятежное существование обеспеченного всем богача и не делает
его честным человеком, но оно, по-видимому, помогает ему держать-
ся в рамках законности... Ведь какой-нибудь джентльмен, воз-
вращаясь со званого обеда, где он лакомился черепаховым супом,
не станет вылезать из экипажа, чтобы незаметно украсть у мяс-
ника баранью ногу; но попробуйте принудить его поголодать, и вы
увидите, что он непременно утащит ковригу хлеба!»
Значительное место в произведении Теккерея занимает разо-
блачение фальши буржуазно-аристократического брака. «Доброде-
тельная» Эмилия выходит за Осборна, а затем (пос'ле гибели пер-
вого мужа под Ватерлоо) за его сослуживца Доббина, горячо лю-
бившего ее много лет. Однако счастья этот брак полковнику
Доббину не принес, ибо «нежный паразитизм» Эмилии убил в нем
всякое чувство. Что же касается Ребекки, то ее жизненный путь
отмечен бесчестными авантюрами и скандалами: после того как ее
уличил в измене горячо любивший ее муж — аристократ Родон
Кроули, она на некоторое время вновь превратилась в неимущую
скиталицу, существующую на скромную пенсию, высылаемую Ро-
доном, уехавшим на далекий остров в океане в качестве губерна-
тора. Затем она сумела поймать (в Германии) богатого «набоба» —
чиновника английской административной службы в Индии Джозе-
фа Сэдли (брата Эмилии). Обобрав Джоза и доведя его до смерти,
Ребекка вновь заняла почетное место в обществе. Более того, бла-
годаря своей благотворительности, она была признана «святой жен-
щиной»; со злой иронией автор поясняет: «Она регулярно. посе-
щала все богослужения, ее сопровождает ливрейный лакей, она —
непременная участница всех благотворительных сборов, жертвует
то в пользу разорившейся продавщицы апельсинов, то для больной
прачки, то для семьи бедствующего пирожника и т. д. Ее можно
нередко увидеть на благотворительных базарах, где она торгует,
чтобы оказать помощь всем этим горьким беднякам...»
Теккерей показывает, что миллионные состояния нередко со-
здаются ценой преступлений; при этом крупным собственникам,
как правило, удается спрятать концы в воду.
Обобщенно-символическая картина, в свое время нарисованная
в поэме Шелли «Питер Белл III», реалистически расшифрована в
романе-эпопее Теккерея. Его глубоко типические образы Ребекки
Шарп, старого и молодого Осборнов, милорда Стайна, сэра Питера
Кроули и других воссоздают правдивую и впечатляющую картину
растленных нравов, распадения семейных связей, утраты «мораль-
ного качества» молодыми представителями высшего аристократи-
ческого и буржуазного класса Англии.
219
Для своего романа-хроники Теккерей избрал своеобразно* е ху-
дожественное обрамление: оно возникло из наблюдений над Нс-арод-
ной жизнью. В Британии первой половины XIX века любимым! зре-
лищем масс были спектакли с участием кукол-марионеток (так
называемый театр Панча — английского Петрушки). Продо.лжая
традиции народного кукольного театра, Теккерей вводит в свой
роман образ Кукольника (режиссера и автора), который предостав-
ляет читателю действующих лиц, уподобляемых безжизнежным
деревянным куклам-марионеткам. Этим композиционным привемом
сатирик желал подчеркнуть бездушие, бессердечие своих персона-
жей, суетность их устремлений и ничтожный характер их умелей
(вспомним, что и Диккенс постоянно подчеркивает, что в „доме
мистера Домби царит ледяная атмосфера, гостям за его стсэлом
подают мороженую рыбу, ледяное питье и т. п.). Введение об»раза
Кукольника позволило также воскресить традицию Филджнга,
любившего непосредственно обращаться к читателю с комментаария-
ми, разъяснениями, замечаниями и т. д.
После поражения революции 1848 года и спада чартисте кого
движения Теккерей продолжал писать ^вои романы. Однако все,
созданное после «Ярмарки тщеславия», лишено той реалистической
глубины и обличительной страстности, которыми отмечены «К нига
снобов» и «Ярмарка тщеславия».
Пессимизм и противоречия нарастают в творчестве писателя.
Крупной удачей позднего Теккерея следует считать его истор иче-
ские романы: «История Генри Эсмонда» (1862) и «Виргиыцы,
повесть из жизни прошлого столетия» (1857—1859). Роман «Исто-
рия Генри Эсмонда» написан в форме мемуаров героя — полковника
Генри Эсмонда, удалившегося на покой в Америку после участия
в бурных политических событиях своего времени. Теккерей реали-
стически описывает жестокие нравы полуфеодальной Англии на-
чала XVIII века. В последние годы жизни Теккереем были напи-
саны также лекции «Четыре Георга» (1855—1856) и «Английские
юмористы XVIII века» (1853). «В передовых кругах России твор-
чество Теккерея стало популярно еще тогда, когда Теккерей только
начинал приобретать известность у себя на родине», — пишет со-
ветская исследовательница В. В. Ивашева.
Теккерея, автора «Книги снобов» и «Ярмарки тщеславия»,
М. Горький поставил рядом со Свифтом и Байроном, т. е. в числе
тех великих художников, которые явились «безукоризненно прав-
дивыми и суровыми обличителями пороков командующего клас-
са...»1. «Здоровый критицизм Теккерея» (М. Горький) и в наши
дни сохраняет свое значение. Его острые сатирические обобщения
«...вскрывшие антинародность политики правящих партий... ду-
ховно вооружают простых людей Англии в их борьбе с силами
реакции»2.
1 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1952, т. 25, с. 105.
2 История английской литературы. М., 1955, с. 346.
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
3G_40-x ГОДОВ
В 30-е годы немецкая литература входит в новую фазу своего
развития. Она обращается к решению актуальных общественно-
политических проблем. Публицисты нового поколения подвергают
резкой критике литературу предшествующего периода, который
Гейне назвал «эстетическим периодом». Они борются против ро-
мантизма, видя в нем только бегство от действительности, ставят
в вину Гете отсутствие интереса к политическим вопросам, b ка-
честве главного принципа искусства новое поколение выдвигает
тенденциозность, т. е. открытую пропаганду злободневных социаль-
ных идей.
Изменения в литературе обусловлены в первую очередь подъе-
мом демократического движения. Германия по-прежнему остается
раздробленной и отсталой, но расширение промышленности и тор-
говли усиливает экономическую роль буржуазии и ее стремление к
объединению страны. Июльская революция 1830 года во Франции
послужила толчком к политическому пробуждению немецкой обще-
ственности. В начале тридцатых годов в разных областях I ермании
вспыхивают народные восстания. Ширится движение в защиту
конституционных прав. Оно захватывает широкие слои интеллиген-
ции. Возникают тайные организации. Правительства германских
государств отвечают на волнения жесточайшими репрессиями, но
не могут пресечь рост оппозиционных настроении.
Эстетика Гегеля. Значительным явлением философской и эсте-
тической мысли этого периода был выход в свет в \о5э году «Лек-
ций по эстетике» Гегеля. Философская система 1 егеля классиче-
ское выражение объективного идеализма. Но его революционным
элементом была диалектика — учение о вечном движении, измене-
нии и развитии.
Гегель идеалистически рассматривал искусство как одну из
форм саморазвития «абсолютного духа», но утверждал, что идея
выступает в искусстве в конкретно-чувственной форме. Форма и
содержание неразделимы. Единство идеи и ее образного воплоще-
ния составляет идеал. Для его достижения необходимо слияние в
образе единичного и общего. Художественное произвеДение» счита-
ет философ, только в том случае будет оригинальным и эстети-
чески значимым, если в нем будет выявлена суть изображаемого
предмета: «...В произведение искусства должно входить лишь то,
221
что относится к проявлению и выражению именно данного опре-
деленного содержания, ибо ничто не должно быть лишним»1.
Искусство, таким образом, всегда основывается на отборе жизнен-
ных фактов.
Большой заслугой Гегеля явилось рассмотрение искусства в
динамике его целостного развития. Художественное творчество
отражает поступательное движение человеческого сознания. Формы
искусства исторически сменяют друг друга. Рассматривая их дви-
жение, Гегель отдает решительное предпочтение античности. В гре-
ческом искусстве, по его мнению, была достигнута гармония идеи
и образа. «Ничего более прекрасного быть не может и не бу-
дет» ,— считает он.
Романтическая стадия, начало которой Гегель видит в средних
веках, характеризуется победой духа над материей. Гармоническое
единство идеи и образа здесь нарушается. На место гармонии
личного и общего выступают «глубины души», субъективный мир
художника, стремящегося через себя постичь общие начала бытия.
Развитие искусства выступает поэтому как диалектический процесс
эстетических утрат и приобретений.
Творчество современных ему романтиков Гегель был склонен
критиковать за то, что оно «либо интересуется случайным внешним
миром, либо столь же случайной субъективностью»3. Господство
субъективности в искусстве философ связывает с характером совре-
менной общественной жизни, где человеческие отношения приобре-
тают эгоистический и принудительный характер. В этих условиях
индивидуальность может проявить свою свободу только в «абсо-
лютной внутренней жизни». Буржуазное общество чуждо развитию
искусства. «Поэтому наше время по своему общему состоянию
неблагоприятно для искусства»4, — пишет Гегель.
Правильно угадав враждебность капиталистического общества
духовности, красоте и искусству, Гегель ошибочно видел в этом
конец самого искусства. «На самом же деле эта враждебность,
будучи познанной, могла быть преодолена, т. е. художник, пере-
ходя на позиции, враждебные по отношению к буржуазному обще-
ству, становился способным создавать значительные произведе-
ния»5.
Диалектичность метода, однако, не давала философу до конца
провести фатальную идею гибели искусства. Касаясь его современ-
ного состояния, Гегель указал на значение романа для нового
времени. Он видел в нем «современную буржуазную эпопею»,
воплощающую в себе «прозаически упорядоченную действитель-
ность». Хотя Гегель сетовал на утрату поэтичности в современном
искусстве, он все-таки склонен был признавать, что искусство вы-
1 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968, т. 1, с. 24.
2 Там же, т. 2, с. 231.
3 Там же, 1969, т. 2, с. 320.
4 Там же, т. 1, с. 17.
5 Верховский Н. П. Общественное движение и литературный процесс
1830-х годов. — В кн.: История немецкой литературы. М., 1966, т. 3, с. 296.
222
Первая железная дорога в Германии (Нюрнберг—Фюрт).
Гравюра. 1831 г.
нуждено «добывать для поэзии ее утраченные права» через изо-
бражение величия личности, сталкивающейся с враждебным ей
миром. Центральная коллизия романа — это «конфликт между
поэзией сердца и противостоящей ей прозой житейских отноше-
ний»1. Искусство нового времени Гегель называет свободным, ибо
оно «отбрасывает всякое прочное ограничение определенным кру-
гом содержания и толкования и его новым святым становится Huma-
nus — глубины и высоты человеческой души, как таковой, обще-
человеческое в радостях и страданиях, в стремлениях, деяниях
и судьбах»2. «Так Гегель провозглашает новую эру «свободной
формы искусства», литературы критической и вольнодумной»3, —
пишет советский эстетик И. Е. Верцман.
Историческое значение эстетики Гегеля заключалось не только
в признании диалектики исторического развития художественных
форм, но и в том, что ему удалось предвосхитить перспективы
их дальнейшего развития в искусстве реализма4.
Система Гегеля оказала мощное воздействие на общественную
мысль 30-х годов. Группа левых гегельянцев (братья Бруно и
Эдгар Бауэр, Давид Фридрих Штраус, Людвиг Фейербах) на
основе гегелевской диалектики выступили с критикой феодального
ГГ е г е л ь Г. В. Ф. Эстетика. М., 1971, т. 3, с. 474—475.
2 Там же, т. 2, с. 318.
3 Верцман И. Е. Эстетика Гегеля.— В кн.: Верцман И. Е. Проблемы
художественного познания. М., 1967, с. 165.
4 См.: Овсянников М. Ф. Гегель — В кн.: Овсянников М. Ф. История
эстетической мысли. М., 1978, с. 285. Об эстетической концепции Гегеля см.
также: Овсянников М. Ф. Искусство и капитализм. М., 1979 (главы:
«Судьба искусства у молодого Гегеля» и «Искусство у зрелого Гегеля»).
223
государства и религии, а Людвиг Фейербах развил систему фило-
софского материализма. Эстетические взгляды Гегеля способство-
вали укреплению художественных позиций поколения 30-х годов.
Критический реализм в Германии не дал таких блестящих
образцов социального романа, какие определили художественное
развитие Франции, Англии и России в эту эпоху. Реалистические
тенденции в немецкой литературе 30—40-х годов проявляются
главным образом в лирике и публицистике. Лирика этого периода
проникается общественно-политической проблематикой. В стихах
Шамиссо, Платена, Гейне содержатся отклики на современные
европейские события, отражаются социальные противоречия эпохи.
«Молодая Германия». К началу 30-х годов относится деятель-
ность группы писателей и публицистов, называвших себя «Моло-
дой Германией» (Винбарг, Лаубе, Гуцков, Кюне, Мундт). Их по-
литические взгляды были либерально расплывчатыми. Младогер-
манцы выступали за подчинение литературы задачам современно-
сти. Главными жанрами они считали очерк и «проблемный» роман.
Но так как среди них не было крупных художников, они, как
писал Ф. Энгельс, вынуждены были «...восполнять в своих про-
изведениях недостаток дарования политическими намеками, спо-
собными привлечь внимание публики»1.
Людвиг Берне. Крупным явлением в литературе этих лет была
публицистическая деятельность Людвига Берне (1786—1837).
Она носила ярко выраженный оппозиционный характер и была
направлена на гражданское воспитание публики. Берне был талант-
ливым публицистом. Его статьи и фельетоны пользовались боль-
шой популярностью. В 1831 году, сразу же после Июльской рево-
люции, Берне эмигрировал во Францию. В корреспонденциях от-
туда, опубликованных под названием «Парижские письма» ( 1832—
1834), он непримиримо и страстно клеймил порядки в Германии
и знакомил немцев с действительностью послереволюционной
Франции. Первое воодушевление революционными событиями
быстро сменилось у него трезвой оценкой антинародного характера
Июльской монархии, где на смену старой аристократии пришло
сословие «рыцарей наживы». Берне первым из немецких писателей
обратил внимание на антинародный характер победившего буржуаз-
ного строя и его основное противоречие2. «Началась война бедня-
ков против богатых»,— писал он, рассказывая о восстании лионских
ткачей в 1831 году, и выражал уверенность, что, «когда вновь
раздастся набат и народ возьмется за оружие, он будет бороться
только за свои права и потребует заслуженной награды».
Радикально-демократические убеждения публициста позволили
ему увидеть бесправие и нищету народных масс. «Письма» Берне,
боевые, темпераментные, исполненные острого сарказма и ядовитой
иронии, клеймили немецких деспотов и пассивность обывателей,
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 16.
2 См.: Рейман Пауль. Основные течения в немецкой литературе. 1750—
1848. М., 1959, с. 433.
224
звали к борьбе. «Не будьте смиренны, не будьте робки, не будьте
слабы! Ваша слабость — их сила!» — писал он, обращаясь к немцам.
Эти обращения оказывали большое воздействие на свободолюбивую
молодежь Германии. Двадцатидвухлетний Ф. Энгельс воспринимал
Берне как «знаменосца немецкой свободы»1.
Берне был последовательным и радикальным республиканцем.
Но его взгляды на будущее развитие общества были противоре-
чивы. Он не до конца понимал характер грядущей революции и
склонен был преувеличивать значение конституционных реформ.
Однако ненависть к реакционному мракобесию и шовинизму, стра-
стный призыв к дружбе и сближению между народами делают
публицистику Берне важным вкладом в развитие немецкой демо-
кратической литературы 30-х годов.
Политические высказывания Берне неотделимы от его эстети-
ческих взглядов. С присущими ему страстностью и темпераментом
выступал он за развитие новой литературы, главным признаком
которой должна быть «тенденциозность», т. е. отклик на животре-
пещущие проблемы дня. Эпоха требовала от литературы полити-
ческой заинтересованности и активности. Поэтому вместе с другими
радикалами Берне критически относился к творчеству Гете, упрекал
поэта за равнодушие к политике и «олимпийскую» бесстрастность.
Он остроумно обращал против Гете его же собственные стихи
из «Прометея»:
Мне — чтить тебя? За что?
Рассеял ты когда-нибудь печаль скорбящего?
Отер ли ты когда-нибудь слезу
В глазах страдальца?
Пер. В. Левина
В этой критике, по словам Ф. Энгельса, проявилась ограничен-
ность эстетических взглядов Берне2, но она по-своему отражала
художественные устремления эпохи 30-х годов, ее эстетическую
переориентацию. «В сущности, в спорах о Гете вырабатывалась
новая концепция места и роли писателя в общественной жизни»3.
ГЕОРГ БЮХНЕР
Георг Бюхнер (1813—1837) прожил недолгую жизнь. Это был
широко образованный человек. Бюхнер прекрасно фехтовал, играл
в шахматы, хорошо знал литературу, живопись, музыку и театр.
Его труды в области естественных наук снискали внимание ученых,
а лекции по сравнительной анатомии, которые он читал в Цюрих-
ском университете, пользовались большим успехом у слушателей.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 479.
2 Там же, т. 4, с. 248.
3 Аникст А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века.
М., 1980, с. 293.
8 История зарубежной литературы XIX века
225
Жизнь И борьба. Бюхнер был выдающимся социально-полити-
ческим мыслителем, по остроте и последовательности понимания
истории он намного превзошел современный ему уровень историко-
философских обобщений. Будучи революционным демократом,
Бюхнер не оставался только теоретиком: он принимал непосредст-
венное участие в революционной деятельности. И наконец, он был
талантливым публицистом и писателем, пролагавшим новые пути
немецкой драме.
Короткая жизнь Георга Бюхнера богата напряженными и тра-
гическими событиями. Сын врача, он изучал медицину и естест-
венные науки в университетах Страсбурга и Гисена. Но занимался
также историей и философией. В 1834 году в Гисене Бюхнер вместе
с другими радикально настроенными студентами организует «Об-
щество прав человека» и налаживает контакт с тайным обществом
гисенских демократов, руководимым пастором Вейдигом. Члены
объединенного общества ставят своей целью распространение демо-
кратических тайных организаций в стране. Настроенный радикаль-
нее других, Бюхнер предлагает привлечь к движению широкие слои
обездоленного народа. С этой целью он по поручению общества
пишет прокламацию «Гессенский сельский вестник», обращенную
к крестьянам.
Эта прокламация представляет собой блестящий образец рево-
люционной публицистики той эпохи. Она начинается словами:
«Мир хижинам! Война дворцам!» Используя статистические дан-
ные, автор вскрывает причины нищеты и бесправия народа, он
убедительно доказывает, что своей нищетой народ оплачивает рос-
кошь князя и его приспешников. «Правительство — пиявка, пол-
зущая по вашему телу, князь — голова ядовитой твари, министры —
ее зубы, чиновники — хвост. Вся эта голодная нечисть, все благо-
родные господа, которым герцог раздает выгодные местечки, сосут
кровь из нашей страны»,— восклицает он. Бюхнер разоблачает
фальшь существующего законодательства, отстаивающего лишь пра-
ва власть имущих, и открыто призывает народ к восстанию:
«...Восстаньте, и вся родная страна восстанет вместе с вами!»
Бюхнеру было свойственно материалистическое понимание
истории. Он утверждал, что «социальные преобразования могут
быть вызваны лишь насущными потребностями народных масс»,
и признавал'правомерность революционного изменения общества.
С точки зрения Бюхнера, личность зависит от хода истории, от
общественного климата эпохи, но сама не в состоянии вмешаться
в него и дать ему другое направление: «Отдельная личность —
лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения —
кукольный театр, смешная попытка бороться с железным законом;
единственное, что в наших силах,— это познать его; овладеть им
невозможно», — замечал он в одном из своих писем.
Утверждение идеи революционного насилия вместе с призна-
нием невозможности овладеть «фатализмом истории» было цент-
ральным противоречием бюхнеровского мировоззрения, определив-
шим его трагический характер.
226
Публикация «Гессенского сельского вестника» вызвала аресты
членов тайного общества. Бюхнеру удалось скрыться от полиции
и бежать в Швейцарию. Но здоровье его было подточено, и через
два года он умер.
Эти два года, последовавшие за разгромом тайной организации,
и были годами творческой деятельности Бюхнера-писателя. Не-
большое по объему, его творчество явилось новым словом в немец-
кой литературе. Оно выразило новые эстетические потребности
эпохи, когда на смену выступал трезво реалистический подход к
явлениям действительности.
«Смерть Дантона». Первым произведением писателя, создан-
ным в дни разгрома организации и впитавшим в себя настроения
этих дней, явилась драма «Смерть Дантона» (1835). Бюхнер
обращается к якобинскому периоду в истории французской револю-
ции. Осмысление ее опыта сочетается с раздумьями писателя над
проблемами немецкой демократии, над тем, какими должны быть
цели революционного преобразования и жизненные принципы
вождей революции.
В своем первом опыте Бюхнер, опираясь на традиции театра
Шекспира и немецкой драмы эпохи «Бури и натиска», создает
пеструю, многообразную и многоречивую картину революционной
эпохи. Динамично сменяют друг друга сцены. Из комнат действие
переносится на улицы и площади Парижа, развертывается то в
Конвенте, то в революционном трибунале, то в игорном салоне, то
в тюремной камере. Судьбы политических деятелей и судьбы наро-
да, исторические акции и повседневный быт создают напряженную
сценическую атмосферу. Высокое соседствует с банальным, траги-
ческое с комическим. Речи депутатов Конвента, построенные по
всем правилам ораторского искусства, сочетаются с фривольным
остроумием салонов и площадной грубостью языка улиц.
Это было сознательной установкой драматурга. Борясь за
утверждение реализма в искусстве, он ополчался против идеали-
зации действительности у Шиллера и романтических поэтов. Он
утверждал свое право показывать мир таким, «каков он есть:
людей из плоти и крови, чьи радости и горести вызывают сочув-
ствие, чьи поступки и дела внушают читателю восторг или отвра-
щение». «Одним словом, я за Гете и за Шекспира, но не за
Шиллера», — пишет он в письме к родителям от 28 июля 1835 года.
Главными антагонистами в драме выступают Дантон и Робес-
пьер. Их столкновение определяет развитие драматического дейст-
вия. Эти герои воплощают в себе разные точки зрения на револю-
цию и ее цели. Но перед нами не только персонифицированные
идеи, а живые люди, способные страдать, сомневаться, ошибаться.
Бюхнер создает реалистические характеры, сталкивающиеся в
бурных процессах политической жизни. Он считал, что драматург
превосходит историка, «так как воссоздает для нас историю, не-
посредственно переносит нас в жизнь того времени, предлагая не
сухой пересказ, а характеры вместо характеристик и образы вместо
описаний».
227
Образ Дантона овеян трагизмом. С самого начала, еще до объяв-
ления приговора, он чувствует себя обреченным. Человек, с чьим
именем связаны крупные дела революции, предстает перед чита-
телем опустошенным и жаждущим только покоя. «Жизнь не стоит
тех усилий, которые мы прилагаем для ее сохранения,— говорит
он. — Я сумею умереть достойно; это легче, чем жить». Эпику-
реизм Дантона, который отмечают все исследователи бюхнеровской
драмы, это всего лишь средство, чтобы уйти от мучительных дум.
Дантон непрерывно говорит о своем одиночестве. А между тем
у него есть сторонники, есть любимая жена. Из реплики Сен-Жюс-
та: «...Люди на улицах разевали рты и шепотом передавали друг
другу, что он сказал»,— мы узнаем о его популярности у народа.
И все-таки он ощущает себя одиноким. «На кого нам опереться?»—
вопрошает он.
Психологическое состояние героя получает в драме глубокую
мотивировку. Дантон утратил опору, уверенность в правоте соб-
ственной позиции, даже в возможности целенаправленного участия
личности в историческом процессе.
Друзья Дантона ждут от революции права на наслаждения.
«Каждый человек должен жить так, как этого требует его есте-
ство»,— говорит Эро. «Мы хотим нагих богов, вакханок, олим-
пийских игр, и чтобы сладкогласные уста славили любовь, ее не-
оборимую горько-сладостную истому!» — вторит ему Демулен.
Дантону претят эти разглагольствования, потому что он знает:
«статуя свободы еще не отлита», народ хочет хлеба, а вместо этого
получает головы казненных. Якобинский террор не решает проблем
революции.
У Дантона возникают сомнения в правомерности собственных
деяний. Если революция не может принести народу благосостоя-
ния, то оправданы ли приносимые ей человеческие жертвы? Он
вспоминает сентябрьские дни 1792 года, когда во имя спасения
республики он дал приказ об истреблении заключенных контрре-
волюционеров. Теперь этот сентябрь, как он говорит, тянет к нему
«свои кровавые лапы». И хотя Дантон знает, что это было не
убийством, а только «самообороной», он ощущает содеянное как
«проклятие долга». Исчезает сознание свободы сделанного выбора,
рождается мысль о фатальной зависимости человека от истории.
«Марионетки, подвешенные на веревках неведомых сил. Нигде, ни
в чем мы не бываем самими собой,— говорит Дантон.— Не мы сде-
лали революцию — революция сделала нас».
Сомнения в осмысленной результативности действия приводят
к пассивности. С самого начала драмы Дантон — «мертвый свя-
той». Моральная смерть Дантона наступает раньше, чем нож
гильотины пресекает его жизнь. Раздумья Дантона придают его
образу настоящий трагизм. Вождь революции, осознавший собст-
венное бессилие, обречен на гибель.
В трактовке образа Дантона отразились размышления автора
об итогах французской революции и его сомнения, связанные с
неудавшимися надеждами на крестьянское восстание в Германии.
228
Изображая реальных деятелей истории, Бюхнер не совсем точен.
В этом отчасти повинны источники, которыми он пользовался в
работе над драмой, отчасти — стремление писателя на историческом
материале решить проблемы своего времени.
В образе бюхнеровского Робеспьера нет полного соответствия
с его историческим прототипом. Исторический Робеспьер, как из-
вестно, наиболее последовательно проводил в жизнь принципы
революции. В драме Бюхнера он один из ее вождей, как и Дан-
тон, не нашедший правильного решения ее проблем. Робеспьер
стремится довести революцию до конца. Гедонистической програм-
ме дантонистов он противополагает принципы суровой добродетели.
«Торжество добродетели невозможно без террора»,— заявляет он.
Для воплощения этой программы в жизнь Робеспьер не останав-
ливается ни перед какими средствами. Суд над дантонистами
сфабрикован его сторонниками с помощью подложных доказа-
тельств. Это сразу ставит под сомнение утверждаемую Робеспье-
ром добродетель и вносит в его позицию ту же обреченность и
одиночество, какие были свойственны Дантону. Его тоже мучат
сомнения. Антиподы в своих жизненных и политических принци-
пах, Дантон и Робеспьер как бы уравниваются. Задача разрешения
социальных противоречий эпохи обоим оказалась не по плечу.
Третьей силой и третьим героем драмы выступает парижский
народ. Его интересами и судьбой в конечном счете проверяется
истинность любой политической идеи. Народные сцены — очень
важный элемент в композиции драмы. С ними входит в действие
широкая демократическая струя. Огромная взрывная сила, заклю-
ченная в народе, дает масштаб изображаемым событиям. Народ не
безмолвствует в драме, но его позиция по отношению к полити-
ческим конфликтам путанна и противоречива. Он приветствует
то Робеспьера, то Дантона. Это не просто следствие его незре-
лости. Народ голодает, поэтому любой оратор, указывающий на
неблагополучие его положения, завоевывает себе его симпатии.
Эпизоды с участием людей из народа показывают неприкрытую
истину истории. Драматург смело вводит язык парижской улицы,
противостоящий отточенным афоризмам ораторов Конвента. По-
казывая народ, он не впадает в сентиментальную умиленность, не
боится грубости.
Дочь суфлера Симона вынуждена идти на панель, чтобы про-
кормить себя и родителей. Это не соответствует как идеалу высокой
добродетели, возглашаемому Робеспьером, так и гедонистическому
культу дантонистов. Но такова правда жизни, увиденная художни-
ком-реалистом.
Народ страдает, веселится, волнуется, протестует. Он полон
гнева к тем, кто «мается от обжорства», у кого «теплые камзолы».
Иронична песня уличного певца:
А рабочий народ,
Ох и весело живет!
Он с утра до поздней ночи
Спину гнет, спину гнет!
229
Но трагической нотой врывается в конец драмы голос женщины
из народа, пробивающейся к месту казни: «Дайте пройти! Ребя-
тишки орут, есть хотят. Пусть они посмотрят — может успокоятся».
«Значение социально-исторического прозрения Бюхнера,—
пишет исследователь его творчества А. В. Карельский,.— в том,
что он, обратившись к истории французской революции и полагая
в судьбе ее вождей продемонстрировать «дьявольский фатализм
истории», на самом деле одним из первых в европейской литера-
туре и общественной мысли продемонстрировал всю принципиаль-
ную буржуазность этой революции... он сумел уже здесь, в этой
драме, почувствовать то, что потом отлили в четкие формы мате-
риалистического анализа Маркс и Энгельс»1.
Кроме «Смерти Дантона», Бюхнеру принадлежат еще комедия
«Леоне и Лена» (1836) и два незаконченных произведения: рас-
сказ «Ленц» и драма «Войцек».
«Войцек». В драме «Войцек» Бюхнер обратился к уголовной
истории, широко обсуждавшейся в немецкой печати того времени,
но дал ей социальное и философское истолкование. В центре —
судьба маленького человека, армейского цирюльника Войцека, за-
коловшего свою неверную любовницу. Бюхнер пытается разобрать-
ся в причинах преступления. Шаг за шагом раскрывается перед
нами трагедия забитого и затравленного человека. С неумолимой
логикой показывает драматург, что убийство было актом отчаяния
и мести. Мир, окружающий Войцека, глубоко враждебен и чужд
ему. Капитан, которого он бреет, попрекает его безнравственностью:
ведь Войцек прижил ребенка от Марии, не будучи с ней обвен-
чанным. Доктор ставит на нем «ученые» опыты («Войцек, покажи-
ка господам, как ты двигаешь ушами!»). Тамбурмажор избивает
его.
Обездоленный и угнетаемый, Войцек живет с мыслью о том,
что бедняки вообще обречены на особую судьбу. «Похоже, не
видать нашему брату счастья,— ни на этом, ни на том свете. Я так
располагаю, что и на небе нас поставят при громе, подсоблять»,—
рассуждает он. Глядя на своего спящего малыша, он говорит: «Ох,
труды наши тяжкие — во сне и то потеем! Вот она бедность-то
наша!» Бюхнер показал зависимость героя от окружающих его
обстоятельств. Уровень мышления, характер и даже поступки Вой-
цека обусловлены его жизнью, имущественным положением, отно-
шением к нему людей. В этом социальное звучание драмы. Вместо
преступника мы видим жертву несправедливого общественного
устройства. Бюхнера упрекали в том, что он наделил своего героя
патологическими чертами. Сознание Войцека действительно разо-
рвано. Его неразвитый ум не в состоянии осмыслить происходящее,
которое вызывает в нем только ужас. Страх перед окружающим
взвинчивает его нервы, ослабляет контроль рассудка. Войцеку начи-
нают мерещиться видения. В этой связи убийство Марии, его воз-
1 Карельский А. Георг Бюхнер.— В кн.: Бюхнер Г. Пьесы. Проза.
Письма. М., 1978, с. 33.
230
любленной, единственной радости его жизни, выступает как без-
отчетная реакция на жестокий и страшный мир.
С этой драмой Бюхнера в немецкую литературу вошел новый
герой — изгой общества, маленький человек, судьба которого,
став предметом художественного исследования, свидетельствовала
о неблагополучии буржуазного общественного порядка. Бюхнер
констатирует трагичность судьбы своего героя, но выхода из 'тра-
гической ситуации не знает. Драма рождает ощущение безысход-
ности.
Фрагментарный принцип построения роднит поэтику драмы со
штюрмерской драматургией. Вместе с тем исследователи отмечают
ее связь и с последующим литературным развитием. Обращаясь
к бедному и униженному герою, Бюхнер предвосхитил позднейшие
искания натуралистов. Раскрывая абсолютное одиночество лично-
сти, принципиальное непонимание между людьми разных социаль-
ных слоев, Бюхнер использует особую технику диалога, где участ-
ники разговора говорят как бы «мимо» друг друга, прием, полу-
чивший широкое распространение в драматургии XX века. Сме-
щение реальных форм действительности, включение в драматиче-
ское действие галлюцинаций и бреда сближают «Войцека» и с
поэтикой экспрессионизма. Популярности бюхнеровской драмы
в XX веке очень содействовала опера австрийского композитора
Альбана Берга «Войцек» (1925).
Творчество Бюхнера принадлежит к литературе критического
реализма. Хотя его произведения и не дают широкой панорамы
современного мира, какую мы встречаем в реалистическом романе
других европейских стран, он первый из немецких писателей пока-
зал социальную детерминированность характера и судьбы человека.
А постановкой вопроса о материальной обусловленности историче-
ских процессов намного опередил современную ему художественную
мысль.
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
Генрих Гейне (1797—1856)—одна из самых крупных фигур
в истории немецкой литературы XIX века. Многие его стихотво-
рения стали народными песнями. Около четырех тысяч музыкаль-
ных произведений создано на тексты гейневских стихов. Среди ком-
позиторов, перелагавших их на музыку,— имена Шуберта, Шумана,
Мендельсона, Брамса, Чайковского. Слава поэта перешагнула гра-
ницы его родины, его имя приобрело международную известность.
Гейне, был не только поэтом, но также и блестящим публицистом
и выдающимся мыслителем. Вместе с тем в течение почти полутора
столетий вокруг личности писателя и его литературного наследия
ведется незатухающая борьба. Еще в 1835 году Союзный Сейм
запретил публикацию его произведений в Германии, и хотя этот
запрет не всегда соблюдался, нападки на Гейне были непрерыв-
ными. А в XX веке фашисты бросали в костер его книги.
231
Вступление Наполеона в Дюссельдорф.
Рисунок тушью неизвестного художника. 1811 г.
I еине И его время. Неутихающая страстность разноречивых
оценок свидетельствует и о сложности творческого облика Гейне
и об актуальности его наследия. «Гейне — это пророчески создан-
ный прошлым образец современного человека», — писал Генрих
Манн1.
Творчество Гейне прочно связано с романтизмом. Но себя само-
го поэт называл «романтиком-расстригой». Через все его творчество
проходит романтическое неприятие филистерской пошлости, тоска
по гармоническому идеалу, идея высокого назначения искусства.
Но вместе с тем Гейне ведомо было острое чувство современности,
он был участником ее битв.
В своих едких и остроумных произведениях он обращался
к реальным проблемам общественно-политической жизни эпохи
и тем самым закладывал основы новой эстетики, связанной с реали-
стическим и вместе с тем критическим осмыслением социальной
жизни в искусстве.
Критическое отношение к современности привело Гейне к со-
циалистическим идеям. В 30-е годы он разделял взгляды утопи-
ческих социалистов, а в эпоху революционного подъема 40-х годов
открыто звал к революции. И хотя взгляды писателя были противо-
речивы, он один из первых раскрыл революционный смысл класси-
ческой немецкой философии и угадал неминуемость победы комму-
низма. «Гейне, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой до Маркса,
понимал историческую роль рабочего класса и уже тогда указывал
на необходимость слияния теории социализма с революционной
практикой рабочего движения»2.
1 Манн Г. Генрих Гейне.— В кн.: Манн Г. Соч. в 8-ми томах. М., 1958,
т. 8, с. 223.
2 Шиллер Ф. П. Генрих Гейне. М., 1962, с. 17.
232
Первые детские впечатления Гейне, родившегося в небогатой
еврейской семье в городе Дюссельдорфе, связаны со вступлением
французских войск в прирейнские области Германии. Эти войска
несли с собой дух только что отгремевшей революции, освобожде-
ние крестьян и новые законы для жителей германских земель. В со-
знание будущего поэта эта пора вошла как время свободы, тем более
яркое, что оно вскоре же было заслонено мрачными тучами меттер-
ниховской реакции, простершейся над Европой.
«Книга песен». В 1821 году вышел в свет первый сборник
стихов Гейне «Юношеские страдания», который затем, вместе с
другими его поэтическими циклами («Лирическое интермеццо»,
«Возвращение», «Северное море»), составил большое лирическое
произведение — «Книгу песен» (1827), знаменовавшую собой пер-
вый этап в творчестве Гейне-поэта. В стихах «Книги песен» Гейне
выступает продолжателем романтической традиции в немецкой ли-
рике. Особенно явственно эта традиция слышна в первом цикле
«Юношеские страдания». Молодой поэт использует мотивы народ-
ных песен, формы баллады, испанского романса. Главной темой
«Книги песен» является любовь. В «Юношеских страданиях» —
это любовь неразделенная, не приносящая радости. Сердце поэта
исходит в тоске. Любовь носит фатальный характер, граничит со
смертью. Исступленная сосредоточенность на одном чувстве смеши-
вает грани яви и сна. Один из разделов сборника носит название
«Сновидения». Во сне поэту видятся могилы, встающие из гроба
мертвецы, и сам он мечтает лишь о смерти, в которой надеется
обрести покой.
В это традиционно-романтическое мироощущение юного поэта
врываются, однако, новые ноты. Роковая неразделенность любви
получает социальное объяснение. В одном из стихотворений («Мне
снился франтик...») возникает фигура вылощенного франтика, ко-
торый ведет к алтарю любимую поэта. Разлад с миром оказывается
не только извечным свойством высокой романтической души, он
коренится в основах общественного устройства. Муза поэта-роман-
тика проникается социально-критическим пафосом. Особенно явст-
венно он звучит в венчающих первый цикл сонетах. Сквозь при-
вычную романтическую фразеологию начинают пробиваться нотки
гнева и самосознания новой личности, личности плебея:
...Отныне я плебей!
Я не хочу, чтоб сволочь золотая,
В шаблонных масках гордо выступая,
Меня к родне причислила своей.
«Фресковые сонеты Христиану 3.» Пер. В. Левика
В следующих циклах — «Лирическое интермеццо» и «Возвра-
щение» — Гейне уже полностью обретает собственную неповтори-
мую манеру. Он выступает мастером короткого любовного стихо-
творения, где чувство выражает себя не в патетической декламации,
а как бы между строк. Глубина душевных переживаний часто вос-
производится через приметы внешнего мира, как, например, в зна-
233
менитом стихотворении «На севере диком», переведенном на рус-
ский язык Лермонтовым. Или в простых и. грустных строках:
Рокочут трубы оркестра,
И барабаны бьют.
Это мою невесту
Замуж выдают.
«Рокочут трубы оркестра...» Пер. С. Маршака
Грохот труб и барабанов рядом со скупыми словами о том,
что происходит, неожиданно придает всему четверостишию щемя-
щую интонацию. Неразделенная любовь становится выражением
его глубокого разлада с миром, мечтой о гармонии и сознанием
невозможности ее обретения. Сердце поэта — средоточие страда-
ний мира («Я Атлас злополучный...»). И сам этот мир враж-
дебен поэту:
Они меня истерзали
И сделали смерти бледней,—
Одни сцоёю любовью,
Другие враждою своей.
«Они меня истерзали...» Пер. An. Григорьева
Это — исконно романтическая коллизия. Как для поэта-роман-
тика, идеалом для него остается высокая романтическая любовь.
Но идеал не совпадает с действительностью. Столкновение мечты
и реальности рождает знаменитую гейневскую иронию. Ирония
низвергает романтический идеал, проверяет его реальной жизнью,
взрывает мнимую гармонию высокого поэтического мира. Она все
ставит под сомнение: предмет любви, неповторимость чувства и
само положение влюбленного.
Кто впервые в жизни любит,
Пусть несчастен, все ж он бог.
Но уж кто вторично любит
И несчастен, тот дурак,—
«Кто впервые в жизни любит...» Пер. В. Левика
признается лирический герой в стихотворении. Любовь утрачивает
свойство романтического единения душ. Предмет любви перестает
быть воплощением идеальной мечты. Возлюбленная может иметь
плохой характер, но ее поцелуй — доставляет радость (сравните,
например, стихотворение «Свет близорук, свет недалек...»).
Стихи «Книги песен» поражают сменой интонационных реги-
стров. Трагический надлом, легкая грусть, задушевная беседа,
шутка, саркастическая насмешка. Поэзия и проза жизни существу-
ют нераздельно:
...Под липой сидели мы ночью вдвоем
И клялись в верности вечной...
Чтоб лучше запомнил я клятвы твои,
Ты в руку меня укусила...
«Я вновь забылся прежним сном...» Пер. Т. Сильман
234
Многообразие интонации выступает следствием самого много-
образия жизни. Лирика Гейне разбивает односторонность роман-
тического мироощущения и, естественно, целостность романтиче-
ского стиля. На смену высокой, порой несколько архаичной, лек-
сике романтизма выступает современный разговорный язык. Мет-
рика, строение фразы и выбор слов максимально приближают
стихотворение к обычной беседе:
О, если ты станешь моей женой,
Тебе позавидуют всюду.
Ты радость и счастье увидишь со мной,
И денег жалеть я не буду...
Обыденное и повседневное включается в сферу поэтического
мира. Обогащаются средства лирического выражения.
От цикла к циклу «Книги песен» видно, как постепенно лю-
бовь перестает быть центром жизни лирического героя, превра-
щаясь в одно из ее многочисленных явлений. Преодолевается ро-
мантический субъективизм. В поэзию входят не только страницы
биографии души поэта, но и картины внешней жизни, в первую
очередь картины природы. Последний цикл «Книги песен» —
«Северное море» ставит героя лицом к лицу с величавой морской
стихией. В стихах встают образы то спокойного, то бурного моря,
то пламенеющего заката, то ночного, усыпанного звездами неба.
Но цель поэта не изображение пейзажей. Он создает образец
высокой философской лирики, в которой природа соотносится с че-
ловеком и человеческая жизнь измеряется масштабами мироздания.
Стихотворения «Северного моря» написаны свободным ритмом,
как бы передающим вольное движение природы. Перед ее стихией
утрачивает свое всеобъемлющее значение любовная трагедия поэта.
Сосредоточенность на одном чувстве вызывает усмешку. В стихот-
ворении «Морское видение» в пучине волн поэту мерещится образ
единственной возлюбленной, и он уже готов броситься к ней, чтобы
наконец обрести желанное блаженство... Неожиданная ирониче-
ская концовка снимает романтический пафос:
Но капитан успевает
Вовремя схватить меня за ногу,
Он оттаскивает меня от борта,
И, усмехнувшись, кричит:
Да что вы спятили, доктор?
Пер. П. Карпа
Созерцание величественной природы уводит поэта от субъек-
тивного самоуглубления и ставит перед ним «загадку жизни»:
«Что такое человек? Откуда он пришел? Куда он идет? Кто там
живет, наверху, на золотых звездах?»
Волны бормочут, как всегда они бормотали,
Волнуется ветер, плывут облака,
Равнодушно сияют холодные звезды,
И дурак ждет, когда же ему ответят.
«Вопросы». Пер. П. Карпа
235
Иронический прозаизм в конце делает загадку жизни не такой
страшной и всеобъемлющей.
«Книга песен» — вся еще в переходе от романтизма к реализму,
потому так трудно уловить границу, где именно кончается роман-
тизм и начинается реализм. В этих, подчас неуловимых, перехо-
дах— своеобразие этого первого поэтического сборника Гейне»1.
«Путевые картины». Приблизительно в те годы, когда воз-
никали отдельные циклы «Книги песен», Гейне создает и свои
прозаические произведения. Главным из них по праву считают
«Путевые картины» (1824—1830). В них семь частей («Путеше-
ствие на Гарц», «Северное море», «Идеи. Книга Ле Гран», «Ан-
глийские фрагменты», «Путешествие из Мюнхена в Геную»,
«Луккские воды», «Город Лукка»), связанных между собою обра-
зом повествователя.
Проза Гейне глубоко лирична. Пользуясь широкими возмож-
ностями жанра путевого очерка, он сочетает картины природы
с живыми наблюдениями, размышления с воспоминаниями, жан-
ровые зарисовки с политическими сценками. Весь этот разнород-
ный материал пронизывает единство авторского отношения к дей-
ствительности, сочетающего в себе глубокий лиризм, богатую фан-
тазию и острую насмешку.
Первой части «Путевых картин» — «Путешествию на Гарц»
Гейне предпосылает стихотворный пролог, в котором выражает же-
лание уйти от лживого общества салонов в горы, «где живут
простые люди, где свободно ветер веет...». Поводом для написания
очерка послужила прогулка поэта на Гарц, которую он совершил
из Геттингена, где изучал право. Но не обстоятельства путеше-
ствия составляют основу очерка. Внимание читателя занимает при-
хотливая мысль поэта, его горькая ирония, его эмоциональные
оценки. Саркастически описывая Геттинген, он смеется над филис-
терством немецких профессоров: «В общем, жители Геттингена
делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые
четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между
собою. Сословие скотов — преобладающее». Неожиданные сопо-
ставления вскрывают глубину презрения поэта ко всем филистерам
от науки, к обывателю из Гослара, убежденному, что деревья
зелены только потому, что зеленый цвет полезен для глаз, ко
всем тем, кто пропитан запахом «пива, сыра и табака».
Эта свойственная всем романтикам насмешка над бездухов-
ностью обывательской жизни в книге Гейне сочетается и с момен-
тами демократической критики существующего. Вся книга про-
низана духом эпохи, когда, по словам поэта, «императорские троны
сваливаются в чуланы». Автор говорит о долготерпении народа,
не поднимающего оружие против своих угнетателей.
Романтически одухотворенные картины природы не только
насыщают книгу поэзией, но и придают оптимистическую окраску
социальным надеждам лирического героя.
1 Г и ж д е у С. Генрих Гейне. М., 1964, с. 98.
236
Вторая часть «Путевых картин» — «Идеи. Книга Ле Гран»
написана в неожиданной форме письма автора к даме. Она на-
сыщена лирическим элементом. Но главное ее содержание за-
ключено в страницах воспоминаний. Автор вспоминает детские
годы, вступление французских войск в Дюссельдорф, наивный
энтузиазм тех дней. Гейне воспроизводит свои детские впечат-
ления от встречи с французским императором, ехавшим по аллее
дюссельдорфского дворцового парка. Образ Наполеона сливается
в сознании поэта с понятием свободы, поэтому приобретает особен-
но величественные черты. Прославляя Наполеона, он «противо-
поставлял идеи французской революции гнету и бесправию»1.
Однако подлинным героем книги выступает не Наполеон, а рядо-
вой солдат революции, барабанщик Ле Гран, чье имя вынесено
в заголовок и чья судьба вызывает к жизни главную идею кни-
ги — верность принципам французской революции, ее идеалам
свободы, равенства и братства.
Ле Гран, квартировавший в доме родителей поэта, — образ
выпуклый и емкий. «Это была маленькая подвижная фигурка,
с грозными черными усами, из-под которых упрямо вырисовыва-
лись красные губы, а огненные глаза так и стреляли во все сто-
роны». Он принес уроки революции, научил будущего поэта по-
стигать «красный марш гильотины». Его образ вырастает до
огромного символического обобщения, выступает как воплощение
революционного народа Франции, штурмовавшего бастилию фео-
дализма и преданного затем своими правителями.
«Путевые картины» явились самым острым выражением оппо-
зиционной мысли в немецкой литературе эпохи Реставрации. Гейне
заканчивал свое произведение в первые месяцы после Июльской
революции 1830 года, на которую возлагал большие надежды.
«...Близится час освобождения, начинается новое время»,— писал
он. Добавление к «Путевым картинам» заканчивается недвусмыс-
ленной строкой из «Марсельезы»: «К оружию, граждане!»
Публицистика И эстетика В 30-е ГОДЫ. Воодушевление июль-
скими днями во Франции заставило поэта отправиться в страну
революции, где, как он считал, «на этот раз одержали победу
бедные люди». С 1831 года и до конца своей жизни Гейне
живет во Франции. Знакомство с действительностью классиче-
ской страны буржуазного развития, как называл Францию Ф. Эн-
гельс2, способствовало расширению общественного кругозора и
формированию новых взглядов на искусство и жизнь. Гейне стал
свидетелем первых революционных выступлений французского
пролетариата и очень скоро убедился, что революция 1830 года
не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Критическое отно-
шение к феодально-монархическим порядкам дополняется у Гейне
пониманием антигуманной природы буржуазного строя. Он с инте-
1 Дейч А. Поэтический мир Генриха Гейне.— В кн.: Судьбы поэтов. М.,
1968, с. 446.
2 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 259.
237
ресом относится к идеям утопических социалистов, посещает со-
брания сенсимонистов. В учении Сен-Сймона его привлекает мечта
о полной свободе личности, о мире, в котором должны восторже-
ствовать радость, богатство и наслаждение.
Основное место в творчестве писателя этих лет занимает
публицистика. Живя в изгнании, он стремится осмыслить обще-
ственное и культурное положение своей страны и познакомить
с ним французскую публику. Среди его публицистических работ
30-х годов особенно выделяются две книги: «К истории религии
и философии в Германии» (1834) и «Романтическая школа в Гер-
мании» (1833). Гейне создает не научные трактаты, а живые,
полные юмора и блестящих наблюдений очерки, цель которых
заключается не только в том, чтобы показать философскую и ли-
тературную жизнь Германии, но и открыть перед ней путь к новым
и современным целям.
Историю религии и философии в Германии он рассматривает
как процесс развития свободы мысли. В нем выделяется несколько
этапов, которые Гейне называет этапами «философской револю-
ции». Высший из них — революционная диалектика Гегеля. Фило-
софская революция, как считает писатель, с необходимостью должна
привести немцев к революции социальной. Гейне убежден, что
в скором времени «в Германии будет разыграна пьеса, в сравнении
с которой Французская революция покажется лишь безобидной
идиллией». Раскрытие революционного характера немецкой клас-
сической философии Ф. Энгельс отмечал как большую заслугу
Гейне1.
В «Романтической школе» Гейне дает очерк развития немецкой
литературы того периода, который он сам назвал «эстетическим».
Этот период включает в себя не только творчество писателей не-
мецкого романтизма, но также Шиллера и Гете. Анализ тенден-
ций литературного развития Германии Гейне ведет с позиций,
диктуемых современностью. Поэтому его оценка предшествующего
этапа носит в основном критический характер. В ряде случаев
его характеристики памфлетно заострены и поэтому не всегда спра-
ведливы.
Главным объектом нападок Гейне является идеализация сред-
невековья у романтиков, их отрыв от реальной жизни. Их твор-
честву он противопоставляет литературу новой Германии, обра-
щенную к проблемам сегодняшнего дня. Но в то же время он
ценит романтиков за обращение к народному творчеству, выделяет
тех из них, кто тяготел к «земной реальности». Критикуя роман-
тизм, Гейне, однако, понимает его исторические истоки, связанные
с глубоким недовольством писателей-романтиков антигуманной
сущностью окружающей действительности. «Быть может,— пишет
он,— некоторых немецких поэтов романтической школы, честных
в своих исканиях, впервые принудило бежать от современной
действительности и стремиться к возрождению средневековья не-
1 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 273—274.
238
довольство нынешней религией денег, отвращение к эгоизму, чей
чудовищный оскал всюду их преследовал».
Разделяемый Гейне в 30-е годы сенсимонистский идеал обще-
ственного устройства предполагал не только развитие материаль-
ного прогресса, но и расцвет искусства и духовное обогащение
личности. В истории развития общественной мысли он видит
борьбу спиритуализма и сенсуализма. Спиритуализм сужает
возможности личности, устремляя ее к духовным ценностям,
независимым от материального мира. В сознании автора он связан
с христианством. Сенсуализм, напротив, отстаивает ее право на
«наслаждение благами этой прекрасной земли». Защитников спи-
ритуализма Гейне называл «назареянами», а себя причислял к
«эллинам». Хотя в проповеди наслаждения и содержались внут-
ренние противоречия, «эллинизм» Гейне был борьбой «...за дей-
ствительное освобождение человечества, за переустройство ма-
териальной базы общества, за разумную и справедливую органи-
зацию его материальной жизни»1. Защищая «эллинизм», Гейне
вступил в борьбу с немецкими мелкобуржуазными радикалами,
вождем и идейным вдохновителем которых был Людвиг Берне.
В 20-е годы Гейне и Берне были единомышленниками: оба вели
борьбу против феодальной реакции. Но годы эмиграции положили
начало размежеванию их общественных позиций. В книге «Людвиг
Берне» (1840) Гейне в резкой полемической манере, иногда впадая
в крайности, допуская бестактные выпады по поводу личной жизни
Берне, ополчался против уравнительных теорий немецких радика-
лов. Ратуя за всеобщее имущественное равенство, они не учи-
тывали многосторонности в развитии общественного прогресса,
утилитарно подходили к искусству и к отдельной человеческой
личности. Берне настаивал на политической роли искусства. В усло-
виях идеологической борьбы 30-х годов это обладало бесспорным
значением. «Но он отрывал политику от других сторон жизни,
и там, где искусство отзывалось на жизнь в целом, там оно не
находило у Берне теоретического признания»2. Это и вызвало рез-
кий протест Гейне. В целом книга Гейне о Берне довольно про-
тиворечива. В полемическом увлечении Гейне принижает значение
Берне, который был мужественным борцом против немецкого убо-
жества.
«Атта Тролль». Полемике с радикалами посвящена и поэма
Гейне «Атта Тролль» (1841). В этом причудливо-фантастиче-
ском, романтико-сатирическом произведении поэт обрушивается
на обывательское представление о социализме и на утилитарный
подход к искусству. Уравнительные идеи радикалов Гейне воспри-
нимал как поход против культуры, духовных ценностей и всесто-
роннего развития человека. Бой, который вел поэт,— «справедли-
1 Бсрковский Н. Я. Комментарии.— В кн.: Гейне Г. Собр. соч. в
10-ти томах. М., 1958, т. 7, с. 439.
2 Там же, с. 441.
239
вый и священный бой за права человека»1. Главный герой поэ-
мы— медведь — обобщенный образ радикала-демагога. Он мечтает
о царстве «справедливости звериной»:
Основным его законом
Будет равенство и братство
Божьих тварей, без различья
Цвета, запаха и шкуры.
Пер. В. Левика
Поэт высмеивает не идеи равенства. Он борется с их демаго-
гическим истолкованием. «Нет, именно потому, что эти идеи так
величаво, с таким великолепием и яростью сияют перед взором
поэта, на него нападает неудержимый смех, когда он видит, как
пошло, неуклюже и грубо воспринимаются эти идеи его ограничен-
ными современниками»,— пишет Гейне в предисловии к поэме.
Гейне в период подготовки революции 1848 года. В мощ-
ной волне оппозиционной политической поэзии 40-х годов Гейне
принадлежит особое место. В 1843 году Гейне знакомится с
К. Марксом. Между молодым революционным мыслителем и зре-
лым поэтом завязывается дружба. Атмосфера общественной борьбы
эпохи оказывает воздействие на формирование мировоззрения Гей-
не. Активизируется и уточняется его политическая мысль. Теперь
он приветствует «выступление пролетариев в борьбе против суще-
ствующего строя под руководством самых передовых умов, фило-
софов великой школы, которые переходят от доктрины к дейст-
вию — конечной цели всякого мышления — и формулируют боевую
программу».
«Современные стихотворения». По-новому начинает звучать
голос поэта в цикле «Современные стихотворения» (1844). Лири-
ческая печаль «Книги песен» сменяется здесь боевыми, призыв-
ными интонациями. Назначение поэта Гейне теперь видит не
в выражении индивидуального чувства, а в пробуждении народа
к решительному действию. В стихотворении «Доктрина», откры-
вающем цикл, содержится программное обращение к поэту:
Людей барабаном or сна буди,
Зорю барабань, не жалея рук,
Маршем вперед, барабаня, иди,—
Вот тебе смысл всех наук.
Пер. Ю. Тынянова
В стихотворении отсутствует орнаментальное начало. Публи-
цистика, вторгаясь в лирику, видоизменяет ее. Исчезает напевность.
Голос поэта уподобляется не пению соловья, а грохотанию грома:
Мой буйный гнев, тяжел и страшен,
Дубы расколет пополам,
Встряхнет гранит дворцов и башен
И не один разрушит храм.
«Погодите!» Пер. С. Маршака
1 Жирмунская Н. А. Поэма Гейне «Атта Тролль». — В кн.: Гейне Г.
Атта Тролль. Л., 1978, с. 121 — 122.
240
Т. Хоземан. Немецкие цензоры.
Литография. 1840-е гг.
Рабочие выступают как сила,
Когда в 1844 году в Силе-
зии вспыхнуло восстание тка-
чей, Гейне откликнулся на него
своим известным стихотворени-
ем «Силезские ткачи». Оно бы-
ло напечатано в парижской га-
зете К. Маркса «Форвертс».
Ф. Энгельс перевел его на ан-
глийский язык. Простое по фор-
ме, стихотворение содержит в
себе новую, революционную
мудрость. Это — хоровая песнь.
Рабочие-ткачи осознали свою
историческую позицию. Они
ткут саван для старой Германии
и для всех ее политических и
общественных институтов. Кол-
лективный образ ткачей выра-
стает в стихотворении до гран-
диозного символа исторической
судьбы. Рефрен, венчающий
каждую строфу («И ткем мы, и
ткем мы...»), выражает неотвра-
тимость исторического движения,
низвергающая старое и несущая будущее.
Мужественно-патетический тон стихотворения подчеркивает
величие их исторической миссии.
Тема грядущей революции в «Современных стихотворениях»
сочетается с конкретным обличением социального зла. Поэт борется
как бы на два фронта. С одной стороны, он раскрывает истинную
сущность политики немецких князей, мракобесие феодальной
идеологии («Китайский богдыхан», «Новый Александр», «Подки-
дыш» и др.), а с другой — критикует благодушие немецких либе-
ралов и даже демократов, терпеливо ожидающих от правителей
обещанных свобод («К политическому поэту», «Ночному сторо-
жу» и др.).
Убийственная сила сатирических стихов Гейне заключалась
в их конкретности. Высмеивая реакционный принцип, он никогда
не забывает о его реальном носителе. В гротескной фигуре китай-
ского императора (стихотворение «Китайский богдыхан») совре-
менники без труда узнавали прусского короля Фридриха-Виль-
гельма IV, так и не давшего народу ожидаемой конституции.
В гротескно-обнаженной форме рисует поэт мечты своего венце-
носного героя:
Мятежный дух исчез совсем.
Кричат маньчжуры дружно:
«Нам конституцию зачем?
Нам палку, палку нужно!»
Пер. П. Карпа
241
«Германия. Зимняя сказка». Наиболее яркое выражение по-
литическая мысль Гейне получила в его знаменитой поэме «Гер-
мания. Зимняя сказка» (1844). Проблемы прошлого, настоящего
и будущего родины поэта воплощены в ней в свободной форме
путевых картин, поданных в «дерзких, едких, полных личного
яда стихах», как писал сам Гейне. Он придавал поэме большое
значение и даже обращался к К. Марксу с просьбой написать
к ней предисловие, справедливо считая, что его произведение долж-
но быть близким К. Марксу по духу.
Внешним поводом для создания поэмы послужила поездка
Гейне на родину в конце 1843 года. После тринадцатилетнего
отсутствия поэт вновь оказался на родине, это дало ему возмож-
ность увидеть ее действительность новыми глазами. Избранная
им форма непринужденного отчета о путевых впечатлениях со-
держала в себе большие социально-политические выводы. Зоркий
глаз поэта подмечает детали немецкой жизни. Для путевого очер-
ка это необходимое качество. Но в поэме оно не самоцель, а сред-
ство для обличений, раздумий, выводов. Новая форма прусских
солдат, агитация за достройку собора в Кельне, Прусский таможен-
ный союз — о чем бы ни упоминал поэт, все служит поводом для
обобщений. Объектами критики, как и в стихотворениях 40-х годов,
выступает феодально-раздробленная монархическая Германия, об-
скурантизм ее идеологии, прекраснодушный либерализм, возла-
гающий надежды на справедливость монархов, и религиозные
мракобесы, насаждающие «легенды о радостях неба».
Композиция поэмы строится по ассоциативному принципу,
и создается впечатление, будто поэт просто положился на волю
своего пера. Но это — сознательный прием. Разоблачительная
сила сатиры поэта оказывается тем действеннее, чем естественнее
отдельные факты немецкой действительности складываются в еди-
ную целостную картину.
В самом начале поэмы на немецкой границе из уст девушки
поэт слышит старую песню о светлом рае, где «душа сияет в бла-
женстве вечном». Он растроган воспоминанием о давно знакомом,
но знает:
То старая песнь отреченья была,
Легенда о радостях неба,
Которой баюкают глупый народ,
Чтоб не просил он хлеба.
Пер. В. Левина
Интонационный диапазон поэмы очень широк. Гротескное
преувеличение, мягкая ирония, острый сарказм, высокая лирика,
соединяясь воедино, образуют новую целостность. Новое акту-
ально-политическое содержание для своего воплощения требовало
новой жанровой формы. Гейне выступает здесь как поэт-новатор,
смело ломающий старые рамки жанра. Злободневные факты об-
щественной жизни он сочетает со старинными романтическими
легендами, фантастику — с реальностью, задушевное лирическое
излияние — с гневным сарказмом или острой шуткой.
242
Сам Гейне определил жанр своей поэмы как «политико-роман-
тический». Действительно, в ней широко используются художе-
ственные средства романтического искусства. В этом смысле
весьма показательны 14—16-я главы поэмы, рисующие фантасти-
ческую встречу поэта с германским императором Фридрихом
Барбароссой — Ротбартом. Гейне опирается на популярную леген-
ду о том, что живший несколько веков назад император на самом
деле не умер и встанет в назначенный час, чтобы освободить
свой народ. Читатель присутствует при беседе современно
мыслящего человека со средневековым кайзером. Эффект полу-
чается разительный. Фантастический прием позволяет показать
пропасть между прошлым и настоящим. Старой мысли о незыбле-
мости королевской власти противополагается современная правда
о гильотине как орудии расправы с королями. Сам собою напра-
шивается вывод о том, что монархический принцип изжил себя:
А мы... если трезво на вещи смотреть,
На кой нам дьявол кайзер?
Пер. В. Левика
Ближайшее будущее родной страны не вызывает у поэта слиш-
ком радужных надежд. Встреча с богиней Гамбурга Гаммонией,
представшей перед ним в образе продажной женщины, исполнена
не только насмешки, но и горечи. Будущее Германии, в которое
заглядывает поэт, смердит так, «как будто в сток вонючий из
тридцати шести клоак навоз валили кучей». И все-таки поэт
исполнен надежд на перемены. Он сохранил романтический пафос
надежды, который и составляет положительное содержание поэмы.
Поэт верит, что за развитием философской мысли должно после-
довать революционное дело. Революция должна уничтожить ста-
рый мир, расстрелять «безобразную птицу» — прусского op^va,
чтобы освободить грядущее поколение для нового, радостного
бытия. В самой последней главе поэмы выражена уверенность
в лучшем будущем, ибо «растет поколенье новых людей со свобод-
ным умом и душою» (Пер. В. Левика).
Создаваемая на волне революционного подъема 40-х годов,
она возвещает близкое наступление свободы: «С прекрасной
Европой помолвлен теперь Свободы юный гений...» (Пер. В. Ле-
вика).
Время свободы мыслится поэтом как социалистический идеал
равенства и довольства:
При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
И пусть ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.
Пер. В. Левика
«...Концепция будущего общества, предлагаемая Гейне, изло-
жена в основных принципах сенсимонистского учения... Но важнее
то, что Гейне на протяжении всей поэмы рассуждает как револю-
243
ционер, зовущий к якобинскому, «плебейскому» способу расправы
со старым миром, тогда как сенсимонисты отвергали идею насиль-
ственного переворота»1.
Особое место в «Зимней сказке» принадлежит образу лириче-
ского героя. Он выступает как начало, цементирующее разнород-
ный материал. Со страниц поэмы встает новый образ поэта,
глашатая великих социальных изменений. Он сознает силу своего
обличительного слова: «Берегись, не тронь живого певца! Слова
его — меч и пламя» (Пер. В. Левика).
В каждой строке этой очень личной поэмы бьется живое
сердце поэта. Соприкосновение с родной землей продиктовало ему
его вдохновенную и язвительную, горькую и радостную песнь:
Живительный сок немецкой земли
Огнем напоил мои жилы.
Гигант, материнской коснувшись груди,
Исполнился новой силы.
Пер. В. Левика
Единство личного и общего, тесное слияние мыслей о родине
с душевными переживаниями поэта придают его произведению
ни с чем не сравнимое своеобразие. Эпическое, лирическое и пуб-
лицистическое начала сливаются воедино, образуя новое жанро-
вое целое.
Гейне после 1848 года. «Современные стихотворения» и «Гер-
мания. Зимняя сказка» создавались в годы революционного подъе-
ма 40-х годов и вобрали в себя надежды поэта на революционное
разрешение конфликтов действительности. Тем с большей горечью
отнесся он к поражению революции. «В Германии взяли верх
наши враги»,— пишет Гейне в 1848 году. В его стихах начинают
звучать ноты разочарования. Отчаяние от несбывшихся надежд
на социальное обновление родины еще усугубляется болезнью
поэта, прикованного параличом к постели и проведшего последние
годы своей жизни в «матрацной могиле». Усиливаются противо-
речия в мировоззрении Гейне. Он считает, что «будущее принад-
лежит коммунистам». Историческая правота разрушения старого
общества не вызывает у него сомнений. Но вместе с тем он опа-
сается, что победивший пролетариат угрожает гибелью его стихам
и поэзии вообще.
Последний крупный сборник стихов Гейне—«Романсеро»
(1851) несет на себе отпечаток внутренних противоречий поэта.
Большинство стихов в этом сборнике — маленькие стихотворные
рассказы. Обращаясь к историческому материалу, заимствованно-
му из преданий разных народов, поэт с прежней яростью и насмеш-
кой бичует своих всегдашних врагов: монархов, аристократов, цер-
ковников, реакционеров всех мастей. Многие стихи пронизаны
горечью, но смертельно больной поэт все равно чувствует себя
«часовым на рубеже свободы» («Enfant perdu»).
1 Дейч А. Судьбы поэтов. М., 1968, с. 303.
244
Стихи Гейне пользовались широкой известностью у него на
родине. Но слава поэта перешагнула государственные границы.
Его творчество получило всемирный резонанс. Особенно популяр-
ным было оно в России. Переводы его произведений стали по-
являться в русской печати еще в 20-х годах XIX столетия. Начи-
ная с Лермонтова и Тютчева и вплоть до Блока, в России почти
не было ни одного поэта, кто бы не переводил стихов автора
«Книги песен»1.
Гейне оказался созвучным русской литературе и своим лириз-
мом, и своей острой разящей сатирой. Для популяризации творче-
ства немецкого поэта в нашей стране много сделал известный
публицист и революционный деятель М. Л, Михайлов. Его пере-
воды вызвали внимание к Гейне со стороны русской революцион-
но-демократической критики, ценившей в наследии поэта в пер-
вую очередь его революционный пафос, стремление «пробуждать
от сна задремавшие силы народа»2. Д. И. Писарев, не прошед-
ший мимо противоречий Гейне, особенно высоко ставил сатириче-
ские тенденции его творчества и отмечал «чарующую прелесть»
его поэзии. «Прелесть эта,— писал критик,— заключается в неот-
разимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной,
кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас из-за
каждой строки, как бы ни была эта строка ничтожна или безумна»3.
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА РЕВОЛЮЦИИ
1848 ГОДА
«Одна ласточка не делает весны, но столько певцов, которые
одновременно выступают и, не сговариваясь, поют на один мотив,
конечно, признак перемены погоды»,— писала в марте 1842 года
«Рейнская газета», приветствуя появление сразу нескольких сбор-
ников политической поэзии. Сороковые годы немецкие литерату-
роведы называют предмартовскими, т. е. предшествующие рево-
люции 18 марта 1848 года. Уже с 1840 года в германских госу-
дарствах начинается общественное движение. Раньше всего это
движение проявилось в философии.
После смерти Гегеля среди его последователей произошло
размежевание. В истории литературы крупную роль сыграли так
называемые левые гегельянцы, активно выступающие на рубеже
30—40-х годов. Они стремились применить гегелевскую диалек-
тику для критики отживших учреждений и реакционной идеоло-
гии. Шумный успех имели их книги, подвергавшие критическому
рассмотрению христианские легенды, особенно «Жизнь Иисуса»
1 См.: Генрих Гейне. Библиография русских переводов и критической лите-
Ратуры на русском языке / Сост. А. Г. Левинтон. М., 1958; Гордон Я. И.
ейне в России (1830—1860 годы). Душанбе, 1973; Он же. Гейне в России
(1870—1917 годы). Душанбе, 1979.
2 Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х томах. М., 1950, т. 1, с. 287.
3 Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах. М., 1956, т. 4, с. 209.
245
Д. Ф. Штрауса (1835). Г. Веерт сообщал в письме из Англии
(1845) о том, что эта книга, переведенная на английский язык,
нашла многочисленных читателей среди английских фабричных ра-
бочих. Левые гегельянцы выступали и в качестве литературных
критиков. Как и писатели 30-х годов, они отвергали романтический
субъективизм. Эта полемика была для тех лет актуальна в свете
новых задач, стоявших перед литературой, даже если критика
романтизма была при этом односторонней и исторически неспра-
ведливой и в ней «было много наивного и плоского»1. Большим
событием явилось выступление Людвига Фейербаха. Его книга
«Сущность христианства» (1841) и другие утверждали материа-
листический подход к явлениям природы, что было особенно
знаменательно после того, как на протяжении многих десятилетий
в немецкой философии господствовал идеализм. Философия Фейер-
баха оказала большое влияние на формирование мировоззрения
многих немецких писателей: Г. Гервега, Г. Веерта, Р. Вагнера,
швейцарца Г. Келлера.
«Рейнская газета». При участии левых гегельянцев в Кельне
была создана «Рейнская газета» — оппозиционный орган, просу-
ществовавший всего 15 месяцев (январь 1842 — март 1843).
С апреля 1842 года в газете начал сотрудничать молодой К. Маркс,
а в октябре 1842 года он стал ее редактором. Состав участников
газеты был довольно пестрым, но К. Маркс стремился придать
всем материалам газеты революционно-демократическое направ-
ление. Большое место «Рейнская газета» уделяла вопросам лите-
ратуры и искусства. На ее страницах мы находим хронику лите-
ратурной жизни, рецензии на новые книги, выставки и спектакли.
Почти в каждом номере печатались стихи современных поэтов.
В это время произошел спор между Гервегом и Фрейлигратом.
Фрейлиграт, который тогда был еще далек от демократического
движения, заявил, что «поэт стоит на башне более высокой, чем
вышка партии». Гервег ответил на это торжественно-патетическим
гимном «Партия». Как громкий призыв, на всю страну прозвучали
его слова:
Наш век прогнил насквозь. Наш век смертельно болен.
Сгрудились у одра наследники толпой...
Так пусть же он умрет! Народ, что обездолен,
Пусть партия ведет железною рукой!
Пер. Н. Вержейской
В Германии в те годы формально не было никаких полити-
ческих партий, но Гервег имел в виду партию прогресса, партию
грядущей революции. Такое абстрактное понимание партийности
отвечало духу «Рейнской газеты» и поэтому получило ее страст-
ную поддержку — в феврале 1842 года газета восторженно при-
ветствовала стихотворение Гервега. Отстаивая политическую тен-
денцию в литературе, газета часто ссылается на Л. Берне, которому
1 Верховский Н. П. Общественное движение и литературный процесс
1830-х годов.— В кн.: История немецкой литературы. М., 1966, т. 3, с. 301.
246
отдается явное предпочтение
перед Гейне. В заметке, при-
ветствующей стихотворение
Гервега «Партия», Гервег так-
же противопоставляется Гейне,
который тем самым зачисляется
в один лагерь с Фрейлигратом.
Критические ноты в оценке Гей-
не связаны с тем, что он зани-
мал, по мнению газеты, скепти-
ческую позицию по отношению
к общественному движению,
осуждался он и за романтиче-
ский субъективизм. Вместе с
тем стихотворения Гейне часто
печатались на страницах
«Рейнской газеты», а в начале
1843 года были опубликованы
отрывки из поэмы «Атта
Тролль», которая вскоре была
подвергнута критическому раз-
бору.
Левогегельянский критик за-
щищает Гейне от нападок, ви-
дит его заслугу в том, что он
вывел поэзию «из пустыни ро-
мантики» на дорогу философии. Но тут же упрекает его в том, что
романтическое «я» для него дороже Гегеля: «Он кокетничает с
классической Дианой и романтической феей Абундой, с королем
Артуром и императором Наполеоном... с аристократами, либера-
лами и коммунистами, не обнаруживая истинной любви ни к тем,
ни к другим»,
«Рейнская газета» не разделяет негативного отношения к Гете,
распространенного в 30-е годы; имя его упоминается с уважением,
но большого внимания Гете не привлекает. Другое дело — Шиллер.
Ему посвящено много статей и заметок. На него ориентируют
авторы немецкий театр: «С Шиллером мы должны идти вперед,
вместе с ним жить и мыслить, если мы хотим, чтобы немецкая
сцена обладала и мыслью и действенной силой»1.
Гервег. Георг Гервег (1817—1875) первоначально выступил
как критик и публицист, его статьи 1839—1840 годов, частью
публиковавшиеся в эмиграции, в Швейцарии, были посвящены
острым вопросам современной литературы, новый этап которой,
по его словам, начинается с Июльской революции, поездки Бер-
не в Париж, выхода в свет «Путевых картин» Гейне и с оппози-
ции против Гете. Называл своим учителем Берне, но также вы-
1 Подробнее о содержании литературного отдела «Рейнской газеты» см.
в кн.: Тура ев С. В. Георг Веерт и немецкая литература революции 1848 года.
М., 1963, с. 65-80.
&
Прикованный Прометей.
Карикатура на запрещение
Рейнской газеты.
1843 г.
247
соко (одним из первых) оценил значение Бюхнера. Он считал,
что в лице Бюхнера Германия потеряла не только замечательного
писателя, но и политического вождя.
В 1841 году в эмиграции выходит в свет сборник стихотворе-
ний Гервега «Стихи живого человека», который сразу приносит
ему громкую славу. Стихотворения этого сборника привлекли
внимание смелостью тона, энергичной интонацией, боевым мятеж-
ным пафосом, который давно не звучал в немецкой поэзии. Поэт
требовал от современников решительных действий. Он звал их не
мириться с отжившими политическими порядками, а смело высту-
пить под лозунгом «Да здравствует республика!». Стихотворение
«Последняя война» начиналось словами:
Пусть каждый, чья крепка рука,
Свой добрый меч возьмет;
Пусть гнев господний смельчака
На подвиг поведет.
Пер. Н. Вержсйской
Поэт утверждал, что свободным может стать лишь тот, кто
способен сам добыть себе и другим свободу в бою. Стихи его
звучали как воззвание, как призывы к борьбе. Некоторые из них
(«Песня о Гутенберге», «Легкая поклажа») были положены на
музыку и приобрели широкую популярность во время революции.
В лучших стихотворениях сборника «Стихи живого человека»
Гервег выступал как поэт — революционный демократ. Но при
всей смелости и непримиримости его программа была смутной.
Идеал свободы, который он отстаивал, был довольно расплыв-
чатым.
Гейне иронизировал в стихотворении «Георгу Гервегу»:
«Гервег, жаворонок железный, Слишком высоко ты стал парить...»
(Пер. В. Клюевой).
Гейне тем самым отмечал известную абстрактность поэзии
Гервега, хотя при этом нельзя не видеть и другого: Гейне, скеп-
тически оценивая перспективы германской революции, не сумел
в полной мере оценить и революционный пафос, звучавший в
«Стихах живого человека».
В 1842 году Гервег совершает поездку по городам Германии.
Повсюду его чествуют передовые люди страны, молодежь при-
ветствует в лице Гервега поэта, ярче всего выразившего ее по-
мыслы и стремления. Примечательно, что книга стихов, изданная
за границей и запрещенная в Германии, была хорошо известна
во всех концах страны. В начале октября 1842 года Гервег посетил
Кельн, где встретился с членами редакции «Рейнской газеты».
Здесь состоялось его знакомство с К. Марксом.
В Берлине Гервег совершил ложный шаг: он согласился на
свидание с прусским королем. Гейне позднее иронически писал
о Гервеге, как о новом маркизе Поза. Король, обменявшись веж-
ливыми фразами с популярным поэтом, вскоре, однако, запретил
распространение журнала Гервега. Поэт ответил резким письмом
248
в адрес «его величества» и немедленно был выслан. В последую-
щие годы Гервег жил преимущественно в Париже. В числе его
друзей были М. Бакунин и А. Герцен.
Февральскую революцию 1848 года в Париже Гервег встре-
тил с энтузиазмом. Он развивает бурную деятельность среди
немецких эмигрантов в Париже, выступает от их имени с привет-
ственным адресом. Гервег также обратился с воззванием к поль-
ским эмигрантам, призывая их подняться на борьбу. Идея союза
демократических сил Германии с восставшей против царизма
Польшей сближала Гервега с К. Марксом. Но когда началась
революция в Германии, Гервег возглавил отряд немецких эмигран-
тов для вторжения в Германию. Это была политическая авантюра,
справедливо осужденная К. Марксом. Гервег вел себя мужествен-
но, но отряд его был разбит* и ему едва удалось спастись, отсту-
пить на швейцарскую территорию. Объявленный прусскими властя-
ми вне закона, Гервег во время революции вынужден был оста-
ваться в эмиграции. Это были годы тяжелой депрессии поэта1.
В его стихах 1848—1849 годов патетика сменяется горькой сати-
рой. Гервег бичует немецких либералов, разоблачает их бесплод-
ную болтовню во франкфуртском парламенте.
Находясь в эмиграции, Гервег печатался мало, чаще всего
анонимно, стихи его почти не доходили до немецких читателей
(многие стихотворения и статьи, затерянные на страницах про-
винциальных газет, были собраны и опубликованы только в 1948 го-
ду, к столетию революции).
В послереволюционные годы Гервег не только сохранил вер-
ность идеалам революционной демократии, но пришел к понима-
нию роли пролетариата. По предложению Ф. Лассаля он написал
«Песнь немецких рабочих союзов» (1864), которая на многие
годы стала гимном немецких рабочих. Строки из нее не раз ци-
тировал В. И. Ленин. Патетические стихи Гервег посвятил Гари-
бальди («Настанет день», 1862).
В годы шовинистической пропаганды, сопровождавшей фран-
ко-прусскую войну и объединение Германии в 1870 году, когда
ей поддались многие писатели (и даже Фрейлиграт написал сти-
хотворение «Ура, Германия!»), Гервег занял твердую позицию
неприятия войны, осуждения националистического угара («Все
больше», «Худший враг», «Эпилог к войне», «Опьяненным побе-
дой» и др.). Впервые в немецкой обличительной лирике появ-
ляется имя «пушечного короля» Круппа: «...музыка наших гря-
дущих дней — Оркестр смертоносный Круппа!» («Р. Вагнеру»,
1873).
Отмечая 25-ю годовщину Мартовской революции, Гервег
заявил, что подлинным наследником традиций 1848 года является
рабочий класс («18 марта»).
1 В Цюрихе дружеские отношения между Гервегом и Герценом закончились
полным разрывом. Взаимное увлечение Гервега и жены Герцена Наталии создало
драматическую ситуацию. Горечь от происшедшего не могла не сказаться на
оценках Гервега-поэта в «Былом и думах».
249
Сатира предмартовского десятилетия. А. Глассбреннер.
Годы революционного подъема в стране отмечены расцветом сати-
рических жанров. «Я радости большей не знал никогда, Чем боль-
но врага ужалить...» (пер. Б. Тимофеева) — так начинал Г. Веерт
один из своих стихотворных фельетонов.
Врагов у немецкой революции было много: это не только
силы феодального мира, королевская власть и придворная вер-
хушка, но и буржуазные либералы, которые громкими фразами
прикрывали свою неспособность к борьбе, наконец,— это немец-
кий обыватель, пресловутый Михель, ограниченность и трусость
которого не переставали бичевать все немецкие сатирики тех лет.
Большой разрушительной силой обладала сатира Гейне. Вам
известно уже о выдающейся роли его поэмы «Германия. Зимняя
сказка» в разоблачении прусских порядков и в особенности реак-
ционной идеологии, призванной оправдать эти порядки.
Одним из популярных сатириков тех лет был Адольф Гласс-
бреннер (1810—1876), выступавший под псевдонимом «Бренн-
гласс» (зажигательное стекло). Псевдоним напоминал о двух
свойствах: увеличивать и поджигать. Сатиру он также сравнивал
с ножом: чем острее, тем лучше. Юмор и сатира, по его словам,
должны быть пронизаны мыслью. Глассбреннер был убежден
в неотвратимости прогресса, и эта убежденность придавала ему
смелости в обличении зла. Правда, прогресс он понимал идеали-
стически. Глассбреннер считал себя последователем Гегеля и рас-
сматривал прогресс как проявление духа. В необычной для него
патетической манере он выразил эту идею в «Сказке о Духе»:
никакие силы не способны остановить движение Духа.
Серия из 32 очерков «Берлин как он ест(ь) и — пьет» —
юмористические зарисовки берлинского быта. В жанровом отно-
шении они близки «физиологическому» очерку. Здесь намечены
колоритные типы: носильщика, рантье, служанки, юмор постоян-
но пересыпан политическими намеками. Так, рантье Буффей сооб-
щает, что его сын Вильгельм вроде короля: он ничему не на-
учился, но все забывает. Или вместо «бундестаг» герой вдруг
произносит «хундестаг» (хунд — собака). Глассбреннер пишет
анекдоты, комические сценки, подписи под картинками. С ним
сотрудничал художник Теодор Хоземанн. Не нуждалась в коммен-
тариях картина, изображающая колыбель, над которой склонился
полицейский, а подписью служили слова Гете: «Спи, усни».
Шиллеровские слова «Обнимитесь, миллионы» Глассбреннер по-
мещал над входом военного министерства. В связи с этим многие
сатирические стихотворения Глассбреннера были запрещены
(в 1843 году они вышли в Швейцарии под названием «Запрещён-
ные песни одного северонемецкого поэта»). Обходя цензуру,
Глассбреннер прибегал к иносказаниям, иногда переносил действие
в какую-нибудь далекую страну.
Немецкие князья, чтобы успокоить оппозицию, нередко «да-
ровали» конституции. Глассбреннер дает свой вариант «консти-
туции»: «Всеобщая собачья свобода»: «§ 2. Форма правления
250
И t я e
Organ btt £>t mot vatic
At 301. *••■• Somfteg. Ыш I». m«i. |B40.
<2lbfct>ifb«»D0H btr Vttutn WbrinifArn 3*ttun(i.
■ой rf!«n S>if» in »(Г«.г V.bLcb. «»<»гттЧ»и >'■ »«% ul Ьм |aifr»»r* *•*•. ||.| fc^ erw# Я*4«а <* ргт<Г-*« «•**••*,
С» <•".. »4« ?ly<rVn • .!• J.rf». "3" »rr 0«n» к*п И1|гО<« ТЧцгп. фт w^rfi e-f m,u фаавг k<« ОАаЯт;
P* Hill *..* Mi M>if«'t>««*' frir»/nr«4)C *»•* •<• в|#тк#« taftaki „ft* HrtiHlita '- - <•> Vltff С Ь1а«* «,, fc«r fl.iftjg,» J}*a».
Г«» «*•«-«.«'" t"'n ■•l-irf«»' в» ••■ i«t wll ОИ« ггИц** tDllr »n k«t»*a. **r UbmlfUnm***
V.« »<« Г-пГ«1 Л-ч • » i»Hirh «*-•• Л ««• i»»hl bOw-l/a •#!• OU.k all »•() (?,«,. »,.„, «•* W<|l t ••• Slawm an|
Uul kr» ^...irrh.H «fir. Г./ t.4r«iib< Jl»r T>ffB»# piUaiail »ta< tft«r< Я»»»».
U*k I. Ii«« •* n.n b, .« mtixrr fff.M. *)«* <* l<b.<fm t.f M»».r*. ,* Otlrt» 0«фЫ> Да гдЬк ,ш( ам1й«П СОяак,.,
а.п< л.I,. *.>,u,»w.л«: t>«: a«i»4. «« иьм»,. я.ь*. " d,« *.ь,. (.,. «»,<» ааа („. гьмпЫа
П«4> к.г ttrktll far «i* ,<а>«а»#&
jtun «Ikr pur ?1Ь« Га fimvUmbi (1W(|. ОПгаа kir l,«f, Kranr a»,. Qlt.k Kr*r<d>«,
ftun :J«» ih. r,M«»t'« t/*'n' D" •** »•»■>('« «I«M/ra ••» &,.«ахя.
«an U»« ka p«l»'M.!<*■»*.|l<* а#Г1«. 'l^rnn Г««и*1Г («•■ (»♦•<■♦ ..e^ul*^^ f*f««V
ЭТуi. U»< ihr eitnowr yn» e^in' Tina A.*. M ajlrtff |аГ««Я/п;
Wat iltt »a<t *IA» far i*ai«r 4fkr' Nil >ra> IBavf. aj(l km C4«'f«. «• »гт £о.
IWxh *c «kMfn r#n f»»<0 n.*l <Vt Vi^ir/гГ aaa •• fla«4a.
C«lk ..«■ t«ft a»!)*) t*ffrU» I* »«» l>*V «i*( eOjHl lira* iJMrlia
«I.I» frbr in> r.i#4/r mrltr' tftl^ >•« tkraat ^rfakwltrta^a Btlfr f«.n
tu <»#4«)iri« ».♦ flfkfUi.;
F miUCIATR
собачье-монархическая. Свобода собак неприкосновенна. § 3.
Но так как свобода невозможна вне порядка и законности, то
собачья свобода обеспечивается следующими законами. § 4. Каж-
дую собаку следует водить на поводке... § 7. Каждая собака долж-
на носить ошейник с надписью: «С богом, за короля и отечест-
во» и т. д.
Глассбреннер, как и Гейне, не уставал издеваться над не-
мецким Михелем, ему он посвятил свой издевательский марш
«Все медленнее вперед», стихи «Надежный верноподданный»,
«Михелю». Он изобразил его в виде осла, который иногда бры-
кается, но неизменно несет свою ношу («И-а»).
В лирике Глассбреннера нередко звучит гневная интонация —
он призывает к решительным действиям. Таково его стихотворе-
ние «Два желания» (1844). Чтобы выполнить одно желание —
сделать всех людей счастливыми, надо исполнить и другое: кое-
кого вздернуть на виселицу... Не примыкая ни к каким политиче-
ским группировкам, Глассбреннер боевым характером своего сати-
рического искусства был близок революционной демократии.
Во второй половине 40-х годов развивается сатира, вдохнов-
ленная идеями революционного пролетариата. Речь идет о Георге
Веерте, который стал соратником К. Маркса и Ф. Энгельса и
сатирическое мастерство которого с особым блеском раскрылось
на страницах «Новой Рейнской газеты».
«Новая Рейнская газета». В 40-е годы Германия становится
родиной марксизма. В августе 1844 года произошла знаменатель-
ная встреча двух молодых ученых К. Маркса и Ф. Энгельса,
положившая начало их боевой творческой дружбе. Обобщая опыт
251
международного освободительного движения, осмысляя итоги
развития экономической мысли Англии, политического движения
во Франции и классической немецкой философии — от Канта до
Фейербаха, К. Маркс и Ф. Энгельс приступили к разработке
теории научного социализма. В феврале 1848 года, в канун рево-
люции, вышел «Манифест Коммунистической партии». Вскоре
после Мартовской революции в Германии под руководством
К. Маркса начала выходить «Новая Рейнская газета» (1 июня
1848 года—19 мая 1849 года)—самый боевой орган периода
революции. В состав редколлегии входили и поэты: Г. Веерт,
Э. Дронке, а с 12 октября 1848 года — Ф. Фрейлиграт. Творче-
ство Веерта, а также Фрейлиграта (революционных лет) пред-
ставляет собой особый этап в немецкой литературе не только
40-х годов, но и XIX века в целом1.
Фрейлиграт. Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876) начал свой
творческий путь сборником романтических стихотворений (1839).
Мир художественных образов молодого поэта мало напоминал
традиционные мотивы и темы немецких романтиков. Это была
экзотика африканских пустынь, образы знойного юга — красоч-
ный мир, в котором действуют бедуины. Это была романтиче-
ская форма неприятия окружающего мира немецких обывателей.
Однако от политических проблем Фрейлиграт в то время был
далек, а в 1840 году даже опубликовал стихи, в которых
утверждал, что поэт стоит выше партий и политики (и этим
сразу заработал пенсию от прусского короля).
Однако вскоре общественный подъем в стране захватил и
Фрейлиграта. Он отказывается от пенсии и эмигрирует в Лондон,
где встречается с К. Марксом. Два его сборника: «Символ веры»
(1844) и «Са ira» (1846)—свидетельствовали о стремительной
эволюции мировоззрения поэта — от либерального к радикальному,
хотя и весьма противоречивому2.
В торжественной оде «Снизу вверх» (1846) впервые у Фрейли-
грата появляется образ пролетария, уверенного в себе, в своей
силе, в своей грядущей победе. Начало европейских революций
Фрейлиграт торжественно приветствовал стихотворением «В горах
раздался гром...». Именно у Фрейлиграта нашел выражение пафос
раннего этапа революции, опьяненность первыми победами — мар-
шевые ритмы передавали боевой дух тех дней и вместе с тем
иллюзии, порожденные этими победами.
Но уже в одном из первых номеров «Новой Рейнской газеты»
появилось стихотворение Фрейлиграта «Вопреки всему», где на
смену мартовским иллюзиям пришла тревога за судьбу революции.
Содержание стихотворения отвечало курсу газеты К. Маркса на
продолжение и углубление революции. С особенной силой эта идея
См.: Дымшиц А. К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература.
М., 1973.
2 См. вступительную статью А. Дымшица. В кн.: Фрейлиграт Ф.
Избранные произведения. М., 1956, с. XIX.
252
была выражена в стихотворении «Мертвые живым» (июль, 1848),
распространенном в виде листовки. Стихи написаны от имени по-
гибших на мартовских баррикадах, как суровый укор' живым.
Став членом редколлегии газеты, Фрейлиграт продолжал высту-
пать на ее страницах, развивать в поэтической форме идеи К. Марк-
са, связанные с теми или иными событиями революционного года.
Часто стихи появлялись на другой день после редакционной статьи
К. Маркса, пропагандируя ее содержание.
В политической лирике Фрейлиграта, как и у раннего Гервега,
преобладала патетическая интонация. Но по мере обострения ситуа-
ции в стране тон ее становился все более грозным. Реакция пере-
шла в наступление. Почти всю первую полосу последнего номера
газеты занимало «Прощальное слово «Новой Рейнской газеты»
Фрейлиграта. Оно было исполнено революционного оптимизма.
В 1850—1851 годы Фрейлиграт еще выступал с боевыми стиха-
ми, но вскоре отошел от революционного движения. Он жил, как
и К. Маркс, в Лондоне, и между ними продолжались личные кон-
такты, но поэт не разделял (да и не понимал) взглядов К. Маркса.
После амнистии 1866 года он вернулся на родину и приветствовал
объединение Германии под эгидой Пруссии.
Веерт. Георг Веерт (1822—1856) пришел в «Новую Рейнскую
газету» как поэт со сложившимся мировоззрением. В отличие от
Фрейлиграта, стихийно следовавшего ходу событий, Веерт уже в
1844 году во время пребывания в Англии стремился проникнуть
в тайны современного общества. Опыт чартистского движения,
самостоятельные занятия политической экономией, знакомство с
философией Гегеля и Фейербаха и общение с Ф. Энгельсом помогли
ему стать первым поэтом, сознательно и активно утверждающим
идеи революционного пролетариата1. В «Набросках из социальной
и политической жизни британцев» (1843—1847) проявилось и нег
заурядное публицистическое мастерство Веерта, и глубокое пони-
мание социальных противоречий в наиболее развитой в то время
капиталистической стране.
Лирика Веерта предреволюционных лет отражает этапы быст-
рого формирования его своеобразного таланта. Веерт близок песен-
ной лирике немецких романтиков (Эйхендорф, Уланд, молодой
Гейне). В лирике Эйхендорфа его привлекает поэтический образ
романтического странника. Красочно, живописно предстает в стихо-
творениях раннего Веерта немецкий национальный пейзаж. Под
влиянием романтизма формируется и стиль Веерта-прозаика. С ро-
мантической школой связаны эмоциональная взволнованность
авторской речи, ирония, пронизывающая повествование, антитеза
поэтической мечты и филистерской ограниченности. Одним из
любимых писателей Веерта был Л. Стерн. Стернианские мотивы
появляются в одной из новелл Веерта из серии «Набросков» о
жизни британцев.
1 См.: Кочеткова М. А. Георг Веерт — друг и соратник Маркса и
Энгельса. М, 1974.
253
В лирике Веерта 1844—
1845 годов звучат социальные
мотивы, подсказанные опытом
чартистского движения. Песни-
жалобы в духе немецких «ис-
тинных социалистов», в Англии
также имевшие свою традицию
(«Песня о рубашке» Т. Гуда),
вскоре сменяются стихотворе-
ниями, исполненными мужест-
венной веры. Складывается соб-
ственная манера — он не прояв-
ляет склонности к патетике, к
призывно-восклицательной ин-
тонации Гервега или Фрейли-
грата. Опираясь на песенно-ро-
мантическую традицию, он со-
здает конкретный реалистиче-
ский образ, воплощающий су-
щественные черты своего вре-
мени. При этом для него как ре-
волюционного поэта типичное
включает в себя движение, ис-
торическую перспективу. Рас-
сказ о печальной судьбе ра-
бочего-литейщика завершается
мыслью о грядущем восстании. Примечательны его отклики на
восстание силезских ткачей: «Песня голода» и «Сидели они под
ивой». Восстание породило в немецкой поэзии целый поток откли-
ков. Большинство из них — жалобы, печальные строфы о тяжкой
доле ткача (в частности, и у Фрейлиграта). Резко выделяются на
этом фоне «Силезские ткачи» Гейне и «Сидели они под ивой» Веер-
та. У Веерта это — жанровая сцена, которая, однако, приобретает
историческую масштабность. Английские ткачи, приветствующие
своих силезских братьев,— одно из блестящих воплощений идеи
интернациональной солидарности пролетариев — тема, которую
Веерт разрабатывает и в ряде других стихотворений.
Вскоре после Мартовской революции в Берлине член недавно
созданного Союза коммунистов Веерт выезжает в Кельн, имея по-
ручение К. Маркса выяснить на месте условия для создания ре-
волюционного органа печати. И когда 1 июня 1848 года вышел
первый номер «Новой Рейнской газеты», на первой полосе уже
была напечатана глава из сатирической повести члена редколлегии
Веерта.
Повесть Веерта, скромно названная «Наброски из немецкой
торговой жизни» (1847—1848), можно рассматривать как этапное
произведение в истории немецкой сатиры. В центре ее — сатири-
ческий образ господина Прейса, самоуверенного, предприимчивого,
беззастенчивого в своих коммерческих операциях дельца, сначала
Т. Хоземан. Молодой ученик
слесаря защищает баррикаду.
Литография 1848 г.
254
напуганного революцией («Боже, спаси нас от красного флага!»), но
потом быстро сумевшего приспособиться к новой ситуации. Весьма
колоритно изображены другие персонажи из окружения Прейса:
мальчик-ученик, приказчик, бухгалтер. Примечателен эпизод, когда
бухгалтер Ленц, к удивлению своего шефа, является в контору в
форме национальной гвардии, с саблей, ружьем и огромной черно-
красно-золотой кокардой. Точно подмечено и пристрастие немец-
кого обывателя к внешним атрибутам и его мнимая революцион-
ность. Для Веерта за этим стояла трагедия революции, судьба
которой оказалась в руках подобных «национальных гвардейцев»,—
ведь для Ленца все сводилось к тому, чтобы немного припугнуть
шефа.
Среди персонажей повести нет пролетария. Но грозная сила
пробуждающегося класса все время ощущается за кулисами событий.
Повесть заканчивается многозначительной фразой: «В ответ на
совершенно необоснованные слухи о том, что господин Прейс станет
премьер-министром, грубые пролетарии в тот же вечер перебили
стекла в его доме».
В «Новой Рейнской газете» был напечатан и роман «Жизнь
и деяния знаменитого рыцаря Шнапганского» (август 1848 — ян-
варь 1849 годов)—остроумная сатира на прусское дворянство.
Это — единственное произведение Веерта, вышедшее при его жиз-
ни отдельным изданием (1849).
На страницах газеты были опубликованы многочисленные
фельетоны Веерта — в стихах и прозе. Веерт был неистощим в
остроумии, виртуозно использовал разные жанры и средства сати-
ры: пародии, стилизации, монтажи1.
Умная и дерзкая сатира Веерта, озаренная боевой революцион-
ной мыслью, пронизанная уверенностью в грядущей победе проле-
тариата,— явление уникальное в европейской литературе XIX ве-
ка. «Первый и самый значительный поэт немецкого пролетариа-
та...»2, Веерт выступает как ранний предшественник литературы
социалистического реализма. «В творчестве Веерта воплощен ряд
важнейших новаторских черт, характерных для зарождающейся под
знаком социалистической партийности молодой пролетарской ли-
тературы»3.
Преждевременная смерть Веерта (он умер в Гаване в июле
1856 года) была тяжело воспринята в кругу его соратников по
Союзу коммунистов. Буржуазное литературоведение многие деся-
тилетия замалчивало его наследие. Заслуга открытия Веерта в
XX веке принадлежит советской науке4, первое полное собрание
сочинений издано Бруно Кайзером в ГДР к столетию со дня смерти
писателя.
1 См.: Матузова Н. М. Проза Г. Веерта в «Новой Рейнской газете».
Киев, 1957.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 4.
3 Д ы м ш и ц А. К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература. М., 1973,
с. 238.
4 См.: Шиллер Ф. П. Георг Веерт. М.—Л., 1932.
255
ШАНДОР ПЕТЕФИ
Венгерский народ вел многолетнюю борьбу за свободу и неза-
висимость своей родины. Турецкое владычество продолжалось
сто пятьдесят лет. На смену туркам-завоеватеЛям пришли австрий-
цы. Венгрия стала частью Австрии. Национально-освободительное
движение было направлено против иноземных и собственных фео-
далов. Идеи французской революции пробудили национальное
самосознание в венгерском народе.
Литература романтизма опиралась на народную поэзию и на-
циональное прошлое: драмы К. Кишфалуди (1788—1830), лирика
Ф. Кёлчеи (1790—1838), романы М. йошики (1794—1865), стихи
и поэмы М. Вёрёшмарти (1800—1855). Расцвет романтизма со-
провождался развитием реализма.
Ш. Петефи (1823—1849) и Я. Арань (1817—1882), «опираясь
на народную поэзию, создали поэзию национальную и выразили
на ее языке общечеловеческое содержание»1. Большую ценность
наследия Петефи составляют его письма Яношу Араню. «Перепис-
ка, рожденная дружбой двух поэтов, представляет собой выдающе-
еся явление европейской мысли, как переписка Гете с Шиллером,
Чернышевского с Некрасовым и Добролюбовым»2. В 1847 году в
письме к Я. Араню Петефи сформулировал свое кредо: «Что прав-
диво, то естественно, что естественно, то и хорошо, а следовательно,
и красиво — вот моя эстетика». «Что бы там ни говорили,— про-
должал Петефи, — а истинная поэзия — поэзия народная. Согла-
симся на том, что ее надо сделать господствующей».
Его отец, И. Петрович, родом серб, мелкий торговец скотом,
впоследствии разорившийся, а мать — из бедной словацкой семьи.
Когда отец разорился, талантливый юноша вынужден был оставить
гимназию. Он много ездил по родной стране. На каждом шагу
сталкивался с нищетой, несправедливостью. Нужда заставила
Ш. Петефи записаться в солдаты, в 1841 году он по болезни был
уволен из армии, работал странствующим актером, зарабатывал
на хлеб переводами и перепиской. Он хорошо знал, как тяжело
жилось трудовому народу под двойным гнетом своих помещиков
и австрийских властей.
Поэзия 1842—1847 ГОДОВ. Творчество Ш. Петефи продолжа-
лось всего восемь лет. Начал он со стихотворений в духе народ-
ных песен, продолжая традиции В. М. Чоконаи, одного из круп-
нейших лириков Венгрии, умершего за два десятилетия до рожде-
ния Петефи. Юность прожита им в деревне, среди людей труда,
в степной равнине междуречья Тиссы и Дуная (по-венгерски Аль-
фельд). Поэтому он смог глубоко выразить мироощущение простых
людей, их неудержимое стремление к воле, свободе. Герои многих
1 Ш е т е р И. Петефи и мировая поэзия.— В кн.: Петефи в мировой куль-
туре. М., 1975, с. 11.
П а н д и Пал. Петефи. — В кн.: Петефи Ш. Стихотворения. Поэмы. М.,
1971, с. 5. (Б-ка всемирной лит-ры, серия II, т. 100).
256
его произведений — землепашцы и пастухи, табунщики и вольные
люди, «бетьяры», из степей Альфельда. «Этот пестрый народный
мир не был для Петефи экзотикой романтизма, для него это по-
вседневная реальность.
То, как Петефи изображал крестьянскую жизнь, прибегая
к форме народных песен с их лаконизмом и непосредственностью,
являлось по существу революционным новаторством в поэзии»1.
Многие стихи поэта стали популярными народными песнями («Раз
на кухню залетел я...», «Торг» и др.).
В стихотворениях Петефи значительное место занимают темы
родины, природы, любви.
Тепло вспоминал Петефи «скромный домик, домик у Дуная».
В своих произведениях поэт часто обращался к реке Тиссе. В «Пу-
тевых письмах» он отмечал: «Люблю я эту реку! И люблю, быть
может, потому, что она венгерская с головы до ног: рождается на
нашей родине и на ней же умирает...»; «Средь размытых берегов
река катится, прозрачна, широка...» («Тисса», 1847, пер. В. Ае-
вика).
Зимняя метель напоминала поэту о простых тружениках, мерз-
нувших от холода: поденщиках, солдате на карауле, словаке лу
дильщике, бродячем актере, цыгане («Зимнее время», 1846, пер.
В. Левика). Для стихотворений Петефи характерен нарастающий
в них драматизм, «неожиданная ударная концовка». А. В. Луна-
чарский отмечал, что поэт умел придать «особую пикантность
целому стихотворению изюминкой, помещенной в последней стро-
ке». Так, последняя строфа стихотворения «Зимнее время» закан-
чивается двумя строчками: «Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт и
в теплой комнате сидит».
Кроме стихотворений пейзажных и лирических, мы встречаем
стихи-раздумья, поэтические сентенции. Так, в стихотворении
«Что ела ты, земля?» (1845) поэт размышляет над тем, как много
в жизни равнодушия и горя.
В негодовании против мира крови и слез поэт создает смелый
образ:
Такой бы вихрь вдруг начался,
Чтоб раскололо небеса
И вышвырнуло шар земной
Сквозь щель вот эту в мир иной!
(«Такой бы вихрь вдруг начался...» Пер. Л. Мартынова)
«Витязь Янош» (1844). В письме к Араню от 23 февраля
1847 года Петефи определил свои взгляды на создание новой
эпической поэзии: «Ты спрашиваешь меня, не химера ли создание
серьезного эпоса, написанного в народном духе и на языке народа?
Я думаю, что нет, и ты хорошо сделаешь, если как можно скорее
возьмешься за него. Только короля не выбирай героем, даже Ма-
1 Ш е т е р Иштван. Петефи и мировая поэзия.— В кн.: Петефи в мировой
культуре. М., 1975, с. 18.
237
9 История зарубежной литературы XIX века
таша1 не надо». Героем поэмы «Витязь Янош» Петефи сделал
крестьянского парня.
Поэма написана «в духе наивно-героического народного эпоса»2.
Мотивы народной жизни (горькая участь бедняков, сирот) поэтом
переплавлены с элементами фантастики народной сказки (полет
Яноша на облаке, грифе, приход в страну великанов, поединок с
драконом, царство тьмы, царство фей и др.). Неповторимый фоль-
клор венгерского народа, фантастическое, чудесное органично во-
шли в структуру образа. Бережно относясь к фантастике народных
сказок, Петефи смещал географические пояса: в Италии у него
царил вечный холод, Франция располагалась рядом с Индией.
Петефи ввел в большую литературу героя из народа, подки-
дыша, который преодолел все трудности (не утонул во время
кораблекрушения, победил разбойников, турок-великанов, драко-
на), но нет ему счастья на земле, его он обретает только в царстве
фей.
Много славных подвигов совершил Янош, но превыше всего
ставит Петефи высокие моральные качества простых людей. Янош
вспоминал:
Когда я уходил, не заклинал я милой,
Чтоб сердца своего другому не дарила.
Она мне верила с таким же простодушьем,
Мы знали — верности друг другу не нарушим.
Пер. Б. Пастернака
Янош отказался жениться на дочери французского короля,
остался верен крестьянской девушке Илушке.
В поэме нет речи о революции, но поэт связал надежды и чая-
ния ее героя с мечтой народа о свободе, счастье и справедливости.
Он создал символический образ будущего.
Поэма — классическое произведение венгерской народной
поэзии. Она положила начало эпическим национальным произве-
дениям. Идеальные герои романтической поэмы, ее удивительная
лиричность, в сочетании с чудесным, фантастическим, не оставля-
ют читателя равнодушным.
Петефи ВО время революции. Петефи отличался глубоким
продуманным политическим мировоззрением, которое в наиболее
существенных чертах обнаруживает последовательное сходство с
учением школы Бабефа-Буонарроти, коммунистов-утопистов, при-
знававших необходимость установления временной революционной
диктатуры в период перехода от старого общества к коммунисти-
ческому. Поэт глубоко чтил национальных героев борьбы за сво-
боду: Д. Дожа, вождя крестьянского восстания 1514 года, Ф. Ра-
коци, вождя национально-освободительной борьбы 1703—1710 го-
1 Маташ Хуньяди, или Матвей Корвин (1443—1490) — венгерский король,
вел успешную борьбу против Османской империи, угрожавшей независимости
Венгрии.
2 П а н д и Пал. Петефи.— В кн.: Петефи Ш. Стихотворения. Поэмы. М.,
1971, с. 14. (Б-ка всемирной лит-ры, серия II, т. 100).
258
дов, венгерского якобинца И. Мартиновича, участника революци-
онного заговора 1795 года.
Петефи создал образ поднявшегося на борьбу народа. За год
до революции в Венгрии поэт предупредил угнетателей, что их
ждет суровая народная кара:
Вы Дёрдя Дожу помните судьбу:
Его сожгли на раскаленном троне,
Но дух живет. Огонь огня не тронет!
И берегитесь пламень тот тревожить —
Он всех вас может уничтожить!
«От имени народа». Пер. Л. Мартынова
Поэт понял, что время королей прошло, он выступил за рес-
публику и в своем программном стихотворении «Поэтам XIX века»
выразил мечту о лучшем устройстве человеческого общества.
Расцвет творчества поэта приходится на 1848 год. Его поэзия
стала символом единства страстного слова с живым революцион-
ным делом. Зимой 1845/46 года Петефи знакомится с революцион-
ными идеями домарксистских социалистов-утопистов, с историей
французской революции, написанной с якобинских позиций. На-
чиная с мая 1846 года, поэт пишет о «всемирной свободе», которую
принесет революция. Об этом он сообщает в одном из лучших
стихотворений «Одно меня тревожит...». Накануне революции ее
признанным вождем стал Ш. Петефи. Он и его товарищи из «Мо-
лодой Венгрии» явились инициаторами организации революцион-
ного выступления народа Пешта 15 марта 1848 года, положившего
начало революции и освободительной войне Венгрии 1848—1849 го-
дов. На деятелей «Молодой Венгрии» особенно глубокое влияние
оказали идеи французской революции конца XVIII века, деятель-
ность Робеспьера, Марата, Сен-Жюста. «Национальная песня»
(1848) Петефи стала гимном революции:
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Пер. Л. Мартынова
Петефи призывал народ к решительным действиям и в стихо-
творениях «Шумим, шумим...», «Жизнь или смерть» (1848).
В «Старом знаменосце» он запечатлел подвиг своего отца, добро-
вольца, участвовавшего в боях против войск Елашича в качестве
знаменосца.
«Апостол». В августе 1848 года в тяжелое время, когда войска
Елашича двигались к Пешту, поэт написал одну из лучших своих
поэм «Апостол», подводившую итог творчеству. Стойкий револю-
ционер Сильвестр, выходец из народа, видел смысл жизни в
освобождении народа от рабства. Им пройден трудный путь. Он
боролся с богачами, их приспешниками, с невежеством и предрас-
судками людей, ради которых он начал вести неравную борьбу.
259
Два человека понимали Сильвестра: учитель, поддержавший
его в трудную минуту, и дочь состоятельного человека, ставшая
впоследствии его женой. Сильвестр выполнил наказ учителя. На-
копленными знаниями и опытом он охотно делится с крестьяна-
ми, пригласившими его к себе в деревню нотариусом. Они ценили
его. За свою революционную книгу Сильвестр отсидел десять лет
в тюрьме. Но ничто не могло сломить его волю, поколебать убеж-
дения. За покушение на короля Сильвестр был казнен, но народ
его не забыл. Образ Сильвестра стал первым образом сознатель-
ного революционера-борца в национальной литературе.
В героической поэме «Апостол», «самом трагическом из всех
произведений Петефи, национальный опыт художника-гражданина
неразрывно сплетен с опытом европейской социальной истории,
общественной мысли и искусства»1.
Особенности поэзии Петефи. В поэзии Петефи, развивавшей-
ся на народно-фольклорной основе, романтические и реалистические
тенденции, революционно-демократические идеи получили наиболее
законченное художественное выражение. Смелая гражданская ав-
торская позиция выражена в «Моем лучшем стихотворении». Поэт
считал, что славу ему принес стих, в котором
О! Слово «смерть» клинком горящим
Впишу я в тысячи сердец!
Вот это будет настоящим
Стихотвореньем наконец.
Пер. Л. Мартынова
Петефи глубоко сознавал высокое назначение поэзии:
Вам кажется: поэзия — тележка.
Дорога есть, лошадка есть — садись!
Но стих — орел! Свободно он взлетает
Туда, где нет путей, — на волю, ввысь!
«Подражателям» (1844). Пер. А. Ромма
Поэзия Петефи не только завершила длившийся более полувека
процесс формирования демократического сознания венгров, процесс
борьбы за национальное освобождение и преобразование общества,
но и открыла новую эпоху в развитии венгерской литературы. Пе-
тефи воплотил в жизнь им самим сформулированную программу:
«Настоящая поэзия — это поэзия народная, и именно она должна
стать господствующей. Властвуя в поэзии, народ приблизится и к
господству в политике, а в этом — задача века...»2.
К началу 60-х годов Петефи был уже известен в России как
деятель национального возрождения3.
1 Неупокоева И. Г. Революционно-романтическая поэма первой по-
ловины XIX века. Опыт типологии жанра. М., 1971, с. 312.
2 П а н д и Пал. Петефи. — В кн.: Петефи Ш. Стихотворения. Поэмы. М.,
1971, с. 24. (Б-ка всемирной лит-ры, серия II, т. 100).
3 См.: Гершкович А. А. Петефи и Россия. — В кн.: Петефи в мировой
культуре. М., 1975.
260
СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Западная и Центральная Европа. США. 1830—1849 годы-
Годы
1830
27—29
июля
1831
1832
июнь
1833
История
Революция в Париже.
Свержение Бурбонов.
Установление так называе-
мой «июльской монархии»
Луи Филиппа. Начало за-
воевания Францией Ал-
жира
Восстание рабочих в Лио-
не. Начало 30-х годов—
начало массового движе-
ния против рабства в США
Республиканское восстание
в Париже
Наука и философия
Б. Анфантен. Изложение
учения Сен-Симона
Гейне. «Романтическая
школа»
1
Литература
Стендаль. «Красное и чер-
ное»
Гюго. «Собор Парижской бо-
гоматери»
Бальзак. «Шагреневая кожа»
Ж. Санд. «Индиана»
А. Мицкевич. «Дзяды» (3-я
часть)
Д. Леопарди. «Песни»
Гюго. «Король забавляется»
Мериме. «Мозаика» (сборник
новелл)
Гете. «Фауст» (2-я часть)
Бальзак. «Евгения Гранде»
Ж. Санд. «Лелия»
Л. Берне. «Письма из Па-
1 рижа»
Искусство
Берлиоз. Фантастическая
симфония
Мейербер. «Роберт-дья-
вол»
Беллини. «Норма»
Шопен. Девять мазурок
Продолжение
Годы
1834
1835
1836
1837
1838
1839
История
Восстание рабочих в Лио-
не «Общество прав че-
ловека» в Гессене (Гер-
мания) под руководством
Г. Бюхнера
Запрещение деятельности
«Молодой Германии»
Начало агитации чартис-
тов
Организация в Париже
тайного общества «Вре-
мена года» (во главе с
О. Бланки)
Наука и философия
Бюхнер. «Послание гес-
сенским крестьянам»
Гейне. «К истории рели-
гии и философии в Герма-
нии»
Публикация лекций по эс-
тетике Гегеля
Морзе. Первый опыт элект-
рического телеграфа
Литература
Бальзак. «Отец Горио»
Ж. Санд. «Жак»
А. Мюссе. «Лорензаччо»
А. Мицкевич. «Пан Тадеуш»
Виньи. «Чаттертон»
Бюхнер. «Смерть Дантона»
Андерсен. Сказки
Диккенс. «Очерки Боза»
Бюхнер. «Войцек» и «Ленц»
Мюссе. «Исповедь сына века»
Гюго. «Рюи Блаз»
Мериме. «Венера Илльская»
Диккенс. «Посмертные запис-
ки Пиквикского клуба»
Бальзак. «Утраченные иллю-
зии»
Диккенс. «Приключения Оли-
вера Твиста»
Стендаль. «Пармская оби-
тель»
По. «Падение дома Аше-
ров»
Искусство 1
Доницетти. «Лючия де
Ламмермур»
Мейербер. «Гугеноты»
Шуман. «Крейслериана»
(2-я редакция, 1850)
Берлиоз. «Ромео и Джу-
льетта»
Шопен. Две прелюдии
Шуман. «Венский карна-
вал»
1840
1841
1842
1843
Л. Фейербах. «Сущность
христианства»
«Рейнская газета» в Кель-
не (январь 1842 — март
1843, с 18.Х. 1842 под ре-
дакцией К. Маркса)
Бальзак. Предисловие к
«Человеческой комедии»
Мериме. «Коломбо»
Купер. «Следопыт»
Ж. Санд. «Орас»
Г. Гервег. «Стихи жи-
вого»
Купер. «Зверобой»
По. «Убийство на улице
Морг»
Дикхенс. «Американские за-
метки»
Ж. Санд. «Консуэло»
Сю. «Парижские тайны»
Бальзак. «Утраченные иллю-
зии», «Блеск и нищета курти-
занок»
Гейне. «Атта Тролль»
По. «Золотой жук»
Шуман. Вокальные циклы: 1
«Любовь и жизнь женщи- 1
ны» (на текст Шамиссо) и
«Любовь поэта» (на текст
Гейне)
1844
Восстание ткачей в Силе-
зии. Начало сотрудниче-
ства Маркса и Энгельса
Петефи. «Витязь Янош»
Дюма. «Три мушкетера»
Мериме. «Арсена Гийо»
Диккенс. «Мартин Чезльвит»
Гейне. «Германия. Зимняя
сказка»
Шуман. Сцены из «Фаус-
та» Гете (начало работы)
Продолжение
Годы
1845
1846
1847
1848
1849
История
Фев.—март. Восстание в
Кракове (Польша). Ос-
нование К. Марксом и
Ф. Энгельсом коммунисти-
ческого комитета связи в
Брюсселе
II Конгресс союза комму-
нистов (Лондон)
22—24 февраля — револю-
ция в Париже, 15 марта—
в Будапеште, 18—22 мар-
та — восстание в Милане
и Венеции, 23—26 июня —
восстание парижских ра-
бочих
Май. Вооруженное вос-
стание в Дрездене.
31.VII — 17.VIII — подав-
ление венгерской револю-
1 ции. Гибель Петефи.
Наука и философия
К. Маркс и Ф. Энгельс
«Святое семейство»;
Ф. Энгельс. «Положение
рабочего класса в Англии»
К. Маркс и Ф. Энгельс
«Манифест Коммунистиче-
ской партии»;
Выход в свет «Новой рейн-
ской газеты» (Кельн) под
ред. К. Маркса
19.V.49. Закрытие «Но-
вой Рейнской газеты»
Литература
Э. Сю. «Агасфер»;
Ж- Санд. «Мельник из Ан-
жибо»;
А. Дюма. «Граф Монте-Кри-
сто»;
Мериме. «Кармен»
Теккерей. «Книга снобов»
Фрейлиграт. «£а ira!»
Г. Веерт. Наброски из не-
мецкой торговой жизни;
Ш. Петефи. «Национальная
песня», «Апостол»
Диккенс. «Домби и сын»;
Теккерей. «Ярмарка тщесла-
вия»
Л. Кэролл. «Алиса в стране
чудес»
Г. Мелвилл. «Марди»
Искусство
Р. Вагнер. «Тангейзер»
Берлиоз. «Осуждение
Фауста»
ЛИТЕРАТУРА
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США
ПОСЛЕ 1848 ГОДА
Революции 1848—1849 годов (во Франции, Германии, Авст-
рии, Венгрии) коренным образом изменили общественную си-
туацию в Западной Европе. Во Франции и Англии окончательно
упрочился у власти класс буржуазии, в Германии — буржуазия
в союзе с дворянством. Это стало причиной тяжелого разочаро-
вания всех передовых людей. В статье «Памяти Герцена» В. И. Ле-
нин писал, характеризуя эту эпоху: «...Революционность буржуаз-
ной демократии уже умирала.., а революционность социалистиче-
ского пролетариата еще не созрела»1.
В зависимости от специфики исторических условий каждой
из стран Запада складывается характер национальных литератур,
в которых сосуществуют в этот период разные художественные
направления. Продолжается жизнь романтизма, неоднородного в
разных литературах по своим истокам и направленности. Новое
качество приобретает критический реализм. Отталкиваясь от того
и другого, возникают новые теории, получающие большую или
меньшую популярность, новые эстетические принципы.
Особенности романтизма В 50—60-е ГОДЫ. Романтизм
представлен яркими творческими индивидуальностями — во Фран-
ции продолжают писать Гюго и Жорж Санд. В полной мере право-
мочным остается романтизм в немецком искусстве. Именно здесь
мы находим последнее яркое явление романтического метода в лице
Рихарда Вагнера. И примечательно, что эпическая масштабность
в немецкой литературе XIX века была достигнута не реалистиче-
ским романом, а романтической тетралогией Вагнера «Кольцо Ни-
белунгов».
Вагнер прежде всего великий композитор, но в то же время
выдающийся мыслитель, теоретик искусства, драматург, обогатив-
ший мировую литературу новыми идеями и образами. Сформиро-
вавшийся, в отличие от Гюго и Жорж Санд, в новой исторической
действительности, Вагнер рассматривает судьбу личности в свете
исторического опыта XIX века, века утверждения буржуазного
общества. В его творчестве, как справедливо отмечает советский
исследователь А. Лосев, звучит «душераздирающий вопль против
всякой власти золота, против обмана и насилия, против обществен-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 256.
265
ной неправды и человеческой несправедливости, против личного
самовознесения, против стремления покорить все только одной
своей воле, против обожествления личности»1.
Романтические традиции, как идейные, так и художественные,
проявляются и у другого выдающегося немецкого драматурга
Фридриха Геббеля (1813—1863). Черты романтизма очевидны в
творчестве таких живописцев Германии, как Мориц фон Швинд
и Людвиг Рихтер. В Бельгии появляется Шарль де Костер (1827—
1879) с романом «Легенда об Уленшпигеле...» (1867). К 50—
60-м годам относится первый период творчества норвежского дра-
матурга Генрика Ибсена, автора драм «Воители в Хельгеланде»,
«Претенденты на престол», «Бранд», «Пер Гюнт».
В позднем романтизме претерпевает существенные изменения
концепция личности. Давно развенчан герой, гордый отщепенец,
которого ввел в литературу Байрон. Даже одиноко бунтующий
ибсеновский Бранд уже не идентичен байроническому герою. Хотя
и безуспешно, но он все же пытается повести за собой массы
своих приверженцев.
На характере героев и структуре произведений поздних роман-
тиком не мог не сказаться опыт народных движений XIX века.
Самые патетические страницы в романе Гюго «Отверженные» по-
священы не только Ватерлоо (это отзвук давних лет, когда личность
Наполеона поражала воображение современников), но и респуб-
ликанскому восстанию, его бесстрашным участникам, таким, как
Анжольрас и Гаврош. А героями последнего романа Гюго «93 год»
(1874) выступают и командиры революционной армии Говен и
Симурден, и рядовые участники революции, такие, как сержант
Радуб.
Романом о восставшем народе является «Легенда об Уленшпи-
геле» Ш. де Костера, и Уленшпигель в ней не просто герой из
народа, он вместе со своим другом Ламме и возлюбленной Неле
воплощает нравственную силу простых тружеников, их обществен-
ную позицию в годы тяжких испытаний. «Индивидуум становится
типом. Тип делается символом», — писал Р. Роллан, приводя слова
Уленшпигеля: «Я уже не плоть, а дух... Дух Фландрии... Я ни-
когда не умру»2.
В своем романе Ш. де Костер опирается на традиции народно-
го эпоса. Об этом, в частности, свидетельствует и то, как пред-
ставлено художественное время в романе: исторические события
сменяются одно другим, но герои не стареют,— они как бы вне
времени и тем символизируют бессмертие народа3.
Особо следует сказать о романтизме США — центральном на-
правлении американской литературы, объединившем большой круг
мастеров слова. Его пафос — протест против нравственной ущерб-
1 Вопросы эстетики. М., 1968, вып. 8, с. 158.
2 Р о л л а н Р. Уленшпигель. — В кн.: Роллан Р. Собр. соч. в 14-ти томах.
М: 1958, т. 14, с. 521.
3 О Ш. де Костере см.: Андреев Л. Г. Сто лет бельгийской литературы.
М., 1967; Литвинов П. В. Де Костер и Бельгия. Баку, 1973.
266
Курбе. Дробильщики камней.
Масло. 1851 г.
ности человека при развитом капитализме. Заметное влияние
европейских (главным образом, английских) романтиков не мешало
яркому своеобразию выступивших здесь писателей. Отвращение
к капиталистическому прогрессу, провозглашение величия природы
связаны здесь с защитой человеческих прав «детей природы» —
индейского населения.
Поэтизация быта индейцев — в против положность меркантиль-
ному цивилизованному миру — составляет пафос поэта-романтика
Генри Лонгфелло (1807—1882). С отрицанием буржуазных прин-
ципов выступает Герман Мелвилл в известном романе «Моби
Дик» (1851). Генри Дэвид Торо создает произведение «Уолден,
или Жизнь в лесу» (1849—1854), оригинальное художественное
выражение романтической философии, согласно которой человек —
это частица живого мира, а не придаток цивилизации. Неприятие
капиталистического общества у американских романтиков тради-
ционно для романтизма.
На почве романтизма возникает и творчество американского
поэта Уитмена. На примере Уитмена хорошо просматривается и
связь времен. Подхвативший и по-новому осмысливший романти-
ческую традицию, Уитмен создал такую систему образов, нашел
такие художественные решения, которые получили настоящее при-
знание только в XX веке.
Важнейшим рубежом в истории США явилась Гражданская
война между промышленным Севером и рабовладельческим Югом
(1861 —1865); им завершался и долгий период господства роман-
тизма в американской литературе.
267
При всей заметной роли романтизма в 50—60-е годы многое в
литературной жизни стран, прежде всего европейских, обусловлено
отрицательной реакцией на романтическое мировоззрение.
Итоги 1848 года были особенно болезненными для Франции,
страны трех революций. Разочарование в новой послереволюцион-
ной действительности вылилось у французских художников в от-
вращение к идеям общественного переустройства, к политическим
вопросам. Видя во всем этом лишь проявление своекорыстного
буржуазного делячества, они чувствовали, по выражению Теофи-
ля Готье, «непреодолимый ужас перед филантропами, прогрессис-
тами, утилитаристами, утопистами, гуманистами и всеми, кто
тщится что-нибудь изменить в неизменной природе и в роковом
устройстве общества»1. Отсюда общее настроение всей лучшей
части французской литературы этих лет, которое русский поэт-
революционер Якубович-Мельшин (переводчик Бодлера) опреде-
лил словами: «боль, ужас, негодование».
Революционным волнам во Франции постоянно сопутствовал
романтизм; как искусство, отрицающее действительность по самой
своей природе, он был ответом на неудовлетворительность перемен,
приносимых каждой из революций. Дух протеста продолжал жить
в окончательно обуржуазившейся Франции — последним взрывом
его стала впоследствии Парижская Коммуна. Именно этим объяс-
няется, что после 1848 года является на свет многое из созданий
великих французских романтиков. Но в этот же период появляется
своего рода оппозиция романтизму, проявляющаяся в различных,
иногда даже взаимоисключающих эстетических взглядах.
Новые черты литературы реализма. Так, например, возни-
кает официозная литература под названием «школа здравого смыс-
ла»; она существует и в годы Второй империи, прославляя бур-
жуазные нравы и процветание господствующего класса. Склады-
вается и более демократическая по своей тематике литературная
группа, возглавляемая писателями Шанфлери и Дюранти, издаю-
щими в 1856—1857 годах журнал «Реализм», а затем сборник
критических статей под тем же названием. Ее цель — «правдивое,
наивное и искреннее искусство», материалом которого надо брать,
по словам Шанфлери, «то, что видел»2.
Сторонники Шанфлери упрекают предшествующее поколение
реалистов в «воображении», в излишне активной, по их мнению,
оценке изображаемого, якобы затмевающей объективный жизнен-
ный материал. Однако это отрицание «воображения» было, по сути
дела, отказом от обобщения и осмысления фактов социальной
жизни у таких мастеров реализма, как Бальзак, Стендаль, Дик-
кенс. Идеал реализма Шанфлери и Дюранти находили в творче-
стве своего современника — замечательного живописца Гюстава
Курбе.
1 Готье Т. Шарль Бодлер. — В кн.: Бодлер Ш. Цветы Зла. М., 1908.
с. 16.
2 Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935, с. 73.
268
Курбе был бесспорным новатором в изобразительном искусстве.
Свои картины, отвергнутые парижским Салоном, он выставляет в
1856 году под названием «Павильон реализма» (именно с этого
времени широко входит в обиход термин «реализм»). Картины
Курбе изображают довольство буржуазии, нищету народа, труд
рабочих («После обеда в Орнане», «Похороны в Орнане», «Дро-
бильщики камней»). Это полотна, исполненные выразительности и
динамики, яркое воплощение куска действительности. Мастерством
в передаче характера отличается известный портрет Бодлера, при-
надлежащий Курбе. Но для литературы, которая стремилась до-
стигнуть художественного уровня Курбе, метод наглядного пред-
ставления, описательности без анализа причин и следствий «того,
что видит» писатель, был недостаточным. Группа Шанфлери —
Дюранти, однако, считала целью литературного творчества только
показ явлений, утверждая, что в этом и состоит максимальная прав-
дивость произведения. При таком суждении не учитывалось раз-
личие изобразительных возможностей, а соответственно и задач
живописи и литературы.
В итоге под пером Шанфлери — Дюранти французский реализм
достиг расширения тематики, но утратил аналитическую глубину,
а вместе с тем и былое величие метода. Не случайно ни один из
их последователей не достиг в литературе высоты, равной Курбе.
Наследником реалистических традиций 30—40-х годов, разрабо-
тавшим при этом новые художественные принципы и средства, стал
Флобер.
В Англии 1848 год связан с подавлением чартизма, а конец
50-х годов — с полным спадом борьбы рабочего класса. Это за-
тишье в политической жизни отражают новые идеологические и
философские тенденции. Центральной среди них становится пози-
тивизм Герберта Спенсера — учение, явно антиреволюционное по
своей сути. В соответствии с ним законы человеческого общества
понимаются по аналогии с законами животного мира, а обществен-
ные противоречия — как вечное, непреходящее противоречие между
человеком и природой. Биологизаторский характер теории разви-
тия общества складывается в значительной степени и под влиянием
появившегося в 1859 году труда Ч. Дарвина «Происхождение видов
путем естественного отбора». Позитивизм считал возможным лишь
регистрацию явлений, без анализа их первопричин. Отсюда выте-
кала необходимость признания всего существующего порядка и
примирения с ним, как с естественным и не подлежащим измене-
нию. Такое миропонимание ориентировало искусство и литературу
на излишний объективизм, состоящий в отказе от оценки социаль-
ной действительности. В художественной практике это должно
было привести к тому же, что мы находим и у французских реали-
стов этого периода: к полному подчинению «фантазии» — «на-
блюдению»; к исчезновению авторской позиции в произведении;
к описательности. Позитивистские идеи о зависимости искусства
от «расы», «среды» и «момента» выдвинуты Ипполитом Тэном во
введении к его «Истории английской литературы» (1863).
269
Философские идеи оказыва-
ли воздействие на судьбу ан-
глийского реалистического ро-
мана. Творчество наиболее вы-
дающихся романистов, таких,
например, как Джордж Элиот
(псевдоним писательницы Мэри
Энн Ивенс), отличается широ-
той бытовой тематики и демо-
кратическими симпатиями ав-
торов. Однако у них демокра-
тичность выглядит скорее
апелляцией к власть имущим,
чем протестом против социаль-
ного неравенства. Примечатель-
но, что английские писатели
этого периода, как и француз-
ские, стремясь во многом следо-
вать мастерам первой половины
Ж. Ф. Милле. Сеятель. века> высказываются, тем не
Литография. 1851 г. менее, против средств типиза-
ции у Диккенса, против острых
ситуаций и поворотов сюжета; как и во французской литературе,
здесь проявляется стремление к «роману фактов». Но в отличие
от Франции, английский реализм в эту пору не дал великого
художника, подобного Флоберу.
Высший уровень искусства представлен и в эти годы писате-
лями поколения 30—40-х годов, прежде всего Диккенсом. В его
романах усилены темы эксплуатации трудящихся и классовой борь-
бы. Именно у него, как и у Ш. Бронте и Э. Гаскелл, наиболее
сильно даны образы простых людей. Однако и у них все чаще
проскальзывает мотив примирения противоречий; «счастливый
конец» произведений больше соответствует мечтам о победе гума-
низма, чем жизненной правде, реальной социальной картине.
Убежденность в общественной несправедливости нередко подме-
няется мыслью о неуправляемой, как бы естественной нестабиль-
ности положения человека в жизни: показательно, что роман Дик-
кенса «Крошка Доррит» (1857) первоначально был озаглавлен
«Никто не виноват». Беспощадное разоблачение все чаще заменяет-
ся утопической верой в торжество добра. Таким образом, в англий-
ском реализме, при всей разности представляющих его величин,
складывается общая тенденция к идеалу буржуазной демократии.
В немецкой литературе с поражением революции 1848—1849 го-
дов завершился тот длительный (с 70-х годов XVIII века) этап,
с которым был связан ее огромный мировой авторитет. Заканчи-
вается творческий путь Гейне — последнего из великих немецких
поэтов XIX века. Так или иначе прекращается деятельность по-
литических поэтов и публицистов, открывших новую страницу
европейской литературы в «предмартовское десятилетие» (Веерта,
270
Фрейлиграта). Наибольшую известность среди немецкоязычных
авторов получают в это время швейцарцы — Готфрид Келлер и
Конрад Фердинанд Майер.
В отличие от Франции и Англии, немецкий реализм 30—40-х
годов не создал великих традиций, которые могли бы быть про-
должены или оспорены. Нет крупного художника и среди реалистов
нового периода. Однако это не означает, что реалистическая ли-
тература Германии второй половины века не заслуживает внимания.
Как и в других странах, она часто обращается к простому человеку,
к повседневной жизни. 50—60-е годы для немецких земель — канун
объединения в единое государство. Незрелость их социального
развития питает патриархальные иллюзии писателей — своего рода
внутренний протест против наступления капитала. Это создает
романтический колорит произведений Теодора Шторма и Виль-
гельма Раабе, безусловно принадлежащих реализму. Созданные
ими картины действительности связаны с передачей своеобразия
той или иной из местностей Германии. Попытка глубоких социаль-
ных обобщений сочетается с мотивами грусти по поводу отмираю-
щей патриархальности быта, с сетованиями на то, что прогресс не-
сет с собой обесчеловеченность. Чаще всего зарисовки в духе роман-
тизма представляют и изображение природы. С творчеством немец-
ких писателей этого периода связан важный этап развития евро-
пейской новеллистики: также не без влияния романтизма Раабе и
Шторм создают образцы психологической новеллы.
Таким образом, можно говорить о новом характере западноев-
ропейского критического реализма в 50—60-е годы. Это прежде
всего изменение масштаба изображения — перенесение острых
социальных конфликтов в психологическую, как бы более частную
сферу. У таких больших художников, как Флобер, это не снимает
силы социального обличения, тогда как у менее выдающихся при-
глушает социальное звучание. Заметна бо'лыиая демократичность
реалистической литературы по сравнению с предшествующим пе-
риодом: социальные слои представлены шире, чем у Стендаля,
Бальзака, Теккерея. Героем произведения обычно является сред-
ний буржуа или человек из низших социальных групп. Заметны
изменения и в художественных средствах: простота и безыскусст-
венность описания, точное соответствие слова изображаемому пред-
мету, отсутствие гиперболизации.
Важной приметой литературной эпохи является выход во вто-
рой половине XIX века на европейскую и мировую арену русского
реализма. Русский роман пока еще не оказывает значительного
влияния, но уже возбуждает живой интерес, заставляет задумы-
ваться — и писателей и критиков — над новым феноменом в миро-
вой литературе.
Общественно-историческая природа «чистого искусства»
в литературе Запада. С данным периодом связано еще одно
значительное явление в истории искусства и литературы. Вопреки
стремлениям реалистов к правдивому и детальному воспроизведе-
нию жизненного материала, в отдельных странах складывается
271
тенденция «освободить» искусство от жизни и единственной эсте-
тической ценностью сделать художественную форму. Это была
своеобразная оппозиция художников обездуховленной эпохе абсо-
лютного господства буржуазии, официальным требованиям, пред-
назначавшим искусству далеко не возвышенную роль. Так, напри-
мер, правительство Второй империи и сам Луи Бонапарт приветст-
вовали поверхностный, описательный реализм, особенно поощряя
«школу здравого смысла» — как пропаганду буржуазного быта,
характера, морали. Поэтому во Франции, по существу, обществен-
ным протестом против этого явилась идея «чистого искусства»,
ставшая эстетическим принципом группы «Парнас». Она означала
подчеркнутое нежелание писателей и поэтов принадлежать бур-
жуазной толпе, прославлять ее или воздействовать на ее нравы.
Формула «чистое искусство», или «искусство для искусства»,
которую выдвинул глава парнасцев Леконт де Лиль, требует
вдумчивого подхода. Мы отрицательно оцениваем ее в России
60-х годов в противовес боевому искусству революционных демо-
кратов. Здесь, в условиях революционной ситуации, тенденция
освободить искусство от служения интересам общества была без-
условно ошибочной и вредной. Но во Франции после революции
1848 года она означала отказ от проблем, которыми было занято
общество, лишенное идеалов, глубоко удовлетворенное своим се-
годняшним днем. Во Франции и в России формула «искусство для
искусства» имела, таким образом, совершенно разные аспекты.
Г. В. Плеханов писал: «Искусство выигрывает, отворачиваясь от
пошлости. Но когда оно отворачивается от великих исторических
движений, оно само проникается элементом пошлости»1.
В некоторых аспектах сближается с парнасцами группа поэтов
и живописцев Англии, названная «Прерафаэлитское братство».
Романтизм, который в ту пору нравственного измельчания бур-
жуазного мира представляется недостаточно верным жизненной
правде, становится объектом критики для большинства писателей по-
слереволюционного поколения. Но в то же время у Бодлера, напри-
мер, явно преломляются романтические традиции. Поэт подхватил
трагические мотивы европейского романтизма, и важнейший среди
них — безысходное одиночество творческой личности в современном
мире. Романтик Э. Делакруа написал картину «Тассо в темнице».
Бодлер развивает эту тему:
Мечтатель, ужасом разбуженный от сна,
Чей потрясенный ум безумью отдается,—
Вот образ той Души, что в мрак погружена
И в четырех стенах Действительности бьется.
Пер. В. Левики
В качестве высшей похвалы Флобер пишет Бодлеру по поводу
его стихотворений: «Вы нашли способ омолодить романтизм»2.
1 Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948, с. 307.
2 Флобер Г. Собр. соч. в 10-тн томах. М., 1938, т. 8, с. 57.
272
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ В СЕРЕДИНЕ
XIX ВЕКА
Переломное для исторических судеб Франции грозовое трех-
летье, открывшееся революционной «весной народов» в феврале
1848 года и завершившееся плачевным исходом в дни декабрьско-
го государственного переворота 1851 года, было переломным и
для французской литературы, включая поэзию. Отныне романтизм
оттесняется на ее обочины, становится достоянием расхожей ре-
месленной беллетристики и мало-помалу изживает себя. Правда,
его признанный вождь Виктор Гюго, очутившись в изгнании,
переживает пору щедрого творческого подъема, тогда как нахо-
дящийся у истоков последующих поисков западноевропейской ли-
рики Бодлер не столько отвергает, сколько перерабатывает и тем
плодотворно обновляет былую романтическую исповедальность.
И все же преобладающие теперь веяния шли с нею вразрез. Впер-
вые это внятно обозначилось в двух книгах 1852 года — в «Эмалях
и камеях» Готье, выходца из круга «младших романтиков», и в
«Античных поэмах» только начинавшего свой путь Леконт де Лиля.
Наметившиеся здесь перемены обрели полную отчетливость с вы-
ходом в 1866 году альманаха «Современный Парнас» (два других
его выпуска увидели свет в 1871 и 1876 годах); поэты, чьи стихи
были там представлены, получили наименование «парнасцы».
«Парнас». Совместными стараниями мастеров этого содруже-
ства, таких, как Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль (1823—1891),
Жозе-Мариа де Эредиа (1842—1905), упор в стихотворчестве пе-
реносится на описание, если не вовсе бесстрастное, то стараю-
щееся выглядеть безличностным; пластическая зрелищность, за-
стывшая скульптурность тут явно подминают душевное излияние.
О себе и сегодняшнем парнасцы пишут неохотно и редко, предпо-
читая зарываться в прошлое. Однако и тут сбивчиво-приблизи-
тельный, зато окрыленный романтический историзм вытесняется
куда более скрупулезно-точной, но зачастую тяжеловесной музей-
ной археологичностью. Природа, недавно столь одухотворенная —
приветливая или грозная, отныне предстает равнодушной, без-
молвной в своей отчужденности от человеческих запросов. В са-
мосознании лириков, еще вчера ставивших превыше всего непо-
средственную свежесть вдохновения, вольный полет вымысла, на
сеч Раз самой почитаемой ценностью объявляется искушенное
умение. И если парнасец, вслед за своими романтическими пред-
шественниками, по-прежнему мыслит себя на жреческий лад — по-
священным в последние тайны сущего, то вносимые теперь оттен-
ки весьма примечательны: он уже не столько певец-пророк, вве-
ряющийся наитию, сколько усердный мастер своего дела, вознаме-
Шииийся придать последнему почти научную выверенность.
арль Леконт де Лиль (1818—1894). Провозвестником ус-
тановок, возобладавших вскоре на страницах «Современного Парна-
са», и бесспорным вождем всего кружка выступил Леконт де Лиль.
273
Уже предисловие Леконт де Лиля к его первой книге «Ан-
тичным поэмам» (1852) прозвучало как манифест. В противовес-
Гюго, только что выпустившему свои пламенные «Возмездия», Ле-
конт де Лиль, переживший в бурном водовороте революции 1848 го-
да крушение освободительных надежд на политическое действие и
высокомерно удалившийся в заточение в «башню из слоновой ко-
сти», звал своих собратьев по перу покинуть поле жгуче злободнев-
ных гражданских страстей. И, разместившись в горних высях веч-
ности, взглянуть оттуда отрешенными очами на превратности че-
ловеческого житья-бытья и дали истории. Глашатаю нетленной
красоты и бессмертной истины, чтобы быть достойным своего при-
звания, негоже, по мнению Леконт де Лиля, выпячивать самого
себя, занимая благоговейно внемлющих ему обычных смертных нич-
тожно малыми треволнениями собственного сердца, а должно ве-
щать от имени боготворимых святынь. И в этом горделивом служе-
нии ему предписывается полнейшая самоотверженность, в букваль-
ном смысле самозабвенная безличностность. Она выражается не
только в подвижническом труде, которому Леконт де Лиль преда-
вался всю жизнь с истовым рвением, но и в самих плодах писа-
тельской работы — в их очищенности от личных «привнесений».
На деле такая искомая отрешенность — полнейшее исключение
самого созерцающего из того, что им запечатлевается,— удава-
лась Леконт де Лилю разве что в зарисовках растительного и жи-
вотного мира, вошедших в его «Варварские поэмы» (1862—1878) и
принесших ему славу крупнейшего стихотворца-анималиста Фран-
ции. Такова одна из самых совершенных — «Слоны»: зрелище тро-
пических исполинов, шествующих по раскаленным пескам пустыни,
где даже то, что находится в движении, волею Леконт де Лиля
оцепенело замирает («неподвижное волновое струение... медных
паров» знойного воздуха, красные дюны — как застывшая морская
зыбь), перекликаясь с сонной медлительностью тяжелой поступи
огромных животных:
Как глыбы темные, возникнув друг за другом.
Они идут в пыли незримою тропой
И давят напрямик безжалостной стопой
Нагие склоны дюн, лежащих полукругом.
Вожак их стар, как степь. Чудовищной корой —
Дубленой кожею его покрыло время;
Спина — могучий свод, а каменное темя —
Как бы живой утес над аспидной горой.
Безостановочно, неутомимым маршем
Ведет он спутников разорванную цепь,
И, тяжко бороздя пылающую степь,
Паломники бредут конвоем патриаршим.
Бредут, закрыв глаза. Тяжелые бока
Дымятся и дрожат. И вместе с душным потом
Над ними, как туман вечерний над болотом,
Клубятся жадных мух живые облака.
«Слоны». Пер. Л. Успенского
274
Что же касается стихотворных переложений легендарного ма-
териала — а именно они составляют большинство сочиненного Ле-
конт де Лилем,— то весь этот археологично-книжный эпос, посиль-
но выдерживая, да и то не всегда, бесстрастие внешнего облика,
в своем смысловом наполнении отнюдь не бесстрастен. Наоборот,
он философски густо насыщен, вбирает и по-своему преломляет
споры, кипевшие у самых средоточий умственной жизни тех лет.
А иной раз и перемежается яростной отповедью («Показчики»)
или откликами впрямую на политическую злобу дня («Освящение
Парижа», «Вечер после битвы»). Крайне пристрастным самоопреде-
лением в духовном пространстве середины XIX века был уже
пронизывающий все разрозненные куски этого эпоса взгляд на
историю как постепенное скольжение под уклон от «золотого века»
цивилизаций языческой Греции («Елена», «Ниоба»), древнейшей
Индии («Видение Брамы»), дохристианской Скандинавии
(«Смерть Сигурда», «Сердце Хиалмара») — через изуверство
церковников и злодеяния рыцарей-разбойников средневековья
(«Гипатия», «Агония святого», «Проклятые века», «Два меча») и
далее, через растленное торжище нравов XIX столетия и в конце
концов к неминуемо грядущей земной катастрофе («Багровое све-
тило»). И тем более своего рода притчей о житейской мудрости,
а следовательно, заповедью собственного исповедания веры и уро-
ком, предназначенным для других, были стихи Леконт де Лиля,
навеянные древней индийской философией. Смерть в них рисуется
как блаженное погружение в недра единственно подлинного бытия
(«Смерть Вальмики»), сравнительно с ним все преходяще-здеш-
нее, житейское и историческое, есть только суетная мнимость,
«кружение призраков», по сути, небытие («Майя», «Полдень»).
От столь безутешных приговоров земным делам и упованиям
как пустой маете Леконт де Лиль нет-нет да и порывался к мятеж-
ному богоборчеству (поэма «Каин»)1. И быть может, именно этой
неспособности всегда и до конца выдерживать вмененную себе од-
нажды хладнокровную неприязнь ко всему окружающему, кроме
нетленной и «неотмирной» красоты («Я ненавижу все нынешнее из
естественного отвращения к тому, что убивает»), обязаны сочине-
ния Леконт де Лиля — эти памятники, «высеченные из камня, ли-
тые из бронзы» (А. В. Луначарский),— тем, что в них местами
и поныне мерцает порой живое свечение.
ШАРЛЬ БОДЛЕР
Шарль Бодлер (1821 —1867) принадлежал к тому же лите-
ратурно-артистическому кругу, что и парнасцы, иной раз перекли-
кался с ними в высказываниях о независимости писательского дела
от назидательно-гражданских забот. И тем не менее он совершенно
1 О разоблачении церковничества у Леконт де Лиля см. вступительную
статью Н. Балашова к кн.: Леконт де Лиль. Из четырех книг. М., 1960.
275
самобытен как в своих сочинениях, так и в действительном пони-
мании смысла своего труда. Вопреки вырывавшимся у него в пылу
спора заявлениям по поводу разведенности красоты и нравственно-
сти, мысль и особенно сама лирика Бодлера отмечены напряженным
внутренним размежеванием с культом мастерства как ценности са-
модостаточной, довлеющей себе. «В эту жестокую книгу,— признал-
ся он однажды по поводу своих «Цветов Зла», над которыми рабо-
тал всю сознательную жизнь,— я вложил все мое сердце, всю мою
нежность, всю мою веру (вывернутую наизнанку), всю мою нена-
висть. Конечно, я стану утверждать обратное, клясться всеми
богами, будто это книга «чистого искусства», кривлянья, фокусни-
чества, но я совру, как ярмарочный зубодер»1.
Трагическое виденье ЖИЗНИ. Злополучие, преследовавшее
Бодлера с отрочества до гробовой доски, внушало ему подозрения о
каком-то своем изгойстве — окаянном и вместе с тем избранниче-
ском. Вся его жизнь — сплошь череда тех повседневных поражений,
какими расплачиваются за угловатый нрав, упрямую дерзость ду-
мать и поступать по-своему даже при заведомых срывах. Едва до-
стигнув совершеннолетия, он предпочел богемное житье добропо-
рядочному благонравию, сперва вызывающе расточительное (пока
семья, опасаясь за быстро таявшее отцовское наследство, не до-
билась через суд учреждения над ним опеки), потом — нередко на
грани нищеты. Несмотря на эту рассеянную жизнь постепенно впа-
давшего в бедность дэнди, Бодлер даже тогда, когда приходилось
браться за литературную поденщину, работал с ответственнейшей
самоотдачей, и то, что у других сводилось к ремеслу ради зара-
ботка, для него было творчеством. Так случилось с переводами
из Э. По, ставшими неотъемлемой частью собственного писатель-
ского становления Бодлера. Так было и со статьями о живописи,
музыке, словесности, где он выступил поклонником Делакруа, Ваг-
нера, Флобера. Наследие Бодлера-критика было собрано после его
смерти, в 1868—1869 годах, в двух книгах: «Эстетические достопри-
мечательности» и «Романтическое искусство» — памятниках фран-
цузской эстетической мысли XIX века2, заслуженно помещаемых
ныне во Франции в один преемственный ряд с эссе об искусстве
Дидро, Стендаля.
Подобно многим своим сверстникам, Бодлер испытал в рево-
люционном 1848 году опьянение радужными упованиями на пере-
стройку жизни снизу доверху, был на баррикадах и в феврале,
и в дни восстания парижских рабочих в июне. Тем тягостнее
обернулось для него три года спустя, после переворота Луи
Бонапарта, мрачное похмелье на дне безнадежности. В свою оче-
редь этому сопутствовало отречение от всяких граждански-поли-
тических порывов в мире, где «мечта и действие разлучены».
1 Бодлер Ш. Письма.—Вопр. лит., 1975, № 4, с. 220.
2 Философские и литературно-художественные взгляды Бодлера обстоятель-
но освещены в кн.: Нольман М. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль.
М.. 1978.
276
Для Бодлера, как и для близкого ему по духу Флобера,
болезненный упадок окружающей цивилизации — очевидность бес-
спорная. Поэтому и его главная книга, призванная не бежать
в прошлое от сегодняшних недугов, как это делали парнасцы,
а бестрепетно вникнуть в настоящее, получит название вызываю-
щее, но точно соответствующее сгущенно трагическому виденью
вещей: «Цветы Зла» (и одновременно—«болезни», если учесть
второй смысл французского слова le mal).
Охранительное благомыслие бонапартистской Франции
усмотрело посягательство на добродетель в бодлеровской бес-
пощадно-трагической правде о себе и своем веке. Последовало
судебное разбирательство, как и в случае с флоберовской «Гос-
пожой Бовари». Шесть стихотворений из «Цветов Зла» были
признаны в приговоре «безнравственными» и подлежали изъятию
из книги. Бодлер не смог их включить и в следующее, расши-
ренное издание «Цветов Зла» (1861), над которым он продол-
жал работать и позже, готовя третье, снова дополненное изда-
ние, увидевшее свет лишь посмертно, в 1868 году.
Другим давним и заветным замыслом, к которому, уже на-
стигнутый разрушительной болезнью, Бодлер постоянно возвра-
щался до тех пор, пока его в поездке по Бельгии внезапно не
разбил паралич, были стихотворения в прозе «Парижская хандра»
(книгой опубликованы в 1869 году).
«Цветы Зла» (1857—1868). Уже Гюго, приветствуя в Бод-
лере одаренного младшего собрата, чутко распознал в «Цветах
Зла» «новый трепет». Решительный шаг вперед, сделанный Бод-
лером, состоял прежде всего в невиданной раньше откровенности
исповедального самоанализа. Признания предшествующих ему
лириков бывали и удрученными, и доверительно искренними,
однако у них источник дурного, несущего злосчастье и повер-
гающего в скорбь, неизменно полагался где-то вовне, в небла-
госклонных обстоятельствах, гнетуще скверной обстановке вокруг,
во враждебной воле судьбы. Вслед за своими непосредственными
предшественниками Бодлер каждой своей клеточкой испытывает
гнет неладно устроенной, постылой жизни, где он сам, носитель
редкого дара, обречен на отщепенство в семье («Благословение»),
в пошлой толпе («Альбатрос»), в потоке истории («Маяки»).
Единственное облегчение он находит в том, чтобы обратить в мя-
тежную доблесть доставшийся ему роковой жребий, истолковать
свою напасть как крещение в избраннической купели, предписав
себе неукоснительный долг свидетельствовать от лица «каинова
отродья» — всех отверженных, обездоленных, «проклятых», откуда
бы ни проистекала их беда («Авель и Каин», «Лебедь»).
И все-таки романтический разрыв «я» и окружающего, само-
сознания, прежде неколебимо уверенного в собственной правоте
и нравственной безупречности, с одной стороны, и неблагополуч-
ного жизнеустройства — с другой, оборачивается у Бодлера их
тесной сообщаемостью, взаимопроникновением. На все внутреннее
пространство личности, дотоле обычно однородное, извне падает
277
трагический свет и вскрывает там, в недрах сокровенного, сов-
мещение вроде бы несовместимого, брожение разносоставных и пе-
реливающихся друг в друга слагаемых: чрезвычайно емкую, под-
вижно-противоречивую слитность всего самого доброго и самого
дурного, включая вожделения, скверные, греховные, изломанные.
С первых строк пролога к «Цветам Зла», бросая вызов умиль-
ным самообольщениям, Бодлер приглашает всякого, кто возьмет в
руки его книгу, честно узнать себя в ее нелицеприятном зеркале
и делает намеренный крен в сторону саморазоблачения:
Глупость, грех, беззаконный законный разбой
Растлевают нас, точат и душу и тело.
И, как нищие — вшей, мы всю жизнь, отупело,
Угрызения совести кормим собой.
Слабо наше раскаянье, грех наш упрям.
Мы вину признаем ради щедрой награды.
Если грязь на пути, мы как будто ей рады,—
Слезы смоют все пятна — так кажется нам.
Пер. В. Левина
Позже, прослеживая круг за кругом те хождения омраченной
страждущей души по распутице жизненного ада в поисках спаси-
тельного приюта, какими выглядят композиционно целостные «Цве-
ты Зла»1, Бодлер, «живший во зле, добро любя» (М. Горький2),
частично выправит первоначальный перекос. «Сатанинское» он от-
тенит «ангельским», которые у него, впрочем, всегда не просто
взаимоотталкиваются, но и взаимопревращаемы. Головокружитель-
ная бездонность человеческого сердца («Человек и море») и со-
седство, сцепление, своего рода «оборотничество» в нем всего
благодатного и недоброго, окрыляющего и ущербного («Голос») —
ключевые посылки совершенно бестрепетной бодлеровской испове-
дальности. Она-то и обеспечила «Цветам Зла» значение непрехо-
дящего художественного открытия. Ничего равного по пронзитель-
ной обнаженности признаний, будь они навеяны благоговением,
ожесточенностью, покаянным настроем, искусами порока, распа-
ленной страстью, жаждой «духовной зари», пресыщением, нежно-
стью, состраданием, сладостной грезой или свинцовой хандрой,
ничего подобного по твердой убежденности, что все это и еще
очень многое причудливо уживается в одном сердце, поэзия Фран-
ции до «больного вулкана», Бодлера, как он себя однажды назвал,
не знала. Да и после него достигала не часто.
Здесь, в самом подходе к человеческой личности как един-
ству самых подчас противоположных задатков, коренится причина
1 Об этой цельности и творческой истории «Цветов Зла» см.: Балашов Н.
Легенда и правда о Бодлере.— В кн.: Бодлер Ш. Цветы Зла. М., 1970.
2 Горький М. Поль Верлен и декаденты.— Собр. соч. в 30-ти томах.
М., 1953, т. 23, с. 128. Отсюда впечатление от книги Бодлера, высказанное ее
первым русским переводчиком, народовольцем П. Якубовичем-Мельшиным, кото-
рый переводил «Цветы Зла» в тюрьме и на каторге: «грубый, местами дерзки
откровенный реализм будит в ней, каким-то чудом искусства, лишь чистые бла-
городные чувства» (Якубович П. Ф. Стихотворения. Л., 1960, с. 483—484).
278
исключительного богатства, глубины, разноликости и собственно
любовной лирики Бодлера. Между молитвенным обожанием:
Что можешь ты сказать, мой дух, всегда ненастный,
Душа поблекшая, что можешь ты сказать
Ей, полной благости, ей, щедрой, ей, прекрасной?..—
Пер. Эллиса
и каким-то исступленно-чадным сладострастием («Вампир»,
«Отрава», «Одержимый») в «Цветах Зла» мерцает бесконечная
россыпь оттенков, неожиданных граней, переливов чувства.
И каждое из дробных его состояний, в свою очередь, редко сохра-
няет тождество самому себе. Гораздо чаще это чувство-перевертыш,
когда лицевая сторона и изнанка легко меняются местами («Ма-
донне», «Искупление»), порок и повергает в содрогание, и манит
терпкими усладами («Лета», «Окаянные женщины»), а закли-
нание любящего иной раз облечено в парадоксально жестокое
назидание («Падаль»).
Не менее обильны положениями двойственными, промежуточно-
переходными, опрокидывающимися мучительные перепутья бодле-
ровского душевного самочувствия. Сполохи неистовой богоборче-
ской мятежности (один из разделов «Цветов Зла» так и озаглав-
лен— «Бунт») или просветы мечтаний о блаженных островах
(«Приглашение к путешествию», «Плавание») порой рассекают
свинцовую мглу тоски (цикл «Сплин»). И все же ужас перед
необратимым ходом времени («Часы»), сердечная растрава («Пол-
ночные терзания»), крайняя подавленность («Разбитый колокол»,
«Осенняя песня») — умонастроения, преобладающие у Бодлера.
Распространению его славы вширь особенно способствовали проник-
новенная чистота и «сдержанная прелесть» (Валери) 1 в их пере-
даче:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж Вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим — ярмо забот...
Ты видишь — с высоты, скользя под облаками,
. Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь.
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный...
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С востока волоча свой саван погребальный?
«Раздумье». Пер. М. Донского
От терзаний подобных бесед наедине с собственной душевной
болью Бодлер готов бежать,— хотя и отдавая всякий раз себе
отчет в самообмане таких побегов,— «куда угодно, лишь бы прочь
из этого мира». На худой конец — хотя бы на парижскую улицу.
1 В а л е р и П. Положение Бодлера.— В кн.: Валери П. Об искусстве. М..
1976, с. 439.
279
Здесь на каждом шагу могут ждать встречи, позволяющие отвлечь-
ся от самого себя, мысленно переселиться в чужую оболочку, до-
рисовав в воображении судьбу случайного прохожего, чей облик
вдруг почему-то выделился из пестрого многолюдья и запал в
память («Рыжей нищенке», «Прохожей»). Так возникают в «Цве-
тах Зла» городские зарисовки, сосредоточенные в разделе «Париж-
ские картины», но вкрапленные и в другие части,— блистательное
воплощение того «духа современности», которое Бодлер полагал
одной из своих важнейших творческих задач. Оно действительно
сделало его первооткрывателем лирики огромного города, столь
расцветшей в XX веке. В таких проникнутых щемящей обидой
за жертв несправедливо устроенной жизни стихах «Цветов Зла»,
как «Старушки», «Лебедь», «Вечерние сумерки», «Служанка
скромная», «Вино тряпичников», «Смерть бедняков», а потом и
во множестве прозаических миниатюр из «Парижской хандры»:
«Старый клоун», «Глаза бедняков», «Вдовы», ряде других, Бодлер,
по словам Анатоля Франса, «почувствовал душу трудящегося Па-
рижа».
Бодлеровские стихи о Париже отличает меткая достоверность
крохотных зарисовок выхваченного на лету, прямо из потока улич-
ной жизни, сохраняющая всю их непосредственную свежесть.
А вместе с тем здесь во всем сквозит какая-то зачарованность
одновременно радужным и жутковатым волшебством обыденного.
Подробности то и дело прорастают скрежещущим гротеском бреда
наяву, словно перенесенным с кошмарных средневековых гравюр,
либо пробуждают память, вытягивая за собой ассоциативную це-
почку печальных, дорогих уму видений («Лебедь»). И подобно
тому как это происходит при погружениях Бодлера в душевные
толщи, взор его, обращенный на городскую жизнь, избиратель-
но и напряженно внимателен к положениям переломным, сты-
ковым.
Излюбленное бодлеровское время суток — сумерки, излюблен-
ное время года — осень, когда увядание и рождение, сон и бодрст-
вование, покой и суета теснят друг друга, когда блики предзакатно-
го или встающего солнца рассеянно блуждают, а все очертания зыб-
ко колеблются, трепетно брезжат — к тем самым зрелищам, что от-
кроют вскоре французские импрессионисты в своей живописи:
Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом.
Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И сон струит в их кровь болезнетворный яд,
И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И, телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать, и женщина — любить.
Вон поднялся дымок и вытянулся в нить...
«Предрассветные сумерки». Пер. В. Левина
280
Мастерство «ворожащего» слова. Бодлер в таких, да и во
всех прочих, случаях обдуманно добивался, по eFo выражению,
«магии» письма — намекающего и вместе с тем отзывающегося
в нас бесконечным эхом подстановок из нашей личной памяти.
У него существовала своя тщательно выработанная философия
творчества, сердцевиной которой было предписание соединить
упорный труд под опекой ясного интеллекта, осмысленно владею-
щего секретами мастерства, и дар вольного воображения, этой
«королевы способностей». Воображение наделено могуществом,
во-первых, возвращать примелькавшемуся первозданную свежесть,
внезапно увидев привычное в необычном, «остраннивающем» по-
вороте. А во-вторых, оно по мгновенному наитию озаряет пучком
сходящихся лучей самые разрозненные вещи и тем вдруг высвечи-
вает их корневое родство. Последнее для Бодлера несомненно,
поскольку природа, по его мнению, являет собой «дивный храм»
со своим устроением, а все ее краски, звуки, запахи, в конце
концов, суть лишь разные «коды» одного языка, какими она о себе
возвещает (сонет «Соответствия»). Улавливая и облекая в слова
«соответствия» между раздельными вереницами ощущений — от-
кликов на тот или иной ряд «позывных», исходящих от сводно-
го, где-то в самой своей основе единого вселенского многоголо-
сия, поэт, по Бодлеру, проникает сам и вводит за собой всех же-
лающих ему следовать в загадочную святая святых бытийного
храма.
В таком виде сложившийся бодлеровский «сверхнатурализм»
вскоре был подхвачен символистами, а впоследствии сделался от-
правной посылкой взглядов на свои задачи не одного поколения
лириков Франции.
Взращенная на этой, не лишенной мистических примесей, фило-
софской почве поэтика «Цветов Зла» всей совокупностью своих ис-
кусно отлаженных, но сдержанно пускаемых в ход приемов нацелена
на то, чтобы каждый раз оставалось впечатление одновременно не-
преложной и колдовской правды. Оно исподволь внушается бодле-
ровскими изысканными метафорическими сплавлениями, текучей
звукописью строк, ритмически жестких, строго уравновешенных,
и всем архитектонически выверенным пространством отдельных
лирических пьес, плотно насыщенных разрядами внутренних пере-
кличек. Здесь ворожба чеканна, а хаос душевной смуты кристал-
лизовался в стройный прозрачный космос.
Мастерство Бодлера мужественно: по словам А. В. Луначар-
ского, он «знает, что жизнь представляет собой мрак и боль, что
она сложна, полна бездн. Он не видит перед собою луча света,
он не знает выхода. Но он от этого не отчаялся, не расхандрился,
напротив, он словно сжал руками свое сердце. Он старается со-
хранить во всем какое-то высокое спокойствие... Он не плачет. Он
поет мужественную и горькую песню именно потому, что не хочет
плакать»1.
1 Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1965, т. 5, с. 538.
281
ГЮСТАВ ФЛОБЕР
Новый этап реализма XIX века связан прежде всего с именем
Флобера (1821—71880). Его творчество отразило все настроения и
тенденции, которые характеризуют Францию 50—60-х годов.
Эстетические воззрения* Как и многие его современники, Фло-
бер был подавлен последствиями революции 1848 года. Глубоко
презирая торжествовавшую буржуазию, писатель склонен был сом-
неваться в возможности какой-либо исторической перспективы.
«Как скверно устроен мир! К чему уродство, страдание, печаль?
К чему наши бессильные мечтания?.. Счастливцы буржуа! А между
тем я не хотел бы быть одним из них»1.
Именно в силу отвращения к современной жизни он пропаган-
дирует необходимость особой сферы для художника — сферы пре-
красного, искусства, которое сознательно отказывается служить
буржуазной морали. «Жизнь так гнусна... А избежать ее можно,
живя в Искусстве, в непрестанных поисках Правды, переданных
посредством Красоты». Жизнь в искусстве представляется Флоберу
в оригинальном образе, одновременно изящном и величествен-
ном,— «башни из слоновой кости»2.
В высказываниях писателя не раз звучит мысль, близкая пар-
насцам, о первостепенном значении художественной формы в про-
изведении. И в своей творческой практике он проявляет исключи-
тельное внимание к форме, добиваясь совершенной выразительно-
сти и чистоты стиля. Теоретически сближаясь с идеологами «чисто-
го искусства», он склонен был рассматривать живую действитель-
ность как материал, приобретающий смысл лишь в руках худож-
ника. Однако у Флобера эстетизация действительности не снимала
глубокого анализа жизненных противоречий. Под художественным
совершенством писатель понимает насыщенность произведения
строгой правдой. Об этом свидетельствует, в частности, его письмо
к И. С. Тургеневу (Флобер ласково называет его: «Мой москвич»):
«Больше всего меня привлекает в Вашем таланте изысканность,—
высшее, что может быть. Вы нашли способ писать правдиво, но
без пошлости, чувствительно, но без слащавости, с комизмом,
но отнюдь не низменно. Не стремясь к театральности, Вы доби-
ваетесь трагических эффектов одной лишь законченностью компози-
ции. Вы кажетесь простодушным, а между тем в Вас много силы»3.
Флобер, однако, не раз проговаривается, что форма и содержа-
ние существуют лишь в неразрывном единстве. Например, как
высшее достоинство поэзии Бодлера, он отмечает: «Оригиналь-
ность стиля вытекает из концепции. Фраза до отказа насыщена
идеей»4.
1 Флобер Г. Собр. соч. в 10-ти томах. М.—Л., 1938, т. 8, с. 160.
2 Там же, с. 44—45.
3 Там же, с. 255.
4 Там же, с. 57.
282
К. Моне. Завтрак на траве.
Масло. 1863 г.
В основе эстетических поисков Флобера лежит стремление к
жизненной достоверности. Он разделяет принцип реализма своего
времени: описывать «без воображения». Наследуя главную черту
творческого метода Бальзака и Стендаля — социальную детермини-
рованность образа, он изменяет и аспекты, и масштабы изобра-
жения в соответствии с новыми представлениями о действительно-
сти, с новым уровнем научных знаний о человеке. Человек для не-
го— результат множества объективных факторов. Поэтому Флобер
склонен относить к «романтическому» субъективные моменты в
произведении — открытые авторские суждения и оценки: «Один из
моих принципов: не вкладывать в произведение своего «я». Худож-
ник в своем творчестве должен, подобно богу в природе, быть
невидимым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не ви-
деть»1. В этом отношении Флобер близок к развивающемуся
в 70-е годы натурализму; он так же требует соблюдать в лите-
ратурном труде «естественнонаучный» подход к изображенным
явлениям2.
«Объективный стиль» Флобера состоит в отказе от таких при-
емов, как портретная характеристика, контраст, гиперболизация,—
1 Флобер Г. Собр. соч. в 10-ти томах. М.— Л., 1938, т. 8, с. 57.
2 Неоднократно высказываясь в духе эстетики натурализма, испытывая даже
его бесспорное влияние, Флобер, однако, не принимает натуралистического метода.
Об этом достаточно красноречиво говорят его сдержанные, а часто и отрицатель-
ные оценки лучших книг Золя.
283
всего того, что в творчестве реалистов первой половины века обыч-
но выдает авторское отношение к предмету. Этот новый метод
реалистического изображения соответствовал новой эпохе. Не
случайно несколько позднее Энгельс также высказывается, по
сути дела, за «объективный стиль», когда пишет Каутской, что
«тенденция должна сама по себе вытекать из обстановки и дейст-
вия, ее не следует особо подчеркивать...»1.
Литературные опыты Флобера начинаются в русле романтизма.
Это повести «Ноябрь», «Записки безумца», к тому же периоду от-
носятся первые варианты романа «Воспитание чувств» и драмы
«Искушение святого Антония», которые будут заново созданы
писателем в 60—70-е годы. Молодой Флобер, уже проникшийся
глубоким неприятием буржуазного духа, пишет о человеке, кото-
рый, как все герои романтиков, замыкается в своем внутреннем
мире. Но в первых своих произведениях Флобер не сказал ничего
нового. Его творческим достижением стал реалистический роман
«Госпожа Бовари» (1857).
«Госпожа Бовари». Молодая девушка Эмма вступает в жизнь
с почерпнутыми из книг понятиями «о блаженстве, о страсти, об
опьянении», и писатель сразу же определяет эти понятия как на-
думанные, не соответствующие жизненной правде. Иронически
характеризует он содержание книг, которыми зачитывалась его
героиня: «...любовь, любовники, любовницы, преследуемые дамы,
падающие без чувств в уединенных беседках, почтальоны, которых
убивают на всех станциях, лошади, которых загоняют на каждой
странице, темные леса, сердечное смятение, клятвы, рыдания,
слезы и поцелуи...»
Между тем за уничижительной интонацией, с которой подает-
ся круг чтения выросшей в монастыре Эммы, легко просматри-
ваются (иногда даже называются) великие имена: например, Эмма
прочитала Вальтера Скотта и стала «мечтать о парапетах, сводча-
тых залах и менестрелях». На этой литературе был воспитан и
сам Флобер. Ирония писателя вызвана тем, что реальная жизнь,
буржуазная среда не соответствуют тому одушевленному высоки-
ми идеалами миру, который был описан в этих книгах. С упоением
читая их, французская буржуазная публика, тем не менее, удов-
летворялась примитивными реальными благами.
То же происходит и с героиней романа. Она без раздумий
принимает предложение провинциального лекаря Шарля Бовари,
человека доброго, но до убогости ограниченного. Автор дает ему
краткую, но исчерпывающую характеристику: «Покойный духом,
довольный телом, он переживал в душе свое счастье, как иногда
после обеда человек еще смакует вкус съеденных трюфелей».
По своей привычке романтизировать реальность Эмма на первых
порах пытается играть в поэтическую любовь с прозаически-тупо-
ватым Шарлем: «В саду, при луне, она читала ему все страстные
стихи, какие только знала наизусть; она со вздохами пела ему
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е инд., т. 36, с. 333.
284
грустные адажио. Но после этого она чувствовала себя так же
спокойно, как и всегда, да и Шарль не казался ни влюбленным,
ни взволнованным больше обычного. Наконец Эмма устала тщетно
высекать искры огня из своего сердца».
Флобер сразу же подает героиню романа без сочувствия, без
симпатии к ее возвышенным устремлениям. Ее культ чувства, стра-
дания выглядит искусственным, госпожа Бовари как будто рисует-
ся перед самой собой. Каждое переживание приобретает у нее
показную красивость: «Когда у Эммы умерла мать, она в первые
дни очень много плакала. Она заказала для волос покойницы
траурную рамку и написала отцу письмо, переполненное грустными
размышлениями о жизни. В этом письме она просила похоронить ее
в одной могиле с матерью. Добряк решил, что дочь захворала, и
приехал навестить ее. Эмма в глубине души, была очень довольна,
что сразу поднялась до того изысканного идеала безрадостного
существования, который навсегда остается недостижимым для по-
средственных сердец». Даже ее любовь к мужчине писатель назы-
вает «набальзамированной» и дает своей героине жесткую насмеш-
ливую оценку: «Она любила церковь за цветы, музыку — за слова
романсов, литературу — за страстное волнение».
Эти слова критики обычно сравнивают с отзывом Флобера о
Мюссе, крупнейшем французском романтике: «Музыка, по его мне-
нию, создана для серенад, живопись для портретов, а поэзия для
сердечной услады»1. Таким образом, Эмма осмеяна как романтиче-
ская душа.
Флоберовский скептицизм относится, конечно, не к романти-
ческой литературе как таковой, а к романтическому восприятию
мира, казавшемуся неуместным и нежизненным в условиях тогдаш-
ней Франции. Французский романтизм отражал кипение общест-
венного настроения в стране — от одной революции к другой.
Как пишет советский исследователь Флобера, «романтизм во Фран-
ции 30—40-х годов был не только литературным явлением, но и
философией, моралью, политикой, нормами поведения. Это было
произвольное, отвлеченное восприятие и суждение о действитель-
ности, хотя в нем выражалось резкое недовольство ею»2. Но после
1848 года Флобер склонен считать это настроение лишь самообма-
ном. И романтическая психология, которой наделена госпожа Бова-
ри, неприятна автору романа как сознательный самообман, как же-
лание погружаться в надежды и иллюзии, которые заведомо не
могут сбыться3.
Флобер постоянно сталкивает романтическую настроенность Эм-
мы и действительное положение вещей, стремясь сделать это столк-
1 Флобер Г. Собр. соч. в 10-ти томах. М.— Л., 1938, т. 7, с. 263.
2 Эйхенгольц М. Творчество Флобера.— В кн.: Флобер Г. Избранные
сочинения. М., 1947, с. 9.
3 М. Бахтин выделяет как особый тип героя — «литературного человека»,
смотрящего на жизнь глазами литературы и пытающегося жить «по литературе»:
Дон-Кихот и Мадам Бовари — наиболее известные образцы этого рода
(Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 224).
285
новение уничтожающим для идеальных представлений. Так ирони-
зируется «романная» ситуация, которую воображает себе Эмма во
время свидания с Родольфом, существом совершенно бездуховным.
Когда ей кажется, что вернулся муж, она спрашивает возлюбленно-
го, есть ли у него пистолеты, и получает прозаически-грубый от-
вет: «Да я его щелчком перешибу». Но примечательно, что мечта-
тельность самой Эммы облечена в формы обывательского мышле-
ния, воспитанного реальной социальной средой. Она мечтала, чтобы
муж ее был «хотя бы молчаливый труженик — один из тех людей,
которые по ночам роются в книгах и к шестидесяти годам, когда
начинается ревматизм, получают крестик в петлицу... Ей хотелось,
чтобы имя ее, имя Бовари, было прославлено, чтобы оно выстав-
лялось в книжных магазинах, повторялось в газетах, было известно
всей Франции». Поэтому ее поиски идеального приводят только
к ошибкам, тяжелым, роковым. Ничтожны люди, которых выбирает
Эмма, обманываясь все снова и снова: Родольф—«человек грубо-
го животного темперамента и сметливого ума», а Леон — заурядный
буржуа, который, как выражается Флобер, «в пылу своей юности...
один день, одну минуту... считал себя способным на безмерные
страсти, на высокие подвиги».
Флобер дает тонкий, тщательно разработанный психологиче-
ский рисунок. Душевные повороты героини романа кажутся неожи-
данными, но тем не менее они глубоко закономерны. Так, страдая от
грубого мира, она сама незаметно проникается его грубостью:
становится невнимательной к мужу, черствой по отношению к ма-
ленькой дочери, приучается лгать, зачастую без смысла. Эмма
совершенно глуха к чужим заботам и страданиям. Флобер дает вы-
разительные примеры этого. Вернувшись с бала, Эмма в раздраже-
нии против своего мужа, своего дома прогоняет из-за пустяка
старую служанку. Показателен разговор ее со священником; она
никак не может согласиться, что несчастные — это те, у кого
нет хлеба и дров на зиму («ах, не велика беда»!). При своем
материальном достатке она не представляет ужасов бедности — ей
понятны лишь духовные лишения, которые испытывает она сама.
Конец Эммы трагичен. Но под пером Флобера он выглядит
нарочито огрубленно, трагизм как бы нейтрализуется, не позволяя
читателю проникнуться сочувствием к судьбе героини.
Запутавшаяся в долгах, разочарованная во всем, во что верила,
она принимает яд и умирает, обезображенная, полубезумная, с
«диким, бешеным, отчаянным смехом», под звуки неприличной пе-
сенки бродяги, слоняющегося за окнами.
В психологическом изображении у Флобера нет прямолинейно-
сти. Оно основано на понимании сложного душевного склада чело-
века. Писатель «не отыскивает тайный логический мотив за кажу-
щейся нелепостью поступка. Напротив, он убежден, что... пере-
живание идет своим извилистым путем и имеет свои законы»1. Но
внутренняя жизнь так или иначе обусловлена социальной атмосфе-
1 Р е и э о в Б. Г. Творчество Флобера. М., 1955, с. 227.
286
рой. Жизненная судьба Эммы соответствует судьбе нескольких по-
колений французов XIX века, иллюзии которых разбились о не-
зыблемое благополучие буржуазии. Франция, столь непривлека-
тельная во времена Флобера, в свое время прошла через самые
горячие стремления к возвышенному и прекрасному. Резкое недо-
вольство действительной жизнью — существенная психологическая
черта и героини романа, другая сторона ее натуры.
«В глубине души она ждала какого-то события. Подобно матросу
на потерпевшем крушение корабле, она в отчаянии оглядывала
пустыню своей жизни, искала белого паруса в туманах дальнего
горизонта. В романтических драпировках Эммы скрывается, по
словам Б. Реизова, «настоящая романтическая тоска... мечта о
«голубом цветке», меняющая свои объекты, но психологически все
та же». Только в произведении Флобера «эта тоска оказывается
не личным переживанием автора, а предметом социального иссле-
дования и характеристикой современности»1.
Ситуация, в которой погибает Эмма, вписывается в широкую
картину буржуазной французской провинции. Это царство бесчув-
ственных и довольных собой. Не случайно безмятежно-спокойными
свидетелями драмы Эммы остаются Родольф и Леон. Не случайно
роман заканчивается сообщением о триумфе аптекаря Омэ, получив-
шего орден Почетного легиона — награду, во времена Наполеона
означавшую высшую доблесть; теперь она увенчала ничтожного
буржуа, соблюдающего одну заповедь: «Надо постоянно беречь
свои карманы». Безусловный фарс представляет описание сельско-
хозяйственной выставки, в которой любовные излияния Родольфа
перемешены с восторженными возвещаниями о хозяйственных до-
стижениях.
И на* фоне сытого буржуазного мира выступает действитель-
ная обездоленность человека — социальная обездоленность: бедная
старуха за 52-летнюю службу награждается медалью и 25 фран-
ками и не испытывает ничего, кроме испуга. Флобер комменти-
рует эту сцену словами: «Так стояло перед цветущими буржуа
живое полустолетие рабства».
Трагедии героини романа — трагедии мечтательной души — про-
тивопоставляется трагичность реальности. И именно романтиче-
ские метания Эммы привели к подлинному, тяжелому несчастью ее
дочь. После смерти Шарля Бовари «...девочку взяла к себе тет-
ка. Она очень бедна, и Берта зарабатывает себе пропитание на
прядильной фабрике». Ужас такой судьбы не был описан в книгах,
которые читала Эмма, и не мог даже возникнуть в ее сознании.
Краткое сообщение о Берте предваряет последнюю фразу романа —
о награждении Омэ. Четко зафиксированы автором два типичных
обстоятельства современной ему Франции, и окончательно ясной
становится причина его недоверия к романтическим настроениям
в бездуховном и страшном мире, где смешна всякая мысль о высо-
ком, идеальном начале.
Ре и зов Б. Г. Творчество Флобера. М., 1955, с. 211.
287
«Саламбо». Следующим произведением Флобера был роман
«Саламбо» (1862). Сюжет взят из истории Древнего Карфагена
(III в. до н. э.). Однако это не исторический роман в традиционном
для XIX века понимании. Автор не ставит своей задачей показать
логику выбранной им исторической эпохи, рассмотреть историче-
ские закономерности. Здесь центральным является также психоло-
гический конфликт, связанный с изображением любви между Са-
ламбо, высокородной жрицей богини Танит, и Мато, вождем
ливийских войск. По сути дела, их судьбы аналогичны печальной
участи Эммы Бовари: они в душе мечтатели, страдающие от столк-
новения с жизнью, по-СЕоему бесчеловечной. Человек с живой ду-
шой становится жертвой религиозной одержимости и военной
жестокости.
Собираясь работать над «Саламбо», писатель посетил Север-
ную Африку и уловил колорит чужой далекой земли. Достоверно
воссозданы им быт и культура той эпохи, выразительны его опи-
сания восточной роскоши и пышности обрядов. В этом романе во
всем богатстве проявилось стилистическое искусство Флобера.
Грандиозно-декоративные зарисовки чередуются с картинами, на-
писанными мелкими мазками, подобно стилю импрессионизма, кото-
рый расцветает в это время во фрацузской живописи. Первые
обычно сопутствуют острым сюжетным ситуациям: «Они пошли об-
ратно между двумя длинными, параллельно тянувшимися галерея-
ми. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны
были увешаны тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растя-
нувшись на циновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от при-
тираний, распространяли запах пряностей и погасших курений; они
были так нарумянены и насурмлены, что, если бы не вздымалась
грудь, их можно было бы принять за лежащих на земле идолов...
лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колонна-
ми на лицах спящих женщин» (Мато в храме Танит). Импрессио-
нистические зарисовки в романе чаще всего сопровождают изобра-
жение душевного состояния героев: «Луна поднялась вровень с мо-
рем, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки
и белые пятна: дышло колесницы во дворе, полотняная ветошь,
развешанная на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди
идола. Стеклянные шары на крышах храмов сверкали местами,
как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи
черной земли и сады казались темными глыбами во мраке...»
(Саламбо на молитве).
«Воспитание чувств». К французской действительности писа-
тель возвращается в романе «Воспитание чувств», создавая вто-
рой вариант в 1869 году. Подзаголовок романа — «История моло-
дого человека» — сразу же свидетельствует о том, что Флобер
продолжает тему реалистов первой половины века, Бальзака и
Стендаля, которые в образах молодых героев прослеживали влия-
ние общественной среды на личность.
Фредерик Моро, как и Эмма Бовари, относится к поколению,
воспитанному романтиками. Поэтому, собираясь в Париж, он меч-
288
тал о большой духовной жизни: «о планах драмы, о сюжетах для
картин, о будущих любовных увлечениях. Он находил, что счастье,
которого заслуживало его совершенство, медлит. Он декламировал
про себя меланхолические стихи...» Он пишет роман, где героями
являются он сам и его возлюбленная, и, взяв напрокат рояль,
сочиняет вальсы.
Именно этой жизнью в мечтах объясняется нежизнеспособность
натуры Фредерика, вялость, непоследовательность поступков. Он
одинаково пассивен и в общественной жизни, и в любви. Роман-
тический характер его чувств мешает ему почувствовать реальность
и найти в ней свое место. Для него, говорит Флобер, «действие
тем невозможнее, чем сильнее желание». Поэтому он, как и Эмма
Бовари, делает шаги, казалось бы, несовместимые с его внутрен-
ним складом. Не умея воздействовать на жизнь, он поддается
ее течению и оказывается совершенно не на высоте своих идеалов.
Деромантизация героя и в этом романе Флобера представлена как
результат реальных обстоятельств, в которые тот попадает.
Любопытно при этом, что писатель, когда он рассказывает о
романтических представлениях героя о жизни, не соответствующих
жизненной правде, подразумевает под «воспитателями» Фредерика
Моро вовсе не тех, кто относится к собственно романтическому
направлению. Писатель иронически отмечает: «Он верил в сущест-
вование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные
браки, заключенные с помощью интриг, в гениальность каторжни-
ков, в случайность, покорную сильной руке».
Это явная пародия уже не на писателей-романтиков, а на
Бальзака. Бальзаковский мир с его яркими личностями, такими,
как каторжник Вотрен, неправдоподобен для Флобера. Это уже
прошлое Франции — эпоха, когда пришедшая к власти буржуазия
была еще силой, исторически прогрессивной и способной вершить
большие дела, рождать выдающиеся индивидуальности. Франция
же периода революции 1848 года (как раз в это время происходит
действие романа) совсем иная. В ней окончательно затухает дейст-
венная энергия общественного созидания. Нет больше места боль-
шим делам, героическим натурам, идеалам, страстям. Потому и че-
ловек, сложившийся здесь, нравственно мелок. Фредерик Моро ли-
шен даже настоящего честолюбия, которое толкало бы его на
большие дела. Хотя в конце романа он еще молод, жизнь его, по
существу, закончена. Он не только не достигает цели, но просто не
имеет ее. Скучны и ничтожны даже лучшие его воспоминания.
Самая природа человека в буржуазном мире измельчала — он
не способен быть ни героем, ни преступником. Он обыватель.
В творчестве Флобера мы сталкиваемся с процессом дегероизации
героя (этот процесс будет особенно развиваться в критическом
реализме XX века). В любовных исканиях Эммы Бовари нет того
взлета, того величия, которое делало неотразимо привлекательны-
ми не только стендалевских женщин (Ванину Ванини, герцогиню
Сансеверина), но даже и бальзаковских светских дам (графиню де
Ресто, виконтессу де Боссеан). У Фредерика Моро нет целеуст-
289
10 История зарубежной литературы XIX века
ремленности хотя бы Растиньяка, который и в своей нравственной
деградации остается сильной личностью, не говоря уж о душевной
стойкости Жюльена Сореля. Это важнейшая черта, отличающая
Флобера от его великих предшественников.
С разочарованием в современной жизни связана резко отри-
цательная саркастическая оценка, которую дает Флобер и самой
революции. Ее направляют буржуазные дельцы типа банкира
Дамбреза, хорошо умеющего воспользоваться революционной фра-
зой для достижения своих целей: он может, если надо, причислить
себя к республиканцам и даже к рабочим. Довольно жалкими
в своей общественной деятельности выглядят и республиканцы
(Сенекаль, Дюсардье). И в их сознании господствует главный из
буржуазных принципов — материальное благо. Достаточно вспом-
нить одно только восклицание Дюсардье: «Так вы теперь богаты?
Ах, вот это хорошо, черт возьми, это хорошо!»
Современная общественная борьба представляется Флоберу как
схватка хищников. Исследователи всегда отмечают нескрываемую
издевку, с которой он говорит о революционном знамени: «Из
трех его цветов каждой партии был виден только ее цвет, и она
рассчитывала истребить два других, как только возьмет верх».
С этим связано глубокое недоверие писателя ко всяким политиче-
ским теориям и системам, в том числе и к идеям утопистов-социа-
листов, «тех, которые все человечество хотят поселить в казар-
мах, тех, которые желали бы развлекать его в домах терпимости
или заставить корпеть за конторкой».
Скептицизм Флобера распространяется и на изображении рево-
люционного народа. В романе дворец Тюильри штурмуют декласси-
рованные элементы: «Каторжники запускали руки в постели прин-
цесс и валялись на них... Другие... безмолвно бродили по двор-
цу, стараясь что-нибудь украсть...
В передней на куче одежды стояла публичная девка, изобра-
жая статую Свободы, неподвижная, страшная, с широко раскрыты-
ми глазами». Нельзя не заметить, что здесь сатирически обыгры-
вается известное полотно французского романтика — живописца
Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».
Сатира на современность явственно звучит и в произведениях
70-х годов. В романе «Бувар и Пекюше» речь идет о двух мелких
чиновниках, которые, неожиданно получив средства, становятся
буржуа. Пытаясь найти разумное применение своим деньгам, они
пробуют заниматься разными науками, однако во всем деятельность
их оказывается практически никчемной. В итоге как лучшую
судьбу для себя они принимают возвращение к своим конторкам.
Как всегда, произведение Флобера отличается тонкостью психоло-
гического изображения и неоднозначностью образов. Герои его,
с одной стороны, дети нынешней бездарной буржуазной среды,
с другой — это два чудака, лишенные буржуазной деловитости,
наивные неудачники, в противоположность, например, аптекарю
Омэ в «Госпоже Бовари». Предметом осмеяния писателя стано-
290
К. Моне. Дама в саду.
Масло. 1866 г.
вится и тогдашняя псевдонаука: книги, по которым учатся его герои,
далеки от живой практики. По словам М. Б. Храпченко, «Флобер
выпукло охарактеризовал жестокую прозу повседневного бытия
«среднего» человека, мелкого буржуа, его мечты и иллюзии.
В современном обществе особое внимание Флобера привлекали
кризис больших человеческих идеалов, торжество мещанства, по-
шлости, драма человека, пытающегося отойти от обыденного, про-
заического течения жизни».
В этом же плане следует говорить об оригинальном сатири-
ческом произведении Флобера под названием «Лексикон прописных
истин». Оно пародирует понятия пошлой буржуазной морали, огра-
ниченность интеллектуальных интересов у современников писателя.
Особо следует сказать о повести «Простая душа», посвящен-
ной женщине из народа, в сердце которой живет неистребимая
человеческая способность к любви и преданности. Написанная
в годы, когда во французской литературе в полной мере заявил
о себе натурализм, повесть несет явные следы его влияния: выбор
героини из социальных «низов», мастерство в описании физиче-
ского состояния человека, натуралистические детали, фотографи-
ческое воспроизведение внешних, видимых мелочей. Так даны,
например, последние месяцы старой Фелиситэ («Решетины на
291
крыше гнили, в продолжение всей зимы изголовье было мокро.
После пасхи она начала харкать кровью») или изображение мерт-
вого попугая («Хотя он не был трупом, но его пожирали черви:
одно из крыльев было сломано, из живота вылезла пакля»).
Творчество Флобера — новый этап реализма. Творчество
Флобера дает материал для выводов о новом характере реалисти-
ческого метода во второй половине XIX века. Вместо двойствен-
ной характеристики класса буржуазии, которую мы находим в
произведениях 30—40-х годов, здесь изображение однозначно
разоблачительное. В соответствии с этим образ человека стано-
вится менее масштабным. В реализме начинается процесс дегерои-
зации героя. Поскольку буржуазный мир не способен больше
рождать сильные натуры, то герои произведений 50—60-х годов
отличаются меньшей цельностью, отсутствием «господствующей
страсти», по выражению Б. Г. Реизова, тогда как в 30—40-е годы
герой (при этом и отрицательный) непременно был крупной лич-
ностью1.
Отказывая буржуазии в серьезной общественной роли, худож-
ник суживает масштабы ее изображения: вместо широкого показа
буржуазного общества во всех его аспектах дается буржуазная
семья, микромир, малая сфера деятельности буржуа. В этом
микромире, однако, проявляются все принципы буржуазных от-
ношений.
Изображение человека в сфере семейных или личных отно-
шений связано с углублением психологизма реалистического
образа. Образ становится психологически менее однозначным,
более усложненным и противоречивым — как результат реальных
жизненных обстоятельств, среди которых поведение человека
не всегда выглядит внешне последовательным. Находясь, как
всегда, в тесной связи с научными знаниями о человеке, реализм
второй половины века использует достижения психологической
науки.
Иными становятся и художественные приемы: исчезают острые
сюжеты и гиперболизация, элементы фантастики и гротеск, раз-
вернутые метафоры. Изменяются принципы создания реалистиче-
ского портрета (у Флобера в портрете просматривается манера
импрессионистов: вместо резких четких линий — некоторая раз-
мытость изображения, призванная передать не самую внешность,
а впечатление от внешности: «Расходившийся на плечах плащ
окружал тенью его лицо, и виден был только огонь его глаз»).
1 Р е и з о в Б. Г. Творчество Флобера. М., 1955, с. 226.
РОМАНТИЗМ
В ЛИТЕРАТУРЕ США.
ПОЗДНИЙ ЭТАП
К числу крупнейших представителей позднего американского
романтизма принадлежат Э. По, Н. Готорн, Г. Мелвилл, Г. Лонг-
фелло, У. Уитмен1.
Переход от раннего этапа развития американского романтизма
к позднему осуществляется к началу 1840-х годов. Связующим
звеном между двумя периодами является творческая деятель-
ность трансценденталистов: Р. Эмерсона (1803—1882), Торо
(1817—1862), М. Фуллер (1810—1850) и др. Трансцендента-
лизм— самобытная религиозно-философская и этическая система,
развивающая национальную философскую традицию в США.
Трансценденталисты заявили о своем решительном неприятии капи-
талистического стяжательства, противопоставив ему высшие ду-
ховные ценности. Эмерсон и его последователи поставили в центр
мироздания отдельную человеческую личность, наделенную бо-
жественной душой и не признающую над собой никакой власти,
кроме закона собственного «я». Это учение получило известность
под названием «доверия к себе». В нем отразилась, с одной сто-
роны, вера в человека, в его безграничную возможность к совер-
шенствованию; с другой же — идеология буржуазного индивидуа-
лизма со всеми его противоречиями. Американские романтики,
сознавая сложный характер учения о «доверии к себе», включи-
лись своим творчеством в полемику по важнейшим проблемам
этики. Эмерсон, Торо, Эдгар По, Готорн, Мелвилл, Уитмен —
все они настойчиво искали ответа на вопросы: что лежит в основе
человеческой природы—добро или зло? Может ли человек рас-
считывать на достижение индивидуальной и общественной гармо-
нии? Что он станет делать, если, действительно, получит полную
свободу полагаться только на свои желания и стремления? Внима-
ние к основополагающим философским проблемам — характерней-
шая черта литературы позднего американского романтизма. Связь
с идеями трансцендентализма сообщила ей особую масштабность
и глубину.
1 Как уже отмечалось в главе «Романтизм в литературе США», проблема
творческого метода Уитмена решается в советском литературоведении неодно-
значно. Часть исследователей (М. О. Мендельсон, Н. И. Самохвалов и др.) видят
в Уитмене одного из первых американских реалистов. По мнению других авторов
(А. М. Зверев и др.), поэзия Уитмена носит романтический характер.
293
Д. К. Бинтем. Торговцы мехами, спускающиеся по реке Миссури.
1845 г.
Предшествовавшее Гражданской войне двадцатилетие, на
протяжении которого романтизм в США достиг своего расцвета,
было отмечено нарастанием в стране кризисных явлений. В эти
годы противоречивые тенденции в американской жизни сплелись
в неразрывный гигантский клубок. Леденящие кровь ужасы раб-
ства — и надежда на его скорое уничтожение; жестокость, обман,
захватнические войны, сопровождавшие территориальную экспан-
сию, — и пафос освоения новых земель, безграничных пространств,
ставших достоянием простого человека-труженика; «золотая ли-
хорадка», жажда наживы, разгул хищнических страстей — и не-
сомненные успехи экономического развития молодой республики —
все это в равной мере давало основания и для трагической безыс-
ходности По, и для мечтательного прекраснодушия Лонгфелло, и
для несокрушимого оптимизма Уитмена. Иллюзии и действитель-
ность, вера в демократию и отчаяние при виде ее реального во-
площения— это трагическое противоречие определяет пафос твор-
чества Готорна и Мелвилла.
Новая историческая эпоха, наступившая в США после завер-
шения Гражданской войны, оказалась несозвучной творческим
устремлениям романтиков. Однако их достижения сыграли огром-
ную роль в последующем развитии американской литературы.
Непрерывная нить национальных традиций связала романтическое
наследие с творчеством первых американских реалистов — Твена
и Джеймса, а также с творчеством писателей XX века: Джека
Лондона, Ф. Норриса, К. Сэндберга, Р. Фроста, Э. Хемингуэя,
Т. Вулфа, У. Фолкнера, Дж. Стей«бека и т. д.
294
ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ
Герман Мелвилл (1819—1891) принадлежит к числу крупней-
ших представителей позднего американского романтизма.
В его творчестве отразилось глубокое несоответствие между
страстной жаждой совершенства и убожеством американской дей-
ствительности.
Мелвилл родился в Нью-Йорке и получил строгое религиоз-
ное воспитание в пуританском духе, следы которого явственно дают
о себе знать в его творчестве, проникнутом библейской символикой
и образностью. Предки писателя принимали активное участие
в американской революции: один из них прославился своей леген-
дарной храбростью. Мелвилл рос в атмосфере воспоминаний о
героическом прошлом своей страны, столь не похожем на одно-
образные будни, воцарившиеся в результате прихода к власти
дельцов и предпринимателей, охваченных единственной страстью:
разбогатеть. Конфликт между былым идеалом и действитель-
ностью больно ранил Мелвилла, с самого начала сообщив его
произведениям бунтарскую и в' то же время трагическую окраску.
Первые КНИГИ. Первые книги Мелвилла «Тайпи» (1846) и
«Ому» (1847) были написаны на основе личных впечатлений, по-
лученных автором во время плавания на китобойных судах. Мел-
вилл описывает здесь свою жизнь среди туземцев на островах
Тихого океана, куда его забросили превратности морской службы.
Подобно большинству романтиков, Мелвилл идеализирует есте-
ственную жизнь первобытных племен, противопоставляя ее урод-
ствам буржуазной цивилизации. Однако Мелвилл хорошо пони-
мает, что человек XIX столетия не может удовлетвориться тем,
что предлагает ему первобытное общество: герой, в конце концов,
бежит от своих гостеприимных хозяев, возвращаясь в ненавистный,
но—увы! — необходимый ему цивилизованный мир, частью кото-
рого он сам является. Таким образом, Мелвилл одновременно
создает прекрасную утопию и сам же подрывает ее основы.
Романтический идеализм и романтический пессимизм идут у него
рука об руку.
«Тайпи» и «Ому» привлекли читателей — современников Мел-
вилла своим экзотическим сюжетом. За писателем прочно устано-
вилась известность «человека, который жил среди людоедов».
Сложный философский подтекст обеих повестей оказался недосту-
пен широкой публике.
Для Мелвилла, однако, самым главным в его творчестве было
стремление к постановке глубоких философских проблем. Вопрос
о смысле человеческого существования — вот что волновало и
мучило Мелвилла, вот что заставляло его писать, несмотря на то
что после «Тайпи» и «Ому» читатели, казалось, совершенно
перестали замечать его книги и в конце концов просто-напросто
забыли о нем.
«Марди». Переломным в творчестве Мелвилла стал роман «Мар-
ди» (1849)—сложный сплав фантастики, аллегории и сатиры,
295
не исключающий достоверности отдельных деталей. Герой романа
вместе со своими спутниками совершает полное приключений путе-
шествие в поисках истины, красоты и счастья. Он посещает не-
сколько островов вымышленного архипелага Марди, олицетворяю-
щего земной шар. Каждый остров — символическое изображение
той или иной страны. В какую бы страну ни попали путешественни-
ки— будь то Диранда (Германия), Доминора (Англия), Вивенца
(Америка) и т. д., везде они сталкиваются с произволом, на-
силием, несправедливостью, тупостью правителей и непонятной
покорностью народа, терпеливо сносящего тиранию. Даже Америка
не составляет исключения: на стенах возведенного здесь храма
Свободы вывешено объявление, обещающее награду за поимку
беглого раба. И все же путникам удается найти остров, где
люди пытаются жить по законам справедливости: это Серения.
Жаль только, что, в отличие от Доминоры, Вивенцы и прочих ост-
ровов архипелага Марди, за Серенией не стоит никакой реальной
страны — это остров-мечта, остров-сон. Мелвилл воплотил здесь
свое представление о том, какими должны быть отношения между
людьми.
«Моби Дик». Поискам ответа на вопрос, как уничтожить царя-
щее в мире зло, посвящено главное произведение Мелвилла:
роман «Моби Дик, или Белый Кит» (1851). Эта книга — одно из
высших достижений американского романтизма.
Романтики остро чувствовали силу зла в окружающем их
мире. Поставив в своем творчестве эту проблему во всей ее
философской глубине, они сделали заметный шаг вперед по срав-
нению с просветителями. Просветители исходили из представле-
ния об изначальном совершенстве природы человека и считали
зло преходящим явлением, порожденным недостатком просве-
щения и правильного воспитания. Романтики уже поняли, что
существование зла кроется на каких-то намного более неизмери-
мых глубинах, чем те, на которые указывали просветители. Но
как отыскать его источник, где найти средства для борьбы с ним,
как навсегда избавить от него человечество — вот круг вопросов,
на которые романтики искали и не находили ответа.
В романе «Моби Дик» мировое зло принимает облик зага-
дочного, неуловимого и непобедимого чудовища — Белого Кита,
по прозвищу Моби Дик. Ему бросает вызов капитан Ахав — вели-
чественный трагический герой, близкий по духу богоборцам
Мильтона и Байрона. Ахав дает клятву уничтожить Моби Дика,
отомстить за все страдания, причиненные им людям. Став во
главе команды, где собрались представители разных рас и на-
циональностей, капитан Ахав начинает преследовать Белого Кита
по всем морям и океанам.
Корабль капитана Ахава — это символ всего человечества,
которое на протяжении тысячелетий ценой неимоверных усилий
ищет пути к высшим истинам добра и правды. Поединок корабля
с Китом заканчивается трагически: Моби Дик топит корабль;
команда гибнет вместе со своим капитаном, спастись удается
296
только одному человеку. Свидетельствует ли этот финал, как
полагают некоторые критики, о безысходном пессимизме автора?
Обрекает ли Мелвилл человечество на поражение в борьбе со
злом?
Такой вывод был бы глубоко ошибочен. Мелвилл приводит
своих героев к поражению — но только потому, что стремится
быть верным правде жизни: ведь «мировое зло» не уничтожено,
страдания по-прежнему существуют, справедливость далеко не
всегда одерживает верх над несправедливостью. Однако это не
означает, что писатель призывает отказаться от борьбы, сло-
жить оружие и смириться с неизбежностью. Напротив, он созда-
ет трагедию, в которой побеждает героическое начало. Пусть
капитан Ахав и его команда гибнут — даже в гибели своей они
отказываются признать себя побежденными. Когда разбитый ко-
рабль погружается в морскую пучину, из-под воды поднимается
рука одного из матросов и упрямо прибивает к мачте националь-
ный флаг. Невольно вспоминаются слова Хемингуэя: «Человека
можно уничтожить, но его нельзя победить». Роман Мелвилла —
это гимн во славу несгибаемой силы человеческого духа.
Хемингуэй вспоминается в связи с «Моби Диком» не слу-
чайно. Мелвилл оказал фольшое влияние на американскую лите-
ратуру XX века; в особенности это относится к творчеству Хе-
мингуэя и Фолкнера. Разве не близки Мелвиллу по духу и
самой сути своей рассказы Хемингуэя, посвященные испанской
корриде, его роман «По ком звонит колокол», повесть «Старик
и море»? Во всех этих произведениях герои, казалось бы, терпят
поражение, порой даже гибнут, но все равно остаются несломлен-
ными. То же верно и по отношению- к творчеству Фолкнера:
пафос неравной, обреченной, но героической и потому, в сущно-
сти, победоносной борьбы роднит его с мелвилловским «Моби
Диком».
«Израиль Поттер». После романа о Белом Ките Мелвилл
написал еще немало выдающихся произведений. Среди них сле-
дует выделить роман «Израиль Поттер» (1855), в котором он
обратился к истории Войны за независимость. Уже в ней он
увидел зародыш последующей агрессивной политики Америки.
В годы, когда было принято представлять деятелей американ-
ской революции рыцарями без страха и упрека, Мелвилл изобра-
зил одного из них — знаменитого флотоводца Поля Джонса —
как бесшабашного авантюриста, головореза и демагога. Фигуру
Поля Джонса Мелвилл возвел до символа всей Америки: «...не-
устрашимая, беспринципная, отчаянная, хищная, безгранично
честолюбивая, прячущая дикарскую сущность под маской цивили-
зации Америка — это истинный Поль Джонс среди наций или еще
станет им».
Мелвилл раньше других осознал, что война Америки за не-
зависимость была уже и войной за господство. Проницательность
писателя лишний раз подтверждает истину о том, какими возмож-
ностями предвидения обладает художественное творчество.
297
Героем своего произведения Мелвилл сделал не прославлен-
ную историческую личность, а простого безвестного фермера
Израиля Поттера. В этом лишний раз сказался демократизм пи-
сателя. Поттер — верный солдат революции, однако Америка от-
платила ему за подвиги черной неблагодарностью: его лишают
не только заслуженной награды, но даже скромных средств к
существованию.
В новелле «Писец Бартльби» Мелвилл также обратился к
судьбе «маленького человека» — мелкого служащего, которого
страх потерять работу доводит до помешательства.
Мастерство художника. В художественном мире Мелвилла
тесно переплетаются фантастика и реальность-, повседневность и
миф. Приключенческая фабула наполняется философским содер-
жанием, документальные описания поднимаются на высоту поэти-
ческой аллегории. Так, например, сюжетную основу «Моби Дика»
составляют морские приключения. Мелвилл подробно описывает
жизнь на корабле, знакомит читателя со всеми тонкостями кито-
бойного промысла, вводит в книгу специальные разделы, содержа-
щие разнообразные сведения о китах. Однако все это — лишь пер-
вый повествовательный пласт. На нем, как на фундаменте, вы-
страивается здание философского романа. Каждый персонаж, каж-
дое событие в романе имеют как бы два измерения: реальное и
символическое. Одно неотделимо от другого. Описание труда кито-
боев, например, воссоздает реальную атмосферу корабельной жизни
и в то же время воспринимается как символ упорных трудов чело-
вечества на пути познания истины. Использование «двойного изме-
рения» — один из важных эстетических принципов Мелвилла. Он
получил большое распространение в литературе XX века (в твор-
честве Т. Вулфа, Дж. Стейнбека, У. Фолкнера и др.).
В поисках символов Мелвилл часто обращается к мифам, поль-
зуется образами, почерпнутыми из Библии. Стилю писателя
свойственны торжественная приподнятость и пророческий пафос.
Язык его пестрит архаизмами. Величественный ритм его прозы
придает ей сходство с ораторской речью. Мелвилл не стремится
к простоте. Сложный ход его мысли нередко требует сложных форм
выражения. Однако цель писателя остается неизменной: искать и
находить правду, как бы ни был извилист и труден путь к ее
достижению.
Большое влияние на Мелвилла оказал Шекспир. Повествование
Мелвилла всегда пронизано драматизмом. Конфликт развертывает-
ся на фоне титанической борьбы страстей.
Герои Мелвилла ведут борьбу за истину. В образах героев
часто воплощается та или иная философская идея. Драма страстей
превратилась под пером писателя в драму идей. Это явилось прин-
ципиально важным художественным открытием.
Творчество Мелвилла осталось неизвестным русским писателям
XIX века. Сам он также не был знаком с русской литературой.
Несмотря на это, можно обнаружить сходство некоторых мотивов
298
в творчестве Мелвилла и Гоголя. Это сходство типологическое:
оно порождено не влиянием, а близостью ряда социальных и фило-
софских проблем, волновавших общественное сознание США и
России. Речь идет прежде всего о судьбе рядового, так называемо-
го «маленького человека», который и в республиканской Америке,
и в крепостнической России в равной мере мог стать жертвой
бездушной бюрократической системы.
Поэтому история Израиля Поттера напоминает в чем-то судьбу
капитана Копейкина, а писец Бартльби заставляет вспомнить гого-
левскую «Шинель».
При жизни Мелвилл не получил признания и умер, забытый
современниками. Его творчество возродилось и вошло в классику
мировой литературы лишь в XX столетии. Это объясняется тем,
что Мелвилл намного опередил свое время — как мыслитель и как
художник.
ЭДГАР ПО
Замечательный поэт и рассказчик, талантливый теоретик, кри-
тик и журналист, занявший почетное место в мировой литературе,
Эдгар Аллан По (1809—1849) был «блудным сыном» Америки.
Смелому писателю мстили при жизни, считали неудачником, пре-
увеличивали слабости, клеветали и осуждали. Всю свою жизнь
Э. По стремился вырваться из ненавистной атмосферы практициз-
ма и накопительства1.
Э. По, сочетавший в себе дар художника, математика, исследо-
вателя природы, был одним из образованнейших людей своего
времени. Но судьба преследовала его и после смерти. Редактором
своих сочинений По назначил Р. Грисуолда, который фальсифици-
ровал его биографию, опубликовал с искажениями тексты многих
новелл. Понадобились годы кропотливой работы многих исследо-
вателей, чтобы развеять клевету Грисуолда об Э. По.
Творчество Э. По не укладывается в рамки определенного на-
правления или течения в искусстве. «Вобрав в себя опыт пред-
шествующей литературы, во многом следуя традиционным приемам,
испытывая разнообразные влияния современных ему художников,
Э. По создал произведения, характеризующиеся в то же время
сильным и необычным своеобразием»2.
Э. По был очевидцем резких социальных конфликтов. Вы-
росший на Юге, в рабовладельческом штате Виргиния, он зо мно-
гом разделял взгляды аристократов-южан. С другой стороны, По,
вечный бедняк, испытал на себе гнет и насилие преуспевающих
буржуа, обесценивание человеческой личности, деградацию искус-
ства. В По уживались мыслитель-рационалист и романтик.
1 См.: Николюкин А. Н. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По.—
В кн.: По Э. А. Полное собрание рассказов. М., 1970.
2 Королева Л. Н. Эдгар По во Франции.— В сб.: О национальном
своеобразии европейских литератур. Л., 1980, с. 80.
299
По был сыном своего времени и живо интересовался его пробле-
мами. Он рассказал в своем творчестве об отрицательном отноше-
нии к жестокому миру накопления, к продажной прессе. Предъяв-
ляя к искусству, критике и литературе высокие требования, По
стремился к тому, чтобы они заняли в обществе подобающее им
место.
Большое значение имела художественная и критическая деятель-
ность Э. По, отдавшего много сил борьбе с литературной посред-
ственностью, пытавшегося поднять значение литературной критики.
Поддержка им творчества Ф. Купера, Н. Готорна, Г. Лонгфелло
сыграла большую роль для развития национальной литературы,
которую он считал частью мирового литературного процесса.
Б. Шоу высоко ценил умение Э. По дать правильную оценку
произведениям европейской литературы. В английской литературе
По особенно ценил Шекспира, Мильтона, Дефо. Популяризировал
творчество Диккенса.
Эстетические взгляды По формировались под влиянием идей
американского Просвещения. Глубоко осмыслив европейский ро-
мантизм (прежде всего Шеллинга и А. Шлегеля), он стал одним
из видных и своеобразных писателей и теоретиков романтического
направления в Америке. Он развил учение европейских романтиков
о категории прекрасного в эстетике, о тесной связи поэзии и музы-
ки, о принципах композиции. Главным в искусстве По считал
умение запечатлеть трагическое столкновение страстей. По относит-
ся к тем писателям, кто «создал в поэзии и прозе картины психо-
логической угнетенности и моральной неустойчивости в огромном
обществе, которое преображалось с развитием промышленности»1.
По не увлекался эпохой средневековья, фольклором, мифоло-
гией. Ему «был чужд наивный и неистребимый оптимизм американ-
ских трансценденталистов, полагавших идеальное неодолимой си-
лой, которое должно исправить испорченный мир»2. По критиковал
уродливый мир, в котором он жил, преимущественно с эстетиче-
ских позиций.
Поэтические произведения. Э. По — талантливый лирик,
смелый экспериментатор, расширивший возможности использова-
ния поэтического языка. Он был также первым в американской
литературе, кто создал законченную теорию стиха. Ранняя поэзия
По успеха не имела, но в ней ставились важные вопросы, волно-
вавшие поэта всю жизнь (например, соединение фантастического
с загадками науки и др.) и получившие высокохудожественное
выражение в поздней лирике (1845—1849). Такие произведения,
как «Ворон», «Улалюм», «Эннабел Ли», «Эльдорадо», «Колокола»,
снискали По наибольшую славу и популярность.
Поздняя лирика создавалась поэтом, накопившим большой
опыт, пережившим много горького, литератором-бедняком, и вместе
1 Литературная история Соединенных Штатов Америки. М., 1977, т. 1, с. 28.
2 Злобин Г. Эдгар По — романтик и рационалист.— В кн.: По Э. Рас-
сказы. М., 1979, с. 16.
300
с тем известным новеллистом
и ведущим литературным
критиком, теоретиком. По
считал, что стихотворению
должны быть присущи крат-
кость, новизна и оригиналь-
ность. Наибольшую извест-
ность поэту принесло стихо-
творение «Ворон» (1845).
В. Брюсов считал «Ворона»
наиболее типичным создани-
ем Э. По, где «страшное»
найдено в «естественном».
Брюсов писал, что «сюжет
поэмы глубоко и строго ло-
гически продуман поэтом;
все эффекты поэмы не только
результат творческой интуи-
ции, сколько сознательной
работы мысли, комбинирую-
щей и выбирающей»1. Вот
краткое содержание поэмы:
гроза загоняет в комнату
ОДИНОКОГО мечтателя, ТОСКую- Э' MaHC" Иллюстрация к «Ворону»
щего «об утраченной Лено- j$75 г
ре», ворона, которого кто-то
научил говорить одно слово nevermore (т. е. «никогда». — А. Г.).
Сам поэт определяет тему «Ворона» как «смерть молодой прекрас-
ной женщины». По считал смерть прекрасной женщины наиболее
поэтическим сюжетом в мире, меланхолию — самым поэтическим
настроением человека. Стихотворение можно трактовать широко,
например, как борьбу человека с роком. «Придавая большое зна-
чение оригинальности, поэт смело вводит новые приемы — перебои
ритма, неожиданные внутренние рифмы. Стихотворение отличает-
ся особой «застывшей живописностью», которая возникает с по-
мощью подбора деталей, создающих нужное настроение»2.
В стихотворении «Улалюм» По использовал распространенную
в готическом романе и романтической литературе тему двойника,
раскрывая внутреннее состояние героя.
По специально изучал роль музыки в поэзии. Сибелиус, Рах-
манинов восхищались его искусством. Так, в стихотворении «Коло-
кола» каждая часть имеет свою звуковую окраску. Перед читателем
раскрываются этапы человеческой жизни — рождение, свадьба,
трагедия, смерть. С. В. Рахманинов положил это стихотворение
(в переводе К. Бальмонта) на музыку. Морис Равель и Клод Де-
бюсси сочиняли музыку на сюжеты По, восхищенные звукописью
его лирики.
1 Брюсов В. Стихотворения и поэмы. Л., 1961, с. 851.
2 Нестерова Е. К. Поэзия Эдгара Аллана По. М., 1976, с. 12.
301
Используя жанр фольклорной баллады, По создал одно и^ са-
мых запоминающихся стихотворений «Эннабел Ли» — о вечности
любви, о неистребимости жизни. Сонет «Моей матери», посвящен-
ный Марии Клемм, матери жены По, трогает своей искренностью
и простотой.
По был в числе тех романтиков, кто хотел внести в проза-
ическую жизнь эмоциональное, высокодуховное, идеальное. Пре-
красное По, как и другие романтики, противопоставлял корыстному
миру наживы. «Находясь в самой гуще грубой и безвкусной роман-
тической стихии, По не дал той стихии поглотить себя, он шел
своим путем мятежника и, встав на защиту красоты, открыл бла-
годаря этому романтизм более прекрасный, чем тот, который был
до него известен Америке»1.
По — новеллист. Вместе с В. Ирвингом и Н. Готорном Э. По
был одним из создателей национального жанра новеллы. Им напи-
саны семьдесят рассказов и повестей, оказавших влияние на раз-
витие американского и мирового рассказа, теоретически* осмыслены
значение жанра и принципы композиции, единства, правдоподобия
и оригинальности эффекта, неожиданного финала. «Эдгара По
можно с полным основанием считать родоначальником трех жанров:
детективного, научно-фантастического и литературы ужасов»2.
В творчестве По-рассказчика выделяют два периода. Первый —
рассказы 30-х годов, носящие, по преимуществу, фантастический,
гротескный или пародийный характер. В подтексте его «страшных»
и «таинственных» рассказов содержится глубокая неудовлетворен-
ность существующей жизнью, ее философской и эстетической бед-
ностью, самодовольной практичностью. По не понимал до конца
причин социального зла, скорее интуитивно, чем сознательно
чувствовал страшные последствия сложившейся в Америке цивили-
зации. «Падение дома Ашеров» (1839) — один из наиболее совер-
шенных его рассказов на тему одиночества, которым завершается
первый период творчества. В нем нашло свое воплощение чувство
ужаса перед грядущим и страх за настоящее. «Ощущение невыно-
симой тоски может быть сопоставлено с настроением, пронизываю-
щим строки «Ворона»3.
Родерик Ашер — тонко чувствующий художник, мастер мрач-
ных музыкальных импровизаций, понимающий ненужность своего
искусства и глубоко переживающий одинЬчество, усугубляемое
болезнью нежно любимой им сестры Мэдилейн. Он живет в вечном
страхе, предчувствуя свою скорую гибель. Родерик хоронит боль-
ную сестру, находившуюся в глубоком обмороке. Пришедшей в себя
сестре удалось выбраться из гробницы. Она «увлекла за собою на
пол и его, бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он пред-
чувствовал». Рассказчик стал свидетелем небывалой трагедии:
1 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1967,
т. 2, с. 79.
2 Райнов Б. Черный роман. М., 1975, с. 27.
> 3 Н иколюкин А. Н. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По. — В кн.:
По Э. А. Полное собрание рассказов. М., 1970, с. 719.
302
\
Г. Кроуфорд. Умирающий индийский
вождь.
Мрамор. Ок. 1850 г.
трегдина в доме быстро расши-
рялась, порыв свирепого ура-
гана рушил древние стены, глу-
бокие воды зловещего озера
поглотили остатки рухнувшего
фамильного дома. Не следует
преувеличивать склонность По
к сверхъестественному, необъяс-
нимому. М. Горький заметил,
что По не выдумывал, а чувст-
вовал ужас. В ответ на обвине-
ние в подражании Гофману По
говорил, что не из немецкой ро-
мантики, а из собственной души
рождается тот ужас, который
он видит окрест себя1. Содер-
жание рассказа явно выходит
за рамки необычайной семейной
истории и приобретает широкое
философско-эстетическое звуча-
ние. Мэдилейн и Родерик, тонко чувствующие натуры, оказались
неприспособленными к окружающей их жизни. Брат и сестра —
единое целое, и смерть одного ведет к гибели другого.
В 40-е годы Э. По создал знаменитые детективные рассказы:
«Убийство на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» (1842),
«Золотой жук» (1843), «Украденное письмо» (1845) и другие,
оказавшие огромное воздействие на американскую и европейскую
детективную литературу. По высоко ставил искусство психологи-
ческого угадывания. Таким качеством наделен Дюпен, сыщик-
любитель, герой нескольких новелл По. У Дюпена исключитель-
ный аналитический ум, и он не раз признавался своему другу,
что люди для него — открытая книга. О раскрытии Дюпеном за-
гадочного убийства рассказано в новелле «Убийство на улице
Морг». Его поразил прежде всего чудовищный характер убийства;
он обратил внимание и на визгливый голос одного убийцы, ибо
никто из свидетелей не смог разобрать ни одного членораздельного
слова или хотя бы отчетливого звука речи этого существа. Он
отметил огромную силу, с которой терзали убийцы свои жертвы.
Дюпен понял, что, только обладая необычайной ловкостью, убийцы
могли выбраться из окна. В голове Дюпена возникла мысль, что
в убийстве повинна обезьяна. Его догадка подтвердилась. В Бу-
лонском лесу нашли сбежавшего от хозяина орангутанга, а вскоре
пришел и его хозяин-моряк, рассказавший об убийстве.
В «Золотом жуке» (по оценке Ж. Верна, «самой замечательной
новелле») По переработал популярную в фольклоре легенду о
зарытых пиратами кладах. Легран, обладавший аналитическим
1 См.: Неделин В. и Николюкин А. Эдгар По. — В кн.: По ,Э.
Избранные произведения в 2-х томах. М., 1972, т. 1. с. 25.
303
/
умом, нашел удивительно красивого жука. Слуга-негр Юпитер
завернул его в пергамент. Череп на пергаменте подсказал Леграну
мысль о том, что пергамент когда-то принадлежал пирату, что
перед ним записка о местонахождении клада. Под влиянием тепла
пергамент «заговорил»: на нем обозначились печатка-череп, шифр
и подпись пирата Кидда. По увлекал читателя замечательной
аналитической способностью сопоставлять факты, подтверждать
практикой выдвинутые гипотезы.
В детективных рассказах, блестящих по стилю, привлекают
тонкие психологические наблюдения, острые сюжетные повороты,
правдоподобие деталей.
В творчестве По не меньшее значение имеет и его обращение
к научно-фантастическому рассказу. Для своего времени По был
эрудированным в научном и техническом отношении литератором,
он изучал теории вселенной Ньютона, Лапласа, Фергюсона, Гум-
больдта, хорошо знал астрономию, интересовался исследованиями
Луны, возможностью проникновения человека в воздушное и косми-
ческое пространство, ему принадлежат интересные наблюдения о
звуке и цвете. В литературе о По уже отмечалось, что он гениаль-
но предугадал некоторые математические, астрономические идеи
XX столетия '.
По восхищался большими познавательными возможностями
человека. В «Рукописи, найденной в бутылке» он стремился рас-
крыть еще не узнанные тайны природы, в рассказе «Низвержение
в Мальстрем» герой остался в живых только потому, что постиг
закономерности вращения и погружения различных тел в огромной
воронке. В таких рассказах, как «Тысяча вторая сказка Шехереза-
ды», дана интересная оценка состояния технической мысли совре-
менного ему мира, есть здесь и прославление будущих завоеваний
науки. Желание продвинуть вперед развитие человеческой мысли,
широта тематики, своеобразное сочетание фантастического, факто-,
графического и рационалистического в научно-фантастических рас-
сказах представляет интерес и для современного читателя и писа-
теля-фантаста. По соединил литературу с наукой.
По выступал и как автор ряда юмористических, сатирических
рассказов, блестяще владел социально-насыщенной пародией и
гротеском. Он высмеял обывательскую ограниченность, мир мошен-
ничества и наживы в таких произведениях, как «Черт на колоколь-
не» (1839), «Человек дела» (1840), «Литературная жизнь Каква-
са Тама, эсквайра» (1844).
М. Горький считал По «отличным мастером формы»2, ориги-
нальным художником. Писатель был одним из величайших сти-
листов английского языка. Для По-рассказчика характерно стрем-
ление насытить рассказ фактами, взятыми из различных областей
знаний, углубленный психологизм, захватывающий сюжет, сочета-
1 См.: Неделин В. иНиколюкинА. Эдгар Аллан По.— Избранные
произведения в 2-х томах. М., 1972. т. 1. с. 36—37.
2 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1953, т. 26, с. 92.
304
ние трагического и юмористического, «сила подробностей»
(Ф. М. Достоевский)1.
Особое значение он придавал началу рассказа, которое должно
сразу увлечь читателя.
Разносторонний талант По, его поэтичность и интеллектуаль-
ная глубина не укладывались в рамки своей эпохи. Э. и Ж. Гон-
куры в 1856 году записали в дневнике: «После чтения По нам
открылось нечто такое, что публика, кажется, не подозревает.
По — это новая литература, литература XX века...»2.
Соотечественники не понимали писателя. Только, позднее Бод-
лер, Валери, Рембо3 глубоко раскрыли значение его творчества,
которое оказалось более созвучным новому времени.
ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО
Генри Уодсуорт Лонгфелло (1807—1882)—выдающийся поэт-
ррмантик, ученый-филолог, талантливый переводчик европейских
поэтов. Он стал национальным поэтом Америки. Его «Стихи о
рабстве», «Песнь о Гайавате» известны всему миру .
Лонгфелло-романтик формировался под влиянием национальной
и европейской философии и культуры. Этический пафос трансцен-
денталистов, во многом унаследованный от пуританизма, оказал
большое влияние на поэта. Лонгфелло глубоко интересовала евро-
пейская культура (Франции, Италии, Испании, Германии, Шве-
ции), и он успешно выполнил высокую миссию посредника между
старыми европейскими культурами и нарождающейся американ-
ской. Он переводил произведения с итальянского (Данте. «Божест-
венная комедия»), с испанского (Хорхе Манрике, Лопе де Вега),
с немецкого (Уланд, Гейне).
Получив широкое гуманитарное образование, он прекрасно
знал отечественный и европейский фольклор, историю, философию,
литературу, искусство, был знаком со многими американскими и
европейскими писателями, проявлял интерес к русской культуре и
поэзии5. Лонгфелло много сделал для пропаганды культуры дру-
гих народов в США.
Как лирик, Лонгфелло примыкает к направлению в романтиче-
ской поэзии, представленному Вордсвортом и Китсом. Американ-
ская критика считает его певцом новоанглийского пуританизма. Уже
ранние стихи принесли молодому поэту некоторую известность.
С 1830-х годов Лонгфелло завоевывает популярность своей поэзией.
В своих произведениях он воспевал борьбу и труд, веру в жизнь.
1 Русские писатели о литературном труде. Л., 1955, т. 3, с. 120.
2 Гонкуры Э. и Ж. Отрывки из «Дневника». Л., 1961, с. 391—392.
3 См.: Королева Л. Н. Эдгар По во Франции. — В кн.: О национальном
своеобразии европейских литератур. М., 1980.
4 См.: Оеенева Е. Три классика американской поэзии. — В кн.: Лонг-
фелло Г. Песнь о Гайавате. М., 1976.
5 См.: Ал'ексеев М. Стихотворная антология Лонгфелло о России.—
Научный бюллетень ЛГУ, 1946, № 8, с. 27—28.
305
Некоторые из его стихов, например «Стрела и песня», стали
хрестоматийными.
В 1842 году появляются его «Стихи о рабстве», известные и
очень популярные в России, в переводе М. Л. Михайлова. Стихи
были напечатаны в журнале «Современник». В те годы слово
«негр» было синонимом крепостного. «Стихи о рабстве» заключали
в себе антикрепостнический смысл.
Л. Н. Толстой, называя писателей, которые помогли уничтоже-
нию рабства, отмечал Лонгфелло, Бичер-Стоу и Эмерсона.
Но подлинно национальным поэтом Лонгфелло становится
тогда, когда появляются его знаменитые поэмы, и прежде всего
«Песнь о Гайавате» (1855). В ней Лонгфелло обратился к фолькло-
ру североамериканских индейцев, интенсивное изучение которого
в то время уже началось. Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему
переводу «Песни о Гайавате» отмечал, что Лонгфелло открыл аме-
риканцам Америку в поэзии, «первый создал чисто американскую
поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемир-
ной литературы»1.
«Песнь о Гайавате», — говорит Лонгфелло, — это индейская
Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании
легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них
говорится о человеке чудесного происхождения, который был по-
слан к ним' расчистить их реки, леса и рыболовные места и на-
учить народы мирным искусствам»2. Лонгфелло хорошо знал
исследования по фольклору североамериканских индейцев. Он изу-
чил появившийся в 1819 году фундаментальный труд Дж. Хеке-
уэлдера «Описание истории, обычаев и нравов индейских племен
Пенсильвании и соседних штатов», который, по словам Лонгфелло,
«представляет в новом и благоприятном свете характер этого окле-
ветанного и преследуемого народа».
Поэма рассказывает об основных этапах жизни романтического
героя Гайаваты: рождении, детских годах, возмужании, женитьбе
на красавице Минегаге, разносторонней трудовой и культурной
деятельности на благо народов. Его мать Венона, дочь звезды,
рано умерла от горя, тоски, неверности мужа — коварного»западного
ветра Мэджекивиса. Старая Нокомис воспитала мальчика смелым,
ловким, сильным, добрым к людям; он «изучил весь птичий говор»,
«всех зверей язык узнал он».
Прекрасный юноша, посланец небес, неумирающий Мондамин
(маис), говорил Гайавате:
Послан я тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Пер. И. Л. Бунина
1 Цит. по кн.: Бунин И. А. Предисловие.— В кн.: Лонгфелло Г. Песнь
о Гайавате. Л., 1976, с. 5.
2 Там же, с. 6—7.
306
И действительно, Гайавата был подготовлен к такой жизни.
Он вышел победителем из поединка с отцом Мэджвкивисом, кото-
рому отомстил за раннюю смерть матери, с Мондамином, но са-
мыми трудными для него были поединки с чудовищами. Нелегко
далась победа над царем рыб Мише-Намой, дерзким, хитрым По-
Пок-Кивисом, злобным волшебником Меджисогвоном — Духом
Богатства. Гайавата, труженик и умелец, похож на Прометея. Он
сам многое мог сделать своими руками, например, построить проч-
ную и красивую пирогу, научить индейцев сеять и собирать хлеб,
охотиться, ловить рыбу, выделывать кожи. Гайавата надолго за-
помнил наказ отца:
Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной.
Гайавата научил людей необходимым ремеслам, привил любовь
к песне и пляске, научил писать и рисовать, врачевать раны.
Главная его задача: убедить людей разумно и мирно жить. В поэ-
ме Манито призывает народы:
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!
В поэме вдохновенно запечатлены:
...сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов...
Г. Скулкрафт в письме к Г. Лонгфелло писал: «Индейца сле-
дует принимать таким, каков он на самом деле. Он — воин в сра-
жении, дикарь в мести, стоик в испытаниях, росомаха в хитрости
и уклончивости. Но он также глава своего дома, патриот в любви
к родине, гуманист в доброте... Он прост как дитя, сохраняя до-
стоинство хозяина собственного вигвама... До «Гайаваты» не было
попыток показать его столь многосторонне»1. В Гайавате подчер-
кивается главное — не жестокость и хитрость, а первобытное до-
стоинство, изобретательность, смелость, серьезность, нежность.
Образ Гайаваты до сих пор является лучшим и непревзойденным
образом индейца в мировой литературе.
Исследователи считают, что «поэма — самый яркий.в мировой
литературе образец романтической трактовки эпоса».
Перевод поэмы, сделанный И. А. Буниным, вошел в золотой
фонд русского классического перевода. Поэтические строки и стро-
фы «Песни о Гайавате» еще долго будут доставлять читателям
эстетическое наслаждение.
1 См.: Новиков В. И. «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфеллои романтическая
поэтика эпоса.— В сб.: Некоторые филологические аспекты современной амери-
канистики. М, 1978, с. 229.
307
БИЧЕР-СТОУ
Известная всему миру своей книгой «Хижина дяди Тома» (1852)
Гарриет Элизабет Бичер-Стоу (1811 —1896) занимает почетное
место в литературе, порожденной движением аболиционистов. Би-
чер-Стоу родилась в северном штате Коннектикут. Будущая пи-
сательница провела свою жизнь в религиозно-пуританской среде.
Ее отец и братья были проповедниками, а муж — профессором
богословия.
В письме к редактору газеты «Нэшенел ира», аболиционисту
Бейли она определила содержание своей книги: разностороннее
изображение рабства, основанное на реальных фактах. «Все опи-
санные в этой книге события, — пишет Бичер-Стоу в «Заключении
к американскому изданию «Хижины дяди Тома», — совершенно
правдивы. Часть их прошла перед глазами самого автора... Все
характеры, положения, поступки и даже речи выведенных здесь
лиц взяты прямо из жизни...»
Чтобы полнее представить все ужасы рабства, писательница
с первых глав книги рисует идеальные взаимоотношения между
рабами и «гуманными» рабовладельцами. Хозяин дома полностью
доверяет негру Тому, который честно управляет плантацией, а
хозяйка особенно благоволит к горничной-квартеронке Элизе.
Она получила хорошее воспитание, ей позволили выйти замуж
за любимого человека — мулата Джорджа, талантливого умельца,
честного человека, раба соседнего плантатора Гарриса. Том живет
в еще более идеальных условиях: его жена Хлоя — очень искусная
повариха в господском доме, у них трое детей — два мальчика и
девочка, у Тома отдельный домик, утопающий в зелени, цветах;
свой небольшой участок земли Том засаживает ягодами и овощами.
Но вот неплатежеспособному Шелби понадобились деньги, и
хозяин продает его, а заодно и мальчика Элизы другому человеку,
перекупщику негров Гейлю. Это был «жестокий человек, неподат-
ливый, как недубленая кожа. Человек, признающий лишь торговлю
и наживу: холодный, непреклонный и безжалостный, как смерть
и могила. За хорошую цену он продал бы родную мать, не
желая ей к тому же ничего дурного».
Вначале Том попадает в дом «гуманного» владельца Сен-
Клера, купившего Тома в знак благодарности за спасение его
единственной дочери Евы. За искреннюю любовь Тома к больной
туберкулезом девочке Сен-Клер пообещал его освободить, но
внезапная смерть нарушила все планы, и вдова продает Тома
жестокому рабовладельцу Легри.
Огромная сила романа в том, что Бичер-Стоу удалось показать
весь ужас жизни негров на плантации у рабовладельца Легри, дать
правдивую, реалистическую картину крупнейших невольничьих
рынков страны.
Легри не только извлекает огромную прибыль из своих рабов,
но, унижая и мучая их, хочет поработить их духовно. «А кто
твой господин? Кто заплатил за тебя, собаку, тысячу двести дол-
308
ларов? Ты теперь мой, и душой и телом», — кричит Легри на
Тома, но покорный и послушный Том до последнего своего часа
отстаивает свое человеческое достоинство. «Мои силы, мое время —
это все. Но над моей душой вы не властны. Вы можете запороть
меня, уморить голодной смертью, сжечь заживо», — смело бросает
он своему мучителю.
Самые здоровые рабы здесь выдерживали шесть лет тяжелой
работы, более слабые не могли прожить и трех. Том умирает от
побоев хозяина и надсмотрщиков-негров Самбо и Квимбо, ставших
палачами своих же товарищей.
Бичер-Стоу пошла значительно дальше тех писателей-либера-
лов, кто изображал негров ребячливыми, умственно убогими, обла-
давшими единственной добродетелью — преданностью хозяину.
В ее героях мы найдем много волевых черт характера, чело-
вечности. Таким предстает и главный герой Том, обладающий ду-
шевным благородством, честностью, мужеством, любящим сердцем.
Он делает добро всем окружающим его людям, не задумываясь,
спасает тонувшую девочку Еву. В его образе и образе Евы очень
много схожего. Здесь сказались религиозные убеждения писатель-
ницы, которая хотела сделать Тома абсолютным воплощением
христианской покорности и всепрощения, отразив настроения части
аболиционистов. Он терпеливо все переносит и всех призывает
последовать его примеру.
Бичер-Стоу, как художник, сильнее проповедника христианской
морали. Ей хотелось видеть в религии средство, которое помо-
жет неграм. Но как тонкий наблюдатель жизни, она хорошо пока-
зала, как церковь помогает плантаторам удерживать суеверных
рабов в страхе и повиновении.
Негры — это не единая страдающая масса. Полная противопо-
ложность Тому — Самбо и Квимбо, негры-прислужники, рабски
преданные своим хозяевам. Есть среди негров смелые и талантли-
вые люди, готовые пойти на жертвы ради завоевания свободы
(Касси, Элиза, Джордж Гаррис).
Современный читатель отчетливо видит недостатки романа.
В нем много тирад о религиозных обязанностях владельцев и их
рабов, много цитат из Библии, есть и налет сентиментальности.
Это объясняется тем, что автор хотел примирить рабов с план-
таторами на религиозной почве, добиться отмены рабства мирным
путем. Бичер-Стоу горячо сочувствует активной борьбе за счастье.
Так, всем мужественным героям в произведении сопутствует
удача. Наделяя Тома лучшими человеческими чертами, она прежде
всего хотела, чтобы читатели увидели в негре-рабе равного им,
духовно полноценного человека.
Книга явно переросла цели автора. Многие поколения читате-
лей возмущались мученической смертью Тома, убеждались в бес-
плодии смирения. Они прекрасно понимали, что Том не мог пре-
вратиться в предателя и палача и потому был вынужден ослушать-
ся хозяина и тем самым нарушить рабовладельческий кодекс, кото-
рый запрещал рабу иметь совесть. Весь ход повествования застав-
309
лял читателя негодовать против рабовладельческого ига, не
примиряться с рабством, быть смелым, честным и мужественным
в нелегкой борьбе против рабства.
Велико значение параллельно развивающейся сюжетной линии,
рассказывающей о судьбе семьи Элизы. Бегство Элизы с сыном
через реку в ледоход, ее смятение и в то же время желание во что
бы то ни стало достичь благополучно другого берега — одно из
наиболее запоминающихся мест в романе. Значителен образ ее му-
жа, непоколебимого и смелого человека, который гордится со-
знанием своего превосходства над плантаторами. Джордж с семьей
благополучно достигает пределов Канады, получает образование,
едет в Африку, где он сможет приложить свои силы.
Бичер-Стоу не могла не увидеть большого будущего за конти-
нентом Африки: «Если Африка явит когда-нибудь миру высокую
духом, просвещенную расу,— а в том, что она сыграет роль в раз-
витии человечества, сомнений быть не может,— жизнь расцветет
там с такой пышностью, с таким великолепием, о которых наши
холодные западные народы имеют лишь смутное представление.
В этой далекой загадочной стране золота, алмазов, развевающих-
ся на ветру пальм, пряностей, невиданных цветов и сказочного
плодородия возникнут новые формы искусств, новая красота.
И может статься, что те высокие законы общежития, с которыми
приобщится к нам негритянская раса — прежде забитая и презрен-
ная, послужат откровением для человечества».
В своей книге Бичер-Стоу умело соединила публицистичность,
страстное обращение непосредственно к читателю с драматическим
развитием событий. Книгу восторженно встретили не только демо-
кратические силы Америки, но и других стран, которые видели в
ней страстный протест против всякого рода насилия и эксплуата-
ции.
Русские революционные демократы также использовали роман
в борьбе против крепостного ига. Н. А. Некрасов, преодолев ро-
гатки царской цензуры, издал его в 1858 году как бесплатное
приложение к «Современнику», тем самым содействуя его широ-
кому распространению в России в период острой борьбы с кре-
постничеством.
Н. К. Крупская относила «Хижину дяди Тома» к числу книг,
которые оказали влияние на педагогические взгляды К. Д. Ушин-
ского.
УОЛТ УИТМЕН
Уолт Уитмен (1819—1892) — великий национальный поэт, ос-
новоположник современной американской поэзии — родился в
оемье фермера. Ему не удалось из-за нищеты окончить школу.
Еще мальчиком Уитмен вынужден был зарабатывать на жизнь:
он был рассыльным, затем стал учеником в типографии и набор-
щиком. Подобно Беранже, Шоу, М. Горькому, Уитмен достиг
310
широкой образованности и высот литературы благодаря непрестан-
ному самостоятельному труду. В юности Уитмен был учителем
в средней школе, затем журналистом, главным редактором крупной
демократической газеты «Бруклин Игл». За смелые выступления
против рабства негров власти уволили Уитмена, и он был вынуж-
ден заниматься плотницким ремеслом. Поэт говорил о себе («У бе-
регов голубого Онтарио», 1836): «Я любил землю, солнце, зверей,
я презирал богатство. Я делился со всеми, кто бы ни попросил,
заботился об увечных и неразумных, отдавал свой заработок
другим. Ненавидел тиранов, спорил, не считаясь с богом, терпели-
во, терпимо относился к людям, не сгибал голову' ни перед чем
известным или неизвестным... Хотел лишь того для себя, чего для
других добивался...».
Он писал стихи, в которых осуждал рабство, воспевая трудо-
вой подвиг американского народа. Уитмен продолжил традиции на-
циональной поэзии романтиков. Он хорошо знал и ценил поэзию
своих современников и предшественников. «Я не могу себе пред-
ставить,— писал Уитмен,— более удачного приобщения к миру
поэзии, чем то, что выпало на долю Америки благодаря Эмерсону,
Лонгфелло, Брайанту и Уитьеру... Каждый — большой поэт, каж-
дый мастер, каждый неповторим»1. Уитмен отверг характерную для
европейской поэзии «патоку рифм», обратился к белому нерифмо-
ванному стиху.
Поэт лаконично объяснил заглавие сборника «Листья травы»—
это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи, цвета на-
дежды. Новое содержание и новая форма стихов Уитмена наилуч-
шим образом соответствовали мотивам народного творчества.
Сборник поэм У. Уитмена «Листья травы» впервые был издан
в 1855 году на средства автора без указания его имени, затем мно-
гократно переиздавался и дополнялся автором.
Миру стяжательства и суеты Уитмен, как и трансцендентали-
сты, противопоставил самоусовершенствование, духовную свободу
личности, достигаемые через пантеистическое восприятие природы.
Поэт воспел вселенную, культ дружбы. По этому поводу К. И. Чу-
ковский писал: «Вся его писательская сила в необыкновенно жи-
вом, никогда не покидавшем его чувстве беспредельной широты
мироздания»2.
В первых стихотворениях сборника Уитмен создает фольклор-
ные образы героических людей труда. Лирическое «я» в сборни-
ке— это также воплощение человека-труженика, рабочего и фер-
мера, который кормит и защищает всю страну. Вот как он пред-
ставляет себя читателю в «Песне о себе» (1855): «Уолт Уитмен,
космос, сын Манхаттена, Буйный, дородный, чувственный... локтя-
ми я упираюсь в морские пучины. Я обнимаю сьерры, я ладонями
покрываю всю сушу...»
1 См.: Четыре поэта Америки.— В кн.: Уитмен У. Избранные произведения.
М., 1970, с. 353.
2 Чуковский К. И. Мой Уитмен. М., 1966, с. 9.
3*1
Поэт как бы сливается с народом, выражая горячее чувство
любви и уважения к тем, кто «...владеют топорами и молотами и
умеют управлять лошадьми». Уитмен воспевает гордость Человека
Труда: «Ни перед кем не заискивая, никому ни в чем не уступать...
быть не рабом, а властителем жизни!» Бросая вызов расистам,
Уитмен говорил о своей братской любви к неграм:
Я гляжу на этого картинного гиганта, я влюблен
в него и не могу удержаться на месте,
Я бегу с его четверкой наравне.
Он помог беглому рабу:
Наклеивал пластыри на исцарапанную
шею и щиколотки;
Он жил у меня неделю, отдохнул и
ушел на Север,
Я сажал его за стол рядом с собою,
а кремневое ружье мое было в углу.
«Песня о себе». Пер. К. Чуковского
Рабовладельчество в поэме «У берегов голубого Онтарио» на-
звано им «предательским заговором, несущим смерть».
Поэт, как и миллионы простых людей Америки, возлагал боль-
шие надежды на президента Авраама Линкольна. В глубине души
он, как и массы тружеников Севера, надеялся, что после победы
над южными рабовладельцами Линкольн «наведет порядок».
Однако Линкольн пал от руки наемника плантаторов:
...Нет, это сон, что ты лежишь
Холодный, неживой!
«О Капитан! мой Капитан!» Пер. К. Чуковского
Мечты рядовых американцев о торжестве демократии не осуще-
ствились. Бурное развитие капитализма в послевоенные годы со-
провождалось коррупцией государственного аппарата, сговором
плантаторов и промышленников Севера, махинациями гангстеров и
политиков, обманом и бессовестной эксплуатацией трудящихся
классов. Писатель возвышает свой гневный голос против преступ-
лений «рыцарей наживы», он говорит теперь о пороках капитали-
стического строя. В беседах со своим другом Траубелом, относя-
щихся к 1883—1889 годам, он заявлял: «Мы построили жизнь на
гнилом фундаменте». «Я хочу,— восклицает он,— чтобы основой
для нас стало то, что должно стать основой,— не собственность,
а человек». Взгляды на перспективы развития американского
общества, на судьбы американской литературы изложены с наи-
большей полнотой в трактате «Демократические дали» (1871).
В нем отмечено, что при «беспримерном материальном прогрессе
общество в Штатах испорчено, развращено, полно грубых суеверий
и гнило». Как следствие этого, и буржуазная литература являет
собой зрелище деградации и загнивания. Уитмен выдвинул перед
молодыми писателями грандиозную программу создания f новой
312
литературы. Он призывал вскрывать «язвы, покрывающие хвале-
ную Америку с головы до ног». Поэт писал: «Долг подлинно
великого поэта — противодействовать страшной угрозе, уже на-
висшей над Америкой; угроза эта — сплошная продажность в по-
литике, наша хваленая религия — на самом деле — маска из воска
и кружев, — а в целом — самое вредное, отвратительное, что мо-
жет появиться на земле; огромное, разнородное общество, раз-
жиревшее от изобилия денег, товаров, деловых авантюр, развитое
и в чисто интеллектуальном отношении, но совершенно лишенное
здоровой моральной и эстетической основы, которая важнее всех
на свете денег и интеллектуальных ценностей»1.
Воспевая демократию, поэт верил, что народ-творец в будущем
создаст более совершенную форму общественного устройства. В по-
эмах Уитмена проповедуется братство всех народов. Народное,
коллективное выражено сильнее индивидуального, хотя поэт любу-
ется величием каждого человека, его физическими и моральными
качествами. Уитмен требовал от литературы создания высокого
эстетического идеала. Поэты и писатели должны звать народ впе-
ред, к прекрасному будущему, они «должны наставлять и воспиты-
вать... придавать человеку новые силы, должны указывать жиз-
ненную цель». Большое значение для судеб американского искус-
ства имела мысль Уитмена о том, что подлинно великая амери-
канская литература родится не в салонах и гостиных «бостонских
браминов» и в редакциях северных книжных фирм, а выйдет из
глубин народа, ее создадут не «университетские говоруны, не бур-
жуазные писаки и критики, а молодые фермеры, лоцманы с Мисси-
сипи, шахтеры, машинисты, матросы». Уитмену очень хотелось,
чтобы появились «простые, здоровые, вселяющие бодрость стихи».
Исполненная величайшего оптимизма, поэзия Уитмена близка и со-
звучна нашей эпохе своим демократизмом, интернационализмом,
гуманизмом.
Уитмена во многих странах воспринимали как революционного
поэта, имея в виду его гимны итальянским, австрийским, француз-
ским повстанцам, но по отношению к американской действительно-
сти он не шел дальше реформистских стремлений.
Уитмен обогатил литературный язык Америки, смело вводя в
него лексику народной устной, прозаической речи, воскрешая на-
родные сказания и баллады, применяя оригинальные рифмы и раз-
меры. Свободный стих без рифмы он сделал удивительно гибким.
Уитмен широко пользовался приемами ораторской речи, чередуя
вопросы с ответами, используя многократные повторения:
Что слышишь ты, Уолт Уитмен?
Я слышу, как поет рабочий, как поет жена фермера,
Я слышу вдали голоса детей и крики животных рано утром.
Salut au Monde!
Пер. М. Зенкевича и Н. Банникова
1 Поэзия в современной Америке — Шекспир — будущее.— В кн.: Уитмен
У. Избранные произведения. М., 1970. с. 373.
313
У. Хомер. Пленные с фронта.
Масло. 1866 г.
Он мастерски использовал такие стилистические приемы, как
параллелизм, повторы, ритмически-синтаксическое единообразие
строк, широко использовал так называемый «каталог» — обширное
перечисление объектов, явлений, лиц и др. «Назначение уитменов-
ского «каталога» — вызвать в душе читателя творческое настроение,
сознание своей власти над вещным миром, чувство изобилия и радо-
сти в жизни, в ее непрестанном эволюционном движении»1.
В жизни писателя музыка играла «поистине колоссальную роль.
Уитмен хорошо знал произведения Россини, Верди, Вебера, Дони-
цетти, страстно любил американскую народную песню. Почти все
свои крупнейшие поэтические произведения Уитмен называл «пес-
нями»2.
Музыка трубача в стихотворении «Таинственный трубач»
(1872) воплощала суть поэзии Уитмена:
Слушай! Странный трубач, небывалый трубач играет в ночи
прихотливые песни,
Незримо паря в воздушной стихии.
Трубач, я слушаю, чутко ловлю твой напев —
То бурный, крутящийся вихрем вокруг меня, надо мною,
То робкий, неясный, гаснущий где-то в пространстве.
Пер. В. Левина
1 Фисенко Т. Д. Становление творческого метода У. Уитмена. М.,
1977, с. 13.
2 Мендельсон М. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1968, с. 90.
314
Поэт высоко ценил в искусстве непосредственность и просто-
ту. В его философских поэмах наблюдается сочетание двух пла-
нов — конкретного, чувственно-образного, и абстрактного, обоб-
щенно-философского.
По мнению Стивенсона, эстетический идеал Уитмена — это силь-
ный, свободный и уверенный в себе человек. «Сила его осознана и
свобода его ограничена наиболее личной и страстной любовью
к другим...». Говоря о книгах, оказавших на него наиболее силь-
ное влияние, Стивенсон в 1879 году писал, что «Листья травы»
Уитмена были той именно книгой, «которая сослужила ему верную
службу».
Исследователи расценивают творчество Уитмена как мост, сое-
диняющий классический период американской литературы и совре-
менный, XIX и XX века. Под влиянием Уитмена развивались
американские поэты Сэндберг и Маклиш. П. Неруда и X. Марти
выражали Уитмену свою признательность. А. В. Луначарский
выявил общность его художнических принципов с принципами
Верхарна. Уитмена считают предтечей так называемой урбаниче-
ской (т. е. посвященной городу) поэзии.
Стихи Уитмена были известны и в России1. В 1872 году
И. С. Тургенев перевел несколько его стихотворений, но они не
были опубликованы. Л. Н. Толстой обратил внимание на поэта, но
его высказывания не всегда были доброжелательны. В 1907 году
в России вышли «Листья травы» в переводе К. И. Чуковского.
Поэзия Уитмена оказала влияние на русских футуристов, особенно
В. В. Хлебникова, отчасти на В. В. Маяковского.
К. И. Чуковский отмечал, что «Маяковский ценил те места в
«Песне о себе», где Уитмен говорит о своей идентичности с дру-
гими людьми, о сострадании с ними. Интересовался он и такими
строками Уитмена, в которых образ его лирического героя прини-
мает гигантские масштабы...
Маяковский дорожил тем народным началом, которое он уга-
дывал в американском поэте. В частности, Маяковский, видимо,
ощущал в Уитмене борца за расширение ритмических рамок поэзии
в соответствии с нуждами новой, более широкой, более близкой
современности боевой тематики»2.
1 См.: Уитмен У. Письмо о России.
2 Мендельсон М. Столетие великой книги.— В кн.: Уитмен У. Листья
травы. М., 1955, с. 34.
СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Западная и Центральная Европа. США. 1850—1870 годы
Годы
1850
1851
1852
1853
1854
1855
i
История
2 декабря — государствен-
ный переворот Луи Бона-
парта (Наполеона III)
Наука и философия
К. Маркс. «Классовая
борьба во Франции 1848—
1849 г.»
Ф. Энгельс. «Крестьян-
ская война в Германии»
Ф. Энгельс. «Революция
и контрреволюция в Гер-
мании»
К. Маркс. «18-е брюмера
Луи Бонапарта»
Ш. Леконт де Лиль. Пре-
дисловие к «Поэмам и сти-
хотворениям» (теоретиче-
ский документ «Парнаса»)
Литература
Г. Мел вилл. «Моби Дик»
Г. Гейне. «Романцеро»
Г. Готье. «Эмали и камеи»
Г. Бичер-Стоу. «Хижина дя-
ди Тома»
Ч. Диккенс. «Холодный дом»
В. Гюго. «Возмездие»
Ч. Диккенс. «Тяжелые вре-
мена»
Г. Д. Торо. «Уолден, или
Жизнь в лесу»
У. Теккерей. «Ньюкомы»
Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайа-
вате»
У. Уитмен. «Листья травы»
Г. Гейне. «Лютеция»
Искусство
Г. Курбе. «Дробильщики
камней»
♦ 1
Д. Верди. «Трубадур»,
«Травиата»
Г. Вагнер. «Золото Рей-
на»
I 1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1
Крымская война (1853—
1856)
Восстание Джона Брау-
на против рабства (США)
Начало походов Гари-
бальди
Начало Гражданской вой-
ны между Севером и Югом
в США. "
Отмена крепостничества в
России
Шанфлери, Дюранти. Сб.
«Реализм»
К. Маркс. «К критике по-
литической экономии»
Ч. Дарвин. «Происхожде-
ние видов путем естествен-
ного отбора»
В. Раабе. «Хроника Воро-
бьиной слободы»
Ч. Диккенс. «Крошка Дор-
рит»
Ш. Бодлер. «Цветы Зла»
Г. Флобер. «Госпожа Бо-
вари»
Г. Ибсен. «Воители в Хель-
геланде»
Дж. Элиот. «Мельница на
Флосе»
Г. Флобер. «Саламбо»
В. Гюго. «Отверженные»
У. Теккерей. «Генри
Эсмонд»
Выставка картин Г. Кур-
бе: «Павильон реализма»
Р. Вагнер. «Валькирия»
Ж. Ф. Милле. «Собира-
тельницы колосьев»
Ш. Гуно. «Фауст»
Р. Вагнер. «Тристан и
Изольда»
Д. Верди. «Бал-маскарад»
О. Домье. «Прачка»
Продолжение
Годы
1863
1864
1864
1866
1867
1868
1870
История
Основание I Интернацио-
нала
Победа Севера в Граж-
данской войне в США.
Убийство Линкольна
Франко-прусская война.
Поражение Наполеона III.
Объединение Германии.
Завершение воссоедине-
ния Италии ,
Наука и философия
И. Тэн. «История англий-
ской литературы»
К. Маркс. «Капитал»
(т. 1)
Литература
Г. Ибсен. «Претенденты на
престол»
Бр. Гонкуры. «Жермини Ла-
сертэ»
Г. Ибсен. «Бранд»
Э. Золя. «Тереза Ракен»
Г. Ибсен. «Пер Гюнт»
Ш. де Костер. «Легенда о
Тиле Уленшпигеле и Ламме
Гудзаке»
Искусство
Э. Мане. «Завтрак на
траве»
К. Моне. «Дама в саду»
Ш. Гуно. «Ромео и Джу-
льетта»
И. Штраус. «Голубой Ду-
най»
И. Штраус. «Сказки Вен-
ского леса»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение (С. В. Тураев) 3
Литература Французской революции 1789—94 гг. (С. Р. Брахман) 15
Романтизм (С. В. Тураев) 20
Немецкая литература конца XVIII в. (С. В. Тураев). 30
Романтизм в Германии (А. Б. Ботникова) 33
Гофман (А. Б. Ботникова) .... 48
Гете в эпоху романтизма (Д. Л. Чавчанидзе) 57
Романтизм в Англии (Б. И. Колесников) 61
Вордсворт (Б. И. Колесников) 63
Байрон (А. С. Ромм) . . 67
Шелли (Б. И. Колесников) 84
Скотт (Б. И. Колесников) 90
Романтизм во.Франции (С. Р. Брахман) ... 99
Поэзия французского романтизма (С. И. Великовский) 113
Гюго (С. Р. Брахман) ... 122
Романтизм в польской литературе. Мицкевич (А. Ф. Головенченко) 139
Романтизм в литературе США. Ранний этап (Т. Л. Морозова) 143
Ирвинг (Т. Л. Морозова) 149
Купер (Т. Л. Морозова) 152
Синхронистическая таблица (1789—1830) 157
Критический реализм XIX в. (С. В. Тураев) 163
Беранже. (С. Р. Брахман) . . 169
Стендаль (С. И. Великовский) . . 172
Мериме (С. Р. Брахман) 185
Бальзак (С. Р. Брахман) .... 190
Литература чартизма. Эрнст Джонс. (Б. И. Колесников) . 207
Диккенс (Б. И. Колесников) 208
Теккерей (Б. И. Колесников) . 217
Немецкая литература 30-х гг. (А. Б. Ботникова) 221
Бюхнер (А. Б. Ботникова) 225
Гейне (А. Б. Ботникова) .... 231
Немецкая литература революции 1848 г. (С. В. Тураев) 245
Петефи (А. Ф. Головенченко) 256
Синхронистическая таблица (1830—1849) .... 261
Литература Западной Европы и США после 1848 г. (Д. Л. Чавчанидзе) 265
Французская поэзия в середине XIX в. (С. И. Великовский) . 273
Бодлер (С. И. Великовский) 275
319
Флобер (Д. Л. Чавчанидзе) ... 282
Романтизм в литературе США. Поздний этап (Тк Л. Морозова) 293
Мелвилл (Т. Л. Морозова) 295
Эдгар По (А. Ф. Головенченко) 299
Лонгфелло (А. Ф. Головенченко) 305
Бичер-Стоу (А. Ф. Головенченко) 308
Уитмен (А. Ф. Головенченко) 310
Синхронистическая таблица (1850—1870) 316
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Под редакцией
Ясена Николаевича Засурского и Сергея Васильевича Тураева
Редактор Т. П. Казымова. Художник А. Е. Тачков. Художественный редактор К. К. Федоров. Тех-
нический редактор Т. А. Гарина. Корректоры Л. А. Ермолина, Л. Г. Новожилова.
И Б № 6293"
Сдано в набор 10.02.82. Подписано к печати 15.11.82. А13240. Формат 60X90'/i6- Бум. офсетн. № 2.
Гарнит. академич. Печать офсетная. Усл. печ.'л. 20-|-фор. 0,25. Усл. кр.-отт. 20,5. Уч.-изд. л. 23,23+фор-
0,45. Тираж 250 000 экз. Заказ 1498. Цена 90 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия
СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.
1
90 коп.
в