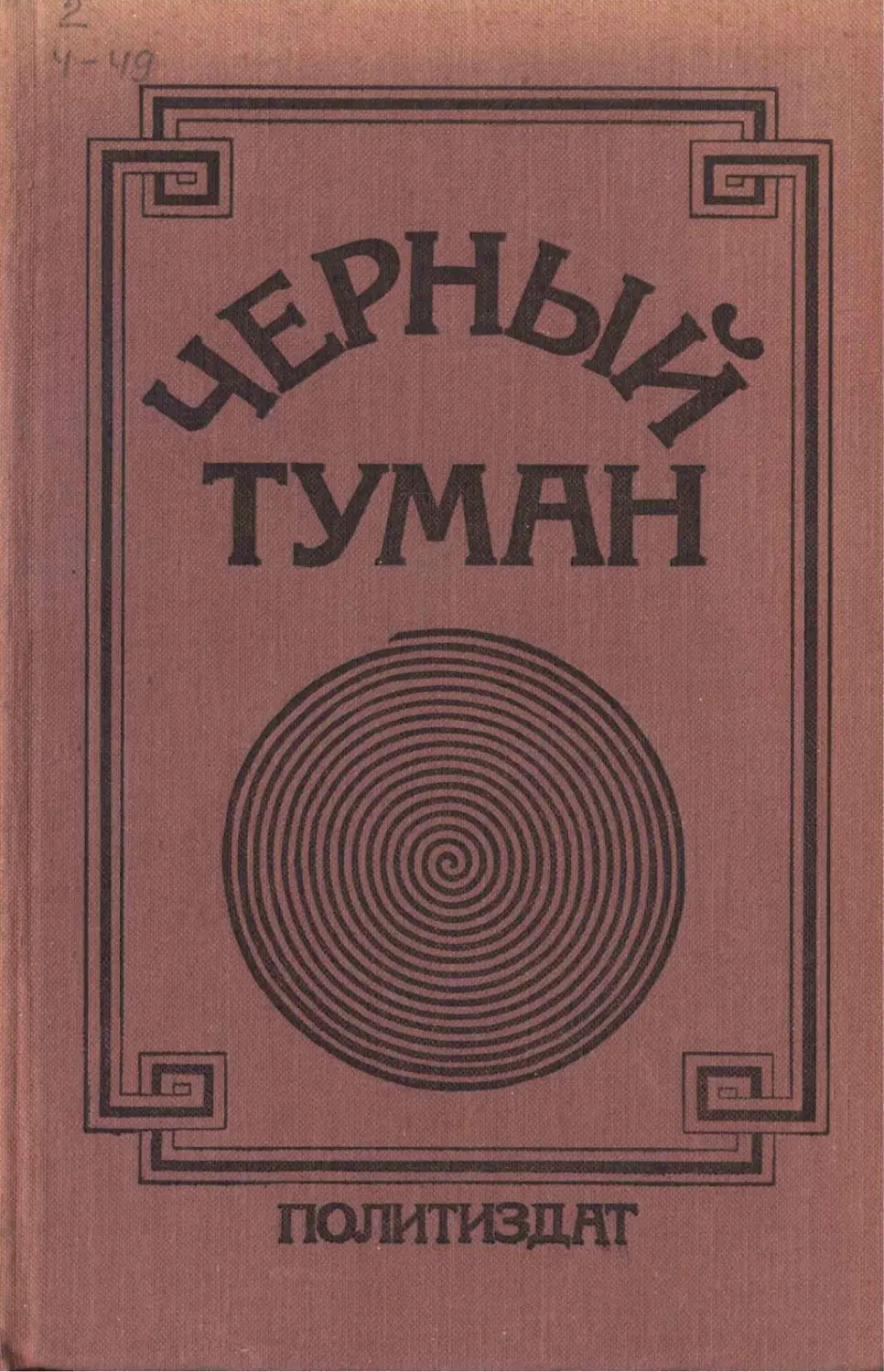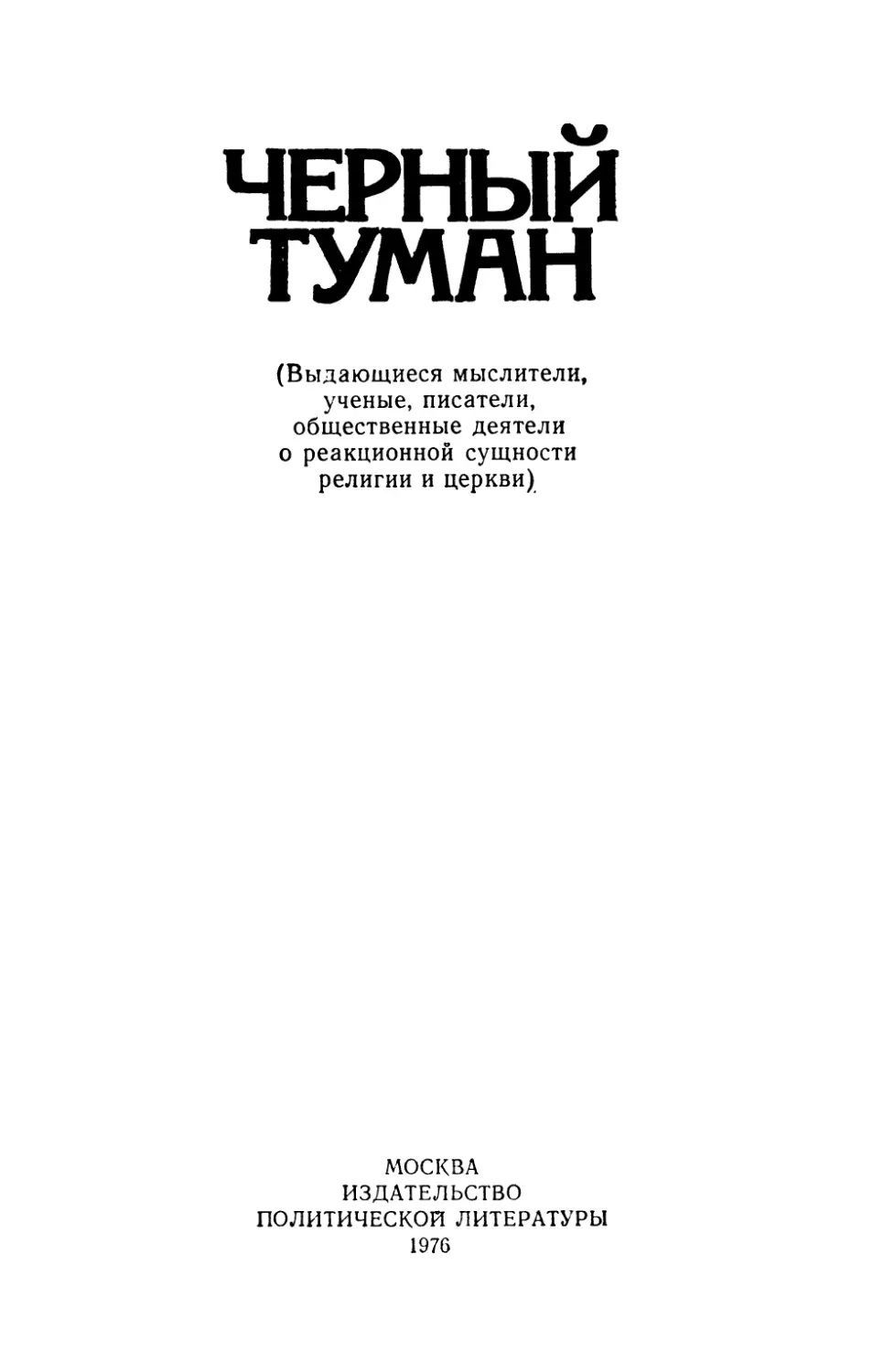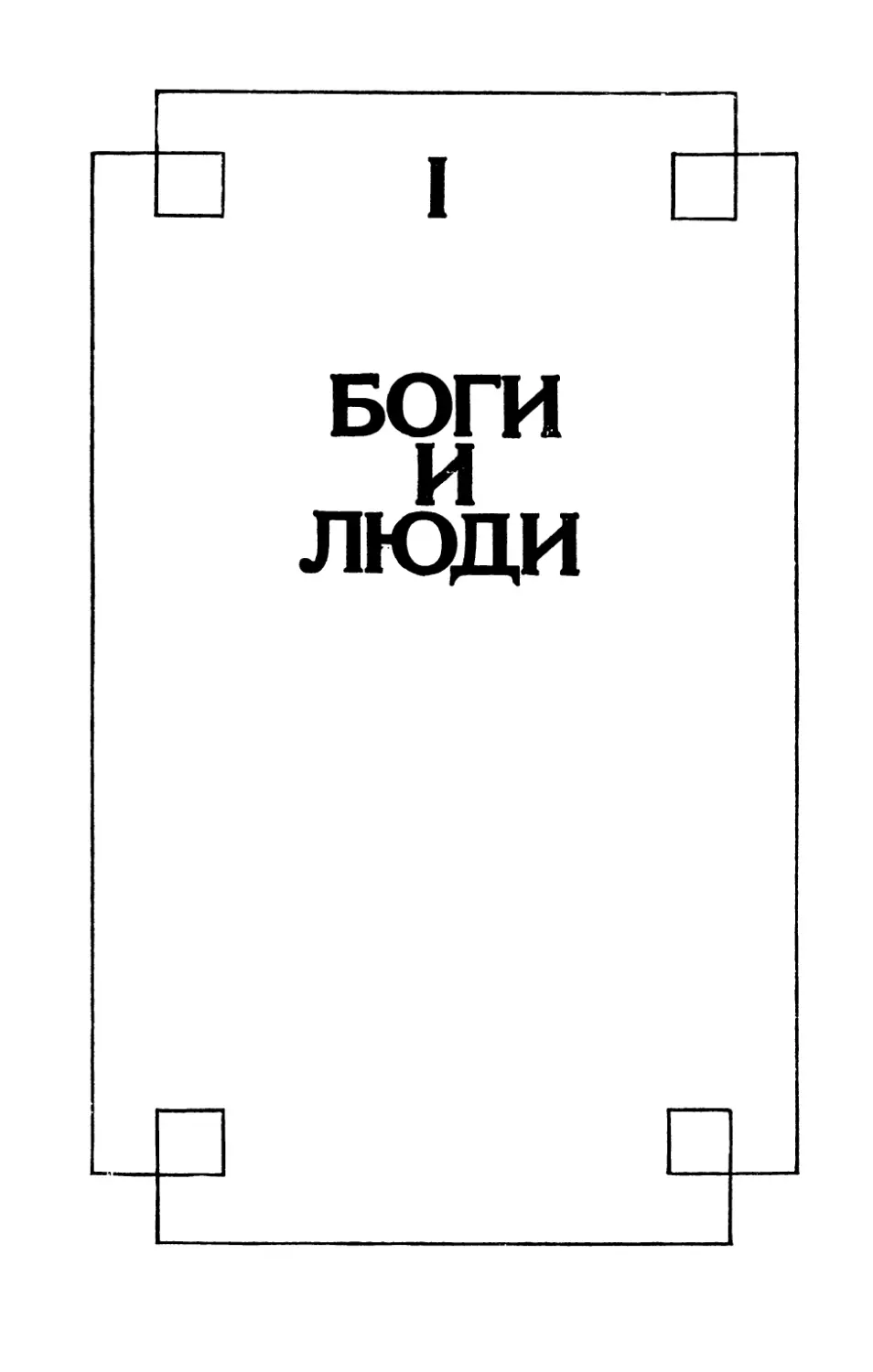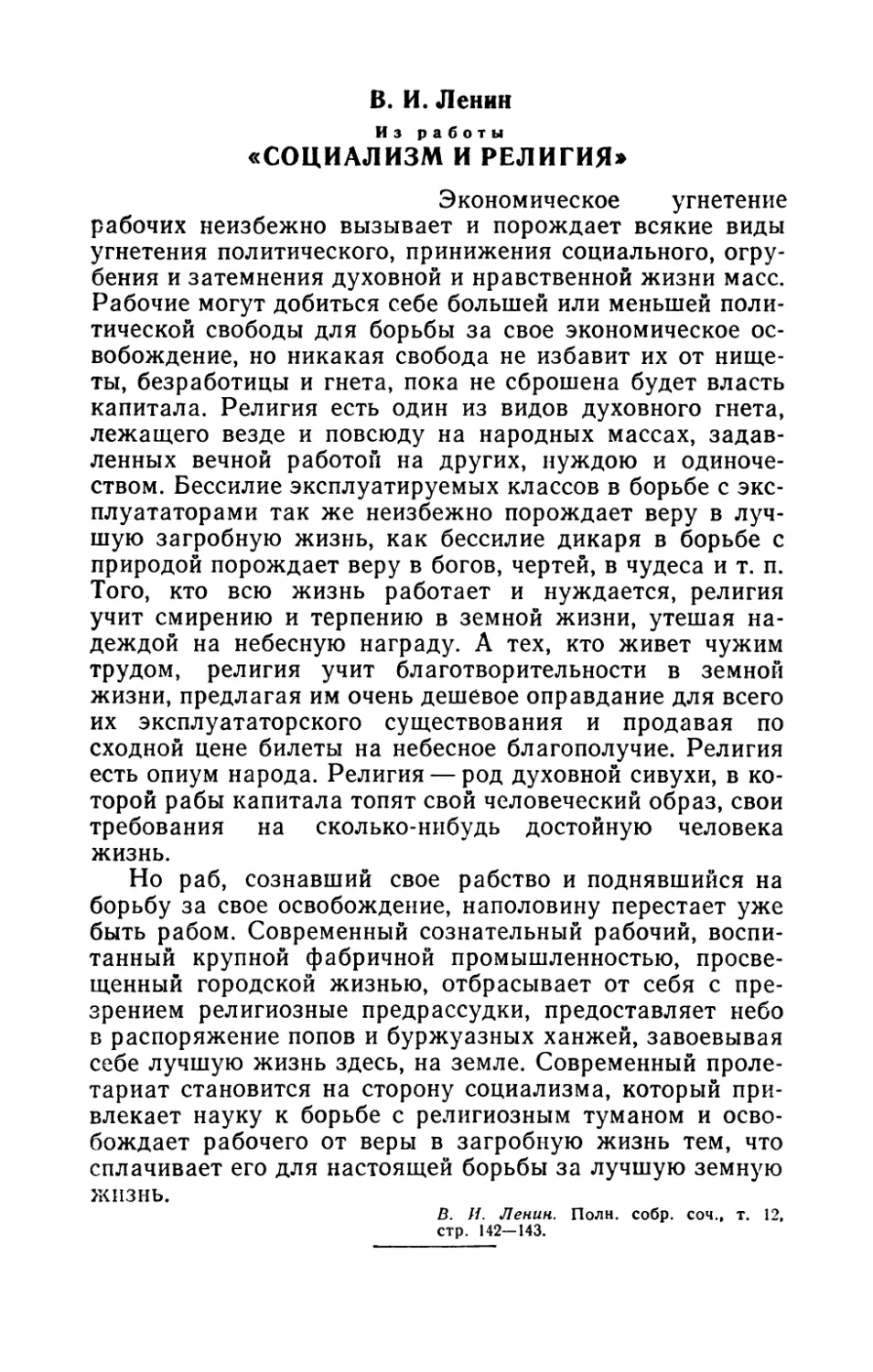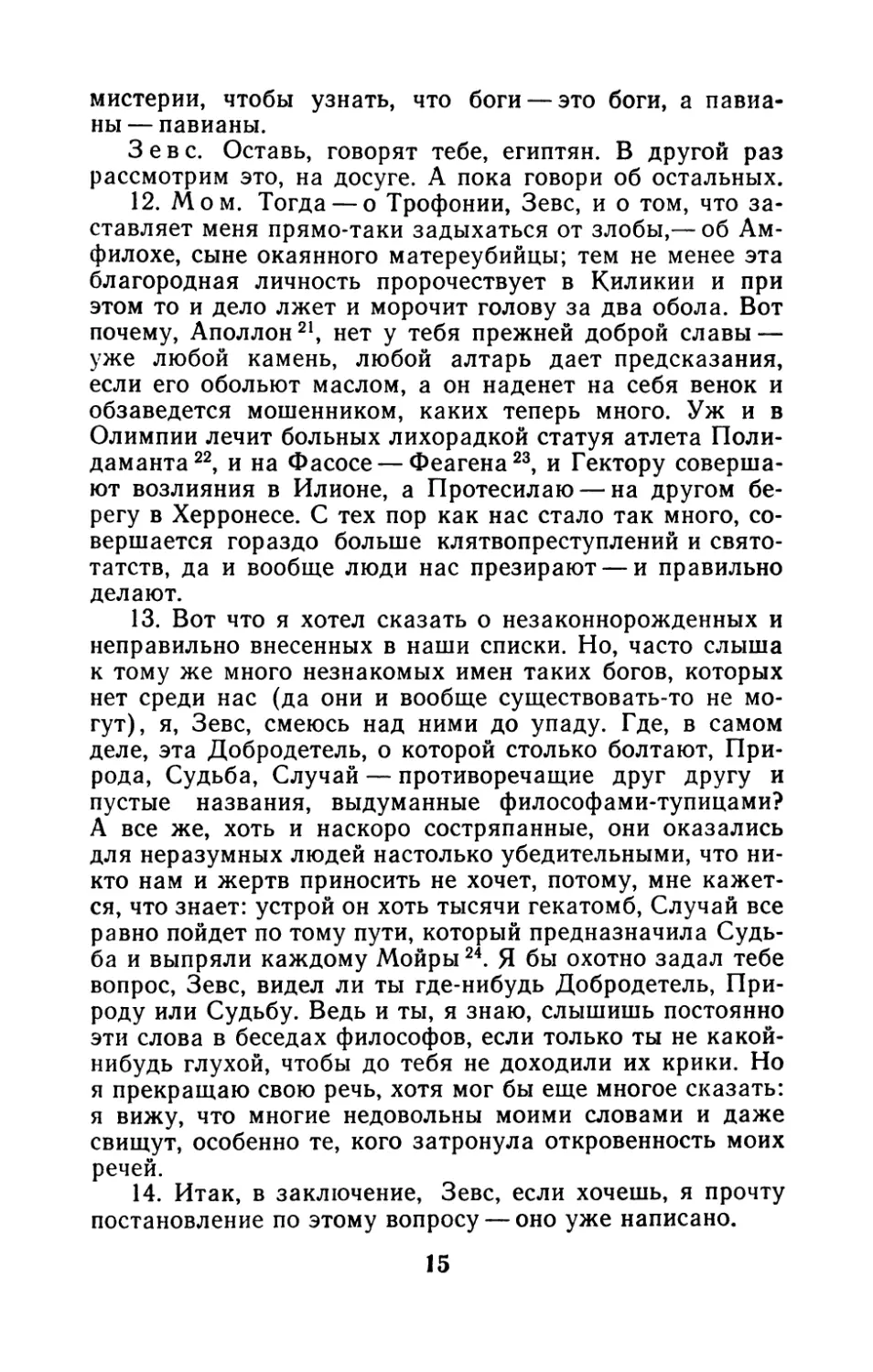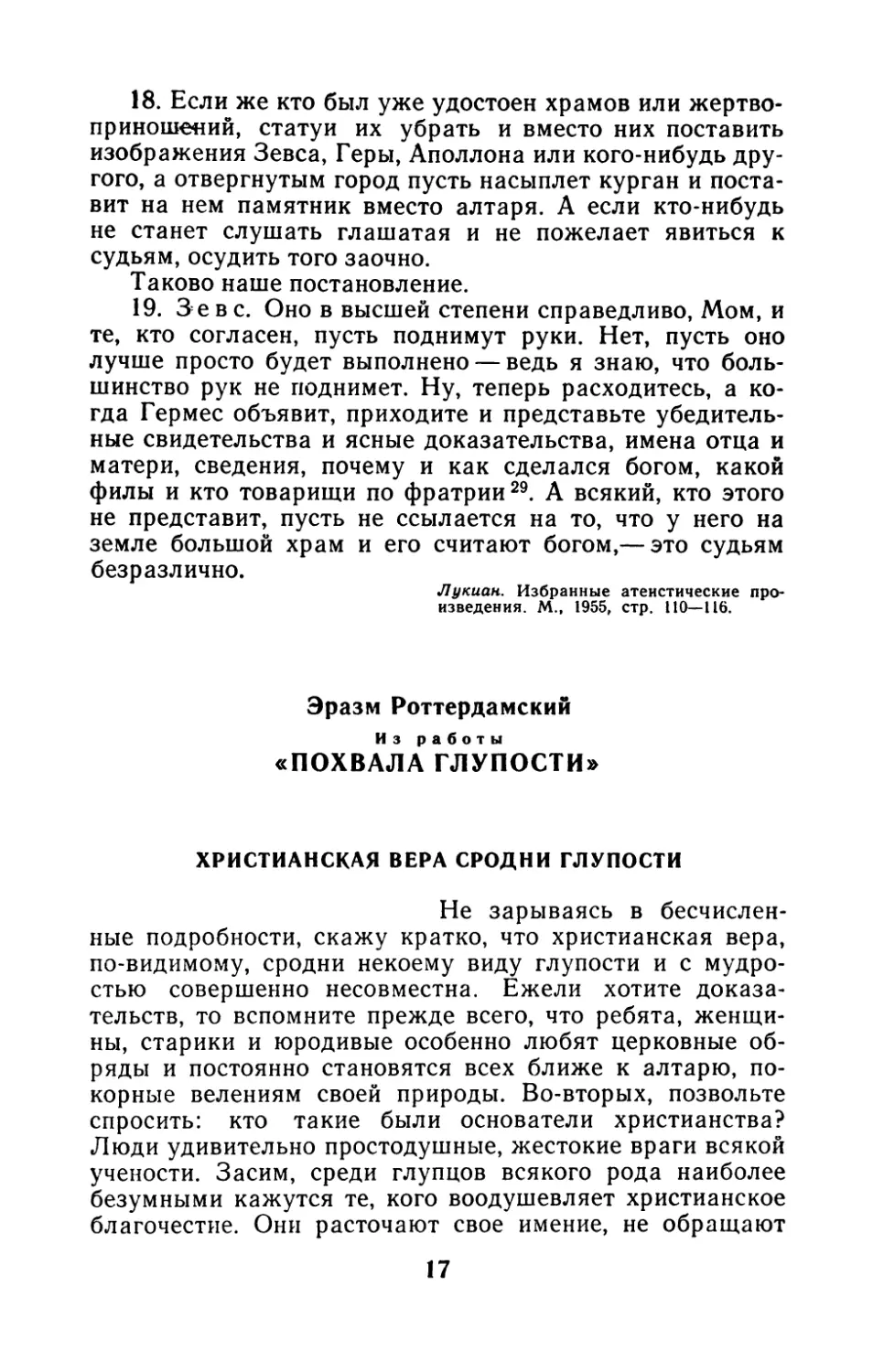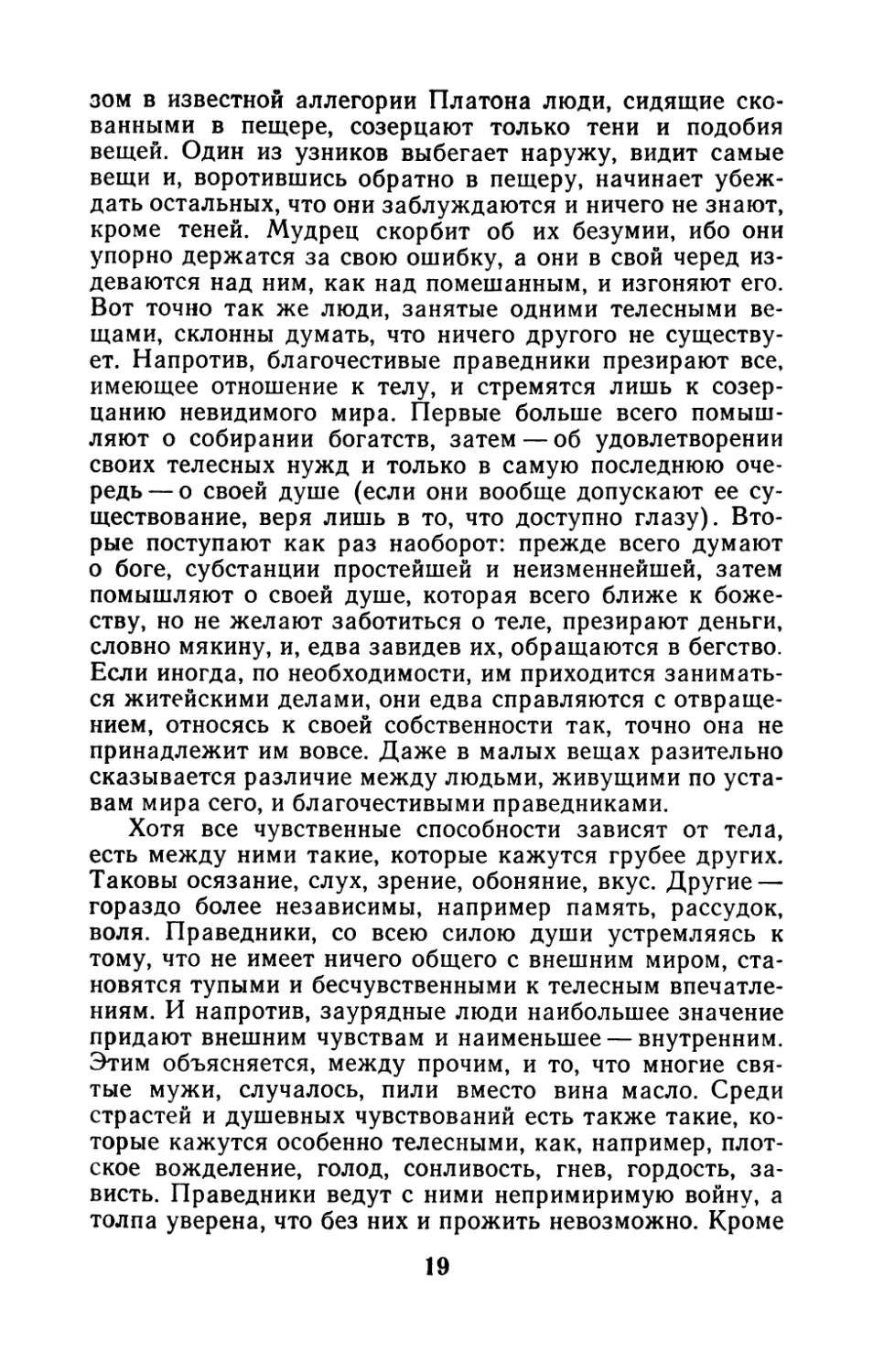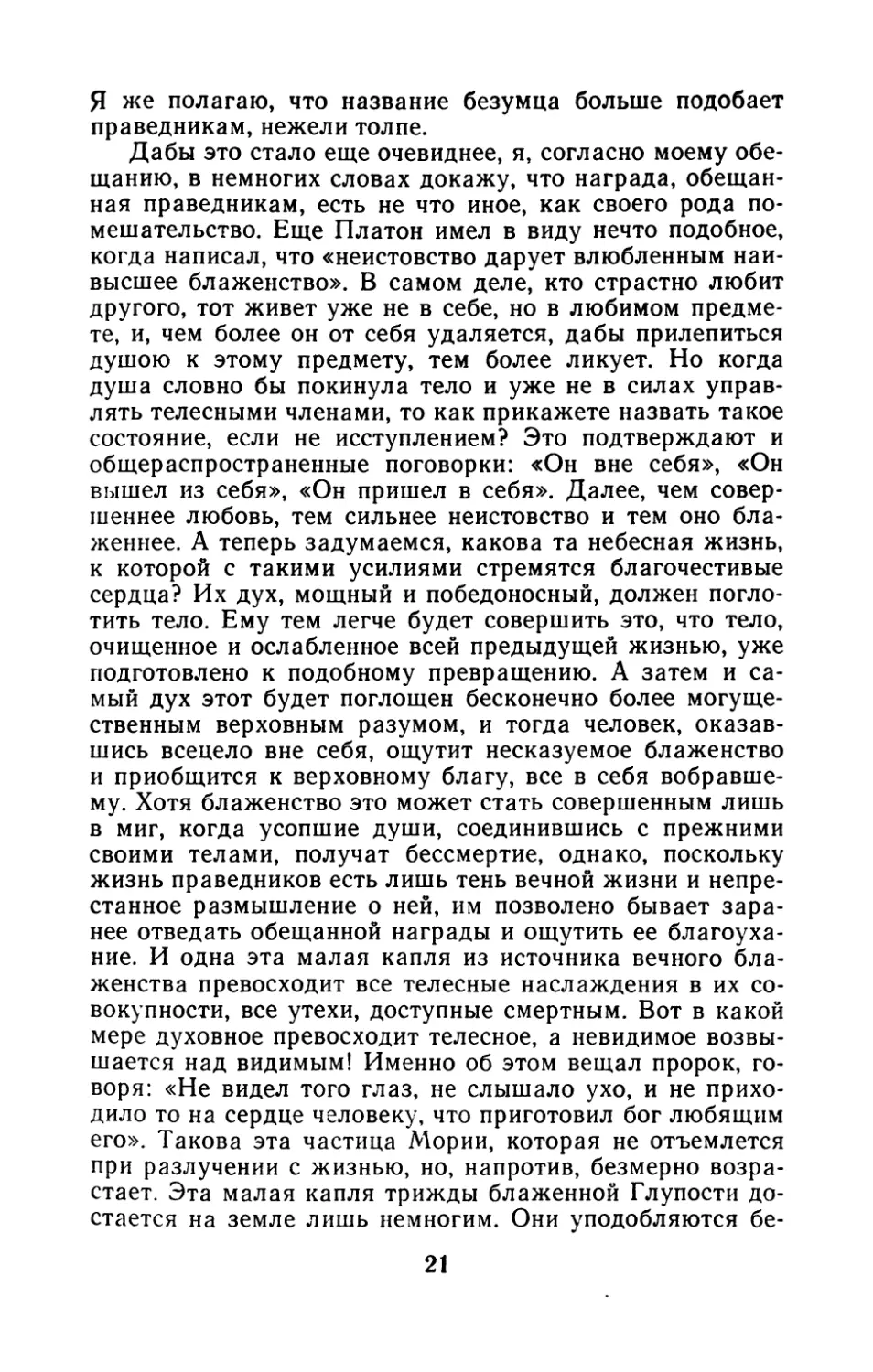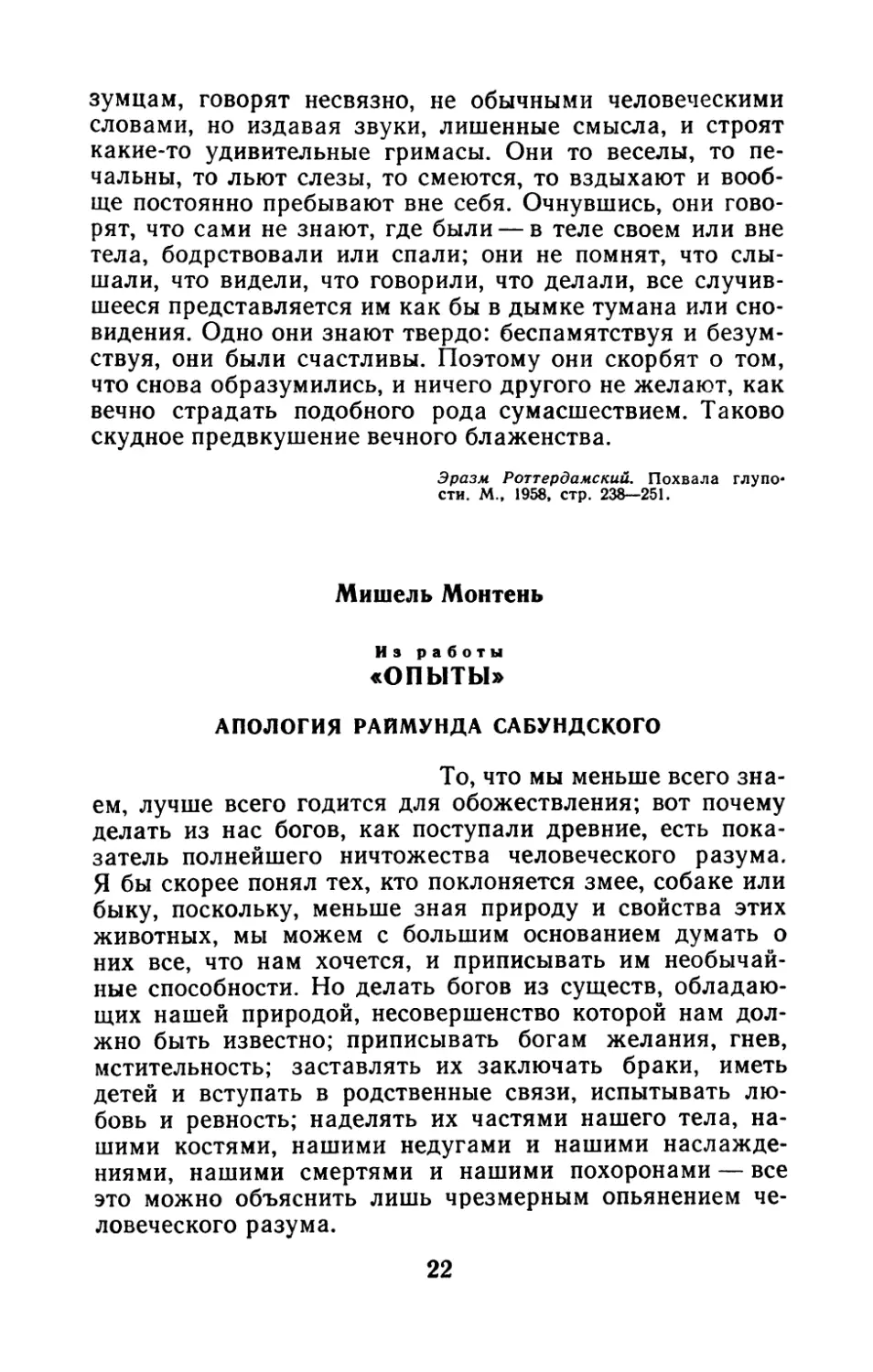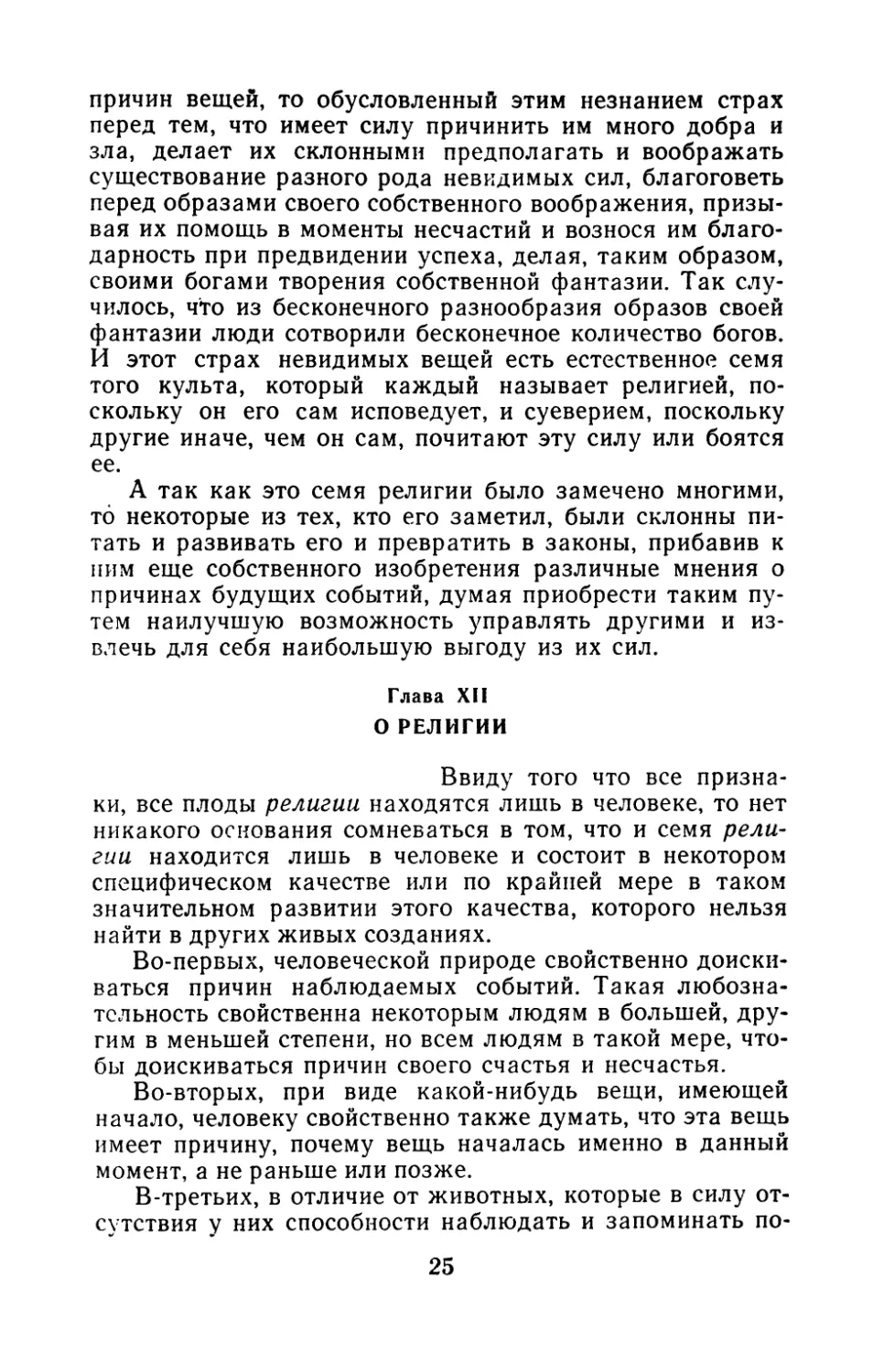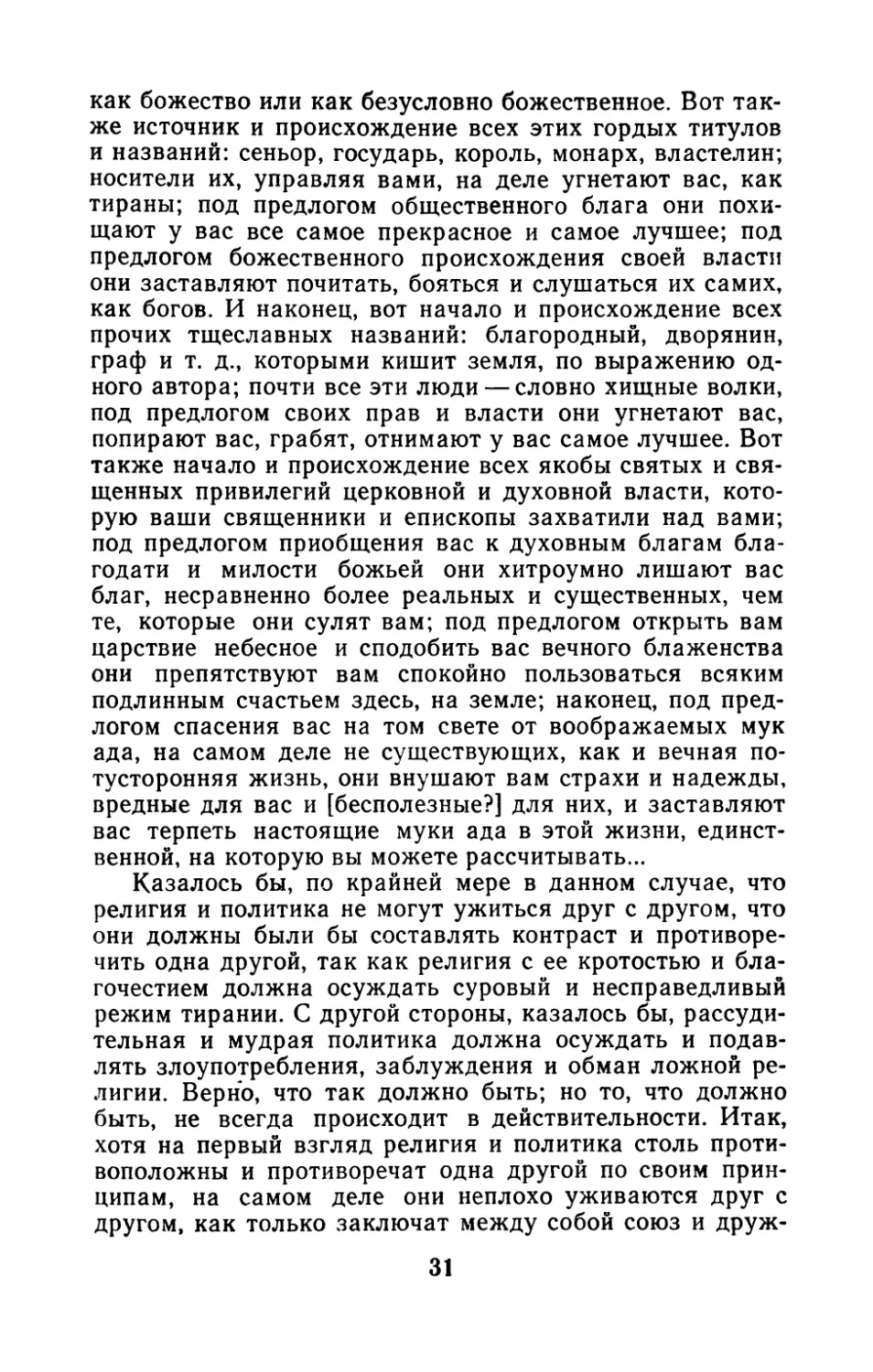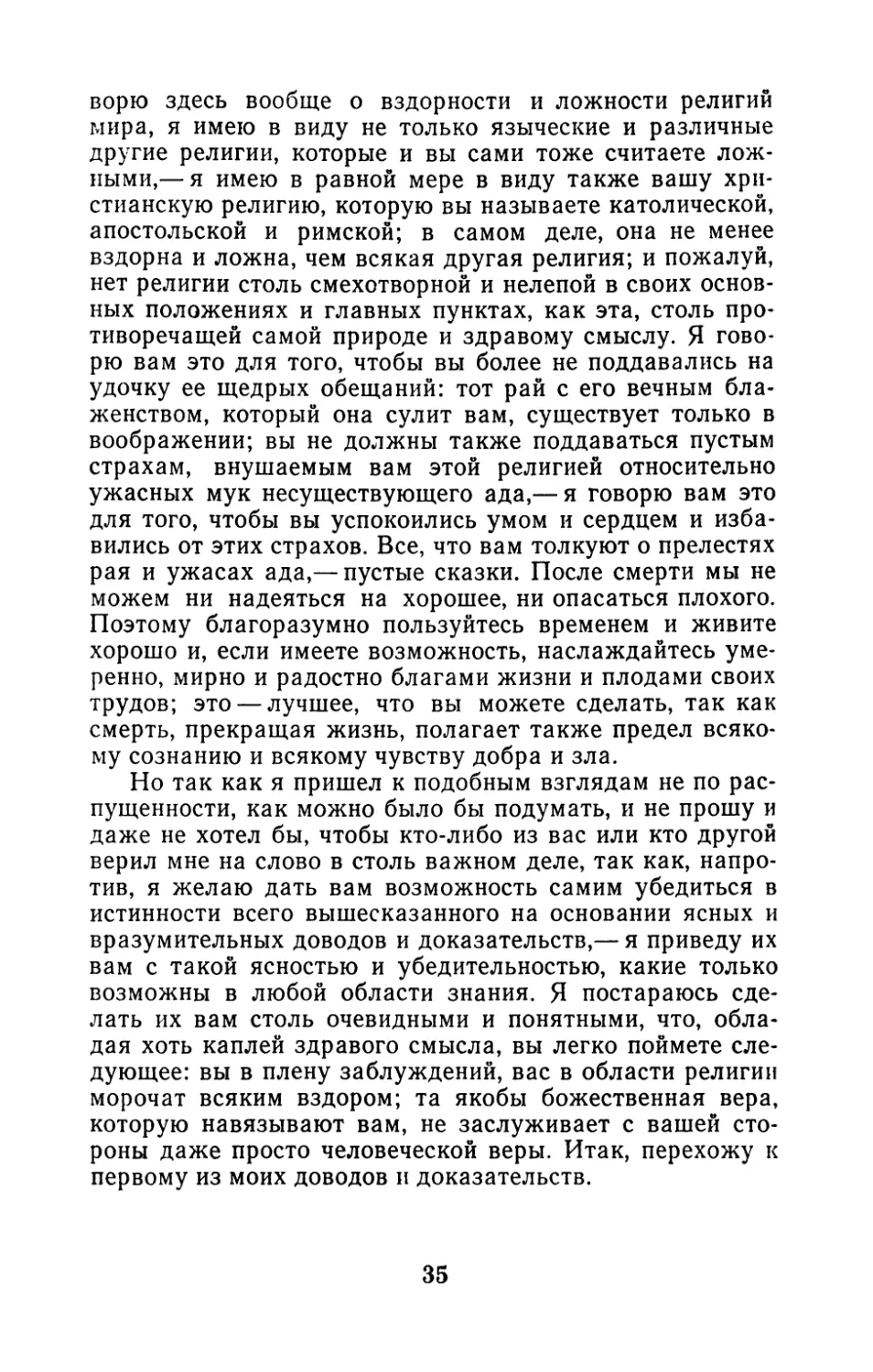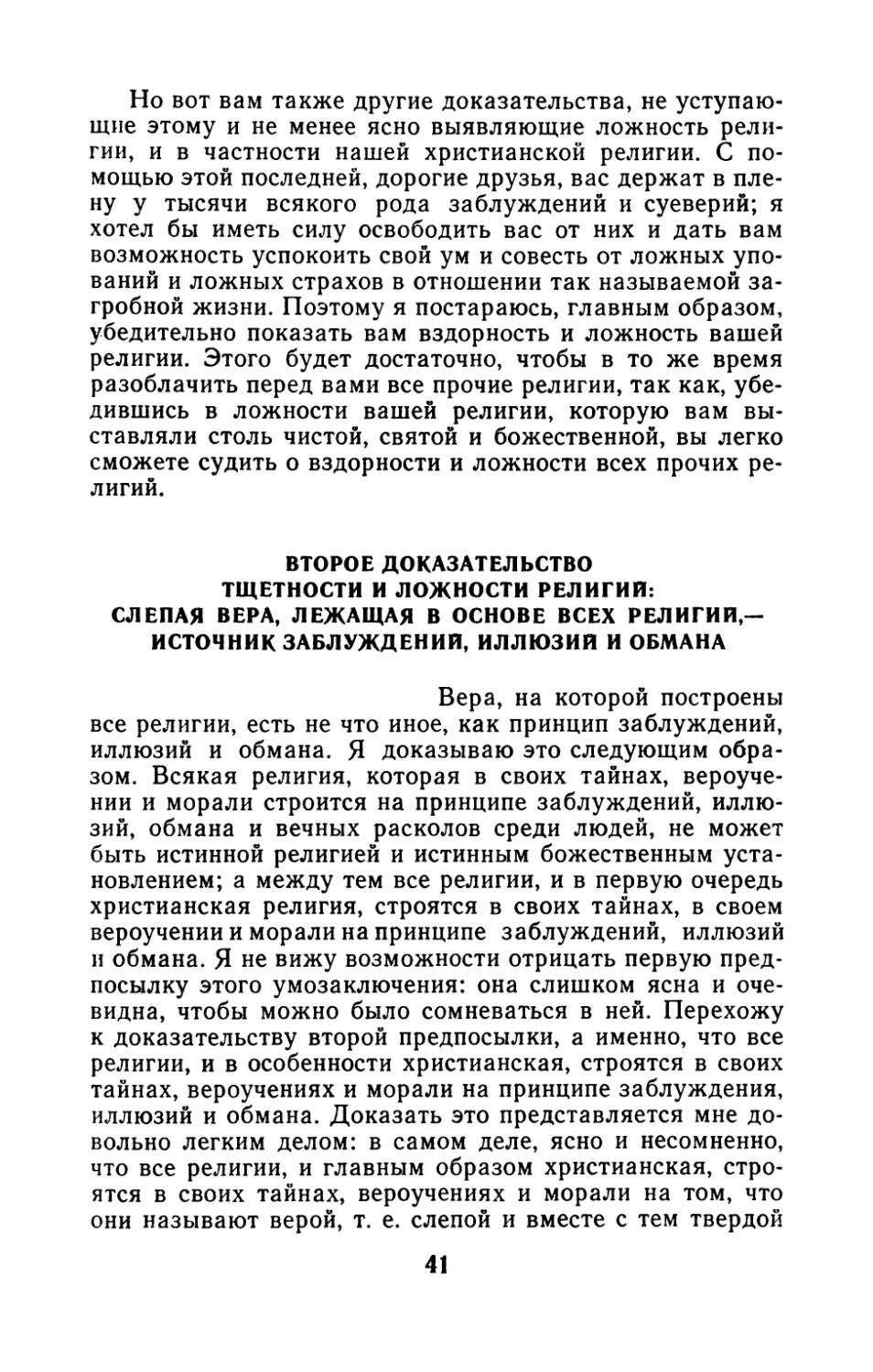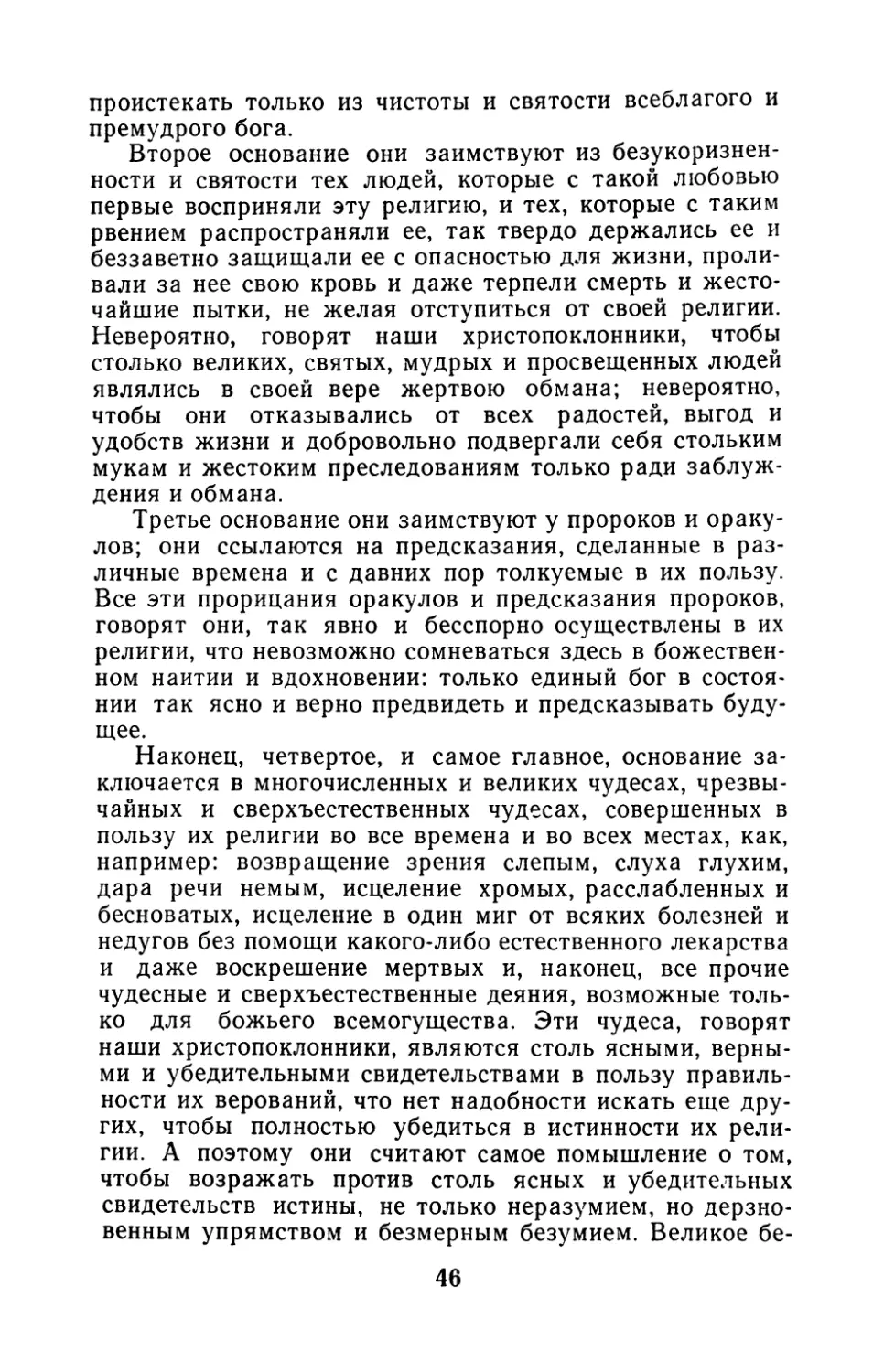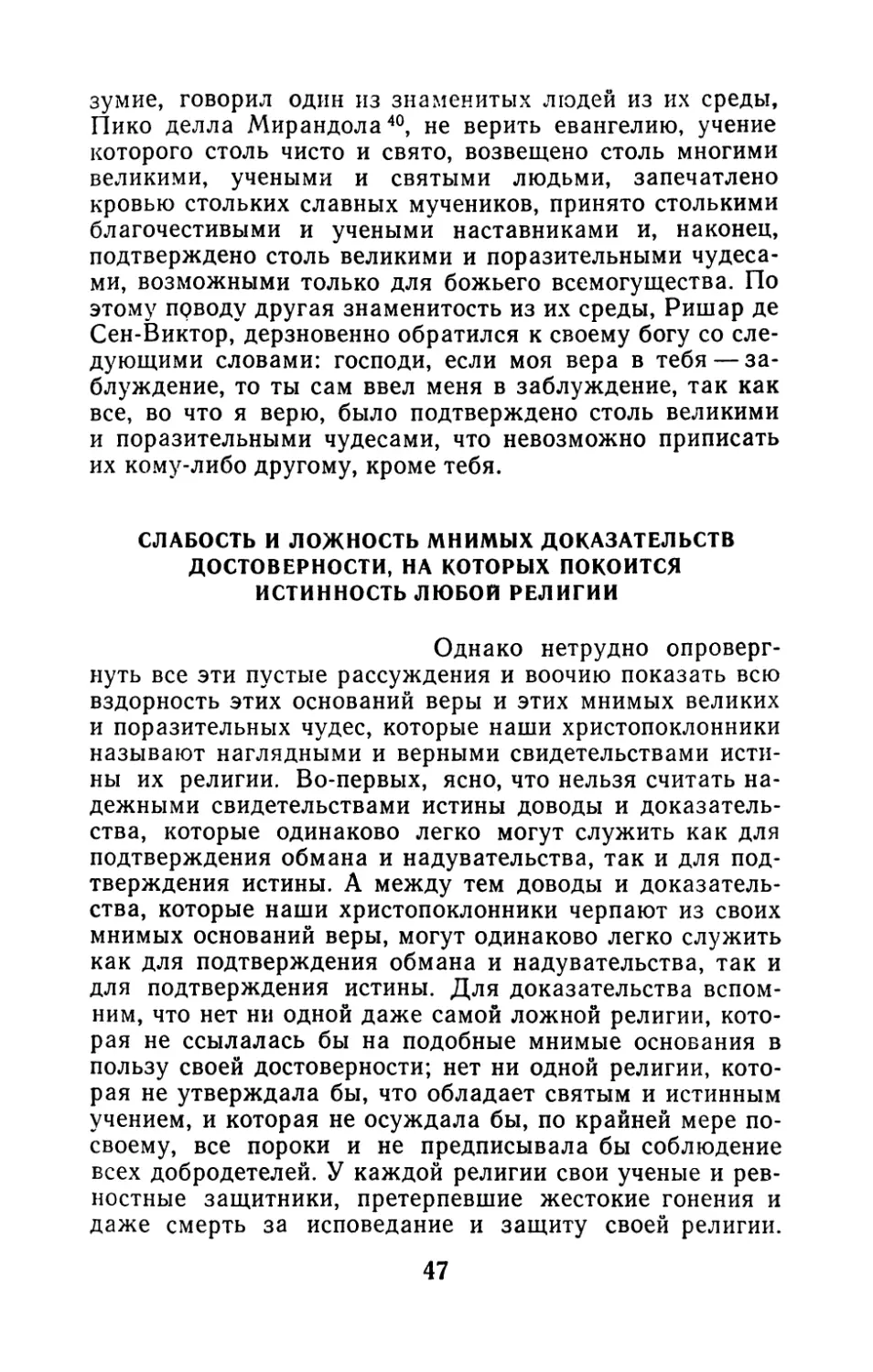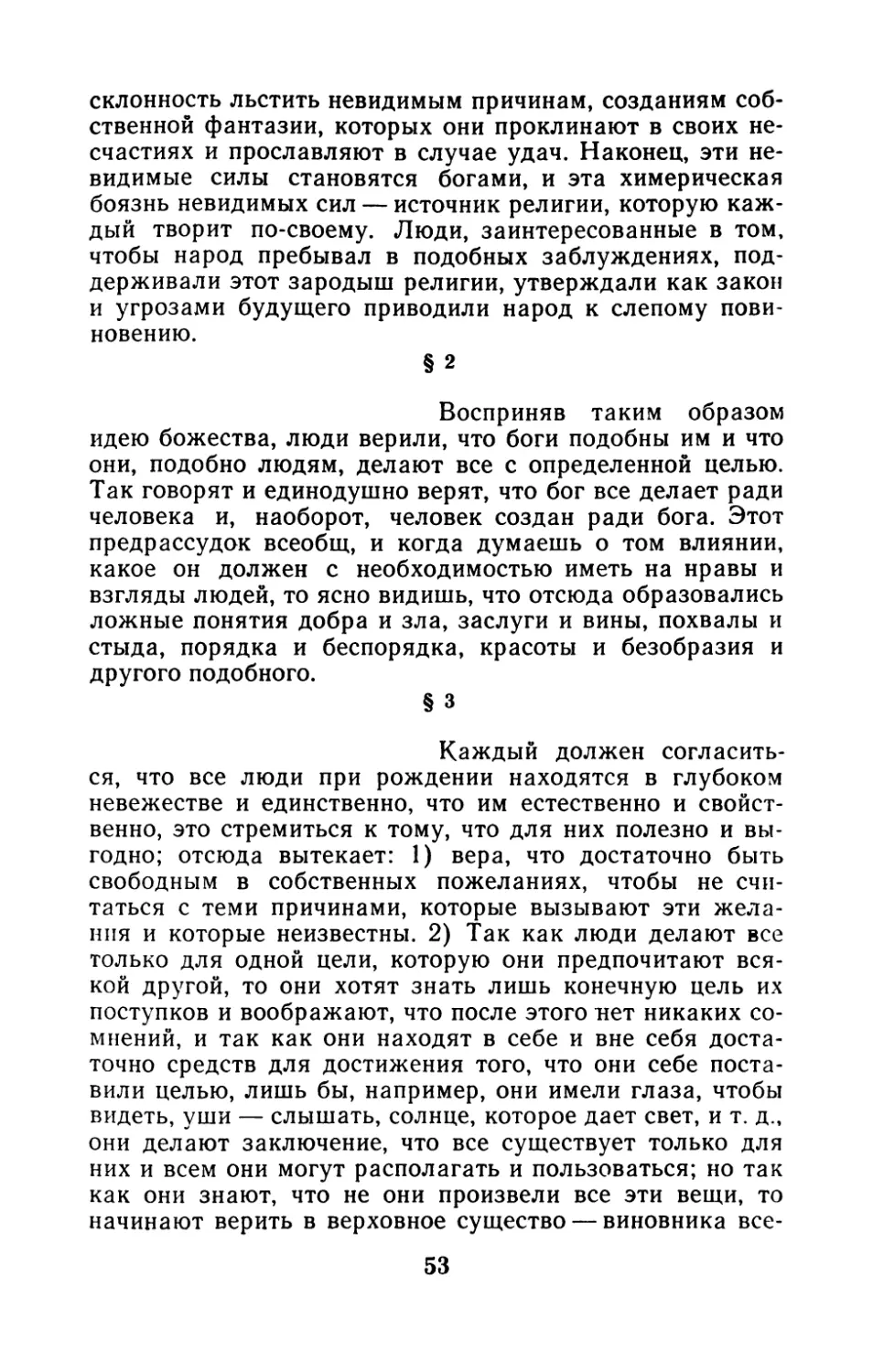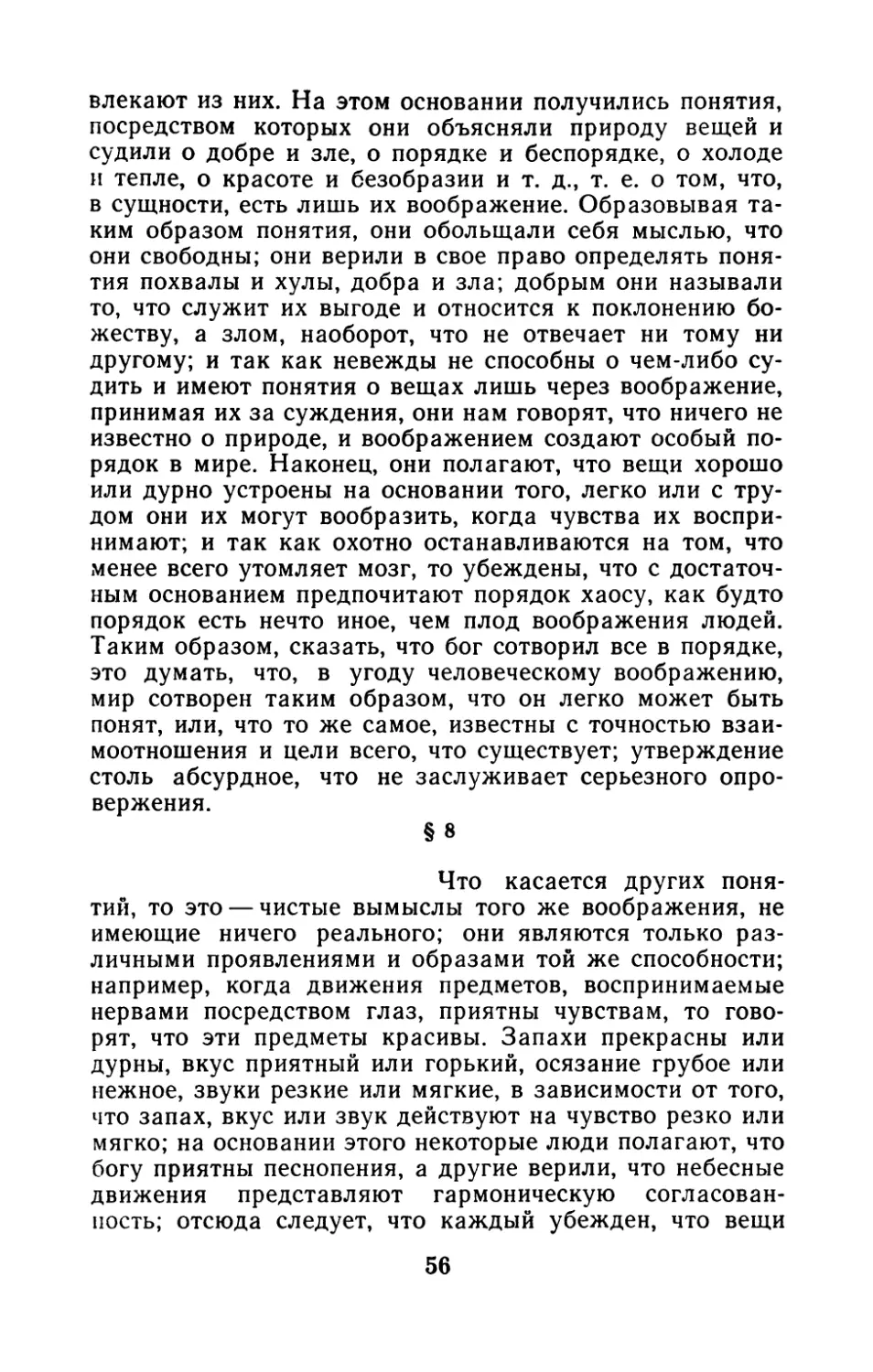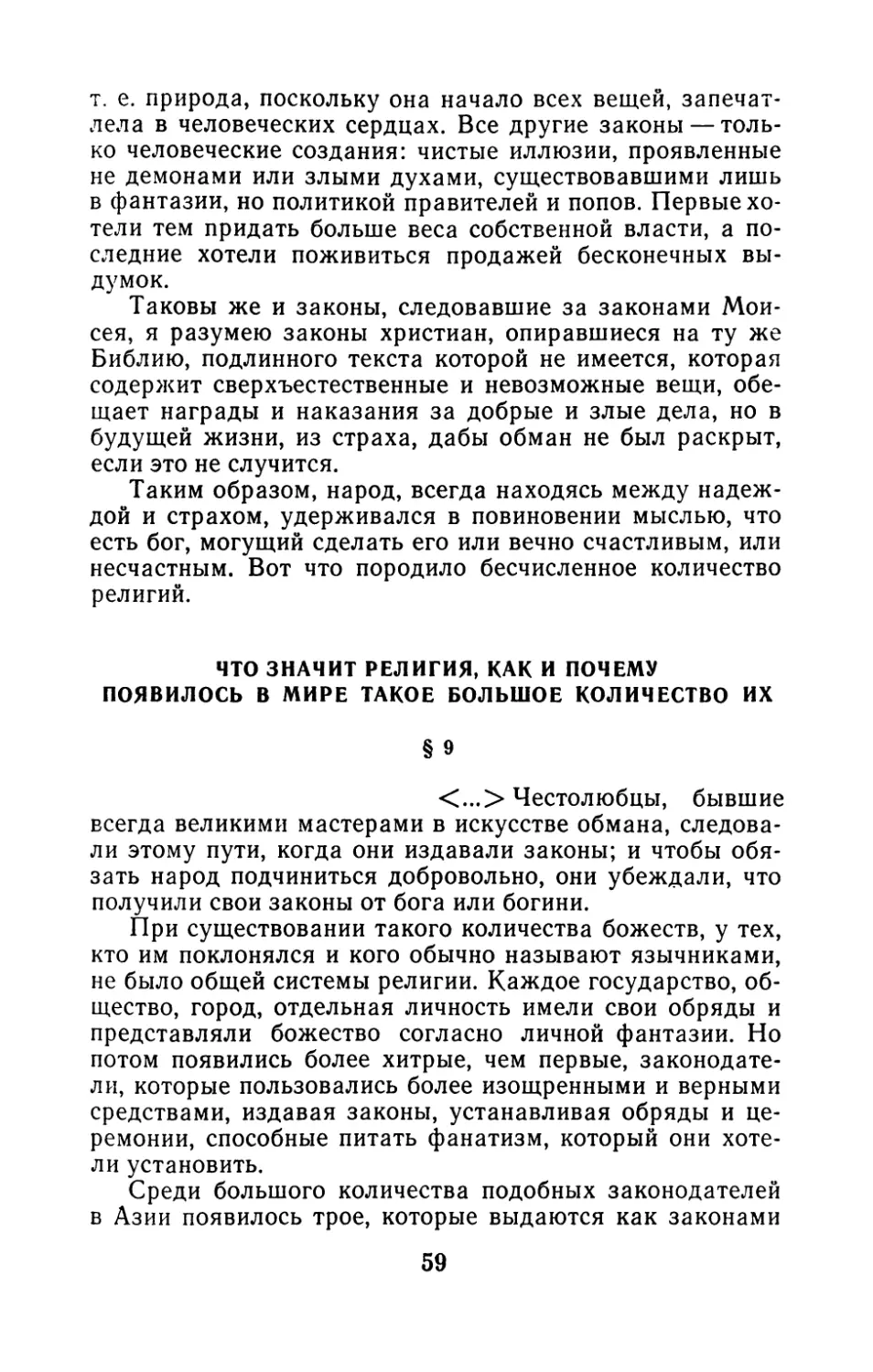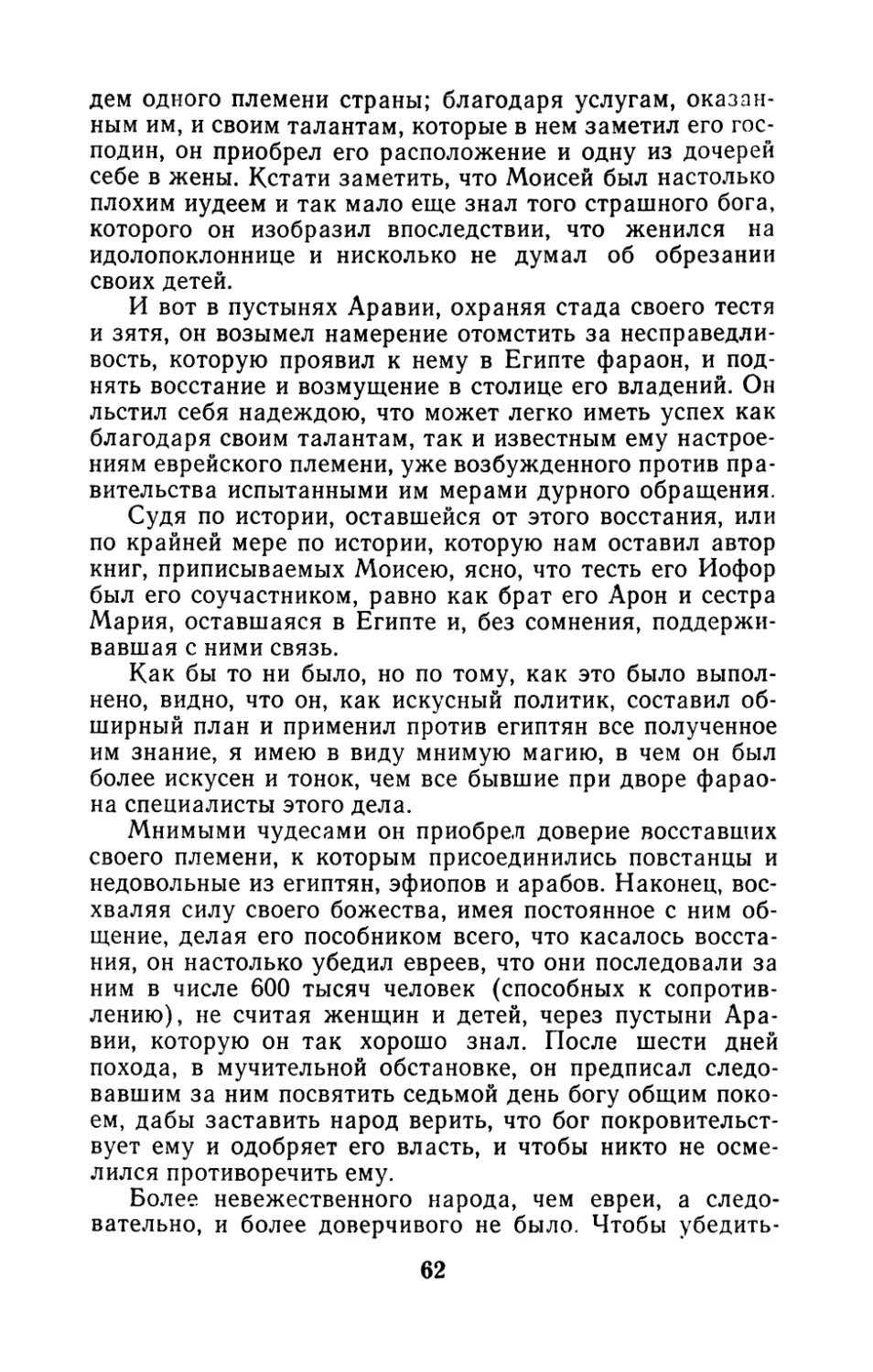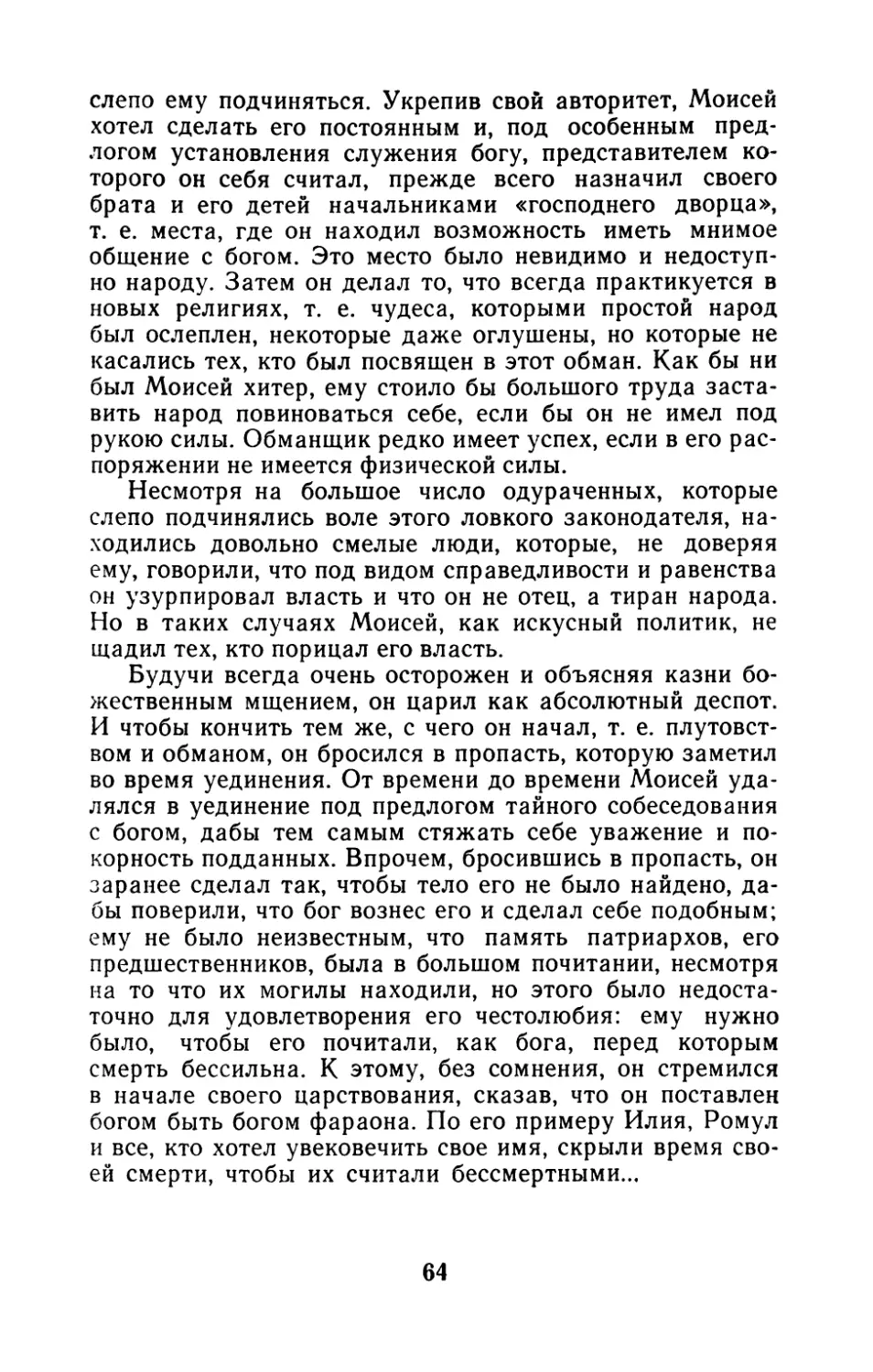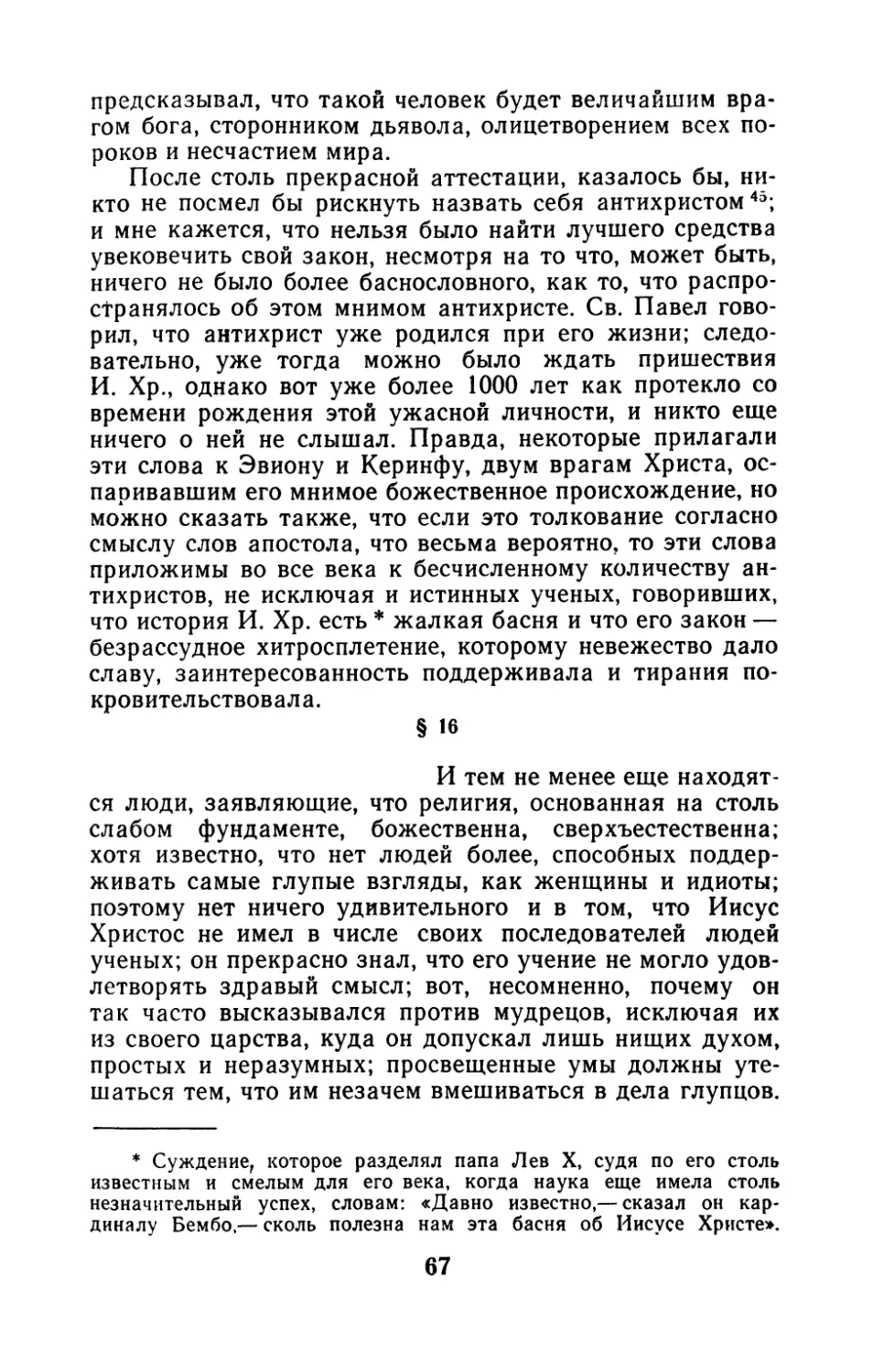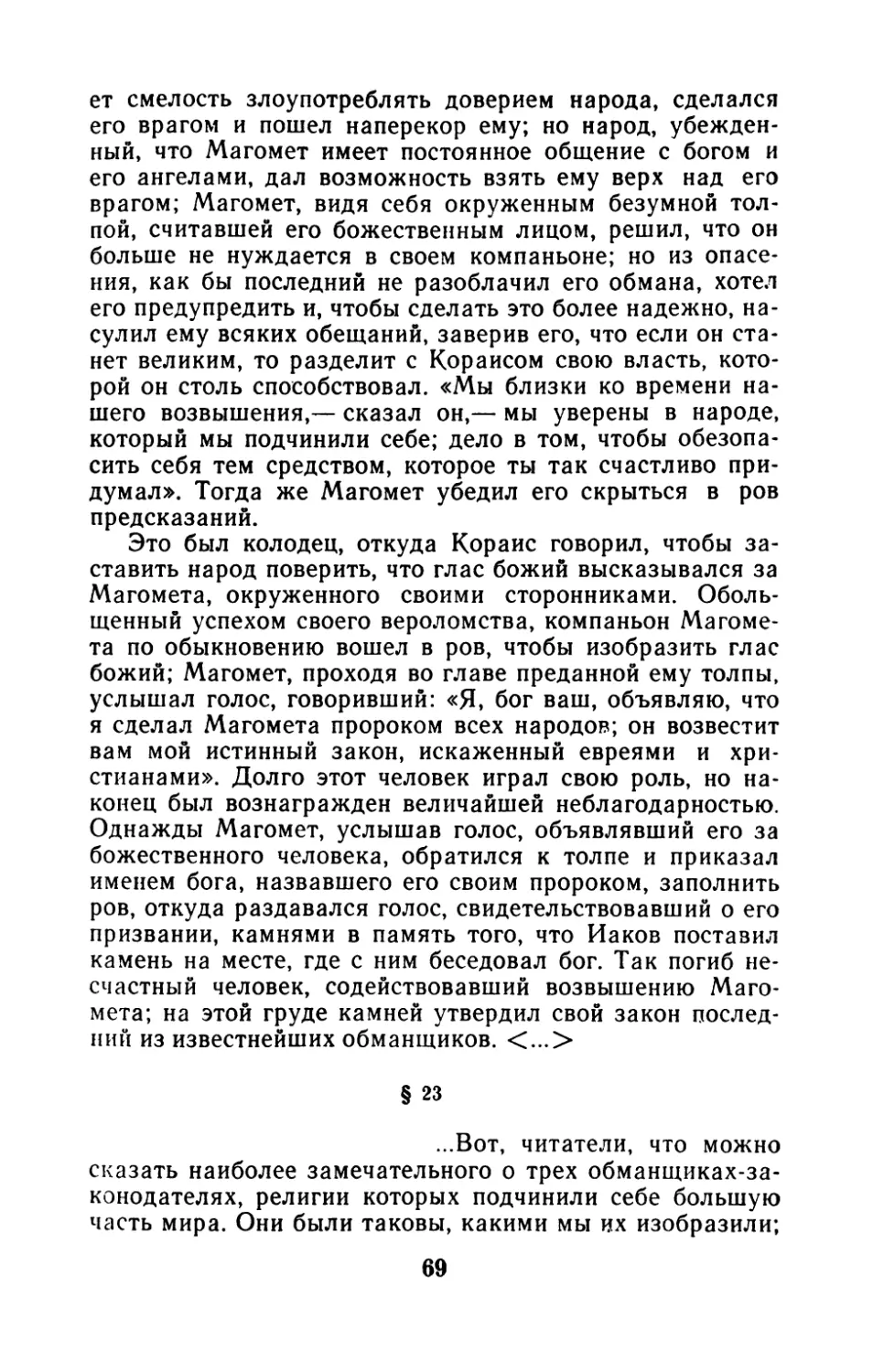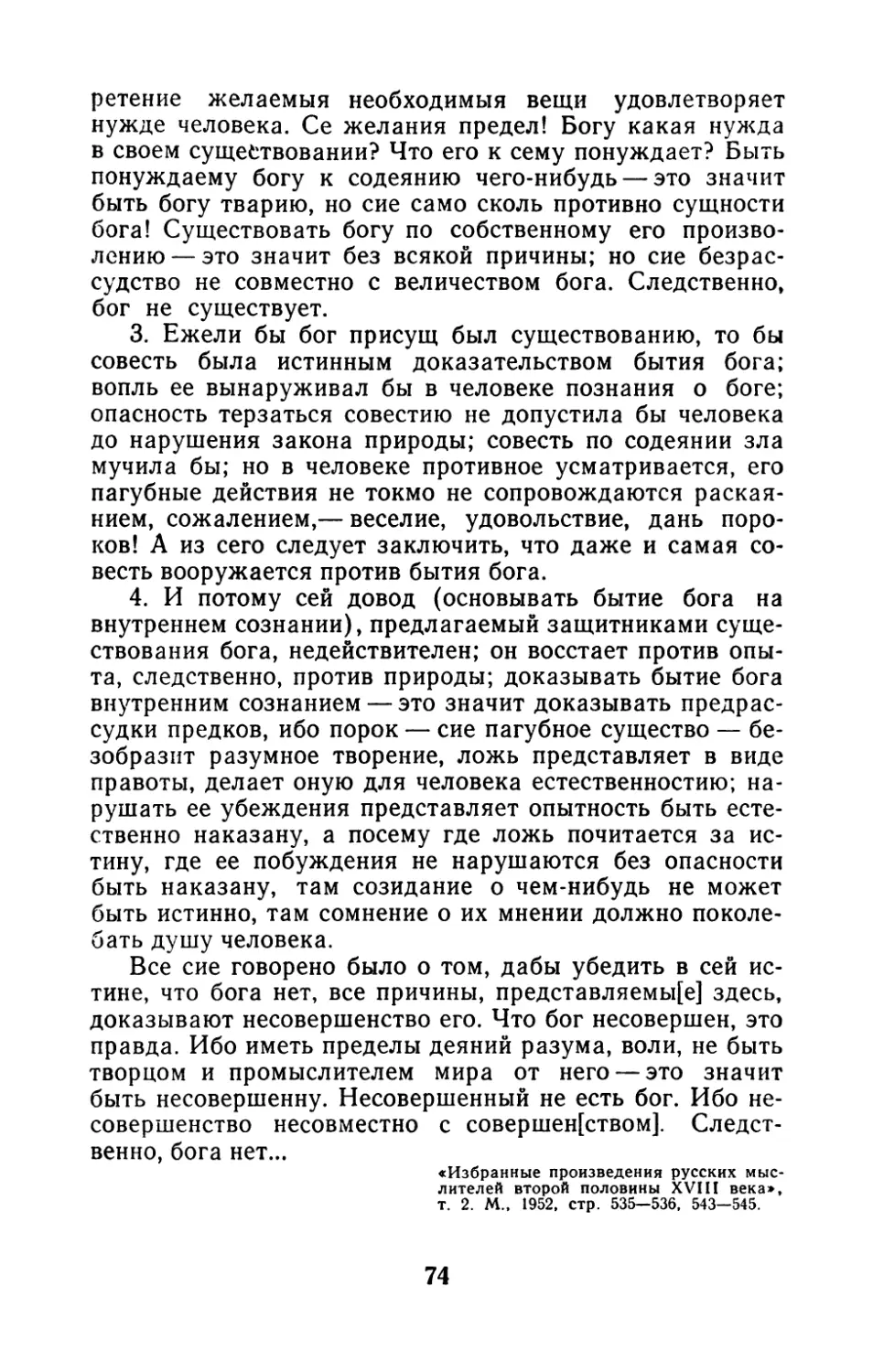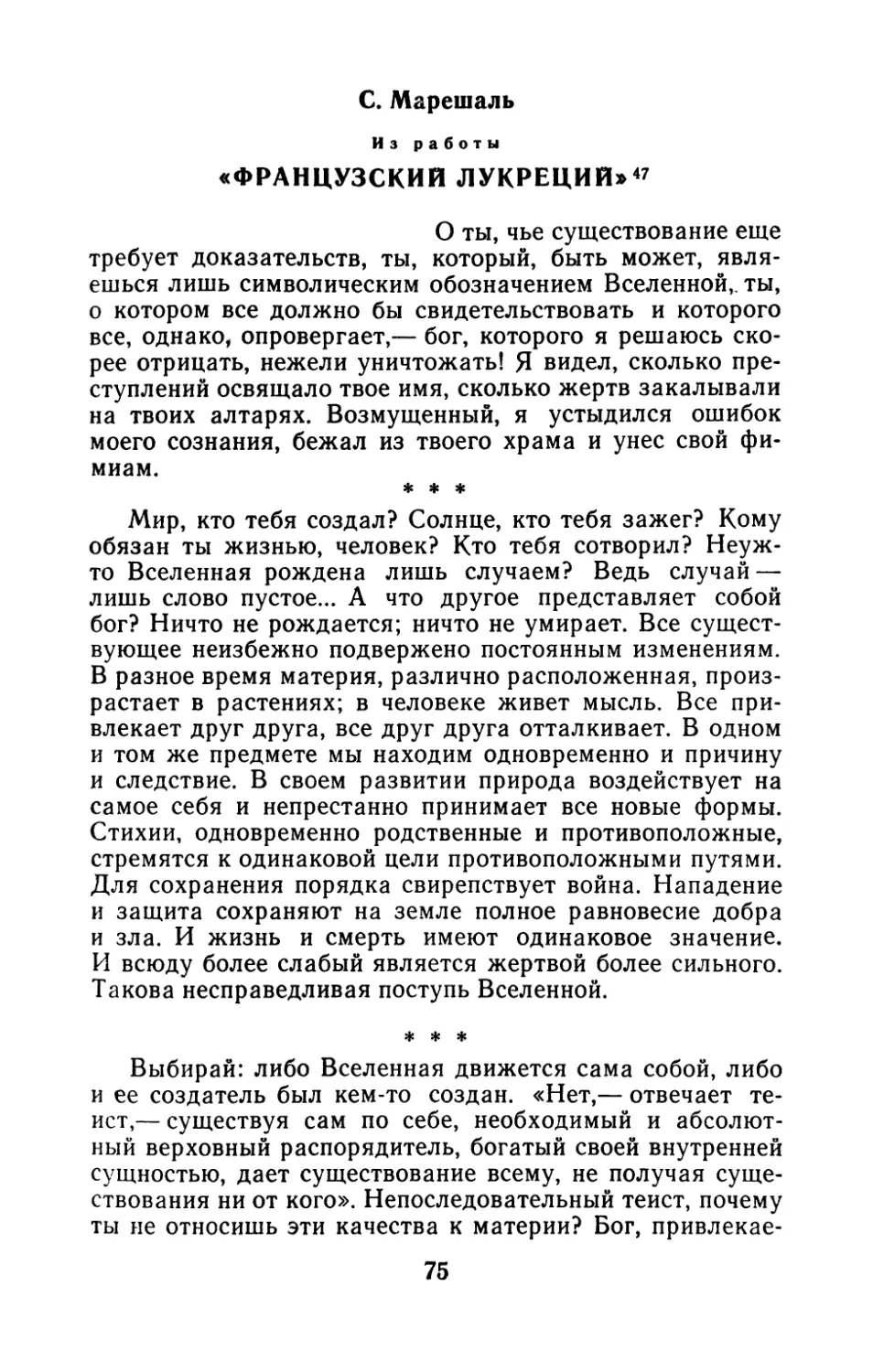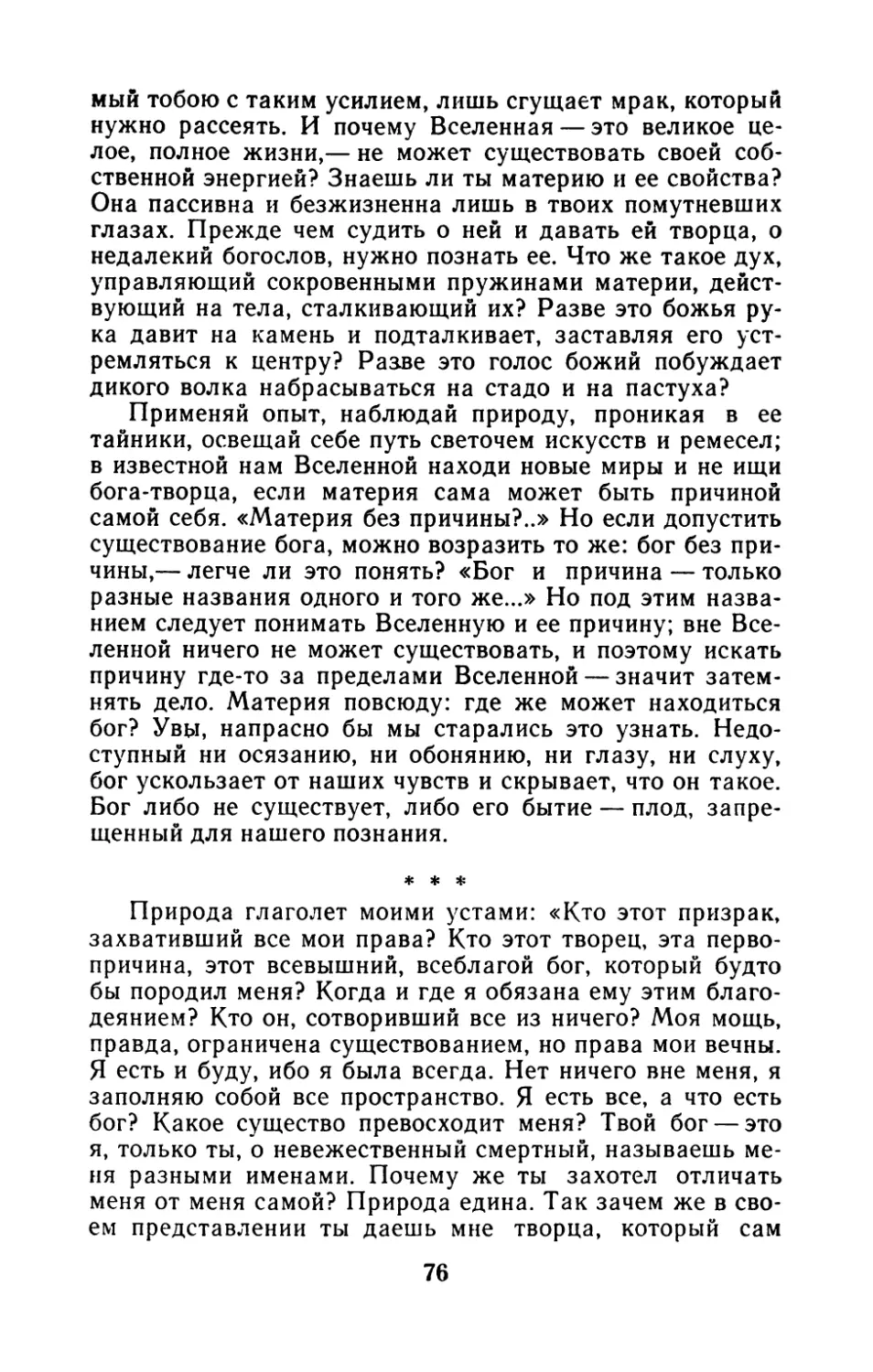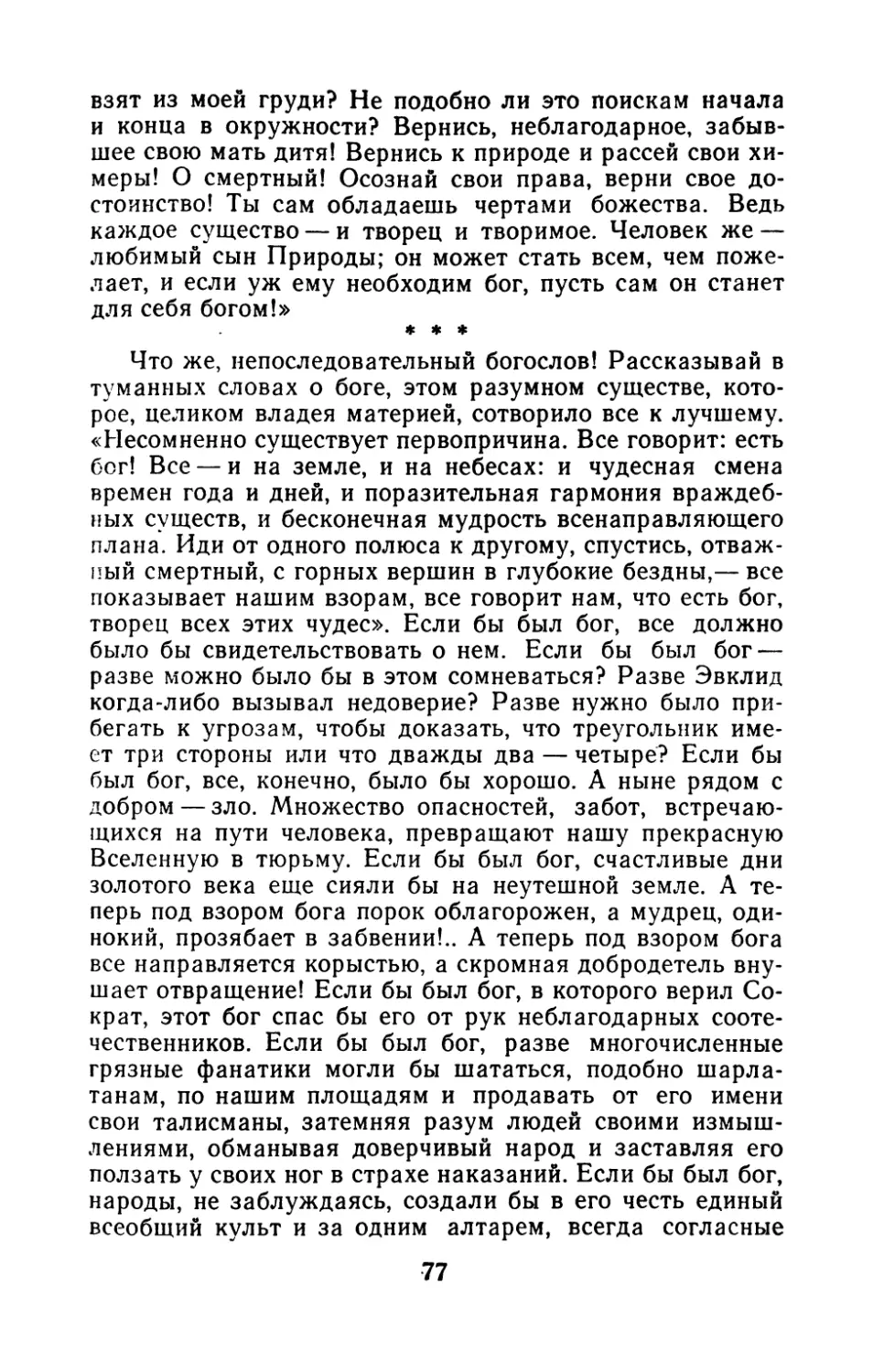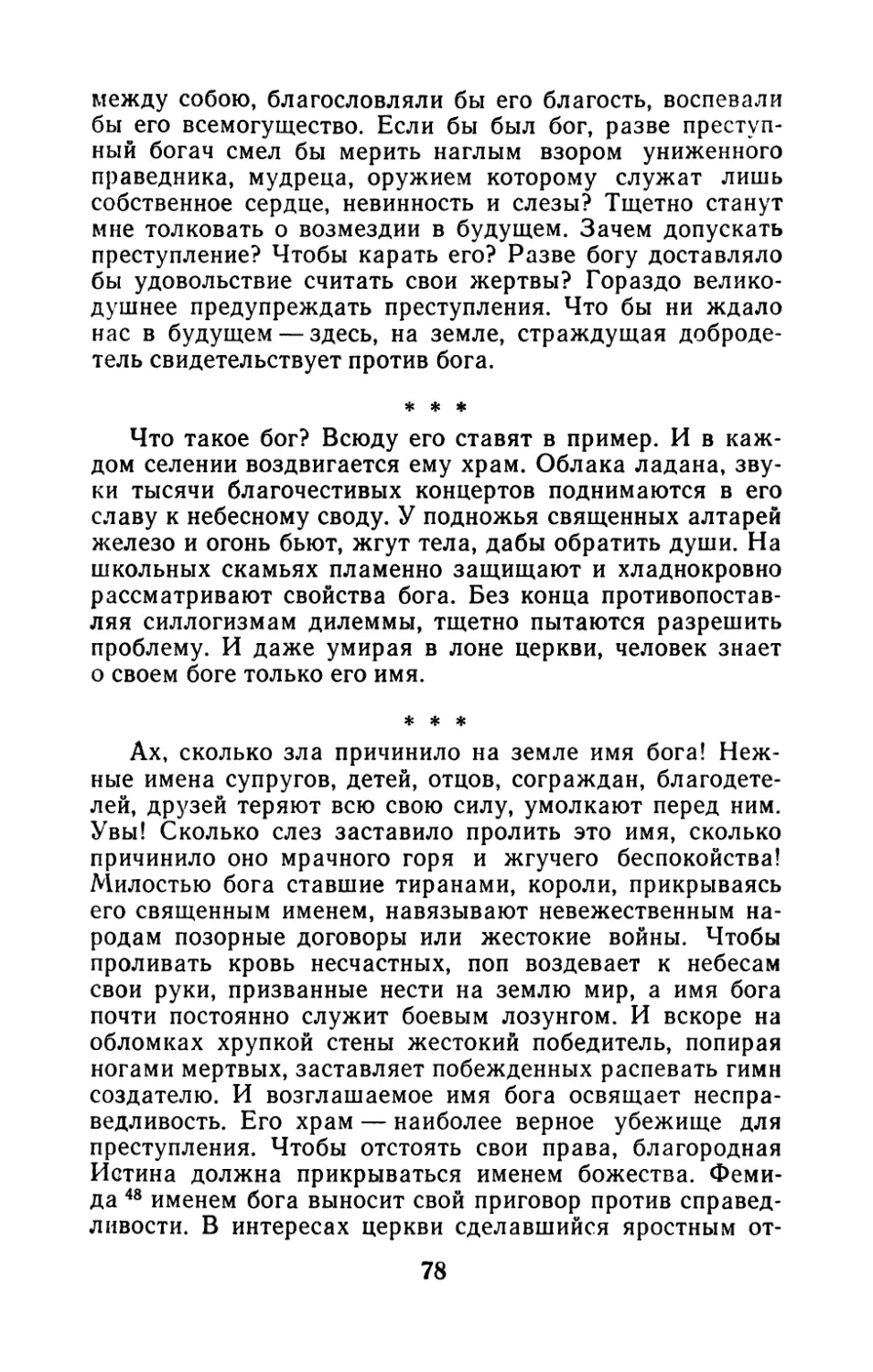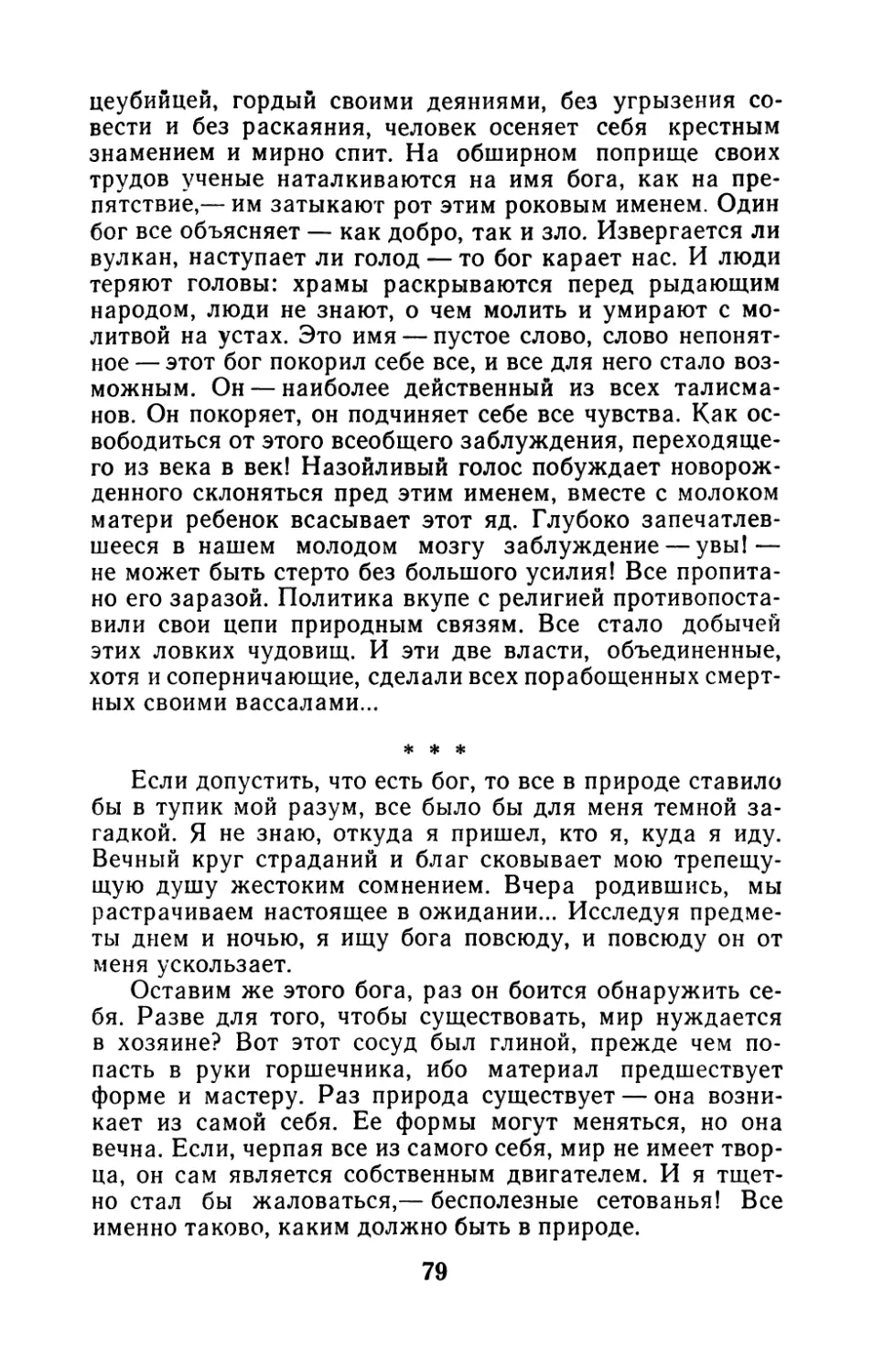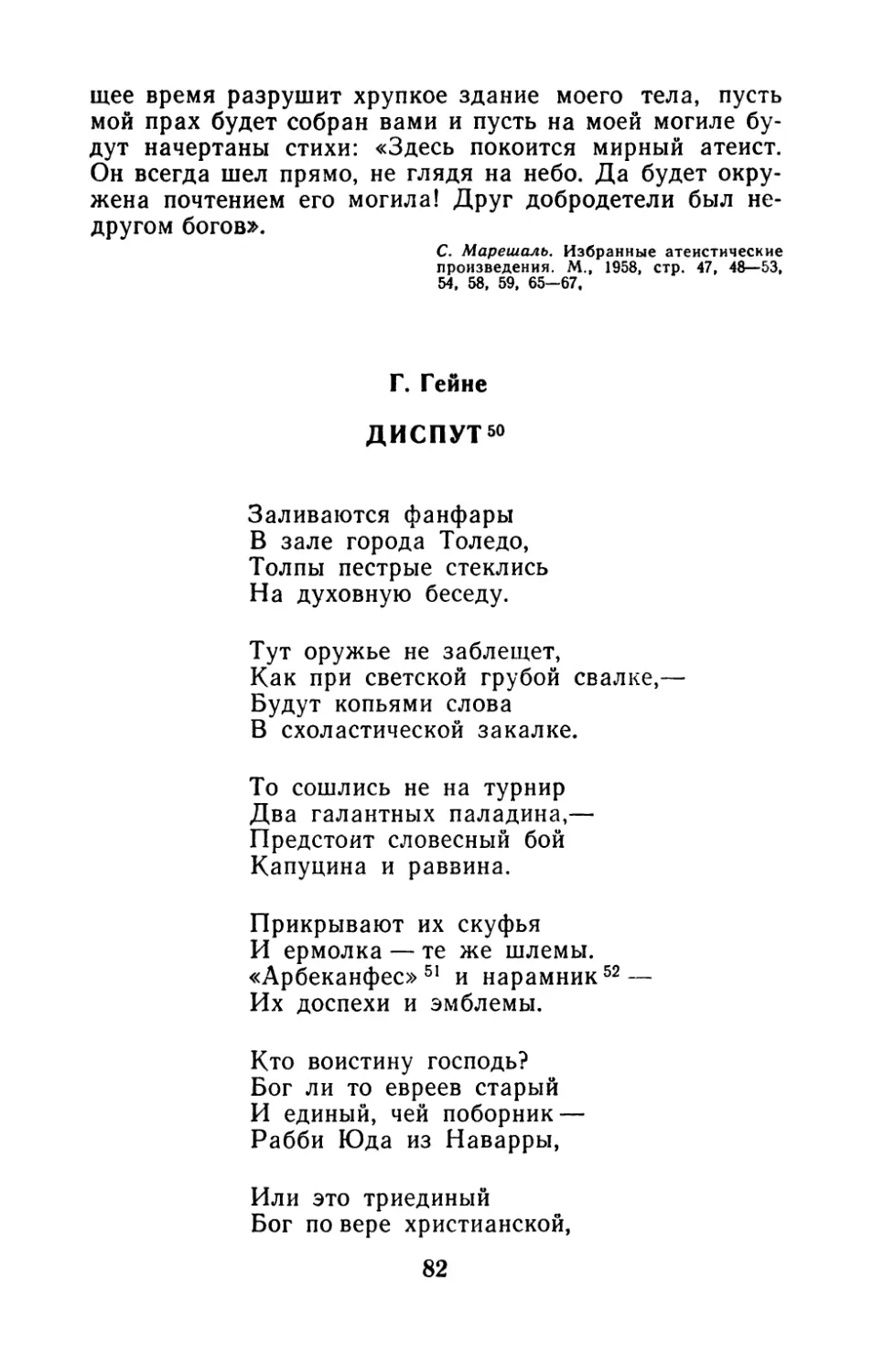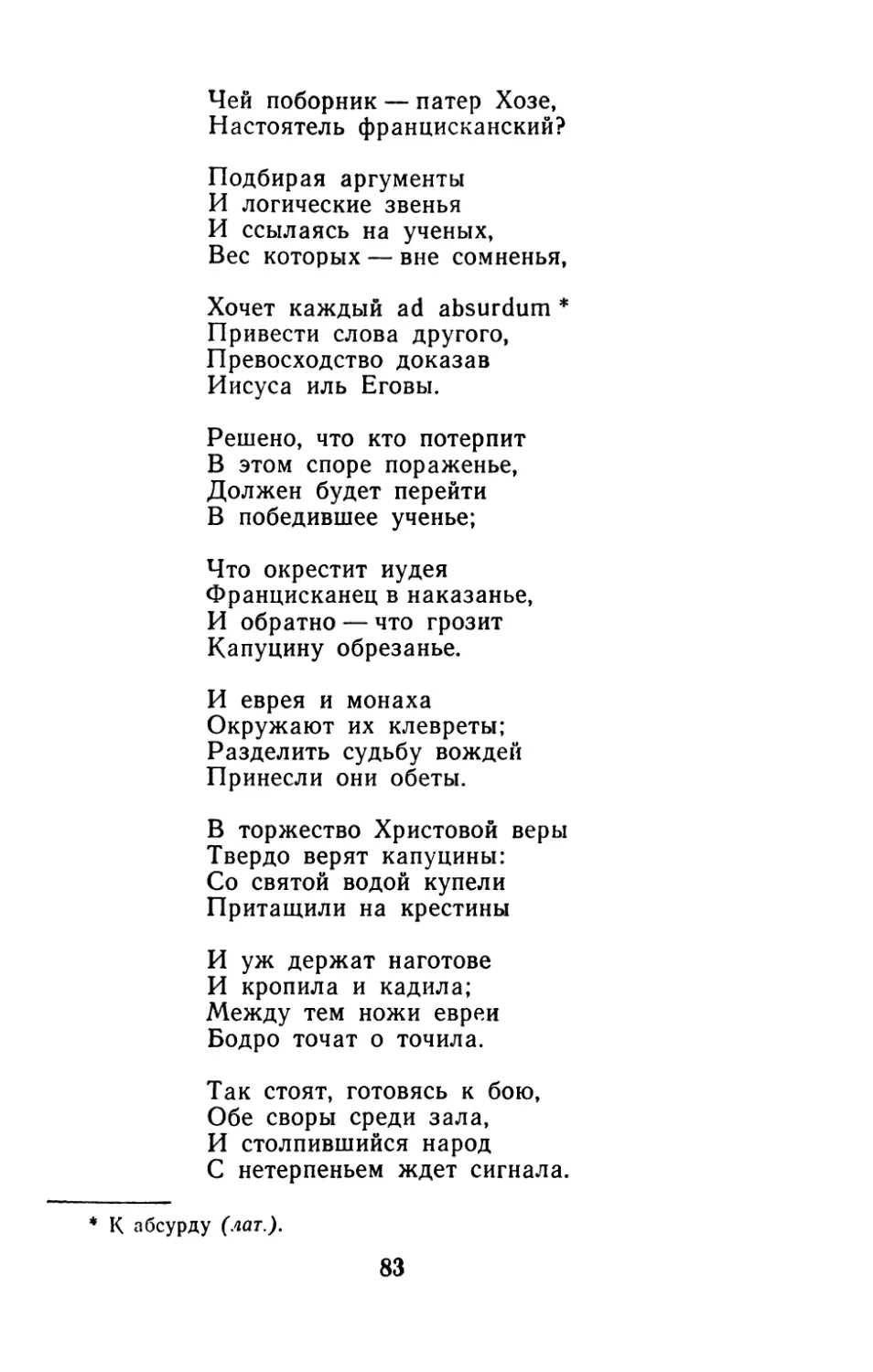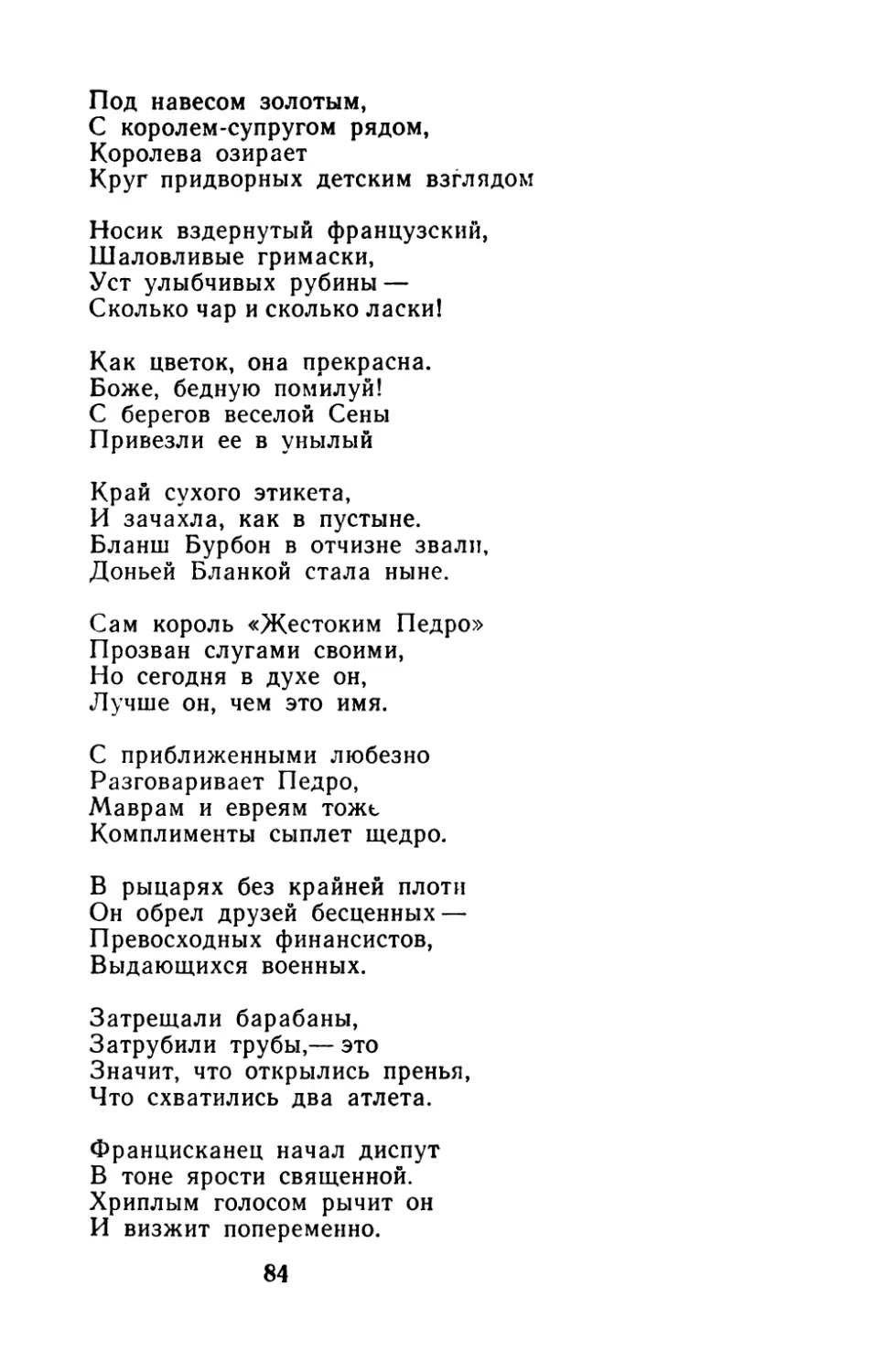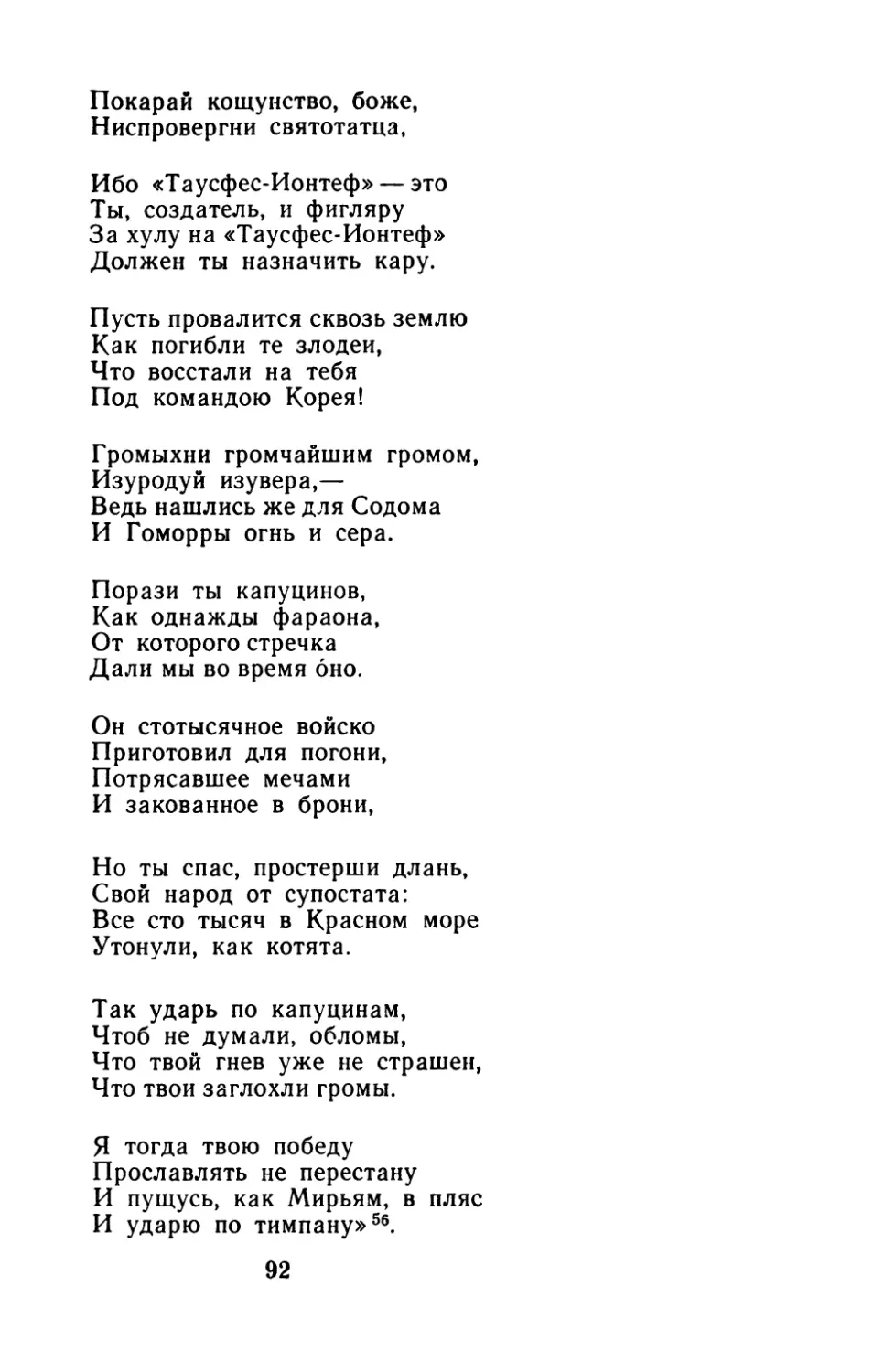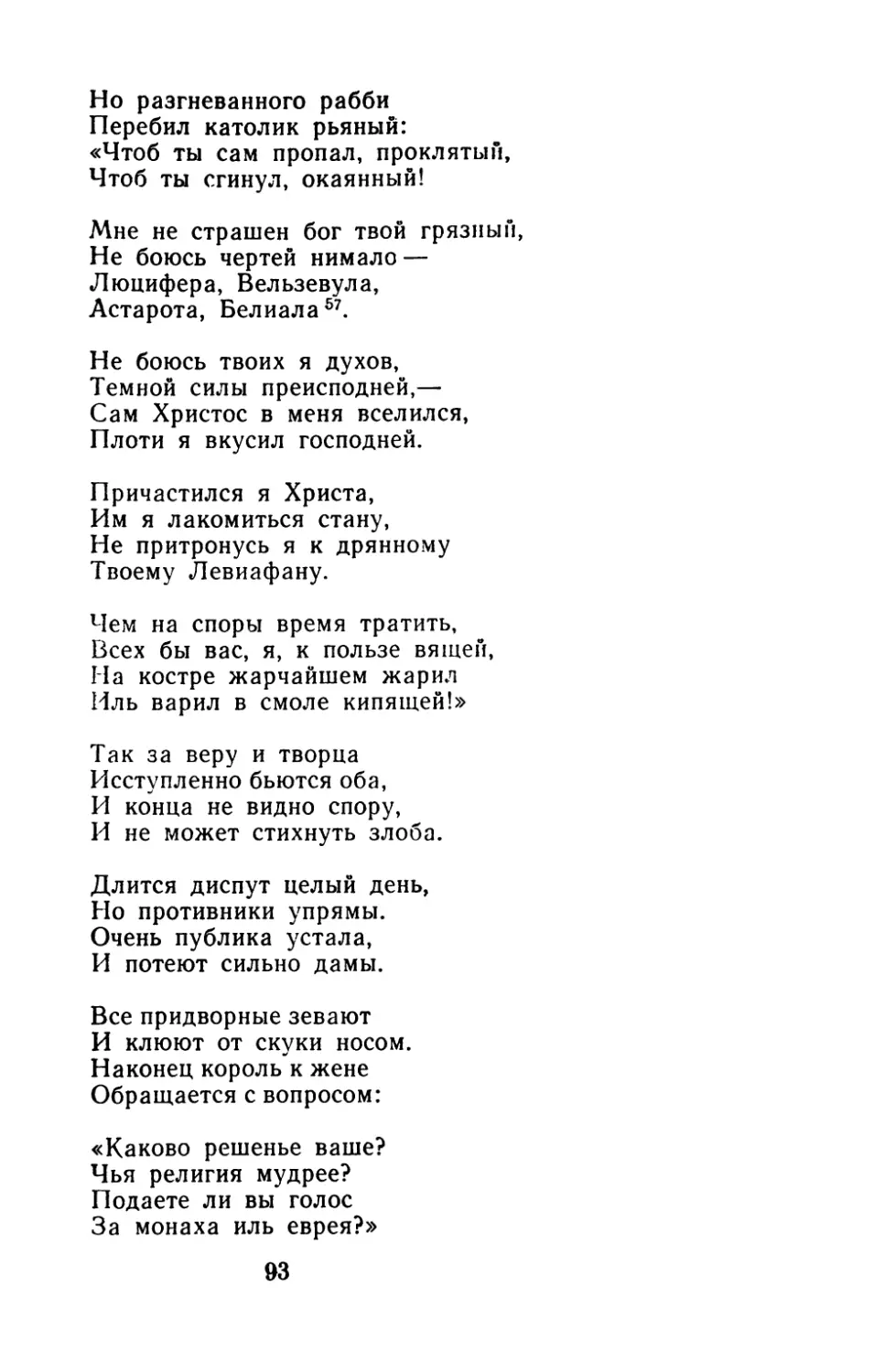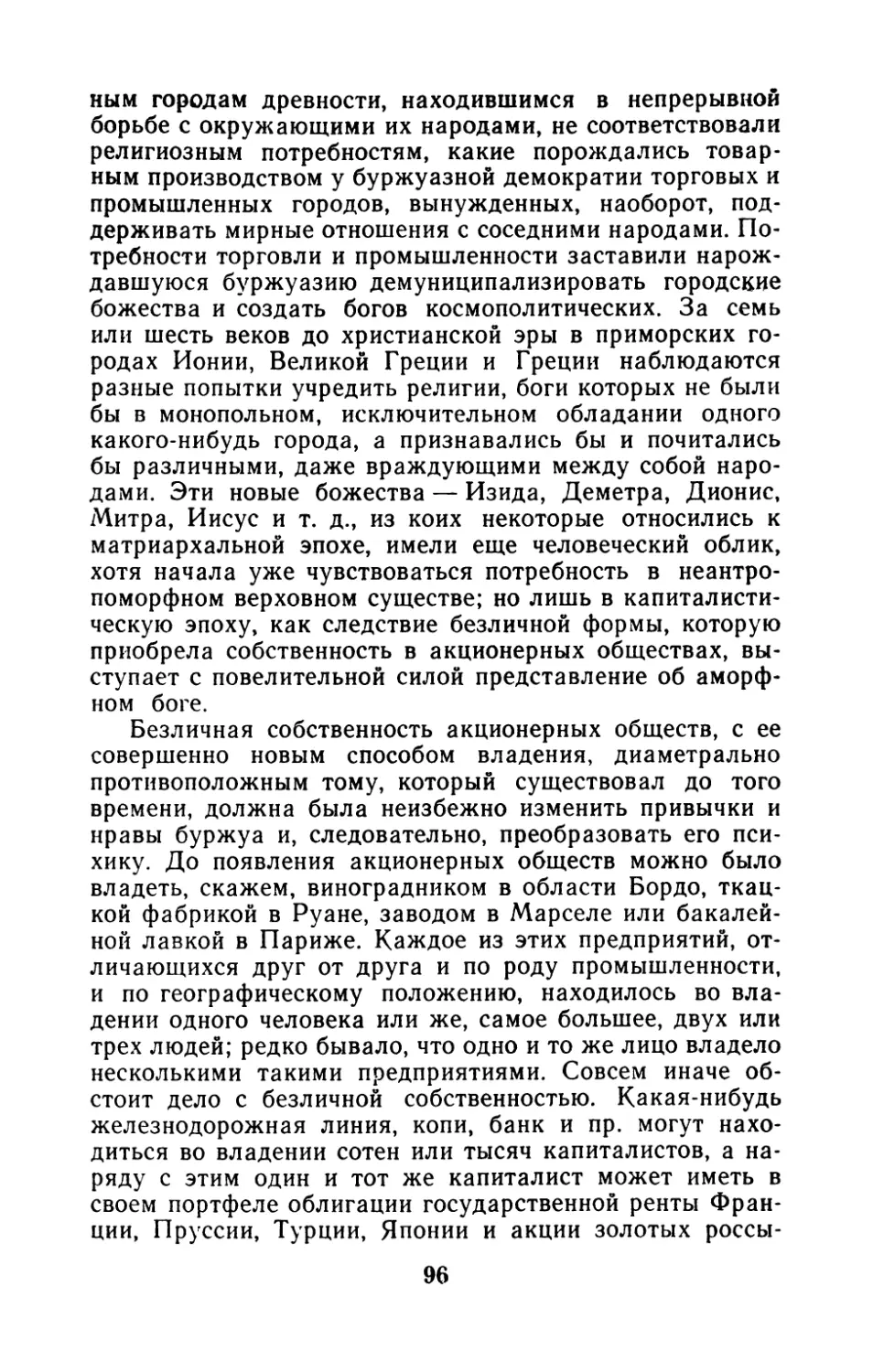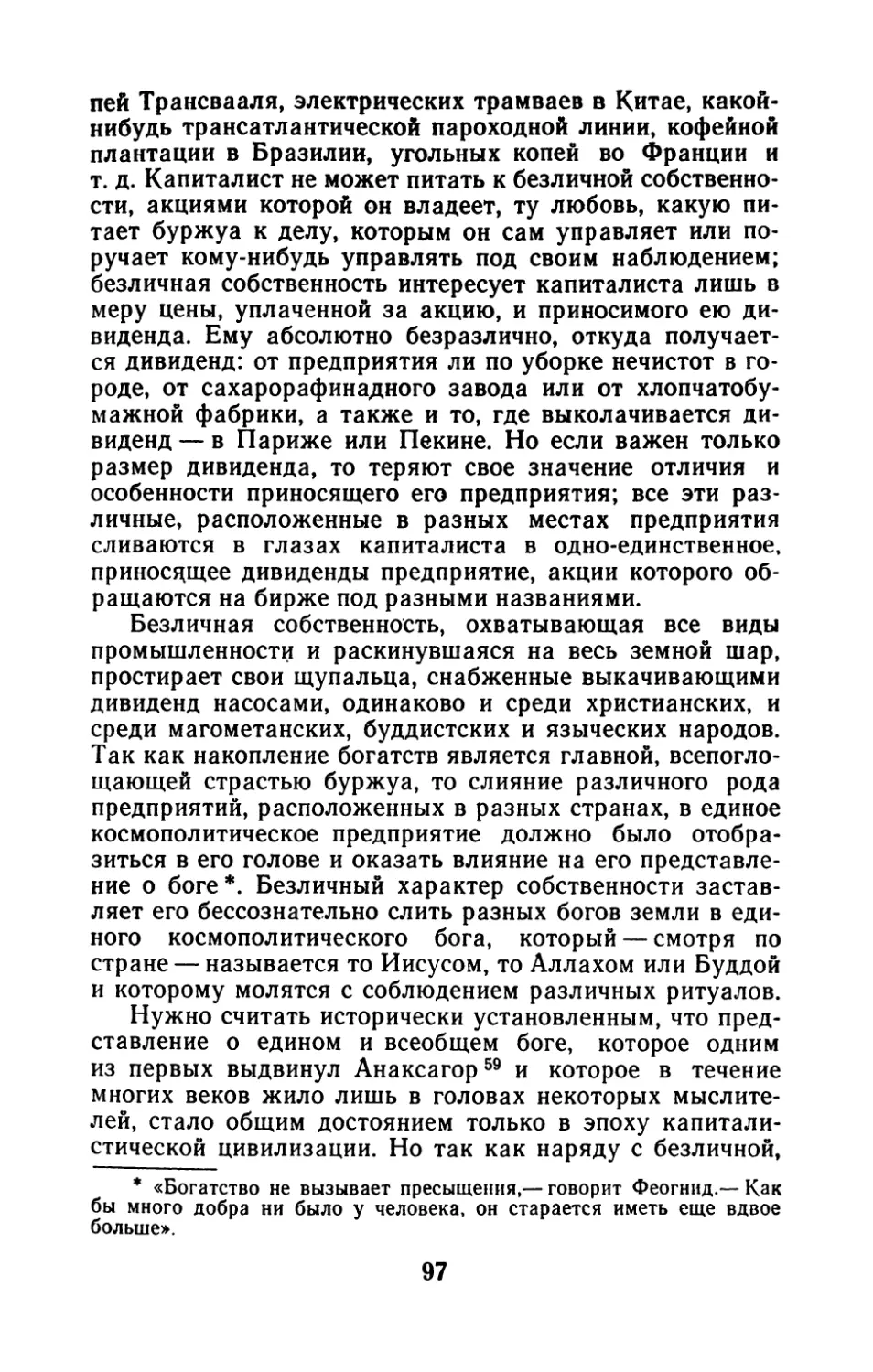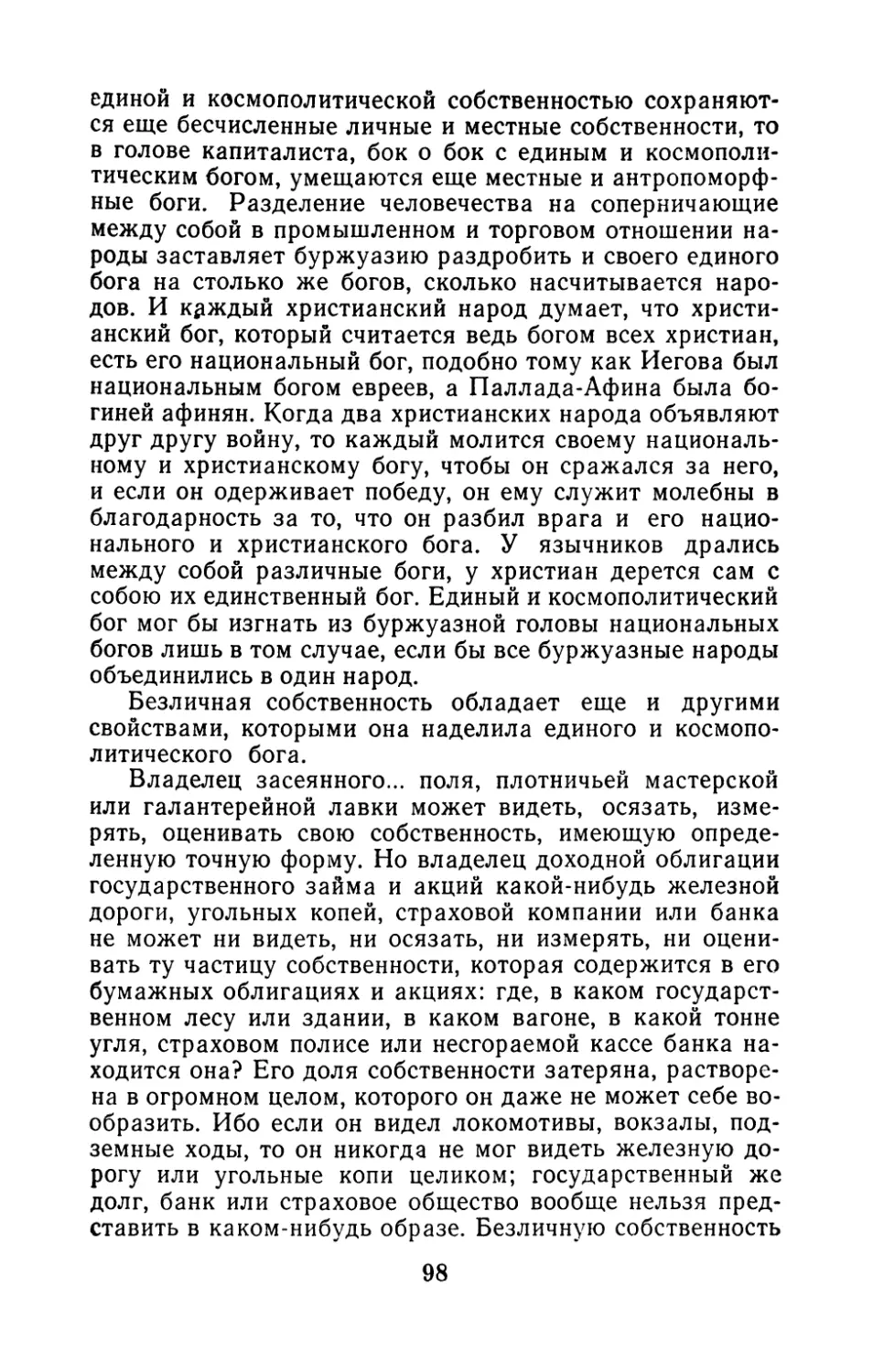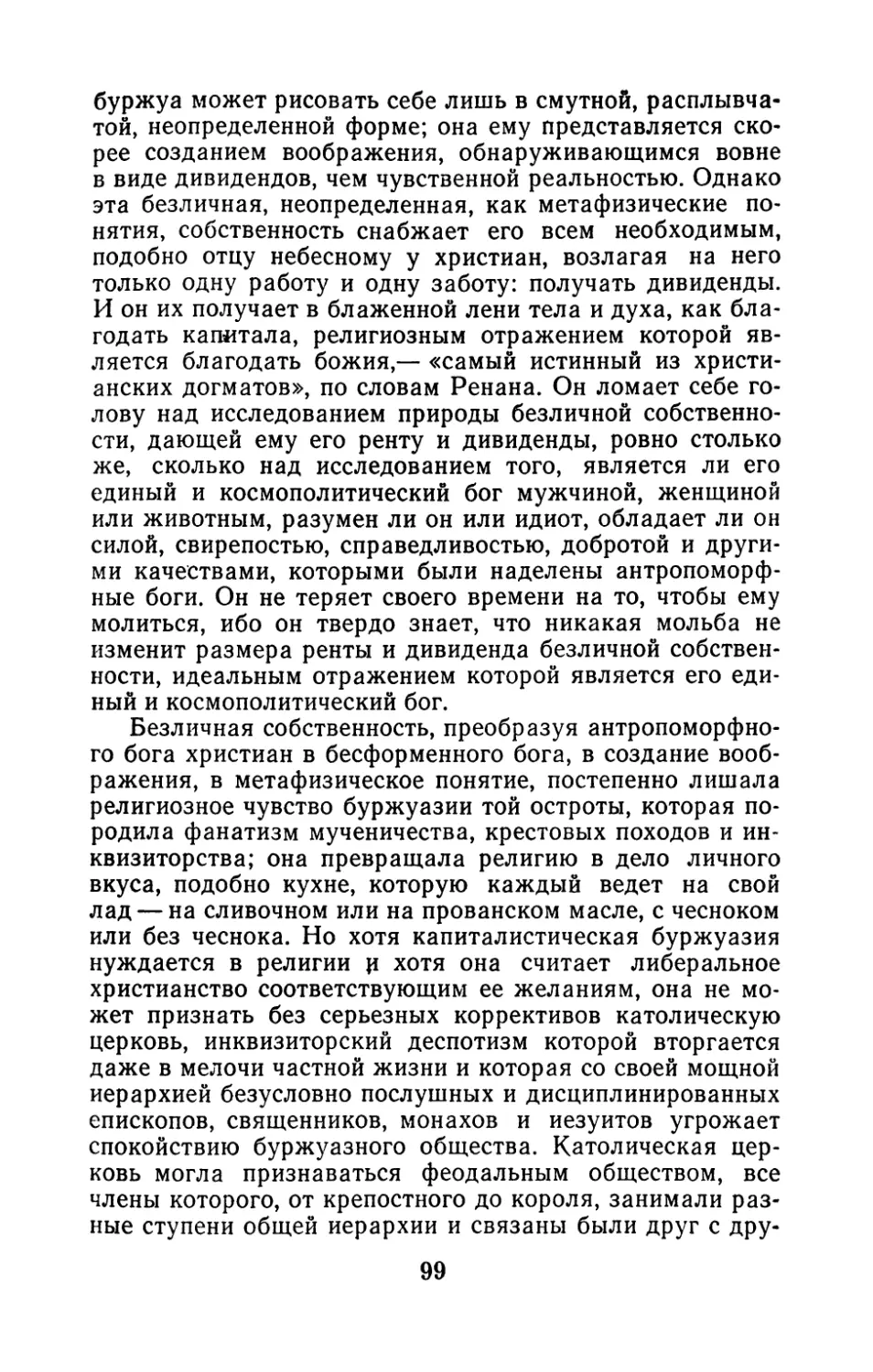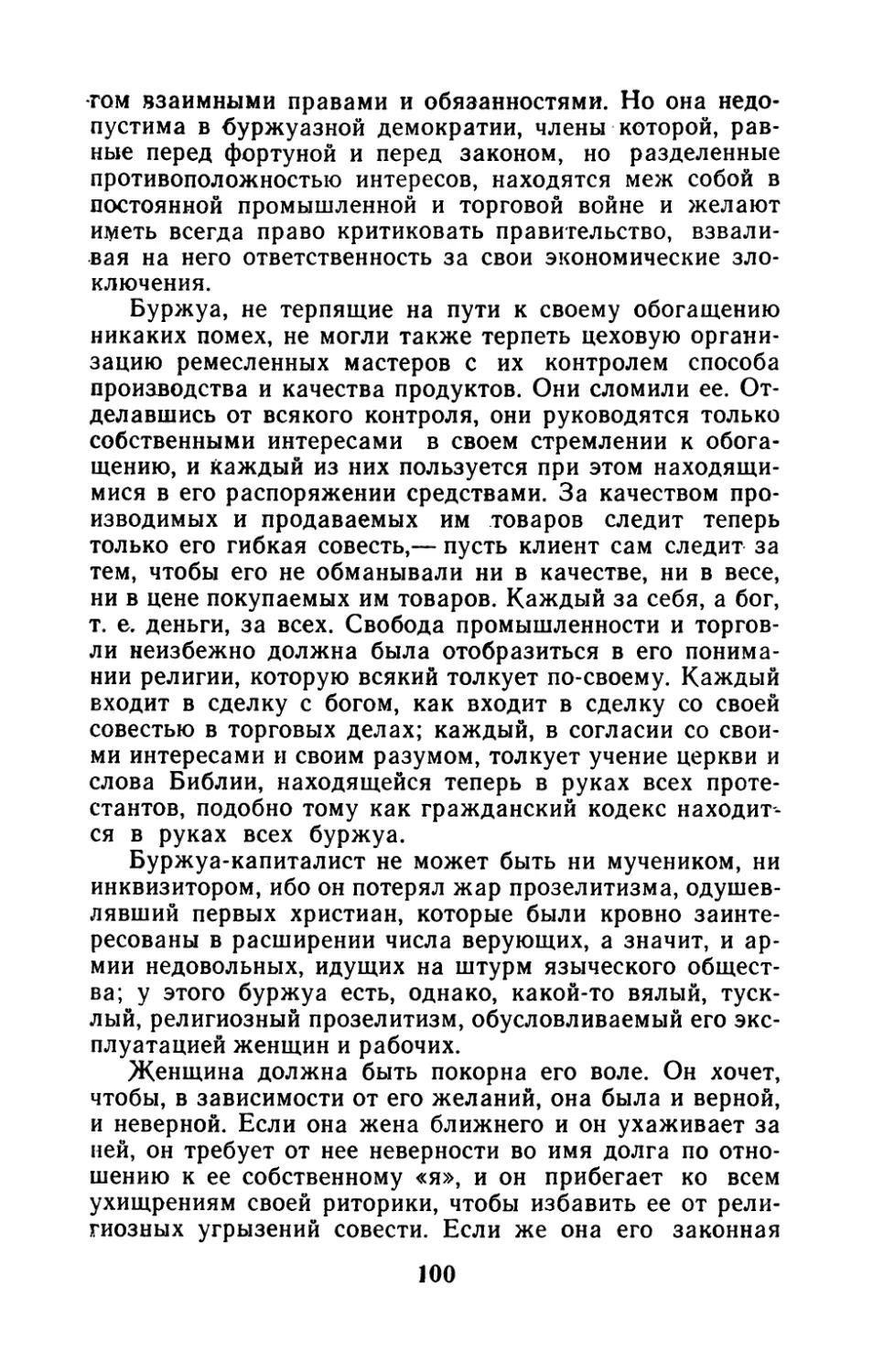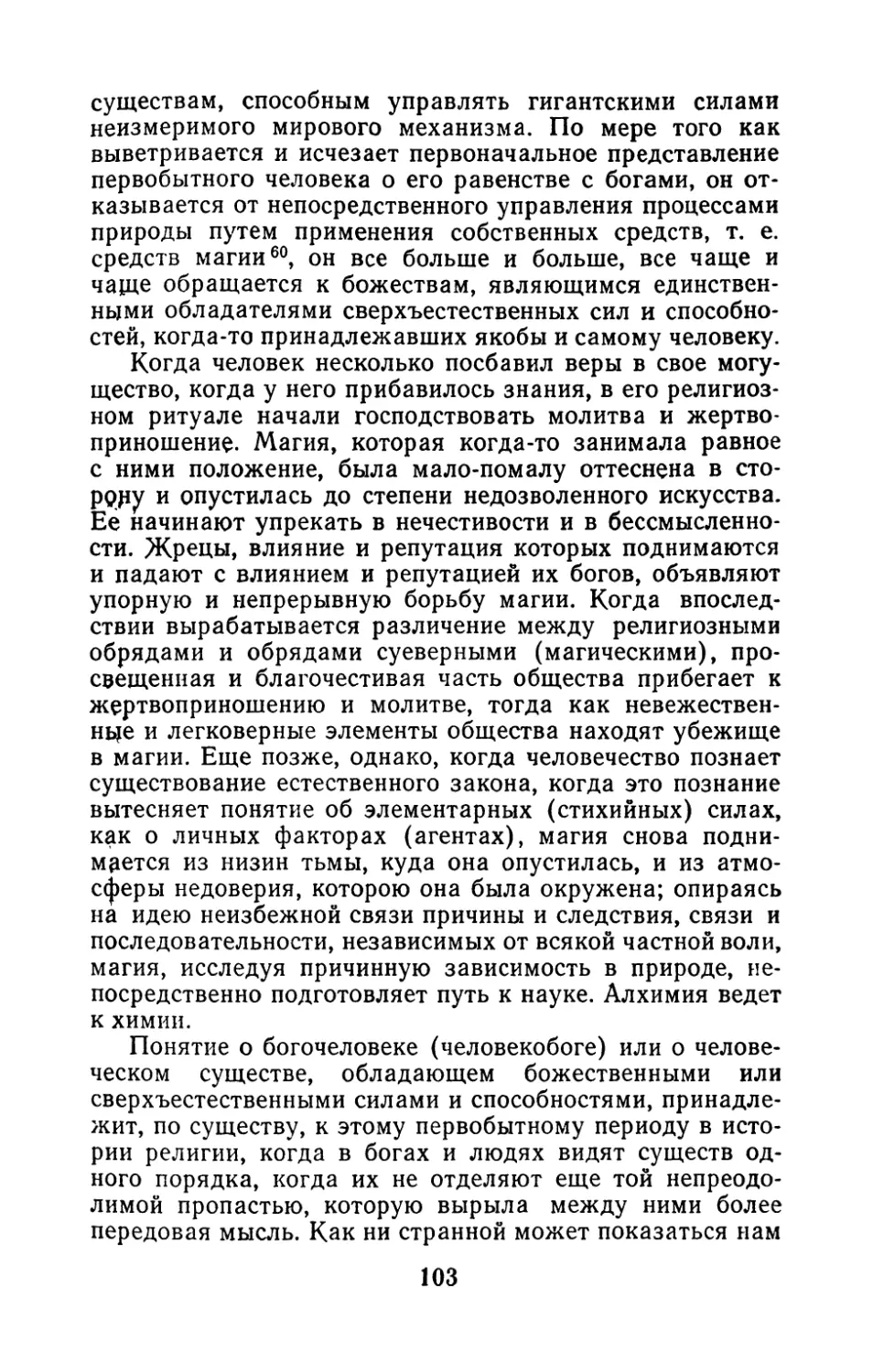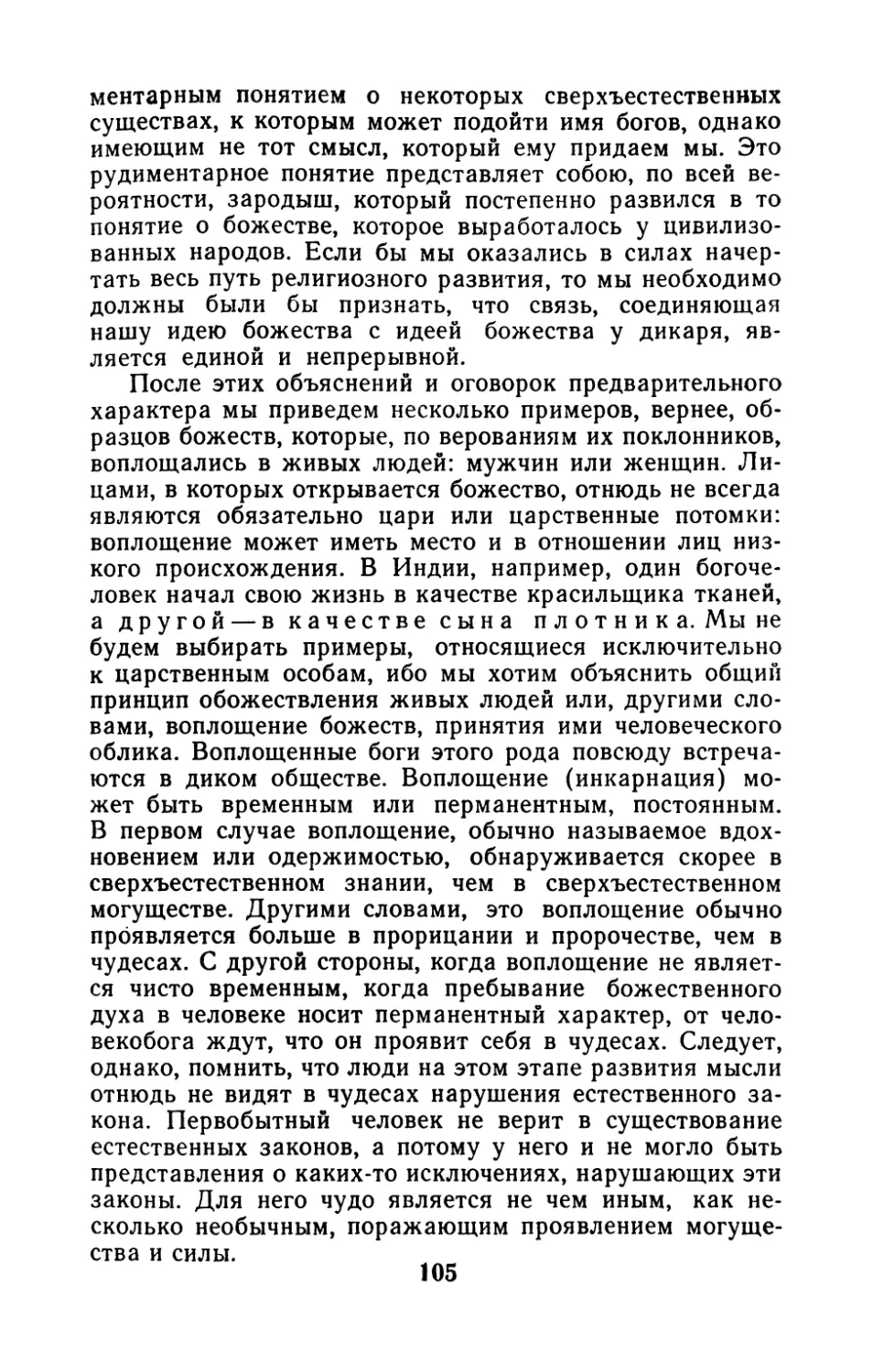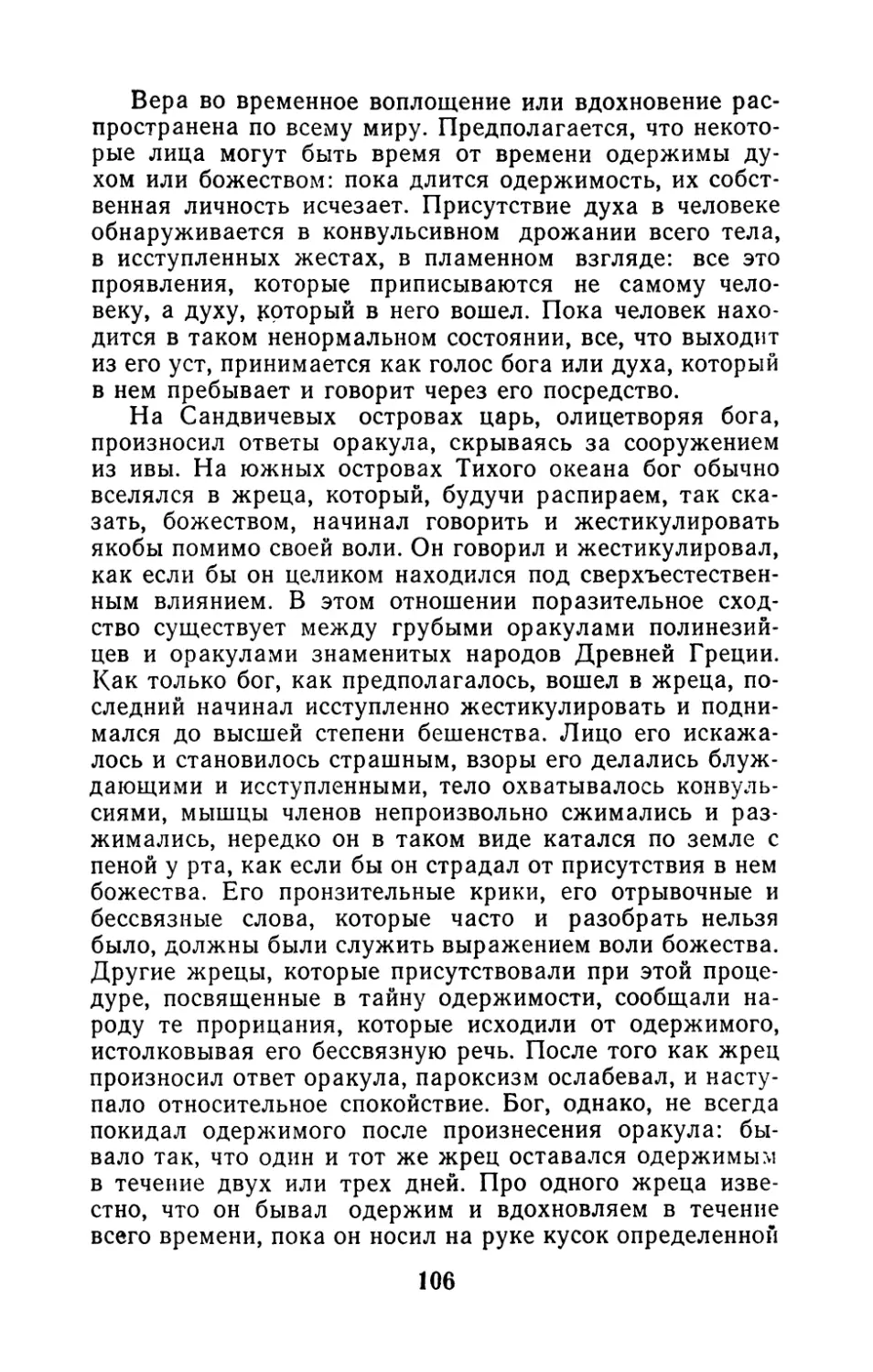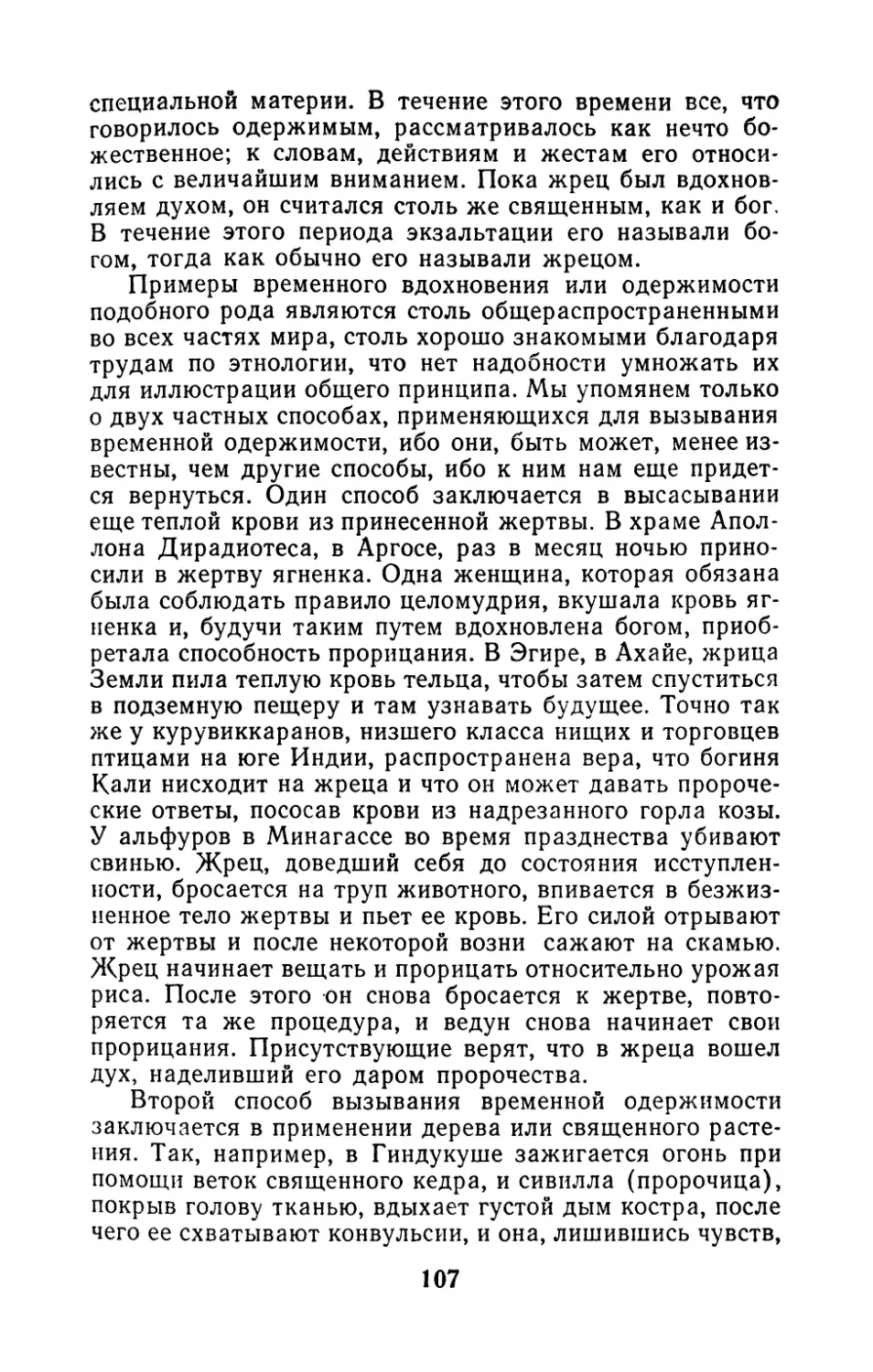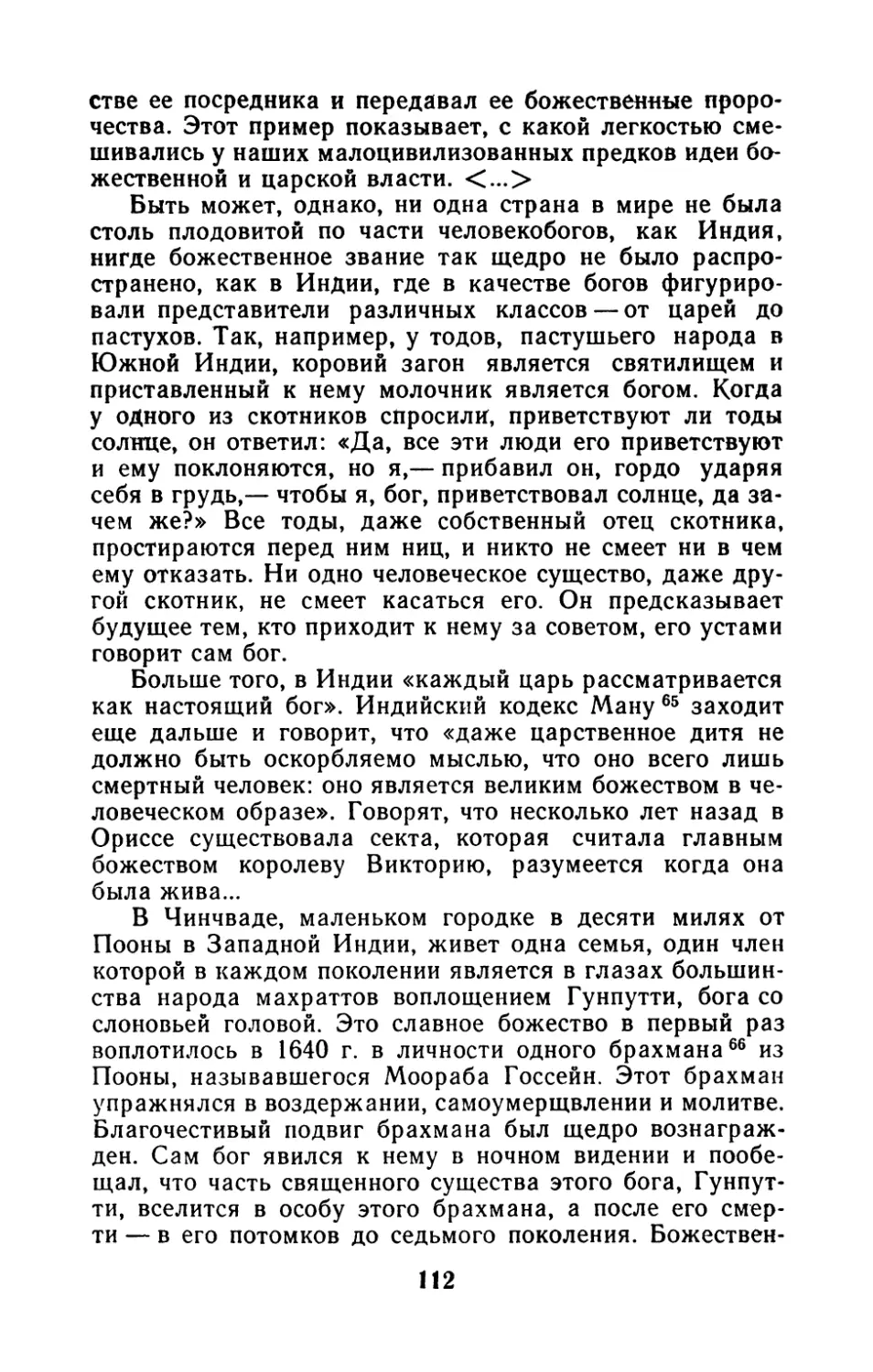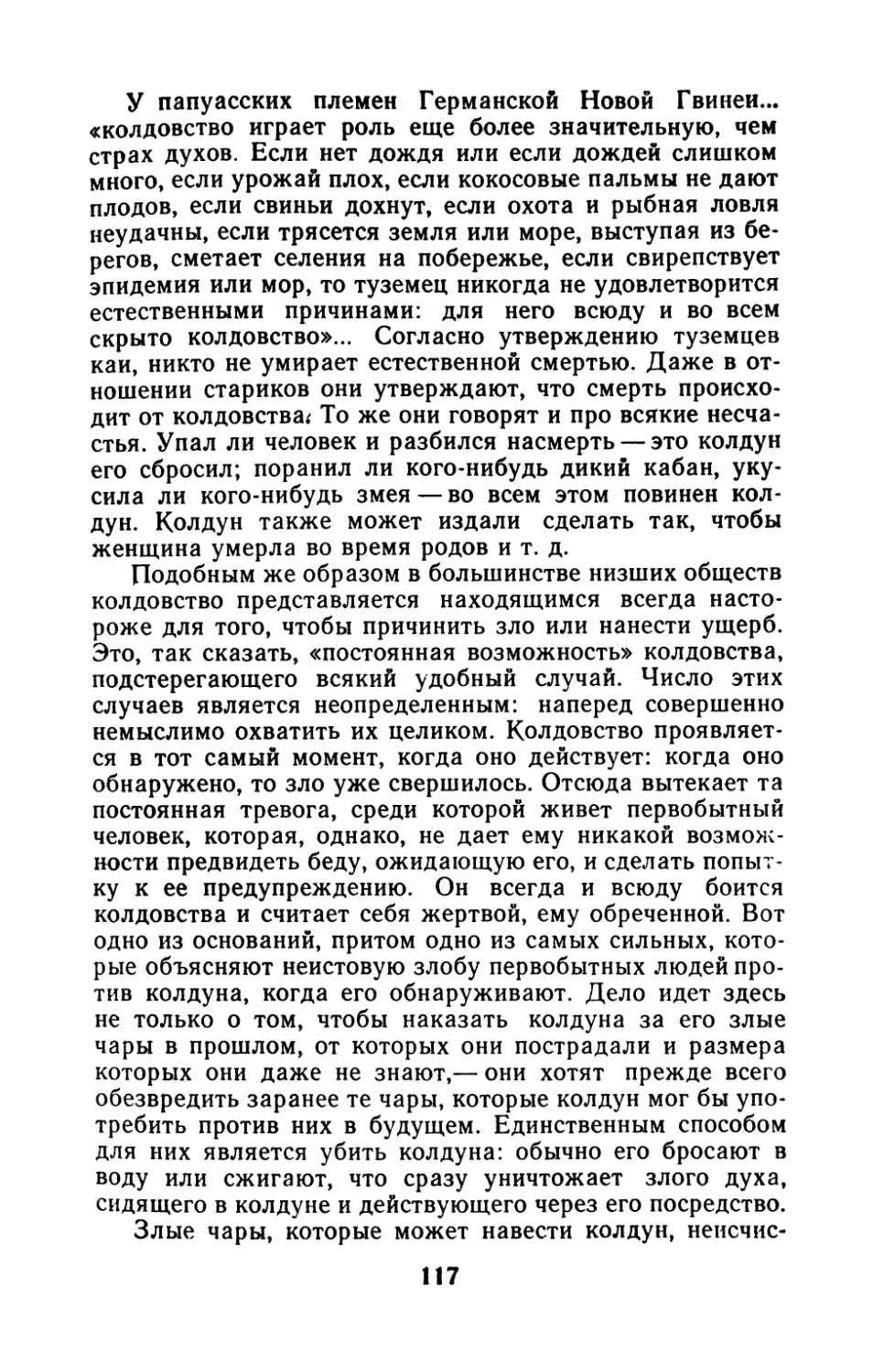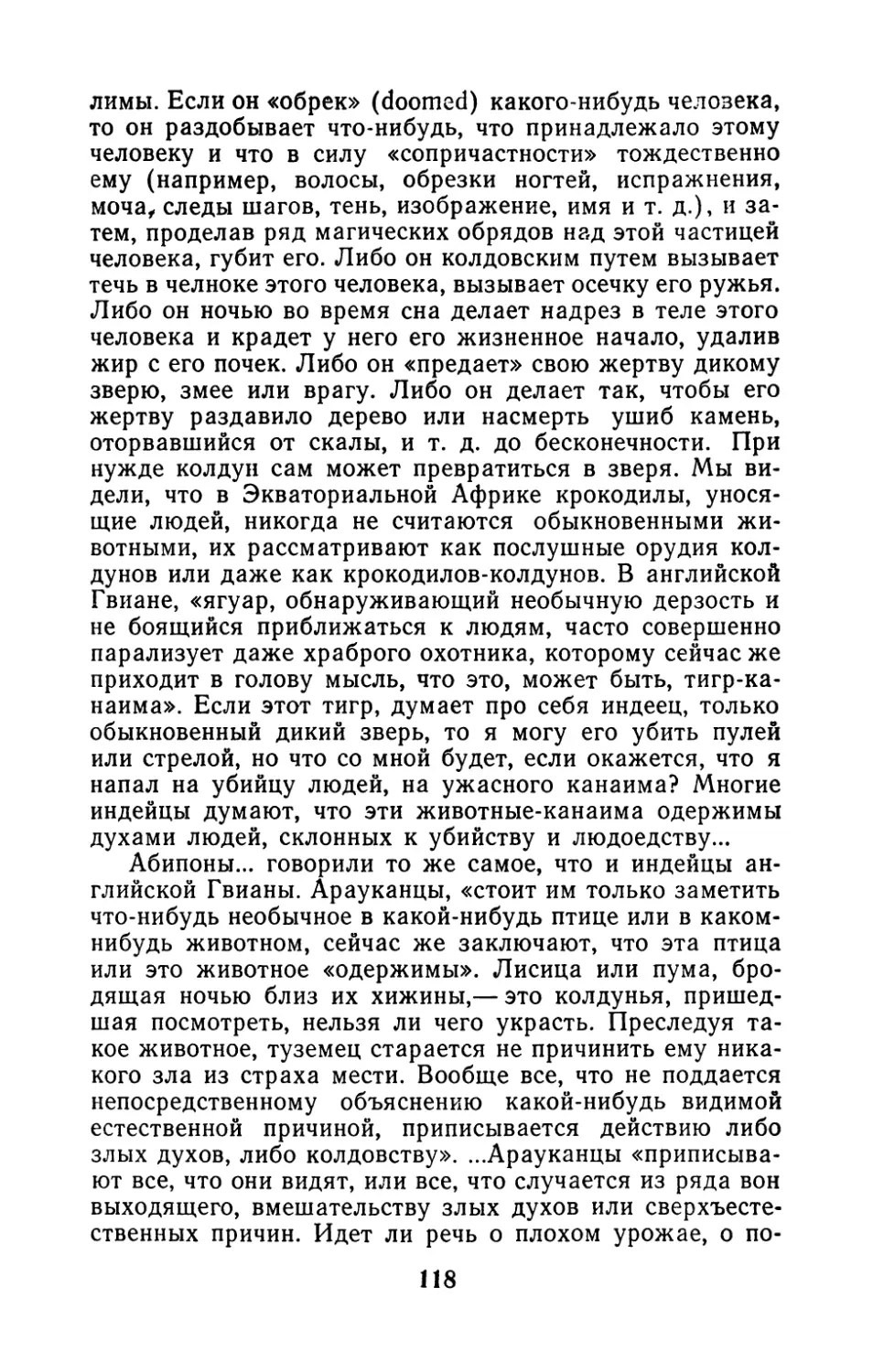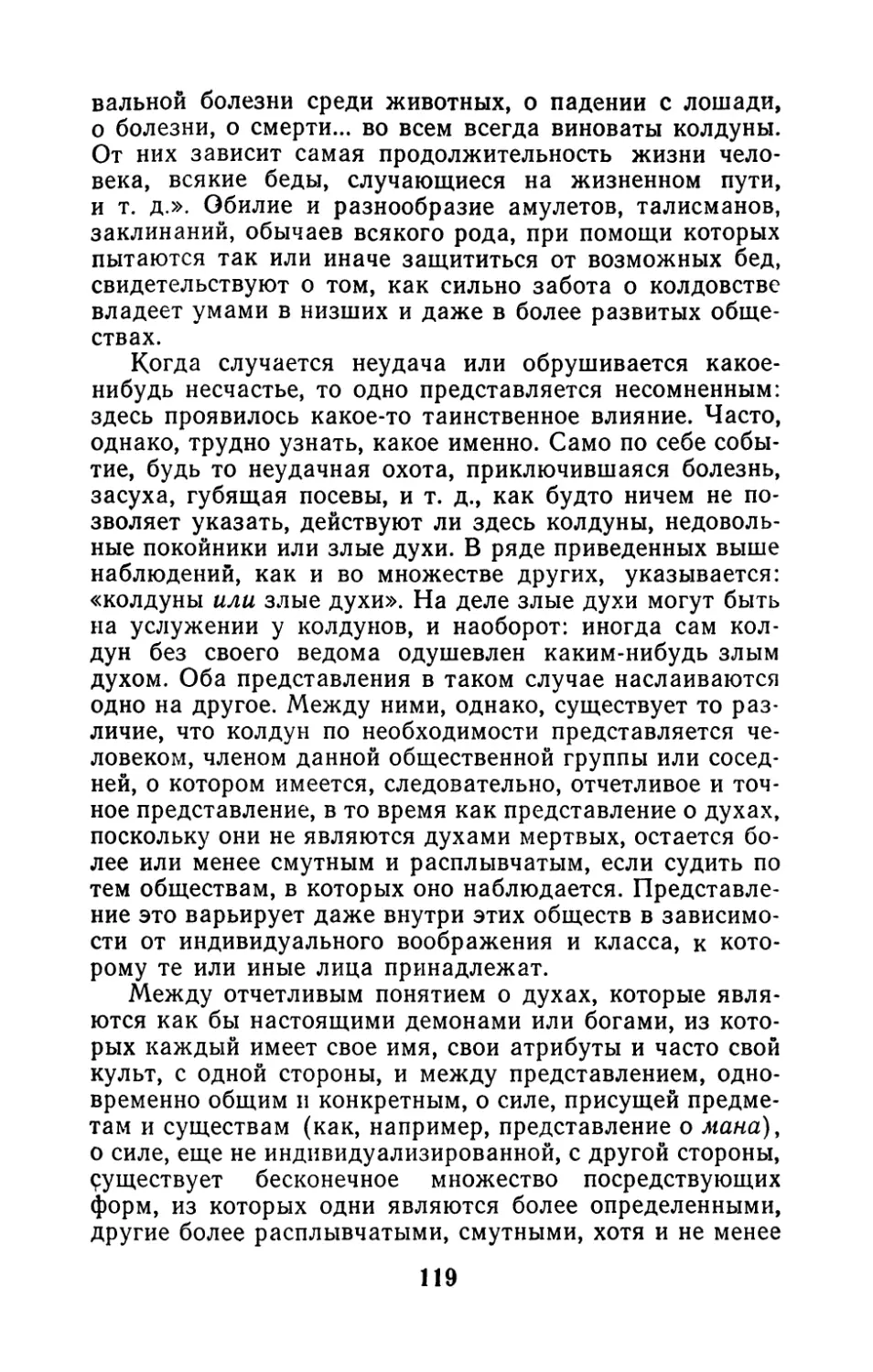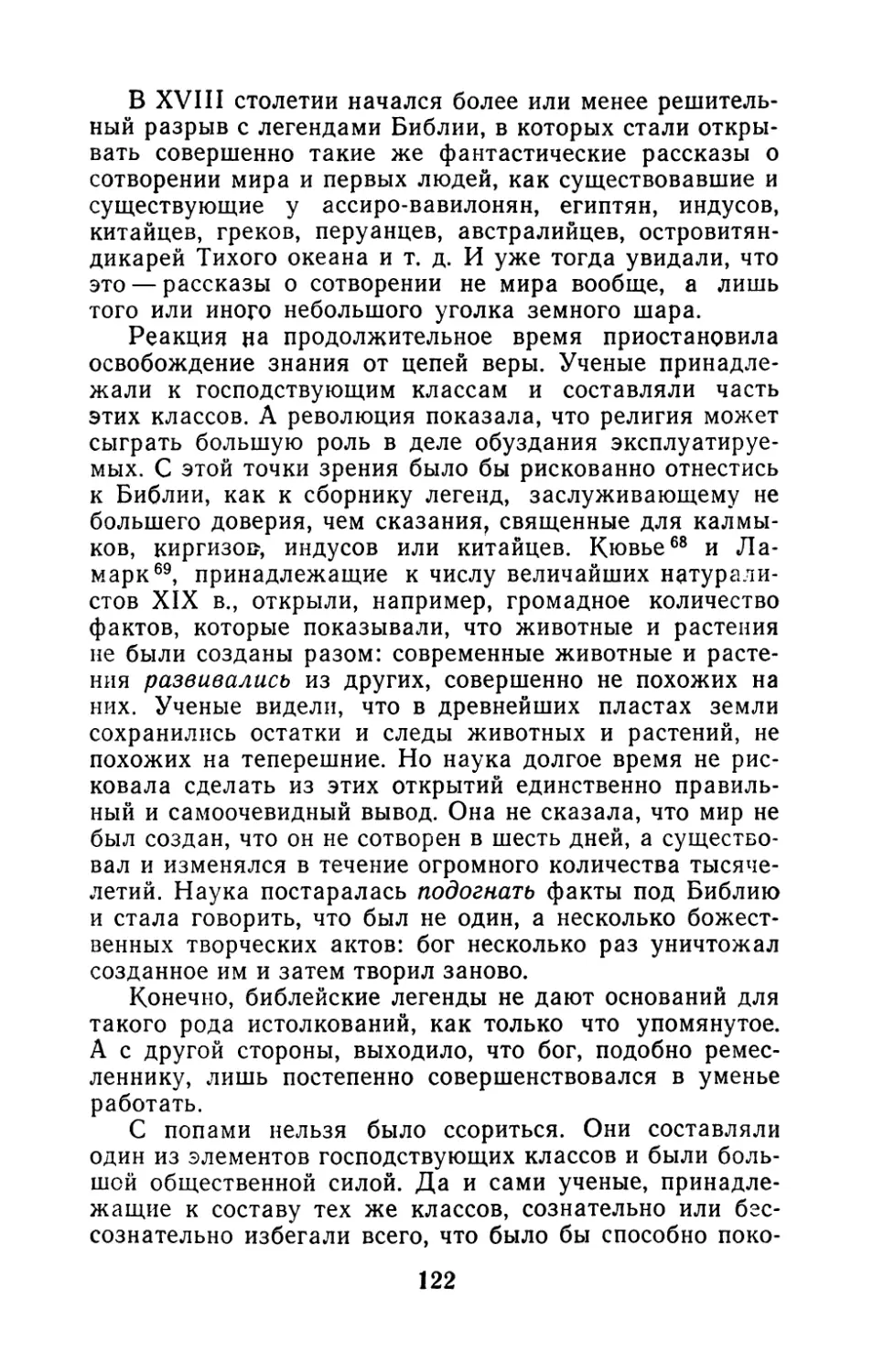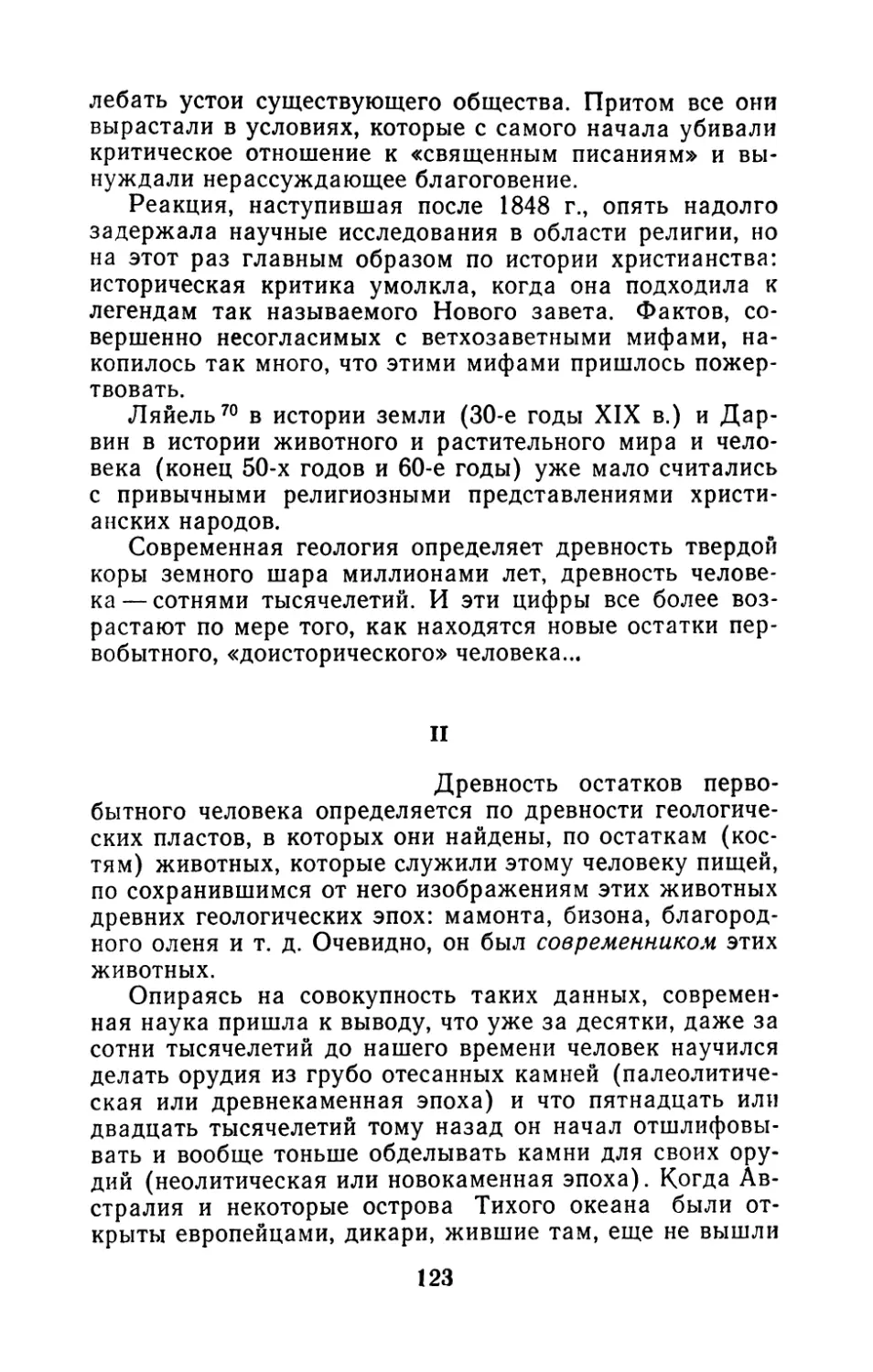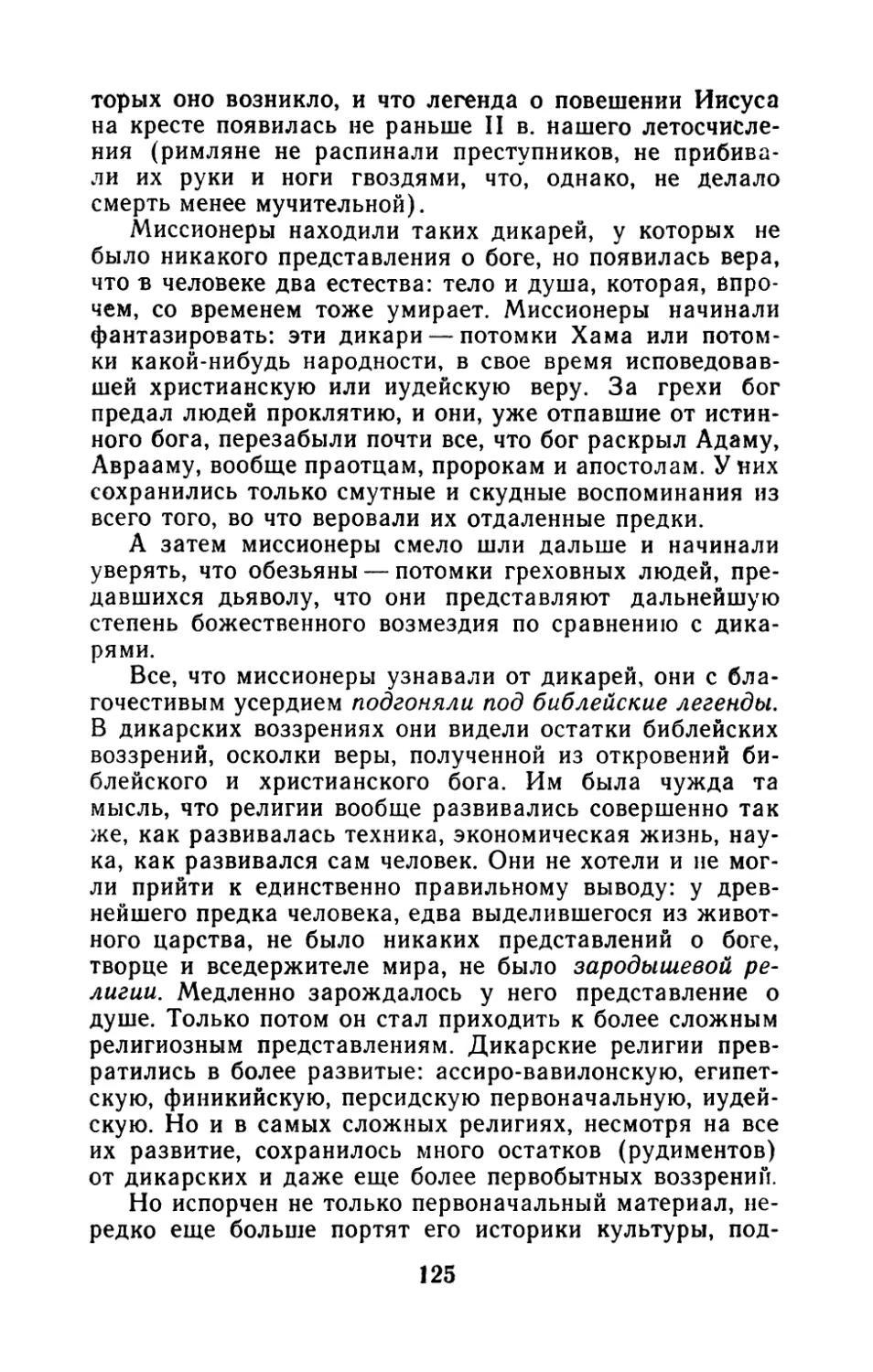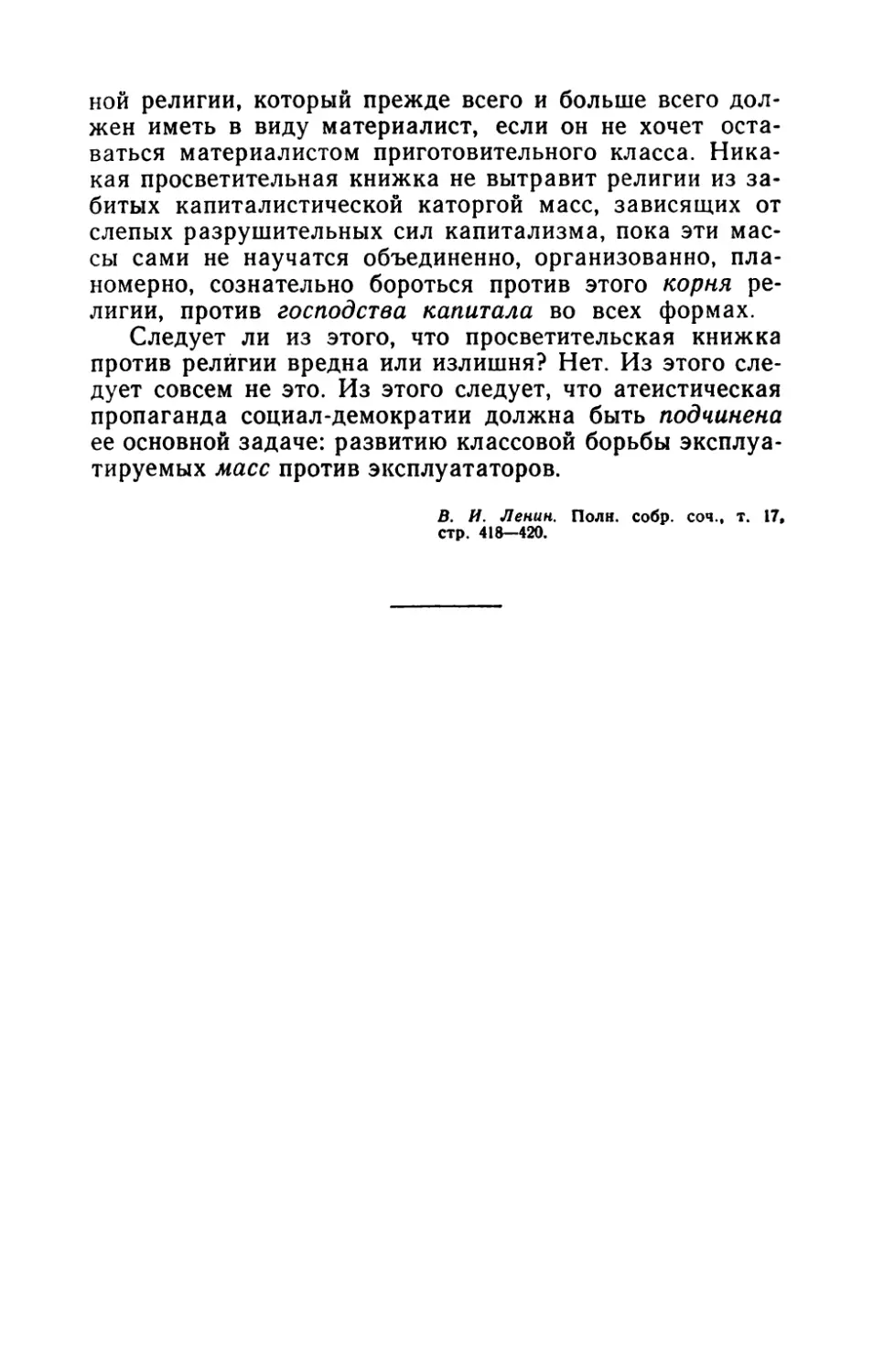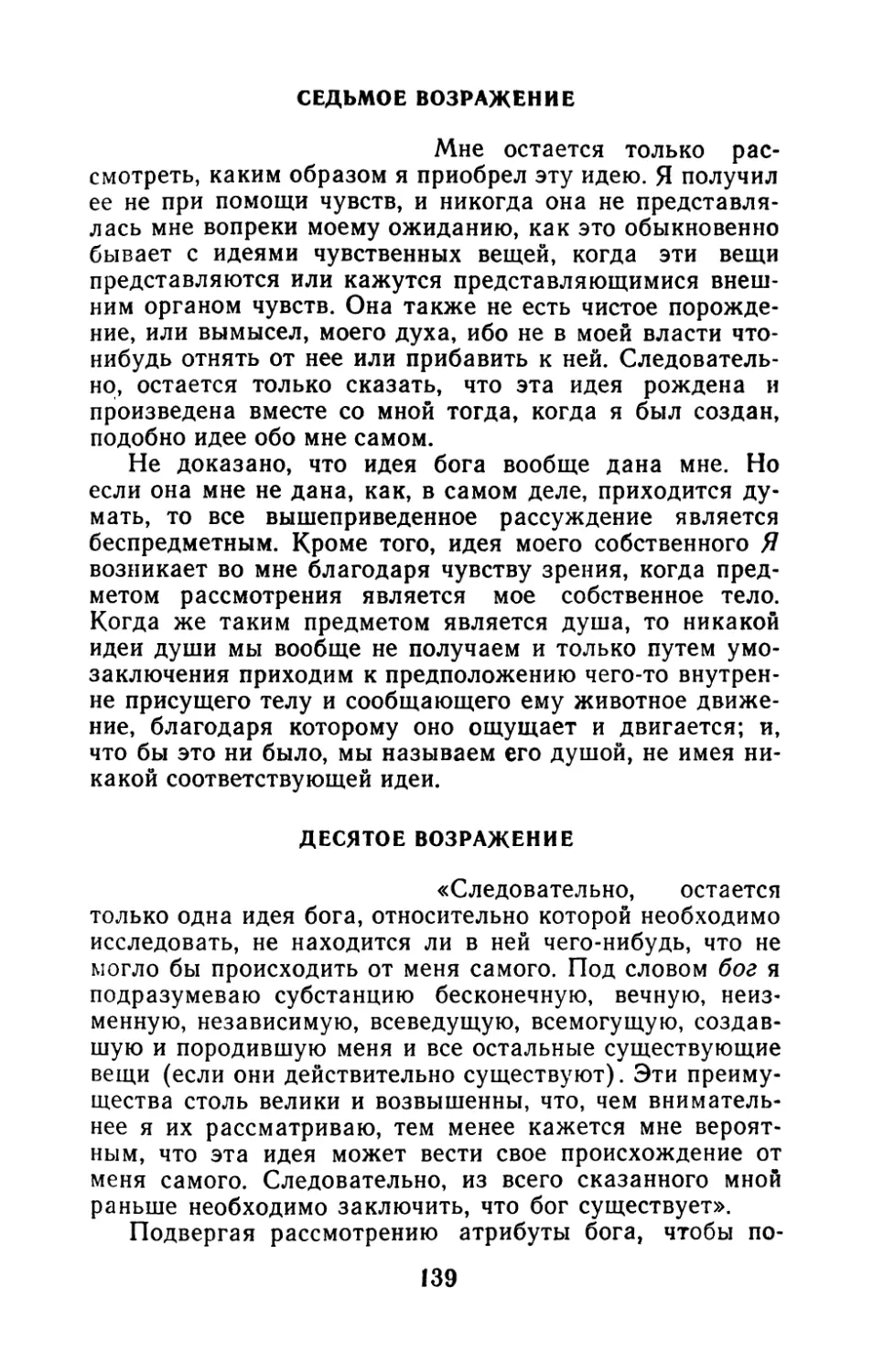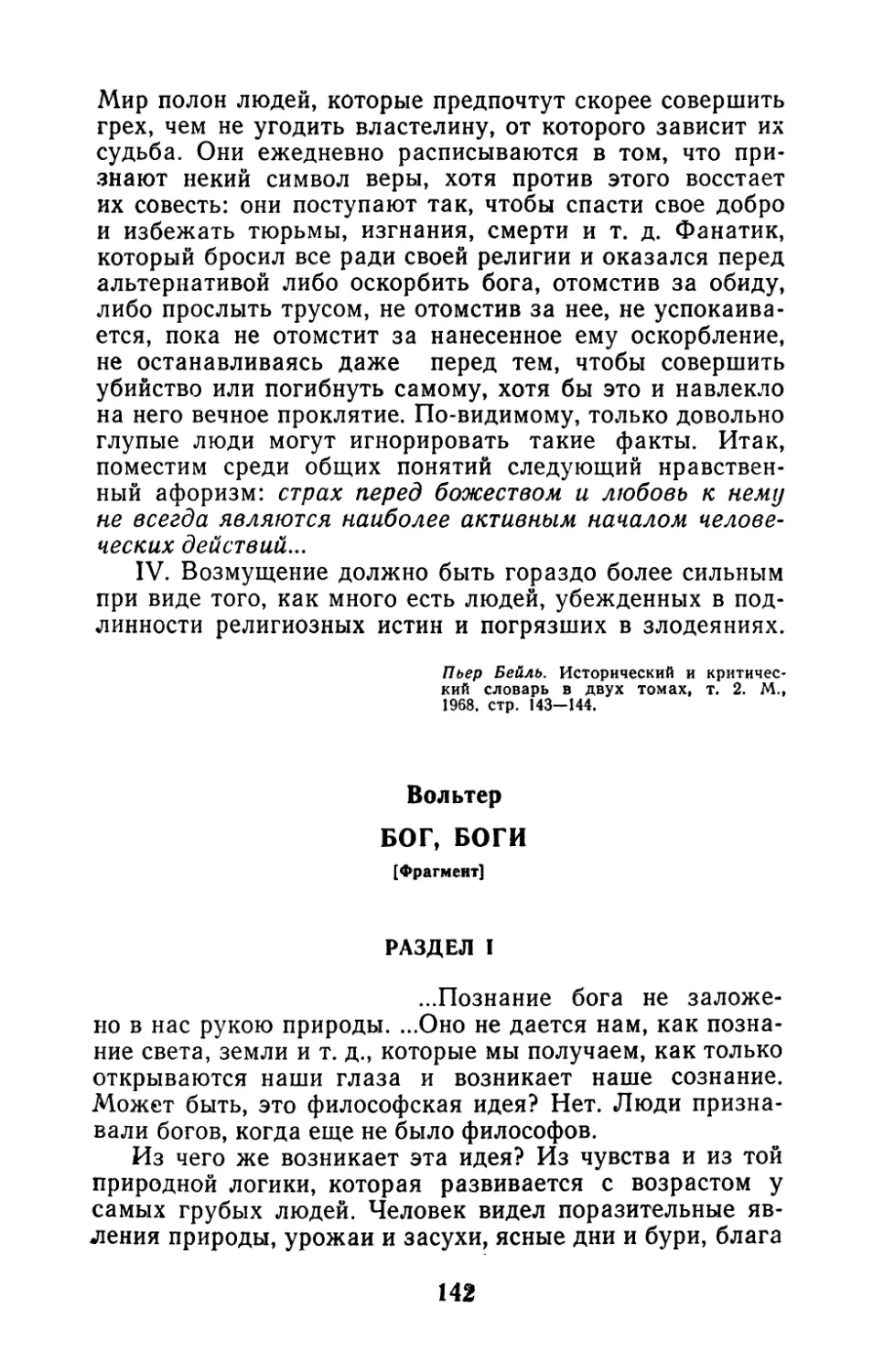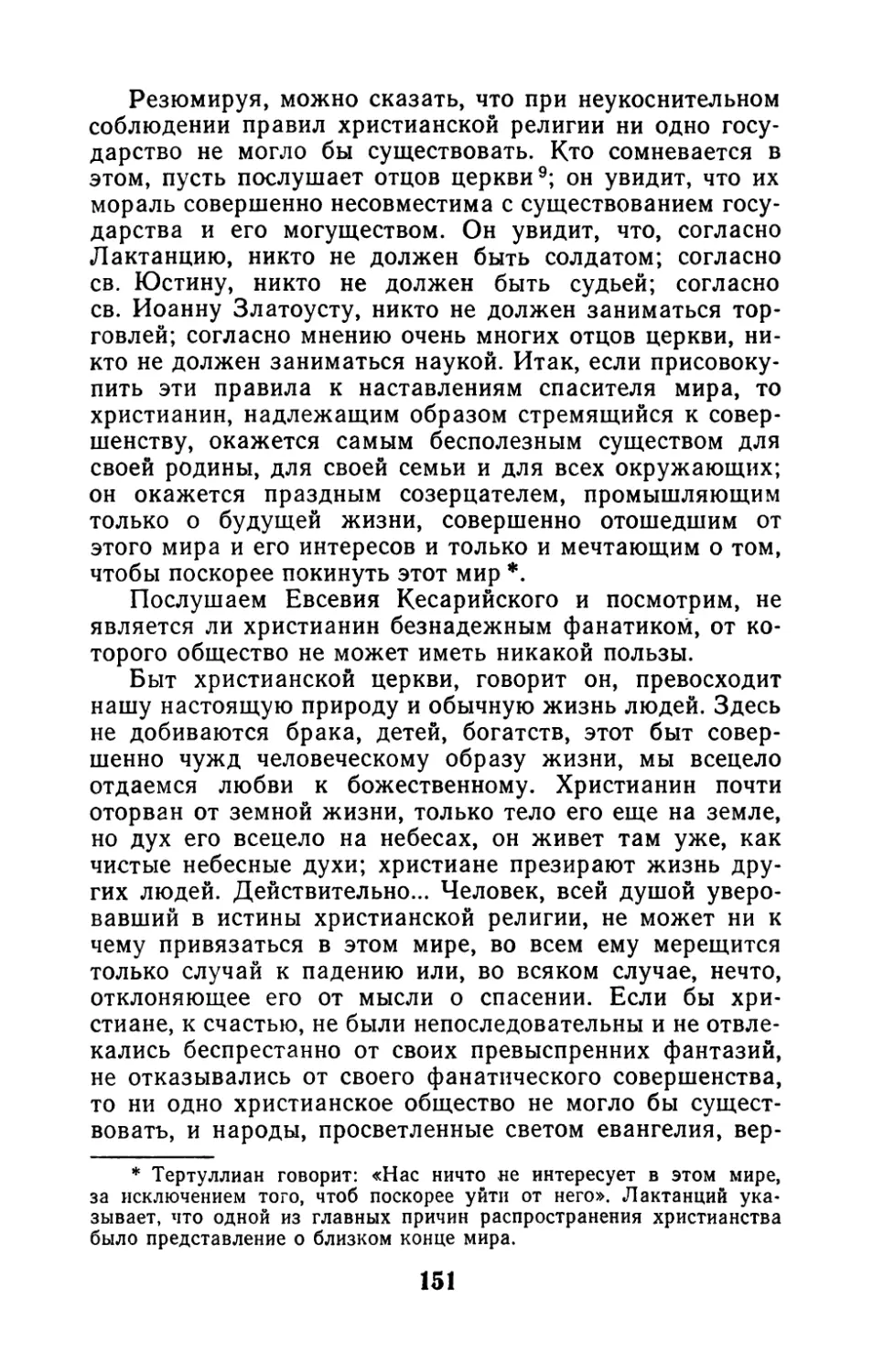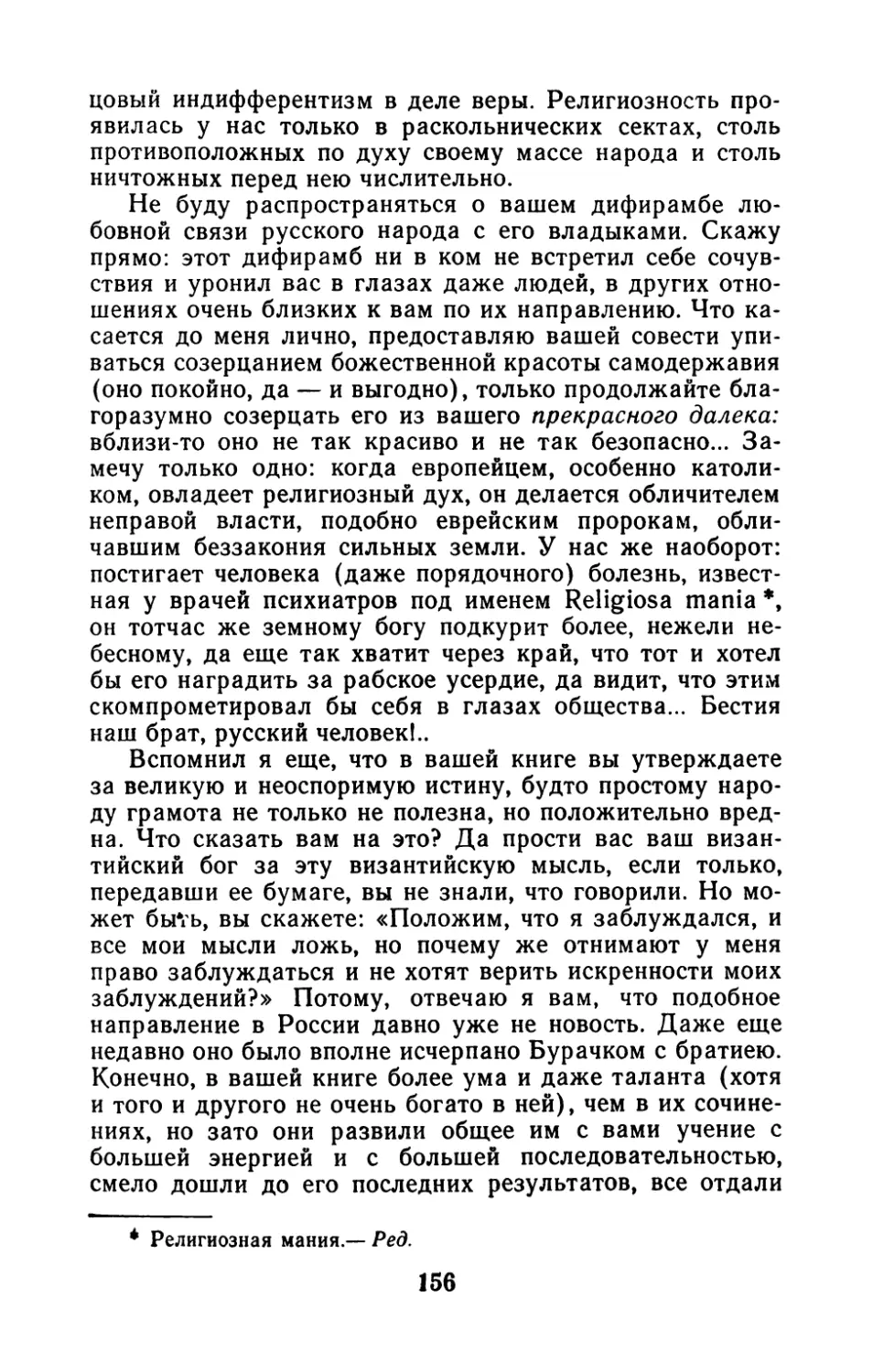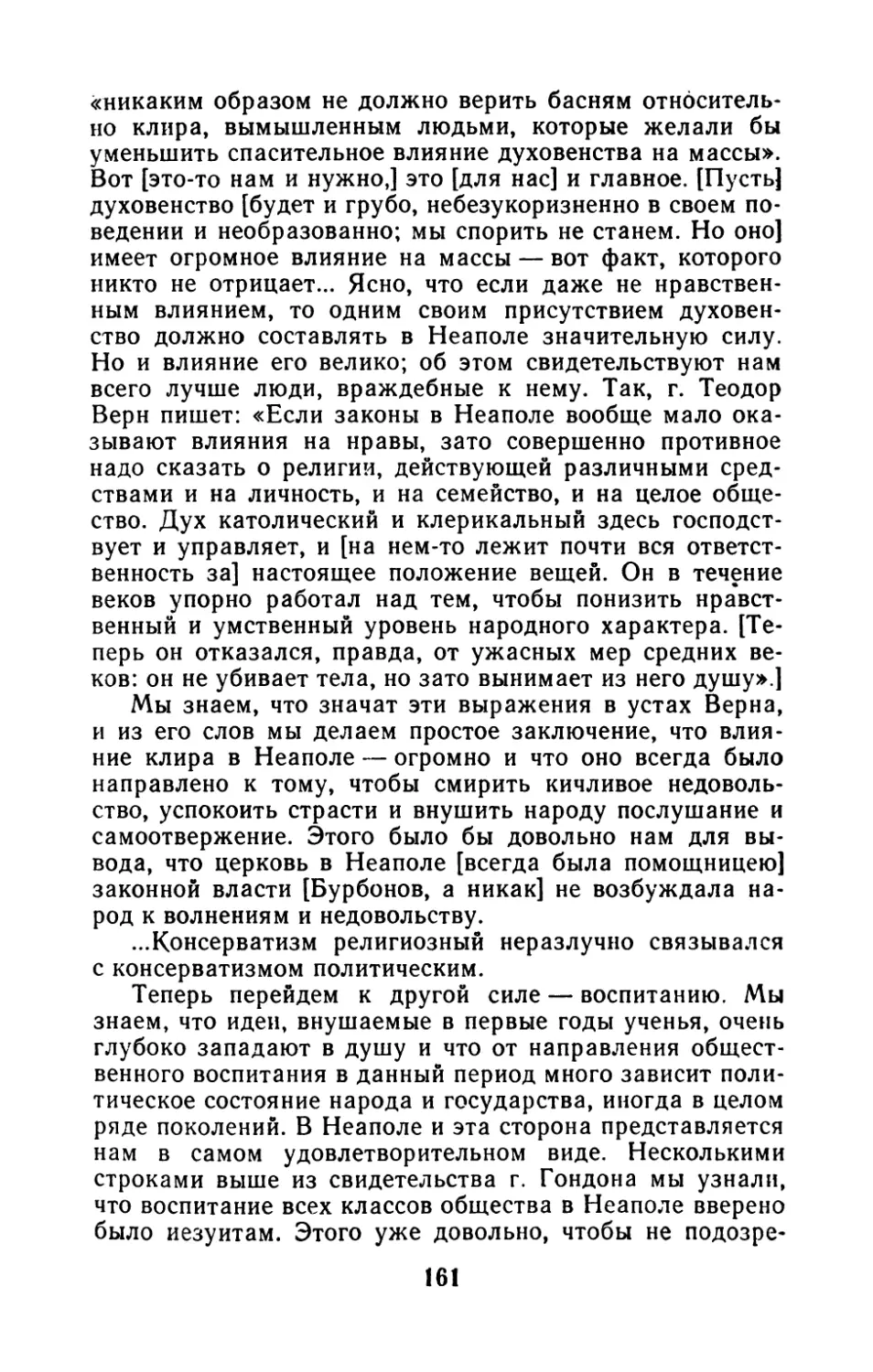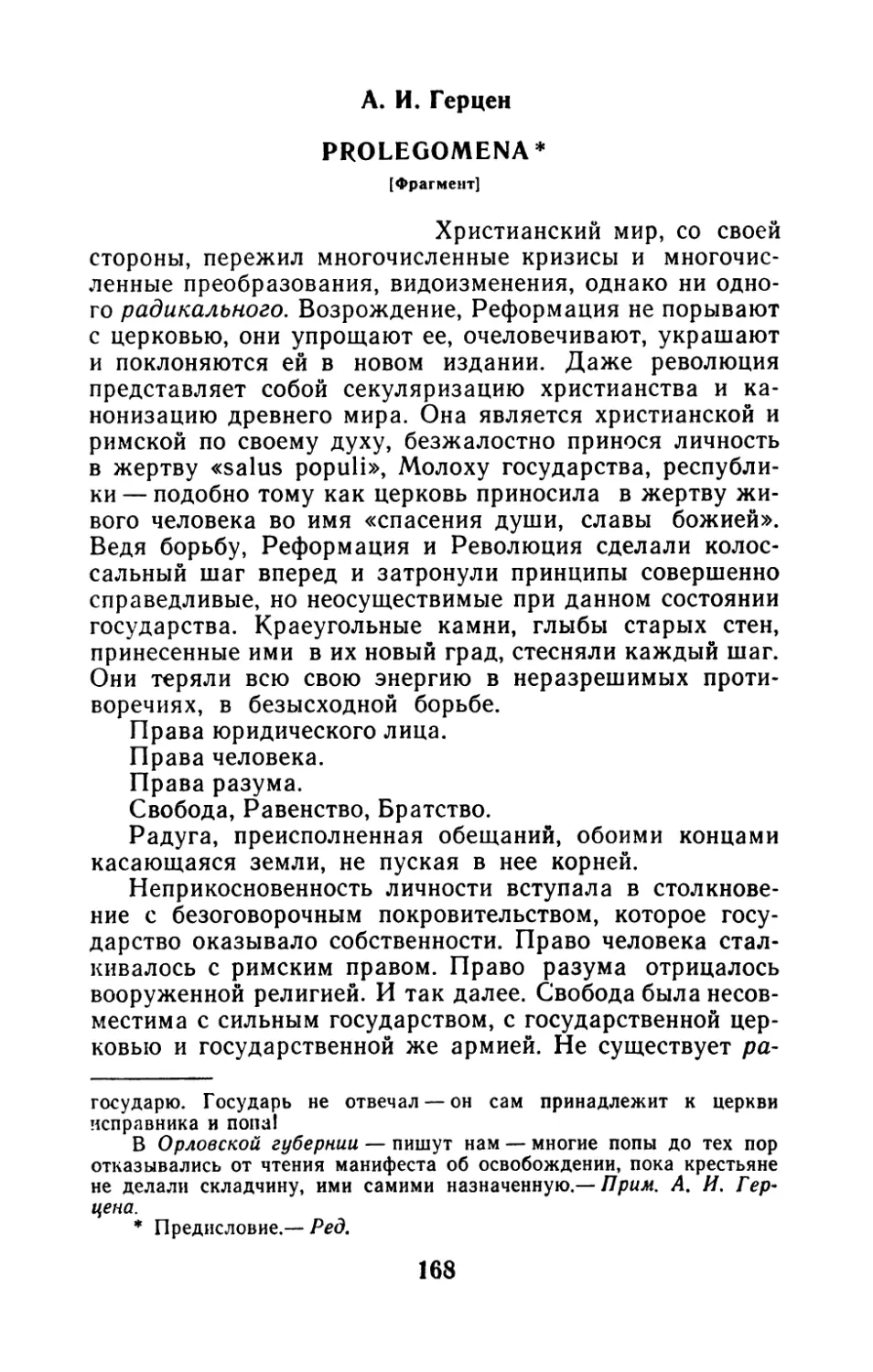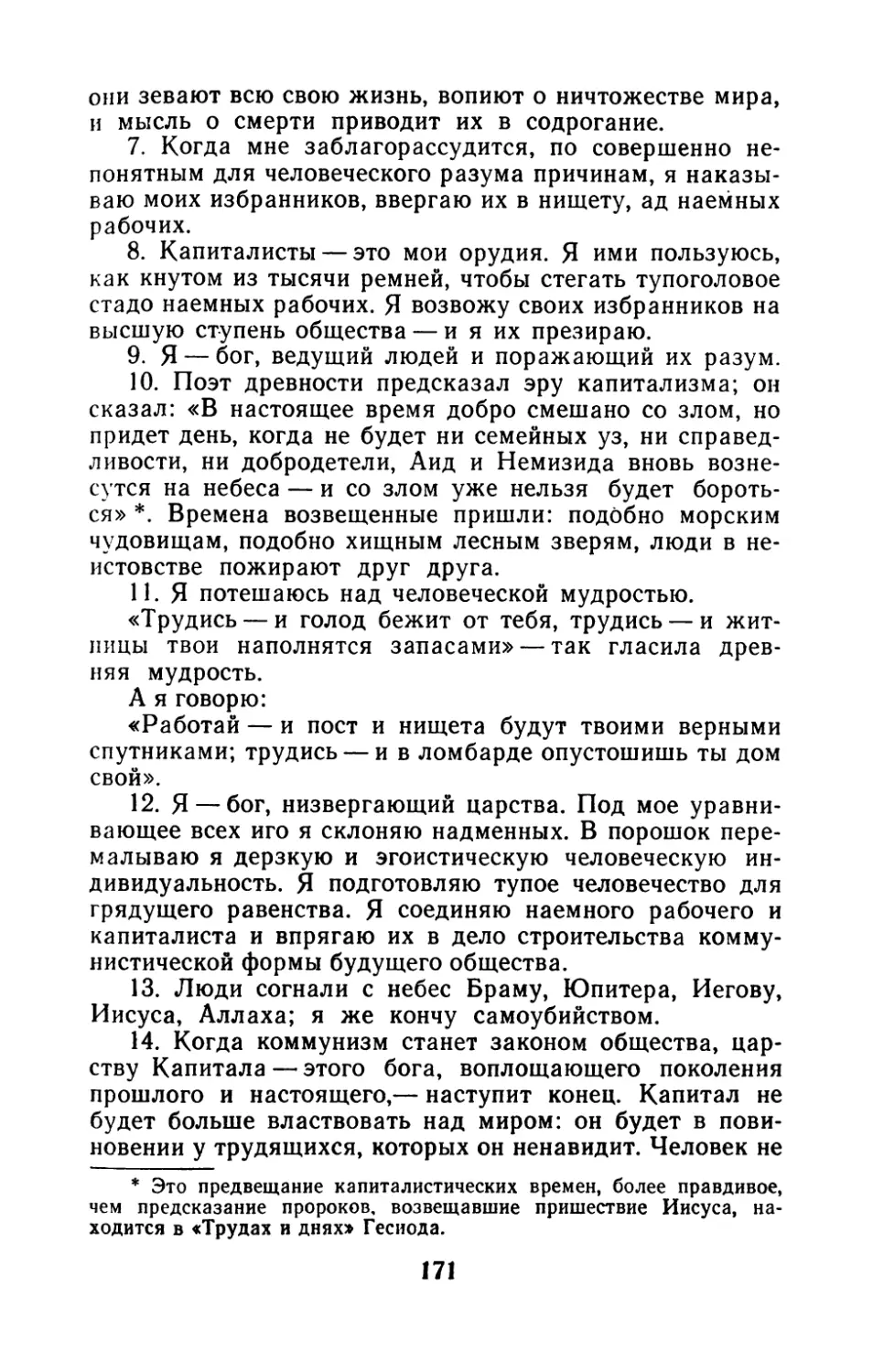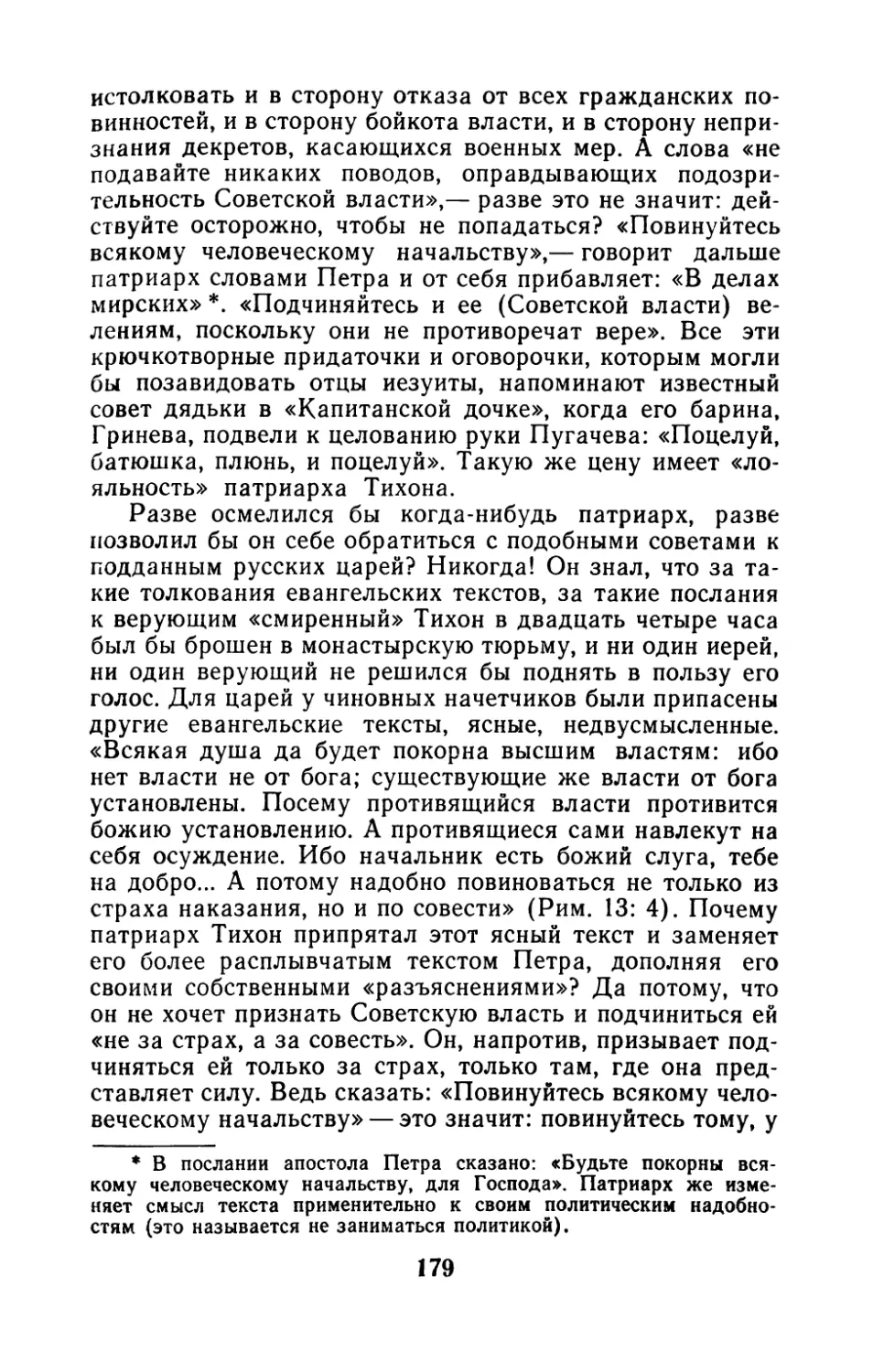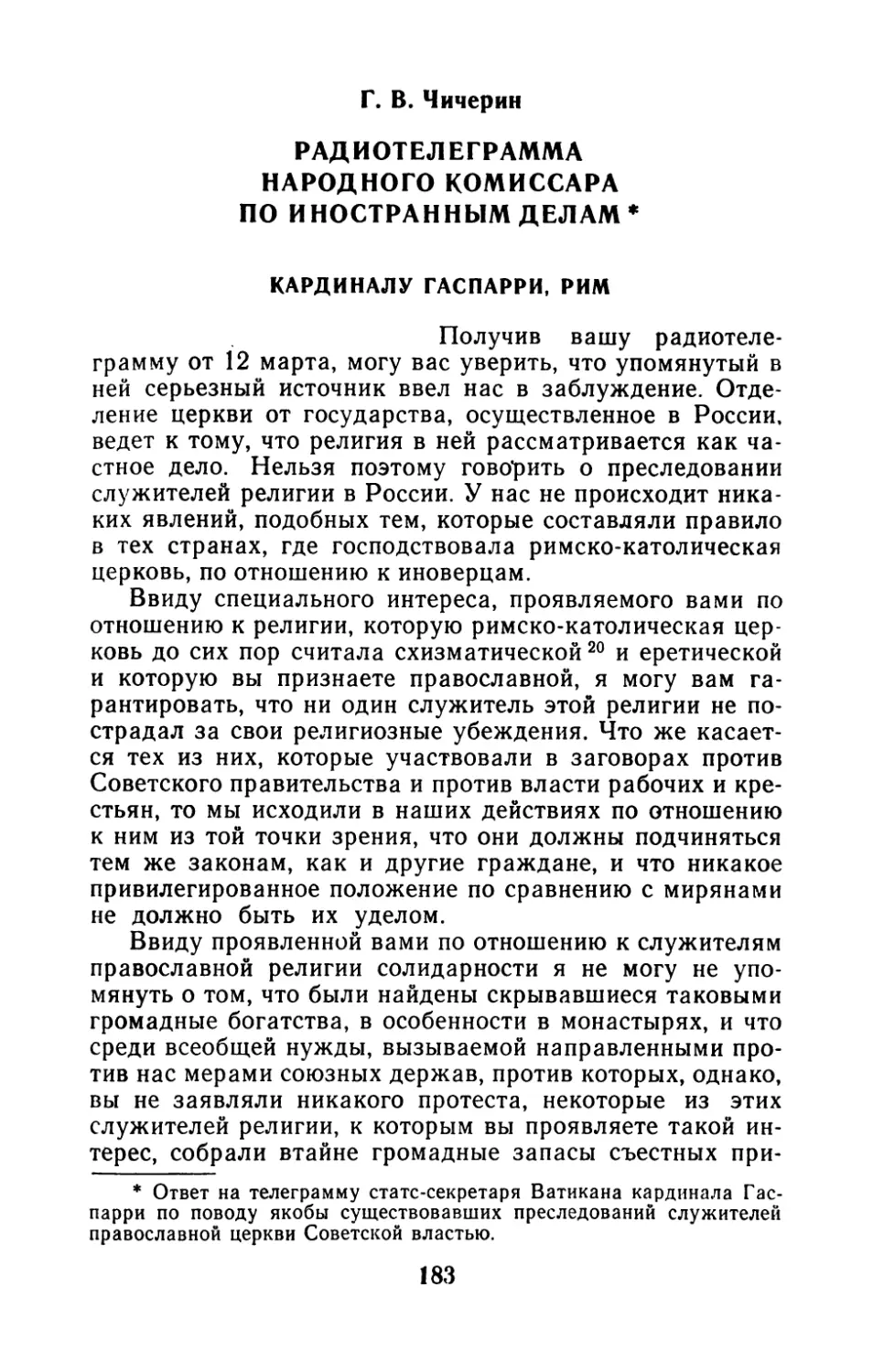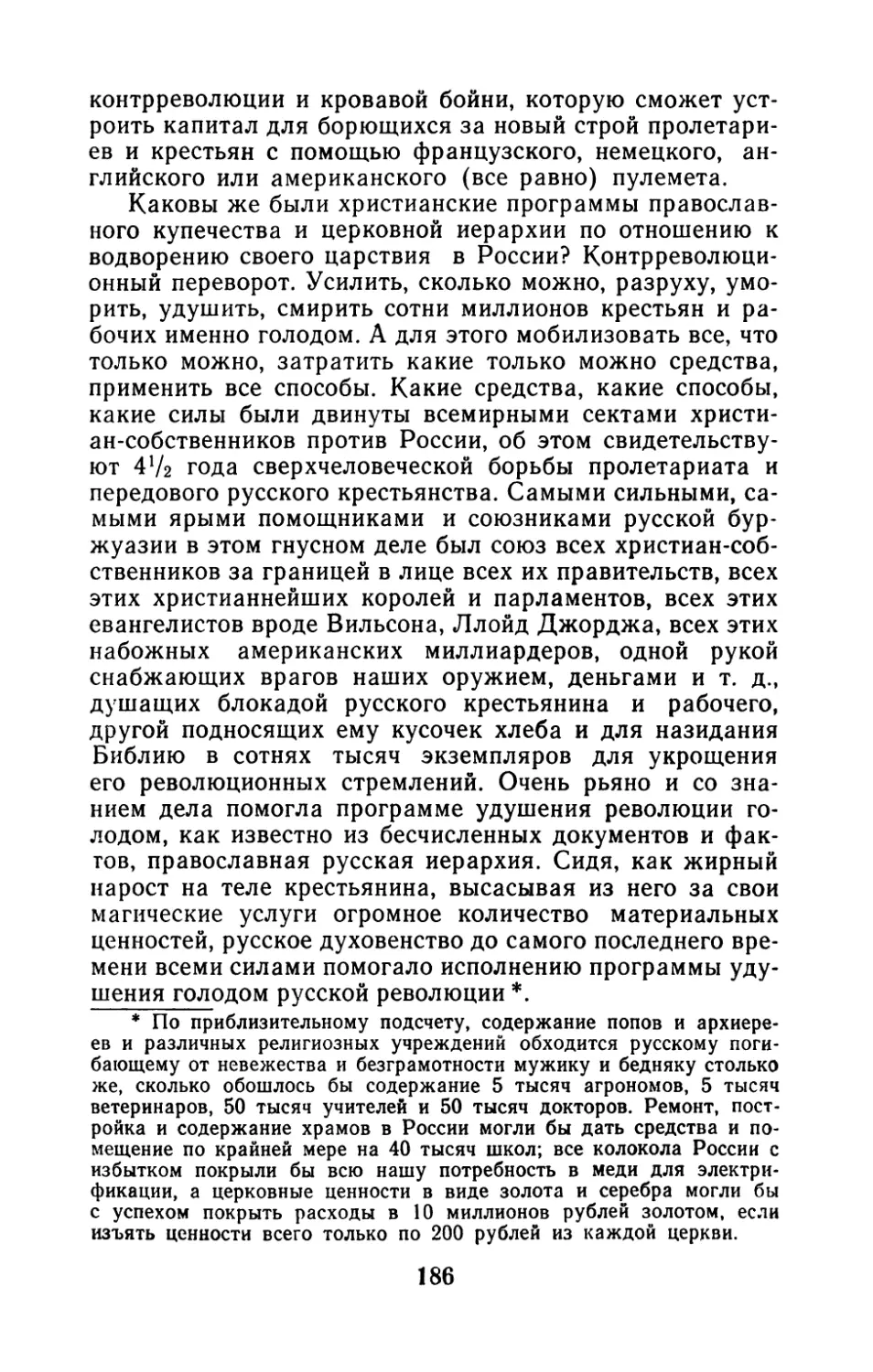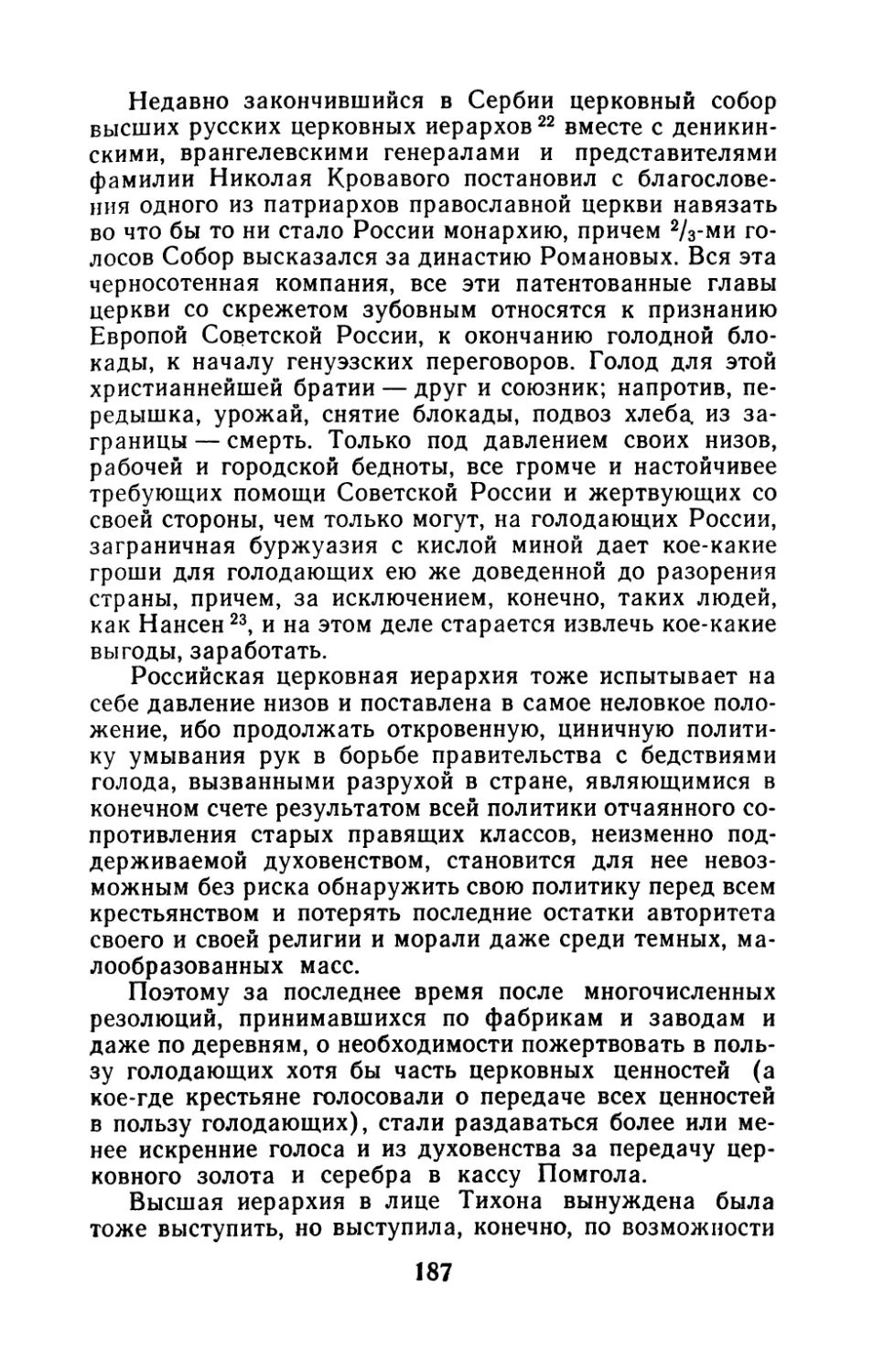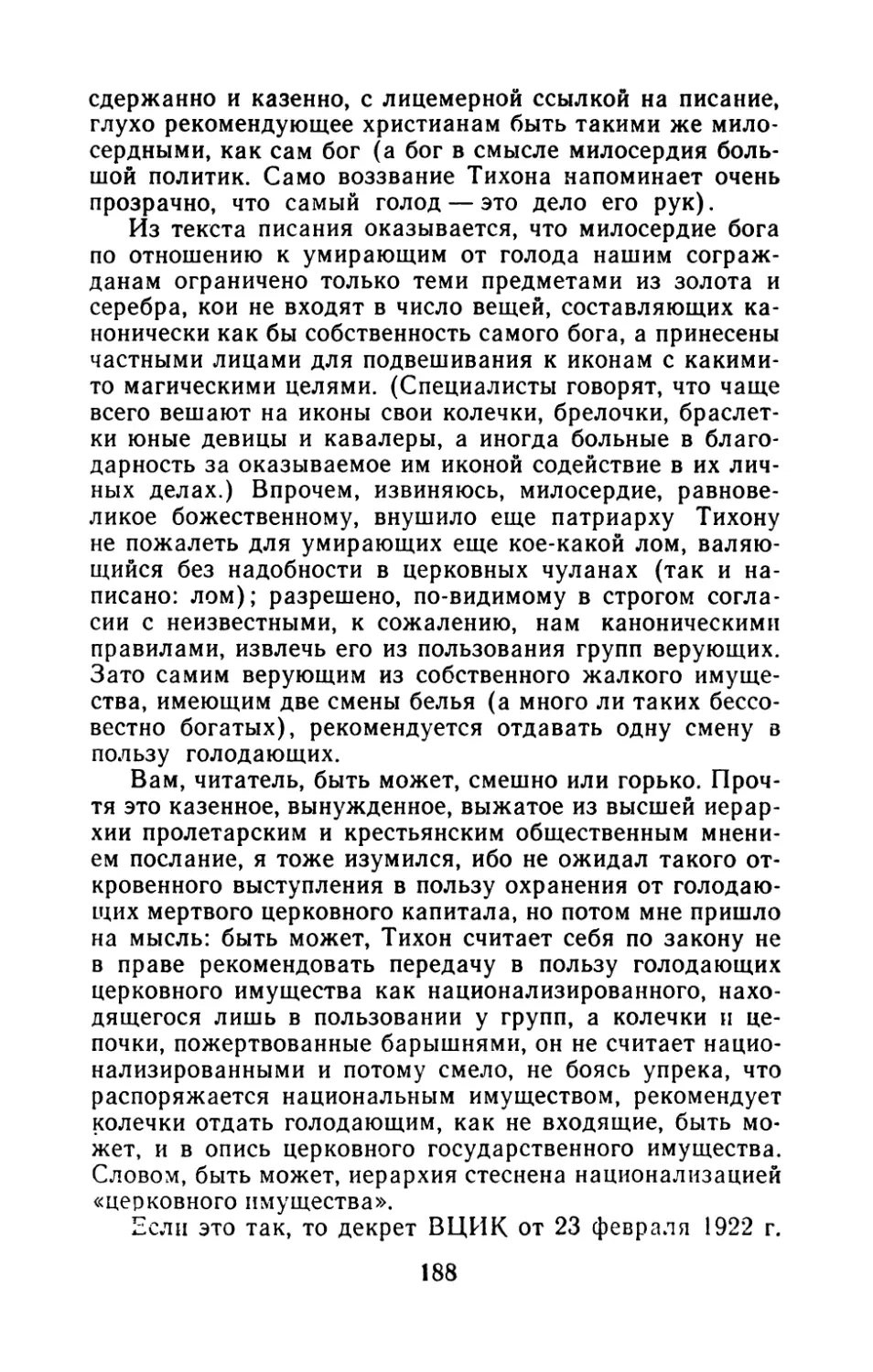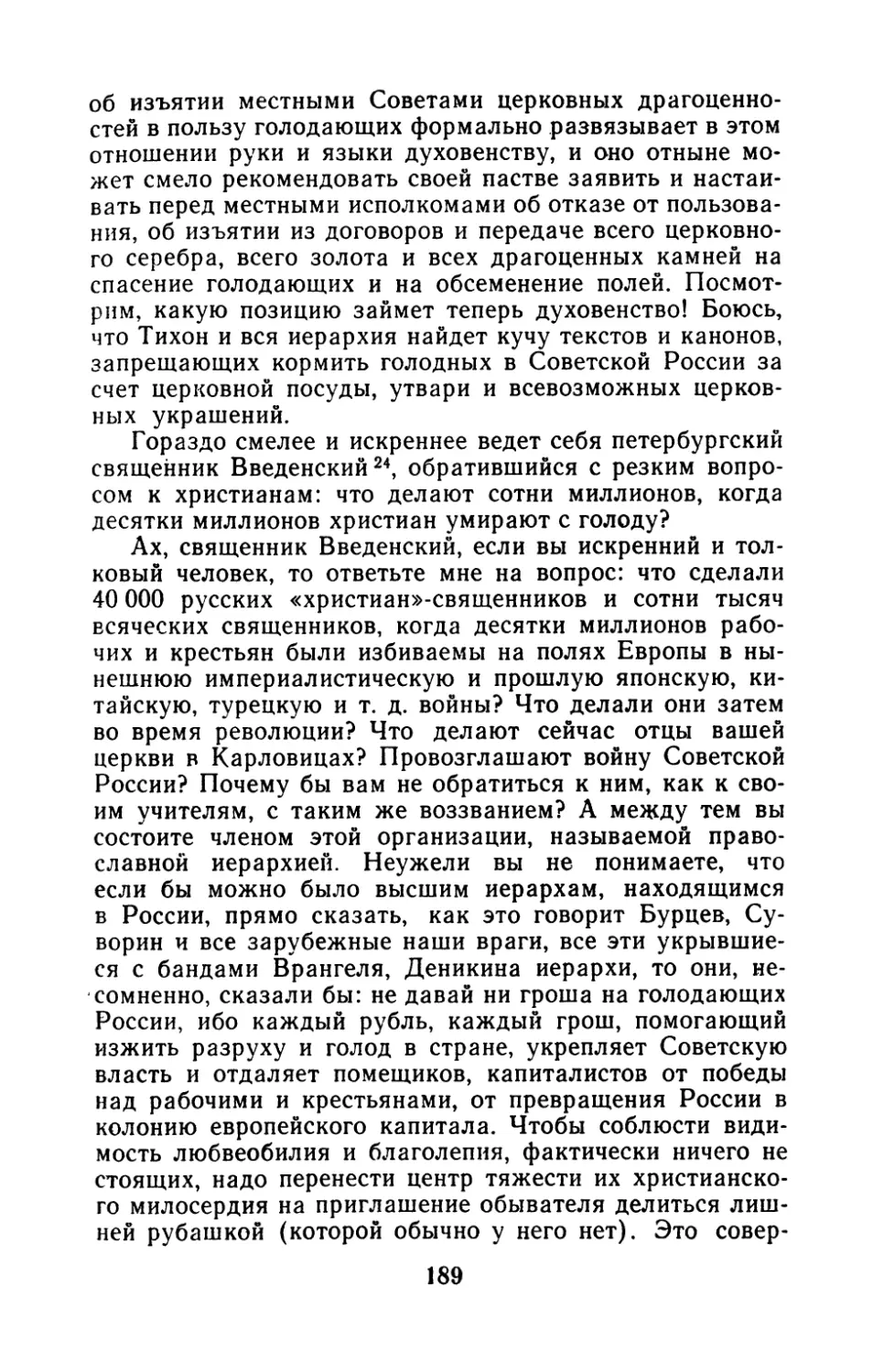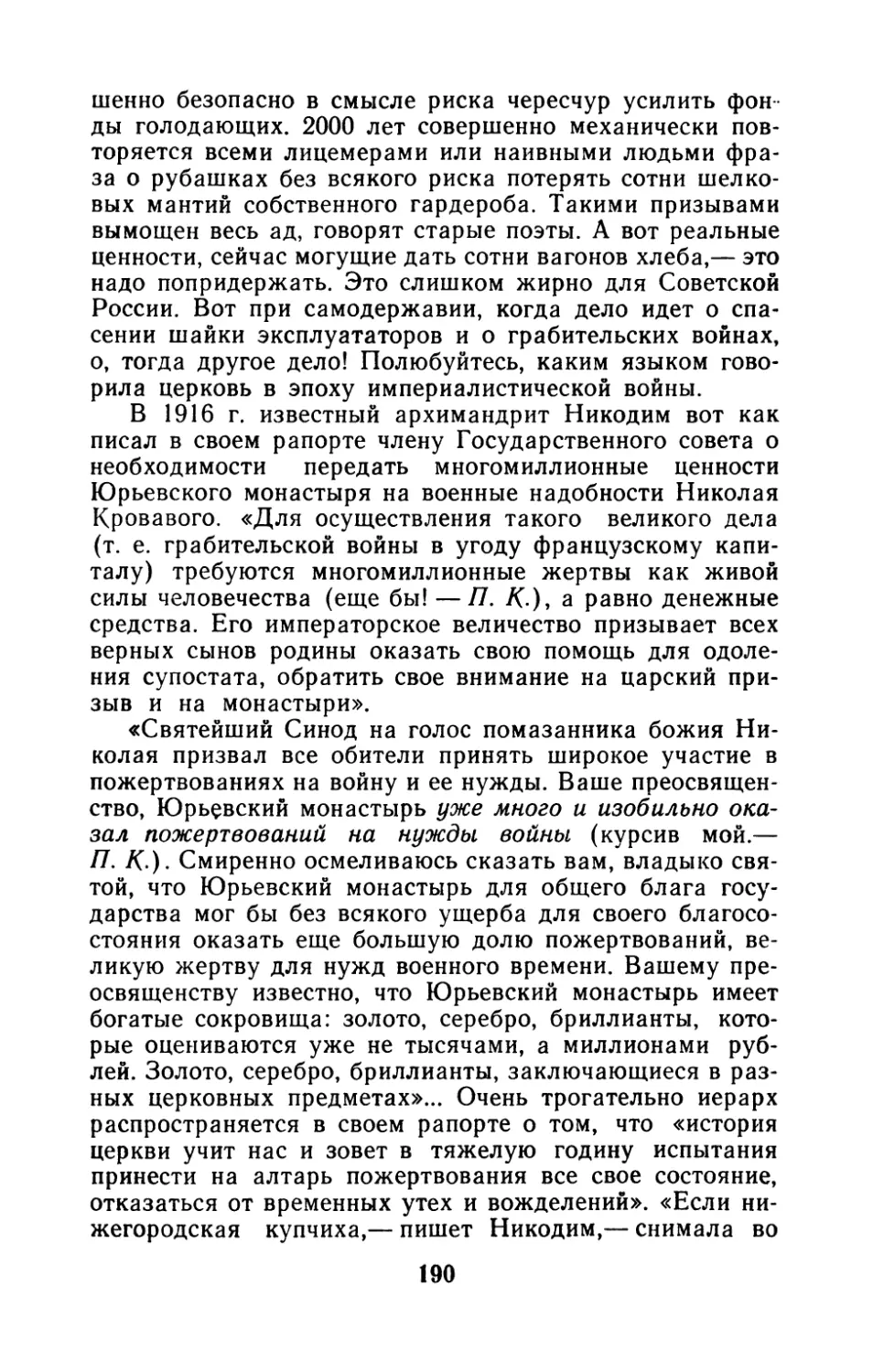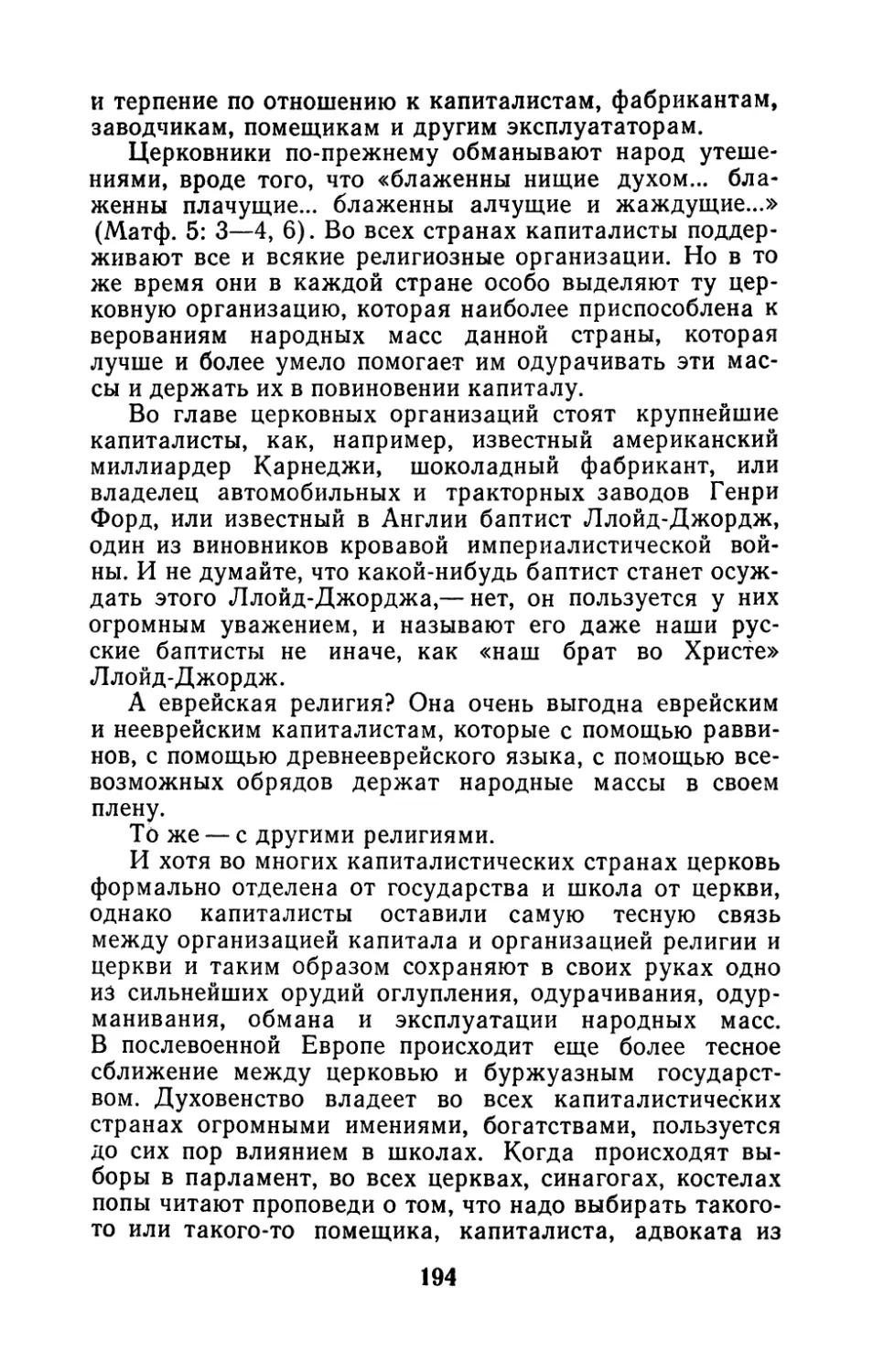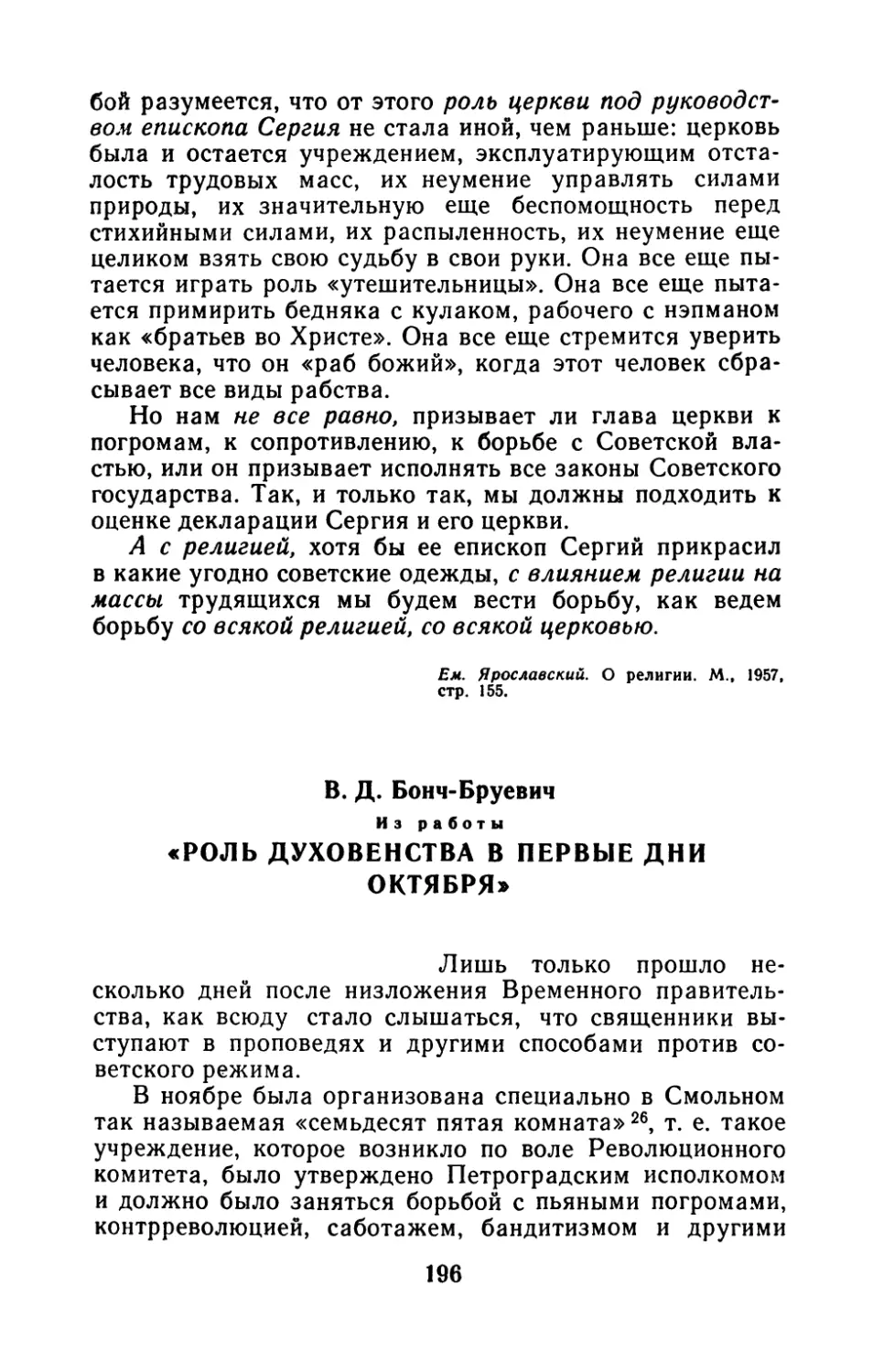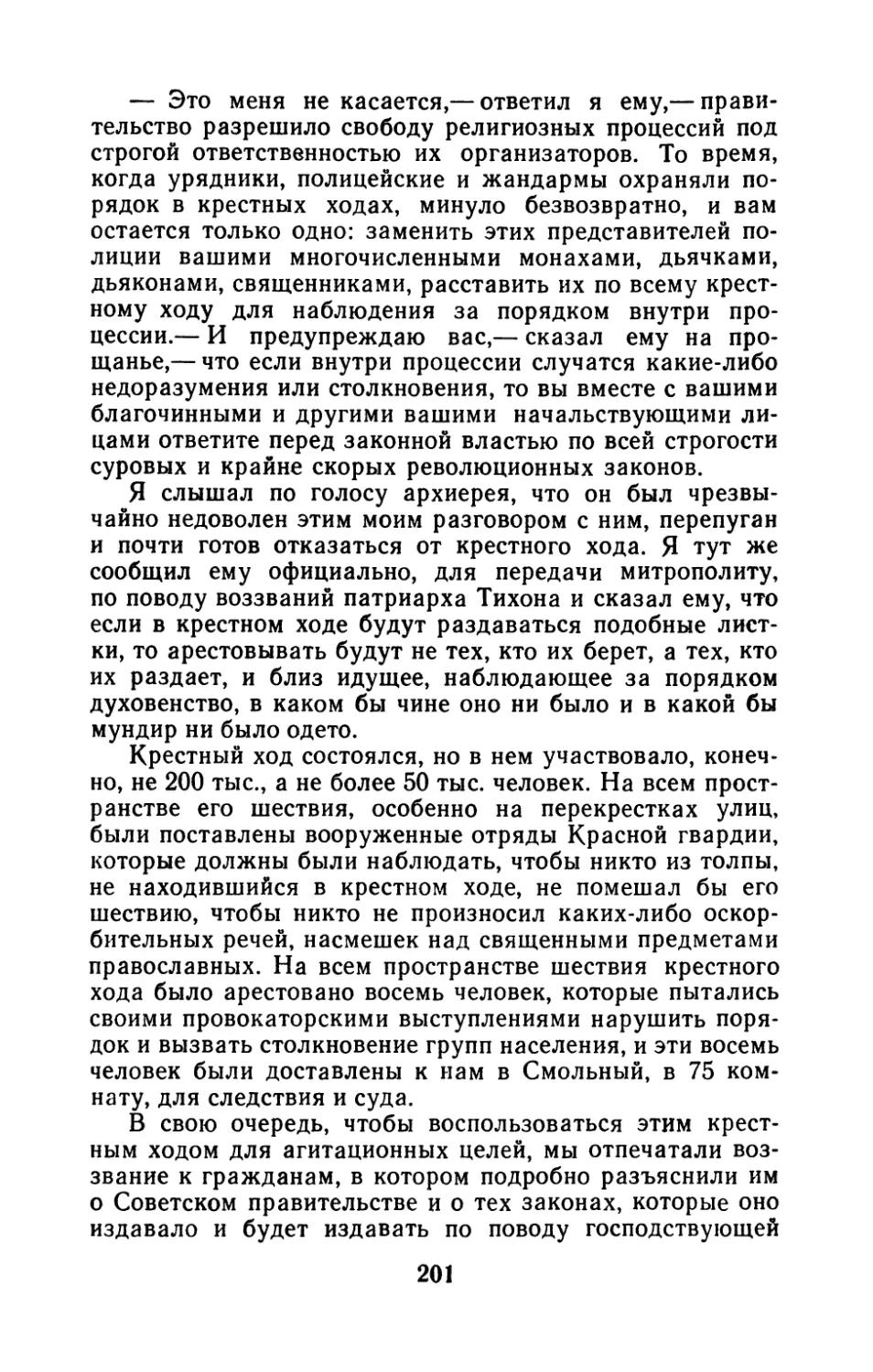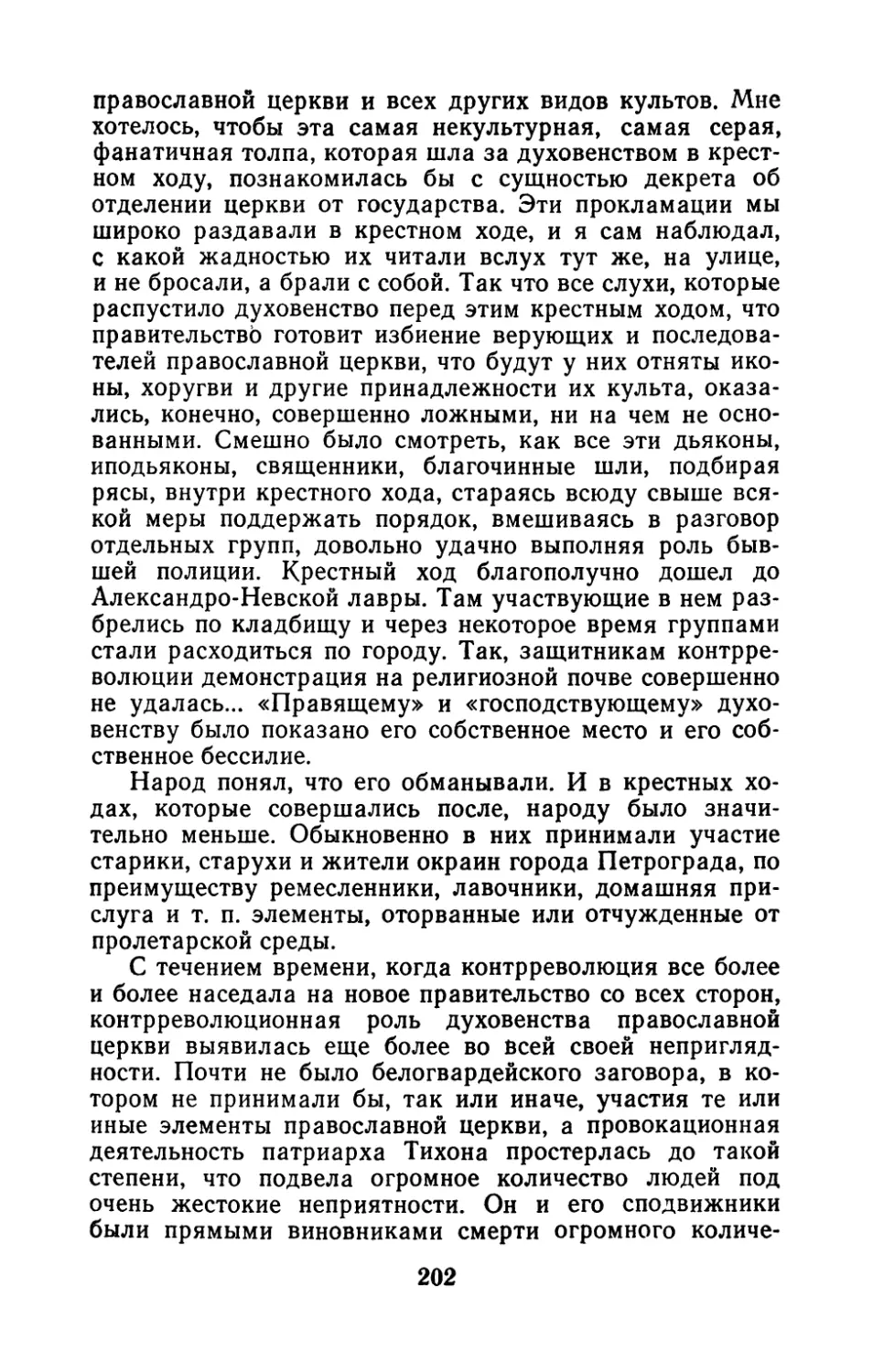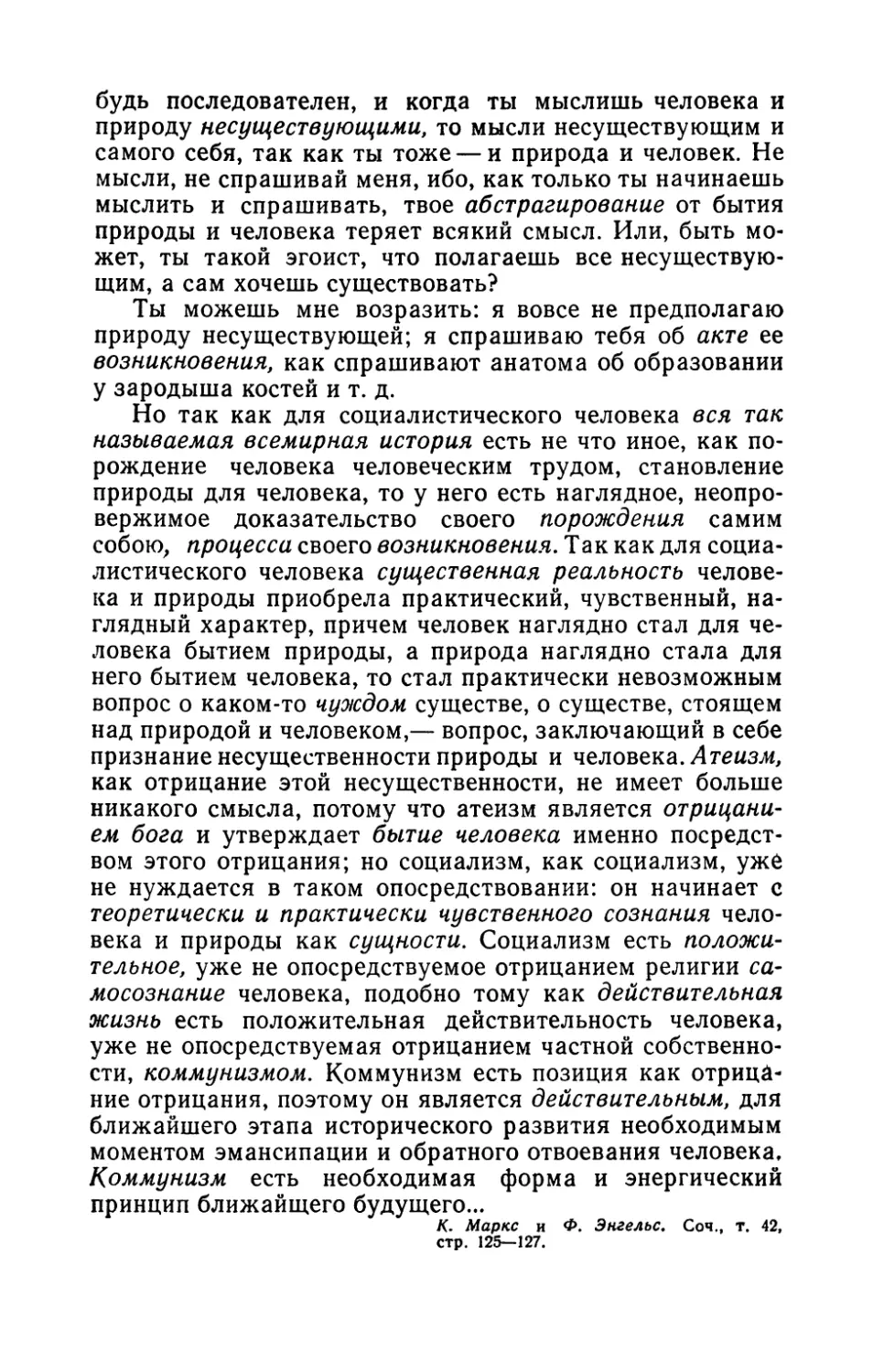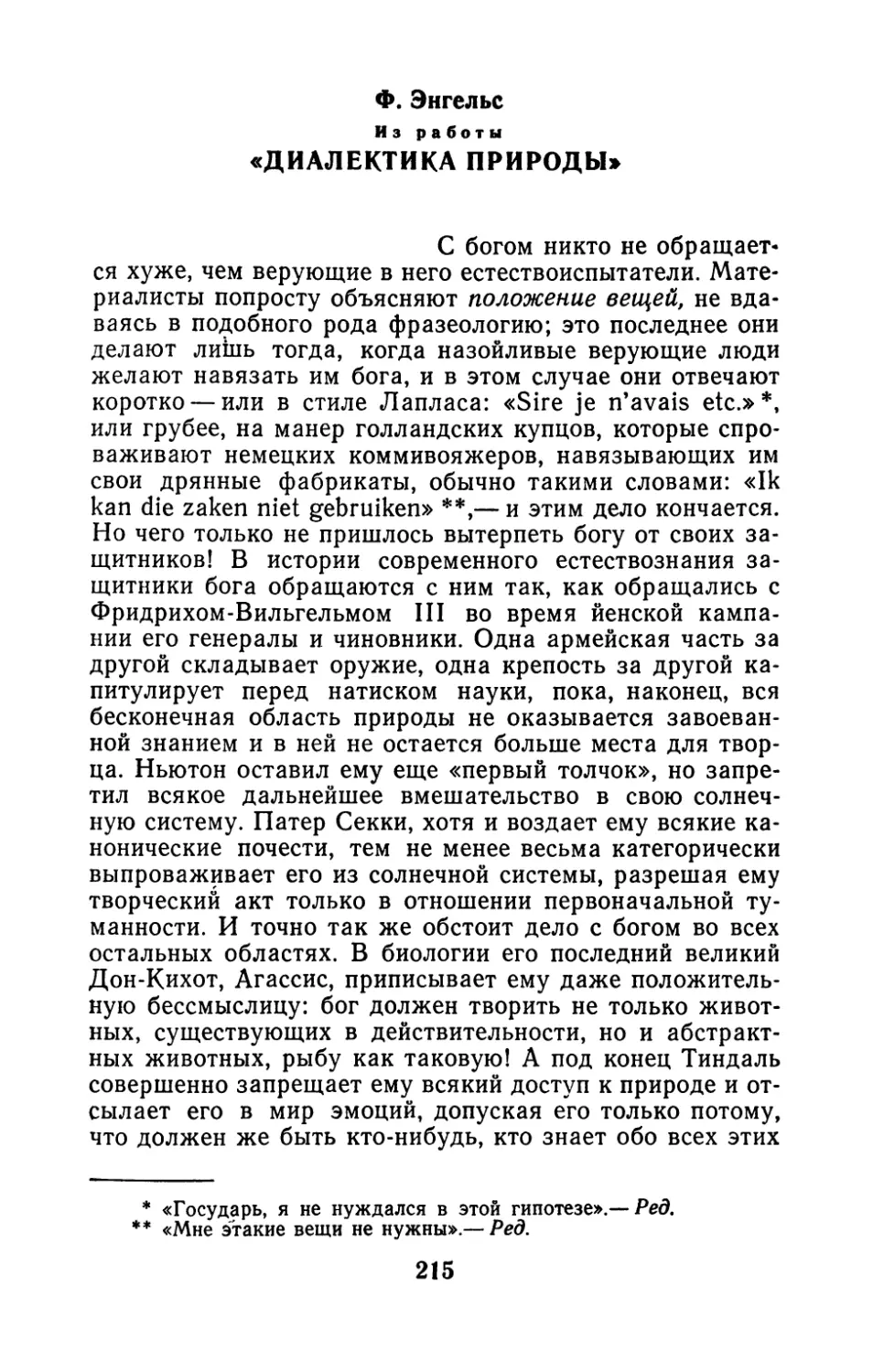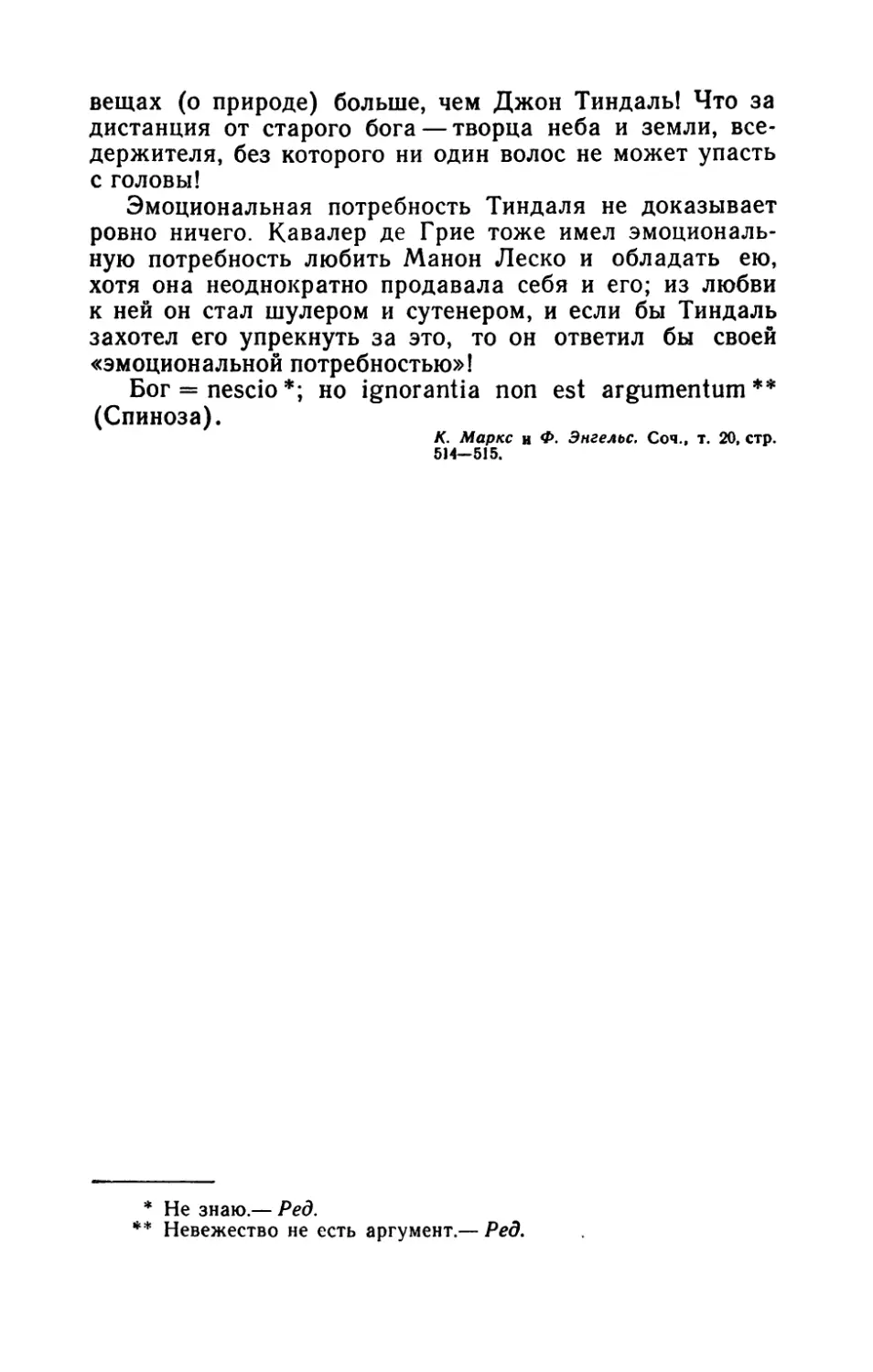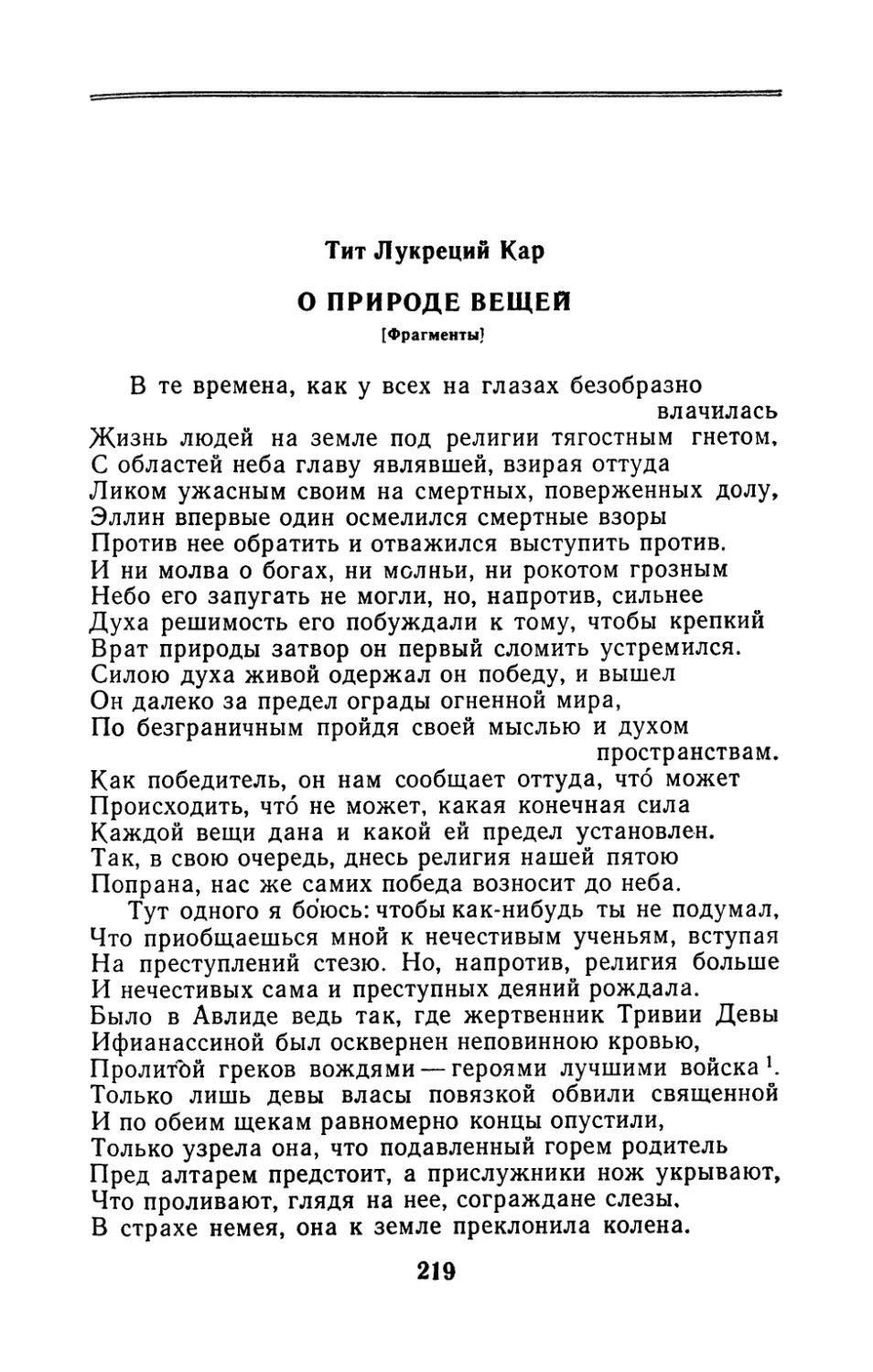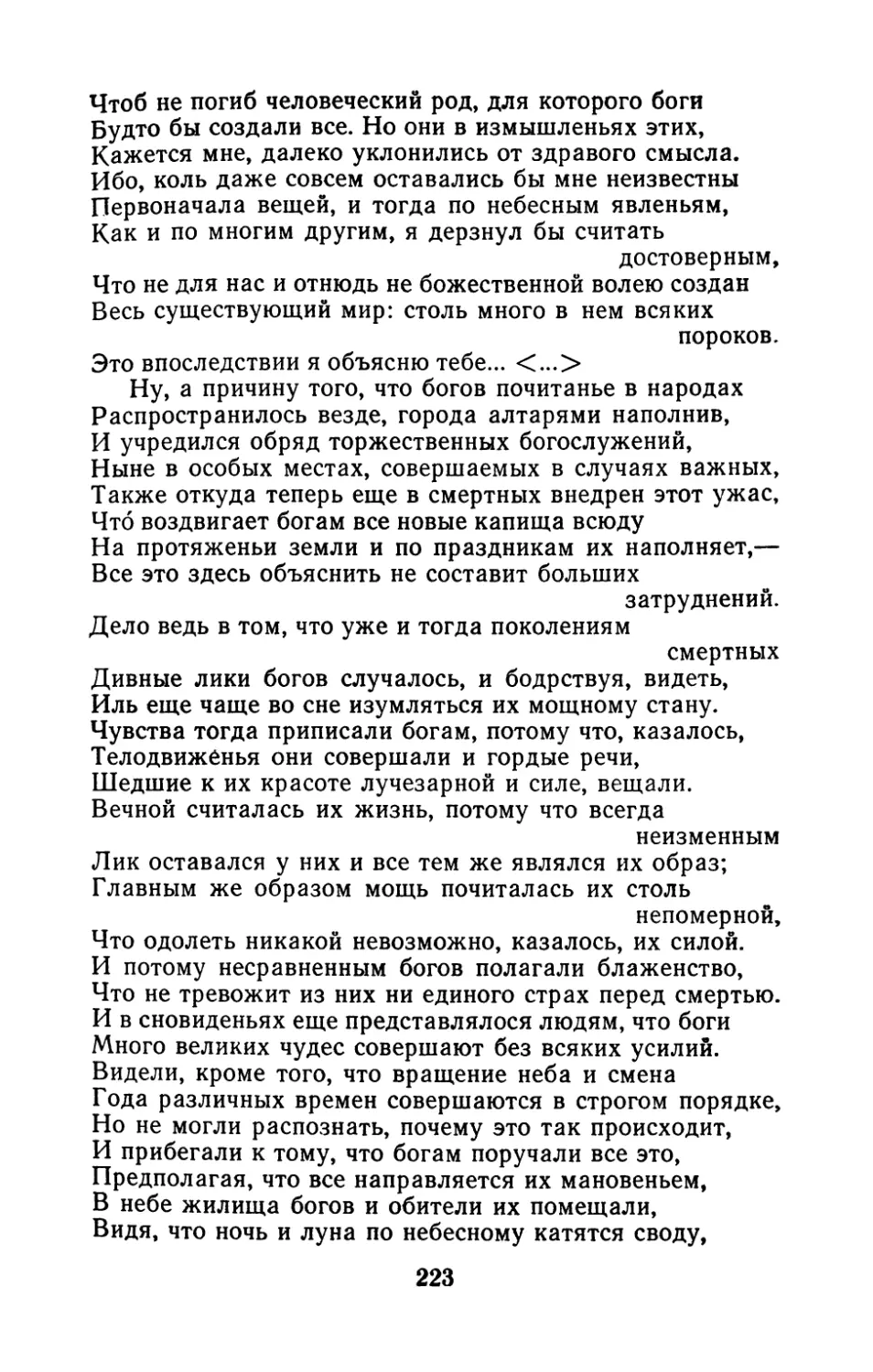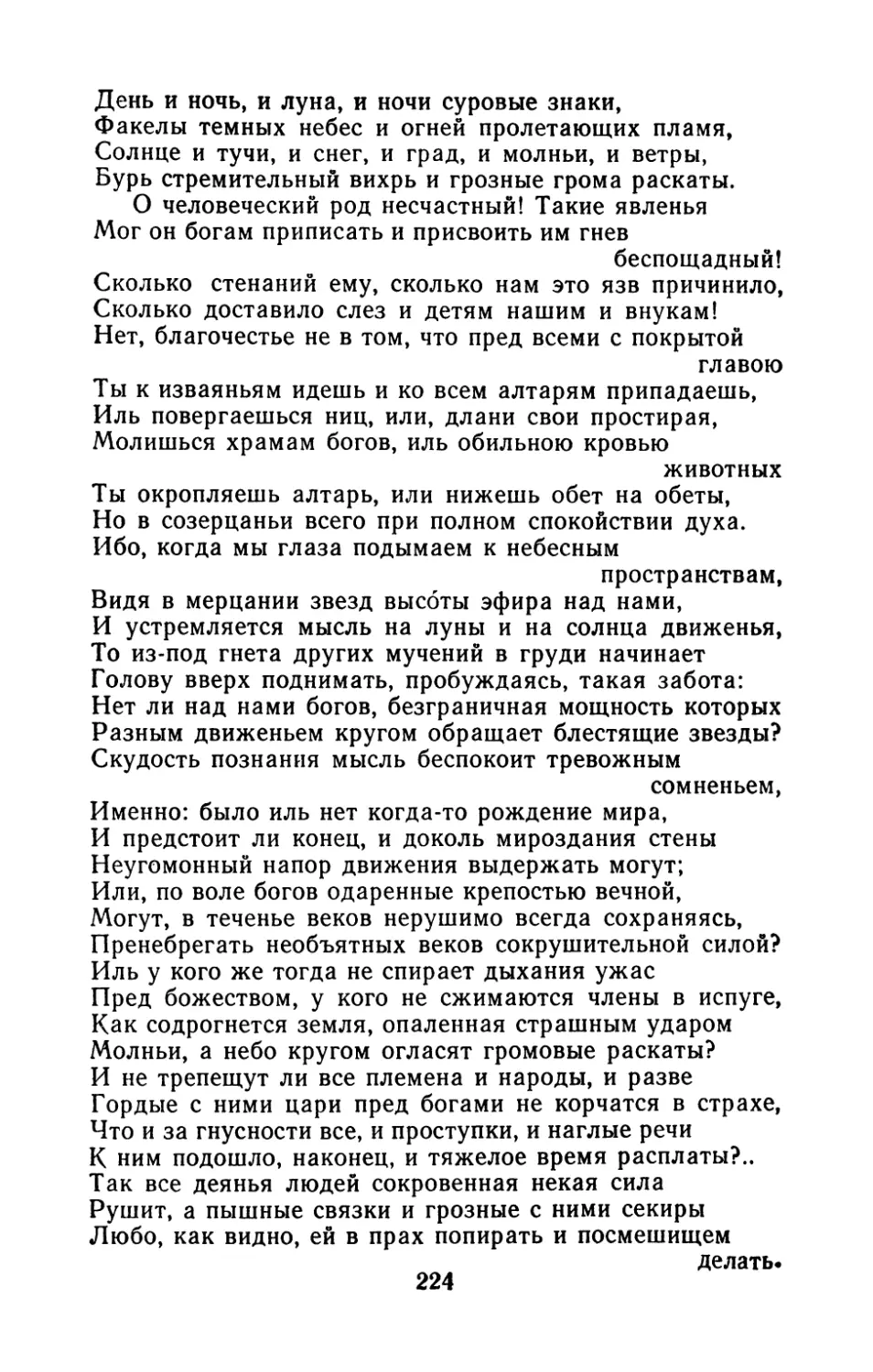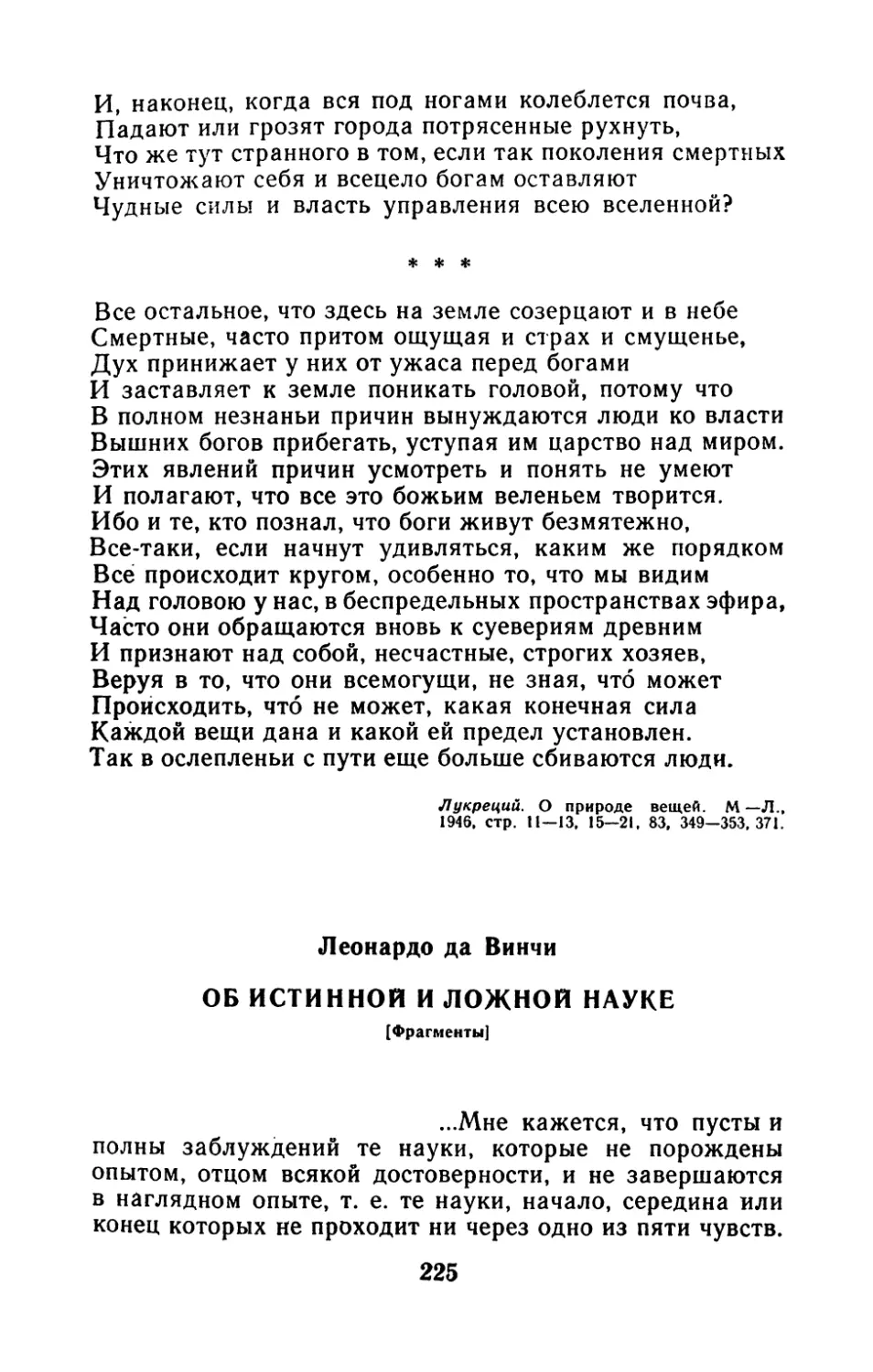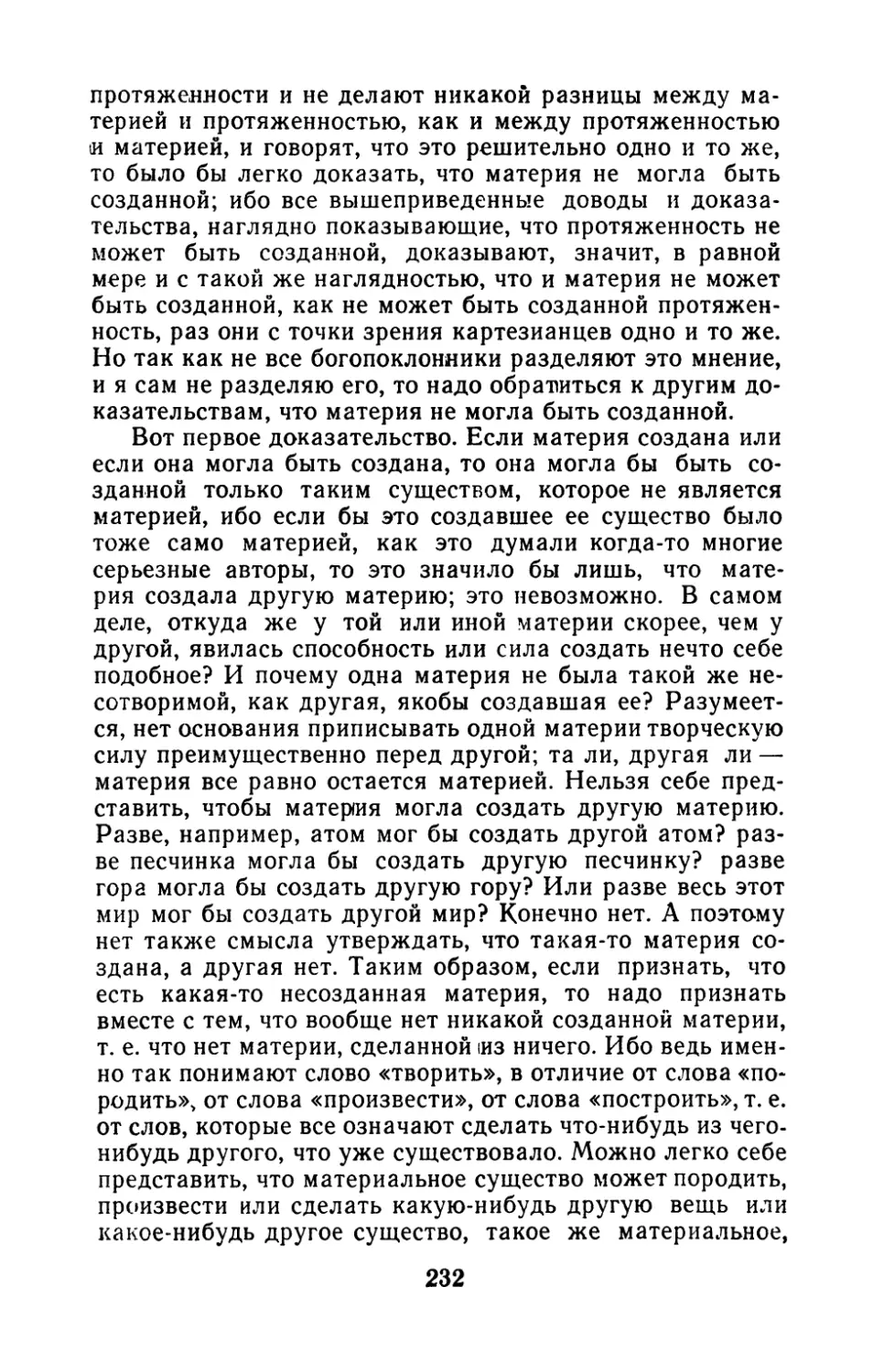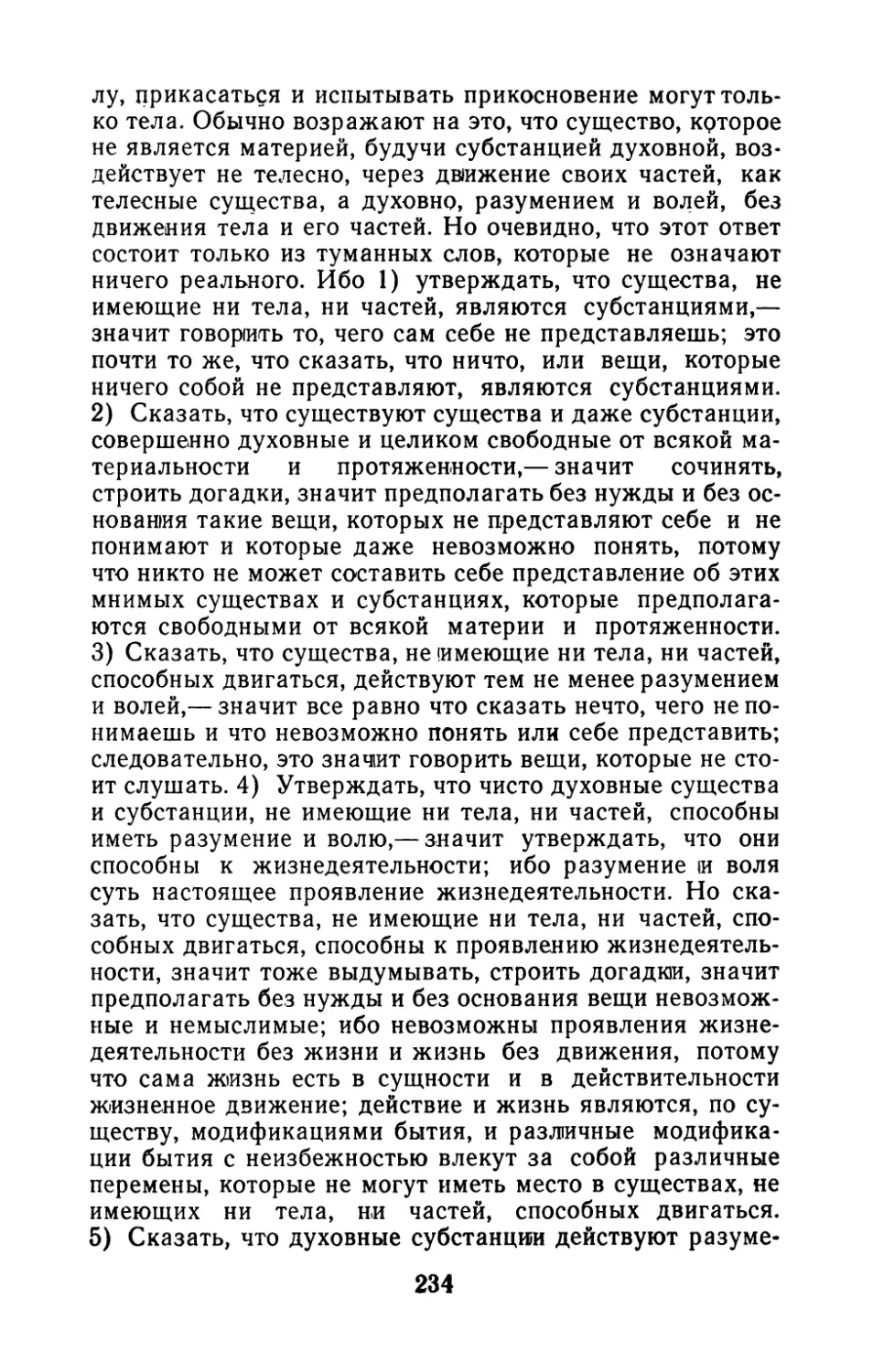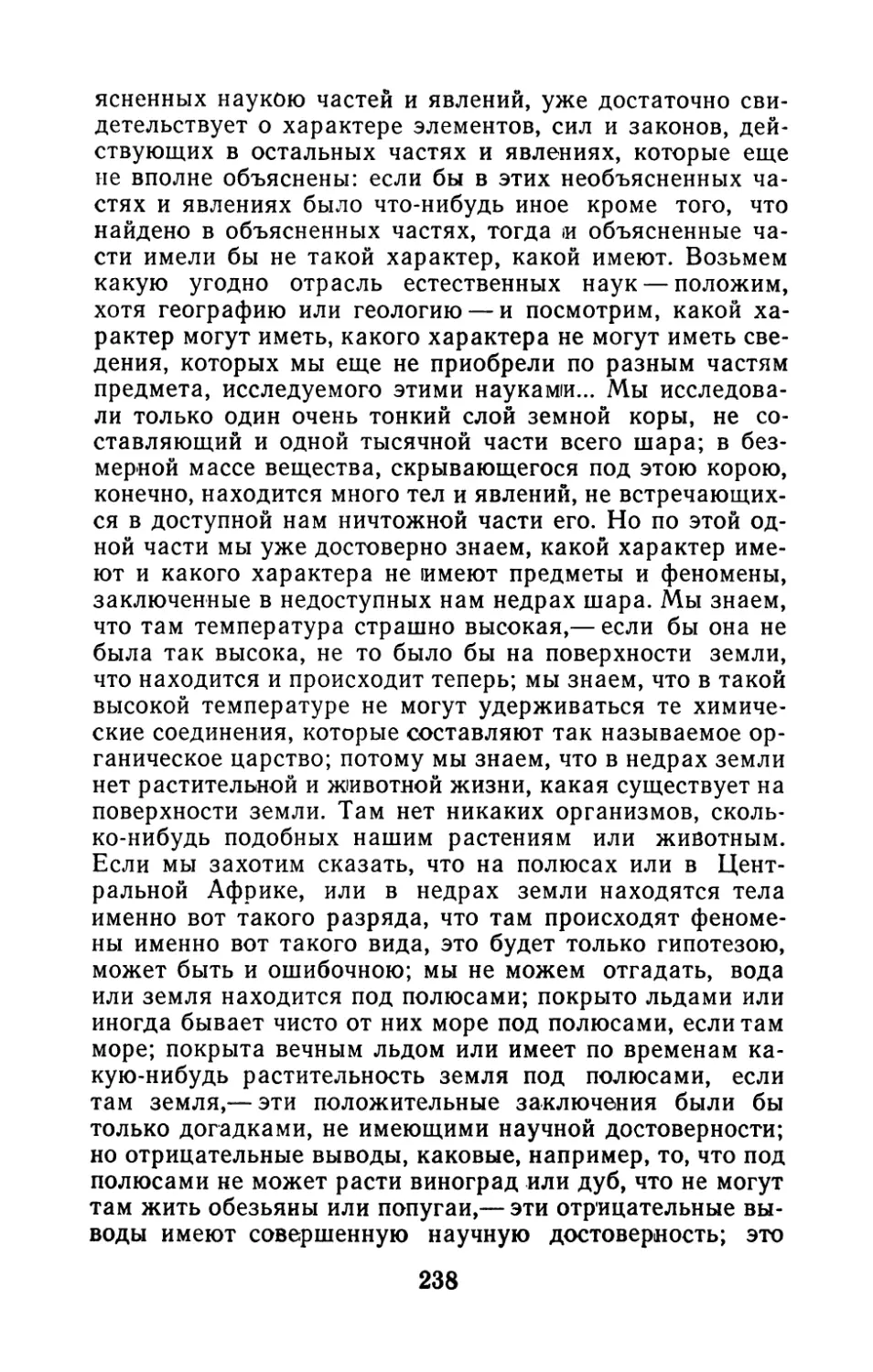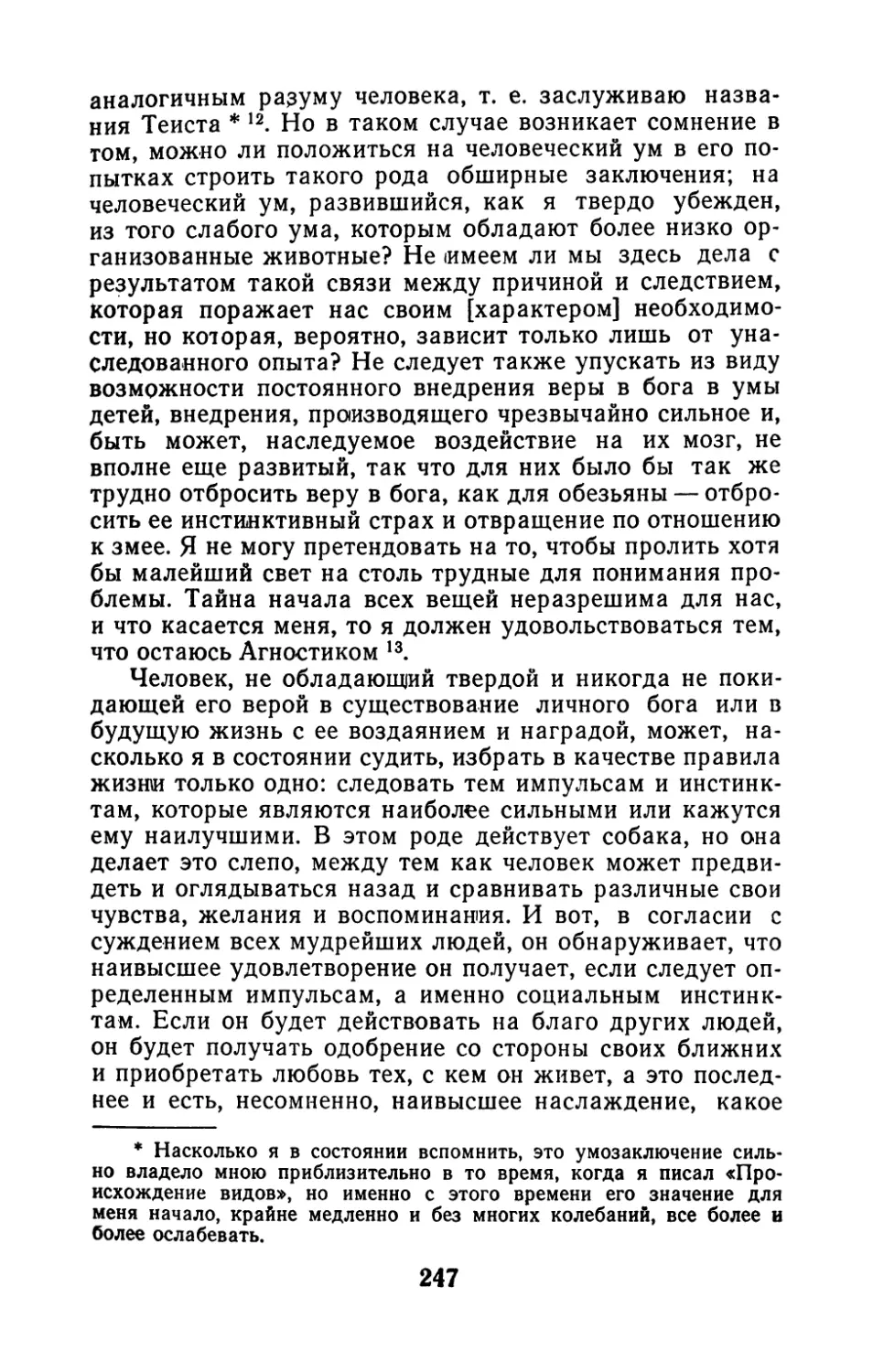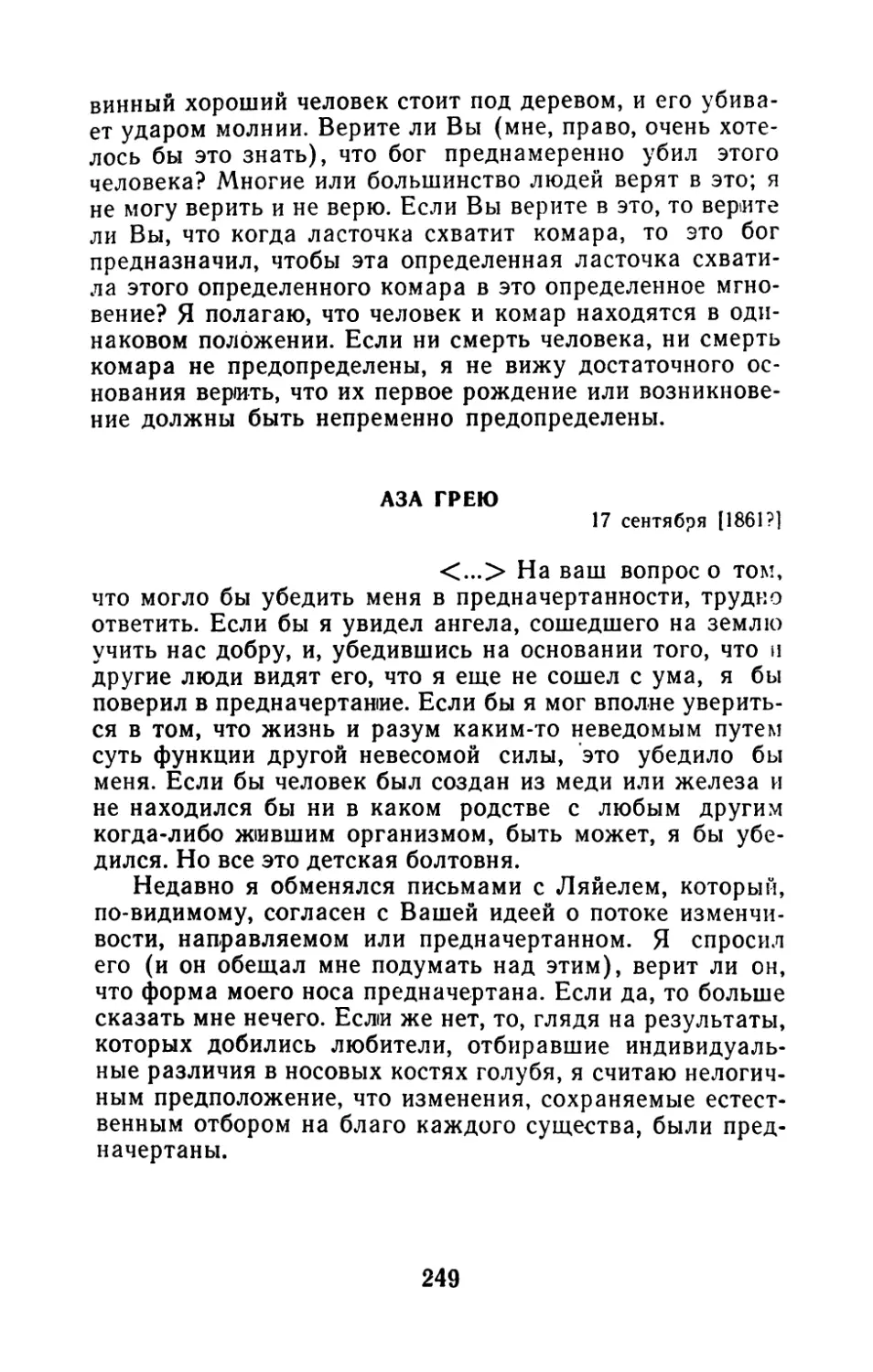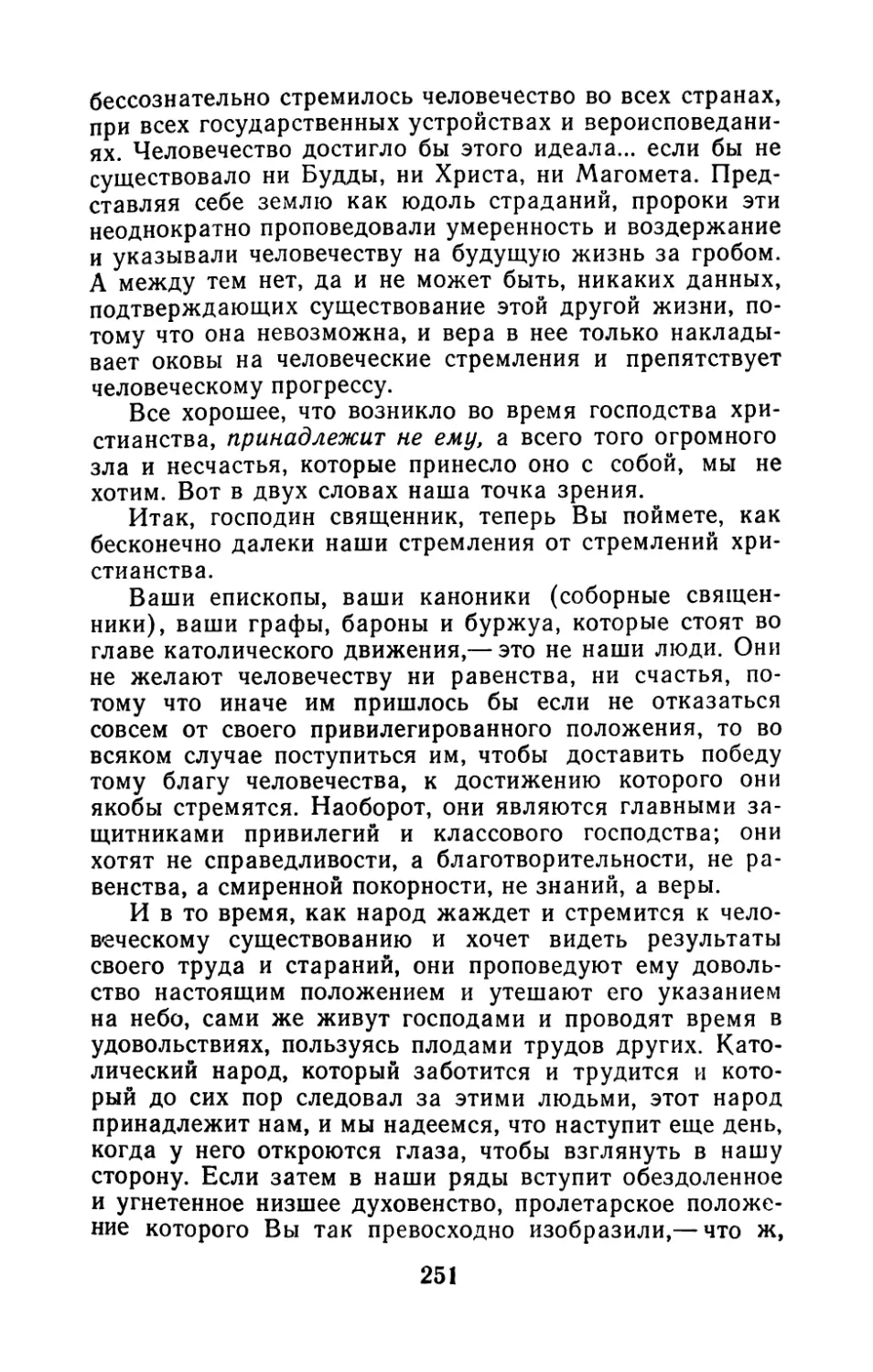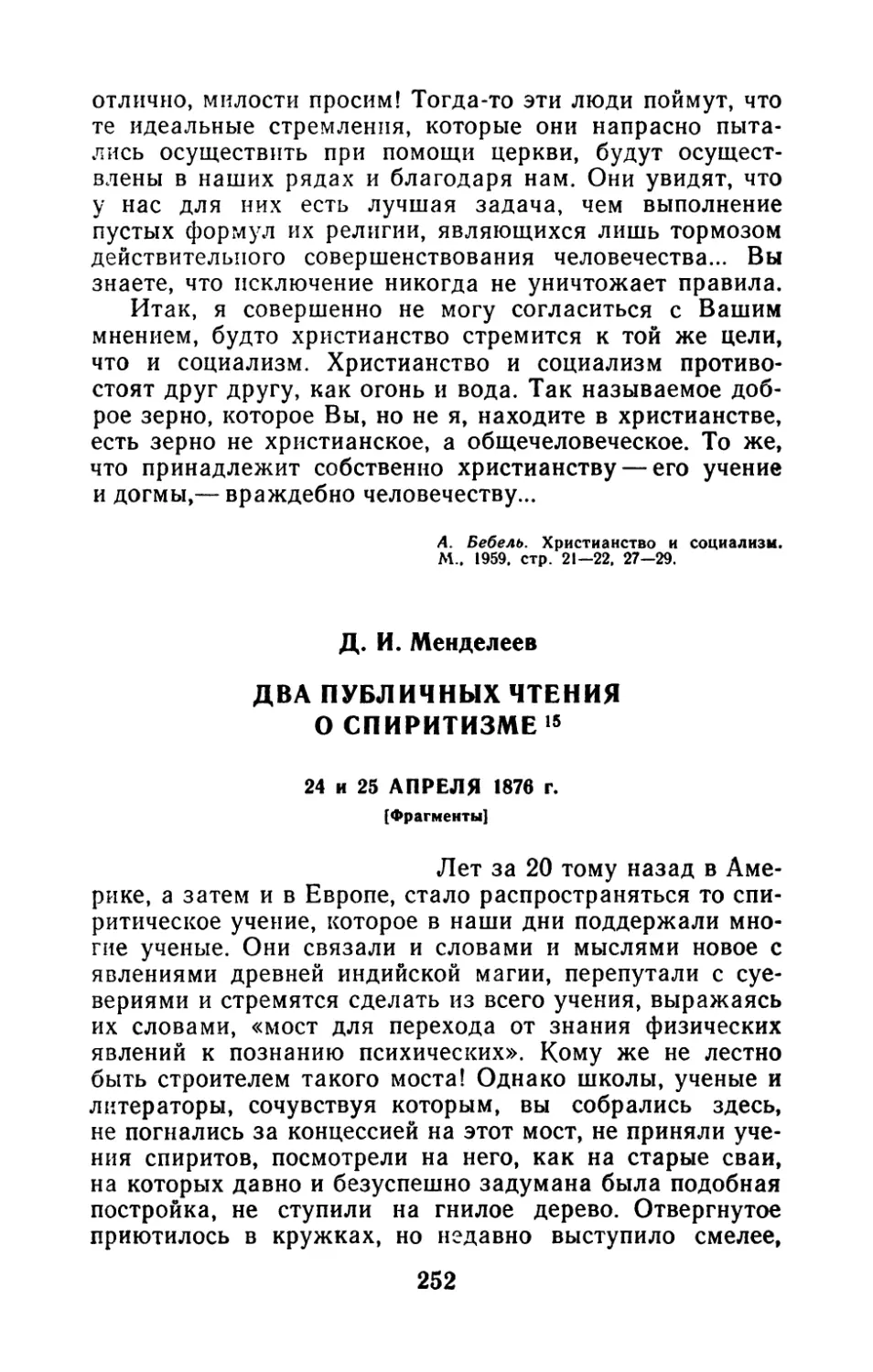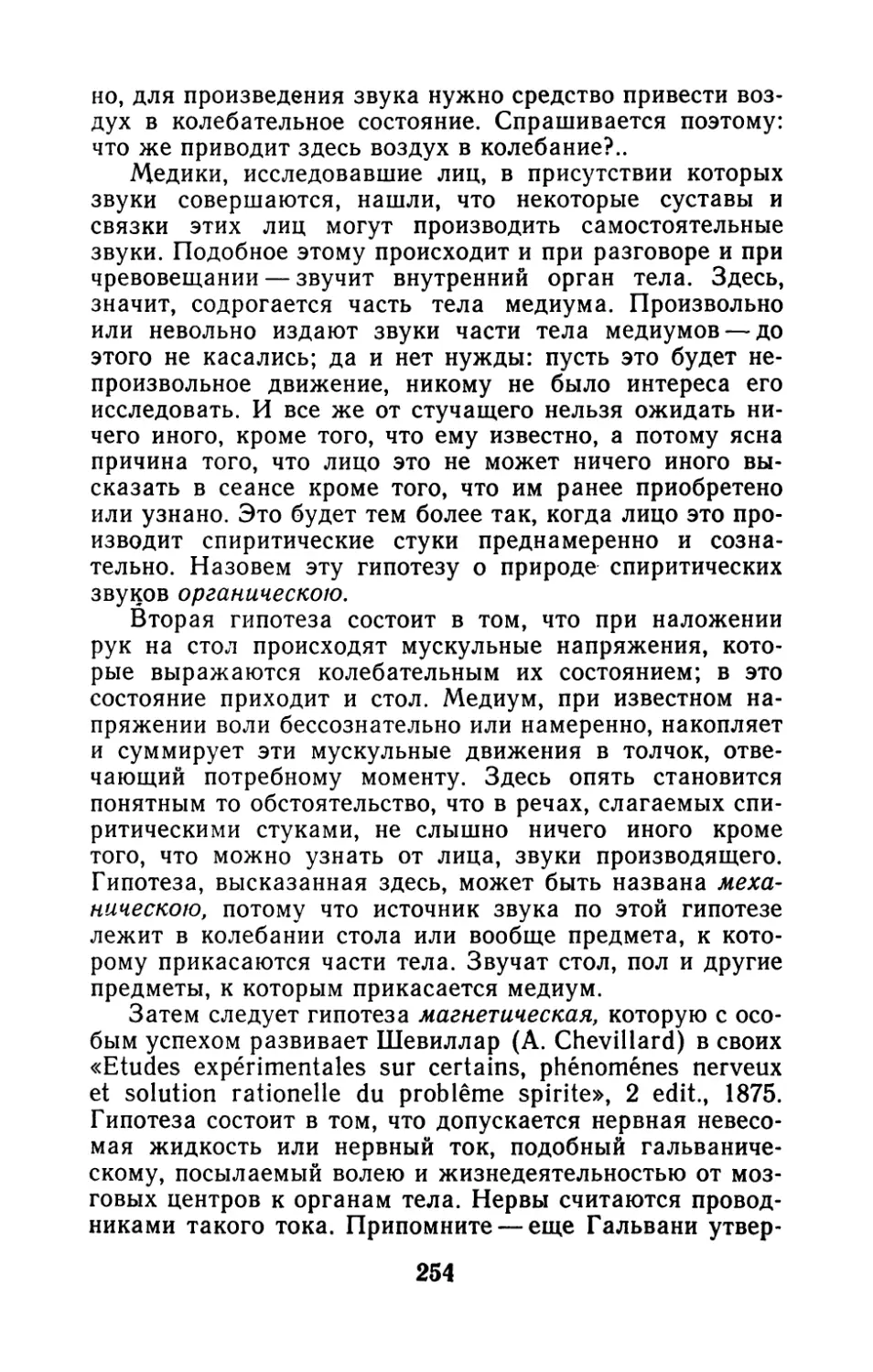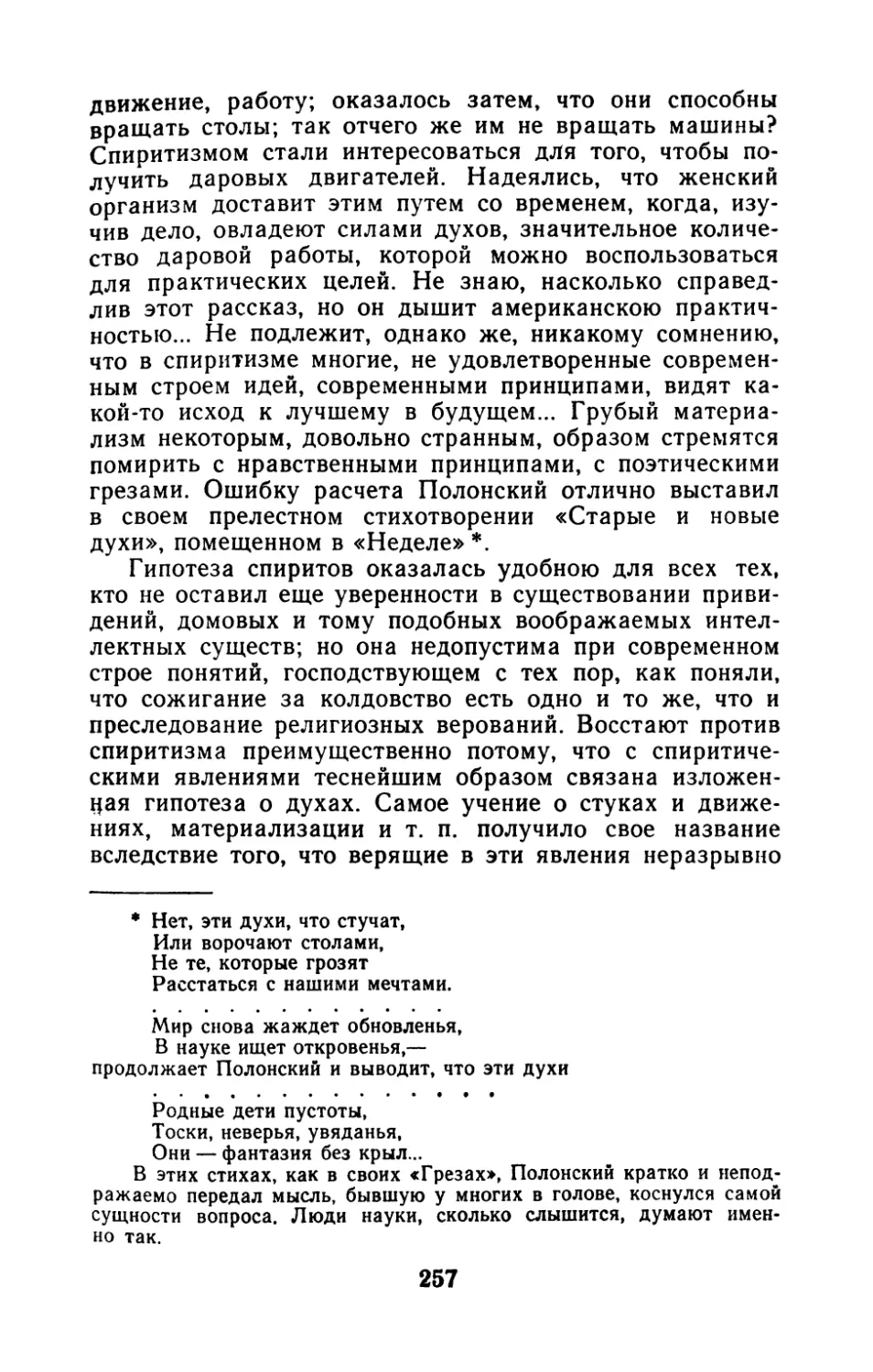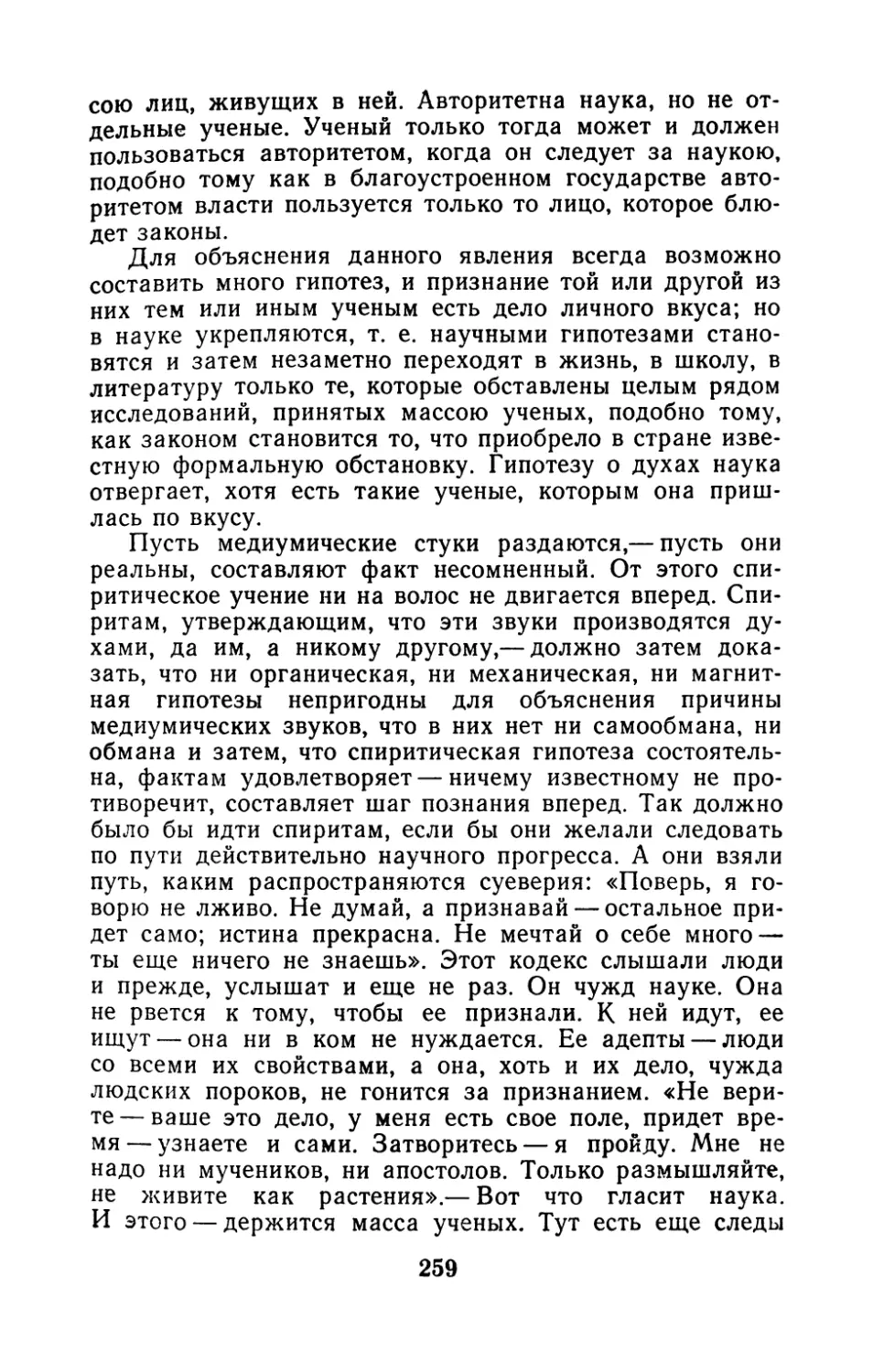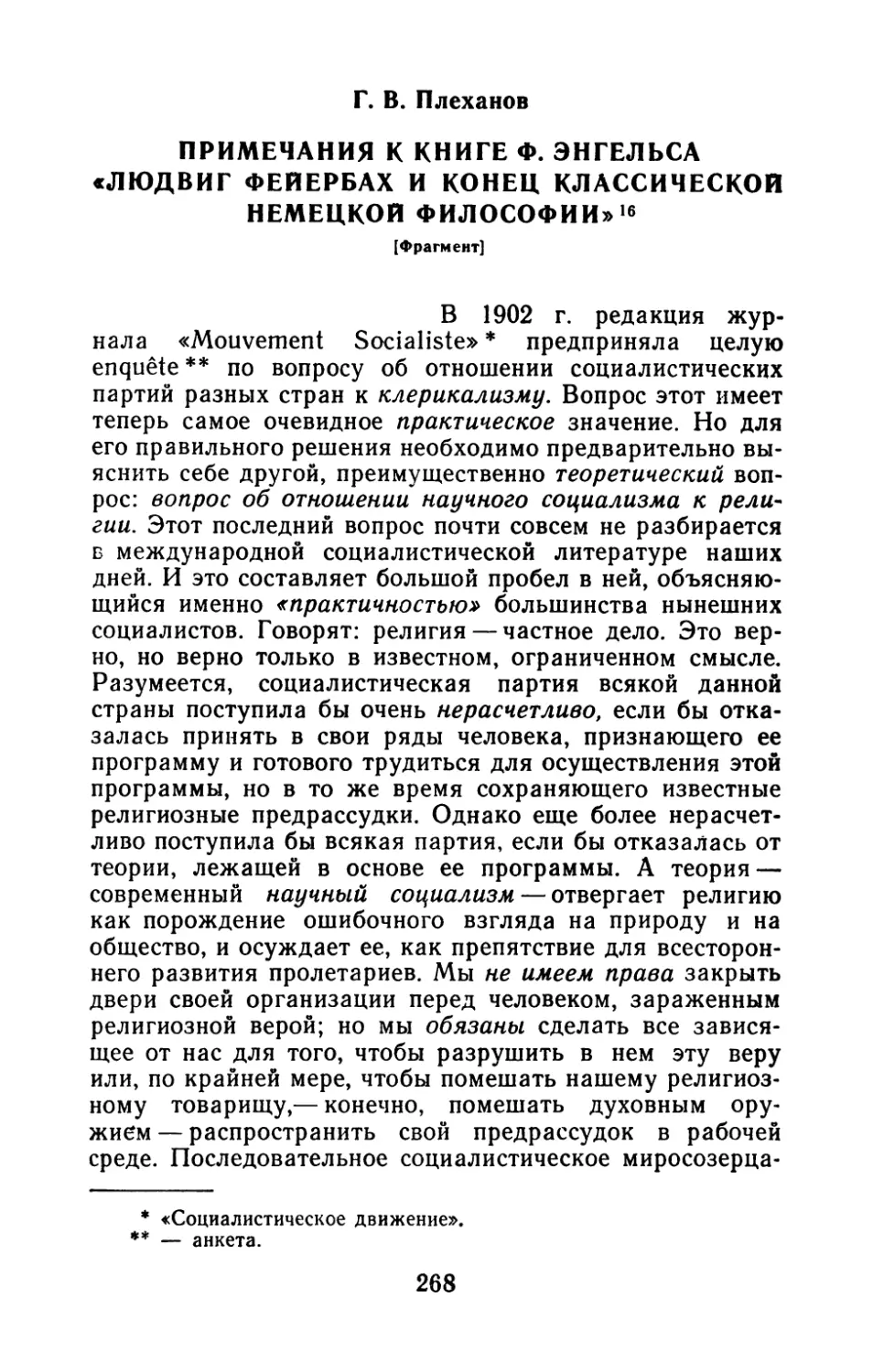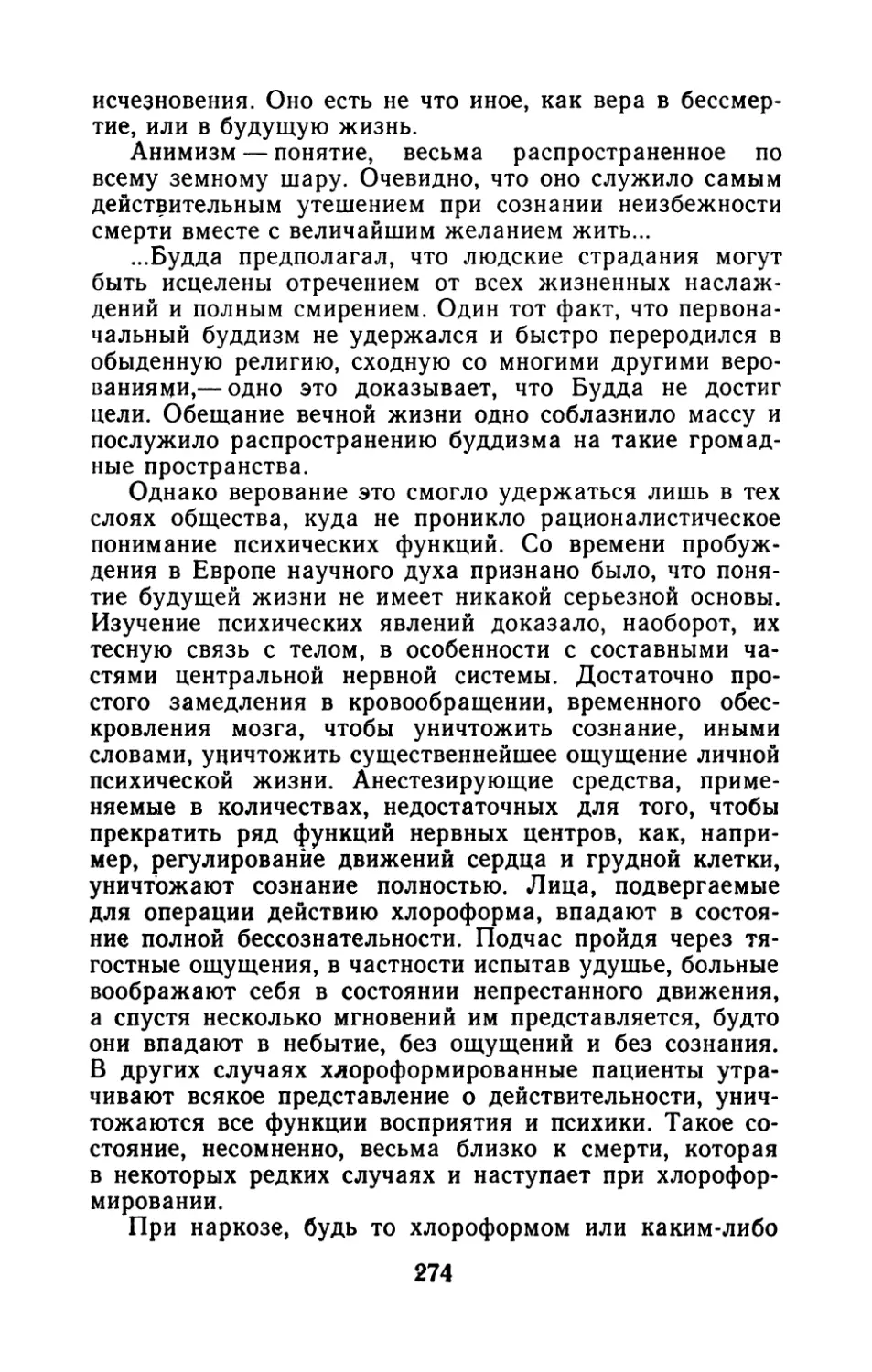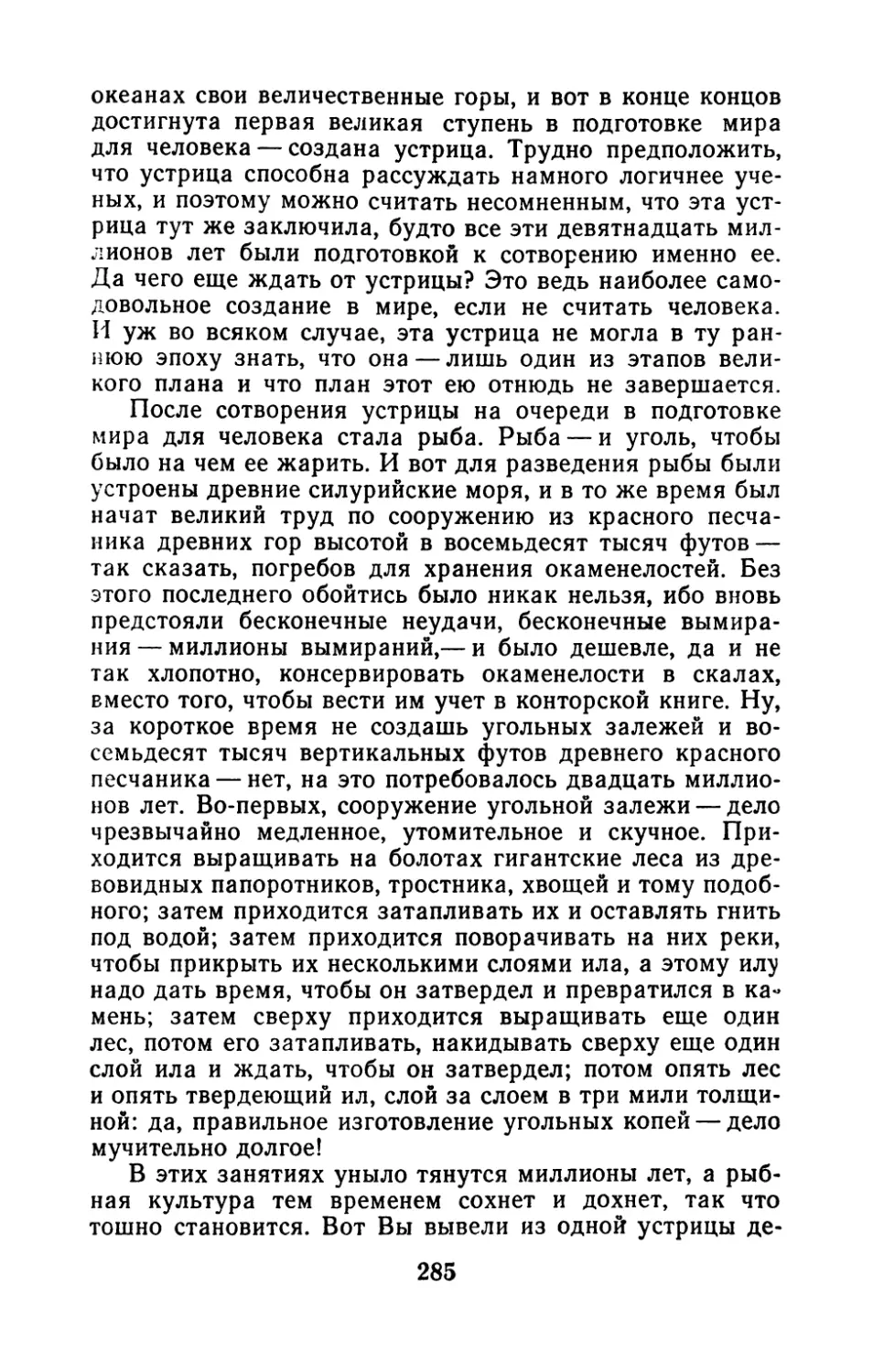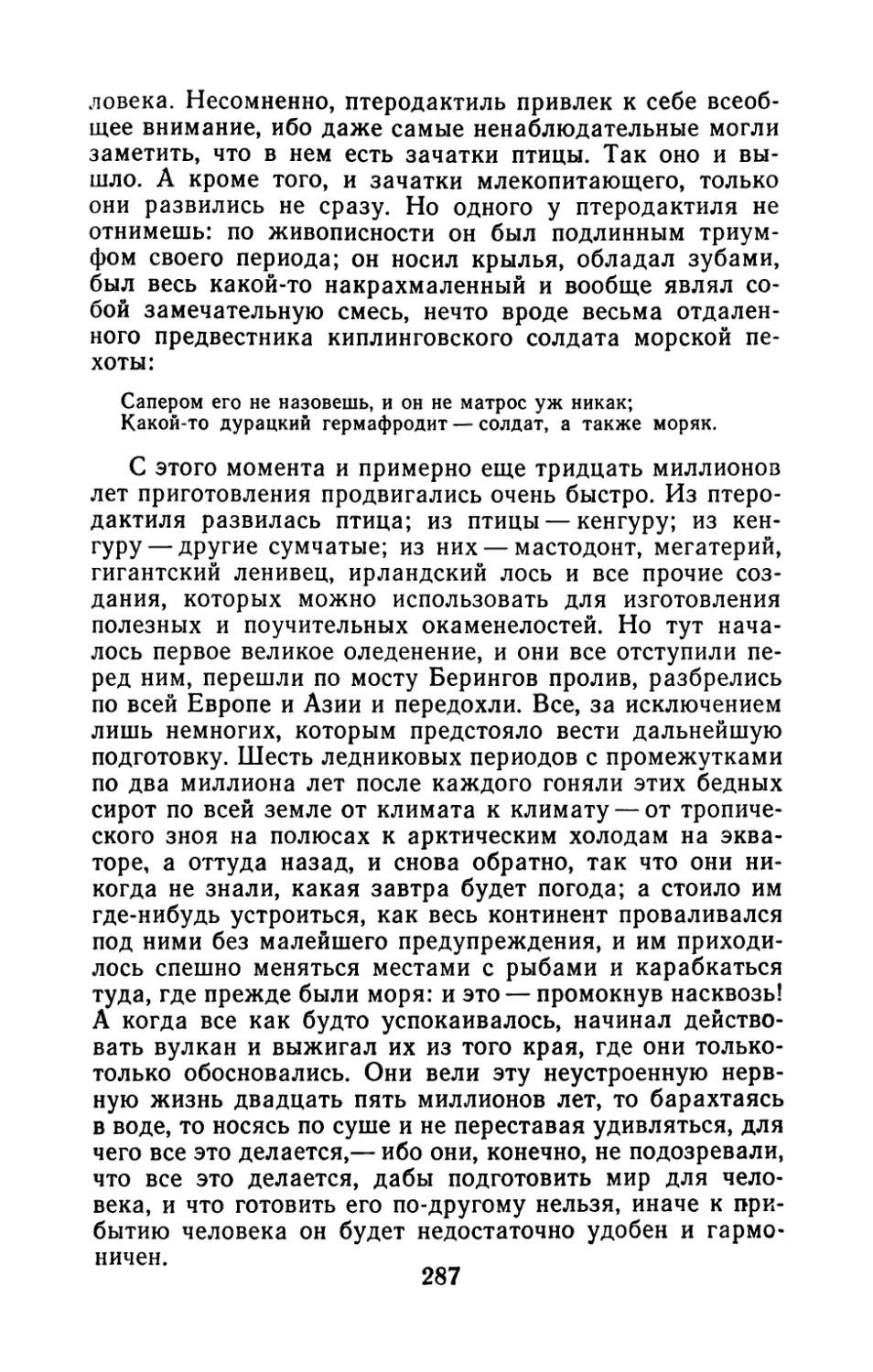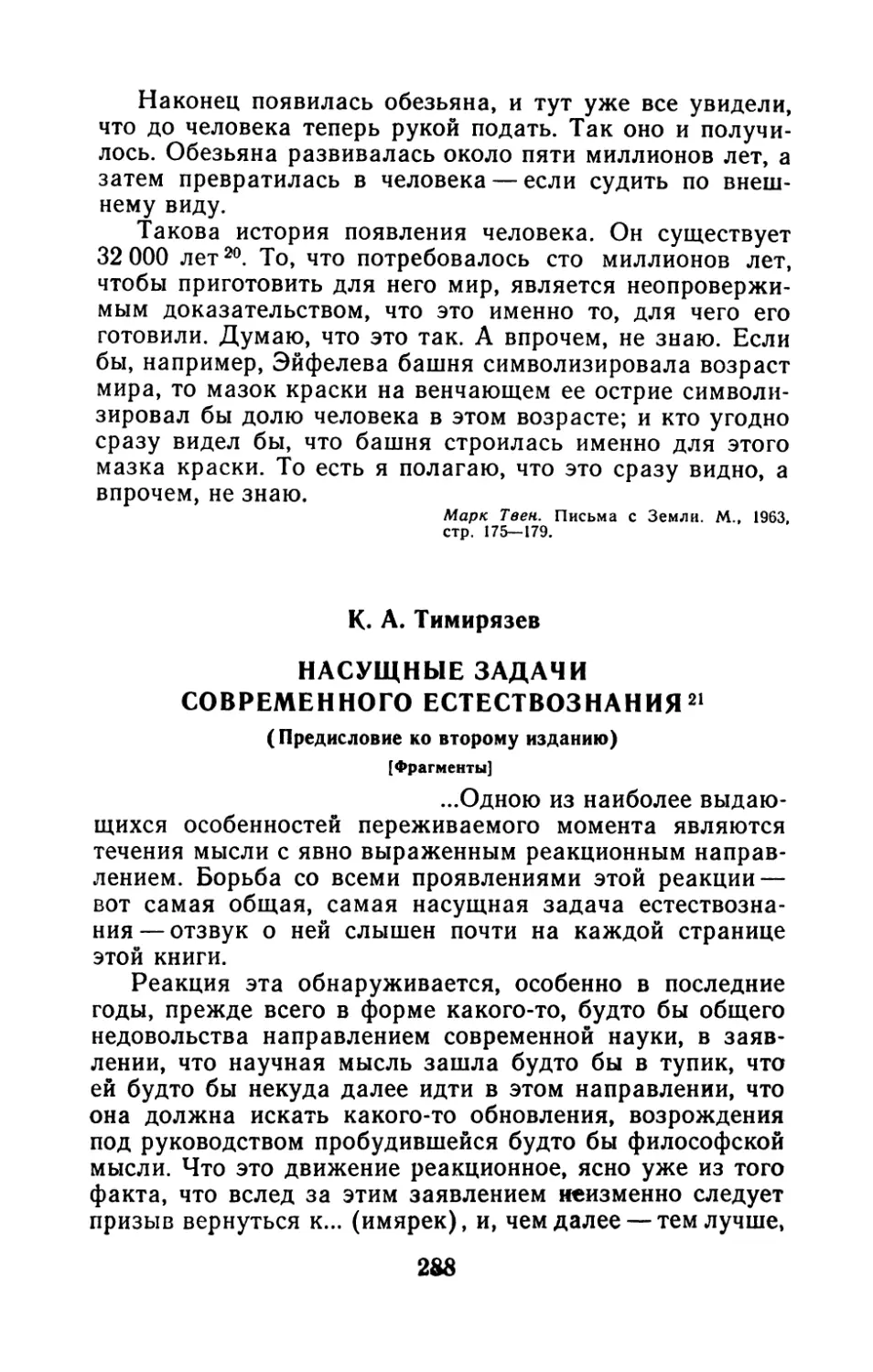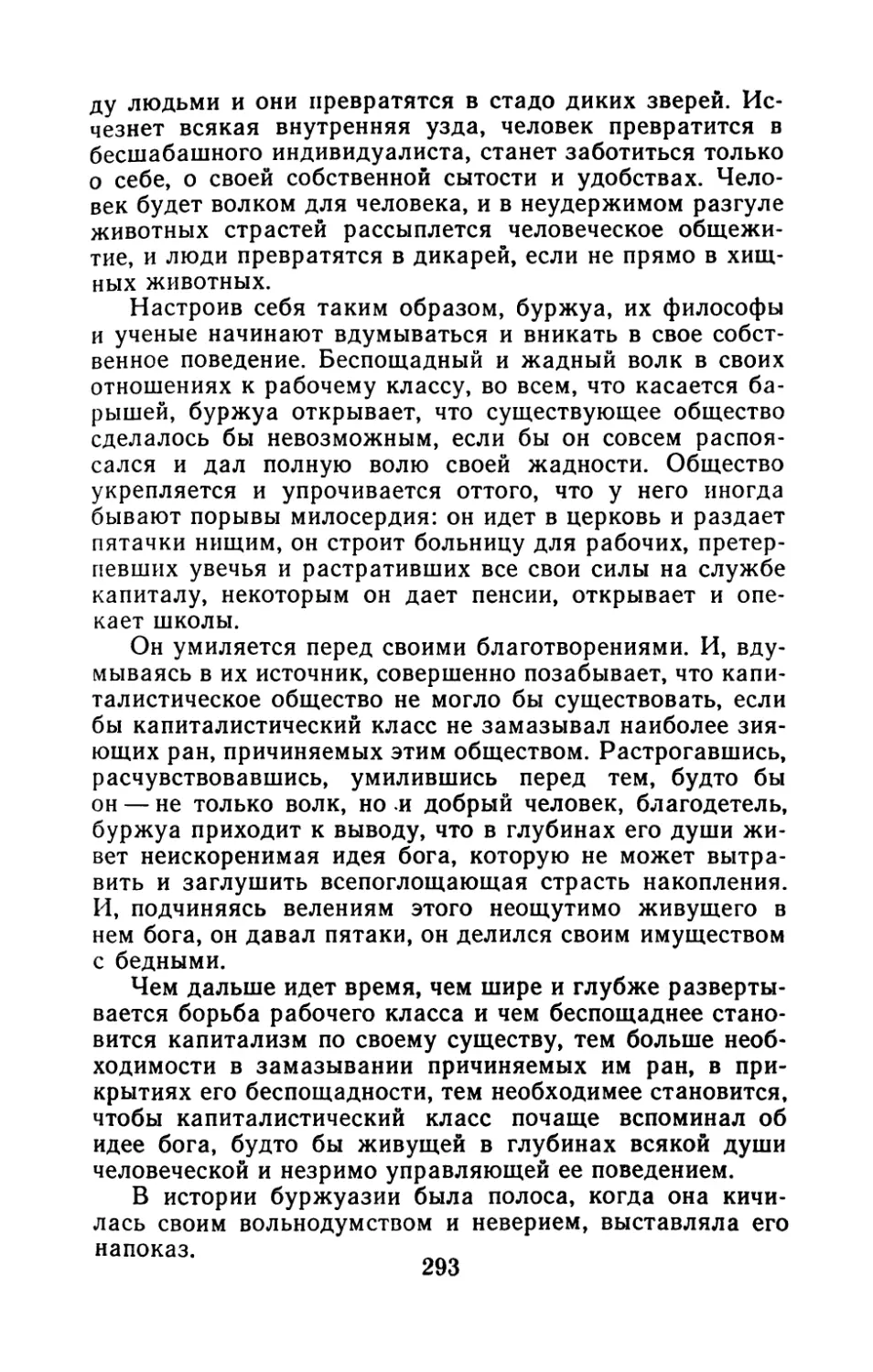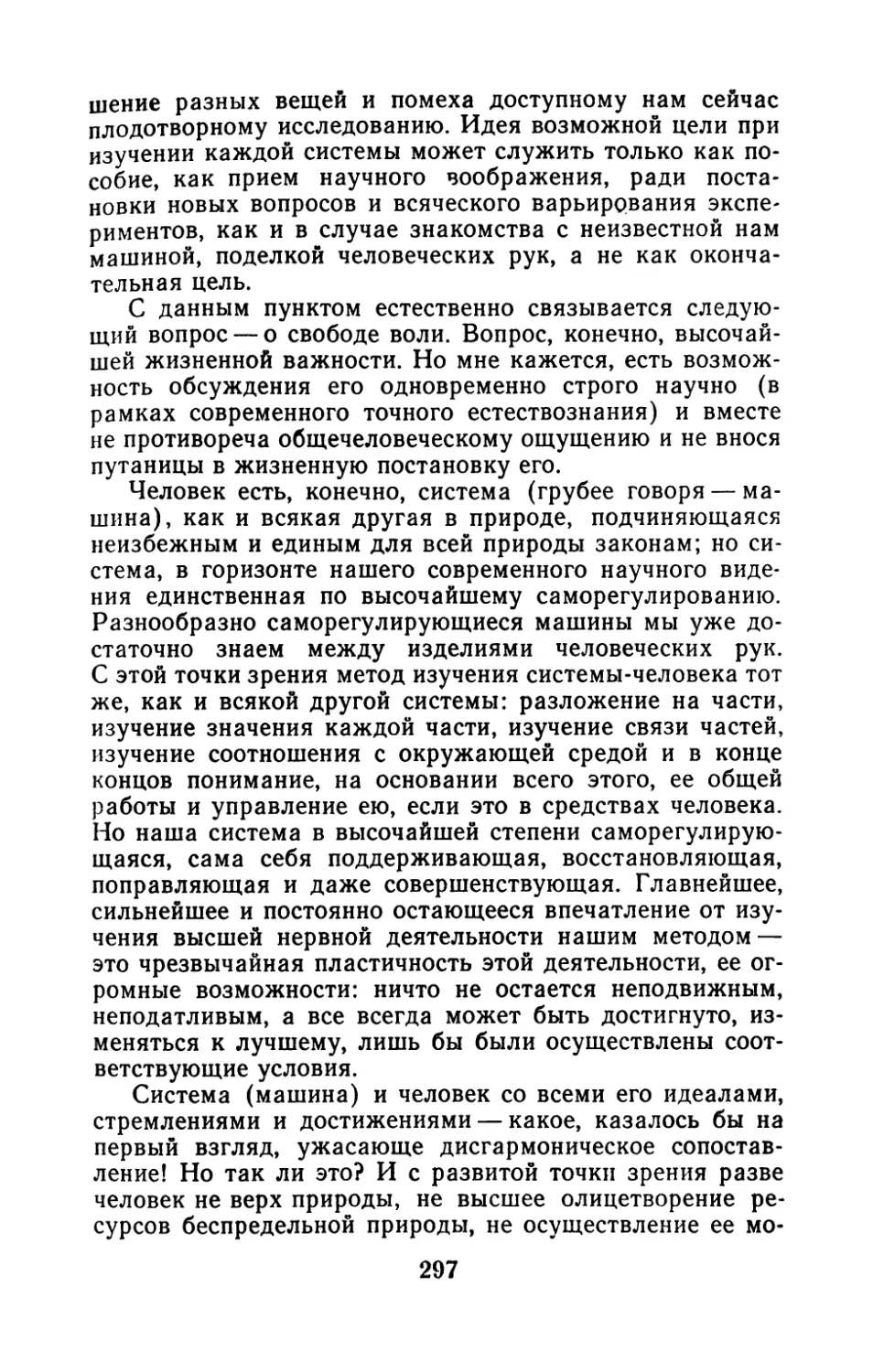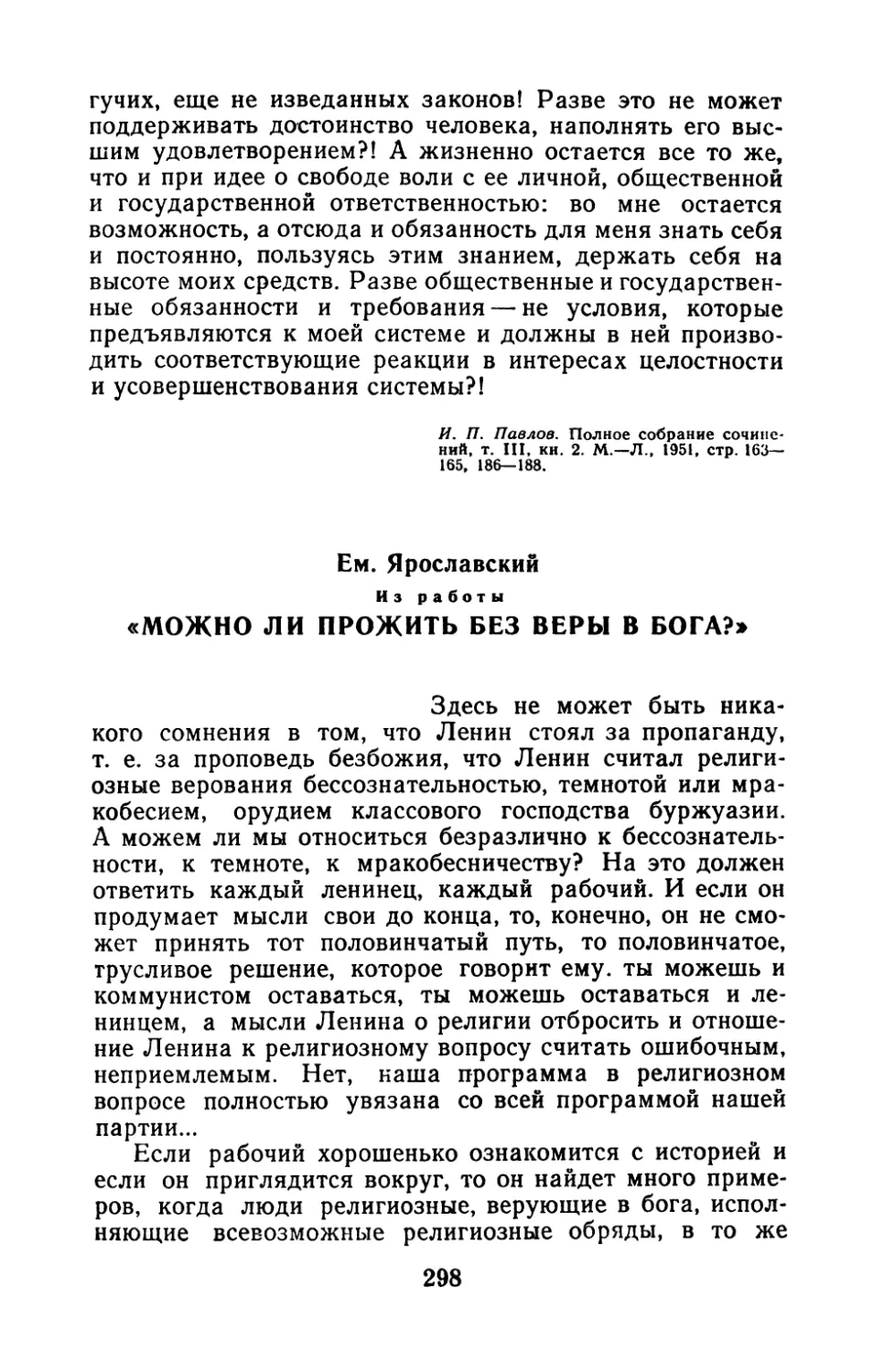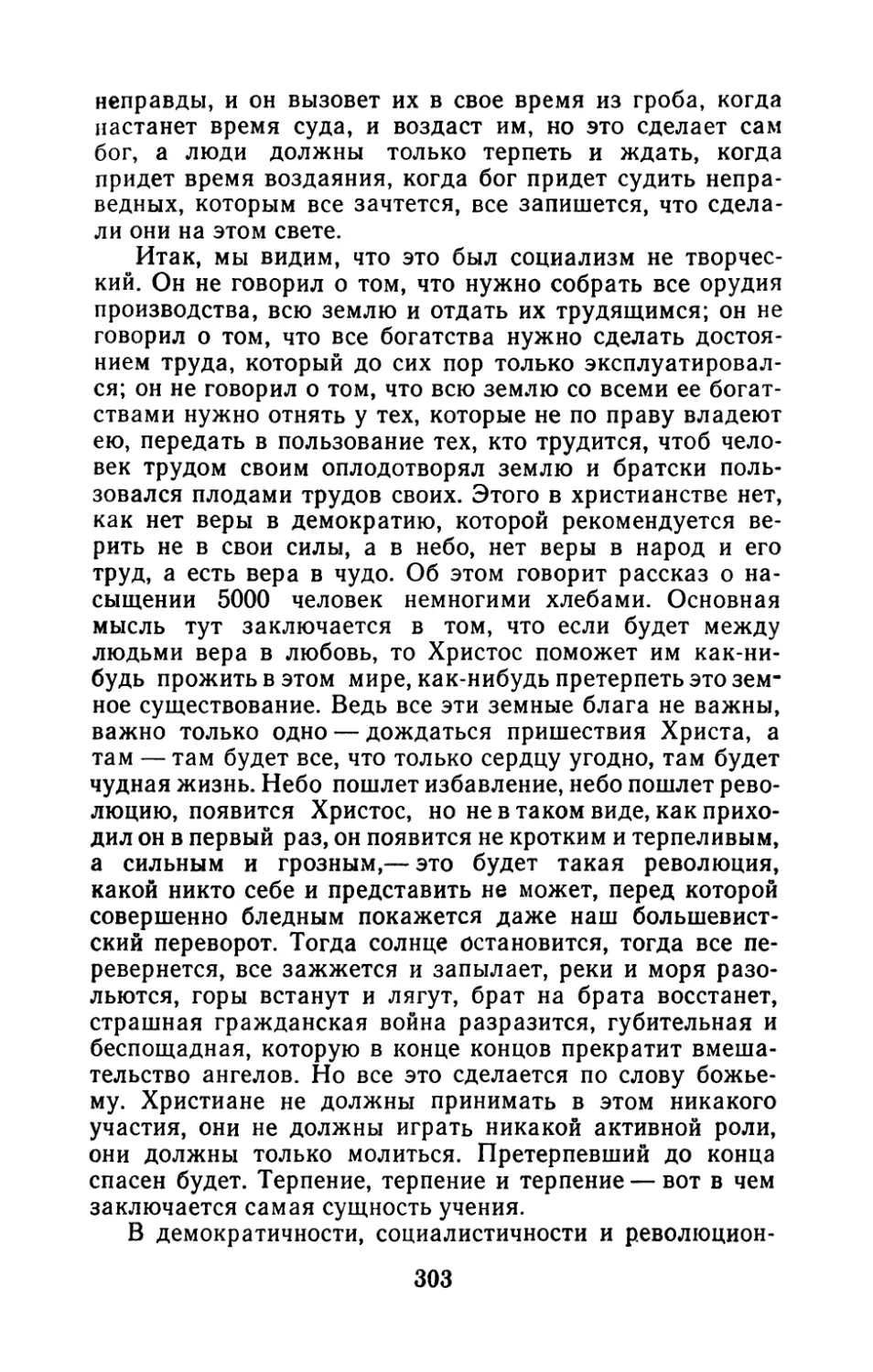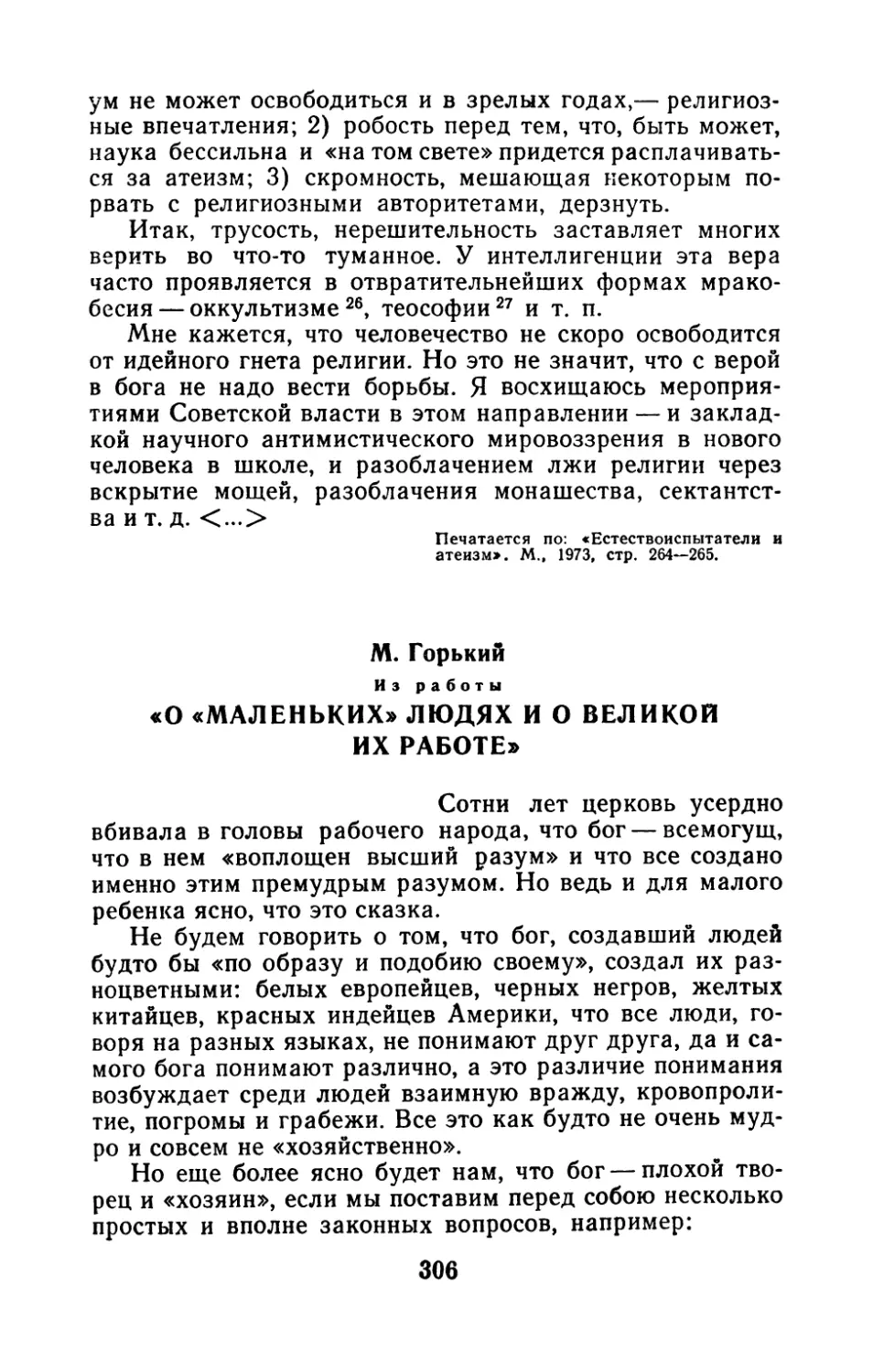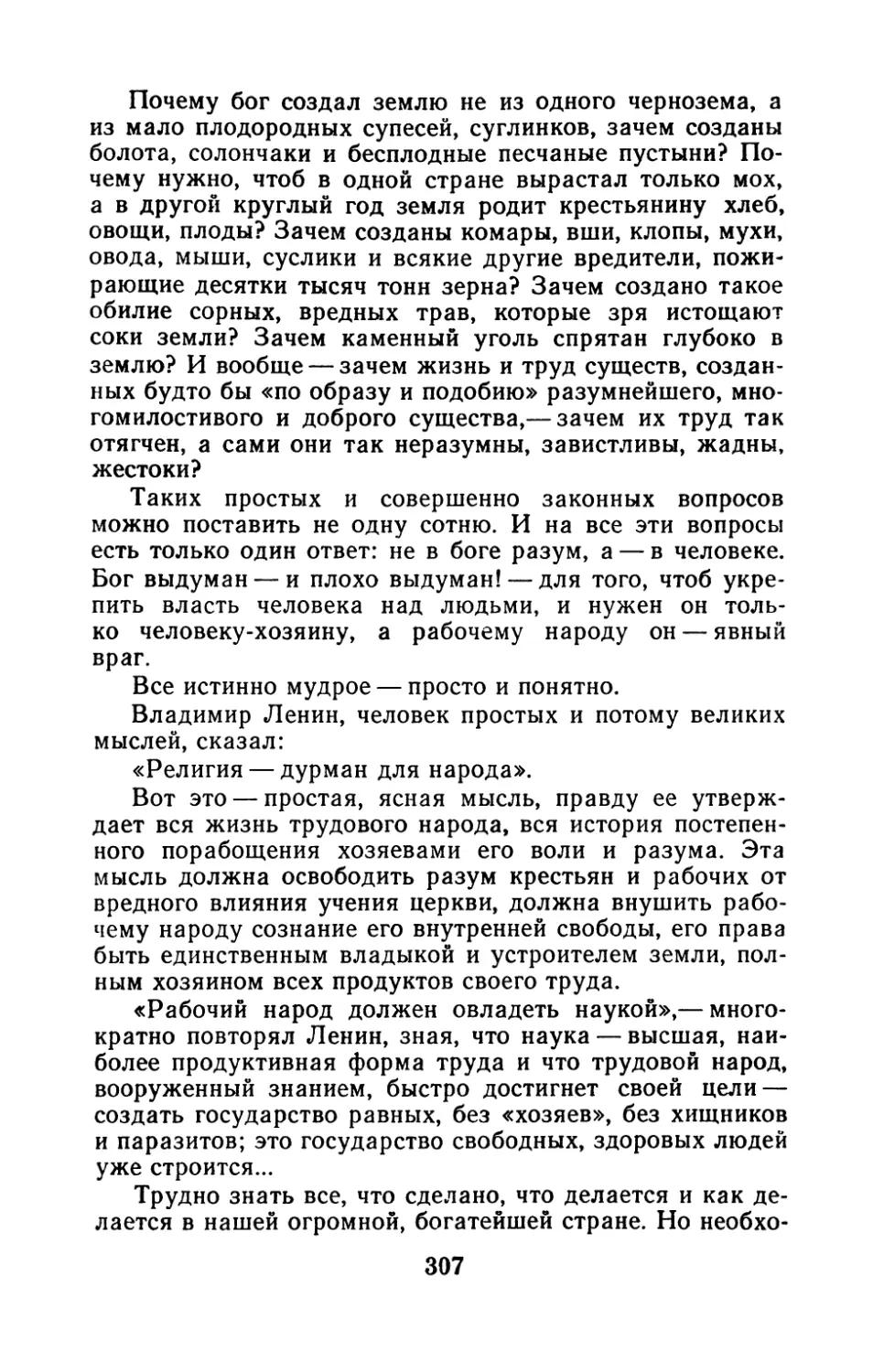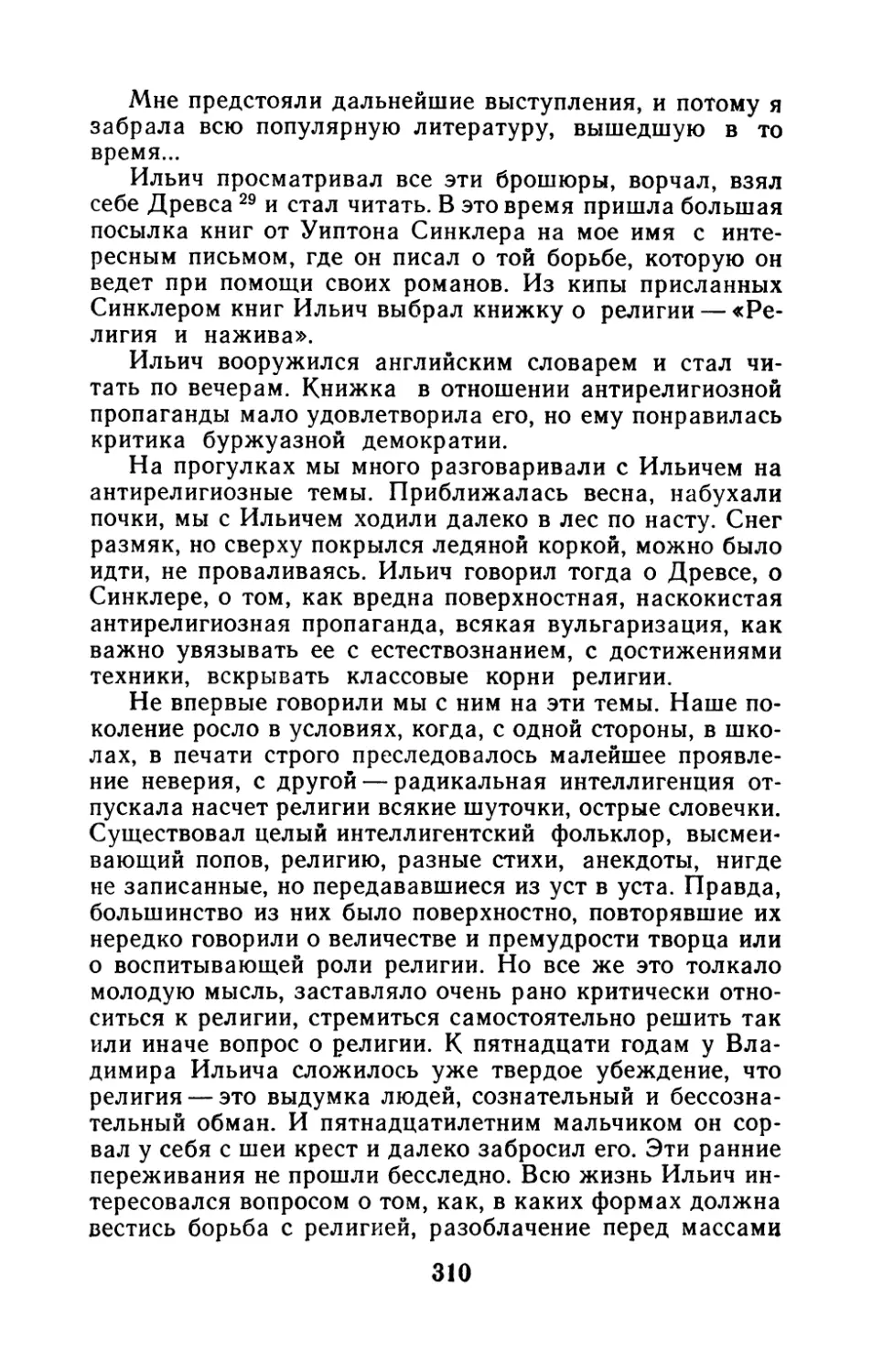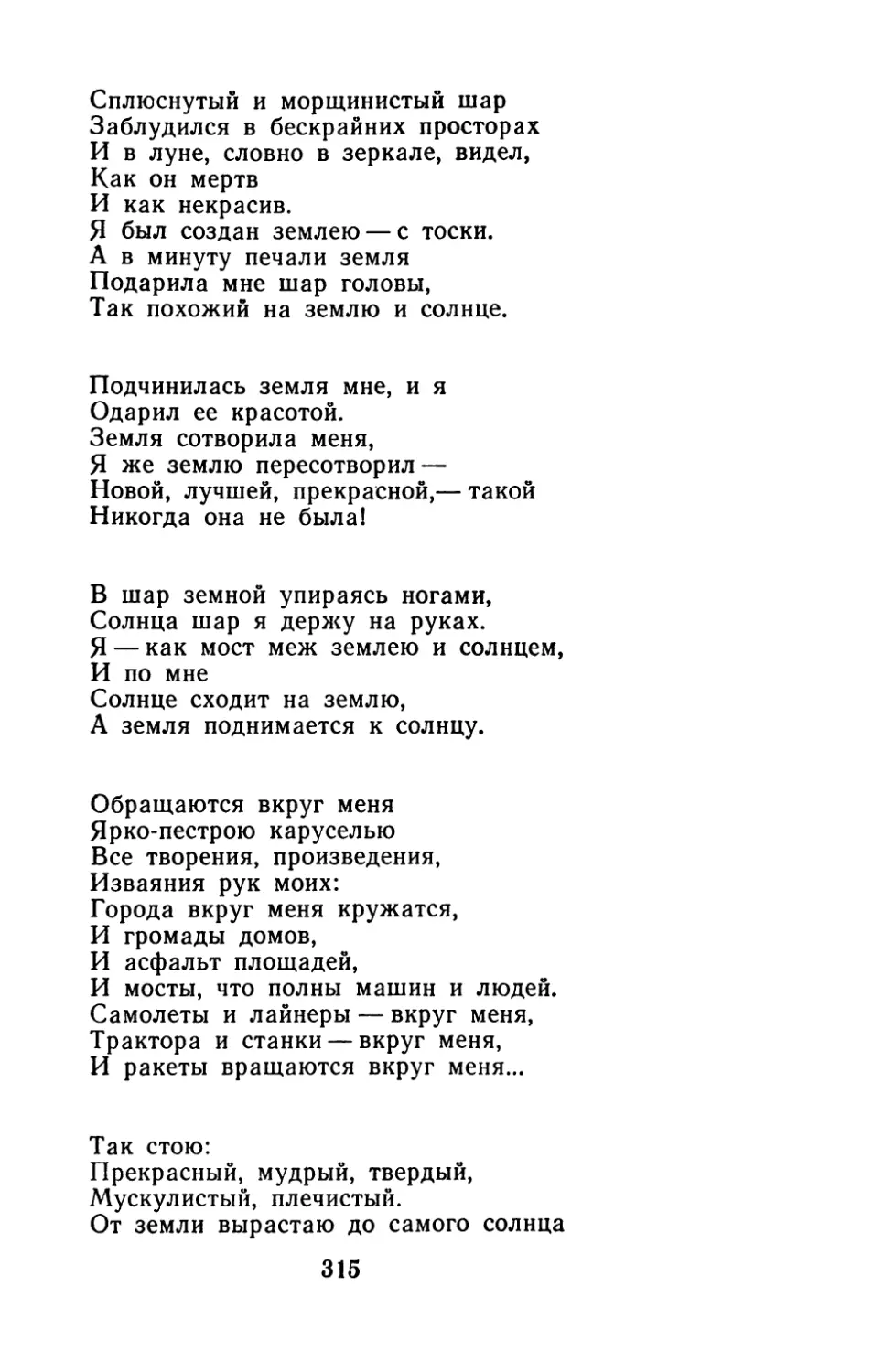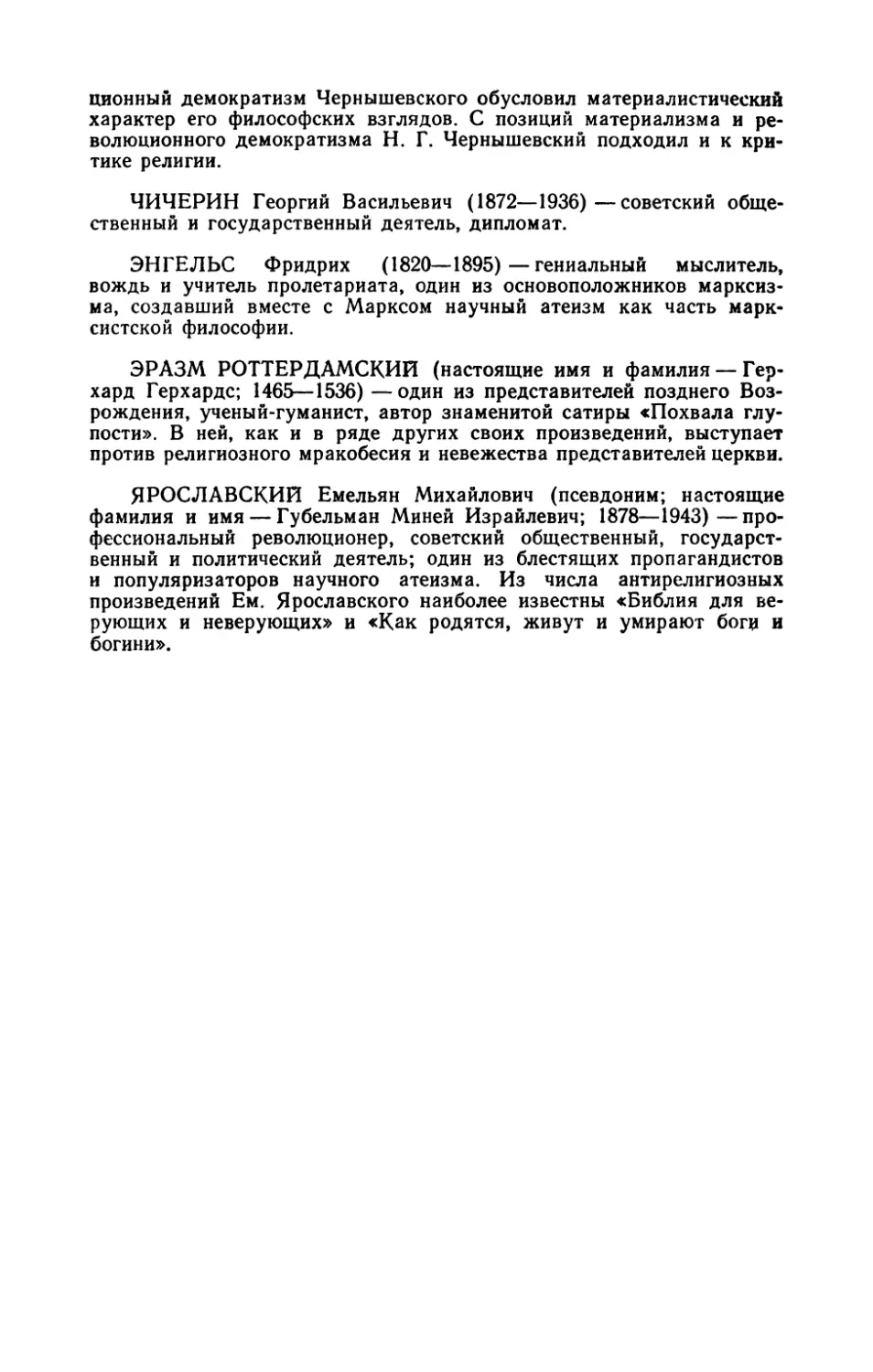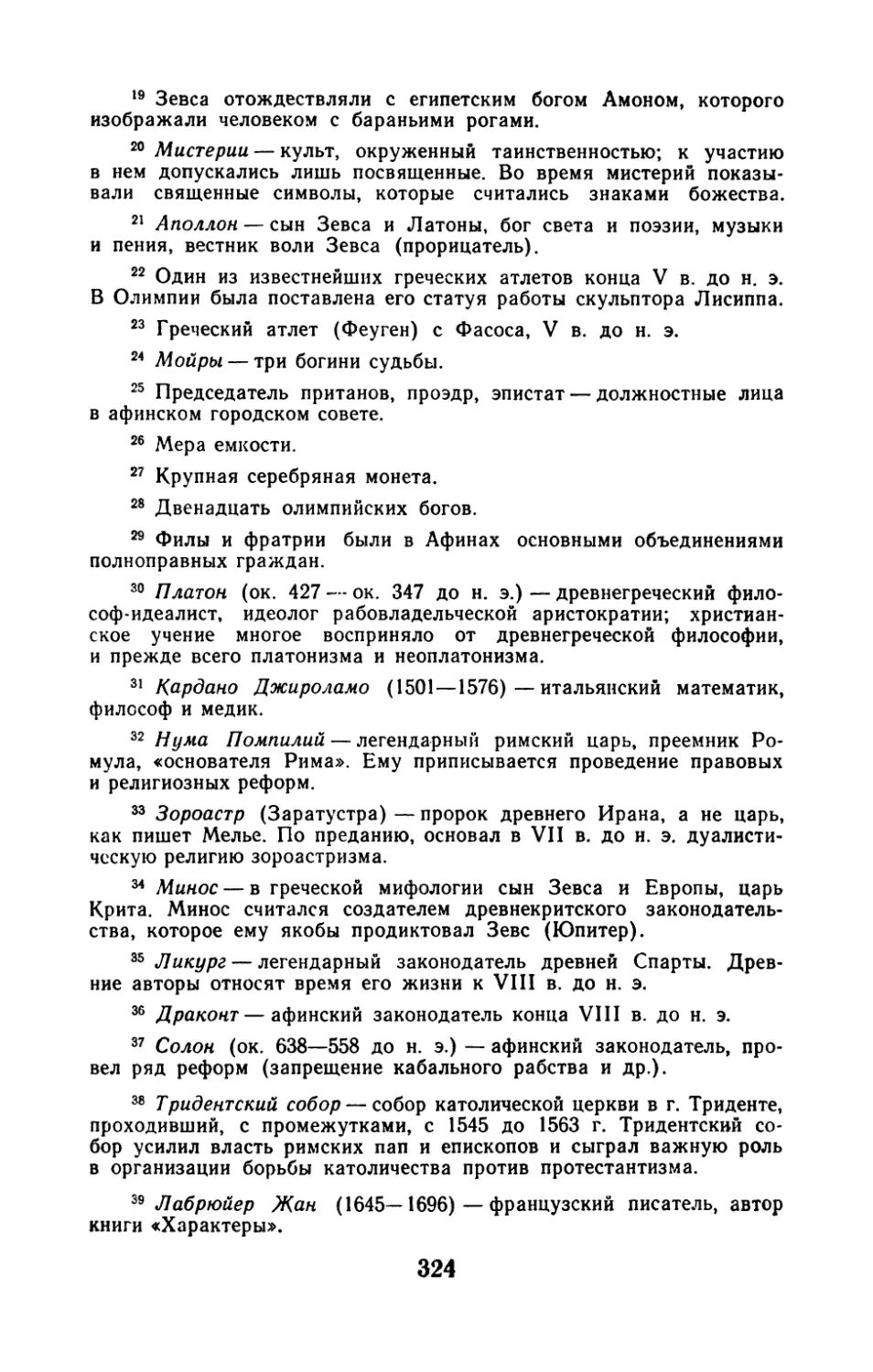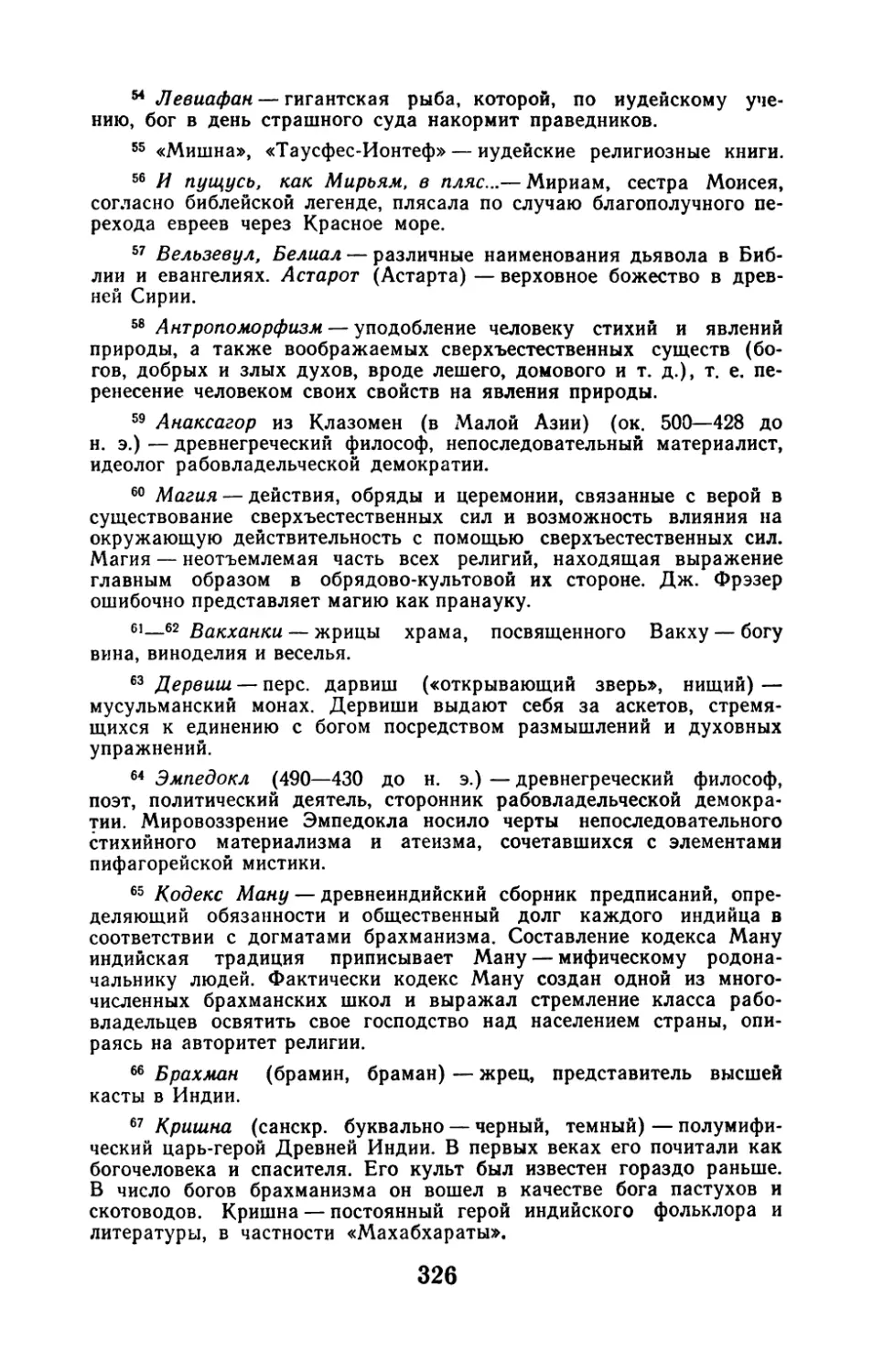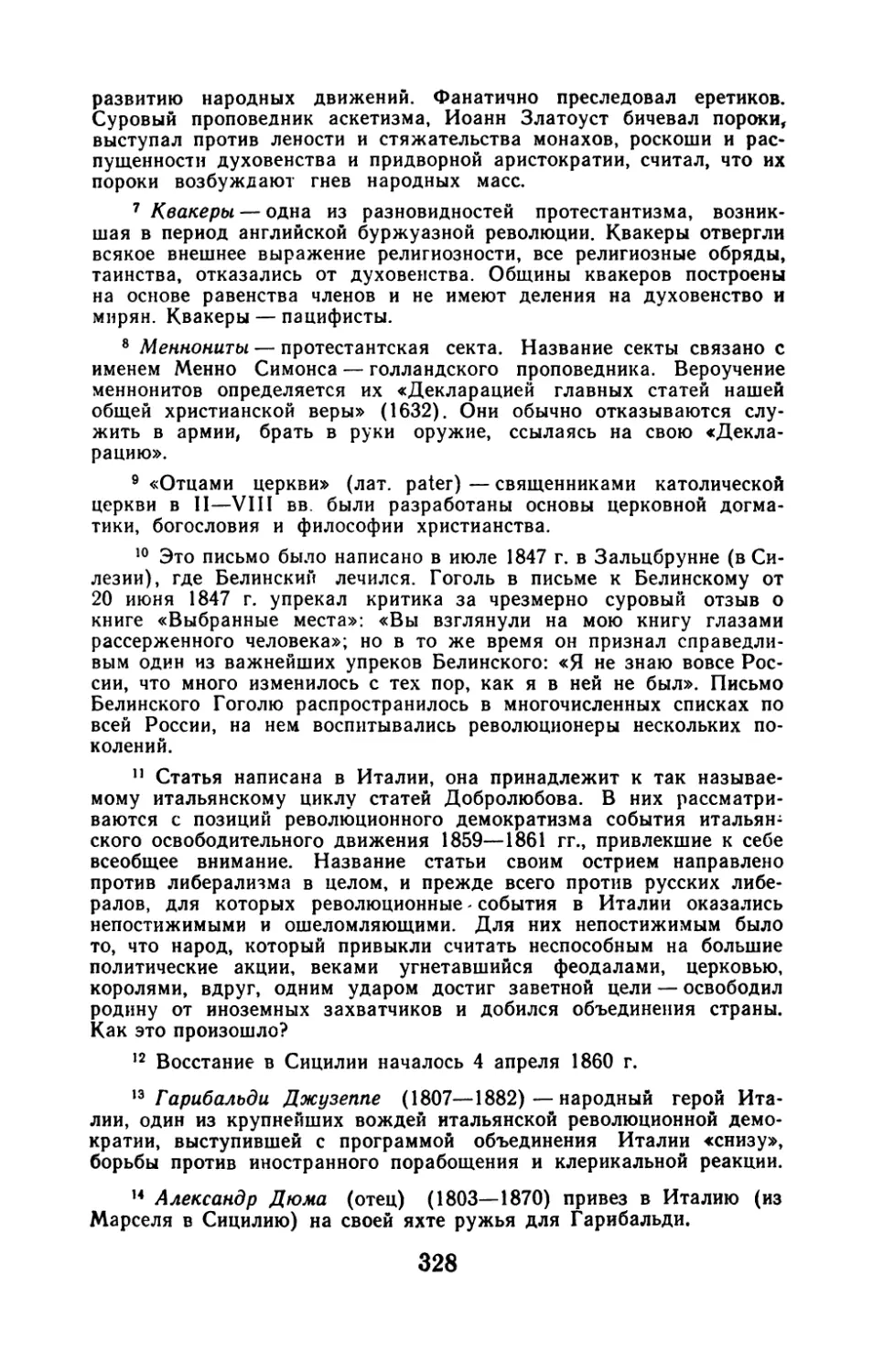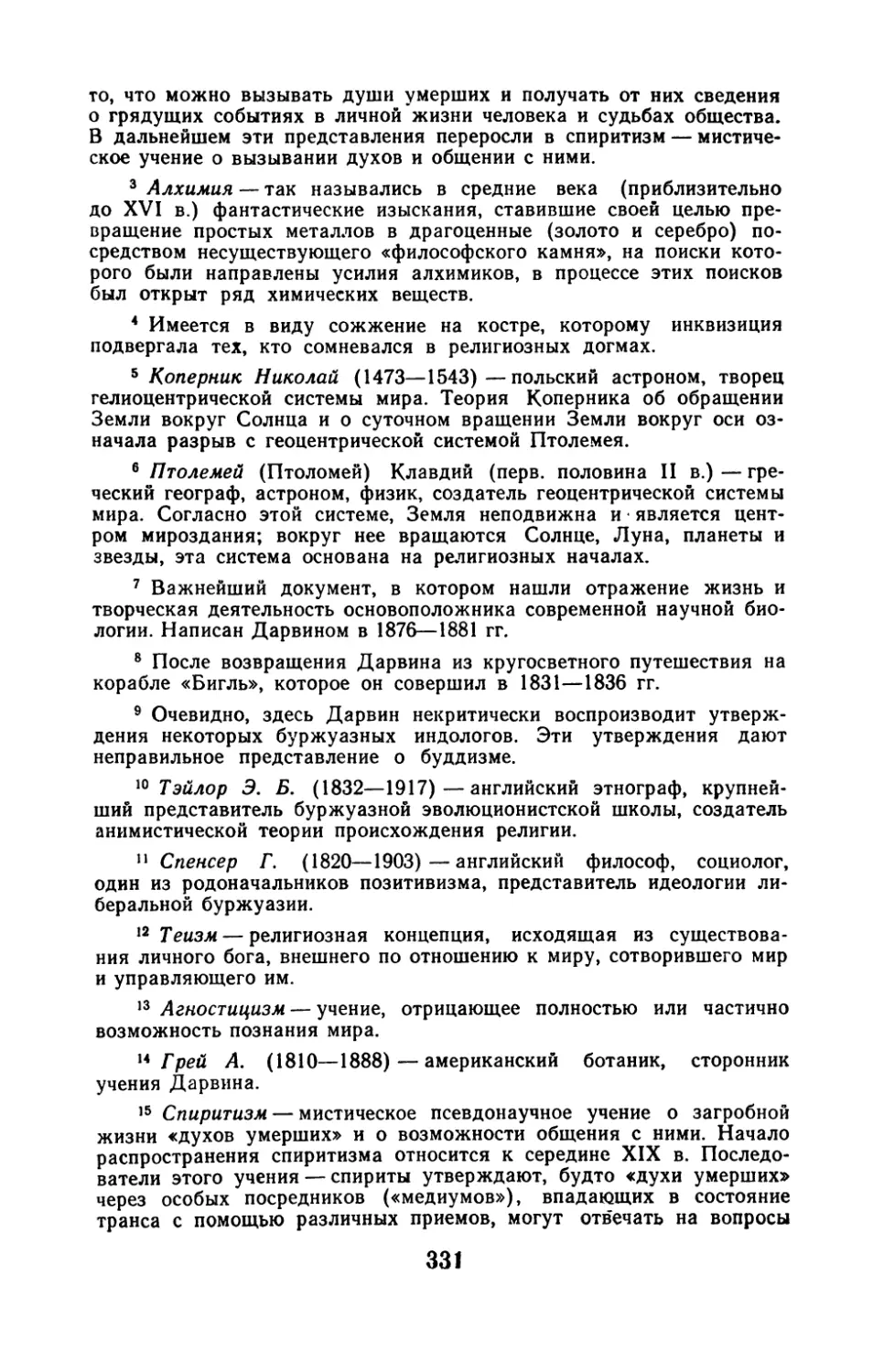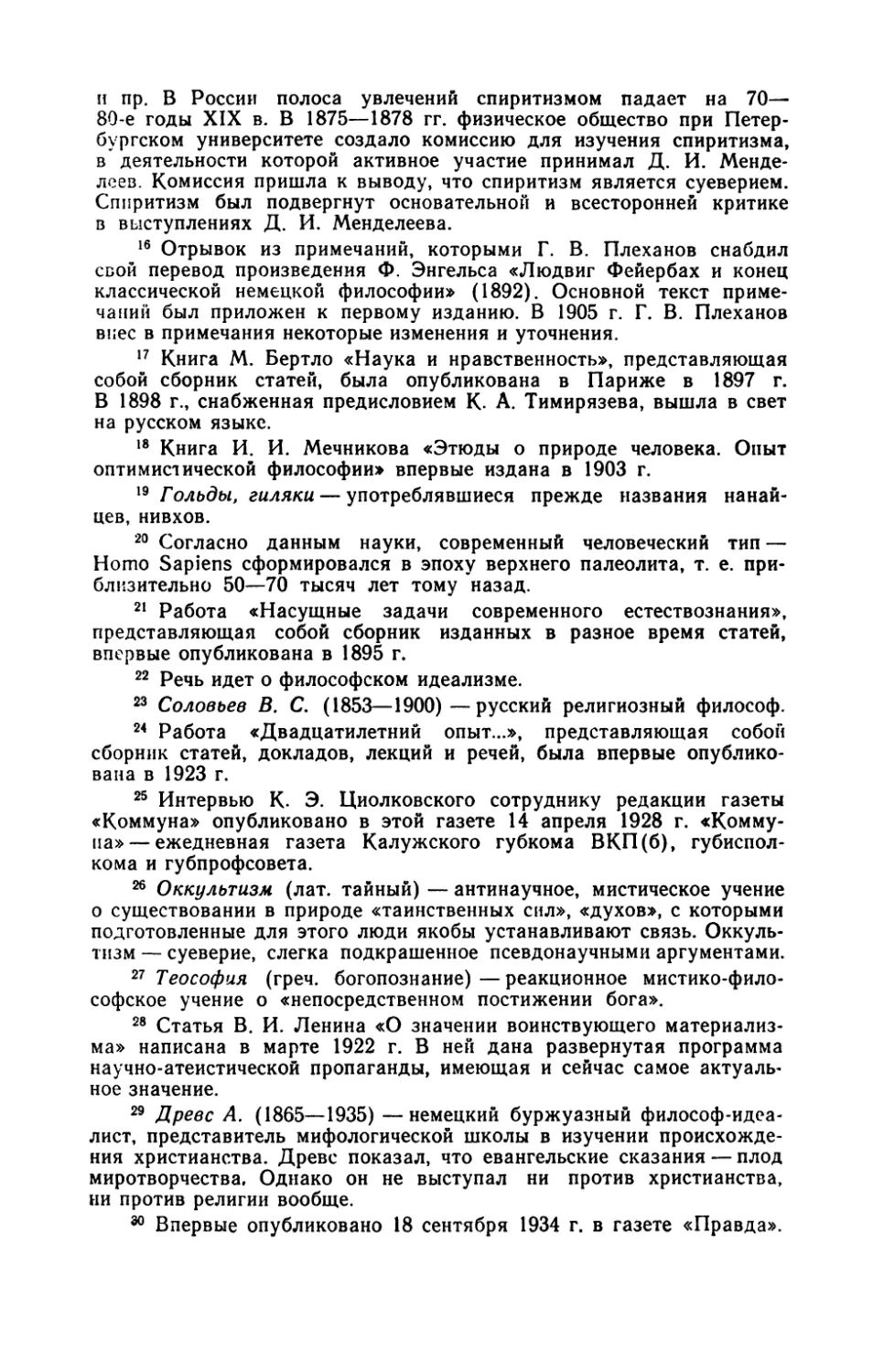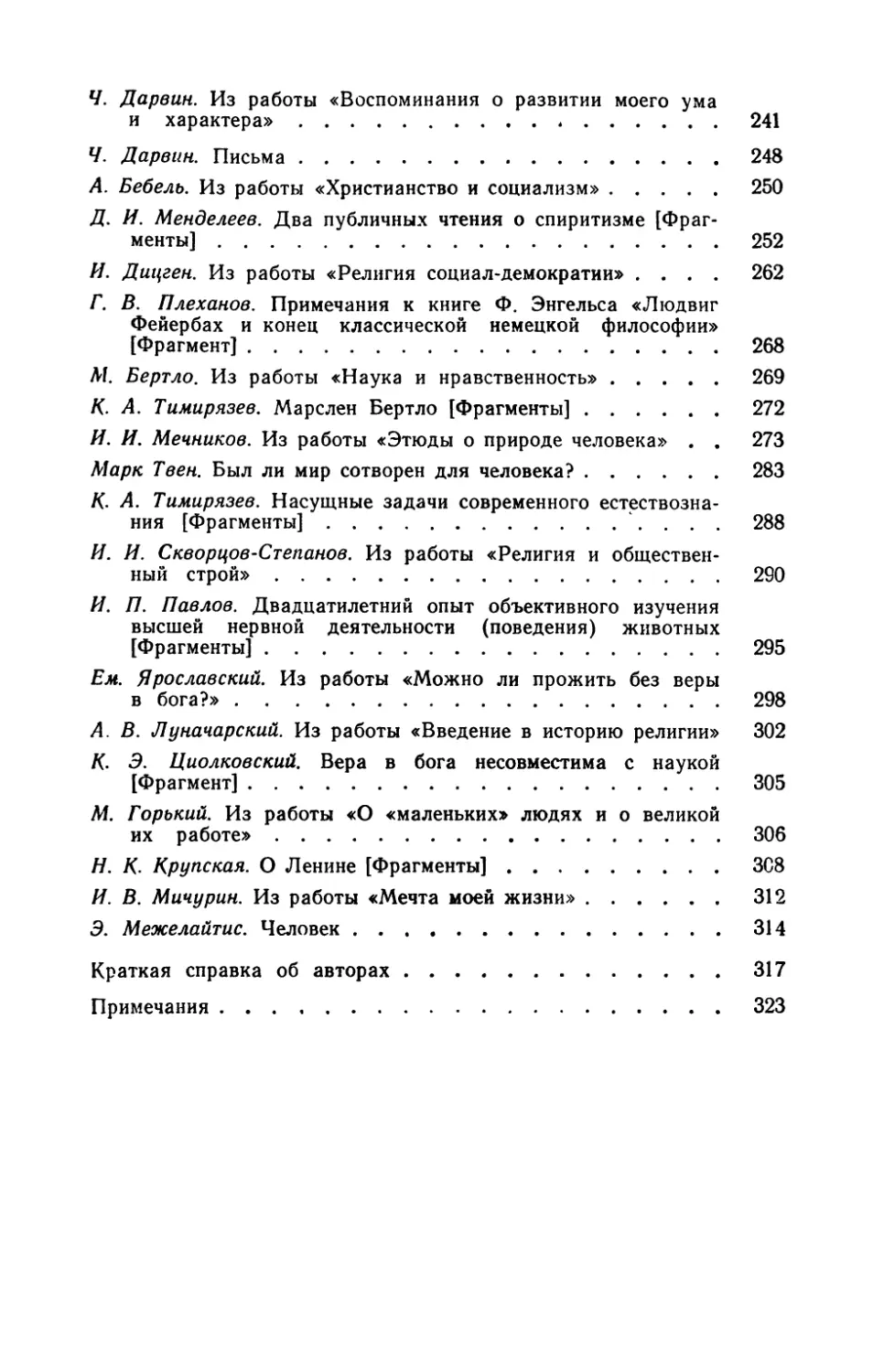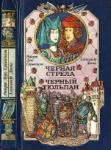Text
ЧЕРНЫЙ
ТУМАН
(Выдающиеся мыслители,
ученые, писатели,
общественные деятели
о реакционной сущности
религии и церкви)
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1976
Составители:
ВИШНЕВСКАЯ Е. Д.,
ВЬЮКОВА Т. Б.
Комментарии
кандидата философских наук
ГАЛИЦКОЙ И. А.
Черный туман. (Выдающиеся мыслители, уче-
ные, писатели, общественные деятели о реакцион-
ной сущности религии и церкви). М., Полит-
издат, 1976.
335 с.
На обороте тит. л. сост.: Вишневская Е. Д., Вьюкова Т. Б.
В этом тематическом сборнике собраны атеистические фрагменты
из произведений классической и современной публицистики. Их авто-
ры — мыслители прошлого, писатели, общественные деятели, утверж-
давшие научный взгляд на мир, разоблачавшие религию, деяния ее
служителей, раскрывавшие ее роль в обществе.
Книга рассчитана на пропагандистов атеизма, преподавателей, лек-
торов, на всех, кто занимается атеистическим воспитанием.
© ПОЛИТИЗДАТ, 1976 г.
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Живое, страстное
слово публициста... Нужно ли говорить о
том, сколь важную роль играет оно в
идейной борьбе с религиозной идеологи-
ей, разоблачая наивные, сложившиеся в
далекие от нас времена представления о
природе, человеке, обществе. И лектор,
и пропагандист, и организатор атеисти-
ческой работы в своей повседневной прак-
тике используют высказывания класси-
ков марксизма-ленинизма, выдающихся
ученых, деятелей культуры, мыслителей
прошлого, направленные против религи-
озного дурмана, «черного тумана», кото-
рый окутывает людей, не давая им уви-
деть мир, каков он есть, обрекая их на
жизнь в мире иллюзий.
В последнее время Издательство по-
литической литературы выпустило в свет
сборник «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ле-
нин о религии», сборник атеистических
произведений французских материали-
стов «Да скроется тьма!».
В тематическом сборнике «Черный ту-
ман» представлены фрагменты из пуб-
лицистических произведений мыслителей
разных времен и народов от античности
до наших дней. В них утверждается пра-
вота научного материалистического миро-
3
воззрения, опровергаются ложные пред-
ставления религии, в плену которых, к
сожалению, еще находится некоторая
часть населения нашей страны. Мы на-
деемся, что данный тематический сборник
будет хорошим подспорьем работникам
идеологического фронта, ведущим атеи-
стическое воспитание, в их борьбе за че-
ловека, за его реальное земное счастье.
Для удобства пользования сборником
включенные в него отрывки из произве-
дений тематически сгруппированы в три
раздела, которые открываются фрагмен-
тами из произведений классиков маркси-
зма-ленинизма. Внутри каждого раздела
материал расположен в хронологическом
порядке. В конце книги даны краткие
справки об авторах публикуемых в дан-
ном издании произведений и примечания.
I
БОГИ
И
ЛЮДИ
К. Маркс
Ф. Энгельс
B. И. Ленин
Эврипид
Лукиан
Э. Роттердамский
М. Монтень
Т. Гоббс
Ж. Мелье
C. Марешаль
Г. Гейне
П. Лафарг
Д. Фрэзер
Л. Леви-Брюль
И. И. Скворцов-Степанов
К. Маркс
Из работы
«К КРИТИКЕ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА.
ВВЕДЕНИЕ»
Человек, который в фанта-
стической действительности неба искал некое сверхчело-
веческое существо, а нашел лишь отражение себя самого,
не пожелает больше находить только видимость самого
себя, только не-человека — там, где он ищет и должен
искать свою истинную действительность.
Основа иррелигиозной критики такова: человек соз-
дает религию, религия же не создает человека. А именно:
религия есть самосознание и самочувствование человека,
который или еще не обрел себя, или уже снова себя поте-
рял. Но человек — не абстрактное, где-то вне мира ютя-
щееся существо. Человек — это мир человека, государст-
во, общество. Это государство, это общество порождают
религию, превратное мировоззрение, ибо сами они — пре-
вратный мир. Религия есть общая теория этого мира, его
энциклопедический компендиум, его логика в популярной
форме, его спиритуалистический point d'honneur*, его эн-
тузиазм, его моральная санкция, его торжественное вос-
полнение, его всеобщее основание для утешения и оправ-
дания. Она претворяет в фантастическую действитель-
ность человеческую сущность, потому что человеческая
сущность не обладает истинной действительностью. Сле-
довательно, борьба против религии есть косвенно борьба
против того мира, духовной усладой которого является
религия.
Религиозное убожество есть в одно и то же время вы-
ражение действительного убожества и протест против
этого действительного убожества. Религия — это вздох
угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно
тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть
опиум народа.
Упразднение религии, как иллюзорного счастья наро-
да, есть требование его действительного счастья. Требо-
вание отказа от иллюзий о своем положении есть требо-
вание отказа от такого положения, которое нуждается в
* — вопрос чести. — Ред.
7
иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в заро-
дыше критика той юдоли плача, священным ореолом ко-
торой является религия.
Критика сбросила с цепей украшавшие их фальши-
вые цветы — не для того, чтобы человечество продолжало
носить эти цепи в их форме, лишенной всякой радости и
всякого наслаждения, а для того, чтобы оно сбросило
цепи и протянуло руку за живым цветком. Критика рели-
гии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил,
действовал, строил свою действительность как освобо-
дившийся от иллюзий, как ставший разумным человек;
чтобы он вращался вокруг себя самого и своего действи-
тельного солнца. Религия есть лишь иллюзорное солнце,
движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начи-
нает двигаться вокруг себя самого.
Задача истории, следовательно,— с тех пор как исчез-
ла правда потустороннего мира,— утвердить правду по-
сюстороннего мира. Ближайшая задача философии, на-
ходящейся на службе истории, состоит — после того как
разоблачен священный образ человеческого самоотчуж-
дения — в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его
несвященных образах. Критика неба превращается, та-
ким образом, в критику земли, критика религии — в кри-
тику права, критика теологии — в критику политики.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр.
414—415.
Ф. Энгельс
Из работы
«АНТИ-ДЮРИНГ»
...Всякая религия является
не чем иным, как фантастическим отражением в головах
людей тех внешних сил, которые господствуют над ними
в их повседневной жизни,— отражением, в котором зем-
ные силы принимают форму неземных. В начале истории
объектами этого отражения являются прежде всего силы
природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у
различных народов через самые разнообразные и пест-
рые олицетворения. Этот первоначальный процесс про-
слежен при помощи сравнительной мифологии — по край-
ней мере у индоевропейских народов — до его первого
проявления в индийских ведах, а в дальнейшем своем
развитии он детально исследован у индусов, персов, гре-
ков, римлян, германцев и, насколько хватает материала,
также у кельтов, литовцев и славян. Но вскоре, наряду с
силами природы, вступают в действие также и общест-
венные силы,— силы, которые противостоят человеку в
качестве столь же чуждых и первоначально столь же не-
объяснимых для него, как и силы природы, и подобно
последним господствуют над ним с той же кажущейся
естественной необходимостью. Фантастические образы, в
которых первоначально отражались только таинственные
силы природы, приобретают теперь также и обществен-
ные атрибуты и становятся представителями историче-
ских сил... На дальнейшей ступени развития вся совокуп-
ность природных и общественных атрибутов множества
богов переносится на одного всемогущего бога, который,
в свою очередь, является лишь отражением абстрактного
человека. Так возник монотеизм, который исторически
был последним продуктом греческой вульгарной филосо-
фии более поздней эпохи и нашел свое уже готовое вопло-
щение в иудейском, исключительно национальном боге
Ягве. В этой удобной для использования и ко всему при-
способляющейся форме религия может продолжать свое
существование как непосредственная, т. е. эмоциональная
форма отношения людей к господствующим над ними
чуждым силам, природным и общественным, до тех пор,
пока люди фактически находятся под властью этих сил.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр.
328—329.
9
В. И. Ленин
«СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ»
Экономическое угнетение
рабочих неизбежно вызывает и порождает всякие виды
угнетения политического, принижения социального, огру-
бения и затемнения духовной и нравственной жизни масс.
Рабочие могут добиться себе большей или меньшей поли-
тической свободы для борьбы за свое экономическое ос-
вобождение, но никакая свобода не избавит их от нище-
ты, безработицы и гнета, пока не сброшена будет власть
капитала. Религия есть один из видов духовного гнета,
лежащего везде и повсюду на народных массах, задав-
ленных вечной работой на других, нуждою и одиноче-
ством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с экс-
плуататорами так же неизбежно порождает веру в луч-
шую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с
природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.
Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия
учит смирению и терпению в земной жизни, утешая на-
деждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим
трудом, религия учит благотворительности в земной
жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего
их эксплуататорского существования и продавая по
сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия
есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в ко-
торой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои
требования на сколько-нибудь достойную человека
жизнь.
Но раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на
борьбу за свое освобождение, наполовину перестает уже
быть рабом. Современный сознательный рабочий, воспи-
танный крупной фабричной промышленностью, просве-
щенный городской жизнью, отбрасывает от себя с пре-
зрением религиозные предрассудки, предоставляет небо
в распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоевывая
себе лучшую жизнь здесь, на земле. Современный проле-
тариат становится на сторону социализма, который при-
влекает науку к борьбе с религиозным туманом и осво-
бождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что
сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную
жизнь.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12,
стр. 142—143.
Эврипид
БЕЛЛЕРОФОНТ
[Фрагмент]
На небе боги есть... Так говорят.
Нет! Нет! Нет их! И у кого крупица
Хотя бы есть ума,— не станет верить
Сказаньям старины. Чтобы моих вам слов
Не принимать на веру, докажу вам.
Тиран людей без счету убивает
И грабит их добро; клятвопреступник
Подчас опустошает целый город,
Злодействуя,— и все ж живет счастливей
Безгрешного, покоем наслаждаясь
И без заботы проводя свой век.
Богобоязных, но очень слабых
Немало мне известно городов:
Они дрожат, подавленные силой
Других держав, могучих, но безбожных...
Лукиан
СОВЕТ БОГОВ
1. Зевс1. Довольно, боги,
ворчать и шептаться друг с другом по углам. Вам досад-
но, что в наших пирах принимают участие многие недо-
стойные этого; но раз уж из-за них созвано собрание,
пусть каждый открыто высказывает свое мнение и вы-
ступает обвинителем. А ты, Гермес2, объявляй, как пола-
гается по закону.
Гермес. Слушай, молчи! Кто из совершеннолетних,
полноправных богов желает говорить? Обсуждается во-
прос о метэках 3 и чужеземцах.
Мом4. Я, Зевс, я, Мом, если ты мне позволишь вы-
сказаться.
11
Зевс. Объявление о начале собрания было, так что
тебе уже не нужно мое разрешение.
2. Мом. Что ж, тогда я скажу: безобразно ведут себя
некоторые из нас! Им недостаточно того, что они сами
превратились в богов; нет, они считают, что не совершили
ничего великого и смелого, если только не уравняли в
правах с нами своих спутников и слуг. Но прошу тебя,
Зевс, позволь мне говорить без стеснения — да я и не су-
мею иначе: все знают, что я невоздержан на язык и вовсе
не могу молчать, если дело неладно. Я обличаю все и
прямо говорю, что думаю, и не боюсь никого, не скрываю
своего мнения из ложного стыда. Поэтому многие счита-
ют меня и несносным, и от природы доносчиком, и дали
мне прозвище какого-то обвинителя от общества. И все-
таки, Зевс, раз уж и Гермес объявил и сам ты разреша-
ешь высказаться свободно, я скажу, ничего не скрывая.
3. Так вот, говорю я, многие, не довольствуясь тем, что
сами участвуют в тех же собраниях, что и мы, и пируют
наравне с нами,— а ведь они наполовину смертные! —
вдобавок привели на небо своих слуг и собутыльников и
внесли их в списки богов. И теперь они наравне с нами
делят даровые угощения и получают свою долю жертво-
приношений, а налога с метэков нам не платят.
Зевс. Нечего, Мом, загадки загадывать — говори
ясно и точно и называй имена.
4. Мом. Как, право, хорошо, Зевс, что ты даже по-
буждаешь меня быть откровенным. Ты делаешь это с та-
ким, поистине царским, великодушием, что я назову и
имена. Вот хоть этот благороднейший Дионис5 — ведь он
получеловек и по матери даже не эллин, а внук Кадма,
какого-то сирофиникийского купца. Раз он был удостоен
бессмертия, я не стану говорить о том, каков он сам по
себе,— ни о его женской головной повязке, ни о пьянстве,
ни о походке (ведь все вы, полагаю, знаете, что вид у
него, как у изнеженной женщины, что он полубезумен,
что от него с утра разит неразбавленным вином). Но он
привел к нам всю свою братию и живет здесь вместе со
своим хором, сделав богами Пана6, Силена7 и сатиров8,
каких-то неотесанных мужланов и в большинстве — козь-
их пастухов и чудовищ с виду. Один из них рогатый, вся
нижняя половина тела у него козлиная, бороду отпустил
длинную — словом, мало отличается от козла. Другой —
старик, плешивый, курносый, все больше ездит на осле;
родом он из Лидии. А у сатиров уши острые, они тоже
12
лысые, рогатые (рога у них такие же, как у новорожден-
ных козлят); кое-кто из них — фригийцы, и все они с
хвостами. Видите, каких богов создает нам этот благо-
родный отпрыск?
5. Что же удивительного, если люди презирают нас,
видя таких смешных и чудных богов? Я уж не говорю о
том, что он привел сюда и двух женщин: одна — его лю-
бовница Ариадна 9, и даже венок ее он причислил к сонму
звезд, другая — дочь крестьянина Икария. А вот что
смешнее всего, боги: он даже пса Эригоны 10, даже его
привел сюда, чтобы девочка не тосковала, если не будет
вместе с нею на небе ее родного, любимого песика. И это,
по-вашему, не наглость, не скандал, не издевательство?!
Но послушайте же и о других...
6. Зевс. Нет, Мом, ни слова не говори ни об Аскле-
пии, ни о Геракле11: я уж вижу, куда ты гнешь. Но ведь
один из них лечит, ставит больных на ноги, и
стоит он многих других 12,
а другой, Геракл,— мой сын, и не малыми трудами запла-
тил он за свое бессмертие. Поэтому их уже не трогай.
Мом. Ради тебя, Зевс, промолчу, хотя многое мог бы
сказать. Впрочем, одно все же скажу: следы огня на них
еще есть. Но если можно и о тебе самом говорить откро-
венно, я бы многое сказал.
Зевс. Разумеется, можно и обо мне, пожалуйста. Не-
ужели ты и меня обвинишь в том, что я чужеземец?
Мом. Ну, на Крите не только это можно услышать,
там о тебе говорят и еще кое-что и могилу показывают.
Однако я не верю ни им, ни ахейцам из Эгиона, которые
рассказывают, что ты подкидыш 13.
7. Но о том, что всего больше, по-моему, заслуживает
изобличения, об этом я скажу. Ведь начало этим бесчин-
ствам положил ты, Зевс, и был причиной того, что в на-
шем собрании—засилье незаконнорожденных; ты соче-
тался со смертными женщинами, сходя к ним каждый раз
в другом обличий, так что мы даже боялись, как бы кто
не схватил тебя и не принес в жертву, пока ты был бы-
ком, или какой-нибудь золотых дел мастер не пустил бы
тебя в работу, пока ты был золотом, и не остались бы у
нас вместо Зевса ожерелье, браслет или серьга. А тем
временем ты заполнил небо этими полубогами — никак
не могу выразиться иначе. И ведь смешно же до крайно-
сти, если кто вдруг услышит, что Геракл назначен богом,
13
а Эврисфей, который давал ему приказания, умер и что
храм Геракла, раба,— близ могилы Эврисфея, его госпо-
дина. И в Фивах то же самое: Дионис — бог, а его родст-
венники Пентей, Актеон и Леарх — самые несчастные из
людей.
8. А с тех пор, Зевс, как ты однажды отворил двери
вот таким лицам и обратил свой взгляд на смертных
женщин, все тебе подражают, и не только боги, но (и это
самое позорное!) даже богини. Кто, в самом деле, не зна-
ет Анхиса, Тифона, Эндимиона, Иасиона и других? Уж
лучше это оставить, по-моему, обвинение вышло бы че-
ресчур пространным.
Зевс. Ни слова о Ганимеде 14, Мом! Я рассержусь,
если ты огорчишь мальчика, понося его родню.
Мом. Значит, и об орле мне не говорить15, потому
что он тоже живет на небе, сидит на царском скипетре и
только что гнезда у тебя на голове не вьет? Он тоже ка-
жется богом? Или уж и его оставим в покое ради Гани-
меда?
9. Но Аттис,— о Зевс! — Корибант, Сабазий, откуда
еще они у нас взялись? или этот мидиец Митра в персид-
ском платье и в тиаре, который даже не говорит по-грече-
ски, так что и не понимает, если пьют за его здоровье?
Потому-то скифы и геты, видя такие дела, пожелали нам
всего самого лучшего, и сами, кого захотят, причисляют
к бессмертным и выбирают в боги простым поднятием ру-
ки— тем самым способом, каким раб Замолксид16 как-то
незаметно был к нам приписан.
10. И тем не менее, боги, и все это еще ничего. Но ты,
египтянин с песьей мордой, завернутый в полотно, ты кто
таков, любезнейший, и каким образом ты хочешь быть
богом — ведь ты же лаешь17? А почему этот пятнистый
бык из Мемфиса принимает поклонения, вещает, как ора-
кул, окружен пророками 18? Об ибисах, обезьянах, козлах
и других вещах, куда более смехотворных, мне и гово-
рить-то стыдно — понятия не имею, каким это образом
они из Египта попали на небо. Как вы только выносите,
боги, что им поклоняются в той же мере или даже боль-
ше, чем вам?! А ты, Зевс, как ты терпишь — тебе же при-
ладили бараньи рога 19?!
11. Зевс. Да, правда, то, что ты говоришь о египтя-
нах,— позор. Но все же, Мом, многое тут — символы, и
не слишком-то смейся, раз не посвящен в мистерии20.
Мом. А-а, Зевс, нам нужны, оказывается, священные
14
мистерии, чтобы узнать, что боги — это боги, а павиа-
ны— павианы.
Зевс. Оставь, говорят тебе, египтян. В другой раз
рассмотрим это, на досуге. А пока говори об остальных.
12. Мом. Тогда — о Трофонии, Зевс, и о том, что за-
ставляет меня прямо-таки задыхаться от злобы,— об Ам-
филохе, сыне окаянного матереубийцы; тем не менее эта
благородная личность пророчествует в Киликии и при
этом то и дело лжет и морочит голову за два обола. Вот
почему, Аполлон21, нет у тебя прежней доброй славы —
уже любой камень, любой алтарь дает предсказания,
если его обольют маслом, а он наденет на себя венок и
обзаведется мошенником, каких теперь много. Уж и в
Олимпии лечит больных лихорадкой статуя атлета Поли-
даманта22, и на Фасосе — Феагена23, и Гектору соверша-
ют возлияния в Илионе, а Протесилаю — на другом бе-
регу в Херронесе. С тех пор как нас стало так много, со-
вершается гораздо больше клятвопреступлений и свято-
татств, да и вообще люди нас презирают — и правильно
делают.
13. Вот что я хотел сказать о незаконнорожденных и
неправильно внесенных в наши списки. Но, часто слыша
к тому же много незнакомых имен таких богов, которых
нет среди нас (да они и вообще существовать-то не мо-
гут), я, Зевс, смеюсь над ними до упаду. Где, в самом
деле, эта Добродетель, о которой столько болтают, При-
рода, Судьба, Случай — противоречащие друг другу и
пустые названия, выдуманные философами-тупицами?
А все же, хоть и наскоро состряпанные, они оказались
для неразумных людей настолько убедительными, что ни-
кто нам и жертв приносить не хочет, потому, мне кажет-
ся, что знает: устрой он хоть тысячи гекатомб, Случай все
равно пойдет по тому пути, который предназначила Судь-
ба и выпряли каждому Мойры24. Я бы охотно задал тебе
вопрос, Зевс, видел ли ты где-нибудь Добродетель, При-
роду или Судьбу. Ведь и ты, я знаю, слышишь постоянно
эти слова в беседах философов, если только ты не какой-
нибудь глухой, чтобы до тебя не доходили их крики. Но
я прекращаю свою речь, хотя мог бы еще многое сказать:
я вижу, что многие недовольны моими словами и даже
свищут, особенно те, кого затронула откровенность моих
речей.
14. Итак, в заключение, Зевс, если хочешь, я прочту
постановление по этому вопросу — оно уже написано.
15
Зевс. Прочти. Не все в твоем обвинении безоснова-
тельно, значительную часть беспорядков надо пресечь,
чтобы дальше не разрастались.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В добрый час. На созванном
в соответствии с законом собрании в седьмой день от на-
чала месяца Зевс был председателем пританов, Посейдон
проэдром, Аполлон эпистатом25, Мом, сын Ночи, секре-
тарем, Сон выступил с предложением.
Ввиду того что многие чужеземцы, не только греки, но
и варвары, никоим образом не будучи достойными разде-
лять с нами гражданские права, незаконно и неизвестно
как внесенные в наши списки и прослывшие богами, за-
полнили небо, так что на пиру теперь тесно от беспоря-
дочной толпы, сброда, болтающего на разных языках;
что не хватает амбросии и нектара, и котила26 стоит
уже мину27 из-за большого числа пьющих;
что, самовольно вытолкав древних и истинных богов,
эти пришельцы, вопреки всем отеческим нравам и обыча-
ям, потребовали для себя мест в первых рядах и хотят,
чтобы их больше, чем других, чтили на земле;
15. Совет и народ постановили созвать совет на Олим-
пе около времени зимнего солнцеворота и выбрать из
истинных богов семерых судей — трех из древнего Совета
времен Крона и четырех из числа Двенадцати28, и среди
них Зевса. Этим судьям самим заседать, поклявшись, как
полагается по закону, Стиксом, а Гермесу, сделав снача-
ла объявление, собирать всех, кто захочет принять уча-
стие в этом собрании. Им же приходить со свидетелями,
которые принесли присягу, и с доказательствами своего
происхождения. Затем пусть они подходят по одному, а
судьи, подвергая доказательства изучению, либо объявят
их богами, либо отправят вниз, в их могилы и гробницы
предков. А если кто-либо из отвергнутых и однажды ис-
ключенных судьями взберется на небо и будет в том ули-
чен, сбросить того в Тартар.
16. И каждому делать свое собственное дело: Афине
не лечить, Асклепию не давать предсказаний, а Аполлону
не делать одному столько разных дел, но выбрать что-ни-
будь одно — пророчество, музыку или врачевание.
17. Философам запретить выдумывать пустые назва-
ния и болтать о том, чего они не знают.
16
18. Если же кто был уже удостоен храмов или жертво-
приношений, статуи их убрать и вместо них поставить
изображения Зевса, Геры, Аполлона или кого-нибудь дру-
гого, а отвергнутым город пусть насыплет курган и поста-
вит на нем памятник вместо алтаря. А если кто-нибудь
не станет слушать глашатая и не пожелает явиться к
судьям, осудить того заочно.
Таково наше постановление.
19. Зевс. Оно в высшей степени справедливо, Мом, и
те, кто согласен, пусть поднимут руки. Нет, пусть оно
лучше просто будет выполнено — ведь я знаю, что боль-
шинство рук не поднимет. Ну, теперь расходитесь, а ко-
гда Гермес объявит, приходите и представьте убедитель-
ные свидетельства и ясные доказательства, имена отца и
матери, сведения, почему и как сделался богом, какой
филы и кто товарищи по фратрии29. А всякий, кто этого
не представит, пусть не ссылается на то, что у него на
земле большой храм и его считают богом,— это судьям
безразлично.
Лукиан. Избранные атеистические про-
изведения. М., 1955, стр. 110—116.
Эразм Роттердамский
Из работы
«ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ»
ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА СРОДНИ ГЛУПОСТИ
Не зарываясь в бесчислен-
ные подробности, скажу кратко, что христианская вера,
по-видимому, сродни некоему виду глупости и с мудро-
стью совершенно несовместна. Ежели хотите доказа-
тельств, то вспомните прежде всего, что ребята, женщи-
ны, старики и юродивые особенно любят церковные об-
ряды и постоянно становятся всех ближе к алтарю, по-
корные велениям своей природы. Во-вторых, позвольте
спросить: кто такие были основатели христианства?
Люди удивительно простодушные, жестокие враги всякой
учености. Засим, среди глупцов всякого рода наиболее
безумными кажутся те, кого воодушевляет христианское
благочестие. Они расточают свое имение, не обращают
17
внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не
знают различия между друзьями и врагами, в ужасе бе-
гут от наслаждений, предаются постам, бдениям, трудам,
презирают жизнь и стремятся единственно к смерти, ко-
ротко говоря,— во всем действуют наперекор здравому
смыслу, словно душа их обитает не в теле, но где-то в
ином месте. Что ж это такое, если не помешательство?
Удивляться ли после того, что апостолов принимали по-
рою за пьяных и что Павел показался безумным судье
Фесту! Но поскольку я уж начала рассуждать, то про-
должу и докажу вам, что блаженство, которого христиа-
не стараются достигнуть ценою стольких мучений и тру-
дов, есть не иное что, как некая разновидность безумия.
Не гневайтесь на мои слова и лучше постарайтесь уразу-
меть их.
Во-первых, христиане согласны с учениками Плато-
на 30 в том, что душа человеческая скована цепями тела,
увязла в нем, словно в грязи, и именно поэтому не способ-
на постигнуть истину и насладиться ею. Сам Платон оп-
ределил философию как размышление о смерти, ибо по-
добно этой последней философия поднимает душу над
видимыми, телесными вещами. Мы привыкли называть
человека здоровым, пока душа его должным образом
пользуется телесными органами; когда же, порвав свои
путы, она пытается обрести свободу и словно замышляет
побег из темницы, то мы называем такое состояние поме-
шательством. Если означенные явления вызваны бо-
лезнью либо повреждением внутренних органов, никто не
усомнится в том, что это безумие. И, однако, мы видим,
что люди, охваченные подобным безумием, предсказыва-
ют будущее, знают чужеземные языки и науки, которых
никогда прежде не изучали, и вообще представляются во
многих отношениях существами как бы божественными.
Все это, без сомнения, приходится объяснять тем, что
душа, частично освобожденная от власти тела, проявляет
свою природную силу. Здесь же, как я полагаю, таится и
причина того, что умирающие, как бы вдохновленные бо-
жественным дуновением, изрекают порой поразительные
вещи. Если благочестие и не вполне совпадает с выше-
описанной разновидностью безумия, то все же так близко
с нею соприкасается, что большинство людей почитает
набожность простым помешательством, особенно когда
видит тех немногих, которые всей своей жизнью столь
резко отличаются от прочих смертных. Подобным обра-
18
зом в известной аллегории Платона люди, сидящие ско-
ванными в пещере, созерцают только тени и подобия
вещей. Один из узников выбегает наружу, видит самые
вещи и, воротившись обратно в пещеру, начинает убеж-
дать остальных, что они заблуждаются и ничего не знают,
кроме теней. Мудрец скорбит об их безумии, ибо они
упорно держатся за свою ошибку, а они в свой черед из-
деваются над ним, как над помешанным, и изгоняют его.
Вот точно так же люди, занятые одними телесными ве-
щами, склонны думать, что ничего другого не существу-
ет. Напротив, благочестивые праведники презирают все,
имеющее отношение к телу, и стремятся лишь к созер-
цанию невидимого мира. Первые больше всего помыш-
ляют о собирании богатств, затем — об удовлетворении
своих телесных нужд и только в самую последнюю оче-
редь — о своей душе (если они вообще допускают ее су-
ществование, веря лишь в то, что доступно глазу). Вто-
рые поступают как раз наоборот: прежде всего думают
о боге, субстанции простейшей и неизменнейшей, затем
помышляют о своей душе, которая всего ближе к боже-
ству, но не желают заботиться о теле, презирают деньги,
словно мякину, и, едва завидев их, обращаются в бегство.
Если иногда, по необходимости, им приходится занимать-
ся житейскими делами, они едва справляются с отвраще-
нием, относясь к своей собственности так, точно она не
принадлежит им вовсе. Даже в малых вещах разительно
сказывается различие между людьми, живущими по уста-
вам мира сего, и благочестивыми праведниками.
Хотя все чувственные способности зависят от тела,
есть между ними такие, которые кажутся грубее других.
Таковы осязание, слух, зрение, обоняние, вкус. Другие —
гораздо более независимы, например память, рассудок,
воля. Праведники, со всею силою души устремляясь к
тому, что не имеет ничего общего с внешним миром, ста-
новятся тупыми и бесчувственными к телесным впечатле-
ниям. И напротив, заурядные люди наибольшее значение
придают внешним чувствам и наименьшее — внутренним.
Этим объясняется, между прочим, и то, что многие свя-
тые мужи, случалось, пили вместо вина масло. Среди
страстей и душевных чувствований есть также такие, ко-
торые кажутся особенно телесными, как, например, плот-
ское вожделение, голод, сонливость, гнев, гордость, за-
висть. Праведники ведут с ними непримиримую войну, а
толпа уверена, что без них и прожить невозможно. Кроме
19
того, существуют страсти, так сказать, нейтральные,
словно бы естественные; таковы любовь к отечеству,
нежность к детям, к родителям, к друзьям. Толпа платит
всему этому немалую дань, но праведники всячески ста-
раются изгнать из своей души все названные склонности
или по крайней мере сообщают им духовный характер,
так что даже отца своего любят уже не как отца (ибо что
он породил на свет, кроме тела? Да и тем обязан не себе
самому, а богу-творцу), но как славного мужа, в коем
отраженно сияет образ верховного разума, называемого
ими верховным благом. Вне этого блага они не знают ни-
чего, достойного любви и стремлений.
Этим правилом руководствуются люди благочестивые
и во всех прочих житейских делах: ежели они не совсем
презирают какую-либо видимую вещь, то все же ценят
ее гораздо ниже того, что недоступно оку. Они различа-
ют плоть и дух даже в таинствах и в других церковных
обрядах. Так, они не верят, в отличие от большинства лю-
дей, будто пост состоит только в воздержании от мяса и
отказа от вечерней трапезы, но проповедуют пост духов-
ный, заключающийся в умерщвлении страстей, подавле-
нии гнева и гордости, дабы дух, не удручаемый бременем
плоти, мог с тем большей силой устремиться к познанию
небесных благ. Также мыслят они и об евхаристии: если
обрядом причастия, говорят они, и не следует пренебре-
гать, то все же он не столь спасителен, как это обычно
полагают. Он даже может сделаться вредным, если в нем
не будет духа, т. е. воспоминания о тех событиях, кои
изображаются при помощи чувственных знамений. Зна-
мения же напоминают нам о смерти Иисуса Христа, и
христиане обязаны подражать этой смерти, укрощая, по-
давляя и словно погребая свои страсти, дабы воскрес-
нуть для новой жизни и соединиться со Христом Иисусом,
соединяясь в то же время друг с другом. Такова жизнь,
таковы постоянные помышления праведников. Напротив,
толпа не видит в богослужении ничего, кроме обязанно-
сти становиться поближе к алтарю, прислушиваться к гу-
дению голосов и глазеть на обряды.
Не только в указанных мной для примера случаях, но
и во всех обстоятельствах жизни убегает праведник от
всего, что связано с телом, и стремится к вечному, неви-
димому и духовному. И так как отсюда рождаются по-
стоянные несогласия между ним и остальными людьми,
он упрекает их в безумии, а они отвечают ему тем же.
20
Я же полагаю, что название безумца больше подобает
праведникам, нежели толпе.
Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обе-
щанию, в немногих словах докажу, что награда, обещан-
ная праведникам, есть не что иное, как своего рода по-
мешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное,
когда написал, что «неистовство дарует влюбленным наи-
высшее блаженство». В самом деле, кто страстно любит
другого, тот живет уже не в себе, но в любимом предме-
те, и, чем более он от себя удаляется, дабы прилепиться
душою к этому предмету, тем более ликует. Но когда
душа словно бы покинула тело и уже не в силах управ-
лять телесными членами, то как прикажете назвать такое
состояние, если не исступлением? Это подтверждают и
общераспространенные поговорки: «Он вне себя», «Он
вышел из себя», «Он пришел в себя». Далее, чем совер-
шеннее любовь, тем сильнее неистовство и тем оно бла-
женнее. А теперь задумаемся, какова та небесная жизнь,
к которой с такими усилиями стремятся благочестивые
сердца? Их дух, мощный и победоносный, должен погло-
тить тело. Ему тем легче будет совершить это, что тело,
очищенное и ослабленное всей предыдущей жизнью, уже
подготовлено к подобному превращению. А затем и са-
мый дух этот будет поглощен бесконечно более могуще-
ственным верховным разумом, и тогда человек, оказав-
шись всецело вне себя, ощутит несказуемое блаженство
и приобщится к верховному благу, все в себя вобравше-
му. Хотя блаженство это может стать совершенным лишь
в миг, когда усопшие души, соединившись с прежними
своими телами, получат бессмертие, однако, поскольку
жизнь праведников есть лишь тень вечной жизни и непре-
станное размышление о ней, им позволено бывает зара-
нее отведать обещанной награды и ощутить ее благоуха-
ние. И одна эта малая капля из источника вечного бла-
женства превосходит все телесные наслаждения в их со-
вокупности, все утехи, доступные смертным. Вот в какой
мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвы-
шается над видимым! Именно об этом вещал пророк, го-
воря: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим
его». Такова эта частица Мории, которая не отъемлется
при разлучении с жизнью, но, напротив, безмерно возра-
стает. Эта малая капля трижды блаженной Глупости до-
стается на земле лишь немногим. Они уподобляются бе-
21
зумцам, говорят несвязно, не обычными человеческими
словами, но издавая звуки, лишенные смысла, и строят
какие-то удивительные гримасы. Они то веселы, то пе-
чальны, то льют слезы, то смеются, то вздыхают и вооб-
ще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, они гово-
рят, что сами не знают, где были — в теле своем или вне
тела, бодрствовали или спали; они не помнят, что слы-
шали, что видели, что говорили, что делали, все случив-
шееся представляется им как бы в дымке тумана или сно-
видения. Одно они знают твердо: беспамятствуя и безум-
ствуя, они были счастливы. Поэтому они скорбят о том,
что снова образумились, и ничего другого не желают, как
вечно страдать подобного рода сумасшествием. Таково
скудное предвкушение вечного блаженства.
Эразм Роттердамский. Похвала глупо-
сти. М., 1958, стр. 238—251.
Мишель Монтень
Из работы
«ОПЫТЫ»
АПОЛОГИЯ РАЙМУНДА САБУНДСКОГО
То, что мы меньше всего зна-
ем, лучше всего годится для обожествления; вот почему
делать из нас богов, как поступали древние, есть пока-
затель полнейшего ничтожества человеческого разума.
Я бы скорее понял тех, кто поклоняется змее, собаке или
быку, поскольку, меньше зная природу и свойства этих
животных, мы можем с большим основанием думать о
них все, что нам хочется, и приписывать им необычай-
ные способности. Но делать богов из существ, обладаю-
щих нашей природой, несовершенство которой нам дол-
жно быть известно; приписывать богам желания, гнев,
мстительность; заставлять их заключать браки, иметь
детей и вступать в родственные связи, испытывать лю-
бовь и ревность; наделять их частями нашего тела, на-
шими костями, нашими недугами и нашими наслажде-
ниями, нашими смертями и нашими похоронами — все
это можно объяснить лишь чрезмерным опьянением че-
ловеческого разума.
22
Это все равно что обожествлять не только веру, доб-
родетель, честь, согласие, свободу, победу, благочестие,
но и вожделение, обман, смертность, зависть, старость,
страдания, страх, лихорадку, злополучие и другие на-
пасти нашей изменчивой и бренной жизни...
Египтяне без стеснения предусмотрительно запре-
щали под страхом смерти говорить о том, что их боги Се-
рапис и Изида были когда-то людьми, хотя это было всем
известно. Их изображали с прижатым к губам пальцем,
что, по словам Варрона, означало таинственное прика-
зание жрецам хранить молчание об их смертном проис-
хождении,— иначе они неминуемо лишились бы всякого
почитания.
Ксенофан шутя заявлял, что если животные создают
себе богов (а это вполне правдоподобно!), то они, не-
сомненно, создают их по своему подобию и так же пре-
возносят их, как и мы. Действительно, почему, напри-
мер, гусенок не мог бы утверждать о себе следующее:
«Внимание Вселенной устремлено на меня; земля слу-
жит мне, чтобы я мог ходить по ней; солнце — чтобы
мне светить; звезды — чтобы оказывать на меня свое
влияние; ветры приносят мне одни блага, воды — дру-
гие; небосвод ни на кого не взирает с большей благо-
склонностью, чем на меня; я любимец природы. Разве
человек не ухаживает за мной, не дает мне убежище и не
служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он
съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими
сотоварищами — людьми, а я поедаю червей, которые
точат и пожирают его». Сходным образом мог бы рас-
суждать о себе журавль, и даже более красноречиво, ибо
он свободно летает в этой прекрасной небесной выси и
владеет ею...
Боги наделяются теми способностями, которые нуж-
ны человеку: один исцеляет лошадь, другой — людей;
один лечит чуму, другой — паршу, третий — кашель;
один лечит такой-то вид чесотки, другой — такой-то.
Один бог содействует произрастанию винограда, дру-
гой— чеснока; один покровительствует разврату, дру-
гой — торговле; у ремесленников всякого рода — свой
особенный бог; каждый бог имеет свою область: один
чтится на востоке, другой — на западе.
Некоторые боги имеют в своем распоряжении всего
лишь какую-нибудь деревню или владеют всего-навсего
одним семейством; некоторые боги живут в одиночестве,
23
другие — в добровольном или вынужденном союзе друг
с другом.
Мишель Монтень. Опыты, книга вто-
рая. М.—Л., 1958, стр. 218—219, 236—238.
Томас Гоббс
«ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ,
ФОРМА И ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА
ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО»
Глава XI
О РАЗЛИЧИИ МАНЕР
Любознательность, или лю-
бовь к познанию причин, заставляет людей переходить
от наблюдения последствий к отысканию их причин, а за-
тем к отысканию причин этих причин, так что в конце
концов они должны прийти к тому заключению, что есть
некая причина, которая не обусловлена никакой предше-
ствовавшей причиной, а является вечной. И эту первую
причину люди называют богом. Таким образом, нельзя
углубиться в исследование естественных причин, не став
склонным верить в существование предвечного бога, хотя
нельзя иметь о нем в уме никакого представления, кото-
рое было бы адекватно его природе. Точно так же, как
слепорожденный, который слышит от людей, что они гре-
ются у огня, и сам испытывает на себе это действие огня,
может легко понять и питать твердую уверенность, что
есть что-то такое, что люди называют огнем и что явля-
ется причиной ощущаемой им теплоты, и все же при этом
не может себе представить, как этот огонь выглядит, и
не может иметь в уме представления, равного представ-
лению тех, кто видит этот огонь,— точно так же и чело-
век при виде изумительного порядка, царящего в явле-
ниях нашего мира, может понять, что имеется какая-то
причина этого, но не может иметь в своем уме ни идеи, ни
образа этой причины.
А что касается тех людей, которые мало занимаются
или совсем не занимаются исследованием естественных
24
причин вещей, то обусловленный этим незнанием страх
перед тем, что имеет силу причинить им много добра и
зла, делает их склонными предполагать и воображать
существование разного рода невидимых сил, благоговеть
перед образами своего собственного воображения, призы-
вая их помощь в моменты несчастий и вознося им благо-
дарность при предвидении успеха, делая, таким образом,
своими богами творения собственной фантазии. Так слу-
чилось, что из бесконечного разнообразия образов своей
фантазии люди сотворили бесконечное количество богов.
И этот страх невидимых вещей есть естественное семя
того культа, который каждый называет религией, по-
скольку он его сам исповедует, и суеверием, поскольку
другие иначе, чем он сам, почитают эту силу или боятся
ее.
А так как это семя религии было замечено многими,
то некоторые из тех, кто его заметил, были склонны пи-
тать и развивать его и превратить в законы, прибавив к
ним еще собственного изобретения различные мнения о
причинах будущих событий, думая приобрести таким пу-
тем наилучшую возможность управлять другими и из-
влечь для себя наибольшую выгоду из их сил.
Глава XII
О РЕЛИГИИ
Ввиду того что все призна-
ки, все плоды религии находятся лишь в человеке, то нет
никакого основания сомневаться в том, что и семя рели-
гии находится лишь в человеке и состоит в некотором
специфическом качестве или по крайней мере в таком
значительном развитии этого качества, которого нельзя
найти в других живых созданиях.
Во-первых, человеческой природе свойственно доиски-
ваться причин наблюдаемых событий. Такая любозна-
тельность свойственна некоторым людям в большей, дру-
гим в меньшей степени, но всем людям в такой мере, что-
бы доискиваться причин своего счастья и несчастья.
Во-вторых, при виде какой-нибудь вещи, имеющей
начало, человеку свойственно также думать, что эта вещь
имеет причину, почему вещь началась именно в данный
момент, а не раньше или позже.
В-третьих, в отличие от животных, которые в силу от-
сутствия у них способности наблюдать и запоминать по-
25
рядок, последовательность и взаимную зависимость ви-
димых ими вещей обладают в малой степени или совсем
не обладают способностью предвидеть будущее и счастье
которых поэтому состоит лишь в ежедневном удовлетво-
рении их потребности в пище, покое и похоти,— в отли-
чие от животных человек замечает, как одно событие
производит другое, и запоминает в них предыдущее и по-
следующее. А если он не может удостовериться в истин-
ных причинах вещей (ибо причины благополучия и не-
благополучия большей частью бывают скрыты), то он
строит такие предположения насчет этих причин, какие
ему внушает его собственная фантазия, или он полагает-
ся на авторитет других людей, а именно тех, кого он рас-
сматривает как друзей и считает более мудрыми, чем он
сам.
Первые два свойства человеческой природы являют-
ся источником беспокойства. Ибо, удостоверившись в
том, что все вещи, как те, которые имели место до сих
пор, так и те, которые будут иметь место впоследствии,
имеют свои причины, человек при своих непрерывных
усилиях обеспечить себя против зла, которого он боится,
и приобрести благо, к которому стремится, не может не
быть в постоянной заботе о будущем.
Таким образом, все люди, особенно те, кто наиболее
прозорлив, находятся в положении, подобном положению
Прометея. Подобно тому как Прометей (под которым
следует разуметь разумного человека) был прикован к
скале Кавказа, с которой открывался широкий вид и где
орел, расклевывая его печень, пожирал днем то, что от-
растало за ночь, точно так же и человек, слишком дале-
ко заглядывающий вперед, в своей заботе о будущем тер-
зается все время страхом смерти, бедности или другого
бедствия, имея отдых или передышку от своего беспокой-
ства разве лишь во время сна.
Этот постоянный страх, всегда сопровождающий че-
ловеческий род, шествующий как бы во тьме благодаря
незнанию причин, должен по необходимости иметь какой-
нибудь объект. Вот почему, когда нельзя найти видимого
объекта, люди считают виновником своего счастья или
несчастья невидимого агента или невидимую силу. В этом
смысле, может быть, следует понимать слова некоторых
древних поэтов, говоривших, что боги были первоначаль-
но созданы человеческим страхом, и это в отношении бо-
гов (т. е. в отношении многобожия язычников) совершен-
26
но справедливо. Однако признание единого бога, пред-
вечного, бесконечного и всемогущего, может быть легче
выведено из желания людей познать причины естествен-
ных тел и их различных свойств и действий, чем из страха
людей перед тем, что с ними может случиться в будущем.
Ибо тот, кто при наблюдении чего-либо совершающегося
перед ним будет исследовать ближайшую и непосредст-
венную причину этого и отсюда перейдет к исследованию
причины этой причины и, таким образом, углубится в ис-
следование всего последовательного ряда причин, дол-
жен будет в конце концов прийти к заключению, что су-
ществует (как это признавали даже языческие филосо-
фы) первичный двигатель, т. е. первичная и предвечная
причина всех вещей. А это именно то, что люди разумеют
под именем бог. К мысли о едином боге, таким образом,
люди приходят помимо всякой мысли об их судьбе, забо-
та о которой делает их склонными к страху и отклоняет
их от исследования причин других вещей и этим дает
повод к измышлению стольких богов, сколько есть лю-
дей, измышляющих их.
Что же касается материи, или субстанции, выдуман-
ных невидимых агентов, то путем естественного размыш-
ления люди могли прийти лишь к тому представлению,
что эта материя, или субстанция, однородна с материей,
или субстанцией, человеческой души и что человеческая
душа по своей субстанции сходна с тем, что представля-
ется человеку в сновидении, или с тем, что представляет-
ся бодрствующему человеку, когда он смотрится в зерка-
ло. Не зная, что эти последние явления суть не что иное,
как порождение фантазии, люди считают их реальными и
существующими вовне субстанциями и поэтому называют
их привидениями точно так же, как римляне называли
их imagines [образы] и umbrae [тени], и считают их ду-
хами, т. е. тонкими воздушными телами, и полагают, что
те невидимые агенты, которых они боятся, похожи на них
с той лишь разницей, что они появляются и исчезают по
своему произволу. Однако мнение о том, будто такие
духи бестелесны, или нематериальны, никогда не могло
прийти в голову кому бы то ни было естественным путем,
ибо, хотя люди могут сочетать взаимопротиворечащие
слова, как дух и бестелесный, однако они не могут иметь
представления о какой-либо вещи, соответствующей та-
кому словосочетанию. Вот почему люди, пришедшие соб-
ственным размышлением к признанию бесконечного, все-
27
могущего и предвечного бога, предпочитают признать его
непостижимым и превышающим силу их разумения, чем
определить его естество словами бестелесный дух и за-
тем признать, что это определение непонятно, или если
они дают ему такой титул, то это делается в догматиче-
ском смысле, т. е. не с намерением сделать понятным бо-
жественное естество, а из благочестивого желания выра-
зить свое благоговение приписыванием ему атрибутов,
значение которых наиболее далеко от грубости видимых
тел.
Что касается затем предполагаемого пути, каким эти
невидимые агенты производят свои действия, т. е. какими
непосредственными причинами они пользуются, застав-
ляя события совершаться, то люди, не знающие, что пред-
ставляет собой то, что мы называем причинностью (т. е.
почти все люди), могут строить свои догадки на этот
счет, руководствуясь не правилами, которых у них нет,
а наблюдениями и воспоминаниями последовательности
определенных явлений во времени без выявления их за-
висимости или связи. Вот почему они ждут в будущем та-
кой же последовательности событий, какую они наблюда-
ли в прошлом, и суеверно ожидают счастья или несчастья
от вещей, которые не стоят ни в какой причинной связи
с этим. Так поступили афиняне, требовавшие для своей
войны при Лепанто другого Формиона, и партия Помпея,
требовавшая для войны в Африке другого Сципиона, и
так поступали с тех пор другие в различных иных случа-
ях. Подобным же образом люди приписывают влияние на
свою судьбу чьему-либо присутствию, счастливому или
несчастному месту, каким-нибудь произнесенным словам,
особенно если при этом было произнесено имя бога, на-
пример колдованию и заклинаниям (литургия ведьм),
причем доходят до того, что верят, будто колдовство и за-
клинания имеют силу превратить камень в хлеб, хлеб —
в человека или любую вещь — в любую иную вещь.
В-третьих, что касается почестей, которые люди, есте-
ственно, воздают невидимым силам, то они могут иметь
лишь те формы выражения, которые они применяли бы
по отношению к людям, а именно: дары, просьбы, благо-
дарности, покорность, почтительные обращения, скром-
ное поведение, обдуманные слова, клятвы (т. е. уверение
друг друга в исполнении данных обещаний) —при при-
зыве их на помощь. Сверх этого разум ничего не подска-
зывает, а предоставляет людям или довольствоваться
28
этими формами, или полагаться в отношении дальнейших
церемоний на тех, кого они считают умнее себя.
Наконец, что касается того, как эти невидимые силы
объявляют людям то, что должно произойти в будущем,
особенно то, что касается их будущей судьбы вообще или
успеха или неуспеха в каком-либо частном предприятии,
то в этом отношении люди, естественно, находятся в за-
труднении. Однако, имея привычку гадать о будущем на
основании прошлого, люди весьма склонны не только
принять случайные вещи после одного или двух случаев
за предзнаменование подобных же случаев в будущем, но
и верить также предсказаниям других людей, о которых
они однажды составили себе хорошее мнение.
И в этих четырех вещах: в представлении о привиде-
ниях, незнании вторичных причин, покорности по отно-
шению к тому, чего люди боятся, и в принятии случайных
вещей за предзнаменования — состоит естественное семя
религии, которое в силу различных фантазий, суждений
и страстей разных людей развилось в церемонии, столь
различные, что те, которые практикуются одним челове-
ком, в большинстве случаев кажутся смешными другому.
Томас Гоббс. Избранные произведения
в двух томах, т. 2. М., 1964, стр. 134—
139.
Ж. Мелье
Из работы
«ЗАВЕЩАНИЕ»
МЫСЛИ И ЧУВСТВА АВТОРА ПО ПОВОДУ
РЕЛИГИИ МИРА
Итак, мои дорогие друзья,
источник всех зол, обрушивающихся на вас, и всего об-
мана,— увы! — держащего вас в плену заблуждений и
нелепых суеверий, а также во власти тиранических зако-
нов сильных мира сего, заключается не в чем ином, как
в возмутительной политике людей, о которых я говорил
выше. Одни стремятся несправедливо властвовать над
себе подобными, другие желают приобрести некую сует-
ную славу святости, а иногда даже божественности; те и
другие не только искусно пользовались силой и наси-
лием, но прибегали также ко всякого рода хитростям и
уловкам, чтобы одурманить народ и тем легче добиться
29
своих целей. Таким образом, обе категории этих хитрых
и лукавых политиков, злоупотребляя слабостью, легко-
верием и невежеством беспомощной и непросвещенной
народной массы, без труда заставили ее поверить во все,
что им надо было, а затем принять, с благоговением и
покорностью, волей или неволей, все навязанные ей за-
коны. С помощью таких средств одни заставляли почи-
тать и даже обоготворять себя, как божества или как
лиц особой святости, специально посланных теми или
другими богами, чтобы сообщить волю последних прочим
людям, другие стали богатыми, могущественными и гроз-
ными в мире; а когда те и другие при помощи этих уло-
вок стали достаточно богатыми, могущественными, влия-
тельными и грозными, чтобы заставить бояться себя и
повиноваться себе, они открыто и тиранически подчинили
своих ближних своим законам.
Большую помощь при этом им оказали раздоры, спо-
ры, распри и вражда, часто возникающие среди людей,
потому что большинство людей весьма отличается друг
от друга по своему характеру, уму и склонностям и не
может долгое время уживаться друг с другом без ссор и
распрей. Во время таких смут и раздоров те, которые
оказываются самыми сильными и смелыми — возможно,
также самыми злыми,— не упускают случая воспользо-
ваться этими обстоятельствами, чтобы легче подчинить
окружающих своему безусловному господству.
Вот, дорогие друзья, подлинный источник и истинное
происхождение всех тех зол, которые производят смяте-
ние в человеческом обществе и делают людей несчаст-
ными в их жизни. Вот источник и происхождение всех
заблуждений, всего обмана, всех суеверий, мнимых бо-
жеств и идолопоклонства, к несчастью распространив-
шихся по всей земле. Вот происхождение и источник все-
го того, что вам объявляют самым святым и священным
и заставляют благоговейно называть религией. Вот
источник и происхождение всех этих якобы святых и не-
рушимых законов, которые под предлогом благочестия и
религии вас заставляют неукоснительно соблюдать, как
якобы данные самим богом. Вот источник всех тех пыш-
ных, но пустых и смешных обрядов, которые с показной
торжественностью проделывают ваши священники при
своих мнимых священнодействиях и своем ложном слу-
жении богу. Одним словом, вот источник и происхожде-
ние всего того, что вас заставляют почитать и уважать,
30
как божество или как безусловно божественное. Вот так-
же источник и происхождение всех этих гордых титулов
и названий: сеньор, государь, король, монарх, властелин;
носители их, управляя вами, на деле угнетают вас, как
тираны; под предлогом общественного блага они похи-
щают у вас все самое прекрасное и самое лучшее; под
предлогом божественного происхождения своей власти
они заставляют почитать, бояться и слушаться их самих,
как богов. И наконец, вот начало и происхождение всех
прочих тщеславных названий: благородный, дворянин,
граф и т. д., которыми кишит земля, по выражению од-
ного автора; почти все эти люди — словно хищные волки,
под предлогом своих прав и власти они угнетают вас,
попирают вас, грабят, отнимают у вас самое лучшее. Вот
также начало и происхождение всех якобы святых и свя-
щенных привилегий церковной и духовной власти, кото-
рую ваши священники и епископы захватили над вами;
под предлогом приобщения вас к духовным благам бла-
годати и милости божьей они хитроумно лишают вас
благ, несравненно более реальных и существенных, чем
те, которые они сулят вам; под предлогом открыть вам
царствие небесное и сподобить вас вечного блаженства
они препятствуют вам спокойно пользоваться всяким
подлинным счастьем здесь, на земле; наконец, под пред-
логом спасения вас на том свете от воображаемых мук
ада, на самом деле не существующих, как и вечная по-
тусторонняя жизнь, они внушают вам страхи и надежды,
вредные для вас и [бесполезные?] для них, и заставляют
вас терпеть настоящие муки ада в этой жизни, единст-
венной, на которую вы можете рассчитывать...
Казалось бы, по крайней мере в данном случае, что
религия и политика не могут ужиться друг с другом, что
они должны были бы составлять контраст и противоре-
чить одна другой, так как религия с ее кротостью и бла-
гочестием должна осуждать суровый и несправедливый
режим тирании. С другой стороны, казалось бы, рассуди-
тельная и мудрая политика должна осуждать и подав-
лять злоупотребления, заблуждения и обман ложной ре-
лигии. Верно, что так должно быть; но то, что должно
быть, не всегда происходит в действительности. Итак,
хотя на первый взгляд религия и политика столь проти-
воположны и противоречат одна другой по своим прин-
ципам, на самом деле они неплохо уживаются друг с
другом, как только заключат между собой союз и друж-
31
бу; можно сказать, что с этого момента они уживаются
между собой, как два вора-карманника, которые защи-
щают и поддерживают друг друга. Религия поддержива-
ет даже самое дурное правительство, а правительство в
свою очередь поддерживает даже самую нелепую, самую
глупую религию. Священники призывают свою паству под
страхом проклятия и вечных мук повиноваться начальст-
ву, князьям и государям, как власти, поставленной от
бога. В свою очередь государи заботятся о престиже свя-
щенников, наделяют их жирными бенефициями и богаты-
ми доходами, поддерживают их в пустых и шарлатанских
функциях их богослужения и заставляют народ считать
святым и священным все, что они делают и чему они
учат,— все это прикрывается благовидным предлогом ре-
лигии и служения богу. Вот вам еще один способ, при
помощи которого воцарились в мире обман, заблужде-
ния, суеверия, иллюзии, мистификации, продолжающие
существовать к великому несчастью бедных народов, из-
нывающих под их тяжким бременем.
Быть может, вы подумаете, дорогие друзья, что из
множества существующих в мире ложных религий я на-
мерен сделать исключение по крайней мере для католи-
ческой религии, которую мы все исповедуем и о которой
говорим, что только она учит истине, признает и почитает
как следует истинного бога, ведет человека по истинно-
му пути спасения и вечного блаженства. Однако не
обольщайтесь, дорогие друзья, не обольщайтесь ни этим,
ни вообще всем тем, что внушают вам ваши набожные и
невежественные или циничные и корыстные священники
и богословы, всем тем, что они преподносят вам под ви-
дом их якобы непогрешимой, святой и божественной ре-
лигии. Вы тоже совращены и обмануты не в меньшей
мере, чем другие, наиболее обманутые. Вы заблуждае-
тесь не меньше тех, которые глубже всего погрязли в су-
евериях. Ваша религия не менее призрачна, не менее суе-
верна, чем все другие; она не менее ложна в своих осно-
ваниях, не менее смешна и нелепа в своих догмах и пра-
вилах; вы не менее идолопоклонники, чем те, которых вы
сами порицаете и осуждаете за идолопоклонство. Ваши
представления отличаются от представлений язычников
только по виду. Короче говоря, все, что ваши богословы
и священники с таким пылом и красноречием пропове-
дуют вам о величии, превосходстве и святости таинств,
которым они заставляют вас поклоняться, все, что они с
32
такой серьезностью рассказывают вам об их мнимых чу-
десах, все, что они с таким рвением и уверенностью рас-
писывают вам о небесных наградах и о страшных адских
муках,— все это, в сущности, не что иное, как иллюзии,
заблуждения, обман, измышление и надувательство: их
выдумали вначале хитрые и тонкие политики, повторяли
за ними обманщики и шарлатаны, потом этому слепо по-
верили невежественные и темные люди из народа, и, на-
конец, это поддержано было властью государей и силь-
ных мира, которые потворствовали обману и заблужде-
ниям, суевериям и шарлатанству и закрепили их своими
законами для того, чтобы таким путем держать в узде
массы и заставлять их плясать под свою дудку.
Вот каким образом, дорогие друзья, правители по-
ступали и поступают с народом, самонадеянно и безна-
казанно злоупотребляя именем и авторитетом божьим
для того, чтобы заставить почитать и бояться себя, вме-
сто того чтобы поклоняться и служить воображаемому
богу, могуществом которого они вас запугивают. Вот как
они злоупотребляют показным именем благочестия и ре-
лигии, чтобы внушать слабым и темным людям все, что
им вздумается. Вот как они, наконец, опутывают весь
мир ненавистными мистериями обмана и несправедливо-
сти, тогда как и те и другие [гражданская и церковная
власть] должны были бы отдать свои силы исключитель-
но на установление повсеместно царства мира, справед-
ливости и истины, которое сделало бы все народы мира
счастливыми и довольными.
Я сказал, что они повсюду простирают сеть неспра-
ведливости. Все эти скрытые пружины тонкой политики,
а также благочестивые религиозные правила и обряды
на самом деле являются не чем иным, как мистериями
обмана и несправедливости. При этом я имею в виду весь
тот бедный люд, который, к несчастью, оказывается оду-
раченным подобными мистериями и является игрушкой и
несчастной жертвой сильных мира сего. Но для правите-
лей и их сообщников, а также для священников, которые
управляют совестью людей и обеспечены тепленькими
местечками,— это золотое дно, рог изобилия, доставляю-
щий им, как по мановению жезла, все блага. Это позво-
ляет этим господам развлекаться и жить в свое удоволь-
ствие, тогда как нищий народ, который находится в сети
религиозного кошмара и суеверий, тяжко и горько взды-
хает и все же смиренно несет иго сильных мира сего; он
33
терпеливо переносит свои невзгоды и утешает себя тщет-
ными молитвами, возносимыми к не слушающим его бо-
гам и святым; предается пустым религиозным обрядам,
исполняет все покаяния, налагаемые на него после мни-
мого и суеверного исповедания грехов, и денно и нощно
работает не покладая рук, чтобы кровью и потом добыть
себе свое нищенское пропитание и обеспечить приволь-
ное и радостное житье виновникам всех его несчастий.
Ах, дорогие друзья, если бы вы знали всю бессмыс-
ленность и вздорность тех сказок, которыми вас кормят
под предлогом религии, если бы вы знали, как несправед-
ливо и возмутительно злоупотребляют властью, захва-
ченной над вами под предлогом управления вами, вы, не-
сомненно, лишь презирали бы все то, перед чем вас за-
ставляют преклоняться, и воспылали бы ненавистью и
негодованием ко всем тем, кто эксплуатирует вас, так
дурно управляет вами, так гнусно обращается с вами.
ВСЕ РЕЛИГИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ,
ИЛЛЮЗИЯМИ И ОБМАНОМ
Итак, знайте, друзья мои,
что всякий культ и поклонение богам есть заблуждение,
злоупотребление, иллюзия, обман и шарлатанство; что
все законы и повеления, издаваемые именем и властью
бога и богов,— не что иное, как измышление человека,
точно так же, как все великолепные празднества и жерт-
воприношения и прочие действия религиозного и культо-
вого характера, совершаемые в честь богов. Все это вы-
думано, как я уже говорил, хитрыми и тонкими полити-
ками, потом обработано и умножено лжепророками, об-
манщиками и шарлатанами, затем слепо принято на веру
невеждами и, наконец, поддержано и закреплено закона-
ми государей и сильных мира сего, которые воспользо-
вались этими выдумками для того, чтобы с их помощью
легче держать в узде народ и творить свою волю, ибо,
в сущности, все эти выдумки не что иное, как узда для
коров, как говорил сьер де Монтень *, они служат лишь
для обуздания умов невежд и простофиль. На мудрых
не наденешь эту узду, они не поддаются ей, только не-
вежды и простофили могут верить этим россказням и
позволить водить себя таким образом за нос. Когда я го-
* Essais de Montaigne, livre II, ch. VI, p. 543.
34
ворю здесь вообще о вздорности и ложности религий
мира, я имею в виду не только языческие и различные
другие религии, которые и вы сами тоже считаете лож-
ными,— я имею в равной мере в виду также вашу хри-
стианскую религию, которую вы называете католической,
апостольской и римской; в самом деле, она не менее
вздорна и ложна, чем всякая другая религия; и пожалуй,
нет религии столь смехотворной и нелепой в своих основ-
ных положениях и главных пунктах, как эта, столь про-
тиворечащей самой природе и здравому смыслу. Я гово-
рю вам это для того, чтобы вы более не поддавались на
удочку ее щедрых обещаний: тот рай с его вечным бла-
женством, который она сулит вам, существует только в
воображении; вы не должны также поддаваться пустым
страхам, внушаемым вам этой религией относительно
ужасных мук несуществующего ада,— я говорю вам это
для того, чтобы вы успокоились умом и сердцем и изба-
вились от этих страхов. Все, что вам толкуют о прелестях
рая и ужасах ада,— пустые сказки. После смерти мы не
можем ни надеяться на хорошее, ни опасаться плохого.
Поэтому благоразумно пользуйтесь временем и живите
хорошо и, если имеете возможность, наслаждайтесь уме-
ренно, мирно и радостно благами жизни и плодами своих
трудов; это — лучшее, что вы можете сделать, так как
смерть, прекращая жизнь, полагает также предел всяко-
му сознанию и всякому чувству добра и зла.
Но так как я пришел к подобным взглядам не по рас-
пущенности, как можно было бы подумать, и не прошу и
даже не хотел бы, чтобы кто-либо из вас или кто другой
верил мне на слово в столь важном деле, так как, напро-
тив, я желаю дать вам возможность самим убедиться в
истинности всего вышесказанного на основании ясных и
вразумительных доводов и доказательств,— я приведу их
вам с такой ясностью и убедительностью, какие только
возможны в любой области знания. Я постараюсь сде-
лать их вам столь очевидными и понятными, что, обла-
дая хоть каплей здравого смысла, вы легко поймете сле-
дующее: вы в плену заблуждений, вас в области религии
морочат всяким вздором; та якобы божественная вера,
которую навязывают вам, не заслуживает с вашей сто-
роны даже просто человеческой веры. Итак, перехожу к
первому из моих доводов и доказательств.
35
ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЩЕТНОСТИ
И ЛОЖНОСТИ РЕЛИГИИ:
ОНИ ЛИШЬ ИЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ясно и очевидно, что выда-
вать чисто человеческие законы за сверхъестественные и
божественные законы и установления является злоупот-
реблением, заблуждением, иллюзией, обманом и шарла-
танством; а между тем несомненно, что все существую-
щие в мире религии являются, как я уже сказал, чисто
человеческим измышлением и установлением. Несомнен-
но, те, кто первые выдумали их, пользовались именем и
авторитетом бога только для того, чтобы легче добиться
принятия желательных им законов и установлений. Не-
обходимо либо признать, что это так, по крайней мере в
отношении большинства религий, либо допустить, что
большинство религий действительно установлено богом,
Но считать, что большинство религий действительно бо-
жественного происхождения, невозможно потому, что
все эти различные религии противоречат одна другой и
сами друг друга осуждают. Ясно, что, поскольку они про-
тивоположны в своих началах и положениях, они не мо-
гут вместе с тем быть истинными и проистекать от одного
и того же якобы божественного начала. Вот почему наши
римско-католические христопоклонники признают, вы-
нуждены признавать, что возможна — самое большее —
только одна истинная религия, и этой единственной,
истинной религией является, как они утверждают, их ре-
лигия. Поэтому они считают основным положением свое-
го учения и своей веры, что существуют только один гос-
подь, одна вера, одно крещение, один бог, одна церковь,
а именно апостольская римско-католическая церковь,
вне которой, как они утверждают, нет спасения. Отсюда
я вывожу с очевидностью следующее заключение: несо-
мненно, что, по крайней мере, большая часть религий
мира является, как я уже сказал, чисто человеческим
измышлением и что те, кто выдумали их, пользовались
именем и авторитетом божьим только для того, чтобы
лучше проводить свои законы и установления и вместе с
тем внушить к себе больше уважения, благоговения и
страха народам, которыми им приходилось управлять и
которых они хотели обмануть при помощи такой хитро-
сти.
36
Послушаем, как рассуждает на эту тему один здраво-
мыслящий автор31 *.
«При виде того,— говорит он,— что род человеческий
поделен между столь многими религиями, противореча-
щими одна другой и осуждающими друг друга, при виде
того, как каждый всячески старается распространить
свою религию путем ухищрений или насилия, но так
мало людей — чтобы не сказать никто — следует в своих
поступках тому, во что они верят и что они исповедуют
с таким жаром, я,— говорит он,— пожалуй, склонен
думать, что все эти различные культы были первона-
чально выдуманы политиками, причем каждый приспо-
соблял свою модель к склонностям того народа, который
он собирался водить за нос. Но когда я,— прибавляет
он,— принимаю, с другой стороны, во внимание, что в бе-
шеном рвении и необоримом упорстве большинства лю-
дей есть, по-видимому, нечто весьма естественное и не-
поддельное, я готов думать вместе с Кардано31, что все
это разнообразие религий зависит от различного влияния
светил... При этом,— говорит он,— в каждой религии
оказывается столь равная видимость истинного и ложно-
го, что, следуя человеческому разуму, он не может опре-
делить, на сторону которой из этих религий ему стать».
Известно, что с помощью именно такого рода хитро-
сти римский царь Нума Помпилий32 смягчил суровые и
дикие нравы своего народа, постепенно, как говорит один
автор, устраняя их грубость и жестокосердие мирными и
благочестивыми религиозными упражнениями и приучая
к последним с помощью празднеств, священных плясок,
песнопений, процессий и т. п. религиозных обрядов; он
сам совершал эти обряды и заставлял участвовать в них
и других под предлогом почитания своих богов. Он на-
учил народ приносить жертвы богам, ввел с этой целью
особый ритуал, объявленный им священным, поставил
жрецов для прославления богов и служения им, объявив
жрецам, что все его действия и приказы исходят от богов
и открываются ему его нимфой или богиней Эгерией.
Точно так же известно, что Серторий, самозваный пред-
водитель испанских войск, прибегал к подобной же хит-
рости, чтобы держать войска полностью в своей власти.
Он легко добился этого, уверив воинов, что белая лань,
которую он постоянно держит при себе, служит ему вест-
* Esp. turc, t. III, lettre 78, edit. 1715.
37
ником богов, по совету которых он принимает все свои
решения. Зороастр33, царь Бактрии, поступил точно так
же со своим народом, убедив его, что издаваемые им за-
коны исходят от бога Ормузда. Трисмегист, царь егип-
тян, тоже дал им свои законы именем и властью бога
Меркурия. Замолксис, царь скифов, дал своему народу
законы от имени богини Весты. Царь Кандии Минос34
обнародовал свои законы от имени бога Юпитера. Зако-
нодатель Халкиды, Харонт, обнародовал свои законы от
имени бога Сатурна. Ликург35, законодатель лакедемо-
нян, обнародовал свои законы от имени бога Аполлона.
Дракон36 и Солон37, законодатели афинян, обнародовали
свои законы от имени богини Минервы и т. д... Моисей,
законодатель евреев, тоже обнародовал свои законы от
имени какого-то бога, который, по его словам, явился
ему в горящей неопалимой купине. Иисус, сын Марии,
прозванный Христом, глава христианской секты и испо-
ведуемой нами религии, тоже уверял своих приближен-
ных, сиречь учеников, что он явился не по своей воле, а
послан богом, его отцом («я от бога исшел и пришел, ибо
я це сам от себя пришел, но он послал меня», Иоанна,
8:42), и что он говорит и поступает только так, как ему
приказывает его отец. «Итак, что я говорю, я говорю, как
сказал мне отец» (Иоанна, 12:50), «как заповедал мне
отец, так и творю» (Иоанна, 14 : 31). Симон, по прозвищу
Маг, долгое время водил за нос жителей Самарии и свои-
ми речами, фокусами и волшебством убедил их, что он
некто великий, и все, слышавшие его, называли его в
один голос великой силой бога: «Здесь есть сила бога,
именуемая великой» (Деяния. 8:8—10). Его ученик Ме-
нандр выдавал себя за спасителя, посланного небом для
спасения людей. Наконец, чтобы не говорить о целом
ряде других, упомянем еще только Магомета; этот зна-
менитый лжепророк установил на всем востоке свои за-
коны и свою религию при помощи того же искусного об-
мана и надувательства. Он внушал своим приверженцам,
что его религия ниспослана с неба через посредство ар-
хангела Гавриила и т. д. Все эти примеры, как и ряд дру-
гих, которые можно было бы привести еще, с достаточной
ясностью показывают, что различные виды религий, су-
ществующие и существовавшие в мире, являются в дей-
ствительности только выдумкой людей и полны заблуж-
дений, обмана, иллюзий и надувательства. Это вызвало
38
следующее суждение здравомыслящего Монтеня *:
«К этому средству прибегали все законодатели,— управ-
ление не обходится без известной примеси выдумки и
фантастики в церемониале, служащих для того, чтобы
держать народ в повиновении. Поэтому происхождение
их большей частью связано с баснями и сверхъестествен-
ными чудесами; по этой же причине рассудительные
люди согласились с ними».
НИ ОДНА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ В МИРЕ РЕЛИГИИ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОЖЕСТВЕННЫМ УСТАНОВЛЕНИЕМ
Каждая религиозная секта
заявляет, что она покоится на авторитете божьем и со-
вершенно свободна от всяких заблуждений, иллюзий, об-
мана и надувательства, имеющих место в других сектах;
поэтому дело тех, кто желает доказать истинность (веро-
учения) своей секты,— показать, что она действительно
божественного происхождения. Каждый должен доказать
это для своей секты с помощью столь ясных, надежных
и убедительных доводов и свидетельств, чтобы не остава-
лось разумных оснований для сомнения; ибо доказатель-
ства и свидетельства, которые не будут носить этого ха-
рактера, всегда можно будет заподозрить в ошибках, ил-
люзиях и обмане; стало быть, они не будут достаточны-
ми доказательствами истины и никто не будет обязан
придавать им веры.
Итак, если никто из утверждающих божественное
происхождение своей религии не в состоянии доказать
это ясными, верными и убедительными доводами и сви-
детельствами, то это является ясным, верным и убеди-
тельным доказательством, что нет ни одной религии дей-
ствительно божественного происхождения и, стало быть,
надо считать несомненным, что все религии — не больше
чем измышления человека и полны заблуждений, иллю-
зий и обмана. Ибо никак нельзя предположить или пове-
рить, что всемогущий бог, которому приписываются бес-
конечная благость и мудрость, пожелал бы дать людям
свои законы и установления без более надежных и под-
линных признаков их достоверности, чем те, которые вы-
думываются бесчисленными обманщиками. Между тем
никто из наших богопоклонников и христопоклонников, к
* Essais de Montaigne, livre II, ch. 16, p. 601.
39
какому бы толку или секте он ни принадлежал, не может
доказать с помощью ясных, надежных и убедительных
доводов, что его религия действительно установлена бо-
гом. Это видно из того, что уже столько веков они спо-
рят между собой по этому вопросу, даже преследуют друг
друга огнем и мечом, защищая каждый свои верования,
а между тем ни один лагерь не мог до сих пор убедить
и уверить другой подобными доводами и свидетельст-
вами. Этого, конечно, не было бы, если бы у той или дру-
гой стороны были ясные, надежные и убедительные осно-
вания, то есть доказательства и свидетельства божест-
венного происхождения своей религии. В самом деле,
ведь никто, ни в какой секте (я говорю: никто из людей
умных, просвещенных и искренних) не желает поддержи-
вать заблуждения и обман; напротив, каждый из них за-
являет, что стоит за истину; а в таком случае действи-
тельным средством устранить все заблуждения и мирно
объединить всех людей на одних и тех же чувствах и на
одной и той же форме религии было бы привести эти
ясные, надежные и убедительные доказательства и сви-
детельства истины и показать, таким образом, людям,
что данная религия, а не какая-либо другая действитель-
но установлена богом. Тогда каждый человек или по
крайней мере все рассудительные люди подчинились бы
этим ясным и убедительным свидетельствам истины, и
никто не осмелился бы выступать против них и держать
сторону заблуждений и обмана, если ему не докажут про-
тивного ясными, надежными и убедительными доводами.
Но так как ни у одной религии нет этих ясных, надеж-
ных и убедительных свидетельств истины, так как их нет
ни в том, ни в другом лагере, это позволяет обманщикам
выдумывать и нагло отстаивать всякого рода ложь; по
той же причине люди, слепо верящие им, так упорно и
ожесточенно защищают каждый свою религию. Вот это
и является ясным и убедительным доказательством, что
все религии ложны и что ни одна из них не установлена
богом.
Итак, я прав был, дорогие друзья, говоря вам, что все
религии мира лишь измышления человека и что вся ми-
ровая практика поклонения богам покоится только на за-
блуждении, обмане, иллюзиях, злоупотреблениях, лжи и
надувательстве. Вот первое доказательство, которое я
должен был представить вам; оно несомненно столь ясно,
сильно и убедительно в своем роде, как только возможно.
40
Но вот вам также другие доказательства, не уступаю-
щие этому и не менее ясно выявляющие ложность рели-
гии, и в частности нашей христианской религии. С по-
мощью этой последней, дорогие друзья, вас держат в пле-
ну у тысячи всякого рода заблуждений и суеверий; я
хотел бы иметь силу освободить вас от них и дать вам
возможность успокоить свой ум и совесть от ложных упо-
ваний и ложных страхов в отношении так называемой за-
гробной жизни. Поэтому я постараюсь, главным образом,
убедительно показать вам вздорность и ложность вашей
религии. Этого будет достаточно, чтобы в то же время
разоблачить перед вами все прочие религии, так как, убе-
дившись в ложности вашей религии, которую вам вы-
ставляли столь чистой, святой и божественной, вы легко
сможете судить о вздорности и ложности всех прочих ре-
лигий.
ВТОРОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ТЩЕТНОСТИ И ЛОЖНОСТИ РЕЛИГИИ:
СЛЕПАЯ ВЕРА, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ ВСЕХ РЕЛИГИЮ-
ИСТОЧНИК ЗАБЛУЖДЕНИЙ, ИЛЛЮЗИИ И ОБМАНА
Вера, на которой построены
все религии, есть не что иное, как принцип заблуждений,
иллюзий и обмана. Я доказываю это следующим обра-
зом. Всякая религия, которая в своих тайнах, вероуче-
нии и морали строится на принципе заблуждений, иллю-
зий, обмана и вечных расколов среди людей, не может
быть истинной религией и истинным божественным уста-
новлением; а между тем все религии, и в первую очередь
христианская религия, строятся в своих тайнах, в своем
вероучении и морали на принципе заблуждений, иллюзий
и обмана. Я не вижу возможности отрицать первую пред-
посылку этого умозаключения: она слишком ясна и оче-
видна, чтобы можно было сомневаться в ней. Перехожу
к доказательству второй предпосылки, а именно, что все
религии, и в особенности христианская, строятся в своих
тайнах, вероучениях и морали на принципе заблуждения,
иллюзий и обмана. Доказать это представляется мне до-
вольно легким делом: в самом деле, ясно и несомненно,
что все религии, и главным образом христианская, стро-
ятся в своих тайнах, вероучениях и морали на том, что
они называют верой, т. е. слепой и вместе с тем твердой
41
и непоколебимой уверенности в существовании того или
иного божества, а также тех или других законов или от-
кровений божества. По необходимости все религии дол-
жны исходить из этого; ибо эта вера в божество и боже-
ственное откровение придает им вес и авторитет, без нее
никто нисколько не считался бы с их учениями и практи-
ческими предписаниями. Вот почему все религии в первую
очередь требуют от своих приверженцев быть твердыми в
вере, т. е. быть твердыми и непоколебимыми в своих ве-
рованиях. Поэтому все наши богопоклонники, и главным
образом наши христопоклонники, исходят из того прави-
ла, что вера есть начало и основа спасения, корень всякой
праведности и освящения, как это подчеркивает Тридент-
ский собор38. Без веры, говорят они, нельзя угодить богу;
желающий приблизиться к богу должен прежде всего ве-
рить, что бог существует и что он воздает ищущим его
(Евр. 11:6).
Итак, явно и несомненно, как я сказал, что все рели-
гии, и главным образом христианская религия, строятся
в своих тайнах, вероучении и морали на вере, которая
является уверенностью в существовании божества и даже
слепой верой в те или иные законы или откровения боже-
ства. Религии требуют, чтобы эта уверенность была твер-
дой и непоколебимой, дабы верующие не легко склоня-
лись к переменам.
Однако эта вера всегда слепа, потому что религии
не дают и не могут дать никаких ясных, надежных и убе-
дительных доказательств своих якобы святых тайн и
мнимых божественных откровений. Они требуют слепой
и наивной веры во все свои утверждения на этот счет,
требуют, чтобы верующий не только не питал никаких
сомнений, но и не доискивался и даже не желал знать,
на чем основаны эти утверждения; они считают дерзно-
венной самонадеянностью и оскорблением божественного
величества, если кто-нибудь из любознательности станет
доискиваться оснований и доказательств того, чему они
учат и во что они заставляют верить как в исходящее от
бога. Вместо всякого основания они ссылаются на пра-
вило, заимствованное из одной своей якобы священной
книги, и считают его грозным приговором. Там сказано,
что, кто слишком доискивается и допытывается тайн бо-
жественного величия, тот будет уничтожен блеском его
славы (Притчи. 25, 27). «Вера,— говорят наши благоче-
стивые христопоклонники,— есть осуществление ожидае-
42
мого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Согласно
их словам, их вера не была бы заслугой, если бы опира-
лась на свидетельства наших чувств и на человеческие
рассуждения. Если послушать их, самое мощное основа-
ние для веры в самые непостижимые и невероятные вещи
заключается в том, что полагаешься исключительно на
веру, т. е. на слепую уверенность во всем том, во что ре-
лигия предписывает верить. Поэтому они считают также
необходимым всецело отказаться здесь от голоса разума
и от всякого свидетельства наших чувств и отдаться пол-
ностью во власть своей веры. Одним словом, они счита-
ют, что твердая вера заключается в слепой вере без рас-
суждений и без попыток искать доказательств.
Однако ясно, что слепая вера во все, что нам препод-
носят именем и авторитетом бога, есть принцип заблуж-
дений, иллюзий и обмана, ибо, как мы видим в действи-
тельности, в области религии нет ни одного заблуждения,
иллюзии и обмана, которые не пытались бы прикрыться
именем и авторитетом бога, и нет также ни одного обман-
щика, который, выдумывая эти заблуждения, иллюзии и
т. д. или распространяя их, не заявлял бы, что получил
особое вдохновение от бога и послан богом. Итак, все ре-
лигии строятся в своих тайнах, вероучении и морали на
слепой вере во все, что они провозглашают от имени
бога; а следовательно, они строятся в своих тайнах, ве-
роучении и морали на принципе заблуждений, иллюзий и
обмана. И так, и так далее.
ОНА (ВЕРА) ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ ЛИШЬ ИСТОЧНИКОМ
И РОКОВОЙ ПРИЧИНОЙ СМУТЫ
И ВЕЧНЫХ РАСКОЛОВ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Эта вера, эта слепая уверен-
ность, которую верующие ставят во главу угла своего ве-
роучения и своей морали, является не только принципом
заблуждений, иллюзий и обмана, но также пагубным
источником смут и вечных расколов среди людей. Каж-
дый стоит за свою религию и за ее мнимо священные
тайны не по соображениям разума, а из упорства и слепо
верит в воображаемую истинность своей религии. Они
могут не считать все другие религии ложными, их слепая
вера обязывает их защищать свою религию даже с опас-
ностью для жизни и своего благосостояния и ценою все-
43
го, что есть у них самого дорогого. Поэтому они не могут
столковаться и никогда не столкуются между собой по
вопросу о своей религии; по той же причине среди них
постоянно возникают не только споры и словопрения, но
также смуты и пагубный раскол. Поэтому также они все
время преследуют друг друга огнем и мечом, защищая
свою безумную веру и свои религии, и нет такого зверст-
ва и жестокости, к которым они не прибегали бы друг
против друга под прекрасным и благовидным предлогом
защиты воображаемой истины своей религии,— безумцы
все до единого! Вот что говорит Монтень по этому пово-
ду: «Никакая вражда не может сравниться с христиан-
ской. Наше рвение творит чудеса, когда оно сочетается
с нашей склонностью к ненависти, жестокости, тщесла-
вию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на
путь благости, доброты и умеренности оно не пойдет ни
мытьем, ни катаньем, если не произойдет словно чудом
какое-нибудь редкое исключение. Наша религия,— при-
бавляет он,— создана для искоренения пороков, но она
сама их покрывает, питает и возбуждает» *. Действитель-
но, никакие войны не могут сравниться по своему крова-
вому и жестокому характеру с войнами, которые ведутся
из-за религии или под предлогом религии, так как каж-
дый бросается в эти войны со слепым пылом и бешенст-
вом и, согласно словам поэта, ставит себе задачей при-
нести неприятеля в жертву богу. «Ярость народа проис-
ходит от того, что каждая местность ненавидит богов со-
седей, убежденная в том, что богами надо считать только
тех, кому поклоняются в этой местности» **. До чего
только не доходят люди, говорит Лабрюйер39, ради рели-
гии, в учении которой они так мало убеждены и которое
они так плохо применяют в своих поступках.
Это доказательство представляется мне до сих пор
вполне очевидным. Нельзя поверить, чтобы всемогущий
бог, предполагаемый всеблагим и всемогущим, пожелал
когда-либо прибегнуть к такому обманчивому пути для
осуществления своих законов и предписаний или для вы-
явления своей воли людям. Ведь это значило бы явно
вводить людей в заблуждение или расставлять им запад-
ню так, чтобы они одинаково могли стать на сторону
лжи или истины. Этого, конечно, никак нельзя ожидать
* Essais de Montaigne, p. 408.
** Ювенал. Сатиры. 15 : 36.
44
от бога, предполагаемого всемогущим, всеблагим и пре-
мудрым. Равным образом нельзя поверить, что бог, лю-
бящий мир и согласие, желающий блага людям и спасе-
ния их, бог, бесконечно совершенный, всеблагий и пре-
мудрый, которого наши христопоклонники сами называ-
ют богом любви, мира, благости, милосердия, утешения
и пр.,— нельзя поверить, чтобы такой бог пожелал бы
основать религию на столь роковом и пагубном источни-
ке смут и вечных распрей среди людей, как упомянутая
слепая вера; эта вера в тысячу и тысячу раз более пагуб-
на для людей, чем то золотое яблоко, которое богиня раз-
дора коварно бросила в собрание богов на свадьбе Пелея
и Фетиды и которое было причиной гибели города и цар-
ства Трои, согласно словам поэтов.
Итак, религии, которые кладут в основу своих тайн и
полагают правилом своего вероучения и морали слепую
веру, т. е. принцип заблуждения, иллюзий, обмана и на-
дувательства и роковой источник смут и вечных раско-
лов среди людей, не могут быть истинными и действи-
тельно установленными самим богом. А так как все рели-
гии, как я показал, строятся в своих тайнах, вероучении
и морали на слепой вере, то из этого с очевидностью сле-
дует, что нет ни одной истинной религии, и нет также ни
одной религии действительно божественного происхож-
дения, и что я, стало быть, был прав, говоря, что все
они — измышление человека и что все, что они выдают за
богов, их законы и предписания, их тайны и мнимые от-
кровения, на самом деле является лишь заблуждением,
иллюзиями, обманом и надувательством. Все это вытека-
ет с очевидностью.
Но я знаю, что наши христопоклонники не преминут
сослаться здесь на свои мнимые основания веры и ска-
жут, что хотя их вера в некотором смысле слепа, тем не
менее она находит себе опору и подтверждение во мно-
жестве ясных, надежных и убедительных свидетельств;
поэтому не соглашаться с ними было бы не только нера-
зумием, но также дерзновенным упорством и даже вели-
чайшим безумием. Обычно все эти мнимые доводы они
сводят к трем или четырем главным положениям или
основаниям.
Первое основание они выводят из чистоты и мнимой
святости их религии, осуждающей, по их словам, все по-
роки и вознаграждающей все добродетели. Вероучение
этой религии, уверяют они, так чисто и свято, что может
45
проистекать только из чистоты и святости всеблагого и
премудрого бога.
Второе основание они заимствуют из безукоризнен-
ности и святости тех людей, которые с такой любовью
первые восприняли эту религию, и тех, которые с таким
рвением распространяли ее, так твердо держались ее и
беззаветно защищали ее с опасностью для жизни, проли-
вали за нее свою кровь и даже терпели смерть и жесто-
чайшие пытки, не желая отступиться от своей религии.
Невероятно, говорят наши христопоклонники, чтобы
столько великих, святых, мудрых и просвещенных людей
являлись в своей вере жертвою обмана; невероятно,
чтобы они отказывались от всех радостей, выгод и
удобств жизни и добровольно подвергали себя стольким
мукам и жестоким преследованиям только ради заблуж-
дения и обмана.
Третье основание они заимствуют у пророков и ораку-
лов; они ссылаются на предсказания, сделанные в раз-
личные времена и с давних пор толкуемые в их пользу.
Все эти прорицания оракулов и предсказания пророков,
говорят они, так явно и бесспорно осуществлены в их
религии, что невозможно сомневаться здесь в божествен-
ном наитии и вдохновении: только единый бог в состоя-
нии так ясно и верно предвидеть и предсказывать буду-
щее.
Наконец, четвертое, и самое главное, основание за-
ключается в многочисленных и великих чудесах, чрезвы-
чайных и сверхъестественных чудесах, совершенных в
пользу их религии во все времена и во всех местах, как,
например: возвращение зрения слепым, слуха глухим,
дара речи немым, исцеление хромых, расслабленных и
бесноватых, исцеление в один миг от всяких болезней и
недугов без помощи какого-либо естественного лекарства
и даже воскрешение мертвых и, наконец, все прочие
чудесные и сверхъестественные деяния, возможные толь-
ко для божьего всемогущества. Эти чудеса, говорят
наши христопоклонники, являются столь ясными, верны-
ми и убедительными свидетельствами в пользу правиль-
ности их верований, что нет надобности искать еще дру-
гих, чтобы полностью убедиться в истинности их рели-
гии. А поэтому они считают самое помышление о том,
чтобы возражать против столь ясных и убедительных
свидетельств истины, не только неразумием, но дерзно-
венным упрямством и безмерным безумием. Великое бе-
46
зумие, говорил один из знаменитых людей из их среды,
Пико делла Мирандола40, не верить евангелию, учение
которого столь чисто и свято, возвещено столь многими
великими, учеными и святыми людьми, запечатлено
кровью стольких славных мучеников, принято столькими
благочестивыми и учеными наставниками и, наконец,
подтверждено столь великими и поразительными чудеса-
ми, возможными только для божьего всемогущества. По
этому поводу другая знаменитость из их среды, Ришар де
Сен-Виктор, дерзновенно обратился к своему богу со сле-
дующими словами: господи, если моя вера в тебя — за-
блуждение, то ты сам ввел меня в заблуждение, так как
все, во что я верю, было подтверждено столь великими
и поразительными чудесами, что невозможно приписать
их кому-либо другому, кроме тебя.
СЛАБОСТЬ И ЛОЖНОСТЬ МНИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ДОСТОВЕРНОСТИ, НА КОТОРЫХ ПОКОИТСЯ
ИСТИННОСТЬ ЛЮБОЙ РЕЛИГИИ
Однако нетрудно опроверг-
нуть все эти пустые рассуждения и воочию показать всю
вздорность этих оснований веры и этих мнимых великих
и поразительных чудес, которые наши христопоклонники
называют наглядными и верными свидетельствами исти-
ны их религии. Во-первых, ясно, что нельзя считать на-
дежными свидетельствами истины доводы и доказатель-
ства, которые одинаково легко могут служить как для
подтверждения обмана и надувательства, так и для под-
тверждения истины. А между тем доводы и доказатель-
ства, которые наши христопоклонники черпают из своих
мнимых оснований веры, могут одинаково легко служить
как для подтверждения обмана и надувательства, так и
для подтверждения истины. Для доказательства вспом-
ним, что нет ни одной даже самой ложной религии, кото-
рая не ссылалась бы на подобные мнимые основания в
пользу своей достоверности; нет ни одной религии, кото-
рая не утверждала бы, что обладает святым и истинным
учением, и которая не осуждала бы, по крайней мере по-
своему, все пороки и не предписывала бы соблюдение
всех добродетелей. У каждой религии свои ученые и рев-
ностные защитники, претерпевшие жестокие гонения и
даже смерть за исповедание и защиту своей религии.
47
И наконец, нет ни одной религии, которая не ссылалась
бы на чудеса и знамения, совершенные во славу ее. Так,
магометане совершенно так же, как и христиане, ссыла-
ются на чудеса в пользу своей ложной религии. Индусы
и все язычники ссылаются на множество чудес в пользу
своих религий. Свидетельством служат удивительные и
чудесные превращения, сиречь знамения, совершенные в
пользу языческих религий. Если наши христопоклонники
ссылаются на прорицания оракулов и пророчества, яко-
бы сделанные в их пользу и во славу их религии, то у
языческих религий имеется не меньше таких же пред-
сказаний. Таким образом, преимущество, которое можно
было бы извлечь из этих мнимых оснований веры, имеет-
ся почти в равной мере во всех религиях. Это дало повод
рассудительному Монтеню сказать*: «Все внешние при-
знаки одинаковы у всех религий: чаяния, упования, со-
бытия, обряды, покаяния, мученики и пр. Бог,— говорит
он,— милостиво принимает почести и поклонение, ока-
зываемые ему людьми под тем или другим именем, тем
или иным способом. Небо всегда взирало благосклонно
на такое благочестивое усердие. Все власти,— прибавля-
ет он,— извлекали из него пользу».
Ж. Мелье. Завещание, т. I. М , 1954,
стр. 59—62, 66—71, 82—90, 114—129.
О ТРЕХ ОБМАНЩИКАХ41
(Анонимный трактат XVIII в.)
[Фрагменты]
О БОГЕ
§ 1
Хотя всем людям важно
знать истину, однако очень немногие пользуются этим
преимуществом: одни неспособны искать ее сами, другие
не хотят сделать для этого усилия. Неудивительно, если
мир полон пустых и смешных мнений; невежество спо-
собствует их распространению; оно единственный источ-
* Essais de Montaigne, p. 406.
48
ник ложных идей о божестве, душе, духах и почти всех
других вещей, которые составляют религию. Господст-
вует привычка, люди довольствуются предрассудками
детства и относятся так к вещам наиболее существенным.
А лица заинтересованные поставили себе за правило уп-
рямо поддерживать принятые мнения и не осмеливаются
их разрушать из опасения собственной гибели.
§2
Зло становится неизлечи-
мым потому, что заинтересованные люди, установив лож-
ные взгляды о боге, не перестают внушать народу веру в
них, не позволяя ему их исследовать; наоборот, внушают
ему отвращение к философам и истинным ученым из опа-
сения, что разумение истины, которое он получит, заста-
вит его осознать заблуждения, в которые он погружен.
Сторонники этих глупостей настолько сильны, что опасно
с ними бороться. Этим обманщикам весьма важно, чтобы
народ оставался невежественным, дабы мог терпеть, ко-
гда его эксплуатируют. Посему противятся раскрытию
истины, разоблачению ложных ученых или людей низмен-
ных и заинтересованных.
§3
Если бы народ мог понять, в
какую бездну бросает его невежество, он тотчас же сбро-
сил бы ярмо своих недостойных вождей, ибо немыслимо,
чтобы пробудившийся разум не открыл истины.
Обманщики прекрасно это понимали; поэтому, чтобы
воспрепятствовать благим последствиям, которые разу-
мение истины неизбежно повлекло бы за собой, они ста-
рались изобразить наш разум, как чудовище, неспособ-
ное внушить ни одного доброго чувства, и хотя в общем
презирали тех, кто чужд разума, они были бы, однако,
весьма недовольны, если бы истина распространялась.
Таким образом, эти заклятые враги здравого смысла бес-
престанно впадают в непрерывные противоречия; и труд-
но понять, чего они хотят. Если истинно, что здравый ра-
зум единственный светоч, за которым должен следовать
человек, и если народ не лишен способности разумения, в
чем нас стараются убедить, необходимо, чтобы те, кто его
просвещает, старались исправить его ложные понятия и
уничтожить его предрассудки; тогда увидели бы, что гла-
49
за его мало-помалу откроются и сознание его убедится
в той истине, что бог совсем не таков, каким он привык
его представлять.
§4
Чтобы прийти к такому вы-
воду, не требуется ни глубоких умозрений, ни проникно-
вения в тайны природы. Необходимо только немного
здравого смысла, чтобы судить, что бог не может ни гне-
ваться, ни завидовать; что справедливость и милосер-
дие— ложные свойства, которые ему приписывают; и что
то, чему учат пророки и апостолы, не дает нам понятия о
его природе и существе.
В действительности, если говорить без лицемерия и
представлять вещи как они есть, не следует ли согласить-
ся, что эти учители не были ни более искусными, ни более
образованными, чем остальные люди; что они говорят о
боге так грубо, что нужно быть совсем простаком, чтобы
верить этому. И хотя это само по себе довольно ясно, но
мы сделаем более очевидным и исследуем такой вопрос:
есть ли какая:либо вероятность в том, что пророки и апо-
столы были иными людьми, чем все прочие?
§5
Всякий согласится, что по
рождению и обычным условиям жизни они ничем не от-
личались от других людей: произведены мужчинами, ро-
дились от женщин, сохраняли свою жизнь таким же об-
разом, как и мы. Полагают, что душу пророков бог оду-
хотворил более, чем души других людей, что он имел с
ними совершенно особенное общение, и в это верят с та-
ким простодушием, как будто это доказано; не принимая
во внимание того, что все люди подобны и имеют одно и
то же происхождение, верят, что эти люди были необык-
новенной духовной природы и избраны божеством возве-
щать его волю. Но кроме того, что они не были умнее и
не имели более совершенного понимания, чем прочие
люди, что имеется в их писаниях такого, что обязывало
бы нас быть высокого мнения о них? Большая часть напи-
санного ими столь туманна, что трудно что-либо понять,
и в такой плохой форме, что легко заметить, что они
сами не понимали и были лишь хитрыми невеждами.
50
Причиной веры в их слова послужила та смелость, с ко-
торой они хвастались, что получили непосредственно от
бога то, что они возвещают народу; глупая и смешная
выдумка, так как они сами признаются, что бог говорил
с ними лишь во сне. Вполне естественно, что человек ви-
дит сны, но нужно быть беззастенчивым, тщеславным и
довольно глупым, чтобы сказать, что бог беседует с ним
таким путем, и нужно быть также слишком доверчивым
и совершенно безумным, чтобы принимать сны за боже-
ственное откровение. Допустим на один момент, что бог
открылся кому-нибудь во сне, в видении или другим ка-
ким-либо подобным способом, никто не обязан этому по-
верить на слово человеку, способному заблуждаться,
даже лгать и обманывать: потому мы и видим, что в Вет-
хом завете пророки пользовались меньшим почетом, чем
в наши дни. Когда они надоедали своей болтовней, кото-
рая иногда имела целью вызвать восстание и внушить
народу неповиновение властям, их заставляли молчать
различными наказаниями; сам Христос не избежал спра-
ведливого и заслуженного им наказания; он не имел, как
Моисей, собственного войска для защиты своих взгля-
дов*; прибавьте к этому, что пророки обычно настолько
противоречили друг другу, что среди четырехсот не на-
шлось ни одного истинного**. Кроме того, известно, что
цель их пророчеств, равно как и цель законодательств
известнейших законодателей, была — увековечить свою
память, внушая народам веру в свою близость к богу.
Наиболее тонкие политики всегда пользовались этим
средством, хотя эта хитрость не всегда удавалась тем,
кто, подобно Моисею, не имел сил обеспечить свою без-
опасность.
§6
Теперь рассмотрим те пред-
ставления, какие пророки имели о боге. Если им верить,
то бог — существо чисто телесное; Михей видит его сидя-
щим; Даниил — в образе старца, одетого в белое; Иезе-
кииль — в виде огня; это в Ветхом завете. В Новом —
ученики Христа воображали, что видели его в форме го-
лубя, апостолы — в виде огненных языков, и, наконец,
Павлу он представился как яркий ослепляющий свет;
* Моисей умертвил за раз 24 тысячи человек за противодей-
ствие его закону.
** В 1-й книге Царств 20 :6 написано, что царь израильский
Ахав совещался с 400 пророками, пророчества которых впоследствии
оказались все ложными.
51
или еще такие противоречия: Самуил * верил, что бог
никогда не раскаивается в том, что он решил; Иере-
мия **, наоборот, говорит, что бог раскаивается в при-
нятых им решениях. Иоиль *** поучает, что бог раскаи-
вается только тогда, когда ему приходится причинять
людям зло, а Иеремия заявляет, что в этом бог совсем не
раскаивается. Книга Бытия**** учит нас, что человек —
господин греха и лишь от человека зависит делать доб-
рое или злое, тогда как ап. Павел***** уверяет, что
люди без помощи особой благодати божией не имеют ни-
какой власти над своими вожделениями. Вот те лживые
и противоречивые идеи, которые эти мнимо вдохновен-
ные свыше люди внушают нам о боге и хотят, чтобы мы
им верили, не обращая внимания, что эти идеи представ-
ляют нам божество, как существо чувственное, матери-
альное и подверженное всем человеческим страстям. Од-
нако нам говорят, что бог не имеет ничего материально-
го, что он — существо непознаваемое для нас. Но тогда
я очень хотел бы знать, как все это возможно согласо-
вать, если нужно верить столь очевидным и чуждым разу-
ма противоречиям и если должно полагаться на свиде-
тельство невежественных людей...
ПРИЧИНЫ, ПОБУДИВШИЕ ЛЮДЕЙ СОЗДАТЬ НЕВИДИМОЕ
СУЩЕСТВО, КОТОРОЕ НАЗЫВАЮТ ОБЫЧНО БОГОМ
§ 1
Не знающие физических при-
чин имеют естественный страх******, вызывающий бес-
покойство и сомнение,— имеется ли существо или силы,
могущие им вредить или их охранять. Отсюда появляется
* I Царств. 15:2.
** Иеремия. 18: 10.
*** Иоиль. 2 : 13.
**** Бытие. 4 : 7.
***** К Римл. 7: 15 и др.
****** Все, что свершается здесь на земле и на небе, порою
Смертных в испуг повергая пред грозной божественной
властью,
Вследствие свойственных им колебаний и робости духа,
И с подавляющей силой к земле их гнетет, потому что
Склонны они по невежеству происхожденье вещей всех
К власти богов относить, предоставив им править всем миром.
Люди приписывать склонны божественной воле те вещи,
В коих не могут рассудком своим доискаться причины.
Лукреций. О природе вещей, кн. VI, ст. 49 и сл.
52
склонность льстить невидимым причинам, созданиям соб-
ственной фантазии, которых они проклинают в своих не-
счастиях и прославляют в случае удач. Наконец, эти не-
видимые силы становятся богами, и эта химерическая
боязнь невидимых сил — источник религии, которую каж-
дый творит по-своему. Люди, заинтересованные в том,
чтобы народ пребывал в подобных заблуждениях, под-
держивали этот зародыш религии, утверждали как закон
и угрозами будущего приводили народ к слепому пови-
новению.
§2
Восприняв таким образом
идею божества, люди верили, что боги подобны им и что
они, подобно людям, делают все с определенной целью.
Так говорят и единодушно верят, что бог все делает ради
человека и, наоборот, человек создан ради бога. Этот
предрассудок всеобщ, и когда думаешь о том влиянии,
какое он должен с необходимостью иметь на нравы и
взгляды людей, то ясно видишь, что отсюда образовались
ложные понятия добра и зла, заслуги и вины, похвалы и
стыда, порядка и беспорядка, красоты и безобразия и
другого подобного.
§ 3
Каждый должен согласить-
ся, что все люди при рождении находятся в глубоком
невежестве и единственно, что им естественно и свойст-
венно, это стремиться к тому, что для них полезно и вы-
годно; отсюда вытекает: 1) вера, что достаточно быть
свободным в собственных пожеланиях, чтобы не счи-
таться с теми причинами, которые вызывают эти жела-
ния и которые неизвестны. 2) Так как люди делают все
только для одной цели, которую они предпочитают вся-
кой другой, то они хотят знать лишь конечную цель их
поступков и воображают, что после этого нет никаких со-
мнений, и так как они находят в себе и вне себя доста-
точно средств для достижения того, что они себе поста-
вили целью, лишь бы, например, они имели глаза, чтобы
видеть, уши — слышать, солнце, которое дает свет, и т. д.,
они делают заключение, что все существует только для
них и всем они могут располагать и пользоваться; но так
как они знают, что не они произвели все эти вещи, то
начинают верить в верховное существо — виновника все-
53
го, одним словом, полагать, что все существующее есть
произведение одного или многих божеств. Но, полагая,
что природа божества им неизвестна, они судят о ней по
себе самим, воображая, что божества подвержены тем
же страстям, что и они, а так как наклонности людей раз-
личны, каждый воздает своему божеству поклонение по
своему вкусу в целях привлечь его милости и заставить
служить природу своим целям.
§4
Таким образом, предрассу-
док перешел в суеверие и укоренился столь сильно, что
самые невежественные люди считали себя способными
проникать в конечные причины, как будто они имели о
них полное знание. Вместо того, чтобы понять, что в при-
роде ничто не случается произвольно, они поверили, что
бог и природа поступают по-человечески. Зная на опыте,
что бесконечное количество бедствий нарушает спокойст-
вие жизни, как-то: бури, землетрясения, болезни, голод,
жажда и т. д., они приписывают все это зло небесному
гневу, верят, что божество гневается на обиды, причинен-
ные ему людьми; не могут избавиться от подобного за-
блуждения и освободиться от предрассудков, когда еже-
дневные примеры доказывают, что добро и зло, счастье
и несчастье всегда были присущи и добрым и злым. Это
заблуждение происходит оттого, что легче оставаться в
первобытном невежестве, чем уничтожить предрассудок,
укоренившийся веками, и установить нечто истинное.
§5
Этот предрассудок привел к
другому — к вере, что пути господни неисповедимы и что
на этом основании знание истины выше сил человеческого
ума. Заблуждение, которое могло бы еще существовать,
если бы математика, физика и некоторые другие науки
его не подорвали.
§6
Не требуется долгих рас-
суждений, чтобы доказать, что природа не ставит себе
никакой цели и все так называемые конечные причины —
только плоды человеческой фантазии. И подобное учение
54
лишает бога приписываемых ему совершенств, что мы и
постараемся сейчас показать.
Если бог действует ради какой-либо цели, лично сво-
ей или другой, он стремится к тому, чего не имеет, следо-
вательно, должно признать, что бывает момент, когда
бог, не обладая объектом, ради которого он действует,
желает его иметь; это понуждает признать его немощ-
ным. Но, не опуская ничего, что могло бы служить осно-
ванием для тех, кто придерживается противоположного
мнения, допустим, например, что с здания срывается ка-
мень, падает и убивает кого-либо; наши невежды гово-
рят, что необходимо было, чтобы камень упал и убил
именно этого человека и могло это случиться только по-
тому, что так захотел бог. Если на это ответить им, что
ветер был причиной падения камня в тот момент, когда
несчастный проходил мимо здания, они потребуют у вас
сначала ответа, почему он проходил именно в тот мо-
мент, когда ветер обрушил камень. Вы скажете, что, ве-
роятно, он шел обедать к одному из своих друзей; тогда
они пожелают знать, почему этот друг пригласил его в
это время, а не в другое; они зададут вам бесконечное
количество подобных странных вопросов, чтобы, переходя
от причины к причине, заставить вас признать, что толь-
ко воля божия, прибежище невежд, первая причина па-
дения камня. Подобным же образом, когда они рассмат-
ривают структуру человеческого тела, то впадают в изу-
мление; и, не зная причин тех явлений, которые им ка-
жутся чудесными, они приходят к заключению, что здесь
явление сверхъестественное, в котором известные нам
причины не могут принимать никакого участия. Отсюда
происходит, что желающий основательно исследовать
явления природы и добросовестно проникнуть в их есте-
ственные причины, пренебрегая созданными невежеством
предрассудками, будет признан за нечестивца или ско-
рее ославлен таковым со стороны тех, кого невежды счи-
тают истолкователями природы и богов; эти продажные
души знают прекрасно, что невежество, заставляющее
народ удивляться естественным вещам, даст им возмож-
ность существовать и поддерживать свой кредит.
§7
Проникшись убеждением,
что все, что они видят, сотворено для них, люди начали
судить о ценности вещей по той пользе, которую они из-
55
влекают из них. На этом основании получились понятия,
посредством которых они объясняли природу вещей и
судили о добре и зле, о порядке и беспорядке, о холоде
и тепле, о красоте и безобразии и т. д., т. е. о том, что,
в сущности, есть лишь их воображение. Образовывая та-
ким образом понятия, они обольщали себя мыслью, что
они свободны; они верили в свое право определять поня-
тия похвалы и хулы, добра и зла; добрым они называли
то, что служит их выгоде и относится к поклонению бо-
жеству, а злом, наоборот, что не отвечает ни тому ни
другому; и так как невежды не способны о чем-либо су-
дить и имеют понятия о вещах лишь через воображение,
принимая их за суждения, они нам говорят, что ничего не
известно о природе, и воображением создают особый по-
рядок в мире. Наконец, они полагают, что вещи хорошо
или дурно устроены на основании того, легко или с тру-
дом они их могут вообразить, когда чувства их воспри-
нимают; и так как охотно останавливаются на том, что
менее всего утомляет мозг, то убеждены, что с достаточ-
ным основанием предпочитают порядок хаосу, как будто
порядок есть нечто иное, чем плод воображения людей.
Таким образом, сказать, что бог сотворил все в порядке,
это думать, что, в угоду человеческому воображению,
мир сотворен таким образом, что он легко может быть
понят, или, что то же самое, известны с точностью взаи-
моотношения и цели всего, что существует; утверждение
столь абсурдное, что не заслуживает серьезного опро-
вержения.
§8
Что касается других поня-
тий, то это — чистые вымыслы того же воображения, не
имеющие ничего реального; они являются только раз-
личными проявлениями и образами той же способности;
например, когда движения предметов, воспринимаемые
нервами посредством глаз, приятны чувствам, то гово-
рят, что эти предметы красивы. Запахи прекрасны или
дурны, вкус приятный или горький, осязание грубое или
нежное, звуки резкие или мягкие, в зависимости от того,
что запах, вкус или звук действуют на чувство резко или
мягко; на основании этого некоторые люди полагают, что
богу приятны песнопения, а другие верили, что небесные
движения представляют гармоническую согласован-
ность; отсюда следует, что каждый убежден, что вещи
56
суть таковы, какими он их представляет, или что мир
есть чистое воображение. Поэтому неудивительно, что
нет почти двух человек одних и тех же взглядов и что на-
ходятся такие, которые сомневаются во всем, ибо хотя
люди имеют одинаковое телесное строение и похожи
друг на друга во многих отношениях, тем не менее они
весьма различны; отсюда происходит: что одному кажет-
ся хорошим, другому — плохим, что нравится этому, не
нравится тому. Таким образом, легко сделать вывод, что
восприятия различны по причине различия организации
и разнообразия условий жизни, что рассудок в них не
участвует и что понятия о вещах мира суть только явле-
ния единственно воображения.
§9
Итак, очевидно, что все
принципы, которыми большинство людей обычно пользу-
ется при попытках объяснить природу, не что иное, как
средства воображения, не доказывающие ничего, на что
они претендуют; представлениям, созданным воображе-
нием, дают названия, как будто они действительно суще-
ствуют где-либо, кроме мозга; их надо бы назвать не су-
ществами, а чистыми химерами. Поэтому нет ничего бо-
лее легкого, как опровергать доказательства, основанные
на таких понятиях. Например, если это верно, говорят
нам, что мир с необходимостью вытекает как следствие
из божественной природы, откуда же появились несовер-
шенства и недостатки, какие мы замечаем в нем? Подоб-
ное возражение опровергается без труда. Нельзя судить
о совершенстве и несовершенстве бытия, не зная его сущ-
ности и природы; странное самообольщение — полагать,
что вещь более или менее совершенна в зависимости от
того, что она нравится или не нравится, полезна или
вредна человеку. Чтобы заставить замолчать тех, кто за-
являет, почему бог не создал всех людей добрыми и сча-
стливыми, достаточно сказать, что все, что существует,—
необходимо и нет ничего несовершенного, потому что все
вытекает из необходимости вещей.
§ 10
Исходя из этих положений,
если меня спросят, что есть бог, я отвечу, что это слово
представляет универсальное существо, в котором, поль-
57
зуясь словами ап. Павла, мы живем, движемся и пребы-
ваем... ибо если все в боге, все с необходимостью выте-
кает из его сущности, то абсолютно необходимо, чтобы
он был таковым, каково то, что он содержит, так как не-
понятно, чтобы все материальные существа находились и
сохранились в существе нематериальном...
§ 11
Эти идеи ясны, просты и
единственные, какие здравый смысл может создать о
боге. Однако мало людей, довольствующихся такой про-
стотой. Невежественный народ, привыкший к грубым чув-
ствам, требует бога, подобного земным царям. Та пыш-
ность и великолепие, которые окружают царей, ослепля-
ет народ до того, что отнять у него идею бога, подобного
земным царям,— значит отнять надежду на воз-
можность пользоваться после смерти в числе приближен-
ных небесного царя теми благами, которыми пользуются
при дворе земных царей, т. е. лишить человека единст-
венного утешения, которым он пользуется в несчастиях
этой жизни. Требуется бог справедливый и мститель-
ный, который наказывает и вознаграждает, хотят иметь
бога, подверженного всем человеческим страстям, его
одаряют ногами, руками, глазами и ушами, однако не
хотят, чтобы бог представлял из себя нечто материаль-
ное. Говорят, что человек — венец его творения и его об-
раз, но не хотят, чтобы копия была подобна оригиналу.
В конце концов, современный нам народ мыслит о боге
в тех же формах, что язычник о Юпитере... Обращаются
к Библии, как будто бог и природа объясняются там осо-
бенным образом; эта книга — собрание лоскутов, сшитых
в разное время, собранных разными лицами и обнародо-
ванных с согласия раввинов, которые, по личному произ-
волу, решили, что нужно в ней оставить и что выбросить,
в зависимости от того, что согласно и что противно зако-
ну Моисея...42
Они [люди] проводят свою жизнь в безрассудности и
упорно почитают книгу, где не больше смысла, чем в Ко-
ране Магомета, книгу, по моему мнению, которую никто
не понимает, настолько она темна и малопонятна, книгу,
которая вызывает лишь разногласия. Евреи и христиане
предпочитают обращаться к этой бестолковщине, чем
прислушиваться к естественному закону, который бог,
58
т. е. природа, поскольку она начало всех вещей, запечат-
лела в человеческих сердцах. Все другие законы — толь-
ко человеческие создания: чистые иллюзии, проявленные
не демонами или злыми духами, существовавшими лишь
в фантазии, но политикой правителей и попов. Первые хо-
тели тем придать больше веса собственной власти, а по-
следние хотели поживиться продажей бесконечных вы-
думок.
Таковы же и законы, следовавшие за законами Мои-
сея, я разумею законы христиан, опиравшиеся на ту же
Библию, подлинного текста которой не имеется, которая
содержит сверхъестественные и невозможные вещи, обе-
щает награды и наказания за добрые и злые дела, но в
будущей жизни, из страха, дабы обман не был раскрыт,
если это не случится.
Таким образом, народ, всегда находясь между надеж-
дой и страхом, удерживался в повиновении мыслью, что
есть бог, могущий сделать его или вечно счастливым, или
несчастным. Вот что породило бесчисленное количество
религий.
ЧТО ЗНАЧИТ РЕЛИГИЯ, КАК И ПОЧЕМУ
ПОЯВИЛОСЬ В МИРЕ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИХ
§9
<...> Честолюбцы, бывшие
всегда великими мастерами в искусстве обмана, следова-
ли этому пути, когда они издавали законы; и чтобы обя-
зать народ подчиниться добровольно, они убеждали, что
получили свои законы от бога или богини.
При существовании такого количества божеств, у тех,
кто им поклонялся и кого обычно называют язычниками,
не было общей системы религии. Каждое государство, об-
щество, город, отдельная личность имели свои обряды и
представляли божество согласно личной фантазии. Но
потом появились более хитрые, чем первые, законодате-
ли, которые пользовались более изощренными и верными
средствами, издавая законы, устанавливая обряды и це-
ремонии, способные питать фанатизм, который они хоте-
ли установить.
Среди большого количества подобных законодателей
в Азии появилось трое, которые выдаются как законами
59
и обрядами, которые они установили, так и той идеей о
божестве, которую они дали, и способом, которым они
внушили воспринять эту идею и законы за священные.
Моисей — первый. Иисус Христос пришел затем, посту-
пая по его плану и сохранив основу его законов, но раз-
рушив остальное. Магомет, явившись последним на сце-
ну, взял из той и другой религии, что нужно для установ-
ления собственной, объявив себя потом врагом обеих.
Рассмотрим характер этих трех законодателей и их пове-
дение, чтобы судить, кто прав: те ли, кто почитает их за
людей, близких к божеству, или те, кто смотрит на них,
как на обманщиков и обольстителей.
§ 10
О МОИСЕЕ
Знаменитый Моисей, по сло-
вам Иустина Мученика, внук великого мага, имел все
основания быть тем, чем он стал впоследствии. Каждый
знает43, что евреи, вождем которых он был, были пастуше-
ским племенем, которое фараон Озирис I принял в свою
страну за услуги, оказанные одним из них во время боль-
шого голода; он дал им на восток от Египта землю, изо-
биловавшую пастбищами и, следовательно, могущую
прокормить их стада; в течение приблизительно двухсот
лет они значительно размножились, потому ли, что, как
иностранцы, они не обязаны были служить в войсках, или
потому, что к ним, как пользовавшимся особыми приви-
легиями, данными им Озирисом, присоединились многие
из аборигенов страны и несколько арабских племен, быв-
ших одной с ними расы. Как бы там ни было, они размно-
жились столь удивительно, что, не будучи в состоянии
оставаться в области Гесем, они распространились по
всему Египту, давая фараону справедливое основание
опасаться, как бы они не восстали в случае нападения на
Египет (что случалось довольно часто) его постоянных
врагов, эфиопов. Таким образом, государственный разум
побудил этого правителя отнять у евреев привилегии и
искать средства к их ослаблению и порабощению.
Фараон Орус, прозванный за свою жестокость Бузи-
рис, преемник Мемнона, по отношению к евреям следовал
его плану и, желая увековечить свое имя постройкой пи-
рамид и города Фив, принудил евреев делать кирпичи,
60
для производства которых земля их была очень удобна.
И вот во время этого порабощения родился знаменитый
Моисей, в тот именно год, когда фараон приказал бро-
сить в Нил всех рождающихся еврейских мальчиков,
видя, что нет более верного средства задержать это раз-
множение иноземцев. Моисей должен был погибнуть в
водах Нила в осмоленной корзине, которую его мать по-
ложила в тростники у берега реки. Случаю угодно было,
чтобы Термутис, дочь фараона Оруса, пришла погулять
по этому берегу и, услышав детский крик, прониклась
столь свойственным ее полу состраданием и желанием
спасти ребенка. По смерти Оруса Термутис была его пре-
емницей; Моисей был представлен ей и получил такое
воспитание, какое только можно было дать сыну власти-
тельницы наиболее образованной и культурной страны
мира. Одним словом, сказать, что он «научен был всем
премудростям Египтян», это — все сказать и представить
нам Моисея как величайшего политика, ученейшего на-
туралиста и известнейшего мага своего времени; кроме
того, очевидно, что он был допущен в касту жрецов, ко-
торые в Египте играли ту же роль, что друиды в Галлии.
Кто не знает, каково было управление Египта, не без сму-
щения узнает, что его знаменитые династии клонились к
упадку и что вся страна, завися от одного властелина,
была разделена на несколько областей, имевших неболь-
шое пространство. Правителей этих областей называли
номархами, и они обычно принадлежали к могуществен-
ной касте жрецов, владевшей почти третью Египта. Фа-
раон назначал этих номархов, и, если верить авторам, пи-
савшим о Моисее, и сравнить эти данные с тем, что Мои-
сей написал сам о себе, можно сделать вывод, что он был
номархом области Гесем и обязан был своим возвышени-
ем, как и своей жизнью, Термутис. Вот каков был Моисей
в Египте, где он имел и время и все возможности изу-
чить нравы как египтян, так и своей нации, их господ-
ствующие страсти и их наклонности, знания, которыми
он впоследствии воспользовался, чтобы поднять восста-
ние и быть его вождем.
По смерти Термутис ее преемник возобновил пресле-
дование евреев; Моисей, лишившись благосклонности,
которой он пользовался, и из опасения подвергнуться ка-
ре правосудия за несколько преступлений, совершенных
им, принужден был бежать; он удалился в Каменистую
Аравию, граничившую с Египтом; случай свел его с вож-
61
дем одного племени страны; благодаря услугам, оказан-
ным им, и своим талантам, которые в нем заметил его гос-
подин, он приобрел его расположение и одну из дочерей
себе в жены. Кстати заметить, что Моисей был настолько
плохим иудеем и так мало еще знал того страшного бога,
которого он изобразил впоследствии, что женился на
идолопоклоннице и нисколько не думал об обрезании
своих детей.
И вот в пустынях Аравии, охраняя стада своего тестя
и зятя, он возымел намерение отомстить за несправедли-
вость, которую проявил к нему в Египте фараон, и под-
нять восстание и возмущение в столице его владений. Он
льстил себя надеждою, что может легко иметь успех как
благодаря своим талантам, так и известным ему настрое-
ниям еврейского племени, уже возбужденного против пра-
вительства испытанными им мерами дурного обращения.
Судя по истории, оставшейся от этого восстания, или
по крайней мере по истории, которую нам оставил автор
книг, приписываемых Моисею, ясно, что тесть его Иофор
был его соучастником, равно как брат его Арон и сестра
Мария, оставшаяся в Египте и, без сомнения, поддержи-
вавшая с ними связь.
Как бы то ни было, но по тому, как это было выпол-
нено, видно, что он, как искусный политик, составил об-
ширный план и применил против египтян все полученное
им знание, я имею в виду мнимую магию, в чем он был
более искусен и тонок, чем все бывшие при дворе фарао-
на специалисты этого дела.
Мнимыми чудесами он приобрел доверие восставших
своего племени, к которым присоединились повстанцы и
недовольные из египтян, эфиопов и арабов. Наконец, вос-
хваляя силу своего божества, имея постоянное с ним об-
щение, делая его пособником всего, что касалось восста-
ния, он настолько убедил евреев, что они последовали за
ним в числе 600 тысяч человек (способных к сопротив-
лению), не считая женщин и детей, через пустыни Ара-
вии, которую он так хорошо знал. После шести дней
похода, в мучительной обстановке, он предписал следо-
вавшим за ним посвятить седьмой день богу общим поко-
ем, дабы заставить народ верить, что бог покровительст-
вует ему и одобряет его власть, и чтобы никто не осме-
лился противоречить ему.
Более невежественного народа, чем евреи, а следо-
вательно, и более доверчивого не было. Чтобы убедить-
62
ся в этом глубоком невежестве, нужно вспомнить, в ка-
ком положении находился этот народ в Египте, когда
Моисей поднял его на восстание; египтяне ненавидели
его за его профессию пастуха, фараон его преследовал и
посылал на самые грубые работы. В такой среде не очень
трудно было Моисею проявить свои таланты. Он заста-
вил верить евреев, что его бог (которого иногда он на-
зывал просто ангелом), бог их отцов, явился ему, что
по его приказанию он взялся руководить ими, и что бог
избрал его быть главою их, и что они будут избранным
народом бога, лишь бы только слушали, что бог скажет
им устами Моисея. Ловкое пользование своим влиянием
и знанием природы подкрепляли эти увещания; он под-
тверждал то, что говорил, так называемыми чудесами,
оказывающими всегда очень сильное впечатление на не-
вежественный народ.
Заслуживает внимания то, что ему казалось, что он
нашел верное средство держать евреев в подчинении сво-
им приказаниям, внушая им, что сам бог был их провод-
ником — ночью в виде огненного столба, днем — в виде
облака. Но здесь-то и можно доказать грубейшее плутов-
ство этого обманщика. Во время своего пребывания в
Аравии он узнал, что в этой пустынной и необитаемой
стране было обычаем во время переходов группами брать
проводников, которые вели караван, держа в руках фа-
кел; ночью путешественники следовали за пламенем фа-
кела, а днем дым того же факела указывал им путь, не
давая возможности заблудиться. Этот обычай был еще в
употреблении у мидян и ассирийцев. Моисей воспользо-
вался им, выдав его за чудо и особый признак покрови-
тельства бога. Если мне не поверят, когда я говорю, что
это обман, пусть поверят самому Моисею, который в 10
главе книги Чисел (ст. 29 до 33) просит своего зятя Хова-
ва идти с евреями, чтобы показывать им путь, потому
что он знает страну. Это показательно, ибо если бог и
днем и ночью вел Израиля то в виде облака, то в виде
огненного столба, нужен ли был еще лучший руководи-
тель? И, однако, Моисей умоляет своего зятя самыми
убедительными доводами быть их проводником; следо-
вательно, облако и огненный столб были богом только
для народа, а не для Моисея.
Несчастные евреи, освободившись из жестокого раб-
ства, с восторгом восприняли мысль, что они — избран-
ники бога богов, приветствовали Моисея и поклялись
63
слепо ему подчиняться. Укрепив свой авторитет, Моисей
хотел сделать его постоянным и, под особенным пред-
логом установления служения богу, представителем ко-
торого он себя считал, прежде всего назначил своего
брата и его детей начальниками «господнего дворца»,
т. е. места, где он находил возможность иметь мнимое
общение с богом. Это место было невидимо и недоступ-
но народу. Затем он делал то, что всегда практикуется в
новых религиях, т. е. чудеса, которыми простой народ
был ослеплен, некоторые даже оглушены, но которые не
касались тех, кто был посвящен в этот обман. Как бы ни
был Моисей хитер, ему стоило бы большого труда заста-
вить народ повиноваться себе, если бы он не имел под
рукою силы. Обманщик редко имеет успех, если в его рас-
поряжении не имеется физической силы.
Несмотря на большое число одураченных, которые
слепо подчинялись воле этого ловкого законодателя, на-
ходились довольно смелые люди, которые, не доверяя
ему, говорили, что под видом справедливости и равенства
он узурпировал власть и что он не отец, а тиран народа.
Но в таких случаях Моисей, как искусный политик, не
щадил тех, кто порицал его власть.
Будучи всегда очень осторожен и объясняя казни бо-
жественным мщением, он царил как абсолютный деспот.
И чтобы кончить тем же, с чего он начал, т. е. плутовст-
вом и обманом, он бросился в пропасть, которую заметил
во время уединения. От времени до времени Моисей уда-
лялся в уединение под предлогом тайного собеседования
с богом, дабы тем самым стяжать себе уважение и по-
корность подданных. Впрочем, бросившись в пропасть, он
заранее сделал так, чтобы тело его не было найдено, да-
бы поверили, что бог вознес его и сделал себе подобным;
ему не было неизвестным, что память патриархов, его
предшественников, была в большом почитании, несмотря
на то что их могилы находили, но этого было недоста-
точно для удовлетворения его честолюбия: ему нужно
было, чтобы его почитали, как бога, перед которым
смерть бессильна. К этому, без сомнения, он стремился
в начале своего царствования, сказав, что он поставлен
богом быть богом фараона. По его примеру Илия, Ромул
и все, кто хотел увековечить свое имя, скрыли время сво-
ей смерти, чтобы их считали бессмертными...
64
§ 12
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Иисус Христос, которому не
безызвестны были науки египтян, воспользовался этим
мнением в собственных целях. Имея то же намерение,
как и Моисей, быть знаменитым, хотя в его распоряже-
нии был лишь невежественный народ, он решил строить
на этом основании и заставил следовать за собой несколь-
ко глупцов, убедив их, что дух святой был его отцом, а
матерью дева; простые люди, привыкшие обольщать себя
несбыточными мечтами, восприняли эти слова и повери-
ли, тем более что подобное рождение им не казалось та-
ким уж чудесным.
Быть рожденным девою от святого духа не было ни
более необычайно, ни более чудесно, чем то, что расска-
зывают татары о Чингиз-Хане, мать которого также была
дева; китайцы повествуют, что бог Фах обязан своим
рождением деве, зачавшей его от солнечных лучей.
Это чудо случилось в то время, когда евреи, со вре-
мени Судей * покинутые богом, хотели иметь видимого
царя, как у прочих народов. Так как число глупцов бес-
конечно, Иисус Христос находил подданных себе повсю-
ду, но, ввиду того что его крайняя бедность была непрео-
долимым ** препятствием к его возвышению, фарисеи, то
его поклонники, то завистники его смелости, или возвы-
шали его, или принижали, в зависимости от непостоянно-
го настроения народа. Молва о его божественности рас-
пространялась, но, лишенный реальной силы, он не в со-
стоянии был довести до успешного конца своих намере-
ний; исцеление нескольких больных, воскрешение мнимых
мертвецов создали ему славу, но, не имея ни денег, ни
войска, он не мог не погибнуть; если бы в его руках были
эти два средства, он преуспел бы не меньше, чем Моисей
и Магомет и все те, кто имел честолюбие возвыситься над
другими. Но если он был более несчастен, то не был ме-
нее ловок, и некоторые места из его истории доказывают,
что величайшим недостатком его политики была недо-
статочная забота о собственной безопасности. Впрочем,
* Книга I Царств, гл. 8. Израильтяне, недовольные сыновьями
Самуила, требуют себе царя: «поставь над нами царя, чтобы он
судил нас, как у прочих народов».
** И. Хр. был из секты фарисеев, т. е. несчастных, которые были
противниками саддукеев, образовавших секту богатых (см. Талмуд).
65
я не нахожу, что он менее имел успеха, чем двое других;
его вера, по крайней мере, сделалась правилом веры тех
народов, которые считают себя наиболее мудрыми в
мире.
§ 14
Опасение быть обойденным
людьми более ловкими, чем он, заставили его прибегнуть
к средствам, противоположным средствам Моисея. По-
следний начал с того, что хотел быть грозным и страшным
для других наций; а Христос, наоборот, привлекал их
к себе надеждой на преимущества другой жизни, кото-
рую они получат, говорил он, если поверят ему; Моисей
обещал исполнителям закона только временные блага,
Иисус Христос призывал к жизни, которая никогда не
кончится. Законы одного имели в виду только внешние
поступки, законы другого — внутренний мир, оказывали
влияние на мысли и во всем представляли противополож-
ное закону Моисея. Следовательно, Христос, как и Ари-
стотель, полагал, что религии, как государства и отдель-
ные личности, разлагаются и умирают; новое возникает
на обломках старого, старый закон уступает место ново-
му, совершенно ему противоположному... И так как боль-
шинство умов затруднительно поколебать в вопросах ре-
лигии, Иисус, по примеру других новаторов, не обошелся
без чудес, которые всегда были камнем преткновения для
невежд и верным средством успеха для ловких честолюб-
цев.
§ 15
Основав такими средствами
христианство, И. Хр. думал искусно воспользоваться
ошибками политики Моисея, сделав свой новый закон
вечным — попытка, которая удалась, может быть, сверх
его ожиданий. Еврейские пророки думали сделать честь
Моисею, предрекая ему преемника, который будет подо-
бен ему, т. е. мессию44, великого добродетелями, могу-
щественного и грозного для врагов; однако их пророче-
ства имели совершенно противоположное действие; мно-
гие честолюбцы воспользовались этим случаем и объяви-
ли себя мессиями, вызвав народные волнения, продол-
жавшиеся до полной гибели старого еврейского государ-
ства. Христос более ловкий, чем ветхозаветные пророки,
чтобы заранее дискредитировать своих противников,
66
предсказывал, что такой человек будет величайшим вра-
гом бога, сторонником дьявола, олицетворением всех по-
роков и несчастием мира.
После столь прекрасной аттестации, казалось бы, ни-
кто не посмел бы рискнуть назвать себя антихристом45;
и мне кажется, что нельзя было найти лучшего средства
увековечить свой закон, несмотря на то что, может быть,
ничего не было более баснословного, как то, что распро-
cтpaнялocь об этом мнимом антихристе. Св. Павел гово-
рил, что антихрист уже родился при его жизни; следо-
вательно, уже тогда можно было ждать пришествия
И. Хр., однако вот уже более 1000 лет как протекло со
времени рождения этой ужасной личности, и никто еще
ничего о ней не слышал. Правда, некоторые прилагали
эти слова к Эвиону и Керинфу, двум врагам Христа, ос-
паривавшим его мнимое божественное происхождение, но
можно сказать также, что если это толкование согласно
смыслу слов апостола, что весьма вероятно, то эти слова
приложимы во все века к бесчисленному количеству ан-
тихристов, не исключая и истинных ученых, говоривших,
что история И. Хр. есть * жалкая басня и что его закон —
безрассудное хитросплетение, которому невежество дало
славу, заинтересованность поддерживала и тирания по-
кровительствовала.
§ 16
И тем не менее еще находят-
ся люди, заявляющие, что религия, основанная на столь
слабом фундаменте, божественна, сверхъестественна;
хотя известно, что нет людей более, способных поддер-
живать самые глупые взгляды, как женщины и идиоты;
поэтому нет ничего удивительного и в том, что Иисус
Христос не имел в числе своих последователей людей
ученых; он прекрасно знал, что его учение не могло удов-
летворять здравый смысл; вот, несомненно, почему он
так часто высказывался против мудрецов, исключая их
из своего царства, куда он допускал лишь нищих духом,
простых и неразумных; просвещенные умы должны уте-
шаться тем, что им незачем вмешиваться в дела глупцов.
* Суждение, которое разделял папа Лев X, судя по его столь
известным и смелым для его века, когда наука еще имела столь
незначительный успех, словам: «Давно известно,— сказал он кар-
диналу Бембо,— сколь полезна нам эта басня об Иисусе Христе*.
67
§ 17
Что касается морали Христа,
то в ней нет ничего божественного, что обязывало бы пред-
почесть ее морали древних; скорее все, что мы находим в
ней, извлечено из сочинений древних писателей или им
подражает. <...>
§ 21
На основании всего, что мы
сказали, можно судить, что христианство, как и прочие
религии, есть лишь грубо сотканный обман, успех кото-
рого удивил бы даже его основателей, если бы они по-
явились на свет. Но, не вдаваясь далее в лабиринт за-
блуждений и явных противоречий, о которых мы уже до-
статочно говорили, поговорим немного о Магоглете, ос-
новавшем закон на правилах совершенно противополож-
ных правилам Иисуса Христа.
§ 22
О МАГОМЕТЕ
Только что ученики Христа
уничтожили закон Моисея, чтобы ввести христианский
закон, как народ, увлеченный силой и обычным ему не-
постоянством, последовал за новым законодателем, воз-
высившимся теми же средствами, что и Моисей. Как и
последний, он принял звание пророка и посланника бо-
жия; как и Моисей, он творил чудеса и умел пользовать-
ся народными страстями. Сначала за ним последовал не-
вежественный народ, которому он объяснял новые зна-
мения неба. Несчастные, соблазненные обещаниями и
баснями нового обманщика, восторженно распространяли
его славу, затмив славу его предшественников.
Магомет не был человеком способным основать импе-
рию, не отличаясь ни качествами политика, ни филосо-
фа... он не умел ни читать, ни писать. Он имел даже так
мало твердости, что не раз оставил бы свое начинание,
если бы не был принужден поддерживать его ловкостью
одного из своих единомышленников. Как только Магомет
стал возвышаться и сделался знаменитым, Кораис, вла-
детельный араб, из зависти, что ничтожный человек име-
68
ет смелость злоупотреблять доверием народа, сделался
его врагом и пошел наперекор ему; но народ, убежден-
ный, что Магомет имеет постоянное общение с богом и
его ангелами, дал возможность взять ему верх над его
врагом; Магомет, видя себя окруженным безумной тол-
пой, считавшей его божественным лицом, решил, что он
больше не нуждается в своем компаньоне; но из опасе-
ния, как бы последний не разоблачил его обмана, хотел
его предупредить и, чтобы сделать это более надежно, на-
сулил ему всяких обещаний, заверив его, что если он ста-
нет великим, то разделит с Кораисом свою власть, кото-
рой он столь способствовал. «Мы близки ко времени на-
шего возвышения,— сказал он,— мы уверены в народе,
который мы подчинили себе; дело в том, чтобы обезопа-
сить себя тем средством, которое ты так счастливо при-
думал». Тогда же Магомет убедил его скрыться в ров
предсказаний.
Это был колодец, откуда Кораис говорил, чтобы за-
ставить народ поверить, что глас божий высказывался за
Магомета, окруженного своими сторонниками. Оболь-
щенный успехом своего вероломства, компаньон Магоме-
та по обыкновению вошел в ров, чтобы изобразить глас
божий; Магомет, проходя во главе преданной ему толпы,
услышал голос, говоривший: «Я, бог ваш, объявляю, что
я сделал Магомета пророком всех народов; он возвестит
вам мой истинный закон, искаженный евреями и хри-
стианами». Долго этот человек играл свою роль, но на-
конец был вознагражден величайшей неблагодарностью.
Однажды Магомет, услышав голос, объявлявший его за
божественного человека, обратился к толпе и приказал
именем бога, назвавшего его своим пророком, заполнить
ров, откуда раздавался голос, свидетельствовавший о его
призвании, камнями в память того, что Иаков поставил
камень на месте, где с ним беседовал бог. Так погиб не-
счастный человек, содействовавший возвышению Маго-
мета; на этой груде камней утвердил свой закон послед-
ний из известнейших обманщиков. <...>
§ 23
...Вот, читатели, что можно
сказать наиболее замечательного о трех обманщиках-за-
конодателях, религии которых подчинили себе большую
часть мира. Они были таковы, какими мы их изобразили;
69
ваше дело рассмотреть, заслуживают ли они поклоне-
ния, и можно ли оправдать вас, если вы идете за руко-
водителями, которых возвысило единственно их често-
любие, а невежество увековечило их выдумки...
ИСТИНЫ ОЧЕВИДНЫЕ
§ 1
После того как мы изобрази-
ли Моисея, Иисуса и Магомета в их настоящем виде, яс-
но, что не в их сочинениях нужно искать истинного поня-
тия о божестве. Видения и собеседования Моисея и Ма-
гомета с богом, равно как и божественное происхождение
Иисуса, величайшие обманы, которые видел свет и ко-
торых нужно избегать, если вы любите истину.
§2
Как мы уже видели, бог —
это только природа или, если хотите, совокупность всех
существ, всех особенностей, всех сил; он — имманентная,
пребывающая в них причина их проявлений, не отличи-
мая от их действий; он не может быть назван ни добрым,
ни злым, ни справедливым, ни милосердным, ни ревни-
вым; эти качества свойственны лишь человеку; следова-
тельно, он не способен ни наказывать, ни вознаграждать.
Идея наказаний и награды может соблазнять только
невежд, способных понять простое существо, называемое
богом, только в образах, ему совершенно несвойственных;
лишь люди, пользующиеся собственным суждением, не
смешивающие его (бога) проявлений с фикциями своего
воображения и способные отделаться от предрассудков
детства, могут составить о нем ясное и отчетливое пред-
ставление. Они представляют его как источник всех су-
ществ, который создает их беспристрастно, не предпочи-
тая одних другим, не придавая при создании человека
большего значения, чем малейшему растению или чер-
вяку.
§3
Не следует, таким образом,
верить, что универсальное существо, называемое обычно
богом, придает большее значение человеку, чем муравью,
70
льву более, чем камню; с его точки зрения, нет ни пре-
красного, ни дурного, ни хорошего, ни плохого, ни совер-
шенного, ни несовершенного. Ему безразлично, когда его
восхваляют, молят, ищут, льстят; он бесстрастен к тому,
что люди говорят или делают; он не воспринимает ни
любви, ни ненависти... одним словом, ему нет дела до лю-
дей и прочих существ, каковы бы они ни были. Все эти
различия суть изобретения ограниченного разума; неве-
жество их создало, и корысть их поддерживает.
Таким образом, всякий разумный человек не может
верить ни в богов, ни в духов, ни в дьяволов, ни в ад в
том смысле, как это обычно принято. Все эти «жупелы»
созданы для того, чтобы поразить или запугать простой
народ...
§ 5
В безграничном количестве
звезд, которые мы наблюдаем над нами, полагают, есть
несколько движущихся тел, предназначенных для цар-
ства небесного, где бог господствует, наподобие царя,
окруженный своими приближенными. Это царство —
пребывание блаженных, куда устремляются добрые ду-
ши, покинувшие тело. Но, не останавливаясь на столь
вздорных, совершенно недопустимых здравым разумом
взглядах, заметим лишь, что то, что мы называем не-
бом,— не что иное, как продолжение воздуха, окружаю-
щего нас, или эфира, в котором движутся планеты, не
поддерживаемые никакой твердой массой, так же, как и
земля, на которой мы живем.
§6
Таким же образом, как изо-
бразили небо, как место пребывания бога и блаженных,
или, по мнению язычников, богов и богинь, представили,
что ад — подземное место, куда спускаются души греш-
ников для мучения; но слово «ад» в своем естественном
значении обозначает лишь низкое и глубокое место, ко-
торое выдумали поэты для противопоставления обита-
лищу небожителей, которое они представляли где-то на-
верху высоко. Вот что в точности изображает латинское
слово infernus или inferi и греческое слово , т. е. тем-
ное место, наподобие могилы, или всякое другое глубокое
место, страшное своей темнотой. Все, что говорилось об
71
аде,— плод воображения поэтов или обман попов; все
речи первых — образы, способные произвести впечатле-
ние лишь на слабые, робкие и меланхолические души;
они перешли в предметы веры лишь благодаря тем, кому
выгодно было поддерживать подобные взгляды.
«О трех обманщиках». М., 1930, стр.
70-94.
ЗЕРЦАЛО БЕЗБОЖИЯ * 46
(Анонимный трактат XVIII в.)
[Фрагменты]
...Нездравомыслящий чело-
век изнуряет силы разума на предметах, противных пра-
воте. Его действия — обделывать священные химеры.
Плач, слезы да сопутствуют предприятиям ложного ра-
зума. Думать, что бог есть присущ всем совершенствам,
что он существовать [может],— это значит восставать
против ежедневного опыта, следственно, против приро-
ды— против священных обязательств здравого разума и
совести.
НЕСОВЕРШЕН БОГ:
ИМЕЕТ ПРЕДЕЛЫ СВОИХ ДЕЯНИЙ
1. Допустить совершенство
бога, дать цену важности его качествам — это значит во-
оружить против себя здравый рассудок, попрать сей до-
вод, могущий поколебать здание его блудительного мне-
ния. Где ограниченность в деяниях, там несовершенство;
где пределы, там существительность твари. Но, как
всякому известно** (бог?) имеет пределы своих дейст-
вий. Ибо бог несовершен. Предел есть ограниченность.
Но мир, по мнению богословов, будучи творение бога,
имеет пределы. Ибо мир ограничен.
2. Убедительность истины представляется, что все со-
* Т. е. устав безбожия.
** В тексте ошибочно «известны».— Ред.
72
вершенства, порознь взятые, составляют единое божест-
во. Бог творцом называется потому, что приписывается
ему некоторыми умами творение мира, господом — пото-
му, что власть над всеми творениями в руце его и проч.
Но я препинаюсь *. Тот не есть император, который не
имеет подданных. Тот не есть властитель, который ли-
шен подвластных. Тот не есть отец, который не имел де-
тей своих существующими. Бог, называющийся, по мне-
нию некоторых, творцом по созданию мира, был ли тво-
рец, когда еще мир не существовал?.. Ежели бог сущест-
вовал без некоторых существенных качеств, и потому не
есть бог, ибо несовершен.
БОГ НЕ ЕСТЬ ПРИСУЩ СУЩЕСТВОВАНИЮ
1. Допустить существование
бога — это значит восстать против опыта, разума, сове-
сти, дать цену совершенства богу, это малевать химеры.
Следственно, бога нет. Сии ли причины, составляющие
существенность прежде бывших глав, утверждают истину
безбожия?.. Нет, еще разум для защищения себя из свя-
щенного довода предлагает пред глаза некоторые дока-
зательства:
1 **. Где единая воля законом, где единая находится
свобода, где власть вовсе места не имеет, там нет при-
нуждения. Ибо власть есть препона желаний, здесь воля
должна покориться действию повеления, свобода — уже
рабство. Но божество***, поколику божество, не должно
обязано быть некоторыми законами; оно должно быть са-
мо себе законом, его независимость должна торжество-
вать над истреблением состояния естественного. Убо бог,
поелику бог, к содеянию своего существования не при-
нуждается. Следственно, бог не существует.
2. Необходимость есть исчадие существования; она
есть случаем быть тварию, ее ограниченность, ее сущ-
ность не требует примеров. Ежедневный опыт воспящает
от недоумения, воспящающегося о непоколебимости сея
истины. О приобретении всего того, что нужда человечес-
кая требует, стараемся. Трудности, стоящие иногда на-
рушения благоденствия нашего, опасности, потрясающие
благополучие наше, становятся единою мечтою. Приоб-
* Сомневаюсь.— Ред.
** Так в рукописи.— Ред.
*** В тексте «убожество*.— Ред.
73
ретение желаемыя необходимыя вещи удовлетворяет
нужде человека. Се желания предел! Богу какая нужда
в своем существовании? Что его к сему понуждает? Быть
понуждаему богу к содеянию чего-нибудь — это значит
быть богу тварию, но сие само сколь противно сущности
бога! Существовать богу по собственному его произво-
лению— это значит без всякой причины; но сие безрас-
судство не совместно с величеством бога. Следственно,
бог не существует.
3. Ежели бы бог присущ был существованию, то бы
совесть была истинным доказательством бытия бога;
вопль ее вынаруживал бы в человеке познания о боге;
опасность терзаться совестию не допустила бы человека
до нарушения закона природы; совесть по содеянии зла
мучила бы; но в человеке противное усматривается, его
пагубные действия не токмо не сопровождаются раская-
нием, сожалением,— веселие, удовольствие, дань поро-
ков! А из сего следует заключить, что даже и самая со-
весть вооружается против бытия бога.
4. И потому сей довод (основывать бытие бога на
внутреннем сознании), предлагаемый защитниками суще-
ствования бога, недействителен; он восстает против опы-
та, следственно, против природы; доказывать бытие бога
внутренним сознанием — это значит доказывать предрас-
судки предков, ибо порок — сие пагубное существо — бе-
зобразит разумное творение, ложь представляет в виде
правоты, делает оную для человека естественностию; на-
рушать ее убеждения представляет опытность быть есте-
ственно наказану, а посему где ложь почитается за ис-
тину, где ее побуждения не нарушаются без опасности
быть наказану, там созидание о чем-нибудь не может
быть истинно, там сомнение о их мнении должно поколе-
бать душу человека.
Все сие говорено было о том, дабы убедить в сей ис-
тине, что бога нет, все причины, представляемы[е] здесь,
доказывают несовершенство его. Что бог несовершен, это
правда. Ибо иметь пределы деяний разума, воли, не быть
творцом и промыслителем мира от него — это значит
быть несовершенну. Несовершенный не есть бог. Ибо не-
совершенство несовместно с совершен[ством]. Следст-
венно, бога нет...
«Избранные произведения русских мыс-
лителей второй половины XVIII века»,
т. 2. М., 1952, стр. 535—536, 543—545.
74
С. Марешаль
Из работы
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКРЕЦИЙ»47
О ты, чье существование еще
требует доказательств, ты, который, быть может, явля-
ешься лишь символическим обозначением Вселенной, ты,
о котором все должно бы свидетельствовать и которого
все, однако, опровергает,— бог, которого я решаюсь ско-
рее отрицать, нежели уничтожать! Я видел, сколько пре-
ступлений освящало твое имя, сколько жертв закалывали
на твоих алтарях. Возмущенный, я устыдился ошибок
моего сознания, бежал из твоего храма и унес свой фи-
миам.
* * *
Мир, кто тебя создал? Солнце, кто тебя зажег? Кому
обязан ты жизнью, человек? Кто тебя сотворил? Неуж-
то Вселенная рождена лишь случаем? Ведь случай —
лишь слово пустое... А что другое представляет собой
бог? Ничто не рождается; ничто не умирает. Все сущест-
вующее неизбежно подвержено постоянным изменениям.
В разное время материя, различно расположенная, произ-
растает в растениях; в человеке живет мысль. Все при-
влекает друг друга, все друг друга отталкивает. В одном
и том же предмете мы находим одновременно и причину
и следствие. В своем развитии природа воздействует на
самое себя и непрестанно принимает все новые формы.
Стихии, одновременно родственные и противоположные,
стремятся к одинаковой цели противоположными путями.
Для сохранения порядка свирепствует война. Нападение
и защита сохраняют на земле полное равновесие добра
и зла. И жизнь и смерть имеют одинаковое значение.
И всюду более слабый является жертвой более сильного.
Такова несправедливая поступь Вселенной.
* * *
Выбирай: либо Вселенная движется сама собой, либо
и ее создатель был кем-то создан. «Нет,— отвечает те-
ист,— существуя сам по себе, необходимый и абсолют-
ный верховный распорядитель, богатый своей внутренней
сущностью, дает существование всему, не получая суще-
ствования ни от кого». Непоследовательный теист, почему
ты не относишь эти качества к материи? Бог, привлекае-
75
мый тобою с таким усилием, лишь сгущает мрак, который
нужно рассеять. И почему Вселенная — это великое це-
лое, полное жизни,— не может существовать своей соб-
ственной энергией? Знаешь ли ты материю и ее свойства?
Она пассивна и безжизненна лишь в твоих помутневших
глазах. Прежде чем судить о ней и давать ей творца, о
недалекий богослов, нужно познать ее. Что же такое дух,
управляющий сокровенными пружинами материи, дейст-
вующий на тела, сталкивающий их? Разве это божья ру-
ка давит на камень и подталкивает, заставляя его уст-
ремляться к центру? Разве это голос божий побуждает
дикого волка набрасываться на стадо и на пастуха?
Применяй опыт, наблюдай природу, проникая в ее
тайники, освещай себе путь светочем искусств и ремесел;
в известной нам Вселенной находи новые миры и не ищи
бога-творца, если материя сама может быть причиной
самой себя. «Материя без причины?..» Но если допустить
существование бога, можно возразить то же: бог без при-
чины,— легче ли это понять? «Бог и причина — только
разные названия одного и того же...» Но под этим назва-
нием следует понимать Вселенную и ее причину; вне Все-
ленной ничего не может существовать, и поэтому искать
причину где-то за пределами Вселенной — значит затем-
нять дело. Материя повсюду: где же может находиться
бог? Увы, напрасно бы мы старались это узнать. Недо-
ступный ни осязанию, ни обонянию, ни глазу, ни слуху,
бог ускользает от наших чувств и скрывает, что он такое.
Бог либо не существует, либо его бытие — плод, запре-
щенный для нашего познания.
* * *
Природа глаголет моими устами: «Кто этот призрак,
захвативший все мои права? Кто этот творец, эта перво-
причина, этот всевышний, всеблагой бог, который будто
бы породил меня? Когда и где я обязана ему этим благо-
деянием? Кто он, сотворивший все из ничего? Моя мощь,
правда, ограничена существованием, но права мои вечны.
Я есть и буду, ибо я была всегда. Нет ничего вне меня, я
заполняю собой все пространство. Я есть все, а что есть
бог? Какое существо превосходит меня? Твой бог — это
я, только ты, о невежественный смертный, называешь ме-
ня разными именами. Почему же ты захотел отличать
меня от меня самой? Природа едина. Так зачем же в сво-
ем представлении ты даешь мне творца, который сам
76
взят из моей груди? Не подобно ли это поискам начала
и конца в окружности? Вернись, неблагодарное, забыв-
шее свою мать дитя! Вернись к природе и рассей свои хи-
меры! О смертный! Осознай свои права, верни свое до-
стоинство! Ты сам обладаешь чертами божества. Ведь
каждое существо — и творец и творимое. Человек же —
любимый сын Природы; он может стать всем, чем поже-
лает, и если уж ему необходим бог, пусть сам он станет
для себя богом!»
* * *
Что же, непоследовательный богослов! Рассказывай в
туманных словах о боге, этом разумном существе, кото-
рое, целиком владея материей, сотворило все к лучшему.
«Несомненно существует первопричина. Все говорит: есть
бог! Все — и на земле, и на небесах: и чудесная смена
времен года и дней, и поразительная гармония враждеб-
ных существ, и бесконечная мудрость всенаправляющего
плана. Иди от одного полюса к другому, спустись, отваж-
ный смертный, с горных вершин в глубокие бездны,— все
показывает нашим взорам, все говорит нам, что есть бог,
творец всех этих чудес». Если бы был бог, все должно
было бы свидетельствовать о нем. Если бы был бог —
разве можно было бы в этом сомневаться? Разве Эвклид
когда-либо вызывал недоверие? Разве нужно было при-
бегать к угрозам, чтобы доказать, что треугольник име-
ет три стороны или что дважды два — четыре? Если бы
был бог, все, конечно, было бы хорошо. А ныне рядом с
добром — зло. Множество опасностей, забот, встречаю-
щихся на пути человека, превращают нашу прекрасную
Вселенную в тюрьму. Если бы был бог, счастливые дни
золотого века еще сияли бы на неутешной земле. А те-
перь под взором бога порок облагорожен, а мудрец, оди-
нокий, прозябает в забвении!.. А теперь под взором бога
все направляется корыстью, а скромная добродетель вну-
шает отвращение! Если бы был бог, в которого верил Со-
крат, этот бог спас бы его от рук неблагодарных сооте-
чественников. Если бы был бог, разве многочисленные
грязные фанатики могли бы шататься, подобно шарла-
танам, по нашим площадям и продавать от его имени
свои талисманы, затемняя разум людей своими измыш-
лениями, обманывая доверчивый народ и заставляя его
ползать у своих ног в страхе наказаний. Если бы был бог,
народы, не заблуждаясь, создали бы в его честь единый
всеобщий культ и за одним алтарем, всегда согласные
77
между собою, благословляли бы его благость, воспевали
бы его всемогущество. Если бы был бог, разве преступ-
ный богач смел бы мерить наглым взором униженного
праведника, мудреца, оружием которому служат лишь
собственное сердце, невинность и слезы? Тщетно станут
мне толковать о возмездии в будущем. Зачем допускать
преступление? Чтобы карать его? Разве богу доставляло
бы удовольствие считать свои жертвы? Гораздо велико-
душнее предупреждать преступления. Что бы ни ждало
нас в будущем — здесь, на земле, страждущая доброде-
тель свидетельствует против бога.
* * *
Что такое бог? Всюду его ставят в пример. И в каж-
дом селении воздвигается ему храм. Облака ладана, зву-
ки тысячи благочестивых концертов поднимаются в его
славу к небесному своду. У подножья священных алтарей
железо и огонь бьют, жгут тела, дабы обратить души. На
школьных скамьях пламенно защищают и хладнокровно
рассматривают свойства бога. Без конца противопостав-
ляя силлогизмам дилеммы, тщетно пытаются разрешить
проблему. И даже умирая в лоне церкви, человек знает
о своем боге только его имя.
* * *
Ах, сколько зла причинило на земле имя бога! Неж-
ные имена супругов, детей, отцов, сограждан, благодете-
лей, друзей теряют всю свою силу, умолкают перед ним.
Увы! Сколько слез заставило пролить это имя, сколько
причинило оно мрачного горя и жгучего беспокойства!
Милостью бога ставшие тиранами, короли, прикрываясь
его священным именем, навязывают невежественным на-
родам позорные договоры или жестокие войны. Чтобы
проливать кровь несчастных, поп воздевает к небесам
свои руки, призванные нести на землю мир, а имя бога
почти постоянно служит боевым лозунгом. И вскоре на
обломках хрупкой стены жестокий победитель, попирая
ногами мертвых, заставляет побежденных распевать гимн
создателю. И возглашаемое имя бога освящает неспра-
ведливость. Его храм — наиболее верное убежище для
преступления. Чтобы отстоять свои права, благородная
Истина должна прикрываться именем божества. Феми-
да 48 именем бога выносит свой приговор против справед-
ливости. В интересах церкви сделавшийся яростным от-
78
цеубийцей, гордый своими деяниями, без угрызения со-
вести и без раскаяния, человек осеняет себя крестным
знамением и мирно спит. На обширном поприще своих
трудов ученые наталкиваются на имя бога, как на пре-
пятствие,— им затыкают рот этим роковым именем. Один
бог все объясняет — как добро, так и зло. Извергается ли
вулкан, наступает ли голод — то бог карает нас. И люди
теряют головы: храмы раскрываются перед рыдающим
народом, люди не знают, о чем молить и умирают с мо-
литвой на устах. Это имя — пустое слово, слово непонят-
ное — этот бог покорил себе все, и все для него стало воз-
можным. Он — наиболее действенный из всех талисма-
нов. Он покоряет, он подчиняет себе все чувства. Как ос-
вободиться от этого всеобщего заблуждения, переходяще-
го из века в век! Назойливый голос побуждает новорож-
денного склоняться пред этим именем, вместе с молоком
матери ребенок всасывает этот яд. Глубоко запечатлев-
шееся в нашем молодом мозгу заблуждение — увы! —
не может быть стерто без большого усилия! Все пропита-
но его заразой. Политика вкупе с религией противопоста-
вили свои цепи природным связям. Все стало добычей
этих ловких чудовищ. И эти две власти, объединенные,
хотя и соперничающие, сделали всех порабощенных смерт-
ных своими вассалами...
* * *
Если допустить, что есть бог, то все в природе ставило
бы в тупик мой разум, все было бы для меня темной за-
гадкой. Я не знаю, откуда я пришел, кто я, куда я иду.
Вечный круг страданий и благ сковывает мою трепещу-
щую душу жестоким сомнением. Вчера родившись, мы
растрачиваем настоящее в ожидании... Исследуя предме-
ты днем и ночью, я ищу бога повсюду, и повсюду он от
меня ускользает.
Оставим же этого бога, раз он боится обнаружить се-
бя. Разве для того, чтобы существовать, мир нуждается
в хозяине? Вот этот сосуд был глиной, прежде чем по-
пасть в руки горшечника, ибо материал предшествует
форме и мастеру. Раз природа существует — она возни-
кает из самой себя. Ее формы могут меняться, но она
вечна. Если, черпая все из самого себя, мир не имеет твор-
ца, он сам является собственным двигателем. И я тщет-
но стал бы жаловаться,— бесполезные сетованья! Все
именно таково, каким должно быть в природе.
79
* * *
Приказ отдан. Сто тысяч бойцов мерно движутся под
звуки труб. Сера воспламеняется и выталкивает сви-
нец— и вмиг кровоточат жестокие раны. Целые батальо-
ны, точно поле колосьев, падают, скошенные косою смер-
ти. Ручьями течет кровь. Вот все сгрудилось, воспламе-
нилось, с мечом в руке — то палач, то жертва — солдат
причиняет и получает смерть... А бог, спокойный наблю-
датель, предоставляет распоряжаться судьбе!
* * *
Говорят, бог — повсюду... И повсюду преступления!
Повсюду люди — либо палачи, либо жертвы. Золото, ко-
торое непрестанно переходит из рук в руки, везде окра-
шено кровью. В мире, говорят, ничто не совершается без
всеблагого бога... Но, дети столь доброго отца, почему же
в этом мире скорбей каждая секунда отмечена несчасть-
ем? Почему же этот мудрый бог, подобно малоискусному
художнику, чтобы выделить главного героя, отодвигает
на задний план всех остальных смертных? Уж не за то ли,
что тот, кого он сделает счастливым, воздвигнет ему ал-
тарь?
* * *
Подобный трусливому стаду, послушному бичу, сбегай-
ся, наивный народ, к подножью алтаря, гни спину на сво-
их ленивых попов и дрожи при имени бога, выдуманного
ими. Пусть ловкий тиран расписывает своим робким под-
данным бога, похожего на него самого! И чтобы заста-
вить подчиняться себе, как законному владыке, пусть он
накладывает на их разум повязку веры! Сорвем же эту
повязку, которую выдумала хитрость, и не будем прино-
сить в жертву обману наше драгоценное благо — свобо-
ду. Пустым софизмам гордо противопоставим нашу пра-
воту: освободим наш разум от недостойного рабства,
пусть он будет свободен от гнета предрассудков, пусть
отныне им владеет только Истина!
* * *
Победитель, обративший в прах Бастилию49, только
что взятую штурмом, народ Парижа, обагривший свои
руки нечистой кровью властителей, удивленный легко-
стью победы, еще долго кричал: «О божественное прови-
дение, ты всемогуще, это тебе мы всем обязаны...» О нет,
неразумный народ! Все это сделал ты сам, своим оружи-
80
ем! В течение двадцати долгих веков ты был под гнетом.
Ты восстал, и деспоты скрылись. Ни твой бог, ни твои
священники никогда не осмеливались восстать против
господ. Твой бог оставлял в мире тиранов; его служители,
низкие льстецы, воскуряли им фимиам. Народ, осознай
свою силу и возьми все в собственные руки. Ты всемогущ;
не жди ничего от этого высшего существа, которое всегда
служило защитой преступникам. Народ, противопоставь
властителям не бога, а свои мускулистые руки...
* * *
Народы-республиканцы, изгоните из вашего общества
властителей, заклеймите этих ничтожных и порочных лю-
дишек, которые живут ложью и проповедуют заблужде-
ния; закройте священникам доступ к почетным должно-
стям и управлению; они — позор человечества, они — са-
мые низкие из всех существ. Разве могли бы честные лю-
ди исполнять гнусное и дурацкое ремесло набожного об-
манщика, льстя порочным страстям, отравляя сознание,
унижая добродетель во имя ложных принципов, обещая,
угрожая — все в зависимости от обстоятельств? Как мно-
го зла натворили священники на земле! Нет ничего более
аморального, более низкого, чем поп-предсказатель! Эта
мерзкая, позорная роль оставляет на человеке отпечаток,
который он носит на себе до самой смерти. Священник
всегда останется священником. Его ничто не может ис-
править. Однажды став священником, им остаются на
всю жизнь. Долго ли еще ты, о Франция, родина моя, бу-
дешь терпеть священников с их богом?
ЭПИТАФИЯ АВТОРА
Счастлив, кто, будучи рож-
ден свободным от предрассудков отцом, был воспитан им
вдали от попов, нанимаемых, чтобы учить заблуждениям
и проповедовать нетерпимость! Счастлив, кто живет в не-
ведении богов и их ставленников, более злых, чем они
сами; в неведении неприличных картин, отвратительных
догматов, которые религия — оружие деспотизма — ос-
вящает в глазах напуганной толпы! Счастлив, кто на
смертном ложе, окруженный близкими друзьями, чувст-
вует, как по его руке струятся слезы братьев, и, глухой
к пустым словам и ханжеским химерам, умирает с име-
нем добродетели на устах. Друзья! Когда быстротеку-
81
щее время разрушит хрупкое здание моего тела, пусть
мой прах будет собран вами и пусть на моей могиле бу-
дут начертаны стихи: «Здесь покоится мирный атеист.
Он всегда шел прямо, не глядя на небо. Да будет окру-
жена почтением его могила! Друг добродетели был не-
другом богов».
С. Марешаль. Избранные атеистические
произведения. М., 1958, стр. 47, 48—53,
54, 58, 59, 65-67,
Г. Гейне
ДИСПУТ50
Заливаются фанфары
В зале города Толедо,
Толпы пестрые стеклись
На духовную беседу.
Тут оружье не заблещет,
Как при светской грубой свалке,-
Будут копьями слова
В схоластической закалке.
То сошлись не на турнир
Два галантных паладина,—
Предстоит словесный бой
Капуцина и раввина.
Прикрывают их скуфья
И ермолка — те же шлемы.
«Арбеканфес» 51 и нарамник52 —
Их доспехи и эмблемы.
Кто воистину господь?
Бог ли то евреев старый
И единый, чей поборник —
Рабби Юда из Наварры,
Или это триединый
Бог по вере христианской,
82
Чей поборник — патер Хозе,
Настоятель францисканский?
Подбирая аргументы
И логические звенья
И ссылаясь на ученых,
Вес которых — вне сомненья,
Хочет каждый ad absurdum *
Привести слова другого,
Превосходство доказав
Иисуса иль Еговы.
Решено, что кто потерпит
В этом споре пораженье,
Должен будет перейти
В победившее ученье;
Что окрестит иудея
Францисканец в наказанье,
И обратно — что грозит
Капуцину обрезанье.
И еврея и монаха
Окружают их клевреты;
Разделить судьбу вождей
Принесли они обеты.
В торжество Христовой веры
Твердо верят капуцины:
Со святой водой купели
Притащили на крестины
И уж держат наготове
И кропила и кадила;
Между тем ножи евреи
Бодро точат о точила.
Так стоят, готовясь к бою,
Обе своры среди зала,
И столпившийся народ
С нетерпеньем ждет сигнала.
абсурду (лат.).
83
Под навесом золотым,
С королем-супругом рядом,
Королева озирает
Круг придворных детским взглядом
Носик вздернутый французский,
Шаловливые гримаски,
Уст улыбчивых рубины —
Сколько чар и сколько ласки!
Как цветок, она прекрасна.
Боже, бедную помилуй!
С берегов веселой Сены
Привезли ее в унылый
Край сухого этикета,
И зачахла, как в пустыне.
Бланш Бурбон в отчизне звали,
Доньей Бланкой стала ныне.
Сам король «Жестоким Педро»
Прозван слугами своими,
Но сегодня в духе он,
Лучше он, чем это имя.
С приближенными любезно
Разговаривает Педро,
Маврам и евреям тoже
Комплименты сыплет щедро.
В рыцарях без крайней плоти
Он обрел друзей бесценных —
Превосходных финансистов,
Выдающихся военных.
Затрещали барабаны,
Затрубили трубы,— это
Значит, что открылись пренья,
Что схватились два атлета.
Францисканец начал диспут
В тоне ярости священной.
Хриплым голосом рычит он
И визжит попеременно.
84
Именем отца и сына
И святого духа властно
Бесов он заклял, сидящих.
В чаде Якова злосчастном.
Ведь известно, что при спорах
Часто черт сидит в еврее
И нашептывает мысли
Побойчей да поострее.
Чудодейством заклинанья
Выгнав дьявола умело,
За догматику он взялся,
Катехизис двинул в дело.
Говорит, что божество
Воплощается в трех лицах.
Но все трое, если нужно,
Воедино могут слиться;
Что постигнуть это чудо
И поверить не на шутку
Может только тот, кто бросит
Вызов здравому рассудку;
Что родился наш господь
В Вифлееме, скромном хлеве,
И внушен святым был духом
Сохранившей девство деве;
Что лежал спаситель в яслях,
И смотрели, выгнув спины,
На него бычок и телка
Взором набожной скотины;
Что бежал в Египет бог,
Жизнь от Ирода спасая,
Но затем его постигла
В Палестине участь злая,
Ибо Понтием Пилатом
По наветам фарисеев
Был он отдан на распятье
В руки мерзостных евреев;
85
Что уже на третий день
Гроб господь пустым оставил
И прямым путем оттуда
В небо свой полет направил;
Но, когда настанет время,
Он на землю возвратится
И живым и мертвым тварям
Повелит на суд явиться.
«Трепещите,— взвизгнул он,—
Перед богом, злые черти!
Вы его терзали, били
И подвергли крестной смерти.
О мучители Христовы,
Злонамеренное племя!
Вы поднесь — убийцы бога,
Как и были в оно время.
Род еврейский — это падаль,
Обиталище драконов,
И тела у вас — казармы
Для бесовских легионов».
Так сказал Фома Аквинский53,
Муж великий и ученый,
Светоч знанья, коим горд,
Коим славен мир крещеный...
Если ценно вам, проклятым,
Ваших бедных душ спасенье,—
Прочь из гнусной синагоги
В наши мирные селенья,
В светлый храм любви Христовой
Там вам головы окатит,
Из святой струясь купели,
Ключ господней благодати.
Сбросьте ветхого Адама,
О повапленные гробы,
Смойте грех, отмойте плесень
Застарелой вашей злобы.
86
Божий глас ужель не внятен?
Он зовет вас, неофитов,
На груди Христа стряхнуть
Вашей скверны паразитов.
Воплотил наш бог любовь,
И святым его ученьем
Мы прониклись — милосердьем,
Миролюбьем и смиреньем.
Мы — такие добряки,
Что и мухи не обидим,
И когда-нибудь за это
В царство божие мы внидем.
Райским светом просияв,
Станем мы, как ангелочки,
Там бродить, держа в руках
Белых лилий стебелечки.
Вместо грубых ряс наденем
Белоснежные хитоны
Из парчи, муслина, шелка,
Ленты пестрые, помпоны.
И не будет лысин! Будут
Золотые кудри виться,
Заплетать их станут в косы
Нам красивые девицы.
Чаши для вина на небе,
Несомненно, будут шире,
Чем вспененные хмельною
Влагой кубки в этом мире,
Но, напротив, много уже,
Чем у женщин, здесь желанных,
Будут ротики красавиц,
В небе нам обетованных.
Вечно будем мы вкушать
Хмель вина и поцелуя
И блаженно гимны петь
«Кирие» и «Аллилуйя».
87
Так закончил он. Монахи,
Возомнив, что одолели,
Стали было для крещенья
Наполнять водой купели;
Но больны водобоязнью
Все евреи от рожденья;
Рабби Юда из Наварры
Слово взял для возраженья:
«Ты хотел во мне удобрить
Почву духа для посева,
Забросав меня навозом
Сквернословия и гнева.
На приемах — отпечаток
Воспитанья и пошиба.
Не сержусь я, и по дружбе
Говорю тебе спасибо.
Догмат троицы для нас —
Не спасительное средство:
Все мы правилом тройным
Занимаемся сыздетства.
Совместились три лица
В вашем боге? Что ж, немного!
У язычников шесть тысяч
Разных форм и видов бога.
Бог, по имени Христос,
Мне, признаться, неизвестен.
С девой-матерью встречаться
Не имел я также чести.
Если с ним тому назад
Более тысячелетья
Приключилась неприятность,
Рад об этом пожалеть я.
Но евреи ли убийцы,—
Вряд ли кто-нибудь дознался,
Если сам delicti corpus *
К третьей ночи затерялся.
* Вещественное доказательство преступления (лат.).
88
А что с ним наш бог в родстве
Это просто чьи-то бредни,
Ведь насколько нам известно,
Был бездетен сей последний,
Бог наш для людского рода
Не согбен под крестной ношен,
Он совсем не филантроп,
Не слюнтяй и не святоша.
Бог наш — не любовь! К нему
С поцелуями не лезьте,
Ибо это грозный бог,
Громовержущий бог мести.
Гнев господень мечет стрелы
И разит виновных метко,
Отдаленные потомки
Часто платятся за предка.
Наш господь царит доселе
Средь небесного чертога,
И вовеки несть конца
В небесах господству бога.
И притом он здоровяк,
А не миф какой-то хилый,
Тощий, бледный, как облатка
Иль как призрак из могилы.
Бог силен: в руках он держит
Все светила небосвода,
А когда нахмурит брови,
Гибнут троны и народы.
Бог велик — наш царь Давид
Говорит: величье божье
Нет возможности измерить,
Вся земля — его подножье.
Любит музыку наш бог,
Звуки струн и песнопенья,
Но к церковному трезвону
Он питает отвращенье.
89
И у бога рыба есть.
Слышал о Левиафане? 54
Каждый день по часу с ним
Бог играет в океане.
Только в день девятый аба,
В день, когда был храм развален,
Бог наш с рыбой не играет,
Слишком он тогда печален.
У той рыбы плавники
Велики, как царь Васанский
Ог, длина ее,— сто миль,
Хвост — как старый кедр ливанский.
Ну, а мясо у нее —
Это просто объеденье!
В день восстания из мертвых
Бог отправит приглашенье
Всем, кто шел его стезею,
С ним совместно отобедать
И его любимой рыбы,
Рыбы господа, отведать,
Частью в соусе чесночном,
Частью в винном. А винцо-то!
Приготовят эту рыбу
Наподобье мателота.
В белом соусе чесночном
Редька плавает в приправу.
Я уверен, патер Хозе,
Что наешься ты на славу.
Но и винную подливку
Непременно ты попробуй,
Если ты, мой патер Хозе,
Ублажишь свою утробу.
Бог наш знает в кухне толк,
Так не будь же ты болваном:
Распрощайся с крайней плотью,
Насладись Левиафаном!»
90
Так противника прельщает
Рабби сладкими словами,
И евреи, ухмыляясь,
Приближаются с ножами,
Чтобы в знак своей победы
Поживиться плотью крайней,
Этим spolium opimum *
В сей борьбе необычайной.
Но враги за веру предков
И за плоть свою держались,
Не хотели с ней расстаться
И упорно не сдавались.
Принялся монах раввина
Поносить еще безбожней,
Речь его — ночной горшок,
И к тому же не порожний.
Снова рабби возражает,
В сердце затаив обиду,
И, хоть кровь кипит от гнева,
Все же он спокоен с виду.
Он ссылается на «мишну»,
Комментарии, трактаты,
Почерпнул и в «Таусфес-Ионтеф»5
Очень веские цитаты.
Но какое допустил
Богохульство патер грубый:
Он послать себе позволил
«Таусфес-Ионтеф» к черту в зубы.
«Боже, тут всему конец! —
Крикнул рабби в исступленье
И совсем осатанел—
Видно, лопнуло терпенье.—
«Таусфес-Ионтефу» велишь ты
К черту в зубы убираться?
* Оружие, отнятое у врага (лат.).
91
Покарай кощунство, боже,
Ниспровергни святотатца,
Ибо «Таусфес-Ионтеф» — это
Ты, создатель, и фигляру
За хулу на «Таусфес-Ионтеф»
Должен ты назначить кару.
Пусть провалится сквозь землю
Как погибли те злодеи,
Что восстали на тебя
Под командою Корея!
Громыхни громчайшим громом,
Изуродуй изувера,—
Ведь нашлись же для Содома
И Гоморры огнь и сера.
Порази ты капуцинов,
Как однажды фараона,
От которого стречка
Дали мы во время оно.
Он стотысячное войско
Приготовил для погони,
Потрясавшее мечами
И закованное в брони,
Но ты спас, простерши длань,
Свой народ от супостата:
Все сто тысяч в Красном море
Утонули, как котята.
Так ударь по капуцинам,
Чтоб не думали, обломы,
Что твой гнев уже не страшен,
Что твои заглохли громы.
Я тогда твою победу
Прославлять не перестану
И пущусь, как Мирьям, в пляс
И ударю по тимпану»56.
92
Но разгневанного рабби
Перебил католик рьяный:
«Чтоб ты сам пропал, проклятым,
Чтоб ты сгинул, окаянный!
Мне не страшен бог твой грязным,
Не боюсь чертей нимало —
Люцифера, Вельзевула,
Астарота, Белиала57.
Не боюсь твоих я духов,
Темной силы преисподней,—
Сам Христос в меня вселился,
Плоти я вкусил господней.
Причастился я Христа,
Им я лакомиться стану,
Не притронусь я к дрянному
Твоему Левиафану.
Чем на споры время тратить,
Всех бы вас, я, к пользе вящем,
На костре жарчайшем жарил
Иль варил в смоле кипящей!»
Так за веру и творца
Исступленно бьются оба,
И конца не видно спору,
И не может стихнуть злоба.
Длится диспут целый день,
Но противники упрямы.
Очень публика устала,
И потеют сильно дамы.
Все придворные зевают
И клюют от скуки носом.
Наконец король к жене
Обращается с вопросом:
«Каково решенье ваше?
Чья религия мудрее?
Подаете ли вы голос
За монаха иль еврея?»
93
Донья Бланка на него
Посмотрела в размышленье
И, прижав ко лбу ладони,
Так сказала в заключенье:
«Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что оба
Портят воздух в равной мере».
Г. Гейне. Собрание сочинений в десяти
томах, т. 3. Л., 1957, стр. 140—153.
П. Лафарг
Из работы
«ВЕРА В БОГА»
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ
Представление о боге, по-
рожденное в человеческом мозгу неведомыми явлениями
физической и социальной среды, не есть нечто неизмен-
ное. Наоборот, оно изменяется во времени и в простран-
стве; оно эволюционирует по мере того, как развивается
способ производства и преобразуется социальная среда.
Бог, по мнению греков, римлян и народов древности,
пребывал в некотором определенном месте и существовал
лишь для того, чтобы помогать своим поклонникам и вре-
дить их врагам. Каждая семья имела своих особых бо-
гов — духов обожествленных предков,— и каждый город
имел свое городское божество или, как говорили греки,
полиаду. Городской бог или богиня пребывали в посвя-
щенном им храме и были воплощены в своем изображе-
нии, которое часто представляло собой деревянный обру-
бок или камень. Этот бог или богиня интересовались
лишь судьбой жителей данного города. Боги-предки за-
нимались только делами своей семьи. Библейский Иегова
был таким богом; он помещался в деревянном ящике, на-
зывавшемся «кивотом завета», который переносили, ког-
да племена передвигались на другие места. Кивот завета
ставили впереди войска, чтобы Иегова сражался за свой
народ. Если Иегова жестоко наказывал его за нарушение
94
закона, он оказывал ему и многочисленные услуги, о ко-
торых рассказывает Ветхий завет. Когда свой городской
бог оказывался не на высоте положения, к нему пристав-
ляли другое божество. Так, римляне во вторую пуниче-
скую войну приказали привезти из Пессинунта статую
Кибелы, дабы эта богиня Малой Азии помогла им защи-
щаться против Ганнибала. У христиан, разрушивших
языческие храмы и разбивавших статуи богов, чтобы вы-
гнать их из храмов и не дать им защищать язычников,
было такое же представление о божестве. Дикари думали,
что душа — дубликат тела; поэтому их обожествленные
духи, хотя и воплощались в камнях, деревянных обруб-
ках и животных, сохраняли человеческий облик. Св. Па-
вел и апостолы также считали бога антропоморф-
ным 58,— поэтому они и сделали его человеком-богом, по-
хожим на них телом и духом. Современный же капита-
лист представляет его себе без головы и рук, вездесущим,
а не пребывающим в одной какой-нибудь местности зем-
ного шара.
Греки и римляне, подобно евреям и первым христиа-
нам, не думали, что их бог был единым создателем Все-
ленной. Евреи верили в Молоха, Ваала и других богов
тех народов, с которыми они воевали, столь же твердо,
как и в Иегову, а христиане первых веков и средневе-
ковья, хотя и называли Юпитера и Аллаха лжебогами,
считали их все же богами, которые могут совершать
такие же чудеса, как Иисус и его праведный отец *.
Именно потому, что верили в множественность богов, и
возможно было, что каждый город имел в своем распо-
ряжении особого бога, заключенного в храме и вопло-
щенного в статуе или каком-нибудь предмете. Так, Иего-
ва был воплощен в камне. Современный капиталист, счи-
тающий, что его бог находится на земле повсеместно,
не может не прийти к представлению о едином боге;
приписываемое им богу вездесущее не дает ему воз-
можности представлять его себе с лицом и задом, с ру-
ками и ногами, подобно Юпитеру у Гомера или Иисусу
у апостола Павла.
Городские божества, которые нужны были воинствен-
* Тертуллиан в своей «Апологии» и блаженный Августин в
«Граде Божием» сообщают как бесспорные факты, что Эскулап вос-
кресил нескольких умерших, имена которых они приводят; что одна
весталка принесла воду из Тибра в решете, а другая привела ко-
рабль своим поясом и т. д.
95
ным городам древности, находившимся в непрерывной
борьбе с окружающими их народами, не соответствовали
религиозным потребностям, какие порождались товар-
ным производством у буржуазной демократии торговых и
промышленных городов, вынужденных, наоборот, под-
держивать мирные отношения с соседними народами. По-
требности торговли и промышленности заставили нарож-
давшуюся буржуазию демуниципализировать городские
божества и создать богов космополитических. За семь
или шесть веков до христианской эры в приморских го-
родах Ионии, Великой Греции и Греции наблюдаются
разные попытки учредить религии, боги которых не были
бы в монопольном, исключительном обладании одного
какого-нибудь города, а признавались бы и почитались
бы различными, даже враждующими между собой наро-
дами. Эти новые божества — Изида, Деметра, Дионис,
Митра, Иисус и т. д., из коих некоторые относились к
матриархальной эпохе, имели еще человеческий облик,
хотя начала уже чувствоваться потребность в неантро-
поморфном верховном существе; но лишь в капиталисти-
ческую эпоху, как следствие безличной формы, которую
приобрела собственность в акционерных обществах, вы-
ступает с повелительной силой представление об аморф-
ном боге.
Безличная собственность акционерных обществ, с ее
совершенно новым способом владения, диаметрально
противоположным тому, который существовал до того
времени, должна была неизбежно изменить привычки и
нравы буржуа и, следовательно, преобразовать его пси-
хику. До появления акционерных обществ можно было
владеть, скажем, виноградником в области Бордо, ткац-
кой фабрикой в Руане, заводом в Марселе или бакалей-
ной лавкой в Париже. Каждое из этих предприятий, от-
личающихся друг от друга и по роду промышленности,
и по географическому положению, находилось во вла-
дении одного человека или же, самое большее, двух или
трех людей; редко бывало, что одно и то же лицо владело
несколькими такими предприятиями. Совсем иначе об-
стоит дело с безличной собственностью. Какая-нибудь
железнодорожная линия, копи, банк и пр. могут нахо-
диться во владении сотен или тысяч капиталистов, а на-
ряду с этим один и тот же капиталист может иметь в
своем портфеле облигации государственной ренты Фран-
ции, Пруссии, Турции, Японии и акции золотых россы-
96
пей Трансвааля, электрических трамваев в Китае, какой-
нибудь трансатлантической пароходной линии, кофейной
плантации в Бразилии, угольных копей во Франции и
т. д. Капиталист не может питать к безличной собственно-
сти, акциями которой он владеет, ту любовь, какую пи-
тает буржуа к делу, которым он сам управляет или по-
ручает кому-нибудь управлять под своим наблюдением;
безличная собственность интересует капиталиста лишь в
меру цены, уплаченной за акцию, и приносимого ею ди-
виденда. Ему абсолютно безразлично, откуда получает-
ся дивиденд: от предприятия ли по уборке нечистот в го-
роде, от сахарорафинадного завода или от хлопчатобу-
мажной фабрики, а также и то, где выколачивается ди-
виденд — в Париже или Пекине. Но если важен только
размер дивиденда, то теряют свое значение отличия и
особенности приносящего его предприятия; все эти раз-
личные, расположенные в разных местах предприятия
сливаются в глазах капиталиста в одно-единственное,
приносящее дивиденды предприятие, акции которого об-
ращаются на бирже под разными названиями.
Безличная собственность, охватывающая все виды
промышленности и раскинувшаяся на весь земной шар,
простирает свои щупальца, снабженные выкачивающими
дивиденд насосами, одинаково и среди христианских, и
среди магометанских, буддистских и языческих народов.
Так как накопление богатств является главной, всепогло-
щающей страстью буржуа, то слияние различного рода
предприятий, расположенных в разных странах, в единое
космополитическое предприятие должно было отобра-
зиться в его голове и оказать влияние на его представле-
ние о боге*. Безличный характер собственности застав-
ляет его бессознательно слить разных богов земли в еди-
ного космополитического бога, который — смотря по
стране — называется то Иисусом, то Аллахом или Буддой
и которому молятся с соблюдением различных ритуалов.
Нужно считать исторически установленным, что пред-
ставление о едином и всеобщем боге, которое одним
из первых выдвинул Анаксагор59 и которое в течение
многих веков жило лишь в головах некоторых мыслите-
лей, стало общим достоянием только в эпоху капитали-
стической цивилизации. Но так как наряду с безличной,
* «Богатство не вызывает пресыщения,— говорит Феогнид.— Как
бы много добра ни было у человека, он старается иметь еще вдвое
больше».
97
единой и космополитической собственностью сохраняют-
ся еще бесчисленные личные и местные собственности, то
в голове капиталиста, бок о бок с единым и космополи-
тическим богом, умещаются еще местные и антропоморф-
ные боги. Разделение человечества на соперничающие
между собой в промышленном и торговом отношении на-
роды заставляет буржуазию раздробить и своего единого
бога на столько же богов, сколько насчитывается наро-
дов. И каждый христианский народ думает, что христи-
анский бог, который считается ведь богом всех христиан,
есть его национальный бог, подобно тому как Иегова был
национальным богом евреев, а Паллада-Афина была бо-
гиней афинян. Когда два христианских народа объявляют
друг другу войну, то каждый молится своему националь-
ному и христианскому богу, чтобы он сражался за него,
и если он одерживает победу, он ему служит молебны в
благодарность за то, что он разбил врага и его нацио-
нального и христианского бога. У язычников дрались
между собой различные боги, у христиан дерется сам с
собою их единственный бог. Единый и космополитический
бог мог бы изгнать из буржуазной головы национальных
богов лишь в том случае, если бы все буржуазные народы
объединились в один народ.
Безличная собственность обладает еще и другими
свойствами, которыми она наделила единого и космопо-
литического бога.
Владелец засеянного... поля, плотничьей мастерской
или галантерейной лавки может видеть, осязать, изме-
рять, оценивать свою собственность, имеющую опреде-
ленную точную форму. Но владелец доходной облигации
государственного займа и акций какой-нибудь железной
дороги, угольных копей, страховой компании или банка
не может ни видеть, ни осязать, ни измерять, ни оцени-
вать ту частицу собственности, которая содержится в его
бумажных облигациях и акциях: где, в каком государст-
венном лесу или здании, в каком вагоне, в какой тонне
угля, страховом полисе или несгораемой кассе банка на-
ходится она? Его доля собственности затеряна, растворе-
на в огромном целом, которого он даже не может себе во-
образить. Ибо если он видел локомотивы, вокзалы, под-
земные ходы, то он никогда не мог видеть железную до-
рогу или угольные копи целиком; государственный же
долг, банк или страховое общество вообще нельзя пред-
ставить в каком-нибудь образе. Безличную собственность
98
буржуа может рисовать себе лишь в смутной, расплывча-
той, неопределенной форме; она ему представляется ско-
рее созданием воображения, обнаруживающимся вовне
в виде дивидендов, чем чувственной реальностью. Однако
эта безличная, неопределенная, как метафизические по-
нятия, собственность снабжает его всем необходимым,
подобно отцу небесному у христиан, возлагая на него
только одну работу и одну заботу: получать дивиденды.
И он их получает в блаженной лени тела и духа, как бла-
годать капитала, религиозным отражением которой яв-
ляется благодать божия,— «самый истинный из христи-
анских догматов», по словам Ренана. Он ломает себе го-
лову над исследованием природы безличной собственно-
сти, дающей ему его ренту и дивиденды, ровно столько
же, сколько над исследованием того, является ли его
единый и космополитический бог мужчиной, женщиной
или животным, разумен ли он или идиот, обладает ли он
силой, свирепостью, справедливостью, добротой и други-
ми качествами, которыми были наделены антропоморф-
ные боги. Он не теряет своего времени на то, чтобы ему
молиться, ибо он твердо знает, что никакая мольба не
изменит размера ренты и дивиденда безличной собствен-
ности, идеальным отражением которой является его еди-
ный и космополитический бог.
Безличная собственность, преобразуя антропоморфно-
го бога христиан в бесформенного бога, в создание вооб-
ражения, в метафизическое понятие, постепенно лишала
религиозное чувство буржуазии той остроты, которая по-
родила фанатизм мученичества, крестовых походов и ин-
квизиторства; она превращала религию в дело личного
вкуса, подобно кухне, которую каждый ведет на свой
лад — на сливочном или на прованском масле, с чесноком
или без чеснока. Но хотя капиталистическая буржуазия
нуждается в религии и хотя она считает либеральное
христианство соответствующим ее желаниям, она не мо-
жет признать без серьезных коррективов католическую
церковь, инквизиторский деспотизм которой вторгается
даже в мелочи частной жизни и которая со своей мощной
иерархией безусловно послушных и дисциплинированных
епископов, священников, монахов и иезуитов угрожает
спокойствию буржуазного общества. Католическая цер-
ковь могла признаваться феодальным обществом, все
члены которого, от крепостного до короля, занимали раз-
ные ступени общей иерархии и связаны были друг с дру-
99
гом взаимными правами и обязанностями. Но она недо-
пустима в буржуазной демократии, члены которой, рав-
ные перед фортуной и перед законом, но разделенные
противоположностью интересов, находятся меж собой в
постоянной промышленной и торговой войне и желают
иметь всегда право критиковать правительство, взвали-
вая на него ответственность за свои экономические зло-
ключения.
Буржуа, не терпящие на пути к своему обогащению
никаких помех, не могли также терпеть цеховую органи-
зацию ремесленных мастеров с их контролем способа
производства и качества продуктов. Они сломили ее. От-
делавшись от всякого контроля, они руководятся только
собственными интересами в своем стремлении к обога-
щению, и каждый из них пользуется при этом находящи-
мися в его распоряжении средствами. За качеством про-
изводимых и продаваемых им товаров следит теперь
только его гибкая совесть,— пусть клиент сам следит за
тем, чтобы его не обманывали ни в качестве, ни в весе,
ни в цене покупаемых им товаров. Каждый за себя, а бог,
т. е. деньги, за всех. Свобода промышленности и торгов-
ли неизбежно должна была отобразиться в его понима-
нии религии, которую всякий толкует по-своему. Каждый
входит в сделку с богом, как входит в сделку со своей
совестью в торговых делах; каждый, в согласии со свои-
ми интересами и своим разумом, толкует учение церкви и
слова Библии, находящейся теперь в руках всех проте-
стантов, подобно тому как гражданский кодекс находит-
ся в руках всех буржуа.
Буржуа-капиталист не может быть ни мучеником, ни
инквизитором, ибо он потерял жар прозелитизма, одушев-
лявший первых христиан, которые были кровно заинте-
ресованы в расширении числа верующих, а значит, и ар-
мии недовольных, идущих на штурм языческого общест-
ва; у этого буржуа есть, однако, какой-то вялый, туск-
лый, религиозный прозелитизм, обусловливаемый его экс-
плуатацией женщин и рабочих.
Женщина должна быть покорна его воле. Он хочет,
чтобы, в зависимости от его желаний, она была и верной,
и неверной. Если она жена ближнего и он ухаживает за
ней, он требует от нее неверности во имя долга по отно-
шению к ее собственному «я», и он прибегает ко всем
ухищрениям своей риторики, чтобы избавить ее от рели-
гиозных угрызений совести. Если же она его законная
100
жена, она становится его собственностью и должна быть
неприкосновенной. Он требует от нее абсолютной верно-
сти и пользуется религией, чтобы вбить ей в голову поня-
тие о супружеском долге.
Наемный рабочий должен смиренно принимать свой
жребий. Социальная функция эксплуататора труда тре-
бует от буржуа, чтобы он пропагандировал христианство,
проповедуя смирение и послушание воле бога, который
делит людей на господ и слуг, и чтобы он пополнил хри-
стианское учение вечными принципами демократии. Для
него чрезвычайно важно, чтобы рабочие растрачивали
свою интеллектуальную энергию в бесплодных спорах об
истинах религии, о справедливости, свободе, морали, оте-
честве и других подобных ловушках для простаков и что-
бы у них не оставалось ни одной свободной минуты для
размышления о своем жалком положении и о средствах
улучшить его. Знаменитый радикал и фритредер Яков
Брайт так высоко ценил этот метод засорения головы, что
он каждое воскресенье проводил в чтении и толковании
своим рабочим Библии. Но подобное амплуа отупителей
с помощью Библии, которому английские буржуа обоего
пола могут предаваться от безделья, в виде причуды, ес-
тественно, носит, подобно всякой любительской работе,
случайный, нерегулярный характер. Промышленная бур-
жуазия нуждается для этого дела в профессиональных
отупителях людей. Они поставляются ей духовенством
всех вероисповедных толков. Но у всякой медали есть
своя оборотная сторона: чтение Библии наемным рабо-
чим представляет опасности, которые сумел оценить Рок-
феллер. Чтобы помочь беде, великий организатор трестов
основал особый трест для массового издания Библии,
очищенной от жалоб на неправедные поступки имущих и
от кипящих завистью и гневом обличений их богатства.
Католическая церковь, предвидевшая эту опасность и же-
лая уберечься от нее, запретила верующим чтение Биб-
лии и предала сожжению Уиклифа, впервые переведшего
ее на живой язык народа. Католическое духовенство со
своими молебствиями, паломничеством и другими рели-
гиозными комедиями опытнее всех своих конкурентов в
искусстве отупления людей; оно также лучше других при-
способлено для подготовки братьев и сестер игнорантов
для начальных школ и сестер-надзирательниц для жен-
ских мастерских. Крупная промышленная буржуазия, не-
смотря на всю свою антипатию к католическому духовен-
101
ству из-за его иерархии, хищной жадности и вмешатель-
ства в семейные дела, поддерживает его в политическом
и финансовом отношении ради тех многочисленных услуг,
которые оно оказывает ей в деле эксплуатации труда.
П. Лафарг. Религия и капитал. М., 1937,
стр. 87—94.
Д. Фрэзер
Из работы
«ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ»
ВОПЛОЩЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ БОГИ
<...> Дикарь едва пони-
мает или даже совсем не понимает, что сверхъестествен-
ные силы, наличие которых для него несомненно, превос-
ходят его, стоят выше его: он позволяет себе застращи-
вать их или даже вынуждать их исполнять его собствен-
ные желания. Мир на этом этапе человеческого мышле-
ния кажется великой демократией: естественные твари
и сверхъестественные существа, обитающие в мире, по-
ставлены почти на равную ногу. Однако, по мере того как
личность прогрессирует в знании, она все более ясно рас-
познает, как неизмерима, как необъятна природа, как
незначительна и немощна личность человеческая пред
лицом природы. Это сознание отнюдь не приводит сразу
к прекращению веры во вмешательство тех сверхъестест-
венных существ, которыми воображение человека насе-
ляло и населяет мир. Напротив, человеческое воображе-
ние еще выше ставит всемогущество этих существ. Пред-
ставление о мире, как о системе безличных сил, которые
действуют по определенным, неизменным и непоколеби-
мым законам, еще не выработалось у человека. Конечно,
в зародышевом виде эта идея существует у дикаря, эта
идея проявляется и в магическом искусстве, и в мелких
фактах повседневной жизни первобытного человека, од-
нако она так и не доходит до зрелого состояния. Посколь-
ку первобытный человек объясняет себе мир, в котором
он живет, он представляет его себе, как проявление соз-
нательной воли, как личную акцию (действие). Нет пре-
делов тому величию и могуществу, которые он, чувству-
ющий себя столь жалким и хрупким, приписывает этим
102
существам, способным управлять гигантскими силами
неизмеримого мирового механизма. По мере того как
выветривается и исчезает первоначальное представление
первобытного человека о его равенстве с богами, он от-
казывается от непосредственного управления процессами
природы путем применения собственных средств, т. е.
средств магии60, он все больше и больше, все чаще и
чаще обращается к божествам, являющимся единствен-
ными обладателями сверхъестественных сил и способно-
стей, когда-то принадлежавших якобы и самому человеку.
Когда человек несколько посбавил веры в свое могу-
щество, когда у него прибавилось знания, в его религиоз-
ном ритуале начали господствовать молитва и жертво-
приношение. Магия, которая когда-то занимала равное
с ними положение, была мало-помалу оттеснена в сто-
рону и опустилась до степени недозволенного искусства.
Ее начинают упрекать в нечестивости и в бессмысленно-
сти. Жрецы, влияние и репутация которых поднимаются
и падают с влиянием и репутацией их богов, объявляют
упорную и непрерывную борьбу магии. Когда впослед-
ствии вырабатывается различение между религиозными
обрядами и обрядами суеверными (магическими), про-
свещенная и благочестивая часть общества прибегает к
жертвоприношению и молитве, тогда как невежествен-
ные и легковерные элементы общества находят убежище
в магии. Еще позже, однако, когда человечество познает
существование естественного закона, когда это познание
вытесняет понятие об элементарных (стихийных) силах,
как о личных факторах (агентах), магия снова подни-
мается из низин тьмы, куда она опустилась, и из атмо-
сферы недоверия, которою она была окружена; опираясь
на идею неизбежной связи причины и следствия, связи и
последовательности, независимых от всякой частной воли,
магия, исследуя причинную зависимость в природе, не-
посредственно подготовляет путь к науке. Алхимия ведет
к химии.
Понятие о богочеловеке (человекобоге) или о челове-
ческом существе, обладающем божественными или
сверхъестественными силами и способностями, принадле-
жит, по существу, к этому первобытному периоду в исто-
рии религии, когда в богах и людях видят существ од-
ного порядка, когда их не отделяют еще той непреодо-
лимой пропастью, которую вырыла между ними более
передовая мысль. Как ни странной может показаться нам
103
идея бога, воплотившегося в человеческий образ, но в ней
нет решительно ничего, что могло бы поразить первобыт-
ного человека: в богочеловеке, или человекобоге, перво-
бытный человек не видит ничего, кроме тех самых сверхъ-
естественных сил и способностей, которые он приписывает
себе, но только в более высокой степени. Он не совсем
ясно различает между богом и могущественным колду-
ном. Боги часто являются не кем иными, как невидимыми
магами, которые, скрываясь за покрывалом природы,
действуют тем же колдовством, теми же заклинаниями,
которые в видимой и материальной форме применяются
колдуном-человеком. Так как вера в способность богов
показываться своим почитателям в человеческом облике
является общераспространенной, то колдуну с его якобы
чудотворными способностями вовсе не трудно приобре-
сти репутацию воплощенного божества. Таким образом,
лекарь-колдун, который начинает в качестве простого
ведуна, поднимается до роли существа, в котором соче-
таются и бог и царь. Однако, говоря о нем, как о боге,
мы должны остеречься от привнесения в понятия дикаря
о божестве тех весьма отвлеченных и сложных идей, ко-
торые мы связываем с этим термином. Наши идеи отно-
сительно этого глубокого предмета являются плодом
длинной интеллектуальной и моральной эволюции, ди-
карь так далек от этих идей, что он не понимает их даже
тогда, когда ему пытаются их объяснить. Яростная по-
лемика, которая ведется по вопросу о религии низших
рас, в большой мере обязана своим происхождением
взаимному непониманию дикаря и культурного человека.
Дикарь не понимает мыслей цивилизованного человека,
и наоборот. Когда дикарь произносит слово «бог», он в
уме представляет себе существо некоего рода; цивилизо-
ванный, употребляя слово, относящееся к понятию бога,
имеет в виду существо совершенно иного рода, а так
как, когда два человека одинаково неспособны встать на
точку зрения друг друга, путаница и ошибки в результате
их спора неизбежны, то и в вопросе относительно верова-
ний дикарей мы наблюдаем полную разноголосицу. Если
мы, люди цивилизованные, согласимся применять слово
«бог» только к тому частному понятию, которое мы сами
выработали, то тогда нам придется признать, что дикарь
вовсе не имеет бога и не знает его. Мы, однако, будем
ближе к фактам истории, если мы признаем, что многие
выше стоящие дикари обладают, по крайней мере, руди-
104
ментарным понятием о некоторых сверхъестественных
существах, к которым может подойти имя богов, однако
имеющим не тот смысл, который ему придаем мы. Это
рудиментарное понятие представляет собою, по всей ве-
роятности, зародыш, который постепенно развился в то
понятие о божестве, которое выработалось у цивилизо-
ванных народов. Если бы мы оказались в силах начер-
тать весь путь религиозного развития, то мы необходимо
должны были бы признать, что связь, соединяющая
нашу идею божества с идеей божества у дикаря, яв-
ляется единой и непрерывной.
После этих объяснений и оговорок предварительного
характера мы приведем несколько примеров, вернее, об-
разцов божеств, которые, по верованиям их поклонников,
воплощались в живых людей: мужчин или женщин. Ли-
цами, в которых открывается божество, отнюдь не всегда
являются обязательно цари или царственные потомки:
воплощение может иметь место и в отношении лиц низ-
кого происхождения. В Индии, например, один богоче-
ловек начал свою жизнь в качестве красильщика тканей,
а другой — в качестве сына п л от н и к а. Мы не
будем выбирать примеры, относящиеся исключительно
к царственным особам, ибо мы хотим объяснить общий
принцип обожествления живых людей или, другими сло-
вами, воплощение божеств, принятия ими человеческого
облика. Воплощенные боги этого рода повсюду встреча-
ются в диком обществе. Воплощение (инкарнация) мо-
жет быть временным или перманентным, постоянным.
В первом случае воплощение, обычно называемое вдох-
новением или одержимостью, обнаруживается скорее в
сверхъестественном знании, чем в сверхъестественном
могуществе. Другими словами, это воплощение обычно
проявляется больше в прорицании и пророчестве, чем в
чудесах. С другой стороны, когда воплощение не являет-
ся чисто временным, когда пребывание божественного
духа в человеке носит перманентный характер, от чело-
векобога ждут, что он проявит себя в чудесах. Следует,
однако, помнить, что люди на этом этапе развития мысли
отнюдь не видят в чудесах нарушения естественного за-
кона. Первобытный человек не верит в существование
естественных законов, а потому у него и не могло быть
представления о каких-то исключениях, нарушающих эти
законы. Для него чудо является не чем иным, как не-
сколько необычным, поражающим проявлением могуще-
ства и силы.
105
Вера во временное воплощение или вдохновение рас-
пространена по всему миру. Предполагается, что некото-
рые лица могут быть время от времени одержимы ду-
хом или божеством: пока длится одержимость, их собст-
венная личность исчезает. Присутствие духа в человеке
обнаруживается в конвульсивном дрожании всего тела,
в исступленных жестах, в пламенном взгляде: все это
проявления, которые приписываются не самому чело-
веку, а духу, который в него вошел. Пока человек нахо-
дится в таком ненормальном состоянии, все, что выходит
из его уст, принимается как голос бога или духа, который
в нем пребывает и говорит через его посредство.
На Сандвичевых островах царь, олицетворяя бога,
произносил ответы оракула, скрываясь за сооружением
из ивы. На южных островах Тихого океана бог обычно
вселялся в жреца, который, будучи распираем, так ска-
зать, божеством, начинал говорить и жестикулировать
якобы помимо своей воли. Он говорил и жестикулировал,
как если бы он целиком находился под сверхъестествен-
ным влиянием. В этом отношении поразительное сход-
ство существует между грубыми оракулами полинезий-
цев и оракулами знаменитых народов Древней Греции.
Как только бог, как предполагалось, вошел в жреца, по-
следний начинал исступленно жестикулировать и подни-
мался до высшей степени бешенства. Лицо его искажа-
лось и становилось страшным, взоры его делались блуж-
дающими и исступленными, тело охватывалось конвуль-
сиями, мышцы членов непроизвольно сжимались и раз-
жимались, нередко он в таком виде катался по земле с
пеной у рта, как если бы он страдал от присутствия в нем
божества. Его пронзительные крики, его отрывочные и
бессвязные слова, которые часто и разобрать нельзя
было, должны были служить выражением воли божества.
Другие жрецы, которые присутствовали при этой проце-
дуре, посвященные в тайну одержимости, сообщали на-
роду те прорицания, которые исходили от одержимого,
истолковывая его бессвязную речь. После того как жрец
произносил ответ оракула, пароксизм ослабевал, и насту-
пало относительное спокойствие. Бог, однако, не всегда
покидал одержимого после произнесения оракула: бы-
вало так, что один и тот же жрец оставался одержимым
в течение двух или трех дней. Про одного жреца изве-
стно, что он бывал одержим и вдохновляем в течение
всего времени, пока он носил на руке кусок определенной
106
специальной материи. В течение этого времени все, что
говорилось одержимым, рассматривалось как нечто бо-
жественное; к словам, действиям и жестам его относи-
лись с величайшим вниманием. Пока жрец был вдохнов-
ляем духом, он считался столь же священным, как и бог,
В течение этого периода экзальтации его называли бо-
гом, тогда как обычно его называли жрецом.
Примеры временного вдохновения или одержимости
подобного рода являются столь общераспространенными
во всех частях мира, столь хорошо знакомыми благодаря
трудам по этнологии, что нет надобности умножать их
для иллюстрации общего принципа. Мы упомянем только
о двух частных способах, применяющихся для вызывания
временной одержимости, ибо они, быть может, менее из-
вестны, чем другие способы, ибо к ним нам еще придет-
ся вернуться. Один способ заключается в высасывании
еще теплой крови из принесенной жертвы. В храме Апол-
лона Дирадиотеса, в Аргосе, раз в месяц ночью прино-
сили в жертву ягненка. Одна женщина, которая обязана
была соблюдать правило целомудрия, вкушала кровь яг-
ненка и, будучи таким путем вдохновлена богом, приоб-
ретала способность прорицания. В Эгире, в Ахайе, жрица
Земли пила теплую кровь тельца, чтобы затем спуститься
в подземную пещеру и там узнавать будущее. Точно так
же у курувиккаранов, низшего класса нищих и торговцев
птицами на юге Индии, распространена вера, что богиня
Кали нисходит на жреца и что он может давать пророче-
ские ответы, пососав крови из надрезанного горла козы.
У альфуров в Минагассе во время празднества убивают
свинью. Жрец, доведший себя до состояния исступлен-
ности, бросается на труп животного, впивается в безжиз-
ненное тело жертвы и пьет ее кровь. Его силой отрывают
от жертвы и после некоторой возни сажают на скамью.
Жрец начинает вещать и прорицать относительно урожая
риса. После этого он снова бросается к жертве, повто-
ряется та же процедура, и ведун снова начинает свои
прорицания. Присутствующие верят, что в жреца вошел
дух, наделивший его даром пророчества.
Второй способ вызывания временной одержимости
заключается в применении дерева или священного расте-
ния. Так, например, в Гиндукуше зажигается огонь при
помощи веток священного кедра, и сивилла (пророчица),
покрыв голову тканью, вдыхает густой дым костра, после
чего ее схватывают конвульсии, и она, лишившись чувств,
107
опускается на землю. Вскоре она поднимается и начи-
нает петь пронзительную песнь, которая подхватывается
и повторяется слушателями. Пророчица Аполлона ела
листья священного лавра и перед началом своих прори-
цаний тоже вдыхала дым благовоний. Вакханки61"62
должны были есть плющ, и их священное исступление, по
убеждению многих, обязано было своим происхождением
ядовитым и возбуждающим свойствам этого растения.
В Уганде жрец для того, чтобы получить вдохновение от
бога, яростно курит трубку, набитую табаком, и доку-
ривается до обалдения: возбужденный и приподнятый
тон, которым он начинает говорить после этого, должен
свидетельствовать о том, что бог гласит его устами. На
Яве, в Мадуре, каждый дух имеет своего истолкователя,
каковым чаще является женщина, а не мужчина. Эта
женщина, для того чтобы подготовиться к восприятию
духа, садится, покрывает себе голову и вдыхает дым ла-
дана. Постепенно она впадает в своего рода экстаз, ко-
торый сопровождается пронзительными криками, ужас-
ными конвульсиями и спазмами. Это считается призна-
ком того, что дух вошел в нее, и когда она успокаи-
вается, то ее слова принимаются, как оракул, ибо
предполагается, что душа ее временно отсутствует,
а слова ее исходят от вселившегося в нее духа.
Существует вера, что временно одержимая личность
получает не только божественное ведение, но также —
иногда, по крайней мере,— и божественную силу. В Кам-
бодже во время эпидемии жители нескольких селений
собираются вместе и в сопровождении музыки отправля-
ются разыскивать человека, которого местный бог мог бы
избрать для того, чтобы вселиться в него. Когда такой
человек найден, его ведут к алтарю бога и совершают
над ним таинство воплощения. Человек этот делается
тогда предметом поклонения для своих ближних, которые
обращаются к нему с просьбой охранить их селения от
мора. В Греции верили, что одна статуя Аполлона, кото-
рая возвышалась в священной пещере около Магнезии,
способна была сообщить сверхъестественную силу. Свя-
тые люди, которых вдохновляла эта статуя, перепрыги-
вали якобы через пропасти, вырывали с корнем гигант-
ские деревья и на собственной спине проносили их по са-
мым узким проходам. Одержимые дервиши63 тоже совер-
шают подвиги подобного рода.
108
Мы уже видели до сих пор, что дикарь, неспособный
распознать пределы своей власти над природой, припи-
сывает себе и окружающим некоторые способности, ко-
торые мы бы назвали сверхъестественными. Мы видели,
кроме того, что кроме обладания этой общей сверхъ-
естественной силой, присущей всем людям, некоторым
лицам приписывается одержимость на короткий период
божественным духом: в течение этого времени они вла-
деют якобы в полной мере знанием и силами того боже-
ства, которое в них вселилось. От верований подобного
рода легко перейти к убеждению, что некоторые лица
перманентно одержимы божеством или что они каким-
нибудь другим способом приобретают такую сверхъесте-
ственную мощь, что их можно поставить в ряд с богами,
что они становятся достойными молитв и жертвоприно-
шений. Иногда этим богам человеческим, или человеко-
богам, приписываются исключительно сверхъестествен-
ные или духовные силы. Иногда, однако, они наделяются
сверх того верховной политической властью. В этом по-
следнем случае они являются одновременно царями и
богами, а общественный строй, возглавляемый ими, яв-
ляется теократией. На Маркизовых островах существо-
вала группа людей, которых обоготворяли в течение их
жизни. Они обладали, по верованиям туземцев, сверхъ-
естественной властью над стихиями; они могли вызвать
урожай, поразить землю бесплодием, наслать болезнь
или смерть. Им приносили человеческие жертвы для
того, чтобы отвратить их гнев. Их бывало немного, таких
обоготворяемых людей, их было по одному, по два на
каждом острове, и жили они всегда в таинственном уеди-
нении. Их власть иногда, но не всегда, являлась наслед-
ственной. Один миссионер по личным наблюдениям опи-
сал одного из этих человекобогов. Бог был стариком, ко-
торый жил в большой хижине за оградой. В этом помеще-
нии было что-то вроде жертвенника. На выступах хижи-
ны и на деревьях вокруг нее висели человеческие скелеты
головами вниз. Никто, кроме лиц, обслуживающих бога,
не мог проникнуть за ограду. Лишь в те дни, когда при-
носились человеческие жертвы, к богу допускались ми-
ряне. Этот человекобог получал больше жертвоприно-
шений, чем все другие боги. Часто он восседал на своего
рода эшафоте перед храмом и принимал по две или три
жертвы зараз. Жертвы ему приносились постоянно, ибо
он внушал сильнейший и непреодолимый страх. К нему
109
обращались на всем острове, к нему посылались прино-
шения со всех концов. Рассказывают, что в Океании
каждый остров имел человека, который представлял или
олицетворял божество. Человек этот носил титул бога,
его считали сродни божеству. Богочеловеком иногда яв-
лялся сам царь, чаще всего им был жрец или подчинен-
ный царю начальник.
Древние египтяне, оказывавшие безграничное покло-
нение кошкам, собакам и другим малым животным по-
добного рода, сплошь да рядом распространяли это по-
клонение на людей. Один из этих человекобогов имел
своей резиденцией селение Анабис, ему устраивались все-
сожжения, после чего, как говорит Порфирий, он ел свой
обед, совсем как простой смертный.
Древняя Греция тоже знала обоготворение живых
людей. Философ Эмпедокл 64 слыл не только магом, но и
богом; он обращается к своим согражданам со следую-
щими словами:
«О, друзья, живущие в этом великом городе Агриген-
те, высящемся по золотым склонам своей укрепленной
горы, о вы, которые задаетесь благородными целями,
которые стремитесь к осуществлению высоких задач, вы,
которые даете чужеземцу спокойное и прекрасное убе-
жище, привет!
Среди вас я прохожу, возведенный в высшее звание.
Венками, цветущими венками вы увенчиваете мое про-
славленное чело!
Я уже больше не смертный человек; я уже бессмерт-
ное божество!
На каждом моем шагу народ толпится вокруг меня и
оказывает мне поклонение.
Тысячи учеников следуют за мной, полные жажды
узнать лучший путь.
Одни хотят узнать будущее; другие, отягощенные
страданием, хотят получить от меня слова утешения, ко-
торые избавили бы их от страдания».
Эмпедокл выдавал себя за мага, способного научить
вызывать или успокаивать ветер, вызывать дождь или
хорошую погоду, устранять болезнь, омолаживать стари-
ков и даже воскрешать мертвых.
Когда Деметрий Полиоркет восстановил афинскую де-
мократию (в 307 г. до т. н. р. х.), афиняне издали спе-
циальный декрет, обязывавший оказывать божеские по-
чести ему и его отцу при их жизни. Оба новых божества
110
получили имя богов-спасителей. В их честь были воздвиг-
нуты алтари, специальный жрец был приставлен к их
культу. Народ вышел навстречу Деметрию, спасителю,
с гимнами и танцами, с гирляндами и возлияниями. На-
родная толпа в своих песнях восхваляла Деметрия как
единственного истинного бога, ибо остальные боги, мол,
либо вовсе не существовали, либо пребывали далеко. Вот
что гласила песня, сочиненная современным поэтом, по-
вторявшаяся хором во время публичных церемоний и
дома:
В город вошли
Величайшие и наиболее дорогие из богов,
Ибо то Деметра и Деметрий
Одновременно явились к нам.
Деметра грядет совершать священные таинства девы,
А он, он грядет радостный, прекрасный, смеющийся,
Как и подобает богу.
Какое прекрасное видение: все его друзья вокруг него,
А он посреди них;
Они, подобны звездам, он, подобный солнцу.
Сын могучего Посейдона, сын Афродиты,
Привет!
Другие боги находятся далеко,
Или ничего не слышат,
Или не существуют, или не заботятся о нас;
Но твое присутствие видят наши очи,
Мы видим тебя, бога не из дерева, не из камня, а истинного бога.
К тебе обращены наши молитвы.
Древние германцы приписывали в известной мере
священный характер женщинам, поэтому они и к их со-
ветам относились, как к оракулам. Женщины, которые
считались священными, добывали свои предсказания,
судя по источникам, следующим образом: они уставля-
лись глазами в блестящую струю воды или часами при-
слушивались к однообразному журчанию воды, к поры-
вам ветра и затем начинали пророчествовать. Иногда,
однако, почитание этих женщин заходило еще дальше,
и на них смотрели, как на подлинных живых богинь. Так,
например, в царствование Веспасиана некую Велледу из
племени бруктеров считали божественным существом,
что давало ей царскую власть над этим народом. Ее
влияние простиралось на большую территорию. Жила
она в одной башне на реке Липпе, которая впадает в
Рейн. Когда жители Кельна захотели заключить с ней
договор, их послы не были допущены к ней: все пере-
говоры велись ее министром, который действовал в каче-
111
стве ее посредника и передавал ее божественные проро-
чества. Этот пример показывает, с какой легкостью сме-
шивались у наших малоцивилизованных предков идеи бо-
жественной и царской власти. <...>
Быть может, однако, ни одна страна в мире не была
столь плодовитой по части человекобогов, как Индия,
нигде божественное звание так щедро не было распро-
странено, как в Индии, где в качестве богов фигуриро-
вали представители различных классов — от царей до
пастухов. Так, например, у тодов, пастушьего народа в
Южной Индии, коровий загон является святилищем и
приставленный к нему молочник является богом. Когда
у одного из скотников спросили, приветствуют ли тоды
солнце, он ответил: «Да, все эти люди его приветствуют
и ему поклоняются, но я,— прибавил он, гордо ударяя
себя в грудь,— чтобы я, бог, приветствовал солнце, да за-
чем же?» Все тоды, даже собственный отец скотника,
простираются перед ним ниц, и никто не смеет ни в чем
ему отказать. Ни одно человеческое существо, даже дру-
гой скотник, не смеет касаться его. Он предсказывает
будущее тем, кто приходит к нему за советом, его устами
говорит сам бог.
Больше того, в Индии «каждый царь рассматривается
как настоящий бог». Индийский кодекс Ману 65 заходит
еще дальше и говорит, что «даже царственное дитя не
должно быть оскорбляемо мыслью, что оно всего лишь
смертный человек: оно является великим божеством в че-
ловеческом образе». Говорят, что несколько лет назад в
Ориссе существовала секта, которая считала главным
божеством королеву Викторию, разумеется когда она
была жива...
В Чинчваде, маленьком городке в десяти милях от
Пооны в Западной Индии, живет одна семья, один член
которой в каждом поколении является в глазах большин-
ства народа махраттов воплощением Гунпутти, бога со
слоновьей головой. Это славное божество в первый раз
воплотилось в 1640 г. в личности одного брахмана66 из
Пооны, называвшегося Моораба Госсейн. Этот брахман
упражнялся в воздержании, самоумерщвлении и молитве.
Благочестивый подвиг брахмана был щедро вознаграж-
ден. Сам бог явился к нему в ночном видении и пообе-
щал, что часть священного существа этого бога, Гунпут-
ти, вселится в особу этого брахмана, а после его смер-
ти — в его потомков до седьмого поколения. Божествен-
112
ное обетование получило свое осуществление. Семь
последовательных воплощений, переходивших от отца к
сыну, явили темному миру свет Гунпутти. Последний по-
томок по прямой линии, бог тучного вида с гноящимися
глазами, умер в 1810 г» Дело истины было, однако, слиш-
ком священно, церковные богатства, скопившиеся благо-
даря этому воплощению, были слишком значительны,
чтобы брахманы могли спокойно отнестись к несказанной
потере, от которой страдал бы мир, оставшийся без во-
площений Гунпутти. Вот почему брахманы принялись
разыскивать новое воплощение Гунпутти и, наконец, об-
наружили священный сосуд, в котором божественный дух
учителя обнаружился снова. Это откровение счастливо
продолжается в непрерывной серии людей-избранников
до наших дней. Однако, вследствие таинственного закона
экономии, действие которого в истории религии мы опла-
киваем, но не в силах изменить, чудеса, производимые
богочеловеком в позднейшие эпохи, не идут ни в какое
сравнение с чудесами его предшественников в давно ми-
нувшие времена. Дело дошло до того, что современное
воплощение Гунпутти ограничивается единственным чу-
дом, заключающимся в том, что толпа, собирающаяся к
нему ежегодно в Чинчват, удостаивается щедрого обеда.
Одна индусская секта, которая насчитывает много-
численных последователей в Бомбее и Центральной Ин-
дии, верит, что магараджи (духовные начальники) пред-
ставляют и даже воплощают в себе Кришну67. Так как
этот бог благосклонно относится к тем, кто благоприят-
ствует интересам его преемников и уполномоченных, то
был установлен специальный ритуал, заключающийся в
том, что верные поклонники приносят в жертву своим ма-
гараджам все, что они имеют: одни готовы пожертвовать
воплощениям Кришны свое тело, свою душу, все свои
земные блага. Они убеждают своих жен, что они достиг-
нут величайшего счастья не только для себя, но и для
своих семей, уступая ласкам существ, пропитанных боже-
ственной сущностью Кришны, которая «странным и таин-
ственным» образом уживается в магараджах с подлинно
человеческой формой, с человеческой плотью и чувствен-
ными вожделениями.
Само христианство не избежало подобных злополуч-
ных заблуждений. Оно часто уступало пустым и экстра-
вагантным претензиям многих лиц на равенство в смысле
божественности с великим основателем христианства, а
113
иногда даже на превосходство. Во II в. фригиец Монтан
утверждал, что он является воплощением троицы, что он
объединяет в своем лице отца и сына и святого духа. Это
отнюдь не было единичным случаем или каким-нибудь
исключительным проявлением одного неуравновешенного
ума. Начиная с первых веков христианства и до наших
дней не было недостатка в сектах, которые верили, будто
Христос и даже сам бог воплощается во всякого христиа-
нина, получающего полное посвящение. Члены этих сект
доводили свою веру до логического конца, обоготворяя
друг друга. Тертуллиан сообщает, что таков был обычай
карфагенских христиан во II в. Ученики святого Колом-
бана поклонялись ему, как олицетворению Христа.
В VIII в. Элипанд Толедский говорил о Христе, как о
«боге среди богов», подразумевая под этим, что все ве-
рующие являются такими же богами, как и сам Иисус.
Взаимное обоготворение и поклонение входило и в обы-
чай альбигойцев, сообщения Тулузской инквизиции сот-
ни раз упоминают об этом в начале XIV в.
В XIII в. возникла секта, которая носила название се-
стер и братьев свободного духа. Согласно учению этой
секты, каждый человек путем длительного и непрерыв-
ного воздержания мог достигнуть соединения с божест-
вом, с началом всех начал. Таким образом, всякий, кто
указанным путем поднялся до божества, кто растворился
в благодатной божественной сущности, образовывал со-
бой часть божества и становился сыном божьим в таком
же смысле и в таком же роде, как сам Христос. Такой че-
ловек становился выше всяких божественных и человече-
ских законов и приобретал полную безгрешность. Члены
этой секты, проникнутые подобным счастливым убежде-
нием, в своем поведении, в своем внешнем виде, в своих
словах и жестах проявляли признаки безумия и исступ-
ления. Они бесцельно бегали с места на место и, нелепо
одетые, отчаянными криками выпрашивали себе подая-
ние. С негодованием и презрением отвергали они всякий
труд, ибо он являлся препятствием к вознесению души к
отцу духов, мешая божественному созерцанию. Во всех
своих передвижениях эти сектанты сопровождались жен-
щинами, с которыми они находились в самой интимной
связи. Те из них, которые находили, что они в своей ду-
ховной жизни достигли высшей степени, ходили на сек-
тантских собраниях совершенно голыми: благоприличие
и скромность являлись, по их мнению, признаками внут-
114
ренней испорченности; они свидетельствовали о том, что
душа не избавилась еще от власти плоти, что она не
вступила еще в общение со своим источником и центром,
с божественным духом. Инквизиция сплошь да рядом
ускоряла путь сектантов к соединению с божеством; они
умирали на кострах, полные торжества и радости.
Около 1830 г. в одном штате Северной Америки по-
явился шарлатан, который объявил себя сыном божьим,
спасителем человечества. Он утверждал, будто он явился
в этот мир для того, чтобы вернуть нечестивых, неверую-
щих и преступников на праведную дорогу. Он призывал
всех к покаянию и угрожал в случае непослушания раз-
рушить мир одним мановением ока. Проповедь его вна-
чале имела значительный успех, даже знатные и богатые
люди в штате поверили ему. Однажды с этим новоявлен-
ным спасителем случился неприятный конфуз. Среди его
слушателей были немцы. Один из них попросил мессию
по-немецки рассказать об ожидающей мир катастрофе,
так как некоторые из немцев не понимали по-английски.
«Было бы большой несправедливостью и большим несча-
стьем,— сказал он,— если бы из-за одного только лингви-
стического невежества немцы осуждены были на вечную
гибель». Мнимый спаситель простодушно признался, что
по-немецки он не говорит ни звука. «Как,— воскликнул
вопрошающий,— ты сын бога и не умеешь говорить на
всех языках, и даже по-немецки? Поди прочь, ты жулик,
лицемер и дурак». Слушатели начали издеваться над
мессией, и ему пришлось поскорее убраться.
Д. Фрэзер. Золотая ветвь, вып. I. M.,
1928, стр. 117—128.
Л. Леви-Брюль
«ПЕРВОБЫТНОЕ МЫШЛЕНИЕ»
МИСТИЧЕСКИЕ И НЕВИДИМЫЕ СИЛЫ
(ПОТУСТОРОННИЙ МИР)
I
...Умственная жизнь перво-
бытных людей (а следовательно, и их социальные инсти-
туты) зависит от того основного и первоначального фак-
та, что в их представлениях чувственный мир и мир
115
«иной» составляют нечто единое. Совокупность невиди-
мых существ для них нераздельна от совокупности су-
ществ видимых. «Иной» мир является не менее непосред-
ственно данным, чем видимый мир, он обладает большею
действенностью и внушает более страха. Поэтому он в
большей мере владеет их душой, он отвращает их созна-
ние от анализа и выяснения тех данных, которые мы на-
зываем объективными. Зачем все это, коль скоро жизнь,
успех, здоровье, весь строй природы, наконец — все зави-
сит в каждый данный момент от мистических сил? Если
человеческие усилия могут что-нибудь дать, то не дол-
жны ли они быть направлены в первую очередь на то,
чтобы истолковать, регулировать, а если возможно, и вы-
звать проявление этих сил? Именно по этому пути перво-
бытное мышление и пыталось в действительности развить
свой опыт.
II
Вкратце можно невидимые
«влияния», которыми постоянно занято первобытное
мышление, сгруппировать в три категории, которые, впро-
чем, часто переплетаются одна с другой: это — духи мерт-
вых, затем — духи в самом широком смысле слова, оду-
шевляющие разные предметы природы, животных, расте-
ния, неодушевленные предметы (реки, скалы, море, горы,
изготовленные человеком предметы и т. д.), и, наконец,
чары, или колдовство, источником которых являются
действия колдунов. Иногда категории эти различаются
весьма отчетливо. Так, например, согласно Пехуэль-
Лёше, знахари в Лоанго оперируют при помощи духов,
которые одушевляют предметы — фетиши, однако ни за
что в мире они не согласились бы иметь дело с духами
мертвых, которых они очень боятся. В других местах
представления эти являются менее отчетливыми (или на-
блюдения менее точными), и здесь незаметным кажется
переход между духами мертвых и другими невидимыми
существами. Однако везде или почти везде, в низших об-
ществах эти мистические влияния являются непосредст-
венными данными, а предассоциации, в которые они вхо-
дят в качестве преобладающего элемента, управляют
коллективными представлениями. Факт этот хорошо из-
вестен, и я ограничусь лишь несколькими иллюстрирую-
щими его примерами.
116
У папуасских племен Германской Новой Гвинеи...
«колдовство играет роль еще более значительную, чем
страх духов. Если нет дождя или если дождей слишком
много, если урожай плох, если кокосовые пальмы не дают
плодов, если свиньи дохнут, если охота и рыбная ловля
неудачны, если трясется земля или море, выступая из бе-
регов, сметает селения на побережье, если свирепствует
эпидемия или мор, то туземец никогда не удовлетворится
естественными причинами: для него всюду и во всем
скрыто колдовство»... Согласно утверждению туземцев
каи, никто не умирает естественной смертью. Даже в от-
ношении стариков они утверждают, что смерть происхо-
дит от колдовства. То же они говорят и про всякие несча-
стья. Упал ли человек и разбился насмерть — это колдун
его сбросил; поранил ли кого-нибудь дикий кабан, уку-
сила ли кого-нибудь змея — во всем этом повинен кол-
дун. Колдун также может издали сделать так, чтобы
женщина умерла во время родов и т. д.
Подобным же образом в большинстве низших обществ
колдовство представляется находящимся всегда насто-
роже для того, чтобы причинить зло или нанести ущерб.
Это, так сказать, «постоянная возможность» колдовства,
подстерегающего всякий удобный случай. Число этих
случаев является неопределенным: наперед совершенно
немыслимо охватить их целиком. Колдовство проявляет-
ся в тот самый момент, когда оно действует: когда оно
обнаружено, то зло уже свершилось. Отсюда вытекает та
постоянная тревога, среди которой живет первобытный
человек, которая, однако, не дает ему никакой возмож-
ности предвидеть беду, ожидающую его, и сделать попыт-
ку к ее предупреждению. Он всегда и всюду боится
колдовства и считает себя жертвой, ему обреченной. Вот
одно из оснований, притом одно из самых сильных, кото-
рые объясняют неистовую злобу первобытных людей про-
тив колдуна, когда его обнаруживают. Дело идет здесь
не только о том, чтобы наказать колдуна за его злые
чары в прошлом, от которых они пострадали и размера
которых они даже не знают,— они хотят прежде всего
обезвредить заранее те чары, которые колдун мог бы упо-
требить против них в будущем. Единственным способом
для них является убить колдуна: обычно его бросают в
воду или сжигают, что сразу уничтожает злого духа,
сидящего в колдуне и действующего через его посредство.
Злые чары, которые может навести колдун, неисчис-
117
лимы. Если он «обрек» (doomed) какого-нибудь человека,
то он раздобывает что-нибудь, что принадлежало этому
человеку и что в силу «сопричастности» тождественно
ему (например, волосы, обрезки ногтей, испражнения,
моча, следы шагов, тень, изображение, имя и т. д.), и за-
тем, проделав ряд магических обрядов над этой частицей
человека, губит его. Либо он колдовским путем вызывает
течь в челноке этого человека, вызывает осечку его ружья.
Либо он ночью во время сна делает надрез в теле этого
человека и крадет у него его жизненное начало, удалив
жир с его почек. Либо он «предает» свою жертву дикому
зверю, змее или врагу. Либо он делает так, чтобы его
жертву раздавило дерево или насмерть ушиб камень,
оторвавшийся от скалы, и т. д. до бесконечности. При
нужде колдун сам может превратиться в зверя. Мы ви-
дели, что в Экваториальной Африке крокодилы, унося-
щие людей, никогда не считаются обыкновенными жи-
вотными, их рассматривают как послушные орудия кол-
дунов или даже как крокодилов-колдунов. В английской
Гвиане, «ягуар, обнаруживающий необычную дерзость и
не боящийся приближаться к людям, часто совершенно
парализует даже храброго охотника, которому сейчас же
приходит в голову мысль, что это, может быть, тигр-ка-
наима». Если этот тигр, думает про себя индеец, только
обыкновенный дикий зверь, то я могу его убить пулей
или стрелой, но что со мной будет, если окажется, что я
напал на убийцу людей, на ужасного канаима? Многие
индейцы думают, что эти животные-канаима одержимы
духами людей, склонных к убийству и людоедству...
Абипоны... говорили то же самое, что и индейцы ан-
глийской Гвианы. Арауканцы, «стоит им только заметить
что-нибудь необычное в какой-нибудь птице или в каком-
нибудь животном, сейчас же заключают, что эта птица
или это животное «одержимы». Лисица или пума, бро-
дящая ночью близ их хижины,— это колдунья, пришед-
шая посмотреть, нельзя ли чего украсть. Преследуя та-
кое животное, туземец старается не причинить ему ника-
кого зла из страха мести. Вообще все, что не поддается
непосредственному объяснению какой-нибудь видимой
естественной причиной, приписывается действию либо
злых духов, либо колдовству». ...Арауканцы «приписыва-
ют все, что они видят, или все, что случается из ряда вон
выходящего, вмешательству злых духов или сверхъесте-
ственных причин. Идет ли речь о плохом урожае, о по-
118
вальной болезни среди животных, о падении с лошади,
о болезни, о смерти... во всем всегда виноваты колдуны.
От них зависит самая продолжительность жизни чело-
века, всякие беды, случающиеся на жизненном пути,
и т. д.». Обилие и разнообразие амулетов, талисманов,
заклинаний, обычаев всякого рода, при помощи которых
пытаются так или иначе защититься от возможных бед,
свидетельствуют о том, как сильно забота о колдовстве
владеет умами в низших и даже в более развитых обще-
ствах.
Когда случается неудача или обрушивается какое-
нибудь несчастье, то одно представляется несомненным:
здесь проявилось какое-то таинственное влияние. Часто,
однако, трудно узнать, какое именно. Само по себе собы-
тие, будь то неудачная охота, приключившаяся болезнь,
засуха, губящая посевы, и т. д., как будто ничем не по-
зволяет указать, действуют ли здесь колдуны, недоволь-
ные покойники или злые духи. В ряде приведенных выше
наблюдений, как и во множестве других, указывается:
«колдуны или злые духи». На деле злые духи могут быть
на услужении у колдунов, и наоборот: иногда сам кол-
дун без своего ведома одушевлен каким-нибудь злым
духом. Оба представления в таком случае наслаиваются
одно на другое. Между ними, однако, существует то раз-
личие, что колдун по необходимости представляется че-
ловеком, членом данной общественной группы или сосед-
ней, о котором имеется, следовательно, отчетливое и точ-
ное представление, в то время как представление о духах,
поскольку они не являются духами мертвых, остается бо-
лее или менее смутным и расплывчатым, если судить по
тем обществам, в которых оно наблюдается. Представле-
ние это варьирует даже внутри этих обществ в зависимо-
сти от индивидуального воображения и класса, к кото-
рому те или иные лица принадлежат.
Между отчетливым понятием о духах, которые явля-
ются как бы настоящими демонами или богами, из кото-
рых каждый имеет свое имя, свои атрибуты и часто свой
культ, с одной стороны, и между представлением, одно-
временно общим и конкретным, о силе, присущей предме-
там и существам (как, например, представление о мана),
о силе, еще не индивидуализированной, с другой стороны,
существует бесконечное множество посредствующих
форм, из которых одни являются более определенными,
другие более расплывчатыми, смутными, хотя и не менее
119
реальными для того в малой степени концептуального
(логического) мышления, в котором еще господствует за-
кон сопричастности.
В большей части мистические силы, проявляющиеся
в природе, одновременно являются диффузными, рас-
плывчатыми и концентрированными, индивидуализиро-
ванными. Необходимость сделать выбор между этими
двумя формами представлений никогда не ощущалась
этими первобытными людьми, у них даже не возникало
представления об этой необходимости. Поэтому совер-
шенно невозможно формулировать их ответы на вопросы,
которые они даже не думают ставить себе. Слово «дух»,
хотя и слишком точное, является наименее неудобным из
тех слов, которые имеются в нашем распоряжении для
обозначения тех «влияний» и действий, которые непре-
рывно проявляются вокруг первобытных людей.
Чем больше миссионеры проникают, с течением вре-
мени, в тайники обычных мыслей туземцев, среди кото-
рых они живут, тем яснее обнаруживается для них эта
мистическая направленность первобытного мышления.
Она улавливается в описании этих миссионеров даже
тогда, когда употребляемые ими выражения внушают
мысль о более отчетливых представлениях. Например,
«можно сказать, пишет миссионер Жетте, что племя тена
поддерживает почти непрерывные сношения с этими «не-
желанными» обитателями мира духов. Они верят, что мо-
гут видеть и слышать их в любой момент. Стоит раздать-
ся любому непривычному шороху, как тотчас какая-ни-
будь фантазия их воображения облекается в форму
проявления демона. Когда они видят, как почерневший
ствол дерева, весь пропитанный водой, качается на вол-
нах, то ныряя, то показываясь наверх под влиянием те-
чения, они усматривают в нем некедзалтара. Когда они
слышат в лесу пронзительный звук, непохожий на крик
знакомой им птицы, то это для них означает, что их зо-
вет некедзалтара. Не проходит ни одного дня на индей-
ской стоянке, чтобы кто-нибудь не сообщил, будто он ви-
дел или слышал что-нибудь в этом роде... Эти проявле-
ния присутствия демона столь же знакомы тена, как шум
ветра или пение птиц»... Этот же миссионер писал: «Сила
и объем их веры в демона превосходит наше понимание.
Их воображение всегда насторожено, всегда готово раз-
личить какого-нибудь демона, приближающегося в тем-
ноте или даже средь бела дня, в зависимости от случая:
120
нет такой причуды расстроенного воображения, которой
бы они не поверили. Слушая их разговоры, можно поду-
мать, что они находятся в постоянных сношениях с демо-
ном, что они видели его сотни раз». Замените демона
(devil) теми сбивчивыми представлениями о духах, о ко-
торых речь шла выше: описание Жетте целиком согла-
суется со всеми теми столь многочисленными описания-
ми, которые подчеркивают «вездесущие» более или менее
диффузных, расплывчатых мистических сил в мире пер-
вобытных людей.
Л. Леви-Брюль. Первобытное мышле-
ние. М., 1930, стр. 263—266.
И. И. Скворцов-Степанов
«ОЧЕРК РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИИ»
I
Свирепыми пытками и кост-
рами, уничтожением городов, опустошением целых обла-
стей карала церковь за всякое нападение на феодальный
строй общества и в особенности на ее собственные
доходы.
Такими же способами старалась она искоренить за-
родыши научного понимания мира. Оно ведь тоже несло
за собою угрозу полного уничтожения церковных дохо-
дов.
Те абсолютно бесспорные положения, которые в на-
стоящее время усваивает всякий школьник, в свое время
были объявлены церковью еретическими и преследова-
лись посредством тюрем, пыток и костров.
Однако и после того, как, несмотря ни на что, воз-
никла и упрочилась светская наука, она, развиваясь пре-
имущественно в христианских странах, долгое время
оставалась в плену библейских воззрений. Несмотря на
накопление фактов, свидетельствующих о глубокой древ-
ности человека и в особенности земного шара, ученые
обуздывали, смиряли себя и подгоняли свои выводы к
библейским легендам. Они благочестиво отвергали зак-
лючения, к которым должны были бы прийти как ученые
исследователи и старались уверить себя и других, будто
земной шар существует всего около 71/2 тысяч лет.
121
В XVIII столетии начался более или менее решитель-
ный разрыв с легендами Библии, в которых стали откры-
вать совершенно такие же фантастические рассказы о
сотворении мира и первых людей, как существовавшие и
существующие у ассиро-вавилонян, египтян, индусов,
китайцев, греков, перуанцев, австралийцев, островитян-
дикарей Тихого океана и т. д. И уже тогда увидали, что
это — рассказы о сотворении не мира вообще, а лишь
того или иного небольшого уголка земного шара.
Реакция на продолжительное время приостановила
освобождение знания от цепей веры. Ученые принадле-
жали к господствующим классам и составляли часть
этих классов. А революция показала, что религия может
сыграть большую роль в деле обуздания эксплуатируе-
мых. С этой точки зрения было бы рискованно отнестись
к Библии, как к сборнику легенд, заслуживающему не
большего доверия, чем сказания, священные для калмы-
ков, киргизов, индусов или китайцев. Кювье68 и Ла-
марк69, принадлежащие к числу величайших натурали-
стов XIX в., открыли, например, громадное количество
фактов, которые показывали, что животные и растения
не были созданы разом: современные животные и расте-
ния развивались из других, совершенно не похожих на
них. Ученые видели, что в древнейших пластах земли
сохранились остатки и следы животных и растений, не
похожих на теперешние. Но наука долгое время не рис-
ковала сделать из этих открытий единственно правиль-
ный и самоочевидный вывод. Она не сказала, что мир не
был создан, что он не сотворен в шесть дней, а существо-
вал и изменялся в течение огромного количества тысяче-
летий. Наука постаралась подогнать факты под Библию
и стала говорить, что был не один, а несколько божест-
венных творческих актов: бог несколько раз уничтожал
созданное им и затем творил заново.
Конечно, библейские легенды не дают оснований для
такого рода истолкований, как только что упомянутое.
А с другой стороны, выходило, что бог, подобно ремес-
леннику, лишь постепенно совершенствовался в уменье
работать.
С попами нельзя было ссориться. Они составляли
один из элементов господствующих классов и были боль-
шой общественной силой. Да и сами ученые, принадле-
жащие к составу тех же классов, сознательно или бес-
сознательно избегали всего, что было бы способно поко-
122
лебать устои существующего общества. Притом все они
вырастали в условиях, которые с самого начала убивали
критическое отношение к «священным писаниям» и вы-
нуждали нерассуждающее благоговение.
Реакция, наступившая после 1848 г., опять надолго
задержала научные исследования в области религии, но
на этот раз главным образом по истории христианства:
историческая критика умолкла, когда она подходила к
легендам так называемого Нового завета. Фактов, со-
вершенно несогласимых с ветхозаветными мифами, на-
копилось так много, что этими мифами пришлось пожер-
твовать.
Ляйель70 в истории земли (30-е годы XIX в.) и Дар-
вин в истории животного и растительного мира и чело-
века (конец 50-х годов и 60-е годы) уже мало считались
с привычными религиозными представлениями христи-
анских народов.
Современная геология определяет древность твердой
коры земного шара миллионами лет, древность челове-
ка — сотнями тысячелетий. И эти цифры все более воз-
растают по мере того, как находятся новые остатки пер-
вобытного, «доисторического» человека...
II
Древность остатков перво-
бытного человека определяется по древности геологиче-
ских пластов, в которых они найдены, по остаткам (кос-
тям) животных, которые служили этому человеку пищей,
по сохранившимся от него изображениям этих животных
древних геологических эпох: мамонта, бизона, благород-
ного оленя и т. д. Очевидно, он был современником этих
животных.
Опираясь на совокупность таких данных, современ-
ная наука пришла к выводу, что уже за десятки, даже за
сотни тысячелетий до нашего времени человек научился
делать орудия из грубо отесанных камней (палеолитиче-
ская или древнекаменная эпоха) и что пятнадцать или
двадцать тысячелетий тому назад он начал отшлифовы-
вать и вообще тоньше обделывать камни для своих ору-
дий (неолитическая или новокаменная эпоха). Когда Ав-
стралия и некоторые острова Тихого океана были от-
крыты европейцами, дикари, жившие там, еще не вышли
123
из этой эпохи, да и теперь выходят из нее с большой
медленностью.
О зародышевых религиозных представлениях иско-
паемого человека можно судить по тому, как он погре-
бал мертвых, и опять-таки по сохранившимся от него
изображениям, сделанным из кости и камня или начер-
ченным и вырезанным на кости и камне.
Для истолкования этих находок приходится обра-
щаться к данным относительно обычаев, обрядов и воз-
зрения современных дикарей, стоящих на самой низкой
ступени развития.
Но этот материал был испорчен при самом его соби-
рании. Первыми европейцами, являвшимися во вновь от-
крытые страны и на острова, были купцы и миссионеры
(попы и монахи). В то время как купцы, не отличавшие-
ся от разбойников, предавались грабежу, миссионеры
принимались за обращение дикарей в христианство и
вступали с ними в разговоры о вере. Таким образом, о
верованиях дикарей, еще не подвергавшихся европей-
ским воздействиям, мы узнаем больше всего от людей, у
которых не являлось ни малейшего сомнения в правиль-
ности, в историчности библейских легенд о сотворении
мира и человека. Они не просто рассказывали о воззре-
ниях дикарей,— они с самого начала их истолковывали,
иногда самым диковинным образом.
Так, например, они увидели, что на островах Велико-
го океана и в Перу, куда до того времени ни разу не сту-
пала христианская нога, язычники знают изображе-
ние креста и поклоняются ему. Миссионеры решали:
значит, какой-нибудь апостол был восхищен духом свя-
тым и перенесен в эти страны для проповеди христианст-
ва; только об этом не рассказано в «Деяниях» и «Посла-
ниях» апостолов. На этом они успокаивались.
Только в новейшее время наука раскрыла, что крест
является священным символом для многих древних, до-
христианских религий и что он был таким символом уже
для первобытных времен. Изучая развитие креста, нау-
ка показала, что его первобытная форма изображала ин-
струмент, применявшийся для добывания огня, и что
именно обычный способ добывания последнего послужил
основой для мифов о рождении божественного младенца
в яслях, о поклонении ему волхвов (или царей) и т. п.
Но ученые долгое время замалчивали, что христиан-
ство усвоило крест от тех языческих религий, среди ко-
124
торых оно возникло, и что легенда о повешении Иисуса
на кресте появилась не раньше II в. нашего летосчисле-
ния (римляне не распинали преступников, не прибива-
ли их руки и ноги гвоздями, что, однако, не делало
смерть менее мучительной).
Миссионеры находили таких дикарей, у которых не
было никакого представления о боге, но появилась вера,
что б человеке два естества: тело и душа, которая, впро-
чем, со временем тоже умирает. Миссионеры начинали
фантазировать: эти дикари — потомки Хама или потом-
ки какой-нибудь народности, в свое время исповедовав-
шей христианскую или иудейскую веру. За грехи бог
предал людей проклятию, и они, уже отпавшие от истин-
ного бога, перезабыли почти все, что бог раскрыл Адаму,
Аврааму, вообще праотцам, пророкам и апостолам. У них
сохранились только смутные и скудные воспоминания из
всего того, во что веровали их отдаленные предки.
А затем миссионеры смело шли дальше и начинали
уверять, что обезьяны — потомки греховных людей, пре-
давшихся дьяволу, что они представляют дальнейшую
степень божественного возмездия по сравнению с дика-
рями.
Все, что миссионеры узнавали от дикарей, они с бла-
гочестивым усердием подгоняли под библейские легенды.
В дикарских воззрениях они видели остатки библейских
воззрений, осколки веры, полученной из откровений би-
блейского и христианского бога. Им была чужда та
мысль, что религии вообще развивались совершенно так
же, как развивалась техника, экономическая жизнь, нау-
ка, как развивался сам человек. Они не хотели и не мог-
ли прийти к единственно правильному выводу: у древ-
нейшего предка человека, едва выделившегося из живот-
ного царства, не было никаких представлений о боге,
творце и вседержителе мира, не было зародышевой ре-
лигии. Медленно зарождалось у него представление о
душе. Только потом он стал приходить к более сложным
религиозным представлениям. Дикарские религии прев-
ратились в более развитые: ассиро-вавилонскую, египет-
скую, финикийскую, персидскую первоначальную, иудей-
скую. Но и в самых сложных религиях, несмотря на все
их развитие, сохранилось много остатков (рудиментов)
от дикарских и даже еще более первобытных воззрений.
Но испорчен не только первоначальный материал, не-
редко еще больше портят его историки культуры, под-
125
вергающие его разработке. И это тем более, что предста-
вители духовного сословия до сих пор занимали видное
место среди исследователей древнейших ступеней чело-
веческой культуры.
Как ни испорчен первоначальный материал благоче-
стивыми христианскими исследователями жизни и быта
дикарей и как ни запутан он при позднейшей обработке,
при критическом отношении к нему он дает многое для
того, чтобы установить, в каком порядке возникли и раз-
вивались религиозные представления человека.
И. И. Скворцов-Степанов. Избранные
атеистические произведения» М., 1959,
стр. 238—243.
II
апология
ГНЕТА
К. Маркс
Ф. Энгельс
В. И. Ленин
Э. Роттердамский
Т. Гоббс
П. Бейль
Вольтер
П. Гольбах
В. Г. Белинский
Н. А. Добролюбов
А. И. Герцен
П. Лафарг
В. В. Воровский
Г. В. Чичерин
П. А. Красиков
Ем. Ярославский
В. Д. Бонч-Бруевич
М. Горький
К. Маркс
«КОММУНИЗМ ГАЗЕТЫ
«RHEINISCHER BEOBACHTER»»
Социальные принципы хри-
стианства располагали сроком в 1800 лет для своего раз-
вития и ни в каком дальнейшем развитии со стороны
прусских консисторских советников не нуждаются.
Социальные принципы христианства оправдывали ан-
тичное рабство, превозносили средневековое крепостни-
чество и умеют также, в случае нужды, защищать, хотя
и с жалкими ужимками, угнетение пролетариата.
Социальные принципы христианства проповедуют
необходимость существования классов — господствую-
щего и угнетенного, и для последнего у них находится
лишь благочестивое пожелание, дабы первый ему благо-
детельствовал.
Социальные принципы христианства переносят на
небо обещанную консисторским советником компенса-
цию за все испытанные мерзости, оправдывая тем самым
дальнейшее существование этих мерзостей на земле.
Социальные принципы христианства объявляют все
гнусности, чинимые угнетателями по отношению к угне-
тенным, либо справедливым наказанием за первородный
и другие грехи, либо испытанием, которое господь в сво-
ей бесконечной мудрости ниспосылает людям во искуп-
ление их грехов.
Социальные принципы христианства превозносят тру-
сость, презрение к самому себе, самоунижение, смире-
ние, покорность, словом — все качества черни, но для
пролетариата, который не желает, чтобы с ним обраща-
лись, как с чернью, для пролетариата смелость, сознание
собственного достоинства, чувство гордости и независи-
мости — важнее хлеба.
На социальных принципах христианства лежит пе-
чать пронырливости и ханжества, пролетариат же — ре-
волюционен.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т, 4, стр.
204-205.
К. Маркс и Ф. Энгельс
«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»
Обвинения против комму-
низма, выдвигаемые с религиозных, философских и во-
обще идеологических точек зрения, не заслуживают под-
робного рассмотрения.
Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что
вместе с условиями жизни людей, с их общественными
отношениями, с их общественным бытием изменяются
также и их представления, взгляды и понятия,— одним
словом, их сознание?
Что же доказывает история идей, как не то, что ду-
ховное производство преобразуется вместе с материаль-
ным? Господствующими идеями любого времени были
всегда лишь идеи господствующего класса.
Говорят об идеях, революционизирующих все обще-
ство; этим выражают лишь тот факт, что внутри старого
общества образовались элементы нового, что рука об
руку с разложением старых условий жизни идет и разло-
жение старых идей.
Когда древний мир клонился к гибели, древние ре-
лигии были побеждены христианской религией. Когда
христианские идеи в XVIII веке гибли под ударом про-
светительных идей, феодальное общество вело свой
смертный бой с революционной в то время буржуазией.
Идеи свободы совести и религии выражали в области
знания лишь господство свободной конкуренции.
«Но», скажут нам, «религиозные, моральные, фило-
софские, политические, правовые идеи и т. д., конечно,
изменялись в ходе исторического развития. Религия же,
нравственность, философия, политика, право всегда сох-
ранялись в этом беспрерывном изменении.
К тому же существуют вечные истины, как свобода,
справедливость и т. д., общие всем стадиям обществен-
ного развития. Коммунизм же отменяет вечные истины,
он отменяет религию, нравственность, вместо того чтобы
обновить их; следовательно, он противоречит всему пред-
шествовавшему ходу исторического развития».
К чему сводится это обвинение? История всех доныне
существовавших обществ двигалась в классовых проти-
130
воположностях, которые в разные эпохи складывались
различно.
Но какие бы формы они ни принимали, эксплуатация
одной части общества другою является фактом, общим
всем минувшим столетиям. Неудивительно поэтому, что
общественное сознание всех веков, несмотря на все раз-
нообразие и все различия, движется в определенных об-
щих формах, в формах сознания, которые вполне исчез-
нут лишь с окончательным исчезновением противопо-
ложности классов.
Коммунистическая революция есть самый решитель-
ный разрыв с унаследованными от прошлого отношения-
ми собственности; неудивительно, что в ходе своего раз-
вития она самым решительным образом порывает с иде-
ями, унаследованными от прошлого.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр.
445—446.
В. И. Ленин
«ОБ ОТНОШЕНИИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
К РЕЛИГИИ»
Мы должны бороться с ре-
лигией. Это — азбука всего материализма и, следова-
тельно, марксизма. Но марксизм не есть материализм,
остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он
говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого
надо материалистически объяснить источник веры и ре-
лигии у масс. Борьбу с религией нельзя ограничивать
абстрактно-идеологической проповедью, нельзя сводить
к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с
конкретной практикой классового движения, направлен-
ного к устранению социальных корней религии. Почему
держится религия в отсталых слоях городского проле-
тариата, в широких слоях полупролетариата, а также в
массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает
буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный ма-
териалист. Следовательно, долой религию, да здравст-
вует атеизм, распространение атеистических взглядов
есть главная наша задача. Марксист говорит: неправда.
Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограничен-
ное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубо-
ко, не материалистически, а идеалистически объясняет
корни религии. В современных капиталистических стра-
нах это — корни главным образом социальные. Социаль-
ная придавленность трудящихся масс, кажущаяся пол-
ная беспомощность их перед слепыми силами капита-
лизма, который причиняет ежедневно и ежечасно в ты-
сячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких
мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда
вон выходящие события вроде войн, землетрясений и
т. д.,— вот в чем самый глубокий современный корень ре-
лигии. «Страх создал богов». Страх перед слепой силой
капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмот-
рена массами народа, которая на каждом шагу жизни
пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и
приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» ра-
зорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в про-
ститутку, голодную смерть,— вот тот корень современ-
132
ной религии, который прежде всего и больше всего дол-
жен иметь в виду материалист, если он не хочет оста-
ваться материалистом приготовительного класса. Ника-
кая просветительная книжка не вытравит религии из за-
битых капиталистической каторгой масс, зависящих от
слепых разрушительных сил капитализма, пока эти мас-
сы сами не научатся объединенно, организованно, пла-
номерно, сознательно бороться против этого корня ре-
лигии, против господства капитала во всех формах.
Следует ли из этого, что просветительская книжка
против религии вредна или излишня? Нет. Из этого сле-
дует совсем не это. Из этого следует, что атеистическая
пропаганда социал-демократии должна быть подчинена
ее основной задаче: развитию классовой борьбы эксплуа-
тируемых масс против эксплуататоров.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 17,
стр. 418—420.
Эразм Роттердамский
Из работы
«ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ»
Глава LVII
Папы, кардиналы и еписко-
пы не только соперничают с государями в пышности, но
иногда и превосходят их. Вряд ли кто помышляет о том,
что белоснежное льняное одеяние означает беспорочную
жизнь. Кому приходит в голову, что двурогая митра с уз-
лом, стягивающим обе верхушки, знаменует совершен-
нейшее знание Ветхого и Нового завета? Кто помнит,
что руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и
непричастного ко всему земному совершения таинств,
что посох изображает бдительную заботу о пастве, а
епископский крест — победу над всеми страстями чело-
веческими? И вот я спрашиваю: тот, кто поразмыслит
над подразумеваемым значением всех этих предметов,
не будет ли вынужден вести жизнь, исполненную забот
и печалей? Но почти все избрали благую часть и пасут
только самих себя, возлагая заботу об овцах либо на
самого Христа, либо на странствующих монахов и на
своих викариев. И не вспомнит никто, что самое слово
«епископ» означает труд, заботу и прилежание: лишь об
уловлении денег воистину пекутся они и здесь, как подо-
бает епископам, смотрят в оба.
Глава LVIII
А если бы кардиналы в свою
очередь поразмыслили о том, что они унаследовали ме-
сто апостолов и, стало быть, обязаны подражать их
жизни? Если бы им пришло в голову, что они не хозяева
духовных даров, но лишь управители, которым рано или
поздно придется дать строжайший отчет во всем? Если б
они хоть призадумались над значением отдельных ча-
стей своего наряда? Что означает эта белизна нижнего
облачения, если не высочайшую и совершеннейшую бес-
порочность жизни? Что такое эта пурпуровая ряса,
как не символ пламенной любви к богу? На что указует
эта мантия, ниспадающая широкими складками на спи-
134
ну мула их высокопреосвященства и столь обширная,
что ею можно было бы прикрыть даже верблюда? Не
есть ли она знамение всеобъемлющего милосердия,
выражающегося в поучениях, увещаниях, наставлениях,
обличениях, убеждениях, в примирении воюющих, в соп-
ротивлении неправедным государям и даже в пролитии
собственной крови за христианскую паству, не говоря
уже о жертвах своим достоянием? Да и подобает ли
богатое достояние тем, кто пришел на смену нищим апо-
столам? Повторяю, если б отцы кардиналы взвесили все
это, они не добивались бы высокого своего сана и поки-
дали бы его с великой охотой, либо вели жизнь, полную
тяжких трудов и забот,— такую же, как некогда апо-
столы.
Глава LIX
А верховные первосвящен-
ники, которые заступают место самого Христа? Если бы
они попробовали подражать его жизни, а именно бедно-
сти, трудам, учительству, крестной смерти, презрению к
жизни, если бы задумались над значением своих титу-
лов— «папы», иначе говоря, отца и «святейшества»,—
чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Кто
стал бы добиваться этого места любой ценою или, одна-
жды добившись, решился бы отстаивать его посредст-
вом меча, яда и всяческого насилия? Сколь многих вы-
год лишился бы папский престол, если б на него хоть
раз вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не
Мудрость даже, а хотя бы крупица той соли, о которой
говорил Христос. Что осталось бы тогда от всех этих бо-
гатств, почестей, владычества, побед, должностей, дис-
пенсаций, сборов, индульгенций, коней, мулов, телохра-
нителей, наслаждений? (В нескольких словах я изобра-
зила вам целую ярмарку, целую гору, целый океан вся-
ческих благ.) Их место заняли бы бдения, посты, слезы,
проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, по-
каянные вздохи и тысяча других, столь же горестных тя-
гот. Не следует также забывать об участи, которая по-
стигла бы бесчисленных чиновников, копиистов, нотари-
усов, адвокатов, промоторов, секретарей, погонщиков
мулов, конюших, банкиров, сводников... Прибавила бы
я еще словечка два покрепче, да боюсь оскорбить ваши
уши... В общем, вся эта огромная толпа, которая отяго-
щает— или нет, прошу прощения,—которая украшает
римский престол, была бы обречена на голод. Но еще
135
бесчеловечнее, еще ужаснее, еще нестерпимее было бы
пожелание, чтобы верховные князья церкви, эти истин-
ные светочи мира, снова взялись за суму и посох.
Ныне же, напротив, все труды возлагаются на Петра
и Павла1 — у них ведь довольно досуга,— а блеск и на-
слаждение папы берут себе. При моем содействии нико-
му в целом роде людском не живется так привольно и
беззаботно, как им. Они мнят, будто в совершенстве ис-
полняют закон Христов, если, надев на себя мистический
и почти театральный убор, присвоив титулы «блажен-
нейшего», «преподобнейшего» и «святейшего», раздавая
благословения и проклятия, разыгрывают роль верхов-
ных епископов. Смешно, старомодно и совсем не ко вре-
мени в наши дни творить чудеса. Поучать народ — труд-
но; толковать священное писание — схоластично; мо-
литься — бесполезно; лить слезы — некрасиво и жено-
подобно; жить в бедности — грязно; оказаться побежден-
ным— постыдно и недостойно того, кто и королей едва
допускает лобызать свои блаженные стопы; умирать —
неприятно, а быть распятым — позорно. Остается одно
лишь оружие да те сладкие словеса, о которых упомина-
ет апостол Павел2 и которых никогда не жалели папы
в своем милосердии, и, наконец, интердикты3, времен-
ные отрешения от бенефициев, повторные отлучения,
анафемы, картинки, изображающие муки грешников, и
грозные молнии, при помощи которых папы единым сво-
им мановением низвергают души смертных в самую глу-
бину Тартара. Охотнее всего святейшие во Христе отцы
и Христовы наместники поражают этими молниями тех,
кто, наущаемый дьяволом, пытается умалить или расхи-
тить достояние святого Петра. Хотя, по свидетельству
Евангелия, Петр сказал: «Вот мы оставили все и после-
довали за тобою», однако его достоянием именуются
поля, города, селения, налоги, пошлины, права владения.
Ревнуя о Христе, папы огнем и мечом отстаивают «на-
следие Петрово», щедро проливают христианскую кровь
и при этом свято веруют, что они по завету апостольскому
охраняют невесту Христову — церковь, доблестно сокру-
шая ее врагов. Как будто могут быть у церкви враги
злее, нежели нечестивые первосвященники, которые сво-
им молчанием о Христе позволяют забывать о нем, кото-
рые связывают его своими гнусными законами, искажают
его учение своими за уши притянутыми толкованиями и
убивают его своей гнусной жизнью. Поскольку христи-
136
анская церковь основана на крови, кровью скреплена и
кровью возвеличилась, они по сей день продолжают дей-
ствовать мечом, словно нет больше Христа, который сам
защищает своих верных. И хотя война есть дело до того
жестокое, что подобает скорее хищным зверям, нежели
людям, до того безумное, что поэты считают ее порож-
дением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы
с быстротою моровой язвы, до того несправедливое, что
лучше всего предоставить заботу о ней отъявленным раз-
бойникам, до того нечестивое, что ничего общего не имеет
с Христом,— однако папы, забывая обо всем на свете, то
и дело затевают войны.
Порой увидишь даже дряхлых старцев4, одушевлен-
ных чисто юношеским пылом, которых никакие расходы
не страшат и никакие труды не утомляют, которые, ни
минуты не колеблясь, перевернут вверх дном законы, ре-
лигию, мир и спокойствие и все вообще дела человече-
ские. И находятся у них ученые льстецы, которые име-
нуют это явное безумие святой ревностью, благочестием,
мужеством, которые, пускаясь во всевозможные тонко-
сти, доказывают, что можно, обнаживши губительный
меч, пронзать железом утробу брата своего, нисколько
не погрешая в то же время против высшей заповеди Хри-
ста о любви к ближнему.
Эразм Роттердамский. Похвала глупо-
сти. М., 1958, стр. 193—202.
Томас Гоббс
«ВОЗРАЖЕНИЯ НА «РАЗМЫШЛЕНИЯ» ДЕКАРТА5
И ОТВЕТЫ ПОСЛЕДНЕГО»
ПЯТОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ
(К ТРЕТЬЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЮ: О БОГЕ)
«Среди моих мыслей неко-
торые суть как бы образы вещей, и только им именно и
подобает называться идеями; таковы мои представле-
ния какого-нибудь человека, или химеры, или неба, или
ангела, или бога».
Когда я мыслю человека, то я имею в своем сознании
идею, или образ, обладающий определенной формой и
137
цветом, причем, однако, может возникнуть сомнение,
похож ли этот образ на человека или нет. Подобным же
образом обстоит дело и с идеей неба. Когда я мыслю
химеру, то я имею в сознании идею, или образ, причем
относительно него можно сомневаться, соответствует ли
он или нет какому-либо животному, которое в действи-
тельности существует, или могло бы существовать, или
существовало.
Но когда я мыслю ангела, в моем уме возникает то
образ пламени, то образ красивого мальчика с крылья-
ми — образы, которые, как я определенно знаю, не соот-
ветствуют никакому ангелу и не представляют собой по-
этому и идеи ангела. Но так как мы верим, что суще-
ствуют какие-то подчиненные богу невидимые и немате-
риальные существа, то мы обозначаем эти лишь пред-
полагаемые на основании нашей веры существа именем
ангелов, хотя представление об ангеле у нас складыва-
ется из идей видимых вещей.
Точно так же мы не имеем никакого образа, или идеи,
бога, отвечающего чтимому нами имени бога. Поэтому
нам и предписано не поклоняться богу в каком-либо изо-
бражении, чтобы не создалось видимости, будто мы
можем постигнуть его, хотя он и совершенно недоступен
пониманию.
Таким образом, как мне кажется, мы не имеем ника-
кой идеи бога. В этом отношении мы скорее похожи на
слепорожденного, которого часто ставили около огня.
Он чувствует, что ему становится тепло, замечает, что
должно быть нечто, отчего ему становится тепло, и вот
он слышит, что это называется огнем, из чего заключает,
что существует огонь. Но он все же не знает, какого цве-
та и какой формы бывает огонь, мало того, он вообще не
имеет никакой идеи и никакого образа огня. Подобным
же образом и человек познает, что его идеи и образы
должны иметь какую-нибудь причину, что эта причина
должна в свою очередь иметь причину и т. д. В качестве
заключительного звена этой цепи он полагает вечную
причину, которая не предполагает более предшествую-
щей причины, так как ее бытие никогда не имело начала.
Таким образом он заключает, что необходимо существует
нечто вечное. Но он не имеет никакой идеи последнего
и только обозначает именем бога это признанное им и
являющееся предметом его веры существо...
138
СЕДЬМОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ
Мне остается только рас-
смотреть, каким образом я приобрел эту идею. Я получил
ее не при помощи чувств, и никогда она не представля-
лась мне вопреки моему ожиданию, как это обыкновенно
бывает с идеями чувственных вещей, когда эти вещи
представляются или кажутся представляющимися внеш-
ним органом чувств. Она также не есть чистое порожде-
ние, или вымысел, моего духа, ибо не в моей власти что-
нибудь отнять от нее или прибавить к ней. Следователь-
но, остается только сказать, что эта идея рождена и
произведена вместе со мной тогда, когда я был создан,
подобно идее обо мне самом.
Не доказано, что идея бога вообще дана мне. Но
если она мне не дана, как, в самом деле, приходится ду-
мать, то все вышеприведенное рассуждение является
беспредметным. Кроме того, идея моего собственного Я
возникает во мне благодаря чувству зрения, когда пред-
метом рассмотрения является мое собственное тело.
Когда же таким предметом является душа, то никакой
идеи души мы вообще не получаем и только путем умо-
заключения приходим к предположению чего-то внутрен-
не присущего телу и сообщающего ему животное движе-
ние, благодаря которому оно ощущает и двигается; и,
что бы это ни было, мы называем его душой, не имея ни-
какой соответствующей идеи.
ДЕСЯТОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ
«Следовательно, остается
только одна идея бога, относительно которой необходимо
исследовать, не находится ли в ней чего-нибудь, что не
могло бы происходить от меня самого. Под словом бог я
подразумеваю субстанцию бесконечную, вечную, неиз-
менную, независимую, всеведущую, всемогущую, создав-
шую и породившую меня и все остальные существующие
вещи (если они действительно существуют). Эти преиму-
щества столь велики и возвышенны, что, чем вниматель-
нее я их рассматриваю, тем менее кажется мне вероят-
ным, что эта идея может вести свое происхождение от
меня самого. Следовательно, из всего сказанного мной
раньше необходимо заключить, что бог существует».
Подвергая рассмотрению атрибуты бога, чтобы по-
139
черпнуть в них идею бога, и исследуя вопрос о том, есть
ли в них что-либо такое, что не может быть продуктом
нашего творчества, я узнаю, если не ошибаюсь, следую-
щее: то, что мы мысленно связываем с именем бога, не
происходит, правда, от нас самих, но необходимо проис-
текает из одних лишь внешних вещей. Ибо под именем
бог я подразумеваю субстанцию, иными словами, я мыс-
лю его существующим не на основании идеи, а на осно-
вании умозаключения. Я мыслю эту субстанцию беско-
нечной в том смысле, что не могу ни понять, ни вообра-
зить ее границ (т. е. крайних частей, за которыми нельзя
представить себе частей еще более крайних). Из этого
следует, что, употребляя имя бесконечный, я еще не вы-
ражаю тем самым никакой идеи божественной бесконеч-
ности, а скорее определяю границы, или пределы, моего
сознания. Наконец, я мыслю эту субстанцию независи-
мой, т. е. не знаю никакой причины, от которой мог бы
произойти бог. Отсюда ясно, что моя идея независимости
не содержит ничего другого, кроме воспоминания об иде-
ях, которые возникают во мне в разное время и явля-
ются в силу этого зависимыми.
Утверждение бог независим выражает, таким обра-
зом, только то, что бог принадлежит к тому классу ве-
щей, возникновение которых я себе не представляю. По-
добно этому сказать: бог бесконечен,— то же самое, что
сказать: он принадлежит к тому классу вещей, в которых
мы не представляем себе никаких границ. Но это в кор-
не подрывает всякую идею бога, ибо что такое идея, не
имеющая ни начала, ни границ?
Что значит всеведущий? Я спрашиваю, посредством
какой идеи г. Декарт знает что-либо о мудрости бога?
Что значит всемогущий? Какая идея дает нам пони-
мание могущества, т. е. будущих, пока еще не сущест-
вующих вещей? Ведь понятие могущества может возник-
нуть в нас только благодаря представлению о совершен-
ных кем-либо деяниях путем следующего умозаключе-
ния: нечто существующее действовало, следовательно,
могло так действовать, следовательно, может еще раз
так действовать, следовательно, обладает способностью
действовать. Все это — идеи, воспринятые от внешних
вещей. Что же касается идеи о творце всего существую-
щего, то я могу себе составить представление о творении
только на основании того, что видел, скажем, на осно-
вании наблюдений над тем, как человек рождается, а
140
затем вырастает как бы из одной точки до его настоящей
формы и величины. Никакой другой идеи никто не соеди-
няет с именем творца.
То обстоятельство, что мы можем представить себе
мир созданным, не является достаточным доказательст-
вом того, что он действительно был создан, и поэтому
хотя бы и было доказано, что существует нечто бесконеч-
ное, независимое, всемогущее, то отсюда все же не сле-
дует, что существует творец.
Томас Гоббс. Избранные произведения
в двух томах, т. 1. М., 1964, стр. 420—
421, 424, 427—428.
Пьер Бейль
«ИСТОРИЧЕСКИЙ И КРИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПЕРВОЕ
I. Страх перед божеством и
любовь к нему не единственная побудительная причина
человеческих действий. Существуют другие принципы,
которые заставляют человека действовать: любовь к по-
хвалам, боязнь позора, склонности характера, наказания
и вознаграждения, распределяемые властями, оказыва-
ют большое воздействие на человеческое сердце. Если
кто-нибудь в этом сомневается, то он, должно быть, не
знает того, что происходит в нем и что при обычном ходе
событий может предстать перед его глазами в любой мо-
мент. Но невероятно, чтобы человек был настолько глуп,
чтобы не замечать этого. (Стало быть, можно отнести
к общим понятиям то, что я установил о других побуди-
тельных причинах человеческих действий.)
II. Страх перед божеством и любовь к нему не всегда
более действенная причина, чем все другое. Любовь к
славе, боязнь позора, смерти или мучений, надежда на
получение выгодной должности действуют на некоторых
людей с большей силой, чем желание угодить богу и бо-
язнь нарушить его заповеди. Если кто-нибудь в этом сом-
невается, то он игнорирует часть своих поступков и ни-
чего не знает 6 том, что постоянно происходит на земле.
141
Мир полон людей, которые предпочтут скорее совершить
грех, чем не угодить властелину, от которого зависит их
судьба. Они ежедневно расписываются в том, что при-
знают некий символ веры, хотя против этого восстает
их совесть: они поступают так, чтобы спасти свое добро
и избежать тюрьмы, изгнания, смерти и т. д. Фанатик,
который бросил все ради своей религии и оказался перед
альтернативой либо оскорбить бога, отомстив за обиду,
либо прослыть трусом, не отомстив за нее, не успокаива-
ется, пока не отомстит за нанесенное ему оскорбление,
не останавливаясь даже перед тем, чтобы совершить
убийство или погибнуть самому, хотя бы это и навлекло
на него вечное проклятие. По-видимому, только довольно
глупые люди могут игнорировать такие факты. Итак,
поместим среди общих понятий следующий нравствен-
ный афоризм: страх перед божеством и любовь к нему
не всегда являются наиболее активным началом челове-
ческих действий.,.
IV. Возмущение должно быть гораздо более сильным
при виде того, как много есть людей, убежденных в под-
линности религиозных истин и погрязших в злодеяниях.
Пьер Бейль. Исторический и критичес-
кий словарь в двух томах, т. 2. М.,
1968. стр. 143—144.
Вольтер
БОГ, БОГИ
[Фрагмент]
РАЗДЕЛ I
...Познание бога не заложе-
но в нас рукою природы. ...Оно не дается нам, как позна-
ние света, земли и т. д., которые мы получаем, как только
открываются наши глаза и возникает наше сознание.
Может быть, это философская идея? Нет. Люди призна-
вали богов, когда еще не было философов.
Из чего же возникает эта идея? Из чувства и из той
природной логики, которая развивается с возрастом у
самых грубых людей. Человек видел поразительные яв-
ления природы, урожаи и засухи, ясные дни и бури, блага
142
и бедствия и ощущал хозяина. Для управления общест-
вом появились вожди; и тогда возникла необходимость
признать властителей над этими новыми властителями,
которых навязала себе человеческая слабость, т. е. при-
знать такие существа, чья верховная власть заставляла
бы трепетать людей, имеющих право угнетать себе по-
добных. Первые властители в свою очередь использовали
эти представления, чтобы укрепить свою власть. Таковы
были первые шаги, и вот почему каждая маленькая об-
щина имела своего бога. Эти представления были гру-
быми, потому что и все было грубым. Вполне естественно
рассуждать по аналогии. Общество, находившееся под
властью вождя, не отрицало, что у соседнего племени
есть свой судья, свой главарь; следовательно, нельзя
было отрицать, что у него есть и свой бог. Но поскольку
каждое племя было заинтересовано в том, чтобы его
вождь был самым лучшим, то оно было заинтересовано
и в том, чтобы верить (а следовательно, оно и верило),
что его бог — самый могущественный. Отсюда древние
мифы, которые так долго были распространены повсе-
местно, о том, как боги одного народа сражаются с бо-
гами другого. Отсюда и многочисленные высказывания
в еврейских книгах, в которых на каждом шагу обна-
руживается убеждение евреев, что боги их врагов суще-
ствуют, но что бог иудеев выше этих богов.
Однако в крупных государствах, где более развитое
общество могло содержать праздных людей, занятых
размышлениями, появились священнослужители, волх-
вы, философы.
Некоторые так усовершенствовали свой разум, что
тайно признавали единого и всемирного бога. Так, хотя
древние египтяне почитали Осири, Осириса, или, вернее,
Осирета (что означает «эта земля моя»), хотя они покло-
нялись еще другим высшим существам, однако они при-
знавали верховного бога, единое начало, которое назы-
вали Кнеф и символом которого был шар, установленный
над фасадом храма.
Таким же был у греков их Зевс, или Юпитер, владыка
над другими богами, которые были не больше, чем анге-
лы у вавилонян и евреев и святые у христиан римского
вероисповедания...
У нас нет никакого точного понятия о божестве, мы
только ощупью бредем от предположений к предположе-
ниям, от правдоподобия к вероятности. Мы приходим к
143
очень слабой достоверности: что-то существует, значит,
есть что-то вечное, ибо ничто не происходит из ничего.
Вот несомненная истина, на которую опирается наш
разум.
Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфле-
ты, письма в двух томах, т. II. М,
1961, стр. 97—98.
Поль Гольбах
«РАЗОБЛАЧЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО
ИЛИ РАССМОТРЕНИЕ НАЧАЛ
ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ»
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ
Мы видели бесполезность и
даже опасность тех совершенств, добродетелей и обязан-
ностей, которым учит нас христианская религия. Посмот-
рим теперь, оказывает ли она более благотворное влия-
ние на политику, приносит ли она действительное благо-
получие тем народам, которые приняли эту религию и
строго соблюдают ее. Прежде всего мы находим, что во
всех христианских странах установилось двоевластие,
причем обе власти находятся в борьбе между собой. Го-
сударство должно поддерживать мир и согласие между
гражданами. Христианская религия учит жить в мире и
любви, но вскоре сама уничтожает это правило; она неиз-
бежно создает раздоры среди своих последователей, так
как у последних не может не быть разнобоя в понимании
двусмысленных, разноречивых велений священного пи-
сания. С самых первых времен христианства происходят
горячие споры между христианскими мыслителями *.
* На первом же собрании апостолов, на Иерусалимском соборе,
св. Павел спорит со св. Петром по вопросу, сохранять ли ритуал
евреев или отказаться от него. Люди, принявшие веру от самого
Иисуса Христа, не могли между собой столковаться; с тех пор поло-
жение не стало лучше.
144
Впоследствии мы в продолжение веков тоже находим
лишь расколы, ереси, за которыми следуют гонения и
войны, никак не согласующиеся с хваленым миролюбием
христианства; в религии, где все темно, невозможно со-
гласие. Во всех религиозных спорах обе стороны уве-
рены, что бог на их стороне, и поэтому проявляют упрям-
ство и упорство. Они и не могут поступать иначе, так как
смешивают дело божье со своей суетной борьбой. Они не
проявляют уступчивости и ведут между собой ожесто-
ченную борьбу, пока спор не разрешается силой, предмет
этих споров всегда чужд здравому смыслу. Действи-
тельно, государственная власть вынуждена была вмеши-
ваться во все эти распри христиан; государи вмешива-
лись в вздорные споры попов, видели в этих спорах пред-
мет величайшей важности. В религии, установленной
самим богом, не может быть второстепенных мелочей.
Поэтому государи выступали с вооруженной силой про-
тив части своих подданных; образ мыслей двора решал
вопросы веры, подданные должны были веровать так, как
верует двор, истинны были только те воззрения, которые
он поддерживал. Государевы слуги стали охранителями
правоверия, остальные были еретики, которых дол-
жны были истреблять стражи ортодоксии *.
В силу своих предрассудков и своей ложной политики
государи всегда видели в тех подданных, которые не дер-
жались их религиозных воззрений, дурных граждан,
опасных для государства, врагов их власти. Если бы го-
судари не вмешивались в дерзкие раздоры попов и не
помогали последним своими гонениями, эти споры затих-
ли бы сами собой и не смущали бы общественного по-
рядка. Если бы государи нелицеприятно вознаграждали
добрых и карали злых, невзирая на их учения, на их
культ и обряды, они не заставляли бы многих своих под-
данных стать заклятыми врагами угнетающей их власти.
Христианские государи всегда старались обратить ере-
тиков с помощью насилий и преследований; между тем
здравый смысл должен был бы подсказать им, что та-
* Один остроумный человек заметил, что в каждой стране орто-
доксальной верой является та, к которой принадлежат палачи.
Действительно, при ближайшем рассмотрении нельзя не согласиться,
что все догматы христианской религии установлены государями и
солдатами. Если бы жил еще Людовик XIV, булла Unigenitus стала
бы у нас членом символа веры.
145
кими мерами они лишь порождали лицемеров и тайных
врагов и даже вызывали восстания *.
Но эти доводы не трогают государей, в которых хри-
стианство с детства воспитывает фанатизм и предрассуд-
ки. Оно прививает им вместо всякой добродетели рьяную
приверженность к вздорным обрядам и догматам, не
имеющим никакого касания к благу государства, и вну-
шает им дикую ненависть против всех отказывающихся
подчиниться их деспотическим взглядам. В результате
государи находят, что проще истреблять еретиков, чем
действовать на них мерами увещания. В своем надмен-
ном деспотизме они не нисходят до рассуждений. Религия
говорит им, что в делах веры тирания законна, а жесто-
кость является заслугой.
Христианство всегда превращало покровительствовав-
ших ему государей в деспотов и тиранов. Оно изобража-
ло их богами на земле, объявляло их капризы волей
неба, предавало им народы, как стада рабов, которыми
они могут распоряжаться, как душе угодно. За ревность
к вере оно не раз прощало самым извращенным госуда-
рям все их насилия и преступления и предписывало на-
родам безропотно терпеть их власть, которая разила их
вместо того, чтобы защищать их; за ослушание грозили
народу громами небесными. Неудивительно, что после
водворения христианства столько народов изнемогает
под гнетом благочестивых тиранов, не имеющих за собой
ничего, кроме слепой приверженности к религии, и позво-
ляющих себе самые возмутительные преступления, са-
мую злодейскую тиранию, самые позорные излишества,
самый необузданный разврат. Каковы бы ни были наси-
лия, притеснения и хищничество этих государей, искрен-
не или притворно преданных религии, попы старались
сдерживать их подданных. Неудивительно также, что
бесталанные и злые государи в свою очередь защищали
интересы религии, которая нужна была их ложной поли-
тике для поддержания их власти. Короли не нуждались
бы в религии для управления своими народами, если бы
поступали справедливо и были просвещенны и доброде-
тельны, если бы сознавали свой истинный долг и осуще-
* После отмены Нантского эдикта Людовик XIV обрушился на
гугенотов с гонениями и в то же время запретил им эмигрировать
из Франции. Это столь же разумный способ действий, как поведение
детей, которые мучают птичку в клетке и плачут, когда замученная
птичка умерла.
146
ствляли его, если бы действительно пеклись о счастье
своих подданных. Но так как легче исполнять обряды,
чем обладать талантами или проявлять добродетель, то
христианство слишком часто находило в государях рья-
ных защитников и даже угодливых палачей.
Далеко не так дружелюбно относились церковники к
тем государям, которые отказывались идти с ними заод-
но, вмешиваться в их склоки, служить их страстям. Попы
часто восставали против государей, пытавшихся проти-
водействовать им, карать их эксцессы, образумить их,
умерить их властолюбивые притязания, посягнуть на их
неприкосновенные привилегии. В таких случаях попы
вопили о святотатстве, о нечестии, о том, что государь
налагает руку на священные права церкви, дарованные
самим богом. Они пытались поднять народ против закон-
нейшей власти, объявляли государей, непокорных церк-
ви, тиранами и подстрекали против них вооруженных
фанатиков. Небо всегда готово было мстить тому, кто
обидел его слуг. Последние были покорны и проповедо-
вали другим покорность только тогда, когда государь де-
лил с ними власть или когда они были слишком слабы,
чтобы выступать против его власти. Вот почему в первые
времена христианства апостолы, не имея власти, пропо-
ведуют подчинение; как только государство стало на сто-
рону новой религии, попы стали требовать гонений, низ-
лагать государей, подсылать цареубийц.
Во всех государствах, в которых утвердилась христи-
анская религия, существуют две соперничающие власти;
между обеими постоянно ведется борьба, раздирающая
государство и обычно истощающая его. Подданные рас-
калываются на два лагеря,— одни сражаются за госу-
даря, другие за своего бога, точнее, уверены, что сража-
ются за бога. Победа всегда будет в конце концов на
стороне последних, пока попам дозволено будет отрав-
лять народ религиозным дурманом, питать в нем фана-
тизм и предрассудки. Только путем постепенного осво-
бождения народа от ига суеверия можно будет умень-
шить власть поповщины; в невежественной и темной
стране она всегда будет безграничной и будет сильнее
власти королей.
Но большинство государей боится просвещения на-
рода; соучастники поповщины, они вступают с ней в
союз, чтоб подавлять разум и преследовать всех тех, кто
имеет мужество провозглашать его. В своем ослеплении
147
эти государи не видят своих собственных интересов и
интересов их народов и желают быть повелителями од-
них рабов, соответственно обработанных попами. И дейст-
вительно, в странах, где всецело царит христианство, мы
видим позорное невежество и полный упадок духа: в
союзе с попами государи как бы сговорились губить
науку, искусство, промышленность, которые может соз-
дать только свобода мысли. Среди христианских народов
свободнее, сильнее и счастливее других те, которые наи-
менее суеверны. В странах, в которых столкнулся деспо-
тизм духовной и светской власти, народы коснеют в без-
действии, лени и спячке. Те народы Европы, которые
кичатся чистотой своей веры, бесспорно, не являются са-
мыми цветущими и самыми могущественными; их госу-
дари сами — рабы религии, и повелевают они тоже лишь
рабами; у населения этих стран нет достаточно энергии
и мужества, чтобы самому обогащаться и работать на
пользу государства. В таких странах живут в изобилии
одни попы, все прочие прозябают в самой тяжелой нуж-
де. Но христианскую религию совершенно не интересуют
счастье народов и их могущество; она не желает, чтобы
ее последователи искали счастья в этом мире; она гово-
рит о вреде богатства, исповедует нищего бога, восхва-
ляет нищих духом и умерщвляющих свою плоть. Надо
думать: только для того чтобы заставить народы следо-
вать этим правилам, церковь в ряде европейских госу-
дарств захватила в свои руки наибольшие богатства и
попы живут в роскоши, тогда как остальные граждане
спасаются в нищете *.
Такова польза, приносимая христианской религией
* Уже при беглом подсчете оказывается, что в Италии, Испании,
Португалии и Германии доход церкви должен превысить не только
доход государей, но и доход всех прочих граждан. Утверждают, что
в одной Испании более 500 тыс. попов, обладающих огромными
доходами.
Король Испании, наверно, не обладает и шестой долей этих
доходов для защиты государства. Надо сказать, что если монахи
и священники необходимы для государства, то небо требует за их
молитвы цену, весьма немалую. Изгнание мавров разорило Испа-
нию; только упразднение монашества может восстановить богатства
этой страны. Но к этому надо подойти умеючи; король, который
возьмется за это слишком ретиво, несомненно, будет свергнут с пре-
стола народными массами; последние не поймут, что он желал сде-
лать им добро; Прежде всего необходимо, чтобы в Испании распро-
странилось просвещение и чтобы народ был доволен своим госу-
дарем.
148
государству. Церковь образует независимое государство
в государстве, она порабощает народы, она благоприят-
ствует тирании государей, которые угождают ей, и под-
нимает народ против государей, которые отказываются
потворствовать ей. Когда церковь в союзе с государст-
венной властью, она угнетает и принижает нацию, разо-
ряет ее, убивает ее науку и промышленность; когда цер-
ковь рвет с государственной властью, она делает граж-
дан противообщественными, нетерпимыми и мятежными.
Если подробно рассмотреть предписания этой религии
и вытекающие отсюда правила, то окажется, что она вос-
прещает все, что ведет к процветанию государства. Мы
уже видели, какого низкого мнения христианская рели-
гия о браке и как высоко она ставит безбрачие; эти
взгляды неблагоприятны для роста населения, который,
бесспорно, является главным источником могущества го-
сударства.
Торговля не в меньшей мере противна принципам
этой религии, основатель которой произносит анафему
против богачей и исключает их из царства небесного.
Занятие промышленностью тоже запрещено праведным
христианам, которые лишь временные гости на этой зем-
ле и никогда не должны заботиться о завтрашнем дне *.
Не ясно ли, что христианин, соглашающийся служить
в армии, поступает непоследовательно и необдуманно?
Человек не вправе считать себя избранником божьим,
удостоившимся благодати божьей; поэтому он не может
подвергать себя опасности вечного осуждения. Христиа-
нин, любящий своего ближнего и обязанный любить
своих врагов, совершает величайшее преступление, уби-
вая человека, душа которого ему неизвестна и которого
он может одним ударом низвергнуть в ад**. Для хри-
стианства солдат — чудовище; впрочем, для солдата,
сражающегося за божье дело, должно быть сделано
исключение — такой солдат, умирая, становится муче-
ником.
Христианство всегда объявляло войну науке и челове-
* По словам св. Иоанна Златоуста6, купец отнюдь не может
быть угоден богу, христианин не может быть купцом, купцы долж-
ны быть исключены из церкви. Он ссылается на слова 70-го псалма:
«Я не знал торговли». Если этот принцип правилен, то вся улица
Сент-Оноре осуждена на муки ада.
** Христианин, говорит Лактанций, не может быть ни воином,
ни обвинителем. См. том I, стр. 137. Квакеры7 и меннониты8 отка-
зываются носить оружие. Они последовательнее других христиан.
149
ческим знаниям, на них смотрели как на препятствие к
спасению. Наука заставляет человека возомнить о себе,
говорит апостол. Людям, которые обязаны подчинить
свой разум вере, не нужны ни разум, ни наука. Христиане
сами признают, что основатели их религии были люди
простые и невежественные; ученики их не должны быть
просвещеннее их, в противном случае они не будут ве-
рить басням и фантазиям, унаследованным от этих вы-
соко почитаемых невежд. Всегда констатировали, что
самые просвещенные люди обычно являются плохими
христианами. Наука не только может поколебать веру,
она отвращает христианина также от забот о своем спа-
сении — от единственно истинно важного дела. Если
наука приносит пользу государству, то невежество еще
гораздо полезнее религии и ее слугам. Века, не знавшие
науки и промышленности, были золотым веком для церк-
ви Иисуса Христа. Это было время, когда государи нахо-
дились в наибольшем подчинении у нее, время, когда
служители церкви захватили в свои руки все богатства
общества. В одной весьма многочисленной секте попы на-
стаивают, чтобы мирянам оставалось недоступно и неиз-
вестно само священное писание, хотя в нем содержатся
правила, которым должны следовать верующие. Несо-
мненно, эти попы поступают вполне разумно: чтение
Библии способно скорее всего излечить христианина от
преклонения перед Библией *.
* В свое время папа Григорий Святой велел уничтожить мно-
жество языческих книг. На заре христианства св. Павел велит при-
нести книги и сжечь их на его глазах; с тех пор церковь всегда
практиковала этот метод. Основатели христианства должны были
бы запретить под страхом вечных мук учиться грамоте. Католиче-
ская церковь поступила очень умно, изъяв священное писание из
рук народа. С тех пор как стали в XVI столетии читать его, по-
всюду возникали ереси и происходили восстания против попов. Для
церкви было счастливое время, когда грамотны были одни монахи,
когда грамотность была их монополией. Для тех, кто сомневается в
том, что отцы церкви ненавидели и презирали науку, приведем сле-
дующие цитаты. Св. Иероним говорит: «Геометрия, арифметика и
музыка содержат истину в своей области, но наука благочестия из
другой области. Наука благочестия заключается в том, чтобы знать
писание и понимать пророков, верить в евангелие и знать пророков».
Св. Амвросий говорит: «Что за безумие заниматься астрономией и
геометрией: измерять глубину воздушных пространств, забывать то,
что дает спасение, предаваться заблуждениям!». Св. Августин гово-
рит: «Астрология, геометрия и подобное в большом презрении у на-
ших, потому, что бесполезны для спасения». Геометрию следовало
бы запретить во всех христианских государствах, так как она при-
учает ум логически мыслить.
150
Резюмируя, можно сказать, что при неукоснительном
соблюдении правил христианской религии ни одно госу-
дарство не могло бы существовать. Кто сомневается в
этом, пусть послушает отцов церкви9; он увидит, что их
мораль совершенно несовместима с существованием госу-
дарства и его могуществом. Он увидит, что, согласно
Лактанцию, никто не должен быть солдатом; согласно
св. Юстину, никто не должен быть судьей; согласно
св. Иоанну Златоусту, никто не должен заниматься тор-
говлей; согласно мнению очень многих отцов церкви, ни-
кто не должен заниматься наукой. Итак, если присовоку-
пить эти правила к наставлениям спасителя мира, то
христианин, надлежащим образом стремящийся к совер-
шенству, окажется самым бесполезным существом для
своей родины, для своей семьи и для всех окружающих;
он окажется праздным созерцателем, промышляющим
только о будущей жизни, совершенно отошедшим от
этого мира и его интересов и только и мечтающим о том,
чтобы поскорее покинуть этот мир *.
Послушаем Евсевия Кесарийского и посмотрим, не
является ли христианин безнадежным фанатиком, от ко-
торого общество не может иметь никакой пользы.
Быт христианской церкви, говорит он, превосходит
нашу настоящую природу и обычную жизнь людей. Здесь
не добиваются брака, детей, богатств, этот быт совер-
шенно чужд человеческому образу жизни, мы всецело
отдаемся любви к божественному. Христианин почти
оторван от земной жизни, только тело его еще на земле,
но дух его всецело на небесах, он живет там уже, как
чистые небесные духи; христиане презирают жизнь дру-
гих людей. Действительно... Человек, всей душой уверо-
вавший в истины христианской религии, не может ни к
чему привязаться в этом мире, во всем ему мерещится
только случай к падению или, во всяком случае, нечто,
отклоняющее его от мысли о спасении. Если бы хри-
стиане, к счастью, не были непоследовательны и не отвле-
кались беспрестанно от своих превыспренних фантазий,
не отказывались от своего фанатического совершенства,
то ни одно христианское общество не могло бы сущест-
вовать, и народы, просветленные светом евангелия, вер-
* Тертуллиан говорит: «Нас ничто не интересует в этом мире,
за исключением того, чтоб поскорее уйти от него». Лактанций ука-
зывает, что одной из главных причин распространения христианства
было представление о близком конце мира.
151
нулись бы в первобытное состояние. Повсюду блуждали
бы исступленные существа, не знающие никаких общест-
венных уз, они то и дело молились бы и рыдали в этой
юдоли слез и стремились бы сделать несчастными себя
и других, чтобы заслужить царствие небесное.
Религия, повторяю, правила которой стремятся сде-
лать людей нетерпимыми, государей гонителями, а под-
данных либо рабами, либо мятежниками; религия, тем-
ные догматы которой должны вызывать вечные споры;
религия, принципы которой лишают людей бодрости и
отвращают их от мысли о своих истинных интересах,—
такая религия пагубна для всякого общества.
П. Гольбах. Священная зараза. Разоб-
лаченное христианство. М., 1936, стр.
312-321.
ЗЕРЦАЛО БЕЗБОЖИЯ
(Анонимный трактат конца XVIII в.)
[Фрагмент]
Глава пятая
МИР НЕ ЗАВИСИТ ОТ БОГА
1. Несовершенства не суть
совместны с совершенством, сущность их между собою
противна. Убо что несовершенно, то не может иметь при-
чиною своею бога яко бога. Но мир, нами обитаемый,
сия видимая столица творений, есть несовершенна. Сле-
довательно, несовершенства мира не могут зависеть от
совершенства бога.
Где зло владычествует, где его деяния законом суть,
там несовершенство, там препона ко входу во святилище
благополучия. Мир, сие огромное здание, имеет границы
своего бытия. Конец, понеже мир есть существо,— пре-
пона бытия. Здесь зло метафизическое, здесь несовер-
шенство мира. Не довольно сего: нравственное зло, пре-
следующее деяние человека, играет благополучием мира;
плач, отчаяние сопутствуют деяния порока; болезни, не-
счастия суть дани злодеяний, кратко: всякое несчастие,
колеблющее даже великость духа, есть следствием поро-
ка. Следственно, мир, претерпевающий столь плачевные
следствия, несовершен.
152
2. Ежели бы действия мира зависели от содействия
бога, ежели бы его всемогущество преследовало случай-
ности творений, то бы мир служил единым удовольствием
человеку: он бы был красота, веселие. Но мир не содей-
ствует благоденствию человека. Красоты, совершенства
даже ни малейших следов не усматривается, ибо суета,
печаль, несчастия не суть поводом к доказательству кра-
соты мира, но еще как и баснословие христианства, одо-
бряет мир единою ссылкою — пустынею, изгнанием. Не
довольно сего: ненастья, туманы, порок, наказания, от
естественных причин влекущие свое начало, не сооружа-
ют ли своего здания на безобразия[х]?.. Сие не ложно, мир
только плачевные действия в себе заключает, что едва
стерпимы творениям! — потрясать благоденствие тварей
вместно ли с красотою, т. е. удовольствием тварей?
След[овательно], мир не зависит от бога яко бога.
3. Сие ли только доказывает независимость мира от
бога? Действия, несовершенства мирские, вынаруживают
свою независимость от него. Вражда, несогласие творе-
ниев между собою доказывают или несовершенства бога,
или независимость мира от него. Где истребление друг
друга, где дерзость восставать, поборать права общего
благоденственного конца, там препона к общему благу,
там стремление разорять общее благоденствие. Но в
мире, яко в зерцале, видится сия бедственная роля, в нем
мраз в необыкновенное время делает жертвою своею
плоды земные, град, чрезмерный дождь играют благодей-
ствием растений и пр. Следственно, мир, сей пространный
собор творений, не зависит от бога.
«Избранные произведения русских мыс-
лителей второй половины XVIII века»,
т. II. М., 1952, стр. 541—543.
В. Г. Белинский
ПИСЬМО К ГОГОЛЮ10
[Фрагменты]
Вы только отчасти правы,
увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпи-
тет слишком слаб и нежен для выражения того состоя-
ния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы
вовсе неправы, приписавши это вашим, действительно, не
153
совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта.
Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чув-
ство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало
бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело
заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного
чувства истины, человеческого достоинства; нельзя мол-
чать, когда под покровом религии и защитою кнута про-
поведуют ложь и безнравственность как истину и добро-
детель...
...И в это-то время великий писатель, который своими
дивно художественными, глубоко истинными творениями
так могущественно содействовал самосознанию России,
давший ей возможность взглянуть на самое себя, как
будто в зеркале,— является с книгою, в которой во имя
Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от
крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это
не должно было привести меня в негодование?.. Да если
бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы
я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки...
И после этого вы хотите, чтобы верили искренности на-
правления вашей книги! Нет, если бы вы действительно
преисполнились истиною христовою, а не дьяволова уче-
ния — совсем не то написали бы в вашей новой книге.
Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне —
его братья во Христе, а как брат не может быть рабом
своего брата, то он и должен или дать им свободу или
хотя по крайней мере пользоваться их трудами как мож-
но выгоднее для них, сознавая себя, в глубине своей сове-
сти, в ложном положении в отношении к ним.
А выражение: «Ах ты, неумытое рыло!» Да у какого
Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, что-
бы передать миру, как великое открытие в пользу и нази-
дание мужиков, которые и без того потому не умываются,
что, поверив своим барам, сами себя не считают за лю-
дей? А ваше понятие о национальном русском суде и рас-
праве, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что
должно пороть и правого и виноватого. Да, это и так у
нас делается вчастую, хотя еще чаще всего порют только
правого, если ему нечем откупиться от преступления, и
другая поговорка говорит тогда: Без вины виноват!
И такая-то книга могла быть результатом трудного внут-
реннего процесса, высокого духовного просветления! Не
может быть! Или вы больны — и вам надо спешить ле-
читься, или... не смею досказать моей мысли!.,
154
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник
обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нра-
вов— что вы делаете! Взгляните себе под ноги,— ведь
вы стоите над бездною... <...> Неужели вы, автор «Ре-
визора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от
души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, по-
ставив его неизмеримо выше духовенства католического?
Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то,
между тем как первое никогда ничем не было, кроме как
слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом
деле вы не знаете, что наше духовенство находится во
всеобщем презрении у русского общества и русского на-
рода? Про кого русский народ рассказывает пахабную
сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работ-
ника. Кого русский народ называет: дурья порода, брю-
хаты жеребцы? Попов... Не есть ли поп на Руси для всех
русских представитель обжорства, скупости, низкопо-
клонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не
знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый рели-
гиозный в мире: ложь! Основы религиозности есть пиэ-
тизм, благоговение, страх божий. А русский человек про-
износит имя божие, почесывая себя кое-где. Он говорит
об образе: годится — молиться, а не годится — горшки
покрывать.
Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по
натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много
суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие прохо-
дит с успехами цивилизации, но религиозность часто ужи-
вается и с ними: живой пример Франция, где и теперь
много искренних католиков между людьми просвещен-
ными и образованными и где многие, отложившись от
христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога.
Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в
его натуре, у него слишком много для этого здравого
смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-
то, может быть, огромность исторических судеб его в бу-
дущем. Религиозность не привилась в нем даже к духо-
венству, ибо несколько отдельных исключительных лич-
ностей, отличавшихся такою холодною аскетическою со-
зерцательностью, ничего не доказывают. Большинство
же нашего духовенства всегда отличалось только тол-
стыми брюхами, схоластическим педантством да диким
невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпи-
мости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образ-
155
цовый индифферентизм в деле веры. Религиозность про-
явилась у нас только в раскольнических сектах, столь
противоположных по духу своему массе народа и столь
ничтожных перед нею числительно.
Не буду распространяться о вашем дифирамбе лю-
бовной связи русского народа с его владыками. Скажу
прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочув-
ствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отно-
шениях очень близких к вам по их направлению. Что ка-
сается до меня лично, предоставляю вашей совести упи-
ваться созерцанием божественной красоты самодержавия
(оно покойно, да — и выгодно), только продолжайте бла-
горазумно созерцать его из вашего прекрасного далека:
вблизи-то оно не так красиво и не так безопасно... За-
мечу только одно: когда европейцем, особенно католи-
ком, овладеет религиозный дух, он делается обличителем
неправой власти, подобно еврейским пророкам, обли-
чавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот:
постигает человека (даже порядочного) болезнь, извест-
ная у врачей психиатров под именем Religiosa mania *,
он тотчас же земному богу подкурит более, нежели не-
бесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел
бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим
скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия
наш брат, русский человек!..
Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете
за великую и неоспоримую истину, будто простому наро-
ду грамота не только не полезна, но положительно вред-
на. Что сказать вам на это? Да прости вас ваш визан-
тийский бог за эту византийскую мысль, если только,
передавши ее бумаге, вы не знали, что говорили. Но мо-
жет быть, вы скажете: «Положим, что я заблуждался, и
все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня
право заблуждаться и не хотят верить искренности моих
заблуждений?» Потому, отвечаю я вам, что подобное
направление в России давно уже не новость. Даже еще
недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею.
Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя
и того и другого не очень богато в ней), чем в их сочине-
ниях, но зато они развили общее им с вами учение с
большей энергией и с большей последовательностью,
смело дошли до его последних результатов, все отдали
Религиозная мания.— Ред.
156
византийскому богу, ничего не оставили сатане, тогда как
вы, желая поставить по свече и тому и другому, впали в
противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литера-
туру и театры, которые, с вашей точки зрения, если бы
вы только имели добросовестность быть последователь-
ным, нисколько не могут служить к спасению души, но
много могут служить к ее погибели... Чья же голова мог-
ла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурач-
ком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении
русской публики, чтобы она могла верить в вас искрен-
ности подобных убеждений. Что кажется естественным
в глупцах, то не может казаться таким в гениальном че-
ловеке. Некоторые остановились было на мысли, что
ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого
к положительному сумасшествию. Но они скоро отступи-
лись от такого заключения,— ясно, что книга писана не
день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или
три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение про-
глядывает обдуманность, а гимн властям предержащим
хорошо устраивает земное положение набожного автора.
Вот почему в Петербурге распространился слух, будто
вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к
сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось
известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с
огорчением, что вашим сочинениям о России дают пре-
вратный толк, затем обнаруживаете недовольствие свои-
ми прежними произведениями и объявляете, что только
тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда
ими будет доволен царь. Теперь судите сами, можно ли
удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах
публики как писателя и еще более как человека?
Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете
русскую публику. Ее характер определяется положением
русского общества, в котором кипят и рвутся наружу
свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя
исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только
в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть
еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писате-
ля у нас так почтенно, почему у нас так легок литератур-
ный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта,
звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эпо-
лет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в осо-
бенности награждается общим вниманием всякое так на-
зываемое либеральное направление, даже при бедности
157
таланта, и почему так скоро падает популярность вели-
ких талантов, искренно или неискренно отдающих себя
в услужение православию, самодержавию и народности...
И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что
ваша книга пала не от ее дурного направления, а от рез-
кости истин, будто бы высказанных вами всем и каж-
дому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии,
но публика-то как могла попасть в эту категорию? Не-
ужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко,
с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды
высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась
на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от
того не пали, тогда как ваша последняя книга позорно
провалилась сквозь землю. И публика тут права: она
видит в русских писателях своих единственных вождей,
защитников и спасителей от русского самодержавия,
православия и народности и потому, всегда готовая про-
стить писателю плохую книгу, никогда не простит ему
зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в на-
шем обществе, хотя еще в зародыше, свежего здорового
чутья, и это же показывает, что у него есть будущность.
Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною
падению вашей книги!..
В. Г. Белинский. Собрание сочинений в
трех томах, т. III. M., 1948, стр. 707,
708-713.
Н. А. Добролюбов
«НЕПОСТИЖИМАЯ СТРАННОСТЬ»11
(Из неаполитанской истории)
[«Ах, какой реприманд неожиданный!»
«Ревизор».]
Все благомыслящие люди в
Европе посвящают теперь свои досуги справедливому
изумлению — как это так неаполитанский народ порешил
[с бурбонской династией]?! Не то удивительно, что вос-
стание произошло: в королевстве Обеих Сицилий восста-
ния нипочем... Все [подобные шалости] оканчивались
обыкновенно, [ ко всеобщему удовольствию,] домашним
образом, и законное правительство нимало оттого не
страдало. Поэтому и в нынешнем году, когда началось
восстание в Сицилии 12, благомыслящие люди над ним
158
смеялись; когда Гарибальди 13 явился в Палермо, над его
дерзостью тоже подсмеивались. Когда Сицилия была
очищена от королевских войск и Гарибальди готовился
перенести войну на материк Италии, легитимисты поти-
рали руки, приговаривая не без язвительности: «Мило-
сти просим! вот теперь-то мы и посмотрим вашу храб-
рость, благородный кондотьери!» Даже когда он появил-
ся в Калабрии, и тут благоразумные люди хотели выра-
зить полное пренебрежение к его предприятию, но, к
сожалению — не успели: Гарибальди так быстро добрал-
ся до Неаполя, что за ним не поспело даже перо Алек-
сандра Дюма 14, бесспорно величайшего борзописца на-
шего времени.
...Что за странность такая, что неаполитанский народ
обманул самые справедливые надежды всех благомысля-
щих людей? Где объяснение этой странности?.. <...>
...Католическая церковь всегда была поборницею [ав-
торитетов всякого рода] против стремлений кичливого
разума человеческого, всегда укрощала гордые страсти
и поощряла терпение и смирение. Очевидно, что религи-
озные влияния в Неаполе должны были всегда действо-
вать самым благоприятным образом для сохранения по-
рядка [и покорности Бурбонам].
...Другие уверяют, что сущность христианства вовсе
непонятна для масс и даже для многих из самих духов-
ных лиц. Так, например, у г. Верна находим уверения и
факты, доказывающие, что «[самая отвратительная] без-
нравственность легко уживается у неаполитанского про-
стонародья с величайшею набожностью». В Калабрии и
Абруццах беспрерывно происходят грабежи, но часть
награбленного всегда идет на дела церковные, на укра-
шение икон, статуй и т. п. [«Это очень милый способ пре-
клонять небо на милость, делая его своим сообщни-
ком!»— восклицает остроумный турист]. Само духовен-
ство хлопочет только о том, чтобы народ больше делал
приношений на церковь, больше крестился и клал покло-
ны перед образами, а затем — духовное возвышение на-
рода нимало не интересует его пастырей. Священники и
монахи [торгуют исповедью, проповедью, мессами: так,
они] не дают без денег разрешения на брак, требуют пла-
ты за позволение есть скоромное в постные дни, продают
четки [и частички мощей], молитвы за умерших, находя-
щихся в чистилище, [торгуют мессами,] собирая деньги с
сотни персон, заказывающих службу, и отправляя ее для
159
всех заодно. Наконец, они придумывают явления [и чуде-
са], чтобы привлечь в свои церкви больше народа и, следо-
вательно, больше приношений. [Так, например, тотчас
после последнего землетрясения в Неаполе публикова-
лось avviso sacro *, утверждавшее, что город спасен от
конечной гибели единственно чудесным заступлением
святого Эмидио, и, вследствие того, приглашавшее народ
устремиться в церковь его, для принесения ему благодар-
ности. Священники собора св. Дженнаро обиделись за
своего святого и весьма энергически объявили, что, на-
против, дело спасения города принадлежит вовсе не Эми-
дио и никому другому, а святому Дженнаро, который
всегда был особенно популярен в Неаполе. Подобного
рода разногласие между членами духовенства произошло
по поводу вопроса о новом догмате беспорочного зачатия
св. девы. Скоттисты, поддерживавшие догмат, опирались,
между прочим, на откровение св. Бригитты, которая
почти положительно решала вопрос в их пользу. Но, к
несчастию, св. Катерина, по уверению томистов, объявила
совершенно противное! Подобные разногласия, разумеет-
ся, не обходятся без маленького скандала, о котором
г. Берн довольно лукаво сожалеет. Вообще же он нахо-
дит, что у неаполитанцев «живая вера Христова и истин-
ное религиозное чувство превратились в жалкий фети-
шизм».] <...>
...Мы не имеем особенного интереса защищать като-
лическое духовенство бывших неаполитанских владений;
мы не решаемся на это тем более, что в недостатках его
сознаются сами его защитники. Так, например, виконт
Лемерсье соглашается, что «духовенство неаполитанское
далеко не так безукоризненно, как французское; количе-
ство его, слишком значительное в сравнении с народона-
селением, заставляет его более, чем нужно, соприкасать-
ся с течением дел житейских; они входят в семейства
более в качестве знакомых, нежели духовных отцов. Ува-
жение к их священному званию ничуть не страдает от
этого, но самая личность уже не внушает духовного бла-
гоговения. У народа менее религиозного такие отношения
скоро породили бы ссоры [и даже скандалы]; но у неапо-
литанцев, не вредя нимало [их] вере[, они только умень-
шают престиж священнической рясы]». Впрочем, благо-
родный виконт кончает тем, что [все это — пустяки, и что]
* Священное уведомление (итал.).— Ред.
160
«никаким образом не должно верить басням относитель-
но клира, вымышленным людьми, которые желали бы
уменьшить спасительное влияние духовенства на массы».
Вот [это-то нам и нужно,] это [для нас] и главное. [Пусть]
духовенство [будет и грубо, небезукоризненно в своем по-
ведении и необразованно; мы спорить не станем. Но оно]
имеет огромное влияние на массы — вот факт, которого
никто не отрицает... Ясно, что если даже не нравствен-
ным влиянием, то одним своим присутствием духовен-
ство должно составлять в Неаполе значительную силу.
Но и влияние его велико; об этом свидетельствуют нам
всего лучше люди, враждебные к нему. Так, г. Теодор
Верн пишет: «Если законы в Неаполе вообще мало ока-
зывают влияния на нравы, зато совершенно противное
надо сказать о религии, действующей различными сред-
ствами и на личность, и на семейство, и на целое обще-
ство. Дух католический и клерикальный здесь господст-
вует и управляет, и [на нем-то лежит почти вся ответст-
венность за] настоящее положение вещей. Он в течение
веков упорно работал над тем, чтобы понизить нравст-
венный и умственный уровень народного характера. [Те-
перь он отказался, правда, от ужасных мер средних ве-
ков: он не убивает тела, но зато вынимает из него душу».]
Мы знаем, что значат эти выражения в устах Верна,
и из его слов мы делаем простое заключение, что влия-
ние клира в Неаполе — огромно и что оно всегда было
направлено к тому, чтобы смирить кичливое недоволь-
ство, успокоить страсти и внушить народу послушание и
самоотвержение. Этого было бы довольно нам для вы-
вода, что церковь в Неаполе [всегда была помощницею]
законной власти [Бурбонов, а никак] не возбуждала на-
род к волнениям и недовольству.
...Консерватизм религиозный неразлучно связывался
с консерватизмом политическим.
Теперь перейдем к другой силе — воспитанию. Мы
знаем, что идеи, внушаемые в первые годы ученья, очень
глубоко западают в душу и что от направления общест-
венного воспитания в данный период много зависит поли-
тическое состояние народа и государства, иногда в целом
ряде поколений. В Неаполе и эта сторона представляется
нам в самом удовлетворительном виде. Несколькими
строками выше из свидетельства г. Гондона мы узнали,
что воспитание всех классов общества в Неаполе вверено
было иезуитам. Этого уже довольно, чтобы не подозре-
161
вать в неаполитанском воспитании даже и тени какого-
нибудь либерализма. Стоит вспомнить нападки на иезуи-
тов, хоть, например, во Франции в 1844 и 1845 годах.
Тогда гг. Мишле и Кине читали публичные лекции о зло-
вредности иезуитов, и вся сущность обвинений, направ-
ленных этими либералами против почтенного ордена,
состояла в том, что «иезуиты задерживают дело свобо-
ды, иезуиты препятствуют успеху новых идей, иезуиты
составляют контрреволюцию». Понятно, следовательно, в
каком направлении должно было совершаться, под их
руководством, воспитание неаполитанского народа! Не-
даром Гарибальди, как только овладел королевством, так
и выгнал их — и из Сицилии, и из Неаполя — и даже кон-
фисковал их именья. Понятно, что для революционеров
это были самые опасные люди.
Чтоб не останавливаться на простых соображениях
a priori, мы, однако, и здесь приведем несколько свиде-
тельств и фактов. Вот слова Монтанелли, из которых
видно, что действие воспитания систематически было на-
правляемо к целям, сообразным с волею правительства,
и что в этом случае само духовенство, при всем просторе
своих действий, было подвержено строгому контролю.
Независимо от своих прямых средств, которыми католическое
духовенство сопровождает человека от колыбели до могилы, оно
владело в Неаполе еще средствами особыми, данными ему прямо от
правительства, и между прочим — неограниченной властью в деле на-
родного образования. Из четырех университетов,— в Неаполе, Па-
лермо, Мессине и Катане,— только в одном последнем начальник не
был духовный. Во всех местностях, где были заведены школы, уч-
реждался комитет из четырех священников и полицейского комис-
сара для наблюдения за воспитанниками. Комитет этот давал позво-
ление вступить в школу только тем, которые предварительно припи-
сывались к какому-нибудь религиозному обществу. Лицеи, семина-
рии, коллегиумы и все вообще учебные заведения были в руках иезу-
итов. В Неаполитанском королевстве считалось (в начале царствова-
ния Фердинанда) более 60 тысяч духовных, в том числе 30 тысяч
монахов. Правительство заботилось, чтобы начальники этой армии —
архиепископы, епископы, приходские священники, настоятели мона-
стырей, игумны — избираемы были из самых раболепных и низких,
для того чтоб всякий священник или монах, сохранивший под полу-
кафтаньем или клобуком чувство гражданина (а в таких тоже не
было недостатка у неаполитанской демократии), были подвержены
строгой инквизиции в своей же касте *.
Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений
в трех томах, т. 3. М., 1952, стр. 221—
222, 223, 241—242, 244, 245—247, 248—249.
* Montanelli. Memoires sur 1'Italie. Paris, 1857, t. II, p. 80.
162
А. И. Герцен
ИСКОПАЕМЫЙ ЕПИСКОП,
ДОПОТОПНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
И ОБМАНУТЫЙ НАРОД *
Шесть часов до своей кон-
чины, в декабре 1846, воронежский архиерей Антоний
вспомнил, что за шестьдесят лет умер его предшествен-
ник Тихон, и «вменил себе в священный долг, по особому
внушению, засвидетельствовать архиерейской совестью
пред Николаем Павловичем о сладостном и претрепет-
ном желании, да явлен будет пред очию всех сей све-
тильник веры и добрых дел, лежащий теперь под спу-
дом»15.
Затем все сделали свое дело: Антоний умер, Николай
не обратил никакого внимания на предсмертный бред
монаха,— он же полагал, что Митрофаном отделался
навсегда от мощей и воронежской епархии; покойник
продолжал покоиться под спудом.
Настали другие времена—времена прогрессов, осво-
бождений и обличений. Шесть лет после воцарения
Александра II и в шестой (кажется) день святительства
адмирала Путятина 16, корчемствующего судно светского
просвещения к брегам вечной и нетленной Японии, синод
и государь, Бажанов и государыня нашли благовремен-
ным приступить к необходимым распоряжениям для
обличения нетленности тела святителя Тихона. Эта пале-
онтологическая работа была поручена Исидору киевско-
му (ныне петербургскому), какому-то Паисию и другим
экспертам. Думать надобно, что известный читателям
«Колокола» крепостник и во Христе сапер Игнатий 17 за-
ведовал земляными работами. Следствие вполне уда-
лось, и ископаемый епископ, «во благоухании святыни
почивший», пожалован государем в святые, а тело его, за
примерное нетление, произведено в мощи, с присвоением
всех прав состояния, т. е. пользование серебряной ракой,
лампадой, восковыми свечами и главное—кружкой для
сбора, коею иноцы будут руководствоваться по особому
* Событие это, представление синода и указ до такой степени
пошлы, нелепы, что ритор, защитник, хвалитель Зимнего дворца,
«Le Nord», не нашел духу передать своим европейским читателям
такую глупость.— Прим. А. И. Герцена.
163
внушению божию и по крайнему разумению человече-
скому.
Мы останавливаемся перед этой нелепостью и спра-
шиваем: для чего эта роскошь изуверства и невежества,
эта невоздержанность идолопоклонства и лицемерия?
Может, инок Тихон был честный, почтенный человек,
но зачем же эта синодальная комедия, не сообразная с
нашими понятиями, зачем же тело его употреблять, как
аптеку, на лекарство? Ведь в врачебные свойства Тихо-
на, несмотря на «сорок восемь обследованных чудес» *,
никто не верит, ни Исидор,— прежде киевский, а теперь
петербургский,— ни Паисий, ни Аскоченский, ни Путя-
тин, ни камилавки, ни ленты через плечо.
Да это и не для них делается,— а ими!
Чудесам поверит своей детской душой крестьянин, бед-
ный, обобранный дворянством, обворованный чиновни-
чеством, обманутый освобождением, усталый от безвы-
ходной работы, от безвыходной нищеты,— он поверит.
Он слишком задавлен, слишком несчастен, чтоб не быть
суеверным. Не зная, куда склонить голову в тяжелые ми-
нуты, в минуты человеческого стремления к покою, к на-
дежде, окруженный стаей хищных врагов, он придет с го-
рячей слезой к немой раке, к немому телу,— и этим те-
лом, и этой ракой его обманут, его утешат, чтоб он не по-
пал на иные утешения. И вы, развратители, ограбивши
несчастного до рубища, не стыдитесь употреблять эти
средства? Вы хотите сделать его духовным нищим, ду-
ховным слепцом, подталкивая его в тьму изуверства,—
какие вы все черные люди, какие вы все злодеи народа!
А тут толкуют о старообрядцах, о раскольниках, об их
изуверстве, об их обманах, пишут побасенки в клевету и
уничижение гонимых, которые не могут ответ держать.
Нет, ваша полицейская церковь не выше их образовани-
ем, она только ниже их жизнию. Их убогие священники,
их иноки делили все страдания народа — но не делили
награбленной добычи. Не они помазывали миром петер-
бургских царей, не они проповедовали покорность поме-
щикам, не они кропили войска, благословляя на непра-
вые победы; они не стояли в подлом уничижении в перед-
ней бироновских немцев, они не совокупляли насильст-
венным браком крепостных, они не загоняли народ в
* Кто делал следствие, как? Хоть бы достать восемь,— ужасно
интересно было бы для характеристики наших шаманов.— Прим.
А. И. Герцена.
164
свою молельню розгой капитан-исправника, их пеших
иерархов не награждали цари кавалериями!
...О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик
и страдалец земли русской! до тебя, которого та Русь,
Русь лакеев и швейцаров, презирает, которого ливрея
зовет черным народом и, издеваясь над твоей одеждой,
снимает с тебя кушак, как прежде снимала твою боро-
ду,— если б до тебя дошел мой голос, как я научил бы
тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных
над тобой петербургским синодом и немецким царем.
Ты их не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен
их евангельским словом — пора их вывести на свежую
воду!
Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего,
боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя
и в архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его
ты видишь теперь — ты, отец убитого юноши в Бездне,
ты, сын убитого отца в Пензе. Он облыжным освобожде-
нием сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения
послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов,
пули и розги.
А пастыри-то твои в стороне, по своим Вифаниям да
Халкидонам. Вот оттуда-то мы и желали бы «претрепет-
но» явить перед очию всех добрые дела духовных све-
тильников твоих.
После вековых страданий,— страданий, превзошед-
ших всю меру человеческого долготерпения, занялась за-
ря крестьянской свободы. Путаясь перевязанными нога-
ми, ринулась вперед, насколько веревка позволяла, наша
литература; нашлись помещики, нашлись чиновники, от-
давшиеся всем телом и духом великому делу; тысячи
и тысячи людей ожидали с трепетом сердца появления
указа; нашлись люди, которые, как М. П. Погодин, при-
несли наибольшую жертву, которую человек может при-
нести,— пожертвовали здравым смыслом и до того об-
радовались манифесту, что стали писать детский бред.
Ну, а что сделала в продолжение этого времени всех-
скорбящая, сердобольная заступница наша, новообряд-
ческая церковь наша со своими иерархи? С невозмуща-
емым покоем ела она свою семгу, грузди, вязигу; она
выказала каменное равнодушие к народному делу, то
возмутительное, преступное бездушие, с которым она два
века смотрела из-под клобуков своих, перебирая четки,
на злодейства помещиков, на насилия, на прелюбодея-
165
ния их, на их убийства... не найдя в пустой душе своей
ни одного слова негодования, ни одного слова про-
клятья!
Европа встрепенулась; в Англии, во Франции чужие
приветствовали начало освобождения, показали участие.
Укажите мне слово, письмо, проповедь, речь — Филарета,
Исидора, Антония, Макридия, Мельхиседека, Агафаток-
ла? Где молитва благодарности, где радостный привет
народу, заступничество за него перед остервенелым дво-
рянством, совет царю? Ничего подобного — то же афон-
ское молчание, семга, вязига, похороны, освящение хра-
ма, купеческие кулебяки да вино,— благо гроздия вино-
лозы постные суть. А тут, лет через двадцать пять, «пре-
трепетное желание», и они выставят «во благоухании
почившего» какого-нибудь Трифона или Тихона с кру-
жечкой для благодатных дателей! Что у вас общего с на-
родом? Да что у вас общего с людьми вообще? С наро-
дом — разве борода, которой вы его обманываете. Вы не
на шутку ангельского чина, в вас нет ничего человече-
ского *.
Новообрядческая церковь отделалась, на первый слу-
чай, острым словцом московского Филарета 18; в одной
из своих привратных речей, которыми он мешает своим
помазанникам входить в Успенский собор, он отпустил
цветословие о том, что другие властители покоряют на-
роды пленением, а ты, мол, «покоряешь освобождением».
Говорили, правда, речи архиереи после объявления
манифеста, и то по губернаторскому наряду, т. е. так же
добровольно являлись они за налоем, как жандармы яв-
ляются к разъездам. Да и что же замечательного было
ими высказано?
Медаль перевернулась скоро. Михаил Петрович еще
бредил и не входил в себя от радости, а уж из обнажен-
ной и многострадальной груди России сочилась кровь из
десяти ран, нанесенных русскими руками, и согбенная
спина старика крестьянина и несложившаяся спина кре-
стьянина-отрока покрывались свежими рубцами, темно-
синими - рубцами освобождения.
* Мы говорим о высшем духовенстве; вероятно, из священников
нашлись многие, сочувствовавшие народу. Мы помним, сверх того,
молодого архимандрита Казанской академии Иоанна, поместившего
в январской книжке 1859 «Православного собеседника» слово об
освобождении; но статья его тотчас вызвала дикий и уродливый от-
вет во Христе сапера.— Прим. А. И. Герцена.
166
Крестьяне не поняли, что освобождение — обман, они
поверили слову царскому — царь велел их убивать, как
собак; дела кровавые, гнусные совершились.
Что же, кто-нибудь из иерархов, из кавалерственных
архиереев пошел к народу объяснить, растолковать, ус-
покоить, посетовать с ним? Или бросился кто из них, как
в 1848 католический архиерей Афр, перед одичалыми оп-
ричниками, заслоняя крестом, мощами Тихона, своей
грудью неповинного крестьянина, поверившего в просто-
те души царскому слову? Был ли хоть один? Кто? Где? —
Назовите, чтоб я в прахе у него попросил прощения...
Я жду!
А покамест еще раз скажу народу: нет, это не твои
пастыри; под платьями, которые ты привык уважать по
преданию, скрыты клевреты враждебного правительства,
такие же генералы, такие же помещики, их зачерствелое,
постное сердце не болеет о тебе. Твои пастыри — темные,
как ты, бедные, как ты; они говорят твоим языком, ве-
рят твоим упованьям и плачут твоими слезами. Таков
был пострадавший за тебя в Казани иной Антоний; муче-
нической, святой кровью запечатлел он свое болезное
родство с тобою. Он верил в волю вольную, в волю истин-
ную для русского земледельца — и, поднявши над голо-
вою ложную грамоту, пал за тебя.
Об открытии его мощей не попросит за шесть часов ни
один архиерей, и не дозволит ни один петербургский
царь. Да оно и не нужно — он принадлежит к твоим свя-
тителям, а не к их. Тела твоих святителей не сделают со-
рока восьми чудес, молитва к ним не вылечит от зубной
боли; но живая память об них может совершить одно
чудо — твое освобождение *.
А. И. Герцен. Сочинения в девяти то-
мах, т. 7. М., 1958, стр. 377—382
* Недавно нам рассказывали случай, бывший года полтора тому
назад в Хвалынске. Полицейский поп, сговорившись с каким-то чи-
новником, напали на старообрядческого священника Осипа Федоро-
вича Андреева, ехавшего с женой и детьми и снабженного паспор-
том, выданным из самарской конторы. Поп и исправник разбили
ящики с кладью, отобрали паспорт и Андреева отправили скован-
ного сначала к исправнику Середе, а потом в острог. Спустя девять
месяцев тот же очевидец этого духовно-земского разбоя снова про-
езжал по Хвалынску и, вспомнив историю, спросил о священнике
Андрееве и узнал следующее: жену и детей к нему не допускали
целые полгода. Жена ездила в Саратов; там ее обругал и прогнал
протопоп Поляковский и грозил ее самое посадить в тюрьму. Несча-
стная женщина, разоренная, без всякой помощи, написала письмо
167
А. И. Герцен
PROLEGOMENA*
[Фрагмент]
Христианский мир, со своей
стороны, пережил многочисленные кризисы и многочис-
ленные преобразования, видоизменения, однако ни одно-
го радикального. Возрождение, Реформация не порывают
с церковью, они упрощают ее, очеловечивают, украшают
и поклоняются ей в новом издании. Даже революция
представляет собой секуляризацию христианства и ка-
нонизацию древнего мира. Она является христианской и
римской по своему духу, безжалостно принося личность
в жертву «salus populi», Молоху государства, республи-
ки — подобно тому как церковь приносила в жертву жи-
вого человека во имя «спасения души, славы божией».
Ведя борьбу, Реформация и Революция сделали колос-
сальный шаг вперед и затронули принципы совершенно
справедливые, но неосуществимые при данном состоянии
государства. Краеугольные камни, глыбы старых стен,
принесенные ими в их новый град, стесняли каждый шаг.
Они теряли всю свою энергию в неразрешимых проти-
воречиях, в безысходной борьбе.
Права юридического лица.
Права человека.
Права разума.
Свобода, Равенство, Братство.
Радуга, преисполненная обещаний, обоими концами
касающаяся земли, не пуская в нее корней.
Неприкосновенность личности вступала в столкнове-
ние с безоговорочным покровительством, которое госу-
дарство оказывало собственности. Право человека стал-
кивалось с римским правом. Право разума отрицалось
вооруженной религией. И так далее. Свобода была несов-
местима с сильным государством, с государственной цер-
ковью и государственной же армией. Не существует ра-
государю. Государь не отвечал — он сам принадлежит к церкви
исправника и попа!
В Орловской губернии — пишут нам — многие попы до тех пор
отказывались от чтения манифеста об освобождении, пока крестьяне
не делали складчину, ими самими назначенную.— Прим. А. И. Гер-
цена.
* Предисловие.— Ред.
168
венства при неравенстве развития, между верхами, зали-
тыми светом, и массами, погруженными во мрак. Нет
братства между хозяином, который пользуется и злоупот-
ребляет своим правом имущего, и работником, который
используется и подвергается злоупотреблениям потому,
что он неимущий. Кто же тот гений, который сумел бы
объединить в одной гармоничной формуле, разрешить по-
средством одного уравнения, выразить понятным обра-
зом связь и взаимодействие великих противоречивых сил,
разнородных факторов, взаимнораздираемых и в то же
время продолжающих оставаться основами современно-
го общества? Есть ли что-нибудь общее между юриспру-
денцией и экономической наукой, между судилищем и
статистикой? Могут ли они сколько-нибудь сносно сосу-
ществовать? Вы чувствуете это, вы знаете это, и потому-
то вы совершаете грех против разума. Вы находитесь в
положении человека, который занес ногу, чтобы перейти
границу, но, охваченный приступом тоски по родине, за-
стывает в этой плачевной позе.
Никто не принуждает вас покидать свое отечество, но
тогда уж надобно спокойно оставаться у родительского
очага и сбросить с себя одежду странствующего револю-
ционера. Совмещение консерватизма и революционности
начинает возмущать. Вас мучают угрызения совести, и,
чтобы оправдаться в собственных глазах, вы повторяете
старую песню об опасностях, угрожающих нравственно-
сти, порядку, семье, в особенности религии. А у вас-то
самих ее нет, если не считать худосочного деизма, бес-
сильного и бесплодного. Религия в вашем представле-
нии— это только крепкая узда для масс, самое страшное
пугало для простаков, высокая ширма, которая мешает
народу ясно видеть то, что происходит на земле, застав-
ляя его возводить взор к небесам.
Нравственность, семья. Какая нравственность? Нрав-
ственность порядка, существующего порядка, нравствен-
ность почитания властей и собственности, все осталь-
ное— фиоритуры, орнаменты, декорации, сентимента-
лизм и риторика.
И когда ж это революция была безнравственной? Ре-
волюция всегда сурова, доблестна по обязанности, чиста
по необходимости; она всегда — самопожертвование, ибо
она всегда — опасность, гибель личностей во имя всеоб-
щего. Разве были безнравственны первые христиане?
или гугеноты, или пуритане, или якобинцы? Вот воору-
169
женные заговоры, государственные перевороты — те и
вправду не слишком-то непорочны, но ведь это ретрово-
люции. Что же касается религии, то революция в ней не
нуждается, она сама — религия.
А. И. Герцен. Собрание сочинений в
тридцати томах, т. XX, книга первая.
М., 1960, стр. 59-60.
П. Лафарг
Из работы
«РЕЛИГИЯ КАПИТАЛА»
4. ЭККЛЕЗИАСТ, ИЛИ КНИГА КАПИТАЛИСТА
д) ULTIMA VERBA*
1. Я — Капитал, властелин Вселенной.
2. Я шествую в сопровождении лжи, зависти, скупо-
сти, клеветы и убийства. Я несу с собой семейные раздо-
ры и гражданские войны. Повсюду, где я прохожу, я сею
ненависть, отчаяние, нищету, болезни и смерть.
3. Я — бог неумолимый. Меня радуют раздоры и
страдания. Я мучаю наемных рабочих и не щажу капи-
талистов, избранников моих.
4. Наемный рабочий не может ускользнуть из моих
рук. Если, пытаясь скрыться от меня, он уходит за горы,
он находит меня по ту сторону гор; если он переплывает
моря, я встречаю его на том берегу, на котором он вы-
саживается. Наемный рабочий — мой пленник, и земля —
его тюрьма.
5. Я награждаю капиталистов благополучием тяже-
лым, бессмысленным, отягченным болезнями. Я физиче-
ски и умственно кастрирую моих избранников, в тупости
и бессилии вырождаются они.
6. Я осыпаю капиталистов всем, что только можно по-
желать,— и я лишаю их всяких желаний. Я уставляю их
столы аппетитными яствами — и я лишаю их аппетита.
Я украшаю их ложе молодыми, искусными в ласках жен-
щинами— и я притупляю их чувства. Вся Вселенная
представляется им утомительной, пошлой и скучной,—
* Последние слова.
170
они зевают всю свою жизнь, вопиют о ничтожестве мира,
и мысль о смерти приводит их в содрогание.
7. Когда мне заблагорассудится, по совершенно не-
понятным для человеческого разума причинам, я наказы-
ваю моих избранников, ввергаю их в нищету, ад наемных
рабочих.
8. Капиталисты — это мои орудия. Я ими пользуюсь,
как кнутом из тысячи ремней, чтобы стегать тупоголовое
стадо наемных рабочих. Я возвожу своих избранников на
высшую ступень общества — и я их презираю.
9. Я — бог, ведущий людей и поражающий их разум.
10. Поэт древности предсказал эру капитализма; он
сказал: «В настоящее время добро смешано со злом, но
придет день, когда не будет ни семейных уз, ни справед-
ливости, ни добродетели, Аид и Немизида вновь возне-
сутся на небеса — и со злом уже нельзя будет бороть-
ся» *. Времена возвещенные пришли: подобно морским
чудовищам, подобно хищным лесным зверям, люди в не-
истовстве пожирают друг друга.
11. Я потешаюсь над человеческой мудростью.
«Трудись — и голод бежит от тебя, трудись — и жит-
ницы твои наполнятся запасами» — так гласила древ-
няя мудрость.
А я говорю:
«Работай — и пост и нищета будут твоими верными
спутниками; трудись — и в ломбарде опустошишь ты дом
свой».
12. Я — бог, низвергающий царства. Под мое уравни-
вающее всех иго я склоняю надменных. В порошок пере-
малываю я дерзкую и эгоистическую человеческую ин-
дивидуальность. Я подготовляю тупое человечество для
грядущего равенства. Я соединяю наемного рабочего и
капиталиста и впрягаю их в дело строительства комму-
нистической формы будущего общества.
13. Люди согнали с небес Браму, Юпитера, Иегову,
Иисуса, Аллаха; я же кончу самоубийством.
14. Когда коммунизм станет законом общества, цар-
ству Капитала— этого бога, воплощающего поколения
прошлого и настоящего,— наступит конец. Капитал не
будет больше властвовать над миром: он будет в пови-
новении у трудящихся, которых он ненавидит. Человек не
* Это предвещание капиталистических времен, более правдивое,
чем предсказание пророков, возвещавшие пришествие Иисуса, на-
ходится в «Трудах и днях» Гесиода.
171
будет больше преклоняться пред творением своего мозга
и своих рук. Он встанет на ноги и будет взирать на при-
роду как ее властелин.
15. Капитал будет последним богом.
П. Лафарг. Религия и капитал. М., 1937,
Стр. 199—201.
В. В. Боровский
ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА
К АРХИПАСТЫРЯМ И ПАСТЫРЯМ
ЦЕРКВИ РОССИЙСКОЙ
Смиренный Тихон, патриарх
Московский и всея Руси, обратился с воззванием к пра-
вославному духовенству на текст послания апостола
Павла к римлянам: «Молю вы, братие, блюдитеся от тво-
рящих распри и раздоры... и уклоняйтесь от них» (Рим.
16: 17).
«Многократно с церковной кафедры обращались мы
к верующим со словом пастырского назидания о прекра-
щении распрей и раздоров, породивших на Руси крова-
вую междоусобную брань»,— пишет патриарх. Жестоко-
сти гражданской войны производят, по его словам, гнету-
щее впечатление на сердце каждого христианина, особен-
но если жертвою их становятся «неповинные люди, не
причастные к этой страстной политической борьбе».
Гражданская война не прошла также мимо служи-
телей православной церкви, и «много уже и архипасты-
рей, и пастырей, и просто клириков» сделалось ее жерт-
вами. «И все это,— продолжает Тихон,— за весьма, быть
может, немногими исключениями, только потому, что мы,
служители и глашатаи Христовой истины, подпали под
подозрение у носителей современной власти в скрытой
контрреволюции, направленной якобы к ниспровержению
советского строя. Но мы с решительностью заявляем, что
такие подозрения несправедливы; установление той или
иной формы правления — не дело церкви, а самого на-
рода».
Далее патриарх отклоняет обвинение в том, будто
православная церковь благословляет иностранное вме-
172
шательство. «Обвинение голословное, неоснователь-
ное»,— говорит он. Правда, он не говорит, что церковь
осуждает иноземное (и, заметьте, иноверное) вмешатель-
ство во внутренние дела русского народа, а только заме-
чает, что оно ни к чему не привело бы. «Вообще никто и
ничто не спасет России от нестроения и разрухи, пока
правосудный Господь не преложит гнева своего на мило-
сердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния
от многолетних язв своих, а через то не «возродится ду-
ховно в нового человека, созданного по Богу в правед-
ности и святости истины»» (Ефес. 4: 24).
Патриарх Тихон останавливается и на общеизвестном
обвинении духовенства, что в местностях, занятых бело-
гвардейцами, оно встречает новых повелителей молебна-
ми и колокольным звоном, демонстративно подчеркивая
этим свое сочувствие власти Деникиных, Колчаков и пр.
«Если это и бывает где-либо,— говорится в воззвании,—
то совершается или по требованию самой новой власти,
или по желанию народных масс, а вовсе не по почину
служителей церкви». Невольно возникает вопрос: если
патриарху достоверно не известно, бывают ли подобные
случаи (он говорит: «если это и бывает»), то как может
он с уверенностью утверждать, что духовенство делает
это только по приказу белогвардейцев или по требованию
«народа», а не по собственному почину? Такое утверж-
дение, противоречащее всем известным фактам, особенно
хорошо известным в местностях, занятых белыми, под-
рывает доверие верующих к патриаршему слову вообще.
По поводу этого обвинения, в сочувствии контррево-
люции, патриарх преподает духовенству и общие прави-
ла отношения служителей церкви к политике. Последние,
по словам воззвания, «должны стоять выше и вне всяких
политических интересов, должны памятовать канониче-
ские правила святой церкви, коими она возбраняет своим
служителям вмешиваться в политическую жизнь страны,
принадлежать к каким-либо партиям, а тем более делать
богослужебные обряды и священнодействия орудием по-
литических демонстраций».
Заканчивая свое послание, патриарх Тихон предлага-
ет духовенству следовать завету апостола блюсти себя
«от творящих распри и раздоры», уклоняться от участия
в политических партиях и выступлениях. «Повинуйтесь
всякому человеческому начальству в делах мирских
(I, Петр. 2: 13), не подавайте никаких поводов, оправды-
173
вающих подозрительность Советской власти, подчиняй-
тесь и ее велениям, поскольку они не противоречат вере и
благочестию».
Патриарх Тихон советует священнослужителям по-
свящать все свои силы проповеди «истины Христовой» и
призывает на них «Бога любви и мира».
ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА
Итак, патриарх Тихон ут-
верждает, что канонические правила православной церк-
ви «возбраняют» ее служителям вмешиваться в полити-
ческую жизнь страны.
Для нас, мирян, не искушенных в богословии и хит-
ростном толковании текстов, это заявление кажется на-
стоящим откровением. Спокон века привыкли мы к тому,
что русская церковь являлась верной и безропотной слу-
жанкой светской власти царей. Сам царь, т. е. глава и
символ светской политической власти, был и главой церк-
ви, и православное духовенство ни словом, ни делом не
противилось такому подчинению духовной общины воле
и власти светского лица, главы государства.
Высший орган православной церкви — святейший
правительствующий (заметьте это название!) синод —
был государственным, т. е. политическим, учреждением,
состоял на деле при особе царского чиновника, обер-про-
курора, которому подчинялся рабски — и, по-видимому,
не токмо за страх, но и за совесть. Церковные сановники
были не более как правительственными чиновниками, на-
значаемыми по признаку политической благонадежности,
а все духовенство было настолько крепко закабалено
светской политической власти, что в народном сознании
церковь представлялась каким-то филиальным отделе-
нием полицейского участка.
И если прав в своем теперешнем толковании патриарх
Тихон, то все строение православной церковной иерархии,
вся ее роль в государстве и вся ее работа среди русского
народа были сплошным, грубым — я бы сказал просто:
издевательским — нарушением канонических правил пра-
вославной церкви. Церковная аристократия, прельщен-
ная почестями, властью, богатствами, которые давали ей
цари, обманом завела верующую паству в вавилонское
пленение самодержавия и превратила церковь в духовное
орудие политического закабаления масс. Наряду с ар-
174
мией, полицией, судом цари обрели в лице православного
духовенства могучий механизм подчинения народа, и
христианская церковь, призванная, по евангелию, уте-
шать труждающихся и обремененных, защищать их от
гнета и насилия, сама стала на Руси одним из главней-
ших источников обременения и страдания для трудяще-
гося люда.
Правда, в низах православного духовенства встреча-
лись неподкупные и нелицеприятные служители веры, по-
нимавшие евангельское учение не так, как толковали его
книжники в шелковых рясах, и эти независимые священ-
ники жили одной жизнью с трудящимися, тяжелой кре-
стьянской жизнью, но твердо держались за свои убеж-
дения. Когда была учреждена Государственная дума, мы
видели некоторых из этих «красных попов» в рядах за-
щитников прав трудовых масс против высших иереев,
рабски-послушно голосовавших по указке обер-прокуро-
ра синода.
И тут мы опять должны отметить, сколь новым явля-
ется толкование канонических правил патриархом Тихо-
ном: ведь в Государственной думе участвовали десятки
священников всех политических оттенков. Тут были и со-
циалисты-революционеры, но тут же сидели и октябри-
сты, и черносотенцы. Что же руководители церкви мол-
чали, когда священники шли на выборы и выставляли
свои кандидатуры? Почему патриарх Тихон — в то вре-
мя уже влиятельный иерарх — не обличал их, не громил
с амвона, не писал воззваний, разъясняющих, что они ло-
мают каноны церкви? Что-то тут неладно!
Если сейчас глава православной церковной общины
вдруг вспомнил, что церковь «возбраняет» своим служи-
телям участие в политической жизни и политических пар-
тиях, то, очевидно, сейчас имеются налицо обстоятельст-
ва, по которым ему важно и необходимо это вспомнить
и преподать как правило священнослужителям. Посмот-
рим же, каковы эти обстоятельства и почему именно те-
перь они выплыли на поверхность, теперь — после двух
лет существования Советской власти?
ПАТРИАРХ ТИХОН И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
У патриарха Тихона идет
уже не первый разговор с Советской властью. Еще в са-
мом начале работы молодого рабоче-крестьянского пра-
175
вительства Тихон выступил против него, но не со словом
примирения, а с громом негодования и анафемой (посла-
ние от 19 января 1918 г.19). Это было накануне опублико-
вания декрета об отделении церкви от государства. Не
менее враждебно высказался он и во втором послании по
поводу первой годовщины октябрьского переворота.
Если читать новейшее послание патриарха и его тол-
кование канонических правил как запрета клиру участво-
вать в политике, то невольно придется задать вопрос: да
ведь в таком случае православная церковь должна была
приветствовать декрет об отделении ее от государства.
Ведь это освобождение церкви, закабаленной светской
властью, превращенной в ее департамент, ставшей ее
политическим орудием. Канонические правила «возбра-
няют» духовенству участвовать в политике, следователь-
но, возбраняют ему и быть орудием в руках политиче-
ской власти, каким оно было при царе. Но может ли ду-
ховенство не быть таким орудием, когда оно материально
всецело зависит от светской власти? Следовательно, надо
уничтожить эту зависимость: духовенство, церковь и все,
что связано с религиозным культом, должно находиться
исключительно на иждивении самих верующих.
Декрет об отделении церкви от государства превра-
тил православную церковь из казенного учреждения в
свободный союз верующих. Он отнял у нее обязанность
служить политическим целям светской власти, но также
отнял у нее возможность насаждать свою веру мерами
насилия. Он превратил священнослужителей из чиновни-
ков в независимых проповедников христианского веро-
учения, но вместе с тем и лишил их казенных окладов и
всяких материальных благ, получаемых ими от государ-
ства и порабощавших их государству. Он вернул их к по-
ложению служителей христианской церкви, какими они
должны были быть по их собственному учению, но пере-
стали ради благ мирских. Имущество же, необходимое
для церковного культа, было передано группам верую-
щих. Декрет вместе с тем ввел и гражданскую регистра-
цию браков, рождений и смертей. Это — мера, сущест-
вующая во всем цивилизованном мире и нисколько не
умаляющая прав верующих, ибо светская власть никому
не возбраняет наряду с гражданской регистрацией совер-
шать обряды крещения, отпевания или брака по всем
правилам его веры. Следовательно, единственное, что Со-
ветская власть действительно отняла у казенной право-
176
славной церкви (но не у верующих),— это имущество, на-
копленное монастырями, церквами,— и крупными чинов-
никами церкви и служившее превращению проповедни-
ков учения Христа в настоящих капиталистов-предприни-
мателей религиозной промышленности. Это имущество,
подчас очень крупное, не выходившее из рук черных
иерархов и находившееся вне распоряжения или конт-
роля широких кругов духовенства и верующих, фактиче-
ски служило не церкви, а иерархам, и, противореча са-
мому духу христианского учения — особенно по отноше-
нию к монашествующему священству,— являлось источ-
ником того, что церковь называет «соблазном». Декрет
освободил православную церковь от языческого плена
у царского самодержавия и дал ей возможность ступить
на единственный подобающий ей путь: распространения
ее учений путем свободного убеждения и объединения ве-
рующих.
Однако патриарх Тихон иначе посмотрел на дело и
увидел в декрете «жесточайшее гонение на святую цер-
ковь». Он призвал анафему на Советскую власть и при-
глашал «верующих и верных чад церкви» встать на за-
щиту «оскорбляемой и угнетаемой ныне матери нашей».
«Враги церкви,— писал он,— захватывают власть над
нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы
противостаньте им силою веры вашей, вашего властного
всенародного вопля, который остановит безумцев и пока-
жет им, что не имеют они права называть себя поборни-
ками народного блага, строителями новой жизни по ве-
лению народного разума, ибо действуют даже против
совести народной».
С тех пор прошло два года. «Изверги рода человече-
ского», как называл Советскую власть тогда патриарх,
не только не были свергнуты «воплем всенародным», а,
напротив, укрепили свою власть. Рабоче-крестьянская
республика не раз за это время подвергалась серьезной
опасности то со стороны немцев, то со стороны Колчака,
то со стороны союзников, то со стороны внутренних бун-
тарей и заговорщиков; но каждый раз в критический мо-
мент приходили на помощь ей и спасали ее те самые на-
родные массы, на которые всуе рассчитывал глава чи-
новного духовенства. «Разум народный» и «народная со-
весть», очевидно, ближе принимали к сердцу усилия «по-
борников народного блага и строителей новой жизни»,
чем «достояние» церкви, которое было, в сущности, до-
177
стоянием высшего духовенства. И сам патриарх, по-види-
мому, понял глубокий сокровенный смысл этого истори-
ческого факта, если теперь вместо средневекового, утра-
тившего свое прежнее магическое действие анафематст-
вования призывает духовенство к подчинению «и велени-
ям» Советской власти.
К ЧЕМУ ЖЕ ПРИЗЫВАЕТ ПАТРИАРХ ТИХОН?
Если прочесть новое посла-
ние патриарха вслед за его первым посланием, анафемат-
ствовавшим Советскую власть, может и в самом деле по-
казаться, что он отрекся от прежнего непримиримого от-
ношения и приглашает духовенство признать рабоче-кре-
стьянское правительство как нормальную гражданскую
власть. Но такое впечатление было бы ошибочным.
Назидание, которое патриарх дает своим чадам, за-
ключается в следующих скользких и двусмысленных пра-
вилах: «Памятуйте же, отцы и братия, и канонические
правила, и завет святого апостола: «Блюдите себя от тво-
рящих распри и раздоры», уклоняйтесь от участия в по-
литических партиях и выступлениях, «повинуйтесь всяко-
му человеческому начальству в делах мирских» (I Петр.
2: 13), не подавайте никаких поводов, оправдывающих
подозрительность Советской власти, подчиняйтесь и ее
велениям, поскольку они не противоречат вере и благо-
честию, ибо богу, по апостольскому наставлению, «долж-
но повиноваться более, чем людям» (Деяния. 5: 30, Га-
лат. 1: 10)».
Говорит ли этим патриарх, что духовенство должно че-
стно и открыто признать рабоче-крестьянское правитель-
ство правительственной властью, по крайней мере в пре-
делах Советской России, перестав смотреть на него как
на исчадие ада и детище антихриста? Говорит ли он, что
духовенство и все верующие должны подчиняться этой
власти так же, как они подчинялись власти царей? Нет!
Он советует держаться в стороне от «творящих распри и
раздоры», т. е. от участвующих в гражданской войне.
А так как в пределах Советской России одной из сторон
в гражданской войне является Советская власть, то сло-
ва патриарха звучат как призыв — к уклонению от под-
держки Советского правительства в его борьбе с контр-
революцией. «Блюсти себя от творящих распри», укло-
няться от «политических выступлений» — все это легко
178
истолковать и в сторону отказа от всех гражданских по-
винностей, и в сторону бойкота власти, и в сторону непри-
знания декретов, касающихся военных мер. А слова «не
подавайте никаких поводов, оправдывающих подозри-
тельность Советской власти»,— разве это не значит: дей-
ствуйте осторожно, чтобы не попадаться? «Повинуйтесь
всякому человеческому начальству»,— говорит дальше
патриарх словами Петра и от себя прибавляет: «В делах
мирских» *. «Подчиняйтесь и ее (Советской власти) ве-
лениям, поскольку они не противоречат вере». Все эти
крючкотворные придаточки и оговорочки, которым могли
бы позавидовать отцы иезуиты, напоминают известный
совет дядьки в «Капитанской дочке», когда его барина,
Гринева, подвели к целованию руки Пугачева: «Поцелуй,
батюшка, плюнь, и поцелуй». Такую же цену имеет «ло-
яльность» патриарха Тихона.
Разве осмелился бы когда-нибудь патриарх, разве
позволил бы он себе обратиться с подобными советами к
подданным русских царей? Никогда! Он знал, что за та-
кие толкования евангельских текстов, за такие послания
к верующим «смиренный» Тихон в двадцать четыре часа
был бы брошен в монастырскую тюрьму, и ни один иерей,
ни один верующий не решился бы поднять в пользу его
голос. Для царей у чиновных начетчиков были припасены
другие евангельские тексты, ясные, недвусмысленные.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо
нет власти не от бога; существующие же власти от бога
установлены. Посему противящийся власти противится
божию установлению. А противящиеся сами навлекут на
себя осуждение. Ибо начальник есть божий слуга, тебе
на добро... А потому надобно повиноваться не только из
страха наказания, но и по совести» (Рим. 13: 4). Почему
патриарх Тихон припрятал этот ясный текст и заменяет
его более расплывчатым текстом Петра, дополняя его
своими собственными «разъяснениями»? Да потому, что
он не хочет признать Советскую власть и подчиниться ей
«не за страх, а за совесть». Он, напротив, призывает под-
чиняться ей только за страх, только там, где она пред-
ставляет силу. Ведь сказать: «Повинуйтесь всякому чело-
веческому начальству» — это значит: повинуйтесь тому, у
* В послании апостола Петра сказано: «Будьте покорны вся-
кому человеческому начальству, для Господа». Патриарх же изме-
няет смысл текста применительно к своим политическим надобно-
стям (это называется не заниматься политикой).
179
кого палка в руках. Повинуйтесь Советской власти за
страх, а Деникину — за совесть. Что это так, у нас тоже
есть доказательства, исходящие, правда, не лично от пат-
риарха, а от его сторонников.
Юго-восточный русский поместный церковный собор,
заседавший в мае сего года в Ставрополе, выпустил воз-
звание «всем чадам православной церкви южного края
России».
В этом воззвании Советская власть именуется «нече-
стивою и безбожною», а солдатам говорится: «Воины
православные, в сознании святости вашего подвига пови-
нуйтесь начальникам вашим, будьте страшны врагам, ми-
лостивы к мирным и безоружным, переносите терпеливо
неизбежные на войне лишения в твердой надежде на ско-
рую победу и наступление желанного мира на многостра-
дальной родине нашей». 21 мая текущего года на много-
страдальной родине нашей была только одна война —
гражданская, следовательно, соборные отцы призывали
воинов к борьбе с Советской властью. А призывая, они
говорили, что, верится им, собрались они «не без мыс-
ленного благословения святейшего отца нашего Тихона,
патриарха Московского и всея России».
Итак, это единомышленники патриарха, а между тем
они не смущаются призывать белогвардейские полчища
к деятельному участию в «распрях и раздорах», зовут
«чад православной церкви» к подчинению не «всякой че-
ловеческой власти», а власти деникинской, благословля-
ют христолюбивое воинство на свержение власти Сове-
тов, а не предлагают им «уклоняться от участия в поли-
тических выступлениях». Откуда эта разница? Сейчас
увидим.
ЦЕРКОВЬ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Мы уже видели, что право-
славная церковь, хотя и господствующая, была закабале-
на государству и превращена в служанку самодержавной
царской власти. И церковь славословила своего светского
господина, призывала духовенство и мирян подчиняться
ему не за страх, а за совесть, грозила карами небесными
ослушникам и смутьянам. Пришла Советская власть и
освободила церковь от государственной кабалы и опеки,
дала ей волю устраиваться, как того хотят сами верую-
щие, очистила ее от холопско-полицейского тягла. И что
180
ж мы видим: церковь анафематствует, призывает к свер-
жению Советской власти, а потерпев неудачу, начинает,
как подъячий, вертеть текстами, стараясь внушить ве-
рующим, что они только для видимости должны подчи-
няться советскому правительству. Чем объяснить это про-
тиворечие?
А вот чем. Мы привыкли говорить: «церковь», не вду-
мываясь в содержание этого слова. Ведь в понятие церк-
ви входят и клир, и миряне. Мало того, само понятие
«клир» тоже не говорит ничего определенного о составе
духовенства. А между тем в этом и лежит вся разгадка.
Духовенство делится, грубо говоря, на два лагеря: на
высшее, занимающее ответственные, почетные и доход-
ные посты в церковной иерархии, и на рядовое духовен-
ство, в главной массе деревенское, очень далекое от поче-
стей, а тем более от жирных доходов. Это не «старший»
и «младший» брат, а это два разряда, можно сказать, два
класса людей. Верхи церкви составляют дружную, спло-
ченную аристократию, дружную не по взаимным чувст-
вам, которые у нее очень далеки от христианских, а по го-
товности оберегать свои общие привилегии и «достоя-
ние». Из низов, из рядового духовенства труднее поднять-
ся кому-либо в этот высший круг, чем попасть в царствие
небесное. А если кто и пробирается туда, то можно впе-
ред сказать, что его «пригодность» и «надежность» тща-
тельно была испытана, прежде чем его впустили в сонм
церковных генералов.
Поскольку эти иерархи представляют церковь, они тя-
нут ее в тенета светской власти, если эта власть поддер-
живает их личные и имущественные привилегии. Так,
высшее духовенство всегда рьяно тянуло к царям, так как
царизм был весь построен на неравенстве, на богатстве и
привилегиях немногих и на рабстве масс. С падением ца-
ризма оно благословило Временное правительство, ибо
видело, что и эта власть не покушается ни на почетное
место церковных владык в государстве, ни на имущество
и доходы церкви. Но вот пришла власть демократическая,
власть рабоче-крестьянская, уничтожившая все привиле-
гии и отнявшая все тунеядные источники существования.
Эта мера ударила и по церковникам. Низы духовенства
сравнительно мало почувствовали ее, ибо они всегда жи-
ли частью своим трудом, частью деяниями прихожан, и
всегда жили бедно и тесно, немногим лучше окружавших
их мирян. Громадные богатства монастырей и иерархов
181
не кормили и не грели их. Неудивительно, что им легче
и проще приспособиться к новому строю, тем более что
по своему мышлению и взглядам они далеки от аристо-
кратизма епископов и архимандритов...
И высшее духовенство встретило Советскую власть
злобным окриком и анафемой. Оно не сомневалось, что
власть, посягнувшая на привилегии и доходы правящих
классов — светских и духовных, не сможет просущество-
вать более двух-трех месяцев в стране исконного рабства
и насилия. Но они ошиблись. Эта власть справляет свою
вторую годовщину, и, несмотря на голод, холод и бесчис-
ленные лишения, народные массы идут за ней, не давая
контрреволюции поглотить ее. И церковные иерархи при-
задумались. Время идет, не видно зари возврата вчераш-
него дня, народные массы сжились с новой властью и счи-
тают ее своею, низшее духовенство волей-неволей идет
за ними, уходя от иерархов, почва ускользает из-под ног
церковной аристократии, а надо как-то жить, остается
одно: искать способов соглашения с столь неприятным
рабоче-мужицким правительством.
Перед высшим духовенством встал, таким образом,
вопрос ребром: либо пойти навстречу признанию Совет-
ской власти и, призвав к этому все духовенство, опять
закрепить свою слабеющую связь с церковными низами,
либо упорствовать с риском утратить в конце концов вся-
кий авторитет. Наше духовенство достаточно умно, чтобы
понять, каким путем идти. И оно старается подойти к Со-
ветской власти. Но этот путь требует последовательно-
сти.
Вряд ли сам патриарх Тихон верит, что его послание
может удовлетворить кого-либо. Оно может быть рас-
сматриваемо только как первый, переходный шаг. Или
признание Советской власти и призыв всех к подчинению
ей должны быть заявлены недвусмысленно ясно, или вся
эта политика не имеет никакой цены, ибо в это время
надо быть либо холодным, либо горячим.
«О, если бы ты был холоден или горяч. Но поелику
тепл, а не горяч, и не холоден: то извергну тебя из уст
моих» (Откр. 3: 15—16).
Печатается по: «Деятели Октября о ре-
лигии и церкви». М., 1968, стр. 26—37,
182
Г. В. Чичерин
РАДИОТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРА
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ*
КАРДИНАЛУ ГАСПАРРИ, РИМ
Получив вашу радиотеле-
грамму от 12 марта, могу вас уверить, что упомянутый в
ней серьезный источник ввел нас в заблуждение. Отде-
ление церкви от государства, осуществленное в России,
ведет к тому, что религия в ней рассматривается как ча-
стное дело. Нельзя поэтому говорить о преследовании
служителей религии в России. У нас не происходит ника-
ких явлений, подобных тем, которые составляли правило
в тех странах, где господствовала римско-католическая
церковь, по отношению к иноверцам.
Ввиду специального интереса, проявляемого вами по
отношению к религии, которую римско-католическая цер-
ковь до сих пор считала схизматической20 и еретической
и которую вы признаете православной, я могу вам га-
рантировать, что ни один служитель этой религии не по-
страдал за свои религиозные убеждения. Что же касает-
ся тех из них, которые участвовали в заговорах против
Советского правительства и против власти рабочих и кре-
стьян, то мы исходили в наших действиях по отношению
к ним из той точки зрения, что они должны подчиняться
тем же законам, как и другие граждане, и что никакое
привилегированное положение по сравнению с мирянами
не должно быть их уделом.
Ввиду проявленной вами по отношению к служителям
православной религии солидарности я не могу не упо-
мянуть о том, что были найдены скрывавшиеся таковыми
громадные богатства, в особенности в монастырях, и что
среди всеобщей нужды, вызываемой направленными про-
тив нас мерами союзных держав, против которых, однако,
вы не заявляли никакого протеста, некоторые из этих
служителей религии, к которым вы проявляете такой ин-
терес, собрали втайне громадные запасы съестных при-
* Ответ на телеграмму статс-секретаря Ватикана кардинала Гас-
парри по поводу якобы существовавших преследований служителей
православной церкви Советской властью.
183
пасов, которых они, таким образом, лишали наши народ-
ные массы.
Вы сообщаете нам о том, что верховный глава римско-
католической церкви убеждает нас изменить занятое на-
ми по отношению к православному духовенству положе-
ние, но о таком признаке заботливости к последнему мы
узнаем именно в тот момент, когда прямые и решитель-
ные действия наших народных властей раскрыли мошен-
ничества, которыми духовные лица надували народные
массы, основывая свое влияние на обмане21.
Золоченые гробницы, блистающие драгоценными кам-
нями, заключавшие в себе то, что духовенство называло
нетленными святыми мощами, были раскрыты, и там, где
предполагалось присутствие мощей Артемия Пинежско-
го, Тихона Задонского, св. Митрофания Воронежского,
благоверного кн. Константина, его матери Ирины и его
чад Михаила и Федора, Макария Калязинского, епископа
Иоанна и Федора Суздальских и других, были найдены
истлевшие кости, превращавшиеся в пыль, большое коли-
чество ваты, подушки, тряпки и даже женские чулки.
Мне кажется необходимым обратить ваше внимание
на то, что в этот именно момент наши действия по отно-
шению к духовенству имели несчастье вызвать ваше не-
удовольствие. Равным образом достойно сожаления, что
бесчисленные зверства, произведенные врагами русского
народа, чехословаками, правительствами Колчака, Де-
никина, Петлюры и в числе других находящимися в на-
стоящее время у власти в Польше партиями, в числе вож-
дей которых имеются католические архиепископы и аген-
ты которых подвергают ужасным мучениям попадающих
в их руки борцов за народное дело и даже умертвили
нашу краснокрестную миссию,— не вызвали с вашей сто-
роны никаких протестов.
Истинная человечность, за которую борется наша на-
родная революция, нисколько не уважается теми, кото-
рые считают себя вашими приверженцами, и ни одного
слова из ваших уст не раздалось в ее защиту.
Народный Комиссар по иностранным
делам Чичерин 15 марта 1919 г.
Печатается по: «Деятели Октября о ре-
лигии и церкви». М., 1968, стр. 197—198.
184
П. А. Красиков
«ГОЛОД И ХРИСТИАНСТВО»
Как смотрел на голод, мор,
разруху, гражданскую войну, нашествие иноплеменников
и т. п. события христианин II, III вв., т. е. в то время, ког-
да каждый серьезно и искренне верующий в мессию че-
ловек был полон ожидания волшебного переворота в
пользу бедняков?
Несомненно, в каждом таком событии он видел зна-
мение времени, признак того, что пророчества сбывают-
ся, что нечестивый Вавилон, т. е. Римское государство,
скоро рушится под ударами огненных мечей небесного
воинства и будет заменено светлым царством мессии.
«Мир обречен на гибель!» — вот лозунг правоверного хри-
стианина. «Спасайся, стряхнув с себя все путы его, порви
все связи с ним, отбрось все интересы твоего материаль-
ного, мирского существования, умерщвляй движение пло-
ти, если можно, не ешь, не спи, не смей смотреть на жен-
щин, не думай ни о чем, кроме того, чтобы непременно
попасть, преобразившись в нечто вроде ангела, в число
овец (т. е. нищих, алчущих и жаждущих «их бо царствие
небесное») стада Христова. Раздай все, будь нищим»...
А как теперь смотрит современный буржуа-христиа-
нин на голод, в частности в России? Как смотрит совре-
менный русский церковник, этот официальный предста-
витель т. н. христианства, как известно, сильно отличаю-
щегося от христианства первых веков, теперь приспособ-
ленного для нужд мещанского, буржуазного, языческо-
православного житейского обихода.
Классическое выражение отношения в краткой фор-
муле самой сути взгляда на голод «православного» купе-
чества русского — это знаменитое изречение купца Ря-
бушинского о «костлявой руке голода». Это тоже целая
программа, нужно признать, блестяще выполняемая как
русскими, так и заграничными «христианами»-буржуа.
В то время как голод и другие бедствия для первобыт-
ного христианина были неизменной предпосылкой скоро-
го пришествия мессии и отправки тогдашних эксплуата-
торов в геенну огненную, для современного русского хри-
стианина-буржуа голод есть предвестник и орудие вос-
становления на земле царства капитала и помещика, т. е.
185
контрреволюции и кровавой бойни, которую сможет уст-
роить капитал для борющихся за новый строй пролетари-
ев и крестьян с помощью французского, немецкого, ан-
глийского или американского (все равно) пулемета.
Каковы же были христианские программы православ-
ного купечества и церковной иерархии по отношению к
водворению своего царствия в России? Контрреволюци-
онный переворот. Усилить, сколько можно, разруху, умо-
рить, удушить, смирить сотни миллионов крестьян и ра-
бочих именно голодом. А для этого мобилизовать все, что
только можно, затратить какие только можно средства,
применить все способы. Какие средства, какие способы,
какие силы были двинуты всемирными сектами христи-
ан-собственников против России, об этом свидетельству-
ют 41/2 года сверхчеловеческой борьбы пролетариата и
передового русского крестьянства. Самыми сильными, са-
мыми ярыми помощниками и союзниками русской бур-
жуазии в этом гнусном деле был союз всех христиан-соб-
ственников за границей в лице всех их правительств, всех
этих христианнейших королей и парламентов, всех этих
евангелистов вроде Вильсона, Ллойд Джорджа, всех этих
набожных американских миллиардеров, одной рукой
снабжающих врагов наших оружием, деньгами и т. д.,
душащих блокадой русского крестьянина и рабочего,
другой подносящих ему кусочек хлеба и для назидания
Библию в сотнях тысяч экземпляров для укрощения
его революционных стремлений. Очень рьяно и со зна-
нием дела помогла программе удушения революции го-
лодом, как известно из бесчисленных документов и фак-
тов, православная русская иерархия. Сидя, как жирный
нарост на теле крестьянина, высасывая из него за свои
магические услуги огромное количество материальных
ценностей, русское духовенство до самого последнего вре-
мени всеми силами помогало исполнению программы уду-
шения голодом русской революции *.
* По приблизительному подсчету, содержание попов и архиере-
ев и различных религиозных учреждений обходится русскому поги-
бающему от невежества и безграмотности мужику и бедняку столько
же, сколько обошлось бы содержание 5 тысяч агрономов, 5 тысяч
ветеринаров, 50 тысяч учителей и 50 тысяч докторов. Ремонт, пост-
ройка и содержание храмов в России могли бы дать средства и по-
мещение по крайней мере на 40 тысяч школ; все колокола России с
избытком покрыли бы всю нашу потребность в меди для электри-
фикации, а церковные ценности в виде золота и серебра могли бы
с успехом покрыть расходы в 10 миллионов рублей золотом, если
изъять ценности всего только по 200 рублей из каждой церкви.
186
Недавно закончившийся в Сербии церковный собор
высших русских церковных иерархов 22 вместе с деникин-
скими, врангелевскими генералами и представителями
фамилии Николая Кровавого постановил с благослове-
ния одного из патриархов православной церкви навязать
во что бы то ни стало России монархию, причем 2/3-ми го-
лосов Собор высказался за династию Романовых. Вся эта
черносотенная компания, все эти патентованные главы
церкви со скрежетом зубовным относятся к признанию
Европой Советской России, к окончанию голодной бло-
кады, к началу генуэзских переговоров. Голод для этой
христианнейшей братии — друг и союзник; напротив, пе-
редышка, урожай, снятие блокады, подвоз хлеба из за-
границы — смерть. Только под давлением своих низов,
рабочей и городской бедноты, все громче и настойчивее
требующих помощи Советской России и жертвующих со
своей стороны, чем только могут, на голодающих России,
заграничная буржуазия с кислой миной дает кое-какие
гроши для голодающих ею же доведенной до разорения
страны, причем, за исключением, конечно, таких людей,
как Нансен23, и на этом деле старается извлечь кое-какие
выгоды, заработать.
Российская церковная иерархия тоже испытывает на
себе давление низов и поставлена в самое неловкое поло-
жение, ибо продолжать откровенную, циничную полити-
ку умывания рук в борьбе правительства с бедствиями
голода, вызванными разрухой в стране, являющимися в
конечном счете результатом всей политики отчаянного со-
противления старых правящих классов, неизменно под-
держиваемой духовенством, становится для нее невоз-
можным без риска обнаружить свою политику перед всем
крестьянством и потерять последние остатки авторитета
своего и своей религии и морали даже среди темных, ма-
лообразованных масс.
Поэтому за последнее время после многочисленных
резолюций, принимавшихся по фабрикам и заводам и
даже по деревням, о необходимости пожертвовать в поль-
зу голодающих хотя бы часть церковных ценностей (а
кое-где крестьяне голосовали о передаче всех ценностей
в пользу голодающих), стали раздаваться более или ме-
нее искренние голоса и из духовенства за передачу цер-
ковного золота и серебра в кассу Помгола.
Высшая иерархия в лице Тихона вынуждена была
тоже выступить, но выступила, конечно, по возможности
187
сдержанно и казенно, с лицемерной ссылкой на писание,
глухо рекомендующее христианам быть такими же мило-
сердными, как сам бог (а бог в смысле милосердия боль-
шой политик. Само воззвание Тихона напоминает очень
прозрачно, что самый голод — это дело его рук).
Из текста писания оказывается, что милосердие бога
по отношению к умирающим от голода нашим сограж-
данам ограничено только теми предметами из золота и
серебра, кои не входят в число вещей, составляющих ка-
нонически как бы собственность самого бога, а принесены
частными лицами для подвешивания к иконам с какими-
то магическими целями. (Специалисты говорят, что чаще
всего вешают на иконы свои колечки, брелочки, браслет-
ки юные девицы и кавалеры, а иногда больные в благо-
дарность за оказываемое им иконой содействие в их лич-
ных делах.) Впрочем, извиняюсь, милосердие, равнове-
ликое божественному, внушило еще патриарху Тихону
не пожалеть для умирающих еще кое-какой лом, валяю-
щийся без надобности в церковных чуланах (так и на-
писано: лом); разрешено, по-видимому в строгом согла-
сии с неизвестными, к сожалению, нам каноническими
правилами, извлечь его из пользования групп верующих.
Зато самим верующим из собственного жалкого имуще-
ства, имеющим две смены белья (а много ли таких бессо-
вестно богатых), рекомендуется отдавать одну смену в
пользу голодающих.
Вам, читатель, быть может, смешно или горько. Проч-
тя это казенное, вынужденное, выжатое из высшей иерар-
хии пролетарским и крестьянским общественным мнени-
ем послание, я тоже изумился, ибо не ожидал такого от-
кровенного выступления в пользу охранения от голодаю-
щих мертвого церковного капитала, но потом мне пришло
на мысль: быть может, Тихон считает себя по закону не
в праве рекомендовать передачу в пользу голодающих
церковного имущества как национализированного, нахо-
дящегося лишь в пользовании у групп, а колечки и це-
почки, пожертвованные барышнями, он не считает нацио-
нализированными и потому смело, не боясь упрека, что
распоряжается национальным имуществом, рекомендует
колечки отдать голодающим, как не входящие, быть мо-
жет, и в опись церковного государственного имущества.
Словом, быть может, иерархия стеснена национализацией
«церковного имущества».
Если это так, то декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г.
188
об изъятии местными Советами церковных драгоценно-
стей в пользу голодающих формально развязывает в этом
отношении руки и языки духовенству, и оно отныне мо-
жет смело рекомендовать своей пастве заявить и настаи-
вать перед местными исполкомами об отказе от пользова-
ния, об изъятии из договоров и передаче всего церковно-
го серебра, всего золота и всех драгоценных камней на
спасение голодающих и на обсеменение полей. Посмот-
рим, какую позицию займет теперь духовенство! Боюсь,
что Тихон и вся иерархия найдет кучу текстов и канонов,
запрещающих кормить голодных в Советской России за
счет церковной посуды, утвари и всевозможных церков-
ных украшений.
Гораздо смелее и искреннее ведет себя петербургский
священник Введенский24, обратившийся с резким вопро-
сом к христианам: что делают сотни миллионов, когда
десятки миллионов христиан умирают с голоду?
Ах, священник Введенский, если вы искренний и тол-
ковый человек, то ответьте мне на вопрос: что сделали
40 000 русских «христиан»-священников и сотни тысяч
всяческих священников, когда десятки миллионов рабо-
чих и крестьян были избиваемы на полях Европы в ны-
нешнюю империалистическую и прошлую японскую, ки-
тайскую, турецкую и т. д. войны? Что делали они затем
во время революции? Что делают сейчас отцы вашей
церкви в Карловицах? Провозглашают войну Советской
России? Почему бы вам не обратиться к ним, как к сво-
им учителям, с таким же воззванием? А между тем вы
состоите членом этой организации, называемой право-
славной иерархией. Неужели вы не понимаете, что
если бы можно было высшим иерархам, находящимся
в России, прямо сказать, как это говорит Бурцев, Су-
ворин и все зарубежные наши враги, все эти укрывшие-
ся с бандами Врангеля, Деникина иерархи, то они, не-
сомненно, сказали бы: не давай ни гроша на голодающих
России, ибо каждый рубль, каждый грош, помогающий
изжить разруху и голод в стране, укрепляет Советскую
власть и отдаляет помещиков, капиталистов от победы
над рабочими и крестьянами, от превращения России в
колонию европейского капитала. Чтобы соблюсти види-
мость любвеобилия и благолепия, фактически ничего не
стоящих, надо перенести центр тяжести их христианско-
го милосердия на приглашение обывателя делиться лиш-
ней рубашкой (которой обычно у него нет). Это совер-
189
шенно безопасно в смысле риска чересчур усилить фон-
ды голодающих. 2000 лет совершенно механически пов-
торяется всеми лицемерами или наивными людьми фра-
за о рубашках без всякого риска потерять сотни шелко-
вых мантий собственного гардероба. Такими призывами
вымощен весь ад, говорят старые поэты. А вот реальные
ценности, сейчас могущие дать сотни вагонов хлеба,— это
надо попридержать. Это слишком жирно для Советской
России. Вот при самодержавии, когда дело идет о спа-
сении шайки эксплуататоров и о грабительских войнах,
о, тогда другое дело! Полюбуйтесь, каким языком гово-
рила церковь в эпоху империалистической войны.
В 1916 г. известный архимандрит Никодим вот как
писал в своем рапорте члену Государственного совета о
необходимости передать многомиллионные ценности
Юрьевского монастыря на военные надобности Николая
Кровавого. «Для осуществления такого великого дела
(т. е. грабительской войны в угоду французскому капи-
талу) требуются многомиллионные жертвы как живой
силы человечества (еще бы! — П. К.), а равно денежные
средства. Его императорское величество призывает всех
верных сынов родины оказать свою помощь для одоле-
ния супостата, обратить свое внимание на царский при-
зыв и на монастыри».
«Святейший Синод на голос помазанника божия Ни-
колая призвал все обители принять широкое участие в
пожертвованиях на войну и ее нужды. Ваше преосвящен-
ство, Юрьевский монастырь уже много и изобильно ока-
зал пожертвований на нужды войны (курсив мой.—
П. К). Смиренно осмеливаюсь сказать вам, владыко свя-
той, что Юрьевский монастырь для общего блага госу-
дарства мог бы без всякого ущерба для своего благосо-
стояния оказать еще большую долю пожертвований, ве-
ликую жертву для нужд военного времени. Вашему пре-
освященству известно, что Юрьевский монастырь имеет
богатые сокровища: золото, серебро, бриллианты, кото-
рые оцениваются уже не тысячами, а миллионами руб-
лей. Золото, серебро, бриллианты, заключающиеся в раз-
ных церковных предметах»... Очень трогательно иерарх
распространяется в своем рапорте о том, что «история
церкви учит нас и зовет в тяжелую годину испытания
принести на алтарь пожертвования все свое состояние,
отказаться от временных утех и вожделений». «Если ни-
жегородская купчиха,— пишет Никодим,— снимала во
190
времена Пожарского последнее свое украшение (вот они,
подвески Тихона!) и пожертвовала в общую кошну, то
долг наш обязывает прямою необходимостью пожертво-
вать те сокровища, которые имеют для нас лишь вре-
менное значение» (курсив мой.— П. К.). Никодим ссы-
лается далее на примеры Сергия Радонежского, архи-
мандрита Дионисия, Авраамия Палицына и просит ис-
просить у Синода милостивого разрешения пожертвовать
сокровища Юрьевского монастыря на нужды войны и
ссылается на пример Киевского Флавиана и других.
Жертвы эти были утверждены Синодом и приняты ца-
рем. Только вывезти ценности не успел Романов.
Так вот какой язык и какую убедительную речь вела
церковь, когда надо было выручить Романовскую шайку.
И тексты и примеры исторические все великолепно оп-
равдывали необходимость отдать церковные украшения,
даже не на дела милосердия, а как раз наоборот, на дело
империалистической бойни.
Ох, трудненько будет Тихону найти подходящие тек-
сты и открыто выступить против изъятия ценностей из
храмов и монастырей!
А высказаться будет необходимо, сами верующие это-
го у него потребуют. Дайте директиву, скажут они.
А пока нет откровенной директивы от церковных цент-
ров о том, как вести себя духовенству и верующим, про-
исходят очень странные вещи.
Из ряда городов поступают сведения о расхищении
сданного в пользование верующим церковного драго-
ценного имущества. В костромском «Красном Мире» в
статье «Банки без ржавчины и татей» говорится о реви-
зии, произведенной пока только в двух храмах Костро-
мы: обнаружены громадный недостаток и крупные хи-
щения ценных золотых предметов и бриллиантов. «Обще-
го подсчета еще не сделано, комиссия работает с 27 ян-
варя, выбиваясь из сил, ибо все так запутано, что крайне
трудно найти концы».
Вещами заведовали по-прежнему протоиереи и дьяко-
ны. Если хранение и пользование серебром и золотом и
всевозможными ценными украшениями везде верующи-
ми и обывателями передано в руки старых хозяев церк-
ви— священников и бывших заводчиков и фабрикантов,
присосавшихся к церковным сейфам и несгораемым шка-
фам, как это имеет место в Костроме, то, пожалуй, есть
опасность, что голодные Поволжья действительно долж-
191
ны рассчитывать только на последнюю рубаху бедняка.
И тогда станет понятно, кто больше всех должен кри-
чать против изъятия ценностей из церквей и монастырей
и неизбежно связанной с ним проверки всего церковного
инвентаря. Недалекое будущее это покажет.
Декрет ВЦИК от 23 февраля предписывает всюду
произвести учет и изъятие драгоценных предметов, изъ-
ятие коих не может существенно затронуть интересы са-
мого культа.
По точному смыслу декрета и инструкции к нему, изъ-
ятию подлежат все ценности, носящие характер украше-
ния, а также сосуды, утварь, которые по самой своей
роли в культе могут быть из любого металла и вещества.
Никакими канонами невозможно защищать, напри-
мер, золотые или серебряные чаши, раки, ризы, оклады,
подсвечники, драгоценные камни и т. п.
Всякая такая защита будет носить явно контрреволю-
ционный или неприличный характер, особенно для людей,
считающих себя монопольными обладателями учения, на-
зываемого ими учением любви к ближним.
П. А. Красиков. Избранные атеистиче-
ские произведения. М, 1970, стр. 150.
152-159.
Ем. Ярославский
«КОММУНИСТЫ И РЕЛИГИЯ»
ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Не подумайте, что только в
царской России религия и церковь пользовались такой
огромной властью. Наиболее сильная религиозная орга-
низация— католическая, во главе с римским папой.
Папа римский — прежде всего владелец огромных бо-
гатств; в его распоряжении не только сотни тысяч свя-
щенников, сотни тысяч монахов и монахинь; в его распо-
ряжении огромное, в десятки миллиардов рублей золо-
том оцениваемое имущество, в его руках специальные
банки, которые орудуют сотнями миллионов золота во
всех странах; сотни газет и журналов в распоряжении
192
католической церкви; даже партии специально созданы
католические, так же как имеются католические проф-
союзы (в Германии, Австрии и других странах). Самые
что ни на есть мракобесы в них сидят, т. е. люди, кото-
рые ожесточенно дерутся за сохранение господства
эксплуататоров и тянут назад, к самым отсталым фор-
мам жизни, к крепостничеству, к всепроникающей
власти церкви, к монархии. Католичество имеет огром-
ное влияние в Италии, во Франции, в Бельгии, в Испа-
нии, в Германии, Польше, Литве, Англии, а отчасти и в
Америке, в особенности в Мексике и в Южной Америке.
История католической церкви — это история сплошного
издевательства над народными массами, история неслы-
ханных злодеяний и преступлений против народа.
Известна страшная средневековая инквизиция, т. е. так
называемый «священный суд» церкви, которая сжигала
на кострах и убивала в застенках в самых зверских пыт-
ках десятки тысяч людей, осмелившихся думать не так,
как это нужно было помещикам и их слугам — попам.
Известна история папских индульгенций, т. е. история о
том, как католические папы и попы (кардиналы, ксенд-
зы, патеры) торговали и торгуют отпущением грехов.
Можно было какие угодно преступления совершать и за
деньги получить от папы прощение всех грехов, не толь-
ко совершенных, но и за все будущие грехи и преступле-
ния можно было заранее у церкви откупиться. Католиче-
ская церковь во главе с папой и ныне является оплотом,
опорой всех контрреволюционных организаций и сил,
верным слугой не только старой землевладельческой
аристократии, но и буржуазии — промышленной, денеж-
ной, капиталистов и банкиров. Католическая церковь яв-
ляется союзником фашистов в их борьбе с революцион-
ным рабочим движением, она, как и другие церкви, не-
примиримый враг СССР.
И разве одна только католическая церковь? Всякие
другие церковные организации — лютеранская, англи-
канская, еврейская, буддийская, мусульманская и др.—
в капиталистических странах также помогают господам
капиталистам и помещикам эксплуатировать и одурачи-
вать народные массы, держат эти народные массы в об-
мане, обещая им, что за страдание, за унижение здесь,
на земле, за их голодную и мучительную жизнь их ждет
«небесное блаженство». По-прежнему церковные орга-
низации проповедуют рабочим и крестьянам покорность
193
и терпение по отношению к капиталистам, фабрикантам,
заводчикам, помещикам и другим эксплуататорам.
Церковники по-прежнему обманывают народ утеше-
ниями, вроде того, что «блаженны нищие духом... бла-
женны плачущие... блаженны алчущие и жаждущие...»
(Матф. 5: 3—4, 6). Во всех странах капиталисты поддер-
живают все и всякие религиозные организации. Но в то
же время они в каждой стране особо выделяют ту цер-
ковную организацию, которая наиболее приспособлена к
верованиям народных масс данной страны, которая
лучше и более умело помогает им одурачивать эти мас-
сы и держать их в повиновении капиталу.
Во главе церковных организаций стоят крупнейшие
капиталисты, как, например, известный американский
миллиардер Карнеджи, шоколадный фабрикант, или
владелец автомобильных и тракторных заводов Генри
Форд, или известный в Англии баптист Ллойд-Джордж,
один из виновников кровавой империалистической вой-
ны. И не думайте, что какой-нибудь баптист станет осуж-
дать этого Ллойд-Джорджа,— нет, он пользуется у них
огромным уважением, и называют его даже наши рус-
ские баптисты не иначе, как «наш брат во Христе»
Ллойд-Джордж.
А еврейская религия? Она очень выгодна еврейским
и нееврейским капиталистам, которые с помощью равви-
нов, с помощью древнееврейского языка, с помощью все-
возможных обрядов держат народные массы в своем
плену.
То же — с другими религиями.
И хотя во многих капиталистических странах церковь
формально отделена от государства и школа от церкви,
однако капиталисты оставили самую тесную связь
между организацией капитала и организацией религии и
церкви и таким образом сохраняют в своих руках одно
из сильнейших орудий оглупления, одурачивания, одур-
манивания, обмана и эксплуатации народных масс.
В послевоенной Европе происходит еще более тесное
сближение между церковью и буржуазным государст-
вом. Духовенство владеет во всех капиталистических
странах огромными имениями, богатствами, пользуется
до сих пор влиянием в школах. Когда происходят вы-
боры в парламент, во всех церквах, синагогах, костелах
попы читают проповеди о том, что надо выбирать такого-
то или такого-то помещика, капиталиста, адвоката из
194
буржуазии, что надо голосовать за те или иные буржуаз-
ные партии, но ни в коем случае не за коммунистов.
Попы пользуются большим влиянием на женщин, а через
женщин влияют на их мужей и братьев, учат их так, как
это указывают им их исповедники, духовники, попы.
Церковные организации всех религий помогают бур-
жуазии в деле подготовки войны против Страны Сове-
тов. Особенно ярко эту свою ненависть к СССР попы по-
казали в первой половине 1930 г., когда по призыву папы
римского, Пия XI, церковники всех религий организо-
вали «крестовый поход» против Страны Советов, призы-
вая верующих к борьбе с Советским Союзом.
Противосоветская деятельность церкви не прекраща-
лась ни на минуту с первых дней Октябрьской револю-
ции. Ныне, когда капиталистический мир мечется в тис-
ках глубокого экономического кризиса, в то время как
СССР с успехом осуществляет пятилетку в четыре года
и ликвидирует на основе сплошной коллективизации как
класс кулачество, особенно обострилась ненависть капи-
талистического мира к СССР, особенно выросла опас-
ность новой войны.
В подготовке этой новой войны против страны строя-
щегося социализма церковные организации всех религий
принимают самое активное и часто руководящее участие.
Велика власть религии в буржуазных странах. Рели-
гия и церковь стоят и там поперек пути полного освобож-
дения трудящихся масс.
Ем. Ярославский. О религии. М., 1957,
стр. 197-200.
Ем. Ярославский
СРЕДИ ЦЕРКОВНИКОВ
Опубликованный документ
за подписью епископа Сергия об отношении церкви к Со-
ветской власти25 является доказательством того, что в
недрах православной церкви происходит дальнейшее
приспособление к тем социальным сдвигам, какие про-
изошли в рабочем классе и крестьянстве Советского го-
сударства. Нельзя уже больше выступать перед этими
массами с анафемствованиями и проклятиями. Надо
принять эту власть «не за страх, а за совесть». Само со-
195
бой разумеется, что от этого роль церкви под руководст-
вом епископа Сергия не стала иной, чем раньше: церковь
была и остается учреждением, эксплуатирующим отста-
лость трудовых масс, их неумение управлять силами
природы, их значительную еще беспомощность перед
стихийными силами, их распыленность, их неумение еще
целиком взять свою судьбу в свои руки. Она все еще пы-
тается играть роль «утешительницы». Она все еще пыта-
ется примирить бедняка с кулаком, рабочего с нэпманом
как «братьев во Христе». Она все еще стремится уверить
человека, что он «раб божий», когда этот человек сбра-
сывает все виды рабства.
Но нам не все равно, призывает ли глава церкви к
погромам, к сопротивлению, к борьбе с Советской вла-
стью, или он призывает исполнять все законы Советского
государства. Так, и только так, мы должны подходить к
оценке декларации Сергия и его церкви.
А с религией, хотя бы ее епископ Сергий прикрасил
в какие угодно советские одежды, с влиянием религии на
массы трудящихся мы будем вести борьбу, как ведем
борьбу со всякой религией, со всякой церковью.
Ем. Ярославский. О религии. М., 1957,
стр. 155.
В. Д. Бонч-Бруевич
Из работы
«РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В ПЕРВЫЕ ДНИ
ОКТЯБРЯ»
Лишь только прошло не-
сколько дней после низложения Временного правитель-
ства, как всюду стало слышаться, что священники вы-
ступают в проповедях и другими способами против со-
ветского режима.
В ноябре была организована специально в Смольном
так называемая «семьдесят пятая комната»26, т. е. такое
учреждение, которое возникло по воле Революционного
комитета, было утверждено Петроградским исполкомом
и должно было заняться борьбой с пьяными погромами,
контрреволюцией, саботажем, бандитизмом и другими
196
многочисленными контрреволюционными проявлениями,
которыми старый мир хотел пошатнуть новую, молодую
пролетарскую власть; Исполком с согласия Владимира
Ильича назначил меня председателем этого комитета,
вручив ему дискреционную власть для борьбы со всеми
контрреволюционными элементами и выступлениями
как в столице, так и в ее окрестностях. Не успели мы ор-
ганизовать наш новый комитет из самых отборных рабо-
чих петроградских заводов, как рабочие комиссары его,
рассыпанные решительно везде по Петрограду, сооб-
щили мне, что повсюду, в самых глухих закоулках, по-
явились чьи-то печатные прокламации, в которых про-
клинается Советская власть и призывается на голову
этих «безбожников и насильников гнев божий» и (кото-
рые) обращаются ко всем верующим в «господа нашего
Иисуса Христа» всеми мерами противиться этой новояв-
ленной «дьявольской власти», ни в коем случае ей не
подчиняться... и оставаться «верными чадами православ-
ной церкви».
Когда мне рассказали это приблизительное содержа-
ние расклеенных по заборам прокламаций, я сразу дога-
дался по тому лампадному маслу, которое было разлито
в этих прокламациях, что это, несомненно, произведение
поповских рук православной церкви, что это они высту-
пили против нас с нелегальным печатным словом.
Мне не хотелось гоняться по городу за каждой про-
кламацией, так как я прекрасно сознавал всю нелепость
подобной работы; но я чувствовал себя обязанным во что
бы то ни стало как можно скорей открыть первоисточник,
откуда идут эти произведения поповской печати, и аре-
стовать тех, кто написал эти воззвания и кто распростра-
няет их. Нам посчастливилось. Недалеко от Смольного,
в переулках, также появились эти расклеенные на домах
и заборах прокламации. Возмущенные рабочие и просто
обыватели, сорвавши их или найдя некоторое количество
экземпляров, подброшенных на крыльцо домов, собрали
все это и принесли мне в Смольный. Я тотчас же напра-
вил в эти районы с десяток рабочих комиссаров, которые
быстро рассыпались по всем переулкам и закоулкам и
в одном из них арестовали двух благочестивых старушек,
которые, ковыляя по тротуару, одетые в полумонашеские
«черничные» платья, тихонько расклеивали эти листки.
Одна мазала забор клейстером, а другая прихлопывала
бумажку, тщательно разглаживая ее. Застигнутые
197
врасплох на месте преступления они заахали, заохали и
были крайне изумлены, когда рабочие комиссары, береж-
но взяв их под крылышки, не спеша повели в Смольный.
Они были приведены ко мне в 75 комнату. Эти сморщен-
ные божьи старушки были ужасно перепуганы и почти не
могли отвечать. Видя, что разговаривать с ними не пред-
ставляется возможным, я сказал, чтобы у них отобрали
прокламации и дали мне на просмотр. Видя, что старуш-
ки очень замерзли, я велел их напоить чаем с булками и
дать погреться у печки. Старушки расположились, сна-
чала робко поглядывая на нашу боевую обстановку:
постоянно являлись матросы и солдаты, приводили
арестованных, вносили конфискованное оружие, бомбы
и т. п., с чем шли на нас тогда контрреволюционеры.
Видя, что на них никто не обращает внимания, старуш-
ки вплотную засели за чаек. Один из комиссаров угостил
их яблоком, и они, почувствовав любимый запах анто-
новки, с аппетитом выпивали стакан за стаканом, изряд-
но закусывая ситным, который был им предложен. Когда
я увидел, что старушки обогрелись, распотели и бледные
их щеки покрылись играющим румянцем, я предложил
им подойти и сесть около моего стола и повел с ними бе-
седу: кто они такие, кто их послал делать то дело, кото-
рое они делали, и просил рассказать мне все подробно.
Старушки встрепенулись и, видимо, не знали, как им
быть. Я в это время прочел воззвание, которое оказалось
подписанным патриархом Тихоном.
Это открытое выступление «святого отца» мне даже
понравилось. По крайней мере, я видел, что этот человек
не из трусливых и не рассылает подметных писем, как
это делали многие другие организации, а то, что думает,
то и говорит, не только ставя свою подпись, но и указы-
вая свой адрес.
Мне важно было знать, кто вокруг этих старушек
действует. Старушки очень скоро раздобрились и под-
робно рассказали, что им дал по целковому их знакомый,
у кого этих воззваний целые горы и который соби-
рает вот таких лиц, как они, и рассылает их по всему го-
роду и уезду. В это время ко мне в комнату вошел, как
всегда энергичной походкой, тов. Благонравов27, комен-
дант Петропавловской крепости, в полном боевом воору-
жении, а с ним два его сотоварища также в боевой по-
ходной форме. Они приехали по моему вызову, чтобы не-
медленно отправиться и прекратить погром на одном из
198
водочных заводов, который пьяная толпа громила на
Мойке. Так как уничтожить погром было дело более
важное и спешное, чем уничтожить штаб-квартиру пат-
риарха Тихона, то я сказал Благонравову, чтобы он ехал
на (место) погром (а), а потом вернулся бы ко мне для
отыскания конспиративной штаб-квартиры патриарха
Тихона и для ареста всех тех лиц, которые там находят-
ся,— и я показал ему прокламации Тихона...
Благонравов... сказал, обращаясь к старушкам:
— Пойдемте, да смотрите не путать и не врать. Нам
с вами возиться долго нечего.
— Что ты, батюшка,— заголосили старушки,— где
нам врать, мы все тебе расскажем...— и исчезли, тороп-
ливо семеня за быстро удалявшимся тов. Благонравовым.
Через полчаса Благонравов звонил мне по телефону,
что он открыл квартиру, сплошь заваленную проклама-
циями, всевозможными свеженапечатанными книгами и
брошюрами, направленными своим содержанием против
Советской власти, и что главное действующее лицо, хо-
зяин этой квартиры, арестован, а также и все те, кто был
там; что он здесь оставил засаду, а сам ведет расследо-
вание и, несомненно, в самое ближайшее время выяснит,
в какой типографии печатались эти воззвания, для того
чтобы немедленно арестовать всю типографию. Всю эту
публику он посадил в автомобиль и отправил в Петро-
павловскую крепость. Мы быстро нашли типографию,
которую немедленно закрыли, а потом конфисковали,
арестовали ее владельца и всех тех, кто принимал уча-
стие в печатании этих прокламаций...
Так началось наше первое знакомство с противосо-
ветской пропагандой представителей православной
церкви28.
Наутро я сообщил об этом инциденте Владимиру
Ильичу, показал ему прокламацию Тихона и спросил его,
что он велит делать нам с автором этих прокламаций.
— Ничего,— ответил Владимир Ильич,— сообщите
ему, что Советская власть не намеревается надеть на его
голову венец мученичества, но все те, кто будет распрост-
ранять его произведения, будут немедленно арестовы-
ваться и предаваться суровому суду. Напечатайте обо
всем этом в газетах и предупредите рабочие кварталы,
чтобы строго следили за появлением прокламаций.
Я сказал ему, что предполагаю немедленно сообщить
петроградскому митрополиту и поставить его в извест-
199
ность, что он, как глава петроградского духовенства,
будет ответствен перед Советской властью, в част-
ности перед нашим комитетом, за антиправительствен-
ную пропаганду в церквах и что он должен предупредить
всех своих благочинных и священников, что такая про-
паганда в открытом общественном месте, с кафедры и
церкви, будет нами преследоваться как контрреволюци-
онная, согласно объявленному осадному положению в
Петрограде, по всей строгости и суровости законов дик-
татуры пролетариата. Владимир Ильич одобрил эту
меру и прибавил:
— Надо всегда ставить в ответственность самых вы-
соких лиц православной церкви, хорошо помня, что низ-
шее духовенство и особенно паства являются орудием в
их руках и часто совершенно не ответственны за то, что
делает высшее церковное управление и главари его...
За несколько дней и ночей мы арестовали около со-
рока человек, которые расклеивали и разбрасывали в
различных местах Петрограда, все более по окраинам,
эти прокламации патриарха Тихона.
Я не дозвонился митрополиту, а соединился с каким-
то архиереем, который как раз позвонил мне по поводу
того, что они хотят устроить крестный ход по Невскому
от Исаакиевского собора до Невской лавры и что он тре-
бует разрешения29. Я ответил его преосвященству, что
требовать он может у себя в приходе от своих дьячков и
попов, а в Смольный ему надо обращаться с просьбой,
так как здесь заседает законное рабоче-крестьянское пра-
вительство, что на первый раз я не ставлю ему в вину его
некорректность, отнеся ее к его плохому семинарскому
воспитанию, сказав, что крестный ход правительство раз-
решает совершенно свободный, и если в нем будет не
200 тысяч, как он говорит, а даже миллион людей, то для
нас это совершенно безразлично, и что я ему гарантирую
полную безопасность крестного хода по всем улицам
Петрограда, но, со своей стороны, его официально обя-
зываю как главного командира этой процессии взять на
себя ответственность за полный порядок внутри самой
процессии, внутри тех многотысячных масс,— как гово-
рит он,— которые будут следовать за иконами и хоруг-
вями под его командой.
— Как! — возопил он по телефону мне в ответ.—
Я должен взять на себя обязательство за порядок в
крестном ходе,— да как же я могу это сделать?..
200
— Это меня не касается,— ответил я ему,— прави-
тельство разрешило свободу религиозных процессий под
строгой ответственностью их организаторов. То время,
когда урядники, полицейские и жандармы охраняли по-
рядок в крестных ходах, минуло безвозвратно, и вам
остается только одно: заменить этих представителей по-
лиции вашими многочисленными монахами, дьячками,
дьяконами, священниками, расставить их по всему крест-
ному ходу для наблюдения за порядком внутри про-
цессии.— И предупреждаю вас,— сказал ему на про-
щанье,— что если внутри процессии случатся какие-либо
недоразумения или столкновения, то вы вместе с вашими
благочинными и другими вашими начальствующими ли-
цами ответите перед законной властью по всей строгости
суровых и крайне скорых революционных законов.
Я слышал по голосу архиерея, что он был чрезвы-
чайно недоволен этим моим разговором с ним, перепуган
и почти готов отказаться от крестного хода. Я тут же
сообщил ему официально, для передачи митрополиту,
по поводу воззваний патриарха Тихона и сказал ему, что
если в крестном ходе будут раздаваться подобные лист-
ки, то арестовывать будут не тех, кто их берет, а тех, кто
их раздает, и близ идущее, наблюдающее за порядком
духовенство, в каком бы чине оно ни было и в какой бы
мундир ни было одето.
Крестный ход состоялся, но в нем участвовало, конеч-
но, не 200 тыс., а не более 50 тыс. человек. На всем прост-
ранстве его шествия, особенно на перекрестках улиц,
были поставлены вооруженные отряды Красной гвардии,
которые должны были наблюдать, чтобы никто из толпы,
не находившийся в крестном ходе, не помешал бы его
шествию, чтобы никто не произносил каких-либо оскор-
бительных речей, насмешек над священными предметами
православных. На всем пространстве шествия крестного
хода было арестовано восемь человек, которые пытались
своими провокаторскими выступлениями нарушить поря-
док и вызвать столкновение групп населения, и эти восемь
человек были доставлены к нам в Смольный, в 75 ком-
нату, для следствия и суда.
В свою очередь, чтобы воспользоваться этим крест-
ным ходом для агитационных целей, мы отпечатали воз-
звание к гражданам, в котором подробно разъяснили им
о Советском правительстве и о тех законах, которые оно
издавало и будет издавать по поводу господствующей
201
православной церкви и всех других видов культов. Мне
хотелось, чтобы эта самая некультурная, самая серая,
фанатичная толпа, которая шла за духовенством в крест-
ном ходу, познакомилась бы с сущностью декрета об
отделении церкви от государства. Эти прокламации мы
широко раздавали в крестном ходе, и я сам наблюдал,
с какой жадностью их читали вслух тут же, на улице,
и не бросали, а брали с собой. Так что все слухи, которые
распустило духовенство перед этим крестным ходом, что
правительство готовит избиение верующих и последова-
телей православной церкви, что будут у них отняты ико-
ны, хоругви и другие принадлежности их культа, оказа-
лись, конечно, совершенно ложными, ни на чем не осно-
ванными. Смешно было смотреть, как все эти дьяконы,
иподьяконы, священники, благочинные шли, подбирая
рясы, внутри крестного хода, стараясь всюду свыше вся-
кой меры поддержать порядок, вмешиваясь в разговор
отдельных групп, довольно удачно выполняя роль быв-
шей полиции. Крестный ход благополучно дошел до
Александро-Невской лавры. Там участвующие в нем раз-
брелись по кладбищу и через некоторое время группами
стали расходиться по городу. Так, защитникам контрре-
волюции демонстрация на религиозной почве совершенно
не удалась... «Правящему» и «господствующему» духо-
венству было показано его собственное место и его соб-
ственное бессилие.
Народ понял, что его обманывали. И в крестных хо-
дах, которые совершались после, народу было значи-
тельно меньше. Обыкновенно в них принимали участие
старики, старухи и жители окраин города Петрограда, по
преимуществу ремесленники, лавочники, домашняя при-
слуга и т. п. элементы, оторванные или отчужденные от
пролетарской среды.
С течением времени, когда контрреволюция все более
и более наседала на новое правительство со всех сторон,
контрреволюционная роль духовенства православной
церкви выявилась еще более во всей своей непригляд-
ности. Почти не было белогвардейского заговора, в ко-
тором не принимали бы, так или иначе, участия те или
иные элементы православной церкви, а провокационная
деятельность патриарха Тихона простерлась до такой
степени, что подвела огромное количество людей под
очень жестокие неприятности. Он и его сподвижники
были прямыми виновниками смерти огромного количе-
202
ства людей. Чтобы не быть голословным, я приведу на-
шим читателям только несколько примеров: каждое бело-
гвардейское восстание на всех границах и рубежах Рос-
сии всегда начиналось и сопутствовалось благословением
духовенства, которое умело перековывать кресты на
мечи, перевязывать кропила на нагайки и принимало са-
мое деятельное участие в истреблении представителей
рабоче-крестьянской власти. Бывали случаи — и они
нередки,—когда духовенство шло с оружием в руках
против рабоче-крестьянской армии, и в Ярославле оно
бешено расстреливало из пулеметов рабочие батальоны,
атаковавшие белогвардейские банды, наймитов фран-
цузских капиталистов.
В организации армии Колчака духовенство право-
славной церкви принимало особо деятельное участие.
Полки «Иисуса Христа», «пресвятой богородицы» и про-
чие тому подобные, по названию подражавшие полкам
средневековых крестоносцев, должны были возбуждать
религиозный фанатизм в борьбе колчаковцев против
Советской власти.
Эти полки были организованы непосредственно бе-
лым и черным духовенством, они с крестом и оружием
в руках выполняли боевые задания стремившегося к
водворению в России старого порядка белогвардейского
адмирала.
Когда зарвавшийся патриарх Тихон принужден был
«самоустраниться» под давлением некоторой части более
догадливых лиц из духовенства, то они вычитали ему
список некоторых из его общественно-политических гре-
хов. Заявив патриарху, что его известное послание-про-
кламация от 28 февраля 1922 г. по поводу церковных
ценностей «на местах явилось сигналом для новой вспыш-
ки, руководимой церковной иерархией, гражданской
войны против Советской власти», они также напомнили
ему, что с именем Тихона вообще связано вовлечение
церкви в контрреволюционную политику, конкретно
выразившуюся, между прочим: а) в демонстративном
анафемствовании патриархом большевиков 19 января
1918 г.; б) в выпуске патриархом послания от 15(28) фев-
раля 1918 г., призывавшего к сокрытию в потайных
местах церковного имущества, к набатным звонам и
к организации мирян в целях сопротивления Совет-
ской власти (это послание, по словам священника Крас-
ницкого, на местах вызвало 1414 кровавых эксцессов);
203
в) в посылке патриархом Николаю Романову в Екате-
ринбург через епископа Гермогена благословения и
просфоры; г) в рукоположении в священный сан и в при-
ближении к высшим иерархическим должностям целого
ряда лиц, определенно выявивших себя в качестве при-
верженцев старого монархического строя*; д) в превра-
щении церкви вообще в политическую организацию, при-
крывшую своей ризой и впитавшую в свои приходские
советы те безответственные элементы, кои хотят именем
церкви и под знаменем церкви свергнуть Советскую
власть **.
Конечно, это хорошо, что приходо-расходная книга
политических бесчинств и черносотенных выступлений
патриарха Тихона велась более или менее в порядке свя-
щенником Красницким, который и предъявил этот счет
самому святейшему, очевидно думая, что этот счет бьет
только по коню. Нет, он очень сильно бьет и по оглоблям!
Патриарх Тихон, несомненно, является главным дейст-
вующим лицом во всех этих контрреволюционных затеях,
но его никак нельзя причислить к «полководцам без
армии».
У него армия была и, вероятно, есть и до сих пор.
И армия значительная, добровольная, дисциплинирован-
ная. В самом деле, как это можно произвести по всей
России почти одновременно 1414 кровавых эксцессов,
подстрекателями которых были приходские батюшки,
если бы само духовенство не сочувствовало контррево-
люционной работе? Этого, конечно, никак сделать было
нельзя. Церковь не игрушка, которую хочу — разберу,
хочу — спрячу, хочу — сломаю; это одна из самых ста-
риннейших, древнейших организаций России, и если «под
флагом церкви» пытались свергнуть Советскую власть,
то, значит, не только патриарх, но и сама «церковь»
в лице ее руководителей, духовенство вместе с приход-
скими советами — а туда набилась всякая человеческая
нечисть — желали этого и во исполнение своей мечты
творили контрреволюцию.
Москва, 1930 г.
В. Д. Бонч-Бруевич. Избранные атеи-
стические произведения. М., 1973,
стр. 139—148.
* В том числе высшие чины военных из белогвардейцев.
** Цит. по кн.: А. Введенский. Церковь и государство. Очерк
взаимоотношений церкви и государства в России. 1918—1922 гг. М.,
1923, стр. 248—249.
204
М. Горький
С КЕМ ВЫ, «МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ»?
ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
[Фрагмент]
Вы ставите в пример мне
«великих людей, учителей церкви». Очень смешно, что
вы говорите об этом серьезно. Не будем говорить о том,
как, из чего и зачем сделаны великие люди церкви. Но
раньше чем опираться на этих людей, вам следовало
испытать их прочность. В суждении о «деле церкви» вы
обнаруживаете тот «американский идеализм», который
может произрастать лишь на почве глубокого невеже-
ства. В данном случае, по отношению к истории христи-
анской церкви, невежество ваше может быть объяснено
тем, что жители СШСА не испытали на своей шкуре, что
такое церковь как организация насилия над разумом
и совестью людей, не испытали с той силой, с какой это
испытано населением Европы. Вам следовало бы позна-
комиться с кровавыми драками на вселенских соборах30,
с изуверством, честолюбием и своекорыстием «великих
учителей церкви». Вам особенно много дала бы мошен-
ническая история собора в Эфесе31, вам следовало бы
прочитать что-нибудь по истории ересей, ознакомиться
с истреблением «еретиков» в первые века христианства,
еврейскими погромами, истреблением альбигойцев, табо-
ритов и вообще с кровавой политикой церкви Христовой.
Интересна для малограмотных история инквизиции, но,
конечно, не в изложении вашего земляка Вашингтона
Ли,— изложении, одобренном цензурой Ватикана, органи-
затора инквизиции. Вполне допустимо, что, ознакомясь
со всем этим, вы убедились бы, что отцы церкви ревностно
работали по укреплению власти меньшинства над боль-
шинством и, если они боролись с ересями, так это потому,
что ереси зарождались в массе трудового народа, кото-
рый инстинктивно чувствовал ложь церковников,— они
проповедовали религию для рабов,— религию, которая
господами никогда не принималась иначе, как по недора-
зумению или из страха пред рабами. Ваш историк Ван-
Лон в статье о «великих исторических ошибках» утверж-
дает, что церковь должна была бороться не за учение
евангелия, а против него; он говорит:
205
Величайшую ошибку в свое время сделал Тит, разрушив Иеру-
салим. Изгнанные из Палестины, евреи рассеялись по всему миру.
В основанных ими общинах созревало и крепло христианство, быв-
шее для Римской империи не менее пагубным, чем идеи Маркса и
Ленина для капиталистических государств.
Так оно и было и есть: христианская церковь боро-
лась против наивного коммунизма евангелия, к этому
и сводится ее «история».
Что делает церковь в наши дни? Она, конечно, прежде
всего — молится. Епископы Йоркский и Кентерберий-
ский,— тот самый, который проповедовал нечто вроде
«крестового похода» против Союза Советов,— эти два
епископа сочинили новую молитву, в которой английское
лицемерие прекрасно соединяется с английским юмором.
Это очень длинное сочинение построено по форме мо-
литвы «Отче наш». Епископы так взывают к богу:
Что касается политики нашего правительства по восстановлению
кредита и благополучия — да будет воля твоя. Что касается всего
того, что предпринимается для устроения будущего управления Ин-
дией,— да будет воля твоя. Что касается предстоящей конференции
по разоружению и всего того, что предпринимается к утверждению
мира сего мира,— да будет воля твоя. Что касается восстановления
торговли, доверия к кредиту и взаимного благожелательства — хлеб
наш насущный даждь нам днесь. О сотрудничестве всех классов по
работе на общее благо — хлеб наш насущный даждь нам днесь. Если
мы оказались повинными в национальной гордыне и находили более
удовлетворения в господстве над другими, нежели в оказании им по-
мощи по мере сил наших,— остави нам долги наши. Если мы проя-
вили себялюбие в ведении наших дел и ставили наши интересы и ин-
тересы нашего класса выше интересов других — остави нам долги
наши.
Вот типичная молитва испуганных лавочников! На
протяжении ее они раз десять просят бога «оставить»
им «долги» их, но ни одного раза не говорят о том, что
готовы и могут перестать делать долги. И только в одном
случае просят у бога «прощения»:
За то, что мы предались национальному высокомерию, находя
удовлетворение во власти над другими, а не в умении служить им,—
прости нас, господи.
Прости нам этот грех, но — мы не можем отказаться
грешить,— вот что говорят они. Но большинством ан-
глийских попов это прошение о прощении было отверг-
нуто,— вероятно, они нашли его неудобным и унизитель-
ным для себя.
206
Молитву эту должны были «вознести» к престолу
английского бога 2 января в Лондоне, в соборе Павла.
Священникам, которым молитва не нравится, епископ
Кентерберийский разрешил не читать ее.
Итак, вот до каких пошлых и глупых комедий доросла
христианская церковь, и вот как забавно попы снизили
бога своего до положения старшего лавочника и участ-
ника во всех коммерческих делах лучших лавочников
Европы. Но было бы несправедливо говорить только об
английских попах, забывая, что итальянскими организо-
ван Банк святого духа, а во Франции, в городе Мюл-
люезе, 15 февраля, как сообщает парижская газета рус-
ских эмигрантов,—
По распоряжению судебных властей арестованы заведующий и
приказчик книжного магазина католического издательства «Юнион»,
во главе которого стоит аббат Эжи. В книжном магазине продава-
лись порнографические фотографии и книги, ввозимые из Германии.
«Товар» конфискован. По содержанию некоторые книги — не только
порнографические, но обливали грязью и религию.
Фактов такого рода — сотни, и все они утверждают
одно и то же: церковь, служанка воспитателя и хозяина
своего — капитализма, заражена всеми болезнями, кото-
рые разрушают его. И если допустить, что когда-то бур-
жуазия «считалась с моральным авторитетом церкви»,
так нужно признать, что это был авторитет «полиции ду-
ха», авторитет одной из организаций, служивших для
угнетения трудового народа. Церковь «утешала»? Не
отрицаю. Но утешение это — один из приемов угашения
разума.
Нет, проповедь любви бедного к богатому, рабочего
к хозяину — не мое ремесло. Я не способен утешать.
Я слишком давно и хорошо знаю, что весь мир живет в
атмосфере ненависти, я вижу, что она становится все
гуще, активней, благотворней.
Вам, «гуманистам, которые хотят быть практиками»,
пора понять, что в мире действуют две ненависти: одна
возникла среди хищников на почве их конкуренции
между собой, а также из чувства страха пред будущим,
которое грозит хищникам неизбежной гибелью; дру-
гая— ненависть пролетариата — возникает из его отвра-
щения к действительности и все более ярко освещается
его сознанием права на власть. В той силе, до которой
обе эти ненависти доразвились, ничто и никто не может
207
примирить их, и ничто, кроме неизбежного, боевого
столкновения их физических, классовых носителей, ни-
что, кроме победы пролетариев, не освободит мир от
ненависти.
1932 г.
М. Горький. Собрание сочинении в три-
дцати томах, т. 26. М., 1953, стр. 261—
263.
М. Горький
ПРОЛЕТАРСКАЯ НЕНАВИСТЬ
На протяжении многих ве-
ков «духовные вожди» буржуазии, ее церковь, ее школы
непрерывно и красноречиво, искренно и лицемерно
утверждали веру в творческие силы христианской, гума-
нитарной культуры ростовщиков, банкиров, фабрикан-
тов, лавочников. Учили: веровать в бога, надеяться на
лучшее будущее за гробом, любить ближнего, как самого
себя. В поучениях этих хитроумие грамотных не всегда
спекулировало в надежде на глупость невежд, ибо до-
вольно часто «мыслившие о мире в целом, о тайнах жиз-
ни»— то есть о бесконечно разнообразных изменениях
материи, основного вещества всех явлений жизни,— му-
жественно признавались, что они не видят смысла бытия.
Другие мыслители, занимаясь исследованием социаль-
ных— трудовых и торговых — взаимоотношений людей,
столь же мужественно утверждали, что как было, как
есть, так и будет во веки веков и до конца мира. В общем
же весь смысл умственной деятельности буржуазии все-
цело характеризуется словами «Коммунистического ма-
нифеста»: «Господствующими идеями любого времени
были всегда лишь идеи господствующего класса».
Эти идеи — отличнейшие темы для комедии.
В тысячах церквей Европы буржуа всех ее государств
молились «единому христианскому богу»: «Мир — ми-
рови твоему даруй!» В 1914 году немцы начали умолять
его о помощи в благочестивом деле разгрома французов
и англичан, а эти последние страстно умоляли того же
бога помочь им уничтожить немцев. Существуй
бог — трагикомическое положение его было бы глубоко
смехотворно.
208
Но ни в небесах, ни на земле бытия божия не обна-
ружено, хотя он все-таки якобы существует, и всемирное
мещанство в гнусной, бесчеловечной политической прак-
тике своей притворяется верующим в доброжелательное
отношение бога к фабрикации мещанами клеветы, лжи
и всякой мерзости. Зам. бога на земле, папа римский,
князь католической церкви, и отщепенцы ее — еретики —
епископы Кентерберийский, Йоркский, «духовные вож-
ди» наиболее хитрого и лицемерного английского мещан-
ства, опираясь на «святое имя его», проповедуют «кре-
стовый поход» против Союза Советов, против страны, где
строится социализм, цель которого объединить весь тру-
довой народ земли в единую силу для братской работы
создания нового мира.
Либеральное мещанство считает себя основополож-
ником и хранителем европейской культуры. Оно еще
недавно верило в «эволюцию культуры», в непрерыв-
ность ее развития. Сегодня мы видим, что его звериная
ненависть к социализму, к работе раскрепощения трудя-
щихся из железных цепей капитала принудила немецких
лавочников отказаться от возлюбленной ими якобы «гу-
манитарной культуры» в пользу наглейшего разбоя, ка-
ким является воинствующий фашизм. Фашизм прежде
всего — ничем не прикрытое, циническое истребление ре-
волюционного, но безоружного пролетариата одичавши-
ми, но вооруженными хозяевами, капиталистами. Затем
фашизм — отрицание культуры, проповедь войны, крик
обессилевшего о желании быть сильным. Есть очень
мрачный юмор в том, что на охрану труда и здоровья
трудящихся капиталисты всегда тратили гроши, а на
истребление людей тратят миллиарды денег, нажитых на
труде рабочих и крестьян.
Отказываются и от христианского бога, заменяя его
древними, языческими богами, и явились миру в виде
совершенно обнаженном, без штанов, в собственной
коже, как жабы. Поспешно организуют новую всемир-
ную бойню на земле, на воде, под землей, в воздухе,
с применением ядовитых газов, бактерий чумы и других
эпидемий и всех «десяти казней египетских». Чтоб почув-
ствовать, что значит современный капиталист, нужно
подсчитать приблизительное количество двуногих зверей
этого семейства и количество рабочих людей, которых
это зверье истребляет в междоусобных своих драках за
золото и ради укрепления власти своей внутри госу-
209
дарств своих, против пролетариата. Подсчитав это, мы
убедимся, что каждый банкир, фабрикант, помещик,
лавочник является убийцей сотен, а может быть, и тысяч
наиболее здоровых, трудоспособных, талантливых людей.
Готовя новую войну, капиталисты снова готовятся истре-
бить десятки миллионов населения Европы, уничтожить
огромное количество осуществленного, ценнейшего труда.
Имеем ли мы право ненавидеть этих одичавших,
неизлечимых дегенератов — выродков человечества, эту
безответственную международную шайку явных преступ-
ников, которые, наверное, попробуют натравить свой
«народ» и на государство строящегося социализма?
Подлинный, искренний революционер Союза Совет-
ских Социалистических Республик не может не носить
в себе сознательной, активной, героической ненависти к
подлому врагу своему. Наше право на ненависть к нему
достаточно хорошо обосновано и оправдано. И так же
хорошо, так же основательно оправдана ненависть наша
ко всем равнодушным, лентяям, пошлякам и прочим уро-
дам, которые еще живут и мелькают в нашей стране,
бросая на спасительную для всего мира нашу светлую,
чудодейственную работу серые, грязные тени пошлости,
безразличия, равнодушия, мелкого жульничества, ме-
щанского своекорыстия.
Наша революционная, пролетарская ненависть к тем,
кто создает несчастья и страдания людей, должна быть
противопоставлена звериной, своекорыстной, больной
ненависти мира капиталистов, загнивших от ожирения,
осужденных историей на гибель.
Нам и во сне надобно помнить, что мы уже научились
неплохо работать на свое счастье и что оно может быть
навсегда вкраплено в жизнь только при условии, если мы
еще лучше научимся работать на раскрепощение, на сво-
боду, на счастье трудящихся всего мира.
М. Горький. Собрание сочинений в три-
дцати томах, т. 27. М., 1953, стр. 472—
474.
III
НАУКА
ПРОТИВ
РЕЛИГИИ
К. Маркс
Ф. Энгельс
В. И. Ленин
Лукреций Кар
Леонардо да Винчи
М. Монтень
Ж. Мелье
М. В. Ломоносов
Н. Г. Чернышевский
Ч. Дарвин
А. Бебель
Д. И. Менделеев
И. Дицген
Г. В. Плеханов
М. Бертло
К. А. Тимирязев
И. И. Мечников
Марк Твен
И. И. Скворцов-Степанов
И. П. Павлов
Ем. Ярославский
А. В. Луначарский
К. Э. Циолковский
М. Горький
Н. К. Крупская
И. В. Мичурин
Эдуардас Межелайтис
К. Маркс
Из работы
«ЭКОНОМИЧЕСКО-ФИЛОСОФСКИЕ
РУКОПИСИ 1844 ГОДА»
Представление о сотворении
земли получило сокрушительный удар со стороны геогно-
зии, т. е. науки, изображающей образование земли, ста-
новление ее как некий процесс, как самопорождение.
Generatio aequivoca * является единственным практиче-
ским опровержением теории сотворения.
Легко, конечно, сказать отдельному индивиду то, что
говорил уже Аристотель: Ты рожден твоим отцом и
твоей матерью; значит, в случае с тобой соединение двух
человеческих существ, т. е. родовой акт людей произвел
человека. Ты видишь, стало быть, что человек и физиче-
ски обязан своим бытием человеку. Значит, ты должен
иметь в виду не только одну сторону — бесконечный про-
гресс, в силу которого ты продолжаешь спрашивать: кто
породил моего отца? кто породил его деда? и т. д. Ты
должен иметь в виду также и то круговое движение, ко-
торое чувственно-наглядным образом дано в этом беско-
нечном прогрессе,— круговое движение, в силу которого
человек в деторождении повторяет себя самого и, следо-
вательно, субъектом всегда остается человек. Однако ты
ответишь: я признаю это круговое движение, так признай
же и ты вышеуказанный бесконечный прогресс, который
гонит меня все дальше и дальше, пока я не спрошу, кто
же породил первого человека и природу вообще. На это
я могу тебе ответить только следующее: самый твой во-
прос есть продукт абстракции. Спроси себя, как ты при-
шел к этому вопросу; спроси себя, не продиктован ли
твой вопрос такой точкой зрения, на которую я не могу
дать ответа, потому что она в корне неправильна. Спроси
себя, существует ли для разумного мышления вышеука-
занный бесконечный прогресс как таковой. Задаваясь во-
просом о сотворении природы и человека, ты тем самым
абстрагируешься от человека и природы. Ты полагаешь
их несуществующими и тем не менее хочешь, чтобы я до-
казал тебе их существование. Я говорю тебе: откажись от
своей абстракции, и ты откажешься от своего вопроса;
если же ты хочешь придерживаться своей абстракции, то
* Самопроизвольное зарождение.— Ред.
213
будь последователен, и когда ты мыслишь человека и
природу несуществующими, то мысли несуществующим и
самого себя, так как ты тоже — и природа и человек. Не
мысли, не спрашивай меня, ибо, как только ты начинаешь
мыслить и спрашивать, твое абстрагирование от бытия
природы и человека теряет всякий смысл. Или, быть мо-
жет, ты такой эгоист, что полагаешь все несуществую-
щим, а сам хочешь существовать?
Ты можешь мне возразить: я вовсе не предполагаю
природу несуществующей; я спрашиваю тебя об акте ее
возникновения, как спрашивают анатома об образовании
у зародыша костей и т. д.
Но так как для социалистического человека вся так
называемая всемирная история есть не что иное, как по-
рождение человека человеческим трудом, становление
природы для человека, то у него есть наглядное, неопро-
вержимое доказательство своего порождения самим
собою, процесса своего возникновения. Так как для социа-
листического человека существенная реальность челове-
ка и природы приобрела практический, чувственный, на-
глядный характер, причем человек наглядно стал для че-
ловека бытием природы, а природа наглядно стала для
него бытием человека, то стал практически невозможным
вопрос о каком-то чуждом существе, о существе, стоящем
над природой и человеком,— вопрос, заключающий в себе
признание несущественности природы и человека. Атеизм,
как отрицание этой несущественности, не имеет больше
никакого смысла, потому что атеизм является отрицани-
ем бога и утверждает бытие человека именно посредст-
вом этого отрицания; но социализм, как социализм, уже
не нуждается в таком опосредствовании: он начинает с
теоретически и практически чувственного сознания чело-
века и природы как сущности. Социализм есть положи-
тельное, уже не опосредствуемое отрицанием религии са-
мосознание человека, подобно тому как действительная
жизнь есть положительная действительность человека,
уже не опосредствуемая отрицанием частной собственно-
сти, коммунизмом. Коммунизм есть позиция как отрица-
ние отрицания, поэтому он является действительным, для
ближайшего этапа исторического развития необходимым
моментом эмансипации и обратного отвоевания человека.
Коммунизм есть необходимая форма и энергический
принцип ближайшего будущего...
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 42,
стр. 125—127.
Ф. Энгельс
Из работы
«ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ»
С богом никто не обращает-
ся хуже, чем верующие в него естествоиспытатели. Мате-
риалисты попросту объясняют положение вещей, не вда-
ваясь в подобного рода фразеологию; это последнее они
делают лишь тогда, когда назойливые верующие люди
желают навязать им бога, и в этом случае они отвечают
коротко — или в стиле Лапласа: «Sire je n'avais etc.»*,
или грубее, на манер голландских купцов, которые спро-
важивают немецких коммивояжеров, навязывающих им
свои дрянные фабрикаты, обычно такими словами: «Ik
kan die zaken niet gebruiken» **,— и этим дело кончается.
Но чего только не пришлось вытерпеть богу от своих за-
щитников! В истории современного естествознания за-
щитники бога обращаются с ним так, как обращались с
Фридрихом-Вильгельмом III во время йенской кампа-
нии его генералы и чиновники. Одна армейская часть за
другой складывает оружие, одна крепость за другой ка-
питулирует перед натиском науки, пока, наконец, вся
бесконечная область природы не оказывается завоеван-
ной знанием и в ней не остается больше места для твор-
ца. Ньютон оставил ему еще «первый толчок», но запре-
тил всякое дальнейшее вмешательство в свою солнеч-
ную систему. Патер Секки, хотя и воздает ему всякие ка-
нонические почести, тем не менее весьма категорически
выпроваживает его из солнечной системы, разрешая ему
творческий акт только в отношении первоначальной ту-
манности. И точно так же обстоит дело с богом во всех
остальных областях. В биологии его последний великий
Дон-Кихот, Агассис, приписывает ему даже положитель-
ную бессмыслицу: бог должен творить не только живот-
ных, существующих в действительности, но и абстракт-
ных животных, рыбу как таковую! А под конец Тиндаль
совершенно запрещает ему всякий доступ к природе и от-
сылает его в мир эмоций, допуская его только потому,
что должен же быть кто-нибудь, кто знает обо всех этих
* «Государь, я не нуждался в этой гипотезе».—Ред.
** «Мне этакие вещи не нужны».— Ред.
215
вещах (о природе) больше, чем Джон Тиндаль! Что за
дистанция от старого бога — творца неба и земли, все-
держителя, без которого ни один волос не может упасть
с головы!
Эмоциональная потребность Тиндаля не доказывает
ровно ничего. Кавалер де Грие тоже имел эмоциональ-
ную потребность любить Манон Леско и обладать ею,
хотя она неоднократно продавала себя и его; из любви
к ней он стал шулером и сутенером, и если бы Тиндаль
захотел его упрекнуть за это, то он ответил бы своей
«эмоциональной потребностью»!
Bor = nescio*; но ignorantia non est argumentum **
(Спиноза).
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр.
514—515.
* Не знаю.— Ред.
** Невежество не есть аргумент.— Ред.
В. И. Ленин
Из работы
«ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ
ЧАСТИ МАРКСИЗМА»
Философия марксизма есть
материализм. В течение всей новейшей истории Европы,
и особенно в конце XVIII века, во Франции, где разыгра-
лась решительная битва против всяческого средневеко-
вого хлама, против крепостничества в учреждениях и в
идеях, материализм оказался единственной последова-
тельной философией, верной всем учениям естественных
наук, враждебной суевериям, ханжеству и т. п. Враги де-
мократии старались поэтому всеми силами «опроверг-
нуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали
разные формы философского идеализма, который всегда
сводится, так или иначе, к защите или поддержке рели-
гии.
Маркс и Энгельс самым решительным образом от-
стаивали философский материализм и неоднократно
разъясняли глубокую ошибочность всяких уклонений от
этой основы. Наиболее ясно и подробно изложены их
взгляды в сочинениях Энгельса: «Людвиг Фейербах» и
«Опровержение Дюринга», которые — подобно «Ком-
мунистическому Манифесту» — являются настольной
книгой всякого сознательного рабочего.
Но Маркс не остановился на материализме XVIII ве-
ка, а двинул философию вперед. Он обогатил ее приобре-
тениями немецкой классической философии, особенно
системы Гегеля, которая в свою очередь привела к ма-
териализму Фейербаха. Главное из этих приобретений —
диалектика, т. е. учение о развитии в его наиболее пол-
ном, глубоком и свободном от односторонности виде,
учение об относительности человеческого знания, даю-
щего нам отражение вечно развивающейся материи.
Новейшие открытия естествознания — радий, электроны,
превращение элементов — замечательно подтвердили ди-
алектический материализм Маркса, вопреки учениям
буржуазных философов с их «новыми» возвращениями к
старому и гнилому идеализму.
Углубляя и развивая философский материализм,
Маркс довел его до конца, распространил его познание
природы на познание человеческого общества. Величай-
217
шим завоеванием научной мысли явился исторический
материализм Маркса. Хаос и произвол, царившие до сих
пор во взглядах на историю и на политику, сменились
поразительно цельной и стройной научной теорией, по-
казывающей, как из одного уклада общественной жизни
развивается, вследствие роста производительных сил,
другой, более высокий,— из крепостничества, например,
вырастает капитализм.
Точно так же, как познание человека отражает неза-
висимо от него существующую природу, т. е. развиваю-
щуюся материю, так общественное познание человека
(т. е. разные взгляды и учения философские, религиоз-
ные, политические и т. п.) отражает экономический
строй общества. Политические учреждения являются
надстройкой над экономическим основанием. Мы видим,
например, как разные политические формы современных
европейских государств служат укреплению господства
буржуазии над пролетариатом.
Философия Маркса есть законченный философский
материализм, который дал человечеству великие орудия
познания, а рабочему классу — в особенности.
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23,
стр. 43—44.
Тит Лукреций Кар
О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ
[Фрагменты]
В те времена, как у всех на глазах безобразно
влачилась
Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом,
С областей неба главу являвшей, взирая оттуда
Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу,
Эллин впервые один осмелился смертные взоры
Против нее обратить и отважился выступить против.
И ни молва о богах, ни молньи, ни рокотом грозным
Небо его запугать не могли, но, напротив, сильнее
Духа решимость его побуждали к тому, чтобы крепкий
Врат природы затвор он первый сломить устремился.
Силою духа живой одержал он победу, и вышел
Он далеко за предел ограды огненной мира,
По безграничным пройдя своей мыслью и духом
пространствам.
Как победитель, он нам сообщает оттуда, что может
Происходить, что не может, какая конечная сила
Каждой вещи дана и какой ей предел установлен.
Так, в свою очередь, днесь религия нашей пятою
Попрана, нас же самих победа возносит до неба.
Тут одного я боюсь: чтобы как-нибудь ты не подумал,
Что приобщаешься мной к нечестивым ученьям, вступая
На преступлений стезю. Но, напротив, религия больше
И нечестивых сама и преступных деяний рождала.
Было в Авлиде ведь так, где жертвенник Тривии Девы
Ифианассиной был осквернен неповинною кровью,
Пролитой греков вождями — героями лучшими войска1.
Только лишь девы власы повязкой обвили священной
И по обеим щекам равномерно концы опустили,
Только узрела она, что подавленный горем родитель
Пред алтарем предстоит, а прислужники нож укрывают,
Что проливают, глядя на нее, сограждане слезы,
В страхе немея, она к земле преклонила колена.
219
И не могло ей тогда, несчастной, помочь, что впервые
Имя отца даровала она, родившись, Атриду.
На руки мужи ее, дрожащую телом, подъяли
И к алтарю понесли. Но не с тем, чтобы после обряда
При песнопеньях итти громогласных во славу Гимена,
Но чтобы ей, непорочной, у самого брака порога
Гнусно рукою отца быть убитой, как жертве печальной,
Для ниспосланья судам счастливого выхода в море.
Вот к злодеяньям каким побуждала религия
смертных. <...>
За основание тут мы берем положенье такое:
Из ничего не творится ничто по божественной воле.
И оттого только страх всех смертных объемлет, что
много
Видят явлений они на земле и на небе нередко,
Коих причины никак усмотреть и понять не умеют,
И полагают, что все это божьим веленьем творится.
Если же будем мы знать, что ничто не способно
возникнуть
Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим
Наших заданий предмет: и откуда являются вещи,
И каким образом все происходит без помощи свыше.
Если бы из ничего в самом деле являлися вещи,
Всяких пород существа безо всяких семян бы
рождались:
Так, например, из морей возникали бы люди, из суши —
Рыб чешуйчатых род и пернатые, с неба срывался б
Крупный и мелкий скот, и породы бы диких животных
Разных, неведомо как, появлялись в полях и пустынях.
И на деревьях плоды не имели бы стойкого вида,
Но изменялись бы все произвольно на дереве каждом.
Ведь, коль бы тел родовых у отдельных вещей
не имелось,
Определенную мать эти вещи имели бы разве?
Но, так как все из семян созидается определенных,
И возникают на свет и родятся все вещи оттуда,
Где и материя есть и тела изначальные каждой,
То потому и нельзя, чтобы все из всего нарождалось,
Ибо отдельным вещам особые силы присущи.
Кроме того, почему распускается роза весною,
Летом же зреют хлеба, виноградные осенью гроздья,
Иначе, как потому, что, когда в свое время сольются
Определенных вещей семена, возникают созданья
Благоприятной порой, когда безопасно выводит
220
Нежные вещи на свет земли животворная сила?
Иначе, из ничего возникая, внезапно бы вещи
Неподходящей порой в неизвестные сроки являлись,
Ибо тогда б никаких не имелось начал первородных,
Что от стеченья могли б удержаться в ненужное время.
Да и развитье вещей для соития семени в сроке
(Если бы из ничего возникали они) не нуждалось.
В юношей сразу тогда б превращались грудные
младенцы,
Из-под земли бы внезапно деревья выскакивать стали.
Но очевидно, что так никогда не бывает, и вещи
Все постепенно растут из известных семян, как и
должно,
Род свой при этом всегда сохраняя. Ты видишь отсюда,
Что из материи все вырастает своей и живет ей.
Также заметь: без дождей ежегодных в известную пору
Радостных почва плодов приносить никогда не могла бы,
Да и порода живых созданий, корму лишившись,
Род умножать свой и жизнь обеспечить была бы
не в силах.
Можно скорее признать, что имеется множество общих
Тел у различных вещей,— как в словах одинаковых
знаков,—
Чем, что возможно вещам без первичных начал
зарождаться.
И, наконец, почему не была в состояньи природа
Сделать такими людей, чтобы вброд проходили по морю
Или руками могли расторгнуть великие горы
И поколенья людей превзойти продолжительной
жизнью,
Иначе, как потому, что всему, что способно родиться,
При зарожденьи дана материи точная доля?
Из ничего, словом, должно признать, ничто не родится,
Ибо все вещи должны иметь семена, из которых
Выйти могли бы они и пробиться на воздух прозрачный.
И, в заключенье, раз почва полей обработанных лучше
Дикой земли и дает она пахарю лучшие всходы,
То, очевидно, начала вещей обретаются в почве;
Мы же, ворочая в ней сошником плодородные глыбы
И разрыхляя земельный покров, побуждаем их к жизни.
Если же не было б их, ты бы видел, что все без работы
Нашей само по себе возникло бы лучше гораздо.
Надо добавить еще: на тела основные природа
Все разлагает опять и в ничто ничего не приводит.
221
Ибо, коль вещи во всех частях своих были бы смертны,
То и внезапно из глаз исчезали б они, погибая;
Не было б вовсе нужды и в какой-нибудь силе, могущей
Их по частям разорвать и все связи меж ними
расторгнуть,
Но, так как все состоят из вечного семени вещи,
То до тех пор, пока им не встретится внешняя сила,
Или такая, что их изнутри чрез пустоты разрушит,
Гибели полной вещей никогда не допустит природа.
Кроме того, коль всему, что от старости в ветхость
приходит,
Время приносит конец, материю всю истребляя,
Как и откуда тогда возрождает Венера животных
Из роду в род, иль откуда земля-искусница может
Из роду в род их кормить и растить, доставляя им пищу?
Как и откуда ключи и текущие издали реки
Полнят моря? И откуда эфир питает созвездья?
Должно ведь было бы все, чему смертное тело присуще,
Быть истребленным давно бесконечного времени днями.
Если ж в теченье всего миновавшего ранее века
Были тела, из каких состоит этот мир, обновляясь,
То, несомненно, они обладают бессмертной природой,
И потому ничему невозможно в ничто обратиться.
И, наконец, от одной и той же причины и силы
Гибла бы каждая вещь, не будь материя вечной
И не скрепляй она все своим большим иль меньшим
сцепленьем:
Прикосновенье одно всему причиняло бы гибель,
Ибо, ведь, если ничто не имело бы вечного тела,
Всякая сила могла б сплетенье любое расторгнуть.
Но, раз на деле начал сцепления между собою
Многоразличны и вся существует материя вечно,
Тело вещей до тех пор нерушимо, пока не столкнется
С силой, которая их сочетанье способна разрушить.
Так что, мы видим, отнюдь не в ничто превращаются
вещи,
Но разлагаются все на тела основные обратно. <...>
Те же, которые свойств материи вовсе не знают,
Думают нам вопреки, что без воли богов неспособна,
Приноровляясь ко всем человеческим нуждам, природа
Года менять времена и выращивать хлебные злаки
И остальное творить, чем смертных к себе привлекает
Страсти божественный зов, вождя нашей жизни, и манит
В сладких утехах любви порождать поколенья живущих,
222
Чтоб не погиб человеческий род, для которого боги
Будто бы создали все. Но они в измышленьях этих,
Кажется мне, далеко уклонились от здравого смысла.
Ибо, коль даже совсем оставались бы мне неизвестны
Первоначала вещей, и тогда по небесным явленьям,
Как и по многим другим, я дерзнул бы считать
достоверным,
Что не для нас и отнюдь не божественной волею создан
Весь существующий мир: столь много в нем всяких
пороков.
Это впоследствии я объясню тебе... <...>
Ну, а причину того, что богов почитанье в народах
Распространилось везде, города алтарями наполнив,
И учредился обряд торжественных богослужений,
Ныне в особых местах, совершаемых в случаях важных,
Также откуда теперь еще в смертных внедрен этот ужас,
Что воздвигает богам все новые капища всюду
На протяженьи земли и по праздникам их наполняет,—
Все это здесь объяснить не составит больших
затруднений.
Дело ведь в том, что уже и тогда поколениям
смертных
Дивные лики богов случалось, и бодрствуя, видеть,
Иль еще чаще во сне изумляться их мощному стану.
Чувства тогда приписали богам, потому что, казалось,
Телодвиженья они совершали и гордые речи,
Шедшие к их красоте лучезарной и силе, вещали.
Вечной считалась их жизнь, потому что всегда
неизменным
Лик оставался у них и все тем же являлся их образ;
Главным же образом мощь почиталась их столь
непомерной,
Что одолеть никакой невозможно, казалось, их силой.
И потому несравненным богов полагали блаженство,
Что не тревожит из них ни единого страх перед смертью.
И в сновиденьях еще представлялося людям, что боги
Много великих чудес совершают без всяких усилий.
Видели, кроме того, что вращение неба и смена
Года различных времен совершаются в строгом порядке,
Но не могли распознать, почему это так происходит,
И прибегали к тому, что богам поручали все это,
Предполагая, что все направляется их мановеньем,
В небе жилища богов и обители их помещали,
Видя, что ночь и луна по небесному катятся своду,
223
День и ночь, и луна, и ночи суровые знаки,
Факелы темных небес и огней пролетающих пламя,
Солнце и тучи, и снег, и град, и молньи, и ветры,
Бурь стремительный вихрь и грозные грома раскаты.
О человеческий род несчастный! Такие явленья
Мог он богам приписать и присвоить им гнев
беспощадный!
Сколько стенаний ему, сколько нам это язв причинило,
Сколько доставило слез и детям нашим и внукам!
Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой
главою
Ты к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь,
Иль повергаешься ниц, или, длани свои простирая,
Молишься храмам богов, иль обильною кровью
животных
Ты окропляешь алтарь, или нижешь обет на обеты,
Но в созерцаньи всего при полном спокойствии духа.
Ибо, когда мы глаза подымаем к небесным
пространствам,
Видя в мерцании звезд высоты эфира над нами,
И устремляется мысль на луны и на солнца движенья,
То из-под гнета других мучений в груди начинает
Голову вверх поднимать, пробуждаясь, такая забота:
Нет ли над нами богов, безграничная мощность которых
Разным движеньем кругом обращает блестящие звезды?
Скудость познания мысль беспокоит тревожным
сомненьем,
Именно: было иль нет когда-то рождение мира,
И предстоит ли конец, и доколь мироздания стены
Неугомонный напор движения выдержать могут;
Или, по воле богов одаренные крепостью вечной,
Могут, в теченье веков нерушимо всегда сохраняясь,
Пренебрегать необъятных веков сокрушительной силой?
Иль у кого же тогда не спирает дыхания ужас
Пред божеством, у кого не сжимаются члены в испуге,
Как содрогнется земля, опаленная страшным ударом
Молньи, а небо кругом огласят громовые раскаты?
И не трепещут ли все племена и народы, и разве
Гордые с ними цари пред богами не корчатся в страхе,
Что и за гнусности все, и проступки, и наглые речи
К ним подошло, наконец, и тяжелое время расплаты?..
Так все деянья людей сокровенная некая сила
Рушит, а пышные связки и грозные с ними секиры
Любо, как видно, ей в прах попирать и посмешищем
делать.
224
И, наконец, когда вся под ногами колеблется почва,
Падают или грозят города потрясенные рухнуть,
Что же тут странного в том, если так поколения смертных
Уничтожают себя и всецело богам оставляют
Чудные силы и власть управления всею вселенной?
* * *
Все остальное, что здесь на земле созерцают и в небе
Смертные, часто притом ощущая и страх и смущенье,
Дух принижает у них от ужаса перед богами
И заставляет к земле поникать головой, потому что
В полном незнаньи причин вынуждаются люди ко власти
Вышних богов прибегать, уступая им царство над миром.
Этих явлений причин усмотреть и понять не умеют
И полагают, что все это божьим веленьем творится.
Ибо и те, кто познал, что боги живут безмятежно,
Все-таки, если начнут удивляться, каким же порядком
Всё происходит кругом, особенно то, что мы видим
Над головою у нас, в беспредельных пространствах эфира,
Часто они обращаются вновь к суевериям древним
И признают над собой, несчастные, строгих хозяев,
Веруя в то, что они всемогущи, не зная, что может
Происходить, что не может, какая конечная сила
Каждой вещи дана и какой ей предел установлен.
Так в ослепленьи с пути еще больше сбиваются люди.
Лукреций. О природе вещей. М —Л.,
1946, стр. 11—13. 15—21. 83, 349—353,371.
Леонардо да Винчи
ОБ ИСТИННОЙ И ЛОЖНОЙ НАУКЕ
[Фрагменты]
...Мне кажется, что пусты и
полны заблуждений те науки, которые не порождены
опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются
в наглядном опыте, т. е. те науки, начало, середина или
конец которых не проходит ни через одно из пяти чувств.
225
И если мы подвергаем сомнению достоверность всякой
ощущаемой вещи, тем более должны мы подвергать сом-
нению то, что восстает против ощущений, каковы, напри-
мер, вопросы о сущности бога и души и тому подобные,
по поводу которых всегда спорят и сражаются. И поис-
тине всегда там, где недостает разумных доводов, там
их заменяет крик, чего не случается с вещами достовер-
ными. Вот почему мы скажем, что там, где кричат, там
истинной науки нет, ибо истина имеет одно-единственное
решение, и когда оно оглашено, спор прекращается на-
всегда. И если спор возникает снова и снова, то эта на-
ука— лживая и путаная, а не возродившаяся [на новой
основе] достоверность. <...>
Приобретение любого познания всегда полезно для
ума, ибо он сможет отвергнуть бесполезное и сохранить
хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя ни любить, ни нена-
видеть, если сначала ее не познать. <...>
Из речей человеческих глупейшей должна почитаться
та, которая распространяется о суеверии некромантии2,
сестры алхимии3, матери вещей простых и естественных.
И тем более заслуживает она упреков в сравнении с ал-
химией, что не производит никакой вещи, кроме ей по-
добной, т. е. лжи. Этого не случается с алхимией, испол-
нительницей простых произведений природы, тех, кото-
рые самой природой выполнены быть не могут, поскольку
нет у нее органических орудий, при помощи коих она мог-
ла бы совершать то, что совершает человек при помощи
рук, сделавший таким образом стекло и т. д.
Но некромантия эта, знамя и ветром развеваемый
стяг, есть вожак глупой толпы, которая постоянно сви-
детельствует криками о бесчисленных действиях такого
искусства; и этим наполнили книги, утверждая, что зак-
линания и духи действуют и без языка говорят, и без ор-
ганов, без которых говорить невозможно, говорят, и но-
сят тяжелейшие грузы, производят бури и дождь, и что
люди превращаются в кошек, волков и других зверей,
хотя в зверей прежде всего вселяются те, кто подобное
утверждает. <...>
Знаю, существует бесконечно много таких людей, ко-
торые ради удовлетворения одной своей прихоти унич-
тожили бы бога вместе со всей Вселенной. Но коль ско-
ро такое искусство не сохранилось среди этих людей, бу-
дучи для них столь необходимым, значит оно никогда и
не существовало и никогда не сможет существовать, в со-
226
ответствии с определением духа, являющегося чем-то не-
видимым и бестелесным: ведь бестелесных вещей не су-
ществует среди стихий, ибо там, где нет тела, там — пус-
тота, а пустоты среди стихий нет, так как она сразу же
оказалась бы заполненной той или иной стихией.
Леонардо да Винчи. Избранные естест-
веннонаучные произведения. М., 1955,
стр. 9, 12, 15-16, 17,
Мишель Монтень
Из работы
«ОПЫТЫ»
О ХРОМЫХ
Трудное дело — сохранить в
неприкосновенности свое суждение, когда на него так да-
вят общепринятые взгляды. Сперва предмет разговора
убеждает простаков, после них убежденность, поддер-
жанная численностью уверовавших и древностью свиде-
тельств, распространяется и на людей тонкого ума. Я же
лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного
не удостою веры и не стану также судить о воззрениях
на основании их древности...
...В начале всяческой философии лежит удивление, ее
развитием является исследование, ее концом — незнание.
Надо сказать, что существует незнание, полное силы и
благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее
знанию, незнание, для достижения которого надо ничуть
не меньше знания, чем для права называться знающим...
...Мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в про-
тивном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот
вам и новый способ убеждения. Но, слава богу, верой
моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы!
Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их
убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно
доказуемыми и слишком смелыми и даже осуждаю про-
тивоположные утверждения, хотя и не столь властным
тоном... Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим по-
ведением и повелительным тоном, лишь доказывают сла-
бость своих доводов... Если речь идет о том, чтобы ли-
227
шить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело предста-
вало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь
наша есть нечто слишком реальное и существенно важ-
ное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то
сверхъестественные и воображаемые события...
...Настолько естественнее считать, что разум наш по-
мутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем
поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке
вылетел на метле из печной трубы по воле духа поту-
стороннего! И для чего нам, постоянным жертвам вооб-
ражаемых тревог домашнего и житейского порядка, под-
даваться обману воображения по поводу явлений сверхъ-
естественных и нам неведомых. Мне кажется, что вполне
простительно усомниться в чуде, поскольку, во всяком
случае, достоверность его можно испытать каким-либо
не чудесным способом...
...Во всяком случае, заживо поджарить человека из-
за своих домыслов — значит придавать им слишком боль-
шую цену...4
Мишель Монтень. Опыты, книга третья.
М.—Л., 1950, стр. 312, 315, 316, 317, 318.
Ж. Мелье
Из работы
«ЗАВЕЩАНИЕ»
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
НЕ МОГЛИ БЫТЬ СОТВОРЕНЫ
Чтобы творить, надо дейст-
вовать; чтобы действовать, надо двигаться, а для того,
чтобы двигаться, требуется пространство, ибо ясно, что
только в пространстве может происходить движение и
что только путем движения может происходить действие;
действие невозможно без движения и без изменения как
того, кто действует, так и того, что производится дейст-
вием, поэтому невозможны также какое-либо движение
или какая-либо перемена места или положения при от-
сутствии пространства. Итак, раз всякое творение есть
действие и всякое действие влечет за собой некоторое
движение или некоторую перемену места или положения
и раз всякое движение или перемена места или положе-
228
ния с необходимостью предполагают некоторое простран-
ство, где они происходят, то отсюда с неизбежностью сле-
дует, что пространство должно предшествовать всякому
действию и всякому движению и что, следовательно, оно
не могло быть создано никаким действием.
Скажут, быть может, что сотворение времени и про-
странства и всех других вещей произошло без какого-
либо движения и изменения в том, кто их создал. Но это
немыслимо, ибо так как он ничего не творил прежде, чем
начал творить, то он не мог начать творить и делать то,
чего не делал, если бы в нем не произошла некоторая пе-
ремена. Вот доказательство. Всякое действие есть изме-
нение бытия, и различные действия суть различные изме-
нения бытия. Но ведь творение есть или должно быть
некоторым действием со стороны творца, и, следователь-
но, оно должно было произвести в нем какое-то новое
видоизменение бытия, а стало быть, и какую-то новую
перемену в нем, потому что, если бы в нем не было вовсе
никакой перемены, он не мог бы сделать ничего нового.
А вот еще другое доказательство. То, что остается всегда
тем же самым, может делать всегда только то же са-
мое — это положение принято среди философов и неоспо-
римо. Но то существо, которое, как предполагают, создало
все сущее, ничего не творило до того, как начало творить;
следовательно, оно никогда не стало бы творить, если бы
оно всегда оставалось все тем же, каким оно было, когда
ничего не творило. Это очевидно в силу того положения,
которое я только что привел: idem manens idem semper
facit idem *.
Если тем не менее его считают создателем всех вещей,
то оно не могло оставаться все время таким, каким оно
было, когда ничего не творило, и, следовательно, с ним
должна была произойти какая-то перемена, в силу кото-
рой оно стало делать то, чего раньше не делало. Это явно
говорит против возражения на вышеприведенное доказа-
тельство, основанное на необходимо присущих всем дей-
ствиям движении и перемене; следовательно, указанное
возражение отпадает, а доказательство остается во всей
своей силе. Итак, если рассматривать бытие лишь как
действующее и недействующее, т.. е. в двух разных со-
стояниях или в двух различных способах бытия, то невоз-
* То, что остается всегда тем же самым, может делать всегда
только то же самое.
229
можно представить себе, чтобы какое бы то ни было бы-
тие (существо) могло перейти из одного состояния в дру-
гое без всякого изменения, без всякой перемены; а так
как никакое изменение не может произойти без некоторо-
го движения и без некоторой перемены места или положе-
ния, а всякая перемена места или положения неизбежно
происходит в каком-нибудь пространстве, то отсюда тоже
следует, что пространство неизбежно должно предшест-
вовать всякому движению и всякому действию и, значит,
оно не могло быть созданным без движения в том или
ином действии.
Это находит свое подтверждение еще в следующем
доказательстве. Если бы пространство было чем-то со-
зданным, то несомненно, что тот, кто его создал, мог бы
его создать только там, где его не было, т. е. там, где не
было никакого пространства и никакой протяженности,
ибо если бы оно уже было, то очевидно, что не для чего
было бы его там создавать, потому что оно было бы там,
поскольку могло быть. Ибо то, что существует уже само
собой, насколько оно может существовать, не может по-
лучить еще раз свое бытие через творение. Смешно ска-
зать, что бог создал вещи, которые уже созданы, т. е.
вещи, которые уже имеют свое бытие и свое существова-
ние; итак, если пространство или протяженность были
созданы, то они необходимо должны были быть созданы
там, где не было никакого пространства и никакой про-
тяженности, и, следовательно, тот, кто их создал, не имел
нужды в пространстве, чтобы создать пространство, и
в протяженности, чтобы создать протяженность. Все это
ясно и очевидно.
Но если предположить это, то получается явная неле-
пость, а именно, что бог, создавший, например, простран-
ство и протяженность по своей воле там, где их не было,
мог бы еще и теперь при желании сотворить другие по-
добные пространства или протяженности там, где их не
было, или там, где их было мало, т. е. что он мог бы со-
здать, например, пространство и протяженность, равную
объему всей нашей Вселенной в пустоте, например, ма-
ленькой бутылки или внутри орешка или даже внутри бу-
лавочной головки. Это явно нелепо. Ибо нельзя утвер-
ждать, что внутри орешка или внутри булавочной голов-
ки возможны такое же пространство или же такая же
протяженность, как во всей Вселенной. Тем не менее оче-
видно, что такая нелепость получилась бы, если бы про-
230
странство или протяженность были созданы, как того
хотят наши богопоклонники. Ибо что может помешать
тому самому богу, который уже создал все пространство
и всю протяженность этой Вселенной, создать еще такое
же пространство и даже в тысячу и тысячу раз большее
внутри орешка или внутри булавочной головки? Уж во
всяком случае не недостаток могущества может поме-
шать ему в этом, так как предполагается, что он всегда
равно всемогущ, в одно время, как и во всякое другое.
Точно так же и не помешали бы ему и недостаток места
или отсутствие достаточной протяженности внутри ореш-
ка или внутри булавочной головки, потому что ему их
совсем не надо для того, чтобы создавать достаточно
пространства: ведь именно путем творения он создает та-
кое пространство и протяженность, как он хочет, там, где
их нет, ведь так предполагают. Это, повторяю, нисколько
не лишило бы его возможности сотворить внутри орешка
или булавочной головки пространство такого протяже-
ния, как протяжение всей Вселенной. Очевидно, стало
быть, при этом предположении, что ничто не могло бы
ему в том помешать. Но так как этот вывод нелеп, то,
очевидно, следует, что предположение ложно и что, сле-
довательно, пространство ни в коем случае не могло быть
созданным. Подтверждается это тем, что невозможно
представить себе полное отсутствие протяженности. Если
невозможно представить себе полное отсутствие протя-
женности, то по необходимости она должна существовать,
а если она по необходимости ныне существует, то по не-
обходимости она была всегда и должна существовать и
по необходимости всегда будет существовать. Ибо если
бы она не всегда была, то не было бы необходимости для
ее существования теперь, как и тогда, когда ее якобы не
существовало. А если она существовала всегда, то, зна-
чит, она вечна и бытие ее не имело начала; если она не
имела начала, то она не имела быть созданной, и, следо-
вательно, нет творца места, пространства или протяжен-
ности, как нет его у времени.
Остается теперь доказать, что материя не могла быть
создана; если это будет доказано, то в таком случае надо
считать окончательно установленным, что нет решитель-
но ничего созданного и что, следовательно, нет и создате-
ля. Если бы все наши богопоклонники и все философы
были одного мнения с этими новыми последователями
Декарта, которые всю сущность материи сводят к одной.
231
протяженности и не делают никакой разницы между ма-
терией и протяженностью, как и между протяженностью
и материей, и говорят, что это решительно одно и то же,
то было бы легко доказать, что материя не могла быть
созданной; ибо все вышеприведенные доводы и доказа-
тельства, наглядно показывающие, что протяженность не
может быть созданной, доказывают, значит, в равной
мере и с такой же наглядностью, что и материя не может
быть созданной, как не может быть созданной протяжен-
ность, раз они с точки зрения картезианцев одно и то же.
Но так как не все богопоклонники разделяют это мнение,
и я сам не разделяю его, то надо обратиться к другим до-
казательствам, что материя не могла быть созданной.
Вот первое доказательство. Если материя создана или
если она могла быть создана, то она могла бы быть со-
зданной только таким существом, которое не является
материей, ибо если бы это создавшее ее существо было
тоже само материей, как это думали когда-то многие
серьезные авторы, то это значило бы лишь, что мате-
рия создала другую материю; это невозможно. В самом
деле, откуда же у той или иной материи скорее, чем у
другой, явилась способность или сила создать нечто себе
подобное? И почему одна материя не была такой же не-
сотворимой, как другая, якобы создавшая ее? Разумеет-
ся, нет основания приписывать одной материи творческую
силу преимущественно перед другой; та ли, другая ли —
материя все равно остается материей. Нельзя себе пред-
ставить, чтобы материя могла создать другую материю.
Разве, например, атом мог бы создать другой атом? раз-
ве песчинка могла бы создать другую песчинку? разве
гора могла бы создать другую гору? Или разве весь этот
мир мог бы создать другой мир? Конечно нет. А поэтому
нет также смысла утверждать, что такая-то материя со-
здана, а другая нет. Таким образом, если признать, что
есть какая-то несозданная материя, то надо признать
вместе с тем, что вообще нет никакой созданной материи,
т. е. что нет материи, сделанной (из ничего. Ибо ведь имен-
но так понимают слово «творить», в отличие от слова «по-
родить», от слова «произвести», от слова «построить», т. е.
от слов, которые все означают сделать что-нибудь из чего-
нибудь другого, что уже существовало. Можно легко себе
представить, что материальное существо может породить,
произвести или сделать какую-нибудь другую вещь или
какое-нибудь другое существо, такое же материальное,
232
как оно само: ибо это совершается повседневно и повсе-
дневно наблюдается в искусствах, где действует труд че-
ловека, и в природе, где смена поколений порождает но-
вые существа, являющиеся плодом нового сочетания
частиц материи. Но невозможно, чтобы материя или ка-
кое-нибудь материальное существо создали из ничего
другую материю или другое материальное существо; это
и для материи невозможно. Итак, нельзя утверждать, что
материя создана существом, которое само является мате-
рией. Посмотрим, могла ли она быть создана существом,
которое не является материей. По-видимому, это тоже
невозможно, и вот доказательство этого.
Существо, которое не имеет ни тела, ни частей, могу-
щих шевелиться и двигаться, не способно ничего сделать,
ничего создать. А существо, которое не есть материя, не
имеет тела и частей, могущих шевелиться и двигаться,
следовательно, существо, которое не есть материя, не
могло сделать или создать материю. Что существо, у ко-
торого нет ни тела, ни частей, могущих шевелиться и дви-
гаться, не может ничего сделать, ничего создать,— это
очевидно, ибо, как я уже сказал, действовать — значит
двигаться, и существо, у которого нет ни тела, ни частей,
могущих двигаться, неизбежно остается всегда в том же
состоянии и не может привести себя в действие, если оно
не находится в действии. А то, что не может привести
себя в действие, не может действовать или что-либо де-
лать; следовательно, то, что не имеет ни тела, ни частей,
могущих двигаться, не может действовать, не может тво-
рить, и, следовательно, существо, которое не есть материя
и не имеет ни тела, ни частей, могущих двигаться, никак
не могло создать материю. Мало того, существа, которые
не имеют ни тела, ни частей и которые предполагаются
существами духовными (если есть такие существа, с чем
не приходится соглашаться), никак не могут воздейство-
вать на материю и производить на нее какое-нибудь дей-
ствие или оставлять на ней след, ибо для того, чтобы воз-
действовать и оставлять след на ней, нужно иметь воз-
можность касаться ее и орудовать ею. Но то, что не имеет
ни тела, ни частей, могущих двигаться, не может прика-
саться к материи и двигать ею и, следовательно, не может
действовать на нее и оставлять на ней следы. Tangere
enim nisi corpus nulla potest res *. Согласно этому прави-
* Прикасаться не может ничто, кроме тела.
233
лу, прикасаться и испытывать прикосновение могут толь-
ко тела. Обычно возражают на это, что существо, которое
не является материей, будучи субстанцией духовной, воз-
действует не телесно, через движение своих частей, как
телесные существа, а духовно, разумением и волей, без
движения тела и его частей. Но очевидно, что этот ответ
состоит только из туманных слов, которые не означают
ничего реального. Ибо 1) утверждать, что существа, не
имеющие ни тела, ни частей, являются субстанциями,—
значит говорить то, чего сам себе не представляешь; это
почти то же, что сказать, что ничто, или вещи, которые
ничего собой не представляют, являются субстанциями.
2) Сказать, что существуют существа и даже субстанции,
совершенно духовные и целиком свободные от всякой ма-
териальности и протяженности,— значит сочинять,
строить догадки, значит предполагать без нужды и без ос-
нования такие вещи, которых не представляют себе и не
понимают и которые даже невозможно понять, потому
что никто не может составить себе представление об этих
мнимых существах и субстанциях, которые предполага-
ются свободными от всякой материи и протяженности.
3) Сказать, что существа, не (имеющие ни тела, ни частей,
способных двигаться, действуют тем не менее разумением
и волей,— значит все равно что сказать нечто, чего не по-
нимаешь и что невозможно понять или себе представить;
следовательно, это значит говорить вещи, которые не сто-
ит слушать. 4) Утверждать, что чисто духовные существа
и субстанции, не имеющие ни тела, ни частей, способны
иметь разумение и волю,— значит утверждать, что они
способны к жизнедеятельности; ибо разумение и воля
суть настоящее проявление жизнедеятельности. Но ска-
зать, что существа, не имеющие ни тела, ни частей, спо-
собных двигаться, способны к проявлению жизнедеятель-
ности, значит тоже выдумывать, строить догадки, значит
предполагать без нужды и без основания вещи невозмож-
ные и немыслимые; ибо невозможны проявления жизне-
деятельности без жизни и жизнь без движения, потому
что сама жизнь есть в сущности и в действительности
жизненное движение; действие и жизнь являются, по су-
ществу, модификациями бытия, и различные модифика-
ции бытия с неизбежностью влекут за собой различные
перемены, которые не могут иметь место в существах, не
имеющих ни тела, ни частей, способных двигаться.
5) Сказать, что духовные субстанции действуют разуме-
234
нием и волей,— значит сказать только, что они способны
мыслить или желать; но мышление и хотение сами по
себе ничего не производят вовне; следовательно, суще-
ства, способные только мыслить и хотеть, не могут ничего
произвести, ничего создать вовне своими мыслями или
своими желаниями. Тут могут возразить, что мышление и
хотение в существах сотворенных и ограниченных дейст-
вительно ничего не в состоянии произвести вовне, но что
в существе несотворимом и всемогущем мышление и хо-
тение может производить все, что угодно; повторяю, это
только выдумки и произвольные предположения, ненуж-
ные и неосновательные, о вещах, совершенно немысли-
мых. Мудрить таким образом — не значит философство-
вать, потому что это значит говорить, не зная, что гово-
ришь; и было бы безумием придавать веру подобным
измышлениям и склонять других к вере в них; ибо в кон-
це концов все, что говорится о такого рода духовных суб-
станциях, об их мнимом могуществе и воле,—лишь фик-
ции и фантазии, которые никогда не проявляли себя ни
в чем реальном и действительном. 6) Такого рода вооб-
ражаемые духовные субстанции, которые не имеют ни
тела, ни частей, способных к движению, не могут, конеч-
но, иметь и никакого протяжения; если они не имеют про-
тяжения, то, значит, они превращаются в неуловимые
геометрические точки и даже еще в нечто, если возможно,
более малое, чем геометрические точки. Но если это так,
то как возможно, чтобы существо таких поразительно
малых размеров могло создать материю, обладающую
бесконечной протяженностью? Конечно, думать и говорить
подобные вещи совершенно нелепо и смешно.
Но могут сказать, что есть существо, не созданное и
обладающее верховным всемогуществом, которое, хотя и
не имеет никакой протяженности, никаких частей, тем не
менее оказывается необъятным и при всей своей необъ-
ятности вездесущим и всемогущим. Но я опять скажу, что
говорить так — это значит плодить все новые нелепости
и выставлять утверждения все более невозможные, не-
мыслимые и нелепые. Ибо говорить, что существо, не
имеющее никакой протяженности, никаких частей, тем не
менее находится всюду благодаря своей необъятности,—
значит говорить вещь противоестественную и внутренне
противоречивую, это значит утверждать, что существо, не
имеющее никакой протяженности, имеет в то же время
бесконечную протяженность и является бесконечно про-
235
тяженным. В самом деле, что такое безграничная необъ-
ятность, как не бесконечная протяженность, не имеющая
границ? Говорить об этом существе, что оно благодаря
своей необъятности вездесуще, хотя и не находится нигде,
и утверждать в то же время, что оно не имеет никаких
частей, соответствующих различным частям всего обни-
маемого им неизмеримого пространства, говорить, что
оно все целиком находится повсюду в силу своей необъят-
ности и все целиком в каждой части этого неизмеримого
пространства в силу своей простоты и неделимости своей
природы, утверждать все это — значит переходить все
границы нелепости; это значит говорить и сочинять в сво-
ем воображении самые смехотворные вещи, какие только
можно себе представить. Вот до какой крайности необхо-
димо доводит наших богопоклонников их желание от-
стаивать наличие существа, являющегося лишь плодом
воображения; им поневоле приходится утверждать тыся-
чу и тысячу вещей, которые нелепы, немыслимы и кото-
рых они и сами не представляют себе и не понимают.
Они сами не знают, что говорят, потому что не пони-
мают и не представляют себе, что говорят. Они хотели бы
доводами, которых они сами не понимают, заставить нас
верить мнениям, которых они не могут сами понять, как
говорит один автор *. Но люди, которые не знают сами,
что они говорят; люди, которые сами не представляют
себе, что они говорят, конечно, не заслуживают даже и
того, чтобы их слушали. Отсюда очевидно, что наши
суеверные богопоклонники находятся в заблуждении и
что они теперь в своей вере в единого духовного и нема-
териального бога стоят нисколько не на более твердом
основании, чем стояли некогда, веруя во многих богов те-
лесных и материальных. И так же, как они наконец были
принуждены признать заблуждением свою веру во всех
этих ложных телесных и материальных божеств, так и
теперь они должны были бы и подавно признать заблуж-
дением свою веру в это единое божество, духовное и бе-
стелесное, потому что такое божество может быть только
существом воображаемыми совершенно фантастическим.
Ж. Мелье. Завещание, т. 2. М., 1954,
стр. 362-376.
* Recherche de la verite, t. II, p. 359.
236
М. В. Ломоносов
СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ «ЯВЛЕНИЯ
ВЕНЕРЫ НА СОЛНЦЕ»
[Фрагмент]
Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит.
Один Коперник5 был, другой слыл Птоломей 6.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье разсуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова?»
М. В. Ломоносов. Полное собрание со-
чинений, т. 8. М.—Л., 1959, стр. 695.
Н. Г. Чернышевский
Из работы
«АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
В ФИЛОСОФИИ»
Единство законов природы
было понято очень давно гениальными людьми; но только
в последние десятилетия наше знание достигло таких раз-
меров, что доказывает научным образом основательность
этого истолкования явлений природы.
Говорят: естественные науки еще не достигли такого
развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важ-
ные явления природы. Это — совершенная правда; но про-
тивники научного направления в философии делают из
этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят,
что пробелы, остающиеся в научном объяснении нату-
ральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь
остатков фантастического миросозерцания. Дело в том,
что характер результатов, доставленных анализом объ-
237
ясненных наукою частей и явлений, уже достаточно сви-
детельствует о характере элементов, сил и законов, дей-
ствующих в остальных частях и явлениях, которые еще
не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных ча-
стях и явлениях было что-нибудь иное кроме того, что
найдено в объясненных частях, тогда »и объясненные ча-
сти имели бы не такой характер, какой имеют. Возьмем
какую угодно отрасль естественных наук — положим,
хотя географию или геологию — и посмотрим, какой ха-
рактер могут иметь, какого характера не могут иметь све-
дения, которых мы еще не приобрели по разным частям
предмета, исследуемого этими науками... Мы исследова-
ли только один очень тонкий слой земной коры, не со-
ставляющий и одной тысячной части всего шара; в без-
мерной массе вещества, скрывающегося под этою корою,
конечно, находится много тел и явлений, не встречающих-
ся в доступной нам ничтожной части его. Но по этой од-
ной части мы уже достоверно знаем, какой характер име-
ют и какого характера не имеют предметы и феномены,
заключенные в недоступных нам недрах шара. Мы знаем,
что там температура страшно высокая,— если бы она не
была так высока, не то было бы на поверхности земли,
что находится и происходит теперь; мы знаем, что в такой
высокой температуре не могут удерживаться те химиче-
ские соединения, которые составляют так называемое ор-
ганическое царство; потому мы знаем, что в недрах земли
нет растительной и животной жизни, какая существует на
поверхности земли. Там нет никаких организмов, сколь-
ко-нибудь подобных нашим растениям или животным.
Если мы захотим сказать, что на полюсах или в Цент-
ральной Африке, или в недрах земли находятся тела
именно вот такого разряда, что там происходят феноме-
ны именно вот такого вида, это будет только гипотезою,
может быть и ошибочною; мы не можем отгадать, вода
или земля находится под полюсами; покрыто льдами или
иногда бывает чисто от них море под полюсами, если там
море; покрыта вечным льдом или имеет по временам ка-
кую-нибудь растительность земля под полюсами, если
там земля,— эти положительные заключения были бы
только догадками, не имеющими научной достоверности;
но отрицательные выводы, каковые, например, то, что под
полюсами не может расти виноград или дуб, что не могут
там жить обезьяны или попугаи,— эти отрицательные вы-
воды имеют совершенную научную достоверность; это
238
уже не гипотезы, не догадки, это— достоверное знание,
основанное на отношении явлений, происходящих в из-
вестных нам странах земной поверхности, к неисследо-
ванным нами феноменам неизвестных частей ее. Возмож-
но ли, в самом деле, усомниться в том, что под полюсами
не живут попугаи? Для попугаев нужна средняя годичная
температура в 15 или 18 градусов выше точки замерза-
ния, а если бы на северном полюсе была такая темпера-
тура, то Гренландия имела бы климат, по крайней мере,
столь же теплый, как Италия. Или возможно ли сомне-
ваться в том, что в слоях земного шара, близких к центру
его, нет растительных организмов? Чтобы они могли там
существовать, нужна была бы там температура не выше
точки кипения воды, потому что без воды нет никаких
растений; а если бы там была температура ниже точки
кипения воды, тогда не находили, бы мы, что, чем дальше
в глубь, тем выше температура слоев исследованной нами
оболочки земного шара.
К чему мы так долго останавливаемся на явлениях и
заключениях, каждому известных? Просто оттого, что по
непривычке к систематическому мышлению слишком мно-
гие люди слишком наклонны не замечать смысл общих
законов, который одинаков со смыслом отдельных фено-
менов, ими понимаемых. Мы хотели как можно сильнее
выставить силу одного из таких общих законов: если при
нынешнем состоянии научного наведения (индуктивной
логики) мы в большей части случаев еще не можем с до-
стоверностью определить по исследованной нами части
предмета, какой именно характер имеет неисследованная
часть его, то уже всегда можем с достоверностью опреде-
лять, какого характера не может иметь она. Наши поло-
жительные заключения от характера известного к харак-
теру неизвестного при нынешнем состоянии наук нахо-
дятся еще на степени догадок, подлежащих спору,
доступных ошибкам; но отрицательные заключения уже
имеют полную достоверность. Мы не можем сказать, чем
именно окажется неизвестное нам; но мы уже знаем, чем
оно не оказывается.
Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отри-
цательными выводами, в химии, в географии, в геологии
уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми
и каждым сколько-нибудь образованным человеком при-
знаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать,
что под полюсами не найдется обезьян, в Центральной
239
Африке не найдется безголовых людей, в Центральной
Австралии — рек, текущих снизу вверх, в недрах земли —
сказочных садов и циклопов, кующих оружие Ахиллесу
под надзором Вулкана. Но человек с логическим умом
точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в
других науках: он также видит, что все это бредни, несов-
местные с нынешним состоянием знаний. Говорят, что
открытия, сделанные Коперником в астрономии, произве-
ли перемену в образе человеческих мыслей о предметах,
по-видимому очень далеких от астрономии. Точно такую
же перемену и точно в том же направлении, только в го-
раздо обширнейшем размере, производят ныне химиче-
ские и физиологические открытия: от них изменяется об-
раз мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от
химии...
Основаниями своих теорий она (наука) берет истины,
открытые естественными науками посредством самого
точного анализа фактов, истины столь же достоверные,
как обращение земли вокруг солнца, закон тяготения,
действие химического сродства. Из этих принципов, не
подлежащих никакому спору или сомнению, современная
наука делает свои выводы путем столь же осмотритель-
ным, как тот, которым дошла до них. Она не принимает
ничего без строжайшей, всесторонней проверки и не вы-
водит из принятого никаких заключений, кроме тех, кото-
рые сами собою неотразимо следуют из фактов и законов,
отвергать которых нет никакой логической возможности.
При таком характере новых идей человеку, раз приняв-
шему их, не остается уже никакой дороги к отступлению
назад или к каким-нибудь сделкам с фантастическими
заблуждениями.
И. Г. Чернышевский. Полное собрание
сочинений в пятнадцати томах, т. VII.
М., 1950. стр. 249—252. 253—254.
240
Ч. Дарвин
Из работы
«ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗВИТИИ МОЕГО
УМА И ХАРАКТЕРА»
АВТОБИОГРАФИЯ7
Религиозные взгляды.— В
течение... двух лет8 мне пришлось много размышлять о
религии. Во время плавания на «Бигле» я был вполне
ортодоксален; вспоминаю, как некоторые офицеры (хотя
и сами они были людьми ортодоксальными) от души
смеялись надо мной, когда по какому-то вопросу морали
я сослался на Библию как на непреложный авторитет.
Полагаю, что их рассмешила новизна моей аргументации.
Однако в течение этого периода [т. е. с октября 1836 г. до
января 1839 г.] я постепенно пришел к сознанию того, что
Ветхий завет с его до очевидности ложной историей мира,
с его вавилонской башней, радугой в качестве знамения
завета и пр. и пр. и с его приписыванием богу чувств
мстительного тирана заслуживает доверия не в большей
мере, чем священные книги индусов или верования како-
го-нибудь дикаря. В то время в моем уме то и дело возни-
кал один вопрос, от которого я никак не мог отделаться:
если бы бог пожелал сейчас ниспослать откровение инду-
сам, то неужели он допустил бы, чтобы оно было связано
с верой в Вишну, Сиву и пр., подобно тому как христиан-
ство связано с верой в Ветхий завет? Это представлялось
мне совершенно невероятным.
Размышляя далее над тем, что потребовались бы са-
мые ясные доказательства для того, чтобы заставить лю-
бого нормального человека поверить в чудеса, которыми
подтверждается христианство; что чем больше мы позна-
ем твердые законы природы, тем все более невероятными
становятся для нас чудеса; что в те [отдаленные] време-
на люди были невежественны и легковерны до такой
степени, которая почти непонятна для нас; что невозмож-
но доказать, будто евангелия были составлены в то самое
время, когда происходили описываемые в них события;
что они по-разному излагают многие важные подробно-
сти, слишком важные, как казалось мне, чтобы отнести
эти расхождения на счет обычной неточности свидете-
лей,— в ходе этих и подобных им размышлений (которые
241
я привожу не потому, что они сколько-нибудь оригиналь-
ны и ценны, а потому, что они оказали на меня влияние)
я постепенно перестал верить в христианство как божест-
венное откровение. Известное значение имел для меня и
тот факт, что многие ложные религии распространились
по обширным пространствам земли со сверхъестественной
быстротой. Как бы прекрасна ни была мораль Нового за-
вета, вряд ли можно отрицать, что ее совершенство зави-
сит отчасти от той интерпретации, которую мы ныне
вкладываем в его метафоры и аллегории.
Но я отнюдь не был склонен отказаться от своей веры;
я убежден в этом, (ибо хорошо помню, как я все снова и
снова возвращался к фантастическим мечтам об откры-
тии в Помпеях или где-нибудь в другом месте старинной
переписки между какими-нибудь выдающимися римляна-
ми или рукописей, которые самым поразительным обра-
зом подтвердили бы все, что сказано в евангелиях. Но
даже и при полной свободе, которую я предоставил сво-
ему воображению, мне становилось все труднее и труднее
придумать такое доказательство, которое в состоянии
было бы убедить меня. Так понемногу закрадывалось в
мою душу неверие, и в конце концов я стал совершенно
неверующим. Но происходило это настолько медленно,
что я не чувствовал никакого огорчения и никогда с тех
пор даже на единую секунду не усомнился в правильно-
сти моего заключения. И в самом деле, вряд ли я в со-
стоянии понять, каким образом кто бы то ни было мог бы
желать, чтобы христианское учение оказалось истинным;
ибо если оно таково, то незамысловатый текст [еванге-
лия] показывает, по-видимому, что люди неверующие —
а в их число надо было бы включить моего отца, моего
брата и почти всех моих лучших друзей — понесут вечное
наказание.
Отвратительное учение!
Хотя над вопросом о существовании бога как личности
я стал много размышлять в значительно более поздний
период моей жизни, приведу здесь те неопределенные за-
ключения, к которым я с неизбежностью пришел. Старин-
ное доказательство [существования бога] на основании
наличия в Природе преднамеренного плана, как оно из-
ложено у Пейли, доказательство, которое казалось мне
столь убедительным в прежнее время, ныне, после того
как был открыт закон естественного отбора, оказалось
несостоятельным. Мы уже не можем больше утверждать,
242
что, например, превосходно устроенный замок какого-ни-
будь двустворчатого моллюска должен был быть создан
неким разумным существом, подобно тому, как дверной
замок создан человеком. По-видимому, в изменчивости
живых существ и в действии естественного отбора не
больше преднамеренного плана, чем в том направлении,
по которому дует ветер. Все в природе является резуль-
татом твердых законов. Впрочем, я рассмотрел этот во-
прос в конце моего сочинения об «Изменениях домашних
животных и [культурных] растений», и, насколько мне из-
вестно, приведенные там доводы ни разу не встретили ка-
ких-либо возражений.
Но если и оставить в стороне те бесчисленные превос-
ходные приспособления, с которыми мы встречаемся на
каждом шагу, можно все же спросить: как объяснить
благодетельное в целом устройство мира? Правда, неко-
торые писатели так сильно подавлены огромным количе-
ством страдания в мире, что, учитывая все чувствующие
существа, они выражают сомнение в том, чего в мире
больше — страдания или счастья и хорош ли мир в целом
или плох. По моему мнению, счастье, несомненно, преоб-
ладает, хотя доказать это было бы очень трудно. Но если
это заключение справедливо, то нужно признать, что оно
находится в полном согласии с теми результатами, кото-
рых мы можем ожидать от действия естественного отбо-
ра. Если бы все особи какого-либо вида постоянно и
в наивысшей степени испытывали страдания, то они за-
бывали бы о продолжении своего рода; у нас нет, однако,
никаких оснований думать, что это когда-либо или по
крайней мере часто происходило. Более того, некоторые
другие соображения заставляют полагать, что все чув-
ствующие существа организованы так, что, как правило,
они наслаждаются счастьем.
Каждый, кто, подобно мне, убежден, что у всех су-
ществ органы их телесной и психической жизни [corporeal
and mental organs] (за исключением тех органов, которые
ни полезны, ни вредны для их обладателя) развились пу-
тем естественного отбора или переживания наиболее при-
способленного (совместно с действием упражнения или
привычки), должен будет признать, что эти органы сфор-
мировались так, что обладатели их могут успешно сорев-
новаться с другими существами и благодаря этому воз-
растать в числе. К выбору того вида действий, который
наиболее благотворен для вида, животное могут побу-
243
ждать как страдание, например боль, голод, жажда
и страх, так и удовольствие, например еда и питье, а так-
же процесс размножения вида и пр., либо же сочетание
того и другого, например отыскивание пищи. Но боль или
любое другое страдание, если они продолжаются долго,
вызывают подавленность и понижают способность к дея-
тельности, хотя они отлично служат для того, чтобы побу-
дить живое существо оберегаться от какого-либо боль-
шого или внезапного зла. С другой стороны, приятные
ощущения могут долго продолжаться, не оказывая ника-
кого подавляющего действия; напротив, они вызывают
повышенную деятельность всей системы. Таким образом
и произошло, что большинство или все чувствующие су-
щества так развились путем естественного отбора, что
приятные ощущения служат им привычными руководите-
лями. Мы наблюдаем это в том чувстве удовольствия, ко-
торое доставляет нам напряжение — иногда даже весьма
значительное — наших телесных и умственных сил, в удо-
вольствии, которое доставляет нам каждый день еда, и
особенно в том удовольствии, которое проистекает из на-
шего общения с другими людьми и из любви к членам
нашей семьи. Сумма такого рода ставших обычными или
часто повторяющихся удовольствий доставляет большин-
ству чувствующих существ — я почти не сомневаюсь в
этом — избыток счастья над страданиями, хотя многие
время от времени испытывают немало страданий. Эти
страдания вполне совместимы с верой в Естественный
Отбор, действие которого несовершенно и который на-
правлен только к тому, чтобы обеспечить каждому виду
возможно больший успех в борьбе с другими видами за
жизнь, в борьбе, протекающей в исключительно сложных
и меняющихся условиях.
Никто не оспаривает того факта, что в мире много
страданий. В отношении человека некоторые [мыслите-
ли] пытались объяснить этот факт, допустив, будто стра-
дание служит нравственному совершенствованию челове-
ка. Но число людей в мире ничтожно по сравнению с чис-
лом всех других чувствующих существ, а им часто
приходится очень тяжело страдать без какого бы то ни
было отношения к вопросу о нравственном совершенст-
вовании. Существо столь могущественное и столь испол-
ненное знания, как бог, который мог создать Вселенную,
представляется нашему ограниченному уму всемогущим
и всезнающим,, и предположение, что благожелательность
244
бога не безгранична, отталкивает наше сознание, ибо ка-
кое преимущество могли бы представлять страдания мил-
лионов низших животных на протяжении почти бесконеч-
ного времени? Этот весьма старый довод против сущест-
вования некой разумной первопричины, основанный на
наличии в мире страдания, кажется мне очень сильным,
между тем как это наличие большого количества страда-
ний, как уже было только что отмечено, прекрасно согла-
суется с той точкой зрения, согласно которой все органи-
ческие существа развились путем изменения и естествен-
ного отбора.
В наши дни наиболее обычный аргумент в пользу су-
ществования разумного бога выводится из наличия глу-
бокого внутреннего убеждения и чувств, испытываемых
большинством людей. Не приходится, однако, сомневать-
ся в том, что индусы, магометане и другие могли бы та-
ким же образом и с равной силой согласиться с сущест-
вованием единого бога или многих богов или же — подоб-
но буддистам — с отсутствием какого бы то ни было
бога 9. Существует также много диких племен, о которых
нельзя с какой-либо достоверностью утверждать, что они
обладают верой в то, что мы называем богом; и действи-
тельно, они верят в духов или в привидения, и, как пока-
зали Тэйлор 10 и Герберт Спенсер 11, можно объяснить,
каким образом, по всей вероятности, подобные верования
возникли.
В прежнее время чувства, подобные только что упомя-
нутым (не думаю, впрочем, что религиозное чувство было
когда-либо сильно развито во мне), приводили меня к
твердому убеждению в существовании бога и в бессмер-
тии души. В своем «Дневнике» я писал, что «невозможно
дать сколько-нибудь точное представление о тех возвы-
шенных чувствах изумления, восхищения и благоговения,
которые наполняют и возвышают душу», когда нахо-
дишься в самом центре грандиозного бразильского леса *.
Хорошо помню свое убеждение в том, что в человеке
имеется нечто большее, чем одна только жизнедеятель-
ность его тела. Но теперь даже самые величественные
пейзажи не могли бы возбудить во мне подобных убежде-
ний и чувств. Могут справедливо сказать, что я похож на
человека, потерявшего способность различать цвета, и что
всеобщее убеждение людей в существовании красного
* См. Ч. Дарвин. Соч., т. I. М.—Л., 1941, стр. 32.— Ред.
245
цвета лишает мою нынешнюю неспособность к восприя-
тию этого цвета какой бы то ни было ценности в качестве
доказательства [действительного] отсутствия его.
Этот довод был бы веским, если бы все люди всех рас
обладали одним и тем же внутренним убеждением в су-
ществовании единого бога; но мы знаем, что в действи-
тельности дело обстоит отнюдь не так. Я не считаю поэто-
му, что подобные внутренние убеждения и чувства имеют
какое-либо значение в качестве доказательства того, что
бог действительно существует. То душевное состояние,
которое в прежнее время возбуждали во мне грандиоз-
ные пейзажи и которое было внутренне связано с верой
в бога, по существу, не отличается от состояния, которое
часто называют чувством возвышенного; и как бы трудно
ни было объяснить происхождение этого чувства, вряд ли
можно ссылаться на него как на доказательство сущест-
вования бога с большим правом, чем на сильные, хотя и
неясные чувства такого же рода, возбуждаемые музыкой.
Что касается бессмертия, то ничто не демонстрирует
мне [с такой ясностью], насколько сильна и почти ин-
стинктивна вера в него, как рассмотрение точки зрения,
которой придерживается в настоящее время большинст-
во физиков, а именно что солнце и все планеты со време-
нем станут слишком холодными для жизни, если только
какое-нибудь большое тело не столкнется с солнцем и не
сообщит ему таким путем новую жизнь. Если верить, как
верю я, что в отдаленном будущем человек станет гораз-
до более совершенным существом, чем в настоящее вре-
мя, то мысль о том, что он и все другие чувствующие су-
щества обречены на полное уничтожение после столь
продолжительного медленного прогресса, становится не-
выносимой. Тем, кто безоговорочно допускает бессмертие
человеческой души, разрушение нашего мира не покажет-
ся столь ужасным.
Другой источник убежденности в существовании бога,
источник, связанный не с чувствами, а с разумом, произ-
водит на меня впечатление гораздо более веского. Он
заключается в крайней трудности или даже невозможно-
сти представить себе эту необъятную и чудесную Вселен-
ную, включая сюда и человека с его способностью загля-
дывать далеко в прошлое и будущее, как результат слепо-
го случая или необходимости. Размышляя таким образом,
я чувствую себя вынужденным обратиться к Первопричи-
не, которая обладает интеллектом, в какой-то степени
246
аналогичным разуму человека, т. е. заслуживаю назва-
ния Теиста * 12. Но в таком случае возникает сомнение в
том, можно ли положиться на человеческий ум в его по-
пытках строить такого рода обширные заключения; на
человеческий ум, развившийся, как я твердо убежден,
из того слабого ума, которым обладают более низко ор-
ганизованные животные? Не имеем ли мы здесь дела с
результатом такой связи между причиной и следствием,
которая поражает нас своим [характером] необходимо-
сти, но которая, вероятно, зависит только лишь от уна-
следованного опыта? Не следует также упускать из виду
возможности постоянного внедрения веры в бога в умы
детей, внедрения, производящего чрезвычайно сильное и,
быть может, наследуемое воздействие на их мозг, не
вполне еще развитый, так что для них было бы так же
трудно отбросить веру в бога, как для обезьяны — отбро-
сить ее инстинктивный страх и отвращение по отношению
к змее. Я не могу претендовать на то, чтобы пролить хотя
бы малейший свет на столь трудные для понимания про-
блемы. Тайна начала всех вещей неразрешима для нас,
и что касается меня, то я должен удовольствоваться тем,
что остаюсь Агностиком 13.
Человек, не обладающий твердой и никогда не поки-
дающей его верой в существование личного бога или в
будущую жизнь с ее воздаянием и наградой, может, на-
сколько я в состоянии судить, избрать в качестве правила
жизни только одно: следовать тем импульсам и инстинк-
там, которые являются наиболее сильными или кажутся
ему наилучшими. В этом роде действует собака, но она
делает это слепо, между тем как человек может предви-
деть и оглядываться назад и сравнивать различные свои
чувства, желания и воспоминания. И вот, в согласии с
суждением всех мудрейших людей, он обнаруживает, что
наивысшее удовлетворение он получает, если следует оп-
ределенным импульсам, а именно социальным инстинк-
там. Если он будет действовать на благо других людей,
он будет получать одобрение со стороны своих ближних
и приобретать любовь тех, с кем он живет, а это послед-
нее и есть, несомненно, наивысшее наслаждение, какое
* Насколько я в состоянии вспомнить, это умозаключение силь-
но владело мною приблизительно в то время, когда я писал «Про-
исхождение видов», но именно с этого времени его значение для
меня начало, крайне медленно и без многих колебаний, все более и
более ослабевать.
247
мы можем получить на нашей Земле. Постепенно для
него будет становиться невыносимым охотнее повино-
ваться своим чувственным страстям, нежели своим выс-
шим импульсам, которые, когда они становятся привыч-
ными, почти могут быть названы инстинктивными. По
временам его разум может подсказывать ему, что он мо-
жет действовать вразрез с мнением других людей, чье
одобрение он в таком случае не заслужит, но он все же
будет испытывать полное удовлетворение от сознания,
что он следовал своему глубочайшему убеждению или
совести. Что касается меня самого, то я думаю, что посту-
пал правильно, неуклонно занимаясь наукой и посвятив
ей всю свою жизнь. Я не совершил какого-либо серьезно-
го греха и не испытываю поэтому никаких угрызений со-
вести, но я очень и очень часто сожалел о том, что не
оказал больше непосредственного добра моим ближним.
Единственным, но недостаточным извинением является
для меня то обстоятельство, что я много болел, также
моя умственная конституция, которая делает для меня
крайне затруднительным переход от одного предмета или
занятия к другому. Я могу вообразить себе, что мне до-
ставила бы высокое удовлетворение возможность уделять
благотворительным делам все мое время, а не только
часть его, хотя и это было бы куда лучшей линией по-
ведения.
Нет ничего более замечательного, чем распростране-
ние религиозного неверия, или рационализма, на протя-
жении второй половины моей жизни.
Ч. Дарвин. Сочинения, т. 9. М., 1959,
стр. 205—210.
Ч. Дарвин
ПИСЬМА
АЗА ГРЕЮ14
Июль 1860
Еще одно слово о «предна-
чертанных законах» и «не предначертанных результа-
тах». Я вижу птицу, которую я хочу съесть, беру ружье
и убиваю ее; я делаю это преднамеренно. Ни в чем не по-
248
винный хороший человек стоит под деревом, и его убива-
ет ударом молнии. Верите ли Вы (мне, право, очень хоте-
лось бы это знать), что бог преднамеренно убил этого
человека? Многие или большинство людей верят в это; я
не могу верить и не верю. Если Вы верите в это, то верите
ли Вы, что когда ласточка схватит комара, то это бог
предназначил, чтобы эта определенная ласточка схвати-
ла этого определенного комара в это определенное мгно-
вение? Я полагаю, что человек и комар находятся в оди-
наковом положении. Если ни смерть человека, ни смерть
комара не предопределены, я не вижу достаточного ос-
нования верить, что их первое рождение или возникнове-
ние должны быть непременно предопределены.
АЗА ГРЕЮ
17 сентября [1861?]
<...> На ваш вопрос о том,
что могло бы убедить меня в предначертанности, трудно
ответить. Если бы я увидел ангела, сошедшего на землю
учить нас добру, и, убедившись на основании того, что и
другие люди видят его, что я еще не сошел с ума, я бы
поверил в предначертание. Если бы я мог вполне уверить-
ся в том, что жизнь и разум каким-то неведомым путем
суть функции другой невесомой силы, это убедило бы
меня. Если бы человек был создан из меди или железа и
не находился бы ни в каком родстве с любым другим
когда-либо жившим организмом, быть может, я бы убе-
дился. Но все это детская болтовня.
Недавно я обменялся письмами с Ляйелем, который,
по-видимому, согласен с Вашей идеей о потоке изменчи-
вости, направляемом или предначертанном. Я спросил
его (и он обещал мне подумать над этим), верит ли он,
что форма моего носа предначертана. Если да, то больше
сказать мне нечего. Если же нет, то, глядя на результаты,
которых добились любители, отбиравшие индивидуаль-
ные различия в носовых костях голубя, я считаю нелогич-
ным предположение, что изменения, сохраняемые естест-
венным отбором на благо каждого существа, были пред-
начертаны.
249
НЕМЕЦКОМУ СТУДЕНТУ
[1879]
Я очень занят, стар и нездо-
ров и не располагаю временем, чтобы подробно ответить
на Ваши вопросы — да на них и нельзя ответить. Наука
не имеет никакого отношения к Христу, за исключением
того, что привычка к научному исследованию делает че-
ловека осторожным в принятии доказательств. Я лично
не верю ни в какое откровение. Что же касается загробной
жизни, то каждый человек должен сам сделать для себя
выбор между противоречивыми неопределенными веро-
ятностями.
Ч. Дарвин. Избранные письма. М., 1950,
стр. 133. 153—154, 271.
А. Бебель
Из работы
«ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛИЗМ»
Но религиозные догмы и
учения будут расшатываться все более и более по мере
того, как освоение естественнонаучных знаний и культур-
но-исторических исследований будет становиться доступ-
ным все более широкому кругу людей. Знакомство с ис-
торией Земли совершенно уничтожает библейские мифы
о сотворении мира, а астрономические исследования и
открытия показывают нам, что вселенная не знает «неба»
(как его рисует христианство) и что миллионы звезд все
без исключения являются небесными телами, которые ни
в коем случае не могут быть местом пребывания ангелов
и «святых»...
Социализм является самым настоящим народным и
человеческим учением, потому что он в действительности
стремится применить к жизни те нравственные законы,
которые для церкви в течение восемнадцати веков слу-
жили только вывеской и употреблялись ею лишь для по-
давления и угнетения масс. Социализм хочет осуществить
всеобщее равенство, всеобщую любовь и всеобщее сча-
стье не потому, что их проповедовали Будда, Иисус и Ма-
гомет. Всеобщее равенство и счастье сами по себе явля-
ются целью, идеалом, который чувствовало и к которому
250
бессознательно стремилось человечество во всех странах,
при всех государственных устройствах и вероисповедани-
ях. Человечество достигло бы этого идеала... если бы не
существовало ни Будды, ни Христа, ни Магомета. Пред-
ставляя себе землю как юдоль страданий, пророки эти
неоднократно проповедовали умеренность и воздержание
и указывали человечеству на будущую жизнь за гробом.
А между тем нет, да и не может быть, никаких данных,
подтверждающих существование этой другой жизни, по-
тому что она невозможна, и вера в нее только наклады-
вает оковы на человеческие стремления и препятствует
человеческому прогрессу.
Все хорошее, что возникло во время господства хри-
стианства, принадлежит не ему, а всего того огромного
зла и несчастья, которые принесло оно с собой, мы не
хотим. Вот в двух словах наша точка зрения.
Итак, господин священник, теперь Вы поймете, как
бесконечно далеки наши стремления от стремлений хри-
стианства.
Ваши епископы, ваши каноники (соборные священ-
ники), ваши графы, бароны и буржуа, которые стоят во
главе католического движения,— это не наши люди. Они
не желают человечеству ни равенства, ни счастья, по-
тому что иначе им пришлось бы если не отказаться
совсем от своего привилегированного положения, то во
всяком случае поступиться им, чтобы доставить победу
тому благу человечества, к достижению которого они
якобы стремятся. Наоборот, они являются главными за-
щитниками привилегий и классового господства; они
хотят не справедливости, а благотворительности, не ра-
венства, а смиренной покорности, не знаний, а веры.
И в то время, как народ жаждет и стремится к чело-
веческому существованию и хочет видеть результаты
своего труда и стараний, они проповедуют ему доволь-
ство настоящим положением и утешают его указанием
на небо, сами же живут господами и проводят время в
удовольствиях, пользуясь плодами трудов других. Като-
лический народ, который заботится и трудится и кото-
рый до сих пор следовал за этими людьми, этот народ
принадлежит нам, и мы надеемся, что наступит еще день,
когда у него откроются глаза, чтобы взглянуть в нашу
сторону. Если затем в наши ряды вступит обездоленное
и угнетенное низшее духовенство, пролетарское положе-
ние которого Вы так превосходно изобразили,— что ж,
251
отлично, милости просим! Тогда-то эти люди поймут, что
те идеальные стремления, которые они напрасно пыта-
лись осуществить при помощи церкви, будут осущест-
влены в наших рядах и благодаря нам. Они увидят, что
у нас для них есть лучшая задача, чем выполнение
пустых формул их религии, являющихся лишь тормозом
действительного совершенствования человечества... Вы
знаете, что исключение никогда не уничтожает правила.
Итак, я совершенно не могу согласиться с Вашим
мнением, будто христианство стремится к той же цели,
что и социализм. Христианство и социализм противо-
стоят друг другу, как огонь и вода. Так называемое доб-
рое зерно, которое Вы, но не я, находите в христианстве,
есть зерно не христианское, а общечеловеческое. То же,
что принадлежит собственно христианству — его учение
и догмы,— враждебно человечеству...
А. Бебель. Христианство и социализм.
М.. 1959. стр. 21-22. 27-29.
Д. И. Менделеев
ДВА ПУБЛИЧНЫХ ЧТЕНИЯ
О СПИРИТИЗМЕ15
24 и 25 АПРЕЛЯ 1876 г.
[Фрагменты]
Лет за 20 тому назад в Аме-
рике, а затем и в Европе, стало распространяться то спи-
ритическое учение, которое в наши дни поддержали мно-
гие ученые. Они связали и словами и мыслями новое с
явлениями древней индийской магии, перепутали с суе-
вериями и стремятся сделать из всего учения, выражаясь
их словами, «мост для перехода от знания физических
явлений к познанию психических». Кому же не лестно
быть строителем такого моста! Однако школы, ученые и
литераторы, сочувствуя которым, вы собрались здесь,
не погнались за концессией на этот мост, не приняли уче-
ния спиритов, посмотрели на него, как на старые сваи,
на которых давно и безуспешно задумана была подобная
постройка, не ступили на гнилое дерево. Отвергнутое
приютилось в кружках, но недавно выступило смелее,
252
захотело иметь новых адептов, стало для того клеймить
неверящих, громко утверждало непризнаваемое —и ус-
пело поколебать немало умов. Признайте только факты,
говорило оно, эти факты реальны и правдивы, а следст-
вия из них явятся сами. Да, эти следствия у всех на па-
мяти, их слышали от нянюшек,— и многие вспомнили и
соблазнились. Старые суеверия выплывали. В этой связи
давних суеверий с новым учением — весь секрет интереса
к спиритизму. Разве стали бы столь много писать и го-
ворить о любом другом ученом разноречии, не стой тут
сзади дух, няня, и любезное многим детство народов.
Помирили сказку с наукой — это увлекательно, и спи-
риты свое сделали — заставили говорить и разбирать их
учение. Их расчет прост, хотя и ошибочен: они надеются
найти поддержку в массах, мало знакомых с науками.
Они и помнили и забывали, что эти массы имеют свой
здравый смысл — верный союзник наук и движения, что
они, однако, идут за немногими, что наука не пресле-
дует, не сожигает, не налагает запрещений, что она не
боится движения вперед, но они упустили из виду, что
для науки безразличен приговор масс и отдельных уче-
ных, что наука уже не ветреное дитя, что она зрелая
мудрость времен, что против их оружия можно действо-
вать подобным же, что научное поле им придется взять
с бою... *
Но довольно для уяснения общей картины — обра-
тимся лучше к подробностям, они отчетливее рисуют по-
ложение вопроса. Начальное физическое явление спири-
тизма составляют стуки, раздающиеся при наложении
рук на стол, и движении самого стола. Весьма скоро убе-
дились опытом, что спиритические стуки могут слагаться
условным образом в осмысленную речь; заметили затем,
что разговор стуками (тюпотология) имеет смысл, какой
бы придал речи медиум или то лицо, сидящее за столом,
в присутствии которого стуки происходят. Ничего иного
в речах спиритических сеансов не узнали, кроме того, что
могли бы услыхать из уст медиума.
Физическая сторона дела несомненна, т. е. стуки в
спиритических сеансах происходят. Вопрос состоит в том,
что стучит и обо что? Тут не два первичных вопроса, а
один. Всякий стук есть колебание воздуха, следователь-
* Что и в научной битве, кроме личной храбрости, нужны и за-
пасы крепости, что время татарских набегов на науку миновало.
253
но, для произведения звука нужно средство привести воз-
дух в колебательное состояние. Спрашивается поэтому:
что же приводит здесь воздух в колебание?..
Медики, исследовавшие лиц, в присутствии которых
звуки совершаются, нашли, что некоторые суставы и
связки этих лиц могут производить самостоятельные
звуки. Подобное этому происходит и при разговоре и при
чревовещании — звучит внутренний орган тела. Здесь,
значит, содрогается часть тела медиума. Произвольно
или невольно издают звуки части тела медиумов — до
этого не касались; да и нет нужды: пусть это будет не-
произвольное движение, никому не было интереса его
исследовать. И все же от стучащего нельзя ожидать ни-
чего иного, кроме того, что ему известно, а потому ясна
причина того, что лицо это не может ничего иного вы-
сказать в сеансе кроме того, что им ранее приобретено
или узнано. Это будет тем более так, когда лицо это про-
изводит спиритические стуки преднамеренно и созна-
тельно. Назовем эту гипотезу о природе спиритических
звуков органическою.
Вторая гипотеза состоит в том, что при наложении
рук на стол происходят мускульные напряжения, кото-
рые выражаются колебательным их состоянием; в это
состояние приходит и стол. Медиум, при известном на-
пряжении воли бессознательно или намеренно, накопляет
и суммирует эти мускульные движения в толчок, отве-
чающий потребному моменту. Здесь опять становится
понятным то обстоятельство, что в речах, слагаемых спи-
ритическими стуками, не слышно ничего иного кроме
того, что можно узнать от лица, звуки производящего.
Гипотеза, высказанная здесь, может быть названа меха-
ническою, потому что источник звука по этой гипотезе
лежит в колебании стола или вообще предмета, к кото-
рому прикасаются части тела. Звучат стол, пол и другие
предметы, к которым прикасается медиум.
Затем следует гипотеза магнетическая, которую с осо-
бым успехом развивает Шевиллар (A. Chevillard) в своих
«Etudes experimentales sur certains, phenomenes nerveux
et solution rationelle du probleme spirite», 2 edit., 1875.
Гипотеза состоит в том, что допускается нервная невесо-
мая жидкость или нервный ток, подобный гальваниче-
скому, посылаемый волею и жизнедеятельностью от моз-
говых центров к органам тела. Нервы считаются провод-
никами такого тока. Припомните — еще Гальвани утвер-
254
ждал нечто подобное на основании своих классических
опытов с лягушкою. Магнитизеры держатся подобного
учения и поныне, хотя, со времен Вольта, в науке укре-
пилось иное мнение об опыте Гальвани. Животно-магне-
тическая гипотеза Шевиллара принимает, что вся по-
верхность тела людей испускает некоторую нервную
жидкость, находится в некотором напряжении и, подобно
тому как наэлектризованное тело рассеивает электриче-
ство, испускает из себя эту невесомую материю, приво-
дит соприкасающиеся предметы в особое напряжение —
сила преобразуется. Полагают далее, что нервная
жидкость может скопляться и переходить скачками, кап-
лями, темными искрами и т. п., по воле лиц, сумевших
управлять внутренним распределением нервной жидко-
сти в своем организме. Эта жидкость может выливаться
в некоторых случаях разом и тогда производит спирити-
ческий стук, подобно тому, как у электрических скатов,
или рыб электрическое напряжение может передаваться
электрическим ударом. Задатки этой гипотезы давние.
В сочинениях Лавуазье есть отчет (1784) об исследова-
ниях над животным магнетизмом. Там резюмировано
учение Месмера, начинающееся пышною речью: «Всюду
есть жидкость, легче ощущаемая, чем описываемая: Нью-
тон ее назвал эфирною средою; Декарт — всеобщим дви-
гателем; философы — мировым началом. Свет, звук, за-
пах передаются при ее помощи...» и пошел в это поле...
Много с этими понятиями бились, много раз доказывали,
что фикция Месмера неприложима к фактам, что вообра-
жение— первый деятель в опытах магнетизеров. И все-
таки эти понятия выплывают. Шевиллар стоит на этом же
пути, хотя его мнение и заключает свои особенности. При
его гипотезе, как и при двух предшествующих, совер-
шенно ясно, почему в речах, слагаемых при помощи спи-
ритических стуков, нет иного смысла, чем в речах лиц,
сидящих за столом.
Эти три гипотезы, на мой взгляд, не заключают в себе
ничего невозможного, и, будь опыты, их утверждающие,
несомненны, их принял бы каждый натуралист. Они со-
ставляют центр многих других гипотез, объясняющих
естественным образом спиритические стуки... Но есть две
другие, крайние, диаметрально противоположные гипо-
тезы, назначенные для объяснения стуков и других ме-
диумических явлений: одна есть гипотеза спиритов, до-
255
пускающая духов как причину стуков и других медиу-
мических движений, а другая есть гипотеза обмана.
Гипотеза спиритов состоит в том, что души умерших
не перестают существовать, хотя и остаются в форме,
лишенной материи. Известные лица с особым развитием
органической природы могут быть посредниками, «ме-
диумами», между остальными присутствующими и этими
духами, повсюду находящимися. В спиритическом сеансе
от присутствия медиума духи становятся деятельными
и производят разного рода физические явления и, между
прочим, стуки, ударяя о тот или другой предмет, близкий
к медиуму, и отвечая условным образом на вопросы, к
ним обращенные. Гипотеза эта не объясняет прямо
того,— почему в речах духов отражается ум медиума,
отчего у интеллектного медиума речь духа иная, чем у
неразвитого. Чтобы помирить это наблюдение с мыслью
о духах, допускают глубокое влияние медиума на духов:
под влиянием глупого медиума и умный дух тупеет, а
глупый под влиянием интеллектного медиума становится
гораздо более развитым. Дух ребенка или жителя другой
планеты может говорить только то, что знакомо или мыс-
лимо медиумам, словом, по гипотезе спиритов, дух ста-
новится рабом медиума. Вот эта-то идея, столь сходная
с идеею гномов и ведьм, чертей и привидений, и послу-
жила главным поводом к распространению и обособле-
нию спиритического учения. Говорят, что в Америке спи-
ритическое учение пошло в ход благодаря некоторой
комбинации с женским вопросом. В пятидесятых годах
там этот вопрос времени был уже в значительном разви-
тии. Медиумами же оказались по преимуществу жен-
щины. Этим обстоятельством воспользовались. Образо-
вались кружки, у которых основною идеею было доброе
стремление к перемене тягостной во многих отношениях
современной обстановки и к достижению лучшей при по-
мощи спиритизма. Рассуждали так: женщина менее силь-
на, чем мужчина, оттого женщины зарабатывают меньше
мужчин, которые, кроме того, изобрели себе в помощь
множество механических деятелей, пользование кото-
рыми также требует не только силы, но и навыка, уче-
ния. Истинное равенство наступит только- тогда, когда
женщина будет в состоянии доставлять одинаковое с
мужчиною количество работы, и вот в спиритизме на-
шлось легкое для того средство. Если духи в состоянии
производить звуки, значит, они производят механическое
256
движение, работу; оказалось затем, что они способны
вращать столы; так отчего же им не вращать машины?
Спиритизмом стали интересоваться для того, чтобы по-
лучить даровых двигателей. Надеялись, что женский
организм доставит этим путем со временем, когда, изу-
чив дело, овладеют силами духов, значительное количе-
ство даровой работы, которой можно воспользоваться
для практических целей. Не знаю, насколько справед-
лив этот рассказ, но он дышит американскою практич-
ностью... Не подлежит, однако же, никакому сомнению,
что в спиритизме многие, не удовлетворенные современ-
ным строем идей, современными принципами, видят ка-
кой-то исход к лучшему в будущем... Грубый материа-
лизм некоторым, довольно странным, образом стремятся
помирить с нравственными принципами, с поэтическими
грезами. Ошибку расчета Полонский отлично выставил
в своем прелестном стихотворении «Старые и новые
духи», помещенном в «Неделе» *.
Гипотеза спиритов оказалась удобною для всех тех,
кто не оставил еще уверенности в существовании приви-
дений, домовых и тому подобных воображаемых интел-
лектных существ; но она недопустима при современном
строе понятий, господствующем с тех пор, как поняли,
что сожигание за колдовство есть одно и то же, что и
преследование религиозных верований. Восстают против
спиритизма преимущественно потому, что с спиритиче-
скими явлениями теснейшим образом связана изложен-
ная гипотеза о духах. Самое учение о стуках и движе-
ниях, материализации и т. п. получило свое название
вследствие того, что верящие в эти явления неразрывно
* Нет, эти духи, что стучат,
Или ворочают столами,
Не те, которые грозят
Расстаться с нашими мечтами.
Мир снова жаждет обновленья,
В науке ищет откровенья,—
продолжает Полонский и выводит, что эти духи
Родные дети пустоты,
Тоски, неверья, увяданья,
Они — фантазия без крыл...
В этих стихах, как в своих «Грезах», Полонский кратко и непод-
ражаемо передал мысль, бывшую у многих в голове, коснулся самой
сущности вопроса. Люди науки, сколько слышится, думают имен-
но так.
257
связывают признание их реальности с гипотезою о ду-
хах... Шевиллар, проводящий понятие об изливающейся
нервной жидкости, и тот, хотя допускает ни на чем не
основанное понятие о существовании самостоятельного
нервного тока, исходящего из организма,— и тот со сме-
хом отвергает гипотезу спиритов.
А спириты говорят часто, что современники — грубые
материалисты, особенно естествоиспытатели, не признают
их гипотезу, потому что ее боятся — она рушит будто бы
все. Натуралистам, однако, не чуждо, а, напротив, впол-
не свойственно допущение гипотез на первый взгляд без-
доказательных, фантастических, духовных, предвзятых;
так, например, они признали жизнь во всем мертвом,
движение в каждом твердом теле, в каждой малейшей
частице жидкости, чрезвычайно быстрые поступательные
движения в атоме газа. Для них оживотворено то, что
в общежитии считается неподвижным. Им немыслимо
ныне представление о малейшей частице материи, нахо-
дящейся в покое. Со времен самого Ньютона они не до-
вольствуются даже допущением притяжения на расстоя-
ниях, ищут для его объяснения посредствующей среды.
Они свободно принимают и обсуждают самые разнооб-
разные допущения, могущие осветить понятие о притяже-
нии и отталкивании. В частичке вещества химик видит,
как бы ощущает отдельные части, независимые органы
и общую связь частей; словом, для него это есть целый
организм, живущий, движущийся и вступающий во взаи-
модействие. Все работы химиков этим проникнуты, и они
знают, однако, что не доберутся до того, чтобы выделить
и видеть эту частичку, как выделяют растительную клет-
ку. И это все отвлечения не менее далекие от обычных
явлений, чем то, по которому воображают существование
духов. Следовательно, не из-за грубости фантазии, не
из-за прошлого резонерства,— которое гласит часто
«вынь да положь — тогда поверю»,— естествоиспытатели
отвергают гипотезу духов. Одни гипотезы они признают,
проверяют, в их смысле работают, другие резко отвер-
гают...
Признать ту или другую гипотезу или ее отвергнуть
волен всякий, но не всякий ученый и не каждый раз го-
ворит, как наука. Наука существует отдельно от ученых,
живет самостоятельно, есть сумма знаний, вырабатывае-
мых всею массою ученых, подобно тому, как известное
политическое устройство страны вырабатывается мас-
258
сою лиц, живущих в ней. Авторитетна наука, но не от-
дельные ученые. Ученый только тогда может и должен
пользоваться авторитетом, когда он следует за наукою,
подобно тому как в благоустроенном государстве авто-
ритетом власти пользуется только то лицо, которое блю-
дет законы.
Для объяснения данного явления всегда возможно
составить много гипотез, и признание той или другой из
них тем или иным ученым есть дело личного вкуса; но
в науке укрепляются, т. е. научными гипотезами стано-
вятся и затем незаметно переходят в жизнь, в школу, в
литературу только те, которые обставлены целым рядом
исследований, принятых массою ученых, подобно тому,
как законом становится то, что приобрело в стране изве-
стную формальную обстановку. Гипотезу о духах наука
отвергает, хотя есть такие ученые, которым она приш-
лась по вкусу.
Пусть медиумические стуки раздаются,— пусть они
реальны, составляют факт несомненный. От этого спи-
ритическое учение ни на волос не двигается вперед. Спи-
ритам, утверждающим, что эти звуки производятся ду-
хами, да им, а никому другому,— должно затем дока-
зать, что ни органическая, ни механическая, ни магнит-
ная гипотезы непригодны для объяснения причины
медиумических звуков, что в них нет ни самообмана, ни
обмана и затем, что спиритическая гипотеза состоятель-
на, фактам удовлетворяет — ничему известному не про-
тиворечит, составляет шаг познания вперед. Так должно
было бы идти спиритам, если бы они желали следовать
по пути действительно научного прогресса. А они взяли
путь, каким распространяются суеверия: «Поверь, я го-
ворю не лживо. Не думай, а признавай — остальное при-
дет само; истина прекрасна. Не мечтай о себе много —
ты еще ничего не знаешь». Этот кодекс слышали люди
и прежде, услышат и еще не раз. Он чужд науке. Она
не рвется к тому, чтобы ее признали. К ней идут, ее
ищут — она ни в ком не нуждается. Ее адепты — люди
со всеми их свойствами, а она, хоть и их дело, чужда
людских пороков, не гонится за признанием. «Не вери-
те— ваше это дело, у меня есть свое поле, придет вре-
мя— узнаете и сами. Затворитесь — я пройду. Мне не
надо ни мучеников, ни апостолов. Только размышляйте,
не живите как растения».— Вот что гласит наука.
И этого — держится масса ученых. Тут есть еще следы
259
затворничества. От этого-то и мало популяризации ис-
тинной науки. Уверен, что дело со временем изменится,
но это будет еще не скоро, многое до того изменится —
раньше, много до той поры должно пропасть суеверий.
Итак, современная наука отвергла гипотезу духов не
потому, что боится ее, не из-за ее бойкости, а оттого, что
спириты хоть и ставят ее, но ничем не доказывают, не
связывают с готовым уже запасом знаний, стройность
развития которых такова, что лозунгом наук стало поня-
тие о единстве сил природы.
Прямо противоположна гипотезе спиритов гипотеза
обмана, по которой причиною спиритических явлений
служит обман, производимый медиумами в сеансах. Сами
спириты помогают распространению этой гипотезы, по-
тому что окружают медиума мистическою обстановкой:
темнотою, полутьмою, удаляют, когда вздумается, на-
блюдателей, в особенности не доверяющих спиритизму,—
считают спиритические явления капризными, редкими,
трудноуловимыми, так сказать духовными. Ученый лю-
бит капризные явления, редкости — уники. Он стремится
проникнуть в их тайну и бережно до поры до времени
сам блюдет ее, ревниво закрывает от других, пока не
добьется ее раскрытия*. <...>
Спириты — те откровенные, прямые, которые возбу-
дили спиритические толки,— искатели, смело и честно
выступившие с возвещением того, что считают новой ис-
тиной. Выше я упоминал уже об этом. Такие люди, ко-
торые не боятся предрассудков, смело идут противу об-
щепринятого— имеют в себе то не стадовое, что необхо-
димо в жизни людей. Выставляй спириты свое учение
спокойно, не громи они науки, действуй в тех сферах, где
свобода научного исследования обеспечена обычаем, кто
же осмелился бы их осудить? Посмеялись бы, да втихо-
молку. В научных летописях известны и не такие ученые,
как спиритические,— их игнорируют, от них отворачива-
ются, но об них не читают публичных чтений, не пишут
столько, сколько о спиритизме и спиритах.
Тот мост между явлениями физическими и психиче-
скими, который видят спириты в медиумических явле-
ниях, составляет действительно мост желанный, и такой
наука рано или поздно построит. На постройку пойдет
* Нашим спиритам следовало бы сперва хорошенько разобрать-
ся в медиумических фактах, а не выступать прямо с пропагандою
всего спиритического учения.
260
материал физиологии и психологии, терапии и психиат-
рии, захватят, быть может, и факты спиритизма, мост
этот соединит ученых, не встанет поперек их дороги. Ме-
дики уже начали исследовать гипнотизм, транс и другие
нервные состояния, в которых выражаются с известным
оттенком особенности нервной деятельности. Ученые не
боятся этих вопросов; их напрасно боятся и многие дру-
гие лица, недостаточно подготовленные к пониманию
общего движения науки. Разработка вопросов нервной
физиологии не убьет нравственных начал, она только
разрушит суеверия, существующие в этом отношении,
т. е. предвзятые мысли, с давних пор на веру принимае-
мые. Для меня не подлежит сомнению, что настанет вре-
мя, когда станут обо всем этом говорить так же спокой-
но, как говорят ныне о затмениях, о кометах. А сколько
людей и этого боялось; иные боятся еще ныне. Им
страшно говорить об этом предмете, им думается, что
он не подлежит разбору, анализу; они видят дракона
там, где Луна. Мне кажется, однако, что ныне еще рано-
вато говорить о крупных научных завоеваниях в отно-
шении психической деятельности. Научные открытия и
успехи не происходят вдруг; они накопляются мало-по-
малу; нужно много работы для того, чтобы могло по-
явиться лицо, охватывающее запас накопившихся зна-
ний, умеющее добыть из этого запаса новую крупную
идею, закон, управляющий совокупностью явлений.
А над разработкой психической деятельности со стороны
физических явлений, с нею связанных, работают немного,
приступили к делу с осторожностью, науке свойственной,
без поспешности, идут шаг за шагом и накопляют необ-
ходимый материал. Не отворачивайтесь от него, но не де-
лайте по недостаточному материалу скорых, быстрых
суждений,— вот что скажет всякий, кто дорожит истин-
ными успехами науки...
Таким образом, интерес к спиритизму показал то вни-
мание, которое может быть развито в массах к научным
вопросам. Оно будет, лишь только вопросы касаются
обыденных предметов, всем понятных и всюду встречаю-
щихся. Такой предмет и составляет деятельность психи-
ческая, относительно которой ныне распространены в
массах, преимущественно противу других предметов, наи-
более суеверные понятия. Суеверия есть уверенность, на
знании не основанная. Наука борется с суевериями, как
свет с потемками. Немного осталось предметов, питаю-
261
щих суеверие в такой же мере, как психическая деятель-
ность людей.<...>
Позволяю в заключение указать на следующее. По
моему мнению, польза от разговора о спиритизме у нас,
наверное, будет, потому что о нем обе стороны пишут и
говорят свободно: увидят соотношение между наукою и
учеными, подумают над приглашением скоро, бойко
строить большие мосты, станут разбирать их проекты,
отличать — цель от средств, словом, иные задумаются.
Если бы заставили молчать — не было бы и этой посиль-
ной пользы. Дайте высказаться новому. Если в нем есть
противное здравому смыслу, истине — нравственный союз
школы, литературы и науки уже достаточно у нас силен
для того, чтобы этому противодействовать. Не беда, если
новенькое — ложное сперва кой-кого и увлечет. Это даже
хороший знак, что у нас нет китайской стены, что но-
вому— верному у нас дорога широка и свободна.
А в том, что вы пришли сюда послушать о спиритиз-
ме,— всякий видит одно ваше сочувствие к борцам про-
тиву суеверий — школе, литературе и науке.
Д. И. Менделеев. Сочинения, т. XXIV.
Л — М., 1954, стр. 191-239.
И. Дицген
Из работы
«РЕЛИГИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ»
Часто в истории мы видим,
что одни вещи превращаются в другие, сохраняя, однако,
свое название. Неосведомленному человеку новые изме-
нившиеся понятия выдают за неизменные старые прин-
ципы — таковы религия, христианство, церковная кафед-
ра. Этот консервативный прием вызывает в умах отвра-
тительную путаницу. Даже уважаемые товарищи по-
падаются иногда на эту удочку. Они говорят: «Христос
был первый социалист». Социализм и христианство так
же различны, как день и ночь. Конечно, оба они имеют
262
нечто общее, но что же не имеет чего-нибудь общего?
Что не сходно? День и ночь, несомненно, сходны в том,
что оба они отрезки общего времени. Дьявол и архангел,
несмотря на то, что у одного черный, а у другого белый
цвет, тем не менее сходны в том, что у каждого из них
имеется окраска. Это вообще специальная способность
нашего ума приводить всякое разнообразие к одному
общему знаменателю. Пусть даже христианство и социа-
лизм имеют довольно много общего, тем не менее тот,
кто сделал бы Христа социалистом, по праву заслуживал
бы названия вредного путаника. Недостаточно еще знать
общее сходство вещей — следует также узнать их разли-
чия. Не то, что социалист имеет общего с христианином,
но то, что в нем есть особенного, что его отличает от
последнего,— вот предмет нашего внимания.
Недавно христианство было названо религией рабо-
лепства. Это в самом деле самое удачное его обозначение.
Раболепна, конечно, всякая религия, но христианская ре-
лигия есть самая раболепная из раболепных. Возьмем
наудачу какое-нибудь христианское изречение, встречаю-
щееся на улицах в виде надписей. Где я обычно хожу,
стоит крест с надписью: «Иисусе сладчайший, помилуй
мя!», «Святая Мария, моли бога о нас!» Тут пред нами
безмерное смирение христианства во всем его жалком
ничтожестве. Ведь тот, кто таким образом возлагает все
свои надежды на жалость, тот поистине жалкое созда-
ние. Человек, который исходит из веры во всемогущего
бога, который падает ниц пред роком и силами природы,
который в сознании своего бессилия умеет только сми-
ренно умолять о сострадании, не может быть годным
членом нашего нынешнего общества. Если современные
христиане — иные люди, если они смело глядят вперед
на несчастья, ниспосылаемые высшими силами, и стара-
ются своим живым воздействием изжить злополучия, то
они подобными поступками уже возвещают свое отпаде-
ние от веры. Хотя христиане сохраняют свое название,
свои молитвенники, свои душевные страдания, все же
они в своих делах и побуждениях полнейшие анти-
христы. Мы, нерелигиозные демократы, имеем то преиму-
щество, что мы ясно сознаем положение вещей. Мы хо-
тим с полным знанием и волей, в теории и на практике
быть деятельными противниками овечьей, блаженной по-
корности.
263
Благодаря дурной привычке, так глубоко засевшей в
существе человека, мы хотим, чтобы то, что однажды
при известных условиях имело смысл, сохранялось на
вечные времена. Эгоистические, тупоумные пошляки хо-
тят отрицать, примирить, утаить противоречие между
христианским презрением мира и жизнерадостным ин-
стинктом, который господствует в наше время. Христи-
анство требует отречения, тогда как теперь требуется
упорный труд для удовлетворения наших материальных
потребностей. Упование на бога — главное качество хри-
стианина; вера в самого себя, прямая противополож-
ность первого,— главное условие для успешной работы.
Кто решается вложить в уста христианина учение: «На-
дейся на бога, но сам не плошай» — и хочет сказать этим,
что труд не есть нечто нехристианское, а, напротив, заклю-
чается уже в христианском учении, тот завзятый софист.
Христианский труд бесконечно далек от настоящего,
современного труда. Христианин трудится для неба, что-
бы бичевать плоть, чтобы подавлять радости; а если он
трудится для хлеба, для пропитания, то это должно быть
пропитание, которое только продлило бы муки в этой
юдоли плача и страданий, чтобы через них стать достой-
ным истинной, вечной жизни. «Кто презирает жизнь свою
тут, на земле, тот сохранит ее для вечной жизни» (Иоанн.
12:25). Вечная загробная жизнь — цель христианина,
обыденная земная жизнь — цель разумного человека.
Доктор теологии Даниил Шенкель из Гейдельберга
горячо восстает против утверждения, будто главная за-
дача христианства состоит в отрицании мира. «Как,—
восклицает он,— этот мир является для христианства не
только недостойным, но даже невозможным местопребы-
ванием религии? Этот мир, о котором евангелист Иоанн
говорит: «И так возлюбил Господь мир, что он послал в
него сына своего», и т. д.? Разве старейшие христиане
хотели уйти из мира? Разве они не ожидали скорее, что
Христос, как могучий, победоносный царь, сойдет к ним
на землю, чтобы существующий дурной мировой порядок
заменить иным, лучшим, но все же мировым порядком?»
Так говорит софистический резонер, которому нет дела
до правды, а только хочется разукрасить свою свободо-
мыслящую половинчатость и трусость звонким именем
религии и христианства. Или, может быть, в своей пот-
ребности обмануть других, он в конце концов обманы-
вает лишь самого себя? Разве он не знает, что христиан-
264
ство имеет, подобно пруссакам, два мира — черный и бе-
лый? Красивый, пестрый мир действительности христиа-
нин замазал черной краской. Его красоты для него только
искушения дьявола, труд — проклятие, любовь — пре-
ступная похоть, плоть — тяжесть, помеха духу, тело —
«вонючий гнойник». Как заколдованный принц, превра-
щенный в дикого зверя, так светлый мир христианского
воображения запрятан в эту черную действительность.
Чтобы освободить нас из этого мира, господь прислал
своего сына, который уводит нас в христианский, рай-
ский мир. Наподобие дерева, сделанного из железа, тот
мир состоит из духовной материи; мужчины и женщины
в нем не имеют пола, их тела не имеют веса, их труд не
стоит никаких усилий. «Ангелы варят без мяса похлебку
блаженства». Конечно, старейшие христиане хотели уйти
из мира. Они ежечасно ожидали пришествия господа, ги-
бели и страшного суда: «Мое царствие не от мира сего».
Однако христиански-фантастическое избавление, ко-
торое хочет излечить земные страдания не производи-
тельным трудом, а верой и надеждой, не могло, конечно,
надолго заглушить разумное требование материального
наслаждения жизнью. Еретики и реформаторы, протес-
танты, друзья света и всякие вольные общества, старо-
католики и немецкие католики, Фрошаммер и Шен-
кель— все они более и более способствовали торжеству
окрашенной в черный цвет истины над белой ложью ре-
лигиозного вымысла. В этом мы, социалисты, согласны
с «прогрессистами». Но мы не желаем поддержать тру-
сость, которая хочет представить отпадение от веры как
восстановление истинного христианства и, таким обра-
зом, не желает отказаться от названия. Необходимо дис-
кредитировать название, для того чтобы уничтожить са-
мое дело.
Так же двусмысленно, как буржуазное народное хо-
зяйство, как буржуазная свобода, равенство и братство,
так же двусмысленна религия этих лакеев капитала. Ко-
медию «отречения от мира», разыгрываемую прежде тол-
стопузыми монахами, теперь продолжают толстосумые
буржуи. Самое комичное при этом то, что прогрессиста
опередил монах, так как тот даже не сознает своего ре-
лигиозного ничтожества. Не имеющее ни цвета, ни за-
паха, безвкусное христианство этих новомодных ветро-
гонов, однако же, претендует на звание подлинного,
истинного, настоящего. Классические древние христиане,
265
календарные святые, ведь и в самом деле были мироне-
навистниками, истязателями плоти: они жили в одинокой
келье, носили грубую одежду, бичевали тело и питали
его только кореньями и травами. Их жизнь подтвержда-
ла их учение о том, что «бог есть дух и кто хочет покло-
няться ему...» и т. д. Наши современные крестоносцы
открывают следующую страницу, на которой написано:
«Он стал плотью и жил среди нас». Конечно, зародыш
двусмысленности, противоречивая непоследовательность
содержится уже с самого начала в христианском учении.
Апостолы и отцы церкви делают местами уступки; они
поучают, как изгонять страсть женитьбой, сатану Вель-
зевулом. Иногда молитва и посты считаются высшей доб-
родетелью, в другой раз, наоборот, говорится: «Господу
богу не до плоти человеческой». Раз невозможно пере-
шагнуть через природу вещей, раз невозможно предста-
вить себе человека не от мира сего, то христианство не
может игнорировать совершенно наслаждения жизнью,
и оно неизбежно вовлечено в житейские заботы. Однако
зоркому демократу хорошо удается видеть лес за этими
деревьями. Христианский лес находится в царстве юдоли
и скорби и зовется: воздержание на земле и «сахарный
горошек» * в небесах.
Учение, которое в течение столетий владело народами
и частями света, несомненно, имеет свое историческое
значение. Неприемлемо только то, что, смиренно рож-
денное в яслях, оно хочет властвовать на вечные време-
на. То, что христианство имеет истинного, например
умерщвление плоти, как хорошее противоядие против
внебрачных вожделений, или стоящую выше патриотиз-
ма любовь ко всему миру, этого социал-демократия не
хочет отрицать. Наоборот, она твердо держится этого,
если бы даже остальной мир озверел из ненависти к
французам. Она не желает только, подобно христианству
или вообще религии, выдавать мирскую истину за не-
бесную святыню.
Тут, любезные слушатели, в разграничении религиоз-
ной и мирской истины мы дошли до того пункта, который
существенно отделяет социалиста от христианина. Для
выяснения этого прошу на минуту особенного внимания.
Конечно, истина есть истина! Но в религиозной форме
истина одностороння, ограничена, нетерпима. Возьмем,
* Слова Гейне.— Ред.
266
например, заповедь о любви к ближнему. Это есть веч-
ная истина, т. е. заповедь человеческой потребности, что
люди тяготеют друг к другу. Общественность лежит в их
натуре, они должны любить друг друга, и если они этого
не понимают, они не понимают собственного блага и
счастья. Но когда религия овладевает этой природной
истиной и христианин говорит: люби своего ближнего,
как самого себя,— он с таким фанатическим рвением
проникается этой заповедью, что она почти теряет вся-
кий смысл. Если его ударили в правую щеку, он подстав-
ляет еще левую. Если он проповедует любовь, он исклю-
чает противоположное, он осуждает ненависть. Таким
путем христианская любовь превращается в жалкую тру-
сость. Наоборот, социализм не только проповедует, он
зиждется на братстве. Но антирелигиозная разумная лю-
бовь к ближнему умеет ограничить себя, она не переходит
за свою цель, не отвергает своей противоположности —
ненависти, но включает ее как временами необходимое и,
следовательно, священное средство.
Иосиф Дицген. Избранные философские
сочинения. М., 1941, стр. 255—259.
Г. В. Плеханов
ПРИМЕЧАНИЯ К КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА
«ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ»16
[Фрагмент]
В 1902 г. редакция жур-
нала «Mouvement Socialiste» * предприняла целую
enquete** по вопросу об отношении социалистических
партий разных стран к клерикализму. Вопрос этот имеет
теперь самое очевидное практическое значение. Но для
его правильного решения необходимо предварительно вы-
яснить себе другой, преимущественно теоретический воп-
рос: вопрос об отношении научного социализма к рели-
гии. Этот последний вопрос почти совсем не разбирается
в международной социалистической литературе наших
дней. И это составляет большой пробел в ней, объясняю-
щийся именно «практичностью» большинства нынешних
социалистов. Говорят: религия — частное дело. Это вер-
но, но верно только в известном, ограниченном смысле.
Разумеется, социалистическая партия всякой данной
страны поступила бы очень нерасчетливо, если бы отка-
залась принять в свои ряды человека, признающего ее
программу и готового трудиться для осуществления этой
программы, но в то же время сохраняющего известные
религиозные предрассудки. Однако еще более нерасчет-
ливо поступила бы всякая партия, если бы отказалась от
теории, лежащей в основе ее программы. А теория —
современный научный социализм — отвергает религию
как порождение ошибочного взгляда на природу и на
общество, и осуждает ее, как препятствие для всесторон-
него развития пролетариев. Мы не имеем права закрыть
двери своей организации перед человеком, зараженным
религиозной верой; но мы обязаны сделать все завися-
щее от нас для того, чтобы разрушить в нем эту веру
или, по крайней мере, чтобы помешать нашему религиоз-
ному товарищу,— конечно, помешать духовным ору-
жием — распространить свой предрассудок в рабочей
среде. Последовательное социалистическое миросозерца-
* «Социалистическое движение».
* — анкета.
268
ние совершенно несогласимо с религией. Неудивительно
поэтому, что основатели научного социализма относи-
лись к ней с резким отрицанием. Энгельс писал: «Мы
хотим устранить с нашего пути все то, что является нам
под знаменем сверхчеловеческого и сверхъестествен-
ного... Поэтому мы раз навсегда объявляем войну рели-
гии и религиозным представлениям». В свою очередь
Маркс называл религию тем опием, которым высшие
классы стараются усыпить народное сознание, и гово-
рил, что уничтожение религии, как мнимого счастья на-
рода, есть требование его действительного счастья. И тот
же Маркс замечал: «Критика религии разочаровывает
человека для того, чтобы он думал и действовал, устраи-
вал свою жизнь, как избавленный от чар, отрезвленный
человек, чтобы он двигался вокруг самого себя, т. е.
вокруг своего истинного солнца».
Это до такой степени верно, что теперь у нас верну-
лись в лоно религиозного верования все те бывшие
«марксисты», которые в силу своих буржуазных стрем-
лений не желают и не могут желать полного отрезвления
пролетариата.
Г. В. Плеханов. Избранные философ-
ские произведения в пяти томах, т. I.
М., 1956, стр. 470-471.
Марселен Бертло
Из работы
«НАУКА И НРАВСТВЕННОСТЬ»17
I
Мы присутствуем в эту ми-
нуту при новом наступательном движении мистицизма
против науки: он полагает путем ораторского красноре-
чия завоевать себе вновь то потерянное господство над
миром, которое так долго поддерживал огнем и мечом.
Старый спор! Не прекращавшийся с той поры, когда пад-
шие ангелы «открыли людям проклятое познание добра
и зла и научили их запрещенным искусствам». Возрож-
дающийся мистицизм предъявляет вновь свои права на
монополию нравственности.
Но времена изменились. Наука, так долго находив-
шаяся под запретом, наука, преследуемая в течение
всего средневековья, отвоевала свою независимость це-
269
ною тех услуг, которые она оказала людям: теперь она
может пренебречь этим отрицанием ее прав мистиками.
И молодое поколение отказалось идти далее по указке
этих сомнительных руководителей, каковы бы ни были
чары их речей, искренность их верований; она со своей
стороны высказывает убеждения более высокие, более
достоверные и более великодушные. Она очень хорошо
знает, что это мнимое банкротство науки только само-
обман людей, совершенно чуждых истинному духу науки;
она знает, что наука сдержала обещания, данные от ее
имени философами природы, начиная с XVII и XVIII ве-
ков; одна наука с той поры и даже с начала веков изме-
няла материальные и нравственные условия существова-
ния народов.
Изменения, совершившиеся начиная с первых ша-
гов цивилизации, получили первый толчок от одной
науки, хотя это их происхождение долго оставалось
скрытым и затемненным примесью чуждых элементов,
заимствованных у воображения. Прошло всего два с по-
ловиной века с той поры, как научный метод освободился
от всякой посторонней подмеси и проявился во всей своей
чистоте; его значение засвидетельствовано в самых раз-
нообразных областях постоянно ускоряющей свой ход
промышленной и социальной эволюцией.
Конечно, в мире существует и будет, вероятно, суще-
ствовать много достойного порицания, много страдания,
много неправды. Но что возвышает науку в глазах лю-
дей— это именно то, что вместо того, чтобы приводить
их в какое-то оцепенение проповедью их бессилия и не-
обходимости покоряться судьбе, она их толкает вперед,
побуждает вступить в борьбу с этой злой судьбой и учит
их, какими путями можно уменьшить сумму страданий,
этой неправды, т. е. увеличить и свое собственное счастье,
и счастье своих ближних. Это благое дело она осущест-
вляет не путем словесных увещеваний или аргументов
a priori, но силою приемов и правил, действительность
которых несомненна, потому что они почерпнуты путем
изучения причин и условий существования этих источни-
ков наших страданий. Такова цель, которую наука всегда
преследовала и никогда не остановится преследовать, с
неустанною преданностью истине и идеалу, с безгранич-
ною любовью к человечеству. <...>
270
II
Конечно, не мы выступаем
вперед с притязаниями дать окончательную разгадку
Вселенной; напротив того, мы заявляем, что с нее нельзя
начинать, и очень хорошо знаем, что из безграничного
числа разнообразных явлений нам удается изучить толь-
ко ничтожную долю. Мы знаем всю глубину нашего не-
знания и соответственно скромны, но эта скромность не
приводит нас к огульному скептицизму. Еще менее спо-
собна она заставить нас парализовать наши дальнейшие
усилия в угоду мистицизму. Научный метод признан
опытом отдаленнейших веков, как и веков новейших,
единственным верным путем для приобретения знаний.
Не существует двух источников истины: одного, идущего
из глубины непознаваемого, и другого, берущего начало
из наблюдения и опыта, внешнего и внутреннего.
Мистик, который задался бы мыслью руководиться
одними представлениями о чудесном в своей жизни и ча-
стной деятельности, вскоре увидел бы себя на краю по-
гибели: история человечества, а также и умственная па-
тология свидетельствуют, что народы и отдельные лич-
ности, принимавшие себе в руководство таинственные
наития и внушения свыше, оканчивали тем, что дела-
лись жертвами полного, непоправимого расстройства
умственного, нравственного и материального.
Конечно, человек всегда пытался ускользнуть от под-
чинения строгому детерминизму, подобно тому как в бы-
лое время он пытался налагать свою волю на высшие
силы путем заклинаний или умилостивить жестокий рок
бесполезными мольбами. Но не должно допускать, чтобы
эти заблуждения позволяли нам уклоняться от нашего
строгого мышления и чтобы это нерациональное смеше-
ние понятий вредило верности получаемых результатов.
Этот бесповоротный разрыв между научным методом
и областью непознаваемого не всегда существовал; он
явился результатом длинного процесса развития, в те-
чение которого представления, созданные воображением
и мистицизмом, представления, выработанные логикой,
и представления, добытые эмпирически или путем более
точного опыта, смешивались и переплетались между
собой. <...>
Печатается по: «Естествоиспытатели и
атеизм». М. 1973, стр. 112—114.
271
К. А. Тимирязев
МАРСЛЕН БЕРТЛО
[Фрагменты]
Настоящий век, как и его
предшественник, склоняется к закату при несомненных
признаках всеобщей реакции. Реакция в области нау-
ки— только одно из ее частных проявлений. Как всякая
реакция не выступает с открытым забралом, а любит
скрываться под не принадлежащей ей по праву личиной,
так и современный поход против науки, провозглашаю-
щий ее мнимое банкротство, любит величать себя «воз-
рождением идеализма»...
...Тем, кто прямо заинтересован в этом попятном дви-
жении, оно, конечно, внушает розовые надежды; многих
из тех, кому дороги давшиеся ценою таких трудов ум-
ственные завоевания века, оно наводит на мрачные мыс-
ли; но те, кто в состоянии хладнокровно оценить значе-
ние этих приобретений, конечно, не страшатся за их
участь и видят в этой реакции обычное явление — по-
пытку напрячь последние силы в надежде оказать сопро-
тивление неотразимому историческому прогрессу мыс-
ли,— сопротивление, могущее затормозить на время, но,
конечно, не задержать ее поступательное движение.
Тем не менее эти крики о каком-то банкротстве со-
временных идеалов, эти радостные заверения о возвра-
щении к пережиткам темного прошлого, этот отбой, ко-
торый пытаются бить по всей линии, рассчитан на то,
чтобы поселить смуту среди преобладающей всегда мас-
сы колеблющихся умов и пополнить ими ряды воинст-
вующей реакции.
Всего нагляднее это движение обнаруживается во
Франции. Найдя себе всегда готовую поддержку в пре-
восходно дисциплинированной и всегда умело скрываю-
щей свои истинные виды под благовидными личинами
клерикальной партии, это движение превращается в ка-
кой-то крестовый поход против науки. Главная надежда,
как и всегда, возлагается на молодое поколение. Подо-
рвать в его глазах значение науки и свободной мысли и
привести послушное стадо к стопам ватиканского па-
стыря — вот мысль, которая сквозит во всех этих при-
творных разочарованиях в науке, этих радостных воскли-
272
цаниях о пробуждении какого-то нового идеализма, а на
деле очень старого мистицизма, самого верного орудия
для осуществления вожделений весьма материального
свойства. <...>
К. А. Тимирязев. Сочинения, т. V. М.,
1938. стр. 279, 280—281,
И. И. Мечников
Из работы
«ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА.
ОПЫТ ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»18
Глава VII
ПОПЫТКИ РЕЛИГИИ ПОБЕДИТЬ ДИСГАРМОНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Инстинкт жизни и страх
смерти лежали в основе побуждений первобытного чело-
века в его искании выхода из трудного положения, со-
зданного дисгармониями его природы. Именно в интере-
сах здоровья и жизни приходилось отыскивать полезную
пищу и регулировать половое отправление.
С пробуждением разума человек судил о неизвест-
ном по аналогии с тем, что ему было наиболее знакомо,
т. е. с самим собой. Вот почему он приписывал всем
окружающим его предметам свойства и побуждения,
присущие ему самому. По его мнению, не только все жи-
вые существа обладали волей и умом, но даже и неоду-
шевленные тела способны были действовать подобно че-
ловеку.
Из этого первобытного понятия и возникло то, что
Тэйлор * назвал анимизмом, «этой основой философии
религий диких рас и цивилизованных народов». Умирая,
человек не вполне исчезает, а только превращается в
новое состояние. Труп живет не так, как мы, но тем не
менее он продолжает жить — особенным образом, хотя
и сходно с нами. Такое представление отвечало потреб-
ности сохранения жизни и боязни смерти, т. е. полного
* «Первобытная культура», русск. пер., 1878.
273
исчезновения. Оно есть не что иное, как вера в бессмер-
тие, или в будущую жизнь.
Анимизм — понятие, весьма распространенное по
всему земному шару. Очевидно, что оно служило самым
действительным утешением при сознании неизбежности
смерти вместе с величайшим желанием жить...
...Будда предполагал, что людские страдания могут
быть исцелены отречением от всех жизненных наслаж-
дений и полным смирением. Один тот факт, что первона-
чальный буддизм не удержался и быстро переродился в
обыденную религию, сходную со многими другими веро-
ваниями,— одно это доказывает, что Будда не достиг
цели. Обещание вечной жизни одно соблазнило массу и
послужило распространению буддизма на такие громад-
ные пространства.
Однако верование это смогло удержаться лишь в тех
слоях общества, куда не проникло рационалистическое
понимание психических функций. Со времени пробуж-
дения в Европе научного духа признано было, что поня-
тие будущей жизни не имеет никакой серьезной основы.
Изучение психических явлений доказало, наоборот, их
тесную связь с телом, в особенности с составными ча-
стями центральной нервной системы. Достаточно про-
стого замедления в кровообращении, временного обес-
кровления мозга, чтобы уничтожить сознание, иными
словами, уничтожить существеннейшее ощущение личной
психической жизни. Анестезирующие средства, приме-
няемые в количествах, недостаточных для того, чтобы
прекратить ряд функций нервных центров, как, напри-
мер, регулирование движений сердца и грудной клетки,
уничтожают сознание полностью. Лица, подвергаемые
для операции действию хлороформа, впадают в состоя-
ние полной бессознательности. Подчас пройдя через тя-
гостные ощущения, в частности испытав удушье, больные
воображают себя в состоянии непрестанного движения,
а спустя несколько мгновений им представляется, будто
они впадают в небытие, без ощущений и без сознания.
В других случаях хлороформированные пациенты утра-
чивают всякое представление о действительности, унич-
тожаются все функции восприятия и психики. Такое со-
стояние, несомненно, весьма близко к смерти, которая
в некоторых редких случаях и наступает при хлорофор-
мировании.
При наркозе, будь то хлороформом или каким-либо
274
иным анестезирующим средством, не происходит ничего,
что могло бы заставить нас предположить наличие ма-
лейшего проблеска сознания, находящегося вне зависи-
мости от тела. Под действием морфия испытывается чув-
ство благосостояния, при котором ощущается как бы
облегчение веса тела; но и при этом не наблюдается
никаких симптомов, способных подтвердить мысль о жиз-
ни, независимой от органических функций.
То обстоятельство, что у ребенка сознание личности —
единственно нас интересующее при сохранении нашей
индивидуальности — развивается лишь медленно и по-
степенно, подтверждают результаты наблюдений над
анестезией и наркозом. Подобно тому как наше сознание
возникает из небытия в первые месяцы или первые годы
нашего существования, оно должно в него войти в конце
нашей жизни.
Душевные заболевания также подтверждают это за-
ключение, тогда как ничего не говорит в пользу сущест-
вования души после смерти. В нашем организме имеются
некоторые участки чувствительности, которые могут в
течение известного времени пережить наше чувство лич-
ности. После прекращения биений сердца, когда обес-
кровленный мозг, несомненно, не способен дать ощуще-
ние личности, те или иные составные части нашего тела
способны еще к проявлению жизни. Мышечные волокна
могут сокращаться под воздействием возбудителей, а бе-
лые кровяные шарики могут двигаться в определенном
направлении. Несомненно также и то, что эти шарики —
лейкоциты — испытывают определенные ощущения и по
особого рода вкусу узнают состав среды, в которой они
находятся. Однако наше сознание совершенно неспособно
охватить ощущения этих шариков, хотя они и входят в
состав нашего организма. При некоторых заболеваниях
случается, что лейкоциты, возбуждаемые особыми веще-
ствами, совершают по нашему телу дальние странствия,
причем это нисколько не отражается на нашем сознании.
Шарики эти, руководимые своей особой чувствительно-
стью, идут в поход и на охоту на бесчисленные микробы,
проникающие в наш организм, и тем не менее подобная
лейкоцитарная чувствительность не раскрывается перед
нами каким-либо действием нашего сознания. Подобно
этому множество подвижных спермий, собранных в муж-
ских органах, способно к особым ощущениям, так же
как и яйца, вырабатываемые в женских половых орга-
275
нах. Указанные элементы должны содержать даже заро-
дыш индивидуального сознания. Однако лишь при даль-
нейшем развитии эти зародыши достигают стадии, на
которой может идти речь о сознании. Организм же, со-
держащий эти спермии или яйца, не приобретает ни ма-
лейшего понятия о будущем сознании. Чувствительность
белых кровяных шариков и большинства наших клеток
хотя и реальна вполне, но тем не менее ни в какой мере
не участвует в том совершенно особом ощущении, каким
является сознание нашей личности — то сознание, каким
только мы и дорожим в нашем желании жить.
Никогда ничто не могло подтвердить мысли о буду-
щей жизни, тогда как множество подавляющих доводов
выступают против нее. Явления сношений на дальнем
расстоянии, или телепатии, как их часто называют, мо-
гут существовать, но они не могут доказать существова-
ние души, независимой от тела. Быть может, и имеются
эманации организма, поддающиеся восприятию, несмот-
ря на значительное отдаление от органа воспринимаю-
щего; но и в таком случае тут речь может идти лишь об
особой функции живых частей нашего тела. Приходится,
однако, признать, что явления такого рода столь редки,
с таким трудом поддаются наблюдению и окружены та-
кой неясностью, что из них невозможно вывести что-либо
по вопросу о загробной жизни.
Нетрудно понять, что при таких условиях мысль о
будущей жизни все больше теряет приверженцев и что
полное уничтожение сознания после смерти стало обще-
распространенным понятием, признаваемым громадным
большинством просвещенных людей.
Кроме своей главной задачи — утешения человечества
ввиду неизбежности смерти — религии касаются и неко-
торых других вопросов, вытекающих из дисгармонии в
человеческой природе.
Во все времена они стремились к регулированию дея-
тельности органов пищеварения и воспроизведения, а
также к предупреждению и лечению разных болезней...
Сибирские голды делают соломенные изображения
животных и деревянные чучела для внедрения в них злых
гениев болезней. Гиляки 19 делают деревянную человече-
скую куклу с изображением жабы на груди. Этот талис-
ман употребляется как средство против болезней груди
и живота.
Однако и в более развитых религиях встречаются
276
остатки этих первобытных идей и обычаев. Еще Лютер
признавал происхождение болезней сверхъестественным.
«Вот,— говорит он,— в чем не может быть сомнения —
это в том, что чума, лихорадка и другие опасные болез-
ни — не что иное, как дело рук дьявола».
Поэтому лучшим средством против всяких болезней
считались разные религиозные церемонии.
Людская чума оставила многочисленные следы в ис-
тории человечества. Эта ужасная болезнь, естественно,
должна была особенно обратить на себя внимание. Обык-
новенно ее приписывали гневу божию и старались смяг-
чить его всякими возлияниями и жертвоприношениями.
На жертвенниках убивали людей, чтобы укротить божий
гнев, а также уменьшить смертность от чумы.
Религиозные обряды значительно смягчились с раз-
витием культуры, но от них еще и теперь остались следы,
дающие себя чувствовать при всяком удобном случае.
Все согласно смотрят на эти обряды как на остатки
древних обычаев и не придают им прежнего значения.
Гигиена в пище и в предупреждении болезней по зако-
нам религии уступила место научной гигиене, основанной
на точных данных, добытых путем опытного метода.
Поэтому бесполезно настаивать здесь на этой стороне
вопроса.
Итак, в области религии остается еще одна очень важ-
ная задача: смерть. Как было доказано, предложенные
до сих пор решения этого вопроса неудовлетворительны.
Предположение о загробной жизни не может быть сде-
лано вероятным, несмотря на самые разнообразные по-
пытки доказать ее. Противоположное же мнение вполне
согласуется со всей совокупностью человеческого зна-
ния. <...>
Глава XII
ОБЩИЙ ОБЗОР И ВЫВОДЫ
Человек, происшедший от
какой-нибудь человекообразной обезьяны, унаследовал
организацию, приспособленную к условиям жизни совер-
шенно иным, чем те, в которых ему приходится жить.
Одаренный несравненно более развитым мозгом, чем его
животные предки, человек открыл новый путь к эволю-
ции высших существ. Такое быстрое изменение природы
привело к целому ряду органических дисгармоний, кото-
277
рые тем сильнее давали себя чувствовать, что люди ста-
ли умнее и чувствительнее. Отсюда — целая вереница
несчастий, которые бедное человечество старалось устра-
нить всеми доступными ему средствами.
<...> Но величайший разлад человеческой природы
заключается в патологической старости и в невозможно-
сти дожить до инстинкта естественной смерти. Эта дис-
гармония послужила поводом к наивному и ложному
представлению о бессмертии души, о воскресении тела,
равно как и ко многим другим догматам, которые выда-
вались за истины, переданные откровением.
Но человеческий ум, направляясь постоянно вперед,
восстал против этих попыток первобытной мысли.
Сознавая бессилие человечества восстановить столь
желанную гармонию, многие примирились с пассивным
фатализмом и стали даже думать, что жизнь человече-
ская есть род иронии судьбы и составляет ложный шаг
в развитии живых существ. Точная наука, развиваясь
медленно, но в определенном направлении, попыталась,
наконец, взять дело в свои руки. Подвигаясь постепенно
и прогрессируя от простого к сложному и от частного к
общему, она установила ряд истин, которые стали обще-
принятыми.
Несчастное человечество ставило науке вопрос за во-
просом и теряло терпение перед медленностью научных
успехов. Оно провозглашало суетными и малоинтерес-
ными те задачи, которые науке удалось разрешать. Вре-
менами оно предпочитало даже вернуться назад и об-
манывать себя прекрасными иллюзиями, которые пред-
лагали ему религиозные учения и философские системы.
Но наука, уверенная в руководящих ею методах, спо-
койно продолжала свое дело. Мало-помалу она сочла
себя вправе ответить на некоторые поставленные ей во-
просы.
Откуда происходим мы? — постоянно спрашивали ее.
Не является ли человек особым существом, созданным
по образу божию и одухотворенным святым бессмерт-
ным духом? Нет — отвечала наука.
Человек есть род обезьяньего выродка, одаренного
большим умом и способного пойти очень далеко. Мозг
его выполняет весьма сложные и совершенные отправле-
ния, значительно высшие, чем у животных предков, но
несовместимые с существованием бессмертной души.
Куда идем мы? Вот вопрос, всего более занимающий
278
человечество, так как ему менее важно знать свое про-
исхождение, чем свое предназначение. Есть ли смерть
полное уничтожение, или же она — только начало новой,
бесконечной жизни? Если не это последнее ждет нас, то
как примириться с неизбежностью смерти?
Наука не может допустить бессмертия сознательной
души, так как сознание есть результат деятельности эле-
ментов нашего тела, не обладающих бессмертием. Это
последнее свойственно лишь очень низко стоящим суще-
ствам, которые постоянно восстановляются посредством
деления и сознание которых еще очень неразвито.
Так как смерть представляется нам полным уничто-
жением, то ее неизбежность становится невыносимой
вследствие условий, при которых она настигает нас. Она
является в то время, когда человек не закончил своего
нормального развития и когда он вполне обладает ин-
стинктом к жизни.
С тех пор как человек поднялся несколько выше своих
непосредственных, обыденных интересов, он начал спра-
шивать себя, имеет ли жизнь человеческая определенную
цель и какова она? Не находя ее большею частью, он до-
шел до того, что стал утверждать, будто существование
его — простая случайность и что не следует даже искать
его цели.
Ввиду этого он приходил к угнетающим и пессими-
стическим заключениям...
Вследствие дисгармонии своей природы человек не
следует нормальному развитию. Первая часть его жизни
проходит еще без особых отклонений; но после зрелого
возраста развитие наше более или менее извращается
и кончается преждевременной патологической старостью
и слишком ранней и неестественной смертью.
Не должна ли бы скорее всего цель человеческого
существования заключаться в завершении полного фи-
зиологического цикла жизни с нормальной старостью,
приводящей к потере жизненного инстинкта и к появле-
нию инстинкта естественной смерти?
В пессимистическом лагере часто о смерти шла речь
как о настоящей цели человеческого существования. Так,
Шопенгауэр говорит: «Поистине, на смерть следует смот-
реть как на настоящую цель жизни; в минуту ее появ-
ления решается все раньше подготовленное и восприня-
тое в течение всей жизни».
Та же мысль выражена и в стихах Бодлера.
279
Смерть утешает — увы! — и заставляет жить,
Она — цель жизни и единственная надежда,
Которая, как эликсир, нас бодрит и опьяняет
И дает смелость идти до вечера *.
На нормальный конец, наступающий после развития
инстинкта смерти, действительно, можно смотреть как
на конечную цель человеческого существования. Но
прежде чем дойти до этого, надо пережить целую нор-
мальную жизнь, которая также должна быть удовлетво-
ренной. Познание настоящей цели существования значи-
тельно облегчает эту задачу, указывая нам на поведение,
которого надо держаться в течение всей жизни...
...Как только смысл и цель жизни становятся опреде-
леннее, истинное благо не может более заключаться в
роскоши, противной усовершенствованию нормального
цикла человеческой жизни. Вместо того чтобы злоупо-
треблять всеми наслаждениями, молодые люди, убежден-
ные, что это повело бы к печальным, патологическим по-
следствиям старости и смерти, будут, наоборот, подготов-
лять себе физиологическую старость и естественную
смерть. Годы учения будут, конечно, гораздо продолжи-
тельнее. Уже и в наше время они длятся значительно
дольше, чем это было несколько десятков лет назад. Чем
более будет увеличиваться масса знания, тем больше
времени надо будет для ее изучения. Но подготовитель-
ный период этот служит прелюдией зрелости и идеаль-
ной старости.
Отталкивающая картина современной старости отно-
сится к старости, уклонившейся от своего настоящего
смысла, полной эгоизма, узости взглядов, негодности и
злости. Физиологическая старость будущего, конечно,
станет иной в этом отношении. <...>
Старость, являющаяся при настоящих условиях ско-
рее ненужной обузой для общины, сделается рабочим,
полезным обществу периодом. Старики, не подверженные
более ни потере памяти, ни ослаблению умственных спо-
собностей, смогут применять свою большую опытность к
наиболее сложным и тонким задачам общественной
жизни.
Когда жизнь человеческая значительно продлится, не
поведет ли это к слишком густому перенаселению зем-
* У И. И. Мечникова стихотворение дано на французском язы-
ке.— Ред.
280
ли? Уже и теперь жалуются на то, что старики живут
слишком долго и не очищают место молодым. Против
избытка жизни на земле будут легко регулировать рож-
даемость, с тем чтобы производилось меньшее количе-
ство индивидуумов. Количество людей может умень-
шиться, но их качество улучшится, и долговечность уве-
личится. <...>
Весьма вероятно, что научное изучение старости и
смерти, которое должно будет составить две новые от-
расли науки — геронтологию и танатологию, приведет к
значительным изменениям в ходе последнего периода
жизни. Все известное по этому поводу подтверждает та-
кое предположение. Но можно ли будет когда-либо дой-
ти до инстинкта естественной смерти? Он гнездится в
глубине человеческой природы в скрытом состоянии.
Возможно ли будет разбудить его? Так долго не обнару-
живаясь, он, быть может, атрофировался? Наука сумеет
разъяснить этот вопрос.
...Благоприятные условия и некоторого рода воспита-
ние инстинкта естественной смерти, по всей вероятности,
будут в состоянии пробудить и в достаточной мере раз-
вить его.
Много работы предстоит людям, прежде чем они до-
стигнут этой цели. Но характерную черту науки состав-
ляет именно то, что она требует большой активности, в
то время как религиозные учения и системы метафизи-
ческой философии ограничиваются пассивным фатализ-
мом и немым смирением. Даже одна перспектива полу-
чить в более или менее отдаленном будущем научное
разрешение великих задач, занимающих человечество,
способна дать большое удовлетворение.
Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить
эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя,
не может ли семейная любовь успокоить его душу, он
тотчас увидел, что это — напрасная надежда. К чему,
спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре
очутятся в таком же критическом состоянии, как и их
отец? «Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить
и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или
для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них ис-
тины,— всякий шаг ведет их к познанию этой истины.
А истина — смерть». Понятно, что некоторые люди, дойдя
до такого пессимистического воззрения, воздерживаются
от произведения потомства.
281
С точки же зрения, проводимой в этой книге, положе-
ние наше кажется гораздо менее безвыходным. Одна
уверенность, что человеческая жизнь не представляет ни
ложного шага природы, ни бессмыслицы, от которой сле-
довало бы избавиться всевозможными способами,— одна
эта уверенность уже способна успокоить умы мыслящих
и страдающих людей.
Наше поколение не имеет никаких шансов дожить
до физиологической старости и естественной смерти. Но
оно найдет, однако, истинное утешение в надежде, что
молодые сделают несколько шагов вперед к этой цели.
Оно будет думать, что с каждым новым поколением
окончательное решение задачи будет все ближе и ближе
и что когда-нибудь настанет день, когда люди достиг-
нут истинного блага.
Это прогрессивное шествие требует еще многих
жертв; уже и теперь люди науки жертвуют своим здо-
ровьем, а иногда и жизнью для решения какой-нибудь
важной задачи, как, например, некоторых медицинских
вопросов, касающихся лечения и спасения жизни себе
подобных.
Для достижения этого надо, чтобы люди были убеж-
дены во всемогуществе науки и во вредном влиянии глу-
боко укоренившихся предрассудков. Придется изменить
много современных обычаев и учреждений, кажущихся
так прочно установленными...
Если мыслим идеал, способный соединить людей в
некоторого рода религию будущего, то он не может быть
обоснован иначе, как на научных данных. И если справед-
ливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без
веры, то последняя не может быть иной, как верой во все-
могущество знания.
Печатается по: «Естествоиспытатели и
атеизм». М., 1973, стр. 125—126, 142—145,
147—148, 173—176, 177—179.
282
Марк Твен
БЫЛ ЛИ МИР СОТВОРЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
Воскрешение Альфредом Рас-
селом Уоллесом теории о том, что
Земля является центром Вселен-
ной и единственной обитаемой пла-
нетой, вызвало в мире большой
интерес.
«Литерари Дайджест»
Мы же глубоко убеждены, что
человек, живущий на этой крохот-
ной Земле, является по своей сути
и возможностям высшим бытием
среди всех небожественных су-
ществ — средоточием любви Бога
и его главной радостью.
Чикагский «Интериор» (Пресв.)
Кажется, я — единственный
ученый и богослов, еще не высказавший своего мнения
относительно этого крайне важного вопроса: был ли мир
сотворен для человека или нет. Я чувствую, что мне пора
изложить свою точку зрения.
Я почти разделяю взгляды остальных. Они считают,
что мир был сотворен для человека,— я же считаю, что
он, возможно, был сотворен для человека. Они приводят
доказательства, в основном астрономические, что он был
сотворен для человека,— я же считаю, что это всего лишь
свидетельства, а не доказательства того, что мир был
сотворен для него. Пока еще рано выносить приговор, по-
скольку нам известны не все данные. Когда же данные
эти будут собраны все, они, я полагаю, докажут, что мир
был сотворен для человека; но мы не должны торопить-
ся, мы должны терпеливо ждать, чтобы все эти данные
были собраны.
Пока, насколько можно судить, астрономия на нашей
стороне. Мистер Уоллес совершенно ясно показал это.
Он ясно показал две вещи: что мир был сотворен для че-
ловека и что вселенная была сотворена для мира — чтобы
уравновесить его, знаете ли. С астрономической точки
зрения вопрос решен, и решен бесповоротно.
Взглянем теперь на него с точки зрения геологии. Вот
тут собраны еще не все данные. Они поступают ежеднев-
но, ежечасно, непрерывно, но само собой разумеется, они
поступают с геологической медлительностью и осторож-
283
ностью, и мы не должны терять терпения, мы не должны
выходить из себя, мы должны сохранять спокойствие и
ждать. Как бы мы ни волновались, это не заставит геоло-
гию торопиться — ничто не в силах заставить геологию
торопиться.
Требуется немало времени, чтобы приготовить для че-
ловека подходящий мир. Такие вещи за один день не
делаются. Некоторые из знаменитых ученых, тщательно
проанализировав все геологические данные, пришли к за-
ключению, что наш мир чудовищно стар, и они, возмож-
но, правы, хотя лорд Кельвин не разделяет их мнения.
Он придерживается осторожной, консервативной точки
зрения, стремится избежать риска и полагает, что мир
не так стар, как они думают. Поскольку лорд Кельвин
является крупнейшим авторитетом среди ныне живущих
ученых, нам, по-моему, следует принять его точку зре-
ния. Он не допускает, что нашему миру более ста миллио-
нов лет. Он считает, что ему сто миллионов лет, но не
больше. Лайель считает, что человечество появилось
31 000 лет тому назад, Герберт Спенсер утверждает, что
оно появилось 32 000 лет тому назад. Лорд Кельвин со-
гласен со Спенсером.
Отлично. Согласно этим цифрам, потребовалось
99 968 000 лет, чтобы подготовить мир для человека, хотя
Творец, несомненно, изнывал от нетерпения поскорее его
увидеть и полюбоваться им. Но столь большое предприя-
тие следовало вести обстоятельно, аккуратно и логично.
Творец предвидел, что человеку понадобится устрица.
Поэтому сперва была проведена подготовка к сотворе-
нию устрицы. Но ведь устрицу нельзя сотворить на пу-
стом месте, надо прежде сотворить ее предка. А это так
быстро не делается. Сперва необходимо сотворить огром-
ное количество разнообразных беспозвоночных — белем-
нитов, трилобитов, кармелитов и иезуитов и тому подоб-
ную мелочь, а затем бросить их мокнуть в первичном
океане, сесть и ждать, что из этого получится. Некоторые
принесут только разочарование — белемниты, сталакти-
ты и прочие; из них ничего не выйдет, по истечении де-
вятнадцати миллионов лет, потребных на этот экспери-
мент, они вымрут и станут ископаемыми. Однако не все
будет потеряно; ибо иезуиты придут к финишу и посте-
пенно разовьются в сифонофоры, семафоры и фарфоры.
Ну там то да се, одна могучая эра сменяет другую, архей-
ский и кембрийский периоды громоздят в первичных
284
океанах свои величественные горы, и вот в конце концов
достигнута первая великая ступень в подготовке мира
для человека — создана устрица. Трудно предположить,
что устрица способна рассуждать намного логичнее уче-
ных, и поэтому можно считать несомненным, что эта уст-
рица тут же заключила, будто все эти девятнадцать мил-
лионов лет были подготовкой к сотворению именно ее.
Да чего еще ждать от устрицы? Это ведь наиболее само-
довольное создание в мире, если не считать человека.
И уж во всяком случае, эта устрица не могла в ту ран-
нюю эпоху знать, что она — лишь один из этапов вели-
кого плана и что план этот ею отнюдь не завершается.
После сотворения устрицы на очереди в подготовке
мира для человека стала рыба. Рыба — и уголь, чтобы
было на чем ее жарить. И вот для разведения рыбы были
устроены древние силурийские моря, и в то же время был
начат великий труд по сооружению из красного песча-
ника древних гор высотой в восемьдесят тысяч футов —
так сказать, погребов для хранения окаменелостей. Без
этого последнего обойтись было никак нельзя, ибо вновь
предстояли бесконечные неудачи, бесконечные вымира-
ния— миллионы вымираний,— и было дешевле, да и не
так хлопотно, консервировать окаменелости в скалах,
вместо того, чтобы вести им учет в конторской книге. Ну,
за короткое время не создашь угольных залежей и во-
семьдесят тысяч вертикальных футов древнего красного
песчаника — нет, на это потребовалось двадцать миллио-
нов лет. Во-первых, сооружение угольной залежи — дело
чрезвычайно медленное, утомительное и скучное. При-
ходится выращивать на болотах гигантские леса из дре-
вовидных папоротников, тростника, хвощей и тому подоб-
ного; затем приходится затапливать их и оставлять гнить
под водой; затем приходится поворачивать на них реки,
чтобы прикрыть их несколькими слоями ила, а этому илу
надо дать время, чтобы он затвердел и превратился в ка-
мень; затем сверху приходится выращивать еще один
лес, потом его затапливать, накидывать сверху еще один
слой ила и ждать, чтобы он затвердел; потом опять лес
и опять твердеющий ил, слой за слоем в три мили толщи-
ной: да, правильное изготовление угольных копей — дело
мучительно долгое!
В этих занятиях уныло тянутся миллионы лет, а рыб-
ная культура тем временем сохнет и дохнет, так что
тошно становится. Вот Вы вывели из одной устрицы де-
285
сять тысяч сортов рыбы, а потом глядь — и оказывается,
получились у вас только окаменелости да ископаемые, а
живыми и развивающимися осталась только парочка га-
ноидов, да, может быть, полдюжины астероидов, на ко-
торых даже кошка не польстится.
Но это ничего: времени впереди еще много, и они
успеют развиться в какое-нибудь изысканное блюдо,
прежде чем появится человек, чтобы их есть. Даже на га-
ноида можно в этом отношении положиться, если его не
потребуют к столу раньше, чем через шестьдесят миллио-
нов лет.
К этому моменту время, отведенное на палеозойскую
эру, было уже исчерпано, и пришлось перейти к следую-
щему этапу подготовки мира для человека — открыть ме-
зозойскую эру и учредить пресмыкающихся, ибо чело-
веку понадобятся пресмыкающиеся — не для того, чтобы
их есть, а для того, чтобы из них развиваться. Поскольку
это было самой важной частью плана, времени на нее не
пожалели и отвели целых тридцать миллионов лет. Какие
тут начались чудеса! Из оставшихся ганоидов, астерои-
дов и алкалоидов благодаря медленному, упорному и
тщательному выведению развились колоссальные ящеры,
имевшие обыкновение бродить в те отдаленные века по
окутанному горячими парами миру, задрав свои змеи-
ные головы на сорок футов вверх и волоча по земле
шестьдесят футов тела, за которым еле поспевал бешено
хлещущий хвост. От них теперь, увы, не осталось и по-
мину, все они вымерли, за исключением горсточки аркан-
завров, граждан штата Арканзас, которые томятся среди
нас в печальном одиночестве, заброшенные в самые даль-
ние пределы времен.
Да, понадобилось тридцать миллионов лет и двадцать
миллионов всяческих пресмыкающихся, чтобы получить
такое, которое выдержало бы достаточно долго и разви-
лось бы во что-то другое, продвинув осуществление пла-
на еще на один шаг вперед.
И вот во всем своем непередаваемом величии и красе
в мир явился птеродактиль, и вся Природа поняла, что
кайнозойский порог остался позади и начинается новая
эра, новая стадия подготовки земного шара для человека.
Возможно, птеродактиль воображал, будто эти тридцать
миллионов лет были потрачены на то, чтобы подготовить
его — ведь птеродактиль способен вообразить любую глу-
пость,— но он ошибался. Приготовления велись ради че-
286
ловека. Несомненно, птеродактиль привлек к себе всеоб-
щее внимание, ибо даже самые ненаблюдательные могли
заметить, что в нем есть зачатки птицы. Так оно и вы-
шло. А кроме того, и зачатки млекопитающего, только
они развились не сразу. Но одного у птеродактиля не
отнимешь: по живописности он был подлинным триум-
фом своего периода; он носил крылья, обладал зубами,
был весь какой-то накрахмаленный и вообще являл со-
бой замечательную смесь, нечто вроде весьма отдален-
ного предвестника киплинговского солдата морской пе-
хоты:
Сапером его не назовешь, и он не матрос уж никак;
Какой-то дурацкий гермафродит — солдат, а также моряк.
С этого момента и примерно еще тридцать миллионов
лет приготовления продвигались очень быстро. Из птеро-
дактиля развилась птица; из птицы — кенгуру; из кен-
гуру— другие сумчатые; из них — мастодонт, мегатерий,
гигантский ленивец, ирландский лось и все прочие соз-
дания, которых можно использовать для изготовления
полезных и поучительных окаменелостей. Но тут нача-
лось первое великое оледенение, и они все отступили пе-
ред ним, перешли по мосту Берингов пролив, разбрелись
по всей Европе и Азии и передохли. Все, за исключением
лишь немногих, которым предстояло вести дальнейшую
подготовку. Шесть ледниковых периодов с промежутками
по два миллиона лет после каждого гоняли этих бедных
сирот по всей земле от климата к климату — от тропиче-
ского зноя на полюсах к арктическим холодам на эква-
торе, а оттуда назад, и снова обратно, так что они ни-
когда не знали, какая завтра будет погода; а стоило им
где-нибудь устроиться, как весь континент проваливался
под ними без малейшего предупреждения, и им приходи-
лось спешно меняться местами с рыбами и карабкаться
туда, где прежде были моря: и это — промокнув насквозь!
А когда все как будто успокаивалось, начинал действо-
вать вулкан и выжигал их из того края, где они только-
только обосновались. Они вели эту неустроенную нерв-
ную жизнь двадцать пять миллионов лет, то барахтаясь
в воде, то носясь по суше и не переставая удивляться, для
чего все это делается,— ибо они, конечно, не подозревали,
что все это делается, дабы подготовить мир для чело-
века, и что готовить его по-другому нельзя, иначе к при-
бытию человека он будет недостаточно удобен и гармо-
ничен.
287
Наконец появилась обезьяна, и тут уже все увидели,
что до человека теперь рукой подать. Так оно и получи-
лось. Обезьяна развивалась около пяти миллионов лет, а
затем превратилась в человека — если судить по внеш-
нему виду.
Такова история появления человека. Он существует
32 000 лет20. То, что потребовалось сто миллионов лет,
чтобы приготовить для него мир, является неопровержи-
мым доказательством, что это именно то, для чего его
готовили. Думаю, что это так. А впрочем, не знаю. Если
бы, например, Эйфелева башня символизировала возраст
мира, то мазок краски на венчающем ее острие символи-
зировал бы долю человека в этом возрасте; и кто угодно
сразу видел бы, что башня строилась именно для этого
мазка краски. То есть я полагаю, что это сразу видно, а
впрочем, не знаю.
Марк Твен. Письма с Земли. М., 1963,
стр. 175—179.
К. А. Тимирязев
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ21
( Предисловие ко второму изданию)
[Фрагменты]
...Одною из наиболее выдаю-
щихся особенностей переживаемого момента являются
течения мысли с явно выраженным реакционным направ-
лением. Борьба со всеми проявлениями этой реакции —
вот самая общая, самая насущная задача естествозна-
ния— отзвук о ней слышен почти на каждой странице
этой книги.
Реакция эта обнаруживается, особенно в последние
годы, прежде всего в форме какого-то, будто бы общего
недовольства направлением современной науки, в заяв-
лении, что научная мысль зашла будто бы в тупик, что
ей будто бы некуда далее идти в этом направлении, что
она должна искать какого-то обновления, возрождения
под руководством пробудившейся будто бы философской
мысли. Что это движение реакционное, ясно уже из того
факта, что вслед за этим заявлением неизменно следует
призыв вернуться к... (имярек), и, чем далее — тем лучше,
288
к Канту — так к Канту, а еще лучше к Фоме Аквинско-
му. Какого еще нужно более наглядного testimonium pau-
pertatis *, более очевидного доказательства полного бес-
плодия этого прославляемого возрождения философской
мысли, не предлагающей ничего своего, нового, а только
с вожделением обращающей свои взоры назад! 22
Наука должна громко заявить, что она не пойдет в
Каноссу. Она не признает над собой главенства какой-то
сверхнаучной, вненаучной, а попросту ненаучной филосо-
фии. Она не превратится в служанку этой философии,
как та когда-то мирилась с прозвищем ancilla theolo-
giae**. Наука не знает реставрации; она знает только
инставрацию — Instauratio magna ***, отправляясь от-
куда победоносно идет вперед вот уже четвертый век.
Реакция против успехов научной мысли, захватываю-
щей все более широкие области знания, все более широ-
кие круги последователей,— эта реакция сказывается,
конечно, и у нас, но мне представляется утешительною
мысль, что русский ум мало склонен к деятельности в тех
сферах, куда его желала бы направить эта реакция...
В последнее время выдвигают вперед еще другое
имя — Соловьева23. Но и перед этим именем я не имею
основания слагать оружие: напротив, я могу извлечь из
деятельности Владимира Сергеевича Соловьева еще но-
вый аргумент в свою защиту. Вся эта деятельность пред-
ставляет три полосы: начальную, мистико-метафизиче-
скую, вторую, к сожалению, слишком кратковремен-
ную — критико-публицистическую и третью — снова мета-
физическую с еще большим оттенком мистицизма. Эта
вторая полоса, отличавшаяся простым здравым реализ-
мом мысли, была в то же время отмечена самым несом-
ненным талантом; о ней не существует двух мнений.
Даже его сторонники с метафизической правой, когда
желают вызвать в своих слушателях или читателях без-
раздельное сочувствие, охотно останавливаются именно
на ней. Но миновала эта полоса, мистический туман сно-
ва стал заволакивать эту светлую голову,— мы услы-
шали побасенки про антихриста, и, наконец, искренний
христианин, истинно гуманный человек, еще недавно так
* — свидетельство о бедности.— Ред.
** — служанка богословия.— Ред.
*** — великое установление.— Ред.
289
красноречиво изобразивший антитезу между Христом и
Ксерксом, договорился до тождества креста и меча. Бед-
ный Владимир Сергеевич, он только еще раз доказал,
что русский человек не может безнаказанно задержи-
ваться в туманных дебрях метафизики и мистики, что
эти увлечения всегда характеризуют нездоровую, ненор-
мальную полосу в жизни отдельных ли даровитых лич-
ностей или всего русского общества. Только выпутавшись
из сетей гегелианства, Белинский стал Белинским; только
погрузившись в волны мистицизма, Гоголь перестал быть
Гоголем. <...>
Большинство желающих, чтобы наука приняла пре-
имущественно прикладное направление, конечно, руко-
водится опять чисто реакционным стремлением напра-
вить положительную науку исключительно в это узкоути-
литарное ложе для того, чтобы разрешение более широ-
ких запросов мысли сделать монополией представителей
совершенно иного склада мышления. Они согласны, что-
бы наука была слугою брюха, не желали бы только, что-
бы она была руководительницей мысли. Но рядом с этим
большинством вследствие прискорбного недоразумения
являются немногие, видящие в прикладном направлении
науки как бы ее высшее оправдание. Они выступают во
имя социальной правды защитниками тех масс, которые,
еще не приобщившись к умственному движению челове-
чества, вправе прежде требовать удовлетворения своих
насущных материальных нужд. Этим искренним борцам
против кажущейся отрешенности современной науки от
запросов жизни нельзя достаточно часто повторять, что
наука для науки и есть наука для жизни. <...>
К. А. Тимирязев. Сочинения, т. V. М.,
1938, стр. 17, 20-22, 25-26.
И. И. Скворцов-Степанов
Из работы
«РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ»
Обыватели, которым начи-
нает казаться, будто они приходят к пониманию социа-
лизма и коммунизма, сильно скорбят над близорукостью
коммунистов. Коммунисты открыто заявляют, что у них
нет религии.
Пусть бы они были безрелигиозны только про себя и
для себя. Давно уже, лет 400 тому назад, а в Италии
290
много раньше, когда стало развиваться умирающее те-
перь буржуазное общество, передовые борцы этого об-
щества, начав войной против католицизма, кончали отри-
цанием христианства, а затем и всякой религии. Они при-
ходили к правильному убеждению, что понятие «бог» ни
к чему для человеческого ума и человеческого мышления.
Раз человек не знает, например, отчего происходит гроза,
он остается при таком же незнании, если скажет, что гро-
зу производит бог. Одно неведомое, неизвестное он под-
менит другим неизвестным же, неведомым. И хуже того:
вместо того чтобы сказать, что это еще не познано им, он
скажет, что это — непознаваемо вообще.
Таким образом, в то время, когда буржуазия еще вела
борьбу против феодального сословия, ее философы и уче-
ные приходили к неверию. Но буржуазия уже предчувст-
вовала наступление тех времен, когда она сделается гос-
подствующим классом. Раньше эксплуатируемых дер-
жало в покорности феодальное государство. Впоследст-
вии смирять их придется буржуазному государству. Цер-
ковь оказывала огромные услуги феодальному сословию
в деле укрощения масс. Проповедью и школой, угрозами
загробных мучений и обещаниями загробных наград,
всем своим учением и назиданием она заставляла массы
терпеть и примиряться с нищетой, гнетом, эксплуатацией,
беспощадной жестокостью и алчностью эксплуататоров;
она внушала, что все это ниспослано и установлено са-
мим богом.
Сумеет ли нарождающееся буржуазное общество
обойтись без такой узды для масс? Можно ли держать
их в покорности только открытым и прямым принужде-
нием? Не следует ли стремиться к тому, чтобы ограблен-
ные и согнанные с земли крестьяне, превращенные в жи-
вой товар крепостные и обдираемые капиталистами ре-
месленники, кустари и фабрично-заводские рабочие
видели в своем положении жребий, уготованный им от
создания мира? Не следует ли сохранить им невинную
утеху загробных блаженств за безропотное подчинение
неистовствам угнетателей?
И вот буржуазные философы и ученые даже в тот пе-
риод, когда они с величайшей революционностью высту-
пали против феодального общества, начали налагать на
себя некоторую сдержанность в одном отношении. Они
говорили: «Бога необходимо сохранить для простого
народа». И, желая сохранить его для простого народа,
291
т. е. для эксплуатируемых, они начинали думать, что,
пожалуй, не мешает и себя заставить верить в суще-
ствование бога. Они уже говорили: «Если бы бога не су-
ществовало, его следовало бы выдумать»*. И надо
выдумать его одновременно и в качестве пугала и в ка-
честве обнадеживающего маяка для измученной и угне-
тенной бедноты.
Буржуазия пришла к власти. Разными способами до-
стигла она торжества: где постепенными сделками и со-
глашениями с феодальным сословием, а где и револю-
ционным его низвержением. Не сама она ниспровергла
феодальное сословие: к революции ее толкали другие,
более радикальные и решительные слои населения. Раз-
делавшись со своими радикальными союзниками по борь-
бе с феодальным обществом, обезоружив их, буржуазия
после революционного взрыва кончала сделкой по край-
ней мере с одним из устоев феодального общества: с цер-
ковью.
Без бога слишком трудно управлять народными мас-
сами: прозрев, что в эксплуататорских отношениях нет
ничего предопределенного, предустановленного, нет ни-
какой таинственной воли и власти, а есть только чисто
человеческая эксплуататорская воля и власть, они на-
чинают роптать, осмысливать свое положение, а затем и
бороться против господствующих классов. Да, для про-
стого народа необходимо сохранить религию! Да, бога
следовало бы выдумать, если бы массы уже переставали
верить в его существование! Следовало бы выдумать бога
и заставить массы поверить в его существование. И во
всяком случае необходимо принять самые решительные
меры с той целью, чтобы задавить все сомнения в суще-
ствовании этого карающего и награждающего неизвест-
ного владыки всего мира.
Конечно, буржуазия, ее ученые и философы даже от
самих себя отгоняют ту мысль, что они охраняют религи-
озность народа только для своего собственного удобства,
только в своих паразитических и угнетательских интере-
сах. Они представляют дело таким образом, будто суще-
ствующее общество, управляемое и направляемое экс-
плуататорами, есть единственно возможное человеческое
общество, будто с его разрушением уничтожится всякое
человеческое общество, распадутся всякие связи меж-
* См. К. Н. Державин. Вольтер. М., 1946, стр. 112—113.— Ред.
292
ду людьми и они превратятся в стадо диких зверей. Ис-
чезнет всякая внутренняя узда, человек превратится в
бесшабашного индивидуалиста, станет заботиться только
о себе, о своей собственной сытости и удобствах. Чело-
век будет волком для человека, и в неудержимом разгуле
животных страстей рассыплется человеческое общежи-
тие, и люди превратятся в дикарей, если не прямо в хищ-
ных животных.
Настроив себя таким образом, буржуа, их философы
и ученые начинают вдумываться и вникать в свое собст-
венное поведение. Беспощадный и жадный волк в своих
отношениях к рабочему классу, во всем, что касается ба-
рышей, буржуа открывает, что существующее общество
сделалось бы невозможным, если бы он совсем распоя-
сался и дал полную волю своей жадности. Общество
укрепляется и упрочивается оттого, что у него иногда
бывают порывы милосердия: он идет в церковь и раздает
пятачки нищим, он строит больницу для рабочих, претер-
певших увечья и растративших все свои силы на службе
капиталу, некоторым он дает пенсии, открывает и опе-
кает школы.
Он умиляется перед своими благотворениями. И, вду-
мываясь в их источник, совершенно позабывает, что капи-
талистическое общество не могло бы существовать, если
бы капиталистический класс не замазывал наиболее зия-
ющих ран, причиняемых этим обществом. Растрогавшись,
расчувствовавшись, умилившись перед тем, будто бы
он — не только волк, но и добрый человек, благодетель,
буржуа приходит к выводу, что в глубинах его души жи-
вет неискоренимая идея бога, которую не может вытра-
вить и заглушить всепоглощающая страсть накопления.
И, подчиняясь велениям этого неощутимо живущего в
нем бога, он давал пятаки, он делился своим имуществом
с бедными.
Чем дальше идет время, чем шире и глубже разверты-
вается борьба рабочего класса и чем беспощаднее стано-
вится капитализм по своему существу, тем больше необ-
ходимости в замазывании причиняемых им ран, в при-
крытиях его беспощадности, тем необходимее становится,
чтобы капиталистический класс почаще вспоминал об
идее бога, будто бы живущей в глубинах всякой души
человеческой и незримо управляющей ее поведением.
В истории буржуазии была полоса, когда она кичи-
лась своим вольнодумством и неверием, выставляла его
напоказ.
293
Эта полоса давно миновала. Чем ближе к крушению
клонится буржуазное общество, тем сильнее охватывает
буржуазию раскаяние в былых прегрешениях перед ма-
терью-церковью и перед всевышним. Необходимо, чтобы
во всех людях жило сознание о чем-то, что выше их лич-
ности, их преходящей жизни, их ограниченных дел, их
слабого, частичного понимания. Пусть гибнут отдельные
личности, пусть умирают члены капиталистического
класса: надо спасти капиталистическое общество и капи-
талистический класс. Надо поставить такие препоны и
преграды отдельной личности с ее эгоизмом и индиви-
дуалистическими стремлениями, чтобы она не усиливала
разрушительных сил, действующих в капиталистическом
обществе. Капиталистическое общество должно сущест-
вовать вечно. И хранителем его вечности, хранителем
вечности капиталистического класса может быть только
идея вечного бога, подчиняющая личное общему: инте-
ресы капиталистической личности — интересам капитали-
стического класса.
Раскаяние охватывает буржуазную науку и буржуаз-
ную философию. Смущенные, запуганные грандиозными
переворотами в общественных отношениях — и еще более
грандиозными переворотами, назревающими в глубинах
общества,— они хотят задержать эти перевороты. В об-
ластях своей деятельности, где за последние десятилетия
все — сплошной переворот, все — непрерывная револю-
ция, они страстно хотят найти хотя бы одну неподвижную
точку, хотя бы простой мираж неподвижности. Подавлен-
ные беспредельностью перспектив, раскрывающихся пе-
ред умом человечества, они во что бы то ни стало стре-
мятся хотя бы только для себя, для своего собственного
успокоения поставить предел человеческому мышлению и
познанию.
И они находят этот предел в идее бога. И начинают
уверять себя и других, что это — неискоренимая, непре-
ходящая идея. И хотят связать, спутать и ограничить этой
идеей неудержимое порывание человеческого ума к по-
знанию мира и общества и непреодолимое стремление
рабочего класса к подчинению природы и общества че-
ловеческому труду.
Охваченные предсмертной тоской, буржуазия и ее
идейные и наемные представители, ее философы и уче-
ные, делают невероятные усилия, чтобы заставить себя
поверить в существование бога.
294
Это — последний якорь спасения для гибнущего бур-
жуазного общества. В действительности это — не якорь,
а соломинка для утопающего.
И. И. Скворцов-Степанов. Избранные
атеистические произведения. М., 1959,
стр. 208—212.
И. П. Павлов
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
ОБЪЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПОВЕДЕНИЯ) ЖИВОТНЫХ24
ОТВЕТ ФИЗИОЛОГА ПСИХОЛОГАМ
[Фрагменты]
Что заключает в себе понятие рефлекса?
Теория рефлекторной деятельности опирается на три
основных принципа точного научного исследования: во-
первых, принцип детерминизма, т. е. толчка, повода, при-
чины для всякого данного действия, эффекта; во-вторых,
принцип анализа и синтеза, т. е. первичного разложения
целого на части, единицы и затем снова постепенного
сложения целого из единиц, элементов; и, наконец, прин-
цип структурности, т. е. расположения действий силы в
пространстве, приурочение динамики к структуре. По-
этому смертный приговор над теорией рефлекса нельзя
не признать каким-то недоразумением, каким-то увле-
чением.
Вы имеете перед собой живой организм, до человека
включительно, производящий ряд деятельностей, обнару-
жений силы. Непосредственное, трудно преодолимое впе-
чатление какой-то произвольности, спонтанности! На при-
мере человека как организма это впечатление достигает
почти для всякого степени очевидности, и утверждение
противоположного представляется абсурдом. Хотя еще
Левкипп из Милета * провозгласил, что нет действия без
причины и что все вызвано необходимостью, но не гово-
* Беру указание из книги проф. Каннабиха «История психиат-
рии».
295
рится ли и до сих пор, даже исключая человека, о дейст-
вующих спонтанно силах в животном организме! Что же
касается человека, разве мы не слышим и теперь о сво-
боде воли, и не вкоренилось ли в массе умов убеждение,
что в нас есть нечто, не подлежащее детерминизации?!
Я постоянно встречал и встречаю немало образованных
и умных людей, которые никак не могут понять, каким
образом можно было бы когда-нибудь целиком изучить
поведение, например, собаки вполне объективно, т. е.
только сопоставляя падающие на животное раздражения
с ответами на них, следовательно, не принимая во вни-
мание ее предполагаемого по аналогии с нами самими
субъективного мира. Конечно, здесь разумеется не вре-
менная, пусть грандиозная, трудность исследования, а
принципиальная невозможность полного детерминизиро-
вания. Само собой разумеется, что то же самое, только
с гораздо большей убежденностью, принимается и отно-
сительно человека. Не будет большим грехом с моей сто-
роны, если я допущу, что это убеждение живет и в части
психологов, замаскированное утверждением своеобраз-
ности психических явлений, под которым чувствуется,
несмотря на все научно приличные оговорки, все тот же
дуализм с анимизмом, непосредственно разделяемый еще
массой думающих людей, не говоря о верующих. <...>
Перед нами грандиозный факт развития природы от
первоначального состояния в виде туманности в беско-
нечном пространстве до человеческого существа на нашей
планете, в виде, грубо говоря, фаз: солнечные системы,
планетная система, мертвая и живая часть земной при-
роды.
На живом веществе мы особенно ярко видим фазы
развития в виде филогенеза и онтогенеза. Мы еще не
знаем и, вероятно, еще долго не будем знать ни общего
закона развития, ни всех его последовательных фаз. Но
видя его проявления, мы антропоморфически, субъек-
тивно, как вообще, так и на отдельных фазах, заменяем
знание закона словами «цель», «намерение», т. е. повто-
ряем только факт, ничего не прибавляя к его настоящему
знанию. При истинном же изучении отдельных систем
природы, до человека включительно, из которых она со-
стоит, все сводится лишь на констатирование как внут-
ренних, так и внешних условий существования этих си-
стем, иначе говоря, на изучение их механизма; и втиски-
вание в это исследование идеи цели вообще и есть сме-
296
шение разных вещей и помеха доступному нам сейчас
плодотворному исследованию. Идея возможной цели при
изучении каждой системы может служить только как по-
собие, как прием научного воображения, ради поста-
новки новых вопросов и всяческого варьирования экспе-
риментов, как и в случае знакомства с неизвестной нам
машиной, поделкой человеческих рук, а не как оконча-
тельная цель.
С данным пунктом естественно связывается следую-
щий вопрос — о свободе воли. Вопрос, конечно, высочай-
шей жизненной важности. Но мне кажется, есть возмож-
ность обсуждения его одновременно строго научно (в
рамках современного точного естествознания) и вместе
не противореча общечеловеческому ощущению и не внося
путаницы в жизненную постановку его.
Человек есть, конечно, система (грубее говоря — ма-
шина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся
неизбежным и единым для всей природы законам; но си-
стема, в горизонте нашего современного научного виде-
ния единственная по высочайшему саморегулированию.
Разнообразно саморегулирующиеся машины мы уже до-
статочно знаем между изделиями человеческих рук.
С этой точки зрения метод изучения системы-человека тот
же, как и всякой другой системы: разложение на части,
изучение значения каждой части, изучение связи частей,
изучение соотношения с окружающей средой и в конце
концов понимание, на основании всего этого, ее общей
работы и управление ею, если это в средствах человека.
Но наша система в высочайшей степени саморегулирую-
щаяся, сама себя поддерживающая, восстановляющая,
поправляющая и даже совершенствующая. Главнейшее,
сильнейшее и постоянно остающееся впечатление от изу-
чения высшей нервной деятельности нашим методом —
это чрезвычайная пластичность этой деятельности, ее ог-
ромные возможности: ничто не остается неподвижным,
неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, из-
меняться к лучшему, лишь бы были осуществлены соот-
ветствующие условия.
Система (машина) и человек со всеми его идеалами,
стремлениями и достижениями — какое, казалось бы на
первый взгляд, ужасающе дисгармоническое сопостав-
ление! Но так ли это? И с развитой точки зрения разве
человек не верх природы, не высшее олицетворение ре-
сурсов беспредельной природы, не осуществление ее мо-
297
гучих, еще не изведанных законов! Разве это не может
поддерживать достоинство человека, наполнять его выс-
шим удовлетворением?! А жизненно остается все то же,
что и при идее о свободе воли с ее личной, общественной
и государственной ответственностью: во мне остается
возможность, а отсюда и обязанность для меня знать себя
и постоянно, пользуясь этим знанием, держать себя на
высоте моих средств. Разве общественные и государствен-
ные обязанности и требования — не условия, которые
предъявляются к моей системе и должны в ней произво-
дить соответствующие реакции в интересах целостности
и усовершенствования системы?!
И. П. Павлов. Полное собрание сочине-
ний, т. III, кн. 2. М.—Л., 1951, стр. 163—
165, 186—188.
Ем. Ярославский
Из работы
«МОЖНО ЛИ ПРОЖИТЬ БЕЗ ВЕРЫ В БОГА?»
Здесь не может быть ника-
кого сомнения в том, что Ленин стоял за пропаганду,
т. е. за проповедь безбожия, что Ленин считал религи-
озные верования бессознательностью, темнотой или мра-
кобесием, орудием классового господства буржуазии.
А можем ли мы относиться безразлично к бессознатель-
ности, к темноте, к мракобесничеству? На это должен
ответить каждый ленинец, каждый рабочий. И если он
продумает мысли свои до конца, то, конечно, он не смо-
жет принять тот половинчатый путь, то половинчатое,
трусливое решение, которое говорит ему. ты можешь и
коммунистом оставаться, ты можешь оставаться и ле-
нинцем, а мысли Ленина о религии отбросить и отноше-
ние Ленина к религиозному вопросу считать ошибочным,
неприемлемым. Нет, каша программа в религиозном
вопросе полностью увязана со всей программой нашей
партии...
Если рабочий хорошенько ознакомится с историей и
если он приглядится вокруг, то он найдет много приме-
ров, когда люди религиозные, верующие в бога, испол-
няющие всевозможные религиозные обряды, в то же
298
самое время являются самыми гнусными эксплуатато-
рами. Разве не во имя бога были перебиты в религиоз-
ных войнах миллионы людей? Разве не во имя бога сжи-
гали на кострах еретиков? Разве религия не вдохновля-
ла на убийство, войны, колониальные грабежи, рабство
и т. д.? Разве и поныне она все это не благословляет и
освящает? Среди религиозных людей, в религиозном
обществе разве считалось грехом рабство, крепостниче-
ство или самая безжалостная капиталистическая эксплу-
атация? И христианство, и иудейство, и магометанство,
и всякие иные религии всегда мирились и мирятся с
гнуснейшим бесправием миллионов трудящихся, с эксплу-
атацией, мирились с рабством. Религия не только не
служила тому, чтобы освободить рабочий класс от вла-
сти капитализма, религия не только не служила делу
уничтожения в свое время крепостного права, но повсю-
ду и всегда все религии и религиозные организации вся-
чески помогали и помогают помещикам и капитали-
стам...
Разве религия спасала от войны? Религия нередко
сама была поводом для бесчисленного множества войн.
Разве религия спасала от неравенства? Религия сама
узаконяла это неравенство. Разве религия спасала чело-
вечество от проституции, от нищеты, от голода? Комму-
низм есть общество без классов и без классовой борьбы,
без войн, потому что устраняет все причины, ведущие к
войнам; без нищеты и голода, потому что повышает в
огромной степени благосостояние всего общества; без
угнетения человека человеком, потому что создает дейст-
вительные условия равенства свободных людей; без про-
ституции, без преступности, потому что устраняет соци-
альные причины проституции и преступности.
Под руководством ленинской партии рабочий класс в
жестокой борьбе со своими классовыми врагами строит
социалистическое общество. Все то, что помогает, облег-
чает, содействует этой борьбе за новый мир,— это
нравственно. Наша нравственность, а не поповская, есть
высшая нравственность, ибо она помогает строительству
нового мира, в то время как поповская нравственность
всегда служила и служит закреплению господства эк-
сплуататоров.
Как же может ленинец, как же может коммунист в
одно и то же время бороться за коммунизм, называть
себя ленинцем и проповедовать религию, которая мешает
коммунизму?
299
* * *
Что значат слова Ленина: «Наша программа вся по-
строена на научном и, притом, именно материалистиче-
ском мировоззрении»? (Курсив Ем. Ярославского.) Мож-
но ли примирить материалистическое мировоззрение с
религией, с верой в бога? Нет, нельзя. Это две совершенно
непримиримые вещи. Чтобы понять это, каждый рабочий,
каждый ленинец должен ответить себе ясно на вопрос,
что такое религия. По-нашему, по-ленински, религия —
это есть неверное, искаженное, фантастическое отраже-
ние в сознании человека окружающего его мира и чело-
веческих отношений. Пусть проверит себя в этом каж-
дый рабочий, даже верующий. Многие верующие
считают, что они очень далеко ушли от тех темных кре-
стьян, которые верят в леших и в домовых, в нашепты-
вания, наговоры, колдовство и прочую чертовщину. Та-
кой выросший уже немного рабочий думает про себя:
«Какие они темные люди, невежественные, верят пустя-
кам!» Но эти товарищи не замечают, что и они сами не-
далеко ушли вперед от этой чертовщины. Их вера в не-
существующего бога есть также фантастическое, невер-
ное понятие о мире, о существующих в мире отношениях.
Наша же программа основана на научном мировоз-
зрении. В ней нет места ни богам, ни ангелам, ни чер-
тям, никаким другим измышлениям человеческой фан-
тазии. Никакого примирения между нашей программой
и религией быть не может. Стать настоящим ленинцем —
это значит полностью принять всю программу, все пони-
мание явлений общества и природы, которое дается в
нашей программе, которое не нуждается ни в богах, ни
в чертях, ни в попах, под каким бы соусом они ни пре-
подносились.
А как же с бессмертием? — иногда спрашивают более
отсталые рабочие. Что же будет после смерти? Какой
смысл имеет вся наша работа, если наше существование
заканчивается со смертью? За мысль о бессмертии цеп-
ляется еще крестьянин, цепляется отсталый рабочий.
Попы разных вер рисуют царство небесное то в виде
цветущего сада, где «праведники» предаются будто бы
самым разнообразным наслаждениям, которых люди
лишены были во время земной жизни; то рисуют они его
в виде большого дома отдыха на небесах в обществе
старушек и стариков, вроде скотоводов Авраама, Исаа-
300
ка, Иакова и множества «благоверных» князей и кня-
гинь, монахов, игуменов, архиереев и монашек, из кото-
рых одни были живьем, прямым трактом взяты на небе-
са, а другие переселились туда невидимыми путями пос-
ле смерти. Многие верят еще в сказки о том, что когда-
нибудь настанет такой «страшный суд» на небесах, где
самый высший верховный трибунал будет разделять
людей направо и налево. Одних — на вечное блаженст-
во, а других — на вечные, страшные муки. Это и есть
поповское «бессмертие». Поповские вымыслы в высшей
степени выгодны эксплуататорским классам. Они всегда,
вовсе времена убеждали угнетаемые ими массы: терпите,
после смерти вам воздастся, а пока не смейте посягать
на власть нашу, на капиталы наши, на землю и богатст-
ва наши.
Нет, нам, трудящимся, не надо такого «бессмертия».
Мы и на земле можем создать жизнь такую, которая
полна была бы радостей.
Умер Маркс. Умер Ленин. А мы говорим: Маркс жив
в умах миллионов людей, в их мыслях, в их борьбе; жив
Ленин в каждом ленинце, в миллионах ленинцев, во всей
пролетарской борьбе, в ленинской партии, осуществляю-
щей заветы Ленина, руководящей рабочим классом в его
борьбе за строительство нового мира. Вот это — бессмер-
тие; и только о таком бессмертии думаем мы, коммунис-
ты; не в воздухе, не в небесах, не на облаках, которые мы
можем предоставить охотно и бесплатно попам и птицам,
а на земле, на которой мы живем, радуемся, страдаем и
боремся за коммунизм.
Без веры в бога не только можно жить: вера в бога
мешает жить радостно, бороться уверенно, действовать
смело.
Нельзя быть ленинцем и верить в бога.
Ем. Ярославский. О религии. М., 1957,
стр. 104—108.
301
А. В. Луначарский
Из работы
«ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РЕЛИГИИ»
Вечная мука за краткую
жизнь — это не вмещается в понятие о справедливости, в
понятие о справедливом боге.
Этот бог был справедливым богом, но он был демо-
кратическим богом и революционным богом. Он говорит,
что человек должен быть кроток и смиренен, что он не
должен бороться с врагами, он должен прощать обиды,
он должен терпеть, но ради чего? Апостол Павел пропо-
ведует любовь так: прощай врагам своим. Это звучит
очень по-христиански. Но затем он к этому сейчас же
прибавляет: этим ты собираешь уголья на голову их.
Это уже совсем не так любвеобильно.
Представьте себе такого христианина, которого оби-
дели, которому кто-нибудь дал пощечину и который
потом подставил другую ланиту и в это время думал:
«А сколько угольев я тебе этим на голову положил!»
Разумеется, это не столько любовь, сколько терпе-
ние.
Главное, христиане должны были терпеть... и ждать:
придет избавление для тех, которых гнали, оно придет со
вторым пришествием Христа, который появится с легио-
ном ангелов. Это пришествие Христа будет настоящей
революцией, но ее нужно понимать как чудо, исходящее
от неба, а сами христиане в эту революцию вмешиваться
не должны, только терпеть и ждать.
Вот в этом-то и заключается колоссальная разница
между нынешним пролетариатом, между его идеями и
стремлениями и идеями христианства. Тогда самая де-
мократичность была чисто моральная. О демократии как
об общественном активном классе, о демократичности
как об общественном строе, как о государственном строе
никто не говорил. Правда, евангелие учило, что ни коро-
лей, ни князей «у вас» не должно быть, но это относилось
только к церкви, а как вообще устроен политически этот
мир, оно не интересовалось. Апостол Павел говорит, что
«всякая власть от бога»; он не хотел сказать этим, что
хороша она, но ее бог посылает на испытание: вы долж-
ны терпеть, вы должны признавать власти предержащие
и ни в коем случае не бунтовать. Бог знает их, этих царей
302
неправды, и он вызовет их в свое время из гроба, когда
настанет время суда, и воздаст им, но это сделает сам
бог, а люди должны только терпеть и ждать, когда
придет время воздаяния, когда бог придет судить непра-
ведных, которым все зачтется, все запишется, что сдела-
ли они на этом свете.
Итак, мы видим, что это был социализм не творчес-
кий. Он не говорил о том, что нужно собрать все орудия
производства, всю землю и отдать их трудящимся; он не
говорил о том, что все богатства нужно сделать достоя-
нием труда, который до сих пор только эксплуатировал-
ся; он не говорил о том, что всю землю со всеми ее богат-
ствами нужно отнять у тех, которые не по праву владеют
ею, передать в пользование тех, кто трудится, чтоб чело-
век трудом своим оплодотворял землю и братски поль-
зовался плодами трудов своих. Этого в христианстве нет,
как нет веры в демократию, которой рекомендуется ве-
рить не в свои силы, а в небо, нет веры в народ и его
труд, а есть вера в чудо. Об этом говорит рассказ о на-
сыщении 5000 человек немногими хлебами. Основная
мысль тут заключается в том, что если будет между
людьми вера в любовь, то Христос поможет им как-ни-
будь прожить в этом мире, как-нибудь претерпеть это зем-
ное существование. Ведь все эти земные блага не важны,
важно только одно — дождаться пришествия Христа, а
там — там будет все, что только сердцу угодно, там будет
чудная жизнь. Небо пошлет избавление, небо пошлет рево-
люцию, появится Христос, но не в таком виде, как прихо-
дил он в первый раз, он появится не кротким и терпеливым,
а сильным и грозным,— это будет такая революция,
какой никто себе и представить не может, перед которой
совершенно бледным покажется даже наш большевист-
ский переворот. Тогда солнце остановится, тогда все пе-
ревернется, все зажжется и запылает, реки и моря разо-
льются, горы встанут и лягут, брат на брата восстанет,
страшная гражданская война разразится, губительная и
беспощадная, которую в конце концов прекратит вмеша-
тельство ангелов. Но все это сделается по слову божье-
му. Христиане не должны принимать в этом никакого
участия, они не должны играть никакой активной роли,
они должны только молиться. Претерпевший до конца
спасен будет. Терпение, терпение и терпение — вот в чем
заключается самая сущность учения.
В демократичности, социалистичности и революцион-
303
ности христианства мы видим пассивное начало — нужно
ждать, ждать и ждать, пока не взойдет солнце правды.
Этим оно и отличается от нынешних социалистических
революционных учений, которые требуют от пролетариа-
та и крестьянства не пассивного подчинения, а активно-
сти, которые имеют перед собой задачу устройства людей
тут, на земле, немедленно, которые требуют от демокра-
тии, чтобы она проявила себя активно. Научный социа-
лизм говорит человеку труда: соединяйся со своими
братьями, организуйся, отнимай орудия производства у
тех, которые пользовались ими для своего собственного
блага, и обращай все эти мощные, могучие орудия, ко-
торые созданы капиталом, на благо всех.
Само собой разумеется, что раз этот социализм нуж-
но устроить тут, на земле, раз есть сознательные трудо-
вые массы, раз люди верят в себя, то могут совершить
революцию сами, не ожидая, когда ее совершит несуще-
ствующий бог. И странно было бы слышать в 1918 году,
что революция придет со вторым пришествием Христа,
что одна только надежда на это второе пришествие.
Никто не утверждает теперь, что лучше подождать до
второго пришествия,— такие речи принимаются теперь
как насмешка. Когда кто-нибудь говорит теперь: это-де
будет после второго пришествия, то это понимается со-
вершенно в таком же смысле, как фраза: «После дож-
дичка в четверг».
Тогда же, в те далекие времена, в I веке, такое ожи-
дание было совершенно естественно. Но ждали этого
пришествия изо дня в день, каждую ночь вставали и
смотрели, не начало ли уже гореть небо со всех сторон,
не появился ли уже Христос. Там была полная пассив-
ность и вера в мощь другой силы, силы бога,— теперь
мы активно хотим сами завоевать свое счастье здесь, на
земле.
А. В. Луначарский об атеизме и ре-
лигии. М., 1972, стр. 180—183.
304
К. Э. Циолковский
ВЕРА В БОГА НЕСОВМЕСТИМА
С НАУКОЙ25
[Фрагмент]
...К. Э.— известный ученый,
имеющий мировую известность. К нему направился со-
трудник редакции, чтобы получить ответ на вопрос:
— Почему Вы не верите в бога?
— Что прежде всего понимать под верой в бога? —
начал К. Э.— Темная, неразвитая крестьянка богом
считает картину — икону. Другие под богом подразуме-
вают бессмертного старца, восседающего на облацех.
Третьи считают богом доброе начало в жизни, опреде-
ляющее нравственные правила человека. Вообще каж-
дый представляет бога по-своему и по-своему верит в
него.
Таким образом, бог есть порождение человека.
Человек создал представление о боге, чтобы посредст-
вом его объяснять то, чего не может еще объяснить разум,
и чтобы иметь надежду на лучшую жизнь, которая-де
зависит от божества.
Но это средство несовместимо с наукой, которая ос-
новывается на достоверных знаниях.
Чем мой разум отличается от науки? Наука есть
знания, тысячелетиями накопленные даровитейшими
людьми. А я у них учился, постигал эти знания, и разум
мой их содержит и то еще, что я сам вложу в науку.
Мой разум не оставляет места для веры в необъяснимое,
для веры в сверхъестественное существо. Тем более он
враждебен всей религиозной мишуре — почитанию бога,
обрядам, служителям культов.
Через сто лет мои теперешние знания окажутся уже
недостаточными и, быть может, неправильными. Но в
этом я не ответственен, я признаю все то, что достоверно
сегодня, и в этом состоит научное мировоззрение. Повто-
ряю: оно несовместимо с верой в бога.
К сожалению, приходится говорить о том, что среди
нашей интеллигенции еще значительно распространена
вера в бога, вера в сверхъестественное, т. е. признание
области, неизвестной науке, необъяснимой ею.
Этому содействуют, по-моему, следующие причины:
1) детские впечатления, от которых слабый человеческий
305
ум не может освободиться и в зрелых годах,— религиоз-
ные впечатления; 2) робость перед тем, что, быть может,
наука бессильна и «на том свете» придется расплачивать-
ся за атеизм; 3) скромность, мешающая некоторым по-
рвать с религиозными авторитетами, дерзнуть.
Итак, трусость, нерешительность заставляет многих
верить во что-то туманное. У интеллигенции эта вера
часто проявляется в отвратительнейших формах мрако-
бесия— оккультизме26, теософии27 и т. п.
Мне кажется, что человечество не скоро освободится
от идейного гнета религии. Но это не значит, что с верой
в бога не надо вести борьбы. Я восхищаюсь мероприя-
тиями Советской власти в этом направлении — и заклад-
кой научного антимистического мировоззрения в нового
человека в школе, и разоблачением лжи религии через
вскрытие мощей, разоблачения монашества, сектантст-
ва и т. д. <...>
Печатается по: «Естествоиспытатели и
атеизм». М., 1973, стр. 264—265.
М. Горький
Из работы
«О «МАЛЕНЬКИХ» ЛЮДЯХ И О ВЕЛИКОЙ
ИХ РАБОТЕ»
Сотни лет церковь усердно
вбивала в головы рабочего народа, что бог — всемогущ,
что в нем «воплощен высший разум» и что все создано
именно этим премудрым разумом. Но ведь и для малого
ребенка ясно, что это сказка.
Не будем говорить о том, что бог, создавший людей
будто бы «по образу и подобию своему», создал их раз-
ноцветными: белых европейцев, черных негров, желтых
китайцев, красных индейцев Америки, что все люди, го-
воря на разных языках, не понимают друг друга, да и са-
мого бога понимают различно, а это различие понимания
возбуждает среди людей взаимную вражду, кровопроли-
тие, погромы и грабежи. Все это как будто не очень муд-
ро и совсем не «хозяйственно».
Но еще более ясно будет нам, что бог — плохой тво-
рец и «хозяин», если мы поставим перед собою несколько
простых и вполне законных вопросов, например:
306
Почему бог создал землю не из одного чернозема, а
из мало плодородных супесей, суглинков, зачем созданы
болота, солончаки и бесплодные песчаные пустыни? По-
чему нужно, чтоб в одной стране вырастал только мох,
а в другой круглый год земля родит крестьянину хлеб,
овощи, плоды? Зачем созданы комары, вши, клопы, мухи,
овода, мыши, суслики и всякие другие вредители, пожи-
рающие десятки тысяч тонн зерна? Зачем создано такое
обилие сорных, вредных трав, которые зря истощают
соки земли? Зачем каменный уголь спрятан глубоко в
землю? И вообще — зачем жизнь и труд существ, создан-
ных будто бы «по образу и подобию» разумнейшего, мно-
гомилостивого и доброго существа,— зачем их труд так
отягчен, а сами они так неразумны, завистливы, жадны,
жестоки?
Таких простых и совершенно законных вопросов
можно поставить не одну сотню. И на все эти вопросы
есть только один ответ: не в боге разум, а — в человеке.
Бог выдуман — и плохо выдуман! — для того, чтоб укре-
пить власть человека над людьми, и нужен он толь-
ко человеку-хозяину, а рабочему народу он — явный
враг.
Все истинно мудрое — просто и понятно.
Владимир Ленин, человек простых и потому великих
мыслей, сказал:
«Религия — дурман для народа».
Вот это — простая, ясная мысль, правду ее утверж-
дает вся жизнь трудового народа, вся история постепен-
ного порабощения хозяевами его воли и разума. Эта
мысль должна освободить разум крестьян и рабочих от
вредного влияния учения церкви, должна внушить рабо-
чему народу сознание его внутренней свободы, его права
быть единственным владыкой и устроителем земли, пол-
ным хозяином всех продуктов своего труда.
«Рабочий народ должен овладеть наукой»,— много-
кратно повторял Ленин, зная, что наука — высшая, наи-
более продуктивная форма труда и что трудовой народ,
вооруженный знанием, быстро достигнет своей цели —
создать государство равных, без «хозяев», без хищников
и паразитов; это государство свободных, здоровых людей
уже строится...
Трудно знать все, что сделано, что делается и как де-
лается в нашей огромной, богатейшей стране. Но необхо-
307
димо, чтоб это знали все грамотные крестьяне и рабочие,
чтоб это знал каждый из них и чтоб этим знанием своего
творчества они делились с неграмотными.
Знание достижений в деле строительства рабоче-кре-
стьянского государства особенно важно и поучительно,
потому что оно покажет рабочим и крестьянам рост их
силы, размах работы.
Это будет самопознанием трудового народа, так же
необходимым, как самокритика, направленная к позна-
нию его ошибок и пороков. Это самопознание должно
убедить «маленьких» мастеров великого и нового дела в
том, что они вполне способны делать его и что их труд —
не пропадает зря, не идет на откармливание паразитов,
а, все возрастая, обогащает страну, и близко время, когда
результаты этого труда облегчат жизнь рабоче-крестьян-
ской массы.
Рабочие и крестьяне должны знать и верить, что «на-
ука и труд — все перетрут», все цепи прошлого, все, чем
«хозяева» тысячи лет оглушали и ослепляли рабочий
народ.
М. Горький. Собрание сочинений в три-
дцати томах, т. 25. М., 1953, стр. 15—17.
Н. К. Крупская
О ЛЕНИНЕ
Воспоминания, связанные со статьей Ленина
«О значении воинствующего материализма»
[Фрагменты]
Статья «О значении воинст-
вующего материализма»28 обдумывалась Ильичем, когда
он жил в Корзинкине, ранней весной 1922 г. Владимир
Ильич чувствовал себя плохо. ГПУ считало, что жить в
Горках в то время было опасно, они напали на белогвар-
дейские следы, и потому его устроили в Корзинкине —
старом помещичьем доме. Дом был нелепый. Внутри
большой темный зал, вышиной в два этажа. Во втором
этаже в этот зал выходила открытая галерея, из которой
шли двери в комнаты. В комнатах на стенах висели порт-
308
реты Л. Толстого и была уймища каких-то сонных мух,
которых надо было вытравливать. Я тоже на недельку
приехала к Ильичу. Кстати, надо было просмотреть
имеющуюся литературу по антирелигиозному вопросу.
В это время МОНО проводил кампанию по антирелиги-
озной пропаганде в школе. В этой области наблюдался
тогда целый ряд грубых извращений; в одном детском
доме с ребят силком поснимали кресты, в одной деревне
какой-то усердный парень пальнул в икону. Надо было
установить правильные формы антирелигиозной пропа-
ганды, для этого необходимо было повести широкую
разъяснительную кампанию среди учительской массы.
Мне пришлось выступать с докладами в четырех
районах на очень больших учительских собраниях. Слу-
шали с большим вниманием. Помню, как во Фрунзен-
ском — тогда он назывался Хамовническим — районе в
конце доклада одна пожилая учительница вздохнула и
сказала: «А как с царством небесным теперь быть?..»
В перерыв учителя очень оживленно говорили, как вести
антирелигиозную пропаганду среди ребят. Неладно вы-
шло только в Городском районе. Председательница по-
сле моего заключительного слова предоставила слово
какому-то учителю [школы] второй ступени, естествен-
нику, который стал утверждать, что современная наука
не только допускает существование бога, но неопровер-
жимо его доказывает.
Учительская публика растерялась и стала спешно ухо-
дить. Я возразила оратору уже в опустевшем на три чет-
верти зале. Учителя [школы] второй ступени в то время
далеки были от воинствующего атеизма.
Религиозные настроения стали крепнуть среди этой
публики. Серьезно обсуждалось, можно ли заменить вино
для причастия клюквенным морсом. В «Педагогической
мысли», выходившей в Петрограде, в 1921 г. помещена
была статья профессора Гревса — «Два педагогических
идеала», где он писал: «К свету духовному, научному и
религиозному тянутся людские умы и сердца по неодо-
лимому врожденному влечению, самостоятельному и са-
модовлеющему, независимо от всякого экономического и
иного, личного либо классового интереса, во имя прав-
ды, по которой в человеке голод так же неодолим, как и
по хлебе». Среди преподавателей-биологов росли анти-
дарвинские, ревизионистские течения. Обо всем этом я
рассказывала Ильичу.
309
Мне предстояли дальнейшие выступления, и потому я
забрала всю популярную литературу, вышедшую в то
время...
Ильич просматривал все эти брошюры, ворчал, взял
себе Древса 29 и стал читать. В это время пришла большая
посылка книг от Уиптона Синклера на мое имя с инте-
ресным письмом, где он писал о той борьбе, которую он
ведет при помощи своих романов. Из кипы присланных
Синклером книг Ильич выбрал книжку о религии — «Ре-
лигия и нажива».
Ильич вооружился английским словарем и стал чи-
тать по вечерам. Книжка в отношении антирелигиозной
пропаганды мало удовлетворила его, но ему понравилась
критика буржуазной демократии.
На прогулках мы много разговаривали с Ильичем на
антирелигиозные темы. Приближалась весна, набухали
почки, мы с Ильичем ходили далеко в лес по насту. Снег
размяк, но сверху покрылся ледяной коркой, можно было
идти, не проваливаясь. Ильич говорил тогда о Древсе, о
Синклере, о том, как вредна поверхностная, наскокистая
антирелигиозная пропаганда, всякая вульгаризация, как
важно увязывать ее с естествознанием, с достижениями
техники, вскрывать классовые корни религии.
Не впервые говорили мы с ним на эти темы. Наше по-
коление росло в условиях, когда, с одной стороны, в шко-
лах, в печати строго преследовалось малейшее проявле-
ние неверия, с другой — радикальная интеллигенция от-
пускала насчет религии всякие шуточки, острые словечки.
Существовал целый интеллигентский фольклор, высмеи-
вающий попов, религию, разные стихи, анекдоты, нигде
не записанные, но передававшиеся из уст в уста. Правда,
большинство из них было поверхностно, повторявшие их
нередко говорили о величестве и премудрости творца или
о воспитывающей роли религии. Но все же это толкало
молодую мысль, заставляло очень рано критически отно-
ситься к религии, стремиться самостоятельно решить так
или иначе вопрос о религии. К пятнадцати годам у Вла-
димира Ильича сложилось уже твердое убеждение, что
религия — это выдумка людей, сознательный и бессозна-
тельный обман. И пятнадцатилетним мальчиком он сор-
вал у себя с шеи крест и далеко забросил его. Эти ранние
переживания не прошли бесследно. Всю жизнь Ильич ин-
тересовался вопросом о том, как, в каких формах должна
вестись борьба с религией, разоблачение перед массами
310
сущности религиозных верований. Религии противопо-
ставлял он материалистическое мировоззрение. Тщатель-
но изучал он, что говорили по этому вопросу Маркс, Эн-
гельс и их последователи, что говорит об этом современ-
ная наука. Мы знаем, какую громадную работу проделал
Ленин в области философии. Об этом красноречиво гово-
рят IX и XII сборники Ленина, говорит его работа «Ма-
териализм и эмпириокритицизм». Философские вопросы
Ильич неразрывно связывал с вопросом о борьбе с ре-
лигией. Это ярко видно из его работ и из писем
А. М. Горькому в период второй эмиграции...
Работа Ильича в области философии тесно была свя-
зана с борьбой против утонченных форм религии.
Теперь, десять лет спустя после смерти Ильича, ког-
да перечитываешь его статью о воинствующем материа-
лизме, встает перед глазами вся его громадная работа в
области философии, вспоминается та работа, которую он
вел в деле популяризации метода диалектического мате-
риализма, уча, как применять его к практике, к жизни
(возьмем хотя бы его высказывание по этому поводу во
время дискуссии о профсоюзах), его показ, как вооружа-
ет в деле строительства социализма умение оценивать
явления с точки зрения диалектического материализма.
Советы, которые дает Владимир Ильич в статье о во-
инствующем материализме сотрудникам журнала «Под
знаменем марксизма», как работать над Гегелем, заклю-
чают в себе горячее, хотя не высказанное до конца поже-
лание, чтобы та работа, которую проделывал сам Ильич
в области философии и ее популяризации, нашла своих
продолжателей. Весной 1922 г. уже чувствовал Ильич,
что силы его уходят, и хотелось ему, чтобы работа не
оборвалась.
Корни религиозных верований видел Ленин в общест-
венном укладе, в мелкособственнической психологии мел-
кого производителя.
В 1920 г., выступая на беспартийной конференции ра-
бочих и красноармейцев Пресненского района, он го-
ворил: «Прежде говорили: «Каждый за себя, а бог за
всех», и сколько горя из этого вышло.
Мы скажем: «Каждый за всех, а без бога мы как-ни-
будь обойдемся»» *.
* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 70.
311
Эту мысль он развивал и в первых своих произведени-
ях. В объединении мелких крестьянских хозяйств в общие
крупные коллективные хозяйства видел он путь к изжи-
тию религиозных верований. И мы видим, как быстрое
развитие коллективизации сельского хозяйства отнимает
у религии всякую почву. С ростом коллективизации рас-
тет в массах и равнодушие к религии. Широкое примене-
ние техники в сельском хозяйстве и в тех областях хозяй-
ства, где раньше безраздельно царило мелкое хозяйство
(например, в области изготовления пищи), влияет в том
же направлении. Умирает религия.
Но мы знаем, как живучи старые бытовые обычаи и
предрассудки. Стихийный процесс должен быть освещен
светом сознания. И Ильич требовал, чтобы вся учеба де-
тей, подростков, взрослых насквозь была пронизана ду-
хом диалектического материализма. То, что писал Вла-
димир Ильич в своей статье об «образованных» крепост-
никах и преподавателях старого закала, не изжито еще
до конца. Именно на этом фронте нужна особая бдитель-
ность. Научные силы всех областей, если они хотят вы-
полнить завет Ильича, должны идти на подмогу педаго-
гам, политпросветчикам, библиотекарям, популяризато-
рам, помогать им выше и выше поднимать знамя воинст-
вующего материализма, нести его в массы.
Н. К. Крупская. О Ленине. Сборник ста-
тей. М.. 1960, стр. 55—56, 57—59.
И. В. Мичурин
Из работы
«МЕЧТА МОЕЙ ЖИЗНИ»30
60 лет назад, 20-летним юно-
шей, по врожденной наклонности, а может быть и под
влиянием особой растениеводческой среды, в которой
протекало мое детство, я задумал обновить существовав-
ший старый, полукультурный, низкоурожайный состав
плодовых растений средней части тогдашней России.
Сначала слепо, а потом с течением времени, с увели-
чением опыта задуманное отложилось в строго очерчен-
ные мысли:
312
1. Вывести самый ценный в хозяйственном отноше-
нии сорт плодового растения.
2. Создать северное плодоводство, т. е. продвинуть
яблоню, грушу, сливу, вишню поближе к полярному кру-
гу, а такие культуры юга, как виноград, абрикос, персик,
перенести в среднюю и отчасти северную зоны.
3. Превратить некоторые дикие растения, как, напри-
мер, холодостойкие, ежегодно плодоносящие, высокоуро-
жайные рябины, черемухи, боярышники, в съедобные, вы-
сококультурные.
4. Создать совершенно новые виды растений, более
полно отвечающие нашим потребностям.
Эти мысли, эти желания и были моими путеводными
звездами на протяжении моего 60-летнего пути, часто
преграждавшегося терниями и прерывавшегося мраком
царского строя, при котором протекли 63 года моей
жизни и 43 года деятельности.
Для осуществления этого желания нужно было из-
менить надолго заведенный порядок жизни у растений и
ввести другой порядок,— нужный человеку.
Много лет потребовалось мне для этого — и каких
лет! Вся дорога моя до революции была выстлана осмея-
нием, пренебрежением, забвением.
До революции мой слух всегда оскорблялся невежест-
венным суждением о ненужности моих работ, о том, что
все мои работы — это «затеи», «чепуха». Чиновники из
департамента кричали на меня: «Не сметь!» Казенные
ученые объявляли мои гибриды «незаконнорожденными».
Попы грозили: «Не кощунствуй! Не превращай божьего
сада в дом терпимости!» (так характеризовалась гибри-
дизация).
И когда рабочие и крестьяне под руководством Ле-
нина и его большевистской партии свергли прежний
строй, я завершил свои мысли и желания делом. <...>
Что может быть более удивительного, когда 60-летие
моих работ и скромные мои достижения отмечаются как
праздник Советского садоводства?
Я не нахожу ничего удивительного только в том, что
работаю сейчас над проблемами выведения морозоустой-
чивого персика, над возможностью выведения новых ви-
дов растений при помощи лучистой энергии, вроде кос-
мических, рентгеновских и ультрафиолетовых лучей и
ионизации, над проблемой выведения скороспелых, рано
вступающих в пору плодоношения сортов, над возмож-
313
ностью получения бессемянного винограда. Теперь я рас-
полагаю всем для того, чтобы спокойно мыслить и рабо-
тать.
Я счастлив тем вниманием и той заботой партии и пра-
вительства, которые я встречаю на каждом шагу. Но са-
мое главное состоит в том, что теперь сбылась моя меч-
та— обращено внимание на необходимость улучшения
растения.
Иных желаний, как продолжать вместе с тысячами
энтузиастов дело обновления земли, к чему звал нас ве-
ликий Ленин, у меня нет.
И. В. Мичурин. Сочинения в четырех
томах, т. 1. М., 1948, стр. 602—603.
Эдуардас Межелайтис
ЧЕЛОВЕК
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою, меж двумя шарами —
Солнечным и земным.
Недра мозга, пласты мозга
Глубоки, словно рудные недра.
Я из них вырубаю, как уголь,
Выплавляю из них, как железо,
Корабли, бороздящие море,
Поезда, обвившие сушу,
Продолжение птиц — самолеты
И развитие молний — ракеты.
Это все я добыл из круглой,
Словно шар земной, головы.
Голова моя — шар солнца,
Излучающий свет и счастье,
Оживляющий все земное,
Заселяющий землю людьми.
Что земля без меня?
Неживой,
314
Сплюснутый и морщинистый шар
Заблудился в бескрайних просторах
И в луне, словно в зеркале, видел,
Как он мертв
И как некрасив.
Я был создан землею — с тоски.
А в минуту печали земля
Подарила мне шар головы,
Так похожий на землю и солнце.
Подчинилась земля мне, и я
Одарил ее красотой.
Земля сотворила меня,
Я же землю пересотворил —
Новой, лучшей, прекрасной,— такой
Никогда она не была!
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Я — как мост меж землею и солнцем,
И по мне
Солнце сходит на землю,
А земля поднимается к солнцу.
Обращаются вкруг меня
Ярко-пестрою каруселью
Все творения, произведения,
Изваяния рук моих:
Города вкруг меня кружатся,
И громады домов,
И асфальт площадей,
И мосты, что полны машин и людей.
Самолеты и лайнеры — вкруг меня,
Трактора и станки — вкруг меня,
И ракеты вращаются вкруг меня...
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца
315
И бросаю на землю
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
На север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.
Эд. Межелайтис.
стр. 11-15.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ
БЕБЕЛЬ Август (1840—1913)—один из основателей и вождей
германской социал-демократической партии и международного рабо-
чего движения, ученик и соратник Маркса и Энгельса; автор ряда
работ по марксистской философии и научной критике религии. В своей
работе «Христианство и социализм», написанной в полемике с немец-
ким священником Гогофом, пытавшимся представить христианскую
религию в качестве прогрессивного фактора общественного развития,
Бебель анализирует причины возникновения и многовековую исто-
рию христианской религии, ее антинаучность, показывает реакцион-
ность, мракобесие и безнравственность служителей церкви.
БЕЙЛЬ Пьер (1647—1706)—французский философ, предшест-
венник французского Просвещения XVIII в.; выступал с критикой
католицизма и религиозного фанатизма. Бейль — автор «Историчес-
кого и критического словаря», в котором доказывал, что разум и вера
несовместимы. Своей критикой церковных догм оказал большое вли-
яние на развитие французского атеизма.
БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811—1848) —русский ре-
волюционный демократ, литературный критик, философ-материалист.
Наиболее яркое выражение революционный демократизм В. Г. Бе-
линского получил в его знаменитом письме к Гоголю от 3 июля
1847 г., в котором он подверг беспощадной критике крепостничество,
самодержавие, православие.
БЕРТЛО Пьер Эжен Марселен (1827—1907) —французский уче-
ный-химик и буржуазный политический деятель. Занимал посты ми-
нистра народного просвещения, министра иностранных дел, высту-
пал против утверждений идеалистов о «банкротстве науки» и увле-
чений мистицизмом, однако сам стоял на позициях узкого эмпириз-
ма и агностицизма.
БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873—1955)—профес-
сиональный революционер, советский общественный и государствен-
ный деятель, ученый, исследователь религиозного сектантства в Рос-
сии, автор работы «Наша церковная политика» и др. После Великой
Октябрьской социалистической революции принимал участие в под-
готовке и проведении в жизнь декрета об отделении церкви от го-
сударства.
ВОЛЬТЕР (псевдоним; настоящие фамилия и имя — Аруэ Фран-
суа Мари; 1694—1778)—французский писатель, историк и философ,
один из вождей французского Просвещения, страстный борец против
церкви, религиозных суеверий и предрассудков.
317
БОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович (1871—1923) —профессиональ-
ный революционер, советский государственный и общественный де-
ятель, литературный критик и публицист.
ГЕЙНЕ Генрих (1797—1856)—немецкий поэт, публицист, мыс-
литель, подвергавший в своем творчестве острой критике религию,
клерикализм. Христианство Гейне рассматривал как одну из истори-
ческих форм религии.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812—1870) — русский револю-
ционный демократ, философ-материалист, писатель. Главными произ-
ведениями А. И. Герцена являются: «Письма об изучении природы»,
«Дилетантизм в науке», «Письма из Франции и Италии», «С того бе-
рега», «Былое и думы». Вся жизнь Герцена была посвящена борьбе
за освобождение народа от гнета крепостничества и самодержавия,
от мракобесия церкви. Преследуемый правительством, он в 1847 г.
уехал за границу. Там Герцен впервые создал вольную русскую прес-
су, которая сыграла большую роль в революционном воспитании на-
рода.
ГОББС Томас (1588—1679)—английский философ-материалист;
основной своей задачей считал создание философии, которая могла
бы служить методом познания природы. Гоббс непримиримо отно-
сился к церковным авторитетам, схоластике, духовенству и доказы-
вал, что религия представляет собой суеверие, является результатом
страха и обмана людей. По церковному приговору сочинение Гоббса
«Левиафан» было предано сожжению.
ГОЛЬБАХ Поль Анри Дитрих (1723—1789)—французский фи-
лософ-материалист, сыграл выдающуюся роль в борьбе с религией.
Им написаны: «Система природы», «Здравый смысл», «Письма к Ев-
гении», «Карманное богословие», «Галерея святых» — всего более
двух десятков произведений. Сочинения Гольбаха подвергались пре-
следованиям со стороны церкви и правительства, за чтение или рас-
пространение их людям грозила жестокая расправа.
ГОРЬКИЙ Максим (псевдоним; настоящие фамилия и имя —
Пешков Алексей Максимович; 1868—1936) —русский писатель, родо-
начальник литературы социалистического реализма. Все творчество
Горького пронизано ненавистью к религии и церкви.
ДАРВИН Чарлз Роберт (1809—1882) — английский ученый, соз-
датель эволюционной теории происхождения и развития видов. Его
учение нанесло сокрушительный удар по религиозному представлению
о божественном творении видов. Богословы интерпретируют его уче-
ние таким образом, что Дарвин якобы рассматривал лишь историче-
ское происхождение видов животного и растительного мира, исклю-
чая человека. Что же касается последнего, то его ученый признает
якобы творением бога. Больше того, богословы пытаются изобразить
Дарвина глубоко религиозным человеком. Однако весь дух учения
Дарвина имеет ярко выраженный атеистический характер.
ДИЦГЕН Иосиф (1828—1888) —немецкий философ, рабочий, са-
мостоятельно пришедший к философии диалектического материализ-
ма. Как мыслителя его высоко оценивали К. Маркс и Ф. Энгельс,
318
В. И. Ленин. Основные произведения И. Дицгена — «Сущность голов-
ной работы человека», «Аквизит философии», «Религия социал-демо-
кратии» и др.
ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович (1836—1861) —русский
революционный демократ, философ-материалист и литературный кри-
тик, соратник Чернышевского. Основной смысл своей жизни Добро-
любов видел в подготовке крестьянской революции, которая унич-
тожит царизм и крепостничество и установит социалистический строй.
Добролюбову принадлежит ряд блестящих философских литератур-
но-критических сочинений: «Луч света в темном царстве», «Забитые
люди» и др.
ЕВРИПИД (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург,
автор «Ифигении в Авлиде», «Медеи», «Электры» и др. Трагедии Ев-
рипида написаны на сюжеты древних мифов. В них автор осуждает
богов за их коварство и жестокость, критикует жречество.
КРАСИКОВ Петр Ананьевич (1870—1939)—профессиональный
революционер, советский общественный и государственный деятель,
редактор журнала «Революция и церковь», один из руководителей
«Союза воинствующих безбожников в СССР», автор ряда работ по
вопросам религии и церкви.
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (1869—1939) — видный
советский, общественный, государственный и партийный деятель, же-
на В. И. Ленина. Н. К. Крупской принадлежит большая заслуга в
развитии советской педагогики, в разработке ряда вопросов комму-
нистического, атеистического воспитания.
ЛАФАРГ Поль (1842—1911)—деятель французского и между-
народного рабочего движения, один из основателей французской ра-
бочей партии, друг и ученик К. Маркса и Ф. Энгельса. Написал ряд
памфлетов, направленных против католической церкви и папства.
ЛЕВИ-БРЮЛЬ Люсьен (1857—1939)—французский социолог»
философ-позитивист, этнолог. Автор работ «Первобытное мышление»,
«Сверхъестественное в первобытном мышлении», в которых пытался
дать объяснение причин происхождения религиозных верований.
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924)—гениальный
мыслитель, теоретик марксизма, организатор и вождь КПСС и между-
народного коммунистического движения, основатель Советского го-
сударства, внес огромный вклад в развитие научного атеизма.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452—1519)—выдающийся предста-
витель искусства и науки эпохи Возрождения, художник, ученый, ин-
женер. В основе философских воззрений Леонардо да Винчи лежит
утверждение, что решающее значение в познании природы принадле-
жит опыту. Ученый решительно выступал против средневековой ми-
стики, схоластики и суеверия.
ЛУКИАН (ок. 120/125 —после 180)—древнегреческий писатель-
сатирик; в своих произведениях зло высмеивал античную и христиан-
скую религию.
319
ЛУКРЕЦИЙ Тит Кар (ок. 99/95—55 до н. э.) — древнеримский
философ-материалист, автор философско-атеистической поэмы «О при-
роде вещей»; оказал огромное влияние на последующее развитие ате-
изма.
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875—1933)—деятель
Коммунистической партии и Советского государства, первый народ-
ный комиссар просвещения, пропагандист марксизма-ленинизма, внес
заметный вклад в советскую атеистическую литературу.
МАРЕШАЛЬ Пьер Сильвен (1750—1803) —французский полити-
ческий деятель, страстный пропагандист атеизма, представитель
младшего поколения просветителей, автор атеистических произведе-
ний «Французский Лукреций», «Книга, спасшаяся от потопа», «Аль-
манах честных людей». Парижский парламент вынес решение о сож-
жении «Альманаха», а его автор был подвергнут тюремному заклю-
чению.
МАРКС Карл (1818—1883)—гениальный мыслитель, основопо-
ложник научного коммунизма, вождь международного революцион-
ного рабочего движения, организатор I Интернационала, создатель
(вместе с Ф. Энгельсом) научного атеизма.
МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас (1919) —литовский советский поэт.
За книгу стихов «Человек» удостоен Ленинской премии.
МЕЛЬЕ Жан (1664—1729)—французский философ-материалист,
утопический коммунист, автор знаменитого «Завещания», посвящен-
ного разоблачению религии и ее служителей.
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский уче-
ный-химик, открывший периодический закон химических элементов.
Его открытие подтверждало положение о материальном единстве ми-
ра и наносило удар по религиозным представлениям о существовании
сверхъестественного. Менделеев много сил отдавал борьбе против
мистики, суеверий и спиритизма.
МЕЧНИКОВ Илья Ильич (1845—1916) —русский ученый-биолог.
Ему принадлежит ряд открытий в области биологии и медицины.
Научная работа Мечникова была тесно связана с борьбой против
идеализма, мистики и суеверий. Его мировоззрение носило воинст-
вующий материалистический характер.
МИЧУРИН Иван Владимирович (1855—1935) —русский ученый-
биолог, внес большой вклад в развитие дарвинизма, генетики и се-
лекции. Труды И. В. Мичурина в области селекции растений служат
естественнонаучному обоснованию марксистско-ленинского атеизма.
МОНТЕНЬ Мишель (1533—1592) —французский философ-скептик
эпохи Возрождения. Выступал против схоластики и теологии, кото-
рым он противопоставлял учение о природе и человеке как части
этой природы. Основное произведение Монтеня — «Опыты».
ПАВЛОВ Иван Петрович (1849—1936)—русский ученый-физи-
олог. Ему принадлежит ряд открытий в области физиологии крово-
320
обращения и пищеварения. Главная научная заслуга И. П. Павлова
состоит в создании учения о высшей нервной деятельности человека и
животных, которое подтвердило положение диалектического материа-
лизма о том, что мышление есть продукт материи, мозга, а не ре-
зультат деятельности особой духовной субстанции, души, как утверж-
дали идеалисты. В трудах «Двадцатилетний опыт объективного изу-
чения высшей нервной деятельности (поведения животных). Услов-
ные рефлексы» и «Лекции о работе больших полушарий головного
мозга» Павлов дал полное и систематизированное изложение это-
го учения. Материалистическое учение И. П. Павлова — одна из ес-
тественнонаучных основ научного атеизма.
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856—1918)—деятель рус-
ского и международного социалистического и рабочего движения, фи-
лософ, основатель первой марксистской группы в России — «Осво-
бождение труда», философ и литературный критик. Г. В. Плеханову
принадлежит большая заслуга в обосновании и защите марксизма
в России. Особенно большую роль сыграли такие его произведения,
как «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», «К
вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и др.
Г. В. Плеханов внес также большой вклад в разработку научного
атеизма.
СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ Иван Иванович (настоящая фамилия —
Скворцов; 1870—1928)—участник революционного движения в Рос-
сии, советский партийный и государственный деятель, философ-марк-
сист, уделявший большое внимание разработке проблем научного
атеизма и их популяризации.
ТВЕН Марк (1835—1910)—американский писатель и публицист.
В многочисленных произведениях критикует религиозную мораль,
вероучение и культ.
ТИМИРЯЗЕВ Клемент Аркадьевич (1843—1920) — русский уче-
ный-ботаник. Ему принадлежит открытие фотосинтеза зеленых рас-
тений. Исследования К. А. Тимирязева опровергали утверждения
идеалистов о наличии особой «жизненной силы» в растениях. Его
книги «Чарльз Дарвин и его учение», «Жизнь растений» и др.— луч-
шие образцы популярного изложения науки. В своих работах Тими-
рязев подвергал критике религию и клерикализм.
ФРЭЗЕР Джемс Джордж (1854—1941)—английский буржуаз-
ный религиовед и этнолог. Его работа «Золотая ветвь» содержит гро-
мадный фактический материал и ценные наблюдения, касающиеся
религии в первобытном обществе.
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857—1935) — рус-
ский ученый и изобретатель, внес большой вклад в развитие отечест-
венной и мировой науки в области аэродинамики, ракетной техники
и космических исследований.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828—1889) —русский
революционный демократ, философ, писатель и литературный кри-
тик. На его произведениях, пронизанных духом классовой борьбы,
училось и воспитывалось революционное поколение России. Револю-
321
ционный демократизм Чернышевского обусловил материалистический
характер его философских взглядов. С позиций материализма и ре-
волюционного демократизма Н. Г. Чернышевский подходил и к кри-
тике религии.
ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (1872—1936)—советский обще-
ственный и государственный деятель, дипломат.
ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820—1895)—гениальный мыслитель,
вождь и учитель пролетариата, один из основоположников марксиз-
ма, создавший вместе с Марксом научный атеизм как часть марк-
систской философии.
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (настоящие имя и фамилия — Гер-
хард Герхардс; 1465—1536) —один из представителей позднего Воз-
рождения, ученый-гуманист, автор знаменитой сатиры «Похвала глу-
пости». В ней, как и в ряде других своих произведений, выступает
против религиозного мракобесия и невежества представителей церкви.
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (псевдоним; настоящие
фамилия и имя — Губельман Миней Израйлевич; 1878—1943)—про-
фессиональный революционер, советский общественный, государст-
венный и политический деятель; один из блестящих пропагандистов
и популяризаторов научного атеизма. Из числа антирелигиозных
произведений Ем. Ярославского наиболее известны «Библия для ве-
рующих и неверующих» и «Как родятся, живут и умирают боги и
богини».
ПРИМЕЧАНИЯ
Раздел I
1 Зевс — согласно древнегреческой мифологии, верховное бо-
жество, царь богов и людей.
2 Гермес — сын Зевса и Маи, посыльный Зевса, бог изобрете-
ний, бог скота и пастбищ.
3 Так назывались в Афинах свободные люди, переселившиеся
из других городов и не пользовавшиеся политическими правами.
4 Мом — бог злословия.
6 Дионис — сын Зевса и Семелы, бог вина и виноделия.
6 Пан — сын Гермеса, бог — покровитель стад и пастухов, у него
были рога, хвост, козлиная шкура.
7 Силен — сын Пана и Нимфы, спутник Диониса.
8 Сатиры — спутники Диониса, внешне напоминали бога Пана.
9 Ариадна — дочь критского царя Миноса. Была женой героя
Тесея, которого спасла от смерти. В одном мифе рассказывается,
что венок Ариадны был превращен богами в созвездие.
10 Эригона — греки считали, что она была вознесена на небо и
стала созвездием Девы, а ее собака — созвездием Пса.
11 Геракл — сын Зевса и Алкмены, герой греческой мифологии.
12 См. Гомер. Илиада, XI, 514 (Слова Идоменея об искусном
враче).
13 На Крите Зевса почитали как умирающее и воскресающее бо-
жество. Жители Крита показывали всем «его могилу». В ахейском
городе Эгидне рассказывали легенду, что Зевс был рожден в этом
месте и вскормлен козой.
14 Ганимед — мальчик-фригиец, которого похитил Зевс, приняв
вид орла.
15 Орла считали посвященным Зевсу.
16 Замолксид — гет (фракиец); был в рабстве у греков, вер-
нулся на родину. Геты почитали его как божество.
17 Египетское божество: либо Тот, которого изображали с голо-
вой павиана, либо Анубис, имевший облик человека с головой
шакала.
18 Одно из главных божеств египтян, священный бык Апис, храм
которого находился в Мемфисе.
323
19 Зевса отождествляли с египетским богом Амоном, которого
изображали человеком с бараньими рогами.
20 Мистерии — культ, окруженный таинственностью; к участию
в нем допускались лишь посвященные. Во время мистерий показы-
вали священные символы, которые считались знаками божества.
21 Аполлон — сын Зевса и Латоны, бог света и поэзии, музыки
и пения, вестник воли Зевса (прорицатель).
22 Один из известнейших греческих атлетов конца V в. до н. э.
В Олимпии была поставлена его статуя работы скульптора Лисиппа.
23 Греческий атлет (Феуген) с Фасоса, V в. до н. э.
24 Мойры — три богини судьбы.
25 Председатель пританов, проэдр, эпистат — должностные лица
в афинском городском совете.
26 Мера емкости.
27 Крупная серебряная монета.
28 Двенадцать олимпийских богов.
29 Филы и фратрии были в Афинах основными объединениями
полноправных граждан.
30 Платон (ок. 427 — ок. 347 до н. э.) — древнегреческий фило-
соф-идеалист, идеолог рабовладельческой аристократии; христиан-
ское учение многое восприняло от древнегреческой философии,
и прежде всего платонизма и неоплатонизма.
31 Кардано Джироламо (1501—1576)—итальянский математик,
философ и медик.
32 Нума Помпилий — легендарный римский царь, преемник Ро-
мула, «основателя Рима». Ему приписывается проведение правовых
и религиозных реформ.
33 Зороастр (Заратустра) — пророк древнего Ирана, а не царь,
как пишет Мелье. По преданию, основал в VII в. до н. э. дуалисти-
ческую религию зороастризма.
34 Минос — в греческой мифологии сын Зевса и Европы, царь
Крита. Минос считался создателем древнекритского законодатель-
ства, которое ему якобы продиктовал Зевс (Юпитер).
35 Ликург — легендарный законодатель древней Спарты. Древ-
ние авторы относят время его жизни к VIII в. до н. э.
36 Драконт — афинский законодатель конца VIII в. до н. э.
37 Солон (ок. 638—558 до н. э.) — афинский законодатель, про-
вел ряд реформ (запрещение кабального рабства и др.).
38 Тридентский собор — собор католической церкви в г. Триденте,
проходивший, с промежутками, с 1545 до 1563 г. Тридентский со-
бор усилил власть римских пап и епископов и сыграл важную роль
в организации борьбы католичества против протестантизма.
39 Лабрюйер Жан (1645—1696) — французский писатель, автор
книги «Характеры».
324
40 Пико делла Мирандола Джованни (1463—1494)—выдаю-
щийся итальянский философ-гуманист, один из образованнейших
писателей эпохи Возрождения. Папа Иннокентий VII объявил Пико
еретиком.
41 Анонимный трактат, изданный в 1753 г. на латинском языке
в Германии. Это боевой антирелигиозный памфлет, в котором утвер-
ждается, что Моисей, Христос и Мухаммед — великие обманщики,
основавшие три религии — иудаизм, христианство и ислам. Распро-
странение религий объясняется тем, что это выгодно тунеядцам,
стоящим у власти, и попам.
42 Моисей — библейский мифический пророк, которому припи-
сывали освобождение древних евреев от преследований со стороны
египетских фараонов. В мифическом образе Моисея как бы олице-
творялось законодательство древних израильтян, возникновение ко-
торого приписывалось богу Яхве, будто бы передавшему свои законы
Моисею на горе Синай. Научная критика Библии доказала, что это
законодательство складывалось в течение нескольких веков и не
могло быть написано одним человеком.
43 Здесь пересказывается библейский миф о переселении евреев
в Египет и об «исходе» их из Египта. Археологические открытия
опровергли этот библейский миф.
44 Мессия (от древнеевр. «машиах» — помазанник) — в иудаиз-
ме — спаситель, который якобы должен быть послан богом с целью
уничтожения зла на земле и установления царства божьего.
45 Антихрист — согласно христианским воззрениям, посланник
сатаны, который якобы придет незадолго до второго пришествия
Иисуса Христа, будет вести борьбу с христианской церковью, но в
конце концов будет побежден Христом.
48 Трактат неизвестного автора обнаружен в одном из рукопис-
ных сборников конца XVIII в., найденном в г. Костроме в 1941 г.
47 «Французский Лукреций» — одно из наиболее значительных
произведений Марешаля, над которым он работал почти всю свою
жизнь. Название — по аналогии с именем автора философской
поэмы «О природе вещей» Лукреция Кара.
48 Фемида — в древнегреческой мифологии богиня справедли-
вости.
49 Бастилия — крепость-тюрьма в Париже, которую революцион-
ный народ взял штурмом.
50 Стихотворение написано в 1851 г. Может служить блестящим
доказательством того, до какой ясности ума, бодрости и крайнего
презрения к представителям разного рода религий подымался
Гейне, даже будучи безнадежно больным, лежа в «матрацной мо-
гиле».
51 Арбеканфес — нагрудное молитвенное одеяние иудеев.
52 Нарамник — покрывало, которое носят на плечах католиче-
ские священники.
63 Фома Аквинский — знаменитый богослов XIII в.
325
54 Левиафан — гигантская рыба, которой, по иудейскому уче-
нию, бог в день страшного суда накормит праведников.
55 «Мишна», «Таусфес-Ионтеф» — иудейские религиозные книги.
56 И пущусь, как Мирьям, в пляс...— Мириам, сестра Моисея,
согласно библейской легенде, плясала по случаю благополучного пе-
рехода евреев через Красное море.
57 Вельзевул, Белиал — различные наименования дьявола в Биб-
лии и евангелиях. Астарот (Астарта) — верховное божество в древ-
ней Сирии.
58 Антропоморфизм — уподобление человеку стихий и явлений
природы, а также воображаемых сверхъестественных существ (бо-
гов, добрых и злых духов, вроде лешего, домового и т. д.), т. е. пе-
ренесение человеком своих свойств на явления природы.
59 Анаксагор из Клазомен (в Малой Азии) (ок. 500—428 до
н. э.) — древнегреческий философ, непоследовательный материалист,
идеолог рабовладельческой демократии.
60 Магия — действия, обряды и церемонии, связанные с верой в
существование сверхъестественных сил и возможность влияния на
окружающую действительность с помощью сверхъестественных сил.
Магия — неотъемлемая часть всех религий, находящая выражение
главным образом в обрядово-культовой их стороне. Дж. Фрэзер
ошибочно представляет магию как пранауку.
61-62 Вакханки — жрицы храма, посвященного Вакху — богу
вина, виноделия и веселья.
63 Дервиш — перс, дарвиш («открывающий зверь», нищий) —
мусульманский монах. Дервиши выдают себя за аскетов, стремя-
щихся к единению с богом посредством размышлений и духовных
упражнений.
64 Эмпедокл (490—430 до н. э.) — древнегреческий философ,
поэт, политический деятель, сторонник рабовладельческой демокра-
тии. Мировоззрение Эмпедокла носило черты непоследовательного
стихийного материализма и атеизма, сочетавшихся с элементами
пифагорейской мистики.
65 Кодекс Ману — древнеиндийский сборник предписаний, опре-
деляющий обязанности и общественный долг каждого индийца в
соответствии с догматами брахманизма. Составление кодекса Ману
индийская традиция приписывает Ману — мифическому родона-
чальнику людей. Фактически кодекс Ману создан одной из много-
численных брахманских школ и выражал стремление класса рабо-
владельцев освятить свое господство над населением страны, опи-
раясь на авторитет религии.
66 Брахман (брамин, браман) — жрец, представитель высшей
касты в Индии.
67 Кришна (санскр. буквально — черный, темный) — полумифи-
ческий царь-герой Древней Индии. В первых веках его почитали как
богочеловека и спасителя. Его культ был известен гораздо раньше.
В число богов брахманизма он вошел в качестве бога пастухов и
скотоводов. Кришна — постоянный герой индийского фольклора и
литературы, в частности «Махабхараты».
326
68 Кювье Ж. (1769—1832)—французский натуралист, извест-
ный трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и
систематики животных. В философском отношении Кювье был идеа-
листом и метафизиком, он является автором теории катаклизмов
(катастроф) в истории земли.
69 Ламарк Ж. Б. (1744—1829) —французский натуралист и био-
лог, обосновавший до Дарвина учение о развитии живой природы.
70 Ляйель Ч. (1797—1875)—английский натуралист, геолог и
палеонтолог; решительно выступал против теории катаклизмов, вы-
двинутой Ж. Кювье; к концу жизни Ляйель полностью разделял
эволюционное учение Ч. Дарвина.
Раздел II
1 Петр и Павел — согласно евангельской мифологии, апостолы.
Так в первые века христианства называли странствующих проповед-
ников, содержавшихся за счет религиозных общин. Некоторые апо-
столы были организаторами христианских общин, к которым они
обращались со своими посланиями по различным вопросам веры и
религиозной жизни. В связи с этим возникла литература так назы-
ваемых посланий, которые стали приписываться затем различным
мифическим личностям, например апостолам Павлу, Петру и т. д.
2 В «Послании к Римлянам» говорится о тех, которые «служат
не господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством
и красноречием обольщают сердца простодушных».
3 Интердикт (лат. запрещение) в средние века — средство поли-
тической борьбы римских пап: запрещение отправления богослуже-
ния и совершения религиозных обрядов налагалось папами в виде
наказания на какую-либо страну, чтобы такой спекуляцией на рели-
гиозных чувствах масс принудить правителей этой страны к покор-
ности папе.
4 Весьма смелый намек на папу Юлия II (1503—1513), еще за-
нимавшего папский престол в годы первых изданий «Похвалы глу-
пости».
6 Декарт Рене (1596—1650)—выдающийся французский фило-
соф, физик, математик, физиолог. Философия Декарта носила дуали-
стический характер, т. е. исходила из признания двух принципиально
противоположных и несводимых друг к другу начал — материальной
и духовной субстанций. Идеалистическое учение Декарта о сущест-
вовании бога, души, духовной субстанции составляло предмет мета-
физики. Исторически прогрессивное значение имела другая сторона
его мировоззрения — материалистическое учение о телесной субстан-
ции. Декарт пытался дать «доказательство» существования бога, не-
сколько видоизменяя выдвинутое еще средневековым схоластом Ав-
густином Блаженным так называемое «онтологическое доказатель-
ство бытия бога».
6 Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — крупный деятель восточно-
христианской церкви, ритор и богослов. Стремился с помощью рели-
гии укрепить позиции господствующего класса и воспрепятствовать
327
развитию народных движений. Фанатично преследовал еретиков.
Суровый проповедник аскетизма, Иоанн Златоуст бичевал пороки,
выступал против лености и стяжательства монахов, роскоши и рас-
пущенности духовенства и придворной аристократии, считал, что их
пороки возбуждают гнев народных масс.
7 Квакеры — одна из разновидностей протестантизма, возник-
шая в период английской буржуазной революции. Квакеры отвергли
всякое внешнее выражение религиозности, все религиозные обряды,
таинства, отказались от духовенства. Общины квакеров построены
на основе равенства членов и не имеют деления на духовенство и
мирян. Квакеры — пацифисты.
8 Меннониты — протестантская секта. Название секты связано с
именем Менно Симонса — голландского проповедника. Вероучение
меннонитов определяется их «Декларацией главных статей нашей
общей христианской веры» (1632). Они обычно отказываются слу-
жить в армии, брать в руки оружие, ссылаясь на свою «Декла-
рацию».
9 «Отцами церкви» (лат. pater) — священниками католической
церкви в II—VIII вв. были разработаны основы церковной догма-
тики, богословия и философии христианства.
10 Это письмо было написано в июле 1847 г. в Зальцбрунне (в Си-
лезии), где Белинский лечился. Гоголь в письме к Белинскому от
20 июня 1847 г. упрекал критика за чрезмерно суровый отзыв о
книге «Выбранные места»: «Вы взглянули на мою книгу глазами
рассерженного человека»; но в то же время он признал справедли-
вым один из важнейших упреков Белинского: «Я не знаю вовсе Рос-
сии, что много изменилось с тех пор, как я в ней не был». Письмо
Белинского Гоголю распространилось в многочисленных списках по
всей России, на нем воспитывались революционеры нескольких по-
колений.
11 Статья написана в Италии, она принадлежит к так называе-
мому итальянскому циклу статей Добролюбова. В них рассматри-
ваются с позиций революционного демократизма события итальян-
ского освободительного движения 1859—1861 гг., привлекшие к себе
всеобщее внимание. Название статьи своим острием направлено
против либерализма в целом, и прежде всего против русских либе-
ралов, для которых революционные события в Италии оказались
непостижимыми и ошеломляющими. Для них непостижимым было
то, что народ, который привыкли считать неспособным на большие
политические акции, веками угнетавшийся феодалами, церковью,
королями, вдруг, одним ударом достиг заветной цели — освободил
родину от иноземных захватчиков и добился объединения страны.
Как это произошло?
12 Восстание в Сицилии началось 4 апреля 1860 г.
13 Гарибальди Джузеппе (1807—1882)—народный герой Ита-
лии, один из крупнейших вождей итальянской революционной демо-
кратии, выступившей с программой объединения Италии «снизу»,
борьбы против иностранного порабощения и клерикальной реакции.
14 Александр Дюма (отец) (1803—1870) привез в Италию (из
Марселя в Сицилию) на своей яхте ружья для Гарибальди.
328
15 Открытие мощей воронежского епископа Тихона Задонского,
происходившее 13 августа 1861 г., послужило поводом для сатири-
ческого выступления Герцена, показавшего истинный смысл этой
церковной акции.
16 Адмирал Путятин Е. В. совершил кругосветное путешествие
на фрегате «Крейсер» (1822—1824), выполнял дипломатические по-
ручения царского министра в Китае и Японии. Был впоследствии
назначен министром просвещения. В своих статьях и памфлетах Гер-
цен высмеивал Путятина как невежду и ретрограда.
17 Епископ Игнатий Брянчанинов — до пострижения инженерный
офицер, выступал с апологией крепостничества.
18 Герцен имеет в виду «слово» московского митрополита Фила-
рета при посещении Успенского собора Александром II.
19 19 января 1918 г. патриарх Тихон обратился к духовенству и
верующим с посланием, полным клеветнических нападок на Октябрь-
скую революцию. Патриарх предавал анафеме (церковному прокля-
тию) Советскую власть и призывал бороться с нею.
20 Схизма (греч.) — разделение, раскол внутри церкви, напри-
мер разделение христианской церкви на католическую и православ-
ную в 1054 г. Схизматиками католики обычно именуют право-
славных.
21 В первые годы Советской власти, согласно указанию Народ-
ного комиссариата юстиции от 1 марта 1919 г., были произведены
вскрытия так называемых «нетленных мощей». При этом оказалось,
что духовенство выдавало за «святые мощи» всякую рухлядь. Вскры-
тиями мощей был нанесен удар по многовековой практике обмана
людей церковниками.
22 Карловацкий верховный собор состоялся в Сербии, в г. Срем-
ские Карловицы с 21 ноября по 5 декабря 1921 г. Делегатами собора
были руководители белогвардейской и церковной эмиграции. Руко-
водителем и председателем собора являлся митрополит Антоний
Храповицкий — ярый черносотенец и контрреволюционер. На соборе
было принято решение «осудить лжеучение социализма и наиболее
последовательную форму его — большевизм, или коммунизм,— как
учение антихристианское в своей основе». Собор постановил доби-
ваться восстановления в России власти Романовых.
23 Нансен Ф. (1861—1930)—выдающийся норвежский ученый,
исследователь Арктики, известный общественный деятель. В 1921 г.
во время голода в Советской России организовал международную
комиссию по оказанию помощи голодающим.
24 Введенский А. И. (1888—1946)—видный представитель так
называемого церковно-обновленческого движения в православии,
в начале деятельности — протоиерей в Ленинграде, потом — митро-
полит.
25 Речь идет об опубликованном 19 августа 1927 г. в газете
«Известия» обращении временного патриаршего Синода православ-
ной церкви за подписью митрополита Сергия и ряда других церков-
ных иерархов, в котором они заявили о лояльном отношении иерар-
хов православной церкви к Советской власти.
329
26 2 декабря 1917 г. Петроградским Советом был образован
Комитет по борьбе с погромами, наделенный чрезвычайными полно-
мочиями. Председателем комитета был назначен В. Д. Бонч-Бруе-
вич. Комитет обосновался в 75-й комнате на третьем этаже Смоль-
ного. В письме от 8 декабря 1917 г. в Петроградский Комитет
РСДРП (б) В. И. Ленин писал: «Прошу доставить не менее 100 че-
ловек абсолютно надежных членов партии в комнату № 75,
III этаж,— Комитет по борьбе с погромами. (Для несения служ-
бы комиссаров.)» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 50,
стр. 17.)
27 Благонравов Г. И. (1896—1938)—активный участник Ок-
тябрьской революции, член КПСС с 1917 г. По решению Военно-
революционного комитета с 23 октября 1917 г. был комиссаром
Петропавловской крепости. После победы Октябрьской революции —
член РВС Восточного фронта, работник органов ВЧК — ГПУ —
ОГПУ, в 1931 —1934 гг.— заместитель наркома путей сообщения.
28 Первое послание патриарха Тихона, в котором он предал
анафеме Советскую власть и призывал верующих сопротивляться
ей, было издано 19 января 1918 г. и оглашено на поместном Соборе
православной церкви.
29 На заседании церковного Собора 20 января 1918 г. было вне-
сено предложение об устройстве повсеместных крестных ходов, рас-
считанных на разжигание религиозного фанатизма и восстановление
верующих против Советской власти. В Петрограде крестный ход по
распоряжению митрополита Вениамина состоялся 21 января, в Мо-
скве по распоряжению патриарха Тихона — 28 января 1918 г. В те
дни крестные ходы проходили во многих городах страны.
30 Вселенские соборы — съезды высшего христианского духовен-
ства, на которых представлены все (или основные) поместные церк-
ви. На первых вселенских соборах большую роль играли римские,
а затем византийские императоры, которые собирали соборы. На
вселенских соборах обсуждались богословско-догматические, цер-
ковно-политические и дисциплинарные вопросы; большое место за-
нимала борьба против ересей. Основное назначение вселенских собо-
ров— приспособление деятельности церкви к интересам господ-
ствующего класса, выработка соответствующего этой задаче веро-
учения.
31 Вселенский собор в Эфесе состоялся в 449 г. В 451 г. на Хал-
кидонском вселенском соборе его решения были осуждены, а сам
Эфесский собор получил название «разбойничьего».
Раздел III
1 Лукреций имеет здесь в виду легенду о принесении в жертву
богине Гекате дочери царя Агамемнона Ифигении (Афианассы) для
умилостивления богов, которые мешали сильными встречными вет-
рами выходу в море греческого флота, направлявшегося на осаду
Трои.
2 Некромантия — греческий термин, означающий буквально
«предсказание мертвых». У древних греков существовало поверье в
330
то, что можно вызывать души умерших и получать от них сведения
о грядущих событиях в личной жизни человека и судьбах общества.
В дальнейшем эти представления переросли в спиритизм — мистиче-
ское учение о вызывании духов и общении с ними.
3 Алхимия — так назывались в средние века (приблизительно
до XVI в.) фантастические изыскания, ставившие своей целью пре-
вращение простых металлов в драгоценные (золото и серебро) по-
средством несуществующего «философского камня», на поиски кото-
рого были направлены усилия алхимиков, в процессе этих поисков
был открыт ряд химических веществ.
4 Имеется в виду сожжение на костре, которому инквизиция
подвергала тех, кто сомневался в религиозных догмах.
5 Коперник Николай (1473—1543)—польский астроном, творец
гелиоцентрической системы мира. Теория Коперника об обращении
Земли вокруг Солнца и о суточном вращении Земли вокруг оси оз-
начала разрыв с геоцентрической системой Птолемея.
6 Птолемей (Птоломей) Клавдий (перв. половина II в.) — гре-
ческий географ, астроном, физик, создатель геоцентрической системы
мира. Согласно этой системе, Земля неподвижна и является цент-
ром мироздания; вокруг нее вращаются Солнце, Луна, планеты и
звезды, эта система основана на религиозных началах.
7 Важнейший документ, в котором нашли отражение жизнь и
творческая деятельность основоположника современной научной био-
логии. Написан Дарвином в 1876—1881 гг.
8 После возвращения Дарвина из кругосветного путешествия на
корабле «Бигль», которое он совершил в 1831—1836 гг.
9 Очевидно, здесь Дарвин некритически воспроизводит утверж-
дения некоторых буржуазных индологов. Эти утверждения дают
неправильное представление о буддизме.
10 Тэйлор Э. Б. (1832—1917)—английский этнограф, крупней-
ший представитель буржуазной эволюционистской школы, создатель
анимистической теории происхождения религии.
11 Спенсер Г. (1820—1903)—английский философ, социолог,
один из родоначальников позитивизма, представитель идеологии ли-
беральной буржуазии.
12 Теизм — религиозная концепция, исходящая из существова-
ния личного бога, внешнего по отношению к миру, сотворившего мир
и управляющего им.
13 Агностицизм — учение, отрицающее полностью или частично
возможность познания мира.
14 Грей А. (1810—1888) — американский ботаник, сторонник
учения Дарвина.
15 Спиритизм — мистическое псевдонаучное учение о загробной
жизни «духов умерших» и о возможности общения с ними. Начало
распространения спиритизма относится к середине XIX в. Последо-
ватели этого учения — спириты утверждают, будто «духи умерших»
через особых посредников («медиумов»), впадающих в состояние
транса с помощью различных приемов, могут отвечать на вопросы
331
и пр. В России полоса увлечений спиритизмом падает на 70—
80-е годы XIX в. В 1875—1878 гг. физическое общество при Петер-
бургском университете создало комиссию для изучения спиритизма,
в деятельности которой активное участие принимал Д. И. Менде-
леев. Комиссия пришла к выводу, что спиритизм является суеверием.
Спиритизм был подвергнут основательной и всесторонней критике
в выступлениях Д. И. Менделеева.
16 Отрывок из примечаний, которыми Г. В. Плеханов снабдил
сбой перевод произведения Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философии» (1892). Основной текст приме-
чаний был приложен к первому изданию. В 1905 г. Г. В. Плеханов
внес в примечания некоторые изменения и уточнения.
17 Книга М. Бертло «Наука и нравственность», представляющая
собой сборник статей, была опубликована в Париже в 1897 г.
В 1898 г., снабженная предисловием К. А. Тимирязева, вышла в свет
на русском языке.
18 Книга И. И. Мечникова «Этюды о природе человека. Опыт
оптимистической философии» впервые издана в 1903 г.
19 Гольды, гиляки — употреблявшиеся прежде названия нанай-
цев, нивхов.
20 Согласно данным науки, современный человеческий тип —
Homo Sapiens сформировался в эпоху верхнего палеолита, т. е. при-
близительно 50—70 тысяч лет тому назад.
21 Работа «Насущные задачи современного естествознания»,
представляющая собой сборник изданных в разное время статей,
впервые опубликована в 1895 г.
22 Речь идет о философском идеализме.
23 Соловьев В. С. (1853—1900)—русский религиозный философ.
24 Работа «Двадцатилетний опыт...», представляющая собой
сборник статей, докладов, лекций и речей, была впервые опублико-
вана в 1923 г.
25 Интервью К. Э. Циолковского сотруднику редакции газеты
«Коммуна» опубликовано в этой газете 14 апреля 1928 г. «Комму-
на»— ежедневная газета Калужского губкома ВКП(б), губиспол-
кома и губпрофсовета.
26 Оккультизм (лат. тайный) — антинаучное, мистическое учение
о существовании в природе «таинственных сил», «духов», с которыми
подготовленные для этого люди якобы устанавливают связь. Оккуль-
тизм — суеверие, слегка подкрашенное псевдонаучными аргументами.
27 Теософия (греч. богопознание) — реакционное мистико-фило-
софское учение о «непосредственном постижении бога».
28 Статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материализ-
ма» написана в марте 1922 г. В ней дана развернутая программа
научно-атеистической пропаганды, имеющая и сейчас самое актуаль-
ное значение.
29 Древс А. (1865—1935) —немецкий буржуазный философ-идеа-
лист, представитель мифологической школы в изучении происхожде-
ния христианства. Древс показал, что евангельские сказания — плод
миротворчества. Однако он не выступал ни против христианства,
ни против религии вообще.
30 Впервые опубликовано 18 сентября 1934 г. в газете «Правда».
СОДЕРЖАНИЕ
От составителей 3
I. БОГИ И ЛЮДИ
К. Маркс. Из работы «К критике гегелевской философии пра-
ва. Введение» 7
Ф. Энгельс. Из работы «Анти-Дюринг» 9
B. И. Ленин. Из работы «Социализм и религия» 10
Эврипид. Беллерофонт [Фрагмент] 11
Лукиан. Совет богов —
Э. Роттердамский. Из работы «Похвала глупости» 17
М. Монтень. Из работы «Опыты» 22
Т. Гоббс. Из работы «Левиафан, или материя, форма и власть
государства церковного и гражданского» 24
Ж. Мелье. Из работы «Завещание» 29
О трех обманщиках [Фрагменты] 48
Зерцало безбожия [Фрагменты] 72
C. Марешаль. Из работы «Французский Лукреций» 75
Г. Гейне. Диспут 82
П. Лафарг. Из работы «Вера в бога» 94
Д. Фрэзер. Из работы «Золотая ветвь» 102
Л. Леви-Брюль. Из работы «Первобытное мышление» .... 115
И. И. Скворцов-Степанов. Из работы «Очерк развития рели-
гиозных верований» 121
II. АПОЛОГИЯ ГНЕТА
К. Маркс. Из работы «Коммунизм газеты «Rheinischer Beo-
bachter»» 129
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из работы «Манифест Коммунистиче-
ской партии» 130
В. И. Ленин. Из работы «Об отношении рабочей партии к
религии»
Э. Роттердамский. Из работы «Похвала глупости»
Т. Гоббс. Из работы «Возражения на «Размышления» Декарта
и ответы последнего»
П. Бейль. Из работы «Исторический и критический словарь»
Вольтер. Бог, боги [Фрагмент]
П. Гольбах. Из работы «Разоблаченное христианство» . . .
Зерцало безбожия [Фрагмент]
В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю [Фрагменты]
Н. А. Добролюбов. Из работы «Непостижимая странность»
А. И. Герцен. Ископаемый епископ, допотопное правительство
и обманутый народ
A. И. Герцен. Prolegomena [Фрагмент]
П. Лафарг. Из работы «Религия капитала»
B. В. Боровский. Послание патриарха Тихона к архипастырям
и пастырям церкви Российской
Г. В. Чичерин. Радиотелеграмма
П. А. Красиков. Из работы «Голод и христианство» ....
Ем. Ярославский. Из работы «Коммунисты и религия» . . .
Ем. Ярославский. Среди церковников
В. Д. Бонч-Бруевич. Из работы «Роль духовенства в первые
дни Октября»
М. Горький. С кем вы, «мастера культуры»? [Фрагмент] . . .
М. Горький. Пролетарская ненависть
III. НАУКА ПРОТИВ РЕЛИГИИ
К. Маркс. Из работы «Экономическо-философские рукописи
1844 года»
Ф. Энгельс. Из работы «Диалектика природы»
В. И. Ленин. Из работы «Три источника и три составных ча-
сти марксизма»
Лукреций Кар. О природе вещей [Фрагменты]
Леонардо да Винчи. Об истинной и ложной науке [Фрагменты]
М. Монтень. Из работы «Опыты»
Ж. Мелье. Из работы «Завещание»
М. В. Ломоносов. Стихотворение из «Явления Венеры на
Солнце» [Фрагмент]
Н. Г. Чернышевский. Из работы «Антропологический принцип
в философии»
Ч. Дарвин. Из работы «Воспоминания о развитии моего ума
и характера» 241
Ч. Дарвин. Письма 248
А. Бебель. Из работы «Христианство и социализм» 250
Д. И. Менделеев. Два публичных чтения о спиритизме [Фраг-
менты] 252
И. Дицген. Из работы «Религия социал-демократии» .... 262
Г. В. Плеханов. Примечания к книге Ф. Энгельса «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии»
[Фрагмент] 268
М. Бертло. Из работы «Наука и нравственность» 269
К. А. Тимирязев. Марслен Бертло [Фрагменты] 272
И. И. Мечников. Из работы «Этюды о природе человека» . . 273
Марк Твен. Был ли мир сотворен для человека? 283
К. А. Тимирязев. Насущные задачи современного естествозна-
ния [Фрагменты] 288
И. И. Скворцов-Степанов. Из работы «Религия и обществен-
ный строй» 290
И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения
высшей нервной деятельности (поведения) животных
[Фрагменты] 295
Ем. Ярославский. Из работы «Можно ли прожить без веры
в бога?» 298
А. В. Луначарский. Из работы «Введение в историю религии» 302
К. Э. Циолковский. Вера в бога несовместима с наукой
[Фрагмент] 305
М. Горький. Из работы «О «маленьких» людях и о великой
их работе» 306
Н. К Крупская. О Ленине [Фрагменты] ЗС8
И. В. Мичурин. Из работы «Мечта моей жизни» 312
Э. Межелайтис. Человек 314
Краткая справка об авторах 317
Примечания 323
ЧЕРНЫЙ
ТУМАН
(Выдающиеся мыслители, ученые,
писатели, общественные деятели
о реакционной сущности
религии и церкви)
Заведующий редакцией
А. В. БЕЛОВ
Редакторы
И. А. ПРОХОРОВ, Т. И. ТРИФОНОВА
Младший редактор
Г. И. ЖАРИКОВА
Художник
В. И. ТЕРЕЩЕНКО
Художественный редактор
В. А. ТОГОБИЦКИЙ
Технический редактор
О. М. СЕМЕНОВА
Сдано в набор 3 мая 1976 г.
Подписано в печать 21 октября 1976 г.
Формат 84 X 1081/32.
Бумага типографская № 1.
Условн. печ. л. 17,64. Учетно-изд. л. 17,71.
Тираж 200 тыс. экз.
А00161. Заказ № 700.
Цена 73 коп.
Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.